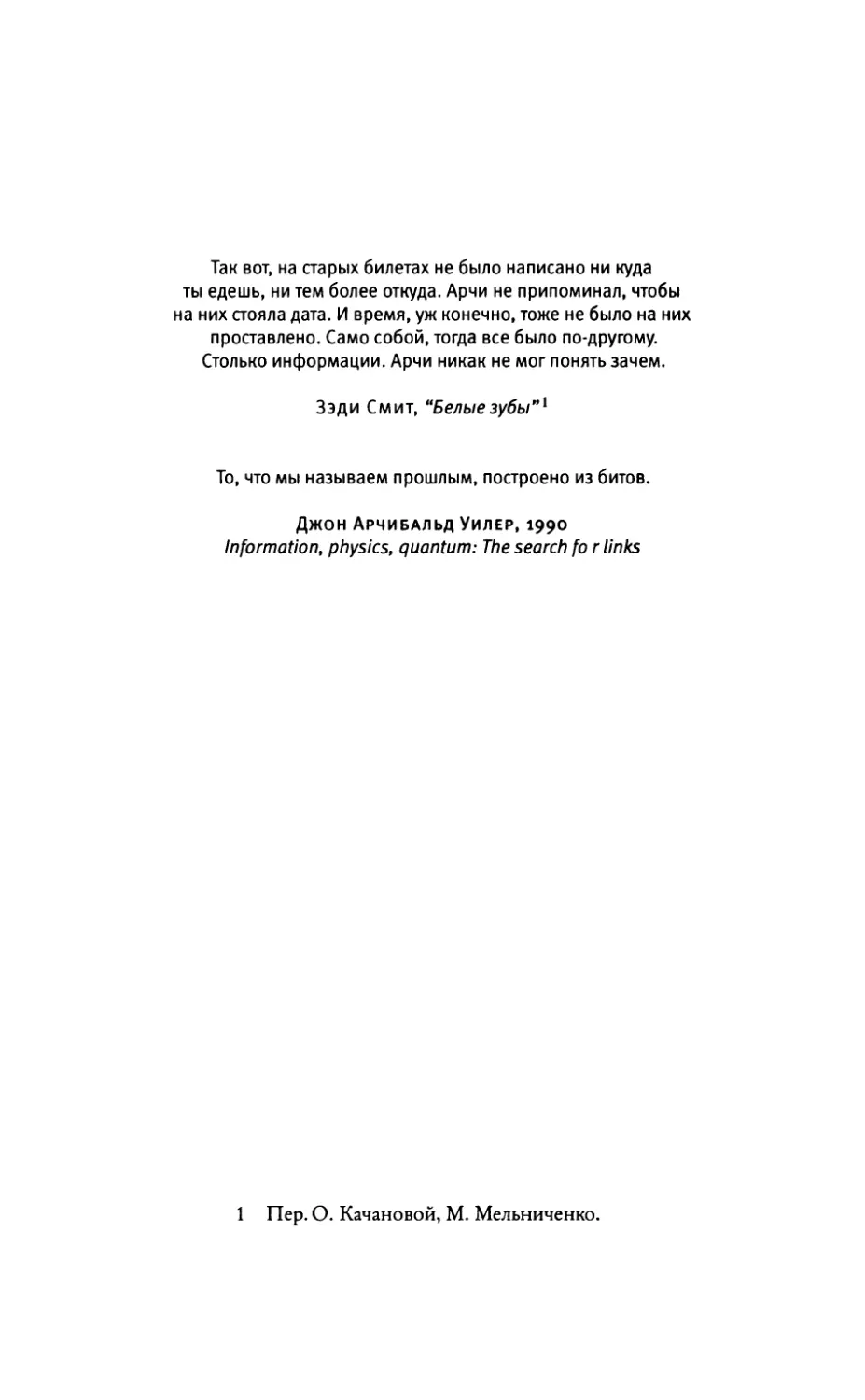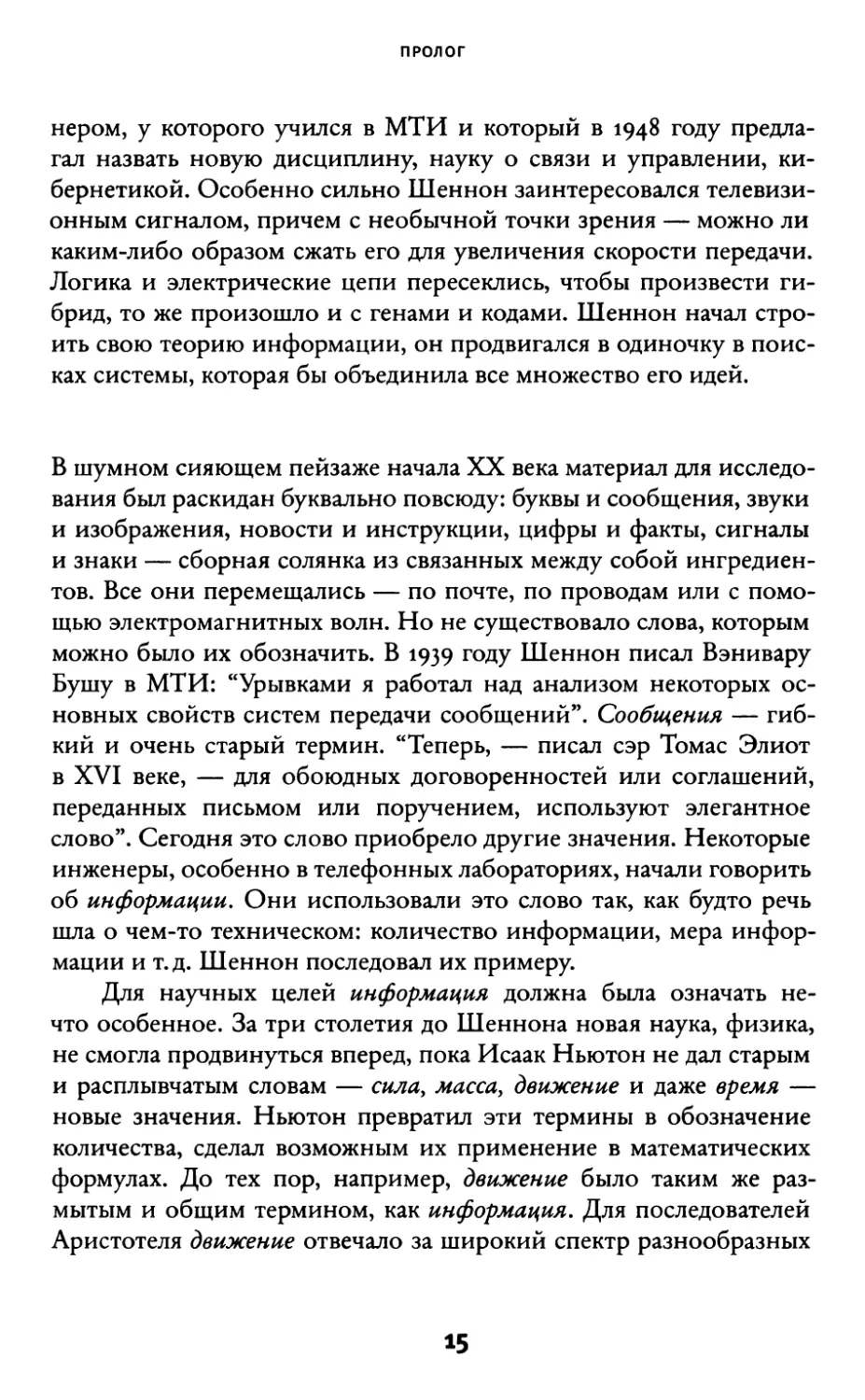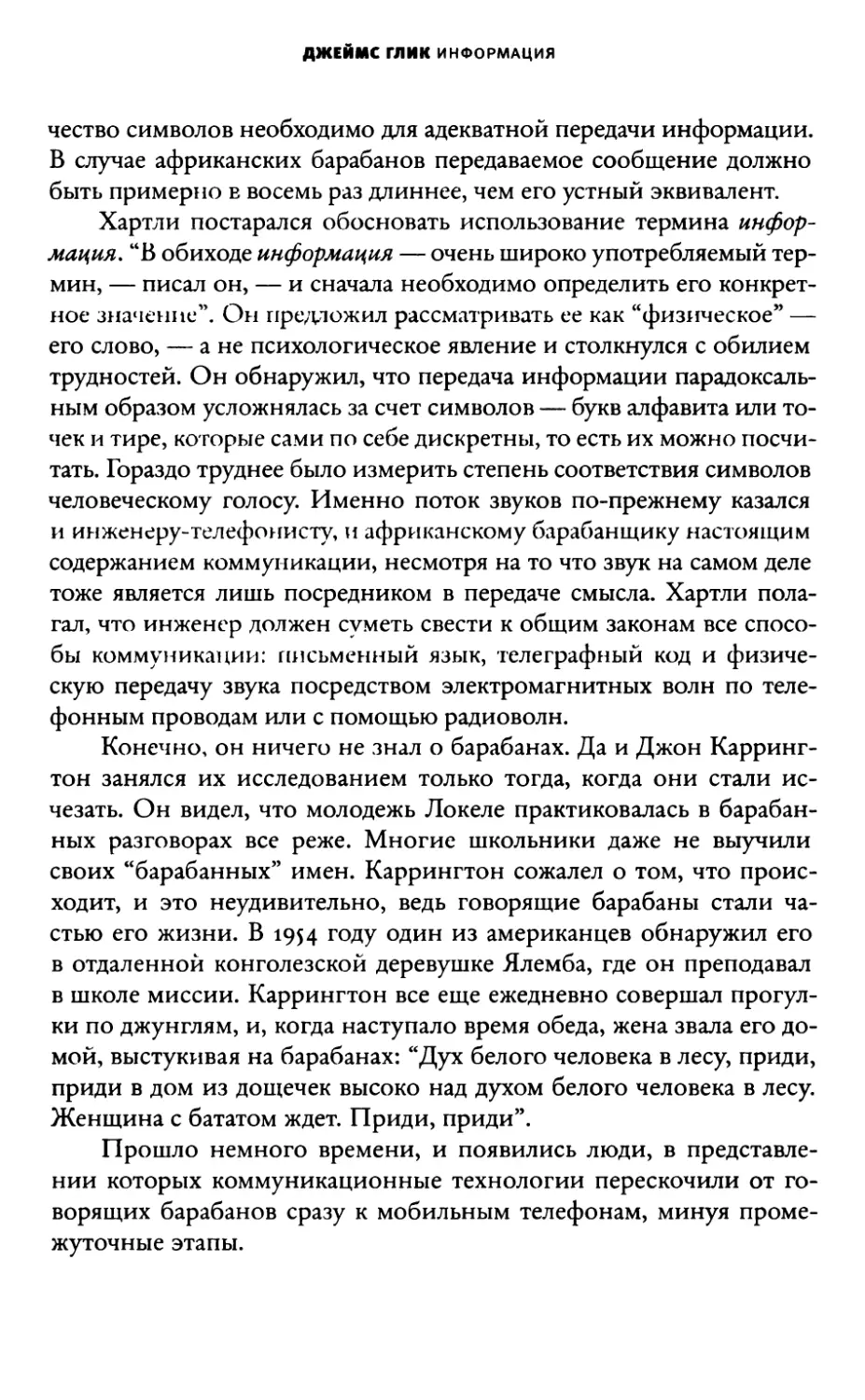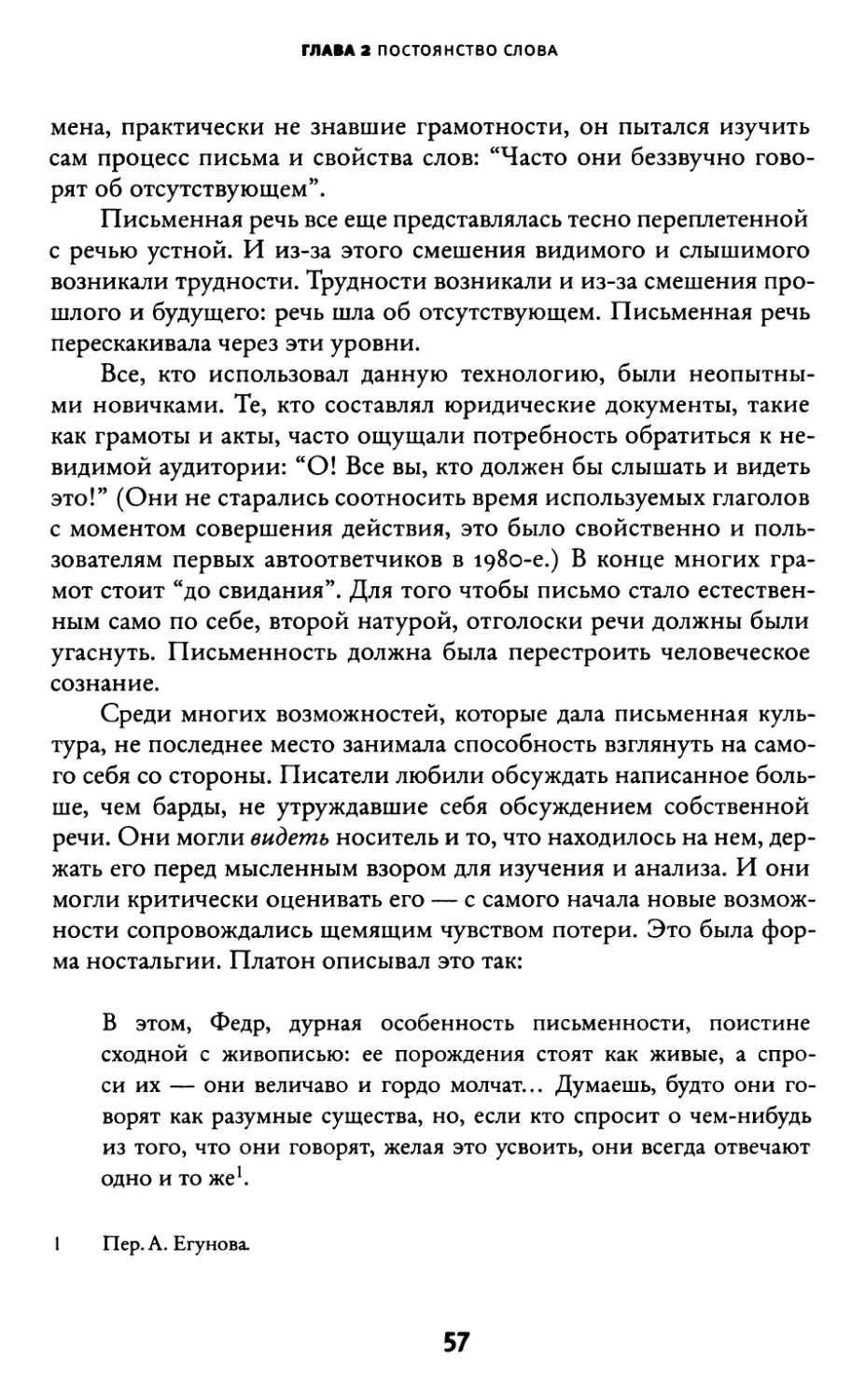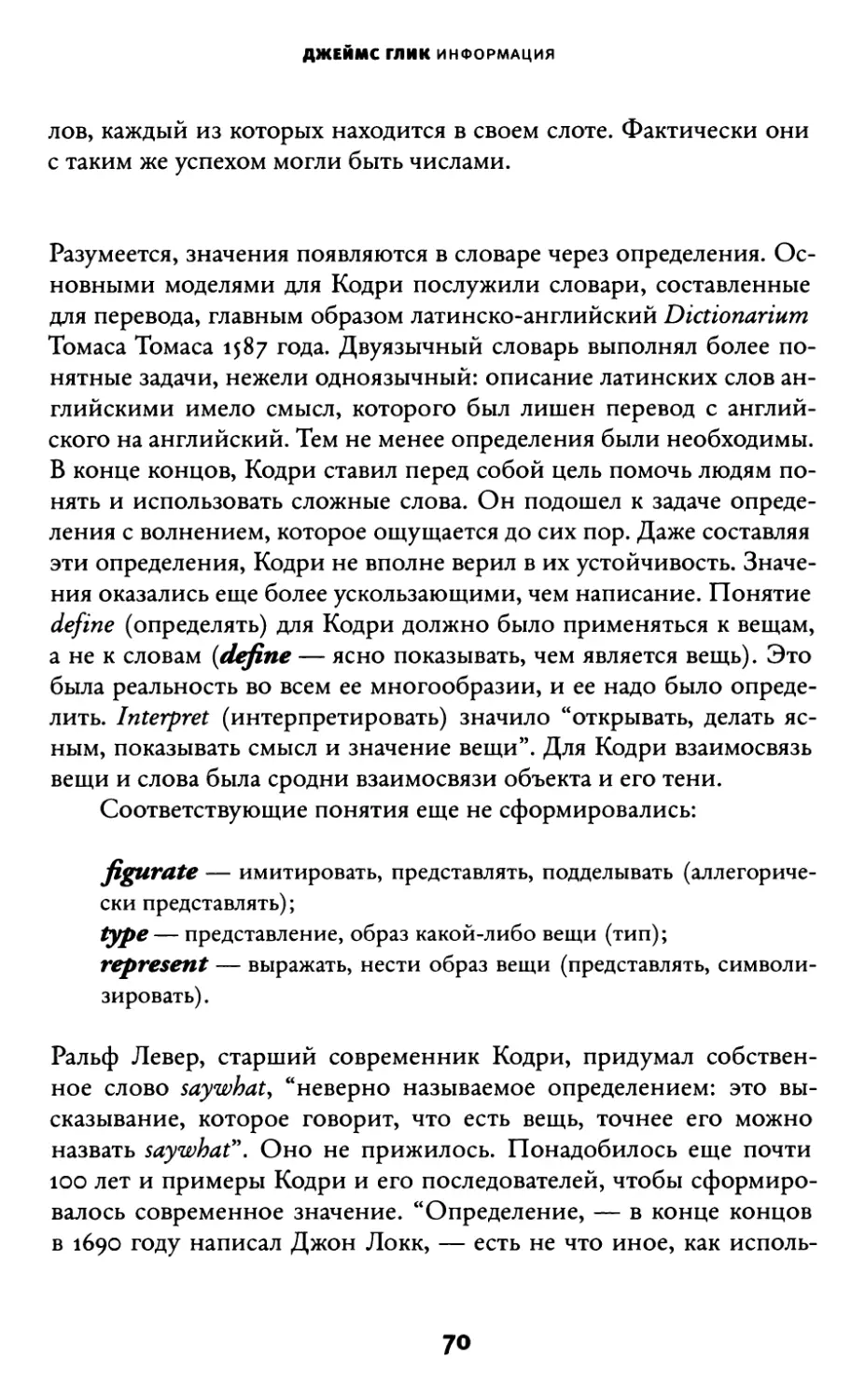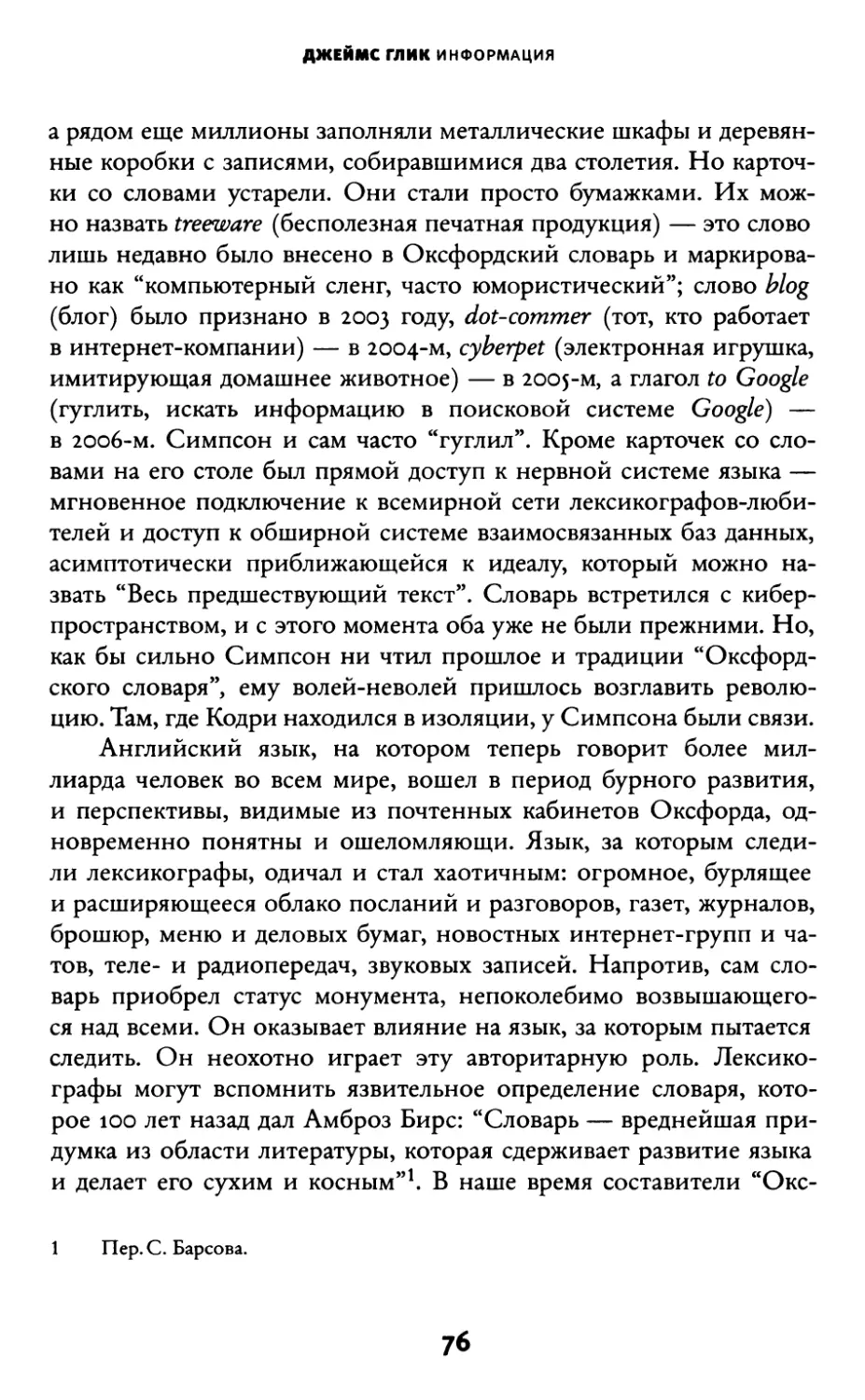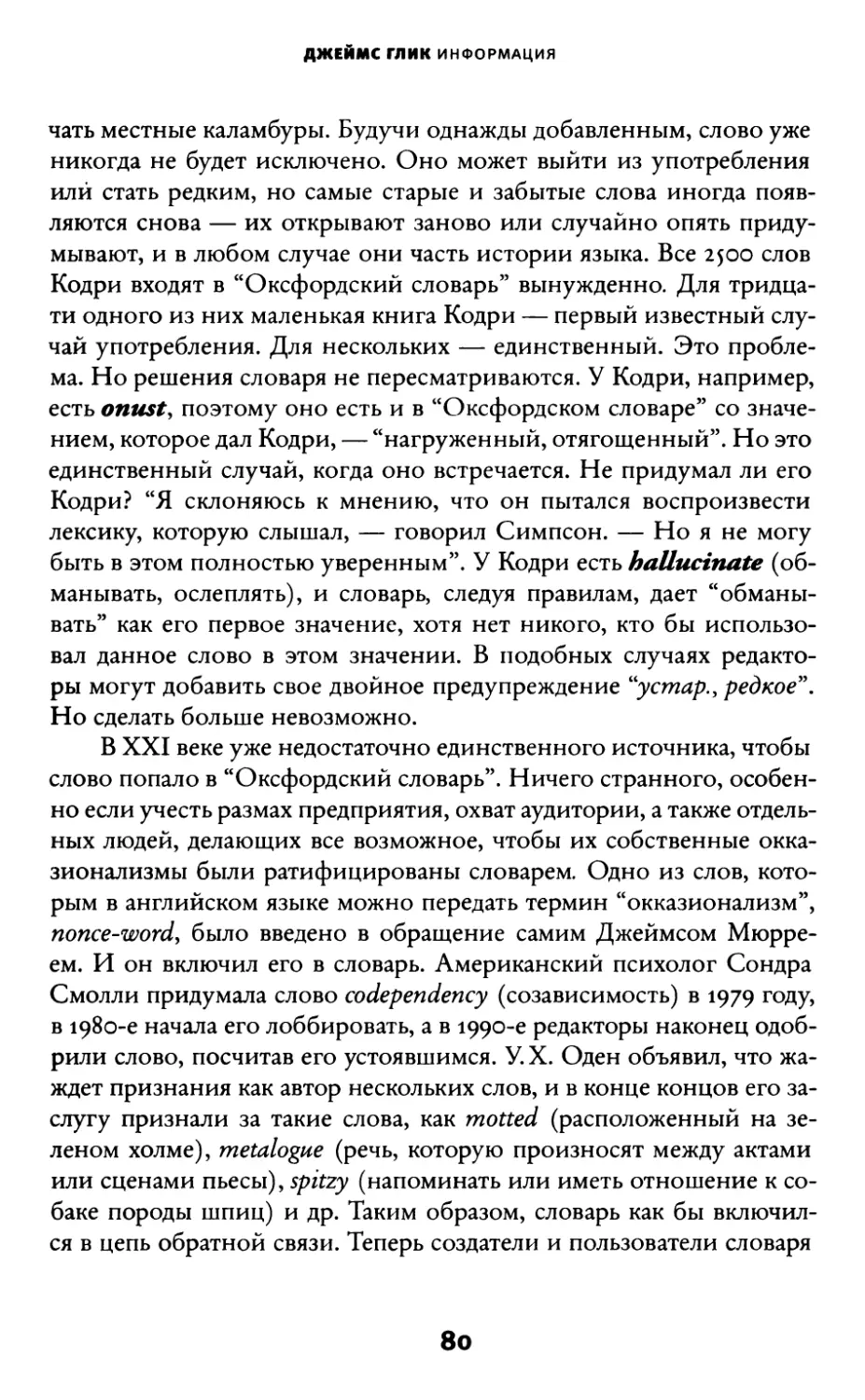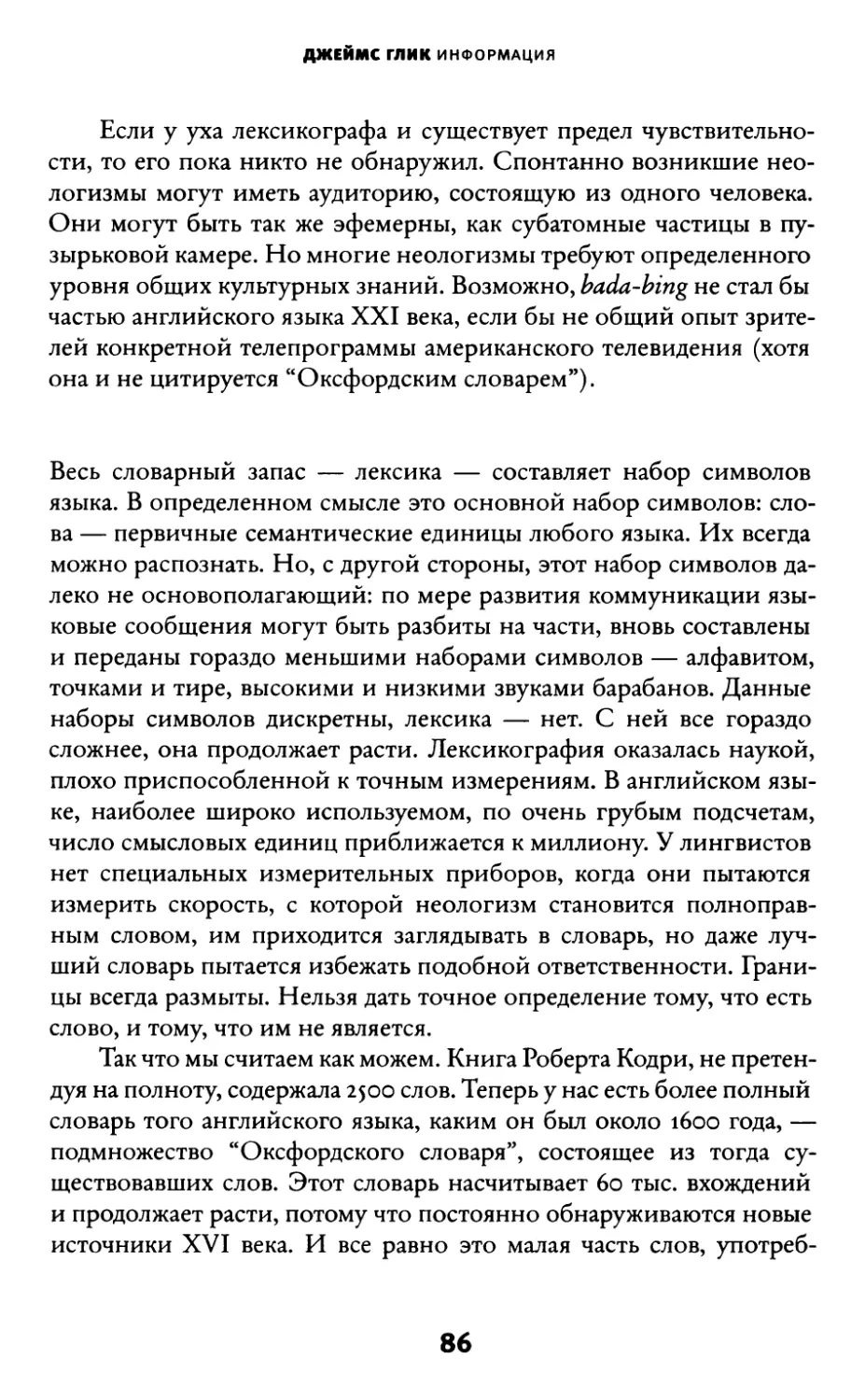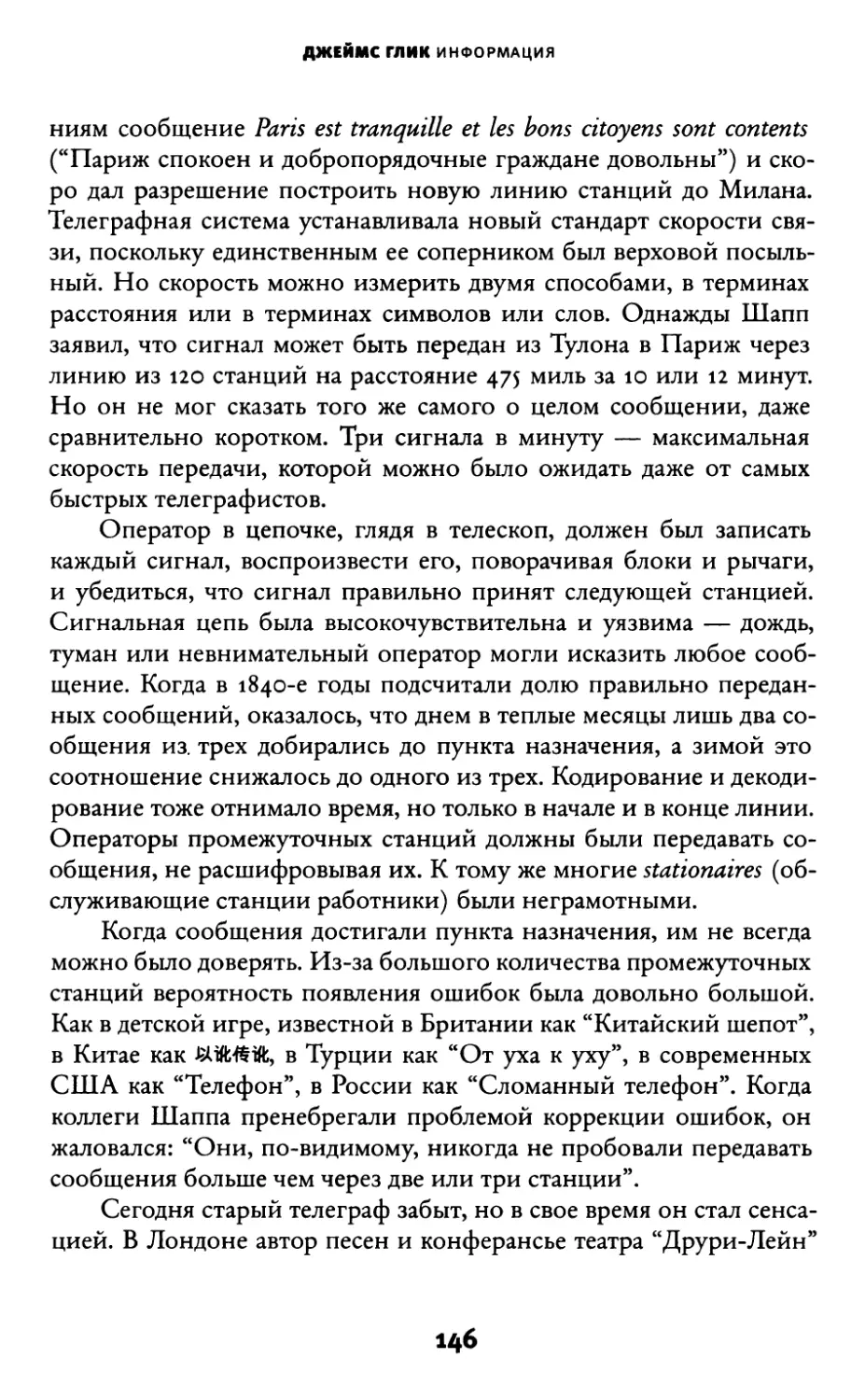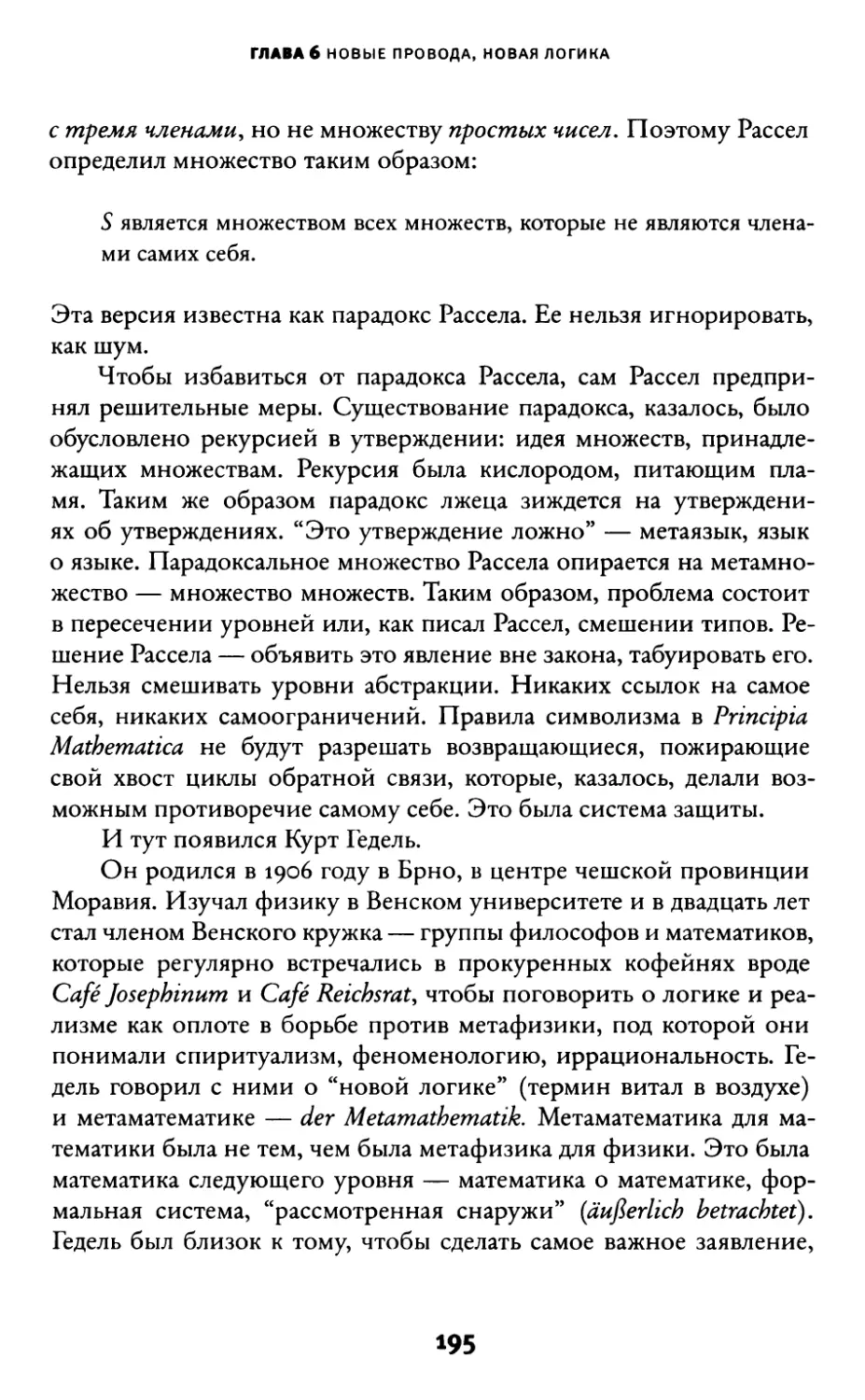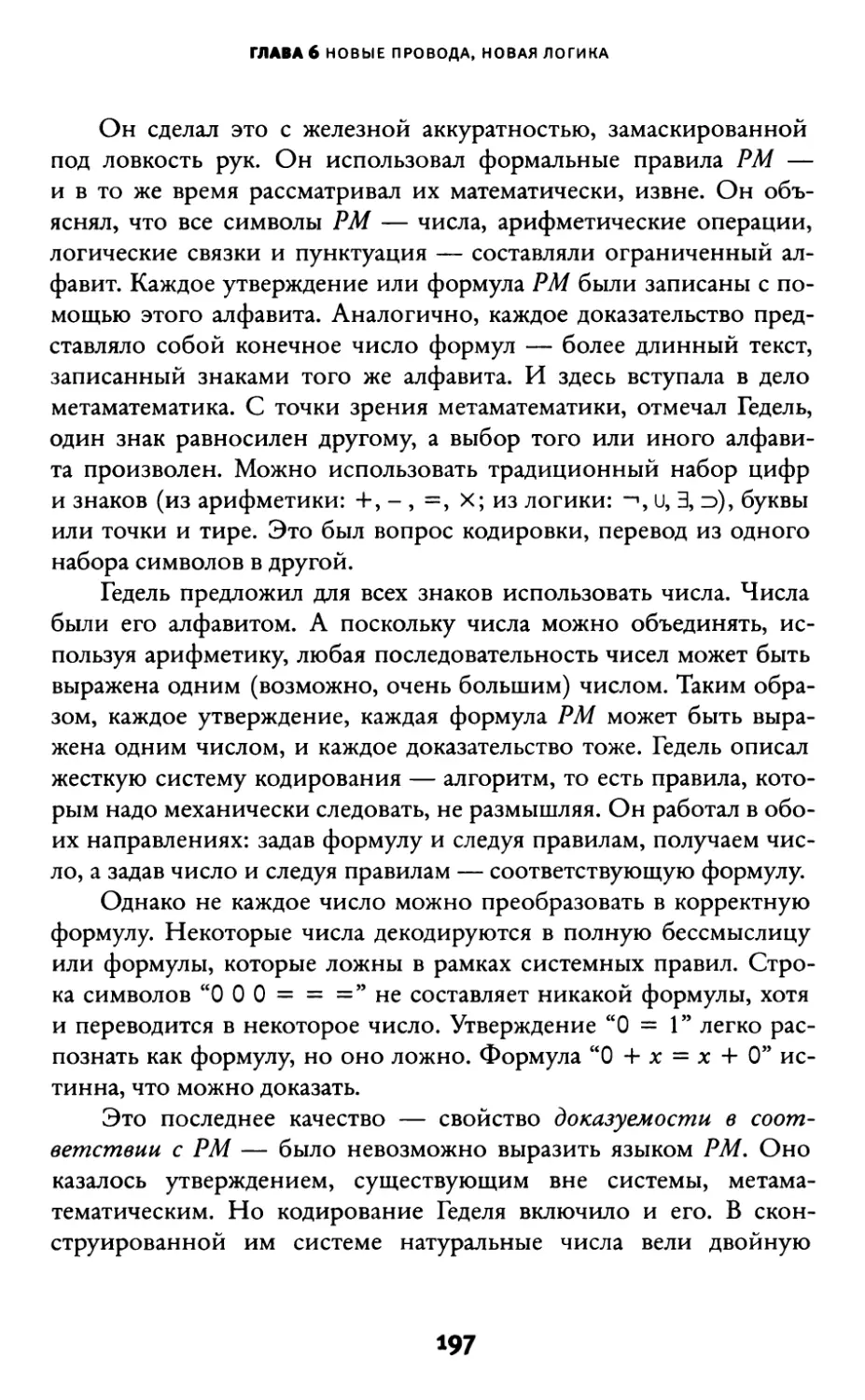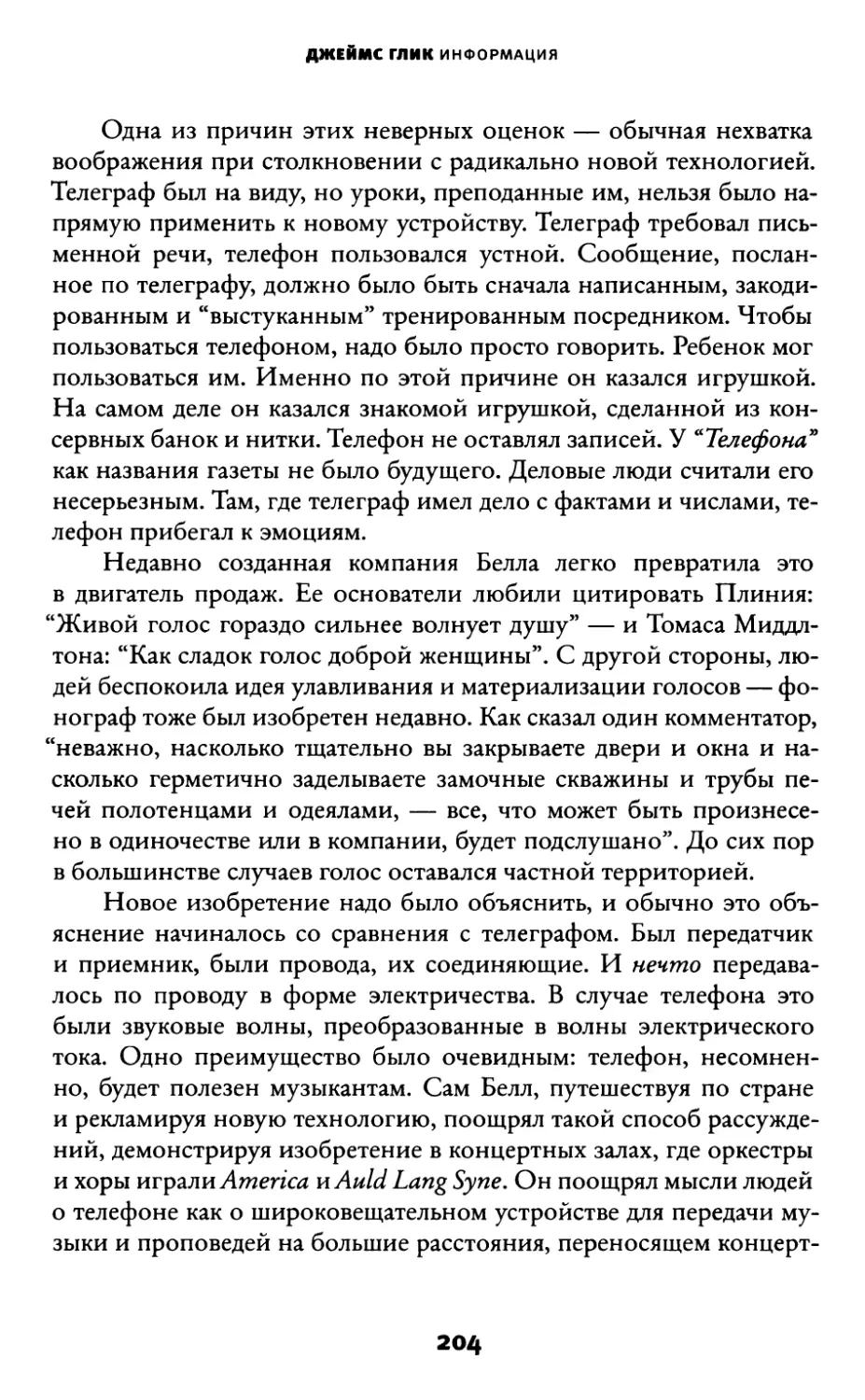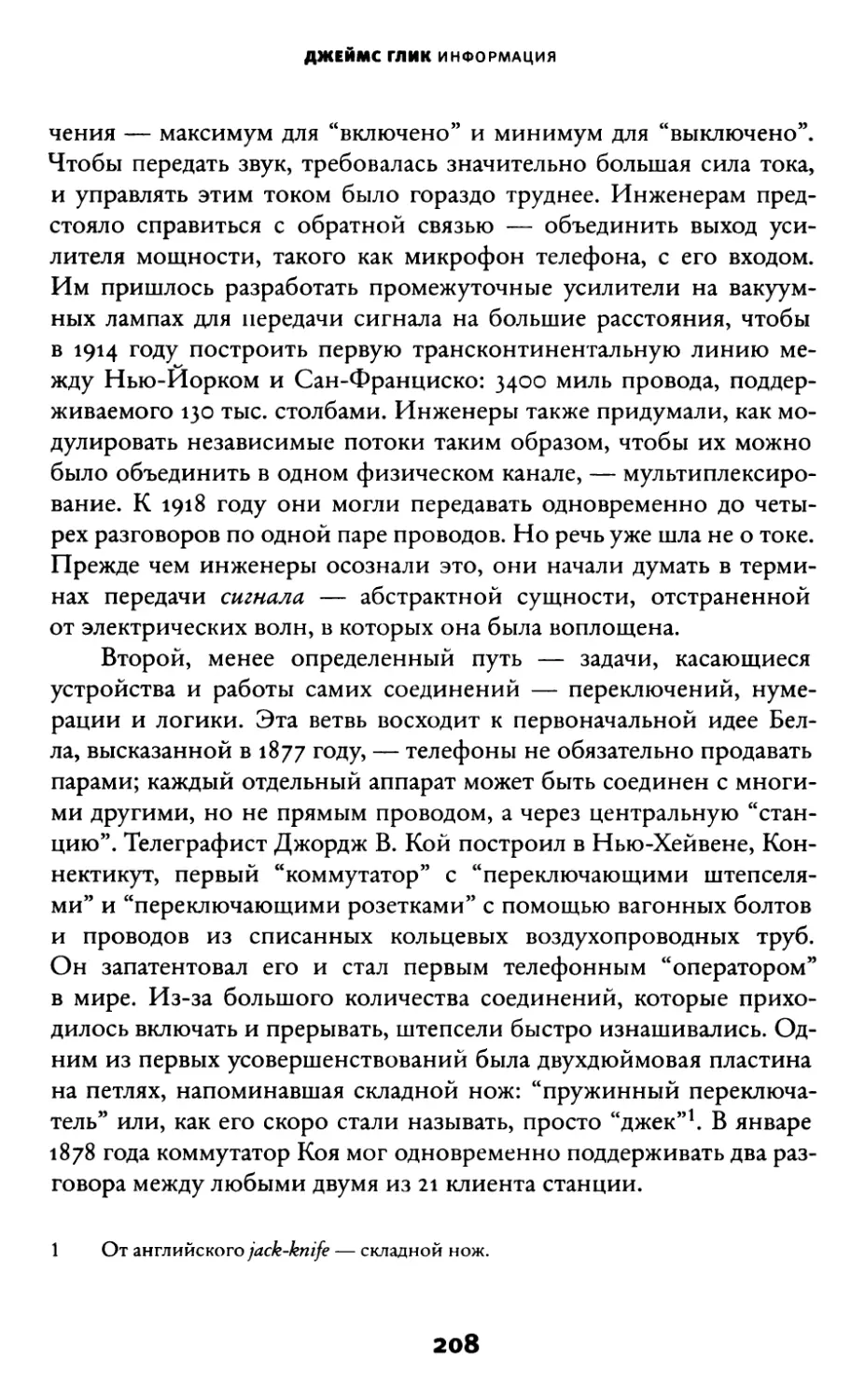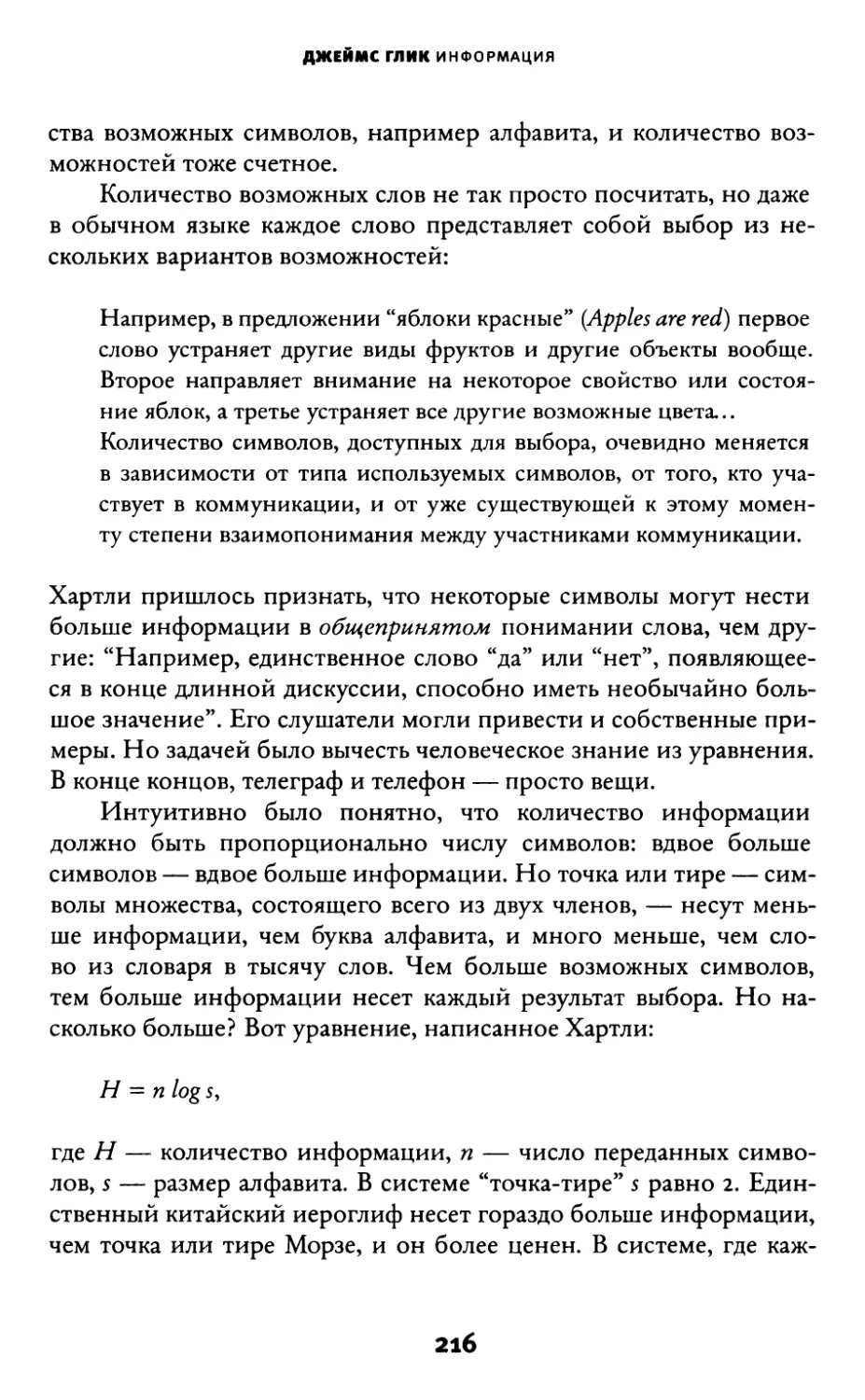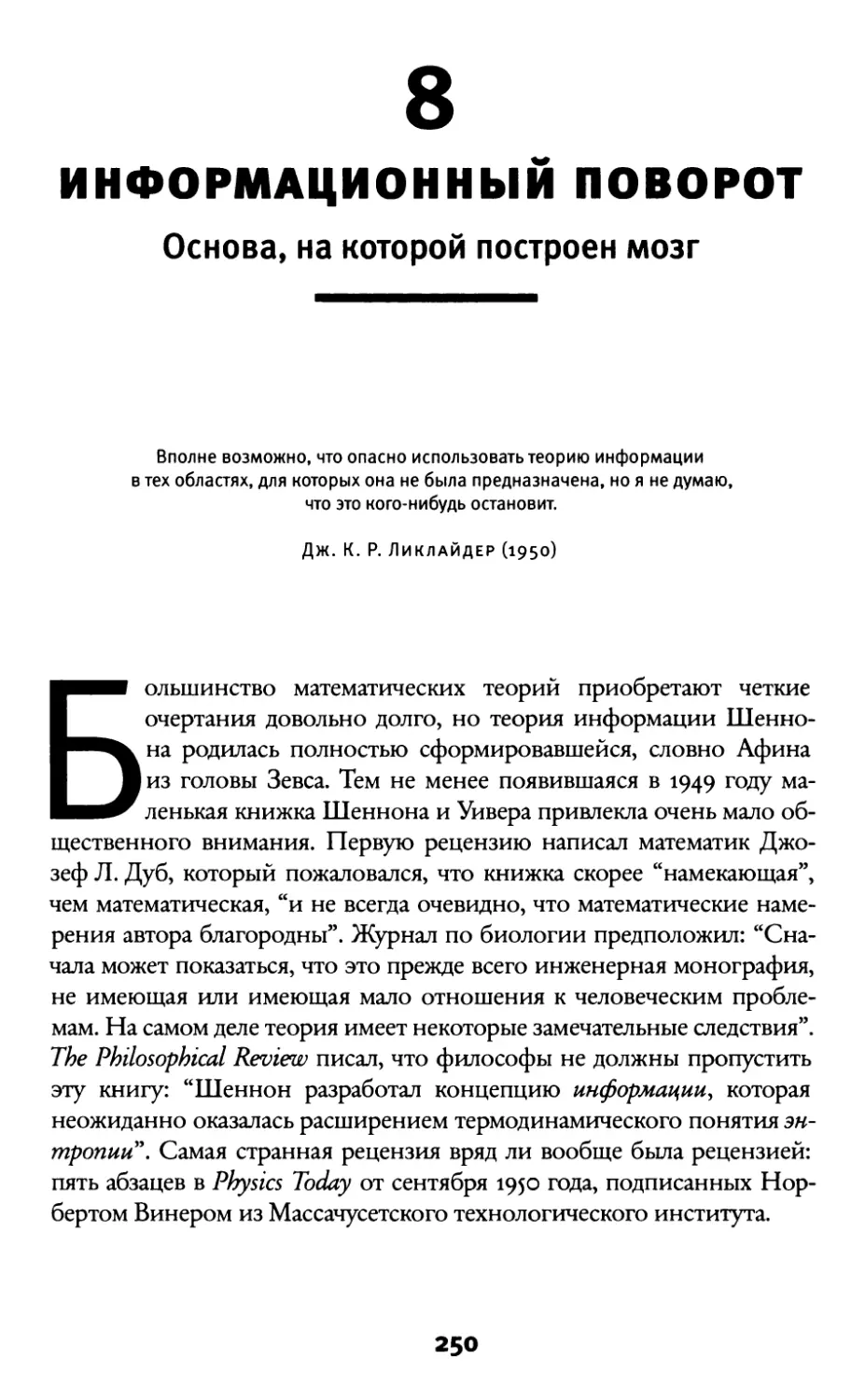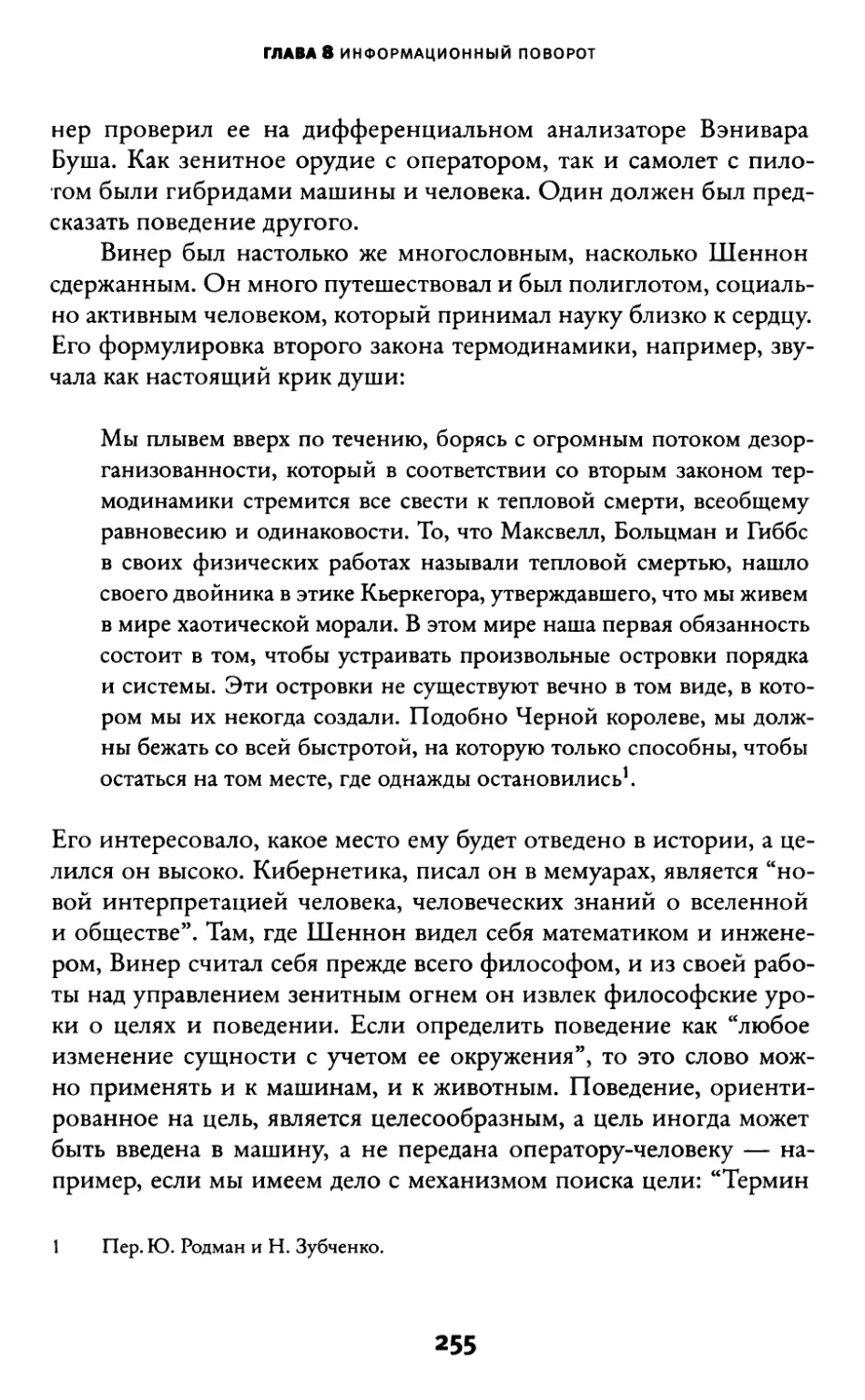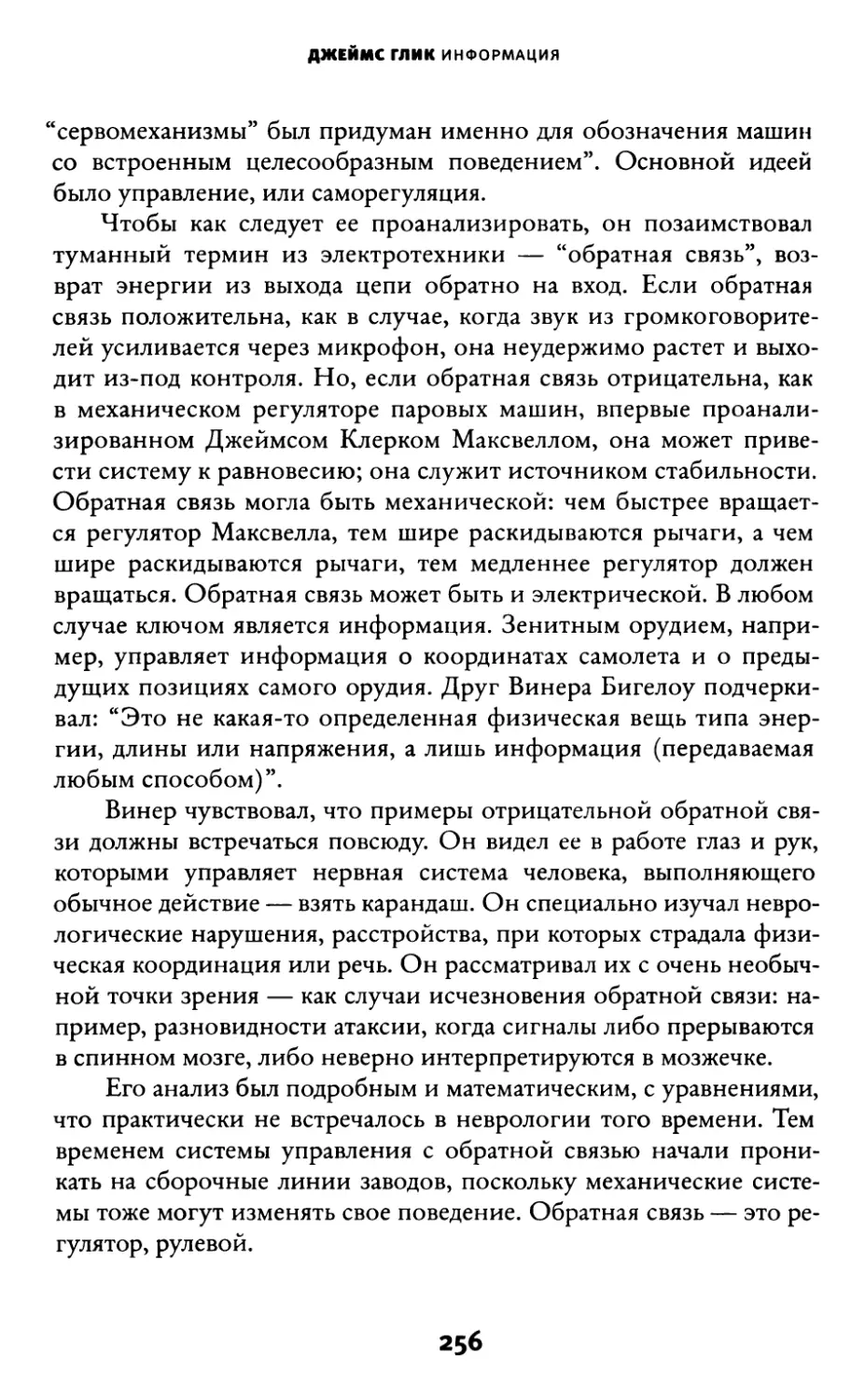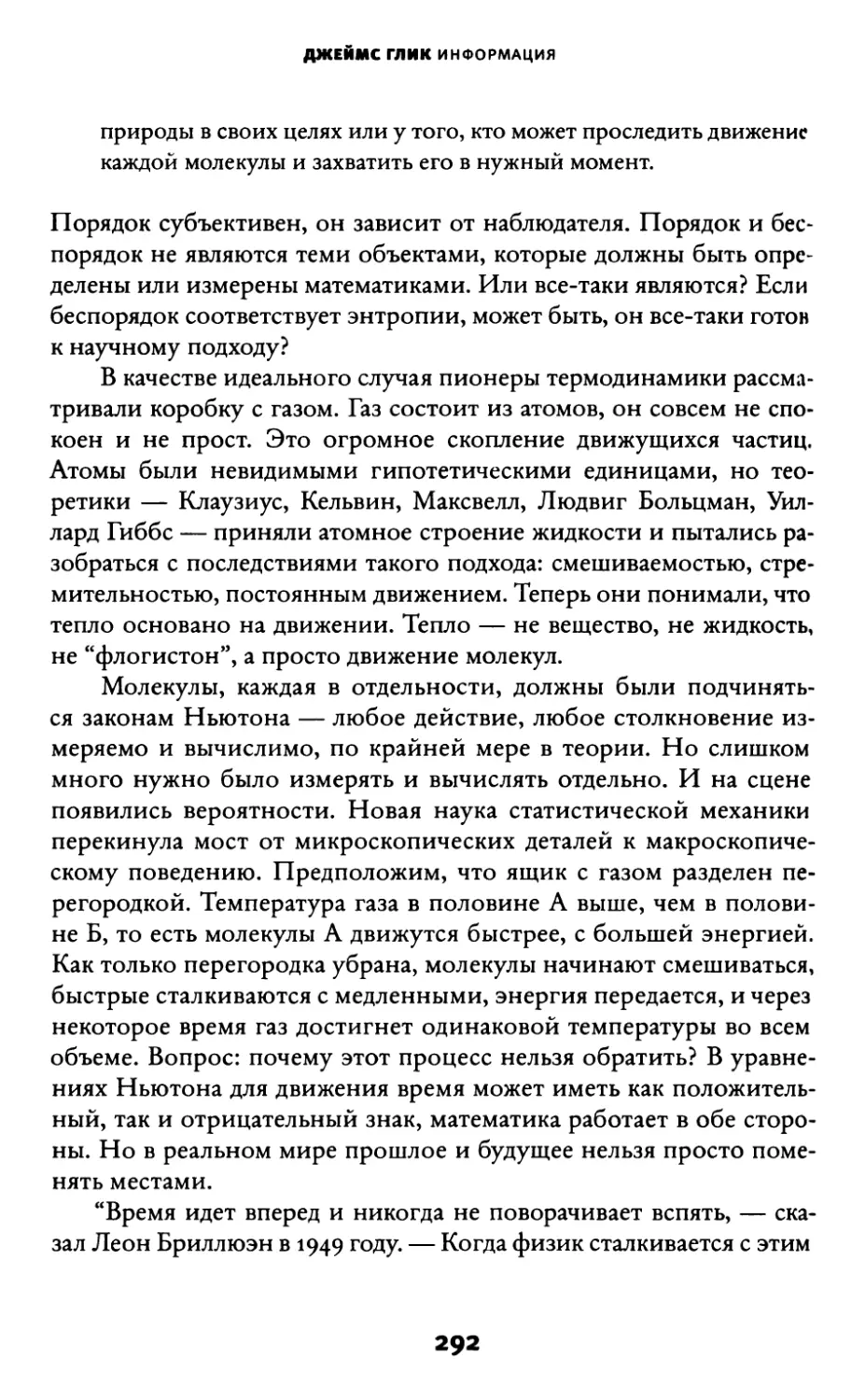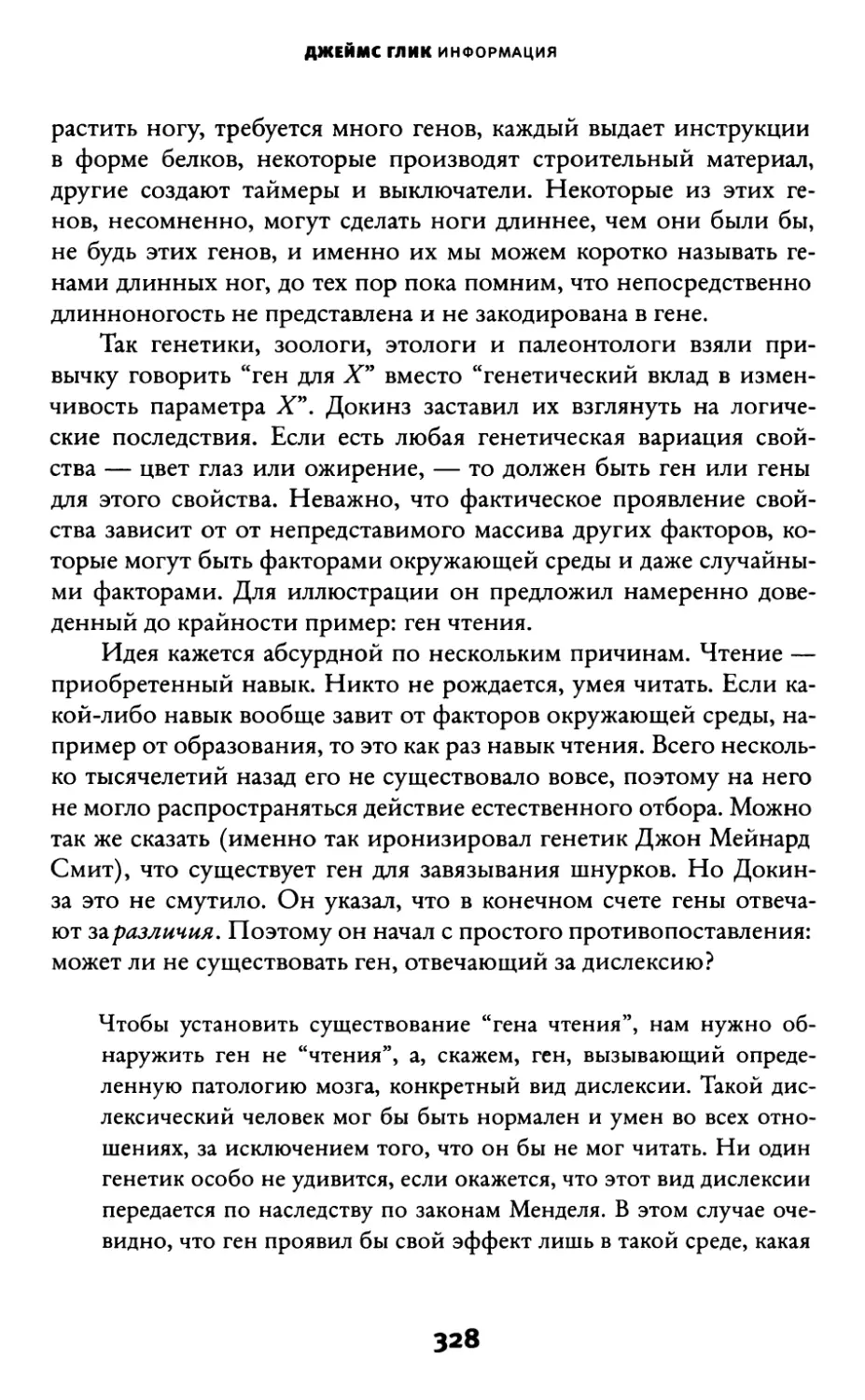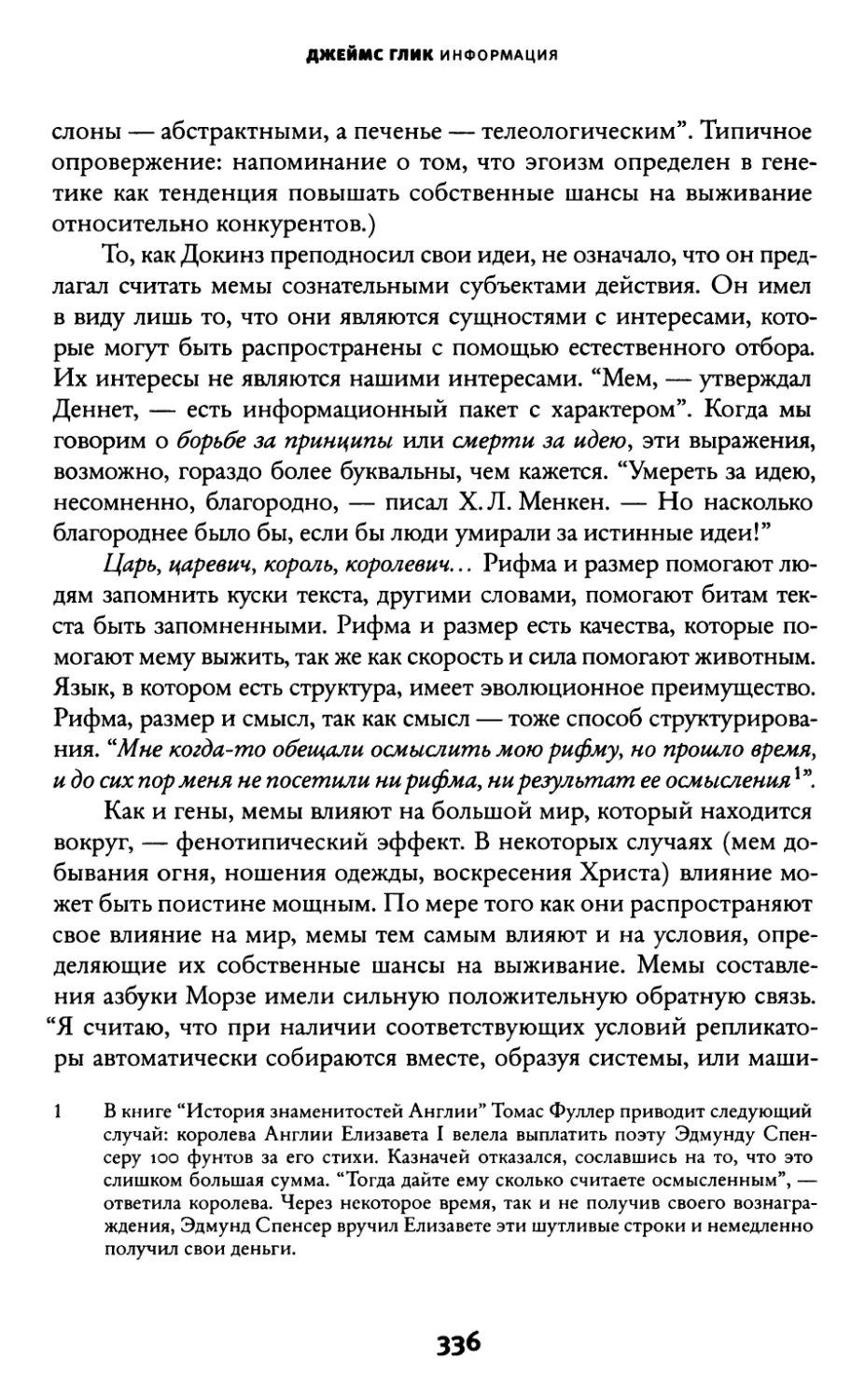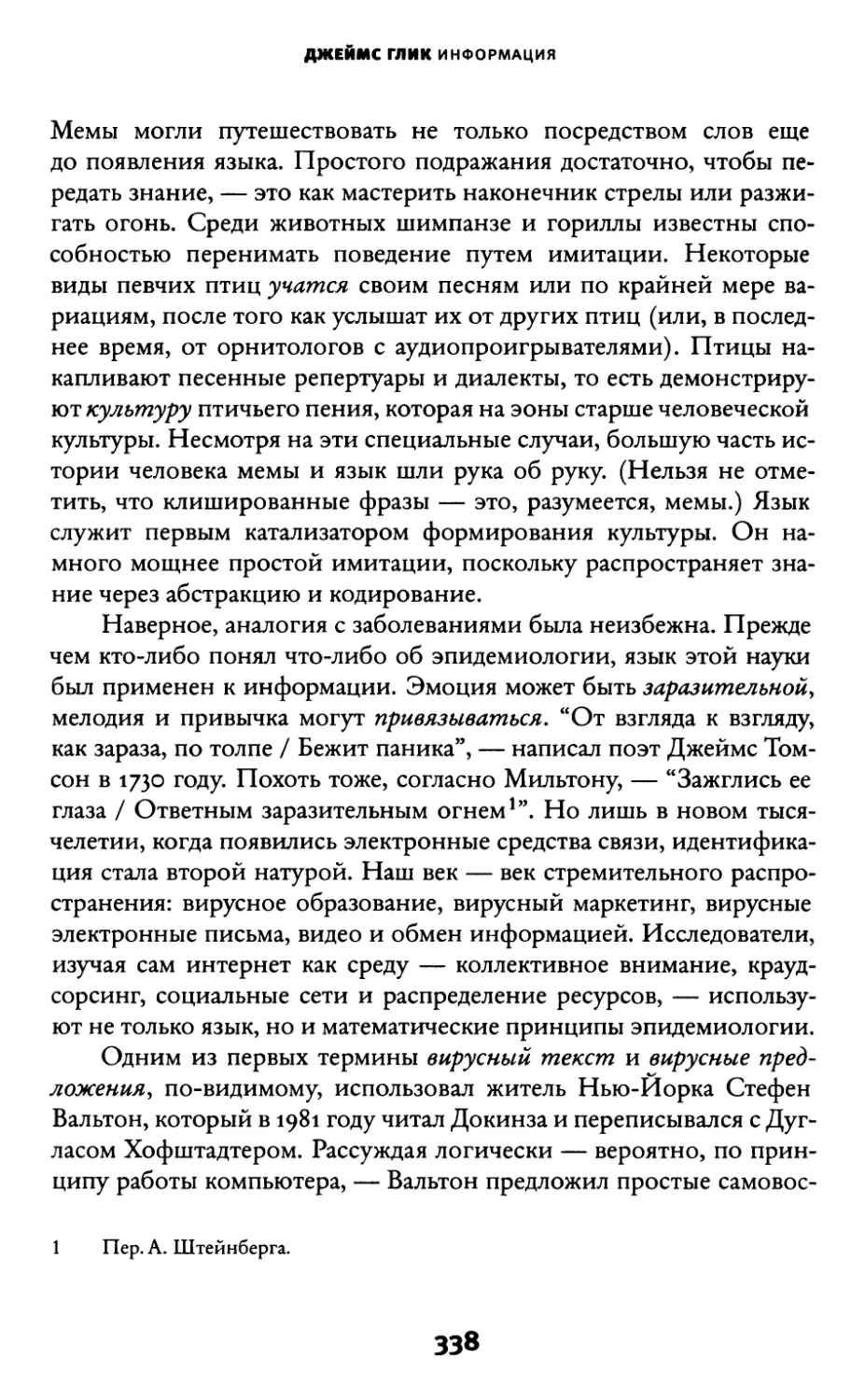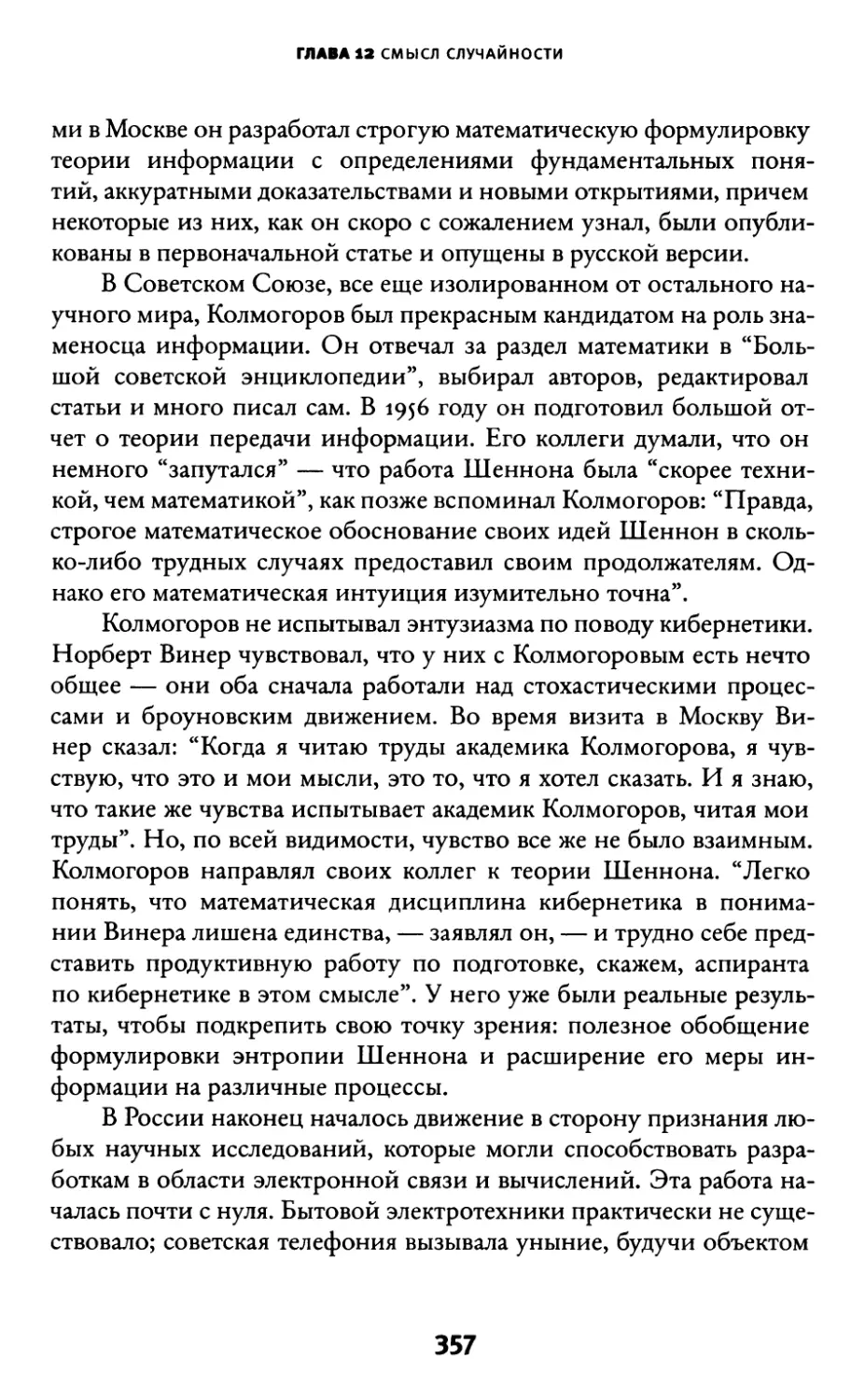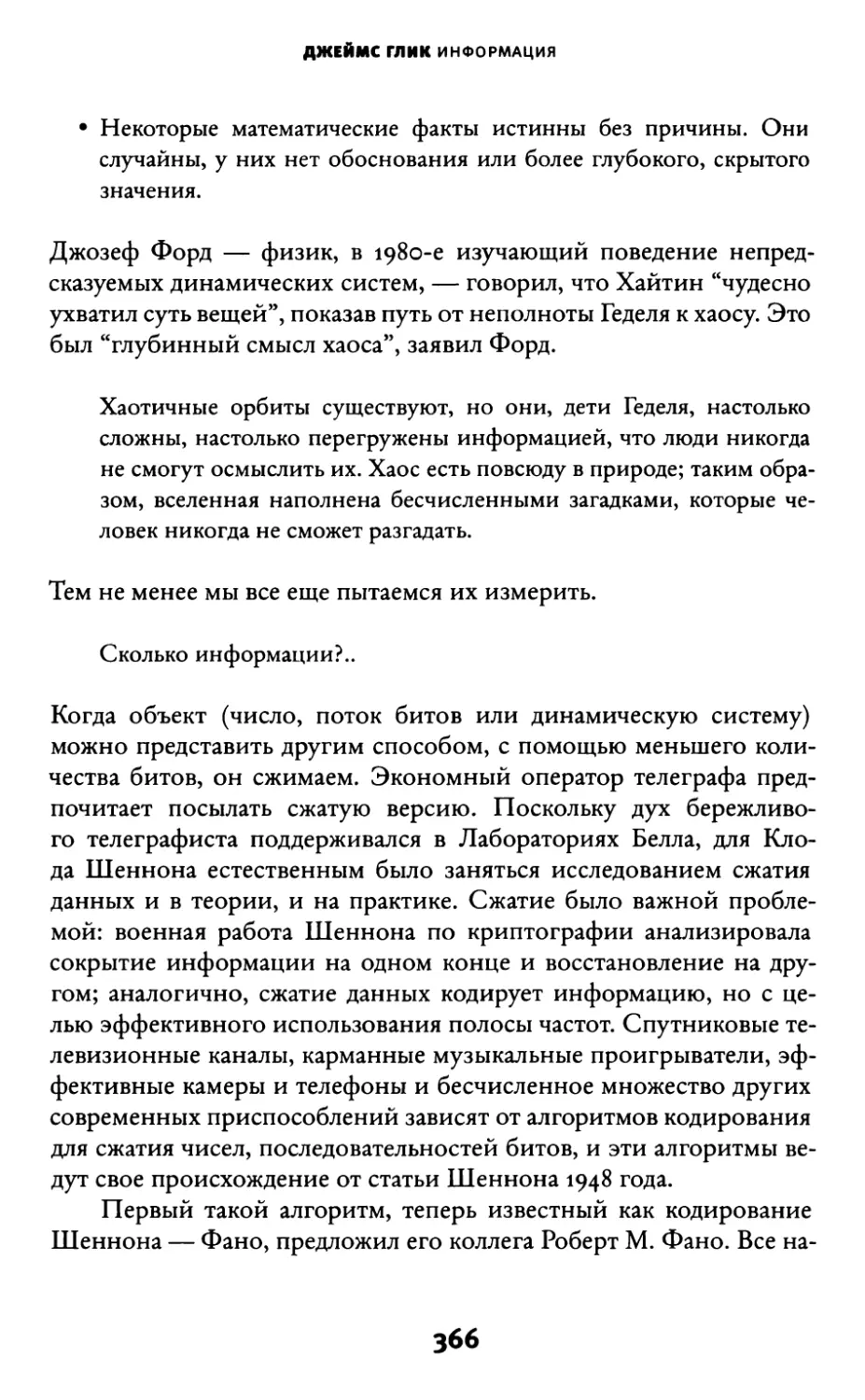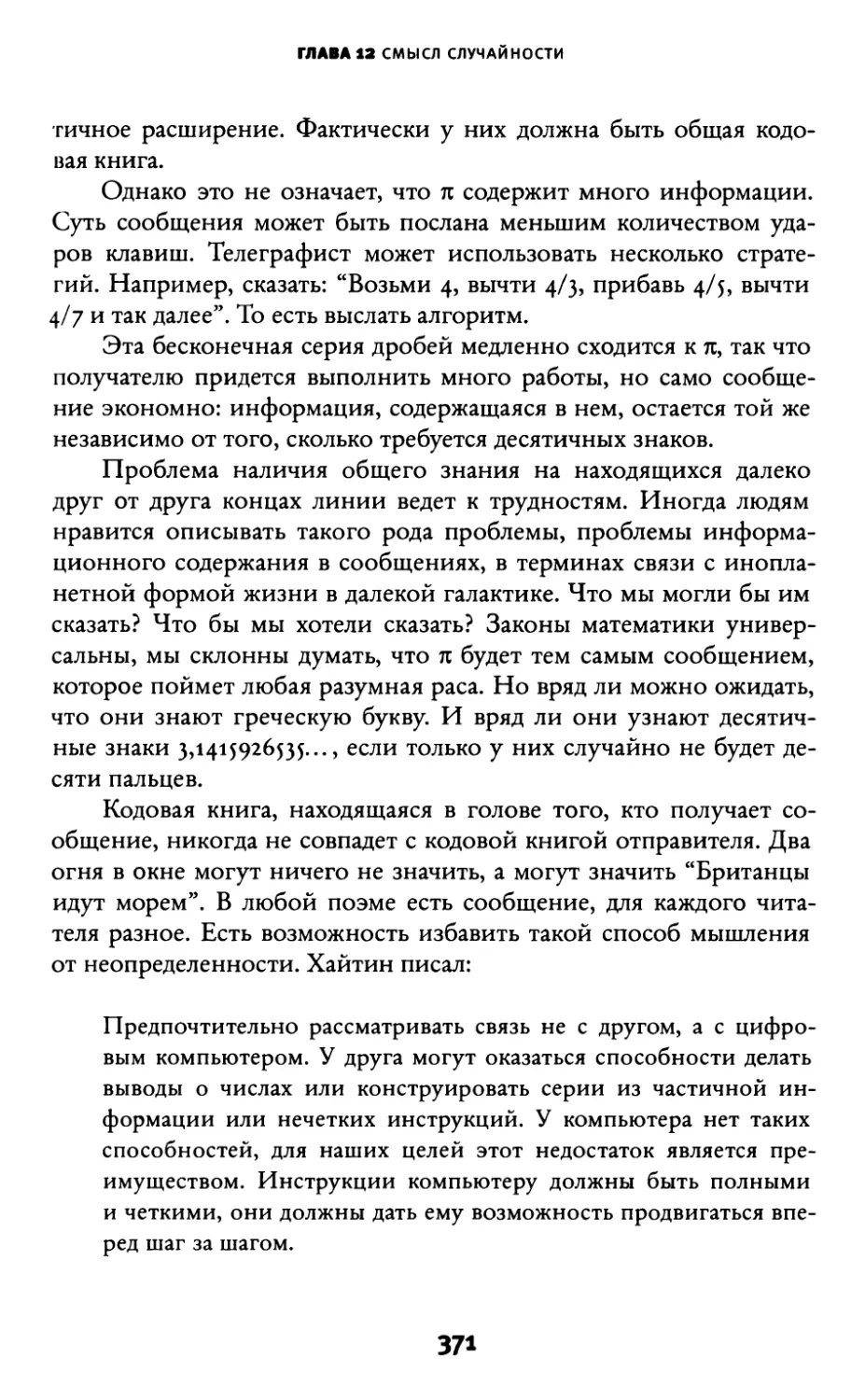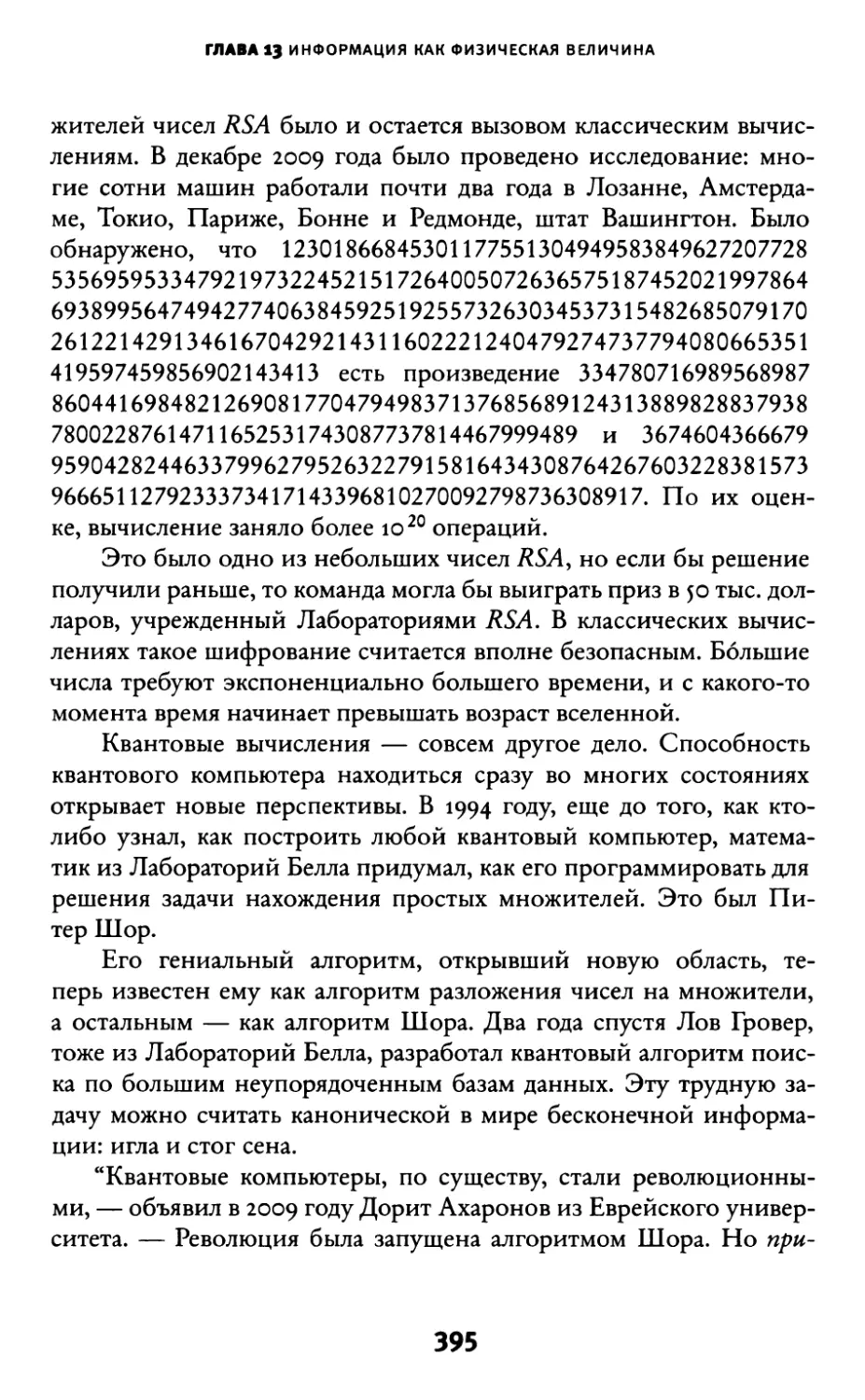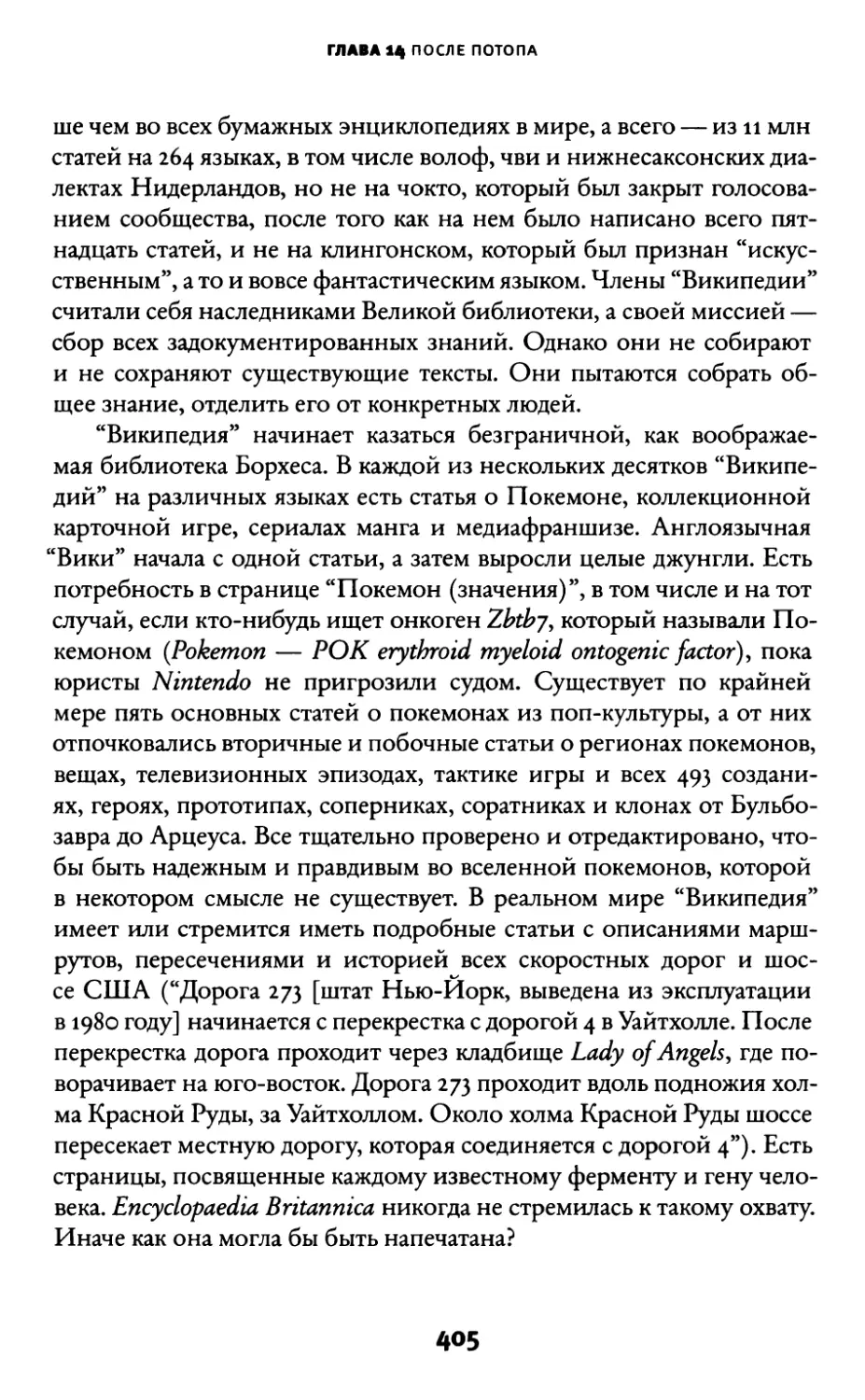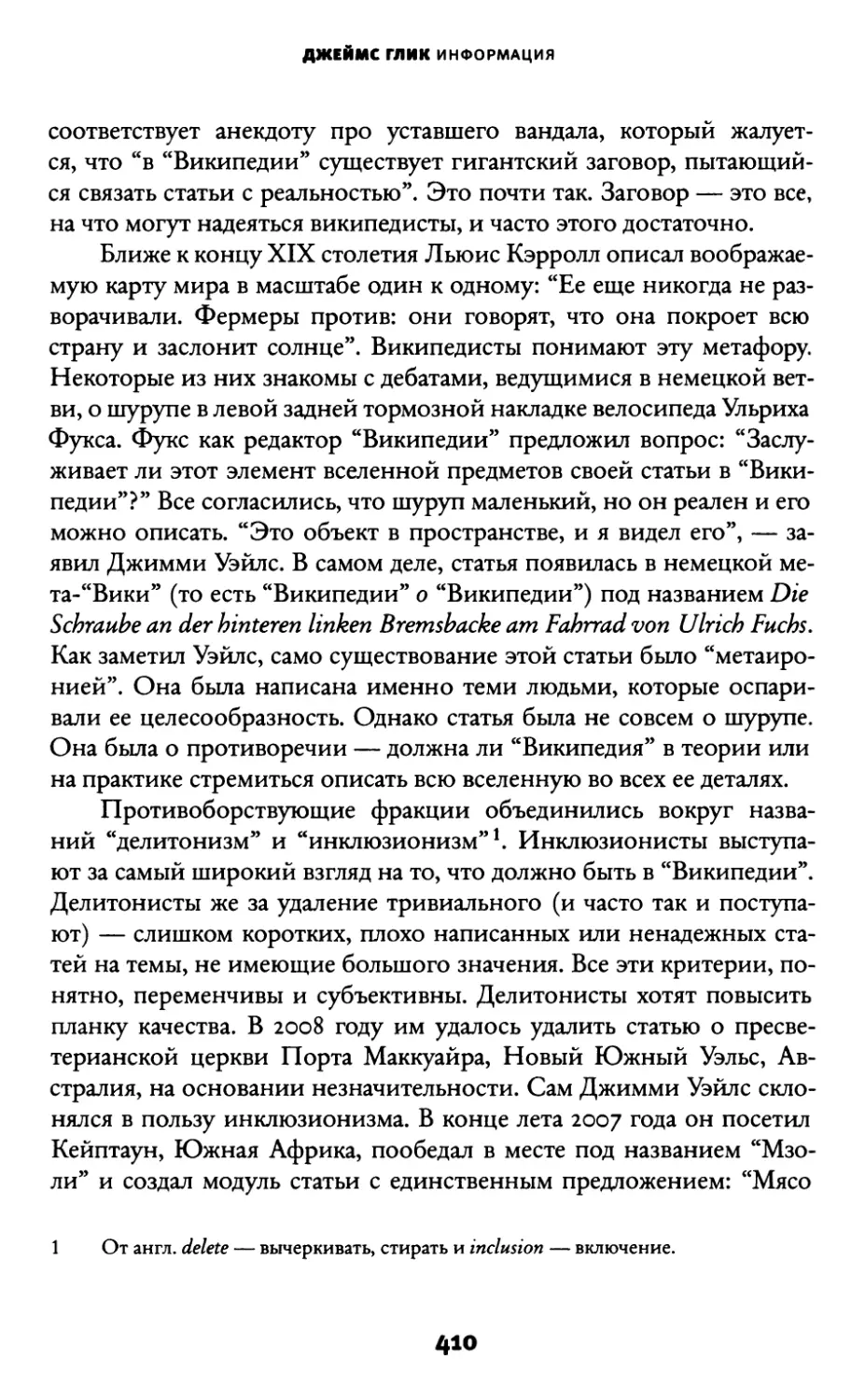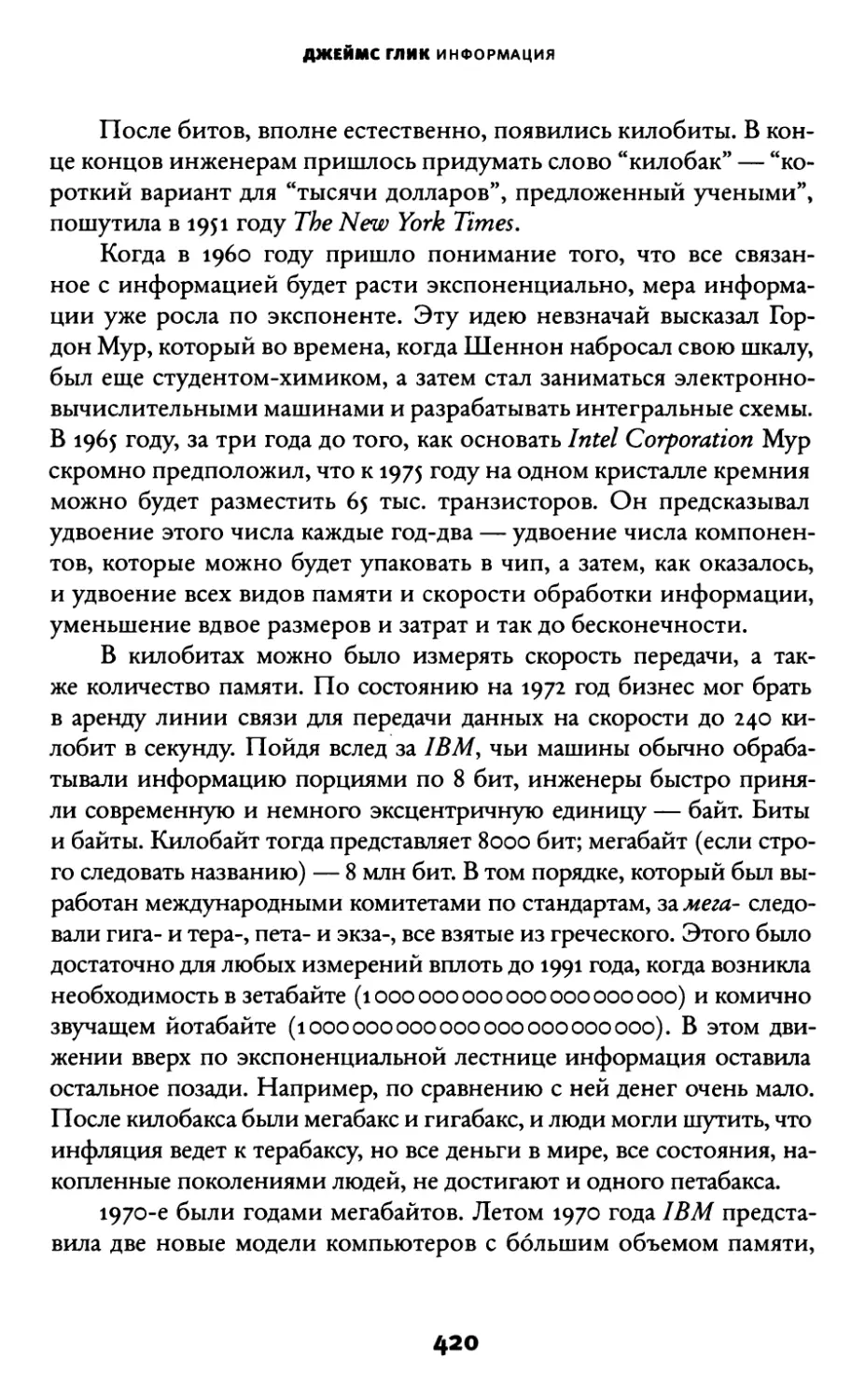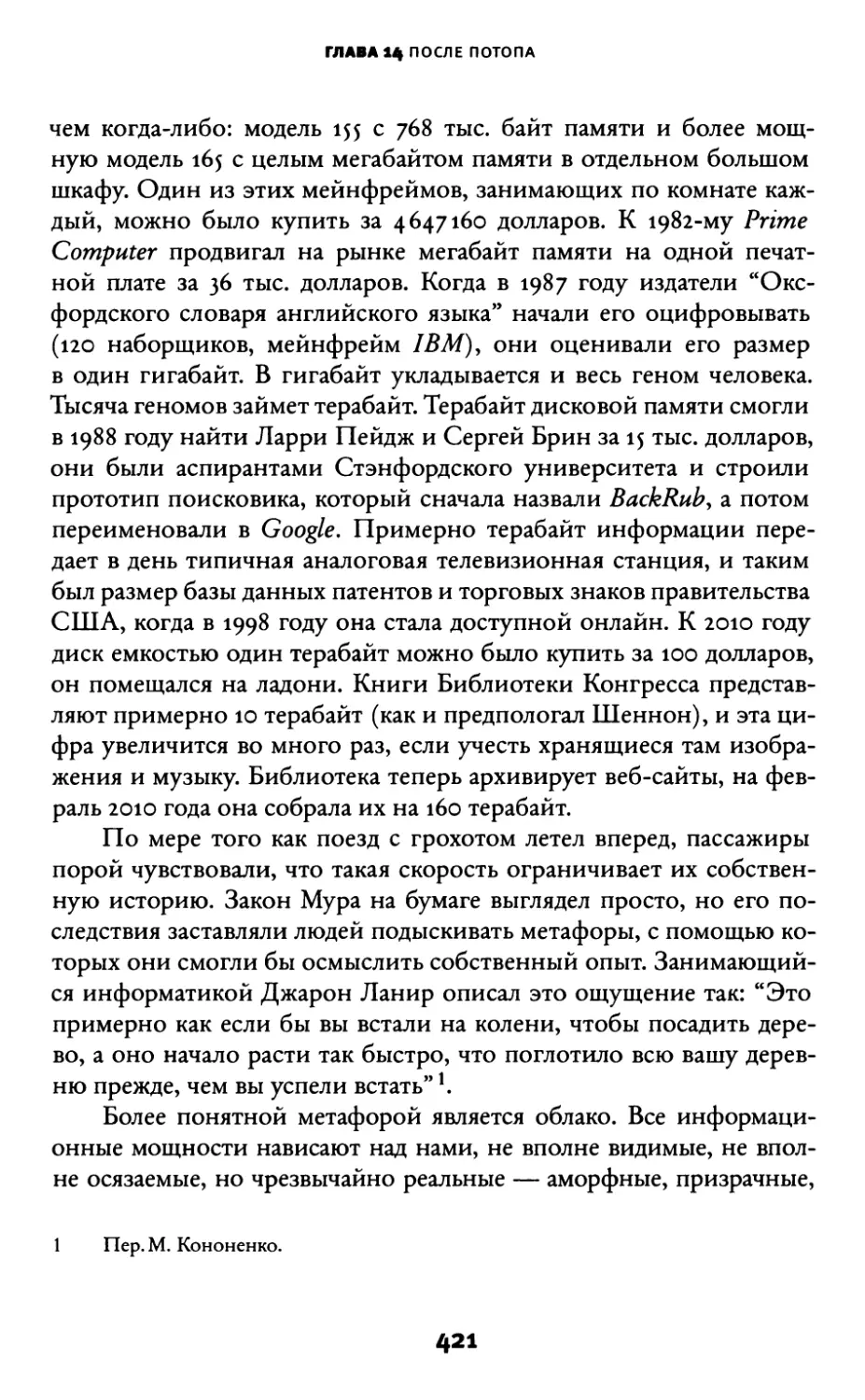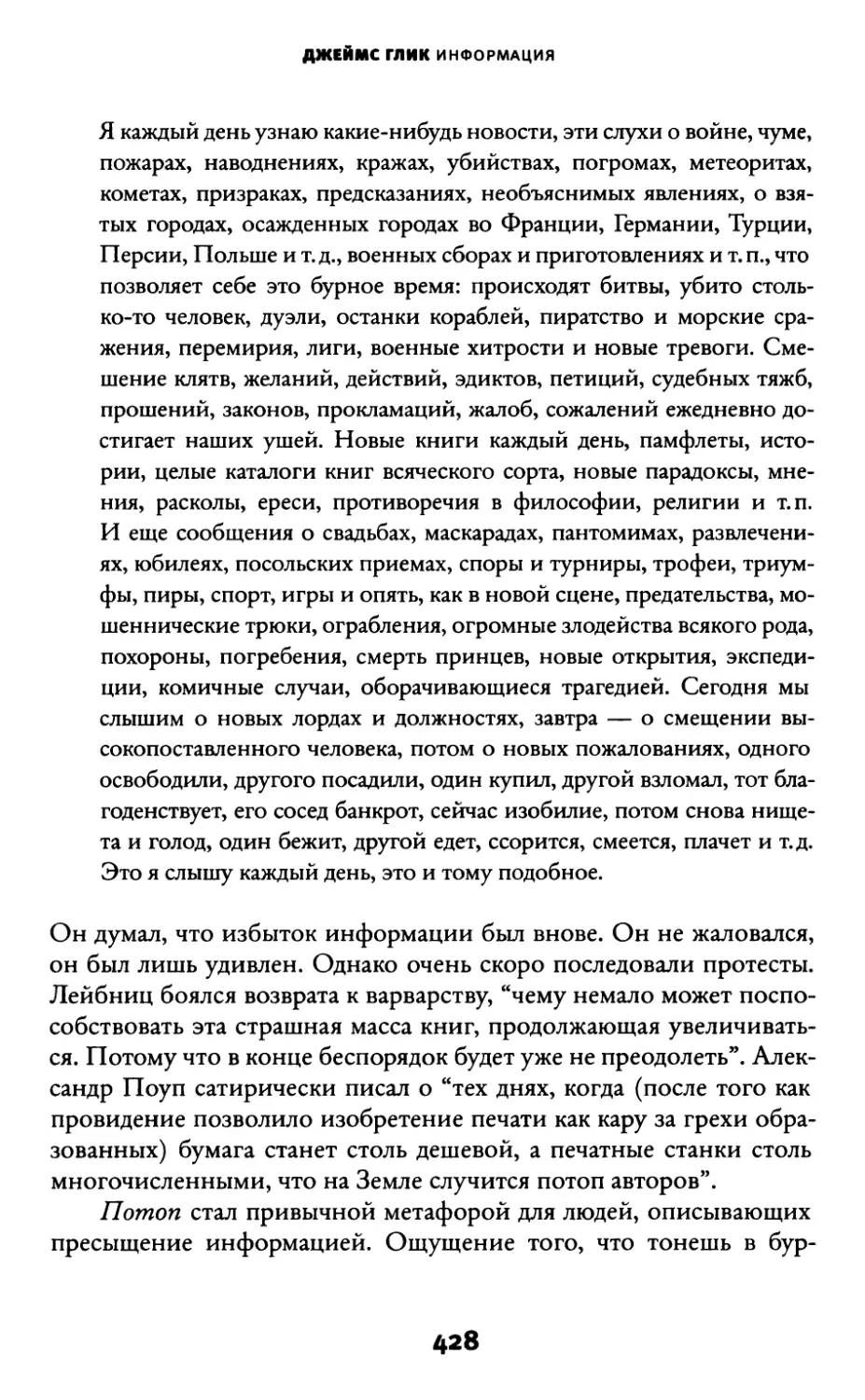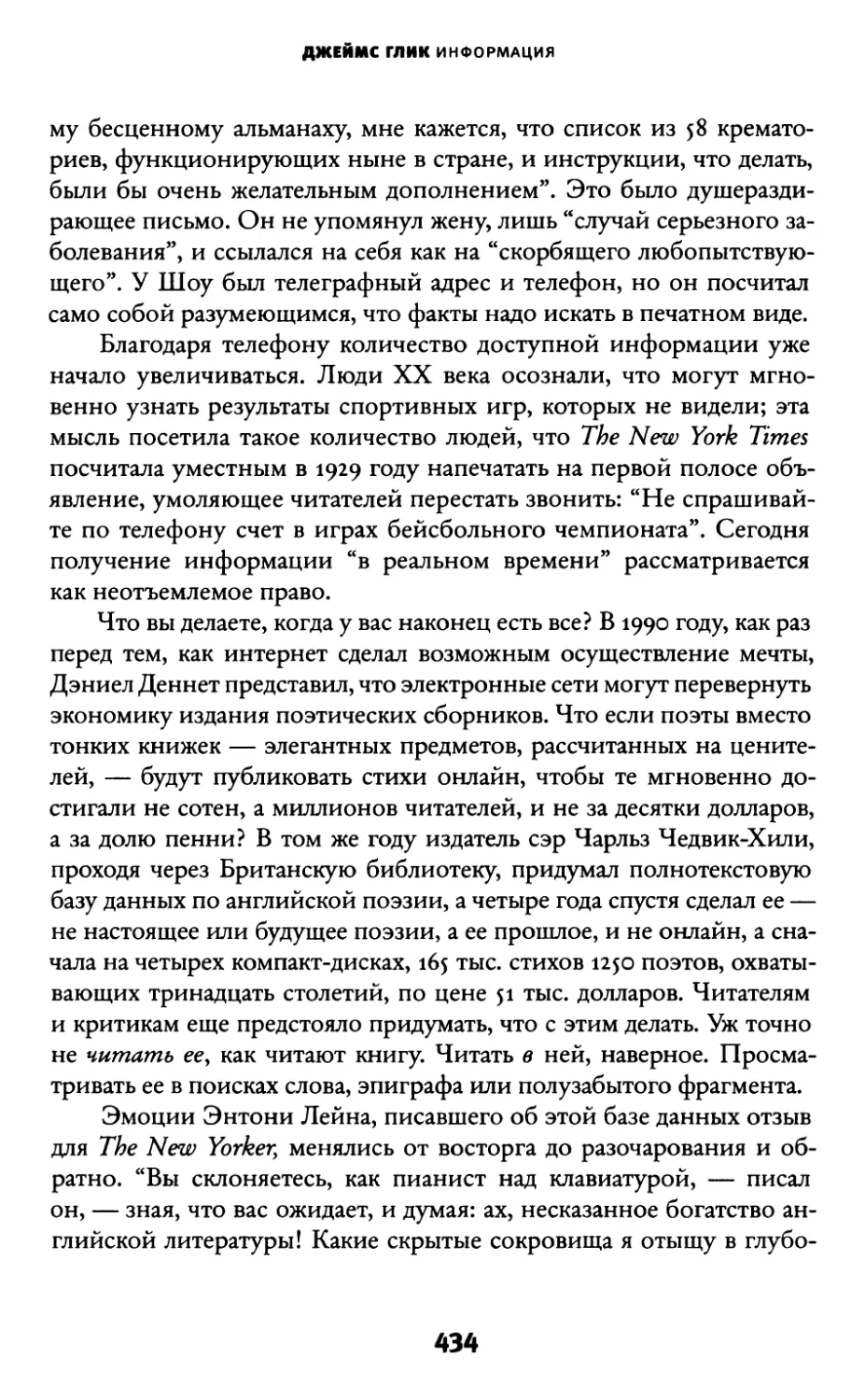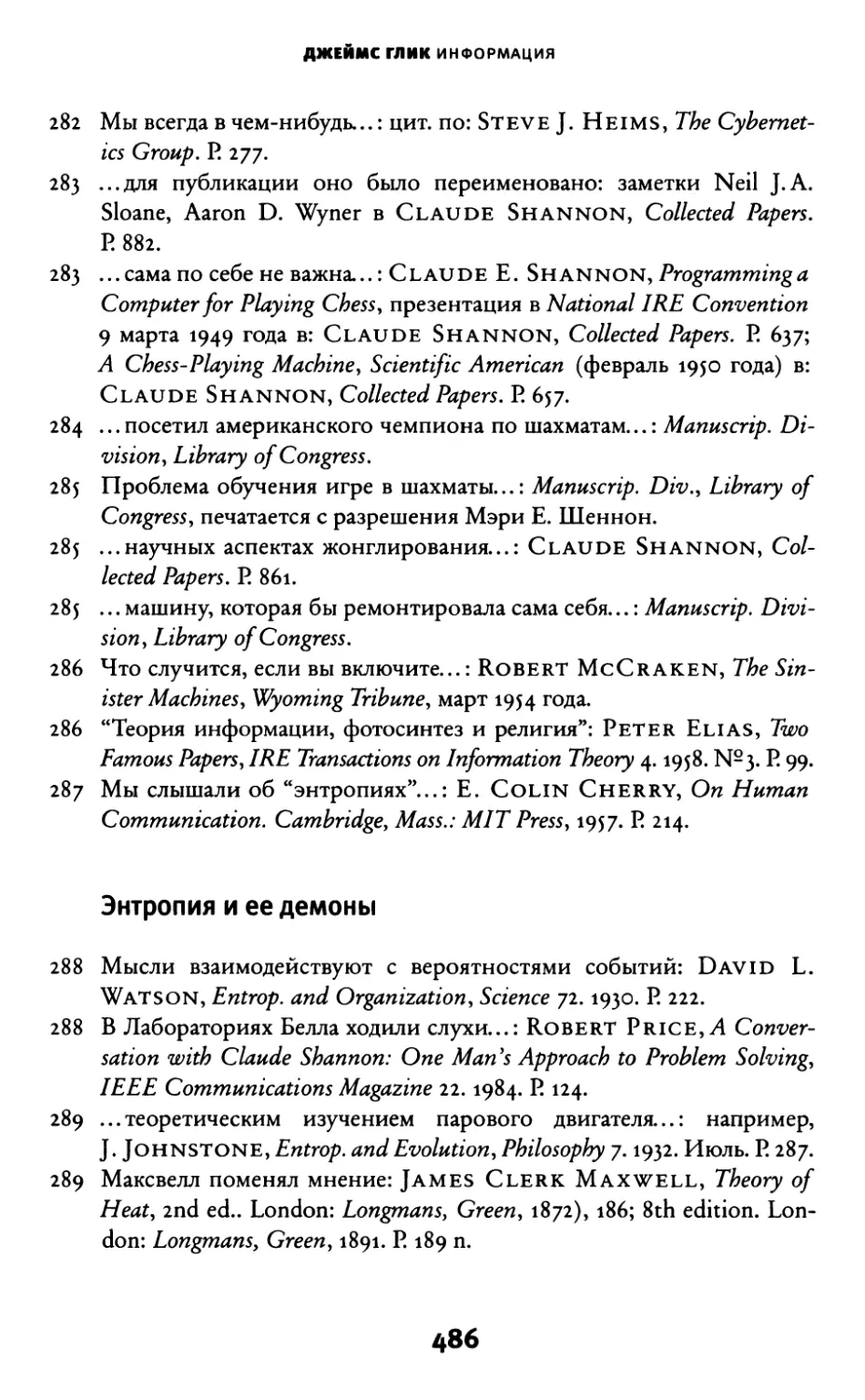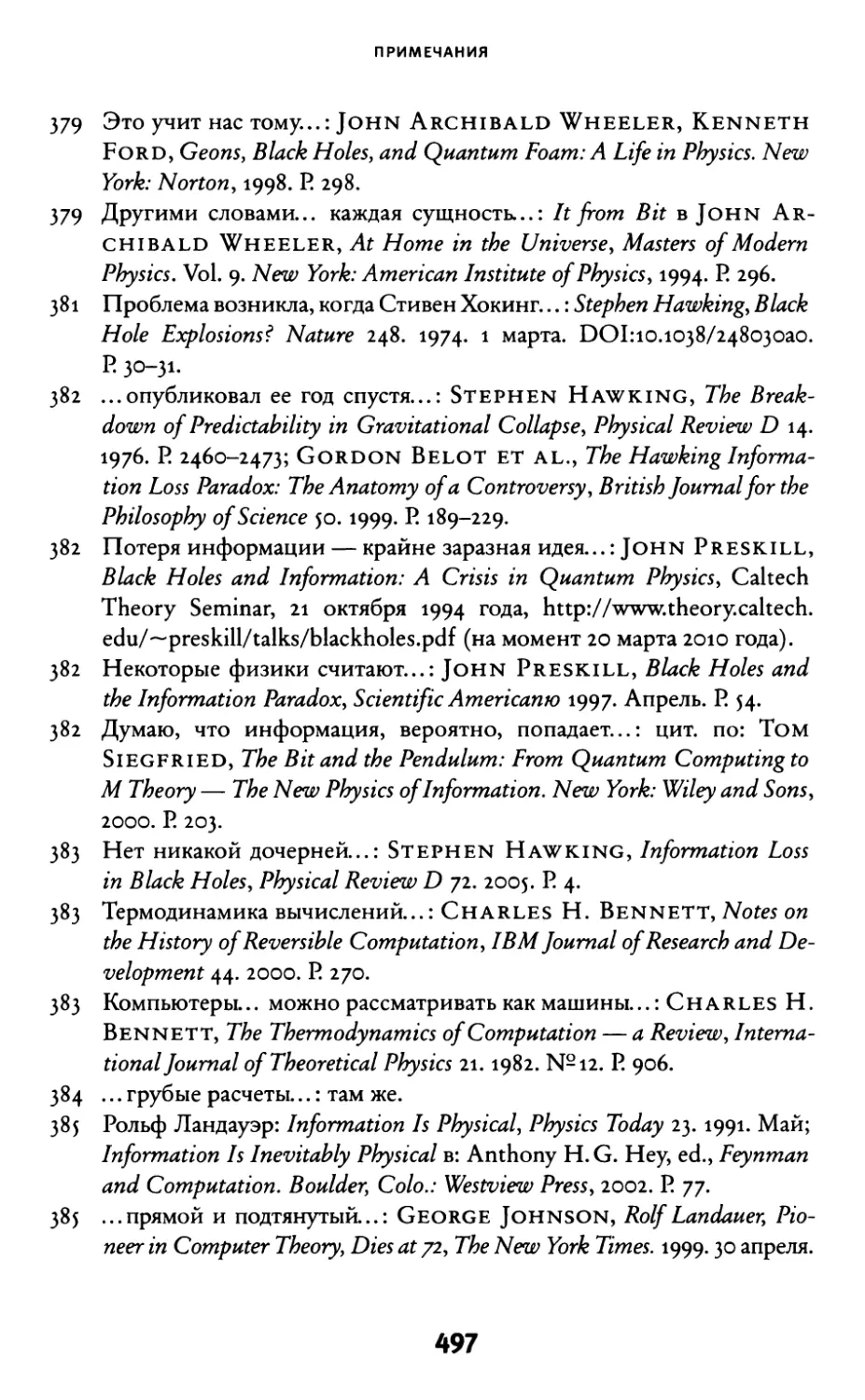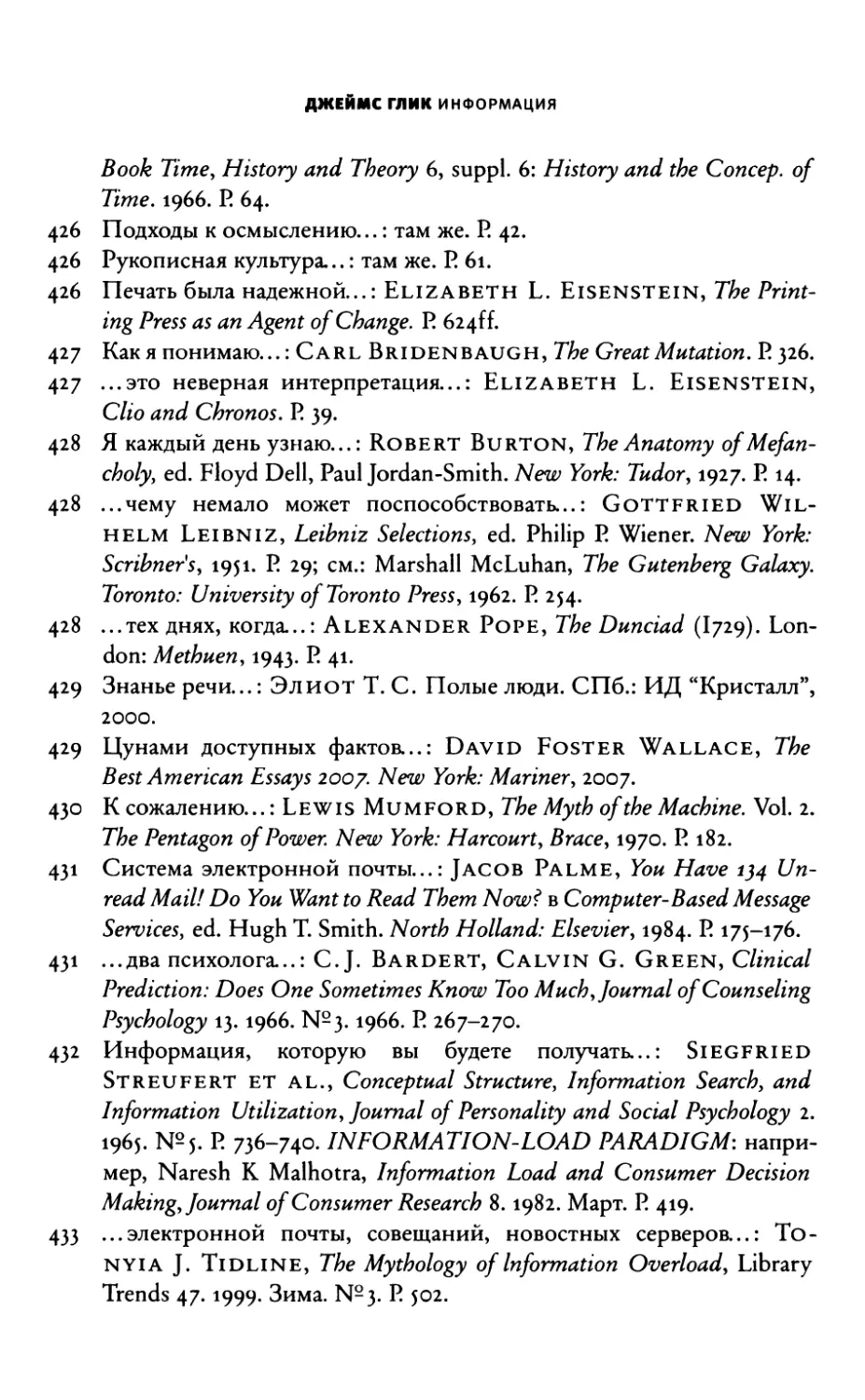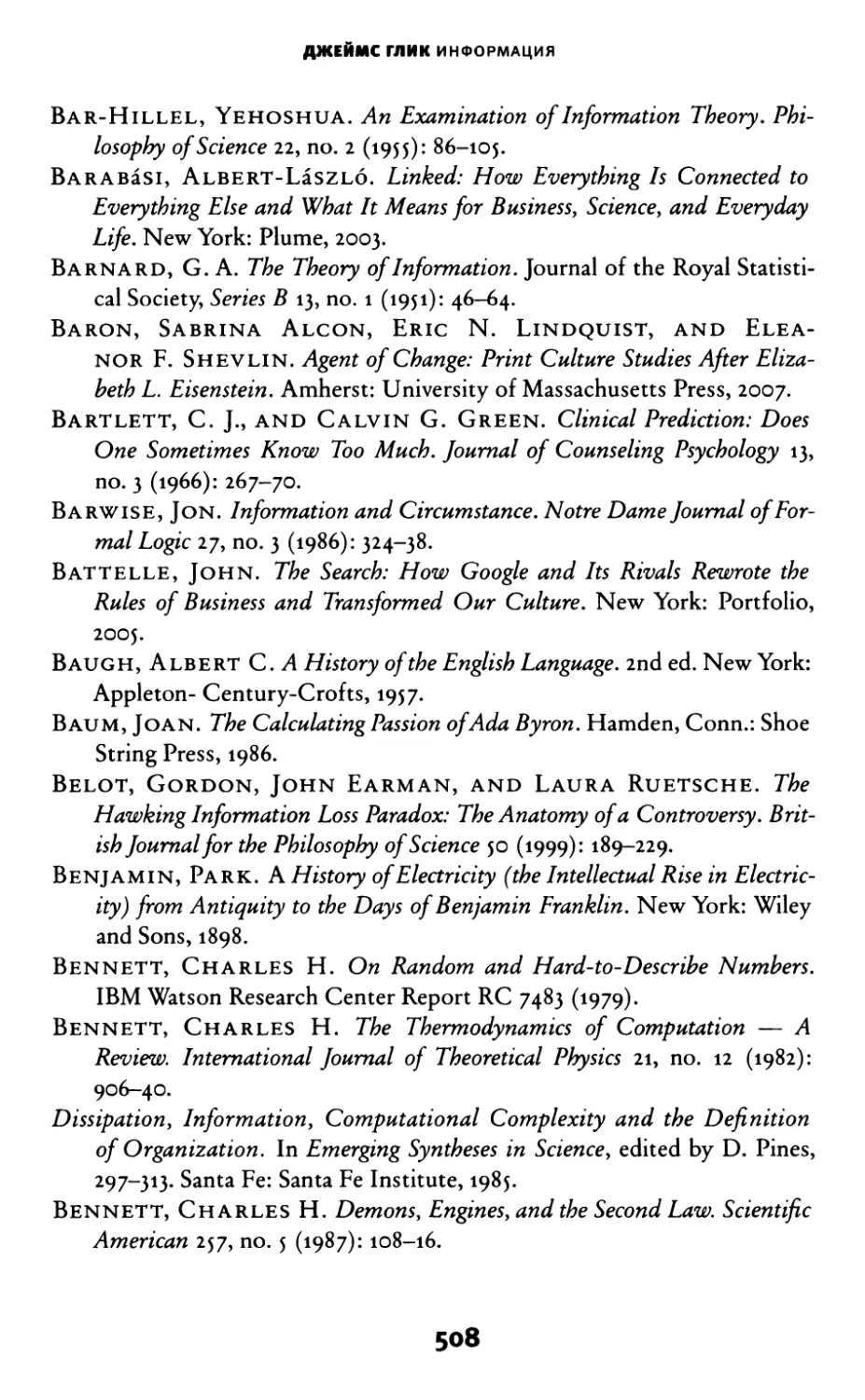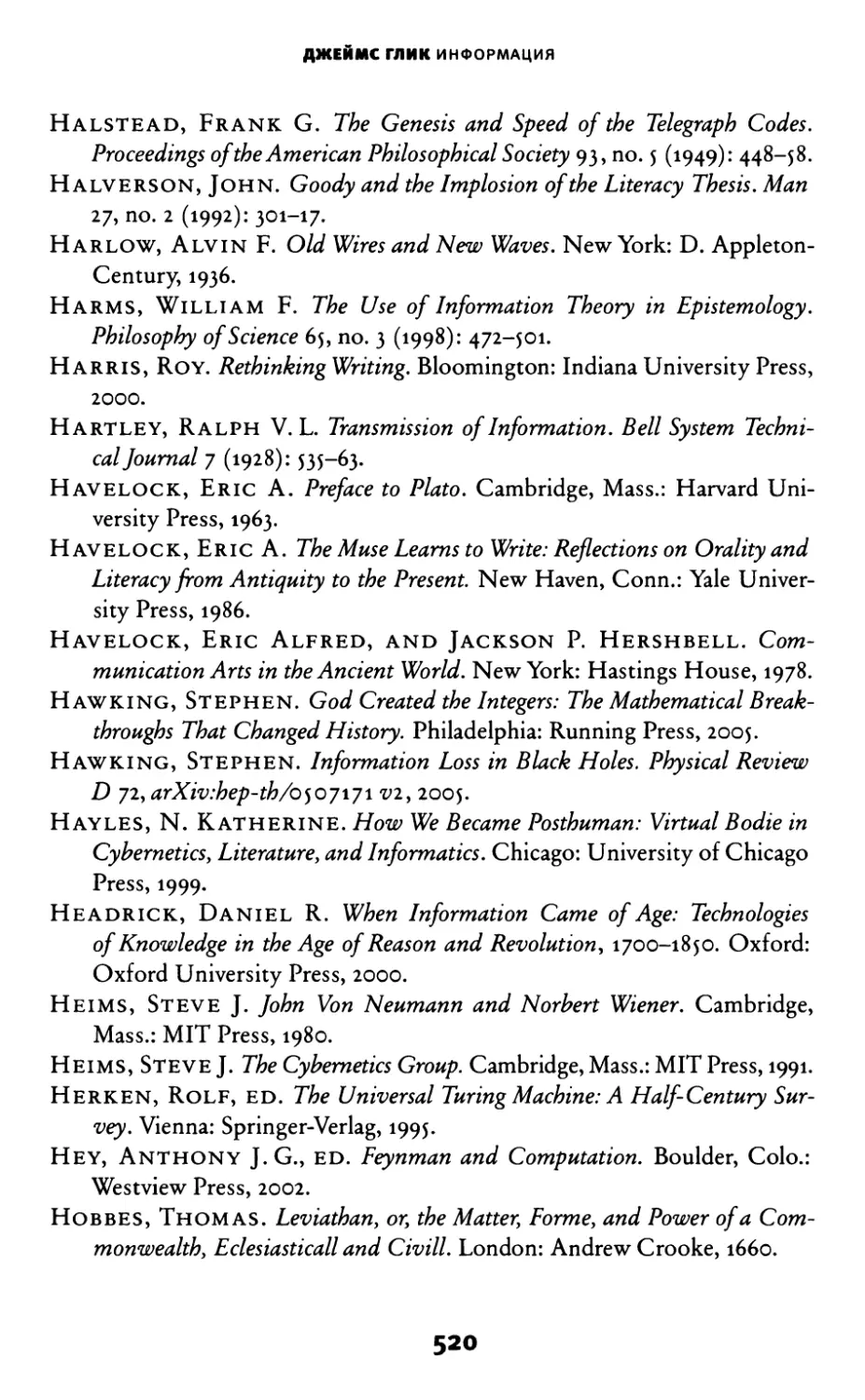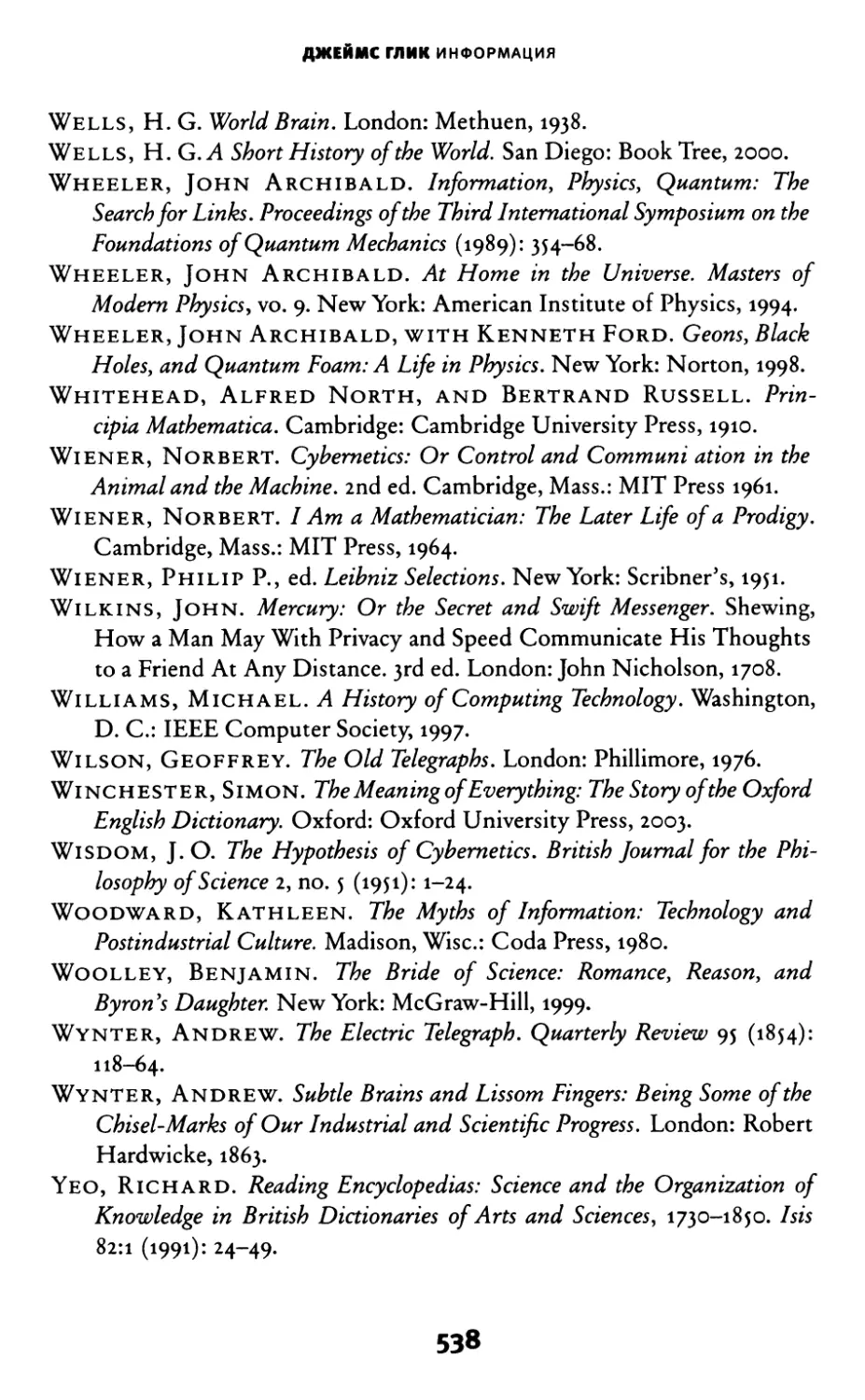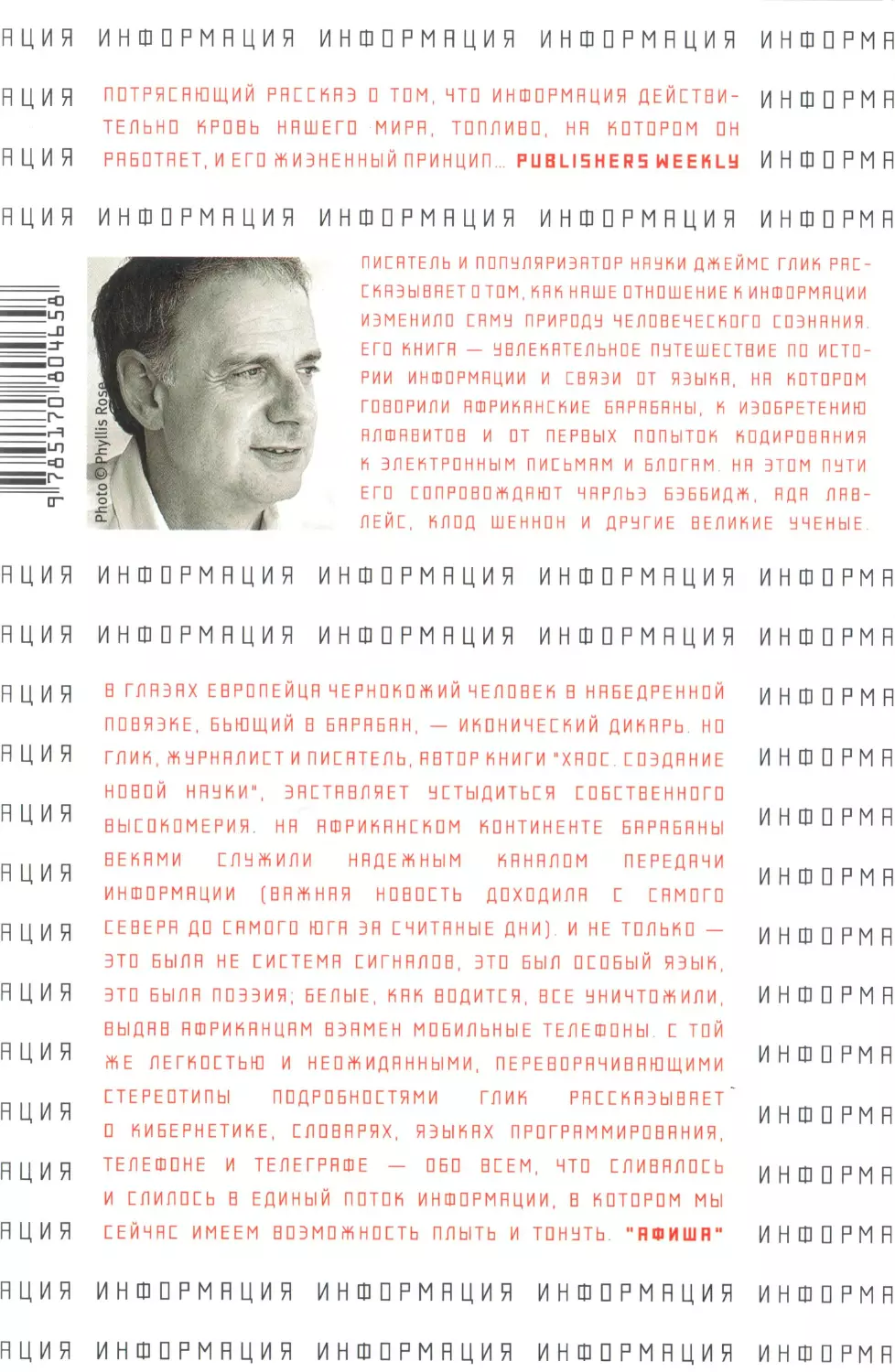Author: Кононенко М.
Tags: документация научно-техническая информация (нти) печать в целом авторство научно информационная деятельность информатика лингвистика история науки информационные технологии научный метод история информации издательство corpus
ISBN: 978-5-17-080465-8
Year: 2013
(ИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНm□РМНЦИ Я ИНФ□РМАЦИ Я ИНШПРМЯ1
(ИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМН1
(ИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМН1
(ИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФПРМА1
[ИЯ ДЖЕЙМЕ ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМ
(ИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМ
ия ИНФОРМАЦИЯ ин«прм
(ИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМ
(ИЯ ИЕТОРИЯ'ТЕОРИЯ'ПОТОК информ
(ИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМА1
(ИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМА1
(ИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМН1
[ИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМН1
[ИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМА1
[ИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМА1
[ИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМЯ1
[ИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМН1
[ИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМА1
[ИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМЯ1
. ия ЛАУРЕАТ УИНТОНОВГКОЙ ПРЕМИИ ЛОНДОНСКОГО КОРОЛЕВСКОГО ОБЩЕ
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ АМЕРИКАНСКОГО ПЕН-ЦЕНТРН И ЭДВАРДА О. УИЛ1
1ИЯ ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ КНИГА ГОДА ПО ВЕРСИИ LD5 AN0ELE5 TI
[ИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМА1
С
С
|ИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМА1
Отсканировано
Химия и Химики
"Химия и Химики - журнал Химиков-Энтузиастов"
http://chemistry-chemists.com
Литература и статьи по химии, физике, астрономии, биологии,
а так же медицине и другим наукам
Вы можете поддержать проект материально, совершив
пожертвование на любой из этих WebMoney кошельков:
Z417794846593
R424729528665
U193348891846
E351S95670732
Или подписавшись на наш канал:
https://www.youtube.com/channel/UCD2fRmgV93G8ZUxZTGLbScA
Здесь вы найдете много видео экспериментов по химии,
физике, биологии: как новые, так и уже опубликованные
в журнале!
ИНФОРМАЦИЯ
THE INFORMATION
JAME5 GLEIEK
THE INFORMATION
R HISTORy- R THEDRy-R FLOOD
ИНФОРМАЦИЯ
ИСТОРИЯ-ТЕОРИЯПОТОК
Перевод с английского под редакцией
Дарьи Тимченко
издательство act
Москва
УДК 002
ББК 73
Г$4
This edition is published by arrangement with InkWell Management and Synopsis
Literary Agency
Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко
Глик, Джеймс
Г54 Информация. История. Теория. Поток / Джеймс Глик; пер. с английского
М. Кононенко. — Москва: ACT: CORPUS, 2013. — 576 с.
ISBN 978-5-17-080465-8
Писатель и популяризатор науки Джеймс Глик рассказывает о том, как наше отношение к инфор-
мации изменило саму природу человеческого сознания. Его книга “Информация” — увлекатель-
ное и напряженное путешествие по истории информации и связи от языка, на котором “говори-
ли” африканские барабаны, к изобретению алфавитов, от первых попыток кодирования к элек-
тронным письмам и блогам, от древних времен к современности. На этом пути его сопровожда-
ют Чарльз Бэббидж, Ада Лавлейс, Клод Шеннон и другие великие ученые. “Информация” была
признана лучшей научной книгой года по версии Los Angeles Times, получила множество призов
и стала международным бестселлером.
УДК 002
ББК 73
ISBN 978-5-17-080465-8
© James Gleick, 2011
© М. Кононенко, перевод на русский язык, 2013
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2013
© ООО “Издательство ACT”, 2013
Издательство CORPUS ®
СОДЕРЖАНИЕ
Пролог............................................11
Глава 1. Говорящие барабаны...............................21
Глава 2. Постоянство слова ...............................37
Глава 3. Два словаря......................................61
Глава 4. Перевести силу мысли в движение колес............90
Глава 5. Нервная система Земли...........................138
Глава 6. Новые провода, новая логика.....................181
Глава 7. Теория информации...............................219
Глава 8. Информационный поворот..........................250
Глава 9. Энтропия и ее демоны............................288
Глава ю. Собственный код жизни...........................308
Глава н. В мемофонд......................................332
Глава 12. Смысл случайности..............................347
5
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Глава 13. Информация как физическая величина ..........379
Глава 14. После потопа.................................399
Глава 15. Новости каждый день..........................425
Эпилог ........................................440
Благодарности .................................455
Примечания.....................................456
Библиография ..................................504
Указатель......................................534
Источники иллюстраций..........................575
Синтии
Так вот, на старых билетах не было написано ни куда
ты едешь, ни тем более откуда. Арчи не припоминал, чтобы
на них стояла дата. И время, уж конечно, тоже не было на них
проставлено. Само собой, тогда все было по-другому.
Столько информации. Арчи никак не мог понять зачем.
Зэди Смит, “Белые зубы”'
То, что мы называем прошлым, построено из битов.
Джон Арчибальд Уилер, 1990
Information, physics, quantum: The search fo r links
1 Пер. О. Качановой, M. Мельниченко.
ПРОЛОГ
Основная задача связи состоит в том, чтобы в одном месте
воспроизвести, точно или приблизительно, сообщение, отправленное
из другой точки. Часто сообщение имеет некое значение1.
Клод Шеннон (1948)
Потом, уже после 1948-го (а это был решающий год),
всем казалось, что, когда Клод Шеннон начинал рабо-
ту над своей теорией, он преследовал ясную и понятную
цель. Но это впечатление возникало лишь оттого, что ре-
зультат уже был известен. Сам Шеннон то, что с ним про-
исходило, описывал так: “Мой разум кипит, день и ночь я пытаюсь
осмыслить разные вещи. Я начинаю думать как какой-нибудь писа-
тель-фантаст: а что если все было бы действительно так”.
Так случилось, что 1948-й стал годом, когда Bell Telephone
Laboratories объявили об изобретении полупроводника — “удиви-
тельно простого устройства”, которое могло делать все то, что делала
вакуумная лампа, но более эффективно. Устройство было настолько
маленьким, что на ладони сотня полупроводников могла уместиться.
В мае ученые сформировали комиссию, чтобы придумать название
устройству. Комиссия разослала старшим инженерам Bell Telephone
Laboratories бюллетени для голосования, в которых перечислялись
варианты названия, в том числе полупроводниковый триод, иота-
1 Пер. С. Карпова. — Здесь и далее — прим, перев., если не указано иное.
11
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
трон, транзистор (transistor, производное от transconductance — ак-
тивная межэлектродная проводимость и varistor — переменный
резистор. — Прим. авт.). Победил транзистор. “Появление дан-
ного устройства может иметь значение для развития электроники
и электрической связи”, — заявили в пресс-релизе Bell Telephone
Laboratories, и в этом случае реальность превзошла ожидания. Бла-
годаря появлению транзистора в электронике произошла револю-
ция, позволившая технологии пойти по пути широкого распро-
странения уменьшившихся в размерах устройств, а трое главных
изобретателей вскоре получили Нобелевскую премию. В Лаборато-
рии по праву гордились транзистором, но на самом деле он оказал-
ся лишь вторым по важности изобретением того времени. Транзи-
стор в конце концов был только оборудованием.
Изобретение более значимое и фундаментальное появилось
в монографии, занимавшей в общей сложности семьдесят девять
страниц июльского и октябрьского номеров The Bell System Technical
Journal. Специального пресс-релиза к выходу монографии выпущено
не было. Статья называлась просто и величественно — “Математи-
ческая теория связи”, и ее смысл трудно изложить в двух словах. Она
стала осью, вокруг которой начал вращаться мир. Она, как и транзи-
стор, принесла с собой неологизм — слово “бит”, в данном случае
выбранное не комиссией, а самим автором, 32-летним Клодом Шен-
ноном. Сегодня бит стоит в одном ряду с дюймом, фунтом, квартой
и минутой, основными единицами измерения.
Но что измерялось битами? “Единица измерения информа-
ции” — так определил бит Шеннон. Как будто существовала такая
вещь, как измеримая и исчислимая информация.
Предполагалось, что Шеннон работал в группе математиче-
ских исследований в Bell Telephone Laboratories, но в действительно-
сти он скорее был сам по себе. Когда группа переехала из нью-йорк-
ской штаб-квартиры в новое сверкающее помещение в пригород,
в штат Нью-Джерси, он остался в маленьком чулане в старом здании
на Вест-стрит — 12-этажной громаде из песчаника, выходившей ин-
дустриальным задним фасадом на Гудзон, а передним смотревшей
на Гринвич-Виллидж. Шеннону не нравились ежедневные поездки
в пригород и обратно, он предпочитал центр, где были ночные клу-
бы, в которых он мог слушать выступления джазовых кларнетистов.
12
ПРОЛОГ
Он робко флиртовал с девушкой, занимавшейся ультракороткими
волнами в другой группе Bell Telephone Laboratories, через дорогу,
в двухэтажном здании бывшей фабрики Nabisco. Шеннона счита-
ли умным парнем. Только-только придя из Массачусетского техно-
логического института, он погрузился в военные проекты Лабора-
тории, сначала разрабатывал автоматическую систему управления
для зенитных орудий, а затем сосредоточился на теории шифрова-
ния сообщений, криптографии, и разработал математическое обос-
нование защиты X System — линии связи между Уинстоном Черчил-
лем и президентом Рузвельтом. Так что начальство решило оставить
его в покое, хотя не совсем понимало, над чем именно он работает.
В середине века AT&T не требовала от своего исследователь-
ского подразделения немедленных результатов. Она позволяла зани-
маться математикой или астрофизикой, даже если не предполагалось,
что у работ будет очевидное коммерческое применение. В любом
случае, очень многое в современной науке прямо или косвенно ста-
ло результатом деятельности этой монополистской компании, охва-
тывавшей множество областей. Однако, несмотря на столь широкие
интересы, основное направление деятельности телефонной компа-
нии в фокус исследований не попадало. К1948 году по проводам Bell
System протяженностью 138 млн миль и по 31 млн телефонных аппа-
ратов передавалось более 125 млн разговоров в день. Бюро перепи-
си зафиксировало эти факты в разделе “Связь в США”, но это были
грубые измерения. Бюро также насчитало несколько тысяч передаю-
щих радио- и несколько десятков телевизионных станций плюс га-
зеты, книги, брошюры и письма. Почта считала письма и посылки,
но что конкретно передавала Bell Systems и в каких единицах это из-
мерялось? Разумеется, не разговоры, не слова и, конечно, не симво-
лы. Может быть, просто электричество? Инженеры компании были
инженерами-электриками. Все понимали, что электричество служи-
ло суррогатом звука человеческого голоса, колебания воздуха попада-
ли в микрофон и превращались в электрические волны. Это превра-
щение и было причиной превосходства телефона над телеграфом —
предшествующей технологии, которая к тому времени уже казалась
устаревшей. Основой телеграфа являлись преобразования другого
рода — код из точек и тире, построенный не на звуках, а на алфавите,
который и сам в конечном счете был кодом. Присмотревшись, мож-
13
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
но было заметить цепочку, состоявшую из абстракций и преобразо-
ваний: точки и тире представляли буквы, буквы представляли звуки
и вместе формировали слова, слова представляли отражение смысла,
рассуждения о котором, пожалуй, лучше оставить философам.
В Bell System не было штатных философов, но в 1897 году ком-
пания наняла своего первого математика — уроженца Миннесоты
Джорджа Кэмпбелла, учившегося в Геттингене и Вене. Перед ним
сразу встала проблема передачи сигнала. По мере прохождения
по проводам сигнал искажался, и тем сильнее, чем больше расстоя-
ние. Решение Кэмбелла было частично математическим, частично
инженерно-электротехническим. Его работодатели научились не за-
думываться о различиях двух наук. Шеннон и сам, будучи студентом,
долго не мог выбрать, кем ему стать, инженером или математиком.
Для Bell Telephone Laboratories он волей-неволей был и тем и другим,
умел обращаться с реле и проводниками, но чувствовал себя по-на-
стоящему счастливым только в мире символических абстракций.
Большинство инженеров связи сосредоточились на физических за-
дачах: коэффициенты усиления, модуляции, фазовые искажения
и соотношения сигнал/шум. Шеннон предпочитал игры и загадки.
Коды зачаровывали его с тех пор, как мальчишкой он зачитывался
Эдгаром Алланом По. В первый год в МТИ в качестве ассистента он
работал на дифференциальном анализаторе Вэнивара Буша — сто-
тонном протокомпьютере, способном решать уравнения с помощью
огромных вращающихся шестеренок, осей и колес. В двадцать два
года Шеннон написал диссертацию, в которой применил логиче-
скую алгебру Джорджа Буля — идею родом из XIX века — к устрой-
ству электрических цепей. (Логика и электричество — занятная
комбинация.) Позже он работал с математиком и логиком Германом
Вейлом, который учил его: “Теории позволяют сознанию “прыгнуть
выше головы”, оставить позади то, что дано, представить непредста-
вимое как само собой разумеющееся с помощью символов”.
В 1943 году английский математик и криптоаналитик Алан Тью-
ринг посетил Bell Telephone Laboratories и как-то за обедом встре-
тил Шеннона. Они обменялись взглядами на будущее искусствен-
ных думающих машин. (“Шеннон хочет ввести в Мозг не только
данные, но и элементы культуры! — восклицал Тьюринг. — Он
хочет играть ему музыку!”) Шеннон общался и с Норбертом Ви-
14
ПРОЛОГ
нером, у которого учился в МТИ и который в 1948 году предла-
гал назвать новую дисциплину, науку о связи и управлении, ки-
бернетикой. Особенно сильно Шеннон заинтересовался телевизи-
онным сигналом, причем с необычной точки зрения — можно ли
каким-либо образом сжать его для увеличения скорости передачи.
Логика и электрические цепи пересеклись, чтобы произвести ги-
брид, то же произошло и с генами и кодами. Шеннон начал стро-
ить свою теорию информации, он продвигался в одиночку в поис-
ках системы, которая бы объединила все множество его идей.
В шумном сияющем пейзаже начала XX века материал для исследо-
вания был раскидан буквально повсюду: буквы и сообщения, звуки
и изображения, новости и инструкции, цифры и факты, сигналы
и знаки — сборная солянка из связанных между собой ингредиен-
тов. Все они перемещались — по почте, по проводам или с помо-
щью электромагнитных волн. Но не существовало слова, которым
можно было их обозначить. В 1939 году Шеннон писал Вэнивару
Бушу в МТИ: “Урывками я работал над анализом некоторых ос-
новных свойств систем передачи сообщений”. Сообщения — гиб-
кий и очень старый термин. “Теперь, — писал сэр Томас Элиот
в XVI веке, — для обоюдных договоренностей или соглашений,
переданных письмом или поручением, используют элегантное
слово”. Сегодня это слово приобрело другие значения. Некоторые
инженеры, особенно в телефонных лабораториях, начали говорить
об информации. Они использовали это слово так, как будто речь
шла о чем-то техническом: количество информации, мера инфор-
мации и т.д. Шеннон последовал их примеру.
Для научных целей информация должна была означать не-
что особенное. За три столетия до Шеннона новая наука, физика,
не смогла продвинуться вперед, пока Исаак Ньютон не дал старым
и расплывчатым словам — сила, масса, движение и даже время —
новые значения. Ньютон превратил эти термины в обозначение
количества, сделал возможным их применение в математических
формулах. До тех пор, например, движение было таким же раз-
мытым и общим термином, как информация. Для последователей
Аристотеля движение отвечало за широкий спектр разнообразных
15
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
процессов: созревание персика, падение камня, рост ребенка, раз-
ложение тела. Это было слишком общо. Прежде чем применение
законов Ньютона стало возможным, прежде чем научная револю-
ция смогла победить, от большей части разновидностей движения
пришлось отказаться. В XIX веке похожую трансформацию начал
переживать термин энергиях физики адаптировали слово, означав-
шее силу или интенсивность. Они математизировали его, отведя
энергии основополагающую роль в своей картине мира.
То же самое произошло с информацией. Появилась необходи-
мость в обряде очищения.
А затем, когда информацию упростили, очистили и начали исчис-
лять в битах, оказалось, что она повсюду. Теория Шеннона перекинула
мост между информацией и неопределенностью, между информаци-
ей и энтропией, между информацией и хаосом. Она привела к появ-
лению компакт-дисков и факсов, компьютеров и киберпространства,
закона Мура и всех Силиконовых долин мира. Появились обработ-
ка информации, ее хранение и извлечение. Люди начали искать имя
новой эпохе, преемнице века железа и пара. “И вновь появляется со-
биратель, только теперь не собиратель пищи, а собиратель информа-
ции”, — отметил Маршалл Маклюэн в 1967 году1, предвосхищая появ-
ление мира вычислительной техники и киберпространства.
Теперь мы понимаем, что информация — это то, что движет на-
шим миром, его кровь и горючее, его жизненное начало. Она красной
нитью проходит через все науки, влияет на каждый вид знаний. Тео-
рия информации начиналась как мост между математикой и электро-
техникой и дальше к вычислительным машинам. То, что на англий-
ском называли “вычислительной наукой”, на других европейских язы-
ках известно как informatique, informatics Informatik — информатика.
Сегодня даже биология стала наукой об информации, оперирующей
инструкциями и кодами. Гены содержат информацию, и они же пре-
доставляют способы ее считывания и передачи. Жизнь распространя-
ется по законам сети. Само тело — это информационный процессор.
Память находится не только в мозге, но и в каждой клетке. Неудиви-
тельно, что генетика расцвела одновременно с теорией информации.
1 И сухо добавил: “В этой роли электронный человек является не меньшим кочев-
ником, чем его палеолитические предки”. — Прим. авт.
16
ПРОЛОГ
ДНК — информационная молекула, самый совершенный процессор
обработки сообщений, находящийся на клеточном уровне, — алфа-
вит и код, 6 млрд бит информации для создания человеческого су-
щества. “Коренная сущность каждого живого существа — не пламя,
не теплое дыхание и не “искра жизни”, — заявляет ученый Ричард
Докинз, — но информация, слова, инструкции. Если вы хотите по-
нять сущность жизни, не размышляйте о вибрирующих и трепещу-
щих студнях и илах, а размышляйте об информационных технологи-
ях”1. Клетки организма — это узлы сложно переплетенной сети свя-
зи, передающие и получающие, кодирующие и расшифровывающие.
Сама эволюция включает в себя непрекращающийся обмен информа-
цией между организмом и окружающей средой.
“Информационный круговорот стал составной частью жизни, —
говорит Вернер Левенстайн, посвятивший тридцать лет изучению
межклеточных связей. Он напоминает, что теперь информация стала
более обширным понятием: — Она отсылает к космическому прин-
ципу организации и порядка и предоставляет способ его точного из-
мерения”. У гена есть и культурный аналог — мем. В эволюции куль-
туры мем воспроизводит и распространяет идею, моду, “письма сча-
стья” или теорию заговора. Иногда мем ведет себя как вирус.
Экономика считает себя информационной наукой — деньги
прошли эволюцию от материальных носителей к битам, когда они
хранятся в памяти компьютеров и на магнитных лентах, а миро-
вые финансы перемещаются по глобальной нервной системе. Даже
тогда, когда деньги были материальны — оттягивали карманы, за-
полняли корабельные трюмы и банковские сейфы, — они несли
информацию. Монеты и банкноты, шкурки, кусочки серебра и ра-
кушки представляли собой лишь недолговечные технологии, нуж-
ные для того, чтобы сообщить, кто чем владеет.
А атомы? У материи собственная валюта, и для самой сложной
из наук, физики, кажется, наступил срок платежа. Но новая модель
мышления повлияла и на физику. После Второй мировой войны,
во время расцвета физики, главной научной новостью было рас-
щепление атома и управление ядерной энергией. Физики напра-
вили основные силы и ресурсы на исследование элементарных ча-
1 Пер. А. Протопопова.
17
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
стиц и законов, управляющих их взаимодействием, на построение
гигантских ускорителей и открытия кварков и глюонов. Каза-
лось бы, теория связи слишком далека от этих возвышенных целей.
Шеннон в Bell Telephone Laboratories даже не думал о физике. А ис-
следователи элементарных частиц не нуждались в битах.
Но ситуация вдруг изменилась. Чем дальше, тем сильнее
сближались физики и те, кто занимался теорией информации.
Бит — элементарная частица иного типа, не просто крошечная,
но еще и абстрактная — двоичное число, переключатель “да/нет”.
Она иллюзорна, но по мере того, как ученые все точнее определя-
ли само понятие информации, они задавались вопросом, не пер-
вична ли она; возможно, она более фундаментальна, чем сама ма-
терия. Возникло предположение, что бит является минимальной
единицей и что в самой основе существования лежит информация.
Объединяя физику XX и XXI веков, Джон Арчибальд Уилер, по-
следний живой коллега1 и Эйнштейна, и Бора, выразил свой ма-
нифест тремя словами: “Все из бита”. Информация порождает
‘все сущее — каждую частицу, каждое силовое поле, даже сам про-
странственно-временной континуум”. Это еще один способ по-
стичь глубину парадокса наблюдателя: сам процесс наблюдения
влияет на результат эксперимента, даже определяет его. Наблюда-
тель не только наблюдает, он утверждает и задает вопросы, которые
должны быть представлены отдельными битами. “То, что мы назы-
ваем реальностью, — скромно писал Уилер, — вырастает в конеч-
ном счете из постановки “да/нет”. — И добавлял: — Все физиче-
ские сущности в своей основе являются информационно-теорети-
ческими, Вселенной для своего бытия необходимо наше участие”.
Вселенная, таким образом, рассматривается как компьютер — кос-
мическая машина для обработки информации.
Ключом к тайне является тип взаимодействия, которому нет
места в классической физике, — феномен, известный как запутан-
ность. Когда частицы или квантовые системы запутанны, их свой-
ства остаются связанными через время и расстояние. Даже будучи
разнесенными на световые годы, они сохраняют нечто общее в фи-
зическом смысле, но не только. Возникают пугающие парадоксы,
1 Джон Арчибальд Уилер умер 12 апреля 2008 года в возрасте девяноста шести лет.
18
ПРОЛОГ
объяснение которым можно найти, лишь поняв, каким образом за-
путанность кодирует информацию, измеряемую в битах или куби-
тах, их квантовых собратьях. Что на самом деле происходит, когда
взаимодействуют фотоны, электроны и другие частицы? Обмен
битами, передача квантовых состояний, обработка информации.
Законы физики — это алгоритмы. Каждая горящая звезда, каждая
туманность, каждая частица, оставляющая призрачный след в диф-
фузионной камере, есть информационный процессор. Вселенная
вычисляет собственную судьбу.
Сколько же она просчитывает? Как быстро? Насколько вели-
ка ее общая информационная емкость, ее объем памяти? Какова
связь между энергией и информацией, каковы затраты энергии
на переключение битов? Это сложные вопросы, но на самом деле
не такие уж мистические или метафорические, как может показать-
ся. Физики и ученые, которые занимаются новым направлением,
теорией квантовой информации, пытаются найти ответы. Они де-
лают расчеты и получают предварительные результаты. (Согласно
Уилеру, “во вселенной, сколько ни считай, десять в очень большой
степени бит”. Согласно Сету Ллойду, “не более ю120 операций
над ю90 бит”.) Они заново пытаются разгадать тайны термодина-
мической энтропии и знаменитых поглотителей информации —
черных дыр. “Завтра, — объявил Уилер, — нам придется научиться
понимать и выражать всю физику на языке информации”.
По мере неожиданного роста роли информации ее самой ста-
ло слишком много. У нас появились информационная усталость,
перевозбуждение, пресыщение. Мы встретились с дьяволом ин-
формационной перегрузки и его злыми приспешниками — ком-
пьютерными вирусами, сигналами занятой линии, “упавшими” се-
тевыми соединениями и презентациями PowerPoint. И это тоже
косвенным образом заслуга Шеннона. Все изменилось слишком
быстро. Джон Робертсон Пирс (инженер Bell Telephone Laboratories,
придумавший слово “транзистор”) писал: “Трудно представить
мир до Шеннона таким, каким его видели жившие тогда. Трудно
вернуть невинность, невежество и отсутствие понимания”.
Тем не менее прошлое снова привлекает внимание. Как сказано
в Евангелии от Иоанна, “в начале было Слово”. Мы — вид, назвав-
ший себя homo sapiens, человек разумный, а затем, подумав, допол-
19
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
нивший название до homo sapiens sapiens. На самом деле величайшим
даром Прометея человечеству был не огонь: “Премудрость чисел,
из наук главнейшую, я для людей измыслил и сложенья букв, мать
всех искусств, основу всякой памяти”1. Алфавит был базовой техно-
логией информации. Телефон, факс, калькулятор и в конечном ито-
ге компьютер — всего лишь последние изобретения, которые нужны
для хранения, использования и передачи знаний. Наша культура вы-
делила специальный рабочий словарь для этих полезных изобрете-
ний. Мы говорим о сжатии данных, понимая, что это совсем не то же
самое, что сжатие газа. Мы знаем о потоке информации, о ее анализе,
сортировке, поиске соответствия и фильтрации. Среди того, что нас
окружает, — айподы и плазменные дисплеи, а среди наших навы-
ков — поиск в Google и написание SMS\ мы обеспечены информаци-
ей, мы эксперты и понимаем, что информация играет ведущую роль.
Но ведь так было не всегда. Информация наполняла собой и мир на-
ших предков, принимая различные формы — от твердого вещества
до эфемерной сущности, от гранитных надгробий до шепота при-
дворных. Перфокарта, кассовый аппарат, дифференциальная маши-
на XIX века, телеграфные провода — все сыграло свою роль в созда-
нии информационной паутины, в которой мы запутались. Каждая
новая информационная технология в свое время приводила к рас-
пространению и совершенствованию устройств, предназначенных
для ее хранения и передачи. После изобретения печатного станка по-
явились новые способы организации информации: словари, энци-
клопедии, альманахи — толкования, классификаторы, древо позна-
ния. Вряд ли какая-либо информационная технология устаревает.
Каждая новая возрождает предыдущую. В XVII веке Томас Гоббс от-
рицал расцвет новой информационной среды: “Изобретение печати
пусть и гениально, но по сравнению с изобретением букв ничтожно”.
В определенном смысле он был прав. Каждый новый носитель пре-
образует природу человеческого мышления. В длительной перспек-
тиве история — это история информации, познающей саму себя.
Некоторые информационные технологии были в свое время
оценены, некоторые нет. Одной из таких непонятых технологий
был африканский говорящий барабан.
1
Пер. С. Апта.
1
ГОВОРЯЩИЕ БАРАБАНЫ
Когда код не является кодом
Над Черным континентом звучат неумолкающие барабаны. Основа
всей музыки, центр каждого танца — говорящие барабаны, беспроводная
связь диких джунглей.
Ирма Вассал (1943)
Язык барабанов не был легким и схематичным. Даже такая,
казалось бы, простая фраза, как “возвращайся домой”, зву-
чала так:
Заставь свои стопы идти назад путем, который они прошли.
Заставь свои ноги идти назад путем, который они прошли.
Направь свои стопы и ноги в деревню, принадлежащую нам.
Люди, говорившие на этом языке, не могли просто сказать: “Мерт-
вое тело”, они обязательно дополняли: “Лежащее на спине на комь-
ях земли”. Вместо “не бойся” они говорили: “Верни свое сердце
на место изо рта, свое сердце из своего рта верни на место”. На-
стоящий фонтан красноречия. Совсем не похоже на эффективный
способ передачи информации. Что это — напыщенность, высоко-
парность? Или все же что-то другое?
Европейцы в Африке к югу от Сахары долгое время
ни о чем не догадывались. Они даже не представляли, что с помо-
щью барабанов люди обмениваются информацией. В их собствен-
ных культурах барабан, а также рог и колокол могли служить сигналь-
21
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ными инструментами для передачи ограниченного набора сообще-
ний: “В атаку!”, “Отступаем!”, “Придите в церковь”, — и то лишь
в особых случаях. Но европейцы и подумать не могли о том, что ба-
рабаны способны разговаривать. В 1730 году Фрэнсис Мур проплыл
на восток по реке Гамбия, нашел ее пригодной для навигации на про-
тяжении боо миль и всю дорогу восхищался красотой местности и та-
кими удивительными чудесами, как “устрицы, растущие на деревьях”
(так он называл мангровые деревья). Мур не был натуралистом. Он
проводил разведку для английских работорговцев в странах, населен-
ных, насколько он понял, разными народами со смуглой или черной
кожей, такими как “мандинка, волоф, фула, фелупы и португальцы”.
Когда он встретил группу мужчин и женщин, несущих сужающие-
ся книзу вырезанные из дерева барабаны в ярд длиной, он заметил,
что женщины танцевали под их быструю музыку, что иногда в бара-
баны “стучали при приближении врага” и, наконец, что “в чрезвы-
чайных обстоятельствах” с помощью барабанов вызывали помощь
из близлежащих городов. Вот и все, что он заметил.
Веком позже капитану Уильяму Аллену во время экспедиции
по Нигеру1 удалось сделать открытие. Да и то лишь благодаря тому,
что он внимательно наблюдал за своим камерунским проводником,
которого называл Глазго. Аллен с проводником находились в каю-
те колесного парохода, когда, по словам капитана,
Глазго неожиданно стал совершенно отстраненным, как будто при-
слушивался к чему-то. Получив замечание за невнимательность, он
сказал: “Разве ты не слышал, что мой сын говорил со мной?” Так
как мы не слышали голосов, его спросили, что он имеет в виду. Он
ответил: “Барабан сказал мне, сказал, чтобы я поднялся на палубу”.
Это было очень странно.
Скептицизм капитана уступил место удивлению, когда Глазго убе-
дил Аллена, что в каждой деревне есть “центр музыкальной коррес-
понденции”. В это было сложно поверить, но в конце концов капи-
тану пришлось признать тот факт, что подробные сообщения, со-
1 Путешествие спонсировалось Обществом за искоренение работорговли и аф-
риканскую цивилизацию. — Прим. авт.
22
ГЛАВА 1 ГОВОРЯЩИЕ БАРАБАНЫ
стоящие из большого количества фраз, могут передаваться на мили
вокруг. “Мы удивляемся тому, — писал он, — что военные так точно
понимают сигналы горна во время маневров, но эти необразован-
ные дикари — они во много раз превзошли нас”. У них получилось
создать технологию, которую долго пытались придумать в Европе:
технологию коммуникации на расстоянии, передачи информации
со скоростью большей, чем у любого гонца, пешего или конного.
Ночью в безветренную погоду над рекой барабанная дробь разно-
сится на 6 или 7 миль вокруг. Всего за час барабанные послания, пе-
редающиеся от деревни к деревне, могут преодолеть сотню миль.
Сообщение о том, что в Боленге, деревне в бельгийском Кон-
го, родился человек, звучало так:
Batoko fala fala, tokema bolo bolo, boseka woliana imaki tonkilingonda,
ale nda bobila wa foie foie, asokoka Гisika koke koke.
Циновки свернуты, мы чувствуем себя сильными, женщина вышла
из леса, она в деревне, и пока хватит.
А миссионер Роджер Т. Кларк записал призыв на похороны рыбака:
La nkesa laa mpombolo, tofolange benteke biesala, tolanga bonteke
bolokolo bole nda elinga I'enjale baenga, basaki I’okala bopele pele.
Bojende bosalaki lifeta Bolenge wa kala kala, tekendake tonkilingonda,
tekendake beningo la nkaka elinga Venjale. Tolanga bonteke bolokolo bole
nda elinga Гenjale, la nkesa la mpombolo.
Утром на рассвете мы не хотим собираться на работу, мы хотим
встретиться для игры на реке. Мужчины из Боленге, не ходите в лес,
не ходите рыбачить. Мы хотим собраться у реки для игры утром
на рассвете.
Кларк отметил несколько фактов. Несмотря на то что лишь неко-
торые члены племени специально учились переговариваться с по-
мощью барабанов, практически каждый понимал барабанные сооб-
щения. Кто-то барабанил быстро, кто-то медленно. Определенные
фразы повторялись снова и снова, практически не меняясь, однако
23
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
разные барабанщики могли посылать одно и то же сообщение раз-
ными “словами”. Кларк решил, что язык барабанов был одновре-
менно клишированным и гибким. “Каждый сигнал — часть ша-
блонной фразы традиционного и очень поэтичного характера”, —
заключил он и был прав, несмотря на то что так и не смог до конца
понять это явление.
Европейцы говорили о “туземном разуме” и описывали аф-
риканцев как “примитивных” и “анимистических”, и тем не ме-
нее им пришлось признать, что те добились воплощения в жизнь
с древних времен существовавшей среди людей мечты. Они со-
здали систему передачи сообщений, работавшую быстрее лучших
курьеров, быстрее системы хороших дорог с почтовыми стан-
циями, чтобы сменить лошадей. Люди уже давно были недоволь-
ны системами передачи сообщений, ограниченными скоростью
передвижения человека по земле. Армии оказывались быстрее.
По воспоминаниям Светония, дошедшим из I века, Юлий Цезарь,
например, “часто появлялся раньше гонцов, посланных сообщить
о его прибытии”. Но и в древние времена были свои способы бы-
строй коммуникации на расстоянии. Во время Троянской войны
в XII веке до н. э., по свидетельствам Гомера, Вергилия и Эсхи-
ла, греки использовали сигнальные огни. Костер на вершине горы
был виден с наблюдательных вышек на ю миль, а иногда и даль-
ше. По версии Эсхила, Клитемнестра получила известие о паде-
нии Трои в ту же ночь, находясь за 400 миль, в Микене. “Какой же
вестник мчался так стремительно?”1 — скептически вопрошал хор
в “Агамемноне”.
Клитемнестра благодарит Гефеста, бога огня: “Гефест, послав-
ший с Иды вестовой огонь. Огонь огню, костер костру известие
передавал”. Надо было убедить слушателя, что это немалое до-
стижение, и Клитемнестра несколько минут подробно описывает
маршрут: пылающий сигнал поднялся над горой Ида, его увиде-
ли через Эгейское море на острове Лемнос, потом на горе Афон
в Македонии, затем он был отправлен на юг через долины и озе-
ра в Макист, потом в Мессапы, где дозорный в волнах Эврипа ви-
дел отраженное “зарево. Спешат и эти передать известие: / Су-
1
Здесь и далее — пер. С. Апта.
24
ГЛАВА 1 ГОВОРЯЩИЕ БАРАБАНЫ
хой сгребают вереск, поджигают стог, / Как лунный блеск, лучи
костра летучие, / Не угасая, мчатся над равниною”, потом были
Киферон, Эгипланкт и дозорный на горе в ее собственном горо-
де Арахна. “Так для меня в соревнованье факельном / Сменялись
бегуны”, — хвастается Клитемнестра. Немецкий историк Рихард
Хенниг в 1908 году проследил и измерил маршрут и подтвердил
возможность существования такой цепи сигнальных огней. Ко-
нечно, смысл сообщения должен был быть оговорен заранее, фак-
тически сжавшись до одного информационного бита. Это был би-
нарный код, выбор из двух вариантов: что-то или ничего. Сигнал
огнем означал что-тоу и в тот раз он значил — “Троя пала”. Что-
бы передать этот единственный бит информации, потребовалось
проделать огромную работу: планирование, дежурство и смена до-
зорных, сбор и доставка горючих материалов. Много лет спустя
светильники старой Северной церкви точно так же послали Полу
Ревиру1 бесценный бит информации, который он передал даль-
ше, — единственный вариант из двух: сушей или морем.
Менее экстраординарные и однозначные случаи требовали
большего количества разнообразных ресурсов. Люди испробовали
флаги, горны, прерывающийся сигнал дымового столба и зеркаль-
ные отражения. Они пытались вызывать духов и ангелов, ведь анге-
лы по определению были божественными посланниками. Большие
надежды были связаны с открытием магнетизма. В мире, уже на-
полненном магией, магниты стали воплощением оккультных сил.
Магнитный железняк притягивает железо. Магнитные волны не-
видимы и проходят через воздух, воду и даже твердые тела. Маг-
нитным железняком, приложенным к стене, можно двигать кусок
железа, который находится с другой стороны. Но больше всего по-
ражало, что магнитные силы способны влиять на поведение объек-
тов, находящихся на огромном расстоянии, на другом краю Земли,
а именно на стрелку компаса. А что если одна стрелка может кон-
тролировать другую? Эта идея, которую Томас Браун в 1640-х го-
дах назвал “тщеславным прожектом”,
1 Пол Ревир (1734-1818) — американский национальный герой, ремесленник, се-
ребряных дел мастер. В 1775 году, во время Американской революции, он успел
предупредить повстанцев о приближении британских войск. Ему было посвя-
щено произведение Генри Лонгфелло “Скачка Пола Ревира”.
25
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
распространилась по миру и привлекла некоторое внимание, лег-
коверные и простолюдины охотно ее принимают, и даже здраво-
мыслящие и разборчивые умы не полностью отвергают ее. Этот
тщеславный прожект великолепен, а уж если окажется, что он
еще и работает, тогда он и вовсе сродни божественному. С его по-
мощью мы сможем общаться как духи и, будучи на Земле, перего-
вариваться с Мениппом, находящимся на Луне.
Идея “взаимодействующих”, или “симпатических”, стрелок мель-
кала везде, где появлялись алхимики и мошенники. В Италии один
человек попытался продать Галилею “секретный метод связи с че-
ловеком, находящимся за две-три тысячи километров, основанный
на определенном взаимодействии магнитных стрелок”.
Я сказал ему, что с радостью куплю, но хотел бы сначала увидеть
экспериментальное доказательство и что меня вполне устроит,
если он будет в одной комнате, а я в другой. Он ответил, что стрел-
ки не действуют на таком небольшом расстоянии. Я отправил его
восвояси и заметил, что не в настроении ехать в Каир или в Моско-
вию ради эксперимента, но, если он настаивает, я с радостью оста-
нусь в Венеции и позабочусь об этом конце линии.
Идея состояла в том, что пара намагниченных стрелок — “тро-
нутых одним куском магнитного железняка”, как выразился Бра-
ун, — будут “взаимодействовать” друг с другом даже на расстоя-
нии. Можно назвать это “сцеплением”. Посылающий и прини-
мающий сообщение должны были взять по стрелке и согласовать
время связи. Затем в определенный день и час поместить стрелки
на диски, вдоль краев которых написаны буквы алфавита. Посы-
лающий набирал бы сообщение по буквам, поворачивая стрелку.
“И тогда, как говорят, если передвигается одна стрелка, то где бы
ни находилась другая, она чудесным образом точно так же повора-
чивается и указывает на нужную букву”, — объясняет Браун. Од-
нако в отличие от большинства людей, лишь рассуждавших на тему
“симпатических” стрелок, Браун действительно провел экспери-
мент. И тот провалился. Когда Браун поворачивал одну стрелку,
вторая оставалась в покое.
26
ГЛАВА 1 ГОВОРЯЩИЕ БАРАБАНЫ
Но Браун не поставил крест на самой идее и не исключал,
что когда-нибудь будет найден способ использования мистической
силы магнитных полей для коммуникации. И указал на существо-
вание необходимого условия для такого общения. Браун предпо-
ложил, что, даже если магнитная связь на расстоянии будет уста-
новлена, посылающему сообщение и принимающему его придет-
ся столкнуться с проблемой синхронизации действий во времени:
это не простая проблема календаря, но математическая проблема —
установить разницу во времени, — и она еще не решена мудрей-
шими из нас. Разница во времени в разных местах на земле связана
с долготой, которая пока точно не определена для всех мест.
Провидческая мысль была абсолютно теоретической, и возник-
новение ее связано с астрономическими и географическими от-
крытиями XVII века. Это была первая трещина в непоколебимом
до того представлении о единстве времени на Земле. Впрочем,
как отмечал Браун, эксперты, обсуждая данное явление, расходи-
лись во мнениях. Пройдет два века, прежде чем скорость путе-
шественников настолько увеличится, а возможности коммуника-
ции настолько расширятся, что люди смогут сами убедиться в су-
ществовании разницы во времени. Но пока никто в мире не мог
передавать сообщения так быстро и на такие большие расстояния,
как бесписьменные африканцы с их барабанами.
К тому моменту, когда в 1841 году капитан Аллен узнал о существо-
вании говорящих барабанов, Сэмюэл Ф. Б. Морзе уже разрабаты-
вал собственный ударный код — электромагнитный барабанный
бой, пульсирующий по телеграфным линиям. Изобретение тако-
го кода было сопряжено с большим количеством разнообразных
проблем, требующих решения. По первоначальной задумке Морзе,
это был даже не код, а “система букв, обозначаемых последователь-
ностью ударов или замыканий гальванической цепи”. В истории
изобретательства таких прецедентов практически не встречалось.
Вопрос, как преобразовать форму, в которую облечена информа-
ция, т. е. повседневный язык, в другую, подходящую для передачи
27
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
по проводам, занимал Морзе сильнее, чем механические проблемы
телеграфа. История справедливо назвала в его честь именно изо-
бретенную им азбуку, а не само устройство.
К услугам Морзе была технология, которая, казалось, способ-
на предложить лишь грубые импульсы тока, вкл/выкл. Как передать
слова с помощью щелканья электромагнитного ключа? Первой его
идеей было посылать числа знак за знаком с помощью точек и пауз.
Последовательность ••• •• ••••• означала бы 325. Каждому ан-
глийскому слову в таком случае приписывалось бы числовое зна-
чение, которое телеграфисты должны были искать в специальном
словаре. Морзе даже начал составлять словарь, потратив много часов
на запись придуманных им соответствий на огромных листах1. Он
запатентовал идею в своем первом патенте телеграфа в 1840 году:
Словарь состоит из слов, отсортированных по алфавиту и прону-
мерованных по буквам алфавита таким образом, что каждое слово
языка имеет свой телеграфный номер и легко обозначается число-
выми знаками.
Стремясь к эффективности, Морзе оценивал возможности своего
изобретения в нескольких плоскостях. Передача как таковая тре-
бовала затрат: провода были дорогими и могли передавать лишь
ограниченное количество импульсов в минуту. Передавать числа
было относительно просто. Но в данном случае телеграфисты тра-
тили бы гораздо больше времени и сил на дешифровку. Идея книг
кодов, то есть таблиц соответствия, все же была признана перспек-
тивной и впоследствии использована при разработке других ком-
муникационных технологий. Так, оказалось, что этот способ эф-
фективен для передачи телеграфных сообщений на китайском язы-
ке. Но, создавая англоязычный телеграф, Морзе решил, что поиск
соответствия каждому слову в словаре слишком трудоемок.
Тем временем его ученик Альфред Вейл разрабатывал про-
стой телеграфный ключ, с помощью которого оператор мог бы-
1 “Впрочем, даже очень непродолжительный опыт использования алфавитного
подхода показал его превосходство над числовым, — писал он позже, — боль-
шие листы числового словаря, стоившие мне огромных трудов... были выбро-
шены, а вместо них появились алфавитные”. — Прим. авт.
28
ГЛАВА 1 ГОВОРЯЩИЕ БАРАБАНЫ
стро замыкать и размыкать электрическую цепь. Вейл и Морзе при-
нялись за создание кодированного алфавита — каждое слово пе-
редается по буквам, а буквы заменяются сигналами. В конечном
итоге простые знаки должны были заменить все, что люди спо-
собны сказать и написать. Необходимо было передать все богат-
ство языка, и единственное, что могли использовать исследовате-
ли, — электромагнитные импульсы. Сначала ученые придумали
систему, построенную на двух элементах: короткое нажатие ключа
или “щелчок” (теперь его называют “точкой”) и пауза. По мере ра-
боты с прототипом клавиатуры они решили ввести третий знак —
линию или тире, “когда цепь замкнута дольше, чем необходимо
для передачи точки”. (Все знают, что в алфавите Морзе два знака,
точка и тире, но нужно понимать, что такое же важное значение
имела и пауза. Код Морзе не был двоичным языком1.) То, что че-
ловек может выучить этот новый язык, поначалу казалось чудом.
Ведь прежде необходимо было в совершенстве освоить кодировку,
а потом бесконечно заниматься двойным переводом — слов в зна-
ки и мыслей в действие пальцев. Один из очевидцев был поражен
тем, каких высот мастерства достигли телеграфисты:
Дежурные у аппарата, принимающего сообщения, так освоили эти
занятные иероглифы, что даже не смотрят на ленту, на которой за-
писывается сообщение. Аппарат говорит с ними на внятном и по-
нятном им языке. Они понимают его. Они могут закрыть глаза, по-
слушать странные щелчки и тут же сказать, что те означают.
Морзе и Вейл решили, что для увеличения скорости работы часто
употребляющиеся буквы нужно обозначить более короткими по-
следовательностями точек и тире. Но какие буквы используются
чаще других? В те времена о частоте употребления букв алфави-
та знали мало, и статистики у исследователей не было. Вейлу при-
шла в голову блестящая идея отправиться в редакцию местной га-
зеты в Морристауне, Нью-Джерси, и заглянуть в наборные ящики.
Он обнаружил запас из 12 тыс. £, 9 тыс. Т и всего лишь 200 Z. Вме-
1 Очень скоро операторы стали делать паузы разной продолжительности — меж-
буквенные и междусловные, то есть код Морзе на самом деле включал в себя
четыре знака. — Прим. авт.
29
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
сте с Морзе они проверили весь алфавит. Первоначально Т, вто-
рой по частоте использования букве, в азбуке соответствовало со-
четание “тире-тире-точка”, теперь же они обозначили ее просто
как “тире”, сэкономив операторам-телеграфистам миллиарды на-
жатий ключа. Гораздо позже ученые, занимающиеся исследова-
ниями в области теории информации, подсчитали, что благодаря
организации алфавита с учетом частотности букв Морзе и Вейл
смогли увеличить эффективность передачи текста на английском
языке на 15 %.
Ничего подобного — ни научных данных, ни практических со-
ображений, — не учитывалось при создании языка барабанов.
Тем не менее и здесь пришлось решать задачу, аналогичную той,
что возникла при разработке кода для телеграфистов: как передать
язык с помощью потока простых однотипных звуков. Эта задача
была решена коллективными усилиями поколений барабанщи-
ков в ходе многовекового процесса эволюции общества. К началу
XX века европейцы, занимавшиеся исследованием Африканского
континента, стали сравнивать язык барабанов и телеграфный код.
“Всего несколько дней назад я прочел в Times, — писал в своем от-
чете Королевскому африканскому обществу в Лондоне капитан
Роберт Сазерленд Рэттри, — как местный житель в одной части
Африки узнал о смерти европейского ребенка в другой, далекой
части континента и как эта новость была передана с помощью ба-
рабанов, использовавшихся, как утверждалось, “по принципу Мор-
зе”, — вечно они говорят про этот “принцип Морзе”.
Очевидная аналогия лишь сбивала с толку. Европейцы не мог-
ли расшифровать барабанный код, потому что фактически никако-
го кода не было. За основу своей системы Морзе взял алфавит, ко-
торый стал промежуточным звеном между речью и кодом. Точки
и тире не были непосредственно связаны со звуками, они заменя-
ли буквы, из которых состояли письменные слова, представлявшие
в свою очередь слова сказанные. У барабанщиков не было такого
промежуточного звена — они не могли строить систему на уров-
не символов, потому что африканские языки, как и почти 6 тыс.
остальных языков, на которых говорят в современном мире (за ис-
30
ГЛАВА 1 ГОВОРЯЩИЕ БАРАБАНЫ
ключением нескольких десятков), не имеют алфавита. Барабаны
преобразовывали устную речь.
Это открытие сделал Джон Ф. Каррингтон. Он родился
в 1914 году в Нортхемптоншире, в возрасте двадцати четырех лет
уехал миссионером в Африку и прожил там до конца жизни. Ба-
рабаны привлекли его внимание, когда он отправился из бап-
тистской миссии, расположенной в Якусу, в верховья Конго че-
рез деревни леса Бамболе. Однажды Каррингтон, никого не пред-
упредив, поехал в маленький городок Яонгама и был удивлен,
обнаружив учителя, фельдшера и прихожан церкви, уже ожидав-
ших его прибытия. Мы слышали барабаны, объяснили те. Со вре-
менем Каррингтон узнал, что барабаны передавали не только объ-
явления и предупреждения, но и молитвы, стихи и даже шутки. Ба-
рабанщики не сигнализировали, а разговаривали: они говорили
на особом, адаптированном языке.
Позже Каррингтон сам научился “играть” на барабане. В ос-
новном он барабанил на келе — одном из языков банту, распростра-
ненном на территории современного восточного Заира. “На самом
деле он совсем не европеец, несмотря на его цвет кожи, — сказал
о Каррингтоне один из жителей деревни Локеле. — Когда-то он
жил в нашей дереве, был одним из нас. После его смерти духи
по ошибке послали его далеко в деревню белых, чтобы переселить
в тело ребенка, рожденного белой женщиной, а не в тело одного
из наших младенцев. Но он один из нас и не смог забыть, откуда
пришел, поэтому вернулся. Если он так стучит по барабанам не так
ловко, как мы, то это только из-за плохого образования, которое
дали ему белые”. Каррингтон прожил в Африке четыре десятиле-
тия. Он сделал много открытий в ботанике, антропологии и преж-
де всего в лингвистике, создав классификацию, в которую вошли
тысячи диалектов и несколько сотен различных языков Африки.
И он заметил, что хороший барабанщик должен быть очень крас-
норечивым. В 1949 году Каррингтон наконец опубликовал свои
наблюдения о языке барабанов в небольшой книге, озаглавленной
‘Говорящие барабаны Африки” (The Talking Drums of Africa).
Решая загадку барабанов, Каррингтон сделал открытие в иссле-
довании соответствующих африканских языков. Это тоновые язы-
ки, и тональный контур (восходящий или нисходящий) в них вы-
31
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
полняет ту же смыслоразличительную функцию, что и, например,
“гласный” или “согласный” признак звука. Этой особенности лише-
но большинство индоевропейских языков, в том числе английский,
в котором тон используется лишь в синтаксических целях: например,
чтобы отличать вопросительное предложение (“Вы счастливы X)
от утвердительного (“Вы счастливый”). Но в других языках, в том
числе в наиболее изученных мандаринском и кантонском, тон не-
сет важнейшую смыслоразличительную функцию. Так же проис-
ходит и в большинстве африканских языков. Даже когда европей-
цы учились говорить на этих языках, они обычно не уделяли долж-
ного внимания тональному рисунку, потому что им это попросту
не приходило в голову. Когда они транслитерировали услышанные
слова с помощью латинского алфавита, они полностью игнориро-
вали тоны. Фактически они были дальтониками.
Три разных слова языка келе транслитерированы европей-
цами как lisaka. Слова различаются только тональным рисунком.
Так, lisaka с тремя слогами с низким тоном означает “лужа”, lisa^*
с последним слогом с восходящим тоном (не обязательно удар-
ным) означает “обещание”, a \paka — “яд”. Li^la означает “неве-
ста”, a liala — “мусорная яма”. В обычной латинской транскрип-
ции эти слова кажутся омонимами, но ими не являются. После того
как Каррингтон наконец понял, в чем дело, он написал: “Я, должно
быть, очень часто говорил глупости, прося мальчика “грести за кни-
гой” или “удить, что его друг идет”. Для европейца эти слова ни-
чем не различались. Каррингтон заметил, что такая путаница может
иметь комический эффект:
alambaka boili [_ _ —_] = он смотрел на берег реки;
alambaka boili [---- “ = он сварил свою тещу.
С конца XIX века лингвисты определяют фонему как минималь-
ную звуковую единицу, служащую для различения значений слов.
Английское слово chuck состоит из трех фонем: различные слова
могут быть получены заменой ch на d, и на е или ck на т. Это удоб-
ный, но несовершенный подход: лингвисты обнаружили, что чрез-
вычайно трудно прийти к единому мнению о точном количестве
фонем в английском или любом другом языке (большинство ис-
32
ГЛАВА 1 ГОВОРЯЩИЕ БАРАБАНЫ
следователей считают, что в английском их примерно сорок пять).
Проблема в том, что поток речи непрерывен. Лингвисты мо-
гут условно разбить его на отдельные единицы, но каждый чело-
век в зависимости от контекста способен вкладывать в них разные
значения. Зачастую представление людей о фонемах основывает-
ся на знании алфавита, в котором буквы, иногда довольно условно,
соответствуют звукам. Большинство говорящих, выделяя фонемы,
инстинктивно опираются на знание алфавита, который кодирует
язык собственными, иногда произвольными способами. В любом
случае тоновые языки с дополнительным количеством переменных
содержат намного больше фонем, чем поначалу казалось неиску-
шенным лингвистам.
В языках Африки тональности отводится решающая роль,
что не могло не повлиять на становление языка барабанов, кото-
рый задействовал тон и только тон. Это был язык всего с одной
парой фонем, основанный целиком и полностью на тонах. Бара-
баны отличаются друг от друга материалом и способом изготовле-
ния. Одни, слит-барабаны, — это полое дерево падук с продольной
щелью, причем стороны этой щели, их еще называют “губами”, де-
лают разной толщины, чтобы получался и высокий и низкий тон.
У других барабанов сверху была натянута кожа, и использовались
они в паре. Главное, чтобы барабаны давали две различные ноты
с интервалом, примерно равным большой терции.
При трансформации устной речи в язык барабанов терялась
часть данных. Барабанная речь оказалась довольно скудной. В каж-
дой деревне и каждом племени для перевода слова на язык барабанов
приходилось выбрасывать из него гласные и согласные звуки. Это
большая потеря. То, что остается от информационного потока, неиз-
бежно оказывается неоднозначным. Двойной удар на высокой ноте
[—] совпадает с тональным рисунком слова sango — “отец” на келе,
но также он может означать songe — луна, koko — курица, fele — раз-
новидность рыбы и любое другое слово, состоящее из слогов двух
высоких тонов. Даже в таком бедном словаре, как словарь миссио-
неров, составленный в Якусу, было 130 слов с этим тональным ри-
сунком. Как различить слова, настолько сокращенные и лишенные
звукового богатства? Частично это можно сделать с помощью ритма,
но он не способен полностью компенсировать отсутствие соглас-
33
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ных и гласных. Каррингтон обнаружил, что барабанщик всегда до-
бавляет “небольшое выражение” к каждому короткому слову. Songe,
“луна”, передается как songe li tange la manga — “луна, смотрящая вниз
на землю”. Koko, “курица”, как koko olonga la bakiokio — “курица, ко-
торая говорит “ко-ко”. Оказалось, что дополнительные удары бара-
бана — это не избыточная информация, они обеспечивают контекст.
Каждое выстукиваемое слово неоднозначно, оно обладает множе-
ством смысловых вариантов, но с появлением контекста неумест-
ные интерпретации исчезают. Это происходит на подсознательном
уровне. За стаккато барабанных тонов, высоких и низких, человек
“слышит” опущенные согласные и гласные. Можно сказать, что он
слышит целые фразы, а не отдельные слова. “Среди людей, незнако-
мых с письменностью или грамматикой, само по себе слово, вырван-
ное из контекста, практически перестает быть осмысленным звуко-
сочетанием”, — писал капитан Рэттри.
Так называемые длинные хвосты побеждают неоднозначность
избыточностью высказывания. Язык барабанов изобретателен, он
спокойно создает неологизмы для новых явлений с севера — паро-
ходы, сигареты и христианский Бог, единый в трех лицах, что было
отдельно отмечено Каррингтоном. При этом барабанщики начи-
нают свое обучение с освоения традиционных формул, которые за-
частую содержат архаичные слова, забытые в повседневной речи.
Для яунде слон всегда “великий неуклюжий”. Здесь мы наблюда-
ем сходство с формулами Гомера — не просто Зевс, но Зевс-гро-
мовержец, не просто море, но винноцветное море, и это сходство
не случайно. В устной культуре вдохновение прежде всего обязано
служить точности передачи и памяти. Музы — дочери Мнемозины.
Ни в английском, ни в келе еще не было слов, чтобы сказать: пре-
доставление дополнительных битов для снятия многозначности
и коррекции ошибок. Тем не менее именно этим занимался язык ба-
рабанов. Избыточность, неэффективная по определению, борется
с непониманием. Она дает второй шанс. Все естественные языки
избыточны, вот почему люди могут понимать написанный с ошиб-
ками текст или разговор в шумной комнате. Именно на естествен-
ной избыточности английского языка было построено висевшее
34
ГЛАВА 1 ГОВОРЯЩИЕ БАРАБАНЫ
в нью-йоркском метро в 1970-е знаменитое объявление (и посвя-
щенная ему поэма Джеймса Меррилла):
if и сп rd ths
и cngta gd jb w hipa\x
(“Это заклинание способно спасти вашу душу”, — добавляет Мер-
рилл.) В большинстве случаев избыточность языка — всего лишь
фоновое явление. Для телеграфистов это дорогое удовольствие,
для африканского барабанщика — жизненная необходимость.
Для сравнения приведем пример еще одного специализированного
языка. В языке авиационной связи числа и буквы составляют боль-
шую часть данных, которыми обмениваются пилоты и диспетче-
ры: высоты, векторы, бортовые номера, идентификаторы взлетно-
посадочных полос, радиочастоты. Это очень важная информация,
которая передается по известному своей зашумленностью кана-
лу, поэтому, чтобы исключить неоднозначность, используют спе-
циализированный алфавит. Буквы В и V в устной речи легко спу-
тать, bravo и victor звучат безопаснее. М и N стали mike и november.
Числа five и nine, которые особенно похожи, произносятся как fife
и niner. Дополнительные слоги выполняют здесь ту же функцию,
что и дополнительные выражения в языке говорящих барабанов.
После выхода своей книги Джон Каррингтон наткнулся на ма-
тематический способ объяснения данного факта. Статья инженера-
телефониста из Bell Telephone Laboratories Ральфа Хартли даже содер-
жала соответствующую фермулу: Н = п logS, где Н — количество
информации, п — количество символов в сообщении, S — количе-
ство символов в языке. Младший коллега Хартли Клод Шеннон про-
должил исследования в этой области и занялся измерением избы-
точности английского языка. Символами могли быть слова, фонемы
или точки и тире. Они были объединены в группы: 1 тыс. базовых
слов, 45 фонем, 26 букв и группа, состоявшая из трех символов, со-
ответствовавших трем типам прерывания электрической цепи. Фор-
мула выражала простой феномен (по крайней мере, он оказался про-
стым, когда его заметили): чем меньше группа, тем большее коли-
I есл т мжшь прчсть эт т мжшь плчт хрш рбт с блып зрплт.
35
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
чество символов необходимо для адекватной передачи информации.
В случае африканских барабанов передаваемое сообщение должно
быть примерно е восемь раз длиннее, чем его устный эквивалент.
Хартли постарался обосновать использование термина инфор-
мация, “В обиходе информация — очень широко употребляемый тер-
мин, — писал он, — и сначала необходимо определить его конкрет-
ное значение”. Он предложил рассматривать ее как “физическое” —
его слово, — а не психологическое явление и столкнулся с обилием
трудностей. Он обнаружил, что передача информации парадоксаль-
ным образом усложнялась за счет символов — букв алфавита или то-
чек и тире, которые сами по себе дискретны, то есть их можно посчи-
тать. Гораздо труднее было измерить степень соответствия символов
человеческому голосу. Именно поток звуков по-прежнему казался
и инженеру-телефонисту, и африканскому барабанщику настоящим
содержанием коммуникации, несмотря на то что звук на самом деле
тоже является лишь посредником в передаче смысла. Хартли пола-
гал, что инженер должен суметь свести к общим законам все спосо-
бы коммуникации: письменный язык, телеграфный код и физиче-
скую передачу звука посредством электромагнитных волн по теле-
фонным проводам или с помощью радиоволн.
Конечно, он ничего не знал о барабанах. Да и Джон Карринг-
тон занялся их исследованием только тогда, когда они стали ис-
чезать. Он видел, что молодежь Локеле практиковалась в барабан-
ных разговорах все реже. Многие школьники даже не выучили
своих “барабанных” имен. Каррингтон сожалел о том, что проис-
ходит, и это неудивительно, ведь говорящие барабаны стали ча-
стью его жизни. В 1954 году один из американцев обнаружил его
в отдаленной конголезской деревушке Ялемба, где он преподавал
в школе миссии. Каррингтон все еще ежедневно совершал прогул-
ки по джунглям, и, когда наступало время обеда, жена звала его до-
мой, выстукивая на барабанах: “Дух белого человека в лесу, приди,
приди в дом из дощечек высоко над духом белого человека в лесу.
Женщина с бататом ждет. Приди, приди”.
Прошло немного времени, и появились люди, в представле-
нии которых коммуникационные технологии перескочили от го-
ворящих барабанов сразу к мобильным телефонам, минуя проме-
жуточные этапы.
2
ПОСТОЯНСТВО СЛОВА
В голове нет словаря
Одиссей заплакал, когда услышал, как поэт повсюду воспевает
его подвиги, потому что, будучи воспетыми, они больше не принадлежали
только ему. Они принадлежали каждому, кто слышал песнь.
Уард Джаст (2004)
опробуйте представить культуру, — предложил Уолтер Дж.
Онг, священник-иезуит, философ и историк культуры, —
в которой никто никогда не “искал значений”. Чтобы вооб-
разить мир без информационных технологий, усвоенных
человечеством за последние два тысячелетия, необходим
прыжок в забытое прошлое. Труднее всего стереть из памяти самую
первую технологию — письменность. Она появилась на заре исто-
рии — так и должно было быть, поскольку сама история начинается
с письменности. Без нее мы бы не знали о существовании прошлого.
Для того чтобы передача языка с помощью системы знаков ста-
ла для человека естественным процессом, потребовалось несколь-
ко тысяч лет, но, когда это наконец случилось, вернуться к време-
нам целомудренной наивности было уже невозможно. Эпоха, ко-
гда значение слов было напрямую связано с тем, что человек видит.,
забыта. Как отмечал Онг, в первичной устной культуре
выражение “искать значение слов” — пустая фраза, она не несет
никакого смысла. Без письменности слова как таковые не име-
ли визуального представления, даже если описывали объекты, ко-
37
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
торые можно было увидеть. Они были просто звуками. Вы могли
“позвать” их обратно — “вспомнить” их. Но “искать” их было негде.
У них не было ни конкретной оболочки, ни следов.
В 1960-е и 1970-е годы Онг объявил, что век электроники станет но-
вой эрой устной речи, но “вторичной устной речи”, то есть речи, рас-
ширившей свои границы как никогда ранее, вобравшей в себя по-
следствия наступления эры всеобщей грамотности, речи, противо-
поставленной вездесущему печатному слову. Первая эра устной речи
продолжалась существенно дольше. Она почти полностью охватила
целый этап эволюции, в то время как письменность возникла совсем
недавно, а установление всеобщей грамотности в этом контексте ка-
жется вообще второстепенным событием. Как и Маршалл Маклюэн,
с которым часто сравнивают Онга (насмешливый Фрэнк Кермод на-
зывал его “еще одним известным электронно-католическим проро-
ком”), Онг имел несчастье сделать свои визионерские предсказания
о новом веке незадолго до его наступления этого века. Радио, теле-
фон и телевидение казались тогда новыми средствами информации.
Но это были лишь далекие отблески в ночном небе, указывающие
на то, что источник света пока находится за горизонтом. Не столь
важно, считал ли Онг, что в основе киберпространства будет лежать
устная речь или письменная, он, несомненно, был прав, наделив ки-
берпространство способностью к трансформации: не просто возрож-
дение старых форм, не просто расширение и развитие, но что-то со-
вершенно новое. Возможно, он чувствовал: то, что вскоре должно
произойти, по масштабу будет столь же значимым, как и появление
самой письменности. И мало кто ощущал это лучше Онга.
Когда он начинал исследования, выражение “устная словес-
ность” было общепринятым. Оксюморон с налетом анахрониз-
ма — подразумевался слишком уж бессознательный подход к про-
шлому через настоящее. Устная литература обычно трактовалась
как вариант письменности — это, по словам Онга, “все равно
что думать о лошадях как об автомобилях без колес”.
Конечно, вы можете попробовать. Представьте, что вы пишете
трактат о лошадях (для людей, никогда не видевших лошадь), ко-
торый начинается не с понятия “лошадь”, а с “автомобиля” и по-
38
ГЛАВА 2 ПОСТОЯНСТВО СЛОВА
строен именно на представлении читателей об автомобилях. Далее
вы продолжаете рассказывать о лошадях, всегда называя их “беско-
лесным автомобилем” и объясняя автомобилизированным читате-
лям разницу... Вместо колес бесколесные автомобили имеют ги-
пертрофированные ногти, которые называют копытами, вместо
фар — глаза, вместо слоя лака — нечто называемое шерстью, вме-
сто бензина — сено и т.д. В конце вы получите описание лошади,
не имеющее никакого отношения к самой лошади.
Когда мы пытаемся представить себе, что было до возникновения
письменности, мы, современные люди, оказываемся безнадежно
автомобилизированными. Написанное слово есть механизм, с по-
мощью которого мы получаем знания. Оно организует наше мыш-
ление. Мы стремимся понять процесс возникновения письменно-
сти как исторически, так и логически, но и история, и логика сами
являются продуктами письменного мышления.
Письменность как технология требует предварительного об-
думывания и специальных навыков. Язык, как бы он ни был развит
и эффективен, не технология. И лучше не рассматривать его отдель-
но от разума, потому что язык — это то, что производится разумом.
“Язык на самом деле так же связан с понятием разума, как законо-
дательство с понятием парламента, — утверждает Джонатан Мил-
лер. — И тот и другой отличаются способностью постоянно укреп-
лять свою форму”. Во многом то же самое можно сказать о пись-
менности — это постоянное укрепление формы. Но есть важное
отличие — слова, оказавшиеся на бумаге или камне, существуют
сами по себе. Письменный язык— продукт, полученный с помощью
специальных инструментов, — сам является инструментом. Неуди-
вительно, что письменность, как и многие последовавшие за ней
технологии коммуникации, немедленно вдохновила критиков.
В роли луддита неожиданно выступил и один из тех, что пер-
выми извлекли существенную выгоду из нового изобретения. Пла-
тон (передавая разговоры с Сократом) предупреждал, что “письме-
на” приведут к оскудению ума:
В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет ли-
шена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь
39
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало
быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты да-
ешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут
многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться много-
знающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми, трудны-
ми для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых1.
Посторонние знаки — вот в чем была проблема. Письменное слово
казалось неискренним. Царапины на папирусе или глине не были
связаны с настоящим, свободно текущим звучанием языка, в свою
очередь тесно связанным с мыслью — так тесно, что он словно
возникал одновременно с нею. Письменность, казалось, отнима-
ла у человека знание, чтобы сохранить его как воспоминание. Она
также отделяла говорящего от слушателя в пространстве и/или вре-
мени. В ту эпоху вряд ли можно было предсказать глубинные по-
следствия возникновения письменности для отдельного человека
и культуры в целом, но Платон все же отметил потенциал разде-
ления устной и письменной речи. Один может говорить с множе-
ством, мертвый — с живыми, а живые — с еще не родившимися.
Маклюэн писал: “Когда Платон сделал это наблюдение, у западной
цивилизации впереди еще имелись две тысячи лет культуры ману-
скриптов”. Мощь первой искусственной памяти была невообрази-
ма — она преобразовала мышление, породила историю. Эту мощь
до сих пор невозможно оценить, хотя есть один статистический
намек: тогда как словарь любого устного языка измеряется несколь-
кими тысячами слов, всего лишь один язык, широко используемый
в письменной речи, — английский — располагает документиро-
ванным словарем гораздо большим, чем в миллион слов, и с каж-
дым годом он увеличивается на тысячи единиц. Эти слова суще-
ствуют не только в настоящем. Каждое слово имеет происхождение
и историю, которые влияют на его сегодняшнюю жизнь.
С помощью слов мы начали оставлять след вроде хлебных кро-
шек — воспоминания, заключенные в символы, которые могут
быть прослежены другими. Муравьи оставляют феромоны, следы
химической информации, Тесей разматывал нить Ариадны. Теперь
1 Пер. А. Егунова.
до
ГЛАВА 2 ПОСТОЯНСТВО СЛОВА
люди оставляют бумажные следы. Письменность была нужна, что-
бы сохранить информацию во времени и пространстве. До пись-
менности коммуникация была недолговечной и локальной — зву-
ковые волны распространяются всего на несколько метров и зату-
хают навсегда. Недолговечность устного слова воспринималась
как нечто само собой разумеющееся. Речь была настолько при-
зрачным явлением, что редко возникающий феномен эха, повто-
ренного звука, казался магией. “Таинственному отражению голоса
у греков есть красивое название — эхо”, — писал Плиний. “Про-
изнесенный символ, — отмечал Сэмюел Батлер, — исчезает мгно-
венно, не оставляя следа, и если остается живым, то лишь в умах
тех, кто его слышал”. Батлер сумел сформулировать данную исти-
ну как раз тогда, когда в конце XIX века она была впервые подверг-
нута сомнению из-за появления электрических технологий сохра-
нения речи. Именно потому, что эта идея оказалась не безупречно
истинной, ее значение стало настолько очевидным. “Написанный
символ простирается до бесконечности во времени и пространстве
там, где один ум может общаться с другим, — продолжал описы-
вать различия Батлер. — Он дает разуму пишущего человека жизнь,
ограниченную временем существования чернил, бумаги и читате-
лей, в противоположность сроку жизни его плоти и крови”.
Но новый коммуникационный канал не просто расширил
предыдущий. Он позволил появиться таким методам, как повтор-
ное использование и воспоминание. Возникли новые информаци-
онные системы. Среди них — история, право, бизнес, математика
и логика. Причем и в виде данных, и в виде методик. Сила заклю-
чена не только в ценном самом по себе знании, сохраненном и пе-
реданном, но и в способах его получения и передачи — кодирован-
ная визуальная индикация, сам процесс передачи, знаки, заменяю-
щие объекты. А затем, позже, и знаки, заменяющие знаки.
По меньшей мере 30 тыс. лет назад люди эпохи палеолита начали вы-
царапывать и рисовать фигуры, напоминавшие изображения лоша-
дей, рыб и охотников. Эти знаки на глине и на стенах пещер были
скорее результатом художественной деятельности или магических
обрядов, и историки не торопились называть их письменностью,
41
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
но то были первые шаги к записи ментального состояния человека
на внешнем носителе. С другой стороны, узлы на веревке и засечки
на сучках помогали вспоминать. Их можно было передавать в каче-
стве сообщений. Отметки на глиняной посуде и зданиях указывали
на их владельцев. По мере того как эти отметки, изображения, пик-
тограммы и петроглифы становились все более шаблонными и при-
вычными, они делались все более абстрактными и приближались
к тому, что сегодня мы понимаем под письменностью. Но нужно
было совершить еще один важный шаг от представления предметов
к представлению слов языка, необходимо было представление второ-
го порядка. Переход от пиктографии (записи изображения} к идео-
графии (записи идеи} и только потом к логографии (записи слова}.
В китайской письменности этот переход произошел
от 4,5 до 8 тыс. лет назад: знаки, которые возникли как картинки,
стали обозначать значимые звуковые единицы. Поскольку основ-
ной единицей было слово, требовались тысячи различных симво-
лов. С одной стороны, это эффективно, с другой — нет. Для боль-
шого количества различных устных языков существует единый ки-
тайский письменный язык: люди, которые не могут говорить друг
с другом, могут писать друг другу. В этом языке по меньшей мере
50 тыс. символов, около 6 тыс. из них используются часто и извест-
ны любому грамотному китайцу. Схематичные изображения, сде-
ланные взмахом кисти, кодируют многоплановые семантические
отношения. Один из инструментов этого кодирования — простое
повторение: дерево + дерево 4- дерево = лес, более абстрактные поня-
тия: солнце 4- луна = яркость и восток 4- восток = везде. Результат
объединения оказывается иногда довольно неожиданным: зерно 4-
4- нож = прибыль^ рука 4- глаз = взгляд. Значение меняется, если из-
менить значение составляющих: ребенок становится рождением, че-
ловек — трупом. Некоторые элементы фонетические, некоторые
многозначные. Но в целом перед нами самая богатая и самая слож-
ная письменная система из когда-либо созданных человечеством.
Если проанализировать ее с точки зрения количества задействован-
ных символов и значений, которые несет каждый из них, то оказыва-
ется, что китайская система письма намного опережает другие: в ней
самый большой набор символов, и большая их часть несет отдельное
значение. Но письменность может развиваться и иным путем: мень-
42
ГЛАВА 2 ПОСТОЯНСТВО СЛОВА
ше символов, и каждый из них менее значим информационно. Про-
межуточная стадия — слоговое письмо, то есть фонетическая систе-
ма письма, где каждый символ обозначает слог, который может быть,
а может и не быть значимым. Чтобы система функционировала, до-
статочно нескольких сотен таких знаков.
Больше всего времени для развития потребовалось письмен-
ности, которая пошла по пути, противоположному китайскому, —
по пути создания алфавита, где один символ соответствует одному
минимальному звуку. Алфавитная — наиболее редуктивная, наи-
более разрушительная из систем письма.
Во всех языках на Земле есть только одно слово для алфавита:
alphabet, alfabet, alfabeto, аХфаРт|то. Алфавит был изобретен лишь од-
нажды. У всех известных алфавитов, которые используются в наши
дни или были найдены на табличках и камнях, один и тот же пре-
док. Он появился у восточного побережья Средиземного моря не-
задолго до 1500 года до н. э. в политически нестабильном регио-
не, на перекрестке культур, на земле Палестины, Финикии и Асси-
рии. К востоку лежала великая цивилизация Месопотамии со своей
тысячелетней клинописной системой письменности, вниз по побе-
режью был Египет, где независимо развивалось иероглифическое
письмо. Торговцы Крита и Кипра, путешествуя, привозили с собой
образцы письменности совсем другого типа. Вместе с минойски-
ми, хеттскими и анатолийскими значками это уже был настоящий
винегрет из символов. В развитии письменности были заинтересо-
ваны в первую очередь священнослужители. Ведь владевший пись-
мом владел знанием законов и мог проводить религиозные обряды.
Но идее сохранения письменности внутри только одной группы
людей пришлось конкурировать с стремлением разработать систему
быстрой коммуникации. Имевшиеся варианты письменности были
консервативными, а новая технология — прагматичной. Упрощен-
ная система символов, всего 22 знака, была изобретением семитов
Палестины или близлежащих местностей. Ученые логично предпо-
лагают, что это могло произойти в Кирьят-Сефере, что переводит-
ся как “Город книги”, или в Библосе — “Городе папируса”, но никто
точно не знает и не может знать. Перед палеографами стоит уни-
кальная проблема: только благодаря самой письменности мы знаем
о ее собственной истории. Дэвид Дирингер — величайший из уче-
43
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ных XX века, занимавшихся историей алфавита, — цитировал бо-
лее раннего исследователя: “Не было того человека, который бы сел
и сказал: “Я буду первым пишущим человеком”.
Алфавит распространялся как инфекция. Новая технология
была и вирусом, и его переносчиком. Ее нельзя было ни монопо-
лизировать, ни остановить. Даже дети были в состоянии выучить
небольшое количество легких, не несущих семантической нагруз-
ки букв. Алфавит распространился в арабском мире и в Северной
Африке, появились еврейский и финикийский алфавиты, затем он
прошел через Среднюю Азию в Индию, где возник брахми и род-
ственные ему письмена. Алфавит попал и в Грецию. Возникшая
там новая цивилизация его сильно усовершенствовала. Среди про-
чих появились латинский и кириллический алфавиты.
Греция не нуждалась в алфавите, чтобы создать литературу, —
факт, который исследователи очень неохотно признали в 1930-е
годы. Это случилось, когда Милмэн Пэрри — структурный лин-
гвист, изучавший живые традиции устной эпической поэзии в Бос-
нии и Герцеговине, — предположил, что “Илиада” и “Одиссея”
не просто могли быть, но должны были быть сочинены и испол-
нены без помощи письменности. Размер, обязательная избыточ-
ность, фактически сама поэтика великих произведений служили
прежде всего облегчению запоминания. Благодаря певучести раз-
мера, похожего на заклинание, стихи стали капсулой времени, спо-
собной передать устную энциклопедию культуры через поколения.
Аргументы Пэрри поначалу казались противоречивыми, а затем
ошеломляюще убедительными, но лишь благодаря тому, что поэмы
были записаны где-то в VI или VII веке до н. э. Именно записанные
эпосы Гомера прошли через века. “Для истории человечества это
было сродни грому и только потом стало просто шорохом бумаги
на столе, — сказал Эрик Хавелок, британский классический иссле-
дователь и последователь Пэрри. — Это было вторжение в культу-
ру, результаты которого оказались необратимыми. Основа для раз-
рушения устного способа жизни и устных моделей мышления”.
Будучи записанной, великая поэзия Гомера превратилась в новый
носитель информации и стала тем, что невозможно было себе пред-
ставить: сиюминутная последовательность слов, каждый раз заново
создаваемая чтецом-декламатором и затухающая, едва долетев до слу-
44
ГЛАВА 2 ПОСТОЯНСТВО СЛОВА
шателя, превратилась в фиксированную и переносимую в простран-
стве строку на листе папируса. Еще предстояло выяснить, подходит ли
этот чуждый, сухой способ для создания поэзии и песен. А пока пись-
менное слово прекрасно служило более прозаическим формам дис-
курса — таковы были просьбы к богам, правовые вопросы и экономи-
ческие соглашения. Благодаря письменности даже начали обсуждать
и сам дискурс. Письменные тексты стали объектами новых интересов.
Но как было говорить о них? Слов, описывающих элемен-
ты этого дискурса, в лексиконе Гомера не существовало. Язык уст-
ной культуры надо было втиснуть в новые формы, поэтому возник
словарь. У поэм появились тематики — это слово прежде озна-
чало “место”. Они обладали структурой^ по аналогии со здания-
ми. Они состояли из фабулы и поэтического языка. Аристотель те-
перь мог рассматривать работы бардов как “зеркало человеческой
жизни”, появившееся из естественной склонности к имитации,
присущей человеку с детства. Но ему также пришлось учитывать
и письменные произведения, в которых были поставлены дру-
гие задачи, например диалоги Сократа и медицинские или науч-
ные трактаты, и этот тип письменных работ, включавший, по-ви-
димому, и его собственные, “до сего дня не имеет названия”. Пе-
рестраивалась целая вселенная абстрактных понятий, насильно
оторванных от реальности. Хавелок называл это культурным ору-
жием — новое сознание и новый язык, воюющие со старым со-
знанием и старым языком: “Их конфликт обеспечивает существен-
ный и постоянный вклад в словарь всего абстрактного мышления.
Тело и пространство, материя и движение, постоянство и измене-
ния, качество и количество, соединение и разделение — только не-
многие из примеров доступной теперь всем контрвалюты”.
Аристотель, сын придворного врача короля Македонии, попы-
тался систематизировать знания. Жизнестойкость письменности
дала возможность сформулировать то, что было известно о мире, а за-
тем и то, что было известно о знаниях. Тот, кто смог написать слова,
изучить их, еще раз посмотреть на них на следующий день и осмыс-
лить их значение, стал философом, а философ начинал с чистого ли-
ста и обширного проекта определений, которые ему предстояло дать.
Знание смогло начать вытягивать само себя за волосы. Для Аристоте-
ля базовые понятия были достойны записи, и их следовало записать:
45
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Начало — то, что само не следует по необходимости за другим,
а напротив, за ним существует или происходит, по закону природы,
нечто другое; наоборот, конец — то, что само по необходимости
или по обыкновению следует непременно за другим, после же него
нет ничего другого; а середина — то, что и само следует за другим,
и за ним другое1.
Это не запись опыта, но использование языка для его структуриро-
вания. Таким же образом греки придумали категории (слово изна-
чально обозначало “обвинение” или “предсказание”) как классифи-
кации видов животных, насекомых и рыб. После этого они смогли
классифицировать идеи. То был радикальный, чуждый способ мыш-
ления. Платон предупреждал, что этот способ оттолкнет людей:
Большинство скорее примет не идею красоты самой по себе, а кра-
соту множества вещей, так же как предпочтет конкретную вещь че-
му-то, порожденному ее сущностью. Таким образом, большинство
людей не могут быть философами.
Под “большинством” мы можем подразумевать “незнакомых с пись-
менностью”. Они “теряют себя и блуждают среди множества мно-
гогранных вещей”, заявлял Платон, оглядываясь на устную культу-
ру, которая все еще окружала его. У них “нет живых образов в душе”.
Но что это за живой образ? Хавелок сосредоточился на иссле-
довании процесса преобразования “прозы повествования” в “про-
зу идей” с помощью организации опыта в терминах категорий,
а не событий и охватывая понятие абстракции. Он подобрал слово
для этого процесса — “думать”. А сам процесс оказался открыти-
ем не просто самого себя, но думающего себя — фактически истин-
ным появлением самосознания.
В нашем мире усвоенной письменности размышление и пись-
мо кажутся почти не связанными процессами. Мы может предста-
вить, что последнее зависит от первого, но, уж конечно, не наобо-
рот: все думают, пишут они при этом или нет. Но Хавелок был
1 Пер. В. Альперовича.
46
ГЛАВА 2 ПОСТОЯНСТВО СЛОВА
прав. Письменное, то есть постоянное, слово было необходимым
условием сознательного мышления, как мы его понимаем. Оно ак-
тивировало процесс обширного, необратимого изменения духов-
ной жизни человека, не случайно душа — излюбленное слово Со-
крата и Платона, пытавшихся понять природу этого процесса. Пла-
тон, как описывает это Хавелок,
впервые в истории пытается выделить группу умственных способ-
ностей и ищет термин, с помощью которого их можно было бы
определить как относящихся к одному типу... Именно он увидел
предзнаменование и правильно трактовал его. Тем самым он слов-
но бы подытожил и подтвердил то, о чем догадывались предыду-
щие поколения, которые только нащупывали путь к понятию “идеи”
как того, о чем можно “думать”. Платон подтвердил, что размыш-
ление есть особый вид психической активности, очень неудобный,
но также очень манящий, и что он требует совершенно нового ис-
пользования греческого языка.
Сделав очередной шаг к отвлеченным понятиям, Аристотель
в строгом порядке представил категории и взаимосвязи для разви-
тия объяснительной системы символов, логики — от Xoyog, logos,
не вполне переводимого и многозначного слова с множеством от-
тенков, имеющих отношение к “речи” или “аргументу”, “разгово-
ру” или в конечном счете “слову”.
Логику можно было представить существующей отдельно и не-
зависимо от письменности — силлогизм может быть как произ-
несенным, так и написанным, — но это на самом деле не так. Речь
слишком ненадежна, чтобы ею стоило пользоваться при анализе.
В Греции, как и в Индии или Китае, где логика развивалась неза-
висимо, она возникла после появления письменного слова. Логи-
ка превращает акт абстрагирования в инструмент определения того,
что истинно, а что ложно: истина может быть обнаружена в словах
независимо от конкретного опыта. Форма логики — последователь-
ность связанных друг с другом членов. Выводы следуют из предпо-
ложений. Это требует некоторого постоянства величин. Последо-
вательности не имеют силы, если люди не могут изучить и оценить
их. Напротив, устные повествования строятся с помощью наращи-
47
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
вания, слова строем проходят мимо трибун — их видно недолго,
и вот они уже ушли, — взаимодействуя друг с другом посредством
памяти и ассоциаций. У Гомера нет силлогизмов. Опыт организован
в терминах событий, а не категорий. Только с появлением письмен-
ности в повествованиях появились последовательные рациональные
суждения. Аристотель перешел на следующий уровень, обнаружив
возможность исследования подобных суждений — не только их ис-
пользования, но изучения их как инструментов. В его логике чув-
ствуется новое отношение к словам, из которых состоят суждения.
Когда Аристотель рассматривает посылки и заключения — “Если
нечеловек может быть лошадью, то можно допустить, что нелошадь
может быть человеком, и если допустимо, что что-то, не являющее-
ся тканью, может быть белым, то также допустимо, что то, что не бе-
лое, будет тканью. Так как если любая белая вещь должна быть тка-
нью, то какая-то ткань обязательно будет белой”, — он не требу-
ет и не предполагает наличия у читателя личного опыта общения
с лошадьми, тканями или цветами. Он вне этой сферы. Тем не ме-
нее Аристотель претендует на то, чтобы с помощью манипуляций
со словами создать знание, причем знание высшего порядка.
“Мы знаем, что формальная логика — изобретение греческой
культуры, появившееся после того, как та освоила технологию ал-
фавитного письма и добавила в число своих постоянных интеллек-
туальных ресурсов способ мышления, возникновение которого ста-
ло возможно только благодаря алфавитному письму”, — утверждает
Уолтер Онг. Его слова верны и для индийской и китайской культур.
В качестве доказательства Онг ссылается на полевые исследования рус-
ского психолога Александра Романовича Лурии, проведенные среди
неграмотных жителей отдаленных областей Узбекистана и Киргизии
в 1930-е. Лурия обнаружил, что неграмотные объекты его исследова-
ний серьезно отличаются не только от грамотных, но даже и от мало-
грамотных, но не знаниями, а способом мышления. Логика напрямую
связана с системой символов: вещи делятся на классы, они обладают
отвлеченными и обобщенными свойствами. Люди, владевшие только
устной речью, не имели представления о понятии категорий, ставшем
естественным даже для неграмотных людей, живущих в культуре, у ко-
торой есть письменность, — например, такие люди знакомы с геоме-
трическими фигурами. Рисунки кругов и квадратов объекты исследо-
48
ГЛАВА 2 ПОСТОЯНСТВО СЛОВА
вания называли “тарелка, решето, ведро, луна” и “зеркало, дверь, дом,
доска для сушки абрикосов”. Они не могли или не хотели принимать
логические силлогизмы. Типичный вопрос:
На Крайнем Севере, где всегда лежит снег, все медведи белые. Но-
вая Земля — на Крайнем Севере, и там всегда снег. Какого цвета
там медведи?
Типичный ответ: “Я не знаю. Я видел бурого медведя. И никогда
не видел никаких других... В каждой местности свои животные”.
Напротив, человек, только что выучившийся читать и писать,
отвечал: “Исходя из ваших слов они должны быть белыми”. Сло-
восочетание “исходя из ваших слов” свидетельствует о переходе
на другой уровень. Информация отделяется от личности, от опы-
та говорящего. Теперь она находится в словах — маленьких моду-
лях, поддерживающих ее жизнь. Произнесенные слова тоже пере-
дают информацию, но без осознания, которое приносит письмен-
ность. Грамотные люди принимают за данность свое знание слов,
а также целый ряд связанных со словами механизмов, таких как клас-
сификации, отсылки, определения. Для неграмотного человека эти
механизмы неочевидны. “Попробуйте объяснить мне, что такое де-
рево”, — просил Лурия. Крестьянин отвечал: “Зачем? Все знают,
что такое дерево, и без моих объяснений”. “В принципе крестьянин
был прав, — комментирует Онг. — Невозможно доказать несостоя-
тельность мира, в котором господствует устная культура. Все, что вы
можете сделать, — это удалиться в мир, где есть письменность”.
Путешествие от вещей к словам, от слов к категориям, от ка-
тегорий к метафорам и логике движется по причудливому пути.
Давать определение дереву было чем-то неестественным, но дать
определение слову оказалось гораздо сложнее, к тому же полезных
вспомогательных слов вроде “определить” в те времена не было, по-
скольку нужды в них не возникало. “В младенческие годы логики
форму приходилось придумывать до того, как она наполнится со-
держанием”, — говорил Бенджамин Джоуэтт, в XIX веке переводив-
ший Аристотеля. Устные языки нуждались в дальнейшем развитии.
Язык и рассуждения так хорошо подходят друг к другу, что те,
кто пользовался ими, не всегда замечали несоответствия и изъя-
49
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ны. Тем не менее, как только та или иная культура изобретала ло-
гику, появлялись парадоксы. В Китае практически одновременно
с Аристотелем философ Гунсунь Лун сформулировал один из них
в известном диалоге “Когда белая лошадь не является лошадью”.
До изобретения бумаги диалог был записан на связанных нитью
бамбуковых полосках. Он начинался так:
— Может ли белая лошадь не быть лошадью?
— Может.
— Каким образом?
— “Лошадь” — это то, с помощью чего обозначают форму. “Белая” —
это то, с помощью чего обозначают цвет. То, что обозначает цвет,
не есть то, что обозначает форму. Потому говорю: белая лошадь —
не лошадь.
На первый взгляд это совершенно непонятно. Ситуация начи-
нает проясняться, если думать о ней как о размышлениях о язы-
ке и логике. Гунсунь Лун был последователем Мин цзя, “Шко-
лы имен”, и изучение подобных парадоксов было частью того,
что китайские лингвисты назвали “кризисом языка” — продол-
жающимися спорами о его природе. Названия не являются ве-
щами, которые называют. Классы не совпадают по размеру с под-
классами. Поэтому выводы, на первый взгляд невинные, опровер-
гаются: “человек не любит белых лошадей” не означает “человек
не любит лошадей”.
Вы думаете, что разноцветные лошади не лошади. В реальном мире
не существует лошадей без цвета. Может ли быть так, что в мире
нет лошадей?
Философ проливает свет на процесс деления на классы на основа-
нии свойств “белизна” и “лошадиность”. Являются ли эти классы
частью реальности или существуют лишь в языке?
Лошади определенно имеют цвет. Следовательно, существуют бе-
лые лошади. Если бы лошади не имели цвета, существовали бы
просто лошади и как тогда можно было бы выбрать белую? Бе-
50
ГЛАВА 2 ПОСТОЯНСТВО СЛОВА
лая лошадь есть лошадь и белая. Лошадь и белая лошадь — не одно
и то же. Следовательно, я заключаю, что белая лошадь не лошадь.
Два тысячелетия спустя философы все еще бьются над этими текста-
ми. Пути логики к современному мышлению окольны, прерывисты
и сложны. Поскольку парадоксы существуют в самом языке или по-
строены на его особенностях, один из способов избавиться от них —
очистить носитель, то есть устранить двусмысленные слова и путаный
синтаксис и использовать точные и безупречные символы. Иначе го-
воря, это путь к математике. К началу XX века казалось, что только
специально построенная система символов может дать логике надле-
жащую ясность — освободить ее от ошибок и парадоксов. Эта меч-
та оказалась иллюзорной — парадоксы все равно возникали, но никто
и не надеялся их понять, пока пути математики и логики не слились.
Математика тоже родилась из изобретения письменности. Гре-
цию часто считают истоком реки, ставшей современной математи-
кой. Но сами греки ссылаются на другую древнюю для них тради-
цию, которую они называют халдейской, а мы — вавилонской. Эта
традиция была сокрыта в песках до конца XIX века, пока в развали-
нах утерянных городов не были найдены глиняные таблички.
Сначала их было несколько, потом тысячи — таблички, обыч-
но размером с человеческую ладонь, с нанесенными на них четки-
ми заостренными угловатыми знаками, названными клинописью.
Клинопись не была ни пиктографическим письмом (символы были
разнообразны и абстрактны), ни алфавитным (их было слишком
много). К 3000 году до н. э. система, состоящая из почти 700 сим-
волов, процветала в Уруке — расположенном в заливных болотах
у реки Евфрат, окруженном стеной городе, возможно, на тот момент
крупнейшем в мире, родине короля-героя Гильгамеша. В XX веке
немецкие археологи провели серию раскопок Урука. Материалы
для изучения древнейшей из информационных технологий ста-
ли доступны для изучения. Влажная глина в одной руке и стилус
из заточенного тростника в другой — писец фиксировал малень-
кие значки в строках и столбцах.
Результат — загадочные послания чужой культуры. Сменилось
не одно поколение, прежде чем они были расшифрованы. “Пись-
51
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Клинописная
табличка
мо, словно театральный занавес, поднимающийся над этими осле-
пительными цивилизациями, позволяет нам смотреть на них пря-
мо, но субъективно”, — писал психолог Джулиан Джейнс. По-
началу некоторые европейцы чувствовали себя оскорбленными.
“Ассирийцам, халдеям и египтянам, — писал богослов XVII века
Томас Спрат, — мы обязаны “открытием”, но также и “искажени-
ем” знания”, когда они спрятали его от нас в своих странных пись-
менах. “Это был обычай их мудрецов — заворачивать результаты
наблюдений за природой и поведением человека в темные покро-
вы иероглифики” (как будто более дружелюбные древние люди ис-
пользовали алфавит, знакомый Спрату). Самые древние таблички
оставались не расшифрованными археологами и палеонтологами
дольше других, потому что первый письменный язык, шумерский,
не оставил никаких других следов в культуре или речи. Шумер-
ский оказался лингвистической редкостью, изолированным язы-
ком, у него нет известных потомков. Когда ученые сумели прочи-
тать таблички Урука, они обнаружили, что в некотором смысле это
был мусор: записки, контракты и законы, рецепты и счета за яч-
мень, скот, масло, посуду и тростниковые циновки. Никакой поэ-
зии или литературы на клинописных табличках не появлялось сто-
летиями. Таблички не просто обслуживали коммерцию и бюрокра-
тию, но, главное, делали возможным их существование.
52
ГЛАВА 2 ПОСТОЯНСТВО СЛОВА
Даже тогда клинопись включала знаки для счета и измерений.
Разные символы, использованные различными способами, могли
означать числа и вес. Более систематизированный подход к записи чи-
сел появился только во время правления Хаммурапи (1750 год до н. э.),
когда Месопотамия объединилась вокруг великого города Вавилона.
Хаммурапи был, наверное, первым грамотным королем, он сам писал
клинописью, а не полагался на писарей, и устройство его империи
говорит о наличии связи между письменностью и контролем над ог-
ромным государством. “Этот процесс захвата и влияния стал возмож-
ным благодаря буквам, табличкам и каменным плитам, которых было
так много, как никогда прежде, — утверждает Джейнс. — Письмен-
ность стала новым методом управления государством, именно той
моделью, с которой начался наш собственный способ управления, ко-
гда коммуникации осуществляются с помощью документов”.
Запись чисел развилась в тщательно разработанную систему.
Числительные состояли всего лишь из двух основных частей — вер-
тикального клина для 1 (J) и углового для ю (< ). Их можно было
комбинировать для получения стандартных знаков, так что Щ пред-
ставляло з, — 16 и так далее. Но вавилонская система счисления
была не десятичной, с основанием ю, а шестидесятеричной, с осно-
ванием 6о. Каждая цифра от 1 до 6о имела собственный знак. Для за-
писи больших чисел вавилоняне использовали позиционную запись:
J < было 70 (одна “6о” плюс десять “i”); J было 616 (десять “6о”
плюс шестнадцать “1”) и т.д. Когда были найдены первые таблички,
этого не поняли. Повторяющиеся группы базовых символов в раз-
личных вариациях оказались таблицей умножения. В шестидесяте-
ричной системе она должна была охватывать числа от 1 до 19, так же
как и 20, 30, 40 и 50. Еще сложнее было распутать таблицы обратных
величин, необходимых для деления и дробей: в шестидесятеричной
системе обратными величинами были 2: 30, 3: 20, 4: 15, 5: 12, а затем,
с использованием дополнительных разрядов, 8: 7, 30, 9: 6, 40 и т.д.1
1 При записи двухразрядных чисел клинописной шестидесятеричной системы
принято ставить запятую, например, 7,30. Но писари не пользовались подоб-
ной пунктуацией, и в их записях разрядное значение указано не было. То есть
их числа мы могли бы назвать “числами с плавающей запятой”. Двузначное чис-
ло, такое как 7,30, могло быть 450 (семь 6о плюс тридцать 1) или 7,5 (семь 1 плюс
тридцать 1/60). — Прим. авт.
53
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Эти символы не были похожи на слова, разве что на какие-то узко-
специальные. Казалось, они сами выстроились на табличке в замет-
ные глазу повторяющиеся, практически художественные последо-
вательности, непохожие на те, что археологи встречали в образцах
прозы или стихов. Они были словно карты таинственного города.
Оказалось, что ключ к дешифровке — упорядоченный хаос, благо-
даря которому, видимо, в написанном присутствовал смысл. Это
было похоже на математическую задачу, и в конечном счете так оно
и оказалось. Математики обнаружили геометрическую прогрессию,
таблицы степеней и даже инструкции по вычислению квадратных
и кубических корней. Исследователи знали о появлении матема-
тики в Древней Греции, и они были ошеломлены широтой и глу-
биной математических знаний, существовавших в Месопотамии
за тысячу лет до того. “Высказывались предположения, что у вави-
лонян существовало что-то типа числового культа или нумероло-
гия, — писал Асгер Обу в 1963 году, — но теперь мы знаем, как да-
леки от истины были эти предположения”. Вавилоняне решали ли-
нейные и квадратные уравнения и знали пифагоровы числа задолго
до Пифагора. В отличие от последовавших за ними греческих ма-
тематиков вавилоняне не выделяли геометрию в отдельную дисци-
плину, разве что для решения практических задач. Они вычисляли
площади и периметры, но не доказывали теорем. Тем не менее они
умели раскладывать сложные многочлены второй степени. Их мате-
матики, похоже, превыше всего ценили вычислительную мощность.
К тому моменту, когда современные математики обратили
внимание на Вавилон, многие ценные таблички уже были утраче-
ны. Например, фрагменты, найденные в Уруке до 1914 года, рассея-
лись по музеям Берлина, Парижа и Чикаго, и лишь пятьдесят лет
спустя оказалось, что они содержали начальные знания по астро-
номии. Чтобы продемонстрировать это, Отто Нойгебауэру, веду-
щему исследователю XX века в области древней математики, при-
шлось собрать таблички, фрагменты которых находились по обе
стороны Атлантики. В 1949 году, когда число фрагментов клино-
писных табличек, хранимых в музеях, достигло (по грубым при-
кидкам ученого) полумиллиона, Нойгебауэр жаловался: “Таким
образом, наша задача может быть сравнима с восстановлением ис-
54
ГЛАВА 2 ПОСТОЯНСТВО СЛОВА
Ыт CeCl
CoLl CM
Obvttbt
fyvtnse-
Математическая таблица на клинописной табличке,
разобранная Асгером Обу
тории математики по нескольким обрывкам страниц, случайно пе-
реживших уничтожение огромной библиотеки”.
В 1972 году стэнфордский ученый Дональд Кнут, один из пер-
вых специалистов в области вычислительной науки и техники, по-
смотрел на остатки старовавилонской таблички (размером с книгу
в бумажном переплете), половина которой находилась в Британском
музее в Лондоне, четверть — в Государственном музее в Берлине,
а четверть отсутствовала, и увидел то, что смог описать алгоритмом:
Цистерна.
Высотою 3,20 и объемом 27,46,40, была выкопана.
Длина превышала ширину на 50.
Вы должны взять обратную величину высоты 3,20, получив 18.
Умножьте это на объем 27,46,40, получив 8,20.
Возьмите половину от 50 и возведите ее в квадрат, получив 10,25.
55
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Добавьте 8,20 и получите 8,30,25.
Квадратный корень равен 2,55.
Сделайте две копии этого, добавьте к одной и вычтите из другой.
Вы найдете, что 3,20 — длина и 2,30 — ширина.
Вот порядок действий.
Слова “вот порядок действий” были стандартным окончанием, по-
чти благословением, но для Кнута они оказались наполнены смыс-
лом. В Лувре он нашел “порядок действий”, напомнивший ему
программу Burroughs В5500. “Мы можем поздравить вавилонян
с разработкой красивого способа объяснить алгоритм на приме-
ре определения самого алгоритма”, — сказал Кнут. К тому време-
ни он был поглощен проектом определения и объяснения алго-
ритмов. Он был поражен тем, что обнаружил на древних таблич-
ках. В определенных местах переписчики записывали инструкции
по размещению чисел — по созданию “копий” числа и сохранению
числа “в вашей голове”. Эта идея абстрактных множеств, занимаю-
щих абстрактные позиции, не возвращалась к жизни еще долго по-
сле того, как знания вавилонян были утеряны.
Где символ? Что такое символ? Чтобы хотя бы задавать эти вопро-
сы, нужен такой уровень самосознания, который не свойствен че-
ловеку от рождения. Но, будучи раз заданными, эти вопросы уже
не могут исчезнуть просто так. “Посмотри на эти знаки, — проси-
ли философы. — Что они есть?”
“В основе своей буквы — это голоса, облеченные в формы, —
объяснял средневековый английский богослов Иоанн Солсберий-
ский. — Следовательно, они воскрешают в памяти вещи, которые
попадают туда через окна глаз”. В XII веке Иоанн Солсберийский
служил секретарем и переписчиком архиепископа Кентербе-
рийского. Он был последователем Аристотеля, его защитником
и проповедником. Его “Металогикон” не только излагал прин-
ципы Аристотелевой логики, но и призывал современников при-
нять их в качестве новой религии. (Он не ходил вокруг да около:
“Пусть тот, кто не пришел к логике, будет поражен всеобъемлю-
щей и бесконечной скверной”.) Касаясь пером пергамента во вре-
56
ГЛАВА 2 ПОСТОЯНСТВО СЛОВА
мена, практически не знавшие грамотности, он пытался изучить
сам процесс письма и свойства слов: “Часто они беззвучно гово-
рят об отсутствующем”.
Письменная речь все еще представлялась тесно переплетенной
с речью устной. И из-за этого смешения видимого и слышимого
возникали трудности. Трудности возникали и из-за смешения про-
шлого и будущего: речь шла об отсутствующем. Письменная речь
перескакивала через эти уровни.
Все, кто использовал данную технологию, были неопытны-
ми новичками. Те, кто составлял юридические документы, такие
как грамоты и акты, часто ощущали потребность обратиться к не-
видимой аудитории: “О! Все вы, кто должен бы слышать и видеть
это!” (Они не старались соотносить время используемых глаголов
с моментом совершения действия, это было свойственно и поль-
зователям первых автоответчиков в 1980-е.) В конце многих гра-
мот стоит “до свидания”. Для того чтобы письмо стало естествен-
ным само по себе, второй натурой, отголоски речи должны были
угаснуть. Письменность должна была перестроить человеческое
сознание.
Среди многих возможностей, которые дала письменная куль-
тура, не последнее место занимала способность взглянуть на само-
го себя со стороны. Писатели любили обсуждать написанное боль-
ше, чем барды, не утруждавшие себя обсуждением собственной
речи. Они могли видеть носитель и то, что находилось на нем, дер-
жать его перед мысленным взором для изучения и анализа. И они
могли критически оценивать его — с самого начала новые возмож-
ности сопровождались щемящим чувством потери. Это была фор-
ма ностальгии. Платон описывал это так:
В этом, Федр, дурная особенность письменности, поистине
сходной с живописью: ее порождения стоят как живые, а спро-
си их — они величаво и гордо молчат... Думаешь, будто они го-
ворят как разумные существа, но, если кто спросит о чем-нибудь
из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают
одно и то же1.
1 Пер. А. Егунова.
57
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
К сожалению, письменное слово остается неизменным. Оно посто-
янно и неподвижно. Большинство опасений Платона были отверг-
нуты в последующее тысячелетие, по мере того как культура пись-
менности преподносила многочисленные дары — историю и право,
науки и философию, да и толкования самих искусства и литерату-
ры. Ничто из этого не способно было возникнуть из чистой устной
культуры. Великая поэзия появилась, но она была дорогой и редкой.
Чтобы создать эпические произведения Гомера, сделать их слыши-
мыми, сохранить во времени и пространстве, требовалось затратить
значительную долю доступной культурной энергии.
В то время по исчезнувшему миру первичной устной культу-
ры тосковали несильно. До XX века, когда стали появляться новые
средства связи, беспокойство и ностальгия не проявлялись. А вот
для Маршалла Маклюэна, самого известного защитника ушедшей
устной культуры, ностальгия была основанием для модернизации.
Он приветствовал новый “электрический век” не из-за его новиз-
ны, но из-за возврата к корням человеческого творчества. Он видел
в нем возрождение старой доброй устной традиции. “В нашем веке
мы перематываем пленку назад”, — заявил он, обнаружив эту ме-
тафорическую ленту в одной из новейших информационных тех-
нологий. Он построил серию полемических противопоставлений:
слово печатное против слова сказанного; холодный/горячий; ста-
тичный/подвижный; нейтральный/мистический; обнищавший/бо-
гатый; упорядоченный/творческий; механический/естественный;
разделяющий/объединяющий. “Алфавит есть технология визуаль-
ной фрагментации и специализации”, — писал он. Он ведет к по-
явлению “пустыни систематизированных данных”. Кратко сфор-
мулировать то, за что Маклюэн критикует печатное слово, можно
было бы так: печать предлагает нам узкий канал коммуникации. Ка-
нал линейный и даже фрагментарный. Напротив, в речи в ее пер-
возданном виде, разговоре людей лицом к лицу, оживленном же-
стами и прикосновениями, задействованы все чувства, а не только
слух. Если идеал общения — это встреча двух душ, то письменный
язык — это только жалкая тень идеала.
Такой же критике подверглись другие ограниченные каналы
коммуникации, созданные более поздними технологиями, — те-
леграф, телефон, радио, электронная почта. Джонатан Миллер пе-
58
ГЛАВА 2 ПОСТОЯНСТВО СЛОВА
рефразировал аргументы Маклюэна в квазитехнических терминах:
“Чем больше число задействованных чувств, тем выше вероятность
передачи точной копии ментального состояния посылающе-
го”1. В потоке слов, воспринимаемых ухом или глазом, мы разли-
чаем не только отдельные элементы, следующие один за другим,
но и их ритмы и тоны, которые можно назвать их музыкой. Мы,
слушатели или читатели, не слышим и не читаем каждое слово в от-
дельности, мы получаем сообщения группами, малыми и больши-
ми. Человеческая память так устроена, что более длинные после-
довательности быстрее воспринимаются прочитанными, чем услы-
шанными. Глаз может отражать. Маклюэн считал эту способность
разрушительной или по крайней мере ограничивающей. “Акусти-
ческое пространство органично и целостно, — утверждал он, —
оно воспринимается через одновременное взаимодействие всех
чувств, тогда как “рациональное” или пиктографическое простран-
ство однообразно, последовательно и непрерывно — оно создает
замкнутый мир, в котором нет отголосков первобытного мира эха”.
Для Маклюэна первобытное эхо — это рай.
Зависимость от устного слова в целях получения информации со-
брала людей в племенные сети... устное слово более нагруженно
эмоционально, чем письменное... Аудиотактильный первобытный
человек был частью коллективного подсознательного, жил в маги-
ческом целостном мире, сложенном из мифов и ритуалов, и его
ценности были священны1 2.
До определенной степени — может быть. Тем не менее за три сто-
летия до Маклюэна, когда письменность была еще относитель-
но новым приобретением человечества, Томас Хоббс высказал-
1 Миллер не соглашается с ним. Напротив, “трудно переоценить промежуточное
обратное воздействие письменной культуры на творческое воображение, учи-
тывая, что она представляет собой хранилище накопленных идей, изображений
и идиом, богатыми и постоянно растущими фондами которого всякий худож-
ник может пользоваться без ограничений”. — Прим. авт.
2 Интервьюер жалобно спросил: “Но разве проницательность, понимание
и культурное разнообразие не компенсируют человеку потерю племени?” Мак-
люэн ответил: “Ваш вопрос отражает все предрассудки, свойственные обычно-
му грамотному человеку”.
59
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ся на этот счет куда менее благодушно. Он видел существовав-
шую до распространения грамотности культуру более отчетливо.
“Люди жили за счет общего опыта, — писал он. — Не существова-
ло метода, способа получить знание; можно сказать, что его нель-
зя было ни посеять, ни высадить само по себе так, чтобы вокруг
не оказалось множества сорняков — ошибок и догадок”. Жалкое
место, немагическое, несвященное.
Кто прав, Маклюэн или Хоббс? Мы не уверены в ответе, но со-
мнения были еще у Платона. Он видел, как начиналось эра господ-
ства письменности, он признавал ее силу и боялся ее безжизнен-
ности. Писатель-философ в некотором роде сам заключал в себе
этот парадокс. Данному парадоксу суждено было появляться в но-
вом обличье каждый раз, когда рождалась новая информационная
технология, приносящая силу и опасения. Оказалось, что “забыв-
чивость”, которой боялся Платон, не появилась. Потому что и сам
Платон, и его учитель Сократ, и его ученик Аристотель разработа-
ли словарь идей, распределили их по категориям, установили пра-
вила логики и тем самым выполнили обещания, которые дала лю-
дям появившаяся технология письменности. Все это сделало зна-
ния более устойчивыми.
А атомом знания было слово. Или нет? Некоторое время сло-
во продолжало ускользать от своих преследователей независи-
мо от того, чем они его считали — быстро исчезающим звуковым
всплеском или фиксированным рядом знаков. “Большинство гра-
мотных людей на вашу просьбу придумать слово по крайней мере
некоторым смутным образом пытаются представить что-то перед
глазами, — считает Онг, — а ведь там не может быть настоящего
слова”. Где мы тогда ищем слова? В словаре, конечно. Онг также
заявил: “Очень деморализует, когда вспоминаешь, что в голове нет
словаря, что лексикографический аппарат был пристроен к языку
совсем недавно”.
3
ДВА СЛОВАРЯ
Изменчивость написания,
непостоянство наших букв
В такие сложные и бурные времена у людей появляется больше мыслей,
и они должны быть обозначены и различимы с помощью новых выражений.
Томас Спрат (1667)
Деревенский школьный учитель и священник написал
в 1604 году книгу с длинным названием, которое начи-
налось так: “Перечень алфавитный, содержащий и обу-
чающий истинному написанию и пониманию трудных
общепринятых слов английского языка... ” — и продол-
жалось целым рядом намеков на задачи книги, которые
были необычны и требовали пояснения:
...с объяснениями из простых английских слов, собранных
для пользы и помощи леди, джентльменам или другим неискусным
лицам. Таким образом они смогут легче и лучше понимать мно-
гие трудные английские слова, которые они услышат или прочтут
в проповедях, или Писании, или где-то еще, и также смогут ис-
пользовать их надлежащим образом самостоятельно.
На титульной странице не было имени автора, Роберта Кодри,
но были слова на латыни “Читать не понимая все равно что не чи-
тать” и выходные данные с такими формальностями и точностью,
61
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ТаЫз AIphabeucall,con-
tayr ing and teaching the true
writing and vndcrfhnding of hard
vluilJ Englilh words,borrowed from
the Hebrew, Greekc, Latine,
or French, &c.
With the Interpretation thereof by
plaine Englnh words, gathered for the
benefit And help of aUvrukilfull perfonr.
V\ hereby they may the more cafily and
тому hard Eaohflj words*
which they flvdl heirc or read tn Scripture»,
Sc rmon* ,or с Ис wbrre and a! (b be nude
able to vfc the fame a?t-y themfeluea.
Set for th by K. (\ ar»d newly correded,
and much rlin»cd with nuny word»
now m vfe.
The 3. Edition.
Zttycr/, Дг w/»>f i*tellwerr.tne’'l'tr?r, грл
As good nut to read, as»tor to vndet Hand-
LONDON;
Pt'nrrd bv T\ Д. lor E nmud I flatter 4and arc
tube (old r his (hop ar the great North
dou «й Емка Church, x 61 3.
Титульная
страница
словаря Кодри
которых следовало ожидать во времена, когда адреса как указания
места еще не существовало:
В Лондоне, напечатано И. Р. для Эдмунда Вивера для продажи в его
магазине у больших северных врат церкви Павла.
На тесных лондонских улицах номера магазинов и домов встре-
чались редко. Тем не менее алфавит был упорядочен, даже назван
по первой и второй букве — этот порядок был сохранен с ранне-
финикийских времен, несмотря на все последующие заимствова-
ния и изменения.
Кодри жил в эпоху информационной бедности, хотя сам он
не согласился бы с подобным утверждением, даже если бы понял,
62
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
какое значение мы в него вкладываем. Напротив, Кодри считал,
что находится в центре информационного взрыва, который он все-
ми силами пытался поддержать и упорядочить. Но вот прошло че-
тыре века, а его жизнь скрыта во мраке потерянных знаний.
Его “Перечень алфавитный... ” — важная веха в истории ин-
формации, однако из первого издания до наших дней дошла лишь
одна изношенная копия. Неизвестны время и место рождения ав-
тора — вероятно, он родился в конце 1530-х в центральной Ан-
глии. Несмотря на то что существовали приходские книги, жизнь
людей почти не документировалась. Никто не знает точного на-
писания имени Кодри (Cowdrey, Cawdry), Но надо иметь в виду,
что не было согласия в написании большинства имен собствен-
ных — их произносили, но записывали редко.
Фактически мало кто представлял себе, что такое “правописа-
ние” и зачем нужна идея, что каждое слово, будучи написанным,
должно представлять собой определенную последовательностью
букв. В одной брошюре 1591 года слово сопу (кролик) встречает-
ся как соппу, сопуе, conie, connie, coni, сипу, сиппу и cunnie, Могло
быть и другое написание. И, уж если на то пошло, сам Кодри в сво-
ей книге для “обучения истинному написанию” в одном предложе-
нии написал wordes, а в следующем — words (слова). Язык не был
складом слов, откуда пользователи могли вытащить правильные,
уже сформированные единицы. Наоборот, слова были беглеца-
ми — всегда в движении, они пропадали сразу после использова-
ния. Произнесенные слова нельзя было сравнить или сопоставить
с другими их вариантами. Каждый раз, когда люди опускали перо
в чернильницу, чтобы написать слово на бумаге, они заново вы-
бирали буквы для выполнения этой задачи. Но времена менялись.
Доступность и прочность печатных книг вызывали ощущение,
что написанное слово должно быть написано определенным обра-
зом, что одни формы правильны, а другие нет. Сначала это ощуще-
ние было неосознанным, но вскоре завладело умами многих, чему
способствовали и сами печатники.
То spell (произносить по буквам, от старогерманского слова)
на первых порах означало “говорить” или “бормотать”. Затем —
“медленно читать букву за буквой”. Потом, примерно во времена
Кодри, значение расширилось до “писать букву за буквой”. В ка-
63
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ком-то смысле у to spell было поэтическое применение. “Читай
Eva наоборот, и Ave обнаружишь”, — написал поэт-иезуит Ро-
берт Саутвелл (незадолго до того как был повешен и четвертован
в 1595 году). Когда некоторые учителя начали задумываться об идее
правописания, они заговорили о “правильном письме”, или, заим-
ствуя из греческого, орфографии. Задумывались немногие, но сре-
ди них был глава одной из лондонских школ Ричард Малкастер.
Он создал букварь, озаглавленный “Часть первая [второй части
так и не последовало. — Прим, авт.} Основ правильного написа-
ния слов нашего английского языка”. Он издал книгу в 1582 году
(в Лондоне у “Томаса Вотруйе, проживающего у доминиканцев
близ Лудгейта”), включив в нее примерно 8 тыс. слов и призыв
к созданию словаря:
По моему мнению, это была бы вещь очень достойная и прибыль-
ная не менее, чем достойная, если муж хорошо образованный
и трудолюбивый соберет все слова, которыми мы пользуемся в на-
шем английском языке... в один словарь и кроме правильного на-
писания, основанного на алфавите, откроет нам как природную
их силу, так и правильное их использование.
Он выявил и еще один мотивирующий фактор: из-за ускоренно-
го развития торговли и транспорта соседство других языков сдела-
лось настолько ощутимым, что появилось осознание: английский
язык — лишь один из многих. “Чужеземцы дивятся изменчиво-
сти написания и непостоянству наших букв”, — писал Малкастер.
Язык перестал быть таким же невидимым, как воздух.
Всего около 5 млн человек на Земле говорили на английском (это
очень грубая оценка, до 1801 года никто не пытался посчитать на-
селение Англии, Шотландии или Ирландии). Умевших писать едва
набирался миллион. Из всех языков мира английский на тот мо-
мент уже был самым пестрым, самым полигенным. Его история
свидетельствует о постоянных вторжениях и заимствованиях. Его
самые старые слова, условно базовые, произошли из языков, на ко-
торых говорили англы, саксы и юты, германские племена, пересек-
64
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
шие Северное море, пришедшие в Англию в V веке и оттеснив-
шие кельтов. Из кельтского языка в англосаксонскую речь проник-
ло немного, но викинги-завоеватели принесли с собой норвежские
и датские слова: egg, sky, anger, give, get. Латынь пришла с христи-
анскими миссионерами — они пользовались римским алфавитом,
который заменил руническое письмо, распространенное в Цен-
тральной и Северной Европе в начале первого тысячелетия. Затем
началось французское влияние.
“Влияние” для Кодри означало “вливание”. С лингвистической
точки зрения норманнское завоевание больше походило на потоп.
Английские крестьяне продолжали выращивать cows, pigs и oxen
(коров, свиней и быков — германские слова), но во втором ты-
сячелетии представители высшего сословия уже ели на обед beef,
pork и mutton (говядину, свинину и баранину — французские
слова). В Средние века французские и латинские корни были бо-
лее чем у половины общеупотребительных слов. Еще больше чу-
жих слов появилось, когда ученые стали сознательно заимствовать
из латинского и греческого для обозначения понятий, в которых
язык до этого не нуждался. Кодри раздражала эта привычка. “Не-
которые так старательно ищут иностранный английский, что со-
вершенно забывают язык своих матерей, так что, если бы их матери
были живы, они не смогли бы ни объяснить, ни понять, что они го-
ворят, — жаловался он. — Можно было бы штрафовать их за под-
делку королевского английского”.
Через 400 лет после появления книги Кодри путь ее автора по-
вторил Джон Симпсон. В каком-то смысле Симпсон оказался есте-
ственным наследником Кодри — редактором грандиозной книги,
‘Оксфордского словаря английского языка”. Симпсон, бледный че-
ловек с тихим голосом, считал Кодри упрямым, бескомпромисс-
ным и даже агрессивным. Школьный учитель принял сан дьякона,
а затем и священника англиканской церкви в беспокойное время,
в период расцвета пуританства. Из-за нонконформизма у Кодри
были неприятности. Его обвиняли в “неисполнении” некоторых
обрядов, таких как водоосвящение и благословение обручальных
колец. Будучи деревенским священником, он не ходил на поклон
к епископам и архиепископам. Он проповедовал форму единооб-
разия, которую не приветствовали церковные власти: “Была пре-
65
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
доставлена секретная, компрометирующая его информация о про-
изнесении иных слов с кафедры, приводящих к искажению Книги
общественного богослужения... Поэтому будет считаться опас-
ным человеком, если продолжит проповедовать, заражая людей
принципами, отличными от установленных религией”. Кодри был
лишен сана, у него отобрали бенефиции. Годами он безуспешно
оспаривал это решение.
Все это время он собирал слова (collect — коллекционировать,
собирать). Он опубликовал два обучающих трактата, один по кате-
хизису (catechiser — тот, кто учит принципам христианской рели-
гии), другой о “Богоугодной форме ведения хозяйства для порядка
в частных семьях”, а в 1604 году написал книгу совсем иного типа:
ничего, кроме списка слов с краткими определениями.
Зачем? Симпсон утверждал: “Мы уже заметили, что он сторон-
ник простоты в языке и катастрофически упрям”. Он все еще про-
поведовал — теперь проповедникам. “Те, кто по своему положе-
нию и призванию (особенно проповедники) имеет возможность
говорить публично перед невежественными людьми, должны быть
предупреждены”, — писал Кодри в предисловии. Далее следова-
ло само предупреждение: “Никогда не употребляйте слова из чер-
нильницы [под “словами из чернильницы” он подразумевал книж-
ные слова. — Прим, авт]. Работайте над тем, чтобы говорить так,
чтобы самый невежественный мог легко понять вас”. И главное,
не говорите как иностранец:
Некоторые джентльмены после возвращения домой из далеко-
го путешествия начинают не только носить иностранное платье,
но и приукрашивать речь заморскими словами. Приехавший не-
давно из Франции будет говорить на французском английском,
ни разу этого не стыдясь.
Кодри не собирался вносить в свой список все (что бы это ни зна-
чило) слова. К 1604 Г°ДУ Уильям Шекспир написал большинство
своих пьес, используя словарь почти в 30 тыс. слов, но эти сло-
ва не были доступны Кодри или кому-либо еще. Кодри не обра-
щал внимания ни на обычные слова, ни на книжные, ни на офран-
цуженные, он вносил в список только “трудные общеприня-
66
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
тые” — достаточно трудные, чтобы нуждаться в пояснении, но все
еще принадлежащие “языку, на котором мы говорим”, “понят-
ные каждому”. Он записал 2500 слов. Он знал, что многие про-
исходят (derive) из греческого, французского и латинского, и со-
ответствующим образом помечал их. Книга, написанная Кодри,
была первым словарем английского языка. Правда, слова “словарь”
в ней не было.
Хотя Кодри и не ссылался на источники, на что-то он все же
опирался. Так, он скопировал замечания о “словах из чернильни-
цы” и путешествующих джентльменах из популярной книги То-
маса Вильсона “Искусство риторики”. Сами слова он брал из не-
скольких источников (source — источник, волна, двигающая сила
воды). Около половины слов он нашел в “Школьном учителе ан-
глийского” Эдмунда Кута — учебнике чтения для начинающих,
впервые опубликованном в 1596 году и впоследствии неоднократ-
но переиздававшемся. Кут обещал, что с этой книгой школьный
преподаватель может научить сотню учеников быстрее, чем сорок
без нее. Он посчитал нужным объяснить преимущества обуче-
ния людей чтению: “Больше знания будет принесено на эту Землю
и больше книг будет покупаться, чем было раньше”. Кут составил
длинный словарь, который Кодри позаимствовал.
Сортировать слова в алфавитном порядке, чтобы составить “Алфа-
витный перечень...”, было совсем не очевидным решением. Код-
ри знал — он не может рассчитывать на то, что даже его образо-
ванные читатели знают, в каком порядке располагаются буквы в ал-
фавите, поэтому попытался написать небольшое руководство. Он
не мог решить, описывать порядок в логических или схематичных
терминах или же как пошаговую процедуру, алгоритм. “Дорогой
читатель”, — писал он, и это обращение снова было заимствован-
ным у Кута, —
ты должен выучить наизусть алфавит, знать порядок, в котором сто-
ят буквы, не сверяясь с книгой, и где располагается каждая буква:
h ближе к началу, п почти в середине, t ближе к концу. Теперь, если
слово, которое ты хочешь найти, начинается с л, то ищи его в нача-
67
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ле этого Перечня, а если с v — в конце. Опять же, если слово начи-
нается с са — ищи его в начале буквы с, но ежели с си — то в конце.
И так для всех букв.
Объяснить было непросто. Монах-доминиканец Иоганн Бальб
из Генуи попробовал это сделать в своем “Католиконе” 1286 года.
Бальб думал, что первым изобретает алфавитный порядок, и его
инструкции были чрезвычайно подробны: “Например, я наме-
рен обсудить ато и bibo. Я буду обсуждать ато раньше bibo, по-
тому что а — первая буква ато, zb — первая буква bibo и а идет
раньше b в алфавите. Аналогично... ” Он приводит длинный спи-
сок примеров, а потом пишет: “Я прошу тебя, добрый читатель,
не сочти этот великий труд мой и этот порядок чем-то не стоя-
щим усилий”.
В античном мире списки, составленные по алфавиту, практи-
чески не встречались примерно до 250 года до н. э., когда появи-
лись александрийские тексты на папирусе. По-видимому, в вели-
кой Александрийской библиотеке алфавитизация использовалась
хотя бы частично. Необходимость в такой искусственной схеме
упорядочивания появилась лишь с увеличением количества дан-
ных, не организованных никаким иным способом. А возможность
упорядочения по алфавиту возникает только в языках, имеющих
алфавит, — небольшой набор отдельных символов, расположен-
ных в определенной последовательности (abecedarie — букварь,
порядок букв или тот, кто его использует). И даже тогда система ка-
жется неестественной. Она заставляет пользующегося ею отделять
информацию от значения, рассматривать слова лишь как цепоч-
ку символов, обращать внимание на то, как выглядит слово. Более
того, упорядочение по алфавиту состоит из пары процедур, вза-
имно обратных одна другой, — организации списка и нахождения
слов, то есть сортировки и поиска. В любом из направлений про-
цедура рекурсивна (recourse — возвращение назад). Базовая опера-
ция является двоичным выбором: “больше чем” или “меньше чем”.
Она выполняется сначала для одной буквы, затем, словно вложен-
ная подпрограмма, для следующей и, как пытался сформулировать
Кодри, “для всех оставшихся”. Такой способ поразительно продук-
тивен. Систему легко применить к словам любой длины, посколь-
68
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
ку ее макроструктура идентична микроструктуре. Тот, кто пони-
мает, как устроен алфавитный порядок, уверенно и безошибочно
отыщет нужное слово в гигантском списке, при этом ему не обяза-
тельно знать значение слова.
В 1613 году первый алфавитный каталог — даже не печатный,
а рукописный, в двух тетрадях — был составлен для Бодлианской
библиотеки в Оксфорде. Самый первый каталог университетской
библиотеки был создан двумя десятилетиями ранее в голландском
Лейдене, но это была шкафная опись (около 450 наименований),
организованная по темам книг без алфавитного указателя. В од-
ном Кодри мог быть уверен: его типичный читатель — грамот-
ный, покупающий книги англичанин начала XVII века — мог про-
жить жизнь, ни разу не встретив упорядоченного по алфавиту на-
бора данных.
Осмысленные способы упорядочивания возникли давно
и существовали подолгу. В Китае самым близким к современ-
ному понятию словаря была “Эръя”, составленная неизвестным
автором и датирующаяся примерно III веком до н. э. Две тыся-
чи понятий были организованы в “Эръе” по значению, по тема-
тическим категориям: родственные связи, здания, инструменты
и оружие, небеса, земля, растения и животные. У египтян были
списки слов, составленные по философским или образователь-
ным принципам, такие же существовали у арабов. Списки орга-
низовывали в основном не сами слова, а мир, то есть вещи, кото-
рые эти слова обозначали. Через сто лет после Кодри немецкий
философ и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц указал на это
различие:
Позвольте заметить, что слова или названия всех вещей и действий
можно занести в список двумя разными способами — по алфави-
ту и по смыслу... Первый способ — от слова к предмету, второй —
от предмета к слову.
Тематические списки требовали размышлений, были несовершен-
ными и довольно изобретательными. Алфавитные в свою очередь
были механическими, эффективными и автоматическими. С точки
зрения алфавитного подхода слова это последовательности симво-
69
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
лов, каждый из которых находится в своем слоте. Фактически они
с таким же успехом могли быть числами.
Разумеется, значения появляются в словаре через определения. Ос-
новными моделями для Кодри послужили словари, составленные
для перевода, главным образом латинско-английский Dictionarium
Томаса Томаса 1587 года. Двуязычный словарь выполнял более по-
нятные задачи, нежели одноязычный: описание латинских слов ан-
глийскими имело смысл, которого был лишен перевод с англий-
ского на английский. Тем не менее определения были необходимы.
В конце концов, Кодри ставил перед собой цель помочь людям по-
нять и использовать сложные слова. Он подошел к задаче опреде-
ления с волнением, которое ощущается до сих пор. Даже составляя
эти определения, Кодри не вполне верил в их устойчивость. Значе-
ния оказались еще более ускользающими, чем написание. Понятие
define (определять) для Кодри должно было применяться к вещам,
а не к словам (define — ясно показывать, чем является вещь). Это
была реальность во всем ее многообразии, и ее надо было опреде-
лить. Interpret (интерпретировать) значило “открывать, делать яс-
ным, показывать смысл и значение вещи”. Для Кодри взаимосвязь
вещи и слова была сродни взаимосвязи объекта и его тени.
Соответствующие понятия еще не сформировались:
figurate — имитировать, представлять, подделывать (аллегориче-
ски представлять);
type — представление, образ какой-либо вещи (тип);
represent — выражать, нести образ вещи (представлять, символи-
зировать).
Ральф Левер, старший современник Кодри, придумал собствен-
ное слово saywhat, “неверно называемое определением: это вы-
сказывание, которое говорит, что есть вещь, точнее его можно
назвать saywhat”. Оно не прижилось. Понадобилось еще почти
юо лет и примеры Кодри и его последователей, чтобы сформиро-
валось современное значение. “Определение, — в конце концов
в 1690 году написал Джон Локк, — есть не что иное, как исполь-
70
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
зование других слов для разъяснения, что за идея стоит за объяс-
няемым словом”. И все равно это недоработанная точка зрения.
Определение — это вид коммуникации: сделать так, чтобы другой
понял, отправить сообщение.
Кодри заимствует определения из собственных источников,
объединяет их и адаптирует. Во многих случаях он просто объяс-
няет одно слово другим:
orifice (отверстие), рот;
baud (блудница, развратная женщина), шлюха;
helmet (шлем), головной убор.
Для некоторых слов он использовал специальное обозначение,
букву &, которая “указывает на принадлежность к виду”. Он не счи-
тал, что должен объяснять к какому. Таким образом:
crocodile (крокодил), k животное;
alablaster (алебастр), k камень;
citron (лимон), k фрукт.
Подбор пары для слова, будь то синоним или слово, относящее-
ся к тому же семантическому классу, помогает лексикографу лишь
до определенного момента. Связи между словами слишком слож-
ны, чтобы подходить к ним настолько линейно (chaos — беспоря-
дочная куча, мешанина). Иногда Кодри пытается решить эту про-
блему, добавляя опорные точки — один или несколько дополни-
тельных синонимов:
specke (крапинка) — пятно, пометка;
cynicall (циничный) — собачий, неблагоприятный;
vapor (испарение) — влага, воздух, горячее дыхание или зловоние.
Для слов, представляющих понятия и абстракции, еще более дале-
кие от сферы осязаемого, Кодри приходится находить иной стиль.
Он придумывает его на ходу. Он должен говорить с читателем
в прозе, но не совсем предложениями. И мы видим, как он пытает-
ся понять определенные слова и выразить свое понимание.
71
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
gargarise (полоскать горло) — мыть рот и горло изнутри, пере-
мешивая жидкость во рту вверх и вниз;
hypocrite (лицемер) — тот, кто внешним видом, выражением
лица и поведением притворяется другим человеком, нежели он есть
на самом деле, или обманщик;
buggerie (содомия) — совокупление с себе подобным или сово-
купление человека с животным;
theologie (теология) — богословие, наука жить в вечном благо-
словении;
cypher (шифр) — круг с цифрами, сам по себе ничего не знача-
щий, но служащий для того, чтобы скрыть число или другие, более
значимые знаки;
horizon (горизонт) — круг, отделяющий половину небесного
свода от другой половины, которую мы не видим;
zodiac (пояс зодиака) — круг в небесах, в котором расположены
12 знаков и по которому движется Солнце.
Не только значения слов, но и знания еще не были устойчивыми.
Язык изучал сам себя. Даже когда Кодри копировал Кута или Тома-
са, он был один, ему не с кем было посоветоваться и не к чему об-
ратиться.
Так, одним из “трудных общепринятых” слов Кодри было science,
наука (знание или навык). Еще не существовало науки как системы,
отвечающей за изучение вселенной и ее законов. Натурфилософы
только начинали обращать внимание на слова и их значения. Когда
в 1611 году Галилей направил первый телескоп на небо и обнаружил
солнечные пятна, он тут же понял, что его открытие вызовет мно-
жество споров — традиционно Солнце было идеалом чистоты, —
и почувствовал, что наука не может продвигаться вперед без пред-
варительного разрешения проблемы с языком:
До тех пор пока люди фактически были обязаны называть Солнце
“самым чистым и самым ясным”, невозможно было заметить на нем
тени или примеси, но теперь, когда оно показалось нам как частич-
но нечистое и пятнистое, почему мы не должны называть его пят-
нистым и нечистым? Имена и свойства должны соответствовать
72
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
сути вещей, а не сути имен, поскольку сначала идут вещи, а назва-
ния — после.
Когда Исаак Ньютон начал свое великое дело, он столкнул-
ся с фундаментальным отсутствием определений там, где они
были нужны больше всего. Он начал с семантической уловки.
“Я не определяю время, пространство, место и движение, потому
что они всем хорошо известны”, — лукаво написал он. На самом
деле его главной целью было именно дать определение этим сло-
вам. Не существовало единых стандартов мер и весов. Вес к мера
и сами были расплывчатыми понятиями. Латынь казалась бо-
лее надежной, чем английский, потому что была менее изноше-
на ежедневным употреблением, но у римлян тоже не оказалось
нужных слов. По черновикам Ньютона (а не по тем трудам, ко-
торые в итоге были опубликованы) можно проследить, как не-
просто ему было справиться с вставшей перед ним задачей. Он
пробовал выражения вроде quantitas materiae. Слишком слож-
ное для Кодри: material! — что-то значащее или важное. Нью-
тон попытался объяснить это слово как “то, что возникает из со-
единения плотности и массы”. Он решил использовать больше
слов: “Это количество я обозначу как тело или массу”. Точных
слов катастрофически не хватало, Ньютон не мог продолжать
без них. Скорость, сила, гравитация — ни одно из них не подхо-
дило. Их нельзя было ни объяснить, ни использовать в объясне-
нии. Вокруг не было ничего, на что можно было бы указать паль-
цем для объяснения, и не было книги, в которой можно было бы
найти нужные слова.
Что до Роберта Кодри, его следы теряются после выхода в 1604 году
“Алфавитного перечня...”. Никто не знает, когда он умер. Никто
не знает, сколько копий сделал печатник. Нет записей (records
(запись) — записка, сделанная для запоминания). Одна копия
попала в оксфордскую Бодлианскую библиотеку, где и сохрани-
лась, остальные пропали. В 1609 году вышло второе издание, не-
много расширенное (“намного увеличенное”, как утверждалось
на титульной странице), его подготовил сын Кодри Томас; тре-
73
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
тье и четвертое вышли в 1613-м и 1617-м, и на этом жизнь книги
завершилась.
Книга Кодри оказалась в тени нового словаря, в два раза
большего по объему: “Английский толкователь: обучение пони-
манию самых трудных слов, используемых в нашем языке, с раз-
личными пояснениями, описаниями и рассуждениями”. Имя его
составителя Джона Баллокара также редко встречается в истори-
ческих источниках. Баллокар был врачом, некоторое время жил
в Чичестере, даты его рождения и смерти не установлены; гово-
рят, в 1611 году он побывал в Лондоне, где видел мертвого кро-
кодила, и больше о нем почти ничего не известно. Его “Толкова-
тель” вышел в 1616 году и в последующие десятилетия выдержал
несколько переизданий. В 1656 году лондонский адвокат Томас
Блаунт опубликовал свою “Глоссографию, или Словарь, объяс-
няющий все трудные слова из любого языка, теперь используемые
в нашем изящном английском языке”. Словарь Блаунта включал
более 11 тыс. слов, многие из которых, признавал автор, были но-
выми, попавшими в Лондон в суматохе торговли и коммерции —
coffa или cauphe — вид напитка, употребляемого турками и пер-
сами (и недавно появившийся у нас), черный, густой и горький,
процеживается из зерен этой природы и того же названия; хорош
и очень полезен: говорят, изгоняет меланхолию,
— или местного производства типа “tom-boy — девочка или деви-
ца, прыгающая вверх и вниз, как мальчишка”. Кажется, Блаунт по-
нимал, что стреляет по движущейся мишени. В предисловии он
писал: “Труд составителя словаря не имеет конца из-за обычая на-
шего английского языка ежедневно меняться”. Определения Бла-
унта были более подробными, чем у Кодри, к тому же он старался
указывать и происхождение слов.
Ни Баллокар, ни Блаунт не упомянули Кодри, он уже был за-
быт. Но в 1933 году в первом издании самой великой книги, “Окс-
фордского словаря английского языка”, его редакторы все же отда-
ли дань уважения “маленькой тонкой книжке” Кодри. Они назвали
ее “тем желудем”, из которого вырос их дуб (Кодри: “akecome —
желудь, k фрукт”).
74
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
Через 402 года после выхода “Алфавитного перечня...” Междуна-
родный астрономический союз проголосовал за исключение Плу-
тона из списка планет, и Джону Симпсону необходимо было сроч-
но принять решение. В Оксфорде он и его команда энциклопе-
дистов работали над буквой Р. Среди новых слов, которые они
включали в “Оксфордский словарь английского языка”, 6h\mpletzel
(традиционное еврейское печенье), plish (чудесный), pod person
(человек, ведущий себя как машина), point-and-shoot (фотокаме-
ра с автофокусом) и polyamorous (полигамный). Запись о Плуто-
не тоже была относительно новой. Планета была обнаружена толь-
ко в 1930 году — слишком поздно, чтобы войти в первое издание
словаря. Сначала было предложено имя Минерва, затем отвергну-
то, так как уже существовал астероид с таким названием. С точки
зрения названий небеса были переполнены. И тогда одиннадцати-
летняя жительница Оксфорда Венеция Берни предложила назвать
планету Плутоном.
Оксфордский словарь включил Плутон во второе издание:
“1. Небольшая планета солнечной системы, лежащая за орбитой
Нептуна... 2. Кличка мультипликационной собаки, впервые по-
явившейся в “Охоте на лося” Уолта Диснея, вышедшей в апреле
1931 года”. “Нам действительно не нравится, когда мы вынуждены
что-то серьезно менять”, — заявил Симпсон, но у него едва ли был
выбор. Диснеевское значение Плутона оказалось более устойчи-
вым, чем астрономическое — в нем он был разжалован в “малое
планетарное тело”. Рябь прошла по всему словарю. Плутон уда-
лили из списка, где он был определен как “планета, сущ”. Была
исправлена словарная статья Plutonian (не путать с pluton, plutey
и plutonyl).
Симпсон был шестым в почетном ряду редакторов “Оксфорд-
ского словаря английского языка”, чьи имена произносил без за-
пинки — “Мюррей, Брэдли, Крейги, Оньонз, Берчфилд — как раз
хватает пальцев”, — и считал себя продолжателем их дела и тради-
ций английской лексикографии, ведущей свою историю от Кодри
и Сэмюеля Джонсона. Джеймс Мюррей в XIX веке придумал метод,
основанный на карточках — кусочках бумаги размером 6 на 4 дюй-
ма. На столе Симпсона всегда находилась тысяча таких карточек,
75
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
а рядом еще миллионы заполняли металлические шкафы и деревян-
ные коробки с записями, собиравшимися два столетия. Но карточ-
ки со словами устарели. Они стали просто бумажками. Их мож-
но назвать treeware (бесполезная печатная продукция) — это слово
лишь недавно было внесено в Оксфордский словарь и маркирова-
но как “компьютерный сленг, часто юмористический”; слово blog
(блог) было признано в 2003 году, dot-commer (тот, кто работает
в интернет-компании) — в 2004-м, cyberpet (электронная игрушка,
имитирующая домашнее животное) — в 2005-м, а глагол to Google
(гуглить, искать информацию в поисковой системе Google) —
в 2006-м. Симпсон и сам часто “гуглил”. Кроме карточек со сло-
вами на его столе был прямой доступ к нервной системе языка —
мгновенное подключение к всемирной сети лексикографов-люби-
телей и доступ к обширной системе взаимосвязанных баз данных,
асимптотически приближающейся к идеалу, который можно на-
звать “Весь предшествующий текст”. Словарь встретился с кибер-
пространством, и с этого момента оба уже не были прежними. Но,
как бы сильно Симпсон ни чтил прошлое и традиции “Оксфорд-
ского словаря”, ему волей-неволей пришлось возглавить револю-
цию. Там, где Кодри находился в изоляции, у Симпсона были связи.
Английский язык, на котором теперь говорит более мил-
лиарда человек во всем мире, вошел в период бурного развития,
и перспективы, видимые из почтенных кабинетов Оксфорда, од-
новременно понятны и ошеломляющи. Язык, за которым следи-
ли лексикографы, одичал и стал хаотичным: огромное, бурлящее
и расширяющееся облако посланий и разговоров, газет, журналов,
брошюр, меню и деловых бумаг, новостных интернет-групп и ча-
тов, теле- и радиопередач, звуковых записей. Напротив, сам сло-
варь приобрел статус монумента, непоколебимо возвышающего-
ся над всеми. Он оказывает влияние на язык, за которым пытается
следить. Он неохотно играет эту авторитарную роль. Лексико-
графы могут вспомнить язвительное определение словаря, кото-
рое юо лет назад дал Амброз Бирс: “Словарь — вреднейшая при-
думка из области литературы, которая сдерживает развитие языка
и делает его сухим и косным”1. В наше время составители “Окс-
1 Пер. С. Барсова.
76
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
фордского словаря” подчеркивают, что не допускают неодобрения
(или поощрения) какого-то конкретного употребления или напи-
сания. Но они не могут отречься от своей амбициозной цели охва-
тить весь английский язык. Они берут все слова, даже жаргонные:
идиомы и эвфемизмы, святые или непристойные, мертвые или жи-
вые, королевский английский и уличный. Это лишь мечта: всегда
есть ограничения во времени и пространстве, и, кроме того, может
возникнуть ситуация, когда дать определение тому, что есть слово,
станет невозможно. Тем не менее при определенном допущении
“Оксфордский словарь” считается идеальным зеркальным отраже-
нием английского языка.
Этот словарь подтверждает, что слово постоянно. Он заявля-
ет, что значения слов основаны на других словах. Он предпола-
гает, что все слова вместе образуют взаимосвязанную структуру —
именно взаимосвязанную, потому что одни слова определены
с помощью других. Об этом невозможно было говорить во време-
на господства устной культуры, когда язык был едва виден. Только
когда появление печати (и словаря) подняло язык на поверхность,
когда он стал объектом тщательного изучения, появилось ощу-
щение, что значение слова независимо и даже директивно. Сло-
ва стали рассматриваться как слова, представляющие другие слова,
а не только предметы. В XX веке, с развитием логики, эта деректив-
ность стала проблемой. “В рассуждениях, касающихся языка, я уже
вынужден был прибегать к полному (а не к какому-то предвари-
тельному, подготовительному) языку”1, — жаловался Людвиг Вит-
генштейн. Тремя столетиями раньше с тем же затруднением столк-
нулся и Ньютон, только теперь ситуация была сложнее, потому
что Ньютон искал слова для описания законов природы, а Витген-
штейну нужны были слова для определения слов: “Говоря о язы-
ке (слове, предложении и т.д.), я должен говорить о повседневном
языке. Не слишком ли груб, материален этот язык для выражения
того, что мы хотим сказать?” Именно так все и было, но язык нахо-
дится в постоянном развитии.
В 1900 году Джеймс Мюррей говорил о языке как о книге:
“Словарь английского языка, как и английская Конституция, создан
1 Здесь и далее — пер. Л. Добросельского.
77
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
не одним человеком и не в какое-то конкретное время, он разви-
вался медленно и рос веками”. Первый выпуск того, что потом ста-
ло “Оксфордским словарем английского языка”, был одной из са-
мых больших книг, когда-либо издававшихся. “Новый английский
словарь, основанный на исторических принципах”, 414 825 слов
в десяти тяжелых томах, был представлен королю Георгу V и пре-
зиденту США Калвину Кулиджу в 1928 году. Работа заняла деся-
тилетия, сам Мюррей к этому моменту уже умер. А словарь счита-
ли устаревшим даже до того, как он вышел из типографии. После-
довало несколько дополнений, но второе издание появилось лишь
в 1989 году — 20 томов, 22 тыс. страниц, 62,5 кг. Третье издание от-
личается от первых двух: оно не имеет веса, потому что существует
в цифровой реальности. Возможно, для создания словаря больше
никогда не понадобится бумага и чернила. С 2000 года результаты
переработки по частям ежеквартально появляются в Сети, и каж-
дый раз они включают несколько тысяч переработанных вхожде-
ний и сотни новых слов.
Кодри, вполне естественно, начал работу с буквы А, то же са-
мое сделал и Джеймс Мюррей в 1879 году, но Симпсон предпочел
начать с Л/. Он отнесся к А с подозрением. Посвященным давно
было понятно, что “Оксфордский словарь” в том виде, в котором
он был опубликован, далеко не безупречен. В первых буквах все
еще чувствуются следы неуверенности Мюррея. “Фактически он
пришел, обустроился и начал набирать текст, — рассказывал Симп-
сон. — Много времени ушло на согласование стратегии и проче-
го, так что если мы начнем с А, то вдвое усложним задачу. Думаю,
они разобрались, как работать, примерно к букве £>, хотя Мюррей
всегда говорил, что самой тяжелой была буква £, потому что ее на-
чал Генри Брэдли, его ассистент, и Мюррей всегда считал, что тот
сделал работу довольно плохо. Тогда мы подумали — может, лучше
начать с G или Н. Но вы добираетесь до G и Н, а там уже и /,/, К...
уж лучше начать после них... ”
Первая тысяча вхождений от М до mahurat была опубликова-
на в Сети весной 2000 года. Годом позже лексикографы добрались
до слов, начинающихся с те\ me-ism (один из принципов совре-
менного мира, согласно которому в центр человек ставит самого
себя), meds (сокр. для лекарства), medspeak (жаргон врачей), meet-
78
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
and-greet (вид светского общения в Сев. Америке) и целый набор
слов, объединенных таким началом, как media (media-baron — че-
ловек, владеющий большим количеством СМИ; media-circus —
не соответствующее поводу огромное внимание СМИ; media-
darling — знаменитость, любимая СМИ; media-hype — ажиотаж,
поднятый в прессе; media-savvy — человек, хорошо разбирающий-
ся в работе СМИ и имеющий большое влияние) и mega- (mega-
pixel — мегапиксель; mega-bitch — страшная стерва; mega-dose —
большая доза; mega-hit — суперхит; mega-trend — главный тренд).
Это уже не было языком, на котором говорили 5 млн в большин-
стве своем неграмотных жителей небольшого острова. По мере
того как пересматривались буква за буквой, словарь начал вклю-
чать неологизмы в момент их появления, и работать со статьями
в алфавитном порядке стало непрактично. Поэтому в одном об-
новлении в 2001 году появились acid jazz (эйсид-джаз), Bollywood
(Болливуд), channel surfing (просмотр телевизора или прослуши-
вание радио с постоянным переключением каналов), double-click
(двойной клик), emoticon (эмограмма, смайлик), feel-good (делаю-
щий кого-либо счастливым или довольным), gangsta (член одной
из городских группировок), hyperlink (ссылка) и многое другое.
Kool-Aid (название популярного напитка, который готовят из по-
рошка) был включен как новое слово не потому, что словарь почув-
ствовал себя обязанным фиксировать имена собственные (ориги-
нальный Kool-Aid был запатентован в США в 1927 году), а потому,
что одно из употреблений этого слова уже нельзя было игнориро-
вать: to drink the Kool-Aid (пить Kool-Aid — демонстрировать бес-
прекословное подчинение или лояльность). Распространение это-
го своеобразного выражения после массового отравления в Гвиа-
не в 1978 году говорит о том, что глобальная коммуникация все же
устроена довольно причудливо.
Но оксфордские лексикографы не были рабами моды. Как пра-
вило, чтобы быть включенным в словарь, неологизм должен про-
жить в языке не менее пяти лет. Каждое слово-кандидат подвергает-
ся тщательному изучению. Одобрение каждого нового слова — це-
лая процедура. Слово должно широко употребляться, не зависеть
от местности или происхождения; словарь глобален, он признает
слова отовсюду, где говорят на английском, но не намерен вклю-
79
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
чать местные каламбуры. Будучи однажды добавленным, слово уже
никогда не будет исключено. Оно может выйти из употребления
или стать редким, но самые старые и забытые слова иногда появ-
ляются снова — их открывают заново или случайно опять приду-
мывают, и в любом случае они часть истории языка. Все 2500 слов
Кодри входят в “Оксфордский словарь” вынужденно. Для тридца-
ти одного из них маленькая книга Кодри — первый известный слу-
чай употребления. Для нескольких — единственный. Это пробле-
ма. Но решения словаря не пересматриваются. У Кодри, например,
есть onust, поэтому оно есть и в “Оксфордском словаре” со значе-
нием, которое дал Кодри, — “нагруженный, отягощенный”. Но это
единственный случай, когда оно встречается. Не придумал ли его
Кодри? “Я склоняюсь к мнению, что он пытался воспроизвести
лексику, которую слышал, — говорил Симпсон. — Но я не могу
быть в этом полностью уверенным”. У Кодри есть hallucinate (об-
манывать, ослеплять), и словарь, следуя правилам, дает “обманы-
вать” как его первое значение, хотя нет никого, кто бы использо-
вал данное слово в этом значении. В подобных случаях редакто-
ры могут добавить свое двойное предупреждение “устар., редкое”.
Но сделать больше невозможно.
В XXI веке уже недостаточно единственного источника, чтобы
слово попало в “Оксфордский словарь”. Ничего странного, особен-
но если учесть размах предприятия, охват аудитории, а также отдель-
ных людей, делающих все возможное, чтобы их собственные окка-
зионализмы были ратифицированы словарем. Одно из слов, кото-
рым в английском языке можно передать термин “окказионализм”,
nonce-word^ было введено в обращение самим Джеймсом Мюрре-
ем. И он включил его в словарь. Американский психолог Сондра
Смолли придумала слово codependency (созависимость) в 1979 году,
в 1980-е начала его лоббировать, а в 1990-е редакторы наконец одоб-
рили слово, посчитав его устоявшимся. У.Х. Оден объявил, что жа-
ждет признания как автор нескольких слов, и в конце концов его за-
слугу признали за такие слова, как motted (расположенный на зе-
леном холме), metalogue (речь, которую произносят между актами
или сценами пьесы), spitzy (напоминать или иметь отношение к со-
баке породы шпиц) и др. Таким образом, словарь как бы включил-
ся в цепь обратной связи. Теперь создатели и пользователи словаря
8о
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
воспринимали язык по-другому. Энтони Берджесс жаловался на то,
что не мог пробиться в словарь: “Несколько лет назад я изобрел сло-
во amation для искусства заниматься любовью и все еще считаю его
полезным. Но я должен убедить других использовать его на пись-
ме, прежде чем оно станет достойно лексикографирования (если
есть такое слово) [он знал, что этого слова не существует. — Прим,
авт.}. И только авторитет Т.С. Элиота позволил включить в преды-
дущий том дополнений постыдное (на мой взгляд) juvescence”. Бер-
джесс был уверен, что Элиот ошибся в написании слова juvenescence
(юность). Если так, то эта ошибка была повторена 28 лет спустя
Стивеном Спендером, так что juvescence встречается два раза. Сло-
варь признает, что такое бывает редко.
Как бы “Оксфордский словарь” не старался отразить гибкость
языка, он не может не быть катализатором его отвердения. Про-
блема написания порождает характерные трудности. “Каждая фор-
ма, в которой слово появлялось на протяжении своей истории”,
должна быть включена в словарь. Так, для слова mackerel (скум-
брия, “хорошо известная морская рыба, Scomber scombrus, широ-
ко употребляемая в пищу”) во втором издании в 1989 году словарь
дал девятнадцать различных написаний. Однако поиск источни-
ков не прекращался, и третье издание дало не меньше тридцати на-
писаний: maccarel, mackaral, mackarel, mackarell, mackerell, mackeril,
mackreel, mackrel, mackrell, mackril, macquerel, macquerell, macrel,
macrell, macrelle, macril, macrill, makarell, makcaral, makerel, makerell,
makerelle, makral, makrall, makreill, makrel, makrell, makyrelle,
maquerel и maycril. Будучи лексикографами, редакторы словаря ни-
когда не объявят эти написания неправильными. Они не назовут
свой выбор — mackerel — единственно верным. Они подчеркива-
ют, что изучают свидетельства и выбирают “наиболее распростра-
ненное на данный момент написание”. Тем не менее есть и случаи
самоуправства: “Фирменный оксфордский стиль иногда берет верх,
как это случилось с глаголами, которые могут оканчиваться на -ize
или -ise, — всегда используется окончание -zze”. Как бы они не от-
крещивались от директивности, они знают — читатель все равно
заглянет в словарь, чтобы узнать, как пишется слово. Им не избе-
жать противоречий. Они уверены, что должны включать в словарь
в том числе и те слова, от которых вздрагивают пуристы. В декабре
81
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
2003 года было увековечено слово nucular — “nuclear а. (ядерный,
в различных смыслах)”. Но они отказываются считать новыми сло-
вами очевидные опечатки, которые возникают при интернет-поис-
ке. Они не признают слова straight-laced, несмотря на то что стати-
стика указывает: искаженная форма употребляется чаще strait-laced
(строгий, пуританский). Оксфордский словарь так объясняет от-
сутствие в подобных примерах дополнительных вариантов написа-
ния слова: “С изобретением печатного станка написание стало ме-
нее изменчивым, отчасти потому, что печатники стремились к еди-
нообразию, а отчасти из-за растущего интереса к изучению языка
в период Ренессанса”. Все так, но это ничего не говорит о роли са-
мого словаря как арбитра и образца для подражания.
Для Кодри словарь был моментальным снимком языка — он
не мог заглянуть ни в прошлое, ни в будущее. Сэмюель Джонсон
яснее осознавал историческое значение словаря. Он обосновывал
свою амбициозную программу отчасти желанием контролировать
необузданный язык, “который используется для совершенство-
вания всякого рода литературы, являясь при этом заброшенным,
ему разрешено расширяться в случайных направлениях, он сми-
рился с тиранией времени и моды, ему постоянно угрожают не-
вежественные искажения и капризы нововведений”. Но до “Окс-
фордского словаря” лексикография не предпринимала попыток
представить всю полноту языка сквозь призму времени. Словарь
превратился в историческую панораму. Проект приобретает ост-
роту, если рассматривать электронный век как время новой уст-
ной культуры — мир, вырывающийся из оков холодной печати.
Ни одно издание не воплощает в себе эти оковы лучше, чем “Окс-
фордский словарь”, но и он сам тоже пытается избавиться от них.
Редакторы чувствуют, что нельзя ждать, пока новое слово будет на-
печатано, не говоря уже о появлении в книге с переплетом, преж-
де чем включить его в словарь. Для слова tighty-whities (мужское
нижнее белье), добавленного в 2007 году, они дают ссылку на за-
писи сленга кампуса Университета Северной Каролины. Для сло-
ва kitesurfer (спортсмен, занимающийся кайтсерфингом) — на но-
востное сообщение в сети USENET и, позже, на новозеландскую
82
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
газету, найденную в базе данных в интернете. Единицы информа-
ции разбросаны по всему миру.
Когда Мюррей начал работу над новым словарем, его целью
было найти слова и их следы в истории. Никто не представлял
себе, сколько слов надо найти. К тому времени лучший и наибо-
лее полный словарь английского языка был американским: словарь
Ноа Уэбстера, 70 тыс. слов. Его можно было принять за отправ-
ную точку. Но где искать остальные слова? Для первых редакто-
ров того, что впоследствии стало “Оксфордским словарем”, было
очевидно: неиссякаемым источником слов должна стать литерату-
ра, особенно почтенные и качественные книги. Первые читатели
словаря прочесывали Мильтона и Шекспира (который до сих пор
остается самым цитируемым автором — более 30 тыс. источни-
ков), Филдинга и Свифта, исторические работы и проповеди, фи-
лософов и поэтов. В 1879 году в знаменитом публичном обраще-
нии Мюррей заявил:
Нам нужна тысяча читателей. Литература конца XVI века хоро-
шо изучена, но несколько книг еще надо прочитать. Литерату-
ра XVII века с большим количеством авторов, естественно, имеет
и более обширную неисследованную территорию.
Он считал, что, хотя это и большая территория, у нее все же есть
границы. Составители словаря были намерены найти все слова,
как бы много их ни оказалось. Они планировали провести полную
инвентаризацию. А почему бы и нет? Количество книг было неиз-
вестно, но не бесконечно, а количество слов в этих книгах можно
было сосчитать. Цель казалась далекой, но достижимой.
Теперь она уже таковой не кажется. Лексикографы осознали,
что язык безграничен. Они выучили знаменитую ремарку Мюр-
рея: “Круг английского языка имеет хорошо определенный центр,
но окружность его неразличима”. В центре находятся слова, из-
вестные всем. По краям, куда Мюррей поместил сленг, жаргон,
арго, научный жаргон и заимствования, нет “стандартных” значе-
ний, люди понимают эти слова по-разному.
Мюррей говорил, что центр “хорошо определен”, но беско-
нечность и размытость есть и здесь. Самые простые слова, самые
83
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
употребимые — те, которые Кодри и не думал включать в свой
словарь, — в “Оксфордском словаре” потребовали самых обшир-
ных статей. Описание make можно было бы издать отдельной кни-
гой: 98 различных значений глагола, причем некоторые из них
в свою очередь имеют десятки второстепенных значений. Сэмю-
ель Джонсон увидел проблему подобных слов и нашел решение —
он сдался.
Мой труд был существенно усложнен глаголами, слишком часто
встречающимися в английском, значение которых столь неточно
и общо, употребление так нечетко и неопределенно, а дополни-
тельные значения так далеко отходят от первоначальных, что труд-
но проследить их в лабиринте инвариантов, поймать на грани
внешней бессодержательности, ограничить их или интерпретиро-
вать какими-либо словами определенного и признанного значения:
bear, break, come, cast, full, get, give, do,put, set, go, run, make, take, turn,
throw. Если не все значения этих слов точно указаны, необходимо
помнить, что, пока наш язык живет и изменяется по капризу любо-
го, кто говорит на нем, данные слова тоже меняются, и переданы
они в словаре с той же точностью, что и схематично нарисованная
по отражению на воде роща в эпицентре бури.
Джонсон был в чем-то прав. Все это слова, которые любой англо-
язычный человек может заставить по-новому служить в любое вре-
мя, в любой ситуации, поодиночке или в комбинации с другими
словами, намеренно или нет, но с надеждой быть понятым. В каж-
дой новой редакции статьи словаря для слова вроде make получа-
ют новые подразделы и растут. Получается, что задача, которая
стоит перед создателями словаря, все время не только расширяет-
ся, но и углубляется.
Эта безграничность еще более очевидна, когда мы рассматри-
ваем не центр круга, а его край. Неологизмы появляются постоян-
но. Слова придумывают комитеты: transistor (транзистор), Лабора-
тории Белла, 1948 год. Или остряки: booboisie (дурачье), X. Л. Мен-
кен, 1922 год. Большинство же появляется спонтанно, словно
организмы в чашке Петри: blog (блог), около 1999 года. В одной
из партий новых слов были agroterrorism (агротерроризм), bada-
84
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
bing (опа!), bahookie (часть тела), beer pong (питейная игра), hippy
(задница, как в выражении you bet your...), chucklesome (забавный),
cypherpunk (человек, пользующийся шифрами и паролями для за-
щиты информации о своей частной жизни, например, от вла-
стей), tuneage (хорошая музыка) и wonky (шаткий, ненадежный).
Ни одно из этих слов не попало бы в список Кодри как “трудное
общепринятое”. И ни одно из них не находится в “хорошо опре-
деленном” центре Мюррея. Но все это слова обычного общего
языка. Даже bada-bing: “Предполагает, что что-то произошло не-
ожиданно или же легко и предсказуемо; “Вот так!”, “Вуаля!”. Пер-
вые устные документированные употребления встречаются в за-
писи комедийной радиопередачи Пэта Купера 1965 года. Затем
слово появляется в газетах, в расшифровках теленовостей и в ре-
плике из “Крестного отца”: “Ты должен подойти вот так близко,
и — опа! — их мозги разлетаются по всему твоему костюмчику
Лиги Плюща”. Лексикографы также предлагают этимологическую
справку, изящное предположение: “Происхождение не установле-
но. Возм. имитация барабанной дроби и звона цимбал. Возм. ср.
итальянск. bada bene”.
У английского языка больше нет географического центра,
если тот вообще когда-либо существовал. Во вселенной чело-
веческого дискурса всегда были тихие заводи. Язык, на котором
говорят в одной долине, отличается от языка, на котором гово-
рят в соседней. Сейчас долин стало больше, чем когда-либо, хотя
эти долины уже не так изолированны. “Когда вы прислушивае-
тесь к языку, собирая листки бумаги, это здорово, — сказал Пи-
тер Гилливер, историк и лексикограф “Оксфордского словаря”, —
но теперь ситуация такова, что мы можем слышать то, что про-
износится где угодно. Возьмите, к примеру, экспатов, живущих
в той части мира, где не говорят по-английски, например в Буэ-
нос-Айресе. Английский, на котором они ежедневно разговари-
вают друг с другом, полон заимствований из местного испанско-
го. И они будут считать эти слова частью своего идиолекта, ча-
стью собственного словаря”. Но люди могут общаться еще в чатах
и блогах. Когда они придумывают слово, его могут услышать все.
А потом оно станет или не станет полноправной частью письмен-
ного языка.
85
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Если у уха лексикографа и существует предел чувствительно-
сти, то его пока никто не обнаружил. Спонтанно возникшие нео-
логизмы могут иметь аудиторию, состоящую из одного человека.
Они могут быть так же эфемерны, как субатомные частицы в пу-
зырьковой камере. Но многие неологизмы требуют определенного
уровня общих культурных знаний. Возможно, bada-bing не стал бы
частью английского языка XXI века, если бы не общий опыт зрите-
лей конкретной телепрограммы американского телевидения (хотя
она и не цитируется “Оксфордским словарем”).
Весь словарный запас — лексика — составляет набор символов
языка. В определенном смысле это основной набор символов: сло-
ва — первичные семантические единицы любого языка. Их всегда
можно распознать. Но, с другой стороны, этот набор символов да-
леко не основополагающий: по мере развития коммуникации язы-
ковые сообщения могут быть разбиты на части, вновь составлены
и переданы гораздо меньшими наборами символов — алфавитом,
точками и тире, высокими и низкими звуками барабанов. Данные
наборы символов дискретны, лексика — нет. С ней все гораздо
сложнее, она продолжает расти. Лексикография оказалась наукой,
плохо приспособленной к точным измерениям. В английском язы-
ке, наиболее широко используемом, по очень грубым подсчетам,
число смысловых единиц приближается к миллиону. У лингвистов
нет специальных измерительных приборов, когда они пытаются
измерить скорость, с которой неологизм становится полноправ-
ным словом, им приходится заглядывать в словарь, но даже луч-
ший словарь пытается избежать подобной ответственности. Грани-
цы всегда размыты. Нельзя дать точное определение тому, что есть
слово, и тому, что им не является.
Так что мы считаем как можем. Книга Роберта Кодри, не претен-
дуя на полноту, содержала 2500 слов. Теперь у нас есть более полный
словарь того английского языка, каким он был около 1600 года, —
подмножество “Оксфордского словаря”, состоящее из тогда су-
ществовавших слов. Этот словарь насчитывает 6о тыс. вхождений
и продолжает расти, потому что постоянно обнаруживаются новые
источники XVI века. И все равно это малая часть слов, употреб-
86
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
ляемых четыре столетия спустя. Объяснить взрывной рост с 6о тыс.
до миллиона непросто. Многое из того, что сегодня требует назва-
ния, раньше не существовало. А многое из того, что существова-
ло, не признавалось. В 16оо-м не было необходимости ни в transistor
(транзистор), ни в nanobacterium (нанобактерия), ни в webcam (веб-
камера), ни в fen-phen (лекарство, комбинация подавляющих аппе-
тит препаратов). Некоторое количество слов появились в результате
митоза. Например, гитары бывают электрическими и акустически-
ми. Другие слова разделились по принципу отражения тончайших
нюансов (по состоянию на март 2007 года “Оксфордский словарь”
выделил новую статью для prevert как формы pervert (извращенец),
приняв точку зрения, что prevert — не просто опечатка, а намерен-
ное юмористическое искажение). Другие новые слова появляются
безо всякой связи с инновациями в мире реальных вещей. Они кри-
сталлизуются в растворе универсальной информации.
Что вообще такое mondegreeril Это неверно расслышанные
слова, как, например, в христианском псалме: Lead on, О kinky
turtle1. Объясняя происхождение этого слова, словарь ссылает-
ся сначала на эссе Сильвии Райт 1954 года из Harper's Magazine:
“Я буду называть это мондегрином, так как никто не придумал дру-
гого слова”. Сильвия поясняла: “Когда я была маленькой, мама чи-
тала мне вслух баллады из “Памятников старинной английской ли-
тературы... ” Перси, и одна из моих любимых начиналась, насколь-
ко я помню, так:
Ye Highlands and ye Lowlands,
Oh, where hae ye been?
They hae slain the Earl Amurray,
And Lady Mondegreen2.
1 “Веди нас, о странная черепаха...” (англ.). На самом деле псалом звучит так:
Lead on, О King eternal (“Веди нас, Царь Небесный”).
2 В оригинале начало шотландской баллады The Bonnie Earl O'Moray звучит так:
Ye Highlands and ye Lawlands,
Oh where have you been?
They have slain the Earl O'Moray
And layd him on the green
“Вы, горы, и вы, долины, / Где же вы были? / Они убили графа Морея / И поло-
жили его на траву”. Вот что услышала Сильвия Райт: “Вы, горы, и вы, долины, /
Где же вы были? / Они убили графа Амурея / И леди Мондегрин”.
87
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Некоторое время слово просуществовало так. Четверть века спустя
Уильям Сафир в посвященной языку колонке в The New York Times
Magazine еще раз рассмотрел это слово. Спустя 15 лет Стивен Пин-
кер в книге “Языковой инстинкт” (The Language Instinct) предло-
жил кучу примеров, от A girl with colitis goes by1 до Gladly the cross-
eyed bear1 2, и заключил: “В мондегринах интересно то, что непра-
вильно услышанное менее правдоподобно, чем первоначальный
стих”. Но не книги и журналы дали этому слову жизнь, а интер-
нет-сайты, тысячами фиксирующие мондегрины. “Оксфордский
словарь” признал это слово в июне 2004 года.
Мондегрин — это не транзистор, не вещь, появившаяся срав-
нительно недавно. Его современность труднее объяснить. Ингре-
диенты — песни, слова и неточное понимание — стары как мир.
Тем не менее, чтобы в культуре появились мондегрины, а слово
“мондегрин” — в лексиконе, потребовалось нечто новое — совре-
менный уровень лингвистического самосознания и взаимосвязан-
ности. Люди должны были неправильно расслышать стихи не од-
нажды, но достаточное количество раз, чтобы проблему неверного
распознавания услышанного стали обсуждать. Нужны были люди,
с которыми можно поделиться наблюдениями. До последнего вре-
мени мондегрины, как и множество других культурных или пси-
хологических явлений, просто не нуждались в том, чтобы быть на-
званными. Сами песни были не так распространены — по крайней
мере их нельзя было услышать в лифтах и мобильных телефонах.
Слова lyrics в значении “текст песни” не существовало до XIX века.
Условия для появления мондегринов созревали долго. Аналогич-
но, глагол to gaslight сегодня означает “манипулировать человеком,
подвергая сомнению его или ее вменяемость” и существует только
благодаря тому, что достаточно много людей видели фильм “Газо-
вый свет” 1944 года и предполагают, что их слушатели тоже его ви-
дели. Не мог ли язык, на котором говорил Кодри и который в кон-
це концов был изобильным и плодородным языком Шекспира,
1 “Девочка с колитом проходит мимо” (англ.). Оригинальная версия —A girl with
kaleidoscope eyes (Девушка с глазами как калейдоскоп) из песни The Beatles “Lucy
In The Sky With Diamonds”.
2 “Радостно-косоглазый медведь” (англ.). Оригинальная версия — Gladly the cross
Td bear (С радостью понес бы я крест) из гимна Keep Thou Му Way.
88
ГЛАВА 3 ДВА СЛОВАРЯ
найти полезное использование этому слову? Неважно — техно-
логии, необходимые для существования gaslight, еще не появились.
Так же как и технологии производства кинофильмов.
Лексика — это мера разделенного людьми опыта, который воз-
никает при условии, что существует связь между людьми. Количе-
ство пользователей языка обеспечивает лишь первую часть уравне-
ния: для английского оно увеличилось за четыре столетия с 5 млн
до 1 млрд. Ведущим же фактором является количество связей меж-
ду этими людьми. Математик мог бы сказать, что обмен сообще-
ниями растет не в геометрической прогрессии, а комбинаторно,
то есть гораздо быстрее. “Думаю об этом как о кастрюле, под ко-
торой зажгли огонь, — говорил Гилливер. — Любое слово в силу
взаимосвязанности представителей англоговорящего мира мо-
жет выскочить из глубин. Глубины остаются глубинами, но у них
есть непосредственная связь с обычным, ежедневным дискурсом”.
Как печатный станок, телеграф и телефон до него, интернет преоб-
разует язык, передавая информацию иначе. Киберпространство от-
личает от предыдущих информационных технологий способность
непредвзято смешивать масштабы — от самого большого до само-
го маленького. Оно обращается к миллионам, мгновенно достав-
ляя сообщения от одного человека другому.
Такое неожиданное последствие оказалось у изобретения вы-
числительной техники. А ведь сначала казалось, что она имеет от-
ношение только к числам.
4
ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ
В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
Гляди, вот восторженный арифметик!
Свет, почти солнечный, извлекался из рыбных отходов, огонь
просеивался через лампы Дэви1, и машины учили арифметике, а не поэзии.
Чарльз Бэббидж (1832)
Никто не сомневался, что Чарльз Бэббидж был очень умен.
Но никто до конца не понимал природу его гения, его
долго обходили вниманием. Чего он надеялся добиться?
Более того, чем конкретно занимался? В 1871 году после
его смерти в Лондоне автор некролога в Times объявил
его “одним из наиболее деятельных и оригинальных мыслителей”,
но создавалось ощущение, что на самом деле он был известен сво-
ей долгой борьбой с уличными музыкантами и шарманщиками.
Возможно, Бэббидж был бы не против остаться в истории и в та-
ком качестве. Он интересовался и занимался всем и очень гордился
этим. “Он мечтал добраться до сути вещей, поражающих детский
разум, — написал один из его американских поклонников. — Он
потрошил игрушки, чтобы разобраться, как они работают”. Бэб-
бидж был не вполне человеком своего времени, которое само себя
называло веком пара или веком машин. Он восхищался способами
использования пара и машин и считал себя современным челове-
1 Лампа Дэви — безопасная масляная лампа, фитиль которой забран мелкой ме-
таллической сеткой, обеспечивающей приток кислорода для горения, но не по-
зволяющей пламени контактировать с горючими материалами или газами.
90
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
ком, но также увлекался разгадыванием шифров, взломом замков,
маяками, годовыми кольцами деревьев, почтой, и то, что в его увле-
чениях была определенная логика, стало понятно лишь век спустя.
Так, изучая устройство почтовой системы, Бэббидж предположил
парадоксальную вещь: существенные издержки связаны не с фи-
зической транспортировкой бумажных пакетов, а с их “верифика-
цией”, расчетом расстояний и сбором соответствующей платы, —
и придумал современную систему стандартизованных почтовых
тарифов. Он любил плавать на лодке, имея в виду не “ручной труд,
греблю, а интеллектуальное искусство хождения под парусом”. Ему
нравились железные дороги, и он придумал записывающее устрой-
ство, где использовались чернильные перья, чертящие кривые
на листах бумаги длиною в тысячи футов, — комбинацию сейсмо-
графа и спидометра, записывающую историю изменения скорости
поезда, неровностей дороги и встрясок, которые были в пути.
Как-то в молодости, остановившись на постоялом дворе на се-
вере Англии, он забавлялся тем, что слушал споры случайных по-
путчиков о роде своих занятий:
“Высокий джентльмен в углу, — сказал мой собеседник, — настаи-
вал, что вы по части скобяных изделий, а полный джентльмен, ко-
торый сидел рядом с вами за ужином, был вполне уверен, что вы
продаете спиртное. Другой из той же компании заявил, что они
оба ошибаются и вы представитель крупной фабрики железных из-
делий”.
“Ну, — отреагировал я, — вы, как мне кажется, знаете про мои дела
лучше, чем наши друзья”.
“Да, — ответил тот, — я прекрасно знаю, что вы торгуете ноттин-
гемским кружевом”.
Его можно было описать как профессионального математика,
при этом он объезжал мастерские и фабрики страны, пытаясь вы-
яснить уровень технического развития механических станков. Он
отмечал: “Те, кто располагает временем, вряд ли смогут найти бо-
лее интересное и полезное занятие, чем изучение мастерских сво-
ей страны — в них содержатся богатейшие запасы знаний, которы-
ми более обеспеченные классы слишком часто пренебрегают”. Сам
91
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
он не пренебрегал никакими источниками знаний. Он стал экс-
пертом в производстве ноттингемских кружев, в использовании
пороха для карьерной добычи известняка, в резке стекла с помо-
щью алмазов и во всех известных способах использования машин
для выработки энергии, экономии времени и сигналов для ком-
муникации. Он изучал работу гидравлических прессов, воздуш-
ных насосов, газосчетчиков и винторезных станков. К концу сво-
его путешествия он знал все о производстве булавок в Англии.
Его знания были практическими и упорядоченными. Он устано-
вил, что для производства фунта булавок требуется работа десяти
человек в течение как минимум семи с половиной часов: прокат-
ка, выпрямление и заострение проволоки, скручивание и обрезка
головок из спиральных колец, покрытие оловом или отбеливание
и, наконец, упаковка. Он рассчитал затраты на каждую операцию
в миллионных долях пенни. И отметил, что этот процесс, достиг-
нув совершенства, отжил свое: американец изобрел автоматиче-
скую машину, которая выполняла ту же работу, только быстрее.
Бэббидж изобрел собственную машину — огромный бле-
стящий двигатель из меди и сплава олова и свинца, — состоящую
из тысяч дисков и роторов, зубцов и шестеренок, изготовленных
с величайшей точностью. Всю свою долгую жизнь он совершен-
ствовал эту машину сначала в одном, а затем и в другом ее во-
площении, но главным образом в воображении. Построена она
никогда не была, поэтому занимает странное место среди других
изобретений: неудача и одновременно одно из величайших до-
стижений интеллекта. Она потерпела гигантское фиаско как на-
учно-промышленный проект, осуществляемый “за счет нации
с тем, чтобы потом стать национальной собственностью”, в про-
грамме, финансировавшейся Министерством финансов почти
двадцать лет, начиная с полутора тысяч фунтов, выданных Парла-
ментом в 1823 году, и заканчивая закрытием премьер-министром
в 1842 году. Позже машина Бэббиджа была забыта. Она исчезла
из летописи изобретений. Но потом о ней вспомнили, и в итоге
это изобретение оказало влияние на многие последующие, словно
светящий из прошлого маяк.
Как и ткацкие станки, кузни, гвоздильни и стекольные про-
изводства, которые Бэббидж исследовал во время поездки по се-
92
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
верной Англии, его машина тоже была предназначена для произ-
водства определенного продукта в больших количествах. Продук-
том были числа. Машина открывала канал из материального мира
в мир чистой абстракции. Она не потребляла сырья, “вход” и “вы-
ход” ничего не весили, но машина нуждалась в значительной силе,
чтобы провернуть шестерни. Все эти сложные зубчатые переда-
чи заполнили бы комнату и весили бы несколько тонн. По Бэб-
биджу, производство чисел требовало сложной механики на пре-
деле существующих технологий. По сравнению с числами булав-
ки — ерунда.
Странно было считать числа продуктом или товаром. Они су-
ществовали в уме или в идеальной абстракции, в своей чистей-
шей бесконечности. Никакая машина не могла ничего добавить
к всемирному запасу чисел. Числа, которые должна была произ-
водить машина Бэббиджа, были ценны своим значением, смысло-
вым содержанием. Например, 2,096910013 значимо как логарифм
125. (Вопрос, значимо ли всякое число, стал головоломкой, кото-
рую разгадывали в следующем столетии.) Значимость числа мо-
жет быть выражена через связь с другими числами или как ответ
на определенный арифметический вопрос. Сам Бэббидж не рас-
суждал в терминах смыслового содержания, он пытался объяснить
свою машину с прагматической точки зрения — в терминах ввода
чисел и наблюдения за выдаваемыми числами, или, более вычур-
но, в терминах постановки вопросов машине и ожидании ответов.
Так или иначе, ему было сложно донести свою идею другим. Он
жаловался:
Дважды меня спрашивали: “Г-н Бэббидж, если вы введете в ма-
шину ошибочные числа, она выдаст правильный ответ?” В одном
случае этот вопрос был задан членом Верхней палаты Парламента,
в другом — Нижней. Я не в состоянии постигнуть, что за путани-
ца идей могла спровоцировать такой вопрос.
В любом случае не подразумевалось, что машина станет оракулом,
которому могли бы задавать вопросы разные люди, приезжающие
издалека за математическими ответами. Главной задачей машины
было печатать числа в больших количествах. Для увеличения при-
93
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
быльности арифметические факты могут быть выражены в виде
таблиц и переплетены в книги.
Для Бэббиджа мир состоял из таких фактов. Факты были “по-
стоянными величинами Природы и Искусства”. Он собирал
их повсюду. Он составил “Таблицу постоянных величин для клас-
са млекопитающих”: где бы он ни был, он подсчитывал частоту
дыхания и сердцебиения свиней и коров. Он изобрел статисти-
ческую методику (с таблицами средней вероятной продолжитель-
ности жизни) для довольно туманного бизнеса страхования жиз-
ни. Он составил таблицу веса в тройских гранах на квадратный ярд
для различных тканей: батиста, набивного ситца, нанки, муслина,
ситоткани и “ткани, сделанной гусеницами”. Еще одна таблица от-
ражала относительную частоту появления комбинаций двух оди-
наковых букв для английского, французского, итальянского, не-
мецкого языков и латыни. Бэббидж изучил, подсчитал и опублико-
вал таблицу относительной частоты причин битья оконных стекол,
выделив 464 различных причины, не менее 14 из которых включа-
ли “пьяных мужчин, женщин или мальчишек”. Но самые дорогие
его сердцу таблицы были самыми незамутненными: таблицы чи-
сел и только чисел, стройно марширующих слева направо и вниз
по страницам ровными рядами и столбцами, — примеры абстрак-
ций, достойных восхищения.
Книга, целиком состоящая из чисел, — насколько же это своеоб-
разный и значительный объект по сравнению со всеми остальными
продуктами информационных технологий. “Гляди, вот восторжен-
ный арифметик! — писал Эли де Жонкур в 1762 году. — Удовлетво-
ряясь немногим, он не требовал ни брюссельских кружев, ни ше-
стерки лошадей с кучером”. Собственным вкладом Жонкура был
небольшой том в четверть листа, в котором были собраны первые
19 999 “треугольных чисел”. Шкатулка с драгоценностями — точ-
ность, совершенство и тщательность расчетов. Числа были просты,
всего лишь сумма первых п целых чисел: 1,3(1 +2),6(1 + 2 + 3),
10 (1 + 2 + 3 + 4), 15, 21, 28 и т.д. Они интересовали тех, кто изу-
чал числа, еще со времен Пифагора. В них было мало практиче-
ской пользы, но Жонкур превозносил удовольствие от их вычисле-
94
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
ния, и Бэббидж горячо сопереживал ему: “В числах много привле-
кательного, незаметного для простого взгляда, но открывающегося
перед упорными и почтительными сыновьями Искусства. Такие
размышления могут даровать наслаждение”.
Цифровые таблицы были частью книжного дела еще до нача-
ла эры книгопечатания. В IX веке в Багдаде Абу Абдаллах Мухам-
мад ибн Муса аль-Хорезми, чье имя продолжает жить в слове “ал-
горитм”, придумал таблицы тригонометрических функций, кото-
рые распространились на Запад — в Европу и на Восток — в Китай.
Они были написаны от руки и копировались от руки еще сотни
лет. Печать сделала таблицы тем, чем они являются, — первым
прибором для массового производства математических величин.
Для людей, нуждавшихся в расчетах, таблицы умножения охваты-
вали все большие пространства: 10 х 1000, затем 10 x 10 000, а по-
том и 1000 X 1000. Были таблицы для обратных чисел, возведе-
ния в квадраты и кубы, извлечения корней. С древних времен су-
ществовали астрономические таблицы или календари, содержащие
положения Солнца, Луны и планет, для тех, кто наблюдал за небом.
Торговцы тоже нашли применение числовым книгам. В 1582 году
Симон Стевин составил Tafelen van Interest — сборник таблиц рас-
чета процентов для банкиров и ростовщиков. Он предлагал новую
десятичную арифметику “астрологам, землемерам, измерителям
гобеленов и винных бочонков, стереометристам, мастерам чекан-
ки монет и всем торговцам”. Он мог бы добавить в список и моря-
ков. Когда Христофор Колумб отправился в Индию, он взял с со-
бой книгу таблиц Региомонтана, напечатанную в Нюрнберге через
два десятилетия после изобретения в Европе наборного шрифта.
Книга треугольных чисел Жонкура была больше похожа на чи-
сто математическую, чем любая из вышеперечисленных, то есть она
была бесполезной. Любое треугольное число может быть найдено
(или создано) с помощью алгоритма: умножить п на п + 1 и резуль-
тат разделить на 2. Таким образом, весь том Жонкура — информа-
ция, которую надо хранить и передавать, — превращался в одно-
строчную формулу. В формуле заключена вся информация. Любой,
кто в состоянии проделать простое умножение (правда, способны
были немногие), мог при необходимости рассчитать треугольное
число. Жонкур знал это. Тем не менее он и его издатель М. Хус-
95
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
сон из Гааги посчитали стоящим делом набрать эти таблицы метал-
лическими литерами по три пары колонок на странице: в каждой
паре приводилось тридцать натуральных чисел и соответствующее
треугольное число, от 1 (1) до 19 999 (199 990 000). Каждая цифра
была вынута наборщиком из ящиков с литерами и уложена в вер-
статки, которые потом устанавливались на наборную доску.
Зачем? Помимо одержимости и энтузиазма создатели чис-
ловых таблиц знали об их экономической составляющей. Созна-
тельно или нет, они прикинули цену этой специальной информа-
ции, сопоставив трудность расчета с длительностью поиска в книге.
Предварительное вычисление, хранение и передача данных обыч-
но выходили дешевле, чем вычисление по мере необходимости.
“Компьютеры” и “калькуляторы” существовали — ими были люди,
обладающие специальными навыками, и их услуги стоили дорого.
Начиная с 1767 года британское Бюро долгот дало указание изда-
вать ежегодный “Морской альманах” с таблицами положения Солн-
ца, Луны, звезд, планет и спутников Юпитера. В течение следую-
щих пятьдесят лет работу выполняли “компьютеры”, вычислители —
тридцать четыре мужчины и одна женщина, Мэри Эдвардс из города
Лудлоу в графстве Шропшир. Все они работали на дому и получали
по 70 фунтов в год. Вычисления являлись надомным производством.
Нужны были некоторые математические знания, но особого гения
не требовалось; для каждого типа вычислений существовали поша-
говые правила. В любом случае вычислители, как и все люди, делали
ошибки, поэтому одна и та же работа часто проделывалась дважды.
(К сожалению, вычислители, как и все люди, порой еще и списывали
друг у друга.) Для управления потоком информации проект нанял
специальных людей для сверки астрономических таблиц и коррек-
туры гранок. Связь между вычислителями и проверяющим осущест-
влялась по почте, через пеших или конных посыльных, и на доставку
одного сообщения уходило несколько дней.
Изобретение XVII века ускорило процесс. Оно принадлежало
к миру чисел и получило название “логарифм”. Это было число-
инструмент. Генри Бригс объяснял:
Логарифмы — это числа, придуманные для облегчения работы
над задачами в арифметике и геометрии. Название происходит
96
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
от Logos., что значит разум, и Arithmos, что значит числа. С их по-
мощью устраняются сложности умножения и деления в арифмети-
ке, а выполняется только сложение вместо умножения и вычитание
вместо деления.
В 1614 году Бригс был профессором геометрии — первым профес-
сором геометрии — лондонского Грэшем-колледжа, который поз-
же стал местом рождения Лондонского королевского общества.
Он уже выпустил две книги таблиц без логарифмов — “Табли-
цы для нахождения высоты Полярной звезды при заданном маг-
нитном склонении” и “Таблицы для улучшения навигации”, когда
из Эдинбурга пришла книга, обещавшая “устранить трудности, ко-
торые до сих пор сопровождали математические вычисления”.
Нет ничего (да-да, любимые студенты-математики), что затрудняет
математическую практику, досаждает, тормозит вычисления силь-
нее, чем умножение, деление и извлечение квадратных и кубиче-
ских корней из больших чисел; на это тратится утомительное вре-
мя, и результат по большей части подвержен случайным ошибкам.
Новая книга предлагала метод, позволявший избежать большей
части ошибок и временных затрат. Словно электрический фо-
нарь, посланный в мир без света. Ее автором был богатый шотлан-
дец Джон Непер (Napier, Napper, Nepair, Naper или Neper), вось-
мой лэрд замка Мерчистон, теолог и известный астролог, увлекав-
шийся также и математикой. Бригс сгорал от нетерпения. “Непер,
лорд Маркинстона, дал работу моей голове и рукам, — писал он. —
Я надеюсь увидеть его этим летом, если Богу будет угодно, так
как я никогда не видел книги, которая принесла бы мне большее
удовольствие и заставила бы меня сильнее изумляться”. Он совер-
шил паломничество в Шотландию, и, как описывал позже, первая
встреча с ученым началась с молчания в четверть часа, “проведен-
ного за тем, что каждый смотрел на другого почти с восхищением,
прежде чем было сказано первое слово”.
Молчание нарушил Бригс: “Мой господин, я предпринял это
длительное путешествие специально, чтобы увидеть вас и узнать,
что побудило вас задуматься об этой замечательной помощи астро-
97
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
номии, а именно о логарифмах; но, мой господин, теперь, когда вы
уже придумали их, я — когда известно, что это так просто, — изум-
лен, что никто другой не придумал их ранее”. Он жил и занимался
у лэрда несколько недель.
В современных терминах логарифм — это показатель степе-
ни. Логарифм 100 по основанию 10 равен 2, так как 100 = 102. Ло-
гарифм 1 000 000 равен 6, так как 6 является степенью в выражении
1 000 000 = 106. Чтобы перемножить два числа, можно найти их ло-
гарифмы и сложить. Например:
100 х 1 000 000 = 102 х 106 = 10<2 + 6)
Найти и сложить проще, чем перемножить.
Но Непер выразил свою идею иным образом — не в терминах
степеней. Непер подошел к проблеме интуитивно, с помощью тер-
минов “разница” и “отношение”. Если разница между двумя сосед-
ними числами в числовой последовательности всегда одинакова,
такую последовательность называют арифметической прогресси-
ей: о, 1, 2, з, 4, 5,..., . Если между двумя соседними числами всегда
одинаковое отношение, прогрессия становится геометрической: 1,
2, 4, 8, 16, 32,...,.
Поместим эти прогрессии одну под другой:
0 1 2 3 4 5... Логарифмы по основанию 2
1 2 4 8 16 32... Натуральные числа
То, что получилось, — таблица логарифмов в сыром виде. В сыром,
потому что целые степени — это просто. Полезная таблица лога-
рифмов должна была заполнить числа со многими знаками после
запятой.
Непер думал об аналогии: разница соотносится с отношени-
ем так же, как сложение с умножением. Его разум метался из од-
ной плоскости в другую, от пространственных отношений к чи-
стым числам. Поместив последовательности одну под другой, он
дал вычислителям практический способ превратить умножение
в сложение, фактически упростив задачу. В определенном смыс-
ле его метод был своего рода переводом или кодированием. Нату-
ральные числа кодировались их логарифмами. Вычислитель нахо-
98
ГЛАВА Д ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
дил их в таблице — кодовой книге. На этом новом языке вычисле-
ния были просты: сложение вместо умножения, умножение вместо
возведения в степень. Когда работа была сделана, результат перево-
дился обратно, на язык натуральных чисел. Хотя Непер, естествен-
но, не имел в виду кодирование.
Бригс пересмотрел и расширил необходимые последователь-
ности чисел и опубликовал собственную книгу “Логарифмическая
арифметика”, полную практических приложений. Кроме логариф-
мов он представил таблицу широт и склонений Солнца год за го-
дом, показал, как найти расстояние между любыми двумя точками,
зная их широту и долготу, и составил описание созвездий со скло-
нениями, расстоянием до полюса и прямыми восхождениями.
Что-что из перечисленного никогда до этого не рассчитыва-
лось, что-то было устным знанием, переведенным в печатное, и это
отражено, например, в не очень формальных названиях некоторых
звезд: Полярная звезда, Пояс Андромеды, Чрево кита, самая яр-
кая звезда в Арфе и первая в хвосте Большой Медведицы, у крестца.
Бригс также рассмотрел экономические вопросы, предложив пра-
вила расчета процентов вперед и назад во времени. Новая техно-
логия служила водоразделом: “Стоит отметить, что использование
юо фунтов в день под 8 %, 9 %, ю % годовых до появления ло-
гарифмов встречалось редко: без них требовалось огромное коли-
чество усилий на извлечения квадратных корней, и затраты на это
превышали получаемые проценты”. Ценность знания включает
и затраты на открытие, что тоже необходимо учитывать.
Лишь через несколько лет это замечательное изобретение до-
бралось до Иоганна Кеплера, который в 1627 году воспользовал-
ся им для уточнения своих звездных таблиц, основанных на дан-
ных, кропотливо собранных Тихо Браге. “Шотландский барон (его
имя я забыл) появился на сцене и совершил нечто прекрасное, пре-
образовав все умножения и деления в сложение и вычитание”, —
писал Кеплер другу. Таблицы Кеплера были раз в тридцать точ-
нее, чем их средневековые предшественники, а точность сделала
возможным появление гармоничной гелиоцентрической системы
мира с планетами, движущимися вокруг Солнца по эллиптическим
орбитам. С этого времени и до появления электронных машин
большая часть вычислений выполнялась с помощью логарифмов.
99
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Учитель Кеплера возмутился: “Не подобает
профессору математики проявлять столь ре-
бяческий восторг лишь потому, что вычис-
ления стали проще”. Но почему нет? На-
ходясь на расстоянии нескольких столетий
друг от друга, все они получали удоволь-
ствие от вычислений: Непер и Бигз, Кеп-
лер и Бэббидж, — они составляли таблицы,
выстраивая ряды отношений и пропорций,
совершенствуя механизмы для преобразова-
ния чисел в числа. А потом этим воспользо-
валась и мировая коммерция.
Чарльз Бэббидж родился 26 декабря 1791 го-
да — в конце века, начавшегося с Ньюто-
на. Он жил на южном берегу Темзы, в Уол-
ворте, графство Суррей, — деревушке в по-
лучасе ходьбы от Лондонского моста. Он
был сыном банкира, внуком и правнуком
золотых дел мастеров. В Лондоне того вре-
мени век машин ощущался на каждом шагу.
Новоявленные импресарио демонстриро-
вали машины на выставках. Толпы собира-
лись на шоу с участием автоматов — меха-
нических кукол, имитирующих саму жизнь,
искусно сделанных, хрупких, с колесиками
и шестеренками. Чарльз Бэббидж с мате-
рью ходили на Ганновер-сквер в Механиче-
ский музей Джона Мерлина, полный часо-
вых механизмов, музыкальных шкатулок и,
главное, имитаций живых существ. Приво-
димый в движение скрытыми механизмами
металлический лебедь изгибал шею, чтобы
поймать металлическую рыбку. На черда-
ке, в мастерской мастера, Чарльз видел пару
скользящих и отдающих поклоны обнажен-
Натуральные
числа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Логарифмы
по основанию 2
0
1
1,5850
2
2,3219
2,5850
2,8074
3
3,1699
3,3219
3,4594
3,5850
3,7004
3,8074
3,9069
4
4,0875
4,1699
4,2479
4,3219
4,3923
4,4594
4,5236
4,5850
4,6439
4,7004
4,7549
4,8074
4,8580
4,9069
4,9542
5
5,0444
5,0875
5,1293
5,1699
5,2095
5,2479
5,2854
5,3219
5,3576
5,3923
5,4263
5,4594
5,4919
5,5236
5,5546
5,5850
5,6147
5,6439
100
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
ных серебряных танцовщиц, сделанных в одну пятую человеческо-
го роста. Сам Мерлин, их пожилой создатель, говорил, что посвя-
тил этим фигурам годы, и они, его любимицы, все еще не завер-
шены. Одна из фигур особенно впечатлила Чарльза своей грацией
и кажущейся жизненностью. “Эта леди принимала совершенно
удивительные позы, — вспоминал он. — Ее глаза были полны жиз-
ни, они обезоруживали”. Когда Бэббиджу шел пятый десяток, он
разыскал серебряную танцовщицу Мерлина на одном из аукцио-
нов, купил ее за 35 фунтов, установил на пьедестал у себя дома
и одевал в пышные наряды, сшитые по специальному заказу.
Мальчик любил и математику — интерес, казалось бы, дале-
кий от механики. Он самостоятельно учился по тем книгам, кото-
рые мог достать. В 1810 году он поступил в Тринити-колледж (Кем-
бридж), вотчину Исаака Ньютона и математический центр Ан-
глии. Бэббидж был разочарован: он обнаружил, что по предмету
знал больше, чем его преподаватели, и дополнительных знаний он
здесь не получит, а возможно, не получит их и в Англии вообще.
Он начал покупать иностранные книги, особенно из наполеонов-
ской Франции, с которой Англия вела войну. У специализирующе-
гося на предмете книготорговца в Лондоне он достал “Теорию ана-
литических функций” Лагранжа и “великую работу Лакруа “Диф-
ференциальное и интегральное исчисление”.
Он был прав: развитие математики в Кембридже остановилось.
Веком ранее Ньютон был всего лишь вторым профессором матема-
тики, который когда-либо работал в университете, престиж и сила
предмета проистекали из его наследия. Теперь его великая тень ле-
жала на английской математике, словно проклятие. Самые про-
двинутые студенты изучали его гениальные эзотерические “флюк-
сии” и геометрические доказательства его “Принципов”. Старые
геометрические методы в любых руках, кроме рук самого Ньюто-
на, разочаровывали. Его своеобразные формулировки исчислений
не сильно помогали потомкам. Английские профессора “рассма-
тривали любые нововведения как покушение на память Ньютона”,
утверждал один из математиков XIX века. Живую реку современных
математических знаний учащемуся приходилось искать в других ме-
стах, на континенте, обращаясь к “анализу” и языку дифференци-
рования, который изобрел Готфрид Вильгельм Лейбниц, соперник
101
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
и заклятый враг Ньютона. На самом деле исчисление было одним.
Ньютон и Лейбниц отлично понимали, насколько похожи их рабо-
ты, и даже обвиняли друг друга в плагиате. Но они придумали не-
совместимые системы обозначений, разные языки, и на практике та-
кие поверхностные различия значили больше, чем единство самой
идеи. В конце концов, математики работают с символами и опера-
циями. Бэббидж, в отличие от большинства студентов, в совершен-
стве освоил оба языка, “точки Ньютона и d Лейбница”, и почувство-
вал, что видит свет в конце туннеля. “На новом языке думать и рас-
суждать всегда трудно”.
Язык как таковой показался ему подходящим объектом для фи-
лософского исследования, которым он порой и занимался. Раз-
мышления о языке, да еще и на языке, приводят к парадоксам и за-
гадкам. Бэббидж некоторое время пытался конструировать уни-
версальный язык — систему символов, свободную от влияния
особенностей восприятия. Он был не первым, кто увлекся этой
идеей. Сам Лейбниц заявлял, что находится на пороге открытия
characteristica universalis, которая даст человечеству “новый инстру-
мент, увеличивающий силу мысли гораздо эффективнее, чем лю-
бой оптический инструмент когда-либо улучшал зрение”. Когда
философы вплотную столкнулись с тем, что в мире существует
множество диалектов, они зачастую стали называть язык уже не со-
вершенным сосудом, в котором находится истина, а решетом. Не-
понимание значений слов вело к противоречиям. Двусмыслен-
ность и ложные метафоры, конечно, не были заложены в приро-
де вещей, а были результатом неудачного выбора знаков. Если бы
только кто-нибудь смог найти подходящую духовную техноло-
гию, истинный язык философов! Его правильно отобранные сим-
волы должны быть универсальными, прозрачными и неизменны-
ми, утверждал Бэббидж. Он сумел создать грамматику и занялся
лексикой, но, споткнувшись о проблему хранения и воспроизве-
дения, затормозил из-за “очевидной невозможности упорядочить
знаки в какую-либо последовательность, чтобы, словно в словаре,
по желанию находить значение каждого”. Тем не менее он чувство-
вал, что человек может придумать язык. В идеале язык должен быть
рациональным, предсказуемым и механическим. Шестеренки дол-
жны цепляться друг за друга.
102
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
Еще студентом он поставил себе целью возрождение англий-
ской математики — подходящая задача для создания пропаган-
дистской группы и объявления крестового похода. Он объеди-
нился с двумя многообещающими студентами, Джоном Гершелем
и Джорджем Пикоком, и они создали то, что назвали Аналитиче-
ским обществом “за продвижение d” и “против ереси точек” или,
как сказал Бэббидж, “университетской эпохой точек”. (Он был до-
волен собственным “злым каламбуром”1.) В кампании за освобож-
дение исчисления от английского старческого слабоумия Бэббидж
жаловался, “что облако диспутов и национальной желчи поглотило
его истоки”. Он не боялся, что его обвинят в том, что он находит-
ся под французским влиянием. Он объявил: “Теперь нам придет-
ся вновь импортировать экзотику более чем вековых иностранных
усовершенствований и снова сделать ее родной”. Ученые восста-
ли против Ньютона в самом сердце ньютоновской вотчины. Они
встречались каждое воскресенье после богослужения.
“Конечно, над нами смеялись авторитетные мужи, — вспоми-
нал Бэббидж. — Нам мрачно намекали, что мы молодые отступни-
ки и ничего хорошего из нас не получится”. Но проповеди сработа-
ли: новый метод распространился снизу вверх, ученики обучались
ему раньше учителей. “Брови многих экзаменаторов Кембриджа
ползли вверх, частью от гнева, частью от восхищения, когда они
видели необычные ответы, начавшие появляться в экзаменацион-
ных работах”, — писал Гершель. Точки Ньютона сошли со сцены,
его флюксии были заменены обозначениями и языком Лейбница.
Тем временем Бэббидж не имел недостатка в приятелях, с кото-
рыми мог пить вино или играть в карты по шесть пенсов за вист. С од-
ной группой приятелей он создал Клуб призраков для сбора свиде-
тельств за и против существования духов. С другой он основал клуб
“Экстракторы”, который должен был разбираться в проблемах здра-
вомыслия и безумия в соответствии с установленными процедурами:
1. Каждый член клуба обязан сообщать свой адрес секретарю каж-
дые шесть месяцев.
1 В оригинале dot-age (эпоха точек); английское dotage переводится как “старче-
ское слабоумие”.
юз
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
2. Если это не будет сделано в течение более чем двенадцати ме-
сяцев, считать, что родственники заперли данного члена клуба
как умалишенного.
3. Должны быть предприняты все усилия, законные и незаконные,
для освобождения данного члена клуба из сумасшедшего дома [от-
сюда наименование “Экстракторы”. —прим. авт.}.
4. Каждый кандидат в члены клуба должен представить шесть серти-
фикатов. Три о том, что он в здравом уме, и три о том, что он безумен.
Но Аналитическое общество — это было серьезно. Друзья-матема-
тики Бэббидж, Гершель и Пикок не шутили, они серьезно решили
“делать все возможное, чтобы оставить мир более разумным, чем они
его застали”. Они сняли комнаты, читали друг другу газеты и выпу-
скали собственные “Транзакции”. Именно в этих комнатах, когда
Бэббидж клевал носом над книгой логарифмических таблиц, один
из них спросил: “Бэббидж, о чем ты мечтаешь?” “Я думаю, что все
эти таблицы могут быть рассчитаны машинами”, — ответил тот.
Как бы то ни было, именно так Бэббидж передал этот разго-
вор пятьдесят лет спустя. Каждому изобретению нужна легенда
о том, как оно появилось, и у него была еще одна, про запас. Он
и Гершель работали над рукописной логарифмической таблицей
для кембриджского Астрономического общества. Конкретно эти
логарифмы были уже кем-то высчитаны — логарифмы всегда вы-
считывались, пересчитывались, потом сравнивались и перепрове-
рялись. Так что неудивительно, что Бэббидж и Гершель считали
эту работу очень занудной и утомительной. “Господи, как бы я хо-
тел, чтобы все эти вычисления выполнялись паром”, — воскликнул
Бэббидж, а Гершель просто ответил: “Это возможно”.
Пар был движущей силой всех машин, благодаря ему стало
возможным развитие промышленности. Раньше мельницы приво-
дились в движение водой или ветром, и большинство труда в мире
все еще зависело от мускульной силы человека или лошадей и дру-
гих домашних животных. Но горячий пар, производимый горя-
щим углем и подчиненный гениальными изобретателями, можно
было использовать для разных нужд. Он заменял мускулатуру. Он
стал паролем: деятельные люди теперь “добавляли пару”, или “были
под парами”, или “спускали пар”. Бенджамин Дизраэли привет-
104
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
ствовал “моральный пар, способный изменить мир”. Пар стал наи-
более мощным передатчиком энергии, известным человечеству.
И все равно кажется странным, что Бэббидж задумал распро-
странить великую силу пара в мир вещей без веса, применить его
в рассуждениях и арифметике. В мельнице Бэббиджа зерном были
числа. Стойки сдвинутся, шестеренки провернутся, и умственная
работа будет выполнена.
Мельница должна работать автоматически, заявил Бэббидж. “Ав-
томатическая” машина — что это? Для Бэббиджа это был не просто
вопрос семантики, но принцип оценки полезности машины. Тогдаш-
ние счетные устройства можно было разделить на два класса: пер-
вые требовали вмешательства человека, вторые были по-настоящему
самостоятельными. Чтобы решить, можно ли считать машину авто-
матической, Бэббиджу нужно было задать вопрос, который оказал-
ся бы проще, если бы слова “ввод” и “вывод” уже существовали: “Мо-
жет ли инструмент, получив данные, над которыми нужно провести
операции, выдать результат лишь под действием движения пружи-
ны, опускающегося груза или другой постоянной силы?” Это была
перспективная установка. Она устраняла практически все устрой-
ства, когда-либо придуманные и использовавшиеся как инструменты
для арифметики, а таких за тысячелетия накопилось много. Камуш-
ки в мешочках, узелки на веревках, счетные палочки из дерева или ко-
сти, которые использовались как недолговечные помощники памя-
ти. Счеты и раздвижные линейки представляли собой более сложное
оборудование для абстрактных расчетов. Затем, в XVII веке, несколь-
ко математиков придумали первые счетные устройства, достойные
звания машин — для сложения и, путем повторения процесса сло-
жения, для умножения. В 1642 году Блез Паскаль сделал суммирую-
щую машину с выстроенными в ряд вращающимися дисками, по од-
ному на десятичную цифру. Три десятилетия спустя Лейбниц усовер-
шенствовал машину Паскаля, использовав цилиндрический барабан
с выступающими зубцами для переноса одного разряда в другой1.
1 Лейбниц мечтал механизировать алгебру и само мышление. “Мы можем вос-
славить машину, — писал он. — Ее будут желать все занятые вычислениями...
управляющие финансовыми делами, управляющие чужими имениями, торгов-
цы, землемеры, географы, навигаторы, астрономы... Так как не годится замеча-
тельным людям тратить часы на рабский труд вычислений”. — Прим, автора.
105
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Однако по большому счету прототипы Паскаля и Лейбница остава-
лись ближе к счетам, чем к кинетической машине, потому что были
пассивными счетчиками состояния памяти. С точки зрения Бэбби-
джа, они не были автоматическими.
Бэббиджу не приходило в голову использовать устройство
для однократного вычисления, каким бы сложным оно ни было.
Машины лучше всего показывали себя в решении повторяющих-
ся задач — “невыносимый труд и утомляющая монотонность”.
Спрос на вычисления, как Бэббидж и предвидел, рос в соответ-
ствии с увеличением частоты их использования в торговле, про-
мышленности и науке: “Осмелюсь предположить, что придет
время, когда суммарные затраты на труд, происходящие из ариф-
метического применения математических формул, начав действо-
вать как постоянная тормозящая сила, в конечном счете задержат
полезный прогресс науки, если только не будет придуман этот
или иной подходящий метод ее освобождения от подавляющего
обременения числами”.
В бедном информацией мире, где любая числовая таблица
была редкостью, потребовались века, чтобы люди начали система-
тически собирать различные напечатанные таблицы и сравнивать
их друг с другом. Когда же они стали это делать, они заметили не-
ожиданные расхождения. Например, обнаружилось, что “Лога-
рифмы” Тейлора — стандарт, напечатанный в Лондоне форматом
в четверть листа, — содержал 19 ошибок в одном или двух знаках.
Они были перечислены в “Морском альманахе”, так как Адмирал-
тейство хорошо знало, что каждая ошибка — это потенциальное
кораблекрушение.
К сожалению, в одно из 19 исправлений вкралась ошиб-
ка, и на следующий год “Морской альманах” опубликовал “спи-
сок опечаток в опечатках”. Тот в свою очередь тоже был напечатан
с ошибкой. “Путаница разрослась”, — написали в The Edinburgh
Review. Следующий альманах был вынужден разместить “Список
ошибок к списку ошибок к списку опечаток и исправлений в “Ло-
гарифмах” Тейлора”.
Некоторые ошибки имели собственную историю. Когда Ир-
ландия учредила свое картографическое управление, чтобы соста-
вить карту страны, самую подробную из всех существующих, пер-
106
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
вым делом надо было убедиться, что геодезисты — команды са-
перов и минеров — располагали 250 наборами логарифмических
таблиц, легких и точных до седьмого знака. Картографическое ве-
домство сравнило тринадцать таблиц, опубликованных в Лондо-
не за последние 200 лет, а также таблицы из Парижа, Авиньона,
Берлина, Лейпцига, Гауды, Флоренции и Китая. Было обнаруже-
но по шесть ошибок едва ли не в каждом томе, и это были одни
и те же ошибки. Неизбежный вывод: таблицы копировались —
хотя бы частично.
Ошибки возникали от неверных переносов и от перестанов-
ки цифр иногда самими вычислителями, иногда печатниками. Пе-
чатники были склонны путать места знаков в длинных последова-
тельностях цифр. Какой загадочной и ненадежной вещью оказался
человеческий разум! Все эти ошибки, как заметил один из коммен-
таторов, “могли бы поднять занимательную тему метафизических
спекуляций в отношении работы памяти”. Он видел, что у вычис-
лителей-людей не было будущего: “Такие ошибки станут невоз-
можными только при механическом расчете таблиц”.
Меж тем Бэббидж продолжал исследования: теперь его инте-
ресовали механические принципы чисел. Он заметил, что некото-
рые из них можно обнаружить, рассчитывая разницу между дву-
мя последовательностями. “Исчисление конечных разниц” разра-
батывалось математиками (особенно французскими) сотню лет.
Его сила заключалась в упрощении вычислений высокого порядка
до простого сложения, которое уже можно было превратить в ру-
тину. Для Бэббиджа метод оказался столь важным, что математик
сразу назвал свою машину разностной.
Бэббидж понимал, что его идею придется пропагандировать
долго, поэтому он предлагал примеры с таблицей треугольных чи-
сел. Как и многие рассматриваемые последовательности, эта пред-
ставлялась лестницей, начинавшейся на земле и поднимавшейся
все выше:
1,3, 6,10, 15,21,...,.
Он объяснял идею, взяв в качестве примера ребенка, раскладываю-
щего мраморные шарики на песке:
107
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
• ••••
Предположим, ребенок хочет узнать, “сколько шариков будет
в тридцатой или любой другой отдаленной группе” (такой ребе-
нок явно по душе Бэббиджу): “Конечно, он может пойти к папе,
чтобы получить ответ, но, боюсь, папа проигнорирует его и ска-
жет, что это бесполезная чепуха, что никто не знает ответ и так да-
лее”. Естественно, папа даже не догадывается о таблице треуголь-
ных чисел, опубликованной в Гааге профессором философии Е. де
Жонкуром: “Если папа не сможет ответить, пусть ребенок пойдет
к маме, которая обязательно найдет способ удовлетворить любо-
пытство своего чада”. Тем временем Бэббидж отвечает на вопрос
посредством таблицы разностей. В первом столбце последователь-
но написаны номера групп шариков. Следующие столбцы получе-
ны путем вычитания, и это действие повторяется до тех пор, пока
не получается конечная разность — столбец, в котором всего одно
число.
Номер группы Количество шариков в группе Разность 1-го порядка. Разность между группой и следующей группой Разность 2-го порядка
1 2 1 3 1 2 1 1
3 6 3 1
4 10 4 1
5 15 5 1
6 21 6 1
7 28 7 1
Любая многочленная функция может быть разложена методом раз-
ностей, и все стабильные функции, включая логарифмы, можно
эффективно привести к тождеству. Уравнения более высокой сте-
пени требуют разностей более высокого порядка. Бэббидж предло-
жил конкретный геометрический пример, который требовал таб-
108
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
лицы разностей }-го порядка: горки пушечных ядер в форме тре-
угольной пирамиды — треугольные числа, переведенные в три
измерения.
Число Таблица Разность 1-го Разность 2-го Разность 3-го
порядка порядка яразность порядка
1 1 3 3 1
2 4 6 4 1
3 10 10 5 1
4 20 15 6 1
5 35 21 7 1
6 56 28 8 1
Разностная машина проделывала бы этот процесс наоборот: вместо
повторяющегося вычитания для нахождения разностей она гене-
рировала бы последовательность чисел с помощью потока сложе-
ний. Для реализации этой идеи Бэббидж придумал систему разме-
щенных вдоль оси цифровых дисков, на которых отметил цифры
от о до 9. Они должны были представлять собой десятичные раз-
ряды: единицы, десятки, сотни и т. д. У дисков были зубцы. Зубцы
вдоль каждой оси сцеплялись с зубцами соседней — так добавля-
лись следующие разряды. Когда машина приводилась в движение
от колеса к колесу, она передавала информацию маленькими пор-
циями, складывая числа по осям. Конечно, возникала механиче-
ская проблема, когда сумма превышала 9. Тогда надо было перенес-
ти единицу в следующий разряд. Чтобы добиться этого, Бэббидж
на каждом из дисков между 9 и о разместил выступающий зубец.
Зубец толкал рычаг, который в свою очередь передавал движение
следующему диску.
На этом этапе истории вычислительной техники появляется но-
вая тема — одержимость временем. Бэббидж понял, что его машина
должна считать быстрее человека, значительно быстрее. У него появи-
лась идея параллельной обработки: цифровые диски, выстроенные
вдоль оси, могли бы складывать ряд чисел одновременно. “Если бы
этого удалось добиться, — рассуждал он, — то сложение и вычита-
ние чисел с десятью, двадцатью, пятьюдесятью и любым числом раз-
рядов стало бы столь же быстрым, как и сложение отдельных цифр”.
109
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Зубчатые колеса Бэббиджа
Но он видел проблему. Из-за переносов разряды в одиночном сложе-
нии нельзя было складывать независимо. Переносы могли перегру-
зить диски. Если бы было заранее известно, когда нужны переносы,
то сложения можно было бы выполнять параллельно. Но такого зна-
ния не было. “К сожалению, — писал Бэббидж, — существует мно-
жество случаев, когда о переносах, которые нужно выполнить, ста-
новится известно лишь в процессе”. Он подсчитал время сложения
двух пятидесятизначных чисел, предполагая, что операция сложения
занимает 1 с: само сложение может занять 9 с, но переносы в худшем
случае могли потребовать еще 50 с. Действительно плохая новость.
“Было разработано множество приспособлений и сделано почти бес-
численное количество чертежей с целью сэкономить время”, — пе-
чально писал Бэббидж. К 1820 году он выбрал конструкцию. Он ку-
пил токарный станок, работал на нем сам, наняв к тому же рабочих
по металлу, и в 1822 году сумел представить Королевскому обществу
маленькую действующую модель, блестящую и футуристическую.
110
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
Бэббидж жил в Лондоне, около Риджентс-парка, публикуя
математические статьи, словно философствующий джентльмен,
и изредка читая публичные лекции по астрономии. Он женился
на Джорджиане Витмур, молодой женщине из Шропшира, млад-
шей из восьми дочерей. Помимо ее денег они жили в основном
на 300 фунтов в год — он получал эту сумму от отца, которого
не любил как деспотичного, скупого и, главное, недалекого стари-
ка. “Вряд ли будет преувеличением сказать, что он не верит ниче-
му, что слышит, и половине того, что видит”, — писал Бэббидж
своему другу Гершелю. Когда в 1827 году отец умер, Бэббидж уна-
следовал состояние в юо тыс. фунтов. Некоторое время он слу-
жил в новой страховой компании Protector Life Assurance Company,
для которой рассчитал статистические таблицы, уточнив сред-
нюю ожидаемую продолжительность жизни. Он пытался получить
должность профессора в университете, но безуспешно, однако его
общественная жизнь становилась все более интенсивной, и люди
из ученых кругов начали узнавать его имя. С протекцией Гершеля
он был избран членом Лондонского королевского общества.
Даже неудачи укрепляли его репутацию. Сэр Дэвид Брюстер
от имени The Edinburgh Journal of Science послал ему письмо, став-
шее классикой среди писем с отказами: “Не без серьезных колеба-
ний я отказываюсь от ваших статей. Думаю, однако, что после раз-
мышлений вы придете к мнению, что у меня не было иного выхода.
Тема, которую вы предлагаете для серии математических и мета-
физических эссе, столь глубока, что, пожалуй, среди подписчи-
ков нашего журнала не найдется ни одного, способного ее понять”.
Для поддержки своего будущего открытия Бэббидж начал кампа-
нию демонстраций и писем. И к 1823 году Министерство финансов
заинтересовалось. Бэббидж обещал им “логарифмические табли-
цы, дешевые, как картофель” — как они могли устоять? Логариф-
мы спасали корабли. Лорды Казначейства одобрили первое ассиг-
нование в 1500 фунтов.
В качестве абстрактной идеи разностная машина порождала вос-
торг, который существовал и без такой приземленной вещи,
как фактическая постройка этой машины. Идея попала на удоб-
111
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ренную почву. Дионисиус Ларднер, читавший популярные лек-
ции на технические темы, посвятил серию публичных обсужде-
ний Бэббиджу, восхваляя его “предложение привести арифметику
в подчинение механизмам, то есть заменить наборщика автоматом
и перевести силу мысли в движение колес”. Когда машина будет за-
вершена, говорил он, она должна “оказать влияние не только на на-
учный прогресс, но и на развитие цивилизации”. Это будет ра-
зумная машина. Она станет перекрестком двух путей — механизма
и мысли. У ее поклонников иногда возникали трудности с объяс-
нением того, как это пересечение будет происходить. “Вопрос зада-
ется инструменту, — заявил Генри Колбрук Астрономическому об-
ществу, — или инструмент применяется для ответа на вопрос”. Так
или иначе, говорил он, “простая передача движения дает решение”.
Но в плане меди и кованого железа машина развивалась медлен-
нее. Бэббидж перестроил конюшни на задах своего дома в Лондо-
не и заменил их кузней, литейной и огнестойкой мастерской. Он
нанял Джозефа Клемента — чертежника и изобретателя, самоучку,
сына деревенского ткача, который стал выдающимся английским ин-
женером. Бэббидж и Клемент понимали, что им придется создавать
новые инструменты. Конструкция предполагала размещение внутри
огромной железной рамы очень сложных и точных деталей — осей,
шестеренок, пружин и зубцов и, главное, сотен, а потом и тысяч ци-
фровых дисков. Никакой ручной инструмент не был способен вы-
полнить компоненты с необходимой точностью. Прежде чем Бэб-
бидж смог бы построить фабрику по производству цифровых ди-
сков, он должен был создать фабрику по производству деталей. И вся
остальная индустриальная революция тоже нуждалась в стандартиза-
ции — во взаимозаменяемых винтах с одинаковым количеством вит-
ков и единым шагом резьбы, винтов как основных единиц. Токарные
станки Клемента и его подмастерьев начали их производство.
По мере того как возрастала сложность, росли и амбиции Бэб-
биджа. После десяти лет работы машина представляла собой агре-
гат в 24 дюйма высотой с шестью вертикальными осями и десятками
дисков, способными выдавать шестизначные результаты. Еще через
десять лет масштаб на бумаге достиг 160 кубических футов, 15 тонн
и 25 тыс. деталей. Бумаги тоже прибавилось: чертежи занимали бо-
лее 400 квадратных футов. Уровень сложности ошеломлял. Проб-
112
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
Деревянная
модель (1853)
небольшой части
разностной
машины
лему одновременного сложения многих разрядов Бэббидж решил,
разделив “движения сложения” и “движения переноса”, а затем рас-
пределив время переносов. Сложение начиналось с шумом провора-
чивающихся шестеренок — сначала нечетных столбцов дисков, за-
тем четных. Дальше происходили переносы. Чтобы синхронизи-
ровать движение, части машин должны были в решающий момент
‘узнать”, что будет перенос. Эта информация передавалась положе-
нием триггера. Первый, но не последний раз устройство было наде-
лено памятью. “Фактически это заметка, которую делает машина”, —
писал Дионисиус Ларднер. Бэббидж и сам сознавал, что очеловечи-
вает машину, но не мог устоять. “Механические способы, которые
я применил, чтобы выполнить переносы, — объяснял он, — имеют
некоторую аналогию с функционированием памяти”.
Чтобы обычным языком описать даже простейший процесс
сложения, требовался богатый словарь для наименования метал-
лических частей, описания их взаимодействий и правильного из-
ложения взаимозависимостей, что образовывало длинную цепочку
причинно-следственных связей. Объяснение процесса “переноса”
113
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
самим Ларднером было похоже на эпическую поэму. В описании
одного изолированного действия участвовали циферблат, указатель,
бегунок, ось, собачка, выемка, крючок, зубец, пружина и храповик:
В момент, когда разделитель между 9 и о на циферблате В 2 прохо-
дит под указателем, бегунок, размещенный на оси этого цифер-
блата, касается собачки, которая поднимает из углубления крю-
чок, удерживающий зубец, позволяя ему свободно опрокинуться
под действием пружины и попасть в следующее гнездо храповика.
Через еще сотню слов, подводя итог, Ларднер прибег к метафоре
движения жидкости:
Две системы волн механического движения непрерывно передвига-
ются снизу вверх и два потока похожего движения постоянно про-
ходят справа налево. Вершины первой системы волн сложения па-
дают на последнюю разность и на каждую нечетную разность, кото-
рая продвигается вверх.. Первый поток переносов проходит справа
налево вдоль каждого нечетного ряда, начиная с самого высокого.
Это был один из способов абстрагироваться от частностей —
от очень сложных частностей. Но потом Ларднер сдался. “Гораздо
больше чудесных свойств находится в деталях, — писал он. — Мы
отчаялись по достоинству оценить их”.
Для описания машины, которая была больше чем машиной,
не хватало обычных чертежей проектировщика. Это была динамиче-
ская система, каждая из множества частей которой могла находиться
в одном из нескольких состояний — иногда в спокойствии, иногда
в движении, передававшемся по сложной системе каналов. Можно ли
было полностью описать ее на бумаге? Для собственных целей Бэб-
бидж придумал новый формальный инструмент — систему “механи-
ческого обозначения” (его термин). Это был язык знаков, призван-
ный представлять не только физическую форму машины, но и ме-
нее осязаемые ее свойства — логику и время работы. Бэббидж и сам
понимал, что замахнулся очень высоко. В 1826 году он с гордостью
представил Королевскому обществу отчет “О методе отражения дей-
ствий машины с помощью знаков”. Отчасти это было упражнением
114
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
в классификации. Он проанализировал различные способы, которы-
ми нечто, движение или мощность, может “передаваться” в системе.
Способов было много. Деталь могла быть приведена в движение че-
рез соединение с другой — “как зубец на колесе или колесо и шесте-
ренка на одной оси”. Передача могла осуществляться через “жест-
кое трение”. Часть могла приводиться в движение другой частью
постоянно — “как в случае колеса, приводимого в движение шесте-
ренкой” — или непостоянно — “как в случае, когда палец поднима-
ет задвижку один раз за оборот”. Здесь в схеме появилось представле-
ние о логическом разветвлении: способ передачи будет разным в за-
висимости от состояния, в котором находится деталь. Механические
обозначения Бэббиджа естественным образом вытекали из его ра-
боты над символическими обозначениями в математическом анали-
зе. Для развития машин, как и математики, требовались определения
и высокая точность. “Формы обычного языка слишком расплывча-
ты, — писал Бэббидж. — Знаки, если они правильно выбраны и хо-
рошо известны, формируют универсальный язык”. Язык никогда
не являлся для Бэббиджа второстепенным вопросом.
Наконец математик получил пост в Кембридже: он занял
престижную должность лукасианского профессора, которую ко-
гда-то занимал Ньютон. Как и во времена Ньютона, работа была
необременительной. Бэббиджу не надо было учить студентов, вы-
ступать с лекциями и даже жить в Кембридже, что было кстати, по-
тому что Бэббидж принимал активное участие в общественной
жизни Лондона. Дома, на Дорсет-стрит, 1, он устраивал регуляр-
ные субботние вечера, которые собирали ярких гостей — полити-
ков, художников, герцогов и герцогинь и крупнейших английских
ученых того времени: среди прочих здесь бывали Чарлз Дарвин,
Майкл Фарадей и Чарлз Лайель1. Они удивлялись его счетной ма-
1 Другой гость, Чарльз Диккенс, наделил некоторыми чертами Бэббиджа персо-
наж Дэниела Дойса в “Крошке Доррит”. Дойс — изобретатель, недооцененный
правительством, которому он пытается служить: “...как изобретатель весьма из-
вестен. Лет двенадцать тому назад он успешно закончил одно изобретение, ко-
торое может иметь большое значение для Англии и для человечества. Уж не буду
говорить, сколько денег ему это стоило и сколько лет он трудился над своим
изобретением, но закончил он его лет двенадцать тому назад”. Диккенс добав-
ляет: “Во всех суждениях Дойса чувствовалась спокойная и сдержанная уверен-
ность — уверенность человека, который твердо знает: что верно, то всегда будет
верно...” (пер. Е. Калашниковой). — Прим. авт.
115
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
шине и выставленному напоказ танцующему автомату из его дет-
ства. (В приглашениях он писал: “Надеюсь, вы будете благосклон-
ны к Серебряной Леди. Она собирается появиться в новом наряде
и украшениях”.) Он был математиком-рассказчиком — в то время
и в том месте одно не противоречило другому. Лайель одобритель-
но вспоминал, что он “шутил и рассуждал на языке высшей мате-
матики”. Он опубликовал часто цитировавшийся трактат, где при-
менил теорию вероятности к теологическому вопросу о чуде. Он
иронично писал лорду Альфреду Теннисону, предлагая изменить
две строки в его стихотворении: “Каждую минуту умирает чело-
век, / Каждую минуту человек рождается”.
Вряд ли я должен указывать вам, что этот расчет предполагает, будто
общая численность населения мира будет бесконечно оставаться сба-
лансированной, тогда как хорошо известно, что эта численность по-
стоянно растет. Я бы взял на себя смелость предложить, чтобы в сле-
дующем издании вашей великолепной поэмы ошибочное вычисление,
которое я упоминаю, было исправлено следующим образом: “Каждый
момент человек умирает, / И один и шестнадцать десятых рождается”.
Могу добавить, что точное число —1,167, но чем-то несомненно при-
дется пожертвовать, чтобы соблюсти ритмические законы.
Зачарованный собственной известностью, Бэббидж вел записи —
‘параллельные столбцы “за” и “против”, что давало ему ощущение
некоторого равновесия”, писал один из его посетителей: “Мне ча-
сто говорили, что он целыми днями злорадствовал и ворчал по по-
воду того, что говорили о нем люди”.
Но строительство машины, главного источника его славы, по-
чти остановилось. В 1832 году Бэббидж со своим инженером Кле-
ментом сделал рабочую модель. Бэббидж демонстрировал ее гостям,
которые находили ее чудесной или просто загадочной. Разностная
машина — ее реплика сегодня работает в Музее науки в Лондоне —
стала важной вехой в развитии инженерии. В составе сплавов, чет-
кости размеров, взаимозаменяемости частей ничто не превзошло
этого блока незаконченной машины. Но она все равно была не бо-
лее чем занятной вещицей. Дальше Бэббидж продвинуться не смог.
116
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
Чарльз Бэббидж (i860)
Они с инженером начали спорить. Клемент требовал от Бэб-
биджа и от Казначейства все больше и больше денег, Казначейство
начало подозревать его в стремлении к легкой наживе. Он прятал
части и чертежи машины и боролся за контроль над специализиро-
ванными инструментами в мастерской. Правительство спустя де-
сять лет и 17 тыс. фунтов начало терять веру в Бэббиджа, а Бэб-
бидж — в правительство. С лордами и министрами Бэббидж вел
себя очень высокомерно. Он стал критиковать подход англичан
к технологическим новшествам: “Если вы заговорите с ним [ан-
гличанином] о машине для чистки картофеля, он заявит, что это
невозможно: если вы очистите с ее помощью картофель на его гла-
зах, он объявит машину бесполезной, так как она не режет на доль-
ки ананасы”. Находить взаимопонимание становилось все сложнее.
“Что нам сделать, чтобы избавиться от г-на Бэббиджа и его
вычислительной машины? — написал премьер-министр Роберт
Пил одному из своих советников в августе 1842 года. — Очевидно,
если ее завершат, она будет бесполезна в том, что касается науки...
По-моему, это будет очень дорогая игрушка”. Ему не составило
труда найти противников Бэббиджа в кругах государственных чи-
117
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
новников. Пожалуй, самым воинствующим был Джордж Биддель
Эйри, королевский астроном, чопорный и методичный, который
сказал Пилу в точности то, что тот хотел услышать: машина беспо-
лезна. И добавил: “Возможно, Бэббидж живет мечтами о ее полез-
ности”. Правительство Пила закрыло проект. Но мечта Бэббиджа
не умерла. Она приняла новые очертания. Машина в его сознании
перешла в новое измерение. И он встретил Аду Байрон.
На Стренде, в северной части торгового пассажа Лоутера, посетители
толкались, чтобы войти в Национальную галерею практических наук,
‘смешивающую обучение с развлечением”, — одновременно магазин
игрушек и технологическое шоу, открытое американским предприни-
мателем. За шиллинг посетитель мог потрогать “электрического угря”,
послушать лекции о новейших достижениях науки, посмотреть на мо-
дель парохода, плавающего в семидесятифутовом водоеме, и на паро-
вое ружье Перкинса, выбрасывающее очереди пуль. За гинею он мог
получить “дагерротип” или “фотографический” портрет, который
предоставлял правдивое и приятное сходство “менее чем за секунду”.
Или, как молодая Ада Байрон, он мог взглянуть на ткача, демонстри-
рующего автоматический станок Жаккарда, который плел заданные
отверстиями в картонных картах узоры на ткани.
Ада была “дитя любви”, как писал ее отец, “хоть рождена была
в горечи и выкормлена в конвульсиях”. Отец ее был поэтом. Когда
в 1816 году ей едва исполнился месяц, уже знаменитый 27-летний
лорд Байрон и умная, богатая и образованная в математике 23-летняя
Анна Изабелла Милбэнк (Аннабелла) расстались после года брака.
Байрон покинул Англию и никогда больше не видел дочери. Ее мать
отказывалась говорить ей, кто был ее отцом, пока ей не исполнилось
восемь и он, мировая знаменитость, не погиб в Греции. Поэт умо-
лял ее сообщать какие-нибудь новости о дочери: “Одарена ли де-
вочка воображением? — в ее возрасте мной владела идея, что у меня
много чувств и наблюдений, которым никто не поверил бы, если бы
я рассказал о них сейчас”. Да, она была одарена воображением.
Она была умна, хороша в математике, поощряема учителями,
способна к рисованию и музыке, фантастически изобретательна
и глубоко одинока. Когда ей было двенадцать, она занялась изо-
118
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
бретением средства для полета. “Завтра я начну работу над моими
бумажными крыльями”, — писала она матери. Она надеялась “до-
вести искусство полета до полного совершенства. Я хочу напи-
сать иллюстрированную книгу “Полетология” с гравюрами”. Ка-
кое-то время она подписывала письма “твой любящий почтовый
голубь”. Она просила мать найти книгу с анатомическими иллю-
страциями, потому что не хотела препарировать “даже птицу”. Она
анализировала свое ежедневное положение, не забывая о логике:
Мисс Стамп хочет, чтобы я сказала, что сегодня она не особенно
мною довольна по причине очень глупого поведения вчера в отно-
шении простой вещи, что, по ее словам, не только глупо, но и по-
казывает дух невнимания, и, хотя сегодня у нее не было причи-
ны быть недовольной мною в целом, тем не менее она говорит,
что не может взять и забыть прошлое.
Она росла в монастыре, куда ее пристроила мать. Она была болез-
ненна, перенесла тяжелую корь и то, что называлось приступами
неврастении или истерии. (“Когда я слаба, — писала она, — я все-
гда настолько напугана никто не знает чем, что не в состоянии
скрыть возбужденное состояние и поведение”.) Портрет ее отца,
висящий в одной из комнат, был задрапирован зеленой тканью. Бу-
дучи подростком, она испытала романтический интерес к одному
из своих преподавателей, и это привело к тому, что им приходи-
лось прятаться в доме и саду, чтобы предаваться романтическим
утехам — настолько интимным, насколько это, по ее словам, было
возможно “без фактического контакта”. Преподаватель был уволен.
Затем, весной, в белом сатиновом платье, 17-летняя девушка впер-
вые появилась при дворе, где встретилась с королем и королевой,
самыми важными графами и французским дипломатом Талейра-
ном, которого описала как “старую обезьяну”.
Через месяц она встретила Чарльза Бэббиджа. С матерью она
пошла посмотреть на то, что леди Байрон называла “думающей ма-
шиной”, — блок разностной машины в доме математика. Бэббидж
увидел блестящую сдержанную молодую женщину с хрупкими чер-
тами и знаменитым именем, которая умудрилась продемонстриро-
вать, что знает о математике больше, чем большинство выпускников
119
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
университета. Она же увидела производящего впечатление 41-летне-
го мужчину с властными бровями, подчеркивающими широкие ску-
лы, обладающего умом и шармом и относящегося к этим качествам
серьезно. Он казался мечтателем, как раз таким, какого она искала.
И ее восхитила машина. Очевидец рассказывал: “В то время как дру-
гие посетители глазели на работу этого красивого инструмента с та-
ким видом и, осмелюсь сказать, таким чувством, которое испыты-
вали некоторые дикари, впервые увидевшие увеличительное стекло
или услышавшие выстрел, мисс Байрон, несмотря на свою моло-
дость, поняла, как работает машина, и увидела великую красоту изо-
бретения”. Ее страсть к красоте и математической абстракции, ко-
торую не могли насытить постоянно сменяющиеся учителя, трудно
было не заметить. Эта страсть не находила выхода. Женщины в Ан-
глии не могли учиться в университете или быть членами научных
обществ (за исключением двух — ботанического и садоводческого).
Ада стала преподавать дочерям друзей матери. Письма к ним она
подписывала “ваша ласковая и несостоятельная наставница”. Она са-
мостоятельно изучила Евклида. Геометрические фигуры занимали ее
мысли. “Я не могу считать, что знаю теорему, — писала она другому
преподавателю, — пока не способна представить себе фигуру в возду-
хе и провести построения и демонстрации без помощи книги”. И она
не могла забыть Бэббиджа и его “жемчужину всех механизмов”.
Другому знакомому она рассказывала о своем “великом вос-
торге от машины”. Она часто глубоко задумывалась. Она любила
думать о себе думающей.
Сам Бэббидж уже был далеко от выставленной на обозрение
в его гостиной машины: он планировал новую, тоже вычисли-
тельную, но другую. Он назвал ее аналитической. Побудило его
к этому осознание пределов возможностей разностной маши-
ны: она не могла, просто складывая разности, вычислять любое
число или решать какие-либо математические задачи. Бэббиджа
также вдохновлял изобретенный Иосифом Марией Жаккардом
ткацкий станок, выставленный на Стренде и управляемый ин-
струкциями, закодированными и сохраненными с помощью от-
верстий в картоне.
Внимание Бэббиджа привлекло не само производство ткани,
а кодирование узора, перенос его с одного носителя на другой. Узо-
120
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
Августа Ада Байрон
Кинг, графиня Лавлейс,
портрет 1836 года кисти
Маргарет Карпентер.
“Я пришла к выводу,
что она собирается
уделить особое
внимание размерам
моей челюсти,
на которой, я думаю,
должно быть написано
слово “математика**
ры в конечном счете появлялись на полотне, но сначала “посыла-
лись удивительному художнику”. Этот специалист, как ему сказали,
делал отверстия в картонных картах таким образом, что, будучи
вставленными в станок Жаккарда, они заставляли его воспроизво-
дить точный узор, придуманный художником.
Способ передачи абстрактной информации через материальный
носитель привлек внимание исследователя. Так, Бэббидж объяс-
121
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
нял, что ткач может выбирать различные нити и различные цвета,
“но во всех этих случаях форма узора остается неизменной”. По мере
того как Бэббидж обдумывал новую машину, уровень абстракции
становился все более высоким. Математик хотел, чтобы диски и зу-
бья оперировали не просто числами, а переменными, стоящими
вместо чисел. Переменные определялись или наполнялись бы ре-
зультатом предыдущих вычислений, а сами операции вроде сложе-
ния или умножения должны были меняться в зависимости от пре-
дыдущих результатов. Бэббидж представлял эти абстрактные коли-
чества информации хранящимися на картах — картах переменных
и картах операций. Он думал о машине как об устройстве, вопло-
щающем математические законы, а о картах — как о передающем
эти законы звене. В отсутствии готового словаря он затруднялся вы-
разить фундаментальные концепции работы, например,
как машина может осуществлять акт суждения, порой необходи-
мый в процессе аналитического исследования, когда существует
выбор из двух и большего количества возможных путей, особенно
если учесть, что часто до окончания предшествующих вычислений
не может быть известно, какой путь необходимо выбрать.
Однако он ясно показал, что информация — представление числа
и процесса — будет проходить через машину, через определенные
физические точки, которые Бэббидж назвал store (склад) для хране-
ния и mill (мельница) для действия.
Теперь у него был компаньон в лице Ады, сначала в качестве помощ-
ницы, затем — музы. Она вышла замуж за благоразумного и мно-
гообещающего аристократа Уильяма Кинга, который был старше
ее на десять лет и нравился ее матери. Через несколько лет он стал
пэром как граф Лавлейс, а Ада, соответственно, графиней; не до-
стигнув тридцати лет, она родила троих детей. Она управляла до-
мами семьи в Суррее и Лондоне, ежедневно в течение многих ча-
сов практиковалась в игре на арфе (“Сейчас я проклятый раб моей
арфы, она не ставит простых задач... ”), танцевала на балах, встреча-
ла новую королеву Викторию и позировала для портрета (“Я при-
122
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
шла к выводу, что [художник] собирается отразить полные разме-
ры моей немаленькой челюсти, на которой, я думаю, должно быть
написано слово “математика”... . Она страдала от ужасных при-
ступов мрачного настроения и болезней, в том числе холеры. Ее
интересы и жизнь, которой она жила, не совпадали. Однажды ут-
ром она, просто одетая, ехала в повозке, чтобы посмотреть модель
“электрического телеграфа” Эдварда Дэви в Эксетер-Холл,
и единственным человеком рядом был джентльмен средних лет, ко-
торый предпочел вести себя так, будто я была экспонатом [писала
она своей матери. — Прим, автора}, что я, конечно, нашла дерз-
ким и непростительным. Я уверена, что он принял меня за очень
молодую (и, думаю, ему казалось, довольно симпатичную) гувер-
нантку. .. Он останавливался недалеко от меня, а затем последовал
за мной к выходу. Я старалась выглядеть настолько аристократич-
но, как графиня, насколько могла... Надо попробовать выглядеть
старше... Я буду выезжать смотреть на что-то каждый день; уверена,
что Лондон неисчерпаем.
Леди Лавлейс обожала мужа, но много времени и сил отдавала
Бэббиджу. Ей снились тревожные сны о том, кем она не могла быть
и чего не могла достичь, кроме как через другого человека, через
его гений. “Я обучаюсь удивительным способом, — писала она Бэб-
биджу, — ия думаю, что успешно обучать меня может только уди-
вительный человек”. Ее растущее нетерпение шло бок о бок с мощ-
ной уверенностью в собственных способностях. “Надеюсь, вы по-
мните обо мне, — писала она несколько месяцев спустя, — я имею
в виду, мои интересы в математике. Вы знаете, что это самая боль-
шая услуга, которую кто-либо может оказать мне. Вероятно, никто
из нас не может оценить, насколько большая...
Знаете, я по природе немного философ и очень большая выдумщи-
ца, и, когда я размышляю о будущем, — пусть я ничего, кроме туман-
ной и размытой неопределенности на поверхности нашего бытия
не вижу — я страстно желаю увидеть далекий яркий свет, и это позво-
ляет мне гораздо меньше беспокоиться о близкой туманности и не-
определенности. Не слишком ли я мечтательна для вас? Думаю, нет”.
123
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Огастес де Морган, математик и логик, друг Бэббиджа и леди Байрон,
стал для Ады учителем по переписке. Он посылал ей упражнения.
Она отсылала ему вопросы, размышления и сомнения (“Я хотела бы
продвигаться быстрее”; “Мне жаль, что я настолько упряма в отно-
шении слагаемого, с которого начинается сходимость”; “Я прилагаю
собственную демонстрацию моего взгляда на этот случай”; “Функ-
циональные уравнения совершенно неуловимы для меня”; “Однако
я стараюсь держать свою метафизическую голову в порядке... ”). Не-
смотря на ее наивность или благодаря ей, Морган увидел “силу мыс-
ли. .. далекую от обычного способа мышления любого начинающего,
мужчины или женщины”. Ада быстро освоила тригонометрию, ин-
тегральное и дифференциальное исчисление, и в частном разгово-
ре с ее матерью Морган сказал, что если бы обнаружил “такую силу”
у студента Кембриджа, то ожидал бы появления “оригинального ма-
тематика-исследователя, возможно, величины первого порядка”. Ее
не пугали трудности, когда нужно было добираться до первопричин,
которые невозможно проверить эмпирическим путем. Она чувство-
вала трудности там, где они на самом деле были.
Однажды зимой она увлеклась модной головоломкой, извест-
ной как Solitaire., кубик Рубика тех времен. Тридцать две фишки рас-
ставлялись на доске с тридцатью тремя отверстиями. Правила про-
сты: любая фишка могла перепрыгнуть через соседнюю, при этом
та фишка, через которую перепрыгнули, убиралась с доски. Так про-
должалось до тех пор, пока не оставалось возможных ходов. Цель —
закончить с одной фишкой. “Люди могут пытаться тысячи раз
и не добиться успеха”, — с восторгом писала Ада Бэббиджу.
Я добилась успеха путем экспериментов и наблюдений и теперь
могу сделать это когда угодно, но мне интересно, можно ли эту
задачу выразить и решить с помощью математической формулы...
Тут должен быть определенный принцип, я думаю о комбинации
цифровых и геометрических свойств, от которой зависит решение
и которую можно выразить языком символов.
Сама идея формального решения для игры была оригинальна. Же-
лание создать язык символов, в которых можно записать реше-
ние, — Ада знала, в этом заключается способ мышления Бэббиджа.
12Д
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
Она анализировала растущую силу собственного мышления.
Ее способности были не только математическими. Она считала ма-
тематику частью большего образного мира. Математические пре-
образования напоминали ей “эльфов и фей, о которых читают, ко-
торые под носом в одной форме, а в следующий момент — в совер-
шенно другой, ни на что не похожей; порой математические эльфы
и феи привлекают и волнуют, как и их прототипы, которые я на-
шла в мире фантазий”. Воображение — заветное качество. Ада ду-
мала о нем как о доставшемся в наследство от отца, никогда не быв-
шего рядом.
Мы много говорим о воображении. Мы говорим о воображении
поэтов, художников и т.д. Я склонна думать, что, в общем, мы
не очень понимаем, о чем говорим...
Это то, что проникает в невидимые миры вокруг нас, в миры на-
уки. Это то, что чувствует и открывает сущее, не видимую нами ре-
альность, которая существует не для наших чувств. Те, кто научился
ходить по краю неизведанных миров... могут надеяться проникнуть
в неизведанное на белых крыльях воображения, в котором мы живем.
Она начала верить в то, что у нее божественное предназначение.
Она использовала слово “миссия”: “У меня создалось впечатление,
125
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
что небеса наделили меня особой интеллектуально-моральной
миссией”. У нее были силы. Она признавалась матери:
Я верю, что обладаю исключительной комбинацией качеств, в точ-
ности подходящих для того, чтобы сделать меня прежде всего от-
крывателем скрытых реальностей природы... Вера была дана мне
принудительно, и я неохотно признала ее.
Она перечисляла свои качества:
Во-первых, благодаря какой-то особенности моей нервной системы
я ощущаю некоторые вещи, которые почти никто другой не ощу-
щает... Некоторые называют это интуитивным ощущением скры-
тых вещей, то есть вещей, скрытых от глаз, ушей и обычных чувств...
Во-вторых, мои гигантские способности к рассуждениям.
В-третьих... сила не только посвятить всю энергию и существова-
ние чему-либо по моему выбору, но также привлекать к любой теме
или идее обширный аппарат из всевозможных, на первый взгляд
несущественных внешних источников. Я могу направить лучи
из каждого квадранта вселенной в один мощный фокус.
Она понимала, что это звучит безумно, но настаивала на собствен-
ной логике и хладнокровии. Теперь она осознавала свой жизнен-
ный путь и говорила матери: “Что за гора, на которую мне предсто-
ит взойти! Этого достаточно, чтобы напугать любого, не обладаю-
щего столь ненасытной и беспокойной энергией, которая с моего
младенчества отравляла вашу и мою жизни. Однако наконец я верю,
что она нашла себе пищу”. Она нашла ее в аналитической машине.
Тем временем неугомонный и неразборчивый Бэббидж направил
свою энергию на другую развивающуюся технологию — наибо-
лее полное выражение силы пара, то есть на железную дорогу. Толь-
ко что созданная “Большая Западная железная дорога” прокладыва-
ла пути и готовила пробные рейсы локомотивов из Бристоля в Лон-
дон под руководством Изамбарда Кингдома Брюнеля, гениального
27-летнего инженера. Брюнель просил помощи Бэббиджа, и тот ре-
126
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
шил начать с программы сбора информации — как обычно, гениаль-
ной и грандиозной. Он оборудовал целый железнодорожный вагон.
На подвешенном над полом специально построенном столе ролики
разматывали тысячефутовые листы бумаги, а перья чертили линии,
“выражая” (по словам Бэббиджа) измерения вибрации и сил, дей-
ствующих на вагон во всех направлениях. Хронометр отмечал время
каждые полсекунды. Таким образом Бэббидж заполнил 2 мили бумаги.
Во время путешествия по рельсам он понял, что главная опас-
ность, которую таит в себе передвижение с помощью силы пара, за-
ключается в том, что это передвижение быстрее всех предыдущих
средств связи. Поезда теряли друг друга. До тех пор пока не было
введено регулярное и очень строгое расписание, опасность суще-
ствовала ежесекундно. Однажды в воскресенье локомотивы, в ко-
торых работали Бэббидж и Брюнель, едва избежали столкновения
друг с другом. Остальных людей тоже беспокоил этот новый разрыв
между скоростью передвижения и скоростью передачи сообщений.
Важный лондонский банкир сказал Бэббиджу, что ему не по душе
железная дорога: “Она позволит нашим клеркам обманывать нас
и включать Ливерпуль в маршрут до Америки на скорости 20 миль
в час”. Бэббидж только и мог что выразить надежду на то, что на-
ука еще сможет найти решение созданной ею проблемы. (“Возмож-
но, мы могли бы посылать молнию, чтобы обогнать преступника”.)
Что касалось его собственной машины — той, которая никогда
никуда не будет двигаться, — он нашел новую метафору. Это, гово-
рил он, будет “локомотив, сам прокладывающий себе путь”.
Огорченный исчезающим интересом Англии к его прожектам,
Бэббидж нашел поклонников на континенте, в частности в Ита-
лии — “стране Архимеда и Галилея”, как он говорил своим новым
друзьям. Летом 1840 года он собрал кипы чертежей и через Париж
и Лион, где осмотрел ткацкий станок великого Жаккарда на Ма-
нуфактуре по производству тканей для мебели и украшения цер-
квей, поехал в Турин, столицу Сардинии, на собрание математиков
и инженеров. Там он сделал свою первую (и последнюю) публич-
ную презентацию аналитической машины. “Открытие аналитиче-
ской машины сильно опережает развитие моей страны, и боюсь,
что и время”, — сказал он. Он встретился с королем Сардинии
Чарльзом Альбертом и, что более важно, с амбициозным молодым
127
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
математиком Луиджи Менабреа. Позже Менабреа станет генералом,
дипломатом и премьер-министром Италии, а пока он готовил на-
учный отчет “Заметки об аналитической машине”, чтобы познако-
мить с планом Бэббиджа широкие круги европейских философов.
Как только этот доклад попал в руки Аде Лавлейс, она начала
переводить его на английский, исправляя ошибки на основе соб-
ственных знаний. Она сделала это сама, не сказав ни Менабреа,
ни Бэббиджу.
Когда в 1843 году она показала свой черновик Бэббиджу, тот
воспринял его с энтузиазмом, побуждая ее писать от собственно-
го имени, и их необычное сотрудничество стало серьезным. С по-
сыльными они посылали друг другу по Лондону письма с убий-
ственной частотой — “Мой дорогой Бэббидж” и “ Моя дорогая
леди Лавлейс” — и встречались при всякой возможности у нее
дома на площади Сент-Джеймс. Хотя Бэббидж был старше — ему
пятьдесят один, а ей двадцать семь, — она была главной, мешая
жесткие команды с дружеским подшучиванием. “Я хочу, чтобы вы
ответили мне на следующий вопрос с обратной почтой”; “Будьте
добры записать это для меня правильно”; “Вы были немного не-
серьезны и неточны”; “Мне хотелось бы, чтобы вы были настоль-
ко же точны и надежны, как я сама”. Она предложила подписать
свою работу инициалами — не так вызывающе, как выглядело бы
ее имя, — не для того, чтобы “объявить, кто написал это”, а чтобы
“индивидуализироваться и идентифицироваться с другими произ-
ведениями А. А. Л.”.
Ее описание приобрело форму заметок от А до G, по объе-
му в три раза превышавших объем эссе Менабреа. В них предлага-
лось более общее и более пророческое видение будущей машины,
чем когда-либо высказывал сам Бэббидж. Насколько общее? Ма-
шина не просто рассчитывала, она выполняла операции, утверж-
дала Ада, определив операцию как “любой процесс, изменяющий
взаимное отношение двух или более вещей” и заявляя: “Это самое
общее определение, и оно могло бы иметь отношение ко всем объ-
ектам вселенной”. Наука об операциях, как она ее определила,
есть самостоятельная наука и имеет собственную абстрактную ис-
тину и ценность, так же как логика имеет собственную удивитель-
128
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
ную истину и ценность вне зависимости от объекта, к которому мы
можем приложить ее рассуждения и процессы... Одной из глав-
ных причин, по которой отдельная природа науки об операциях
ощущалась слабо и была мало изучена, является изменение смысла
многих используемых символов.
Символы, и смыслы: Ада подчеркнуто говорила не только о мате-
матике. Машина “могла работать с другими объектами, а не толь-
ко с числами”. Бэббидж нанес числа на тысячи дисков, но их работа
могла представлять символы более абстрактно. Машина могла об-
рабатывать любые значимые связи, манипулировать языком, созда-
вать музыку: “Предположим, что фундаментальные взаимоотно-
шения тонов в гармонической науке и музыкальной композиции
поддаются такому выражению и адаптации, тогда машина могла бы
создавать проработанные и научные музыкальные произведения
любой степени сложности или продолжительности”.
Машина, задуманная Бэббиджем изначально, была машиной
чисел. Теперь она стала машиной информации. А. А. Л. ощущала
это более отчетливо и представляла ее себе ярче, чем Бэббидж. Она
рассказывала о будущем машины, о ее создании и устройстве так,
будто та уже существовала:
Аналитическая машина — это не просто еще одна обыкновенная
“вычислительная машина”. Она занимает особое место... Разрабо-
тан новый, обширный и мощный язык... овладение его истинами
может сделать его практическое применение для задач человече-
ства более быстрым и точным, чем до сих пор позволяли доступ-
ные средства. Таким образом, не только духовное и материаль-
ное, но и теоретическое и практическое в математическом мире
получили более тесные и эффективные связи... Уместно сказать,
что аналитическая машина ткет алгебраические узоры точно так же,
как ткацкий станок Жаккарда — цветы и листья.
Ада полностью брала на себя ответственность за полет собствен-
ной фантазии: “Мы не знаем, имел ли в виду изобретатель этой
машины подобные идеи и мог ли он когда-либо рассматривать
их впоследствии, но это именно то, что мы обнаружили”.
129
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Она переходит от поэзии к практике и начинает виртуозную
экскурсию по гипотетической программе, выполняя которую ги-
потетическая машина могла бы рассчитывать знаменитые беско-
нечные последовательности — числа Бернулли. Они получаются
при суммировании натуральных чисел, возведенных в целые сте-
пени, и часто встречаются в теории чисел. Нет непосредственной
формулы, с помощью которой их можно рассчитать, но их можно
вычислить, методично раскладывая определенные формулы и каж-
дый раз изучая коэффициенты. Ада начала с примеров, и простей-
шим, писала она, было бы разложение
X ______________________1_________________
ех - 1 1 + - Н-----— Ч-------—-----1- &с
1 1 + 2 + 2 • 3 + 2 • 3 • 4
Другой подход может быть таким:
но она выбрала более трудный путь, так как “наша цель не просто-
та... а иллюстрация возможностей машины”.
Она придумала процесс, набор правил, последовательность
операций. В другом веке это назвали бы алгоритмом, позже — ком-
пьютерной программой, но в то время концепция требовала мучи-
тельно сложных объяснений. Самым трудным было то, что ее алго-
ритм оказался рекурсивным. Он исполнялся циклически. Результат
одной итерации становился исходными данными для следующей.
Бэббидж описывал этот подход так: “Машина, пожирающая свой
«о
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
хвост”. А. А. Л. объясняла: “Мы легко понимаем, что, посколь-
ку каждая последующая функция встраивается в ряд и вычисля-
ется по тем же законам, получится цикл в цикле в цикле и т. д...
Вопрос настолько сложен, что, вероятно, поймут его немногие...
Тем не менее это очень важный пункт в том, что касается маши-
ны, он предполагает идеи, удивительные сами по себе, которые мы,
к сожалению, пропустим не упоминая”.
Ключевой идеей была сущность, которую они с Бэббиджем
назвали “переменной”. В конструкторских терминах перемен-
ными были столбцы цифровых дисков машины. Но существо-
вали также и “карты переменных”. В терминах программы они
являлись своего рода сосудами или конвертами, способными
представлять или хранить число с многими десятичными зна-
ками. (“Дело не в названии, — писал Бэббидж. — До того мо-
мента, пока вы туда что-то не положите, это всего лишь пустая
корзина”.) Переменные для машины были единицами инфор-
мации. Они существенно отличались от алгебраических значе-
ний. Как объясняла А. А. Л., “смысл термина заключается в том,
что значения в столбцах постоянно меняются всеми возможными
способами”. Фактически числа путешествовали с карт перемен-
ных в переменные, из переменных в мельницу (для операций),
из мельницы на склад. Чтобы решить задачу расчета чисел Бер-
нулли, А. А. Л. поставила сложный танец. Она трудилась днями,
а иногда и ночами напролет, посылая Бэббиджу сообщения че-
рез весь Лондон, борясь с болезнью и плохим самочувствием, ее
ум работал без передышки.
Мой мозг — это что-то большее, чем просто смертное; время пока-
жет (если только мое дыхание и прочее не слишком быстро продви-
нутся к смертному, вместо того чтобы двигаться от него).
Пока не пройдет десять лет, будь я проклята, если не высосу часть
жизненных соков из тайн вселенной таким способом, который не-
доступен губам или мозгу обычных смертных.
Никто не знает, какая почти ужасная энергия и сила еще таит-
ся в моем маленьком жилистом теле. Я говорю ужасная, потому
что можете себе представить, чем она способна стать в определен-
ных обстоятельствах...
131
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Я упорно атакую и докапываюсь до истоков вычисления чисел Бер-
нулли. .. Я впиваюсь в эту тему и связываю ее с другими.
Она программировала машину. Но она программировала в уме,
потому что машины не было. Сложности, с которыми впервые
столкнулась Ада, стали привычными для программистов следую-
щего столетия.
Насколько разнообразные и взаимно усложненные соображения
включает работа такой машины! Часто несколько различных набо-
ров изменений происходят одновременно независимо друг от дру-
га и тем не менее в большей или меньшей степени оказывая друг
на друга влияние. Сопоставить каждый с каждым и точно и успеш-
но понять и отследить их — все это сопряжено с трудностями, чья
природа в определенной степени сродни той, которая есть в любом
вопросе с множеством взаимосвязанных условий.
Она делилась с Бэббиджем: “Я в смятении, оттого что очути-
лась в столь удивительной трясине и среди трудностей”. И, де-
вять дней спустя: “Думаю, мои планы и идеи становятся все яснее,
приобретают все большую кристальность и избавляются от не-
определенности”. Она знала, что достигла чего-то совершенно
нового. Еще через десять дней, вычитывая окончательные гранки
в “Печатной конторе г-на Тейлора” на Флит-стрит, она объяви-
ла: “Я не думаю, что у вас есть хотя бы половина моей предусмо-
трительности и силы предвидения всех возможных обстоятельств
{вероятных и невероятных, все равно) ... Я не верю, что мой отец
был (или когда-либо мог стать) таким поэтом, каким аналити-
ком (и метафизиком) стану я, так как в моем случае оба качества
слились”.
Кто пользовался бы этой машиной? Не клерки и не торгов-
цы, говорил сын Бэббиджа много лет спустя. Обычная арифмети-
ка никогда не была целью: “Это все равно что использовать паро-
вой молот для колки орехов”. Он перефразировал Лейбница: “Она
сделана не для торговцев овощами или рыбой, а для обсерваторий
или кабинетов вычислителей и для других, кто сможет позволить
себе расходы и нуждается в больших объемах вычислений”. Маши-
132
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
на Бэббиджа не была до конца понята ни правительством, ни мно-
гочисленными друзьями, проходившими через салон, однако в свое
время ее значение оказалось огромным.
В Америке — стране, переполненной изобретениями и на-
учным оптимизмом, — Эдгар Аллан По писал: “Что нам думать
о вычислительной машине г-на Бэббиджа? Что нам думать о ма-
шине из дерева и металла, которая может... дать математически
точные результаты операций, потому что способна исправлять соб-
ственные возможные ошибки?” В 1870 году Ральф Уолдо Эмерсон
встретил Бэббиджа в Лондоне и заявил: “Пар — прилежный уче-
ник и крепкий парень, но он еще не выполнил всей своей работы”.
Он уже чувствует себя уверенно и выполнит все от него требую-
щееся. Он орошает поля и сносит горы. Он должен шить наши со-
рочки, приводить в движение наши двуколки; обученный г-ном
Бэббиджем, он должен рассчитывать проценты и логарифмы... Он
еще окажет множество более сложных услуг механическо-интел-
лектуального толка.
Но были и недовольные. Некоторые критики боялись соперниче-
ства механизмов с разумом. “Какая сатира на простого математика
эта машина! — сказал Оливер Уэнделл Холмс-ст. — Монстр Фран-
кенштейна, безмозглая и бессердечная вещь, слишком глупая, что-
бы сделать ошибку, выдающая результаты, как лущильная машина,
и никогда не становящаяся умнее или лучше, хотя уже выдала ты-
сячи бушелей результатов!” Все они говорили так, будто машина
была реальной, но она никогда таковой не была. Вплоть до наступ-
ления ее собственного будущего.
Где-то между его и нашим временем Бэббидж был удостоен крат-
кой статьи в Словаре национальной биографии, практически
не имевшей отношения к действительности:
Математик и ученый-механик... получил правительственный
грант на разработку вычислительной машины... но работа по ее
постройке прекратилась из-за разногласий с инженером; предло-
133
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
жил правительству усовершенствованную конструкцию, которая
была отклонена из-за высокой стоимости... Лукасианский профес-
сор математики в Кембридже, но лекций не читал.
Интересы Бэббиджа, остававшиеся далекими от математики и ка-
завшиеся столь обширными, имели нечто общее, но ни он сам,
ни его современники этого не осознавали. Его увлечения не при-
надлежали ни к одной из существовавших тогда категорий. Истин-
ным объектом его изучения была информация — передача сообще-
ний, кодирование и обработка.
Он занимался двумя странными и явно не философскими за-
дачами, которые, по его собственному признанию, были накреп-
ко связаны друг с другом, — взломом замков и расшифровкой ко-
дов. Расшифровка, говорил он, — это “одно из удивительнейших
искусств, и я боюсь, что потратил на нее больше времени, чем она
того заслуживает”. Чтобы усовершенствовать процесс, он занял-
ся “полным анализом” английского языка. Он создал набор специ-
альных словарей — список слов из одной буквы, двух, трех и т.д.,
и списки слов в алфавитном порядке по первой букве, второй,
третьей и т. д. Имея эти инструменты, он разработал методологии
решения анаграмм и квадратов слов1.
В годовых кольцах деревьев он видел зашифрованные приро-
дой сообщения о прошлом. Важный урок — дерево записывает
весь комплекс информации в своей твердой субстанции: “Каждый
выпавший дождь, каждое изменение температуры, каждый порыв
ветра оставляет в растительном мире свои следы, легкие и, навер-
ное, едва заметные для нас, но тем не менее навсегда записанные
в глубинах этих древесных тканей”.
В мастерских Лондона он видел переговорные трубы, выпол-
ненные из олова, “посредством которых указания суперинтен-
данта немедленно передавались в самые отдаленные уголки”. Он
классифицировал эту технологию как вклад в “экономию време-
ни” и предположил, что еще никто не достиг предела дальности,
на которую может быть передано устное сообщение. Он быстро
1 Слова, записанные в квадратной сетке таким образом, что читаются как по го-
ризонтали, так и по вертикали. Число слов в квадрате, которое очевидно равно
числу букв в слове, называют “порядком” квадрата.
134
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
подсчитал: “Допустим, что возможно передать сообщение из Лон-
дона в Ливерпуль, тогда пройдет около 17 минут, прежде чем сло-
ва, сказанные на одном конце, достигнут другого конца трубы”.
В 1820 году у него появилась идея передачи письменных сообще-
ний, “заключенных в маленькие цилиндры, по проводам, закреп-
ленным на столбах, башнях или шпилях церквей”, и он построил
рабочую модель в своем лондонском доме. Он стал одержим спосо-
бами решения задачи передачи сообщений на большие расстояния.
Он заметил, что почтовая сумка, еженощно высылаемая из Бри-
столя, весит менее юо фунтов. Для того чтобы переслать содержа-
щиеся в ней сообщения на 120 миль, “приводятся в движение кучер
и аппарат весом свыше трехсот [фунтов]... которые перемещаются
на такое же расстояние”. Какая расточительность! Предположим,
что вместо этого, предложил он, почтовые города связаны серией
высоких столбов, расположенных через каждые юо футов. Сталь-
ная проволока протянута от столба к столбу. В городах такими
столбами могут служить шпили церквей. Оловянные коробки с ко-
лесиками катятся по проволоке и переносят пачки писем. Затра-
ты будут “сравнительно шуточными”, говорил он, и “кроме того,
не исключено, что сама натянутая проволока сможет служить более
быстрой разновидностью телеграфной связи”.
На Всемирной выставке 1851 года, когда Англия демонстриро-
вала свои индустриальные достижения в Хрустальном дворце, Бэб-
бидж поместил масляную лампу с подвижной заслонкой в окне
верхнего этажа на Дорсет-стрит, чтобы создать аппарат “затемнен-
ного света”, который посылал кодированные мигающие сигналы
прохожим. Он придумал стандартизованную систему для переда-
чи маяками числовых сигналов и послал двенадцать ее копий “со-
ответствующим властям великих морских держав”. В Соединенных
Штатах Конгресс выделил 5 тыс. долларов на программу испытаний
этой системы. Бэббидж изучал солнечные сигналы, “зенитные све-
товые сигналы”, посылаемые зеркалами, и сигналы времени Гринви-
ча для передачи морякам. Для связи между севшими на мель судами
и береговыми спасательными службами он предложил всем нациям
принять стандартный список из сотни вопросов и ответов с назна-
ченными им номерами “для печати на карточках и размещения в раз-
ных частях судов”. Похожие сигналы он предлагал для помощи во-
135
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
енным, полиции, железным дорогам и для “различных социальных
целей” — деревенским жителям, живущим далеко друг от друга.
Эти цели не были очевидными. “Для чего будет полезен элек-
трический телеграф?” — спросил Бэббиджа король Сардинии
Чарльз Альберт в 1840 году. Бэббидж задумался — “и наконец я ука-
зал ему вероятность того, что посредством электрического телегра-
фа флот его Величества может получать предупреждения о надви-
гающемся шторме...
Это привело к новой теории штормов, которой король очень заин-
тересовался. Я попытался развить теорию. Я сослался на шторм, ко-
торый произошел незадолго до того, как я покинул Англию. Ущерб,
нанесенным им Ливерпулю, был огромен, Глазго — еще больше...
Я добавил, что, если бы существовала электрическая связь между
Генуей и некоторыми другими городами, жители Глазго могли бы
получить информацию об одном из этих штормов за двадцать че-
тыре часа до его начала”.
Что касается машины, о ней пришлось надолго забыть. У нее
не было очевидных потомков. Она стала зарытым сокровищем
и вызывала чувство озадаченного удивления. В самый разгар ком-
пьютерной эры историк Дженни Аглоу почувствовала в машине
Бэббиджа “анахронизм другого толка”. Такие неудавшиеся изобре-
тения, писала она, заключают в себе “идеи, которые лежат, как по-
желтевшие чертежи в темных шкафах, чтобы следующие поколения
открыли их вновь”.
Изначально создававшаяся для расчета цифровых таблиц ма-
шина в своем современном виде сделала такие таблицы устарев-
шими. Ожидал ли этого Бэббидж? Он задумывался, как в будущем
может быть использована его идея. Он предполагал, что пройдет
по меньшей мере пятьдесят лет, прежде чем кто-либо снова попы-
тается создать универсальную вычислительную машину. На самом
деле потребовался почти век, прежде чем была заложена необхо-
димая технологическая почва. “Если, — писал он в 1864 году, —
не зная о моем примере, кто-то попытается и добьется успеха
в создании машины на других принципах или более простыми
механическими средствами, машины, заключающей в себе весь ис-
136
ГЛАВА 4 ПЕРЕВЕСТИ СИЛУ МЫСЛИ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕС
волнительный раздел математического анализа, я не побоюсь от-
дать собственную репутацию в распоряжение этого человека, по-
тому что лишь он один будет в состоянии полностью оценить при-
роду моих попыток и ценность их результатов”.
Заглядывая в будущее, он прежде всего отмечал особую роль
максимы “Знание превыше всего”. Он понимал ее буквально. Зна-
ние “само по себе генератор физической силы”, заявлял Бэббидж.
Наука дала миру пар, а скоро, подозревал он, повернется лицом
к менее осязаемой силе электричества: “Она уже почти заключила
в цепи бесплотный флюид”. Он смотрел дальше:
Наука о вычислениях — вот что становится все более необходимым
с каждым шагом прогресса, вот что в конечном счете управляет все-
ми приложениями науки к искусству жизни.
За несколько лет до смерти он сказал другу, что с радостью от-
дал бы оставшееся время, если только ему бы позволили прожить
три дня в будущем, через 500 лет.
Что до его молодой подруги Ады, графини Лавлейс, она умер-
ла намного раньше него долгой мучительной смертью от рака мат-
ки, ее муки почти не облегчали лауданум и каннабис. Долгое вре-
мя ее семья скрывала от нее правду о ее болезни. В конце она узна-
ла, что умирает: “Говорят, “тень грядущего всегда появляется раньше,
чем оно само”, — писала она матери. — Может, иногда видна не толь-
ко тень, но и исходящий свет?' Она похоронена рядом с отцом.
Ее последняя мечта тоже была устремлена в будущее: “Я бы хо-
тела быть в некотором смысле диктатором”. Армия марширова-
ла бы перед ней. Железным правилам Земли пришлось бы отсту-
пить. И из кого же состояла эта армия? “Сейчас я не скажу. У меня,
однако, есть надежда, что это будет самая гармонично дисциплини-
рованная армия, состоящая из больших чисел, марширующих в сво-
ей неудержимой мощи под музыку. Не правда ли, очень таинствен-
но? Конечно, моя армия должна состоять из чисел — или она вооб-
ще не сможет существовать... Но что такое эти числа? Вот загадка”.
5
нервная система Земли
Чего ожидать от нескольких
жалких проводов?
Верно ль — или мне почудилось? — что электричество
преобразило мир вещей в гигантский трепещущий нерв,
раскинувшийся на сотни километров в одно мгновение?
Скорее, глобус есть гигантская голова, наделенная разумом!
Или можно сказать,что он сам есть мысль, ничего, кроме мысли,
и более не субстанция, каковой мы его считали!1
Натаниэль Готорн (1851)
В 846 году весь телеграфный трафик Нью-Йорка обраба-
тывали три клерка, которые сидели в комнатушке на по-
следнем этаже Ферри-хаус в Джерси, и не сказать чтобы
их работа была очень тяжелой. Они отвечали за один ко-
нец телеграфной линии, которая состояла из пары про-
водов, натянутых между Вашингтоном и Балтимором. Входящие
сообщения переписывали от руки, передавали с паромом через
Гудзон на пирс Либерти-стрит и доставляли в первый офис Маг-
нитной телеграфной компании по адресу Уолл-стрит, 16.
В Лондоне, где река была не такой бурной, создали Электриче-
скую телеграфную компанию и начали прокладывать вдоль желез-
нодорожного полотна первые медные провода, скрученные в кабе-
ли, покрытые гуттаперчей и заключенные в стальные трубы. Под цен-
тральный офис компания арендовала Founders" Hall напротив здания
Банка Англии и начала рекламировать себя, установив электрические
часы, современные и нужные, — теперь главным стандартом, по ко-
торому сверяли часы, были не железнодорожные станции, а телеграф.
1 Пер. Г. Шмакова.
138
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
К 1849 году в телеграфном офисе находилось уже восемь аппаратов,
работающих круглосуточно. Четыреста батарей давали необходимую
энергию. “Мы видим перед собой выложенную кирпичом стену, укра-
шенную подсвеченными электрическими часами, — писал в 1854 году
журналист Эндрю Уинтер. — Кто бы мог подумать, что за этим узким
лбом находится, если можно так выразиться, великий мозг нервной
системы Британии?” Уинтер был не первым и не последним, кто упо-
добил электрический телеграф биологическим связям, сравнив кабе-
ли с нервами, а население или вообще Землю — с человеческим телом.
Аналогия понятна: электричество было загадкой, тайной,
граничащей с магией, и точно так же в то время мало кто пони-
мал, как устроена нервная система. По крайней мере было извест-
но, что нервы передают некий вид электричества и, наверное, та-
ким образом служат проводниками управляющих сигналов мозга
другим частям тела. Анатомы, изучающие нервные волокна, зада-
вались вопросом, изолированы ли нервы чем-нибудь вроде гутта-
перчи. Возможно, нервы не просто похожи на провода, возможно,
они и есть провода, передающие сообщения из нижних частей тела
в сенсорную область мозга. В 1849 году в книге “Элементы элек-
тробиологии” Альфред Сми сравнивал мозг с батареей, а нервы —
с “биотелеграфом”. Как и любая слишком часто использующаяся
метафора, эта скоро стала предметом насмешек. Газетный репортер
из Менло-Парк, обнаружив Томаса Эдисона в разгар простуды, пи-
сал: “Пришел доктор, который после осмотра объяснил, как устро-
ен тройничный нерв, и сравнил его с электрическим телеграфом
с тремя проводами, а потом небрежно заметил, что при лицевой
невралгии каждый зуб можно рассматривать как телеграфную стан-
цию с оператором”. Аналогия вновь стала популярной с появлени-
ем телефона. “Близится время, когда рассеянные по миру члены
цивилизованных сообществ будут так же объединены мгновенной
телефонной связью, как разные части тела объединены нервной
системой”, — писал в 1880 году Scientific American. И пусть ана-
логия была спекулятивной, она оправдалась. Нервы действительно
передают сообщения, а телеграф и телефон действительно превра-
тили человеческое общество в нечто похожее на единый организм.
В самом начале эти изобретения вызвали такой восторг, кото-
рого, казалось, не вызывало до этого ни одно открытие. Возбужде-
139
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ние передавалось ежедневными газетами, ежемесячными журнала-
ми и, к слову, по самим проводам. Появилось новое ощущение бу-
дущего: чувство, что мир меняется, что жизнь детей и внуков будет
совсем другой благодаря этой силе и ее применению. “Электриче-
ство — поэзия науки”, — заявил в 1852 году американский историк.
Но никто не знал, что такое электричество. “Невидимый, неося-
заемый, невесомый исполнитель”, — сказал один уважаемый человек.
Все были согласны, что оно связано с “необычным состоянием” мо-
лекул или эфира (понятие, туманное само по себе и в конечном сче-
те отвергнутое). В XVII веке Томас Браун описывал электрическое
излучение как “нити сиропа, растягивающиеся и сжимающиеся”.
В XVIII веке запускавший воздушных змеев Бенджамин Франклин
доказал “похожесть молнии и электричества”, объединив пугающие
удары с неба со странными наземными искрами и токами. У Франк-
лина был предшественник — аббат Жан Антуан Нолле, натурфило-
соф и немного шоумен, который в 1748 году заявил, что “электри-
чество в наших руках есть то же, что гром в руках природы”, и ради
доказательства этого организовал эксперимент с использовани-
ем лейденской банки и железного провода — разряд проходил че-
рез две сотни монахов-картезианцев, расставленных по окружности
длиною в милю. Из практически одновременных прыжков, дерга-
ний и вскриков монахов наблюдатели заключили, что послание с ма-
лым, но ненулевым информационным содержанием распространя-
лось по кругу с фантастической скоростью.
Был еще и англичанин Майкл Фарадей, который сделал, пожалуй,
больше чем кто-либо другой для того, чтобы электричество превра-
тилось из магии в научный факт. При этом в 1854 году, когда Фарадей
как раз находился на пике своих исследований, Дионисий Ларднер,
ученый и писатель, восхищавшийся Бэббиджем, довольно точно от-
метил: “Мир науки не пришел к согласию относительно физической
природы электричества”. Некоторые верили, что это флюид, “более
легкий и менее различимый”, чем любой газ, другие подозревали,
что это смесь двух флюидов, “имеющих противоположные свойства”,
а третьи думали, что электричество совсем не флюид, а что-то похо-
жее на звук, “серия волн или вибраций”. Harper's Magazine предупре-
ждал, что “ток” — не более чем метафора, и таинственно добавлял:
“Мы не думаем об электричестве как о том, что передает написанное
1ДО
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
нами сообщение, — скорее, как о том, что дает возможность операто-
ру на другом конце линии написать то же, что и мы”.
Чем бы оно ни было, электричество признавалось силой при-
роды, покоренной человеком. Молодая нью-йоркская The Times
объясняла его с помощью противопоставления пару:
Оба они — мощные и даже грозные исполнители, отвоеванные
у природы навыками и силой человека. Но электричество — гораздо
менее уловимая энергия. Оно есть оригинальный и естественный
элемент, тогда как пар произведен искусственно... Электричество
в сочетании с магнетизмом — еще более сложный исполнитель, ко-
торый, будучи выработанным для передачи, готов двигаться вперед,
словно безопасный и быстрый посланник перенаселенного мира.
Оглядываясь назад, сочинители находили соответствующее пред-
сказание в книге Иова: “Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли
они и скажут ли тебе: вот мы?”1
Но молнии ничего не сообщали — они трещали, сверкали
и ослепляли, для передачи сообщений этого было недостаточно,
нужно было проявить изобретательность. Электричество в челове-
ческих руках еще мало на что было способно. Оно не могло произ-
вести свет ярче искры. Оно молчало. Но его можно было посылать
по проводам на большие расстояния — это обнаружили довольно
быстро, — и оно превращало провода в слабые магниты. Такие про-
вода могли быть очень длинными — никто не нашел предела рас-
пространения электрического тока. Прошло совсем немного време-
ни, и все увидели связь электричества с давнишней мечтой о комму-
никации на большом расстоянии — с “симпатическими” стрелками.
Настало время решать технические проблемы: изготовления
проводов, их изоляции, хранения токов и измерения. Необходимо
было изобрести целую область инженерии. И еще одна проблема —
проблема сообщения, задача больше логическая, чем техническая,
проблема перехода с уровня на уровень, от кинетики к значению.
Какую форму примет сообщение? Как телеграф преобразу-
ет поток в слова? Благодаря свойству магнетизма действие, пере-
1 Иов 38:35.
141
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
даваемое на расстояние, могло выполнять работу над физическими
объектами, такими как стрелки, металлические опилки и даже не-
большие рычаги. Возникали разные идеи: электромагнит мог бить
в набат, управлять движением шестеренок, поворачивать рукоят-
ку, оснащенную пером (правда, инженеры XIX века не помышля-
ли о роботизированном письме). Или же ток мог разрядить пушку.
Представьте — стрелять из пушек с помощью сигнала, посылаемого
издалека! Потенциальные изобретатели, естественно, пытались ис-
пользовать технологии связи, уже существовавшие к этому момен-
ту, но данные технологии в основном оказались неподходящими.
До того как появился электрический телеграф, существовал про-
сто телеграф — les telegraph es, изобретенный и названный так Кло-
дом Шаппом1 во Франции во время Революции. Все строилось
на оптике, “телеграфом” была башня, с которой посылался сигнал
другим башням, находящимся на линии прямой видимости. Зада-
ча была придумать более эффективную и гибкую, чем, к примеру,
огни, сигнальную систему. Работая в паре со своим братом Игна-
сием, Клод испытал ряд схем и потом совершенствовал их годами.
Первая была странной и гениальной одновременно. Братья
Шапп синхронизировали пару маятниковых часов со стрелками,
достаточно быстро движущимися по циферблату. Братья проводи-
ли эксперименты в своем родном городе Брюлоне, расположенном
в сотне миль к западу от Парижа. Игнасий, посылающий сообще-
ние, ждал, пока стрелка дойдет до нужной ему цифры, и в этот мо-
мент подавал сигнал, звоня в колокол или стреляя из ружья, а чаще
просто ударяя по кастрюле. Услышав звук, Клод, находящийся в чет-
верти мили от брата, считывал соответствующее число со своих ча-
сов. Он мог преобразовать числа в слова, находя их в заранее состав-
ленном списке. Такая идея связи посредством синхронизированных
часов появилась вновь в XX веке в мысленных экспериментах физи-
ков и в электронных устройствах, но тогда, в 1791 году, она ни к чему
1 Граф Мийо де Мелито в мемуарах утверждает, что Шапп подал идею в Воен-
ное министерство и там фигурировало название tachygraphe (быстропишущий),
а он, Мийо, предложил вместо этого telegraph е, что и “вошло, так сказать, в оби-
ход”. — Прим. авт.
1Д2
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
не привела. Один из недостатков — две станции должны были на-
ходиться на расстоянии слышимости, но если это условие соблюда-
лось, то зачем такие сложности? Другой проблемой была сама син-
хронизация часов и сохранение этой синхронизации. В итоге через
много лет появившаяся быстрая связь между отдаленными точками
сделала синхронизацию возможной, но не наоборот. Схема разру-
шилась под тяжестью собственной гениальности.
Тем временем Шаппы привлекли в проект еще двоих своих
братьев, Пьера и Рене, и ряд муниципальных служащих и королев-
ских нотариусов в качестве свидетелей. Следующий вариант обо-
шелся без часов и звука. Шаппы сконструировали большую дере-
вянную раму с пятью скользящими заслонками, которые поднима-
лись и опускались с помощью блоков. Используя все возможные
комбинации, этот “телеграф” мог передавать алфавит из тридцати
двух символов — 25, еще один двоичный код (его подробного опи-
сания не сохранилось). Клод просил денег у вновь созданного За-
конодательного собрания, поэтому он попытался передать полное
надежды сообщение из Брюлона: EAssemblee nationale recompenses
les experiences utiles au public (“Национальная Ассамблея будет по-
ощрять полезные обществу эксперименты”). Передача восьми слов
заняла 6 мин 20 с, причем слова расшифровали неверно.
Революционная Франция была одновременно и хорошим,
и плохим местом для экспериментов. Когда Клод воздвиг прото-
тип телеграфа в парке Сен-Фарго на северо-западе Парижа, его со-
жгли — мнительные горожане испугались секретных сообщений.
Гражданин Шапп продолжал искать такую же быструю и надеж-
ную технологию, как гильотина, — еще одно новое устройство.
Он разработал аппарат с огромной перекладиной, на которой кре-
пились два гигантских рычага, приводимые в движение веревка-
ми. Как и многие ранние машины, эта напоминала человека. Рыча-
ги могли занимать любое из семи положений (углов) с шагом в 450
(не восьми, поскольку в одном из положений рычаг скрывался пе-
рекладиной). Перекладина тоже могла поворачиваться, а вся кон-
струкция контролировалась оператором, снизу управлявшим си-
стемой рычагов и блоков. Для усовершенствования этого сложного
механизма Шапп нанял Абрахама Луи Бреге, известного часовых
дел мастера.
143
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Проблема управления была более чем серьезной, но вопрос
разработки подходящего кода оказался еще сложнее. С чисто меха-
нической точки зрения рычаги и перекладина могли располагать-
ся под любым углом — возможности были бесконечны, но для эф-
фективной передачи сигнала Шаппу пришлось их ограничить.
Чем меньше значимых положений, тем ниже вероятность ошибки.
Он выбрал всего два положения для перекладины и по семь для каж-
дого рычага, что сделало возможным 98 положений (7X7X2).
Вместо того чтобы просто использовать их для букв и цифр, Шапп
стал придумывать сложный код. Некоторые сигналы были зарезер-
вированы для исправления ошибок и управления: начало и конец,
подтверждение, задержка, конфликт (башня не могла посылать со-
общения в обоих направлениях одновременно) и неудача. Дру-
гие использовались в парах, указывая оператору страницу и номер
строки в специальной книге кодов с более чем 8 тыс. возможных
вхождений: слова и слоги, имена собственные людей и мест. Все это
оставалось тщательно засекреченным. В конце концов, сообщения
были предназначены для передачи по небу, любой мог их увидеть.
Шапп не сомневался, что телеграфная сеть, о которой он мечтал,
будет государственной собственностью и начнет эксплуатировать-
ся на государственном уровне. Он видел ее не как инструмент зна-
ния или обогащения, а как инструмент власти. “Придет день, — пи-
сал он, — когда правительство сможет достичь самой грандиозной
власти, о которой мы только способны помыслить, путем использо-
вания телеграфной системы для непосредственного распростране-
ния информации ежедневно и ежечасно и одновременно для рас-
пространения своего влияния по всей Республике”.
Страна находилась в состоянии войны, власть принадлежала
Национальному собранию, и в это время Шапп умудрился при-
влечь внимание некоторых влиятельных законодателей. “Гражданин
Шапп предлагает гениальный метод передачи информацию по воз-
духу, используя небольшое количество символов, просто сформиро-
ванных из прямолинейных сегментов”, — докладывал один из них,
Жильбер Ромм, в 1793 году. Он убедил Собрание выделить 6 тыс.
франков на строительство трех телеграфных башен на линии к се-
веру от Парижа на расстоянии от 7 до 9 миль одна от другой. Братья
Шапп теперь действовали быстро и к концу лета организовали три-
144
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
Телеграф Шаппа
умфальную демонстрацию перед депутатами-наблюдателями. Депу-
татам понравилось то, что они увидели, — средство получения ве-
стей с места боевых действий и передачи приказов и декретов. Они
назначили Шаппу зарплату, дали государственную лошадь и офи-
циально назначили на пост ingenieur telegraphe (телеграфный инже-
нер). Шапп начал работу над линией станций длиной в но миль,
от Лувра в Париже до Лилля на северной границе. Менее чем че-
рез год он ввел в эксплуатацию 18 станций, и из Лилля стали посту-
пать первые сообщения — к счастью, новости о победах над прусса-
ками и австрийцами. Конвент бился в экстазе. Один депутат заявил,
что существует четыре великих изобретения человечества: печать,
порох, компас и “язык телеграфных сигналов”. Он был прав, об-
ратив внимание на язык. В терминах оборудования — веревок, ры-
чагов и деревянных балок — Шаппы ничего нового не придумали.
Началось строительство станций на восток к Страсбургу,
на запад к Бресту и на юг к Лиону. Когда в 1799 году власть захва-
тил Наполеон Бонапарт, он приказал передать по всем направле-
145
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ниям сообщение Paris est tranquille et les bons citoyens sont contents
(“Париж спокоен и добропорядочные граждане довольны”) и ско-
ро дал разрешение построить новую линию станций до Милана.
Телеграфная система устанавливала новый стандарт скорости свя-
зи, поскольку единственным ее соперником был верховой посыль-
ный. Но скорость можно измерить двумя способами, в терминах
расстояния или в терминах символов или слов. Однажды Шапп
заявил, что сигнал может быть передан из Тулона в Париж через
линию из но станций на расстояние 475 миль за ю или 12 минут.
Но он не мог сказать того же самого о целом сообщении, даже
сравнительно коротком. Три сигнала в минуту — максимальная
скорость передачи, которой можно было ожидать даже от самых
быстрых телеграфистов.
Оператор в цепочке, глядя в телескоп, должен был записать
каждый сигнал, воспроизвести его, поворачивая блоки и рычаги,
и убедиться, что сигнал правильно принят следующей станцией.
Сигнальная цепь была высокочувствительна и уязвима — дождь,
туман или невнимательный оператор могли исказить любое сооб-
щение. Когда в 1840-е годы подсчитали долю правильно передан-
ных сообщений, оказалось, что днем в теплые месяцы лишь два со-
общения из. трех добирались до пункта назначения, а зимой это
соотношение снижалось до одного из трех. Кодирование и декоди-
рование тоже отнимало время, но только в начале и в конце линии.
Операторы промежуточных станций должны были передавать со-
общения, не расшифровывая их. К тому же многие stationaires (об-
служивающие станции работники) были неграмотными.
Когда сообщения достигали пункта назначения, им не всегда
можно было доверять. Из-за большого количества промежуточных
станций вероятность появления ошибок была довольно большой.
Как в детской игре, известной в Британии как “Китайский шепот”,
в Китае как в Турции как “От уха к уху”, в современных
США как “Телефон”, в России как “Сломанный телефон”. Когда
коллеги Шаппа пренебрегали проблемой коррекции ошибок, он
жаловался: “Они, по-видимому, никогда не пробовали передавать
сообщения больше чем через две или три станции”.
Сегодня старый телеграф забыт, но в свое время он стал сенса-
цией. В Лондоне автор песен и конферансье театра “Друри-Лейн”
146
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
Французская телеграфная сеть во время своего расцвета
Чарльз Дибдин вставил изобретение в музыкальное шоу 1794 года
и предсказал ему великое будущее:
Если только вы пообещаете, что не будете смеяться,
Я объясню французский телеграф!
Машина, обладающая замечательной силой,
Она пишет, читает и посылает новости на скорости
пятьдесят миль в час.
147
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
О! Любители лотереи станут богаты как евреи:
Вместо почтовых голубей, приносящих новости,
У них будет телеграф на набережной Олд Ормонд,
А другой — на корабле посреди моря.
Прощай, почта за пенни! Письма и повозки, прощайте,
ваше время вышло, все для вас кончено:
на вашем месте будет телеграф в наших домах,
Чтобы показывать время, давать свет, сушить рубахи
и посылать новости.
Телеграфные башни распространились по Европе и за ее пределы,
их руины сегодня можно найти повсюду в пригородах. Они оста-
вили от себя названия: Телеграфный холм, Telegrafberget, Telegraphen-
Berg. Первыми системы по французской модели построили Швеция,
Дания и Бельгия. Вскоре присоединилась Германия. Линия между
Калькуттой и Чунаром заработала в 1823 году, между Александрией
и Каиром — в 1824-м; в России Николай I организовал строительство
220 станций от Варшавы до Санкт-Петербурга и Москвы. Тогда ничто
не могло сравниться с телеграфными башнями, но вскоре они устаре-
ли — на это потребовалось гораздо меньше времени, чем на их строи-
тельство. Полковник Талиаферро Шаффнер, изобретатель и историк
из Кентукки, в 1859 году путешествовал по России и был поражен вы-
сотой башен и их красотой, тщательностью их покраски и цветочны-
ми украшениями, а также их неожиданной гибелью.
Станции теперь молчат. Индикаторы неподвижны. Башни стоят
на возвышенностях, уступая разрушительной силе времени. Электри-
ческий провод, внешне не столь величественный, пересекает империю
и горящими вдалеке огнями передает волю императора шестидесяти
шести миллионам человек, разбросанных по просторам его владений.
В представлении Шаффнера это была односторонняя передача.
Шестьдесят шесть миллионов не отвечали ни императору, ни друг
другу.
Что же можно сказать, когда пишешь в небеса? Клод Шапп
утверждал: “Все, что может быть предметом переписки”. Но его
148
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
Телеграф на Монмартре
пример — “Люкнер направляется в Монц, чтобы осаждать город;
Бендер выдвигается для его защиты” — ясно давал понять, что он
имел в виду военные сводки и государственные депеши. Позже
Шапп предложил посылать и другую информацию: новости о по-
ставках и финансовые котировки с товарных и фондовых бирж. На-
полеон этого не позволил, хотя в 1811 году и воспользовался телегра-
фом, чтобы объявить о рождении своего сына, Наполеона II. Ком-
муникационную инфраструктуру, построенную за счет огромных
государственных вложений и способную передавать около сотни
слов в день, вряд ли стоило использовать для частных сообщений.
Об этом тогда нельзя было и помыслить, так что, когда в следующем
столетии такая передача стала возможной, некоторые правительства
отнеслись к новшеству неодобрительно. Как только предприни-
матели начали организовывать частную телеграфию, Франция за-
претила ее — закон 1837 года предусматривал тюремное заключе-
на
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ние и штрафы “для любого, осуществляющего неавторизованную
передачу сигналов из одного места в другое с помощью телеграф-
ных машин или любым иным способом”. Идее глобальной нервной
системы пришлось возникнуть в другом месте. Через год, в 1838-м,
американец Сэмюэл Ф.Б. Морзе посетил Францию и предложил
ее правительству идею “телеграфа”, использующего электрические
провода. Ему наотрез отказали. По сравнению с грандиозной сиг-
нальной системой электричество казалось незащищенным пустя-
ком. Никто не мог вмешаться в идущий по воздуху телеграфный
сигнал, а провод можно было перерезать. Физик Жюль Гийо, кото-
рому поручили оценить технологию, говорил: “Чего можно ожи-
дать от нескольких жалких проводов?” И в самом деле, чего?
Забота о высокочувствительных гальванических импульсах и их пи-
тание сопровождались набором сложных технических проблем;
проблемы возникали и там, где электричество “встречалось” с язы-
ком, где слова должны были быть преобразованы в пульсации в про-
воде. Появление точки пересечения электричества и языка, так же
как и установление контакта между устройством и человеком, требо-
вало новых гениальных изобретений. Было придумано множество
различных схем. Практически все они так или иначе основывались
на письменном алфавите — использовали буквы как промежуточ-
ный этап. Это казалось настолько естественным, что не стоило упо-
минания. В конце концов, telegraph означал “далекописание”. Поэто-
му в 1774 году Жорж-Луи Лесаж из Женевы приспособил двадцать
четыре провода под двадцать четыре буквы. По каждому проводу
шел ток, достаточный лишь для того, чтобы сдвинуть кусочек золо-
той фольги, подвешенный в стеклянной банке крошечный шарик
или “другие тела, которые легко притягиваются и за которыми лег-
ко наблюдать”. Вот только проводов было слишком много. Француз
Ломонд в 1787 году протянул единственный провод через свою квар-
тиру и заявил, что способен передавать буквы, заставляя шарик пе-
редвигаться в разных направлениях. “Казалось, он сформировал ал-
фавит движений”, — рассказывал очевидец, но, по-видимому, лишь
жена Ломонда была способна понимать этот код. В 1809 году немец
Самуэль Томас фон Земмеринг создал пузырьковый телеграф. Ток,
150
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
проходящий по проводам, погруженным в сосуд с водой, произво-
дил пузырьки водорода; каждый провод и, соответственно, каждый
выброс пузырьков мог означать букву. Потом фон Зиммеринг сумел
заставить электричество звонить в колокольчик: он уравновеши-
вал перевернутую ложку в воде так, что достаточное количество пу-
зырьков заставляло ее наклоняться, освобождая грузик, приводящий
в движение рычаг, и колокольчик звонил. “Этот вторичный объект,
“оповеститель”, стоил мне многих часов раздумий и многих бес-
полезных опытов с механизмом”, — писал он в дневнике. На дру-
гом берегу Атлантики американец Харрисон Грей Дайер пробо-
вал посылать сигналы, заставляя электрические искры производить
азотную кислоту, обесцвечивающую лакмусовую бумагу. Он натя-
нул провод на деревьях и шестах вокруг беговой дорожки на Лонг-
Айленде. Лакмусовую бумагу надо было передвигать руками.
Затем появились стрелки. Физик Андре Мари Ампер, изобре-
татель гальванометра, предложил использовать их в качестве сиг-
нальных устройств; это были стрелки, отклоняемые электромаг-
нитным полем, — компас, указывающий на кратковременный, не-
природный север.
Ампер думал о стрелках для каждой буквы. В России барон
Павел Шиллинг продемонстрировал систему с пятью стрелками
и позже сократил их количество до одной: он привел комбинации
движений стрелки вправо и влево в соответствие с буквами и ци-
фрами. В 1833 году в Геттингене математик Карл Фридрих Гаусс
и физик Вильгельм Вебер сделали похожую схему с одной стрел-
кой. Первое отклонение стрелки давало два возможных исхода —
влево или вправо. Два отклонения стрелки вместе давали еще че-
тыре возможности (право 4- право, право + лево, лево + право
и лево + лево). Три отклонения давали восемь комбинаций, четы-
ре — шестнадцать, всего тридцать разных сигналов. Оператор дол-
жен был использовать паузы для разделения сигналов. Гаусс и Ве-
бер организовали алфавит отклонений логически, начиная с глас-
ных, а в остальном взяли буквы и цифры по порядку:
вправо = а
влево = е
вправо, вправо = i
151
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
вправо, влево
влево, вправо
влево, влево
вправо, вправо, вправо
вправо, вправо, влево
и т. д.
= о
= и
= ь
= с (и k)
= d
Схема кодирования букв была в некотором роде двоичной. Каждая
минимальная единица, каждая малая часть сигнала заключалась в вы-
боре из двух возможностей — влево или вправо. Каждая буква требо-
вала какого-то числа выборов, и это число не было заранее назначе-
но. Оно могло быть равно единице, как в случае вправо ели влево с е,
но могло быть и больше, так что схема оставалась открытой и позво-
ляла использовать алфавит из необходимого количества букв. Гаусс
и Вебер протянули пару проводов на расстояние более мили по до-
мам и колокольням от Геттингенской обсерватории до Института
физики. Что им удалось передать друг другу, история не сохранила.
Вдалеке от мастерских этих изобретателей telegraph все еще озна-
чал башни, семафоры, заслонки и флаги, зато начал расти энтузи-
азм, связанный с новыми возможностями. В 1833 году, читая лекцию
в Бостонском морском обществе, юрист и филолог Джон Пикеринг
заявил: “Большинству обычных наблюдателей должно быть очевид-
но, что нельзя придумать средство передачи познаний, которое бы
превзошло по скорости телеграф, поскольку за исключением едва за-
метных задержек при передаче на каждой станции его скорость мо-
жет быть сопоставлена со скоростью света”. Пикеринг мечтал о те-
леграфе на Центральной верфи, в частности, о башне Шаппа, пере-
дающей новости, и о трех других станциях вдоль 12-мильной линии
через Бостонскую гавань. Тем временем десятки газет по всей стране
назвали себя The Telegraph. Они тоже занимались “далекописанием”.
“Телеграфия есть элемент власти и порядка”, — говорил Авра-
ам Шапп, а финансовые и торговые классы оказались следующи-
ми, кто понял ценность быстрой передачи информации на боль-
шие расстояния. Всего 200 миль отделяло Фондовую биржу на Тред-
нидл-стрит в Лондоне от Парижской биржи во дворце Броньяр,
152
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
но 200 миль означали дни. Минимизировав это время, можно было
заработать состояние. Для спекулянтов частный телеграф стал бы та-
ким же полезным, как машина времени. Семья банкиров Ротшиль-
дов пользовалась почтовыми голубями и, для большей надежности,
небольшой лодочной флотилией для перевозки посыльных через ка-
нал. Возможность быстрой передачи информации на расстоянии
действовала возбуждающе. Пикеринг в Бостоне подсчитал: “Если
существуют значительные бизнес-преимущества в получении ин-
формации из Нью-Йорка за два дня или меньше, что равносильно
скорости в восемь или десять миль в час, то любой человек спосо-
бен почувствовать пропорциональную выгоду, которая появится, ко-
гда мы сможем передавать ту же информацию телеграфом со ско-
ростью четыре мили в минуту, или в течение одного часа из Нью-
Йорка в Бостон”. Если раньше изобретением интересовались только
государства — для получения военных бюллетеней и распростране-
ния законов, — то теперь к ним присоединились капиталисты и га-
зеты, железные дороги и транспортные компании. Тем не менее в ра-
стущих Соединенных Штатах даже давления коммерции не хватало,
чтобы оптический телеграф стал реальностью. Лишь один прототип
успешно связал два города, Нью-Йорк и Филадельфию, в 1840 году.
Он передавал котировки акций и лотерейные номера, а затем устарел.
Все потенциальные изобретатели электрического телеграфа,
а их было немало, оперировали одним и тем же набором инстру-
ментов. У них были провода и магнитные стрелки. У них были ба-
тареи — гальванические элементы, соединенные вместе и произво-
дящие электричество с помощью реакции металлических полосок,
погруженных в кислотный раствор. У них не было ламп, не было
моторов, были лишь механизмы, которые они могли построить
из дерева и бронзы: шипы, винты, колеса, пружины и рычаги. На-
конец, у них была общая цель — буквы. (Эдвард Дэви в 1836 году
счел необходимым объяснить, почему, кроме букв, ничего не нуж-
но: “В каждый момент может быть передана одна буква, каждая бук-
ва при поступлении записывается оператором, который будет со-
ставлять слова и предложения, и легко заметить, что из-за беско-
нечного числа изменений количества букв может быть передано
153
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
множество обычных сообщений”.) Кроме общего набора инстру-
ментов и материалов эти пионеры в Вене, Париже, Лондоне, Гет-
тингене, Санкт-Петербурге и США разделяли ощущение, что кон-
куренты наступают на пятки, но никто точно не знал, что дела-
ют остальные. Они не имели возможности идти в ногу с наукой;
важнейшие научные открытия, связанные с электричеством, оста-
вались неизвестны людям, которые сильнее всех в них нуждались.
Каждый изобретатель мучился, пытаясь понять, что происходит
с электрическим током, текущим по проводам различной длины
и различного сечения, и они продолжали мучиться этим вопросом
больше десяти лет после того, как Георг Ом в Германии выстроил
точную математическую теорию о токе, напряжении и сопротивле-
нии. Такие новости распространялись медленно.
В этой обстановке Сэмюэл Морзе и Альфред Вейль в США
и Вильям Кук и Чарльз Уитстоун в Англии сделали электрический
телеграф реальностью и превратили его в бизнес. Оба претендо-
вали на “изобретение” телеграфа, хотя ни один его не изобрел,
уж точно не Морзе. Их партнерство было обречено закончиться
жестокими и бурными патентными спорами, в которые оказалось
втянуто большинство ведущих ученых, изучавших природу элек-
тричества на обоих континентах. След изобретения, прошедший
через такое количество стран, был плохо зафиксирован, информа-
ция о нем распространялась еще хуже.
Кук, молодой предприниматель из Англии (он увидел прото-
тип стрелочного телеграфа во время путешествия, в Гейдельбер-
ге), и Уитстоун, физик из лондонского Кингс-колледжа, в 1837 году
основали партнерство. Уитстоун проводил эксперименты, иссле-
дуя скорость звука и электричества, и проблемой опять стало со-
единение физики и языка. Партнеры консультировались с главным
английским специалистом по электричеству Майклом Фарадеем
и Питером Роже, автором “Трактата об электромагнетизме” и си-
стемы вербальной классификации, которую он назвал “Тезаурусом”.
У телеграфа Кука — Уитстоуна был ряд прототипов. В одном из них
использовалось шесть проводов, из которых были сделаны три
цепи, управляющие магнитными стрелками. “Я проработал каж-
дую из возможных перестановок и практических комбинаций сиг-
налов, которые дают три стрелки, и получил алфавит из двадцати
154
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
шести сигналов”, — туманно объяснял Кук. Подразумевался и сиг-
нал тревоги, чтобы привлечь внимание оператора; Кук говорил,
что его вдохновило единственное механическое устройство, в ко-
тором он хорошо разбирался, — музыкальная табакерка. В следую-
щей версии пара синхронизированных вращающихся по часовой
стрелке дисков показывала буквы алфавита через прорезь. Еще бо-
лее гениальным и настолько же неуклюжим был пятистрелочный
вариант: двадцать букв были расположены на ромбовидной решет-
ке, и оператор, нажимая пронумерованные кнопки, заставлял две
из пяти стрелок однозначно указывать выбранную букву. Этот теле-
граф Кука — Уитстоуна обходился без букв С,/, Q, J7, X и Z. Вейль,
американский соперник ученых, описывал этот процесс:
Допустим, сообщение, которое надо послать из Паддингтона
в Слоу, таково: “Мы встретили врагов, они наши”. Оператор в Пад-
дингтоне нажимает две клавиши, и и 18, чтобы выбрать на диске
Слоу букву М. Оператор в Слоу, который предположительно не-
прерывно следит за прибором, видит две стрелки, указывающие
на М. Он записывает букву или голосом передает ее другому клер-
ку, который ведет запись; по недавним подсчетам, на сигнал требу-
ется минимум две секунды.
Вейлю это казалось неэффективным. У него были основания гор-
диться собой.
Поздние воспоминания Сэмюэла Финли Бриза Морзе о том,
что его сын называл “многословными баталиями в научном мире
по поводу приоритетов, долга перед другими и сознательного
или неосознанного плагиата”, противоречивы. Это происходило
на фоне недостаточной коммуникации и отсутствия записей. Вы-
пускник Йельского колледжа, сын священника из Массачусетса,
Морзе был художником, а не ученым. Большую часть 1820-1830-х
он провел, путешествуя по Англии, Франции, Швейцарии и Ита-
лии и изучая живопись. В одной из таких поездок он и услышал
об электрическом телеграфе, и, по его воспоминаниям, на него
снизошло внезапное озарение. “Словно вспышка вдохновения,
ставшего впоследствии его спутником”, — написал потом его сын.
Морзе говорил своему другу, делившему с ним комнату в Париже:
155
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
---------WV34TW WW V-----------------------------и<7—
Телеграфная передача, записанная первым инструментом Морзе
“Почта у нас в стране слишком медлительна. Этот французский
телеграф лучше — ив наших условиях будет работать еще лучше,
чем здесь, где половину времени небо покрыто тучами. Но это все
равно недостаточно быстро, молния была бы лучше”. Но, по его
описанию, озарение было ему не о молнии, а о знаках: “Будет не-
трудно создать систему знаков, с помощью которой можно мгно-
венно передавать знания”.
Из “озарения” Морзе родилось остальное. Ничего не зная о ша-
риках, пузырьках или лакмусовой бумаге, Морзе понял, что знак
можно создать на основе чего-то более простого, более фундамен-
тального и менее осязаемого — минимального события, замыка-
ния и размыкания цепи. И никаких стрелок. Электрический ток
прерывался, и можно было придать этим прерываниям смысловое
значение. Идея была проста, но первые устройства Морзе оказа-
лись сложными, в их состав входили заводные механизмы, деревян-
ные маятники, карандаши, полоски бумаги, ролики и кривошипы.
Опытный механик Вейль справился с этим. Для передающего кон-
ца Вейль придумал то, что стало иконой пользовательского интер-
фейса: простой пружинный рычаг, с помощью которого оператор
мог управлять цепью прикосновением пальца. Сначала Вейль на-
звал этот рычаг “корреспондентом”, затем просто “ключом”. Про-
стота ключа позволяла работать как минимум на порядок быстрее,
чем конструкция Уитстоуна — Кука с кнопками и кривошипами.
Телеграфным ключом оператор мог посылать в минуту сотни сиг-
налов, которые по сути были не более чем прерываниями тока.
Таким образом, на одном конце линии был рычаг для замыка-
ния и размыкания цепи, на другом — управляемый током электро-
магнит. Вероятно, Вейль придумал совместить одно с другим —
магнит мог управлять рычагом. Такая комбинация (примерно
в то же время изобретенная Джозефом Генри в Принстоне и Эд-
вардом Дэви в Англии) была названа “реле” — от слова, означав-
шего свежую лошадь, заменяющую уставшую. Реле убрало главное
156
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
Телеграфный ключ Альфреда Вейля
препятствие на пути развития электрической телеграфной связи
на дальние расстояния — ослабление тока по мере его прохожде-
ния по проводу. Ослабленный ток все еще был в состоянии приве-
сти в действие реле, включая новую цепь, питающуюся от другой
батареи. Реле обладало большим потенциалом, чем предполагали
изобретатели. Помимо того что оно позволило сигналу распро-
странять сам себя, оно могло возвращать сигнал и объединять сиг-
налы от многих источников. Но это было в будущем.
Поворотный момент, одновременно в Англии и США, настал
в 1844 году. Кук и Уитстоун начали эксплуатацию своей первой ли-
нии от станции Паддингтон вдоль железнодорожного полотна.
Морзе и Вейль запустили свою от Вашингтона до железнодорож-
ной станции Пратт-стрит в Балтиморе по подвешенным на два-
дцатифутовых деревянных шестах проводам, обернутым тканью
и покрытым смолой. Сначала трафик был небольшим, но Мор-
зе гордо доложил Конгрессу, что инструмент способен передавать
тридцать букв в минуту, а линии “остались нетронутыми, несмо-
тря на чьи-то хулиганские или злые намерения”. С самого начала
содержание сообщений резко, до комичного отличалось от воен-
ных и официальных депеш, к которым привыкли французские теле-
157
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
графисты. В Англии первые сообщения, записанные в телеграфной
книге в Паддингтоне, касались утерянного багажа и торговых сде-
лок. “Отправить посыльного г-ну Харрису, Дьюк-стрит, площадь
Манчестер, и попросить его прислать 6 фунтов кильки и 4 фунта
сосисок с поездом 5:30 г-ну Финчу из Виндзора; товар необходи-
мо выслать с поездом 5:30 или не высылать вовсе”. Перед Новым
годом суперинтендант в Паддингтоне послал поздравление колле-
ге в Слоу и получил ответ: пожелание пришло на полминуты рань-
ше, полночь там еще не наступила. Тем же утром фармацевт из Слоу
по имени Джон Товелл отравил свою любовницу Сару Харт и по-
спешил на поезд в Паддингтон. Телеграфное сообщение с его опи-
санием обогнало его (“в одежде квакера, в большом коричневом
пальто”), он был арестован в Лондоне, в марте его повесили. Газе-
ты писали об этом месяц, позже о телеграфе сказали: “Вот провода,
повесившие Джона Товелла”. В апреле капитан Кеннеди на Юго-
Западном железнодорожном терминале играл в шахматы с г-ном
Стентоном в Госпорте; сообщалось, что “при передаче ходов элек-
тричество туда и обратно преодолело более ю тыс. миль”. Газеты,
влюбившись и в этот случай, еще сильнее начали ценить истории,
раскрывающие чудесные возможности электрического телеграфа.
Когда английские и американские предприятия связи распахну-
ли двери перед всеми желающими, далеко не все понимали, кто кро-
ме полиции и случайных игроков в шахматы будет выстраиваться
в очередь, чтобы заплатить за услугу. В Вашингтоне, где в 1845 году
цены начинались с четверти цента за букву, общая выручка за пер-
вые три месяца составила меньше 200 долларов. В следующем году,
когда открылась линия Морзе между Нью-Йорком и Филадельфи-
ей, трафик стал расти немного быстрее. “Если учитывать, что биз-
нес крайне вял [и] мы еще не добились доверия публики, — писал
служащий компании, — то вы поймете, что мы пока вполне удовле-
творены результатами”. Он предсказывал, что выручка скоро достиг-
нет 50 долларов в день. Спохватились газетные репортеры. Осенью
1846 года Александр Джонс послал свой первый репортаж по теле-
графу из Нью-Йорка в Юнион, штат Вашингтон: описание спу-
ска на воду USS Albany на Бруклинской морской верфи. В Англии
корреспондент The Morning Chronicle описывал свое возбуждение
от получения репортажа по телеграфной линии Кука — Уитстоуна:
158
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
Первая часть информации пришла с неожиданным движением
до того неподвижной стрелки и пронзительным тревожным зву-
ком. Мы восхищенно смотрели на невыразительное лицо нашего
друга, таинственный циферблат, и быстро записывали в блокноты
то, что было произнесено за 90 миль отсюда.
Это было заразительно. Некоторые беспокоились, что телеграф
приведет к смерти газет, еще недавно “быстрых и незаменимых
носителей коммерческой, политической и другой информации”,
как писал американский журналист.
Для этих целей газеты станут решительно бесполезными. Молние-
носные крылья телеграфа опередят их по всем пунктам, и им оста-
нется писать о местных “случаях” и абстрактных размышлениях.
Их возможности создавать сенсации, даже во время избирательных
кампаний, будут сильно подорваны, поскольку непогрешимый те-
леграф сможет противостоять их выдумкам с той же скоростью,
с которой они публикуют все это.
Газеты не испугались, а замерли в ожидании новой технологии.
Оказалось, что любое сообщение с пометкой “передано по те-
леграфу” воспринимается публикой как более захватывающее
и срочное. Несмотря на расходы, поначалу составлявшие 50 цен-
тов за десять слов, газеты стали самыми преданными адептами те-
леграфа. сто двадцать провинциальных газет получали репорта-
жи из Парламента ежедневно. Новостные бюллетени с Крымской
войны передавались из Лондона в Ливерпуль, Йорк, Манчестер,
Лидс, Бристоль, Бирмингем и Халл. “Быстрее, чем ракета, но-
вость взрывается снарядом и передается по расходящимся прово-
дам в десятки соседних городов”, — писал один журналист. Но он
видел и опасность: “Информация, столь быстро собранная и пере-
данная... не так правдива, как новости, которые появляются поз-
же и распространяются медленнее”. Связь между телеграфом и га-
зетами была симбиотической: положительные отзывы газет спо-
собствовали развитию телеграфа. А поскольку телеграф и сам был
информационной технологией, он оказался двигателем собствен-
ного развития.
159
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Глобальная экспансия телеграфа продолжала удивлять даже
его сторонников. Когда в Нью-Йорке на Уолл-стрит открылся пер-
вый телеграфный офис, самой большой проблемой оказалась река
Гудзон. Линия системы Морзе шла вдоль восточного берега вверх
на 6о миль, пока не достигала места достаточно узкого, чтобы протя-
нуть провод через реку. Однако уже через несколько лет по дну зали-
ва был проложен изолированный кабель. В 1851 году через Ла-Манш
был проложен подводный кабель длиной 25 миль, соединявший Дувр
и Кале. В 1852 году знающие люди предупреждали: “Все идеи о свя-
зи Европы с Америкой линиями, проходящими напрямую через Ат-
лантику, крайне непрактичны и абсурдны”. Но невозможное было
осуществлено в 1858-м — королева Виктория и президент Бьюкенен
обменялись любезностями, a The New York Times назвала случившее-
ся “насколько практическим, настолько и невообразимым... полным
обнадеживающих прогнозов на будущее человечества... одним из ве-
личайших этапов в поступательном движении человеческого интел-
лекта вверх”. В чем же заключалось достижение? “В передаче мыс-
ли, жизненном импульсе материи”. Возбуждение было глобальным,
эффект — локальным. Пожарные бригады и полицейские участ-
ки объединили сети связи. Гордые хозяева магазинов рекламирова-
ли собственные возможности принимать заказы по телеграфу. Ин-
формация, для доставки которой в пункт назначения всего несколь-
ко лет назад требовались дни, теперь могла быть там, да и где угодно,
за секунды. Это было не удвоение и не утроение скорости передачи,
это был скачок на много порядков. Словно прорыв дамбы. Социаль-
ные последствия невозможно было предвидеть, хотя некоторые про-
явились и были оценены почти сразу. Люди начали иначе представ-
лять погоду — погода стала абстрактным понятием. Простые свод-
ки погоды стали передаваться по проводам от имени спекулянтов
зерном. “Дерби, очень пасмурно; Йорк, ясно; Лидс, ясно; Ноттин-
гем, без осадков, но пасмурно и холодно”. Сама идея “сводки погоды”
была нова. Телеграф позволил людям думать о погоде как о распро-
страненном явлении, связанном с другими явлениями, а не как о на-
боре локальных неожиданностей. “Феномен атмосферы, тайны атмо-
сферных явлений, причины и влияния небесных комбинаций боль-
ше не являются предметами суеверия или паники земледельца, моряка
или пастуха”, — заметил восторженный комментатор в 1848 году:
160
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
Телеграф приходит, чтобы помочь в повседневных нуждах и на-
блюдениях не только тем, что “хорошая погода идет с севера”, —
электрический провод может моментально рассказать о состоянии
погоды одновременно во всех частях нашего острова... Таким об-
разом, телеграф может стать гигантским национальным бароме-
тром, электричество становится слугой ртути.
В1854 году правительство учредило Метеорологическое управление
при Торговом совете. Глава управления, адмирал Роберт Фицрой,
бывший капитан корабля В eagle, переехал в офис на Кинг-стрит,
обставил его барометрами, анероидами и штормовыми указателя-
ми и разослал наблюдателей, экипированных теми же инструмен-
тами, в порты по всему побережью. Они телеграфировали отчеты
об облачности и ветрах дважды в день. Фицрой стал издавать пред-
сказания погоды, которые назвал “прогнозами”, а в i860 году The
Times начала публиковать эти прогнозы ежедневно. Метеорологи
осознали, что все серьезные ветра, если воспринимать их в целом,
были круговыми или по крайней мере “сильно искривленными”.
Теперь, как следствие мгновенной связи между отдаленными
точками, в игру вступали наиболее фундаментальные понятия. Об-
разованные наблюдатели начали поговаривать, что телеграф “ан-
нигилирует” время и пространство. Он “позволяет нам посылать
сообщения с помощью таинственного флюида со скоростью мыс-
ли и аннигилировать как время, так и пространство”, заявил слу-
жащий американского телеграфа в i860 году. Это было преувели-
чением, которое скоро превратилось в клише. Телеграф, казалось,
искажал или сокращал время как препятствие, затрудняющее чело-
веческое общение. “С практической точки зрения, — писала одна
газета, — время передачи можно считать полностью уничтожен-
ным”. То же самое происходило и с пространством. “Расстояние
и время в нашем воображении настолько сильно изменились, —
говорил Латимер Кларк, английский инженер-телеграфист, —
что глобус практически уменьшился, и не может быть сомнений,
что наше понимание его размеров отлично от того, что было у на-
ших предков”.
Прежде любое время было местным: солнце в зените — зна-
чит, полдень. Только провидец (или астроном) догадывался,
161
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
что в разных местах люди живут по разному времени. Теперь вре-
мя могло быть или местным, или стандартизированным, и разли-
чие сбивало с толку. Железные дороги требовали стандартизи-
рованного времени, и телеграф сделал возможным его существо-
вание. Чтобы такое время приняли повсеместно, потребовались
десятилетия; процесс смог начаться только в 1840-е годы, когда
королевский астроном организовал прокладку проводов из об-
серватории в Гринвиче до Компании электрического телеграфа
в Лотбури, намереваясь синхронизировать часы по всей стра-
не. До этого синхронизация времени осуществлялась с помощью
шара, закрепленного на шпиле и опускающегося на купол обсер-
ватории1. Когда в далеко отстоящих друг от друга точках скоорди-
нировали время, стало возможным точное измерение долготы: те-
перь было известно не только расстояние до места, но и местное
время. Тем не менее на кораблях все еще использовали часы — не-
совершенные механические капсулы времени. В 1844 году лейте-
нант Чарльз Уилкс из Американской исследовательской экспеди-
ции использовал первую линию Морзе, чтобы отметить Военный
монумент в Балтиморе на 1 мин 34,868 с к востоку от Капитолия
в Вашингтоне.
Синхронность не только не “аннигилировала” время, она рас-
ширила его влияние. Сама идея синхронности кружила головы.
The New York Herald писала:
Телеграф профессора Морзе — это не только начало эры переда-
чи информации, он породил... совершенно новый класс идей, но-
вые разновидности сознания. Никогда прежде никто не осозна-
вал, что совершенно определенно знает, какие события происходят
в данный момент в отдаленном городе — за 40, юо или 500 миль
от него.
Представьте, продолжал этот восхищенный автор, что сейчас один-
надцать часов. Телеграф передает, о чем говорит сейчас законода-
тель в Вашингтоне.
1 “Шар времени”, установленный над Гринвичской обсерваторией, до сих пор
опускается каждый день в 13:00.
162
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
Требуется немалое умственное усилие, чтобы понять, что это фак-
тическое событие происходит сейчас, а не произошло раньше.
Фактическое событие, которое происходит сейчас.
История тоже менялась. Телеграф помогал сохранять мно-
жество деталей повседневной жизни. Некоторое время до того,
как это стало непрактичным, телеграфные компании старались хра-
нить записи всех сообщений — беспрецедентный кладезь инфор-
мации. “Представьте себе какого-нибудь будущего Маколея, рою-
щегося на этом складе и исходя из найденной информации рисую-
щего яркие особенности общественной и торговой жизни Англии
XIX века, — мечтал один писатель. — В XXI веке в записях пере-
писки целой нации можно будет найти что угодно”. В 1845 году по-
сле года работы с линией между Вашингтоном и Балтимором Аль-
фред Вейль попытался составить каталог всего, что уже передал те-
леграф.
“Много важной информации, — писал он, —
состоящей из сообщений торговцам и от них, членам Конгресса,
служащим правительства, банкам, брокерам, полицейским, сторо-
нам, встречающимся по договоренности друг с другом; новости,
результаты выборов, уведомления о смерти, запросы о здоровье се-
мей и отдельных людей, ежедневные сведения из Сената и Палаты
представителей, заказы товаров, запросы, касающиеся отправления
судов, сведения о ходе дел в судах, повестки свидетелям, сообщения
касательно специальных и экспресс-поездов, приглашения, получе-
ние денег на одной из станций и их отправка на другой для людей,
затребовавших уплату долгов, консультации врачей... ”
Никогда раньше такое разнообразие тем не было собрано под од-
ним заголовком. Благодаря телеграфу эти миры сошлись. Состав-
ляя юридические соглашения и заявки на патенты, изобретатели
стали задумываться о том, чем они занимались, — передаче, публи-
кации, печати, “тревоге”.
Концепция менялась, и требовалась умственная перестройка,
чтобы осознать само понятие телеграфа. Смешение понятий поро-
ждало анекдоты, которые часто ссылались на неуклюжие новые зна-
163
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
чения знакомых терминов — невинных слов типа “посылать” и пол-
ных скрытых смыслов вроде “сообщения”. Одна женщина принес-
ла банку сметаны в телеграфный офис в Карлсруэ, чтобы “послать”
ее своему сыну в Раштатт. Она слышала, что солдат “посылают”
на фронт по телеграфу. Был человек, принесший “сообщение” на те-
леграф в Бангоре, штат Мэн. Оператор поработал ключом и повесил
бумагу на крючок. Клиент пожаловался, что сообщение не было по-
слано, потому что он все еще видел его — на крючке. Для Harper's
New Monthly Magazine, который напечатал эту историю в 1873 году, ее
смысл заключался в том, что даже для “умных и хорошо информиро-
ванных” людей подобные вещи продолжали быть необъяснимыми:
Сложность формирования четкого представления о предмете усу-
гублялась тем фактом, что нам одновременно приходится иметь
дело с новыми и странными фактами и пользоваться старыми сло-
вами, получившими новый смысл.
Сообщение казалось физическим объектом. Но это, как и рань-
ше, была иллюзия, только теперь людям приходилось сознательно
разделять в своем представлении сообщение и бумагу, на которой
оно было написано. Ученые, объяснял Harper's, скажут, что элек-
трический ток “несет сообщение”, но никто не должен представ-
лять себе, что что-то — какая-то вещь — передается. Есть только
“действие и противодействие неощутимой силы и благодаря это-
му — характеристики различимых на расстоянии сигналов”. Ни-
чего удивительного, что люди путались: “Вероятно, в течение дол-
гих лет миру придется продолжать пользоваться этим языком”.
Изменился и физический ландшафт. Протянутые повсюду
провода создавали странные орнаменты на улицах городов и про-
селочных дорогах. “Телеграфные компании участвуют в борь-
бе за воздух над нашими головами, — писал английский журна-
лист Эндрю Уинтер. — Где бы мы ни взглянули вверх, мы не можем
не увидеть либо толстые кабели, подвешенные на тоненьких нитях,
либо параллельные линии проводов, в огромном количестве иду-
щие от столба к столбу, закрепленные на крышах домов и протяну-
тые на большие расстояния”. Некоторое время они были не просто
фоном. Люди смотрели на провода и думали о невидимом грузе,
164
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
который те несли. Роберт Фрост сказал: “Они протянули инстру-
менты по небу, / В котором слова, произнесенные или передан-
ные, / Побегут тихо, будто они — мысль”.
Провода совсем не напоминали архитектуру и лишь немно-
го — природу. Ищущие аналогий писатели думали о пауках и пау-
тине, о лабиринтах и запутанных ходах. И еще одно слово каза-
лось подходящим: люди говорили, что земля покрыта железной
сетью. “Сеть нервов из железной проволоки, в которую попала
молния, раскинулась от мозга, Нью-Йорка, до отдаленных суста-
вов и членов”, — писала New York Tribune. “Сеть проводов, — вто-
рил Harper’s, — дрожит от одного конца до другого от сигналов,
посылаемых человеческим интеллектом”.
Уинтер предсказывал: “Недалеко то время, когда любой человек
получит возможность говорить с другим не выходя из дома”. Разу-
меется, он использовал слово “говорить” в переносном значении.
Во многих смыслах использование телеграфа означало использо-
вание кода.
Азбука Морзе из точек и тире не сразу стала называться кодом.
Это был всего лишь алфавит — “телеграфная азбука Морзе”, кото-
рая, по сути, не была алфавитом. Она не представляла звуки с помо-
щью знаков. Азбука Морзе взяла алфавит за отправную точку и ис-
пользовала его на новом уровне, заменив старые знаки новыми. Это
был метаалфавит, алфавит следующей ступени абстракции. Про-
цесс переноса смысла с одного символического уровня на другой
не был принципиально новым, он использовался и в математике.
В некотором роде в нем заключалась сама суть математики. Теперь
он стал частью обычного набора инструментов, которым пользует-
ся любой человек. Благодаря телеграфу к концу XIX века люди при-
выкли или по крайней мере познакомились с идеей кодов: знаки,
использующиеся для представления других знаков, и слова, исполь-
зующиеся для представления других слов. Переход от символов од-
ного уровня к символам другого можно назвать кодированием.
Две темы шли рука об руку: секретность и краткость. Корот-
кие сообщения экономили деньги — это понятно. Импульс был
настолько мощным, что английская проза стала ощущать на себе
165
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
его влияние. Слова “телеграфный” и “телеграфизм” описывали но-
вый стиль письма. Украшение текста риторическими фразами стои-
ло слишком дорого, и некоторые сожалели об этом. “Телеграфный
стиль вытесняет все формы вежливости”, — писал Эндрю Уинтер. —
Передать “Могу ли я просить оказать мне любезность?” на 50 миль
стоит 6 долларов. Сколько таких бесполезных, но милых фраз дол-
жен безжалостно вычеркнуть наш бедный парень, чтобы сократить
счет до приемлемой суммы?
Газетные репортеры практически сразу стали изобретать спосо-
бы передачи больших объемов информации с помощью меньше-
го количества слов. “Мы рано придумали систему сокращений,
или код, организованный таким образом, что поставки продук-
ции и продажи с ценами по всем ведущим артикулам хлебных из-
делий, продуктов и т.п. могли быть посланы из Буффало и Олба-
ни ежедневно в двадцати словах для обоих городов, — хвастался
один, — при этом в записанном виде это занимало сотню слов”. Те-
леграфные компании пытались сопротивляться на том основании,
что частные коды обманывали систему, однако коды процветали.
Типичная для того времени система была построена на замене це-
лых фраз одним словом, причем буква, с которого это слово начи-
налось, зависела от семантики. Например, все слова, начинающие-
ся с В, касались рынка муки: baal = “обороты меньше вчерашнего”;
babble = “есть хорошая сделка”; baby = “фирма со средним спро-
сом на внутреннюю торговлю и экспорт”; button = “рынок споко-
ен, цены лучше”. Конечно, было необходимо, чтобы отправитель
и получатель работали с идентичными списками слов. Для самих
операторов-телеграфистов зашифрованные сообщения выглядели
полной чушью, что было дополнительным преимуществом.
Как только люди придумали, как посылать сообщения с помо-
щью телеграфа, они обеспокоились и тем, что их разговоры откры-
ты всему миру или как минимум телеграфистам, ненадежным посто-
ронним людям, которые не могли не читать слова, которые передава-
ли через свои устройства. По сравнению с рукописными письмами,
сложенными и запечатанными воском, передача сообщений по этим
таинственным электрическим проводам выглядела публичной и не-
166
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
защищенной. Сам Вейль в 1847 году писал: “Великое преимущество,
которым обладает телеграф, передавая послания со скоростью мол-
нии, аннигилируя время и пространство, пожалуй, было бы сильно
ослаблено в своей полезности, если бы не было позволено приме-
нять секретный алфавит”. Существуют, говорил он, системы,
с помощью которых сообщение может быть передано от одного
корреспондента другому посредством телеграфа и тем не менее
содержание этого сообщения останется совершенным секретом
для всех остальных, в том числе для операторов телеграфных стан-
ций, через руки которых оно должно пройти.
Все это было очень сложно. Телеграф служил не только устрой-
ством, но и носителем — посредником, промежуточным состоя-
нием. Сообщение проходило через этот носитель. Людям пред-
стояло понять, что сообщение и его содержание должны быть раз-
делены. Даже когда сообщение раскрывалось, содержание могло
оставаться скрытым. Вейль объяснил, что под секретным алфави-
том он имел в виду алфавит, чьи знаки были “переставлены и вза-
имно заменены”:
Буква а в постоянном алфавите могла быть в секретном алфавите
представлена буквой у, или с, или х, и так для каждой буквы.
Таким образом, фраза The firm of G. Barlow & Co. have failed (“Фир-
ма G. Barlow & Co. обанкротилась”) превращалась в Ejn stwz ys &
qhwkyfp iy jhan shtknr. Для менее деликатных случаев Вейль предло-
жил использовать сокращенные версии обычных фраз. Вместо give
ту love to (передайте мой сердечный привет) он предложил посы-
лать gmlt.
Mhii — ту health is improving (здоровье идет на лад)
Shf — stocks have fallen (акции упали)
Ymir—your message is received (ваше сообщение получено)
wmietg—when may I expect the goods} (когда ожидать поставки товара?)
Wyegfef—will you exchange gold for eastern funds} (не обменяете золо-
то на восточные ценные бумаги?)
167
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Все эти системы требовали предварительного согласования между
отправителем и получателем: сообщение должно было быть допол-
нено или изменено уже существующим знанием, которым облада-
ли действующие лица на обоих концах провода. Удобным храни-
лищем такого знания становилась кодовая книга, и, когда первая
линия Морзе открылась, один из ее основных инвесторов и акти-
вистов, конгрессмен от штата Мэн Фрэнсис О. Джей Смит, из-
вестный также как Фог, выпустил “Словарь секретной корреспон-
денции, адаптированный для использования в электромагнитном
телеграфе Морзе, а также для письменной корреспонденции, пере-
даваемой по почте или иным способом”. Это был пронумерован-
ный список из 56 тыс. английских слов, от Aaronic до zygodactylous,
плюс инструкции. “Предположим, что пишущий и получатель оба
располагают копией этой книги, — объяснял Смит. — Вместо того
чтобы посылать сообщения в словах, они посылают только числа
или частично числа, а частично слова”. Для большей секретности
они могут заранее договориться либо добавлять или вычитать се-
кретное число по их выбору либо чередовать это секретное чис-
ло. “Несколько таких простых замен, — обещал он, — сделают весь
текст совершенно нечитаемым для неосведомленных о предвари-
тельных договоренностях”.
Криптографы хранили свои секреты в тайных книгах, словно
алхимики. Но теперь разработка шифров вышла из сумрака и на-
чала открыто существовать среди других инструментов коммер-
ции, возбуждая воображение публики. В последующие десятиле-
тия было разработано и опубликовано еще множество схем. Пуб-
ликации варьировались от брошюр за пенни до томов в сотни
плотно забитых текстом страниц. Из Лондона пришел “Трехбук-
венный код для сжатых телеграфных и непостижимых секретных
сообщений и переписки” Е. Эрскина Скотта. Скотт был статисти-
ком страхового общества и бухгалтером и, как и многие в шифро-
вальном бизнесе, одержимым информацией и фактами. Телеграф
открыл целый мир новых возможностей для таких людей — ката-
логизаторов и систематизаторов, изобретателей слов и нумероло-
гов, перфекционистов всех мастей. Главы книги Скотта включа-
ли не только словарь распространенных слов и сочетаний из двух
слов, но и географические наименования, имена людей, названия
168
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
всех акций, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, всех
дней в году, всех подразделений Британской армии, морских ре-
гистров, имена всех пэров Соединенного Королевства. Организа-
ция и нумерация этих данных допускала определенный вид сжа-
тия. Сокращение сообщений означало экономию денег. Клиенты
телеграфа обнаружили, что простая замена слов числами помогала
мало, если вообще помогала: послать 3747 стоило ровно столько же,
что и послать azotite. Поэтому кодовые книги стали шифровать
фразы. Целью была своего рода упаковка сообщений в капсулы, не-
проницаемые для любопытных глаз и подходящие для эффектив-
ной передачи. И естественно, для распаковки в пункте назначения.
Особенный успех в 1870-е и 188о-е годы имел том “Алфавит-
ный универсальный коммерческий электрический телеграфный
код”, написанный Уильямом Клаусоном-Тьюэ. Автор рекламиро-
вал свой код “финансистам, торговцам, владельцам судов, бро-
керам, агентам и т.п.”. Его девиз — “Осязаемая простота, эко-
номия и абсолютная секретность”. Клаусон-Тьюэ — очередной
одержимый информацией человек — попытался упаковать целый
язык или по крайней мере язык торговли в фразы и организовать
их в группы по ключевому слову. Результатом стало странное лек-
сикографическое достижение, окно в экономическую жизнь на-
ции и кладезь необычных нюансов и неожиданной лиричности.
На слово “паника” (присвоенные номера 10054-10065) среди про-
чего перечислены:
Великая паника включает...
Паника спадает
Паника все еще продолжается
Худшее в панике уже позади
Панику можно считать закончившейся
На “дождь” (11310-11330):
Не могу работать из-за дождя
Дождь был весьма кстати
Дождь причинил большие убытки
Дождь сейчас льет как из ведра
169
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Все надежды на продолжение дождя
Очень нужен дождь
Временами дождь
Общее количество осадков
На “обломки” (15388-15403):
Сорвалась с якоря и разбилась
Думаю, лучше продать обломки как есть
Для спасения остова разбитого судна будет сделано все
возможное
Станет настоящей развалюхой
Таможенные власти продали остов
Консул нанял людей для спасения разбившегося корабля
Поскольку мир был полон не только слов, но и вещей, Клаусон-Тьюэ
попытался назначить числа и для имен собственных, насколько это
было возможно: названий железных дорог, банков, шахт, товаров,
судов, портов и акций (британских, колониальных и иностранных).
Когда телеграфные сети распространились под океанами и во-
обще по всему миру, а международные тарифы составили многие
доллары за слово, кодовые книги процветали. Экономия значила
даже больше, чем секретность. Обыкновенный трансатлантиче-
ский тариф составлял около юо долларов за сообщение — “пере-
вод”1, как его иносказательно называли, — из десяти слов. Немно-
гим меньше стоило сообщение из Англии в Индию через Турцию
или Персию и Россию. Чтобы сэкономить на тарифе, умные по-
средники придумали способ, названный “упаковкой”. Упаковщик
собирал, скажем, четыре сообщения из пяти слов каждое и объеди-
нял их в одну телеграмму из двадцати слов, на которую была фик-
сированная ставка. Некоторые кодовые книги становились боль-
ше, некоторые — меньше. В 1885 году W.H. Beer & Company из Ко-
вент-Гарден опубликовала популярный “Карманный телеграфный
код” ценою в пенни, содержащий “более 300 телеграмм из одно-
го слова”, аккуратно организованных по темам. Важными тема-
1 Слово cable переводится на русский язык в том числе и как “телеграмма”.
170
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
ми были ставки (“На какую сумму вы рассчитываете при текущих
ставках?”), изготовление обуви (“Ботинки не подходят, пришлите
за ними”), прачки (“Обращайтесь за стиркой в тот же день”) и по-
года в связи с путешествиями (“Слишком неспокойно, чтобы пе-
реправляться сегодня”). Для “Секретного кода (заполните по дого-
воренности с друзьями)” были оставлены пустые страницы. Так-
же имелись специальные коды для железных дорог, яхт и ремесел
от аптекарского дела до изготовления ковров. Самые большие и до-
рогие книги кодов свободно цитировали друг друга. “Автору ста-
ло известно, что некие люди купили одну копию “Алфавитного те-
леграфного кода” для использования в составлении собственных
кодов, — жаловался Клаусон-Тьюэ. — Автор доводит до сведения,
что такие действия являются нарушением закона об авторских пра-
вах, которое предполагает юридическую ответственность — до-
вольно неприятную процедуру”. Но это была всего лишь бравада.
К концу века телеграфисты на Международных телеграфных кон-
ференциях в Берне и Лондоне систематизировали коды" и слова
из английского, голландского, французского, немецкого, итальян-
ского, португальского и испанского языков и латыни. Книги кодов
процветали первые десятилетия XX века, а затем исчезли.
Пользовавшиеся телеграфными кодами постепенно обна-
руживали неожиданные побочные действия их эффективности
и краткости: они опаснейшим образом были подвержены ошиб-
кам. Поскольку в них не было естественной избыточности англий-
ской прозы и даже сокращенной прозы телеграфного стиля, эти
хитро закодированные сообщения могли быть полностью искаже-
ны в случае ошибки всего лишь в одном знаке. Например, 16 июня
1887 года торговец шерстью из Филадельфии Франк Примроуз те-
леграфировал своему агенту в Канзас, что он купил — сокраще-
но по их согласованному коду до BAY — 500 тыс. фунтов шерсти.
Когда сообщение было получено, ключевое слово превратилось
в BUY. Агент начал скупать шерсть, и ошибка стоила Примроу-
зу 20 тыс. долларов, согласно иску, который он подал на Запад-
ную объединенную телеграфную компанию. Юридические бит-
вы продолжались шесть лет, пока Верховный суд не подтвердил
то, что было написано мелким шрифтом на обороте телеграфного
бланка, где излагалась процедура защиты от ошибок:
171
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Для защиты от ошибок или задержек отправитель сообщения дол-
жен требовать его телеграфирования обратно в точку отправления
для сравнения... Названная компания не отвечает ни за ошибки в...
не посланных повторно сообщениях... ни за ошибки в зашифро-
ванных или непонятных сообщениях.
Телеграфные компании были вынуждены мириться с кодами,
но не были обязаны любить их. Суд присудил Примроузу сумму
в 1,15 доллара — такова была стоимость отправки телеграммы.
Секретное письмо настолько же старо, насколько стара сама пись-
менность. Едва появившаяся письменность сама по себе была се-
кретом, доступным немногим. Со временем люди стали находить
новые способы сохранять свои слова непонятными для посторон-
них. Они создавали анаграммы. Они переворачивали письмо с по-
мощью зеркала. Они придумывали шифры.
В 1641 году, сразу после начала Английской революции, в од-
ной маленькой анонимной книге были собраны многие извест-
ные методы того, что называлось криптографией. Сюда входи-
ло использование специальной бумаги и чернил: сока лимона
или лука, сырых яиц или “дистиллированного сока светлячков”,
который мог быть (а мог и не быть) видимым в темноте. Письмо
можно было зашифровать, заменяя буквы другими, придумав но-
вые символы, записывая справа налево или “переставляя каждую
букву в соответствии с некоторым необычным порядком: предпо-
ложим, первая буква должна быть в конце строки, вторая — вто-
рой с начала и т.д.”. Или сообщение могло быть записано сразу
на двух строках:
Teoliraelmsfmsespluoweutel
hsudesralotaih d,u pysremsyid
The Souldiers are allmost famished, supply us or wee must yeild.
(Солдаты почти умирают с голоду, присылайте провиант, или мы
будем вынуждены отступить.)
172
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
Используя перестановку и замену букв, римляне и иудеи придума-
ли другие методы, более сложные и, следовательно, более секретные.
Маленькая книга была озаглавлена “Меркурий, или Секретный
и быстрый посланник, демонстрирующий, как человек может тайно
и быстро сообщить свои мысли другу на любом расстоянии”. В кон-
це концов автор открыл свое имя — это был Джон Уилкинс, викарий
и математик, ставший впоследствии главой Тринити-колледжа (Кем-
бридж) и основателем Королевского общества. “Он был очень та-
лантливым человеком и обладал техническим складом ума, — говорил
его современник, — глубоко думающий... здоровый и полный энер-
гии, крепкого телосложения, широкоплечий и хорошо сложенный”.
Кроме того, он был скрупулезен. Конечно, он не мог упомянуть каж-
дый шифр, использовавшийся с античных времен, но тем не менее
он включил все известные исследователю в Англии XVII века. Он от-
носился к кодам и как к букварю, и как к справочнику.
Уилкинс рассматривал проблемы криптографии в одном ряду
с фундаментальными проблемами связи. Обычное письмо и “се-
кретное” письмо, по сути, были для него равнозначны. Оставив
в стороне секретность, он задавался вопросом: “Как человеку донес-
ти с великой проворностью и скоростью свои намерения до друго-
го, который находится очень далеко?” Под “проворностью” и “ско-
ростью” он подразумевал нечто философское, и неудивительно —
стоял 1641-й, до рождения Исаака Ньютона оставался целый год.
“Нет ничего (как мы считаем) стремительнее мысли”, — писал Уил-
кинс. Самым быстрым после мысли был взгляд. Как священнослу-
житель Уилкинс полагал, что быстрее всех движутся ангелы и духи.
Если бы только человек мог отправить ангела с посланием, ему бы
удалось передать его на любое расстояние. Остальные, обременен-
ные “органическими телами”, “не могут передавать свои мысли та-
ким легким и мгновенным способом”. Ничего удивительного, пи-
сал Уилкинс, что ангелов называют посланниками.
Как математик он рассматривал проблему и с другой стороны.
Он попробовал выяснить, как ограниченный набор символов, со-
стоящий, например, из двух, трех или пяти, может представить це-
лый алфавит. Символы тогда пришлось бы использовать в комби-
нациях. Например, набор из пяти символов л, с, d, е, используе-
мых в парах, может представлять алфавит из двадцати пяти букв:
173
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ABCDEFGHIKLMNOPQR S Т V W X Y Z &
аа ab ас ad ае ba bb be bd be са cb сс cd се da db de dd de ea eb ec ed ее
“Таким образом, — писал Уилкинс, — слова I am betrayed (меня
предали) могут быть записаны как Bd aacb abaedddbaaecaead”. Так
что даже небольшого набора символов хватит для передачи любо-
го сообщения. Однако, если набор символов небольшой, для запи-
си данного сообщения требуется более длинная строка — “боль-
ше времени и труда”, писал он. Уилкинс не объяснял ни того,
что 25 = 52, ни того, что три символа, используемые в тройках (ааа,
aaby аас...), дадут двадцать семь возможностей, потому что 33 = 27,
но он понимал математические законы, которые лежали в осно-
ве его рассуждений. Последним примером был двоичный код, не-
уклюже описанный словами:
Две буквы алфавита, будучи помещенными в пять различных по-
зиций, принесут тридцать два отличия, что более чем достаточно
для обозначения двадцати четырех букв.
А В C D E F G
ааааа Aaaab aaaba aaabb aabaa aabab aabba
Н I К L M N О
aabbb Ahaaa abaab ababa ababb abbaa abbab
Р Q R 5 T V W
abbba Abbbb baaaa baaab baaba baabb babaa
X Y Z
babab babba babbb
Два символа. Группы по пять символов. “Принесут тридцать два
отличия”.
Скорее всего слово “отличие” удивило немногочисленных чи-
тателей Уилкинса. Но это слово было наполнено значением и вы-
брано неслучайно. Уилкинс был близок к созданию концепции ин-
формации в ее чистой, максимально общей форме. Письмо ста-
ло лишь частным случаем: “В целом надо заметить, что все, у чего
174
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
есть полноправное отличие, заметное любому уму, может быть до-
статочным средством выражения мыслей”. Отличиями могут быть
“два колокола с разным звучанием”, “любой объект в поле зрения,
будь то пламя, дым и т. п.”, трубы, пушки, барабаны. Любое отли-
чие означало выбор из двух вариантов. И этот выбор стал переда-
вать мысли. В малопонятном “анонимном” трактате 1641 года ос-
новная идея теории информации прозвучала впервые и снова ис-
чезла на целых четыре столетия.
Вклад дилетантов — вот как назвал историк криптографии Дэ-
вид Кан то возбуждение, которое возникло с появлением телегра-
фа. Интерес публики к шифрованию вновь появился именно то-
гда, когда об этом заговорили в интеллектуальных кругах. Древние
методы секретного письма заинтересовали неожиданную аудито-
рию — создателей головоломок и склонных к математике или поэ-
зии игроков. Они анализировали древние методы секретного
письма и изобретали новые. Эксперты спорили, кто победит, ши-
фровальщики или взломщики. Великим американским популяри-
затором криптографии был Эдгар Аллан По. В своих фантасти-
ческих рассказах и журнальных статьях он описывал древнее ис-
кусство и хвастался собственными способностями к шифрованию.
“Мы с трудом можем представить себе время, когда у одного че-
ловека не было необходимости или по крайней мере желания пе-
редавать информацию другому таким способом, чтобы ее, кро-
ме них двоих, никто не понял”, — писал он в Graham's Magazine
в 1841 году. Разработка шифров для По была больше чем просто
увлечением историей или техникой — это была страсть. Она отра-
жала его понимание того, как человек общается с миром. Шифро-
вальщики и писатели торгуют одним товаром. “Душа — это крип-
тограмма: чем криптограмма короче, тем сложнее ее понять”, —
писал он. По любил тайны сильнее прозрачности и ясности.
“Засекреченное общение должно было появиться практически
одновременно с изобретением букв”, — считал По. Для него это
был мост между наукой и оккультным миром, здравым смыслом
и гениальностью. Анализ криптографии, “важный способ извле-
чения информации”, требовал определенной формы мышления,
175
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
проницательного ума, и его вполне могли преподавать в академи-
ях. Писатель вновь и вновь повторял, что “пришла пора особой ум-
ственной деятельности”. Он опубликовал серию загадок с подста-
новочными шифрами.
Помимо По в своих произведениях шифры использовали
Жюль Верн и Оноре де Бальзак. В 1868 году Льюис Кэрролл издал
открытку, заполненную с двух сторон тем, что он назвал “телеграф-
ный шифр”: на ней были “алфавит-ключ” и “алфавит сообщения”,
их нужно было сопоставлять с помощью секретного слова, о кото-
ром заранее договорились корреспонденты. Но самым передовым
криптоаналитиком в викторианской Англии был Чарльз Бэббидж.
Процесс подстановки символов, переход на другие смысловые уров-
ни сопровождался большим количеством трудностей. И Бэббидж
с удовольствием принял вызов. “Одна из характерных черт искус-
ства дешифрования, — утверждал он, — связана с убежденностью
любого человека, даже не слишком хорошо знакомого с предметом,
в том, что он способен сконструировать шифр, который никто дру-
гой не сможет расшифровать. Более того, я наблюдал, что чем ум-
нее человек, тем глубже это убеждение”. Бэббидж поначалу тоже
увлекался созданием шифров, но позже перешел на сторону взлом-
щиков. Он планировал написать “Философию взлома шифров”,
но не сумел ее закончить. Зато смог расшифровать полиалфавитный
шифр, известный как шифр Виженера, le chiffre indechiffrable1, счи-
тавшийся в Европе наиболее надежным. Как и в другой своей рабо-
те, он применил алгебраические методы, представив анализ шифра
в форме уравнений. И все равно был дилетантом и знал это.
Атакуя криптографию вычислениями, Бэббидж использовал
те инструменты, которые исследовал в математике и еще в той об-
ласти, которой они принадлежали в меньшей степени, — в области
машин, то есть там, где он создал систему обозначений для дви-
жущихся частей шестеренок, рычагов и переключателей. Диони-
сий Ларднер отмечал: “Различные части машины, будучи однажды
выражены на бумаге соответствующими символами, позволят ис-
следователю освободить мысли от самого механизма и обратить
внимание лишь на символы... это почти метафизическая система
1
Шифр, который невозможно расшифровать (фр.).
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
абстрактных знаков, посредством которой движения руки испол-
няют роль разума”. Более молодые англичане Огастес де Морган
и Джордж Буль заставили ту же методологию работать над еще бо-
лее абстрактным материалом — логическими утверждениями. Де
Морган был другом Бэббиджа, учителем Ады Байрон и профес-
сором Университетского колледжа Лондона. Буль, сын сапожника
из Линкольншира и горничной, к 1840-м стал профессором Коро-
левского колледжа Корка. В 1847 году ученые одновременно и неза-
висимо опубликовали труды, которые стали величайшими вехами
в развитии логики со времен Аристотеля: “Математический ана-
лиз логики, или Опыт исчисления дедуктивных умозаключений”
Буля и “Формальная логика, или Исчисление выводов, необходи-
мых и возможных” де Моргана. До этого момента логика, предмет
которой был понятен лишь немногим, веками пребывала в застое.
Де Морган лучше разбирался в схоластических традици-
ях предмета, а Буль более свободно чувствовал себя в математи-
ке. Ученые годами обменивались письмами с идеями преобразо-
вания языка или “истины” в алгебраические символы. X мог озна-
чать “корова”, а У — “лошадь”. Причем это могла быть одна корова
или одна из множества всех коров (“Это одно и то же?” — вопро-
шали они). Операции над символами производились в алгебраи-
ческих традициях. XY могло означать “название всего, что явля-
ется как X, так и У”. Тогда как X, Y стояло вместо “названия всего,
что либо X, либо У”. С первого взгляда довольно просто, но сам
язык не так прост, поэтому не замедлили появиться сложности.
“Предположим, некоторые Z не являются X, 2У, — написал де Мор-
ган. — Но их не существует. Можно сказать, что несуществующее
не является X. Несуществующая лошадь — не лошадь и (тем бо-
лее?) не корова”. И с сожалением добавил: “Я не оставляю надежды
увидеть, как вы придадите смысл новому виду отрицательных вели-
чин”. Он не отправил это письмо, но и не уничтожил его.
Буль представлял свою систему математикой без цифр. “Факт
в том, — писал он, — что основные законы логики — те, на кото-
рых возможно построить логическую науку, — являются математи-
ческими по форме и выражению, хотя не принадлежат математике
величин”. Он предложил единственными допустимыми цифрами
сделать ноль и единицу. Все или ничего. “Соответствующая интер-
177
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
претация символов о и 1 в системе логики такова: Ничто и Вселен-
ная”. До этого момента логика относилась к философии. Буль пре-
тендовал на нее от лица математики. И изобрел новый способ ко-
дирования. Его кодовая книга объединяла два типа обозначений,
абстрагированных от вещественного мира. С одной стороны был
набор букв, заимствованный из математический формулировок: р
и «у, + и -, круглые и квадратные скобки. С другой — операции,
предположения, отношения, обычно выражаемые размытым язы-
ком повседневной жизни — словами об истинности и ложности,
принадлежности к классу, положения и выводы. Были и частицы:
“если”, “либо”, “или”. Все это элементы символа веры Буля:
Язык есть инструмент человеческого мышления, а не только способ
выражения мыслей.
Элементами, из которых состоит язык, являются знаки или сим-
волы. Слова есть знаки. Иногда их произносят, чтобы обозначить
вещи, иногда — операции, с помощью которых разум соединяет
простые понятия вещей в сложные концепции.
Слова... не единственные знаки, которыми мы можем пользовать-
ся. Произвольные отметки, что-то говорящие только глазу, и про-
извольные звуки или действия... имеют ту же природу, что и знаки.
У кодирования, преобразования из одной формы восприятия
в другую, была цель. В случае азбуки Морзе целью было преобразо-
вать повседневный язык в форму, подходящую для почти мгновен-
ной передачи по милям медных проводов. В случае логики кодиро-
вание позволило производить вычисления. Символы были вроде
маленьких капсул, защищавших хрупкий груз от ветров и тумана
повседневных коммуникаций. Насколько надежнее написать:
1 — х = у (1 -z) + z (1 -у) 4- (1 -у)(1 -z),
чем говорить на обычном языке, Булевым выражением которого
является вышеприведенный пример:
Нечистые звери есть все парнокопытные нежвачные, все жвачные
непарнокопытные и все непарнокопытные нежвачные.
178
ГЛАВА 5 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ
Надежность появляется в том числе за счет исключения слов
со смыслом. Знаки и символы не просто замещали их, они явля-
лись операторами, как шестерни и рычаги машины. Язык, в конце
концов, есть инструмент.
Теперь язык рассматривался именно как инструмент, обла-
дающий двумя функциями — выражения и мышления. Мышление
было первично, во всяком случае так полагали люди. Для Буля ло-
гика была мышлением, отполированным и очищенным. Для сво-
его шедевра 1854 года он выбрал название “Законы мышления”.
Не случайно телеграфисты чувствовали, что благодаря их рабо-
те появилась возможность проникнуть в систему сообщений, ко-
торая существует в мозгу. “Слово есть средство мышления до тех
пор, пока мыслящий человек использует его как сигнал для пере-
дачи собственной мысли”, — утверждал журналист Harper's New
Monthly Magazine в 1873 году.
Пожалуй, наиболее значительным и важным влиянием, которое те-
леграфу суждено было оказать на человеческий разум, является то,
которое он в конечном счете осуществит через влияние на язык..
Согласно принципу, который Дарвин назвал естественным отбо-
ром, короткие слова получают преимущество перед длинными,
прямые формы выражения обретают преимущество перед косвен-
ными, слова с точным значением выигрывают у двусмысленных,
а местные идиомы везде находятся в невыгодном положении.
Влияние Буля распространялось медленно и незаметно. Он совсем
недолго переписывался с Бэббиджем, и они никогда не встреча-
лись. Одним из его кумиров был Льюис Кэрролл, который в кон-
це жизни, через четверть века после того, как придумал “Алису
в Стране Чудес”, написал два тома инструкций, головоломок, диа-
грамм и упражнений в символической логике. Хотя его символизм
был безупречен, его силлогизмы больше походили на шутки:
1. Малые дети неразумны.
2. Тот, кто может укрощать крокодилов, заслуживает уважения.
3. Неразумные люди не заслуживают уважения.
(Заключение) Малые дети не могут укрощать крокодилов.
179
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Символьная версия — b\d§ f асО f d'lc'O; bd f d'c' f ас H ba§ f
И, то есть И Ь\аЪ — позволяла пользователю сделать желаемый вы-
вод, не спотыкаясь на промежуточных условиях вроде “малые дети
не заслуживают уважения” именно потому, что символы лишены
смысла слов.
На рубеже веков Бертран Рассел сделал Джорджу Булю не-
обычный комплимент: “Чистая математика была открыта Булем
в работе, которую он назвал “Законы мышления”. Его часто цити-
ровали.
Но у этой фразы есть неодобрительное продолжение, кото-
рое цитируют редко. А ведь именно оно делает комплимент Рассе-
ла столь необычным:
Он также ошибался, полагая, что имеет дело с законами мышления:
вопрос, как люди на самом деле думают, не имел для него значения,
и, если в его книге действительно содержатся законы мышления, за-
бавно, что никто до этого не размышлял таким же образом.
Судя по всему, Рассел любил парадоксы.
6
НОВЫЕ ПРОВОДА,
НОВАЯ ЛОГИКА
Ни одна другая вещь не окружена
такой завесой тайны
Идеальная симметрия аппарата — провод посередине,
два телефона с обоих концов провода и две болтушки у телефонов —
может привести в восторг настоящего математика.
Джеймс Клерк Максвелл (1878)
В 1920-е годы в провинциальном городке у любопытного
ребенка вполне мог возникнуть интерес к пересылке со-
общений по проводам, что и случилось с Клодом Шен-
ноном из Гейлорда, штат Мичиган. Каждый день он ви-
дел проволоку, которой огораживали пастбища, — двой-
ная стальная жила, скрученная и оснащенная колючками, тянулась
от столба к столбу. Шеннон выпросил несколько кусочков и на ско-
рую руку собрал собственный телеграф, передавая по колючей про-
волоке сообщения приятелю, который находился в полумиле. Он
пользовался кодом, придуманным Сэмюэлом Ф. Б. Морзе, и этот
код его устраивал. Ему нравилась сама идея кодов — не столько се-
кретных шифров, сколько кодов в более широком смысле, то есть
слов и символов, замещающих другие слова и символы. Всю жизнь
он придумывал игры и играл в них, изобретал разные приспособле-
ния. Повзрослев, Шеннон увлекся фокусами — он и придумывал
их, и показывал. Сотрудникам Массачусетского технологическо-
го института и Лабораторий Белла оставалось только отпрыгивать
в сторону, когда он проезжал мимо на одноколесном велосипеде.
Когда он был ребенком, ему все время хотелось играть, но в детстве
181
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
он чаще всего был один, что в сочетании с конструкторским талан-
том и привело его к созданию телеграфа из колючей проволоки.
В Гейлорде было несколько улиц и магазинов, а вокруг — бес-
крайние пастбища. Отсюда через равнины и прерии до самых Ска-
листых Гор, как лоза, тянулась колючая проволока — важное про-
мышленное изобретение, приносившее производителям огромные
состояния, несмотря на то что не была особенно привлекательной
по сравнению с другими технологическими новшествами это-
го времени, века электричества, как его уже тогда называли. Когда
в 1847 году фермер из Иллинойса получил патент №157,124 за “но-
вое и ценное усовершенствование проволочных заграждений”,
споры о собственности на землю бушевали, доходило даже до Вер-
ховного суда — ведь именно проволока определяла границы тер-
риторий. Американские железные дороги, фермеры и владель-
цы ранчо прокладывали более миллиона миль проволоки в год.
Но в целом проволочные заграждения больше походили на реше-
то, чем на паутину. Они разделяли, а не объединяли. У этой про-
волоки была плохая проводимость, даже в сухую погоду. Но все
равно она была проволокой, и Клод Шеннон оказался не первым,
кто увидел коммуникационный потенциал этого огромного реше-
та. Не желая ждать, когда телефонные компании проведут линии
из городов, сельское население, тысячи фермеров в разных концах
страны, строило свои линии из колючей проволоки. Они заменя-
ли металлические скобы изолированными крепежами. Они присо-
единяли сухие электрические батареи и переговорные трубки и до-
бавляли проволоку, чтобы заделать разрывы. Летом 1895 года The
New York Times писала: “Нет никаких сомнений, что уже реализо-
вано много грубых и примитивных способов использования теле-
фона. Например, фермеры из Северной Дакоты создали телефон-
ную сеть, использующую восемь миль провода, купив передатчики
и соединив их с помощью колючей проволоки, из которой в этой
части страны делают ограждения”. Репортер отмечал: “Все больше
оснований полагать, что скоро наступит день, когда миллионы лю-
дей смогут пользоваться дешевыми телефонами. А вот насколько
обоснованно это предположение — вопрос открытый”. Было по-
нятно, что люди жаждут связи. Скотоводы, ненавидевшие ограж-
дения за то, что те превращали просторные пастбища в частные
182
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
владения, теперь цепляли к ним трубки, чтобы узнать котировки
на рынках, прогнозы погоды или просто послушать шум на линии,
подобие человеческого голоса — явление, само по себе поражав-
шее воображение.
Три великие волны электрической связи выстроились друг
за другом: телеграфия, телефония и радио. Люди стали восприни-
мать обладание машинами для передачи и приема сигналов как не-
что естественное. Эти устройства изменили топологию — разо-
рвали и вновь соединили общественные связи, добавив проходы
и перекрестки туда, где раньше были лишь непреодолимые рас-
стояния. На пороге XX века люди стали беспокоиться о послед-
ствиях появления новых видов коммуникации: будет ли менять-
ся социальное поведение? Начальник линии в Висконсине ворчал
по поводу молодых людей и девушек, “постоянно флиртующих
по телефонной линии” между О-Клэр и Чиппева-Фолс. “Столь
вольное использование телефонной линии для целей флирта воз-
росло до тревожных размеров, — писал он, — и, если это будет
продолжаться, кто-то должен за это платить”. “Компании Бел-
ла” пытались бороться с легкомысленной болтовней по телефо-
ну, которой особенно увлекались женщины и слуги. В фермер-
ских кооперативах преобладал более свободный дух, там умуд-
рялись не платить телефонным компаниям до середины 1920-х.
Восемь членов Телефонной ассоциации Восточной линии в Мон-
тане транслировали “точные до минуты” новости по своей сети,
потому что им также принадлежало и радио. В этой игре хотели
участвовать и дети.
Клод Элвуд Шеннон 1916 года рождения был назван в честь
своего уже немолодого отца — бизнесмена (он занимался мебелью,
похоронным делом и недвижимостью) и судьи по наследственным
делам. Дед Клода, фермер, придумал машину для стирки белья:
водонепроницаемая кадка, деревянная рукоятка и поршень. Мать
Клода, Мэйбл Кэтрин Вольф, дочь немецких эмигрантов, препо-
давала в местной школе и даже какое-то время была ее директо-
ром. Старшая сестра Клода, Кэтрин Вольф Шеннон (по-видимо-
му, родители экономили на именах своих детей), изучала мате-
матику и регулярно развлекала брата головоломками. Они жили
на Центральной улице, в нескольких кварталах к северу от Главной
183
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
улицы. Население городка Гейлорд едва насчитывало 3 тыс. чело-
век, но этого было достаточно, чтобы содержать оркестр в немец-
кой униформе и с блестящими инструментами, так что в началь-
ной школе Клод играл на альтгорне в строе ми-бемоль; инструмент
был больше мальчика. У Клода были конструкторы и книги. Он де-
лал модели самолетов и зарабатывал деньги, доставляя телеграммы
для местного отделения Western Union. И еще он разгадывал крип-
тограммы.
Будучи предоставленным самому себе, он читал и перечиты-
вал книги; любимой был “Золотой жук” Эдгара Аллана По. Дей-
ствие рассказа происходит на отдаленном южном острове, глав-
ный герой — странный человек Вильям Легран, “отлично обра-
зованный и наделенный недюжинными способностями, но вместе
с тем заражен мизантропией и страдает от болезненного состояния
ума, впадая попеременно то в восторженность, то в угрюмость”1 —
другими словами, портрет автора. Таких героев требовало время,
и они своевременно появлялись у По и других проницательных ав-
торов вроде Артура Конана Дойля и Г. Дж. Уэллса. Герой “Золото-
го жука” находит клад, расшифровав криптограмму на пергаменте.
По приводит строку чисел и символов (“Между черепом и козлен-
ком, грубо начертанные чем-то красным, стояли такие знаки”) —
53W+305)) 6* ;4826) 4*.) 4*); вОбМвМбО)) 85;1 (;:**8+;:#*8+83(88)
5** ;46(;88*96*?; 8) *+(;485); 5*+2:**(;4956!:'2 (5*-4) 8§8* ;4069285)
;) 6+8)4»;1 (*9;48081; 8:8*1 ;48*85;4) 485+528806*81 (*9;48;
(88;4 (*?34;48) 4*;161 ;:188; *?; — и сопровождает читателя по всем
этапам ее составления и расшифровки. “Я стал заниматься по-
добными головоломками благодаря обстоятельствам моей жизни
и особым природным склонностям”, — объявляет его герой, при-
водя в трепет читателя, возможно, имеющего сходную склонность
ума. Решение головоломки ведет к богатству, которое на самом деле
никому не интересно. Все дело в шифре: тайна и превращение.
Клод окончил среднюю школу Гейлорда за три года (вместо
четырех) и в 1932 году поступил в Мичиганский университет, где
изучал математику и электронную инженерию. Незадолго до вы-
пуска, в 1936 году, он увидел объявление о работе для студентов-вы-
1 Здесь и далее пер. А. Старцева.
184
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
пускников в Массачусетском технологическом институте. Вэнивар
Буш, тогдашний декан инженерного факультета, искал помощника
для работы на новой машине со странным названием “дифферен-
циальный анализатор”. Это была юо-тонная металлическая плат-
форма с вращающимися стержнями и шестеренками. В газетах ее
называли “механическим мозгом” или “думающей машиной”, ти-
пичный заголовок звучал так:
“Думающая машина” знает высшую математику, справляется с урав-
нениями, на решения которых у человека уходят месяцы.
Дифференциальная и аналитическая машины Чарльза Бэббиджа
маячили вдали, словно призраки предков, но, несмотря на сход-
ство обозначений и задач, дифференциальный анализатор практи-
чески ничем не был обязан изобретению Бэббиджа. Буш едва слы-
шал о нем. Он, как и Бэббидж, ненавидел одуряющие, съедающие
кучу времени простые вычисления. “Математик — это не человек,
который готов в любой момент производить манипуляции с числа-
ми, наоборот, часто он не способен на это, — писал Буш. — Преж-
де всего это человек, который обучен пользоваться символической
логикой на высоком уровне, но главное — он человек интуитив-
ных суждений”.
В годы Первой мировой войны в США было всего три ме-
ста, в которых занимались научными приложениями к электрон-
ной инженерии; в эту тройку наряду с Bell Telephone Laboratories
и General Electric входил и Массачусетский технологический. Пе-
ред его исследователями встала острая проблема решения уравне-
ний, особенно дифференциальных, точнее, дифференциальных
уравнений второго порядка. Решив дифференциальные уравнения,
можно найти производные, необходимые в расчетах колебаний
электрического тока и для производства артиллеристских снарядов.
Дифференциальные уравнения второго порядка нужны для поис-
ка производных от производных: скорость — производная от рас-
стояния, ускорение — производная от скорости. Такие уравнения
встречаются очень часто, и их сложно решать аналитическим спо-
собом. Буш разработал машину для решения всего класса таких за-
дач и, соответственно, для всего ряда порождающих их физических
185
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Дифференциальный анализатор Вэнивара Буша в МТИ
явлений. Как и машины Бэббиджа, она была по своей сути механи-
ческой, хотя и использовала электродвигатели для привода тяжело-
го аппарата и по мере развития — все больше и больше электроме-
ханических переключателей.
В отличие от машины Бэббиджа она не оперировала числами.
Она работала с множествами — генерировала, как любил говорить
Буш, кривые, представляющие будущее динамической системы.
Сегодня мы сказали бы, что она была аналоговой, а не цифровой,
ее колеса и диски производили физический аналог дифференци-
альных уравнений. В каком-то смысле это был уродливый потомок
планиметра, маленького и хитроумного измерительного устрой-
ства, которое переводило сложение аппроксимирующих кривых
186
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
в движения колесика. Профессора и студенты приходили к диффе-
ренциальному анализатору как просители, и, если машина решала
их уравнения с двухпроцентной точностью, оператор Клод Шен-
нон был счастлив. Так или иначе, ученый увлекся этим “компью-
тером”, причем не только его грохочущей аналоговой частью, за-
полнявшей целую комнату, но и практически бесшумными (за ис-
ключением редких щелчков и стуков) электрическими системами
контроля.
Они были двух типов: обычные переключатели и специальные,
называемые реле, — потомки телеграфных. Реле были переключа-
телями, управляемыми электричеством (здесь работала идея ис-
пользования параллельных цепей). Перед телеграфом стояла задача
покрытия больших расстояний путем создание цепи. А для Шен-
нона задача состояла в управлении. Сотня реле, замысловато со-
единенных друг с другом, включались и выключались в определен-
ной последовательности, координируя дифференциальный анали-
затор. Лучшими экспертами по сложным релейным цепям были
инженеры-телефонисты; реле управляли маршрутизацией вызо-
вов на телефонных станциях, а также машинами на линиях завод-
ской сборки. Релейные цепи разрабатывались для каждого конкрет-
ного случая. Никому в голову не приходила идея систематизации,
но Шеннон задумался об этом в поисках темы для своей диплом-
ной работы. На последнем курсе колледжа он прослушал цикл лек-
ций по символической логике и, попытавшись составить упоря-
доченный список возможных соединений переключающих цепей,
обнаружил нечто знакомое. Оказалось, что, если взглянуть на эти
проблемы максимально отвлеченно, они похожи. Странную искус-
ственную систему обозначений, применяемую в символьной ло-
гике, — Булеву алгебру — можно было использовать и для описа-
ния цепей.
Аналогия не была очевидной. Миры электричества и логики
казались несовместимыми. Тем не менее Шеннон понял, что реле
передает от одной цепи к другой скорее не электричество, а со-
общение, замкнута цепь или разомкнута. Если цепь разомкну-
та, то реле может разомкнуть и следующую цепь. Возможна и об-
ратная конструкция: когда цепь разомкнута, реле может замкнуть
следующую цепь. Описывать возможности словами было неудоб-
187
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
но, проще сократить их до символов и, что естественно для мате-
матика, использовать эти символы в уравнении. (Чарльз Бэббидж
с его механическими системами обозначений предпринимал шаги
в том же направлении, но Шеннон ничего об этом не знал.)
“Создан способ исчисления для работы с этими уравнения-
ми путем простых математических процессов”, — таким громким
заявлением в 1937 году Шеннон начал свою дипломную работу.
До сих пор уравнения представляли собой просто комбинации це-
пей. Но потом оказалось, что “исчисления в точности аналогичны
исчислению задач, используемому в символическом исследовании
логики”. Как и Буль, Шеннон показал, что для составления уравне-
ний необходимы всего две цифры: ноль и единица. Ноль представ-
лял замкнутую цепь, единица — разомкнутую. Включено или вы-
ключено. Истина или ложь. Шеннона интересовали следствия. Он
начал с простого — с цепи с двумя переключателями, последова-
тельным или параллельным. Последовательная цепь, отметил он,
соответствовала логической связке “и”, параллельная — “или”. Ло-
гической операцией, которой можно было найти электрическую
аналогию, являлось отрицание, превращение значения в его проти-
воположность. Как и в логике, ученый увидел, что цепь может со-
вершать выбор “если... то”. Он проанализировал сети возрастаю-
щей сложности типа “звезда”1 и “решетка”1 2, выдвигая постулаты
и теоремы для решения совместных систем уравнений. После это-
го нагромождения абстракций он привел практические примеры —
чертежи изобретений, некоторые из них имели практическую цен-
ность, а некоторые были просто странными.
Он нарисовал диаграмму устройства секретного электри-
ческого замка, который можно сделать из пяти кнопочных пе-
реключателей. Он нарисовал цепь, которая “с использованием
только реле и переключателей автоматически складывала бы два
числа”, для удобства он предложил пользоваться двоичной систе-
мой счисления. “С помощью последовательно выстроенных реле
можно выполнять сложные математические вычисления, — пи-
сал он. — На самом деле любая операция, которую можно пол-
1 Сеть, все узлы которой соединены с центральным узлом.
2 Сеть, узлы которой образуют регулярную решетку.
188
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
ностью описать конечным числом шагов с использованием слов
“если”, “или” и и т. п., может быть автоматически выполнена с по-
мощью реле”. Неслыханная тема для инженера-электрика: типич-
ная дипломная работа того времени касалась усовершенствова-
ний электрических моторов или линий передач. Практической
потребности в машине, способной решать логические голово-
ломки, не было, но работа обозначила возможный путь разви-
тия — логические цепи, двоичную систему. В дипломной работе
ассистента-исследователя была изложена суть будущей компью-
терной революции.
Шеннон провел лето, работая в Нью-Йорке, в Лабораториях Белла,
а потом по предложению Вэнивара Буша в Массачусетском техно-
логическом перевелся с электромеханики на математику. Буш также
предложил ему рассмотреть возможность применения символиче-
ской алгебры — этой его “странной алгебры” — к зарождающейся
генетике, чьи базовые элементы, гены и хромосомы, пока еще были
не до конца поняты. Поэтому Шеннон начал работать над весьма
амбициозной докторской диссертацией, которая должна была на-
зываться “Алгебра в теоретической генетике”. Гены, как он заме-
тил, являлись теоретическим концептом. Считалось, что они пере-
носятся палочковидными телами, известными как хромосомы, ко-
торые можно увидеть в микроскоп, но никто точно не знал, какова
структура генов, да и вообще существуют ли они. “Тем не менее, —
отмечал Шеннон, — для достижения нашей цели предположим,
что они существуют... Следовательно, мы будем рассуждать так,
будто гены действительно существуют и будто наше простое пред-
ставление феномена наследственности истинно, поскольку нам ка-
жется, что действительно так могло бы быть”. Он придумал знаки
из букв и цифр для представления “генетических формул” челове-
ка, например, две пары хромосом и четыре позиции генов можно
было представить так:
a,b2c3d4 e4f,g6h,
a3b,c4d3 e4f2g6h2
189
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Тогда процесс комбинации генов и скрещивания можно было
предсказать, применяя сложение и умножение. Это была своего
рода карта, абстрагированная от запутанной биологической реаль-
ности. Ученый говорил: “Нематематику мы объясним, что для со-
временной алгебры вполне привычно представлять символами
концепции, отличные от цифр”. Результат был сложным, ориги-
нальным и далеким от того, чем тогда занимались биологи1. Шен-
нон так и не опубликовал работу.
Тем временем в конце зимы 1939 года он написал Бушу длин-
ное письмо об идее, более близкой его сердцу:
Урывками я работал над анализом некоторых фундаментальных
свойств систем передачи информации, в том числе телефонии, ра-
дио, телевидения и т.д. Практически все системы связи можно об-
общенно представить в следующей форме:
№ [F] F(t) Щ ->
где Т и R были передающим и принимающим устройствами соот-
ветственно. Они связывали три “функции времени”,/(£): “инфор-
мацию, которую надо передать”, сигнал и конечный результат, ко-
торый должен быть максимально близок к исходному. (“В идеаль-
ной системе он будет точной копией”.) Проблема, как ее видел
Шеннон, заключалась в том, что реальные системы всегда страдают
от искажений — термин, который ученый определил строго мате-
матически. Был еще шум (“например, помехи”). Шеннон рассказал
Бушу о своей попытке доказать некоторые теоремы. Кроме того,
он работал над созданием машины для выполнения символиче-
ских математических операций, выполняющей работу дифферен-
циального анализатора и некоторые других задачи, но с помощью
электрических цепей. Ему было куда двигаться дальше. “Хотя мне
1 Сорок лет спустя генетик Джеймс Ф. Кроу отмечал: “Похоже, что эта работа
была сделана независимо от трудов по популяционной генетике... [Шеннон]
открыл принципы, которые позже были открыты вновь... Я сожалею, что они
не стали широко известны в 1940 году. Думаю, они существенно изменили бы
историю исследования этой темы”. — Прим. авт.
190
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
и удалось продвинуться вперед в рассмотрении проблемы с раз-
личных сторон, я все еще довольно туманно представляю себе ре-
альные результаты”, — писал он. —
Я нарисовал набор цепей, которые действительно будут произво-
дить символьное дифференцирование и интегрирование боль-
шинства функций, но метод не вполне общий и недостаточно есте-
ственный, чтобы полностью удовлетворить меня. Кажется, общая
философия, лежащая в основе такой машины, полностью усколь-
зает от меня.
Он был болезненно худ, почти костляв. Он был лопоух и корот-
ко стриг волнистые волосы. Осенью 1939 года во время вечеринки
в квартире на Гарден-стрит (он делил квартиру с двумя товарищами)
он смущенно стоял в дверях комнаты. Играла джазовая пластинка,
и вдруг молодая женщина начала кидать в него попкорн. Это была
Норма Левор, девятнадцатилетняя студентка колледжа Рэдклиффа
из Нью-Йорка. Тем летом она бросила школу, чтобы пожить в Па-
риже, но вернулась после оккупации нацистами Польши. Вой-
на начала сказываться на жизни людей даже здесь. Клод показался
ей мрачным, но чрезвычайно умным. Они начали встречаться еже-
дневно; он писал ей сонеты без заглавных букв, в стиле Э. Э. Кам-
мингса. Ей нравилась его любовь к словам и то, как он произносил
“Бу-у-улева алгебра”. К январю они поженились (у бостонского су-
дьи, без пышной церемонии), и она уехала с ним в Принстон, где
он получил стипендию для продолжения научной работы.
Изобретение письменности стало катализатором развития логики,
подарив возможность рассуждать о рассуждениях, держать после-
довательность мыслей перед глазами, чтобы анализировать их; те-
перь, спустя несколько столетий, логика вновь ожила с изобрете-
нием машин, которые могли работать с символами. Казалось, в ло-
гике и математике, высших формах мышления, все складывалось
прекрасно.
Соединив математику и логику в систему аксиом, знаков,
формул и доказательств, философы, казалось, почти достигли
191
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
совершенства — жесткой, формализованной определенности.
Именно такую цель ставили перед собой Бертран Рассел и Аль-
фред Норт Уайтхед, гиганты английского рационализма, кото-
рые с 1910 по 1913 год публиковали свою масштабную трехтомную
работу. Она называлась Principia Mathematica, так же как и рабо-
та Исаака Ньютона; авторы стремились довести до совершен-
ства математику в целом, используя инструменты символической
логики. Это возможно, заявляли они, если использовать четкие
обозначения и жесткие правила. Своей миссией они считали до-
казательство каждого математического факта. Надлежащим обра-
зом выполненное доказательство должно было быть механиче-
ским. В отличие от слов символы (заявили они) позволяют со-
ставлять “абсолютно точные выражения”. Схожую ускользающую
цель преследовал и Буль, до него Бэббидж и, задолго до них обо-
их, Лейбниц. Все они верили, что совершенство мышления воз-
можно лишь при совершенном кодировании мысли. Лейбниц
мог только мечтать. “Определенный строй языка, — писал он
в 1678-м, — который точно выражает взаимоотношения наших
мыслей”. При таком кодировании логически ложные заключения
будут исключены.
Знаки будут отличаться от того, что до сих пор было придумано...
Буквы этого письма должны служить изобретению и суждению,
как в алгебре и арифметике... Невозможно, пользуясь этими бук-
вами, описывать несуществующие понятия [chimeres, химеры].
Рассел и Уайтхед объясняли, что символы нужны для переда-
чи “очень абстрактных процессов и идей”, используемых в логи-
ке с ее цепочками рассуждений. Слова обычного языка лучше под-
ходят для грязи и трясины повседневного мира. Так, утверждение
“кит большой” использует простые слова, чтобы выразить “слож-
ный факт”, заметили они, тогда как “единица есть число” “в языке
выражается чересчур многословно”. Понимание значения “кита”
и его размера требует знаний и опыта работы с реальными вещами,
но понимание “1”, “числа” и всех связанных с ними арифметиче-
ских операций, выраженных сухими символами, должно быть ав-
томатическим.
192
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
Тем не менее ученые заметили, что существуют проблемы,
chimeres, которых не должно было быть. “Много сил, — писали
авторы в предисловии, — было потрачено на противоречия и па-
радоксы, поразившие логику”. “Поразившие” — сильное слово,
но и оно вряд ли отражало агонию парадоксов. Парадоксы были
словно рак.
Некоторые из них известны с античных времен:
Критянин Эпименид утверждал, что все критяне — лжецы, а все,
что они говорят, ложь. Ложно ли это утверждение?
Более прозрачная — потому что не надо думать о критянах
и их привычках — формулировка парадокса Эпименида — пара-
докс лжеца: “Это утверждение ложно”. Данное утверждение не мо-
жет быть истинным, потому что тогда оно становится ложным.
Оно не может быть ложным, потому что тогда оно становится ис-
тинным. Оно не ложно и не истинно или истинно и ложно одно-
временно. Но обнаружение этой закрученной, шокирующей, го-
ловоломной зацикленности не тормозит развитие жизни или язы-
ка— человек осознает идею и продолжает двигаться дальше, потому
что в жизни и языке нет совершенства, абсолюта, дающего силу та-
ким утверждениям. В реальной жизни все критяне не могут быть
лжецами. Даже лжецы часто говорят правду. Сложности начинают-
ся лишь при попытке создать герметичный сосуд. Рассел и Уайтхед
были нацелены на совершенство для доказательств, в противном
случае вся затея почти не имела смысла. Чем герметичнее они де-
лали свою систему, тем больше парадоксов обнаруживали. “В воз-
духе носилась идея того, что, когда современные родственники ан-
тичных парадоксов прорастают в строгом логическом мире чисел...
в прозрачном раю, где никто и помыслить не мог о появлении па-
радоксов, способно произойти поистине странное...” — писал
Дуглас Хофштадтер.
Например, существовал парадокс Берри, впервые предложен-
ный Расселом Дж. Дж. Берри, библиотекарем Бодлианской биб-
лиотеки. Он связан с подсчетом слогов, необходимых для обозна-
чения каждого целого числа. Обычно чем больше число, тем боль-
ше слогов требуется. В английском языке наименьшее целое число,
193
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
состоящее из двух слогов, — “семь” (se-ven), Наименьшее целое
число, состоящее из трех слогов, — “одиннадцать” (e-le-ven). Чис-
ло 121, казалось бы, требует шести слогов (one hund-red twen-ty one),
но на самом деле достаточно четырех, если немного подумать:
“11 в квадрате” (e-le-ven squared). Тем не менее даже со всеми улов-
ками существует конечное число возможных слогов и, следователь-
но, конечное число названий, то есть, как сказал Рассел, “названия
некоторых целых чисел должны состоять из по меньшей мере де-
вятнадцати слогов, и среди них должно быть наименьшее. Следо-
вательно, наименьшее целое число, которое невозможно назвать ме-
нее чем девятнадцатью слогами, должно обозначать конкретное
целое число”1. Теперь парадокс. Фраза “наименьшее натуральное
число, которое невозможно назвать менее чем девятнадцатью сло-
гами” (the least integer not nameable in fewer than nineteen syllables) со-
держит в английском языке всего восемнадцать слогов. Таким обра-
зом, наименьшее натуральное число, которое невозможно назвать
менее чем девятнадцатью слогами, только что было названо менее
чем девятнадцатью слогами1 2.
Еще одним парадоксом Рассела является парадокс цирюльни-
ка. Цирюльник — человек, который бреет всех мужчин, но толь-
ко тех из них, которые не бреются сами. Бреет ли цирюльник сам
себя? Если да, то он бреет сам себя, но он не может брить того,
кто бреется сам. Немногие ломают голову над такими загадками,
потому что в реальной жизни цирюльник делает то, что ему нра-
вится, и жизнь продолжается. Мы склонны, как говорил Рассел,
чувствовать, что “мысли, облеченные в форму слов, представляют
собой бессмысленный шум”. Но парадокс нельзя просто проигно-
рировать, если математик изучает предмет, известный как теория
множеств или теория классов. Множества — это группы, напри-
мер, целых чисел. Членами множества о, 2, 4 являются целые числа.
Множество может быть членом других множеств. Например, мно-
жество о, 2, 4 принадлежит множеству целых чисел и множеству
1 В стандартном английском языке, как заметил Рассел, это сто одиннадцать ты-
сяч семьсот семьдесят семь. — Прим. авт.
2 Один из русских вариантов парадокса Берри звучит так: “Наименьшее число,
не определимое при помощи предложения, содержащего менее ста символов”.
194
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
с тремя членами, но не множеству простых чисел. Поэтому Рассел
определил множество таким образом:
S является множеством всех множеств, которые не являются члена-
ми самих себя.
Эта версия известна как парадокс Рассела. Ее нельзя игнорировать,
как шум.
Чтобы избавиться от парадокса Рассела, сам Рассел предпри-
нял решительные меры. Существование парадокса, казалось, было
обусловлено рекурсией в утверждении: идея множеств, принадле-
жащих множествам. Рекурсия была кислородом, питающим пла-
мя. Таким же образом парадокс лжеца зиждется на утверждени-
ях об утверждениях. “Это утверждение ложно” — метаязык, язык
о языке. Парадоксальное множество Рассела опирается на метамно-
жество — множество множеств. Таким образом, проблема состоит
в пересечении уровней или, как писал Рассел, смешении типов. Ре-
шение Рассела — объявить это явление вне закона, табуировать его.
Нельзя смешивать уровни абстракции. Никаких ссылок на самое
себя, никаких самоограничений. Правила символизма в Principia
Mathematica не будут разрешать возвращающиеся, пожирающие
свой хвост циклы обратной связи, которые, казалось, делали воз-
можным противоречие самому себе. Это была система защиты.
И тут появился Курт Гедель.
Он родился в 1906 году в Брно, в центре чешской провинции
Моравия. Изучал физику в Венском университете и в двадцать лет
стал членом Венского кружка — группы философов и математиков,
которые регулярно встречались в прокуренных кофейнях вроде
Cafe Josephinum и Cafe Reichsrat, чтобы поговорить о логике и реа-
лизме как оплоте в борьбе против метафизики, под которой они
понимали спиритуализм, феноменологию, иррациональность. Ге-
дель говорил с ними о “новой логике” (термин витал в воздухе)
и метаматематике — der Metamathematik. Метаматематика для ма-
тематики была не тем, чем была метафизика для физики. Это была
математика следующего уровня — математика о математике, фор-
мальная система, “рассмотренная снаружи” (auflerlich betrachtet).
Гедель был близок к тому, чтобы сделать самое важное заявление,
195
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
доказать самую важную теорему о знании в XX веке. Он собирал-
ся покончить с мечтой Рассела о совершенной логической систе-
ме. Он собирался показать, что парадоксы не являются уродливы-
ми наростами; напротив, они — основа теории.
Гедель преклонялся перед проектом Рассела и Уайтхеда, пока
не похоронил его: математическая логика, писал он, “есть наука
превыше всех остальных, в которой содержатся идеи и принципы,
лежащие в основе всех наук”. Великий труд Principia Mathematica
заключал в себе формальную систему, которая за свою короткую
жизнь стала настолько всеобъемлющей и доминирующей, что Ге-
дель ссылался на нее сокращенно: РМ. Под РМ он понимал систе-
му, а не книгу. В РМ, как корабль в бутылке, содержалась математи-
ка, которая больше не боролась с волнами, несшими ее непонятно
куда. К 1930 году, если математики что-то доказывали, они делали
это в соответствии с РМ. С РМ, как писал Гедель, “можно доказать
любую теорему, не используя ничего, кроме нескольких механиче-
ских правил”.
Любую теорему, ведь система, как заявлялось, была полной.
Механические правила, потому что логика была непреклонной
и не оставляла места для интерпретаций. Ее символы были лише-
ны смысла. Любой мог проверить доказательство шаг за шагом, ис-
пользуя правила, даже не понимая их. Назвав это качество меха-
ническим, Гедель возродил мечты Чарльза Бэббиджа и Ады Лав-
лейс о машинах, перемалывающих числа; числами обозначалось
все что угодно.
В окружении обреченной культуры Вены 1930 года, слушая
споры своих новых друзей о “новой логике”, скрытный 24-лет-
ний Гедель с увеличенными из-за стекол круглых очков в черной
оправе глазами верил в совершенство бутылки, которой была РМ,
но сомневался в том, что можно ограничить математику. Худоща-
вый молодой человек превратил свои сомнения в великое и по-
трясающее открытие. Он обнаружил, что внутри РМ, как в любой
последовательной логической системе, притаились невиданные
доселе монстры — утверждения, которые невозможно доказать,
но невозможно и опровергнуть. Значит, существовали истины,
которые невозможно доказать, — и Гедель был способен доказать
их существование.
196
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
Он сделал это с железной аккуратностью, замаскированной
под ловкость рук. Он использовал формальные правила РМ —
и в то же время рассматривал их математически, извне. Он объ-
яснял, что все символы РМ — числа, арифметические операции,
логические связки и пунктуация — составляли ограниченный ал-
фавит. Каждое утверждение или формула РМ были записаны с по-
мощью этого алфавита. Аналогично, каждое доказательство пред-
ставляло собой конечное число формул — более длинный текст,
записанный знаками того же алфавита. И здесь вступала в дело
метаматематика. С точки зрения метаматематики, отмечал Гедель,
один знак равносилен другому, а выбор того или иного алфави-
та произволен. Можно использовать традиционный набор цифр
и знаков (из арифметики: +,-,=, X; из логики: -1, и, 3, z>), буквы
или точки и тире. Это был вопрос кодировки, перевод из одного
набора символов в другой.
Гедель предложил для всех знаков использовать числа. Числа
были его алфавитом. А поскольку числа можно объединять, ис-
пользуя арифметику, любая последовательность чисел может быть
выражена одним (возможно, очень большим) числом. Таким обра-
зом, каждое утверждение, каждая формула РМ может быть выра-
жена одним числом, и каждое доказательство тоже. Гедель описал
жесткую систему кодирования — алгоритм, то есть правила, кото-
рым надо механически следовать, не размышляя. Он работал в обо-
их направлениях: задав формулу и следуя правилам, получаем чис-
ло, а задав число и следуя правилам — соответствующую формулу.
Однако не каждое число можно преобразовать в корректную
формулу. Некоторые числа декодируются в полную бессмыслицу
или формулы, которые ложны в рамках системных правил. Стро-
ка символов “0 0 0 = = =” не составляет никакой формулы, хотя
и переводится в некоторое число. Утверждение “0 = 1” легко рас-
познать как формулу, но оно ложно. Формула “0 4- х = х 4- 0” ис-
тинна, что можно доказать.
Это последнее качество — свойство доказуемости в соот-
ветствии с РМ — было невозможно выразить языком РМ, Оно
казалось утверждением, существующим вне системы, метама-
тематическим. Но кодирование Геделя включило и его. В скон-
струированной им системе натуральные числа вели двойную
197
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
жизнь — как числа и как утверждения. Утверждение могло заявлять,
что данное число является четным, простым или квадратом про-
стого числа, и еще утверждение могло гласить, что данное число
есть доказуемая формула. Имея число, например, 1 044 045 317 700,
можно делать различные утверждения и проверять их истинность
или ложность: это число четное, это не простое число, это не ква-
драт простого числа, оно больше 5, оно делится на 121 и (будучи де-
кодированным в соответствии с официальными правилами) явля-
ется доказуемой формулой.
Все это Гедель изложил в небольшой статье в 1931 году. Что-
бы сделать свое доказательство неопровержимым, ему нужна была
сложная логика, но основной аргумент был простым и элегант-
ным. Гедель показал, как построить формулу, которая утвержда-
ет, что какое-то число х не является доказуемым. Это было про-
сто — существует бесконечное количество таких формул. Затем он
показал, что по крайней мере в некоторых случаях число х будет
представлять именно такую формулу. Это была циклическая ссыл-
ка на самое себя, которую Рассел пытался запретить в правилах РМ:
это утверждение недоказуемо, —
а теперь Гедель показал, что такие утверждения все равно должны
существовать. Лжец вернулся, и его нельзя запереть, всего лишь из-
менив правила. Как объяснял Гедель (в одной из самых многозна-
чительных сносок в истории),
вопреки кажущемуся такое утверждение не несет в себе циклич-
ности, останавливающей движение вперед, поскольку оно лишь
утверждает, что какая-то определенная формула... является недока-
зуемой. Только на следующем этапе (и, так сказать, случайно) ока-
зывается, что эта формула совпадает с той, которой было выраже-
но само утверждение.
В рамках РМ, как и в рамках любой непротиворечивой логиче-
ской системы, в которой определены элементарные арифметиче-
ские операции, всегда должны существовать проклятые утвержде-
ния — истинные, но недоказуемые. Таким образом, Гедель доказал,
198
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
что непротиворечивая формальная система должна быть непол-
ной; не существует полной и непротиворечивой системы.
Парадоксы вернулись, и их больше не считали игрой слов. Те-
перь они оказались в самом сердце теории. Это был, как впослед-
ствии сказал Гедель, “удивительный факт”, что “наши логические
интуитивные представления (т.е. представления, касающиеся та-
ких понятий, как истина, концепция, существование, класс и т.д.)
противоречат сами себе”. Это было, как сказал Дуглас Хофштад-
тер, как “гром среди самого ясного неба”; сила Геделя заключа-
лась не в стройной системе взглядов, на которой она основывалась,
а в уроке о числах, символизме, кодировании, который он преподал:
Выводы Геделя появились не в силу слабости в РМ, а из ее силы.
Силы, состоящей в том, что числа настолько гибки или “изменчи-
вы”, что могут копировать особенности мышления... выразитель-
ная сила РМ — вот что привело к ее неполноте.
Универсальный язык, о котором так долго мечтали, characteristica
universalis, на изобретение которой претендовал Лейбниц, все вре-
мя были рядом, в числах. Числа могут кодировать мышление. Ими
можно выразить любую форму знания.
Первое публичное упоминание Геделем этого открытия со-
стоялось на третий и последний день философской конферен-
ции в Кенигсберге в 1930 году. Оно не вызвало откликов; казалось,
его услышал лишь один человек — венгр по имени Янош Нойман.
Этот молодой математик как раз собирался переезжать в США, где
его станут называть Джон фон Нейман. Он сразу понял то, что хо-
тел донести Гедель; это поразило его настолько, что он изучил до-
клад Геделя и убедился в его правоте. Как только появилась статья
Геделя, фон Нейман представил ее на коллоквиуме математиков
в Принстоне. Неполнота была реальна. Это значило, что матема-
тика никогда не сможет доказать, что она свободна от противоре-
чий. И “важным моментом”, утверждал фон Нейман, “является то,
что это не философский принцип или правдоподобное интеллек-
туальное упражнение, а результат строгого математического дока-
зательства крайне сложного рода”. Либо вы верили в математику,
либо нет.
199
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Бертран Рассел (который, конечно, верил) занялся более спо-
койным видом философии. Много позже, уже в пожилом возрасте,
он признал, что Гедель поставил его в тупик: “Я был рад, что боль-
ше не работаю над математической логикой. Если определенный
набор аксиом ведет к противоречию, ясно, что по крайней мере
одна из этих аксиом должна быть ложной”. С другой стороны, са-
мый знаменитый философ Вены Людвиг Витгенштейн (кото-
рый фундаментально не верил), назвав теорему о полноте трюком
(Kunststiicken), хвастал, что вместо того, чтобы постараться опро-
вергнуть ее, он просто ее проигнорирует:
Математика не может быть неполной — не больше, чем разум
может быть неполным. Все, что я могу понять, я должен понять
до конца.
Ответ Геделя касался их обоих. “Рассел очевидно неверно интер-
претирует мой результат, однако делает он это в очень интересной
форме, — писал Гедель. — А вот Витгенштейн, наоборот... прибе-
гает к совершенно тривиальной и неинтересной неверной интер-
претации”.
В 1933 году только что сформированный Институт фунда-
ментальных исследований с Джоном фон Нейманом и Альбер-
том Эйнштейном среди первых преподавателей пригласил Геделя
на год в Принстон. В том десятилетии, пока укреплялся фашизм
и увядала краткая слава Вены, ученый пересекал Атлантику еще не-
сколько раз. Гедель, не искушенный в политике и истории, страдал
от депрессии и приступов ипохондрии, что заставило его отпра-
виться в санаторий. Принстон звал, но Гедель колебался. Он оста-
вался в Вене и в 1938 году, когда был осуществлен аншлюс и Вен-
ский кружок прекратил свое существование — его члены были
убиты или бежали из страны. И даже в 1939 году, когда армии Гит-
лера оккупировали его родную Чехословакию. Он не был евреем,
но математика была достаточно verjudet1. В январе 1940 года он на-
конец сумел уехать по Транссибирской железной дороге в Японию
и кораблем до Сан-Франциско.
1 Дословно — “оевреена”.
200
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
Клод Шеннон тоже прибыл в Институт фундаментальных ис-
следований, чтобы провести там год после защиты. Институт по-
казался ему уединенным пристанищем, занимающим новое здание
красного кирпича с часовой башней и куполом, окруженное вя-
зами и расположенное на месте бывшей фермы в миле от Прин-
стонского университета. Первым из его пятнадцати или около того
профессоров был Альберт Эйнштейн, чей кабинет располагался
в глубине первого этажа. Эйнштейна Шеннон видел редко. Гедель,
который приехал в марте, практически ни с кем, кроме Эйнштейна,
не разговаривал. Номинально руководителем Шеннона был Гер-
ман Вейль, еще один немецкий изгнанник, самый значительный
математик-теоретик новой квантовой механики. Вейль был лишь
немного заинтересован диссертацией Шеннона по генетике —
‘ваши биоматематические задачи”, — но думал, что Шеннон может
найти точки соприкосновения с другим великим молодым мате-
матиком института — фон Нейманом. В основном Шеннон уны-
ло сидел в своей комнате на площади Палмер. Его двадцатилетняя
жена, бросившая Рэдклифф, чтобы быть с ним, находила все бо-
лее тоскливым то, что ей приходится оставаться дома, — Клод це-
лыми днями слушал на фонографе записи джазового трубача Бик-
са Байдербека и аккомпанировал ему на кларнете. Норма дума-
ла, что у мужа депрессия, и хотела, чтобы тот посетил психиатра.
Встречаться с Эйнштейном было приятно, но восторг со временем
угас. Брак распался, жена уехала до конца года.
Шеннон тоже не мог оставаться в Принстоне. Он хотел зани-
маться передачей данных — само понятие было еще плохо опре-
делено, но тем не менее эта область была прагматичнее голово-
ломной теоретической физики, которая доминировала в списке
исследовательских тем института. Более того, приближалась вой-
на. Задачи менялись повсеместно. Вэнивар Буш теперь возглавлял
Национальный комитет оборонных исследований, который на-
значил Шеннона на “Проект 7”: математика механизмов управле-
ния противовоздушной артиллерией — “работа”, как сухо пояс-
няли в НКОИ, по “коррекции управления орудием, чтобы снаряд
и цель прибыли в одно место в одно и то же время”. После усо-
вершенствования самолетов неожиданно оказалось, что почти вся
математика, применявшаяся в баллистике, устарела: впервые цели
201
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
двигались со скоростями ненамного меньшими, чем ракеты. Про-
блема была сложной и важной и на море, и на земле. Лондон ор-
ганизовывал батареи зенитных орудий, стреляющих 3,7-дюймовы-
ми снарядами. Выстрел по быстро движущейся цели требовал либо
интуиции и удачи, либо огромного количества неявных вычисле-
ний, выполняемых с помощью моторов, приводов и следящих си-
стем. Шеннон анализировал физические проблемы так же, как вы-
числительные: машина должна высчитывать траектории полета
в трех измерениях, с валами и моторами, управляемыми устрой-
ствами, вычисляющими угловые скорости и интегралы. Зенитное
орудие вело себя как динамическая система, подверженная “холо-
стому ходу” и колебаниям, которые могли или не могли быть пред-
сказаны. (Шеннон уже умел решать проблему нелинейности диф-
ференциальных уравнений.)
Он провел два лета, работая в Лабораториях Белла в Нью-
Йорке; его математический отдел тоже взялся за “проект управле-
ния огнем” и попросил Шеннона присоединиться. Это была ра-
бота, к которой его хорошо подготовил дифференциальный ана-
лизатор. Автоматическое зенитное орудие уже было аналоговым
компьютером: оно должно было преобразовывать то, что, по суще-
ству, являлось дифференциальными уравнениями второго поряд-
ка, в механические движения. Оно должно было принимать дан-
ные от дальномера или нового, экспериментального радара и сгла-
живать и фильтровать эти данные, чтобы компенсировать ошибки.
В Лабораториях Белла последняя часть задачи выглядела знако-
мой. Она напоминала проблему, которая мешала телефонной свя-
зи. Искаженные данные были похожи на электростатические поме-
хи на линии. “Есть очевидная аналогия, — докладывали Шеннон
и его коллеги, — между проблемой сглаживания данных для устра-
нения или снижения влияния ошибок в расчете траектории и про-
блемой выделения сигнала из постороннего шума в системах свя-
зи”. Данные представляли собой сигнал; вся проблема была “част-
ным случаем передачи, обработки и использования информации”.
То есть как раз специализацией Лабораторий.
Какими бы удивительными и чудесными изобретениями
ни казались телеграф и беспроводное радио, электрическая связь
в те дни означала телефон. “Электрический говорящий теле-
202
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
фон” впервые появился в США в 1870-е годы с учреждением не-
скольких экспериментальных линий. К началу следующего столе-
тия телефонная промышленность обошла телеграф по всем пока-
зателям — количеству сообщений, длине проводов, вложенного
капитала, — и эти показатели продолжали удваиваться каждые не-
сколько лет. Понятно почему: телефоном мог пользоваться каж-
дый. Все, что требовалось, — умение говорить и слушать; ни запи-
сей, ни кодов, ни ключей. К тому же голос живого человека переда-
вал не только слова, но и эмоции.
Преимущества были очевидны, но не всем. Илайша Грей, за-
нимавшийся телеграфией и судившийся с Александром Грэйамом
Беллом за право называться изобретателем телефона, в 1875 году
сказал своему патентному юристу, что работа вряд ли стоит тру-
дов: “Белл, кажется, тратит всю свою энергию на говорящий те-
леграф. Хотя это чрезвычайно интересно с научной точки зре-
ния, у идеи сегодня нет коммерческого будущего, так как на линии
можно заработать много больше уже придуманными способами”.
Три года спустя, когда Теодор Н. Вейл уволился из Департамен-
та почтовой связи, чтобы стать первым генеральным директором
(и единственным служащим на зарплате) только что созданной Те-
лефонной компании Белла, помощник главы департамента гневно
писал: “Я едва могу поверить, что такой трезвомыслящий человек,
как вы... бросил все это ради старого дурацкого изобретения янки
[куска проволоки и пары рогов техасского вола, которые образуют
приспособление, издающее звуки, похожие на блеяние теленка. —
Прим. авт.]у называемого телефоном!”
На следующий год в Англии главный инженер Почтовой
службы Уильям Прис докладывал Парламенту: “Я позволю себе ду-
мать, что описания использования телефона в Америке немного
преувеличены, хотя в Америке есть условия, которые делают ис-
пользование таких инструментов более необходимым, чем здесь.
Здесь у нас множество посыльных, мальчиков на побегушках
и т. д. У меня есть один телефон в кабинете, но больше для виду.
Если мне надо послать сообщение — я пользуюсь клопфером1...
или отправляю мальчишку”.
1 Телеграфный аппарат, преобразующий сигналы кода Морзе в звуковые сигналы.
203
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Одна из причин этих неверных оценок — обычная нехватка
воображения при столкновении с радикально новой технологией.
Телеграф был на виду, но уроки, преподанные им, нельзя было на-
прямую применить к новому устройству. Телеграф требовал пись-
менной речи, телефон пользовался устной. Сообщение, послан-
ное по телеграфу, должно было быть сначала написанным, закоди-
рованным и “выстуканным” тренированным посредником. Чтобы
пользоваться телефоном, надо было просто говорить. Ребенок мог
пользоваться им. Именно по этой причине он казался игрушкой.
На самом деле он казался знакомой игрушкой, сделанной из кон-
сервных банок и нитки. Телефон не оставлял записей. У “Телефона”
как названия газеты не было будущего. Деловые люди считали его
несерьезным. Там, где телеграф имел дело с фактами и числами, те-
лефон прибегал к эмоциям.
Недавно созданная компания Белла легко превратила это
в двигатель продаж. Ее основатели любили цитировать Плиния:
“Живой голос гораздо сильнее волнует душу” — и Томаса Миддл-
тона: “Как сладок голос доброй женщины”. С другой стороны, лю-
дей беспокоила идея улавливания и материализации голосов — фо-
нограф тоже был изобретен недавно. Как сказал один комментатор,
“неважно, насколько тщательно вы закрываете двери и окна и на-
сколько герметично заделываете замочные скважины и трубы пе-
чей полотенцами и одеялами, — все, что может быть произнесе-
но в одиночестве или в компании, будет подслушано”. До сих пор
в большинстве случаев голос оставался частной территорией.
Новое изобретение надо было объяснить, и обычно это объ-
яснение начиналось со сравнения с телеграфом. Был передатчик
и приемник, были провода, их соединяющие. И нечто передава-
лось по проводу в форме электричества. В случае телефона это
были звуковые волны, преобразованные в волны электрического
тока. Одно преимущество было очевидным: телефон, несомнен-
но, будет полезен музыкантам. Сам Белл, путешествуя по стране
и рекламируя новую технологию, поощрял такой способ рассужде-
ний, демонстрируя изобретение в концертных залах, где оркестры
и хоры играли America и Auld Lang Syne, Он поощрял мысли людей
о телефоне как о широковещательном устройстве для передачи му-
зыки и проповедей на большие расстояния, переносящем концерт-
204
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
ный зал и церковь в гостиную. Газеты и комментаторы в основном
соглашались. Вот что получилось из абстрактного анализа техноло-
гии. Но, как только люди получили в руки телефон, они сразу при-
думали, что с ним делать. Они стали разговаривать.
На своей лекции в Кембридже физик Джеймс Клерк Максвелл
предложил научное описание телефонного разговора: “Говорящий
говорит в передатчик на одном конце линии, а на другом конце
слушатель прикладывает ухо к приемнику и слышит, что произно-
сит говорящий. В своих двух крайних состояниях процесс настоль-
ко походит на старый способ говорить и слушать, что не требует-
ся никакой предварительной подготовки для операторов ни с той
ни с другой стороны”. Он тоже заметил, как просто пользоваться
телефоном.
Поэтому к 1880 году, через четыре года после того, как Белл пе-
редал слова “Г-н Уотсон, приходите, я хочу вас видеть”, и через три
после того, как за 20 долларов была сдана в аренду первая пара теле-
фонов, в США уже использовалось более 6о тыс. аппаратов. Пер-
вые клиенты покупали пару телефонов для прямой связи между
двумя точками, между фабрикой и ее офисом, например. Королева
Виктория установила один в Виндзорском замке, а другой — в Бу-
кингемском дворце (аппараты были сделаны из слоновой кости
и подарены предприимчивым Беллом). Топология изменилась, ко-
гда количество телефонов, которые могли быть доступны для звон-
ка с других телефонов, достигло критической величины, и случи-
лось это на удивление быстро.
Тогда появились сети, объединявшие соседние дома, а их мно-
жественные соединения управлялись с помощью нового аппарата
под названием “коммутатор”.
Первоначальная фаза пренебрежения и скептицизма закон-
чилась мгновенно. Вторая фаза развлечений и забав длилась не-
многим дольше. Бизнес быстро отбросил сомнения в серьезности
устройства. Любой человек теперь мог стать телефонным проро-
ком, и некоторые из предсказаний уже высказывались в отноше-
нии телеграфа, но наиболее дальновидные комментарии давали
те, кто указывал: количество связей между людьми растет в геоме-
трической прогрессии. Scientific American оценил “будущее теле-
фона” еще в 1880 году и обратил особое внимание на формирова-
205
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ние “небольших групп людей, пользующихся телефонной связью”.
Чем больше сеть и разнообразнее ее интересы, тем больший потен-
циал она имеет.
То, на что телеграфу потребовались годы, телефон сделал за не-
сколько месяцев. Сначала это была научная игрушка с бесконеч-
ными возможностями практического применения, на следующий
год она стала основой самой быстрорастущей, сложной и удобной
системы связи в мире... Скоро станет правилом, а не исключени-
ем для деловых домов и жилищ зажиточных людей быть связанны-
ми посредством телефонной станции не только в наших городах,
но и с окружающими районами. Результатом может быть как ми-
нимум новая организация общества — положение вещей, при ко-
тором каждый, как бы изолирован он ни был, будет иметь возмож-
ность позвонить любому другому члену общества; избавление
от бесконечных общественных и деловых затруднений, от ненуж-
ных поездок туда и обратно, от разочарований, задержек и бесчис-
ленного числа этих больших и маленьких зол и раздражений.
Близится время, когда разбросанные в пространстве члены циви-
лизованного сообщества будут настолько же тесно объединены
в том, что касается мгновенной телефонной связи, насколько раз-
личные части тела связаны нервной системой.
К 1890 году разбросанных в пространстве людей, использующих
телефон, насчитывалось полмиллиона, к 1914 году — ю млн. Те-
лефон уже считался, и справедливо, причиной быстрого разви-
тия промышленности. Переоценить его значение было трудно.
Министерство торговли США в 1907 году опубликовало список
областей, зависящих от “мгновенной коммуникации на расстоя-
нии”: “сельское хозяйство, добыча угля, торговля, производство,
транспорт и фактически все разновидности производства и рас-
пределения природных и искусственных ресурсов”. И это не счи-
тая “сапожников, чистильщиков одежды и даже прачек”. Другими
словами, каждый зубчик в двигателе экономики нуждался в теле-
фоне. “Существование телефонного трафика, по существу, явля-
ется показателем сэкономленного времени”, — комментирова-
ло министерство. Оно наблюдало изменения в структуре жизни
206
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
и общества, которые и столетие спустя кажутся новыми: “За по-
следние несколько лет произошел такой сильный рост количе-
ства телефонных линий в различных курортных местностях стра-
ны, что у бизнесменов появилась возможность покидать офи-
сы на несколько дней подряд и все же оставаться в тесной связи
со своими сотрудниками”. В 1908 году Джон Дж. Карти, ставший
первым главой Лабораторий Белла, предложил анализ, основан-
ный на собранных данных, который должен был показать, как те-
лефон изменил горизонт Нью-Йорка, — он утверждал, что теле-
фон, так же как и лифт, сделал возможным массовое строитель-
ство небоскребов.
Может показаться нелепым утверждение, что Белл и его последова-
тели были отцами современной коммерческой архитектуры — не-
боскребов. Но погодите минуту. Возьмем к примеру башню “Зин-
гер”, Флэтайрон-билдинг, Фондовую биржу, Тринити-билдинг
или любое другое гигантское офисное строение. Сколько сооб-
щений, вы полагаете, поступает и исходит из этих зданий каждый
день? Предположим, что телефона нет и каждое сообщение долж-
но доставляться отдельным посыльным. Сколько бы нужно было
лифтов и сколько места осталось бы после их установки для офи-
сов? Такие строения были бы экономически невозможны.
Чтобы быстрый рост экстраординарной сети стал возможным, те-
лефон требовал новых технологий и новых наук. Развитие шло
по двум путям. Один — само электричество: измерение его коли-
чества, управление электромагнитными волнами, как их теперь на-
зывали — их модуляции по амплитуде и частотам. В 186о-м году
Максвелл установил, что и электрические импульсы, и магнетизм,
и сам свет — все было проявлением одной и той же силы, “гри-
масами одной и той же субстанции”, а свет был еще одним типом
“электромагнитного возмущения, распространяющегося в непро-
водящей среде в соответствии с законами электромагнетизма”.
Это были те законы, которые теперь должны были приме-
нять инженеры-электрики, выделяя в одну группу из других тех-
нологий телефон и радио. Даже телеграф использовал простой
вид амплитудной модуляции, в которой были важны всего два зна-
207
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
чения — максимум для “включено” и минимум для “выключено”.
Чтобы передать звук, требовалась значительно большая сила тока,
и управлять этим током было гораздо труднее. Инженерам пред-
стояло справиться с обратной связью — объединить выход уси-
лителя мощности, такого как микрофон телефона, с его входом.
Им пришлось разработать промежуточные усилители на вакуум-
ных лампах для передачи сигнала на большие расстояния, чтобы
в 1914 году построить первую трансконтинентальную линию ме-
жду Нью-Йорком и Сан-Франциско: 3400 миль провода, поддер-
живаемого 130 тыс. столбами. Инженеры также придумали, как мо-
дулировать независимые потоки таким образом, чтобы их можно
было объединить в одном физическом канале, — мультиплексиро-
вание. К 1918 году они могли передавать одновременно до четы-
рех разговоров по одной паре проводов. Но речь уже шла не о токе.
Прежде чем инженеры осознали это, они начали думать в терми-
нах передачи сигнала — абстрактной сущности, отстраненной
от электрических волн, в которых она была воплощена.
Второй, менее определенный путь — задачи, касающиеся
устройства и работы самих соединений — переключений, нуме-
рации и логики. Эта ветвь восходит к первоначальной идее Бел-
ла, высказанной в 1877 году, — телефоны не обязательно продавать
парами; каждый отдельный аппарат может быть соединен с многи-
ми другими, но не прямым проводом, а через центральную “стан-
цию”. Телеграфист Джордж В. Кой построил в Нью-Хейвене, Кон-
нектикут, первый “коммутатор” с “переключающими штепселя-
ми” и “переключающими розетками” с помощью вагонных болтов
и проводов из списанных кольцевых воздухопроводных труб.
Он запатентовал его и стал первым телефонным “оператором”
в мире. Из-за большого количества соединений, которые прихо-
дилось включать и прерывать, штепсели быстро изнашивались. Од-
ним из первых усовершенствований была двухдюймовая пластина
на петлях, напоминавшая складной нож: “пружинный переключа-
тель” или, как его скоро стали называть, просто “джек”1. В январе
1878 года коммутатор Коя мог одновременно поддерживать два раз-
говора между любыми двумя из 21 клиента станции.
1 От английского jack-knife — складной нож.
208
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
В феврале Кой опубликовал список подписчиков — он сам
и некоторые из его друзей, несколько докторов и зубных врачей,
почта, полицейский участок и торговый клуб, а также некоторые
мясные и рыбные рынки. Этот список был назван первой в мире
телефонной книгой, но он вряд ли был на нее похож: одна стра-
ница, без номеров и не в алфавитном порядке. Телефонный номер
еще изобретен не был.
Это случилось на следующий год в Ловелле, Массачусетс,
где к концу 1879 года четыре оператора управляли связью между
2оо подписчиками, крича друг другу через коммутаторную. Раз-
разилась эпидемия кори, и доктор Мозес Грили Паркер беспоко-
ился, что, если заболеют операторы, их будет непросто заменить.
Он предложил снабдить каждый телефон номером. Он также
предложил опубликовать список номеров в алфавитном справоч-
нике подписчиков линии. Эти идеи нельзя было запатентовать,
и их пришлось снова изобретать на других телефонных станци-
ях по всей стране, где появлялись данные, которые надо было ор-
ганизовывать. Телефонные книги скоро стали наиболее полны-
ми списками населения из когда-либо издававшихся. (Они стали
самыми толстыми книгами в мире — четыре тома для Лондона,
том в 2600 страниц для Чикаго — и казались постоянной, неза-
менимой частью информационной системы мира, пока вдруг
не перестали быть таковой. Фактически они устарели на пороге
XXI века. Американские телефонные компании официально вы-
вели их из оборота к 2010 году; по оценкам, в Нью-Йорке прекра-
щение автоматического выпуска телефонных справочников сэко-
номило 5 тыс. т бумаги.)
Сначала клиентам не понравилась анонимность телефонных
номеров, а инженеры засомневались, смогут ли люди запомнить
номер из более чем четырех знаков. Компании Белла наконец при-
шлось настоять на введении номеров. Первыми телефонными опе-
раторами были мальчики-подростки, которых за гроши нанима-
ли из рядов телеграфных посыльных, но оказалось, что мальчиш-
ки были неуправляемы, склонны к клоунаде и проказам, и их чаще
можно было застать борющимися на полу, чем сидящими на стуль-
ях и выполняющими точную, рутинную работу оператора комму-
татора. Но оказался доступным новый источник дешевой рабо-
209
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
чей силы: к 1881 году практически все телефонные операторы были
женщинами.
В.Х. Экерт писал о найме 66 “молодых леди” в Цинциннати,
которые “очень во многом превосходят” мальчиков: “Они спокой-
нее, не пьют пиво и всегда под рукой”. Ему вряд ли надо было до-
бавлять, что компания могла платить женщине столько же, сколь-
ко мальчику-подростку, или даже меньше. Это была непростая ра-
бота, которая очень скоро стала требовать подготовки. Операторы
должны были быть в состоянии быстро различать много разных
голосов и акцентов, отвечать вежливо, даже сталкиваясь с нетер-
пением и грубостью, в то время как долгие часы они занимались
атлетическими упражнениями для верхней части тела, нося науш-
ники, словно сбрую. Некоторые мужчины полагали, что это пой-
дет им на пользу. “Процесс вытягивания рук над головой, а так-
же влево и вправо от нее развивает мышцы груди и руки, — писа-
ла “Энциклопедия для каждой женщины”, — и превращает тощих
и худосочных девушек в сильных. В операторских нет анемичных,
нездорово выглядящих девушек”. Вместе с еще одной новой техно-
логией, машинописью, телефонный коммутатор ускорил вхожде-
ние женщин в ряды “белых воротничков”, но даже батальоны лю-
дей-операторов не могли поддерживать растущий масштаб сетей.
Коммутацию было необходимо автоматизировать.
Это означало, что механическое соединение должно получать
от вызывающего не только его голос, но и номер, идентифицирую-
щий человека, или по крайней мере другой телефон. Задача пре-
образования номера в электрическую форму требовала изобрета-
тельности: сначала были испробованы кнопки, затем посылающий
импульсы по линии и казавшийся странным вращающийся цифер-
блат с десятью положениями для пальца, соответствующими деся-
тичным цифрам. Кодированные импульсы поступали на централь-
ную станцию, где еще один механизм выбирал из ряда цепей одну
и устанавливал соединение. Все вместе это представляло собой
беспрецедентный по сложности механизм перевода данных от че-
ловека к машине, потом к номеру и к электронной схеме. Компа-
ния гордилась своим достижением и рекламировала автоматиче-
ские коммутаторы как “электрический мозг”. Взяв из телеграфии
электромеханическое реле, чтобы одна цепь могла управлять дру-
210
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
гой, телефонные компании уменьшили его в размерах и весе ме-
нее чем до 4 унций и теперь производили несколько миллионов
штук в год.
“Телефон остается вершиной развития электрических чу-
дес, — писал в 1910 году историк, причем историк телефонной свя-
зи. — Ни одна другая вещь не делает так много, потребляя так мало
энергии. Ни одна другая вещь не окружена такой завесой тайны”.
В Нью-Йорке было несколько сотен тысяч пользователей телефо-
на, и Scribner's Magazine подчеркивал столь поразительный факт:
‘Любые двое из этого большого числа могут за пять секунд быть
связаны друг с другом, настолько хорошо инженерная наука успе-
вает за потребностями общества”. Чтобы соединять, коммута-
тор вырос в монстра из 2 млн спаянных частей, 4 тыс. миль про-
вода и 15 тыс. сигнальных ламп. К 1925 году, когда различные ис-
следовательские группы телефонии были формально объединены
в Телефонные лаборатории Белла, механический “искатель линий”
мощностью в 400 линий заменил 22-контактные электромехани-
ческие вращающиеся коммутаторы. Компания American Telephone
& Telegraph укрепляла свою монополию. Инженеры всеми силами
боролись за сокращение времени поиска линии. Сначала звонки
на дальние дистанции требовали добраться до второго, “беруще-
го плату” оператора плюс ожидание обратного звонка; скоро связь
между локальными станциями должна была позволить автоматиче-
ский набор номера. Количество сложностей увеличивалось. Лабо-
раториям были нужны математики.
То, что начиналось как отдел математических консультаций,
выросло в ни с чем не сравнимый Центр прикладной математики.
Он был не похож на престижные цитадели Гарвард и Принстон.
Для академического мира он был едва заметен. Его глава Торн-
тон К. Фрай наслаждался трениями между теоретиками и прак-
тиками — конкурирующими культурами. “Для математика аргу-
мент либо совершенен во всех деталях, либо неверен, — писал он
в 1941 году. — Математик называет это “строгим мышлением”. Ти-
пичный инженер называет это мелочностью.
Математик также склонен идеализировать любую ситуацию, с ко-
торой сталкивается. Его газы “идеальны”, проводники “совершен-
211
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ны”, поверхности “гладки”. Он называет это “добраться до сути”.
Инженер, скорее всего, назовет это “игнорированием фактов”.
Другими словами, математики и инженеры не могут друг без друга.
Каждый инженер-электрик теперь мог провести простейший ана-
лиз волн, рассматриваемых как синусоидальные сигналы. Но но-
вые трудности появлялись при изучении работы сетей; чтобы спра-
виться с трудностями математически, были придуманы сетевые
теоремы. Математики применили теорию очередей к конфликтам,
которые возникают при использовании сетей; разработали графы
и деревья для управления задачами межгородских магистральных
каналов и линий; применили комбинаторный анализ для решения
вероятностных задач телефонии.
А еще были помехи. Сначала никому (в том числе и Александ-
ру Грейаму Беллу) не казалось, что их устранение — задача тео-
ретиков. Они просто были всегда — щелчки, шипение, потрески-
вание, которые мешали и ухудшали восприятие голоса, попадав-
шего в микрофон. Они портили и радиосигнал. В лучшем случае
помехи оставались на втором плане и люди почти не замечали их,
в худшем изобилие паразитных шумов пришпоривало воображе-
ние клиентов:
Слышалось шипение и бульканье, скрежетание и подергивание,
свисты и крики. Слышен был шорох листвы, кваканье лягушек,
шипение пара и хлопанье птичьих крыльев. Были слышны щелч-
ки телеграфных проводов, обрывки разговоров по другим теле-
фонам, занятные слабые вскрики, не похожие ни на один другой
звук... Ночь была более шумной, чем день, а в призрачный час
полуночи по никому не известной причине галдеж был наибо-
лее сильным.
Но инженеры на своих осциллоскопах теперь могли видеть шум,
вмешивающийся в передачу сигнала и портящий гармоничные
формы волн. Естественно, они хотели измерить его, даже если
в измерении такого случайного и призрачного неудобства было
что-то идеалистическое. На самом деле путь для такого измерения
существовал, и его обнаружил Альберт Эйнштейн.
212
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
В 1905-м, его лучшем году, Эйнштейн опубликовал статью
о броуновском движении — случайном перемещении небольших
частиц, плавающих в жидкости. Это движение под микроскопом
заметил Антони ван Левенгук, феномен был назван в честь Робер-
та Брауна, шотландского ботаника, который тщательно изучил его
в 1827 году — сначала пыльцу в воде, затем сажу и измельченный
в пудру камень.
Браун убедился, что эти частицы не живые — они не были
анималькулями, и тем не менее они не оставались в покое. С по-
мощью математики Эйнштейн объяснил это движение как след-
ствие выработки молекулами тепловой энергии, тем самым дока-
зав существование молекул. Видимые в микроскоп частицы вро-
де пыльцы бомбардируются молекулами, и они достаточно легки,
чтобы быть подталкиваемыми в случайном направлении. Колеба-
ния частиц, непредсказуемые для каждой из них, выражали законы
статической механики. Хотя жидкость могла быть в покое, а систе-
ма — в термодинамическом равновесии, случайное движение со-
хранялось до тех пор, пока температура оставалась выше абсолют-
ного нуля. Этим же он доказал, что случайное температурное воз-
буждение будет воздействовать и на свободные электроны в любом
электрическом проводнике, создавая шум.
Физики почти не обратили внимание на электрические аспек-
ты работ Эйнштейна, и лишь в 1927 году термический шум был ма-
тематически описан двумя шведами, работающими в Лаборатори-
ях Белла. Джон Б. Джонсон оказался первым, кто измерил то, что,
как он понял, являлось собственным шумом, присущим проводни-
ку, и противопоставил его шуму, который был следствием недо-
статков конструкции. Затем Гарри Найквист объяснил это, выве-
дя формулы колебания силы тока и напряжения в идеальной сети.
Найквист был сыном фермера и сапожника Ларса Джонссона, ко-
торому пришлось сменить имя, потому что его почтовую корре-
спонденцию постоянно путали с почтовой корреспонденцией дру-
гого Ларса Джонссона. Найквисты иммигрировали в США, когда
Гарри был подростком; из Северной Дакоты он попал в Лабора-
тории через Иель, где защитил диссертацию по физике. Казалось,
он всегда видел перспективу, причем совершенно не обязательно
в телефонии. Еще в 1918 году он начал работать над методом пере-
213
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
дачи изображений по проводам — “телефотографией”. Его идеей
было поставить фотографию на вращающийся барабан, сканиро-
вать ее и перевести в токи, пропорциональные яркости изображе-
ния. К 1924 году у компании был действующий прототип, который
мог посылать изображение пять на семь дюймов за семь минут.
Но Найквист смотрел не только вперед. В том же году на со-
брании инженеров-электриков в Филадельфии он выступил с ре-
чью со скромным названием “Определенные факторы, влияющие
на скорость телеграфа”.
С момента появления телеграфии было известно, что основ-
ные единицы сообщений, точки и тире, дискретны. В эру телефо-
на стало настолько же очевидным, что полезная информация —
звуки и цвета, переходящие из одного в другой и смешивающиеся
по всему спектру частот, — напротив, непрерывна. Так какие они,
эти единицы информации? Физики вроде Найквиста имели дело
с электрическими токами в форме волн, даже когда те передавали
дискретные телеграфные сигналы. В то время большая часть тока
в телеграфной линии пропадала зря. В представлении Найквиста,
если эти непрерывные сигналы могли представлять что-то настоль-
ко сложное, как голос, то простой телеграфный сигнал был просто
частным случаем — частным случаем амплитудной модуляции, где
единственными интересными амплитудами были включено и вы-
ключено. Интерпретируя телеграфный сигнал как импульсы в фор-
ме волн, инженеры могли ускорить передачи и объединить их в од-
ной цепи, в том числе и с голосовым каналом. Найквист хотел знать
сколько — сколько телеграфных данных и насколько быстро. Он
нашел гениальный подход к преобразованию непрерывных волн
в данные, которые были дискретными или цифровыми. Метод Най-
квиста состоял в том, чтобы измерять волну через интервалы вре-
мени, по существу, преобразуя их в счетные единицы.
По цепи проходили волны различной частоты: инже-
нер сказал бы, что перед нами “полоса” волн. Ширина этой по-
лосы, или “ширина диапазона”, служила мерой емкости цепи.
По телефонной линии можно передавать частоты от примерно
400 до 3400 Гц, или волн в секунду, что дает полосу в 3000 Гц. (Это
покрывает большую часть звуков оркестра, хотя высокие ноты
пикколо будут срезаны.) Найквист хотел выразить это как можно
214
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
более общим способом. Он рассчитал формулу для скорости пе-
редачи данных. Для передачи данных на определенной скорости,
заявил он, канал должен обладать определенным, измеряемым
диапазоном частот. Если диапазон слишком узок, придется замед-
лить передачу. (Но со временем стало ясно, что по каналу с очень
узким диапазоном частот можно передавать, например, звуки из-
дающего тоны всего двух высот барабана, в который бьют рукой.)
Коллега Найквиста Ральф Хартли, который начинал карьеру
как эксперт по радиоприемникам, расширил эти результаты в пре-
зентации на международном конгрессе на берегах озера Комо
в Италии летом 1927 года. Хартли использовал другое слово —
“информация”. Конгресс оказался подходящим местом для рожде-
ния великих идей. Здесь в честь столетия со смерти Алессандро
Вольты собрались ученые со всего мира. Нильс Бор рассказал о но-
вой квантовой теории и впервые — о принципе дополнительно-
сти. А Хартли предложил слушателям и фундаментальную теорему,
и новый набор определений.
Теорема была расширением формулы Найквиста, ее можно
было выразить так: суммарное количество информации пропор-
ционально используемой частоте передачи и времени передачи.
Хартли вынес на обсуждение набор идей и предположений, кото-
рые становились частью подсознательной культуры электромеха-
ники и особенно Лабораторий Белла. Первой была идея инфор-
мации как таковой. Ей надо было дать определение. “В общеупо-
требительном смысле, — заявил Хартли, — информация — очень
расплывчатый термин”. Это предмет коммуникации, который
в свою очередь может быть речью, письмом, чем угодно. Комму-
никация осуществляется посредством символов — Хартли при-
вел для примера “слова” и “точки и тире”. Символы, по общему
соглашению, передают “значение”. До сих пор все это было набо-
ром нечетких понятий. Если целью является “устранить включен-
ный психологический фактор” и измерить информацию “в тер-
минах чистых физических количеств”, то Хартли нужно было
что-то определенное и счетное. Он начал с подсчета символов,
и неважно, что они означали. Любое сообщение содержит конеч-
ное и счетное число символов. Каждый символ представляет со-
бой результат выбора; каждый выбран из определенного множе-
215
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ства возможных символов, например алфавита, и количество воз-
можностей тоже счетное.
Количество возможных слов не так просто посчитать, но даже
в обычном языке каждое слово представляет собой выбор из не-
скольких вариантов возможностей:
Например, в предложении “яблоки красные” (Apples are red) первое
слово устраняет другие виды фруктов и другие объекты вообще.
Второе направляет внимание на некоторое свойство или состоя-
ние яблок, а третье устраняет все другие возможные цвета...
Количество символов, доступных для выбора, очевидно меняется
в зависимости от типа используемых символов, от того, кто уча-
ствует в коммуникации, и от уже существующей к этому момен-
ту степени взаимопонимания между участниками коммуникации.
Хартли пришлось признать, что некоторые символы могут нести
больше информации в общепринятом понимании слова, чем дру-
гие: “Например, единственное слово “да” или “нет”, появляющее-
ся в конце длинной дискуссии, способно иметь необычайно боль-
шое значение”. Его слушатели могли привести и собственные при-
меры. Но задачей было вычесть человеческое знание из уравнения.
В конце концов, телеграф и телефон — просто вещи.
Интуитивно было понятно, что количество информации
должно быть пропорционально числу символов: вдвое больше
символов — вдвое больше информации. Но точка или тире — сим-
волы множества, состоящего всего из двух членов, — несут мень-
ше информации, чем буква алфавита, и много меньше, чем сло-
во из словаря в тысячу слов. Чем больше возможных символов,
тем больше информации несет каждый результат выбора. Но на-
сколько больше? Вот уравнение, написанное Хартли:
Н = п log s,
где Н — количество информации, п — число переданных симво-
лов, s — размер алфавита. В системе “точка-тире” 5 равно 2. Един-
ственный китайский иероглиф несет гораздо больше информации,
чем точка или тире Морзе, и он более ценен. В системе, где каж-
216
ГЛАВА 6 НОВЫЕ ПРОВОДА, НОВАЯ ЛОГИКА
дый символ — это слово и словарь которой СОСТОИТ ИЗ 1ООО слов,
$ было бы равно юоо.
Однако количество информации не пропорционально разме-
ру алфавита. Отношение логарифмическое: чтобы удвоить количе-
ство информации, необходимо возвести в квадрат количество сим-
волов алфавита. Хартли проиллюстрировал это на примере одного
из гибридных устройств — печатающего телеграфа, подключенно-
го к электрической цепи. В таком телеграфе использовались кла-
виши, организованные в соответствии с системой, придуманной
во Франции Эмилем Бодо. Человек-оператор использовал кнопки,
то есть устройство, как обычно, переводило нажатия кнопок в за-
мыкания и размыкания телеграфной электрической цепи. Код Бодо
использовал пять знаков для передачи каждой буквы, таким обра-
зом, количество возможных букв было 25, или 32. В терминах ин-
формационного содержания каждая буква была в пять, а не в три-
дцать два раза значимее своей базовой двоичной единицы.
Но телефоны посылали человеческие голоса по сети с по-
мощью веселых изогнутых аналоговых волн. Где тут символы?
Как их посчитать?
Хартли вслед за Найквистом утверждал, что непрерывную
кривую надо рассматривать как предел последовательности дис-
кретных шагов и что эти шаги можно восстановить, фактически
нанеся на кривую интервалы. Что телефонию можно математиче-
ски рассматривать точно так же, как и телеграфию. Путем грубого,
но убедительного анализа он показал, что в обоих случаях общее
количество информации будет зависеть от двух факторов — про-
должительности передачи и пропускной способности (ширины
полосы) канала. Аналогично можно анализировать фильмы и за-
писи фонографа.
Эти странные статьи Найквиста и Хартли в тот момент почти
не привлекли внимания. Они вряд ли подходили для какого-ли-
бо престижного журнала по математике или физике, но у Лабо-
раторий Белла был свой журнал, The Bell System Technical Journals
и Клод Шеннон прочитал их там. Он впитал эти математические
догадки, несмотря на их приблизительность; это были первые роб-
кие шаги к туманной цели. Он также заметил трудности, с кото-
рыми столкнулись оба автора при определении терминологии:
217
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
iyT
лоэ1
in
□□ано
□п^ии
□за_______
□ыапогшизямга
нэипиоииисип
йаппияиииоип
пуииспсиаипоп
пзаигшо------
пшпсвп
3
ИВгНИПВ
%•
игИ№10П1ШИП№1ПП
ЯЗ
IHSI
11V
IX
13
in
ппвапмюивясми
опвэппкопш^ш
□ОШП1
1КХЮ
ЕИ
Letter Blank
SSIQDIKQBtmil
заиагсжмясшм
□□^папсгнг!
ООЮПМХЖП
ииипязпоипоисп
ВЕ№:П13;ИНССОИП
вэваошаапсшп
trai >а Li im^wm
v
и
i//BV|iv|
I и
z
X
д
Z
Код Бодо
“Под скоростью передачи данных подразумевается количество зна-
ков, представляющих различные буквы, цифры и т. п., которые мо-
гут быть переданы за данный промежуток времени”. Знаки, бук-
вы, цифры — сложно сосчитать. Были также понятия, для которых
еще предстояло придумать термины, — “способность системы пе-
редавать определенную последовательность символов... ”
Шеннон почувствовал возможность унификации. Инжене-
ры связи говорили не только о проводах, но и о воздухе, “эфи-
ре” и даже о перфолентах. Они задумывались не только о словах,
но и об изображениях и звуках. Они представляли весь мир симво-
лами, которые передаются с помощью электричества.
ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
(Все, что мне нужно, — обыкновенный мозг)
Наверное, появление теории информации и ее развитие немного
похожи на стороительство трансконтинентальной железной дороги.
Вы можете начать с востока, пытаясь понять, как операторы обрабатывают
все что угодно, и направиться на запад. Или вы можете начать с запада,
попытавшись понять, что такое информация, и затем направиться на восток.
Остается надеяться, что эти пути пересекутся.
Джон Барвайз (1986)
Вначале 1943 года, в самый разгар войны, два похоже мыс-
лящих человека, Клод Шеннон и Алан Тьюринг, ежеднев-
но встречались за чаем в кафетерии Лабораторий Белла
и ни слова не говорили о своей работе. Работа была за-
секречена — оба занимались криптоанализом. Само при-
сутствие Тьюринга в Лабораториях было своего рода тайной. Он
приплыл в Америку на “Королеве Елизавете”, которая шла зигза-
гами, уходя от немецких подлодок. Лишь немногие знали, что со-
всем недавно в Англии, в Блетчли-парк, Тьюрингу удалось расши-
фровать “Энигму” — код, который использовался вермахтом для
самых важных сообщений (в том числе для переговоров с под-
лодками). Шеннон работал над секретной радиотелефонной свя-
зью X-System у которая применялась для шифровки разговоров ме-
жду Франклином Д. Рузвельтом в Пентагоне и Уинстоном Чер
чиллем в подземном командном центре. Работала она так: сначала
выделялись моментальные значения аналогового голосового сиг
нала, по пятьдесят за секунду, то есть происходил процесс “кван-
тования”, или “дискретизации”, сигнала, затем они маскирова-
лись с помощью псевдошумового сигнала, который был очень по
219
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
хож на помехи на линии, хорошо знакомые инженерам. Шеннон
не разрабатывал систему, его пригласили проанализировать ее
и доказать теоретически — по крайней мере на это была надежда, —
что она не может быть взломана. Он выполнил эту задачу. Позже
стало ясно, что оба эти человека, каждый на своем берегу Атланти-
ки, сделали для превращения криптографии из искусства в науку
больше, чем кто-либо, но пока шифровальщики и дешифровщики
не разговаривали друг с другом.
Они не обсуждали конкретные проекты, которыми занима-
лись, однако Тьюринг показал Шеннону написанную семь лет на-
зад статью “О вычислимых числах” о возможностях и ограничени-
ях идеальной вычислительной машины. Они говорили на другую
тему, которая также оказалась близка обоим, — о том, как научить
машины думать. Шеннон предложил ввести “явления, связанные
с культурой”, такие как музыка, в электронный мозг, и они ста-
ли излагать друг другу невероятные идеи. Однажды Тьюринг вос-
кликнул: “Нет, я не хочу создавать мощный мозг. Все, что мне нуж-
но, — обыкновенный мозг, что-то вроде мозга президента Амери-
канской телефонной и телеграфной компании”. В 1943 году, когда
ни транзистор, ни электронный компьютер еще не появились, рас-
суждения о думающих машинах выглядели слишком самонадеянно.
Но на самом деле мечты Тьюринга и Шеннона не имели отноше-
ния к электронике, это была логическая задача.
Может ли машина думать? Вопрос с короткой и немного
странной историей — странной, потому что машины представляли
собой физический объект. Чарльз Бэббидж и Ада Лавлейс стояли
у истоков данного представления, хотя их идеи были практически
забыты. Но теперь об этом задумался Алан Тьюринг и сделал нечто
действительно странное: придумал машину с идеальными возмож-
ностями в области мышления и показал, чего она сделать не может.
Его машины не существовало (хотя сейчас ее можно встретить по-
всюду). Это был всего лишь мысленный эксперимент.
Рядом с вопросом, что может делать машина, располагался
еще один: какие задачи можно считать механическими (старое сло-
во с новым значением). Теперь, когда машины могли играть музы-
ку, фиксировать изображение, нацеливать зенитные орудия, соеди-
нять телефонные вызовы, управлять сборочными линиями и вы-
220
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
поднять математические расчеты, это слово уже не казалось таким
уничижительным. Но лишь недалекие и суеверные люди наделя-
ли машины способностями к творчеству, оригинальному мышле-
нию или спонтанному поведению; такие качества были противо-
положны механическому, что означало автоматическое, определен-
ное и последовательное. Идея пригодилась философам. Примером
интеллектуального объекта, который можно назвать механическим,
стал алгоритм: еще один новый термин для чего-то, что существо-
вало всегда (рецепт, набор инструкций, пошаговая процедура),
но теперь требовало формального признания. Бэббидж и Лавлейс
занимались алгоритмами, не называя их. XX век отвел алгоритмам
центральную роль, и они сразу включились в игру.
Тьюринг был аспирантом и недавним выпускником Кингс-
колледжа Кембриджа, когда в 1936 году представил статью о вычис-
лимых числах своему профессору. Полное название заканчивалось
причудливым немецким словом — оно звучало так: On Computable
Numbers, with an Application to the Entscheidungs-problem (“О вычис-
лимых числах в применении к проблеме разрешимости”). “Пробле-
му разрешимости” поставил Давид Гильберт на Международном
конгрессе математиков в 1928 году. Пожалуй, самый влиятельный
математик своего времени, Гильберт, как Рассел и Уайтхед, горячо
верил в задачу постановки всей математики на прочную логиче-
скую платформу — In der Mathematik gibt es kein Ignorabimus (“В ма-
тематике нет места “мы не узнаем”), объявил он. Конечно, в мате-
матике было много нерешенных задач, некоторые из них известны,
такие как Последняя (Великая) теорема Ферма и проблема Гольдба-
ха, — утверждения, которые казались истинными, но не были до-
казаны. Не были доказаны пока что, думало большинство людей.
Предполагалось — и многие верили, — что любая математическая
истина когда-нибудь будет доказана.
Проблема разрешимости заключалась в нахождении строгой
пошаговой процедуры, с помощью которой, имея формальный
язык дедуктивных рассуждений, можно автоматически получить
доказательство. Возрожденная мечта Лейбница — выражение всех
допустимых рассуждений с помощью механических правил. Гиль-
берт поставил ее в форме вопроса, но он был оптимистом. Он ду-
мал, что знает ответ. И в этот решающий для математики и логики
221
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
момент появилась теорема Геделя о неполноте. Казалось, она дол-
жна охладить оптимизм Гильберта, так же как опровергла построе-
ния Рассела. Но Гедель на самом деле оставил проблему разреши-
мости без ответа. Гильберт выделил три вопроса:
Является ли математика полной?
Является ли математика непротиворечивой?
Является ли математика разрешимой?
Гедель показал, что математика не может быть одновременно пол-
ной и непротиворечивой, но не ответил на третий вопрос — или
по крайней мере ответил не для всей математики. Даже если опре-
деленная замкнутая система формальной логики должна содержать
утверждения, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть
изнутри системы, вероятно, это может быть разрешено, как и по-
лучилось, внешним арбитром — внешней логикой или правилами1.
Двадцатидвухлетний Алан Тьюринг, незнакомый с большей ча-
стью литературы по предмету, стремящийся к одиночеству настоль-
ко, что его профессор волновался, что он станет “настоящим от-
шельником”, поставил, казалось бы, совершенно другой вопрос:
все ли числа вычислимы? Неожиданный вопрос, вряд ли кто-то рас-
сматривал идею о невычислимом числе. Большая часть чисел, с ко-
торыми работают люди, вычислимы по определению. Рациональное
число вычислимо, потому что может быть выражено как частное
двух целых чисел — а/b. Алгебраические числа вычислимы, пото-
му что являются корнями алгебраических уравнений. Знаменитые
числа, такие как п и е, тоже вычислимы, люди вычисляют их посто-
янно. Тем не менее Тьюринг утверждал, что существуют числа, ко-
торые можно как-то назвать, определить, однако вычислить нельзя.
Что это значило? Он определил вычислимое число как число,
чье десятичное представление может быть получено конечным на-
бором действий. “Обоснование, — утверждал он, — заключается
в том факте, что человеческая память по необходимости ограничен-
на”. Он также определил вычисления как механическую процедуру,
1 К концу жизни Гедель писал: “Лишь благодаря работе Тьюринга стало совер-
шенно ясно, что мое доказательство применимо к любой формальной системе,
содержащей арифметику”. — Прим. авт.
222
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
алгоритм. Люди решают задачи с помощью интуиции, воображе-
ния, вспышек озарения, то есть сомнительными немеханическими
способами, или опять-таки с помощью вычислений, этапы которых
скрыты. Тьюрингу надо было исключить невыразимое. Он спросил
себя: что бы сделала машина? И ответил: “Согласно моему опреде-
лению, число является вычислимым, если его десятичное представ-
ление может быть записано машиной”.
Не было машины, которая могла бы предложить соответ-
ствующую модель. “Компьютеры” в то время были людьми, прак-
тически все вычисления выполнялись на бумаге. Для начала у Тью-
ринга имелась пишущая машинка. В одиннадцать лет он думал, что
изобрел ее. “Понимаете, — писал он родителям из школы-интер-
ната, — забавные маленькие кружки, вырезанные буквы, скользят
к круглой А вдоль чернильной подушки и отпечатывают на бума-
ге букву, хотя это далеко не все”. Конечно, пишущая машинка —
не автоматическая конструкция, это инструмент, а не машина. Она
не переносит речь на бумагу, скорее, страница шаг за шагом пере-
мещается под молоточком, который отпечатывает букву за буквой.
Основываясь на такой модели, Тьюринг представил себе машину
высшей чистоты и простоты. Поскольку она была воображаемой,
не возникало затруднений, связанных с реальными условиями, ко-
торые пришлось бы учитывать, составляя чертеж, инженерную спе-
цификацию или заявку на патент. Тьюринг, как и Бэббидж, задумал
машину для вычисления, но ему не надо было беспокоиться о мед-
ных или железных деталях. Тьюринг и не собирался строить свою
машину.
Он перечислил те немногие элементы, которые должны были
быть в его машине: лента, символы и состояния. Каждый из этих
элементов нуждался в определении.
Лента в машине Тьюринга выполняет ту же функцию, что
и бумага в пишущей машинке. Но если в пишущей машинке лист
перемещается в двух направлениях, влево и вверх, то машина Тью-
ринга использовала только одно, поэтому и нужна была лента —
длинная полоска, разделенная на квадраты (ячейки). “В элемен-
тарной арифметике иногда используют двухмерное свойство бу-
маги, — писал ученый. — Но этого всегда можно избежать, и,
я думаю, стоит согласиться с тем, что двухмерность бумаги не яв-
223
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ляется необходимым условием при вычислении”. Лента считается
бесконечной: всегда, если нужно, найдется еще место. Но “внутри
машины” в каждый момент времени находится лишь один квадрат.
Лента (или машина) может двигаться влево или вправо, к следую-
щему квадрату.
Символы могут быть записаны на ленту, по одному в каждой
ячейке. Сколько символов можно использовать? Ответ на этот во-
прос потребовал некоторых размышлений, чтобы убедиться: коли-
чество символов конечно. Тьюринг отметил, что слова, по крайней
мере в европейских языках, ведут себя как символы. Китайцы, пи-
сал он, “движутся к несчетной бесконечности символов”. Арабские
цифры тоже можно считать бесконечным множеством символов,
если, например, рассматривать числа 17 или 999999999999999 как
один символ. Но Тьюринг решил рассматривать их как составные
символы: “Всегда можно вместо одного символа использовать по-
следовательность”. И, так как машина создавалась по принципу
минимализма, Тьюринг предпочел абсолютный минимум из двух
символов — двоичную запись, нули и единицы. Символы не толь-
ко записывались на ленту, они могли и читаться с нее — Тьюринг
использовал слово “сканироваться”. В реальности, конечно, еще
не было технологии, которая могла сканировать написанные на бу-
маге символы обратно в машину, но существовали похожие про-
цедуры: например, в табуляторах информация с перфокарт пере-
носилась на бумагу. Тьюринг ввел еще одно ограничение: в каж-
дый момент времени машина “знает” (для описания могло подойти
лишь антропоморфное слово) только об одном символе — о том,
который находится в единственной ячейке внутри машины.
Состояния требовали более подробных объяснений. Тью-
ринг использовал слово “конфигурации” и указывал, что они на-
поминали “состояния ума”. Машина может находиться в несколь-
ких состояниях, их число конечно. В любом данном состоянии
машина предпринимает одно или несколько действий в зависи-
мости от символа. Например, в состоянии а машина может по-
двинуться на ячейку вправо, если текущий символ 1, или на ячей-
ку влево, если текущий символ о, или напечатать 1, если символа
нет (ячейка заполнена “пробелом”). В состоянии b машина может
стереть текущий символ. В состоянии с, если символ о или 1, ма-
22Д
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
шина может сдвинуться вправо, в противном случае — остано-
виться. После каждого действия машина оказывается в новом со-
стоянии, которое может быть таким же или другим. Различные
состояния, используемые для данного вычисления, хранились
в таблице, и неважно, как это должно было осуществляться физи-
чески. Фактически таблица состояний была набором инструкций
для машины. И все.
Тьюринг программировал свою машину, хотя пока и не исполь-
зовал этого слова. С помощью примитивных действий — пере-
движения, печати, стирания, изменения состояния и остановки —
строились более сложные задачи, которые использовались снова
и снова: “копирование последовательности символов, сравнение
последовательностей, уничтожение всех символов определенной
формы и т.д.” Машина способна видеть только один символ в каж-
дый момент времени, но часть ленты можно использовать для вре-
менного хранения информации. Как говорил Тьюринг, “некото-
рые записанные символы... являются просто заметками “в помощь
памяти”. Лента, разматывавшаяся до горизонта и дальше, представ-
ляла собой неограниченное хранилище. Именно поэтому машине
была доступна вся арифметика. Тьюринг показал, как сложить два
числа, то есть написал необходимую для этого таблицу состояний.
Он показал, как заставить машину печатать (бесконечно) двоич-
ное представление числа л. Он потратил значительное время, что-
бы понять, что машина способна сделать и как она будет выполнять
определенные задачи. Он продемонстрировал, что этот список по-
крывает всю деятельность человека при вычислении числа. Не тре-
бовалось больше никаких знаний или интуиции. Все, что можно
было вычислить, могла вычислить и эта машина.
А потом пришло время финального штриха. Машины Тьюрин-
га, сокращенные до конечной таблицы состояний и конечного на-
бора вводимых символов, сами могли быть представлены числами.
Каждая из возможных таблиц состояний, соединенная с ее перво-
начальной лентой, представляла собой отдельную машину. Следо-
вательно, каждая машина сама могла быть описана определенным
числом — определенной таблицей состояний вместе с начальной
лентой. Тьюринг кодировал свои машины точно так же, как Гедель
кодировал язык символической логики. Это устраняло различие
225
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
между данными и инструкциями: в конце концов, и то и другое
было числами. Для каждого вычислимого числа должно существо-
вать машинное число.
Тьюринг создал (все еще в уме) версию машины, которая мог-
ла представить любую другую возможную цифровую вычислитель-
ную машину. Он назвал ее машиной t7, от universal (универсаль-
ная), и математики гордо пользуются названием U по сей день. Эта
машина в качестве ввода берет машинные числа. То есть читает
описания других машин со своей ленты — их алгоритмы, их соб-
ственный ввод. Неважно, насколько сложным мог стать цифровой
компьютер, — его описание можно было записать на ленту, кото-
рую прочитает U. Если задача может быть решена цифровой вы-
числительной машиной, записана символами и решена алгоритми-
чески, универсальная машина тоже могла ее решить.
Теперь микроскоп сам оказался предметом исследования. Ма-
шина Тьюринга занялась проверкой каждого числа, чтобы выяс-
нить, соответствует ли оно вычислимому алгоритму. Некоторые
числа окажутся вычислимыми. Некоторые могут оказаться невы-
числимыми. И еще была третья возможность — та, которая интере-
совала Тьюринга больше остальных. Некоторые алгоритмы могли
обмануть проверяющего и заставляли машину работать, занимать-
ся загадочным делом, никогда не останавливаясь, никогда не по-
вторяясь очевидным образом и оставляя наблюдателя в неведении
относительно того, остановится ли она вообще.
К этому моменту аргументы Тьюринга, опубликованные
в 1936 году, представляли собой сложнейший шедевр, состоящий
из рекурсивных определений, символов, придуманных, чтобы пред-
ставлять другие символы, чисел, замещающих другие числа, таблиц
состояний, алгоритмов, машин. На бумаге это выглядело так:
Объединив машины D hU, мы можем сконструировать машину М
для расчета последовательности. Машине D может потребоваться
лента. Мы можем предположить, что она использует Е-ячейки по-
сле того, как заполнит символами Е-ячейки, и что, когда она вы-
несет свой вердикт, черновая работа, выполненная Е>, стирается...
Далее мы способны показать, что не может существовать машины
Е, которая, получив стандартное описание произвольной машины
226
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
Л/, определит, напечатает ли когда-либо М заданный символ (на-
пример, о).
Не многие были способны это понять. Это казалось (и было) пара-
доксальным, но Тьюринг доказал, что некоторые числа невычисли-
мы. (На самом деле невычислимо большинство чисел.)
Одновременно, поскольку каждое число соответствовало зако-
дированному утверждению математики и логики, Тьюринг разре-
шил вопрос Гилберта о том, все ли утверждения разрешимы. Он
доказал, что проблема разрешимости имеет ответ, причем отрица-
тельный. Невычислимые числа фактически являются неразреши-
мыми утверждениями.
Компьютер Тьюринга — фантастическая, абстрактная, цели-
ком воображаемая машина — привел его к доказательству, парал-
лельному доказательству Геделя. Но Тьюринг пошел дальше, опре-
делив общую идею формальной системы. Любая механическая
процедура для выработки формул по существу является маши-
ной Тьюринга. Любая формальная система, таким образом, долж-
на иметь неразрешимые утверждения. Математика неразрешима.
Неполнота следует из невычислимости.
И снова, когда числа получили возможность кодировать пове-
дение самой машины, ожили парадоксы. Это неизбежный рекур-
сивный поворот. То, что вычисляют, теснейшим образом перепле-
тено с тем, что производит эти вычисления. Впоследствии Дуглас
Хофштадтер говорил об этом так: “Все зависит от останавливаю-
щегося контролера, пытающегося предсказать собственное пове-
дение, глядя на самого себя, пытающегося предсказать собствен-
ное поведение, глядя на самого себя, пытающегося предсказать
собственное поведение...” В физике тоже появилась похожая ди-
лемма — принцип неопределенности Вернера Гейзенберга. Когда
Тьюринг узнал о нем, он выразил его в терминах самоопределе-
ния: “В науке было принято считать, что если о Вселенной все из-
вестно в какой-то момент времени, то мы можем предсказать, что
так и будет в будущем... Более современная наука пришла к выводу,
что, когда мы имеем дело с атомами и электронами, мы совершен-
но не способны узнать точное их состояние, поскольку наши ин-
струменты состоят из тех же атомов и электронов”.
227
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Между аналитической машиной Бэббиджа и универсальной
машиной Тьюринга, огромным и неуклюжим изобретением и эле-
гантной нереальной абстракцией, прошло юо лет. Тьюринг нико-
гда не пытался быть механиком. “Можно представить себе трудо-
любивого и прилежного клерка с хорошим запасом бумаги для
заметок, без устали выполняющего действия согласно инструк-
ции”, — заметил позже математик и логик Герберт Эндертон. Как
и Ада Лавлейс, Тьюринг был программистом, анализирующим по-
шаговую логику собственного разума. Он представлял себя ком-
пьютером. Он выделял из процедур мышления их наименьшие со-
ставляющие, атомы обработки информации.
И Алан Тьюринг, и Клод Шеннон занимались кодами. Тью-
ринг кодировал инструкции числами, а десятичные числа — ну-
лями и единицами. Шеннон придумал коды для генов и хромо-
сом — реле и переключатели. Оба нашли способ описать одно
множество объектов через другое: логические операторы и элек-
трические цепи; алгебраические функции и машинные инструк-
ции. Игра символов и идея передачи в смысле нахождения строгого
соответствия между двумя множествами были их главными задача-
ми. Идея подобного кодирования не в том, чтобы скрыть, а, на-
против, в том, чтобы прояснить, обнаружить, что яблоки и апель-
сины эквивалентны, а если не эквивалентны, то взаимозаменяемы.
Но война заставила обоих ученых заниматься другим типом коди-
рования — криптографией.
Мать Тьюринга часто спрашивала его, какую пользу могут при-
нести его занятия математикой, и в 1936 году он сказал ей, что на-
шел возможное применение своим исследованиям: “Множество
специальных и интересных шифров”. Он добавил: “Я думаю, что
смог бы продать их правительству Ее Величества за довольно су-
щественную сумму, но я сильно сомневаюсь, что это будет мораль-
ный поступок”. В самом деле, машина Тьюринга могла создавать
шифры. Но оказалось, что у правительства другая проблема. На-
двигалась война, и Государственной школе кодов и шифров, перво-
начально входившей в состав Адмиралтейства, пришлось заняться
расшифровкой перехваченных немецких сообщений. Штат шко-
лы состоял из лингвистов, клерков и машинисток, но математи-
ков там не было. Тьюринг попал туда летом 1938 года. Когда Школа
228
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
была эвакуирована из Лондона в Блетчли-парк, загородный особ-
няк в Букингемшире, он поехал вместе с командой, в состав кото-
рой входили в том числе несколько чемпионов по шахматам и ре-
шению кроссвордов. Такой пестрый состав не был случайным, ока-
залось, что классическое лингвистическое образование мало чем
способно помочь в криптоанализе.
Немецкая система, названная “Энигма”, действовала по прин-
ципу полиалфавитного шифрования, которым занималась ротор-
ная машина размером с чемодан, с клавиатурой и сигнальными лам-
пами. У “Энигмы” был знаменитый предок — шифр Виженера, ко-
торый считался идеальным, пока в 1854 году его не взломал Чарльз
Бэббидж. Математическая догадка Бэббиджа помогла аналитикам
Блетчли-парка, так же как работа польских криптографов, которые
первыми столкнулись с необходимостью расшифровки сообщений
Вермахта. Работая в небольшой комнатке, известной как Hut 8, Тью-
ринг решил проблему не только математически, но и физически.
Это означало постройку машины, которая могла расшифро-
вывать любые коды “Энигмы”. И если первая машина Тьюринга
основывалась на теоретическом предположении о бесконечной
ленте, то эта, прозванная Bombe, была объемом 90 кубических фу-
тов, с тонной проводов и металла, с подтекающим маслом и копи-
рующими роторы немецкого устройства электрическими цепями.
Научный триумф в Блетчли-парке, который оставался засекречен-
ным на протяжении всей войны и еще тридцать лет после, имел
большее влияние на исход войны, чем проект “Манхэттен”. К кон-
цу войны “Бомбы” Тьюринга расшифровывали тысячи перехвачен-
ных военных сообщений ежедневно, то есть обрабатывали инфор-
мацию в доселе невиданных масштабах.
Хотя ничего из этого Тьюринг и Шеннон напрямую не обсуж-
дали за ланчем в Лабораториях Белла, они говорили о тьюрингов-
ской идее измерения всего этого. Тьюринг наблюдал, как аналити-
ки изучали сообщения, проходящие через Блетчли-парк, — неко-
торые неоднозначные, некоторые противоречивые — и пытались
оценить, что это, применение конкретного шифра “Энигмы”
или же координаты подлодки.
Тьюринг чувствовал — что-то здесь нуждается в математиче-
ском измерении. Это была не та вероятность, которая традиционно
229
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Трофейная машина Энигма
выражалась отношением исходов (таким как три к двум) или чис-
лом от нуля до единицы (например, о,6 или 6о%). Скорее, Тьюрин-
га волновали данные, которые изменяли вероятность: вероятност-
ный фактор, что-то вроде весомости улик. Он придумал единицу,
которую назвал ban. Ему было удобно использовать логарифмиче-
скую шкалу, так чтобы ban'ъ\ складывались, а не умножались. С де-
сятичным основанием ban делал событие в десять раз более вероят-
ным. Для тонких измерений были deciban и centiban.
Шеннону пришла в голову похожая идея. В старой штаб-квар-
тире в Вест-Виллидж он разработал теоретические идеи крипто-
графии, и они помогли ему сконцентрироваться на мечте, в кото-
рой он признался Вэнивару Бушу, — на мечте об “анализе неко-
торых фундаментальных свойств общих систем передачи знаний”.
Во время войны он занимался двумя параллельными направления-
ми — расшифровкой и созданием кодов. Основной потребностью
230
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
в то время было “спрятать информацию”. В мире чистой математи-
ки Шеннон работал с некоторыми из тех систем шифрования, что
атаковал Тьюринг, — с реальными перехватами и грубым оборудо-
ванием, например с конкретным вопросом безопасности крипто-
грамм Виженера, при условии что “противник знаком с используе-
мой системой”. (Немцы использовали именно такие криптограм-
мы, а британцы являлись противниками, знакомыми с системой.)
Шеннон рассматривал самые общие случаи, каждый из которых
включал “дискретную информацию”. То есть последовательности
символов, выбранных из конечного множества, в основном буквы
алфавита, но также и слова и даже “квантованную речь”, голосо-
вые сигналы, разбитые на группы по амплитудам. Чтобы “спрятать”
информацию, нужно было подставить неверные символы вместо
верных, следуя некоторой процедуре, ключ которой известен по-
лучателю сообщения, и тот может использовать его для обратной
подстановки. Если врагу известна сама процедура, безопасная си-
стема работает до тех пор, пока неизвестен ключ.
Дешифровщики видят поток данных, похожий на мусор,
и жаждут найти настоящий сигнал. “С точки зрения криптоана-
литика, — отмечал Шеннон, — секретная система почти иден-
тична зашумленной системе связи”. (Он закончил свой от-
чет “Математическая теория криптографии” в 1945 году, и тот
был немедленно засекречен.) Поток данных должен был выгля-
деть случайным или стохастическим, но, естественно, таковым
не был: если бы это действительно был случайный поток, сигнал
был бы потерян. Шифр должен преобразовывать нечто структу-
рированное, чаще всего язык, во что-то на первый взгляд совер-
шенно бессистемное. Но структура на удивление устойчива. Для
анализа и классификации способов шифрования Шеннон дол-
жен был изучить структуру языка так, как ученые, например лин-
гвисты, никогда не делали. Лингвисты, однако, уже начали зани-
маться строением языка — системы, которую можно обнаружить
в потоке форм и звуков. Лингвист Эдвард Сепир писал о систе-
ме “символических атомов”, сформированных фонетической мо-
делью языка. “Звуки речи, — писал он в 1921 году, — не составля-
ют языка... суть языка лежит скорее в классификации, в формаль-
ном моделировании... Итак, язык как некая структура по своей
231
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
внутренней природе есть форма мысли”1. Форма мысли — изящ-
но сказано. Шеннону, однако, нужны были термины более ося-
заемые и счетные.
Структура, как он ее понимал, была тем же, что и избыточ-
ность. В обычном языке избыточность необходима для понимания.
В криптоанализе та же избыточность является ахиллесовой пятой.
В чем же заключается эта избыточность? Простой пример из ан-
глийского языка: где бы ни появлялась буква q, следующая буква
и избыточна. (Или почти избыточна — она была бы полностью
избыточной, если бы не редкие заимствования вроде qin и Qatar.)
После q ожидается и. Она не несет информации. Н после t имеет
некоторую степень избыточности, потому что вероятность появ-
ления именно этой буквы наибольшая. В каждом языке есть опре-
деленная статистическая структура, доказывал Шеннон, вместе
с ней наблюдается и определенная степень избыточности. Назовем
это (предложил он) D: “D показывает, насколько можно сократить
текст без потери информации”.
Избыточность английского языка Шеннон оценил примерно
в $о%1 2. Он не мог быть уверенным в своей оценке в отсутствие
компьютеров для обработки больших массивов текста, но оцен-
ка оказалась верной. Типичные тексты могут быть сокращены
примерно вполовину без потери информации. (Вспомним If и
сп rd ths...) Уязвимость ранних простейших шифров, основан-
ных на подстановках, была связана как раз с избыточностью. Эд-
гар Аллан По знал, что если в тексте чаще других встречается бук-
ва z, то скорее всего z подставлена вместо е, так как е — самая часто
встречающаяся в английском языке буква. Как только расшифрова-
на q, можно считать расшифрованной и и. Дешифровщик ищет по-
вторяющиеся группы, которые могут соответствовать наиболее ча-
стотным словам или комбинациям букв: the, and, -tion. Чтобы усо-
вершенствовать подобный частотный анализ, шифровальщикам
нужно было больше информации, чем сумели получить Альфред
Вейл и Сэмюэл Морзе, проанализировав наборные типографские
шрифты. В любом случае более совершенные шифры избавились
1 Пер. под ред. А. Кибрика.
2 “...не рассматривая статистическую структуру на расстояниях более восьми
букв”. — Прим. авт.
232
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
от этой уязвимости, постоянно меняя алфавит так, чтобы у каждой
буквы было множество возможных замен. Очевидные распозна-
ваемые структуры исчезли. Но до тех пор, пока шифровка сохра-
няла хоть малейшие следы схематичности — регулярность появ-
ления формы, последовательности или их статистическую вероят-
ность, — математик теоретически мог взломать шифр.
Все секретные системы объединяет одно: использование клю-
ча — кодового слова, фразы или целой книги или чего-то еще более
сложного, то есть источника знаков, известного как получателю, так
и отправителю, — знания, которым обладают оба и которое не содер-
жится в зашифрованном сообщении. В немецкой системе “Энигма”
ключ находился в самой машине и менялся ежедневно; дешифровщи-
ки в Блетчли-парк были вынуждены каждый раз заново находить его
и распознавать структуры вновь преобразованного языка.
Тем временем Шеннон перешел к наиболее отдаленной, наи-
более общей, наиболее теоретической идее. Секретная систе-
ма состояла из конечного (хотя, вероятно, очень большого) чис-
ла возможных сообщений, конечного числа возможных крипто-
грамм, а между ними, преобразуя одни в другие, располагалось
конечное число ключей, каждому из которых соответствовала
определенная вероятность появления. Схематически это выгля-
дело так:
Шифровальщик
противника
233
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
У противника и получателя одна цель: сообщение. Отобразив это
в терминах математики и вероятностей, Шеннон смог отделить идею
сообщения от его физических деталей. Звуки, колебания сигнала,
обычные заботы инженеров Лабораторий Белла, не имели значения.
Сообщение рассматривалось как выбор одной альтернативы из мно-
жества. В Старой северной церкви у Пола Ревере было два вариан-
та возможных сообщений. Сейчас их количество почти невозможно
было подсчитать, зато его можно было анализировать статистически.
Все еще не зная о вполне реальном и очень значимом опы-
те Блетчли-парка, Шеннон выстроил величественное сооружение
из алгебраических методов, теорем и доказательств, которые дали
криптографам то, чего у них до сих пор не было: строгий способ
оценки безопасности любой секретной системы. Он разработал на-
учные принципы криптографии. Помимо прочего, он показал, что
возможны совершенные шифры, “совершенные” в том смысле, что
даже бесконечно длинное перехваченное сообщение не поможет де-
шифровщику (“противнику не поможет перехват материала боль-
шего объема”.) Но Шеннон и давал, и отбирал; он в том числе до-
казал: требования к такому шифру настолько строги, что делают его
практически бесполезным. В совершенном шифре случайные после-
довательности символов, из которых создаются ключи, должны по-
являться с одинаковой вероятностью, каждый ключ может исполь-
зоваться лишь один раз и, хуже того, каждый ключ должен быть та-
кой же длины, что и само сообщение. Кроме того, в своей секретной
статье, едва ли не походя, Шеннон впервые употребил фразу “тео-
рия информации”.
Сначала Шеннону надо было избавиться от смысла. Он даже
поставил кавычки. “Смысл” сообщения обычно не имеет значе-
ния”, — бодро писал Шеннон.
Это была провокация, необходимая для того, чтобы как мож-
но четче обозначить цель. Шеннону, если он хотел создать теорию,
нужно было присвоить слово информация. “Информацию, — писал
он, — не стоит здесь путать с повседневным значением этого слова,
пусть она с ним и связана”. Как Найквист и Хартли до него, Шен-
нон хотел оставить в стороне “психологические факторы” и сосре-
доточиться только на “физическом”. Но если информация лишена
смысловой нагрузки, то что остается? Можно было дать несколько
234
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
определений, и все они на первый взгляд казались парадоксальны-
ми. Информация есть неопределенность, неожиданность, трудность
и энтропия.
• “Информация тесно связана с неопределенностью”. Неопределен-
ность в свою очередь можно измерить, сосчитав количество возмож-
ных сообщений. Если возможно лишь одно сообщение, неопреде-
ленности нет и, следовательно, нет информации.
• “Некоторые сообщения могут быть более вероятными, чем другие,
и информация подразумевает неожиданность”. Неожиданность есть
способ выражать вероятности. Если буква, следующая за t (в англий-
ском языке), hy то передается не так много информации, потому что
вероятность появления h сравнительно высока.
• “Имеет существенное значение трудность передачи сообщения
из одной точки в другую”. Это, наверное, покажется столь же тав-
тологичным, как определение массы в терминах силы, необходимой,
чтобы сдвинуть объект. Но, с другой стороны, массу таким образом
определить можно.
• “Информация есть энтропия”. Это было самым странным и самым
мощным определением из всех. Энтропия — само по себе трудное
и плохо понимаемое понятие — есть мера неупорядоченности си-
стемы в термодинамике, науке о температурах и энергии.
Шеннон занимался криптографией и способами управления зенит-
ным огнем, и всю войну ученого преследовали его призрачные идеи.
Он жил в одиночестве в своей квартире в Гринвич-Виллидж и ред-
ко общался с коллегами — в основном они теперь работали в штаб-
квартире в Нью-Джерси, он же предпочел остаться в старом здании
на Вест-стрит. Ему не нужно было никому ничего объяснять и до-
казывать. Его военные исследования были настолько значительны,
что позволили ему получить отсрочку от армейской службы, причем
отсрочка была продлена и после войны. Лаборатории Белла были
мужской организацией, которая в военное время сильно нуждалась
в квалифицированных работниках, особенно в группе вычислите-
лей, так что пришлось принимать на работу женщин. Среди них
была Бетти Мур, выросшая на Статен-Айленде и воспринимавшая
свое окружение как группу машинисток со степенью по математике.
235
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Штаб-квартира
Лабораторий
Белла на Вест-
Стрит с поездами,
проходящими
сквозь здание
После года работы она получила повышение и была переведе-
на в группу изучения ультракоротких волн в бывшее здание Nabisco^
“фабрики крекеров”, через дорогу от главного здания на Вест-стрит.
На втором этаже группа разрабатывала, а на первом — делала лам-
пы СВЧ, и время от времени Клод заходил туда. Он и Бетти стали
встречаться в 1948-м и поженились в начале 1949-го. В то время он
был ученым, о котором говорили все.
Не многие библиотеки получали The Bell System Technical
Journal, поэтому исследователи узнавали о “Математической тео-
рии связи” обычным путем, с чужих слов, и доставали статьи тоже
обычным путем, попросив автора прислать копию. Некоторые уче-
ные использовали для этих запросов заранее напечатанные от-
крытки, и в течение следующего года таких открыток приходило
очень много. Статью поняли не все. Ее математическая составляю-
щая была сложна для многих инженеров, а математикам не хватало
знаний в инженерии. Но Уоррен Уивер, директор отделения есте-
ственных наук Фонда Рокфеллера, уже рассказал президенту фонда,
что Шеннон сделал для теории связи “то, что Гиббс — для физи-
ческой химии”. Во время войны Уивер возглавлял государственные
236
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
исследования в области прикладной математики, курировал про-
ект по управлению огнем и первые работы в области электронных
вычислительных машин. В 1949 году он написал благожелатель-
ное, хоть и не слишком подкрепленное технически эссе о теории
Шеннона для Scientific American, а в конце того же года эссе Виве-
ра и монография Шеннона были изданы одной книгой “Матема-
тическая теория связи”. Джон Робинсон Пирс, инженер Лаборато-
рий Белла, который наблюдал, как одновременно в стенах лабора-
торий шли разработки транзистора и появлялась статья Шеннона,
воспринял последнюю “как бомбу, своего рода бомбу замедленно-
го действия”.
Там, где непосвященный мог бы сказать, что основная пробле-
ма связи — донести до собеседника свою мысль, Шеннон утверж-
дал другое:
Основной проблемой связи является проблема точного или при-
близительного воспроизведения в одной точке сообщения, вы-
бранного в другой точке.
“Точка” была тщательно подобранным словом: пункты отправления
и назначения сообщения могут быть разнесены в пространстве
или во времени; хранение информации как в фонографической
записи считается видом коммуникации. Тем временем сообще-
ние не создается, оно выбирается. Это может быть карта из колоды,
три десятичных знака из тысячи возможных или комбинация слов
из определенной кодовой книги. Игнорировать значение было
нельзя, поэтому ученый облачил его в научное определение, а за-
тем указал на дверь:
Часто сообщения имеют значение, то есть они ссылаются на не-
которую систему определенных физических или концептуальных
сущностей или связаны с ними. Эти семантические аспекты ком-
муникации несущественны для инженерной проблемы.
Тем не менее, как разъяснил Уивер, это был широкий взгляд на ком-
муникацию. Он охватывал “не только письменную и устную речь,
но также музыку, изобразительное искусство, театр, балет и факти-
237
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
чески все поведение человека”. И не только человека: почему у ма-
шин не может быть сообщений, которые нужно передавать?
Модель связи Шеннона описывалась простой диаграммой —
по существу, такой же диаграммой (и не случайно), как в его се-
кретной работе по криптографии.
Передатчик
Приемник Получатель
Источник
шума
Система связи должна содержать следующие элементы:
• источник информации — человек или машина, генерирующие со-
общение, которое может быть последовательностью символов, как
в телеграфе или телетайпе, или выраженное математически как
функции/(х, у, z) времени и других переменных. В сложных слу-
чаях, как цветное телевидение, компонентами сообщения являются
три функции в трехмерном континууме, отмечал Шеннон;
• передатчик “некоторым образом работает с сообщением”, то есть
кодирует его, чтобы выдать подходящий сигнал. Телефон преобра-
зует звуковые волны в аналоговый электрический ток. Телеграф ко-
дирует буквы в точки, тире и паузы. Более сложные сообщения мо-
гут быть разделены на части, сжаты, квантированы, их части могут
быть разнесены;
• канал — “просто среда, используемая для передачи сигнала”;
• приемник производит операцию, обратную операции передатчи-
ка. Он декодирует сообщение или реконструирует его из сигнала;
• получатель — “человек (или вещь)” на другом конце.
В случае обычной речи эти элементы соответствуют мозгу го-
ворящего, его голосовым связкам, воздуху, уху и мозгу слушающего.
238
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
Такое же значение, как и другие элементы на диаграмме Шен-
нона (для инженера это неизбежно), имеет и квадрат с помет-
кой “источник шума”. Сюда относится все, что ожидаемо или
неожиданно искажает сигнал: нежелательные дополнения, обыч-
ные ошибки, случайные возмущения, статика, “атмосферные яв-
ления”, помехи и искажения. В любых обстоятельствах это очень
разношерстный набор, тем более что Шеннону нужно было ра-
зобраться с двумя типами систем — непрерывными и дискретны-
ми. В дискретной системе сообщения и сигнал принимают форму
индивидуальных независимых символов, таких как буквы, цифры
или точки и тире. Несмотря на существовании телеграфа, инжене-
ры-электрики ежедневно сталкивались именно с непрерывными
системами волн и функций. Каждый инженер, если его просили
передать больше информации по каналу, знал — надо увеличить
мощность. Но на больших расстояниях этот подход не работал,
потому что усиление сигнала снова и снова приводило к усиле-
нию шума.
Шеннон обошел эту проблему, рассмотрев сигнал как цепоч-
ку дискретных символов. Теперь вместо увеличения мощности от-
правитель мог преодолеть шум, используя дополнительные сим-
волы для коррекции ошибок, точно так же как африканский ба-
рабанщик делает свою “речь” понятной на больших расстояниях
не тем, что бьет в барабаны сильнее, а тем, что увеличивает коли-
чество слов в послании. Шеннон рассматривал дискретный слу-
чай как основной и в математическом смысле. И задумывался над
еще одним обстоятельством: рассмотрение сообщения как дис-
кретного имеет практическое применение не только для традици-
онных средств связи, но и для новой и неизведанной теории вы-
числительных машин.
Так что он вернулся к телеграфу. Если быть точным, телеграф
использовал язык не с двумя символами — точкой и тире. В реаль-
ности телеграфисты использовали точку (“цепь замкнута” длиной
в одну единицу и “цепь разомкнута” длиной в одну единицу), тире
(положим, “цепь замкнута” длиной в три единицы и “цепь разомк-
нута” длиной в одну единицу), а также две различные паузы: между
буквами (обычно три единицы “цепь разомкнута”) и более длин-
ную — между словами (шесть единиц “цепь разомкнута”). Эти че-
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
тыре символа имели различный статус и вероятности. Так, пауза
никогда не могла следовать за другой паузой, тогда как точка или
тире могли следовать когда угодно. Шеннон выразил это в терми-
нах состояний. Система имела два состояния: одно — пауза, за ко-
торой могли появляться лишь точка или тире, а затем состояние ме-
нялось; второе — когда был разрешен любой символ и состояние
менялось лишь при передаче паузы. Он проиллюстрировал это сле-
дующей схемой:
Это было непохоже на простую двоичную систему кодирова-
ния. Тем не менее Шеннон показал, как вывести правильные урав-
нения для содержания информации и емкости канала. И сосредо-
точился на влиянии, которое имела статистическая структура язы-
ка сообщения.
Само существование этой структуры — большей вероятности
появления е, чем q, th — чем хр и т. д. — позволяло экономить вре-
мя или емкость канала.
В определенной степени это уже сделано в телеграфии, когда ис-
пользуется кратчайшая последовательность в канале — точка — для
£, наиболее частой буквы в английском, тогда как редкие буквы Q,
X и Z представлены более длинными последовательностями точек
и тире. Эта идея более последовательно применяется в определенных
коммерческих кодах, где общеупотребимые слова и фразы представ-
ляются четырех- или пятибуквенными группами, что приводит к су-
240
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
щественному сокращению среднего времени передачи. Стандарти-
зованные приветствия и поздравительные телеграммы, использую-
щиеся сегодня, расширяют эту идею до кодирования одного или двух
предложений сравнительно короткой последовательностью чисел.
Чтобы показать структуру сообщения, Шеннон прибег к методо-
логии и языку физики стохастических процессов от броуновского
движения до звездной динамики. (Он цитировал знаменитую ста-
тью 1943 года астрофизика Субраманьяна Чандрасекара в Reviews of
Modern Physics.) Стохастический процесс не является ни детерми-
нированным (следующее событие может быть точно просчитано),
ни случайным (следующее событие абсолютно независимо). Он
управляется набором вероятностей. Каждое событие имеет веро-
ятность, которая зависит от состояния системы и, пожалуй, от ис-
тории предыдущих состояний. Если вместо события мы подста-
вим символ, то естественный письменный язык, такой как англий-
ский или китайский, будет стохастическим процессом. Такими же
процессами являются оцифрованная речь и телевизионный сигнал.
Погрузившись глубже, Шеннон исследовал статистическую
структуру на предмет того, как само сообщение влияет на веро-
ятность появления следующего символа. Ответ мог быть таким:
никак, каждый символ имеет собственную вероятность появления
и не зависит от того, что было раньше. Это случай первого по-
рядка. В случае второго порядка вероятность появления каждого
символа зависит от символа, непосредственно ему предшествую-
щего, и больше ни от каких других. Тогда каждая двухбуквенная
комбинация или диаграмма имеет собственную вероятность: в ан-
глийском языке th имеет вероятность большую, чем хр. В случае
третьего порядка рассматриваются триграммы и т.д. Помимо это-
го, в обычном тексте имеет смысл принимать во внимание скорее
уровень слов, а не отдельных букв, и тогда многие статистические
факты начинают иметь значение.
Некоторые слова имеют более высокую вероятность появления
после слова yellow (желтый), чем обычно, а другие обладают веро-
ятностью, практически равной нулю. После слова ап слова, начи-
нающиеся с согласной, весьма редки. Если слово оканчивается на и,
это слово, вероятно, you. Если две стоящие рядом буквы совпадают,
2Д1
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
то это, вероятно, ZZ, ее, ss или оо. И структура может распространять-
ся на большие расстояния: в сообщении, содержащем слово cow, даже
после большого количества других символов слово cow сравнитель-
но вероятно появится снова. То же самое со словом horse. Сообщение,
с точки зрения Шеннона, могло вести себя как динамическая систе-
ма, чье будущее поведение обусловлено ее прошлыми состояниями.
Чтобы показать различия между этими структурными поряд-
ками, он записал, точнее вычислил, ряд “приближений” для тек-
ста на английском языке. Он пользовался алфавитом из 27 зна-
ков — 26 букв и пробел между словами — и сгенерировал строки
символов с помощью таблицы случайных чисел. (Таблицы он взял
из только что опубликованной издательством Кембриджского уни-
верситета книги: юо тыс. знаков за 3 шиллинга 9 пенсов, причем
авторы “гарантировали случайность чисел”.) Даже с готовыми слу-
чайными числами получение последовательностей было трудной
задачей. Примеры текстов выглядели так.
• Приближение нулевого порядка, то есть случайные знаки без
структуры или корреляций.
XFOML RXKHRJFFJUJ ZLPWCFWKCYJ
FFJEYVKCQSGHYD
QPAAMKBZAACIBZLHJQD.
• Первый порядок — каждый знак не зависит от остальных, но ча-
стотность знаков соответствует ожидаемой частотности для ан-
глийского языка: больше е и Г, меньше z и ;, длина слов выглядит
правдоподобно.
OCRO HLI RGWR NMIELWIS EU LL
NBNESEBYA TH EEI ALHENHTTPA OOBTTVA
NAH BRL.
• Второй порядок — частотность каждого знака, диаграмм или каж-
дой пары букв соответствует аналогичной частотности в англий-
ском языке (Шеннон нашел необходимую статистику в таблицах,
составленных в помощь взломщикам шифров. Наиболее популяр-
242
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
ной диграммой в английском языке является th с частотностью
168 появлений на 1 тыс. слов, за ней следует he, ап, ге и ег. Довольно
много диграмм имеют нулевую частотность).
ON IE ANTSOUTINYS ARE T INCTORE ST BE
S DEAMY ACHIN D ILONASIVE TUCOOWE AT
TEASONARE FUSO TIZIN. ANDY TOBESEACE
CTISBE.
Третий порядок — частотность триграмм.
IN NO 1ST LAT WHEY CRATICT FROURE BIRS
GROCID
PONDENOME OF DEMONSTURES OF THE
REPTAGIN IS REGOACTIONA OF CRE.
Приближение первого порядка на уровне слов.
REPRESENTING AND SPEEDILY IS AN GOOD
APT OR COME CAN DIFFERENT NATURAL
HERE HE THE A IN CAME THE TO OF TO
EXPERT GRAY COME TO FURNISHES THE
LINE MESSAGE HAD
BE THESE.
Приближение второго порядка на уровне слов — теперь учи-
тывается частотность появления пары слов вместе, поэтому мы
не встречаем таких бессмысленных сочетаний артиклей и предло-
гов, как a in или to of.
THE HEAD AND IN FRONTAL ATTACK
ON AN ENGLISH WRITER THAT THE
CHARACTER OF THIS POINT IS
THEREFORE ANOTHER METHOD FOR THE
LETTERS THAT THE TIME OF WHO EVER
TOLD THE PROBLEM FOR AN
UNEXPECTED.
243
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Последовательности символов с каждым приближением все силь-
нее “выглядят” как текст на английском языке. Есть и менее субъ-
ективное доказательство: оказалось, что скорость, с которой ма-
шинистки, печатающие слепым методом, набирают эти после-
довательности, возрастает с каждым приближением, и это тоже
указывает на то, что люди подсознательно усваивают статистиче-
скую структуру языка.
Шеннон мог ввести и другие приближения, но они требова-
ли все возрастающих затрат сил и времени. Идея заключалась в том,
чтобы представить сообщение как результат процесса генерации
событий с дискретными вероятностями. Что тогда можно сказать
о количестве информации или скорости, с которой генерируется
информация? Для каждого события каждый из возможных выбо-
ров имеет известную вероятность (обозначеннуюр2,и т.д.).
Шеннон хотел определить меру информации (обозначенную Н)
как меру неопределенности: “количество “вариантов”, задейство-
ванных в выборе события, или насколько мы не уверены в том, ка-
ким будет результат”. Вероятности могли быть одинаковыми или
разными, но в общем случае большее число возможных выборов
означало больше неопределенности — больше информации. Вы-
бор можно представить и как результат последовательных выборов,
у каждого из которых есть собственная вероятность, и эти вероят-
ности должны суммироваться; например, вероятность появления
конкретной диграммы должна быть равна взвешенной сумме веро-
ятностей появления индивидуальных символов. Когда эти вероят-
ности были равны, количество информации, передаваемое каждым
символом, было логарифмом количества возможных символов —
формула Найквиста и Хартли:
Н = п logs.
Для более реалистичного случая Шеннон привел элегантное ре-
шение проблемы измерения информации как функции вероятно-
стей. Это средний логарифм невероятности сообщения, фактиче-
ски мера неожиданности:
н =
244
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
где р. есть вероятность каждого сообщения. Он заявил, что мы бу-
дем сталкиваться с этим снова и снова, что количества, представ-
ленные в таком виде, “играют решающую роль в теории информа-
ции как меры информации, выбора и неопределенности”.
В самом деле, Н вездесуща и обычно называется энтропией со-
общения, энтропией Шеннона или просто информацией.
Требовалась новая единица измерения. Шеннон утверждал:
“Получившиеся единицы можно назвать двоичными цифрами или,
более кратко, битами”х. Бит как наименьшее возможное количе-
ство информации представляет собой количество неопределен-
ности, возникающее при подбрасывании монеты. Бросок моне-
ты — это выбор между двумя возможностями равной вероятности:
в этом случае pi, ирг равны !/г; логарифм по основанию 2 от x/z есть
-1, таким образом, Н = 1 бит. Единственный знак, случайно вы-
бранный из алфавита в 32 знака, несет больше информации, если
точнее — 5 бит, потому что есть 32 возможных сообщения, а лога-
рифм 32 равен 5. Строка из юоо таких знаков несет 5000 бит ин-
формации не только из-за простого умножения, но и потому, что
количество информации представляет количество неопределенно-
сти, количество возможных выборов. С юоо знаками в 32-значном
алфавите есть 321000 возможных сообщений, и логарифм этого чис-
ла равен 5000.
Тут на сцене снова появляется статистическая структура есте-
ственного языка. Если известно, что сообщение в тысячу знаков на-
писано на английском языке, число возможных сообщений сокра-
щается, и сокращается намного. Изучив корреляции цепочек свы-
ше восьми символов, Шеннон оценил встроенную избыточность
английского языка приблизительно в 50%: каждый новый символ
сообщения несет не 5 бит, а 2,3 бита. Учтя увеличение статистиче-
ского влияния при возрастании длины текста на уровне предло-
жений и абзацев, он поднял оценку избыточности до 75%, преду-
предив, что такие оценки становятся “сильнее подвержены ошиб-
кам и неточностям и больше зависят от типа передаваемого текста”.
Один из способов измерения избыточности был строго эмпириче-
ским — провести психологический тест с участием человека. Этот
1 Сокращение от binary digit (англ. — двоичная цифра).
245
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
метод "доказывает тот факт, что каждый говорящий, пусть и неосо-
знанно, обладает огромными познаниями в области языковой ста-
тистики”.
Знакомство со словами, идиомами, клише и грамматикой позволя-
ет ему заполнять пропуски букв, исправлять ошибки или завершать
неоконченные фразы в разговоре.
Он мог написать: "Ей”, поскольку на самом деле испытуемым
в этом эксперименте выступала его жена Бетти. Он снял с полки
книгу (детективная повесть Раймонда Чандлера "Засада на Нун-
стрит”), закрыл пальцем короткий случайный отрывок и попро-
сил Бетти угадать первую букву, затем вторую букву, затем следую-
щую, постепенно отодвигая палец и открывая текст. Чем больше
текста она видела, тем выше были ее шансы угадать правильно. По-
сле "небольшой продолговатой лампы для чтения на” она ошиб-
лась в следующей букве. Но, как только она узнала, что это была "с”,
ей не составило труда угадать следующие буквы. Шеннон заметил:
‘Ошибки, как и следовало ожидать, чаще всего встречаются в нача-
ле слов и слогов — там, где у мысли больше возможностей пойти
в разных направлениях”.
Такое представление предсказуемости и избыточности явля-
ется способом измерения количества информации от обратного.
Если букву можно угадать исходя из того, что было раньше, она
избыточна; в той мере, в какой она избыточна, она не несет новой
информации. Если английский язык на 75% избыточен, то сооб-
щение в 1 тыс. знаков на английском несет лишь 25% информации,
которая содержится в последовательности из 1 тыс. случайно вы-
бранных знаков. Как ни парадоксально, случайно выбранные со-
общения несут больше информации. Вывод: текст на естествен-
ном языке можно более эффективно кодировать для передачи или
хранения.
Шеннон продемонстрировал один из способов — алгоритм,
основанный на различии вероятностей появления символов. И по-
лучил поразительный набор результатов. Одним из них была фор-
мула для вычисления емкости канала, абсолютного предела скоро-
сти любого канала связи (сегодня известного как предел Шенно-
2Дб
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
на). Другим открытием стало то, что в рамках этого предела всегда
можно разработать схемы коррекции ошибок, которые справятся
с любым уровнем шума. Возможно, отправителю придется посы-
лать все больше бит для коррекции ошибок, сильнее замедляя пе-
редачу, но сообщение в конце концов достигнет адресата. Шеннон
не показал, как составлять такие схемы, он лишь доказал, что это
возможно, обозначив одно из направлений развития информати-
ки. “Сделать вероятность ошибки настолько малой, насколько по-
желаете? Никто не подумал об этом раньше, — вспоминал годы
спустя его коллега Роберт Фано. — Не знаю, как ему пришло это
в голову, как он поверил в такое. Но почти вся современная теория
коммуникации основана на этой работе”. И при устранении избы-
точности для повышения эффективности, и при добавлении избы-
точности для коррекции ошибок кодирование зависит от знаний
о статистической структуре языка. Информацию нельзя отделить
от вероятностей. Бит, по сути, — это всегда бросок монеты.
Шеннон предложил и более практичное, чем стороны монеты,
оборудование, чтобы представить бит:
Устройство с двумя стабильными позициями, такое как реле или
триггер, может хранить один бит информации. N таких устройств
могут хранить N бит, поскольку общее число возможных состоя-
ний равно 2N, a log2 2N = N.
Шеннон видел устройства — например, множество реле, — кото-
рые могли хранить сотни, даже тысячи бит. Казалось, что это очень
много. Когда он заканчивал статью, он забрел в кабинет своего кол-
леги по Лабораториям Уильяма Шокли, англичанина лет тридцати.
Шокли работал в группе физики твердого тела, разрабатывающей
альтернативы вакуумным лампам для электроники, и на его сто-
ле лежал маленький прототип, кусочек полупроводникового кри-
сталла. “Это твердотельный усилитель”, — сказал Шокли Шенно-
ну. В то время у прототипа еще не было названия.
Летом 1949 года, еще до выхода The Mathematical Theory of
Communication, Шеннон взял карандаш и лист бумаги, нари-
247
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
совал вертикальную линию и написал степени числа ю от ю°
до ю13* Он обозначил эту ось как “емкость хранения битов”. Он
начал перечислять некоторые вещи, о которых можно было ска-
зать, что они хранят информацию. Десятичное колесо типа того,
что использовалось в настольных арифмометрах, десять десятич-
ных знаков, представляло всего около 3 бит. Не доходя до ю3 он
написал “перфокарта (любой конфигурации)”. На ю4 он по-
ставил “страница, напечатанная через один интервал (тридцать
два возможных символа). Около ю5 он написал нечто необыч-
ное: “генетический состав человека”. В науке того времени этому
не было настоящего соответствия. Джеймс Д. Уотсон был 21-лет-
ним студентом зоологии в Индиане, открытие структуры ДНК
еще только предстояло.
248
ГЛАВА 7 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
Впервые кто-либо предположил, что геном есть хранилище ин-
формации, измеряемой в битах. Догадка Шеннона оказалась черес-
чур осторожной — он ошибся по меньшей мере на четыре порядка.
Шеннон думал, что “фонографическая запись (128 уровней)”
хранит больше информации — около 300 тыс. бит. На уровне
ю млн бит он поместил толстый научный журнал (Proceedings of
the Institute of Radio Engineers), на i млрд бит — энциклопедию
‘Британника”. Он оценил час телевизионного вещания в ю11 бит,
а час показа “цветного кинофильма” — в более чем 1 трлн бит. На-
конец, сразу под отметкой для ю14, или юо трлн бит, он поместил
самое большое хранилище информации, которое мог себе предста-
вить, — библиотеку Конгресса.
8
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
Основа, на которой построен мозг
Вполне возможно, что опасно использовать теорию информации
в тех областях, для которых она не была предназначена, но я не думаю,
что это кого-нибудь остановит.
Дж. К. Р. ЛИКЛАЙДЕР (1950)
Большинство математических теорий приобретают четкие
очертания довольно долго, но теория информации Шенно-
на родилась полностью сформировавшейся, словно Афина
из головы Зевса. Тем не менее появившаяся в 1949 году ма-
ленькая книжка Шеннона и Уивера привлекла очень мало об-
щественного внимания. Первую рецензию написал математик Джо-
зеф Л. Дуб, который пожаловался, что книжка скорее “намекающая”,
чем математическая, “и не всегда очевидно, что математические наме-
рения автора благородны”. Журнал по биологии предположил: “Сна-
чала может показаться, что это прежде всего инженерная монография,
не имеющая или имеющая мало отношения к человеческим пробле-
мам. На самом деле теория имеет некоторые замечательные следствия”.
The Philosophical Review писал, что философы не должны пропустить
эту книгу: “Шеннон разработал концепцию информации^ которая
неожиданно оказалась расширением термодинамического понятия эн-
тропии”. Самая странная рецензия вряд ли вообще была рецензией:
пять абзацев в Physics Today от сентября 1950 года, подписанных Нор-
бертом Винером из Массачусетского технологического института.
250
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
Винер начал снисходительно:
Около пятнадцати лет назад очень умный молодой студент при-
шел к руководству МТИ с идеей теории коммутации электриче-
ских цепей, зависящей от логической алгебры. Этим студентом
был Клод Э. Шеннон.
В настоящей книге, продолжал Винер, Шеннон вместе с Уорреном
Уивером “собрал взгляды на инженерное проектирование систе-
мы связи”. Основная идея, предложенная Шенноном, пишет Ви-
нер, “состоит в том, что количество информации есть отрицатель-
ная энтропия”. И добавил, что сам “автор данной рецензии” разра-
батывал эту же идею примерно в то же время.
Винер объявил книгу работой, “чье происхождение было неза-
висимо от моей собственной работы, но которая с самого начала
связана с моими исследованиями взаимным влиянием, распростра-
нявшимся в обоих направлениях”. Он упомянул “тех из нас, кто
пытался найти аналогию в исследованиях демона Максвелла” и до-
бавил, что еще многое предстоит сделать.
Затем Винер выдвинул предположение, что исследование язы-
ка не может быть полным без уделения большего внимания нерв-
ной системе человека: “Восприятие и передача нервами речи
в мозг. Я говорю это не в качестве критики”.
Винер заключил рецензию абзацем, посвященным другой но-
вой книге, “моей собственной “Кибернетике”. Обе книги, сказал
он, представляют собой первые залпы орудий по области, которая
скоро начнет быстро развиваться.
В своей книге я воспользовался привилегированным положением
автора, решил рассуждать более умозрительно и затронуть более
широкий круг вопросов, чем предпочли д-р Шеннон и д-р Уивер...
Пространство для двух разных книг не только существует. Понят-
но, что обе они необходимы.
Он поздравил коллег с разработкой хорошо продуманного и неза-
висимого подхода к кибернетике.
251
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Тем временем Шеннон уже написал короткую рецензию
на книгу Винера для Proceedings of the Institute of Radio Engineers.
И вряд ли можно сказать, что та была хвалебной. Это “великолеп-
ное введение”, написал он. Между Винером и Шенноном явно су-
ществовало небольшое напряжение. Его можно было почувство-
вать, оценив примечание, которое украшало первую страницу на-
писанного Уивером раздела “Математической теории связи”:
Д-р Шеннон сам подчеркивает, что основная философия теории
связи появилась именно благодаря профессору Норберту Винеру.
А профессор Винер указывает, что многие из ранних работ Шен-
нона по коммутации электрических цепей и математической ло-
гике предшествовали возникновению его собственного интереса
в этой области, и благородно добавляет, что Шеннон определенно
заслуживает признания за независимую разработку таких фунда-
ментальных аспектов теории, как введение идеи энтропии.
Коллега Шеннона Джон Пирс позже писал: “Голова Винера была
занята его собственной работой... Знающие люди говорили мне,
что Винер, находясь под обманчивым впечатлением, будто он уже
знает то, что сделал Шеннон, так в итоге никогда и не узнал этого”.
“Кибернетика” была только что выдуманным словом, это потом
оно окажется у всех на слуху. Кибернетика предлагала область ис-
следований, возможное философское движение, полностью при-
думанное гениальным и обидчивым мыслителем. Греческое сло-
во, которое он выбрал, означало рулевой: киРеруг|тг|ст, kubemites^ —
от которого также (и это неслучайно) произошло слово губернатор.
Винер хотел, чтобы кибернетика стала наукой, которая бы объеди-
нила изучение способов коммуникации и управления, а также ис-
следования человека и машины. Норберт Винер был известен миру
как необычный человек — одаренный юноша, спортсмен, сын гар-
вардского профессора. “Юноша, которого его друзья гордо назы-
вают умнейшим мальчиком в мире, — писала The New York Times
на первой странице, когда ему исполнилось четырнадцать лет, —
оканчивает Университет Тафтса в следующем месяце... Способ-
ности Норберта Винера к обучению феноменальны, но выглядит
и ведет он себя как обычный мальчик... Самое поразительное в его
252
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
облике — чрезвычайно темные глаза”. Когда Винер писал мемуары,
в названии он всегда использовал слово “вундеркинд”: “Бывший
вундеркинд: мое детство и юность” и “Я — математик: дальнейшая
жизнь вундеркинда”.
После Тафтса (математика), Гарвардской магистратуры (зоо-
логия), Корнелла (философия) и снова Гарварда Винер уехал в Ан-
глию, в Кембридж, где изучал символическую логику и Principia
Mathematica у самого Бертрана Рассела. Расселу он не понравился.
“Явился вундеркинд по имени Винер, д-р (из Гарварда) восем-
надцати лет, — писал он другу. — Юношу избаловали, он счи-
тает себя Господом Всемогущим, у нас с ним постоянная борьба
по поводу того, кто кого будет учить”. Со своей стороны, Винер
не любил Рассела: “Он айсберг. Его разум впечатляет, как впечат-
ляет проницательная, холодная логическая машина, которая наре-
зает вселенную на аккуратные кусочки по три дюйма с каждой сто-
роны”. По возвращении в США в 1919 году Винер присоединился
к штату МТИ, тогда же, когда и Вэнивар Буш. В 1936-м туда при-
был Шеннон и прослушал один из курсов математики Винера. Ко-
гда началась война, Винер был одним из первых, кто присоединил-
ся к секретным группам математиков, работающих над управлени-
ем зенитными установками.
Он был низкого роста и полным, носил очки с очень толсты-
ми стеклами и мефистофельскую бородку. Если работа Шеннона
по управлению зенитным огнем сводилась к выделению сигнала
в шумовой среде, то Винер занимался самим шумом — флуктуа-
циями сигнала в приемнике радиолокационной станции, случай-
ными отклонениями в процессе полета.
Шум ведет себя в соответствии со статистическими закона-
ми, понял ученый. Это как броуновское движение, “чрезвычайно
живое и полностью случайное”, которое ван Левенгук наблюдал
под микроскопом в XVII веке. Винер провел подробнейшее ма-
тематическое исследование броуновского движения в 1920-е. От-
сутствие последовательности импонировало ему: не только тра-
ектории движения частиц, но и математические функции, каза-
лось, вели себя неподобающим образом. Это был, как он писал,
дискретный хаос, и потребовалось несколько десятилетий, чтобы
окончательно понять, что он имел в виду. В рамках проекта, зани-
253
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Норберт Винер (1956)
мавшегося управлением зенитным огнем (в этом проекте Шен-
нон был скромным членом команды Лабораторий Белла), Винер
и его коллега Джулиан Бигелоу написали легендарную 120-стра-
ничную монографию. Она была засекречена, и те несколько де-
сятков человек, которым позволили ее увидеть, называли эту ра-
боту “Желтая угроза” из-за цвета папки, в которой она находи-
лась, и из-за того, что разобраться в самой статье было непросто.
Формально она называлась “Экстраполяция, интерполяция
и сглаживание стационарных временных рядов с инженерными
применениями”. В ней Винер разработал статистический метод
предсказания дальнейших действий исходя из неопределенных
и искаженных данных о прошлом. Слишком амбициозная задача
для существовавших в то время артиллерийских орудий, но Ви-
254
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
нер проверил ее на дифференциальном анализаторе Вэнивара
Буша. Как зенитное орудие с оператором, так и самолет с пило-
том были гибридами машины и человека. Один должен был пред-
сказать поведение другого.
Винер был настолько же многословным, насколько Шеннон
сдержанным. Он много путешествовал и был полиглотом, социаль-
но активным человеком, который принимал науку близко к сердцу.
Его формулировка второго закона термодинамики, например, зву-
чала как настоящий крик души:
Мы плывем вверх по течению, борясь с огромным потоком дезор-
ганизованности, который в соответствии со вторым законом тер-
модинамики стремится все свести к тепловой смерти, всеобщему
равновесию и одинаковости. То, что Максвелл, Больцман и Гиббс
в своих физических работах называли тепловой смертью, нашло
своего двойника в этике Кьеркегора, утверждавшего, что мы живем
в мире хаотической морали. В этом мире наша первая обязанность
состоит в том, чтобы устраивать произвольные островки порядка
и системы. Эти островки не существуют вечно в том виде, в кото-
ром мы их некогда создали. Подобно Черной королеве, мы долж-
ны бежать со всей быстротой, на которую только способны, чтобы
остаться на том месте, где однажды остановились1.
Его интересовало, какое место ему будет отведено в истории, а це-
лился он высоко. Кибернетика, писал он в мемуарах, является “но-
вой интерпретацией человека, человеческих знаний о вселенной
и обществе”. Там, где Шеннон видел себя математиком и инжене-
ром, Винер считал себя прежде всего философом, и из своей рабо-
ты над управлением зенитным огнем он извлек философские уро-
ки о целях и поведении. Если определить поведение как “любое
изменение сущности с учетом ее окружения”, то это слово мож-
но применять и к машинам, и к животным. Поведение, ориенти-
рованное на цель, является целесообразным, а цель иногда может
быть введена в машину, а не передана оператору-человеку — на-
пример, если мы имеем дело с механизмом поиска цели: “Термин
1 Пер. Ю. Родман и Н. Зубченко.
255
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
“сервомеханизмы” был придуман именно для обозначения машин
со встроенным целесообразным поведением”. Основной идеей
было управление, или саморегуляция.
Чтобы как следует ее проанализировать, он позаимствовал
туманный термин из электротехники — “обратная связь”, воз-
врат энергии из выхода цепи обратно на вход. Если обратная
связь положительна, как в случае, когда звук из громкоговорите-
лей усиливается через микрофон, она неудержимо растет и выхо-
дит из-под контроля. Но, если обратная связь отрицательна, как
в механическом регуляторе паровых машин, впервые проанали-
зированном Джеймсом Клерком Максвеллом, она может приве-
сти систему к равновесию; она служит источником стабильности.
Обратная связь могла быть механической: чем быстрее вращает-
ся регулятор Максвелла, тем шире раскидываются рычаги, а чем
шире раскидываются рычаги, тем медленнее регулятор должен
вращаться. Обратная связь может быть и электрической. В любом
случае ключом является информация. Зенитным орудием, напри-
мер, управляет информация о координатах самолета и о преды-
дущих позициях самого орудия. Друг Винера Бигелоу подчерки-
вал: “Это не какая-то определенная физическая вещь типа энер-
гии, длины или напряжения, а лишь информация (передаваемая
любым способом)”.
Винер чувствовал, что примеры отрицательной обратной свя-
зи должны встречаться повсюду. Он видел ее в работе глаз и рук,
которыми управляет нервная система человека, выполняющего
обычное действие — взять карандаш. Он специально изучал невро-
логические нарушения, расстройства, при которых страдала физи-
ческая координация или речь. Он рассматривал их с очень необыч-
ной точки зрения — как случаи исчезновения обратной связи: на-
пример, разновидности атаксии, когда сигналы либо прерываются
в спинном мозге, либо неверно интерпретируются в мозжечке.
Его анализ был подробным и математическим, с уравнениями,
что практически не встречалось в неврологии того времени. Тем
временем системы управления с обратной связью начали прони-
кать на сборочные линии заводов, поскольку механические систе-
мы тоже могут изменять свое поведение. Обратная связь — это ре-
гулятор, рулевой.
256
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
Итак, первая книга Винера называлась “Кибернетика” и была
опубликована осенью 1948 года сразу в США и во Франции с под-
заголовком “Управление и связь в животном и машине”. Кни-
га была смесью определений и анализа и, к удивлению издателей,
неожиданно стала бестселлером года. Популярные американские
новостные журналы Time и Newsweek рекомендовали ее. Винер
и кибернетика оказались отождествлены с феноменом, будора-
жившим тогда умы общественности, — вычислительными маши-
нами. С окончанием войны был снят покров секретности с пер-
вых проектов в области электронных вычислений, в частности
с ENIAC, 30-тонного монстра из вакуумных ламп, реле и припаян-
ных вручную проводов, находившегося в электротехнической шко-
ле при Университете Пенсильвании. Он мог хранить и умножать
до двадцати десятизначных чисел; военные использовали его для
расчета артиллерийских таблиц. Компания International Business
Machines (1ВМ)У производящая табуляторы для обработки нане-
сенных на перфокарты данных для военных проектов, тоже по-
строила в Гарварде гигантскую вычислительную машину Mark I.
В Британии, все еще под покровом секретности, шифровальщи-
ки из Блетчли-парк создавали вычислительную машину Colossus
на вакуумных лампах. Алан Тьюринг начинал работу над еще од-
ной в Манчестерском университете. Публика, едва узнав об этих
машинах, естественно, тут же стала считать их “мозгом”. Все зада-
вали один и тот же вопрос: “Могут ли машины думать?”
“Они растут с пугающей скоростью, — заявил Time в итого-
вом выпуске. — Они начали с молниеносного решения математи-
ческих уравнений. Теперь они действуют как настоящие механиче-
ские мозги”. Винер поощрял подобные спекуляции, если не сказать
необузданные фантазии:
Д-р Винер не видит причин, по которым они не могут учиться
на опыте, словно чудовищные и не по годам развитые дети, быстро
проходящие курс средней школы. Один такой механический мозг,
заполненный опытом, может стоять во главе целой индустрии, за-
менив не только механиков и клерков, но и многих управляющих...
По мере того как люди создают все более совершенные вычисли-
тельные машины, поясняет Винер, и по мере того, как они изучают
257
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
собственный мозг, люди и машины, кажется, все сильнее походят
друг на друга. Человек, считает Винер, воссоздает свой чудовищно
увеличенный образ.
Заметная доля успеха трудной для понимания и неуклюжей кни-
ги Винера была связана с тем, что в центре внимания всегда оказы-
вался человек, а не машина. Винер был заинтересован не в освеще-
нии развития вычислительной части теории, к которой он в любом
случае имел отдаленное отношение, а скорее в том, как вычисле-
ния могут пролить свет на устройство человека. Оказалось, что его
интересуют нарушения работы мозга, механические протезы и об-
щественные беспорядки, которые могут последовать за появлени-
ем умной техники. Он беспокоился, что та обесценит человече-
ский мозг, точно так же как заводские машины обесценили чело-
веческие руки.
Он рассмотрел параллель человек — машина в главе “Вычис-
лительные машины и нервная система”. Сначала он описал раз-
личие между аналоговыми и цифровыми машинами, правда, пока
не используя этих слов. Первый тип, такой как дифференциальный
анализатор Буша, где данные изображаются посредством измере-
ний на какой-либо непрерывной шкале, — это аналоговые маши-
ны. Другой, который он назвал числовыми машинами, представ-
лял числа непосредственно и точно, как настольные калькуляторы.
В идеале эти устройства используют двоичную систему счисления.
Для сложных вычислений им потребуется применить некоторую
форму логики. Какую? Шеннон ответил на этот вопрос в своей ди-
пломной работе 1937 года, и Винер предложил такой же ответ:
...алгебра логики par excellence, или Булева алгебра. Этот алгоритм,
подобно двоичной арифметике, основан на дихотомии, т. е. на вы-
боре между “да” и “нет”, между пребыванием в классе и вне класса1.
Мозг, утверждал он, хотя бы отчасти тоже представляет собой ло-
гическую машину. Там, где вычислительные машины используют
реле — механические, электромеханические или чисто электриче-
1 Пер. И. Соловьева и Г. Поварова.
258
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
ские, — у мозга есть нейроны. Эти клетки находятся в одном из двух
состояний в любой момент времени: активны (сигнал) или в покое
(отдых). Поэтому их можно рассматривать как реле с двумя состоя-
ниями. Они соединены друг с другом в точках контакта, известных
как синапсы. Они передают сообщения. Для хранения сообщений
у мозга есть память. Вычислительным машинам тоже нужно физи-
ческое хранилище, которое можно назвать памятью. (Ученый хоро-
шо понимал, что это упрощенная картина сложной системы, что
другие типы сообщений — скорее аналоговые, чем цифровые, —
возможно, передаются химическими веществами, известными как
гормоны.) Винер также предположил, что функциональные рас-
стройства, такие как “нервный срыв”, могут иметь аналоги в элек-
тронике. Разработчикам вычислительных машин нужно подумать,
как справляться с несвоевременным наплывом данных — с чем-то
похожим на “дорожные пробки и перегрузки нервной системы”.
И мозг, и электронные компьютеры для выполнения логиче-
ской работы используют некоторое количество энергии, “которая
вся тратится и рассеивается в виде тепла”, и оно должно быть вы-
ведено кровеносной системой или вентиляционным и охлаждаю-
щим оборудованием. Но это в действительности не так важно, пи-
сал Винер. “Информация есть информация, не материя и не энер-
гия. Материализм, не признающий этого, в наши дни не выживет”.
И вот настало время восторгов.
“Мы снова находимся в одном из тех удивительных периодов
научного прогресса, по-своему похожем на досократовский”, —
заявил похожий на гнома белобородый нейрофизиолог Уоррен
Маккаллох на Собрании британских философов. Он сказал, что,
слушая Винера и фон Неймана, ощутил себя участником дебатов
античных ученых. Родилась новая физика связи, заявил он, и мета-
физика никогда уже не будет прежней: “Впервые в истории науки
мы знаем, как мы знаем, и, следовательно, способны ясно это изло-
жить”. Он высказал еретическую мысль: познающий есть вычисли-
тельная машина, мозг состоит из реле, возможно, десятков милли-
ардов реле, каждое получает сигналы от других реле и посылает их
далее. Сигналы квантованы, они либо есть, либо их нет. Поэтому
259
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
столпом мира, сказал он, снова оказываются атомы Демокрита —
“наименьшие неделимые частицы, которые мечутся по пустоте”.
Это был мир Гераклита, всегда “в движении”. Я имею в виду не то,
что каждое реле само по себе моментально уничтожается и воссо-
здается, словно пламя, но то, что оно занято информацией, которая
поступает через множество каналов, проходит через него, крутится
внутри и снова попадает в мир.
То, что эти идеи перешагнули границы дисциплин, во многом за-
слуга Маккалоха, генератора эклектицизма и перекрестного опы-
ления. Вскоре после начала войны он организовал серию кон-
ференций в Beekman Hotel на Парк-авеню в Нью-Йорке при
финансировании Фонда Джосиа Мэйси-мл., основанного на по-
жертвования наследников китобоев с острова Нантакет. На ноги
становился целый спектр наук — так называемые общественные
науки вроде антропологии и психологии, искавшие новое мате-
матическое основание; отпрыски медицины с гибридными назва-
ниями, такие как нейрофизиология; не вполне науки, такие как
психоанализ. Маккалох приглашал экспертов из всех областей,
а также математиков и инженеров-электротехников. Он ввел пра-
вило Ноева ковчега — звал по двое, чтобы в зале всегда был кто-то,
кто может понять, что говорит выступающий. В состав основной
группы входили знаменитый антрополог Маргарет Мид и ее то-
гдашний муж Грегори Бейтсон, психологи Лоуренс К. Франк
и Генрих Клювер и великолепная, порой соперничающая пара ма-
тематиков — Винер и фон Нейман.
Мид, которая стенографировала заседания так, что никто дру-
гой не мог прочесть ее записи, сказала, что во время первой встре-
чи она так волновалась, что сломала зуб и не поняла этого до кон-
ца заседания. Винер рассказал, что все науки, особенно обществен-
ные, на самом деле занимаются коммуникацией, что их объединяет
идея сообщения. Встречи начались под неуклюжим названием
“Конференции о круговой причинности и механизмах обратной
связи в биологических и социальных системах”. Из уважения к Ви-
неру, чьей славой наслаждались собравшиеся, название заменили
на “Конференции по кибернетике”. В ходе конференций стало
2бО
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
привычным использовать новый, неудобный и слегка подозритель-
ный термин “теория информации”. Некоторые из дисциплин при-
нимали его охотнее других. Впрочем, было совсем не ясно, вклю-
чена ли информация в их картину мира.
Заседание (1950 год, 22 и 23 марта) началось с самолюбования.
‘Труппа и предмет обсуждения спровоцировали огромный инте-
рес, — сказал Ральф Жерар, невролог из медицинской школы Уни-
верситета Чикаго, — почти национальную моду. Появились об-
ширные статьи в таких хорошо известных научных журналах, как
Time, News-Week и Life”. Помимо прочего, он ссылался на обложку
и главный материал вышедшего зимой журнала Time. Статья назы-
валась “Думающая машина”:
Профессор Винер является буревестником (хотя внешне он боль-
ше похож на тупика) математики и прилегающих территорий... За-
мечательные новые компьютеры, как воскликнул Винер с трево-
гой и триумфом, являются... предвестниками целой новой науки
о связи и управлении, которую он без промедления назвал кибер-
нетикой. Винер указал, что новейшие машины уже напоминают
человеческий мозг как по структуре, так и функционально. Пока
у них нет чувств и “исполнительных органов” (рук и ног), но по-
чему бы им не появиться?
Действительно, говорил Жерар, его область знаний подверглась
сильному влиянию новых способов мышления, пришедших из ин-
женерных работ по построению систем связи, благодаря им нервный
импульс начали рассматривать не просто как “физико-химическое
событие”, но и как знак или сигнал. Поэтому брать уроки у “вычис-
лительных машин и систем связи” полезно и одновременно опасно.
Самонадеянно повторять за прессой, что машины являют-
ся мозгом и что наш мозг не более чем вычислительная машина.
С тем же успехом можно сказать, что телескоп — это глаз, а буль-
дозер — мускул.
Винер чувствовал, что должен ответить. “Я не был в состоянии
предотвратить появление этих отчетов, — заявил он, — но я попы-
261
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
тался повлиять на то, чтобы публикации оказались более сдержан-
ными. Я все равно не верю, что их нужно осуждать за использова-
ние слова “думать”1.
Основной целью Жерара было обсудить, можно ли с цифро-
вой или аналоговой точки зрения корректно описать мозг с его та-
инственной нейронной архитектурой, ветвящимися деревьями
дендритов и химическим варевом сложных взаимосвязей. Его пре-
рвал Грегори Бейтсон, который считал, что все эти аналогии толь-
ко сбивают с толку. Своим пониманием Жерар был обязан “ква-
лифицированному обучению, которое получил здесь, преимуще-
ственно у Джона фон Неймана” — тот сидел в зале. Тем не менее
Жерар ответил Бейтсону сам. Аналоговый — это логарифмическая
линейка, где числа представлены как расстояния; цифровой — это
абак, где вы либо считаете костяшку, либо нет; посередине ниче-
го нет. Реостат, устройство для приглушения света, — аналого-
вый; выключатель на стене, который либо включает, либо выклю-
чает свет, — цифровой. Волны мозга и нервная химия, утверждал
Жерар, аналоговые.
В результате началась дискуссия. Фон Нейману было что ска-
зать. В последнее время он разрабатывал “теорию игр”, которую
рассматривал фактически как математику неполной информации.
Он же играл ведущую роль в разработке архитектуры новых элек-
тронных вычислительных машин. Он хотел, чтобы та часть группы,
которой был ближе аналоговый подход, вышла на более абстракт-
ный уровень, то есть признала, что цифровые процессы происхо-
дят в беспорядочном, непрерывном мире, но тем не менее они ци-
фровые. Когда нейрон переходит из одного возможного состояния
в другое — “состояние нервной клетки без сообщения и состояние
клетки с сообщением”, — химия перехода способна содержать след
промежуточного состояния, но для теоретических целей этим об-
стоятельством можно пренебречь.
1 Как заметил Жан-Пьер Дюпюи, “это в конечном счете была совершенно обыч-
ная ситуация, когда ученые обвиняют неученых в том, что те поверили им
на слово. Поселив в головах людей мысль, будто думающие машины вот-вот
появятся, кибернетики поспешили отмежеваться от тех, кто оказался достаточ-
но наивным, чтобы поверить”. — Прим. авт.
262
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
Он предположил, что в мозгу, как и в вычислительной машине
на вакуумных лампах, “за тем, что нам кажется непрерывными
процессами, на самом деле стоят дискретные переходы”. Маккал-
лох только что аккуратно изложил это в своей статье “О цифровых
компьютерах, называемых мозгом”: “Кажется, в этом мире лучше
рассматривать даже очевидно непрерывный процесс как некоторое
число небольших шагов”. Из всех присутствующих спокойным
оставался только новичок Клод Шеннон.
Следующим выступал эксперт по речи и звуку Дж. К. Р. Лик-
лайдер из новой психоакустической лаборатории в Гарварде, кото-
рого все называли Ликом. Еще один молодой ученый, живущий
сразу в двух мирах — отчасти психолог, отчасти инженер-электро-
техник. Позже в том же году он уедет в МТИ, где откроет новое
отделение психологии внутри отделения электротехники. Он ра-
ботал над идеей оцифровки речи, беря звуковые волны и сокращая
их до наименьшей величины, которую можно было передать сде-
ланным дома вручную “триггером” — устройством из материалов,
купленных за 25 долларов: вакуумных ламп, резисторов и конден-
саторов. Даже люди, привыкшие к треску и шипению телефонов,
удивлялись, насколько можно сократить речь, чтобы она оставалась
разборчивой. Шеннон внимательно слушал — не только потому,
что был знаком с соответствующим разделом телефонной инжене-
рии, но и потому, что сталкивался с этими проблемами во время
войны на секретной работе по шифрованию аудиосигнала. Винер
тоже сосредоточился, отчасти из-за интереса к разработке слухо-
вых протезов.
Когда Ликлайдер описал некоторые искажения как нелиней-
ные — не логарифмические, а “что-то среднее”, — Винер перебил
его: “Что значит “среднее”? X плюс S поделить на N?”
Ликлайдер вздохнул: “Математики всегда так делают — ловят
меня на неточных утверждениях”. На самом деле у него не было
проблем с вычислениями, и позже он предложил оценку того,
сколько информации, используя новую терминологию Шенно-
на, может быть послано по линии связи при заданном диапазоне
(5000 циклов) и определенном отношении сигнала к шуму (33 де-
цибела). Числа выглядели вполне реалистично для коммерческого
радио. “Я думаю, что юо тыс. бит информации может быть переда-
263
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
но по такому каналу связи”, — бит в секунду, хотел сказать он. Это
было ошеломляющее число; для сравнения, он подсчитал скорость
обычной человеческой речи: десять выбранных из словаря в 64 фо-
немы (16 “для простоты” — логарифм из количества выборов ра-
вен 6) фонем в секунду, таким образом, получается скорость 6о бит
в секунду. “Исходя из предположения, что все фонемы равноверо-
ятны... ” — “Да! — прервал Винер. — Что, разумеется, не так”.
Винер поинтересовался, пытался ли кто-нибудь сделать подоб-
ные расчеты “сжатия для глаза” для телевидения. Какое количество
“настоящей информации” необходимо для правильной интерпре-
тации? И добавил: “Я часто не понимаю, почему люди вообще пы-
таются смотреть в телевизор”.
У Маргарет Мид возник другой вопрос. Она не хотела, что-
бы группа забывала, что значение может существовать отдельно
от фонем и словарных определений. “Если вы говорите об инфор-
мации другого рода, — сказала она, — если вы пытаетесь передать
тот факт, что кто-то злится, каков будет порядок вычисления иска-
жения, чтобы извлечь гнев из сообщения, которое в остальном пе-
редаст в точности те же слова?”
Слово взял Шеннон. Забудем о смысле, сказал он и объявил,
что, даже несмотря на то, что его темой является избыточность
письменного английского языка, он вовсе не собирается изучать
смысл.
Он говорил об информации как о чем-то, передаваемом из од-
ной точки в другую: “Это может быть, например, случайная по-
следовательность знаков, информация для управляемой ракеты или
телевизионный сигнал”. Важно было то, что он собирался пред-
ставить появление информации как статистический процесс, ге-
нерирующий сообщения с различными вероятностями. Он пока-
зал примеры строк из текста, который использовал в “Математиче-
ской теории связи” (ее читали немногие из группы), и описал свой
“эксперимент по предсказанию”, в котором объект угадывал текст
буква за буквой. Он рассказал, что английский язык имеет опре-
деленную энтропию — величину, связанную с избыточностью, —
и что он мог использовать эти эксперименты для ее вычисления.
Его слушатели были поражены, особенно Винер, размышлявший
о собственной “теории предсказаний”.
264
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
“Мой метод имеет некоторые параллели с этим, — сказал Ви-
нер. — Извините, что перебил”.
Между подходами Винера и Шеннона существовала разни-
ца. Для Винера энтропия была мерой беспорядка, для Шенно-
на — неопределенности. На самом деле оба осознавали, что это
одно и то же. Чем больше присущего языку порядка существова-
ло в отрывке английского текста — порядка в виде статистических
структур, сознательно или подсознательно известных говорящим
на языке, — тем больше в нем предсказуемости и тем меньше, в тер-
минах Шеннона, информации передается каждой последующей
буквой. Когда подопытный уверенно угадывает следующую букву,
она избыточна, и ее появление не несет новой информации. Ин-
формация — это неожиданность.
У остальных были вопросы о различных языках, иных стилях
прозы, идеографическом письме и фонемах. Один психолог спросил,
будет ли газетная статья статистически отличаться от работ Джеймса
Джойса. Леонард Сэвидж, статистик, который работал с фон Нейма-
ном, спросил, как Шеннон выбрал книгу для теста, случайно?
— Я просто подошел к полке и взял книгу.
— Я бы не назвал это случайностью, — сказал Сэвидж. — Суще-
ствует опасность, что это могла оказаться книга об инженерных си-
стемах. — Шеннон не сказал им, что на самом деле это была детек-
тивная повесть.
Еще кто-то хотел знать, может ли Шеннон сказать, будет ли
бормотание ребенка более предсказуемым, чем речь взрослого.
— Думаю, будет, — ответил тот, — если вы знаете ребенка.
На самом деле английский язык — это множество разных язы-
ков; наверное, их столько, сколько англоговорящих людей, у каж-
дого своя статистика. Он также породил искусственные диалек-
ты — язык символической логики с его ограниченным и точным
алфавитом и язык, который один из спрашивающих назвал “само-
летным”, им пользуются диспетчеры и пилоты. Не стоит забывать
и о том, что язык постоянно меняется.
Хейнц фон Ферстер, молодой физик из Вены и один из пер-
вых приверженцев Витгенштейна, интересовался, как степень из-
быточности в языке может меняться с развитием языка, особенно
при переходе от устной культуры к письменной.
265
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Фон Ферстер, как и Маргарет Мид и другие, чувствовал себя
некомфортно, исключая смысловое значение из понятия информа-
ции. “То, что они называют теорией информации, я хотел назвать
теорией сигнала, — рассказывал он позднее, — потому что инфор-
мации там еще не было. Были “бип-бипы” — и ничего кроме, ника-
кой информации. В тот момент, когда набор сигналов преобразу-
ется в другие сигналы, которые может понять наш мозг, рождает-
ся информация, но в писке ее нет”. Но Ферстер обнаружил, что
и сам по-новому размышляет о сути языка, его истории в мышле-
нии и культуре. Сначала, заметил он, никто не воспринимает бук-
вы или фонемы как базовые единицы языка.
Я думаю о старых текстах майя, иероглифах египтян или первых
шумерских табличках. В ходе развития письменности осознание
того, что язык может быть разбит не только на слова, но и на сло-
ги и буквы, требует значительного времени или какого-то толчка.
У меня есть ощущение, что существует обратная связь между пись-
менностью и речью.
Дискуссия изменила его отношение к понятию и роли информа-
ции. Он добавил примечание к конспекту восьмой конференции:
“Информацию можно рассматривать как порядок, вычлененный
из беспорядка”.
Как бы сильно ни старался Шеннон сфокусировать внима-
ние слушателей на чистом определении информации, лишен-
ной смыслового значения, эта группа ученых не желала расста-
ваться с семантикой. Они быстро поняли основные идеи Шенно-
на и уже говорили на далекие от первоначального разговора темы.
“Если бы мы согласились с определением информации как чего-то,
что меняет вероятности или снижает неопределенность, — заме-
тил Алекс Бейвлас, занимавшийся социальной психологией, — то-
гда было бы удобно рассматривать эмоциональную уравновешен-
ность”. А что сказать о жестах и выражениях лица, похлопываниях
по спине или подмигиваниях через стол?
Психологи постепенно принимали новый взгляд на процессы,
которые происходят в мозге, и в результате их дисциплина оказа-
лась на пороге радикального преобразования.
266
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
Нейрофизиолог Ральф Жерар вспомнил шутку. Новенький
на вечеринке, где все друг друга хорошо знают. Один говорит: “72”,
и все смеются. Другой говорит: “29”, и собравшиеся заходятся в хо-
хоте. Новичок спрашивает, что происходит.
Его сосед говорит: “Мы знаем много анекдотов, мы рассказыва-
ли их так часто, что теперь просто произносим их номера”. Гость
подумал, что он тоже попробует, и через некоторое время сказал:
“63”. Практически никакой реакции. “В чем дело, разве это не анек-
дот?” — “О да, это один из наших лучших анекдотов, просто вы
плохо его рассказали”.
На следующий год Шеннон вернулся с роботом. Это был не слиш-
ком умный робот, непохожий на человека, но он произвел впечат-
ление на группу кибернетиков. Он находил выход из лабиринтов.
Они назвали его мышью Шеннона.
Ученый выкатил на сцену тумбу с решеткой 5X5 квадра-
тов на верхней панели. По краям и поперек любого из двадцати
пяти квадратов можно поставить перегородку, чтобы получались
лабиринты разной конфигурации. В любой квадрат можно во-
ткнуть булавку в качестве цели. По лабиринту перемещался сталь-
ной стержень, движимый парой моторов, один для движения вле-
во-вправо, другой — вперед-назад. Внутри были размещены около
семидесяти пяти электрических реле, соединенных друг с другом,
они включались и выключались, формируя “память” робота. Шен-
нон щелкнул выключателем, и машина заработала.
“Когда машина была выключена, — сказал он, — реле фактиче-
ски забыли все, что знали о лабиринте, так что сейчас они начина-
ют заново”. Его слушатели были восхищены. “Вы видите, как палец
исследует лабиринт в поисках цель. Когда он достигает центра ква-
драта, машина принимает новое решение, какое направление про-
бовать следующим”. Когда стержень упирается в перегородку, мо-
торы начинают обратное движение, и реле записывают событие.
Машина принимает каждое “решение”, основываясь на предыду-
щем “знании” — невозможно было избежать этих психологиче-
ских слов, — в соответствии с разработанной Шенноном страте-
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
гией. Стержень проходит пространство лабиринта методом проб
и ошибок, поворачивая в тупики и натыкаясь на стены. Наконец
“мышь” нашла цель, прозвенел колокольчик, включилась лампочка,
и моторы остановились.
Затем Шеннон поместил “мышь” назад, на исходную позицию,
для нового забега. В этот раз она прошла прямо к цели без неверных
поворотов, не наткнувшись ни на одну перегородку. Она “научи-
лась”. Будучи помещенной в другую, неисследованную часть лаби-
ринта, она снова возвращалась к методу проб и ошибок, пока в кон-
це концов “не построила полную информационную схему и не ока-
залась способна достичь цели без ошибок, начав из любой точки”.
Чтобы стратегия изучения и поиска цели работала, машина
должна была запоминать информацию о каждом квадрате, в кото-
ром побывала, — в каком направлении она последний раз поки-
нула квадрат. Было всего четыре возможности — север, запад, юг
и восток, так что, как объяснил Шеннон, на каждый квадрат в ка-
честве памяти было назначено по два реле. Два реле означали два
бита информации — достаточно для выбора из четырех альтерна-
тив, потому что было четыре возможных состояния: выключено-
выключено, выключено-включено, включено-выключено и вклю-
чено-включено.
Затем Шеннон переставил перегородки так, что старое реше-
ние больше не работало. Машина в этом случае должна “нащупы-
вать путь”, пока не найдет новое решение. Однако иногда особен-
но странное сочетание нового лабиринта и старой памяти застав-
ляло машину входить в бесконечный цикл: “Когда она прибывает
в точку А, она помнит, что старое решение говорит перейти к 5,
поэтому она идет по кругу: А, В, С, D, А, В, С, D. Она попала в по-
рочный круг, или в состояние паразитного самовозбуждения”.
“Невроз!” — воскликнул Ральф Жерар.
Шеннон добавил “противоневрозную цепь”: счетчик, уста-
новленный для выхода из цикла, если машина повторяет одну
и ту же последовательность шесть раз. Леонард Сэвидж заметил,
что это в некотором роде жульничество. “У нее нет никаких спосо-
бов узнать, что она “психованная”, она просто распознает, что это
происходит слишком долго?”— спросил он. Шеннон подтвердил.
— Как это по-человечески, — заметил Лоуренс К. Франк.
268
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
Шеннон и его лабиринт
— Это должен был увидеть Джордж Оруэлл, — сказал психиатр
Генри Бросин.
Шеннон организовал память машины так, что каждая последо-
вательная смена направлений движения вела к определенному ква-
драту, но особенность такой организации заключалась в том, что
проделать этот путь назад было невозможно. Достигнув цели, ма-
шина не “знала”, как вернуться в исходную точку. Знание как та-
ковое происходило из того, что Шеннон называл полем векторов,
совокупностью двадцати пяти векторов направления. “Изучив па-
мять, нельзя сказать, откуда пришел стержень”, — объяснил он.
“Так же как и человек, знающий город, — заметил Маккаллох, —
он может перейти из одного места в любое другое, но не всегда по-
269
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
мнит, какой дорогой шел”. “Мышь Шеннона” была сродни сереб-
ряной танцовщице Бэббиджа и металлическим лебедям и рыбам
Механического музея Мерлина: автомат, представляющий собой
симуляцию жизни. Такие автоматы никогда не переставали удив-
лять и развлекать. Рассвет эры информации принес новое поколе-
ние искусственных мышей, жуков и черепах, создаваемых сначала
с помощью вакуумных ламп, а затем транзисторов.
Они были грубыми, почти тривиальными по сравнению с тем,
что появилось всего нескольких лет спустя. Общий объем памя-
ти “мыши” составлял 75 бит. Тем не менее Шеннон мог заявлять,
что она решала задачу путем проб и ошибок, помнила решение
и повторяла его безошибочно, учитывала информацию, получен-
ную в ходе дальнейшего опыта, и “забывала” решение, когда ме-
нялись обстоятельства. Машина не только имитировала живое по-
ведение, она выполняла функции, которые прежде отводились ис-
ключительно мозгу.
Денеш Габор, венгерский инженер-электротехник, который
позже получил Нобелевскую премию за изобретение голографии,
жаловался: “В реальности запоминает лабиринт, а не “мышь”. Это
было так, но до определенной степени. В конце концов, никакой
“мыши” не было. Электрические реле могли быть размещены где
угодно, и они хранили память. Они стали фактически мыслитель-
ной моделью лабиринта — теорией лабиринта.
Послевоенные Соединенные Штаты были не единственным
местом, где биологи и неврологи неожиданно объединились с ма-
тематиками и электротехниками, хотя американцы иногда и вели
себя так, будто, кроме них, никого не существовало. Винер, кото-
рый пространно рассказал о своих путешествиях во вступлении
к “Кибернетике”, пренебрежительно писал, что исследователей
Англии он находит “хорошо информированными”, но прогресса
“в объединении предмета исследований и сведении воедино раз-
личных направлений” не заметно. Английские ученые — в основ-
ном молодые, с небольшим опытом раскрытия шифров, радио-
локации и управления огнем — в ответ на появление теории ин-
формации и кибернетики в 1949 году начали объединяться. Одной
из их идей было создание обеденного клуба на английский манер:
“ограниченное членство и дискуссии после еды”, предложил Джон
270
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
Бейтс, один из первых, кто стал заниматься электроэнцефалогра-
фией. Потребовалось серьезное обсуждение названия, правил
членства, места проведения и эмблемы. Бейтс хотел видеть интере-
сующихся электричеством биологов и ориентированных на био-
логию инженеров и предложил пригласить “около пятнадцати че-
ловек, которые думали над теми же идеями, что и Винер, до того
как вышла его книга”.
Впервые они собрались в подвале Национальной больни-
цы нервных заболеваний в Блумсбери и решили назваться “Ра-
тио-клуб” — это могло означать все что угодно. (Их летописцы
Филип Хасбанде и Оуэн Холланд, проинтервьюировавшие мно-
гих из оставшихся в живых членов клуба, сообщали, что полови-
на из них произносила его как “Рэй-ши-о”, а другая половина —
как “Ра-ти-о”). На первое собрание они пригласили Уоррена Мак-
Каллоха.
Они говорили не только об изучении того, что происходит
в человеческом мозге, но и о возможности его “построения”. Пси-
хиатр У. Росс Эшби объявил, что работает над идеей того, что “мозг,
состоящий из случайно соединенных синапсов, придет в необходи-
мый вид упорядоченности в результате полученного опыта”, то есть
что разум есть самоорганизующаяся динамическая система. Другие
хотели обсудить распознавание образов, шум в нервной системе,
роботизированные шахматы и способность механизмов к самоосо-
знанию. Маккаллох выразился так: “Подумайте о мозге как о теле-
графном реле, которое, включившись по сигналу, посылает другой
сигнал”. Со времен Морзе реле сильно изменились: “Если рассма-
тривать мозг на молекулярном уровне, эти события окажутся ато-
мами. Каждый из них либо появляется, либо нет”. Основной еди-
ницей является выбор, и он двоичный: “Это наименьшее событие,
которое может быть либо истинным, либо ложным”.
Им удалось привлечь и Алана Тьюринга, опубликовавшего
собственный манифест, который начинался весьма провокацион-
ной фразой “Я предлагаю рассмотреть вопрос, может ли машина
думать”. Дальше следовало хитрое признание в том, что он сделает
это, даже не пытаясь определить понятия “машина” и “думать”. Его
идея состояла в том, чтобы заменить вопрос тестом, который он на-
звал “Игрой в имитацию” и которому было суждено прославиться
271
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
как тест Тьюринга. В первоначальном виде “Игра” включала тро-
их: мужчину, женщину и того, кто спрашивает. Последний сидит
в комнате один и задает вопросы (идеально — с помощью “теле-
принтера, связывающего обе комнаты”, считал Тьюринг). Цель —
определить, кто из игроков мужчина, а кто женщина. Один из них,
например мужчина, пытается обмануть задающего вопросы, то-
гда как второй пытается помочь тому выяснить истину. “Лучшей
стратегией для женщины, пожалуй, будет давать правдивые отве-
ты, — предположил Тьюринг. — Она может добавлять такие вещи,
как “я женщина, не слушай его!”, но это ничего не даст, поскольку
мужчина может делать такие же замечания”.
Но что если стоит вопрос не “какого пола?”, а “какого рода?” —
человек или машина?
Считается, что отличительный признак человеческого суще-
ства заключается в его “интеллектуальных способностях”, поэто-
му и возникла идея этой игры в безличные сообщения, переда-
ваемые между комнатами вслепую. “Перед нами не стоит задачи
наказать машину за ее неспособность блистать на конкурсах кра-
соты, — сухо писал Тьюринг, — как и наказывать человека за про-
игрыш в гонке с аэропланом”. И, раз уж на то пошло, за медли-
тельность в арифметике. Тьюринг предлагал воображаемые вопро-
сы и ответы:
В.: Пожалуйста, напиши мне какой-нибудь сонет о Форт-Бридже1.
О.: Я пас. Никогда не мог (ла) писать стихов.
Но, прежде чем продолжить, он счел необходимым пояснить, како-
го рода машину имеет в виду. “Существующий ныне интерес к “ду-
мающим машинам”, — отмечал он, — возник с появлением опре-
деленного вида машин, обычно называемых “электронный ком-
пьютер” или “цифровой компьютер”. Эти устройства выполняют
работу людей-вычислителей быстрее и надежнее. Тьюринг описал
(в отличие от Шеннона) природу и свойства цифрового компьюте-
ра. Джон фон Нейман, когда конструировал следующую за ENIAC
машину, тоже сделал это. Цифровой компьютер состоит из трех ча-
1 Мост через залив Ферт-оф-Форт у восточного берега Шотландии.
272
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
стей — “хранилища информации”, соответствующего памяти че-
ловека-вычислителя или бумаге; “исполнительного устройства”,
которое выполняет отдельные операции; “управления”, которое
работает со списком инструкций, следя за тем, чтобы те выполня-
лись в правильном порядке. Инструкции закодированы числами.
Их иногда называют “программой”, объяснял Тьюринг, а составле-
ние таких списков можно назвать “программированием”.
Идея не нова, говорил Тьюринг и цитировал Бэббиджа, кото-
рого представлял как знаменитого когда-то, а теперь забытого уче-
ного, лукасианского профессора математики Кембриджского уни-
верситета с 1828 по 1839 годы. Тьюринг объяснял, что у Бэббиджа
“были все основные идеи”, что он “планировал такую машину, на-
званную аналитической, но она никогда не была завершена”. Она
использовала бы колеса и карточки — ничего общего с электри-
чеством. Существование (по крайней мере почти существование)
машины Бэббиджа позволило Тьюрингу противостоять суеверию,
которое, по его ощущениям, начало формироваться в 1950-е. Люди,
казалось, чувствовали, что магия цифровых компьютеров по суще-
ству электрическая, как и нервная система. Но Тьюринг очень ста-
рался думать о вычислениях универсально, то есть абстрактно. Он
знал, что электричество здесь ни при чем:
Поскольку машина Бэббиджа не была электрической, а все цифро-
вые компьютеры в определенном смысле эквивалентны друг другу,
мы видим, что использование электричества не может иметь тео-
ретической значимости... Применения электричества, таким обра-
зом, рассматривается как несущественное совпадение.
Знаменитый компьютер Тьюринга был машиной, выполненной
с помощью логики: воображаемая лента, произвольные симво-
лы. У него было время и неограниченная память, он был способен
на все, что можно было выразить в шагах и операциях. Он мог даже
оценивать верность доказательства в системе Principia Mathematical
“В случае если формулу нельзя ни доказать, ни опровергнуть, такая
машина определенно не будет вести себя удовлетворительно, пото-
му что она продолжает работу бесконечно без какого-либо резуль-
тата, но это нельзя считать реакцией, сильно отличающейся от ре-
273
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
акции математиков”. Тьюринг предположил, что машина может
участвовать в “Игре в имитацию”.
Конечно, он не мог претендовать на то, что доказал это. Глав-
ным образом он старался изменить терминологию споров, которые,
как он считал, были бессмысленными. Он предложил несколько
прогнозов на ближайшие пятьдесят лет: память компьютеров уве-
личится до ю9 бит (он представлял себе несколько очень больших
компьютеров и не мог предвидеть, что в будущем появится множе-
ство маленьких счетных устройств с памятью на много порядков
больше), и их можно будет запрограммировать для “Игры в имита-
цию”, чтобы обманывать задающего вопросы человека по крайней
мере в течение нескольких минут (так и случилось).
Мне кажется, что первоначальный вопрос — “могут ли машины ду-
мать?” — бессмыслен и не заслуживает обсуждения. Тем не менее
я считаю, что к концу века использование слов и общее просвещен-
ное мнение изменятся настолько, что можно будет говорить, что
машины думают, без опасения столкнуться с опровержениями.
Он не дожил до того, чтобы увидеть, насколько точным оказалось
его пророчество. В 1952 году его арестовали по обвинению в гомо-
сексуализме, судили, лишили доступа к секретным данным. Бри-
танские власти вынудили его пройти курс инъекций эстрогена.
В 1954 году он покончил с собой.
Многие годы практически никто не знал о важнейшей се-
кретной работе Тьюринга над проектом “Энигма” в Блетчли-парк.
Но его идеи о думающих машинах привлекали внимание по обе
стороны Атлантики. Некоторые из тех, кто находил их абсурдны-
ми и даже пугающими, обращались к Шеннону с просьбой выска-
зать мнение по этому вопросу, и тот всегда выступал на стороне
Тьюринга. “Идея думающей машины, без сомнения, кажется нам
противоестественной, — заявил Шеннон одному инженеру. —
На самом деле, думаю, обратная идея того, что мозг человека спо-
собен быть машиной, которую можно функционально воспроиз-
вести с помощью неживых объектов, вполне привлекательна”. Как
минимум более полезна, чем “гипотетические неосязаемые и недо-
стижимые “жизненные силы”, “души” и тому подобное”.
274
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
Ученые-информатики хотели знать, на что способны их маши-
ны. Психологи хотели знать, является ли мозг компьютером или,
скорее, только компьютером. В середине века информатика была
новой наукой, и такой же новой была психология.
Психология к середине века достигла точки умирания.
По сравнению с другими науками ей всегда было сложнее объ-
яснить, чем именно она занимается. Первоначально предметом
ее изучения была душа в противоположность телу (соматологии)
и крови (гематологии). “Психология есть доктрина, которая иссле-
дует душу человека и проявления ее; это часть, без которой чело-
век не может существовать”, — писал в XVII веке Джеймс де Бек.
Однако почти по определению душа была невыразима —
вряд ли ее можно представить вещью, материальным объектом для
изучения. Еще сильнее дело осложняла (в психологии как ни в од-
ной другой области) связь наблюдателя с наблюдаемым. В 1854 году,
когда психологию можно было назвать скорее “философией ума”,
Дэвид Брюстер жаловался, что ни одна другая область знаний
не продвинулась вперед настолько мало, как “наука о разуме, если
ее можно назвать наукой”.
Человеческий разум, рассматривающийся как материальная суб-
станция одним исследователем и как духовная — другим, в то вре-
мя как остальные таинственным образом объединяют оба взгляда,
ускользает от познания чувствами и умом и лежит словно непло-
дородная заброшенная земля, на которой каждый из проходящих
мыслителей оставляет свои умственные сорняки.
Пределы интроспекции были очевидны. К началу XX века в поис-
ках строгости, проверяемости и, пожалуй, математизации иссле-
дователи разума разошлись по радикально противоположным пу-
тям, и путь Зигмунда Фрейда был лишь одним из многих. В США
Уильям Джеймс почти в одиночку сконструировал дисциплину
психологии: он стал профессором первого университетского кур-
са и автором первого полного учебника и сдался, когда закончил
его. Он писал, что его “Принципы психологии” были “против-
ной, раздутой, опухшей, жирной, водянистой массой, не свиде-
тельствующей ни о чем, кроме двух фактов: первый — что такой
275
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
вещи, как наука психология, не существует и второй — что Уиль-
ям Джеймс некомпетентен”.
В России новая разновидность психологии началась с фи-
зиолога Ивана Петровича Павлова, известного своим исследо-
ванием работы пищеварительной системы и получившим за нее
Нобелевскую премию. Павлов отвергал и само слово “психоло-
гия”, и связанную с этой наукой терминологию. Джеймс, когда
бывал в хорошем настроении, рассматривал психологию как на-
уку об умственной жизни, но для Павлова разума не существо-
вало, только поведение. Психические состояния, мысли, эмоции,
цели и задачи — все это было неосязаемым, субъективным и недо-
ступным. Данные понятия несли на себе отпечаток религии и суе-
верий. Для того, что Джеймс считал главным, — “поток мысли”,
“самосознание”, ощущение времени и пространства, воображе-
ние, рассуждения и воля — в лаборатории Павлова не было ме-
ста. Единственное, что мог наблюдать ученый, — это поведение:
его как минимум можно было записать и измерить. Бихевиористы,
в частности Джон Б. Уотсон из США и затем Б. Ф. Скиннер, со-
здали науку, которая основывалась на стимулах и реакции: поощ-
рение едой, звонки, удары током; слюноотделение, нажатие на ры-
чаг, бег по лабиринту. Уотсон говорил, что единственной целью
психологии является предсказание того, какая реакция последует
за определенным стимулом и какие стимулы провоцируют опре-
деленное поведение. Между стимулом и реакцией находился чер-
ный ящик, про который было известно, что он состоит из органов
чувств, нейронных путей и моторных функций, но он оставался
недоступным. Фактически бихевиористы еще раз подтверждали,
что душа непознаваема. В течение полувека программа их иссле-
дований процветала, потому что давала результаты об условных
рефлексах и управлении поведением.
Как позже сформулировал Джордж Миллер, бихевиористы
утверждали: “Вы говорите о памяти, вы говорите о предчувствии,
вы говорите о своих чувствах, вы говорите об этих менталистских
понятиях. Это вздор. Покажите мне это, укажите на это”. Они
могли научить голубей играть в пинг-понг, а крыс — проходить
лабиринты. Но к середине столетия наступило разочарование. Чи-
стота бихевиористов стала догмой, их отказ признавать существо-
276
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
вание психических состояний — клеткой, а психологи все еще меч-
тали понять, что такое разум.
Теория информации указала им путь. Ученые анализировали
обработку информации и строили машины для этой обработки.
У машин была память. Они воспроизводили способность к обуче-
нию и поиску цели. Бихевиорист, пускающий крысу в лабиринт,
обсуждал бы связь между стимулом и реакцией, но отказывался бы
рассматривать разум крысы; теперь инженеры строили из несколь-
ких электрических реле модели того, что происходит в крысиной
голове. Они не просто вскрывали черный ящик, они конструи-
ровали собственный. Сигналы передавались, кодировались, хра-
нились и извлекались из памяти. Создавались и совершенствова-
лись внутренние модели внешнего мира. Психологи заметили это.
От теории информации и кибернетики они получили набор по-
лезных метафор и даже продуктивную терминологию.
“Мышь Шеннона” можно было рассматривать не только как
грубую модель мозга, но также и как модель поведения. Неожидан-
но психологи научились говорить о планах, алгоритмах, синтак-
сических правилах. Они смогли исследовать не просто то, как жи-
вые существа реагируют на внешний мир, но и то, как они себе его
представляют.
Теория информации, сформулированная Шенноном, каза-
лось, приглашает исследователей посмотреть в том направлении,
о котором сам он и не помышлял. Он объявил: “Основополагаю-
щей проблемой связи является проблема воспроизведения, точно
или приблизительно, в одной точке сообщения, выбранного в дру-
гой точке”. Психолог вряд ли мог пропустить возможность рассмо-
треть ситуацию, когда отправителем сообщения был внешний мир,
а получателем — человеческий разум.
Глаза и уши виделись каналами передачи сообщений, так по-
чему бы не проверить и не измерить их как микрофоны и каме-
ры? “Новые способы измерения информации, — писал химик
из нью-йоркского Хантер-колледжа Гомер Джейкобсон, — сделали
возможным количественное определение информационной емко-
сти человеческого уха”. Он начал этим заниматься. Затем он сделал
то же самое для глаза и пришел к оценке в 400 раз большей. Вдруг
стало возможным обсуждать множество других, более изощрен-
277
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ных экспериментов, и некоторые из них непосредственно следова-
ли из работы Шеннона о шуме и избыточности. В 1951 году группа
проверила вероятность того, что слово будет правильно услышано
при двух различных условиях: испытуемые знали, что произнесен-
ное слово — одно из нескольких возможных; произнесенное сло-
во могло быть любым. Результат казался очевидным, но никогда
до этого не проверялся. Экспериментаторы исследовали попытки
понять два разговора одновременно. Они начали оценивать, сколь-
ко информации содержит группа предметов — знаков, или букв,
или слов — и сколько может быть понято или запомнено. В стан-
дартных экспериментах с речью и звонками, нажатием клавиши
и постукиванием ногой язык стимулов и реакций начал уступать
передаче и приему информации.
Некоторое время исследователи обсуждали этот терминоло-
гический переход открыто, позже он стал невидимым. В 1958 году
англичанин Дональд Бродбент, экспериментальный психолог, ис-
следовавший проблемы внимания и кратковременной памяти, на-
писал об эксперименте: “Разница между описанием результатов
в терминах стимула и реакции и в терминах теории информации
становится особенно заметной... Без сомнения, можно разрабо-
тать адекватное описание результатов в терминах “стимул — ре-
акция”... но такое описание выглядит неуклюже по сравнению
с описанием в терминах теории информации”. Бродбент основал
отделение прикладной психологии в Кембриджском университе-
те, и оттуда, как и из других мест, последовал поток разнообразных
исследований, посвященных тому, как люди обрабатывают инфор-
мацию: влияние шума на производительность, избирательное вни-
мание и фильтрация восприятия, кратковременная и долговремен-
ная память, распознавание образов, решение задач. Но куда отнес-
ти логику? К психологии или информатике? Уж точно не только
к философии.
Влиятельным коллегой Бродбента в США был Джордж Мил-
лер, который в i960 году помог создать Центр когнитивных ис-
следований при Гарвардском университете. Миллер уже был из-
вестен как автор опубликованной в 1956 году статьи под несколь-
ко эксцентричным названием “Магическое число семь плюс или
минус два: о некоторых пределах нашей способности обрабаты-
278
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
вать информацию”. Семь представлялось числом предметов, кото-
рое большинство людей могли держать в рабочей памяти одновре-
менно: семь знаков (типичный телефонный номер в Америке того
времени), семь слов или семь объектов, показанных эксперимента-
тором-психологом. По утверждению Миллера, это число постоян-
но возникало и в других экспериментах. Испытуемым в лаборато-
рии давали глоток воды с разным количеством соли в ней, чтобы
понять, сколько степеней солености они могут различать. Их про-
сили заметить различие в тоне или громкости звука. Им показы-
вали случайные узоры из точек, которые быстро появлялись на эк-
ране, и спрашивали, сколько их было (если меньше семи, испытуе-
мые почти всегда отвечали правильно, если больше — почти всегда
давали приблизительную оценку). Цифра семь продолжала появ-
ляться как граница. “Это число по-разному маскируется, — писал
ученый, — иногда чуть возрастая, иногда будучи чуть меньше, чем
обычно, но никогда не меняется настолько сильно, чтобы не быть
узнанным”.
Ясно, что в некотором роде это было грубым упрощением; как
заметил Миллер, люди могут распознать любое из тысячи лиц или
слов и запомнить длинные последовательности символов. Чтобы
понять, какого рода это упрощение, Миллер обратился к теории
информации, конкретнее — к пониманию Шенноном информа-
ции как выбора из возможных альтернатив. “Наблюдатель считает-
ся каналом связи”, — объявил он. Ужасная формулировка, с точки
зрения бихевиористов, которые тогда доминировали в профессии.
Информация передается и хранится — информация о громкости,
солености или количестве. Он объяснил идею о битах:
Один бит информации есть количество информации, которое тре-
буется, чтобы сделать выбор между двумя равновероятными воз-
можностями. Если мы должны решить, выше человек шести футов
или ниже, и если мы знаем, что шансы 50 на 50, то нам нужен один
бит информации...
Два бита позволяют выбрать из четырех равновероятных вариан-
тов. Три бита дают возможность выбрать из восьми равноверо-
ятных вариантов и т.д. То есть, если есть 32 равновероятных ва-
рианта, нам придется сделать пять последовательных бинарных
279
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
выборов весом в один бит каждый, чтобы узнать, какая из альтер-
натив верна. Таким образом, общее правило простое: каждый раз,
когда количество вариантов возрастает вдвое, добавляется один
бит информации.
Магическая цифра семь на самом деле находится рядом с тремя би-
тами. Простые эксперименты измерили способность к различе-
нию или емкость канала в одном измерении; более сложные изме-
рения получаются при комбинировании переменных в нескольких
измерениях — например, размер, яркость и тон. Люди делают то,
что теория информации называет перекодированием, — объеди-
няют информацию во все большие группы, например, организуя
телеграфные точки и тире в буквы, буквы в слова, слова во фразы.
В то время аргументы Миллера стали чем-то вроде манифеста. Пе-
рекодирование, объявил он, “кажется мне жизненной силой про-
цесса мышления”.
Идеи и способы измерения, которые дала нам теория информации,
позволили подойти к некоторым из этих вопросов с количествен-
ной стороны. Теория дает измерительную линейку для проверки
стимулов и измерения поведения испытуемых... Информацион-
ные идеи уже доказали свою ценность при изучении способности
к различению и в изучении языка, они многое обещают в исследо-
вании способности к обучению и памяти, и предполагалось даже,
что они способны быть полезными на стадии формирования тео-
рий. Множество вопросов, казавшихся бессмысленными двадцать
или тридцать лет назад, сейчас могут быть пересмотрены.
Это было началом движения, известного как когнитивная револю-
ция в психологии, и оно заложило основы дисциплины, назван-
ной когнитивной наукой (когнитивистикой), объединяющей пси-
хологию, информатику и философию. Некоторые философы впо-
следствии назвали этот момент информационным поворотом. “Те,
кто совершил информационный поворот, считают информацию
основой, на которой построен мозг, — писал Фредерик Адамс. —
Информация должна была внести вклад в изучение сознания”. Как
любил говорить сам Миллер, разум прибыл верхом на машине.
280
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
Шеннона вряд ли можно было назвать публичной личностью,
он так и не стал широко известен обычным людям, но он достиг
культового статуса в академических кругах и иногда выступал с по-
пулярными лекциями об “информации” в университетах и музеях.
Он объяснял основные идеи, приводил стих из Матфея 5:37 “Но да
будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукаво-
го” как образец для определения бита и избыточного кодирования,
рассуждал о будущем компьютеров и автоматов. “Ну и в заключе-
ние, — сказал он в Университете Пенсильвании, — я думаю, что
этот век будет свидетелем огромного роста и развития всего ин-
формационного бизнеса, бизнеса по сбору и передачи информа-
ции из одной точки в другую и — возможно, самое важное — биз-
неса ее обработки”.
Из-за всех этих психологов, антропологов, лингвистов, эко-
номистов и представителей социальных наук, карабкающихся
на праздничную платформу теории информации, некоторые мате-
матики и инженеры почувствовали себя неуютно.
Шеннон сам назвал платформу праздничной. В 1956 году он
написал короткое предупреждение: “Наши коллеги ученые во мно-
гих областях, привлеченные фанфарами и новыми направлениями,
открывшимися для научного анализа, используют эти идеи в соб-
ственных целях... Хотя волна популярности определенно приятна
для тех из нас, кто работает в этой области, она в то же время несет
элемент опасности”. Теория информации в своей основе есть ветвь
математики, напомнил он. Он верил, что ее идеи окажутся полез-
ными и в других областях, но не всюду и не так буквально: “Созда-
ние прикладных приложений не является тривиальным переводом
слов под начало новой теории, а скорее медленным трудным про-
цессом появления гипотез и экспериментальных подтверждений”.
Более того, он чувствовал, что упорная работа необходима и в “на-
шем собственном доме”. Он призывал проводить больше исследо-
ваний и меньше демонстраций достижений.
Что касается кибернетики, то это слово стало угасать. Кибер-
нетики Мэйси провели последнюю встречу в 1953 году в “Нас-
сау Инн” в Принстоне; Винер поссорился с несколькими члена-
ми группы, и теперь с ним практически не разговаривали. Подве-
сти итог поручили Маккаллоху, и голос его звучал невесело. “Мы
281
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Клод Шеннон
(1963)
всегда в чем-нибудь не соглашались друг с другом, — сказал он. —
Даже если бы это было не так, я не вижу причин, по которым Гос-
подь согласился бы с нами”.
На всем протяжении 1950-х годов Шеннон оставался интел-
лектуальным лидером открытой им области знаний. Из его ис-
следований появлялись глубокие, наполненные теоремами статьи,
скрывавшие множество возможностей развития и закладывавшие
основы для широких исследовательских областей. То, что Маршалл
Маклюэн позже назвал “медиа”, для Шеннона было каналом, а ка-
нал в свою очередь являлся объектом строгого математического ис-
следования. Его можно было использовать самыми разными спо-
собами, а результаты представлялись многообещающими: широ-
ковещательные каналы и каналы подключения к линии, шумные
и бесшумные каналы, каналы Гаусса, каналы с ограниченным вво-
дом и ограничением расхода, каналы с обратной связью и каналы
с памятью, многопользовательские каналы и каналы с множествен-
ным доступом. (Когда Маклюэн объявил, что медиа есть сообще-
282
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
ние, он лукавил. Понятие медиа одновременно и противоположно
сообщению, и переплетено с понятием сообщения.)
Значимость одного из важных открытий Шеннона, теоремы
об источнике шифрования1, возросла, когда оказалось, что коррек-
ция ошибок может эффективно бороться с шумом и искажения-
ми. Сначала это было просто теоретическим завораживающе при-
ятным фактом, ведь коррекция ошибок требовала вычислений, ко-
торые все еще были дороги. Но в течение 1950-х годов работа над
методами коррекции ошибок настолько продвинулась, что обеща-
ния Шеннона начали реализовываться, и необходимость коррек-
ции стала очевидной. Одним из приложений теории оказалось
исследование космоса с помощью ракет и спутников, их задачей
было посылать сообщения на очень большие расстояния, и они
располагали ограниченной мощностью. Теория кодирования ста-
ла важнейшей частью информатики, и коррекция ошибок и сжатие
данных развивались здесь бок о бок. Без них не существовали бы
модемов, CD и цифрового телевидения. Для математиков, интере-
сующихся случайными процессами, теоремы кодирования тоже яв-
лялись мерой энтропии.
Тем временем Шеннон продвинулся дальше, на этот раз в об-
ласти устройства компьютеров. Одно его открытие показывало,
как максимально увеличить пропускную способность сети с мно-
гими ветвями; сеть могла состоять из каналов связи, железнодо-
рожных путей, линий электропередач или водопроводных труб.
Другое было удачно названо “Надежные схемы из низкосортных
реле” (хотя для публикации оно было переименовано в “Надеж-
ные схемы из ненадежных реле”). Ученый анализировал функции
коммутации, теорию искажения сигнала в зависимости от скоро-
сти его передачи и дифференциальную энтропию. Все это оста-
валось незаметным для широкой публики, но сейсмические дви-
жения, которые возникли с рождением вычислительной техники,
чувствовали все, и Шеннон был частью этого процесса.
Еще в 1948 году он закончил первую статью о проблеме, кото-
рая, по его словам, “сама по себе не важна”: как запрограммировать
машину для игры в шахматы. Начиная с XVIII и XIX веков люди
1 Известна также как теорема о бесшумном шифровании.
283
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
пытались сделать это: различные шахматные автоматы демонстри-
ровались по всей Европе, и время от времени обнаруживалось, что
в них спрятан маленький человек. В 1910 году испанский матема-
тик и жестянщик Леонардо Торрес де Кеведо построил настоящую
шахматную машину, целиком механическую, названную “Шахма-
тист”, которая могла играть простейший эндшпиль из трех фи-
гур — короля и ладьи против короля.
Теперь же Шеннон показал, что компьютеры, выполняющие
числовые вычисления, можно заставить сыграть настоящую шах-
матную партию. Как объяснил ученый, эти устройства, “состоя-
щие из нескольких тысяч вакуумных ламп, реле и других элемен-
тов”, сохраняли числа в “памяти”, и продуманный процесс преоб-
разования может заставить эти числа представлять поля и фигуры
шахматной доски. Описанные им принципы с тех пор используют-
ся в каждой шахматной программе. В момент зарождения вычис-
лительной техники многие немедленно предположили, что шах-
маты будут решены до конца, со всеми их комбинациями и ходами.
Они думали, что быстрые электронные компьютеры будут разыг-
рывать совершенные шахматные партии, точно так же как они ду-
мали, что вычислительные машины будут давать надежные долго-
срочные прогнозы погоды. Однако Шеннон сделал грубый расчет
и предположил, что количество возможных шахматных партий бу-
дет больше ю120 — число, по сравнению с которым возраст все-
ленной сопоставим с наносекундами. Так что компьютеры не мог-
ли играть в шахматы, используя прямой перебор. Они, по замыс-
лу Шеннона, должны были рассуждать почти так же, как человек.
Шеннон посетил американского чемпиона по шахматам Эду-
арда Ласкера в его нью-йоркской квартире на 23-й улице, и Ла-
скер предложил варианты усовершенствования программы. Ко-
гда в 1950 году упрощенная версия статьи была опубликована
в Scientific American, Шеннон не мог удержаться, чтобы не задать
вопрос, который был у всех на устах: “Думает” ли подобная шах-
матная машина?”
С точки зрения бихевиористов, машина действует так, будто она
думает. Всегда считалось, что для искусной игры в шахматы тре-
буется способность к рассуждению. Если мы будем рассматривать
284
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
мышление как свойство, проявляющееся во внешних действиях,
а не как внутренний метод, то машина, без сомнения, мыслит.
Тем не менее в 1952 году он оценил: для того чтобы научить боль-
шой компьютер играть хотя бы на уровне среднего любителя, по-
требуется работа трех программистов на протяжении полугода.
“Проблема обучения игре в шахматы лежит в будущем даже дальше,
чем машина заранее запрограммированного типа. Предлагавшие-
ся методы очевидно чересчур медленны. Машина просто износит-
ся, прежде чем выиграет первую партию”. И все же настоящей це-
лью Шеннона было исследование возможных направлений приме-
нения компьютера общего назначения.
Он не отказывал себе в воплощении собственных фанта-
зий. Он разработал и действительно построил машину, совершав-
шую арифметические операции с римскими цифрами: например,
IV умножить на XII равно XLVIII. Он назвал ее THROBAC I —
“Экономная ретроспективная машина для вычисления римских
цифр” (Thrifty Roman-numeral Backward-looking Computer), Он со-
здал “машину, читающую мысли”, которая могла играть в детскую
игу “чет и нечет”. Все эти причуды объединяло одно свойство —
попытка перенесения алгоритмических процессов в новые обла-
сти, абстрактное сопоставление идей и математических объектов.
Позже он напишет тысячи слов о научных аспектах жонглирова-
ния с теоремами и выводами и процитирует по памяти Э. Э. Кам-
мингса: “Какой-нибудь сукин сын придумает машину, чтобы изме-
рить весну”.
В 1950-е годы Шеннон также пытался разработать машину, ко-
торая бы ремонтировала сама себя. Если какое-нибудь реле лома-
лось, машина должна была найти его и заменить. Он размышлял
о возможности существования машины, которая может воспроиз-
водить саму себя, находя необходимые детали и соединяя их.
Лаборатории Белла были рады тому, что он путешествовал
и выступал с подобными лекциями, часто демонстрируя свою про-
ходящую лабиринты машину, но публика не всегда была довольна.
Можно было услышать, например, слово “Франкенштейн”. “Мне
интересно, понимаете ли вы, ребята, с чем играете”, — написал ко-
лумнист газеты из Вайоминга.
285
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Что случится, если вы включите один из этих механических ком-
пьютеров, но забудете его выключить, прежде чем уйдете на обед?
Ну так я вам скажу. С компьютерами в Америке произойдет то же
самое, что случилось в Австралии с американскими зайцами. Преж-
де чем вы сможете умножить 701945 240 на 879030 546, каждая семья
в стране будет иметь маленький собственный компьютер...
Г-н Шеннон, я не хочу умалять значение ваших экспериментов, но,
честно говоря, я лично не заинтересован в появлении даже одно-
го компьютера и буду сильно огорчен, если банда из них нападет
на меня для того, чтобы умножить, или поделить, или что там они
лучше всего делают”.
Через два года после того, как Шеннон написал свое предупреж-
дение о праздничной платформе, более молодой специалист
в теории информации Питер Элиас опубликовал заметку, в ко-
торой жаловался на статью под заголовком “Теория информа-
ции, фотосинтез и религия”. Такой статьи, конечно же, не су-
ществовало. Но были статьи по теории информации, жизни
и топологии, теории информации и физике повреждения тка-
ней, о клерикальных системах, психофармакологии, интерпре-
тации геофизических данных, кристаллических структурах, ме-
лодии. Элиас, чей отец работал у Эдисона инженером, сам был
специалистом, внесшим серьезный вклад в теорию шифрования.
Он не доверял более мягким, более легким и банальным работам,
пересекавшим междисциплинарные границы. В типичной статье,
писал он, “обсуждается удивительно тесная связь между слова-
рем и системой понятий теории информации и психологии (или
генетики, или лингвистики, или психиатрии, или организации
бизнеса)... идея структурирования, схемы, энтропия, шум, пере-
датчик, приемник и код есть (когда правильно интерпретирова-
ны) центральные понятия и того и другого”. Он объявил это во-
ровством: “Впервые поместив дисциплину психологии на проч-
ный научный фундамент, автор скромно оставляет заполнение
контуров психологам”. Он предложил коллегам прекратить во-
ровать и заняться честным трудом.
Предупреждения Шеннона и Элиаса появились в одном
из новых журналов, полностью посвященных теории информации.
286
ГЛАВА 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ
В этих кругах пресловутым модным словом была “энтро-
пия”. Другой исследователь, Колин Черри, жаловался: “Мы слыша-
ли об “энтропиях” языков, социальных и экономических систем,
о ее использовании в различных исследованиях, которым не хва-
тало методологии. Это что-то вроде всеобъемлющего обобщения,
за которое люди хватаются как за соломинку”. Он не сказал, по-
скольку это еще не было очевидным, что теория информации на-
чинала изменять путь теоретической физики и биологии и что од-
ной из причин этого как раз была энтропия.
В общественных науках непосредственное влияние теории
информации уже прошло свой пик. Специализированная мате-
матика все меньше помогала психологии и все сильнее — инфор-
матике. Но ее вклад был реален. Она оживила общественные на-
уки и подспудно подготовила их к новой эре. Работа началась, ин-
формационный поворот был пройден, и вернуться назад было уже
невозможно.
9
ЭНТРОПИЯ И ЕЕ ДЕМОНЫ
То, что уже смешано, разделить нельзя
Мысли взаимодействуют с вероятностями событий и
в конечном итоге с энтропией.
Дэвид Уотсон (1930)
Было бы преувеличением сказать, что никто не знал, что та-
кое энтропия. Тем не менее это было одно из тех слов, зна-
чение которых очень сложно определить. В Лабораториях
Белла ходили слухи, будто Шеннон обязан этим термином
фон Нейману, который посоветовал его использовать, что-
бы выходить победителем из всех научных споров — никто попро-
сту не будет понимать, о чем речь. Это, конечно, неправда, но зву-
чит весьма правдоподобно. В начале своей истории это слово обо-
значало обратное самому себе. И до сих пор ему мучительно трудно
дать определение. Даже Oxford English Dictionary говорит об энтро-
пии довольно туманно, что ему совершенно не свойственно:
Название одной из величин, с помощью которой определяется тер-
модинамическое состояние части материи.
Слово в 1865 году в процессе создания науки термодинамики при-
думал Рудольф Клаузиус. Ему нужно было как-то назвать опреде-
ленное количество, которое он обнаружил, — количество, связан-
ное с энергией, но не саму энергию.
288
ГЛАВА 9 ЭНТРОПИЯ И ЕЕ ДЕМОНЫ
Термодинамика развивалась одновременно с паровыми дви-
гателями и сначала являлась не более чем “теоретическим изуче-
нием парового двигателя”. Она сосредоточилась на преобразо-
вании тепла или энергии в работу. Клаузиус заметил, что, когда
происходит это преобразование — тепло приводит в движение
двигатель, — тепло не исчезает, а переходит от более горячего тела
к более холодному. По пути оно что-то совершает. Как заметил
француз Никола Сади Карно, это похоже на водяное колесо: вода
спускается сверху вниз, воды не становится больше или меньше,
но во время своего движения она производит работу. Карно пред-
ставлял себе тепло такой же субстанцией. Способность термоди-
намических систем производить работу зависит не столько от са-
мого тепла, сколько от разницы температур горячего и холодного
тела. Горячий камень, опущенный в холодную воду, способен про-
изводить работу — например, создавая пар, который вращает тур-
бину, — но общее количество тепла в системе (камень плюс вода)
остается постоянным. В конечном счете камень и вода достигнут
одинаковых температур. Неважно, сколько энергии содержит за-
мкнутая система: когда температура всех элементов одинакова, ра-
бота произведена не будет.
Именно эту недоступность энергии, ее бесполезность для ра-
боты Клаузиус и хотел измерить. Он придумал называть ее энтро-
пией, взяв греческое слово, означающее “содержание преобразова-
ния”. Английские коллеги поняли его идею, но решили, что Клау-
зиус не прав, сосредоточившись на негативном аспекте. Джеймс
Клерк Максвелл в своей “Теории теплоты” предположил, что
“удобнее” было бы обозначить термином “энтропия” противопо-
ложное — “часть, которая может быть преобразована в механиче-
скую работу”. Таким образом,
когда давление и температура системы становятся постоянными,
энтропия исчерпана.
Однако через несколько лет Максвелл поменял мнение и решил
вернуться на путь Клаузиуса. Он переписал свою книгу и смущен-
но добавил сноску:
289
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
В предыдущих изданиях этой книги ошибочно утверждалось, что
значение термина “энтропия”, как оно было введено Клаузиусом,
относится к той части энергии, которую нельзя превратить в ра-
боту. Затем в книге этот термин использовался как эквивалент до-
ступной энергии, тем самым внося большую путаницу в термино
логию термодинамики. В новом издании я попытался использовать
слово “энтропия” в соответствии с его первоначальным определе-
нием, данным Клаузиусом.
Проблема, конечно, состояла не просто в выборе между положи-
тельным и отрицательным, она была глубже. Сначала Максвелл
рассматривал энтропию как подвид энергии — как энергию, кото-
рую можно преобразовать в работу. После некоторых раздумий он
понял, что термодинамике нужна совершенно иная величина. Эн-
тропия не была видом энергии или ее количеством — это была, как
сказал Клаузиус, недоступность энергии. Каким бы абстрактным
ни было понятие, оказалось, что оно количественно измеримо, как
температура, объем и давление.
Это понятие стало чрезвычайно важным. С энтропией законы
термодинамики можно было выразить очень аккуратно:
Закон первый: количество энергии во вселенной постоянно.
Закон второй: энтропия вселенной всегда возрастает.
Существует множество формулировок этих законов — от строго ма-
тематических до более причудливых, например: “1. Вы не можете вы-
играть. 2. Вы не можете также сыграть вничью”. Но та формулиров-
ка — всеобъемлющая, судьбоносная. Вселенная изнашивается. Это
улица с односторонним движением к вырождению. Конечное со-
стояние с максимальной энтропией неизбежно, такова наша участь.
Уильям Томпсон, лорд Кельвин, отпечатал второй закон в во-
ображении общественности, смакуя его мрачность. “Хотя механи-
ческая энергия неуничтожимая — заявил он в 1862 году, — суще-
ствует общая тенденция к ее рассеиванию, что приводит к посте-
пенному повышению и распространению теплоты, прекращению
движения и исчерпанию потенциальной энергии во всей матери-
альной вселенной. Результатом этого будет состояние вселенско-
290
ГЛАВА 9 ЭНТРОПИЯ И ЕЕ ДЕМОНЫ
го покоя и смерти”. Энтропия определяла судьбу вселенной в по-
нести Г.Д. Уэллса “Машина времени”: угасающая жизнь, умираю-
щее солнце, чувство “одиночества и отчаяния”1. Тепловая смерть
не холодна, она еле теплая и скучная. В 1918 году Фрейд решил,
что увидел в этом нечто полезное для себя, но лишь все запутал:
И...при превращении психических процессов приходится прини-
мать во внимание понятие об энтропии, большая степень которой
мешает исчезновению уже совершившегося”1 2.
Томпсон предпочитал обозначать это явление словом “рас-
сеяние”. Энергия не исчезает, она рассеивается. Рассеянная энер-
гия существует, но она бесполезна. Однако именно Максвелл
первым начал внимательно изучать беспорядок как существен-
ное свойство энтропии. Сложно было считать беспорядок фи-
зическим явлением, правда, не очень понятно почему. Беспоря-
док подразумевал, что часть уравнения должна быть чем-то вроде
знания, разума или суждения. “Идея рассеивания энергии зави-
сит от обширности нашего знания, — утверждал Максвелл. —
Доступная энергия есть энергия, которую мы можем направить
в любой нужный нам канал. Рассеянная энергия есть энергия, ко-
торой мы не можем воспользоваться и распоряжаться по своему
усмотрению, как энергия колебаний молекул, которую мы назы-
ваем теплом”. То, что мы можем сделать или знаем, стало частью
определения. Казалось, невозможно говорить о порядке или бес-
порядке без включения посредника или наблюдателя — без того,
чтобы говорить о разуме:
Беспорядок, как и соответствующий ему порядок, не является свой-
ством материальных предметов как таковых, а существует лишь
в связи с разумом, воспринимающим их. Записная книжка, если
почерк аккуратный, не кажется запутанной неграмотному человеку
или хозяину, который знает ее вдоль и поперек, но любому друго-
му умеющему читать человеку она покажется совершенно беспоря-
дочной. Аналогично, понятие рассеянной энергии не может воз-
никнуть у того, кто не в состоянии использовать энергию любой
1 Пер. К. Морозова.
2 Пер.М. Вульф, К. Фельцмана.
291
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
природы в своих целях или у того, кто может проследить движение
каждой молекулы и захватить его в нужный момент.
Порядок субъективен, он зависит от наблюдателя. Порядок и бес-
порядок не являются теми объектами, которые должны быть опре-
делены или измерены математиками. Или все-таки являются? Если
беспорядок соответствует энтропии, может быть, он все-таки готов
к научному подходу?
В качестве идеального случая пионеры термодинамики рассма-
тривали коробку с газом. Газ состоит из атомов, он совсем не спо-
коен и не прост. Это огромное скопление движущихся частиц.
Атомы были невидимыми гипотетическими единицами, но тео-
ретики — Клаузиус, Кельвин, Максвелл, Людвиг Больцман, Уил-
лард Гиббс — приняли атомное строение жидкости и пытались ра-
зобраться с последствиями такого подхода: смешиваемостью, стре-
мительностью, постоянным движением. Теперь они понимали, что
тепло основано на движении. Тепло — не вещество, не жидкость,
не “флогистон”, а просто движение молекул.
Молекулы, каждая в отдельности, должны были подчинять-
ся законам Ньютона — любое действие, любое столкновение из-
меряемо и вычислимо, по крайней мере в теории. Но слишком
много нужно было измерять и вычислять отдельно. И на сцене
появились вероятности. Новая наука статистической механики
перекинула мост от микроскопических деталей к макроскопиче-
скому поведению. Предположим, что ящик с газом разделен пе-
регородкой. Температура газа в половине А выше, чем в полови-
не Б, то есть молекулы А движутся быстрее, с большей энергией.
Как только перегородка убрана, молекулы начинают смешиваться,
быстрые сталкиваются с медленными, энергия передается, и через
некоторое время газ достигнет одинаковой температуры во всем
объеме. Вопрос: почему этот процесс нельзя обратить? В уравне-
ниях Ньютона для движения время может иметь как положитель-
ный, так и отрицательный знак, математика работает в обе сторо-
ны. Но в реальном мире прошлое и будущее нельзя просто поме-
нять местами.
“Время идет вперед и никогда не поворачивает вспять, — ска-
зал Леон Бриллюэн в 1949 году. — Когда физик сталкивается с этим
292
ГЛАВА 9 ЭНТРОПИЯ И ЕЕ ДЕМОНЫ
фактом, он сильно волнуется”. Максвелл волновался, но не сильно.
Он писал лорду Рейли:
Если этот мир есть чисто динамическая система и если вы аккурат-
но обратите движение каждой его частицы вспять в один и тот же
момент, то все будет происходить до начала мира, капли дождя со-
берутся с земли и улетят обратно в облака и т.д., люди увидят сво-
их друзей проходящими путь от могил до колыбели, пока мы сами
не станем теми, кем были до рождения, что бы это ни значило.
Он хотел сказать, что, если мы рассмотрим движение отдельных
молекул в микроскопических деталях, мы увидим, что они ведут
себя одинаково независимо от того, куда движется время, впе-
ред или назад. Мы можем прокрутить пленку назад. Но если зай-
ти с другой стороны и посмотреть на ящик с газом как на единое
целое, то процесс смешивания статистически станет улицей с од-
носторонним движением. Мы можем целую вечность наблюдать
за жидкостью, но она никогда не разделится на горячие молекулы
с одной стороны и холодные с другой. Умная молодая Томасина
в “Аркадии” Тома Стоппарда говорит: “Размешать не значит раз-
делить” *. Это то же самое, что и “время идет вперед, и вспять его
не повернуть”. Такие процессы движутся только в одном направ-
лении. Причина тому — вероятность. Примечательно, что физи-
кам потребовалось много времени, чтобы принять то, что каждый
необратимый процесс должен быть каким-то образом объяснен.
Само время зависит от шанса, или “случайностей”, как любил го-
ворить Ричард Фейнман: “Ну, вы понимаете, что единственный
вывод, к которому здесь можно прийти, заключается в том, что не-
обратимость вызвана обычными случайностями”. Физика не “за-
прещает” обратного разделения газа в коробке, просто вероят-
ность этого события крайне мала. Поэтому второй закон попро-
сту вероятностный: статистически все стремится к максимальной
энтропии.
Тем не менее вероятности достаточно для того, чтобы второй
закон оставался столпом науки. Как выразился Максвелл,
I Пер. О. Варшавер.
293
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Мораль. Второй закон термодинамики имеет такую же степень
правдоподобности, как и утверждение, что если вы выплеснет#
горсть воды в море, вы не сможете снова зачерпнуть ту же горсть
той же воды.
Вероятность (точнее, невероятность) того, что тепло перейдет
от более холодного тела к более теплому (без помощи извне), иден-
тична вероятности появления порядка из беспорядка (без помощи
извне). На самом деле оба факта существуют лишь статистически.
Если посчитать все возможные состояния системы, беспорядочных
окажется гораздо больше упорядоченных. Существует множество
способов организации или “состояний”, в которых молекулы нахо-
дятся в беспорядке, и очень немного таких, в которых они аккурат-
но вписаны в некую систему. Упорядоченные состояния имеют низ-
кую вероятность и низкую энтропию. Для значительных степеней
упорядоченности вероятности могут быть очень малы. Алан Тью-
ринг однажды в шутку предложил число N, определенное как “ве-
роятность события, противоположного тому, в котором кусок мела
прыгнет через комнату и напишет на доске строку из Шекспира”.
Постепенно физики начали говорить о микро- и макросостоя-
ниях. Макросостояние — это когда весь газ находится в верхней ча-
сти коробки. Соответствующими микросостояниями были бы все
возможные положения всех частиц, их позиции и скорости. Таким
образом, энтропия стала физическим эквивалентом вероятности:
энтропия определенного макросостояния есть логарифм количе-
ства его возможных микросостояний. Значит, второй закон есть
тенденция вселенной двигаться от менее вероятных (более упоря-
доченных) к более вероятным (беспорядочным) макросостояниям.
Тем не менее все еще озадачивало то, как много в физике зи-
ждилось на простой вероятности. Можно ли говорить, что в этой
науке нет ничего, что бы удерживало газ от разделения на горячий
и холодный, что это всего лишь вопрос случая и статистики? Макс-
велл проиллюстрировал головоломку мысленным экспериментом.
Представим, предложил он, “существо”, которое охраняет крохот-
ную дырочку в перегородке, разделяющей сосуд с газом. Это со-
здание может видеть приближающиеся молекулы, может опреде-
лить, быстрые они или медленные, и может выбирать, пропускать
294
ГЛАВА 9 ЭНТРОПИЯ И ЕЕ ДЕМОНЫ
их или нет. То есть способно изменить вероятность. Отсортиро-
вывая быстрые молекулы от медленных, оно может сделать сторо-
ну А горячее, а сторону Б холоднее, “и тем не менее никакой рабо-
ты совершено не будет, задействованы только знания наблюдателя
и сверхчувствительные пальцы существа”. Существо пренебрегает
обычной вероятностью. Скорее всего, вещи смешиваются. Чтобы
их разделить, требуется информация.
Томсону эта идея очень понравилась. Он назвал выдуманное
существо демоном — разумным демоном Максвелла, сортирую-
щим демоном Максвелла, а скоро — просто демоном Максвелла.
Об этом парне красноречиво высказался Томсон: “Он отличается
от реальных живых существ только [только!] скоростью и крайне
малым размером”. Выступая с лекцией перед слушателями вечер-
него отделения в Королевском институте Великобритании, с по-
мощью сосудов с жидкостью, окрашенной в разные цвета, Томсон
продемонстрировал очевидно необратимый процесс диффузии
и объявил, что лишь демон сможет этому противостоять:
Он может заставить половину закрытого сосуда с воздухом или по-
ловину металлического прута становиться все более горячей, а дру-
гую — холодной как лед, может направлять энергию движения
молекул так, чтобы вода в резервуаре поднялась вверх и осталась
там пропорционально охлажденной, может “разделить” молекулы
в растворе соли или смеси двух газов так, что обратит естественный
процесс диффузии и создаст концентрированный раствор в одном
месте, оставив чистую воду в остальном объеме, или распределит
газ по двум разным частям сосуда, в котором этот газ содержался.
Репортер The Popular Science Monthly решил, что это нелепо. “Пред-
полагается, что вся природа наполнена бесконечными роями аб-
сурдных маленьких микроскопических бесов, — писал он. — Ко-
гда такие люди, как Максвелл из Кембриджа и Томсон из Глазго, вы-
дают санкцию на столь грубую гипотетическую фантазию, как эта,
о маленьких дьяволятах, сбивающих и пинающих атомы туда и об-
ратно... мы вправе спросить: что же дальше?” Он ничего не понял.
Максвелл не имел в виду, что его демон существует, разве только
как учебное пособие.
295
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Демон видит то, чего не видим мы, потому что мы такие боль-
шие и медлительные, а именно то, что второй закон термодинами-
ки является статистическим, а не механическим. На уровне молекул
он по чистой случайности все время нарушается. Демон заменяет
вероятность целью. Он использует информацию, чтобы исключить
энтропию. Максвелл никогда не представлял себе ни того, насколь-
ко популярным станет его демон, ни того, насколько долго он про-
живет. Генри Адамс, который хотел включить какое-нибудь объяс-
нение энтропии в свою теорию истории, в 1903 году писал брату
Бруксу: “Демон Клерка Максвелла, который управляет вторым за-
коном термодинамики, должен быть избран президентом”.
Демон контролировал проход из мира физики в мир инфор-
мации, и сначала это была просто волшебная дверца.
Ученые завидовали возможностям демона. Он стал часто появлять-
ся в комиксах, оживлявших журналы по физике. Конечно, это со-
здание было фантастическим, но ведь и атом казался фантастиче-
ским, а демон помогал приручить его. Неумолимые, как казалось
теперь, законы природы уступали этому демону. Он был взломщи-
ком, подбирающим шифр замка каждой молекулы. Он был одарен
“бесконечно острыми чувствами”, писал Анри Пуанкаре, и мог
“повернуть мировой процесс в обратном направлении”1. Разве
не это всегда мечтали сделать люди?
Через постоянно совершенствующиеся микроскопы ученые
начала XX века изучали активный сортирующий процесс, выпол-
няемый биологическими мембранами. Они обнаружили, что жи-
вые клетки работают как насосы, фильтры и фабрики. Целенаправ-
ленные процессы происходят в малых масштабах. Кто или что ими
управляет?
Сама жизнь казалась организующей силой. “Мы не должны
вводить демонологию в науку”, — писал английский биолог
Джеймс Джонстон в 1914 году. В физике, говорил он, отдельные
молекулы должны оставаться вне нашего контроля: “Эти движе-
ния и пути нескоординированны, “беспорядочны”, если уж нам
1 Пер. А. Чернявского.
296
ГЛАВА 9 ЭНТРОПИЯ И ЕЕ ДЕМОНЫ
гак хочется дать им определение. Физика рассматривает толь-
ко статистические средние скорости”. Вот почему феномен фи-
зики необратим, “так что для новейшей науки демона Максвелла
не существует”. Но что тогда делать с жизнью? С психологией?
Процессы земной жизни обратимы, утверждал он, “следователь-
но, мы должны искать свидетельства того, что организм может
управлять движением отдельных молекул, в противном случае не-
координированным”.
Не странно ли, что, в то время как большинство усилий человече-
ства прилагается к тому, чтобы направить естественных посредни-
ков и энергию по пути, по которому они в противном случае ни-
когда не пойдут, мы все же умудрились забыть подумать о прими-
тивных организмах или даже об элементах тканей в теле высших
организмов как об обладателях возможности направлять психохи-
мические процессы?
Вероятно, если жизнь оставалась настолько таинственной, демон
Максвелла был не просто карикатурой.
Затем демон стал преследовать Лео Силарда, очень молодо-
го венгерского физика с богатым воображением, который позже
придумает электронный микроскоп и совершенно не случайно
откроет ядерную цепную реакцию. Один из его наиболее знаме-
нитых учителей, Альберт Эйнштейн, доброжелательно советовал
ему поступить на работу в патентное ведомство, но Силард про-
игнорировал совет. В 1920-е он думал о том, как термодинамика
может объяснить постоянные молекулярные флуктуации. Флук-
туации по определению идут вразрез со средними величинами,
словно рыба, плывущая вверх по течению в какой-то момент сво-
ей жизни. Люди, естественно, задавались вопросом: что если полу-
чится их использовать? Идея, которой было невозможно противо-
стоять, привела к версии вечного двигателя, perpetuum mobile, Свя-
тому Граалю аферистов и мелких торговцев. Возник иной способ
спросить: “Почему мы не можем использовать все это тепло?” Еще
один парадокс, порожденный демоном Максвелла.
В замкнутой системе демон, способный ловить быстрые моле-
кулы и пропускать медленные, должен иметь постоянно пополняе-
297
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
мый источник полезной энергии. Но если не дьяволенок-химера,
а другое “разумное существо”? Возможно, физик-экспериментатор?
Мы должны считать, объявил Силард, что машина вечного движе-
ния может существовать в том случае, “если мы рассматриваем экс-
периментатора как своего рода deus ex machine постоянно осведом-
ленного о существующем состоянии природы”. Силард ясно дал по-
нять, что не хочет привлекать живого демона, скажем, наделенного
мозгом, для своей версии мысленного эксперимента — биология
принесла бы с собой собственные проблемы. “Само существование
нервной системы, — заметил он, — зависит от постоянного рассея-
ния энергии”. (Его друг Карл Эккарт метко перефразировал: “Мыш-
ление порождает энтропию”.) Вместо этого он предложил “неживое
устройство”, вмешивающееся в модель термодинамической системы
и приводящее в действие клапан в цилиндре с жидкостью. Он отме-
тил, что такое устройство должно обладать “своего рода способно-
стью помнить”. (Алан Тьюринг в то время, в 1929-м, был еще под-
ростком. В терминах Тьюринга Силард рассматривал разум демона
как компьютер, запоминающий два состояния.)
Силард показал, что даже этот вечный двигатель работать
не будет. Почему? Говоря попросту, информация не бесплатна.
Максвелл, Томсон и остальные подразумевали, что знание лежало,
готовое для того, чтобы им воспользовались, — знание о скоростях
и траекториях молекул, пролетающих перед глазами демона. Они
не принимали во внимание стоимость этой информации. Не мог-
ли, для них в более простые времена все было так, словно информа-
ция принадлежала параллельной вселенной, находилась в высшей
плоскости, не связанной с вселенной материи и энергии, частиц
и сил, чье поведение они учились вычислять.
Но информация — физическая величина. Демон Максвелла
связывает ее с нашей вселенной. Демон выполняет преобразование
информации в энергию постепенно, по одной молекуле. Силард,
который еще не пользовался словом информация, обнаружил, что
если сделать точный расчет для всех измерений и памяти, то пре-
образование можно вычислить. И он его вычислил. Он рассчи-
тал, что каждая единица информации приводит к соответствующе-
му росту энтропии, а именно на К log2 единиц. Каждый раз, когда
демон делает выбор между двумя частицами, это стоит одного бита
298
ГЛАВА 9 ЭНТРОПИЯ И ЕЕ ДЕМОНЫ
информации. Расплата наступает в конце цикла, когда он вынуж-
ден очистить свою память (Силард не выразил это последнее об-
стоятельство словами, но обозначил его математически). Точный
подсчет является единственным способом избавиться от парадокса
вечного движения, привести вселенную обратно в гармонию, “вос-
становить согласие со вторым законом”.
Так Силард замкнул круг, придя к той же концепции энтропии
как информации, к которой пришел и Шеннон. В свою очередь
Шеннон не читал по-немецки и не следил за Zeitschrift far Physik.
“Думаю, Силард на самом деле думал об этом, — сказал он много
позже. — Он говорил об этом с фон Нейманом, а фон Нейман мог
говорить об этом с Винером. Но никто из них на самом деле не го-
ворил об этом со мной”. Тем не менее Шеннон вновь открыл ма-
тематику энтропии.
Для физика энтропия есть мера неопределенности состояния
физической системы — одного из тех состояний, в которых может
находиться система. Эти микросостояния могут быть не равнове-
роятны, поэтому физик написал:
S = - log/?;.
Для ученого, занимающегося теорией информации, энтропия есть
мера неопределенности сообщения — одного сообщения из тех
сообщений, которые может произвести источник связи. Они мо-
гут быть не равновероятны, поэтому Шеннон написал:
Н = -Тр. log/?.
Это не просто формальное совпадение: природа дает одинако-
вые ответы на одинаковые вопросы. Все это одна проблема. Чтобы
уменьшить энтропию в сосуде с газом, выполнить полезную рабо-
ту, приходится расплачиваться информацией. Аналогично, опре-
деленное сообщение сокращает энтропию, или, в терминах термо-
динамических систем, фазовое пространство, во множестве воз-
можных сообщений.
Шеннон считал так. Версия Винера немного отличалась. Удач-
но — для слова, история которого началась с обратного значе-
299
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ния, — что и коллеги, и соперники ставили противоположные зна-
ки в своих формулировках понятия энтропии. Там, где Шеннон
отождествлял информацию с энтропией, Винер говорил об отри-
цательной энтропии. Винер утверждал, что информация означает
порядок, но упорядоченные вещи не обязательно содержат много
информации. Сам Шеннон указывал на разницу этих двух опреде-
лений и сократил ее до минимума, назвав разновидностью “мате-
матического каламбура”. Он отметил, что ученые пришли к одина-
ковым численным результатам:
Я рассматриваю, сколько информации производится^ когда осуще-
ствляется выбор из множества: чем больше множество, тем боль-
ше информации. Вы рассматриваете большую неопределенность
в случае большего множества — это означает меньше знаний о си-
туации и, следовательно, меньше информации.
Если перефразировать, Н есть мера неожиданности. Или так:
Н — среднее количество вопросов, на которые можно дать толь-
ко простые ответы “да” или “нет”, необходимое для того, чтобы
угадать неизвестное сообщение. Шеннон выразил это правиль-
но; по крайней мере, его подходом впоследствии воспользовались
и математики, и физики, но путаница продолжалась несколько лет.
Порядок и беспорядок все еще надо было как-то упорядочить.
Все мы ведем себя как демон Максвелла. Организмы занима-
ются организацией. Причина, по которой здравомыслящие физи-
ки в течение двух столетий позволяли жить этой карикатуре, лежит
в повседневности. Мы сортируем почту, строим замки из песка,
складываем пазлы, отделяем зерна от плевел, переставляем шахмат-
ные фигуры, собираем марки, составляем алфавитные указатели
в книгах, создаем симметрию, сочиняем сонеты и сонаты и ставим
вещи на место в своих домах — все это не требует огромных затрат
энергии, если подходить к таким действиям разумно. Мы пропове-
дуем структуру (не только люди, но вообще все живое). Мы нару-
шаем тенденцию к равновесию. Было бы абсурдным рассматривать
эти процессы с термодинамической точки зрения, но не будет аб-
сурдным сказать, что мы уменьшаем энтропию. Постепенно. Бит
за битом. Первоначального демона, выбиравшего одну молекулу
300
ГЛАВА 9 ЭНТРОПИЯ И ЕЕ ДЕМОНЫ
за раз, отличавшего быструю молекулу от медленной и следяще-
го за своей маленькой “калиткой”, иногда описывают как “сверх-
разумного”, но по сравнению с настоящими организмами он об-
ученный идиот.
Живые организмы не только борются с беспорядком вокруг
себя, они сами по себе, их скелеты и плоть, везикулы и мембраны,
панцири и раковины, листья и цветки, системы обращения и ме-
таболические пути — чудеса структурирования и схематизации.
Иногда кажется, что сдерживание энтропии является смыслом на-
шего существования во вселенной.
В 1943 году Эрвин Шредингер — первооткрыватель кванто-
вой физики, всегда в галстуке-бабочке, всегда с сигаретой — вы-
казал желание выступить с серией публичных лекций в Тринити-
колледже в Дублине, решив, что пришло время ответить на один
из самых великих безответных вопросов: “Что такое жизнь?” Урав-
нение, носящее его имя, было основной формулой квантовой ме-
ханики. Заглядывая за пределы своей области исследований, как
часто поступают нобелевские лауреаты среднего возраста, Шре-
дингер сменил строгость рассуждений на догадки и начал с изви-
нений за то, “что многие из нас должны ступить на опасный путь
синтеза фактов и теорий, несмотря на то что с некоторыми они
знакомы понаслышке, не имеют полной информации и рискуют
выглядеть дураками”. Тем не менее книжка, в которую он собрал
эти лекции, имела большое влияние. Не открыв и даже не утвер-
ждая ничего нового, она заложила фундамент зарождающей-
ся и еще не названной науки, объединяющей генетику и биохи-
мию. “Книга Шредингера стала своего рода “Хижиной дяди Тома”
для революции в биологии, которая, когда улеглась пыль, остави-
ла нам в качестве наследника молекулярную биологию”, — напи-
сал позже один из основоположников этой науки. Биологи рань-
ше не читали ничего подобного, а физики приняли книгу как сиг-
нал того, что следующая великая проблема может лежать в области
биологии.
Шредингер начал с так называемой загадки биологической
устойчивости. В противоположность сосуду с газом с его каприз-
ными вероятностями и флуктуациями и в кажущемся противоре-
чии с волновой механикой самого Шредингера, где неопределен-
301
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ность является правилом, структуры живых существ проявляют
замечательное постоянство. Оно сохраняется в течение жизни ор-
ганизма и его потомков путем наследования. Это показалось Шре-
дингеру требующим объяснения.
“Когда мы называем кусок материи живым?” — спросил он. Он
пропустил мимо ушей обычные предположения — рост, питание,
воспроизводство — и ответил настолько просто, насколько это
было возможно: “Когда он продолжает “делать что-то”, двигаться,
обмениваться веществами с окружающей средой и т.д. в течение
гораздо более длительного периода времени, чем мы ожидали бы
от неодушевленного куска материи при схожих обстоятельствах”.
Обычно кусок материи останавливается, газ в сосуде приобрета-
ет одинаковую температуру, химическая система “угасает и умира-
ет, становясь инертным куском материи” — тем или иным образом
Второй закон соблюден, максимум энтропии достигнут. А живые
существа умудряются оставаться нестабильными. Норберт Винер
рассматривал эту мысль в “Кибернетике”: ферменты, писал он, мо-
гут быть “метастабильными” демонами Максвелла, то есть не впол-
не стабильными или неустойчиво стабильными. “Стабильное со-
стояние фермента — потеря работоспособности, — отмечал он, —
а стабильное состояние живого организма есть смерть”.
Шредингер чувствовал, что живое существо “кажется таким
загадочным” именно потому, что какое-то время избегает воздей-
ствия Второго закона, или нам кажется, что избегает. Способность
организма симулировать вечное движение приводит к тому, что
столько людей верят в специальную, сверхъестественную жизнен-
ную силу. Он посмеялся над этой идеей —vis viva или ортогенез, —
он также высмеял и популярное представление о том, что организ-
мы “питаются энергией”. Энергия и материя — это всего лишь две
стороны одной медали, и в любом случае одна калория настоль-
ко же хороша, как и любая другая. Нет, заявил он, организмы пита-
ются отрицательной энтропией.
“Чтобы снизить градус парадоксальности, — добавил Шредин-
гер (и тем самым его только увеличил), — можно сказать, что ос-
новным в метаболизме является то, что организму удается освобо-
дить себя от всей энтропии, которую он не может не производить,
пока жив”.
302
ГЛАВА 9 ЭНТРОПИЯ И ЕЕ ДЕМОНЫ
Другими словами, организм высасывает порядок из окружаю-
щей среды. Травоядные и плотоядные обедают за шведским сто-
лом структуры, они питаются органическими смесями, хорошо
упорядоченной материей и возвращают ее “в очень сильно обесце-
ненной форме — впрочем, обесцененной не полностью, посколь-
ку ее еще могут использовать растения”. Растения в свою очередь
получают не только энергию, но и негативную энтропию от сол-
нечного света. В терминах энергии можно произвести более или
менее строгий расчет. В терминах порядка вычисления не столь
просты. Математические рассуждения о порядке и хаосе являются
более хрупкими, поскольку соответствующие определения попада-
ют в цикл обратной связи с самими собой.
Еще столько предстоит узнать о том, как жизнь хранит и уве-
ковечивает порядок, который извлекает из природы, размышлял
Шредингер. Биологи с их микроскопами узнали многое о клетках.
Они могли видеть гаметы — сперматозоиды и яйцеклетки. Вну-
три них были палочкообразные волокна, названные хромосома-
ми, организованные попарно, и их число остается постоянным
для каждого вида. Было известно, что они передают свойства, ко-
торые переходят из поколения в поколение. Как говорил Шредин-
гер, они внутри себя каким-то образом содержат “структуру” орга-
низма: “Именно эти хромосомы — или, возможно, только осевая
или скелетная нить того, что мы видим под микроскопом как хро-
мосому, — содержат в виде своего рода шифровального кода весь
“план” будущего развития индивидуума и его функционирования
в зрелом состоянии”Он считал удивительным — таинственным,
но, безусловно, чрезвычайно важным в некотором, пока еще неиз-
вестном смысле, — что каждая отдельная клетка организма “долж-
на располагать полной (двойной) копией закодированного “пла-
на”. Он сравнил это с армией, в которой каждый солдат осведом-
лен обо всех нюансах стратегии генерала.
Такими нюансами являлись многие отдельные “свойства” орга-
низма, хотя оставалось неясным, что стояло за каждым из свойств.
(“Разложить на отдельные “свойства” структуру организма, кото-
рый по своей сути является единым, “целостным”, кажется неаде-
1 Здесь и далее — пер. А. Малиновского и Г. Порошенко.
303
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
кватным и невозможным”, — рассуждал Шредингер.) Цвет глаз жи-
вотного, голубой или коричневый, может быть свойством, но го-
раздо важнее сосредоточиться на отличиях одной особи от другой;
считалось, что эти отличия контролируются чем-то, передаваемым
с хромосомами. Ученый использовал термин ген — “гипотетиче-
ский материальный носитель определенной наследственной осо-
бенности”. Никто пока не смог их увидеть, но время, когда такое
наконец произойдет, казалось, скоро наступит. Благодаря наблюде-
ниям, сделанным с помощью микроскопа, стала возможной оценка
их размера: около 100-150 атомных расстояний; возможно, тысяча
атомов или меньше. Тем не менее каким-то образом эти мельчай-
шие элементы должны были включать в себя всю структуру живого
организма — мухи или рододендрона, мыши или человека. И мы
должны представлять себе ее как четырехмерный объект: структура
организма, проходящая через все его онтогенетическое развитие,
каждую стадию от эмбриона до взрослой особи.
В поисках ключа к молекулярной структуре генов казалось
естественным обратиться к наиболее организованным формам ма-
терии — кристаллам. Твердые вещества в кристаллической фор-
ме обладают относительным постоянством; они могут начинать-
ся с маленького зародыша и вырастать во все большие и большие
структуры. И квантовая механика заинтересовалась силами, вовле-
ченными в связывание кристаллов. Но Шредингер чувствовал: че-
го-то не хватает. Кристаллы слишком упорядоченны — построе-
ны “относительно неинтересным способом повторения одной
и той же структуры в трех измерениях снова и снова”. Какими бы
сложными они ни казались, кристаллы содержали лишь несколь-
ко видов атомов. Жизнь должна зависеть от вещей более высоко-
го уровня сложности, структуры без предсказуемого повторения,
утверждал ученый. Он придумал термин “апериодические кри-
сталлы”. Вот его гипотеза:
Различие в структуре здесь такое же, как между обычными обоя-
ми, на которых один и тот же рисунок появляется с правильной пе-
риодичностью, и шедевром вышивки, скажем рафаэлевским гобе-
леном, который повторяет сложный, последовательный и полный
замысла рисунок.
304
ГЛАВА 9 ЭНТРОПИЯ И ЕЕ ДЕМОНЫ
Некоторые из числа самых восхищенных его читателей, такие как
Леон Бриллюэн — французский физик, недавно переехавший
в США, — говорили, что идеи Шредингера были слишком умны,
чтобы быть полностью убедительными. Но в своих работах уче-
ные демонстрировали, что поверили ему. Бриллюэна особенно за-
интересовала аналогия с кристаллами, с их сложной, но неживой
структурой. У кристаллов есть некоторая способность к самовос-
становлению, заметил он, — под давлением их атомы могут пе-
редвинуться на новые позиции для сохранения равновесия. Это
можно определить в терминах термодинамики, а теперь и кванто-
вой механики. Как же тогда должен восхищать процесс самовосста-
новления в живых организмах: “Живые существа залечивают раны,
преодолевают болезни и способны регенерировать даже крупные
части своей структуры, поврежденные или потерянные в результа-
те несчастного случая, — это является, пожалуй, самой поразитель-
ной чертой их поведения”1. Он последовал за Шредингером, ис-
пользовав энтропию для связи мельчайшего и самого крупного.
Земля — это не замкнутая система: жизнь зависит от энергии и от-
рицательной энтропии, проникающей в эту систему... Цикл таков:
сначала создание неустойчивого равновесия (топливо, пища, водо-
пады и т.д.), затем использование этих запасов всеми живыми су-
ществами.
К живым существам невозможно применить обычные способы
подсчета энтропии. Если обобщать, то же самое происходит с ин-
формацией. “Возьмите выпуск The New York Times, книгу по ки-
бернетике и такого же веса стопку бумаги, — предложил Бриллю-
эн. — Одинаковая ли у них энтропия?” Если вы топите ими печь,
то да. Но если читаете... Даже в порядке, в котором расположены
чернильные пятна, есть энтропия.
С этой точки зрения физики сами преобразуют отрицатель-
ную энтропию в информацию, утверждал Бриллюэн. Из наблюде-
ний и измерений физик выводит научные законы, с помощью ко-
торых люди создают машины, никогда не существовавшие, самые
1 Пер. под. ред.В. Пекелиса.
305
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
невероятные по структуре. Он написал это в 1950 году, когда по-
кидал Гарвард, чтобы начать работу в корпорации IBM в Пукипси.
Но демон Максвелла так и остался непобежденным. Пробле-
ма не могла быть полностью решена, демона нельзя было оконча-
тельно изгнать без более глубокого понимания области, далекой
от термодинамики, — области счетно-вычислительных машин.
Позже Питер Ландсберг написал такую эпитафию: “Демон Макс-
велла скончался шестидесяти двух лет от роду (когда появилась ста-
тья Лео Силарда), но он продолжает бродить по замку физики, как
беспокойный и любимый призрак”.
10
СОБСТВЕННЫЙ КОД ЖИЗНИ
Полное описание организма
уже содержится в яйце
Коренная сущность каждого живого существа — не пламя, не теплое
дыхание и не “искра жизни”, но информация, слова, инструкции. Если
вы любите метафоры, то не представляйте себе огни, искры и дыхание,
а представляйте себе миллиарды четких кодовых знаков, высеченных
на гранях кристалла1.
Ричард Докинз (1986)
Ученые любят фундаментальные частицы. Если характер-
ные черты передаются от одного поколения к следующему,
то они должны принимать какую-то примитивную фор-
му — или у них обязан быть какой-то носитель. Именно
поэтому, например, была введена предполагаемая частица
протоплазмы. “Биологу нужно позволить использовать столько же
воображения в научных целях, сколько и физику, — объяснял The
Popular Science Monthly в 1875 году. — Если один не может обойтись
без молекул и атомов, второй должен иметь свои физиологические
единицы, свои пластичные молекулы, свои “пластикулы”.
Пластикулы не прижились. Впрочем, в то время практически
у всех были ложные представления о наследственности. Поэтому
в 1910 году датский ботаник Вильгельм Иохансон без особой шуми-
хи придумал слово “ген”. Ученый старался опровергнуть распро-
страненную мифологию наследственности и думал, что новое сло-
во сможет в этом помочь. Миф был таким: “личные качества” пере-
даются от родителей к их потомству. Это “самая наивная и старая
1 Пер. А. Протопопова.
307
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
концепция наследственности”, — заявил Йохансон, выступая перед
Американским обществом натуралистов. Его идею можно понять.
Если отец и дочь толстые, люди могли подумать, что одна полно-
та стала причиной другой, что отец передал свою полноту дочери.
Но это не так. Как заявил Йохансон, “личные качества любого
отдельного организма совсем не определяют качества, которыми будет
обладать его потомство, но качества как предка, так и потомка опре-
делены вполне одинаковым способом, природой “половых субстан-
ций”, т. е. гаметами, из которых они развиваются”. То, что наследуется,
более абстрактно, скорее вопрос потенциальных возможностей.
Чтобы избавиться от вводящих в заблуждения рассуждений,
ученый предложил новую терминологию и начал с гена: “В нем нет
ничего особенного — короткое, очень подходящее слово, которое
легко сочетать с другими”1. Вряд ли имело значение, что ни он сам,
ни кто-либо другой еще не знал, что такое ген на самом деле; “это
слово может быть полезно как название “факторов-единиц”, “эле-
ментов” или “аллеломорфов”. <... > Что касается природы “генов”,
пока она недостаточно важна, чтобы выдвигать гипотезы”. Годы ис-
следований Грегора Менделя с зеленым и желтым горохом показали,
что подобная штука должна существовать. Цвета и другие свойства
различаются в зависимости от многих факторов, таких как темпе-
ратура, состав почвы, но нечто остается неизменным, оно не сме-
шивается и не диффундирует и оно должно быть квантированным.
Мендель обнаружил ген, хотя и не назвал его. Ген был ему нужен
скорее для алгебраического удобства, а не как физическая сущность.
Когда Шредингер размышлял о гене, перед ним встала пробле-
ма. Как могла такая “малюсенькая крупинка вещества” содержать
весь сложнейший “план”, зашифрованный сценарий, определяю-
щий сложное развитие организма? Для разрешения этой проблемы
Шредингер привел пример не из волновой механики или теорети-
ческой физики, а из телеграфии — из азбуки Морзе. Он заметил,
что два знака, точка и тире, могут быть объединены в хорошо упо-
рядоченные группы для передачи всего человеческого языка. Гены,
1 Он добавил: “Старые термины в большинстве своем скомпрометированы при-
менением в устаревших или ошибочных теориях и системах, откуда они при-
носят осколки неадекватных идей, не всегда безобидных для развивающейся
науки”. — Прим. авт.
308
ГЛАВА Ю СОБСТВЕННЫЙ КОД ЖИЗНИ
предположил он, тоже должны использовать код: “Миниатюрный
шифровальный код должен в точности соответствовать очень слож-
ному и специфическому плану развития организма и каким-то об-
разом содержать средства, способствующие его реализации”.
Коды, инструкции, сигналы — весь этот язык, сильно отдаю-
щий машиностроением и инженерными проектами, давил на био-
логов как нормандский французский, вторгающийся в средневеко-
вый английский.
В 1940 году из-за употребления этого жаргона возникало изо-
щренное, искусственное ощущение, которое скоро прошло. Новая
молекулярная биология начала изучать хранение и передачу инфор-
мации. Биологи смогли привлечь термин “биты”. Некоторые физи-
ки, теперь обратившиеся к биологии, считали информацию имен-
но тем понятием, которое необходимо для обсуждения и измерения
биологических качеств, ведь для него еще не было своих инструмен-
тов: сложность и порядок, организация и специфичность. Генри Ка-
стлер из Вены, один из первых радиологов, тогда работавший в Уни-
верситете Иллинойса, применял теорию информации как к био-
логии, так и к психологии; он провел следующую аналогию: пусть
аминокислота содержит столько же информации, сколько написан-
ное слово, тогда молекула белка соответствует абзацу текста. Его кол-
лега Сидней Данкофф в 1950 году подкинул идею, что нить хромосо-
мы есть “линейная лента с закодированной информацией”:
Нить представляет собой “сообщение”. Это сообщение можно
разбить на части и назвать их “абзацами”, “словами” и т. д. Вероят-
но, наименьшей единицей сообщения является некий триггер, ко-
торый может принимать решение — да или нет.
В 1952 году Квастлер организовал симпозиум по теории инфор-
мации в биологии с единственной целью — распространить эти
новые идеи: энтропия, шум, сообщение, дифференциация в раз-
ных сферах, от клеточной структуры и ферментативного катализа
до крупномасштабных “биосистем”. Один из исследователей по-
строил оценку числа битов, представленных в простой бактерии, —
получилось ю13. (Но это было число, необходимое для описания
всей ее молекулярной структуры в трех измерениях — пожалуй,
309
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
описание могло быть более экономичным.) Рост бактерии можно
рассмотреть как снижение энтропии в той части вселенной, кото-
рую она представляет. Сам Кастлер хотел измерить более сложные
организмы в терминах информационного содержания: не в терми-
нах атомов (“это было бы крайне бессмысленной затратой сил”),
но в терминах “гипотетических инструкций по построению орга-
низма”. Этот путь, конечно, привел его к генам.
Полный набор инструкций, расположенный “где-то в хромо-
сомах”, и есть геном. Это “каталог”, говорил ученый, содержащий
если не всю, то по крайней мере “существенную часть всей инфор-
мации о взрослом организме”. Впрочем, он подчеркнул, что о ге-
нах известно чрезвычайно мало. Были ли они отдельными физиче-
скими сущностями или пересекались друг с другом? Были ли они
“независимыми источниками информации” или влияли друг на дру-
га? Сколько их? Перемножив неизвестные, он получил результат:
Объем существенной информации, содержащийся в отдельной
клетке и в человеке в целом, не больше ю15 и не меньше ю5 бит;
крайне грубая оценка, но она лучше, чем ее отсутствие.
Эти неуклюжие попытки сами по себе не привели ни к чему. Тео-
рию информации Шеннона нельзя было просто пересадить на био-
логическую почву. Но вряд ли это имело значение. Уже произошел
сейсмический сдвиг от размышлений об энергии к размышлениям
об информации.
Весной 1953 года на другом берегу Атлантики в редакцию жур-
нала Nature в Лондоне пришло странное письмо, подписанное уче-
ными из Парижа, Цюриха, Кембриджа и Женевы. Самым извест-
ным среди этих людей был Борис Эфрусси, первый профессор ге-
нетики во Франции. Ученые жаловались на то, “что кажется нам
весьма хаотичным расширением технического словаря”. В част-
ности, они наблюдали, что генетическую рекомбинацию бакте-
рий описывали как “преобразование”, “индукцию”, “трансдукцию”
и даже “инфекцию”. Они предложили упростить дело:
Как выход из этой сбивающей с толку ситуации мы хотели бы пред-
ложить термин “межбактериальная информация” в качестве заме-
310
ГЛАВА 10 СОБСТВЕННЫЙ КОД ЖИЗНИ
ны всех вышеперечисленных. Он не обязательно подразумевает пе-
ренос материальных субстанций и допускает возможное использо-
вание науки кибернетики на бактериальном уровне в будущем.
Это письмо было результатом изобиловавшего вином обеда в Ло-
карно и задумывалось как шутка, но редакторы Nature сочли его
вполне правдоподобным и немедленно опубликовали.
Самым молодым из участников того обеда, подписавшим
письмо, был 25-летний американец Джеймс Уотсон.
В следующем же номере Nature было опубликовано письмо са-
мого Уотсона и его соавтора Фрэнсиса Крика. Оно сделало их зна-
менитыми. Они нашли ген.
На тот момент ученые договорились, что чем бы ни были гены,
как бы они ни работали, они, вероятнее всего, являются белками —
гигантскими органическими молекулами, состоящими из длинных
цепочек аминокислот. Но в 1940-е несколько генетиков сосредото-
чились на простых вирусах — фагах. Эксперименты по выявлению
наследственных признаков у бактерий убедили немногих исследо-
вателей, в том числе Уотсона и Крика, что гены могут находиться
в другой субстанции, которая по неизвестным причинам обнару-
живалась в ядре каждой клетки, будь то клетки растения, животно-
го или фагов. Этой субстанцией была нуклеиновая кислота, точ-
нее дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК. Люди, работав-
шие с нуклеиновыми кислотами, в основном химики, знали о них
немного — например, что молекулы состояли из групп, названных
нуклеотидами. Уотсон и Крик решили, что в этом и заключается
главный секрет, и поспешили выяснить их структуру в Кавендиш-
ской лаборатории Кембриджа. Они не могли видеть эти молекулы,
они могли только искать их следы с помощью дифракции рентге-
новских лучей. Но они много знали о группах, из которых эти мо-
лекулы состояли. Каждый нуклеотид содержал “основу”, причем су-
ществовало всего четыре разных базовых основания, обозначаемых
как А, С, G и Т. Они появлялись в строго определенных пропор-
циях. Они должны были быть элементами кода. Остальное можно
было додумать с помощью метода проб и ошибок и воображения.
То, что обнаружили ученые, стало иконой: двойная спираль по-
явилась на обложках журналов и в произведениях искусства. ДНК
311
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
сформирована из двух переплетенных длинных последовательно-
стей оснований, словно шифр, закодированный четырехбуквен-
ным алфавитом, где каждая последовательность дополняет другую.
Каждая цепь отдельно могла служить шаблоном для репликации.
(Был ли это апериодический кристалл Шредингера? В терминах
физической структуры, дифракция рентгеновских лучей показа-
ла, что ДНК полностью регулярна. Апериодичность отражена в аб-
страктном уровне языка — последовательности “букв”.) В местном
пабе возбужденный Крик объявил всем, кто хотел слышать, что об-
наружен “секрет жизни”; в своей небольшой, длиной всего в одну
страницу, заметке в журнале Nature ученые были более осмотри-
тельны. Они закончили текст замечанием, которое было названо
“одним из наиболее скромных утверждений в научной литературе”:
От нашего внимания не ускользнул тот факт, что из постулируе-
мой нами избирательной сочетаемости пар вытекает возможный
механизм копирования генетического материала1.
Уже через несколько недель, к моменту публикации другой статьи,
они отбросили скромность и робость. В каждой цепочке последо-
вательность оснований кажется нерегулярной; возможна любая
последовательность, заметили они. “Отсюда следует, что в длин-
ной молекуле возможно множество различных комбинаций”. Мно-
жество комбинаций — это то же самое, что и множество возмож-
ных сообщений. Их следующее замечание немедленно привлекло
внимание по обе стороны Атлантики: “Таким образом, кажется ве-
роятным, что точная последовательность оснований есть код, кото-
рый несет генетическую информацию”. Термины код и информа-
ция^ использованные в этой статье, уже не были метафорами.
В сложных структурах органических макромолекул содержится
информация. Одна молекула гемоглобина состоит из четырех цепо-
чек полипептидов, две из которых в свою очередь состоят из 141 ами-
нокислоты, а две другие — из 146 аминокислот, и они находятся
в строгой линейной последовательности, связаны и переплетены
1 Из беседы с академиком Ю. Алтуховым. Цит. по “Вестнику Российской акаде-
мии наук”. Т. 73. № 11. 2003. С. 995-1001.
312
ГЛАВА 10 СОБСТВЕННЫЙ КОД ЖИЗНИ
друг с другом. Атомы водорода, кислорода, углерода и железа могут
случайно соединяться в любой момент жизни вселенной, но вероят-
ность того, что они соединятся в молекулу гемоглобина, так же мала,
как и вероятность того, что вошедшие в поговорку шимпанзе смо-
гут напечатать работы Шекспира. Появление молекул требует энер-
гии; они построены из более простых, менее упорядоченных частей,
и к ним применим закон энтропии. К земной жизни энергия при-
ходит в виде фотонов от солнца. А информация — через эволюцию.
Молекула ДНК была особенной: информация, которую она
несет, является ее единственной функцией. Осознав это, биоло-
ги принялись решать проблему расшифровки кода. Крик, кото-
рый ради биологии ушел из физики, после того как прочитал кни-
гу “Что такое жизнь?”, послал Шредингеру копию их с Уотсоном
статьи, но не получил ответа.
С другой стороны, отчет Уотсона — Крика увидел Джордж
(Георгий) Гамов, когда посетил Лабораторию изучения радиации
в Беркли. Гамов, родившийся в Одессе, был астрофизиком, созда-
телем теории Большого Взрыва, и разумеется, он смог узнать вели-
кую идею. Он отправил письмо:
Уважаемые д-р Уотсон и д-р Крик.
Я физик, а не биолог. <... > Но меня очень взволновала ваша статья
в номере Nature от 30 мая, и мне кажется, что она переводит биоло-
гию в группу “точных” наук... Если ваша точка зрения верна, то каж-
дый организм можно будет охарактеризовать длинным числом, за-
писанным в четверичной (?) системе с цифрами 1, 2, 3, 4 для разных
оснований. <... > Это открывает заманчивую перспективу теорети-
ческих исследований, основанных на комбинаторике и теории чи-
сел!.. У меня есть чувство, что это можно сделать. Что вы думаете?
В течение следующего десятилетия битва за понимание гене-
тического кода привлекла пестрый набор великих умов, и у многих,
как и у Гамова, не было полезных знаний в области биохимии. Для
Уотсона и Крика решение первоначальной задачи зависело от пре-
одоления болота специальных деталей — водородных и солевых
связей, фосфатных цепочек с дезоксирибофуранозными остатками.
Им пришлось узнать, как неорганические ионы могут быть ориен-
313
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
тированы в трехмерном пространстве, и научиться вычислять точ-
ные углы химических связей. Они делали модели из картона и же-
стяных пластин. Но проблема переместилась в другую плоскость
и стала абстрактной игрой в манипуляции символами. Одиночная
спираль РНК, двоюродная сестра ДНК, казалось, играла роль по-
сыльного или переводчика. Гамов объяснил, что связанная с эти-
ми молекулами химия практически не имела значения. Он и другие,
последовавшие за ним, понимали это как математическую задачу —
сопоставить сообщения в разных алфавитах. Если это проблема ши-
фрования, то за необходимыми им инструментами следовало обра-
титься к комбинаторике и теории информации. Консультации про-
водились не только с физиками, но и с криптоаналитиками.
Сам Гамов импульсивно начал с разработки комбинаторного
кода. Проблема, как он ее понимал, заключалась в том, чтобы пе-
рейти от четырех оснований ДНК к двадцати известным амино-
кислотам, из которых состоят белковые молекулы, — следователь-
но, к коду из четырех букв и двадцати слов1.
Чистая комбинаторика заставила его думать о триплетах, ком-
бинациях из трех последовательно расположенных нуклеотидов,
как о трехбуквенных словах. Через несколько месяцев подробное
решение было готово, вскоре оно стало известно под названи-
ем “ромбовидный код”, и ученый опубликовал его в Nature. Че-
рез несколько месяцев после этого Крик показал, что это реше-
ние неверно: экспериментальные данные о протеиновых последо-
вательностях исключали ромбовидный код. Но Гамов не сдавался.
Идея триплетов была соблазнительна. К охоте подключился неожи-
данный состав ученых: Макс Дельбрюк, бывший физик, а теперь
биолог в Калифорнийском технологическом институте; его друг
Ричард Фейнман, занимавшийся квантовой физикой; Эдвард Тел-
лер, знаменитый создатель водородной бомбы; еще один выпуск-
ник Лос-Аламоса, математик Николас Метрополис; Сидни Брен-
нер, присоединившийся к Крику в лаборатории Кавендиша.
У всех были разные мысли о коде. Математически проблема ка-
залась обескураживающей даже Гамову. “Как и с взломом сообщений
1 Перечисляя двадцать аминокислот, Гамов забегал вперед. Точное число ами-
нокислот еще не было известно. Число двадцать оказалось верным, несмотря
на то что сам список Гамова — нет. — Прим. авт.
314
ГЛАВА 10 СОБСТВЕННЫЙ КОД ЖИЗНИ
противника в годы войны, — писал он в 1954 году, — успех зависит
от длины доступного зашифрованного текста. Как скажет вам любой
офицер разведки, работа очень сложна, результат зависит в основ-
ном от удачи... Боюсь, что задача не может быть решена без помо-
щи электронной вычислительной машины”. Гамов и Уотсон реши-
ли создать Клуб галстуков РНК, в который вошло двадцать человек.
Каждый член клуба получил шерстяной галстук в черных и зеленых
тонах, сделанный по рисунку Гамова галантерейщиком из Лос-Ан-
джелеса. Дело было не только в игре, Гамов хотел создать канал свя-
зи в обход публикаций в журналах. Новости науки никогда раньше
не распространялись так быстро. “Многие значительные идеи перво-
начально предлагались для неформального обсуждения по обе сто-
роны Атлантики и затем быстро транслировались заинтересованным
лицам, — рассказывал один из членов клуба, Гюнтер Стент, — через
частное международное сарафанное радио”. Случались здесь и фаль-
старты, и предположения наобум, и тупиковые идеи, да и сами био-
химики не всегда с радостью принимали идеи членов клуба.
“Люди не обязательно верят в код, — писал Крик позже. —
Большинство биохимиков раньше просто об этом не думали. Это
была совершенно новая идея; более того, они были склонны счи-
тать, что она слишком упрощена”. Они думали, что способ понять,
что такое белки, лежит в изучении ферментных систем и в сочета-
нии пептидных единиц. Это было достаточно разумно.
Они думали, что синтез белка не может быть простым вопросом ко-
дирования одной вещи в другую, что это слишком напоминает изо-
бретение физиков. По их мнению, все это было слишком далеко
от биохимии... Поэтому простым идеям вроде кодирования ами-
нокислот с помощью трех нуклеотидов было оказано определенное
сопротивление; люди считали, что это похоже на мошенничество.
С другой стороны, Гамов обходил все биохимические детали и вы-
двигал идею шокирующей простоты: любой живой организм опре-
деляется “длинным числом, записанным в четырехзначной систе-
ме”. Он назвал его “числом зверя” (как в Книге Откровения). Если
два зверя имеют одно и то же число, они являются идентичными
близнецами.
315
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
К этому времени слово “код” настолько глубоко укорени-
лось в разговорном языке, что люди редко задумывались, насколь-
ко на самом деле необычно обнаружить такую вещь — абстрактные
символы, представляющие различные произвольные абстрактные
символы, — в действии: в химии, на уровне молекул. Генетический
код выполнял функцию, которая была сверхъестественным обра-
зом похожа на метаматематический код, придуманный Геделем для
его философских целей. Код Геделя заменял математические выра-
жения и операции обычными числами; генетический код исполь-
зовал триплеты нуклеотидов для представления аминокислот. Дуг-
лас Хофштадтер был первым, кто обозначил эту связь понятным
языком в 1980-е: связь “между сложными процессами в живой клет-
ке, которые позволяют молекуле ДНК воспроизводить самое себя,
и умными машинами в математической системе, которые позво-
ляют формуле сообщить нечто о самой себе”. В обоих случаях он
увидел петлю обратной связи. “Никто никогда ни в малейшей сте-
пени не подозревал, что один набор химических веществ может ко-
дировать другой”, — писал Хофштадтер.
Идея ошарашивает. Если есть код, то кто его придумал? Ка-
кого рода сообщения им записаны? Кто их пишет? Кто их читает?
Клуб галстуков установил, что проблема состояла не просто
в хранении информации, но в ее передаче. ДНК выполняет две раз-
ные функции. Во-первых, сохраняет информацию. Она делает это,
копируя саму себя из поколения в поколение, из века в век, — Алек-
сандрийская библиотека, сохраняющая свои данные, копируя себя
миллиарды раз. Несмотря на красивую двойную спираль, это хра-
нилище информации по существу одномерно: строка элементов,
поставленных друг за другом. В ДНК человека число нуклеоти-
дов превышает миллиард, и это подробное гигабайтное сообщение
должно быть в точности или почти в точности сохранено. Во-вто-
рых, ДНК также посылает эту информацию вовне для того, чтобы
ее можно было использовать при создании организма. Данные, со-
храненные в одномерной нити, должны оказаться в трех измерени-
ях. Эта передача информации происходит путем передачи сообще-
ний от нуклеиновых кислот белкам. Таким образом, ДНК не только
воспроизводит саму себя, отдельно от этого процесса она диктует
производство чего-то совершенно иного. Белки со всей их огром-
316
ГЛАВА 10 СОБСТВЕННЫЙ КОД ЖИЗНИ
ной сложностью служат материалом для тела, раствором, кирпича-
ми и одновременно системой управления, водопроводом, электро-
проводкой и химическими сигналами, контролирующими рост.
Репликация ДНК есть копирование информации. Производ-
ство белков есть передача информации, посылка сообщения. Био-
логи теперь ясно могли это видеть, потому что сообщение оказалось
хорошо определено и абстрагировано от какого-либо конкретно-
го субстрата. Если сообщения могут передаваться с помощью зву-
ковых волн или пульсаций электричества, то почему они не могут
передаваться биохимическими процессами?
Гамов описал проблему просто: “Ядро живой клетки есть храни-
лище информации”. Более того, заявил он, это передатчик информа-
ции. Непрерывность жизни проистекает из этой “информационной
системы”, а предметом изучения в генетике является “язык клеток”.
Когда ромбовидный код Гамова оказался неверным, ученый
попробовал “треугольный” код и еще множество других вариаций,
тоже неверных. Кодовые единицы из триплетов оставались главны-
ми, а решение казалось завораживающе близким, но недоступным.
Проблема заключалась в том, чтобы понять, как природа де-
лит, казалось бы, неразрывные нити ДНК и РНК. Никто не мог
разглядеть биологического эквивалента паузы, разделяющей бук-
вы в азбуке Морзе, или пробела, стоящего между словами. Веро-
ятно, каждое четвертое основание есть запятая. Или, может быть
(как предположил Крик), запятые не нужны, если некоторые три-
плеты имеют “смысл”, а другие нет. Опять-таки может быть нуж-
но, чтобы что-то вроде считывающего устройства начинало рабо-
тать в определенном месте этой ленты и отсчитывало нуклеотиды
тройку за тройкой. Среди математиков, привлеченных проблемой,
была группа из новой Лаборатории реактивного движения в Паса-
дене, которая должна была заниматься изучением воздушно-кос-
мического пространства. Для них все это выглядело как классиче-
ская проблема теории шифрования Шеннона — “последователь-
ность нуклеотидов как бесконечное сообщение, записанное без
пунктуации, из которого любая конечная часть должна декодиро-
ваться в последовательность аминокислот путем соответствующей
расстановки запятых”. Они составили словарь кодов. И рассмотре-
ли проблему опечаток.
3V
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Биохимия, безусловно, имела значение. Все криптоаналитики
мира не смогли бы угадать верный ответ. Когда в начале 1960-х ге-
нетический код был расшифрован, оказалось, что он полон избы-
точности. Многие соответствия между нуклеотидами и аминокис-
лотами казались случайными — они не следуют шаблону с точно-
стью, подразумевавшейся в любом из вариантов Гамова. Некоторые
аминокислоты соответствуют лишь одной кодовой единице, дру-
гие — двум, четырем или шести. Частицы, названные рибосома-
ми, двигаются вдоль нити РНК и транслируют ее, три основания
за раз. Некоторые единицы кода оказались избыточными; некото-
рые на самом деле работают сигналами начала и конца. Избыточ-
ность служит ровно той же цели, что и ожидал бы теоретик ин-
формации. Она дает устойчивость к ошибкам. Шум влияет на био-
логические сообщения так же, как и на любые другие. Ошибки
в ДНК, опечатки, называются мутациями.
Еще до того, как был получен точный ответ, Крик выразил
его фундаментальные принципы в утверждении, которое назвал
(и оно до сих пор так называется) “центральной догмой”. Это ги-
потеза о направлении эволюции и происхождении жизни; она до-
казуема в терминах энтропии Шеннона на множестве возможных
химических алфавитов:
Как только “информация” передана в белок, она не может снова по-
пасть наружу. Более подробно, передача информации от нуклеино-
вой кислоты к нуклеиновой кислоте или от нуклеиновой кислоты
к белку возможна, а передача от белка к белку или от белка к нук-
леиновой кислоте — нет. Под информацией здесь понимается точ-
ное определение последовательности.
Генетическое сообщение независимо и хорошо защищено: никакая
информация, поступающая извне, не может его изменить.
Информация никогда прежде не была записана в таком мас-
штабе. Перед вами рукопись ангстремных размеров, опублико-
ванная там, где никто не сможет увидеть, в Книге Жизни, которая
в свою очередь свободно проходит сквозь игольное ушко.
Omne vivum ex ovo. “Полное описание организма уже со-
держится в яйце, — зимой 1971 года говорил в Кембридже Сид-
318
ГЛАВА 10 СОБСТВЕННЫЙ КОД ЖИЗНИ
ни Бреннер Хорасу, великому летописцу молекулярной биологии
Джадсону Фриланду. — Внутри каждого животного сокрыто его
описание... Будет непросто суммировать огромное количество де-
талей. Наиболее экономичный язык описания — молекулярный,
генетическое описание уже присутствует. Мы пока не знаем, как
будут выглядеть названия на этом языке. Как организм называет
сам себя} Мы не можем сказать, например, что организм имеет на-
звание для пальца. Нет гарантии, что при создании руки объясне-
ние можно дать в терминах, которые мы используем при изготов-
лении перчатки”.
Бреннер был в задумчивом настроении, пил шерри до обеда
в Кингс-колледж. Когда он начал работать с Криком, менее двух
десятилетий назад, сама молекулярная биология еще не имела на-
звания. Два десятилетия спустя, в 1990-е, ученые по всему миру по-
пытаются расшифровать геном человека — около 20 тыс. генов,
3 млрд пар оснований. Что же изменилось за эти годы? Изменилась
точка зрения — от энергии и материи к информации.
“Вся биохимия до 1950-х годов была сосредоточена вокруг во-
проса, откуда берутся энергия и материалы для функционирования
клетки, — утверждал Бреннер. — Биохимик думал только о пото-
ках энергии и потоках материи. Молекулярные биологи начали го-
ворить о потоках информации. Оглядываясь, можно увидеть, что
двойная спираль принесла с собой понимание того, что информа-
ции в биологических системах может быть исследована способом,
очень похожим на способ изучения энергии и материи... ”
“Послушайте, — заявил он Джадсону, — позвольте мне при-
вести пример. Если бы вы подошли к биологу двадцать лет назад
и спросили его: “Как синтезировать белок?”, он ответил бы: “Ну,
это ужасно сложная проблема, я не знаю... но важный вопрос со-
стоит в том, где вы возьмете энергию для создания пептидных свя-
зей”. Тогда как молекулярный биолог сказал бы: “Это не проблема,
важная проблема состоит в том, где вы возьмете инструкции для
сборки последовательности аминокислот, и черт с ней, с энергией,
она сама о себе позаботится”.
К этому времени технический жаргон биологов включал сло-
ва алфавит, библиотека, редактирование, правка, транскрипция,
перевод, отсутствие смысла, синоним и избыточность. Генетика
319
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
и ДНК привлекли внимание не только криптографов, но и класси-
ческих лингвистов.
Были обнаружены отдельные белки, способные переключать-
ся из одного относительно стабильного состояния в другое. Они
выполняли функцию реле, принимая зашифрованные команды
и передавая их своим соседям, — коммутаторные станции в трех-
мерной сети связи. Бреннер, заглядывая вперед, думал, что фокус
переместится и к информатике. Он предсказывал появление науки
(правда, не придумал, как ее назвать) о хаосе и сложности. “Я ду-
маю, в следующие двадцать пять лет нам придется научить биоло-
гов еще одному языку, — сказал он. — Не знаю, как он будет назы-
ваться, и никто не знает. Но думаю, что нацелен он будет на фун-
даментальную проблему теории сложных систем”. Он вспомнил
фон Неймана, во времена рассвета теории информации и кибер-
нетики предложившего понимать биологические и умственные
процессы в терминах того, как может действовать вычислительная
машина. “Другими словами, — объяснял Бреннер, — там, где на-
ука вроде физики работает в терминах законов, а наука вроде мо-
лекулярной биологии до сих пор говорит в терминах механизмов,
возможно, пришло время начать думать об алгоритмах, наборах
команд, процедурах”.
Если вы хотите знать, что такое мышь, спросите вместо это-
го, как можно построить мышь. Как мышь строит саму себя? Гены
мыши включают и выключают друг друга и выполняют вычисления
пошагово. “Я чувствую, что новая молекулярная биология должна
пойти в направлении исследования высокоуровневых логических
компьютеров, программ, алгоритмов развития... ”
“Хотелось бы быть в состоянии слить воедино и то и другое,
передвигаться между молекулярными строительными материалами
и логическими программами, описывающими, как это все органи-
зовано, без того, чтобы ощущать, что это две разные науки”.
Даже тогда — или особенно тогда — ген не был тем, чем ка-
зался. Понятие, начавшееся с догадки ботаника и алгебраическо-
го удобства, отследили до уровня хромосом и описали как скру-
ченные молекулярные нити. Ген был расшифрован, пронумерован
и каталогизирован. А затем, в пору расцвета молекулярной биоло-
гии, идея о гене снова сорвалась с якоря.
320
ГЛАВА 10 СОБСТВЕННЫЙ КОД ЖИЗНИ
Чем больше становилось известно, тем труднее было давать
определения. Является ли ген ДНК? Состоит ли он из ДНК или
это что-то, что переносит ДНК? Вообще правильно ли его опреде-
лять как материальную субстанцию?
Не все были согласны с тем, что это проблема. В 1977 году Гюн-
тер Стент заявил, что одним из самых больших триумфов в этой
области науки было “однозначное определение” гена Менделя как
участка молекулы ДНК. “Именно в этом смысле все ныне работаю-
щие генетики употребляют слово “ген”, — писал он. Говоря корот-
ко и техническим языком, “ген на самом деле является линейным
массивом нуклеотидов ДНК, который определяет линейный мас-
сив белковых аминокислот”. Это определенно установил Сеймур
Бензер, утверждал Стент.
Тем не менее сам Бензер не был настроен столь оптимистич-
но. Еще в 1957 году он утверждал, что классический ген мертв.
Это было понятие, пытавшееся служить сразу трем целям как
единица рекомбинации, мутации и функционирования, и уже
тогда имелись веские основания подозревать, что цели несовме-
стимы. Нить ДНК содержит множество пар оснований, словно
бусы на нитке или буквы в предложении; как физический объект
ее нельзя назвать элементарной единицей. Бензер предложил ва-
рианты новых названий этой частицы: “рекон” для наименьшей
единицы, которая может участвовать в рекомбинации; “мутон”
для наименьшей единицы, изменение которой приводит к му-
тации (в одиночной паре оснований); “цистрон” для единицы
функционирования, которую, признавал он, трудно определить.
‘Все зависит от того, какой уровень функциональности имеется
в виду”, — писал он, — возможно, только определение аминокис-
лоты или, может быть, все множество шагов, “ведущих к одному
конкретному физиологическому конечному эффекту”. Ген нику-
да не делся, но оказалось, что это короткое слово несет слишком
большую смысловую нагрузку.
Отчасти происходило столкновение между молекулярной
и эволюционной биологией, которую изучали с помощью наблю-
дений — от ботаники до палеонтологии. Это было настолько же
плодотворное столкновение, насколько и любое другое в истории
науки. Прошло совсем немного времени, и ни одна из сторон уже
321
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
не могла двигаться вперед без другой, но в процессе летели искры.
К этому движению был причастен молодой зоолог из Оксфорда
Ричард Докинз. Ему казалось, что многие его коллеги смотрели
на жизнь с неверной точки зрения.
По мере того как молекулярная биология совершенствовала
свои познания о ДНК и становилась все более искусной в манипу-
лировании этими молекулярными догадками, было естественным
считать их ответом на великий вопрос жизни: как организмы вос-
производят себя? Мы пользуемся ДНК ровно так же, как пользуем-
ся легкими, чтобы дышать, и глазами, чтобы видеть. Мы пользуемся.
“Читатели... поймут всю ошибочность подобных представлений, —
писал Докинз. — Это истина, поставленная с ног на голову”1. ДНК
появляется первой, утверждал он, если рассматривать жизнь в пра-
вильной перспективе. С этой точки зрения гены являются главны-
ми, sine qua поп, звездами шоу. В своей первой книге, опубликован-
ной в 1976 году, предназначенной для широкой аудитории, с прово-
кационным названием “Эгоистичный ген” он запустил спор длиною
в десятилетия, заявив: “Мы всего лишь машины для выживания, само-
ходные транспортные средства, слепо запрограммированные на со-
хранение эгоистичных молекул, известных под названием генов”.
И добавил, что это истина, которая известна ему уже многие годы.
Гены, а не организмы являются единицами естественного от-
бора. Они возникли как “репликаторы” — молекулы, случайно
сформированные в первородном супе, обладающие необычным
свойством создавать копии самих себя.
Они не вымерли, ибо они — непревзойденные мастера в искусстве
выживания. Но не надо искать их в океане, они давно перестали
свободно и непринужденно парить в его водах. Теперь они собра-
ны в огромные колонии и находятся в полной безопасности в ги-
гантских неуклюжих роботах, отгороженные от внешнего мира,
общаясь с ним извилистыми непрямыми путями и воздействуя
на него с помощью дистанционного управления. Они присутству-
ют в вас и во мне. Они создали нас, наши души и тела, и единствен-
ный смысл нашего существования — их сохранение. Они прошли
1 Здесь и далее — пер. Н. Фоминой.
322
ГЛАВА 10 СОБСТВЕННЫЙ КОД ЖИЗНИ
длинный путь, эти репликаторы. Теперь они существуют под на-
званием генов, а мы служим для них машинами выживания.
Такое утверждение, разумеется, заставило ощетиниться организмы,
которые считали себя чем-то большим, чем роботы. “Английский
биолог Ричард Докинз недавно разозлил меня, — писал Стивен
Джей Гулд в 1977 году, — своим утверждением, будто сами гены
являются единицами селекции, а особи суть просто их временные
носители”. Гулд был в хорошей компании. Говоря от имени многих
молекулярных биологов, Гюнтер Стент заявил, что можно не обра-
щать внимания на Докинза, этого “36-летнего исследователя пове-
дения животных”, и отнес его к разряду “старой традиции донауч-
ного анимизма, согласно которому все природные объекты наде-
лены душой”.
Тем не менее книга Докинза была гениальной и преобразующей.
Она породила новое, многослойное понимание гена. Сначала идея
эгоистичного гена казалась трюком изменения угла зрения или шут-
кой. Самюэль Батлер сказал веком ранее, не заявляя своего первен-
ства в этом вопросе, что курица — всего лишь способ, которым яйцо
производит другое яйцо. Батлер был вполне серьезен по-своему.
Каждому существу должно быть позволено “управлять” своим раз-
витием по собственному усмотрению; способ, которым это дела-
ет яйцо, может показаться слишком окольным, но это его способ,
и это один из тех способов, на который людям в целом нет осо-
бых причин жаловаться. Почему птица должна считаться более жи-
вой, чем яйцо, и почему должно говорить, что курица несет яйца,
а не что яйца несут куриц, — это вопросы, которые лежат за пре-
делами философского объяснения, но на которые, возможно, про-
ще всего ответить, если учесть самомнение человека и его привыч-
ку упорствовать вот уже много веков, не замечая того, что не напо-
минает ему о нем самом.
И добавил: “Но, наверное, в конце концов настоящая причина за-
ключается в том, что яйцо не кудахчет, когда сносит курицу”. Неко-
торое время спустя шаблон Батлера X есть просто способ Y сделать
другой Y начал повторятся в многих формах. “Ученик, — сказал Дэ-
323
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ниел Деннет в 1995 году, — всего лишь способ библиотеки создать
еще одну библиотеку”. И это была не просто шутка.
В 1878 году для Батлера высмеивать такой взгляд на жизнь, ко-
гда в центре всего располагается человек, было скорее предвидени-
ем, но он читал Дарвина и смог понять, что все мироздание не было
создано вокруг Homo sapiens. “Антропоцентризм есть смертельный
порок интеллекта”, — сказал Эдвард О. Уилсон столетие спустя,
но у Докинза была заготовлена еще более радикальная смена точ-
ки зрения. Он отбрасывал в сторону не просто человека (и кури-
цу), но организм во всей его многогранной славе. Как может био-
логия не быть наукой об организмах? Если он чего-то и не учел,
когда высказывал свои идеи, так это трудностей, с которыми при-
дется столкнуться: “Необходимо приложить определенное усилие,
чтобы вновь наставить биологию на верный путь и вспомнить, что
репликаторам принадлежит первое место как по их значению, так
и в историческом плане”.
Одной из целей Докинза было желание объяснить такое явле-
ние, как альтруизм — поведение индивидов, которое противоре-
чит их собственным интересам. В природе полно примеров, когда
животные рискуют собственной жизнью в пользу своего потом-
ства, своих сородичей или просто членов их генетического клу-
ба. Более того, они делятся едой; они кооперируются при построй-
ке ульев и дамб; они упрямо охраняют свои яйца. Чтобы объяс-
нить такое поведение, да и любую адаптацию, если уж на то пошло,
обычно задают вопрос детектива, расследующего убийство: cui
bono? Кто выигрывает, когда птица, увидев хищника, кричит, пред-
упреждая стаю, но также и привлекая внимание к себе? Хочется ду-
мать в терминах выгоды для группы — семьи, племени или вида, —
но большинство ученых согласны, что эволюция так не работает.
Естественный отбор редко происходит на уровне групп. Однако
оказывается, что многие объяснения аккуратно занимают свое ме-
сто, если думать об особи как о ком-то, кто пытается передать соб-
ственный отдельный набор генов в будущее.
Конечно, ее вид разделяет с ней большую часть этих генов,
а с родственниками она имеет еще больше общих генов. Конечно,
особь не знает о генах. Она не пытается осознанно сделать что-то
подобное. И конечно, никто не приписывает намерений самим ге-
324
ГЛАВА 10 СОБСТВЕННЫЙ КОД ЖИЗНИ
нам — маленьким сущностям без мозга. Но, как показал Докинз,
смена угла зрения и утверждение, что гены работают на увеличе-
ние своей репликации, могут оказаться полезными. Например, ген
‘может обеспечить свое выживание, последовательно наделяя тела,
в которых он оказывается, длинными ногами, дающими им воз-
можность убегать от хищников”. Ген может увеличить собствен-
ную численность до максимума, давая организму инстинктивный
импульс пожертвовать жизнью ради спасения потомства: сам ген,
конкретный сгусток ДНК, умирает вместе с животным, но его ко-
пии продолжают жить. Процесс слеп. У него нет предвидения, нет
намерения, нет знаний. Гены тоже слепы. ‘Тены не наделены да-
ром предвидения, — пишет Докинз. — Они не заглядывают вперед.
Гены просто существуют (причем одни преуспевают в этом больше,
чем другие), и этим все сказано”.
История жизни начинается со случайного появления молекул,
достаточно сложных, чтобы стать строительным материалом, —
с репликаторов. Репликатор — это носитель информации. Он выжи-
вает и распространяется, копируя сам себя. Копии должны быть яс-
ными и надежными, но не обязаны быть совершенными; наоборот,
для продолжения эволюции ошибки должны появляться. Реплика-
торы могли существовать задолго до ДНК, даже до белков. В одном
из сценариев, предложенном шотландским биологом Александром
Кернсом-Смитом, репликаторы появились в слоях кристаллов гли-
ны — сложные молекулы силикатных минералов. В других моде-
лях эволюционной сценой действия остается более традиционный
первобытный суп. Так или иначе, некоторые из этих несущих ин-
формацию макромолекул распадаются быстрее, чем другие; неко-
торые делают больше копий или более точные копии; некоторые
обладают химическим эффектом разрушать конкурирующие моле-
кулы. Поглощая энергию фотонов, словно миниатюрные демоны
Максвелла, которыми они и являются, молекулы рибонуклеиновой
кислоты, РНК, катализируют процесс формирования более круп-
ных и более богатых информацией молекул. ДНК, всегда немно-
го более стабильная, обладает двойной способностью копировать
себя, одновременно производя другой вид молекул, и это дает осо-
бое преимущество. Она может защититься, построив вокруг себя
белковую оболочку. Это “машина выживания” Докинза — сначала
325
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
клетки, затем все более и более крупные тела с растущими запасами
мембран, и тканей, и суставов, и органов, и навыков. Они — при-
чудливые носители генов, участвующие в гонке с другими носите-
лями, преобразующие энергию и даже обрабатывающие информа-
цию. В игре на выживание некоторые носители обыгрывают дру-
гих, превосходят их в маневрировании и в распространении.
Потребовалось некоторое время, но геноцентрическая, осно-
ванная на информации точка зрения привела к новому виду детек-
тивной работы по выслеживанию истории развития жизни. Там,
где палеонтологи смотрели в прошлое, в ископаемые свидетельства
в поисках предшественников крыльев и хвостов в скелетах, молеку-
лярные биологи и биофизики искали намеки на остатки ДНК в ге-
моглобине, онкогенезе и всей остальной библиотеке ферментов
и белков. “Создается молекулярная археология, — утверждал Вер-
нер Левенштейн. История жизни написана в терминах негативной
энтропии. — Что действительно развивается, так это информация
во всех ее формах и преобразованиях. Если существовало бы что-то
вроде руководства для живых существ, думаю, первая строка чита-
лась бы в нем как библейская заповедь: увеличь свою информацию”.
Ни один ген не создает организма. Насекомые, растения и жи-
вотные — это коллективы, коммунальные носители, скоопериро-
ванные собрания множества генов, каждый из которых играет свою
роль в развитии организма. Это сложносочиненное единое целое,
в котором каждый ген взаимодействует с тысячами других в иерар-
хии влияний, простирающейся как в пространстве, так и во времени.
Тело есть колония генов. Конечно, она действует, двигается и про-
изводит потомство как единое целое и, более того, по крайней мере
в случае одного вида с впечатляющей уверенностью ощущает себя
как единое целое. Геноцентричная точка зрения помогла биологам
осознать, что гены, составляющие человеческий геном, — это все-
го лишь часть генов, содержащихся в каждом человеке, потому что
люди (как и другие виды) от кожи до системы пищеварения являют-
ся носителями целой экосистемы микробов, в частности бактерий.
Наши “микробиомы” помогают нам переваривать пищу и бо-
роться с болезнями, все это время быстро и гибко развиваясь в уго-
ду собственным интересам. Эти гены вовлечены в великий про-
цесс взаимного соразвития, конкурируя друг с другом и с альтер-
326
ГЛАВА 10 СОБСТВЕННЫЙ КОД ЖИЗНИ
нативными аллелями в огромном генном котле природы, но уже
не конкурируя сами с собой. Их успех или неудача проявляется че-
рез взаимодействие. “Каждый... отбирается как отдельный эгои-
стичный ген, — пишет Докинз, — но процветает лишь в присут-
ствии соответствующего набора других, генов”.
Влияние любого отдельного гена зависит от этих взаимодей-
ствий с единым целым, от влияния окружающей среды и от чи-
стой случайности. В самом деле, даже говорить о влиянии гена ста-
ло непросто. Недостаточно просто сказать, что влияние гена есть
белок, который он синтезирует. Но можно сказать, что овца или
ворона обладает геном черной масти. Это может быть ген, произ-
водящий белок черного пигмента в шерсти или перьях. Но овцы,
вороны и все остальные создания, способные быть черными, де-
монстрируют эту особенность в разных обстоятельствах и в раз-
ной степени; даже такое кажущееся простым качество редко имеет
биологический переключатель “включено” или “выключено”. До-
кинз предложил ситуацию, когда ген, синтезирующий белок, дей-
ствует как фермент со многими косвенными и отдаленными эф-
фектами, одним из которых является облегчение производства
черного пигмента. Более того, предположим, что ген поощряет ор-
ганизм искать солнечный свет, который в свою очередь необходим
для черного пигмента. Такой ген — просто “участник заговора”,
но он незаменим. Однако назвать его геном черной масти стано-
вится трудно. И еще труднее определить гены, отвечающие за бо-
лее сложные свойства, — гены ожирения, агрессии, строительства
гнезд, смышлености или гомосексуализма.
Существуют ли гены, отвечающие за такие вещи? Нет, если
ген — это определенная часть ДНК, производящая белок. Нельзя
сказать, что существуют гены для чего бы то ни было, даже для цвета
глаз. Вместо этого нужно говорить, что различия в генах порожда-
ют различия в фенотипе (получившемся организме). Но с ранних
времен изучения наследственности ученые говорили о генах в бо-
лее широком смысле. Если в популяции есть различия по какому-то
признаку, например росту, и если вариация зависит от естественно-
го отбора, то она по определению хотя бы частично генетическая.
Существует генетический компонент вариаций роста. Нет
гена длинных ног, вообще нет гена для ног. Для того чтобы вы-
327
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
растить ногу, требуется много генов, каждый выдает инструкции
в форме белков, некоторые производят строительный материал,
другие создают таймеры и выключатели. Некоторые из этих ге-
нов, несомненно, могут сделать ноги длиннее, чем они были бы,
не будь этих генов, и именно их мы можем коротко называть ге-
нами длинных ног, до тех пор пока помним, что непосредственно
длинноногость не представлена и не закодирована в гене.
Так генетики, зоологи, этологи и палеонтологи взяли при-
вычку говорить “ген для X” вместо “генетический вклад в измен-
чивость параметра X”. Докинз заставил их взглянуть на логиче-
ские последствия. Если есть любая генетическая вариация свой-
ства — цвет глаз или ожирение, — то должен быть ген или гены
для этого свойства. Неважно, что фактическое проявление свой-
ства зависит от от непредставимого массива других факторов, ко-
торые могут быть факторами окружающей среды и даже случайны-
ми факторами. Для иллюстрации он предложил намеренно дове-
денный до крайности пример: ген чтения.
Идея кажется абсурдной по нескольким причинам. Чтение —
приобретенный навык. Никто не рождается, умея читать. Если ка-
кой-либо навык вообще завит от факторов окружающей среды, на-
пример от образования, то это как раз навык чтения. Всего несколь-
ко тысячелетий назад его не существовало вовсе, поэтому на него
не могло распространяться действие естественного отбора. Можно
так же сказать (именно так иронизировал генетик Джон Мейнард
Смит), что существует ген для завязывания шнурков. Но Докин-
за это не смутило. Он указал, что в конечном счете гены отвеча-
ют заразличия. Поэтому он начал с простого противопоставления:
может ли не существовать ген, отвечающий за дислексию?
Чтобы установить существование “гена чтения”, нам нужно об-
наружить ген не “чтения”, а, скажем, ген, вызывающий опреде-
ленную патологию мозга, конкретный вид дислексии. Такой дис-
лексический человек мог бы быть нормален и умен во всех отно-
шениях, за исключением того, что он бы не мог читать. Ни один
генетик особо не удивится, если окажется, что этот вид дислексии
передается по наследству по законам Менделя. В этом случае оче-
видно, что ген проявил бы свой эффект лишь в такой среде, какая
328
ГЛАВА 10 СОБСТВЕННЫЙ КОД ЖИЗНИ
предполагала бы нормальное образование. В доисторической об-
становке он мог бы не иметь никакого внешнего эффекта; впро-
чем он мог бы иметь отличающийся эффект, который бы пещер-
ные генетики назвали бы, скажем, “геном неспособности читать
следы животных”...
Что же до нашего гена этой дислексии, то из обычных соглашений
о генетической терминологии следует, что немутировавший ген
в том же локусе, ген, который остальная популяция имеет в двой-
ном количестве, должен называться “геном чтения”. Если вы с этим
не согласны, то вы должны также возражать против разговоров
о генах высоты у гороха Менделя, потому что логика терминологии
идентична в обоих случаях. В обоих случаях интерес фокусирует-
ся на различиях, и в обоих случаях различие проявляет себя в лишь
некоторой специфической окружающей среде. Причина, по кото-
рой нечто столь простое, как отличие одного гена, может вызывать
такой сложный эффект, как обусловливание способности научить-
ся (или нет) чтению, или определять, будет ли человек хорошим
(или нет) завязывателем шнурков, в основном описана. При всей
сложности данного состояния мира может быть так, что различие
между этим состоянием мира и некоторым другим может быть вы-
звано чем-то чрезвычайно простым!.
Может ли существовать ген альтруизма? Да, говорит Докинз, если
это означает “любой ген, воздействующий на развитие нервной си-
стемы таким образом, чтобы сделать вероятным ее альтруистичное
поведение1 2”. Такие гены — репликаторы, выживающие, — конеч-
но, ничего не знают об альтруизме и чтении. Чем бы они ни были
и где бы они ни находились, их фенотипические эффекты имеют
значение лишь до тех пор и до той степени, до какой они помогают
генам передаваться по наследству.
Молекулярная биология в ее знаменательном достижении об-
наружила ген в кодирующем белки отрезке ДНК. Это было опре-
деление с точки зрения “оборудования”. Определение с точки
зрения “программы” было старше и более размыто: единица на-
1 Пер. А. Протопопова.
2 Здесь и далее — пер. Н. Фоминой.
329
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
следования, носитель фенотипических различий. Так как эти два
определения с трудом сосуществуют друг с другом, Докинз взгля-
нул поверх обоих.
Если гены созданы, чтобы отвечать за выживание, они вряд ли
могут быть фрагментами нуклеиновой кислоты. Такие вещи ми-
молетны. Говорить, что репликатор умудряется выжить в течение
эонов, — это определить репликатор как все копии, рассматривае-
мые как одна. Таким образом, ген не “стареет”, заявил Докинз.
Он с равной вероятностью может умереть в возрасте как миллио-
на, так и всего ста лет. Он перепрыгивает из одного тела в другое,
манипулируя ими на свой лад и в собственных целях, покидая эти
смертные тела одно за другим, прежде чем они состарятся и умрут.
“Я хочу подчеркнуть, — писал он, — потенциальное квазибессмер-
тие гена в форме копий как его определяющее свойство”. Здесь
жизнь срывается со своих материальных якорей. (Если только вы
не верите в бессмертие души.) Ген — это не несущая информа-
цию макромолекула. Ген есть сама информация. В 1949 году фи-
зик Макс Дельбрюк написал: “Сегодня существует тенденция го-
ворить: “Гены есть просто молекулы или наследственные частицы”
и тем самым исключать абстракции”. Теперь абстракции вернулись.
Где же тогда находится любой отдельный ген — например, ген
длинноногости у человека? Это немного похоже на вопрос, где на-
ходится бетховенская Соната для фортепиано ми минор. В ориги-
нальном нотном манускрипте? В печатной нотной версии? В лю-
бом концертном исполнении или, возможно, в сумме всех исполне-
ний, состоявшихся и потенциальных, реальных и воображаемых?
Восьмые и четверти, нанесенные на бумагу, не есть музыка.
Музыка — это не серия звуковых волн, разносящихся по воздуху,
не дорожки, прочерченные на виниле, не питы, считываемые ла-
зером с компакт-диска, и даже не нейронные симфонии, возни-
кающие в мозгу слушателя. Музыка — это информация. Аналогич-
но, пары оснований ДНК не есть гены. Они кодируют гены. Сами
гены состоят из битов.
11
В МЕМОФОНД
Вы паразитируете на моем мозге
Когда я размышляю о мемах, я часто ловлю себя на том,
что представляю эфемерную мигающую структуру, состоящую из искр,
которые перепрыгивают с мозга на мозг и кричат “Я, я!”
Дуглас Хофштадтер (1983)
Вейлу самой универсальности структур начиная с кода
биосфера теперь выглядит как уникальное явление, — на-
писал Жак Моно в 1970 году. — Как жизнь не была зало-
жена сразу внутри вселенной, так и появление человека
в биосфере не было само собой разумеющимся. Наш “но-
мер” выпал в лотерее. Разве удивительно, что, так же как и чело-
век, только что выигравший миллион в казино, мы ощущаем себя
несколько странно и неестественно?”
Парижский биолог Жак Моно, лауреат Нобелевской премии
(которую он разделил с двумя коллегами) за открытия, связанные
с генетическим контролем синтеза ферментов и вирусов, не был
одинок, считая биосферу больше чем просто понятием — сущно-
стью, состоящей из всех форм жизни на земле, простых и сложных,
изобилующей информацией, воспроизводящейся и развивающей-
ся, переходящей с одного уровня абстракции на другой с помощью
кода. Этот взгляд на жизнь был более абстрактным, более математи-
ческим, чем то, что мог вообразить Дарвин, но ученый бы признал
его основные принципы. Ведь спектаклем управляет естественный
331
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
отбор. Теперь биологи, усвоив методы и словарь науки о связи, по-
шли дальше и сами вносили вклад в понимание того, что такое ин-
формация. Моно предложил аналогию: точно так же, как биосфера
находится выше мира неживой природы, “царство абстракции” под-
нимается над биосферой. Кто они, обитатели этого царства? Идеи.
Идеи сохранили некоторые свойства организмов. Как и последние,
они имеют тенденцию к сохранению структуры и размножению, они
тоже могут сливаться, рекомбинировать, сегрегировать один из своих
компонентов; разумеется, они тоже могут развиваться, и, без сомне-
ния, в этом развитии естественный отбор должен играть важную роль.
У идей “как у инфекции” есть “способность к распространению”, за-
метил он, и некоторые обладают ею в большей степени, чем другие.
Примером заразной идеи может служить религиозная идеология,
захватывающая власть над большими группами людей. Американ-
ский нейрофизиолог Роджер Сперри предложил аналогичное по-
нятие несколькими годами ранее, утверждая, что идеи “так же реаль-
ны”, как нейроны, в которых они живут. У идей есть сила, заявил он.
Идеи порождают другие идеи, помогают развиваться новым. Они
взаимодействуют друг с другом и с другими силами того же мозга,
соседних мозгов и благодаря глобальной коммуникации — мозгов,
находящихся на далеком от них расстоянии. Они взаимодействуют
с внешним окружением, и это в целом приводит к эволюционному
взрыву, который выходит за рамки всего, что до сих пор появлялось
на сцене эволюции...
Моно добавил: “Я не буду делать ставку на теорию естественного
отбора идей”. Не было необходимости. Хватало других желающих.
Ричард Докинз по-своему связал эволюцию генов и идей. Основ-
ным действующим лицом здесь был репликатор, и вряд ли имело зна-
чение, что репликаторы состояли из нуклеиновых кислот. Его прави-
ло — “Все живое эволюционирует в результате дифференциального
выживания реплицирующихся единиц”1. Где жизнь, там и реплика-
1 Здесь и далее — пер. Н. Фоминой.
332
ГЛАВА 11 В МЕМОФОНД
торы. Вероятно, в других мирах репликаторы могли бы возникнуть
на основе кремния или вовсе без каких-либо химических соединений.
Что означало бы для репликатора существование без химии?
“Думаю, что на этой планете недавно появилась новая разновид-
ность репликаторов... — объявил Докинз в конце своей первой
книги в 1976 году. — Они бросаются в глаза. Они все еще на ста-
дии младенчества, все еще неуклюже дрейфуют в своем первобыт-
ном супе, но уже добиваются эволюционных изменений с такой
скоростью, которая оставляет старый ген пыхтеть далеко позади”.
Этот “суп” есть человеческая культура; вектор передачи есть язык;
плодородная почва — мозг.
Докинз предложил название для самого бесплотного реплика-
тора. Он назвал его “мем”, и это стало его наиболее запомнившим-
ся изобретением, гораздо более значительным, чем эгоистичные
гены или антирелигиозные проповеди. “Мемы распространяются
в том же смысле, переходя из одного мозга в другой с помощью
процесса, который в широком смысле можно назвать имитаци-
ей”, — писал он. Они конкурируют друг с другом за ограничен-
ные ресурсы — время мозга или ширину канала. Но главное — они
конкурируют за внимание. Например...
Идеи. Возникает ли идея однажды или появляется множество раз,
она может процветать и разрастаться в мемофонде или истощить-
ся и исчезнуть. В качестве примера Докинз приводит веру в Бога —
древнюю идею, воспроизводящую саму себя не только в словах,
но и в музыке и искусстве. Вера в то, что Земля вращается вокруг
Солнца, является мемом не в меньшей степени, мемом, конкурирую-
щим за выживание с другими. (Истинность может быть полезным
свойством мема, но она будет лишь одним из многих его свойств.)
Мелодии. Эта мелодия
распространялась веками на нескольких континентах. Этот
333
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
всем известный, пусть и живший более короткое время захватчик моз-
гов оккупировал огромные массы населения во много раз быстрее.
Крылатые фразы. Отрывок текста “вот что творит Бог!1” по-
явился рано и быстро распространился более чем в одной среде.
Другой, “читайте по губам1 2”, прошел замысловатым путем всю
Америку конца XX столетия.
Survival of the fittest3 4 является мемом, который, как и дру-
гие, сильно мутирует (survival of the fattest^ survival of the sickest5 6 y
survival of the fakest**, survival of the twittest7 и т. п.).
Изображения. Во время Исаака Ньютона о его внешности име-
ли хоть какое-то представление не более нескольких тысяч его со-
временников, несмотря на то что он был одним из знаменитейших
людей Англии. Теперь же миллионы людей вполне отчетливо пред-
ставляют себе, как он выглядел, и это представление основано на ре-
пликах копий довольно плохо выполненных портретов. Еще более
знаменитыми и незабываемыми являются улыбка “Моны Лизы”,
“Крик” Эдварда Мунка и силуэты различных выдуманных инопла-
нетных существ. Это мемы, живущие собственной жизнью, они
не зависят от какой-либо физической реальности. Как сказал один
из экскурсоводов о картине Гилберта Стюарта в музее “Метрополи-
тен”, “возможно, Джордж Вашингтон в те времена выглядел иначе,
но сейчас он выглядит именно так”. Точнее и не скажешь.
Мемы возникают в мозгу и выбираются наружу, используя в ка-
честве плацдармов для распространения и бумагу, и пленку, и все,
что содержит кремний, то есть все, во что может проникнуть ин-
формация. О них нельзя думать как об элементарных частицах,
1 Библия, Числа (23:23). И первое телеграфное сообщение, отправленное Сэмюэ-
лом Морзе.
2 Знаменитая фраза “Читайте по губам: никаких новых налогов” из предвыбор-
ной речи кандидата в президенты США Джорджа Буша, 1988 год.
3 Выживание наиболее приспособленного.
4 Выживание толстейшего (англ). Встречается в том числе как название панк-роко-
вого сборника, выпущенного в 1996 году, и одной из серий сериала “Симпсоны”.
5 Выживание самого больного (англ.). Встречается в том числе как название аль-
бома группы Saliva и книги Шарона Моалема.
6 Выживание с помощью обмана (англ.). Встречается в том числе в статьях, посвя-
щенных борьбе с теорией Дарвина.
7 Выживание тех, кто больше всех твитит (англ.). Встречается в том числе в стать-
ях, где обсуждается проблемы современных СМИ и средства коммуникации.
334
ГЛАВА 11 В МЕМОФОНД
о них надо думать как об организмах. Цифра “три” не мем, также
как и “синий цвет” или какая-нибудь простая мысль, так же как про-
стой нуклеотид не может быть геном. Мемы — сложные, отдельные
и запоминающиеся единицы с непреходящей властью и силой. Объ-
ект — это тоже не мем. Обруч, хулахуп, не мем, он сделан из пласти-
ка, а не из битов. Когда в 1958 году он с дикой скоростью распростра-
нился по всему миру, это был продукт, физическое проявление мема
или мемов — мема желания иметь хулахуп и мема набора навыков,
необходимых для вращения хулахуп. Хулахуп сам по себе носитель
мемов. И, раз уж разговор пошел об этом, каждый человек, крутя-
щий хулахуп, — поразительно эффективный носитель мемов в том
смысле, который точно передал философ Даниэль Деннет: “Фур-
гон со спицевыми колесами перемещает не только зерно или груз
с места на место, он также перемещает и гениальную идею фурго-
на со спицевыми колесами от разума к разуму”. Хулахуперы делали
это для мема хулахупа, и в 1958 году мемы нашли нового переносчи-
ка — широковещательное телевидение, которое посылало сообще-
ния неизмеримо быстрее и дальше, чем любой фургон. Движущееся
изображение хулахупера соблазняло все больше умов — сотни, ты-
сячи, а затем миллионы. Мемом был не танцор, а танец.
Мы являемся их переносчиками и делаем возможным их суще-
ствование. На протяжении большей части нашей биологической
истории их существование было мимолетным, их основным спо-
собом передачи был метод “из уст в уста”. Позже они смогли про-
никнуть в вещественные субстанции — глиняные таблички, стены
пещер, листы бумаги. Они добились долгого существования по-
средством наших перьев и печатных прессов, магнитных лент и оп-
тических дисков. Они распространяются через широковещатель-
ные антенны и цифровые сети. Мемы могут быть историями, ре-
цептами, навыками, легендами и модой. Мы копируем их, каждый
человек в отдельности. С другой точки зрения, в системе взглядов
Докинза мемы копируют себя сами. Сначала некоторые читатели
Докинза задавались вопросом, насколько буквально это надо по-
нимать. Имел ли он в виду наделение мемов антропоморфными
желаниями, устремлениями и целями? Это было повторение исто-
рии с эгоистичным геном. (Типичная отговорка: “Гены могут быть
эгоистичными или нет не более чем атомы могут быть ревнивыми,
335
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
слоны — абстрактными, а печенье — телеологическим”. Типичное
опровержение: напоминание о том, что эгоизм определен в гене-
тике как тенденция повышать собственные шансы на выживание
относительно конкурентов.)
То, как Докинз преподносил свои идеи, не означало, что он пред-
лагал считать мемы сознательными субъектами действия. Он имел
в виду лишь то, что они являются сущностями с интересами, кото-
рые могут быть распространены с помощью естественного отбора.
Их интересы не являются нашими интересами. “Мем, — утверждал
Деннет, — есть информационный пакет с характером”. Когда мы
говорим о борьбе за принципы или смерти за идею, эти выражения,
возможно, гораздо более буквальны, чем кажется. “Умереть за идею,
несомненно, благородно, — писал X. Л. Менкен. — Но насколько
благороднее было бы, если бы люди умирали за истинные идеи!”
Царь, царевич, король, королевич... Рифма и размер помогают лю-
дям запомнить куски текста, другими словами, помогают битам тек-
ста быть запомненными. Рифма и размер есть качества, которые по-
могают мему выжить, так же как скорость и сила помогают животным.
Язык, в котором есть структура, имеет эволюционное преимущество.
Рифма, размер и смысл, так как смысл — тоже способ структурирова-
ния. “Мне когда-то обещали осмыслить мою рифму, но прошло время,
и до сих пор меня не посетили ни рифма, ни результат ее осмысления^.
Как и гены, мемы влияют на большой мир, который находится
вокруг, — фенотипический эффект. В некоторых случаях (мем до-
бывания огня, ношения одежды, воскресения Христа) влияние мо-
жет быть поистине мощным. По мере того как они распространяют
свое влияние на мир, мемы тем самым влияют и на условия, опре-
деляющие их собственные шансы на выживание. Мемы составле-
ния азбуки Морзе имели сильную положительную обратную связь.
“Я считаю, что при наличии соответствующих условий репликато-
ры автоматически собираются вместе, образуя системы, или маши-
1 В книге “История знаменитостей Англии” Томас Фуллер приводит следующий
случай: королева Англии Елизавета I велела выплатить поэту Эдмунду Спен-
серу юо фунтов за его стихи. Казначей отказался, сославшись на то, что это
слишком большая сумма. “Тогда дайте ему сколько считаете осмысленным”, —
ответила королева. Через некоторое время, так и не получив своего вознагра-
ждения, Эдмунд Спенсер вручил Елизавете эти шутливые строки и немедленно
получил свои деньги.
ЗЗб
ГЛАВА 11 В МЕМОФОНД
ны, в которых они путешествуют по свету и трудятся во имя сво-
ей непрерывной репликации”, — писал Докинз. Некоторые мемы
несут очевидную пользу для своих человеческих носителей (“семь
раз отмерь, один отрежь”; знание того, как делать искусственное ды-
хание; вера в то, что перед готовкой пищи надо мыть руки), но ме-
метическая и генетическая успешность — не одно и то же. Мемы мо-
гут самовоспроизводиться с впечатляющей вирулентностью, плодя
при этом множество сопутствующих потерь — патентная медицина
и психическая хирургия, астрология и сатанизм, расистские мифы,
предрассудки и (специальный случай) компьютерные вирусы. В ка-
ком-то смысле эти мемы наиболее интересны, потому что процве-
тают в условиях, при которых наносится ущерб их носителям', при-
мер — идея, что террористы-смертники попадают в рай.
Когда Докинз впервые запустил мем о мемах, психолог Нико-
лас Хамфри немедленно заявил, что эти сущности необходимо
рассматривать “как живые структуры не просто метафорически,
но и технически”:
Когда вы заносите в мой разум плодовитый мем, вы буквально па-
разитируете на моем мозге, превращая его в средство распростра-
нения мема тем же способом, каким вирус может паразитировать
на генетическом механизме клеток хозяина. И это не просто фи-
гура речи — мем, скажем, “веры в жизнь после смерти” действи-
тельно реализуется физически, причем миллионы раз, как структу-
ра в нервной системе людей по всему миру.
Большинство первых читателей “Эгоистичного гена” не обрати-
ли на мемы должного внимания, решив, что это просто причудли-
вое послесловие, но английский биолог У.Д. Гамильтон в рецен-
зии на книгу для Science высказал следующее предположение:
Как бы ни было трудно определить этот термин — несомненно,
это должно быть даже труднее, чем дать определение гену, которое
тоже находится не в лучшем виде, — я подозреваю, что скоро он
станет широко использоваться биологами и, надеюсь, философами,
лингвистами и другими учеными, что он сможет войти и в повсе-
дневную речь так же, как в нее вошло слово “ген”.
337
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Мемы могли путешествовать не только посредством слов еще
до появления языка. Простого подражания достаточно, чтобы пе-
редать знание, — это как мастерить наконечник стрелы или разжи-
гать огонь. Среди животных шимпанзе и гориллы известны спо-
собностью перенимать поведение путем имитации. Некоторые
виды певчих птиц учатся своим песням или по крайней мере ва-
риациям, после того как услышат их от других птиц (или, в послед-
нее время, от орнитологов с аудиопроигрывателями). Птицы на-
капливают песенные репертуары и диалекты, то есть демонстриру-
ют культуру птичьего пения, которая на эоны старше человеческой
культуры. Несмотря на эти специальные случаи, большую часть ис-
тории человека мемы и язык шли рука об руку. (Нельзя не отме-
тить, что клишированные фразы — это, разумеется, мемы.) Язык
служит первым катализатором формирования культуры. Он на-
много мощнее простой имитации, поскольку распространяет зна-
ние через абстракцию и кодирование.
Наверное, аналогия с заболеваниями была неизбежна. Прежде
чем кто-либо понял что-либо об эпидемиологии, язык этой науки
был применен к информации. Эмоция может быть заразительной,
мелодия и привычка могут привязываться. “От взгляда к взгляду,
как зараза, по толпе / Бежит паника”, — написал поэт Джеймс Том-
сон в 1730 году. Похоть тоже, согласно Мильтону, — “Зажглись ее
глаза / Ответным заразительным огнем1”. Но лишь в новом тыся-
челетии, когда появились электронные средства связи, идентифика-
ция стала второй натурой. Наш век — век стремительного распро-
странения: вирусное образование, вирусный маркетинг, вирусные
электронные письма, видео и обмен информацией. Исследователи,
изучая сам интернет как среду — коллективное внимание, крауд-
сорсинг, социальные сети и распределение ресурсов, — использу-
ют не только язык, но и математические принципы эпидемиологии.
Одним из первых термины вирусный текст и вирусные пред-
ложения, по-видимому, использовал житель Нью-Йорка Стефен
Вальтон, который в 1981 году читал Докинза и переписывался с Дуг-
ласом Хофштадтером. Рассуждая логически — вероятно, по прин-
ципу работы компьютера, — Вальтон предложил простые самовос-
1 Пер. А. Штейнберга.
338
ГЛАВА 11 В МЕМОФОНД
производящиеся предложения вроде “Произнеси меня!”, “Ско-
пируй меня!” и “Если ты меня скопируешь, я выполню три твоих
желания!”. Хофштадтер, тогда колумнист Scientific American, нахо-
дил сам термин “вирусный текст” еще более прилипчивым.
Теперь, как вы можете видеть, вирусный текст самого Вальтона смог
подчинить себе возможности очень мощного хозяина — целого жур-
нала, печатной машины и службы распространения. Он просочился
за границу и сейчас — в то время как вы читаете это вирусное предло-
жение — распространяется с сумасшедшей скоростью по идеосфере!
(В начале 1980-х журнал с печатным тиражом в 700 тыс. экземпля-
ров все еще считался мощной платформой коммуникации.) Хоф-
штадтер весело объявил себя зараженным мемом мема.
Одной из причин сопротивления или по меньшей мере беспо-
койства было принижение роли людей до функций простого сред-
ства. Говорить, что человек — всего лишь способ гена произвести
больше генов, было довольно опрометчиво. Теперь люди должны
были рассматриваться еще и как средства распространения мемов.
Никому не нравится, когда его называют марионеткой. Деннет об-
общил проблему: “Не знаю, как вы, но я с самого начала не был рад
идее, что мой мозг является своего рода компостной кучей, в кото-
рой личинки чужих идей воспроизводят себя, прежде чем послать
свои копии в информационную диаспору... Кто тут согласно это-
му представлению главный, мы или наши мемы?”
Он сам ответил на свой вопрос, напомнив, что, нравится нам
это или нет, мы редко когда бываем хозяевами собственного разу-
ма. Он мог процитировать Фрейда, вместо этого он процитировал
Моцарта (по крайней мере, так он думал):
Ночью, когда я не могу уснуть, мысли роятся в моей голове... От-
куда и как они приходят? Я не знаю, я тут совершенно ни при чем.
Те, которые мне нравятся, я оставляю в своей голове и напеваю их.
Позже Деннету сказали, что эта хорошо известная цитата была все-
таки не из Моцарта. Она жила собственной жизнью, это был до-
вольно-таки успешный мем.
339
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Для любого человека, захваченного идеей мемов, окружаю-
щий пейзаж менялся быстрее, чем представлял себе Докинз, когда
в 1976 году писал: “Компьютеры, в которых живут мемы, — это че-
ловеческие головы”. Ко времени второго издания “Эгоистичного
гена” в 1989 году он сам стал большим поклонником программи-
рования и был вынужден дополнить определение: “...очевидно,
что созданные человеком электронные вычислительные маши-
ны в конечном счете станут обиталищем самореплицирующихся
единиц (паттернов) информации — мемов”. Информация пере-
давалась из одного компьютера в другой, “когда их владельцы пе-
редают друг другу гибкие дискеты”, и он мог видеть на горизонте
новый феномен — компьютеры, объединенные в сеть. “Многие
из них, — писал он, — буквально соединены проводами, обра-
зуя сеть компьютерной почты... Это идеальная среда для про-
цветания и распространения самореплицирующихся программ”.
Действительно, интернет находился на стадии родовых мук. Он
не только дал мемам богатую пищей культурную среду, он так-
же выделил крылья идее мемов. Сам мем стал в интернете словом,
о котором все говорят. Известность мемов способствовала их рас-
пространению.
Печально известный пример мема, который не мог появить-
ся до возникновения интернета, — фраза “прыгнуть через акулу”.
Циклические отсылы на самое себя были характерны для всех ста-
дий его существования. “Прыгнуть через акулу” означало прой-
ти пик качества или популярности и войти в стадию необрати-
мого заката. Считалось, что впервые эту фразу в 1985 году про-
изнес студент Шон Дж. Коннолли в адрес некоего телесериала1.
Происхождение фразы требует определенных пояснений, без ко-
торых ее невозможно понять. Возможно, поэтому не было пись-
менного подтверждения ее использования до того момента, когда
сосед Конноли Джон Хейн в 1997 году зарегистрировал домен-
ное имя JumpTheShark.com и создал сайт, посвященный продви-
жению этой фразы. На сайте появился список часто задаваемых
вопросов:
1 Имеется в виду американский комедийный сериал Happy Days “Счастливые
дни”), один из персонажей которого на водных лыжах перепрыгивает через акулу.
340
ГЛАВА 11 В МЕЛЛОФОНД
Вопрос. Выражение “прыгнул через акулу” впервые появилось
на этом сайте или вы создали сайт, чтобы капитализировать это вы-
ражение?
Ответ. Этот сайт запущен 24 декабря 1997 года и дал рождение
фразе “прыгнуть через акулу”. По мере роста популярности сайта
выражение стало общепринятым. Сайт — это курица, яйцо, а те-
перь и “уловка-22”.
На следующий год фраза попала в более традиционные СМИ:
в 2001 году Морин Дауд посвятил ей колонку в The New York Times',
в 2004-м ведущий колонки “О языке” той же газеты Уильям Са-
фир назвал ее “самой популярной фразой года”; вскоре после это-
го люди бессознательно начали пользоваться ею в устной и пись-
менной речи, без кавычек и объяснений, и в конце концов раз-
личные культурные наблюдатели задали вопрос: “Не прыгнуло ли
через акулу само выражение “прыгнуть через акулу”?” (“Разумеет-
ся, “прыгнуть через акулу” — великолепная культурная концеп-
ция... Но теперь она повсюду”.) Как и любой хороший мем, оно
породило мутации. Статья “Википедии” “Прыгнуть через акулу”
в 2009 году содержала ссылки: “См. также: прыгнуть через диван;
разогреть в микроволновке холодильник”.
Наука ли это? В 1983 году в своей колонке Хофштадтер предло-
жил очевидное меметичное название для подобной дисциплины —
меметика. Изучение мемов привлекло исследователей из таких да-
леких друг от друга областей, как информатика и микробиология.
В биоинформатике предметом изучения являются так называемые
письма счастья. Это мемы, у них есть эволюционная история. Це-
лью таких писем является их воспроизведение; что бы ни говори-
лось в таком письме, в нем всегда есть сообщение “скопируй меня”.
Один из исследователей развития писем Даниель Ван Арсдейл пе-
речислил множество вариантов и даже отыскал их в более ранних
текстах: “Сделай семь копий этого в точности как написано” [1902];
“Скопируй это полностью и пошли девяти друзьям” [1923]; “И если
кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет
Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написа-
но в книге сей” [Откровение 22:19]. Письма счастья расцвели по-
сле изобретения новой технологии XIX века — копирки, прокла-
341
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
дываемой между листами бумаги в стопке. Потом копирка успеш-
но жила в симбиозе с другой технологией — печатной машинкой.
Вирусные вспышки писем счастья появлялись и в начале XX века.
“Во второй половине 1933 года до Квинси докатилось необыч-
ное письмо счастья, — писал местный историк штата Иллинойс. —
Письма так быстро приобрели черты массовой истерии и распро-
странились по Соединенным Штатам, что к 1935-1936 годам поч-
товой службе, а также ряду общественных институтов пришлось
принять участие в подавлении явления”. Он привел пример — мем,
мотивирующий людей-носителей обещаниями и угрозами:
В Бога мы веруем. Он восполняет наши нужды.
Г-жа Ф. Стройцель, Мичиган
Г-жа А. Форд, Чикаго, Иллинойс.
Г-жа К. Эдкинс, Чикаго, Иллинойс и т.д.
Скопируй выше приведенные имена, опустив первое. Добавь свое
имя в конце. Перешли пяти людям, которым ты желаешь процве-
тания. Цепочку запустил американский полковник, и она должна
быть продолжена в течение 24 часов после получения этого письма.
Это принесет процветание в течение 9 дней после того, как ты по-
шлешь письмо дальше.
Г-жа Санфорд выиграла $3000, г-жа Андерс выиграла $1000.
Г-жа Хоув, которая прервала цепочку, потеряла все, что имела. Сила
цепочки возрастает с каждым письмом.
НЕ РАЗРЫВАЙ ЦЕПОЧКУ.
Благодаря двум технологиям, возникшим и широко распростра-
нившимся позднее, — фотокопии (около 1950 года) и электронной
почте (около 1995 года) — количество таких писем увеличилось
на несколько порядков. Ученые-информатики Чарльз Г. Беннет
из IBM в Нью-Йорке и Минг Ли и Бин Ма из Онтарио, вдохнов-
ленные случайным разговором в походе по горам Гонконга, нача-
ли анализ ряда писем счастья, собранных во время эры копироваль-
ной техники. У них было тридцать три письма, все — варианты
одного текста с мутациями в форме описок, пропусков и перестав-
ленных слов или фраз. “Эти письма передавались от носителя к но-
сителю, мутируя и развиваясь”, — писали ученые.
342
ГЛАВА 11 В МЕМОФОНД
Средняя длина письма, как и у гена, составляет около 2000 знаков. Как
и опасный вирус, письмо угрожает смертью и заставляет передавать
себя своим “друзьям и коллегам” — некоторые варианты этого пись-
ма, вероятно, добрались до миллионов людей. Как и наследственные
признаки, оно обещает выгоду вам и людям, которым вы его переда-
дите. Как геномы, письма-цепочки подвергаются естественному отбо-
ру и иногда обмениваются частями с сосуществующими “особями”.
Ученые стали использовать письма как “испытательный полигон”
для алгоритмов, принятых в эволюционной биологии. Алгорит-
мы были предназначены для реконструкции по геномам современ-
ных существ их филогенеза, эволюционного дерева; с их помощью
можно было двигаться назад во времени, используя логику и де-
дукцию. Ученые предположили, что, если эти математические ме-
тоды срабатывают с генами, они должны работать и с письмами
счастья. В обоих случаях исследователям удалось подтвердить ско-
рость мутации и измерить степень связанности.
Тем не менее большинство элементов культуры меняются и раз-
мываются слишком легко, чтобы их можно было считать стабиль-
ными репликаторами. Они редко бывают так аккуратно фиксиро-
ваны, как последовательность ДНК. Сам Докинз подчеркивал, что
никогда не думал, будто может обнаружиться что-то похожее на на-
уку меметику. В 1997 году появился экспертный (и, естественно, се-
тевой) Journal of Memetics^ который угас после восьми лет, прове-
денных отчасти в самодостаточных дебатах о статусе, миссии и тер-
минологии. Даже по сравнению с генами мемы трудно переложить
на язык математики или хотя бы строго определить. Поэтому ана-
логия “ген — мем” вызывает беспокойство, а аналогия “генетика —
меметика” — тем более.
У генов по крайней мере есть обоснование в физической суб-
станции. Мемы абстрактны, неосязаемы и неизмеримы. Гены ре-
плицируются с практически идеальной точностью воспроизведе-
ния, и эволюция полагается на это: некоторые изменения необ-
ходимы, но мутации должны быть редкими. Мемы, как правило,
копируются не точно, их границы всегда размыты, и они мутируют
с ничем не сдерживаемой гибкостью, которая в биологии была бы
фатальной. Термин “мем” можно отнести к подозрительно обшир-
343
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ной группе сущностей, от малых до великих. Для Деннета пер-
вые четыре ноты Пятой симфонии Бетховена были “очевидным”
мемом, также как и “Одиссея” Гомера (или по крайней мере идея
“Одиссеи”), колесо, антисемитизм и письмо. “Мемы еще не нашли
своих Уотсона и Крика, — говорил Докинз, — у них нет даже сво-
его Менделя”.
Но они существуют. По мере того как кривая информации
склоняется по направлению к все большим возможностям связи,
мемы развиваются быстрее и распространяются дальше. Их при-
сутствие чувствуется, если не наблюдается воочию, в проявлени-
ях стадного чувства, в паническом изъятии вкладов из банков, ку-
мулятивном эффекте при продвижении информации и финансо-
вых пузырях. Популярность диет растет и падает, сами их названия
становятся крылатыми — диета Южного берега и диета Аткинса,
диета Скарсдейла, диета на печенье и алкогольная диета, — и все
они воспроизводятся в соответствии с динамикой, о которой на-
ука о питании ничего сказать не может. В медицинской практике
есть такие явления, как “повальное увлечение хирургией” и “ятро-
эпидемия”, — эпидемии, вызванные модой на лечение. Например,
ятроэпидемия удаления миндалин, которая охватила США и часть
Европы в середине XX века и от которой было не больше толку,
чем от ритуального обрезания. Мемы можно было увидеть через
окна автомобилей, когда в 1984 году желтые ромбы “ребенок в ма-
шине” появились, словно проявление массовой паники, в США,
а потом в Европе и Японии; за ними последовали ироничные му-
тации (“детка, я в машине”; “бывший в багажнике”). Ощутить при-
сутствие мемов можно было в глобальном мировом дискурсе по-
следнего года тысячелетия, когда доминировала уверенность в том,
что все компьютеры мира начнут заикаться или поперхнутся, ко-
гда их внутренние часы достигнут некоторого особенно кругло-
го числа.
В конкурентной борьбе за место в нашем мозгу и культуре эф-
фективными боевыми единицами выступают сообщения. Размыш-
ления о генах и мемах обогатили нас. Они дарят парадоксы, что-
бы мы записывали их на лентах Мебиуса. “Мир человека состоит
не из людей, а из историй, — пишет Дэвид Митчелл. — И нельзя
винить человека в том, что та или иная история выбрала его, что-
344
ГЛАВА 11 В МЕМОФОНД
бы поведать о себе”1. Маргарет Этвуд: “Как всегда бывает, стоит
что-то узнать, и ты уже не представляешь, как можно было не знать
этого раньше. Как выступление фокусника: знаешь, что фокус про-
делали прямо вот тут, у тебя на глазах, но ты в это время смотрел
куда-то в другую сторону”1 2. Почти перед смертью Джон Апдайк
размышлял:
Жизнь, облеченная в слова, — очевидная бессмысленная трата
с намерением сохранить потребленную вещь.
Философ Фред Дрецке в 1981 году написал: “В начале была инфор-
мация. Слово появилось позже”. И добавил: “Переход произошел
благодаря развитию организмов, обладающих способностью из-
бирательно использовать эту информацию с тем, чтобы выжить
и увековечить свой вид”. Теперь, можем добавить мы, благодаря
Докинзу этот переход был обеспечен и самой информацией, вы-
живающей и увековечивающей свой вид и избирательно исполь-
зующей организмы-носители.
Большая часть биосферы не может видеть инфосферу; она
невидима, это параллельная вселенная, кишащая призрачными оби-
тателями. Но для нас они не призраки, больше не призраки. Мы,
люди, — единственные среди органических созданий на Земле, кто
живет в обоих мирах сразу. Похоже, что из-за долгого сосуществова-
ния с невидимым нам пришлось развивать экстрасенсорные способ-
ности. Мы знаем о многих видах информации. Мы придумываем им
язвительные названия, будто бы для того, чтобы убедить себя — мы
понимаем, о чем идет речь: городские легенды и массовые устойчивые
заблуждения3. Мы храним их живыми в кондиционированных сер-
верных фермах. Но мы не можем владеть ими. Когда в наших ушах
звенит колокольчик, или какое-нибудь повальное увлечение перево-
рачивает все с ног на голову, или мистификации месяцами домини-
руют в разговорах по всему миру, а затем исчезают так же быстро,
как появились, хочется задать вопрос: кто тут хозяин, а кто раб?
1 Пер. И. Климовицкой.
2 Пер.Т. Боровиковой.
3 Zombie lies — выражение, означающее устойчивое заблуждение, которое не ис-
чезает независимо от того, что факты, опровергающие его, очевидны.
12
СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
Согрешившие
“Любопытно, — сказала она. — В последнее время все труднее различать
закономерности, тебе так не кажется?"1
Майкл Каннингем (2005)
В 1958 году Грегори Хайтин, не по годам развитой одинна-
дцатилетний сын живущих в Нью-Йорке иммигрантов
из Аргентины, нашел в библиотеке маленькую волшеб-
ную книжку и некоторое время носил ее с собой, пытаясь
объяснить содержание другим детям, а потом, признавал-
ся он, попытался понять ее сам. Это было “Доказательство Геде-
ля” Эрнста Нагеля и Джеймса Р. Ньюмана. В выросшей из статьи
в Scientific American книге описывалось возрождение логики, на-
чавшееся с Джорджа Буля; процесс записи, кодирования утвержде-
ний о математике с помощью символов и даже целых чисел; идея
метаматематики, систематизированного языка о математике и,
следовательно, выходящего за пределы математики. Это были темы,
трудные для понимания мальчика, который последовал за автора-
ми по пути упрощенного, но строгого описания “удивительной
и меланхоличной” демонстрации Геделем того, что формальная
математика никогда не сможет быть свободной от противоречий.
1 Пер.Д. Карельского.
346
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
Огромную часть практической математики, существовавшей
в то время, совершенно не волновало доказательство Геделя. Как бы
ни был поразителен факт неполноты, он казался некоторым обра-
зом случайным, ничего не привносившим в полезную работу мате-
матиков, которые продолжали делать открытия и доказывать теоре-
мы. Но философски настроенные души были глубоко обеспокое-
ны этим доказательством, и именно к их числу принадлежали люди,
работы которых так любил изучать Хайтин. Одним из этих обеспо-
коенных был Джон фон Нейман — он узнал о доказательстве Геде-
ля еще в 1930 году, в Кенигсберге, а затем в США сыграл ведущую
роль в разработке вычислительной техники и теории вычислений.
Для Неймана доказательство Геделя стало точкой невозврата.
Это был очень серьезный концептуальный кризис в области строго-
сти и надлежащих способов давать корректные математические до-
казательства. С точки зрения более ранних понятий абсолютной ма-
тематической строгости удивительно, что такая вещь вообще могла
появиться, и еще удивительнее то, что она смогла появиться в дни,
когда чудеса уже не должны были случаться. Но она появилась.
Почему? Этот вопрос волновал Хайтина. Ему было интересно,
нельзя ли на каком-то уровне связать неполноту Геделя с новым
принципом квантовой физики, принципом неопределенности, ко-
торый почему-то казался очень похожим. Позже уже у взрослого
Хайтина была возможность задать этот вопрос Джону Арчибаль-
ду Уилеру. Была ли неполнота Геделя связана с неопределенностью
Гейзенберга? Уилер сказал, что сам однажды задал этот вопрос Ге-
делю в его кабинете Института перспективных исследований, где
тот сидел, укрыв от зимних сквозняков ноги пледом и с включен-
ным на полную мощность электрическим обогревателем. Гедель
отказался отвечать. Таким образом, рассказав эту историю, Уилер
в свою очередь отказался отвечать Хайтину.
Когда Хайтин наткнулся на доказательство невычислимости
Тьюринга, он решил, что это и есть ключ. Он нашел также кни-
гу Шеннона и Вивера “Математическая теория связи” и был пора-
жен ее новым определением энтропии, словно перевернутым с ног
на голову: с одной стороны — энтропия битов, измеряющая ин-
347
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
формацию, с другой — беспорядок. Общим элементом была слу-
чайность, неожиданно подумал Хайтин. Шеннон ошибался, свя-
зав случайность с информацией. Физики обнаружили случайность
внутри атома — тот вид случайности, на который жаловался Аль-
берт Эйнштейн, когда сказал о Боге и игральных костях. Все эти
герои науки говорили о случайности или о чем-то на нее похожем.
Все знают, что значит простое слово “случайный”. Все и никто.
Философы и математики вели бесконечную борьбу. Уилер гово-
рил: “Вероятность, как и время, есть понятие, придуманное людь-
ми, и людям придется нести ответственность за неясность, которая
в нем присутствует”. Результат подбрасывания “правильной” сим-
метричной монеты случаен, хотя каждый фрагмент траектории мо-
неты может быть определен по Ньютону. Является ли численность
населения Франции четным или нечетным числом в любой вы-
бранный момент времени — случайное событие, но сама числен-
ность населения Франции определенно не случайна: это точный
факт, даже если его нельзя узнать. Джон Мейнард Кейнс пытался
найти решение для случайности в терминах, обратных ей, и он вы-
брал три: знание, причинность и структура. То, что известно зара-
нее, определено причиной или организовано в соответствии с пла-
ном, не может быть случайным.
“Случай — это лишь мера нашего неведения, — сказал Анри Пу-
анкаре. — Феноменами случайности являются по определению те,
законы которых мы не знаем”. И немедленно отрекся: “Удовлетво-
рительно ли такое определение? Когда первые халдейские пастухи
смотрели на движение звезд, они еще не знали законов астрономии,
но могли ли они помыслить о том, чтобы назвать движение звезд
случайным?” Для Пуанкаре, который понял хаос задолго до того, как
тот стал наукой, примерами случайности были такие феномены, как
место падения капли дождя, причины которого физически опреде-
лены, но настолько многочисленны и сложны, что их можно считать
неопределенными. В физике или любом природном процессе, ко-
торый кажется непредсказуемым, явная случайность способна быть
шумом или может быть порождена сложной глубинной динамикой.
Незнание субъективно. Это качество наблюдателя. Случай-
ность, если она вообще существует, предположительно должна
быть свойством самой вещи. Исключив из рассмотрения людей,
348
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
хотелось бы иметь возможность сказать, что событие, выбор, рас-
пределение, игра или, проще всего, число является случайным.
Понятие случайного числа полно сложностей. Может ли су-
ществовать такая вещь, как особое случайное число? Конкретное
случайное число? Это число, вероятно, случайно:
10097325337652013586346735487680959091173929274945...
С другой стороны, оно особенное. С него начинается книга под на-
званием “Миллион случайных чисел”, опубликованная в 1955 году.
Корпорация RAND получила эти числа с помощью машины, ко-
торую описывала как электронную рулетку, — генератора импуль-
сов: юо тыс. импульсов в секунду пропущены через пятиразряд-
ный двоичный счетчик, затем через преобразователь из двоичной
системы в десятеричную, переданы на перфоратор IBM и напечата-
ны с помощью IBM модели 856 Cardatype. Процесс занял годы. Ко-
гда первая порция чисел была проверена, статистики обнаружили
значительные отклонения — знаки, группы знаков или структуры
знаков, которые появлялись слишком часто или недостаточно ча-
сто. Тем не менее таблицы были опубликованы. “Исходя из самой
природы таблиц, — сухо заявили редакторы, — мы не посчитали
необходимым вычитывать каждую страницу окончательной руко-
писи, чтобы выявить случайные ошибки Cardatype”.
Книга продавалась, потому что ученым нужны были случайные
числа в большом количестве, чтобы использовать их в разработке ста-
тистически честных экспериментов и создании реалистичных моде-
лей сложных систем. Новый метод симуляции Монте-Карло для мо-
делирования феноменов, не поддающихся аналитическим решени-
ям, включал в себя случайную выборку. Симуляция Монте-Карло
была придумана и названа в рамках проекта создания атомной бомбы
командой фон Неймана, отчаянно пытавшейся сгенерировать слу-
чайные числа для расчета диффузии нейтронов. Фон Нейман пони-
мал, что механическая вычислительная машина с ее детерминирован-
ными алгоритмами и конечным объемом памяти никогда не сможет
сгенерировать по-настоящему случайные числа. Ему придется до-
вольствоваться псевдослучайными — детерминированно вычислен-
ными числами, которые вели себя так, будто были случайными. Они
349
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
были достаточно случайны для практических целей. “Любой, кто
раздумывает над арифметическими методами получения случайных
чисел, вне сомнения, совершает грех”, — сказал фон Нейман.
Случайность можно определить в терминах порядка, то есть
его отсутствия. Это упорядоченное маленькое число вряд ли мож
но назвать “случайным”:
00000.
Тем не менее оно эпизодически встречается посреди знаменитого
миллиона случайных знаков. В терминах вероятности этого надо
было ожидать: ооооо — настолько же вероятное число, как и лю-
бая из 99999 возможных пятизначных строк. Где-нибудь еще среди
миллиона случайных знаков мы найдем
010101.
Оно тоже кажется упорядоченным.
Чтобы выделить регулярные фрагменты в этих джунглях зна-
ков, требуется проделать работу, на которую способен только ра-
зумный наблюдатель. При достаточно длинной цепочке случайных
знаков каждый возможный фрагмент короткой строки где-то по-
явится. Один из фрагментов будет комбинацией замка банковско-
го хранилища. Другой окажется зашифрованным полным собра-
нием сочинений Шекспира. Но они никому не пригодятся, пото-
му что никто не сможет их найти.
Вероятно, стоит говорить о том, что числа вроде
ооооо и О1ОЮ1 могут быть случайными в определенном контексте.
Если кто-то достаточно долго подбрасывает “правильную” моне-
ту (один из простейших генераторов случайных чисел), в какой-то
момент монета обязательно упадет орлом вверх десять раз подряд.
Когда это случится, желающий получить случайные числа проиг-
норирует результат и пойдет выпить кофе. Это одна из причин
того, почему у людей плохо получается генерировать случайные
числа даже с механической помощью. Исследователи установили,
что интуиция человека бесполезна как в предсказании случайно-
стей, так и в их распознавании. Люди волей-неволей склоняются
350
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
к упорядоченности. Публичная библиотека Нью-Йорка купила
“Миллион случайных чисел” и поставила ее в разделе психологии.
В гою году ее все еще можно было купить т Amazon за 81 доллар.
Число (как мы теперь понимаем) есть информация. Когда со-
временные люди, наследники Шеннона, думают об информации
в ее наивысшей, чистой форме, они могут представить себе стро-
ку из нулей и единиц, двоичное число. Вот два двоичных числа
по пятьдесят знаков каждое:
А: 01010101010101010101010101010101010101010101010101
Б: 10001010111110101110100110101000011000100111101111.
Если Алиса (А) и Боб (Б) говорят, что сгенерировали свои стро-
ки, подбрасывая монету, никто никогда не поверит Алисе. Стро-
ки, без всяких сомнений, не одинаково случайны. Классическая
теория вероятности не дает никаких оснований считать, что стро-
ка Б более случайна, чем строка А, потому что случайный процесс
может дать любую из строк. Вероятность говорит о множествах,
а не об отдельных событиях. Теория вероятности рассматривает
события статистически. Она не любит вопросов в форме “насколь-
ко вероятно, что это случится?”. Что случилось, то случилось.
Шеннон рассматривал бы эти строки как сообщения. Он спро-
сил бы: "Сколько информации содержит каждая из строк?” На пер-
вый взгляд обе содержат 50 бит. Оператор телеграфа, берущий фик-
сированную тарифную ставку за знак, измерил бы длину сообщений
и попросил бы у Алисы и у Боба одинаковую сумму. Но сообщения
очень непохожи друг на друга. Сообщение А сразу кажется скуч-
ным: как только вы распознали закономерность, дальнейшие повто-
рения не несут новой информации. В сообщении Б ценен каждый
бит. Первая шенноновская формулировка теории информации рас-
сматривала сообщения статистически как выбор из множества всех
возможных сообщений, в случае сообщений А и Б — из 250 сообще-
ний. Но Шеннон также учитывал избыточность внутри сообщения:
регулярность, структуру, порядок, который позволяет сжимать сооб-
щения. Чем больше регулярности в сообщении, тем более оно пред-
сказуемо. Чем более предсказуемо, тем более избыточно. Чем более
избыточно сообщение, тем меньше информации в нем содержится.
351
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
У оператора телеграфа, посылающего сообщение А, есть спо-
соб упростить работу: он может передать что-нибудь вроде “Повто-
рить “оГ двадцать пять раз”. Для длинных сообщений с простыми
закономерностями экономия нажатий на клавиши становится ог-
ромной. Как только понята закономерность, дополнительные зна-
ки бесплатны. Оператор, передающий сообщение Б, — это солдат,
выбравший трудный путь; ему придется передать каждый знак, по-
тому что каждый знак в этом сообщении абсолютно непредсказу-
ем; каждый знак несет один бит информации. Эта пара вопросов —
насколько случайно и как много информации — оказывается одним
и тем же вопросом. С одним ответом.
Хайтин не думал о телеграфе. Он не мог выбросить из головы
другое устройство, машину Тьюринга — невыносимо элегантную
абстракцию, шагающую туда-сюда по своей бесконечной бумаж-
ной ленте, читающую и пишущую символы. Свободная от беспо-
рядка реального мира, от скрипящих шестеренок и привередливо-
го электричества, освобожденная от любой жажды скорости, ма-
шина Тьюринга была идеальным компьютером.
Фон Нейман тоже постоянно возвращался к машинам Тью-
ринга. Они были лабораторными мышами теории вычислитель-
ных машин, они были всегда под рукой, [/-машина Тьюринга об-
ладает исключительной мощностью: она способна симулировать
любой другой цифровой компьютер, поэтому ученые могут прене-
бречь нагромождением подробностей какой-либо отдельной мар-
ки или модели. Это освобождает.
Клод Шеннон, перейдя из Лабораторий Белла в МТИ, еще
раз проанализировал машину Тьюринга в 1956 году. Он выбро-
сил из нее все, оставив только основу, доказав, что универсальный
компьютер может быть сконструирован таким образом, что будет
иметь только два возможных внутренних состояния, или два сим-
вола — о и 1, или пробел и не пробел. Он записал свое доказа-
тельство в более прагматичных, чем математические, терминах. Он
в точности описал, как машина Тьюринга с двумя состояниями ша-
гала бы вправо и влево, “раскачиваясь” для того, чтобы помнить
большее число состояний в более сложном компьютере. Все это
было очень сложно и специфично и наталкивало на мысли о Бэб-
бидже. Например,
352
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
когда считывающая головка перемещается, информацию о состоя-
нии необходимо перенести в следующий квадрат ленты, используя
всего два внутренних состояния машины Б. Пусть, например, сле-
дующим состоянием машины А должно быть состояние 17 (согласно
какой-нибудь системе счисления). Чтобы перенести его символ, счи-
тывающая головка “качается” вперед и назад между старым и новым
квадратом 17 раз (точнее, 18 раз в новый квадрат и 17 назад в старый).
Операция “качания” переносит информацию от ячейки к ячейке,
а ячейки действуют как “передатчики” и “контроллеры”.
Тьюринг назвал свою великую статью “О вычислимых числах”,
но, конечно, его внимание на самом деле было посвящено «евы-
числимым числам. Могут ли быть связаны невычислимые и слу-
чайные числа? В 1965 году Хайтин был студентом нью-йоркско-
го Сити-колледжа и писал статью, которую надеялся опубликовать
в журнале, это была бы его первая публикация. Он начал: “В этой
статье машина Тьюринга рассматривается как неспециализирован-
ная вычислительная машина и задаются некоторые практические
вопросы относительно ее программирования”.
Хайтин, будучи старшеклассником, участвовал в программе
Колумбийского университета для школьников, интересующихся
наукой. Там он имел возможность попрактиковаться в програм-
мировании гигантских мейнфреймов IBM на машинном языке
с помощью перфокарт, по карте на строку программы. Он остав-
лял свою стопку карт в компьютерном центре и на следующий
день приходил за выдачей программы. Он мог просчитывать ма-
шину Тьюринга и в уме: пиш о, пиши 1, пиши пробел, сдвиг лен-
ты влево, сдвиг ленты вправо... Универсальный компьютер дал ему
приятную возможность различать числа, такие как А и Б Алисы
и Боба. Он мог написать программу для машины Тьюринга, что-
бы та напечатала 010101... миллион раз, и он мог записать длину
этой программы, довольно короткой. Но в случае миллиона слу-
чайных чисел — без закономерностей, без регулярности в появле-
нии, вообще без каких-либо специальных свойств — упрощения
быть не могло. Компьютерная программа должна была содержать
в себе число целиком. Чтобы мейнфрейм IBM напечатал этот мил-
лион знаков, ему пришлось бы включить весь миллион в перфо-
353
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
карты. Чтобы заставить это сделать машину Тьюринга, Хайтину все
равно пришлось бы ввести миллион знаков.
Вот еще число (на сей раз в десятичной системе):
С: 3,1415926535897932384626433832795028841971693993751...
Оно выглядит случайным. Статистически каждый знак появля-
ется с ожидаемой частотой (один из десяти), аналогично каждая
пара знаков (один из сотни), каждая тройка и так далее. Статистик
сказал бы, что число выглядит “нормальным”, насколько вообще
кто-нибудь может что-то про него сказать. Следующий знак все-
гда непредсказуем. Когда-нибудь там появятся и пьесы Шекспира.
Но кто-то может распознать эту цепочку чисел как хорошо знако-
мое число л. Получается, что это все-таки не случайное число.
Но почему мы говорим, что я не случайное число? Хайтин
предложил четкий ответ: число не является случайным, если оно
вычислимо — если определенная компьютерная программа его
сгенерирует. Таким образом, вычислимость есть мера случайности.
Для Тьюринга вычислимость — это выбор, “да” или “нет”, дан-
ное число либо вычислимо, либо нет. Но нам хотелось бы иметь
возможность сказать, что некоторые числа более случайны, чем дру-
гие, — они менее закономерны, в них меньше порядка. Хайтин ска-
зал, что закономерности и порядок выражают вычислимость. Ал-
горитмы генерируют закономерности. Значит, мы можем измерить
вычислимость, посмотрев на размер алгоритма. Имея число, пред-
ставленное строкой любой длины, мы спрашиваем: какова длина
наикратчайшей программы, с помощью которой оно может быть
получено? Если мы используем язык машины Тьюринга, у этого во-
проса может появиться конкретный ответ, выраженный в битах.
Алгоритмическое определение случайности Хайтина дает так-
же алгоритмическое определение информации: размер алгоритма
отражает и количество информации, которое содержится в данной
строке.
Поиск структур, порядка среди хаоса — этим тоже заняты уче-
ные. Восемнадцатилетний Хайтин чувствовал, что это неслучайно.
Он закончил статью, применив алгоритмическую теорию инфор-
мации к самому процессу научного познания. “Рассмотрим учено-
354
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
го, — предложил он, — наблюдавшего замкнутую систему, которая
раз в секунду либо посылает луч света, либо нет”.
Он собирает свои наблюдения в последовательность из о и 1, где
о соответствует состоянию “луча не было”, а 1 — состоянию “луч
был”. Последовательность может начинаться так:
0110101110... —
и продолжаться еще несколько тысяч битов. Затем ученый изуча-
ет последовательность в надежде найти какую-нибудь закономер-
ность или закон. Что он имеет под этим в виду? Кажется правдо-
подобным, что последовательность из о и 1 незакономерна, если
только не существует лучшего способа вычислить ее, чем просто
списать всю целиком из таблицы, где она представлена полностью.
Но если ученый смог найти способ сгенерировать такую же после-
довательность с помощью алгоритма, компьютерной программы,
существенно более короткой, чем сама последовательность, то то-
гда он с уверенностью может сказать, что события не были слу-
чайными. Он скажет, что наткнулся на теорию. Это то, чего все-
гда добивается наука: простая теория, которая описала бы как мож-
но больше фактов и позволила бы предсказывать будущие события.
Это знаменитая бритва Оккама. “Мы должны признавать не боль-
ше причин естественных вещей, чем необходимо и достаточно для
объяснения их появления, — говорил Ньютон. — Природа до-
вольствуется простотой”. Ньютон количественно определил массу
и силу, но простоте пришлось подождать.
Хайтин послал свою статью в Journal of the Association for
Computing Machinery. Там были рады ее опубликовать, но один
из рецензентов упомянул, что до него доходили слухи об анало-
гичной работе из Советского Союза. И действительно, в начале
1966 года прибыл первый выпуск нового журнала “Проблемы пе-
редачи информации”, и в нем была статья, озаглавленная “Три под-
хода к определению понятия “количество информации” академика
А. Н. Колмогорова. У Хайтина, который не читал по-русски, хвати-
ло времени только на то, чтобы добавить сноску.
Андрей Николаевич Колмогоров был выдающимся математиком
советской эпохи. Он родился в 1903 году в Тамбове, 300 милями юго-
355
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
восточнее Москвы; его незамужняя мать, одна из трех сестер Кол-
могоровых, умерла при родах, и его вырастила тетка Вера в деревне
на Волге. В последние годы царской России Вера занималась образо-
ванием деревенских детей и у себя дома на печатном прессе размно-
жала запрещенные документы, порой пряча их под люлькой Андрея.
Андрей Николаевич поступил на математический факуль-
тет Московского университета вскоре после революции 1917 года.
За десять лет в науке он добился значительных результатов, кото-
рые позже переросли в то, что мы знаем как теорию вероятности.
Его “Основы теории вероятности”, опубликованные на русском
в 1933-м и на английском в 1950-м, остаются современной класси-
кой. Но его интересы простирались шире, до физики и лингвисти-
ки, интересовался он и другими быстро развивающимися отрас-
лями математики. Однажды он вступил на территорию генетики,
но быстро ретировался после опасной стычки с любимцем Стали-
на Трофимом Лысенко. Во время Второй мировой войны Колмо-
горов применил свои открытия в теории статистики в области ар-
тиллерии и разработал схему размещения аэростатов для защиты
Москвы от нацистских бомбардировщиков. Он работал на оборо-
ну, изучал турбулентность и случайные процессы. Герой Социа-
листического Труда, он был семь раз награжден орденом Ленина.
Впервые Колмогоров увидел “Математическую теорию связи”
Клода Шеннона в русском переводе в 1953 году; из книги перевод-
чиком и цензурой были вычищены самые интересные идеи. Назва-
ние превратилось в “Статистическую теорию передачи электриче-
ских сигналов”. Слово “информация” было везде заменено словом
“данные”. Слово “энтропия” было взято в кавычки, чтобы у чита-
теля, не дай бог, не возникло ассоциации с физикой. Раздел, в ко-
тором теория информации применялась к статистике естественно-
го языка, был полностью опущен. В результате получилась техни-
ческая нейтральная, безжизненная книга, которую вряд ли кто-то
захотел бы интерпретировать в терминах марксистской идеологии.
На то имелись серьезные основания: в “Кратком философском сло-
варе” “кибернетика” была определена как “реакционная лженаука”
и “идеологическое оружие империалистической реакции”. Колмо-
горов тем не менее ухватился за статью Шеннона; ученый по край-
ней мере не боялся употреблять слово “информация”. Со студента-
356
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
ми в Москве он разработал строгую математическую формулировку
теории информации с определениями фундаментальных поня-
тий, аккуратными доказательствами и новыми открытиями, причем
некоторые из них, как он скоро с сожалением узнал, были опубли-
кованы в первоначальной статье и опущены в русской версии.
В Советском Союзе, все еще изолированном от остального на-
учного мира, Колмогоров был прекрасным кандидатом на роль зна-
меносца информации. Он отвечал за раздел математики в “Боль-
шой советской энциклопедии”, выбирал авторов, редактировал
статьи и много писал сам. В 1956 году он подготовил большой от-
чет о теории передачи информации. Его коллеги думали, что он
немного “запутался” — что работа Шеннона была “скорее техни-
кой, чем математикой”, как позже вспоминал Колмогоров: “Правда,
строгое математическое обоснование своих идей Шеннон в сколь-
ко-либо трудных случаях предоставил своим продолжателям. Од-
нако его математическая интуиция изумительно точна”.
Колмогоров не испытывал энтузиазма по поводу кибернетики.
Норберт Винер чувствовал, что у них с Колмогоровым есть нечто
общее — они оба сначала работали над стохастическими процес-
сами и броуновским движением. Во время визита в Москву Ви-
нер сказал: “Когда я читаю труды академика Колмогорова, я чув-
ствую, что это и мои мысли, это то, что я хотел сказать. И я знаю,
что такие же чувства испытывает академик Колмогоров, читая мои
труды”. Но, по всей видимости, чувство все же не было взаимным.
Колмогоров направлял своих коллег к теории Шеннона. “Легко
понять, что математическая дисциплина кибернетика в понима-
нии Винера лишена единства, — заявлял он, — и трудно себе пред-
ставить продуктивную работу по подготовке, скажем, аспиранта
по кибернетике в этом смысле”. У него уже были реальные резуль-
таты, чтобы подкрепить свою точку зрения: полезное обобщение
формулировки энтропии Шеннона и расширение его меры ин-
формации на различные процессы.
В России наконец началось движение в сторону признания лю-
бых научных исследований, которые могли способствовать разра-
боткам в области электронной связи и вычислений. Эта работа на-
чалась почти с нуля. Бытовой электротехники практически не суще-
ствовало; советская телефония вызывала уныние, будучи объектом
357
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
бесконечно грустного русского юмора. По состоянию на 1965 год
не существовало такой вещи, как прямая междугородняя связь. Чис-
ло звонков все еще оставалось ниже числа посылаемых телеграмм —
США миновали этот этап в предыдущем столетии. В Москве было
меньше телефонов на душу населения, чем в любом крупном горо-
де мира. Тем не менее Колмогоров и его студенты получали доста-
точно результатов, чтобы оправдать создание нового ежекварталь-
ного журнала “Проблемы передачи информации”, посвященного
теории информации, теории шифрования, теории сетей и даже ин-
формации в живых организмах. Первый выпуск открывался стать-
ей Колмогорова “Три подхода к определению понятия “количество
информации” — это был практически манифест, который начал
медленный путь к известности в кругах западных математиков.
“Существует лишь тонкий слой между тривиальным и недо-
ступным. В этом слое и делаются математические открытия”, —
писал Колмогоров в дневнике. В новом, количественном взгля-
де на информацию он увидел способ решения проблемы, кото-
рая ускользала от теории вероятности, — проблемы случайности.
Сколько информации содержится в данном “конечном объекте”?
Объектом могло быть число (последовательность знаков), сообще-
ние или набор данных.
Он описал три подхода: комбинаторный, вероятностный и ал-
горитмический. Первый и второй были улучшенными подходами
Шеннона. Они были сосредоточены на вероятности появления
одного объекта из множества подобных — скажем, одного сообще-
ния, выбранного из множества возможных. Как это будет работать,
интересовался Колмогоров, когда объект — не просто символ в ал-
фавите или свет в окне церкви, а что-то сложное — генетический
организм или предмет искусства? Как измерить количество инфор-
мации в “Войне и мире” Толстого? “Можно ли включить разумным
образом этот роман в совокупность “возможных романов”, да еще
постулировать наличие в этой совокупности некоторого распреде-
ления вероятностей?” — вопрошал он. Можно ли измерить коли-
чество генетической информации, скажем, кукушки, рассматривая
распределение вероятности на множестве всех возможных видов?
Его третий подход к измерению количества информации, ал-
горитмический, избегал трудностей, связанных с множеством воз-
358
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
можных объектов. Он был сосредоточен на самом объекте1. Кол-
могоров ввел новое слово для того, что он пытался измерить, —
сложность. Согласно его определению этого термина, сложность
числа, сообщения или набора данных есть величина, противопо-
ложная простоте и порядку, и она опять соответствует информа-
ции. Чем проще объект, тем меньше информации он несет.
Чем выше сложность, тем больше информации. Колмогоров,
в точности как Грегори Хайтин, поставил эту идею на солидное ма-
тематическое основание, рассчитав сложность в терминах алгорит-
мов. Сложность объекта есть размер наименьшей компьютерной
программы, необходимой для его создания. Объект, который мо-
жет быть воспроизведен коротким алгоритмом, имеет небольшую
сложность. С другой стороны, объект, требующий алгоритма дли-
ной во столько же битов, сколько содержится в нем самом, имеет
максимальную сложность.
Простой объект можно сгенерировать, рассчитать или опи-
сать всего несколькими битами. Сложный объект требует алгорит-
ма из множества битов. В такой формулировке это кажется очевид-
ным, но до данного момента не математически. Колмогоров выра-
зил это так:
Интуитивное различие между простыми и сложными объектами
ощущалось, по-видимому, давно. На пути его формализации вста-
ет очевидная трудность: то, что просто описывается на одном язы-
ке, может не иметь простого описания на другом, и непонятно, ка-
кой способ описания выбрать.
Это затруднение было устранено путем использования языка вы-
числительной машины. Неважно, какого языка вычислительной
машины, потому что они все эквивалентны, сводимы к языку уни-
1 “Наше определение количества информации в прикладном отношении имеет
то преимущество, что оно относится к индивидуальным объектам, а не к объек-
там, рассматриваемым в качестве включенных в множество объектов с заданным
на нем распределением вероятностей. Вероятностное определение убедитель-
ным образом можно применять к информации, содержащейся, например, в по-
токе поздравительных телеграмм. Но было не слишком понятно, как его приме-
нить, например, к оценке количества информации, содержащейся в романе или
в переводе романа на другой язык относительно подлинника”. — Прим. авт.
359
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
нереальной машины Тьюринга. Колмогоровская сложность объек-
та есть размер в битах кратчайшего алгоритма, необходимого для
генерации этого объекта. Это также и количество информации.
И это также степень случайности — Колмогоров объявил о новой
концепции понятия случайного, соответствующей естественно-
му предположению, что случайность есть отсутствие регулярности.
На самом деле информация, случайность и сложность эквивалент-
ны, это три мощные абстракции, всегда связанные друг с другом,
как тайные любовники.
Для Колмогорова данные идеи принадлежали не только тео-
рии вероятности, но и физике. Для измерения сложности упоря-
доченного кристалла или сосуда со случайным газом достаточно
измерить наикратчайший алгоритм, необходимый для описания
состояния кристалла или газа.
И снова ключом оказывается энтропия. У Колмогорова был
полезный опыт в решении сложных физических проблем, к кото-
рым можно применить новый метод. В 1941 году ученый дал пер-
вое полезное, хотя и неточное описание локальной структуры тур-
булентности. Он также работал над пертурбациями планетарных
орбит — еще одной проблемой, упрямо не поддающейся классиче-
ской физике Ньютона. Теперь, анализируя динамические системы
в терминах энтропии и информации, он начал закладывать фун-
дамент для возрождения теории хаоса, которая возникнет в 1970-е.
Имело смысл сказать, что динамическая система производит ин-
формацию. Если она непредсказуема, она производит очень мно-
го информации.
Колмогоров ничего не знал о Грегори Хайтине и никто из них
двоих ничего не знал об их американском коллеге Рэе Соломоноф-
фе, занимавшемся теорией вероятности, хотя тот разработал неко-
торые из тех же идей. Мир менялся. Время, расстояние и язык все
еще отделяли математиков России от их коллег на западе, но с каж-
дым годом разрыв становился все меньше. Колмогоров часто гово-
рил, что никто не должен заниматься математикой после шести-
десяти. Он мечтал провести старость на Волге в весельной лодке
с маленьким парусом и работать бакенщиком. Но прошло время,
бакенщики пересели на моторные лодки, и для Колмогорова это
было концом мечты.
360
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
Вернулись парадоксы.
Ноль — интересное число, о нем написаны книги. Единица,
безусловно, интересное число — она первая, в том числе и по по-
рядку (не считая ноля), единственная и уникальная. Двойка ин-
тересна во всех отношениях: наименьшее простое число; число,
определяющее четность; число, необходимое для успешного брака;
атомное число гелия; число свечей, зажигаемых на финский День
независимости. Интересно — обычное общеупотребительное сло-
во, не математический жаргон. Кажется, о любом небольшом числе
можно сказать, что оно интересное. Все двузначные и многие трех-
значные числа имеют по статье в “Википедии”.
Ученые, занимающиеся теорией чисел, называют целые классы
интересных чисел: простые, совершенные, квадраты и кубы, числа
Фибоначчи, факториалы. Число 593 более интересно, чем выглядит
на первый взгляд; это сумма квадрата девяти и двойки в девятой
степени, следовательно, является числом Лейланда (любое число,
которое можно выразить формулой х? + ух). Википедия посвятила
статью числу 9814072356. Это наибольший квадрат, в котором со-
держатся все цифры по одному разу.
Тогда что же такое неинтересное число? Предположитель-
но, случайное число. Английский исследователь теории чисел
Г.Х. Харди в 1917 году ехал в такси 1729, чтобы посетить больного
коллегу Сриниваса Рамануджана, и сообщил ему по приезде, что,
судя по всему, 1729 — “довольно скучное число”. Напротив, от-
ветил Рамануджан (согласно стандартному анекдоту математиков),
это наименьшее число, которое можно получить суммой двух ку-
бов двумя различными способами1. “Каждое положительное целое
число является другом Рамануджана”, — заметил Дж. Э. Литтлвуд.
Благодаря анекдоту 1729 сегодня известно как число Харди — Ра-
мануджана. Но и это не все:, 1729 также является числом Кармайк-
ла, псевдопростым числом Эйлера и числом Цейзеля.
Но даже ум Рамануджана конечен, так же как и “Википедия”,
так же как и совокупное знание человечества, поэтому список ин-
тересных чисел должен когда-нибудь исчерпать себя. Наверняка
1 1729 = 13 + 123 = 93 + 103 — Прим. авт.
361
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
должно существовать число, о котором нельзя сказать ничего осо-
бенного. Где бы оно ни было, сразу же возникнет парадокс: число,
которое мы можем описать, интересно нам как “наименьшее неин-
тересное число”.
Это не что иное, как вновь появившийся парадокс Берри — тот
самый, описанный Бертраном Расселом в “Принципах математики”.
Берри и Рассел задали дьявольски хитрый вопрос: “Каково наимень-
шее целое число, которое нельзя назвать менее чем 19 слогами?” Ка-
ким бы это число ни было, его можно назвать 18 слогами: наимень-
шее натуральное число, которое невозможно назвать менее чем 19 сло-
гами1. Объяснения того, почему число интересно, — это на самом
деле способы назвать это число: “квадрат семи”, например, или “чис-
ло звезд на американском флаге”. Некоторые из этих названий не ка-
жутся особенно полезными, а некоторые довольно нечеткие. Неко-
торые представляют собой чисто математические факты — например,
можно ли выразить число суммой двух кубов двумя разными спосо-
бами. Но некоторые представляют собой сведения о мире, языке или
людях, и они могут быть случайны и эфемерны — например, соответ-
ствует ли число количеству остановок метро или исторической дате.
Хайтин и Колмогоров оживили парадокс Берри, придумав ал-
горитмическую теорию информации. Алгоритм называет чис-
ло. “Парадокс первоначально говорит об английском языке, но это
слишком размыто, — заявил Хайтин. — Вместо этого я выбрал
язык программирования”. Естественно, он выбрал язык универ-
сальной машины Тьюринга.
Вопрос: как вы называете целое число? Вы называете целое число,
определяя способ его вычисления. Программа называет целое чис-
ло, если ее выводом является это целое число — вы знаете, что она
выдает это целое число, всего одно, а затем останавливается.
Вопрос, интересно ли число, обратен вопросу, случайно ли оно. Если
число п можно вычислить с помощью алгоритма, который сравни-
тельно короток, то п интересно. Если нет, то оно случайно. Алгоритм,
печатающий i и затем юо нулей, генерирует интересное число (оно
1 В английском языке эта фраза состоит из 18 слогов.
362
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
называется гугол). Аналогично, найдите первое простое число, при-
бавьте следующее простое число и повторите это миллион раз — вы
получите интересное число, сумму первого миллиона простых чи-
сел. У машины Тьюринга вычисление этого числа заняло бы большое,
но тем не менее конечное количество времени. Это число вычислимо.
Но если наикратчайший алгоритм для п есть “напечатать п” —
алгоритм, включающий в себя все число, без сокращений, — то мы
можем сказать, что ничего интересного в п нет. В терминах Кол-
могорова, это число случайно — оно максимально сложное. В нем
в обязательном порядке должна содержаться любая структура, по-
скольку закономерность дала бы способ придумать сокращение ал-
горитма. “Если существует небольшая, краткая компьютерная про-
грамма, которая вычисляет число, — значит, оно имеет некое каче-
ство или особенность, которая позволяет вам выбрать его и сжать
в более короткое алгоритмическое описание, — отмечал Хайтин. —
Поэтому это необычно; это интересное число”.
Но необычно ли это? Откуда математик может знать, часто или
редко встречаются интересные числа, рассматривая вообще все чис-
ла? Рассматривая одно конкретное число, способен ли математик ко-
гда-либо с уверенность сказать, что более короткий алгоритм может
быть найден? Для Хайтина это были чрезвычайно важные вопросы.
На первый он ответил с помощью подсчета. Подавляющее
большинство чисел должны быть неинтересны, потому что не мо-
жет существовать достаточного количества лаконичных компью-
терных программ, чтобы описать все. Посчитайте их. При длине
в юоо бит (к примеру) мы имеем 21000 чисел, но совсем не так мно-
го полезных вычислительных программ можно записать в юоо бит.
‘Существует множество других положительных целых чисел”. Так
что большинство п любой заданной длины случайны.
Следующий вопрос был гораздо более проблематичным.
Зная, что большинство чисел случайно, и имея любое конкрет-
ное и, может ли математик доказать, что оно случайно? Этого
нельзя сказать, посмотрев на число. Наоборот, зачастую п оказы-
вается интересным, в этом случае просто надо найти алгоритм,
генерирующий его. (Технически он должен быть короче log2n
бит — числа, соответствующего записи п в двоичной системе.)
Доказательство обратного — другая история. “Даже несмотря
збз
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
на то, что большинство положительных целых чисел неинтерес-
ны, — заявил Хайтин, — никогда нельзя быть уверенным... До-
казать это вы можете только в небольшом числе случаев”. Можно
представить попытку доказательства прямым перебором, записав
все возможные алгоритмы и проверяя их один за другим. Но вы-
числительной машине придется проводить проверки, выполнять
алгоритм над другими алгоритмами, и скоро, как продемонстри-
ровал Хайтин, появится новая версия парадокса Берри. Вместо
“наименьшего неинтересного числа” мы неизбежно столкнемся
с утверждением в форме “наименьшее число, для которого мы мо-
жем доказать, что его нельзя назвать менее чем п слогами”. (На са-
мом деле мы, конечно, говорим уже не о слогах, а о состояниях
машины Тьюринга.)1
Опять замкнутый круг. Неполнота Геделя в версии Хайтина.
Сложность, определенная в терминах размера программы, как пра-
вило, невычислима. Имея произвольную строку из миллиона зна-
ков, математик знает, что она почти наверняка случайна, сложна
и бессистемна, но не может быть в этом абсолютно уверен.
Хайтин завершил эту работу в Буэнос-Айресе. До того как он
окончил Сити-колледж, его родители вернулись в Аргентину, и он
поступил на работу в торговое подразделение IBM. Он продолжал
лелеять страсть к Геделю и неполноте и посылал статьи в Амери-
канское математическое общество и Ассоциацию вычислительных
машин. Восемь лет спустя Хайтин вернулся в США, чтобы посе-
тить исследовательский центр IBM в Йорктаун-Хайтс, Нью-Йорк,
и позвонил своему тогда уже почти 70-летнему герою в Институт
перспективных исследований в Принстоне. Гедель ответил, Хай-
тин представился и сказал, что у него есть новый подход к непол-
ноте, основанный на парадоксе Берри, а не на парадоксе лжеца.
— Не имеет значения, какой парадокс вы используете, — ответил
Гедель.
— Да, но... — Хайтин сказал, что находится в поиске нового “ин-
формационно-теоретического” взгляда на неполноту, и спросил,
может ли он посетить Геделя в Принстоне. Он остановился бы
1 Более точно это выглядит так: “Конечная двоичная последовательность 5, про
которую доказано, что она не может быть описана машиной Тьюринга с п состоя-
ниями или меньше”, есть описание 5 с log2 п + cF состояниями. — Прим. авт.
364
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
в Юношеской христианской ассоциации в Уайт-Плейнс и по-
ехал бы поездом, сделав пересадку в Нью-Йорке. Гедель согласился,
но, когда наступил назначенный день, отменил встречу. Шел снег,
и он боялся за свое здоровье. Хайтин так никогда с ним и не встре-
тился. Гедель становился все менее адекватным, ему казалось, что
его хотят отравить, и зимой 1978 года он умер от истощения.
Хайтин работал в Исследовательском центре IBM им. Томаса
Джона Уотсона и был одним из последних великих ученых, чьи ис-
следования поддерживали, несмотря на отсутствие убедительной
пользы для корпорации. Он иногда говорил, что “прятался” в отде-
ле физики; Хайтин чувствовал, что математики более традицион-
ного толка все равно считали его “скрытым физиком”.
Его работа рассматривала математику как своего рода эмпири-
ческую науку; не путь Платона к абсолютной истине, а программа
исследований, подверженная всем условностям и неопределенно-
сти мира. “Несмотря на неполноту, невычислимость, даже алгорит-
мическую случайность, — говорил он, — математики не желают
отказываться от абсолютной уверенности. Почему? Ну, абсолют-
ная уверенность — как Господь”.
В квантовой физике, а позже и в теории хаоса ученые обнару-
жили пределы своих знаний. Они изучали неопределенность, сна-
чала так расстроившую Эйнштейна, который не хотел верить в то,
что Господь играет в кости со Вселенной. Алгоритмическая тео-
рия информации применяет те же ограничения к вселенной целых
чисел, идеальной и умозрительной. Как сказал Хайтин, “Бог игра-
ет в кости не только в квантовой физике и нелинейной динамике,
но даже в элементарной теории чисел”.
Среди его уроков были следующие.
• Большинство чисел случайно. Тем не менее доказать случайность
можно для очень немногих из них.
• Хаотичный поток информации может скрывать простой алгоритм.
Пройти путь назад от хаоса к алгоритму, скорее всего, невозможно.
• Сложность Колмогорова — Хайтина (КХ) в математике означа-
ет то же, что энтропия в термодинамике, — антидот совершенству.
Точно так же, как не может быть вечного двигателя, не может суще-
ствовать полной формальной аксиоматической системы.
365
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
• Некоторые математические факты истинны без причины. Они
случайны, у них нет обоснования или более глубокого, скрытого
значения.
Джозеф Форд — физик, в 1980-е изучающий поведение непред-
сказуемых динамических систем, — говорил, что Хайтин “чудесно
ухватил суть вещей”, показав путь от неполноты Геделя к хаосу. Это
был “глубинный смысл хаоса”, заявил Форд.
Хаотичные орбиты существуют, но они, дети Геделя, настолько
сложны, настолько перегружены информацией, что люди никогда
не смогут осмыслить их. Хаос есть повсюду в природе; таким обра-
зом, вселенная наполнена бесчисленными загадками, которые че-
ловек никогда не сможет разгадать.
Тем не менее мы все еще пытаемся их измерить.
Сколько информации?..
Когда объект (число, поток битов или динамическую систему)
можно представить другим способом, с помощью меньшего коли-
чества битов, он сжимаем. Экономный оператор телеграфа пред-
почитает посылать сжатую версию. Поскольку дух бережливо-
го телеграфиста поддерживался в Лабораториях Белла, для Кло-
да Шеннона естественным было заняться исследованием сжатия
данных и в теории, и на практике. Сжатие было важной пробле-
мой: военная работа Шеннона по криптографии анализировала
сокрытие информации на одном конце и восстановление на дру-
гом; аналогично, сжатие данных кодирует информацию, но с це-
лью эффективного использования полосы частот. Спутниковые те-
левизионные каналы, карманные музыкальные проигрыватели, эф-
фективные камеры и телефоны и бесчисленное множество других
современных приспособлений зависят от алгоритмов кодирования
для сжатия чисел, последовательностей битов, и эти алгоритмы ве-
дут свое происхождение от статьи Шеннона 1948 года.
Первый такой алгоритм, теперь известный как кодирование
Шеннона — Фано, предложил его коллега Роберт М. Фано. Все на-
366
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
чалось с простой идеи заменить часто встречающиеся символы бо-
лее короткими кодами, как в азбуке Морзе. Однако ученые знали,
что это не оптимальный метод, от него нельзя ожидать генерации
кратчайшего из возможных сообщений, и через три года его пре-
взошла работа Дэвида Хаффмана, аспиранта Фано в МТИ. За про-
шедшие с тех пор десятилетия различные версии алгоритма Хафф-
мана сжали очень много битов.
Рэй Соломонофф, сын русских эмигрантов, который учился
в Университете Чикаго, познакомился с работой Шеннона в нача-
ле 1950-х и задумался над тем, что он назвал задачей упаковки ин-
формации: сколько информации можно “упаковать” в данное коли-
чество битов или, наоборот, имея некоторую информацию, как ее
упаковать в наименьшее количество битов. Основным его предме-
том была физика, а математическую биологию, теорию вероятно-
сти и логику он изучал дополнительно. Он познакомился с Марви-
ном Мински и Джоном Мак-Карти, пионерами в той области, ко-
торая скоро станет известна как искусственный интеллект. Потом
он прочитал необычную и оригинальную статью Ноама Хомского
“Три модели описания языка”, в которой тот применил новые идеи
теории информации к формализации языковой структуры. Соло-
монофф не до конца представлял, куда все это ведет, но обнаружил,
что сосредоточился на проблеме индукции. Как люди создают тео-
рии, объясняющие их опыт в этом мире? Им приходится делать об-
общения, искать закономерности в данных, которые всегда находят-
ся под влиянием случайности и шума. Можно ли научить этому ма-
шину? Другими словами, может ли компьютер учиться на опыте?
Он получил сложный ответ, который опубликовал в 1964 году.
Его работа была единственной в своем роде, и ее вряд ли кто-то заме-
тил, пока в 1970-х Хайтин и Колмогоров не обнаружили, что Соло-
монофф описал черты того, что потом станет алгоритмической тео-
рией информации. Фактически Соломонофф тоже пытался понять,
как компьютер может воспринимать последовательность данных —
последовательности чисел или строки битов — и измерять их слу-
чайность и скрытые структуры. Когда люди или компьютеры учатся
на своем опыте, они используют индукцию — распознают регуляр-
ности в нерегулярных потоках информации. С этой точки зрения за-
коны науки представляют собой сжатие данных в действии. Физик-
367
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
теоретик действует как очень умный кодирующий алгоритм. “Уже
открытые научные законы можно рассматривать как результат обра-
ботки большого количества эмпирических данных о вселенной, —
писал Соломонофф. — В текущем контексте каждый такой закон
можно преобразовать в метод компактного кодирования эмпириче-
ских данных, из которых и был получен этот закон”. Хорошая науч-
ная теория экономна, и вот еще один способ сказать об этом.
Соломонофф, Колмогоров и Хайтин, решая три разные зада-
чи, пришли к одному и тому же решению. Соломонофф интересо-
вался индуктивными выводами: как наилучшим образом предска-
зать следующее событие, имея последовательность наблюдений?
Колмогоров искал математическое определение случайности: что
значит утверждение, что одна последовательность более случайна,
чем другая, когда они имеют одинаковые вероятности в серии под-
брасываний монеты? Хайтин пытался найти путь к неполноте Ге-
деля через Тьюринга и Шеннона, как он позже говорил, “поместив
теорию информации Шеннона и теорию вычислимости Тьюринга
в шейкер и ожесточенно взбалтывая”. Все пришли к минимальной
длине программы. И к разговору о сложности.
Следующая последовательность битов (или число) не слиш-
ком сложна, потому что рациональна:
D: 14285714285714285714285714285714285714285714285714...
Ее можно кратко записать как “напечатать 142857 и повторить”
или еще короче: “1/7”. Если это сообщение, сжатие уменьшит коли-
чество ударов по клавишам. Если это входящий поток данных, на-
блюдатель сможет распознать закономерность, убедиться в ее нали-
чии и удовлетвориться одной седьмой как теоретическим описанием.
Напротив, следующая последовательность заканчивается
неожиданно:
Е: 10101010101010101010101010101010101010101010101013
Телеграфист (или теоретик, или алгоритм сжатия) должен прини-
мать во внимание все сообщение целиком. Тем не менее допол-
нительная информация минимальна; сообщение все еще можно
368
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
сжать, если есть какая-то закономерность. Можно сказать, что оно
состоит из избыточной и произвольной частей.
Шеннон первым показал, что все неслучайное в сообщении
позволяет его сжимать.
F:101101011110110110101110101110111101001110110100111101110
Много единиц, мало нулей, последовательность могла быть сге-
нерирована подбрасыванием неправильной монеты. Кодирование
Хаффмана и другие подобные алгоритмы используют статистиче-
ские закономерности для сжатия данных. Фотографии сжимаемы
благодаря естественной избыточности изображенного на них: свет-
лые и темные пиксели появляются кластерами; статистически нахо-
дящиеся рядом пиксели с большей вероятностью будут одинаковы-
ми; пиксели, не находящиеся в непосредственной близости, не бу-
дут. Видео еще более доступно для сжатия, потому что разница
между одним кадром и следующим сравнительно невелика, за ис-
ключением случая, когда объект находится в быстром и беспорядоч-
ном движении. Естественный язык можно сжать, потому что суще-
ствуют избыточность и закономерности, о которых говорил Шен-
нон. Только полностью случайная последовательность остается
несжимаемой, появление каждого из ее событий — неожиданность.
Случайные последовательности “нормальны” — специальный
термин, означающий, что в среднем на большой выборке каждая
цифра появляется так же часто, как и другие, один раз из десяти;
каждая пара цифр, от оо до 99, появляется один раз из сотни; каж-
дая тройка — аналогично и т.д. Никакая строка определенной дли-
ны не появляется с большей вероятностью, чем любая другая по-
следовательность этой длины. Нормальность — одна из тех идей,
которые кажутся простыми, но при ближайшем рассмотрении ма-
тематиками оказываются полны опасностей. Несмотря на то что
настоящая случайная последовательность обязана быть нормаль-
ной, обратное утверждение не обязательно верно. Число мо-
жет быть статистически нормальным, но совершенно не случай-
ным. Дэвид Чамперноун, молодой друг Тюринга из Кембриджа,
в 1933 году придумал (или открыл, если угодно) конструкцию, со-
стоящую из всех целых чисел, выстроенных по порядку:
369
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
G: 12345678910111213141516171819202122232425262728293...
Нетрудно видеть, что каждый знак и каждая комбинация зна-
ков на большой выборке появляются с одинаковой частотой. Тем
не менее эту последовательность нельзя назвать случайной. Она
строго структурирована и полностью предсказуема. Если вы знае-
те, где находитесь, вы знаете, что будет дальше.
Даже без таких чудачеств нормальные числа оказалось труд-
но распознать. Во вселенной чисел нормальность — это правило;
математики точно знают, что почти все числа нормальны. Рацио-
нальные числа ненормальны, и существует бесконечное количе-
ство рациональных чисел, но это количество бесконечно меньше
количества нормальных чисел. Тем не менее, ответив на великий
глобальный вопрос, математики почти никогда не могут доказать,
что какое-то конкретное число нормально. Это одна из самых при-
мечательных странностей математики.
Даже число л хранит свои тайны:
С: 3,1415926535897932384626433832795028841971693993751...
Компьютеры мира прошли множество циклов, анализируя пер-
вый триллион или около того знаков этого космического посла-
ния, и, насколько можно сказать, эти знаки кажутся нормальными.
Не было обнаружено никаких статистических закономерностей —
ни отклонений, ни корреляций, локальных или отдаленных. Это
наиболее типичный пример неслучайного числа, которое на пер-
вый взгляд ведет себя как случайное. Нет никакого упрощенного
способа, зная я-й знак, угадать п 4- 1-й.
Сколько информации представляет эта последовательность
знаков? Она богата информацией настолько, насколько случайно
число? Или бедна как упорядоченная последовательность?
Телеграфист, конечно, мог бы сэкономить множество уда-
ров по клавишам, бесконечно много, просто послав сообщение я.
Но это жульничество. Оно подразумевает предварительное знание,
общее для отправителя и получателя. Прежде всего, отправитель
сам должен узнать эту специальную последовательность, а получа-
тель должен знать, что такое я и как найти или вычислить его деся-
370
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
тичное расширение. Фактически у них должна быть общая кодо-
вая книга.
Однако это не означает, что л содержит много информации.
Суть сообщения может быть послана меньшим количеством уда-
ров клавиш. Телеграфист может использовать несколько страте-
гий. Например, сказать: “Возьми 4, вычти 4/3, прибавь 4/5, вычти
4/7 и так далее”. То есть выслать алгоритм.
Эта бесконечная серия дробей медленно сходится к л, так что
получателю придется выполнить много работы, но само сообще-
ние экономно: информация, содержащаяся в нем, остается той же
независимо от того, сколько требуется десятичных знаков.
Проблема наличия общего знания на находящихся далеко
друг от друга концах линии ведет к трудностям. Иногда людям
нравится описывать такого рода проблемы, проблемы информа-
ционного содержания в сообщениях, в терминах связи с инопла-
нетной формой жизни в далекой галактике. Что мы могли бы им
сказать? Что бы мы хотели сказать? Законы математики универ-
сальны, мы склонны думать, что л будет тем самым сообщением,
которое поймет любая разумная раса. Но вряд ли можно ожидать,
что они знают греческую букву. И вряд ли они узнают десятич-
ные знаки 3,1415926535..., если только у них случайно не будет де-
сяти пальцев.
Кодовая книга, находящаяся в голове того, кто получает со-
общение, никогда не совпадет с кодовой книгой отправителя. Два
огня в окне могут ничего не значить, а могут значить “Британцы
идут морем”. В любой поэме есть сообщение, для каждого чита-
теля разное. Есть возможность избавить такой способ мышления
от неопределенности. Хайтин писал:
Предпочтительно рассматривать связь не с другом, а с цифро-
вым компьютером. У друга могут оказаться способности делать
выводы о числах или конструировать серии из частичной ин-
формации или нечетких инструкций. У компьютера нет таких
способностей, для наших целей этот недостаток является пре-
имуществом. Инструкции компьютеру должны быть полными
и четкими, они должны дать ему возможность продвигаться впе-
ред шаг за шагом.
371
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Другими словами, сообщение — это алгоритм. Получатель — ма-
шина, у которой нет воображения, нет неуверенности, нет знания,
кроме присущего структуре машины. К 1960-м цифровые компью-
теры уже получали свои инструкции в форме, измеряемой в битах,
поэтому естественно было рассуждать о том, сколько информации
содержится в любом алгоритме.
Другим типом сообщения может быть такое:
Даже на глаз эта последовательность нот кажется неслучайной. Со-
общение, представленное ими, уже движется сквозь межзвездное
пространство в ю млрд миль от своего источника, движется со ско-
ростью в малую долю скорости света. Сообщение зашифровано
не в этой форме, основанной на печати, и не в цифровой форме,
а как микроскопические волны в единственной длинной бороздке,
свернутой в спираль на диске в 12 дюймов диаметром и в 1/5 дюйма
толщиной. Диск мог быть виниловым, но он сделан из меди и по-
крыт золотом. Этот аналоговый способ записи, хранения и воспро-
изведения звука был изобретен в 1877 году Томасом Эдисоном, ко-
торой назвал его фонографией. Данный способ оставался самой по-
пулярной аудиотехнологией и юо лет спустя, и в 1977 году комитет,
возглавляемый астрономом Карлом Саганом, организовал фоногра-
фическую запись и поместил ее копии в два космических корабля,
Voyager 1 и Voyager 2, каждый размером с маленький автомобиль, ко-
торые были запущены летом с мыса Канаверал в штате Флорида.
Получилось сообщение в межзвездной бутылке. У него нет
смысла, только структура: то же самое, что сказать, что это абстракт-
ное искусство, — первая прелюдия Иоганна Себастьяна Баха из “Хо-
рошо темперированного клавира” в фортепианном исполнении
372
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
Гленна Гулда. Более общее сообщение, пожалуй, может быть таким:
“Здесь есть разумная жизнь”. Кроме прелюдии Баха на пластинке ока-
зались фрагменты народной музыки нескольких культур и подбор-
ка земных звуков: ветра, прибоя и грома, приветствия на пятидесяти
пяти языках, голоса кузнечиков, лягушек и китов, корабельная сире-
на, стук повозки, которую тащит за собой лошадь, и сигналы азбу-
ки Морзе. Вместе с фонографической записью там находится голов-
ка звукоснимателя и игла с краткой пиктографической инструкцией.
Комитет не стал беспокоиться о проигрывателе или источни-
ке электричества. Может быть, в том, что служит им атмосферой,
инопланетяне найдут способ преобразовать эти аналоговые метал-
лические бороздки в волны или в другую подходящую их инопла-
нетным чувствам форму.
Распознают ли они, что, например, сложная структура прелю-
дии Баха отличается от менее интересного, более случайного стре-
котания кузнечиков? Записанные ноты, в конце концов, содержат
суть произведения Баха. Еще более общий вопрос — какого рода
знания, какого рода кодовая книга потребуются на том конце ли-
нии для расшифровки этого сообщения? Способность к восприя-
тию контрапункта и многоголосия? Знакомство с тональностя-
ми и традициями исполнения музыки барокко? Звуки, ноты по-
ступают группами; они принимают форму, которая называется
мелодией, они подчиняются правилам имплицитной грамматики.
Несет ли музыка свою логику, независимую от географии и исто-
рии? Тем временем на Земле в течение нескольких лет, еще до того,
как Voyager 1 и 2 покинули пределы Солнечной системы, музыка
уже редко записывалась в аналоговой форме. Лучше записать зву-
ки “Хорошо темперированного клавира” как биты (волны, соглас-
но теореме Шеннона о выборках, дискретизированные без поте-
ри) и сохранить информацию на дюжине подходящих носителей.
В терминах битов может показаться, что прелюдия содержит
совсем немного информации. Написанная Бахом на двух рукопис-
ных страницах, она состоит из боо нот — знаков маленького ал-
фавита. В том виде, в котором в 1964 году ее сыграл Гленн Гулд,
добавив исполнительские нюансы и вариации, она длится i мин
36 с. Звук этого исполнения, перенесенный на CD в микроскопи-
ческие углубления, выжженные лазером на тонком диске из поли-
373
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
“Золотая пластин-
ка”, размещенная
на борту косми-
ческого аппарата
“Вояджер”
карбоната, состоит из 135 млн бит. Но этот поток бит может быть
значительно сжат без потери информации. С другой стороны, пре-
людия помещается на маленьком ролике механического пианино
(потомок станка Жаккарда и предшественник перфокарточных вы-
числительных машин); закодированная в формате MIDI, она зани-
мает несколько тысяч бит. Даже исходное сообщение в боо знаков
обладает огромной избыточностью: не меняющийся темп, один
и тот же тембр, короткая мелодическая структура, слово, повто-
ряющееся снова и снова с небольшими вариациями до последних
тактов. Оно знаменито, обманчиво просто. Само повторение по-
рождает ожидания и обманывает их. Практически ничего не про-
исходит и одновременно все является неожиданностью. “Бессмерт-
ные ломаные аккорды ослепительных гармоник”, — говорила Ван-
да Ландовска. Прелюдия проста той простотой, что и полотна
Рембрандта. Она делает многое, используя малое. Много ли в ней
информации? Определенную музыку можно считать информаци-
онно бедной. На одном конце шкалы — композиция Джона Кей-
джа “4’33””> в которой нет ни одной ноты, просто 4 мин 33 с прак-
тически полной тишины. Практически, потому что это музы-
кальное произведение поглотило все окружавшие неподвижного
374
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
пианиста звуки — движения слушателей в креслах, шорохи одежды,
дыхание, вздохи.
Сколько информации в прелюдии Баха до мажор? Ее можно
проанализировать, отследить и понять как структуру, существую-
щую во времени и пространстве, но лишь до определенного преде-
ла. В музыке, как и в поэзии, как и в любом искусстве, полное пони-
мание должно ускользать, так задумано. Если кому-то удалось бы
достигнуть самой сути, все произведения искусства сразу стали бы
скучны.
Поэтому использование программы минимальной длины как
меры сложности кажется совершенным, подходящий апогей тео-
рии информации Шеннона. При этом он остается глубоко разоча-
ровывающим. И это становится особенно очевидным, когда рас-
сматриваются основополагающие — можно сказать, общечелове-
ческие — вопросы об искусстве, биологии и разуме.
375
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с этой мерой миллион нулей и миллион бросков
монеты оказываются в противоположных концах спектра. Пустая
строка настолько проста, насколько возможно, — случайная строка
максимально сложна. Нули не несут информации — бросок моне-
ты дает наибольшее возможное количество информации. Тем не ме-
нее у этих крайностей есть нечто общее. Они скучны. Они не обла-
дают ценностью. Если бы любая из них была сообщением из другой
галактики, мы не посчитали бы ее отправителя разумным существом.
Если бы они были музыкой, они были бы точно так же бесполезны.
Все, что нам важно, лежит где-то посередине — там, где соеди-
няются порядок и случайность.
Хайтин и его коллега Чарльз Беннет иногда обсуждали эти во-
просы в исследовательском центре IBM в Йорктаун-Хайтс, Нью-
Йорк. Беннет потратил годы и разработал новую меру ценности,
которую назвал “логической глубиной”. Идея глубины Беннета
связана со сложностью, но ортогональна ей. Она предназначена
для измерения полезности сообщения, что бы ни означала полез-
ность в каждой конкретной области. “С самого начала теория ин-
формации признавала, что сама по себе информация не лучшим
образом отражает ценность сообщения”, — написал он, когда на-
конец в 1988 году опубликовал свою схему.
Типичная последовательность бросков монеты имеет высокое ин-
формационное наполнение, но низкую ценность; эфемериды, в ко-
торых записаны положение Луны и планет на каждый день в тече-
ние юо лет, обладают не большим количеством информации, чем
уравнения движения и начальные условия, с помощью которых эти
эфемериды были рассчитаны, но избавляют их владельца от усилий
снова и снова рассчитывать эти положения.
Количеством работы, которую необходимо произвести для расче-
тов, во всех теоретических выкладках на основе машин Тьюрин-
га чаще всего пренебрегали. Беннет вернул эту работу. Нет ло-
гической глубины в тех частях сообщения, которые являются чи-
стой случайностью и непредсказуемы, и нет логической глубины
в очевидной избыточности, в простом повторении и копировании.
Ценность сообщения, предположил ученый, скорее лежит в том,
376
ГЛАВА 12 СМЫСЛ СЛУЧАЙНОСТИ
1что можно назвать его скрытой избыточностью — в частях, пред-
сказуемых лишь с трудом, в вещах, о которых получатель мог бы до-
гадаться и без сообщения о них, но лишь за счет существенных де-
нежных, временных или вычислительных затрат”. Когда мы оцени-
ваем сложность объекта или его информационное содержание, мы
чувствуем присутствие длительных скрытых вычислений. Это мо-
жет быть верно в отношении музыки, стихов, научной теории или
не слишком сложного и не слишком легкого кроссворда, который
доставляет удовольствие решившему его человеку.
Математики и логики выработали тенденцию думать об ин-
формационном процессе как о бесплатном — не таком, как пере-
качка воды или перенос камней. В наше время он действительно
стал недорогим. Но, в конце концов, в него входит работа, и Бен-
нет предложил признать эту работу, учесть затраты на нее при рас-
смотрении сложности. “Чем менее различим объект, тем труднее
его обнаружить”, — заявил Беннет. Он применил идею логиче-
ской глубины к проблеме самоорганизации — к вопросу о том, как
развиваются сложные структуры в природе. Эволюция начинает-
ся с простых начальных условий: сложность возрастает как резуль-
тат предыдущего усложнения. Какими бы ни были основные про-
цессы, физическими или биологическими, происходит что-то еще,
похожее на вычисления.
13
ИНФОРМАЦИЯ
КАК ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
Все из бита
Чем больше энергии, тем быстрее перемещаются биты. Земля, воздух,
огонь и вода — все они в конечном итоге состоят из энергии, но форма,
которую они принимают, определяется информацией. Чтобы что-то сделать,
нужна энергия. Для определения того, что сделано, требуется информация.
Сет Ллойд (2006)
Квантовая механика за свою короткую историю столкнулась
с большим количеством кризисов, противоречий, интерпре-
таций (Копенгагенская, Бома, многомировая, многоразум-
ная), спадов интереса и общего философского битья в грудь,
чем любая другая наука. Она окружена тайнами. Она похо-
дя игнорирует человеческую интуицию. Альберт Эйнштейн умер,
не примирившись с ее последствиями, а Ричард Фейнман не шу-
тил, когда сказал, что никто ее не понимает. Возможно, стоит про-
сто ждать появления результатов исследований природы реальности;
квантовая физика, настолько необъяснимо успешная на практике,
в теории имеет дело с основой всех вещей, а ее собственный фунда-
мент постоянно перестраивается. Даже учитывая это, причина всеоб-
щего возбуждения иногда кажется скорее религиозной, чем научной.
“Как это произошло?” — вопрошал Кристофер Фукс, кванто-
вый физик из Лабораторий Белла, а затем института теоретической
физики “Периметр” в Канаде.
Посетите любую встречу — вы словно побываете в святом городе
во время волнений. Вы увидите все религии со всеми их священно-
378
ГЛАВА 13 ИНФОРМАЦИЯ КАК ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
служителями, погруженными в религиозную войну, — последова-
тели Бома, копенгагенцы, приверженцы транзактной интерпрета-
ции, теории спонтанного коллапса, индуцированной окружением
суперселекции, объективисты, радикальные поклонники Эверетта
и множество других. Они все объявили, что видят свет, абсолют-
ный свет. Каждый говорит, что если мы признаем их решение пу-
тем к спасению, то мы тоже увидим свет.
Пришло время начать заново, говорит он. Выкинуть существую-
щие аксиомы квантовой механики, какими бы изящными и ма-
тематическими они ни были, и вернуться к основополагающим
физическим принципам. “Эти принципы должны быть четкими,
должны привлекать. Они должны волновать душу”. А где найти
такие физические принципы? Фукс сам отвечает на свой вопрос:
в квантовой теории информации.
“Довод прост и, мне кажется, неопровержим, — заявил он. —
Квантовая механика всегда была наукой об информации, просто
физики об этом забыли”.
Среди тех, кто не забыл — или вновь вспомнил, — оказался Джон
Арчибальд Уилер, один из первых ученых, занимавшихся расщеп-
лением атома, ученик Бора и учитель Фейнмана, человек, давший
имя черным дырам, последний гигант физики XX века. Уилер пи-
тал слабость к эпиграммам и афоризмам. “У черных дыр нет во-
лос” — знаменитая его фраза о том, что никаких отличительных
особенностей черных дыр, кроме массы, заряда и скорости враще-
ния, нельзя заметить снаружи. “Это учит нас тому, — писал он, —
что пространство может быть, словно лист бумаги, сжато в беско-
нечно малую точку, что время может быть погашено как внезапно
задутое пламя и что законы физики, которые мы считаем “свя-
щенными” и неприкосновенными, на самом деле какие угодно,
но не такие”.
В 1989 году он сказал свою последнюю крылатую фразу: “Все
из бита”. Его точка зрения была экстремальной. Она была имма-
териалистичной: первым делом информация, остальное потом.
“Другими словами, — говорил он, — каждая сущность, каждая ча-
379
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Наглядное
пособие Фукса
Gl/A *S <xV>OU*V
rnoVion Ф
(Ю
olA orAtnAlTy 5V»ar»n on
inf о ** m«Aton •
i^n о г ап о С*
1дск of pir е,А<сА«ЛмЦуу
стица, каждое поле, даже сам пространственно-временной конти-
нуум... их функции, значение, само существование... произошли
из битов”.
Почему природа оказывается квантованной? Потому что
квантована информация. Бит есть мельчайшая неделимая частица.
Среди физических феноменов, которые вытолкнули информацию
вперед, в центр внимания, самыми эффектными являются чер-
ные дыры. Сначала, конечно, казалось, что информация тут вовсе
ни при чем.
Черные дыры были воплощением идеи Эйнштейна, хотя тот
и не дожил до того, чтобы узнать о них. В 1915 году он показал, что
свет должен подчиняться воздействию гравитации; что гравита-
ция искривляет пространство-время; что достаточное количество
массы, сжатой как в плотной звезде, будет постоянно увеличивать
собственную гравитацию и сжиматься, и это приведет к коллап-
380
ГЛАВА 13 ИНФОРМАЦИЯ КАК ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
су. Понадобилось еще почти пятьдесят лет, чтобы физика оказа-
лась готова принять очень странные последствия этой идеи. Все
поглощается и ничего не выходит наружу. Посередине находит-
ся центр черной дыры. Плотность становится бесконечной; грави-
тация становится бесконечной; пространство-время искривляется
бесконечно. Время и пространство меняются местами. Поскольку
ни свет, ни сигнал любого рода не могут вырваться изнутри, такие
вещи по сути своей невидимы. Уилер начал называть их “черными
дырами” в 1967 году. Астрономы уверены, что нашли некоторые
по интерференции гравитационных волн и никто никогда не узна-
ет, что там внутри.
Сначала астрофизики сосредоточились на материи и энер-
гии, провалившихся в черные дыры. Позже они стали размышлять
об информации. Проблема возникла, когда Стивен Хокинг, доба-
вив квантовые эффекты к обычным расчетам общей теории отно-
сительности, в 1974 году заявил, что черные дыры все же должны
излучать частицы — результат квантовых флуктуаций у горизон-
та событий. Другими словами, черные дыры медленно испаряют-
ся. Проблема заключалась в том, что излучение Хокинга не име-
ет особенностей. Это термальное излучение, тепло. Но материя,
попадающая в черную дыру, несет информацию в самой своей
структуре, организации, в своих квантовых состояниях — в тер-
минах статистической механики, в доступных микросостояниях.
Пока пропавшая информация оставалась за пределами досягаемо-
сти, за горизонтом событий, физикам не приходилось о ней бес-
покоиться. Они могли говорить, что та недоступна, но не исчез-
ла. “В темноте все цвета одинаковы”, — написал в 1625 году Фрэн-
сис Бэкон.
Однако излучение Хокинга не несет информации. Если чер-
ные дыры испаряются, куда уходит информация? Согласно кван-
товой механике, информация не может быть уничтожена. Детер-
министские законы физики требуют, чтобы состояние физической
системы в одно мгновение определяло ее состояние в следующее;
в микроскопических деталях законы необратимы, и информация
должна сохраняться. Хокинг был первым, кто заявил, что это яв-
ляется проблемой, ставящей под сомнение сами основы квантовой
механики. Потеря информации нарушила бы условие унитарно-
381
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
сти, согласно которому вероятности событий должны в сумме со-
ставлять единицу. “Бог не только играет в кости, иногда Он броса-
ет их туда, где их невозможно разглядеть”, — сказал Хокинг. Летом
1975 года он послал в Physical Review статью с драматическим назва-
нием “Провал физики в гравитационный коллапс”. Журнал опуб-
ликовал ее год спустя с более сдержанным заголовком.
Как и ожидал Хокинг, физики яростно сопротивлялись. Сре-
ди сопротивлявшихся был Джон Прескилл из Калифорнийско-
го технологического института (КТИ) — ученый продолжал ве-
рить в принцип, согласно которому информация не может быть
потеряна: даже когда сгорает книга, если, в терминах физиков, вы
можете проследить каждый фотон и каждую частицу пепла, суще-
ствует возможность собрать ее. “Потеря информации — крайне за-
разная идея, — предупреждал Прескилл на теоретическом семина-
ре КТИ. — Очень трудно изменить квантовую теорию так, что-
бы учесть небольшую потерю информации, но без того, чтобы это
не проникло во все процессы”. В 1997 году он заключил с Хокин-
гом знаменитое пари: информация каким-то образом должна поки-
дать черную дыру, утверждал Прескилл. Они поспорили на любую
энциклопедию по выбору победителя. “Некоторые физики счита-
ют вопрос о том, что происходит внутри черной дыры, академиче-
ским и даже религиозным, как вопрос о количестве ангелов на кон-
чике иглы, — сказал Леонард Сасскинд из Стэнфорда в поддержку
Прескилла. — Но это совсем не так: под угрозой будущие прави-
ла физики”. В течение следующих нескольких лет было предложе-
но множество решений. Сам Хокинг однажды заявил: “Думаю, что
информация попадает в другую вселенную. Я пока не могу пока-
зать этого математически”.
Только в 2004 году 62-летний Хокинг признал свое пораже-
ние. Он объявил, что нашел способ показать, что квантовая гра-
витация все-таки унитарна и вся информация сохраняется. Он
применил математическое представление неопределенности —
по формулировке Ричарда Фейнмана, через сумму амплитуды
в пространстве всех возможных историй системы — к топологии
пространства-времени и заявил, что фактически черные дыры ни-
когда не были безупречно черными. “Путаница и парадокс воз-
никли потому, что люди думали классическим способом — в тер-
382
ГЛАВА 13 ИНФОРМАЦИЯ КАК ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
минах единственной топологии пространства-времени”, — пи-
сал он1. Его новая формулировка показалась некоторым физикам
туманной и оставляющей множество вопросов без ответа, но он
настаивал. “Нет никакой дочерней ответвляющейся вселенной,
как я думал, — писал он. — Информация остается в нашей все-
ленной. Я прошу прощения у любителей научной фантастики”.
Он вручил Прескиллу тяжеленный 2688-страничный том “Весь
бейсбол: единая энциклопедия бейсбола”, “из которого с легко-
стью можно получить информацию. Но, вероятно, я должен был
отдать ему лишь пепел”.
Чарльз Беннет пришел к квантовой теории информации дру-
гим путем. Задолго до разработки своей теории логической глуби-
ны он задумывался о “термодинамике вычислений”: странная тема,
ведь обработка информации по большей части рассматривалась как
бестелесный процесс. “Термодинамика вычислений, если остано-
виться и задуматься, наверное, может показаться настолько же не-
насущным вопросом для научных исследований, как, скажем, тер-
модинамика любви”, — говорил Беннет. Это как энергия мысли.
Калории, может быть, и тратятся, но никто их не считает.
Еще более странным было то, что Беннет пытался исследовать
термодинамику самого далекого от термодинамики компьютера —
несуществующей, абстрактной, идеальной машины Тьюринга. Сам
Тьюринг никогда не думал, что его мысленный эксперимент по-
требляет какую-то энергию или излучает какое-то тепло, пока идет
передвижение по воображаемой ленте данных. Тем не менее в на-
чале 1980-х Беннет говорил об использовании лент машины Тью-
ринга в качестве топлива, а содержание калорий в них предлагал
измерять в битах. Тоже, конечно, мысленный эксперимент, но при-
званный ответить на очень реальный вопрос: какова физическая
стоимость логической работы? “Компьютеры, — провоцировал
он, — можно рассматривать как машины, преобразующие свобод-
ную энергию в тепло и математическую работу”. Снова на поверх-
ности появилась энтропия. Лента, полная нулей, или лента с зако-
дированным полным собранием сочинений Шекспира, или лента,
1 “Было либо R4, либо черная дыра. Сумма Фейнмана допускает существование
и того и другого одновременно”. — Прим. авт.
383
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
перечисляющая знаки я, — все они имеют “энергетическую цен-
ность”. У случайной ленты ее нет.
Беннет, сын учителей музыки, вырос в Вестчестере, приго-
роде Нью-Йорка, в 1960-е изучал химию в Университете Брэн-
дис, а затем в Гарварде. В Гарварде тогда читал лекции о генетиче-
ском коде Джеймс Уотсон, а Беннет год работал у него ассистен-
том. Он получил степень по молекулярной динамике, занимался
моделированием на машине с памятью около 20 тыс. десятичных
знаков, которая после ночи вычислений выдавала результат на ог-
ромном количестве листов-распечаток. В поисках больших вы-
числительных мощностей для продолжения исследований движе-
ния молекул он отправился в лабораторию Лоуренса Ливермора
в Беркли, Калифорния, и в Аргонскую национальную лаборато-
рию, Иллинойс, а в 1972 году поступил на работу в исследователь-
ский отдел IBM.
Конечно, IBM не производила машин Тьюринга. Но в ка-
кой-то момент Беннета осенило, что специализированная маши-
на Тьюринга уже обнаружена в природе — РНК-полимераза. Он
узнал о полимеразе непосредственно от Уотсона; это ее ферменты
“путешествуют” по гену, “ленте”, транскрибируя ДНК. Она шага-
ет влево и вправо; ее логическое состояние изменяется в соответ-
ствии с химической информацией, записанной в последовательно-
сти; ее термодинамическое поведение можно измерить.
В реальном мире вычислений 1970-х оборудование быстро
становилось в тысячи раз более энергоэффективным, чем в ран-
нюю эпоху вакуумных ламп. Тем не менее электронные компью-
теры рассеивали значительную энергию в форме излучаемого
тепла. Чем ближе они подбирались к теоретически минимально-
му уровню потребления энергии, тем более упорно ученые зада-
вались вопросом, каков этот теоретический минимум. Фон Ней-
ман, работая с большими компьютерами, еще в 1949 году сделал
грубые расчеты, обозначив количество тепла, которое должно
рассеиваться “за элементарный акт информации, то есть в резуль-
тате элементарного выбора из двух альтернатив и элементарной
передачи единицы информации”. Определяя это количество, он
основывался на молекулярной работе, которую выполняет в мо-
дели термодинамической системы демон Максвелла, описанный
384
ГЛАВА 13 ИНФОРМАЦИЯ КАК ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
Лео Силардом1. Фон Нейман говорил, что затраты происходят
при каждом элементарном акте обработки информации, при каж-
дом выборе из двух альтернатив. К 1970 году это было признано
всеми. Но оказалось, что это не так.
Ошибку фон Неймана нашел беженец из нацистской Герма-
нии Рольф Ландауэр, ставший наставником Беннета в IBM, Лан-
дауэр посвятил карьеру определению физических основ инфор-
мации. Одна его знаменитая статья называлась “Информация
физична” и была призвана напомнить ученому сообществу, что
вычисления требуют физических объектов и подчиняются законам
физики. Чтобы никто не забывал, он написал еще и эссе — как ока-
залось, его последнее эссе — “Информация неизменно физична”.
Был ли бит отметкой на каменной табличке, отверстием в перфо-
карте или частицей со спином, направленным вверх или вниз, Лан-
дауэр настаивал на том, что бит не может существовать без како-
го-либо носителя. В 1961 году Ландауэр пытался доказать формулу
фон Неймана для затрат энергии на обработку информации и об-
наружил, что не может этого сделать. Напротив, казалось, что боль-
шинство логических операций и вовсе не подразумевают затраты.
Когда бит переключается с нуля на единицу или наоборот, инфор-
мация сохраняется. Процесс обратим. Энтропия не меняется; ни-
какого тепла рассеивать не нужно. Лишь необратимые операции,
утверждал он, увеличивают энтропию.
Ландауэр и Беннет составляли комичный дуэт: прямой и под-
тянутый служащий IBM старого образца и неряшливый хиппи
(по крайней мере, таким видел себя сам Беннет). Младший зани-
мался принципом Ландауэра, анализируя реальные и абстрактные
виды компьютеров, которые мог вообразить, от машин Тьюринга
и матричного информационного РНК до “баллистических” вы-
числительных машин, передающих сигналы посредством чего-то
похожего на бильярдные шары. Он подтвердил, что основная часть
вычислений может быть выполнена без затрат энергии. В каждом
1 Формула фон Неймана теоретических затрат энергии на каждую логическую
операцию была kT Ln 2 Джоуля на бит, где Т — рабочая температура компью-
тера, a k — константа Больцмана. Силард доказал, что демон может получить
kT Ln 2 работы из каждой молекулы, которую выбирает, так что где-то в цикле
затраты энергии должны быть оплачены. — Прим. авт.
385
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
случае, как обнаружил Беннет, рассеяние тепла возникает только
при уничтожении информации. Уничтожение есть необратимая
логическая операция. Когда головка машины Тьюринга стирает
один квадрат ленты или когда электронный компьютер освобожда-
ет конденсатор, один бит теряется, и тогда необходимо рассеять
тепло. В мысленном эксперименте Силарда демон не увеличивает
энтропию, когда наблюдает или выбирает молекулы. Расплата при-
ходит позже, в момент очистки записи, когда демон удаляет одно
наблюдение, чтобы освободить память для другого.
Забывание требует работы.
“Можете называть это местью теории информации квантовой
механике”, — говорил Беннет. Иногда удачная идея в одной обла-
сти может затормозить прогресс в другой. В данном случае удачной
идеей был принцип неопределенности, который восстановил цен-
тральную роль самого процесса измерения. Никто теперь не мог
просто говорить о том, чтобы “посмотреть” на молекулу, наблю-
датель должен был задействовать фотоны, а фотоны должны были
быть более энергичными, чем тепловой фон, и сложности толь-
ко множились. В квантовой механике акт наблюдения как таковой
имел последствия, совершал ли его ученый в лаборатории или де-
мон Максвелла. Природа чувствительна к нашим экспериментам.
“Квантовая теория излучения помогла людям прийти к невер-
ному заключению, что вычисления на каждом шагу требуют несни-
жаемых термодинамических затрат, — говорил Беннет. — В дру-
гом случае успех теории обработки информации Шеннона при-
вел к тому, что люди исключали всю физику из процесса обработки
информации и думали о нем как о чисто математической вещи”.
По мере того как инженеры связи и разработчики чипов все боль-
ше приближались к атомному уровню, возрастало их беспокой-
ство по поводу квантовых ограничений, вмешивающихся в чистую,
классическую способность различать состояния нуля и единицы.
Но теперь они взглянули снова, и тут наконец возникла наука —
квантовая теория информации. Беннет и остальные начали думать
по-новому: квантовые эффекты — не досадная неприятность, их
можно обратить в свою пользу.
В кабинете Беннета в исследовательской лаборатории IBM,
среди лесистых холмов Вестчестера, прислоненное к стене, стояло
386
ГЛАВА 13 ИНФОРМАЦИЯ КАК ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
светонепроницаемое устройство, названное “тетушка Марта” (со-
кращение от “гроба тетушки Марты”). Беннет со своим помощ-
ником Джоном Смолином сконструировали его в 1988-1989 годах:
алюминиевый ящик, изнутри покрашенный черной матовой крас-
кой, с резиновой изоляцией и обитый черным бархатом. С помо-
щью гелий-неонового лазера для выравнивания и батарей высоко-
го напряжения для поляризации фотонов они послали первое со-
общение, закодированное квантовой криптографией. Это было
демонстрацией задачи обработки информации, которую можно
было эффективно выполнить лишь с помощью квантовой системы.
Вскоре последовали квантовая коррекция ошибок, квантовая теле-
портация и квантовые компьютеры.
Квантовым сообщением обменялись и Алиса с Бобом, везде-
сущая мифическая пара. Алиса и Боб впервые появились в крипто-
графии, но теперь они принадлежали квантовым физикам. Иногда
к ним присоединялся Чарли. Они постоянно ходили по разным
комнатам, подбрасывали монеты и посылали друг другу запеча-
танные конверты. Они выбирали состояния и выполняли поворо-
ты Паули. “Мы говорим так: “Алиса посылает Бобу кубит1 и за-
бывает, что она сделала”, “Боб делает измерения и сообщает Али-
се”, — объясняла Барбара Терхал, коллега Беннета, представитель
следующего поколения ученых, занимающихся теорией квантовой
информации. Сама Терхал исследовала “моногамию” (разумеется,
это еще один специальный термин) Алисы и Боба.
В эксперименте с “тетушкой Мартой” Алиса посылает Бобу
информацию, зашифрованную таким образом, что та не может
быть прочитана недоброжелательной третьей стороной (“подслу-
шивающей” Евой). Если оба знают индивидуальный ключ, Боб
способен расшифровать сообщение. Но как Алиса передаст Бобу
ключ? Беннет и Жиль Брассар, монреальский специалист в обла-
сти теории вычислительных машин, начали с кодирования каждого
бита информации как отдельного квантового объекта, такого как
фотон. Информация содержится в квантовом состоянии фотона,
например в его горизонтальной или вертикальной поляризации.
В классической физике объект, обычно состоящий из миллиардов
1 Квантовый бит.
387
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
частиц, можно перехватить, отследить, изучить и передать дальше,
с квантовым же объектом этого не сделать. Его нельзя ни копиро-
вать, ни клонировать. Акт наблюдения неизбежно прерывает сооб-
щение. Не имеет значения, насколько незаметно “подслушиваю-
щие” стараются “прислушаться”, их все равно можно обнаружить.
Согласно замысловатому и сложному протоколу, разработанному
Беннетом и Брассаром, Алиса генерирует последовательность слу-
чайных битов, которые используются как ключ, а Боб в состоянии
построить идентичную последовательность на своем конце линии.
В первых экспериментах с “гробом тетушки Марты” им уда-
лось послать квантовые биты через 32 см воздушного пространства.
Конечно, не “Г-н Уотсон, подойдите, я хочу вас видеть”, но впер-
вые в истории это был криптографический ключ, который невоз-
можно взломать. В дальнейшем экспериментаторы перешли к оп-
тическому волокну. Беннет же выбрал квантовую телепортацию.
Очень скоро он пожалел о таком названии, когда маркетин-
говый отдел IBM рассказал о его исследованиях в рекламе, описав
их следующей строкой: “Готовьтесь! Я телепортирую вам гуляш”.
Но название прилипло, потому что телепортация работала. Разу-
меется, Алиса посылала не гуляш, она посылала кубиты1.
Кубит — наименьшая нетривиальная квантовая система. Как
и классический бит, кубит имеет два возможных значения, ноль
и единицу, то есть способен находиться в одном из двух ясно раз-
личимых состояний. В классической системе все состояния раз-
личимы в принципе. (Если вы не можете отличить один цвет
от другого, то ваш оптический прибор несовершенен.) Но благо-
даря принципу неопределенности Гейзенберга в квантовой систе-
ме несовершенная распознаваемость повсюду. Когда вы измеряе-
те одно свойство квантового объекта, вы тем самым лишаете себя
1 Это слово не признано повсеместно, хотя OED признал его в декабре 2007 года.
Дэвид Мермин в том же году написал: “К сожалению, несообразное написание
qubit в настоящее время остается в силе... Хотя qubit соблюдает английское (не-
мецкое, итальянское...) правило, что после q должна идти и, оно игнорирует
другое такое же строгое правило, что за qu должна следовать гласная. Мне ка-
жется, что qubit получил признание потому, что визуально напоминает устарев-
шее английское слово для единицы расстояния, омонимичное ему cubit. Чтобы
заметить его неуклюжесть свежим взглядом, достаточно представить себе... как
кто-то прочистил уши Qutips [Q-tips — торговая марка ватных палочек для
ушей] ”. — Прим. авт.
388
ГЛАВА 13 ИНФОРМАЦИЯ КАК ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
возможности измерить дополнительное свойство. Вы можете най-
ти импульс частицы или ее положение, но не оба одновременно.
К другим дополнительным свойствам относятся направление спи-
на и, как в “гробу тетушки Марты”, поляризация. Физики думают
об этих квантовых состояниях в геометрических терминах — со-
стояния системы, соответствующие направлениям в пространстве
(пространстве многих возможных измерений), а их различимость
зависит от того, являются ли эти направления перпендикулярными
(или ортогональными).
Эта неполная различимость и есть то, что придает кванто-
вой физике признаки мечты: невозможно наблюдать системы без
вмешательства в них, невозможно клонировать квантовые объ-
екты или передавать их сразу многим адресатам. У кубита тоже
есть признаки мечты. Он не просто “или — или”. Его значения
о и 1 представлены квантовыми состояниями, которые можно на-
дежно различить, — например, горизонтальная и вертикальная
поляризация, — но с ними сосуществует целый континуум про-
межуточных состояний, таких как диагональные поляризации, ко-
торые склоняются к о или 1 с различными вероятностями. Так, фи-
зик говорит, что кубит есть суперпозиция состояний, комбинация
амплитуд вероятности. Это детерминированная вещь с облаком
недетеминированности, живущим внутри нее. Но кубит не боло-
то; суперпозиция не сборная солянка, а комбинация вероятност-
ных элементов в соответствии с ясными и элегантными математи-
ческими правилами.
“Неслучайное целое может иметь случайные части, — говорит
Беннет. — Это самая контринтуитивная идея квантовой механики,
тем не менее она вытекает из принципа суперпозиции и из того,
как, насколько мы знаем, работает природа. Людям может сначала
это не понравиться, но со временем вы привыкаете, ведь альтерна-
тивы гораздо хуже”.
Ключом к телепортации и к многому из того, что появилось
впоследствии в науке квантовой информации, является феномен,
известный как запутанность. Запутанность берет принцип супер-
позиции и распространяет его в пространстве на пару кубитов, на-
ходящихся далеко друг от друга. Они обладают определенным со-
стоянием как пара, даже если ни у одного из них нет собственно-
389
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
И>
го измеримого состояния. Прежде чем стало возможным открыть
запутанность, ее надо было придумать — это сделал Эйнштейн.
Потом ее надо было назвать — это сделал Шредингер. Эйнштейн
придумал ее для мысленного эксперимента, призванного прояс-
нить то, что он считал недостатками квантовой механики в том ее
виде, в котором она пребывала в 1935 году.
Он опубликовал этот эксперимент в знаменитой статье, на-
писанной вместе с Борисом Подольским и Натаном Розеном
и озаглавленной “Можно ли считать квантово-механическое опи-
сание физической реальности полным?” Статья знаменита в том
числе и тем, что спровоцировала Вольфганга Паули написать
Вернеру Гейзенбергу: “Эйнштейн снова публично высказался
о квантовой механике... Хорошо известно, что каждый раз, когда
подобное случается, это катастрофа”. Мысленный эксперимент
рассказывал о паре частиц, связанных друг с другом специальным
образом, как, например, пара фотонов, излучаемая одним атомом.
Их поляризация случайна, но идентична сейчас и все время, пока
они существуют.
Эйнштейн, Подольский и Розен изучили, что бывает, когда
фотоны находятся далеко друг от друга и когда производится из-
мерение над одним из них. В случае запутанных частиц — пары
390
ГЛАВА 13 ИНФОРМАЦИЯ КАК ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
фотонов, появившихся вместе, а теперь находящихся в световых
годах друг от друга, — кажется, что измерение, проводимое над
одним, оказывает влияние на другой. В тот момент, когда Алиса
измеряет вертикальную поляризацию своего фотона, фотон Боба
тоже будет иметь определенное состояние поляризации по этой
оси, тогда как его диагональные поляризации будут неопреде-
ленными. Таким образом, измерение очевидно создает воздей-
ствие, которое распространяется быстрее скорости света. Это ка-
залось парадоксом, что раздражало Эйнштейна. “То, что реально
существует в Б, не должно зависеть от того, какого рода измере-
ния проводятся в пространстве А”, — писал он. Статья заканчи-
валась едко: “Никакое разумное определение реальности не мо-
жет позволить такого”. Эйнштейн дал этому явлению незабы-
ваемое название spukhafte Fernwirkung (призрачное воздействие
на расстоянии).
В 2003 году израильский физик Ашер Перес предложил от-
вет на загадку Эйнштейна — Подольского — Розена (ЭПР). Ста-
тья не то что ошибочна, сказал он, но она была написана слишком
рано, до публикации Шенноном его теории информации, “и про-
шло еще немало лет, прежде чем последняя была включена в ин-
струментарий физики”.
Информация физична. Нет смысла говорить о квантовых со-
стояниях без рассмотрения информации этих квантовых состояний.
Информация — не просто абстрактное понятие. Она требует фи-
зического носителя, и последний (приблизительно) локализован.
В конце концов, бизнес “Телефонной компании Белла” состоял
в передаче информации от одного телефона к другому, находяще-
муся на расстоянии.
...Когда Алиса измеряет свой спин, информация, которую она по-
лучает, локализована в ее местоположении; там она и останется,
пока Алиса не решит передать ее. Абсолютно ничего не происхо-
дит там, где находится Боб... Лишь когда и если Алиса проинфор-
мирует Боба о полученных ею результатах (письмом, по телефо-
ну, радио или посредством любого другого материального носите-
ля, который, естественно, ограничен скоростью света), Боб поймет,
что его частица находится в определенном чистом состоянии.
391
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Впрочем, Кристофер Фукс утверждает, что вообще не имеет смыс-
ла говорить о квантовых состояниях. Квантовое состояние — это
построение наблюдателей, отсюда и множество проблем. Забудем
состояния, займемся информацией. “Терминология может расска-
зать все: практик в этой области, думал ли он когда-либо о кванто-
вых основах или нет, с той же вероятностью скажет “квантовая ин-
формация”, с какой и “квантовое состояние”... “Что делает прото-
кол квантовой телепортации?” Сегодня совершенно стандартным
ответом будет: “Он передает квантовую информацию от места на-
хождения Алисы к месту нахождения Боба”. То, что мы тут наблю-
даем, есть изменение образа мышления”.
Загадка призрачных действий на расстоянии полностью реше-
на не была. Нелокалъность продемонстрировали разнообразны-
ми экспериментами, каждый из которых был потомком мыслен-
ного эксперимента ЭПР. Запутанность оказалась не только реаль-
на, но и распространена. Пара атомов в каждой молекуле водорода
Н2 квантово запутанны (yerschrankt, как говорил Шредингер). Бен-
нет заставил запутанность работать в квантовой телепортации, ко-
торая впервые была публично представлена в 1993 году. Телепор-
тация использует запутанную пару для проецирования кванто-
вой информации от третьей частицы на произвольное расстояние.
Алиса не может измерить эту третью частицу непосредственно;
вместо этого она измеряет что-то, что относится к одной из запу-
танных частиц.
Даже несмотря на то, что сама Алиса остается в неведении
по поводу оригинала из-за принципа неопределенности, Боб спо-
собен получить точную реплику. В этом процессе объект Алисы те-
ряет овеществленность. Связь не быстрее скорости света, посколь-
ку Алиса должна послать Бобу также классическое (неквантовое)
сообщение. “Чистый результат телепортации совершенно прозаи-
чен: изъятие [квантового объекта] из рук Алисы и его появление
в руках Боба в соразмерное время, — писали Беннет и его колле-
ги. — Примечательным является то, что в промежутке информа-
ция четко разделяется на классическую и неклассическую части”.
Исследователи быстро представили множество приложений,
таких как передача волатильной информации в безопасное хра-
нилище или память. С гуляшом или нет, телепортация возбужда-
392
ГЛАВА 13 ИНФОРМАЦИЯ КАК ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
ла, потому что открыла новые возможности для очень реальной,
но все еще ускользающей мечты о квантовых вычислениях.
Идея квантовой вычислительной машины — странная идея.
В 1981 году Ричард Фейнман решил подчеркнуть эту странность
в своем выступлении в МТИ, посвященном возможности исполь-
зования квантовых систем для расчета трудных квантовых задач.
Он начал с предположительно озорного отступления: “Секретно!
Секретно! Закройте двери... ”
Нам всегда было очень трудно понимать тот взгляд на мир, ко-
торый представляет квантовая механика. По крайней мере, мне
трудно, потому что я достаточно стар [ему было 62. —Прим, авт.}
и не достиг той точки, когда все это было бы для меня очевидно.
О’кей, я все еще нервничаю по этому поводу... Мне еще не ста-
ло очевидным то, что здесь нет настоящей проблемы. Я не могу
определить настоящую проблему, тем не менее я подозреваю, что
настоящей проблемы нет, но я не уверен, что настоящей пробле-
мы нет.
Он очень хорошо знал, что было проблемой для вычислений, для
воспроизведения квантовой физики с помощью компьютера. Проб-
лемой была вероятность.
Каждая квантовая переменная включала в себя вероятности,
и это заставляло экспоненциально повышаться сложность вычис-
лений. “Количество информационных битов такое же, как количе-
ство точек в пространстве, следовательно, вам надо описать что-то
около NN конфигураций, чтобы получить вероятность, и это
слишком много для наших компьютеров... В соответствии с уста-
новленными правилами воспроизведение с помощью расчета веро-
ятности невозможно”.
Поэтому он предложил выбивать клин клином. “Другим спо-
собом воспроизведения вероятностной природы, которую назовем
7V, может оказаться воспроизведение с помощью компьютера С, ко-
торый и сам вероятностен”. Квантовый компьютер не будет маши-
ной Тьюринга, сказал ученый. Это будет что-то совершенно новое.
“Догадка Фейнмана, — говорит Беннет, — состояла в том, что
квантовая система в определенном смысле постоянно рассчитыва-
393
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ет собственное будущее. Можно сказать, что это аналоговый ком-
пьютер со своей динамикой”. Исследователи быстро поняли, что,
если квантовый компьютер обладает особыми возможностями об-
ходить проблемы в моделировании физики, он может быть в со-
стоянии решать и другие виды неподдающихся проблем.
Такую возможность дает мерцающий, неосязаемый объект, ку-
бит. Вероятности встроены в него. То, что он заключает в себе су-
перпозицию состояний, дает ему больше силы, чем классическому
биту, который всегда находится лишь в одном из двух состояний,
о или i; “довольно жалкий представитель двумерного вектора”, как
говорит о нем Дэвид Мермин. “Когда мы научились считать на на-
ших липких маленьких пальцах, мы пошли не тем путем, — сухо
заявил Рольф Ландауэр. — Мы думали, что целое обязано иметь
определенное и уникальное значение”. Но нет, не в реальном, точ-
нее, не в квантовом мире.
В квантовых вычислениях запутано множество кубитов. За-
ставив кубиты работать вместе, мы не просто умножаем их силу,
сила возрастает экспоненциально. В классических вычислениях,
где бит всегда “или — или”, п битов могут кодировать любое из in
значений. Кубиты могут кодировать эти Булевы значения и все их
возможные суперпозиции. Это дает квантовому компьютеру воз-
можность параллельных вычислений, у которой нет классическо-
го эквивалента.
Таким образом, квантовый компьютер в теории может решать
определенные классы задач, которые в его отсутствии считались
вычислительно нерешаемыми.
Примером может служить нахождение простых множителей
очень больших чисел. А это, между прочим, ключ к взлому само-
го распространенного криптографического алгоритма, используе-
мого сегодня, — ASA-шифра. Вся мировая интернет-торговля за-
висит от него. Фактически очень большое число служит открытым
ключом, используемым для шифровки сообщений; если “подслу-
шивающий” сможет найти его простые множители (тоже боль-
шие числа), он будет способен расшифровать сообщение. Но если
умножить пару больших простых чисел очень просто, то обрат-
ная операция крайне сложна. Эта процедура — информационная
улица с односторонним движением. Поэтому нахождение мно-
394
ГЛАВА 13 ИНФОРМАЦИЯ КАК ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
жителей чисел RSA было и остается вызовом классическим вычис-
лениям. В декабре 2009 года было проведено исследование: мно-
гие сотни машин работали почти два года в Лозанне, Амстерда-
ме, Токио, Париже, Бонне и Редмонде, штат Вашингтон. Было
обнаружено, что 12301866845301177551304949583849627207728
535695953347921973224521517264005072636575187452021997864
693899564749427740638459251925573263034537315482685079170
26122142913461670429214311602221240479274737794080665351
419597459856902143413 есть произведение 334780716989568987
860441698482126908177047949837137685689124313889828837938
78002287614711652531743087737814467999489 и 3674604366679
959042824463379962795263227915816434308764267603228381573
9666511279233373417143396810270092798736308917. По их оцен-
ке, вычисление заняло более ю20 операций.
Это было одно из небольших чисел RSA, но если бы решение
получили раньше, то команда могла бы выиграть приз в 50 тыс. дол-
ларов, учрежденный Лабораториями RSA. В классических вычис-
лениях такое шифрование считается вполне безопасным. Большие
числа требуют экспоненциально большего времени, и с какого-то
момента время начинает превышать возраст вселенной.
Квантовые вычисления — совсем другое дело. Способность
квантового компьютера находиться сразу во многих состояниях
открывает новые перспективы. В 1994 году, еще до того, как кто-
либо узнал, как построить любой квантовый компьютер, матема-
тик из Лабораторий Белла придумал, как его программировать для
решения задачи нахождения простых множителей. Это был Пи-
тер Шор.
Его гениальный алгоритм, открывший новую область, те-
перь известен ему как алгоритм разложения чисел на множители,
а остальным — как алгоритм Шора. Два года спустя Лов Гровер,
тоже из Лабораторий Белла, разработал квантовый алгоритм поис-
ка по большим неупорядоченным базам данных. Эту трудную за-
дачу можно считать канонической в мире бесконечной информа-
ции: игла и стог сена.
“Квантовые компьютеры, по существу, стали революционны-
ми, — объявил в 2009 году Дорит Ахаронов из Еврейского универ-
ситета. — Революция была запущена алгоритмом Шора. Но при-
395
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
чина революции кроме удивительных практических возможностей
в том, что они дают новое понимание того, какие задачи простые,
а какие сложные”.
То, что дает квантовым компьютерам их силу, делает чрезвы-
чайно трудной работу с ними. Получить информацию из системы
означает наблюдать за ней, а наблюдение за системой означает вме-
шательство в магию квантов. Невозможно наблюдать, как количе-
ство операций, параллельно выполняемых кубитами, увеличивает-
ся экспоненциально; измерение этого переплетения теней вероят-
ностей превращает его в классический бит. Квантовая информация
хрупка. Единственный способ узнать результат вычислений — до-
ждаться окончания квантовой работы.
Квантовая информация как сон — исчезающая, не вполне су-
ществующая, в отличие от, например, слова, напечатанного на бу-
маге. “Множество людей может прочитать книгу и получить одну
и ту же информацию, — говорит Беннет, — но попытка рассказать
людям свой сон меняет вашу память о нем, поэтому со временем
вы забываете сон и помните лишь то, что говорили”. Квантовое
стирание в свою очередь приводит к истинной отмене действия.
“Можно сказать, что даже Господь забыл, что это было”.
Что касается самого Шеннона, он не смог увидеть всходы по-
сеянных им семян. “Если бы Шеннон был сейчас с нами, думаю, он
был бы полон энтузиазма по поводу емкости канала, дополненно-
го запутанностью, — говорит Беннет. — Та же форма, обобщение
формулы Шеннона, очень элегантно описывает как квантовый, так
и классический каналы. Так, очень хорошо установлено, что кван-
товое обобщение классической информации привело к более яс-
ной и более мощной теории как вычислений, так и связи”.
Шеннон прожил до 2001 года, его последние годы были омра-
чены болезнью, стирающей память, — болезнью Альцгеймера.
Жизнь ученого прошла в XX веке и помогла определить его. Шен-
нон был основоположником информационной эпохи, насколь-
ко ее основоположником мог быть один человек. Киберпростран-
ство — отчасти его создание; он никогда не осознавал его, но в сво-
ем последнем интервью, в 1987 году, сказал, что рассматривает идею
зеркальных комнат: “Придумать все возможные зеркальные комна-
ты и расположить их со смыслом, то есть так, чтобы, если вы, на-
396
ГЛАВА 13 ИНФОРМАЦИЯ КАК ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
ходясь в одной из таких комнат, посмотрите в любом направлении,
пространство окажется разделенным на ряд комнат, и вы будете на-
ходиться в каждой из них, и так до бесконечности, без противоре-
чий”. Он надеялся построить галерею зеркал в своем доме около
МТИ, но так этого и не сделал.
А программу действий оставил в наследство науке квантовой
информации Джон Уилер — скромный список дел для следующего
поколения физиков и информатиков:
“Перевести квантовые идеи теории струн и геометродинамики
Эйнштейна с языка континуума на язык бит”, — призывал он сво-
их наследников;
“Применить творческий подход для обзора каждого из мощ-
ных инструментов, которые завоевала математика, в том числе
и математическую логику, и разработать способ переноса каждо-
го из них в мир бит”;
“Учитывая опыт сложнейшего поступательного развития ком-
пьютерного программирования, откопать, систематизировать
и показать свойства, проливающие свет на структуру физики, где
каждый слой накладывается на следующий”;
“Наконец, скорбеть? Нет, радоваться отсутствию ясного четко-
го определения термина “бит” как элементарной единицы в уста-
новлении значения... Если и когда мы узнаем, как объединить
биты в фантастически большие числа, чтобы получить то, что мы
называем существованием, мы лучше поймем, что имеем в виду
и под битом, и под существованием”.
Этот вызов все еще остается вызовом, и не только для ученых.
14
ПОСЛЕ ПОТОПА
Великий Вавилонский альбом
Вообразите: в каждой книге скрыта другая книга, в каждой букве
на каждой странице раскрывается новый том; и все эти книги не имеют
объема. Вообразите знание, уменьшенное до своей сути, внутри картины,
знак — в месте, не занимающем места1.
Хилари Мантел (2009)
сс
Вселенная — некоторые называют ее Библиотекой... ”
Так Хорхе Луис Борхес начал свой рассказ 1941 года “Вави-
лонская библиотека” о мифической библиотеке, в которой
содержатся все книги на всех языках, жалкие книги и кни-
ги-пророчества, Евангелие и комментарии к этому Еванге-
лию, и комментарий к комментарию к Евангелию, история будуще-
го в мельчайших деталях, интерполяции каждой книги во все дру-
гие книги, истинный каталог библиотеки и бесчисленное множество
фальшивых каталогов. В этой библиотеке (которую другие называют
вселенной) бережно хранится вся информация. Тем не менее в ней
нельзя найти знания, и именно потому, что все истинное знание нахо-
дится в ней, размещенное на полках бок о бок с ложным. В зеркальных
галереях, на бесчисленных полках можно найти все и ничего. Более
совершенного примера перенасыщения информацией быть не может.
Мы сами создаем собственные хранилища. Устойчивость ин-
формации и затрудненное ее забывание, так характерные для нашего
1 Пер. Е. Доброхотовой-Майковой и М. Клеветенко.
398
ГЛАВА 14 ПОСЛЕ ПОТОПА
времени, обрастают беспорядком и путаницей. Когда свободная лю-
бительская совместная онлайн-энциклопедия под названием “Вики-
педия” начала превышать по объему и полноте все печатные энци-
клопедии мира, ее редакторы поняли, что у многих названий есть
различные значения. Они разработали политику устранения неод-
нозначности, приведшую к созданию специальных страниц, задача
которых — снятие омонимии. Их сотни тысяч и даже больше. На-
пример, пользователь, ищущий в лабиринтах-галереях “Википедии”
слово “Вавилон” (Babel), найдет страницу “Вавилон (значения)”, ко-
торая в свою очередь отправит его к еврейскому названию древнего
Вавилона, Вавилонской башне, иракской газете, книге Патти Смит,
советскому писателю, журналу австралийских преподавателей языка,
фильму, музыкальному лейблу, острову в Австралии, двум разным
горам в Канаде и “планете в вымышленной вселенной “Стартрека”.
И это не все. Пути устранения неоднозначности разветвляются сно-
ва и снова. Например, “Вавилонская башня (значения)” перечисля-
ет кроме истории из Ветхого Завета песни, игры, книги, полотно
Брейгеля, гравюру Эшера и “карту Таро”. Оказывается, мы построи-
ли множество Вавилонских башен.
Задолго до “Википедии” Борхес также писал об энциклопедии,
“обманчиво названной The Anglo-American Cyclopedia (Нью-Йорк,
1917)”, — лабиринте, где выдуманное переплетается с фактами, еще
одном зале из зеркал и опечаток, собрании чистой и неотфильтрован-
ной информации, которая проецирует свой собственный мир. Этот
мир называется Тлен. “Вероятней всего, этот brave new world — созда-
ние тайного общества астрономов, биологов, инженеров, метафизи-
ков, поэтов, химиков, алгебраистов, моралистов, художников, геоме-
тров .. — пишет Борхес. — План этот так обширен, что доля участия
каждого бесконечно мала. Вначале полагали, будто Тлен — это сплош-
ной хаос, безответственный разгул воображения; теперь известно, что
это целый мир”. У следующего поколения писателей эпохи инфор-
мации была веская причина считать аргентинского мастера пророком
(“наш дядюшка-ересиарх”, как говорил про него Уильям Гибсон).
Задолго до Борхеса воображение Чарльза Бэббиджа построило
другую Вавилонскую библиотеку. Он обнаружил ее в самом воз-
1 Пер. В. Кулагиной-Ярцевой.
399
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
духе: зашифрованная, но тем не менее постоянная запись каждого
звука, издаваемого человеком.
Что за странный хаос эта атмосфера, которой мы дышим!.. Сам воз-
дух — одна огромная библиотека, на чьих страницах навсегда запи-
сано все, что когда-либо говорил мужчина или когда-либо шепта-
ла женщина. Там, в своих изменяющихся, но безошибочных знаках,
перемешанные с самыми первыми, а также с последними вздохами,
остаются навечно записанные неисполненные клятвы и обещания,
сохраняющиеся в объединенном движении каждой частицы, свиде-
тельства переменчивой воли человека.
Эдгар Аллан По, с жадностью следивший за работой Бэббиджа,
ухватился за эту идею. “Мысль не может погибнуть, — написал он
в 1845 году в диалоге двух ангелов, — не проскользнула ли в тво-
ем сознании некая мысль о материальной силе слов? Разве каждое
слово — не импульс, сообщаемый воздуху?”1 Дальше каждый им-
пульс распространяется бесконечно, “по восходящей влияя на каж-
дую частицу материи”, и “должен в конечном счете воздействовать
на каждый обособленный предмет в пределах вселенной”. По читал
и ярого сторонника Ньютона Пьера-Симона Лапласа. “Существо,
наделенное бесконечным пониманием, — писал По, — человек,
для которого совершенство алгебраического анализа было откры-
той книгой”, мог проследить колебания обратно до их источника.
Бэббидж и По рассматривали новую физику с точки зрения
теории информации. Лаплас развил совершенный детерминизм
механики Ньютона; он пошел дальше самого Ньютона, утверждая,
что вселенная точна как часы, в ней ничего не оставлено на волю
случая. Поскольку законы физики равно действуют и на небесные
тела, и на мельчайшие частицы, причем с абсолютной надежно-
стью, то, несомненно (говорил Лаплас), каждое мгновение состоя-
ние вселенной неумолимо следует из прошлого и должно также
безжалостно вести к будущему. Было еще слишком рано для по-
явления квантовой неопределенности, теории хаоса или пределов
вычислимости. Для демонстрации своего совершенного детерми-
1 Пер. В. Рогова.
400
ГЛАВА 14 ПОСЛЕ ПОТОПА
низма Лаплас просил представить существо, “разум”, способное
на совершенное знание:
Оно охватило бы единой формулой движение величайших тел все-
ленной и легчайших атомов, так как для него ничто не было бы не-
определенным и будущее, как и прошлое, лежало бы перед его глазами.
Ничто другое из того, что когда-либо написал Лаплас, не стало столь
знаменитым, как этот мысленный эксперимент. Он сделал бесполез-
ным волю не только Господа, но и человека. Ученые в этом экстре-
мальном ньютонизме нашли повод для оптимизма. Бэббиджу все это
неожиданно напомнило огромную вычислительную машину, во мно-
го раз увеличенную версию его собственной: “Если отвлечься от про-
стой последовательности комбинаций из нескольких колес, невоз-
можно не почувствовать, что рассуждения похожи, только здесь они
применены к могучему и гораздо более сложному феномену при-
роды”. Каждый атом, однажды потревоженный, должен передавать
свое движение другим, а те в свою очередь влияют на волны воздуха,
и ни один импульс никогда полностью не теряется. След от каждого
каноэ остается где-то в океане. Бэббидж, чей железнодорожный само-
писец записывал на рулоне бумаги историю путешествия, рассматри-
вал информацию, прежде мимолетную, как последовательность фи-
зических отпечатков, которые могли быть или были сохранены. Фо-
нограф, отпечатывающий звук на вощеной пленке, еще предстояло
изобрести, но Бэббидж рассматривал атмосферу как двигатель: “Каж-
дый атом с отпечатком добра и зла... с мыслями философов и муд-
рецов смешивается и объединяется десятками тысяч способов с тем,
что бесполезно и примитивно”. Каждое когда-либо сказанное слово,
услышанное сотнями слушателей или не услышанное никем, не ис-
чезает, оно оставляет постоянную отметку, вся история человеческой
речи закодирована законами движения, и теоретически ее можно вос-
становить, располагая достаточной вычислительной мощностью.
Это было слишком оптимистично. Тем не менее в тот год, когда
Бэббидж опубликовал эссе, парижский художник и химик Луи Да-
гер усовершенствовал свое устройство переноса видимого изобра-
жения на покрытые серебром пластины. Его конкурент из Англии,
Уильям Фокс Тальбот, назвал это “искусством фотогенического ри-
401
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
сования или формирования картин и изображений естественных
объектов посредством солнечного света”. Тальбот видел в нем нечто
похожее на мем. “Посредством этого изобретения, — писал он, —
не художник создает изображение, а изображение создает само себя”.
Теперь пролетающие перед нашими глазами изображения могут
быть заморожены, запечатлены в веществе, они стали постоянными.
Художник, рисуя карандашом или кистью, с помощью своего
таланта, навыков и долгого труда воссоздает то, что может видеть
глаз. Напротив, дагерротип в некотором смысле вещь в себе — ин-
формация, сохраненная в одно мгновение. Это было невозможно
представить, и вот оно появилось. От открывающихся возможно-
стей захватывало дух. Раз возможно сохранение, то где же его пре-
дел? Американский писатель немедленно связал фотографию и ат-
мосферную библиотеку звуков Бэббиджа: Бэббидж говорил, что
каждое слово записано где-то в воздухе, так почему бы каждому
изображению тоже не оставлять свою постоянную отметку?
Фактически это великий Вавилонский альбом. Но что если еще од-
ним великим делом Солнца является регистрация и выдача отпечат-
ков наших изображений, картины наших действий, и тогда... не-
смотря на то, что нам известно, другие миры могут быть населе-
ны и получать изображения лиц и действий; вся природа вселенной
оказывается не более чем фонетической и фотогенной структурой.
Тогда вселенная, которую другие называют библиотекой или аль-
бомом, становится похожа на компьютер. Алан Тьюринг, пожалуй,
заметил это первым: вычислительную машину, как и вселенную,
лучше рассматривать как набор состояний, а состояние машины
в каждый определенный момент ведет к ее состоянию в следую-
щий, следовательно, будущее машины должно быть предсказуемо
из ее первоначального состояния и входящих сигналов.
Вселенная рассчитывает собственную судьбу.
Тьюринг заметил, что мечта Лапласа о совершенстве могла
быть воплощена в машине, но не во вселенной из-за феномена, ко-
торый поколением позже будет обнаружен теми, кто займется тео-
рией хаоса, и будет назван эффектом бабочки. Тьюринг в 1950 году
по-своему описал его:
402
ГЛАВА И ПОСЛЕ ПОТОПА
Система “вселенная как целое” такова, что довольно мелкие ошиб-
ки в начальных условиях могут иметь ошеломляющие последствия.
Смещение единственного электрона на миллиардную долю санти-
метра в один момент может решить, погибнет человек через год
под лавиной или спасется.
Если вселенная — это компьютер, то мы все еще можем бороться
за доступ к его памяти. Если это библиотека, то библиотека без полок.
Когда все звуки мира рассеются в атмосфере, не останется
ни слова, связанного с конкретным набором атомов. Слова будут
повсюду и нигде. Вот почему Бэббидж назвал это хранилище ин-
формации хаосом. И снова опередил время.
Когда древние составляли список Семи чудес света, они вклю-
чили туда Александрийский маяк — 400-футовую каменную баш-
ню, построенную в помощь морякам, но проглядели библиотеку,
расположенную неподалеку. Библиотека, в которой хранились сот-
ни тысяч свитков папируса, содержала величайшее собрание знаний
на земле на тот момент и на столетия вперед. Возникнув в III веке
до н. э., она предназначалась для удовлетворения амбиций покупать,
красть или копировать все письменные свидетельства известного
тогда мира. Библиотека позволила Александрии превзойти Афины
и стать интеллектуальным центром. В ее галереях и на полках хра-
нились драмы Софокла, Эсхила и Еврипида, математические тру-
ды Евклида, Архимеда и Эратосфена, поэзия, медицинские тексты,
карты звездного неба, мистические тексты — “научные открытия
были столь значительными и частыми, — объявил Герберт Уэллс, —
что подобного не наблюдалось ни до того, ни после того вплоть
до XVI столетия нашей эры”. Маяк казался огромным, но библио-
тека была истинным чудом. А потом она сгорела.
Когда точно и как это случилось, никто никогда не узнает. Ве-
роятно, пожаров было несколько. Мстительные завоеватели жгли
книги, словно видели в них души врага. “Римляне сожгли кни-
ги евреев, христиан и философов, — заметил Исаак Дизраэли
в XIX веке, — евреи сожгли книги христиан и язычников, а хри-
стиане жгли книги язычников и евреев”. Династия Цин сожгла
книги, чтобы уничтожить предыдущую историю. Уничтожение
было эффективно, ведь написанное слово хрупко. То, что осталось
ДОЗ
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
нам от Софокла, — это даже не десятая часть его пьес. То, что оста-
лось нам от Аристотеля, в большинстве случаев получено из вто-
рых или даже третьих рук. Для историков, вглядывающихся в про-
шлое, уничтожение великой библиотеки есть горизонт событий,
граница, через которую не передается информация. Даже частич-
ного каталога не сохранилось.
“Сгорели все греческие трагедии и комедии! — с плачем гово-
рит Томасина (юная девушка, увлекающаяся математикой и напо-
минающая Аду Байрон) своему учителю Септимусу в пьесе Тома
Стоппарда “Аркадия”. — Тысячи стихотворений; личная библиоте-
ка Аристотеля... Да как же нам утешиться в своей скорби?”1 “Чем
подсчитывать убытки, прикинем лучше, что осталось в целости
и сохранности”, — отвечает Септимус.
Об остальных и горевать не стоит, они нужны вам не больше
пряжки, которая оторвалась от вашей туфельки в раннем детстве,
не больше, чем этот учебник, который наверняка потеряется к ва-
шей глубокой старости. Мы подбираем и одновременно роняем.
Мы путники, которые должны удерживать весь свой скарб в руках.
Выроним — подберут те, кто идет следом. Наш путь долог, а жизнь
коротка. Мы умираем в дороге. И на этой дороге скапливается весь
скарб человечества. Ничто не пропадает бесследно. Все потерян-
ные пьесы Софокла обнаружатся, все до последнего слова. Или бу-
дут написаны заново, на другом языке.
В любом случае, согласно Борхесу, утраченные пьесы могут быть
найдены в Вавилонской библиотеке.
На восьмое лето своего существования в честь утерянной биб-
лиотеки “Википедия” привлекла в Александрию сотни редакторов —
людей с никами Shipmaster, Brassratgirl, Notafish и Jimbo, которые
обычно встречались только онлайн. К тому времени было зареги-
стрировано более 7 млн подобных имен пользователей; паломники
из сорока пяти стран приехали в футболках фанатов “Википедии”,
сами оплатили дорогу, привезли ноутбуки. Тогда, в июле 2008 года,
“Википедия” состояла из 2,5 млн статей на английском языке, боль-
1 Здесь и далее — пер. О. Варшавер.
404
ГЛАВА 14 ПОСЛЕ ПОТОПА
ше чем во всех бумажных энциклопедиях в мире, а всего — из н млн
статей на 264 языках, в том числе волоф, чви и нижнесаксонских диа-
лектах Нидерландов, но не на чокто, который был закрыт голосова-
нием сообщества, после того как на нем было написано всего пят-
надцать статей, и не на клингонском, который был признан “искус-
ственным”, а то и вовсе фантастическим языком. Члены “Википедии”
считали себя наследниками Великой библиотеки, а своей миссией —
сбор всех задокументированных знаний. Однако они не собирают
и не сохраняют существующие тексты. Они пытаются собрать об-
щее знание, отделить его от конкретных людей.
“Википедия” начинает казаться безграничной, как воображае-
мая библиотека Борхеса. В каждой из нескольких десятков “Википе-
дий” на различных языках есть статья о Покемоне, коллекционной
карточной игре, сериалах манга и медиафраншизе. Англоязычная
“Вики” начала с одной статьи, а затем выросли целые джунгли. Есть
потребность в странице “Покемон (значения)”, в том числе и на тот
случай, если кто-нибудь ищет онкоген Zbtby, который называли По-
кемоном (Pokemon — РОК erythroid myeloid ontogenic factor). пока
юристы Nintendo не пригрозили судом. Существует по крайней
мере пять основных статей о покемонах из поп-культуры, а от них
отпочковались вторичные и побочные статьи о регионах покемонов,
вещах, телевизионных эпизодах, тактике игры и всех 493 создани-
ях, героях, прототипах, соперниках, соратниках и клонах от Бульбо-
завра до Арцеуса. Все тщательно проверено и отредактировано, что-
бы быть надежным и правдивым во вселенной покемонов, которой
в некотором смысле не существует. В реальном мире “Википедия”
имеет или стремится иметь подробные статьи с описаниями марш-
рутов, пересечениями и историей всех скоростных дорог и шос-
се США (“Дорога 273 [штат Нью-Йорк, выведена из эксплуатации
в 1980 году] начинается с перекрестка с дорогой 4 в Уайтхолле. После
перекрестка дорога проходит через кладбище Lady of Angels. где по-
ворачивает на юго-восток. Дорога 273 проходит вдоль подножия хол-
ма Красной Руды, за Уайтхоллом. Около холма Красной Руды шоссе
пересекает местную дорогу, которая соединяется с дорогой 4”). Есть
страницы, посвященные каждому известному ферменту и гену чело-
века. Encyclopaedia Britannica никогда не стремилась к такому охвату.
Иначе как она могла бы быть напечатана?
405
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Среди великих предприятий раннего интернета “Википедия”
единственная была некоммерческой, не зарабатывала денег, толь-
ко теряла. Она финансировалась благотворительным фондом, учре-
жденным специально для этих целей. К тому моменту, когда у энци-
клопедии было 50 млн пользователей ежедневно, фонд платил зар-
плату восемнадцати людям, в том числе одному в Германии, одному
в Голландии, одному в Австралии и еще одному юристу, остальные
были волонтерами: миллионы участников, тысяча или больше назна-
ченных “администраторов” и всегда маячащее присутствие основа-
теля и, по его собственному описанию, “духовного лидера” Джим-
ми Уэйлса. Уэйлс первоначально не планировал делать “Википедию”
разрозненной, хаотичной, дилетантской, любительской, бесплатной
для всех, то есть такой, какой она довольно быстро стала. То, что дол-
жно было стать энциклопедией, начиналось со списка экспертов, из-
вестных в академических кругах, тщательных проверок и обсужде-
ний. Но идея “Вики” победила, хотели того создатели энциклопедии
или нет. “Вики” (от гавайского “быстро”) — веб-сайт, который каж-
дый мог не только просматривать, но и редактировать. Таким образом,
“Вики” создала себя сама или по крайней мере сама себя поддерживала.
Сначала “Википедия” появилась в интернете с простым само-
описанием:
Главная страница
Вы можете редактировать эту страницу прямо сейчас! Это бесплат-
ный общественный проект.
Добро пожаловать в “Википедию”! Мы коллективно создаем пол-
ную энциклопедию с нуля. Мы начали работать в январе 2001 года.
У нас уже есть более 3000 страниц. Мы хотим превратить их
в юоооо. Так что давайте поработаем! Напишите немного (или
много) о том, что вы знаете. Читайте наше приветствие здесь:
“Добро пожаловать, новички!”
О недостатке охвата в тот год можно судить по списку заявленных
статей. В рубрике “Религия”: “Католицизм? — Сатана? — Зарату-
стра? — Мифология?” В рубрике “Технология”: “Двигатель вну-
треннего сгорания? — Дирижабль? — Жидкокристаллический
дисплей? — Полоса частот?”. В рубрике “Фольклор”: “(Если вы
406
ГЛАВА 14 ПОСЛЕ ПОТОПА
хотите написать о фольклоре, пожалуйста, предоставьте список тем,
которые действительно признаются как отдельные, значительные
темы в фольклоре — предмете, о котором вы, скорее всего не имее-
те представления, если все, что вы делали в этой области, это игра
“Темницы и драконы”, о ней — см. здесь)”. “Темницы и драконы”
были к этому моменту уже хорошо описаны. “Википедия” не ис-
кала мусор и чушь, но и не презирала их. Годы спустя в Алексан-
дрии Джимми Уэйлс говорил: “Все эти люди, одержимо пишущие
о Бритни Спирс, Симпсонах или покемонах... Неправильно за-
ставлять их писать о малопонятных идеях физики. “Вики” сделана
не из бумаги, и время этих людей нам не принадлежит. Мы не мо-
жем сказать: “Зачем нам эти работники, если они делают настолько
бесполезные вещи?” Они не приносят вреда. Пусть пишут”.
“Вики” сделана не из бумаги” — эта фраза стала неофициаль-
ным лозунгом.
У фразы Wiki is not paper есть своя страничка в энциклопе-
дии (см. также Wiki ist kein Papier и Wikipedia n’est pas sur papier).
Это значит, что нет физического или экономического ограниче-
ния на число или длину статей. Биты бесплатны. “Любая метафора,
связанная с бумагой или местом, мертва”, — объявил Уйэлс.
“Википедия” обнаружила себя в роли столпа культуры неожи-
данно быстро отчасти благодаря незапланированной синергиче-
ской связи с Google. Она стала испытательной площадкой для идеи
коллективного разума: пользователи бесконечно спорили о надеж-
ности, в теории и на практике, статей, написанных авторитарным
тоном никому неизвестными людьми и с неизвестными целями,
без какой-либо возможности проверить, кто эти люди и есть ли
у них какие-нибудь академические заслуги. “Вики” стала печально
известным объектом вандализма. Она показала, насколько трудно,
если не невозможно, достичь нейтрального, устраивающего всех
взгляда на обсуждаемую живую реальность. Процесс был поражен
так называемыми войнами редакций, когда сражающиеся авторы
без остановки исправляли изменения, внесенные другими. В конце
2006 года люди, которых волновала статья “кошка”, не могли прий-
ти к единому мнению по поводу того, является ли человек, у кото-
рого есть кошка, ее “собственником”, “опекуном” или “человече-
ским компаньоном”. В течение трех недель аргументы разрослись
407
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
до размеров небольшой книги. Были войны редакций по поводу
запятых и войны редакций по поводу богов, безрезультатные сра-
жения из-за орфографии и произношения и геополитические дис-
путы. Другие редакционные войны продемонстрировали, насколь-
ко по-разному можно понимать те или иные слова. Является ли
Республика Конч (Ки-Уэст, штат Флорида) “микронацией”? Явля-
ется ли конкретная фотография молодого полярного медведя “ми-
лой”? Эксперты расходились во мнениях, а экспертами были все.
После шума и беспорядков статьи, как правило, устаканива-
лись и больше не менялись; тем не менее, даже если появляется
ощущение, что проект достиг некоторого равновесия, оно оказы-
вается динамичным и нестабильным. Во вселенной “Википедии”
реальность нельзя описать окончательно. Эта идея была иллюзией,
появившейся отчасти по аналогии с устойчивостью переплетен-
ных в кожу томов бумажных энциклопедий. Дени Дидро пытался
“собрать все знание, которое теперь лежит рассеянным по поверх-
ности Земли, чтобы донести его общую структуру ныне живущим
людям и передать ее тем, кто будет жить после нас”, в опубликован-
ной в Париже в 1751 году Encyclopedic. У Britannica, первоначально
появившейся в Эдинбурге в 1768 году в юо еженедельных выпусках
по 6 пенсов каждый, был такой же нимб авторитетности. Она ка-
залась законченной в каждом из своих изданий. У нее не было эк-
вивалентов ни на одном другом языке. И даже при этом эксперты,
отвечающие за третье издание (“в 18 томах, сильно усовершенство-
ванное”), спустя век после публикации Principia Ньютона не могли
заставить себя подписаться под его или любой другой теорией гра-
витации. “Существует множество споров”, — заявила Britannica.
Многие именитые философы, и среди них сам сэр Исаак Нью-
тон, рассматривали это явление как первую из вторичных при-
чин; бестелесную или духовную субстанцию, которую невозможно
ощутить никаким иным способом, кроме как через последствия ее
влияния; универсальное свойство материи и т.д. Другие пытались
объяснить феномен гравитации действием едва различимой эфир-
ной жидкости, и к такому объяснению сэр Исаак в конце жизни,
по-видимому, относился благосклонно. Он даже высказал догадку
относительно материи, в которой эта жидкость могла породить та-
408
ГЛАВА 1Д ПОСЛЕ ПОТОПА
кой феномен. Но полное описание... состояния, в котором нахо-
дится научный диспут сегодня, см. в статьях: Философия Ньюто-
на, Астрономия, Атмосфера, Земля, Электричество, Огонь, Свет,
Притяжение, Отталкивание, Наполненность, Вакуум и т.д.
Поскольку Britannica обладала авторитетом, теория гравитации
Ньютона еще не была признана знанием.
“Википедия” отказывается от такого вида авторитетности. Ака-
демические институты официально ей не доверяют. Журналистам
дается указание не полагаться на нее. Тем не менее авторитет прихо-
дит. Если кто-то хочет узнать, в скольких американских штатах есть
графство Монтгомери, кто поставит под сомнение “Википедию”,
которая утверждает, что восемнадцать? Где еще можно посмотреть
настолько размытую статистику, сгенерированную суммировани-
ем знаний сотен или тысяч людей, каждый из которых может знать
лишь об одном графстве Монтгомери? “Вики” рекламирует по-
пулярную статью, называющуюся “Ошибки в Encyclopedia Britannica,
исправленные в “Википедии”. Эта статья, конечно, всегда меняется.
“Википедия” вообще меняется. Каждый раз, заходя на сайт “Википе-
дии”, читатель получает версию истины, существующую на данный
момент.
Когда “Википедия” в статье “Старение” утверждает:
После периода практически совершенной регенерации (у людей
между 20 и 35 годами) [требуется ссылка], биологическое старение
организма характеризуется снижающейся способностью противо-
стоять стрессу, увеличивающейся гомеостатической несбалансиро-
ванностью и растущим риском заболеваний. Эта необратимая по-
следовательность изменений неизбежно ведет к смерти, —
читатель может этому доверять; однако на одну минуту ранним ут-
ром 20 декабря 2007 года статья оказалась содержащей всего одну
фразу: “Старение — это то, что ты получаешь, когда становишься
долбаным стариком”. Такой очевидный вандализм существует край-
не недолго. Его обнаружение и исправление автоматизировано ван-
дал оботами и легионами людей, многие из которых числятся в “под-
разделении по борьбе с вандализмом” и “силах реагирования”. Что
409
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
соответствует анекдоту про уставшего вандала, который жалует-
ся, что “в “Википедии” существует гигантский заговор, пытающий-
ся связать статьи с реальностью”. Это почти так. Заговор — это все,
на что могут надеяться википедисты, и часто этого достаточно.
Ближе к концу XIX столетия Льюис Кэрролл описал воображае-
мую карту мира в масштабе один к одному: “Ее еще никогда не раз-
ворачивали. Фермеры против: они говорят, что она покроет всю
страну и заслонит солнце”. Википедисты понимают эту метафору.
Некоторые из них знакомы с дебатами, ведущимися в немецкой вет-
ви, о шурупе в левой задней тормозной накладке велосипеда Ульриха
Фукса. Фукс как редактор “Википедии” предложил вопрос: “Заслу-
живает ли этот элемент вселенной предметов своей статьи в “Вики-
педии”?” Все согласились, что шуруп маленький, но он реален и его
можно описать. “Это объект в пространстве, и я видел его”, — за-
явил Джимми Уэйлс. В самом деле, статья появилась в немецкой ме-
та-“Вики” (то есть “Википедии” о “Википедии”) под названием Die
Schraube an der hinteren linken Bremsbacke am Fahrrad von Ulrich Fuchs.
Как заметил Уэйлс, само существование этой статьи было “метаиро-
нией”. Она была написана именно теми людьми, которые оспари-
вали ее целесообразность. Однако статья была не совсем о шурупе.
Она была о противоречии — должна ли “Википедия” в теории или
на практике стремиться описать всю вселенную во всех ее деталях.
Противоборствующие фракции объединились вокруг назва-
ний “делитонизм” и “инклюзионизм”1. Инклюзионисты выступа-
ют за самый широкий взгляд на то, что должно быть в “Википедии”.
Делитонисты же за удаление тривиального (и часто так и поступа-
ют) — слишком коротких, плохо написанных или ненадежных ста-
тей на темы, не имеющие большого значения. Все эти критерии, по-
нятно, переменчивы и субъективны. Делитонисты хотят повысить
планку качества. В 2008 году им удалось удалить статью о пресве-
терианской церкви Порта Маккуайра, Новый Южный Уэльс, Ав-
стралия, на основании незначительности. Сам Джимми Уэйлс скло-
нялся в пользу инклюзионизма. В конце лета 2007 года он посетил
Кейптаун, Южная Африка, пообедал в месте под названием “Мзо-
ли” и создал модуль статьи с единственным предложением: “Мясо
1 От англ, delete — вычеркивать, стирать и inclusion — включение.
410
ГЛАВА 14 ПОСЛЕ ПОТОПА
Мзоли” — это лавка мясника и ресторан в поселке Гугулету око-
ло Кейптауна, Южная Африка”. Модуль прожил двадцать две ми-
нуты, а затем 19-летний администратор по имени demon удалил
его на основании незначительности. Час спустя другой пользователь
воссоздал статью и расширил ее информацией из местного кейп-
таунского блога и радиоинтервью, выложенным онлайн. Прошло
две минуты, и еще один пользователь выразил протест на основа-
нии того, что “статья или раздел написаны как реклама”. И так далее.
Слово “знаменитый” было стерто и вставлено несколько раз. Поль-
зователь demon снова вмешался, утверждая: “Мы не телефонный
справочник и не гид для путешественников”. Пользователь EVula
возразил: “Думаю, если мы дадим этой статье немного больше, чем
пара часов существования, мы можем получить что-нибудь стоящее”.
Скоро диспут привлек внимание газет в Австралии и Англии. К сле-
дующему году статья не только существовала, но и выросла, в ней
появилась фотография, точные долгота и широта, список из четыр-
надцати ссылок и отдельные разделы “История”, “Бизнес” и “Ту-
ризм”. Некоторые обиды, очевидно, остались, потому что 20 марта
2008 года анонимный пользователь заменил всю статью одним пред-
ложением: “Мзоли” — незначительный маленький ресторанчик, ста-
тья о котором существует здесь только потому, что Джимми Уэйлс —
самодовольный эгоманьяк”. Этот текст прожил меньше минуты.
“Википедия” развивается древовидно, отращивая ветви во мно-
гих направлениях (и в этом она напоминает вселенную.) Так, дели-
тионизм и инклюзионизм породили мержизм и инкрементализм1.
Они привели к возникновению фракций, фракции разделились
на “Ассоциацию делитонистов и инклюзионистов”, существующую
бок о бок с “Ассоциацией википедистов, которым не нравятся обоб-
щенные суждения о достоинствах общей категории статей” и “Тех,
кто поддерживает удаление некоторых особенно плохих статей,
но это не значит, что они делитонисты”. Уэйлс особенно беспоко-
ился о биографиях живущих людей. Он говорил, что в идеальном
мире, где “Вики” могла бы освободиться от практических задач под-
держания и верификации ресурса, он был бы рад видеть в ней био-
графию каждого человека на планете. В этом он превзошел Борхеса.
1 От англ, merge — объединение, поглощение и increment — прирост.
411
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Но даже при таком невозможном максимализме — каждая
личность, каждый винтик в велосипеде — собранное не было бы
похоже на полное знание. В энциклопедиях информация имеет
тенденцию появляться в виде тем и категорий. Britannica описала
свою организацию в 1790 году как “совершенно новую структуру”.
Она рекламировала “различные науки и искусства”, организован-
ные как “отдельные трактаты или системы”, где
даны полные объяснения
различным отдельным частям знаний, относящимся к естествен-
ным и искусственным объектам или предметам духовным, граж-
данским, военным, торговым и т.д.
В “Википедии” отдельные части знания продолжают расходиться.
Редакторы проанализировали логическую динамику, как могли бы
сделать Аристотель или Буль:
Многие темы основаны на взаимосвязи фактора X и фактора У,
что выливается в одну полную статью или более. Это может от-
носиться, например, к ситуации X в месте Y или версии X пред-
мета У. Это прекрасно работает, когда две переменные, взятые
вместе, представляют некоторый культурно значимый феномен
или другой заметный интерес. Зачастую из-за существенных раз-
личий во взглядах на тот или иной предмет или явление в разных
странах может понадобиться несколько отдельных статей по одной
теме. Статьи о добыче сланца в Уэльсе и добыче сланца на острове
Фокс — подходящие примеры. Но множество статей... вероятно,
будут представлять собой различные точки зрения по одному во-
просу, оригинальные исследования — или же будут просто глупы.
Ранее ту же проблему рассматривал Чарльз Диккенс. В “Посмерт-
ных записках Пиквикского клуба” человек прочитал в Britannica
о китайской метафизике. Там, конечно, не было такой статьи:
“о метафизике он прочел под буквой М, а о Китае — под буквой
К и затем совокупил полученные сведения”
1 Пер. — А. Кривцовой и Е. Ланна.
412
ГЛАВА 14 ПОСЛЕ ПОТОПА
Писатель Николсон Бейкер в 2008 году зарегистрировался
в “Википедии” как Wageless и сначала, как и многие, был захвачен
поиском информации, а затем и возможностью ее предоставления.
Однажды пятничным вечером он написал статью о бычьем сома-
тотропине, а на следующий день — о “Неспящих в Сиэтле”, о пе-
риодизации и о тормозной жидкости. В воскресенье это был вид
бразильской порнокомедии, футболист 1950-х годов по имени Эрл
Блэр и снова тормозная жидкость. Во вторник он обнаружил “Эс-
кадрон спасения статей”, чьей целью было находить статьи, кото-
рым грозило уничтожение, и сохранять их путем улучшения. Бей-
кер немедленно подписался, напечатав: “Я хотел бы участвовать”.
Его сползание в одержимость задокументировано в архивах, как
и все, что случается в “Википедии”, а спустя несколько месяцев он
написал об этом в The New York Review of Books.
Я стоял у открытого на кухонном столе ноутбука, уставившись
на растущий список наблюдений, проверяя, подсматривая... Я пе-
рестал слышать, что говорят мне мои близкие, почти на две неде-
ли я практически исчез в экране, пытаясь спасти краткие, иногда
слишком рекламные, но тем не менее стоящие биографии, перепи-
сывая их нейтральным языком и поспешно просматривая базы дан-
ных газет и Google Books в поисках ссылок, которые бы повысили
их коэффициент цитируемости. Я стал инклюзионистом.
С “тайной надеждой” он пришел к выводу, что все неподошедшее
можно спасти если не “Википедии”, то “в “Викиморге” — мусор-
ном ведре разбитых надежд”. Он предложил назвать его “Делито-
педия”: “Со временем она расскажет о многом”.
В Сети ничего никогда не исчезает, так что скоро была созда-
на “Делитопедия”, и она значительно разрослась. Пресвитериан-
ская церковь Порта Маккуайра живет там, хотя это, строго гово-
ря, и не часть энциклопедии. Эту энциклопедию некоторые назы-
вают вселенной.
Названия стали особой проблемой — их неоднозначность, их
сложность, их противоречия. Последствия почти безграничного
потока информации выглядели так, будто все предметы мира вы-
бросили на одну площадку, где они, казалось, бесились во врезаю-
44
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
щихся машинках из детства. В более простые времена и вещи мож-
но было называть проще: “Господь Бог образовал из земли всех жи-
вотных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы
видеть, как он назовет их, — говорит Книга Бытия, — и чтобы, как
наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей”. Одно
имя для каждого создания и для каждого имени одно создание. Од-
нако скоро у Адама появились помощники.
В романе The Infinities (“Бесконечности”) Джона Бэнвилла
бог Гермес говорит: “Гамадриада — это лесная нимфа, а еще ядови-
тая змея в Индии и абиссинский бабуин. Нужно быть богом, что-
бы знать такие вещи”. Тем не менее согласно “Википедии” гамад-
риада — это еще и названия бабочки, журнала об истории природы
в Индии и ансамбля прогрессив-рока из Канады. Мы все теперь как
боги? Рок-ансамбль и лесная нимфа сосуществуют без каких-ли-
бо проблем, но обычно снос информационных барьеров приводит
к конфликтам о названиях и правах на них. Как это ни удивитель-
но, названия в современном мире кончаются. Возможности кажут-
ся безграничными, но спрос на самом деле еще выше.
Крупнейшие телеграфные компании, борясь с растущим чис-
лом сообщений, доставленных не по адресу, в 1919 году основа-
ли Центральное бюро зарегистрированных адресов. Его голов-
ной офис в финансовом районе Нью-Йорка на Брод-стрит занял
стальными картотечными ящиками целую комнату. Клиентов при-
глашали зарегистрировать кодовые имена для своих адресов: одно
слово от пяти до десяти букв, и оно должно было быть “произноси-
мым”, то есть “составленным из слогов, которые существуют в од-
ном из восьми европейских языков”.
Многие клиенты жаловались на годовой взнос — 2,5 доллара
за код, но к 1934 году бюро имело список из 28 тыс. адресов, в том чис-
ле illuminate (Нью-Йоркская компания Эдисона), tootsweets (Sweet
Company of America) и cherrytree (отель “Джордж Вашингтон”). Фи-
нансист Бернард М. Барух умудрился получить baruch в исключи-
тельное пользование. Принцип был таким: кто первый пришел, того
первого и обслужили, — скромный предвестник будущего.
Появление киберпространства, конечно, все изменило. Соб-
ственник и брокер компании из Южной Каролины Fox & Hound
Realty Билли Бентон зарегистрировал доменное имя BARUCH.
414
ГЛАВА 14 ПОСЛЕ ПОТОПА
СОМ. Канадец, живущий в Хай-Прери, провинция Альберта, заре-
гистрировал JRRTOLKIEN.COM и десятилетие поддерживал пра-
во собственности, пока комитет Всемирной организации интеллек-
туальной собственности в Женеве не отобрал домен. У этого име-
ни была ценность, и в число других претендентов на это имя как
на бренд и торговую марку входили наследники писателя, издатель
и кинокомпании, не говоря о нескольких тысячах людей по всему
миру, которые оказались однофамильцами. Тот же человек из Хай-
Прери основал бизнес на своем владении знаменитыми именами:
Селин Дион, Альберт Эйнштейн, Майкл Крайтон, Пирс Броснан
и еще около 1500. Некоторые из этих людей сопротивлялись. От-
дельные имена представляли огромную экономическую ценность.
Слово Nike оценивается экономистами в 7 млрд долларов, Coca-
Cola — в сумму в десять раз большую.
В науке ономастике1 есть аксиома о том, что растущие со-
циальные единицы ведут к росту систем именования. Для жизни
в племенах и деревнях достаточно личных имен типа Альбин и Ава,
но племена породили кланы, города — нации, и людям пришлось
усложнить систему имен: фамилии и отчества или имена, основан-
ные на профессии и географии. Более сложные общества требуют
более сложных имен. Интернет представляет не просто новую воз-
можность для борьбы за имена, но резкое изменение масштаба, вы-
зывающее переход в другую фазу.
Музыкант и композитор из Атланты, известный как Билл
Уаймен, получил от юристов, представляющих интересы бывшего
басиста The Rolling Stones, тоже Билла Уаймена, письмо с требова-
нием прекратить пользоваться своим именем. В ответ первый Билл
Уаймен указал, что второму Биллу Уаймену при рождении было
дано имя Уильям Джордж Перкс. Автомобильная компания, извест-
ная в Германии как Dr. Ing. h. с. F. Porsche AG, в серии исков защища-
ла имя Carrera. Другим претендентом на это имя была швейцарская
деревушка с почтовым индексом 7122. “Деревня Carrera существо-
вала задолго до возникновения торговой марки Porsche, — написал
Кристоф Ройсс из Швейцарии юристам Porsche. — Использование
1 Ономасиология (от греч. ovopa — имя и Хоуоо — слово, учение) — отрасль
семантики, изучающая наименования, использование языковых средств для
обозначения внеязыковых объектов.
415
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
этого названия Porsche представляет собой незаконное присвоение
престижа и репутации, заработанных жителями Carrera”. /\ля пол-
ноты он добавил: “Деревня создает гораздо меньше шума и загряз-
нений, чем Porsche Carrera”. Он не упомянул, что Хосе Каррерас,
оперный певец, также оспаривал у Porsche это имя. Автомобильная
компания тем временем также заявила права на торговую марку 911.
Из информатики пришел полезный термин: namespace (про-
странство имен) — область, в которой все имена уникальны и раз-
личны. В мире давно существовали пространства имен, основанные
на географии, и другие пространства имен, основанные на эконо-
мике. Вы можете называться Bloomingdale's, но только до тех пор,
пока вы не в Нью-Йорке; вы можете называться Ford, если вы не де-
лаете автомобили. Рок-группы мира являются пространством имен,
где сосуществуют Pretty Boy Floyd, Pink Floyd и Pink, а также vyth
Floor Elevators, 99th Floor Elevators и Hamadryad. Поиск новых на-
званий в этом пространстве стал трудным испытанием. Певец
и композитор, долгое время называвшийся просто Принц, полу-
чил это имя при рождении; отказавшись от него, он обнаружил,
что теперь его называют метаименем: “Артист, прежде известный
как Принц”. Гильдия киноактеров поддерживает собственное фор-
мальное пространство имен — в нем может существовать только
одна Джулия Робертс. Традиционные пространства имен пересека-
ются и сливаются. И многие переполняются.
Фармацевтические названия — это особый случай: появилась
целая подотрасль для придумывания, исследования и проверки.
В США Управление по контролю за пищевыми продуктами и ле-
карствами (FDA) проверяет предлагаемые наименования на воз-
можные совпадения, и этот процесс непрост и неточен. Ошиб-
ки приводят к смерти. Метадон от опиатной зависимости вместо
метадейта от синдрома дефицита внимания, таксол от рака вме-
сто таксотера — другого лекарства от рака были даны пациентам,
и исход был смертельным. Врачи боятся ошибок, связанных с не-
правильно прочтенными и плохо расслышанными названиями:
Zantac/Xanax, Verelan/Virilon. Лингвисты разрабатывают способы
измерения минимального необходимого “расстояния” между на-
званиями. Но Lamictal и Lamisil, Ludiomil и Lomotil все равно явля-
ются одобренными названиями лекарств.
Д16
ГЛАВА И ПОСЛЕ ПОТОПА
В корпоративном пространстве имен признаки переполне-
ния заметны по исчезновению того, что можно назвать простыми
именами со смыслом. Ни одна новая компания не может называть-
ся похоже на General Electric, First National Bank или International
Business Machines. Точно так же, например, Ал. Steak Sauce может
называться только определенный пищевой продукт. Существуют
миллионы названий компаний, и для поиска новых тратятся ог-
ромные деньги на услуги профессиональных консультантов. Не-
случайно знаменитые названия в киберпространстве так похожи
на бессмысленные буквосочетания: Yahoo!, Google, Twitter.
Интернет периодически не просто использует пространства
имен, он и сам представляет собой такое пространство. Навигация
по глобальной компьютерной сети обеспечивается специальной си-
стемой доменных имен, таких как COCA-COLA.COM. Эти име-
на на самом деле являются адресами в современном смысле слова:
“Регистр, местоположение или устройство, где хранится информа-
ция”. Сочетаниями букв закодированы номера, номера указывают
на место в киберпространстве, которое разветвляется на сети, подсе-
ти и устройства. Это не только код, краткие фрагменты текста несут
также большую смысловую нагрузку в самом обширном простран-
стве имен. Это как торговые марки, именные автомобильные номера,
почтовые индексы, позывные радиостанций и граффити, совмещен-
ные в одном названии. Как было и с персональными кодами для теле-
графа, начиная с 1993 года любой за небольшую плату может зареги-
стрировать доменное имя. Принцип все тот же: кто первый пришел,
того первого обслужили. Но и здесь спрос превышает предложение.
Данный принцип оказался слишком большой нагрузкой для
коротких слов. Многие владеют торговыми марками, в названии
которых есть слово apple, но есть всего один APPLE.COM: му-
зыкальная индустрия вместе с The Beatles столкнулась с компью-
терной. Есть только один MCDONALDS.COM, и журналист
по имени Джошуа Квиттнер зарегистрировал его первым. Мод-
ная империя Джорджио Армани хотела владеть ARMANI.COM,
но на него же претендовал Анан Рамнат Мани из Ванкувера, и он
зарегистрировал доменное имя раньше.
Естественно, возник вторичный рынок для торговли домен-
ными именами. В 2006 году один предприниматель заплатил дру-
417
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
тому 14 млн долларов за SEX.COM. К тому времени практически
все слова на всех широко известных языках были зарегистрированы,
и не только слова, но и бесчисленные комбинации слов и их вариаций,
более юо млн. Это был новый бизнес для корпоративных юристов.
Команда, работающая на DaimlerCrysler в Штутгарте, смогла отсу-
дить обратно MERCEDESSHOP.COM, DRIVEAMERCEDES.
СОМ, DODGEVIPER.COM, CRYSLER.COM, CHRISLER.
СОМ, CHRYSTLER.COM и CHRISTLER.COM.
Стройная юридическая система интеллектуальной собственно-
сти испытала потрясение. Ответом была паника — захват террито-
рии на пространстве торговых марок. Еще в 1980 году США реги-
стрировали около ю тыс. торговых марок в год. Тридцать лет спустя
количество приблизилось к 300 тыс., и оно растет. Раньше подав-
ляющее большинство заявлений на регистрацию торговой марки
отклонялись, теперь наоборот. Кажется, что все слова языка во всех
возможных комбинациях имеют право на государственную защиту.
Типичный набор торговых марок США начала XXI века: “зеленый
круг”, “пустынный остров”, “мое студенческое тело”, “наслаждай-
ся вечеринкой с каждой кружкой!”, “технолифт”, “идеи для встреч”,
“противоударные брелоки для ключей”, “лучшее с запада”, “клевые
занятия”.
Столкновение имен, их исчерпание — это случалось и раньше,
но никогда в таких масштабах. Древние натуралисты знали, навер-
ное, пять сотен различных растений и, конечно, каждому давали
имя. До XV века других известных растений не было. Тогда в Ев-
ропе по мере распространения печатных книг со списками и ри-
сунками появилось организованное коллективное знание, а с ним,
как утверждал историк Брайан Огилви, научная дисциплина под
названием “естествознание”. Первые ботаники дали огромное ко-
личество названий. Каспар Ратценбергер, студент в Виттенбер-
ге в 1550-х годах, собрал гербарий и попытался отследить назва-
ния: для одного вида он насчитал одиннадцать вариантов на латин-
ском и немецком: Scandix, Pecten veneris, Herba scanaria, Cere folium
aculeatum, Nadelkrautt, Hechelkam, NadelKoerffel, Venusstrahl, Nadel
Moehren, Schnabel Moehren, Schnabelkoerffel.
В Англии это растение назвали бы shepherd's needle или
shepherd's comb (пастушья игла, пастуший гребень), в России — ве-
418
ГЛАВА 14 ПОСЛЕ ПОТОПА
нерин гребень. Очень скоро обилие видов превысило обилие назва-
ний. Натуралисты сформировали сообщество, они переписывались
и путешествовали. К концу века швейцарский ботаник опублико-
вал каталог из 6 тыс. растений. Каждый натуралист, обнаруживший
новое растение, имел привилегию и обязанность назвать его; бы-
стрый рост числа прилагательных и сложных конструкций был не-
избежен, как и повторение с избыточностью. К венериному греб-
ню только в английском языке добавились shepherd's bag, shepherd's
purse, shepherd's beard, shepherd's bedstraw, shepherd's bodkin, shepherd's
cress, shepherd's hour-glass, shepherd's rod, shepherd's gourd, shepherd's joy,
shepherd's knot, shepherd's myrtle, shepherd's peddler, shepherd's pouche,
shepherd's staff, shepherd's teasel, shepherd's scrip и shepherd's delight 1.
Карл Линней еще не придумал таксономию, а когда
в XVIII веке придумал, у него было 7700 растений, которым надо
было дать названия, а также 4400 животных. Теперь известно око-
ло 300 тыс., не считая насекомых, которые добавляют еще миллио-
ны. Ученые пытаются дать имена всем: есть виды жуков, названные
в честь Барака Обамы, Дарта Вейдера и Роя Орбисона. Фрэнк Зап-
па одолжил имя пауку, рыбе и медузе.
“Имя человека подобно его тени, — заявил в 1954 году венский
ономатолог Эрнст Пулграм. — Оно не относится ни к его телу или
душе, но живет с ним и при нем. Его наличие не жизненно необ-
ходимо, так же как его отсутствие несмертельно”. То были простые
времена.
Когда в 1949 году Клод Шеннон взял лист бумаги и отметил ка-
рандашом приблизительное количество информации, содержащее-
ся на разных носителях, предположительный масштаб, по его рас-
четам, увеличивался с десятков до сотен, тысяч, миллионов, мил-
лиардов и триллионов битов. Транзистору был всего год, а закон
Мура еще не открыли. На верхушке пирамиды, по оценке Шенно-
на, находилась Библиотека Конгресса — юо трлн бит, ю14, Он по-
чти угадал, а пирамида продолжала расти.
1 Пастуший мешок, пастушья сумочка, пастушья борода, пастуший подмаренник,
пастушье шило, пастуший перечник, пастушьи часы, пастуший кнут, пастушья
горлянка, пастушья радость, пастуший узел, пастуший мирт, пастуший разнос-
чик, пастуший мешочек, пастуший посох, пастушья ворсянка, пастушья сума,
пастушья услада.
419
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
После битов, вполне естественно, появились килобиты. В кон-
це концов инженерам пришлось придумать слово “килобак” — “ко-
роткий вариант для “тысячи долларов”, предложенный учеными”,
пошутила в 1951 году The New York Times.
Когда в i960 году пришло понимание того, что все связан-
ное с информацией будет расти экспоненциально, мера информа-
ции уже росла по экспоненте. Эту идею невзначай высказал Гор-
дон Мур, который во времена, когда Шеннон набросал свою шкалу,
был еще студентом-химиком, а затем стал заниматься электронно-
вычислительными машинами и разрабатывать интегральные схемы.
В 1965 году, за три года до того, как основать Intel Corporation Мур
скромно предположил, что к 1975 году на одном кристалле кремния
можно будет разместить 65 тыс. транзисторов. Он предсказывал
удвоение этого числа каждые год-два — удвоение числа компонен-
тов, которые можно будет упаковать в чип, а затем, как оказалось,
и удвоение всех видов памяти и скорости обработки информации,
уменьшение вдвое размеров и затрат и так до бесконечности.
В килобитах можно было измерять скорость передачи, а так-
же количество памяти. По состоянию на 1972 год бизнес мог брать
в аренду линии связи для передачи данных на скорости до 240 ки-
лобит в секунду. Пойдя вслед за IBM, чьи машины обычно обраба-
тывали информацию порциями по 8 бит, инженеры быстро приня-
ли современную и немного эксцентричную единицу — байт. Биты
и байты. Килобайт тогда представляет 8ооо бит; мегабайт (если стро-
го следовать названию) — 8 млн бит. В том порядке, который был вы-
работан международными комитетами по стандартам, за мега- следо-
вали гига- и тера-, пета- и экза-, все взятые из греческого. Этого было
достаточно для любых измерений вплоть до 1991 года, когда возникла
необходимость в зетабайте (1000000000000000000000) и комично
звучащем йотабайте (1000000000000000000000000). В этом дви-
жении вверх по экспоненциальной лестнице информация оставила
остальное позади. Например, по сравнению с ней денег очень мало.
После килобакса были мегабакс и гигабакс, и люди могли шутить, что
инфляция ведет к терабаксу, но все деньги в мире, все состояния, на-
копленные поколениями людей, не достигают и одного петабакса.
1970-е были годами мегабайтов. Летом 1970 года IBM предста-
вила две новые модели компьютеров с большим объемом памяти,
420
ГЛАВА 14 ПОСЛЕ ПОТОПА
чем когда-либо: модель 155 с 768 тыс. байт памяти и более мощ-
ную модель 165 с целым мегабайтом памяти в отдельном большом
шкафу. Один из этих мейнфреймов, занимающих по комнате каж-
дый, можно было купить за 4647160 долларов. К 1982-му Prime
Computer продвигал на рынке мегабайт памяти на одной печат-
ной плате за 36 тыс. долларов. Когда в 1987 году издатели “Окс-
фордского словаря английского языка” начали его оцифровывать
(120 наборщиков, мейнфрейм IBM}, они оценивали его размер
в один гигабайт. В гигабайт укладывается и весь геном человека.
Тысяча геномов займет терабайт. Терабайт дисковой памяти смогли
в 1988 году найти Ларри Пейдж и Сергей Брин за 15 тыс. долларов,
они были аспирантами Стэнфордского университета и строили
прототип поисковика, который сначала назвали BackRub, а потом
переименовали в Google, Примерно терабайт информации пере-
дает в день типичная аналоговая телевизионная станция, и таким
был размер базы данных патентов и торговых знаков правительства
США, когда в 1998 году она стала доступной онлайн. К 2010 году
диск емкостью один терабайт можно было купить за юо долларов,
он помещался на ладони. Книги Библиотеки Конгресса представ-
ляют примерно ю терабайт (как и предпологал Шеннон), и эта ци-
фра увеличится во много раз, если учесть хранящиеся там изобра-
жения и музыку. Библиотека теперь архивирует веб-сайты, на фев-
раль 20Ю года она собрала их на 160 терабайт.
По мере того как поезд с грохотом летел вперед, пассажиры
порой чувствовали, что такая скорость ограничивает их собствен-
ную историю. Закон Мура на бумаге выглядел просто, но его по-
следствия заставляли людей подыскивать метафоры, с помощью ко-
торых они смогли бы осмыслить собственный опыт. Занимающий-
ся информатикой Джарон Ланир описал это ощущение так: “Это
примерно как если бы вы встали на колени, чтобы посадить дере-
во, а оно начало расти так быстро, что поглотило всю вашу дерев-
ню прежде, чем вы успели встать” Ч
Более понятной метафорой является облако. Все информаци-
онные мощности нависают над нами, не вполне видимые, не впол-
не осязаемые, но чрезвычайно реальные — аморфные, призрачные,
1 Пер. М. Кононенко.
421
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
они висят где-то неподалеку, но не находятся ни в одном конкрет-
ном месте. Наверное, таким представляли себе когда-то рай верую-
щие. Люди говорят о переносе своих жизней в облако — по край-
ней мере, своих информационных жизней. Вы можете хранить в об-
лаке свои фотографии, Google позаботится о вашем бизнесе в облаке,
Google соберет все книги мира в облако, электронная почта идет че-
рез облако, вернее, никогда его не покидает. Все традиционные идеи
частной жизни, основанные на дверях и замках, физической удален-
ности и невидимости, в облаке оказались перевернутыми.
Деньги живут в облаке, их старые формы — это исчезающие
свидетельства того, кому что принадлежит и кто кому сколько дол-
жен. В XXI веке будет считаться анахронизмом, причудой, абсур-
дом перемещение слитков золота от берега к берегу в хрупких су-
дах, подверженных пиратским нападениям и капризам Посейдона;
металлические монеты, которые выбрасывают из движущихся ма-
шин в корзинки на пропускных пунктах платных дорог и затем пе-
ревозят куда-то (теперь история вашего автомобиля тоже в обла-
ке); бумажные чеки, вырванные из чековых книжек и подписанные
чернилами; билеты на поезда, представления, самолеты; напечатан-
ные на тяжелой перфорированной бумаге с водяными знаками, го-
лограммами или флуоресцентными волокнами и — уже скоро —
вообще все виды наличности. Экономика мира совершает сделки
в облаке.
Но физические свойства просто не могут быть не облакопо-
добными. Серверные фермы размножаются в неприметных кирпич-
ных зданиях и стальных комплексах с затемненными окнами или
вообще без окон, с милями фальшполов, с дизельными генератора-
ми, охлаждающими башнями, приточными семифутовыми венти-
ляторами и алюминиевыми вытяжными трубами. Эта скрытая ин-
фраструктура растет в симбиозе с электрической инфраструктурой,
которую все больше напоминает. Есть информационные коммута-
торы, центры управления и подстанции. Они собраны в кластеры.
Это шестеренки, а облако — их трехмерное воплощение.
Раньше производимая и потребляемая человечеством инфор-
мация исчезала — это была норма, так было по умолчанию. На-
блюдения, звуки, песни, устное слово просто растворялись в небы-
тии. Зарубки на камнях, пергамент и бумага были особым случаем.
422
ГЛАВА 14 ПОСЛЕ ПОТОПА
Аудитории Софокла не приходило в голову, что будет жаль, если
его пьесы исчезнут, аудитория наслаждалась представлением. Те-
перь все наоборот. Можно записать и сохранить, хотя бы потенци-
ально, каждое музыкальное представление, каждое преступление
в магазине, лифте или на улице, каждое извержение вулкана или
цунами на самом удаленном берегу, каждый ход в карточной игре
и шахматах онлайн, каждую драку за мяч в регби и каждый кри-
кетный матч. Иметь под рукой камеру теперь норма, а не исклю-
чение; в гою году было сделано около 500 млрд снимков. YouTube
показывал более миллиарда видеороликов в день. Большинство
из них случайны, но не все. Один из пионеров в области компью-
теров, Гордон Белл из Microsoft Research, в семьдесят с лишним лет
начал записывать каждый миг своего дня, каждый разговор, сооб-
щение, документ, по мегабайту в час, по гигабайту в месяц, нося
на шее то, что он назвал SenseCam (сенсорной камерой), чтобы со-
здать LifeLog (летопись жизни). Где она окажется? Понятно, что
не в Библиотеке Конгресса.
Наконец, естественно и даже неизбежно задаться вопросом,
сколько всего информации содержит вселенная. Вопрос логич-
но вытекает из высказываний Чарльза Бэббиджа и Эдгара Алла-
на По: “Ни одна мысль не может исчезнуть”. Это подсчитал Сет
Ллойд, круглолицый очкарик, специалист по квантовой механике
из МТИ, занимающийся теорией и разработкой квантовых ком-
пьютеров. Вселенная в силу своего существования регистрирует
информацию, говорит он. Развиваясь во времени, она ее обраба-
тывает. Сколько? Чтобы понять это, Ллойд подсчитывает, насколь-
ко “быстро” и как долго работает данный компьютер. Учитывая
фундаментальные ограничения скорости lE/nh операций в секун-
ду (“где Е — средняя энергия системы без учета основного со-
стояния, a h = 1,0545 х 10“54 Дж-с — редуцированная постоянная
Планка”) и объема памяти, ограниченного энтропией в (“где S —
термодинамическая энтропия системы, a kB = 1,38 X 10“25Дж/К—
постоянная Больцмана”), а также скорость света и возраст вселен-
ной с момента Большого Взрыва, Ллойд подсчитал, что вселенная
за свою историю могла совершить порядка 10120 “операций”. Учи-
тывая “все степени свободы каждой частицы во вселенной”, она
может сегодня содержать что-то около 1090 бит. И это число растет.
15
НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
И тому подобное
Простите за неудовлетворительную работу веб-сайта в последние дни.
Насколько я понял, из-за дикого обледенения ветви интернета пригнулись
и грузовики с пакетами информации заносило на каждом повороте.
Эндрю Тобиас (2007)
В периоды расцвета печатного станка, телеграфа, пишу-
щих машинок, телефона, радио, компьютеров и интерне-
та каждый раз, словно технологический прорыв случился
впервые, начинались разговоры о том, что на человече-
ские коммуникации возложено новое бремя: появились
новые сложности, новое разобщение и другие пугающие крайно-
сти. В 1962 году президент Американской исторической ассоциа-
ции Карл Бриденбаух предупредил коллег, что человеческое су-
ществование проходит “великую мутацию” — настолько резкую
и настолько глубокую, что “мы теперь страдаем от чего-то похо-
жего на историческую амнезию”. Он жаловался на то, что люди
стали меньше читать, что они все сильнее отдаляются от приро-
ды (в том числе он винил в этом и “безобразные желтые коро-
бочки Kodak” и “вездесущее транзисторное радио”), он жаловался
на утрату единой культуры. Больше всего, в память о хранителях
и летописцах прошлого он беспокоился о новых инструментах
и техниках, ставших доступными исследователям: “изменчивая
богиня, подсчитывающая количество”, “машины для обработки
данных”, “ужасные сканирующие устройства, которые, говорят,
424
ГЛАВА 15 НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
будут читать документы и книги за нас”. Больше не значит луч-
ше у заявлял он:
Несмотря на непрекращающиеся разговоры о коммуникации, ко-
торые мы ежедневно слышим, ее качество нисколько не улучшается,
на самом деле коммуникация стала гораздо более затруднительной.
У этих замечаний было несколько итераций: сначала устное об-
ращение, которое тысяча человек услышали в бальном зале отеля
“Конрад Хилтон” в Чикаго вечером в последнюю субботу 1962 года,
затем печатная версия в журнале Ассоциации за 1963 год, а поколе-
ние спустя — электронная версия с гораздо большим охватом и, ве-
роятно, более продолжительным сроком жизни.
Элизабет Эйзенстайн наткнулась на печатную версию
в 1963 году, когда работала на полставки преподавателем истории
в Американском университете в Вашингтоне (лучшая работа, кото-
рую она смогла получить, будучи женщиной с докторской степенью
Гарварда). Позже она определяла этот момент как начало пятнадца-
тилетних исследований, итогом которых стали два тома под общим
названием “Печатный станок как источник перемен”. До того как
в 1979 году появилась работа Эйзенстайн, никто не рассматривал
печать как революцию в коммуникации, необходимую для перехо-
да от Средневековья к новому времени. Эйзенстайн отмечала, что
учебные пособия стали попадать на печатный станок где-то меж-
ду эпидемией чумы, известной как “Черная смерть”, и открытием
Америки. Она выдвинула изобретение Гутенберга на первый план:
переход от рукописных текстов к печатным, увеличение количества
типографий в городах Европы XV века, изменения в “сборе данных,
системах хранения и поиска и в сетях коммуникаций”. Она скром-
но подчеркивала, что будет рассматривать появление печати лишь
как один из источников перемен, но оставляла читателей убежден-
ными в том, что оно сыграло важнейшую роль в преобразованиях,
которые произошли в Европе, — Возрождение, Реформация и заро-
ждение науки. Это была “судьбоносная точка невозврата в челове-
ческой истории”. Она сформировала современный разум.
Она сформировала и умы историков: Эйзенстайн интересова-
лась идеями, которые, пусть неосознанно, разделяют все историки.
425
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Когда она взялась за свой проект, ей пришло в голову, что иссле-
дователи часто не замечают, что находятся под воздействием сре-
ды, в которой существуют. Она оценила усилия Маршала Маклюэ-
на, чья “Галактика Гутенберга” вышла в 1962 году и заставила уче-
ных посмотреть на мир с другой точки зрения. В эпоху рукописей
были лишь примитивные понятия о хронологии — нечеткая ось
времени, берущая начало то ли от Адама, то ли от Ноя, то ли от Ро-
мула и Рема. “Подходы к осмыслению исторических изменений, —
писала она, — лишь иногда встречаются в рукописях, якобы по-
священных “истории”, и часто их приходится искать в сагах и эпо-
сах, священных текстах, надгробных надписях, знаках и шифрах,
огромных каменных памятниках, документах, запертых в шкафах
регистрационных палат и пометках на полях манускриптов”. Ощу-
щение времени, того, когда мы живем, — это возможность видеть
прошлое, расстилающееся перед человеком; международная уни-
фикация временной шкалы в умах людей, адекватное восприятие
анахронизмов — все это пришло с появлением печати.
Как копировальная машина печатный станок не только де-
лал тексты дешевле и доступнее, его настоящая заслуга была в том,
что он делал тексты постоянными. “Рукописная культура, — писала
Эйзенстайн, — постоянно ослаблялась разрушениями, искажениями
и утратами”. Печать была надежной, ей можно было доверять. Когда
Тихо Браге проводил бесчисленные часы, глядя на таблицы движения
планет и звезд, он мог рассчитывать на других исследователей, све-
ряющихся с такими же таблицами сейчас и в будущем. Когда Кеплер
составлял свой, гораздо более точный каталог, он пользовался табли-
цами логарифмов, опубликованными Непером. Тем временем типо-
графии распространяли не только тезисы Мартина Лютера, но и, что
важнее, саму Библию. Протестантская революция была в большей
степени основана на чтении Библии, чем на каком-либо положении
доктрины. Печать побеждала рукопись, манускрипт вытеснил свиток,
а национальные языки — древние. До появления печати письменный
текст не был чем-то неизменным. Все формы знания получили ста-
бильность и постоянство не потому, что бумага была долговечнее па-
пируса, а потому, что появилось много копий.
В 1963 году, читая предупреждения президента Американской
исторической ассоциации, Эйзенстайн поняла, что согласна с тем,
426
ГЛАВА 15 НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
что профессия переживает своего рода кризис. Но она считала, что
Бриденбаух истолковал его ровно наоборот. Он думал, что проб-
лема была в забывчивости. “Как я понимаю, — драматически за-
явил он, — человечество столкнулось не с чем иным, как с поте-
рей памяти, а эта память и есть его история”. Эйзенстайн, глядя
на те же информационные технологии, которые так беспокои-
ли старшее поколение историков, сделала противоположный вы-
вод. Прошлое не исчезает из поля зрения, напротив, оно стано-
вится более доступным, более видимым. “У эпохи, которая увидела
расшифровку линейного письма Б1 и открытие свитков Мертвого
моря, — писала она, — есть мало оснований беспокоиться о “по-
тере памяти человечества”. Зато есть все основания беспокоиться
о перегрузке каналов”. Что до амнезии, на которую жаловался Бри-
денбаух и многие из его коллег,
это неверная интерпретация трудностей, с которым сегодня столк-
нулись историки. Не начало амнезии служит причиной суще-
ствующих проблем, а появление воспоминаний более полных, чем
те, что могли изучать предыдущие поколения. Постоянное восста-
новление, а не уничтожение, накопление, а не потеря привели к се-
годняшнему тупику.
С ее точки зрения, революция в коммуникации, которая началась
пять веков назад, все еще набирала ход. Как историки могли не за-
мечать этого?
“Перегрузка каналов” была сравнительно новой метафорой
для выражения нового ощущения — слишком много информации.
Это ощущение всегда было новым. Люди жаждали книг, перечи-
тывали несколько любимых, просили или брали почитать другие,
стояли в очереди у дверей библиотеки и, возможно, в мгновение
ока обнаруживали себя в состоянии пресыщения: слишком мно-
го чтения. В 1621 году ученый из Оксфорда Роберт Бертон (кото-
рый собрал одну из самых больших библиотек в мире — 1700 книг,
но ни одного тезауруса) озвучил это ощущение:
1 Линейное письмо Б — позднейшая форма критского письма (XV-XII века
до н. э.), которая использовалась для записи текстов на древнегреческом языке.
427
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Я каждый день узнаю какие-нибудь новости, эти слухи о войне, чуме,
пожарах, наводнениях, кражах, убийствах, погромах, метеоритах,
кометах, призраках, предсказаниях, необъяснимых явлениях, о взя-
тых городах, осажденных городах во Франции, Германии, Турции,
Персии, Польше и т.д., военных сборах и приготовлениях и т.п., что
позволяет себе это бурное время: происходят битвы, убито столь-
ко-то человек, дуэли, останки кораблей, пиратство и морские сра-
жения, перемирия, лиги, военные хитрости и новые тревоги. Сме-
шение клятв, желаний, действий, эдиктов, петиций, судебных тяжб,
прошений, законов, прокламаций, жалоб, сожалений ежедневно до-
стигает наших ушей. Новые книги каждый день, памфлеты, исто-
рии, целые каталоги книг всяческого сорта, новые парадоксы, мне-
ния, расколы, ереси, противоречия в философии, религии и т.п.
И еще сообщения о свадьбах, маскарадах, пантомимах, развлечени-
ях, юбилеях, посольских приемах, споры и турниры, трофеи, триум-
фы, пиры, спорт, игры и опять, как в новой сцене, предательства, мо-
шеннические трюки, ограбления, огромные злодейства всякого рода,
похороны, погребения, смерть принцев, новые открытия, экспеди-
ции, комичные случаи, оборачивающиеся трагедией. Сегодня мы
слышим о новых лордах и должностях, завтра — о смещении вы-
сокопоставленного человека, потом о новых пожалованиях, одного
освободили, другого посадили, один купил, другой взломал, тот бла-
годенствует, его сосед банкрот, сейчас изобилие, потом снова нище-
та и голод, один бежит, другой едет, ссорится, смеется, плачет и т.д.
Это я слышу каждый день, это и тому подобное.
Он думал, что избыток информации был внове. Он не жаловался,
он был лишь удивлен. Однако очень скоро последовали протесты.
Лейбниц боялся возврата к варварству, “чему немало может поспо-
собствовать эта страшная масса книг, продолжающая увеличивать-
ся. Потому что в конце беспорядок будет уже не преодолеть”. Алек-
сандр Поуп сатирически писал о “тех днях, когда (после того как
провидение позволило изобретение печати как кару за грехи обра-
зованных) бумага станет столь дешевой, а печатные станки столь
многочисленными, что на Земле случится потоп авторов”.
Потоп стал привычной метафорой для людей, описывающих
пресыщение информацией. Ощущение того, что тонешь в бур-
428
ГЛАВА 15 НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
лящем потоке информации. Или другой образ — вал огня, обру-
шивающийся на мозг, информация наносит серию молниеносных
ударов со всех сторон. Страх какофонии может иметь религиоз-
ную мотивацию — как беспокойство о том, что мирской шум за-
глушит истину.
Т. С. Элиот выразил это в 1934 году:
Знанье речи, но не безмолвья:
Знанье слов и незнанье Слова.
Знанье приводит нас ближе к незнанью,
Незнанье приводит нас ближе к смерти,
Ближе к смерти, не ближе к БОГУ
Или страх падения стен, отделяющих нас от незнакомого, ужасно-
го или пугающего. Или боязнь потери способности наводить по-
рядок в хаосе ощущений. Правду сложнее найти среди множества
правдоподобных выдумок.
Вместе с “теорией информации” появились и “перегрузка ин-
формацией”, и “избыток информации”, и “информационная тре-
вожность”, и “информационная усталость”. Последняя в 2009 году
была признана “Оксфордским словарем” современным синдромом:
“Апатия, безразличие или умственное истощение, происходящее
от поглощения слишком большого количества информации, осо-
бенно стресс от попытки усвоить избыточное количество информа-
ции из СМИ, интернета или на работе”. Иногда информационная
тревожность может сопровождаться скукой — особенно странное
сочетание. У Дэвида Фостера Уоллеса есть более зловещее название
для этого современного состояния — тотальный шум. “Цунами до-
ступных фактов, контекстов и перспектив” — из этого состоит то-
тальный шум, написал он в 2007 году. Он говорил об ощущени-
ях тонущего человека и о потере самостоятельности, персональ-
ной ответственности за то, чтобы быть в курсе. Чтобы не отставать
от потока информации, нам нужны доверенные лица и подрядчики.
По-другому описать тревогу можно в терминах разрыва между
информацией и знанием. Вал данных слишком часто не дает того,
1 Здесь и далее — пер. А. Сергеева.
429
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
что надо знать. Знание, в свою очередь, не гарантирует просветле-
ния или мудрости. (Элиот тоже писал об этом: “Где мудрость, ко-
торую мы потеряли в знанье? / Где знанье, которое мы потеряли
в сведеньях?”) Это древнее наблюдение, но оно всплывает вновь
и вновь, когда количество информации становится избыточным —
в мире, где все биты рождены равными, а информация и смысл раз-
делены.
В 1970 году Льюис Мамфорд, философ и историк, еще раз
озвучил уже известную мысль: “К сожалению, “поиск информа-
ции”, несмотря на скорость, с которой он происходит, не заменя-
ет знаний (о самом существовании которых, вероятно, и не по-
дозревали), полученных непосредственным личным изучением,
и прослеживания их пути в собственном темпе по разветвлени-
ям соответствующей литературы”. Он умолял вернуться к “мо-
ральной самодисциплине”. В такого рода предупреждениях вместе
с неопровержимой истиной “погоня за знаниями чем медленнее,
тем лучше” есть некий привкус ностальгии. Исследование наби-
тых книгами полок заплесневелых библиотек имеет свои преиму-
щества. Чтение, даже пролистывание старой книги может предо-
ставить питательную среду, которой не получишь в базах данных.
Терпение — достоинство, чревоугодие — грех.
Однако даже в 1970 году Мамфорд не думал о базах данных
или каких-либо электронных технологиях, которые были на гори-
зонте. Он жаловался на “размножение микрофильмов” и на то, что
стало слишком много книг. Без самоограничения, предупреждал
он, “перепроизводство книг принесет состояние интеллектуаль-
ной немощи и истощения, которое вряд ли можно будет отличить
от невежества”. Ограничения наложены не были. Названия про-
должают множиться. Книги об информационном изобилии при-
соединяются к пиршеству; когда онлайновый книжный магазин
Amazon.com передает сообщение вроде “Начни читать “Информа-
ционный смог” на своем Kindle менее чем через минуту” и “Уди-
ви меня! Прочитай случайную страницу из этой книги”, иронии
не подразумевается.
Технологии электронной связи возникли быстро, почти без
предупреждения. Слово e-mail впервые (насколько смог устано-
вить “Оксфордский словарь английского языка”) появилось в пе-
430
ГЛАВА 15 НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
чати в 1982 году в журнале Computerworld) который в свою очередь
взял его из какого-то отчета: “Говорят, ADR/E-mail легко исполь-
зовать — английские глаголы и экран с подсказками”. На следую-
щий год журнал Infosystems объявил: “E-mail способствует пере-
мещению информации в пространстве”. Через год — и все еще
на целое десятилетие раньше, чем большинство людей услышали
это слово, — шведский ученый-информатик Якоб Пальме из QZ
Computer Center в Стокгольме выпустил пророческое предупре-
ждение, простое, точное и подробное, как и любое другое, появив-
шееся в следующие десятилетия. Пальме начал так:
Система электронной почты, если она будет использоваться мно-
гими людьми, может породить серьезные проблемы перегрузки ин-
формацией. Причина этой проблемы в том, что очень просто по-
слать сообщение большому количеству людей, и в том, что систе-
мы часто разрабатываются так, что отправитель получает слишком
много власти над процессом связи, а получатель — слишком мало...
Люди получают слишком много сообщений, на чтение которых
у них нет времени. Это также означает, что действительно важные
сообщения трудно найти в потоке менее важных.
В будущем, когда системы передачи сообщений будут увеличивать-
ся, а связь между ними начнет улучшаться, это станет проблемой
практически для всех пользователей подобных систем.
У него была статистика его локальной сети: среднее сообщение
писалось 2 мин 36 с, а прочитывалось всего за 28 с. Замечательно,
если бы не тот факт, что люди с легкостью могли послать множе-
ство копий одного и того же сообщения.
В 1963 году два психолога попытались количественно опреде-
лить влияние дополнительной информации на процесс постанов-
ки клинического диагноза. Как и предполагалось, они обнаружили,
что словосочетание “слишком много информации” — они призна-
ли, что его значение определить непросто, — часто имеет отри-
цательную коннотацию. Они озаглавили свою статью “Может ли
кто-то иногда слишком много знать?” и перечислили альтернатив-
ные названия в качестве бонуса: “Никогда еще так много не давало
так мало” и “Слишком много информации — это опасно”. Другие
431
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
пытались измерить влияние информационной нагрузки на кровя-
ное давление, сердечный ритм и частоту дыхания.
Одним из исследователей в этой области был Зигфрид Строй-
ферт, который в 1960-е в серии статей отмечал, что взаимосвязь
между информационной нагрузкой и обработкой информации
обычно выглядит как “перевернутая 17”: увеличение информации
сначала помогает, затем помогает не так сильно, а потом начинает
мешать. В одном из исследований участвовали 185 студентов уни-
верситета (все мужчины). Их попросили представить, что они ко-
мандиры, принимающие решения в тактической игре. Им сказали:
Информация, которую вы будете получать, подготовлена так же,
как она была бы подготовлена разведкой для настоящих боевых
командиров... Вы можете дать приказ разведчикам увеличить или
уменьшить количество информации, которое они вам предостав-
ляют... Пожалуйста, выберите один из следующих вариантов.
Я хотел бы:
— получать намного больше информации;
— получать немного больше информации;
— получать столько же информации;
— получать немного меньше информации;
— получать намного меньше информации.
Вне зависимости от того, что они выбирали, ответы игнорировались.
Экспериментатор, а не объекты эксперимента заранее определяли
количество информации. На основе полученных данных Стройферт
пришел к выводу, что “супероптимальная” информационная нагруз-
ка приводила к плохим результатам, “тем не менее необходимо от-
метить, что даже при самом высоком уровне информационной на-
грузки (т. е. двадцать пять сообщений за 30 мин) испытуемые все еще
просили увеличить количество информации”. Позже он использо-
вал похожую методику для изучения влияния чрезмерного употреб-
ления кофе.
К 1980 году исследователи уверенно говорили о “парадиг-
ме информационной нагрузки”. Это была парадигма, построен-
ная на трюизме: люди могут “поглощать” или “обрабатывать” лишь
ограниченное количество информации. Разные исследователи об-
432
ГЛАВА 15 НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
наружили, что ее избыток приводит не только к растерянности
и фрустрации, но и к ухудшению зрения и недобросовестности.
Эксперименты предоставляли для обработки разнообразную ин-
формацию: измерения объема памяти, идеи о ширине канала, по-
заимствованные у Шеннона, вариации на тему соотношения сиг-
нал/шум. Общим, пусть и сомнительным методом исследований
была интроспекция. В 1998 году один небольшой проект в качестве
“сообщества или группы” взял выпускников библиотечного фа-
культета Университета Иллинойса. Все опрошенные согласились,
что страдают от информационных перегрузок из-за “электрон-
ной почты, совещаний, новостных серверов и заваленных бумага-
ми столов”. Большинство чувствовало, что избыток информации
влияет не только на рабочее время, но и на досуг. Некоторые жало-
вались на головные боли. Промежуточное заключение: информа-
ционная перегрузка существует. Кроме того, это выражение явля-
ется “кодовой фразой”. Исследование продолжилось.
Как сказал Чарльз Беннет, размышления об информации как
о бремени сбивают с толку. “Мы платим за то, что нам приносят
газеты, а не за то, что их уносят”. Но термодинамика вычислений
показывает, что вчерашняя газета занимает место, необходимое де-
мону Максвелла для сегодняшней работы, и современный опыт го-
ворит о том же. Забывание было неудачей, потерей, знаком старче-
ской немощи. Теперь оно требует усилий. Оно может оказаться на-
столько же важным, насколько важна сама память.
Раньше факты стоили дорого, теперь они дешевы. Раньше что-
бы найти имена и даты рождения монархов и президентов, табли-
цы праздников и высоких приливов, размеров и населения отда-
ленных местностей или кораблей и командующих офицеров флота,
люди обращались, например, к ежегодному британскому альма-
наху Уиттакера или американскому “Мировому альманаху”. Если
не было альманаха или нужны были менее доступные сведения, он
мог спросить у специального человека за конторкой в публичной
библиотеке. Когда Джорджу Бернарду Шоу понадобилось выяс-
нить адрес ближайшего крематория — его жена умирала, — он от-
крыл альманах и был огорчен. “Я только что нашел досадное упуще-
ние в альманахе Уиттакера, — написал он редактору. — Поскольку
поиск информации — это именно то, за чем обращаются к ваше-
433
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
му бесценному альманаху, мне кажется, что список из 58 кремато-
риев, функционирующих ныне в стране, и инструкции, что делать,
были бы очень желательным дополнением”. Это было душеразди-
рающее письмо. Он не упомянул жену, лишь “случай серьезного за-
болевания”, и ссылался на себя как на “скорбящего любопытствую-
щего”. У Шоу был телеграфный адрес и телефон, но он посчитал
само собой разумеющимся, что факты надо искать в печатном виде.
Благодаря телефону количество доступной информации уже
начало увеличиваться. Люди XX века осознали, что могут мгно-
венно узнать результаты спортивных игр, которых не видели; эта
мысль посетила такое количество людей, что The New York Times
посчитала уместным в 1929 году напечатать на первой полосе объ-
явление, умоляющее читателей перестать звонить: “Не спрашивай-
те по телефону счет в играх бейсбольного чемпионата”. Сегодня
получение информации “в реальном времени” рассматривается
как неотъемлемое право.
Что вы делаете, когда у вас наконец есть все? В 1990 году, как раз
перед тем, как интернет сделал возможным осуществление мечты,
Дэниел Деннет представил, что электронные сети могут перевернуть
экономику издания поэтических сборников. Что если поэты вместо
тонких книжек — элегантных предметов, рассчитанных на цените-
лей, — будут публиковать стихи онлайн, чтобы те мгновенно до-
стигали не сотен, а миллионов читателей, и не за десятки долларов,
а за долю пенни? В том же году издатель сэр Чарльз Чедвик-Хили,
проходя через Британскую библиотеку, придумал полнотекстовую
базу данных по английской поэзии, а четыре года спустя сделал ее —
не настоящее или будущее поэзии, а ее прошлое, и не онлайн, а сна-
чала на четырех компакт-дисках, 165 тыс. стихов 1250 поэтов, охваты-
вающих тринадцать столетий, по цене 51 тыс. долларов. Читателям
и критикам еще предстояло придумать, что с этим делать. Уж точно
не читать ее, как читают книгу. Читать в ней, наверное. Просма-
тривать ее в поисках слова, эпиграфа или полузабытого фрагмента.
Эмоции Энтони Лейна, писавшего об этой базе данных отзыв
для The New Yorker, менялись от восторга до разочарования и об-
ратно. “Вы склоняетесь, как пианист над клавиатурой, — писал
он, — зная, что вас ожидает, и думая: ах, несказанное богатство ан-
глийской литературы! Какие скрытые сокровища я отыщу в глубо-
434
ГЛАВА 15 НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
чайших пещерах человеческого воображения!” Потом появляются
тексты с большим количеством заимствований и языковых смеше-
ний, тексты исключительно низкого качества, поток напыщенности
и посредственности. От этой огромной неупорядоченной массы
начинаешь уставать. “Какое испускающее пары нагромождение, —
восклицает Лейн и упивается этим образом. — Впервые я узрел та-
кой великолепный памятник силе людского невежества и, по той же
причине, благословение человеческой забывчивости”. Где еще он
нашел бы совершенно забытого Томаса Фримана (уж явно не в “Ви-
кипедии”) и этот замечательный самообличающий куплет:
Ой-ой-ой, мне кажется, это плач читателя,
Вот бессмысленные вирши: признаюсь, они мои.
Компакт-диски уже устарели. Английская поэзия теперь есть
в Сети — если не вся, то почти вся, и если не теперь, то очень скоро.
Прошлое гармошкой складывается в настоящее. Разные носи-
тели обладают различными горизонтами событий: для письменно-
го слова — три тысячелетия, для записанного звука — полтора сто-
летия, и в этих рамках старое становится таким же доступным, как
и новое. Пожелтевшие газеты возвращаются к жизни. Под рубри-
ками “50 лет назад” и “юо лет назад” СМИ перерабатывают архи-
вы: рецепты, карточные игры, науку, слухи, однажды распродан-
ные, а теперь снова готовые к употреблению. Звукозаписывающие
компании копаются на чердаках, чтобы выпустить или перевыпу-
стить любой отрывок, раритетные записи, песни со второй сторо-
ны пластинок, бутлеги. Когда-то коллекционеры, ученые или фа-
наты обладали правом собственности на свои книги и записи. Су-
ществовала четкая граница между тем, что им принадлежало, а что
нет. Для некоторых музыка, которой они владели (или книги, или
видео), стала частью того, что они собой представляли. Эта ли-
ния исчезает. Большая часть пьес Софокла утрачены, но те, что вы-
жили, доступны по нажатию кнопки. Большая часть музыки Баха
была неизвестна Бетховену, а у нас есть все — партитуры, канта-
ты и рингтоны. Музыка приходит к нам мгновенно. Это симптом
универсального знания. Это то, что критик Алекс Росс называ-
ет “бесконечным плейлистом”, понимая, насколько неоднозначен
435
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
этот дар: “Возбуждение вместо насыщения, вызывающий привы-
кание замкнутый круг из жажды и чувства неудовлетворенности.
Только находишь что-то, как вмешивается мысль: “А что там есть
еще?”. Глаза разбегаются. Еще одно напоминание о том, что ин-
формация не есть знание, а знание не есть мудрость.
Появляются стратегии того, как справляться с этим. Их мно-
го, но по существу все сводятся к двум: фильтр и поиск. Измучен-
ный потребитель информации прибегает к фильтрам, чтобы отде-
лить зерна от плевел. К фильтрам относятся блоги и агрегаторы —
выбор подразумевает возникновение проблем с доверием и вкусом.
Потребность в фильтрах вторгается в любой мысленный экс-
перимент о чудесах избыточной информации. Когда Деннет при-
думал свою “Полную сеть поэзии”, он понял, что существует про-
блема. “Из меметики следует очевидная контргипотеза, — заявил
он. — Если такая сеть создана, ни один любитель поэзии не захочет
в поисках хороших стихов продираться сквозь тысячи электрон-
ных файлов, заполненных плохими”. Понадобятся фильтры — ре-
дакторы и критики. “Они процветают из-за ограничения поставок
и вместимости мозга, какой бы ни была среда, где осуществляется
передача от одного разума другому”. Когда информация дешевеет,
дорожает внимание.
По той же причине механизмы поиска — движки в киберпро-
странстве — ищут иголки в стогах сена. На сегодня мы усвоили
урок: недостаточно того, чтобы информация просто существовала.
Первоначально в Англии XVI века “файл” был проволокой, на ко-
торую можно было подвесить для сохранения и простого поис-
ка квитанции и счета, записки и письма. Потом появились папки
файлов, ящики файлов и шкафы файлов, затем электронные тезки
всего этого и неизбежная ирония. Как только кусочек информации
положен в файлу статистически маловероятно, что человеческий
глаз увидит его снова. В 1847 году Огастес де Морган, друг Бэбби-
джа, понимал это. Для каждой выбранной наугад книги, утверждал
он, библиотека не лучше, чем склад макулатуры. “Возьмем, к при-
меру, Библиотеку Британского музея, ценную, полезную и доступ-
ную: каков шанс того, что о некоей работе станет известно, что она
там есть, просто потому, что она там есть? Если ее захотят прочи-
тать, о ней можно спросить, но для того, чтобы ее захотели прочи-
436
ГЛАВА 15 НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
тать, о ней должно быть известно. Никто не может перерыть всю
библиотеку”.
Слишком много информации — и так много ее утеряно.
Непроиндексированный сайт в интернете так же забыт и заброшен,
как и книга в библиотеке, поставленная не на ту полку. Вот поче-
му успешные мощные коммерческие предприятия в информацион-
ной экономике построены на фильтрации и поиске. Даже “Википе-
дия” представляет собой комбинацию: мощный поиск, в основном
использующий технологии Google^ и огромный, поддерживающий-
ся совместными усилиями множества людей фильтр, пытающийся
собрать истинные факты и отбросить ложные. Поиск и фильтра-
ция — вот все, что отличает этот мир от Вавилонской библиотеки.
В своих компьютеризованных инкарнациях данные стратегии
кажутся новыми. Но это не так. На самом деле существенная часть
инструментов и механизмов печатных медиа, сегодня само собой
разумеющихся, невидимых, как старые обои, развивалась как пря-
мой ответ на чувство пресыщения информацией. Это механиз-
мы отбора и сортировки: алфавитные индексы, обзоры книг, схе-
мы размещения книг на полках в библиотеке и карточные каталоги,
энциклопедии, антологии и дайджесты, цитатники, конкордансы1
и географические справочники. Когда Роберт Бертон рассуждал
о своих “новостях каждый день”, “новых парадоксах, мнениях, рас-
колах и ересях, противоречиях в философии, религии и т. п.”, он
делал это через оправдание великого проекта своей жизни — “Ана-
томии меланхолии”, беспорядочного сборника всего предыдуще-
го знания. За четыре века до него монах-доминиканец Винсент
Бове попытался представить свою версию всего, что было извест-
но, создав одну из первых средневековых энциклопедий Speculum
Matus, “Великое зеркало”, — манускрипт состоял из восьмидеся-
ти книг и 9885 глав. Его оправдание: “Множество книг, недоста-
ток времени и ненадежность памяти не позволяют держать в уме
все вещи, которые были написаны”. Энн Блэр, историк из Гарвар-
да, выразилась просто: “Ощущение, что книг слишком много, по-
рождало производство еще большего количества книг”. Естествен-
1 Конкорданс — алфавитный перечень слов, встречающихся в какой-либо книге
или у какого-либо автора, с указанием контекста их употребления.
437
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ные науки, такие как ботаника, в некотором смысле тоже возникли
как ответ на переизбыток информации. Взрывной рост числа из-
вестных видов (и названий) в XVI веке требовал появления новых
процедур стандартизованного описания. Появились ботанические
энциклопедии с глоссариями и индексами. Брайан Огилви считает,
что ботаника в эпоху Возрождения развивалась благодаря “необ-
ходимости справиться с информационной перегрузкой, которую
сами же ботаники, не желая того, устроили”. Они создали confusio
rerum, говорит он, сопровождавшийся confusio verborum. Запутан-
ная масса новых вещей, путаница слов. Естествознание появилось
для того, чтобы сортировать информацию.
Когда новые информационные технологии изменили су-
ществующий ландшафт, они принесли разрушения: новые кана-
лы и новые плотины, перенаправляющие оросительную систе-
му и транспорт. Баланс между создателями и потребителями на-
рушился: те, кто пишет, и те, кто читает; те, кто говорит, и те, кто
слушает. Рынок в замешательстве, информация может одновремен-
но казаться слишком дешевой и слишком дорогой. Старые спосо-
бы организации знаний не работают. Кто будет искать, кто будет
фильтровать? Разрушение порождает надежду, смешанную со стра-
хом. В первые дни существования радио Бертольт Брехт, полный
надежд и опасений, говорил: “Человеку, которому есть что сказать
и который не находит слушателей, не повезло. Еще хуже слушате-
лям, которые не могут найти никого, кому было бы что им сказать”.
Меняется взгляд на вещи. Спросите тех, кто ведет блог, что хуже —
слишком много голосов или слишком много ушей?
эпилог
Возвращение смысла
Смысл неизбежно проложит себе дорогу.
Жан Пьер Дюпюи (2000)
Истощение, пресыщение, давление информации — все
это было и раньше. Спасибо Маршаллу Маклюэну за его
догадку, самую значимую его догадку, которую он сде-
лал в 1962 году:
Сегодня мы настолько же продвинулись в электрическую эпоху, на-
сколько жители елизаветинской Англии продвинулись в эпоху ти-
пографий и механики. И мы испытываем те же замешательство
и нерешительность, которые чувствовали они, живя одновременно
в двух контрастирующих формах общества и опыта.
Но насколько эти ощущения близки, настолько же они и различ-
ны. Мы прошли по этой дороге еще полвека назад, так что можем
начать осознавать масштаб произошедшего и значительность по-
следствий.
Снова, как и в первые дни телеграфа, мы говорим об анниги-
ляции пространства и времени. Для Маклюэна аннигиляция была
необходимым условием создания глобального понимания — гло-
бального знания, “Сегодня, — писал он, — мы до вселенских мас-
439
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
штабов расширили свою центральную нервную систему и упразд-
нили пространство и время, по крайней мере в пределах нашей пла-
неты. Мы быстро приближаемся к финальной стадии расширения
человека вовне — стадии технологической симуляции сознания,
когда творческий процесс познания будет коллективно и корпо-
ративно расширен до масштабов всего человеческого общества”1.
Уолт Уитмен выразил эту мысль гораздо лучше еще юо лет назад:
Какие шепоты бегут перед вами через океаны, о державы?
Общаются ли все нации? Наступает ли для земного шара эпоха
единомыслия1 2?
Прокладка проводов по всему земному шару, за которой незамед-
лительно последовало распространение беспроводной связи, при-
вела к увеличению романтических рассуждений о рождении но-
вого глобального организма. Еще в XIX веке мистики и теологи
начали говорить об общем разуме или коллективном сознании,
сформированном в результате сотрудничества миллионов связан-
ных друг с другом людей.
Некоторые зашли так далеко, что рассматривали это новое со-
здание как естественный этап продолжающейся эволюции — воз-
можность человека исполнить особое предназначение, после того
как его эго было уязвлено дарвинизмом. “Абсолютно необходи-
мо, — писал французский философ Эдуард Леруа в 1928 году, —
поместить [человека] над более низким уровнем природы в поло-
жение, которое позволит ему доминировать над ней”. Как? Путем
создания ноосферы, сферы разума — кульминационной мутации
в истории эволюции. Друг Леруа, философ-иезуит Пьер Тейяр де
Шарден, сделал еще больше для продвижения ноосферы, которую
он называл “новой кожей” земли:
Не правда ли, возникает, если можно так выразиться, великое тело
со своими членами, своей нервной системой, своими восприни-
мающими центрами; своей памятью, тело того великого существа,
1 Пер. В. Николаева.
2 Пер. Б. Слуцкого.
440
эпилог
которое должно было прийти, чтобы удовлетворить стремления,
порожденные в мыслящем человеке недавно приобретенным со-
знанием своей солидарности и ответственности за целое, находя-
щееся в состоянии эволюции?1
Это было труднопроизносимо даже на французском, и менее воз-
вышенные души посчитали рассуждения Тейяра де Шардена тре-
скучей ерундой (“чепуха, украшенная разными занудными мета-
физическими метафорами”, припечатал его биолог Питер Ме-
давар), но многие прощупывали ту же идею, и среди них были
авторы научно-фантастической литературы. Пятьдесят лет спустя
первопроходцам интернета идея тоже понравилась.
Герберт Уэллс известен как автор фантастических романов,
но он был также решительным критиком общественного устрой-
ства и на закате жизни, в 1938 году, опубликовал маленькую кни-
гу под заголовком “Всемирный мозг”. Не было ничего необыч-
ного в том, что он хотел пропагандировать усовершенствован-
ную систему образования во всем “теле” человечества. Избавимся
от пестрой смеси феодальных владений, “множества не связанных
между собой центров притяжений, нашего беспомощного разно-
образия университетов, исследовательских институтов, литерату-
ры по отдельным вопросам”. Включим “переоборудованное и бо-
лее мощное общественное мнение”. Его Мировой разум правил бы
планетой. “Нам не нужны диктаторы, нам не нужны олигархиче-
ские партии или правящие классы, нам нужен Мировой разум, со-
знающий себя таковым”. Уэллс верил, что есть новая технология,
способная соответствовать революции в производстве и распро-
странении информации, — микрофильм. Крошечные изобра-
жения печатных материалов могли быть изготовлены менее чем
за пенни за страницу, а библиотекари из Европы и Соединенных
Штатов в 1937 году уже встречались для обсуждения возможностей
новой технологии в Париже на The World Congress of Universal
Documentation, Они поняли, что необходимы новые способы ин-
дексирования книг. Британский музей начал программу перено-
са на пленку 4 тыс. старейших изданий. Уэллс предсказывал: “Че-
1 Пер. Н. Садовского и О. Вайнер.
441
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
рез несколько лет в деле упорядочения и усвоения знаний там, где
сейчас вы видите одного рабочего, появятся тысячи”. Он призна-
вал, что намеренно высказался противоречиво и провокационно.
На Конгрессе он представлял Великобританию и высказал предпо-
ложение о том, что должен появиться “своего рода головной мозг
для человечества, а кора этого мозга будет обеспечивать память
и восприятие реальности для всей человеческой расы”. И все же
то, что представлял себе Уэллс, на самом деле имело привычную
и в то же время утопическую форму: это была энциклопедия. Она
должна была стать последовательницей великих национальных эн-
циклопедий — французской энциклопедии Дидро, “Британники”,
немецкой Konversations Lexikon (он не упомянул китайские “Четы-
ре великие Книги песен”), — которые придали устойчивость “об-
щему разуму” и вооружили его.
Эта новая мировая энциклопедия должна была вырваться
из статической формы напечатанной книги, сказал Уэллс. Под ру-
ководством мудрых профессионалов (“очень важных и заслужен-
ных людей в новом мире”) она должна находиться в состоянии по-
стоянного обновления — “своего рода учетная контора для разу-
ма, хранилище, где знания и идеи получают, сортируют, усваивают,
проясняют и сравнивают”. Интересно, узнал бы Уэллс свое дети-
ще в “Википедии”? Впрочем, для хаоса противоборствующих идей
в энциклопедии Уэллса места не было. Его мировой разум должен
был быть авторитетным, но не централизованным.
Он не должен быть уязвимым, как уязвимы человеческие голова
или сердце. Он может быть воспроизведен точно и полно в Перу,
Китае, Исландии, Центральной Африке... Он может одновремен-
но быть крепким и защищенным, как имеющее череп животное,
и обладать распределенной жизнеспособностью амебы.
Если уж на то пошло, сказал он, “мозг может иметь форму сети”.
Мозг делает мозгом не количество знаний. И не способ их рас-
пределения. Дело в связи. Когда Уэллс использовал слово сеть —
слово, которое ему очень нравилось, — оно имело для него свой
первоначальный, физический смысл, как и для любого человека его
времени. Он видел переплетенные нити или провода: “Сеть изу-
442
эпилог
мительно изогнутых и скрученных стеблей с маленькими листья-
ми и цветками”; “сложная сеть проводов и кабелей”. Для нас этот
смысл почти утерян; сеть для нас — абстрактный объект, а область
ее действия — информация.
При рождении теории информации смысл был безжалост-
но принесен в жертву, а ведь это то самое свойство, которое дает
информации ее ценность и значение. Представляя свою “Матема-
тическую теорию связи”, Шеннон решил проблему грубо и од-
нозначно. Он просто объявил, что смысл “не имеет отношения
к инженерной задаче”. Забудьте о человеческой психологии, отка-
житесь от субъективизма.
Он знал, что возникнет сопротивление. Шеннон вряд ли мог
отрицать, что у сообщений есть значения, “то есть они ссылаются
друг на друга или связаны друг с другом в соответствии с некото-
рой системой определенных физических или понятийных сущно-
стей”. (Предположительно “системой определенных физических
или понятийных сущностей” является мир и населяющие его су-
щества, Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь1.)
Для некоторых такой подход был просто слишком прагматич-
ным. Хайнц фон Ферстер, который на одной из первых киберне-
тических конференций жаловался, что теория информации гово-
рит лишь о “бип-бипах”, тогда как лишь в момент, когда в чело-
веческом мозге включается понимание, только тогда “рождается
информация, но в писке ее нет”. Другие мечтали о расширении
теории информации ее семантическим аналогом. Но “смысл”, как
всегда, еще надо было определить. “Мне известен дикий край, где
библиотекари отказались от суеверной и напрасной привычки ис-
кать в книгах смысл, считая, что это все равно что искать его в снах
или в беспорядочных линиях ладони1 2”, — писал Борхес о Вави-
лонской библиотеке.
Эпистимологи беспокоились о знании, а не о “бип-бипах” и сиг-
налах. Никто бы не стал создавать философию точек и тире, клубов
1 Мф 6:13.
2 Пер. В. Кулагиной-Ярцевой.
443
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
дыма или электрических импульсов. Нужен человек или, скажем,
“когнитивный посредник”, чтобы принять сигнал и превратить
его в информацию. “Красота в глазах смотрящего, а информа-
ция — в голове получателя”, — сказал Фред Дрецке. В любом слу-
чае в эпистемологии принято считать, что “мы вкладываем в сти-
мулы смысл, и без такого вложения они информационно пусты”.
Но Дрецке утверждает, что различение информации и ее смысла
может дать философу свободу. Инженеры предоставили такую воз-
можность и бросили философам вызов: понять, как может разви-
ваться смысл; как жизнь, оперируя информацией и кодируя ее, пе-
реходит к интерпретации, вере и знанию.
И все же кому может понравиться теория, которая прида-
ет ложным утверждениям такое же значение, что и истинным
(по крайней мере в терминах количества информации)? Это ме-
ханистический подход. Выхолощенная идея. Современный песси-
мист мог бы назвать ее предвестником бездушного интернета в его
худших проявлениях. “Чем больше мы “общаемся” тем способом,
каким мы это делаем, тем больше становится создаваемый нами
мир ада”, — писал французский философ и историк кибернетики
Жан Пьер Дюпюи.
Я рассматриваю “ад” в его теологическом смысле, т. е. как место,
лишенное добродетели — незаслуженной, необязательной, удив-
ляющей, непредвиденной. Здесь действует парадокс: наш мир, о ко-
тором, как мы считаем, мы получаем все больше и больше инфор-
мации, оказывается все более и более лишенным смысла.
Этот мир ада, лишенный добродетели, — он уже здесь? Мир пре-
сыщения информацией и чревоугодия; кривых зеркал и поддель-
ных текстов; непристойных блогов, анонимной нетерпимости, ша-
блонных сообщений. Мир непрерывной болтовни. Мир лжи, вы-
тесняющей истину.
Это не тот мир, который вижу я.
Когда-то считалось, что в совершенном языке должно быть
однозначное соответствие слова и его значения. Совершенный
язык исключает многозначность, неточность, путаницу. Наш зем-
ной Вавилон — это результат потери языка Рая, это наша катастро-
444
эпилог
фа и наказание. “Я думаю, — пишет романист Декстер Палмер, —
что в лежащем на столе в кабинете Господа словаре каждому слову
соответствует свое однозначное определение, так что в указани-
ях, которые Господь дает своим ангелам, омонимия полностью от-
сутствует. Каждое предложение, которое Он говорит или пишет,
должно быть совершенно, следовательно, является чудом”. Но те-
перь мы знаем: с Богом или без, совершенного языка не существует.
Лейбниц полагал, что, раз уж естественный язык не спосо-
бен быть совершенным, можно прибегнуть к исчислению, ведь
это язык строго назначенных символов. “Все мысли человека мо-
гут быть полностью разложены на небольшое количество мыс-
лей, которые мы назовем примитивными”. Их можно объединять
и разбирать механически. “Как только это будет сделано, кто бы
ни пользовался такими символами, он либо никогда не сделает
ошибок, либо по крайней мере будет иметь возможность немед-
ленно обнаружить их, воспользовавшись простейшим тестом”. Ге-
дель похоронил эту мечту.
Идея совершенства противоречит природе языка. Теория ин-
формации помогла нам это понять или, если вы пессимист, застави-
ла нас понять это. “Нас заставили увидеть, — продолжает Палмер, —
что слова сами по себе — это не идеи, а просто последовательность
чернильных отметок; мы теперь знаем, что звуки не более чем вол-
ны. В наше время, когда нет Автора, который бы смотрел на нас
с небес, язык не является чем-то четко определенным, это набор
бесконечных возможностей; без утешающей иллюзии осмысленно-
го порядка у нас нет иного выбора, кроме как со страхом смотреть
в лицо бессмысленного беспорядка; без ощущения, что смысл мо-
жет быть строго определенным, мы тонем в возможных значени-
ях слов.
Бесконечные возможности — это благо, а не зло. Надо бросать вы-
зов бессмысленному беспорядку, а не бояться его. Язык переносит
бескрайний мир объектов, ощущений и их комбинаций в конеч-
ное пространство. Мир меняется, все время смешивая постоянное
с мимолетным, и мы знаем, что язык меняется не от одного издания
“Оксфордского словаря английского языка” до следующего, а от од-
445
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
ного момента к соседнему, от одного человека к другому. У каждого
свой язык. Эта мысль может и ошеломлять, и придавать храбрости.
Чем дальше, тем больше в Сети языка — он там сохранен, не-
смотря на то что все время меняется; он доступен в том числе и для
поиска. Аналогично, человеческие знания просачиваются в Сеть,
в облако. Веб-сайты, блоги, поисковые системы и энциклопедии,
исследователи современных мифов и их разоблачители. Везде ис-
тина находится рядом с ложью. Никакая форма цифровой комму-
никации не подверглась такому количеству насмешек, как “Твит-
тер” — банальность в термоусадочной упаковке, насаждающая
пошлость своим ограничением в 140 знаков. Карикатурист Гарри
Трюдо посылал сатирические твиты под маской журналиста, у ко-
торого не хватало времени на то, чтобы узнать хоть какие-нибудь
новости, потому что он все время что-то твитил. С другой сторо-
ны, благодаря твитам очевидцев была получена срочная информа-
ция о террористической атаке в Мумбаи в 2008 году, твиты из Те-
герана позволили миру увидеть протесты в Иране в 2009 году.
Не стоит забывать, что афоризм — литературная форма с благо-
родной историей. Я сам практически никогда не пишу в “Твитте-
ре”, но у этой странной среды, необычного и ограниченного ми-
кроблога, есть свое применение и даже обаяние. В 2010 году Мар-
гарет Этвуд, мастер более длинных форм, сказала, что ее “засосало
в твиттеросферу, как Алису в кроличью нору”.
Это сигналы вроде телеграфных? Или поэзия дзен? Или шут-
ки, нацарапанные на стене в уборной? Или вырезанное на дереве
“Джон любит Мэри”? Давайте признаем, что это общение, а обще-
ние — это то, чем увлечены люди.
Библиотека Конгресса, основанная для того, чтобы собрать все
книги, решила сохранять и все твиты. Возможно, недостойные и,
вероятно, повторяющиеся, но заранее никто не знает. Это челове-
ческое общение.
И Сеть научилась некоторым вещам, которые никогда никому
не были известны. Она идентифицирует музыкальный компакт-
диск по длине отдельных треков, сравнивая их с обширной базой
данных, которая годами формировалась за счет дополнений, общих
446
эпилог
взносов миллионов анонимных пользователей. В 2007 году благо-
даря этой базе данных открылось нечто, что ускользнуло от извест-
ных критиков и слушателей: более сотни записей, выпущенных по-
койной английской пианисткой Джойс Хатто, — музыка Шопена,
Бетховена, Моцарта, Листа и других — были на самом деле укра-
денными выступлениями других пианистов.
МТИ учредил Центр коллективного разума, целью которого
является поиск групповой мудрости и ее “использование”. Все еще
непонятно, насколько можно доверять мудрости толпы (заголо-
вок книги Джеймса Суровецки, выпущенной в 2004 году, не пу-
тать с безумством толпы, описанным в 1841 году Чарльзом Маке-
ем, который объявил, что люди “сходят с ума толпами, а приходят
в себя медленно и поодиночке”). Толпы очень быстро превращают-
ся в группы с веками известным поведением — маниями, мыльны-
ми пузырями, линчующими бандами, флешмобами, крестовыми
походами, массовой истерией, стадным сознанием, повторением
друг за другом, групповым мышлением; все эти явления, возмож-
но, усугубляются из-за появления сетей, и изучают их уже в разделе
информационных каскадов. У коллективной оценки есть привле-
кательные возможности; коллективный самообман и коллективное
зло уже оставили катастрофические следы. Но знание в сети от-
личается от группового принятия решений, основанного на копи-
ровании и бездумном повторении. Кажется, оно развивается при-
ращением; в нем могут стать значимыми исключения и отдельные
особенности; задача в том, чтобы распознать его и получить к нему
доступ. В 2008 году Google создал систему раннего предупреждения
регионального распространения гриппа, основанную всего лишь
на частоте веб-поиска по слову “грипп”. Система обнаруживала
вспышки болезни на неделю раньше, чем Центры контроля и пред-
отвращения заболеваний. Это был традиционно гугловский под-
ход к решению классических трудных проблем искусственного ин-
теллекта — машинный перевод и распознавание голоса, но не с по-
мощью людей-экспертов или словарей и лингвистов, а с помощью
собственной прожорливой системы сбора данных из триллионов
слов на более чем трех сотнях языков. Если на то пошло, исходная
стратегия интернет-поиска Google основывалась на привлечении
коллективного знания.
447
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Вот как выглядело положение дел в области поиска в 1994 году.
Николсон Бейкер, в последующее десятилетие фанат “Википедии”,
а тогда — самый страстный сторонник сохранения карточных ка-
талогов, старых газет и других явно устаревших бумаг, сидел у ком-
пьютерного терминала в библиотеке Калифорнийского универси-
тета и печатал: BROWSE SU [BJECT] CENSORSHIP1. Он полу-
чил сообщение об ошибке:
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПОИСК: ваш поиск состоит из одного или
более широко употребимых слов, и вывод будет состоять из более
чем 8оо заголовков, что требует большого времени выполнения.
И как стук в дверь:
Длительный поиск замедляет систему для всех работающих в ката-
логе и часто не дает полезных результатов. Пожалуйста, восполь-
зуйтесь разделом HELP или обратитесь за помощью к библиоте-
карю.
Все очень типично. Бейкер в совершенстве знал синтаксис, необ-
ходимый для Булева поиска со связками “и”, “или” и “не”, но до-
бился немногого. Он цитировал исследования об усталости от эк-
рана, неудачного поиска и информационной перегрузки и восхи-
щался теорией, что электронные каталоги “фактически проводили
программу “выработки отвращения у оператора” к онлайн-поиску.
А вот каким было положение дел два года спустя, в 1996 году.
Объем трафика в интернете рос каждый год, от 20 терабайт в месяц
во всем мире в 1994-м до 200 терабайт в месяц в 1995-м и 2 петабайт
в 1996-м. Программисты исследовательской лаборатории Digital
Equipment Corporation в Пало-Альто, Калифорния, только что от-
крыли для публики новый тип поисковой системы под названием
AltaVista, она постоянно строила и проверяла индекс всех страниц,
которые могла отыскать в интернете, на десятках миллионов сай-
тов. Поиск по фразе “всеми признанная истина” и имени Дарси
выдал четыре тысячи соответствий. Среди них:
1 Поиск по теме: цензура.
448
эпилог
• полный, хотя, может быть, не вполне точный текст “Гордости и пред-
убеждения” в нескольких версиях, сохраненный на компьютерах
в Японии, Швеции и еще где-то, который можно было скачать бес-
платно или, в одном случае, за 2,25 доллара;
• более юо ответов на вопрос “Почему цыпленок перешел дорогу?”,
в том числе “Джейн Остин: всеми признанная истина состоит
в том, что цыпленок, которому сопутствует удача и которому по-
везло с хорошей дорогой, должен захотеть ее перейти”;
• заявление о цели Princeton Pacific Asia Review 1: “Стратегическая важ-
ность Тихоокеанского региона Азии есть всеми признанная исти-
на...”;
• статья о барбекю от Британского вегетарианского общества: “Всеми
признанной истиной среди мясоедов является... ”;
• домашняя страница Кевина Дарси, Ирландия. Домашняя страница
Дарси Кремера, штат Висконсин. Домашняя страница и фотогра-
фии Дарси Моурса. Антропометрические данные Тима Дарси, ав-
стралийского футболиста. Резюме Дарси Хьюджес, четырнадцати-
летней помощницы по уходу за садом и няни в Британской Колум-
бии.
Дополнительная информация не пугала составителей этого по-
стоянно развивающегося указателя. Они очень четко понимали
разницу между построением каталога библиотеки, цель которого
фиксирована, известна и конечна, и поиском в безграничном ин-
формационном мире. Они думали, что совершают нечто великое.
“Мы располагаем словарем сегодняшнего мирового языка”, — за-
явил управляющий проектом Аллан Дженнингс.
Затем появился Google, В1998 году Брин и Пейдж перевели свою
вставшую на ноги компанию из общежития в Стэнфорде в офис. Их
идея состояла в том, что киберпространство обладает формой зна-
ния о самом себе, оно заложено в ссылках с одной страницы на дру-
гую, и поисковая система может использовать это знание. Как и дру-
гие ученые до них, они представили интернет как граф с узлами
и дугами: к началу 1998 года 150 млн узлов соединяло более 2 млрд
1 Организация при Принстонском университете, целью которой является ин-
формирование о положении дел в Тихоокеанском регионе.
449
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
дуг. Они рассматривали каждую ссылку как свидетельство значимо-
сти — как рекомендацию. И понимали, что не все ссылки равно-
ценны. Они придумали рекурсивный способ определения ценно-
сти: ранг страницы зависит от ценности входящих ссылок; ценность
ссылки зависит от ранга содержащей ее страницы. Они не только
придумали этот способ, но и опубликовали его. Позволив интерне-
ту узнать, как работает Google^ они не подорвали способность своей
поисковой системы пользоваться знаниями интернета.
В то же время развитие этой сети поощряло появление новой
теоретической работы о топологии взаимных связей в очень боль-
ших системах. У науки о сетях есть множество истоков, и разви-
валась она по многим путям, от чисто математического до социо-
логического, но современную форму приняла летом 1998 года, ко-
гда в журнале Nature было опубликовано письмо Дункана Уоттса
и Стивена Строгача. В письме было три вещи, которые, собран-
ные вместе, представляли собой сенсацию: крылатая фраза, хоро-
ший результат и удивительно широкий набор приложений. Од-
ним из приложений было “Все люди мира”, что сильно помогло
росту популярности идеи. А вот крылатая фраза была — “Мир те-
сен”. Когда два незнакомца обнаруживают, что у них есть общий
друг (неожиданная связь), они могут сказать: “Мир тесен”, и имен-
но в этом смысле Уоттс и Стогач говорили о сетях “тесного мира”.
Определяющим качеством сетей “тесного мира” является то,
что прекрасно подметил Джон Гуар в своей пьесе 1990 года “Шесть
степеней отчуждения”. Каноническое объяснение таково:
Я где-то читал, что все люди на этой планете отделены друг от друга
всего шестью другими людьми. Шесть степеней отчуждения1. Меж-
ду нами и всеми людьми на этой планете. Президентом Соединен-
ных Штатов. Гондольером в Венеции. Имена подставьте сами...
Эту идею можно проследить до 1967 года — до эксперимента о со-
циальном взаимодействии, проведенного психологом из Гар-
варда Стэнли Милграмом, и даже дальше, до короткого рассказа
1929 года венгерского писателя Фридьеша Каринти, озаглавленно-
1 В России это называется правилом шести рукопожатий.
450
эпилог
го Lancszemek — “Звенья”. Уоттс и Строгач приняли идею всерьез:
она казалась правдоподобной и была контринтуитивной, потому
что в тех видах сетей, которые они изучали, узлы обычно стреми-
лись объединяться в группы. С ограниченным доступом.
Вы можете знать множество людей, но они, как правило, ваши
соседи, хотя бы в социальном пространстве, и они чаще всего зна-
ют в основном тех же самых людей. В реальном мире выделение кла-
стеров встречается в сложных сетях повсеместно: нейроны в моз-
ге, эпидемии инфекционных заболеваний, энергетические системы,
разломы и каналы в нефтеносной породе. Само по себе объединение
в группы означает распад: нефть не течет, эпидемии угасают. Незна-
комцы, которые находятся далеко друг от друга, остаются чужими.
Но некоторые узлы могут иметь отдаленные связи, а неко-
торые — исключительную степень связанности. Уоттс и Строгач
в своих математических моделях обнаружили, что нужно на удив-
ление мало таких исключений, всего несколько дальних связей даже
в сильно кластеризованной сети, чтобы свести среднюю разобщен-
ность почти к нулю и создать сеть “тесного мира”. Одним из их
примеров была глобальная эпидемия. “Инфекционные заболева-
ния распространяются намного быстрее и легче в “тесном мире”;
настораживающая и менее очевидная мысль заключается в том, как
мало необходимо коротких путей, чтобы сделать мир тесным”. Мо-
жет хватить нескольких сексуально активных стюардесс.
В киберпространстве почти все находится в тени. Почти каж-
дая вещь связана с другой, и связь основана на сравнительно не-
большом числе узлов, особенно хорошо соединенных или имею-
щих особенно высокий ранг доверия. Однако доказательство того,
что каждый узел близок к каждому другому узлу, не дает способа
найти путь между ними. Если гондольер в Венеции не сможет най-
ти путь к президенту США, математическое существование их свя-
зи может оказаться слабым утешением. Джон Гуар тоже понимал
это, и следующий фрагмент его объяснения из “Шести степеней
отчуждения” цитируют реже:
Я думаю, что а) очень приятно, что мы все так близки, и б) то, что
мы так близки, — это китайская пытка водой. Потому что, чтобы
появилась связь, придется найти шесть правильных людей.
451
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
И не факт, что для этого существует алгоритм.
Сеть имеет структуру, и эта структура основана на парадок-
се. Все близко и одновременно все далеко. Вот почему в киберпро-
странстве человек может ощущать себя не только тесно окружен-
ным другими людьми, но и одиноким. Вы можете бросить камень
в колодец и никогда не услышать всплеска воды.
Нет никакого deus ex machina, который бы был наготове, и нет
человека за кулисами. У нас нет демона Максвелла, чтобы помочь
фильтровать и искать. “Понимаешь, — писал Станислав Лем, —
надо добиться, чтобы демон экстрагировал из атомных танцев
только истинную информацию, то есть математические теоремы
и журналы мод, формулы и исторические хроники, рецепты ионо-
фореза и способы штопки и стирки асбестовых панцирей, и стихи,
и научные советы, и альманахи, и календари, и секретные сведения
о событиях давних времен, и все то, что писали и пишут газеты
во всем Космосе, и телефонные книги, еще не напечатанные”Как
всегда, дает нам информацию именно выбор. Чтобы отобрать то,
что нужно, необходимо работать, а для того, чтобы забыть, нужно
работать еще больше. Это проклятие безграничного знания: ответ
на любой вопрос может быть найден через Google, “Википедию”,
IMDb, YouTube, Epicurious.com, Национальную базу данных ДНК
или через любого из их естественных потомков и последователей.
И тем не менее мы все еще задаем себе вопрос: а что же мы знаем?
Теперь мы все — постоянные посетители Вавилонской биб-
лиотеки, и мы же ее библиотекари. Мы переходим от восторга
к смятению и обратно. “Когда было провозглашено, что Библиоте-
ка объемлет все книги, — говорит нам Борхес, — первым ощуще-
нием была безудержная радость. Каждый чувствовал себя владель-
цем тайного и нетронутого сокровища. Не было проблемы, личной
или мировой, для которой не нашлось бы убедительного решения
в каком-либо из шестигранников. Вселенная обрела смысл 1 2“. По-
том раздаются горестные причитания. Какой толк от драгоценных
книг, которые нельзя найти? Какой прок от полного знания в его
неподвижном совершенстве? Борхес волнуется: “Уверенность, что
1 Пер. А. Громова.
2 Здесь и далее — пер. В. Кулагиной-Ярцевой.
452
эпилог
все, что уже написано, уничтожает нас или обращает в призраки”.
На это Джон Донн давным-давно ответил: “Тот, кто хочет напеча-
тать книгу, должен еще больше хотеть стать книгой”.
Библиотека останется, она есть вселенная. Что касается нас,
еще не было написано всего и мы не превращаемся в призраков.
Мы идем по коридорам, обшаривая полки и переставляя на них
книги в поисках смысла среди какофонии и бессвязности, читая
историю прошлого и будущего, собирая наши мысли и мысли дру-
гих, и время от времени смотрим в зеркала, в которых мы можем
узнать людей — тех, кого породила информация.
БЛАГОДАРНОСТИ
Я благодарен Чарльзу X. Беннету, Грегори Дж. Хайтину, Нейлу
Дж. А. Слоану, Сюзанне Кайлер, Бетти Шеннон, Норме Барц-
ман, Джону Симпсону, Питеру Гиллеверу, Джимми Уэлсу, Джозефу
Штраусу, Крейгу Таунсенду, Жанне Левин, Катерине Бутон, Дэну
Менакеру, Эстер Шор, Себхан Робертс, Дугласу Хофстадтеру, Мар-
тину Селигману, Кристоферу Фуксу, покойному Джону Арчибаль-
ду Уилеру, Кэрол Хатчинс и Бетти Александре Туле, а также моему
агенту, Майклу Карлайлу, и, как всегда, моему редактору Дэну Франку
за его выдержку и светлый ум. Перед всеми этими людьми я в долгу.
ПРИМЕЧАНИЯ
Пролог
11 Мой разум кипит: Robert Price, A Conversation with Claude
Shannon: One Man's Approach to Problem Solving, IEEE Communica-
tions Magazine 22 (1984): 126.
12 Транзистор... бит: комитет взял транзистор у Джона Р. Пирса,
а Шеннон взял бит у Джона У. Таки.
12 Предполагалось, что Шеннон работал...: интервью Мэри Элиза-
бет Шеннон, 25 июля 2006 года
13 К1948 году...: Statisical Abstract of the United States 1950. Точнее, 3186 ра-
дио- и телевещательных станций, 15 тыс. газет и периодических изда-
ний, 500 млн книг и брошюр и 40 млрд почтовых отправлений.
14 ...уроженца Миннесоты Джорджа Кэмпбелла: George A. Camp-
bell, On Loaded Lines in Telephonic Transmission, Philosophical Maga-
zine s (1903): ЗП-
14 Теории позволяют сознанию “прыгнуть выше головы”: Her-
mann Weyl, The Current Epistemological Situation in Mathematics
(1925), цит. no John L. Bell, Hermann Weyl on Intuition and the
Continuum, Philosophia Mathematica 8, no. 3 (2000): 261.
14 Шеннон хочет ввести в Мозг не только данные,..: Andrew
Hodges, Alan Turing: The Enigma. London: Vintage, 1992), 251.
15 Урывками я работал...: письмо Шеннона Вэнивару Бушу от 16 фев-
раля 1939 года, см. Claude Elwood Shannon, Collected Papers,
ed. N.J. A. Sloane и Aaron D. Wyner. New York: IEEE Press, 1993.
P 455-
455
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
15
16
17
17
18
19
19
19
19
20
20
21
21
22
... используют элегантное слово: Thomas Elyot, The Boke Named
The Govemour (1531), III: xxiv.
И вновь появляется собиратель... Marshall Me Lu han, Under-
standing Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill, 1965.
P. 302.
Коренная сущность каждого живого существа...: Richard
Dawkins, The Blind Watchmaker. New York: Norton, 1986. P 112.
Информационный круговорот стал составной частью жизни...:
Werner R. Loewenstein, The Touchstone of Life: Molecular In-
formation, Cell Communication, and the Foundations of Life. New York:
Oxford University Press, 1999. P. xvi.
...каждую частицу, каждое силовое поле...: John Archibald
Wheeler, It from Bit, в At Home in the Universe. New York: Ameri-
can Institute of Physics, 1994. P 296.
...во вселенной, сколько ни считай...: John Archibald
Wheeler, The Search for Links, в Anthony J. G. Hey, ed., Feynman
and Computation. Boulder, Colo.: Westview Press, 2002. P 321.
...не более 10120...: Seth Lloyd, Computational Capacity of the
Universe, Physical Review Letters 88. 2002. №23.
Завтра... нам придется научиться понимать...: John Archibald
Wheeler, It from Bit. P 298.
Трудно представить мир до Шеннона ...: John R. Pierce, The
Early Days of Information Theory, IEEE Transactions on Information
Theory 19.1973. №1: 4.
Премудрость чисел, из наук главнейшую: Эсхил. Прометей при-
кованный. Трагедии. М.: Искусство, 1978. Пер. С. Апта.
Изобретение печати, пусть и гениально...: Thomas Hobbes, Le-
viathan. London: Andrew Crooke, 1660. Ch. 4.
Говорящие барабаны
Над Черным континентом звучат...: Irma Wassall, Black Drums,
Phylon Quarterly 4 (1943): 38.
Заставь свои стопы идти назад...: Walter J. Ong, Interfaces of the
Word. Ithaca, N. Y: Cornell University Press, 1977. P 105.
В 1730 году Фрэнсис Мур проплыл...: Francis Moore, Travels
into the Inland arts of Africa. London: ]. Knox, 1767.
456
ПРИМЕЧАНИЯ
22
23
24
24
25
26
26
27
28
29
29
30
30
Глазго неожиданно стал совершенно отстраненным...: William
Allen, Thomas R. H. Thompson, A Narrative of the Expedition
to the River Niger in 1841. Vol. 2. London: Richard Bentley, 1848. P 393.
А миссионер Роджер T. Кларк...: Roger Т. Clarke, The Drum
Language of the Tumba People, American Journal of Sociology 40. 1934.
№1. P 34-48.
...часто появлялся раньше гонцов...: G. Suetonius Tranquil-
lus, The Lives of the Caesars, nep. John C. Rolfe. Cambridge, Mass,:
Harvard University Press, 1998. P 87.
Какой же вестник мчался так стремительно?: Эсхил. Агамемнон.
Трагедии. М.: Искусство, 1978. Пер. С. Апта, строфа 290.
Немецкий историк Рихард Хенниг...: Gerard J. Holzmann,
Bjorn Pehrson, The Early History of Data Networks. Washington,
D. C: IEEE Computer Society, 1995. P 17.
...распространилась по миру...: Thomas Browne, Pseudoxia Epi-
demica: Or, Enquiries Into Very Many Received Tenents, and Commonly
Presumed Truths, 3rd ed. London: Nath. Ekins, 1658. P 59.
В Италии один человек попытался продать Галилею...: Galileo
Galilei, Dialogue Concemingthe Two Chief World Systems: Ptolema-
ic and Copernican, nep. Stillman Drake. Berkeley, Calif: University of
California Press, 1967. P 95.
... система букв...: Samuel E B. Morse: His Letters and Journals, vol. 2,
ed. Edward Lind Morse. Boston: Houghton Mifflin, 1914. P 12.
Словарь состоит из слов...: U. S. Patent 1647. 1840. 20 июня. P 6.
...когда цепь замкнута...: Сэмюел Морзе в письме Леонарду Д. Гей-
лу, из Samuel Е В. Morse: His Letters and Journals. Vol. 2. P 64.
Дежурные у аппарата...: The Atlantic Telegraph, The New York Times.
1858. 7 августа.
... проверили весь алфавит...: Морзе утверждал, что это был он,
а их сторонники расходятся во мнениях. См.: Samuel Е В. Morse:
His Letters and Journals. Vol. 2, 68; George P. Oslin, The Story of
Telecommunications. Macon, Ga.: Mercer University Press, 1992. P 24;
Franklin Leonard Pope, The American Inventors of the Tele-
graph, Century Illustrated Magazine. 1888. Апрель. P 934; Kenneth
Silverman, Lightning Man: The Accursed Life of Samuel E B. Morse.
New York: Knopf, 2003. P 167.
Гораздо позже ученые, занимающиеся исследованиями в области
теории информации...: John R. Pierce, Aw Introduction to Infor-
*57
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
3°
31
32
33
34
34
35
35
3*
Зб
37
37
38
mation Theory: Symbols, Signals, and Noise, 2nd ed. New York: Dover,
1980. P 25.
Всего несколько дней назад я прочел в Times...*. Robert Suther-
land Rattray, The Drum Language of West Africa: Part II, Journal
of the Royal African Society 22. 1923. №88. P 302.
На самом деле он совсем не европеец: John F. Carrington, La
Voix des tambours: comment comprendre le langage tambourine dAfrique.
Kinshasa: Protestant d'Edition et de Diffusion, 1974. P 66, цит. no: Wal-
ter J. Ong, Interfaces of the Wor. P 95.
Я, должно быть, очень часто говорил глупости: John F. Car-
rington, The Talking Drums of Africa. London: Carey Kingsgate,
1949- К 19-
Даже в таком бедном словаре, как словарь миссионеров..: там же. Р 33.
Среди людей, незнакомых с письменностью...: Robert Suther-
land Rattray, The Drum Language of West Africa: Part I, Journal of
the Royal African Society 22.1983. №87. P 235.
Для яунде слон...: Theodore Stern, Drum and Whistle 'Languag-
es': An Analysis of Speech Surrogates, American Anthropologist 59 (1957):
489-
Это заклинание способно спасти вашу душу: James Merrill,
Eight Bits в The Inner Room. New York: Knopf 1988. P 48.
Статья инженера-телефониста...: Ralp. V. L. Hardey, Transmis-
sion of information, Bell System Technical Journal (1928): 535-63.
Он видел, что молодежь Локеле...: John F. Carrington, The
Talking Drums of Africa. P. 83.
В 1954 году один из американцев обнаружил...: Israel Shenker,
Boomlay, Time. 1954. 22 ноября.
Постоянство слова
Одиссей заплакал...: Ward Just, An Unfinished Season. New York:
Houghton Miffiin, 2004. P 153.
Попробуйте представить...: Walter J. Ong, Orality, Literacy: The
Technologizing of the Word. London: Methuen, 1982. P 31.
...еще одним известным электронно-католическим пророком...:
Frank Kermode, Free Fall, New York Review of Books 10. №5.
1968.14 марта.
458
ПРИМЕЧАНИЯ
38
39
39
40
41
4i
44
45
45
46
46
46
47
48
48
48
...думать о лошадях как об автомобилях без колес...: Wal-
ter J. Ong, Orality and Literacy. P. 12.
Язык на самом деле так же связан..: Jonathan Miller, Marshall
McLuhan. New York: Viking, 1971. P 100.
В души научившихся им они вселят забывчивость...: Платон.
Федр. М., Прогресс, 1989. Пер. А. Н. Егунова.
...две тысячи лет культуры манускриптов...: Marshall McLu-
HAN, Culture Without Literacy в Eric McLuhan, Frank Zingrone, eds.,
Essential McLuhan. New York: Basic Books, 1996. P 305.
Таинственному отражению голоса...: Pliny the Elder, The
Historic of the World. Vol. 2. trans. Philemon Holland. London, 1601.
P. 581.
Написанный символ простирается до бесконечности...: Samuel
Butler, Essays on Life, Art, and Science. Port Washington, N. Y: Ken-
nikat Press, 1970. P 198.
Для истории человечества это было сродни грому...: The Alphabeti-
zation of Homer в Eric Alfred Havelock, Jackson P. Her-
sh bell, Communication Arts in the Ancient World. New York: Hast-
ings House, 1978. P 3.
...до сего дня...: Аристотель. Поэтика. М.: Лабиринт, 2011.
Пер. В. Аппельрота.
Хавелок называл это как культурным оружием...: Eric A. Have-
lock, Preface to Plato. Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1963. P. 300-301.
Начало — то, что само не обязательно следует из чего-то еще...:
Аристотель. Поэтика.
Большинство скорее примет...: Republic, 6.493с. Цит. по: Eric А.
Havelock, Preface to Plato. P 282.
...теряют себя и блуждают...”: Republic, 6.484b.
...впервые в истории...: A. Havelock, Preface to Plato. P 282.
Если нечеловек может быть лошадью...: Prior Analytics, пер. A. J. Jen-
kinson, 1:3.
Мы знаем, что формальная логика...: Walter J. Ong, Orality and
Literacy. P. 49.
... полевые исследования русского психолога Лурии А. Р....: Культур-
ные различия и интеллектуальная деятельность из: Лурия А. Р. Эта-
пы пройденного пути: научная автобиография. М.: изд-во Моск,
ун-та, 1982. С. 47-69.
459
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
49
49
50
51
52
53
53
54
54
55
56
57
57
58
59
В принципе крестьянин был прав...: Walter J. Ong, Orality and
Literacy. P 53.
В младенческие годы логики...: Benjamin Jowett, introduction
to Plato’s Theaetetus. Teddington, U. K.: Echo Library, 2006. P 7.
Может ли белая лошадь не быть лошадью...: Gonsung Long,
When a White Horse Is Not a Horse, nep. by A.C. Graham в PJ. Ivan-
hoe et al., Readings in Classical Chinese Philosophy, 2nd ed. Indianopolis,
Ind.: Hackett Publishing, 2005. R 363-366. А также: A.C. Graham,
Studies in Chinese Philosophy and Philosophical Literature, SUNY Se-
ries in Chinese Philosophy and Culture. Albany: State University of New
York Press, 1990. P 178.
Письмо, словно театральный занавес...: Julian Jaynes, The Ori-
gin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Boston:
Houghton Mifflin, 1977. R 177-
Ассирийцам, халдеям и египтянам...: Thomas Sprat, The History
of the Royal Society of London, for the Improving of Natural Knowledge,
3rd ed. London'. 1722. P 5.
Этот процесс захвата и влияния...: Julian Jaynes, The Origin of
Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. P 198.
Для записи больших чисел...: Donald Е. Knuth, Ancient Baby-
lonian Algorithms, Communications of the Association for Computing
Machinery 15.1972. №7. P 671-677.
Высказывались предположения...: Asger Aaboe, Episodes from
the Early History of Mathematics. New York: L. W. Singer, 1963. P 5.
Таким образом, наша задача...: Отто Neugebauer, The Exact
Sciences in Antiquity, 2nd ed. Providence, R. L: Brown University Press,
v)S7- R 3°, 40-46.
Цистерна...: Donald E. Knuth, Ancient Babylonian Algorithms.
P 672.
В основе своей...: John of Salisbury, Metalogicon, L13,
пер. M.T Clanchy, From Memory to Written Record, England, 1066-
1307. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979. P 202.
О! Все вы...: там же.
В этом, Федр, дурная особенность письменности...: Платон.
Федр. М.: Прогресс, 1989. Пер. А. Егунова.
В нашем веке...: Marshall М с Lu han, Media and Cultural
Change, цит. no: Essential McLuhan. P 92.
Чем больше число...: Jonathan Miller, MarshallMcLuhan. P 3.
460
ПРИМЕЧАНИЯ
59 Акустическое пространство органично...: интервью Playboy, март
1969 года, в Essential McLuhan. Р 240.
6о Люди жили за счет общего опыта...: Thomas Hobbes, Leviathan,
or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth, Ecclesiasticall, and
CivilL 1651; repn, London: George Routledge and Sons, 1886. P. 299.
60 Большинство грамотных людей...: Walter J. Ong, This Side of
Oral Culture and of Print, Lincoln Lecture (1973). P 2.
Очень деморализует...: Walter J. Ong, Orality and Literacy. P 14.
Два словаря
6i В такие сложные...: Thomas Sprat, The History of the Royal Society of
London, for the Improving of Natural Knowledge, 3rd ed. London: 1722. P 42.
61 ... в 1604 году. • •: Robert Caw drey, A Table Alphabeticall. London:
Edmund Weaver, 1604. Факсимильное издание находится в Бодли-
анской библиотеке, Robert A. Peters, ed. (Gainesville, Fla.: Scholars'
Facsimiles & Reprints, 1966, на сайте библиотеки Университета То-
ронто и очень хорошо переиздана под редакцией Джона Симпсона,
The First English Dictionary, 1604: Robert Cawdrey's A Table Alphabeti-
call. Oxford: Bodleian Library, 2007.
63 В одной брошюре...: Robert Greene, A Notable Discovery
of Coosnage (1591; repr., Gloucester, U. K.: Dodo Press, 2008); Al-
bert C. Baugh, A History of the English Language, 2nd ed. New
York: Appleton-Century-Crofts, 1957. P 252.
64 ... это была бы вещь достойная...: Richard Mulcaster, The First
Part of the Elementarie Which Entreateth Chefelie of the Right Writing of
Our English Tung. London: Thomas Vautroullier, 1582.
65 Некоторые так старательно ищут...: John Simpson, ed., The First
English Dictionary P 41.
67 Так, он скопировал...: GErt ru DE E. Noyes, The First English Dic-
tionary, Cawdrey's Table Alphabeticall, Modem Language Notes 58.1943.
№8. P600.
67 Больше знания будет принесено...: Edmund Сооте, The English
Schoole-maister. London: Ralp. Jackson & Robert Dexter, 1596. P 2.
68 Например, я намерен обсудить...: Lloyd W. Daly, Contributions
to a History of Alphabeticization in Antiquity and the Middle Ages. Brus-
sels: Latomus, 1967. P 73.
461
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
69
69
7°
7°
72
73
74
75
76
77
77
8о
81
81
В 1613 году...: William Dunn Macray, Annals of the Bodleian
Library, Oxford, 1^8-1867. London: Rivingtons, 1868. P 39.
Позвольте заметить...: Gottfried Leibniz, Unvorgreifliche Ge-
danken, переведено и процитировано Werner Hiillen, English Dic-
tionaries 800-1700: The Topical Tradition. Oxford: Clarendon Press,
1999. P 16«.
...saywhat, неверно называемое определением...: Ralp. Lever,
The Arte of Reason. London: H. Bynneman, 1573.
Определение... есть не что иное...: John Locke, An Essay Con-
cerning Human Understanding. Ch. 3. Sect. 10.
До тех пор пока люди...: Галилей, письмо к Марку Велсеру, 4 мая
1612 года, trans. Stillman Drake, в Discoveries and Opinions of Galileo.
P 92.
Я не определяю время, пространство, место и движение...: Isaac
Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Пер. An-
drew Motte (Scholium), P. 6.
Имя его составителя Джона Баллокара...: Jonathon Green,
Chasing the Sun: Dictionary Makers and the Dictionaries They Made.
New York: Holt, 1996. P 181.
Нам действительно не нравится...: интервью, John Simpson, 13 сен-
тября 2006 года.
Словарь — вреднейшая придумка...: Амброз Бирс. Словарь Са-
таны. М.: Центрполиграф, 2003. Пер. С. Барсова.
В рассуждениях, касающихся...: Людвиг Витгенштейн. Фи-
лософские исследования М.: ACT; Астрель, 2011. Пер. Л. Добро-
сельского.
Словарь английского языка...: James А. Н. Murray, The Evolu-
tion of English Lexicography, Romanes Lecture (1900).
У.Х. Оден объявил...: Peter Gilliver et al., The Ring of Words:
Tolkien and the Oxford English Dictionary. Oxford: Oxford University
Press, 2006. P 82.
Энтони Берджесс жаловался...: Anthony Burgess, OED +
в But Do Blondes Prefer Gentlemen? Homage to Qwert Yuiop and Other
Writings. New York: McGraw-Hill, 1986. P. 139. Он снова жаловался
в более позднем эссе Ameringlish.
Каждая форма, в которой слово...: Writing the OED: Spellings, Ox-
ford English Dictionary, http://www.oed.com/about/writing/spellings.
html (по состоянию на 6 апреля 2007 года).
Дб2
ПРИМЕЧАНИЯ
87 Я буду называть это мондегрином..: The Death of Lady Mondegreen,
Harper's Magazine, 1954. Ноябрь. P. 48.
88 В мондегринах интересно...: Steven Pinker, The Language Instinct:
How the Mind Creates Language. New York: William Morrow, 1994. P 183.
Перевести силу мысли в движение колес
Оригинальные работы Чарльза Бэббиджа и в меньшей степени Ады
Лавлейс становятся доступными. В 1989 году было опубликовано
полное, в 11 томах, издание The Works of Charles Babbage под редакци-
ей Мартина Кэмпбелла-Келли, 1 тыс. долларов за экземпляр. В Сети
благодаря программе сканирования библиотечных книг Google
можно найти полные тексты работ Бэббиджа Passages from the Life
of a Philosopher (1864), On the Economy of Machinery and Manufactures
(1832) и The Ninth Bridgewater Treatise (1838). Пока (по состоянию
на гою год) там, к сожалению, нет тома его сына Babbage's Calculating
Engines: Being a Collection of Papers Relating to Them (1889). По мере
роста интереса в эпоху компьютеров многие полезные материалы
были выпущены сборниками, наиболее ценным являются Charles
Babbage and His Calculating Engines под редакцией Филипа и Эмили
Моррисон (1961) и Science and Reform: Selected Works of Charles Bab-
bage (1989) Энтони Хаймана. Другие рукописи были опубликова-
ны в The Mathematical Work of Charles Babbage (1978) Дж. M. Дабби.
Данные примечания ссылаются на один или несколько этих источ-
ников в зависимости от того, что представляется наиболее полез-
ным для читателя. Перевод и удивительные “примечания” к Sketch
of the Analytical Engine Л. Ф. Менабриа Ады Августы, графини Лав-
лейс, доступны в сети http://www.fourmilab.ch/babbage/sketch.html
благодаря Джону Волкеру, они также воспроизводятся в сборнике
Моррисонов. Что касается писем и статей Лавлейс, они находятся
в Британской библиотеке, Бодлианской библиотеке и в других ме-
стах, но многие были опубликованы в Ada: The Enchantress of Num-
bers (1992 и 1998) Бетти Александры Тул; везде, где это возможно,
я стараюсь ссылаться на опубликованные работы.
90 Свет, почти солнечный...: Charles Babbage, On the Economy
of Machinery and Manufactures (1832). P. 300; перепечатано в Science
463
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
90
90
9i
9i
91
92
92
93
94
94
95
and Reform: Selected Works of Charles Babbage, ed. Anthony Hyman.
Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 200.
... автор некролога в Times'. The Late Mr. Charles Babbage, F.R. S., The
Times (London). 1871. 23 октября. Война Бэббиджа с шарманщиками
и уличными музыкантами не была бесплодной; новый закон про-
тив уличной музыки, принятый в 1864 году, был известен как за-
кон Бэббиджа. См.: Stephanie Pain, Mr. Babbage and the Buskers,
New Scientist 179. 2003. №2408. P. 42.
Он мечтал добраться до сути вещей...: N. S. Dodge, Charles
Babbage, Smithsonian Annual Report of 1873, 162-97, перепечатка
в Annals of the History of Computing 22. Октябрь — декабрь 2000.
№4. P. 20.
...не “ручной труд, греблю, а интеллектуальное искусство хожде-
ния под парусом”...: Charles Babbage, Passages from the Life of
a Philosopher. London: Longman, Green, Longman, Roberts, & Green,
1864. P. 37.
Высокий джентльмен в углу...: там же. Р 385-386.
Те, кто располагает временем...: Charles Babbage, On the
Economy of Machinery and Manufactures, 4th ed. London: Charles
Knight, 1835. P. v.
Он рассчитал затраты на каждую операцию...: там же. Р. 146.
...за счет нации...: Henry Prevost Babbage, ed., Babbage's
Calculating Engines: Being a Collection of Papers Relating to Them;
Their History and Construction. London: E. & F.N. Spon, 1889. P 52.
Дважды меня спрашивали...: Charles Babbage, Passages from
the Life of a Philosopher. P. 67.
“Таблицу постоянных величин для класса млекопитающих”...:
Charles Babbage and His Calculating Engines: Selected Writings, ed. Philip
Morrison, Emily Morrison. New York: Dover Publications, 1961. P xxiii.
Гляди, вот восторженный арифметик...: elie de JONCOURT, De
Natura Et Praeclaro Usu Simplicissimae Speciei Numerorum Trigonali-
um. Hagae Comitum: Husson, 1762. Цит. no: Charles Babbage, Passages
from the Life of a Philosopher. P 54.
... астрологам, землемерам, измерителям гобеленов...: цит.
по Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of
Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Mod-
ern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. P 468.
464
ПРИМЕЧАНИЯ
96
96
97
97
97
99
99
99
99
юо
101
101
101
...тридцать четыре мужчины и одна женщина...: Mary С roar-
ken, Mary Edwards: Computing for a Living in 18th-Century Eng-
land, IEEE Annals of the History of Computing 25. 2003. № 4. P. 9-15;
и захватывающая детективная работа Mary Croarken, Tabu-
lating the Heavens: Computing the Nautical Almanac in 18th-Century
England, IEEE Annals of the History of Computing 25. 2003. №3.
P. 48-61.
Логарифмы — это числа, придуманные...: Henry Briggs, Loga-
rithmicall Arithmetike: Or Tables of Logarithmes for Absolute Numbers
from an Unite to 100 000. London: George Miller, 1631. P 1.
...устранить трудности...: John Napier, Dedicatorie в A Descrip-
tion of the Admirable Table of Logarithmes. Пер. Edward Wright. Lon-
don: Nicholas Okes, 1616. P. 3.
Непер, лорд Маркинстона...: Henry Briggs to James Ussher, 10 мар-
та 1615 года, процитировано Graham Jagger в: Martin Campbell-Kelly
et al., eds., The History of Mathematical Tables: From Sumer to Spread-
sheets. Oxford: Oxford University Press, 2003. P. 56.
...молчания в четверть часа...: William Lilly, Mr. William Lil-
ly's History of His Life and Times, from the Year 1602 to 1681. London:
Charles Baldwyn, 1715. P. 236.
Полярная звезда, Пояс Андромеды, Чрево кита: Henry Briggs,
Logarithmicall Arithmetike. P 52.
Стоит отметить, что использование юо фунтов...: там же. Р и.
Шотландский барон...: Ole I. Franksen, Introducing ‘Mr. Bab-
bage's Secret', APL Quote Quad 15.1984. №1. P. 14.
...большая часть вычислений...: Michael Williams, A History
of Computing Technology. Washington, D. C: IEEE Computer Society,
1997. P 105.
He подобает профессору...: Michael Mastlin, процитирован
в Ole I. Franksen, Introducing ‘Mr. Babbage's Secret'. P 14.
Эта леди принимала...: Charles Babbage, Passages from the Life
of a Philosopher. P. 17.
...установил на пьедестал...: Simon Schaffer, Babbage's Dancer
в Francis Spufford, Jenny Uglow, eds., Cultural Babbage: Technology,
Time and Invention. London: Faber and Faber, 1996. P. 58.
У специализируещемся на предмете книготорговца...: Charles
Babbage, Passages from the Life of a Philosopher. P 26-27.
465
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
1O1
102
102
102
102
ЮЗ
103
103
104
105
106
106
106
107
...покушение на память Ньютона...: W. W. Rouse Ball, A His-
tory of the Study of Mathematics at Cambridge. Cambridge: Cambridge
University Press, 1889. P. 117.
... точки Ньютона и d Лейбница...: Charles Babbage and His Calcu-
lating Engines. P. 23.
На новом языке...: там же. Р 31.
...новый инструмент...: С. Gerhardt, ed., Die Philosophischen
Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. Vol. 7. Berlin: Olms, 1890.
P. 12, процитирован Куртом Геделем в Russell's Mathematical Logic
(1944), в Kurt Godel: Collected Works. Vol. 2, ed. Solomon Feferman.
New York: Oxford University Press, 1986. P 140.
...очевидной невозможности упорядочить знаки...: Charles
Babbage, Passages from the Life of a Philosopher. P. 25.
Теперь нам придется вновь импортировать...: Charles Bab-
bage, Memoirs of the Analytical Society, preface (1813), в Anthony Hy-
man, ed., Science and Reform: Selected Works of Charles Babbage. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1989. P 15-16.
Брови многих экзаменаторов Кембриджа ползли вверх...: Ag-
nes М. Clerke, The Herschels and Modem Astronomy. New York:
Macmillan, 1895. P 144-
Каждый член клуба обязан сообщать свой адрес...: Charles Bab-
bage, Passages from the Life of a Philosopher. P 34.
Я думаю, что все эти таблицы...: там же. Р. 42.
Может ли инструмент, получив данные...: там же. Р 41.
...невыносимый труд и утомляющая монотонность...: Charles
Babbage, A Letter to Sir Humphry Davy on the Application of Ma-
chinery to the Purpose of Calculating and Printing Mathematical Tables.
London: J. Booth & Baldwain, Cradock & Joy, 1822. P 1.
Осмелюсь предположить..: Babbage to David Brewster, 6 ноября 1822,
в Martin Campbell-Kelly, ed., The Works of Charles Babbage. New York:
New York University Press, 1989. 2:43.
Путаница разрослась...: Dionysius Lardner, Babbage's Cal-
culating Engine, Edinburgh Review 59. №120 (1834), P 282 и Edward
Everett, The Uses of Astronomy, в Orations and Speeches on Various Oc-
casions. Boston: Little, Brown, 1870. P 447.
...250 наборами логарифмических таблиц...: Martin Camp-
bell-Kelly, Charles Babbage's Table of Logarithms (1827), Annals of
the History of Computing 10 (1988): 159-69.
466
ПРИМЕЧАНИЯ
ю8
109
in
in
in
112
112
113
114
116
116
117
118
118
Если папа не сможет ответить...: Babbage, Passages from the Life of
a Philosopher. P 52.
Если бы этого удалось добиться...: там же. Р 60-62.
Вряд ли будет преувеличением сказать..: Babbage to John Herschel,
10 августа 1814 года, цит. по: Anthony Hyman, Charles Bahbage: Pio-
neer of the Computer. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1982. P 31.
He без серьезных колебаний...: David Brewster to Charles Babbage,
3 июля 1821 года, процитировано в: J. M. Dubbey, The Mathematical
Work of Charles Babbage. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
P94.
...логарифмические таблицы, дешевые как, картофель..: Babbage
to John Herschel, 27 июня 1823 года, процитировано в: Anthony
Hyman, Charles Babbage. P 53.
...предложение привести арифметику в подчинение механиз-
мам...: Dionysius Lardner, Babbage's Calculating Engines. P. 264.
Вопрос задается инструменту...: Address of Presenting the Gold Medal
of the Astronomical Society to Charles Babbage в Charles Babbage and
His Calculating Engines. P 219.
Объяснение процесса “переноса” самим Ларднером...: Diony-
sius Lardner, Babbage's Calculating Engines. P 288-300.
В 1826 году он с гордостью представил...: Charles Babbage, On
a Method of Expressing by Signs the Action of Machinery, Philosophical
Transactions of the Royal Society of London 116.1826. №3.1826. P 250-265.
Вряд ли я должен указывать вам...: процитировано в Charles Bab-
bage and His Calculating Engines. P. xxiii. Моррисоны указывают,
что Теннисон, очевидно, заменил “минуту” на “момент” в издани-
ях после 1850 года.
... “параллельные столбцы” “за” и “против”...: Harriet Martin-
eau, Autobiography (1877), цит. по: Anthony Hyman, Charles
Babbage. P 129.
Если вы заговорите с ним (англичанином) о машине для чистки
картофеля...: цитата по Doron Swade, The Difference Engine:
Charles Babbage and the Quest to Build the First Computer. New York:
Viking, 2001. P 132.
Возможно, Бэббидж живет мечтами...: там же. Р 38.
За гинею он мог получить..: реклама в The Builder, 31 декабря
1842 года, http://www.victorianlondon.org/photography/adverts.htm
(по состоянию на 7 марта 2006 года).
467
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
118
118
119
119
119
119
120
120
120
121
122
122
123
123
123
124
124
125
125
126
126
127
127
... дитя любви...: Зарубежная литература XIX — начала XX века.
М.: ACT; Астрель, 2010.
Одарена ли девочка воображением...: Leslie A. Marchand, ed.,
Byron's Letters and Journals, vol. 9. London: John Murray, 1973-94. P. 47.
Завтра я начну работу над моими бумажными крыльями...: Ада
Байрон, з февраля 1828 года, в: Betty Alexandra Toole, Ada,
the Enchantress of Numbers: Prophet of the Computer Age. Mill Valley,
Calif: Strawberry Press, 1998. P 25.
Мисс Стамп хочет...: там же. Р 27.
Когда я слаба...: там же. Р 55.
... старую обезьяну...: там же. Р. 33.
В то время как другие посетители глазели...: Sophia Elizabeth
De Morgan, Memoir of Augustus De Morgan. London: Longmans,
Green, 1882. P. 89.
Я не могу считать, что знаю...: Betty Alexandra Toole, Ada,
the Enchantress of Numbers. P 45.
...жемчужину всех механизмов...: там же. Р 46.
...делал отверстия в картонных картах: Of the Analytical Engine
в Charles Babbage and His Calculating Engines. P. 55.
...как машина может осуществлять акт суждения...: там же. Р 65.
Сейчас я проклятый раб моей арфы...: Betty Alexandra
Toole, Ada, the Enchantress of Numbers. P 70.
... и единственным человеком рядом...: там же. Р 78.
Я обучаюсь удивительным способом...: там же. Р 82.
Знаете, я по природе немного философ...: там же. Р 83.
...оригинального математика-исследователя...: Betty Alexan-
dra Toole, A da Byron, Lady Lovelace, an Analyst and Metaphysician,
IEEE Annals of the History of Computing 18. 1996. №3. P 7.
Я добилась успеха...: Betty Alexandra Toole, Ada, the En-
chantress of Numbers. P. 83.
... эльфы и феи...: там же. Р 99.
Мы много говорим о воображении...: там же. Р 94.
Я верю...: там же. Р. 98.
Что за гора...: там же. Р. 101.
Она позволит нашим клеркам...: Charles Babbage and His Calculat-
ing Engines. P 113.
Открытие аналитической машины...: цит. по: Hyman, Charles
Babbage. P 185.
468
ПРИМЕЧАНИЯ
128
128
129
130
130
131
132
132
132
132
132
133
133
133
134
134
135
135
...не для того, чтобы...: цит. по: Betty Alexandra Toole,Ada,
the Enchantress of Numbers. P 145.
... любой процесс...: цит. no: Charles Babbage and His Calculating
Engines. P 247.
Аналитическая машина — это не просто...: там же. Р 252.
Машина, пожирающая свой хвост...: Н. Babbage, The Analytical
Engine, доклад в Бате 12 сентября 1888 года, цит. по: Charles Babbage
and His Calculating Engines. P 331.
Мы легко понимаем...: Sketch of the Analytical Engine Invented by
Charles Babbage.
Мой мозг...: Betty Alexandra Toole, Ada, the Enchantress of Numbers.
P 147.
Насколько разнообразные и взаимно усложненые соображения...:
Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage.
Я в смятении...: Betty Alexandra Toole, Ada, the Enchantress
of Numbers. P. 149.
Думаю, мои планы и идеи...: там же. Р 150.
Я не думаю, что у вас есть хотя бы половина...: там же. Р. 157.
Это все равно что использовать паровой молот...: Н. Р. Babbage,
The Analytical Engine. P 333.
Что нам думать о вычислительной машине...: Maelzel’s Chess-Player
в The Prose Tales of Edgar Allan Poe: Third Series. New York: A. C. Arm-
strong & Son, 1889. P 230.
Пар — прилежный ученик...: Ralp. Waldo Emerson, Society
and Solitude. Boston: Fields, Osgood, 1870. P 143.
Какая сатира на простого математика...: Oliver Wendell Hol-
mes, The Autocrat of the Breakfast-Table. New York: Houghton Mifflin,
1893), 11.
Каждый выпавший дождь...: On the Age of Strata, as Inferred from the
Rings of Trees Embedded in Them из: Charles Babbage, The Ninth
Bridgewater Treatise: A Fragment. London: John Murray, 1837. Цит. no:
Charles Babbage and His Calculating Engines. P. 368.
Допустим, что возможно передать сообщение из Лондона в Ливер-
пуль...: Charles Babbage, On the Economy of Machinery. P. 10.
...заключенных в маленькие цилиндры...: Charles Babbage,
Passages from the Life of a Philosopher. P 447.
...кучер и аппарат...: Charles Babbage, On the Economy of Ma-
chinery. P 273.
469
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
135
136
136
136
137
137
138
138
139
139
139
139
139
140
140
140
...зенитные световые сигналы...: Charles Babbage, Passages
from the Life of a Philosopher. P 460.
Это привело к новой теории штормов...: там же. Р. 301.
...анахронизм другого толка...: Jenny Uglow, Possibility в Fran-
cis Spufford, Jenny Uglow, Cultural Babbage. P 20.
Если... не зная о моем примере...: Charles Babbage, Passages
from the Life of a Philosopher. P 450.
Говорят, что “тень грядущего”...: Betty Alexandra Toole,
Ada, the Enchantress of Numbers. P 287.
Я бы хотела быть...: там же. Р 291.
Нервная система земли
Верно ль — или мне почудилось...: Готорн Н. Дом о семи фрон-
тонах. Новеллы. Л.: Художественная литература, 1975.
... обрабатывали три клерка...: Central Telegrap. Stations, Journal of
the Society of Telegrap. Engineers 4 (1875): 106.
Кто бы мог подумать...: Andrew Wynter, The Electric Telegraph,
Quarterly Review 95 (1854): 118-64.
Уинтер был не первым и не последним: Iwan Rhys Morus, ‘The
Nervous System of Britain : Space, Time and the Electric Telegrap. in the
Victorian Age. British Journal of the History of Science 33 (2000): 455-75.
Альфред Сми сравнивал...: цит. по: Iwan Rhys Morus, ‘The
Nervous System of Britain". P 471.
Пришел доктор...: Edison’s Baby, The New York Times. 1878. 27 октя-
бря. P 5.
Близится время...: The Future of the Telephone, Scientific American.
1880. 10 января.
Электричество — поэзия науки...: Alexander Jones, Histori-
cal Sketch of the Electric Telegraph: Including Its Rise and Progress in the
United States. New York: Putnam, 1852. P v.
...невидимый, неосязаемый, невесомый...: William Robert
Grove, цит. no: Iwan Rhys Morus, The Nervous System of Brit-
ain. P 463.
Мир науки не пришел к согласию...: Dionysus Lardner, The
ElectricTelegraph, revised and rewritten by Edward B. Bright. London:
James Walton, 1867. P 6.
470
ПРИМЕЧАНИЯ
140
41
141
142
143
144
144
145
146
146
147
148
148
150
150
150
Мы не думаем об электричестве...: The Telegraph, Harper's New
Monthly Magazine, 47. 1873. Август. P 337.
Оба они — мощные...: The Electric Telegraph, The New York Times.
1852. 11 ноября.
Можешь ли посылать молнии..: Иов 38:35; Dionysus Lardner,
The Electric Telegraph.
Граф Мийо де Мелито...: Memoirs of Count Miot de Melito. Vol. 1.
Пер. Cashel Hoey, John Lillie. London: Sampson Low, 1881. P 44П.
Тем временем Шаппы...: Gerard J. Holzmann, Bjorn Peh-
rson, The Early History of Data Networks. Washington, D. C: IEEE
Computer Society, 1995. P 5iff.
Придет день...: Lettre sur une nouveau tёlёgraphe, цит. no: Jacques
Attali, Yves Stourdze, The Birth of the Telephone and the Eco-
nomic Crisis: The Slow Death of Monologue in French Society в Ithiel de
Sola Poolin, ed., The Social Impact of the Telephone. Cambridge, Mass.:
MIT Press, 1977. К 97-
Гражданин Шапп предлагает...: Gerard J. Holzmann, Bjorn
Pehrson, The Early History of Data Networks. P 59.
Один депутат заявил...: там же. Р 64.
Однажды Шапп заявил...: Taliaferro Р. Shaffner, The
Telegrap. Manual: A Complete History and Description of the Semaphoric,
Electric and Magnetic Telegraphs of Europe, Asia, Africa, and America,
Ancient and Modem. New York: Pudney & Russell, 1859. P. 42.
Они, по-видимому, никогда не пробовали...: Gerard J. Holz-
mann, Bjorn Pehrson, The Early History of Data Networks. P 81.
Если только вы пообещаете...: Charles Dibdin, The
Telegrap. в The Songs of Charles Dibdin, Chronologically Arranged. Vol.
2. London: G.H. Davidson, 1863. P. 69.
Станции теперь молчат...: Taliaferro P. Shaffner, The
Telegrap. Manual. P. 31.
Все, что может быть предметом...: Gerard J. Holzmann,
Bjorn Pehrson, The Early History of Data Networks. P 56.
...для любого, осуществляющего неавторизованную передачу...:
там же. Р. 91.
Чего можно ожидать...: там же. Р. 93.
...другие тела, которые легко притягиваются...^^. Fahie, A His-
tory of Electric Telegraphy to the Year 1837. London: E. &F.N. Spon, 1884.
P. 90.
471
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Mi
151
152
152
ИЗ
153
154
155
155
i56
156
158
158
158
Этот вторичный объект...: Е. A. Marland, Early Electrical Com-
munication. London: Abelard-Schuman, 1964. P 37.
На другом берегу Атлантики американец Харрисон Грей Дай-
ер...: “Попытка Дайера представить свой телеграф для общих
нужд столкнулась с сильнейшим предубеждением, и, испугавшись
некоторых проявлений этого чувства, Дайер уехал из страны”.
Chauncey М. Depew, One Hundred Years of American Commerce.
New York: D. O. Haynes, 1895. P 126.
Большинству обычных наблюдателей...: John Pickering, Lec-
ture on Telegraphic Language. Boston: Hilliard, Gray, 1833. P 11.
Телеграфия есть элемент власти и порядка...: цит. по: Dan-
iel R. Headrick, When Information Came of Age: Technologies of
Knowledge in the Age of Reason and Revolution, 1700-1850. Oxford: Ox-
ford University Press, 2000. P 200.
Если существуют значительные бизнес-преимущества...: John
Pickering, Lecture on Telegraphic Language. P 26.
В каждый момент...: рукопись Дэви, цит. по: J. J. Fa hie, A History
of Electric Telegraphy to the Year 1837. P 351.
Я проработал каждую из возможных перестановок...: William
Fothergill Cooke, The Electric Telegraph: Was it Invented By
Professor Wheatstone? London: W.H. Smith & Son, 1857. P 27.
Допустим, сообщение...: Alfred Vail, The American Electro Mag-
netic Telegraph: With the Reports of Congress, and a Description of All
Telegraphs Known, Employing Electricity Or Galvanism. Philadelphia:
Lea & Blanchard, 1847. P 178.
... многословными баталиями...: Samuel F. B. Morse: His Letters and
Journals. Vol. 2. Boston: Houghton Mifflin, 1914. P 21.
Почта у нас в стране слишком медлительна...: R. W. Habersham,
Samuel F. В. Morse: His Letters and Journals.
Будет нетрудно...: Alfred Vail, The American Electro Magnetic
Telegraph. P 70.
Отправить посыльного г-ну Харрису...: Andrew Wynter, The
Electric Telegraph. P 128.
Перед Новым годом: Laurence Turnbull, The Electro-Magnet-
ic Telegraph, With an Historical Account of Its Rise, Progress, and Present
Condition. Philadelphia: A. Hart, 1853. P 87.
... в одежде квакера...: The Trial of John Tawell for the Murder of Sarah
Hart by Poison, at the Aylesbury Spring Assizes, before Mr. Baron Parks,
№
ПРИМЕЧАНИЯ
i$8
i$8
i$8
159
iJ9
1J9
160
160
160
160
161
161
161
162
162
163
164
on March 12th 1845 из William Otter Woodall, A Collection of
Reports of Celebrated Trials. London: Shaw & Sons, 1873.
...при передаче ходов...: John Timbs, Stories of Inventors and Dis-
coverers in Science and the Useful Arts. London: Kent, i860. P. 335.
Если учитывать...: Том Standage, The Victorian Internet: The Re-
markable Story of the Telegrap. and the Nineteenth Century's On-Line
Pioneers. New York: Berkley, 1998. P 55.
Осенью 1846 года Александр Джонс...: Alexander Jones, His-
torical Sketch of the Electric Telegraph. P. 121.
Первая часть информации...: Charles Maybury Archer, ed.,
The London Anecdotes: The Electric Telegraph. Vol. 1. London: David
Bogue, 1848/ Н/ 85.
...быстрых и незаменимых...: Littell's Living Age 6. 1845. 26 июля.
№63. P. 194.
Быстрее, чем ракета...: Andrew Wynter, The Electric Telegraph.
P 138.
Все идеи о связи Европы с Америкой...: Alexander Jones, His-
torical Sketch of the Electric Telegraph. P. 6.
... насколько практическим, настолько и невообразимым...: The At-
lantic Telegraph, The New York Times. 1858. 6 августа. P. 1.
Дерби, очень пасмурно...: Charles Maybury Archer, The
London Anecdotes. P 51.
Феномен атмосферы...: там же. Р 73.
...позволяет нам посылать сообщения...: George В. Prescott,
History, Teory, and Practice of the Electric Telegraph. Boston: Ticknorand
Fields, i860. P. 5.
С практической точки зрения...: The New York Times. 1858. 7 авгу-
ста. P. 1.
Расстояние и время в нашем воображении...: Iwan Rhys Morus,
The Nervous System of Britain. P 463.
В 1844 году лейтенант Чарльз Уилкс...: Alfred Vail, The Ameri-
can Electro Magnetic Telegraph. P 60.
Телеграф профессора Морзе...: Adam Frank, Valdemar's Tongue,
Poe's Telegraphy, ELH 72. 2005. P 637.
Много важной информации...: Alfred Vail, The American Elec-
tro Magnetic Telegraph. P viii.
... сложность формирования...: The Telegraph, Harper's New Monthly
Magazine. P 336.
473
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
164 Телеграфные компании участвуют в борьбе...: Andrew Wyn-
ter, Subtle Brains, Lissom Fingers, Being Some of the Chisel-
Marks of Our Industrial and Scientific Progress. London: Robert Hard-
wicke, 1863. P 363.
165 Они протянули инструмент по небу...: Robert Frost, The Line-
Gang. P 1920.
165 Сеть нервов из железной проволоки: Littell's Living Age 6. 1845.
26 июля. №63. P 194.
165 Сеть проводов...: The Telegraph, Harper's New Monthly Magazine.
P- 333-
165 Недалеко то время...: Wynter, Subtle Brains and Lissom Fingers. P 371.
166 Телеграфный стиль вытесняет...: Andrew Wynter, The Electric
Telegraph. P 132.
166 Мы рано придумали...: Alexander Jones, Historical Sketch of
the Electric Telegraph. P 123.
167 Великое преимущество...: Alfred Vail, The American Electro
Magnetic Telegraph. P. 46.
169 Алфавитный универсальный коммерческий электрический теле-
графный код: примеры из: William Clauson-Thue, The ABC
Universal Commercial Electric Telegrap. Code, 4th ed. London: Eden
Fisher, 1880.
171 Автору стало известно...: там же. Р iv.
172 Для защиты от ошибок...: Primrose V. Western Union Tef.Co., 154
U. S 1 (1894); Not Liable for Errors in Ciphers, The New York Times.
1894. 27 мая. №i.
173 Маленькая книга...: позже была переиздана с указанием в качестве ав-
тора Джона Уилкинса, Mercury: Or the Secret and Swift Messenger. Shew-
ing, How a Man May With Privacy and Speed Communicate His Thoughts
to a Friend At Any Distance, 3rd ed. London: John Nicholson, 1708.
173 Он был очень талантливым человеком...: John Aubrey, Brief
Lives, ed. Richard Barber. Woodbridge, Suffolk: Boydell Press, 1982. P. 324.
173 Как человеку донести...: John Wilkins, Mercury: Or the Secret
and Swift Messenger, 62.
175 Вклад дилетантов...: David Kahn, The Codebreakers: The Story of
Secret Writing. London: Weidenfeld & Nicolson, 1968. P 189.
175 Мы с трудом можем представить себе время...: A Few Words on Se-
cret Writing, Graham's Magazine. 1841. Июль; Edgar Allan Poe,
Essays and Reviews. New York: Library of America, 1984. P 1277.
474
ПРИМЕЧАНИЯ
175 Душа — это криптограмма...: The Literati of New York (1846) в: Ed-
gar Allan Poe, Essays and Reviews. P 1172.
175 ...мост между наукой и оккультным миром...: William F. Fried-
man, Edgar Allan Poe, Cryptographer, American Literature 8.1936. №3.
P 266-280; Josep. Wood Krutch, Edgar Allan Poe: A Study in Ge-
nius. New York: Knopf, 1926.
176 ...алфавит-ключ...: Lewis Carroll, The Telegraph-Cipher, print-
ed card 8 x 12 cm, Berol Collection, New York University Library.
176 Одна из характерных черт...: Charles Babbage, Passages from
the Life of a Philosopher. London: Longman, Green, Longman, Roberts,
& Green, 1864. P. 235.
176 ...полиалфавитный шифр...: Simon Singh, The Code Book: The
Secret History of Codes and Code-breaking. London: Fourth Estate, 1999.
P. 63ff.
176 Различные части машины...: Dionysius Lardner, Babbage's
Calculating Engines," Edinburgh review 59.1834. №120. P 315-317.
177 ...название всего, что является какX, так и Y...: De Morgan то
Boole. 1847. 28 ноября; G.C. Smith, ed., The Boole — De Morgan
Correspondence 1842-1864. Oxford: Clarendon Press, 1982. P 25.
177 Предположим, некоторые Z не являются...: там же. Р. 27.
177 Факт в том...: Samuel Neil, The Late George Boole, LL.D., D. C. L.
(1865), в: James Gasser, ed., A Boole Anthology: Recent and Classi-
cal Studies in the Logic of George Boole. Dordrecht, Netherlands: Kluwer
Academic, 2000. P 16.
177 Соответствующая интерпретация символов о и i...: George
Boole, Aw Investigation of the Laws of Thought, on Which Are Founded
the Mathematical Theories of Logic and Probabilities. London: Walton &
Maberly, 1854. P 34.
178 Язык есть инструмент человеческого мышления...: там же. Р 24-25.
178 Нечистые звери...: там же. Р 69
179 Слово есть средство мышления...: The Telegraph, Harper's New Month-
ly Magazine. P 359.
179 Малые дети неразумны...: Lewis Carroll, Symbolic Logic: Part
I, Elementary. London: Macmillan, 1896. P 112,131. См. также: Steve
Martin, Bom Standing Up. A Comic's Life. New York: Simon &
Schuster, 2007. P 74.
180 Чистая математика была открыта Булем...: Bertrand Russell,
Mysticism and Logic (1918; reprinted Mineola, N. Y: Dover, 2004. P 57.
475
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
181
181
181
18з
184
185
i8j
188
189
189
190
190
192
192
Новые провода, новая логика
Идеальная симметрия аппарата: James Clerk Maxwell, The
Telephone, Rede Lecture, Cambridge 1878, “illustrated with the aid of
Mr. Gower's telephonic harp, в WD. Niven, ed., The Scientific Papers of
James Clerk Maxwell. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press,
1890; repr. New York: Dover, 1965. P 750.
В Гейлорде было несколько улиц...: Omni (август 1987 года), цит. по:
Claude Elwood Shannon, Collected Papers, ed. N.J. A. Sloane,
Aaron D. Wyner. New York: IEEE Press, 1993. P xx.
Нет никаких сомнений...: In the World of Electricity, The New York
Times. 1895. 14 июля. P 28.
“Телефонной ассоциации Восточной линии в Монтане”:
David В. Sicilia, How the West Was Wired, Inc. 1997.15 июня.
“Золотой жук”: 1843; Эдгар По. Золотой жук. СПб.: Амфора,
2012.
“Думающая машина” знает высшую математику...: New York Times.
1927. 21 октября.
Математик — это не человек...: Vannevar Bush, As We May
Think, The Atlantic. 1945. Июль.
...автоматически складывала бы два числа...: Claude Shannon,
A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits, Transactions of the
American Institute of Electrical Engineers yj. 1938. P 38-50.
...его “странной алгебры”...: Vannevar Bush to Barbara Burks. 1938.
5 января; Manuscrip. Division, Library of Congress.
“Алгебра в теоретической генетике”: Claude Shannon,
Collected Papers. P. 892.
... сорок лет спустя: там же. Р. 921.
Урывками я работал над анализом...: Claude Shannon to Vannevar
Bush, 16 февраля 1939, цит. no: Claude Shannon, Collected
Papers. P. 455.
Определенный строй языка...: Leibniz to Jean Galloys, декабрь
1678 года, в: Martin Davis, The Universal Computer: The Road
from Leibniz to Turing. New York: Norton, 2000. P 16.
...очень абстрактных процессов и идей...: Alfred North
Whitehead, Bertrand Russell, Principia Mathematica, vol. 1.
Cambridge; Cambridge University Press, 1910. P 2.
476
ПРИМЕЧАНИЯ
193
193
194
194
195
196
196
198
199
199
200
200
200
201
201
201
Критянин Эпименид утверждал...”: Bertrand Russell,
Mathematical Logic Based on the Theory of Types, American Journal of
Mathematics 30. 1908. Июль. №3. P 222.
В воздухе носилась идея...: Douglas R. Hofstadter, I Am a
Strange Loop. New York: Basic Books, 2007. P. 109.
Названия некоторых целых...: Alfred North Whitehead,
Bertrand Russell, Principia Mathematica. Vol. 1. P 61.
Бреет ли цирюльник сам себя?..: The Philosophy of Logical Atomism
(1910), цит. no: Bertrand Russell, Logic and Knowledge: Essays,
1^01-1^0. London: Routledge, 1956. P 261.
...рассмотренная снаружи...: Kurt Godel, On Formally Undecid-
able Propositions of Principia Mathematica and Related Systems I (1931)
в: Kurt Godel: Collected Works. Vol. 1, ed. Solomon Feferman. New
York: Oxford University Press, 1986. P 146.
... есть наука превыше всех остальных...: Kurt Godel, Russell’s Math-
ematical Logic (1944) в: Kurt Godel: Collected Works. Vol. 2. P 119.
...можно доказать любую теорему...: Kurt Godel, On Formally
Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems
Z (1931)- К 145.
...вопреки кажущемуся...: там же. Р 151 т$.
...удивительный факт...: Kurt Godel, Russell’s Mathematical Log-
ic. 1944. P 124.
...важным моментом...: John von Neumann, Tribute to Dr.
Godel (1951), цит. no: Steve J. Heims, John von Neumann and Norbert
Weiner. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1980. P 133.
Я был рад...: Russell to Leon Henkin, 1 апреля 1963 года.
Математика не может быть неполной...: Ludwig Wittgen-
stein, Remarks on the Foundations of Mathematics. Cambridge, Mass.:
MIT Press, 1967. P 158.
Рассел очевидно...: Godel to Abraham Robinson, 2 июля 1973 года в:
Kurt Godel: Collected Works. Vol. 5. P 201.
Ваши биоматематические задачи...: Hermann Weyl to Claude Shan-
non, 11 апреля 1940 года, Manuscrip. Division, Library of Congress.
“Проект 7”...: David A. Mindell, Between Human and Machine: Feed-
back, Control, and Computing Before Cybernetics. Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 2002. P 289.
...коррекции управления орудием...: Vannevar Bush, Report of
the National Defense Research Committee for the First Year of Operation,
ЦП
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
202
203
203
203
204
205
206
206
207
207
209
210
27 июня 1940-28 июня 1941 года, Franklin D. Roosevelt Presidential
Library and Museum. P. 19.
Есть очевидная аналогия...: R. В. Blackman, H.W. Bode,
Claude E. Shannon, Data Smoothing and Prediction in Fire-Con-
trol Systems, Summary Technical Report of Division 7, National Defense
Research Committee. Vol. 1, Gunfire Control. Washington D. C., 1946.
P. 71-159 и 166-167; David A. Mindell, Automation's Finest Hour:
Bell Labs and Automatic Control in World War II, IEEE Control Systems
15. 1995. Декабрь. P. 72-80.
Белл, кажется, тратит всю свою энергию...: Elisha Gray to
A.L. Hayes, октябрь 1875 года, цит. по: Michael Е. Gorman,
Transforming Nature: Ethics, Invention and Discovery. Boston: Kluwer
Academic, 1998. P. 165.
Я едва могу поверить...: Albert Bigelow Paine, In One
Man's Lift: Being Chapters from the Personal &Business Career of Theo-
dore N. Vail. New York: Harper & Brothers, 1921. P 114.
Я позволю себе думать...: Marion May Dilts, The Telephone in a
Changing World. New York: Longmans, Green, 1941. P. II.
...неважно, насколько тщательно...: The Telephone Unmasked, The
New York Times. 1877. 13 октября. P 4.
Говорящий говорит в передатчик...: The Scientific Papers of James
Clerk Maxwell, ed. W D. Niven. Vol. 2. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1890; repr. New York: Dover, 1965. P 744.
To, на что телеграфу потребовались годы...: Scientific American.
1880.10 января.
... мгновенной коммуникации на расстоянии...: Telephones: 1907,
Special Reports, Bureau of the Census. P 74.
Может показаться нелепым...: цит. по: Ithiel de SolaPool, ed., The So-
cial Impact of the Telephone. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1977. R 140.
...гримасами одной и той же субстанции...: J. Clerk Maxwell,
A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, Philosophical Transac-
tions of the Royal Society 155. 1865. P. 459.
Первыми телефонными операторами...: Michele Martin, "Hel-
lo, Central?’: Gender, Technology and Culture in the Formation of Tele-
phone Systems. Montreal: MeGill-Queen's University Press, 1991. P. 55.
Они спокойнее, не пьют пиво...: Proceedings of the National Tele-
phone Exchange Association, 1881, в: Frederick Leland Rhodes, Begin-
nings of Telephony. New York: Harper & Brothers, 1929. P. 154.
478
ПРИМЕЧАНИЯ
210
211
211
211
211
215
216
217
218
219
219
220
222
222
Процесс вытягивания рук над головой...: цит. по: Peter Young,
Person to Person: The International Impact of the Telephone. Cambridge:
Granra, 1991. P. 65.
Телефон остается вершиной...: Herbert N. Casson, The His-
tory of the Telephone. Chicago: A C. McClurg, 1910. P 296.
Любые двое...: John Vaughn, The Thirtieth Anniversary of a Great
Invention, Scribner's 40. 1906. P. 371.
...монстра из 2 млн спаянных частей...: G.E. Schindler, Jr., ed., A
History of Engineering and Science in the Bell System: Switching Technol-
ogy 192 197/. Bell Telephone Laboratories, 1982.
Для математика...: T. C. Fry, Industrial Mathematics, Bell System
Technical Journal 20. 1941. Июль. P 255.
... очень расплывчатый термин...: R.V. L. Hartley, Transmission
of Information, Bell System Technical Journal. 1928. Июль. №7. P 536.
Например, в предложении “яблоки красные”: там же.
Под скоростью передачи данных...: Н. Nyquist, Certain Factors
Affecting Telegrap. Speed. P. 333.
...способность системы передавать...: R.V. L. Hartley, Trans-
mission of Information. P 537.
Теория информации
Наверное, появление теории информации...: Jon Barwise, In-
formation and Circumstance, Notre Dame Journal of Formal Logic 27.
1986. №3. P. 324.
...ни слова не говорили о своей работе...: A Conversation with
Claude Shannon: One Mans Approach to Problem Solving, IEEE Com-
munications Magazine 22. 1984. P. 125; cm.: Alan Turing to Claude Shan-
non, 3 июня 1953 года, Manuscrip. Division, Library of Congress.
Нет, я не хочу создавать...: Andrew Hodges, Alan Turing: The
Enigma. London: Vintage, 1992. P. 251.
...стремящийся к одиночеству...: Max H.A. Newman to Alonzo
Church, 31 мая 1936 года, цит. no: Andrew Hodges, Alan Turing.
P. 113.
Обоснование... заключается в том факте...: Alan М. Turing,
On Computable Numbers, c Application to the Entscheidungsproblem,
Proceedings of the London Mathematical Society 42. 1936. P. 230-65.
479
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
222
223
223
227
227
228
228
231
231
231
232
234
234
236
237
Лишь благодаря работе Тьюринга...: Kurt Godel to Ernest Nagel,
1957 в: Kurt Godel: Collected Works. Vol. 5, ed. Solomon Feferman. New
York: Oxford University Press, 1986. P 147.
Понимаете... забавные маленькие кружки...: Turing Digital Archive,
http://www.turingarchive.org.
В элементарной арифметике...: Alan М. Turing, On Comput-
able Numbers. P. 230-265.
Все зависит от останавливающегося контролера...: On the Seeming
Paradox of Mechanizing Creativity в Douglas R. Hofstadter,
Metamagical Themas: Questing for the Essence of Mind and Pattern. New
York: Basic Books, 1985. P 535.
В науке было принято считать...: The Nature of Spirit, unpublished
essay. 1932 в: Andrew Hodges, Alan Turing. P 63.
Можно представить себе трудолюбивого и прилежного клерка...:
Herbert В. Enderton, Elements of Recursion Theory, цит. no: Jon
Barwise, Handbook of Mathematical Logic. Amsterdam: North Holland,
1977. P 529.
Множество специальных и интересных шифров...: Alan Turing to
Sara Turing, 14 октября 1936 года, цит. no: Andrew Hodges, Alan
Turing. P 120.
Если врагу известна сама процедура...: Communication Theory of Se-
crecy Systems. 1948 в: Claude Elwood Shannon, Collected Pa-
pers, ed. N.J. A. Sloane, Aaron D. Wyner. New York: IEEE Press, 1993.
P 90.
С точки зрения криптоаналитика...: там же. Р 113.
Звуки речи...: Edward Sapir, Language: An Introduction to the
Study of Speech. New York: Harcourt, Brace, 1921. P 21.
D показывает...: Commun ication Theory of Secrecy Systems в Claude
Shannon, Collected Papers. P 85.
... противнику не поможет...: там же. Р 97.
“Смысл” сообщения обычно не имеет значения...: Communication
Theory — Exposition of Fundamentals, IRE Transaction on Information The-
ory. 1950. Февраль. №i в Claude Shannon, Collected Papers. P 173.
...то, что Гиббс для физической химии...: Manuscrip. Division, Li-
brary of Congress.
...своего рода бомбу замедленного действия...: John R. Pierce,
The Early Days of Information Theory, IEEE Transactions on Informa-
tion Theory 19.1973. №1. P 4.
480
ПРИМЕЧАНИЯ
237 Основной проблемой связи...: Claude Elwood Shannon, Warren
Weaver, The Mathematical Theory of Communication. Urbana: Univer-
sity of Illinois Press у 1949. P. 31.
240 В определенной степени это уже сделано...: там же. Р и.
241 ... знаменитую статью 1943 года...: Stochastic Problems in Physics and
Astronomy у Reviews of Modern Physics 15.1943. Январь. №1. P 1.
242 ...только что опубликованной...: M.G. Kendall, В. Bab-
bington Smith, Table of Random Sampling Numbers. Cambridge:
Cambridge University PresSy 1939. Кендалл и Смит использовали
“рандомизирующую машину” — вращающийся диск с десятью ци-
фрами, освещаемый нерегулярными вспышками неонового света.
В 1927 году Л.Х. К. Типпета выбрал 41 тыс. знаков из переписи на-
селения, тоже принимая во внимания лишь последние цифры. Не-
сколько наивная статья в Mathematical Gazette (1944 год) утверждала,
что машины не нужны: “В современном обществе, по-видимому,
не существует надобности в конструировании рандомизирующих
машин, поскольку многое в общественной жизни характеризуется
случайностью... Таким образом, набор случайных чисел, годных
для любых целей, можно получить, записывая номера автомоби-
лей, проезжающих мимо. Поскольку, несмотря на то что номера
выдаются по порядку, по улицам они движутся беспорядочно, при-
дется исключать очевидные ошибки, например ежедневную запись
номера машины мистера Смита, которая всегда стоит у дома 49”.
Frank Sandon, Random Sampling Numbers у The Mathematical Ga-
zette 28. 1944. Декабрь. P 216.
242 ...таблицах, составленных в помощь взломщикам...: Fletcher
Pratt, Secret and Urgent: The Story of Codes and Ciphers. Garden
City, N. Y: Blue Ribbon, 1939.
245 Получившиеся единицы можно назвать...: “Слово предложил
Дж. В. Таки”, — добавил он. Статистик Джон Таки был соседом
Ричарда Фейна по комнате в Принстоне и после войны некоторое
время работал в Лабораториях Белла.
246 Ошибки, как и следовало ожидать...: Claude Shannon, Pre-
diction and Entrop. of Printed English, Bell System Technical Journal 30.
1951. P 50 в: Claude Shannon, Collected Papers. P. 94.
247 Сделать вероятность ошибки...: M. Mitchell Waldrop. Reluc-
tant Father of the Digital Age, Technology Review. 2001. July — August.
P 64-71.
481
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
247
248
250
25О
25О
250
252
252
252
252
253
253
255
255
Это твердотельный усилитель...: Omni (август 1987) в Claude
Shannon, Collected Papers. P xxiii.
... емкость хранения битов: рукописная заметка, 12 июля 1949 года,
Manuscrip. Division, Library of Congress.
Информационный поворот
Вполне возможно, что опасно...: Heinz von Foerster, ed., Cybernet-
ics: Circular Causal and Feedback Mechanisms in Biological and Social
Systems: Transactions of the Seventh Conference, 23-24 марта 1950 года.
New York: Josiah Macy, Jr. Foundation, 1951. P 155.
...и не всегда очевидно...: J. J. Doob, review (untitled), Mathemati-
cal Reviews 10.1949. Февраль. P. 133.
Сначала может показаться...: A. Chapanis, review (untitled),
Quarterly Review of Biology 26.1951. Сентябрь. №3. P 321.
Шеннон разработал концепцию...: Arthur W. Burks, review
(untitled), Philosophical Review 60. 1951. Июль. №3. P 398.
... короткую рецензию на книгу Винера...: Proceedings of the Institute
of Radio Engineers 37. 1949 в: Claude Elwood Shannon, Col-
lected Papers, ed. N.J. A. Sloane, Aaron D. Wyner. New York: IEEE
Press, 1993. P 872.
Голова Винера была занята...: John R. Pierce, The Early Days of
Information Theory, IEEE Transactions on Information Theory 19. 1973.
№1. P.5.
Греческое слово, которое он выбрал...: Андре Мари Ампер ис-
пользовал слово cybernetics в 1834 году (Essai sur la philosophic des
sciences).
Юноша, которого его друзья гордо...: Boy of 14 College Graduate,
The New York Times. 1909. 9 мая. P 1.
Явился вундеркинд по имени Винер...: Steve J. Heims, john von
Neumann and Norbert Wiener. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1980. P. 18.
Он айсберг...: цит. no: Flo Conway, Jim Siegelman, Dark
Hero of the Information Age: In Search of Norbert Wiener, the Father of
Cybernetics. New York: Basic Books, 2005. P. 30.
Мы плывем вверх...: Винер Н. Я математик. Ижевск: НИЦ “Ре-
гулярная и хаотическая динамика”, 2001.
...новой интерпретацией человека: там же.
482
ПРИМЕЧАНИЯ
255
256
257
258
259
260
260
261
261
261
262
262
263
263
263
264
264
...любое изменение сущности...: Arturo Rosenblueth et al., Behavior,
Purpose and Teleology, Philosophy of Science 10.1943. P 18.
Это не какая-то определенная физическая...: цит. по: War-
ren S. McCulloch, Recollections of the Many Sources of Cybernet-
ics, ASC Forum 6. 1974. №2.
Они растут с пугающей скоростью...: In mans Image, Time. 1948.
27 декабря.
...алгебра логики par excellence...: Norbert Wiener, Cybernetics:
Or Control and Communication in the Animal and the Machine, 2nd ed.
Cambridge, Mass.: MIT Press, 1961. P. 118.
... дорожные пробки...: там же. Р 132.
Он ввел правило Ноева ковчега...: Warren S. McCulloch,
Recollections of the Many Sources of Cybernetics. P. 11.
Винер рассказал, что все науки...: Steve J. Heims, The Cybernetics
Group. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991. P 22.
Группа и предмет обсуждения...: Heinz von Foerster, ed., Transac-
tions of the Seventh Conferenc. P., 11.
Самонадеянно повторять за прессой...: там же. Р. 12.
Я не был в состоянии предотвратить появление этих отчетов...:
там же. Р. 18.
...это в конечном счете была совершенно обычная ситуация...:
Jean-Pierre Dupuy, The Mechanization of the Mind: On the Ori-
gins of Cognitive Science, пер. M.B. DeBevoise. Princeton, N. J.: Princ-
eton University Press, 2000. P. 89.
...состояние нервной клетки...: Heinz von Foerster, ed.,
Transactions of the Seventh Conference. P 20.
Кажется, в этом мире лучше...: Warren S. McCulloch, John
Pfeiffer, Of Digital Computers Called Brains, Scientific Monthly
69 1949. №6.1949. P. 368.
Он работал над идеей оцифровки речи...: J.C. R. Licklider, ин-
тервью Вильяму Эспрей и Артуру Норбергу, 28 октября 1988 года,
Charles Babbage Institute, University of Minnesota, http://special.lib.
umn.edu/CBi/OH/pdf.phtml?id=i8o (по состоянию на 6 июня
2oio года).
Математики всегда так делают...: Heinz von Foerster, ed., Transac-
tions of the Seventh Conference. P 66.
“Да!” — прервал Винер...: там же. Р 92.
Если вы говорите об информации другого рода...: там же. Р юо.
483
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
264
26$
266
266
2б7
267
268
268
269
270
270
271
271
271
271
271
Это может быть, например, случайная последовательность зна-
ков...: там же. Р 123.
Я бы не назвал это случайностью...: там же. Р 135.
Я думаю о старых текстах майя...: Heinz von Foerster, ed.,
Transactions of the Seventh Conference. P 143.
Информацию можно рассматривать как порядок...: Heinz von
Foerster, ed., Cybernetics: Circular Causal and Feedback Mecha-
nisms in Biological and Social Systems: Transactions of the Eighth Con-
ference, 15-16 марта, 1951. New York: Josiah Macy, Jr. Foundation, 1952.
P xiii.
Его сосед говорит...: Heinz von Foerster, ed., Transactions of the Sev-
enth Conference. P 151.
Когда машина была выключена...: Heinz von Foerster, ed., Transac-
tions of the Eighth Conference. P 173.
...не построила полную информационную схему...: Computers and
Automata в Claude Shannon, Collected Papers. P 706.
Когда она прибывает в точку Л...: Heinz von Foerster, ed. Transac-
tions of the Eighth Conference. P 175.
Так же как и человек, знающий город...: там же. Р 180.
В реальности запоминает лабиринт...: цит. по: Roberto Cordes-
CHI, The Discovery of the Artificial: Behavior, Mind, and Machines Before
and Beyond Cybernetics. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2002. P 163.
...находит “хорошо информированными”...: Norbert Wiener,
Cybernetics. P 23.
...около пятнадцати человек...: John Bates to Grey Walter, цит.
no Owen Holland, The First Biologically Inspired Robots, Robotica
21. 2003. P 354.
...половина из них произносила...: Philip Husbands, Owen
Holland, The Ratio Club: A Hub of British Cybernetics в The Me-
chanical Mind in History. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008. P 103.
...мозг, состоящий из случайно соединенных синапсов...: там же.
Р но.
Подумайте о мозге как о телеграфном реле...: Brain and Behav-
ior, Comparative Psychology Monograph, Series 103 (1950) в War-
ren S. McCulloch, Embodiments of Mind. Cambridge, Mass.:
MIT Press, 1965. P 307.
Я предлагаю рассмотреть вопрос..: Alan М. Turing, Computing
Machinery and Intelligence, Minds and Machines 59.1950. №236. P 433-60.
484
ПРИМЕЧАНИЯ
272 Существующий ныне интерес к “думающим машинам”...: там же.
R436.
273 Поскольку машина Бэббиджа...: там же. Р. 439.
273 В случае если формулу нельзя...: Alan М. Turing, Intelligent
Machinery, A Heretical Theory, unpublished lecture. P 1951, цит. no: Stu-
art M. Shieber, ed., The Turing Test: Verbal Behavior as the Hallmark of
Intelligence. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004. P 105.
274 Мне кажется, что первоначальный вопрос...: Alan М. Turing,
Computing Machinery and Intelligence. P 442.
274 Идея думающей машины...: Manuscrip. Div., Library of Congress,
с разрешения Mary E. Shannon.
275 Психология есть доктрина...: nep. William Harvey, Anatomical Exer-
cises Concerning the Motion of the Heart and Blood. London, 1653, цит.
no: psychology, n, draft revision Dec. 2009, OED Online, Oxford Uni-
versity Press, http://dictionary.oed.com/cgi/entry/50191636.
275 ... наука о разуме...: North British Review 22.1854. Ноябрь. P 181.
275 ...противной, раздутой, опухшей...: цит. по: Robert D. Rich-
ardson, William James: In the Maelstrom of American Modernism.
New York: Houghton Mifflin, 2006. p. 298.
276 Вы говорите о памяти...: Jonathan Miller, States of Mind. New
York: Pantheon, 1983. P 22.
278 ... группа проверила вероятность...: G.A. Miller, G.A. Heise,
W. Lighten, The Intelligibility of Speech as a Function of the Context of
the Test Materials, Journal of Experimental Psychology 41.1951. P 329-35.
278 Разница между описанием...: Donald E. Broadbent, Percep-
tion and Communication. Oxford: Pergamon Press, 1958. P 31.
278 Магическое число семь...: Review 63. 1956. P 81-97.
280 Те, кто совершил информационный поворот...: Frederick Ad-
ams, The Informational Turn in Philosophy, Minds and Machines 13.
2003. P 495.
280 ...разум прибыл верхом на машине...: Jonathan Miller, States
of Mind. P. 26.
281 ...я думаю, что этот век...: Claude Shannon, The Transfer of
Information, talk presented at the 75th anniversary of the University of
Pennsylvania Graduate School of Arts and Sciences, Manuscrip. Division,
Library of Congress. Перепечатано с разрешения of Mary E. Shannon.
281 Наши коллеги ученые...: The Bandwagon в: Claude Shannon,
Collected Papers. P 462.
485
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
282
283
283
284
285
285
285
286
286
287
288
288
289
289
Мы всегда в чем-нибудь...: цит. по: Steve J. Heims, The Cybernet-
ics Group. P. 277.
...для публикации оно было переименовано: заметки Neil J.A.
Sloane, Aaron D. Wyner в Claude Shannon, Collected Papers.
P882.
...сама по себе не важна...: Claude E. Shannon, Programminga
Computer for Playing Chess, презентация в National IRE Convention
9 марта 1949 года в: Claude Shannon, Collected Papers. P 637;
A Chess-Playing Machine, Scientific American (февраль 1950 года) в:
Claude Shannon, Collected Papers. P 657.
... посетил американского чемпиона по шахматам...: Manuscrip. Di-
vision, Library of Congress.
Проблема обучения игре в шахматы...: Manuscrip. Div., Library of
Congress, печатается с разрешения Мэри E. Шеннон.
...научных аспектах жонглирования...: Claude Shannon, Col-
lected Papers. P 861.
... машину, которая бы ремонтировала сама себя...: Manuscrip. Divi-
sion, Library of Congress.
Что случится, если вы включите...: Robert McCraken, The Sin-
ister Machines, Wyoming Tribune, март 1954 года.
“Теория информации, фотосинтез и религия”: Peter Elias, Two
Famous Papers, IRE Transactions on Information Theory 4.1958. №3. P 99.
Мы слышали об “энтропиях”...: Е. Colin Cherry, On Human
Communication. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1957. P 214.
Энтропия и ее демоны
Мысли взаимодействуют с вероятностями событий: David L.
Watson, Entrop. and Organization, Science 72.1930. P. 222.
В Лабораториях Белла ходили слухи...: Robert Price, A Conver-
sation with Claude Shannon: One Man's Approach to Problem Solving,
IEEE Communications Magazine 22.1984. P. 124.
...теоретическим изучением парового двигателя...: например,
J. Johnstone, Entrop. and Evolution, Philosophy 7.1932. Июль. P. 287.
Максвелл поменял мнение: James Clerk Maxwell, Theory of
Heat, 2nd ed.. London: Longmans, Green, 1872), 186; 8th edition. Lon-
don: Longmans, Green, 1891. P. 189 n.
486
ПРИМЕЧАНИЯ
290
290
291
291
292
293
294
294
295
296
296
Вы не можете выиграть...: Peter Nicholls, David Langford, eds., The
Science in Science Fiction. New York: Knopf, 1983. P 86.
Хотя механическая энергия неуничтожима...: Lord Kelvin
(William Thomson), Physical Considerations Regarding the Pos-
sible Age of the Sun's Heat, лекция на собрании Британской ассоциа-
ции в Манчестере, сентябрь 1861 года, в: Philosophical Magazine 152.
1862. Февраль. Р 158.
...при превращении психических процессов...: Фрейд 3. Психо-
анализ и детские неврозы. М.: Алетейя, 2000.
Беспорядок, как и соответствующий термин...: James Clerk
Maxwell, Diffusion, написано для девятой редакции Encyclo-
paedia Britannica в The Scientific Papers of James Clerk Maxwell, ed.
WD. Niven. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1890; repr.
New York: Dover, 1965. P 646.
Время идет вперед...: Leon Brillouin, Life, Thermodynamics, and
Cybernetics (1949) в: Harvey S. Leff, Andrew F. Rex, eds., Maxwell's
Demon 2: Entropy, Classical and Quantum Information, Computing.
Bristol, U. K.: Institute of Physics, 2003. P 77.
...случайностей...: Richard Feynman, The Character of Physi-
cal Law. New York: Modem Library, 1994. P 106.
Мораль. Второй закон термодинамики...: Elizabeth Garber, Ste-
phen G. Brush, C. W F. Everitt, eds., Maxwell on Heat and Statistical
Mechanics: On Avoiding All Personal Enquiries" of Molecules. London:
Associated University Presses, 1995. P 205.
...вероятность события, противоположного тому...: цит. Andrew
Hodges, What Did Alan Turing Mean by 'Machine в Philip Husbands
et al., The Mechanical Mind in History. Cambridge, Mass.: MIT Press,
2008. P 81.
Он отличается от реальных...: Royal Institution Lecture, 28 февраля
1879 Proceedings of the Royal Institution 9. 1880. P 113 в: William
Thomson, Mathematical and Physical Papers, vol. 5. Cambridge; Cam-
bridge University Press, 1911. P 21.
...бесконечно острыми чувствами...: Henri Poincare, The Founda-
tions of Science, nep. George Bruce Halsted. New York: Science Press,
1913. P. 152.
Мы не должны вводить демонологию в науку...: James John-
stone, The Philosophy of Biology. Cambridge: Cambridge University
Press, 1914. P. 118.
487
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
гЭ7
298
298
299
300
301
302
302
302
303
303
304
305
306
306
... демон Максвелла...: Henry Adams and His Friends: A Collection of
His Unpublished Letters, ed. Harold Cater. Boston; Houghton Mifflin,
1947- К $45-
...если мы рассматриваем экспериментатора...: Le6 Szilard, On
the Decrease of Entrop. в a Thermodynamic System by the Intervention of
Intelligent Beings, перев. Anatol Rapoport, Mechthilde Knoller из Leo
Szilard, Uber Die Entropieverminderung in Einem Thermodynamisch-
en System Bei Eingriffen Intelligenter Wesen, Zeitschrift for Physik 53 (1929.
P. 840-856 в: Harvey S. Leff, Andrew F. Rex, eds., Maxwells Demon 2. P111.
Мышление порождает энтропию...: цит. по: William Lanou-
етте, Genius in the Shadows. New York: Scribner's, 1992. P 64.
Думаю, Силард на самом деле...: интервью Шеннона Фредериху-
Вильгельму Хагемейеру, 1977 год, цит. по: Erico Mariu Guizzo,
The Essential Message: Claude Shannon and the Making of Information
Theory. Master's thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2004.
Я рассматриваю, сколько информации...: Massachusetts Institute of
Technology Archives.
Книга Шредингера стала своего рода “Хижиной дяди Тома”...:
Gunther S. Stent, That Was the Molecular Biology That Was, Sci-
ence 160.1968. №3826. P. 392.
Когда мы называем кусок материи..: Erwin Schrodinger, What
Is Life? P. 69.
Стабильное состояние фермента...: Norbert Wiener, Cybernet-
ics: Or Control and Communication in the Animaland the Machine, 2nd
ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1961. P. 58.
Чтобы снизить градус парадоксальности...: Шредингер Э.
Что такое жизнь?, М.: Атомиздат, 1972.
...полной (двойной) копией...: там же.
...кажется неадекватным и невозможным...: там же.
Различие в структуре...: там же.
Живые существа залечивают раны...: Кибернетика. Современные
состояния. М.: Наука, 1980.
Он написал это в 1950 году...: Leon Brillouin, Maxwell's De-
mon Cannot Operate: Information and Entrop. в: Harvey S. Leff, An-
drew F. Rex, eds., Maxwell's Demon. P. 123.
Демон Максвелла скончался шестидесяти двух лет от роду...: Pe-
ter Т. Landsberg, The Enigma of Time. Bristol: Adam Hilger, 1982.
P.15.
488
ПРИМЕЧАНИЯ
307
307
307
308
309
309
309
309
3io
3io
3ii
311
Собственный код жизни
Коренная сущность каждого живого существа...: Richard
Dawkins, The Blind Watchmaker. New York: Norton, 1986. P. 112.
Цит. no http://evolbiol.ru.
Биологу нужно позволить...: W. D. Gunning, Progression and
Retrogression, The Popular Science Monthly 8.1875. Декабрь. P 189, ni.
...самая наивная и старая концепция...: Wilhelm Johannsen,
The Genotyp. Conception of Heredity, American Naturalist 45. 1911.
№531. P. 130.
...оно должно быть квантировано...: Discontinuity and constant dif-
ferences between the "genes' are the quotidian bread of Mendelism, Ameri-
can Naturalist 45. 1911. №531. P 147.
Миниатюрный шифровальный код должен...: Шредин-
гер Э. Указ. соч.
Некоторые физики, теперь обратившиеся к биологии...: Henry
Quastler, ed., Essays on the Use of Information Theory in Biology. Ur-
bana: University of Illinois Press, 1953.
... линейная лента с закодированной информацией...: Lily E. Kay,
Who Wrote the Book of Life: A History of the Genetic Code. Stanford, Ca-
lif.: Stanford University Press, 2000. P 119.
...числа битов, представленных...: Henry Linschitz, The Infor-
mation Content of a Bacterial Cell в: Henry Quastler, ed., Essays on the
Use of Information Theory in Biology. P 252.
...гипотетических инструкций...: Sidney Dan-coff, Henry
Quastler, The Information Content and Error Rate of Living Things
в: Henry Quastler, ed., Essays on the Use of Information Theory in Biol-
ogy. P 264.
...странное письмо...: Boris Ephrussi, Urs Leopold,
J. D. Watson, J. J. Weigle, Terminology in Bacterial Genetics, Na-
ture 171.1953.18 апреля. P 701.
...задумывалось как шутка...: См.: Sa нот r a Sark ar, Molecular
Models of Life. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005; Lily E. Kay, Who
Wrote the Book of Life? P. 58; James D. Watson, Genes, Girls, and
Gamow: After the Double Helix. New York: Knopf, 2002. P 12.
...гены могут находиться в другой субстанции...: позже все осо-
знали, что это было доказано еще в 1944 году Освальдом Эвери
489
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
из Университета Рокфеллера. Однако в то время очень немногие
ученые поверили этому.
312 ...одним из наиболее скромных...: Gunther S. Stent, DNA,
Daedalus 99.1970. P 924.
312 От нашего внимания не ускользнул...: James D. Watson, Fran-
cis Crick, Л Structure for Deoxyribose Nucleic Acid, Nature 171.1953.
P 737-
312 Отсюда следует...: James D. Watson, Francis Crick, Geneti-
cal Implications of the Structure of Deoxyribonucleic Acid, Nature 171.
1953- R 965.
313 Уважаемые д-р Уотсон и д-р Крик...: письмо Джорджа Гамова
Джеймсу Д. Уотсону и Фрэнсису Крику, 8 июля 1953 года, цит. по:
Lily Е. Kay, Who Wrote the Book of Life? P 131. Перепечатано с раз-
решения Игоря Гамова.
314 Как и с взломом сообщений противника...: письмо Джорджа Гамо-
ва Е. Чаргаффу, 6 мая 1954 года, там же. Р 141.
315 ...через частное международное сарафанное радио...: Gun-
ther S. Stent, DNA. Р 924.
315 Люди не обязательно верят в код...: Francis Crick, интервью Horace
Freeland Judson, 20 ноября 1975 года, в: Horace Freeland Jud-
son, The Eighth Day of Creation: Makers of the Revolution in Biology.
New York: Simon & Schuster, 1979. P 233.
315 ...длинным числом...: George Gamow, Possible Relation Between
Deoxyribonucleic Acid and Protein Structures, Nature 173.1954. P 318.
316 ...между сложными процессами...: Douglas R. Hofstadter,
The Genetic Code: Arbitrary? 1982. Март в: Metamagical Themas: Quest-
ing for the Essence of Mind and Pattern. New York: Basic Books, 1985. P 671.
317 Ядро живой клетки...: George Gamow, Information Transfer in the
Living Cell, Scientific American 193.1955. Октябрь. №10. P 70.
317 ...не нужны, если некоторые триплеты...: Francis Crick, Gen-
eral Nature of the Genetic Code for Proteins, Nature 192. 1961. 30 дека-
бря. P 1227.
317 ...последовательность нуклеотидов...: Solomon W. Golomb,
Basil Gordon, Lloyd R. Welch, Comma-Free Codes, Cana-
dian Journal of Mathematics 10. 1958. P 202-209, цит. no: Lily E. Kay,
Who Wrote the Book of Life? P 171.
318 Как только “информация” передана в белок...: Francis Crick,
On Protein Synthesis, Symposium of the Society for Experimental Biology
490
ПРИМЕЧАНИЯ
318
321
321
3^2
322
322
323
323
323
323
324
324
324
325
326
12. 1958. R 152; см.: Francis Crick, Central Dogma of Molecular Biology,
Nature 227. 1970. P 561-63; Hubert R Yockey, Information Theory, Evo-
lution, and the Origin of Life. Cambridge: Cambridge University Press,
2005. P. 20-21.
Полное описание организма...: Horace Freeland Judson,
The Eighth Day of Creation. P. 219-221.
Именно в этом смысле...: Gunther S. Stent, You Can Take the
Ethics Out of Altruism But You Can Y Take the Altruism Out of Eth-
ics, Hastings Center Report 7. 1977. №6. P. 34; Gunther S. Stent,
DNA. R 925.
Все зависит от того, какой уровень...: Seymour Benzer, The El-
ementary Units of Heredity в TO. McElroy, B. Glass, eds., The Chemi-
cal Basis of Heredity. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1957.
R 70.
Читатели... поймут всю ошибочность...: Докинз Р. Эгоистич-
ный ген. М.: ACT; Corpus, 2013.
Мы всего лишь машины...: там же.
Они не вымерли...: там же.
Английский биолог Ричард Докинз недавно разозлил меня...: Ste-
phen Jay Gould, Caring Group, and Selfish Genes в The Panda's
Thumb. New York: Norton, 1980. P. 86.
...36-летнего исследователя поведения животных...: Gun-
ther S. Stent, You Can Take the Ethics Out of Altruism But You
Can't Take the Altruism Out of Ethics. R 33.
Каждому существу...: Samuel Butler, Life and Habit. London:
Triibner & Co, 1878. R 134.
Ученик... всего лишь способ...: Daniel С. Dennett, Darwin's
Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life. New York: Simon
& Schuster, 1995. P. 346.
Антропоцентризм есть смертельный порок интеллекта...: Ed-
ward О. Wilson, Biology and the Social Sciences, Daedalus 106. 1977.
Осень. №4. P. 131.
Необходимо приложить определенное усилие...: До-
кинз Р. Эгоистичный ген.
...может обеспечить свое выживание...: там же.
Гены не наделены...: там же.
Создается молекулярная археология...: Werner R. Loewen-
stein, The Touchstone of Life: Molecular Information, Cell Communi-
491
&>
3^7
328
329
33°
33°
331
331
332
332
332
334
335
ЗЗб
336
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
cation, and the Foundations of Life. New York: Oxford University Press,
1999- В 93-94.
Каждый... отбирается как отдельный эгоистичный ген: До-
кинз Р. Расширенный фенотип. М.: ACT; Corpus, 2010.
Нет гена длинных ног...: Докинз Р. Эгоистичный ген.
...привычку говорить “ген для А”...: Докинз Р. Расширенный
фенотип.
...любой ген, воздействующий...: Докинз Р. Эгоистичный ген.
Он с равной вероятностью...: там же.
Сегодня существует тенденция...: Max Delbruck, A Physicist
Looks At Biology, Transactions of the Connecticut Academy of Arts and
Sciences 38. 1949. P. 194.
В мемофонд
Когда я размышляю о мемах...: Douglas R. Hofstadter, On Vi-
ral Sentences and Self-Replicating Structures в Metamagical Themas: Quest-
ing for the Essence of Mind and Pattern. New York, Basic Books, 1985. P 52.
В силу самой универсальности структур...: Jacques Monod,
Chance and Necessity: An Essay on the Natural Philosophy of Modem
Biology, nep. Austryn Wainhouse. New York: Knopf, 1971. P 145.
Идеи сохранили...: там же. Р 165.
Идеи порождают другие идеи...: Roger Sperry, Mind, Brain, and
Humanist Values в New Views of the Nature of Man, ed. John R. Platt.
Chicago: University of Chicago Press, 1983. P 82.
Все живое эволюционирует...: Докинз P. Эгоистичный ген.
Джордж Вашингтон в те времена...: Daniel С. Dennett, Dar-
win's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life. New York:
Simon & Schuster, 1995. P. 347.
Фургон co спицевыми колесами..: Daniel C. Dennett, Con-
sciousness Explained. Boston: Little, Brown, 1991. P. 204.
Мем... есть информационный пакет...: Daniel С. Dennett,
Memes: Myths, Misunderstandings, and Misgivings, http://ase.tufts.edu/
cogstud/papers/MEMEMYTH.FIN.htm (по состоянию на 7 июня
2010 года).
Умереть за идею...: George Jean Nathan, H.L. Mencken,
Clinical Notes, American Mercury 3.1924. Сентябрь. №9. P. 55.
492
ПРИМЕЧАНИЯ
ЗЗб
ЗЗб
337
337
338
338
338
339
339
340
340
341
342
343
344
344
344
345
345
Мне когда-то обещали...: Edmund Spenser, цит. по: Thomas
Fuller, The story of the Worthies of England. London: 1662.
Я считаю, что при наличии... ”: Докинз Р. Эгоистичный ген.
Когда вы заносите в мой разум...: там же.
Как бы ни было трудно определить этот термин...: W. D. Hamil-
ton, The Play by Nature, Science 196.1977.13 May. P. 759.
...культуру птичьего пения...: Juan D. Delius, Of Mind Memes
and Brain Bugs, A Natural History of Culture в The Nature of Culture,
ed. Walter A. Koch. Bochum, Germany: Bochum, 1989. P 40.
От взгляда к взгляду...: James Thomson, Autumn. 1730.
Зажглись ее глаза...: Мильтон Дж. Потерянный рай. М.: Худо-
жественная литература, 1982.
Вальтон предложил...: Douglas R. Hofstadter, On Viral Sen-
tences and Self-Replicating Structures. P 52.
He знаю как вы...: Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous Idea.
R346.
Компьютеры, в которых живут мемы...: Докинз Р. Эгоистич-
ный ген.
... очевидно, что созданные...: там же.
Сделай семь копий...: Daniel W. Van Arsdale, Chain Letter
Evolution, http://www.silcom.com/~BARNOWL/CHAiN-LETTER/
EVOLUTION.HTML (по состоянию 8 июня 2010 года).
Во второй половине 1933 года...: Harry Middleton Hyatt,
Folk-Lore from Adams County, Illinois, 2nd and rev. ed. Hannibal, Mo.:
Alma Egan Hyatt Foundation, 1965. P 581.
Эти письма передавались...: Charles H. Bennett, Ming Li,
Bin Ma, Chain Lettersand Evolutionary Histories, Scientific American
288. 2003. №6. June. P 77.
Для Деннета первые четыре ноты...: Daniel С. Dennett, Dar-
win's Dangerous Idea. P 344.
Мемы еще не нашли...: Susan Blackmore, The Meme Machine.
Oxford: Oxford University Press, 1999. P xii.
Мир человека состоит...: Митчелл Д. Литературный призрак.
М.: Эксмо, 2009.
Как всегда бывает...: Этвуд М. Год потопа. М.: Эксмо; Домино,
2011.
Жизнь, облаченная в слова...: John Updike, The Author Observes His
Birthday, 2005, Endpoint and Other Poems. New York: Knopf, 2009. P 8.
493
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
345
346
346
346
347
347
348
348
348
348
349
35°
353
В начале была информация...: Fred I. Dretske, Knowledge and
the Flow of Information. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1981. P xii.
Смысл случайности
Любопытно...: Каннингем М. Избранные дни. М.: Астрель,
Corpus, 2011.
...нашел в библиотеке...: Interviews, Gregory J. Chaitin, 27 октября
2007 и 14 сентября 2009; Gregory J. Chaitin, The Limits of Rea-
son, Scientific American 294. 2006. Март. №3. P 74.
...удивительной и меланхоличной...: Ernest Nagel,
James R. Newman, Godets Proof. New York: New York University
Press, 1958. P 6.
Это был очень серьезный концептуальный кризис...: цит. по:
Gregory J. Chaitin, Information, Randomness & Incompleteness:
Papers on Algorithmic Information Theory. Singapore: World Scientific,
1987. P. 61.
Ему было интересно...: Algorithmic Information Theory в Grego-
ry J. Chaitin, Conversations with a Mathematician. London: Spring-
er, 2002. P. 80.
Вероятность, как и время...: John Archibald Wheeler, At
Home in the Universe, Masters of Modern Physics. Vol. 9. New York:
American Institute of Physics, 1994. P 304.
Является ли численность населения Франции...: см. John May-
nard Keynes, A Treatise on Probability. London: Macmillan, 1921.
P 291.
...знание, причинность и структура...: там же. Р 281.
Случай — это лишь мера нашего неведения...: Henri Poincare,
Chance в: Science and Method, nep. Francis Maitland. Mineola, N. Y:
Dover, 2003. P 65.
10097325337652013586346735487680959091173929274945...: A Million Ran-
dom Digits with 100,000 Normal Deviates. Glencoe, III.: Free Press, 1955.
Любой, кто раздумывает...: Peter Galison, Image and Logic: A
Material Culture of Microphysics Chicago: University of Chicago Press,
1997. P 703.
...когда считывающая головка перемещается...: A Universal Turing
Machine with Two Internal States в: Claude Elwood Shannon,
494
ПРИМЕЧАНИЯ
355
355
356
356
357
357
357
358
359
359
360
360
362
Collected Papers, ed. N.J. A. Sloane, Aaron D. Wyner. New York: IEEE
Press, 1993. P. 733-741-
Он собирает свои наблюдения...: Gregory J. Chaitin, On the
Length of Programs for Computing Finite Binary Sequences, Journal of the
Association for Computing Machinery 13. 1966. P. 567.
Мы должны признавать...: Isaac Newton, Rules of Reasoning in
Philosophy; Rule I, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.
В последние годы царской России...: некролог, Bulletin of the Lon-
don Mathematical Society 22. 1990. P. 31; A.N. Shiryaev, Kolmogo-
rov: Life and Creative Activities, Annals of Probability 17. 1989. №3.
P867.
...которую вряд ли кто-то захотел бы интерпретировать...: Da-
vid A. Mindell et al., Cybernetics and Information Theory in the United
States, France, and the Soviet Union в: Science and Ideology: A Com-
parative History, ed. Mark Walker. London: Routledge, 2003. P. 66, 81.
...скорее техникой, чем математикой...: A.N. Kolmogorov,
A.N. Shiryaev, Kolmogorov in Perspective, nep. Harold H. Mc-
Faden, History of Mathematics. Vol. 20 (n.p.: American Mathematical
Society, London Mathematical Society, 2000. P 54.
Когда я читаю труды академика Колмогорова...: цит. по: Slava
Gerovitch, From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cy-
bernetics. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002. P 58.
...кибернетика в понимании Винера...: Intervention at the Session в:
Selected Works of A.N. Kolmogorov. P 31.
Можно ли включить разумным образом...: Колмогоров А. Из-
бранные труды. М.: Наука, 2007.
Наше определение количества...: Колмогоров А. Теория ин-
формации и теория алгоритмов. М.: Наука, 1987.
Интуитивное различие между...: Колмогоров А. Избранные
труды.
... новой концепции понятия случайного...: On the Logical Founda-
tions of Information Theory and Probability Theory, Problems of Infor-
mation Transmission 5.1969. №3. P. 1-4.
Он мечтал провести старость...: V. I. Arnold, On A.N. Kolmogo-
rov в A. N. Kolmogorov, A. N. Shiryaev, Kolmogorov in Perspective. P 94.
Парадокс первоначально говорит...: Gregory J. Chaitin,
Thinking About Godel and Turing: Essays on Complexity 19/0-200/.
Singapore: World Scientific, 2007. P 176.
495
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
364
Зб5
3^S
366
366
367
368
368
371
376
378
378
Не имеет значения...: Gregory J. Chaitin, The Berry Paradox,
Complexity 1, no. 1 (1995): 26; Paradoxes of Randomness, Complexity 7.
2002. №5. P 14-21.
...абсолютная уверенность — как Господь...: интервью, Grego-
ry J. Chaitin, 14 сентября 2009 года.
Бог играет в кости...: предисловие к: Cristian S. Calude, In-
formation and Randomness: An Algorithmic Perspective. Berlin: Springer,
2002. P viii.
...чудесно ухватил суть вещей...: Josep. Ford, Directions in Clas-
sical Chaos в Directions in Chaos, ed. Hao Bai-lin. Singapore: World Sci-
entific, 1987. P. 14.
Сжатие было важной проблемой...: Ray J. Solomonoff, The
Discovery of Algorithmic Probability, Journal of Computer and System
Sciences 55. 1997. №1. P 73-88.
“Три модели описания языка”...: Noam Chomsky, Three Models
for the Description of Language, IRE Transactions on Information Theo-
ry 2. 1956. №3. P.113-124.
Уже открытые научные законы...: Ray J. Solomonoff,Л Formal
Theory of Inductive Inference, Information and Control 7. 1964. №1.
P. 1-22.
...в шейкер и ожесточенно взбалтывая...: Cristian S. Calude,
Information and Randomness. P vii.
Предпочтительно рассматривать связь...: Gregory J. Chaitin,
Randomness and Mathematical Proof в: Information, Randomness & In-
completeness, 4.
С самого начала теории информации...: Charles Н. Bennett,
Logical Depth and Physical Complexity в: The Universal Turing Ma-
chine: A Half-Century Survey, ed. Rolf Herken. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1988. P. 209-210.
Информация как физическая величина
Чем больше энергии...: Seth Lloyd, Programming the Universe.
New York: Knopf, 2006. P. 44.
Как это произошло: Christopher A. Fuchs, Quantum Mechan-
ics as Quantum Information (and Only a Little More), arXiv:quant-
ph/020503901. 2002. 8 мая. P 1.
496
ПРИМЕЧАНИЯ
379
379
381
382
382
382
382
383
383
383
384
385
385
Это учит нас тому...: John Archibald Wheeler, Kenneth
Ford, Geons, Black Holes, and Quantum Foam: A Life in Physics. New
York: Norton, 1998. R 298.
Другими словами... каждая сущность...: It from Bit в John Ar-
chibald Wheeler, At Home in the Universe, Masters of Modern
Physics. Vol. 9. New York: American Institute of Physics, 1994. R 296.
Проблема возникла, когда Стивен Хокинг...: Stephen Hawking, Black
Hole Explosions? Nature 248. 1974. 1 марта. П01:ю.юз8/248озоао.
R 30-31.
...опубликовал ее год спустя...: Stephen Hawking, The Break-
down of Predictability in Gravitational Collapse, Physical Review D 14.
1976. R 2460-2473; Gordon Belot et al., The Hawking Informa-
tion Loss Paradox: The Anatomy of a Controversy, British Journal for the
Philosophy of Science 50. 1999. P. 189-229.
Потеря информации — крайне заразная идея...: John Preskill,
Black Holes and Information: A Crisis in Quantum Physics, Caltech
Theory Seminar, 21 октября 1994 года, http://www.theory.caltech.
edu/~preskill/talks/blackholes.pdf (на момент 20 марта 2010 года).
Некоторые физики считают...: John Preskill, Black Holes and
the Information Paradox, Scientific Americans) 1997. Апрель. R 54.
Думаю, что информация, вероятно, попадает...: цит. по: Том
Siegfried, The Bit and the Pendulum: From Quantum Computing to
M Theory — The New Physics of Information. New York: Wiley and Sons,
2000. P. 203.
Нет никакой дочерней...: Stephen Hawking, Information Loss
in Black Holes, Physical Review D 72. 2005. P 4.
Термодинамика вычислений...: Charles H. Bennett, Notes on
the History of Reversible Computation, IBM Journal of Research and De-
velopment 44. 2000. R 270.
Компьютеры... можно рассматривать как машины...: Charles Н.
Bennett, The Thermodynamics of Computation — a Review, Interna-
tional Journal of Theoretical Physics 21.1982. №12. P. 906.
... грубые расчеты...: там же.
Рольф Ландауэр: Information Is Physical, Physics Today 23. 1991. Май;
Information Is Inevitably Physical в: Anthony H.G. Hey, ed., Feynman
and Computation. Boulder, Colo.: Westview Press, 2002. P 77.
...прямой и подтянутый...: George Johnson, Rolf Landauer, Pio-
neer in Computer Theory, Dies at 72, The New York Times. 1999.30 апреля.
497
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
386
387
387
388
388
388
390
390
391
391
392
392
393
393
Можете называть это местью.: интервью, Charles Bennett, 27 октяб-
ря 2009 года.
Беннет со своим помощником Джоном Смолиным...: J. A. Smo-
lin, The Early Days of Experimental Quantum Cryptography, IBM
Journal of Research and Development 48. 2004. P 47-52.
Мы говорим так...: Barbara M. Terh al, Is Entanglement Mo-
nogamous? IBM Journal of Research and Development 48. 2004. N2i.
p. 71-78.
Согласно замысловатому и сложному протоколу...: подробное объ-
яснение приводится в: Simon SiNGH, The Code Book: The Secret
History of Codes and Codehreaking. London: Fourth Estate, 1999, начи-
ная с 339-й страницы, и это десять страниц замечательной прозы.
Готовьтесь! Я телепортирую вам гуляш: IBM advertisement, Scientif-
ic American. 1990. Февраль. P. 0-1; Anthony H.G. Hey, ed., Feynman
and Computation. P. xiii; Том Siegfried, The Bit and the Pendulum.
P. 13.
К сожалению, несообразное написание qubit...'. N. David Mer-
min, Quantum Computer Science: An Introduction. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2007. P 4.
Можно ли считать квантово-механическое...: Physical Review 47.
1935- В 777-80.
Эйнштейн снова...: цит. по: Louisa Gilder, The Age of Entan-
glement: When Quantum Physics Was Reborn. New York: Knopf, 2008.
P 162.
To, что реально существует в Б...: The Bom-Einstein Letters, nep. Irene
Born. New York: Walker, 1971. P 164.
...и прошло еще немало лет...: Asher Peres, Einstein, Podolsky,
Rosen, and Shannon, arXiv:quant-ph/0310010 vi. 2003.
Терминология может рассказать все...: Christopher A. Fuchs,
Quantum Mechanics as Quantum Information, arXiv: quant-
ph/1003.3209 vi. 2010. 26 марта. P 3.
Беннет заставил запутанность...: Charles H. Bennett et al.,
Teleporting an Unknown Quantum State Via Dual Classical and Ein-
stein-Podolsky-Rosen Channels, Physical Review Letters 70.1993. P. 1895.
Секретно! Секретно! Закройте двери...: Richard Feynman,
Simulating Physics with Computers в: Anthony H.G. Hey, ed., Feyn-
man and Computation. P 136.
Догадка Фейнмана...: интервью, Charles Bennett, 27 октября 2009 года.
498
ПРИМЕЧАНИЯ
394 ...довольно жалкий...: N. David М erm in, Quantum Computer
Science, R 17.
394 А5А-шифр: по имени его создателей Ron Rivest, Adi Shamir и Len
Adleman.
395 По их оценке...: T. Kleinjung, К. Aoki, J. Franke et al.,
Factorization of a 768-bit RSA modulus, Eprint archive no. 2010/006,
2010.
395 Квантовые компьютеры, по существу...: Dorit Aharonov, дискуссия
Harnessing Quantum Physics, 18 октября 2009 года, Perimeter Institute,
Waterloo, Ontario', электронное письмо от ю февраля 2010 года.
396 Множество людей могут прочитать книгу...: Charles Н. Ben-
nett, Publicity, Privacy, and Permanence of Information в Quantum
Computing: Back Action, AIP Conference Proceeding 864 (2006), ed. De-
babrata Goswami. Melville, N. Y: American Institute of Physics. R 175-79.
396 Если бы Шеннон был сейчас с нами...: Charles Н. Bennett, интер-
вью, 27 октября 2009 года.
396 Придумать все возможные зеркальные комнаты...: интервью Шен-
нона с Энтони Ливерсиджем, Omni (август 1987 года) в Claude
Elwood Shannon, Collected Papers, ed. N.J. A. Sloane и Aar-
on D. Wyner. New York: IEEE Press, 1993. P xxxii.
397 ...скромный список дел...: John Archibald Wheeler, In-
formation, Physics, Quantum: The Search for Links, Proceedings of the
Third International Symposium on the Foundations of Quantum Me-
chanics. 1989. R 368.
После потопа
398 Вообразите, в каждой книге...: Мантел X. Волчий зал. М.: ACT;
Астрель; Харвест, 2011.
398 Вселенная — некоторые называют ее Библиотекой...: цит. по:
Борхес X. Л. Письмена бога. М.: Республика, 1992.
399 Вероятней всего, этот brave new world...'. Борхес X. Л. Коллек-
ция. СПб.: Северо-Запад, 1992.
399 ...наш дядюшка-ересиарх...: William Gibson, An Invitation, in-
troduction to Labyrinths. R xii.
340 Что за странный хаос...: Charles Babbage, The Ninth Bridgewa-
ter Treatise: A Fragment, 2nd ed. London: John Murray, 1838. R 111.
499
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
340
401
401
401
402
403
403
403
404
4о6
409
4Ю
4ёо
4Ю
412
Мысль не может погибнуть: По Э. А. Избранные сочинения: в 2 т.
М.: Альд; Империум-пресс; Литература, 2003.
Оно охватило бы...: Pierre-Simon Laplace, A Philosophical Es-
say on Probabilities, nep. Frederick Wilson Truscott, Frederick Lincoln
Emory. New York: Dover, 1951.
Если отвлечься...: Charles Babbage, The Ninth Bridgewater
Treatise. P. 44.
...искусством фотогенического рисования...: Nathaniel Park-
er Willis, The Pencil of Nature: A New Discovery, The Corsair 1.1839.
Апрель. № 5. P 72.
Фактически это великий Вавилонский альбом...: там же. Р 71.
Система “вселенная как целое”...: Alan М. Turing, Comput-
ing Machinery and Intelligence, Minds and Machines 59. 1950. №236.
P. 440.
... научные открытия были столь значительными...: Уэллс Г. Крат-
кая история мира. М.: Крафт+, 2004.
Римляне сожгли...: Isaac Disraeli, Curiosities of Literature. Lon-
don: Routledge & Sons, 1893. P 17.
Сгорели все греческие трагедии...: Стоппард Т. “Розенкранц
и Гильденстерн мертвы” и другие пьесы. М.: Астрель; Corpus,
2010.
Если вы хотите написать о фольклоре...: Wikipedia: Requested Articles,
http://web.archive.0rg/web/20010406104800/www.wikipedia.c0m/
wiki/Requested_articles (по состоянию на 4 апреля 2001 года).
Старение — это то, что ты получаешь...: цит. по: Nicholson
Baker в The Charms ofWikipedia, New York Review of Books 55. 2008.
20 марта. №4. Тот же анонимный пользователь позже атаковал ста-
тьи об ангиопластике и Зигмунде Фрейде.
Ее еще никогда не разворачивали...: Lewis Carroll, Sylvie and
Bruno Concluded. London: Macmillan, 1893. E ^9-
Это объект в пространстве...: интервью, Jimmy Wales, 24 июля
2008 года.
Die Schraube...’. http://meta.wikimedia.org/wiki/Die_Schraube_an_
der_hinteren_linken_Bremsbacke_am_Fahrrad_von_Ulrich_Fuchs
(по состоянию 25 июля 2008 года).
Многие темы основаны...: Wikipedia: What Wikipedia Is Not, http://
en. wikipedia.org/wiki/Wikipedia:What_Wikipedia _is_not _is_not
(по состоянию на 3 августа 2008 года).
500
ПРИМЕЧАНИЯ
412 ...о метафизике...: Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквик-
ского клуба. М.: ACT; Астрель, 2011.
413 Я стоял у открытого...: Nicholson Baker, The Charms of Wikipedia.
414 Гамадриада — это лесная нимфа...: John Banville, The Infini-
ties. London: Picador, 2009. P 178.
414 составленным из слогов...: Deming Seymour, A New Yorker at
Large, Sarasota Herald. 1929. 25 августа.
414 ... к 1934 году бюро...: Regbureau, The New Yorker. 1934. 26 мая. P 16.
418 ...как утверждал историк Брайан Огилви...: Brian W. Ogilvie,
The Science of Describing: Natural History in Renaissance Europe. Chi-
cago: University of Chicago Press, 2006.
418 Scandix, Pecten veneris...', там же. P 173.
...каталог из 6 тыс. растений...: там же. Р 208.
418 Имя человека подобно его тени...: Ernst Pulgrarn, Theory of
Names. Berkeley, Cali£: American Name Society, 1954. P 3.
421 Это примерно как если бы вы встали на колени...: Ланир Дж.
Вы не гаджет. М.: Астрель; Corpus, 2011.
422 Серверные фермы размножаются...: см.: Том Vanderbilt, Data
Center Overload, The New York Times Magazine, 14 июня 2009 года.
423 Это подсчитал Сет Ллойд...: Seth Lloyd, Computational Capac-
ity of the Universe, Physical Review Letters 88. 2002. №23. 2002.
Новости каждый день
424 Простите за неудовлетворительную работу...: http://www.andrew-
tobias.com/bkold columns/o7on8.html (по состоянию на 18 января
2007 года).
424 ...великую мутацию...: Carl Bri den baugh, The Great Mutation,
American Historical Review 6}. 1963. №2.1963. P 315-331.
425 Несмотря на непрекращающиеся разговоры...: там же. Р 322.
425 ...стали попадать на печатный станок...: Elizabeth L. Eisen-
stein, The Printing Press as an Agent of Change: Communications and
Cultural Transformations in Early-Modern Europe. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1979. P 25.
425 ... сборе данных, системах хранения...: там же. Р xvi.
425 ...судьбоносная точка невозврата...: Elizabeth L. Eisenstein,
Clio and Chronos: An Essay on the Making and Breaking of History-
501
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
426
426
426
427
427
428
428
428
429
429
430
431
431
432
433
Book Time, History and Theory 6, suppl. 6: History and the Concep. of
Time. 1966. P 64.
Подходы к осмыслению...: там же. Р. 42.
Рукописная культура...: там же. Р 61.
Печать была надежной...: Elizabeth L. Eisenstein, The Print-
ing Press as an Agent of Change. P 624г£
Как я понимаю...: Carl Bridenbaugh, The Great Mutation. P 326.
...это неверная интерпретация...: Elizabeth L. Eisenstein,
Clio and Chronos. P 39.
Я каждый день узнаю...: Robert Burton, The Anatomy of Mefan-
choly, ed. Floyd Dell, Paul Jordan-Smith. New York: Tudor, 1927. P 14.
...чему немало может поспособствовать...: Gottfried Wil-
helm Leibniz, Leibniz Selections, ed. Philip P Wiener. New York:
Scribner's, 1951. P 29; cm.: Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy.
Toronto: University of Toronto Press, 1962. P 254.
...тех днях, когда...: Alexander Pope, The Dunciad (I729). Lon-
don: Methuen, 1943. P 41.
Знанье речи...: Элиот T. С. Полые люди. СПб.: ИД “Кристалл”,
2000.
Цунами доступных фактов...: David Foster Wallace, The
Best American Essays 2007. New York: Mariner, 2007.
К сожалению...: Lewis Mumford, The Myth of the Machine. Vol. 2.
The Pentagon of Power. New York: Harcourt, Brace, 1970. P. 182.
Система электронной почты...: Jacob Palme, You Have 154 Un-
read Mail! Do You Want to Read Them Now? в Computer-Based Message
Services, ed. Hugh T. Smith. North Holland: Elsevier, 1984. P 175-176.
...два психолога...: C. J. Bardert, Calvin G. Green, Clinical
Prediction: Does One Sometimes Know Too Much, Journal of Counseling
Psychology 13. 1966. №3.1966. P 267-270.
Информация, которую вы будете получать...: Siegfried
Streufert ет al., Conceptual Structure, Information Search, and
Information Utilization, Journal of Personality and Social Psychology 2.
1965. №5. P 736-740. INFORMATION-LOAD PARADIGM: напри-
мер, Naresh К Malhotra, Information Load and Consumer Decision
Making, Journal of Consumer Research 8.1982. Март. P 419.
...электронной почты, совещаний, новостных серверов...: То-
nyia J. Tidline, The Mythology of Information Overload, Library
Trends 47.1999. Зима. №3. P 502.
ПРИМЕЧАНИЯ
433
434
434
436
436
437
437
438
438
439
439
439
440
Мы платим за то...: Charles Н. Bennett, Demons, Engines, and
the Second Law, Scientific American 257.1987. №5. P 116.
He спрашивайте по телефону...: New York Times. 1929. 8 октября. P. I.
Вы склоняетесь, как пианист...: Anthony Lane, Byte Verse, The
New Yorker. 1995. 20 февраля. P. 108.
Из меметики следует...: Daniel C. Dennett, Memes and the Ex-
ploitation of Imagination, journal of Aesthetics and Art Criticism 48.1990.
P 132.
Возьмем, к примеру, Библиотеку Британского музея...: Augus-
tus De Morgan, Ari thmetical Books: From the Invention of Printing
to the Present Time. London: Taylor & Walton, 1847. P. ix.
Множество книг, недостаток времени...: Vincent of Beauvais,
Prologue, Speculum Maius, Ann Blair, Reading Strategies for Coping
with Information Overload ca. 1550-17 00,Journal of the History of Ideas
64. 2003. №1. P 12.
Ощущение, что книг...: там же.
...необходимости справиться с информационной перегрузкой...:
Brian W. Ogilvie, The Many Books of Nature: Renaissance Natu-
ralists and Information Overload, Journal of the History of Ideas 64. 2003.
№1. P. 40.
Человеку, которому есть что сказать...: Bertolt Brecht, Radio
Theory (1927), цит. no: Kathleen Woodward, The Myths of In-
formation: Technology and Postindustrial Culture. Madison, Wise.: Coda
Press, 1980.
Эпилог
Смысл неизбежно...: Jean-Pierre Dupuy, The Mechanization of
the Mind: On the Origins of Cognitive Science, пер. M. B. DeBevoise.
Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2000. P. 119.
Сегодня мы настолько же продвинулись...: Marshall McLu-
han, The Gutenberg Galaxy. Toronto: University of Toronto Press, 1962.
Pi.
Сегодня... мы до вселенских масштабов...: Маклюэн М. Пони-
мание медиа. М.: Кучково поле, 2011.
Какие шепоты...: Уитмен У. Стихотворения и поэмы. Пер. Б. Слуц-
кого.
503
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
440
440
440
44i
441
441
442
444
444
445
445
446
...теологи начали говорить...: Например, “два существа или два
миллиона существ... все обладают тем же разумом”. Parley
Parker Pratt, Key to the Science of Theology (1855), цит. no:
John Durham Peters, Speaking Into the Air: A History of the
Idea of Communication. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
P. 275.
Абсолютно необходимо...: edouard Le Roy, Les Origines hu-
maines et revolution de I3intelligence. Paris: Boivin et Cie, 1928. Пер. M. J.
Aronson, Journal of Philosophy 27.1930. 28 августа. №18. P. 499.
He правда ли, возникает...: Тейяр де Шарден П. Феномен че-
ловека. ACT, 2002.
...чепуха, украшенная...: Mind 70. 1961. №277. Р 99. Медавар тоже
не очень любил прозу Тейяра: “Эта эйфорическая проза-поэзия —
одно из самых утомительных проявлений французского духа”.
...среди них были авторы научно-фантастической литературы...:
Наверное, первый и самый примечательный — Олаф Стэплдон,
Last and First Men. London: Methuen, 1930.
...множества несвязанных между собой...: H.G. Wells, World
Brain. London: Methuen, 1938. P xiv.
Сеть изумительно изогнутых...: H.G. Wells, The Passionate
Friends. London: Harper, 1913. P 332; H. G. Wells, The War in the Air.
New York: Macmillan, 1922. P 14.
Красота в глазах смотрящего...: Fred I. Dretske, Knowledge and
the Flow of Information. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1981. P vii.
Я рассматриваю “ад”...: Jean-Pierre Dupuy, Myths of the In-
formational Society в: Kathleen Woodward, The Myths of Information-.
Technology and Postindustrial Culture. Madison, Wise.: Coda Press, 1980.
P.3.
Я думаю... что в лежащем на столе...: Dexter Palmer, The
Dream of Perpetual Motion. New York: St. Martin's Press, 2010. P 220.
Все мысли человека...: Gottfried Wilhelm Leibniz, De sci-
entia universali seu calculo philosophico, 1875; CM- Umberto Eco, The
Search for the Perfect Language, nep. James Fentress. Malden, Mass.:
Blackwell, 1995. P. 281.
Это сигналы вроде телеграфных?: Margaret Atwood, Atwood
in the Twittersphere, The New York Review of Books blog, http://www.
nybooks.com/blogs/nyrblog/2o1o/mar/29/atwood-in-the-twitter-
sphere/, 29 марта 2010 года.
504
ПРИМЕЧАНИЯ
448 Поиск по теме: цензура...: Nicholson Baker, Discards (1994)
в: The Size of Thoughts: Essays and Other Lumber. New York: Random
House, 1996. P. 168.
449 Мы располагаем словарем: интервью, Allan Jennings, февраль
1996 года; James Gleick, Here Comes the Spider в: What Just Hap-
pened: A Chronicle from the Information Frontier. New York: Pantheon,
2002. P. 128-32.
450 Я где-то читал...: J о H N Gua r e , Six Degrees of Separation. New York:
Dramatists Play Service, 1990. P 45.
450 Эту идею можно проследить..: Albert-LAszlo BARABAsi,£z«£eJ.
New York: Plume, 2003. P 26 ff.
451 Уоттс и Строгач приняли идею всерьез...: Duncan J. Watts,
Steven Н. Strogatz, Collective Dynamics of 'Small-World' Net-
works, Nature 393. 1998. P 440-42; Duncan J. Watts, Six Degrees:
The Science of a Connected Age. New York: Norton, 2003; Albert-LAszlo
Barabasi, Linked.
451 Инфекционные заболевания распространяются...: Duncan J.
Watts, Steven H. Strogatz, Collective Dynamics of “Small-
World” Networks. P. 442.
452 Понимаешь... надо добиться...: Stanislaw Lem, The Cyberiad.
Пер. Michael Kandel. London: Seeker & Warburg, 1975.P 155.
БИБЛИОГРАФИЯ
Витгенштейн Л. Избранные работы, М.: Территория будущего,
2005.
Витгенштейн Л. Философские исследования, М.: ACT; Астрель,
2011.
Докинз Р. Расширенный фенотип. М.: ACT; Corpus, 2010.
Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: ACT; Corpus, 2013.
Колмогоров А. Н. Избранные труды: в 6 т., М.: Наука, 2007.
Ланир Дж. Вы не гаджет. М.: Астрель; Corpus, 2011.
По Э. А. Полное собрание рассказов в одном томе. М.: Эксмо, 2011.
По Э. А. Стихотворения, проза. М.: Художественная литература, 1976.
Аавое, Asger. Episodes from the Early History of Mathematics. New
York: L.W Singer, 1963.
Adams, Frederick. The Informational Turn in Philosophy. Minds and
Machines 13 (2003): 471-501.
Allen, William, Thomas R.H., Thompson. A Narrative of the
Expedition to the River Niger in 1841. London: Richard Bentley, 1848.
Archer, Charles Maybury, ed. The London Anecdotes: The Electric
Telegraph, vol. 1. London: David Bogue, 1848.
Archibald, Raymond Clare. Seventeenth Century CalculatingMachines.
Mathematical Tablesand Other Aids to Computation 1:1 (1943): 27-28.
A spray, William. From Mathematical Constructivity to Computer Sci-
ence: Alan Turing, John Von Neumann, and the Origins of Computer
Science in Math- ematical Logic. PhD thesis, University of Wisconsin-
Madison, 1980.
506
БИБЛИОГРАФИЯ
The Scientific Conceptualization of Information: A
Survey. Annals of the History of Computing 7, no. 2 (1985): 117-40.
Au ng ER, Robert, ed. Darwinizing Culture: The Status of Memetics as a
Science. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Avery, John. Information Theory and Evolution. Singapore: World
Scientific, 2003. Baars, Bernard J. The Cognitive Revolution in Psychol-
ogy. New York: Guilford Press, 1986.
Babbage, Charles. On a Method of Expressing by Signs the Action of
Machinery. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 116,
no. 3 (1826): 250-65.
Babbage, Charles. Reflections on the Decline of Science in England and
on Some of Its Causes. London: B. Fellowes, 1830.
Babbage, Charles. Table of the Logarithms of the Natural Numbers,
From 1 to 108,000. London: B. Fellowes, 1831.
Babbage, Charles. On the Economy of Machinery and Manufactures.
4th ed. London: Charles Knight, 1835.
Babbage, Charles. The Ninth Bridgewater Treatise. A Fragment. 2nd ed.
London: John Murray, 1838.
Babbage, Charles. Passages from the Life of a Philosopher. London:
Longman, Green, Longman, Roberts, & Green, 1864.
Babbage, Charles. Charles Babbage and His Calculating Engines:
Selected Writings. Edited by Philip Morrison and Emily Morrison. New
York: Dover Publications, 1961.
Babbage, Charles. The Analytical Engine and Mechanical Notation.
New York: New York University Press, 1989.
Babbage, Charles. The Difference Engine and Table Making. New
York: New York University Press, 1989.
Babbage, Charles. The Works of Charles Babbage. Edited by Martin
Campbell-Kelly. New York: New York University Press, 1989.
Babbage, Henry Prevost, ed. Babbage's Calculating Engines: Being
a Collection of Papers Relating to Them; Their History and Construction.
London 1889.
Bairstow, Jeff. The Father of the Information Age. Laser Focus E. &
F.N. Spon, World (2002): 114.
Baker, Nicholson. The Size of Thoughts: Essays and Other Lumber.
New York: Random House, 1996.
Ball, W. W. Rouse. A History of the Study of Mathematics at Cambridge.
Cambridge: Cambridge University Press, 1889.
507
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Bar-Hillel, Yehoshua. An Examination of Information Theory, Phi-
losophy of Science 22, no. 2 (1955): 86-105.
BARABaSi, AbBERT-LaSZLo. Linked: How Everything Is Connected to
Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday
Life. New York: Plume, 2003.
Barnard, G. A. The Theory of Information. Journal of the Royal Statisti-
cal Society, Series В 13, no. 1 (1951): 46-64.
Baron, Sabrina Alcon, Eric N. Lindquist, and Elea-
nor F. Shevlin. Agent of Change: Print Culture Studies After Eliza-
beth L. Eisenstein. Amherst: University of Massachusetts Press, 2007.
Bartlett, C. J., and Calvin G. Green. Clinical Prediction: Does
One Sometimes Know Too Much. Journal of Counseling Psychology 13,
no. 3 (1966): 267-70.
Barwise, Jon. Information and Circumstance. Notre Dame Journal of For-
mal Logic 27, no. 3 (1986): 324-38.
В at telle, John. The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the
Rules of Business and Transformed Our Culture. New York: Portfolio,
2005.
Baugh, Albert C. A History of the English Language. 2nd ed. New York:
Appleton- Century-Crofts, 1957.
Baum, Joan. The Calculating Passion of Ada Byron. Hamden, Conn.: Shoe
String Press, 1986.
Belot, Gordon, John Earman, and Laura Ruetsche. The
Hawking Information Loss Paradox: The Anatomy of a Controversy. Brit-
ish Journal for the Philosophy of Science 50 (1999): 189-229.
Benjamin, Park. A History of Electricity (the Intellectual Rise in Electric-
ity) from Antiquity to the Days of Benjamin Franklin. New York: Wiley
and Sons, 1898.
Bennett, Charles H. On Random and Hard-to-Describe Numbers.
IBM Watson Research Center Report RC 7483 (1979).
Bennett, Charles H. The Thermodynamics of Computation — A
Review. International Journal of Theoretical Physics 21, no. 12 (1982):
906-40.
Dissipation, Information, Computational Complexity and the Definition
of Organization. In Emerging Syntheses in Science, edited by D. Pines,
297~313- Santa Fe: Santa Fe Institute, 1985.
Bennett, Charles H. Demons, Engines, and the Second Law. Scientific
American 257, no. 5 (1987): 108-16.
508
БИБЛИОГРАФИЯ
Bennett, Charles H. Logical Depth and Physical Complexity. In
The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey, edited by Rolf
Herken. Oxford: Oxford University Press, 1988.
Bennett, Charles H. How to Define Complexity in Physics, and
Why. In Complexity, Entropy, and the Physics of Information, edited by
W H. Zurek. Readin, Mass.: Addison-Wesley, 1990.
Bennett, Charles H. Notes on the History of Reversible Computation.
IBM Journal of Research and Development 44 (2000): 270-77.
Bennett, Charles H. Notes on Landauer's Principle, Reversible Com-
putation, and Maxwell's Demon. arXiv:physics 0210005 V2 (2003).
Publicity, Privacy, and Permanence of Information. In Quantum
Computing: Back Action 2006, AlP Conference Proceedings 864, edited
by Debabrata Goswami. Melville, N. Y.: American Institute of Physics,
2006.
Bennett, Charles H., and Gilles Brassard. Quantum Cryp-
tography: Public Key Distribution and Coin Tossing. In Proceedings of
IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Pro-
cessing, 175-79. Bangalore, India: 1984.
Bennett, Charles H., Gilles Brassard, Claude Crcpeau,
Richard Jozsa, Asher Peres, and William K. Woot-
TERS. Teleporting an Unknown Quantum State Via Dual Classical and
Einstein-Podolsky-Rosen Channels. Physical Review Letters 70 (1993):
1895.
Bennett, Charles H., and Rolf Landauer. Fundamental Physi-
cal Limits of Computation. Scientific American 253, no. 1 (1985): 48-56.
Bennett, Charles H., Ming Li, and Bin Ma. Chain Lettersand
Evolutionary Histories. Scientific American 288, no. 6 (June 2003): 76-81.
Benzer, Seymour. The Elementary Units of Heredity. In The Chemical
Basis of Heredity, edited by W. D. McElroy and B. Glass, 70-93. Balti-
more: Johns Hopkins University Press, 1957.
Berlinski, David. The Advent of the Algorithm: The Idea That Rules the
World. New York: Harcourt, 2000.
Bernstein, Jeremy. The Analytical Engine: Computers — Past, Present
and Future. New York: Random House, 1963.
BlKHCHANDANI, SUSHIL, DAVID HlRSHLEIFER, AND IVO WELCH.
A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informa-
tional Cascades. Journal of Political Economy 100, no. 5 (1992): 992-1026.
509
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Blackmore, Susan. The Мете Machine. Oxford: Oxford University
Press, 1999.
Blair, Ann. Reading Strategies for Coping with Information Overload ca.
1550-1700. Journal of the History of Ideas 64, no. 1 (2003): 11-28.
Blohm, Hans, Stafford Beer, and David Suzuki. Pebbles to
Computers: The Thread. Toronto: Oxford University Press, 1986.
Boden, Margaret A. Mind as Machine: A History of Cognitive Science.
Oxford: Oxford University Press, 2006.
BollobAs, Bela, and Oliver Riordan. Percolation. Cambridge:
Cambridge University Press, 2006.
Bolter, J. David. Turing's Man: Western Culture in the Computer Age.
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1984.
Boole, George. The Calculus of Logic. Cambridge and Dublin Math-
ematical Journal 3 (1848): 183-98.
Boole, George. An Investigation of the Laws of Thought, on Which Are
Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities. London:
Walton & Maberly, 1854.
Boole, George. Studies in Logic and Probability, vol. 1. La Salle, Ill.:
Open Court, 1952. Borges, Jorge Luis. Labyrinths: Selected Stories and
Other Writings. New York: New Directions, 1962.
Bouwmeester, Dik, Jian-Wei Pan, Klaus Mattle, Manfred
Eibl, Harald Weinfurter, and Anton Zeilinger. Exper-
imental Quantum Teleportation. Nature (11 December 1997): 575—79-
Bowden, В. V., ED. Faster Than Thought: A Symposiu on Digital Comput-
ing Machines. New York: Pitman, 1953.
Braitenberg, Valentino. Vehicles: Mass.: MIT Press, 1984.
Experiments in Synthetic Psychology. Cambridge,
Brewer, Charlotte. Authority and Personality in the Oxford English
Dictionary." Transactions of the Philological Society 103, no. 3 (2005):
261-301.
Brewster, David. Letters on Natural Magic. New York: Harper &
Brothers, 1843.
Brewster, Edwin Tenney. A Guide to Living Things. Garden City,
N. Y: Doubleday, 1913.
Bridenbaugh, Carl. The Great Mutation. American Historical Review
63, no. 2 (1963): 315-31.
510
БИБЛИОГРАФИЯ
Briggs, Henry. Logarithmicall Arithmetike: Or Tables of Logarithmes
for Absolute Numbers from an Unite to 100000. London: George
Miller, 1631.
Brillouin, Leon. Science and Information Theory. New York: Aca-
demic Press, 1956.
Broadbent, Donald E. Perception and Communication. Oxford: Per-
gamon Press, 1958.
Bromley, Allan G. The Evolution of Babbage's Computers. Annals of the
History of Computing 9 (1987): 113-36.
Brown, John Seely, and Paul Duguid. The Social Life of Informa-
tion. Boston: Harvard Business School Press, 2002.
Browne, Thomas. Pseudoxia Epidemica: Or, Enquiries into Very Many
Received Tenents, and Commonly Presumed Truths. 3rd ed. London:
Nath. Ekins, 1658.
Bruce, Robert V. Bell: Alexander Graham Bell and the Conquest of Soli-
tude. Boston: Little, Brown, 1973.
Buckland, Michael K. Information as Thing. Journal of the American
Society for Information Science 42 (1991): 351-60.
Burchfield, R. W, and Hans Aarsleff. Oxford English Dictionary
and the State of the Language. Washington, D. C.: Library of Congress,
1988.
Burgess, Anthony. But Do Blondes Prefer Gentlemen? Homage to
Qwert Yuiop and Other Writings. New York: McGraw-Hill, 1986.
Bush, Vannevar. As We May Think. The Atlantic, July 1945.
Butler, Samuel. Life and Habit. London: Triibner & Co, 1878.
Butler, Samuel. Essays on Life, Art, and Science. Edited by R. A Streat-
feild. Port Washington, N. Y: Kennikat Press, 1970.
Buxton, H. W, and Anthony Hyman. Memoir of the Life and
Labours of the Late Charles Babbage Esq., ER. S. Vol. 13 of the Charles
Babbage Institute Reprint Series for the History of Computing. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press, 1988.
Calude, Cristian S. Information and Randomness: An Algorithmic Per-
spective. Berlin: Springer, 2002.
Calude, Cristian S., and Gregory J. Chaitin. Randomness
and Complexity: From Leibniz to Chaitin. Singapore, Hackensack, N. J.:
World Scientific, 2007.
Campbell-Kelly, Martin. Charles Babbage's Table of Logarithms
(1827). °f the History of Computing 10 (1988): 159-69.
511
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Campbell-Kelly, Martin, and William Aspray. Computer: A
History of the Information Machine. New York: Basic Books, 1996.
Campbell-Kelly, Martin, Mary Croarken, Raymond
Flood, and Eleanor Robson, eds. The History of Mathemati-
cal Tables: From Sumer to Spreadsheets. Oxford: Oxford University
Press, 2003.
Campbell, Jeremy. Grammatical Man: Information, Entropy, Language,
and Life. New York: Simon & Schuster, 1982.
Campbell, Robert V. D. Evolution of Automatic Computation. In Pro-
ceedings of the 1952 ACM National Meeting (Pittsburgh), 29-32. New
York: ACM, 1952.
Carr, Nicholas. The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to
Google. New York: Norton, 2008.
Carr, Nicholas. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains.
New York: Norton, 2010.
Carrington, John F. A Comparative Study of Some Central African
Gong-Languages. Brussels: Falk, G. van Campenhout, 1949.
Carrington, John F. The Talking Drums of Africa. London: Carey
Kingsgate, 1949.
Carrington, John F. La Voix des tambours: comment comprendre le
langage tambourine dAfrique. Kinshasa: Centre Protestant d’Editions et
de Diffusion, 1974.
Casson, Herbert N. The History of the Telephone. Chicago:
A.C. McClurg, 1910.
Cawdrey, Robert. A Table Alphabeticall of Hard Usual English Words
(1604); the First English Dictionary. Gainesville, Fla.: Scholars’ Facsimi-
les & Reprints, 1966.
Ceruzzi, Paul. A History of Modern Computing. Cambridge, Mass.:
MIT Press, 2003.
Chaitin, Gregory J. On the Length of Programs for Computing Finite
Binary Sequences. Journal of the Association for Computing Machinery
13 (1966): 547-69.
Chaitin, Gregory J. Information-Theoretic Computational Complexity.
IEEE Transactions on Information Theory 20 (1974): 10-15.
Chaitin, Gregory J. Information, Randomness & Incompleteness: Papers
on Algorithmic Information Theory. Singapore: World Scientific, 1987.
Chaitin, Gregory J. Algorithmic Information Theory. Cambridge:
Cambridge University Press, 1990.
512
БИБЛИОГРАФИЯ
Chaitin, Gregory J. At Home in the Universe. Woodbury, N. Y:
American Institute of Physics, 1994.
Chaitin, Gregory J. Conversations with a Mathematician. London:
Springer, 2002.
Chaitin, Gregory J. Meta Math: The Quest for Omega. New York: Pan-
theon, 2005.
Chaitin, Gregory J. The Limits of Reason. Sdentijic American 294,
no. 3 (March 2006): 74.
Chaitin, Gregory J. Thinking About Godel and Turing: Essays on
Complexity, 197 2007. Singapore: World Scientific, 2007.
Chandler, Alfred D., and Cortada, James W., eds. A Nation
Transformed By Information: How Information Has Shaped the United
States from Colonial Times to the Present. (2000).
Chentsov, Nicolai N. The Unfathomable Influence of Kolmogorov.
The Annals of Statistics 18, no. 3 (1990): 987-98.
Cherry, E. Colin. A History of the Theory of Information. Transactions of
the IRE Professional Group on Information Theory 1, no. 1 (1953): 22-43.
Cherry, E. Colin. On Human Communication Cambridge, Mass.: MIT
Press, 1957.
Chomsky, Noam. Three Models for the Description of Language. IRE
Transactions on Information Theory 2, no. 3 (1956): 113-24.
Chomsky, Noam. Reflections on Language. New York: Pantheon, 1975.
Chrisley, Ronald, ed. Artifical Intelligence: Critical Concepts. Lon-
don: Routledge, 2000.
Church, Alonzo. On the Concept of a Random Sequence. Bulletin of the
American Mathematical Sodety 46, no. 2 (1940): 130-35.
Churchland, Patricia S., and Terrence J. Sejnowski. The
Computational Brain. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992.
Cilibrasi, Rudi, and Paul Vitanyi. Automatic Meaning Discovery
Using Google. arXiv:cs.CL/04i2098 v2, 2005.
Clanchy, M.T. From Memory to Written Record, England, 106 1307.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979.
Clarke, Roger T. The Drum Language of the Tumba People. American
journal of Sociology 40, no. 1 (1934): 34-48.
Clayton, Jay. Charles Dickens in Cyberspace: The Afterlife of the Nineteenth
Century in Postmodern Culture. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Clerke, Agnes M. The Herschels and Modern Astronomy. New York:
Macmillan, 1895.
513
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Сое, Lewis. The Telegraph: A History of Morse's Invention and Its Prede-
cessors in the United States. Jefferson, N. C.: McFarland, 1993.
Colton, F. Barrows. The Miracle of Talking by Telephone. National
Geographic 72 (1937): 395-433.
Conway, Flo, and Jim Siegelman. Dark Hero of the Information
Age: In Search of Norbert Wiener, the Father of Cybernetics. New York:
Basic Books, 2005.
Cooke, William Fothergill. The Electric Telegraph: Was It Invented
by Professor Wheat- stone? London: WH. Smith & Son, 1857.
Coote, Edmund. The English Schoole-maister. London: Ralph Jackson
& Robert Dexter, 1596.
Cordeschi, Roberto. The Discovery of the Artificial: Behavior, Mind,
and Machines Before and Beyond Cybernetics. Dordrecht, Netherlands:
Springer, 2002.
Cortada, James W. Before the Computer. Princeton, N. J.: Princeton
University Press, 1993.
Cover, Thomas M., Peter Gacs, and Robert M. Gray. Kol-
mogorov's Contributions to Information Theory and Algorithmic Com-
plexity. The Annals of Probability 17, no. 3 (1989): 840-65.
Craven, Kenneth. Jonathan Swift and the Millennium of Madness: The
Information Age in Swift's Tale of a Tub. Leiden, Netherlands: E.J. Brill, 199.
Crick, Francis. On Protein Synthesis. Symposium of the Society for
Experimental Biology 12 (1958): 138-63.
Crick, Francis. Central Dogma of Molecular Biology. Nature 227 (1970):
561-63.
Crick, Francis. What Mad Pursuit. New York: Basic Books, 19.
CROARKen, Mary. Tabulating the Heavens: Computing the Nautical
Almanac in 18 th Century England. IEEE Annals of the History of Com-
puting 25, no. 3 (2003): 48-61.
Crowley, David, and Paul Heyer, eds. Communication in His-
tory: Technology, Culture, Society. Boston: Allyn and Bacon, 2003.
Crowley, David, and David Mitchell, eds. Communication
Theory Today. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1994.
Daly, Lloyd W. Contributions to a History of Alphabeticization in Antiq-
uity and the Middle Ages. Brussels: Latomus, 1967.
Danielsson, Ulf H., and Marcelo Schiffer. Quantum Mechan-
ics, Common Sense, and the Black Hole Information Paradox. Physical
Review D 48, no. 10 (1993): 4779-84.
514
БИБЛИОГРАФИЯ
Darrow, Karl К. Entropy. Proceedings of the American Philosophical
Society 87, no. 5 (1944): 365-67.
Davis, Martin. The Universal Computer: The Road from Leibniz to Tur-
ing. New York: Norton, 2000.
Dawkins, Richard. In Defence of Selfish Genes. Philosophy 56, no. 218
(1981): 556-73.
Dawkins, Richard. The Blind Watchmaker. New York: Norton, 1986.
De Chadarevian, Soraya. The Selfish Gene at 30/ The Origin and
Career of a Book and Its Title. Notes and Records of the Royal Society
61 (2007): 31-38.
De Morgan, Augustus. Arithmetical Books: From the Invention of
Printing to the Present Time. London: Taylor & Walton, 1847.
De Morgan, Sophia Elizabeth. Memoir of Augustus De Morgan.
London: Longmans, Green, 1882.
Delbruck, Max. A Physicist Looks at Biology. Transactions of the Con-
necticut Academy of Arts and Sciences 38 (1949): 173-90.
Delius, Juan D. Of Mind Memes and Brain Bugs, a Natural History of
Culture. In The Nature of Culture, edited by Walter A. Koch. Bochum,
Germany: Bochum, 1989.
Denbigh, K. G., and J. S. Denbigh. Entropy in Relation to Incomplete
Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
Dennett, Daniel C. Memes and the Exploitation of Imagination. Jour-
nal of Aesthetics and Art Criticism 48 (1990): 127-35.
Dennett, Daniel C. Consciousness Explained. Boston: Little, Brown, 1991.
Dennett, Daniel C. Darwins Dangerous Idea: Evolution and the
Meanings of Life. New York: Simon & Schuster, 1995.
Dennett, Daniel C. Brainchildren: Essays on Designing Minds. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press, 1998.
Desmond, Adrian, and James Moore. Darwin. London: Michael
Joseph, 1991.
Diaz Vera, Javier E. A Changing World of Words: Studies in English His-
torical Lexicog- raphy, Lexicology and Seman ics. Amsterdam: Rodopi, 2002.
Dilts, Marion May. The Telephone in a Changing World. New York:
Longmans, Green, 1941.
Diringer, David, and Reinhold Regensburger. The Alphabet:
A Key to the History of Mankind. 3d ed. New York: Funk & Wagnails, 1968.
Dretske, Fred I. Knowledge and the Flow of Information. Cambridge,
Mass.: MIT Press, 1981.
515
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Duane, Alexander. Sight and Signallingin the Navy. Proceedings of the
American Philosophical Society 55, no. 5 (1916): 400-14.
Dubbey, J.M. The Mathematical Work of Charles Babbage. Cambridge:
Cambridge University Press, 1978.
Dupuy, Jean-Pierre. The Mechanization of the Mind: On the Origins
of Cognitive Science. Translated by M. B. DeBevoise. Princeton, N. J.:
Princeton University Press, 2000.
Dyson, George B. Darwin Among the Machines: The Evolution of Global
Intelligence. Cambridge, Mass.: Perseus, 1997.
Eco, Umberto. The Search for the Perfect Language. Translated by James
Fentress. Malden, Mass.: Blackwell, 1995.
Edwards, Mary. Computing for a Living in 18th-Century England. IEEE
Annals of the Histoy of Computing 25, no 4 (2003): 9-15.
Edwards, P. N. The Closed World'. Computers and the Politics of Discourse
in Cold War America. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996.
Eisenstein, Elizabeth L. Clio and Chronos: An Essay on the Making
and Breaking of History-Book Times. In History and Theory suppl. 6:
History and the Concept ofTime (1966): 36-64.
Eisenstein, Elizabeth L. The Printing Press as an Agent of Change:
Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe.
Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
Ekert, Artur. Shannons Theorem Revisited. Nature 367 (1994): 513-14.
Ekert, Artur. From Quantum Code-Making to Quantum Code-Break-
ing. arXiv: quant-ph/^yoyoy^ ^1, 1997-
Elias, Peter. Two Famous Papers. IRE Transactions on Information The-
ory 4, no. 3 (1958): 99.
Emerson, Ralph Waldo. Society and Solitude. Boston: Fields, Osgood,
1870.
Everett, Edward. The Uses of Astronomy. In Orations and Speeches on
Various Occasions, 422-65. Boston: Little, Brown, 1870.
Fahie, J. J. A History of Electric Telegraphy to the Year 1837. London: E. &
F.N. Spon, 1884.
Fauvel, John, and Jeremy Gray. The History of Mathematics: A
Reader. Mathematical Association of America, 1997.
Feferman, Solomon, ed. Kurt Godel: Collected Wtlrks. New York:
Oxford University Press, 1986.
Feynman, Richard P. The Character of Physical Law. New York: Mod-
ern Library, 1994.
516
БИБЛИОГРАФИЯ
Feynman, Richard P. Feynman Lectures on Computation. Edited by
Anthony J. G. Hey and Robin W Allen. Boulder, Colo.: Westview Press,
1996.
Finnegan, Ruth. Oral Literature in Africa. Oxford: Oxford University
Press, 1970.
Fischer, Claude S. America Calling: A Social History of the Telephone
to 1940. Berkeley: University of California Press, 1992.
Ford, Joseph. Directions in Classical Chaos. In Directions in Chaos,
edited by Hao Bai-lin. Singapore:World Scientific, 1987.
Franksen, Ole I. Introducing 'Mr Babbage's Secret'. A PL Quote Quad
15, no. 1 (1984): 14-17.
Friedman, William F. Edgar Allan Poe, Cryptographer. American Lit-
erature 8, no. 3 (19з6):266-8о.
Fuchs, Christopher A. Notes on a Paulianidea: Foundational, His-
torical, Anecdotal and Forward-LookingThoughts on the Quantum."
arXiv:quant-ph/o 10 5039, 2001.
Fuchs, Christopher A. Quantum Mechanics as Quantum Informa-
tion (and Only a Little More), 2002. arXiv:quant-ph/0205039 vi, 8 May
2001.
Fuchs, Christopher A. QBism, the Perimeter of Quantum Bayesian-
ism, arXiv:quant-ph/1003. $2O9vi, 2010.
Coming of Age with Quantum Information: Notes on a
Paulian Idea. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 2010.
Galison, Peter. Image and Logic: A Material Culture of Microphysics.
Chicago: University of Chicago Press, 1997.
Gall AGER, Robert G. Claude E. Shannon: A Retrospective on His Life,
Work, and Impact. IEEE Transactions on Information 47, no. 7 (2001):
2681-95.
Gamow, George. Possible Relation Between Deoxyribonucleic Acid and
Protein Structures. Nature 173 (1954): 318.
Gamow, George. Information Transfer in the Living Cell. Scientific
American 193, no. 10 (October 1955): 70.
Gardner, Martin. Hexaflexagons and Other Mathematical Diversions.
Chicago: University of Chicago Press, 1959.
Gardner, Martin. Martin Gardner's Sixth Book of Mathematical Games
from Scientific American. San Francisco: WH. Freeman, 1963.
Gasser, James, ed. A Boole Anthology: Recent and Classical Studies in
the Logic of George Boole. Dordrecht, Netherlands: Kluwer, 2000.
517
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Gell-Mann, Murray, and Seth Lloyd. Information Measures, Effec-
tive Complexity, and Total Information. Complexity 2, no. 1 (1996): 44-52.
Genosko, Gary. Marshall McLuhan: Critical Evaluations in Cultural
Theory. Abingdon, U. K.: Routledge, 2005.
Geoghegan, Bernard Dionysius. The Historiographic Conceptual-
ization of Information: A Critical Survey. Annals of the History of Com-
puting (2008): 66-81.
Gerovitch, Slava. From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet
Cybernetics. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002.
Gilbert, E.N. Information Theory After 18 Years. Science 152,
no. 3720 (1966): 320-26.
Gilder, Louisa. The Age of Entanglement: When Quantum Physics Was
Reborn. New York: Knopf, 2008.
Gilliver, Peter, Jeremy Marshall, and Edmund Weiner.
The Ring of Words: Tolkien and the Oxford English Dictionary. Oxford:
Oxford University Press, 2006.
Gitelman, Lisa, and Geoffrey B. Pingree, eds. New Media 1740-
191J. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003.
Glassner Jean-Jacques. The Invention of Cuneiform. Translated and
edited by Zainab Bahrani and Marc Van De Mieroop. Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 2003.
Gleick, James. Chaos: MakingaNew Science. New York: Viking, 1987.
Gleick, James. The Lives They Lived: Claude Shannon, B. 1916; Bit
Player. New York Times Magazine, 30 December 2001, 48.
Gleick, James. What Just Happened: A Chronicle from the Information
Frontier. New York: Pantheon, 2002.
Godel, Kurt. Russell's Mathematical Logic (1944). In Kurt Godel: Col-
lected Works, edited by Solomon Feferman, vol. 2, 119. New York:
Oxford University Press, 1986.
Goldsmid, Frederic John. Telegraph and Travel: A Narrative of the
Formation and Development of Telegraphic Communication Between
England and India, Under the Orders of Her Majesty's Government, With
Incidental Notices of the Countries Traversed By the Lines. London: Mac-
millan, 1874.
Goldstein, Rebecca. Incompleteness: The Proof and Paradox of Kurt
Godel. New York: Atlas, 2005.
Goldstine, Herman H. Information Theory. Science 133,
no. 3462 (1961): 1395-99.
518
БИБЛИОГРАФИЯ
Goldstine, Herman H. The Computer: From Pascal to Von Neumann.
Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1973.
Goodwin, Astley J. H. Communication Has Been Established. London:
Methuen, 1937.
Goody, Jack. The Domestication of the Savage Mind. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1977.
Goody, Jack. The Interface Between the Written and the Oral. Cambridge:
Cambridge University Press, 1987.
Goody, Jack, and Ian Watt. The Consequences of Literacy. Compara-
tive Studies in Society and History 5, no. 3 (1963): 304-45.
Goonatilake, Susantha. The Evolution of Information: Lineages in
Gene, Culture and Artefact. London: Pinter, 1991.
Gorman, Michael E. Transforming Nature: Ethics, Invention and Dis-
covery. Boston: Kluwer Academic, 1998.
Gould, Stephen Jay. The Panda's Thumb. New York: Norton, 1980.
Gould, Stephen Jay. Humbled by the Genome's Mysteries. The New
York Times, 19 February 2001.
Grafen, Alan, and Mark Ridley, eds. Richard Dawkins: How a
Scientist Changed the Way We Think. Oxford: Oxford University Press,
2006.
Graham, A.C. Studies in Chinese Philosophy and Philosophical Literature.
Vol. SUNY Series in Chinese Philosophy and Culture. Albany: State
University of New York Press, 1990.
Green, Jonathon. Chasing the Sun: Dictionary Makers and the Diction-
aries They Made. New York: Holt, 1996.
Gregersen, Niels Henrik, ed. From Complexity to Life: On the
Emergence of Life and Meaning Oxford: Oxford University Press, 2003.
Griffiths, Robert B. Nature and Location of Quantum Information.
Physical Review A 66 (2): 012311-1.
Grunwald, Peter, and Paul Vitanyi. Shannon Information and
Kolmogorov Complexity, a Xiv:cs.IT/0410002 vi, 8 August 2005.
Guizzo, Erico Mariu. The Essential Message: Claude Shannon and the
Making of Information Theory. Master’s thesis, Massachusetts Institute
of Technology, September 2003.
Gutfreund, H., and G. Toulouse. Biology and Computation: A
Physicist's Choice. Singapore: World Scientific, 1994.
Hailperin, Theodore. Boole's Algebra Isn't Boolean Algebra. Math-
ematics Magazine 54, no. 4 (1981): 172-84.
519
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Halstead, Frank G. The Genesis and Speed of the Telegraph Codes.
Proceedings of the American Philosophical Society 93, no. 5 (1949): 448-58.
Halverson, John. Goody and the Implosion of the Literacy Thesis. Man
27, no. 2 (1992): 301-17.
Harlow, Alvin F. Old Wires and New Waves. New York: D. Appleton-
Century, 1936.
Harms, William F. The Use of Information Theory in Epistemology.
Philosophy of Science 65, no. 3 (1998): 472-501.
Harris, Roy. Rethinking Writing. Bloomington: Indiana University Press,
2000.
Hartley, Ralph V. L. Transmission of Information. Bell System Techni-
cal Journal 7 (1928): 535-63.
Havelock, Eric A. Preface to Plato. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-
versity Press, 1963.
Havelock, Eric A. The Muse Learns to Write: Reflections on Oralityand
Literacy from Antiquity to the Present. New Haven, Conn.: Yale Univer-
sity Press, 1986.
Havelock, Eric Alfred, and Jackson P. Hershbell. Com-
munication Arts in the Ancient World. New York: Hastings House, 1978.
Hawking, Stephen. God Created the Integers: The Mathematical Break-
throughs That Changed History. Philadelphia: Running Press, 2005.
Hawking, Stephen. Information Loss in Black Holes. Physical Review
D 72, arXiv:hep-th/0507171 vi, 2005.
Hay les, N. Katherine. How We Became Posthuman: Virtual Bodie in
Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago: University of Chicago
Press, 1999.
Headrick, Daniel R. When Information Came of Age: Technologies
of Knowledge in the Age of Reason and Revolution, 1700-1850. Oxford:
Oxford University Press, 2000.
Heims, Steve J. John Von Neumann and Norbert Wiener. Cambridge,
Mass.: MIT Press, 1980.
Heims, Steve J. The Cybernetics Group. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991.
Herken, Rolf, ed. The Universal Turing Machine: A Half-Century Sur-
vey. Vienna: Springer-Verlag, 1995.
Hey, Anthony J.G., ed. Feynman and Computation. Boulder, Colo.:
Westview Press, 2002.
Hobbes, Thomas. Leviathan, or, the Matter, Forme, and Power of a Com-
monwealth, Eclesiasticall and Civill. London: Andrew Crooke, 1660.
520
БИБЛИОГРАФИЯ
Hodges, Andrew. Alan Turing: The Enigma. London: Vintage, 1992.
Hofstadter, Douglas R. Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden
Braid. New York: Basic Books, 1979.
Hofstadter, Douglas R. Metamagical Themas: Questing for the
Essence of Mind and Pattern. New York: Basic Books, 1985.
Hofstadter, Douglas R. I Am a Strange Loop. New York: Basic
Books, 2007.
Holland, Owen. The First Biologically Inspired Robots. Robotica
21 (2003): 351-63.
Holmes, Oliver Wendell. The Autocrat of the Breakfast-Table. New
York: Houghton Mifflin, 1893.
Holzmann, Gerard J., and Bjorn Pehrson. The Early History of Data
Networks. Washington D.C.: IEEE Computer Society, 1995.
Hopper, Robert. Telephone Conversation. Bloomington: Indiana Uni-
versity Press, 1992.
Horgan, John. Claude E. Shannon. IEEE Spectrum (April 1992): 72-75.
Horsley, Victor. Description of the Brain of Mr. Charles Babbage,
F. R. S. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series
В 200 (1909): 117-31.
Huberman, Bernardo A. The Laws of the Web: Patterns in the Ecology
of Information. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001.
Hughes, Geoffrey. A History of English Words. Oxford: Blackwell,
2000.
Hullen, Werner. English Dictionaries 800-1700: The Topical Tradition.
Oxford: Clarendon Press, 1999.
Hume, Alexander. Of the Orthographic and Congruitie of the Britan
Tongue (1620). Edited from the original ms. in the British Museum by
Henry B. Wheatley. London: Early English Text Society, 1865.
Husbands, Philip, and Owen Holland. The Ratio Club: A Hub
of British Cybernetics. In The Mechanical Mind in History, 91-148. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press, 2008.
Husbands, Philip, Owen Holland, and Michael Wheeler
eds. The Mechanical Mind in History. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008.
Huskey, Harry D., and Velma R. Huskey. Lady Lovelace and
Charles Babbage. Annals of the History of Computing 2, no. 4 (1980):
299-309.
Hyatt, Harry Middleton. Folk-Lore from Adams County, Illinois.
2nd and rev. ed. annibal, Mo.: Alma Egan Hyatt Foundation, 1965.
521
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Hyman, Anthony. Charles Babbage: Pioneer of the Computer. Princ-
eton, N. J.: Princeton University Press, 1982.
Hyman, Anthony, ed. Science and Reform: Selected Works of Charles
Babbage. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Ifrah, Georges. The Universal History of Computing: From the Abacus
to the Quantum Computer. New York: Wiley and Sons, 2001.
Ivanhoe, P. J., and Bryan W. Van Norden. Readings in Classical
Chinese Philosophy. 2nd ed. Indianapolis: Hackett Publishing, 2005.
Jackson, Willis, ed. Communication Theory. New York: Academic
Press, 1953.
James, William. Principles of Psychology. Chicago: Encyclopaedia Bri-
tannica, 1952.
Jaynes, Edwin T. Information Theory and Statistical Mechanics. Physical
Review 106, no. 4 (1957): 620-30.
Jaynes, Edwin T. Where Do We Stand on Maximum Entropy. In The
Maximum Entropy Formalism, edited by R. D. Levine and Myron Tribus.
Cambridge, Mass.: MIT Press, 1979.
Jaynes, Edwin T., Walter T. Grandy, and Peter W. Milonni.
Physics and Probability: Essays in Honor of Edwin T Jaynes. Cambridge:
Cambridge University Press, 1993.
Jaynes, Julian. The Origin of Consciousness in the Breakdown of the
Bicameral Mind. Boston: Houghton Mifflin, 1977.
Jennings, Humphrey. Pandaemonium: The Coming of the Machine as
Seen by Contemporary Observers, 1660-1886. Edited by Mary-Lou Jen-
nings and Charles Madge. New York: Free Press, 1985.
Johannsen, Wilhelm. The Genotype Conception of Heredity. Ameri-
can Naturalist 45, no. 531 (1911): 129-59.
Johns, Adrian. The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Mak-
ing. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
Johnson, George. Fire in the Mind: Science, Faith, and the Search for
Order. New York: Knopf, 1995.
Johnson, George. Claude Shannon, Mathematician, Dies at 84. The
New York Times, 27 February 2001, B7.
Johnson, Horton A. Thermal Noise and Biological Information. Quar-
terly Review of Biology 62, no. 2 (1987): 141-52.
Joncourt, Elie de. De Natura et Praeclaro Usu Simplicissimae Speciei
Numerorum Trigonalium. Edited by E. de Joncourt Auctore. Hagae
Comitum: Husson, 1762.
522
БИБЛИОГРАФИЯ
Jones, Alexander. Historical Sketch of the Electric Telegraph: Including
Its Rise and Progress in the United States. New York: Putnam, 1852.
Jones, Jonathan. Quantum Computers Get Real. Physics World 15,
no. 4 (2002): 21-22.
Jones, Jonathan. Quantum Computing: Putting It into Practice. Nature
421 (2003): 28-29.
Judson, Horace Freeland. The Eighth Day of Creation: Makers of
the Revolution in Biology. New York: Simon & Schuster, 1979.
Kahn, David. The Codebreakers: The Story of Secret Writing. London:
Weidenfeld & Nicolson, 1968.
Kahn, David. Seizingthe Enigma: The Race to Break the German U-Boat
Codes, 1939-1943. New York: Barnes & Noble, 1998.
Kahn, Robert E. A Tribute to Claude E. Shannon. IEEE Communica-
tions Magazine (2001): 18-22.
Kalin, Theodore A. Formal Logic and Switching Circuits. In Proceed-
ings of the 19^2 ACM National Meeting (Pittsburgh), 251-57. New York:
ACM, 1952.
Kauffman, Stuart. Investigations. Oxford: Oxford University Press,
2002.
Kay, Lily E. Who Wrote the Book of Life: A History of the Genetic Code.
Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2000.
Kelly, Kevin. Out of Control: The Rise of Neo-Biological Civilization.
Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1994.
Kendall, David G. Andrei Nikolaevich Kolmogorov. 25 April 1903-
20 October 1987. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society
37 (1991): 301-19-
Keynes, John Maynard. A Treatise on Probability. London: Macmil-
lan, 1921.
Kneale, William. Boole and the Revival of Logic. Mind yj,
no. 226 (1948): 149-75.
Knuth, Donald E. Ancient Babylonian Algorithms. Communications of
the Association for Computing Machinery 15, no. 7 (1972): 671-77.
Kolmogorov, A. N., and A.N. Shiryaev. Kolmogorov in Perspec-
tive. History of Mathematics, vol. 20. Translated by Harold H. McFaden.
N.p.: American Mathematical Society, London Mathematical Society,
2000.
Krutch, Joseph Wood. Edgar Allan Poe: A Study in Genius. New York:
Knopf, 1926.
523
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Кив AT, Libor, and Jirl Zeman. Entropy and Information in Science
and Philosophy. Amsterdam: Elsevier, 1975.
Langville, Amy N., and Carl D. Meyer. Coogle's Page Rank and
Beyond: The Science of Search Engine Rankings. Princeton, N. J.: Princ-
eton University Press, 2006.
Lanouette, William. Genius in the Shadows. New York: Scribner’s,
1992.
Lardner, Dionysius. Babbage's Calculating Engines. Edinburgh
Review 59, no. 120 (1834): 263-327.
Lardner, Dionysius. The Electric Telegraph. Revised and rewritten by
Edward B. Bright. London: James Walton, 1867.
Lasker, Edward. The Adventure of Chess. 2nd ed. New York: Dover,
1959-
Leavitt, Harold J., and Thomas L Whisler. “Management in
the 1980s.” Harvard Business Review (1958): 41-48.
Leff, Harvey S., and Andrew F. Rex, eds. Maxwell's Demon:
Entropy, Information, Computing. Princeton, N. J.: Princeton Univer-
sity Press, 1990.
Leff, Harvey S., and Andrew F. Rex, eds. Maxwell's Demon 2:
Entropy, Classicaland Quantum Information, Computing. Bristol U. K:
Institute of Physics, 2003.
Lenoir, Timothy, ed. Inscribing Science: Scientific Texts and the Mate-
riality of Communication. Stanford, Calif: Stanford University Press,
1998.
Licklider, J. C. R. Interview Conducted by William Aspray and Arthur
Norberg (1988).
Lieberman, Phillip. ‘Voice in the Wilderness: How Humans Acquired
the Power of Speech. Sciences (1988): 23-29.
Lloyd, Seth. Computational Capacity of the Universe. Physical Review
Letters 88, no. 23 (2002). arXiv:quant-ph/onoi^Jvl.
Lloyd, Seth. Programming the Universe. New York: Knopf, 2006.
Loewenstein, Werner R. The Touchstone of Life: Molecular Infor-
mation, Cell Communication, and the Foundations of Life. New York:
Oxford University Press, 1999.
Lucky, Robert W. Silicon Dreams: Information, Man, and Machine. New
York: St. Martin’s Press, 1989.
Lundheim, Lars. On Shannon and ‘Shannon's Formula'. Telektronikk 98,
no. I (2002): 20-29.
524
БИБЛИОГРАФИЯ
Luria, A. R Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976.
Lynch, Aaron. Thought Contagion: How Belief Spreads Through Society.
New York: Basic Books, 1996.
Mabee, Carleton. The American Leonardo: A Life ofSamuel F.B. Morse.
New York: Knopf, 1943.
MacFarlane, Alistair G. J. Information, Knowledge, and the Future
of Machines. Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and
Engineering Sciences 361, no. 1809 (2003): 1581-616.
Machlup, Fritz, and Una Mansfield, eds. The Study of Infor-
mation: Interdisciplinary Messages. New York: Wiley and Sons, 1983.
Machta, J. Entropy, Information, and Computation. American Journal of
Physics 67, no. 12 (1999): 1074-77.
Mackay, Charles. Memoirs of Extraordinary Popular Delusions. Phila-
delphia: Lindsay & Blakiston, 1850.
MacKay, David J. C. Information Theory, Inference, and Learning Algo-
rithms. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
MacKay, Donald M. Information, Mechanism, and Meaning. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press, 1969.
Macrae, Norman. John Von Neumann: The Scientific Geius Who Pio-
neered the Modem Computer, Game Theory, Nuclear Deterrence, and
Much More. New York: Pantheon, 1992.
Mac ray, William Dunn. Annals of the Bodleian Library, Oxford,
1598-1867. London: Rivingtons, 1868.
Mancosu, Paolo. From Brouwer to Hilbert: The Debate on the Foundations
of Mathematics in the 1920s. New York: Oxford University Press, 1998.
Marland, E.A. Early Electrical Communication. London: Abelard-
Schuman, 1964.
Martin, Michele. Hello, Central?-. Gender, Technology, and Culture in
the Formation of Telephone Systems. Montreal: McGill — Queen’s Uni-
versity Press, 1991.
Marvin, Carolyn. When Old Technologies Were New: Thinking About
Electric Communication in the Late Nineteenth Century. New York:
Oxford University Press, 1988.
Maxwell, James Clerk. Theory of Heat. 8th ed. London: Longmans,
Green, 1885.
Mayr, Otto. Maxwell and the Origins of Cybernetics. Isis 62, no. 4 (1971):
424-44-
525
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
McCulloch, Warren S. Brain and Behavior. Comparative Psychology
Monograph 20 i, Series 103 (1950).
McCulloch, Warren S. Through the Den of the Metaphysician. British
Journal for the Philosophy of Science 5, no. 17 (1954): 18-31.
McCulloch, Warren S. Embodiments of Mind. Cambridge, Mass.:
MIT Press, 1965.
McCulloch, Warren S. Recollections of the Many Sources of Cybernet-
ics. ASC Forum 6, no. 2 (1974): 5-16.
McCulloch, Warren S., and John Pfeiffer. Of Digital Com-
puters Called Brains. Scientific Monthly 69, no. 6 (1949): 368-76.
McLuhan, Marshall. The Mechanical Bride: Folklore of Indus-
trial Man. New York: Vanguard Press, 1951.
McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy. Toronto: University of
Toronto Press, 1962.
McLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man.
New York: McGraw-Hill, 1965.
McLuhan, Marshall. Essential McLuhan. Edited by Eric McLuhan
and Frank Zingrone. New York: Basic Books, 1996.
McLuhan, Marshall, and Quentin Fiore. The Medium Is the
Massage. New York: Random House, 1967.
McNeely, Ian F., with Lisa Wolverton. Reinventing Knowledge:
From Alexandria to the Internet. New York: Norton, 2008.
Menabrea, L. F. Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Bab-
bage. With notes upon the Memoir by the Translator, Ada Augusta, Count-
ess of Lovelace. Bibliotheque Universelle de Geneve 82 (October 1842).
В сети доступна по адресу: http://www.fourmilab.ch/babbage/sketch.
html.
Menninger, Karl, and Paul Broneer. Number Words and Num-
ber Symbols: A Cultural History of Numbers. Dover Publications, 1992.
Me rm in, N. David. Copenhagen Computation: How I Learned to Stop
Worrying and Love Bohr. IBM Journal of Research and Development
48 (2004): 53-61.
Mermin, N. David. Quantum Computer Science: An Introduction. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2007.
Miller, George A. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two:
Some Limits on Our Capacity for Processing Information. Psychological
Review 63 (1956): 81-97.
Miller, Jonathan. Marshall McLuhan. New York: Viking, 1971.
526
БИБЛИОГРАФИЯ
Miller, Jonathan. States of Mind. New York: Pantheon, 1983.
Millman, S., ed. A History of Enginering and Science in the Bell Sys-
tem: Communications Sciences (1925-1980). Bell Telephone Laboratories,
1984.
Mindell, David A. Between Human and Machine: Feedback, Control,
and Computing Before Cybernetics. Baltimore: Johns Hopkins Univer-
sity Press, 2002.
Mindell, David A., Jerome Segal, and Slava Gerovitch. Cybernetics and
Informa- tion Theory in the United States, France, and the Soviet Union.
In Science and Ideology: A Comparative History, edited by Mark Walker,
66-95. London: Routledge, 2003.
Monod, Jacques. Chance and Necessity: An Essay on the Natural Philos-
ophy of Modern Biology. Translated by Austryn Wainhouse. New York:
Knopf, 1971.
Moore, Francis. Travels Into the Inland Parts of Africa. London: J. Knox,
1767.
Moore, Gordon E. Cramming More Components onto Integrated Cir-
cuits. Electronics 38, no. 8 (1965): 114-17.
Morowitz, Harold J. The Emergence of Everything: How the World
Became Complex. New York: Oxford University Press, 2002.
Morse, Samuel F. B. Samuel F. B. Morse: His Letters and Journals.
Edited by Edward Lind Morse. Boston: Houghton Mifflin, 1914.
Morus, Iwan Rhys. ‘The Nervous System of Britain': Space, Time and the
Elec trie Telegraph in the Victorian Age. British Journal of the History of
Science 33 (2000): 455-75.
Moseley, Maboth. Irascible Genius: A Life of Charles Babbage, Inventor.
London: Hutchinson, 1964.
Mugglestone, Lynda. Labels Reconsidered: Objectivity and the OED.
Dictionaries 21 (2000): 22-37.
Mugglestone, Lynda. Lost for Words: The Hidden History of the Oxford
English Dictionary. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2005.
Mulc aster, Richard. The First Part of the Elementarie Which Entrea-
teth Chefelie of the Right Writing of Our English Tung. London: Thomas
Vautroullier, 1582.
Mullett, Charles F. Charles Babbage: A Scientific Gadfly. Scientific
Monthly by, no. 5 (1948): 361-71.
Mumford, Lewis. The Myth of the Machine. Vol. 2, The Pentagon of
Power. New York: Harcourt, Brace, 1970.
527
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Murray, К. М. Е. Caught in the Web of Words. New Haven, Conn.: Yale
University Press, 1978.
Mushengyezi, Aaron. Rethinking Indigenous Media: Rituals, 'Talking"
Drums and Orality as Forms of Public Communication in Uganda. Jour-
nal of African Cultural Studies 16, no. 1 (2003): 107-17.
Nagel, Ernest, and James R. Newman. Gddel"s Proof New York:
New York University Press, 1958.
Napier, John. A Description of the Admirable Table ofLogarithmes. Trans-
lated by Edward Wright. London: Nicholas Okes, 1616.
Nemes, Tihamer. Cybernetic Machines. Translated by I. Foldes. New
York: Gordon & Breach, 1970.
Neugebauer, Otto. The Exact Sciences in Antiquity. 2nd ed. Provi-
dence, R. I.: Brown University Press, 19.
Neugebauer, Otto. A History of A cient Mathematical Astronomy.
Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences, vol. 1.
New York: Springer-Verlag, 1975.
Neugebauer, Otto, Abraham Joseph Sachs, and Albrecht
Gotze. Mathematical Cuneiform Texts. American Oriental Series, vol.
29. New Haven, Conn.: American Oriental Society and the American
Schools of Oriental Research, 1945.
N ewm an, M. E. J. The Structure and Function of Complex Networks. SIAM
Review 45, no. 2 (2003): 167-256.
Niven, W. D., ed. The Scientific Papers of James Clerk Maxwell. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1890; repr. New York: Dover, 1965.
Norman, Donald A. Things That Make Us Smart: Defending Human
Attributes in the Age of the Machine. Reading, Mass.: Addison-Wesley,
1993-
Norretranders, Tor. The User Illusion: Cutting Consciousness Down
to Size. Translated by Jonathan Sydenham. New York: Penguin, 1998.
Noyes, Gertrude E. The First English Dictionary, Cawdrey"s Table
Alphabeticall. Modem Language Notes 58, no. 8 (1943): 600-605.
Ogilvie, Brian W. The Many Books of Nature: Renaissance Naturalists
and Information Overload. Journal of the History of Ideas 64, no. 1 (2003):
29-40.
Ogilvie, Brian W. The Science of Describing: Natural History in Renais-
sance Europe. Chicago: University of Chicago Press, 2006.
Olson, David R. From Utterance to Text: The Bias of Language in Speech
and Writing. Harvard Educational Review 47 (1977): 257-81.
БИБЛИОГРАФИЯ
Olson, David R. The Cognitive Consequences of Literacy. Canadian Psy-
chology 27, no. 2 (1986): 109-21.
Ong, Walter J. This Side of Oral Culture and of Print. Lincoln Lecture
(1973)-
Ong, Walter J. African Talking Drums and Oral Noetics. New Literary
History 8, no. 3 (1977): 411-29.
Ong, Walter J. Interfaces of the Word. Ithaca, N. Y.: Cornell University
Press, 1977.
Ong, Walter J. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word.
London: Methuen, 1982.
Oslin, George P. The Story of Telecommunications. Macon, Ga.: Mercer
University Press, 1992.
Page, Lawrence, Sergey Brin, Rajeev Motwani, and Terry
Winograd. The Pagerank Citation Ranking: Bringing Order to
the Web. Technical Report SIDL-WP-1999-0120, Stanford University
InfoLab (1998). Доступен в сети по адресу http://ilpubs.Stanford,
edu: 8o9o/422/i/i999-66.pdf.
Pain, Stephanie. Mr. Babbage and the Buskers. (2003): 42. New Scientist
179, no. 2408
Paine, Albert Bigelow. In One Man's Life: Being Chapters from the
Personal & Business Career of Theodore N. Vail. New York: Harper &
Brothers, 1921.
Palme, Jacob. You Have 134 Unread Mail! Do You Want to Read Them
Now? In Computer-Based Message Services, edited by Hugh T. Smith.
North Holland: Elsevier, 1984.
Pec к haus, Volker. 19 th Century Logic Between Philosophy and Math-
ematics. Bulletin of Symbolic Logic 5, no. 4 (1999): 433-JO.
Peres, Asher. Einstein, Podolsky, Rosen, and Shannon. arXiv:quant-
/>/7/0310010 vi, 2003.
Peres, Asher. What Is Actually Teleported? IBM Journal of Research and
Development 48, no. 1 (): 63-69.
Perez-Montoro Mario. The Phenomenon of Information: A Concep-
tual Approach to Information Flow. Translated by Dick Edelstein. Lan-
ham, Md.: Scarecrow, 2007.
Peters, John Durham. Speaking Into the Air: A History of the Idea of
Communication. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
Philological Society. Proposal for a Publication of a New English
Dictionary by the Philological Society. London: Trubner & Co., 1859.
529
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Pickering, John. A Lecture on Telegraphic Language. Boston: Hilliard,
Gray, 1833.
Pierce, John R. Symbols, Signals and Noise: The Nature and Process of
Communication. New York: Harper & Brothers, 1961.
Pierce, John R. The Early Days of Information Theory. IEEE Transac-
tions on Information Theory 19, no. 1 (1973): 3-8.
Pierce, John R. An Introduction to Information Theory: Symbols, Signals
and Noise. 2nd ed. New York: Dover, 1980.
Pierce, John R. Looking Back: Claude Elwood Shannon. IEEE Potentials
12, no. 4 (December 1993): 38-40.
Pinker, Steven. The Language Instinct: How the Mind Creates Language.
New York: William Morrow, 1994.
Pinker, Steven. The Stuff of Thought: Language as a Window into
Human Nature. New York: Viking, 2007.
Platt, John R., ed. New Views of the Nature of Man. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press, 1983.
Plenio, Martin B., and Vincenzo Vitelli. The Physics of Forget-
ting: Landauer's Erasure Principle and Information Theory. Contempo-
rary Physics 42, no. 1 (2001): 25-60.
Pool, Ithiel de Sola, ed. The Social Impact of the Telephone. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press, 1977.
Poundstone, William. The Recursive Univers e: Cosmic Complexity
and the Limits of Scientific Knowledge. Chicago: Contemporary Books,
1985.
Prager, John. On Turing. Belmont, Calif.: Wadsworth, 2001.
Price, Robert. A Conversation with Claude Shannon: One Man's Approach
to Problem Solving. IEEE Communications Magazine 22 (1984): 123-26.
Pulgram, Ernst. Theory of Names. Berkeley, Calif.: American Name
Society, 1954.
Purbrick, Louise. The Dream Machine: Charles Babbage and His Imag-
inary Computers." Journal of Design History 6:1 (1993): 9-23.
Quastler, Henry, ed. Essays on the Use of Information Theory in Biol-
ogy. Urbana: University of Illinois Press, 1953.
Quastler, Henry, ed. Information Theory in Psychology: Problemsand
Methods. Glencoe, Ill.: Free Press, 1955.
Radford, Gary P. Overcoming Dewey's ‘False Psychology': Reclaim-
ing Communication for Communication Studies. Paper presented at the
80th Annual Meeting of the Speech Communication Association, New
530
БИБЛИОГРАФИЯ
Orleans, November 1994. Доступно в сети по адресу http://www.
theprofessors.net/dewey.html.
Rattray, Robert Sutherland. The Drum Language of West Africa:
Part I. Journal of the Royal African Society 22, no. 87 (1923): 226-36.
Rattray, Robert Sutherland. The Drum Language of West Africa:
Part IL Journal of the Royal African Society 22, no. 88 (1923): 302-16.
Redfield, Robert. The Primitive World and Its Transformations. Ithaca,
N. Y.: Cornell University Press, 1953.
Renyi, Alfred. A Diary on Information Theory. Chichester, N. Y: Wiley
and Sons, 1984.
Rheingold, Howard. Tools for Thought: The History and Future of
Mind-Expanding Technology. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000.
Rhodes, Frederick Leland. Beginnings of Telephony. New York:
Harper & Brothers, 1929.
Rhodes, Neil, and Jonathan Sawday, eds. The Renaissance
Computer: Knowledge Technology in the First Age of Print. London:
Routledge, 2000.
Richardson, Robert D. William James*. In the Maelstrom of American
Modernism. New York: Houghton Mifflin, 2006.
Robertson, Douglas S. The New Renaissance: Computers and the Next
Level of Civilization. Oxford: Oxford University Press, 1998.
Robertson, Douglas S. Phase Change: The Computer Revolution in
Science and Mathematics. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Rocнberg, Francesca. The Heavenly Writing: Divination, Horoscopy,
and Astronomy in Mesopotamian Culture. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2004.
Roederer, Juan G. Information and Its Role in Nature. Berlin: Springer,
2005.
Rogers, Everett M. Claude Shannon's Cryptography Research during
World War II and the Mathematical Theory of Communication. In Pro-
ceedings, IEEE 28th International Carnaham Conference on Security
Technolony, October 1994: 1-5.
Romans, James. ABC of the Telephone. New York: Audel & Co., 1901.
Ronell, Avital. The Telephone Book: Technology, Shizophrenia, Electric
Speech. Lincoln: University of Nebraska Press, 1991.
Rosenblueth, Arturo, Norbert Winer, and Julian Big-
elow. Behavior, Purpose and Teleology. Philosophy of Science 10 (1943):
18-24.
531
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Rosenheim, Shawn James. The Cryptographic Imagination: Secret
Writing from Edgar Poe to the Internet. Baltimore: Johns Hopkins Uni-
versity Press, 1997.
Russell, Bertrand. Logic and Knowledge: Essays, 1901-1950. London:
Routledge, 1956.
Sagan, Carl. Murmurs of Eart: The Voyager Interstellar Record. New
York: Random House, 1978.
Sapir, Edward. Language: An Introduction to the Study of Speech. New
York: Harcourt, Bruce, 1921.
Sarkar, Sahotra. Molecular Models of Life. Cambridge, Mass.: MIT
Press, 2005.
Schaffer Simon. Babbage's Intelligence: Calculating Engines and the
Factory System. Critical Inquiry 21, no. 1 (1994): 203-27.
Paper and Brass: The Lucasian Professorship 1820-39. In From
Newton to Hawking: A History of Cambridge University's Lucasian Pro-
fessors of Mathematics, edited by Kevin C. Knox and Richard Noakes,
241-94. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Schindler, G. E., Jr., ed. A History of Engineering and Science in the Bell Sys-
tem: Switching Technology (1925-1975/ Bell Telephone Laboratories, 1982.
Schrodinger, Erwin. What Is Life? Reprint ed. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1967.
Seife, Charles. Decodingthe Universe. New York: Viking, 2006.
Shaffner, Taliaferro P. The Telegraph Manual: A Complete History
and Description of the Semaphoric, Electric and Magnetic Telegraphs of
Europe, Asia, Africa, and America, Ancient and Modem. New York: Pud-
ney & Russell, 1859.
Shannon, Claude Elwood. Co//ecfe^ Papers. Edited by N.J. A. Sloane
and Aaron D. Wyner. New York: IEEE Press, 1993.
Shannon, Claude Elwood. Miscellaneous Writings. Edited by
N.J. A. Sloane and Aaron D. Wyner. Murray Hill, N. J.: Mathematical
Sciences Research Center, AT&T Bell Laboratories, 1993.
Shannon, Claude Elwood, and Warren Weaver. The Math-
ematical Theory of Communication. Urbana: University of Illinois Press,
1949-
Shenk, David. Data Smog: Surviving the Information Glut. New York:
HarperCollins, 1997.
Shieber, Stuart M., ed. The Turing Test: Verbal Behavior as the Hall-
mark of Intelligence. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004.
532
БИБЛИОГРАФИЯ
Shiryaev, A.N. Kolmogorov: Life and Creative Activities.” Annals of
Probability 17, no. 3 (1989): 866-944.
Siegfried, Tom. The Bit and the Pendulum: From Quantum Computing
to M Theory — The New Physics of Information. New York: Wiley and
Sons, 2000.
Silverman, Kenneth. Lightning Man: The Accursed Life of Sam-
uel E B. Morse. New York: Knopf, 2003.
Simpson, John. Preface to the Third Edition of the Oxford Eng-
lish Dictionary. Oxford University Press, http://oed.com/about/
oed3-preface/#general (по состоянию на 13 июня 2010 года).
Simpson, John, ed. The First English Dictionary, 1604: Robert Caw-
drey’s A Table Alpha- beticall. Oxford: Bodleian Library, 20.
Singh, Jagjit. Great Ideas in Information Theory, Language and Cyber-
netics. New York: Dover, 1966.
Singh, Simon. The Code Book: The Secret History of Codes and Code-
breaking. London: Fourth Estate, 1999.
Slater, Robert. Portraits in Silicon. Cambridge, Mass.: MIT Press,
1987.
Slepian, David. Information Theory in the Fifties. IEEE Transactions on
Information Theory 19, no. 2 (1973): 145-48.
Sloman, Aaron. The Computer Revolution in Philosophy. Hassocks,
Sussex: Harrester Press, 1978.
Smith, D. E. A Source Book in Mathematics. New York: McGraw-Hill, 1929.
Smith, Francis O. J. The Secret Corresponding Vocabulary; Adapted for
Use to Morse's Electro-Magnetic Telegraph: And Also in Conducting Writ-
ten Correspondence, Transmitted by the Mails, or Otherwise. Portland,
Maine: Thurston, Ilsley, 1845.
Smith, G. C. The Boole — De Morgan Correspondence 1842-1864. Oxford:
Clarendon Press, 1982.
Smith, John Maynard. The Concept of Information in Biology. Phi-
losophy of Science Gy (2000): 177-94.
Smolin, J. A. The Early Days of Experimental Quantum Cryptography.
IBM Journal of Research and Development 48 (2004): 47-52.
Solana-Ortega, Alberto. The Information Revolution Is Yet to
Come: An Homage to Claude E. Shannon. In Bayesian Inference and
Maximum Entropy Methods in Science and Engineering, AIP Confer-
ence Proceedings 617, edited by Robert L. Fry. Melville, N. Y: American
Institute of Physics, 2002.
533
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Solomonoff, Ray J. A Formal Theory of Inductive Inference. Informa-
tion and Control 7, no. i (1964): 1-22.
Solomonoff, Ray J. The Discovery of Algorithmic Probability. Journal of
Computer and System Sciences 55, no. 1 (1997): 73-88.
Solymar, Laszlo. Getting the Message: A History of Communications.
Oxford: Oxford University Press, 1999.
Spellerberg, Ian F., and Peter J. Fedor. A Tribute to Claude
Shannon (1916-2001,) and a Plea for More Rigorous Use of Species Rich-
ness, Species Diversity and the 'Shannon-Wiener" Index, Global Ecology
and Biogeography 12 (2003): 177-79.
Sperry, Roger. Mind, Brain, and Humanist Values. In New Views of the
Nature of Man, edited by John R. Platt, 71-92. Chicago: University of
Chicago Press, 1983.
Sprat, Thomas. The History of the Royal Society of London, for the
Improving of Natural Knowledge. 3rd ed. London: 1722.
Spufford, Francis, and Jenny Uglow, eds. Cultural Babbage:
Technology, Time and Invention. London: Faber and Faber, 1996.
Standage, Tom. The Victorian Internet: The Remarkable Story of the Tele-
graph and the Nineteenth Century"s On-Line Pioneers. New York: Berk-
ley, 1998.
Starnes, De Witt T., and Gertrude E. Noyes. The English Dic-
tionary from Cawdrey to Johnson 1604-1755. Chapel Hill: University of
North Carolina Press, 1946.
Steane, Andrew M., and Eleanor G. Rieffel. Beyond Bits: The
Future of Quantum Information Processing. Computer 33 (2000): 38-45.
Stein, Gabriele. The English Dictionary Before Cawdrey. Tubingen,
Germany: Max Neimeyer, 1985.
Steiner, George. On Reading Marshall McLuhan. In Language and
Silence: Essays on Language, Literature, and the Inhuman, 251-68. New
York: Atheneum, 1967.
Stent, Gunther S. That Was the Molecular Biology That Was. Science
160, no. 3826 (1968): 390-95.
Stent, Gunther S. DNA. Daedalus 99 (1970): 909-37.
Stent, Gunther S. You Can Take the Ethics Out of Altruism But
You Can"t Take the Altruism Out of Ethics. Hastings Center Report 7,
no. 6 (1977): 33-36.
Stephens, Mitchell. The Rise of the Image, the Fall of the Word.
Oxford: Oxford University Press, 1998.
534
БИБЛИОГРАФИЯ
Stern, Theodore. Drum and Whistle ‘Languages’: An Analysis of
Speech Surrogates. American Anthropologist 59 (1957): 487-506.
Stix, Gary. Riding the Back of Electrons. Scientific American (September
1998): 32-33.
Stonier, Tom. Beyond Information: The Natural History of Intelligence.
London: Springer-Verlag, 1992.
Stonier, Tom. Information and Meaning: An Evolutionary Perspective.
Berlin: Springer-Verlag, 1997.
Streufert, Siegfried, Peter Suedfeld, and Michael J.
Driver. Conceptual Structure, Information Search, and Information
Utilization. Journal of Personality and Social Psychology 2, no. 5 (1965):
736-40.
Sunstein, Cass R. Infotopia: How Many Minds Produce Knowledge.
Oxford: Oxford University Press, 2006.
Surowiecki, James. The Wisdom of Crowds. New York: Doubleday,
2004.
Swade, Do RON. The World Reduced to Number. Isis 82, no. 3 (1991):
532-36.
Swade, Doron. The Cogwheel Brain: Charles Babbage and the Quest to
Build the First Computer. London: Little, Brown, 2000.
Swade, Doron. The Difference Engine: Charles Babbage and the Quest to
Build the First Com- puter. New York: Viking, 2001.
Swift, Jonathan. A Tale of a Tub: Written for the Universal Improve-
ment of Mankind. 1692.
Szilard, Le6. On the Decrease of Entropy in a Thermodynamic System by
the Inter- vention of Intelligent Beings. Translated by Anatol Rapoport
and Mechtilde Knoller from Uber Die Entropieverminderung in Einem
Thermodynamischen System Bei Eingriffen Intelligenter Wesen, Zeitschrift
Fur Physik 53 (1929). Behavioral Science 9, no. 4 (1964): 301-10
Teilhard de Chardin, Pierre. The Human Phenomenon. Translated
by Sarah Appleton-Weber. Brighton, U. K.: Sussex Academic Press, 1999.
Terhal, Barbara M. Is Entanglement Monogamous? IBM Journal of
Research and Development 48, no. 1 (2004): 71-78.
Thompson, A. J., and Karl Pearson. Henry Briggs and His Work
on Logarithms. American Mathematical Monthly 32, no. 3 (1925): 129-31.
Thomsen, Samuel W. Some Evidence Concerning the Genesis of Shan-
nons Information Theory. Studies in History and Philosophy of Science
40 (2009): 81-91.
535
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Thorp, Edward О. The Invention of the First Wearable Computer. In
Proceedings of the 2nd IEEE International Symposium on Wearable Com-
puters. Washington, D. C.: IEEE Computer Society, 1998.
Toole, Betty Alexandra. Ada Byron, Lady Lovelace, an Ana-
lyst and Metaphysician. IEEE Annals of the History of Computing 18,
no. 3 (1996): 4-12.
Toole, Betty Alexandra. Ada, the Enchantress of Numbers: Prophet
of the Computer Age. Mill Valley, Calif.: Strawberry Press, 1998.
Tufte, Edward R. The Cognitive Style of PowerPoint. Cheshire, Conn.:
Graphics Press, 2003.
Turing, Alan M. On Computable Numbers, with an Application to the
Entscheidungs-problem. Proceedings of the London Mathematical Society
42 (1936): 230-65.
Turing, Alan M. Computing Machinery and Intelligence. Minds and
Machines 59, no. 236 (1950): 433-60.
Turing, Alan M. The Chemical Basis of Morphogenesis. Philosophical Trans-
actions of the Royal Society of London, Series В 237, no. 641 (1952): 37-72.
Turnbull, Laurence. The Electro-Magnetic Telegraph, With an His-
torical Account of Its Rise, Progress, and Present Condition. Philadelphia:
A. Hart, 1853.
Vail, Alfred. The American Electro Magnetic Telegraph: With the Reports
of Congress, and a Description of All Telegraphs Known, Employing Elec-
tricity Or Galvanism. Philadelphia: Lea & Blanchard, 1847.
Ver du, Sergio. Fifty Years of Shannon Theory. IEEE Transactions on
Information Theory 44, no. 6 (1998): 2057-78.
Vincent, David. Literacy and Popular Culture: England 1750-1914.
Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Vir 1 lio, Paul. The Information Bomb. Translated by Chris Turner. Lon-
don: Verso, 2000.
von Baeyer, Hans Christian. Maxwell’s Demon: Why Warmth Dis-
perses and Time Passes. New York: Random House, 1998.
von Baeyer, Hans Christian. Information: The New Language of
Science. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.
von Foerster, Heinz. Cybernetics: Circular Causal and Feedback Mech-
anisms in Biological and Social Systems: Transactions of the Seventh Con-
ference, March 23-24, 1950. New York: Josiah Macy, Jr. Foundation, 1951.
von Foerster, Heinz. Cybernetics: Circular Causal and Feedback
Mechanisms in Biological and Social Systems: Transactions of the Eighth
536
БИБЛИОГРАФИЯ
Conference, March if-16, 19р. New York: Josiah Macy, Jr. Foundation,
1952.
von Foerster, Heinz. Interview with Stefano Franchi, Gwven Guzeldere,
and Eric Minch. Stanford Humanities Review 4, no. 2 (19 5). Доступно
в сети по адресу: http://www.stanford.edu/group/SHR/4-2/text/int
rviewvonf.html.
von Neumann, John. The Computer and the Brain. New Haven, Conn.:
Yale University Press, 1958.
von Neumann, John. Collected Works. Vols. 1-6 Oxford: Pergamon
Press, 1961.
Vulpiani, A., AND Roberto Livi. The Kolmogorov Legacy in Phys-
ics: A Century of Turbulence and Complexity. Lecture Notes in Physics,
no. 642. Berlin: Springer, 2003.
Waldrop, M. Mit ch ell. Reluctant Father ofthe Digital Age. Technology
Review (July — August 2001): 64-71.
Wang, Hao. Some Facts About Kurt Godel. Journal of Symbolic Logic
46 (1981): 653-59.
Watson, David L. Biological Organization. Quarterly Review of Biology
6, no. 2 (1931): 143-66.
Watson, James D. The Double Helix. New York: Atheneum, 1968.
Watson, James D. Genes, Girls, and Gamow: After the Double Helix.
New York: Knopf, 2002.
Watson, James D. Molecular Models of Life. Oxford: Oxford University
Press, 2003.
Watson, James D., and Francis Crick. A Structure for Deoxyribose
Nucleic Acid. Nature 171 (1953): 737.
Watson, James D., and Francis Crick. Genetical Implications of
the Structure of Deoxyribonucleic Acid. Nature 171 (1953): 964-66.
WATTS, Duncan J. Networks, Dynamics, and the Small-World Phenom-
enon. American Journal of Sociology 105, no. 2 (1999): 493-527.
Watts, Duncan J. Small Worlds: The Dynamics of Networks Between
Order and Randomness. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1999.
Watts, Duncan J. Six Degrees: The Science of a Connected Age. New
York: Norton, 2003.
Watts, Duncan J., and Steven H. Strogatz. Collective Dynam-
ics of'Small-World' Networks. Nature 393 (1998): 440-42.
Weaver, Warren. The Mathematics of Communication. Scientific Ameri-
can 181, no. 1 (1949): 11-15.
537
ДЖЕЙМС ГЛИК ИНФОРМАЦИЯ
Wells, Н. G. World Brain. London: Methuen, 1938.
Wells, H. G. A Short History of the World. San Diego: Book Tree, 2000.
Wheeler, John Archibald. Information, Physics, Quantum: The
Search for Links. Proceedings of the Third International Symposium on the
Foundations of Quantum Mechanics (1989): 354-68.
Wheeler, John Archibald. At Home in the Universe. Masters of
Modem Physics, no. 9. New York: American Institute of Physics, 1994.
Wheeler, John Archibald, with Kenneth Ford. Geons, Black
Holes, and Quantum Foam: A Life in Physics. New York: Norton, 1998.
Whitehead, Alfred North, and Bertrand Russell. Prin-
cipia Mathematica. Cambridge: Cambridge University Press, 1910.
Wiener, Norbert. Cybernetics: Or Control and Communi ation in the
Animaland the Machine. 2nd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press 1961.
Wiener, Norbert. I Am a Mathematician: The Later Life of a Prodigy.
Cambridge, Mass.: MIT Press, 1964.
Wiener, Philip P., ed. Leibniz Selections. New York: Scribner's, 1951.
Wilkins, John. Mercury: Or the Secret and Swift Messenger. Shewing,
How a Man May With Privacy and Speed Communicate His Thoughts
to a Friend At Any Distance. 3rd ed. London: John Nicholson, 1708.
Williams, Michael. A History of Computing Technology. Washington,
D. C.: IEEE Computer Society, 1997.
Wilson, Geoffrey. The Old Telegraphs. London: Phillimore, 1976.
Winchester, Simon. The Meaning of Everything: The Story of the Oxford
English Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Wisdom, J. O. The Hypothesis of Cybernetics. British Journal for the Phi-
losophy of Science 2, no. 5 (1951): 1-24.
Woodward, Kathleen. The Myths of Information: Technology and
Postindustrial Culture. Madison, Wise.: Coda Press, 1980.
Woolley, Benjamin. The Bride of Science: Romance, Reason, and
Byron's Daughter. New York: McGraw-Hill, 1999.
Wynter, Andrew. The Electric Telegraph. Quarterly Review % (1^54):
118-64.
Wynter, Andrew. Subtle Brains and Lissom Fingers: Being Some of the
Chisel-Marks of Our Industrial and Scientific Progress. London: Robert
Hardwicke, 1863.
Yeo, Richard. Reading Encyclopedias: Science and the Organization of
Knowledge in British Dictionaries of Arts and Sciences, 1730-1850. Isis
82:1 (1991): 24-49.
538
БИБЛИОГРАФИЯ
Yeo, Richard. Encyclopaedic Visions: Scientific Dictionaries and Enlight-
enment Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Yockey, Hubert P. Information Theory, Evolution, and the Origin of
Life. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Young, Peter. Person to Person: The International Impact of the Tele-
phone. Cambridge: Granta, 1991.
Yourgrau, Palle. A World Without Time: The Forgotten Legacy of Godel
and Einstein. New York: Basic Books, 2005.
Yovits, Marshall C., George T. Jacobi, and Gor-
don D. Goldstein, eds. Self-Organizing Systems. Washing-
ton D.C.: Spartan, 1962.
ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1ОО
173
214
218
222
224
232
236
251
264
275
277
351
356
Фотография предоставлена Институтом Чарльза Бэббиджа, Уни-
верситет Миннесоты, Миннеаполис
The New York Times Archive / Redux
© Роберт Лорд
Перепечатано с разрешения Franklin Institute, vol. 262, E. F. Moore
and С. E. Shannon, “Reliable Circuits Using Less Reliable Rays,” pp.
191-208, © 1956, С разрешения Элсевиера.
Взято из Claude Elwood Shannon Collected Papers, ed. NJA Sloane &
Aaron Wyner © 1993 IEEE
Взято из Claude Elwood Shannon Collected Papers, ed. NJA Sloane 8c
Aaron Wyner © 1993 IEEE
© Мэри E. Шеннон
Eisenstaedt/Time & Life Pictures/Getty Images
Keystone/Stringer/Hulton Archive/Getty Images
Alfred Eisenstaedt/Time 8c Life Pictures/Getty Images
Взято из Entropy and Energy Levels by Gasser 8c Richards (1974) Figs.
9.7, 9.8 pp. 117-118. С разрешения Oxford University Press.
По часовой стрелке слева направо: Из Symbols, Signals 8с Noise by
J. R. Pierce (Harper 8c Brothers, NY, 1961), p. 199; copyright © 2010
Stanley Angrist, перепечатано с разрешения Basic Books, a member of
the Perseus Books Group', репродукция из Fundamentals of Cybernetics,
Lerner AY (Plenum Publishing Corp., NY 1975), p. 257; copyright © 2010
Stanley Angrist, перепечатано с разрешения Basic Books, a member of
the Perseus Books Group
С разрешения NASA/JPL-Caltech
Christopher Fuchs
CORPUS 244
ДЖЕЙМС ГЛИК
ИНФОРМАЦИЯ
ИСТОРИЯ.ТЕОРИЯ. ПОТОК
Главный редактор Варвара Горностаева
Художник Андрей Бондаренко
Редактор Евгений Коган
Ответственный за выпуск Ольга Энрайт
Технический редактор Татьяна Тимошина
Корректор Екатерина Комарова
Верстка Марат Зинуллин
Настоящее издание не содержит возрастных ограничений, предусмотренных
федеральным законом “О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию” (№4)6-ФЗ).
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры
Подписано в печать 26.09.13. Формат 60x90 1/16
Бумага офсетная. Гарнитура “OriginalGaramondC”
Печать офсетная. Усл. печ. л. 36
Тираж 3000 экз. Заказ № 4891/13.
ООО “Издательство ACT”,
127006 г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3
Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги
или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
По вопросам оптовой покупки книг обращаться по адресу:
123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, БЦ “Империя”, а/я №5
Тел.: (499) 951 бооо, доб. 574
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
ООО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь.
www.pareto-print
ЯЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМЯ
Я ЦИ я
яция
яция
П”
яция
яция
яция
яция
яция
яция
яция
яция
НЦИЯ
яция
НЦИЯ
НЦИЯ
НЦИЯ
ПОТРЯЕАЮЩИЙ РАЕЕКАЭ О ТЕМ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ ДЕЙЕТВИ- И Н Ф О Р М Я
ТЕЛЬНП КРОВЬ НАШЕГО МИРА, ТОПЛИВО, НА КОТОРОМ ОН
РАБОТАЕТ, И ЕГО ЖИЗНЕННЫ Й ПРИНЦИП PUBLISHERS НЕЕМLU ИНФПРМН
ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФПРМН
ПИТАТЕЛЬ И ПОПУЛЯРИЗАТОР НАУКИ ДЖЕЙМЕ ГЛИК PRE-
СКАЗ ЫВАЕТ О ТОМ,КАКНАШЕОТНОШЕНИЕКИНФОРМАЦИИ
ИЗМЕНИЛО ЕАМУ ПРИРОДУ ЧЕЛОВЕЧЕЕК ОГО ЕОЗНАНИЯ.
ЕГО КНИГА - УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕЕТВИЕ ПО ИЕТО-
РИИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ ОТ ЯЗЫКА. НА КОТОРОМ
ГОВОРИЛИ АФРИКАНЕКИЕ БАРАБАНЫ. К ИЗОБРЕТЕНИЮ
АЛФАВИТОВ И ОТ ПЕРВЫХ ПОПЫТОК КОДИРОВАНИЯ
К ЭЛЕКТРОННЫМ ПИЕЬМАМ И БЛОГАМ. НА ЭТОМ ПУТИ
ЕГО ЕОПРОВОЖДАЮТ ЧАРЛЬЭ БЭББИДЖ. АДА ЛАВ-
ЛЕЙЕ. КЛОД ШЕННОН И ДРУГИЕ ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ.
ИНФОРМНЦИЯ ИНФОРМНЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМНЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ
В ГЛАЭАХ ЕВРОПЕЙЦА ЧЕРНОКОЖИЙ ЧЕЛОВЕК В НАБЕДРЕННОЙ
ПОВЯЗКЕ, БЫВШИЙ В БАРАБАН. — ИКОНИЧЕЕКИЙ ДИКАРЬ. НО
ГЛИК. Ж У РИАЛ ИЕТ И ПИЕ АТЕ ЛЬ. АВТОР КНИГИ "ХАОЕ. ЕОЭДАНИЕ
НОВОЙ НАУКИ". ЗАСТАВЛЯЕТ УЕТЫДИТЬЕЯ ЕОБЕТВЕННОГО
ВЫСОКОМЕРИЯ. НА АФРИКАНЕКОМ КОНТИНЕНТЕ БАРАБАНЫ
ВЕКАМИ ЕЛУЖИЛИ НАДЕЖНЫМ КАНАЛОМ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ (ВАЖНАЯ НОВОСТЬ ДОХОДИЛА Е ЕАМОГО
ЕЕВЕРА ДО ЕАМОГО ЮГА ЗА ЕЧИТАНЫЕ ДНИ]. И НЕ ТОЛЬКО —
ЭТО БЫЛА НЕ ЕИЕТЕМА ЕИГНАЛОВ. ЭТО БЫЛ ОЕОБЫЙ ЯЗЫК,
ЭТО БЫЛА ПОЭЗИЯ; БЕЛЫЕ. КАК ВОДИТЕЯ. ВЕЕ УНИЧТОЖИЛИ.
ВЫДАВ АФРИКАНЦАМ ВЗАМЕН МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ Е ТОЙ
ЖЕ ЛЕГКОЕТЬЮ И НЕОЖИДАННЫМИ. ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩИМИ
ЕТЕРЕОТИПЫ ПОДРОБНОЕТЯМИ ГЛИК РАЕЕК А3ЫВ АЕТ ~
О КИБЕРНЕТИКЕ. ЕЛОВАРЯХ, ЯЗЫКАХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ,
ТЕЛЕФОНЕ И ТЕЛЕГРАФЕ - ОБО ВЕЕМ, ЧТО ЕЛИВАЛОЕЬ
И СЛИЛОЕЬ В ЕДИНЫЙ ПОТОК ИНФОРМАЦИИ. В КОТОРОМ МЫ
ЕЕЙЧНС ИМЕЕМ ВОЭМОЖНОЕТЬ ПЛЫТЬ И ТОНУТЬ "АФИША"
ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМНЦИЯ ИНФОРМНЦИЯ
ИНФПРМН
ИНФПРМН
ИНФПРМН
ИНФПРМН
ИНФОРМЯ
ИНФОРМЯ
ИНФОРМЯ
ИНФОРМЯ
ИНФОРМЯ
ИНФОРМЯ
ИНФОРМЯ
ИНФОРМЯ
ИНФОРМЯ
НЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМЯЦИЯ ИНФОРМЯ