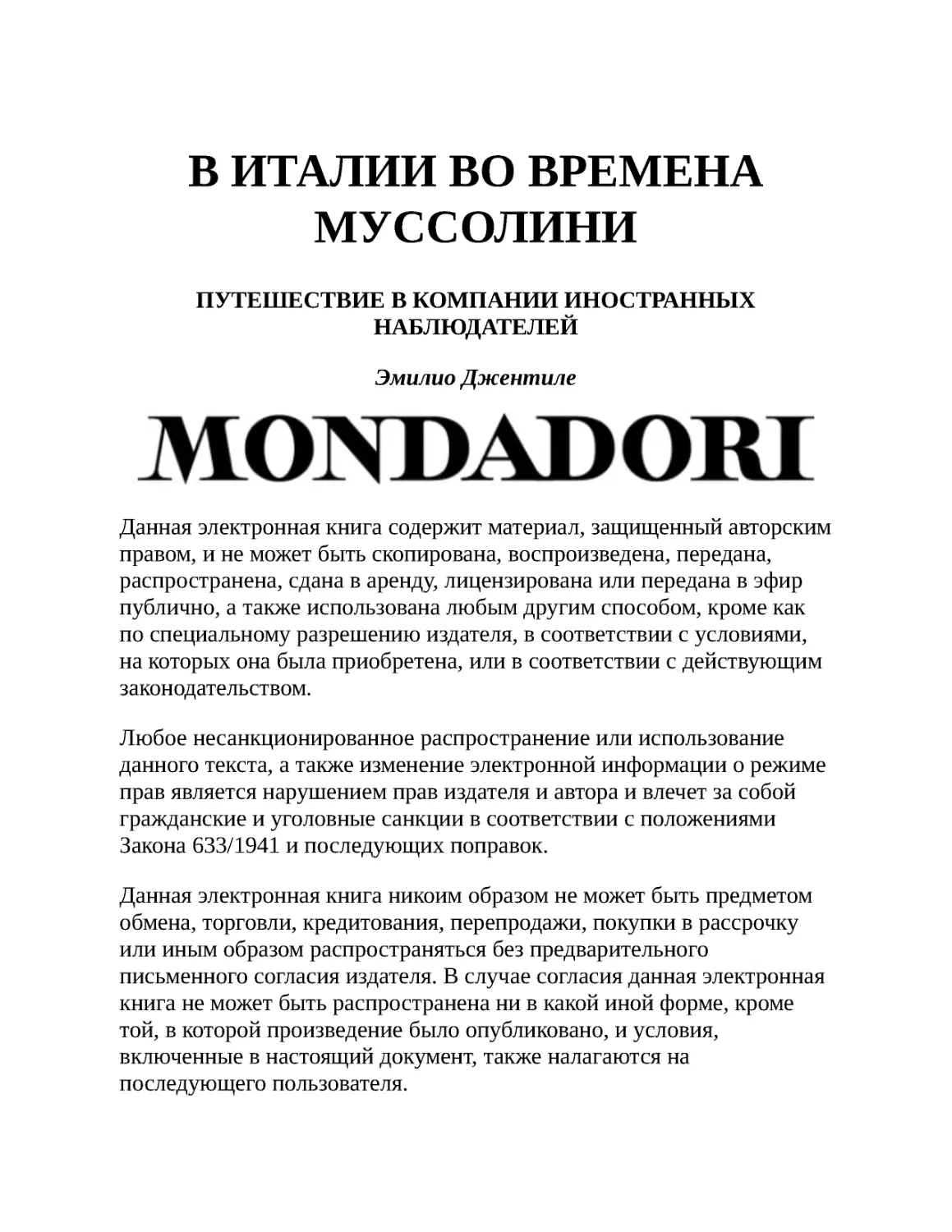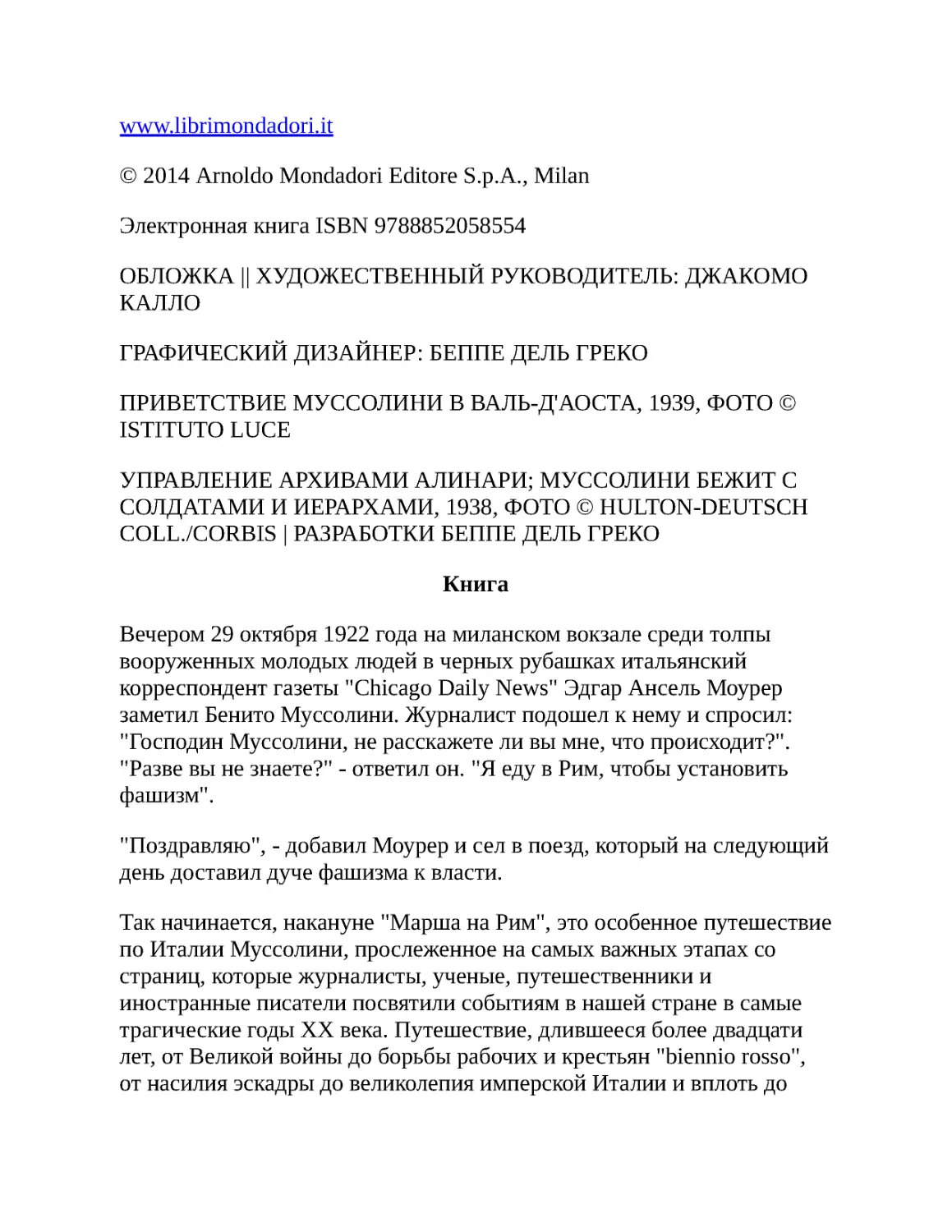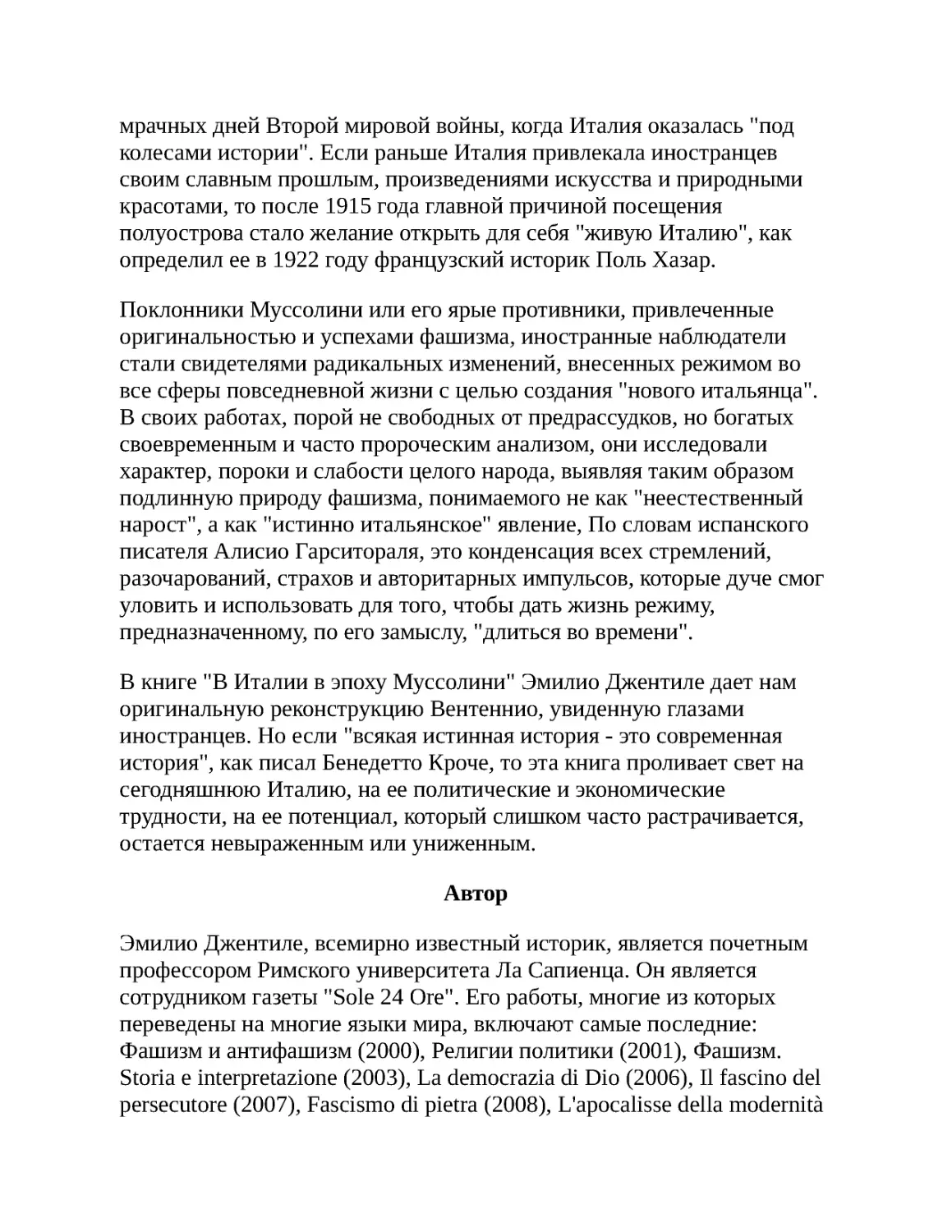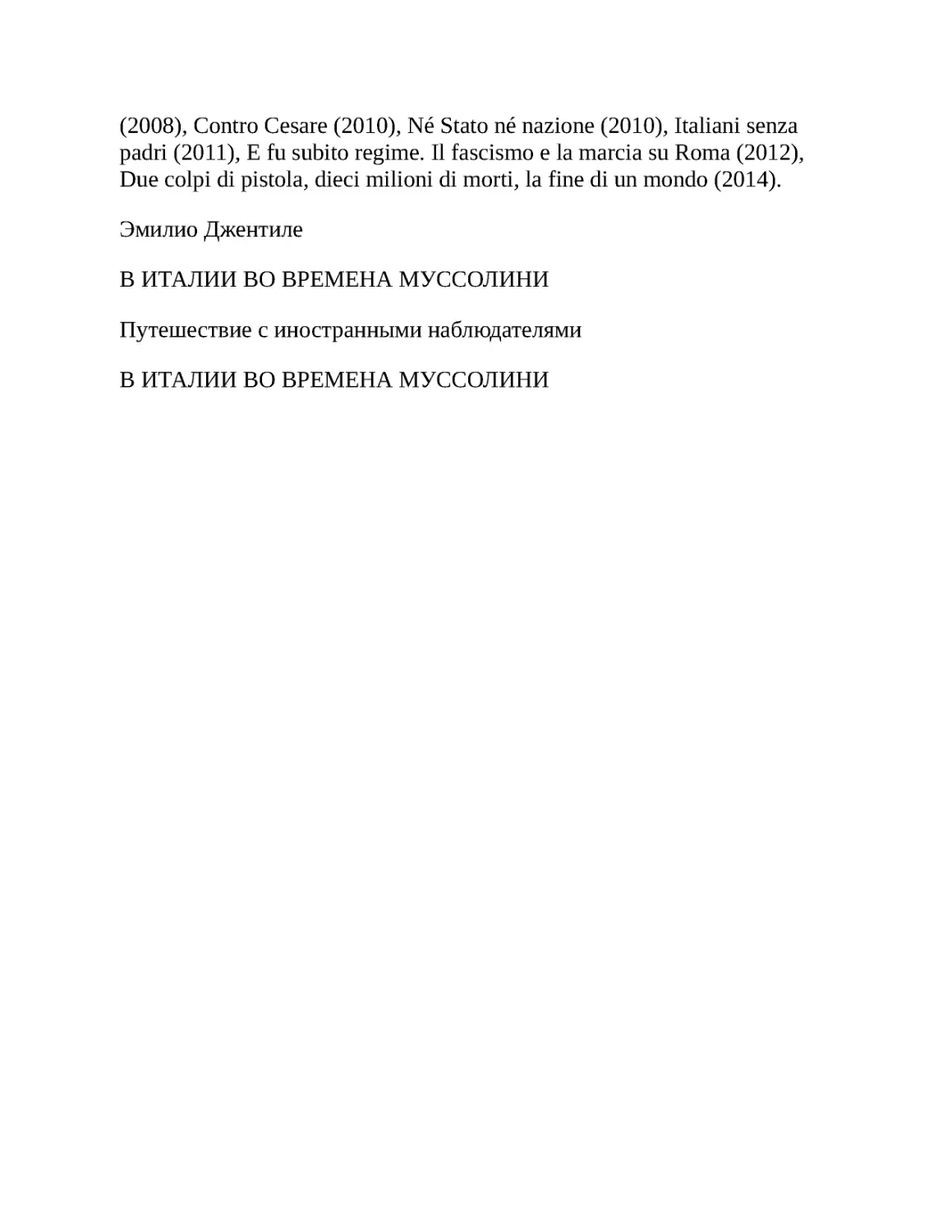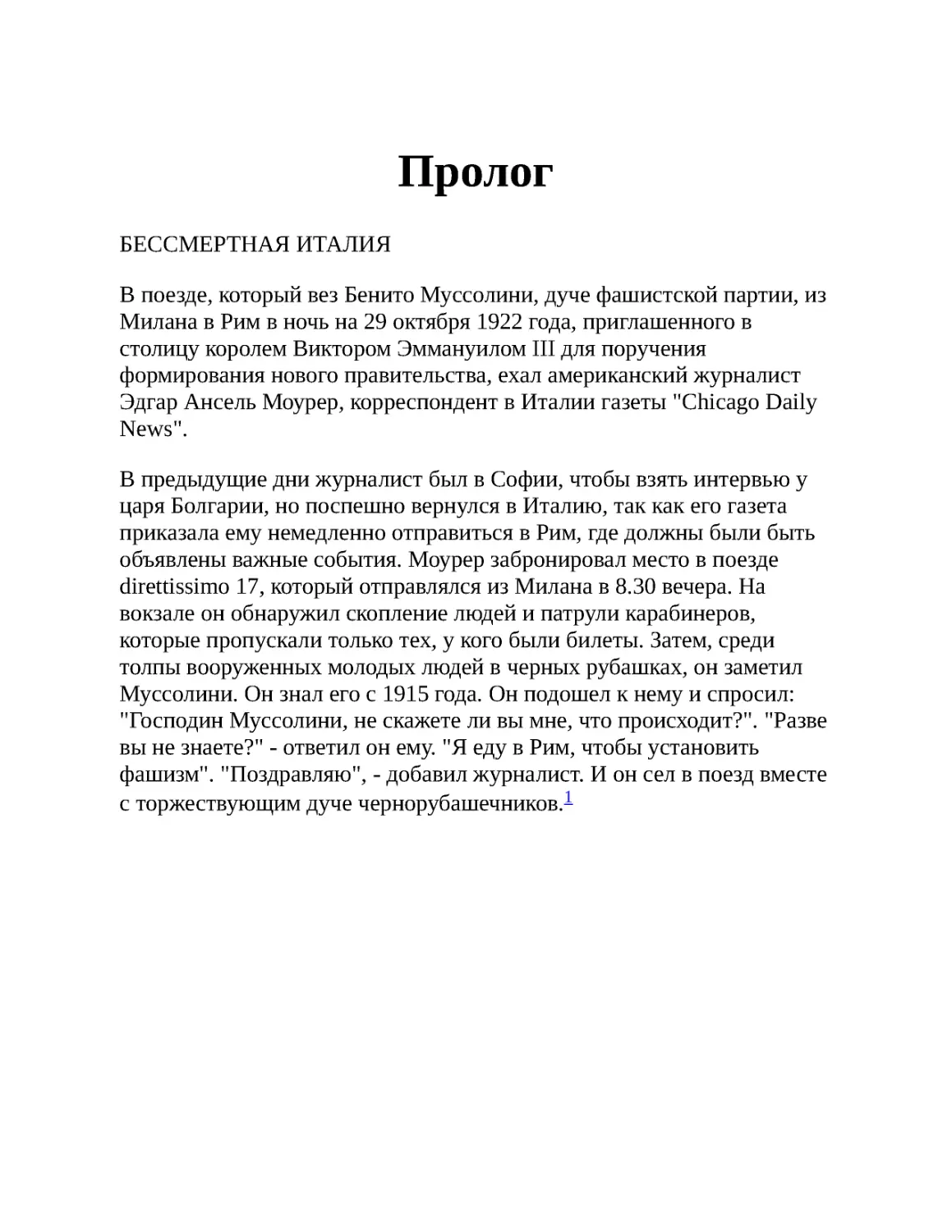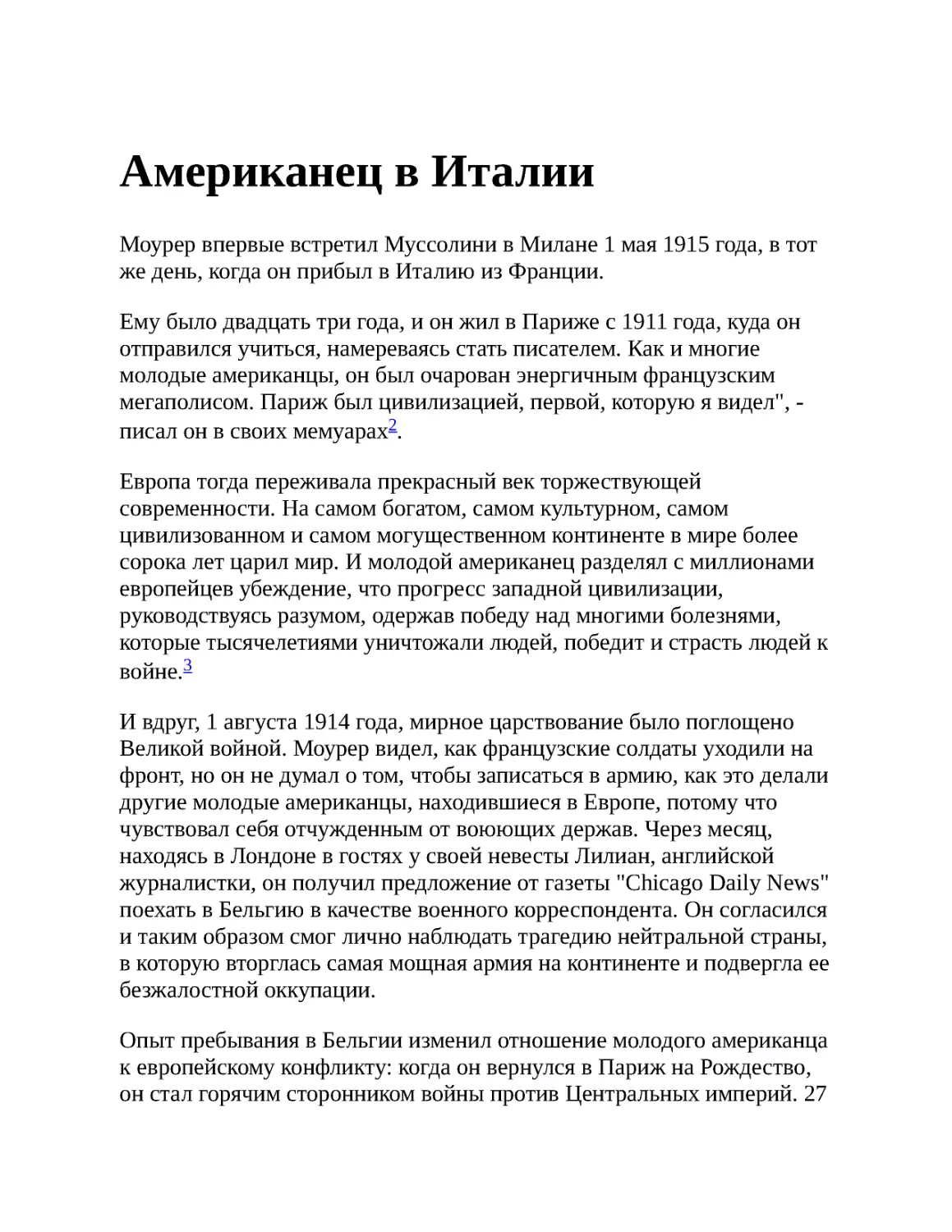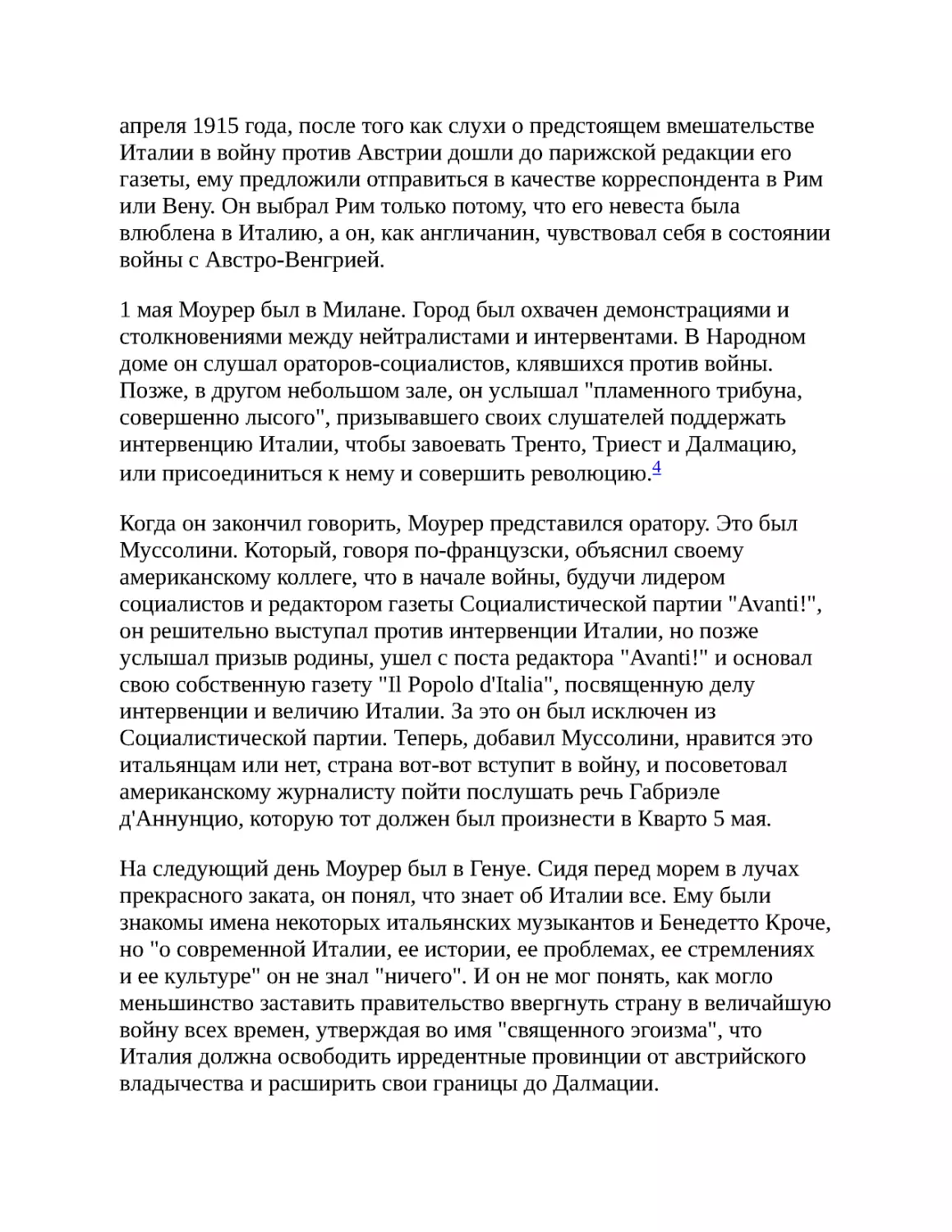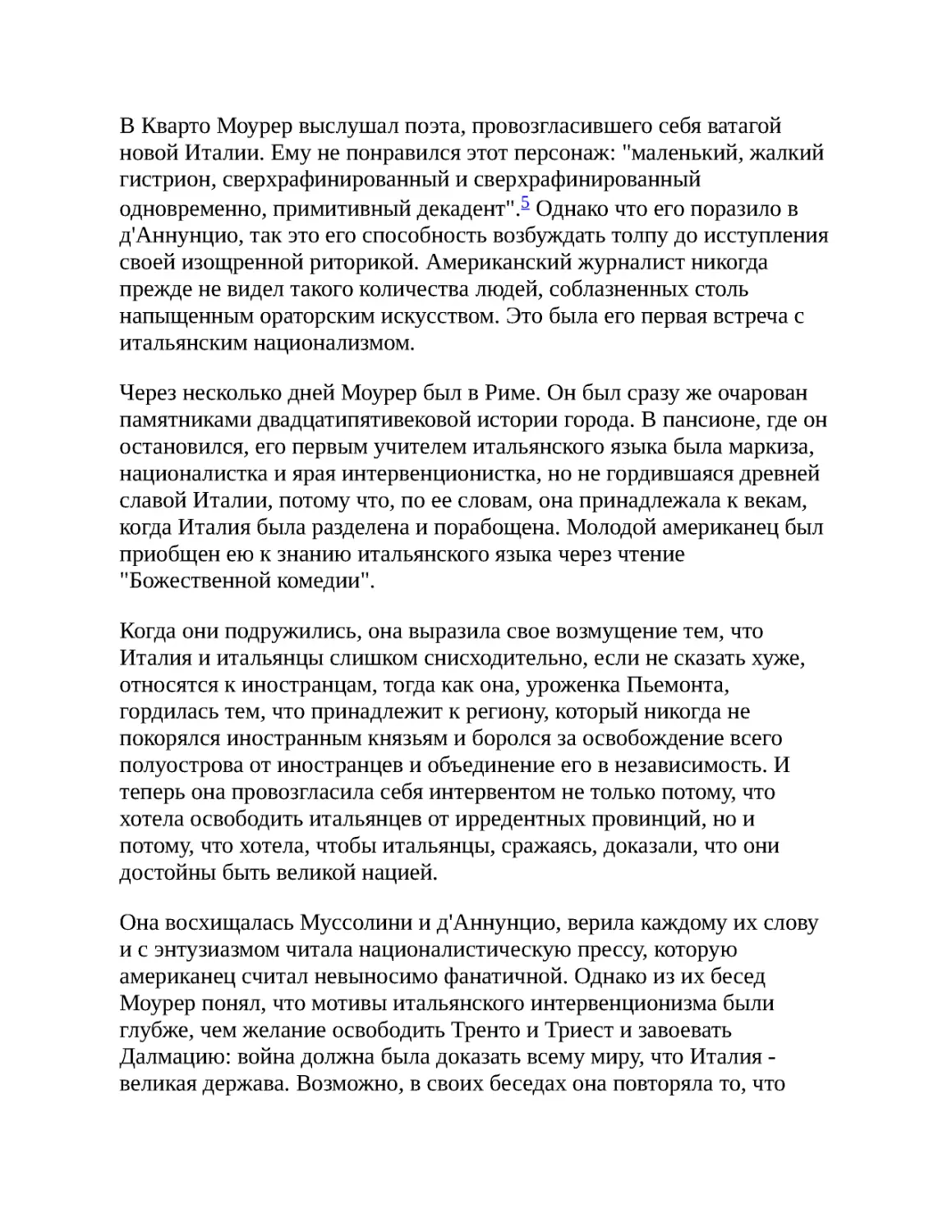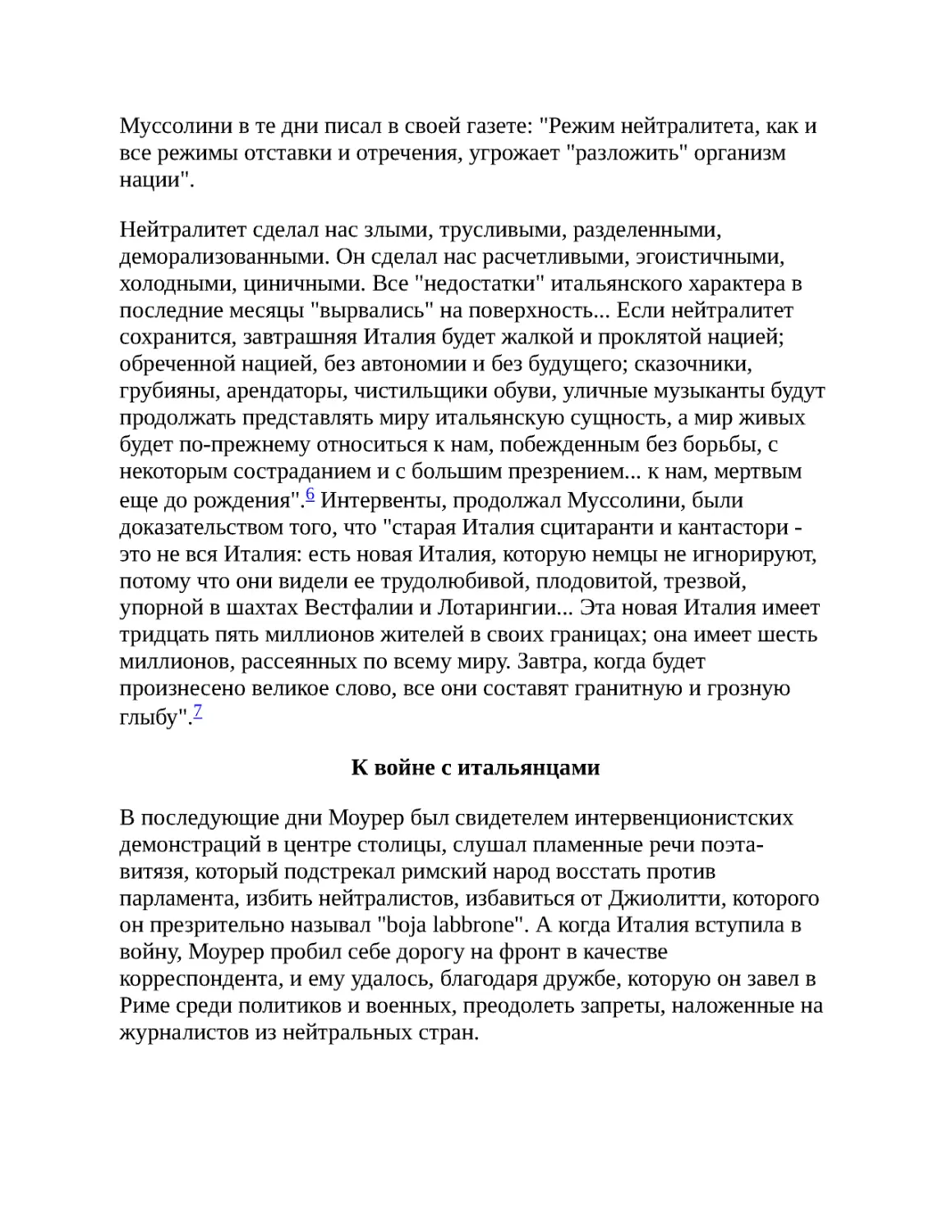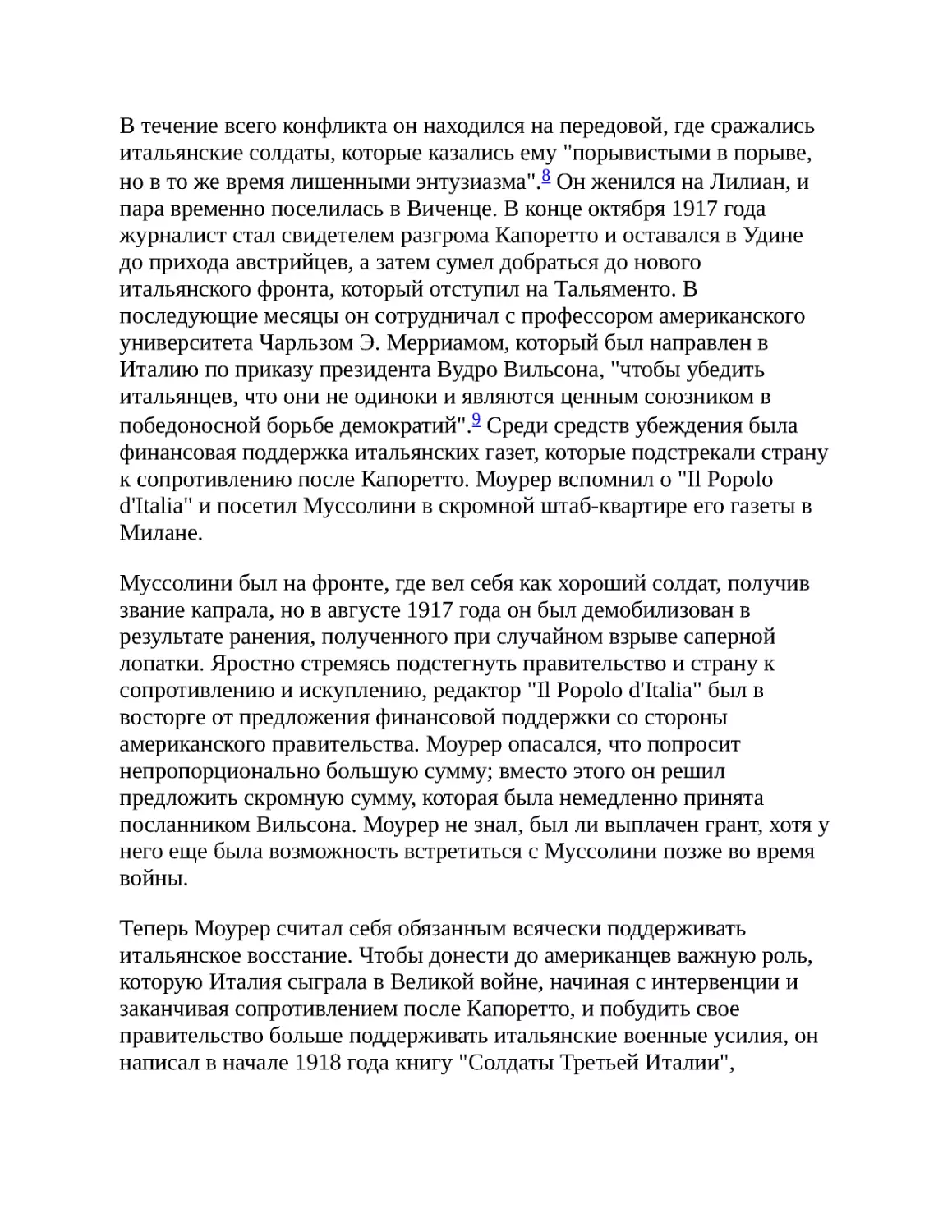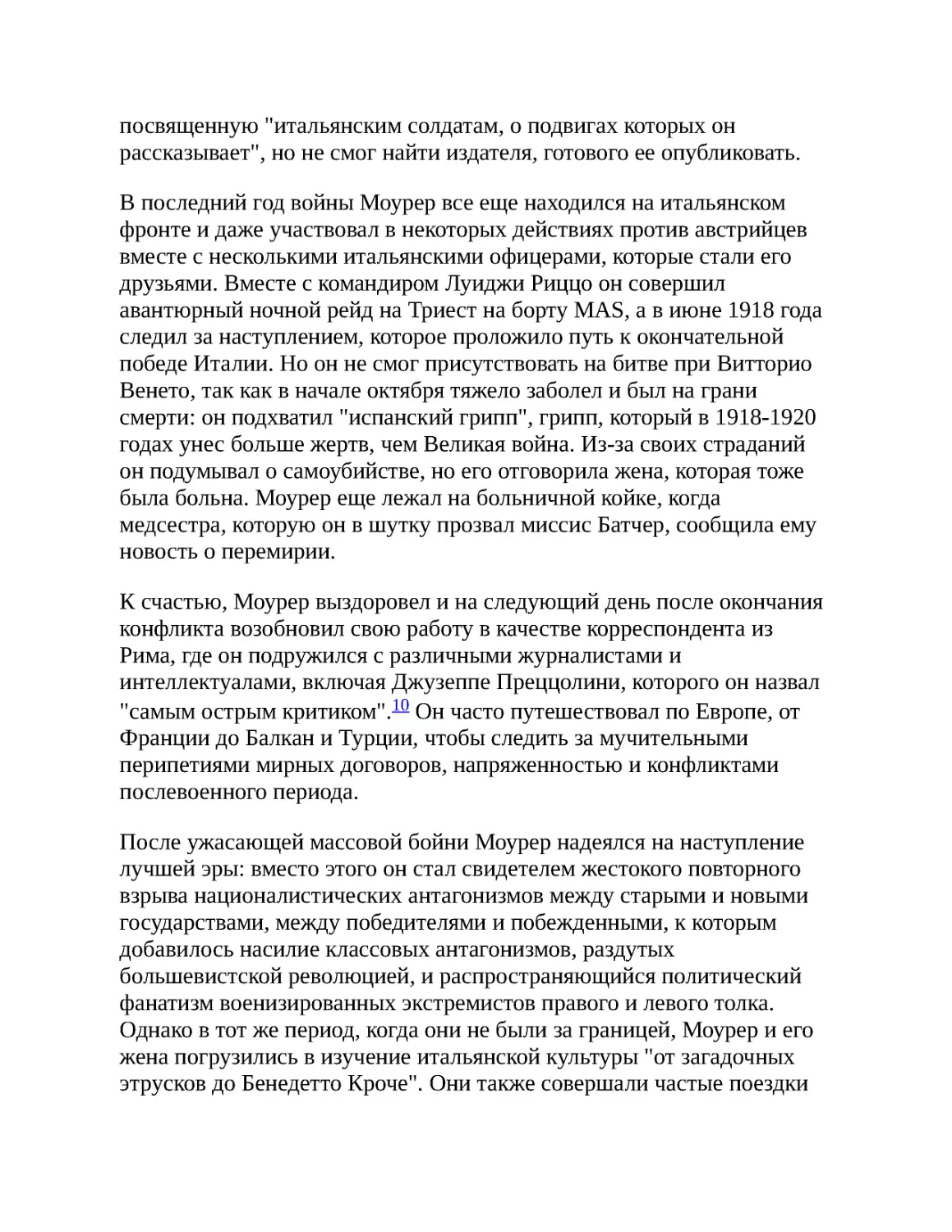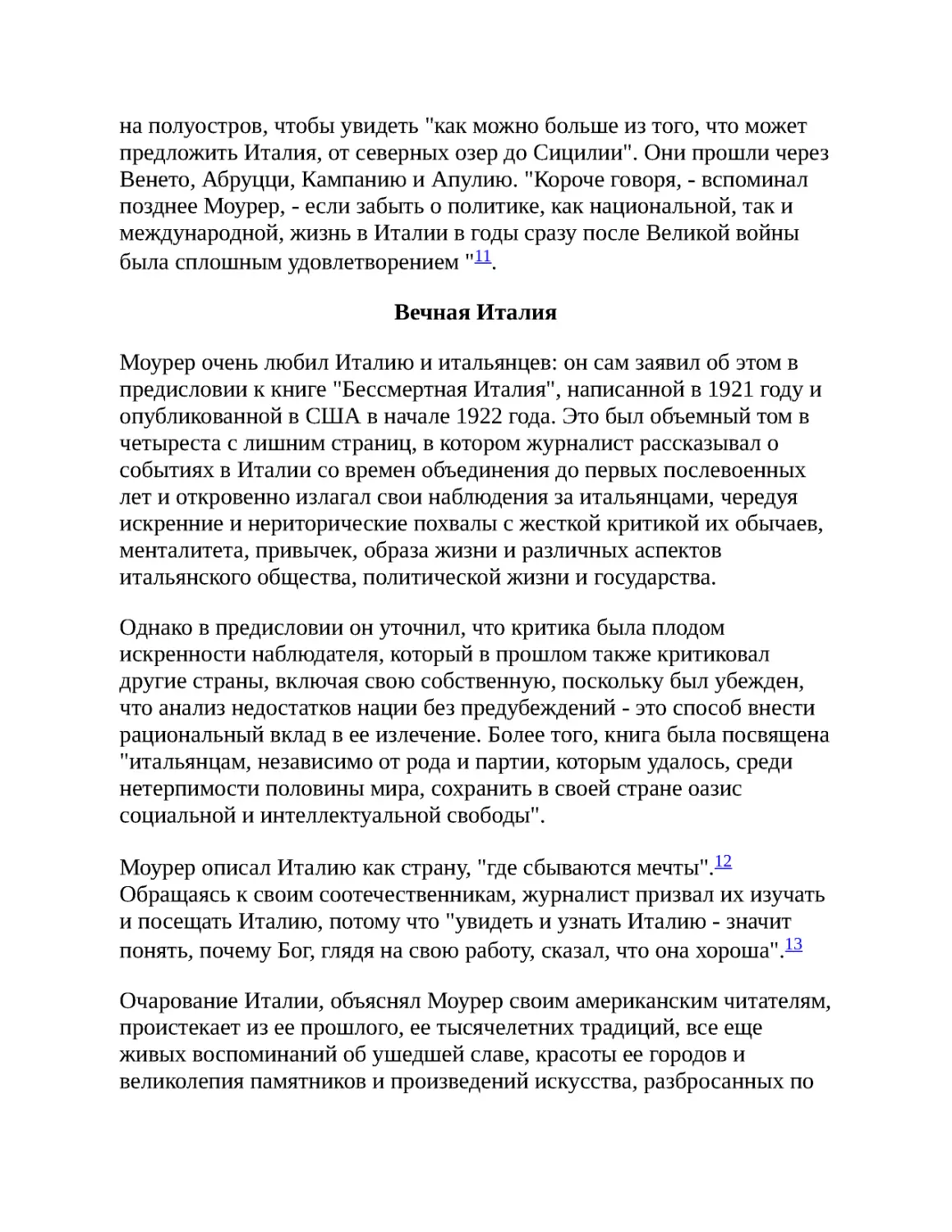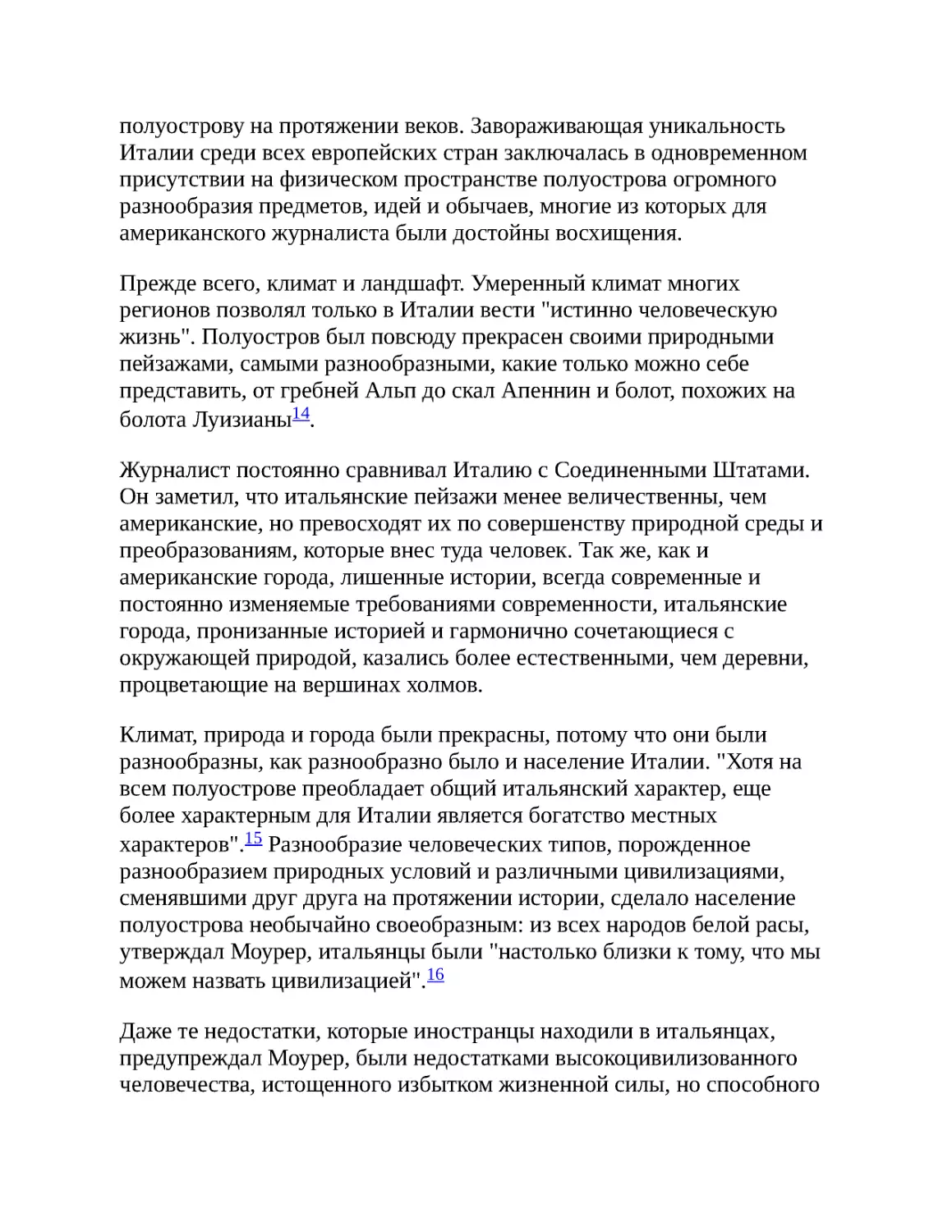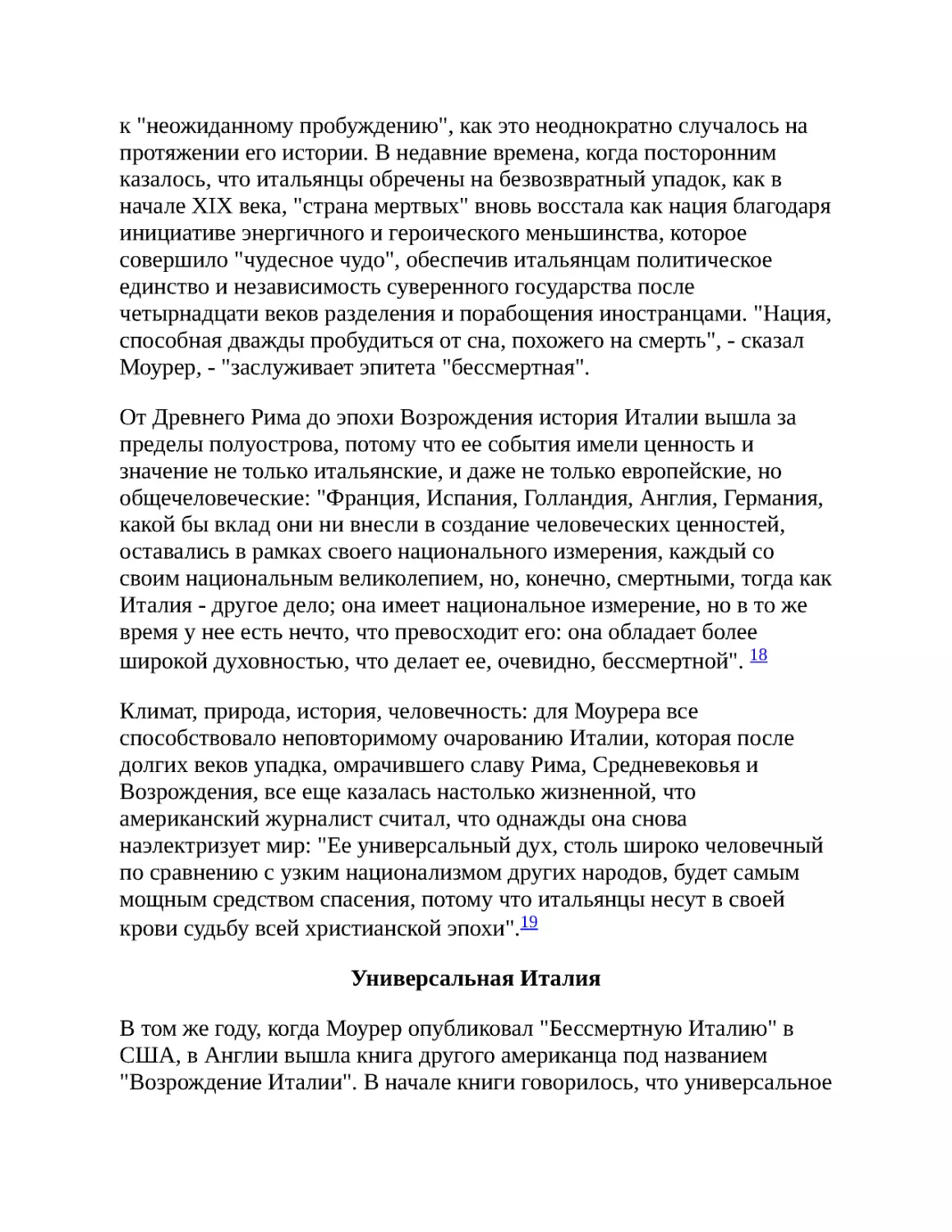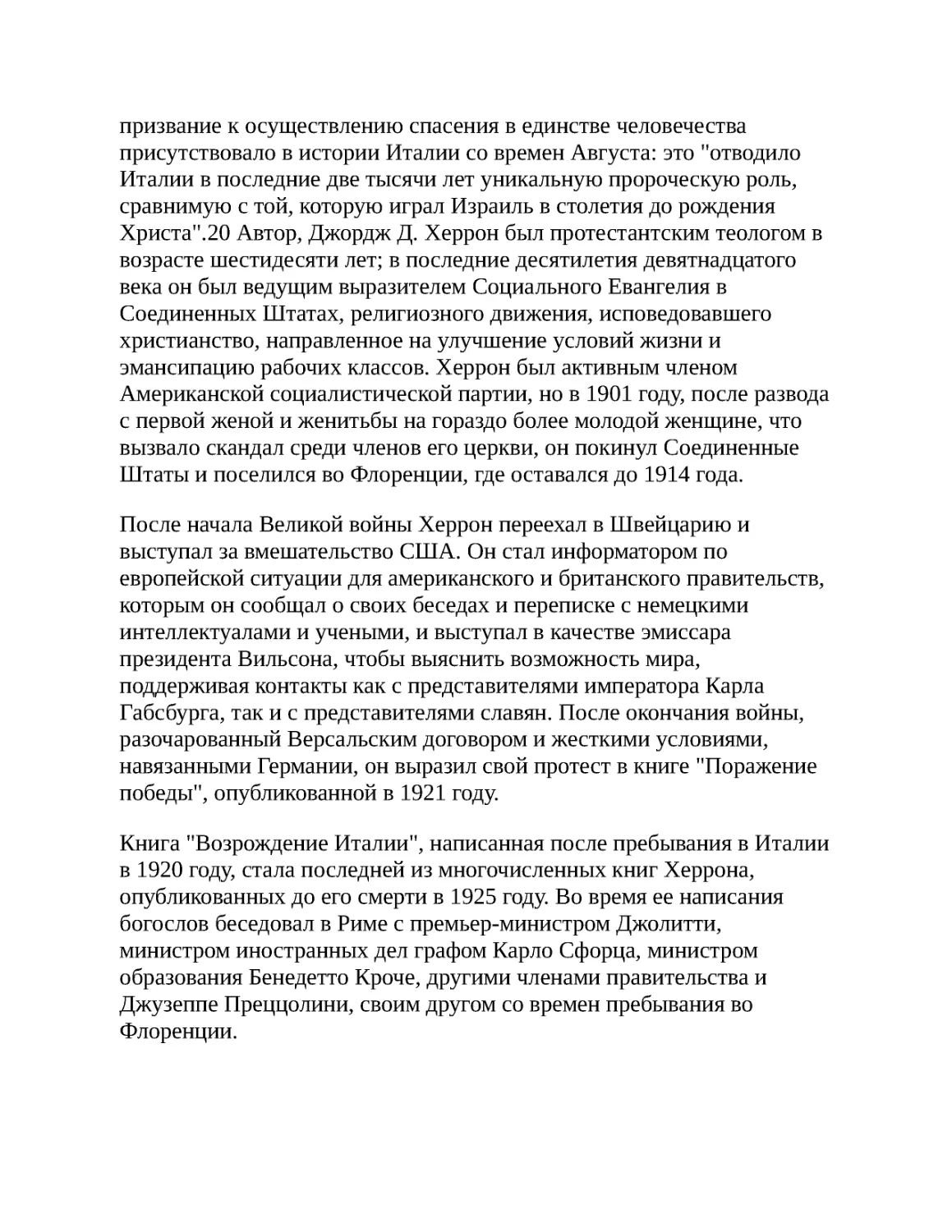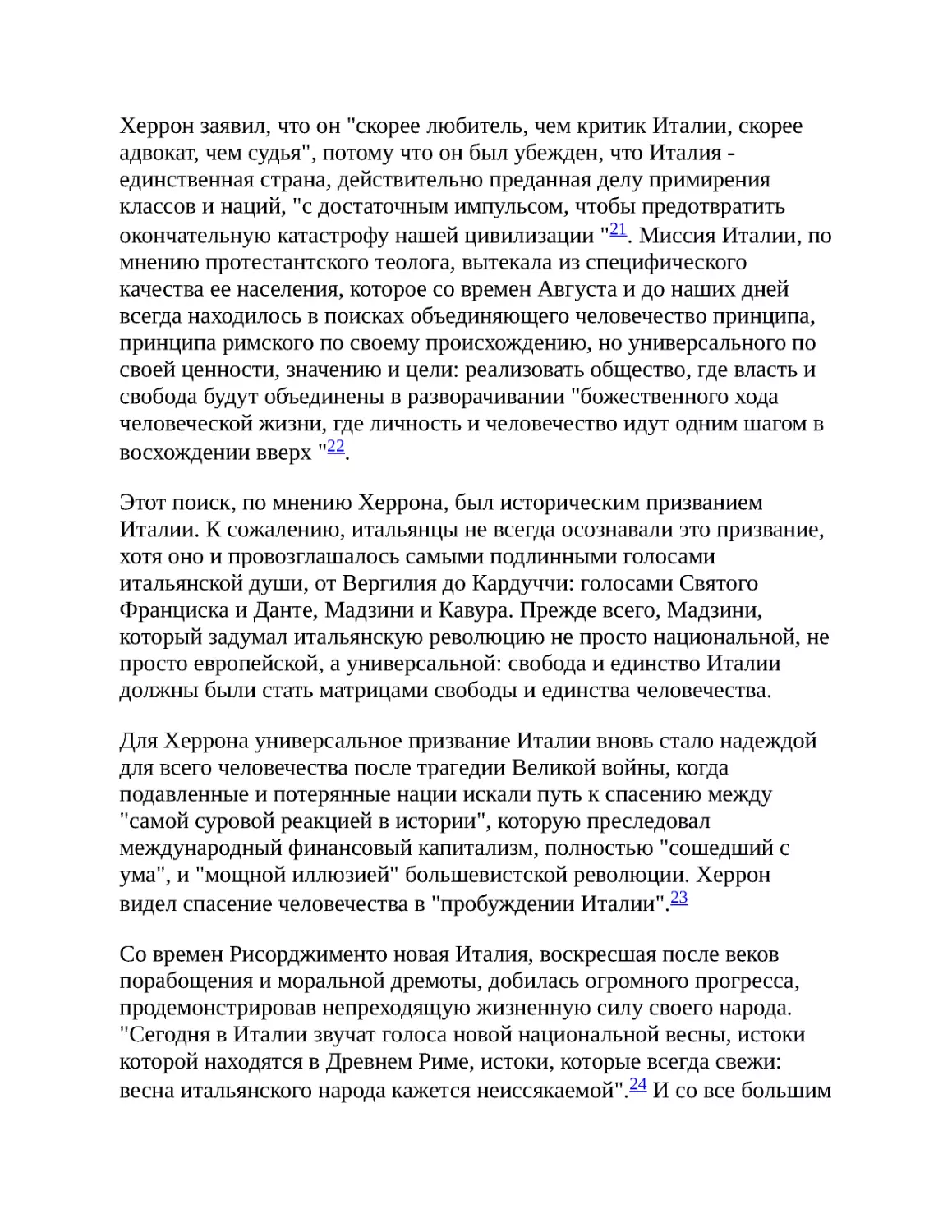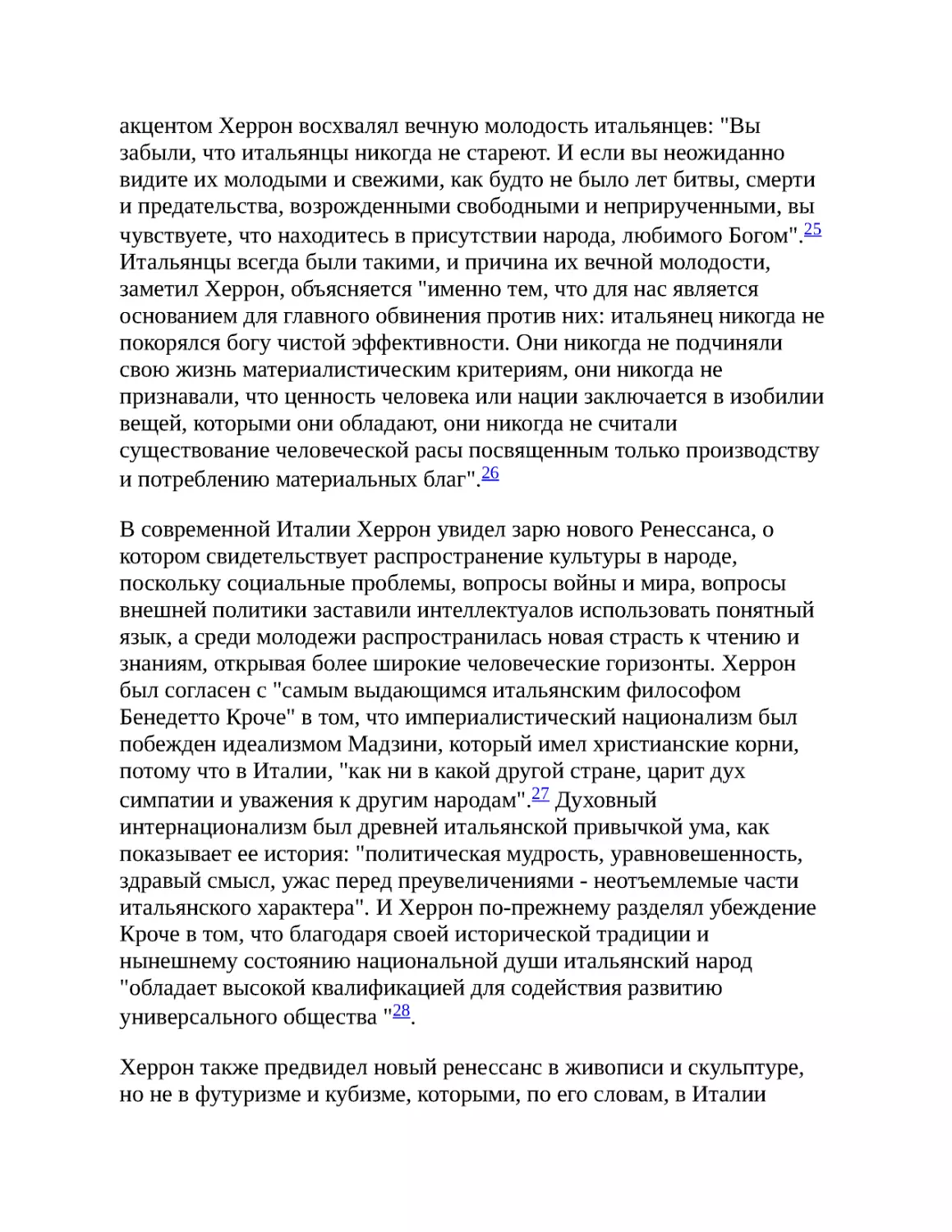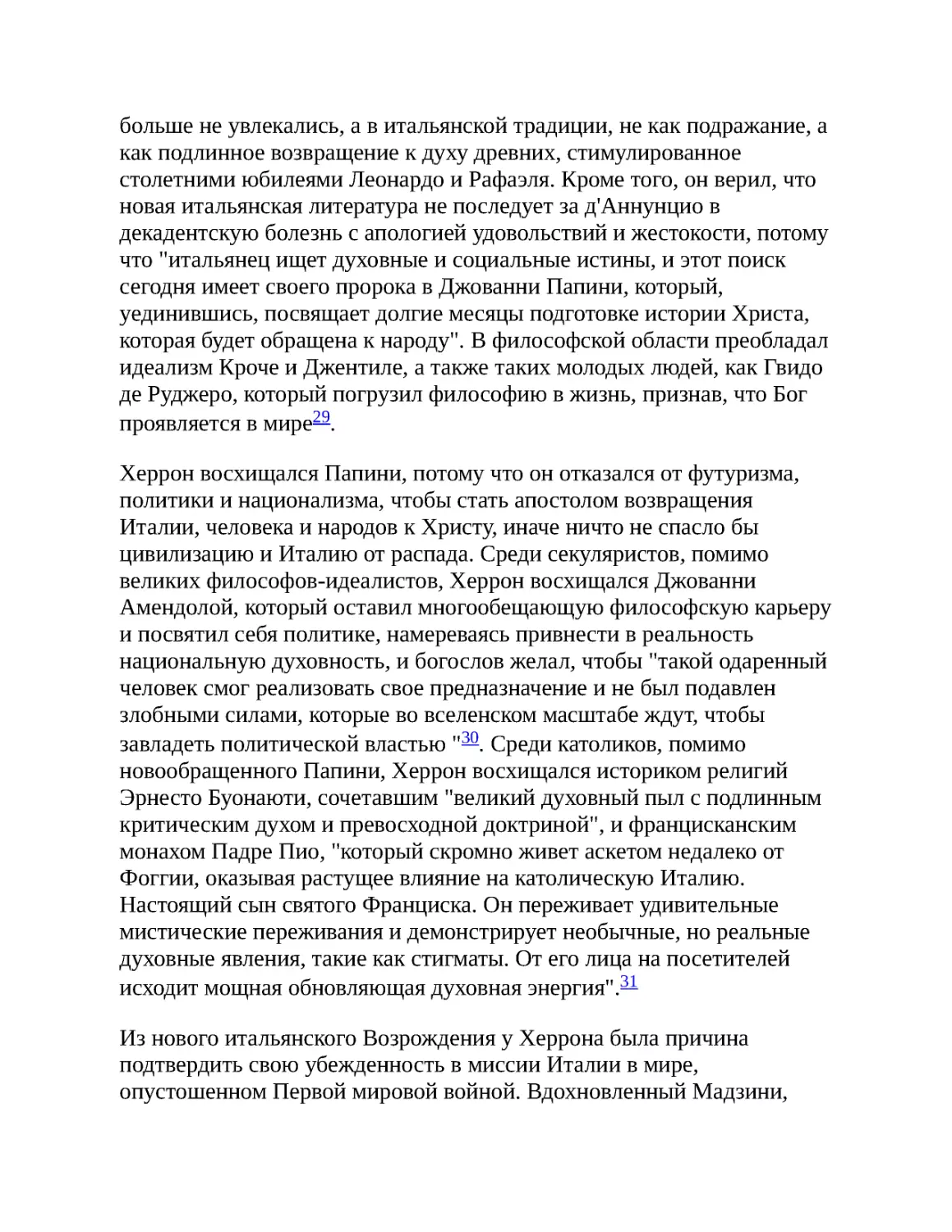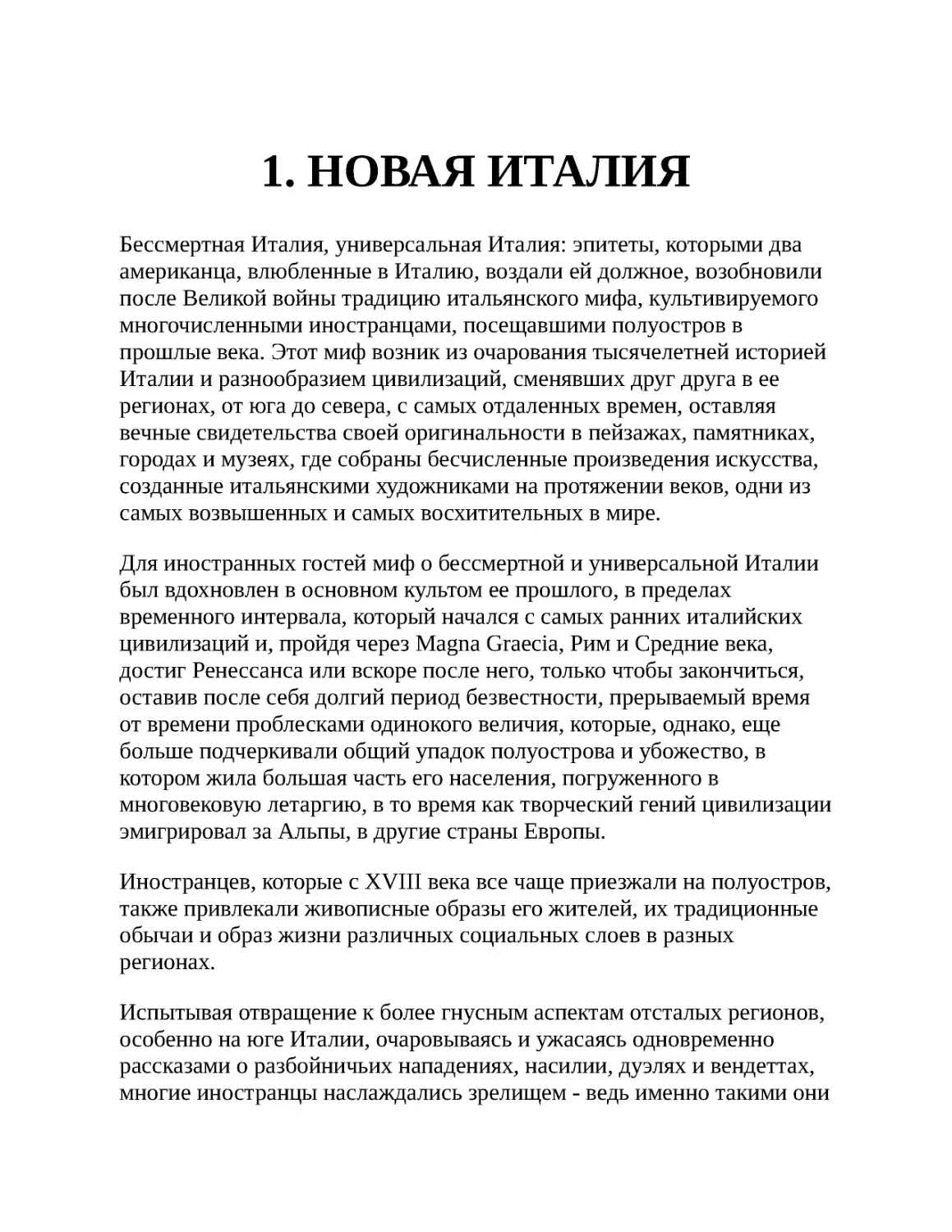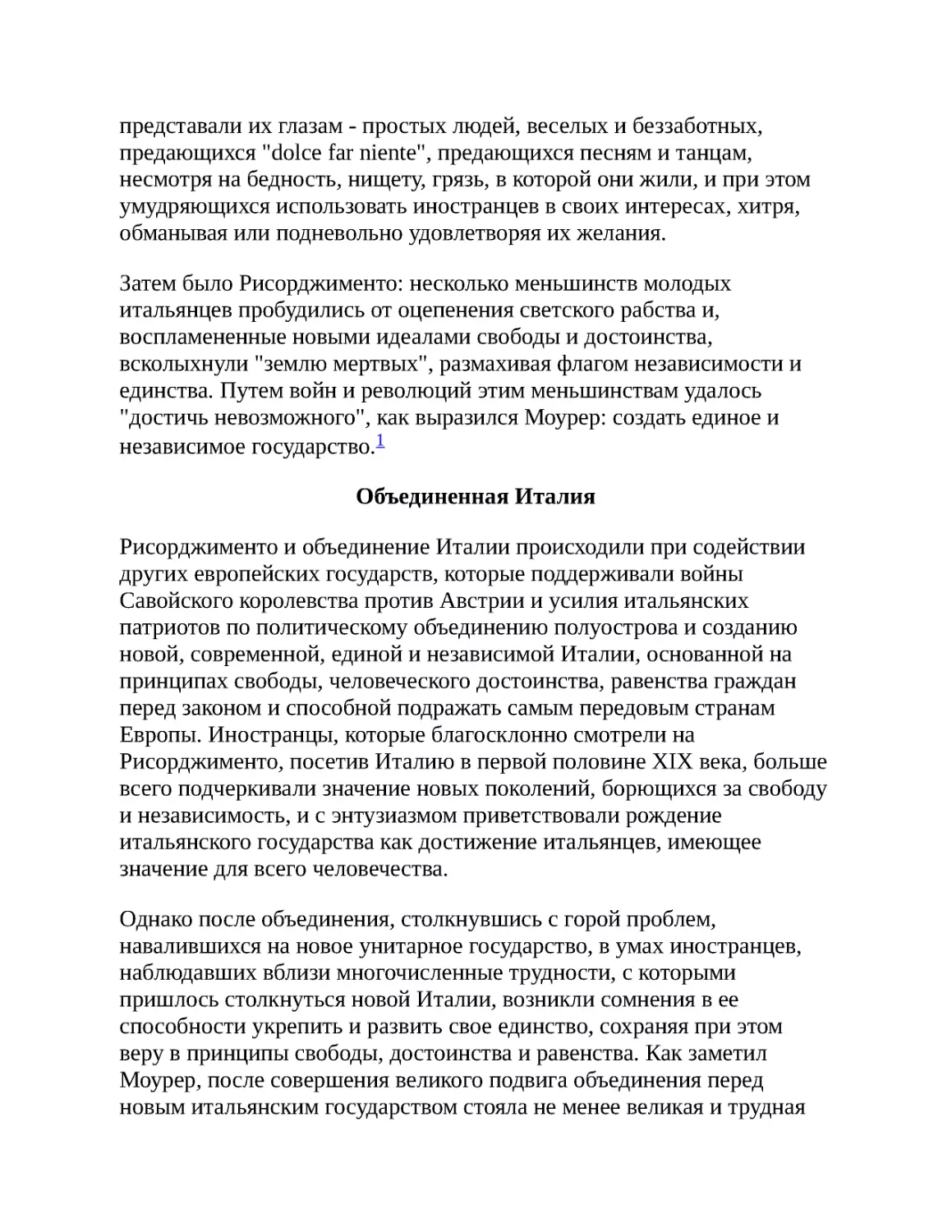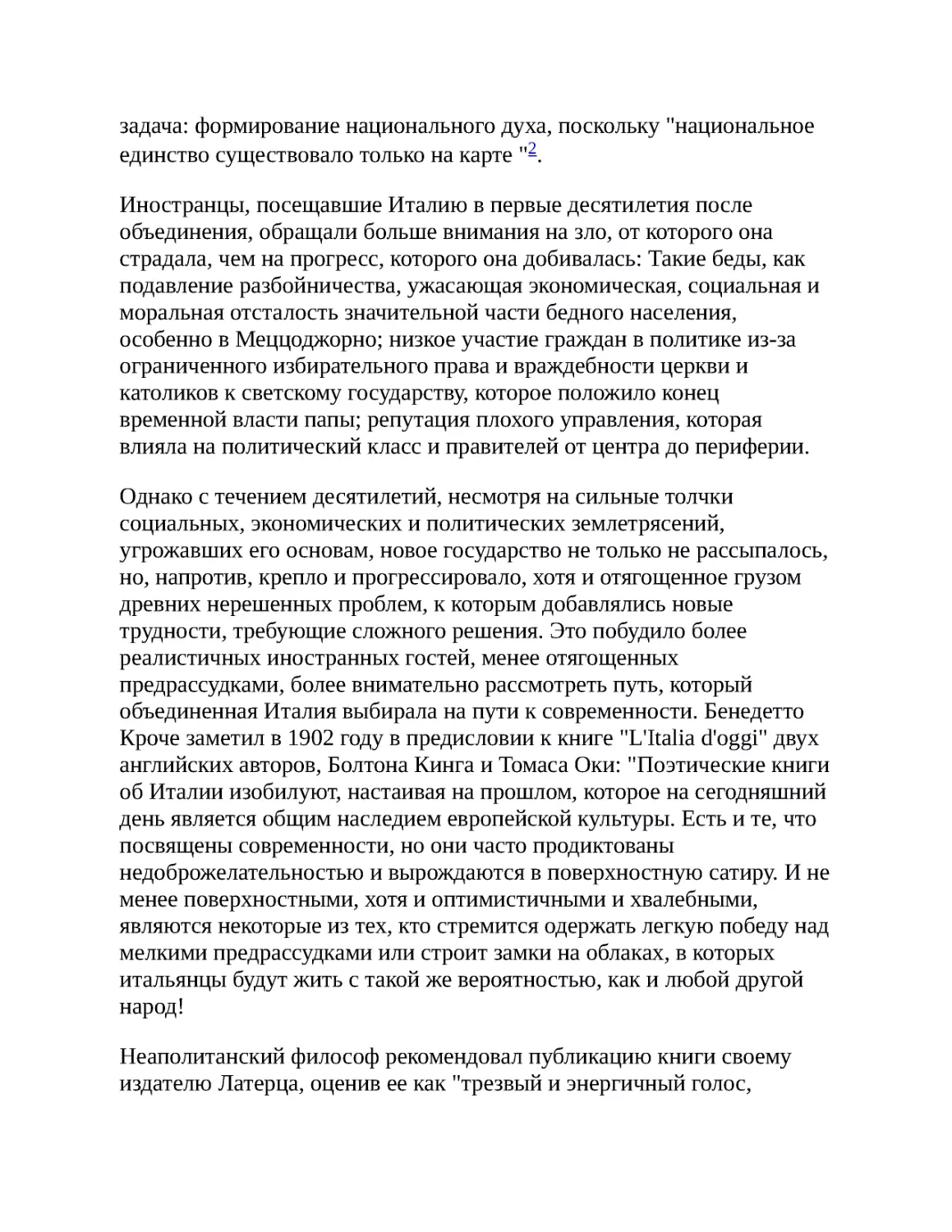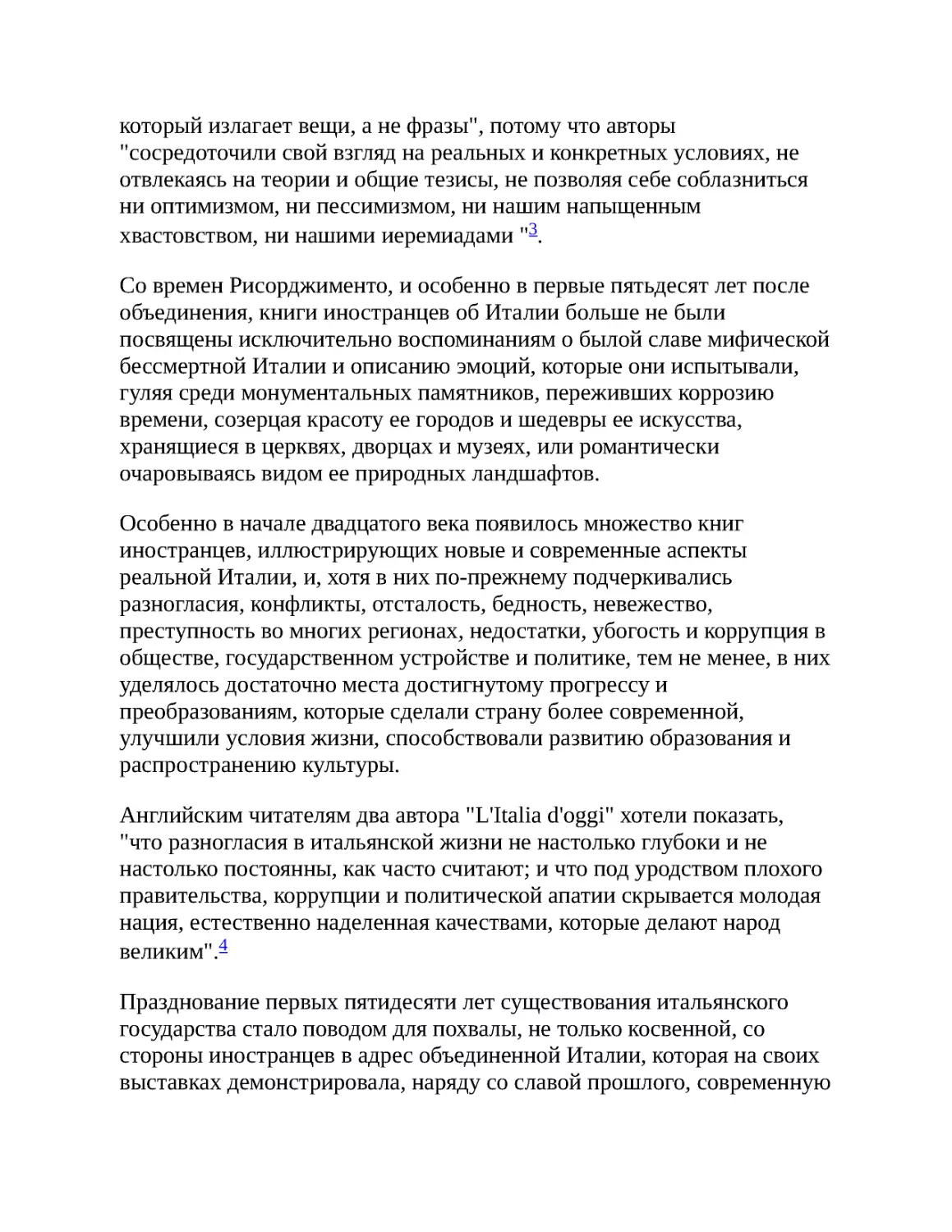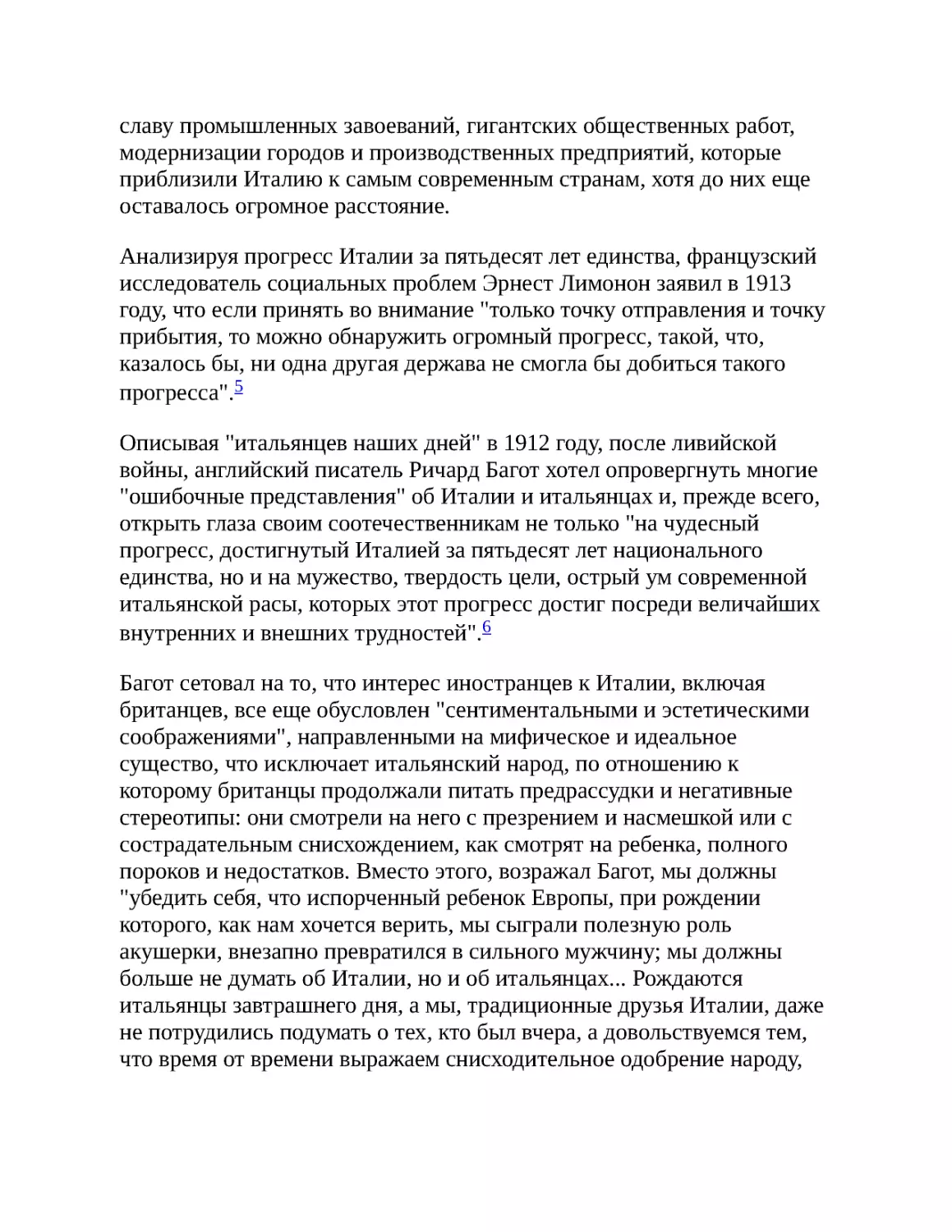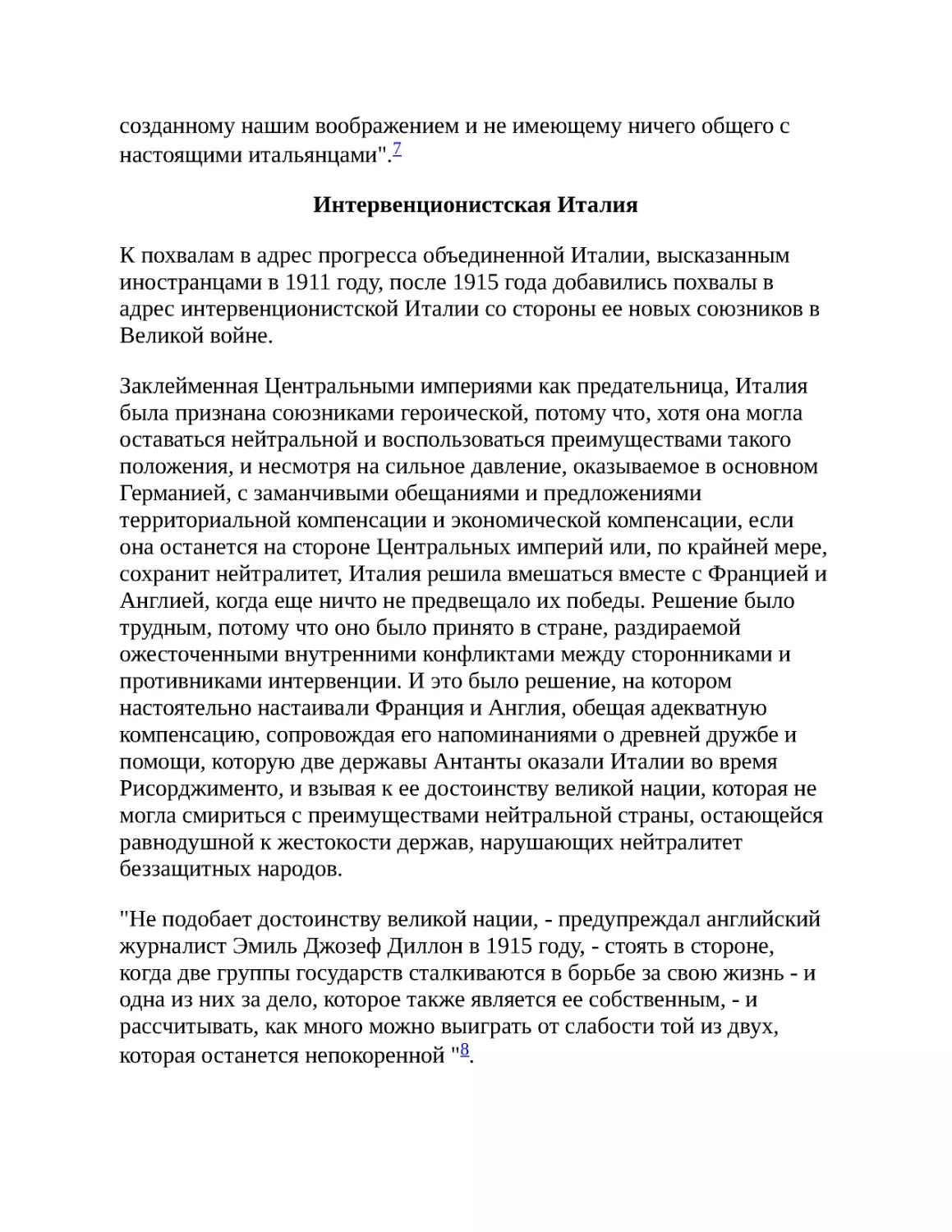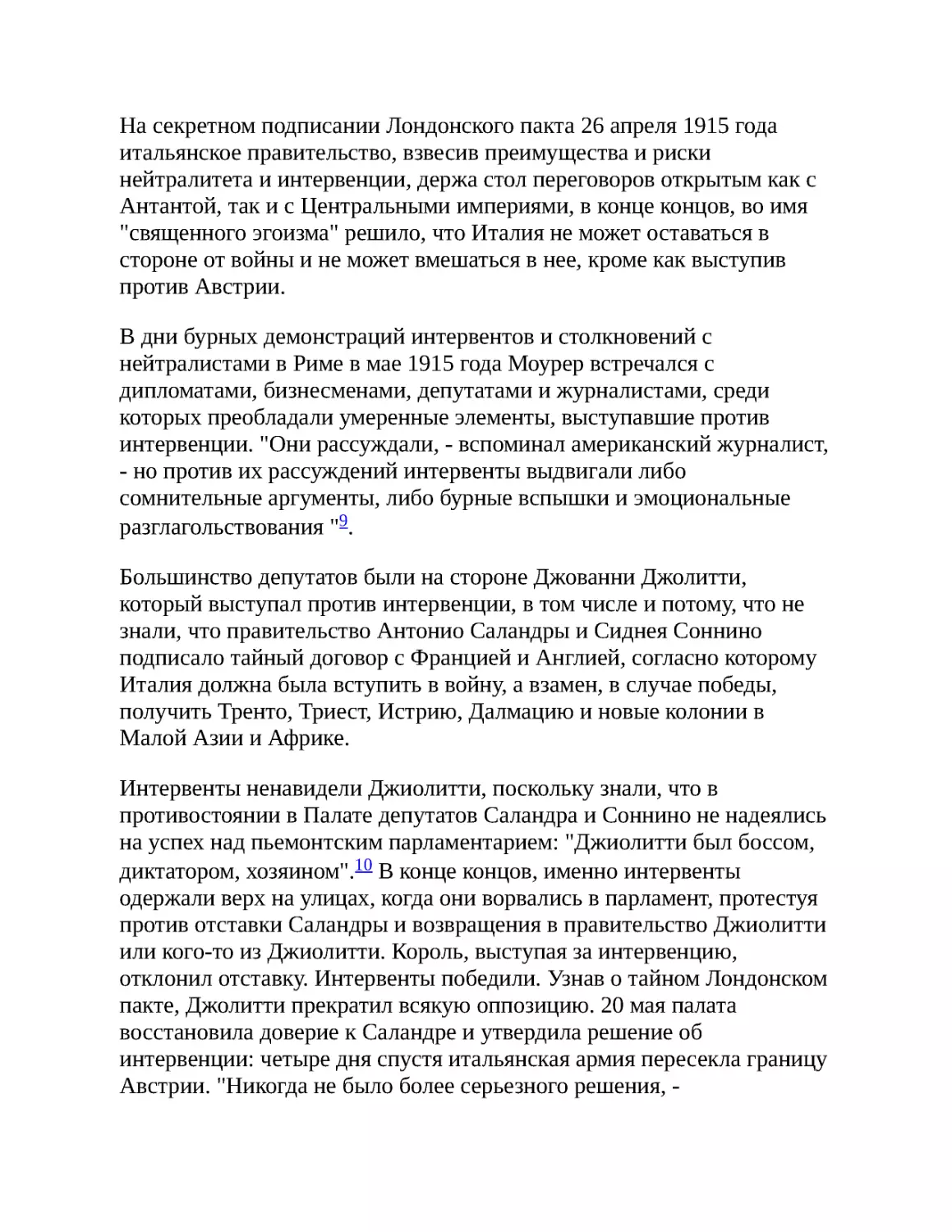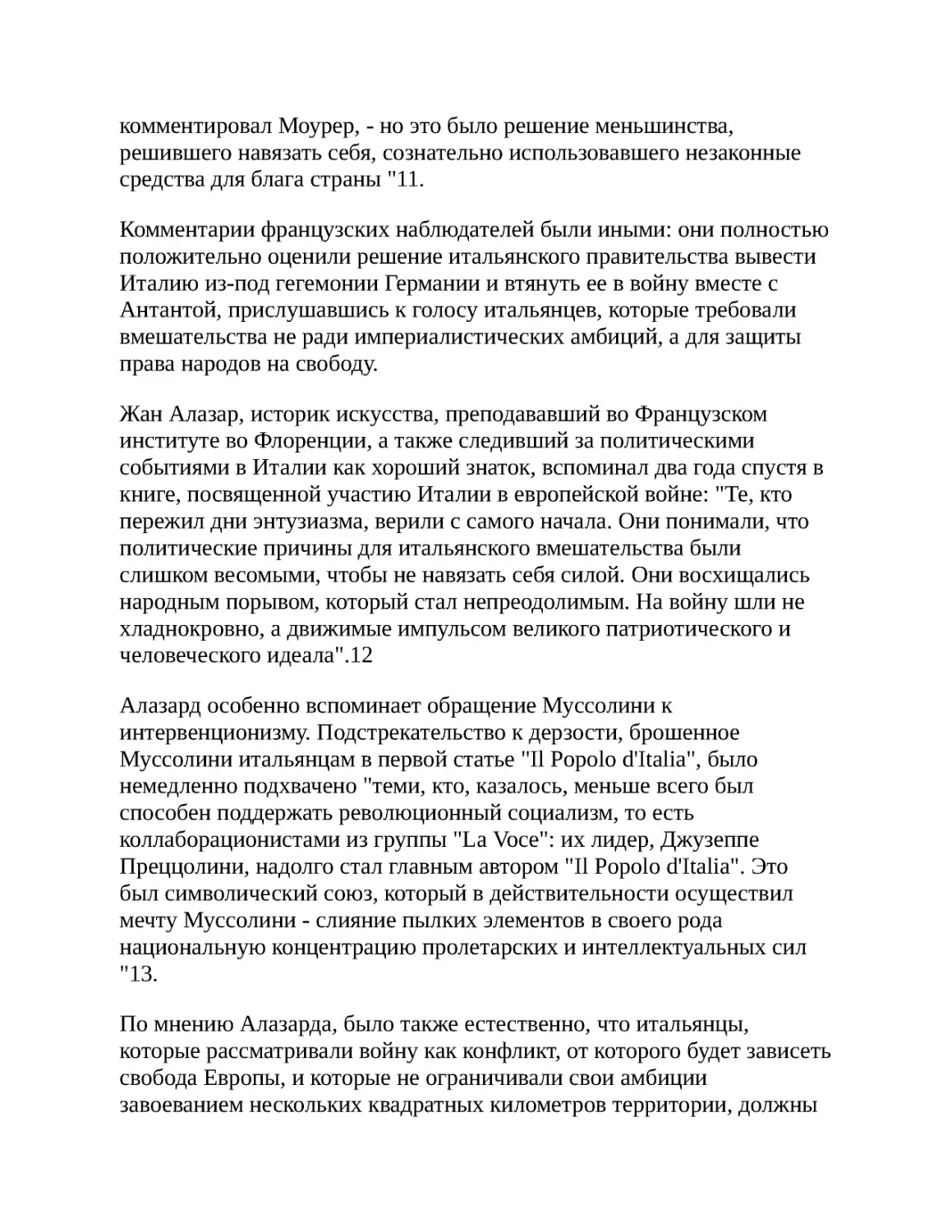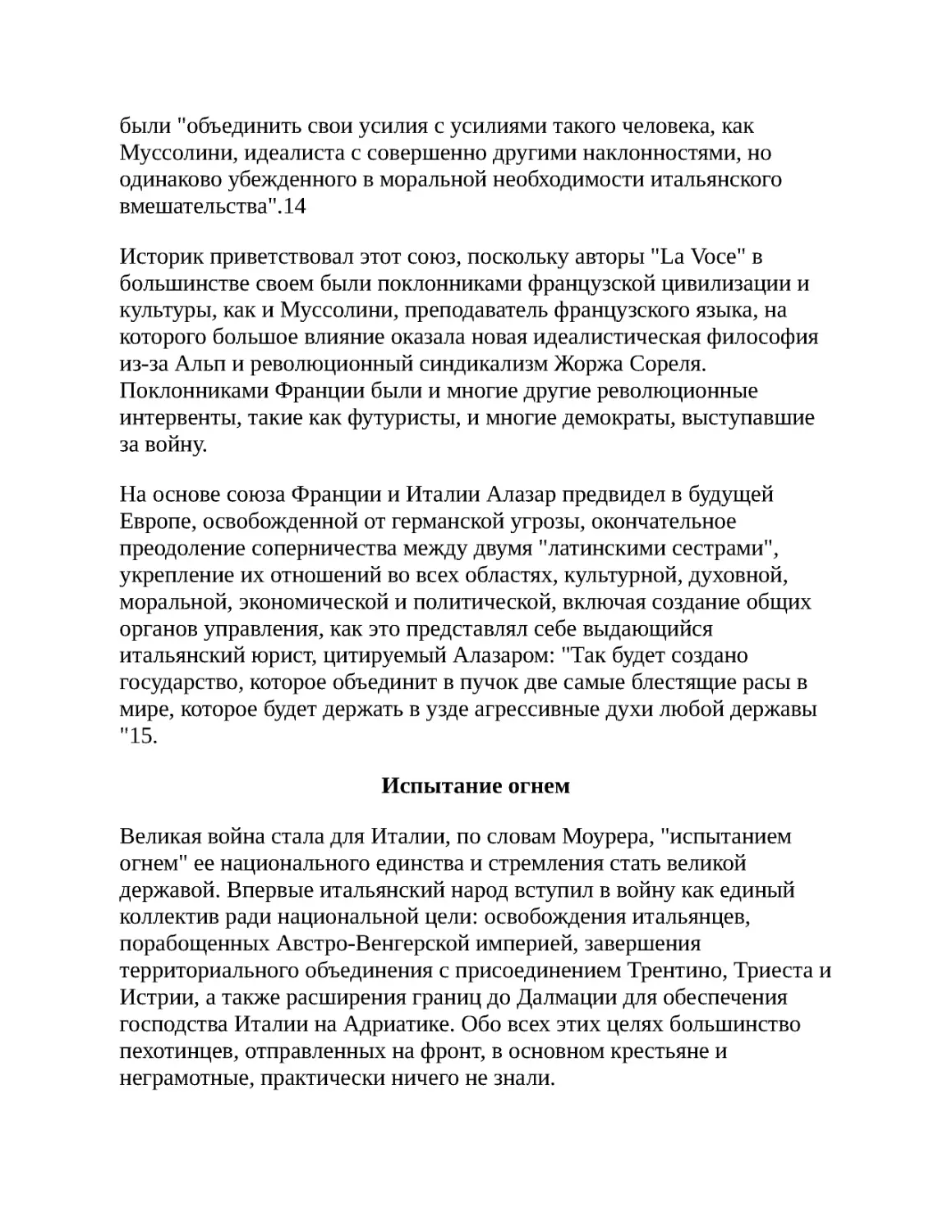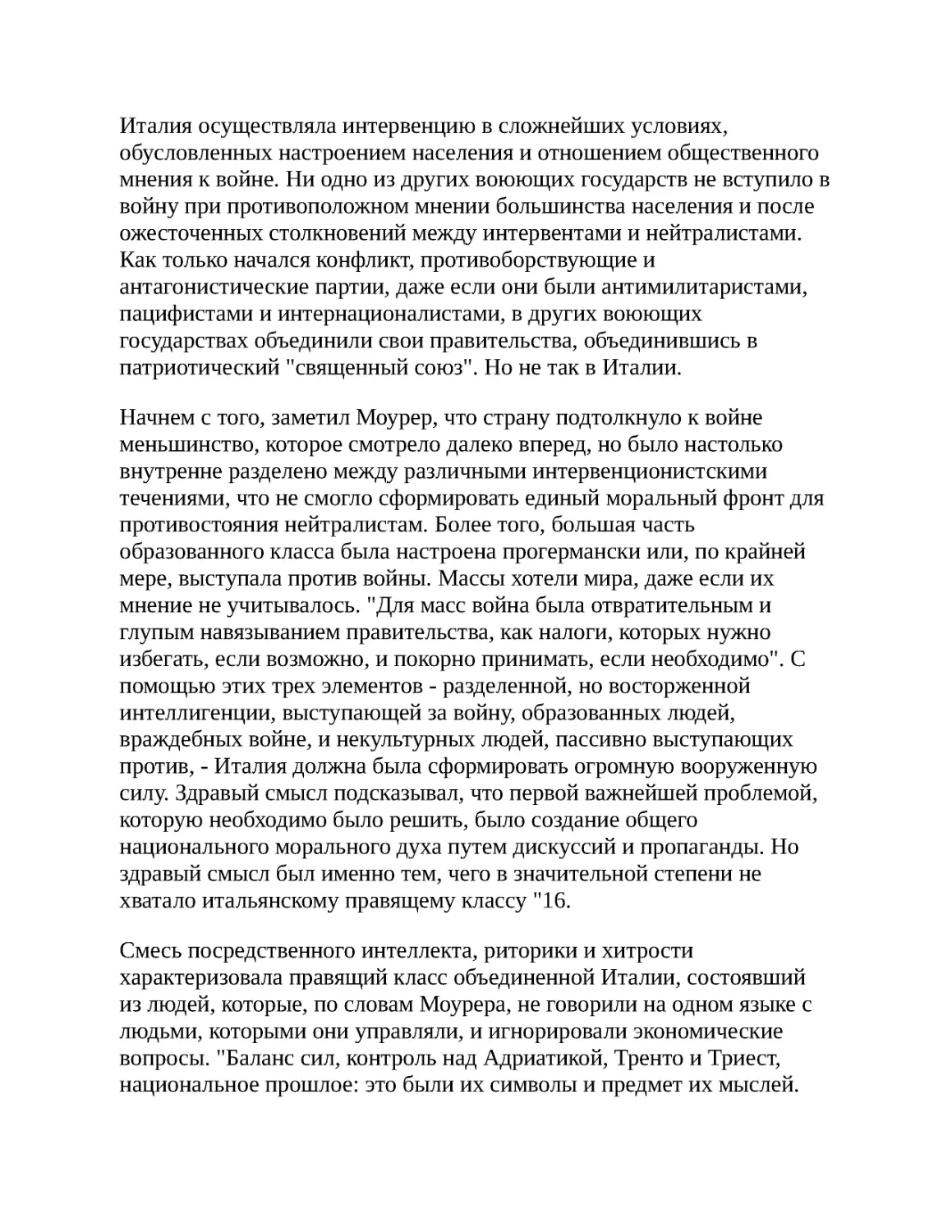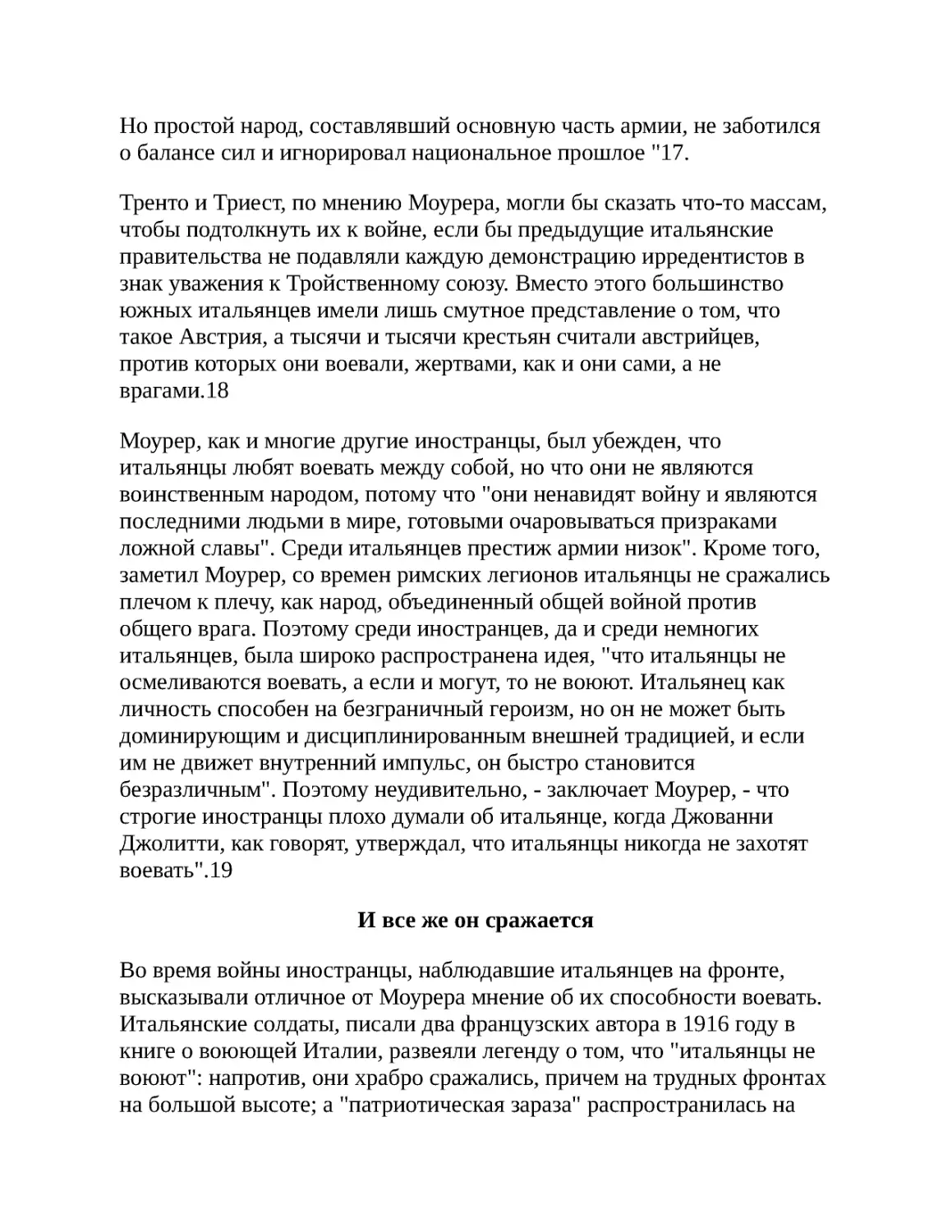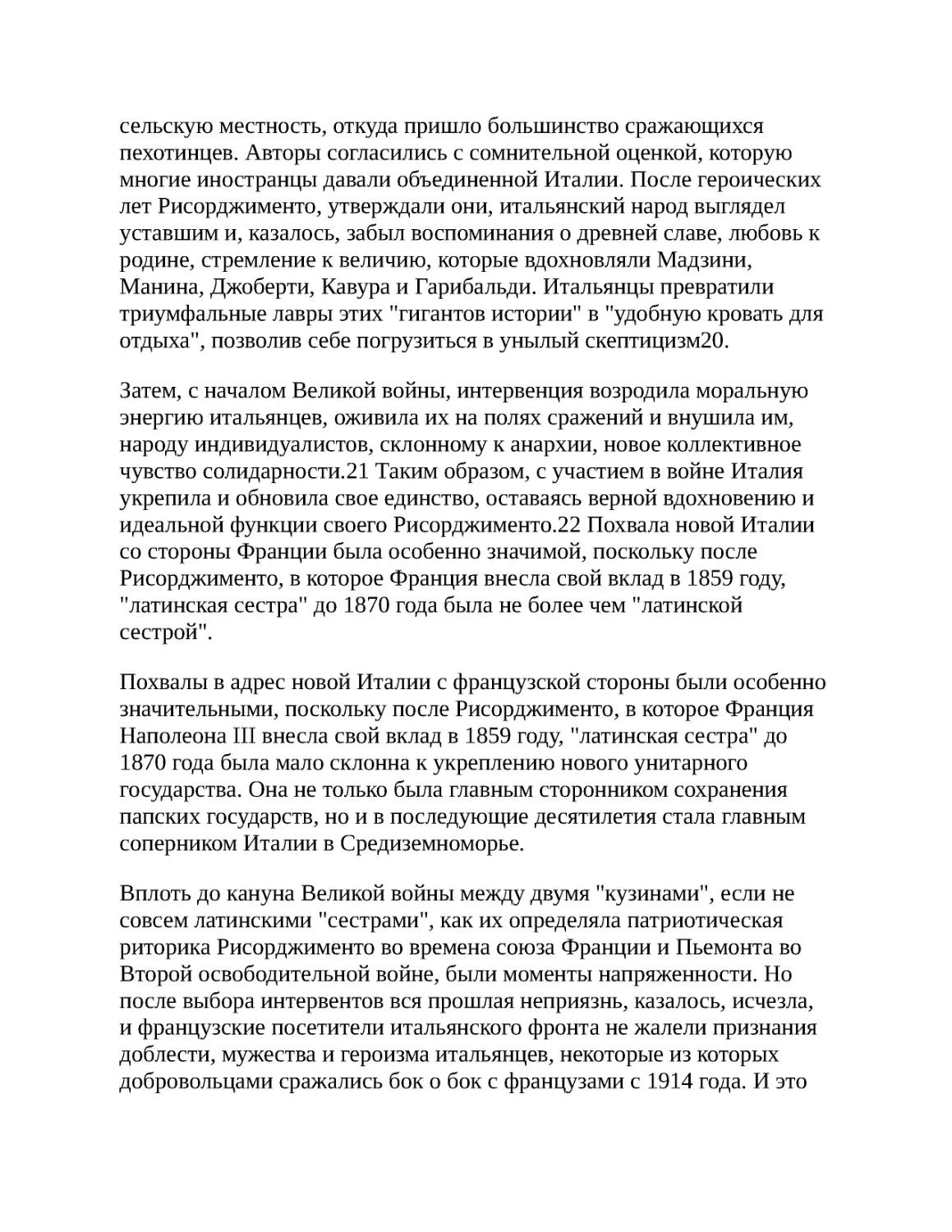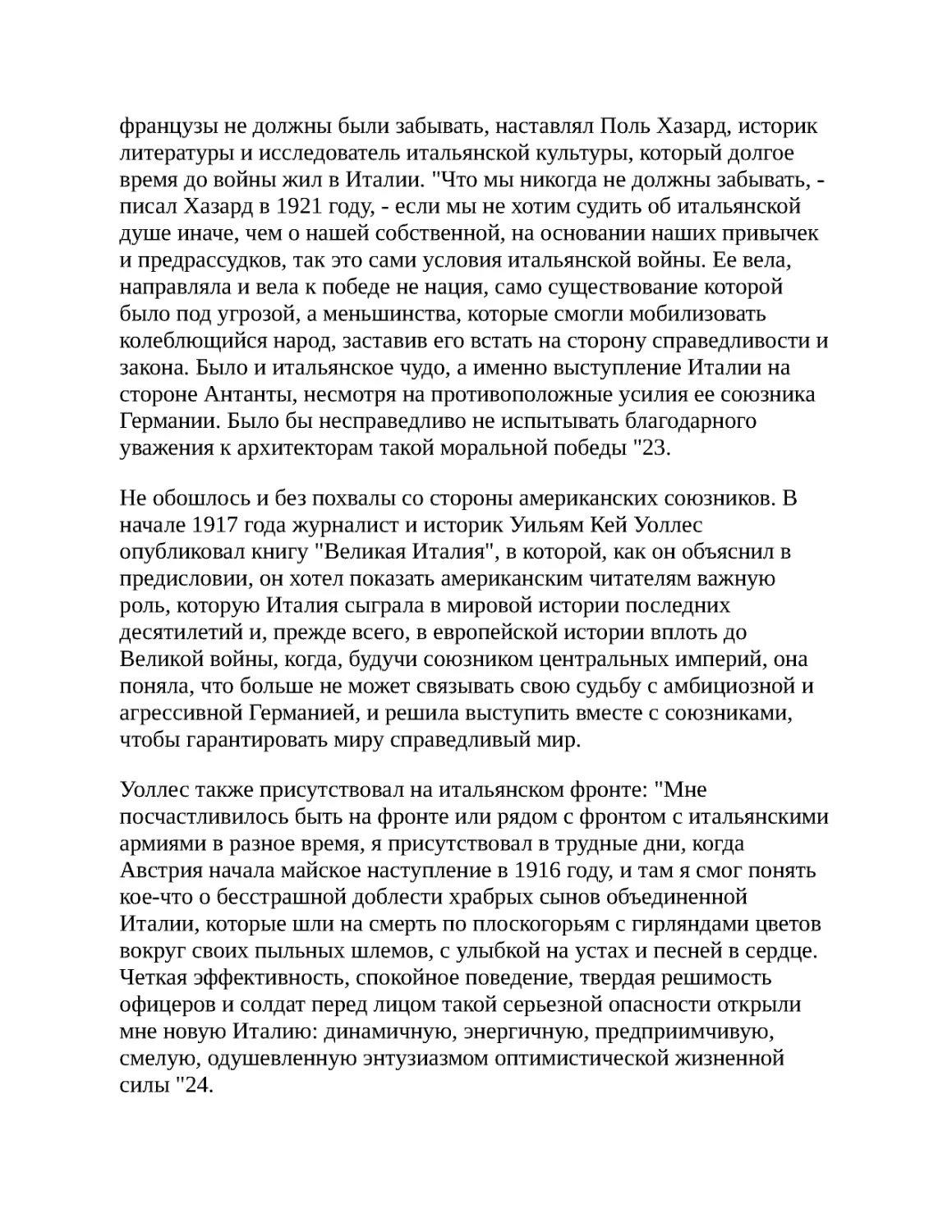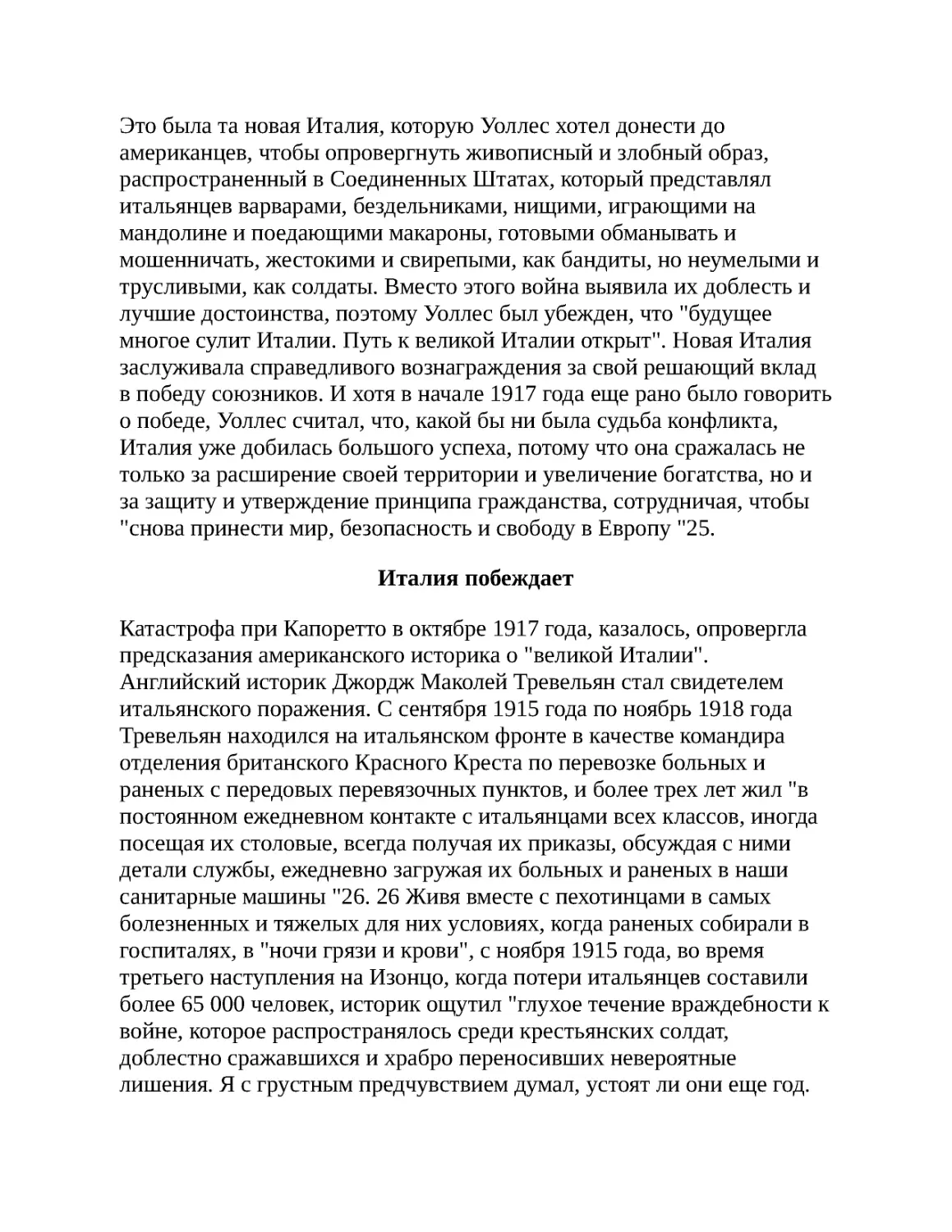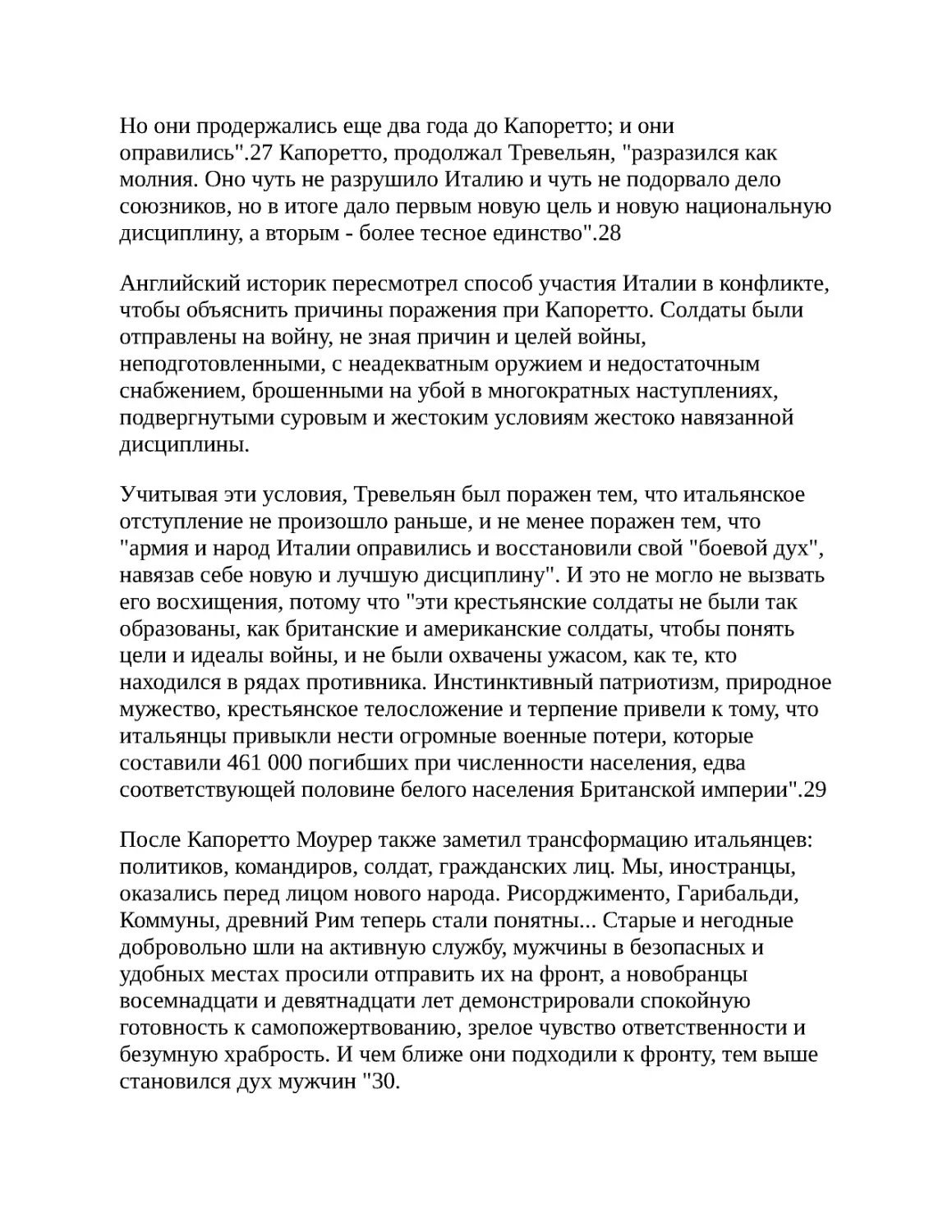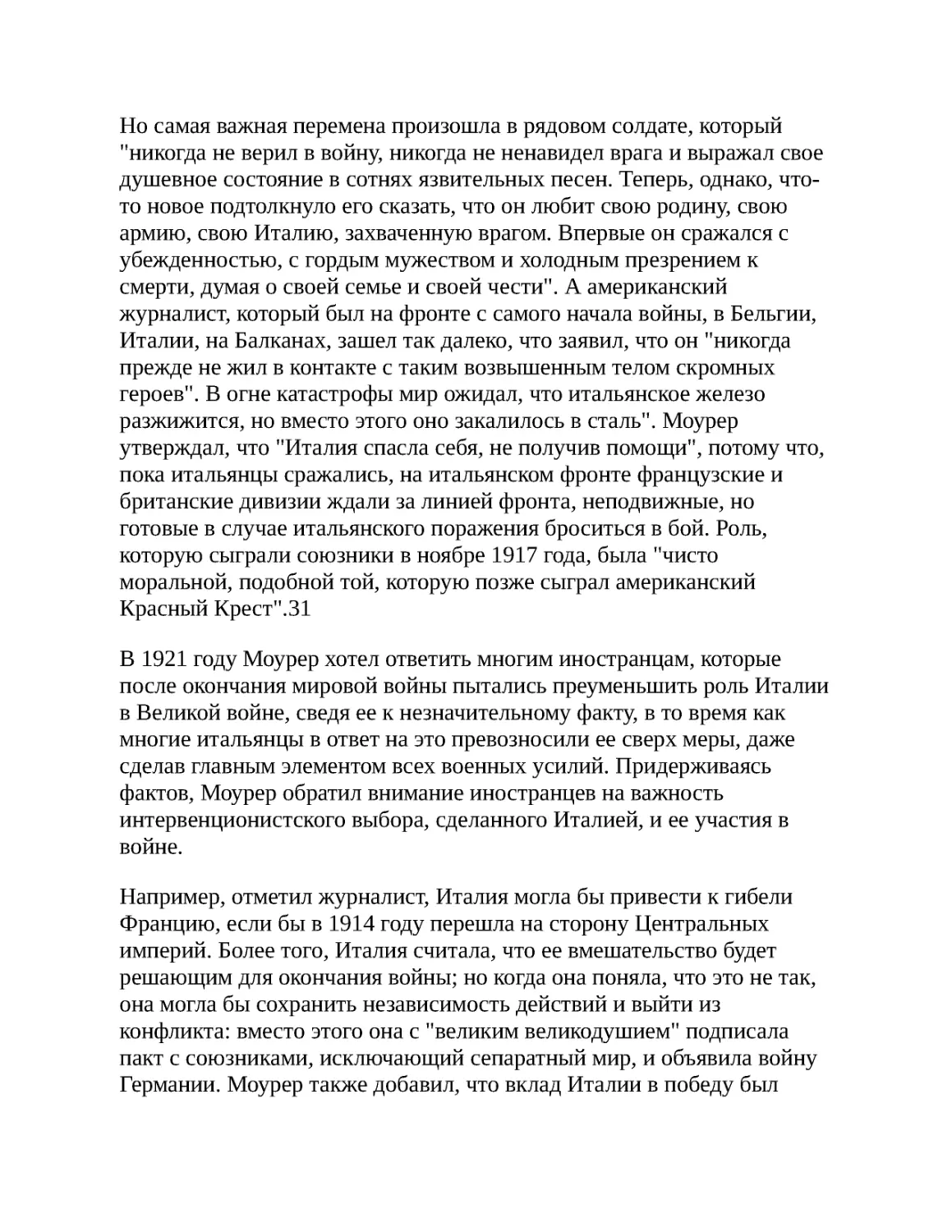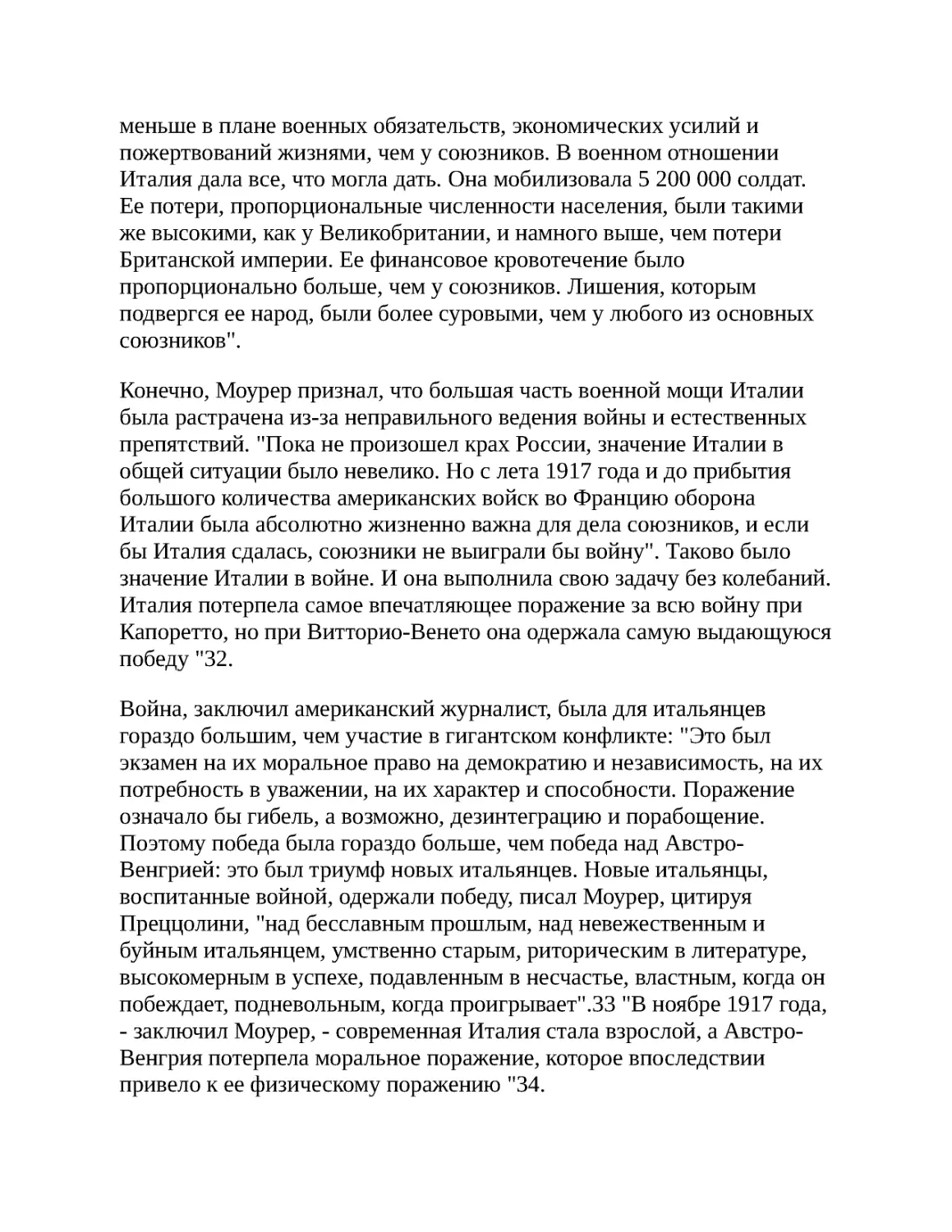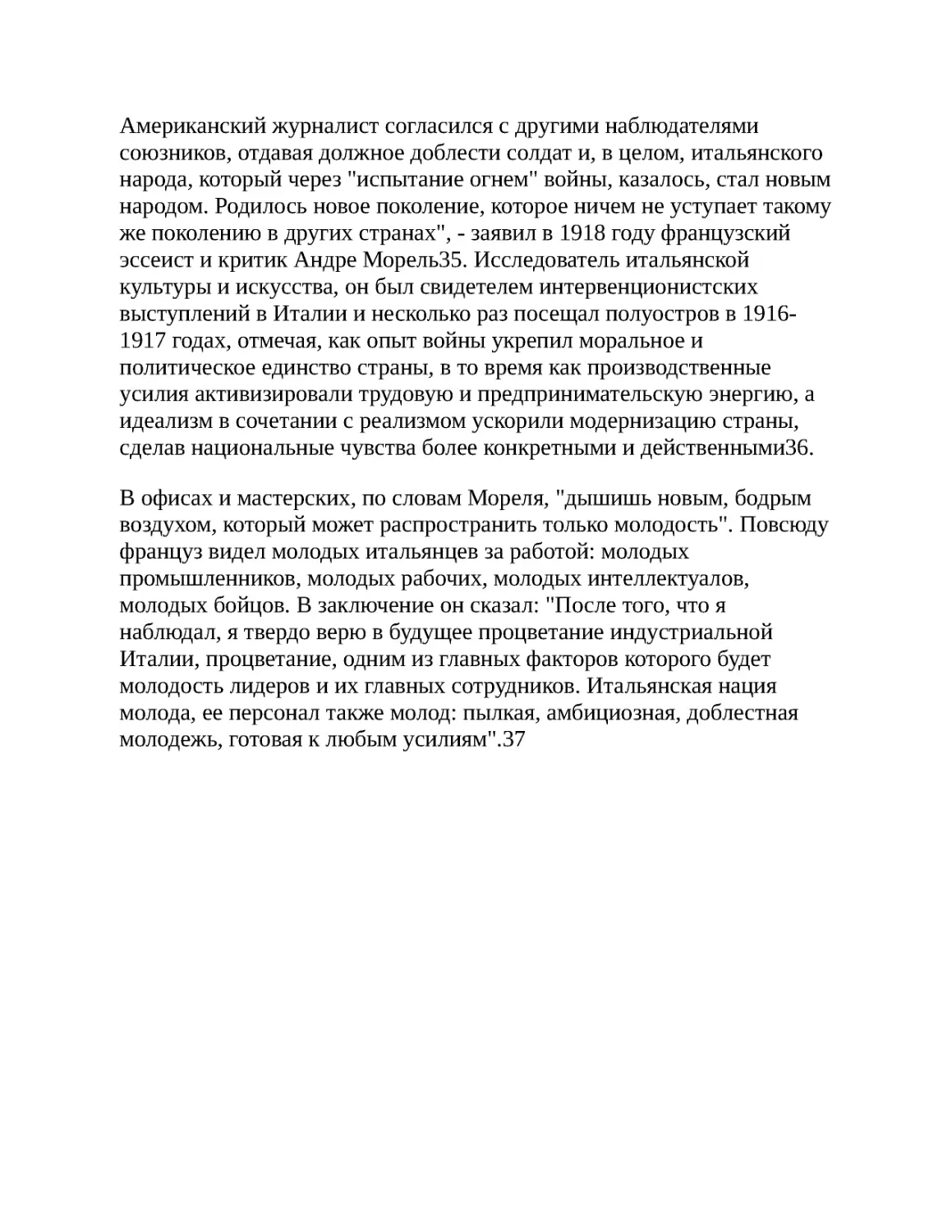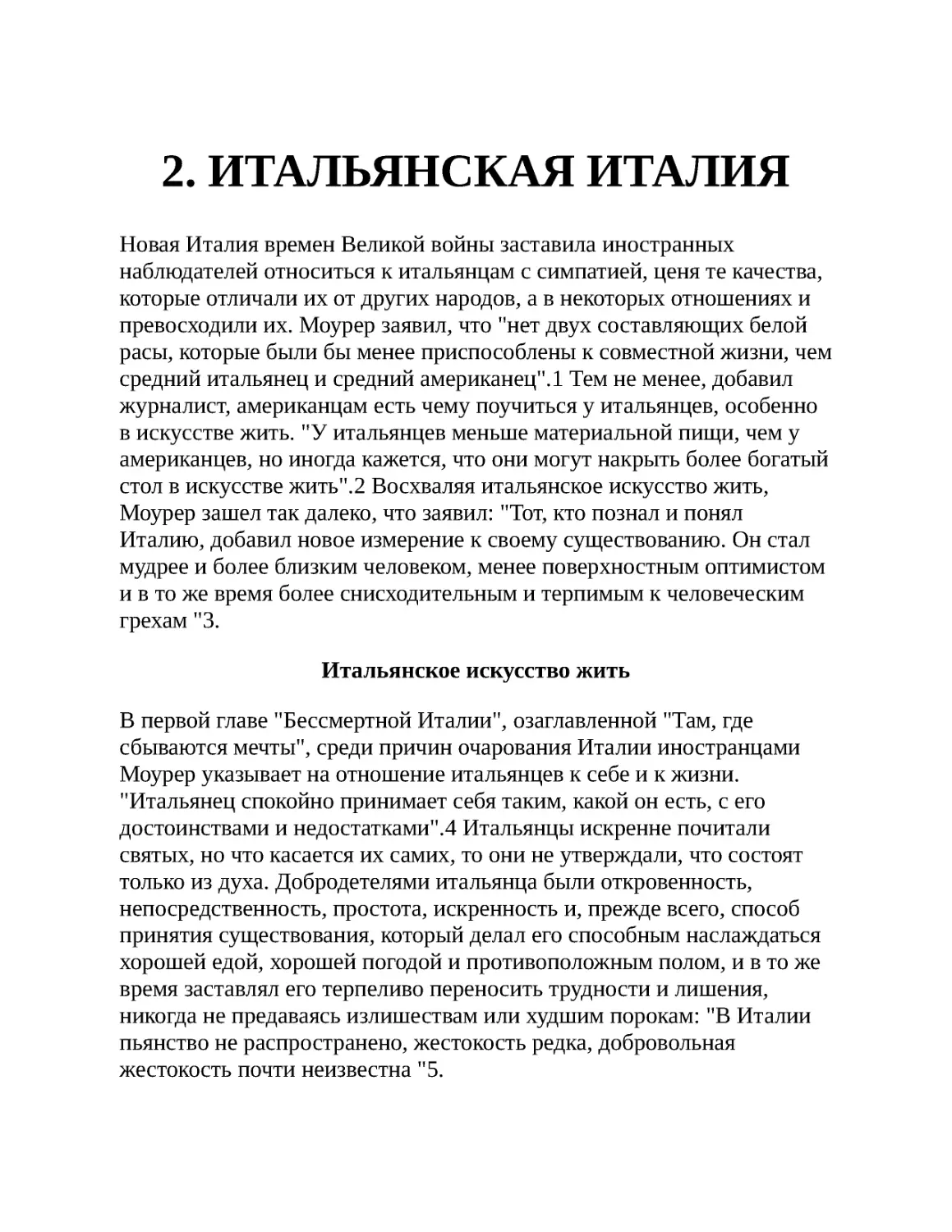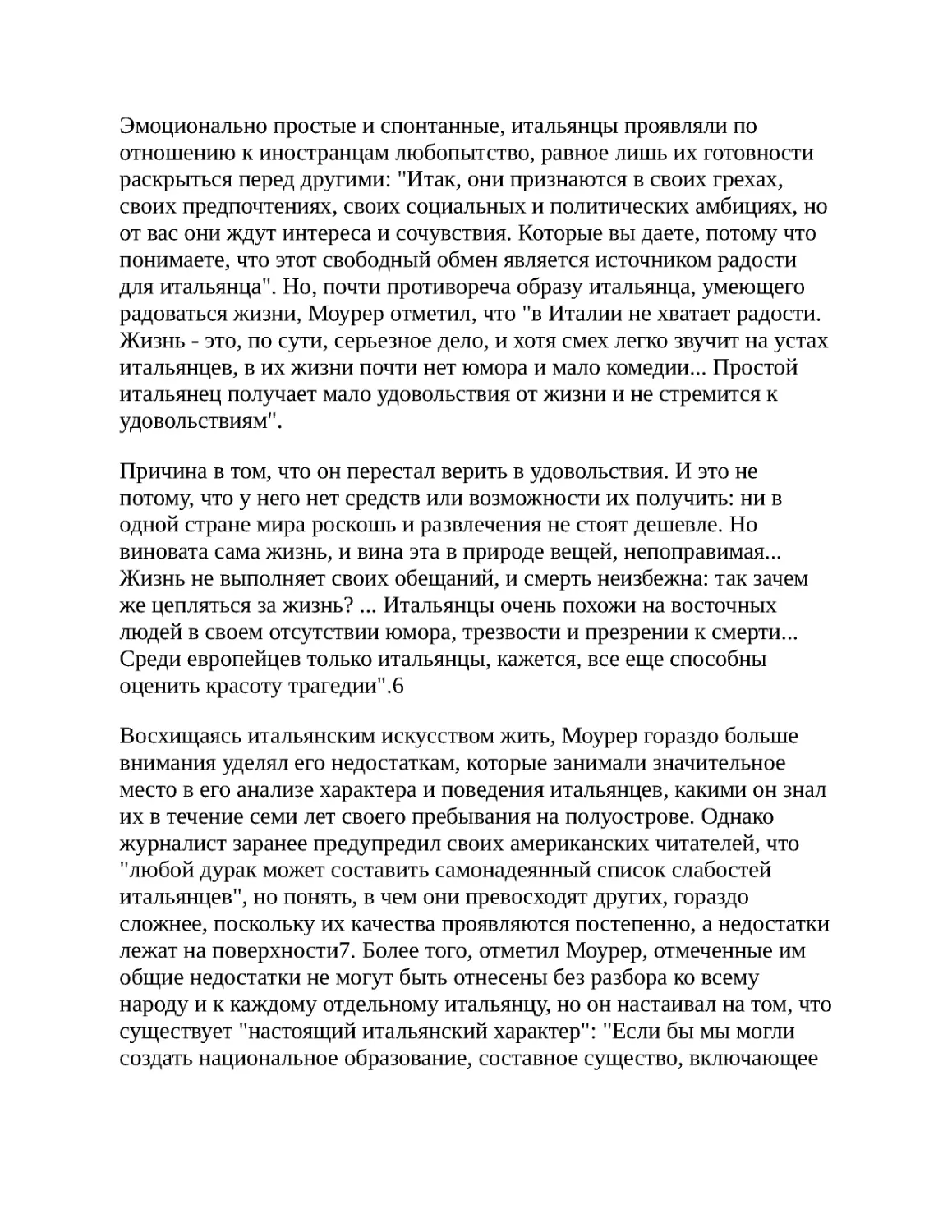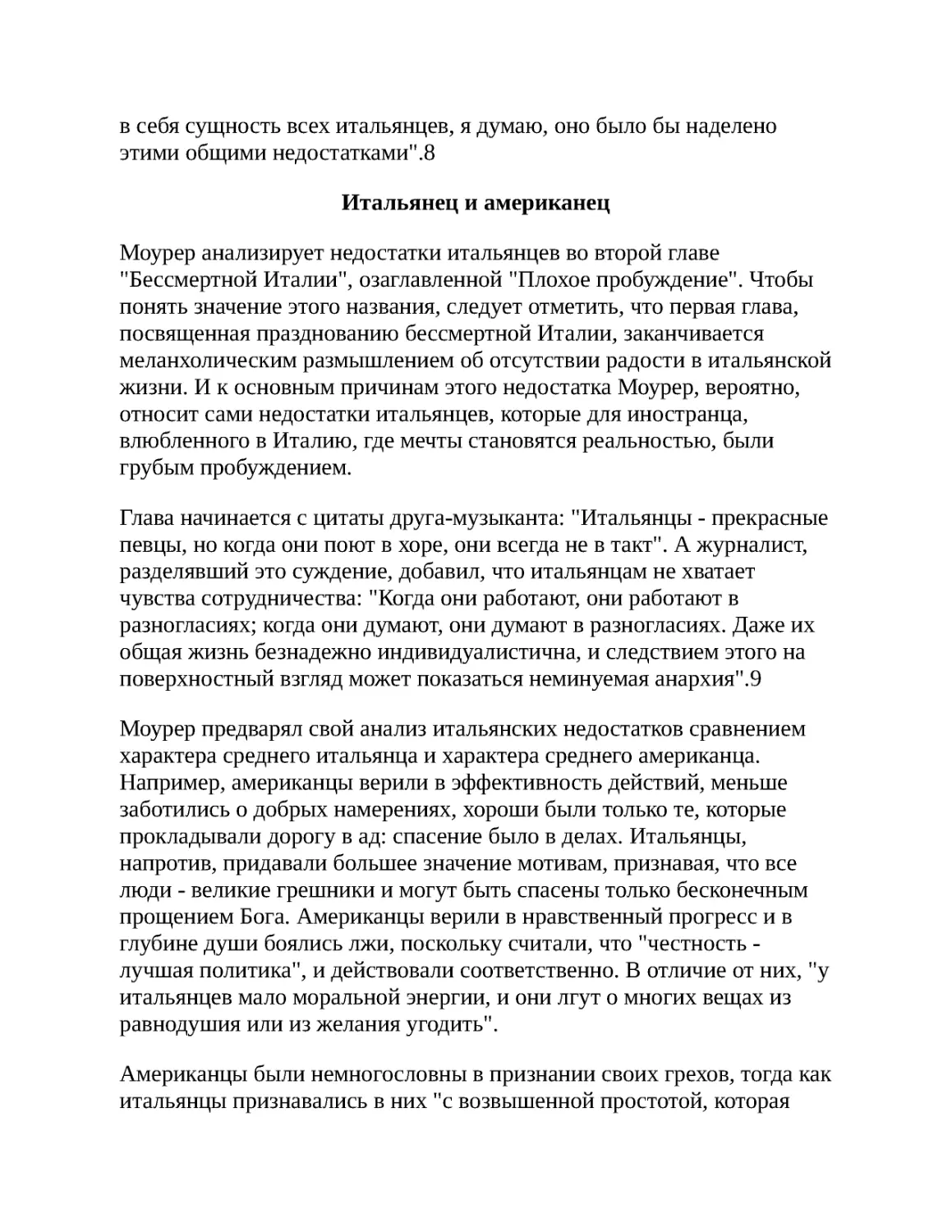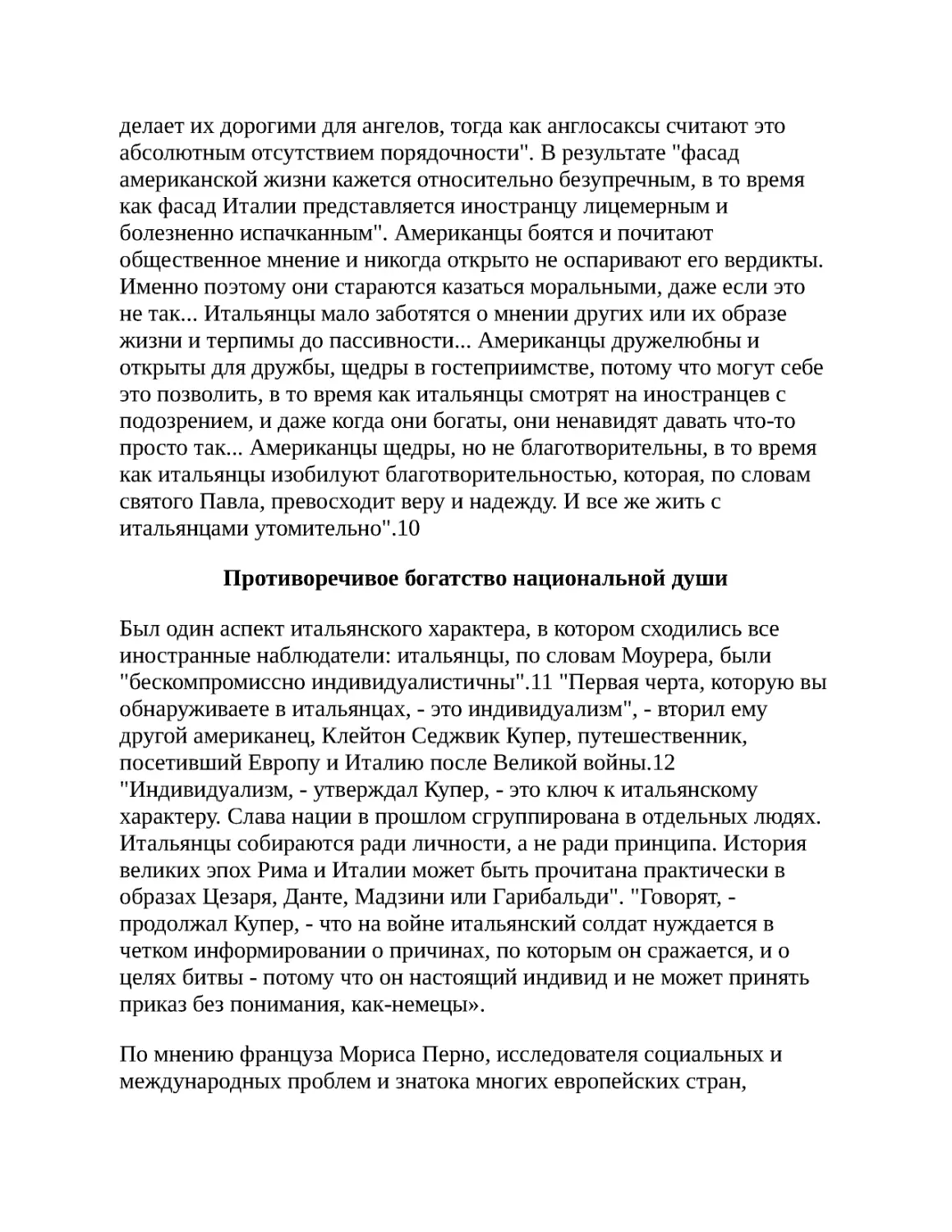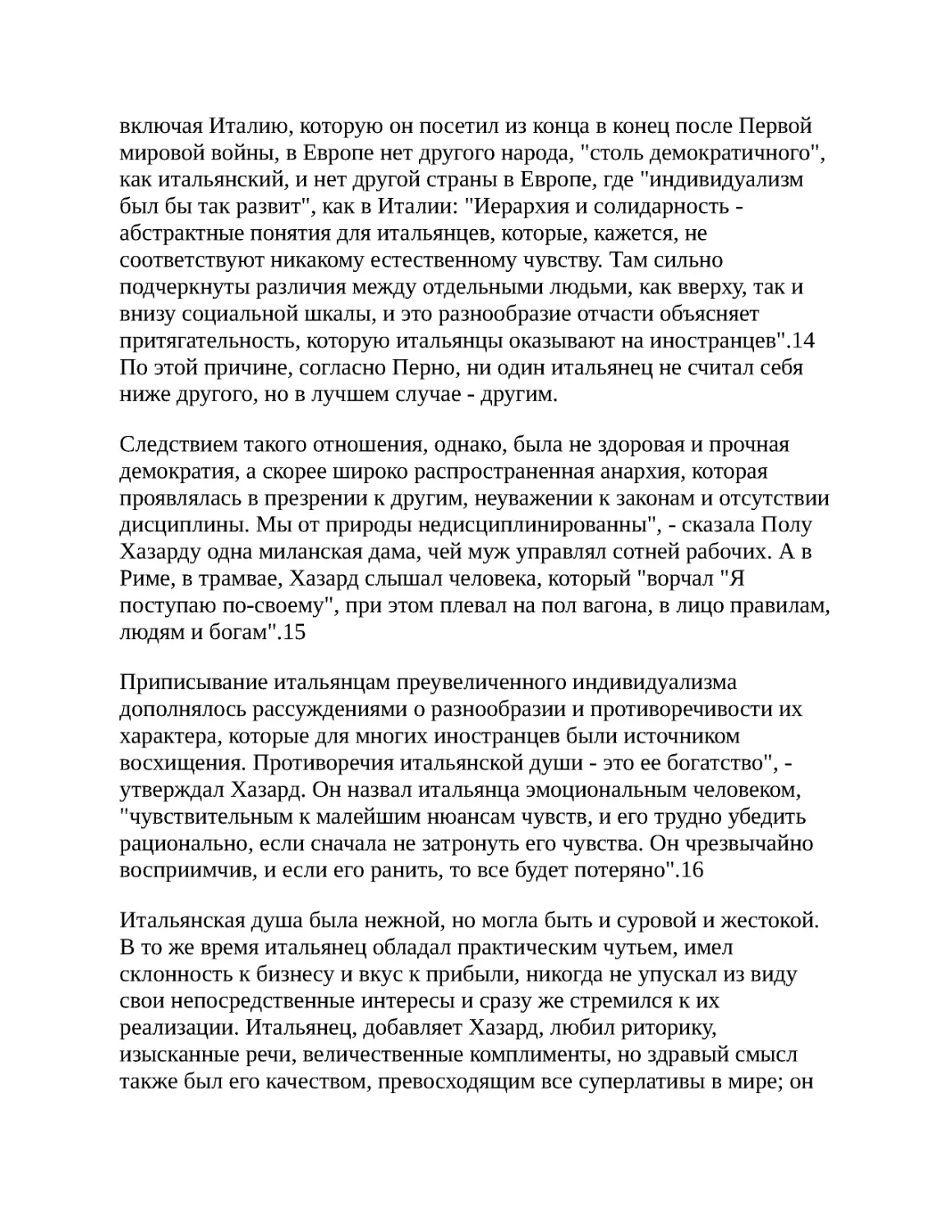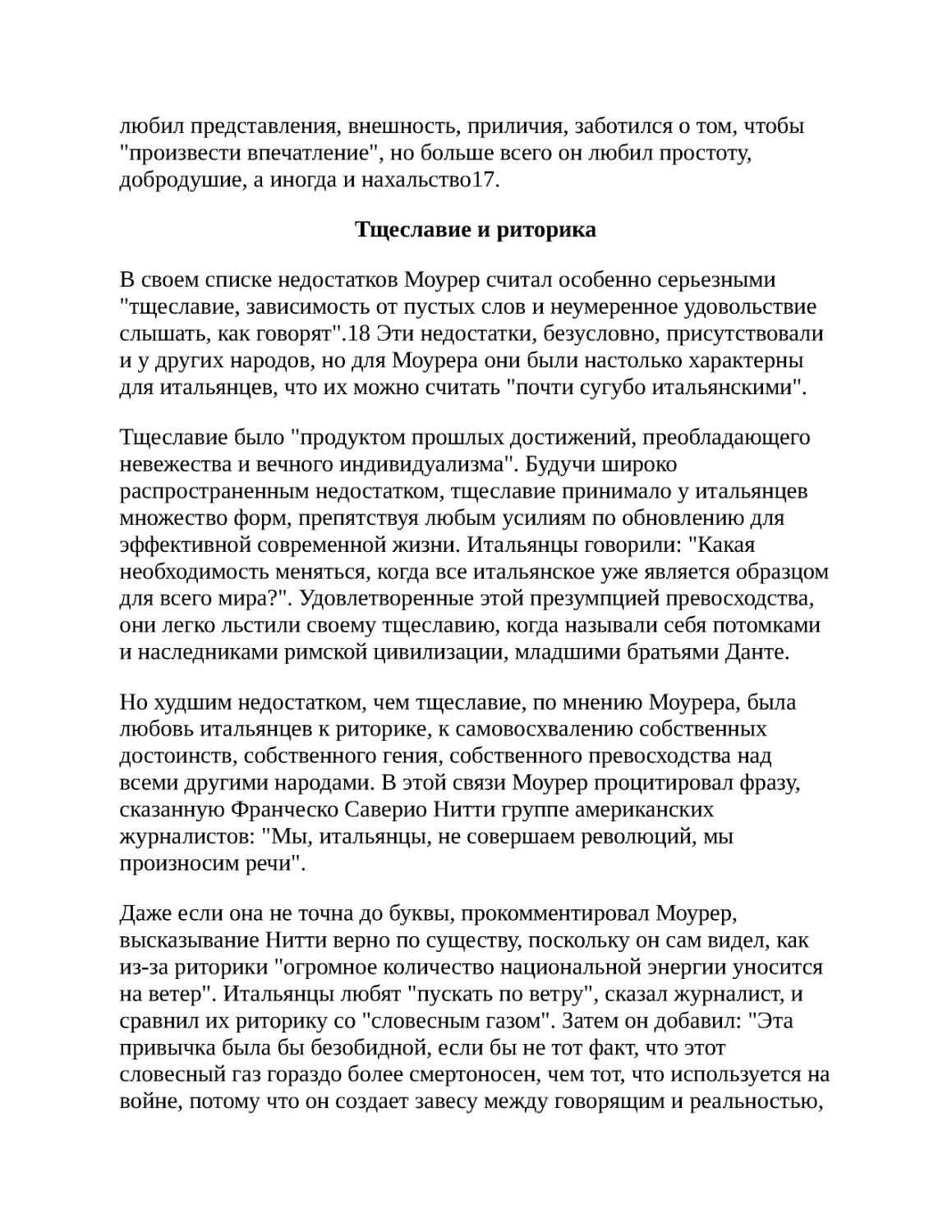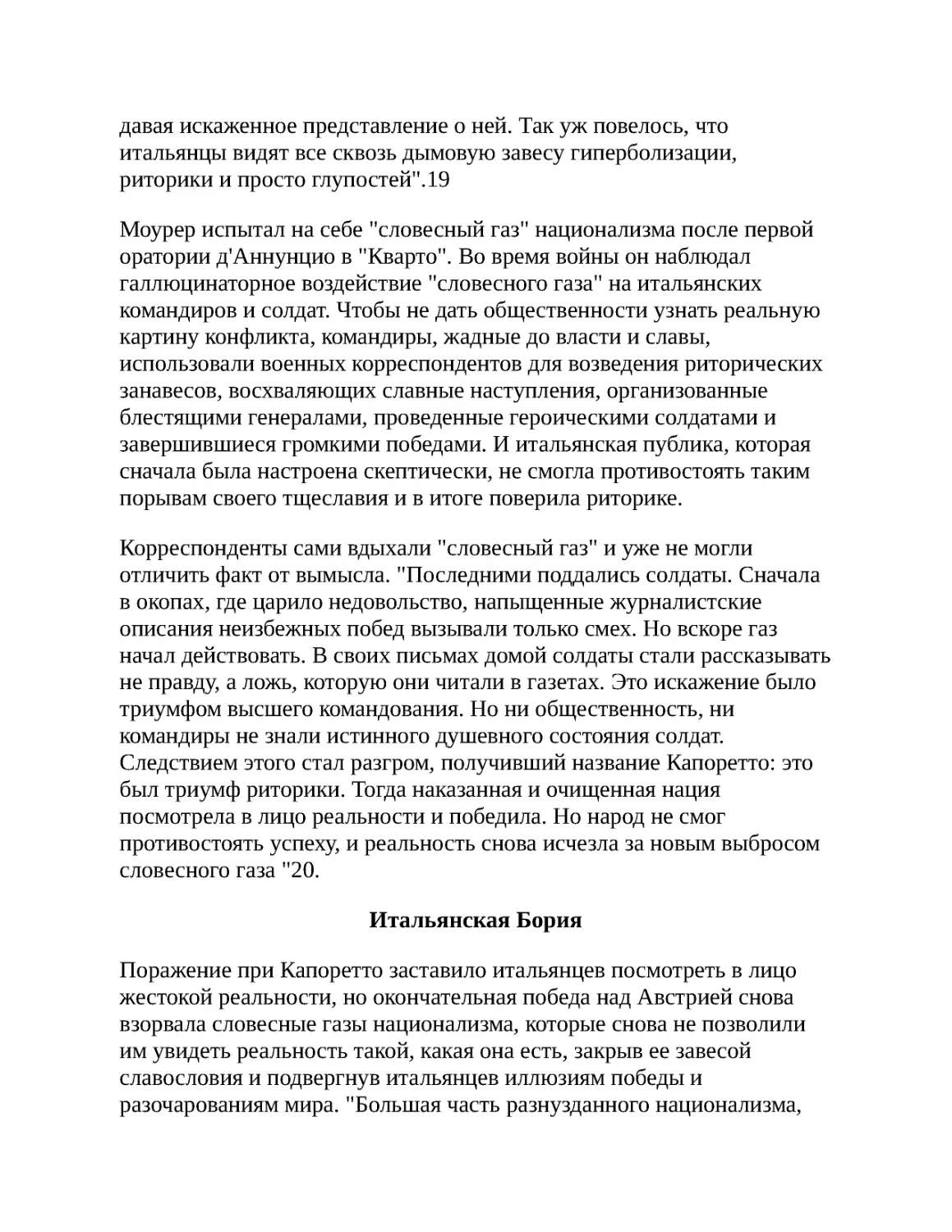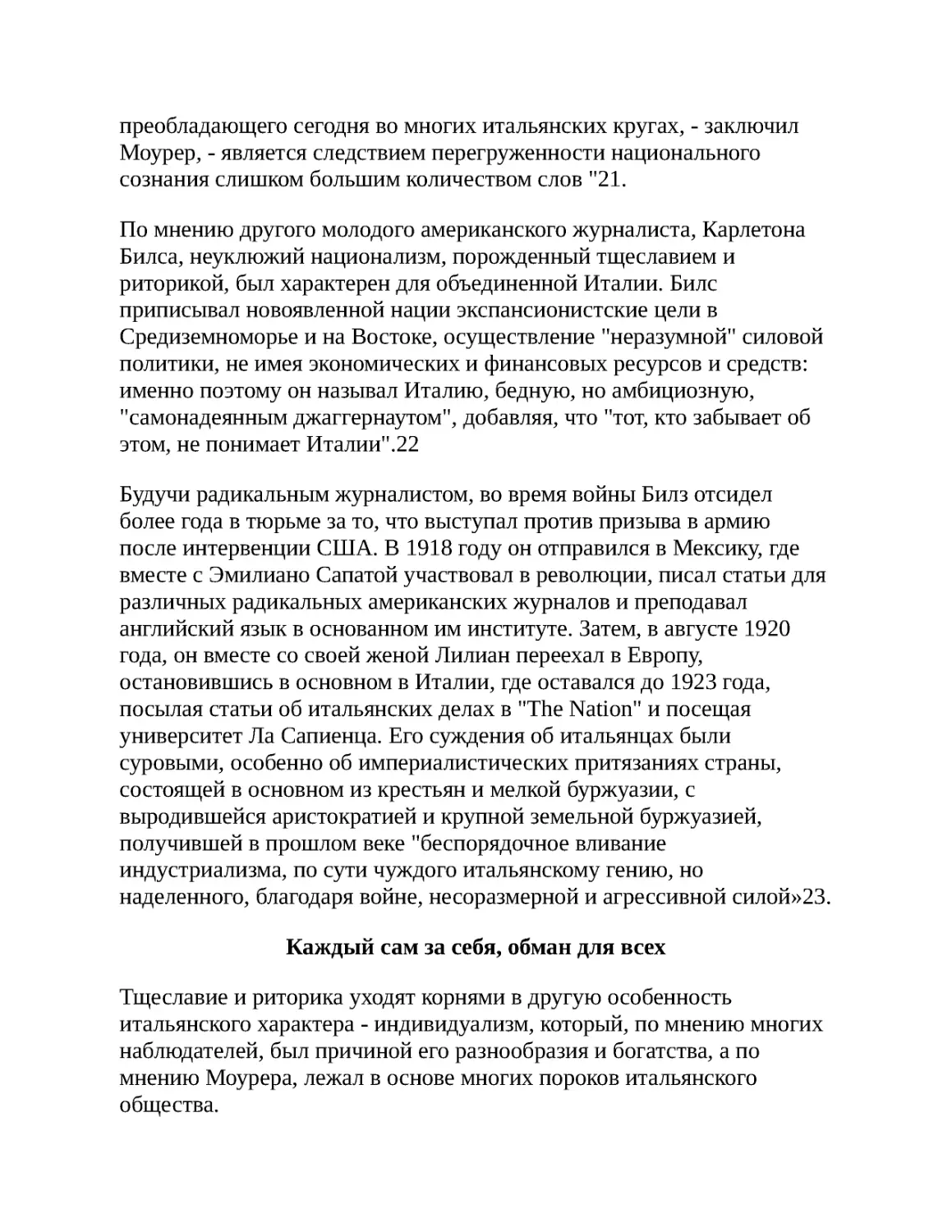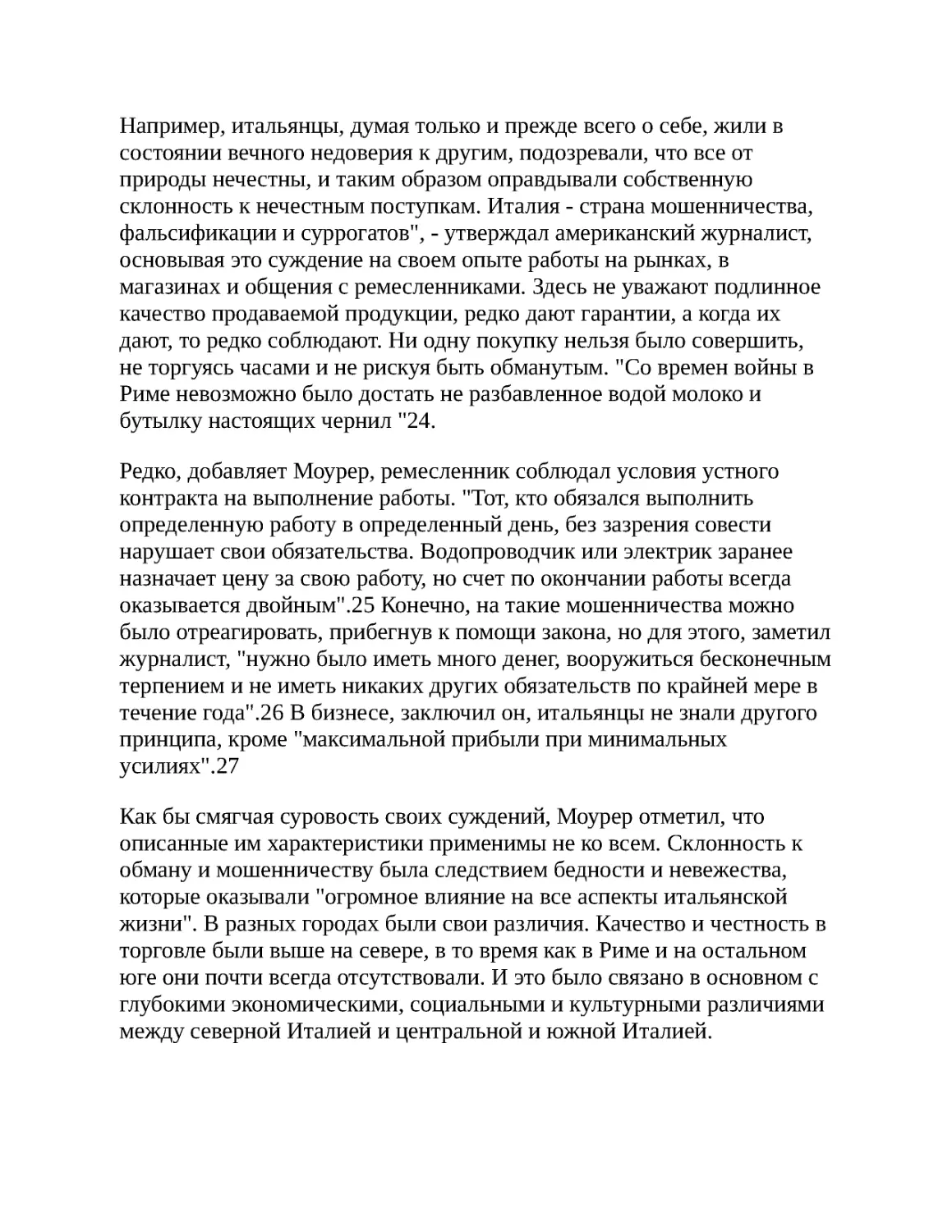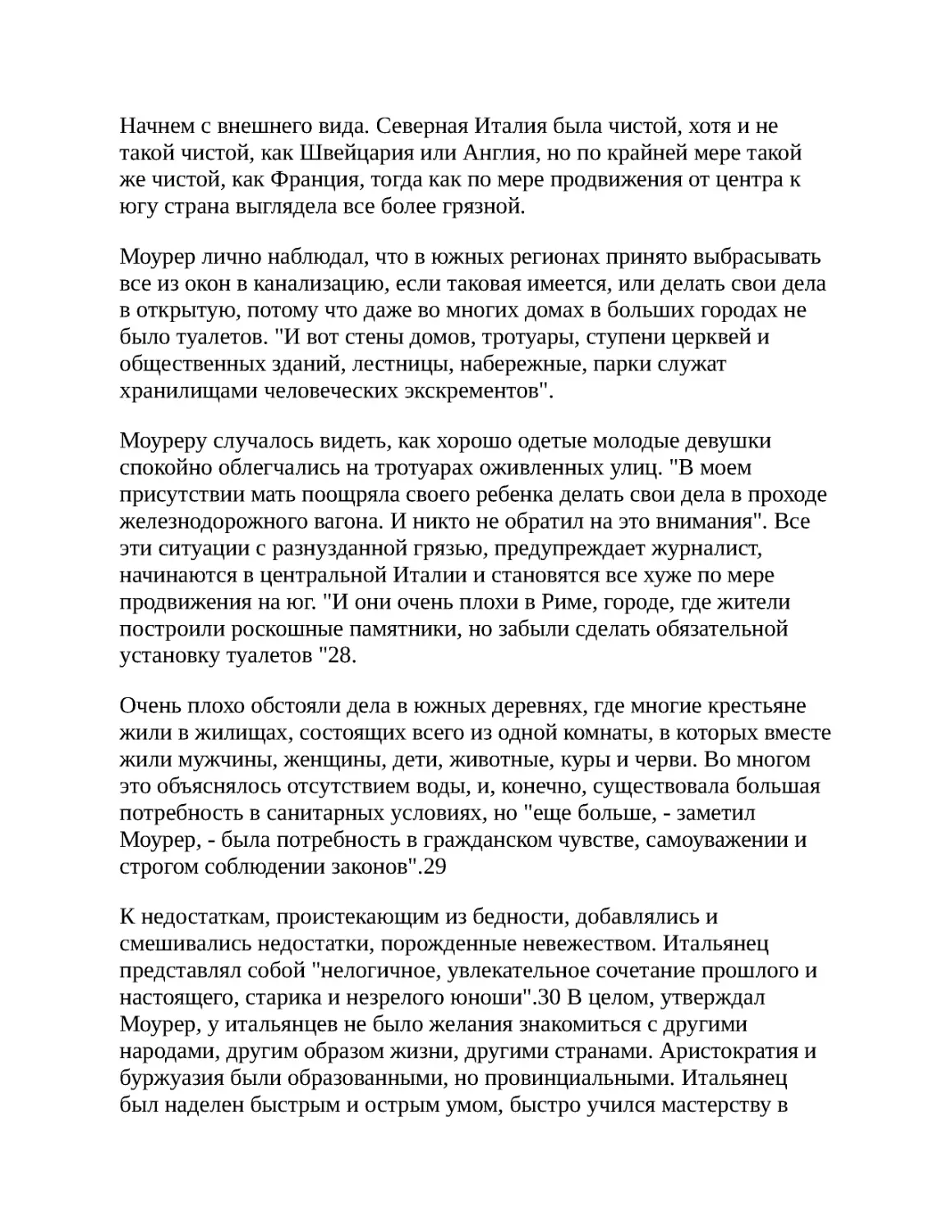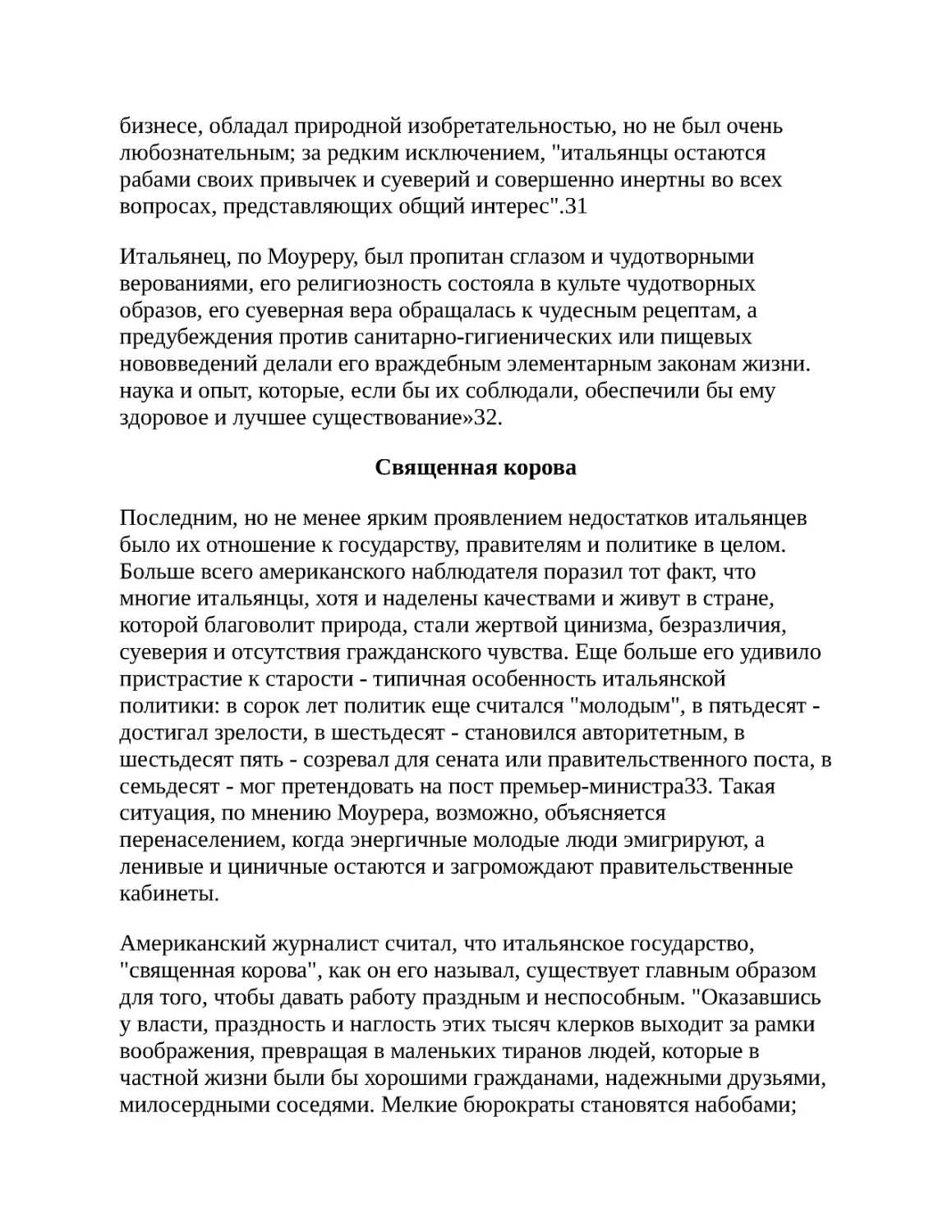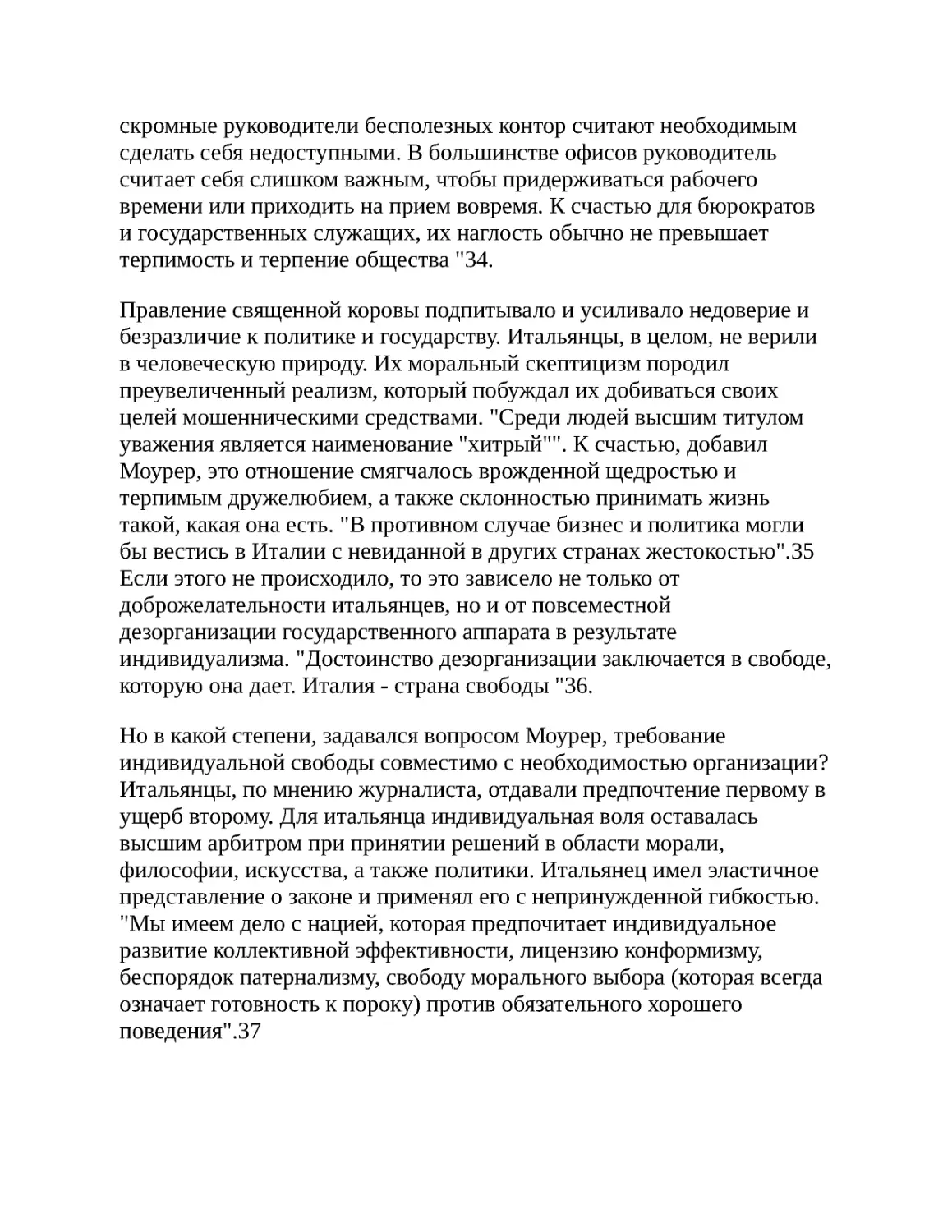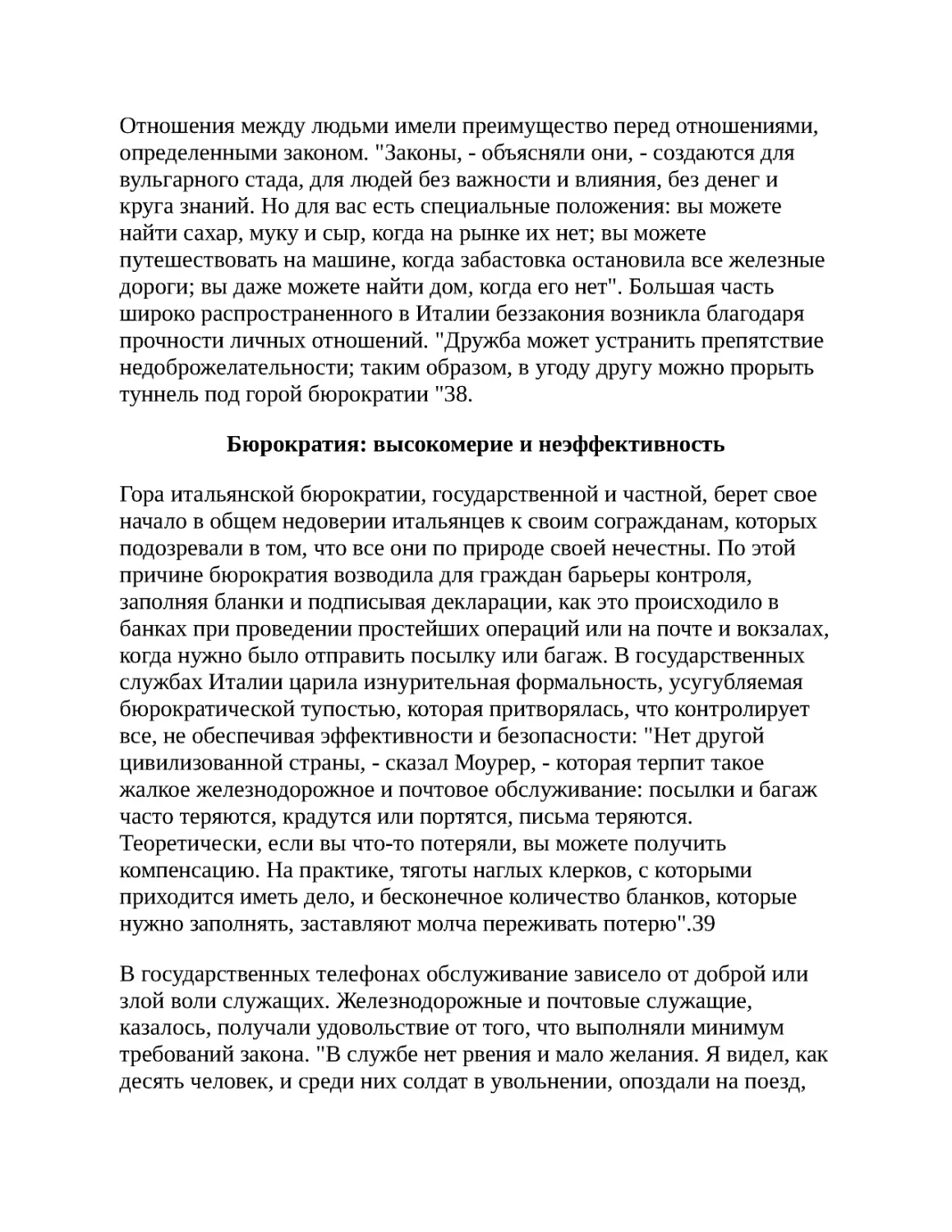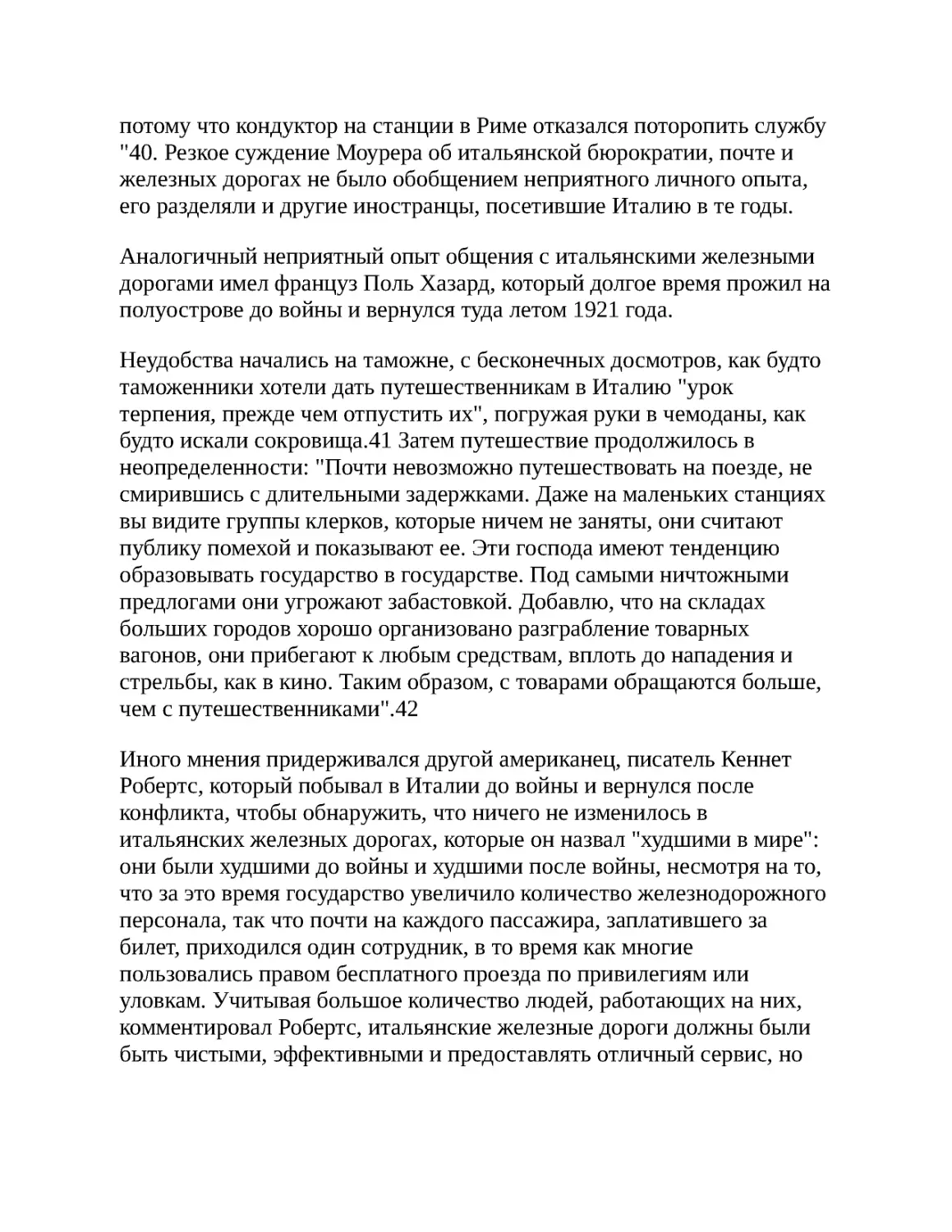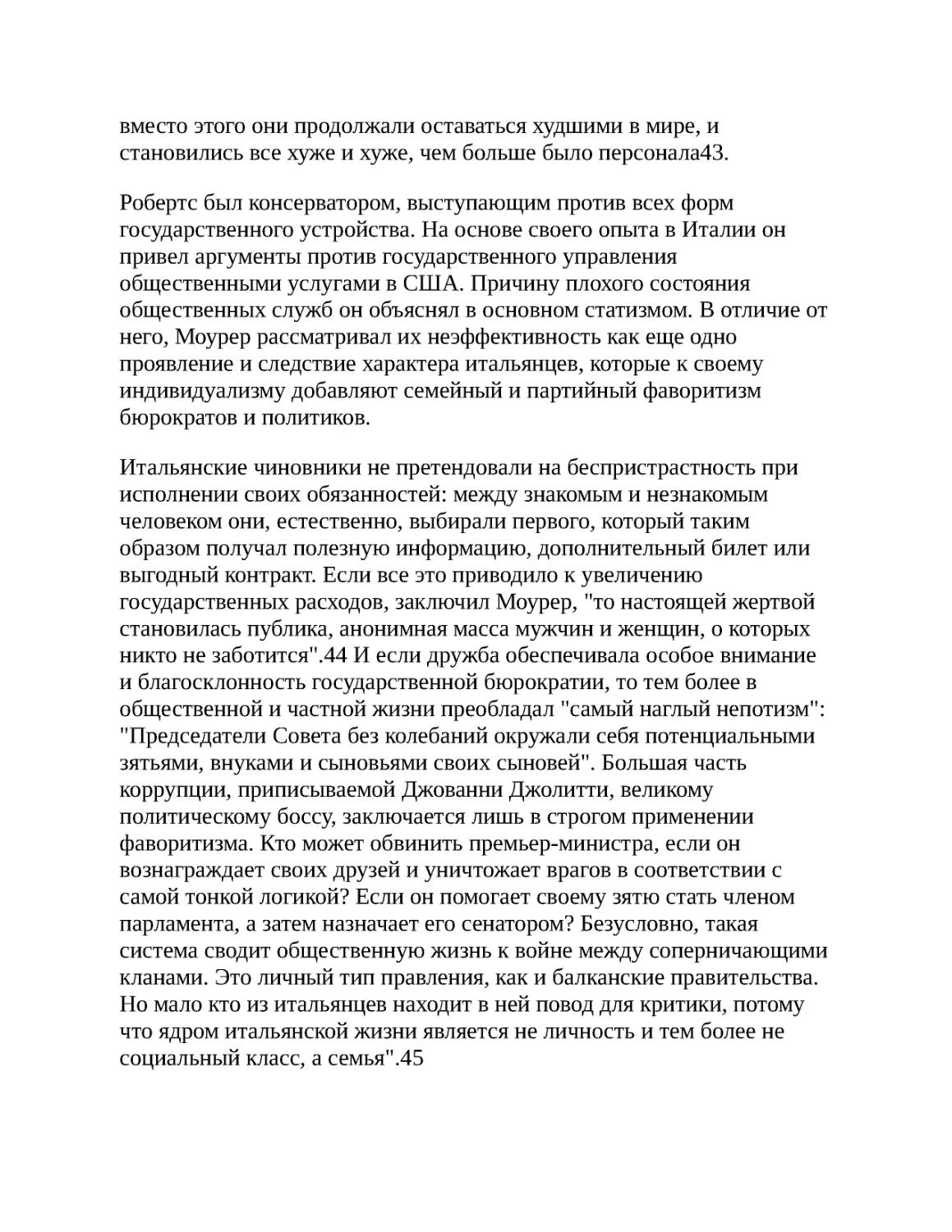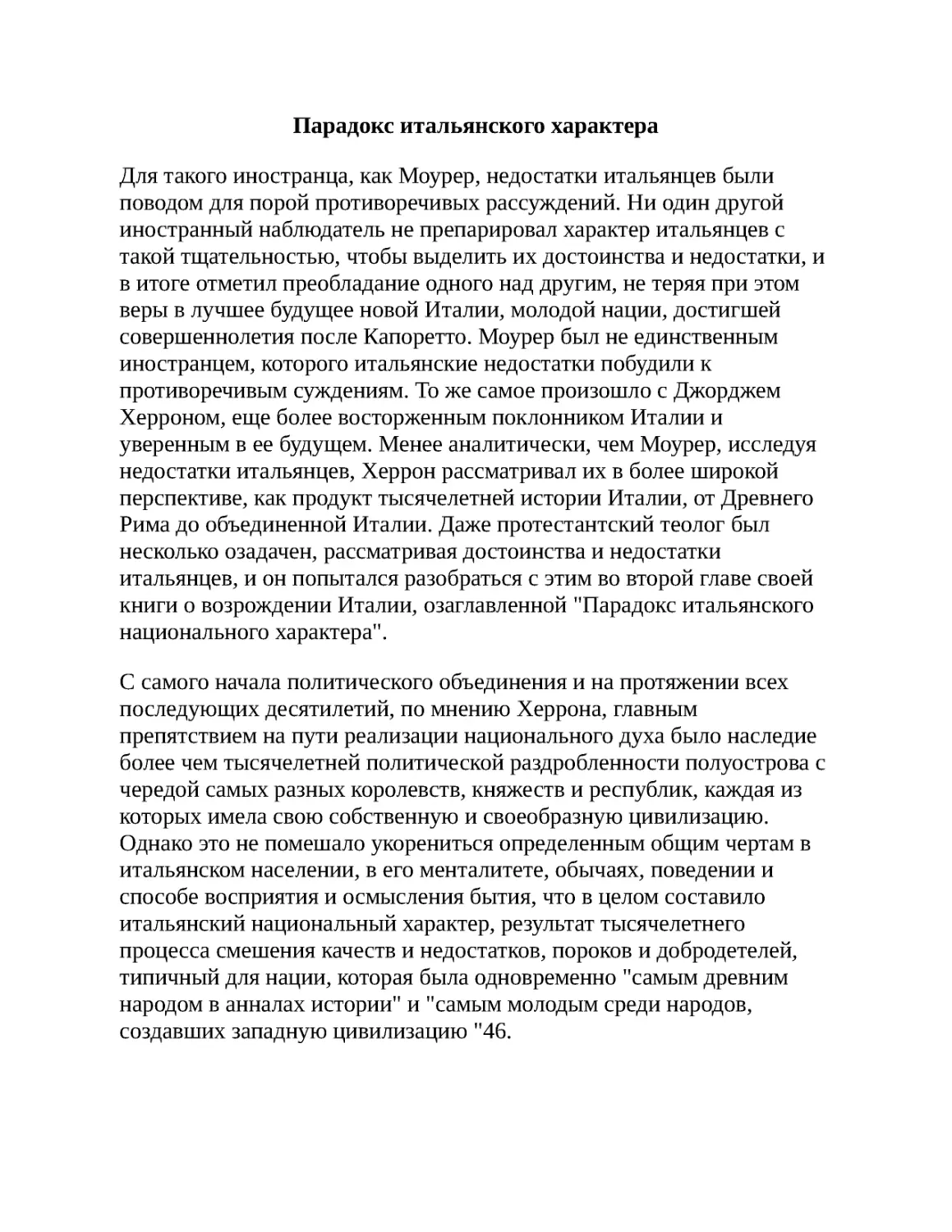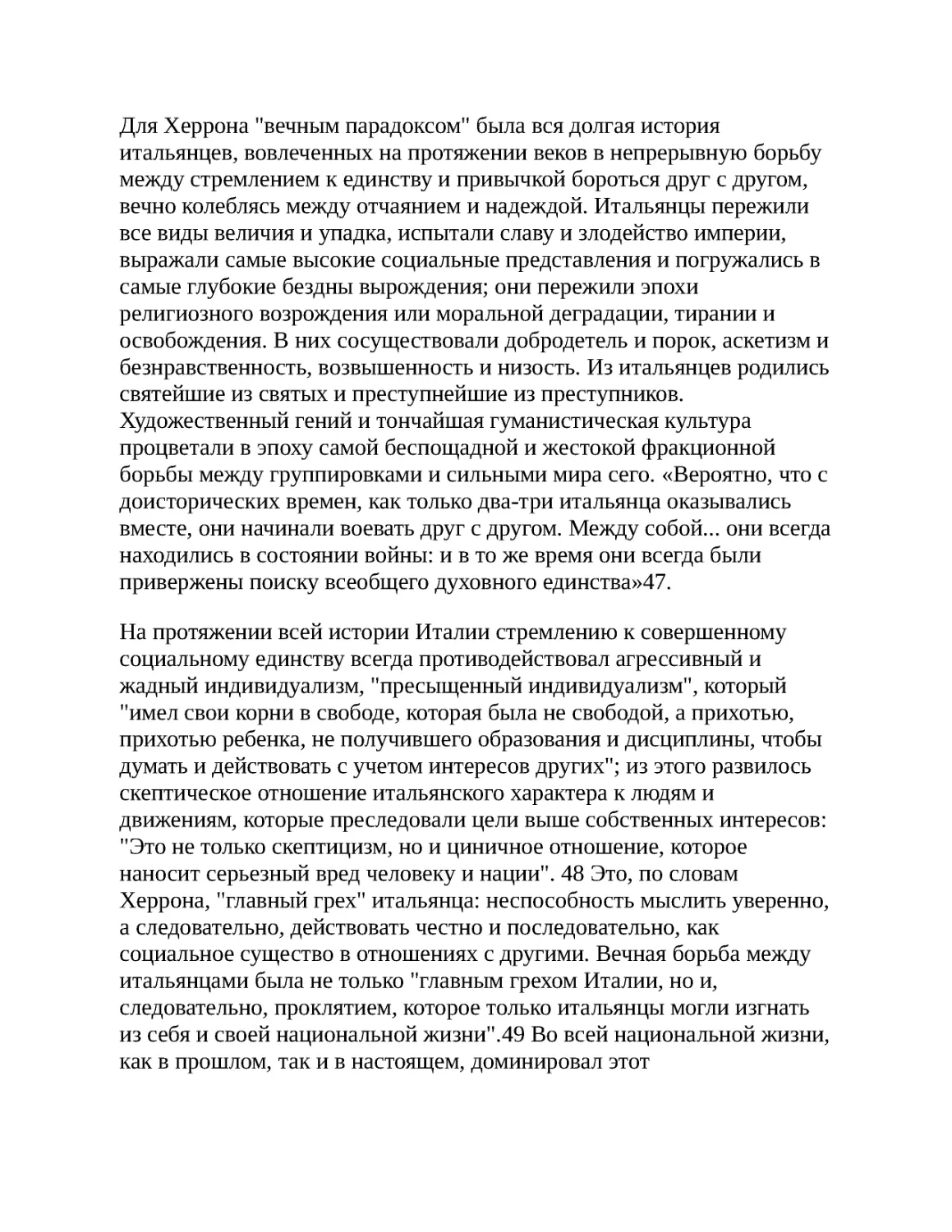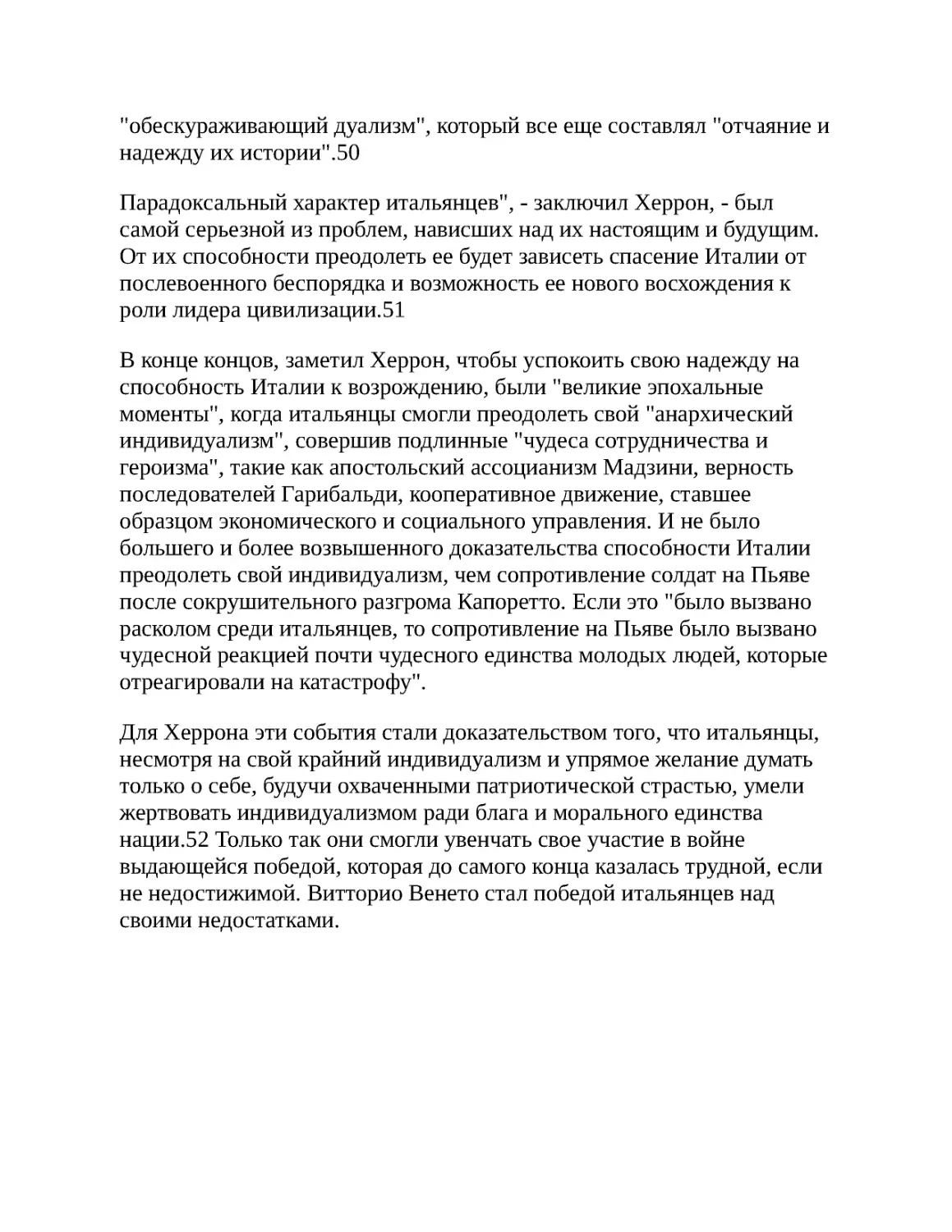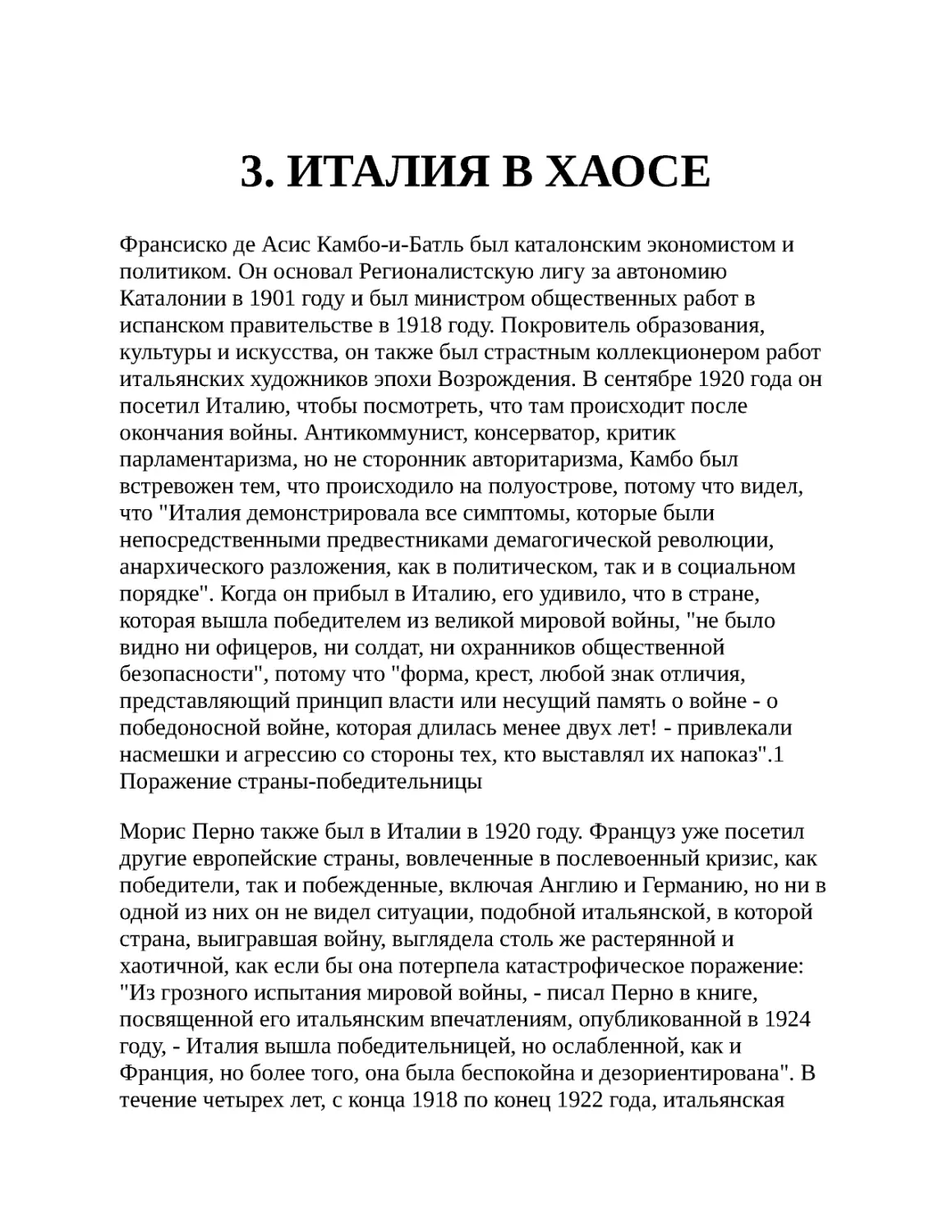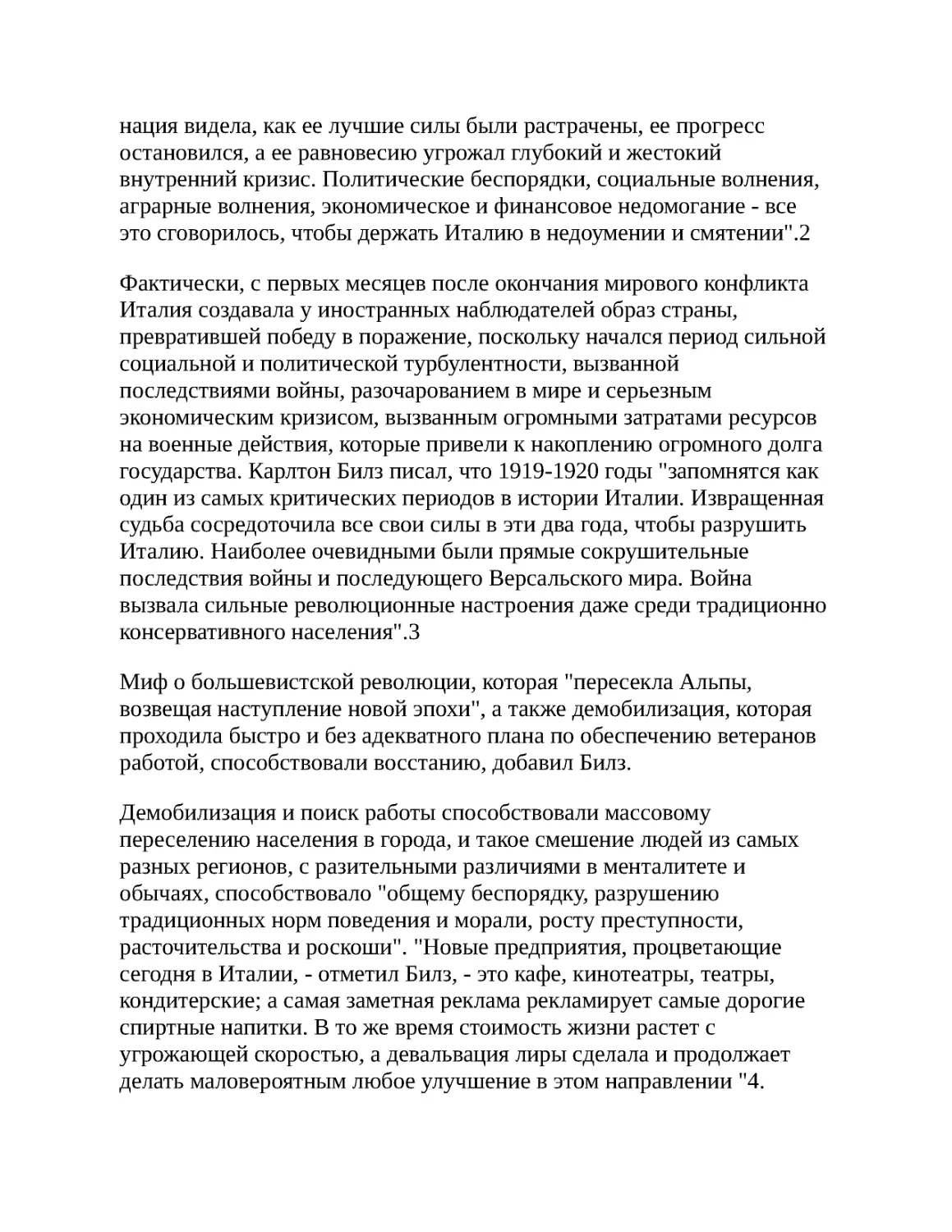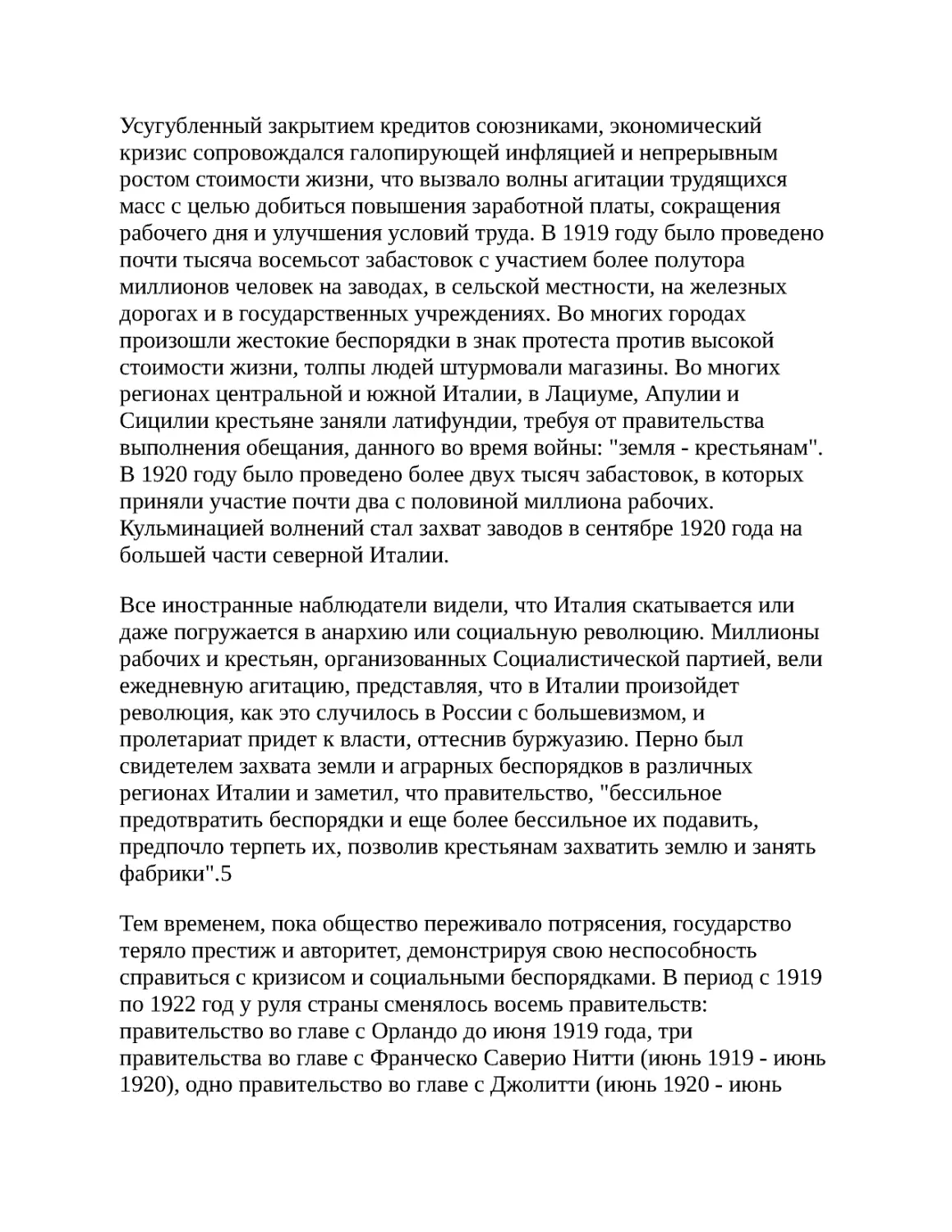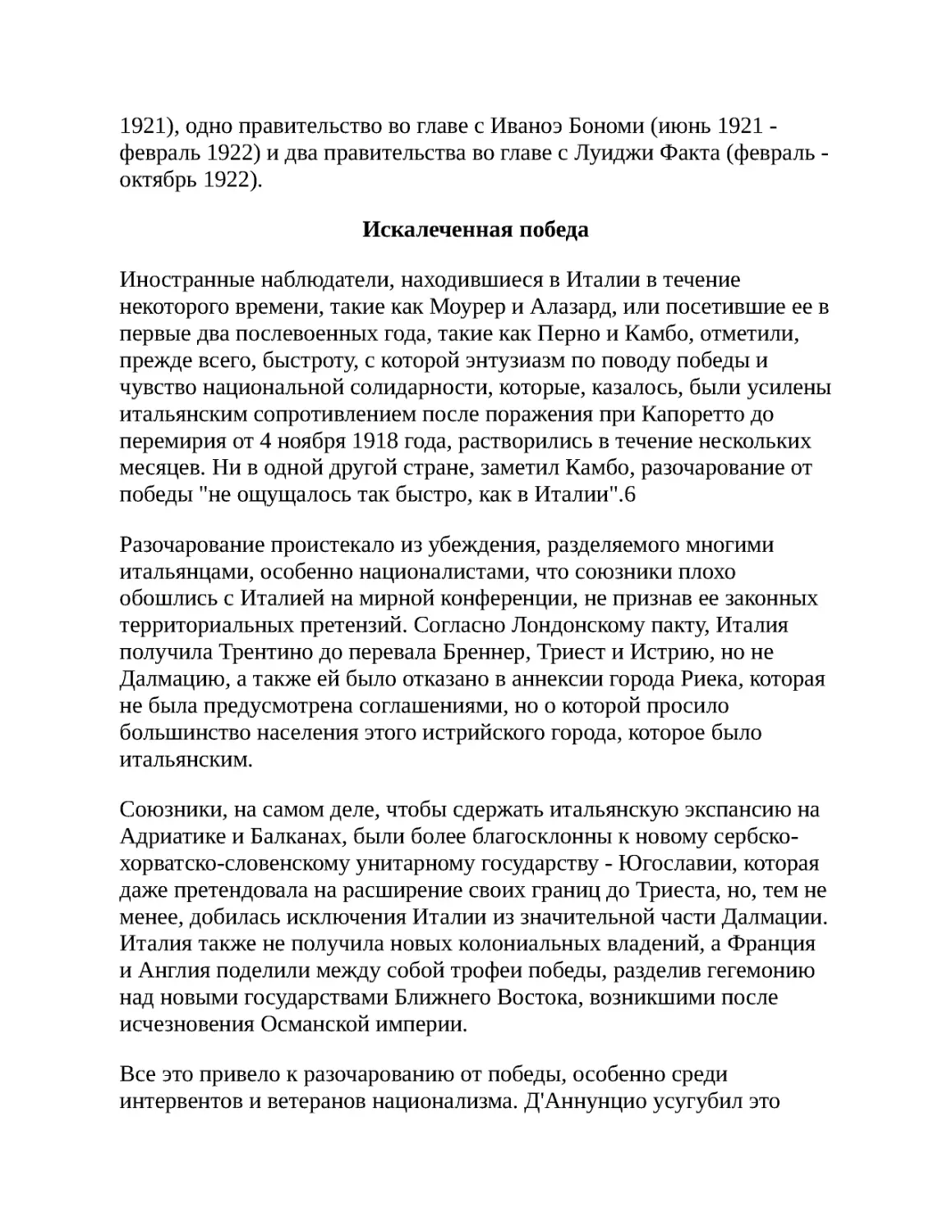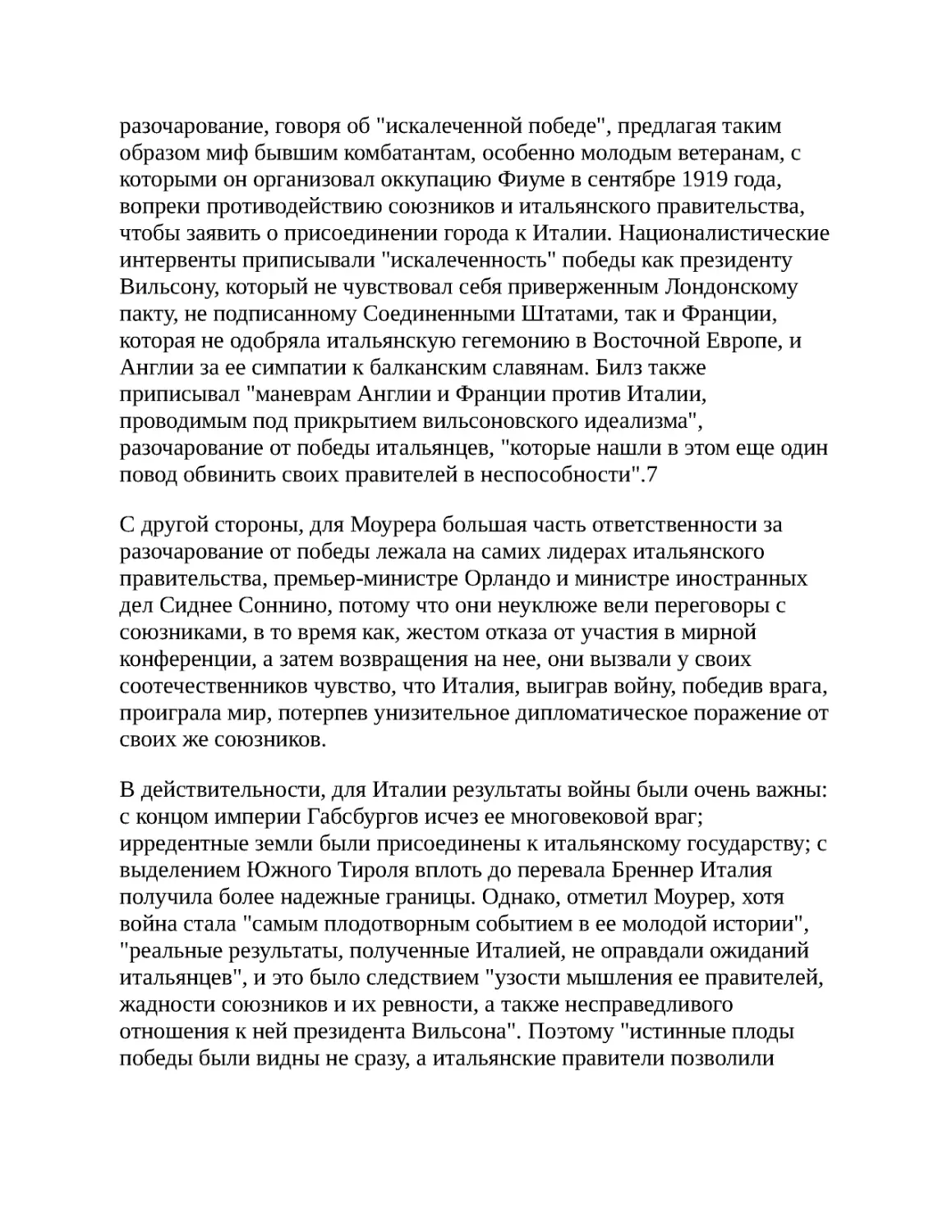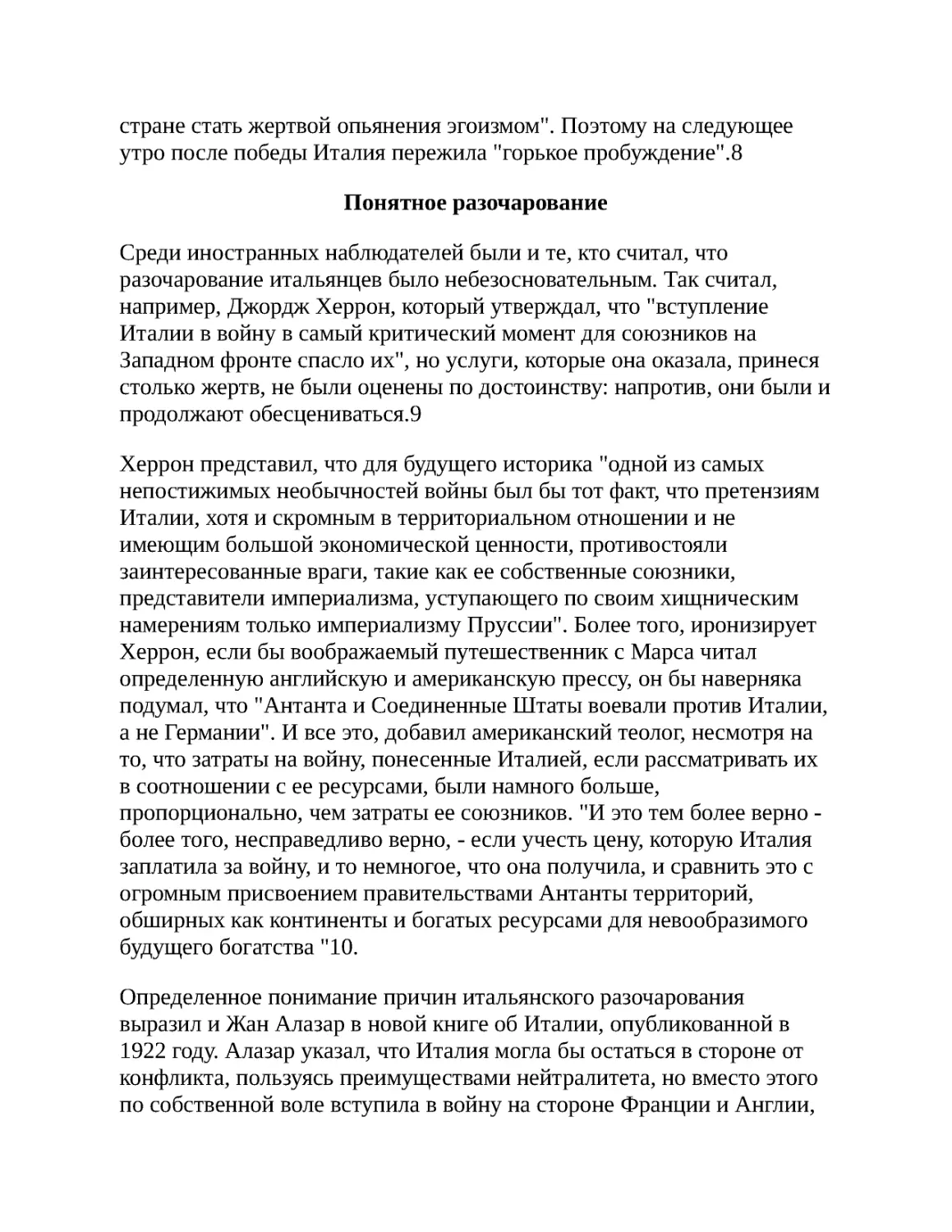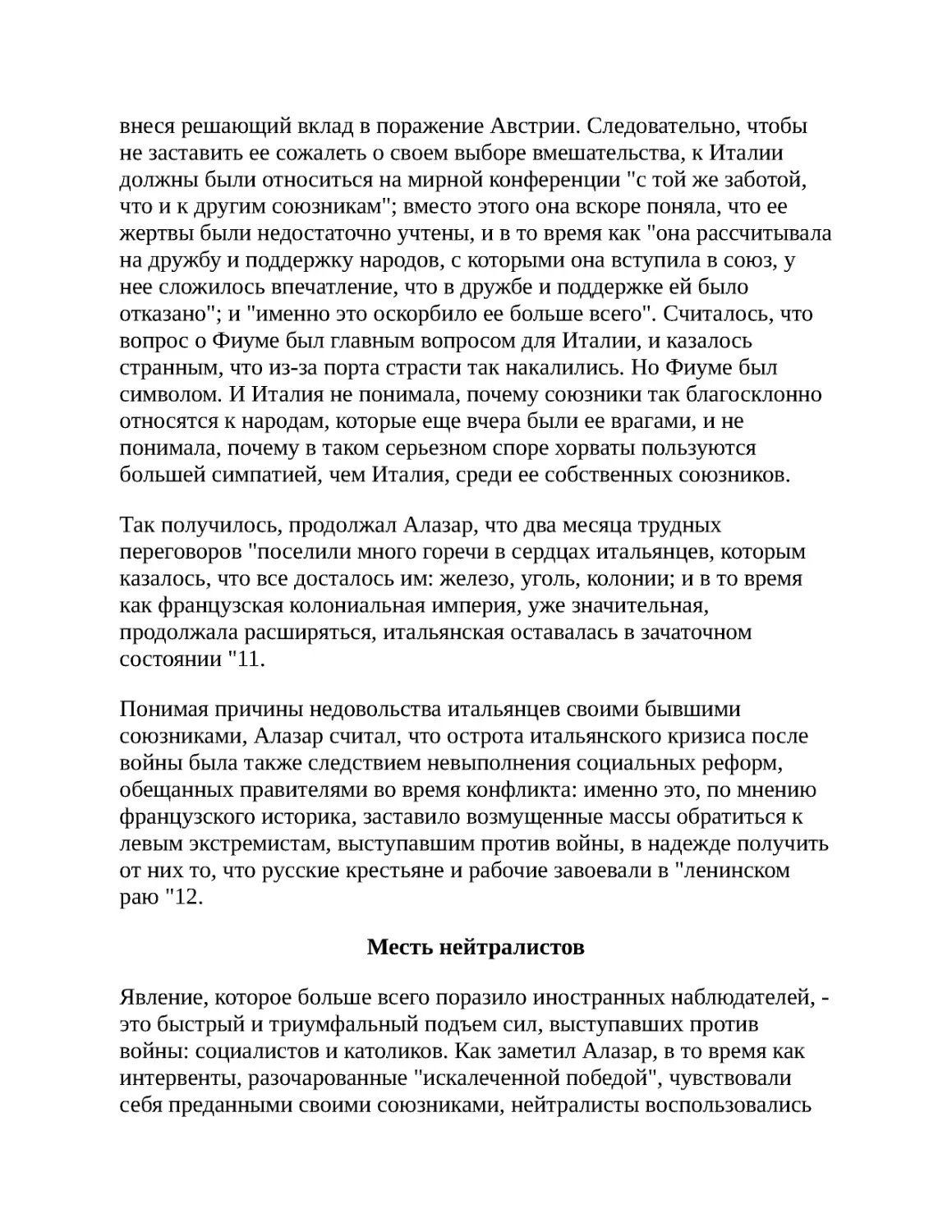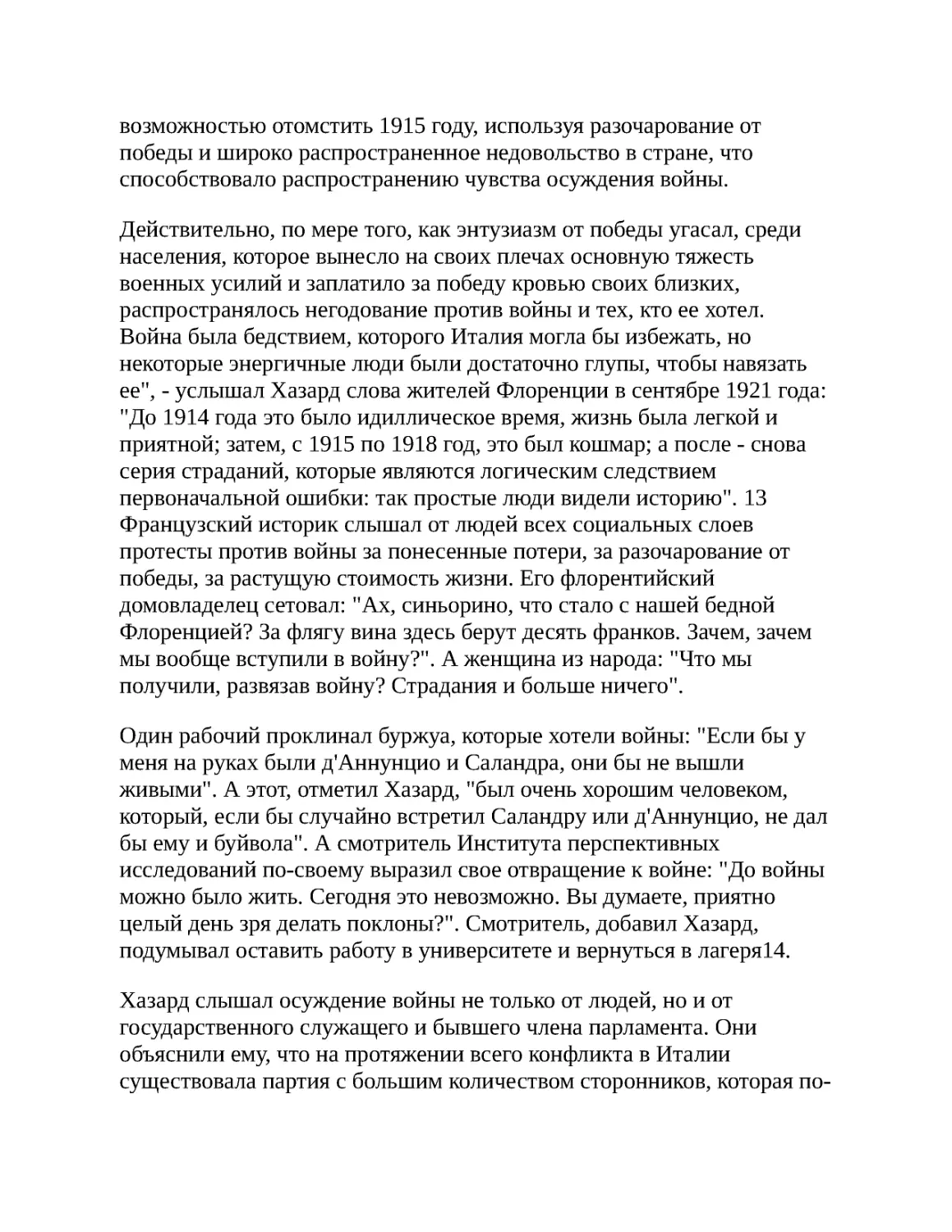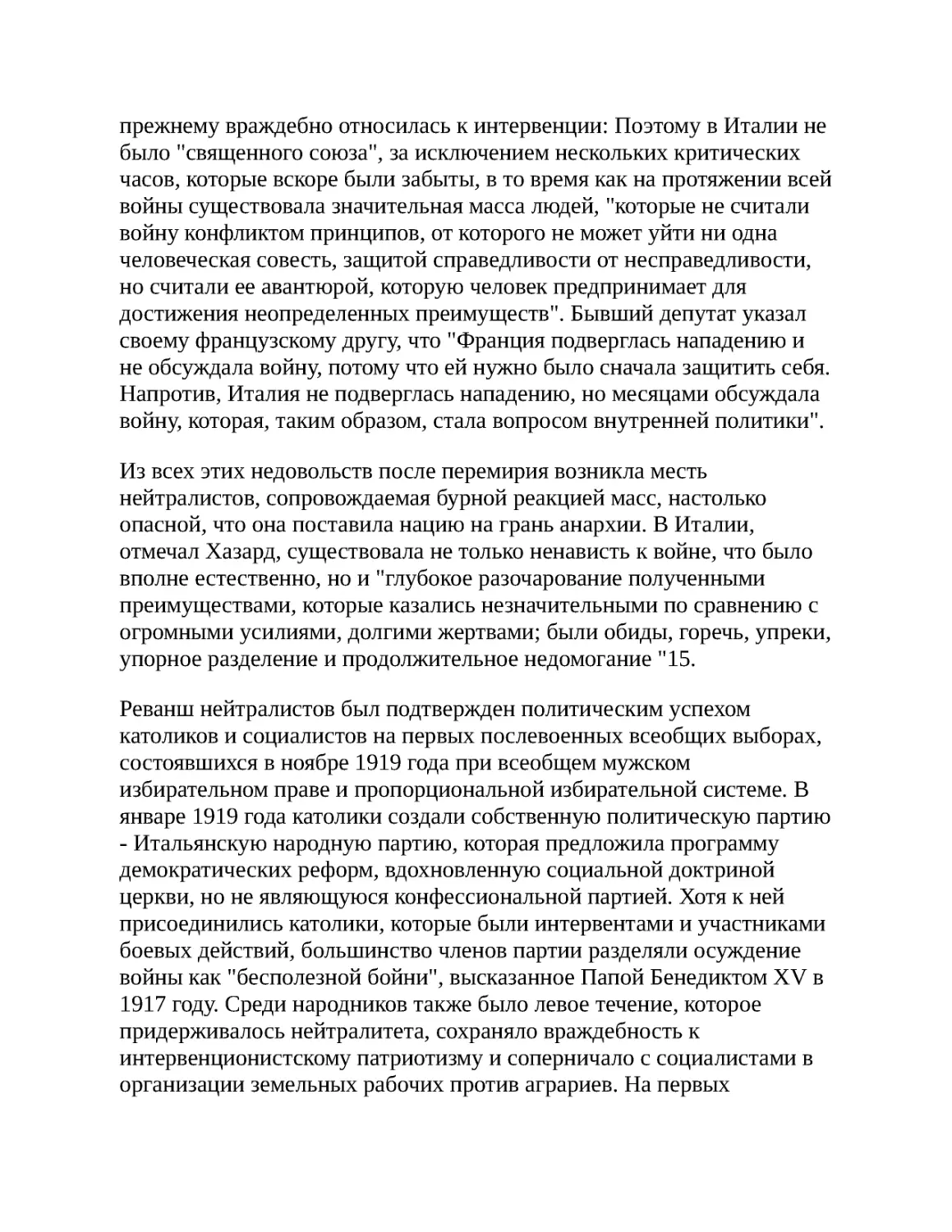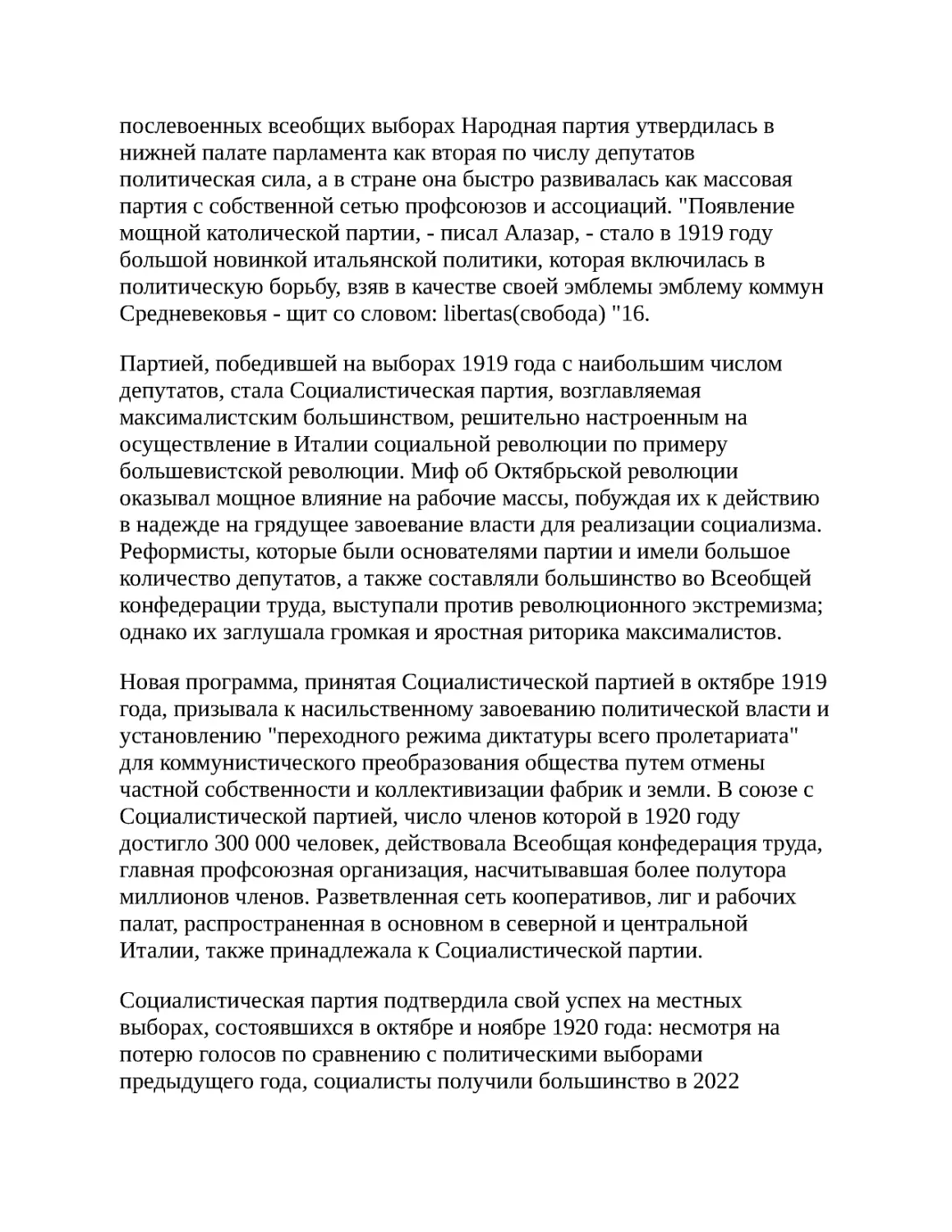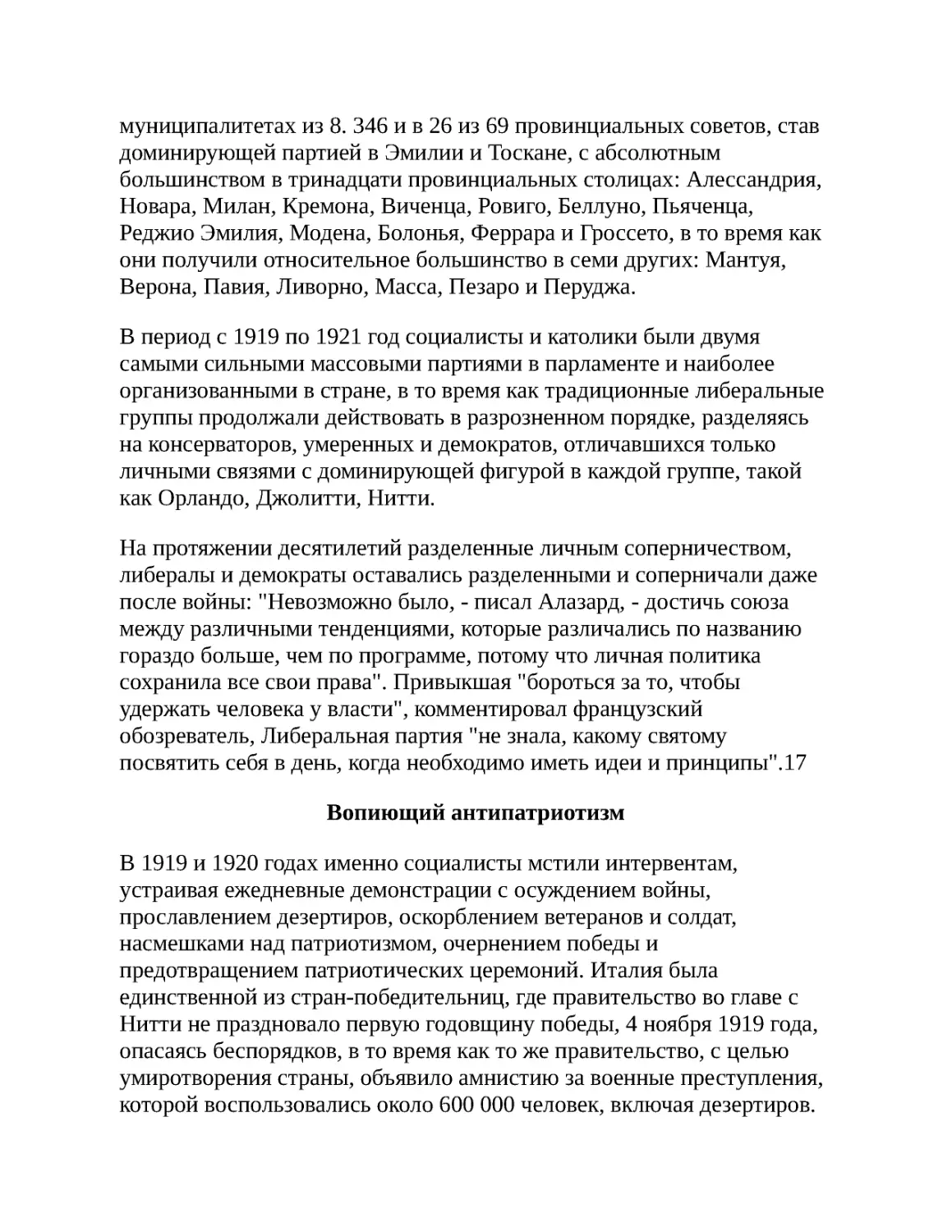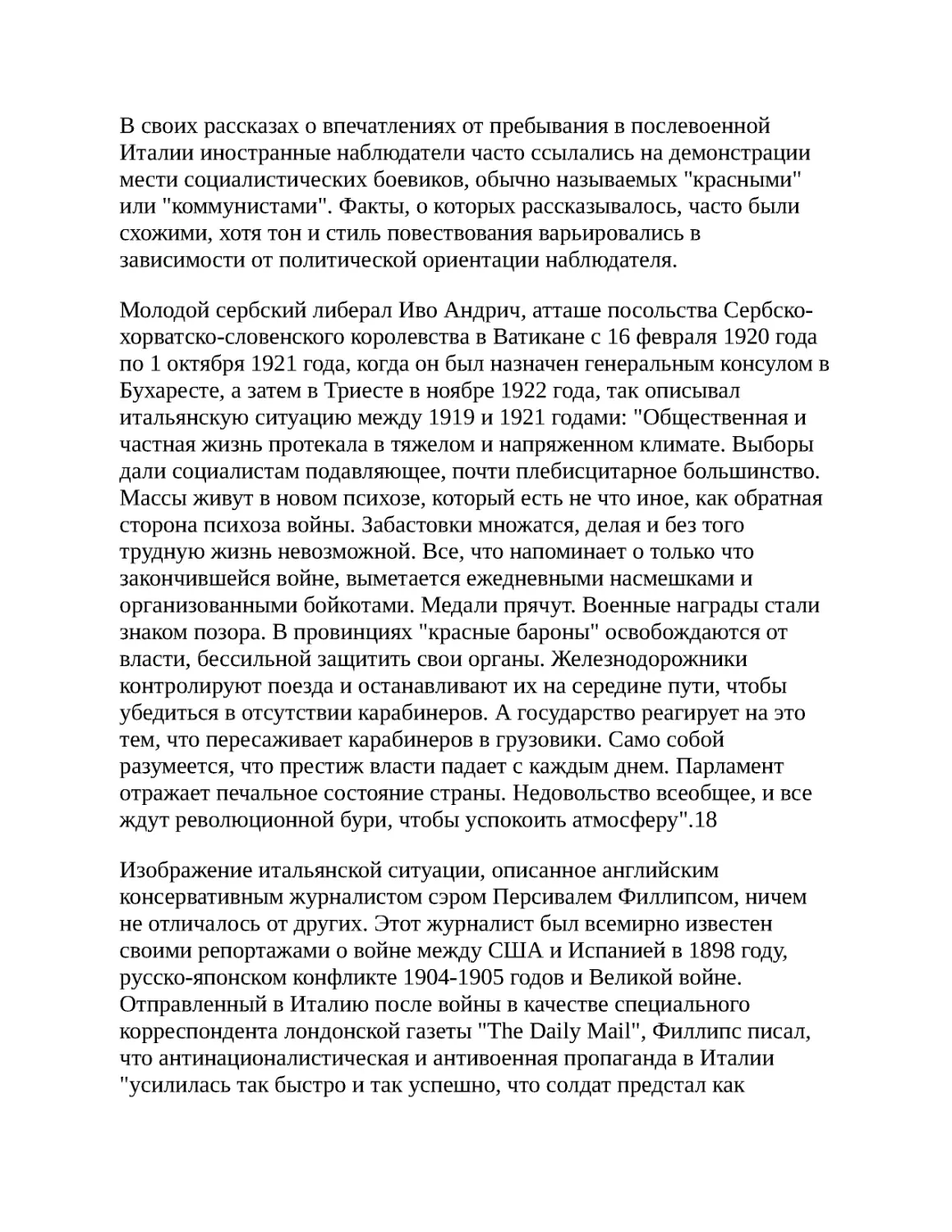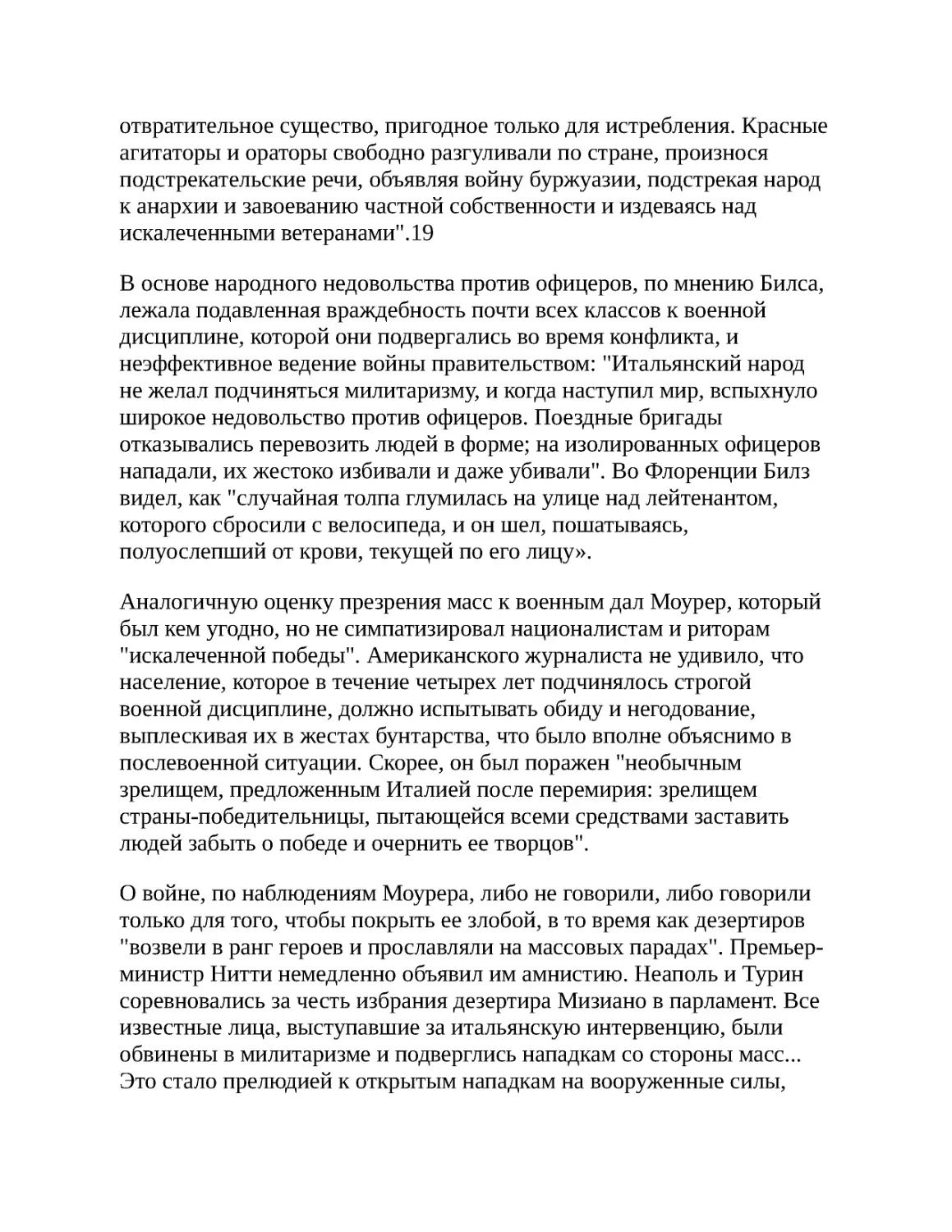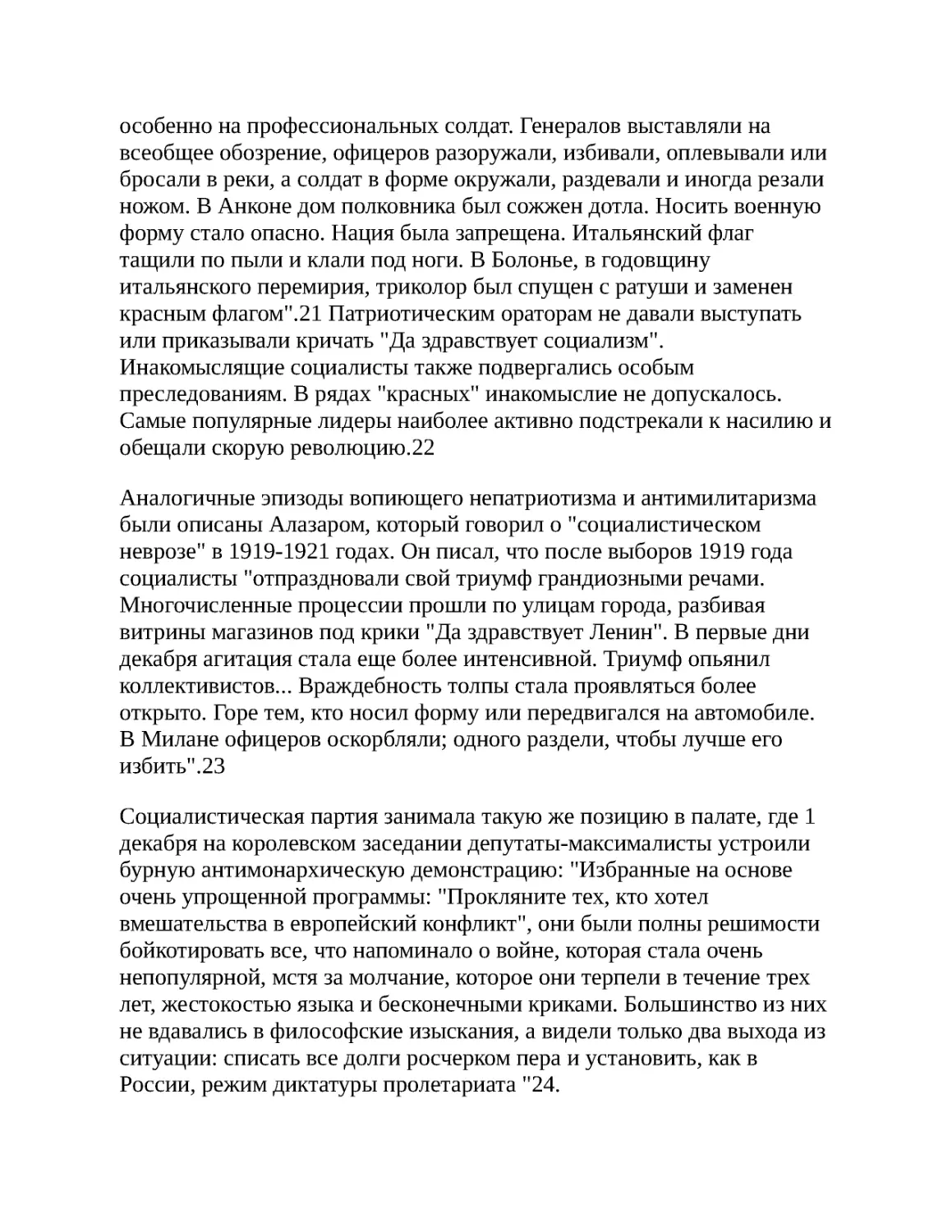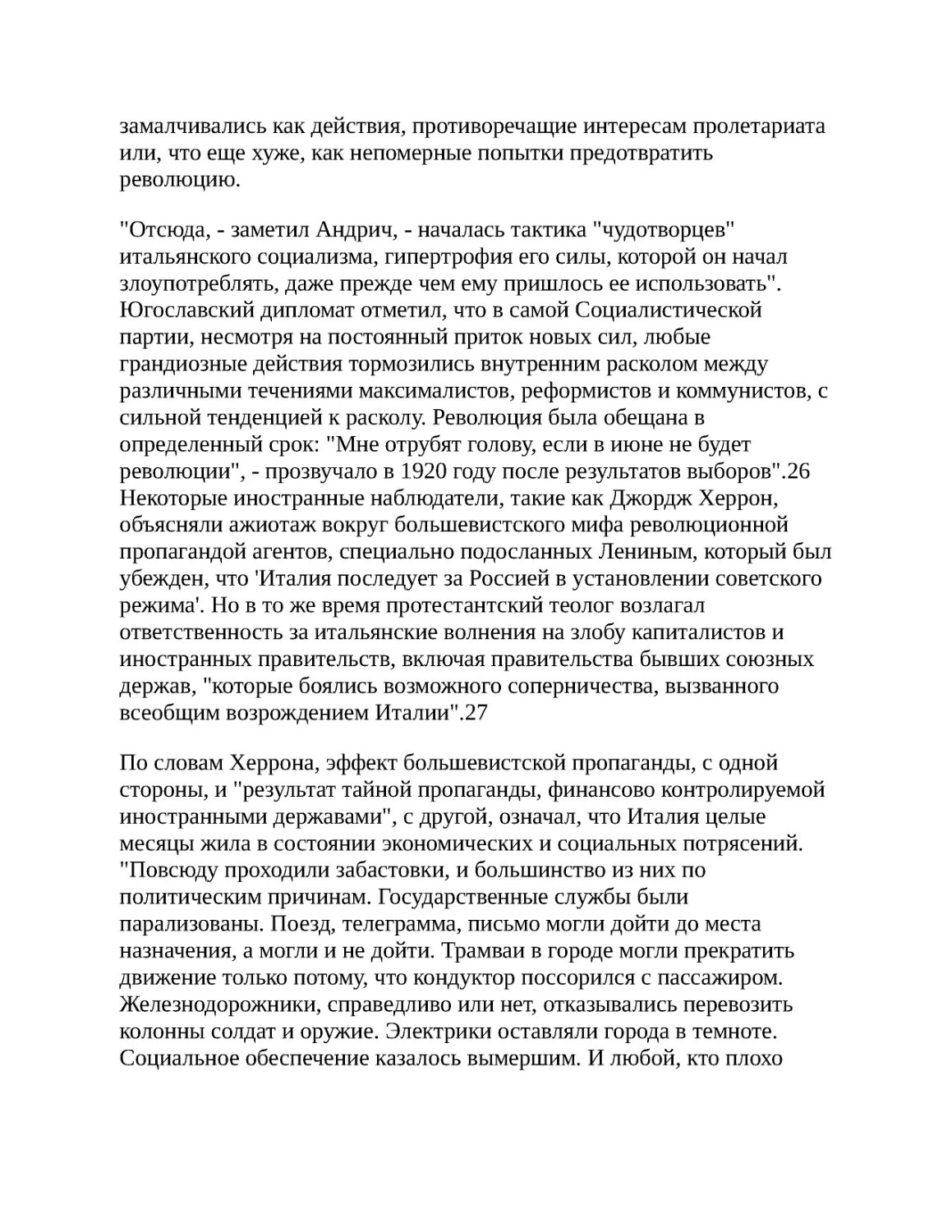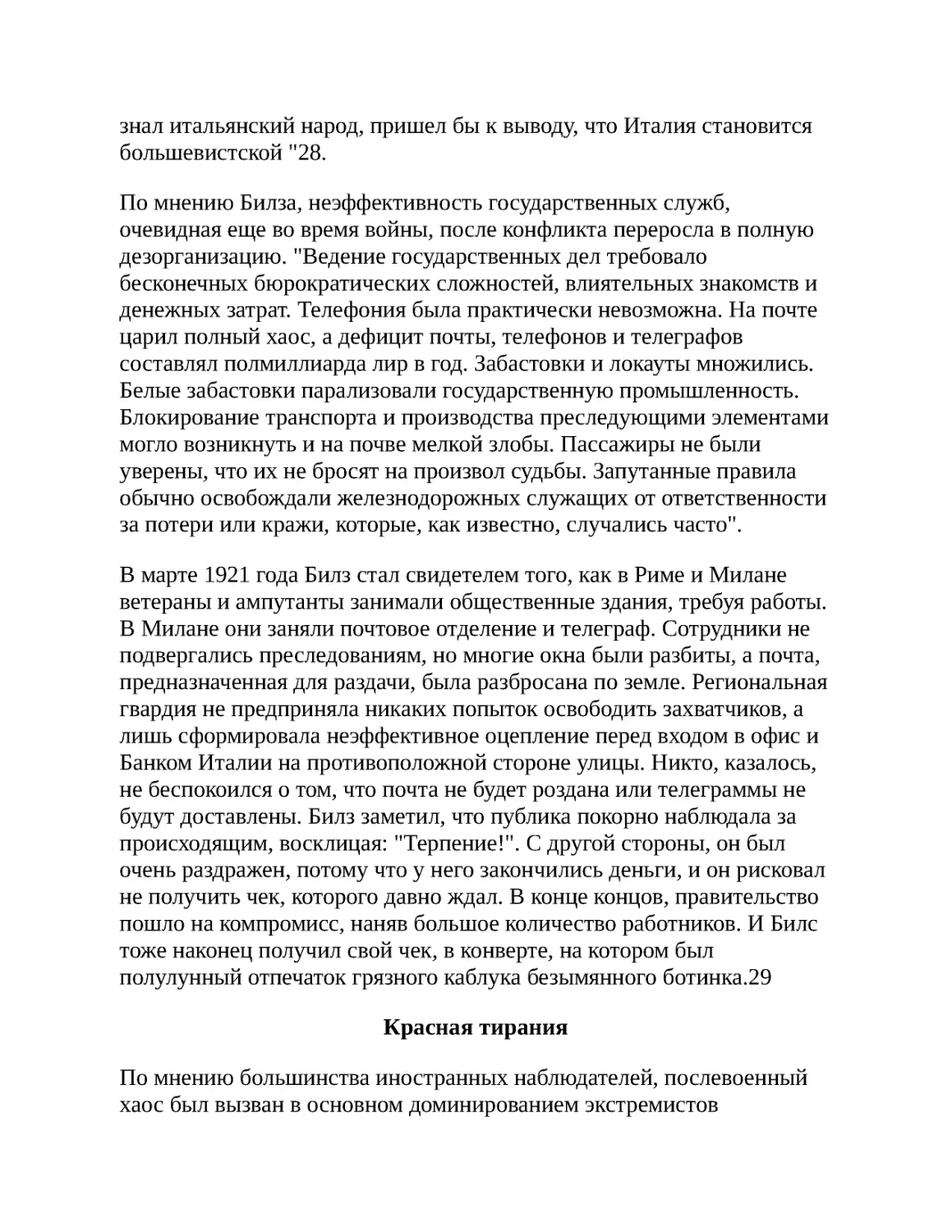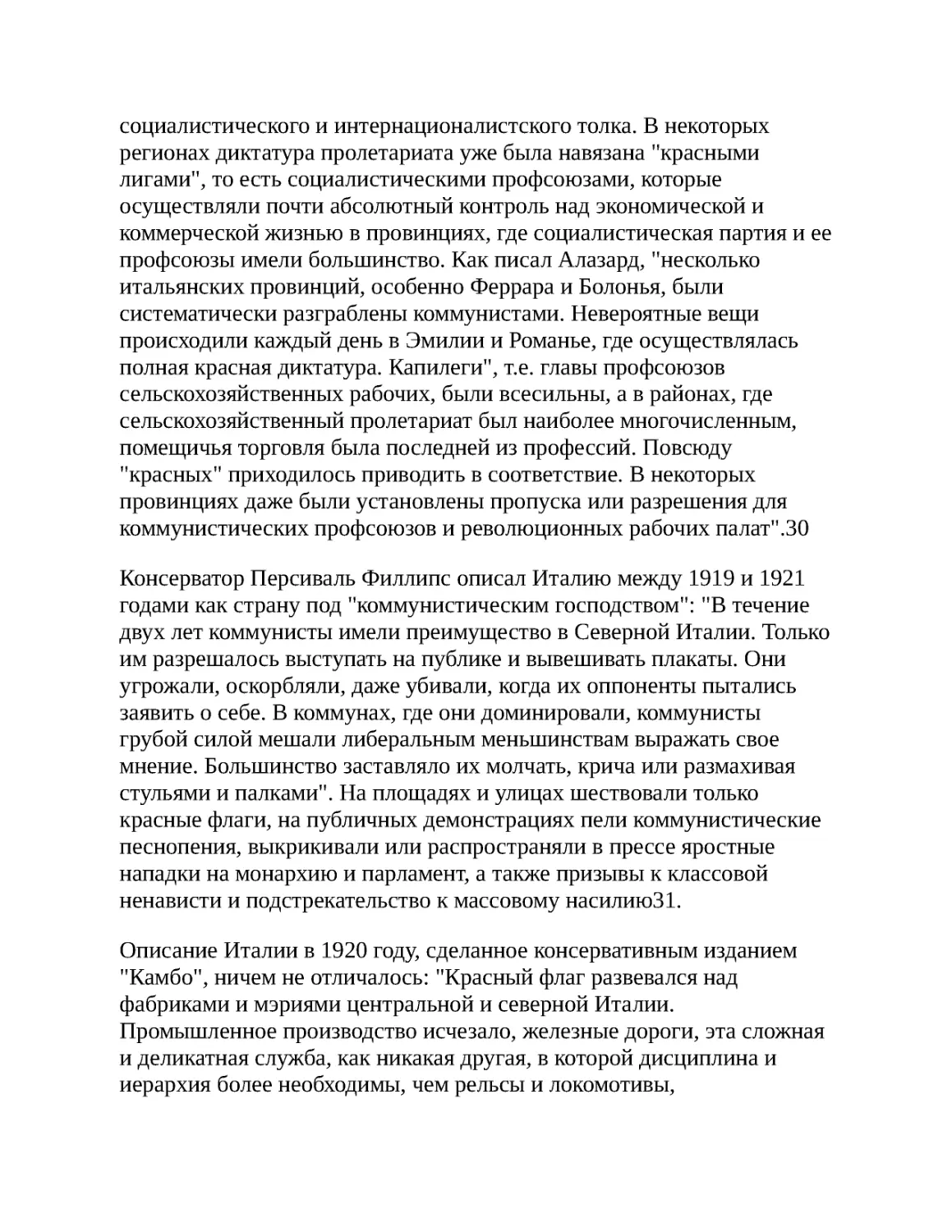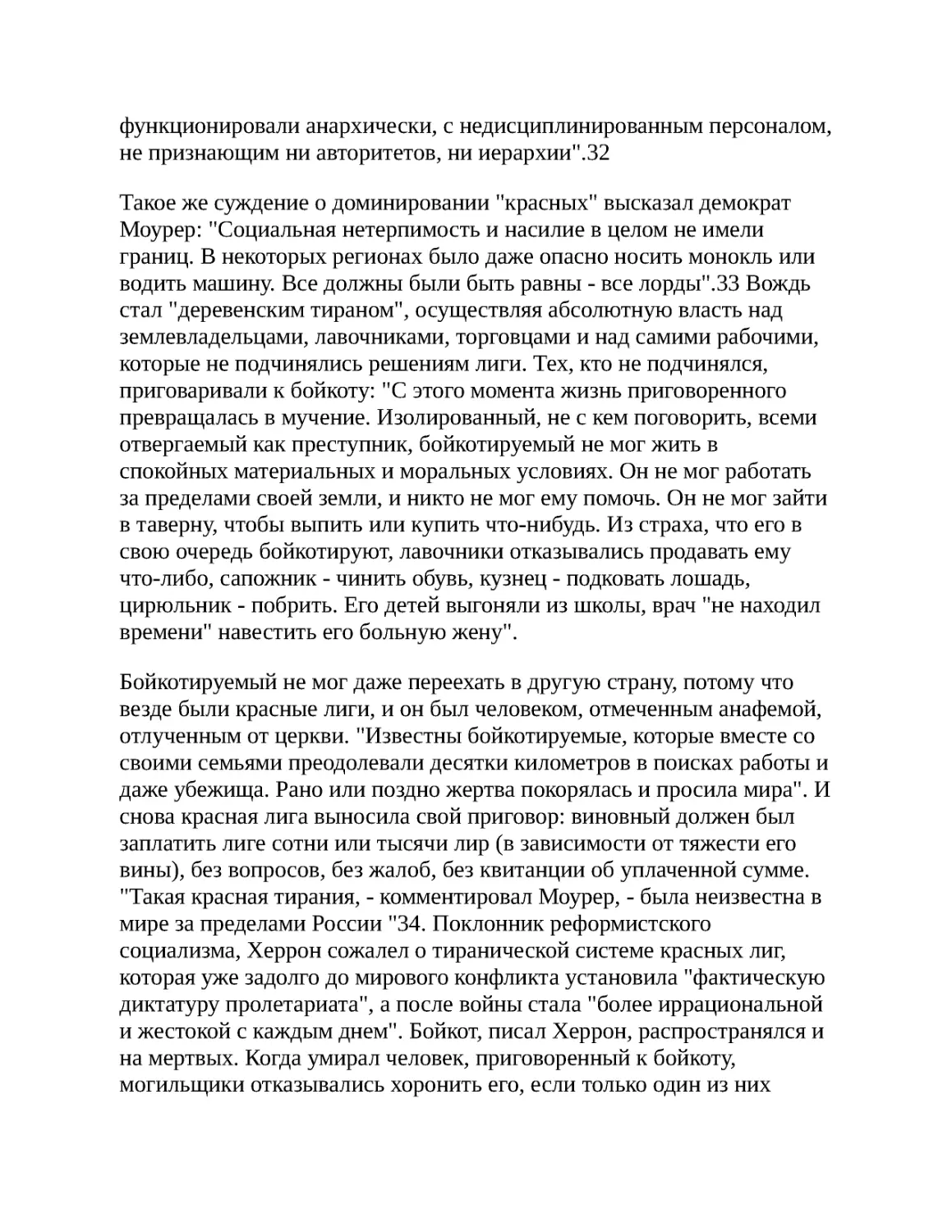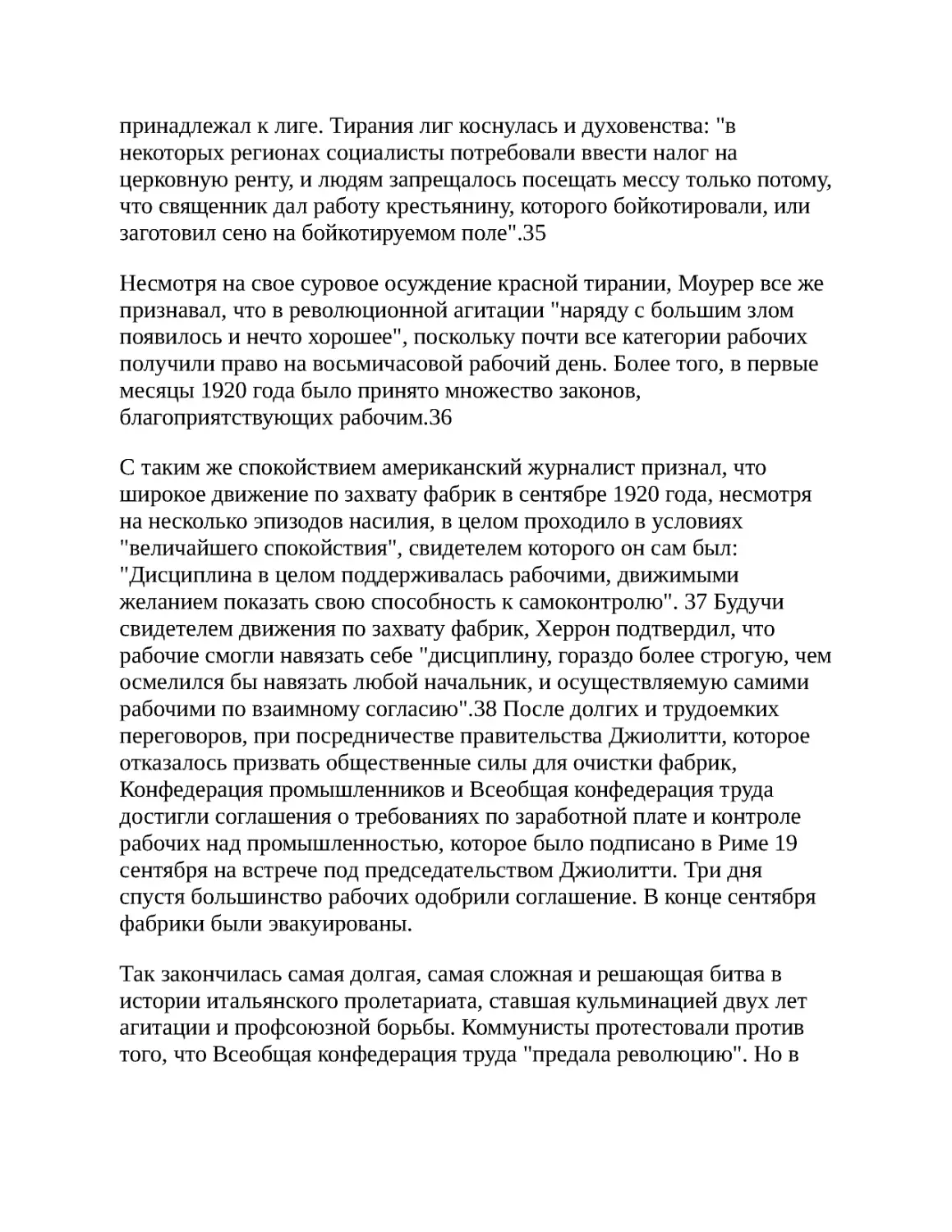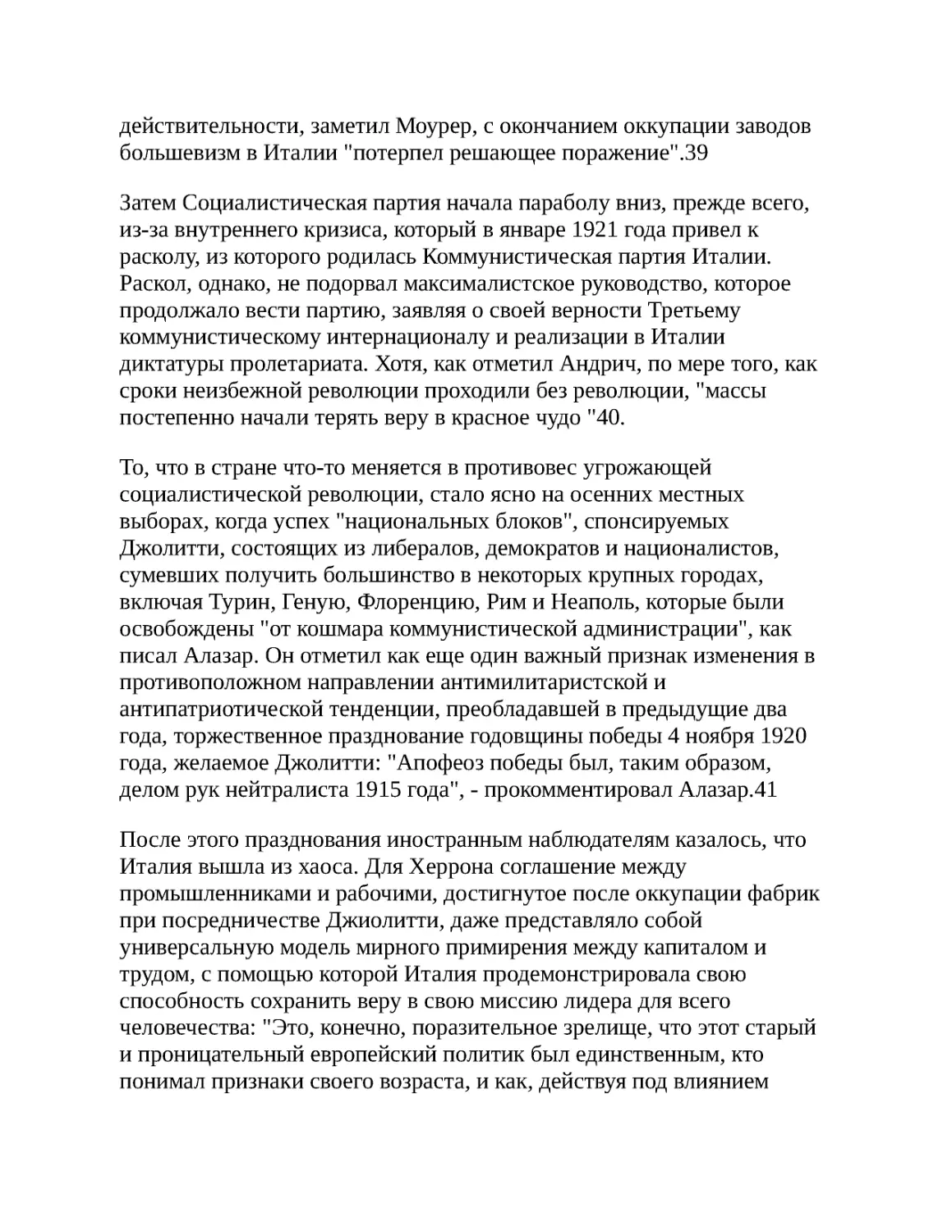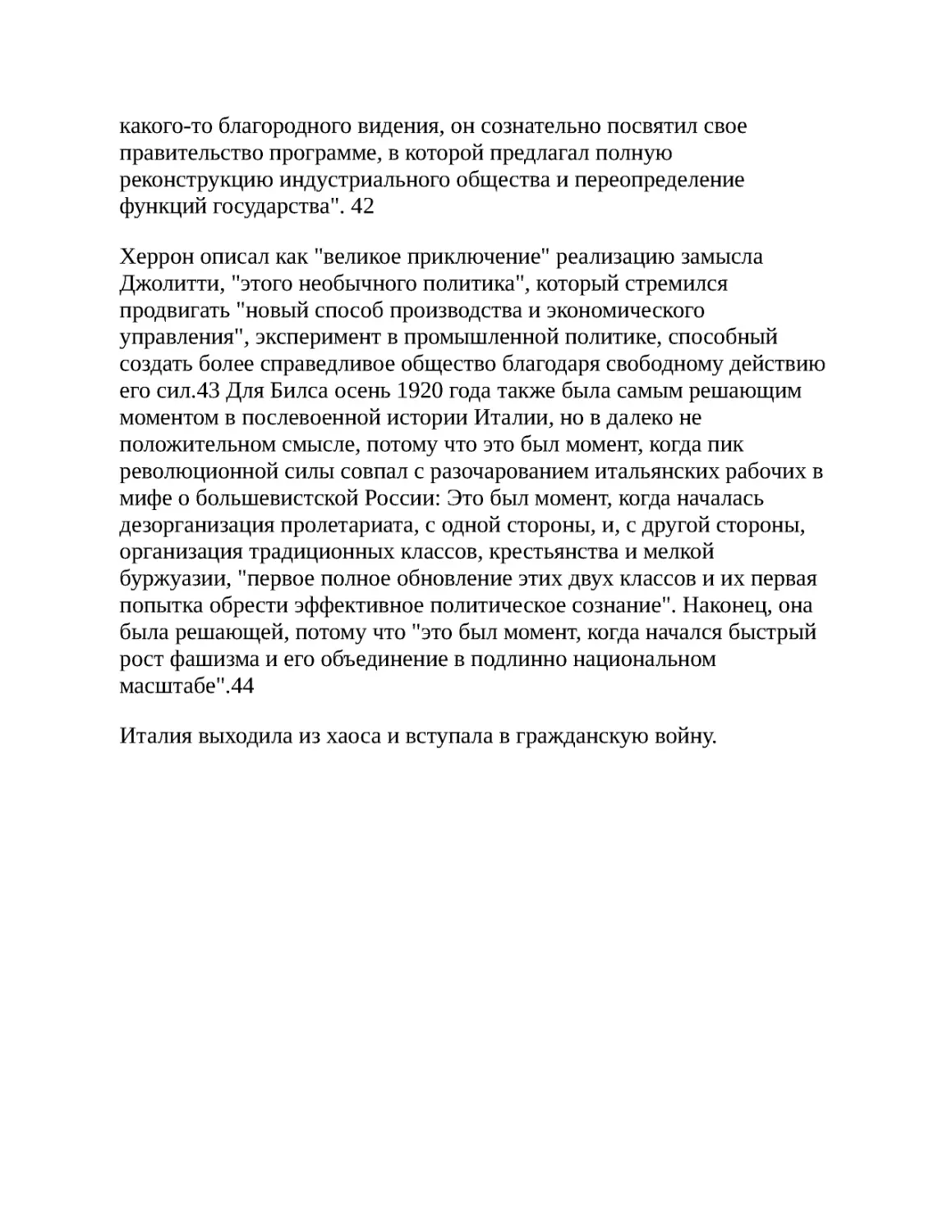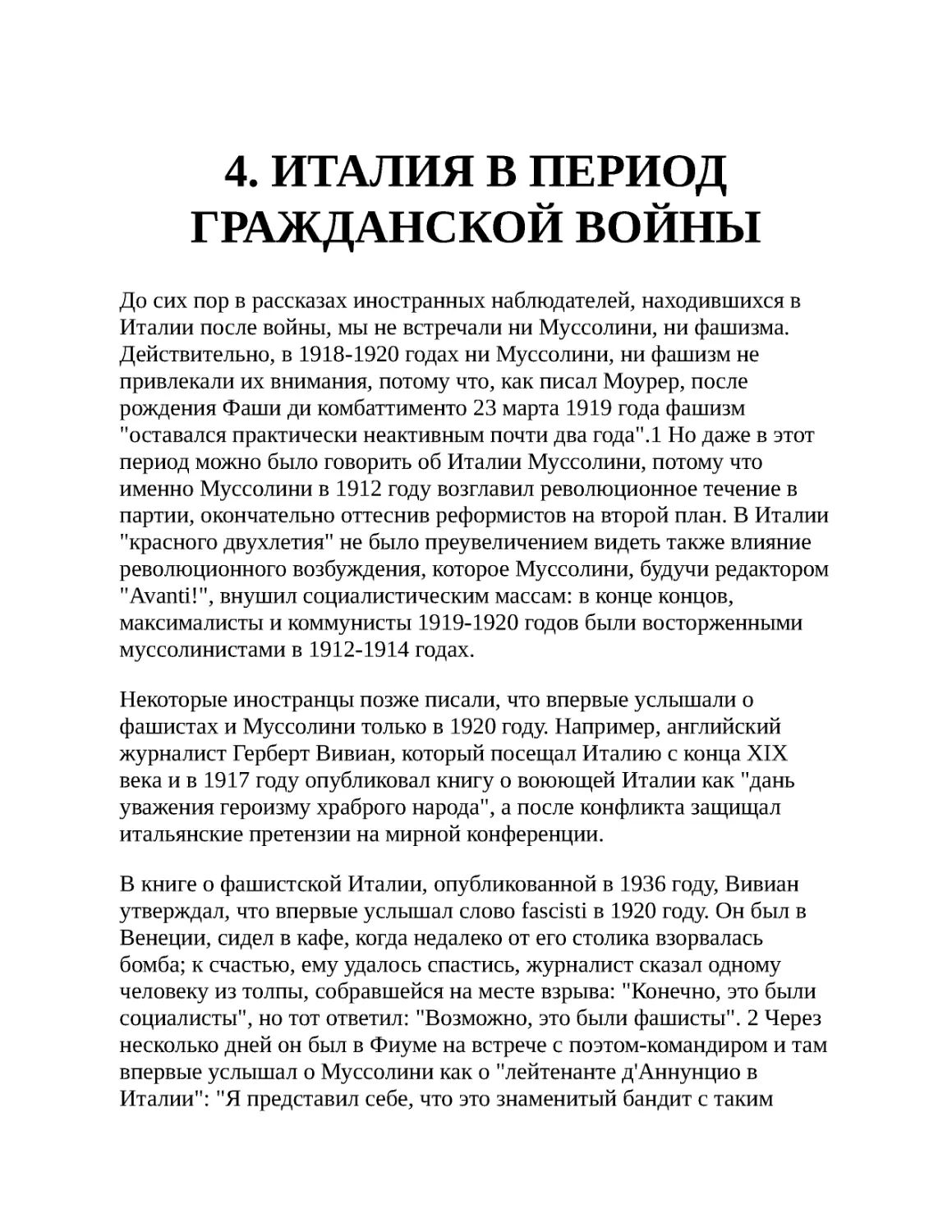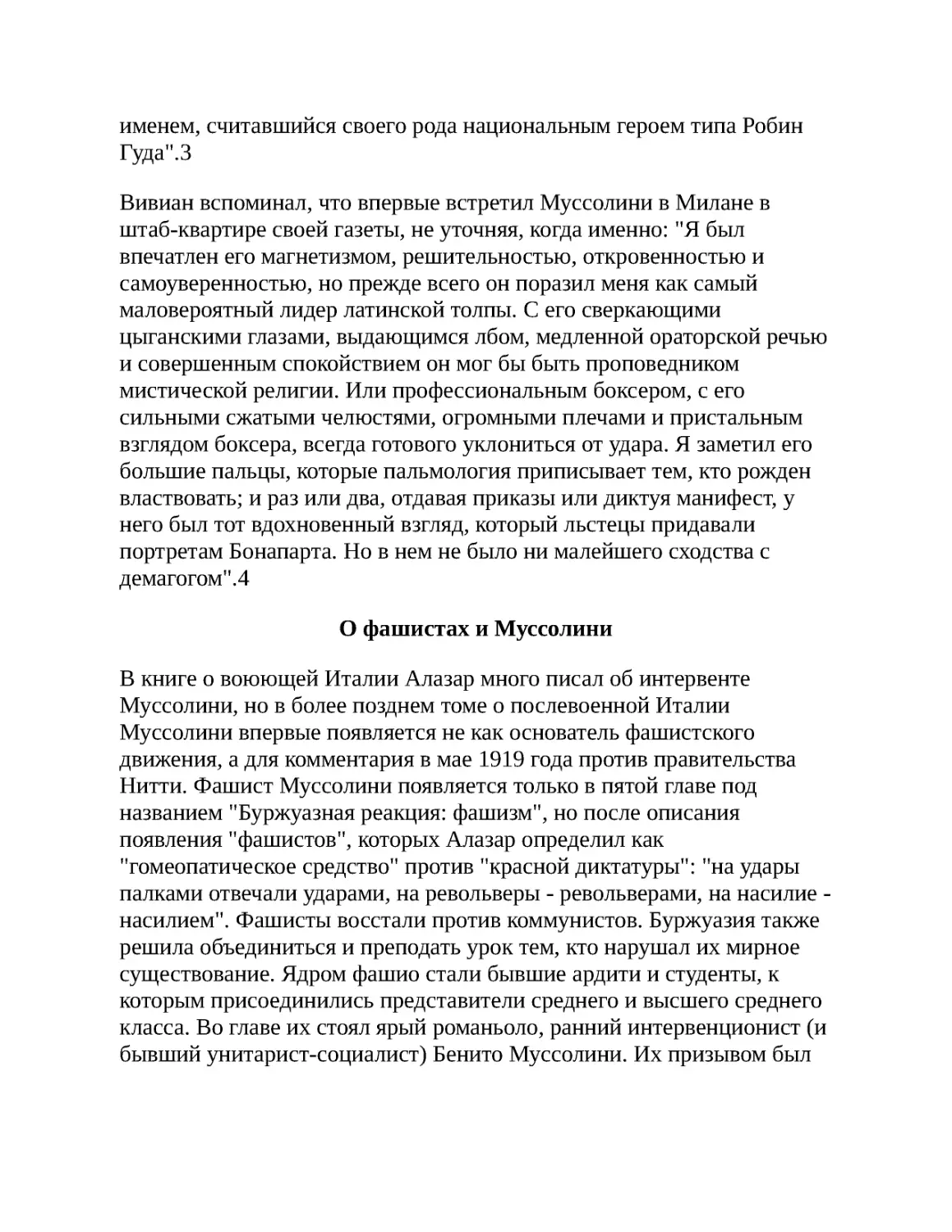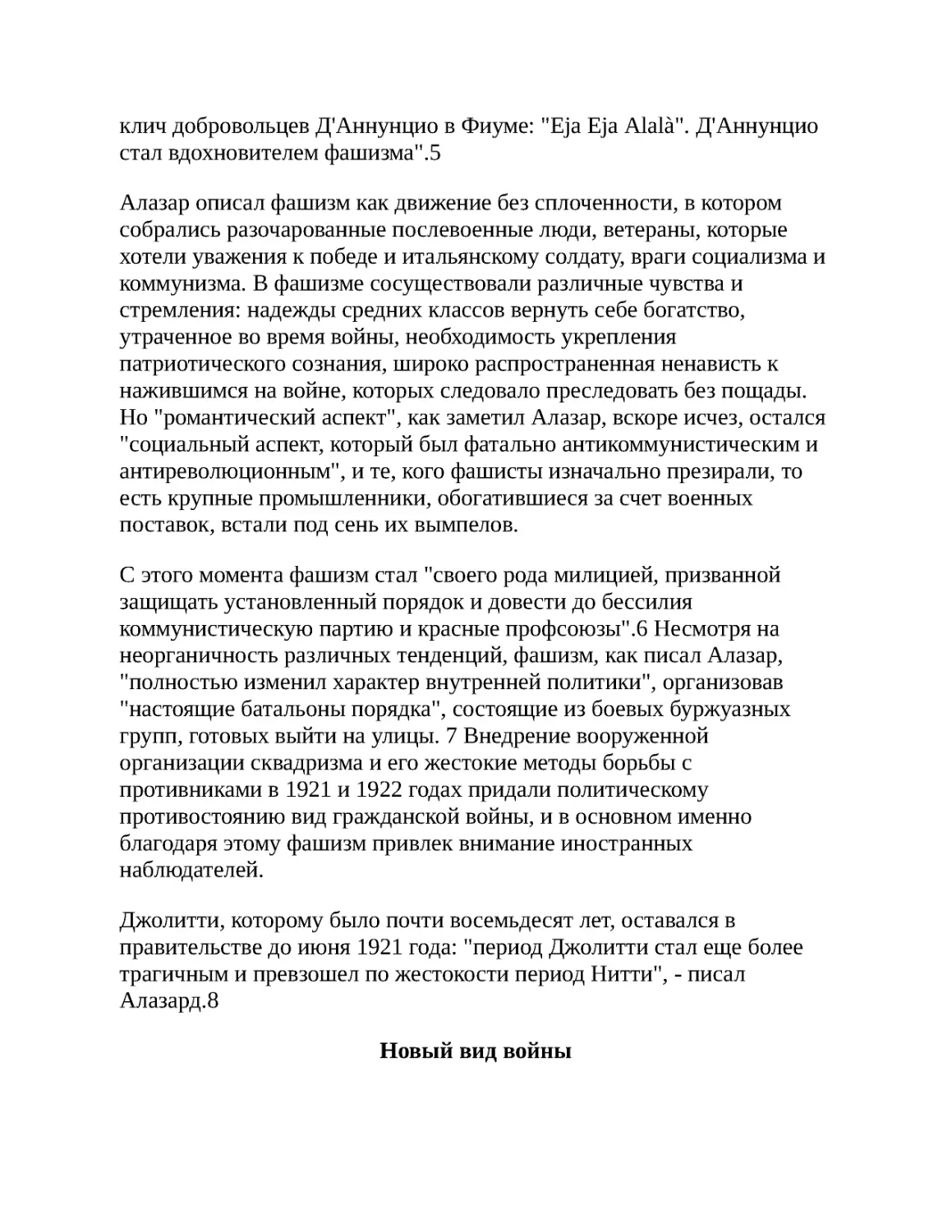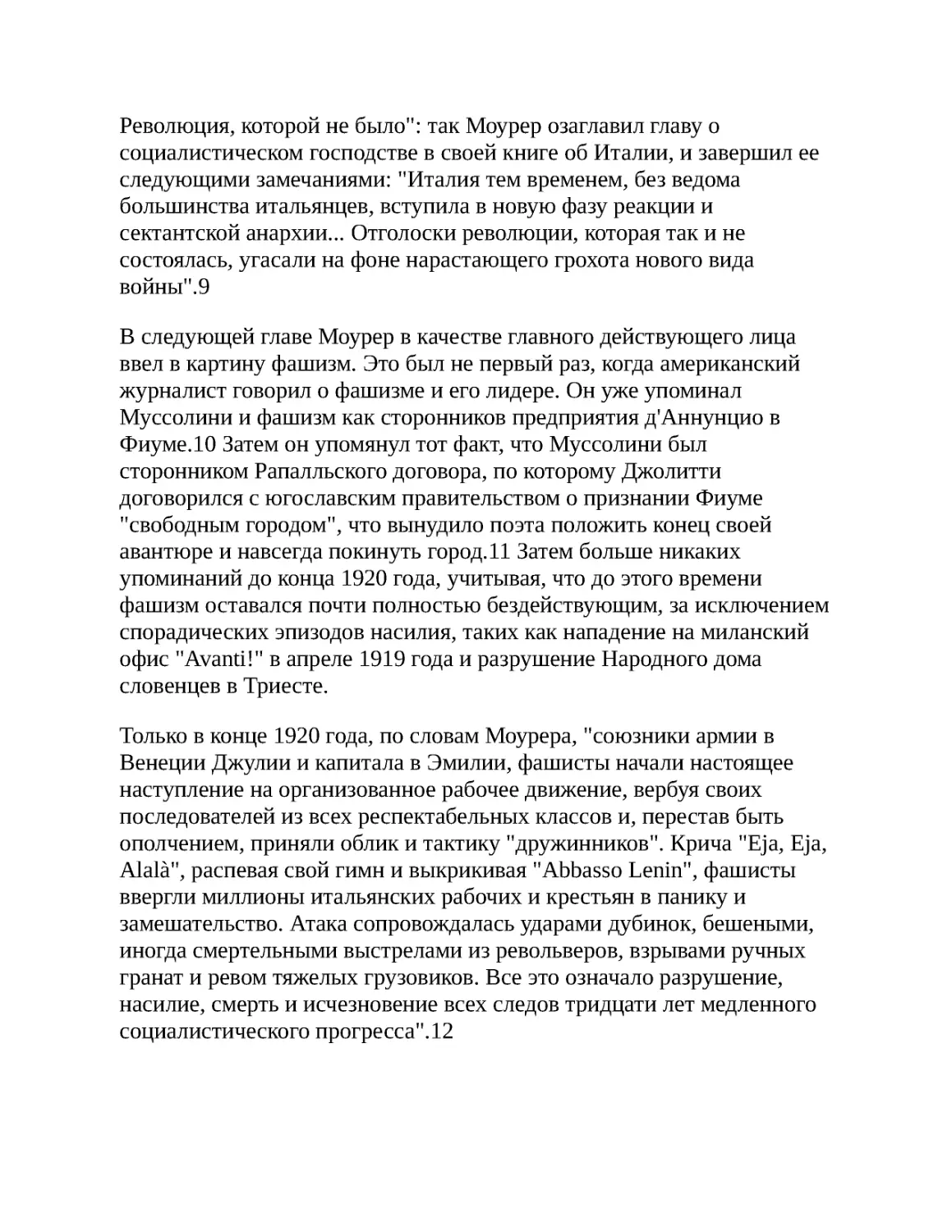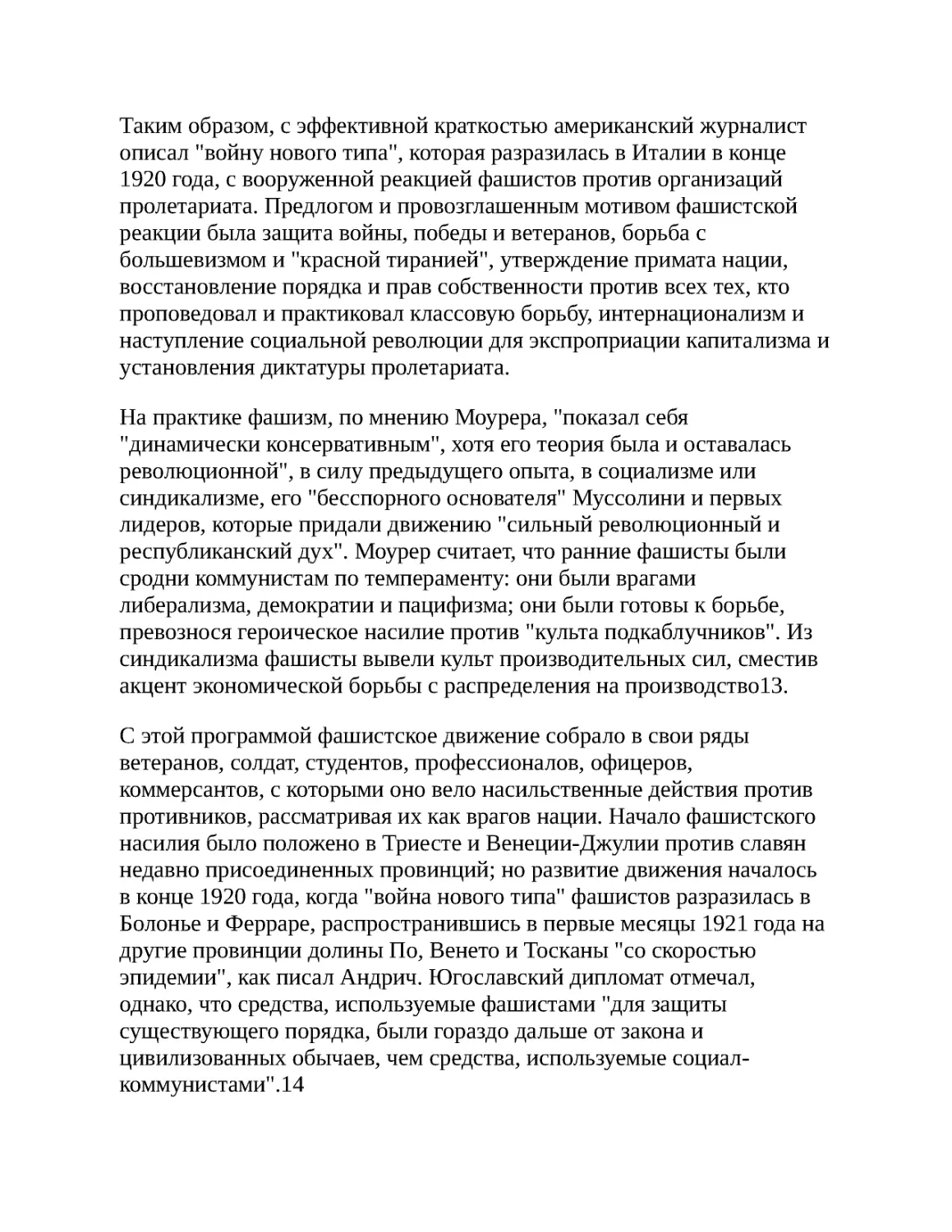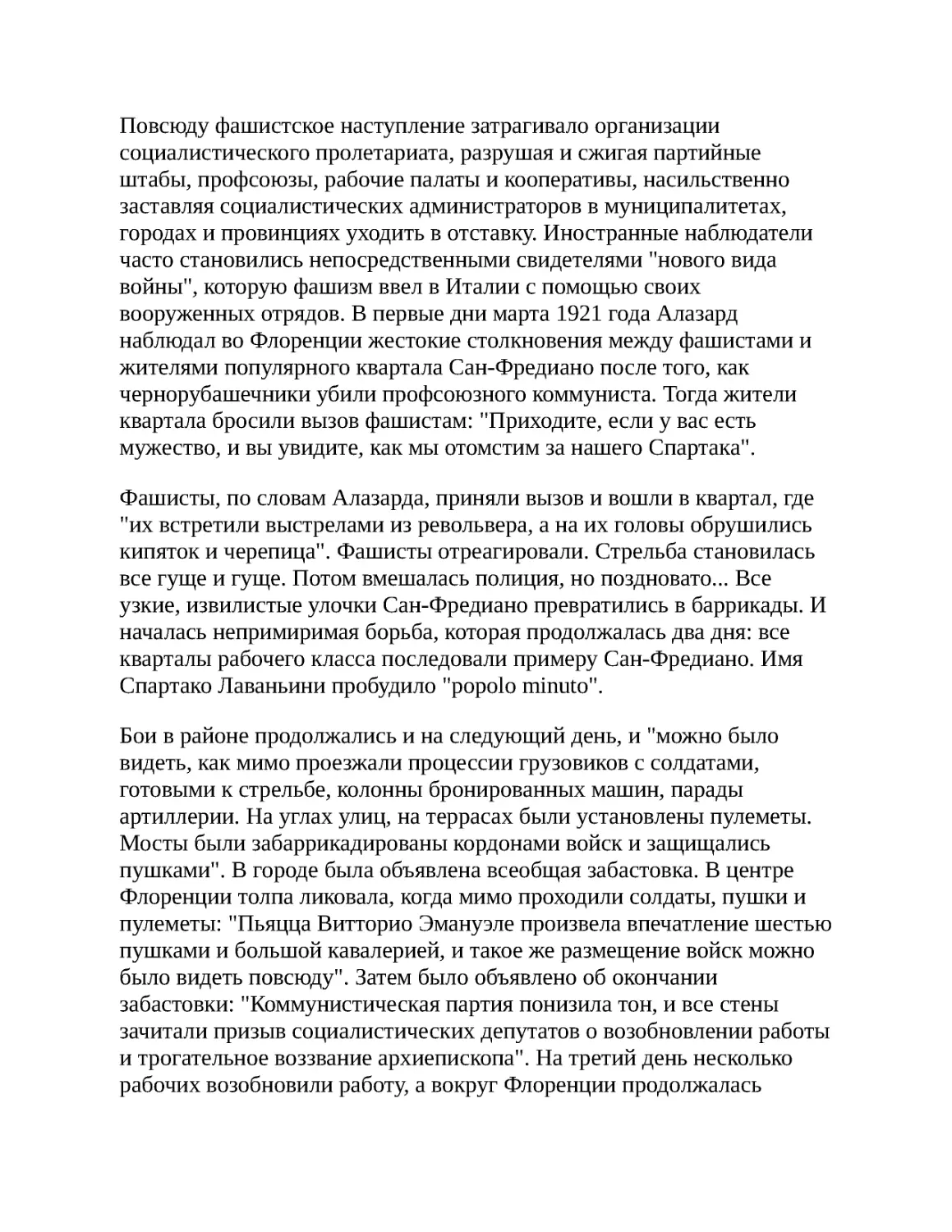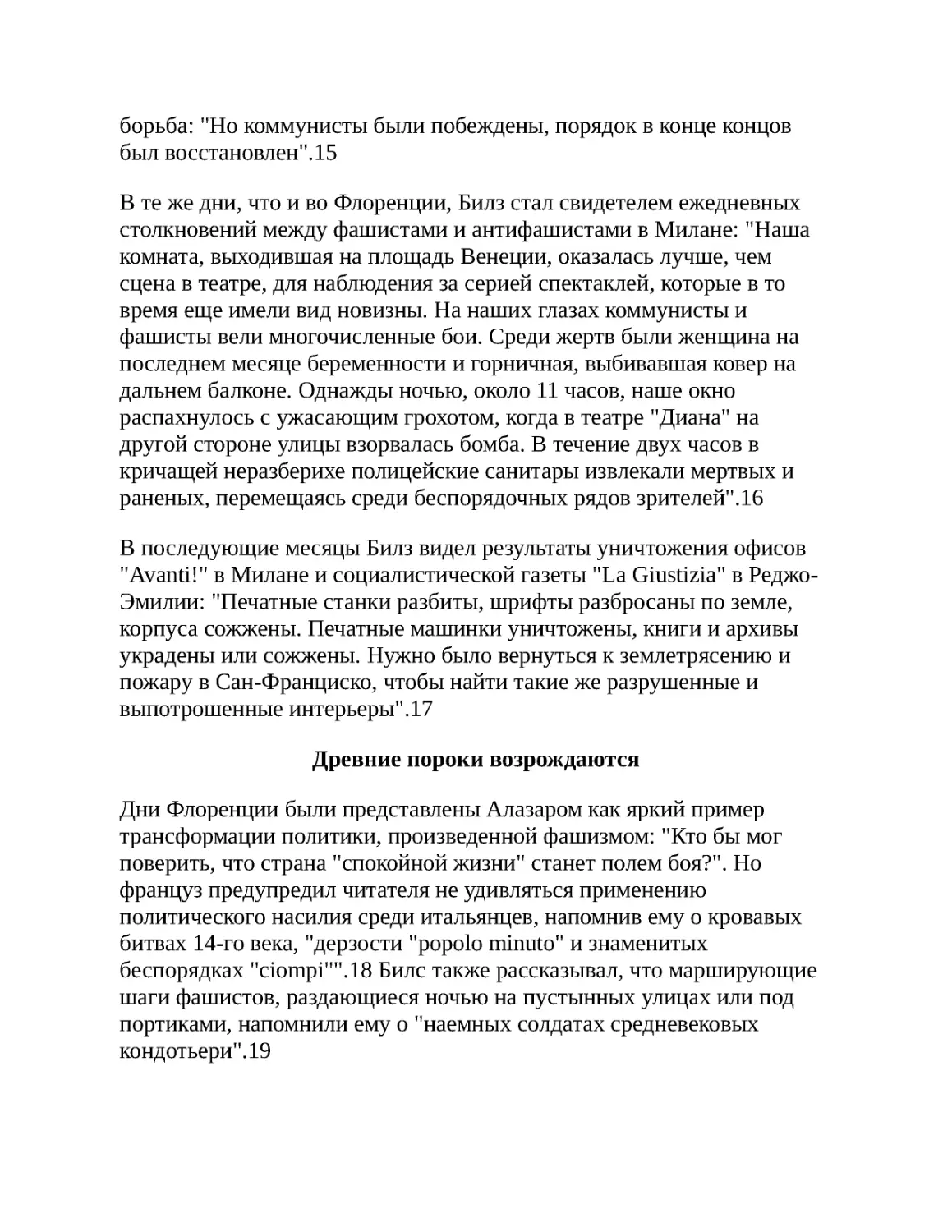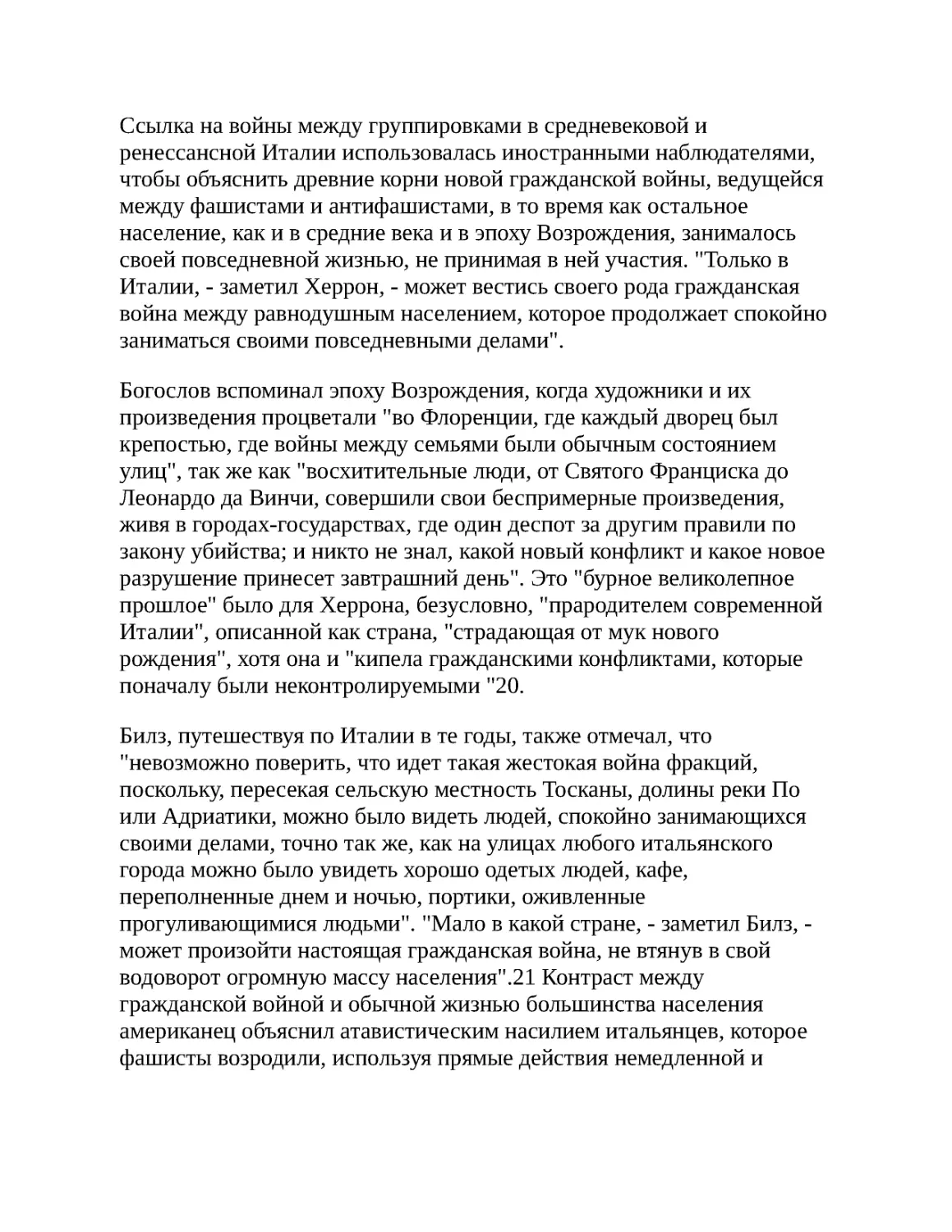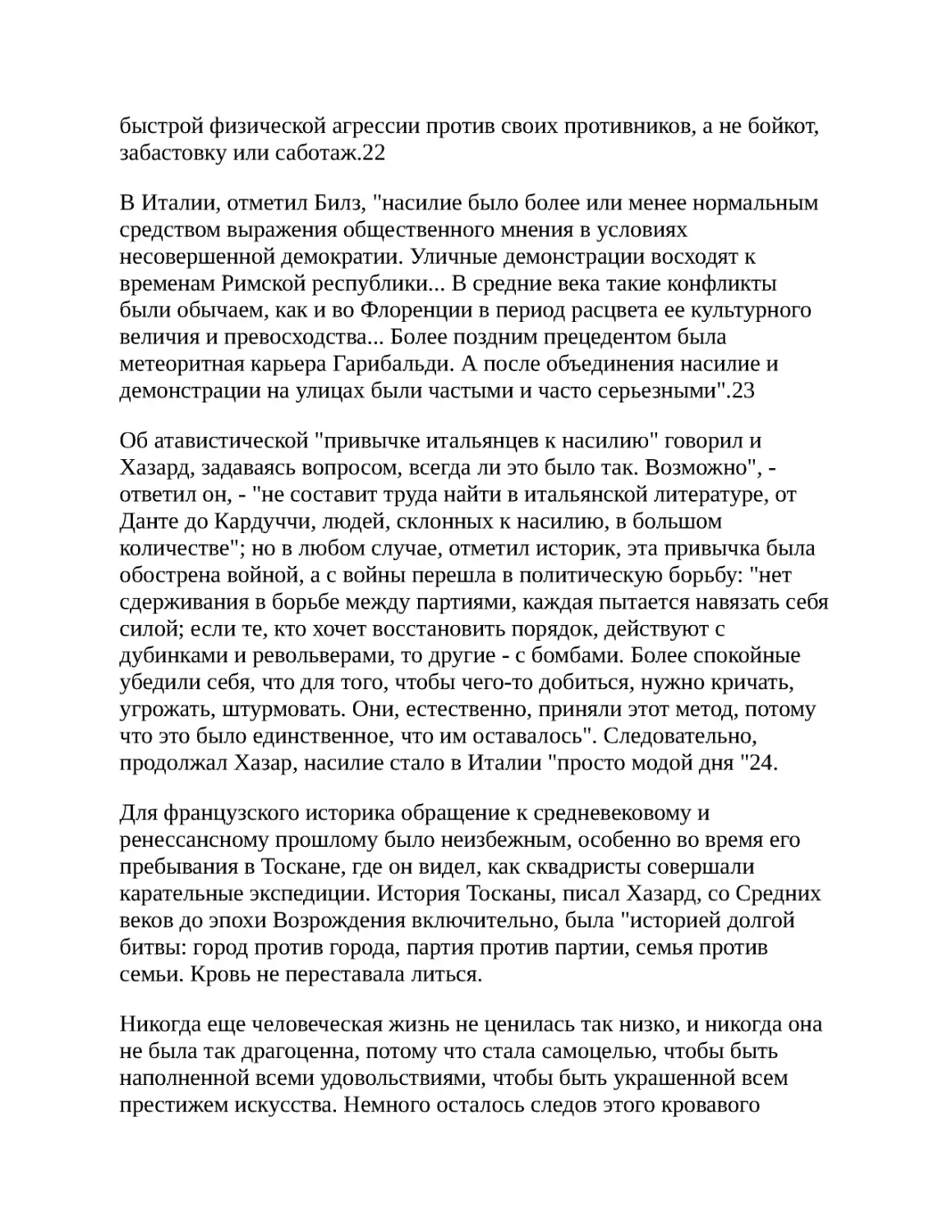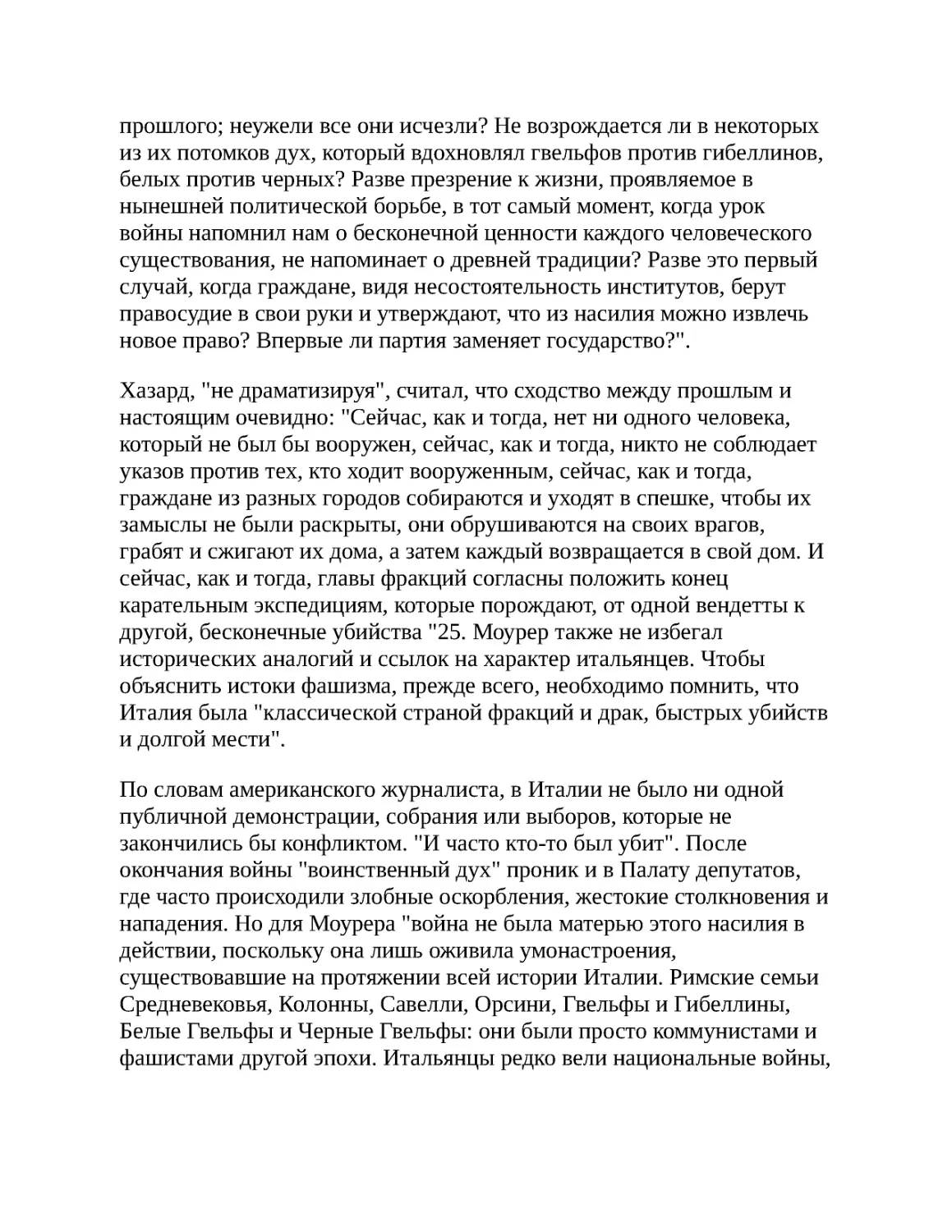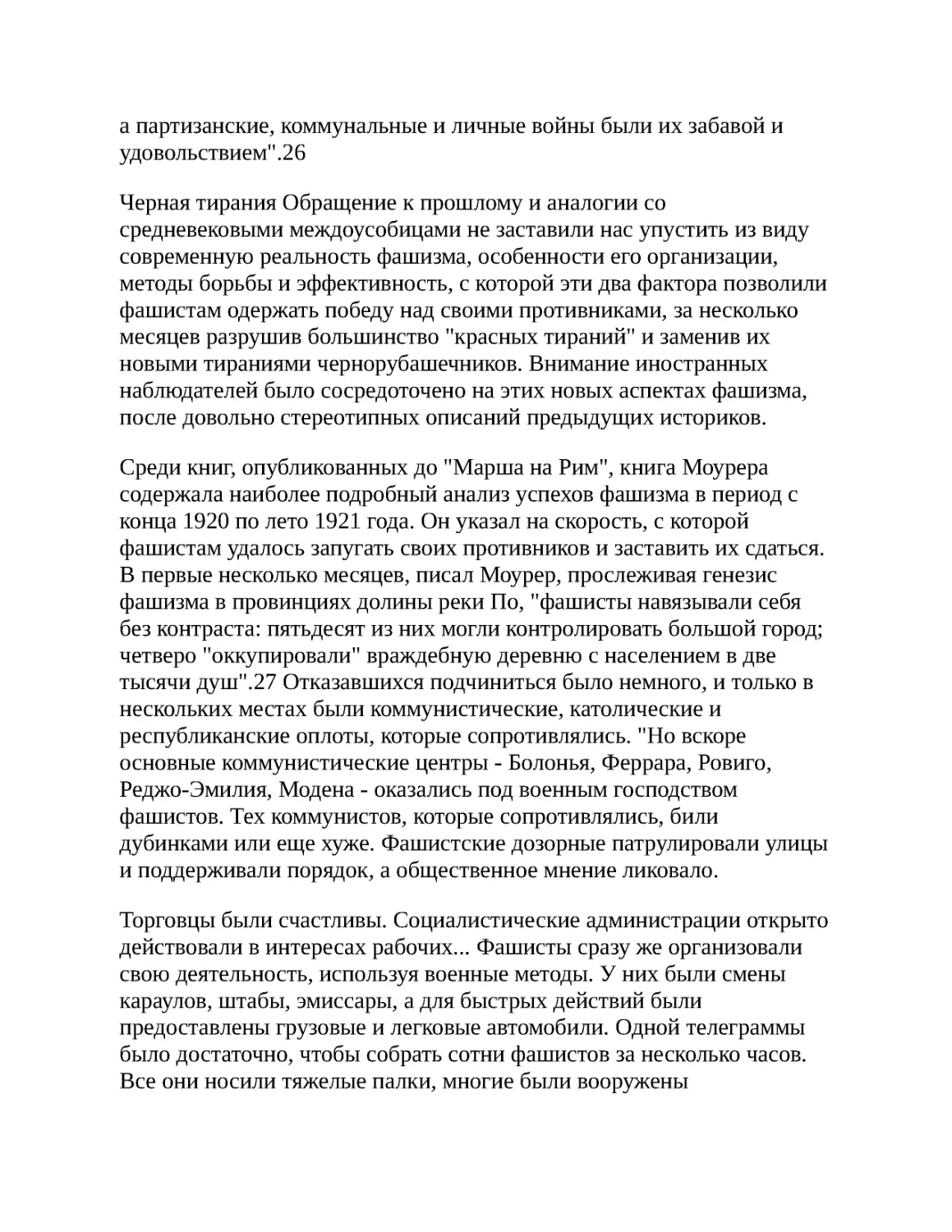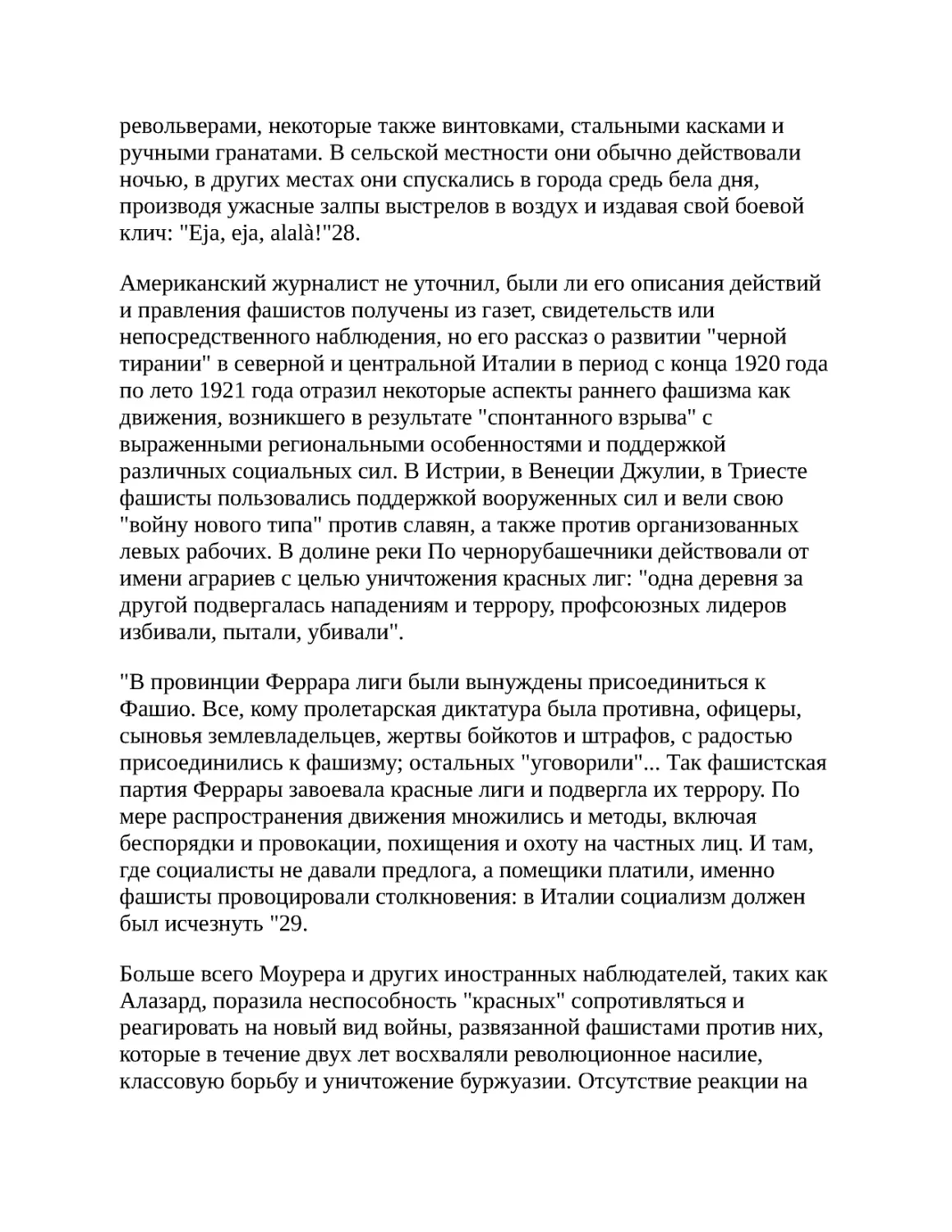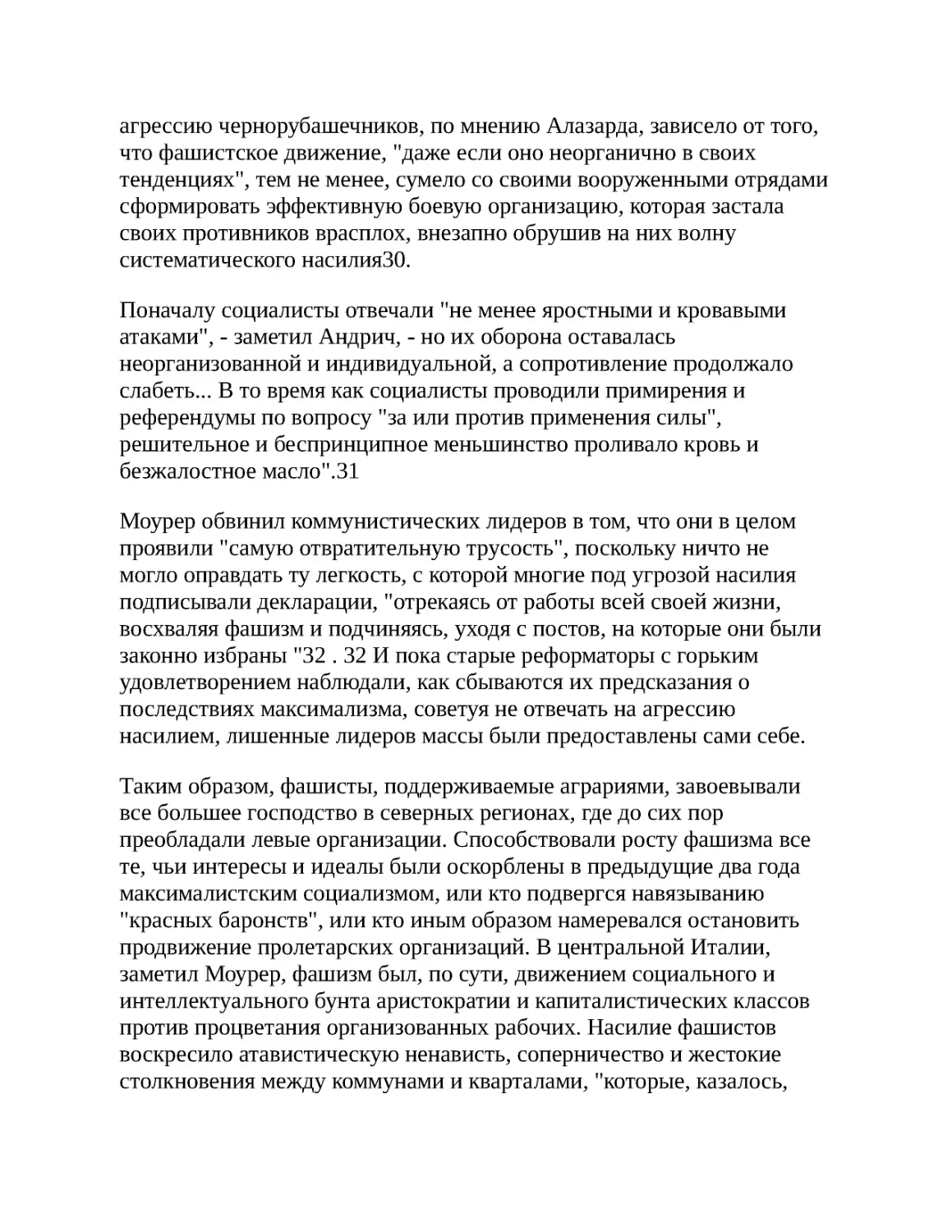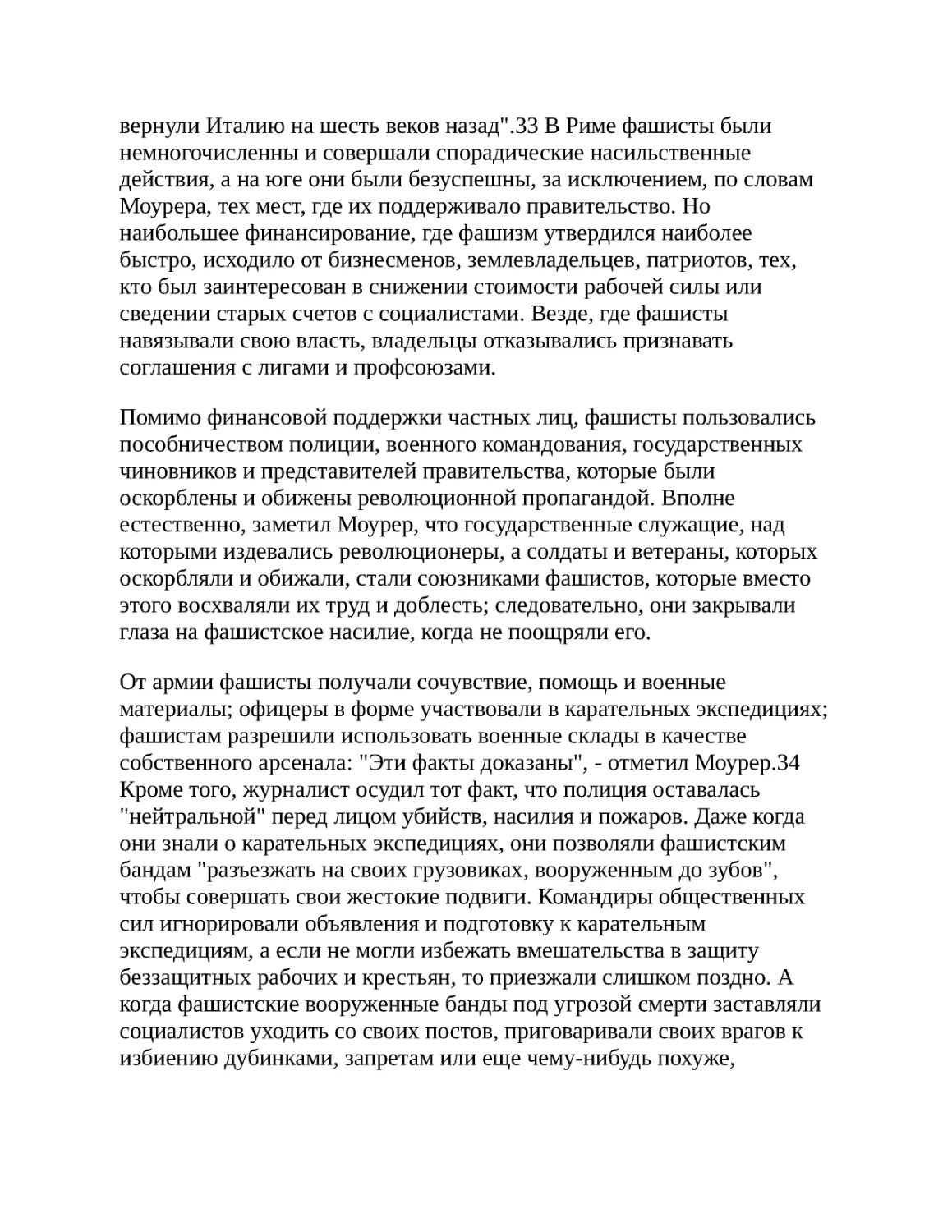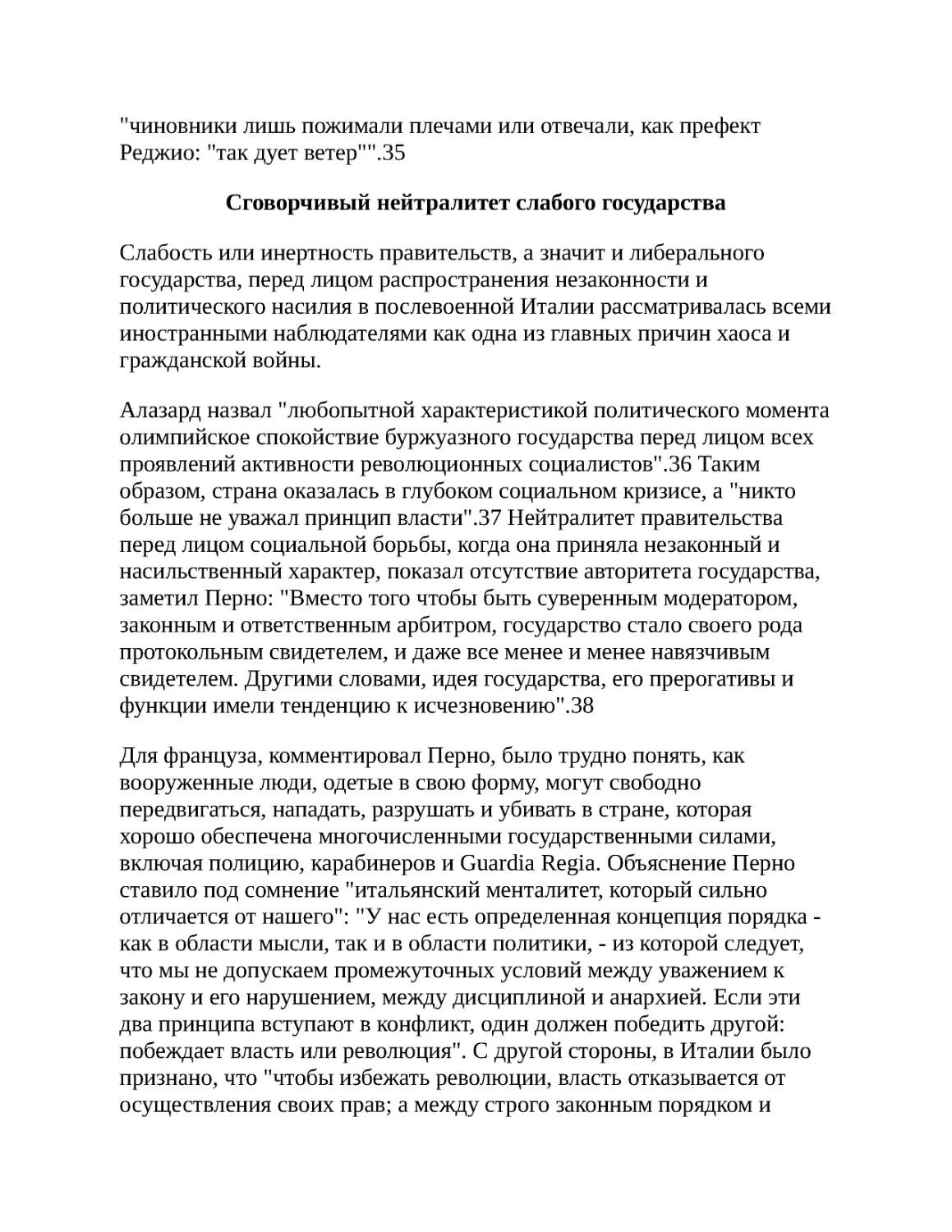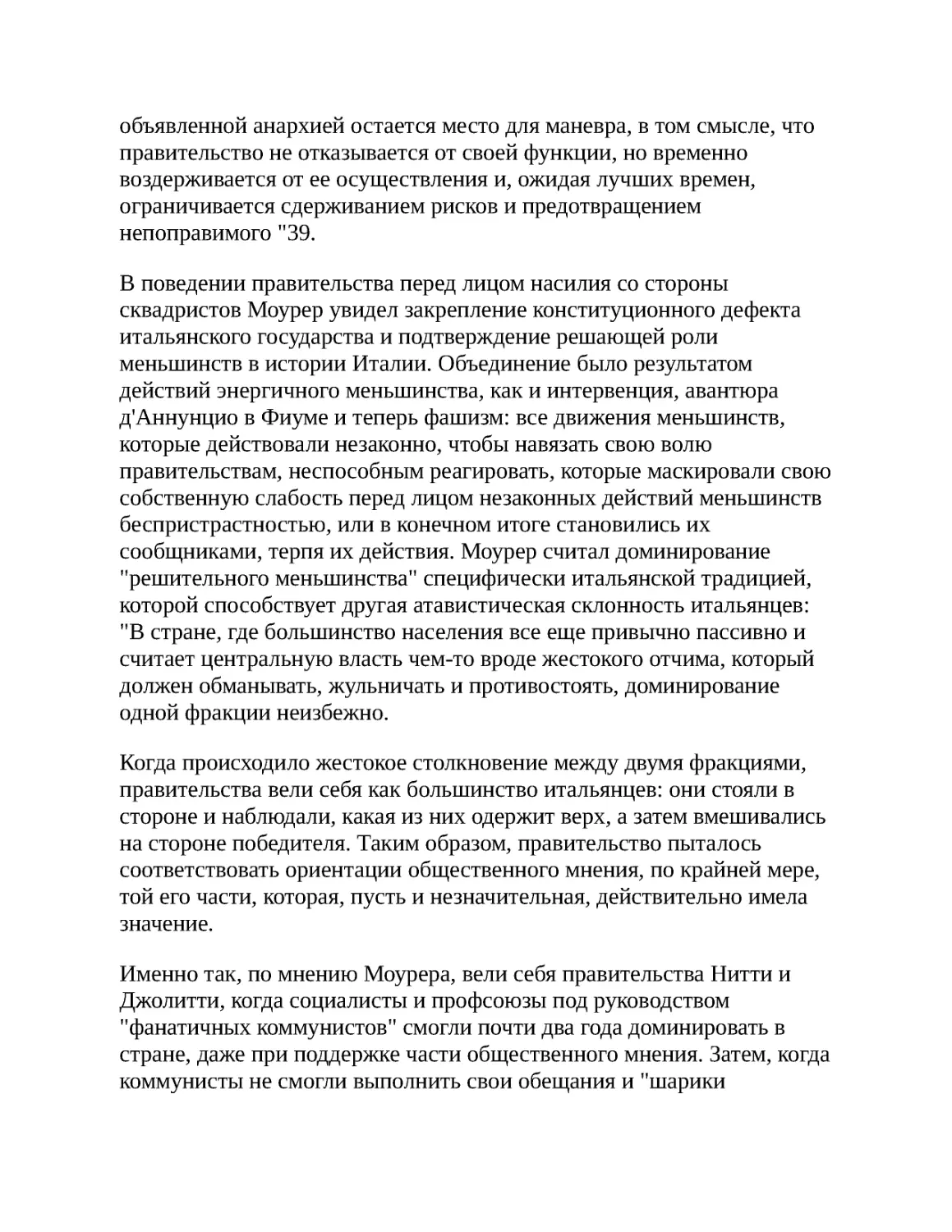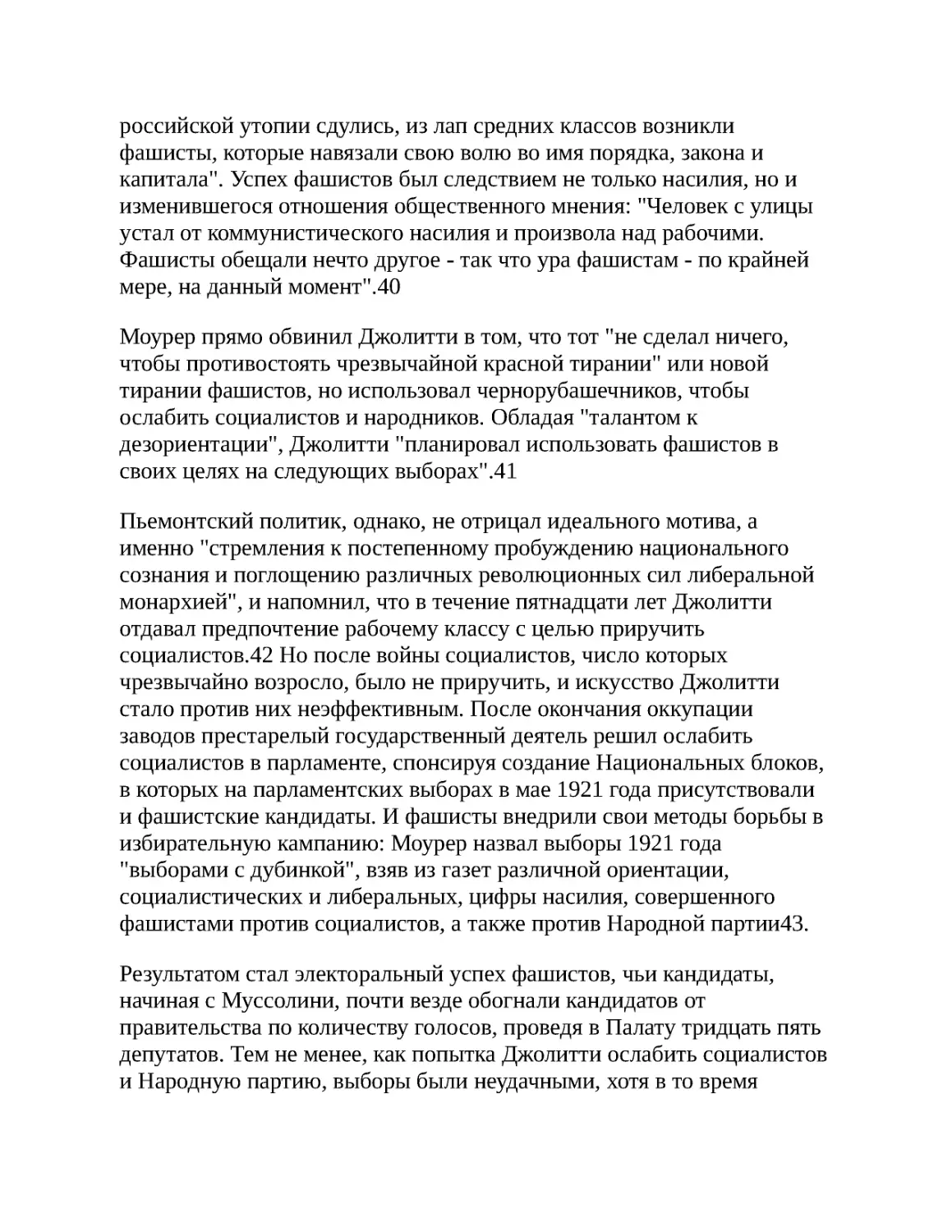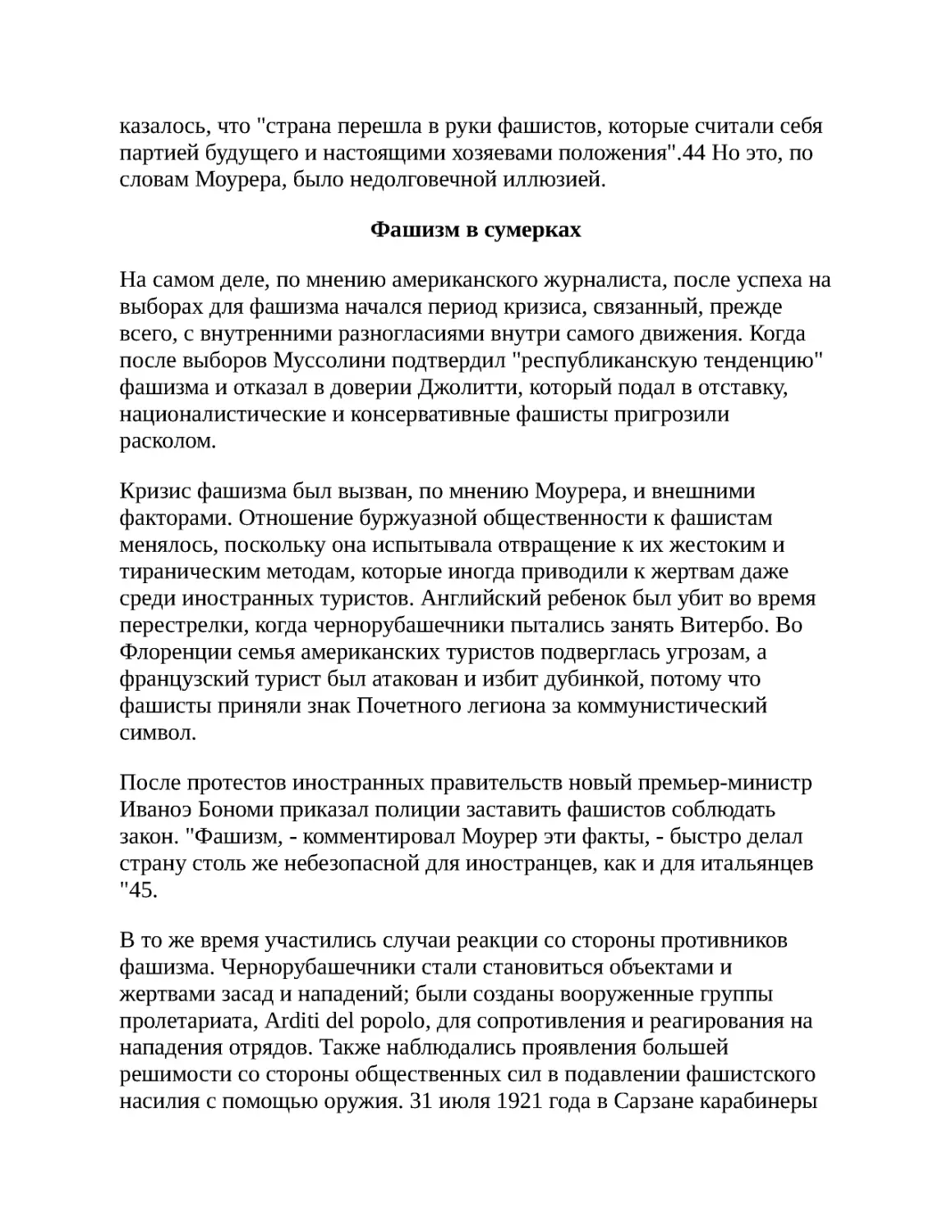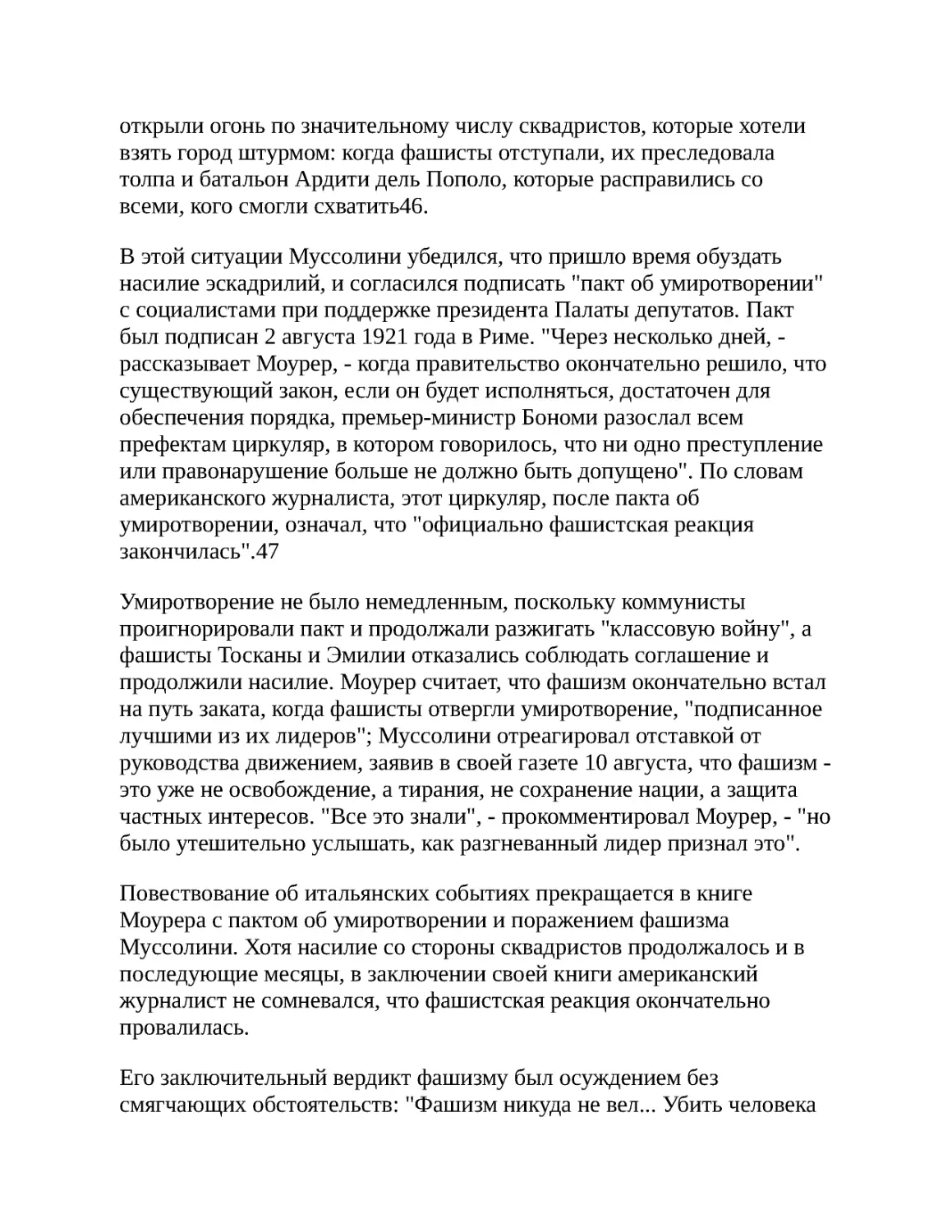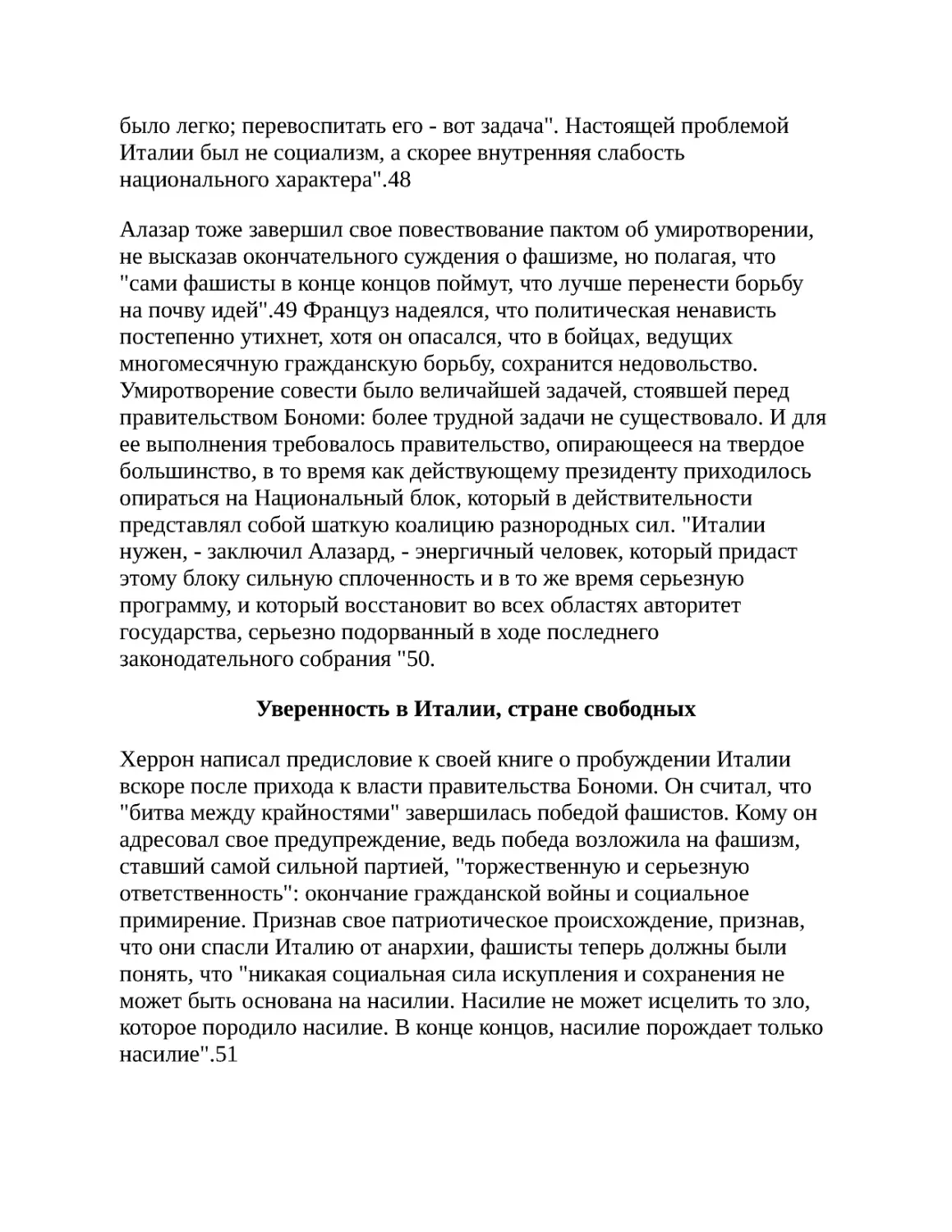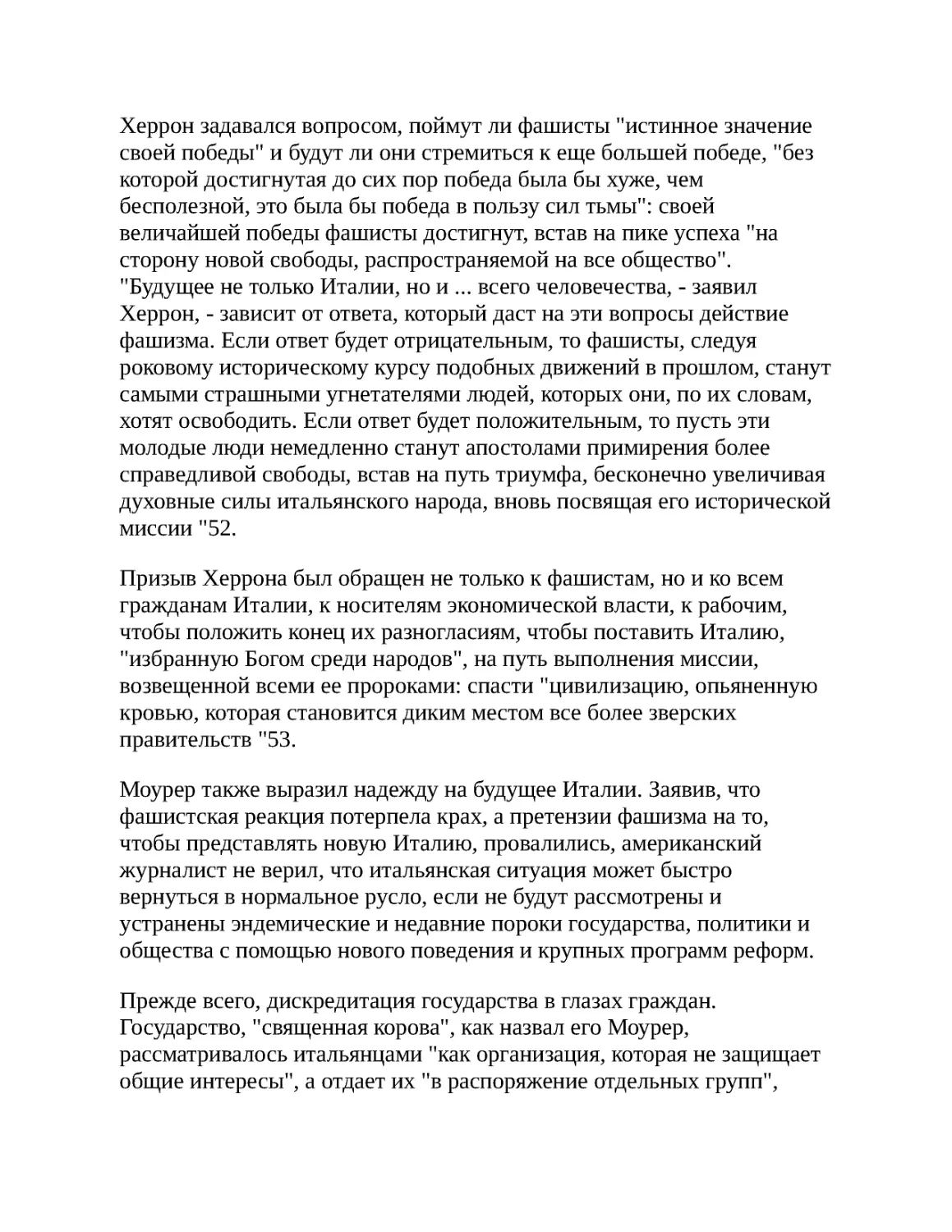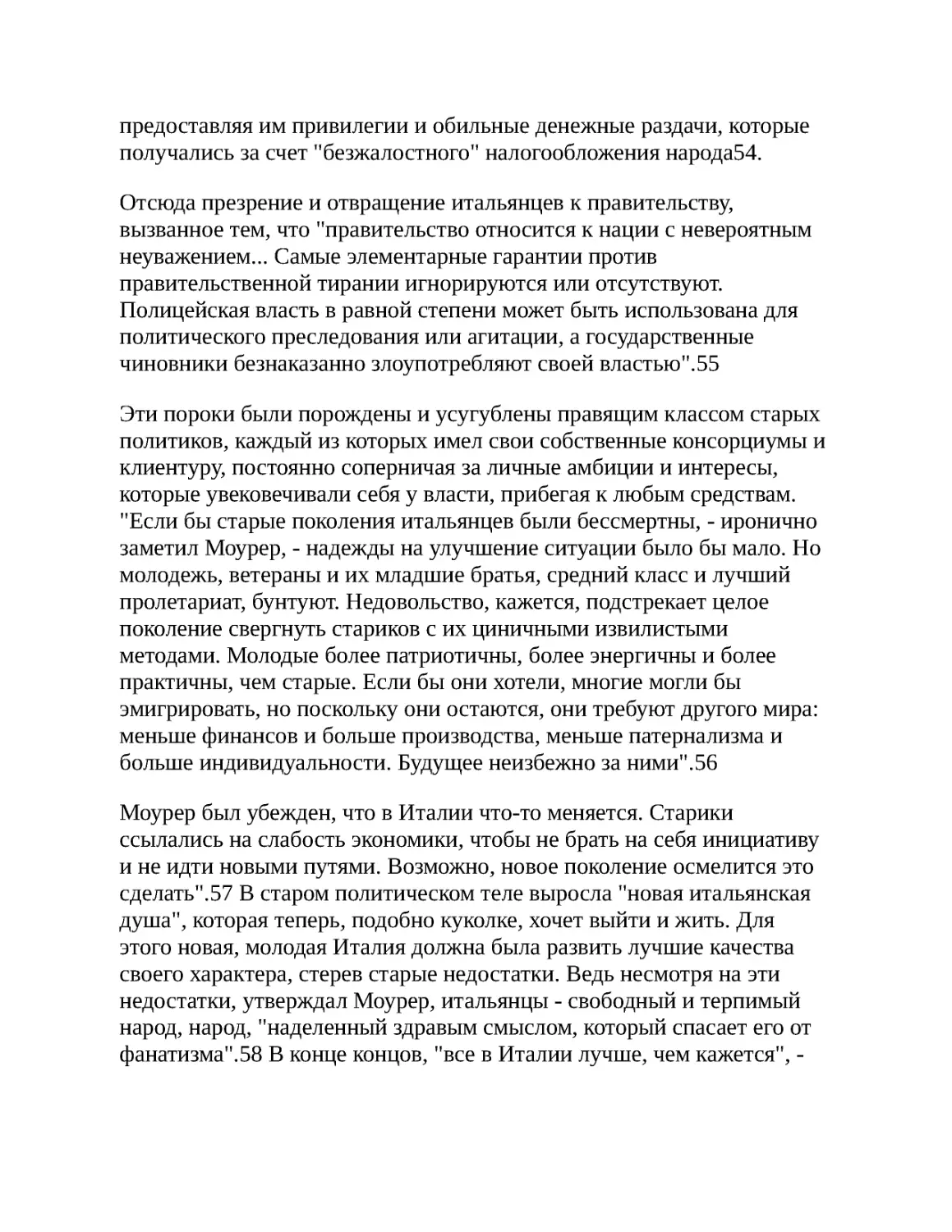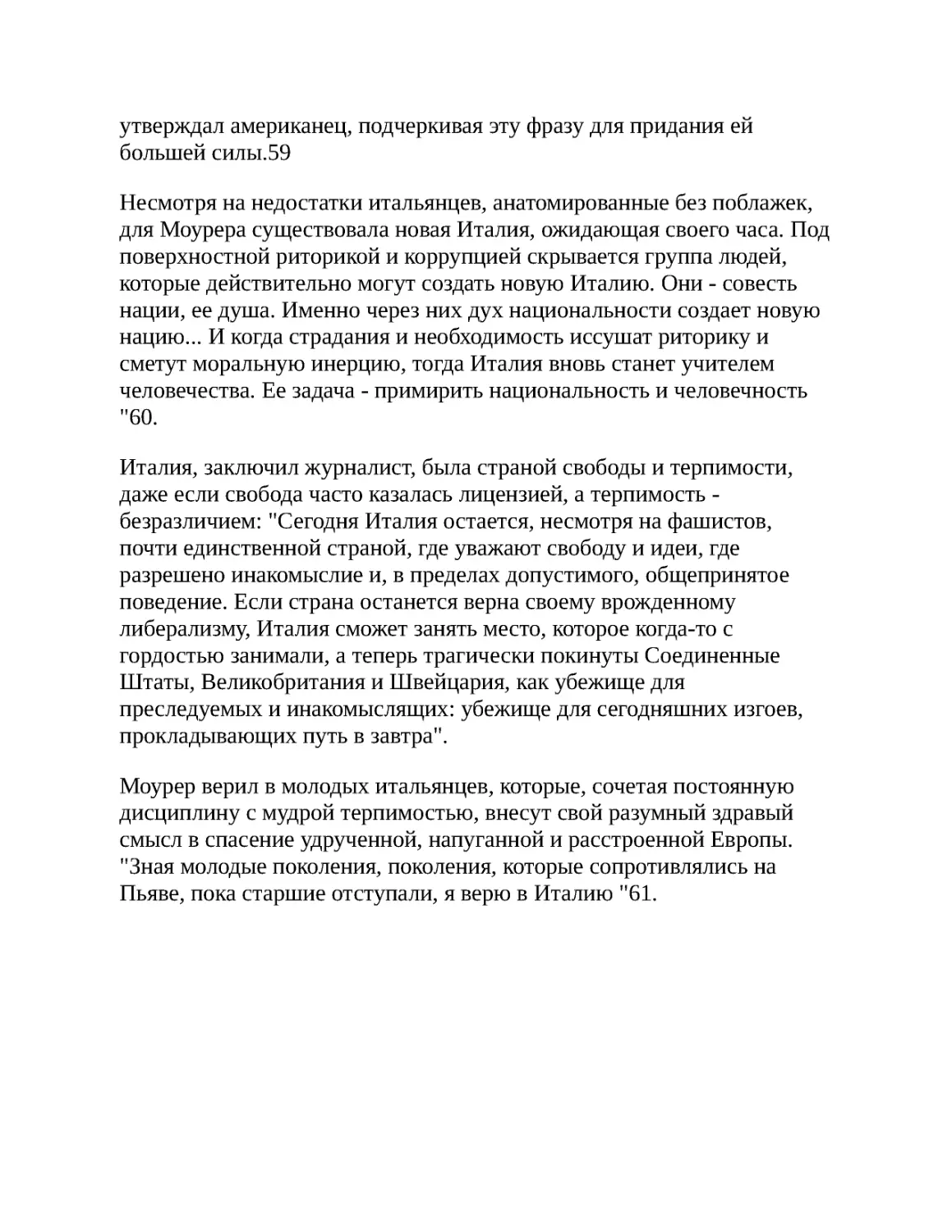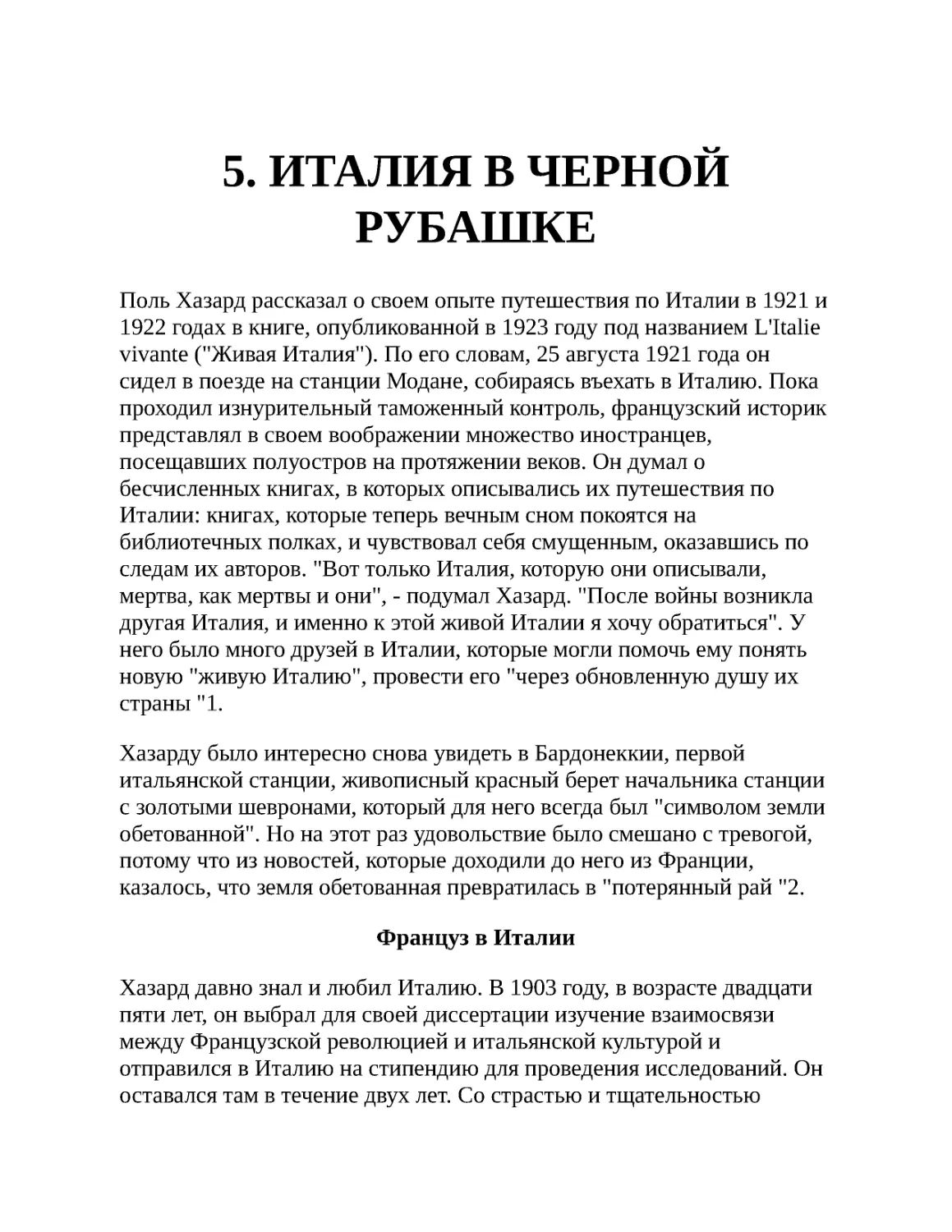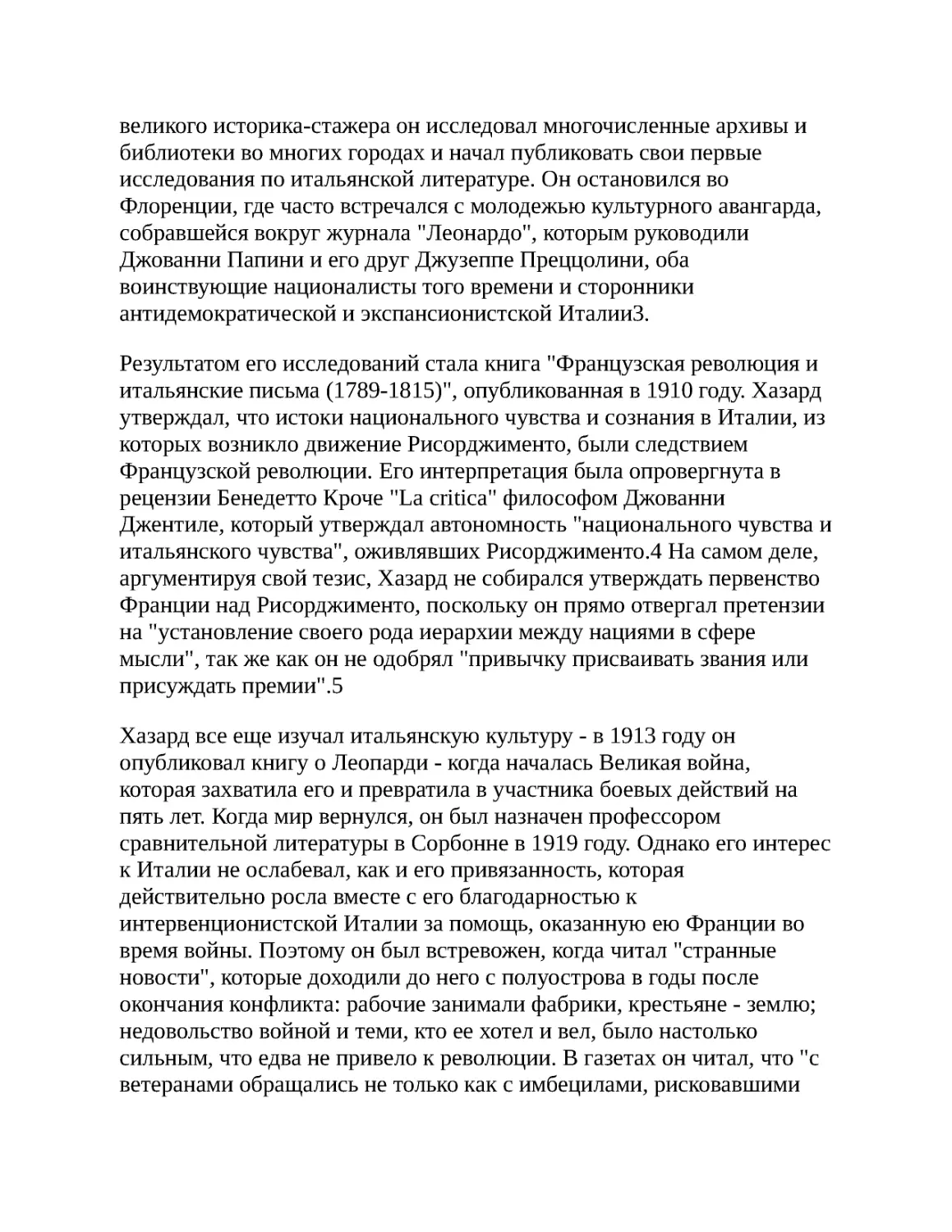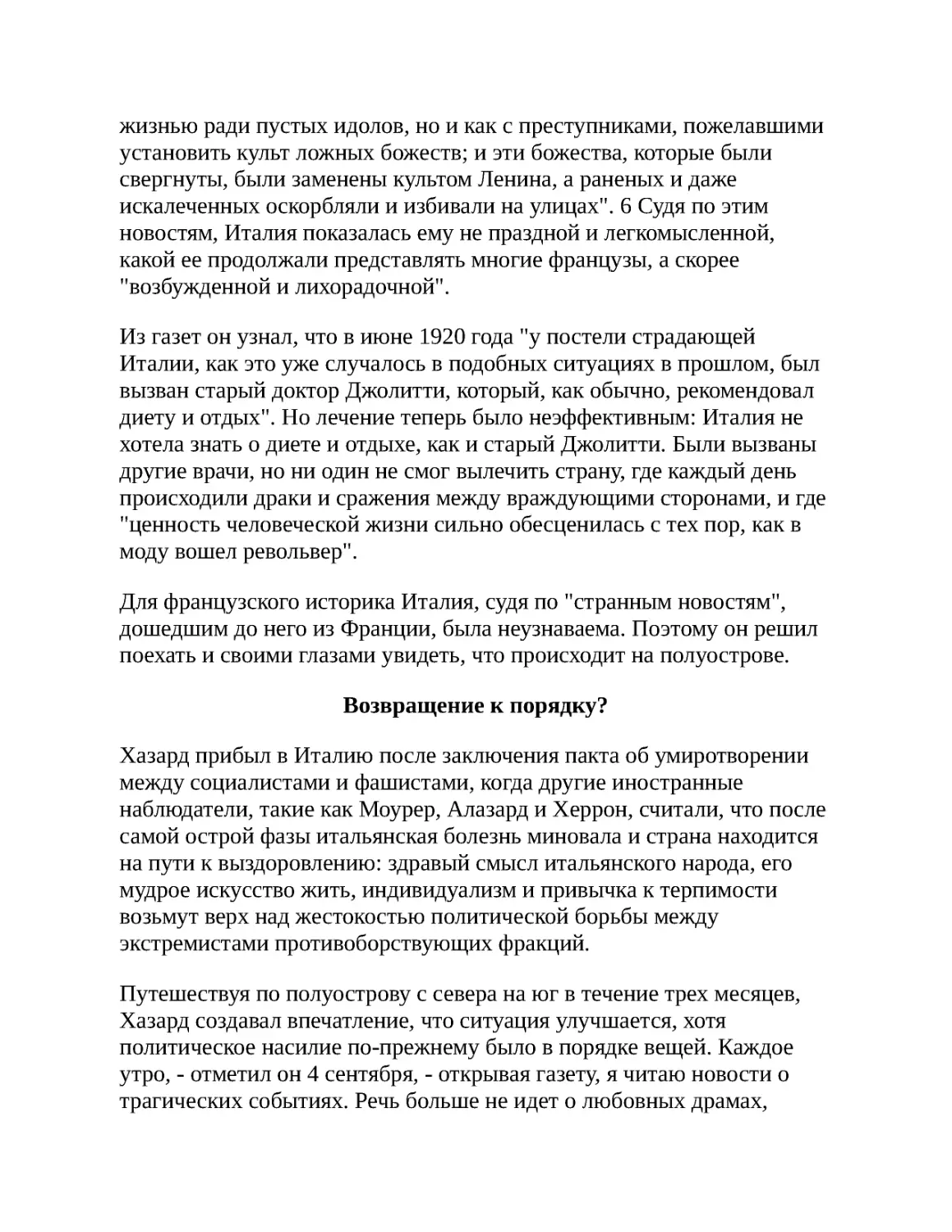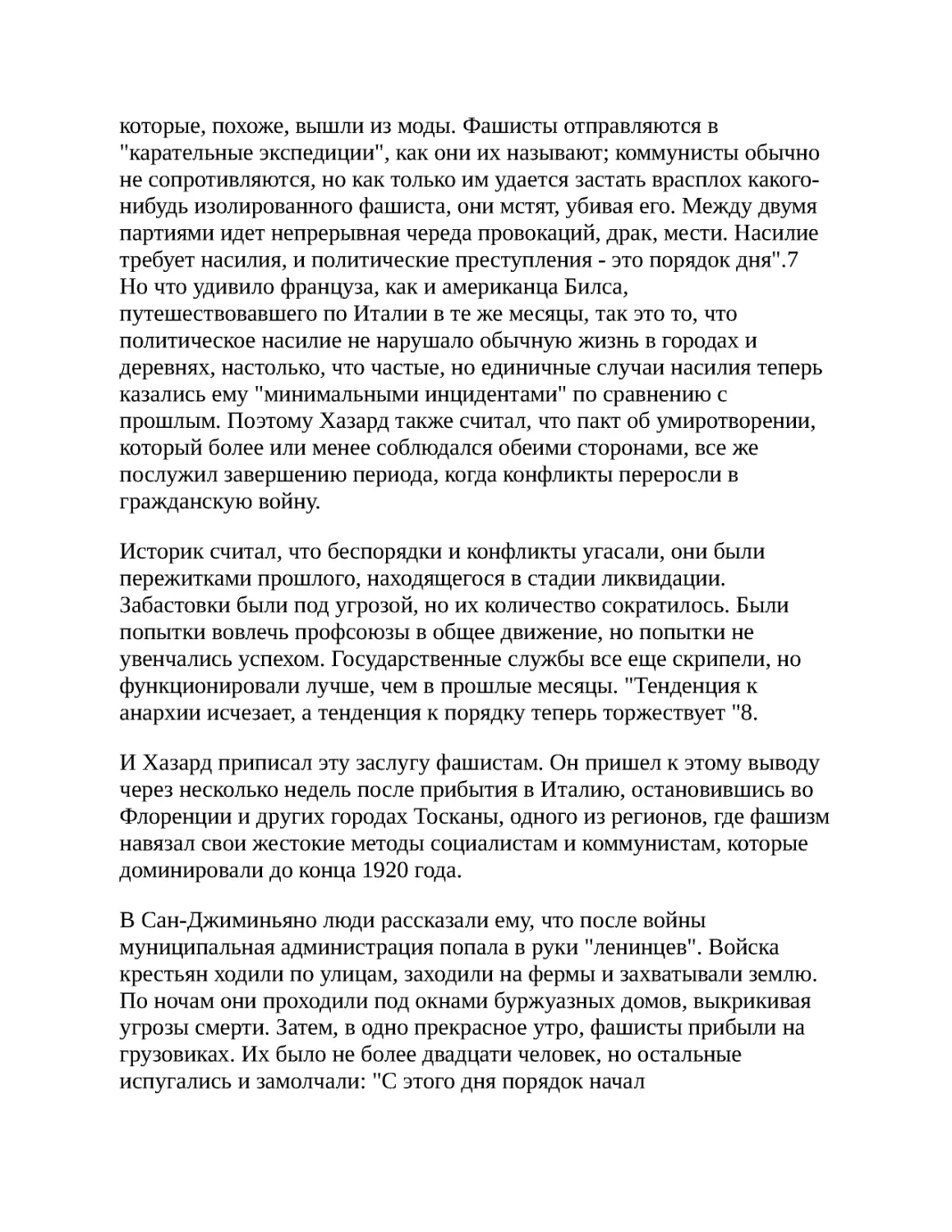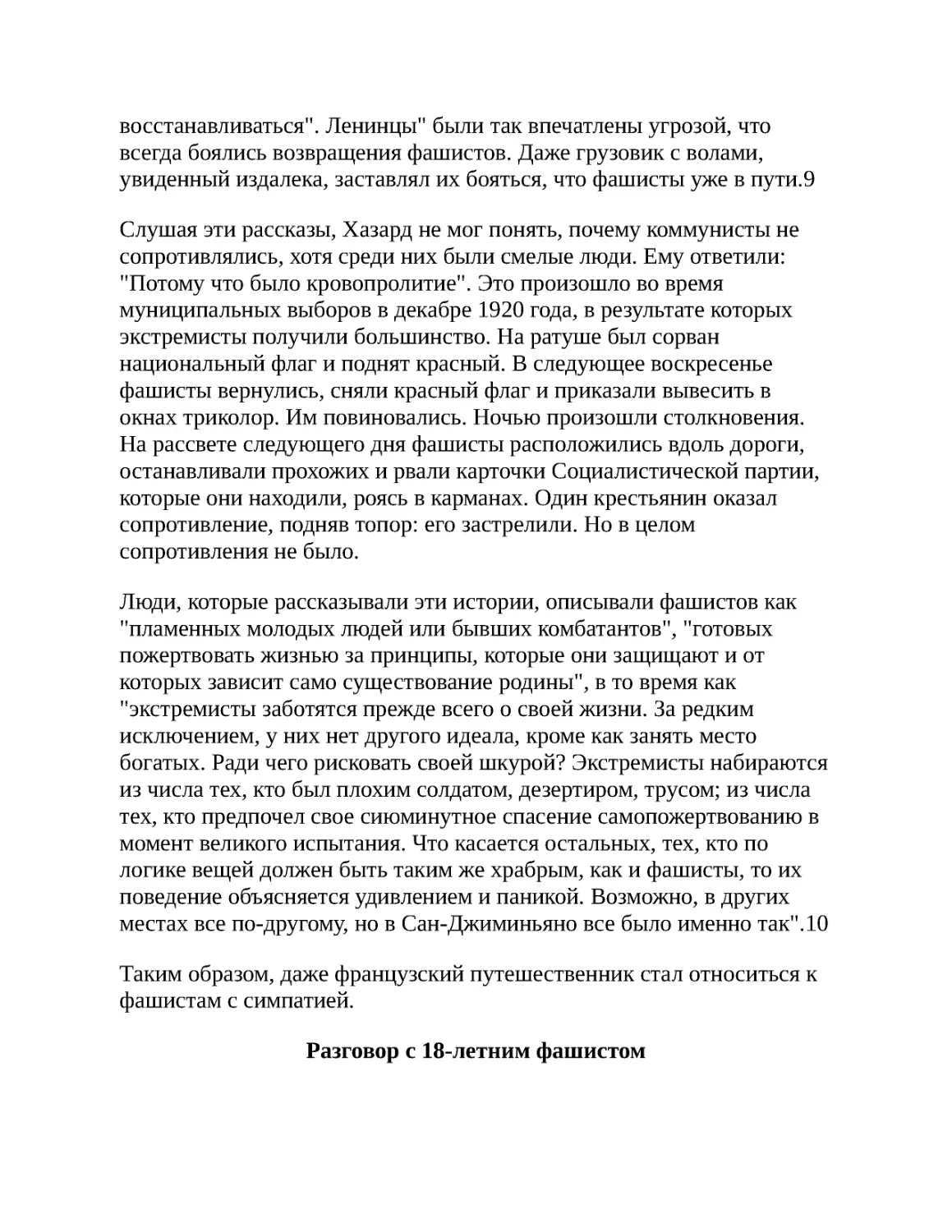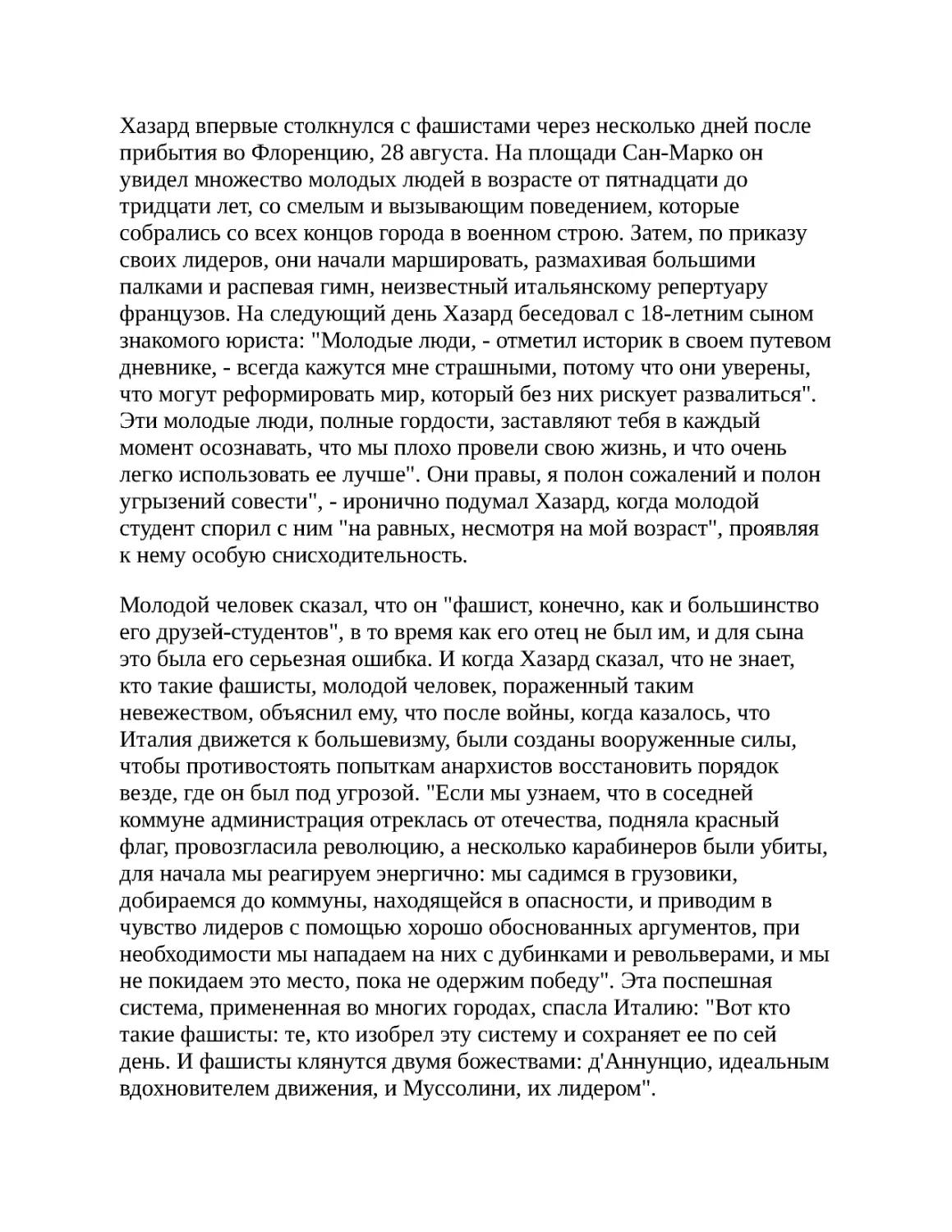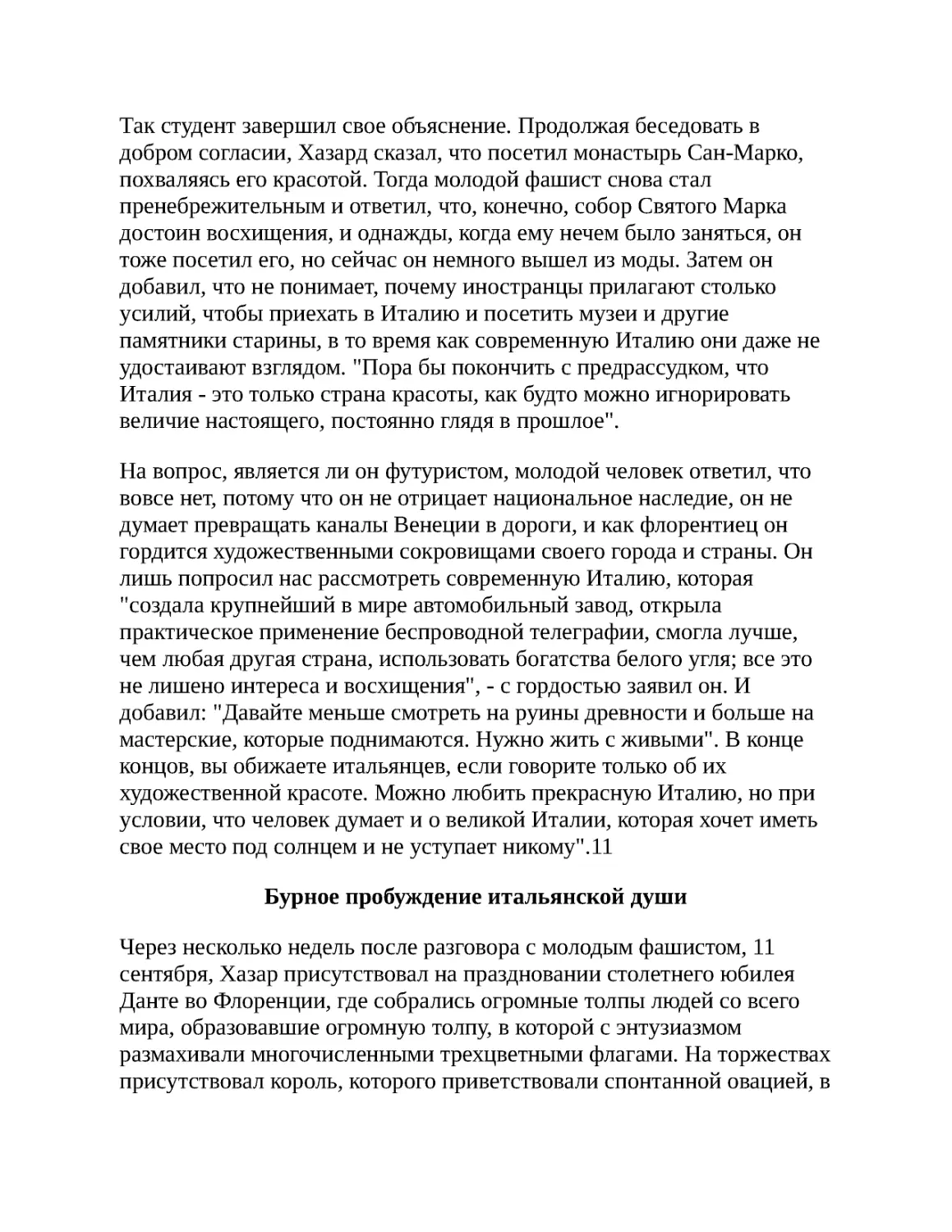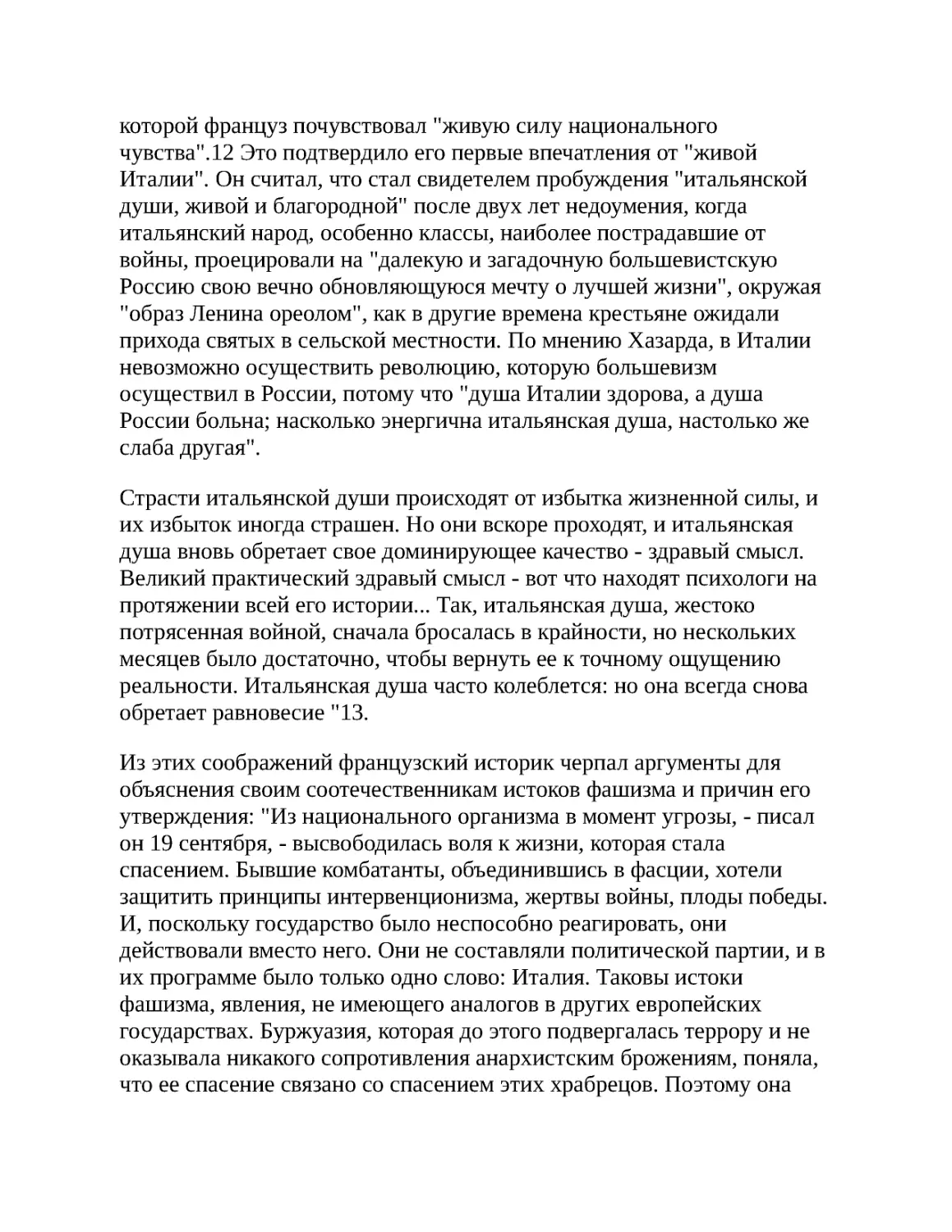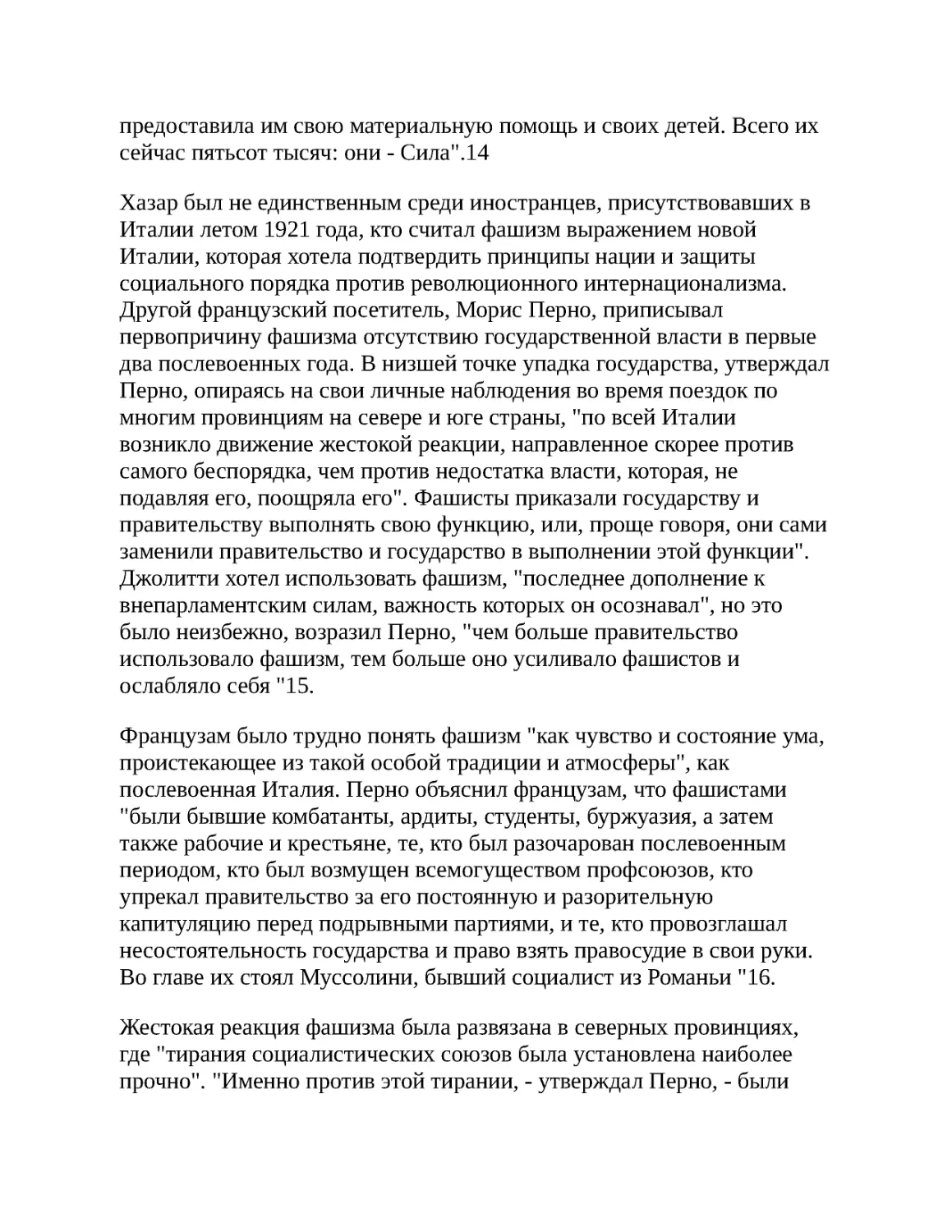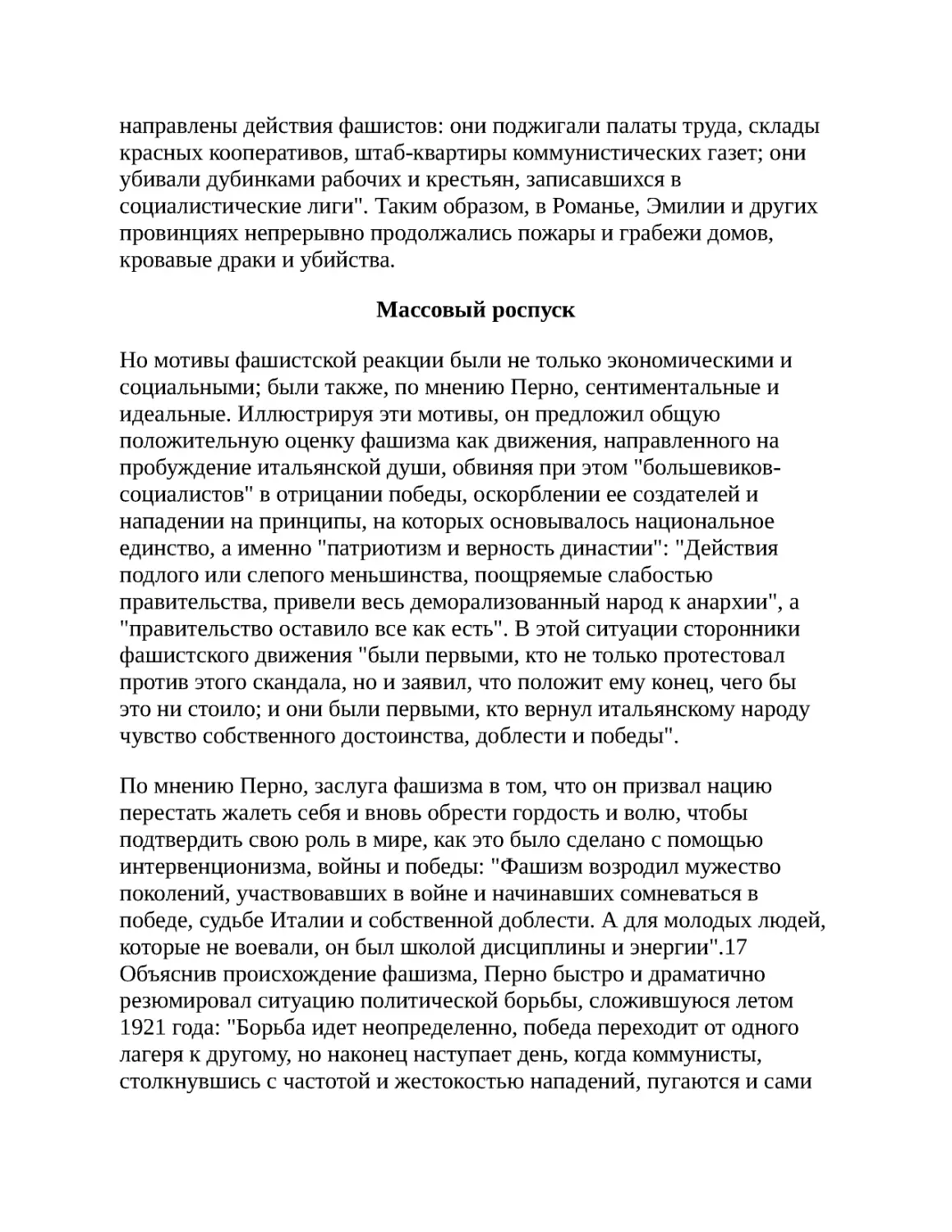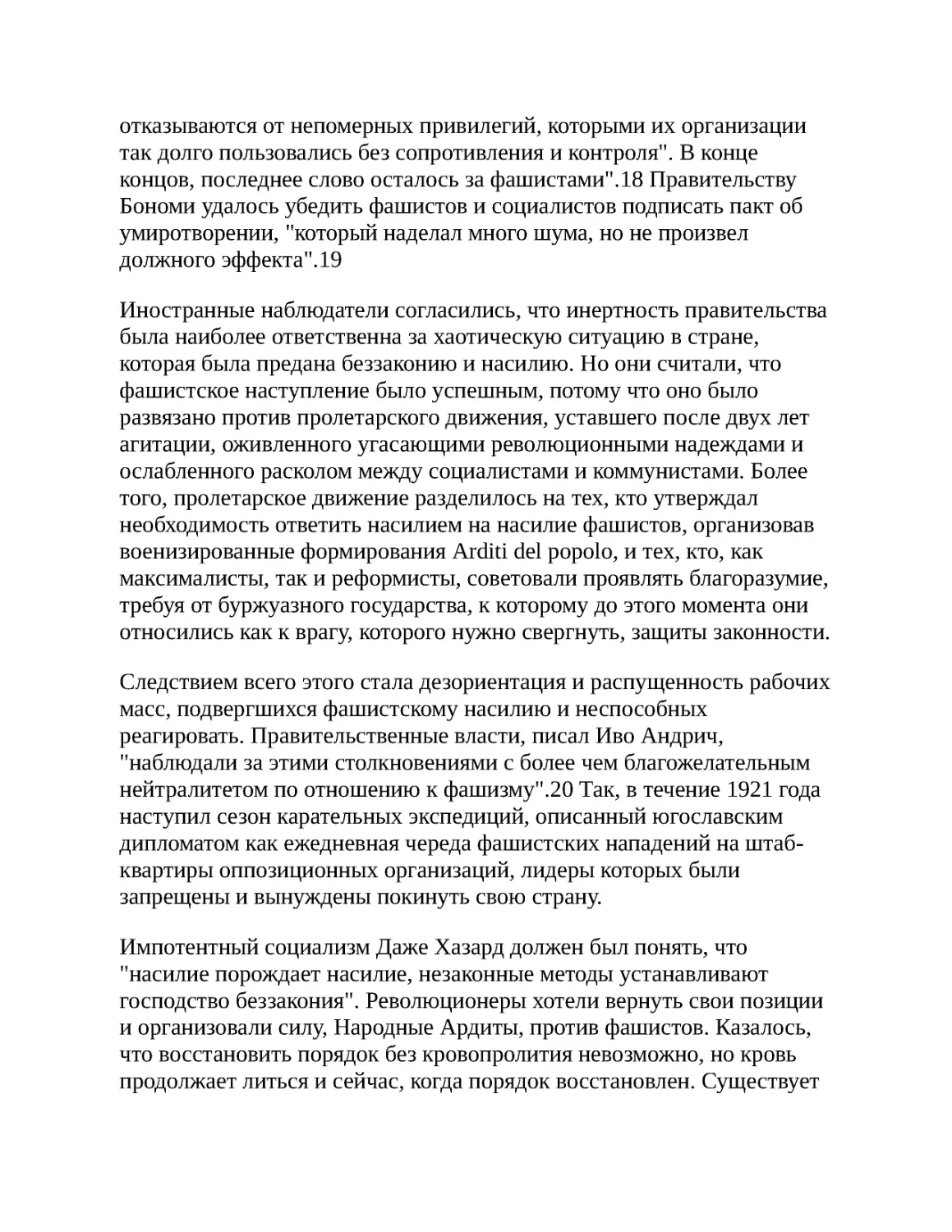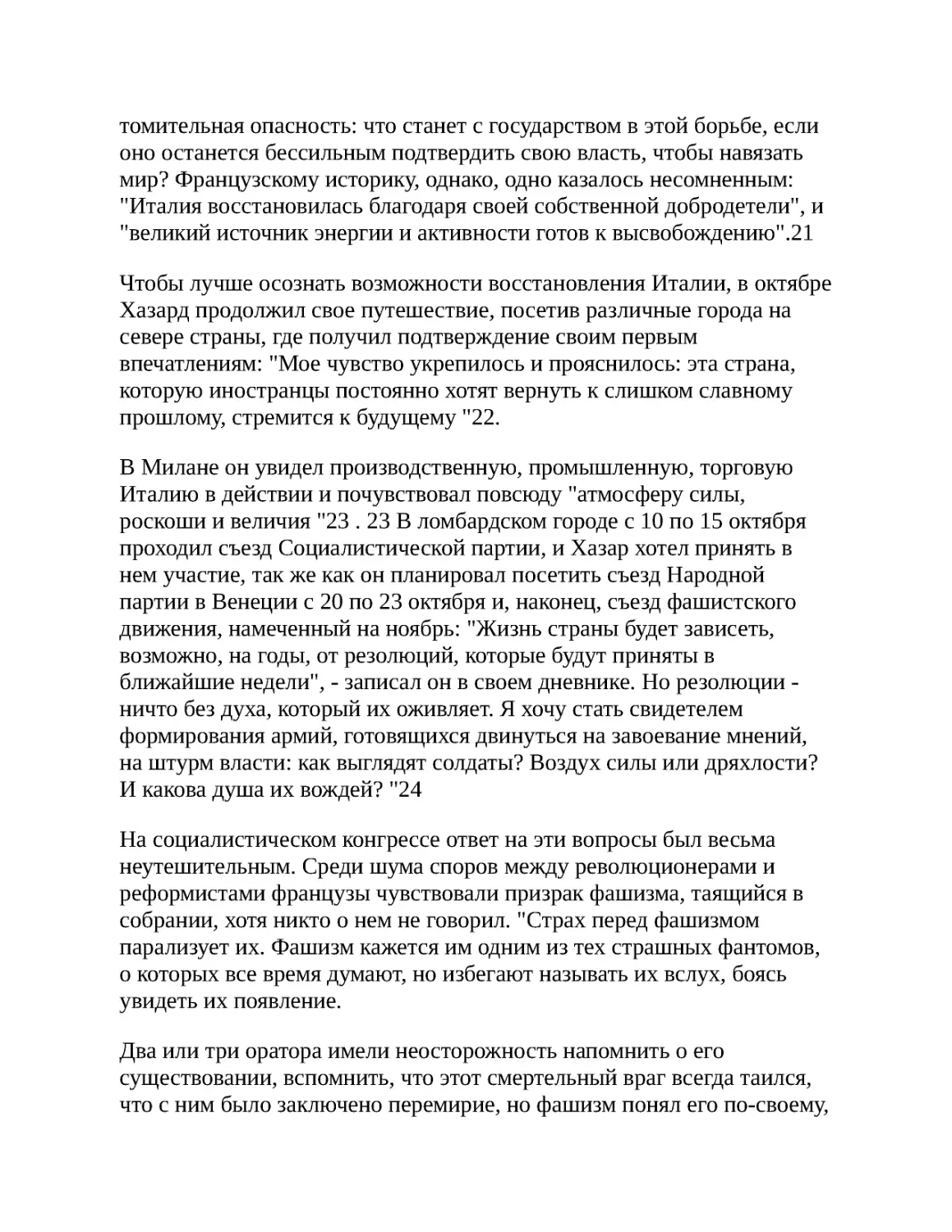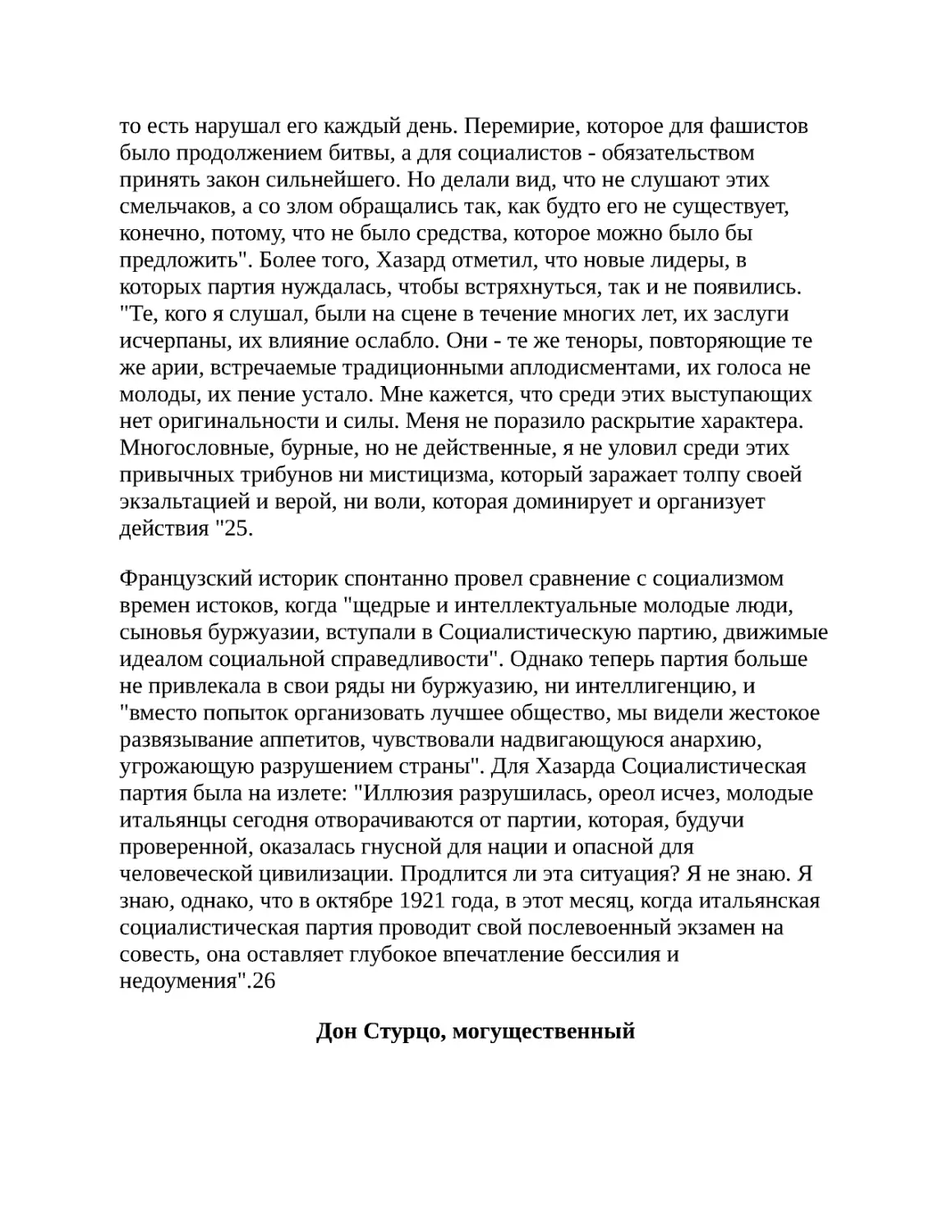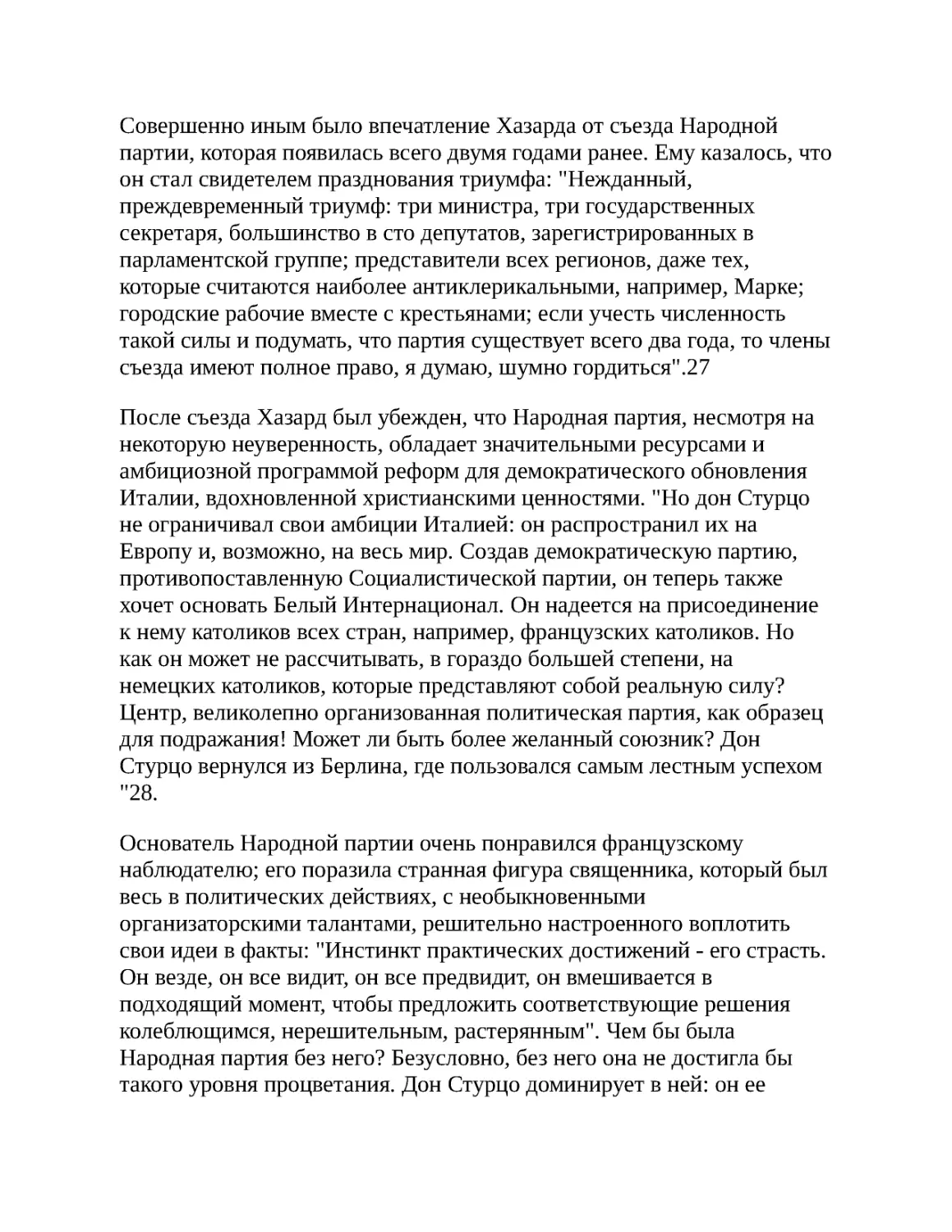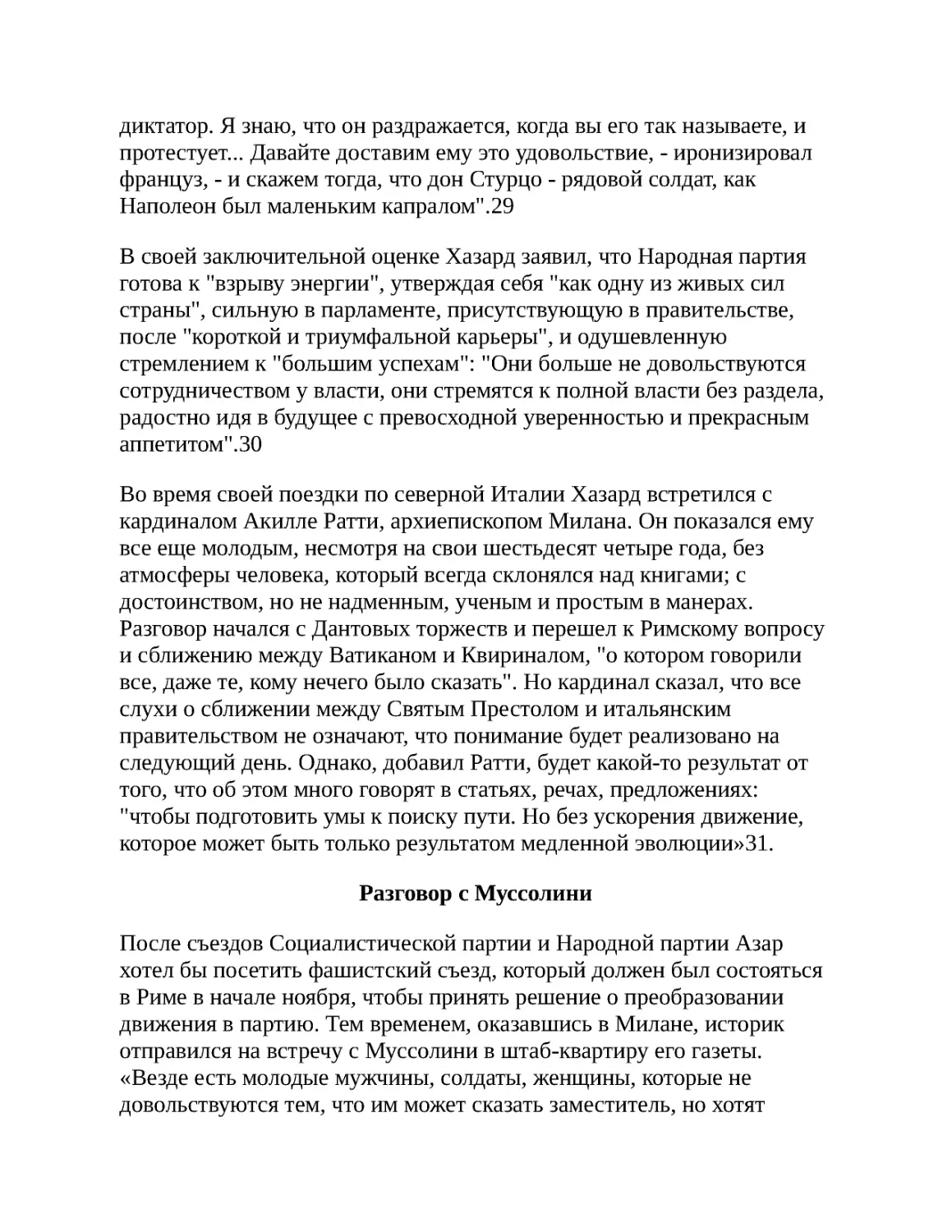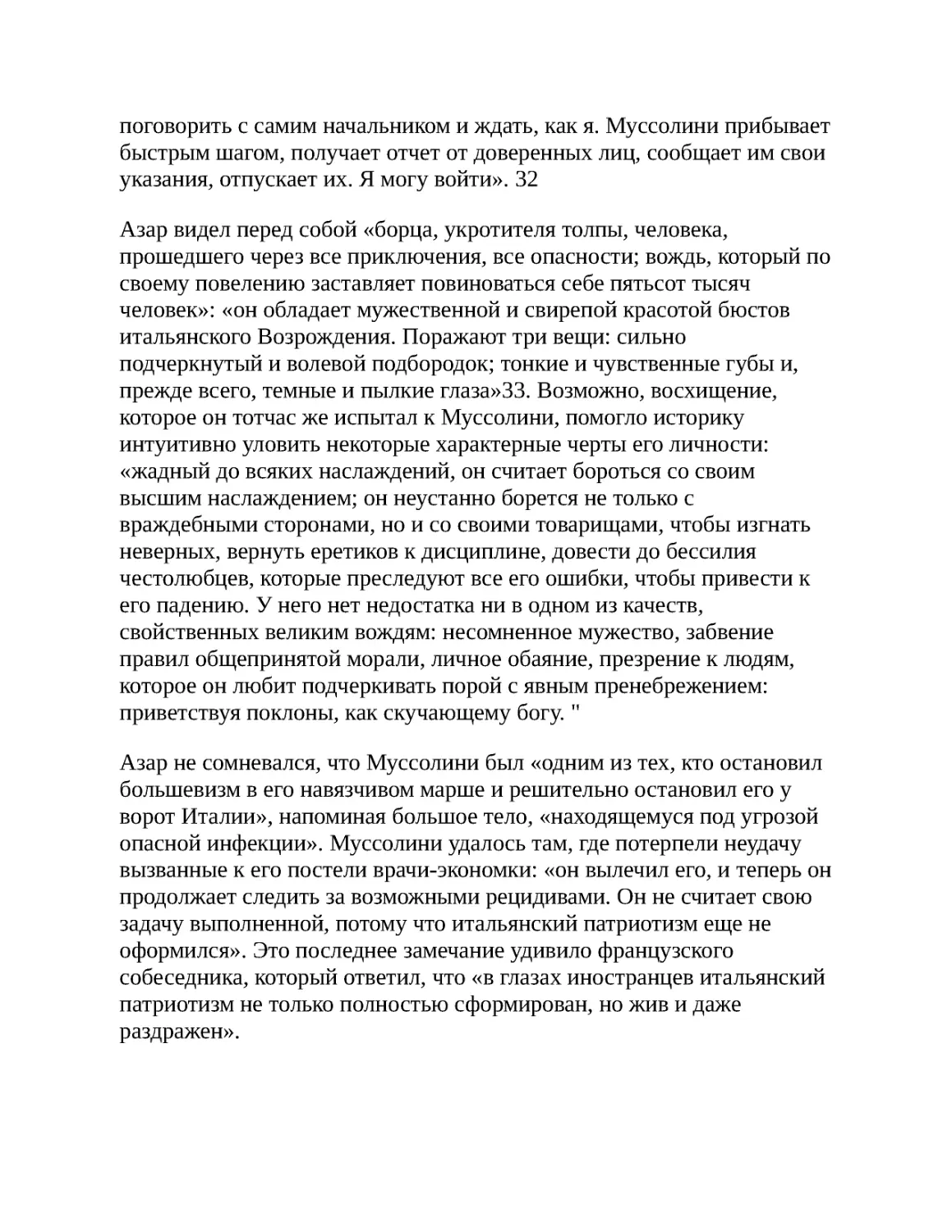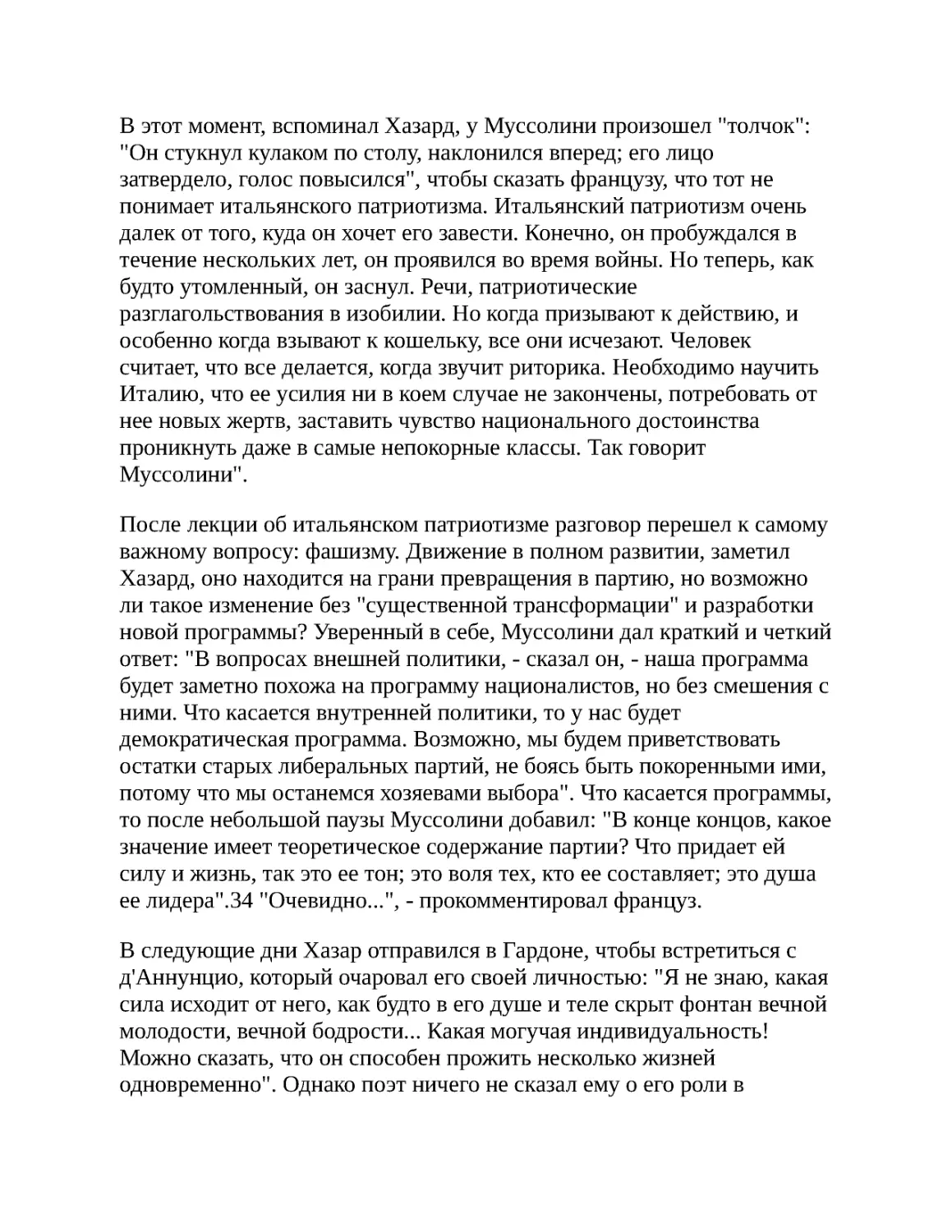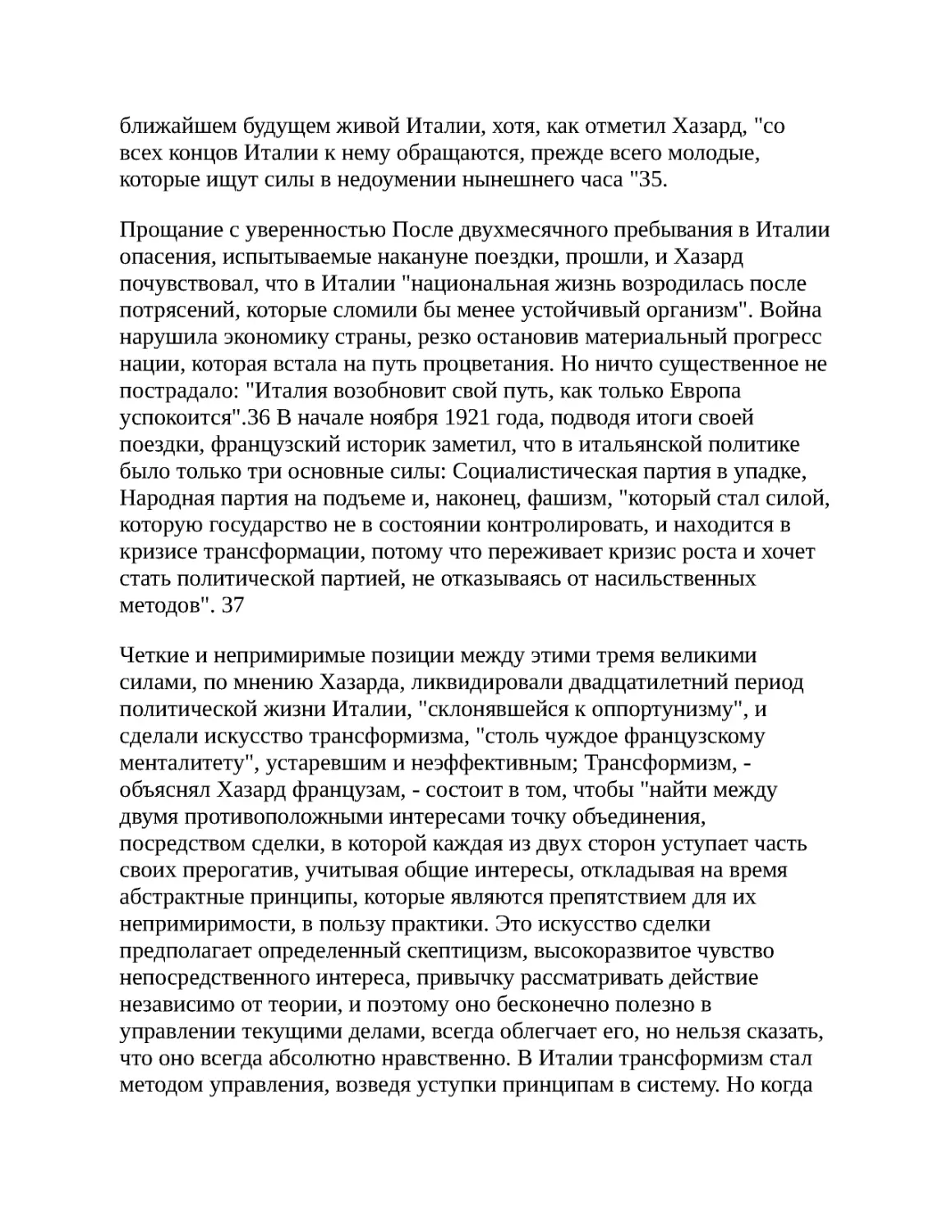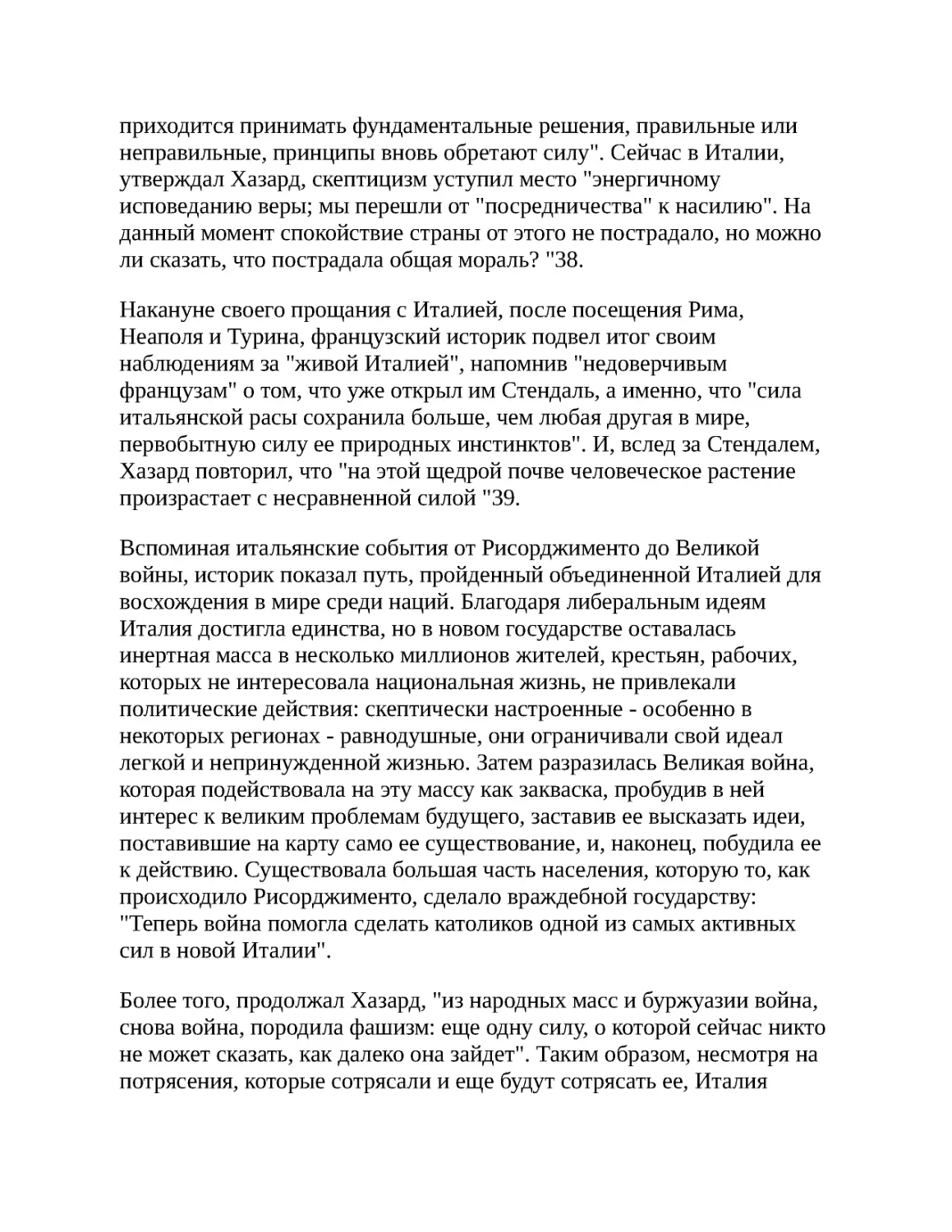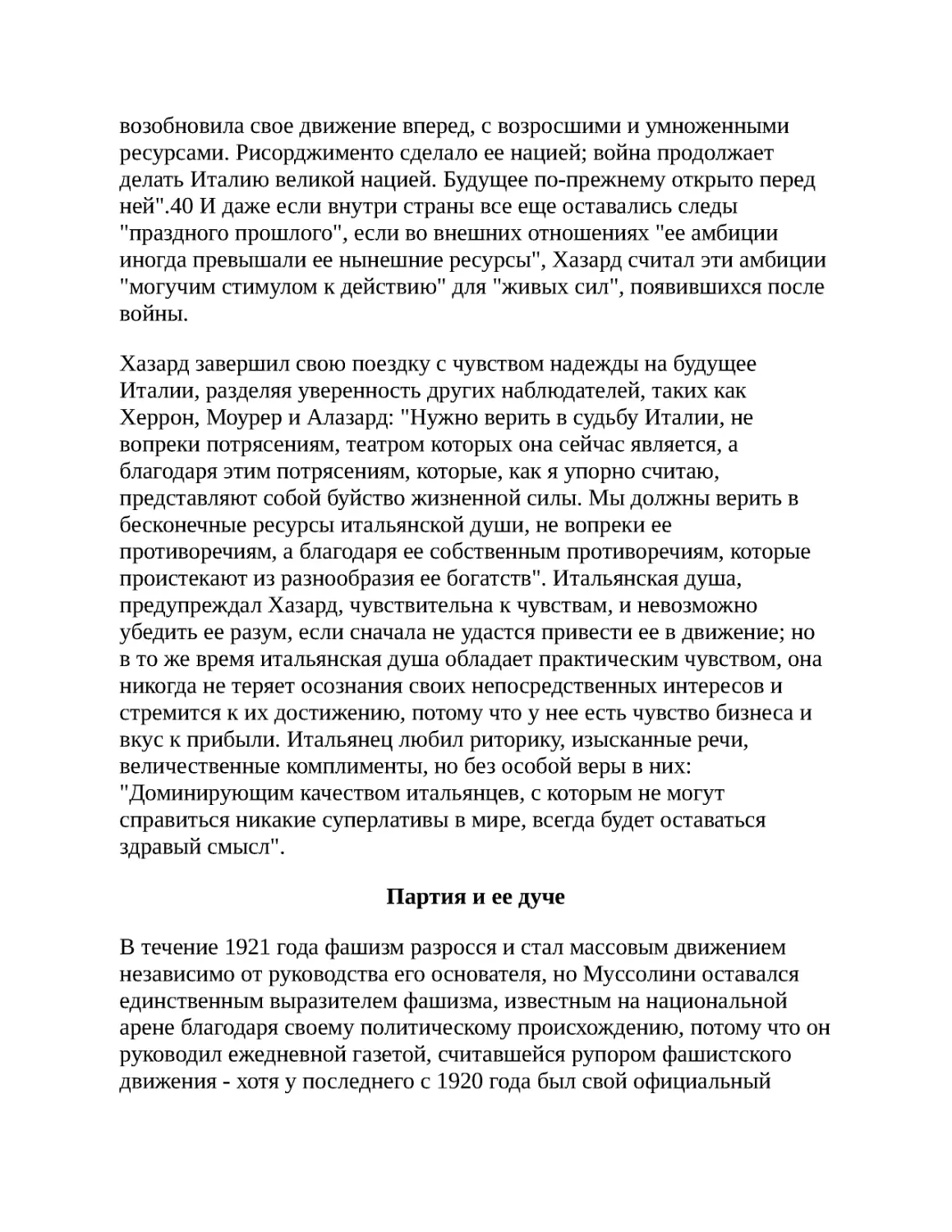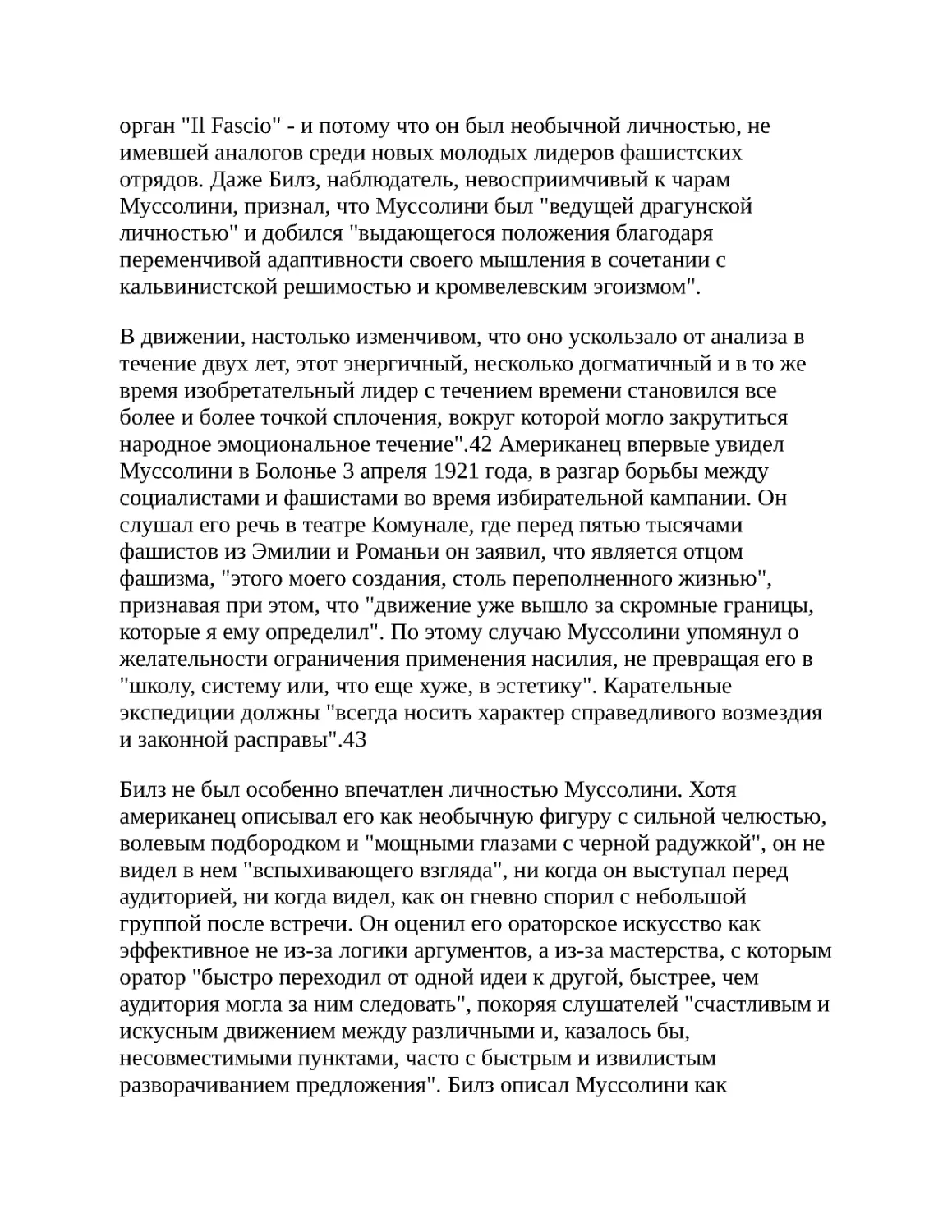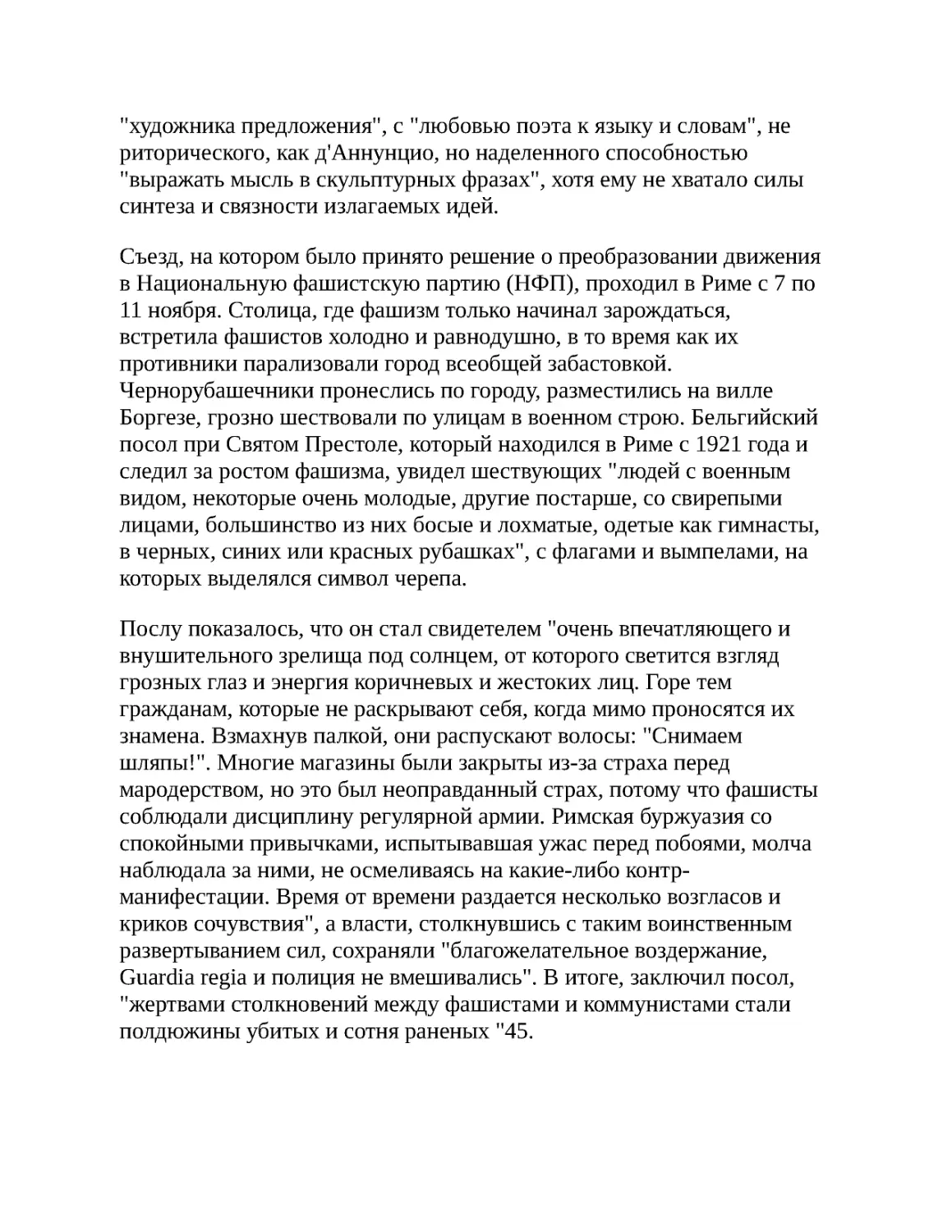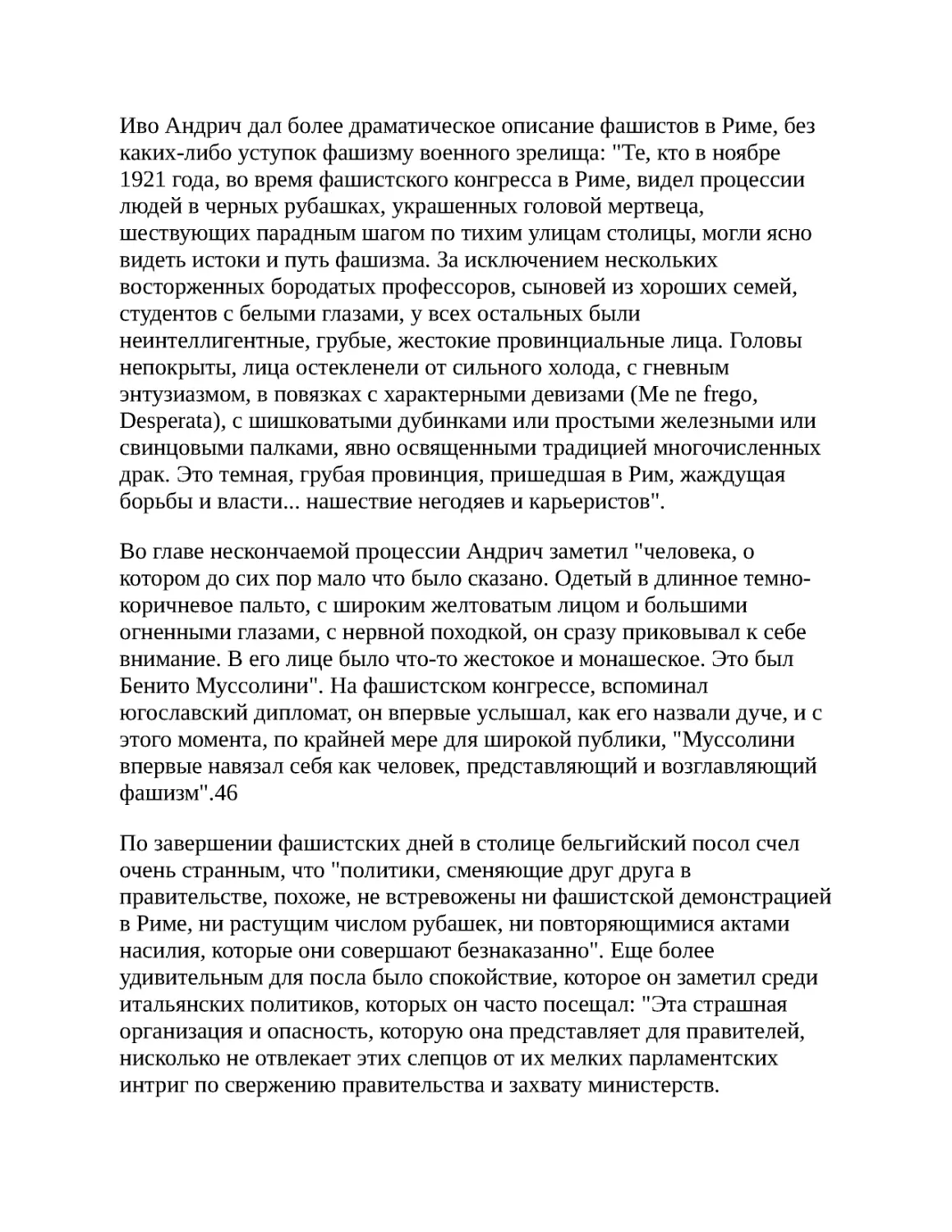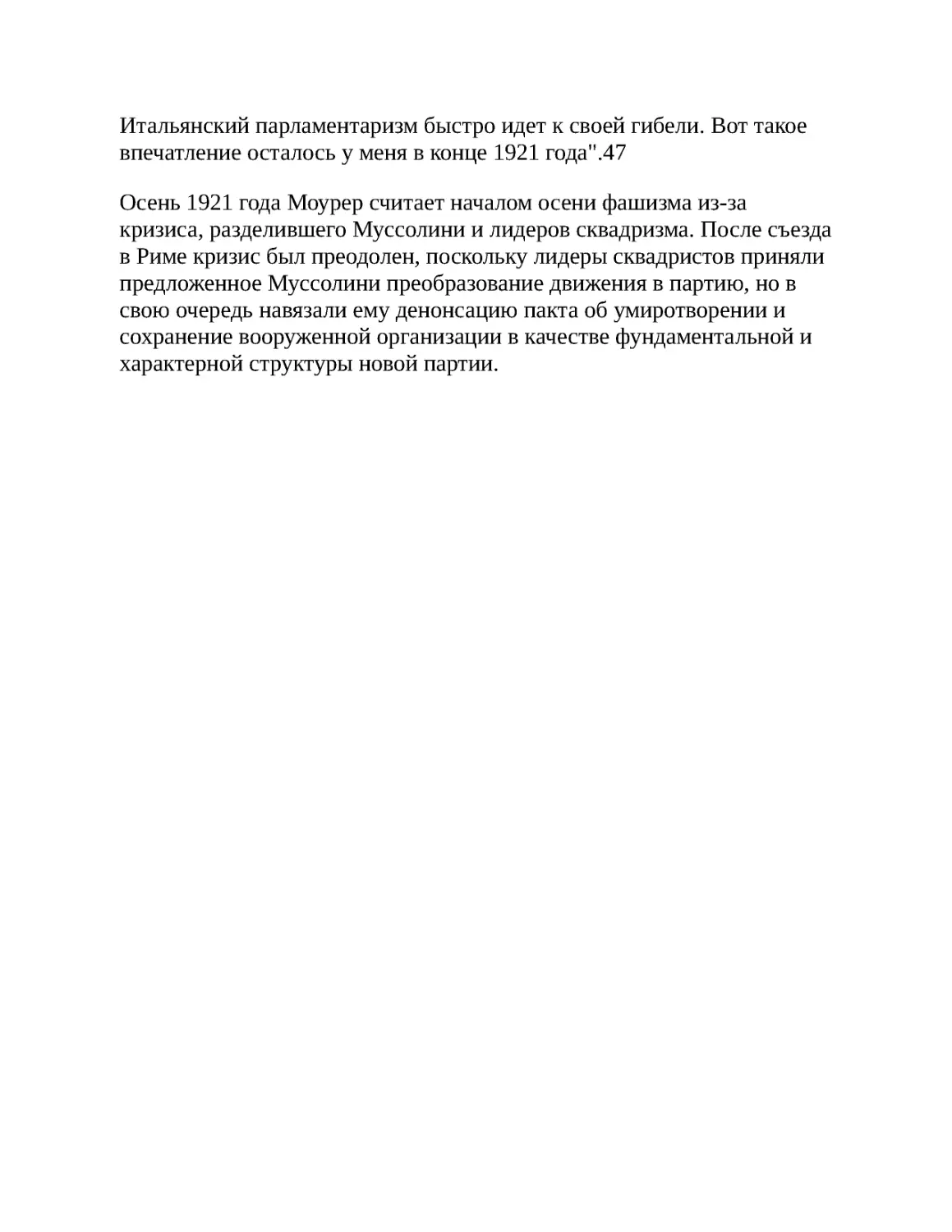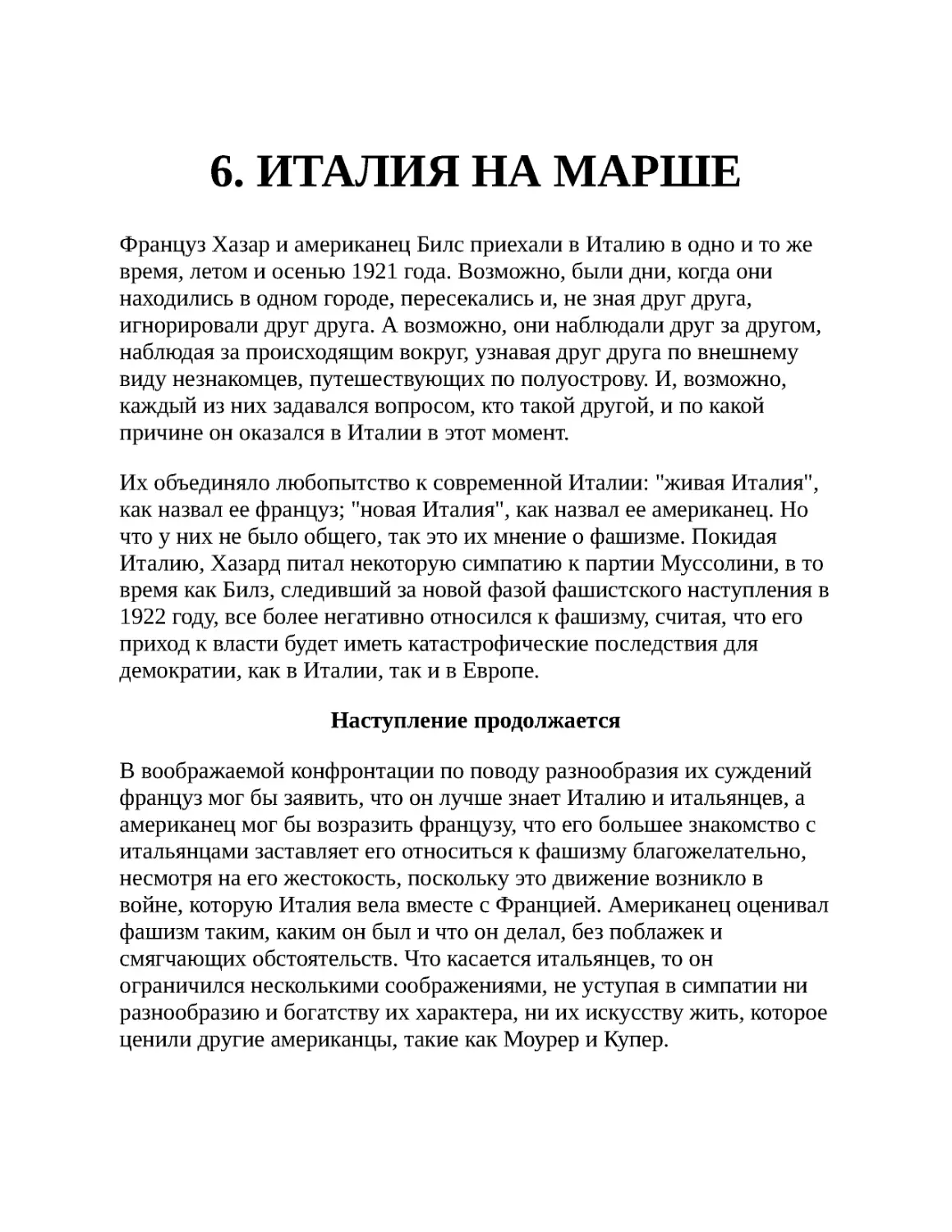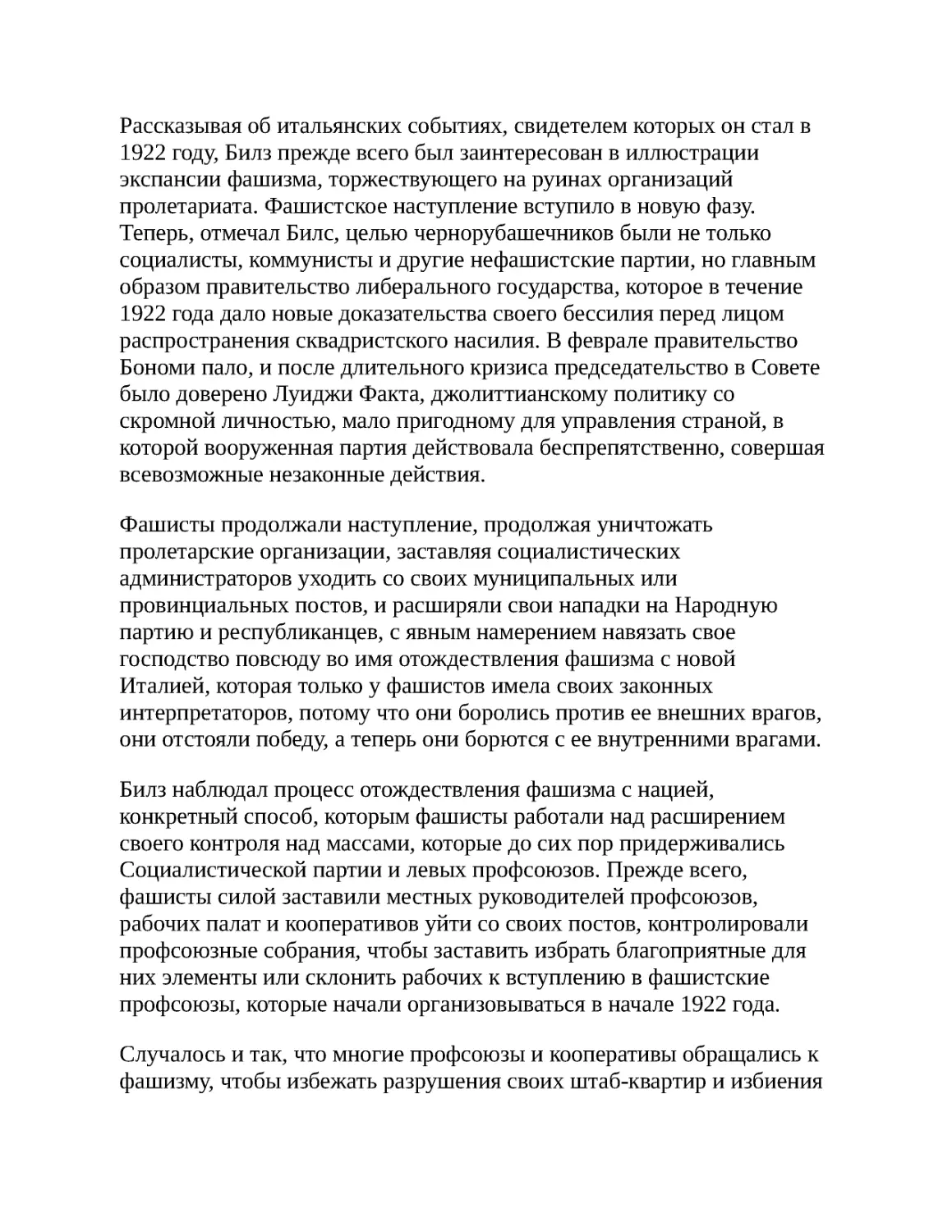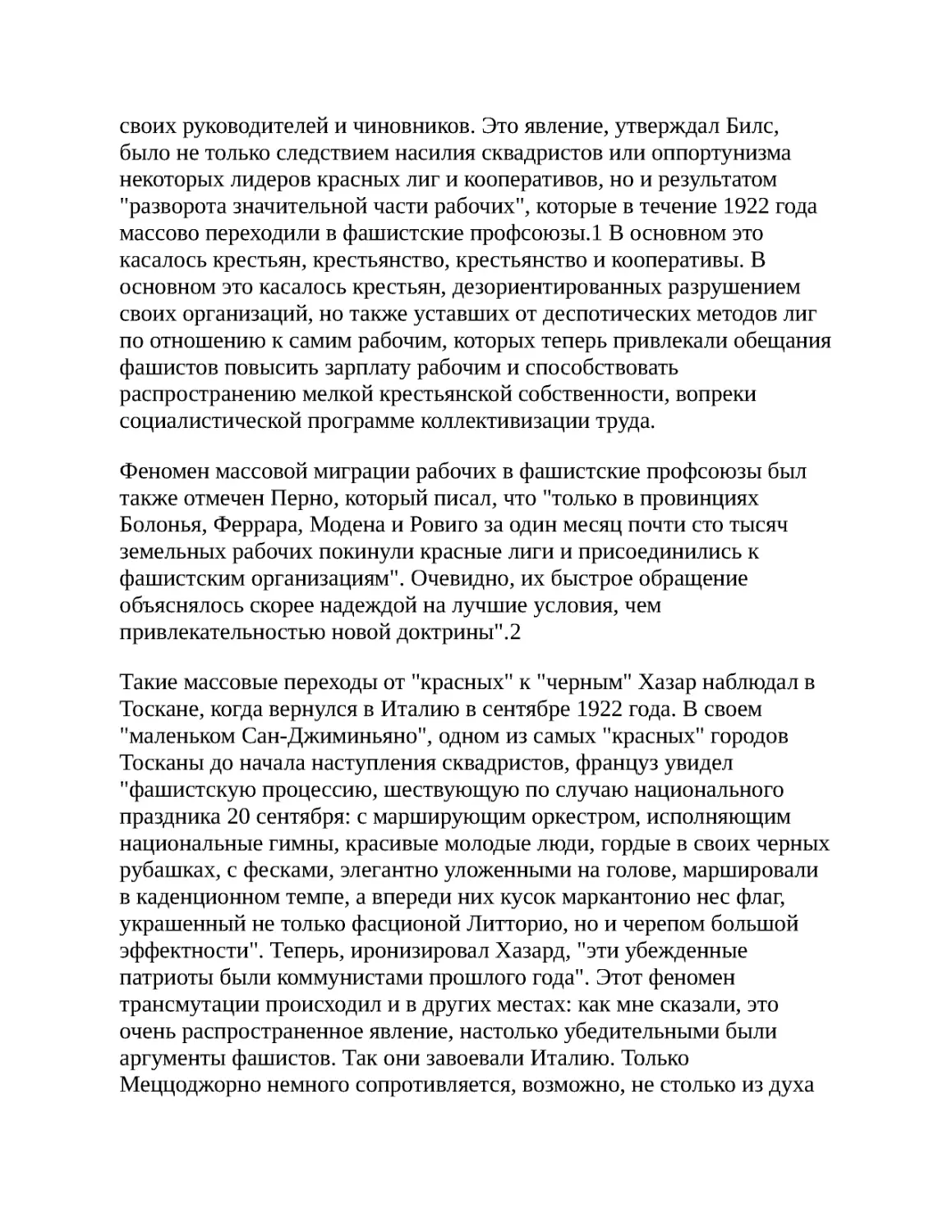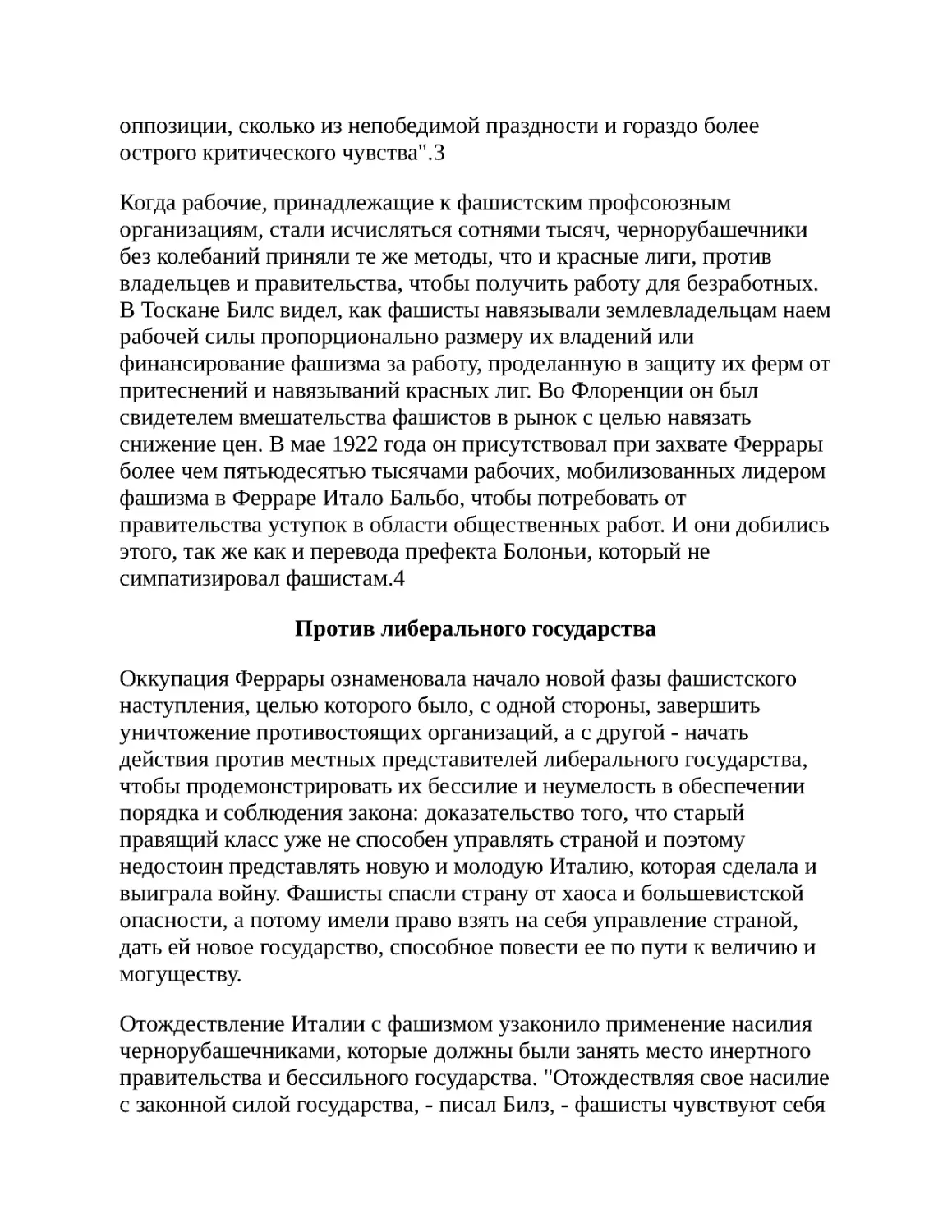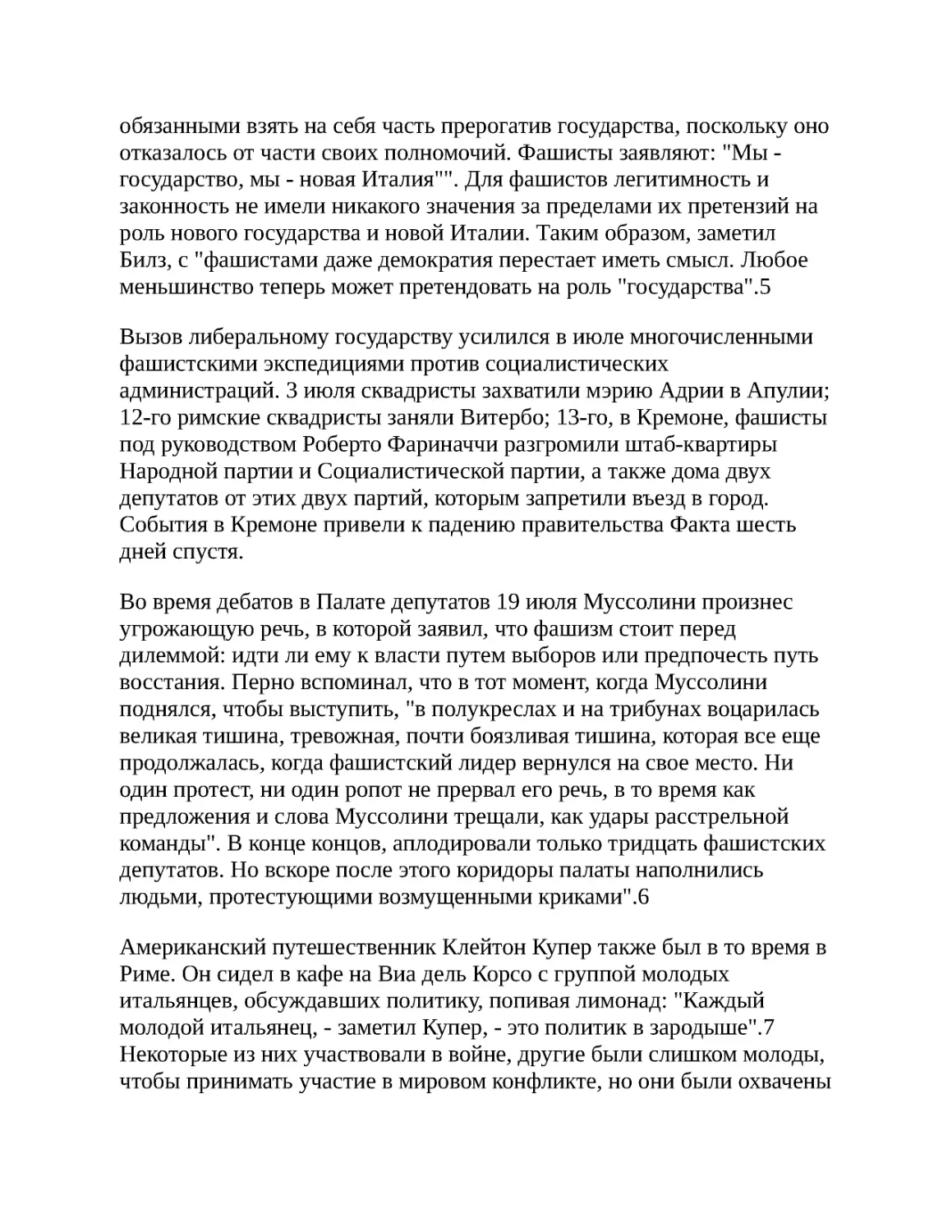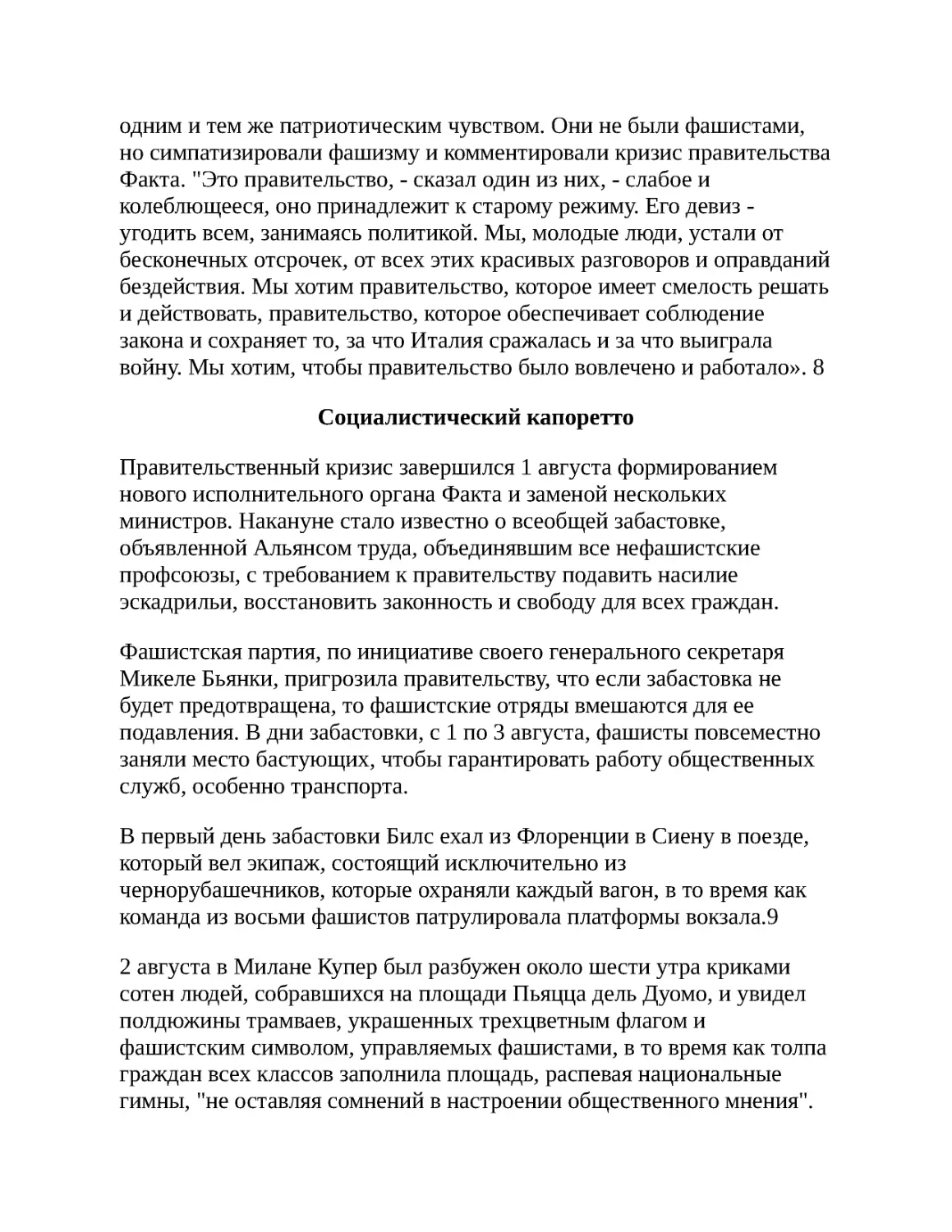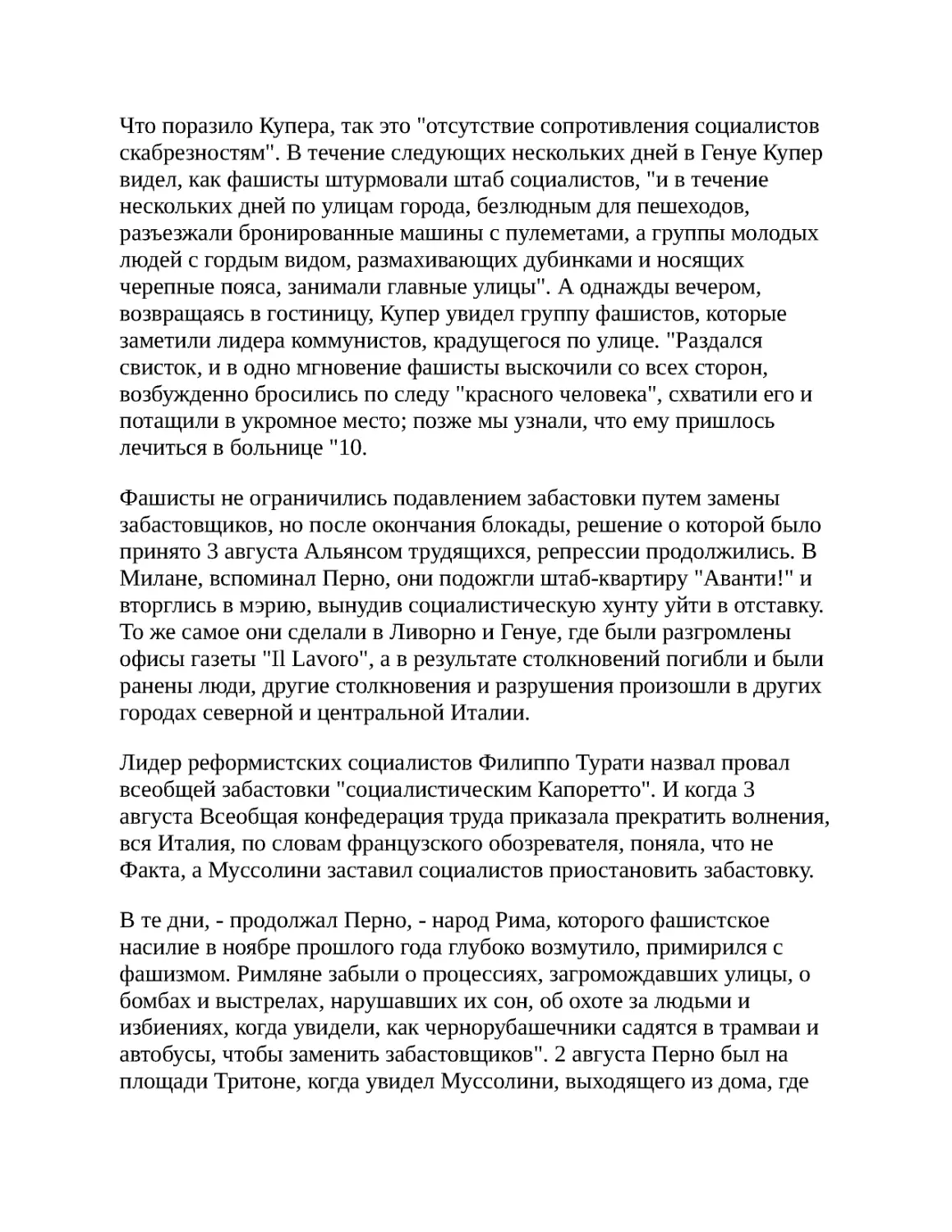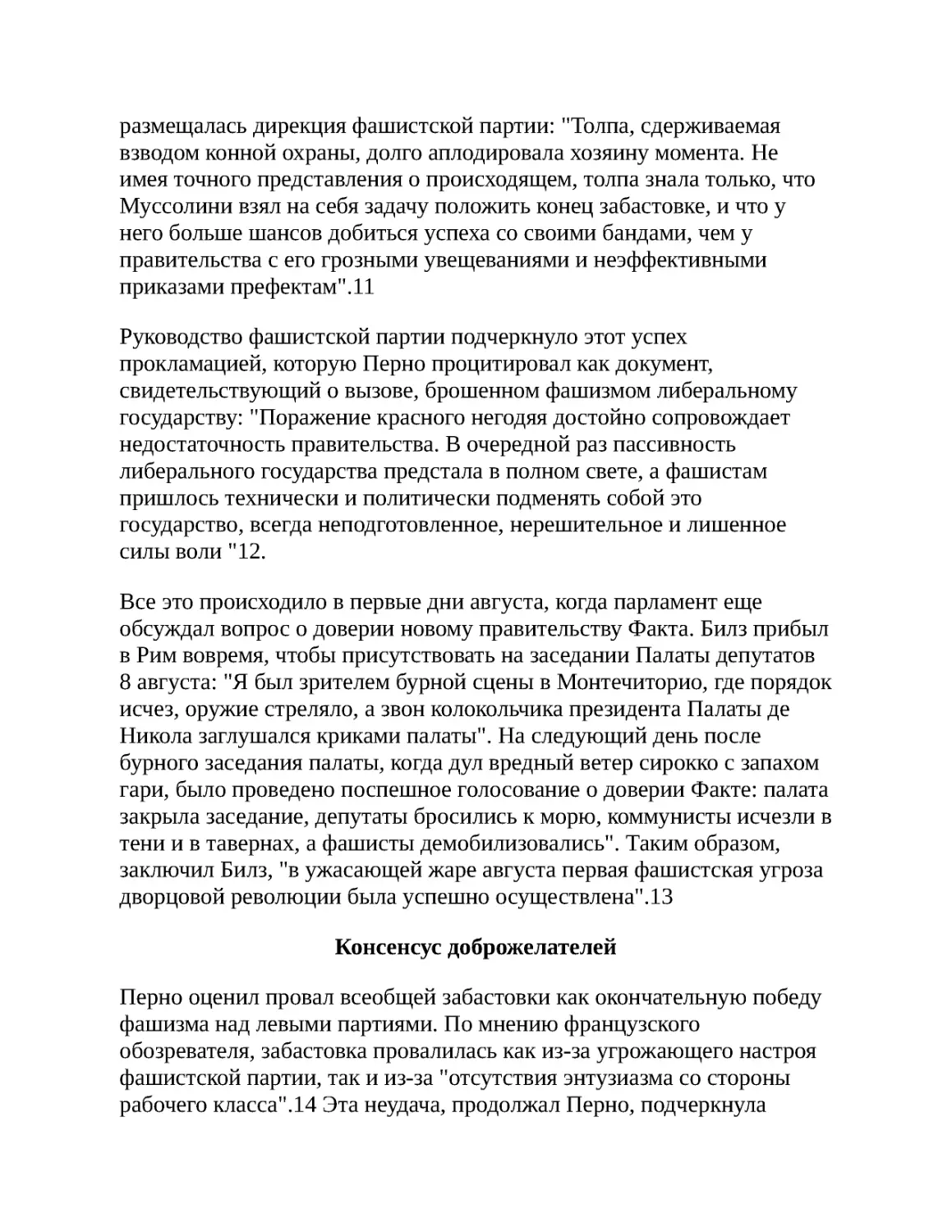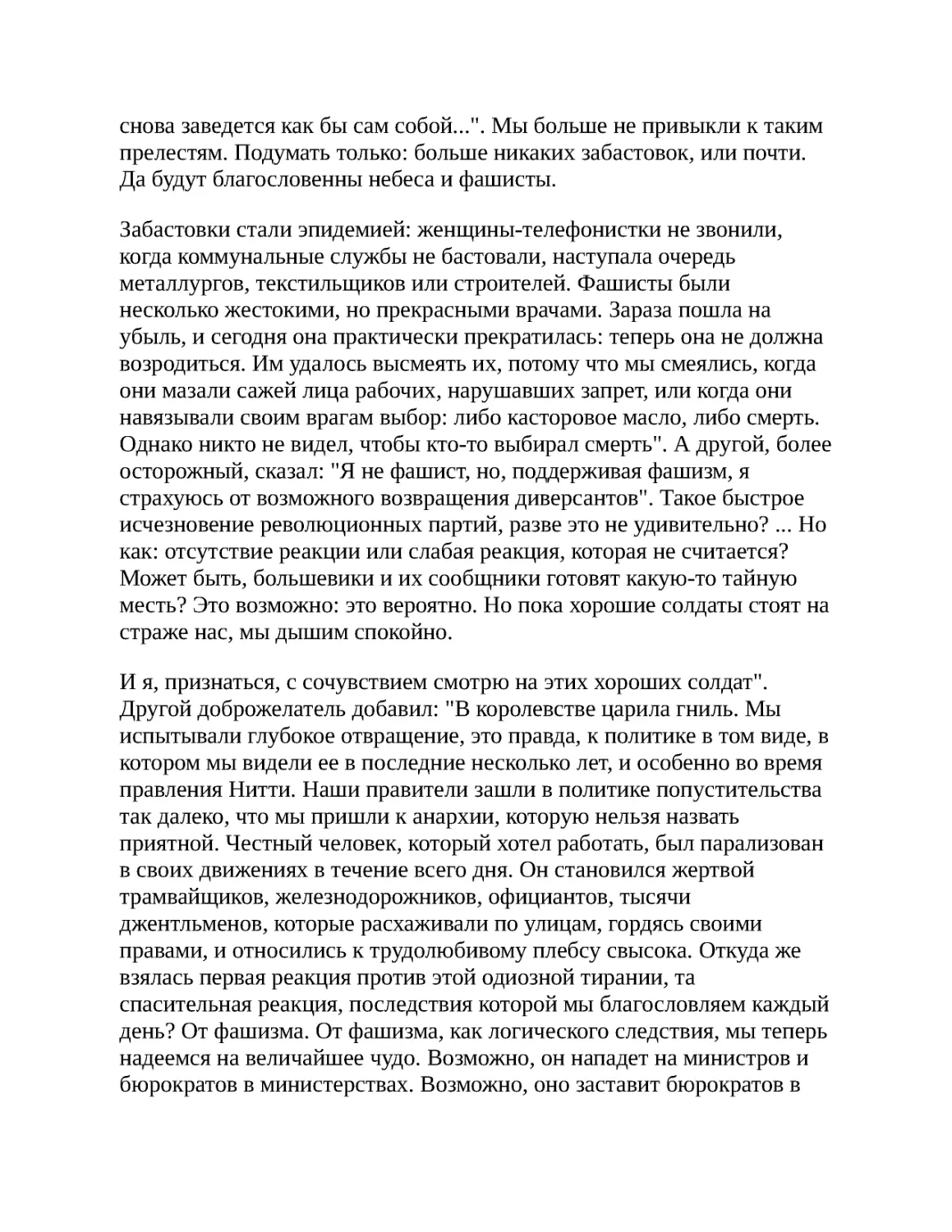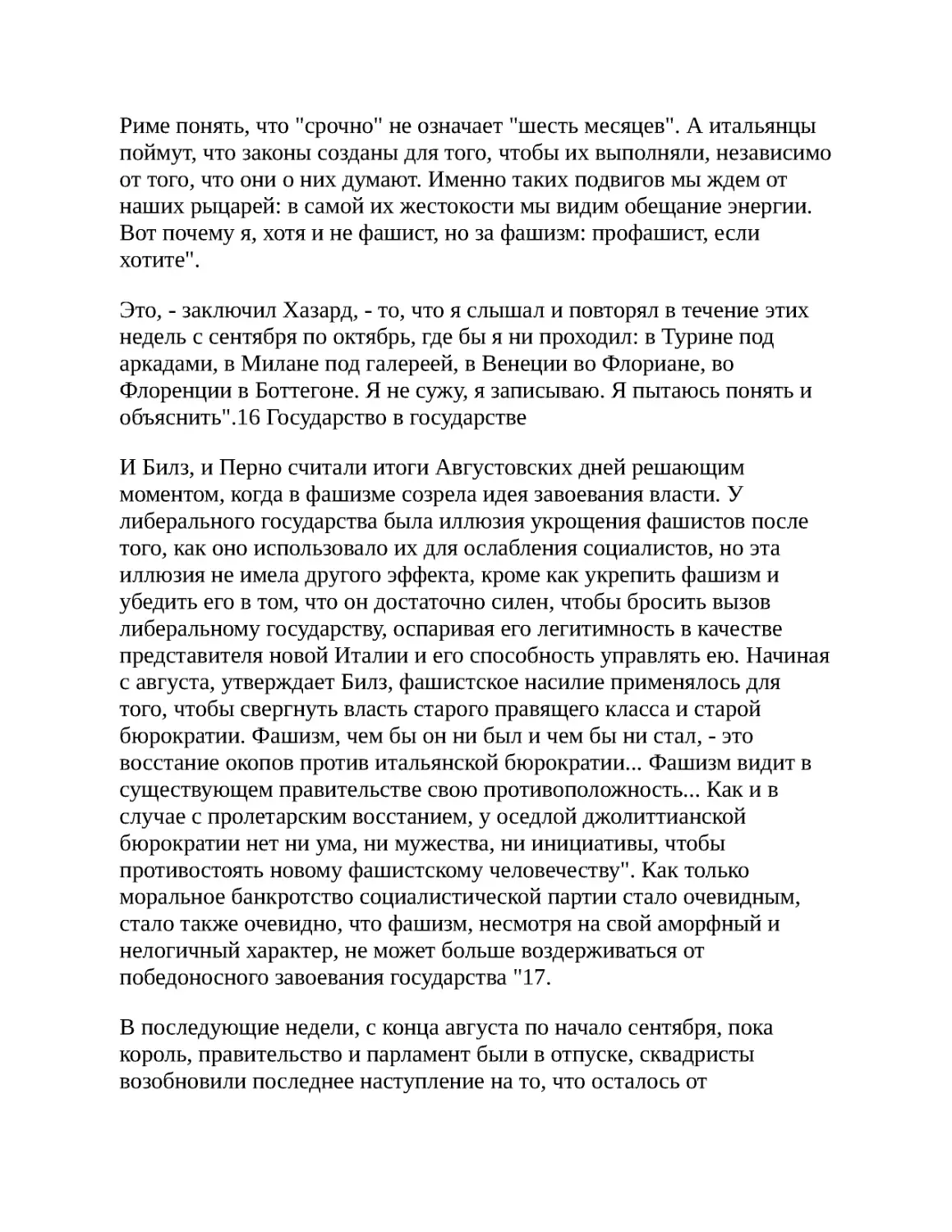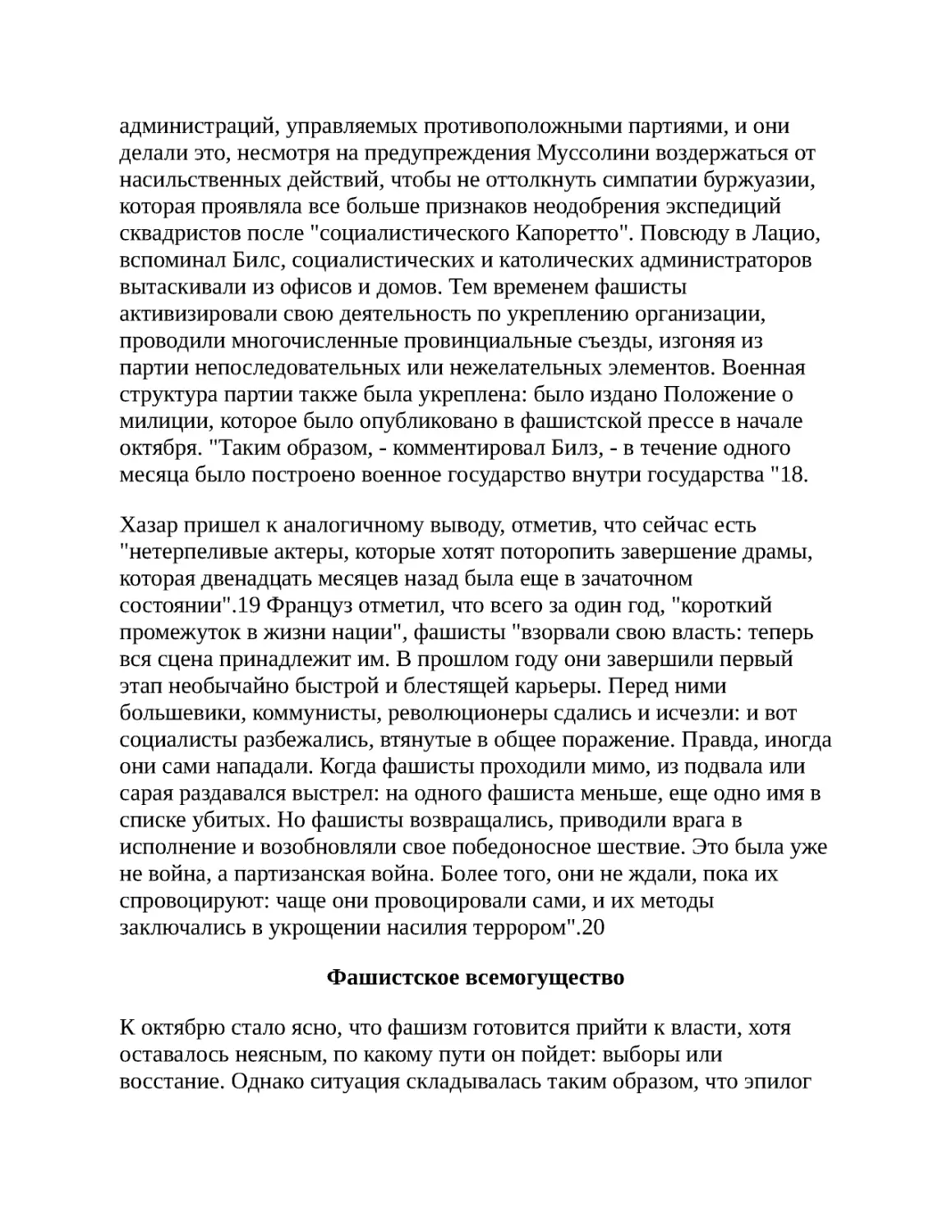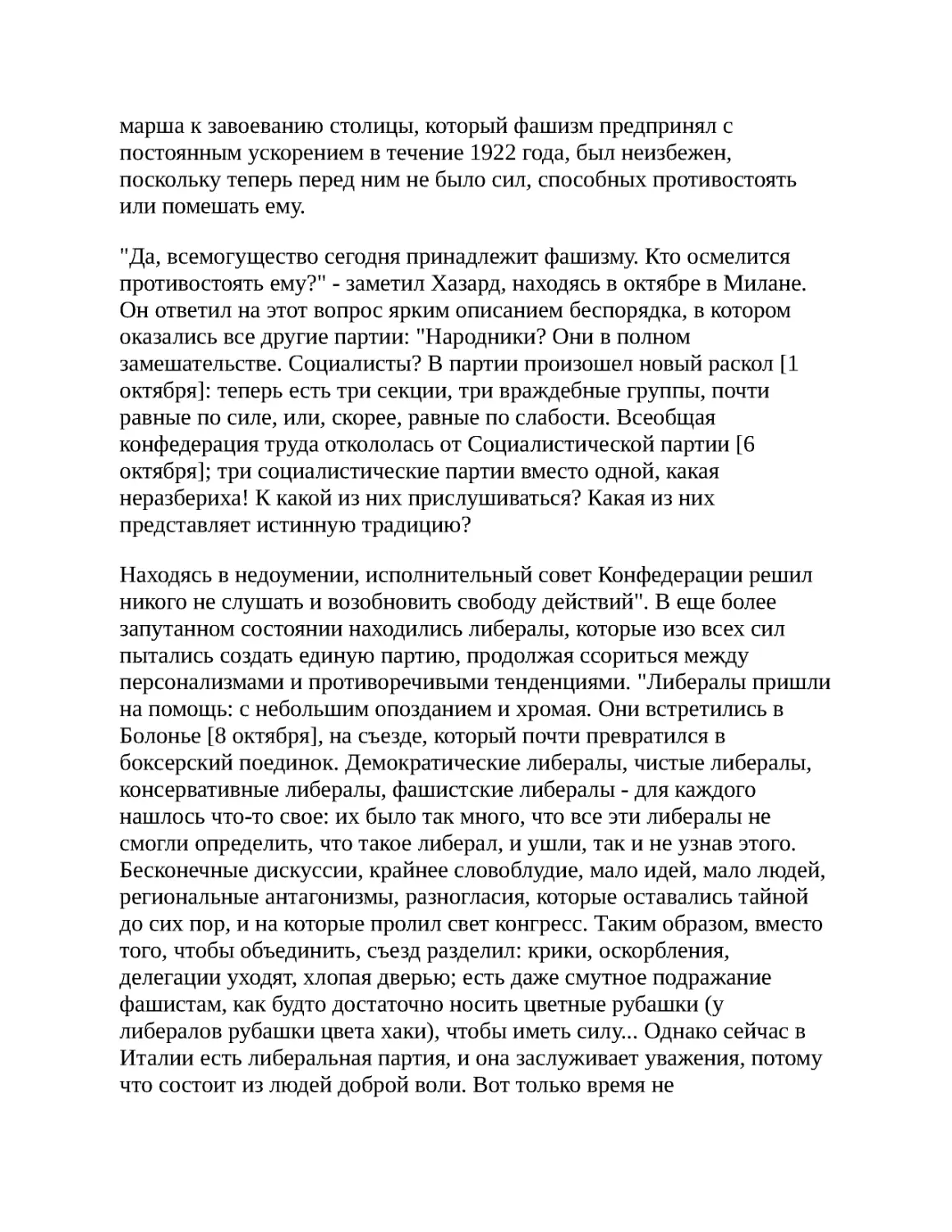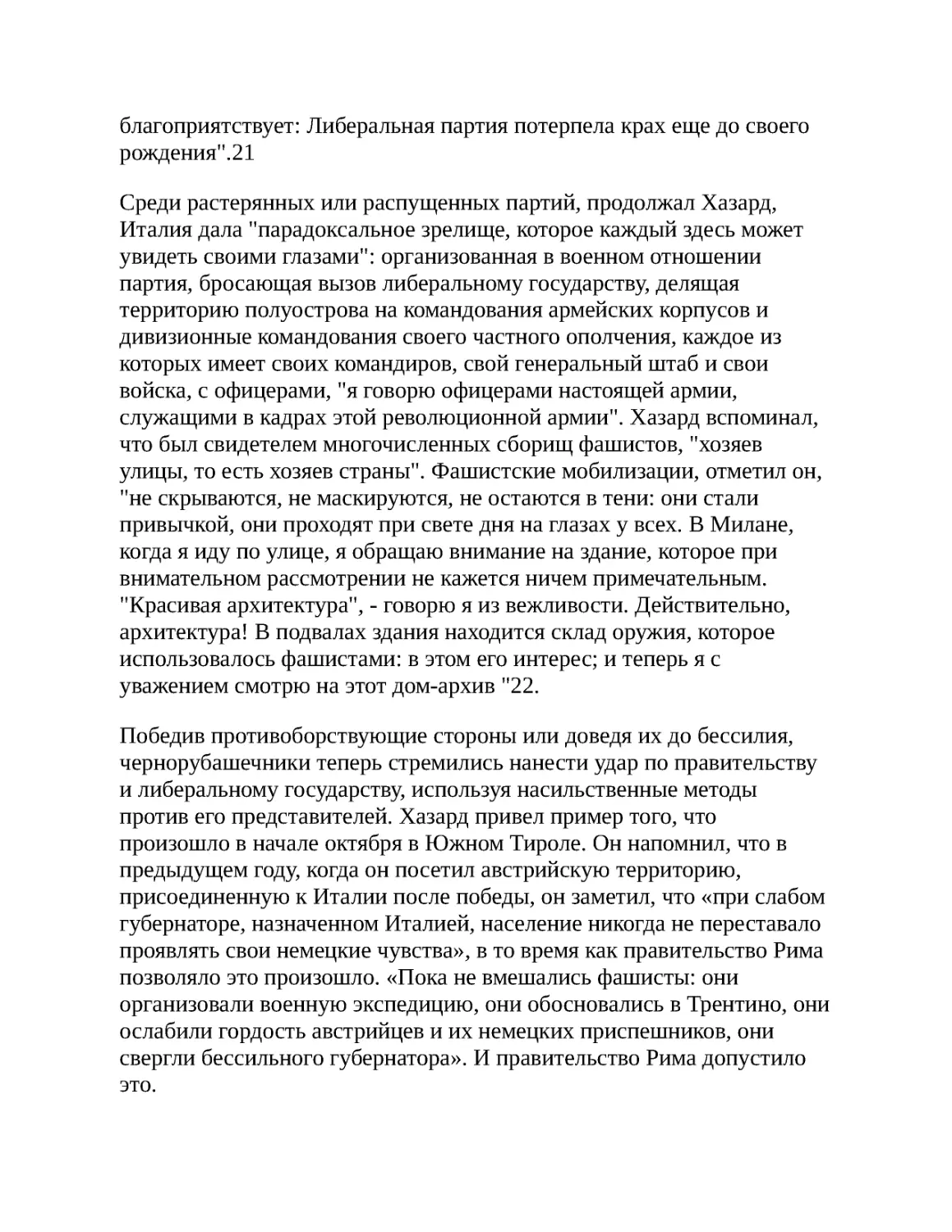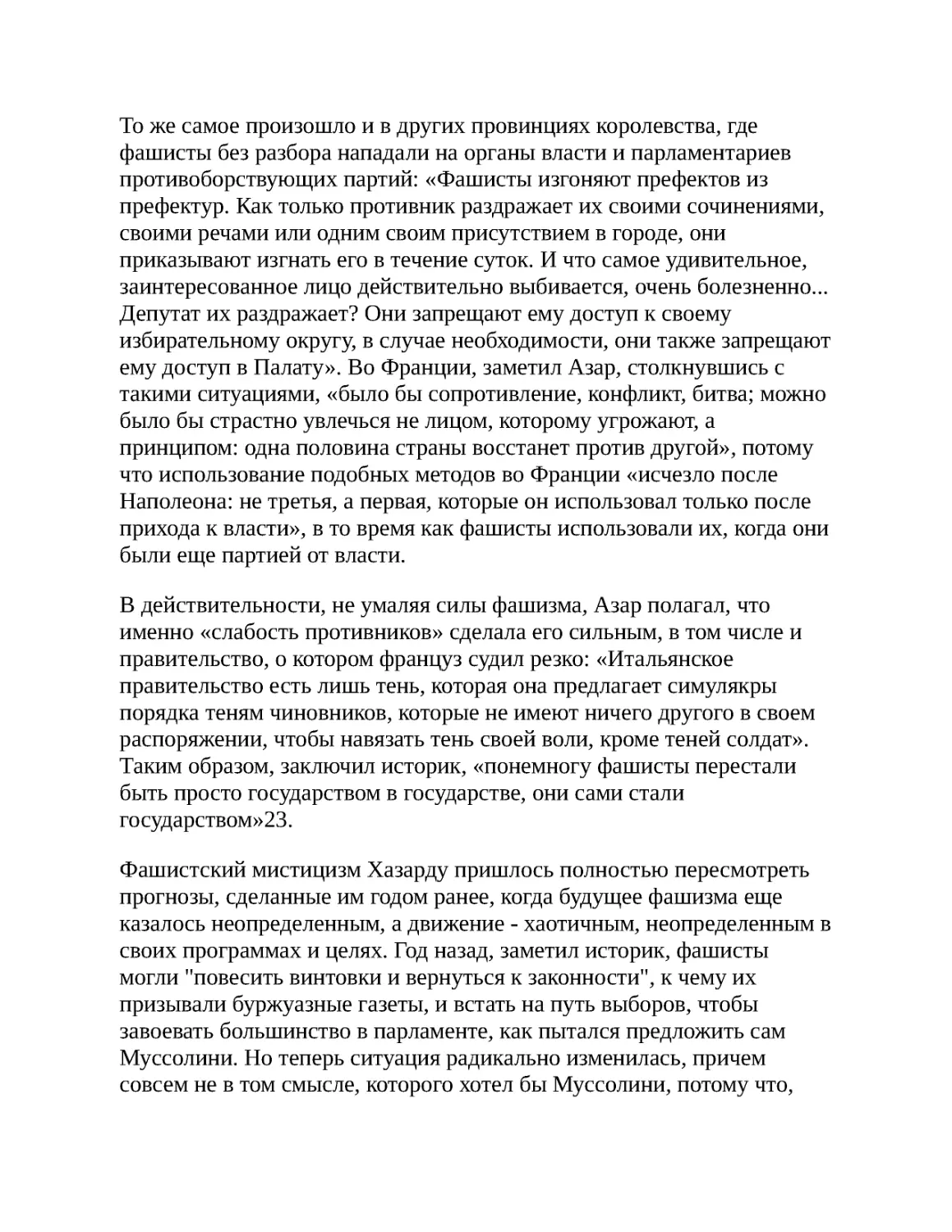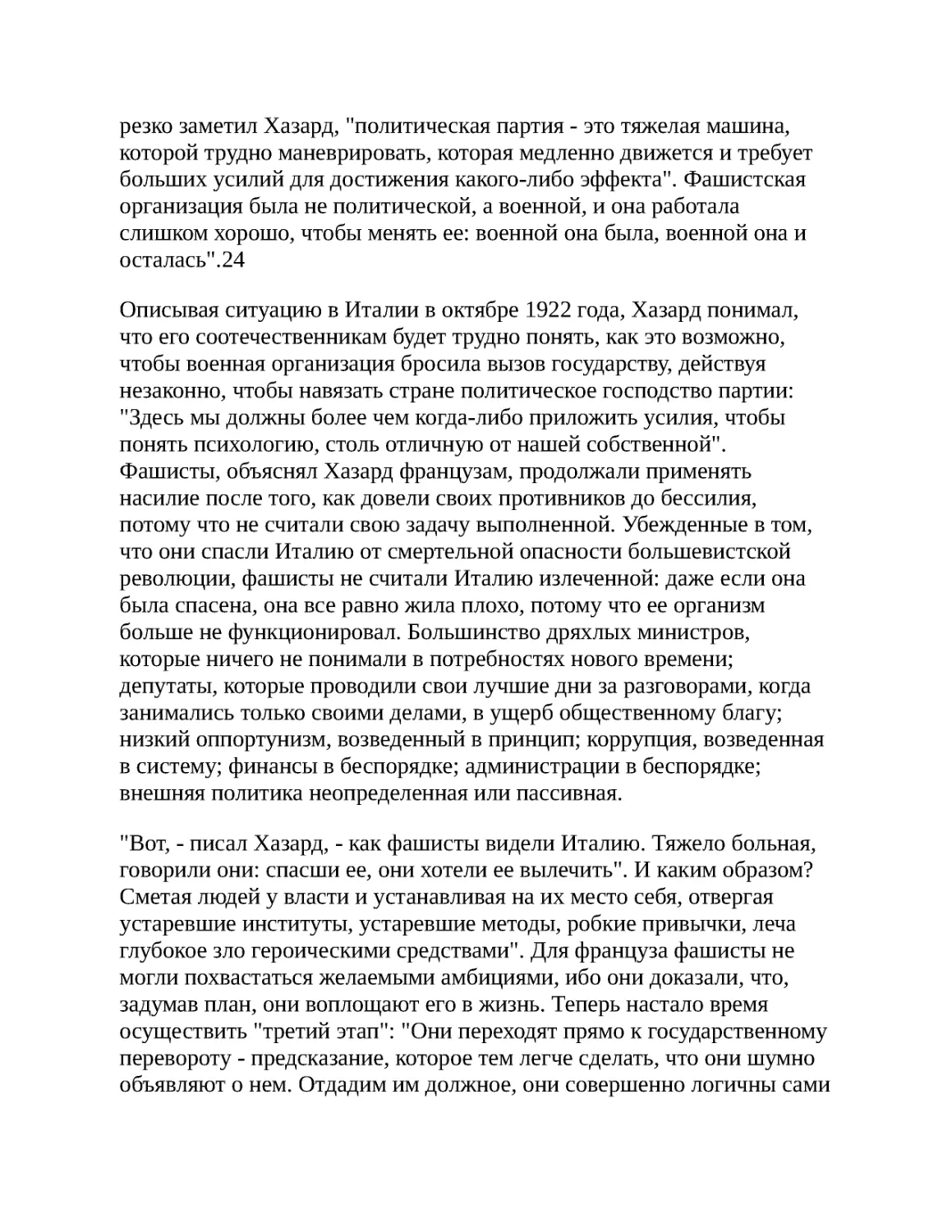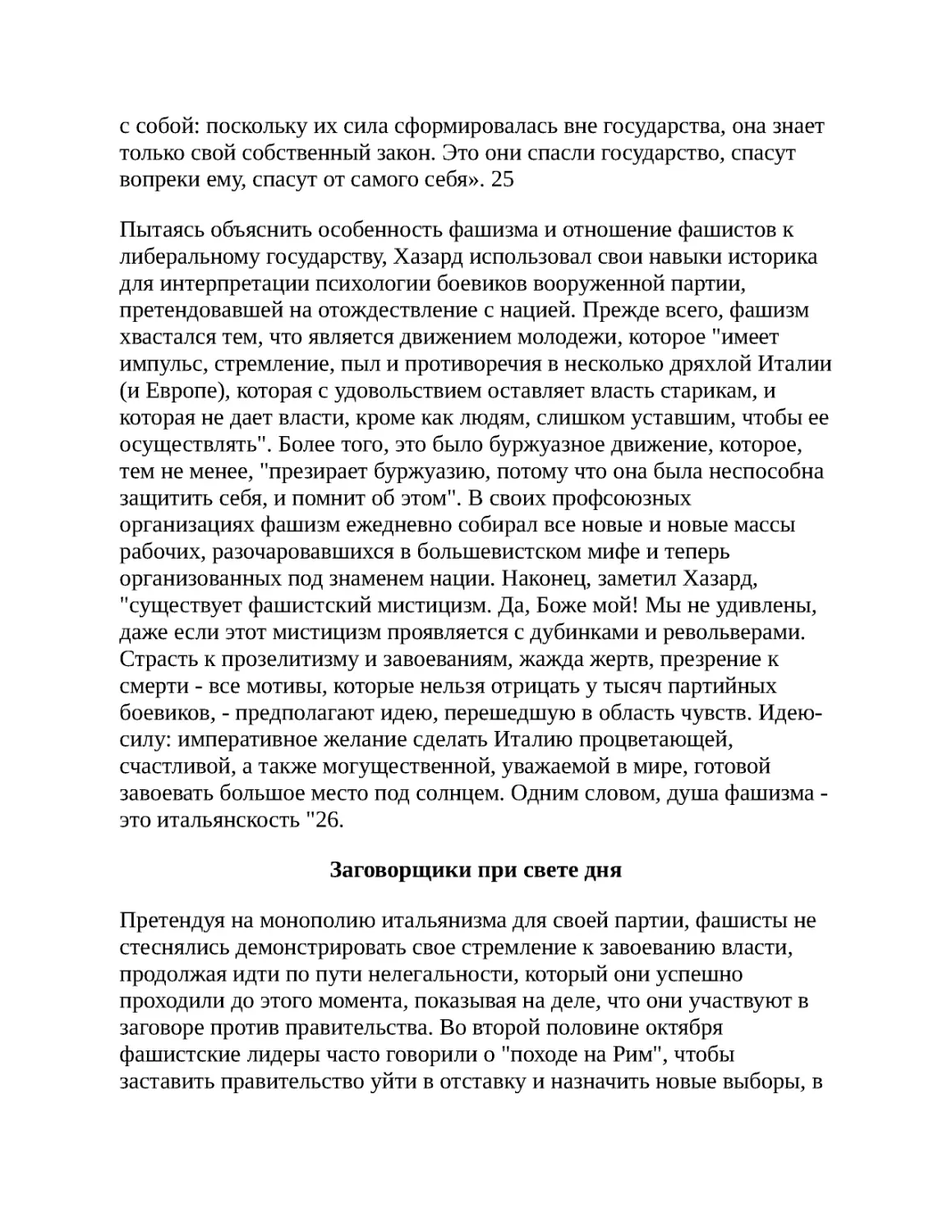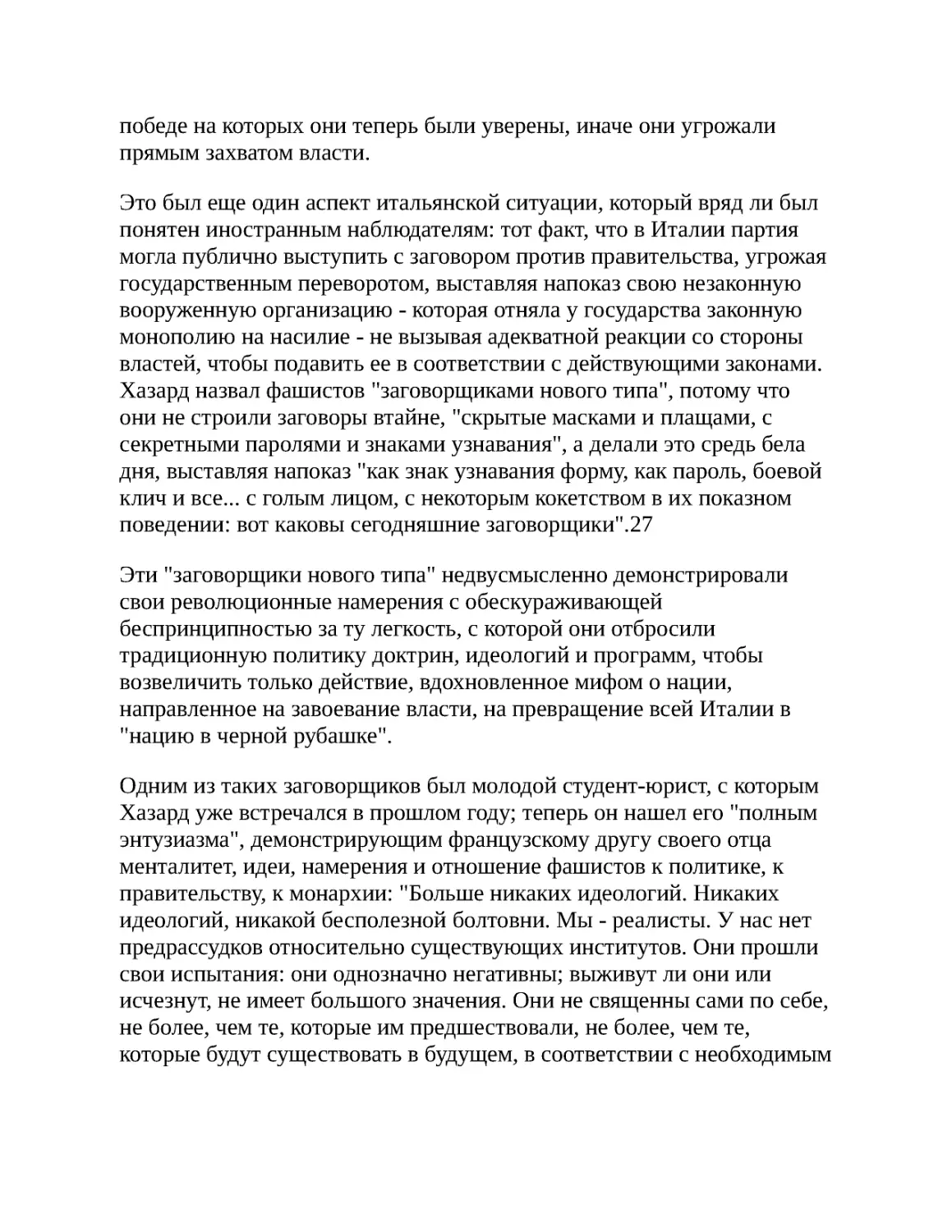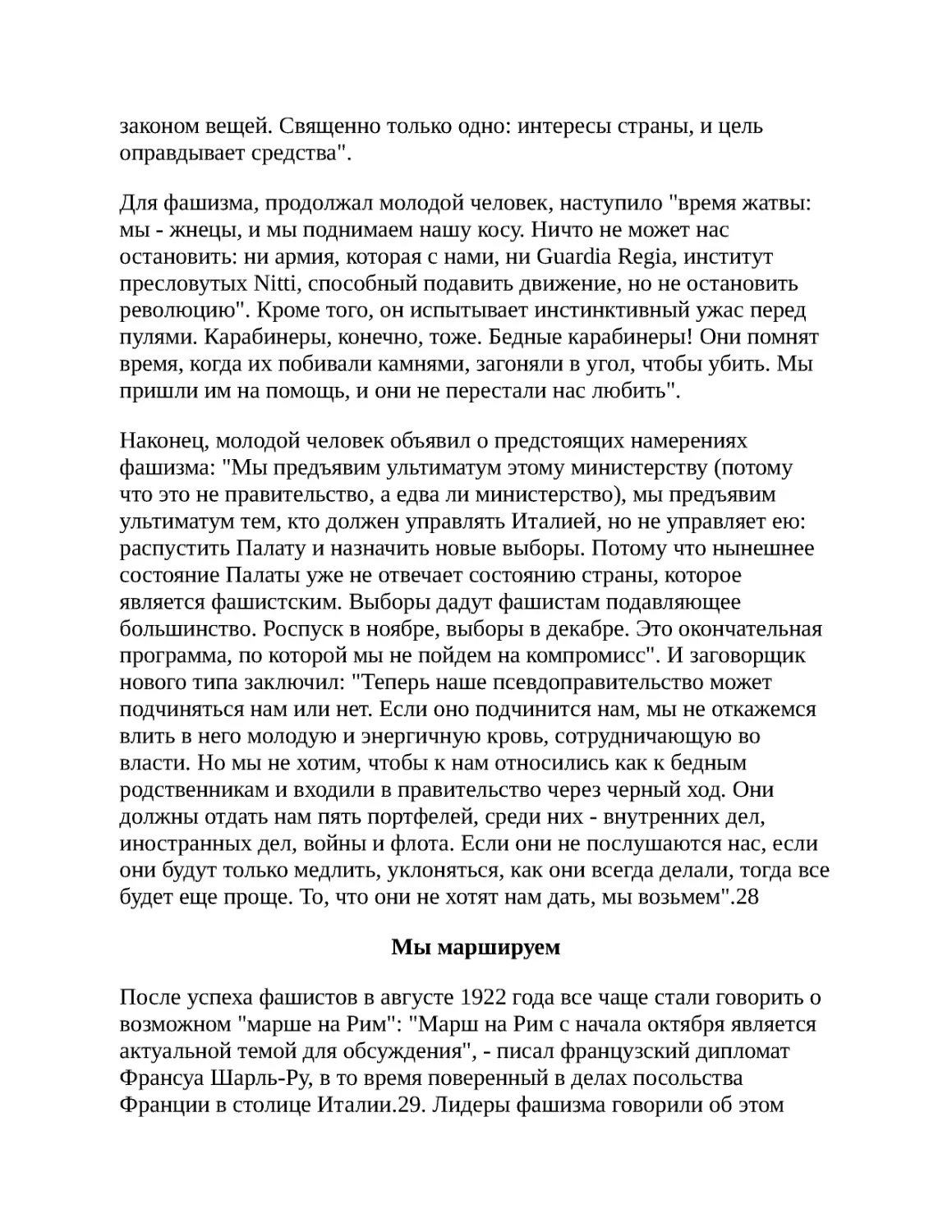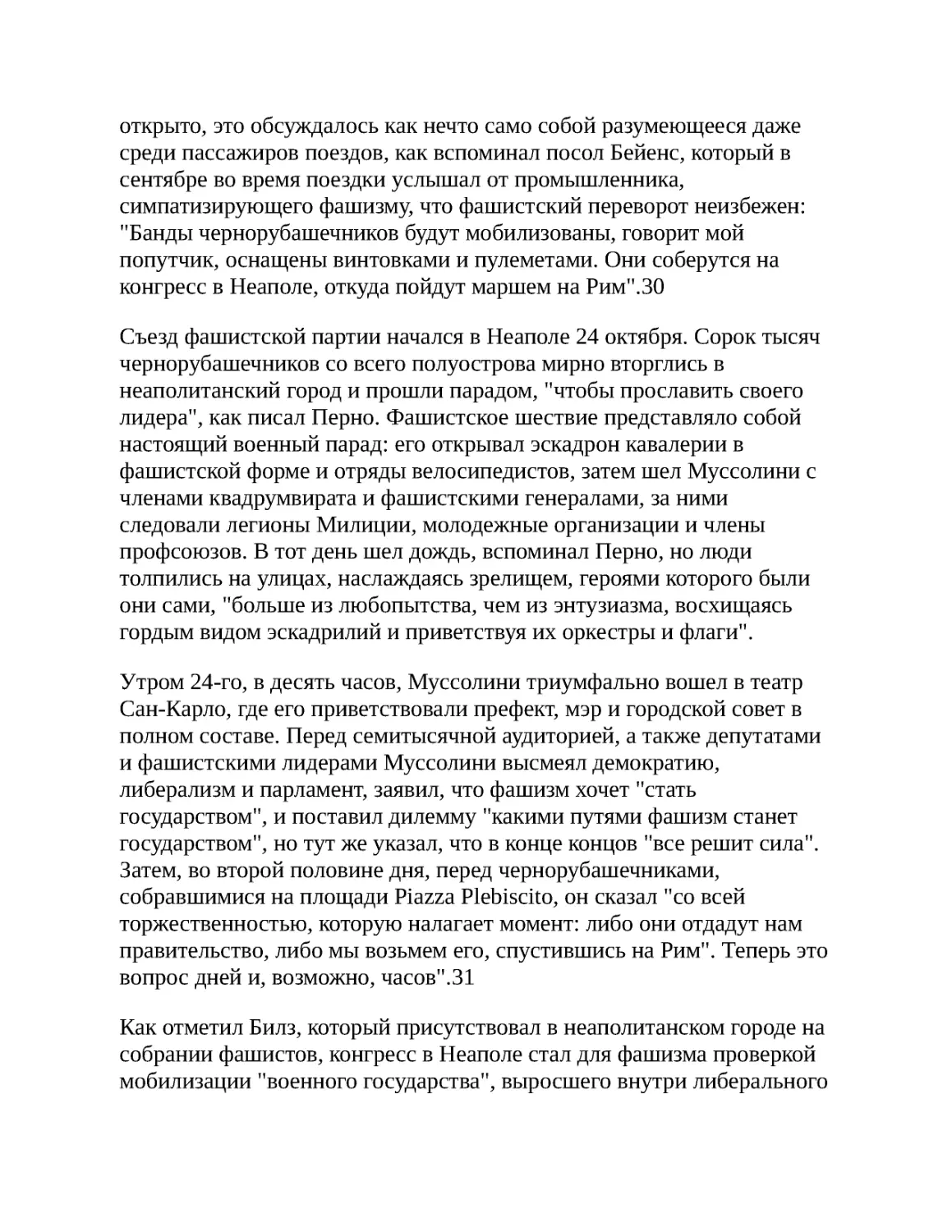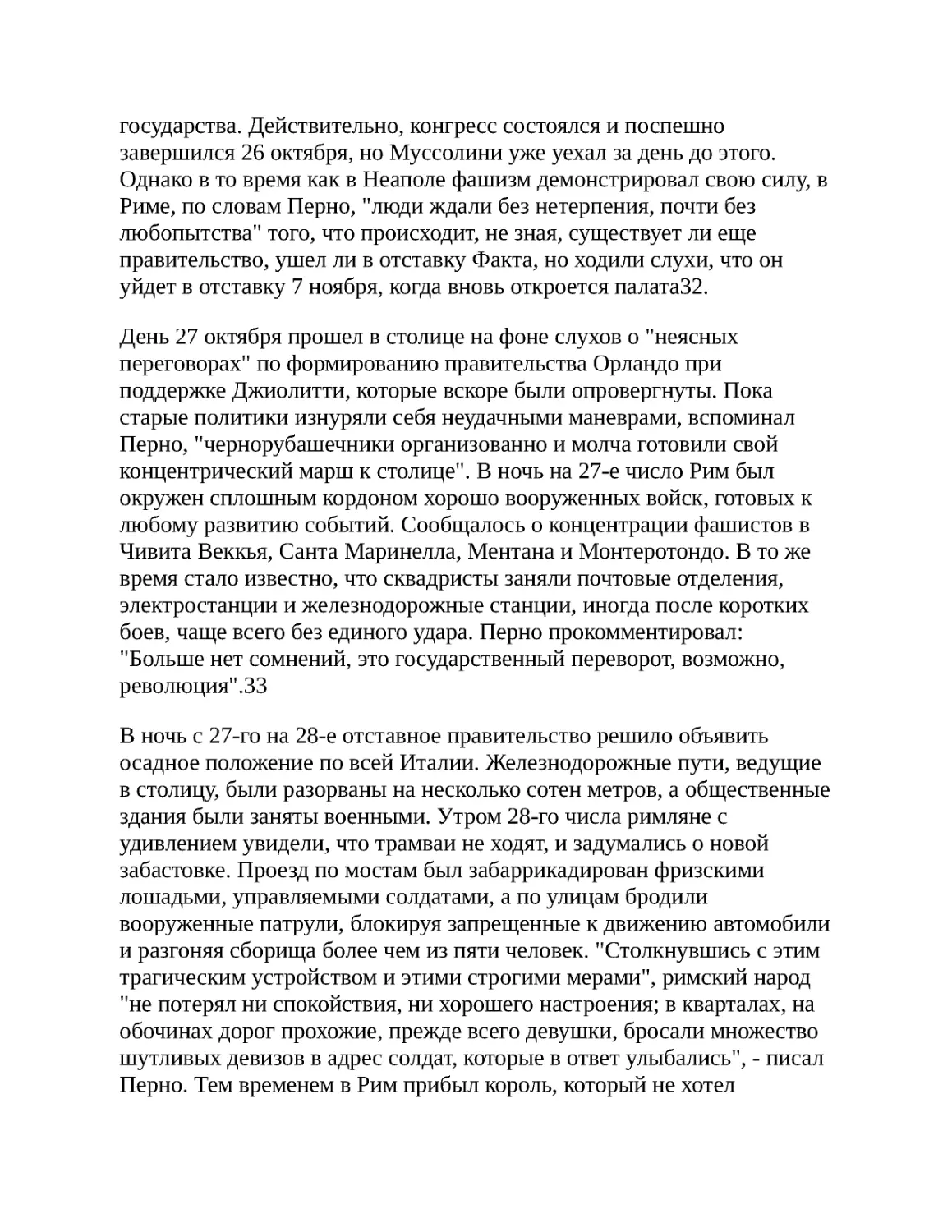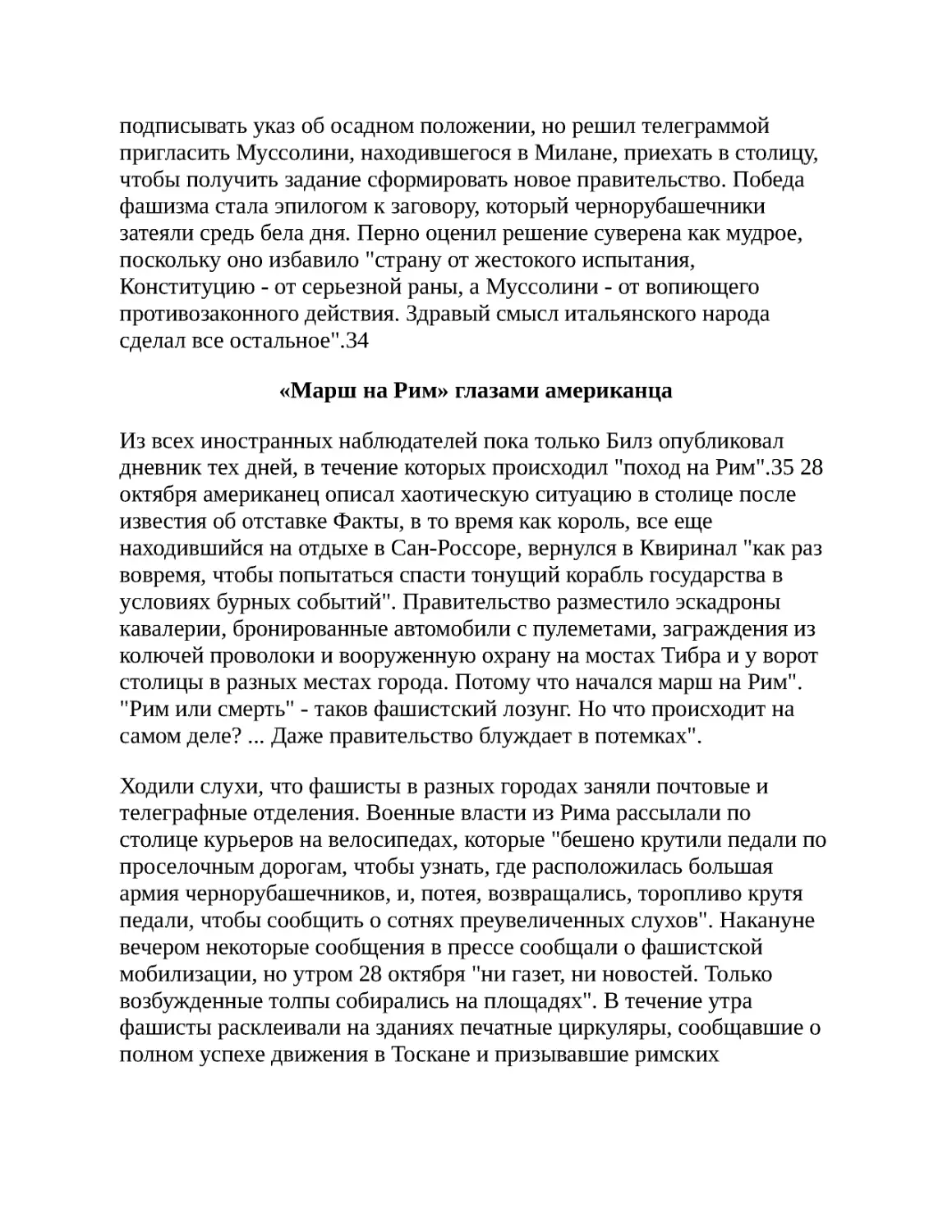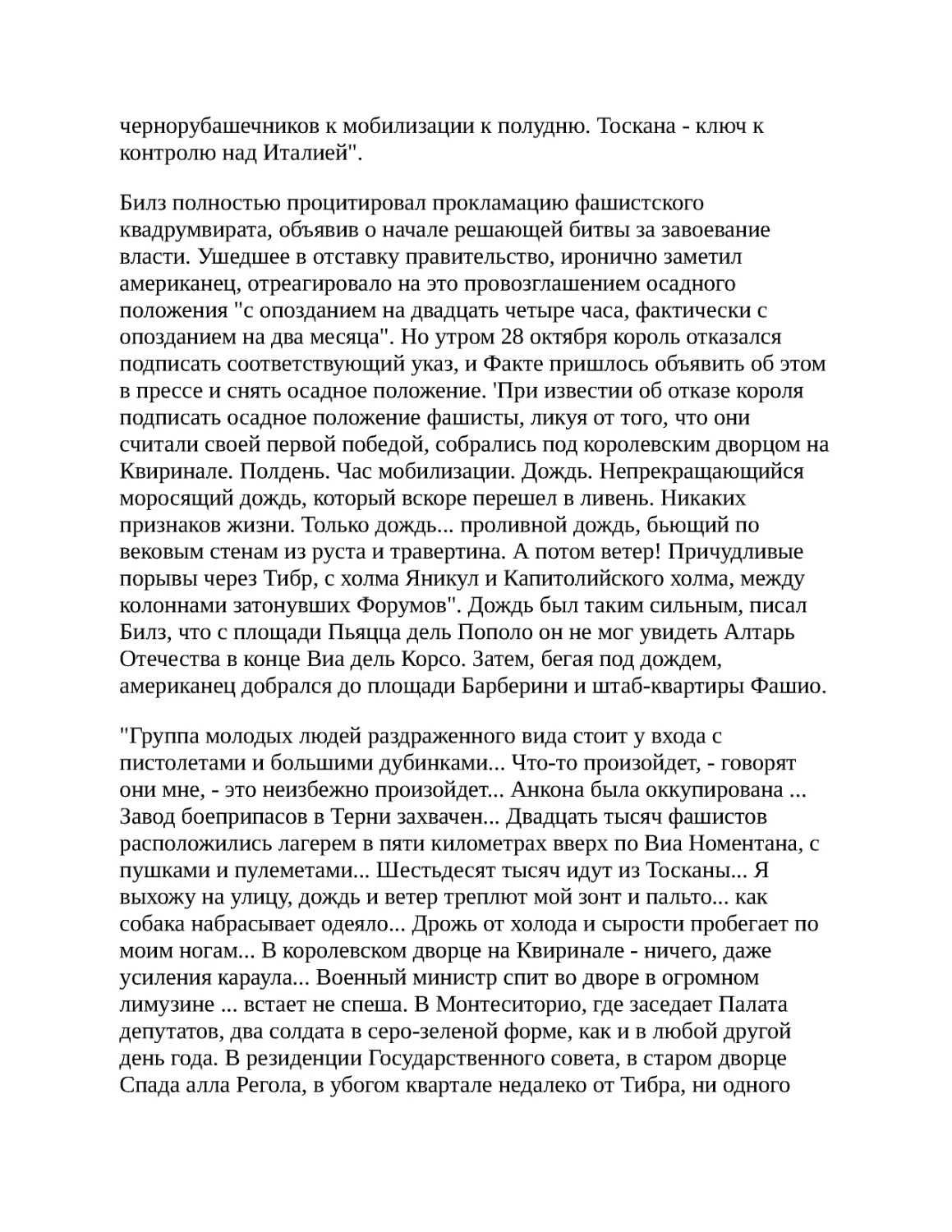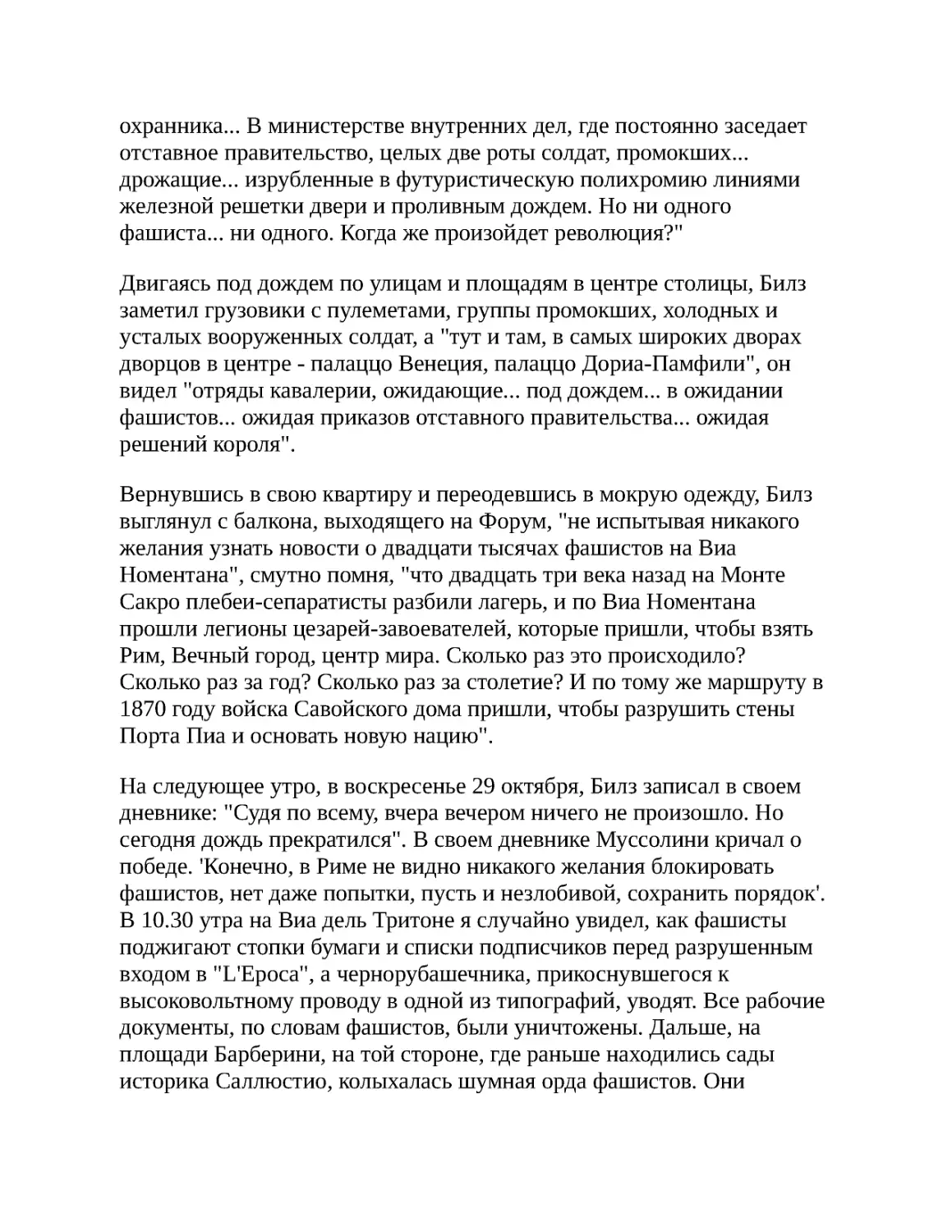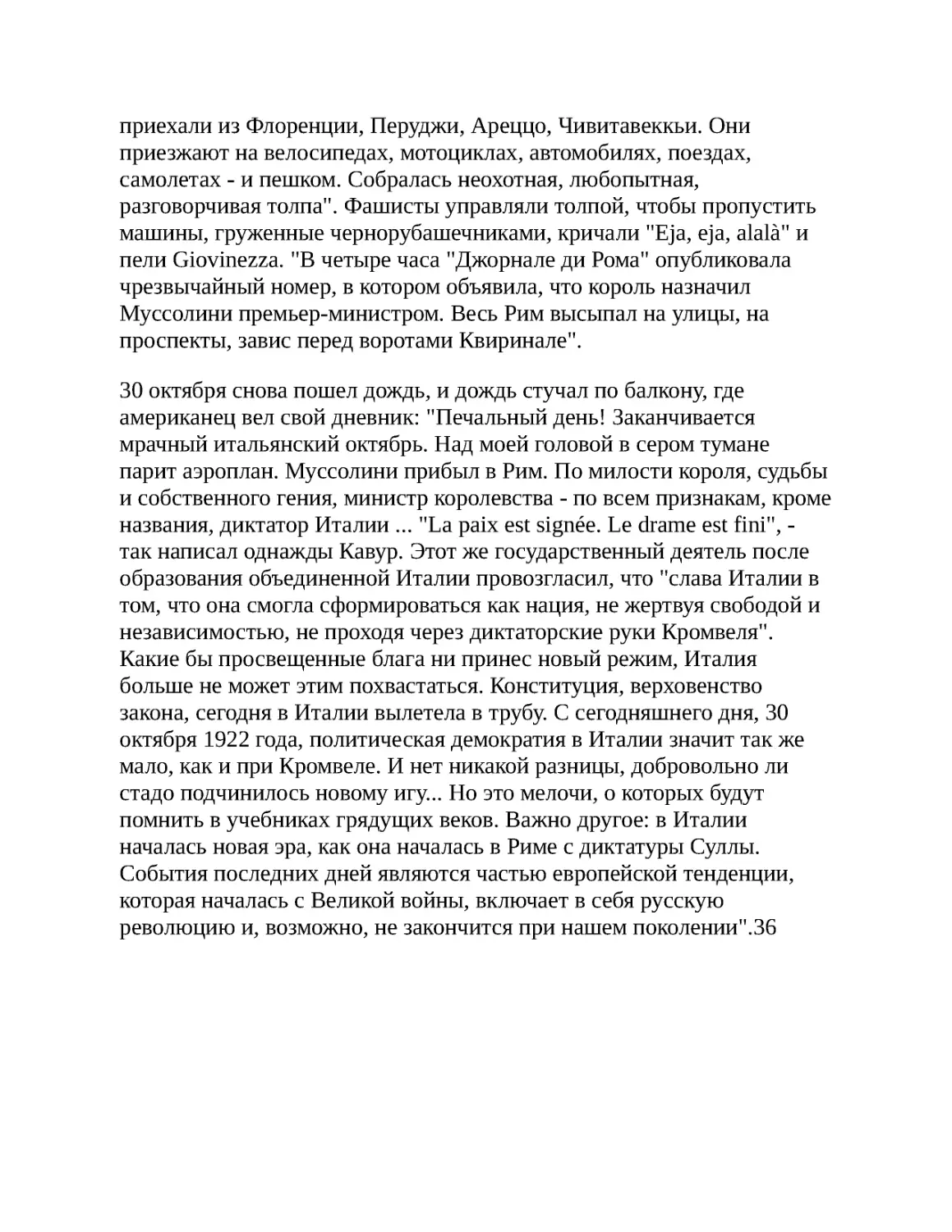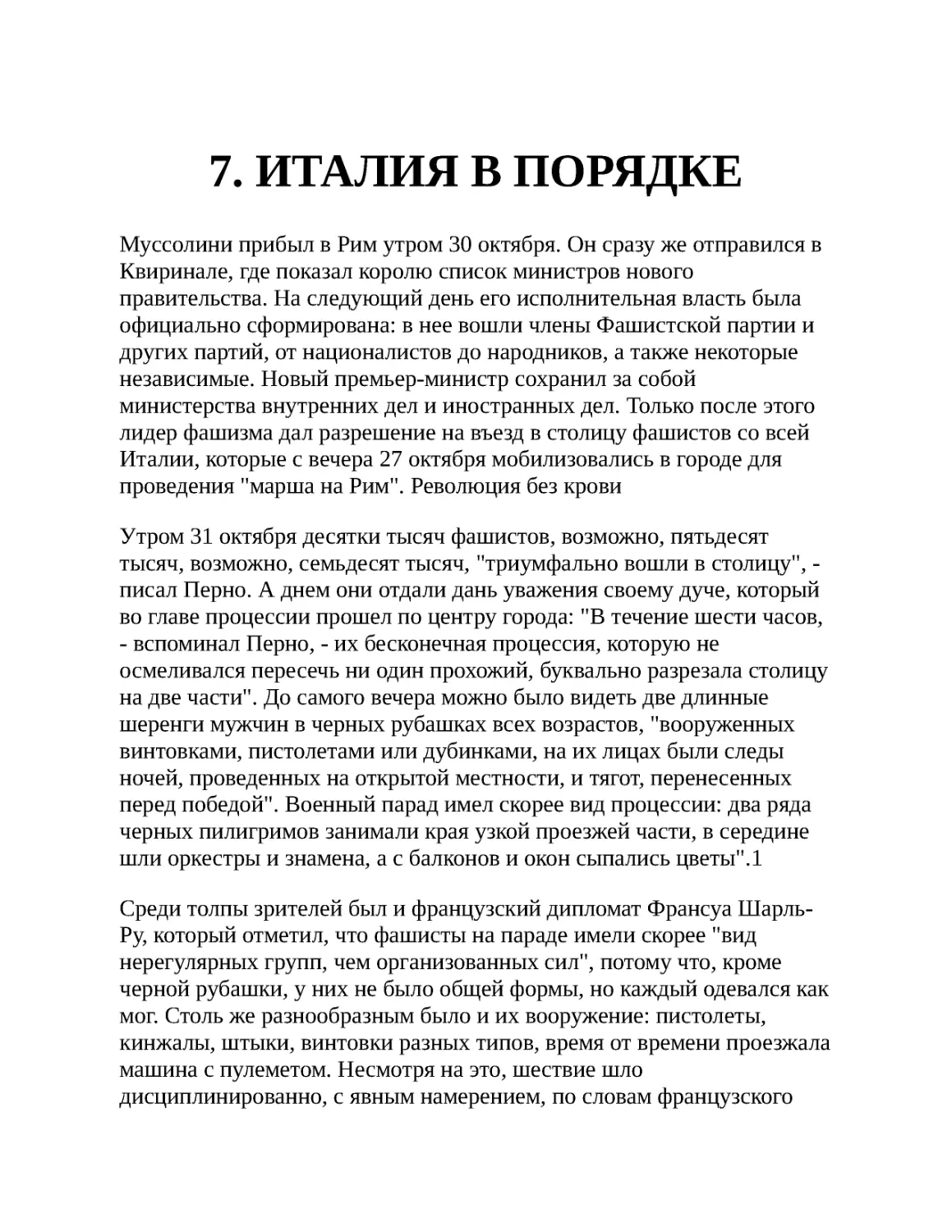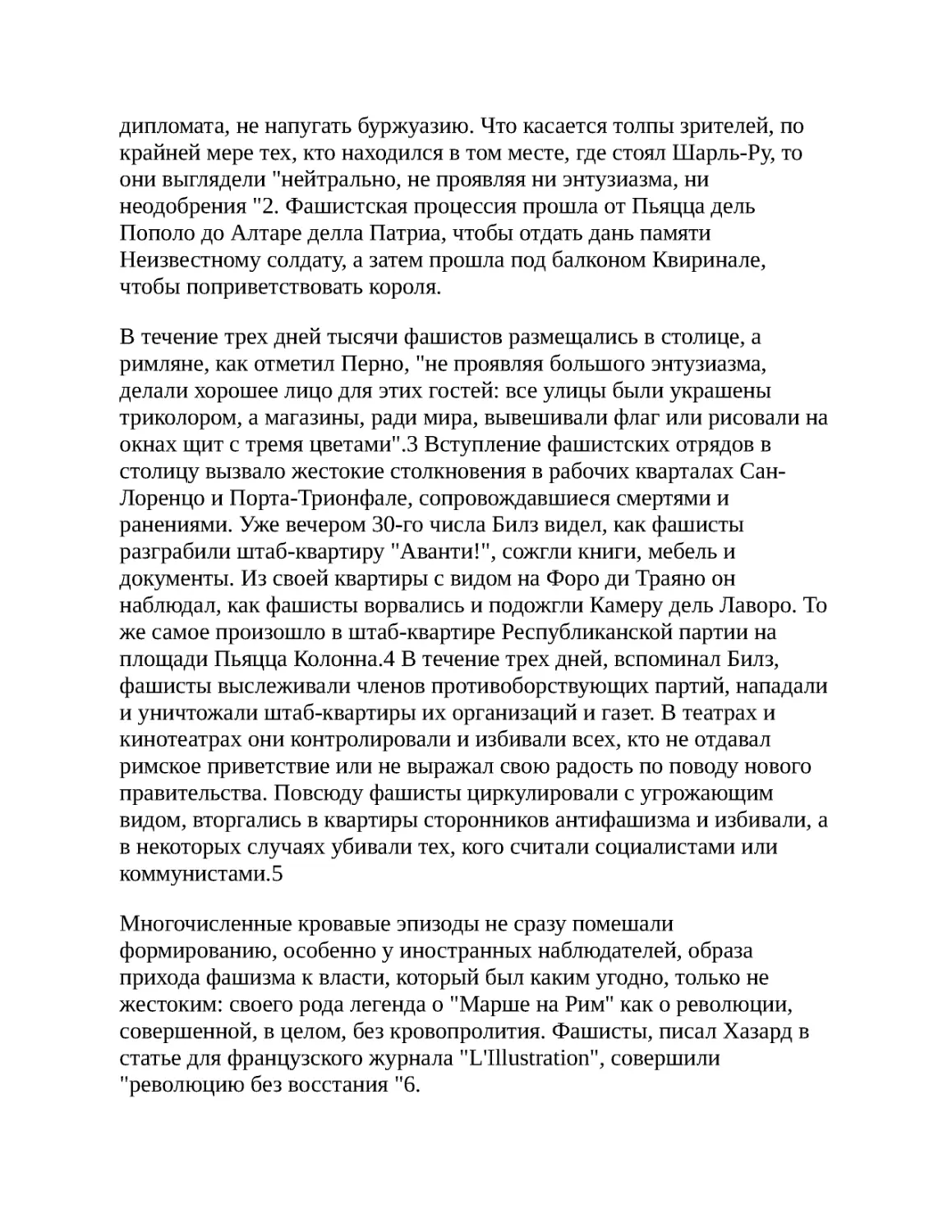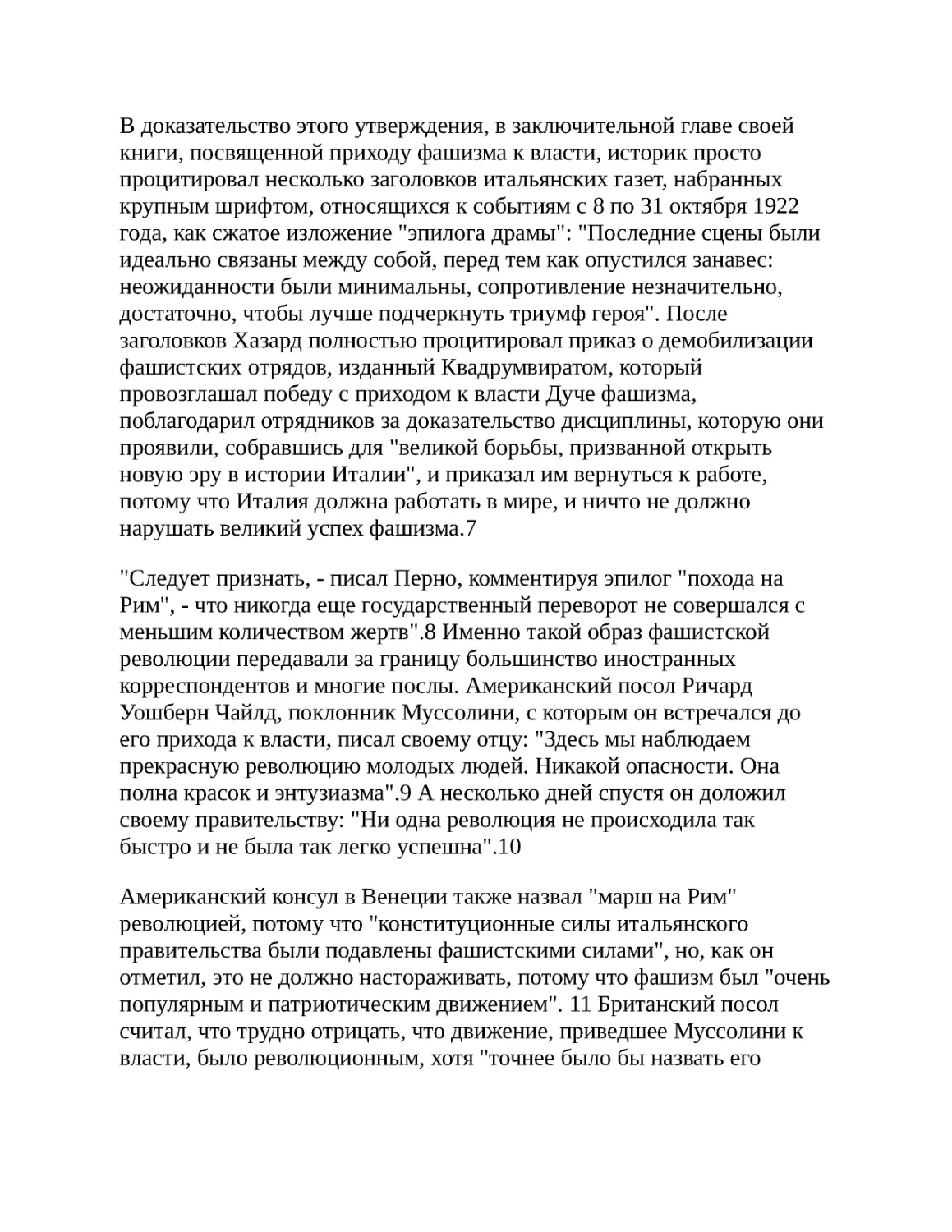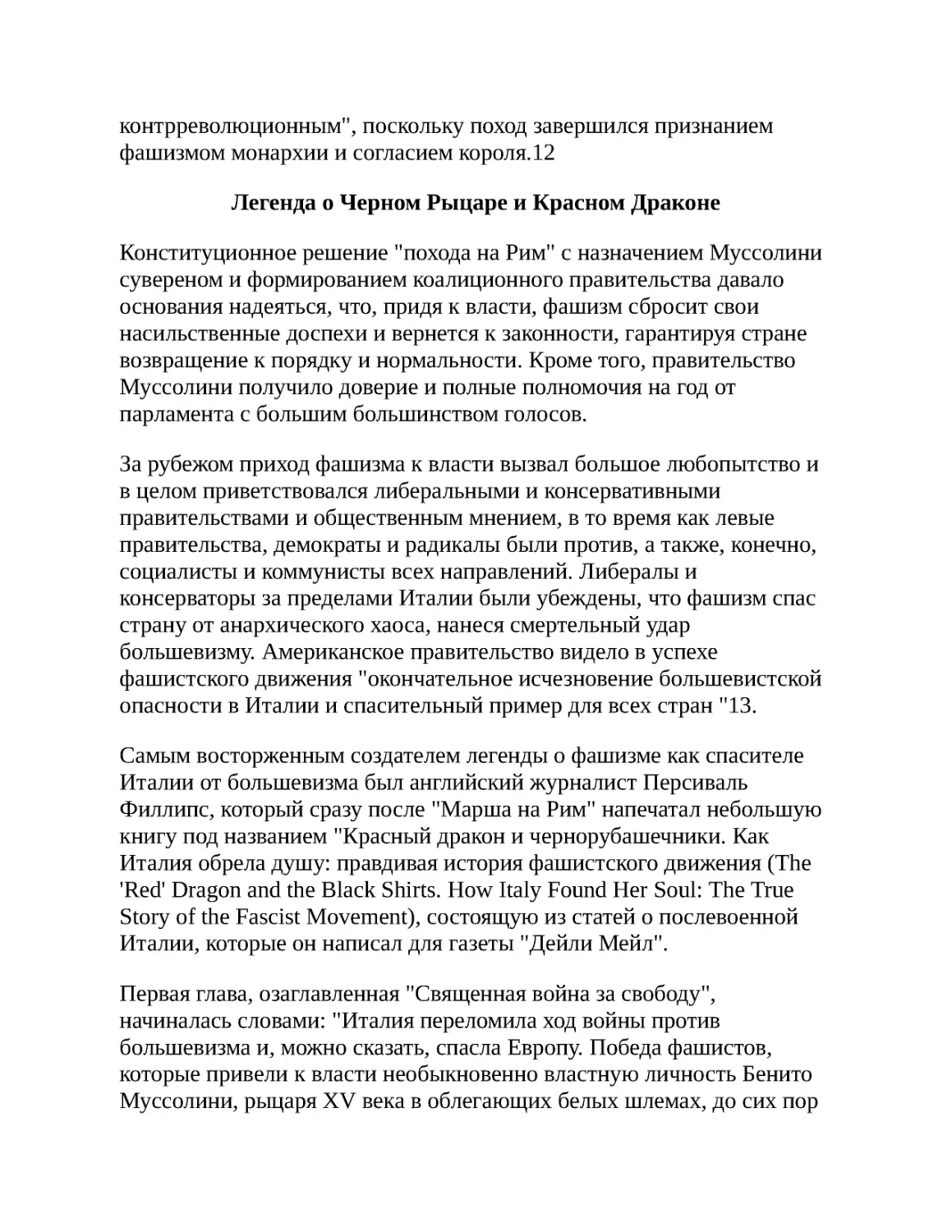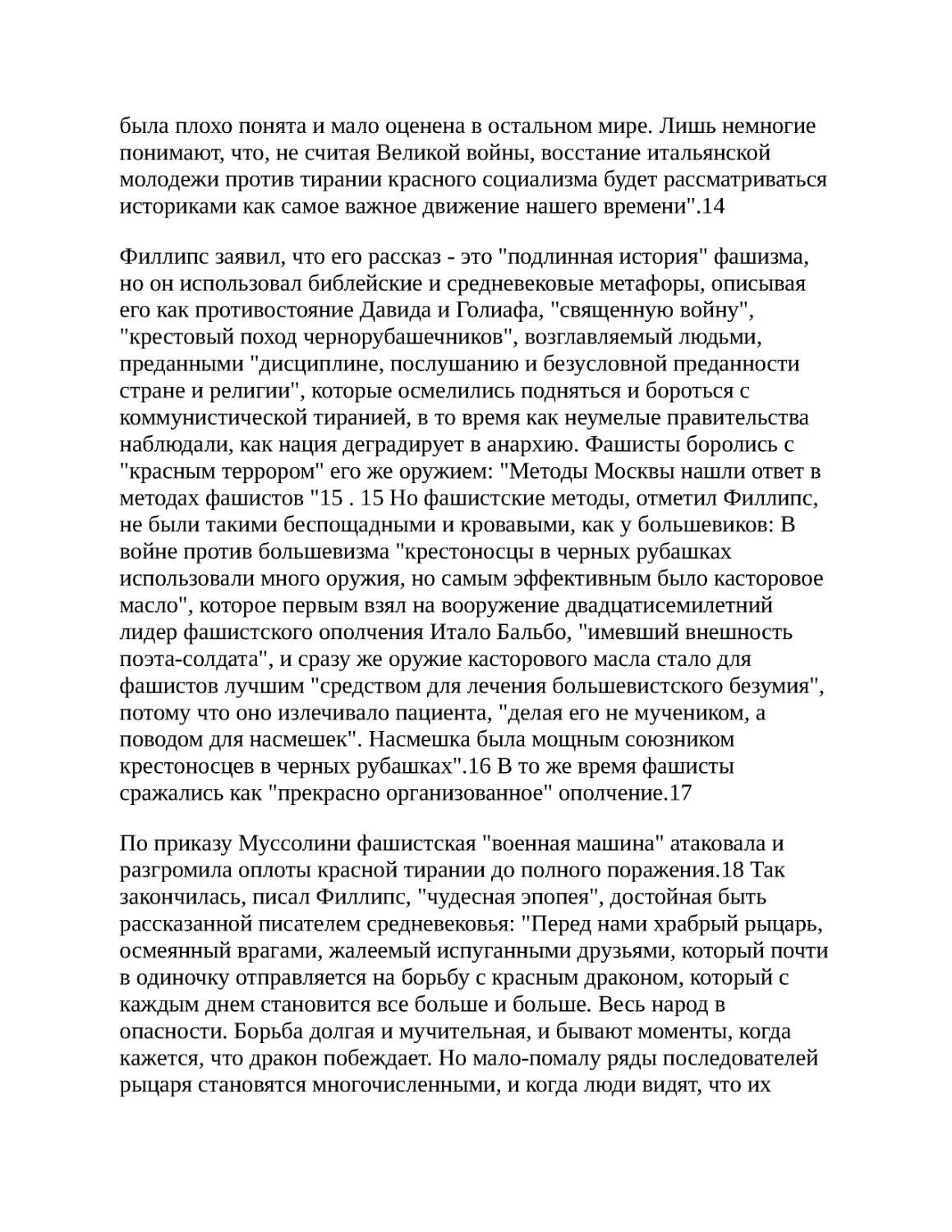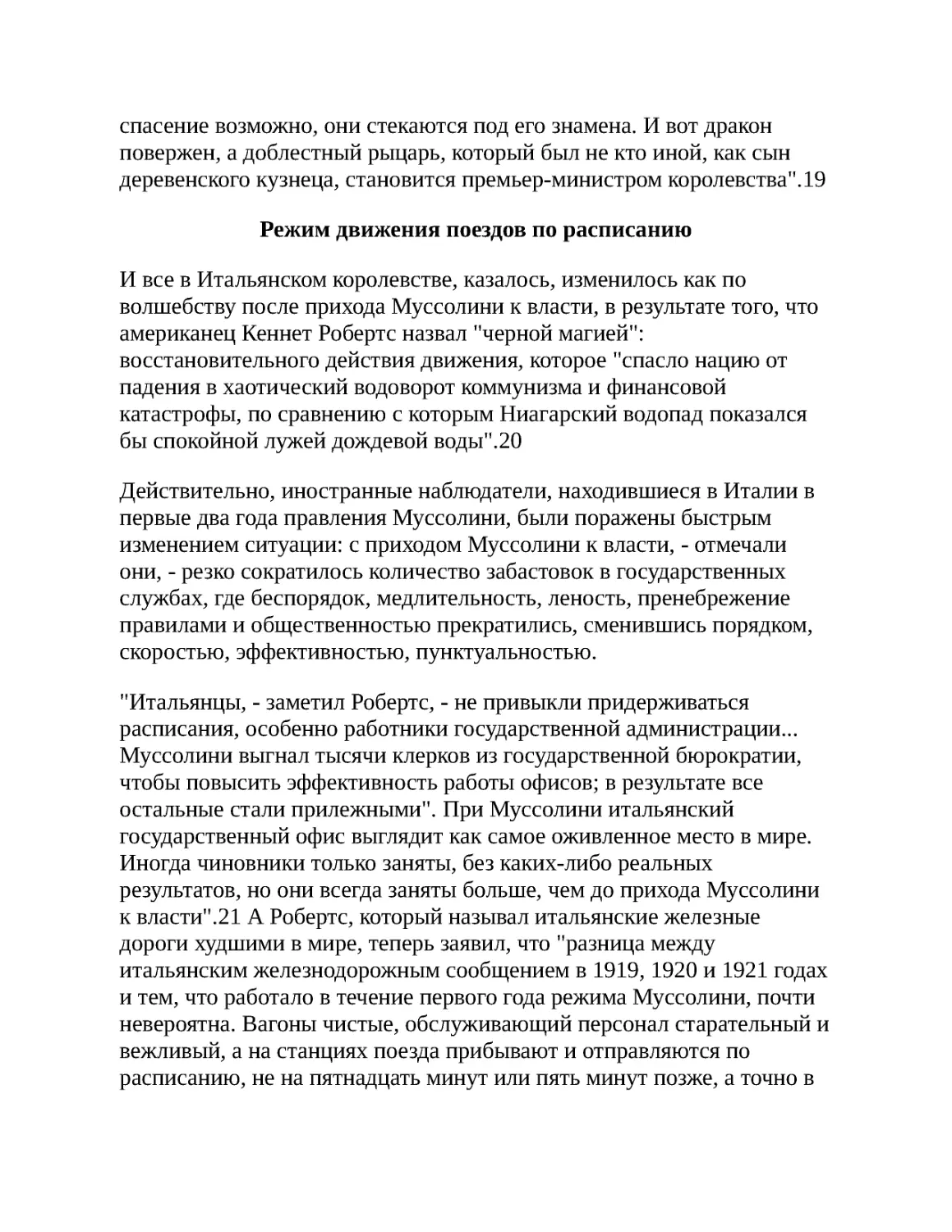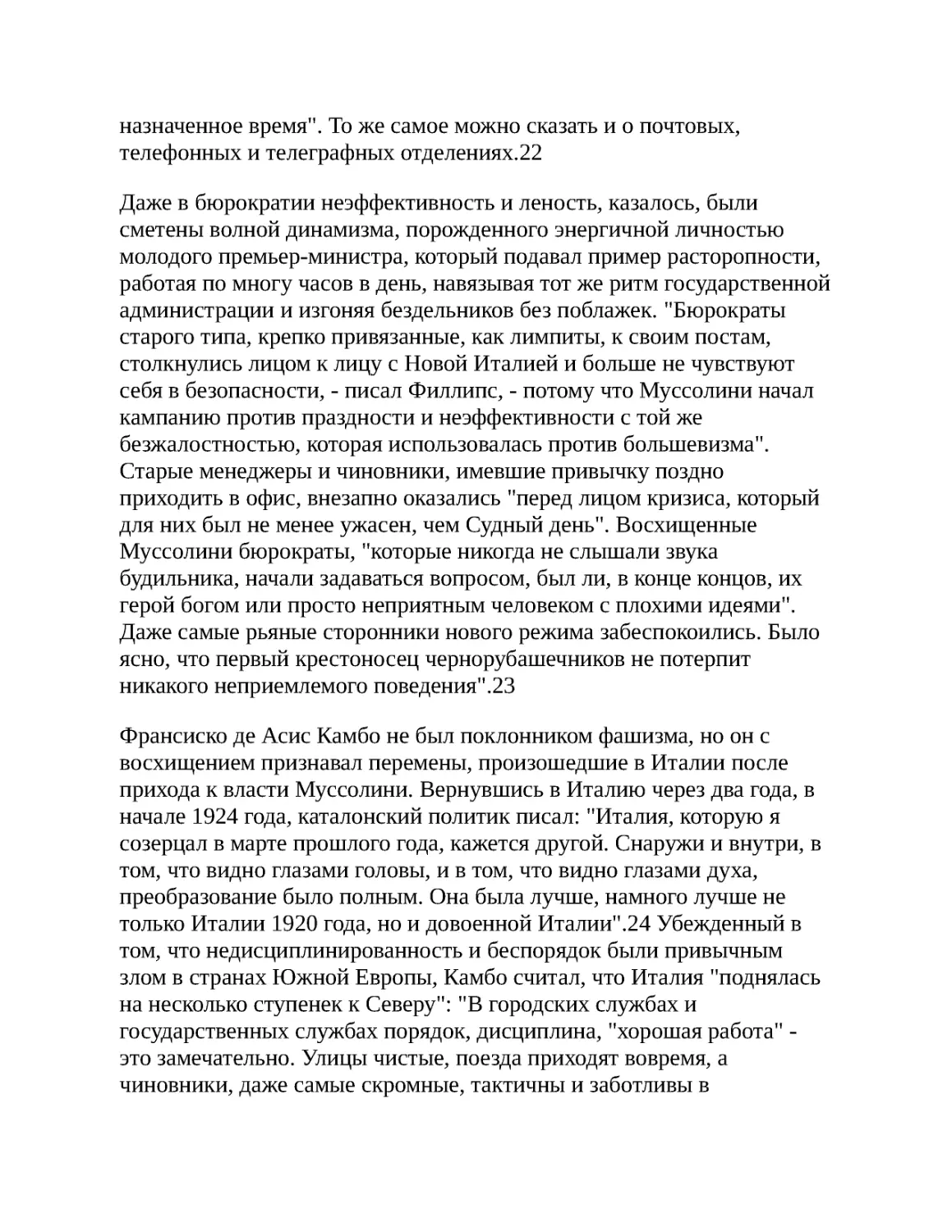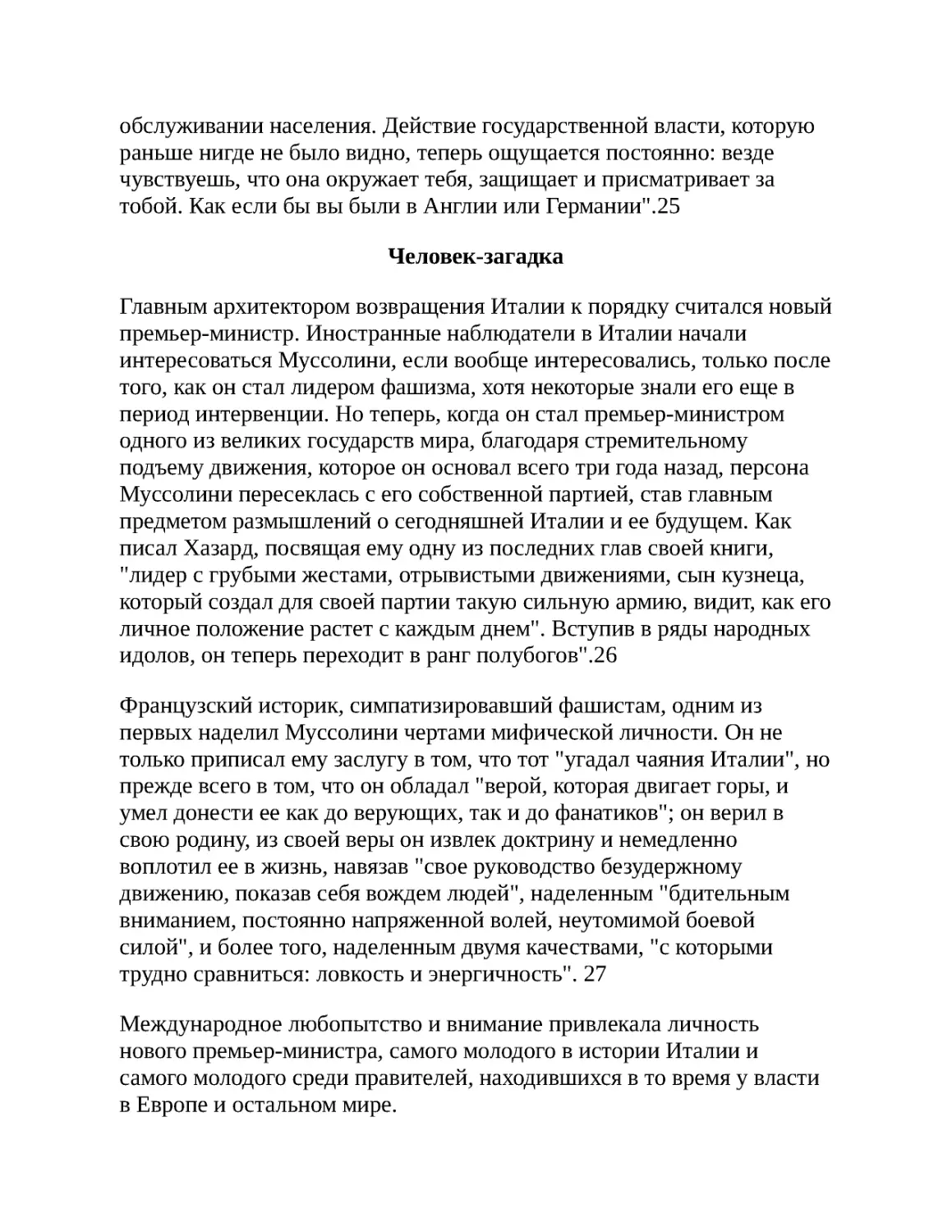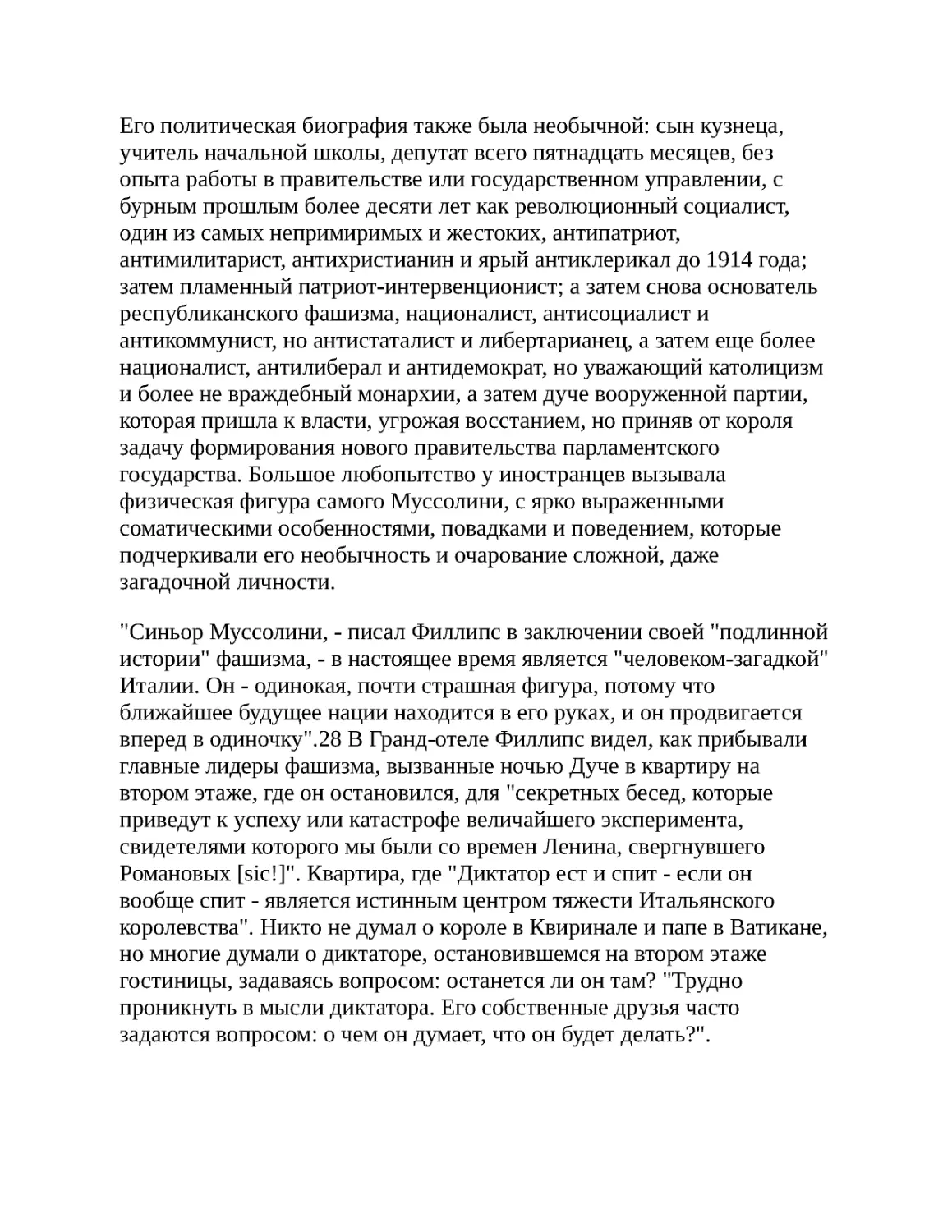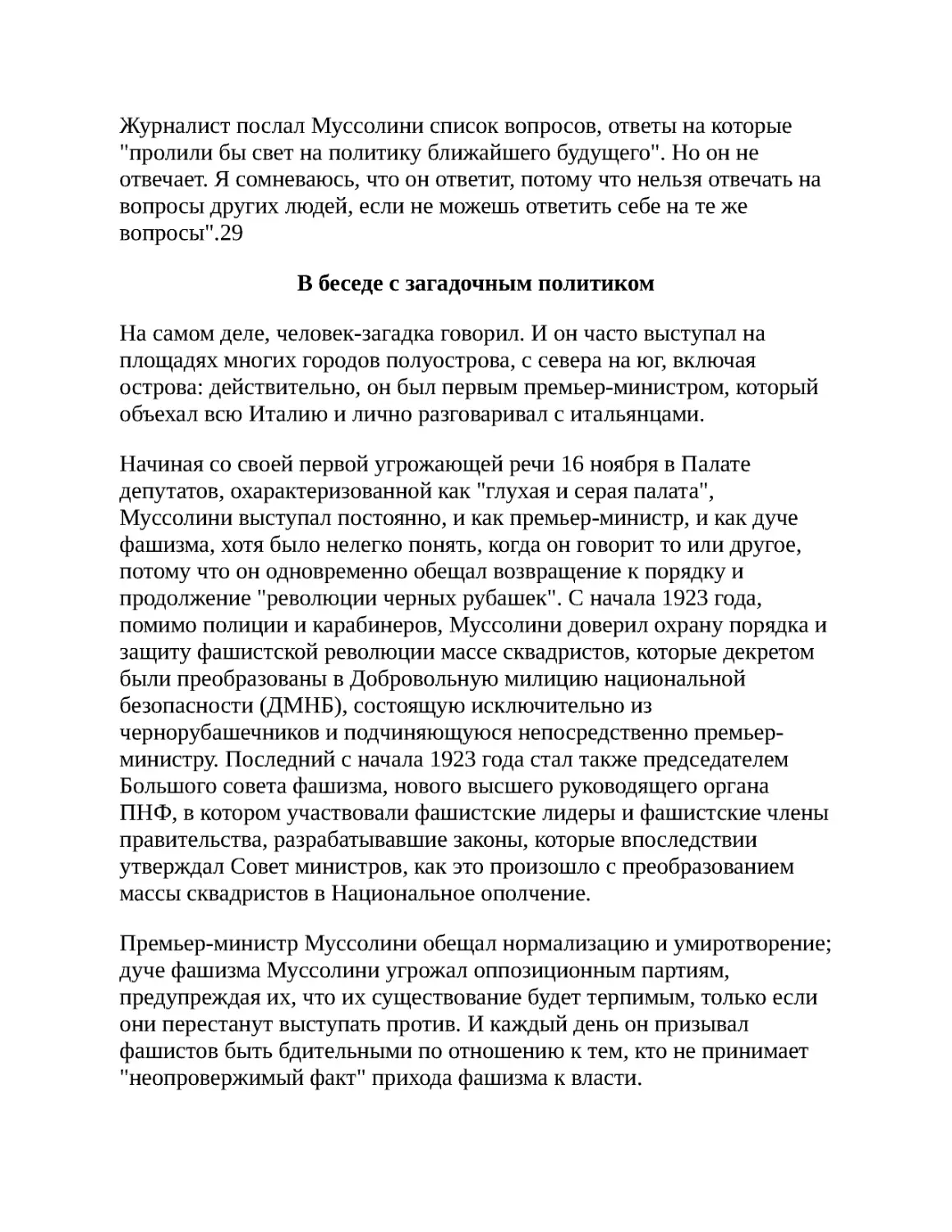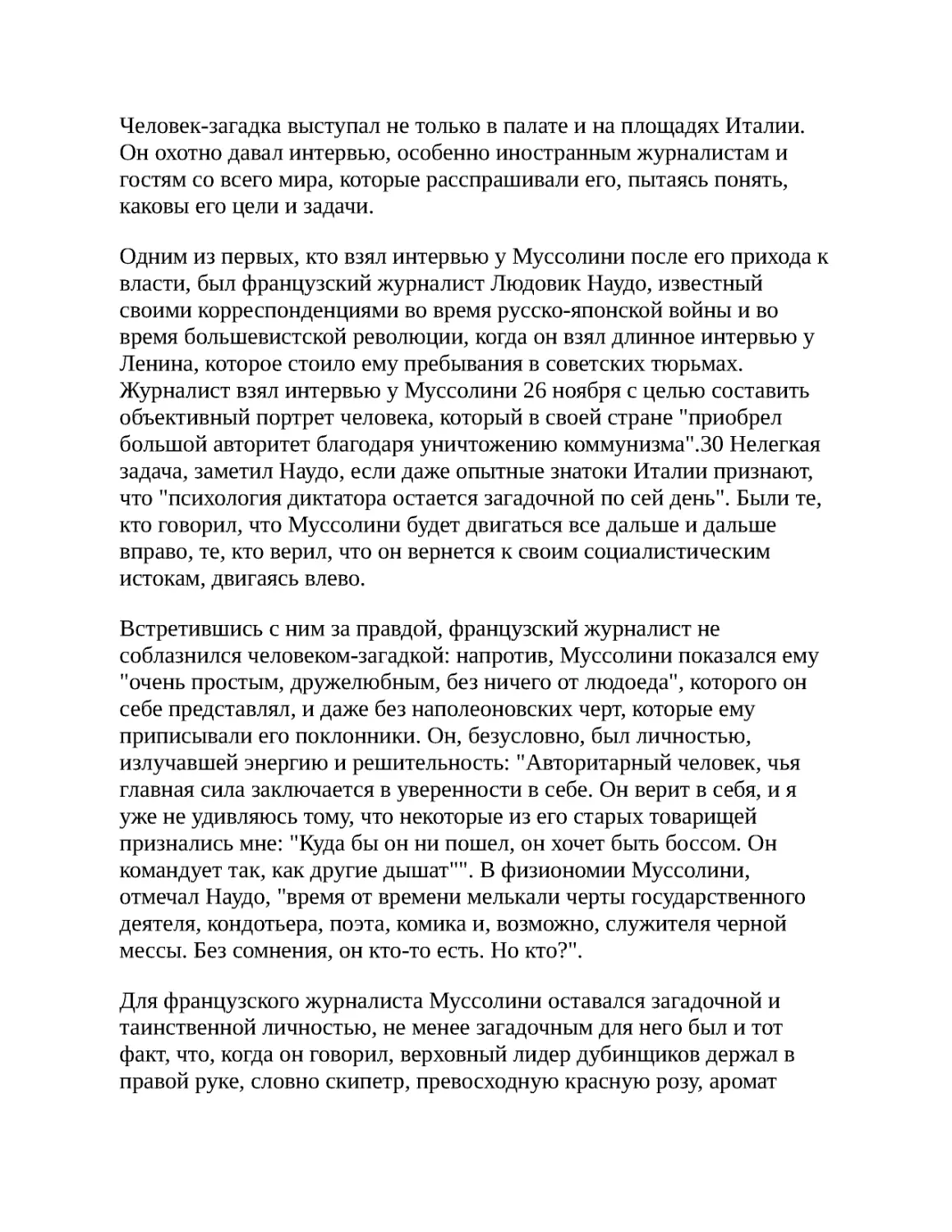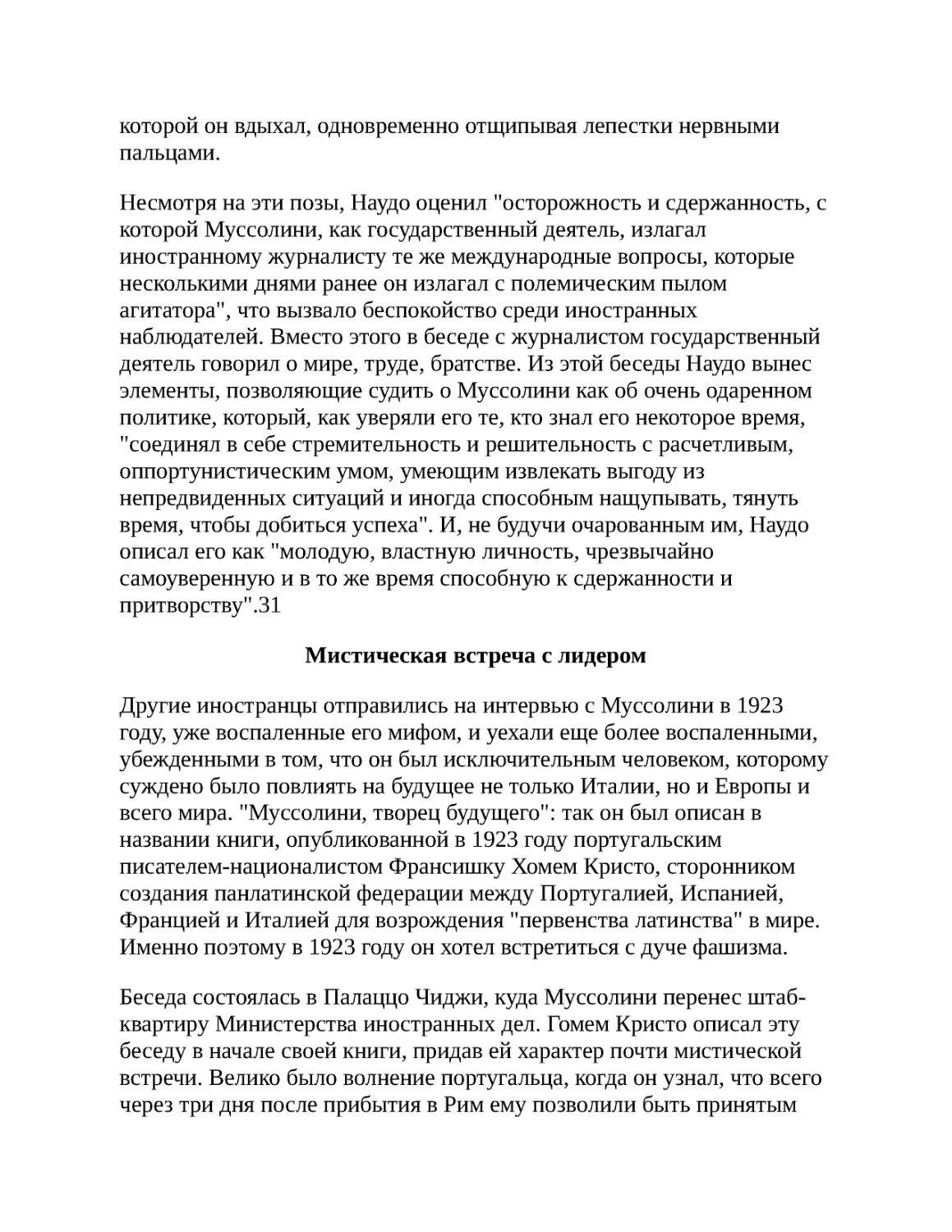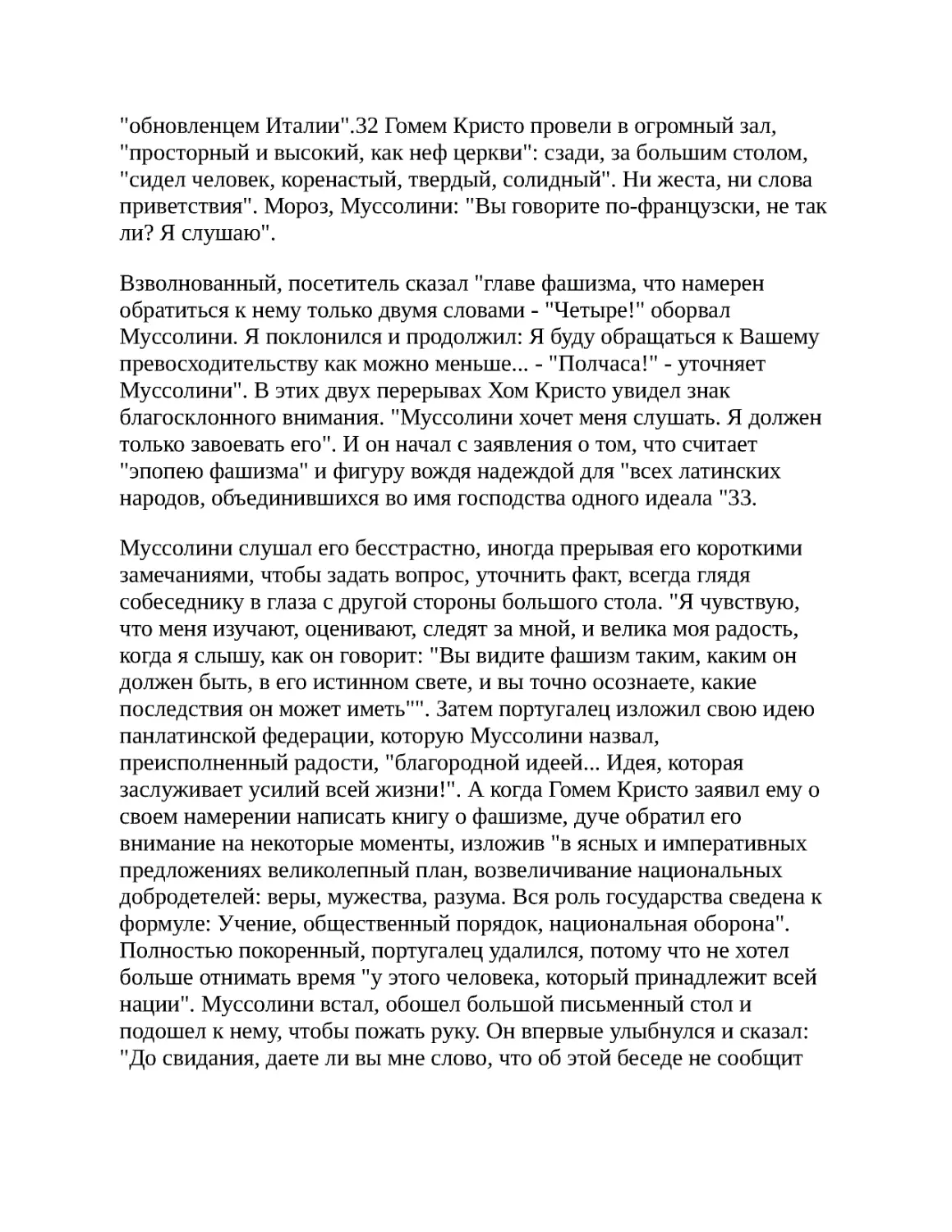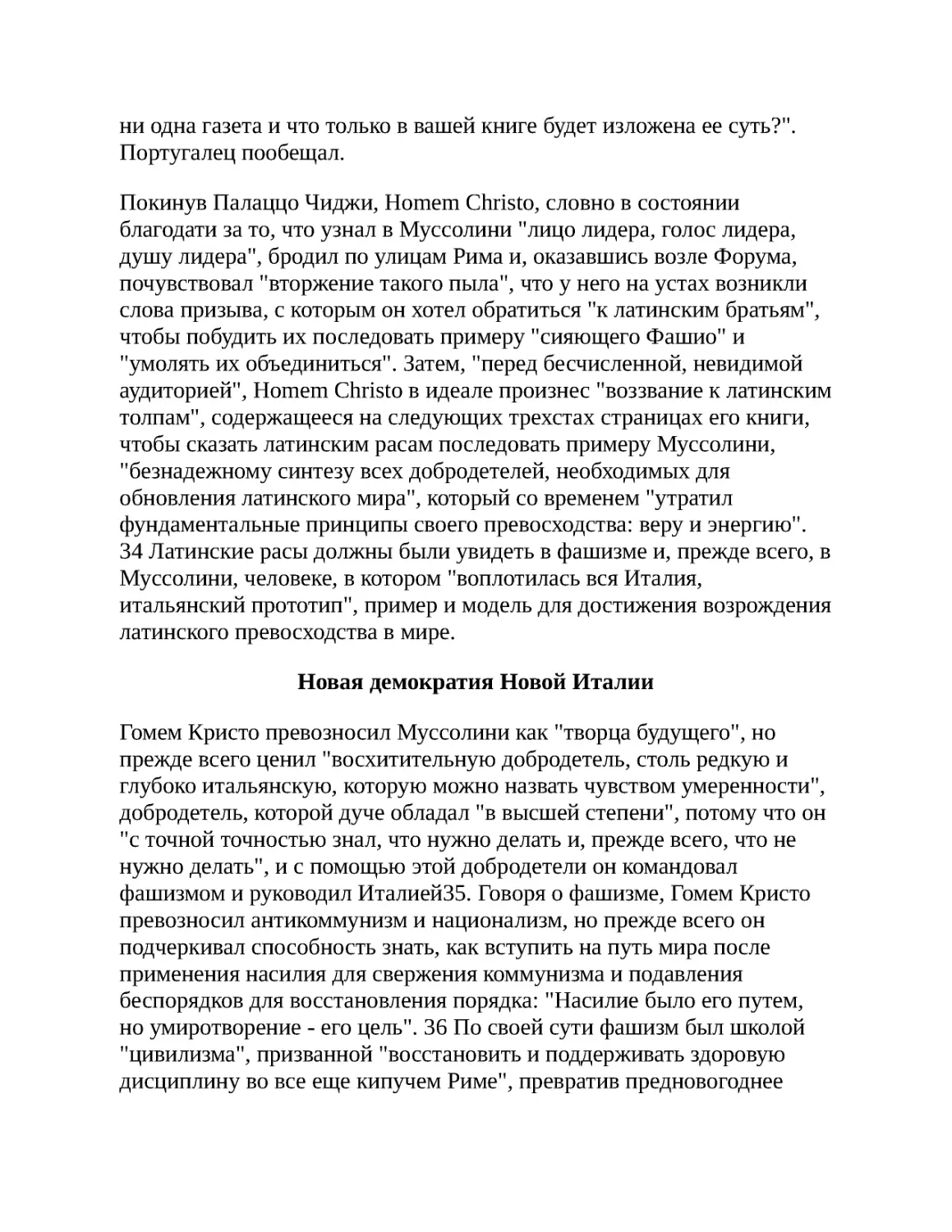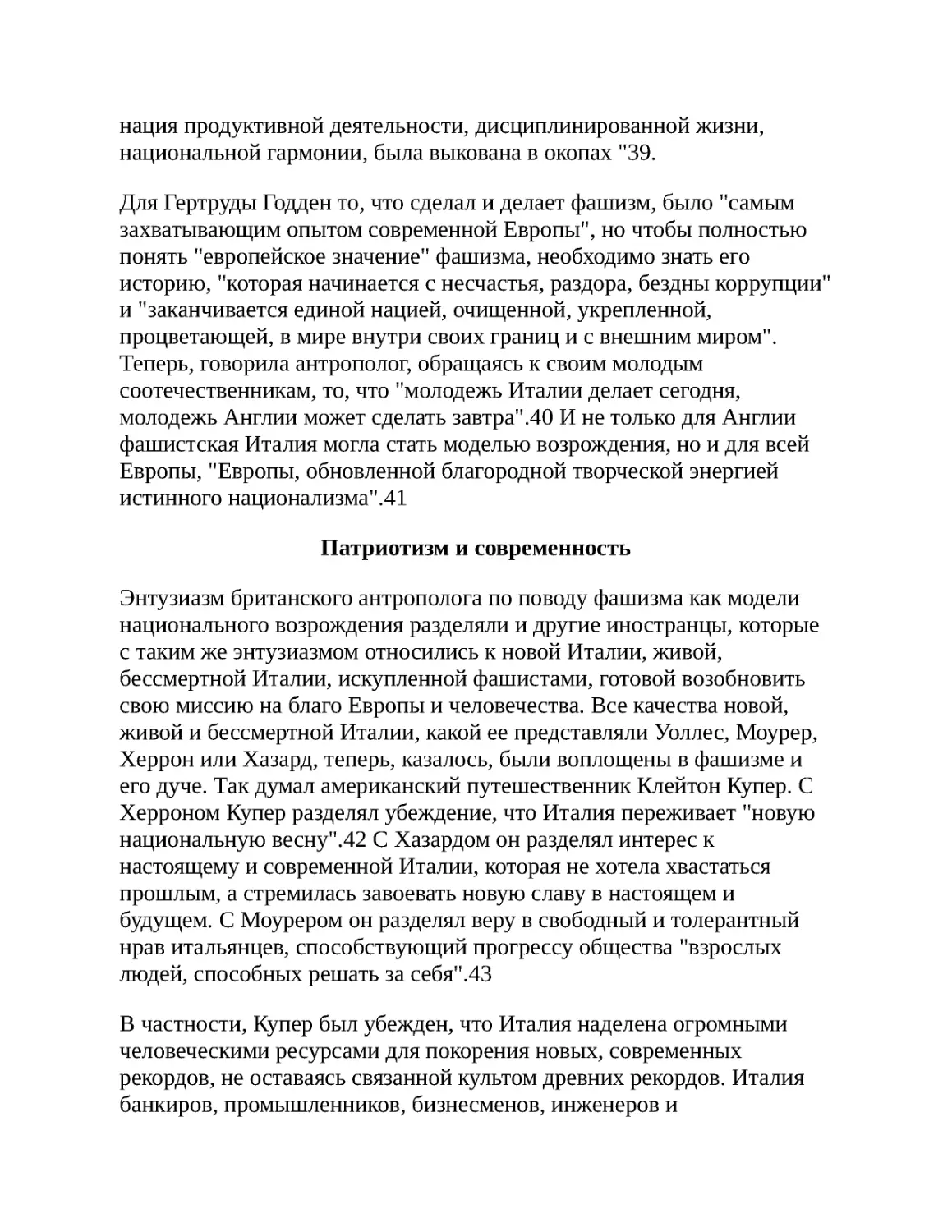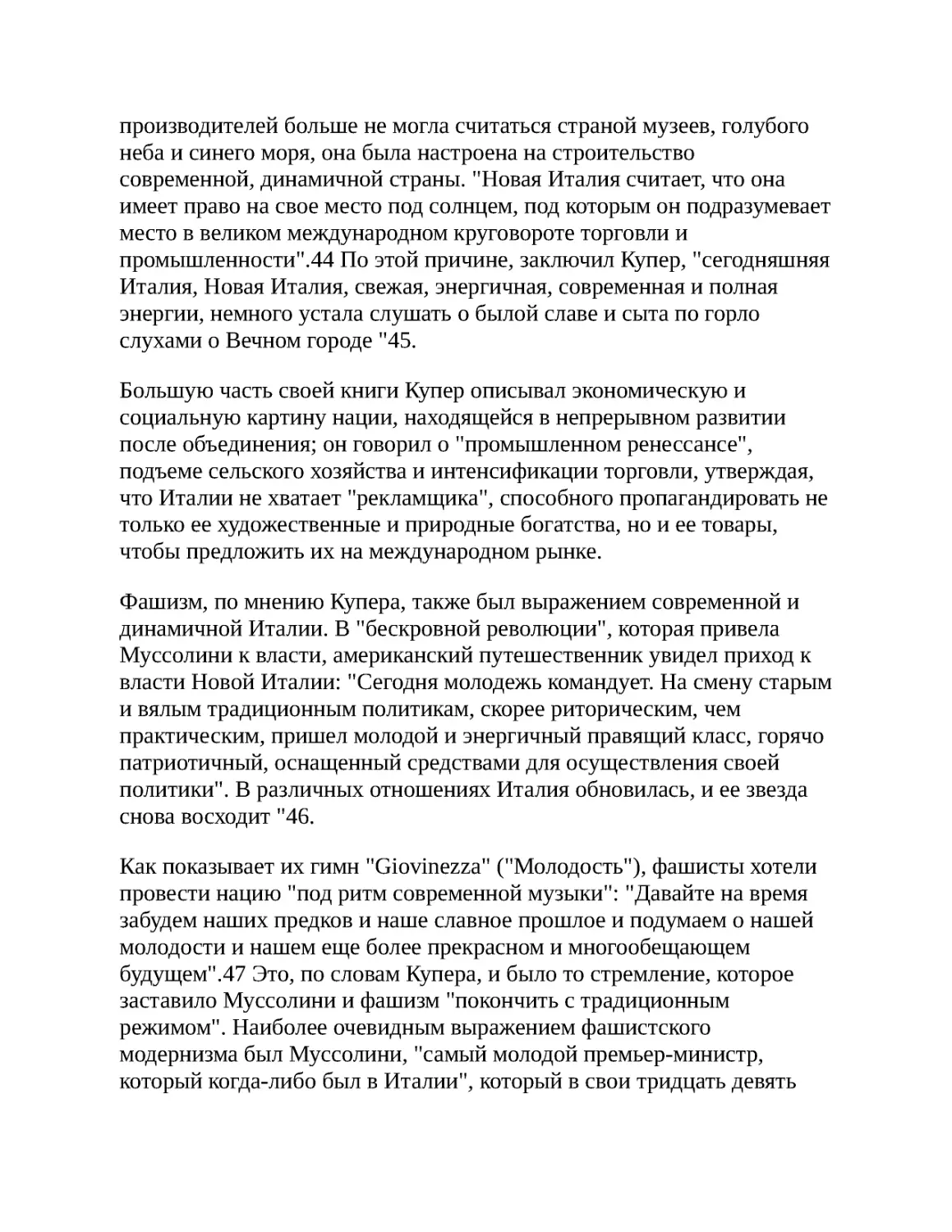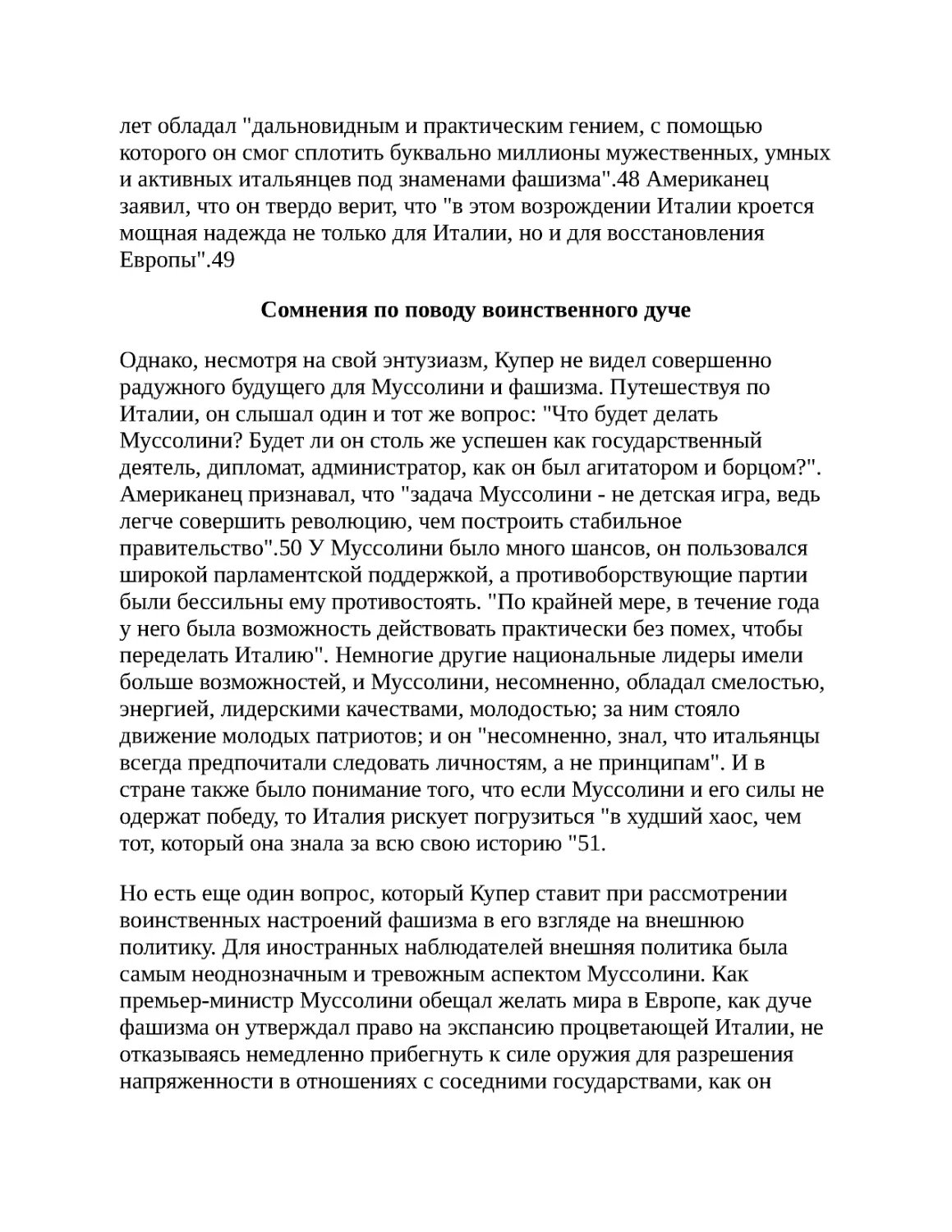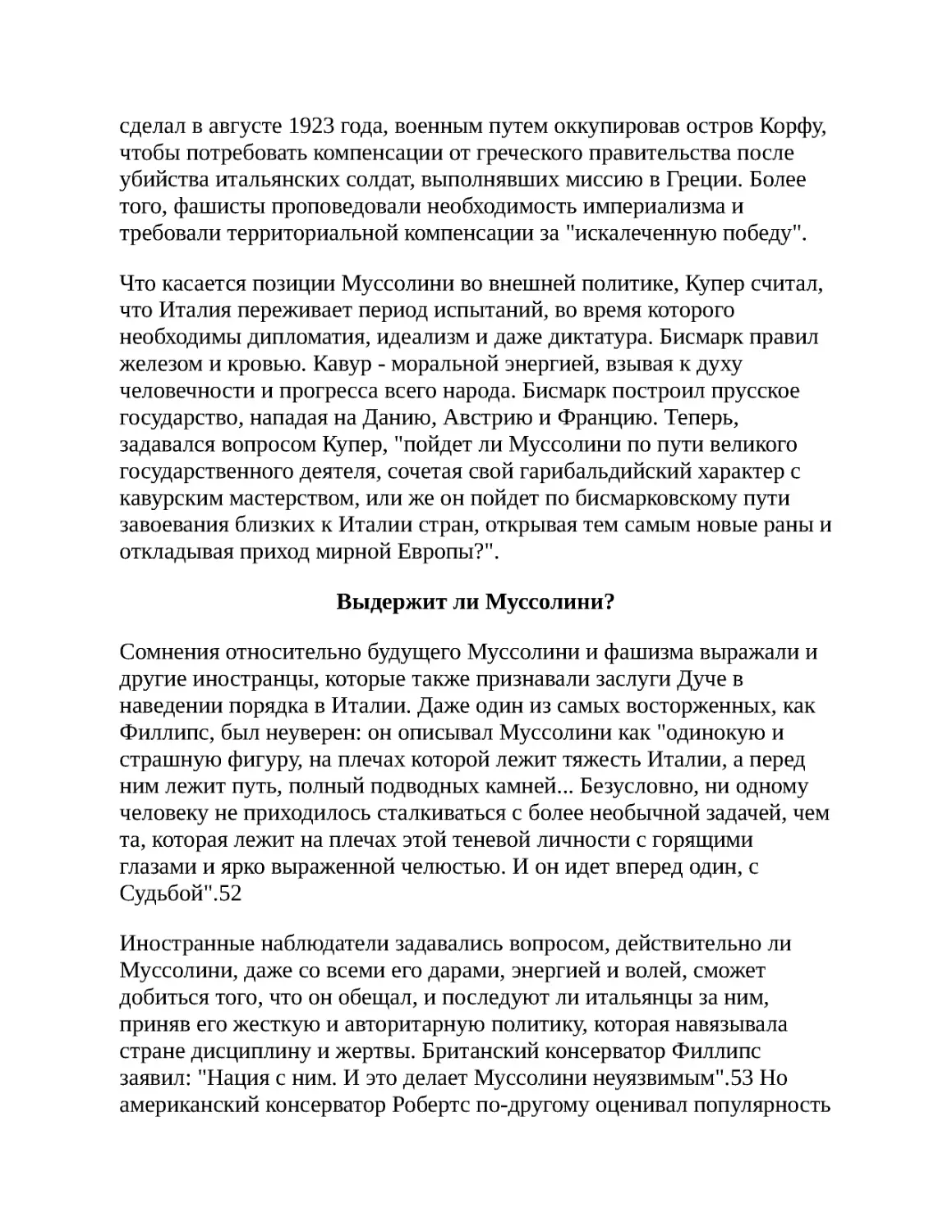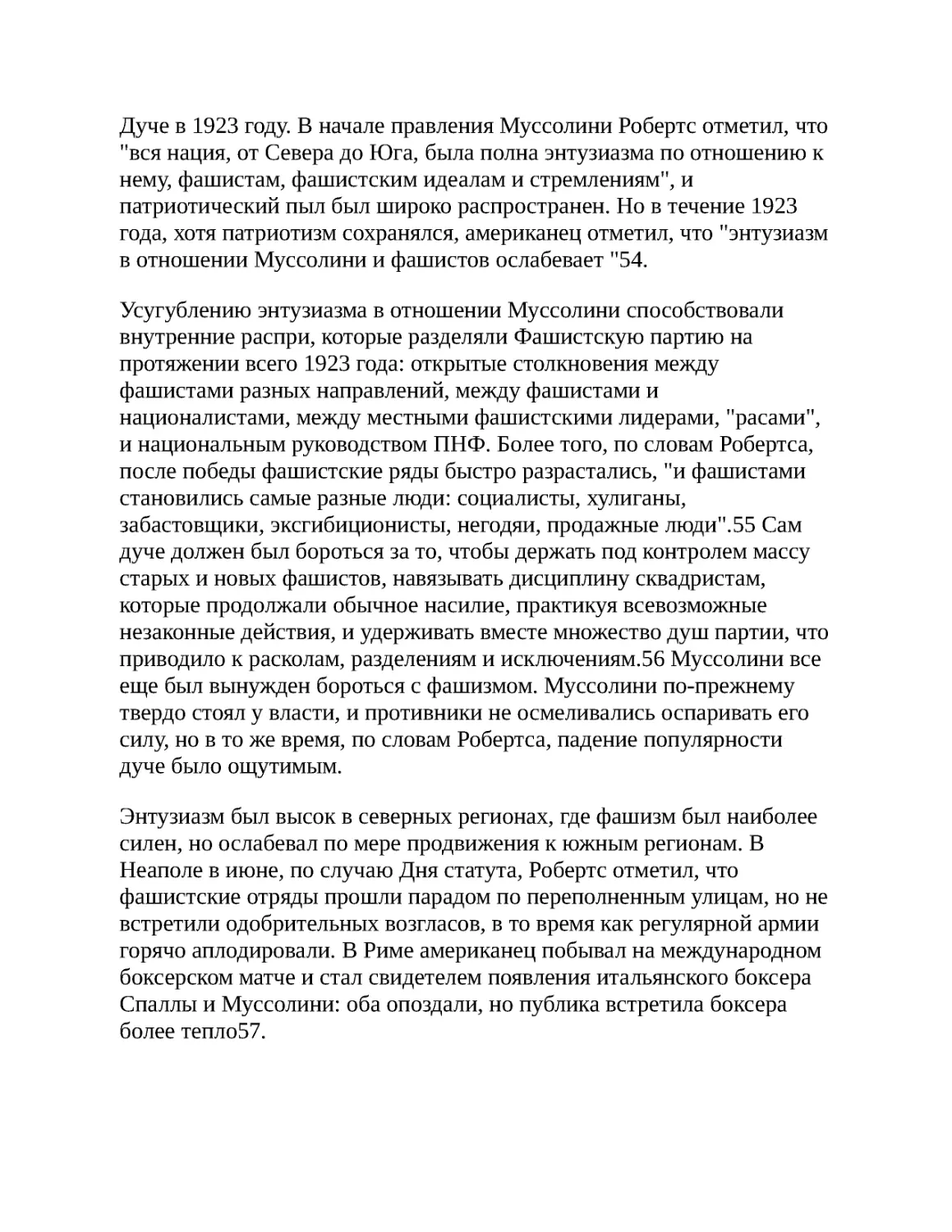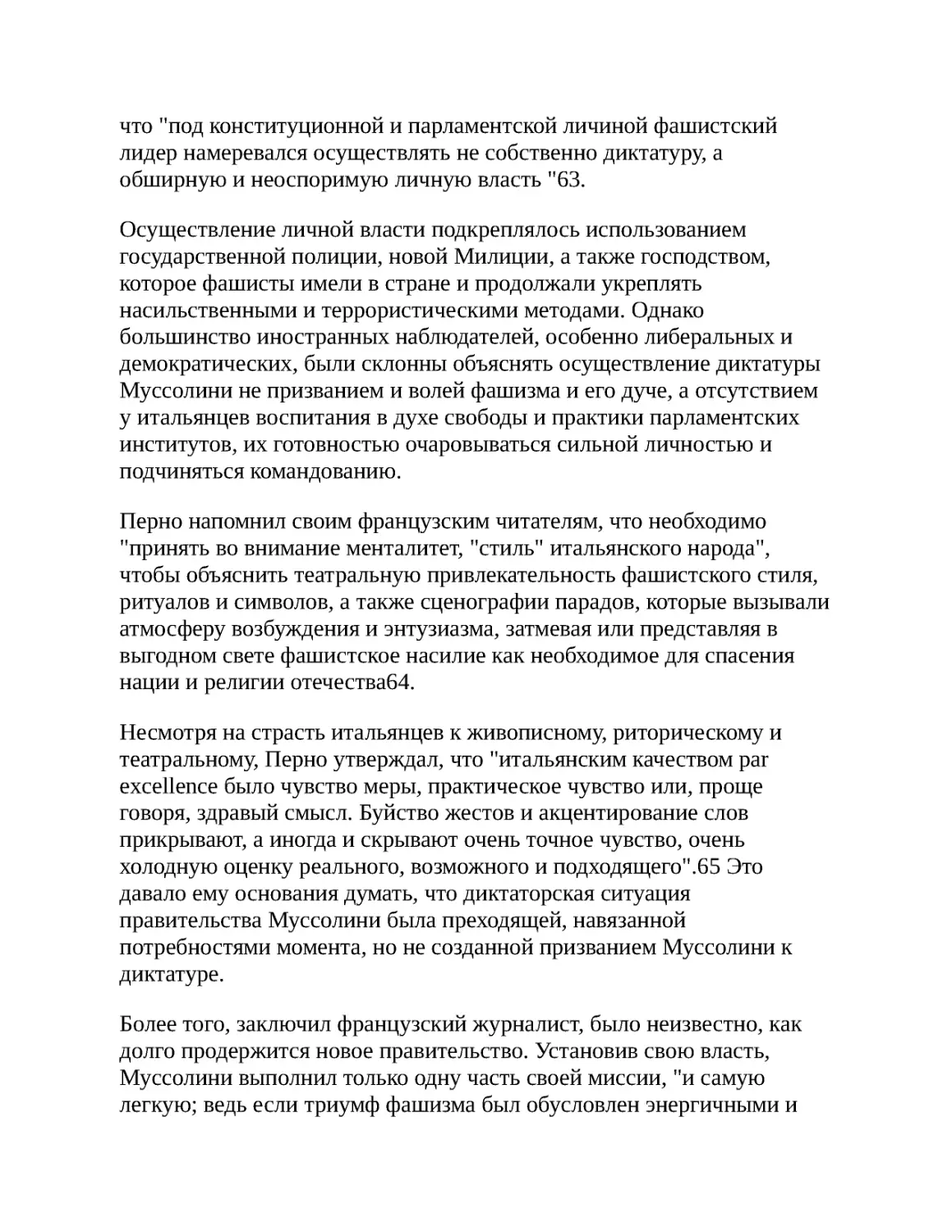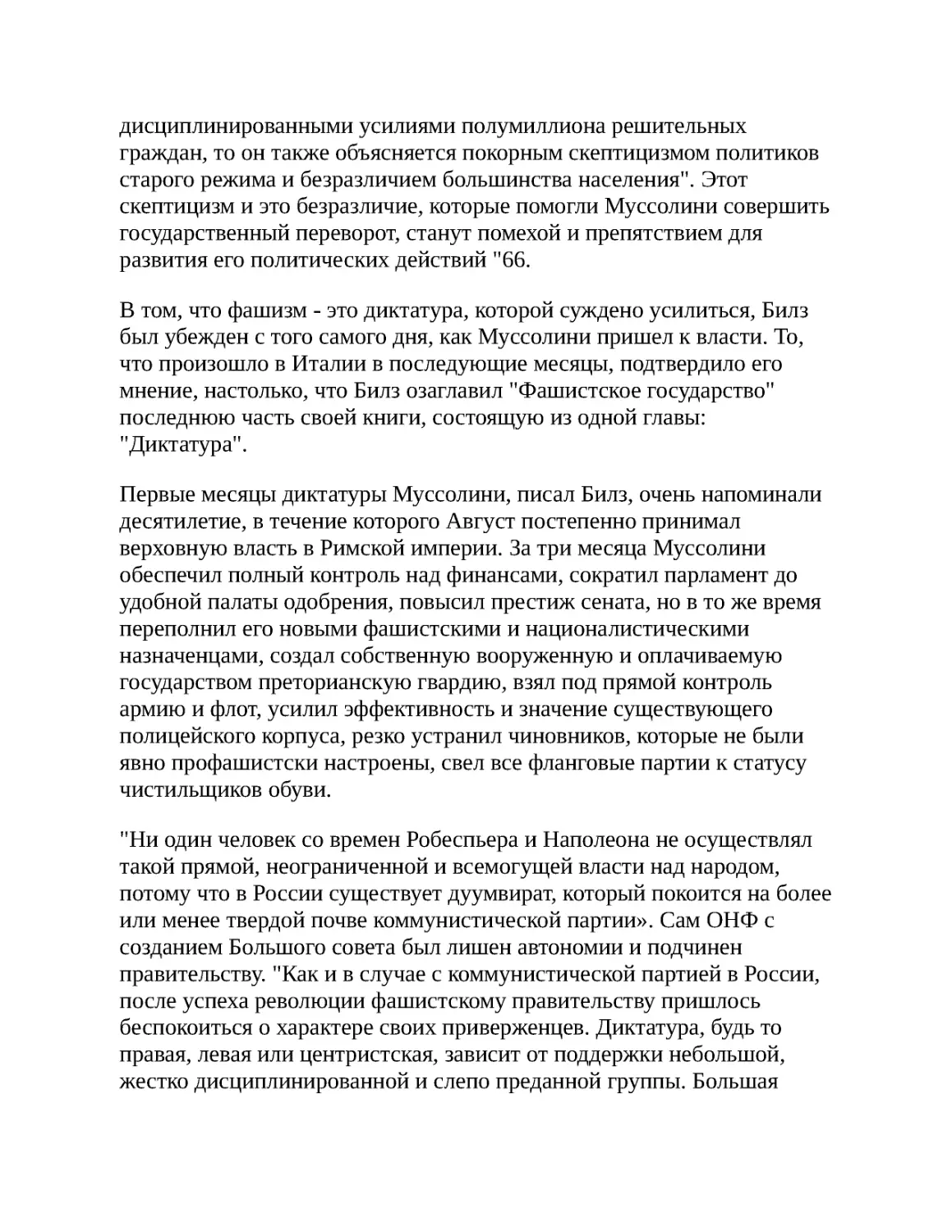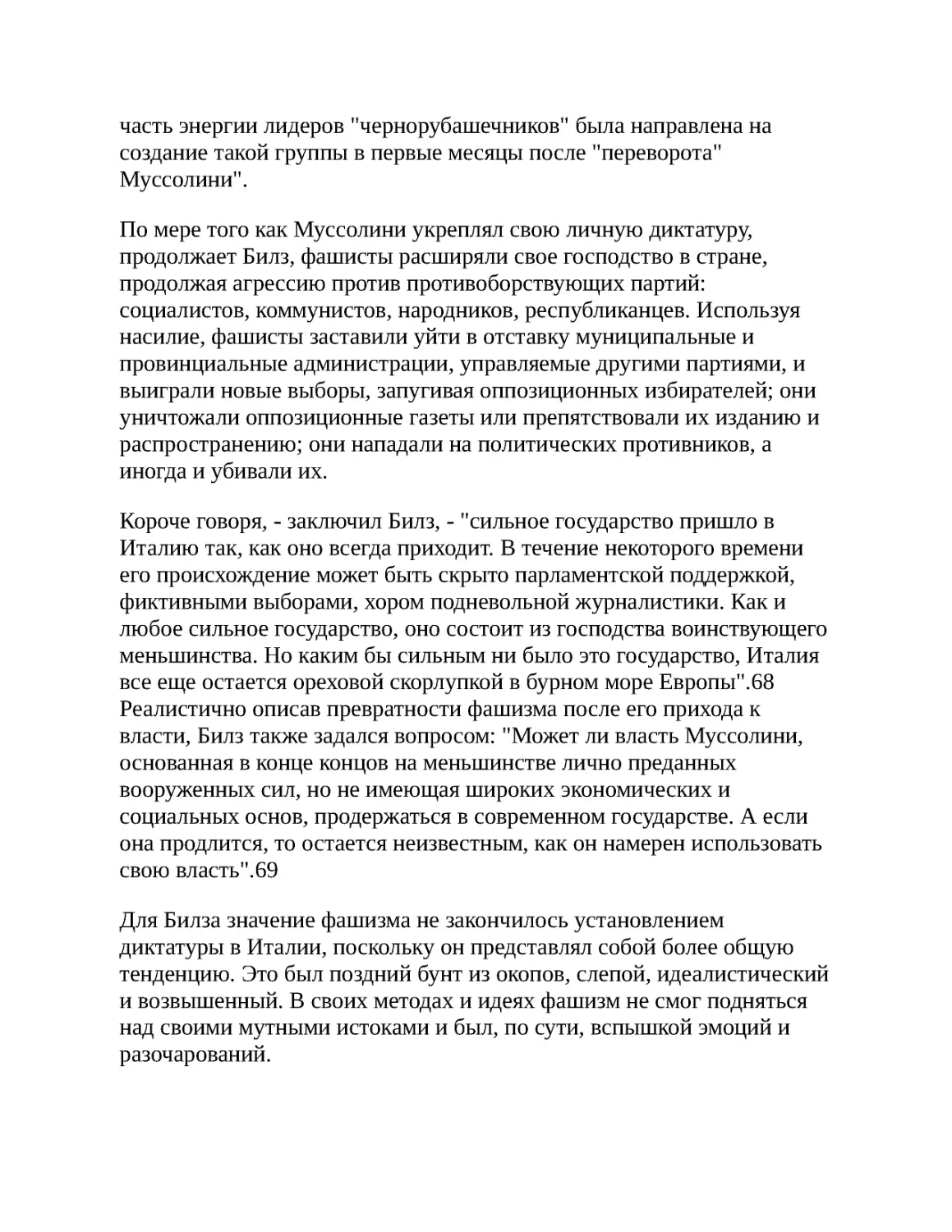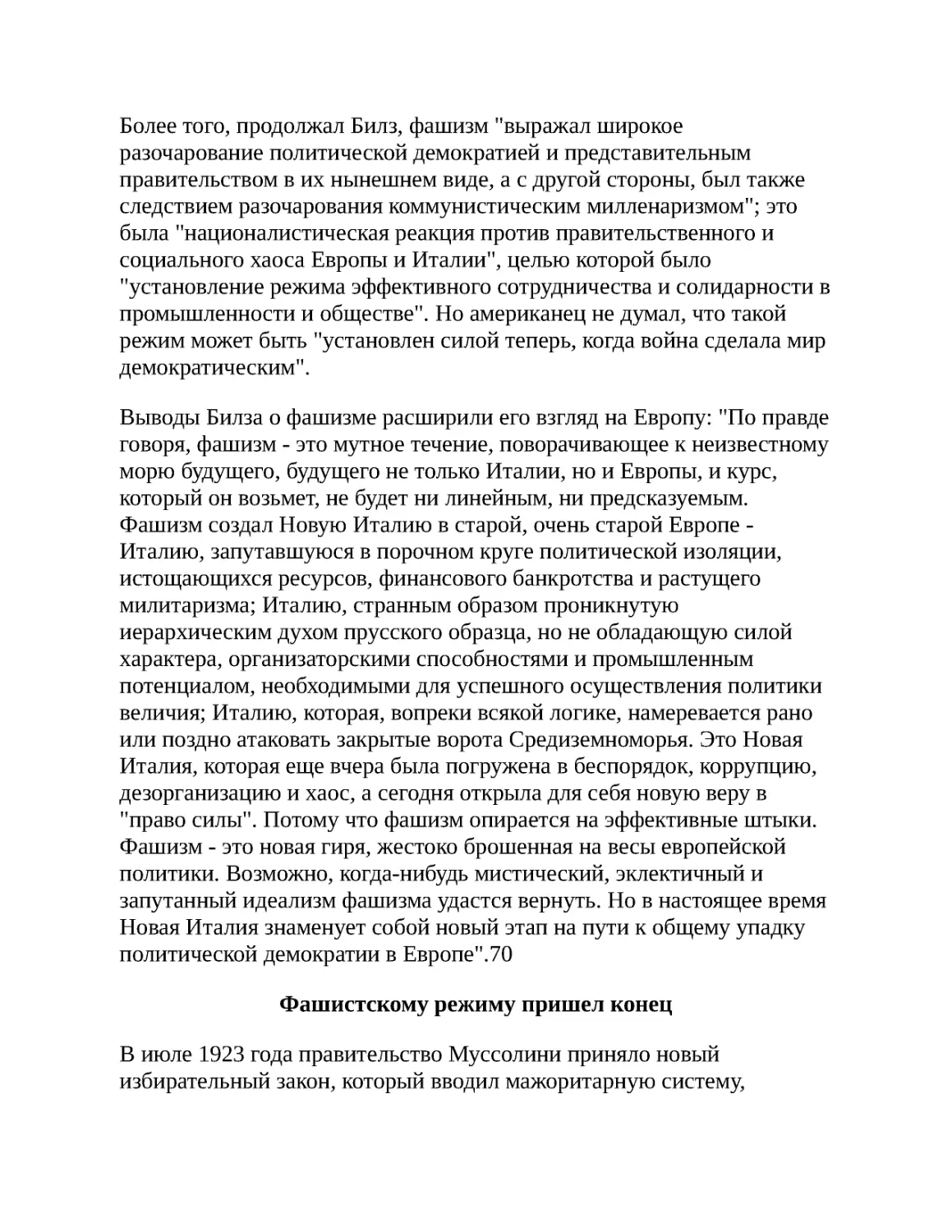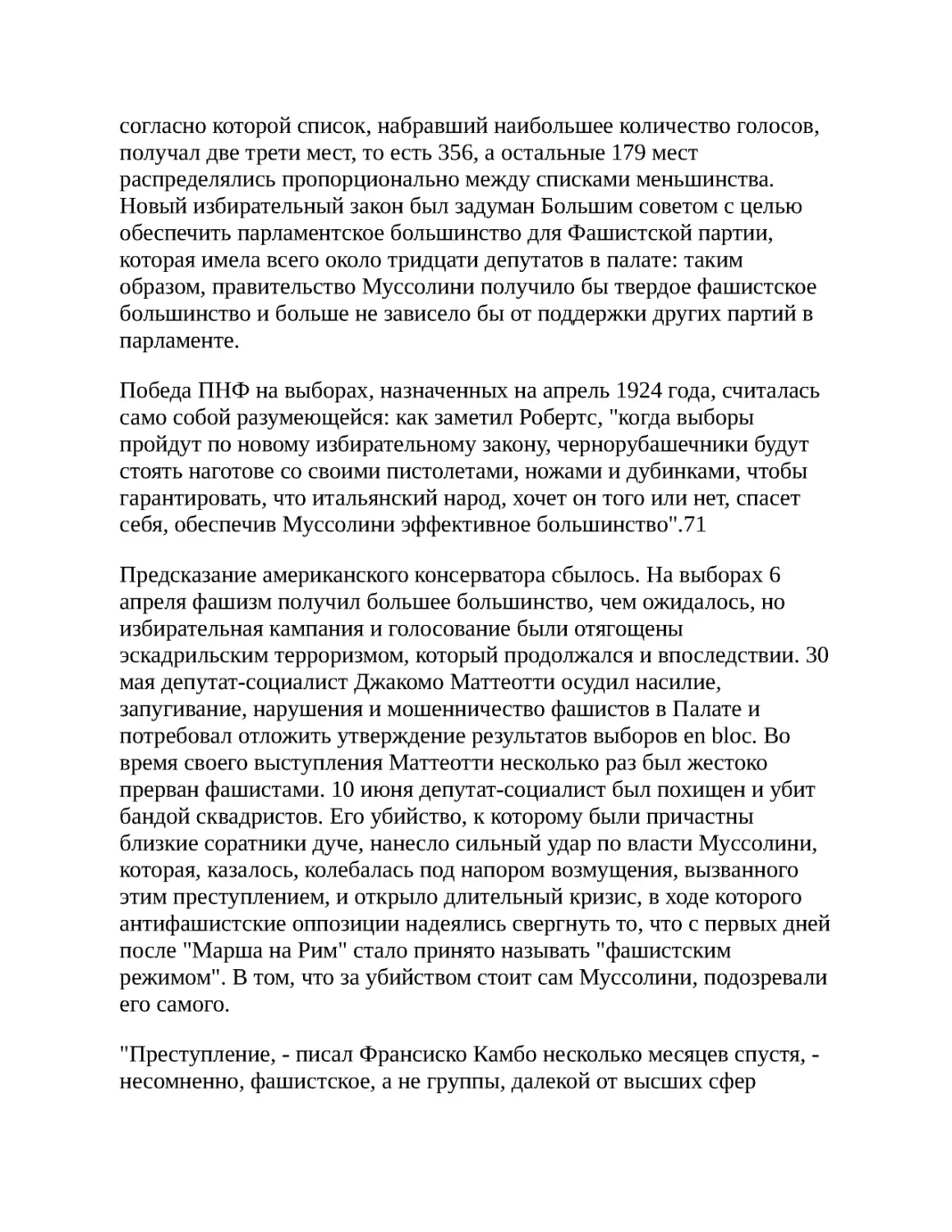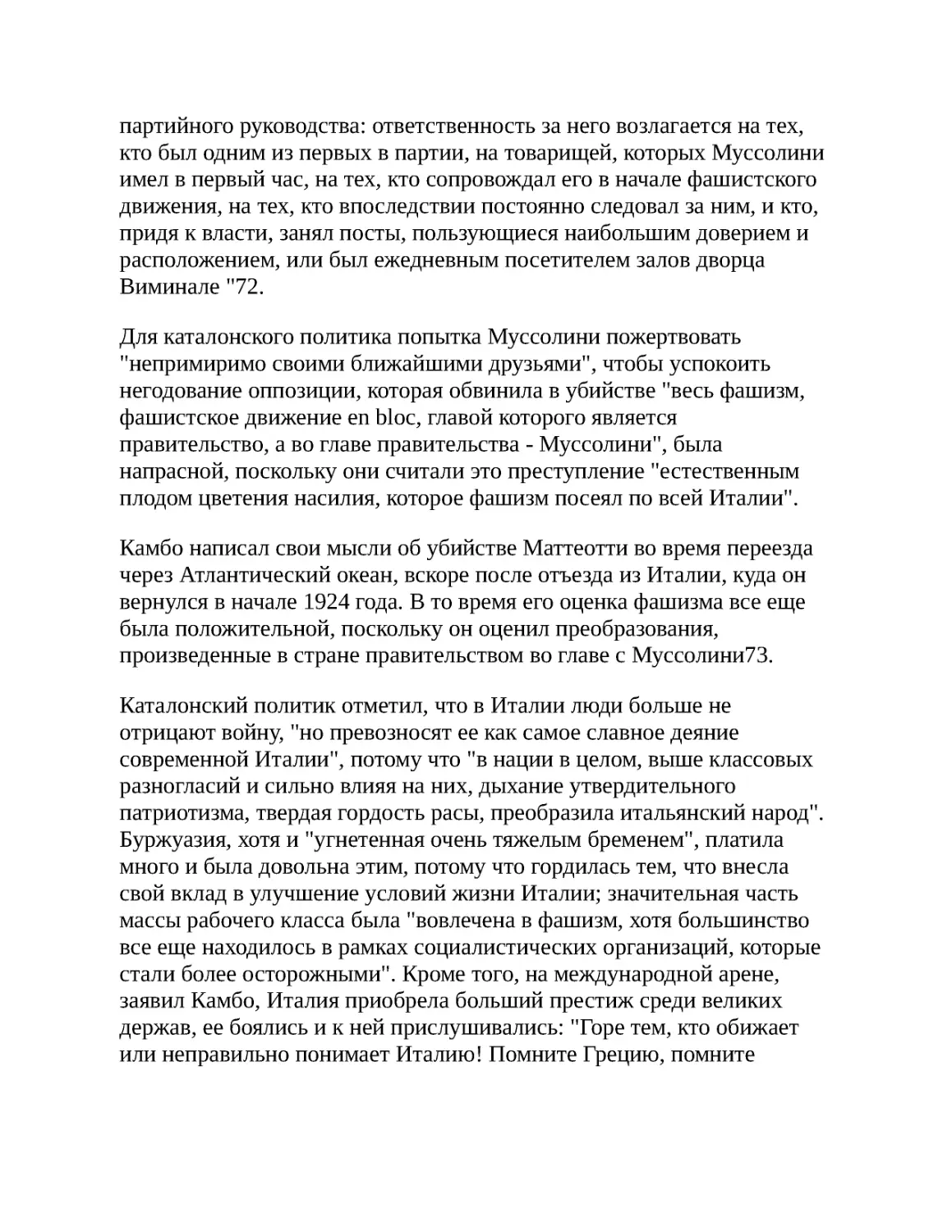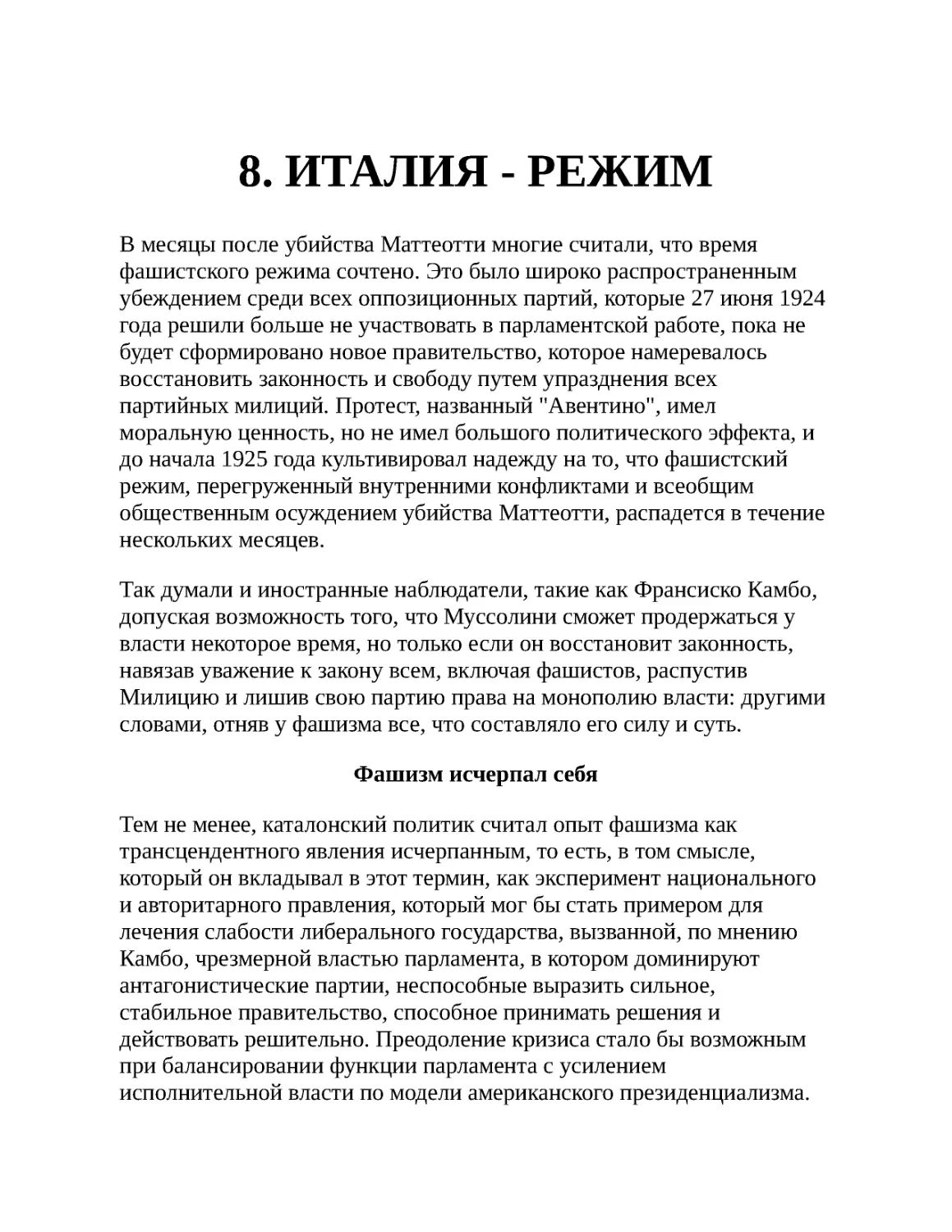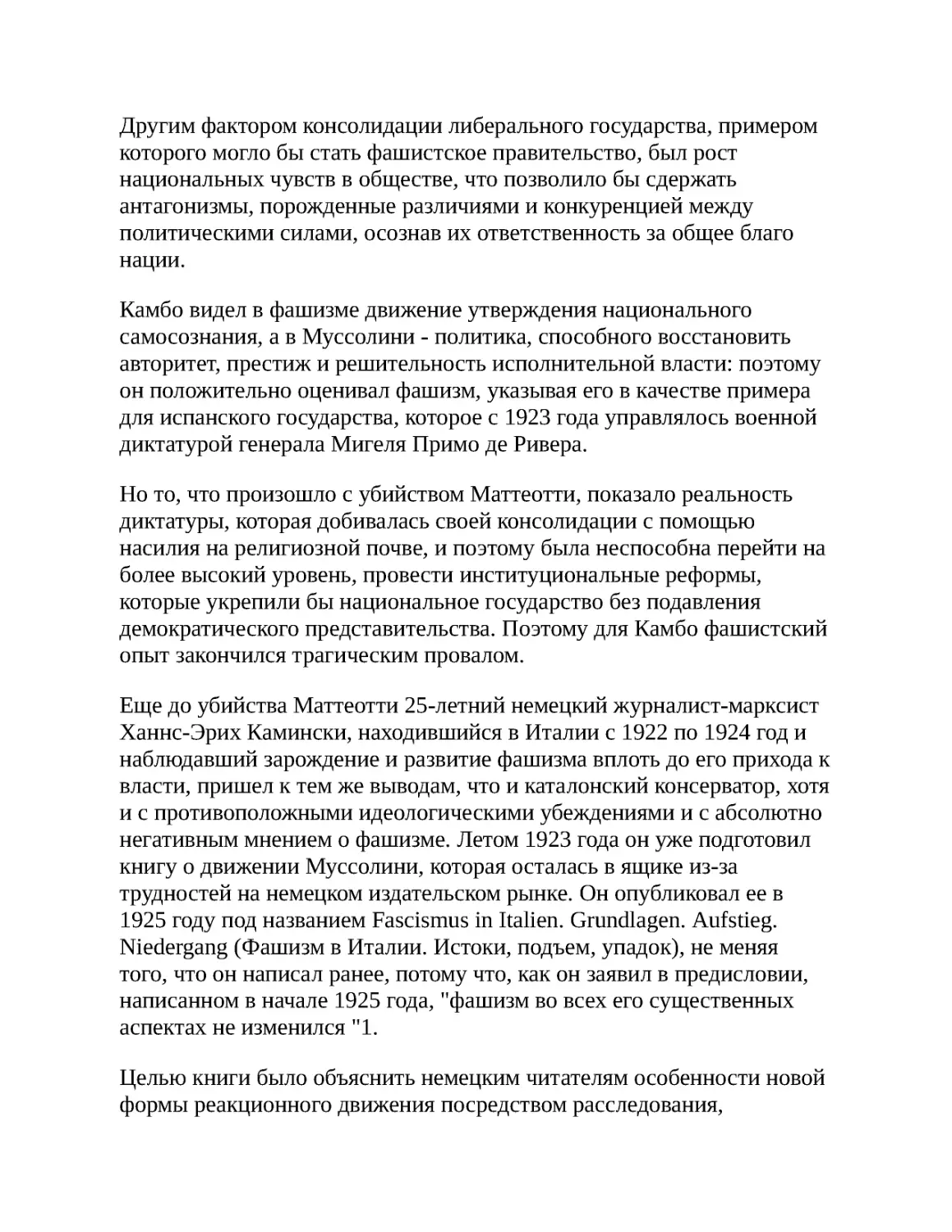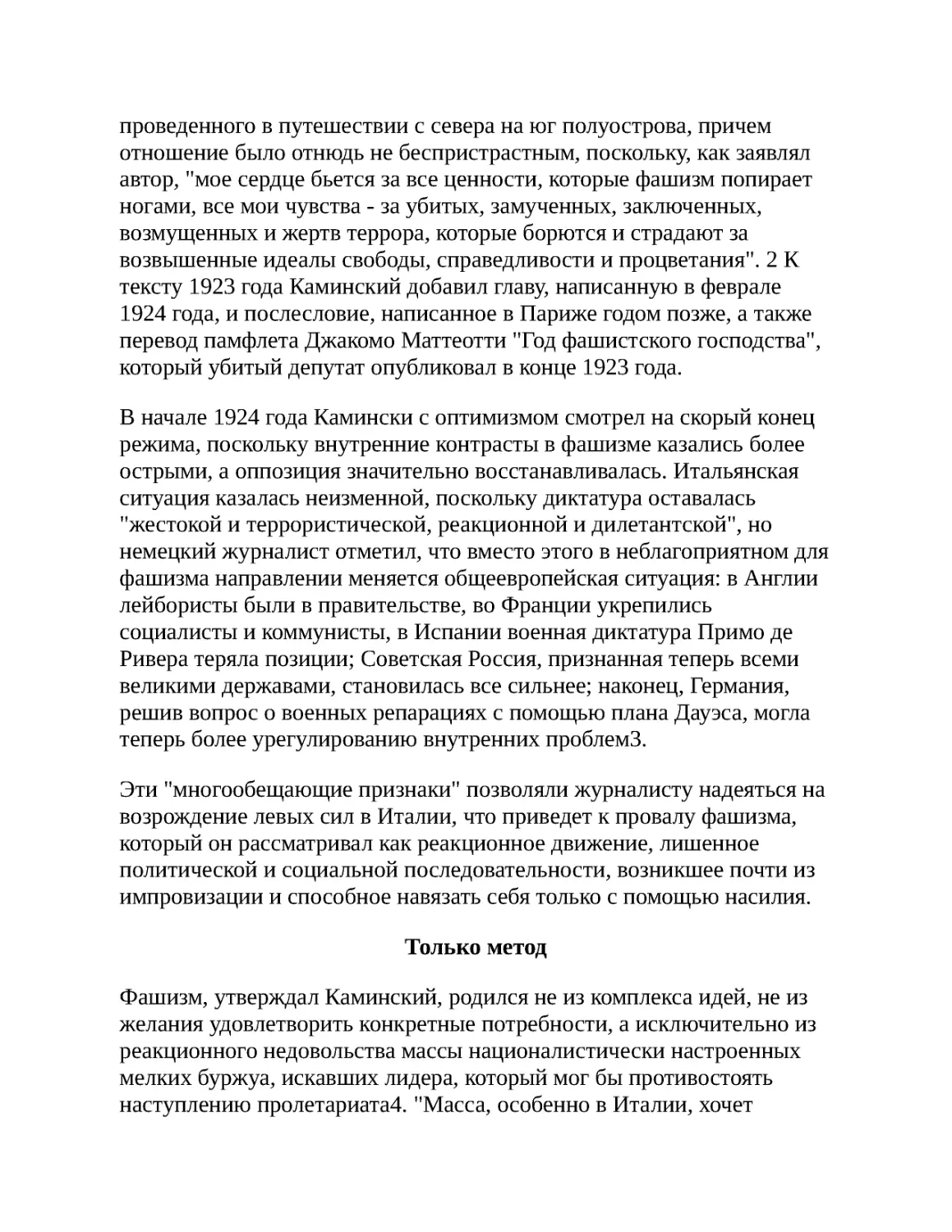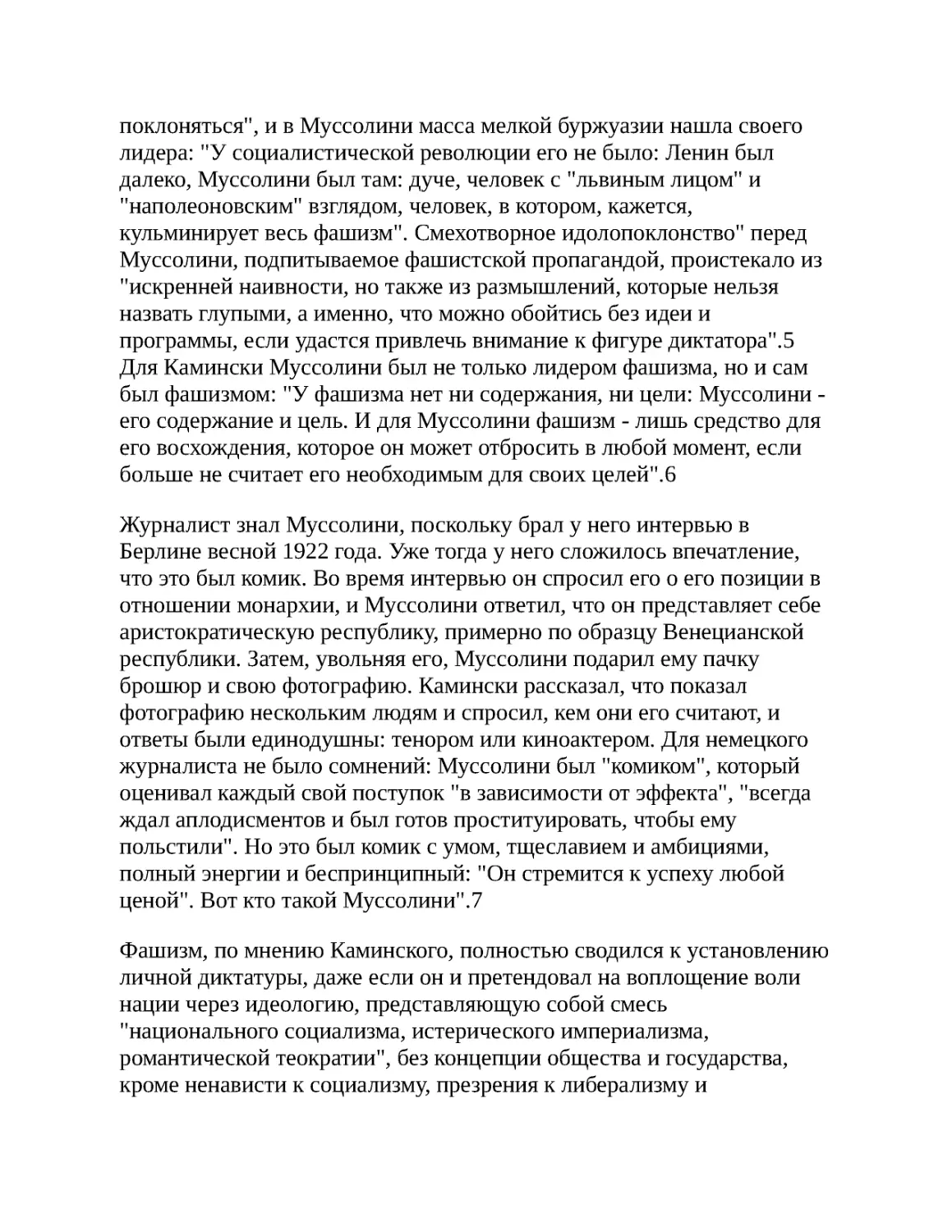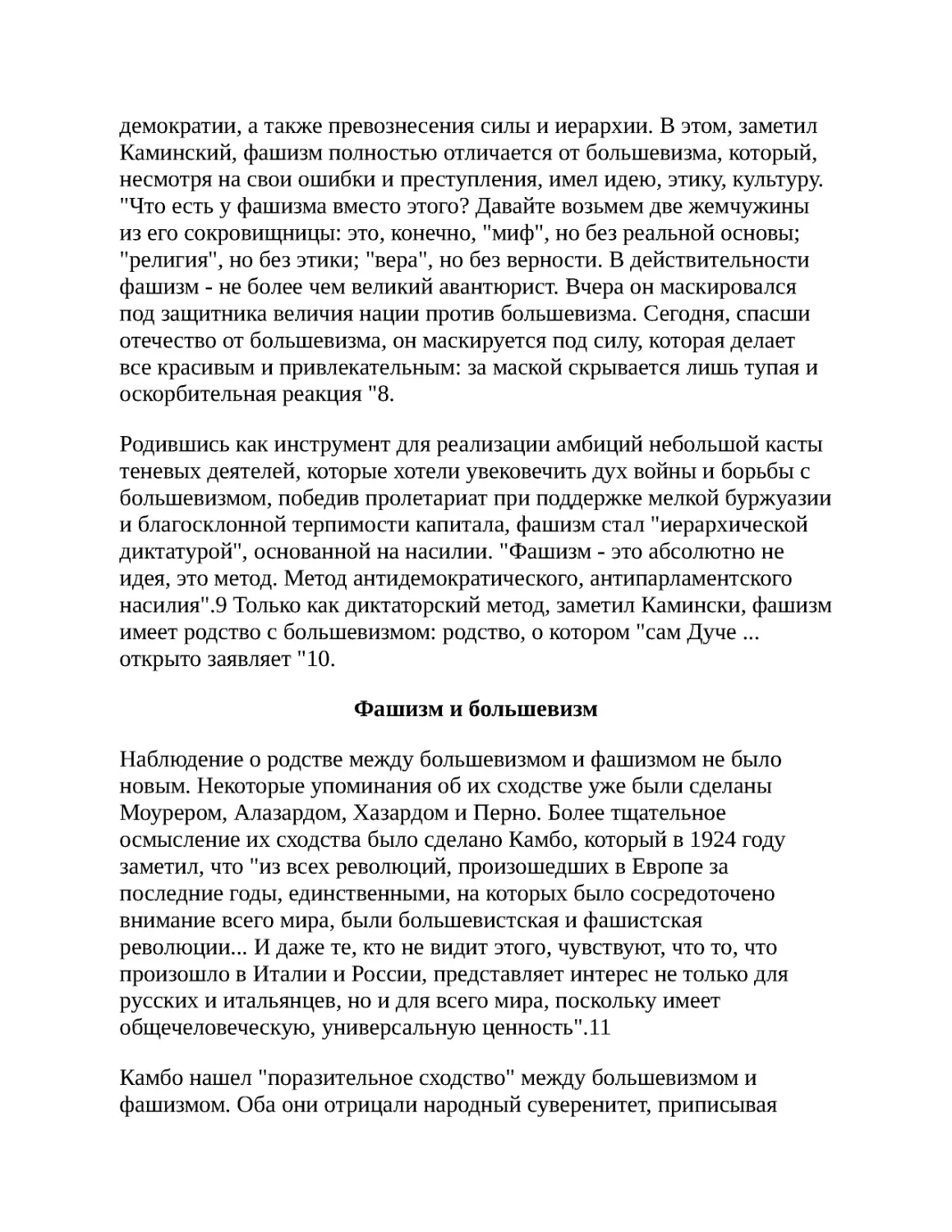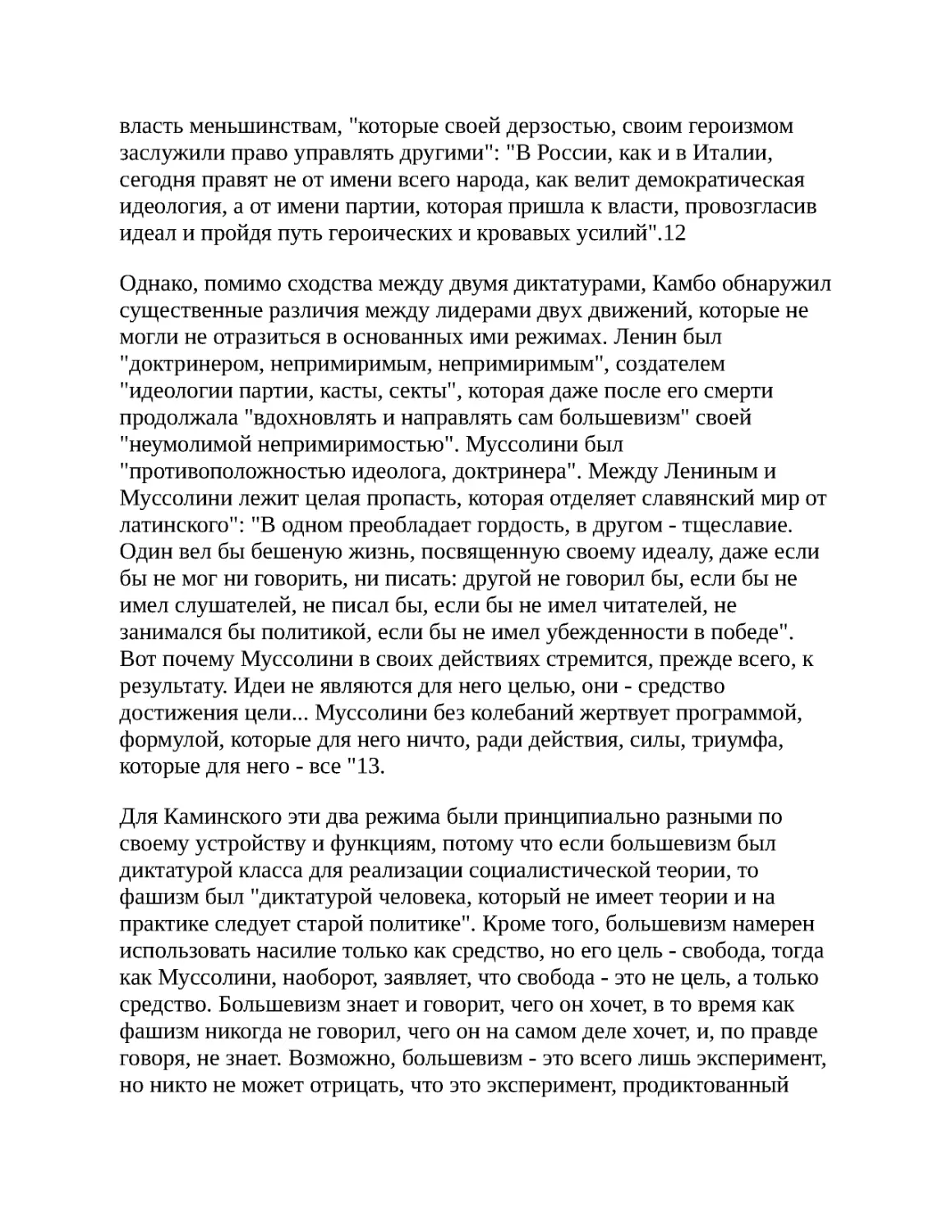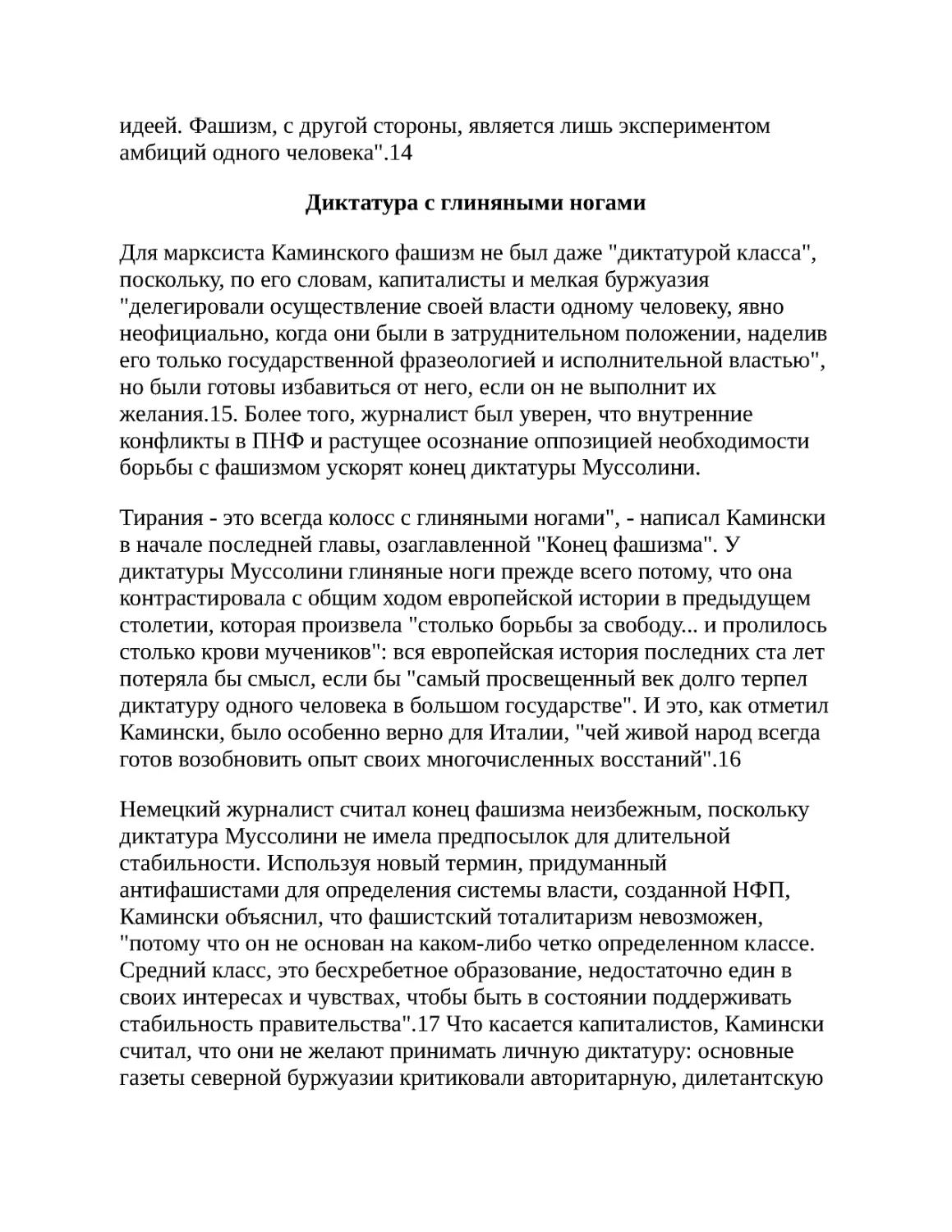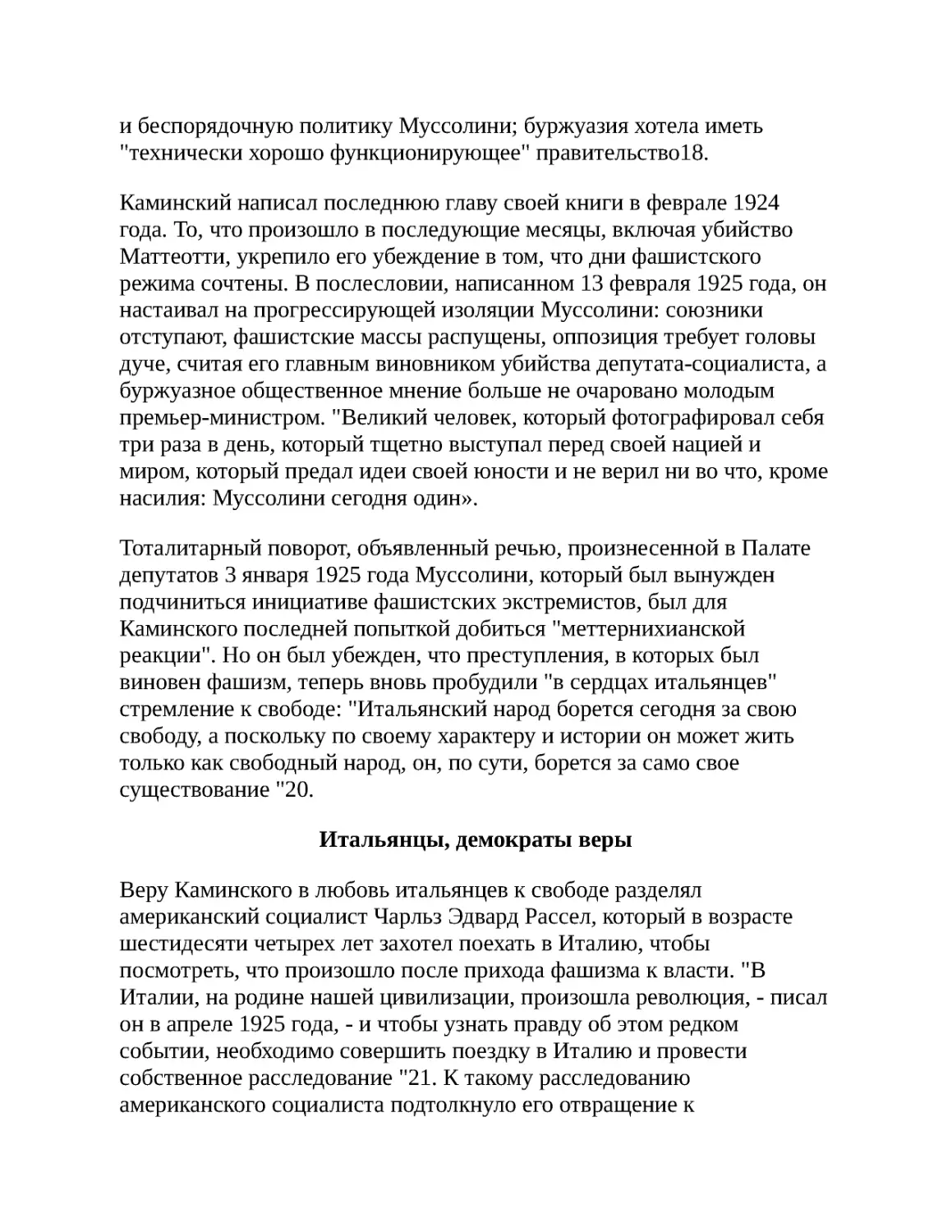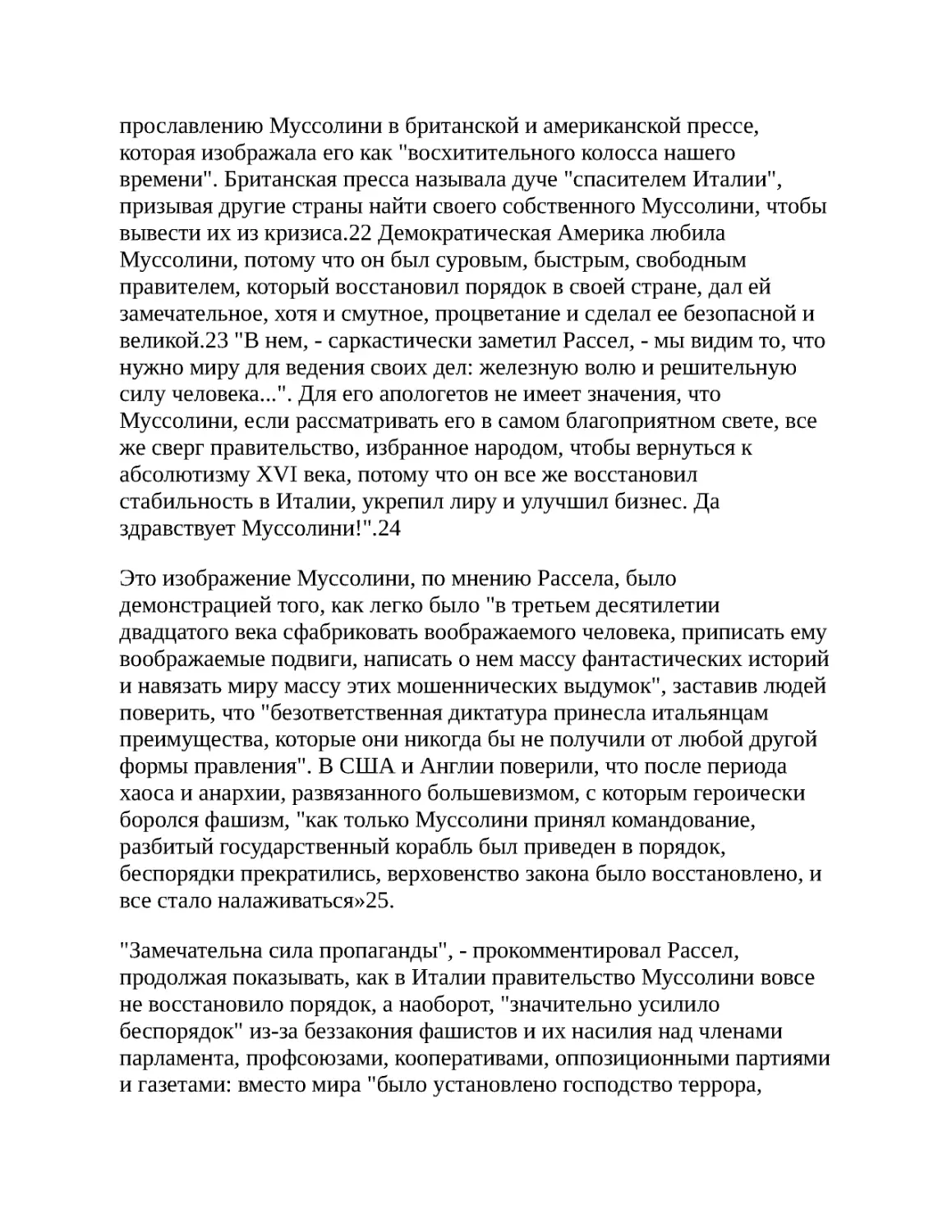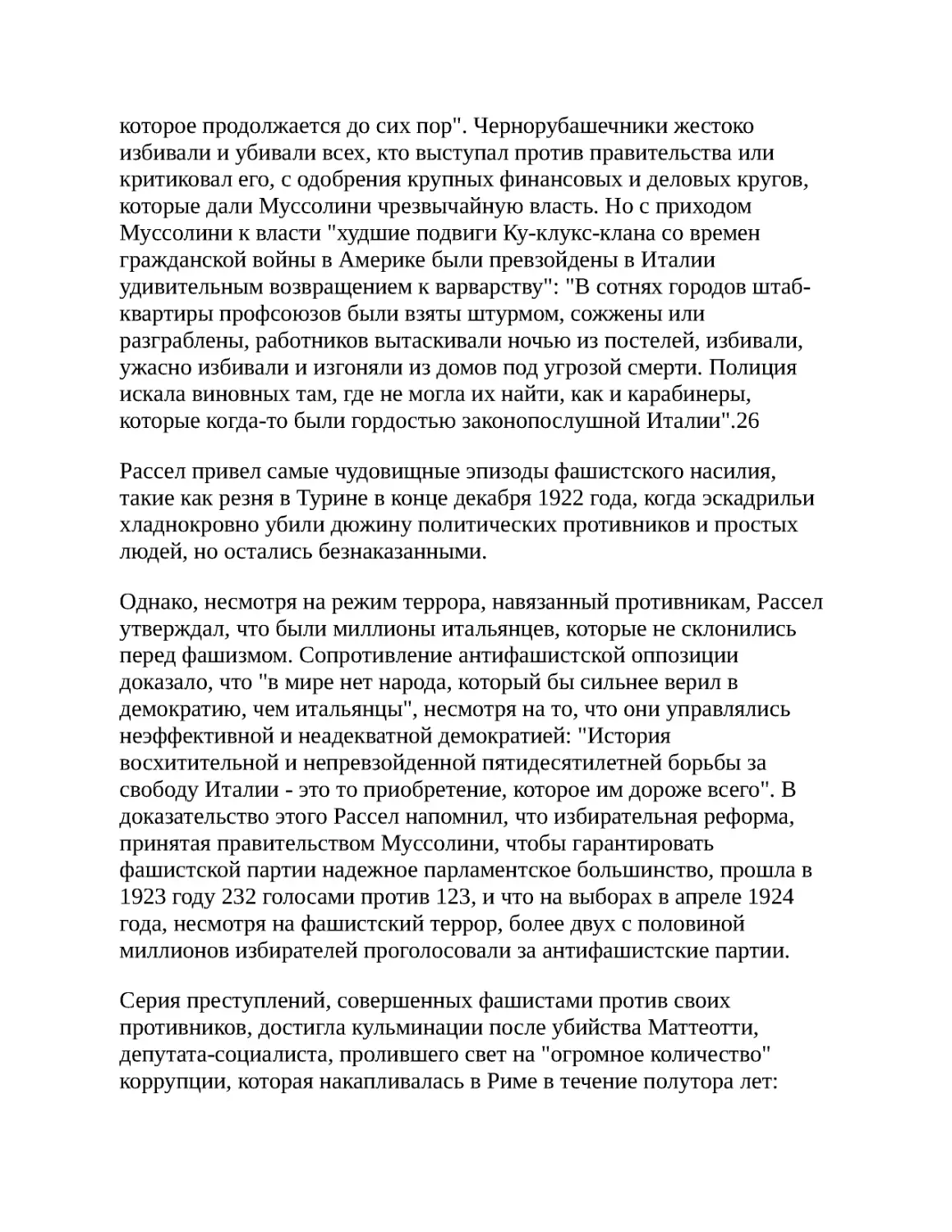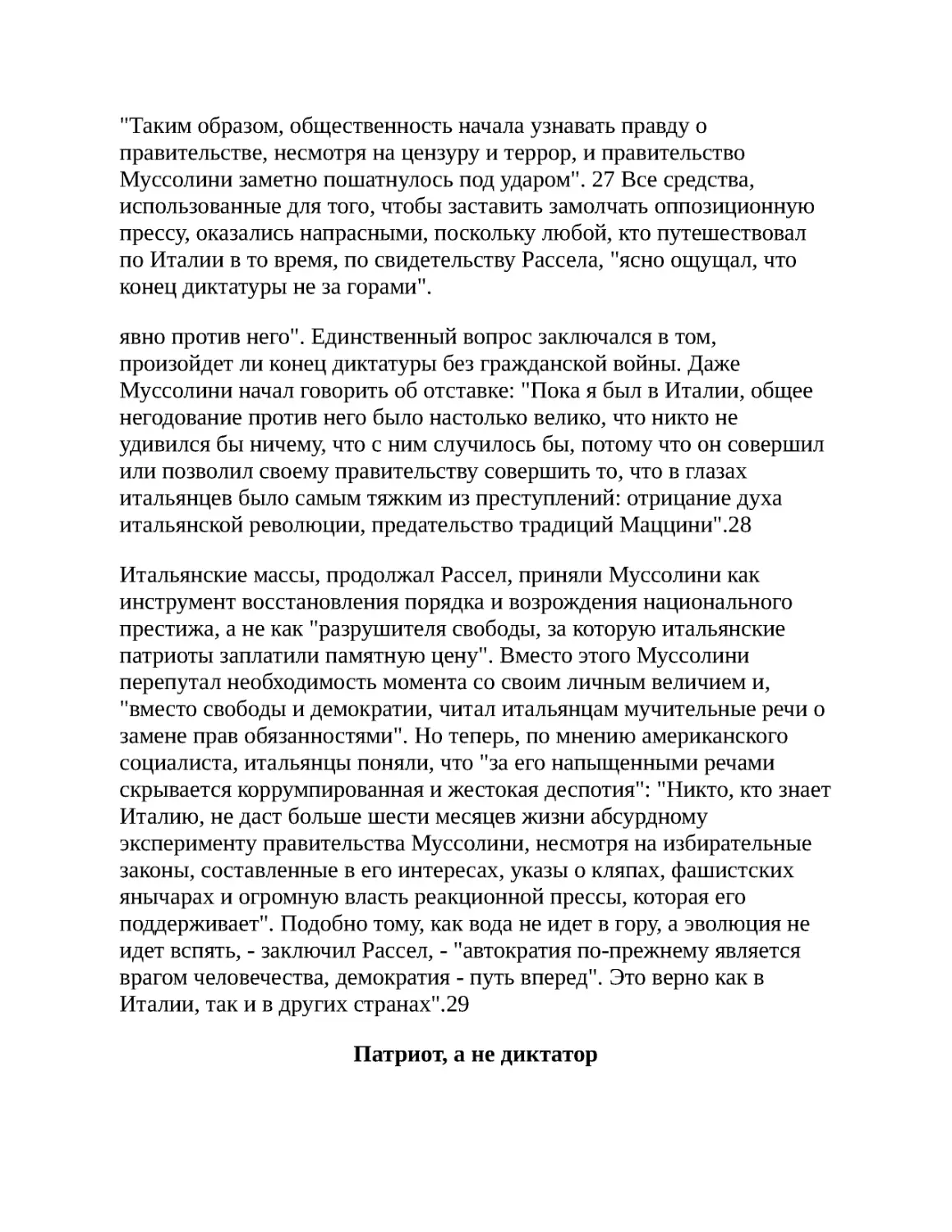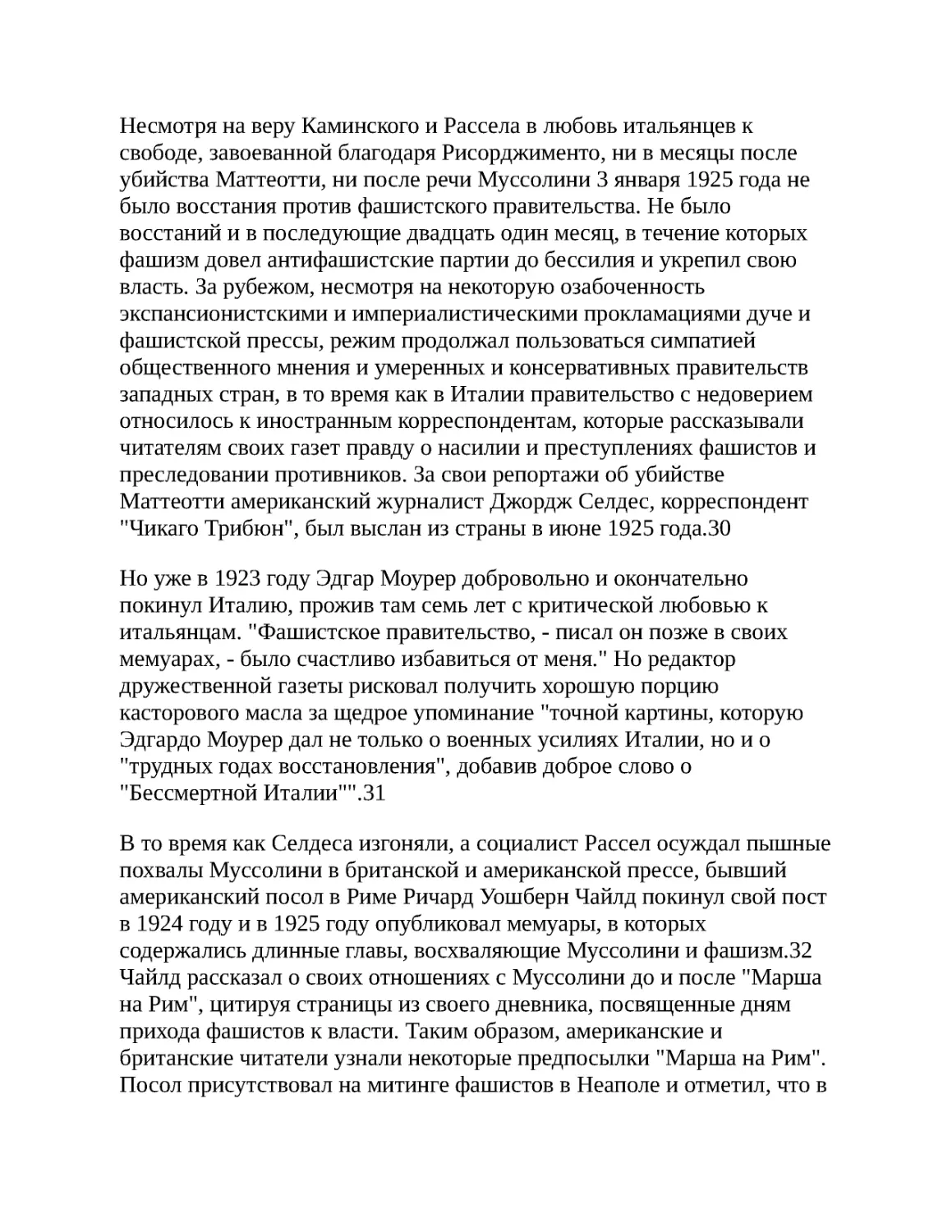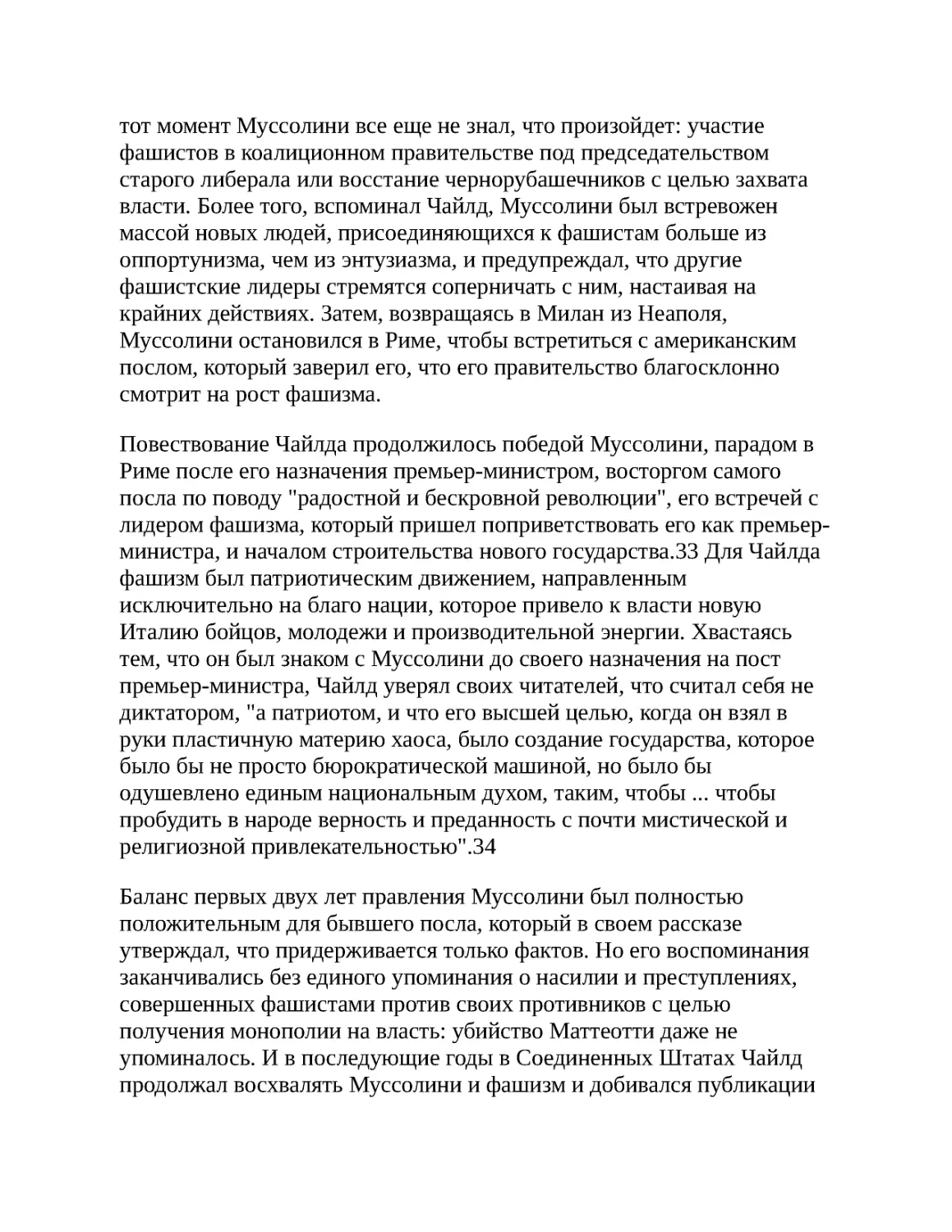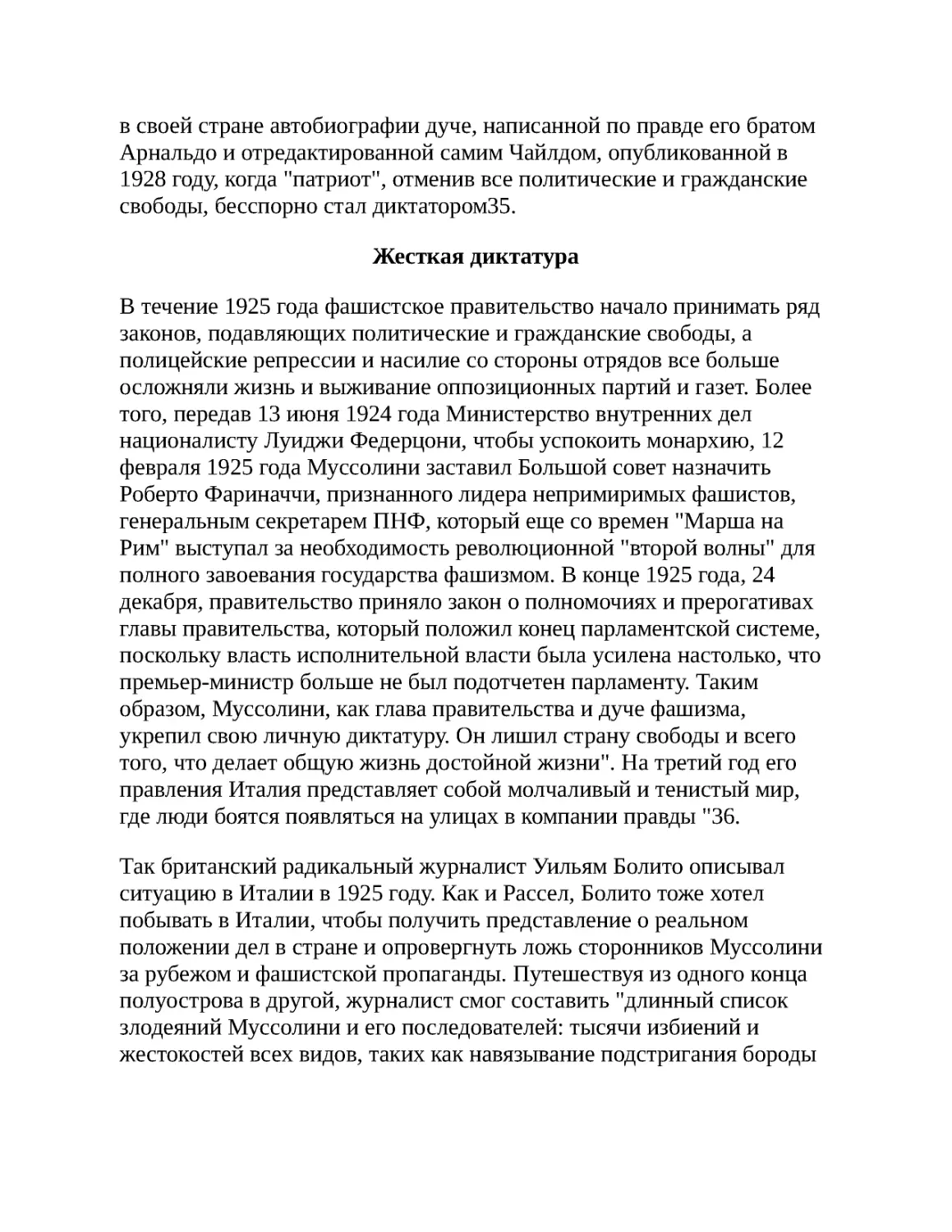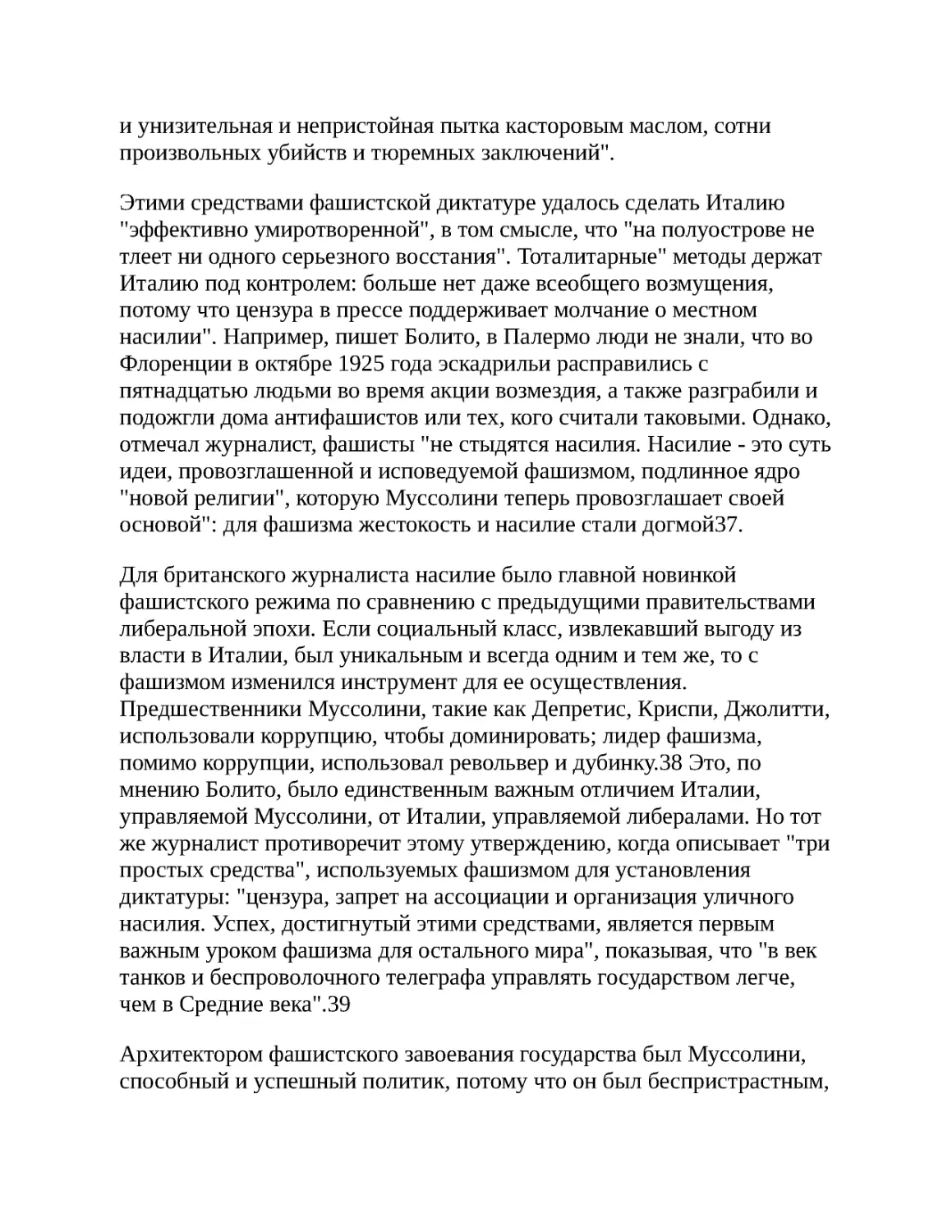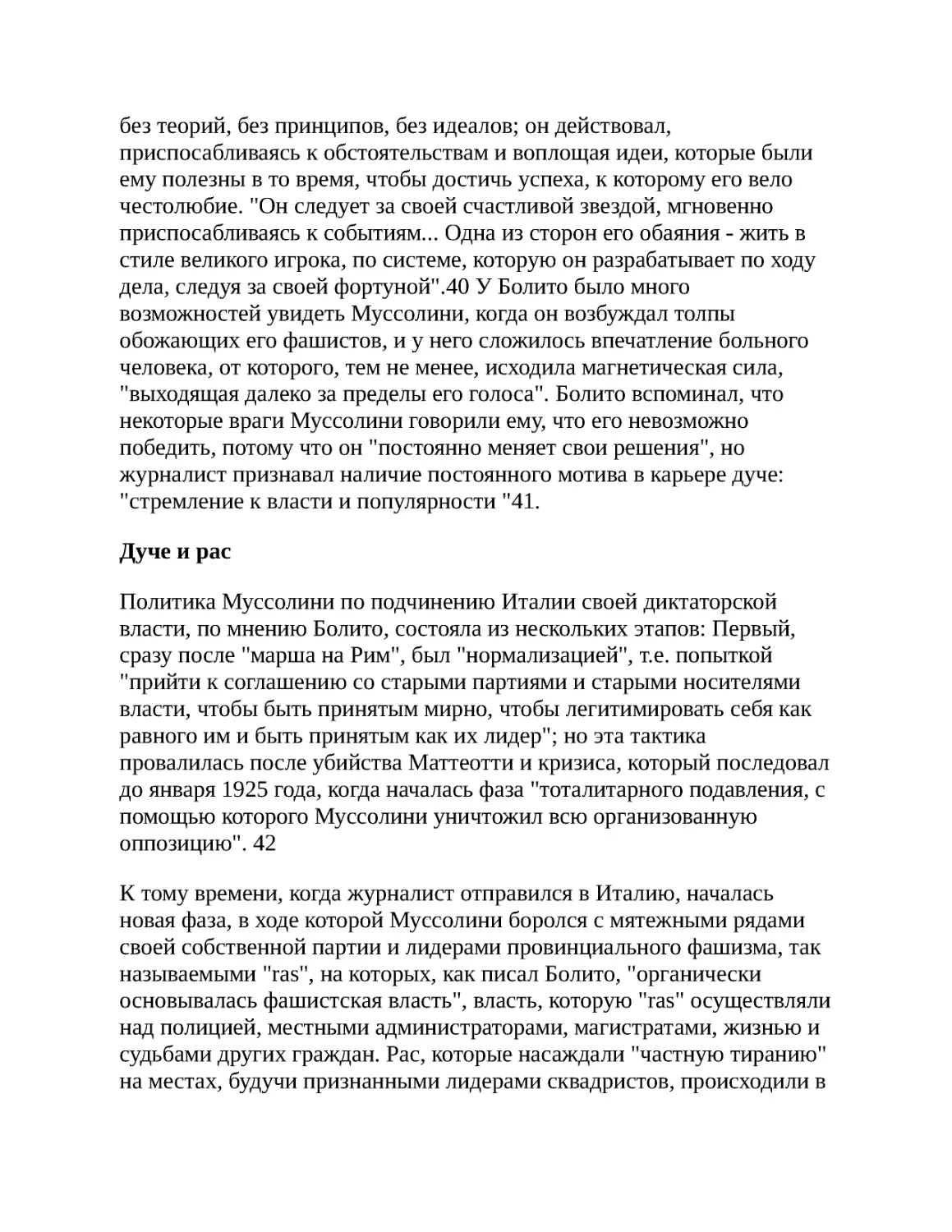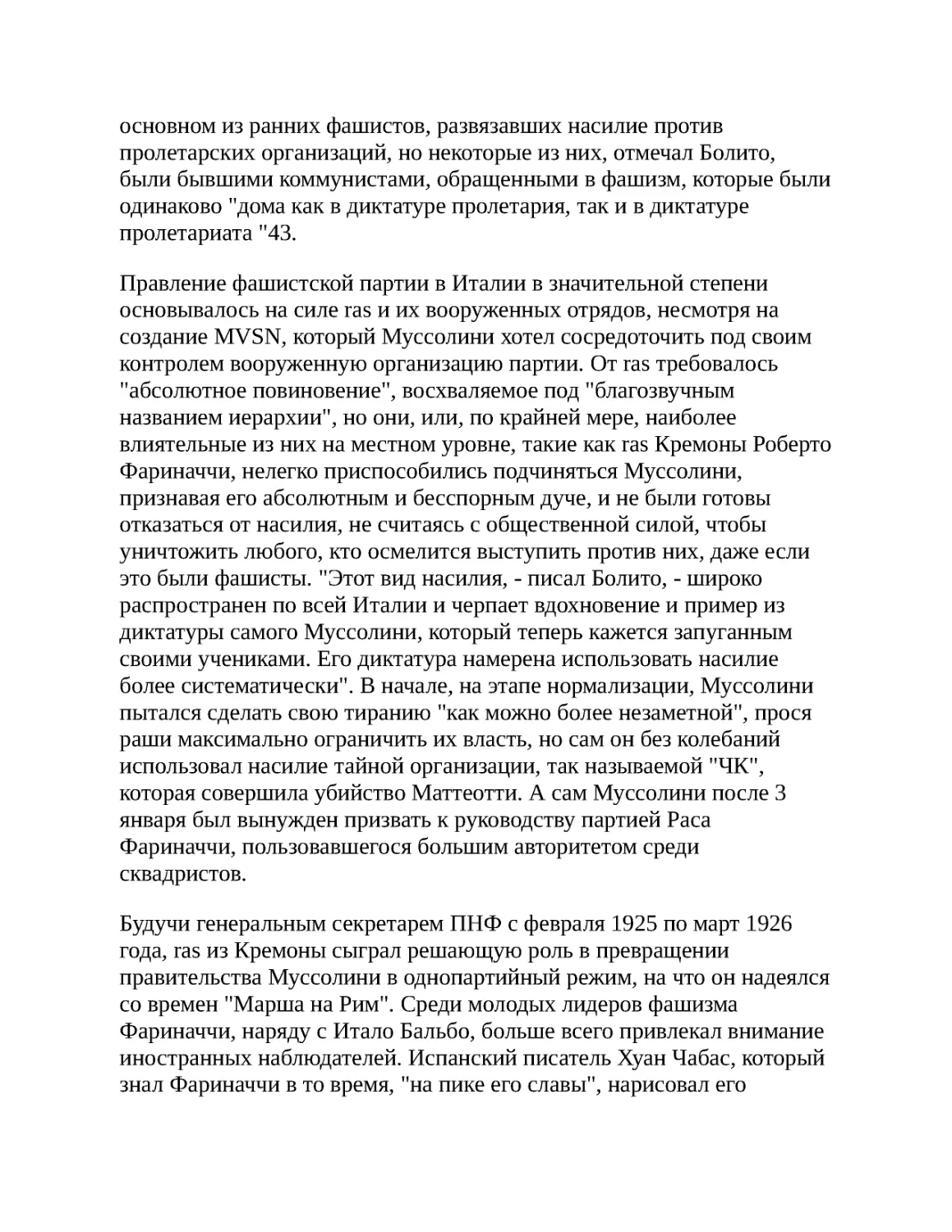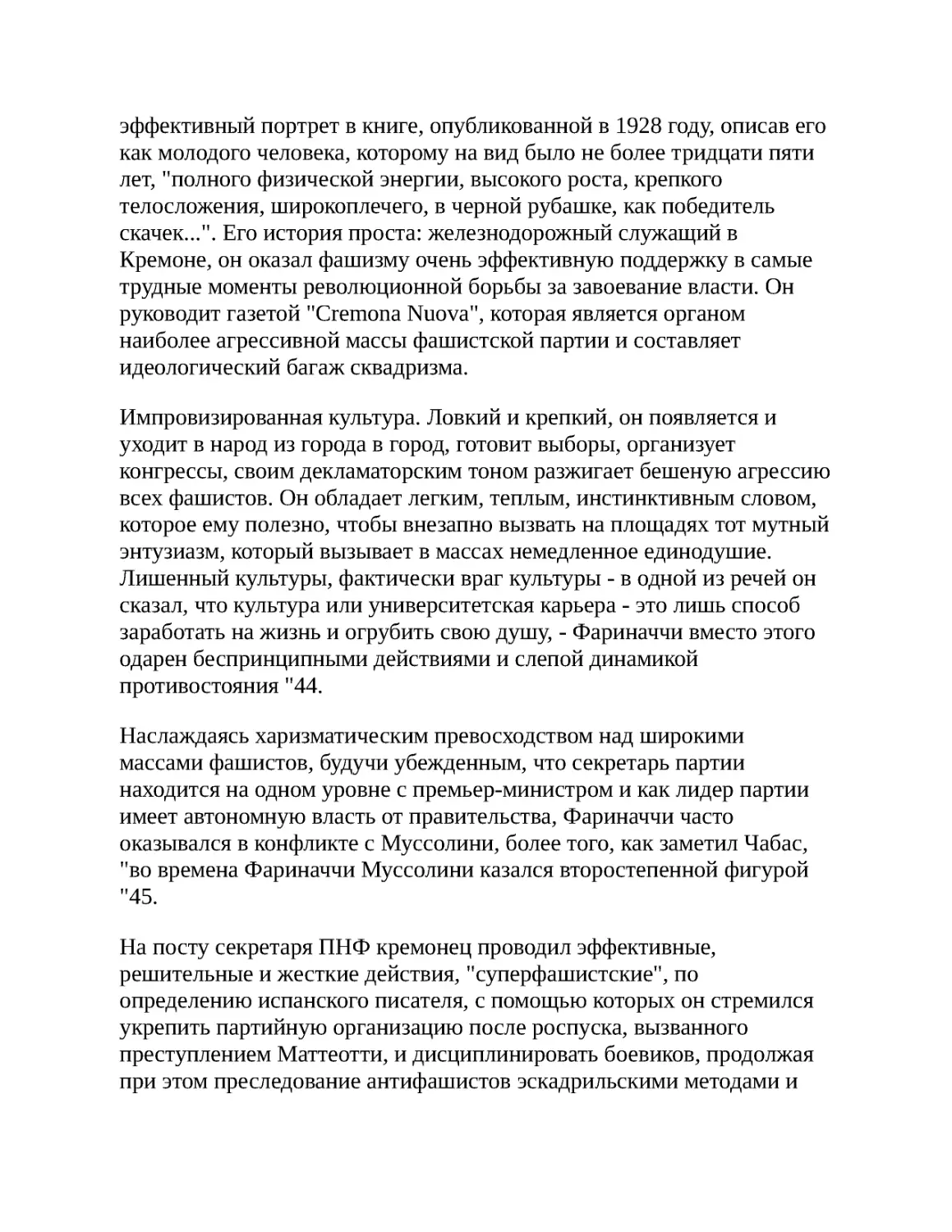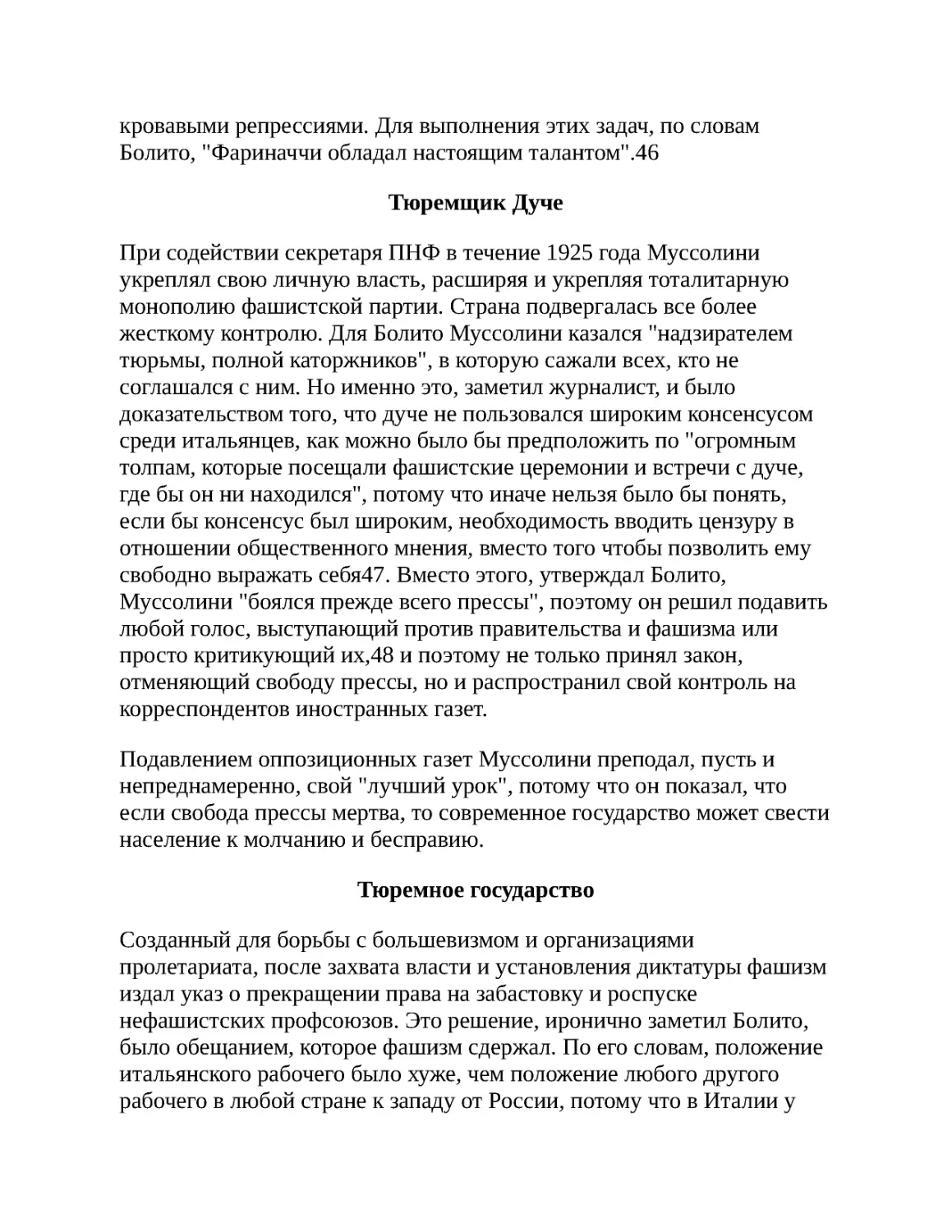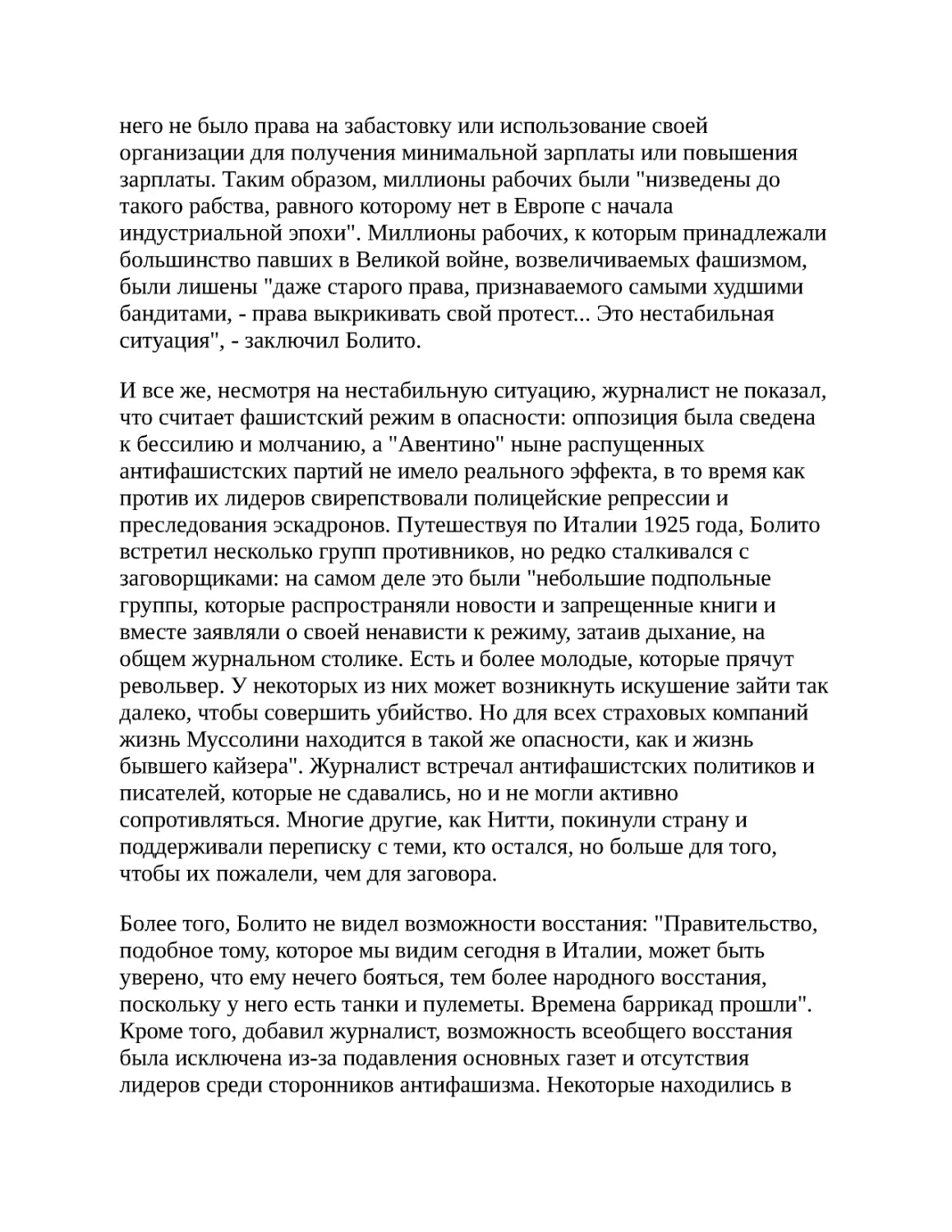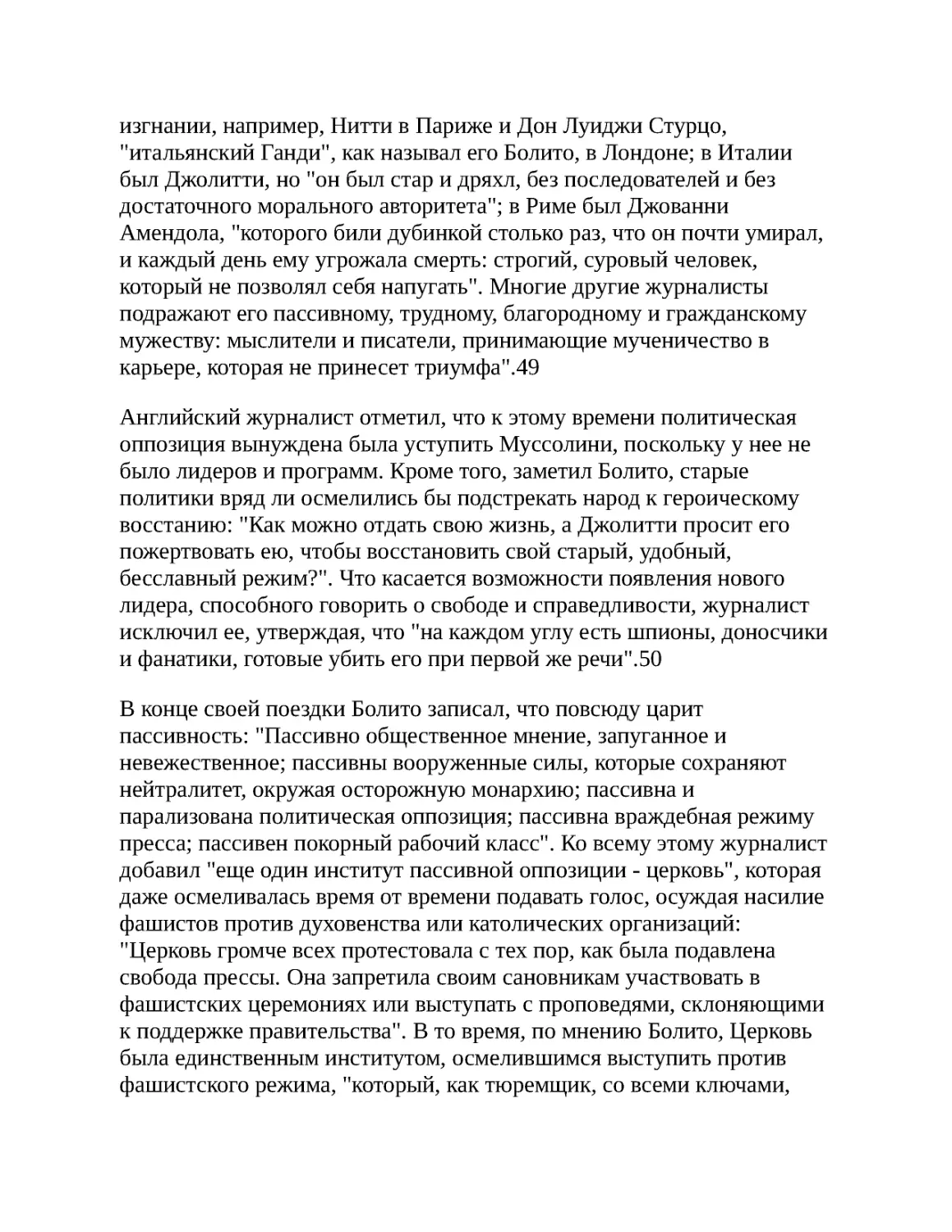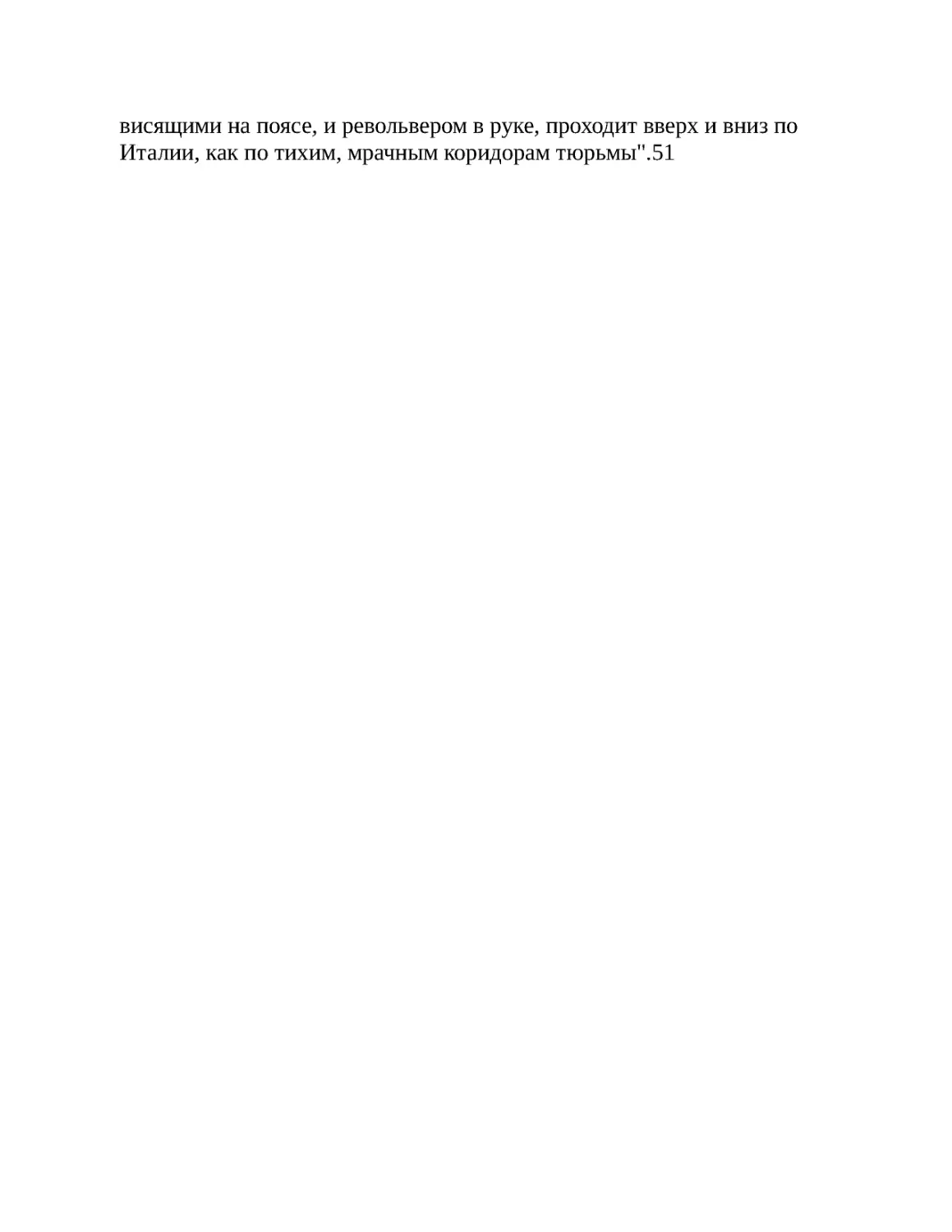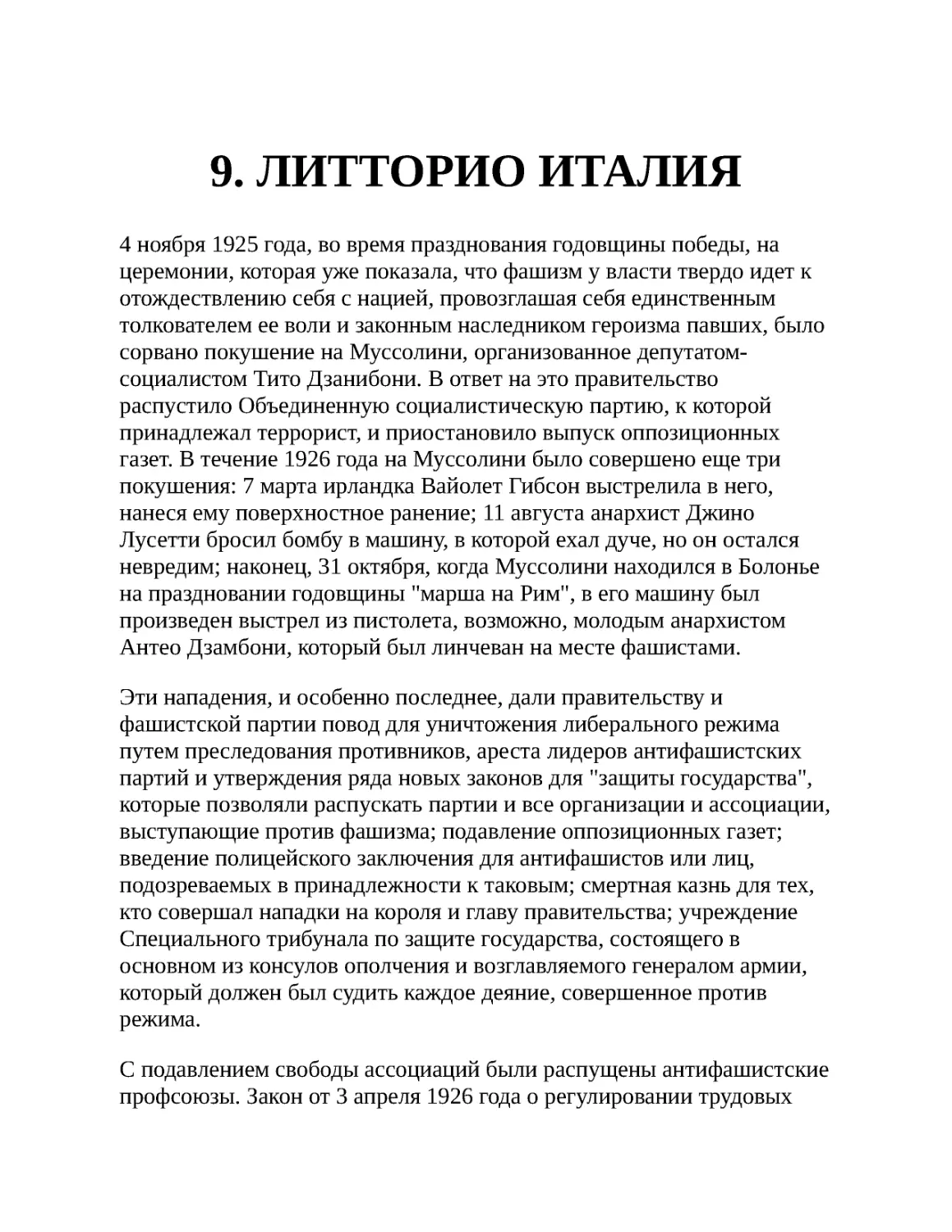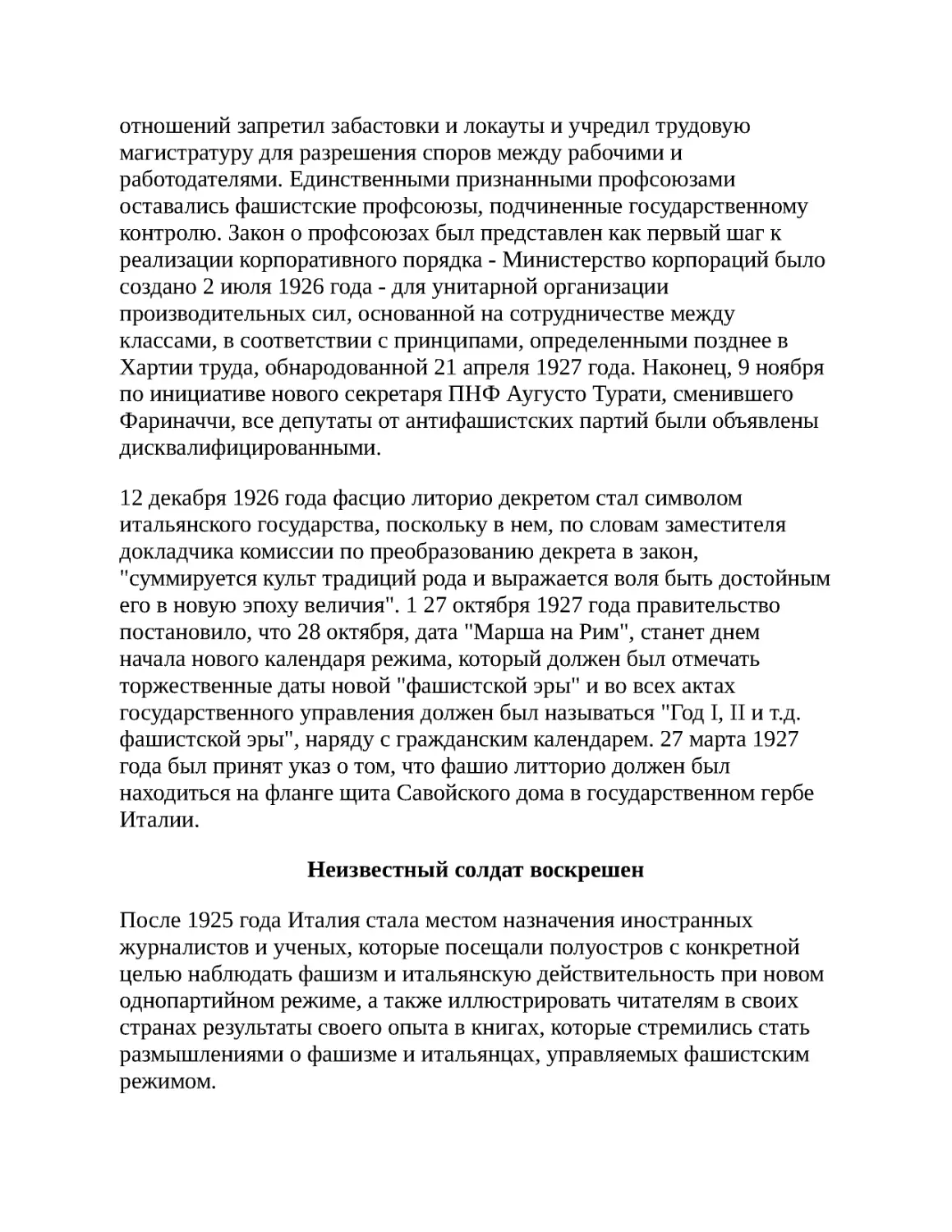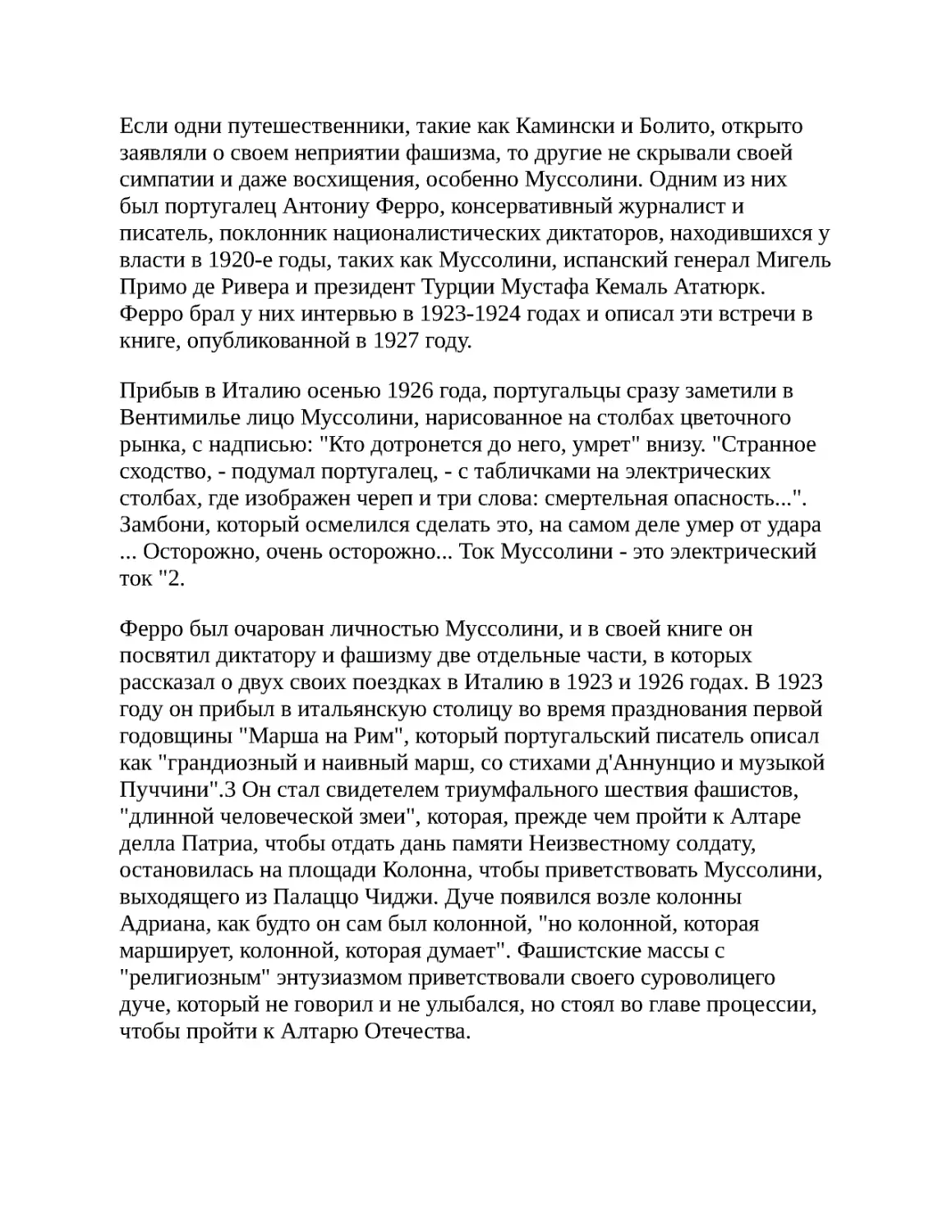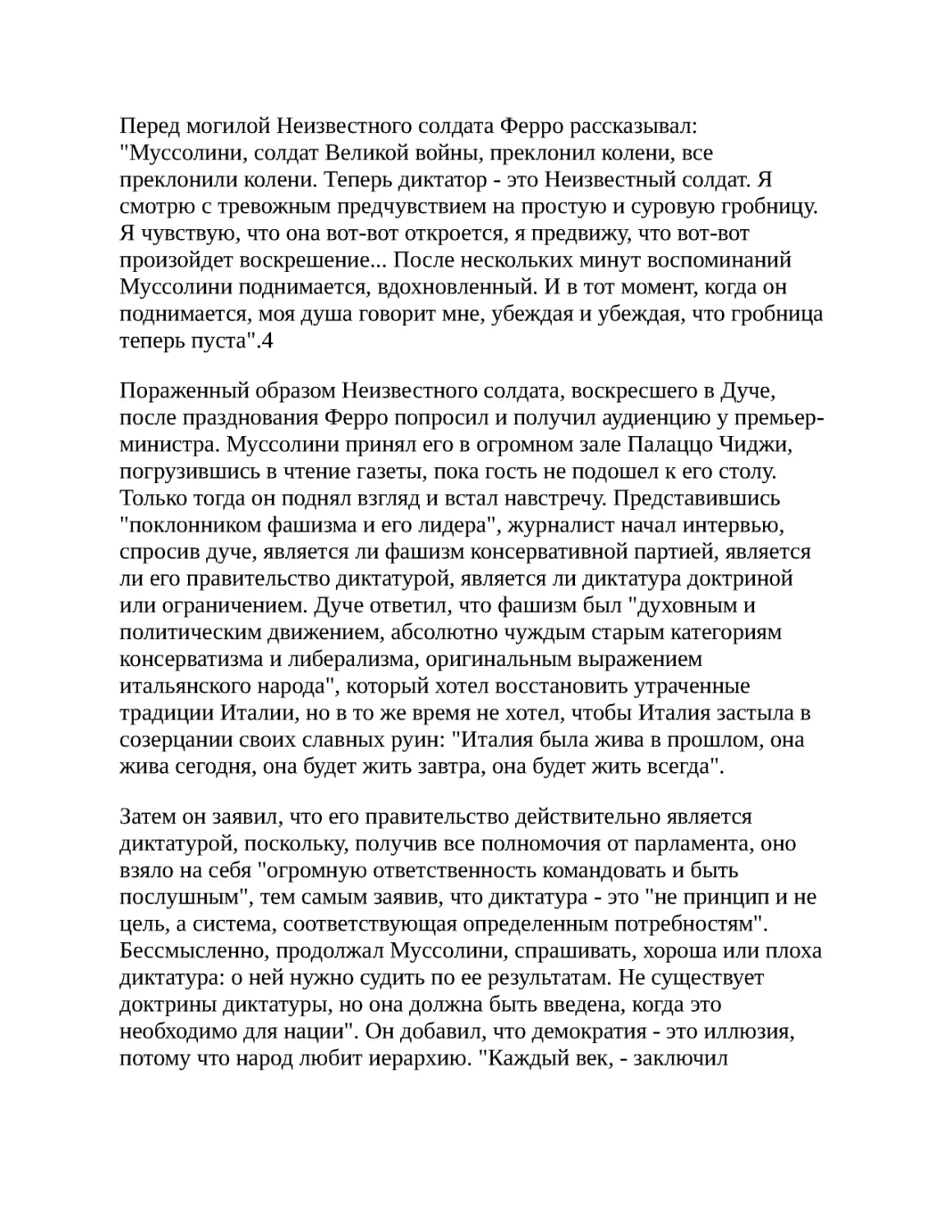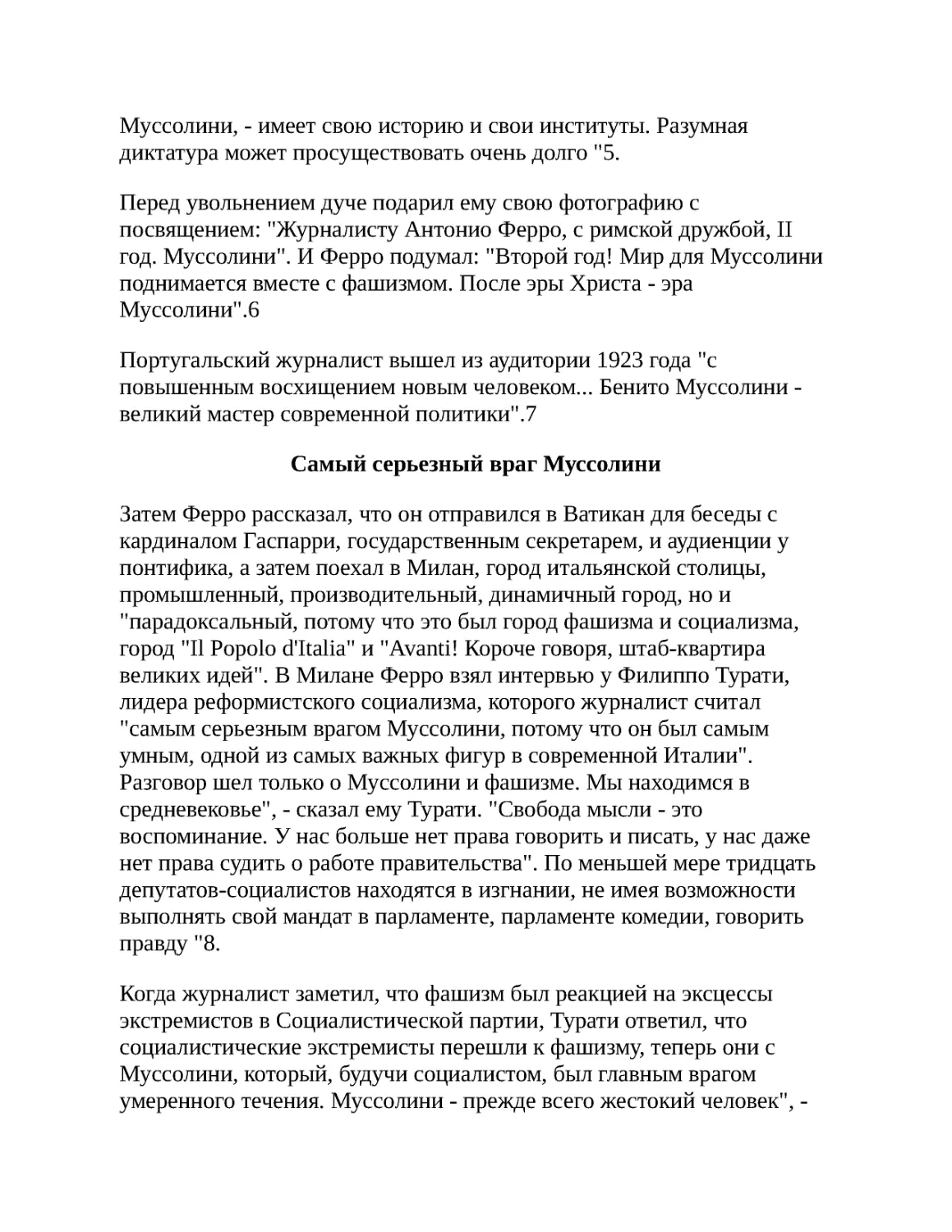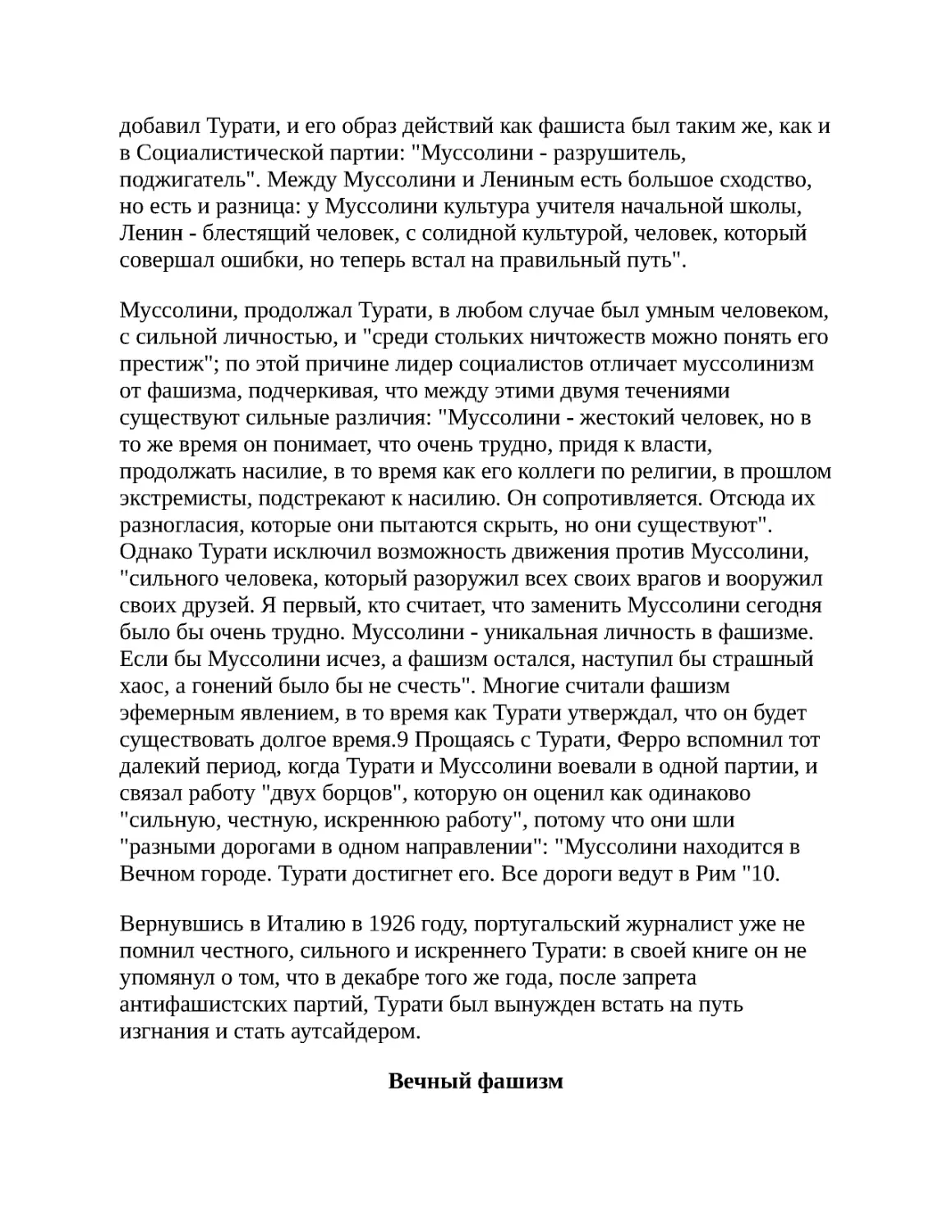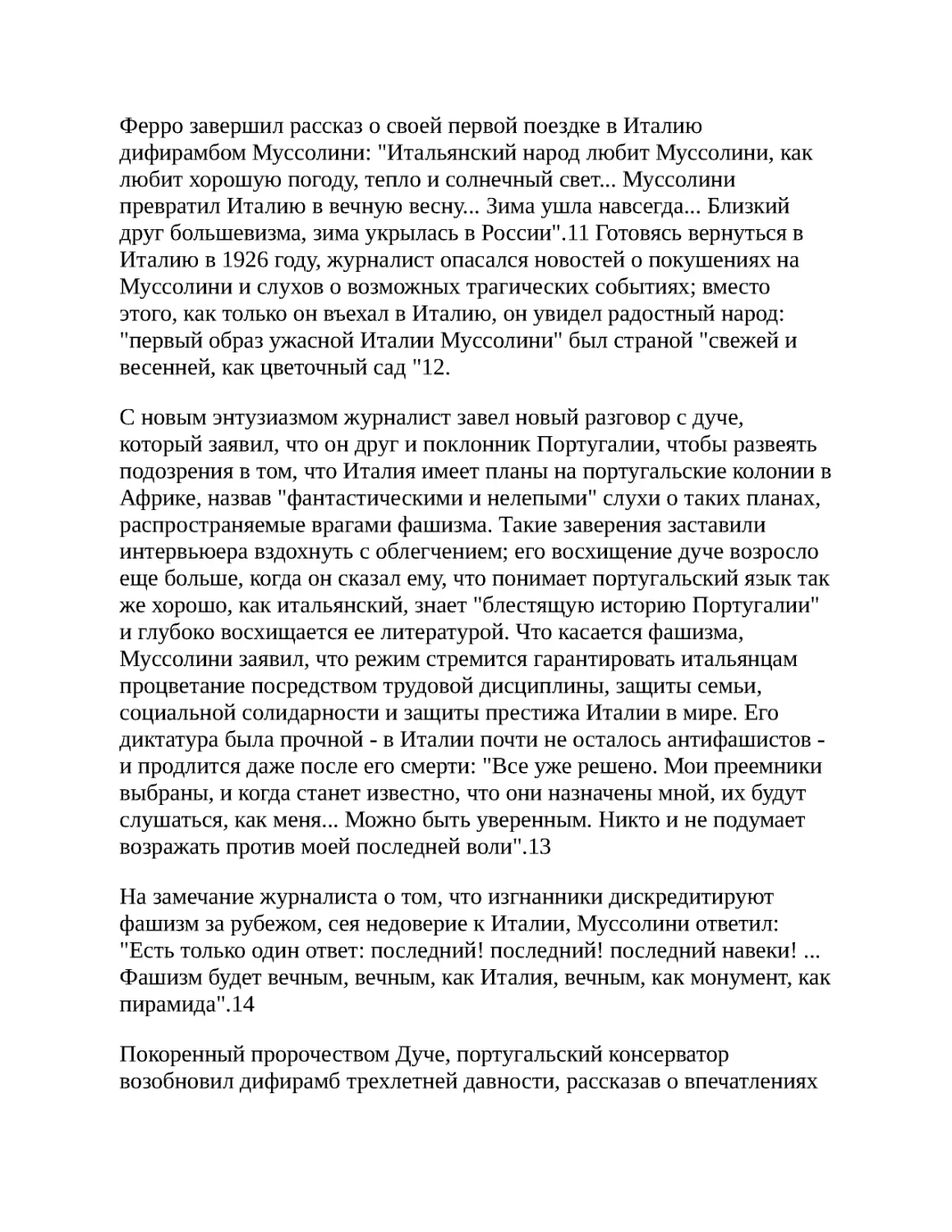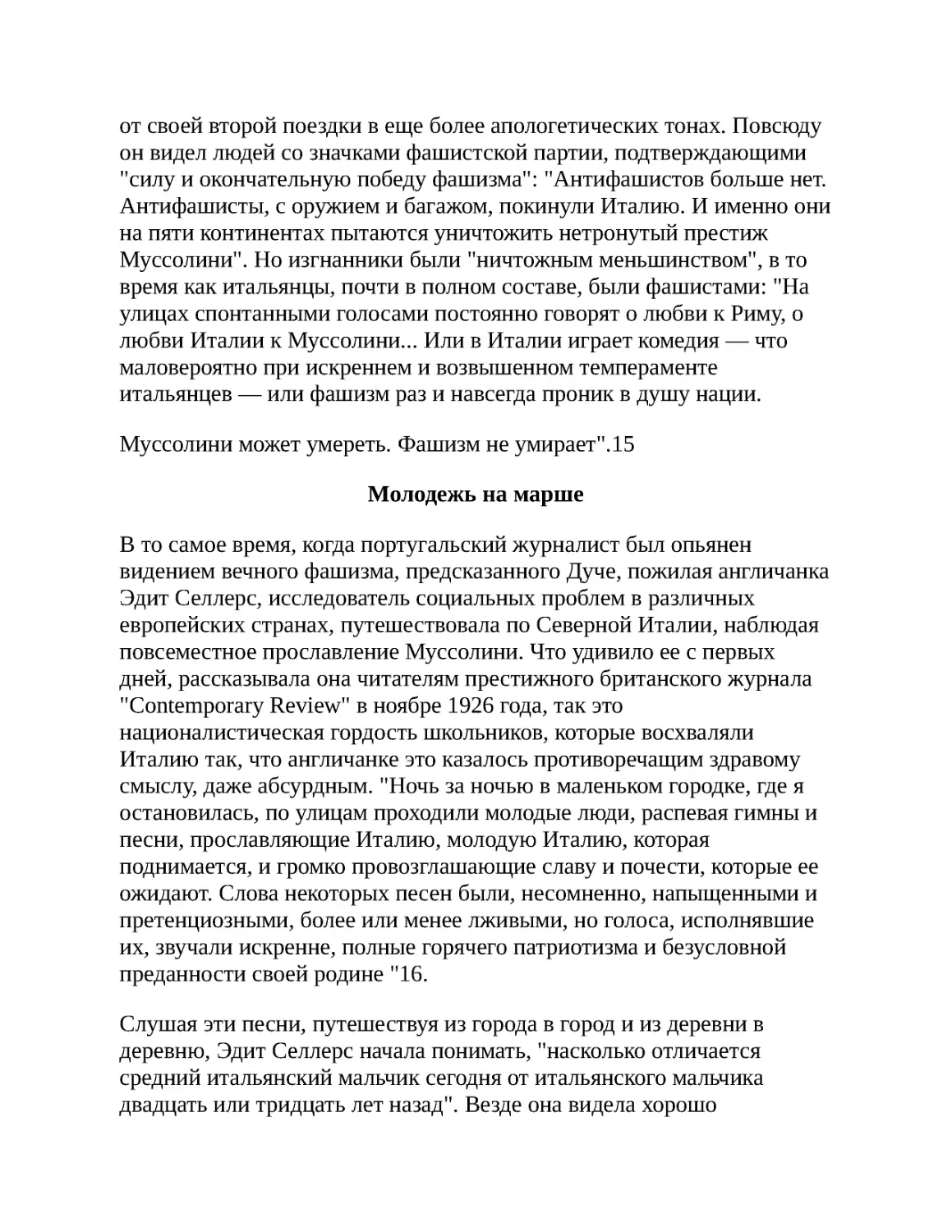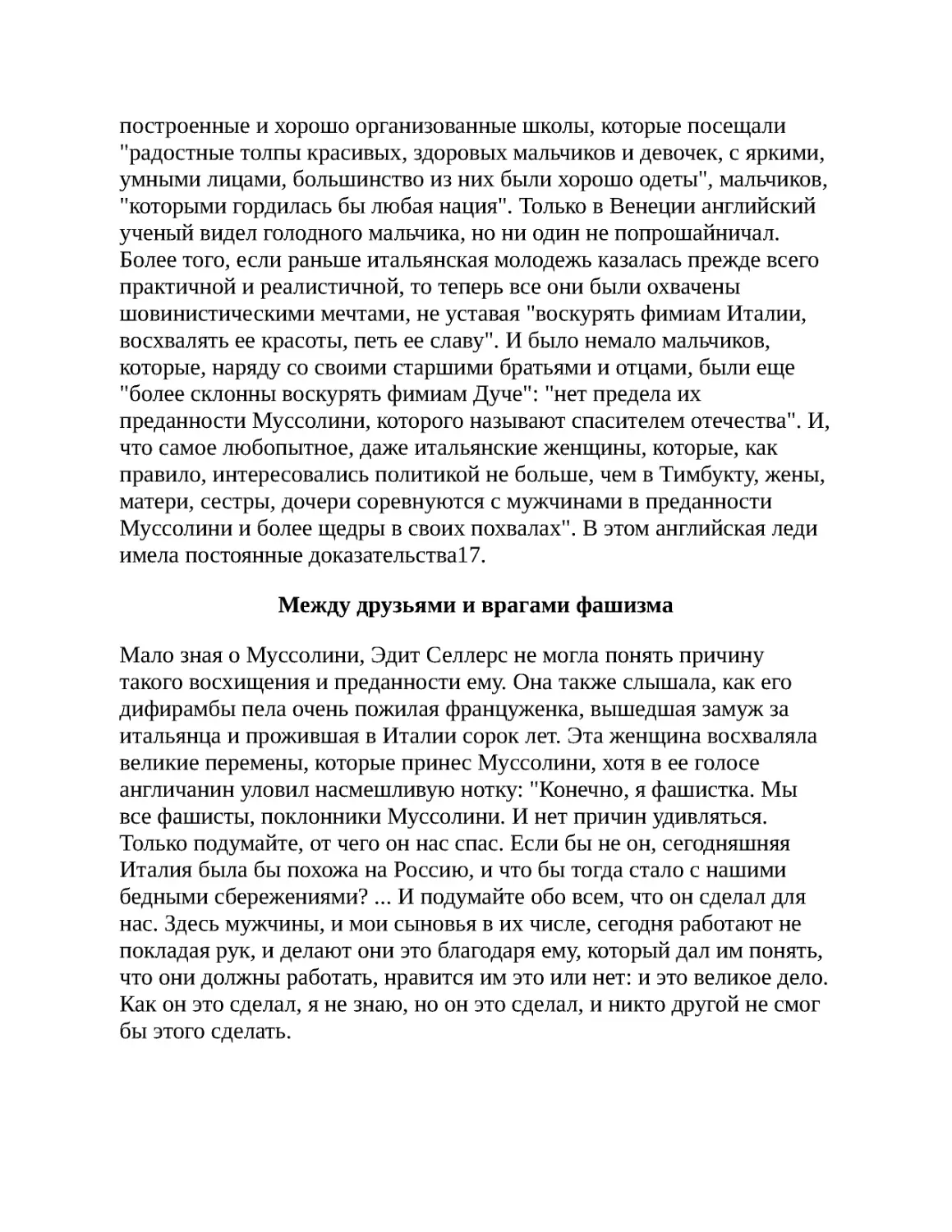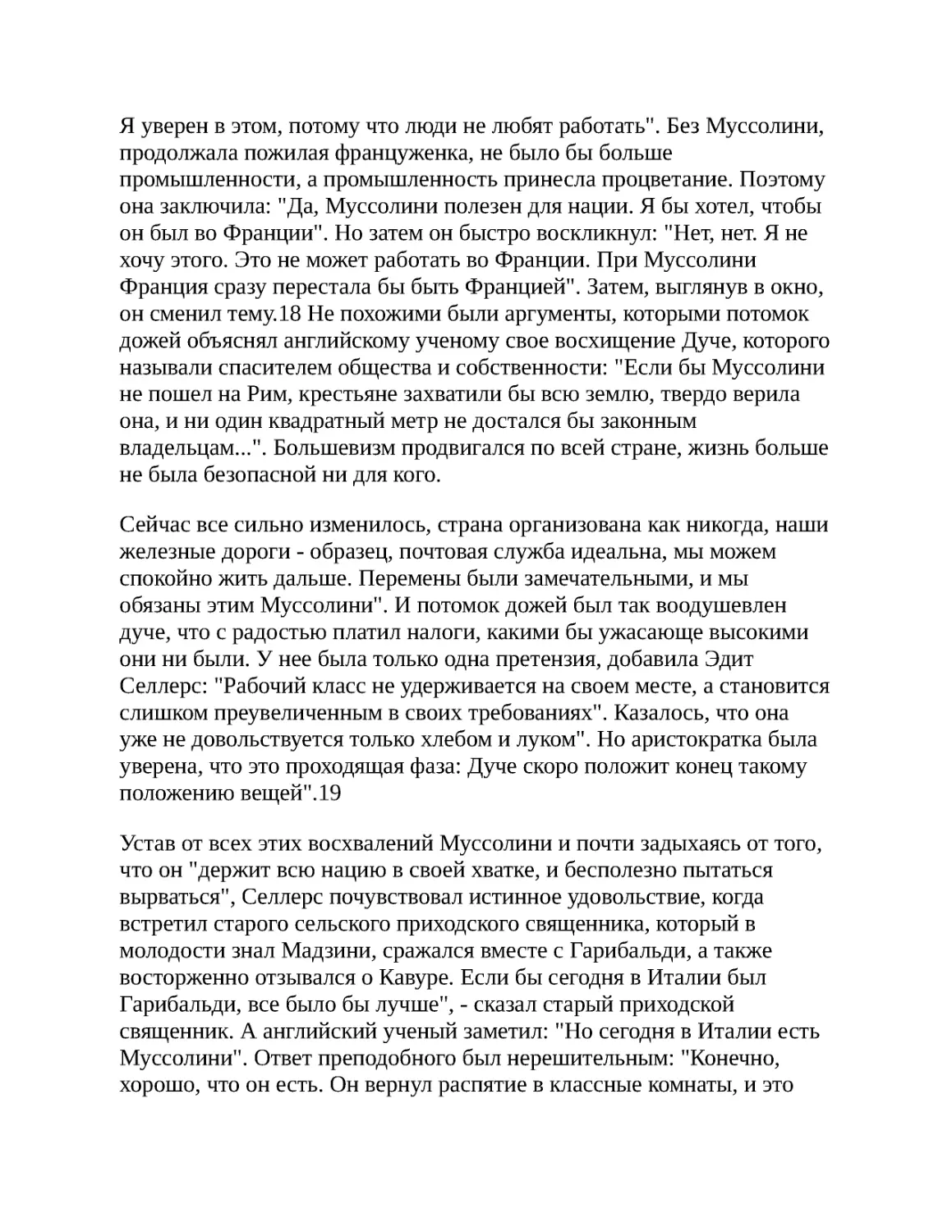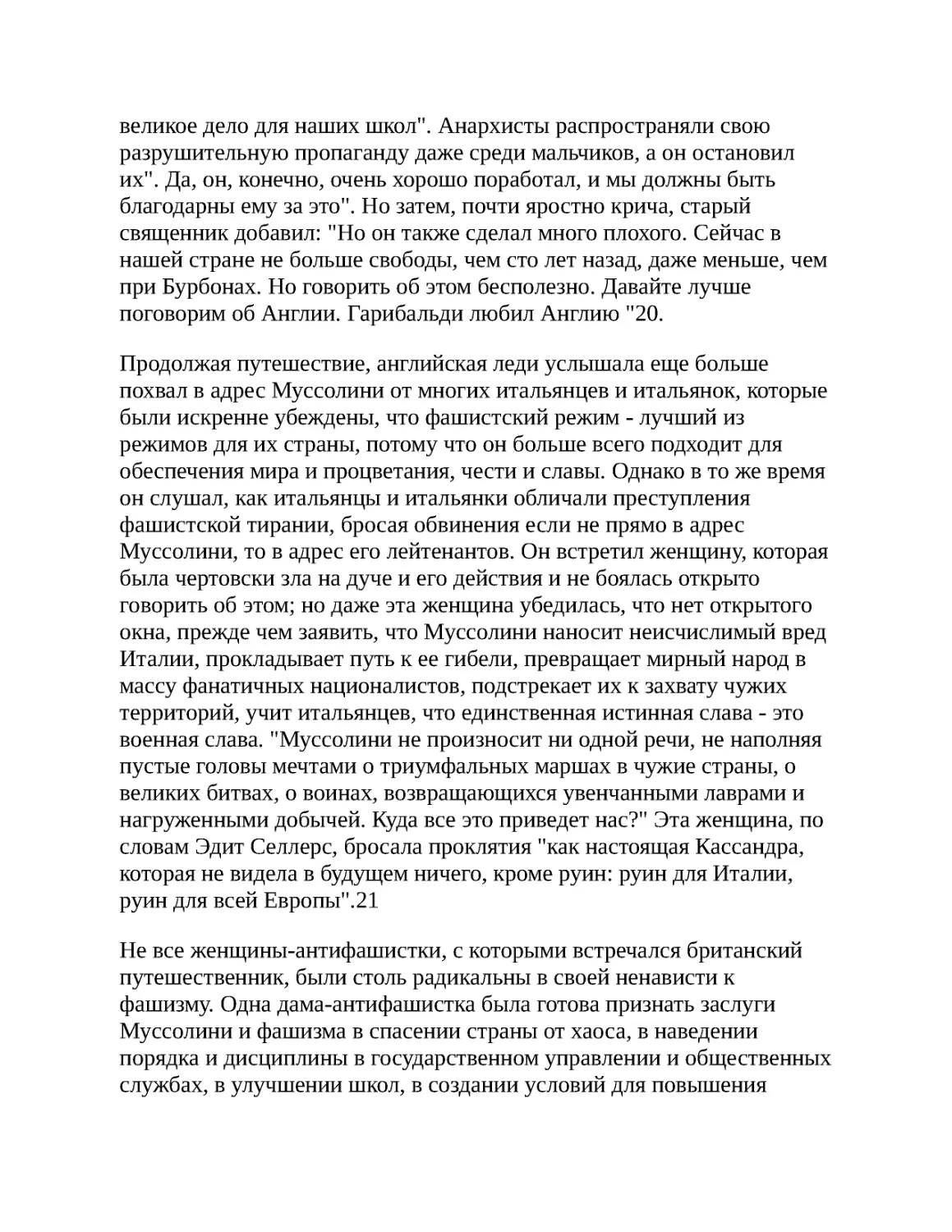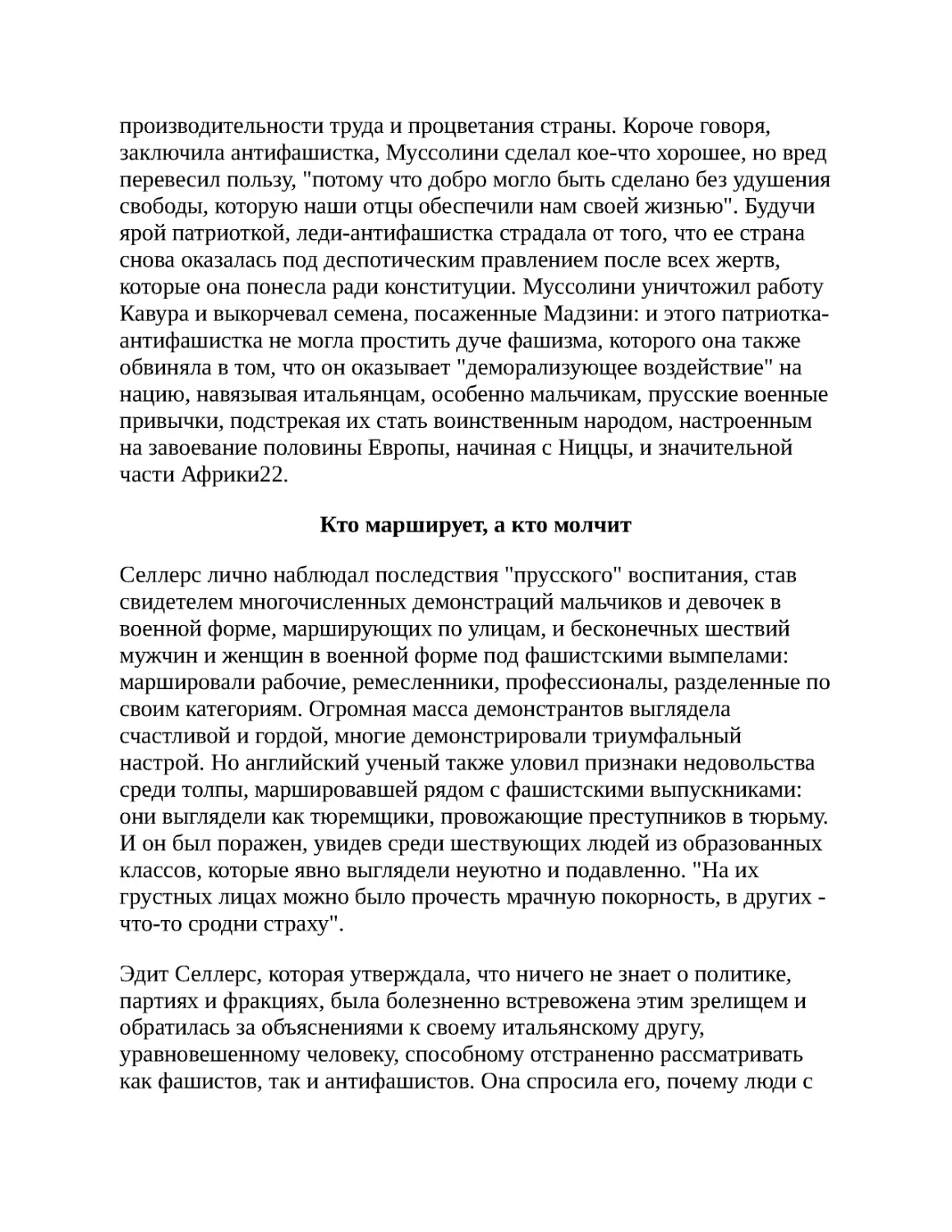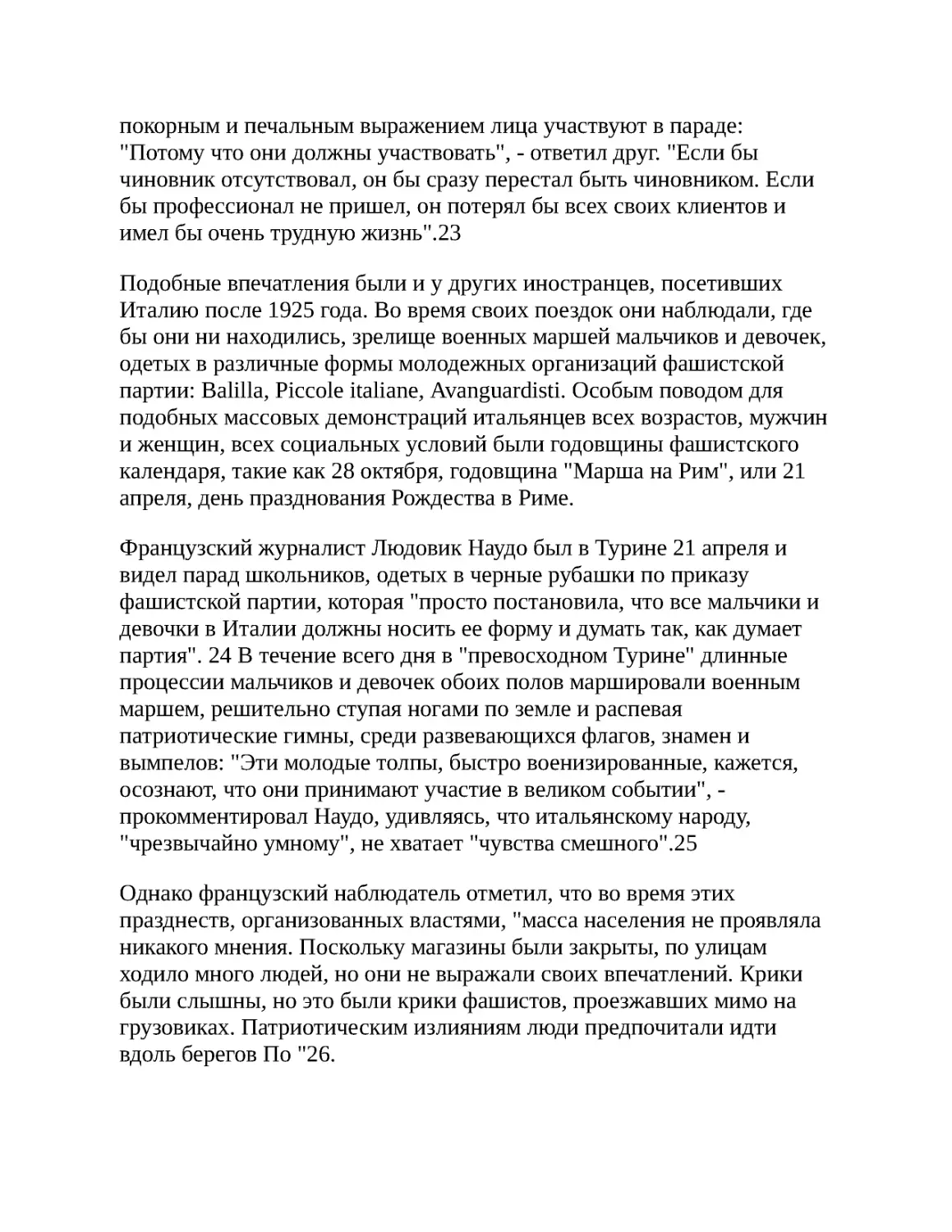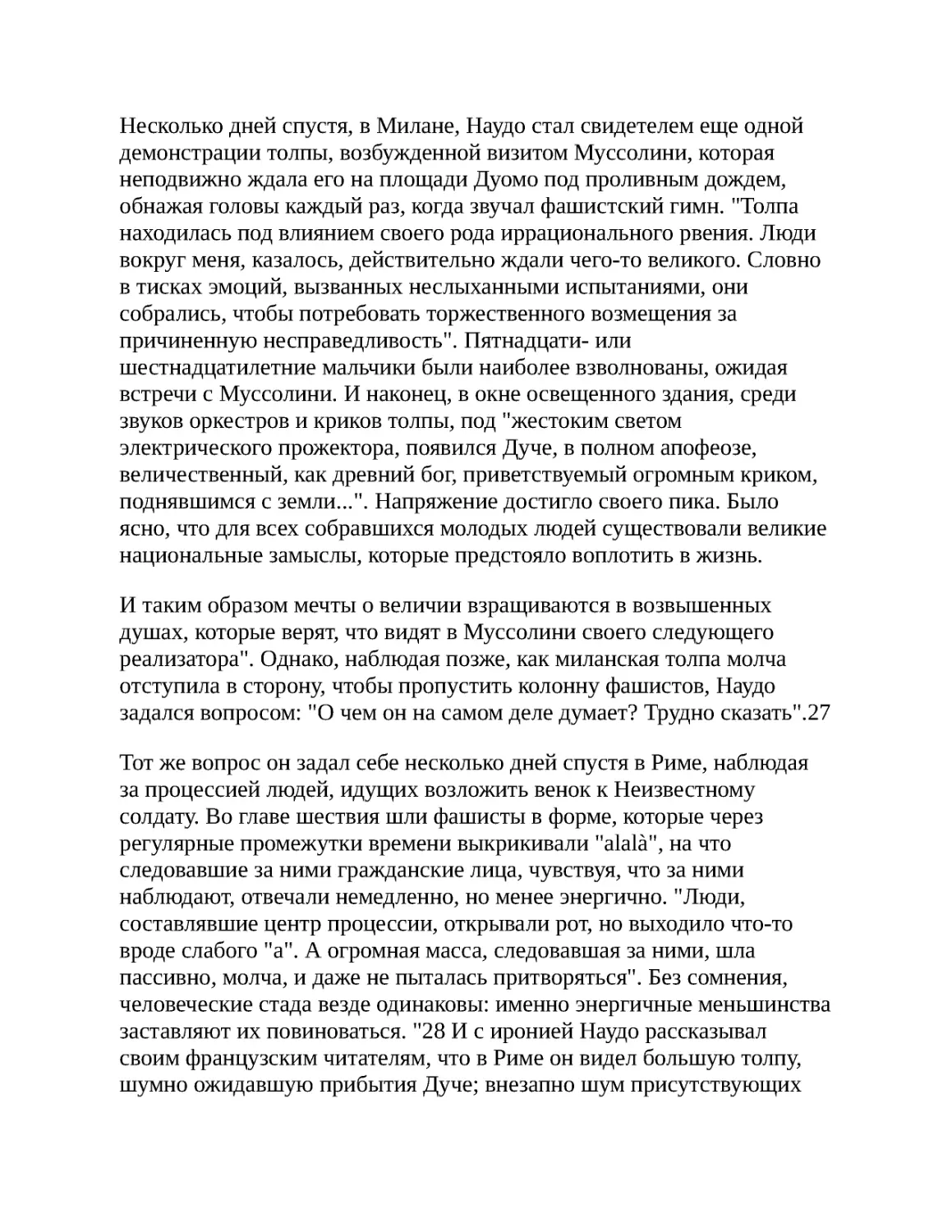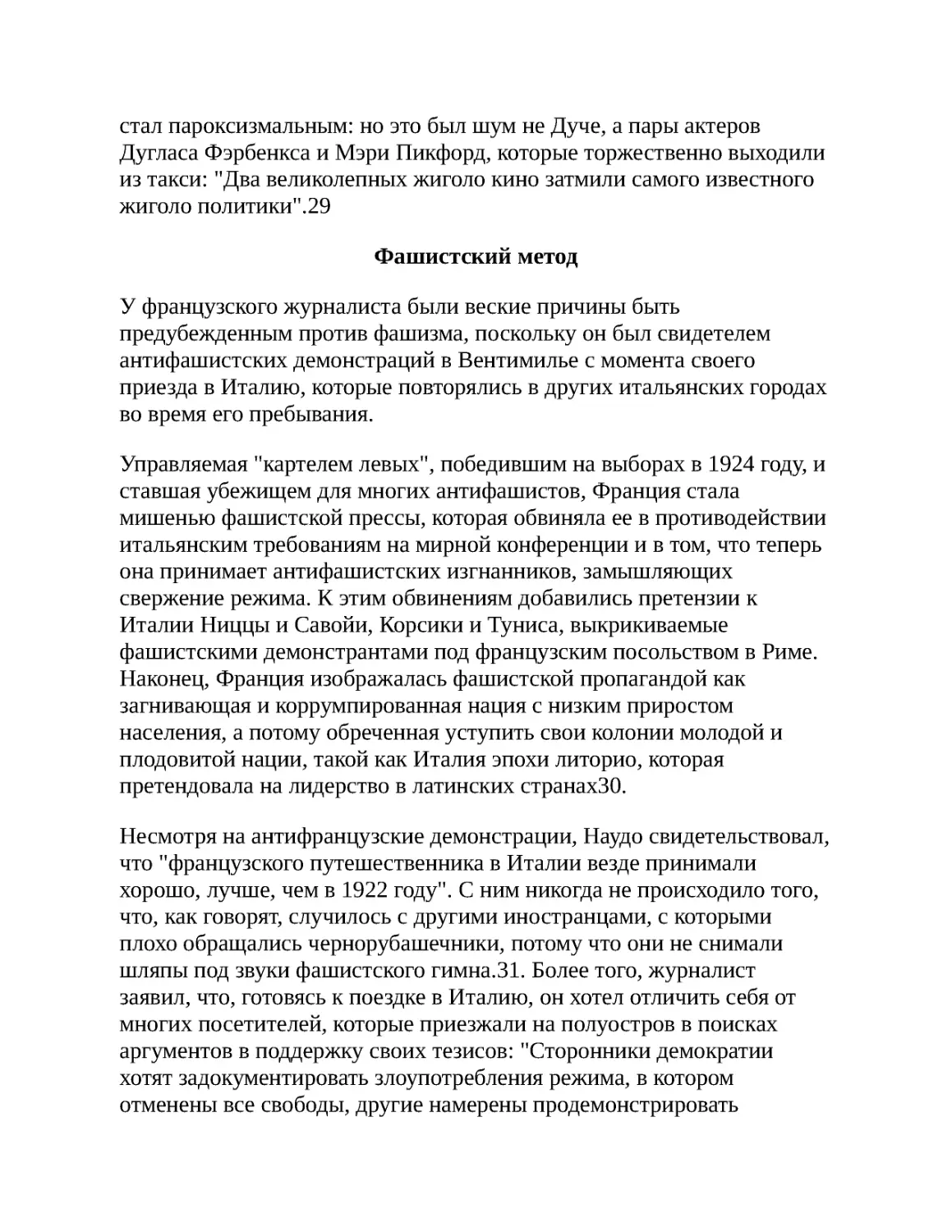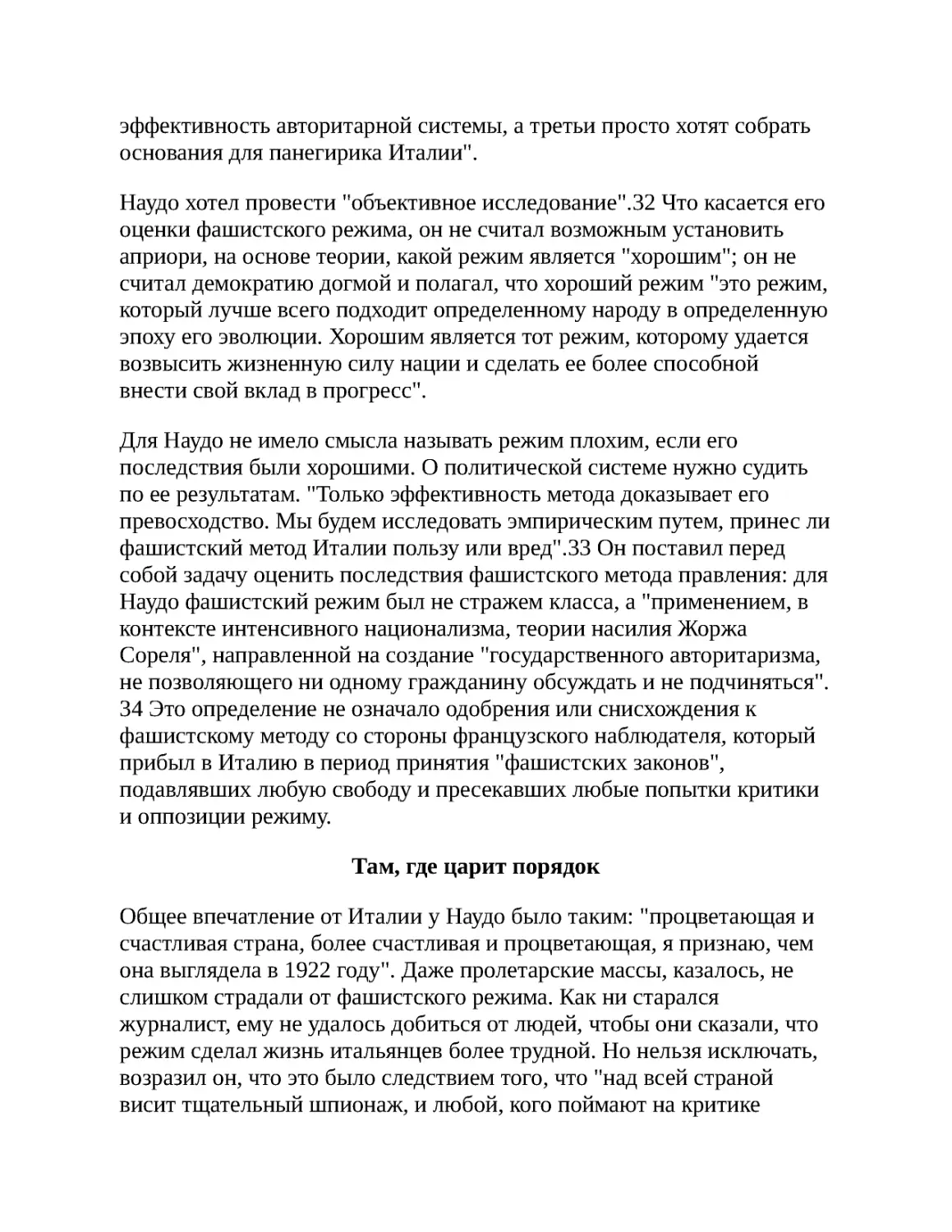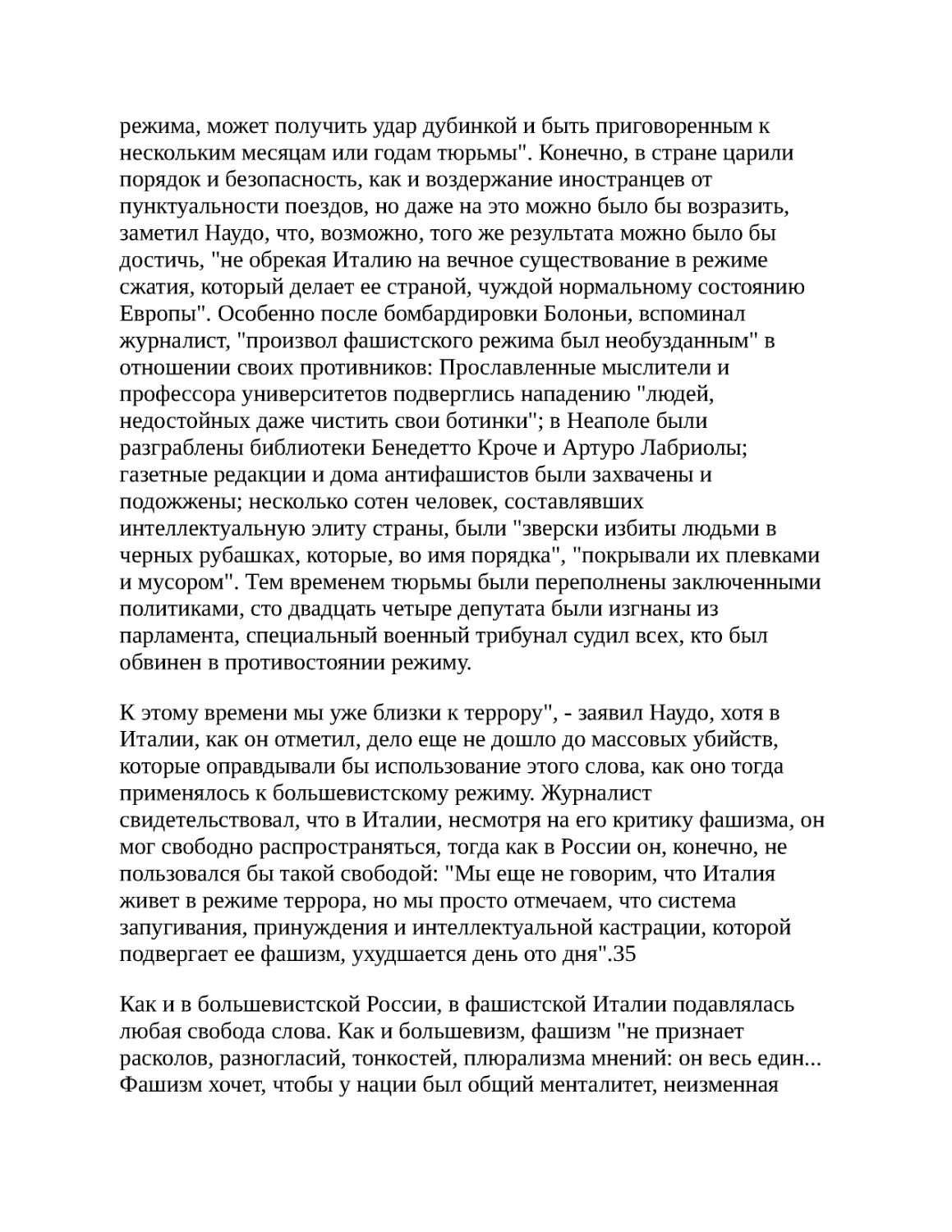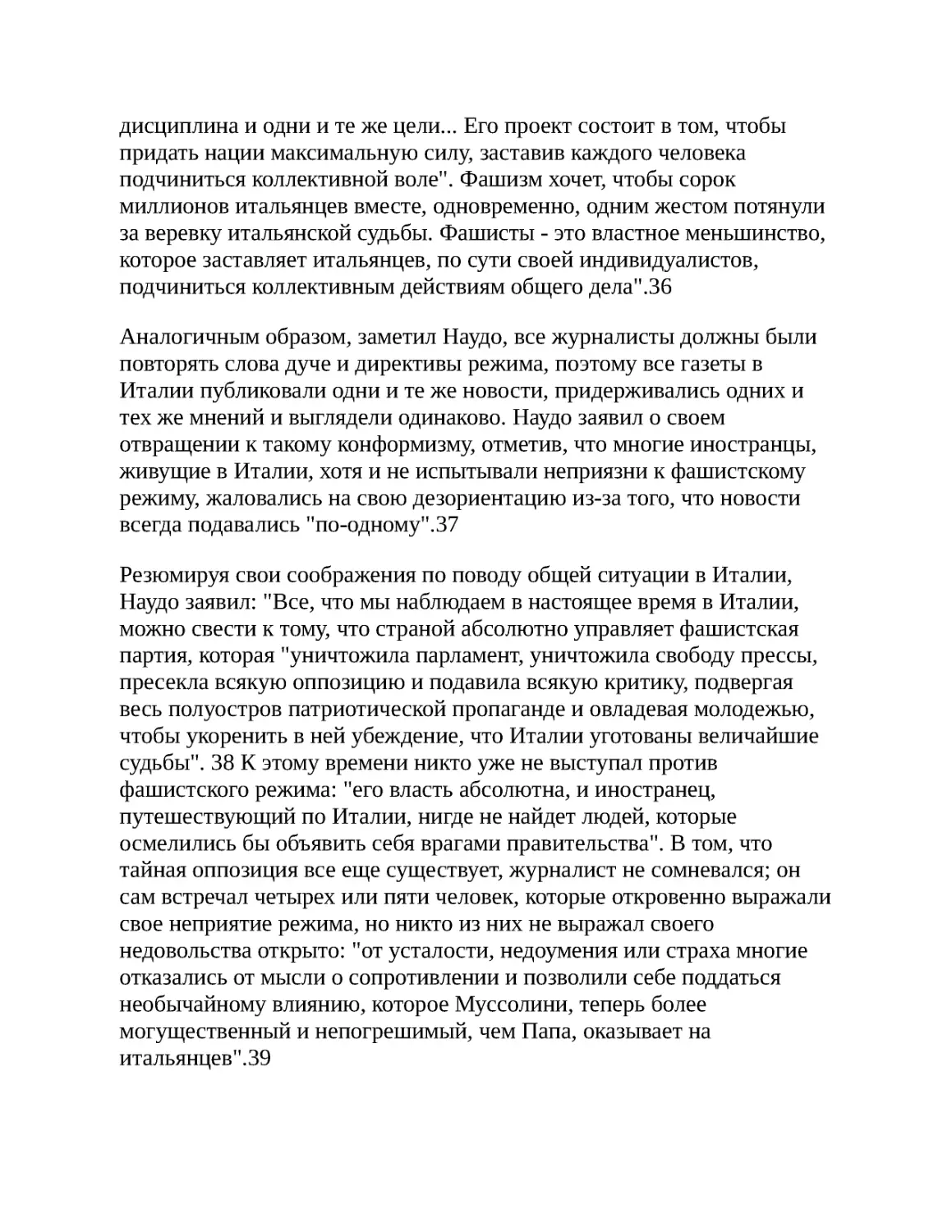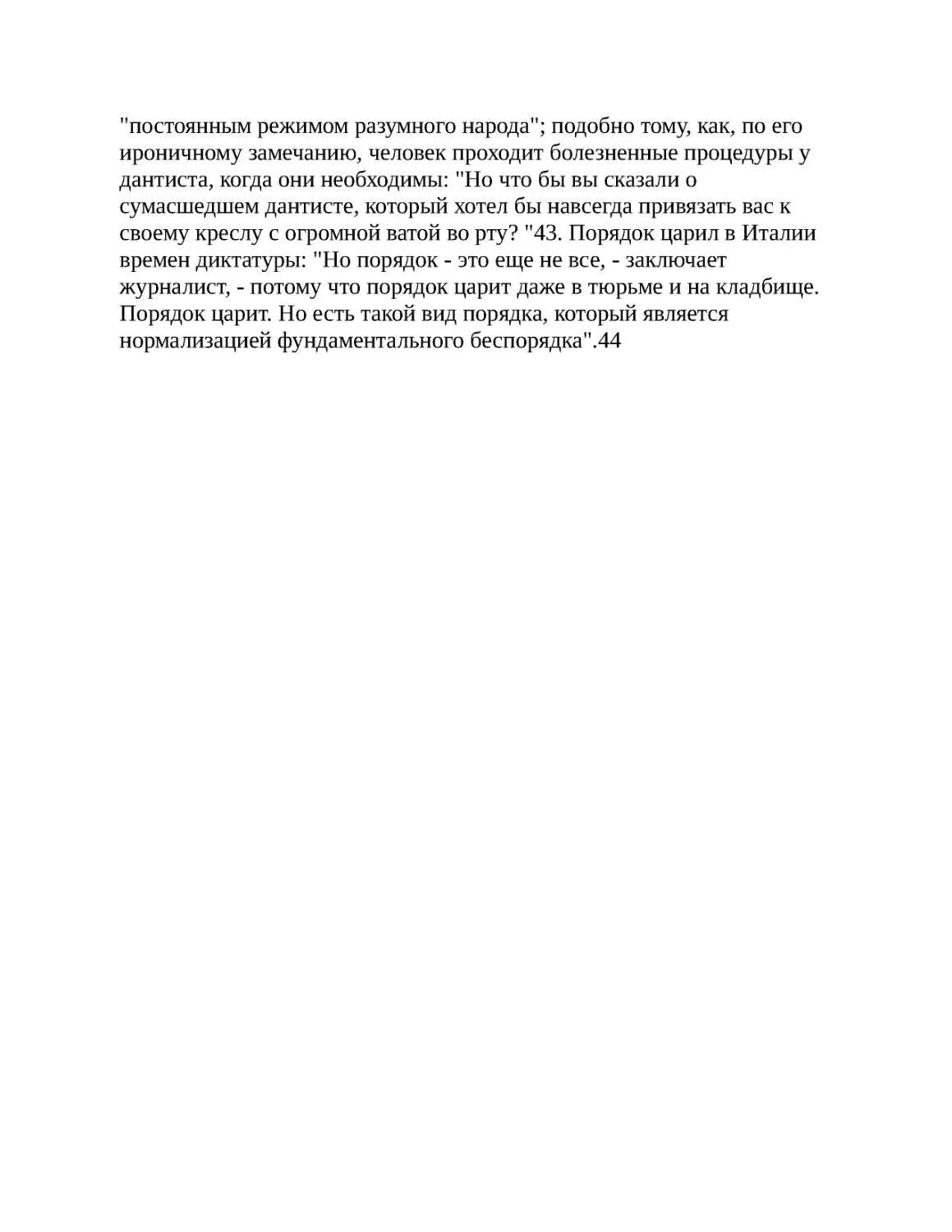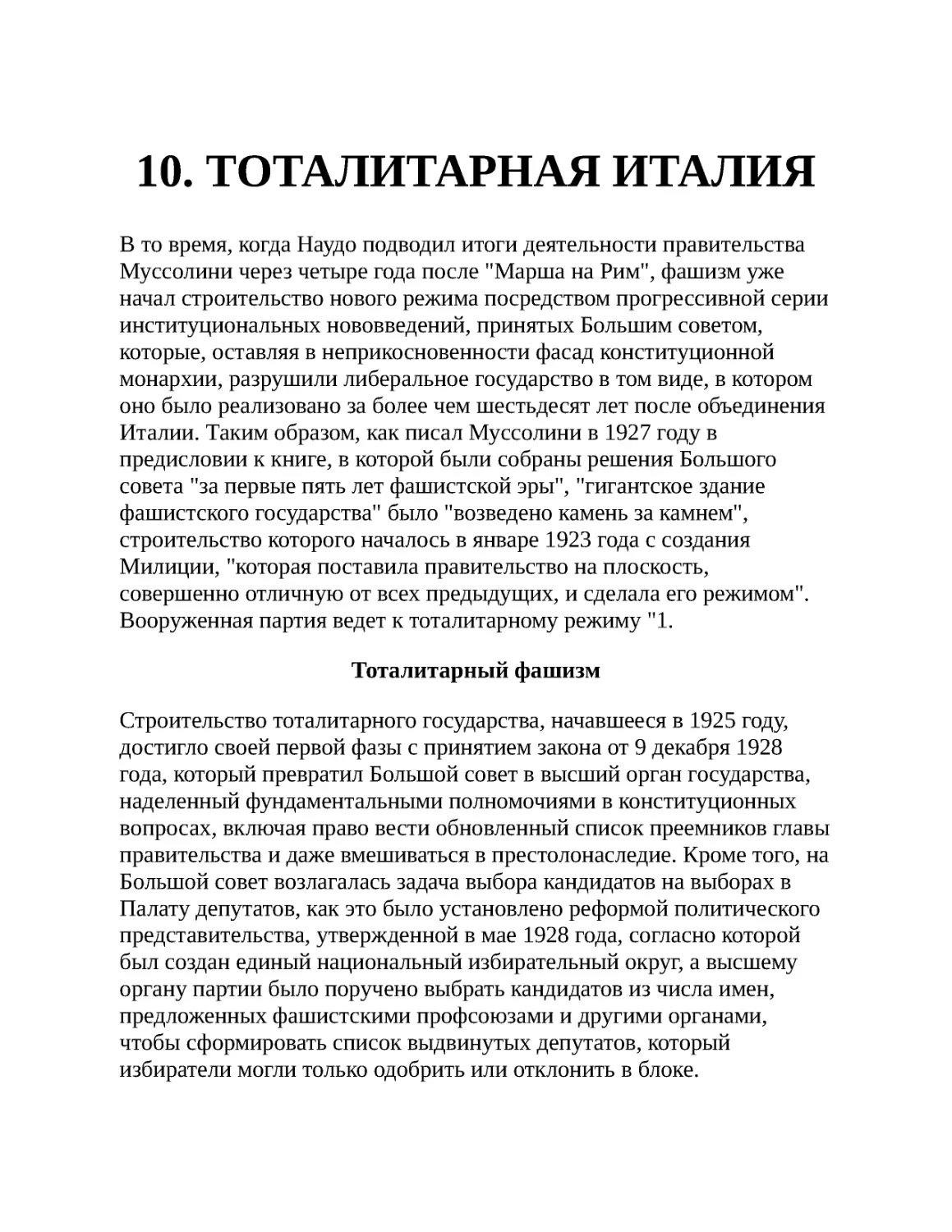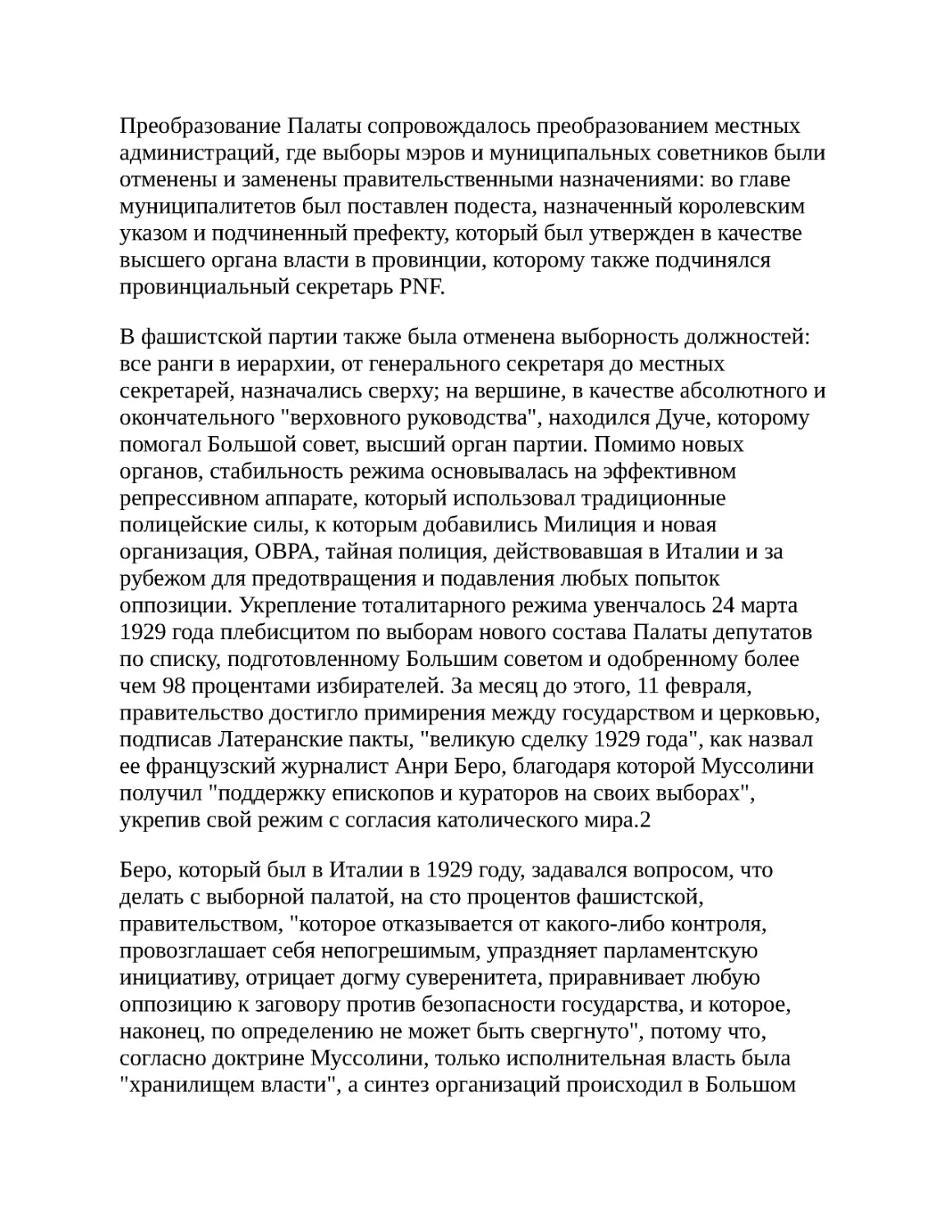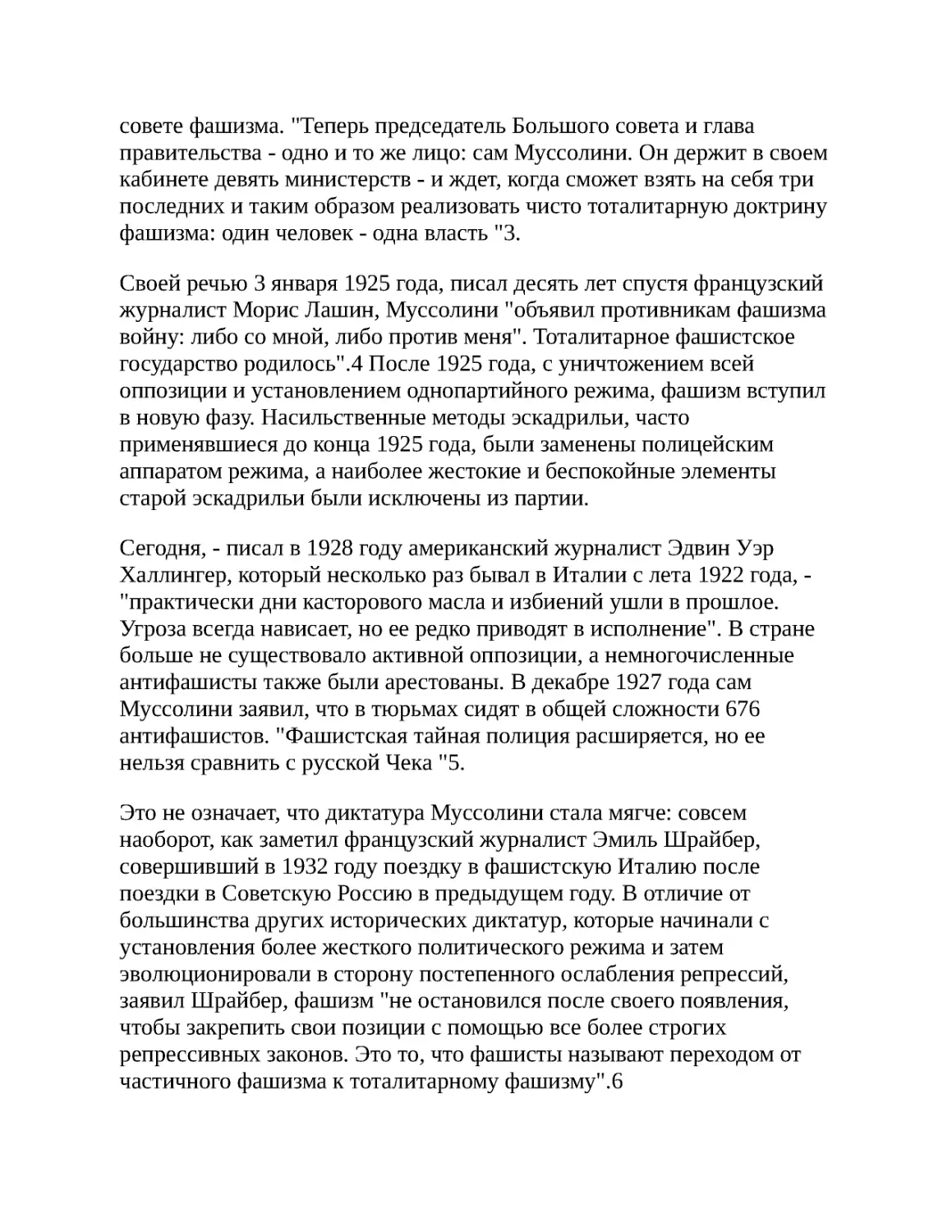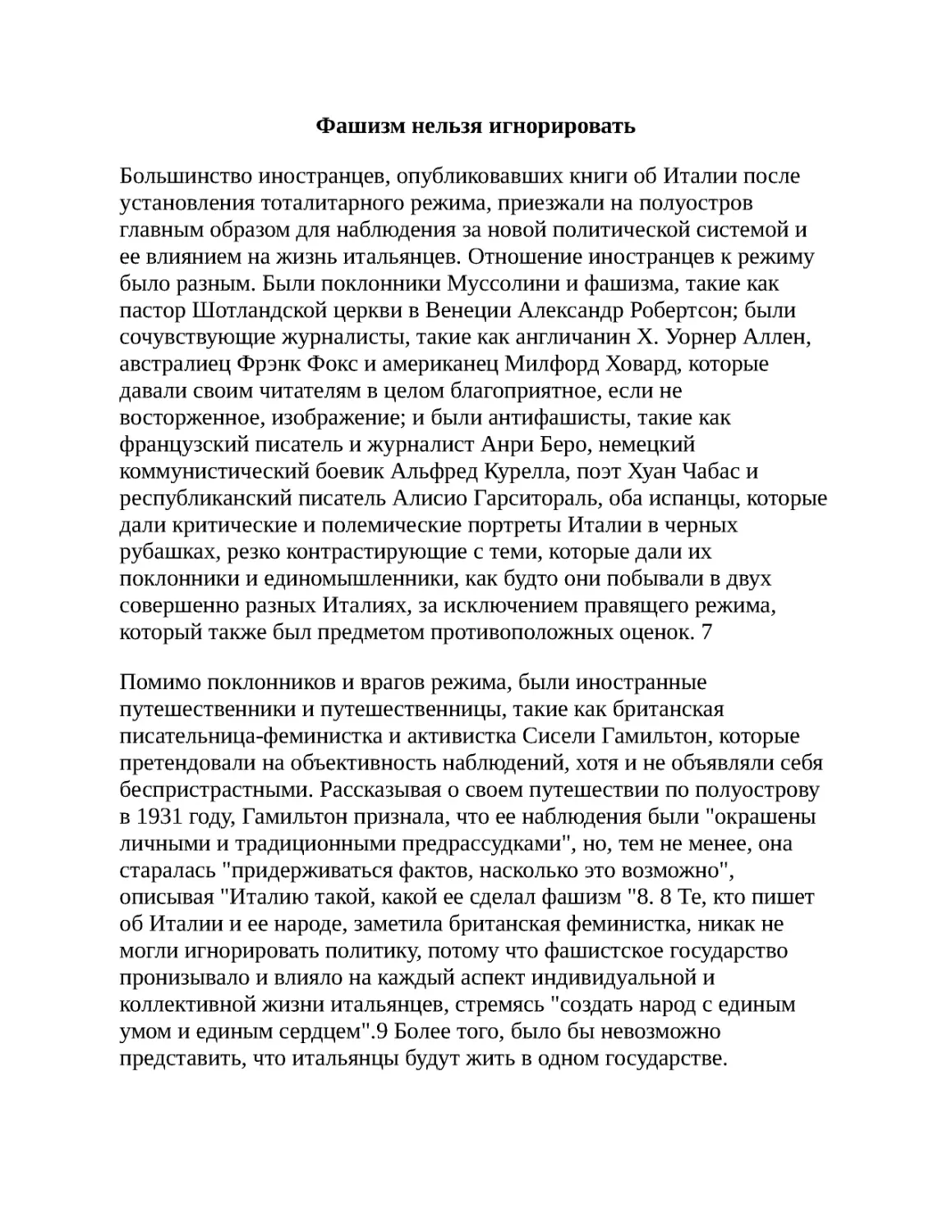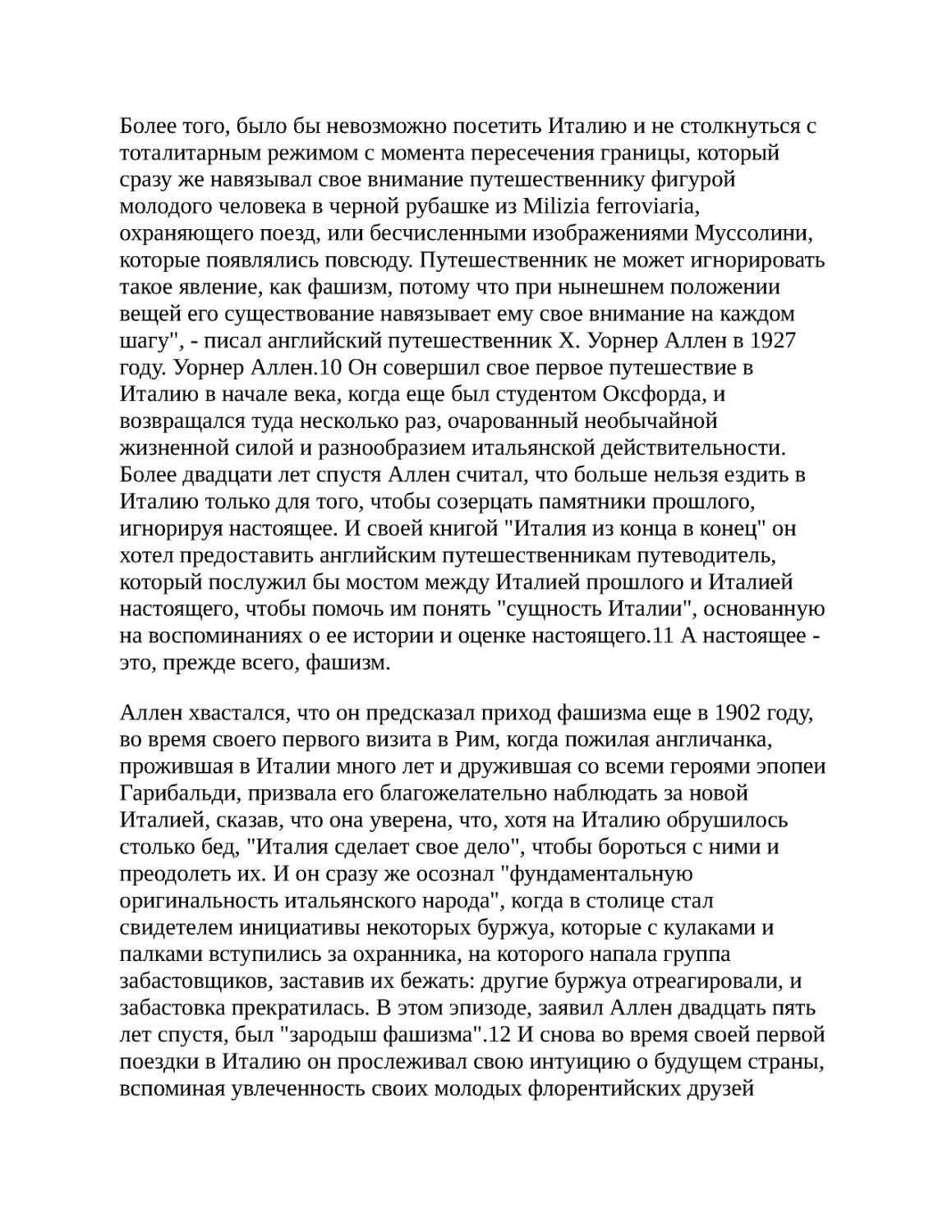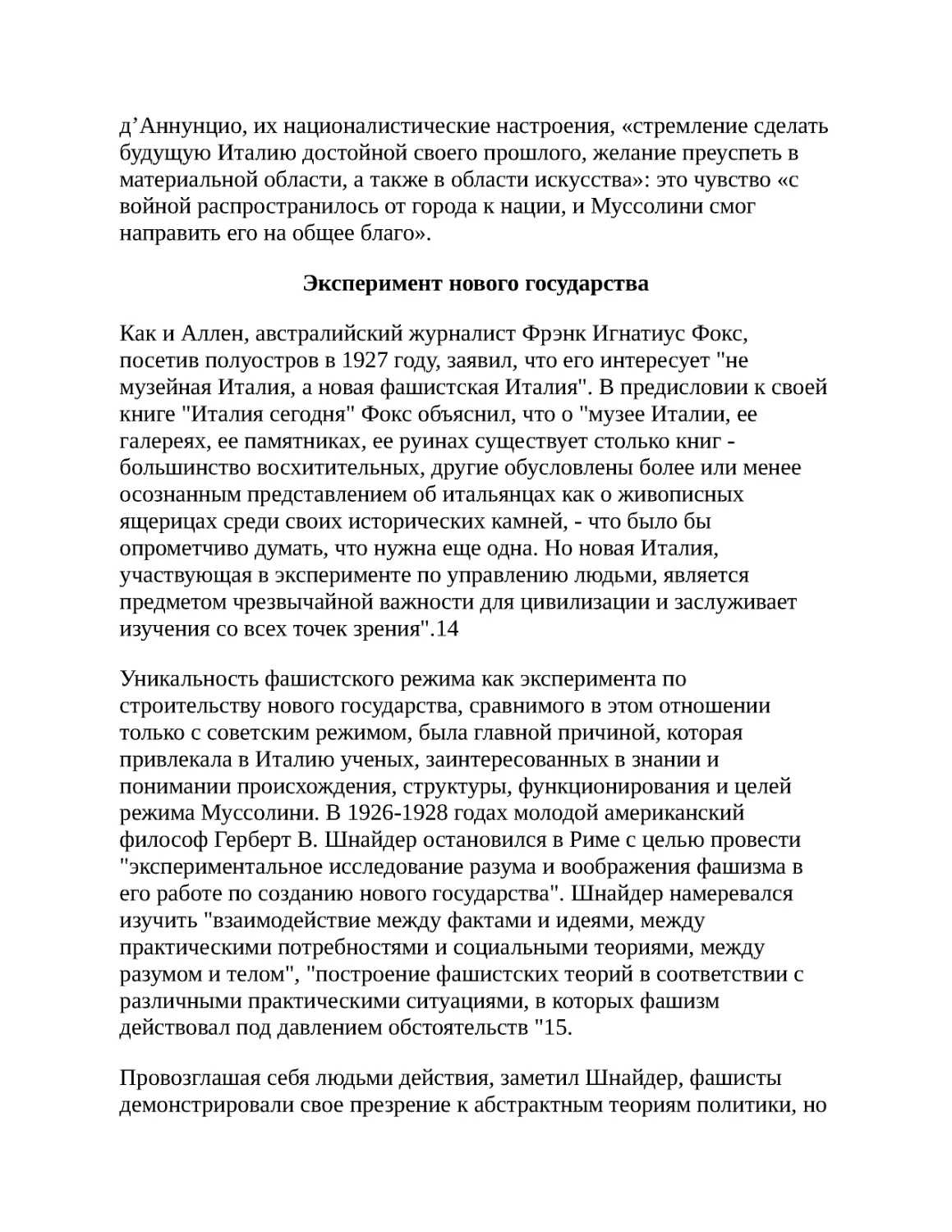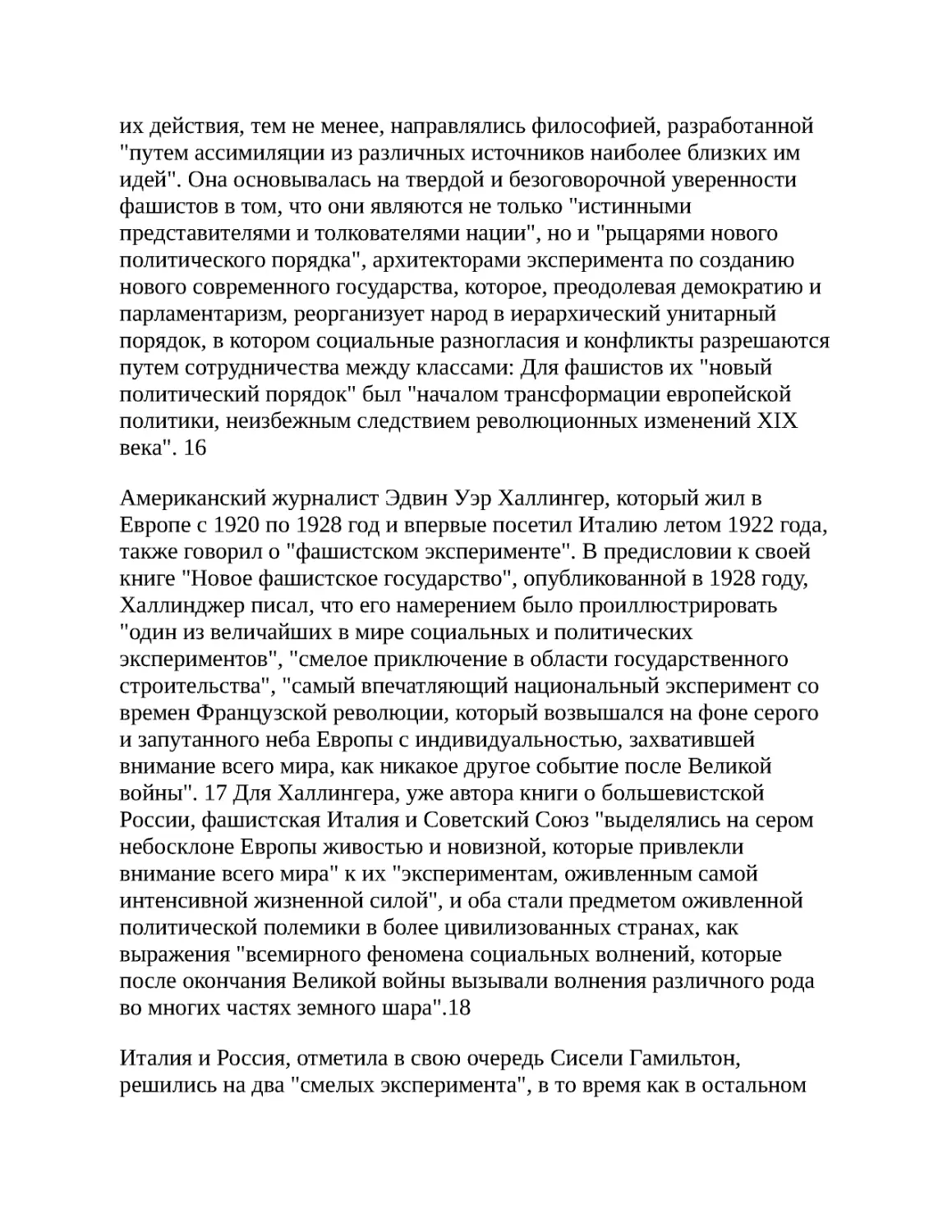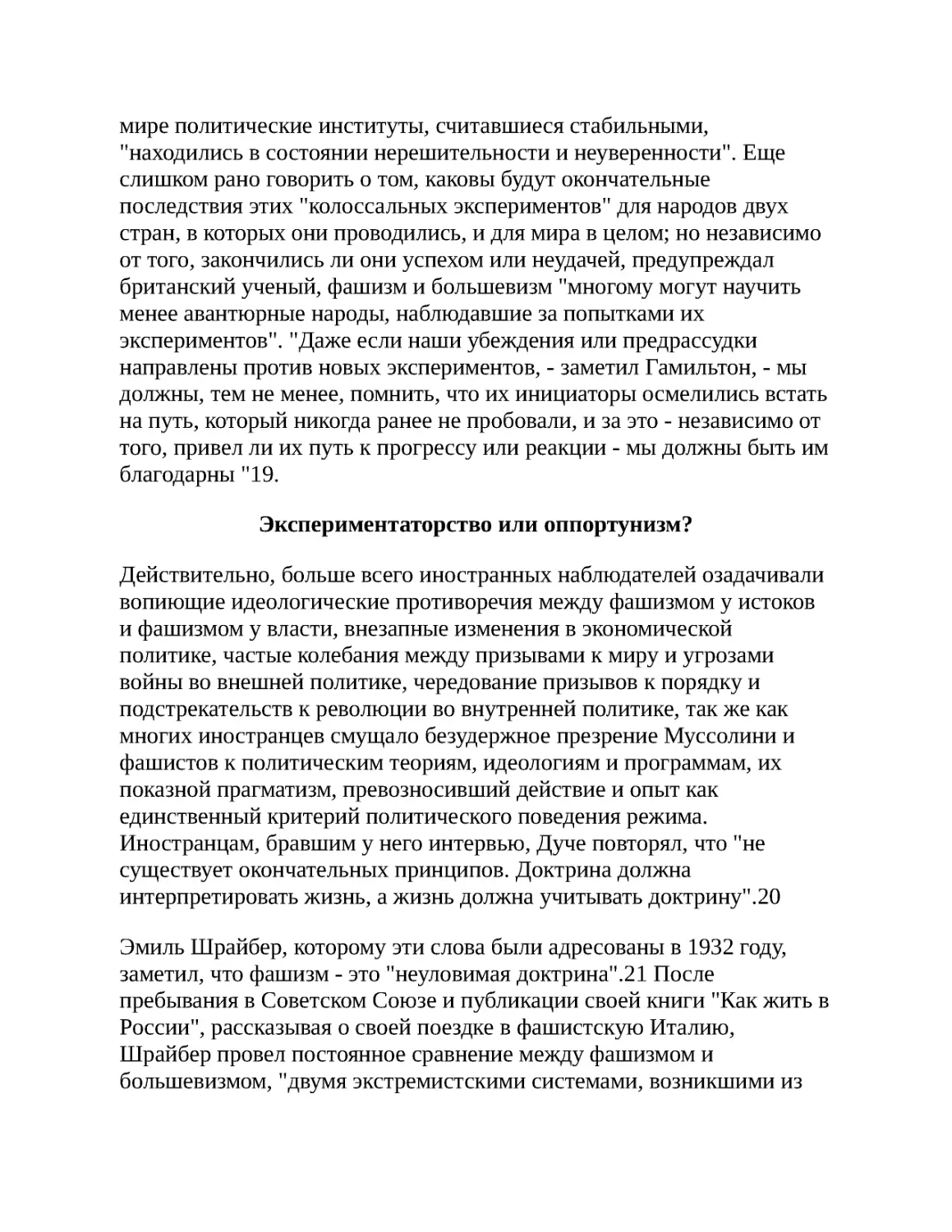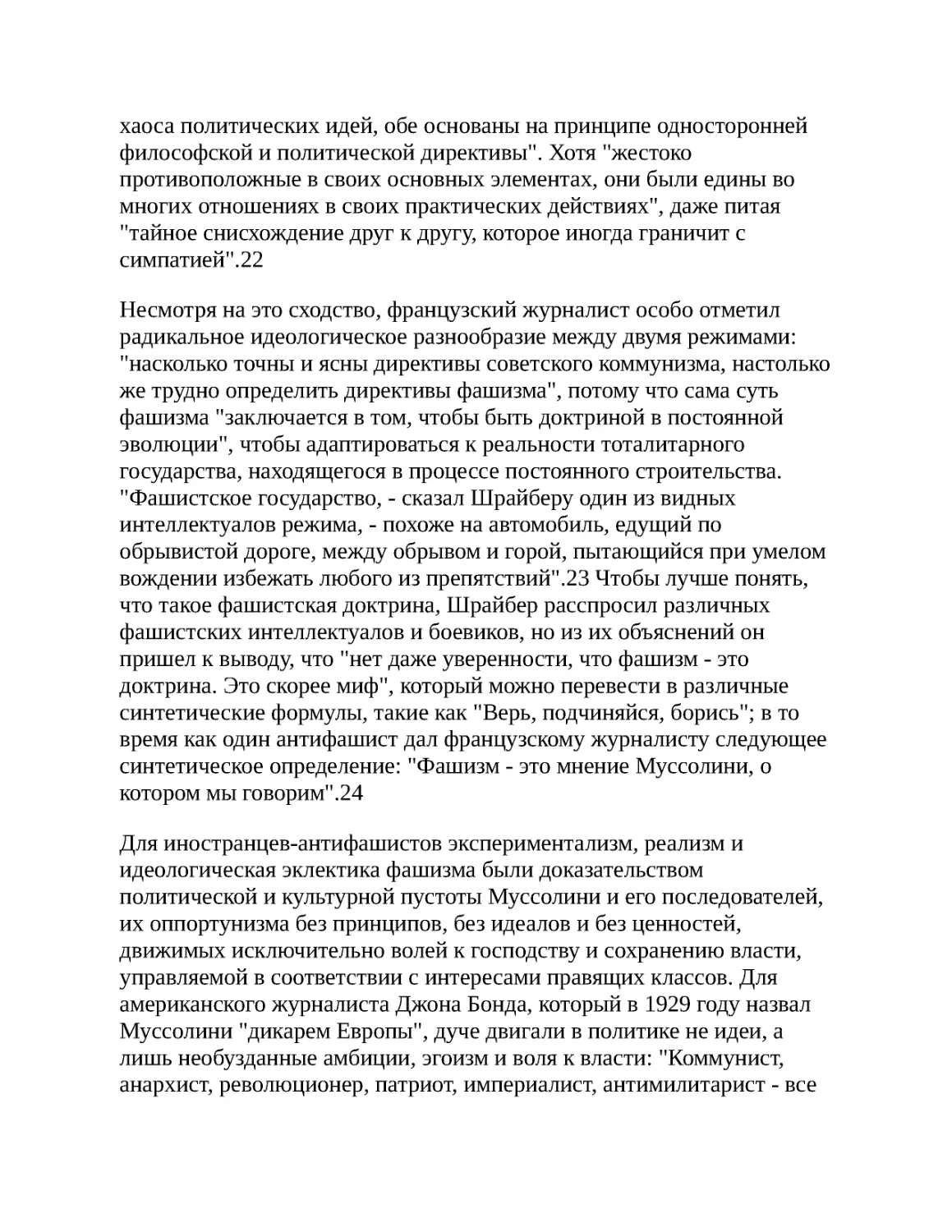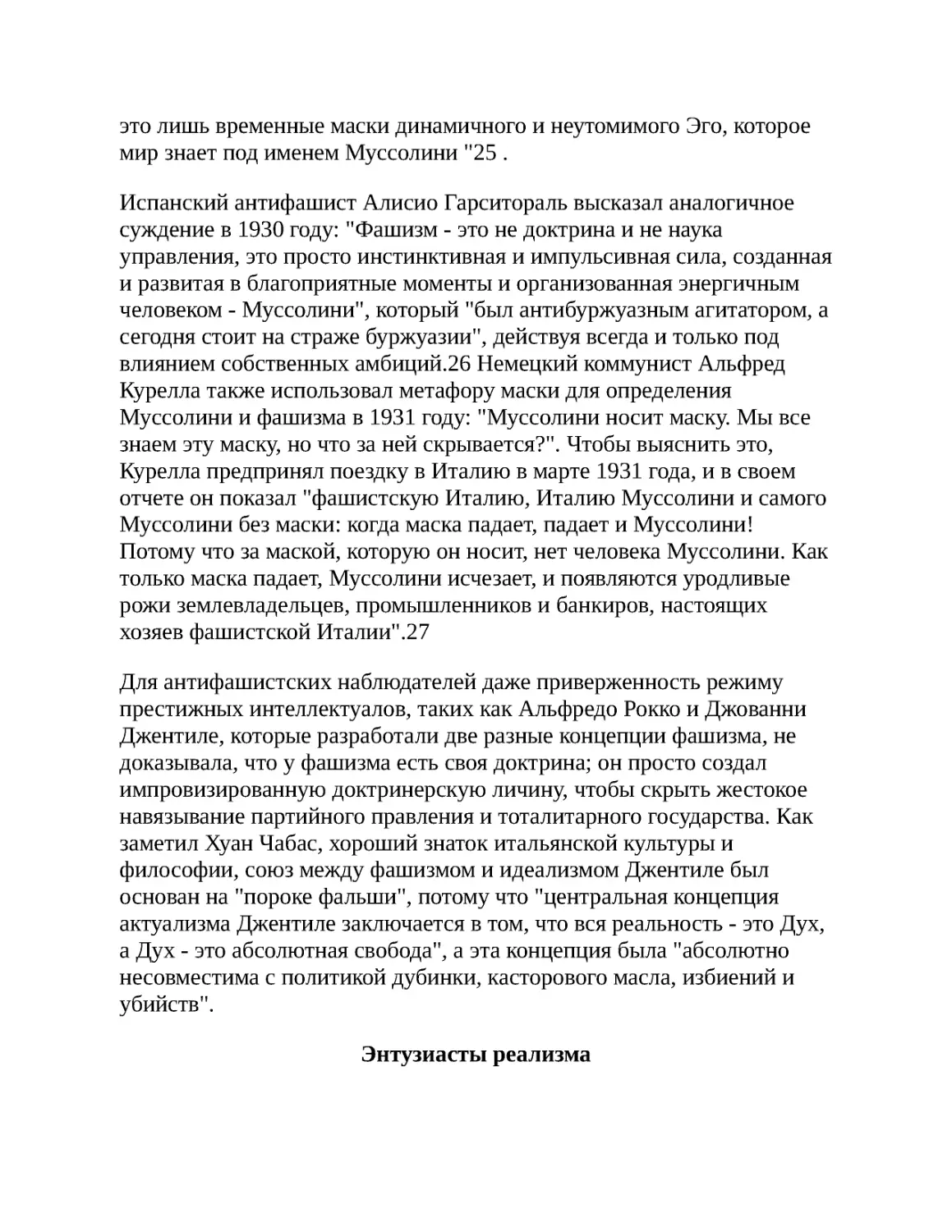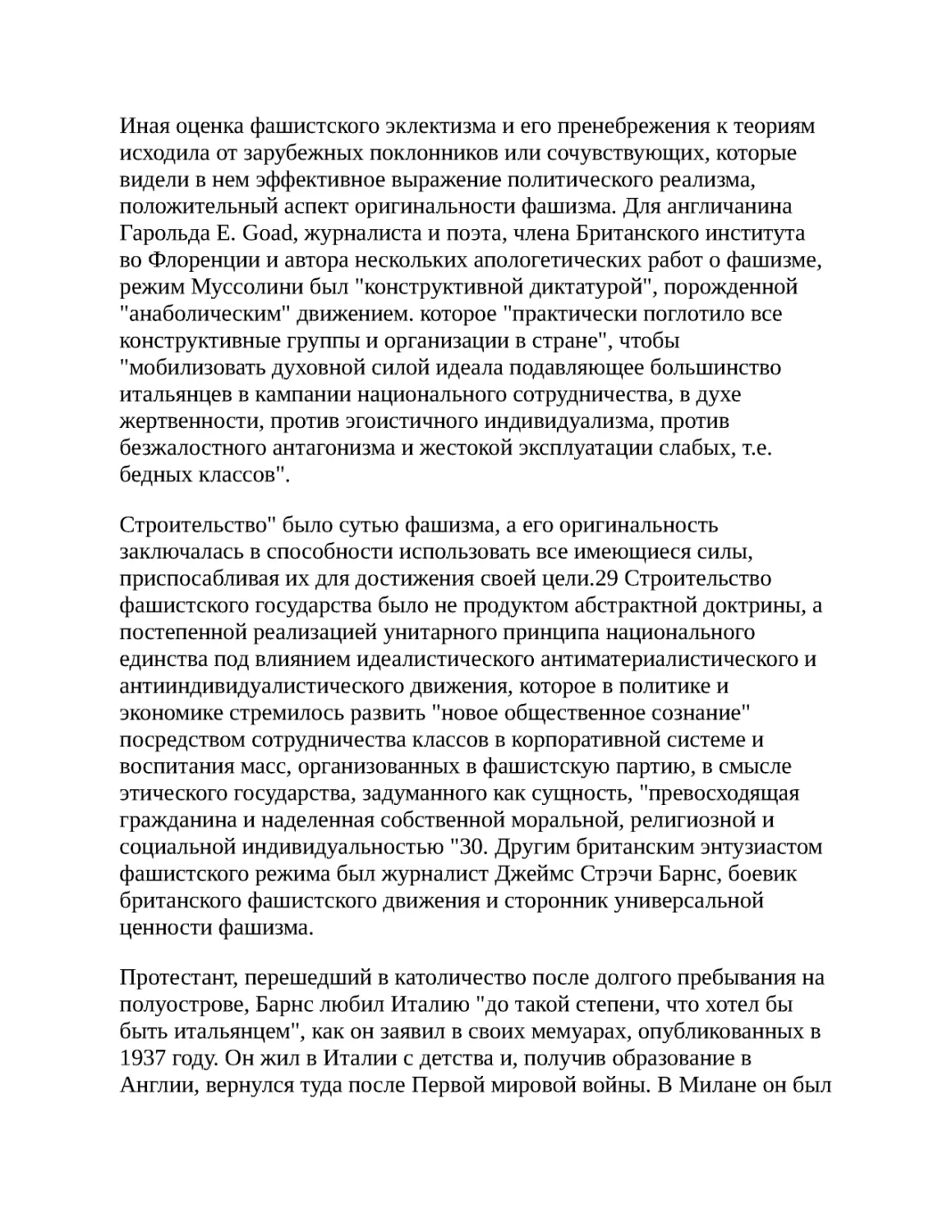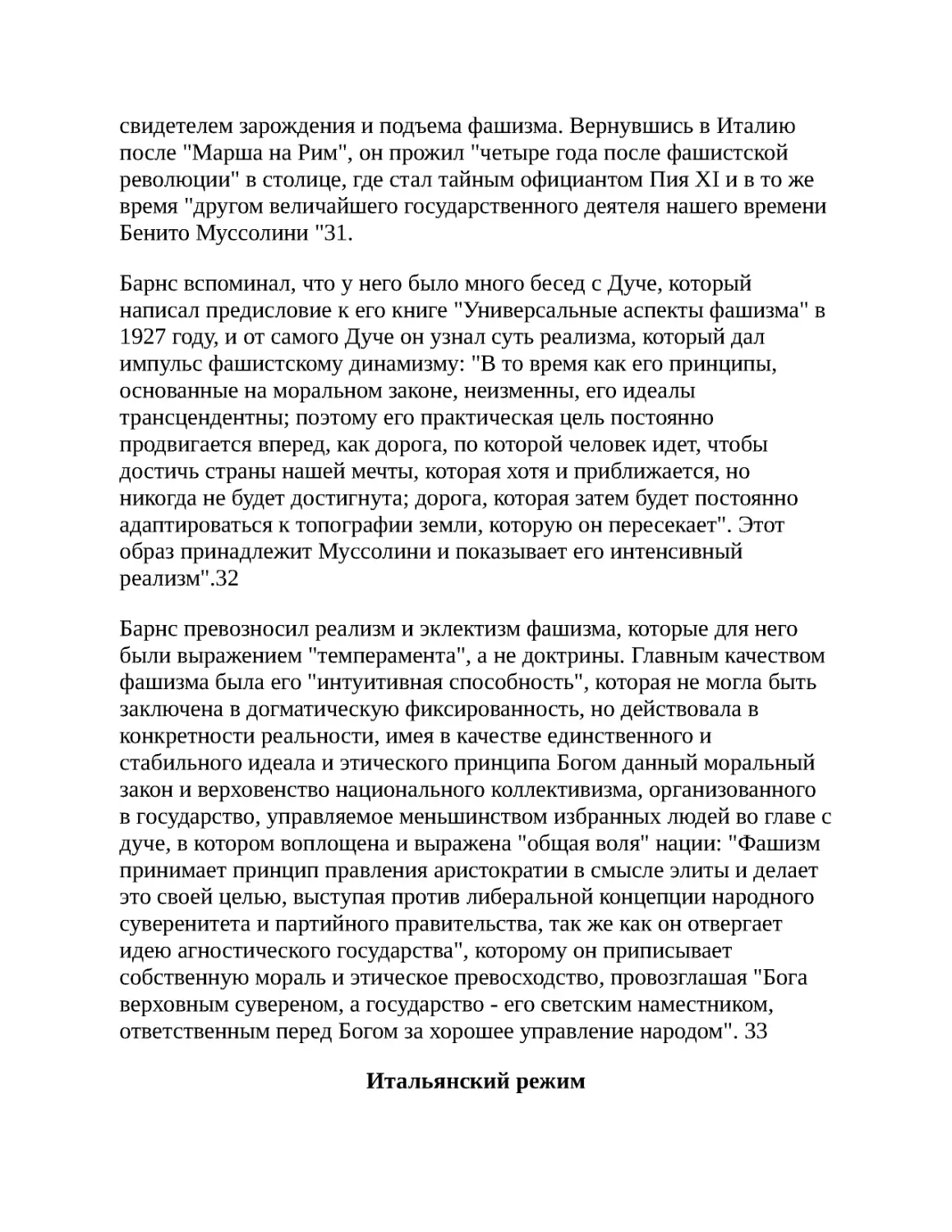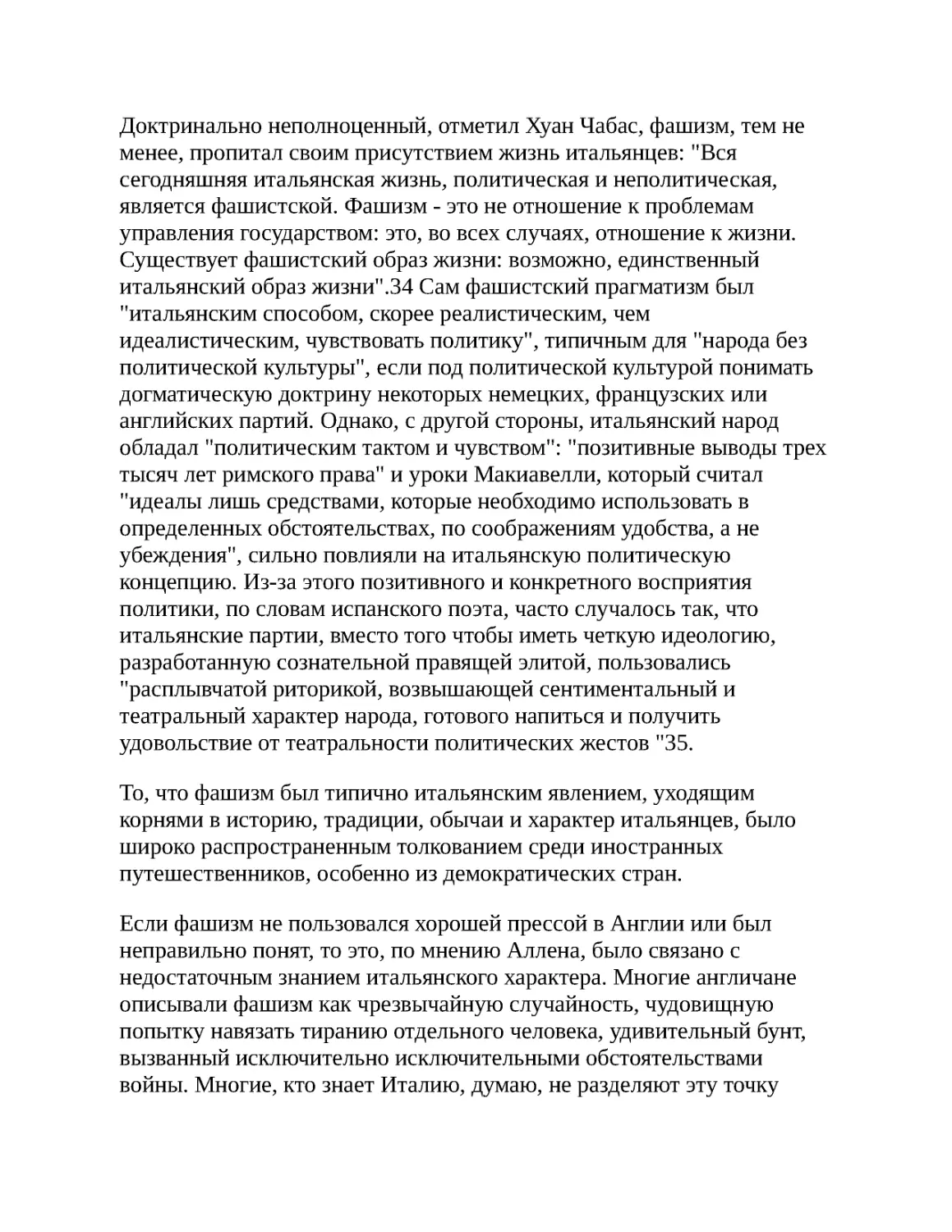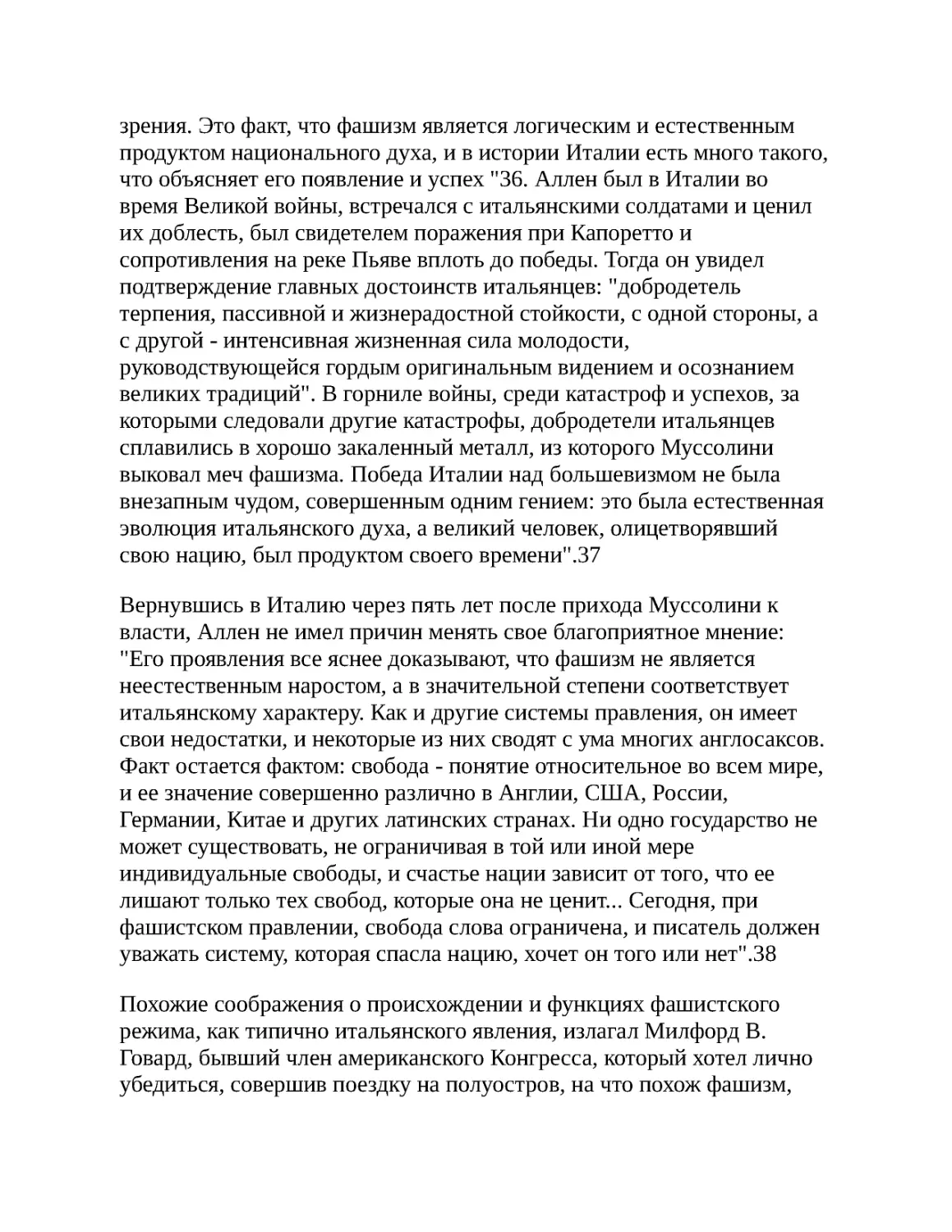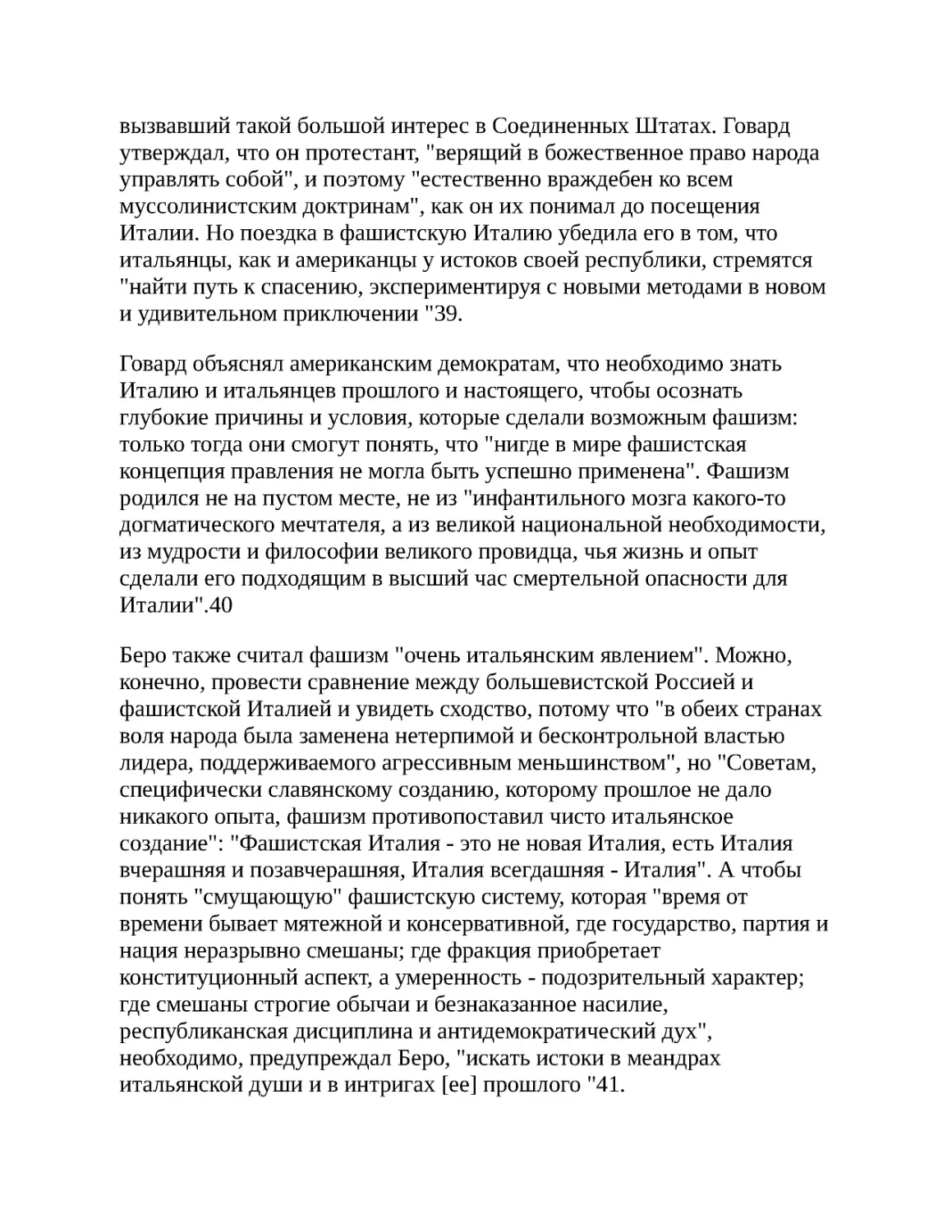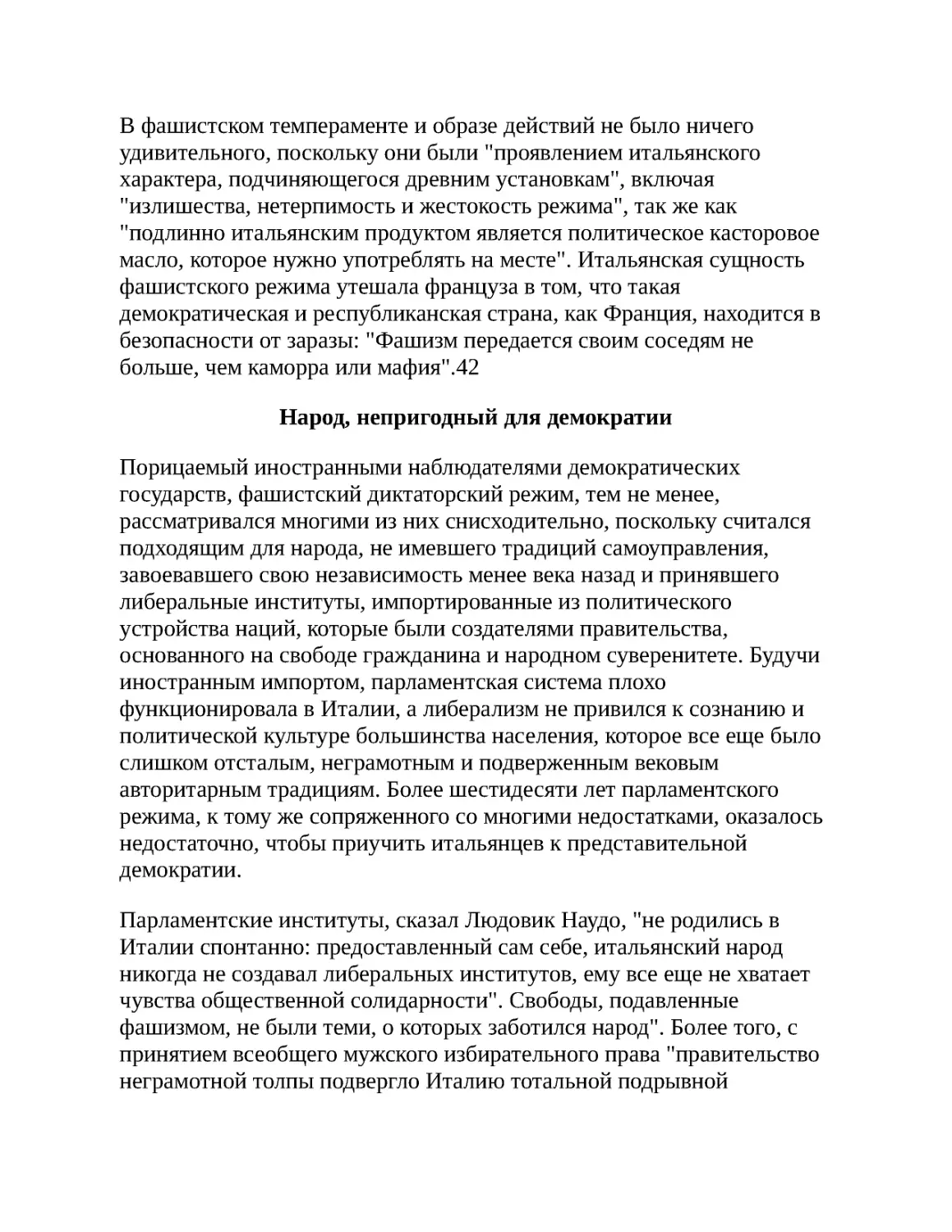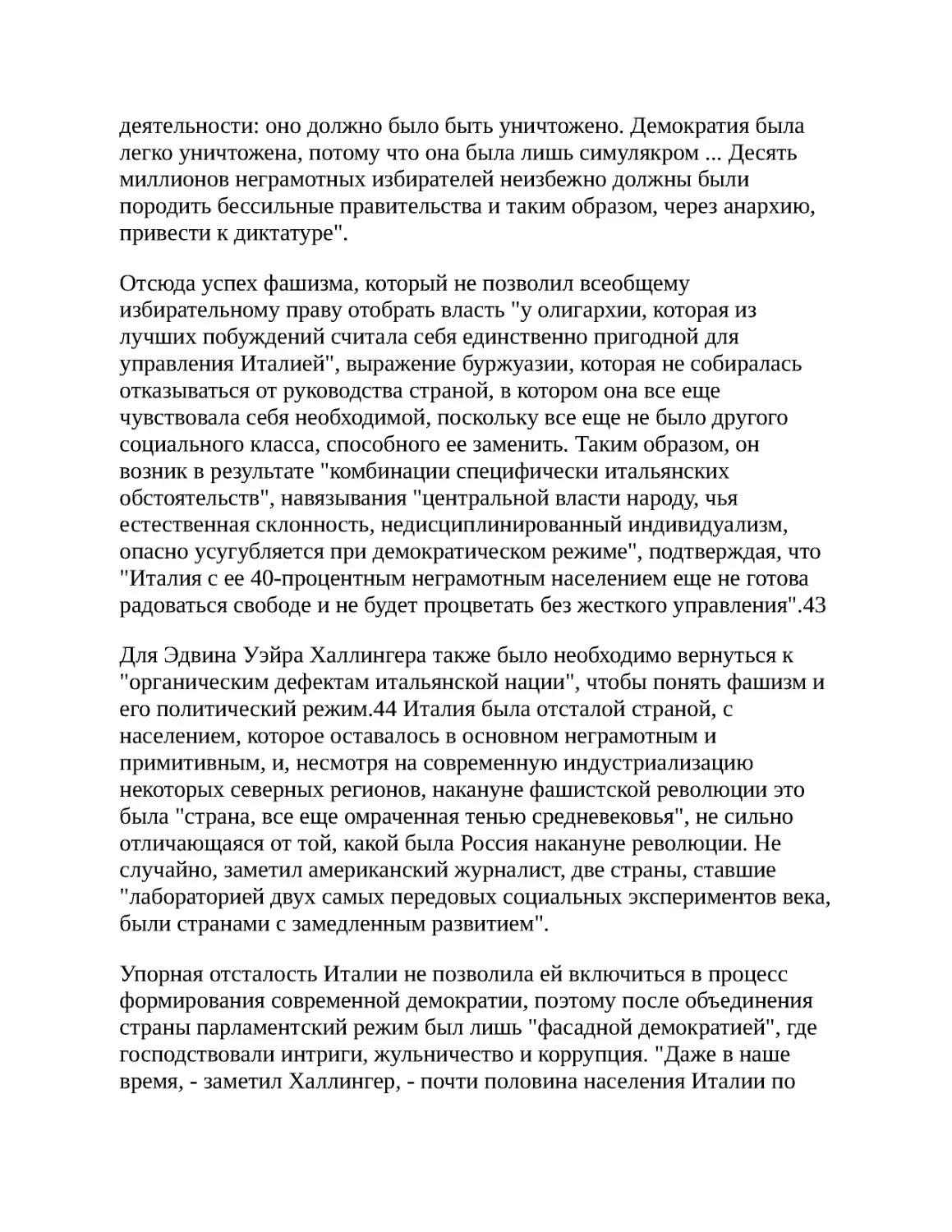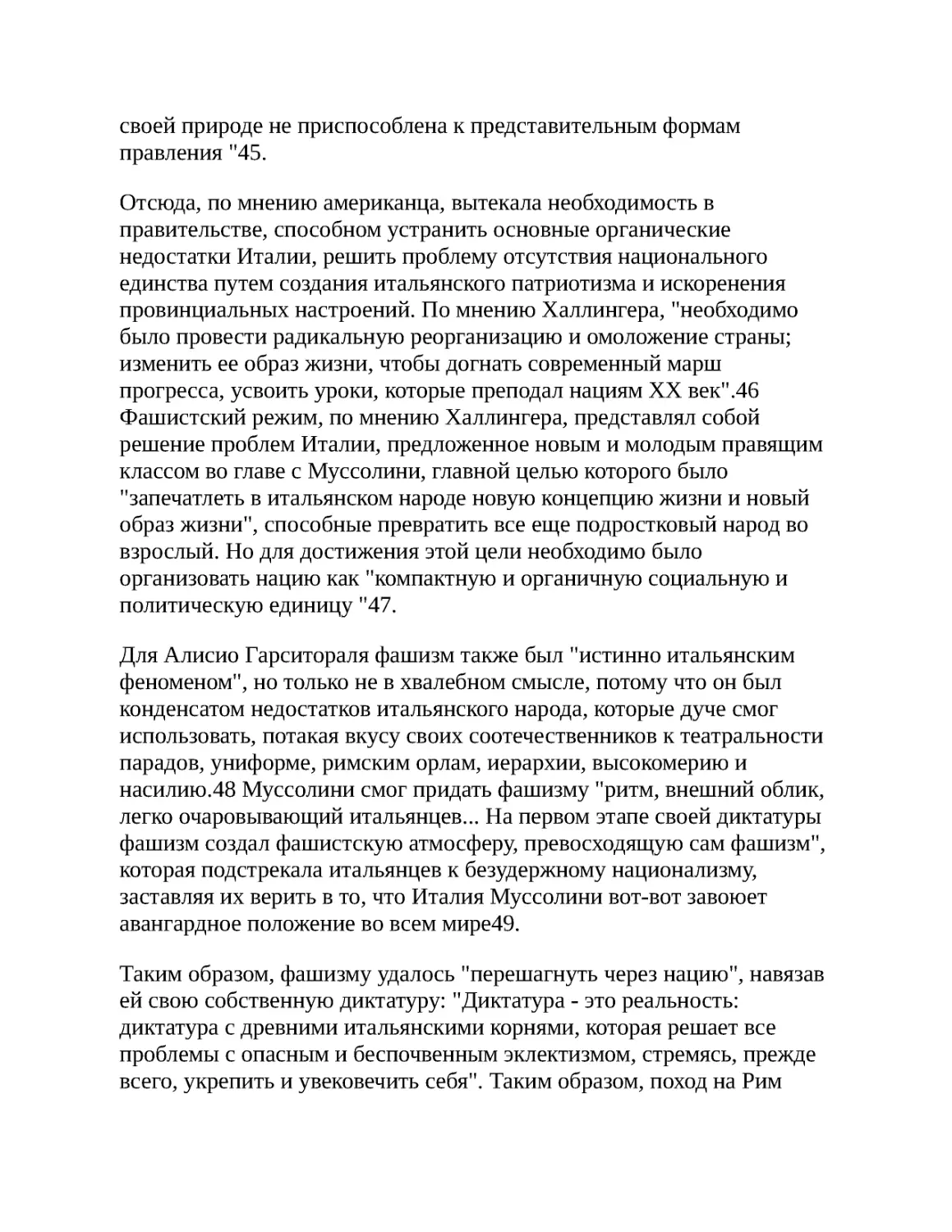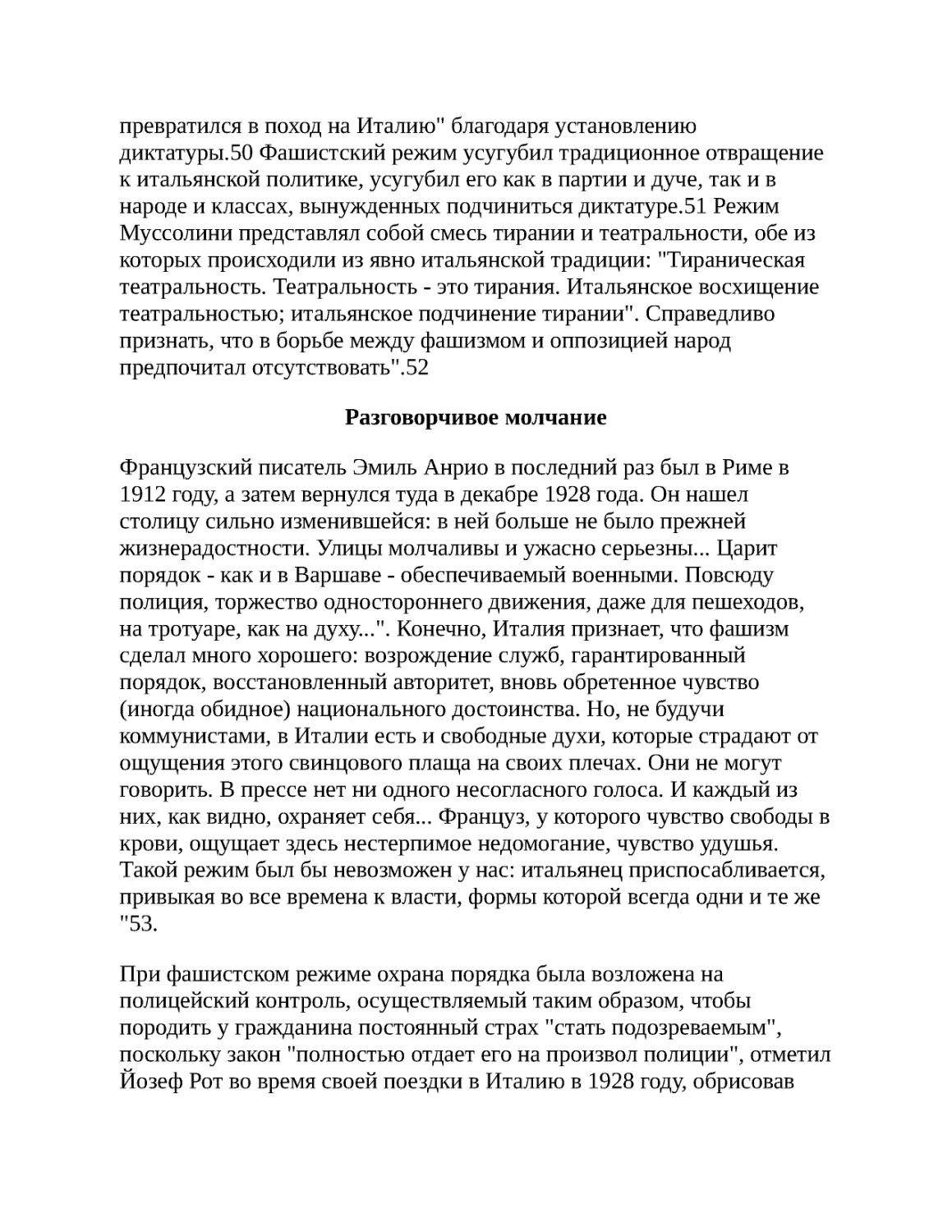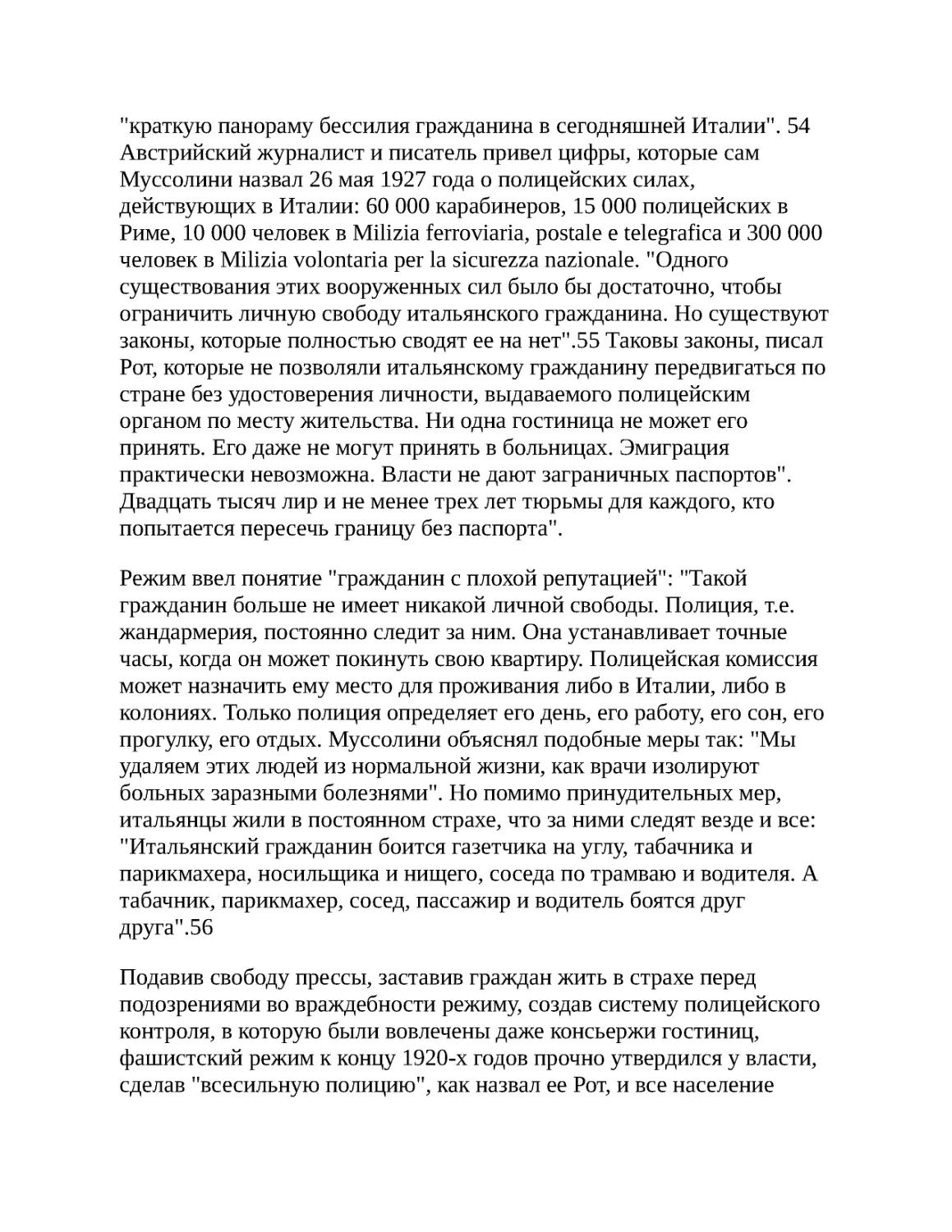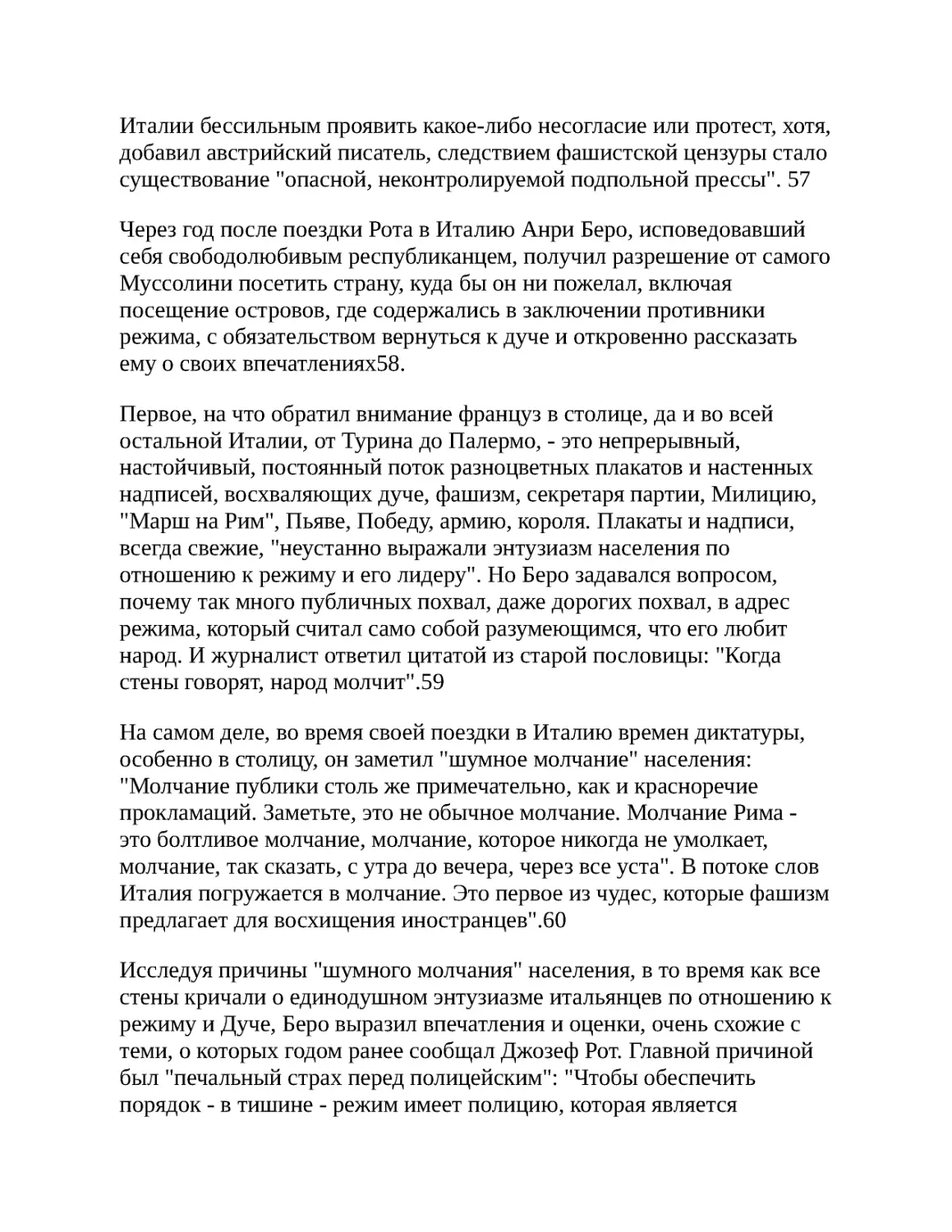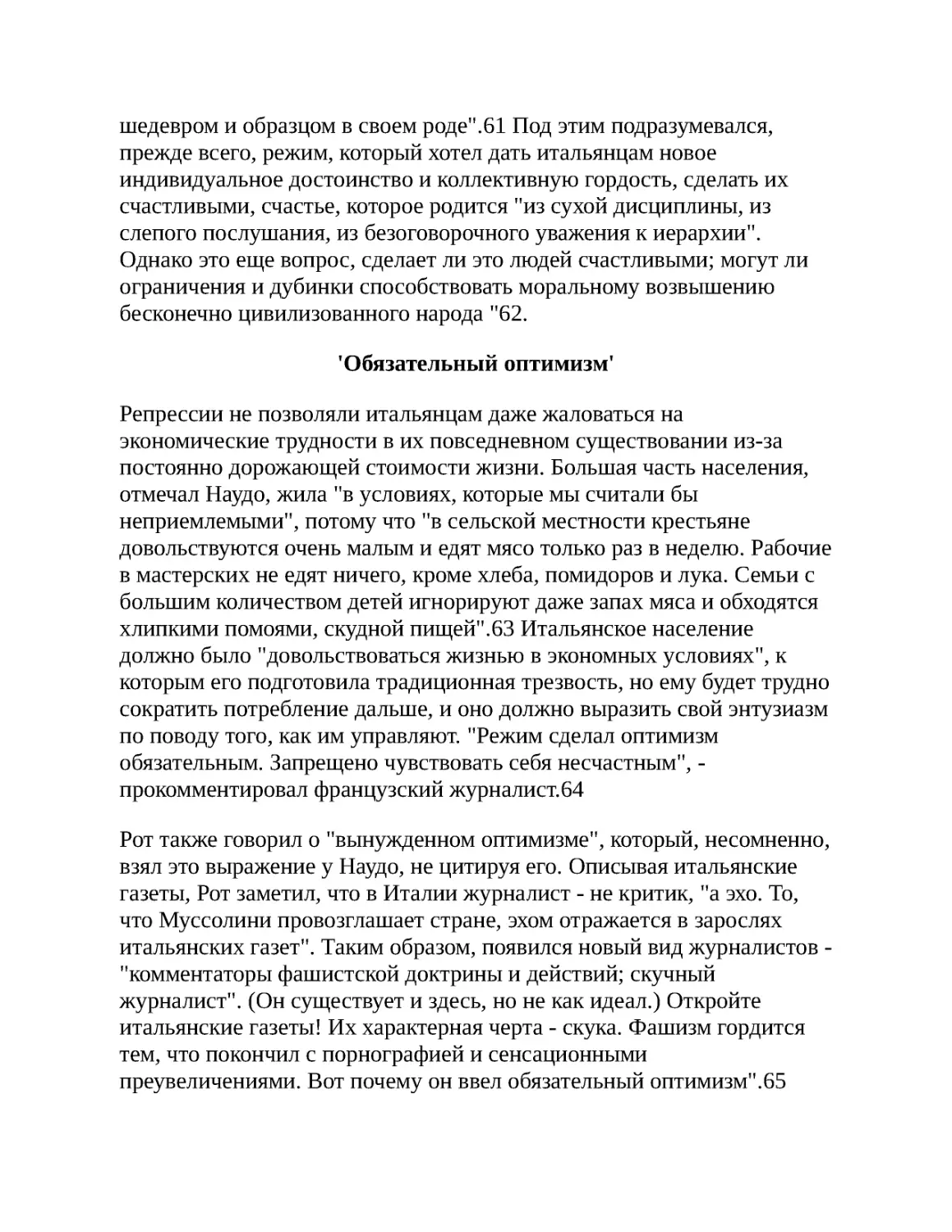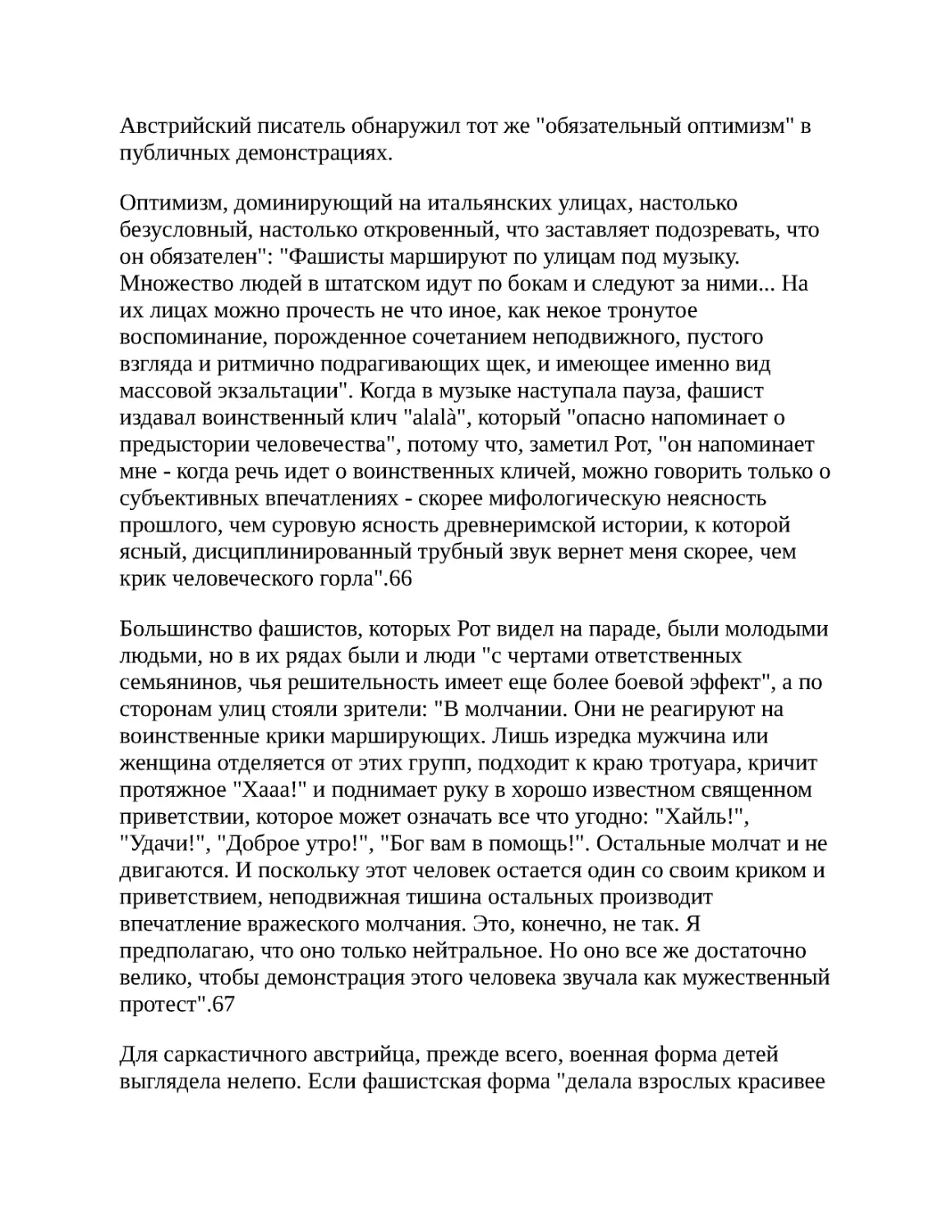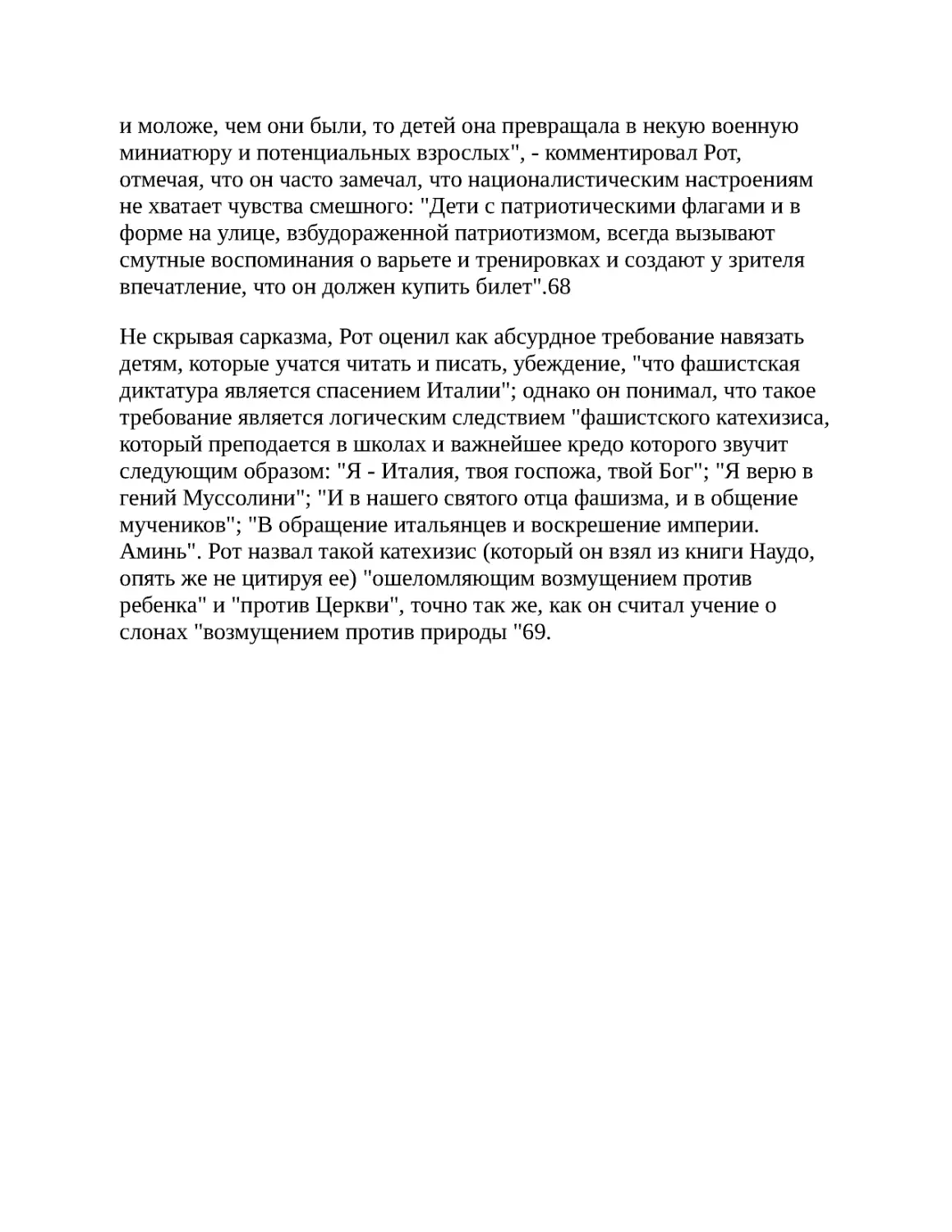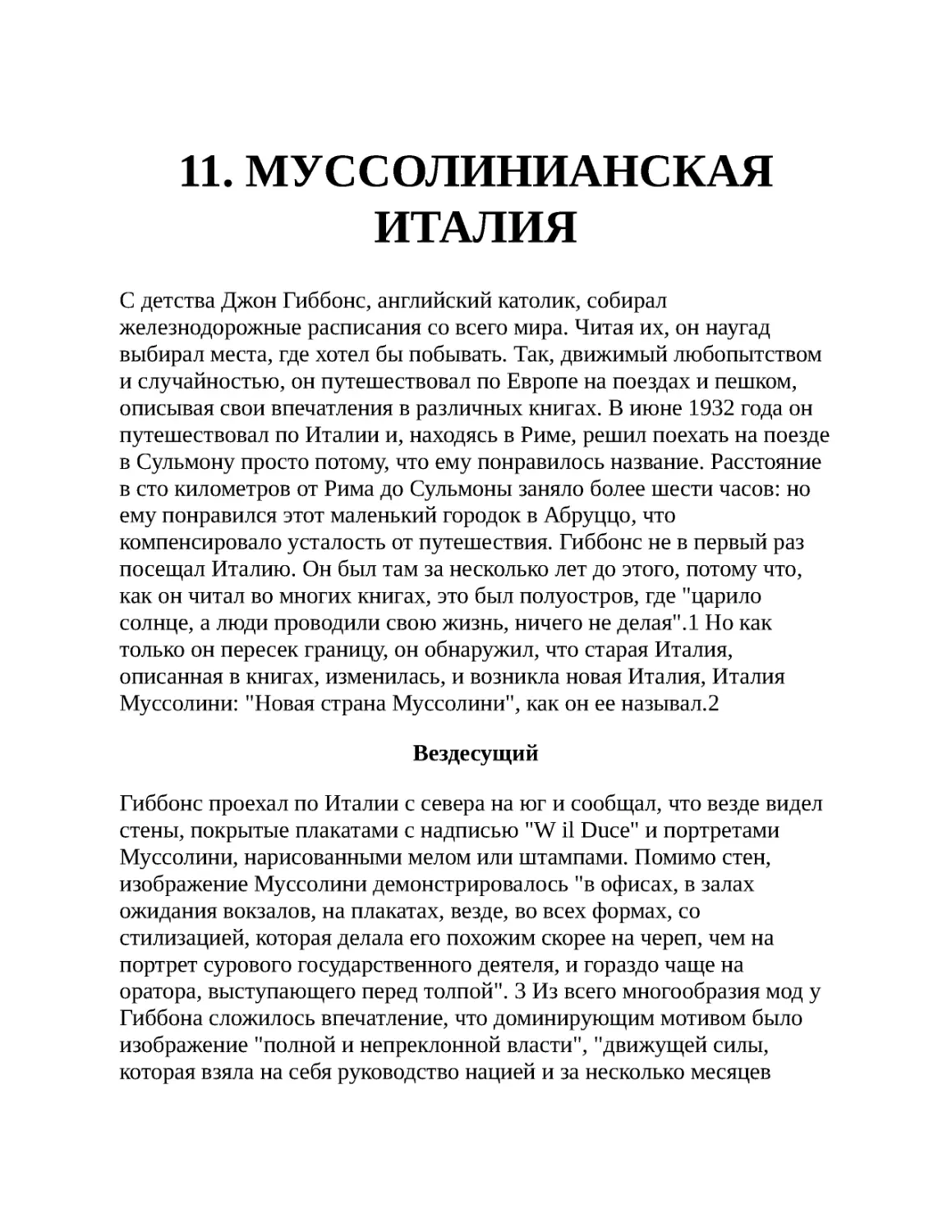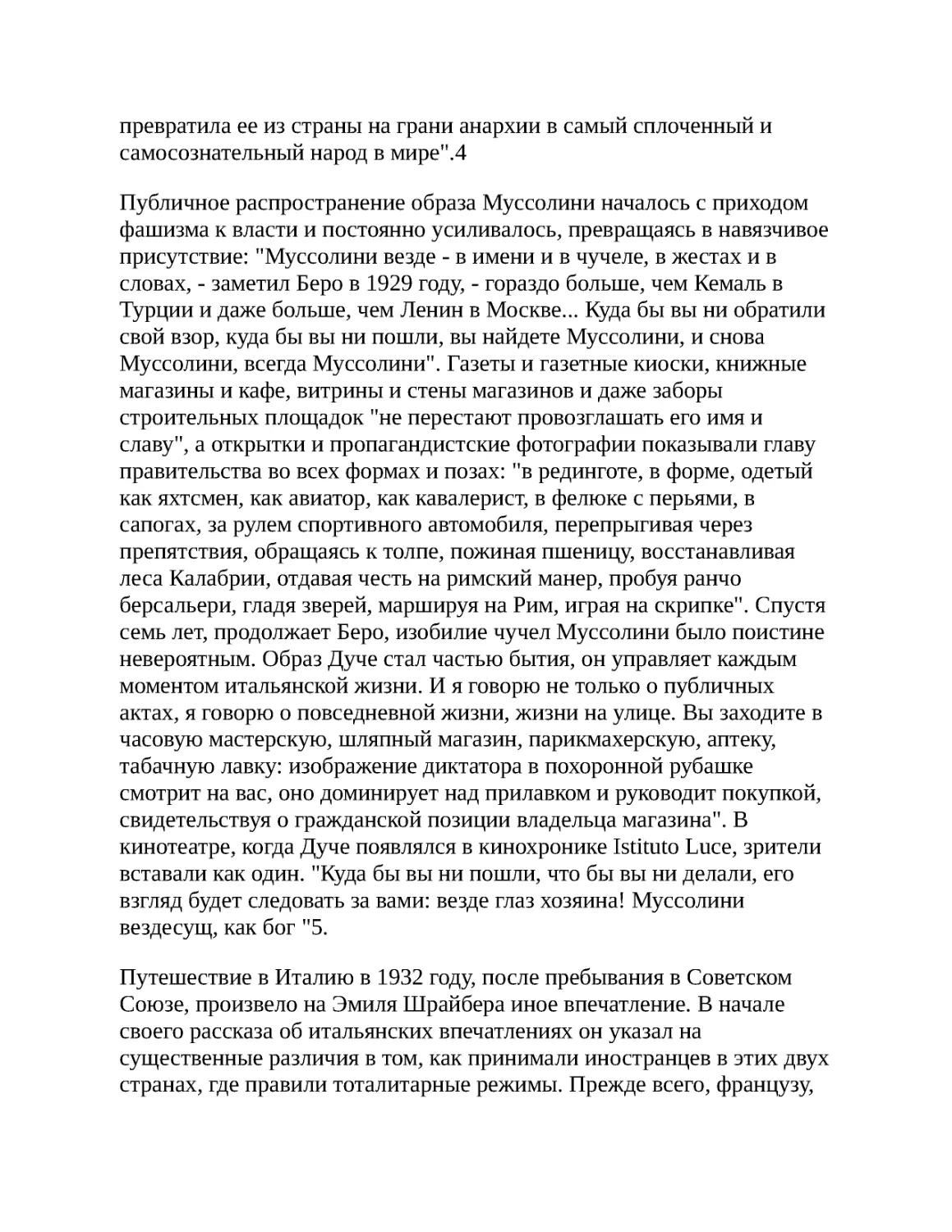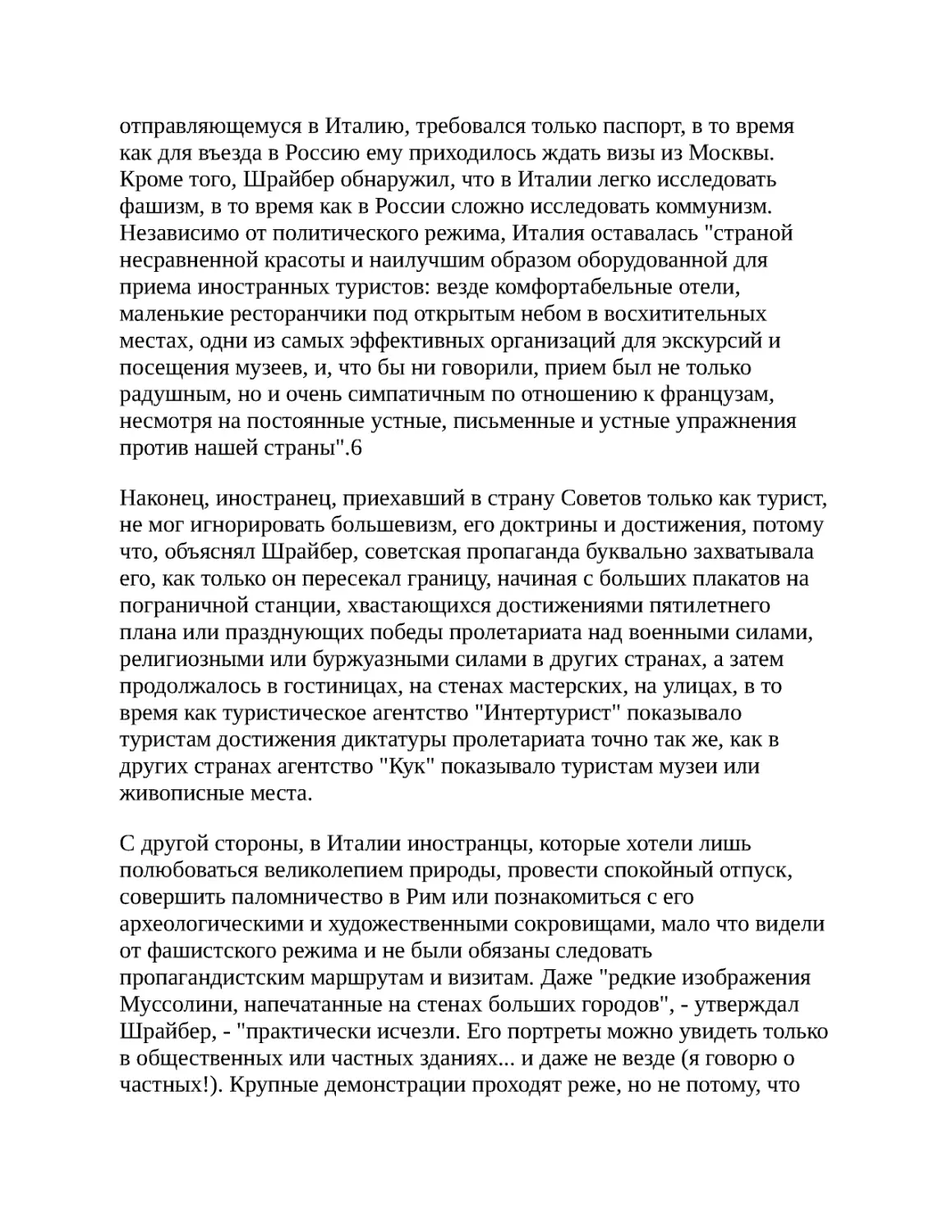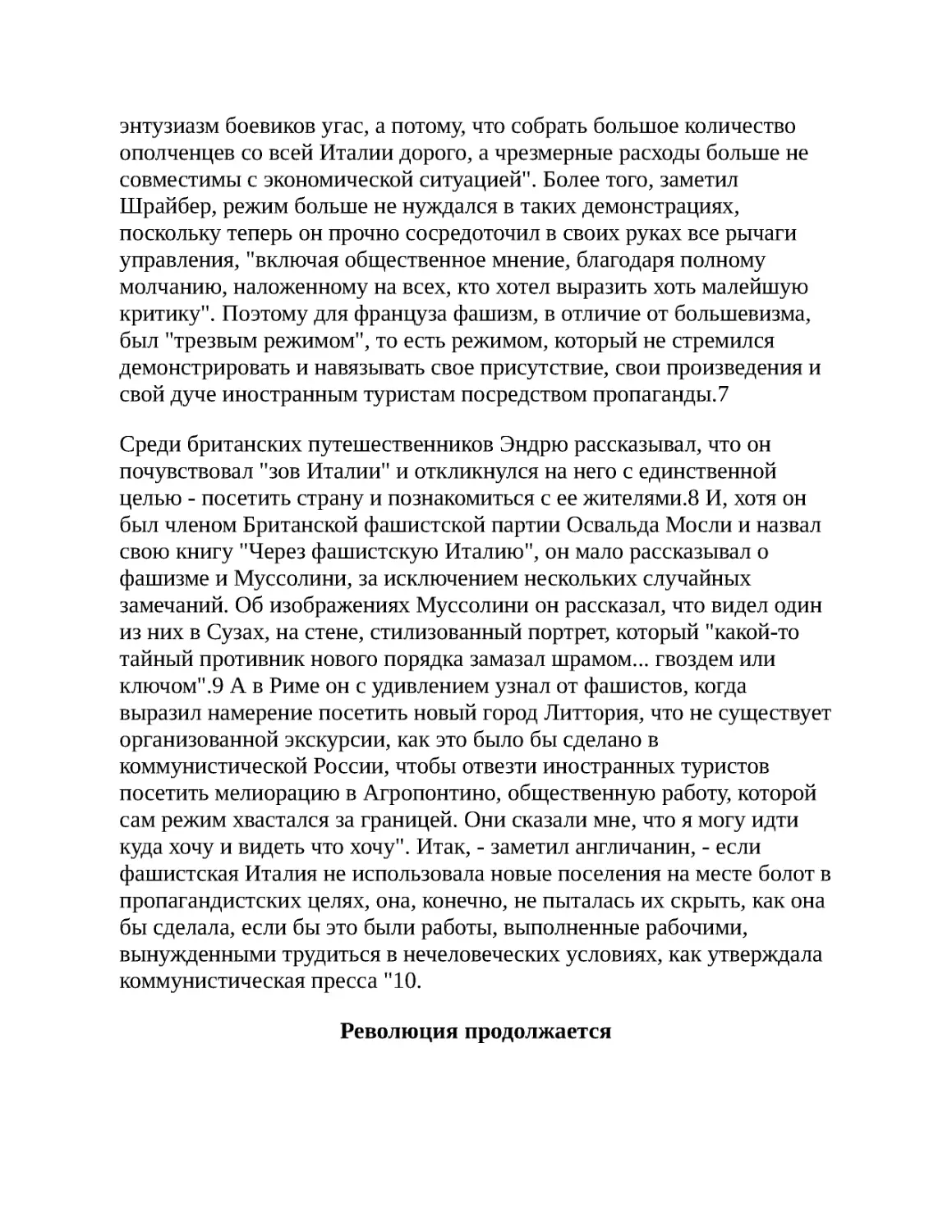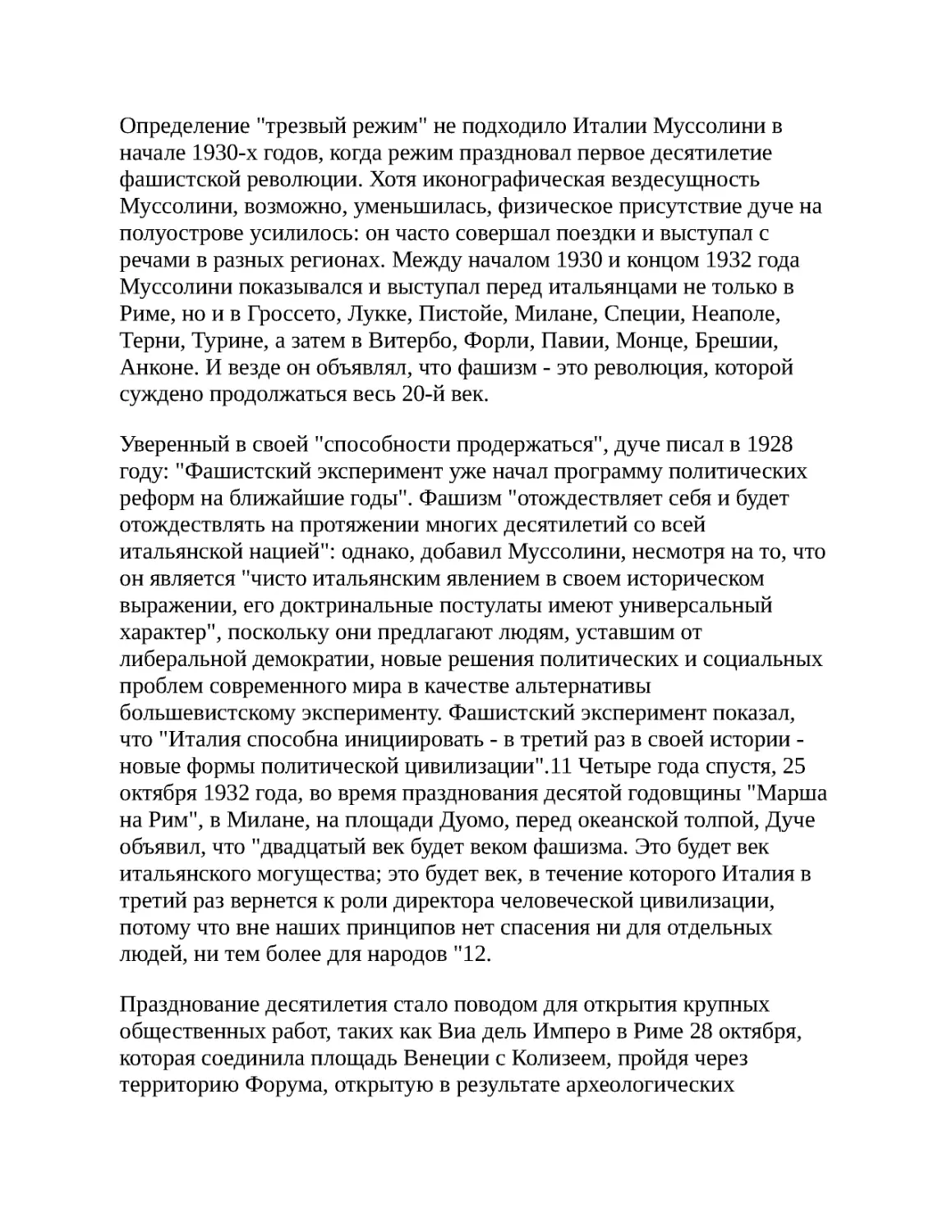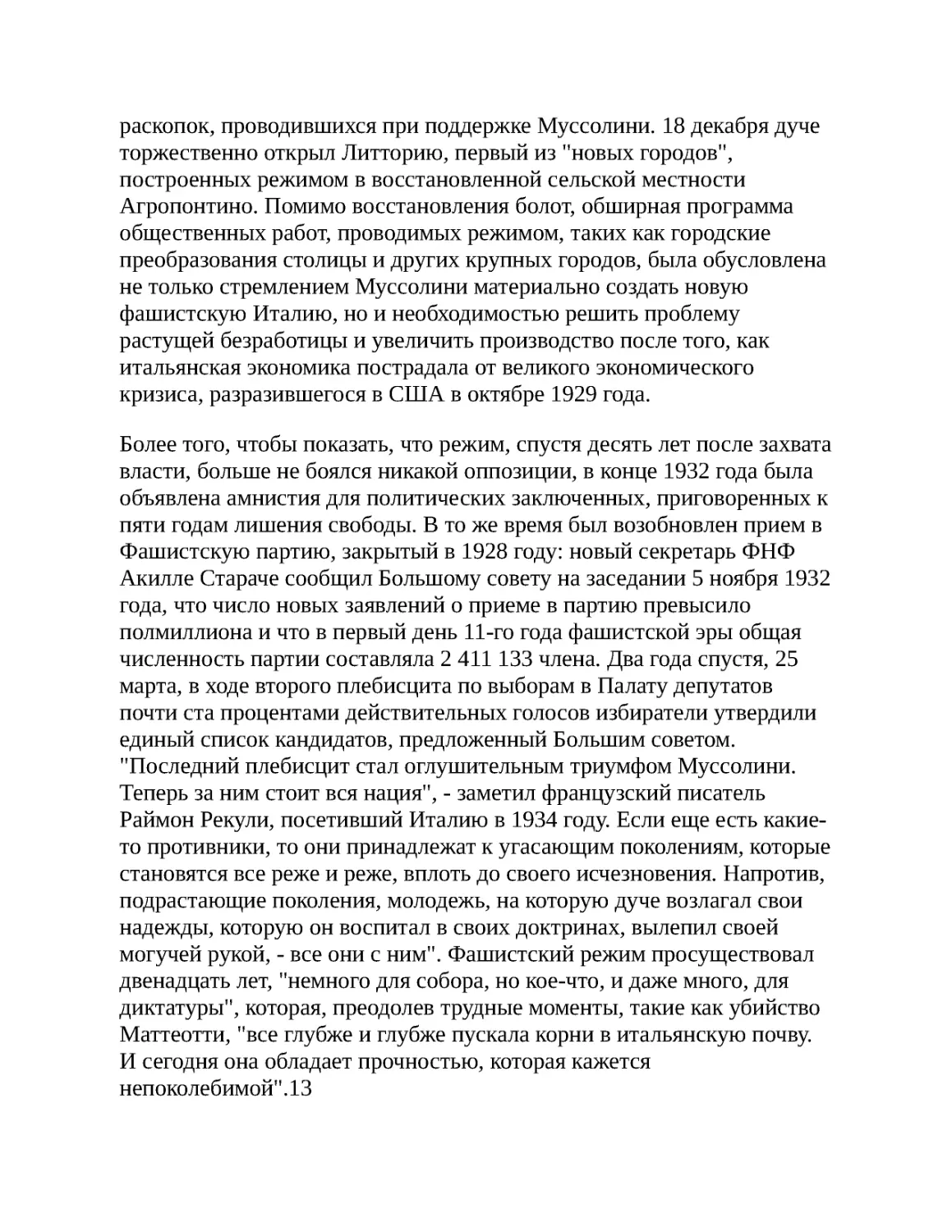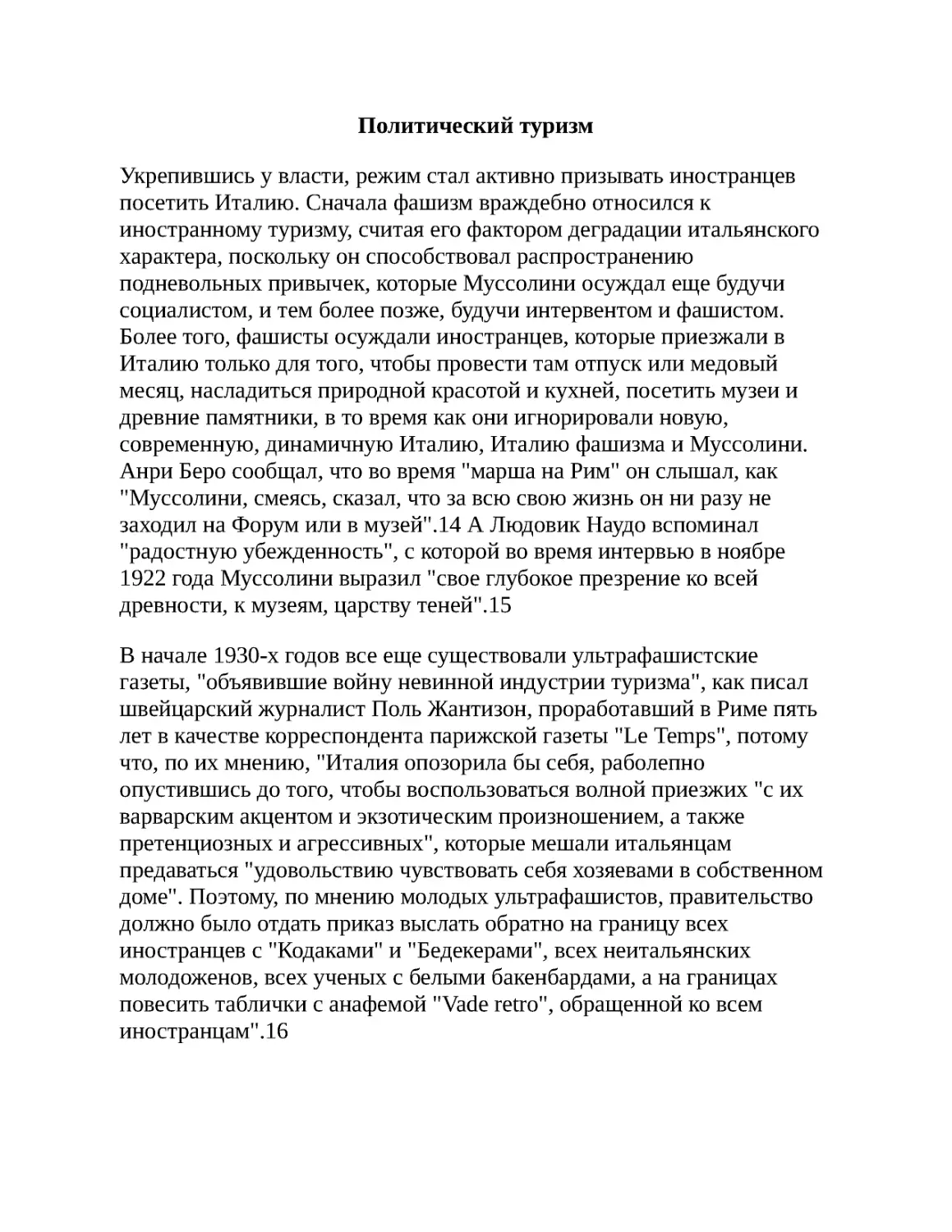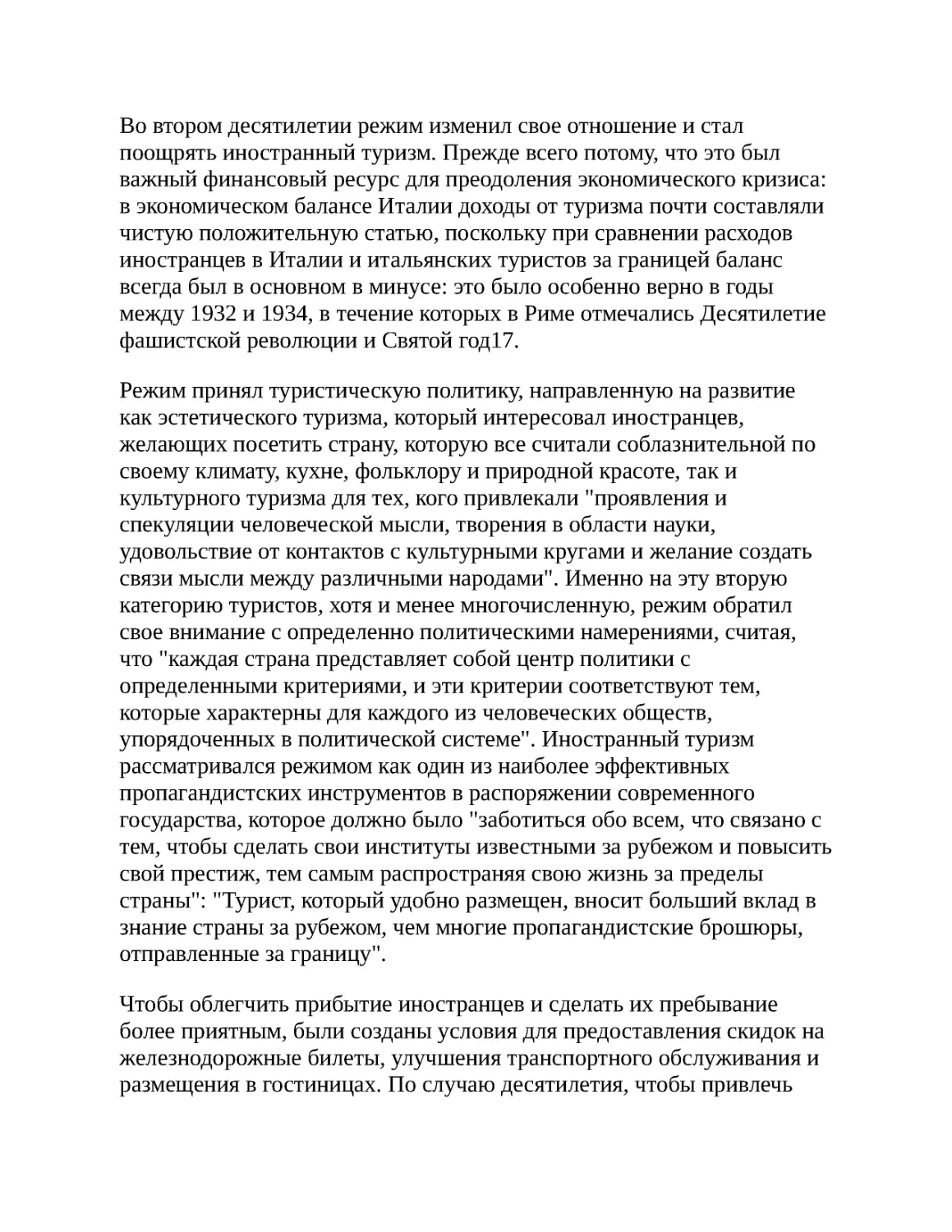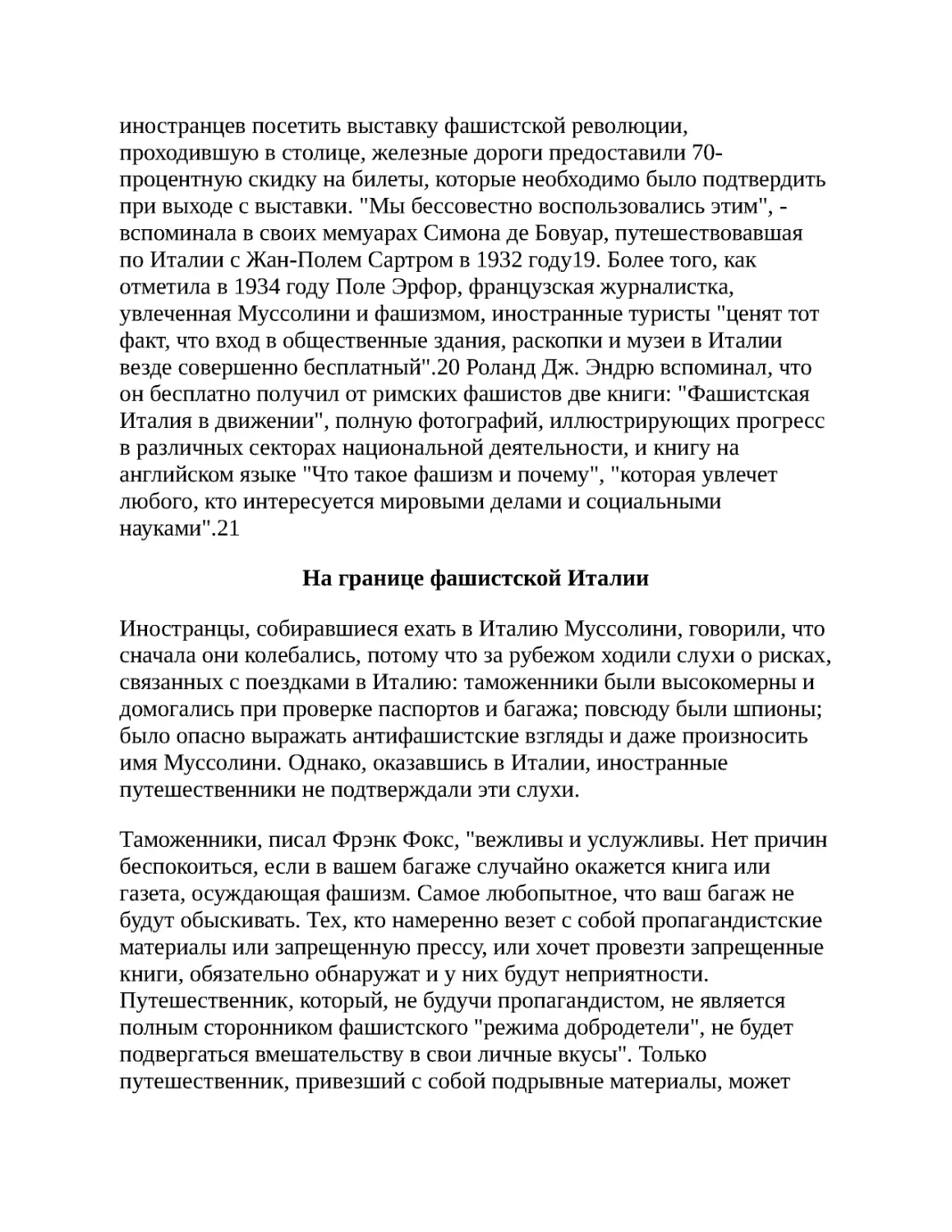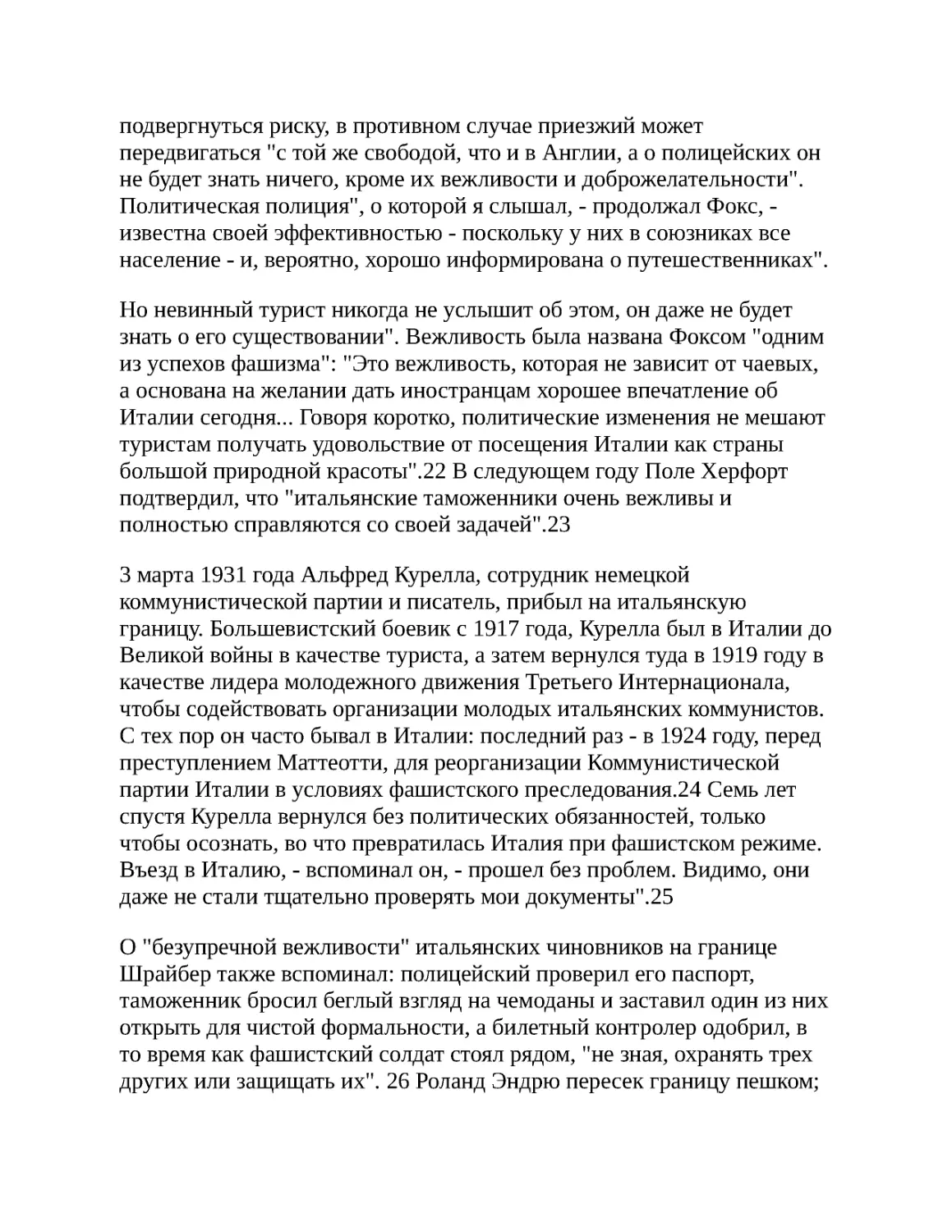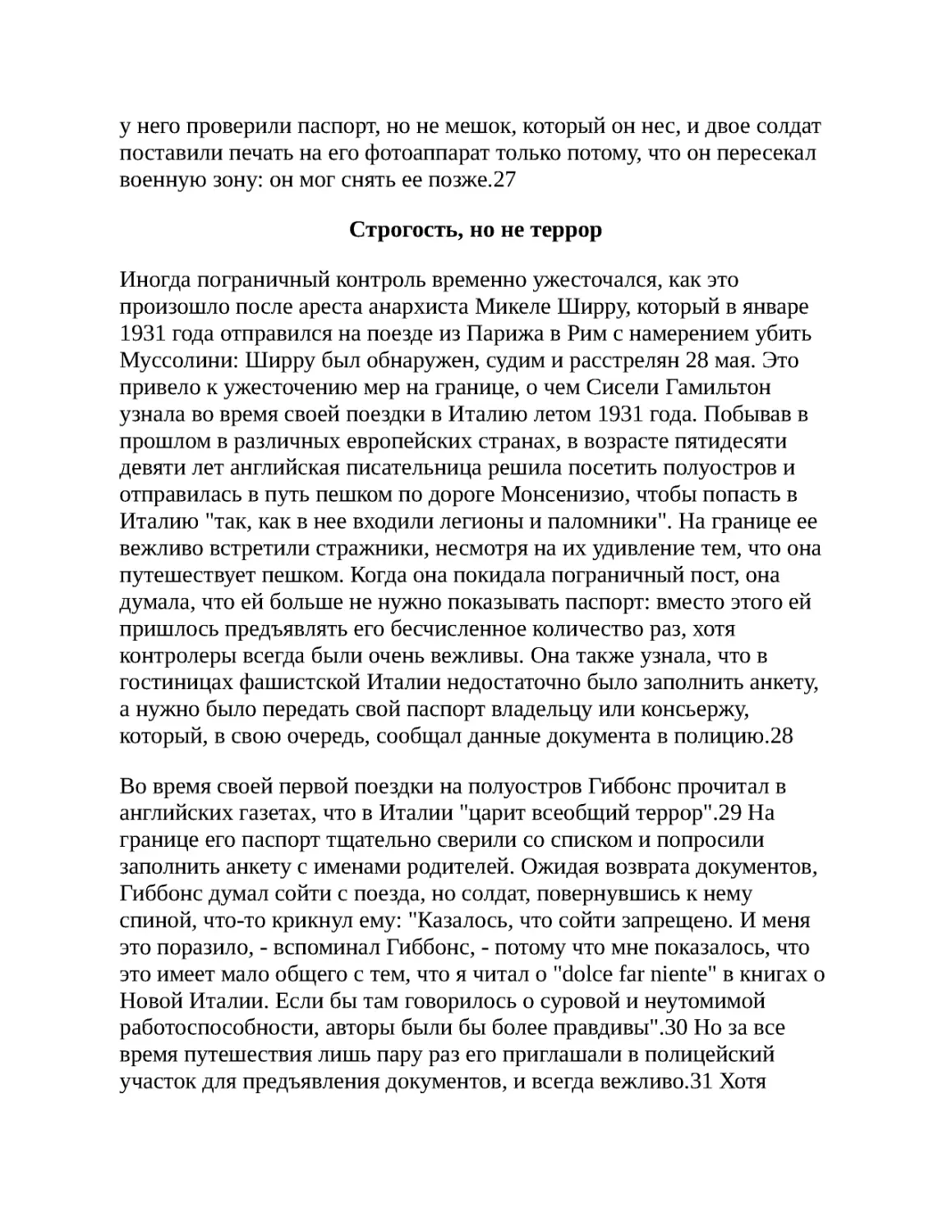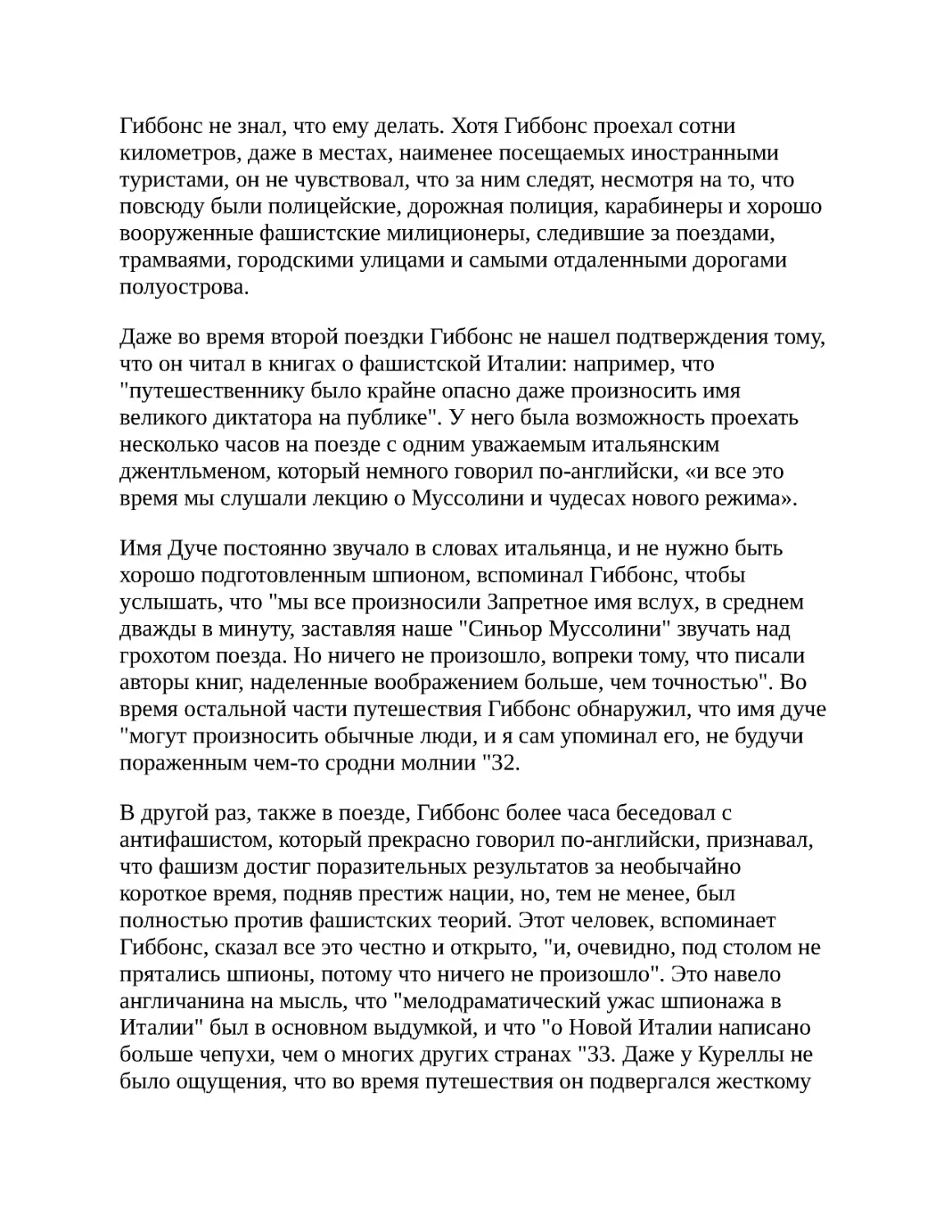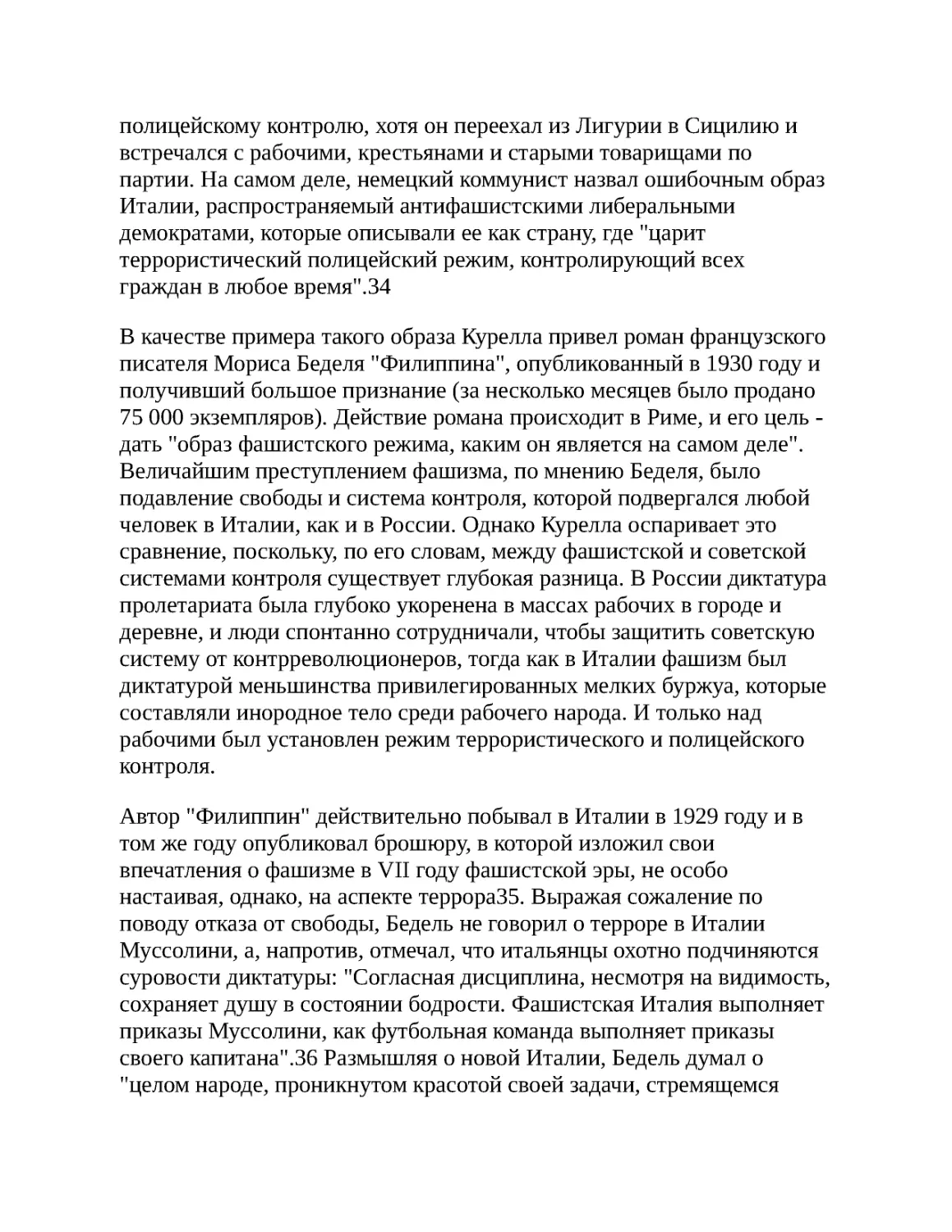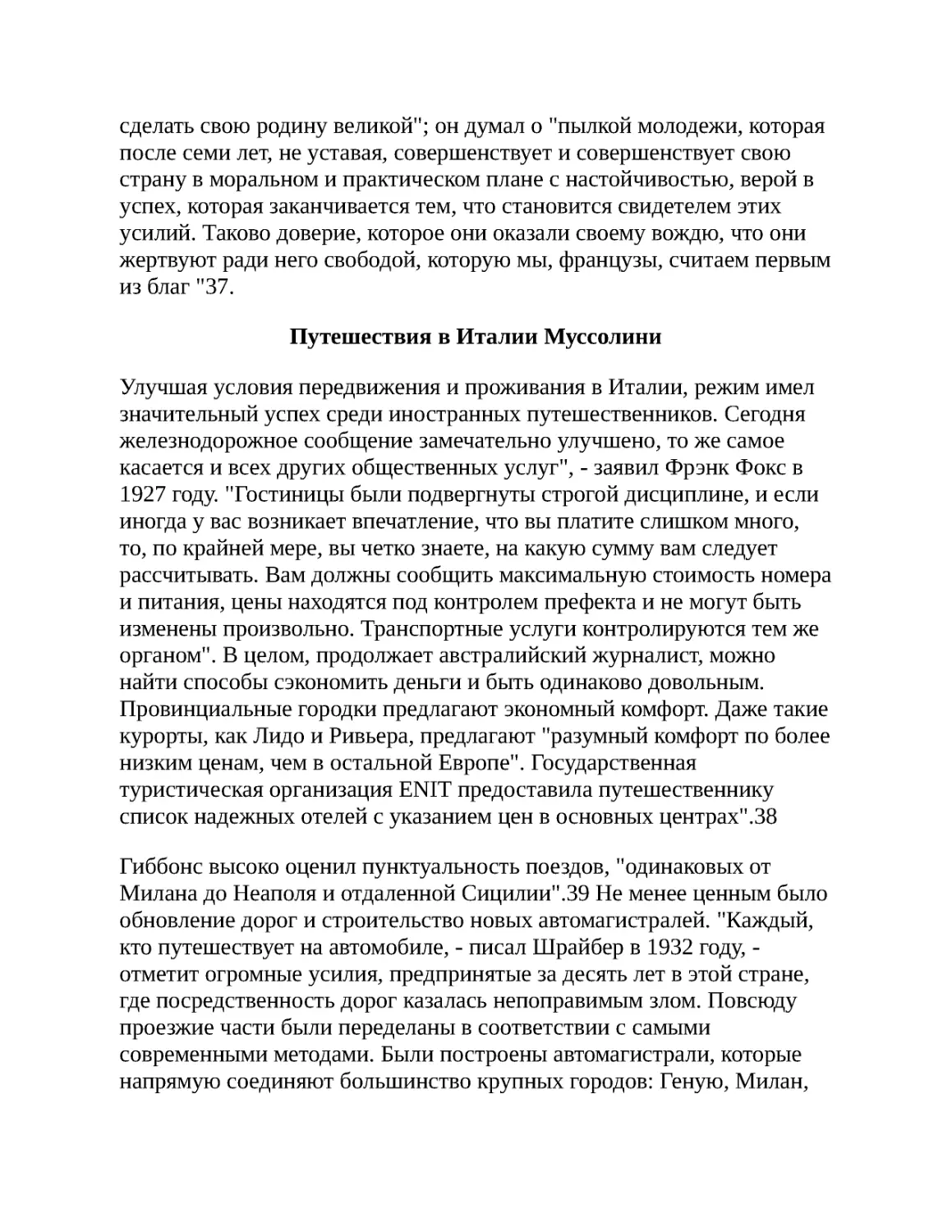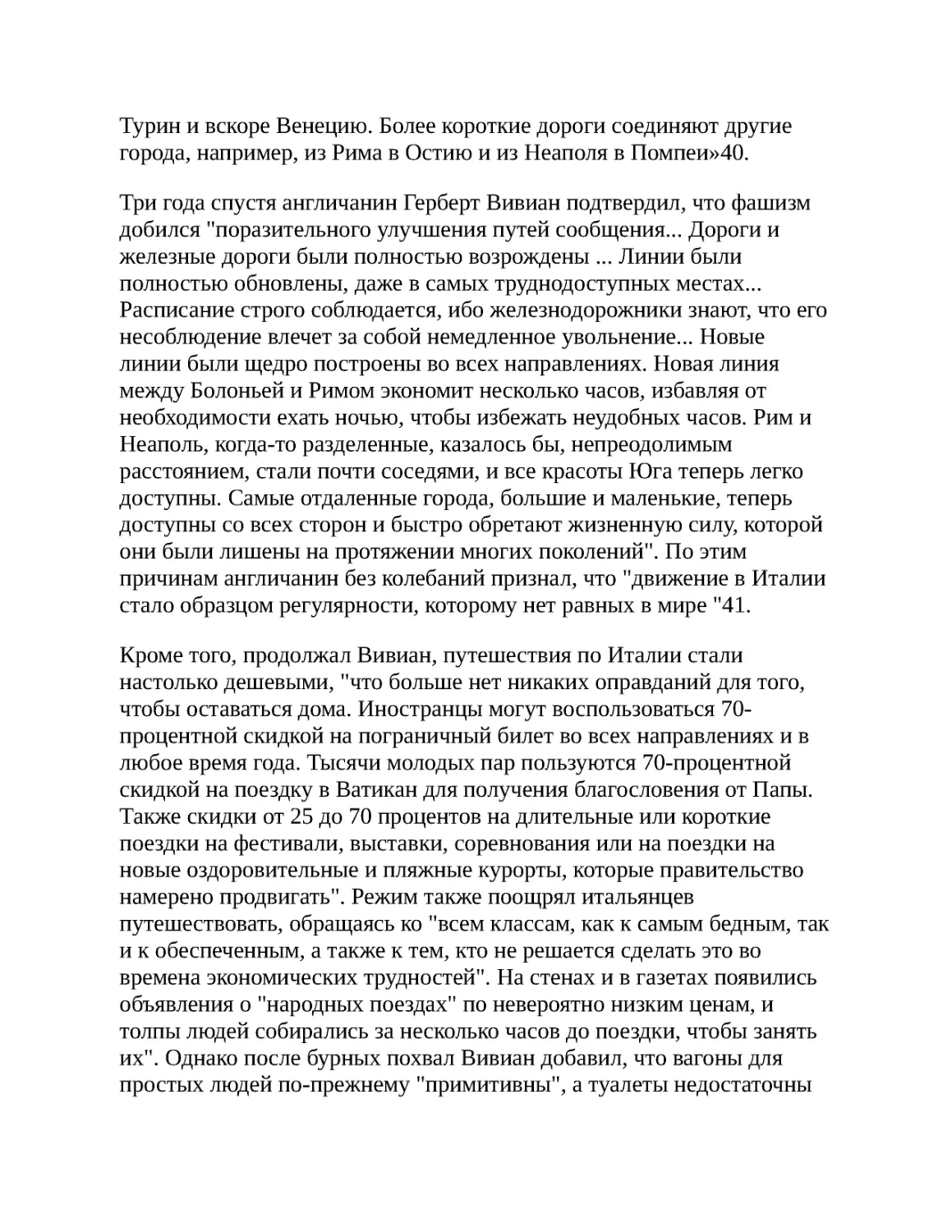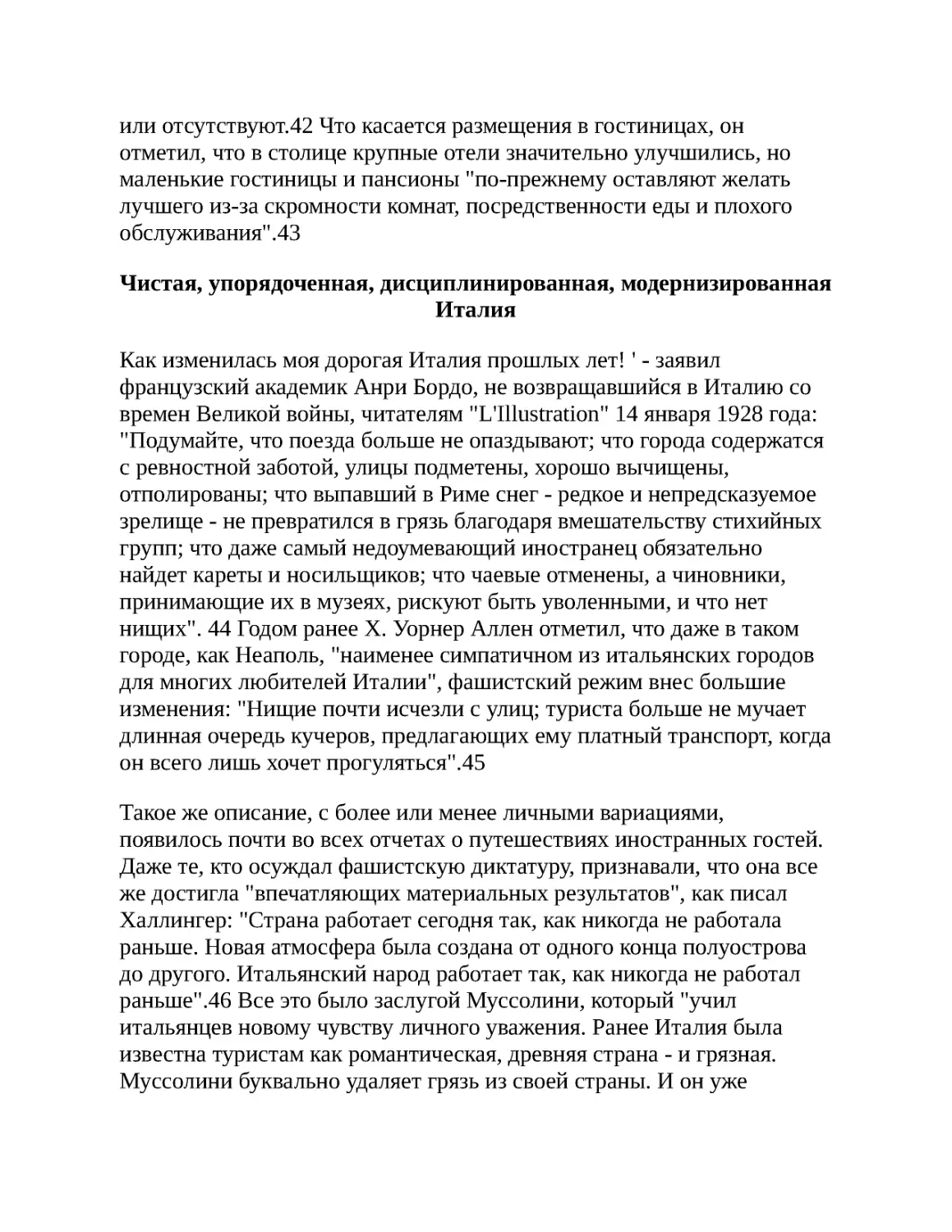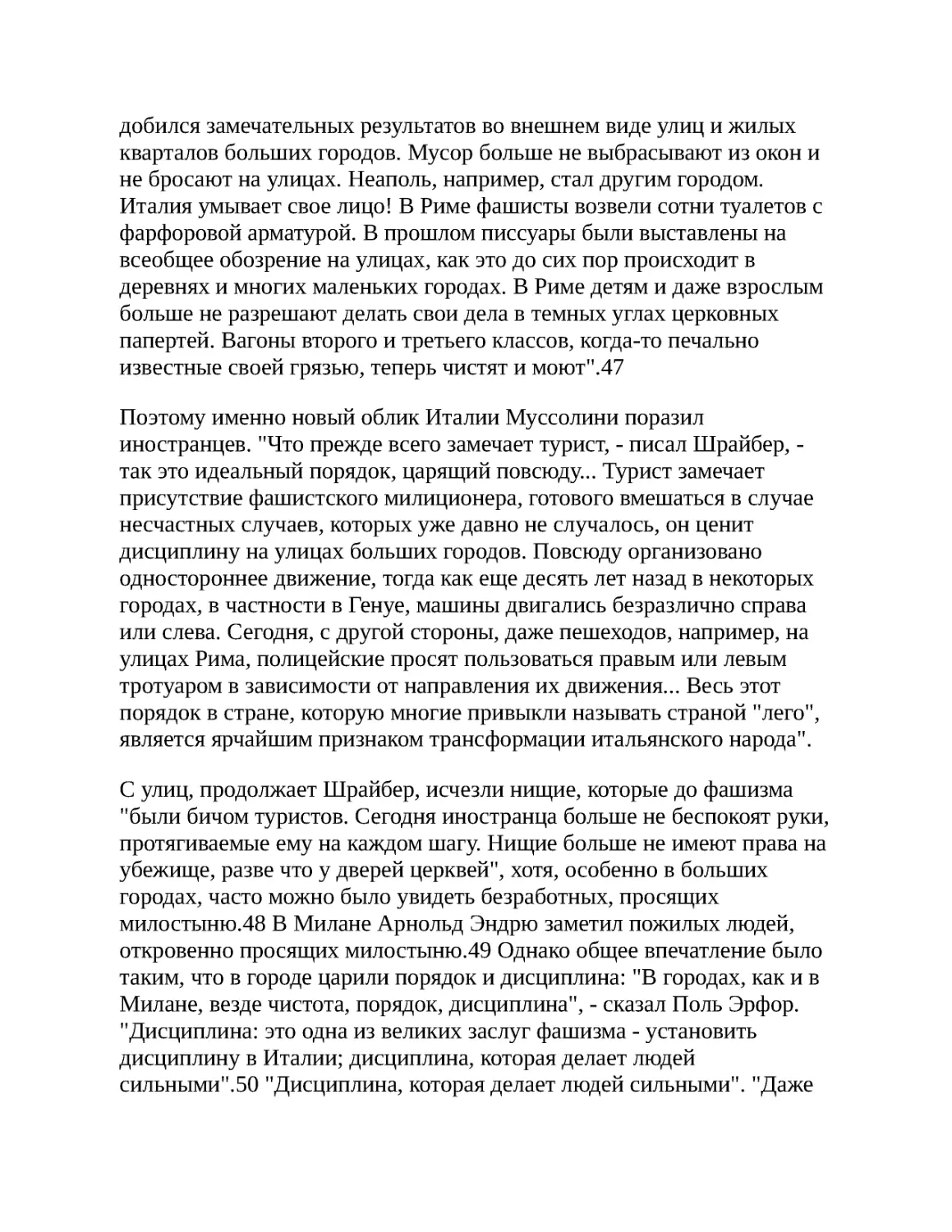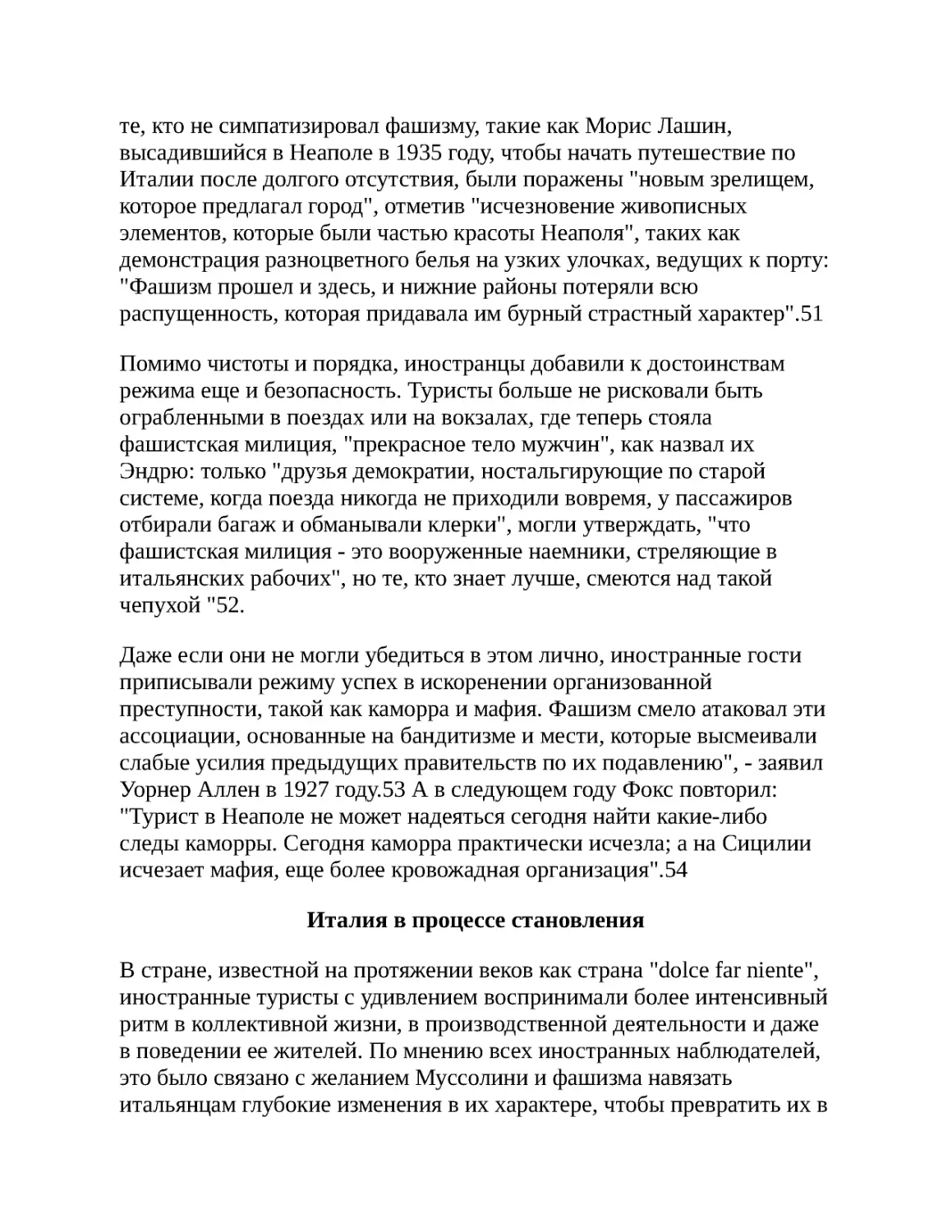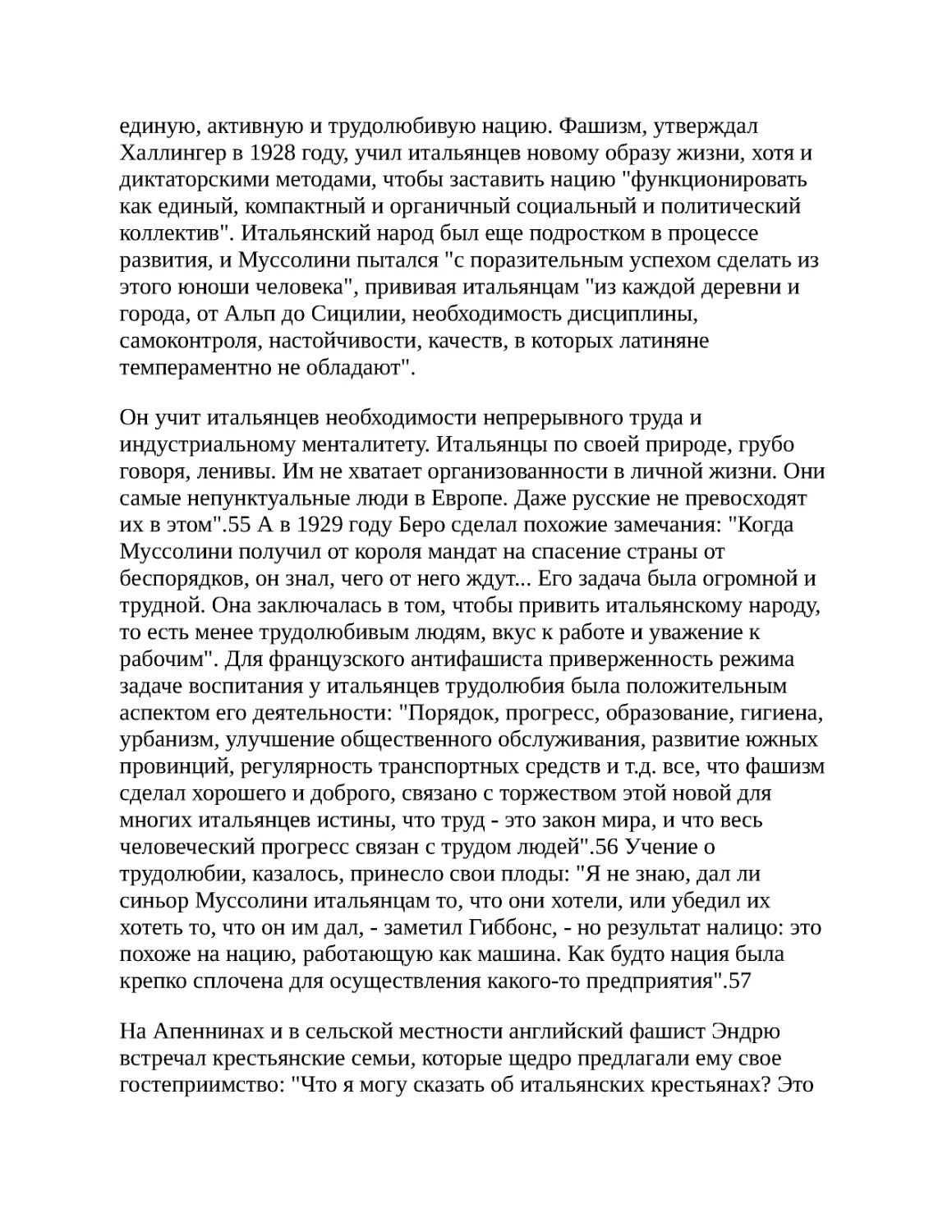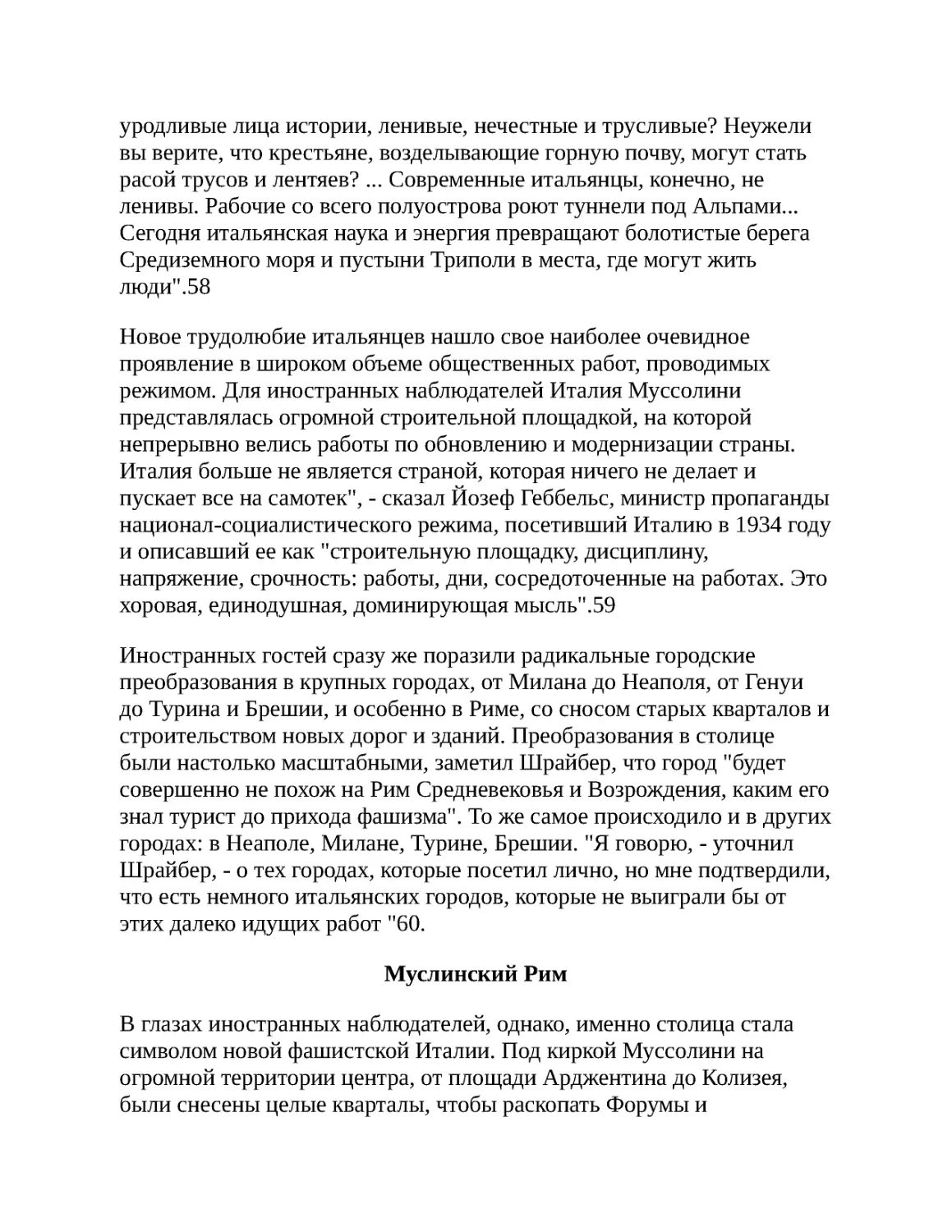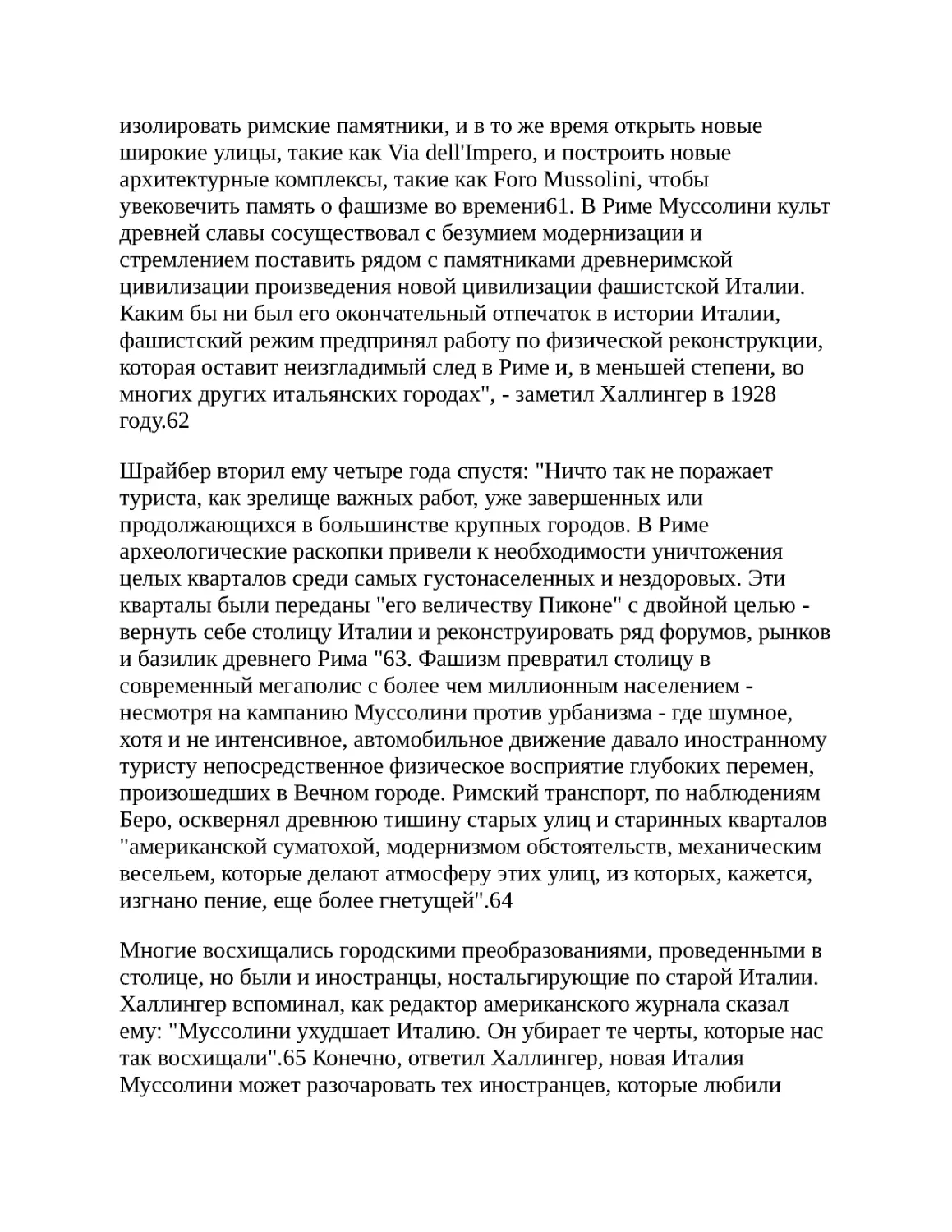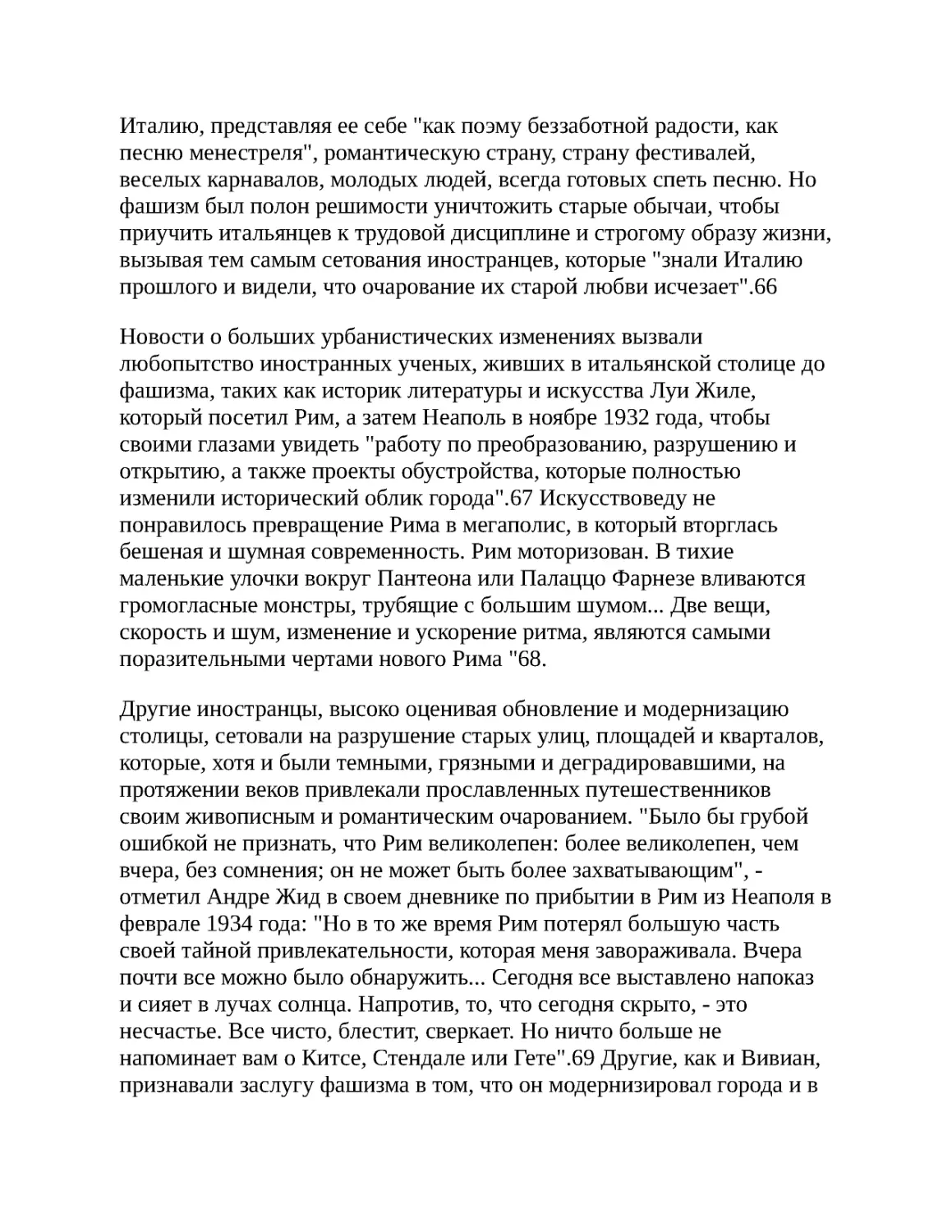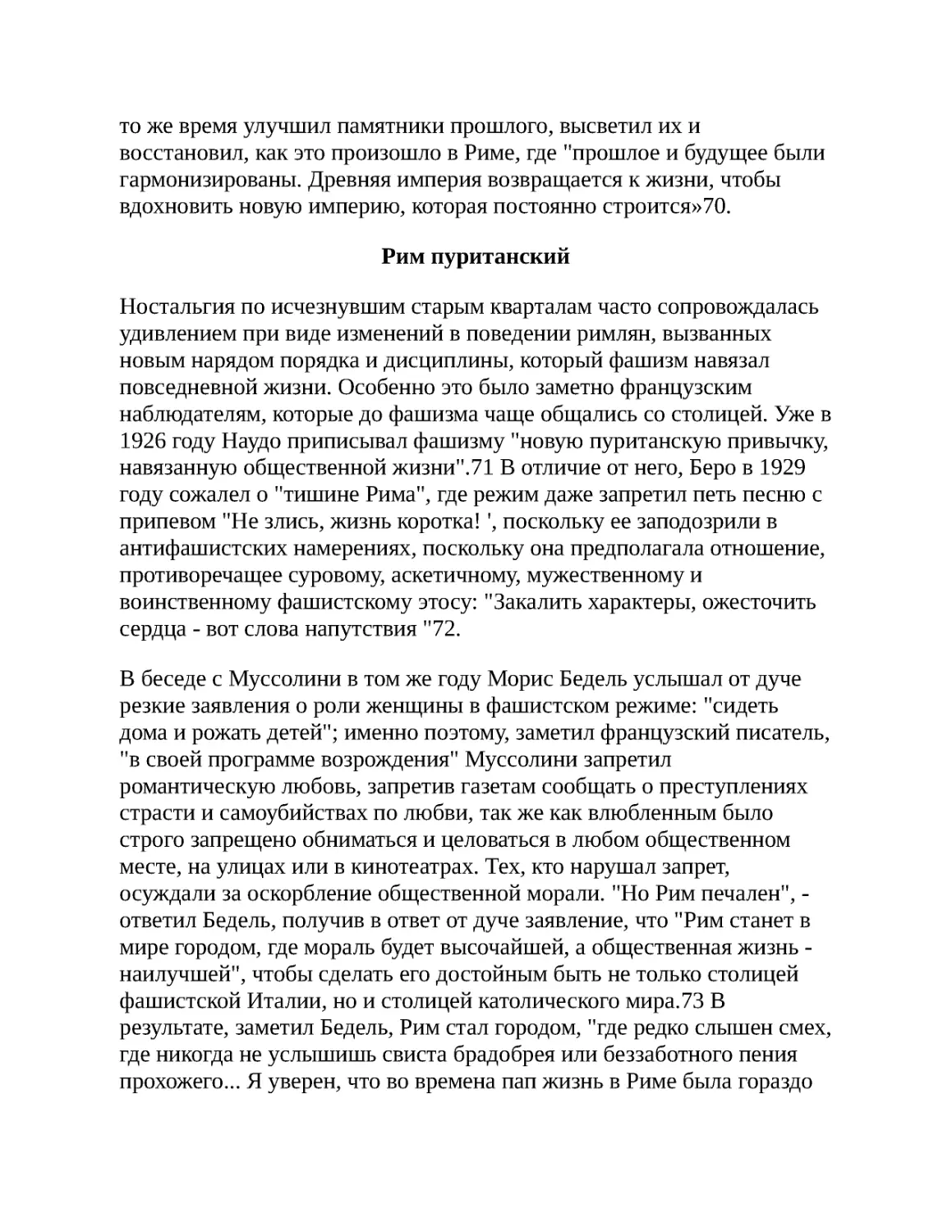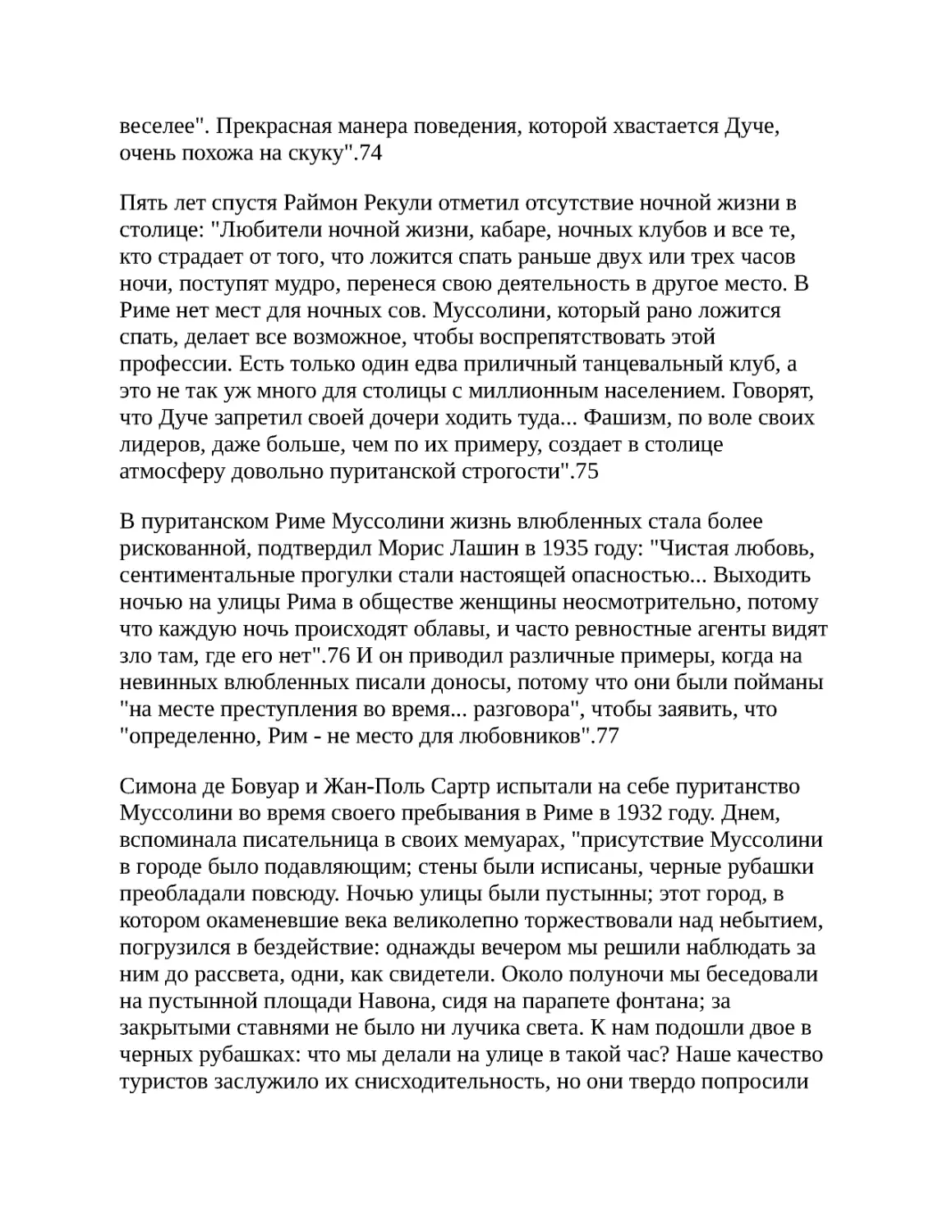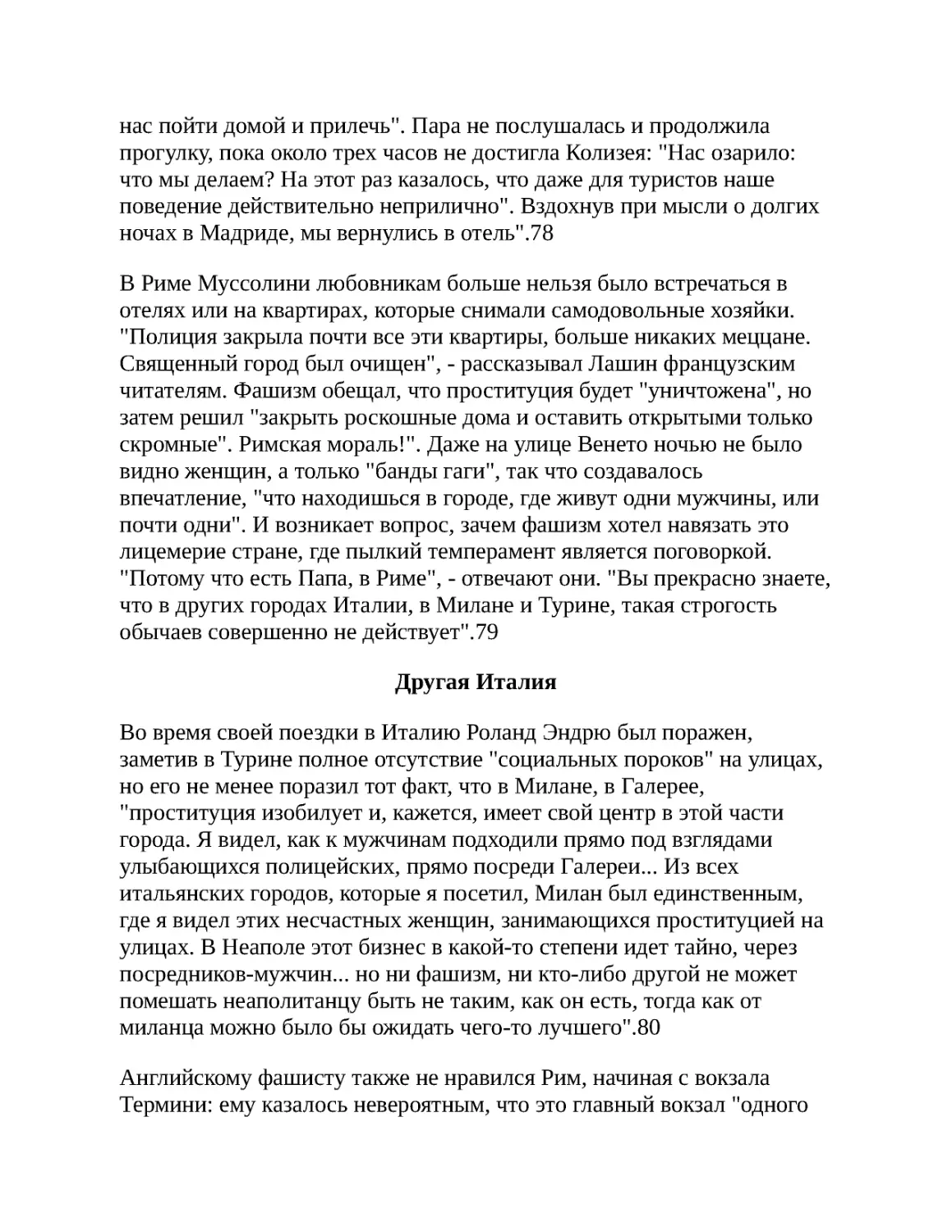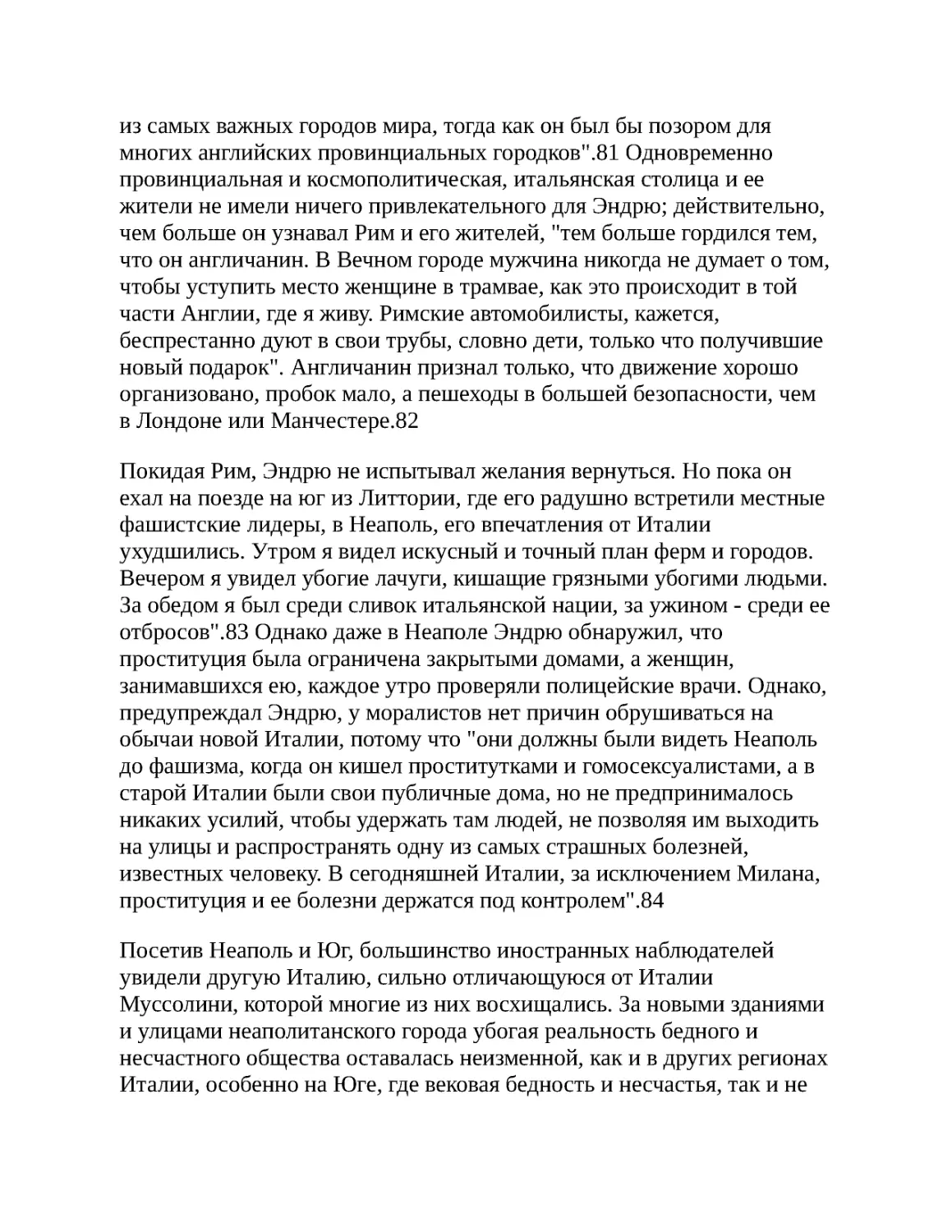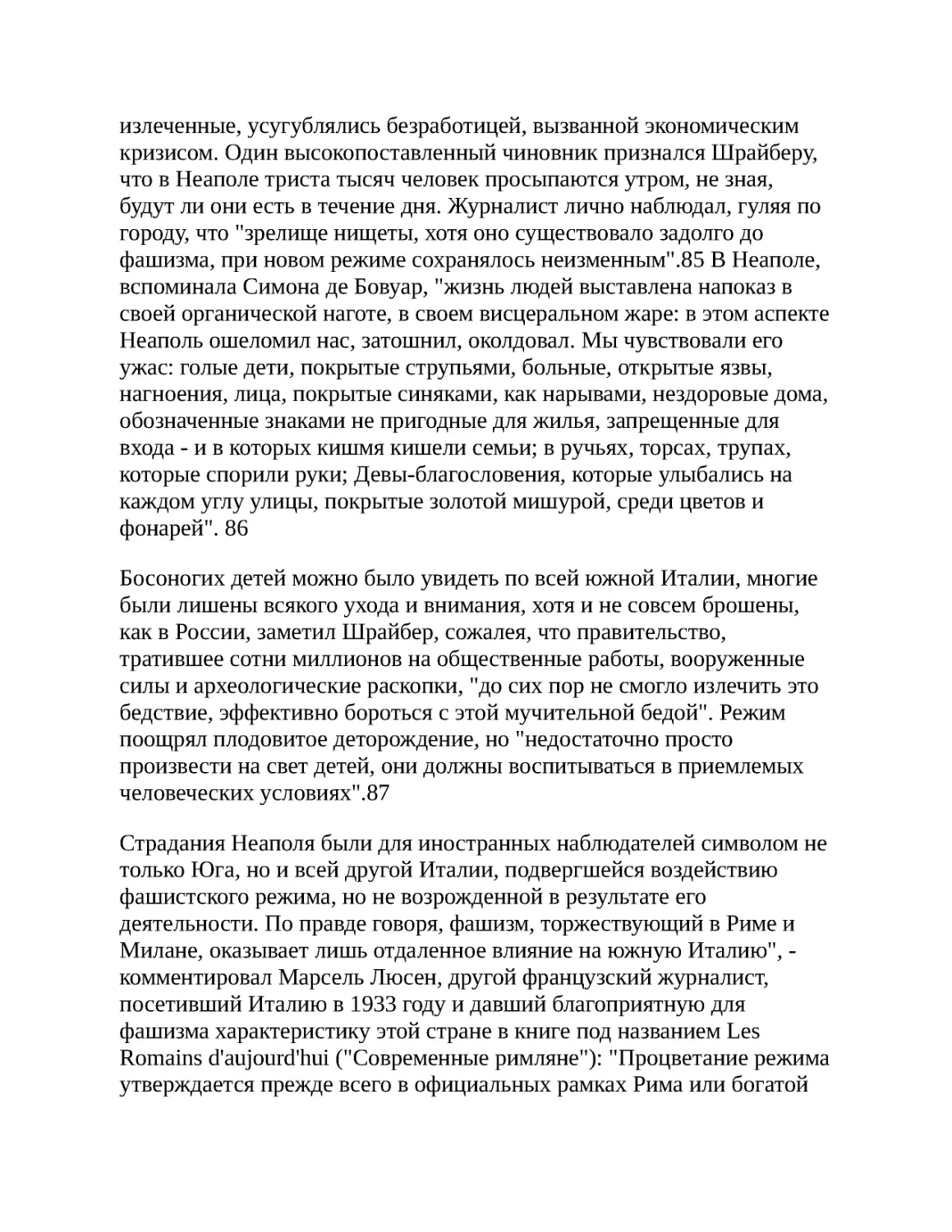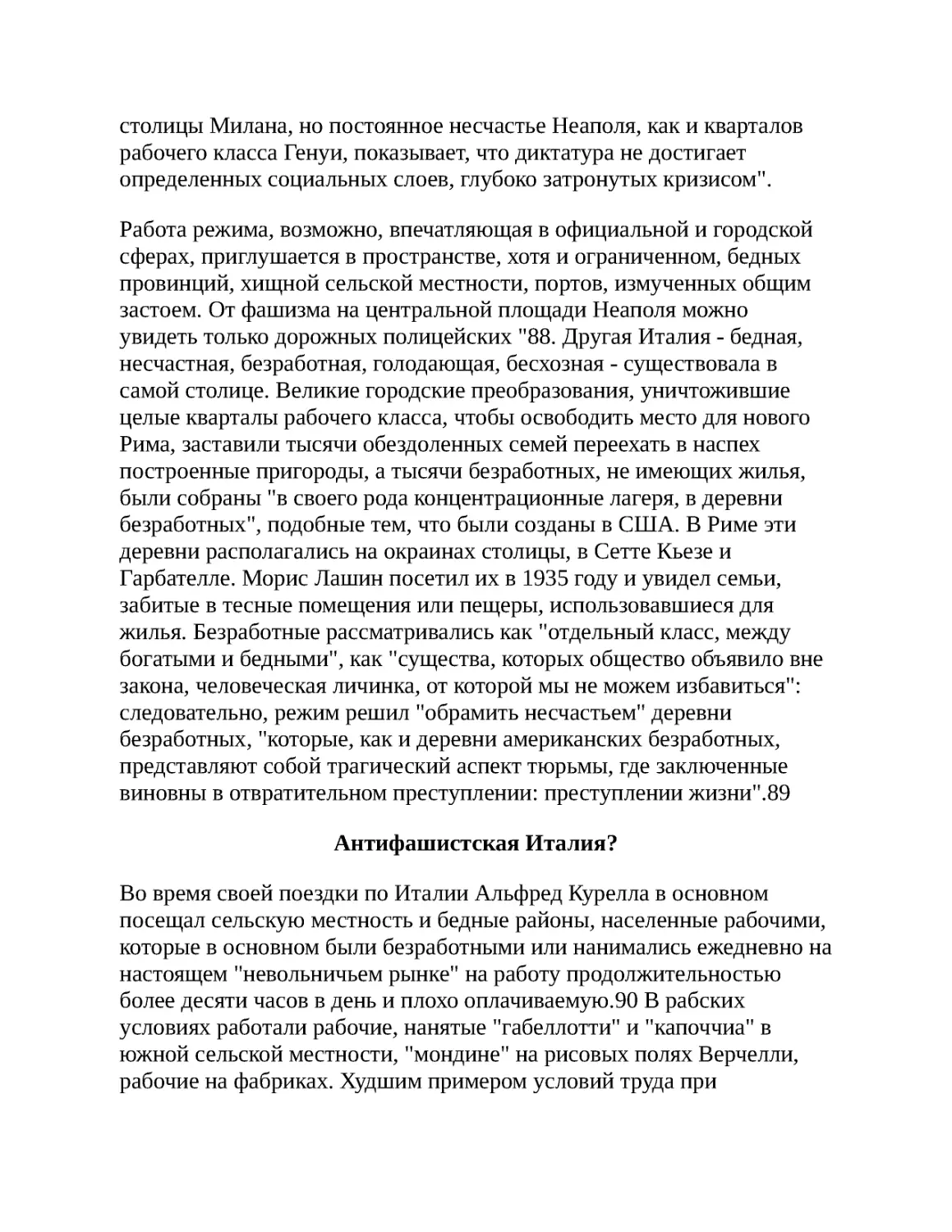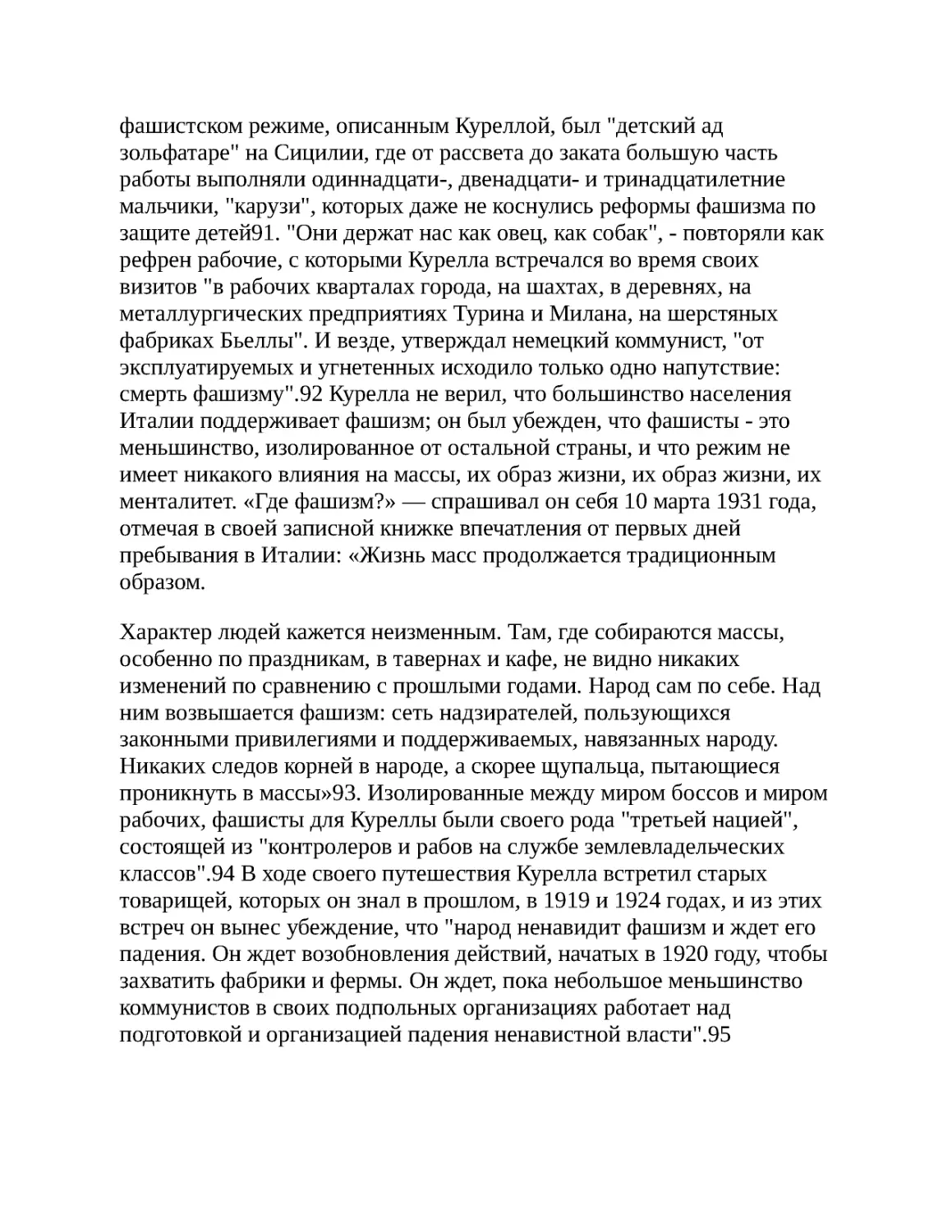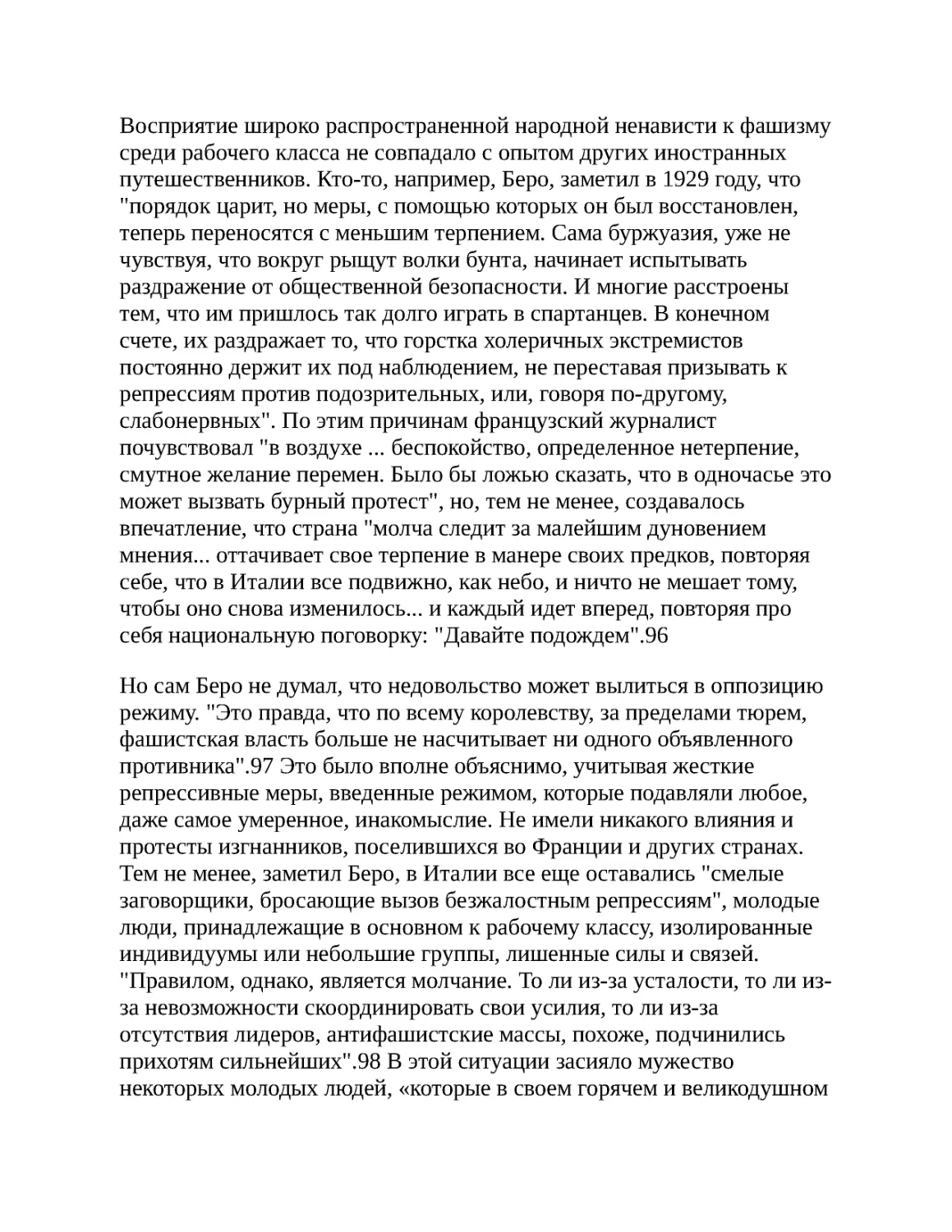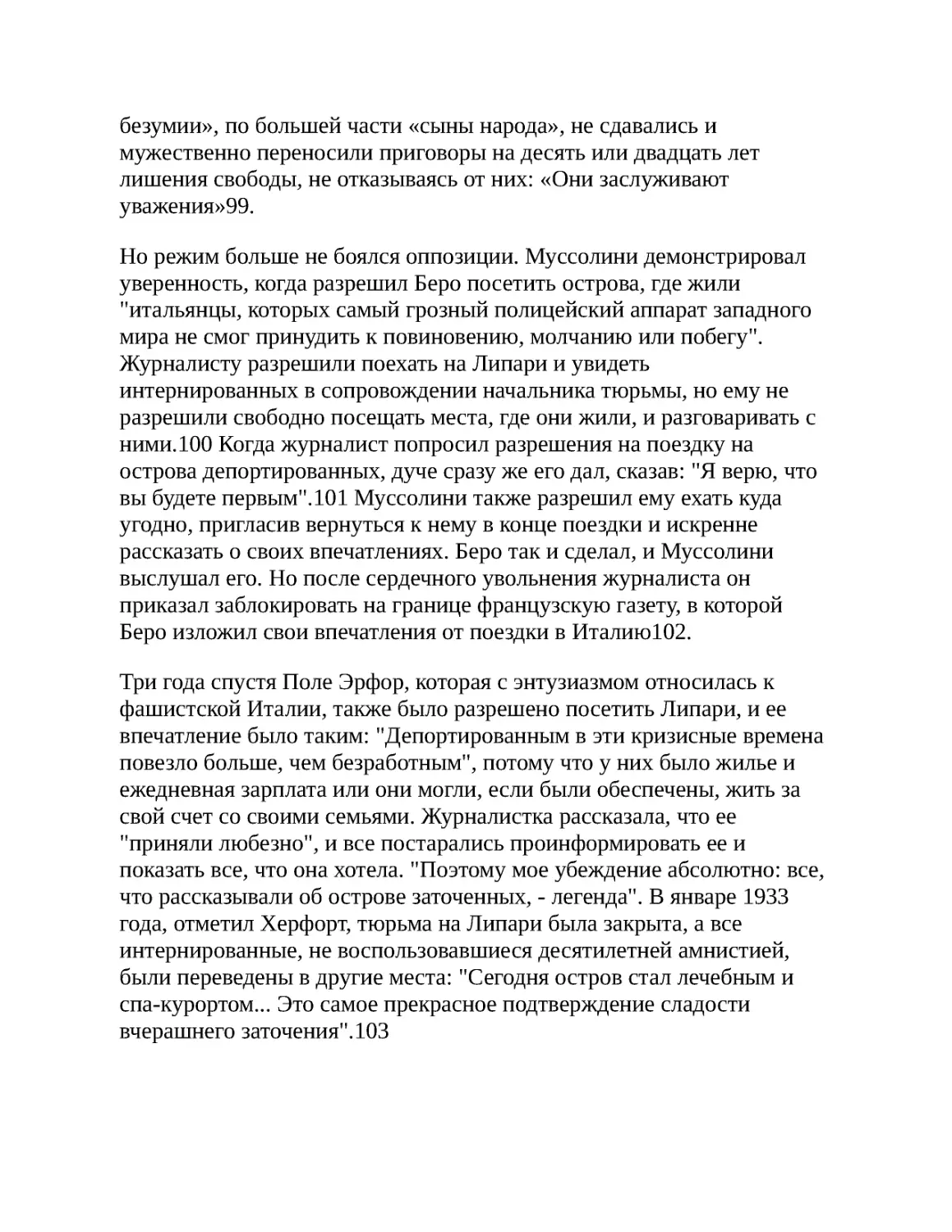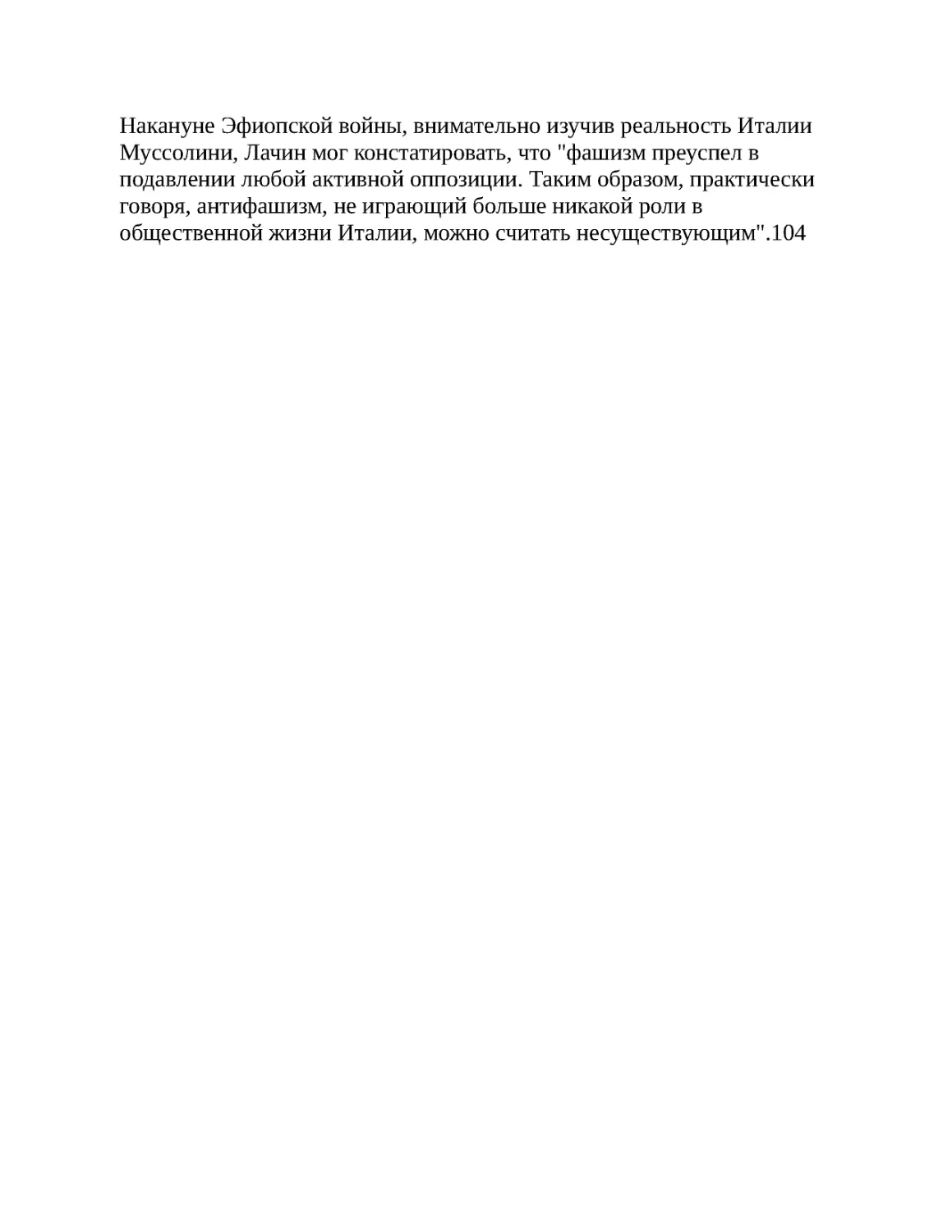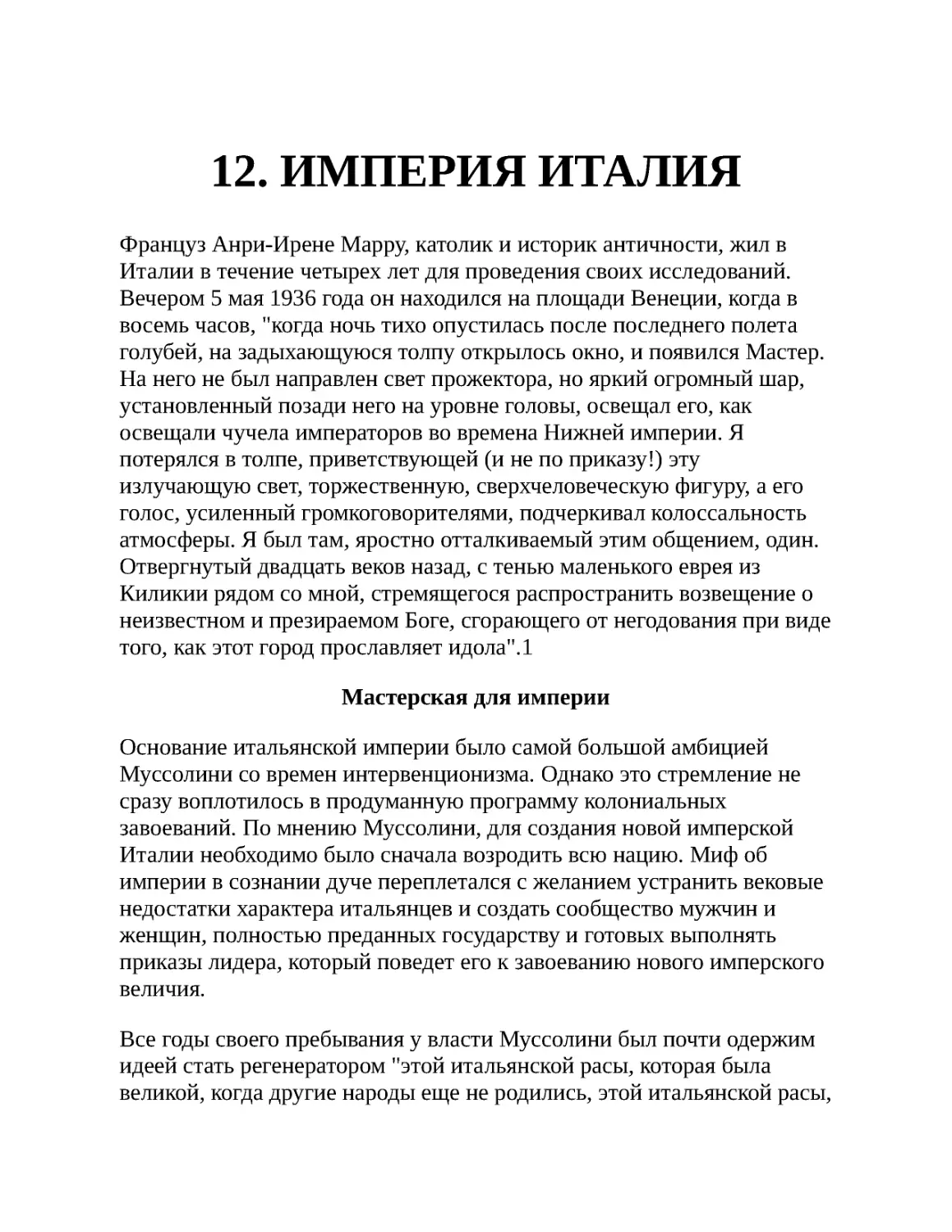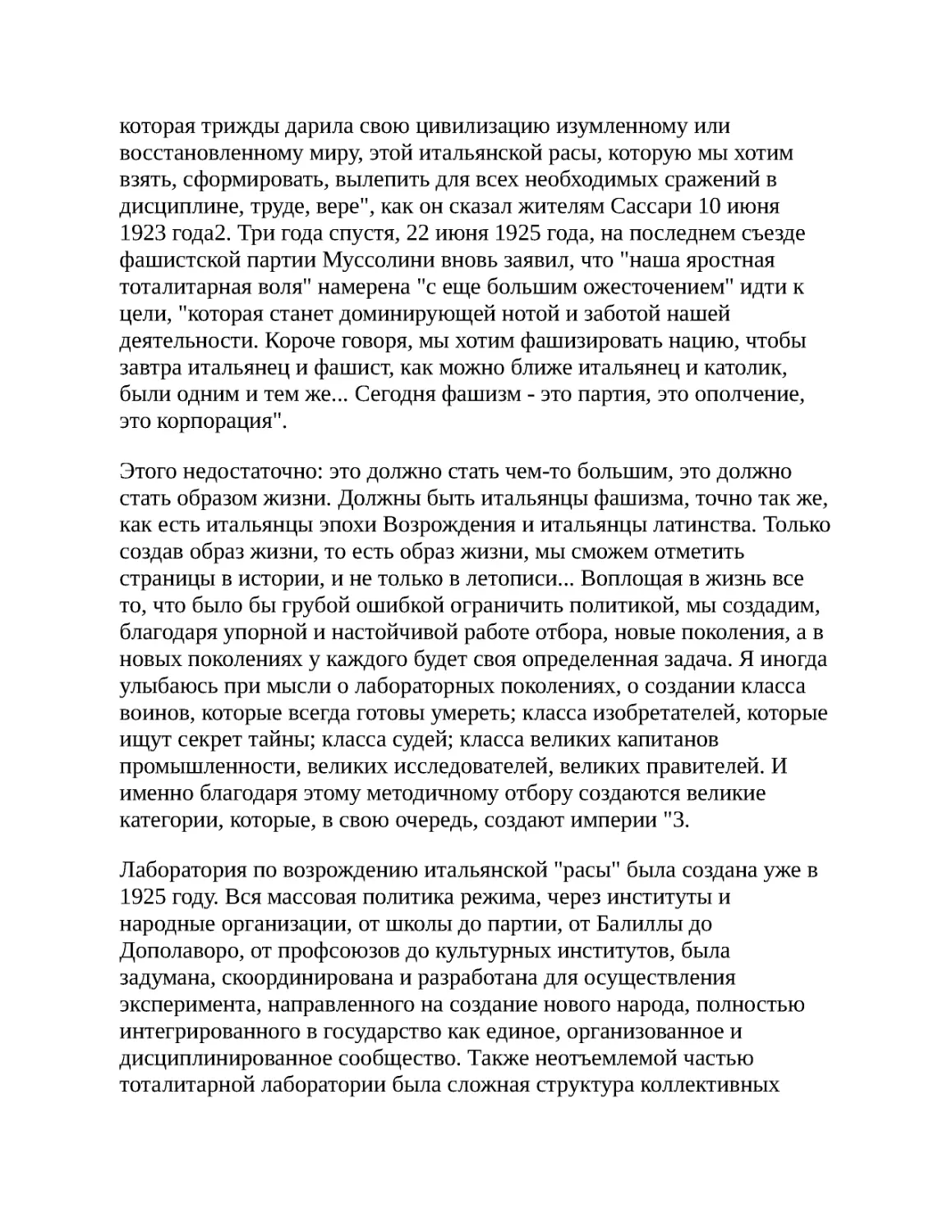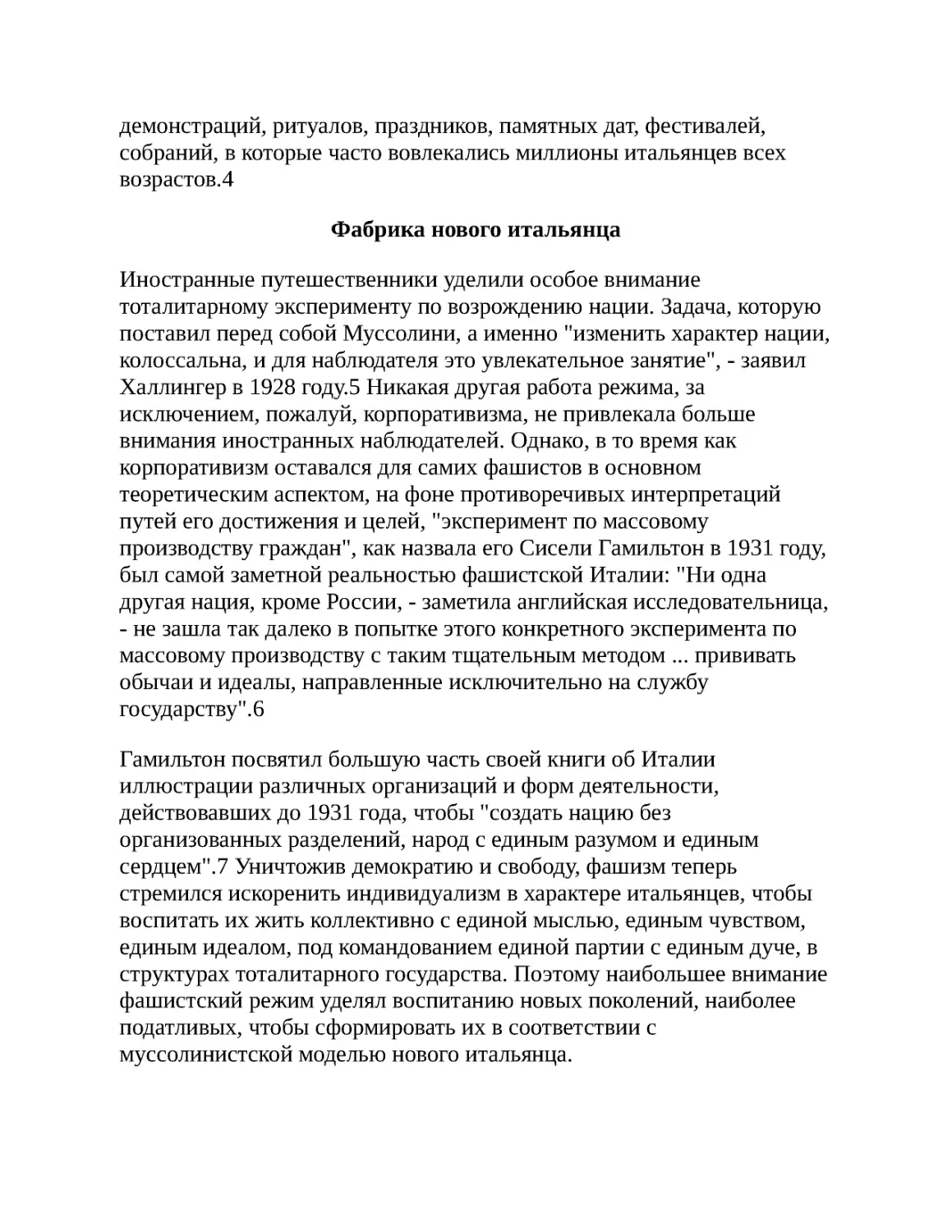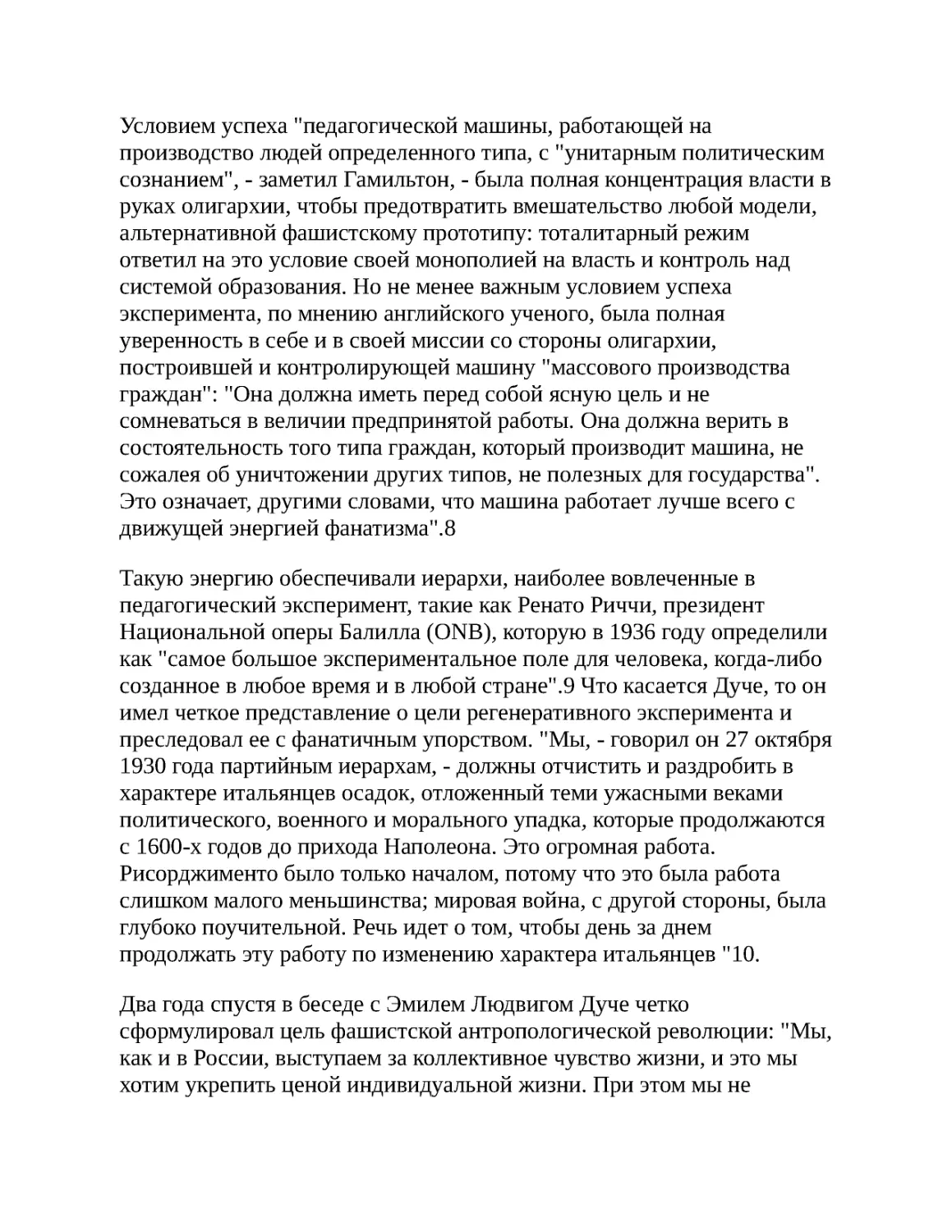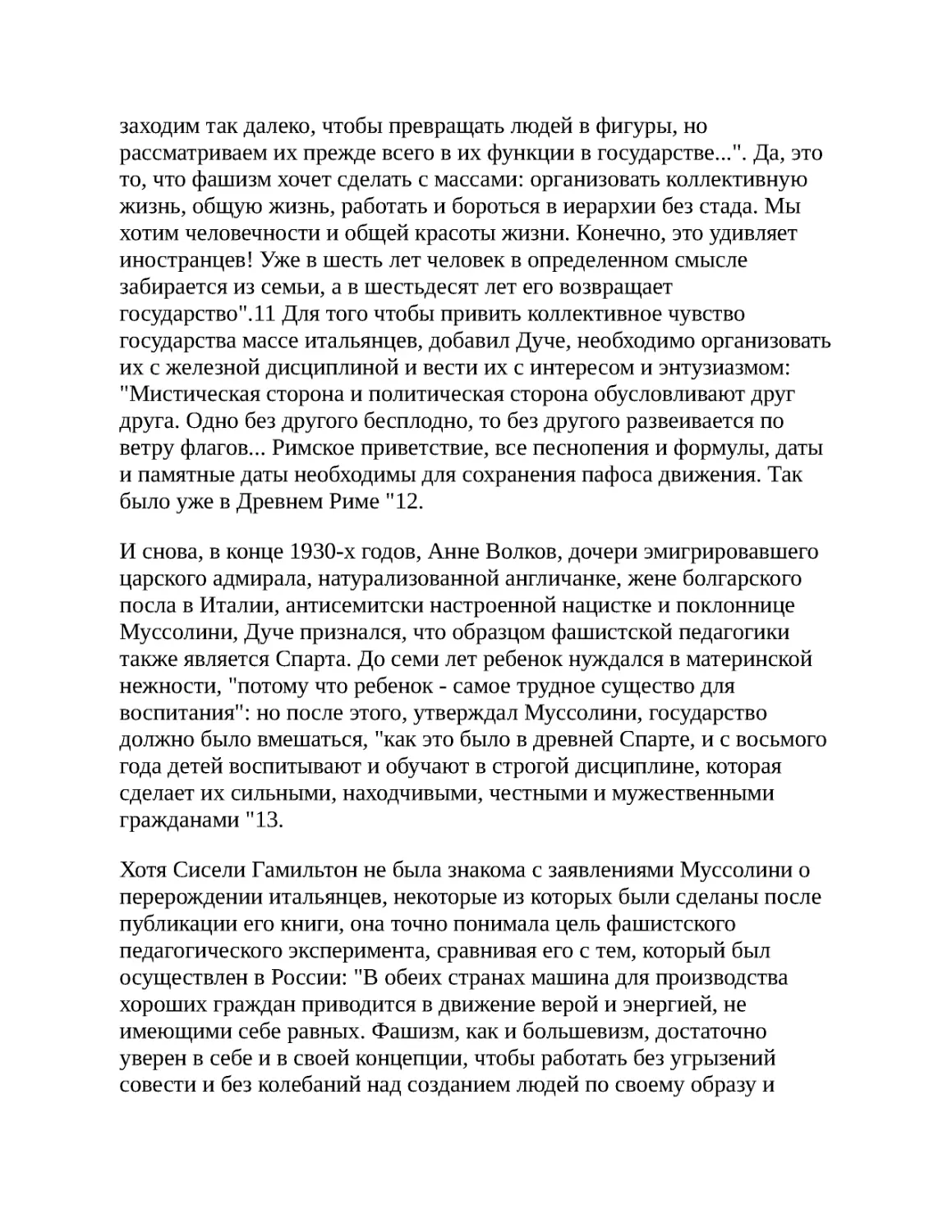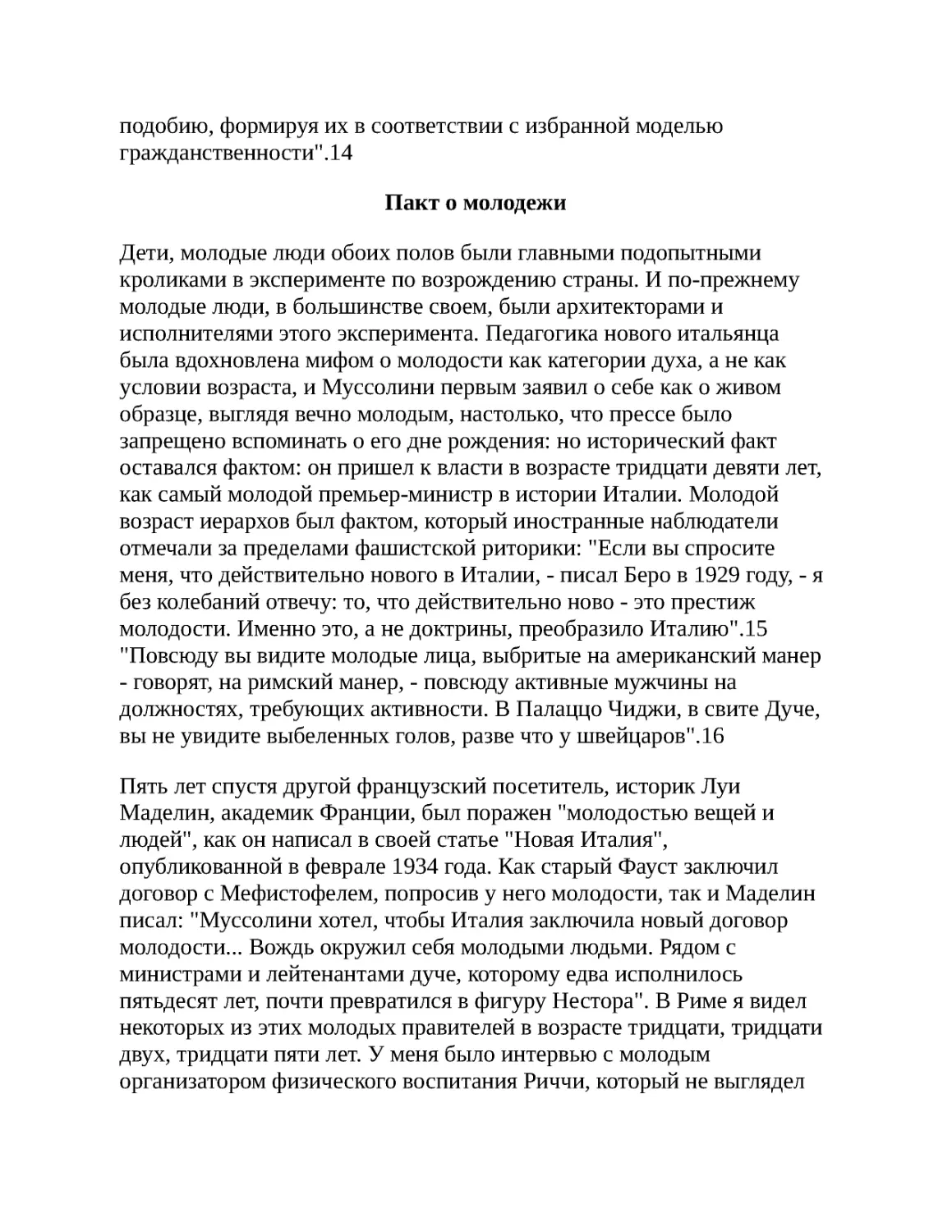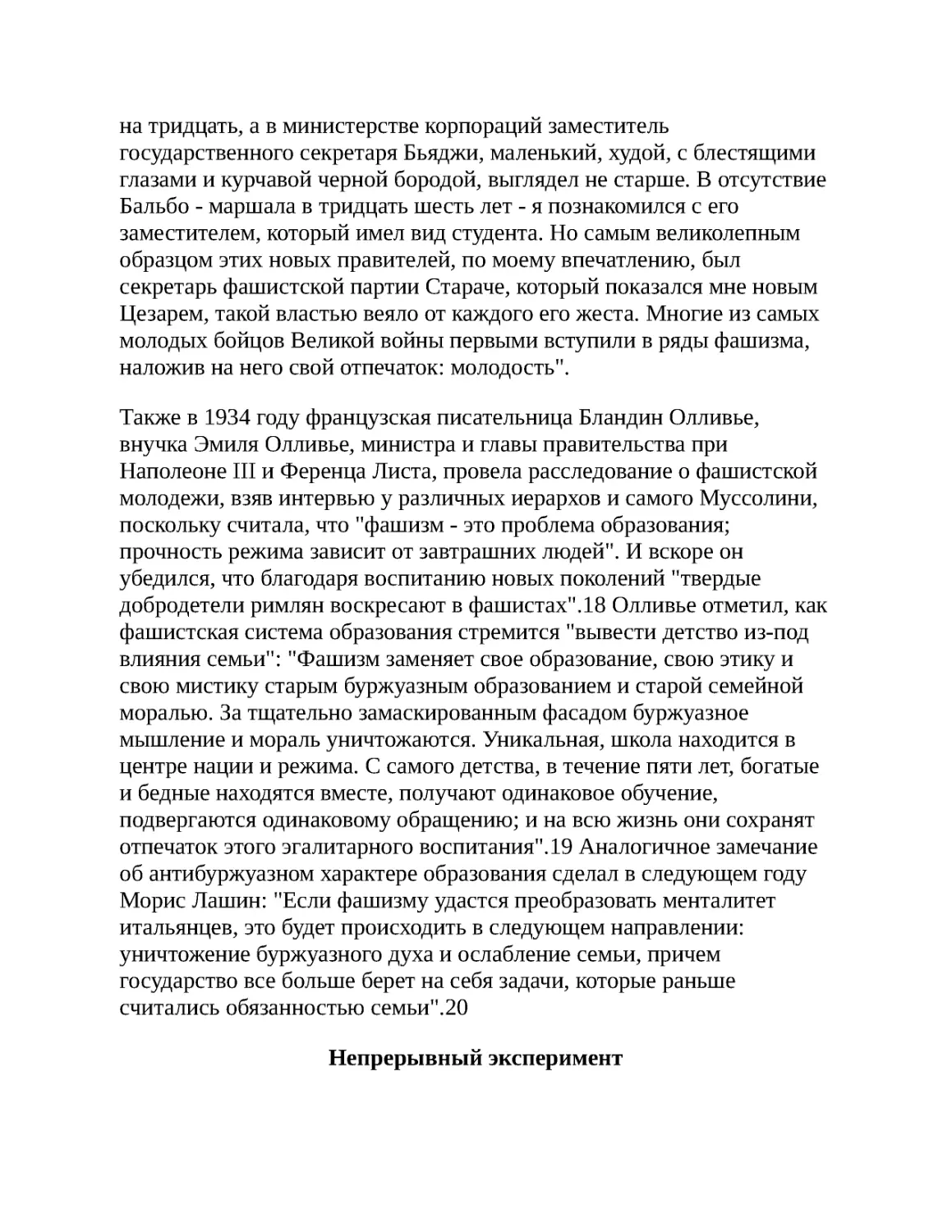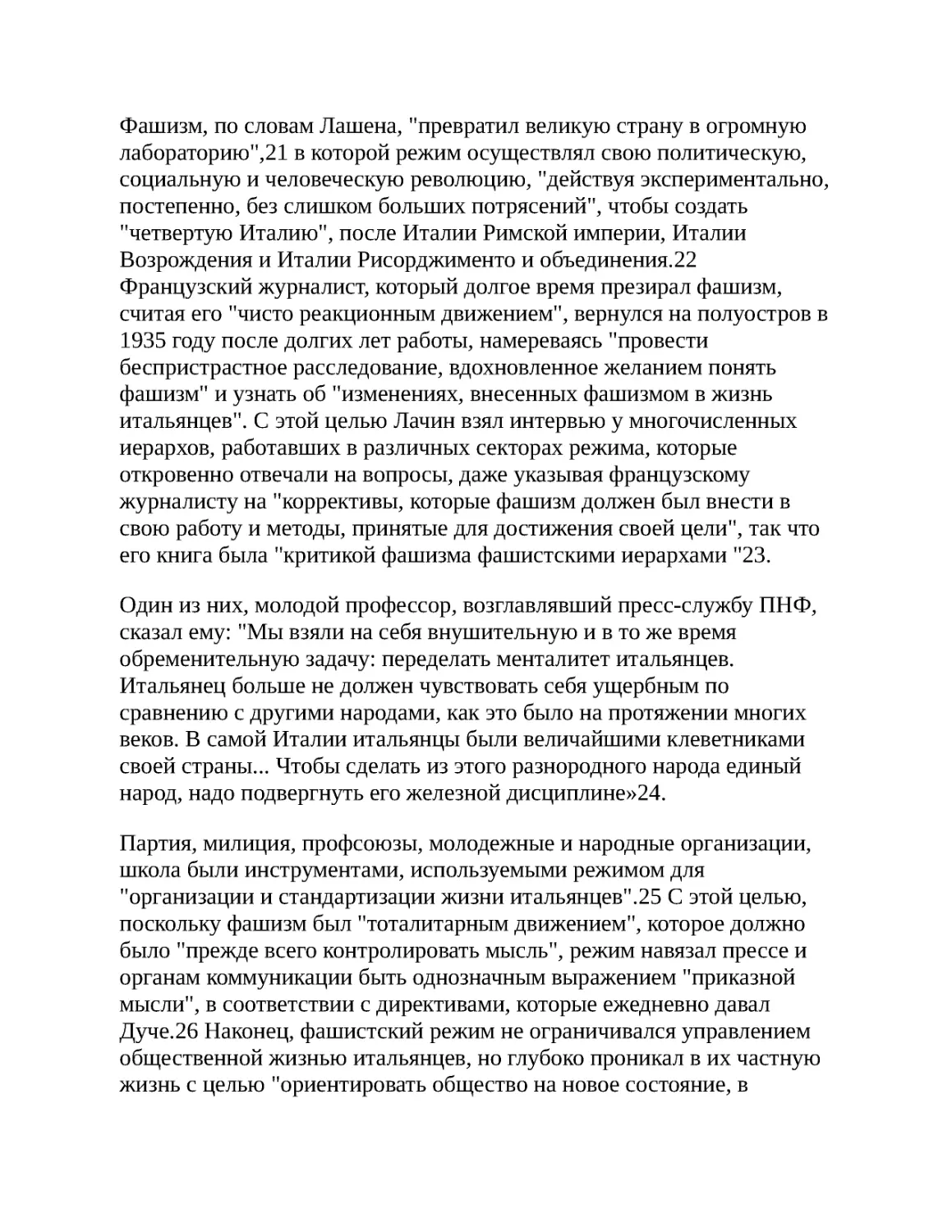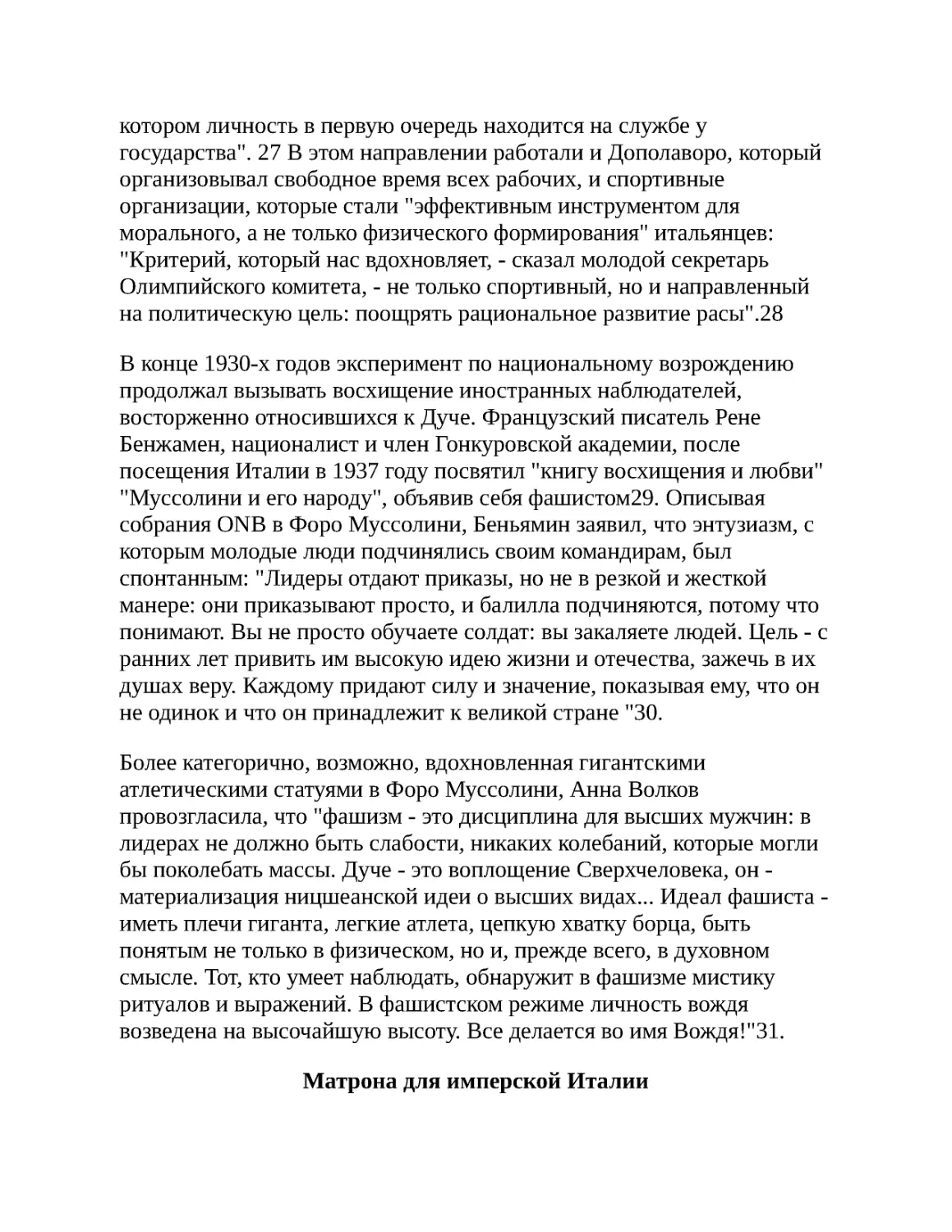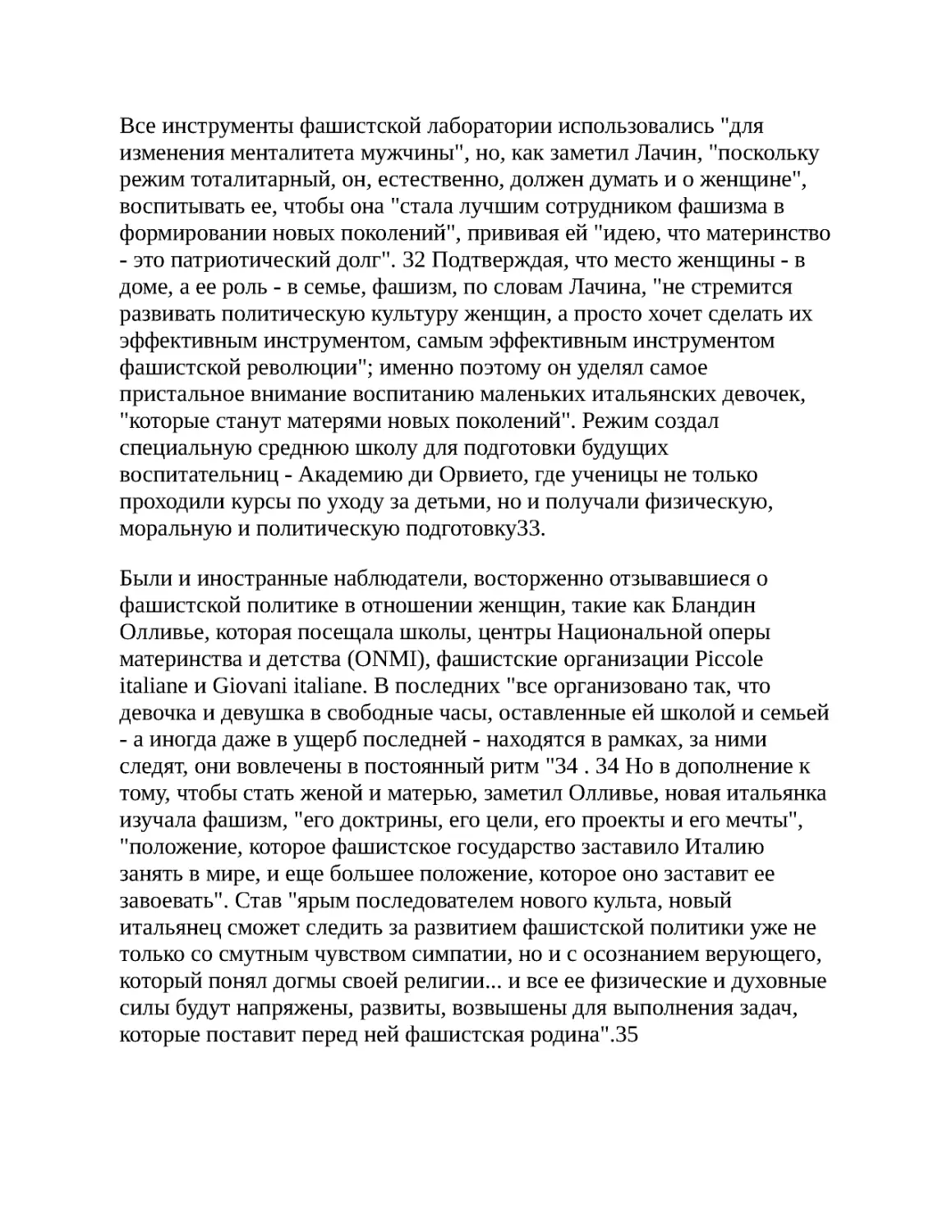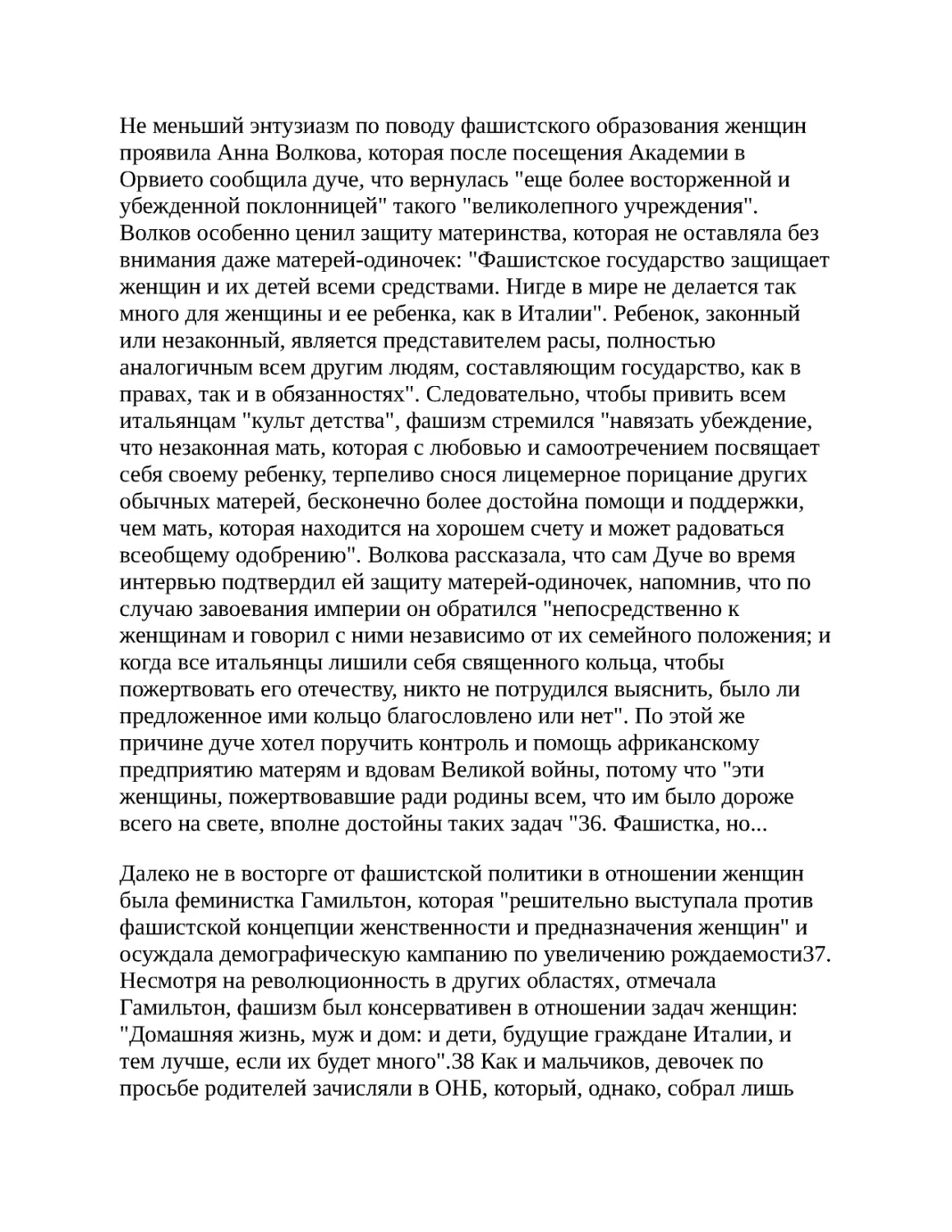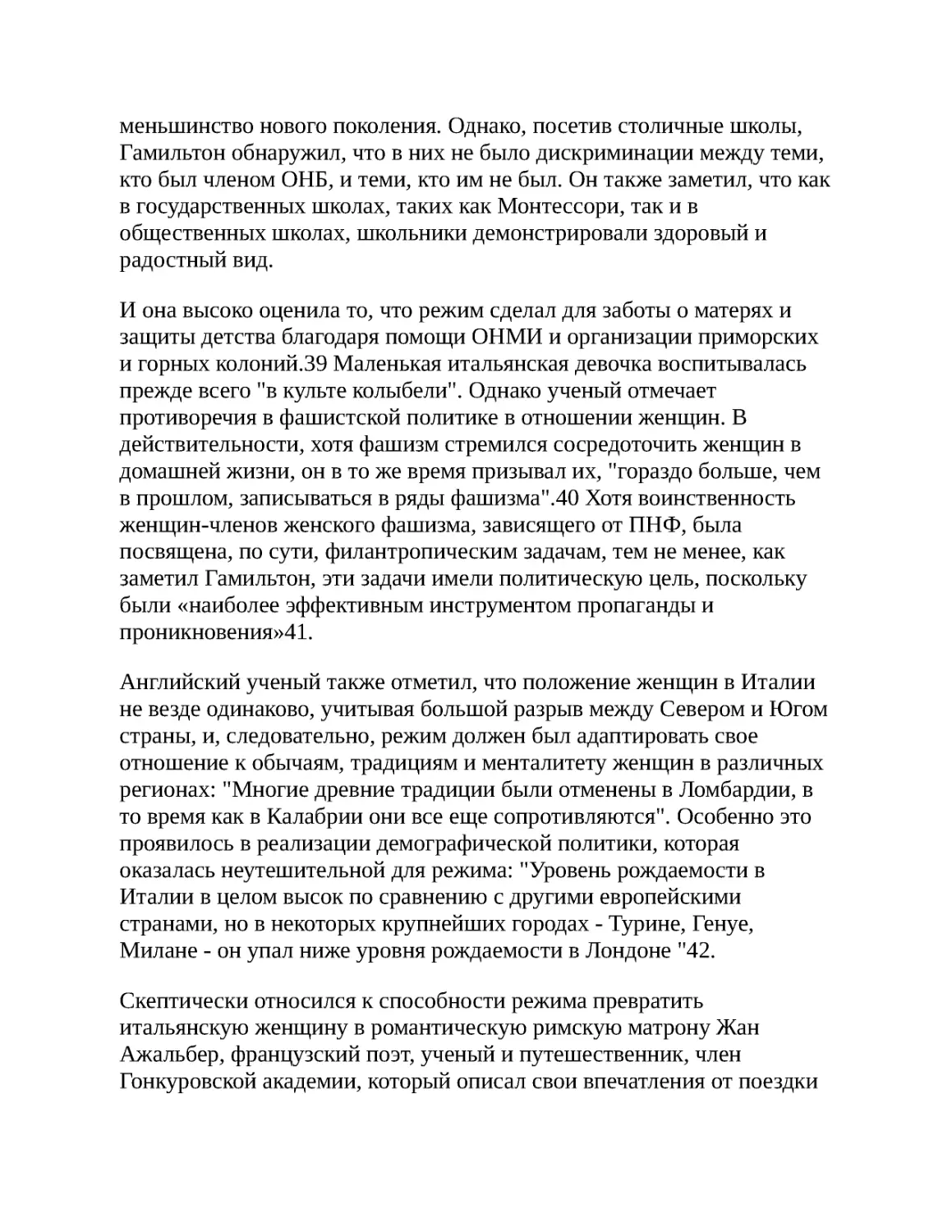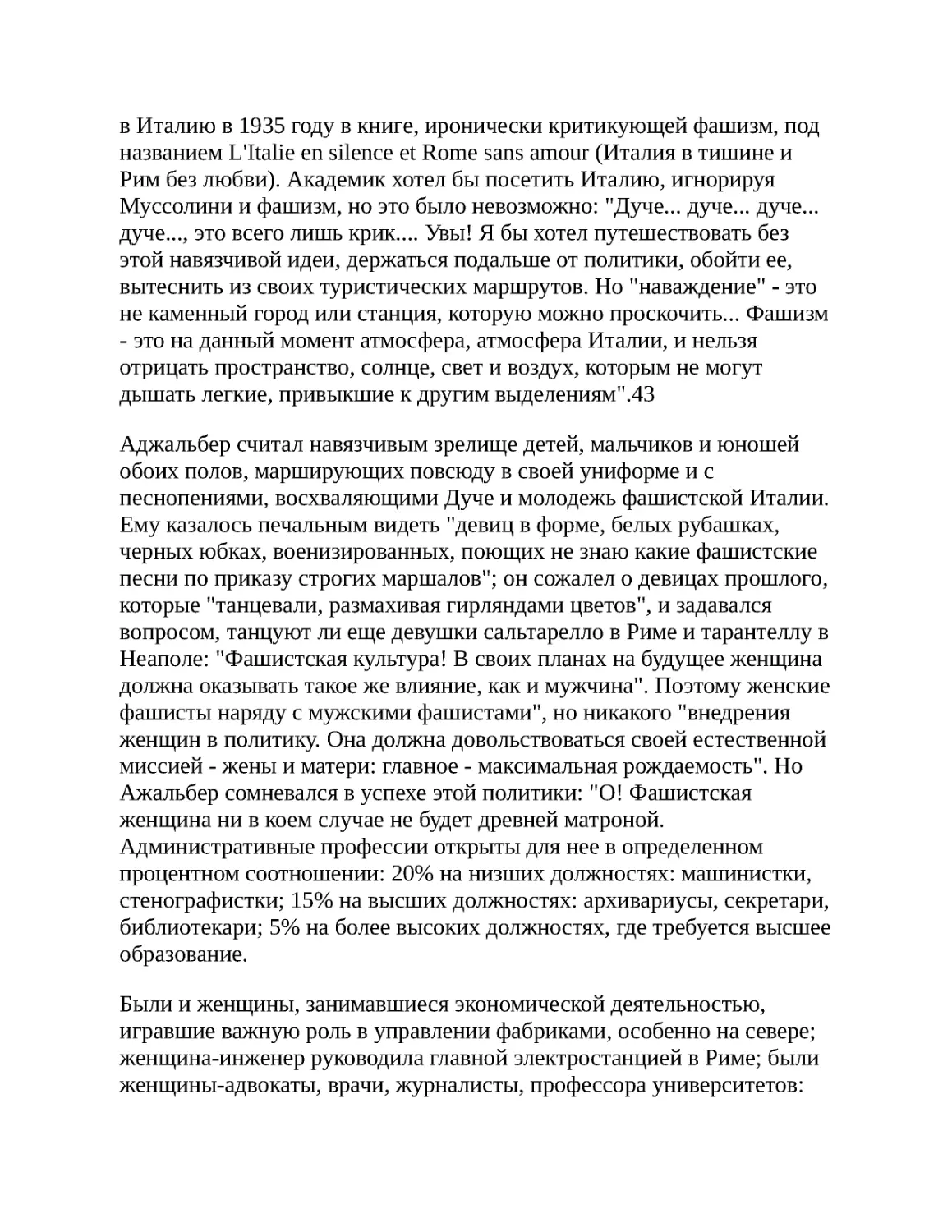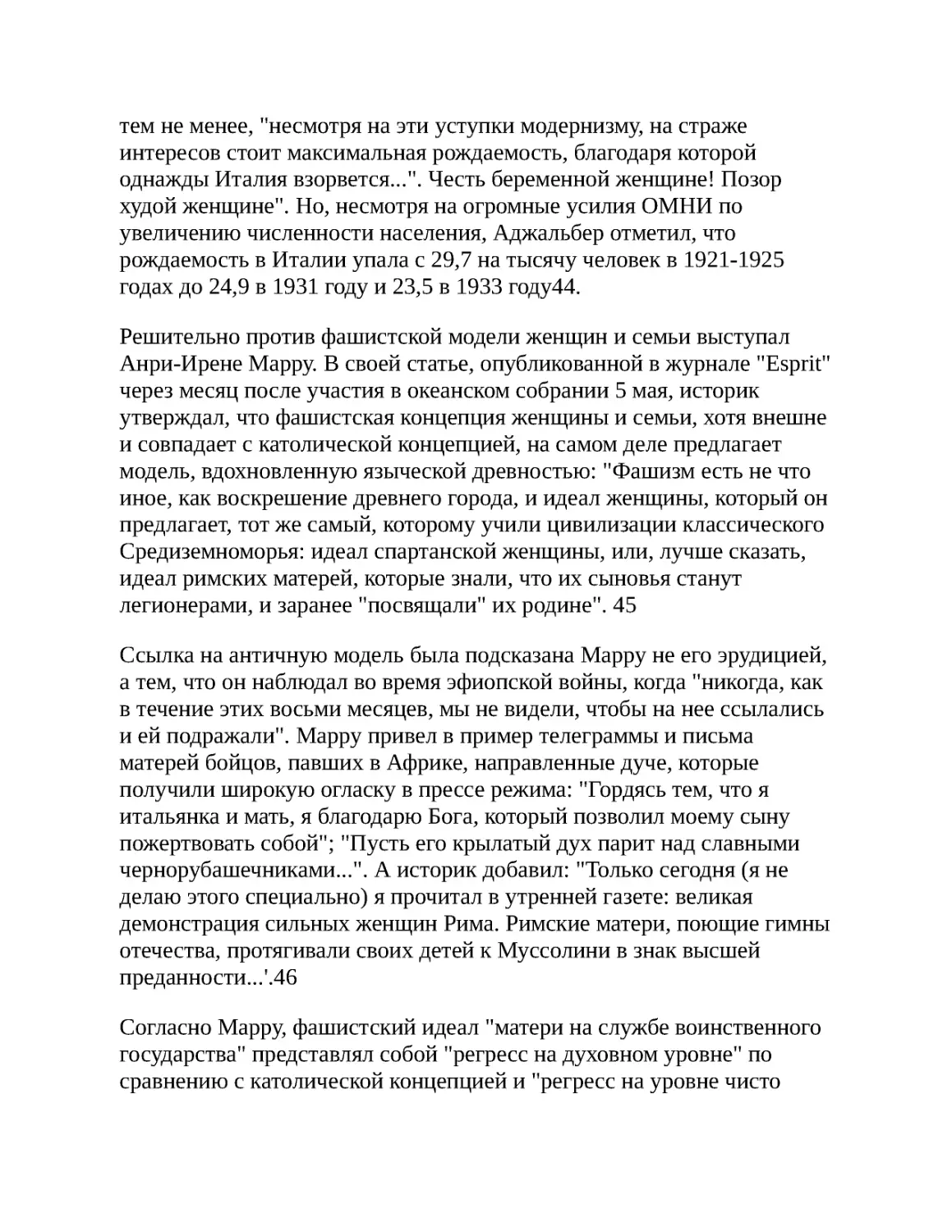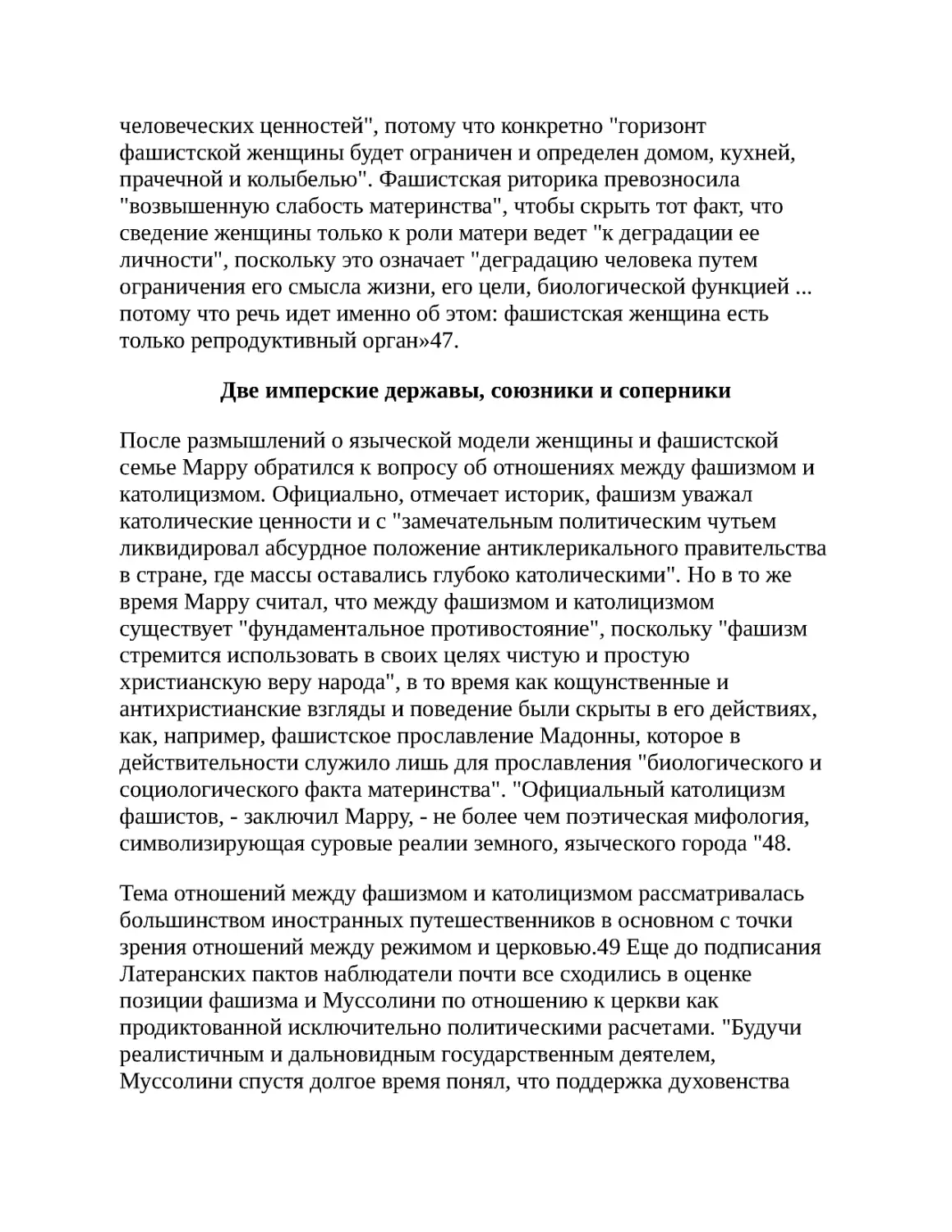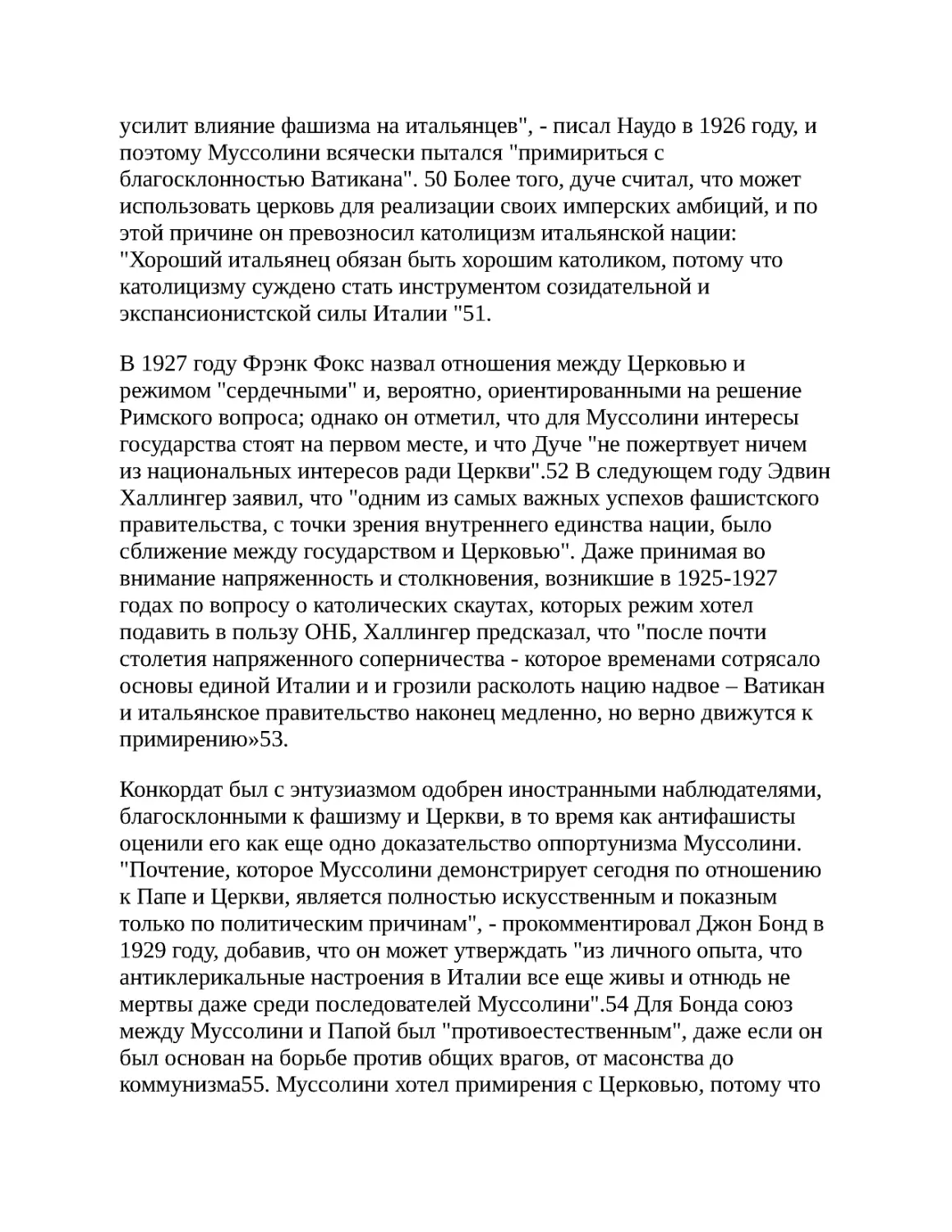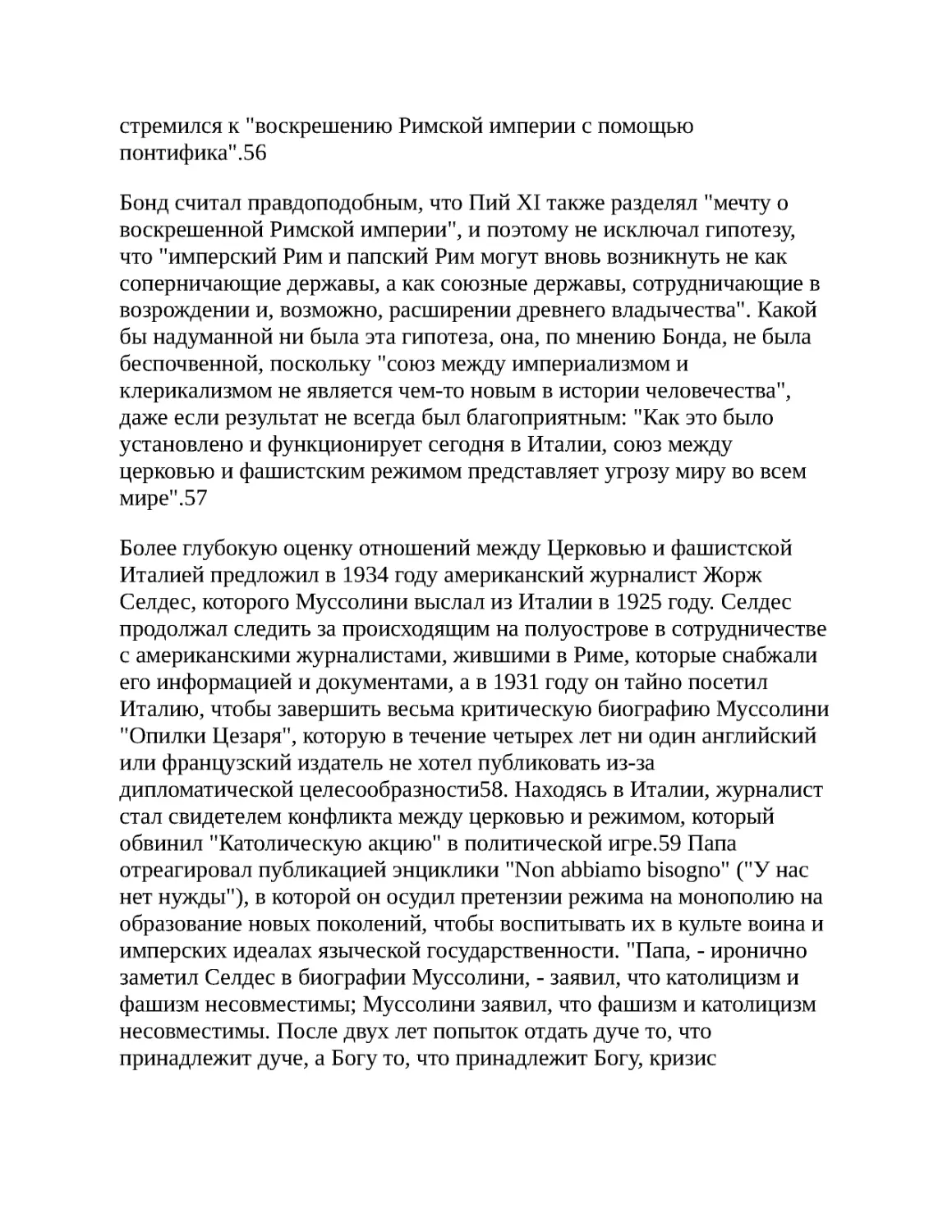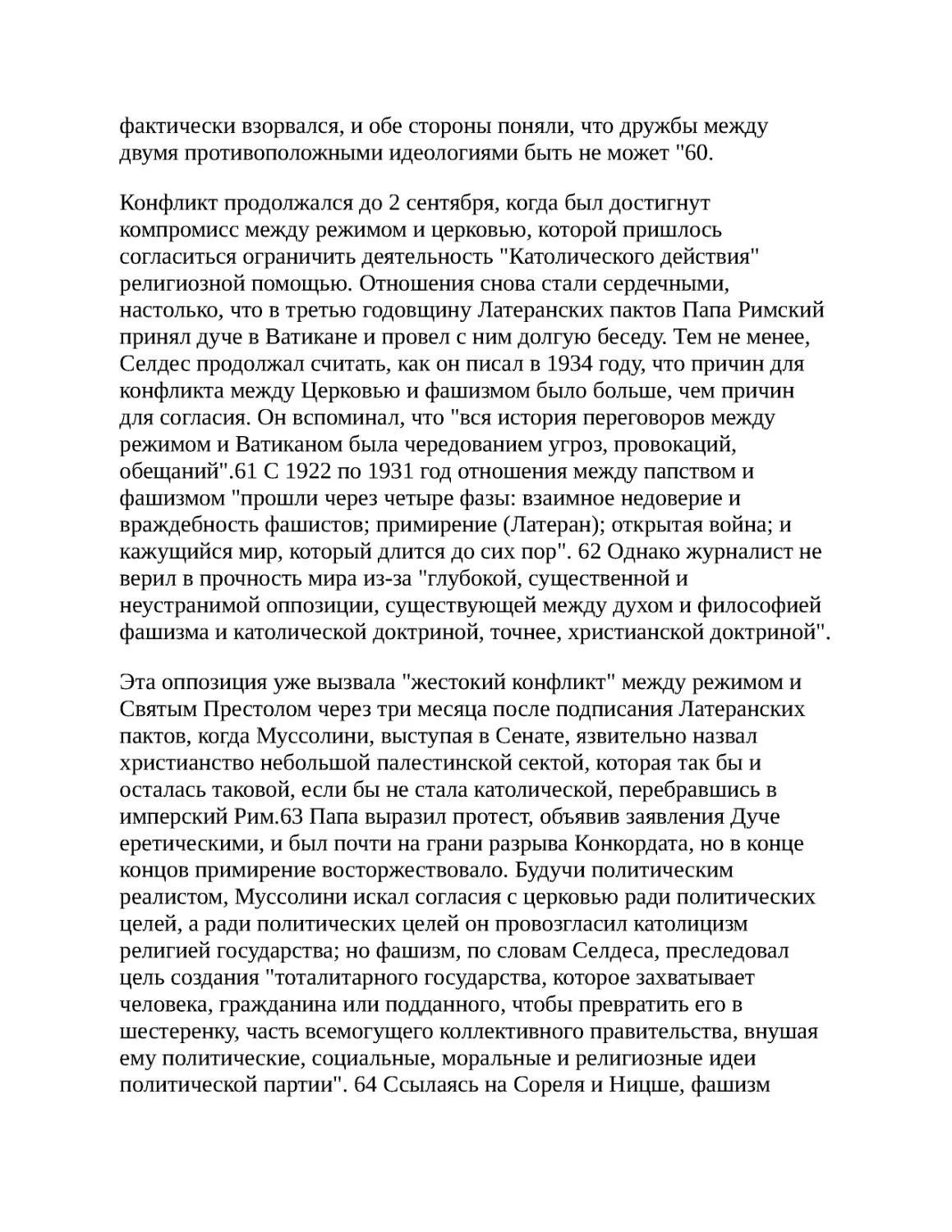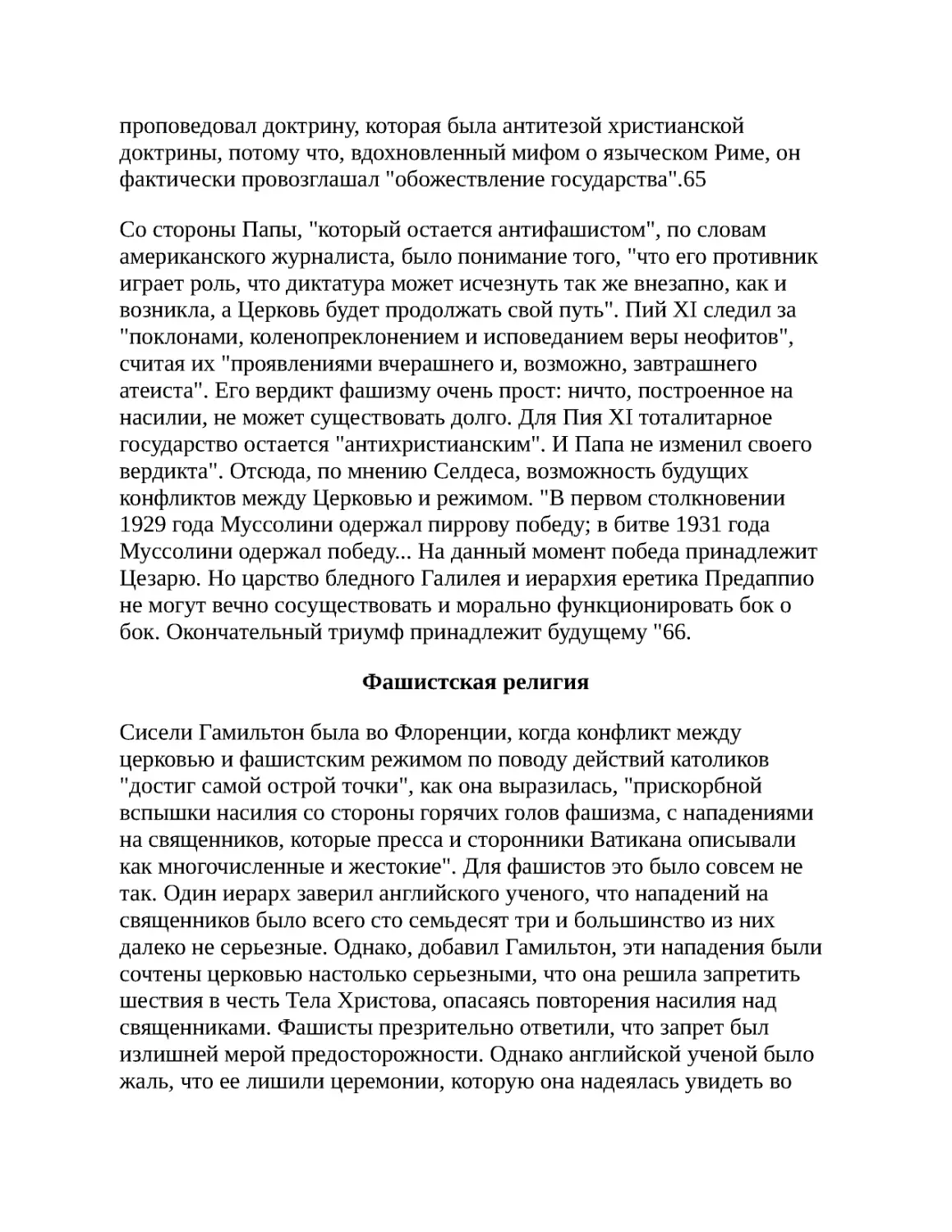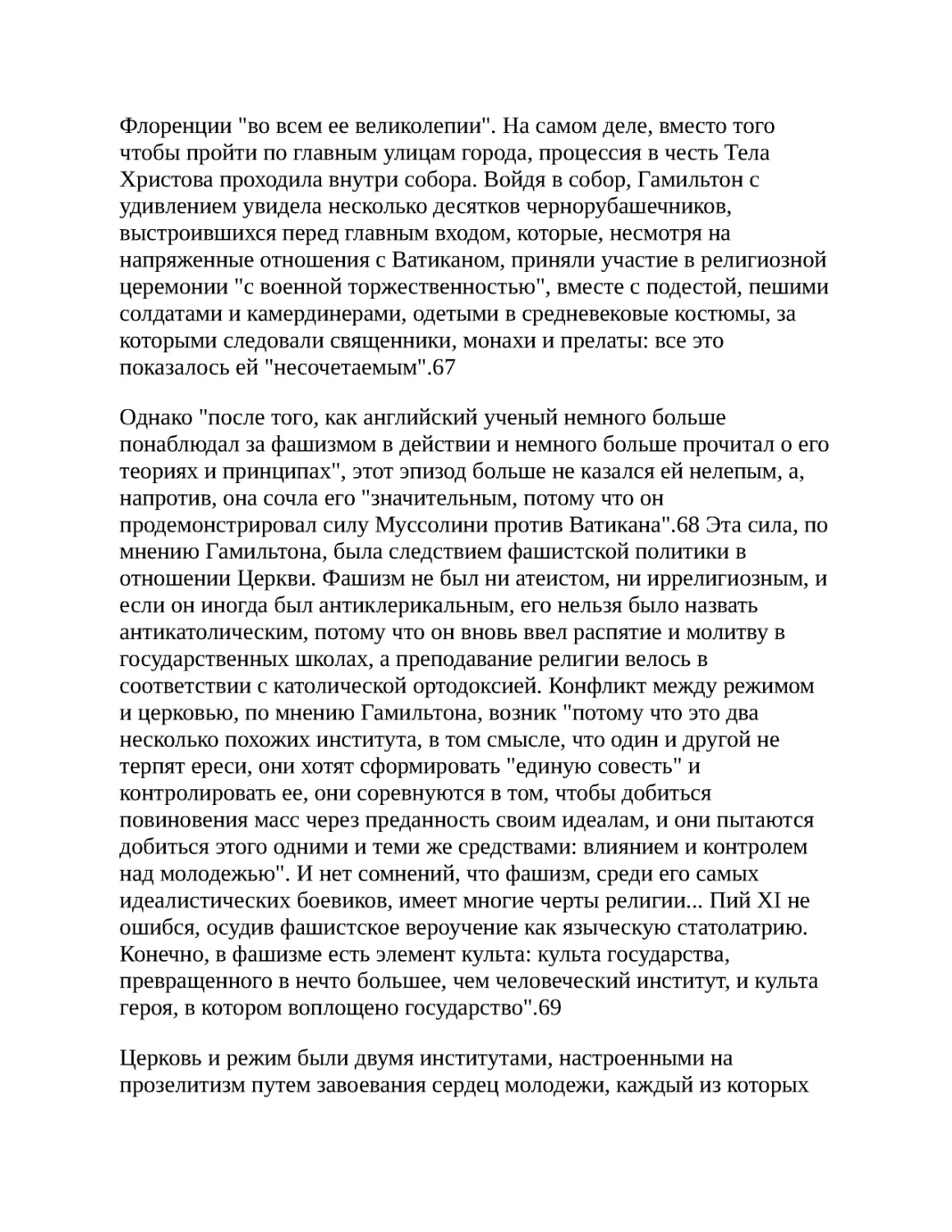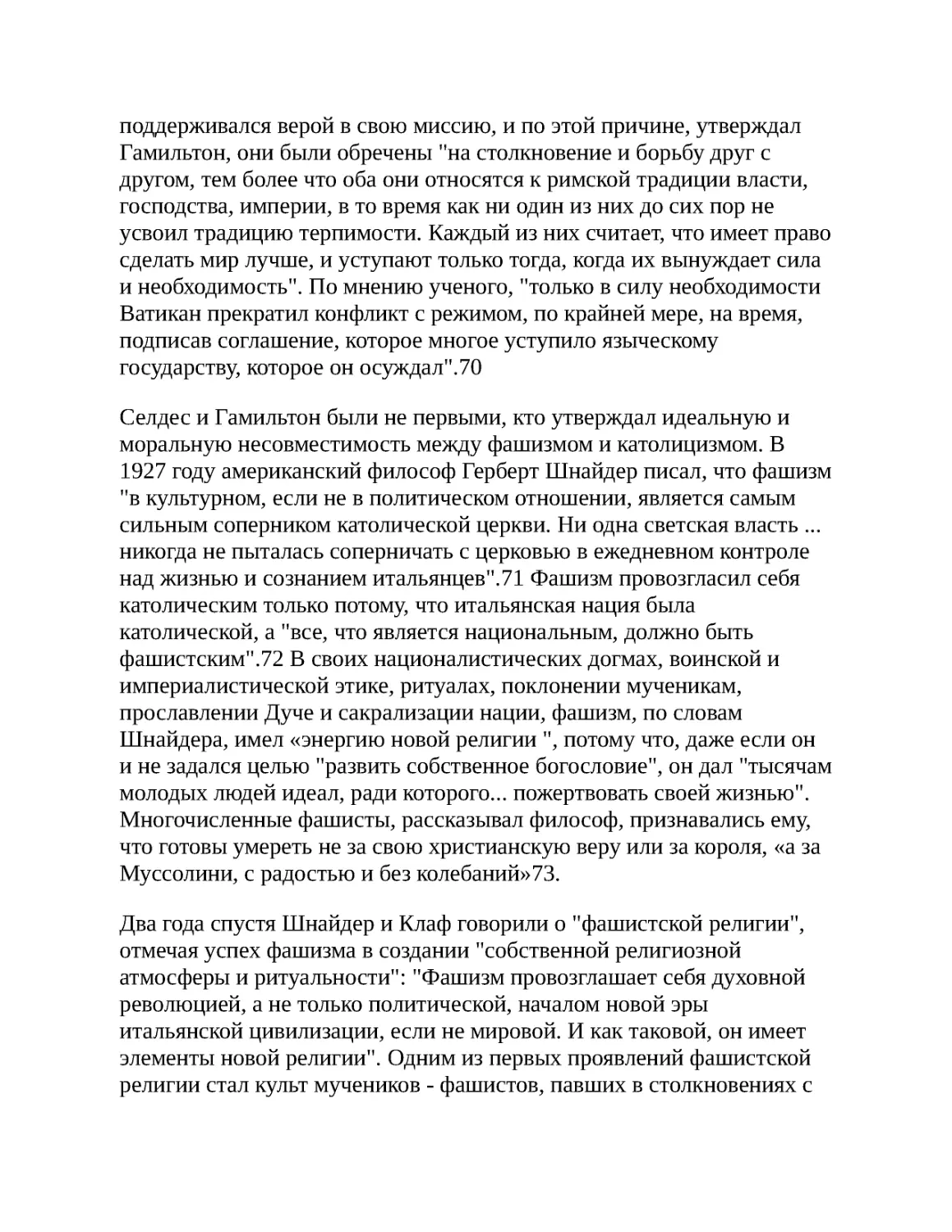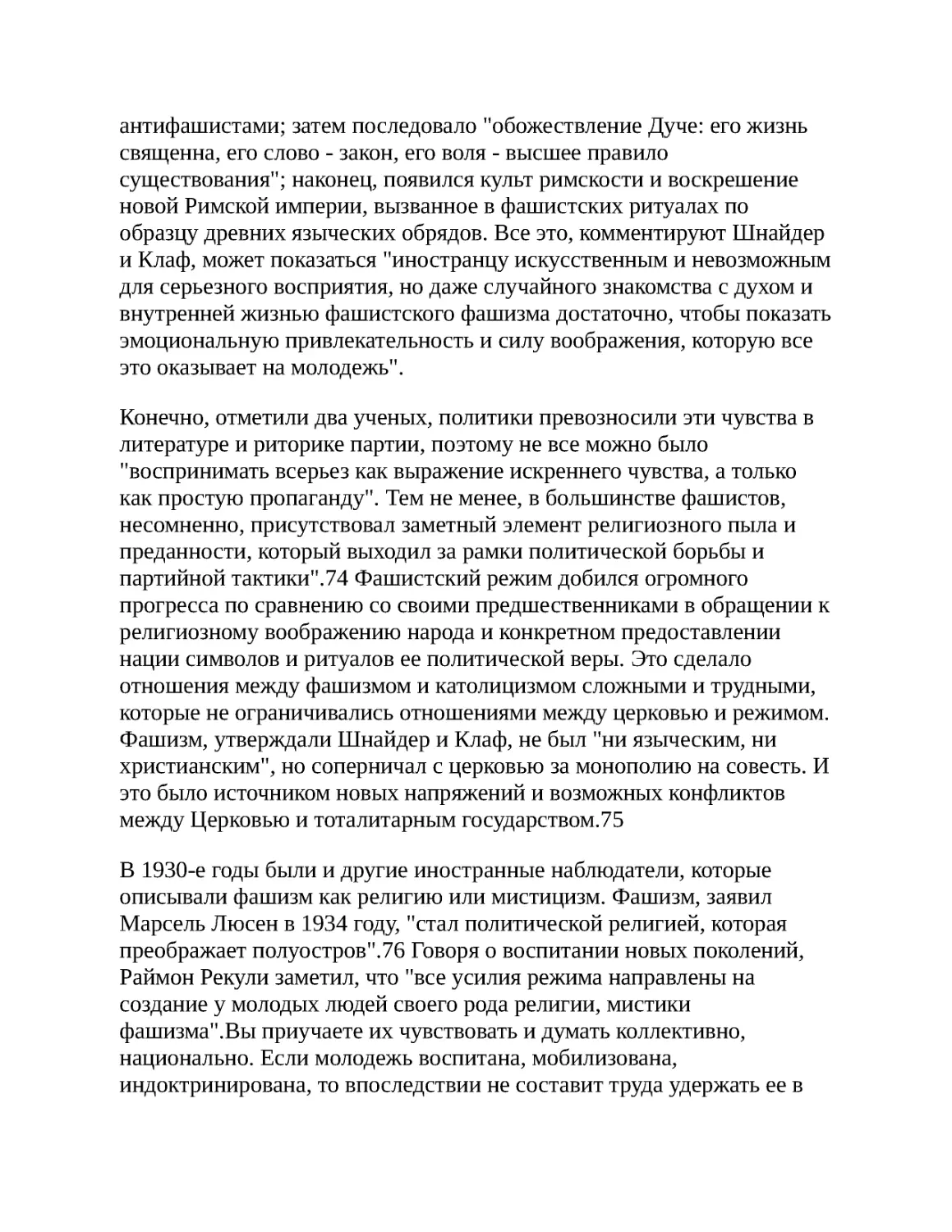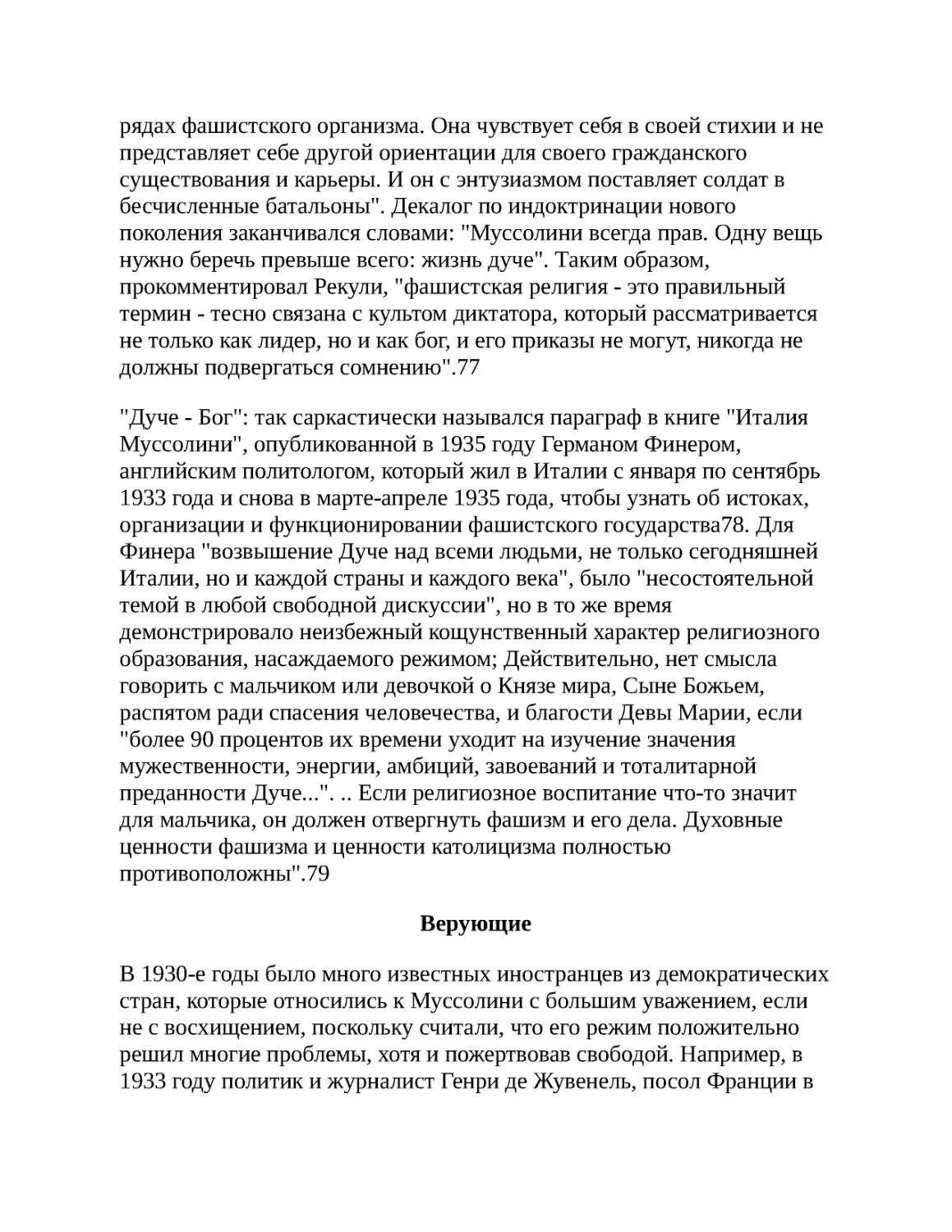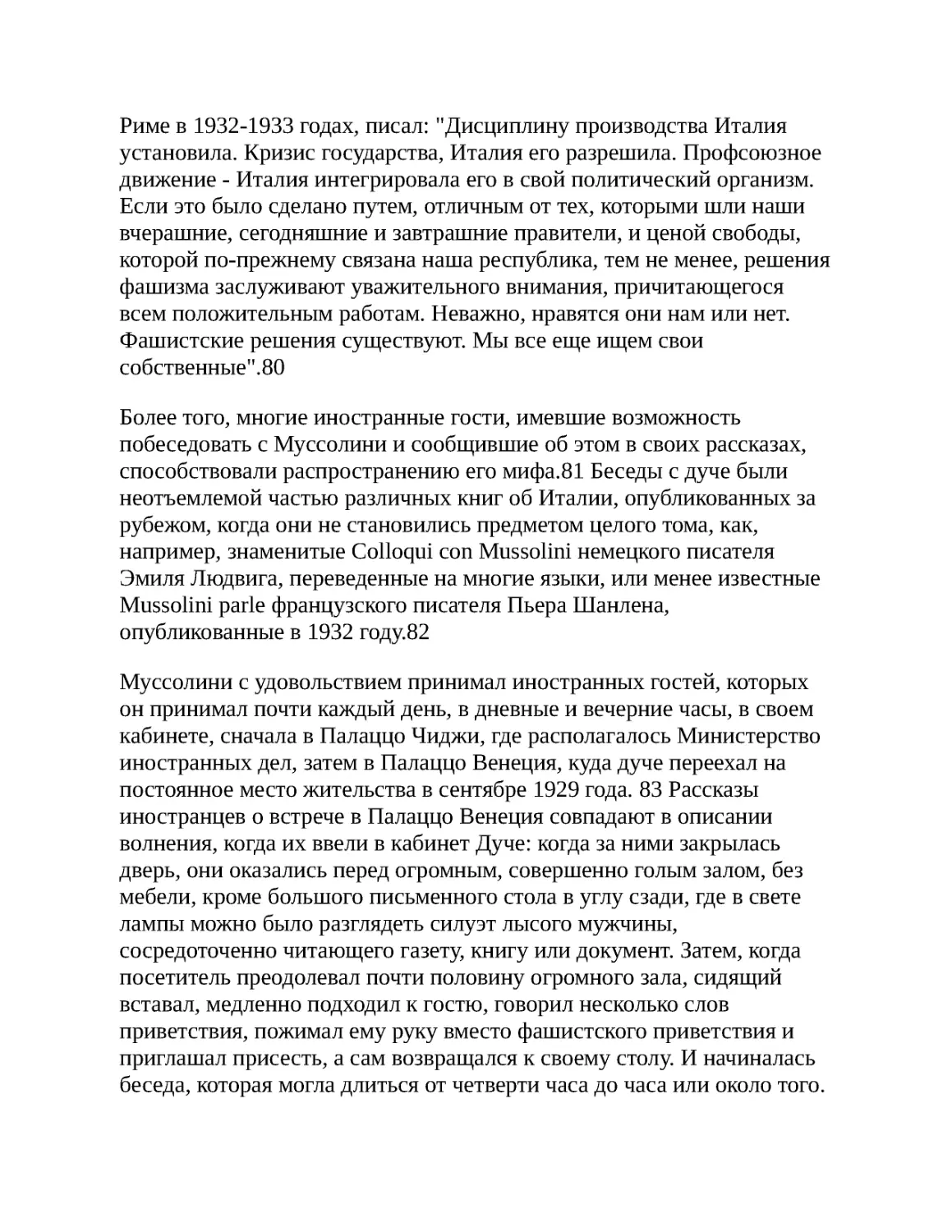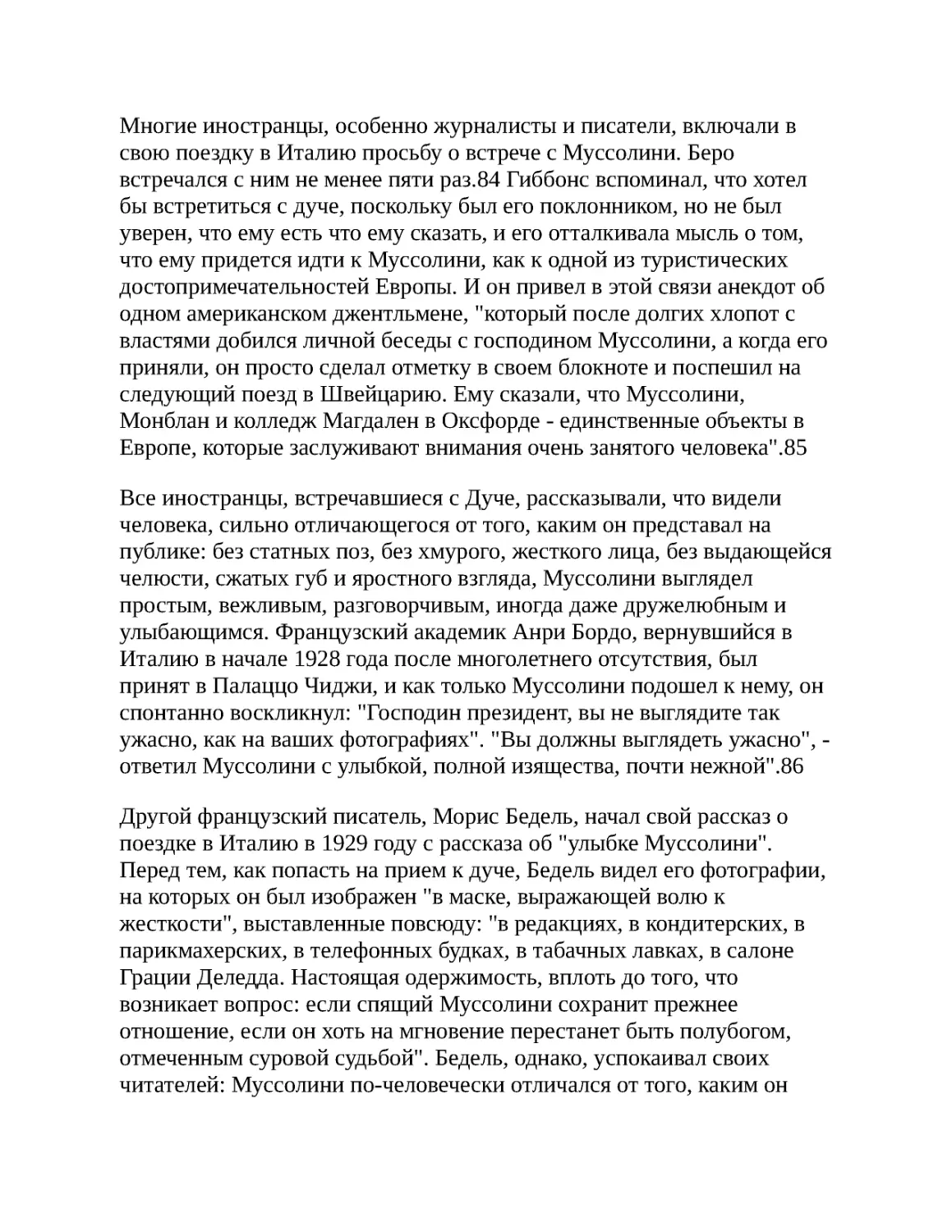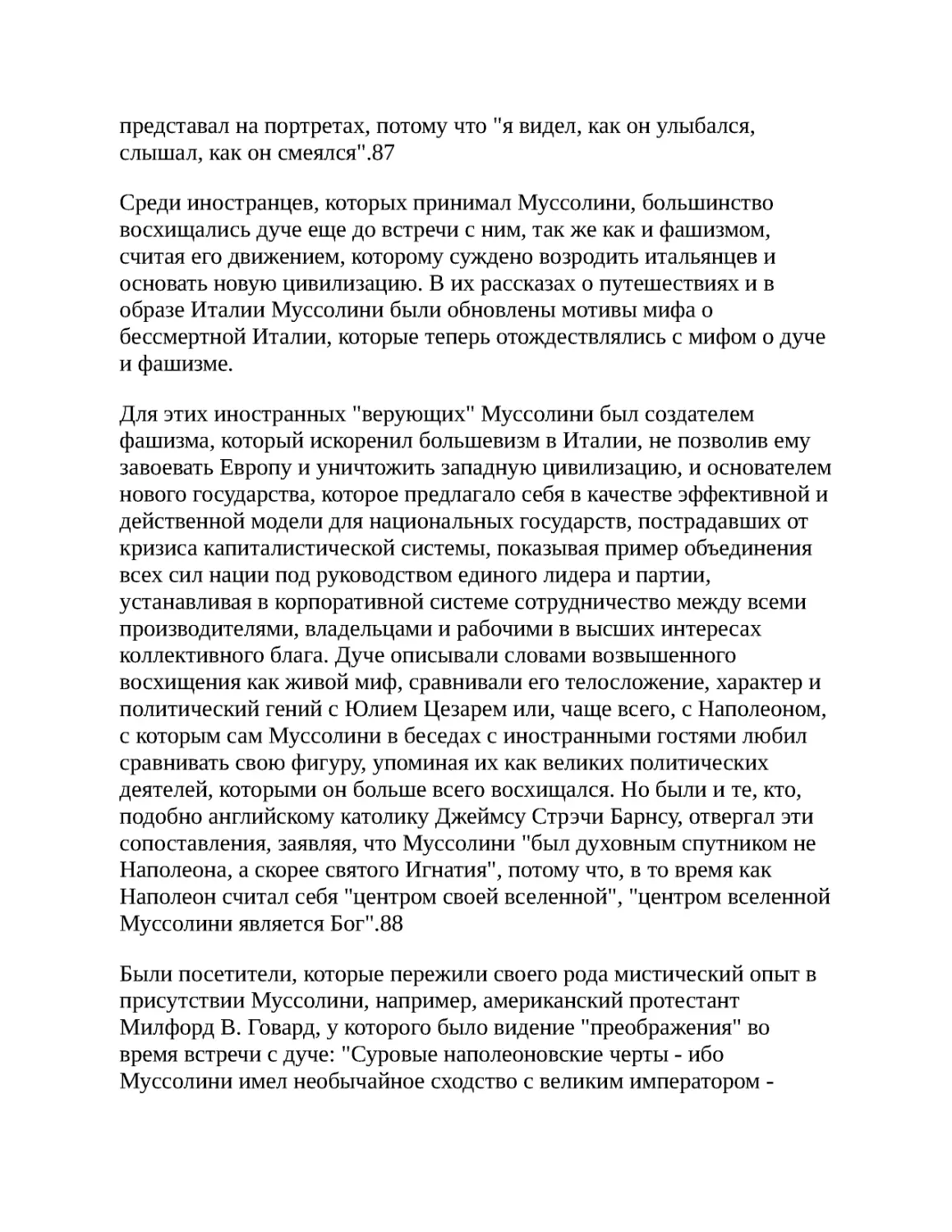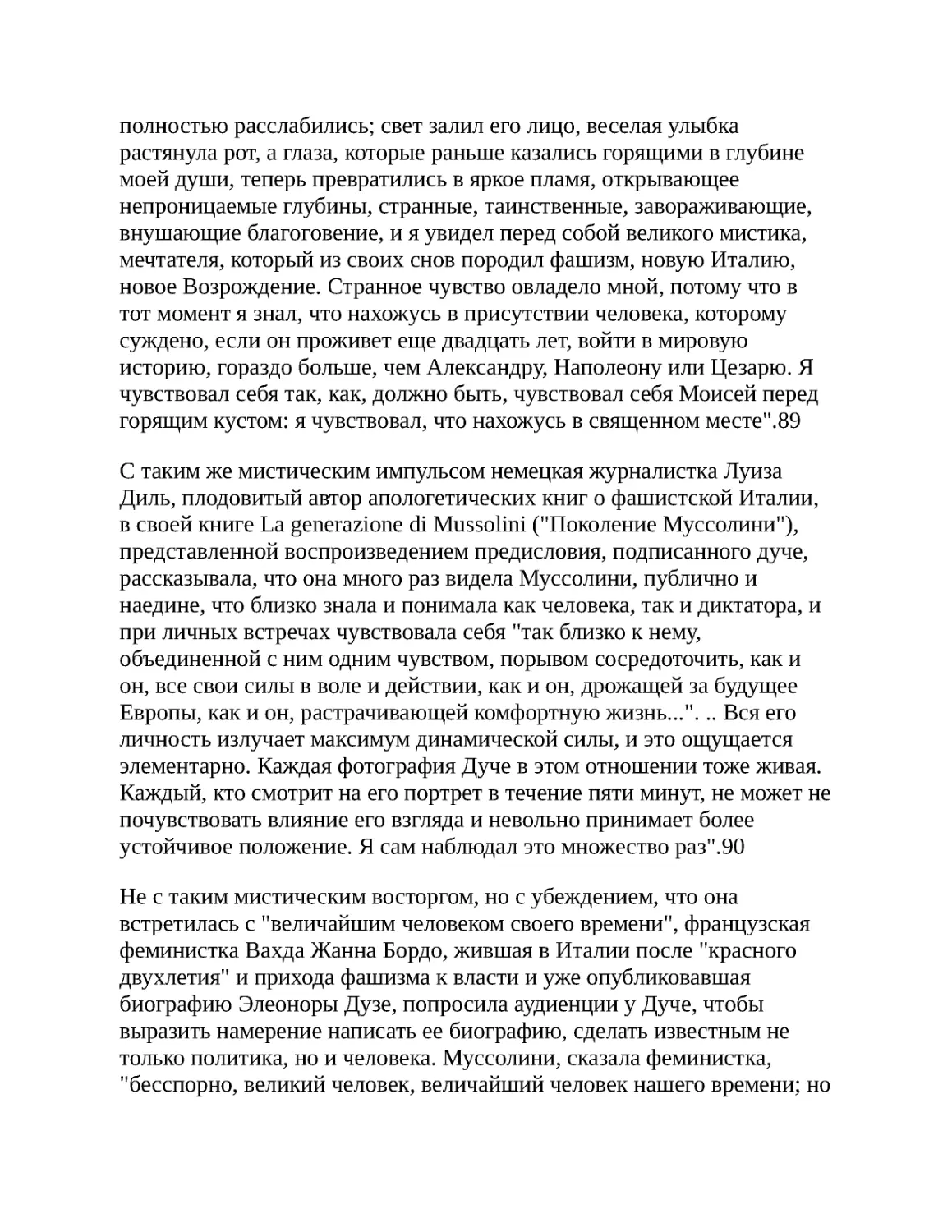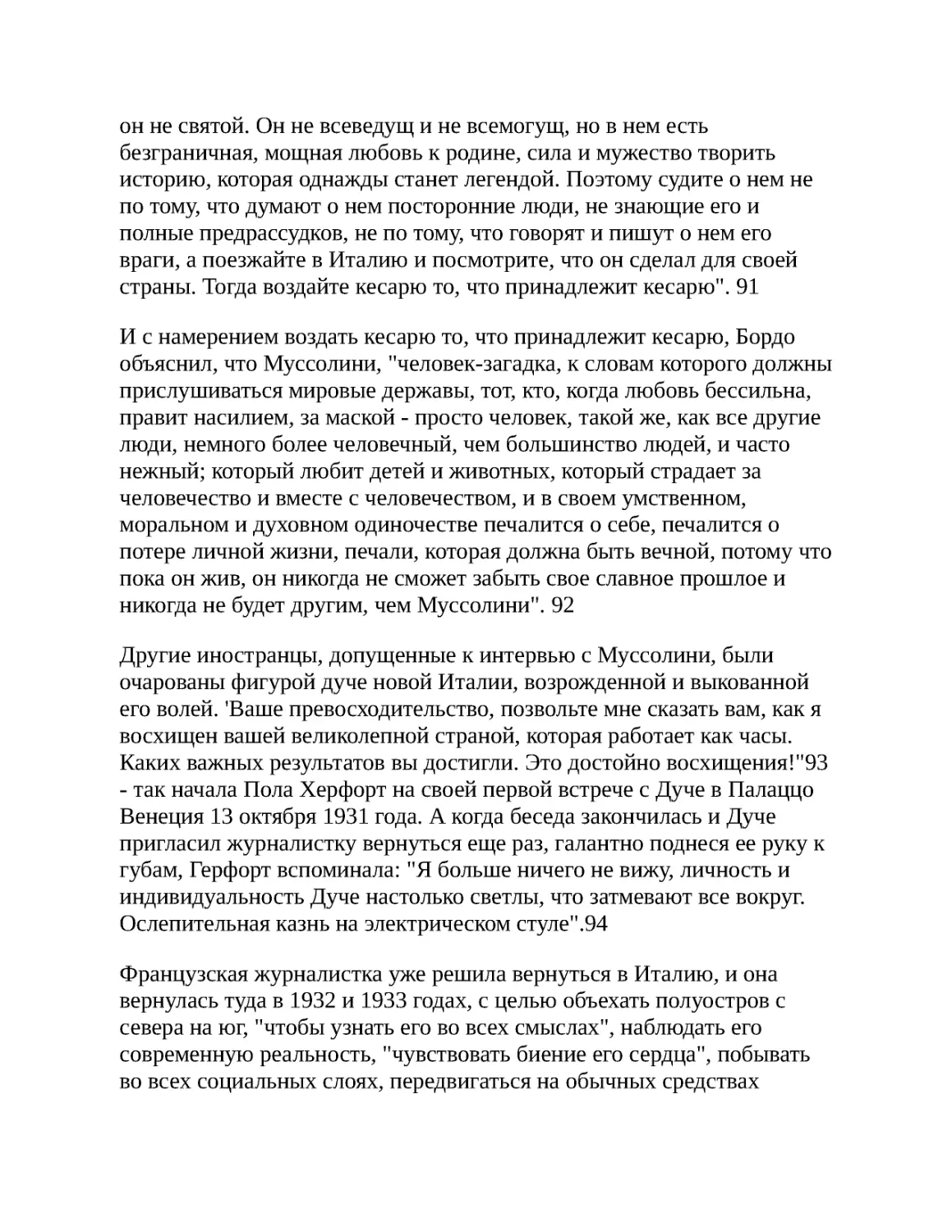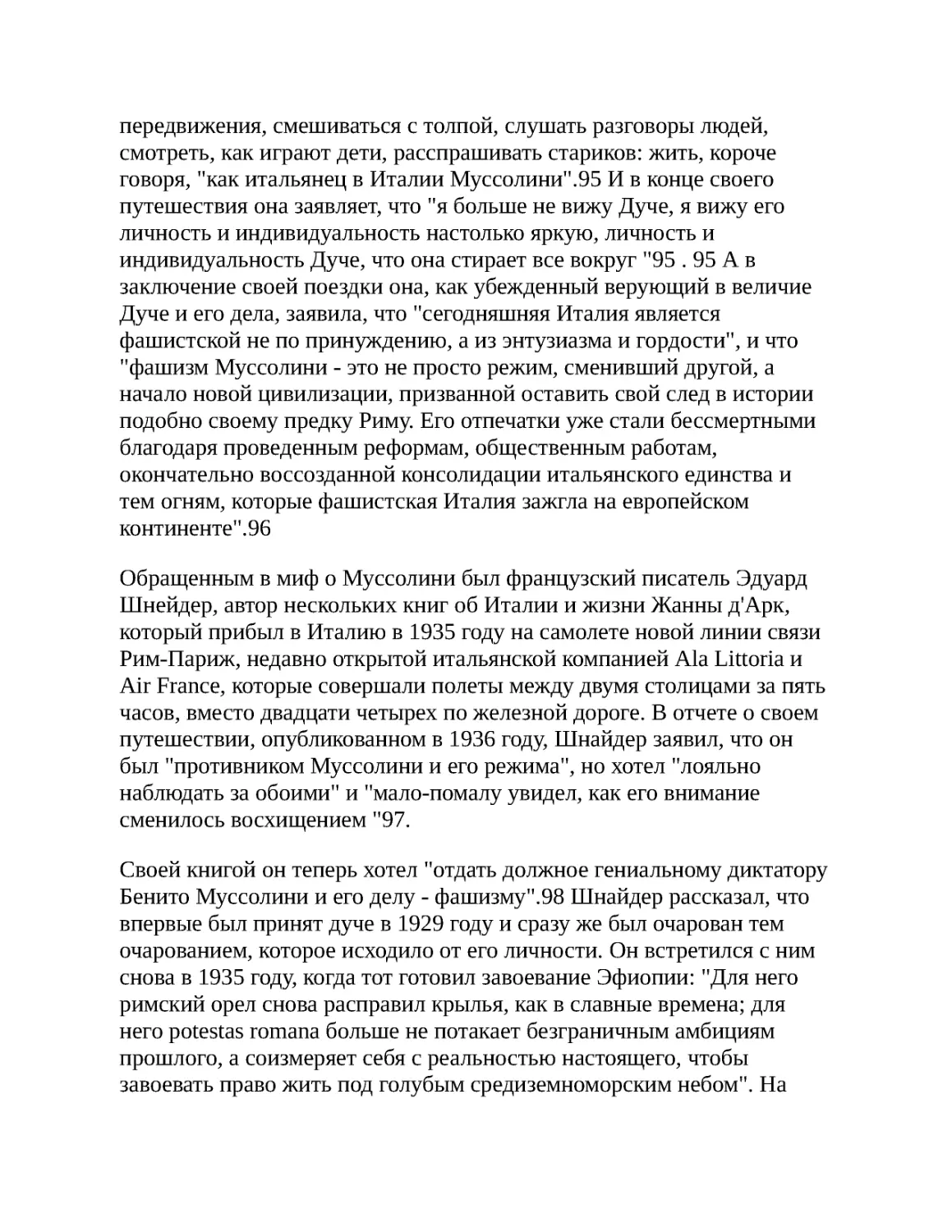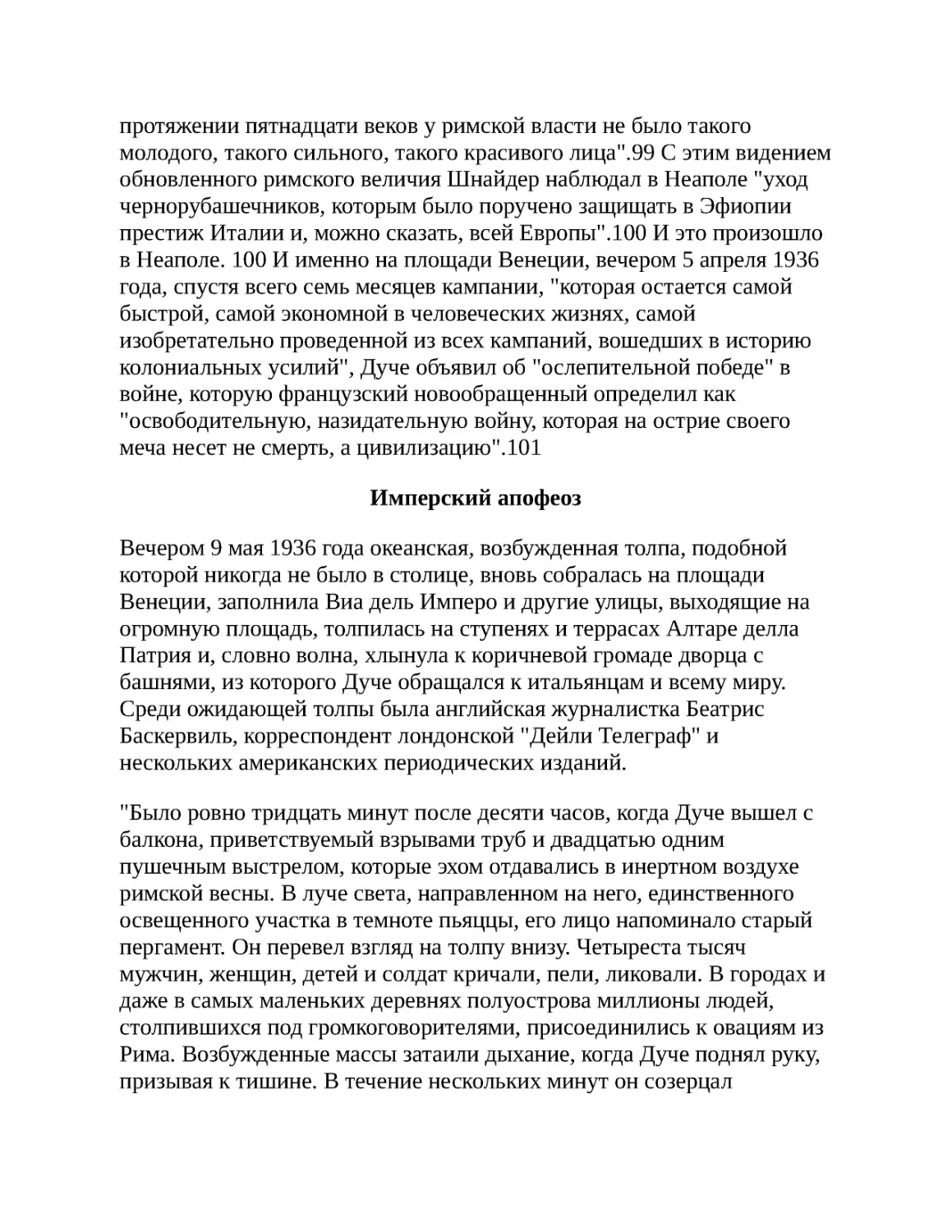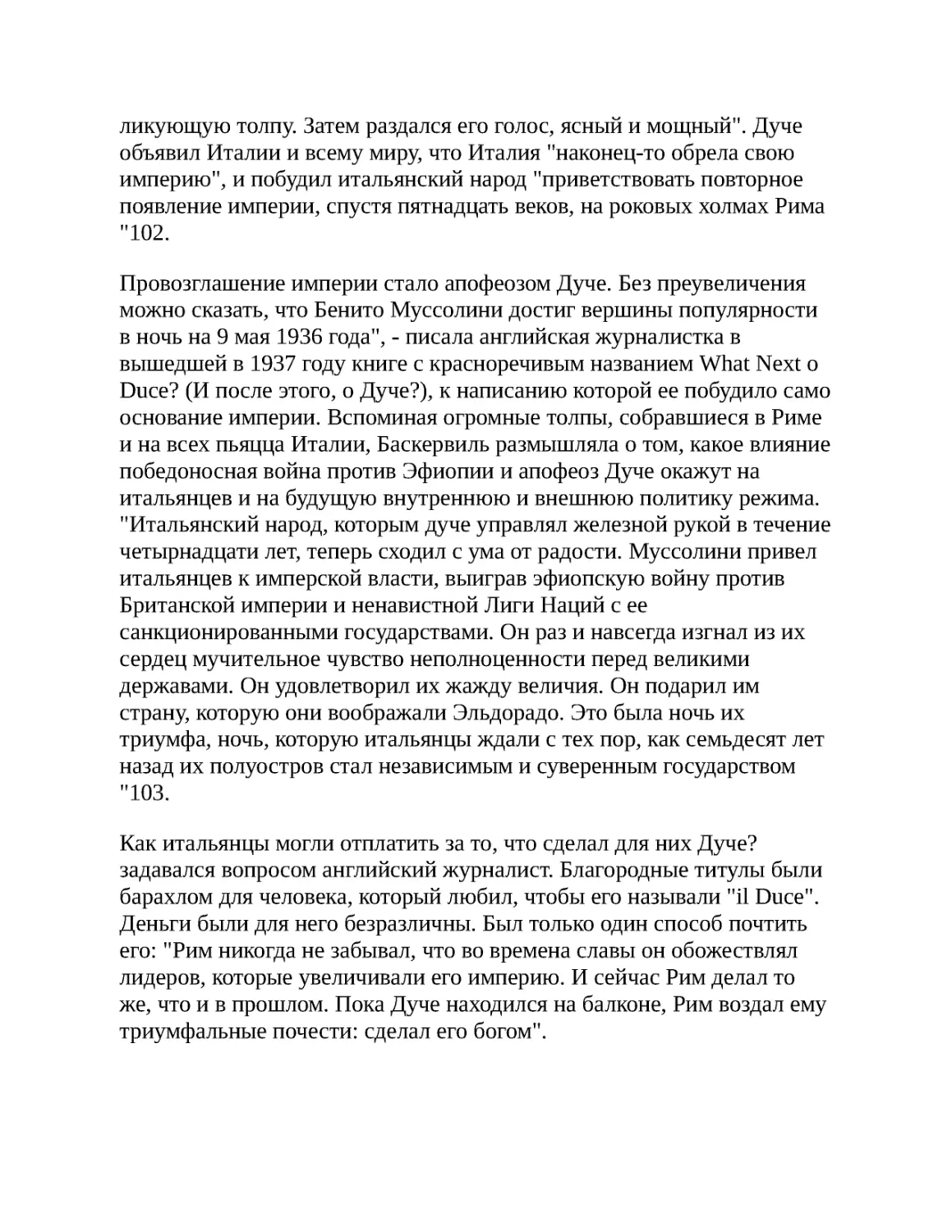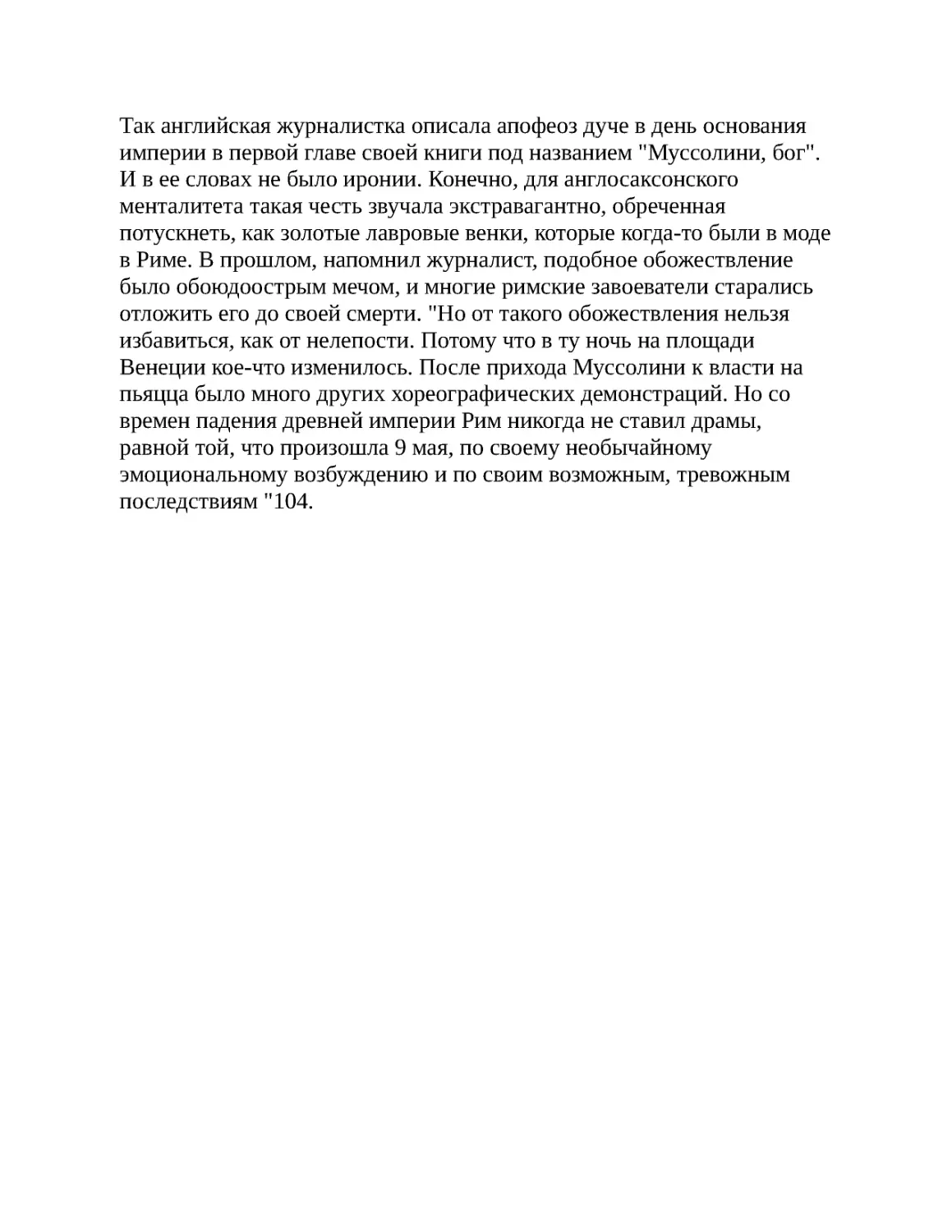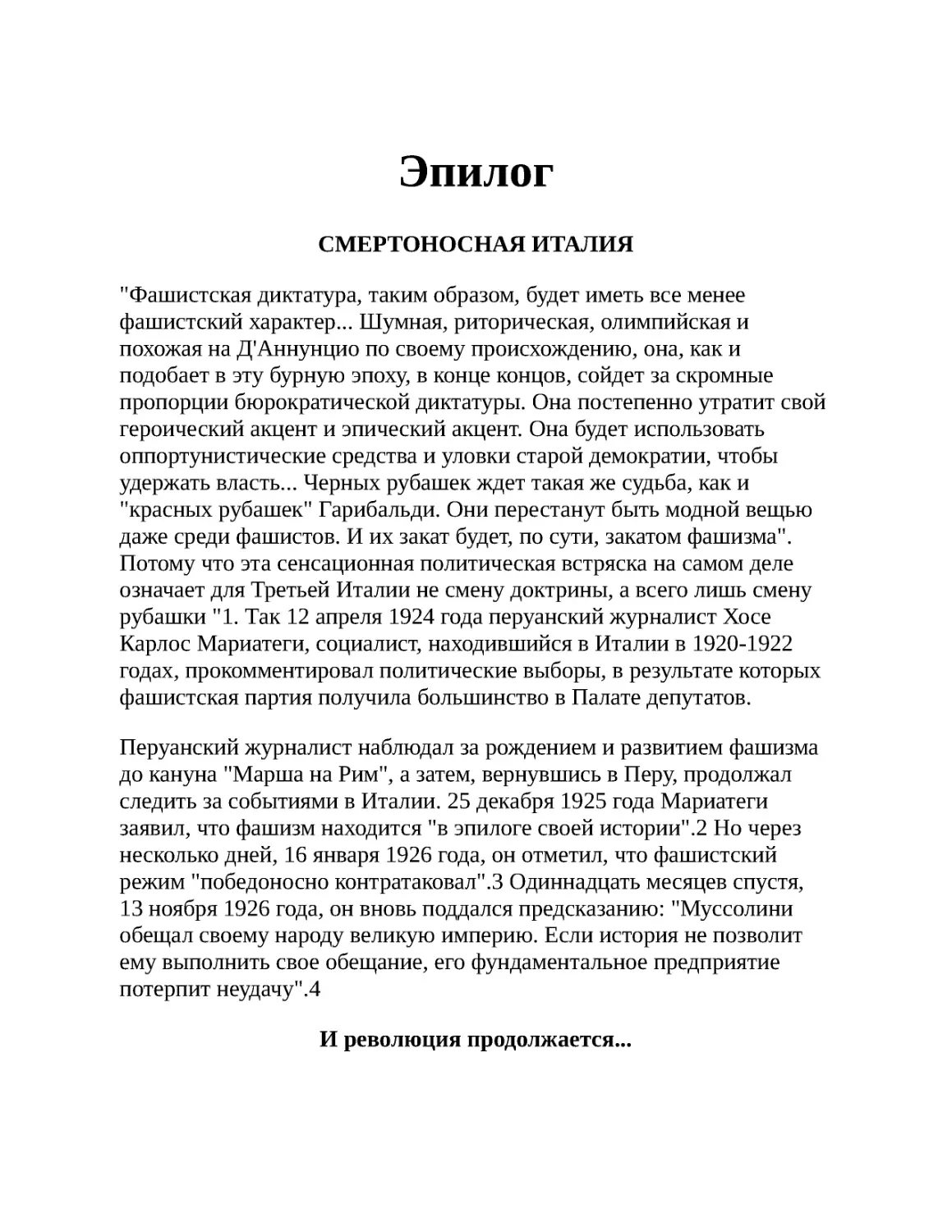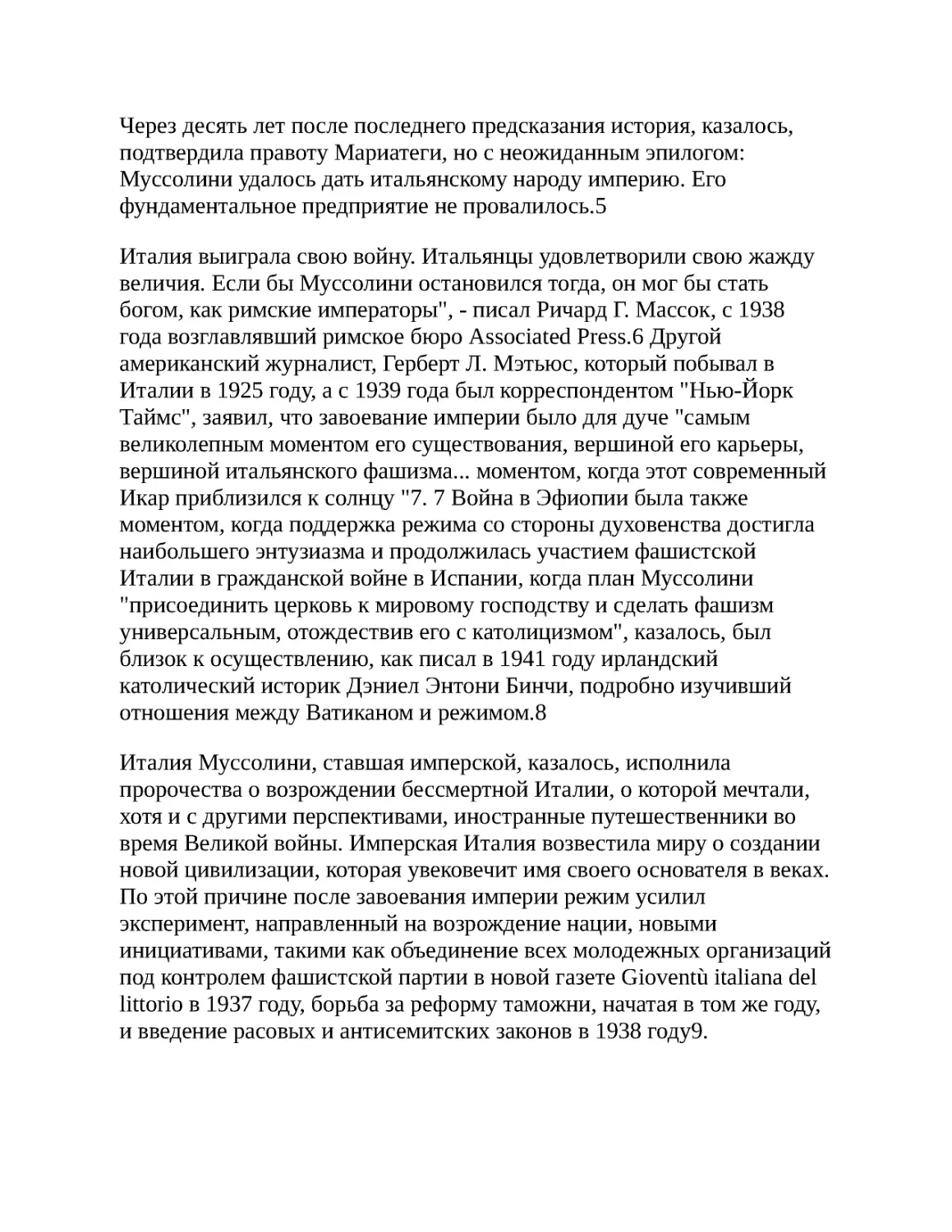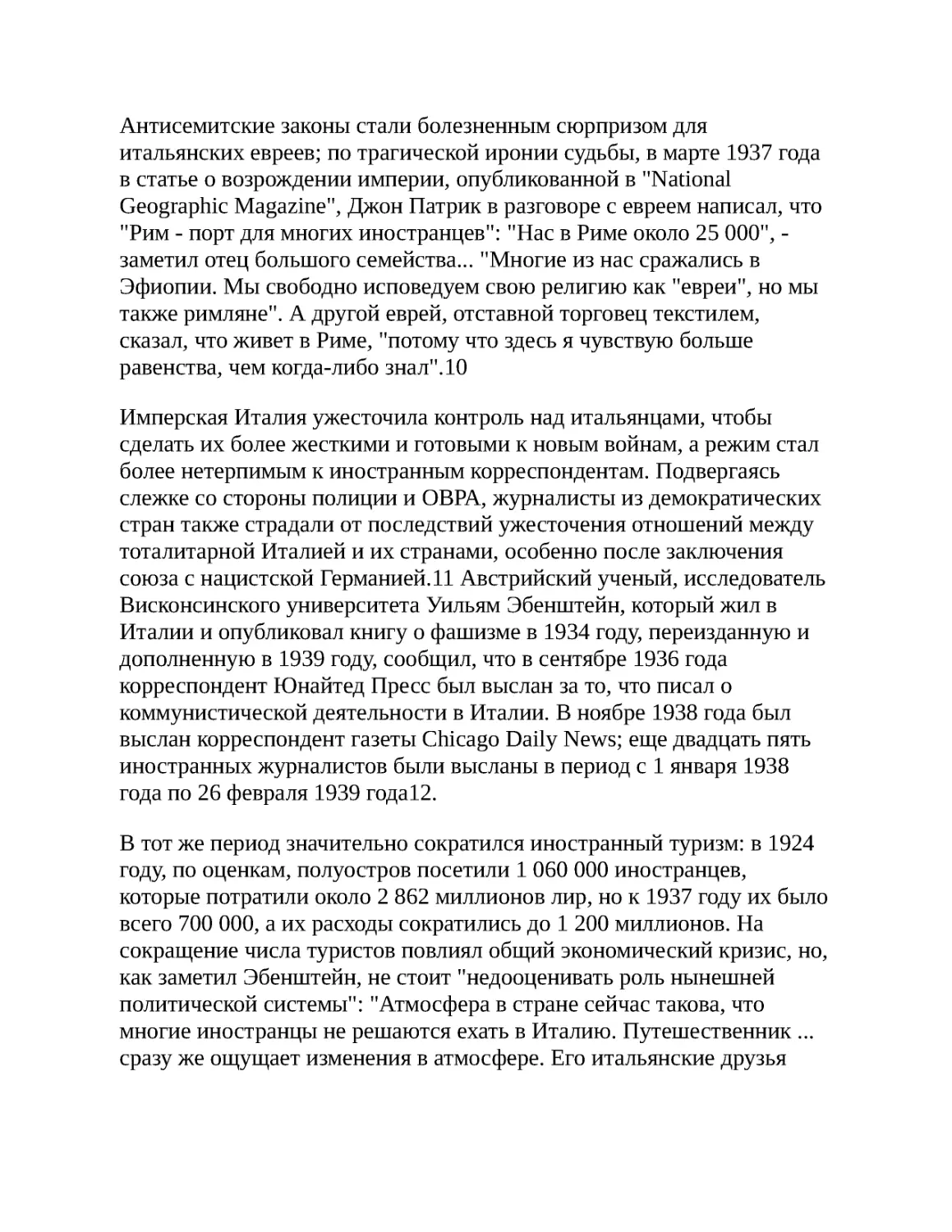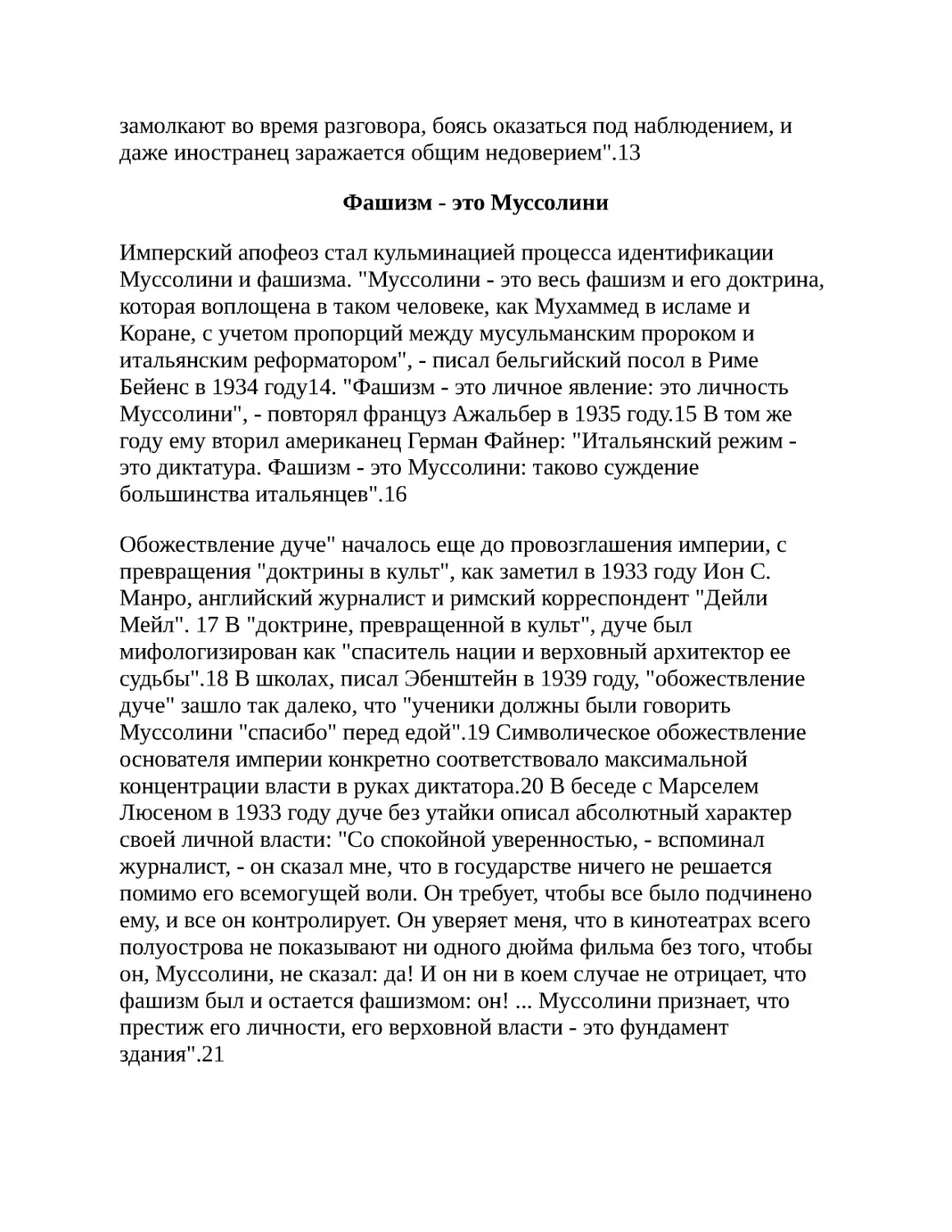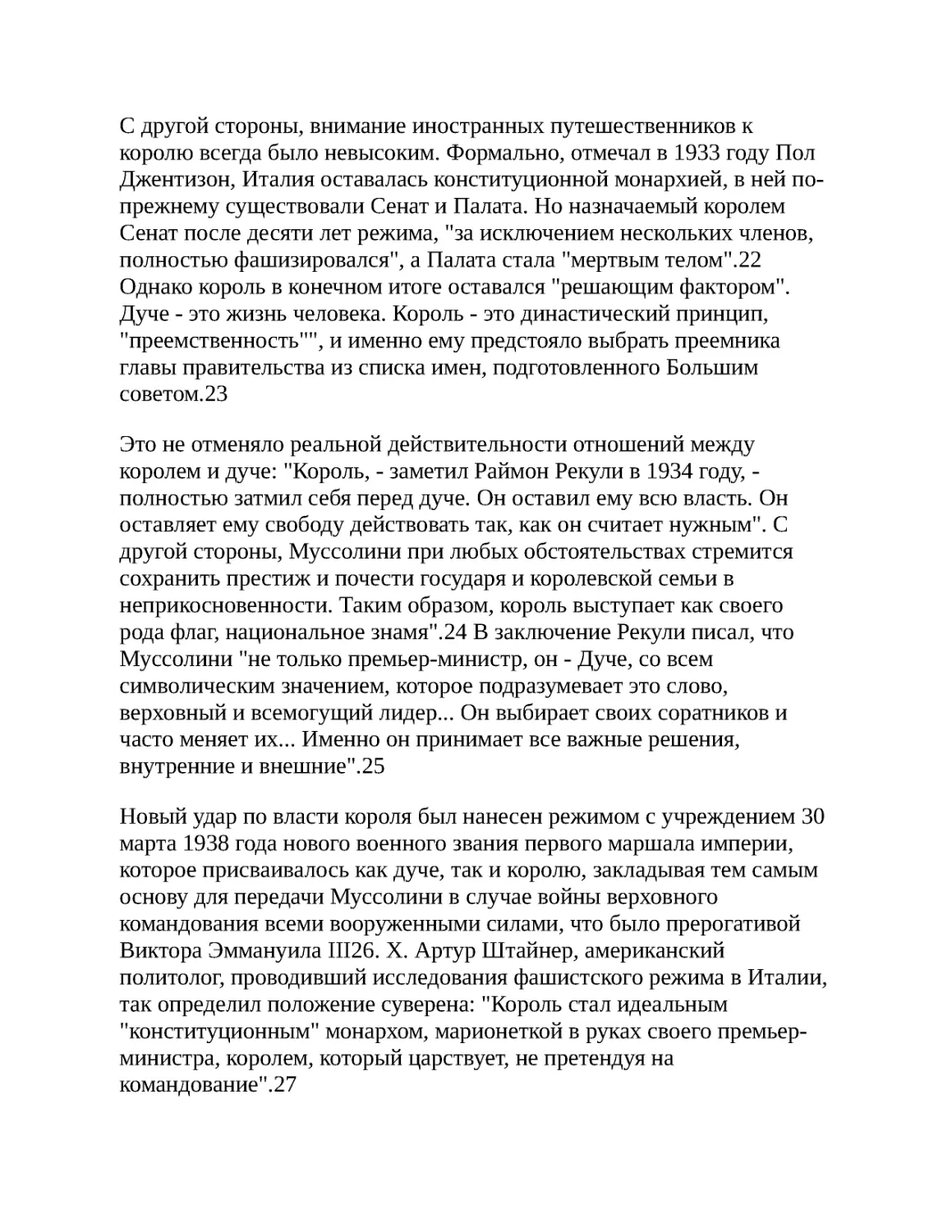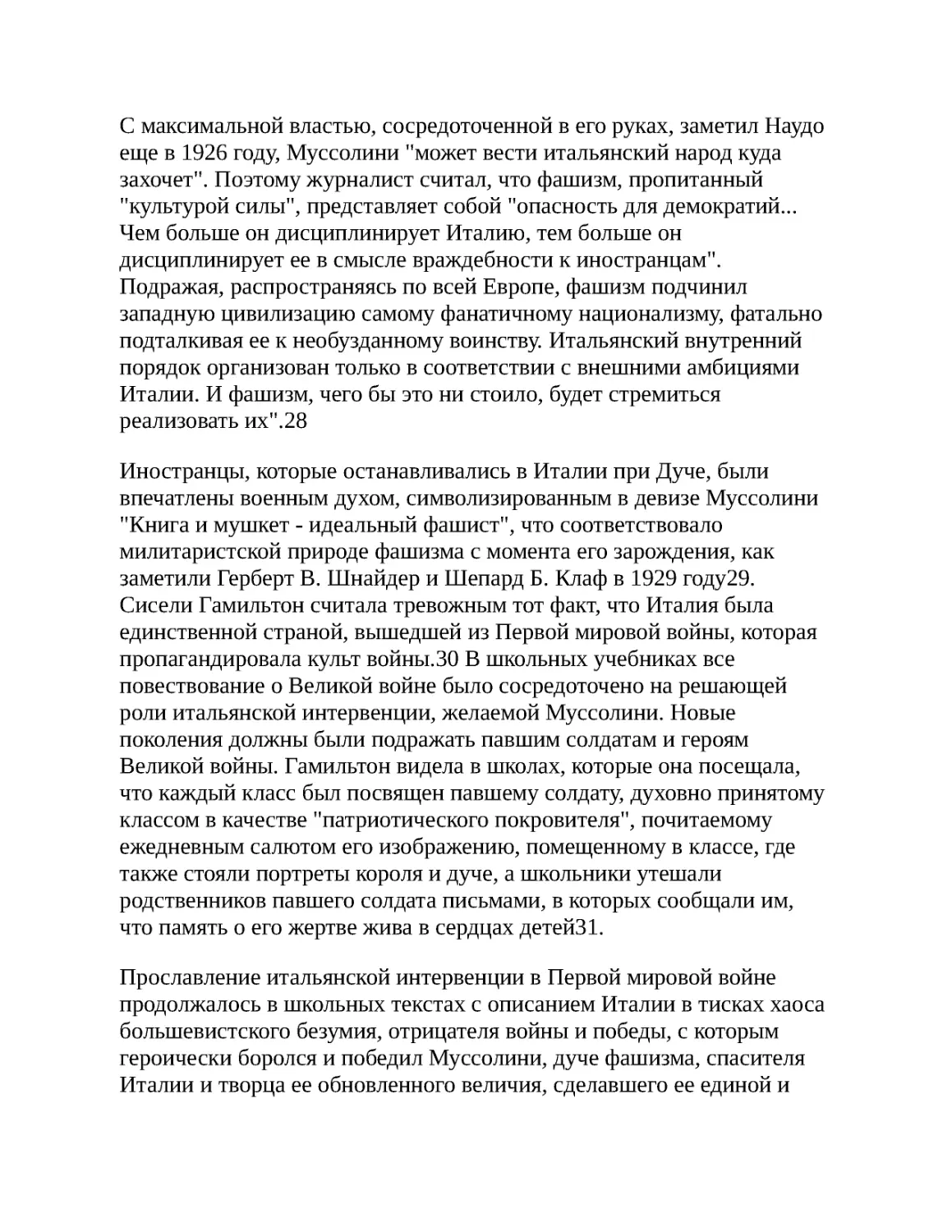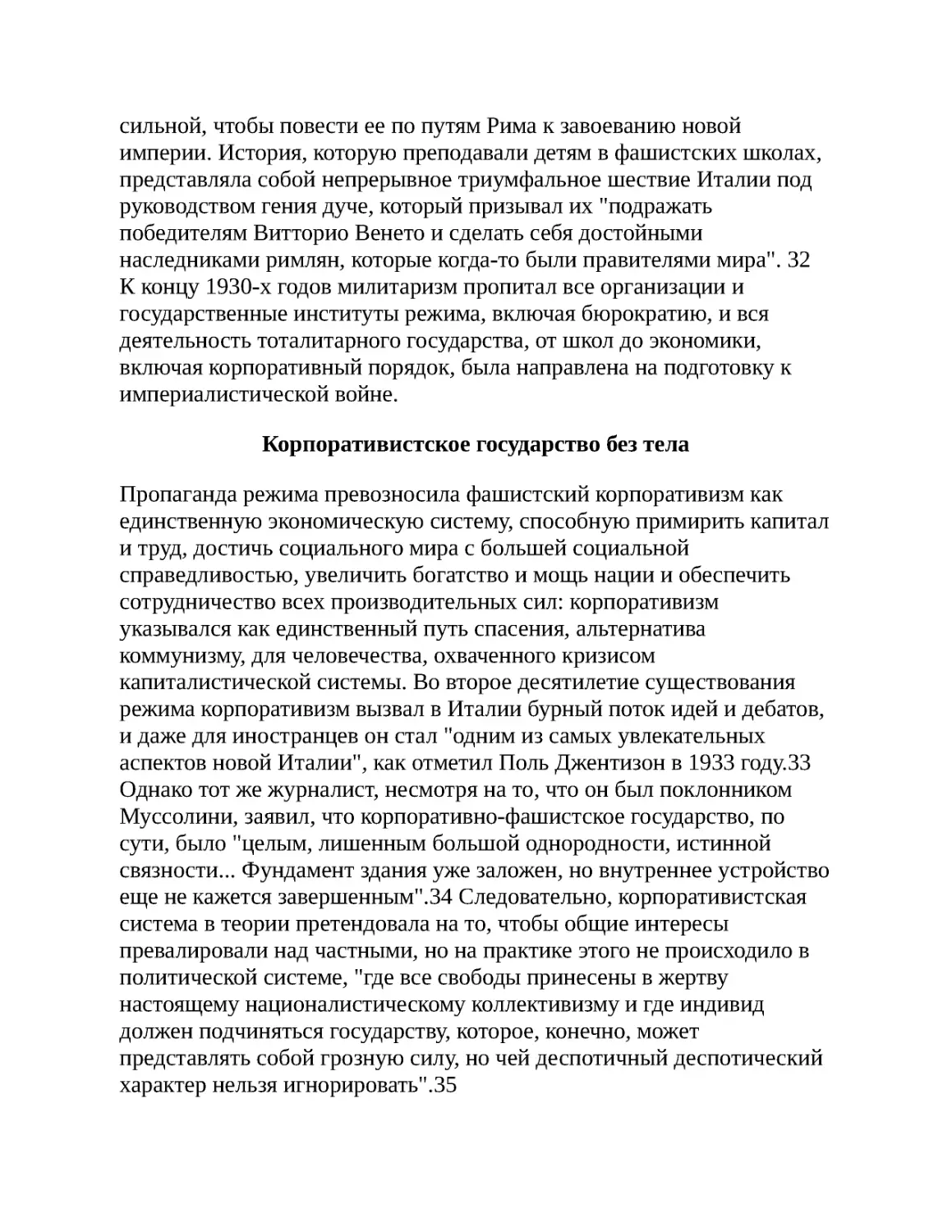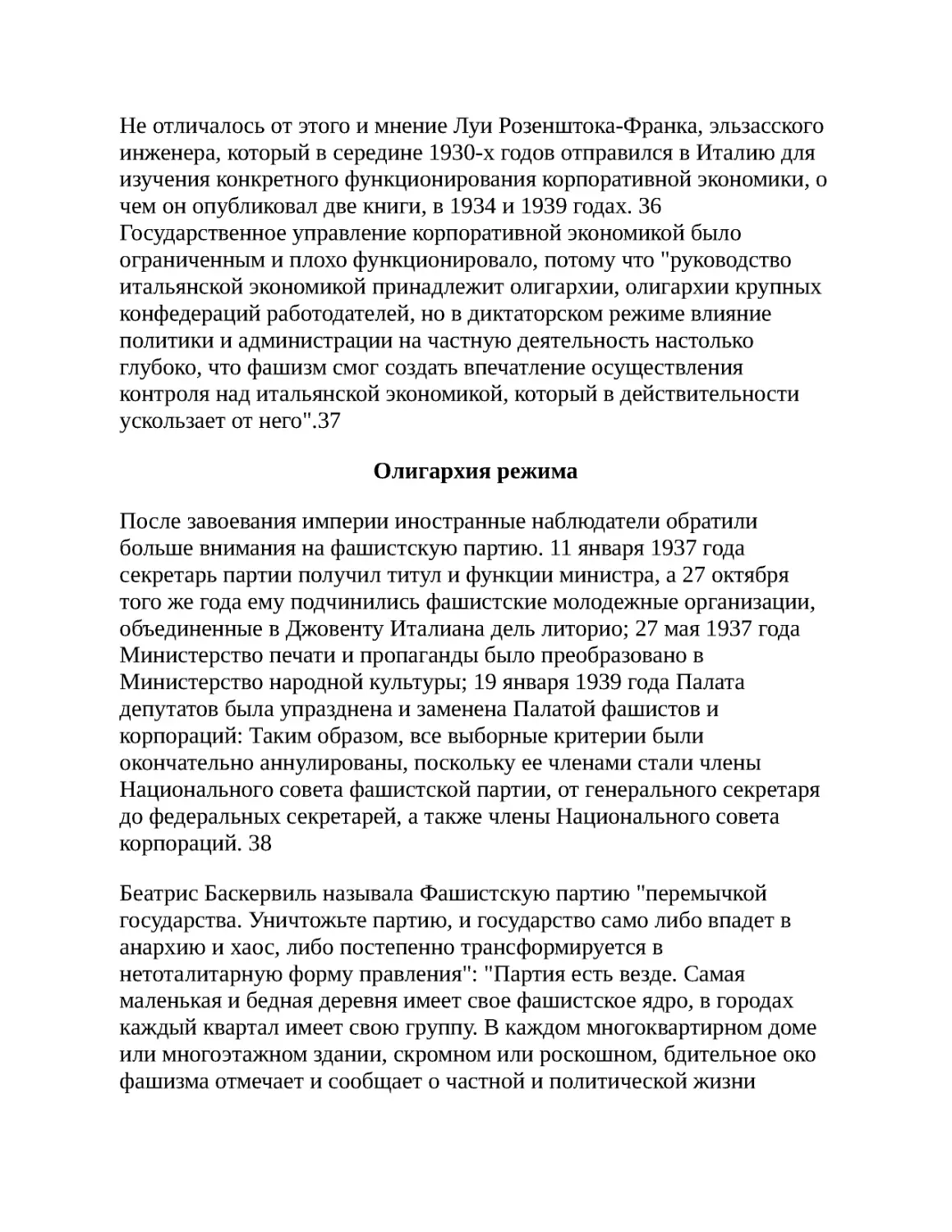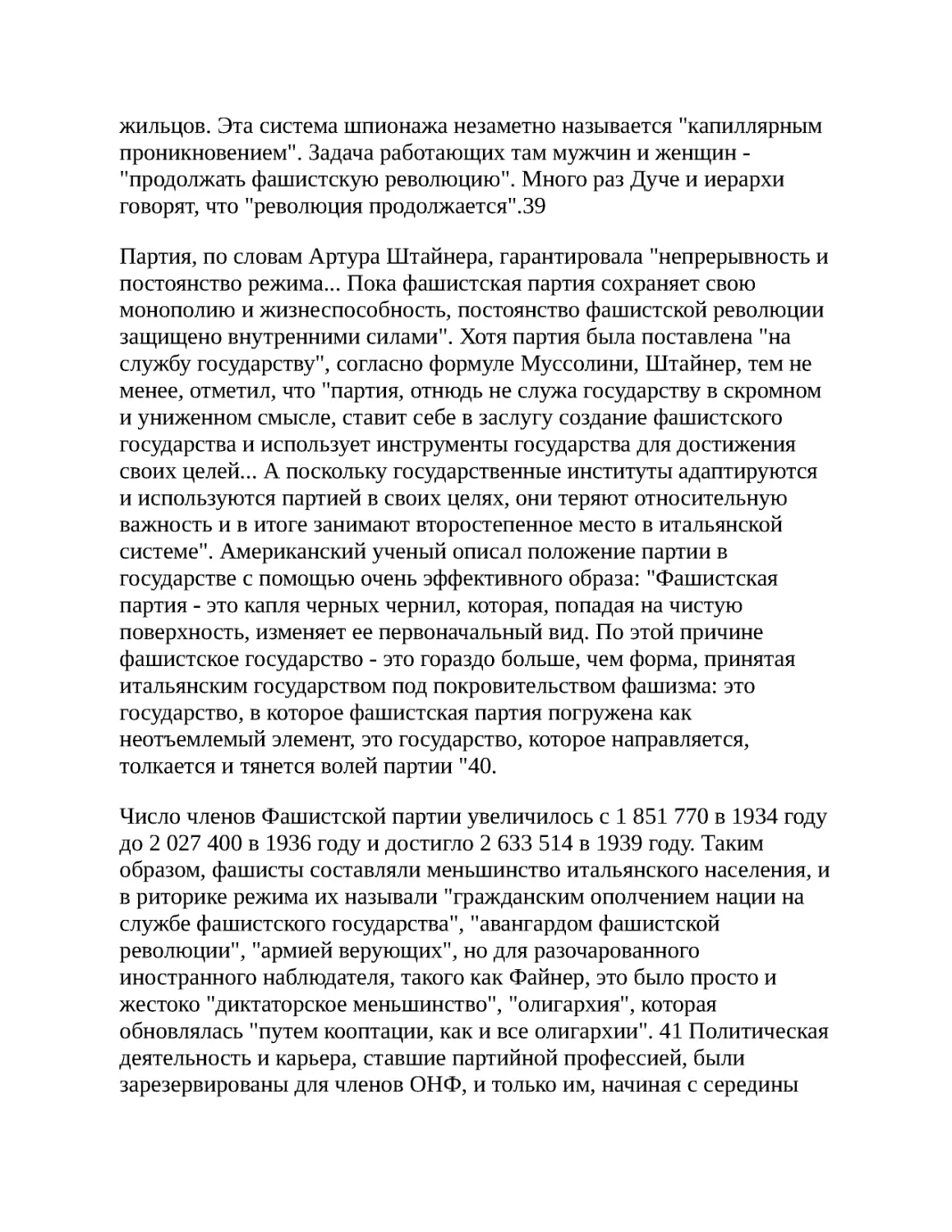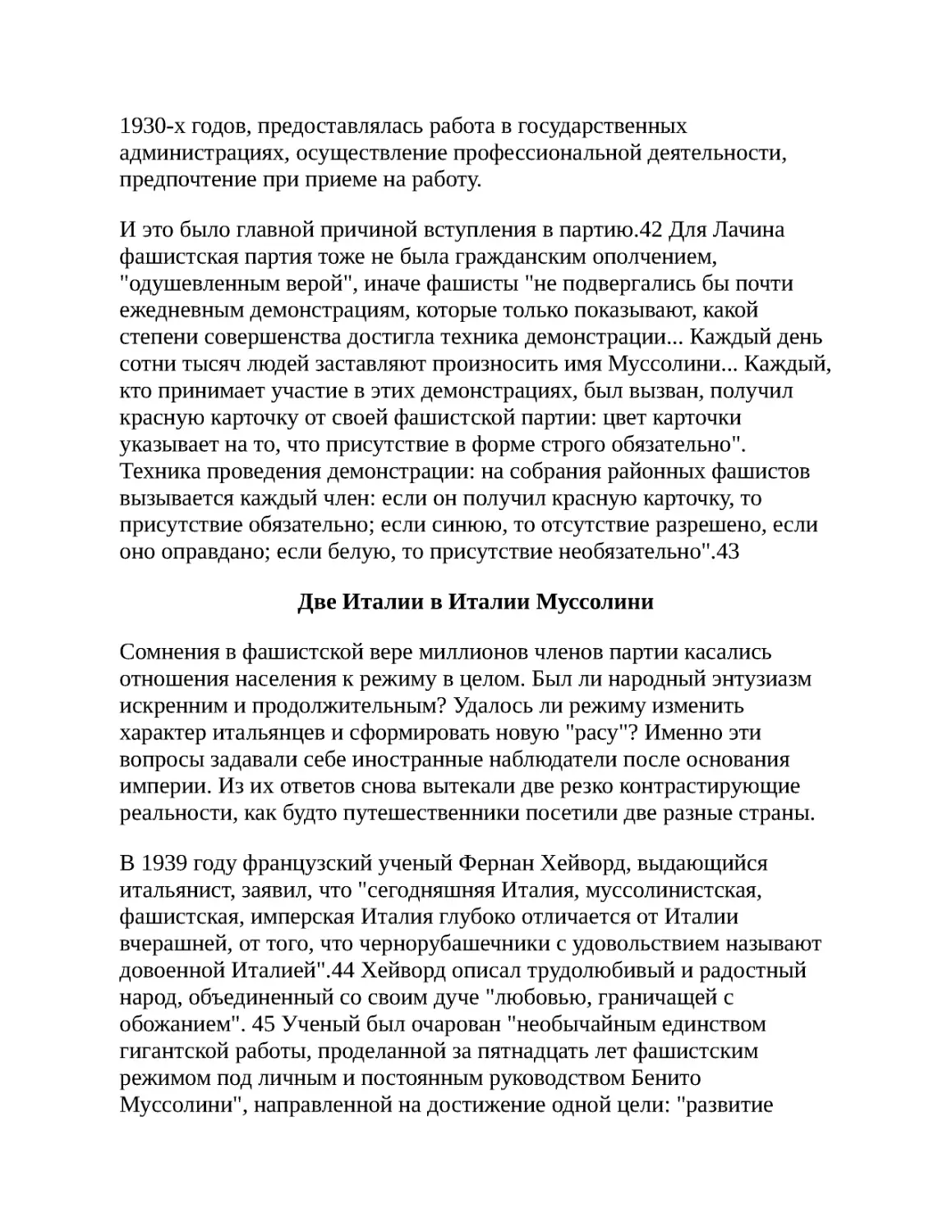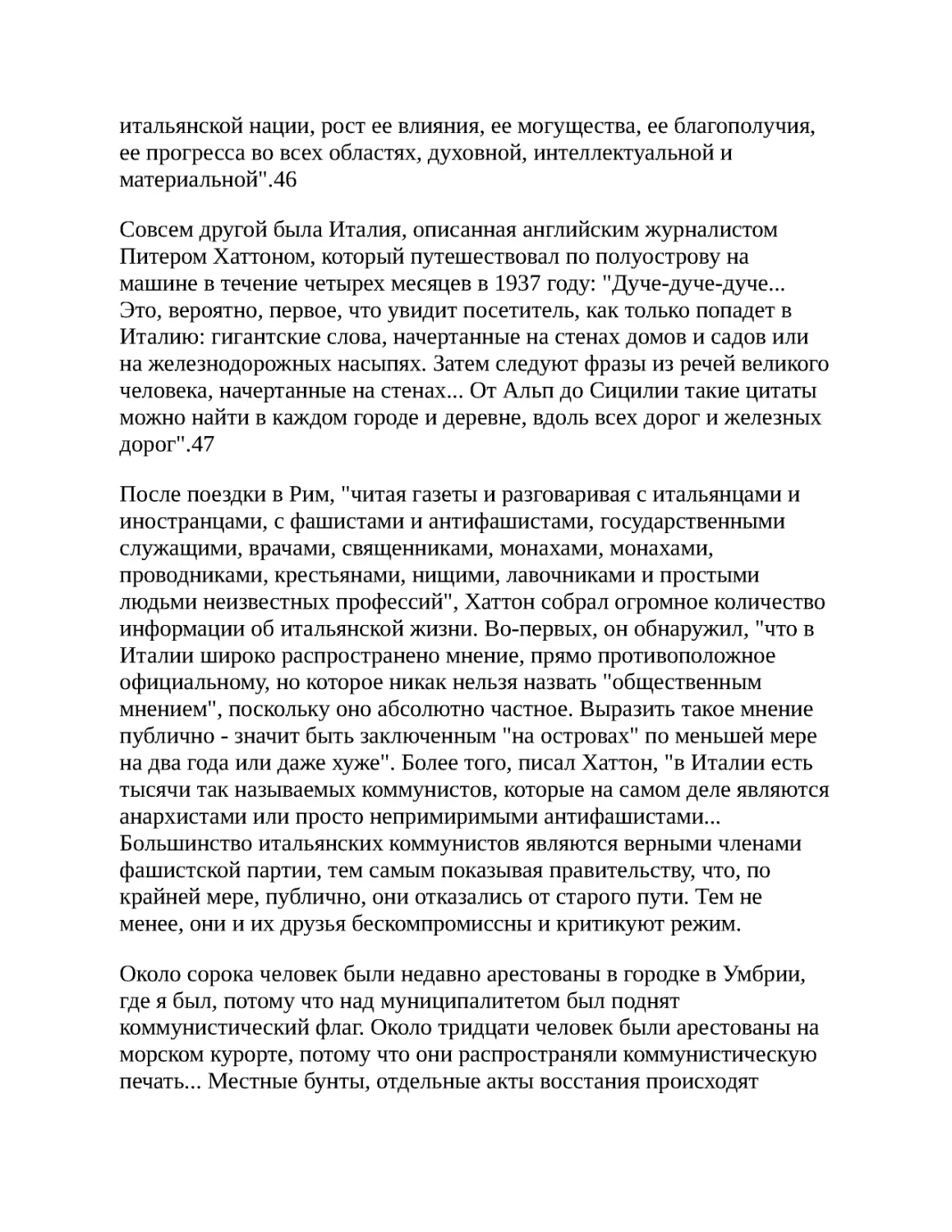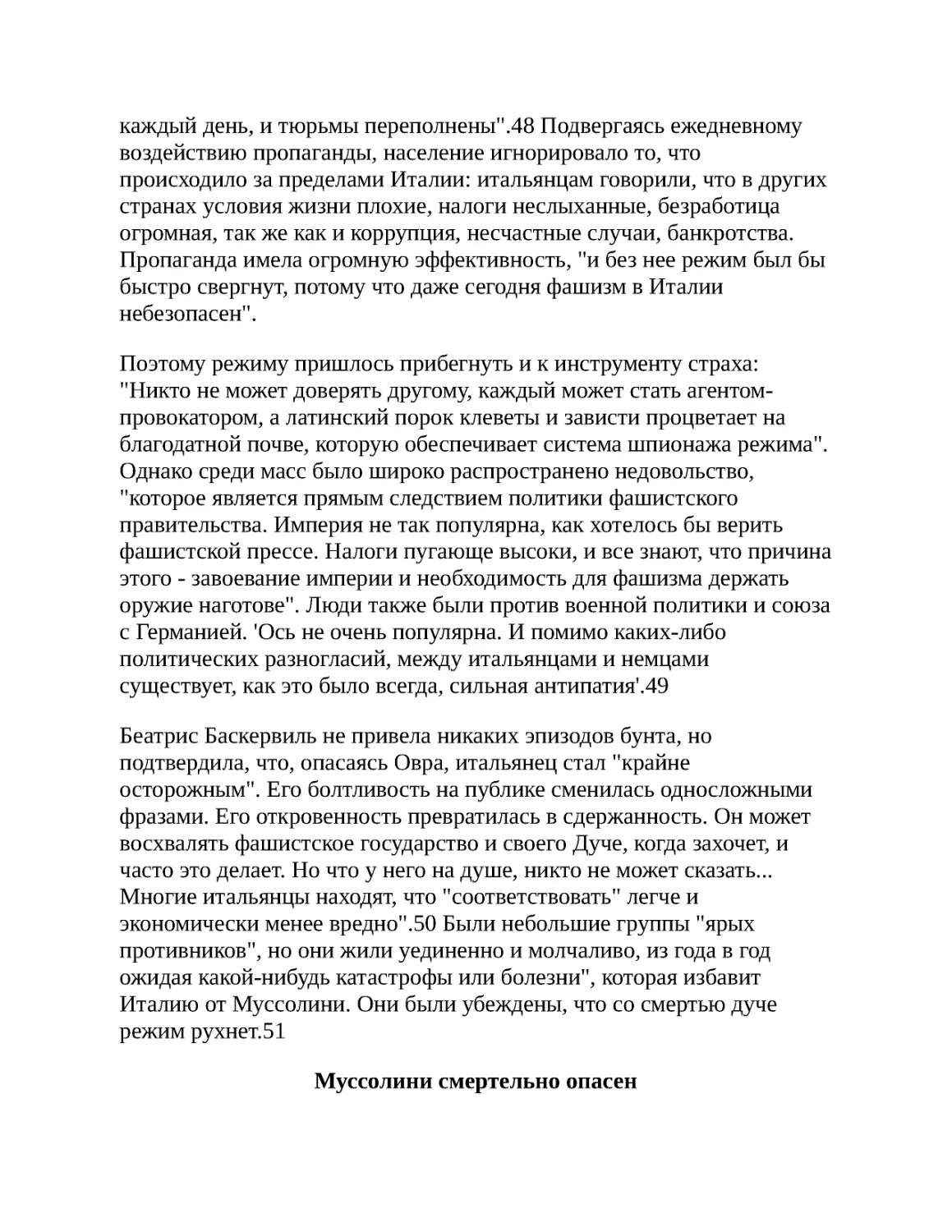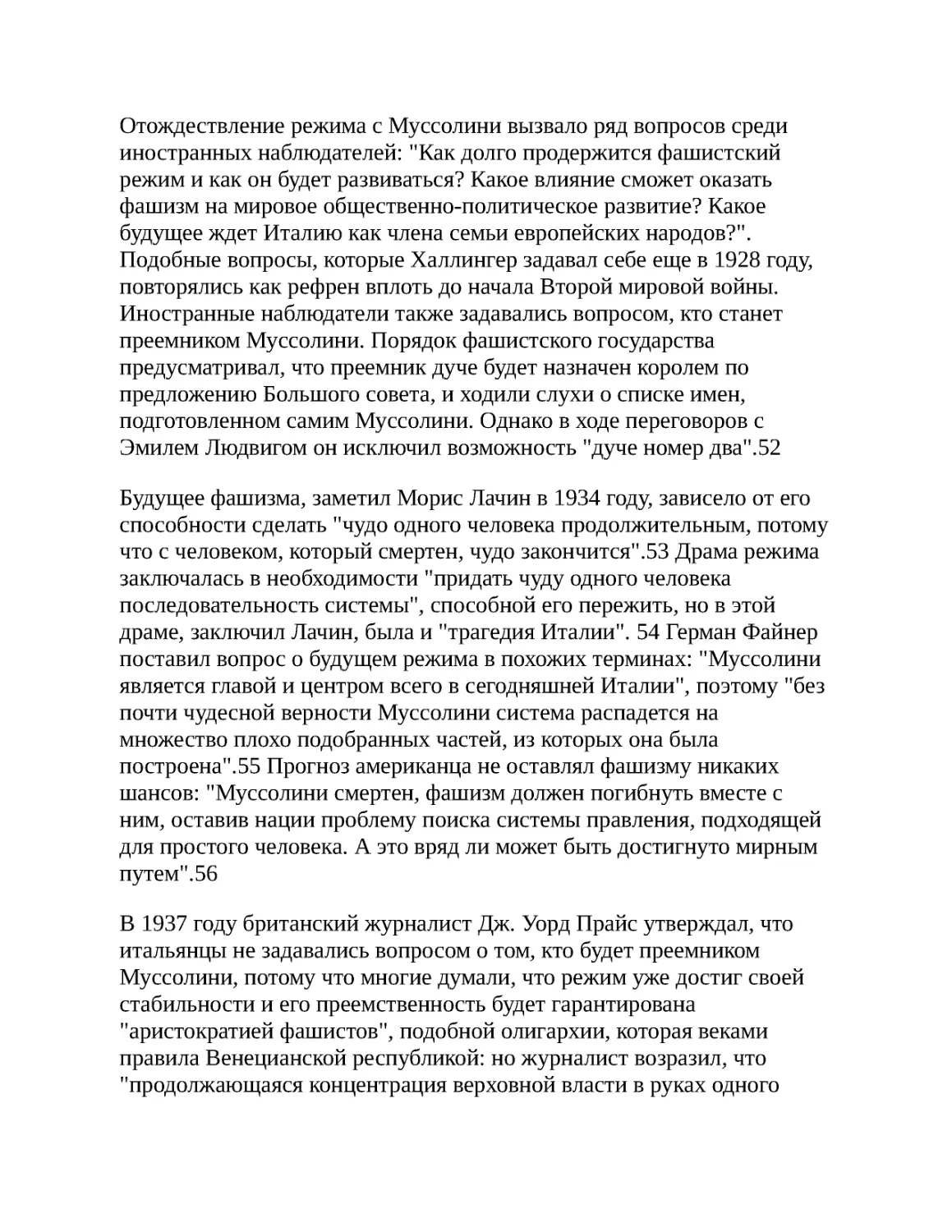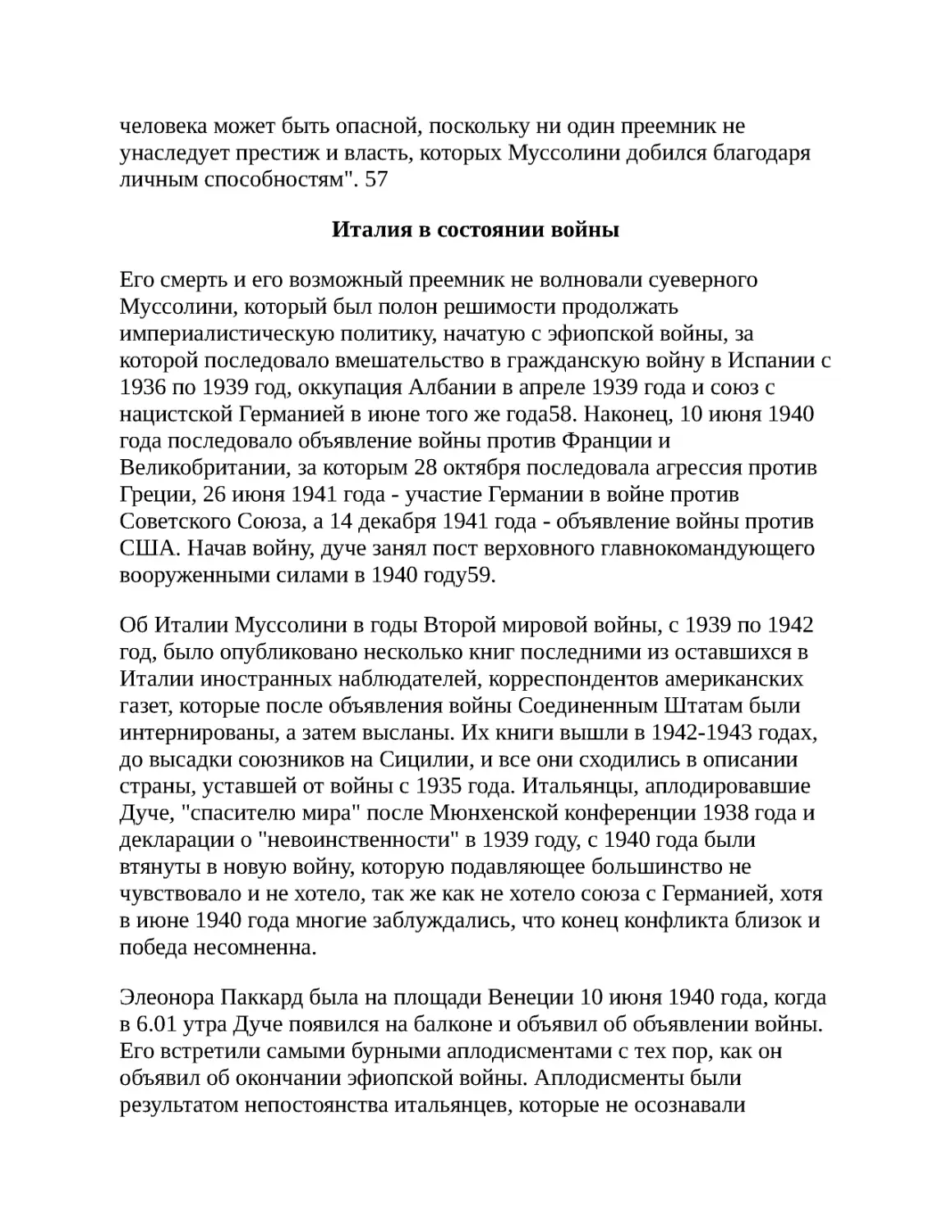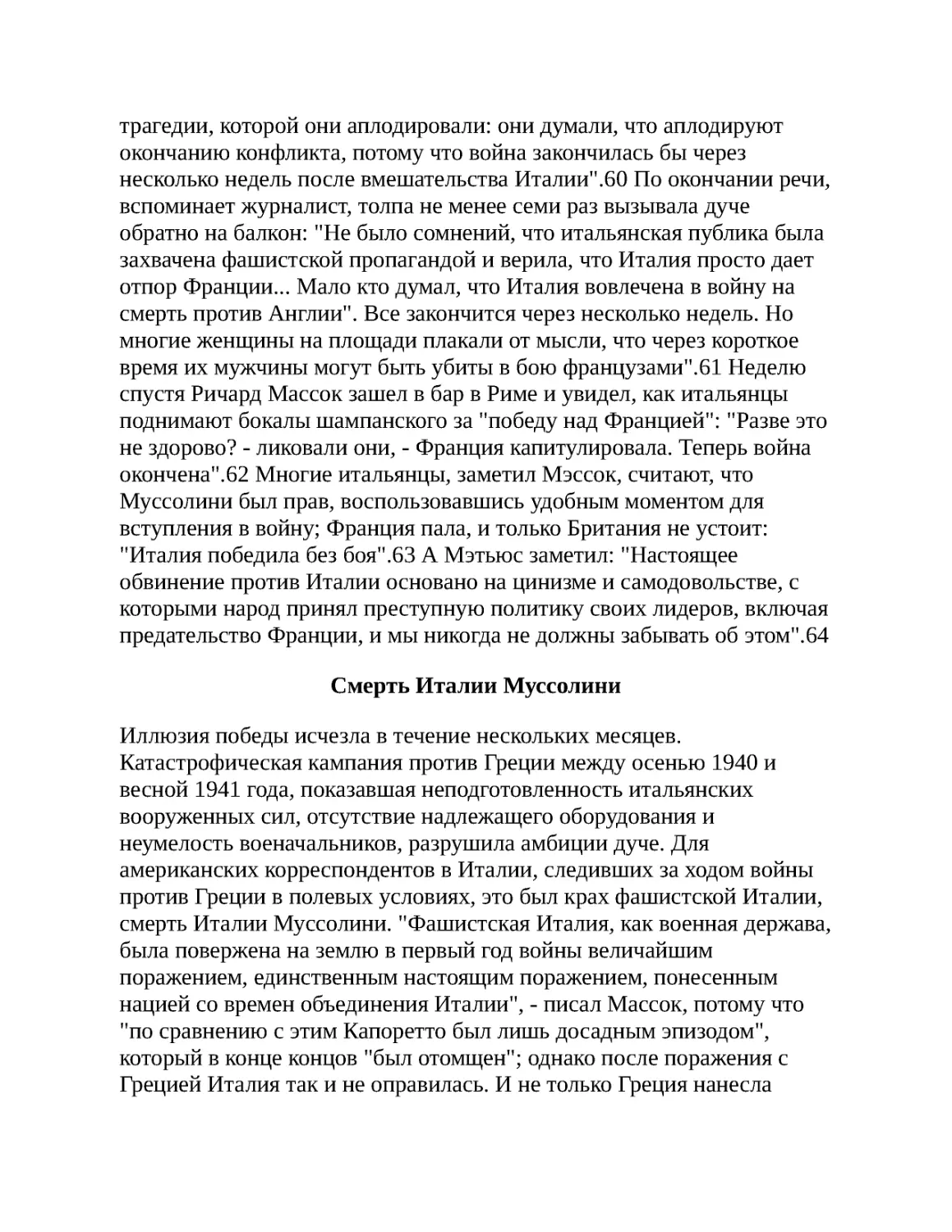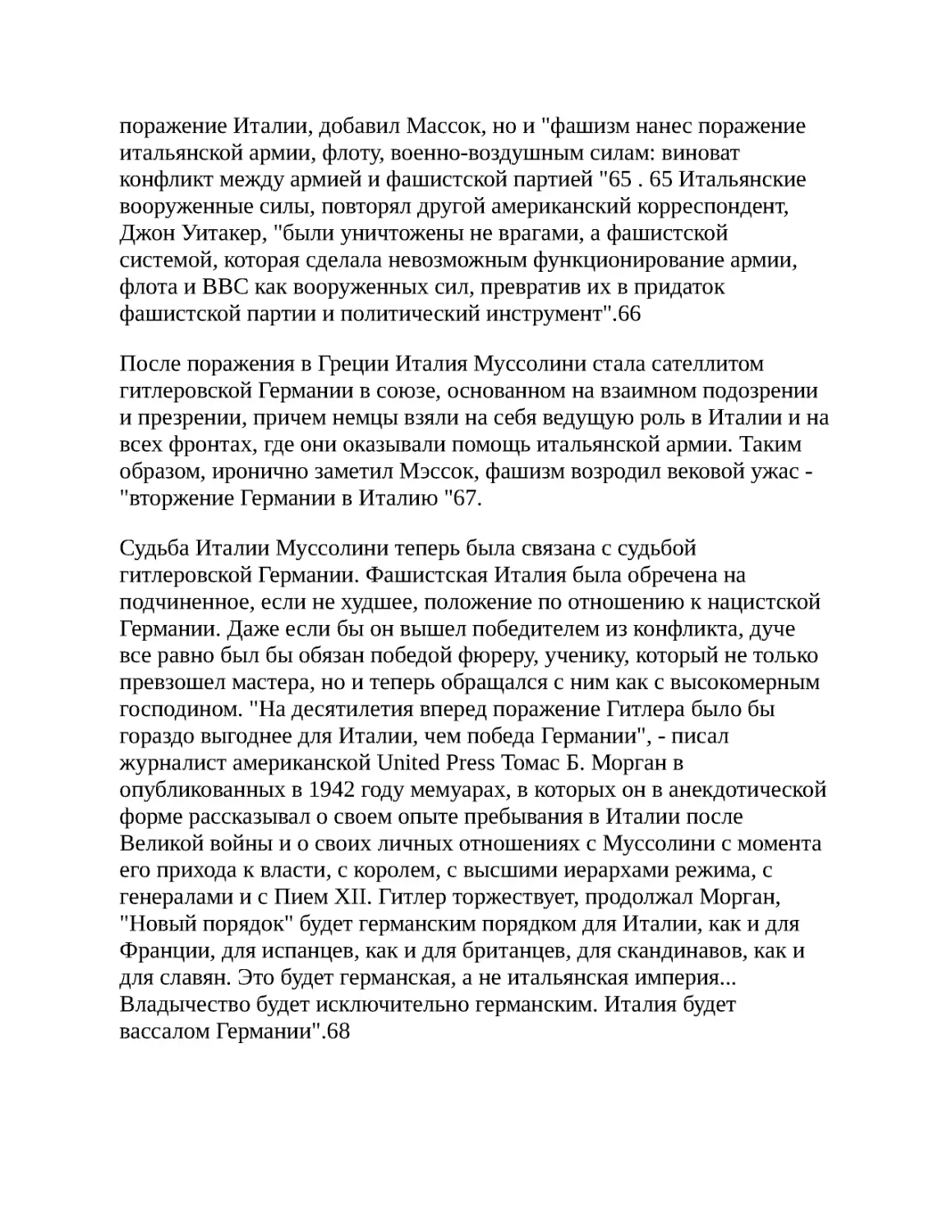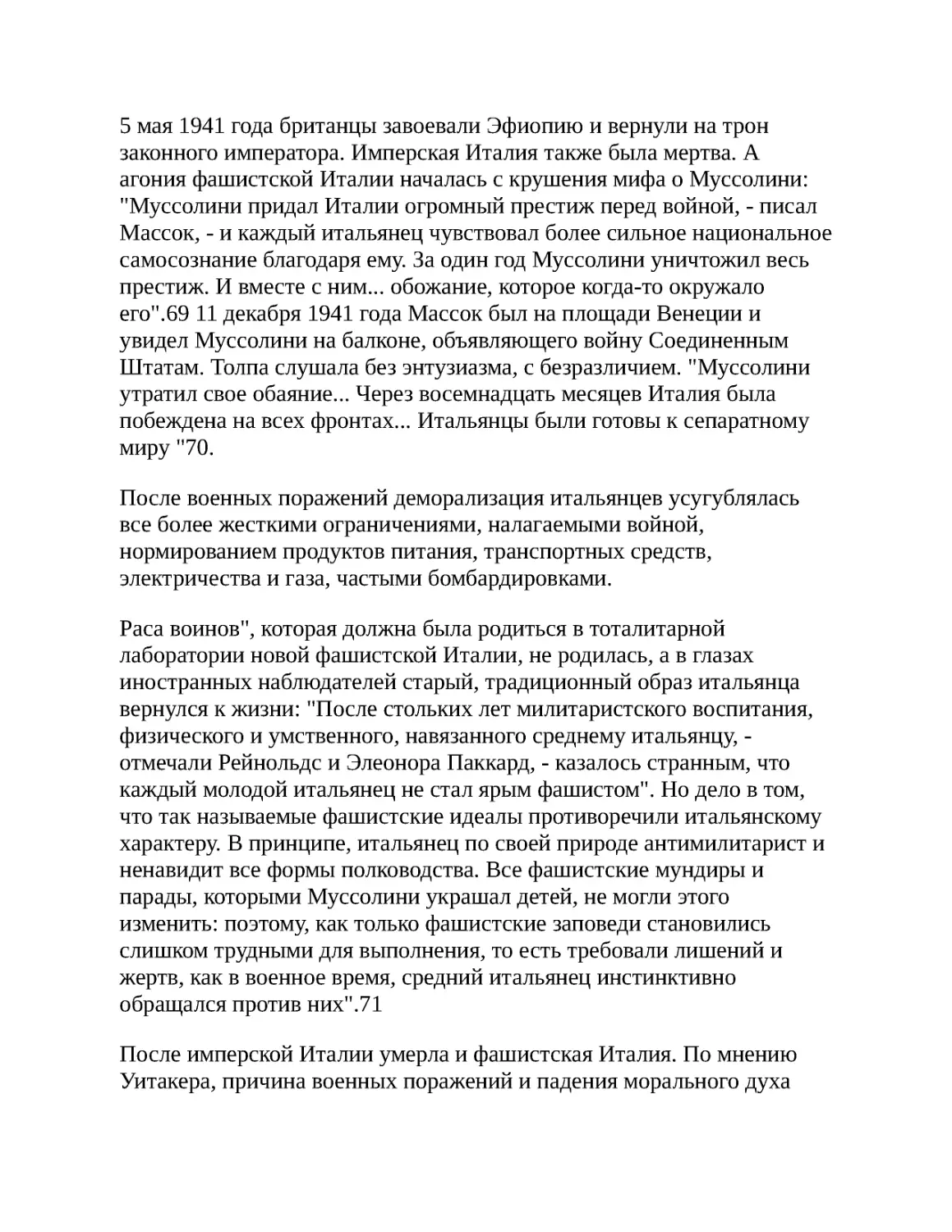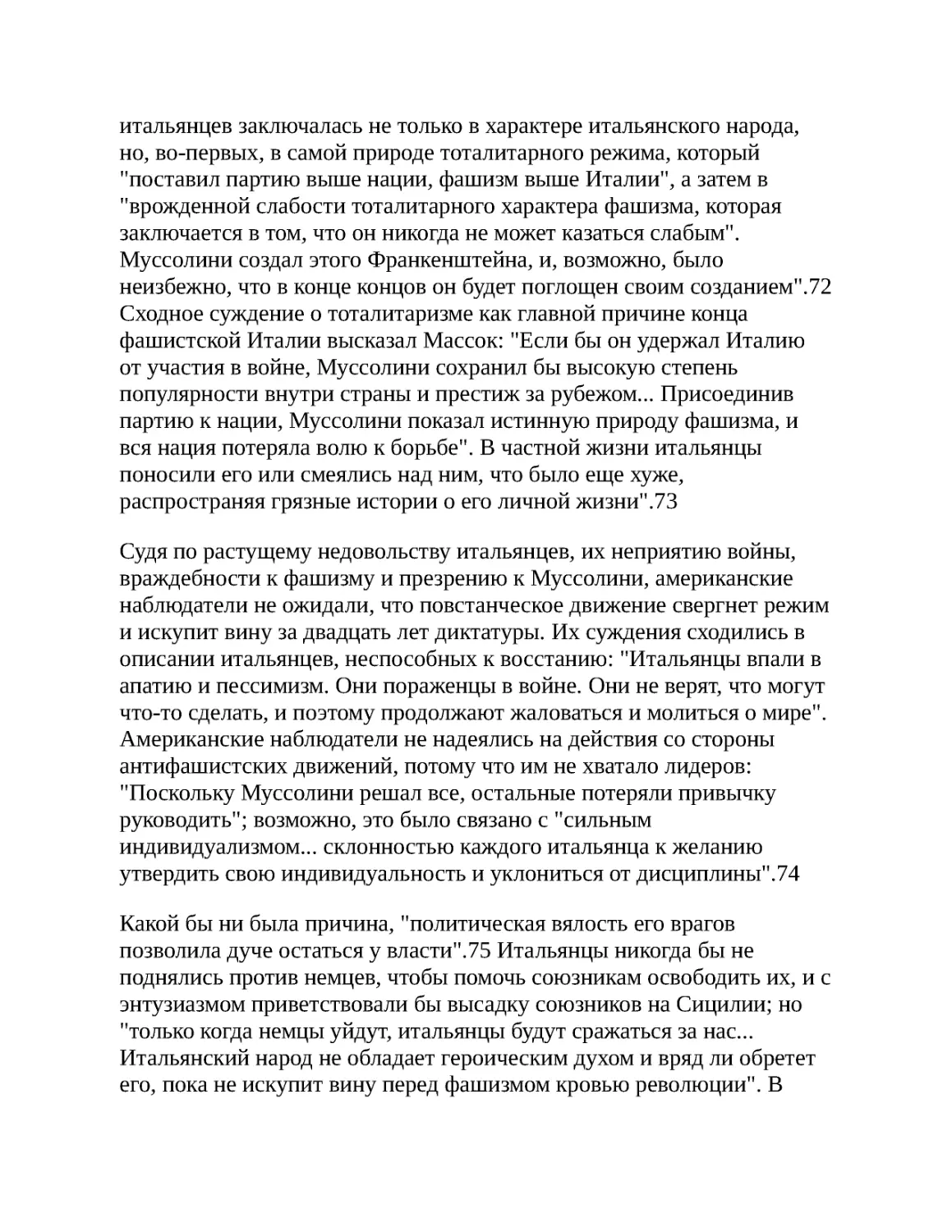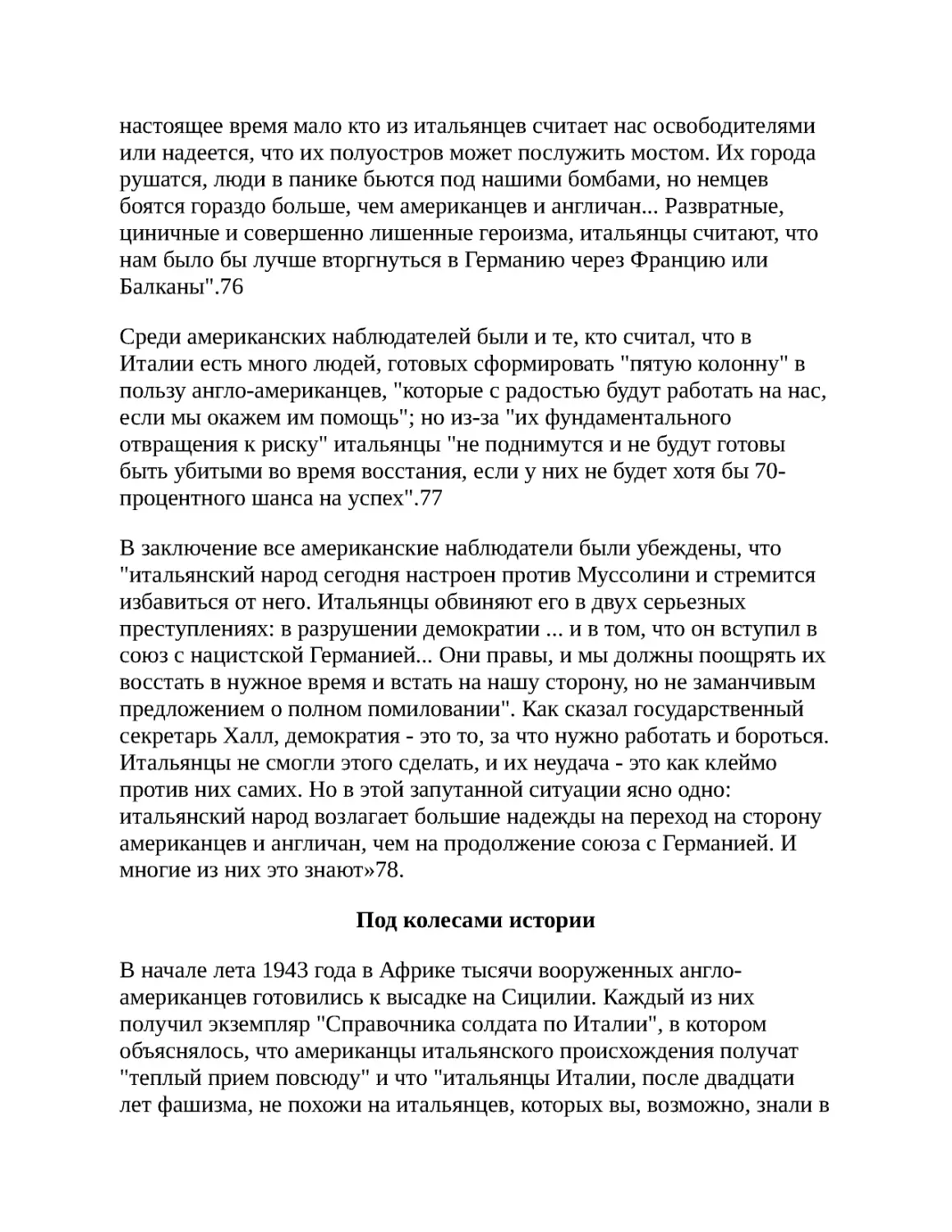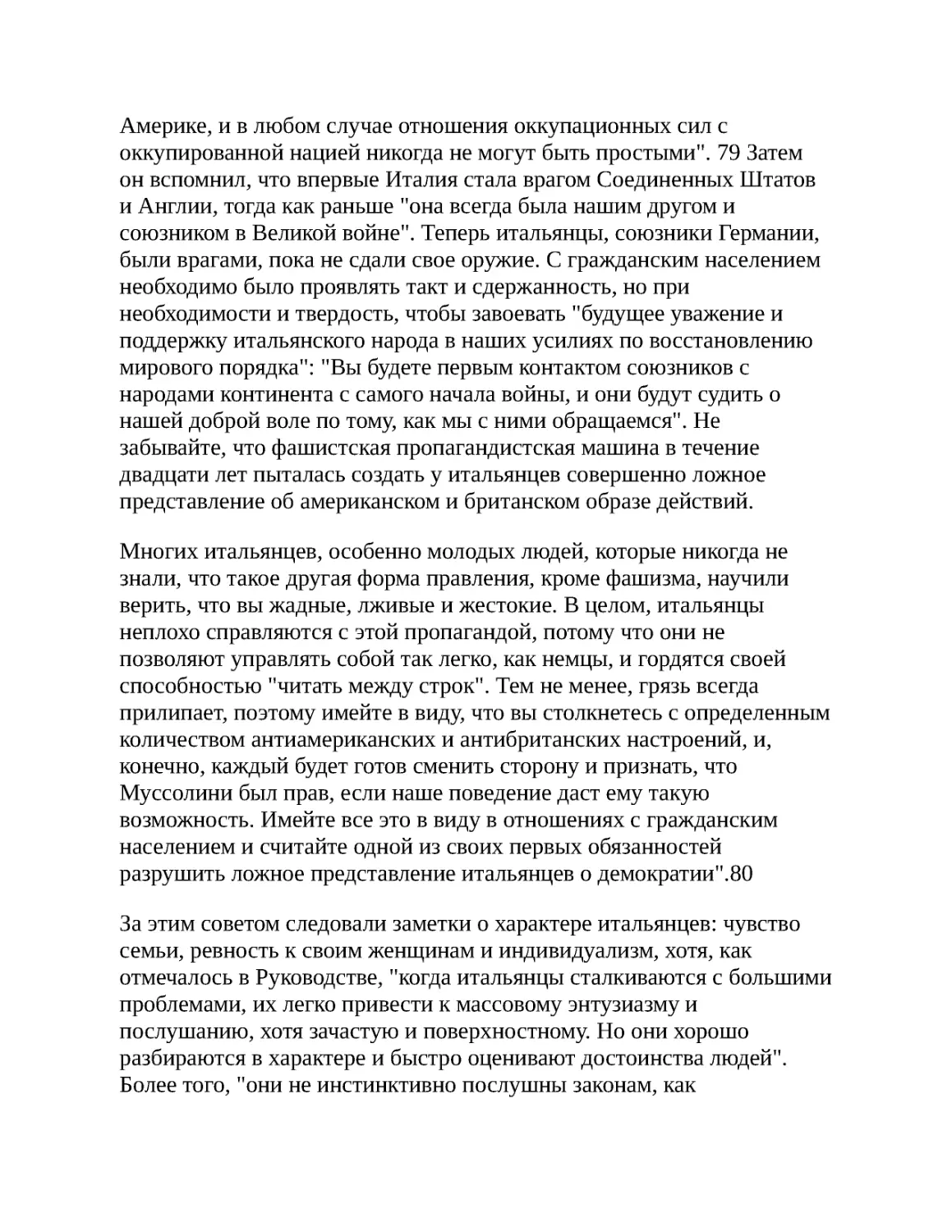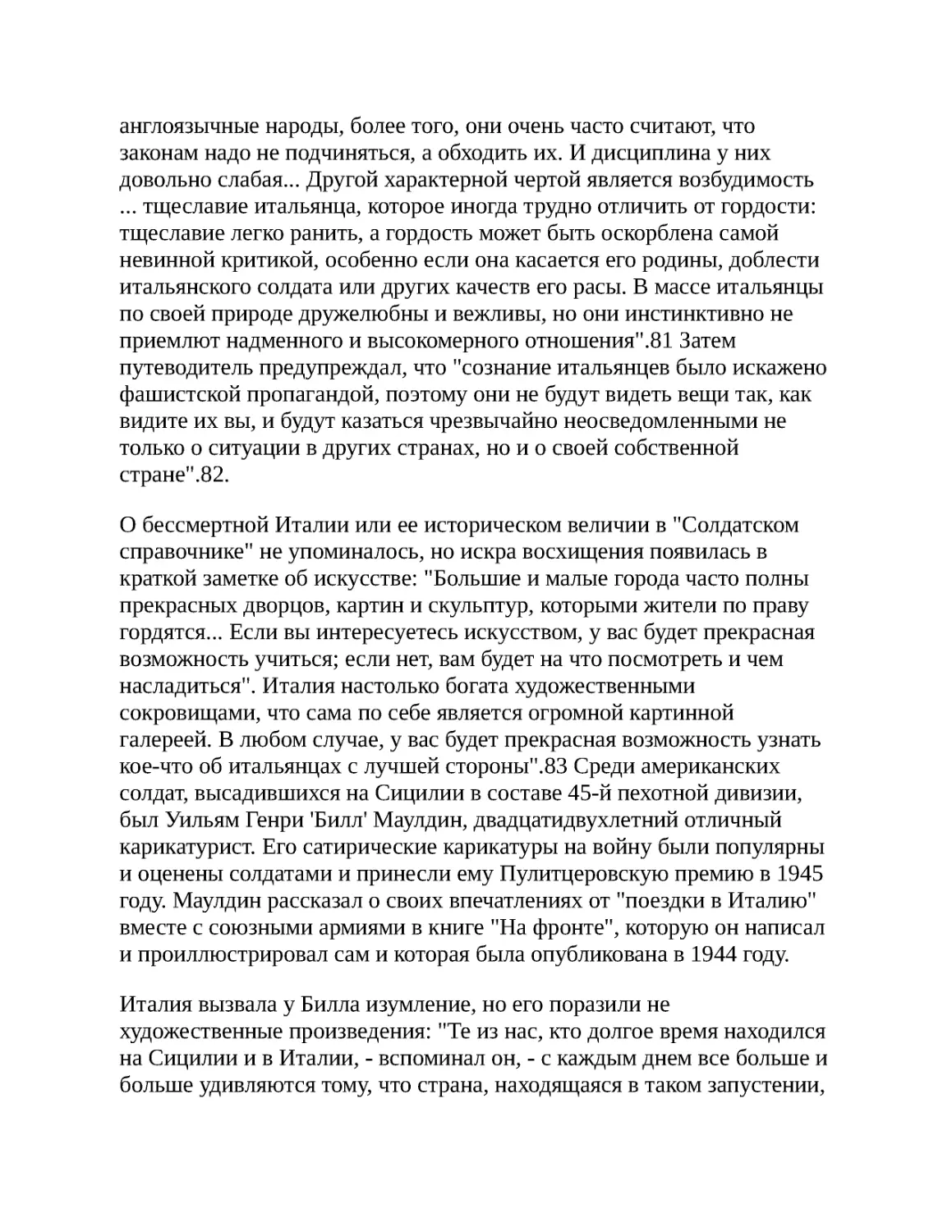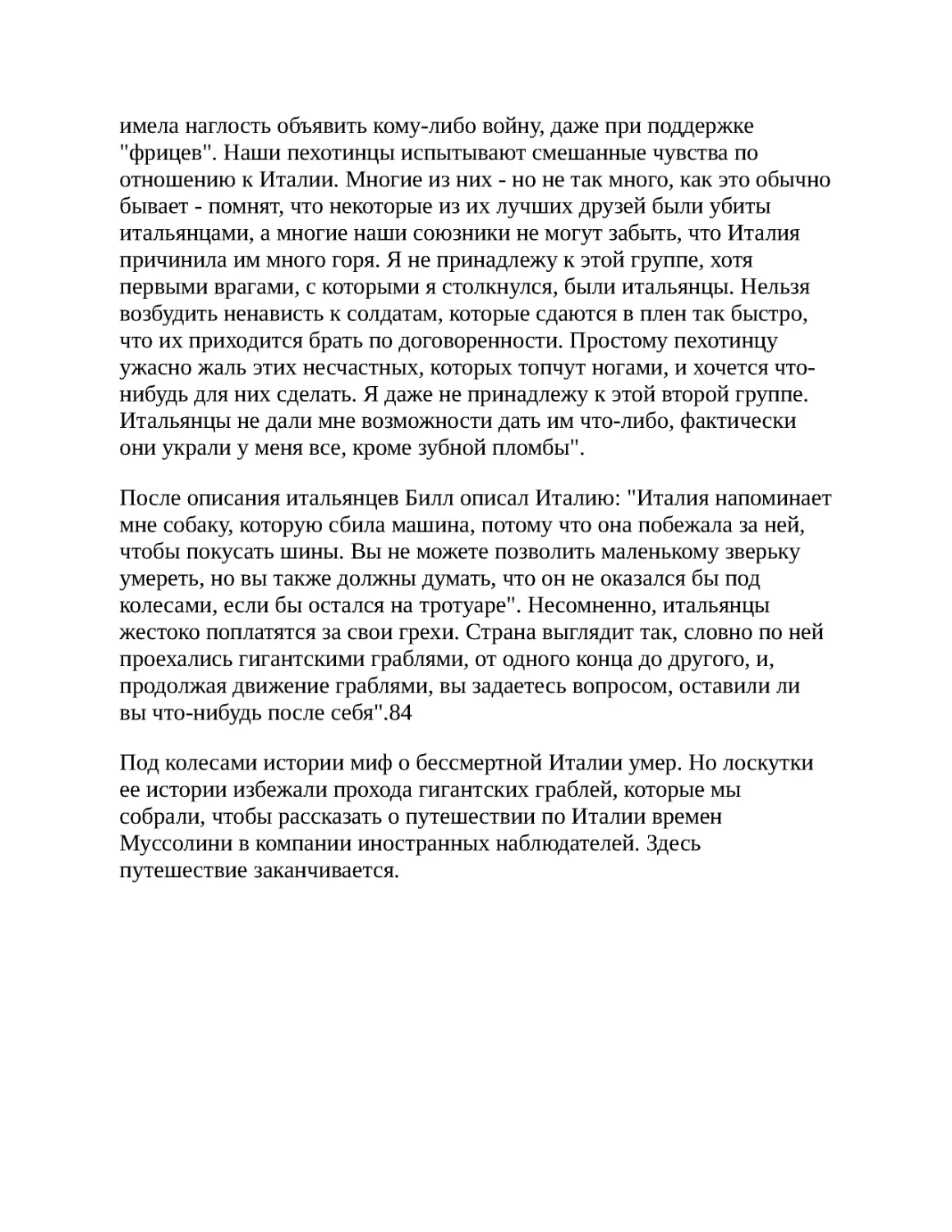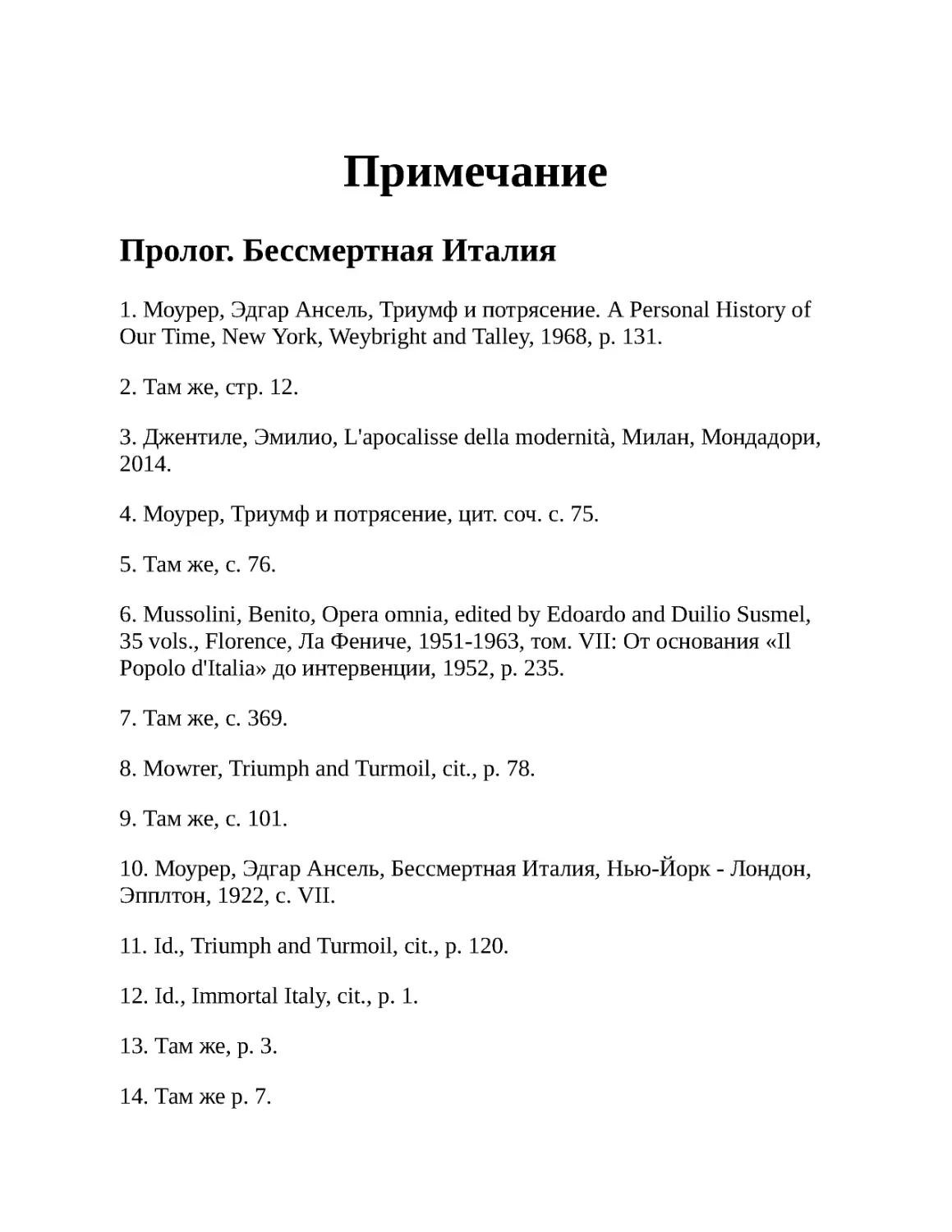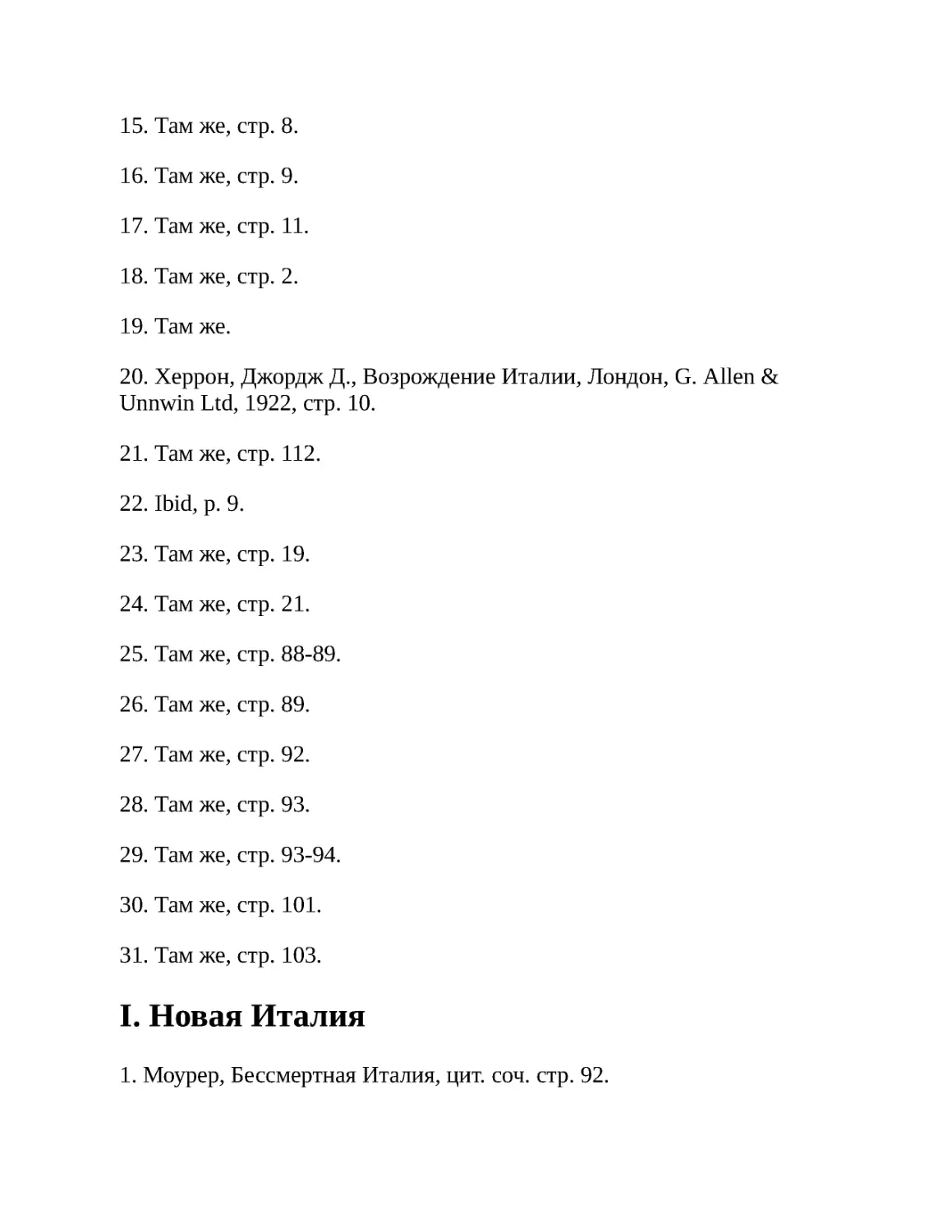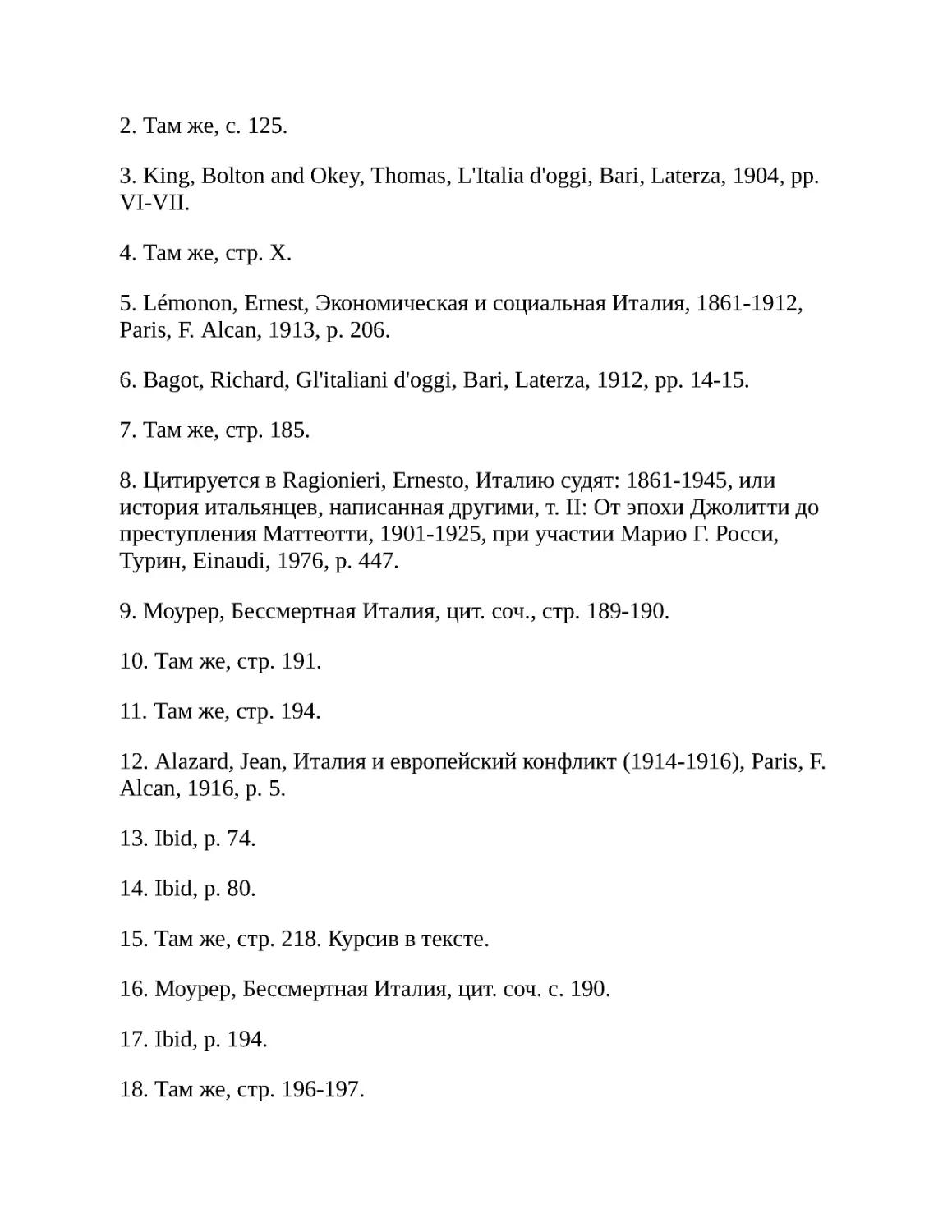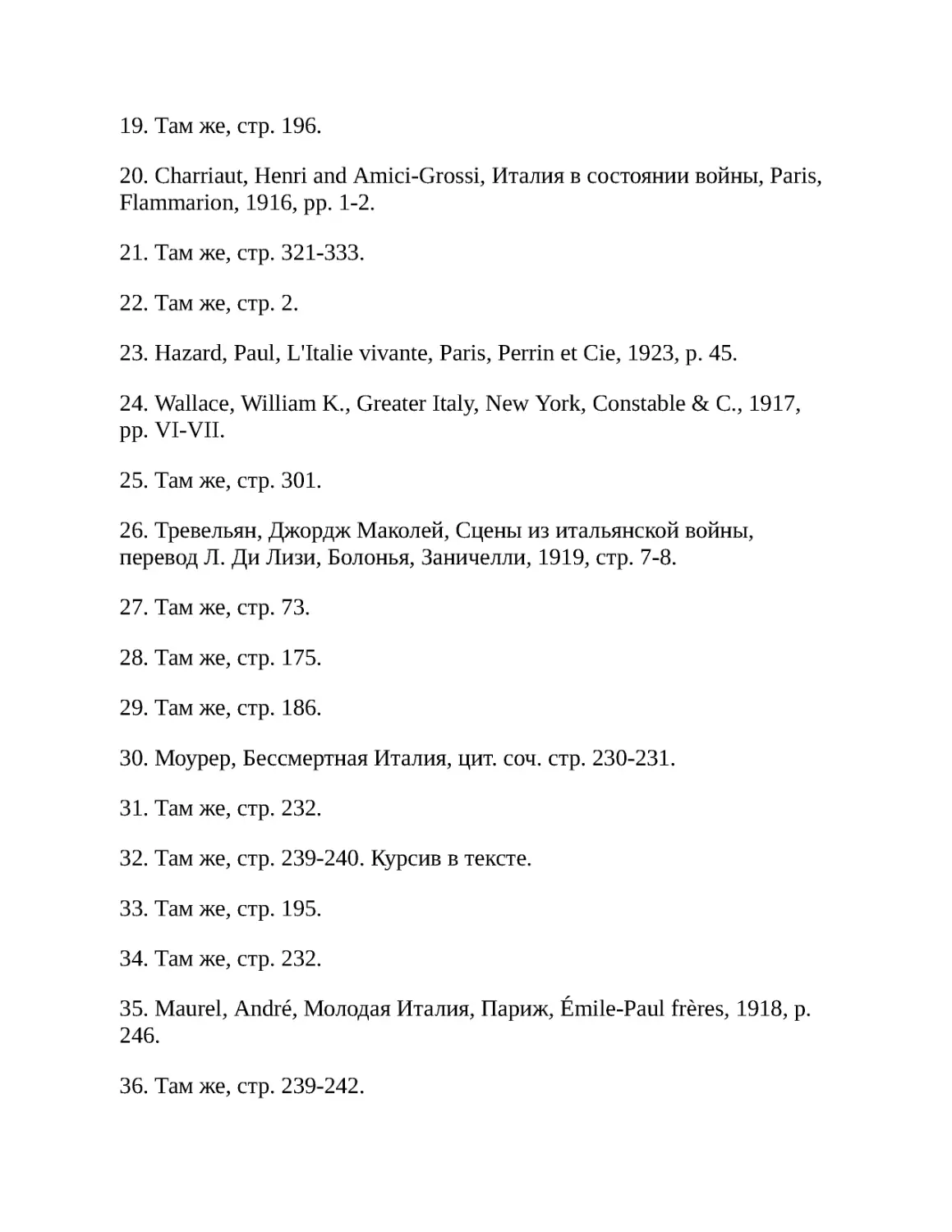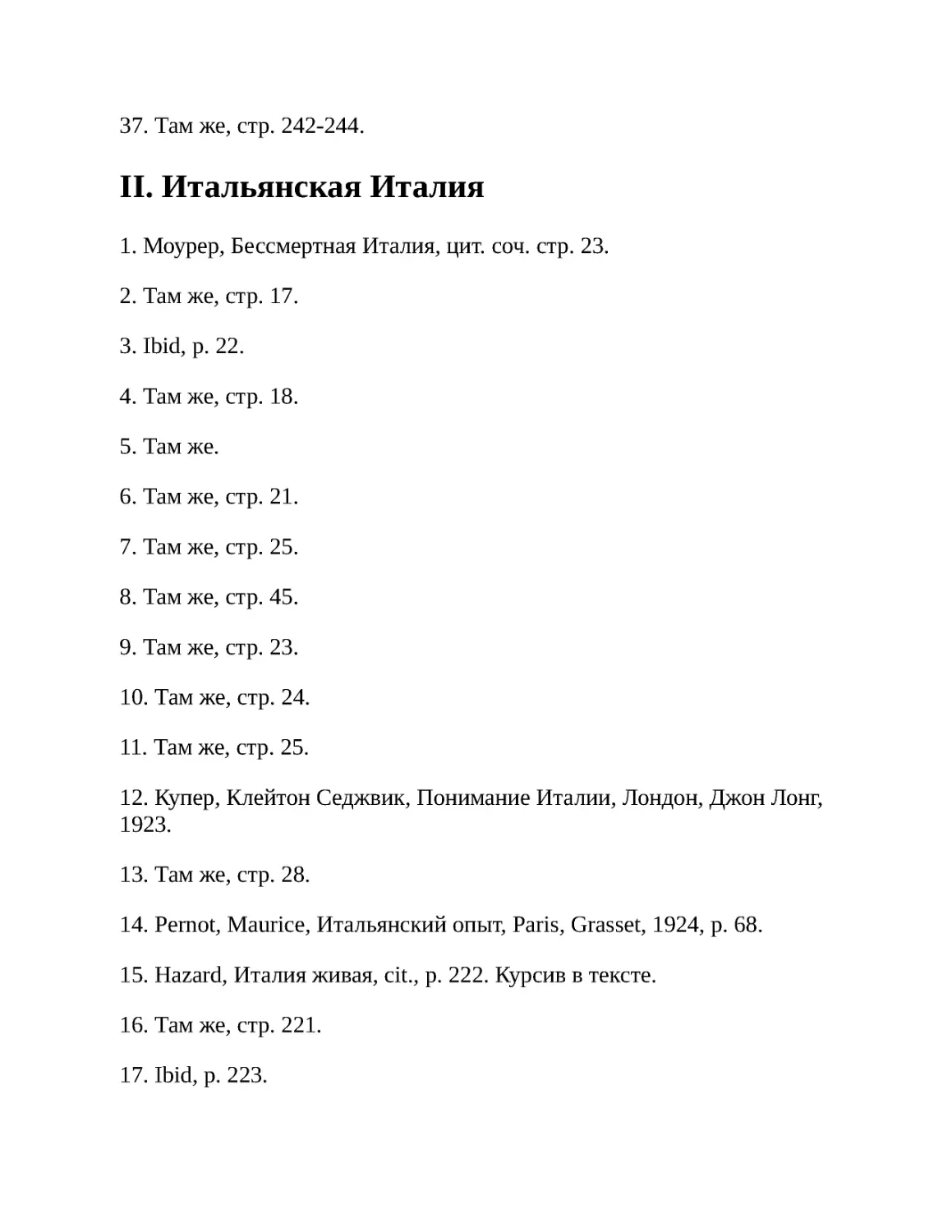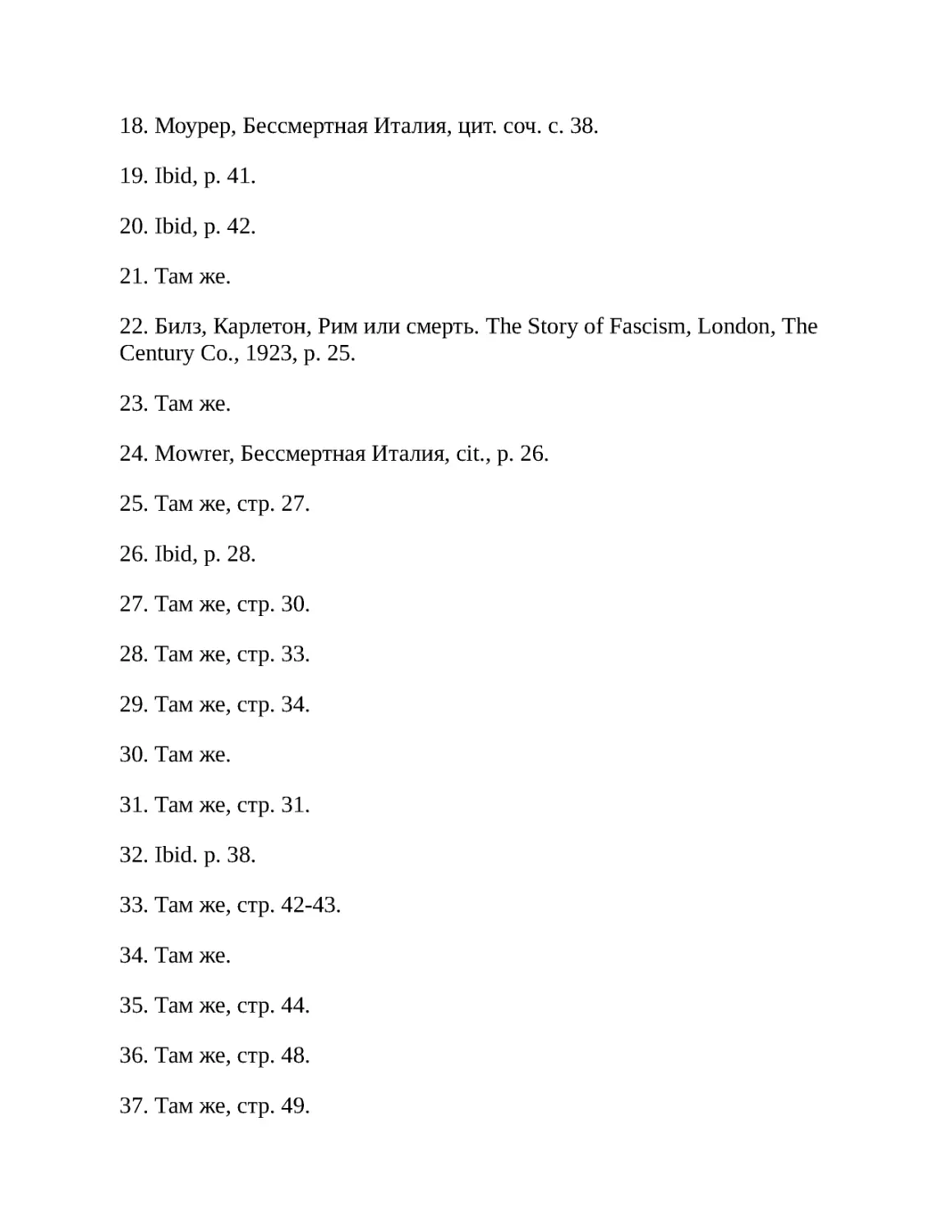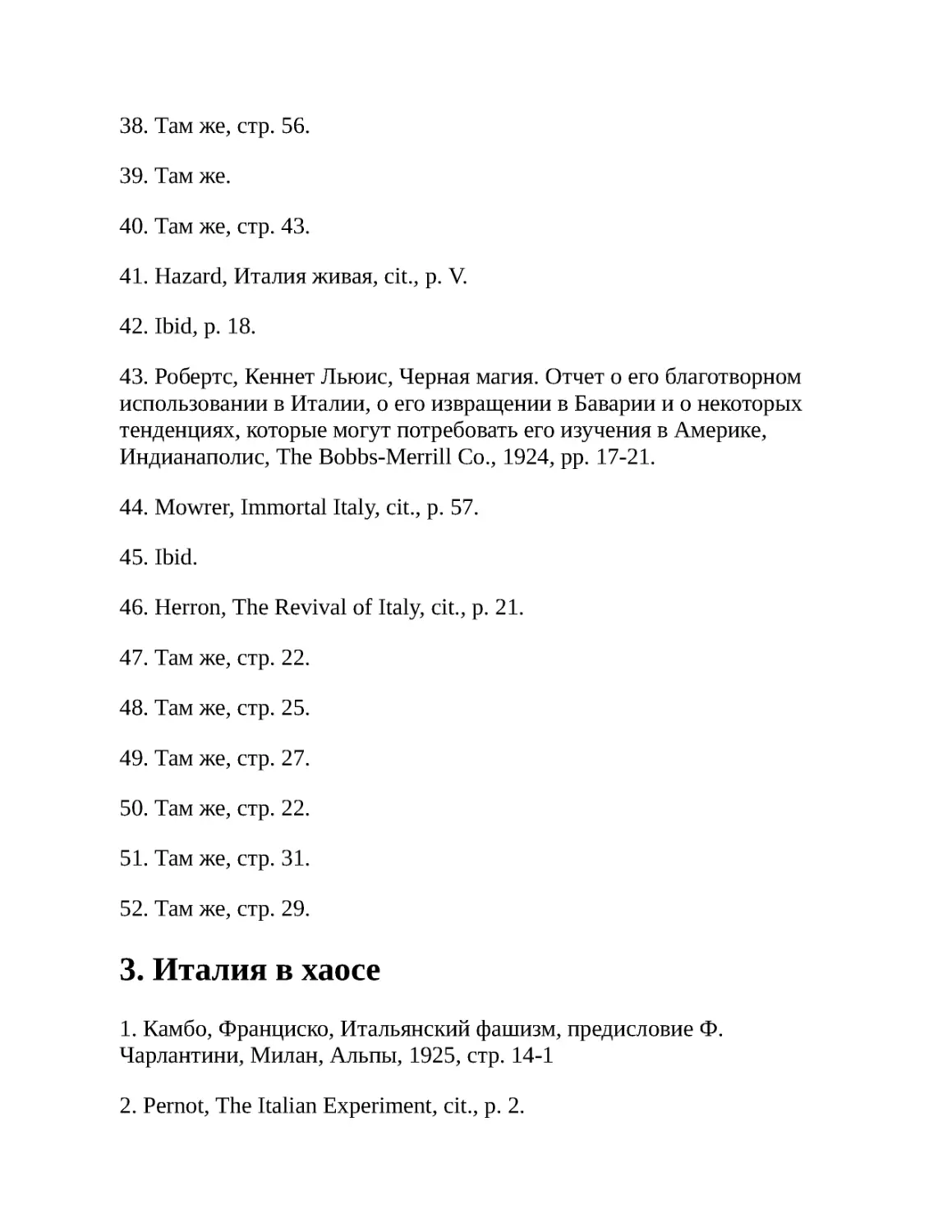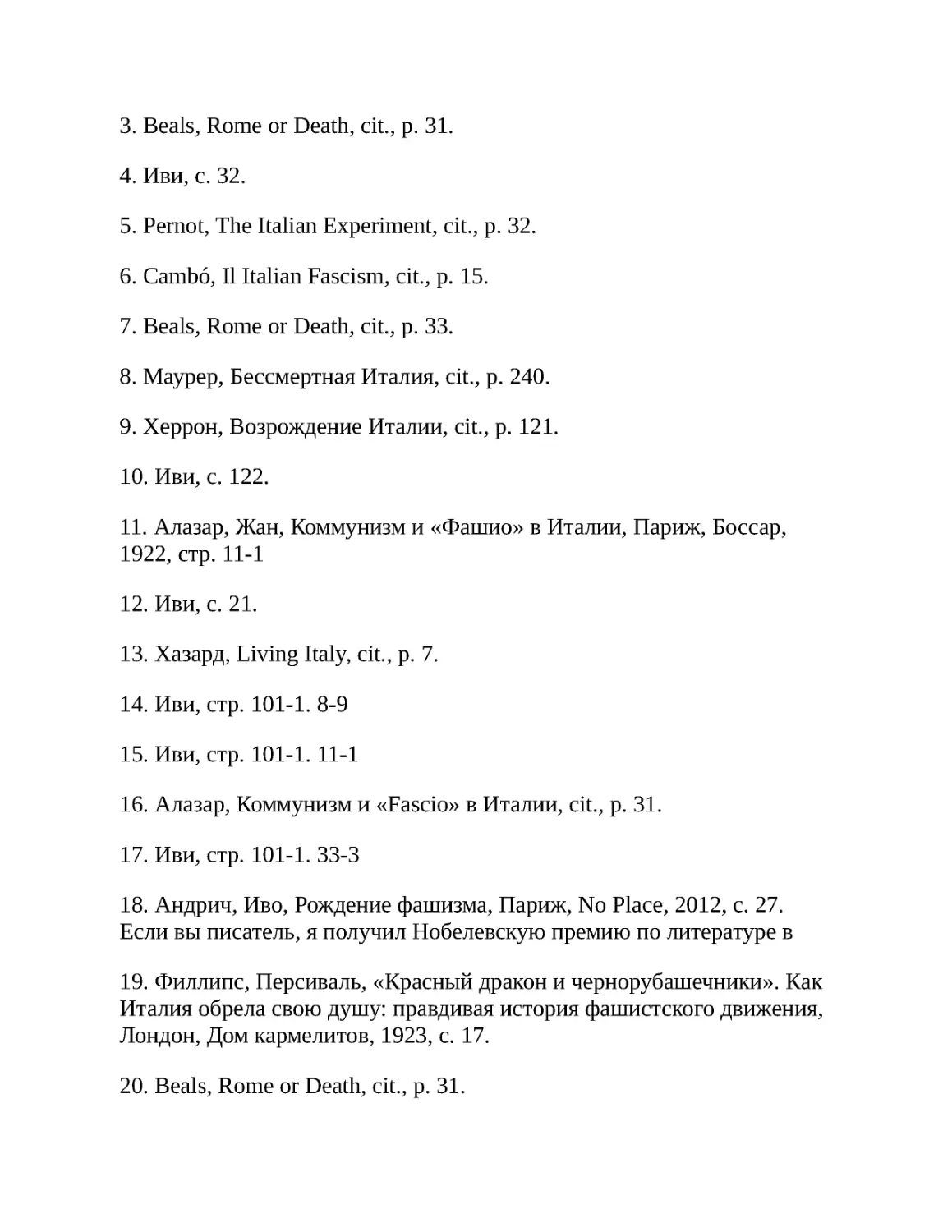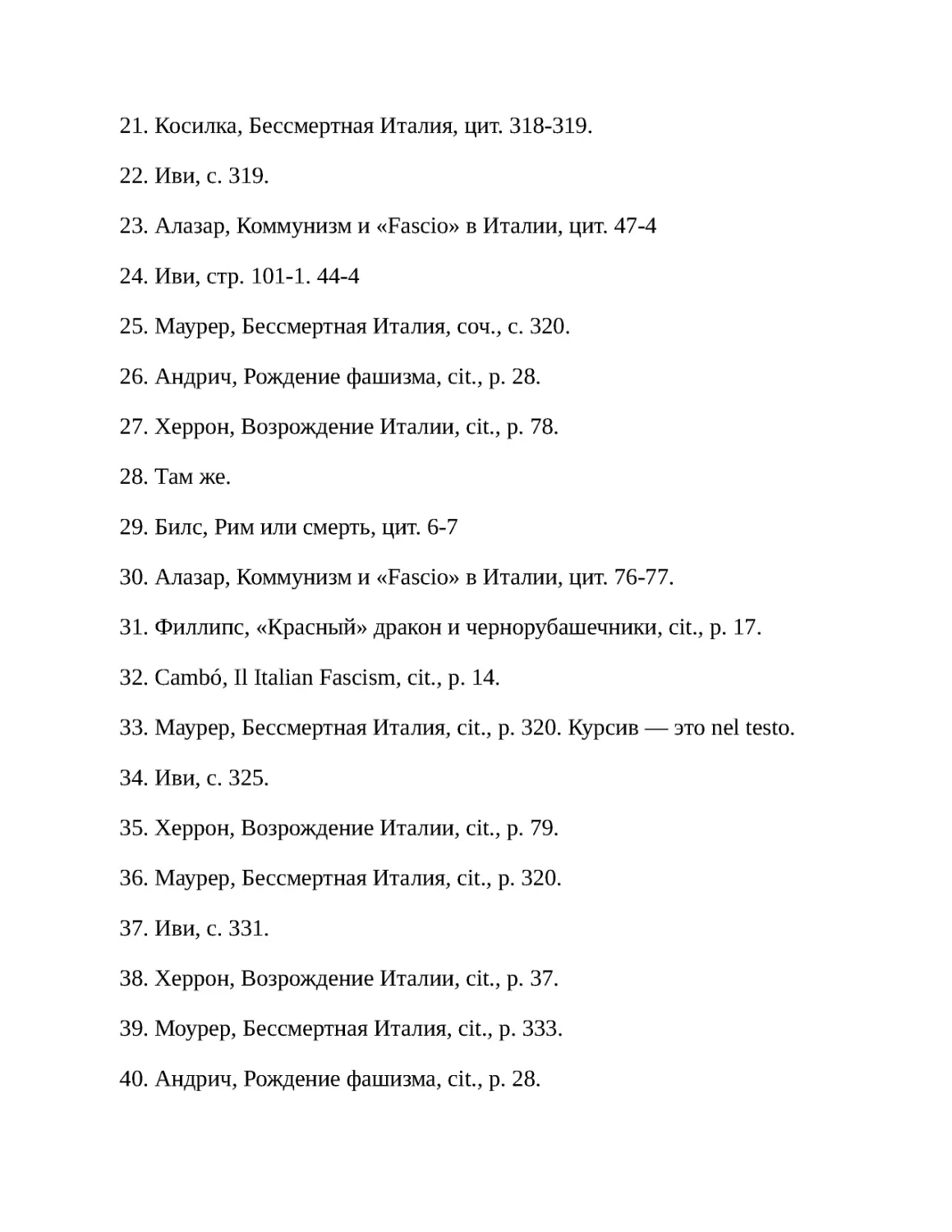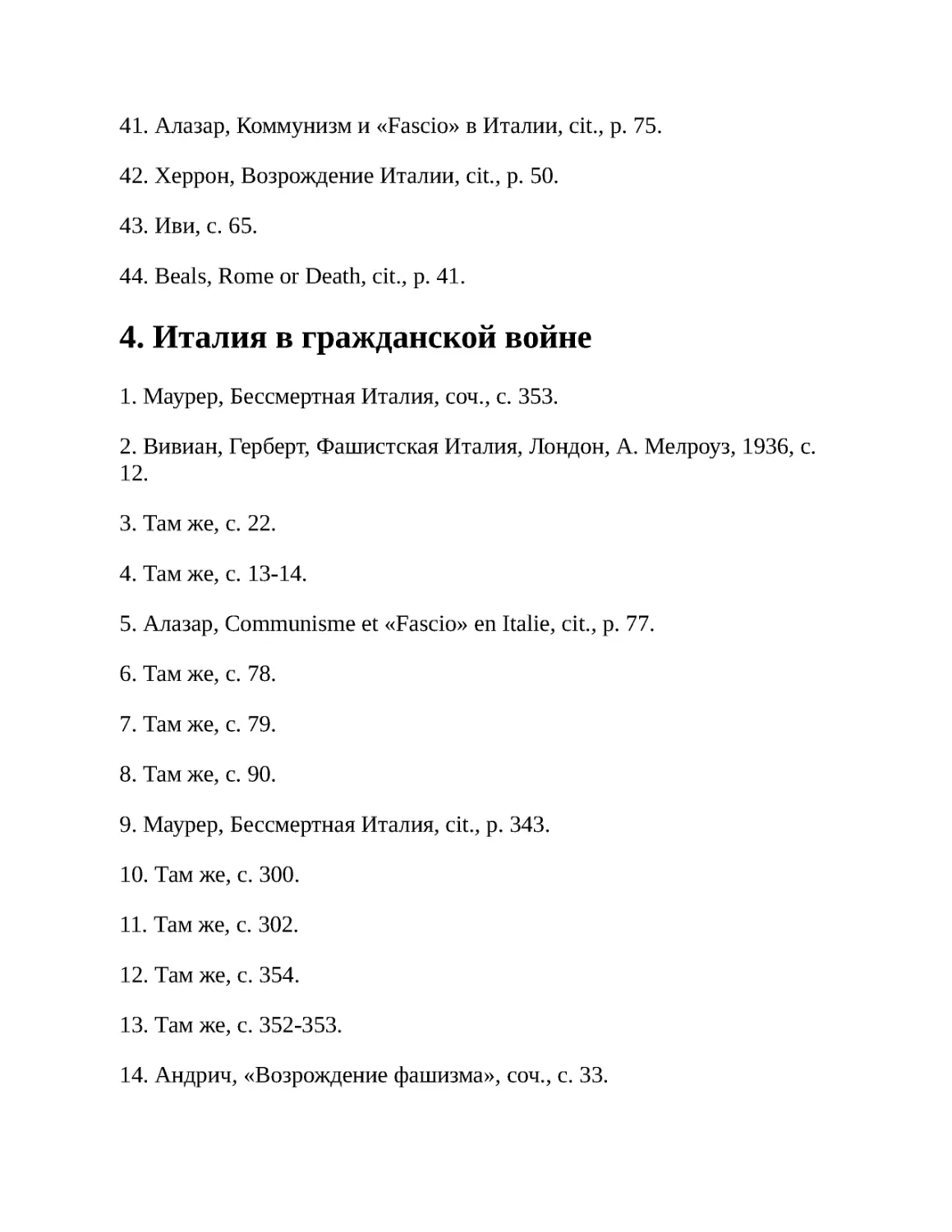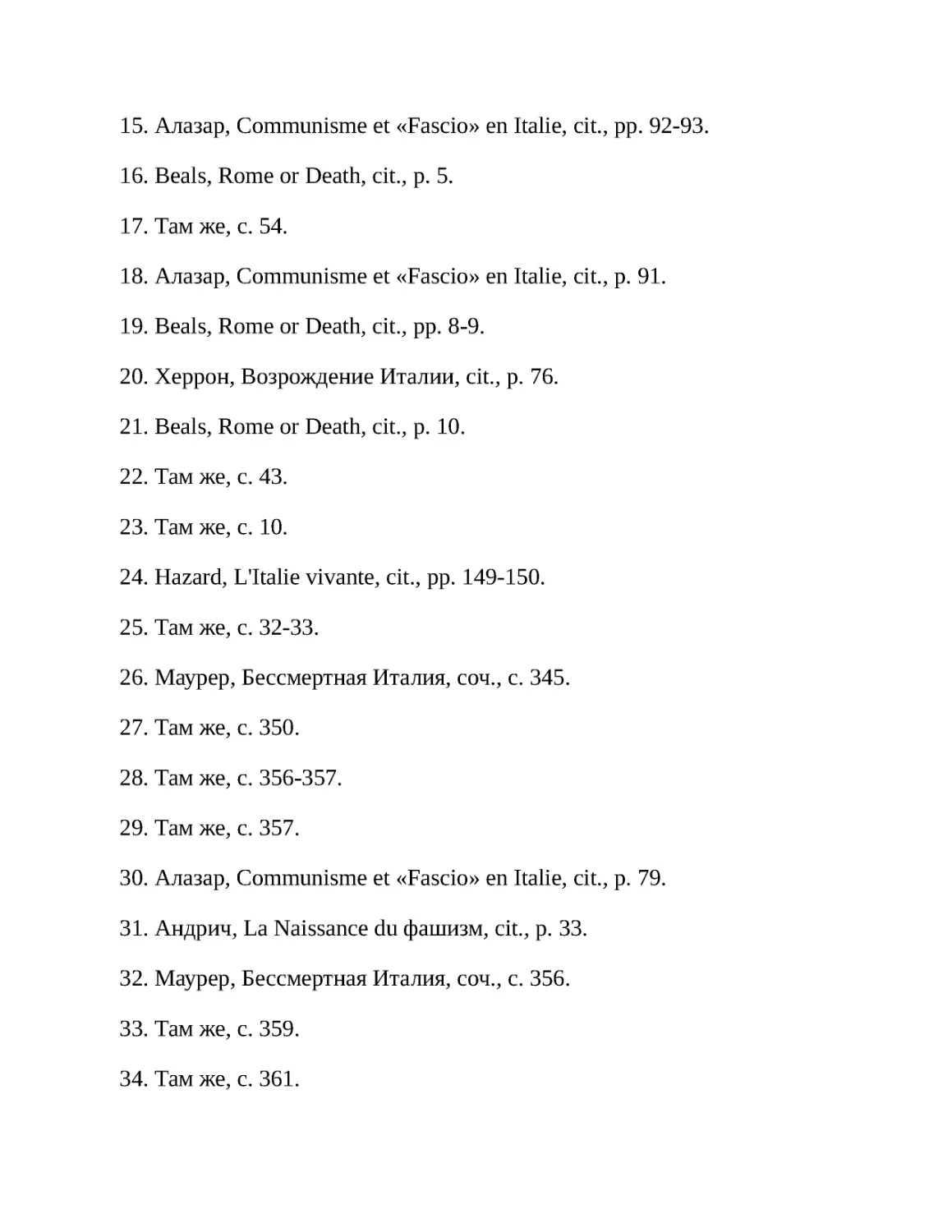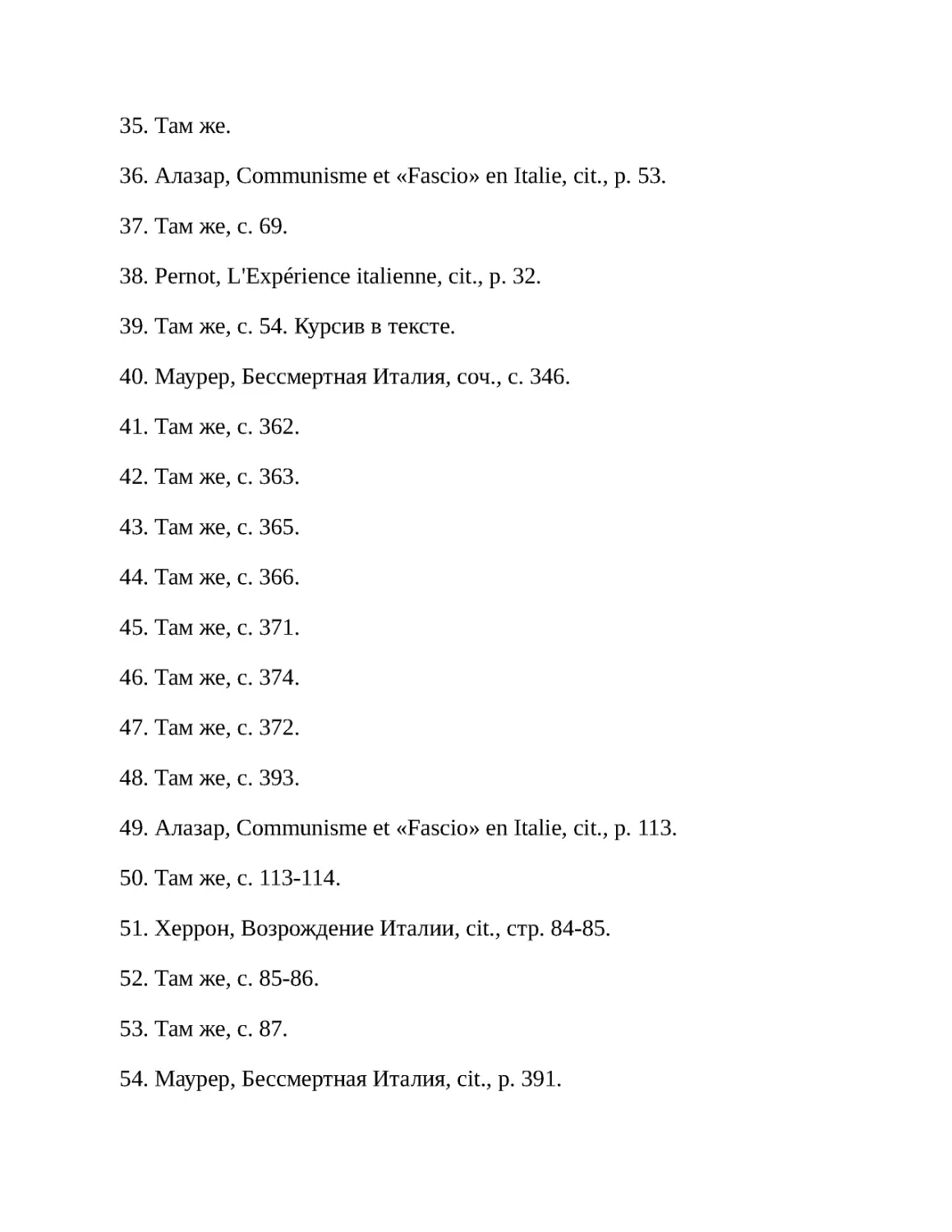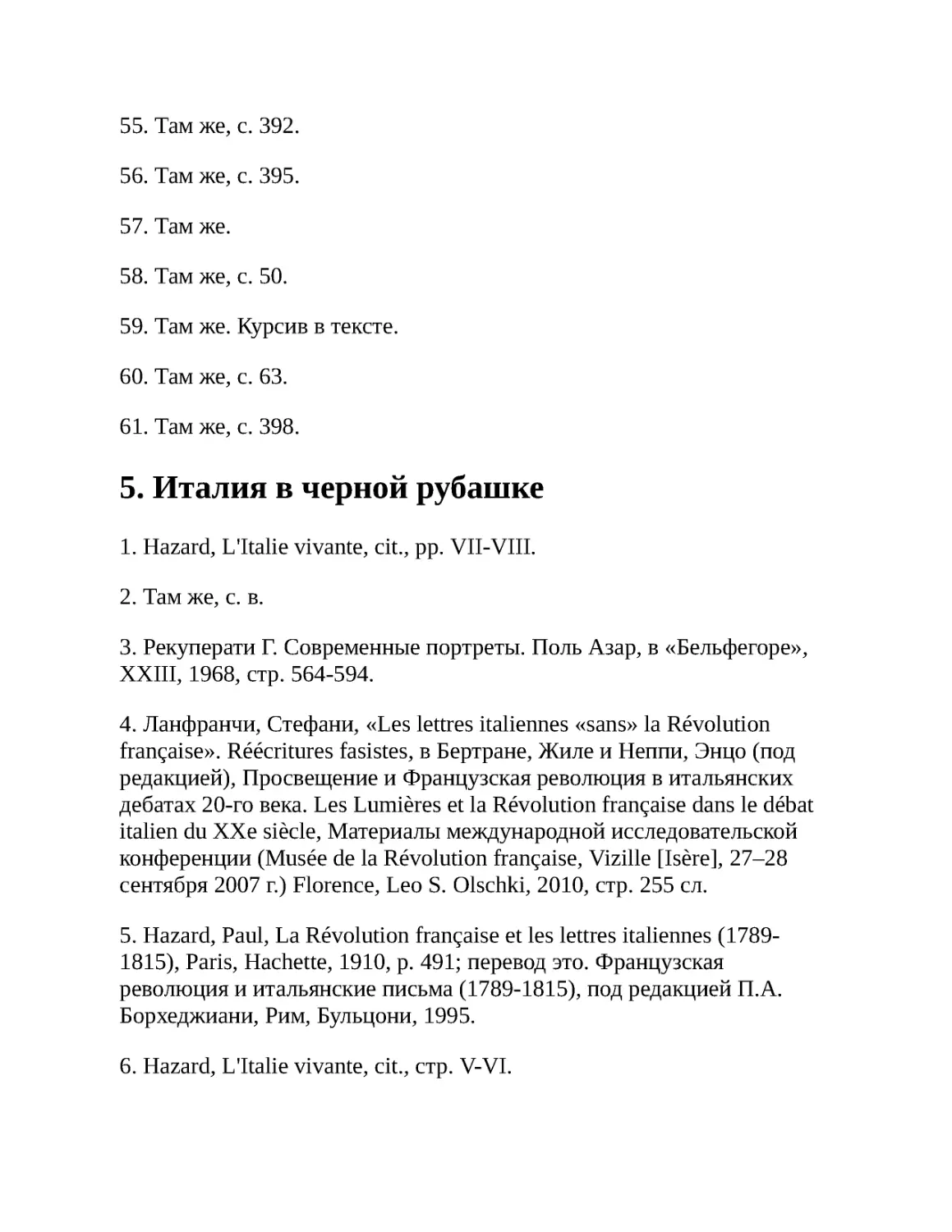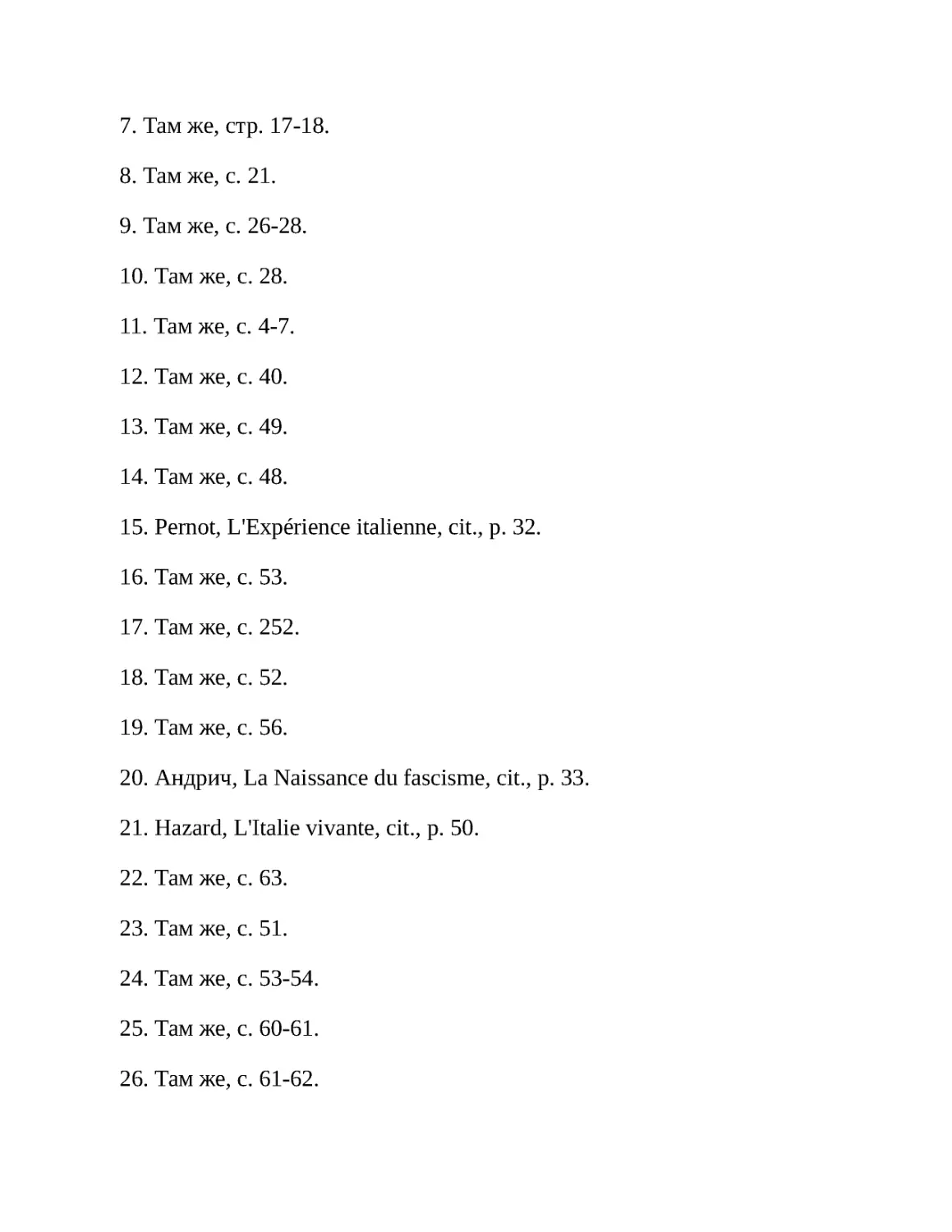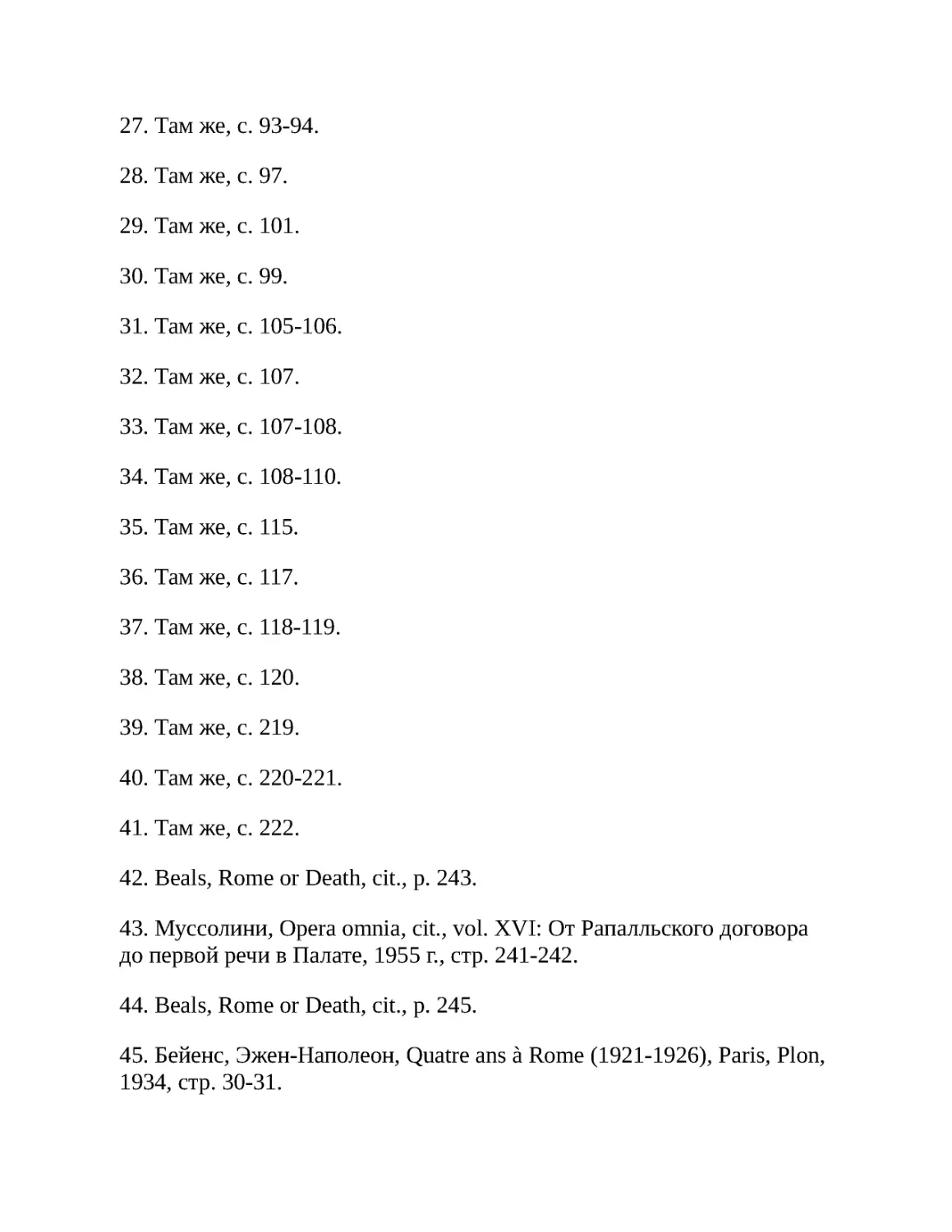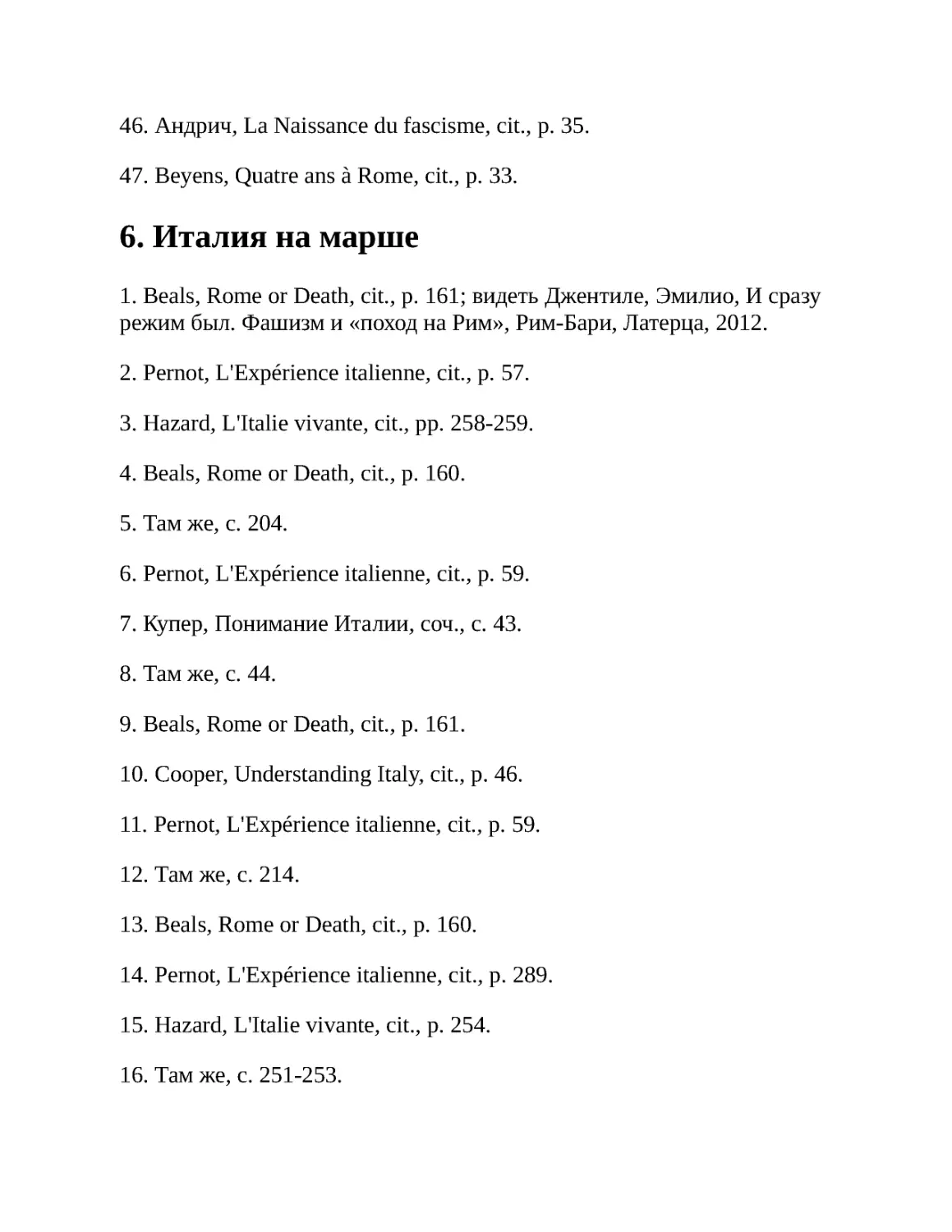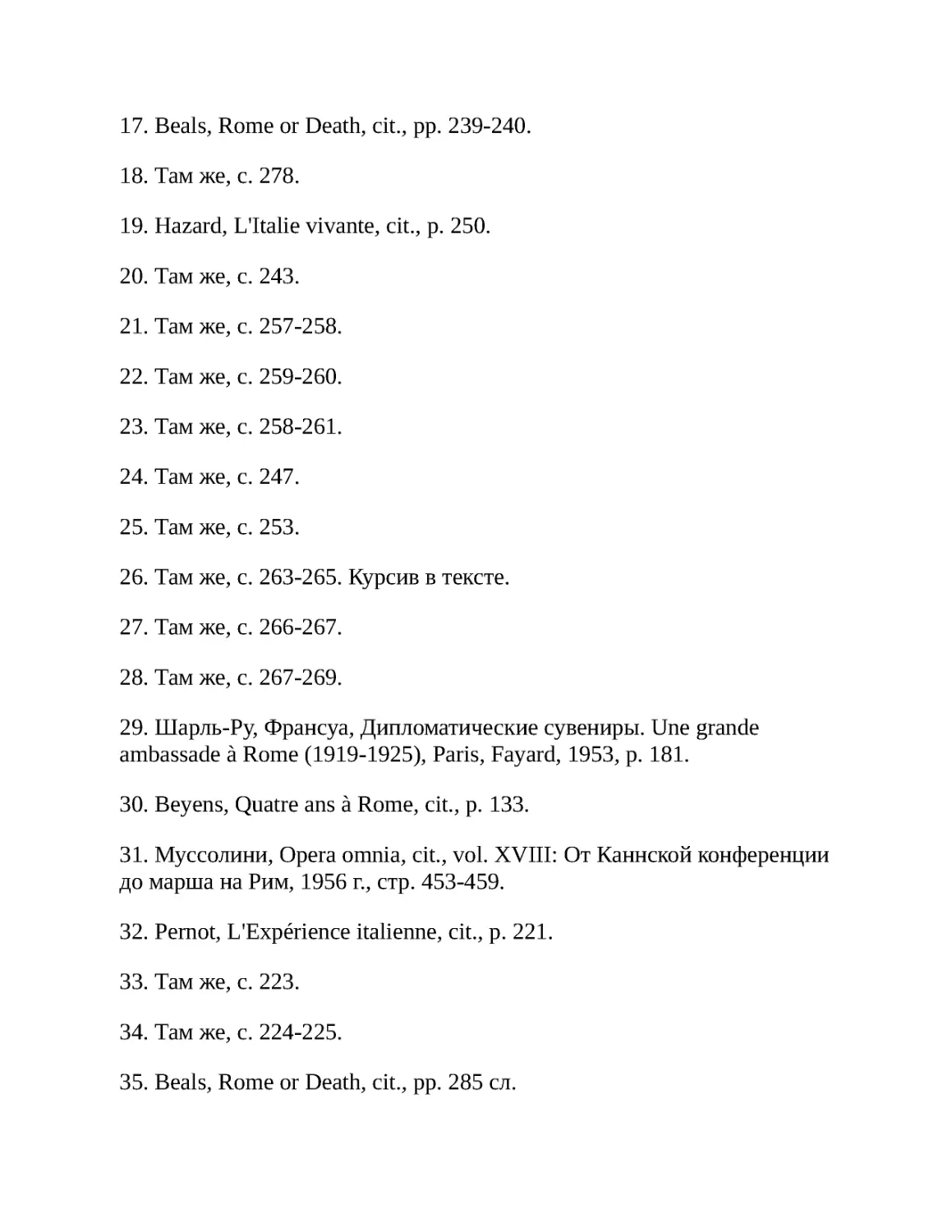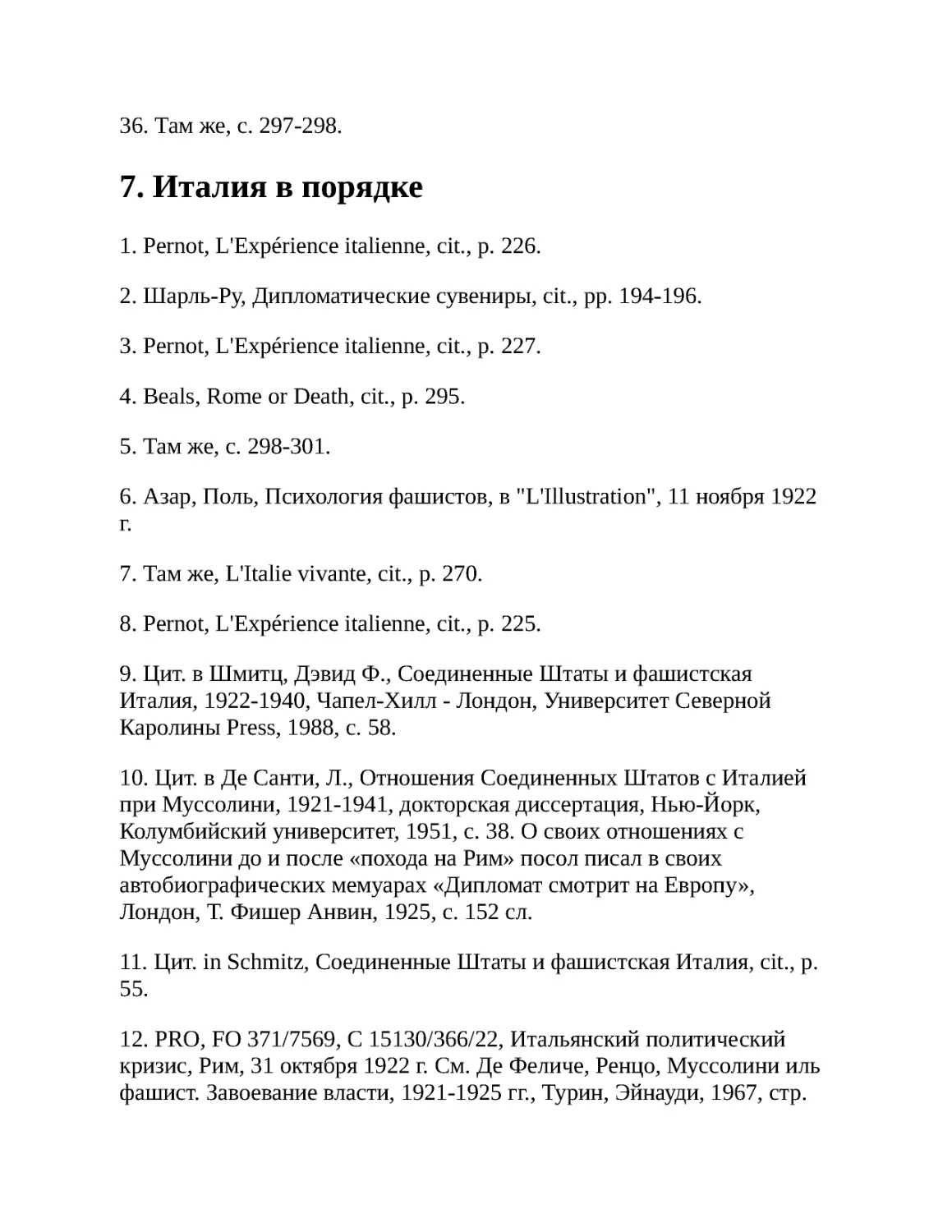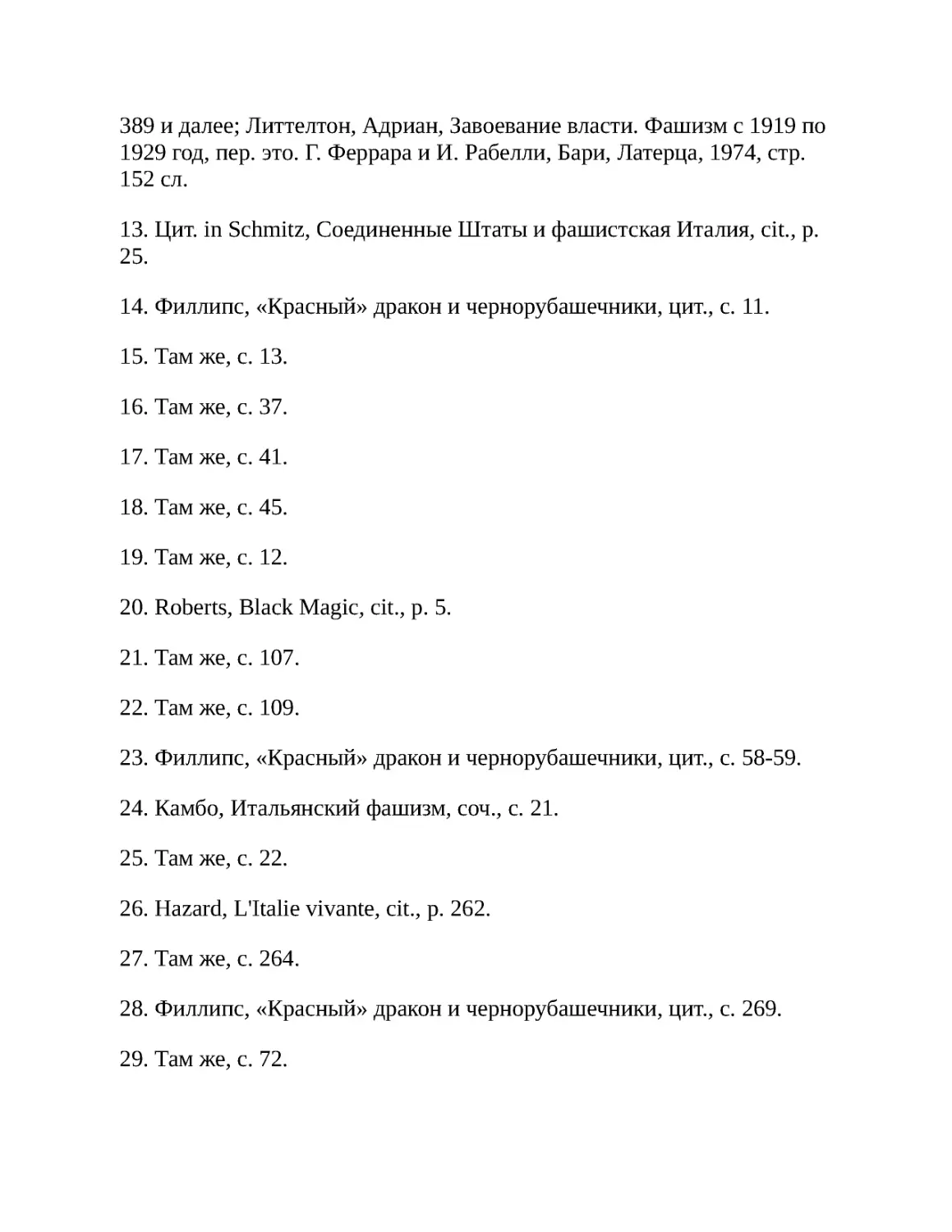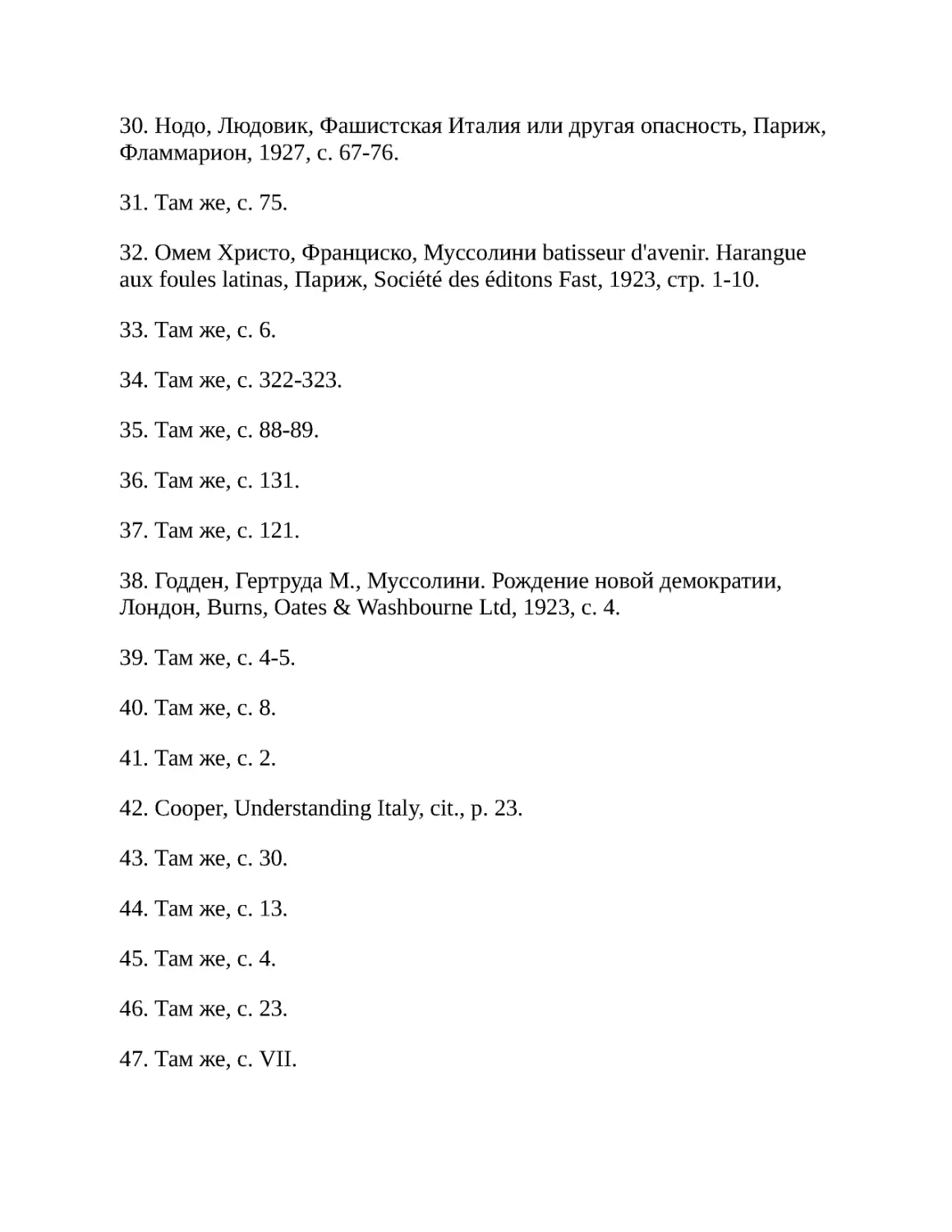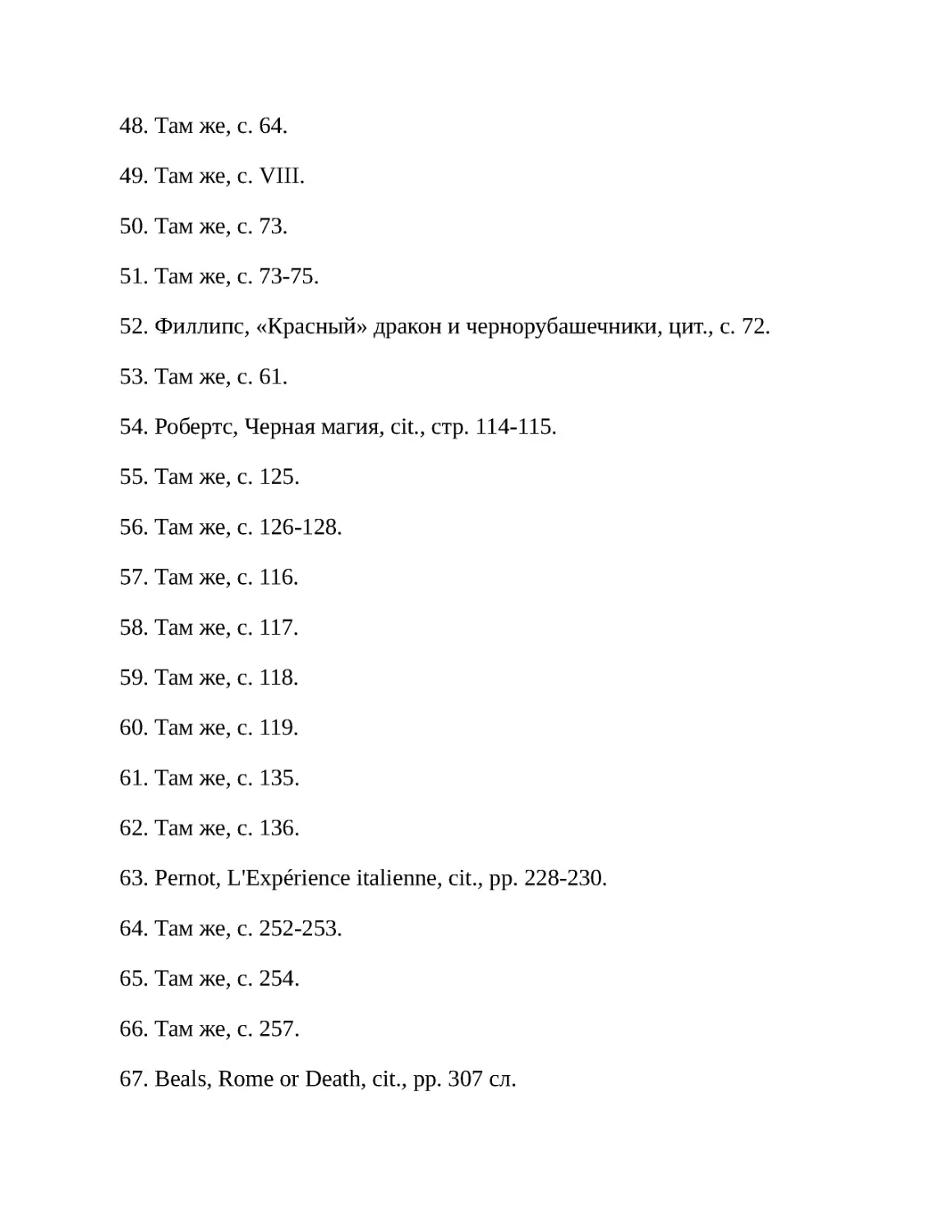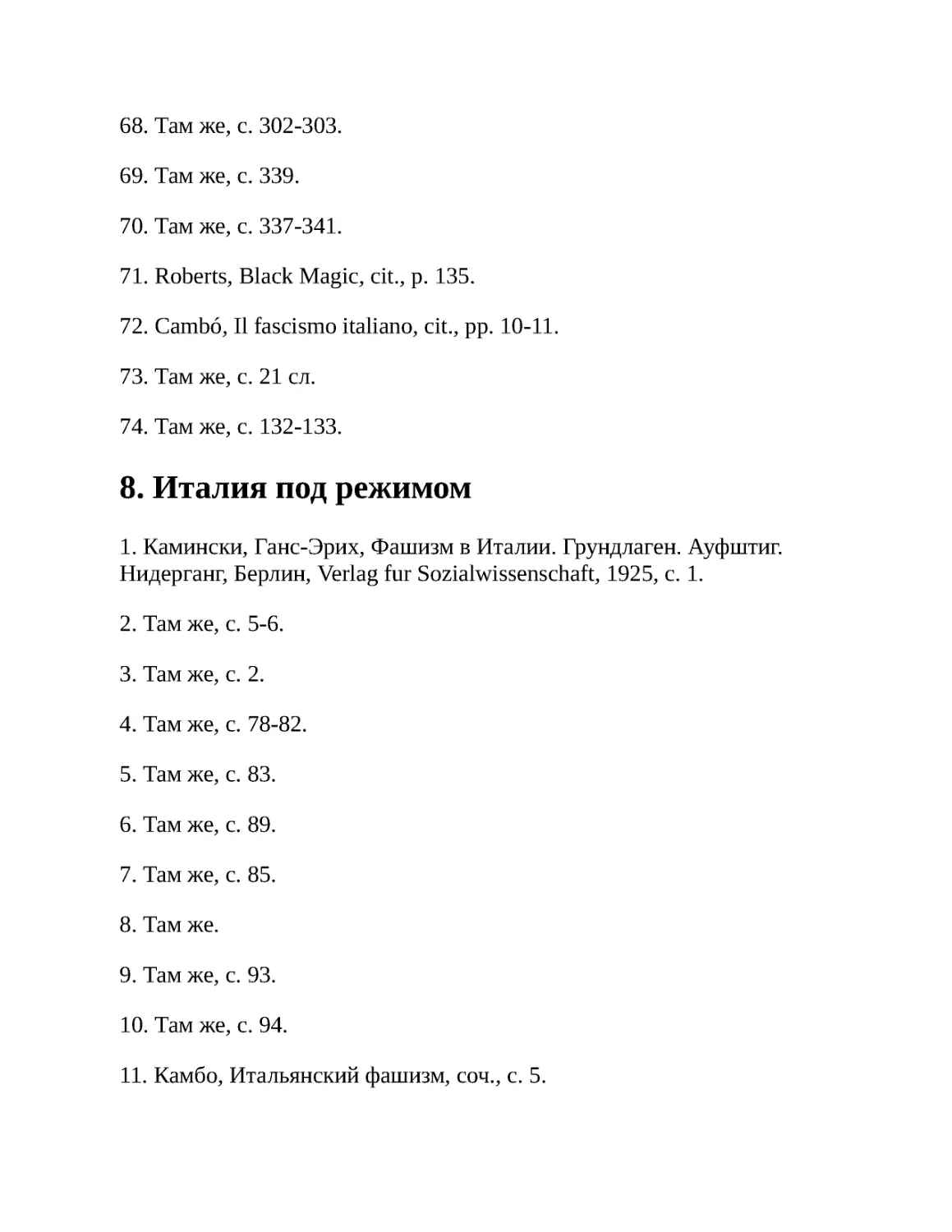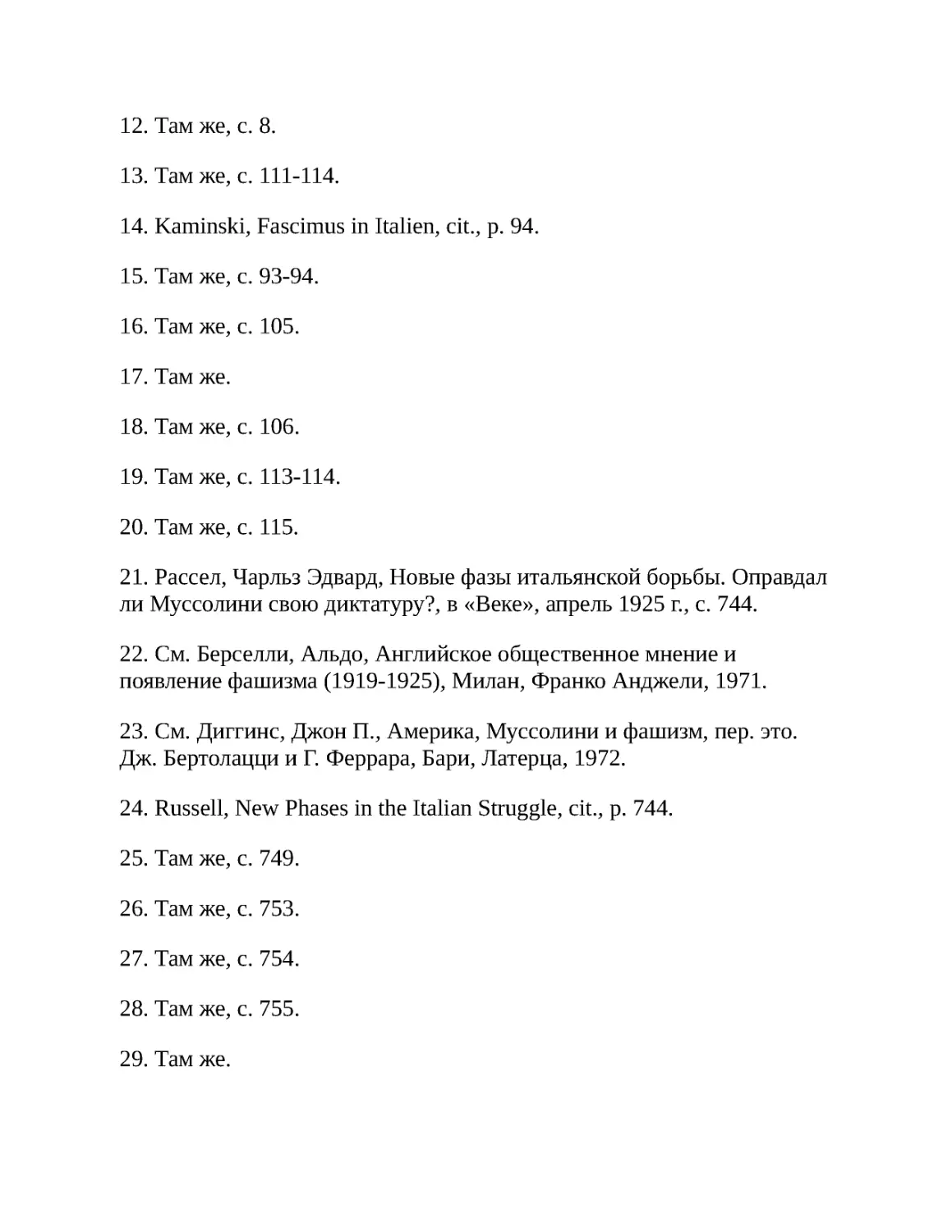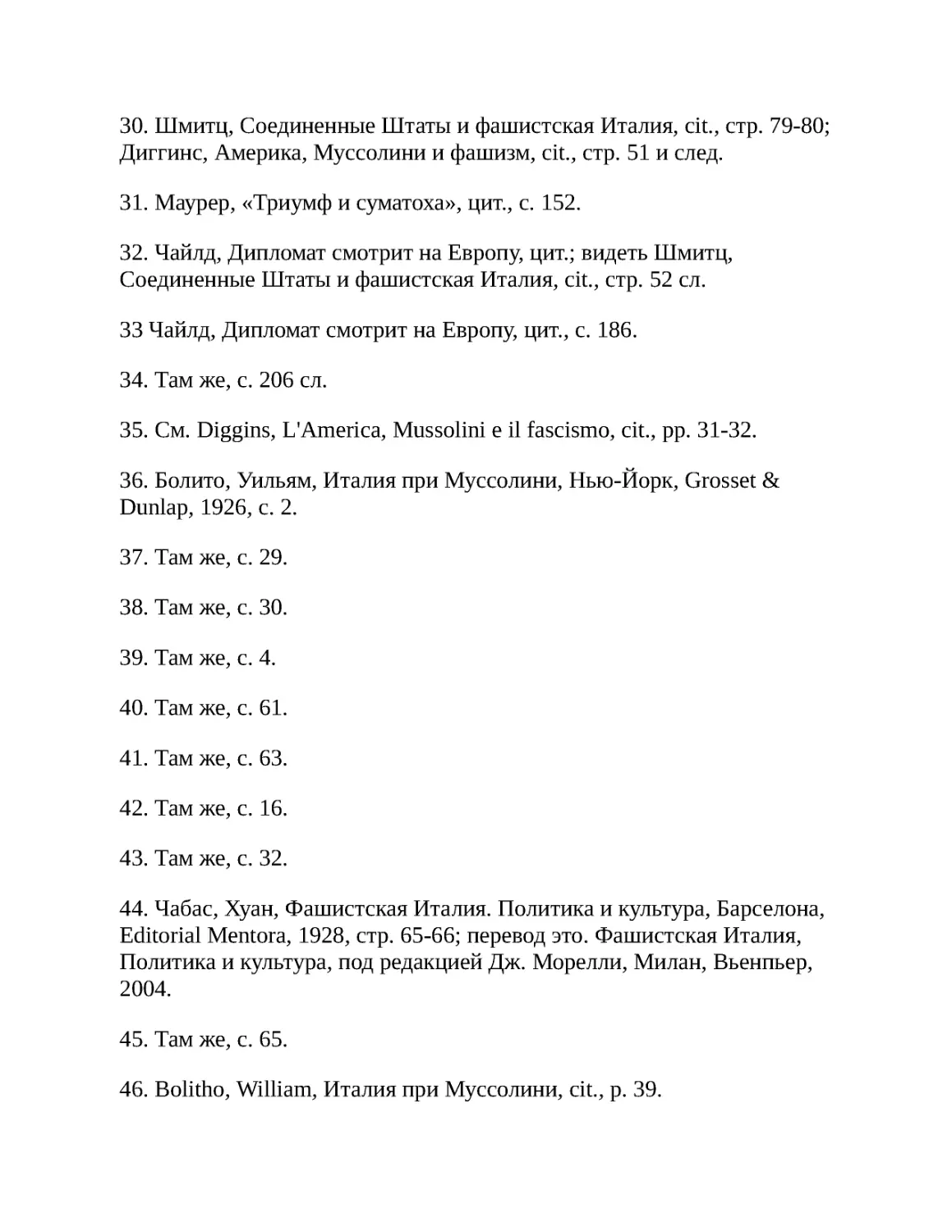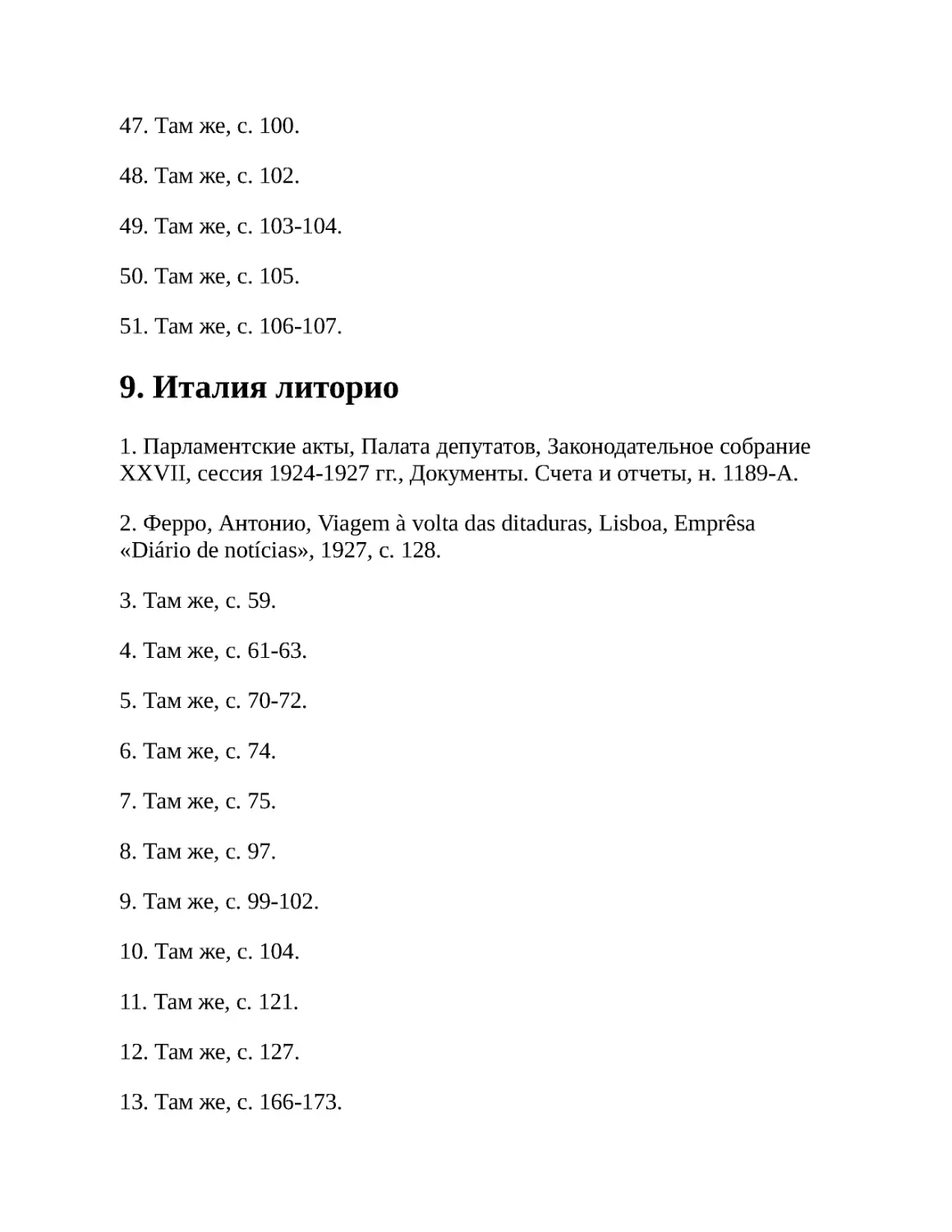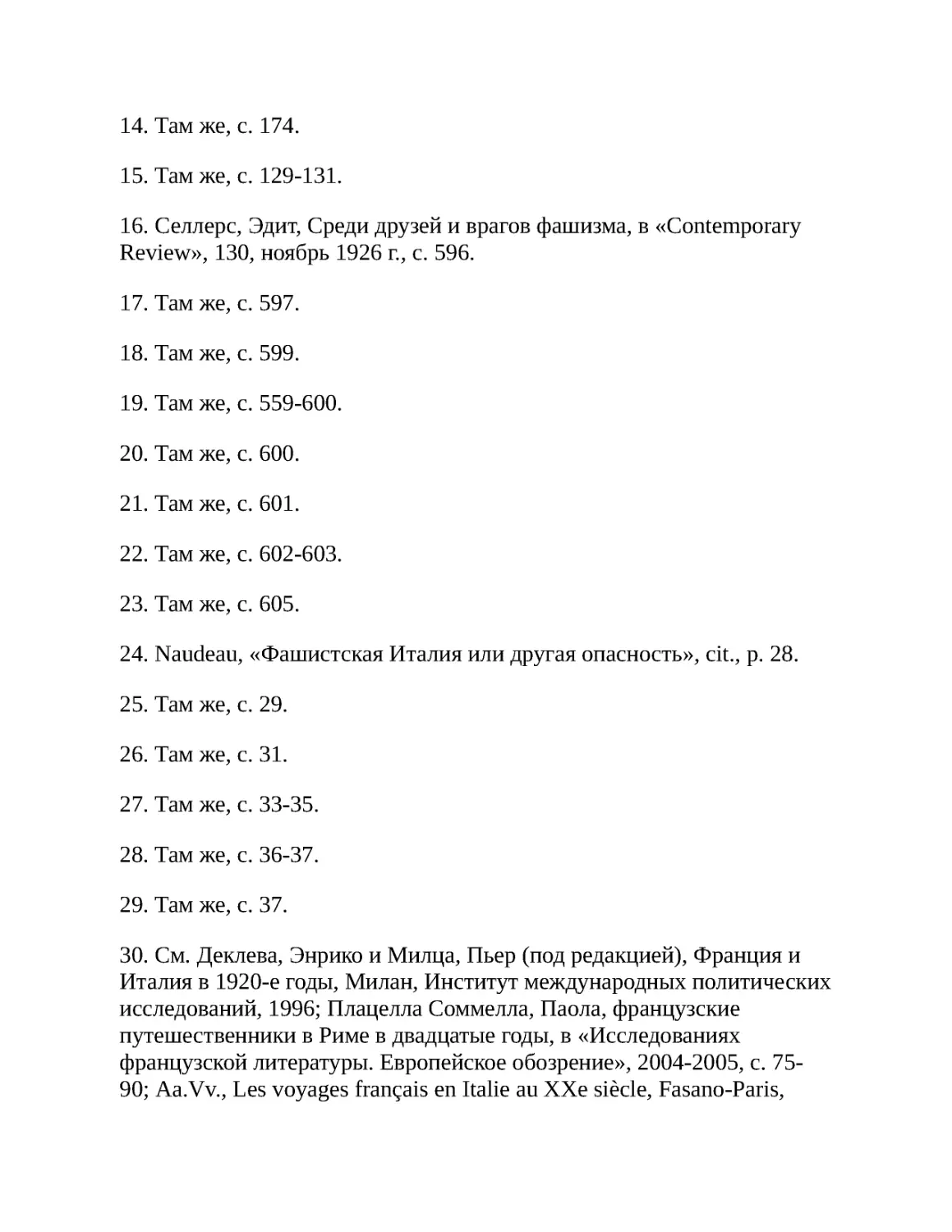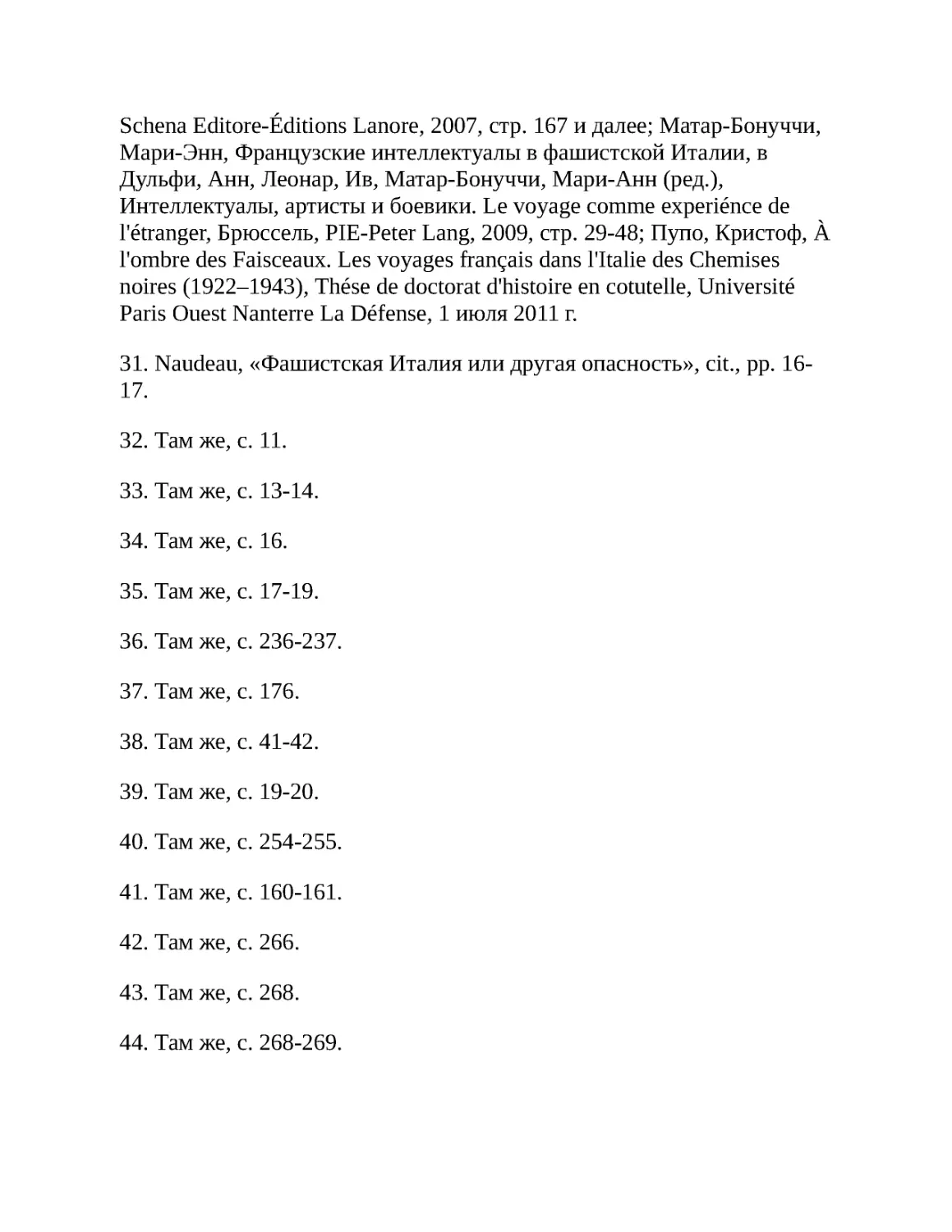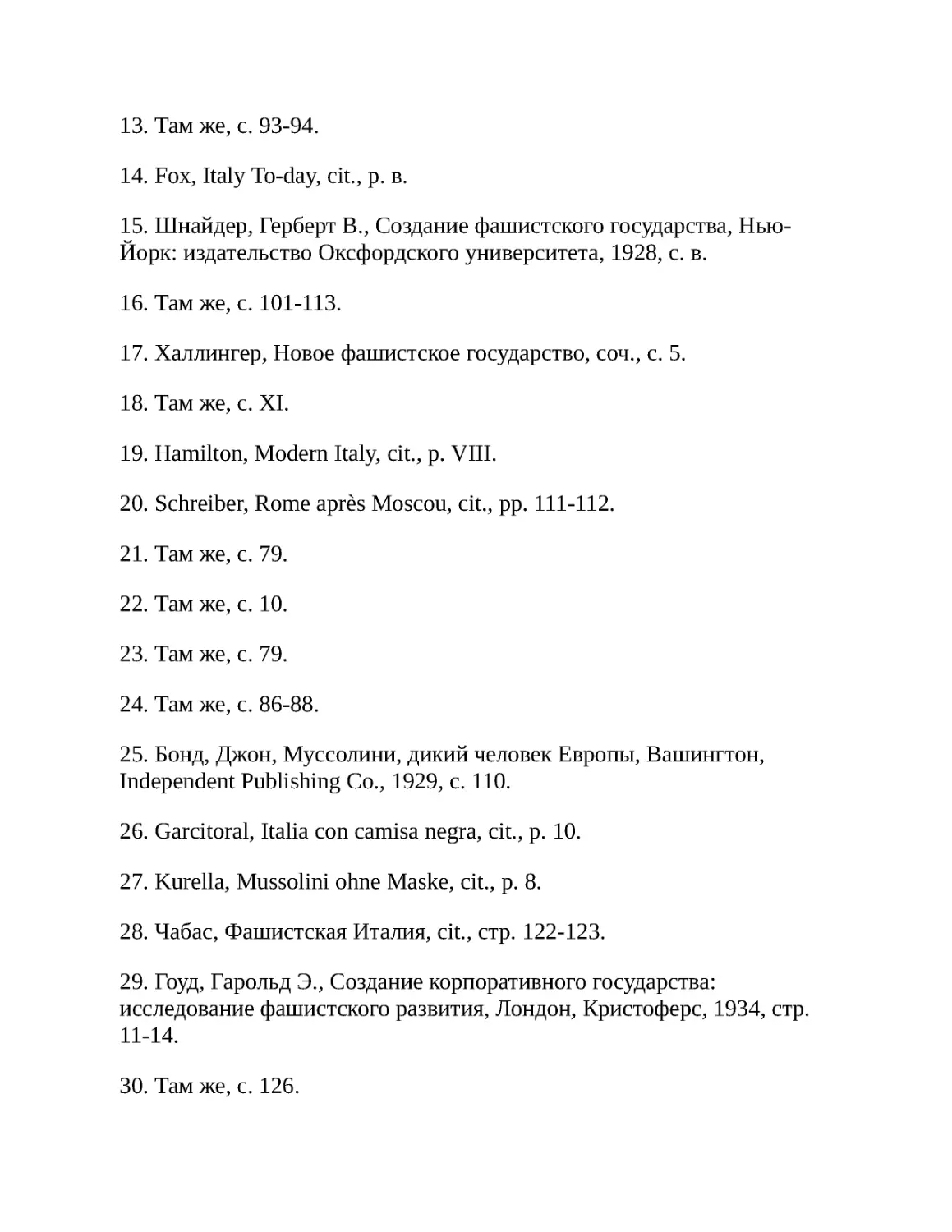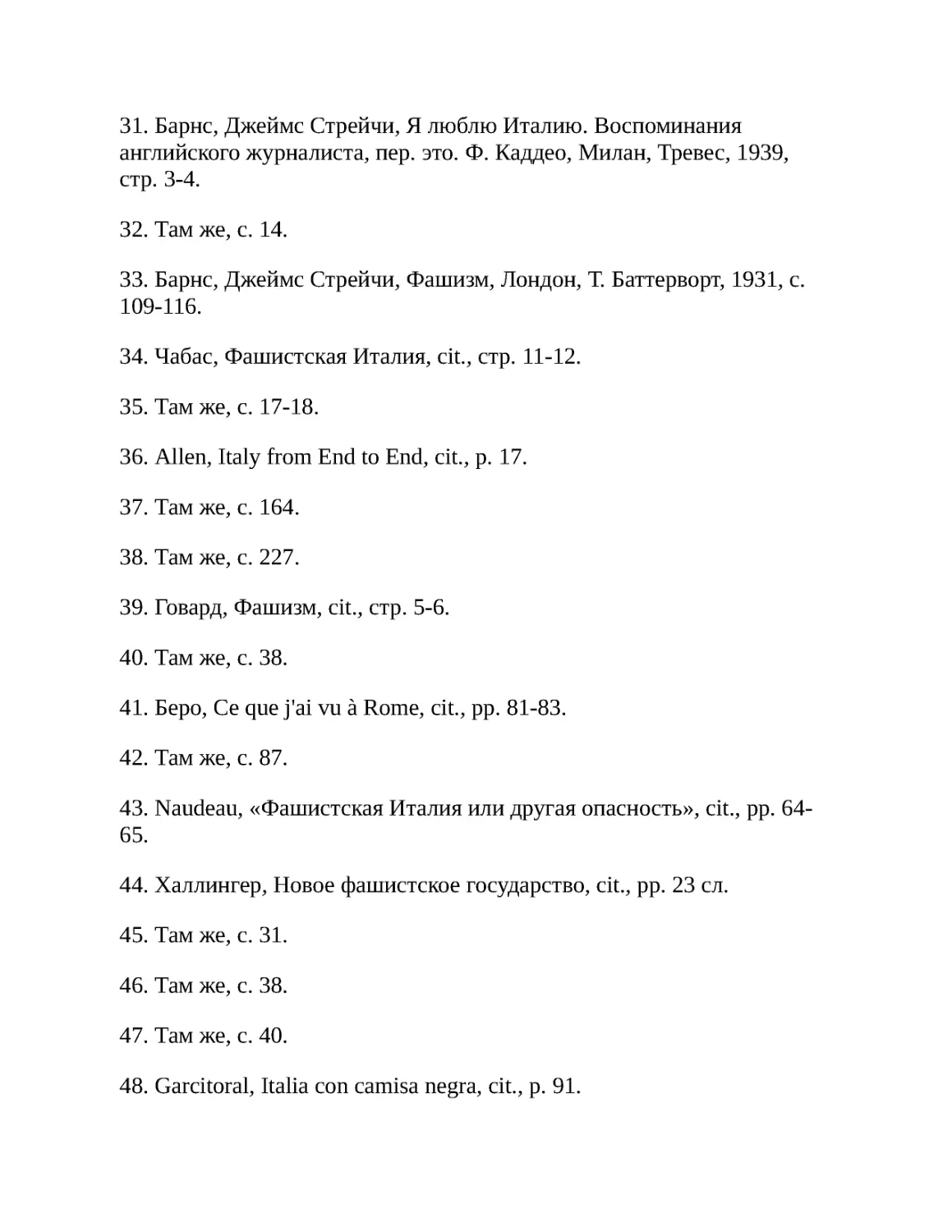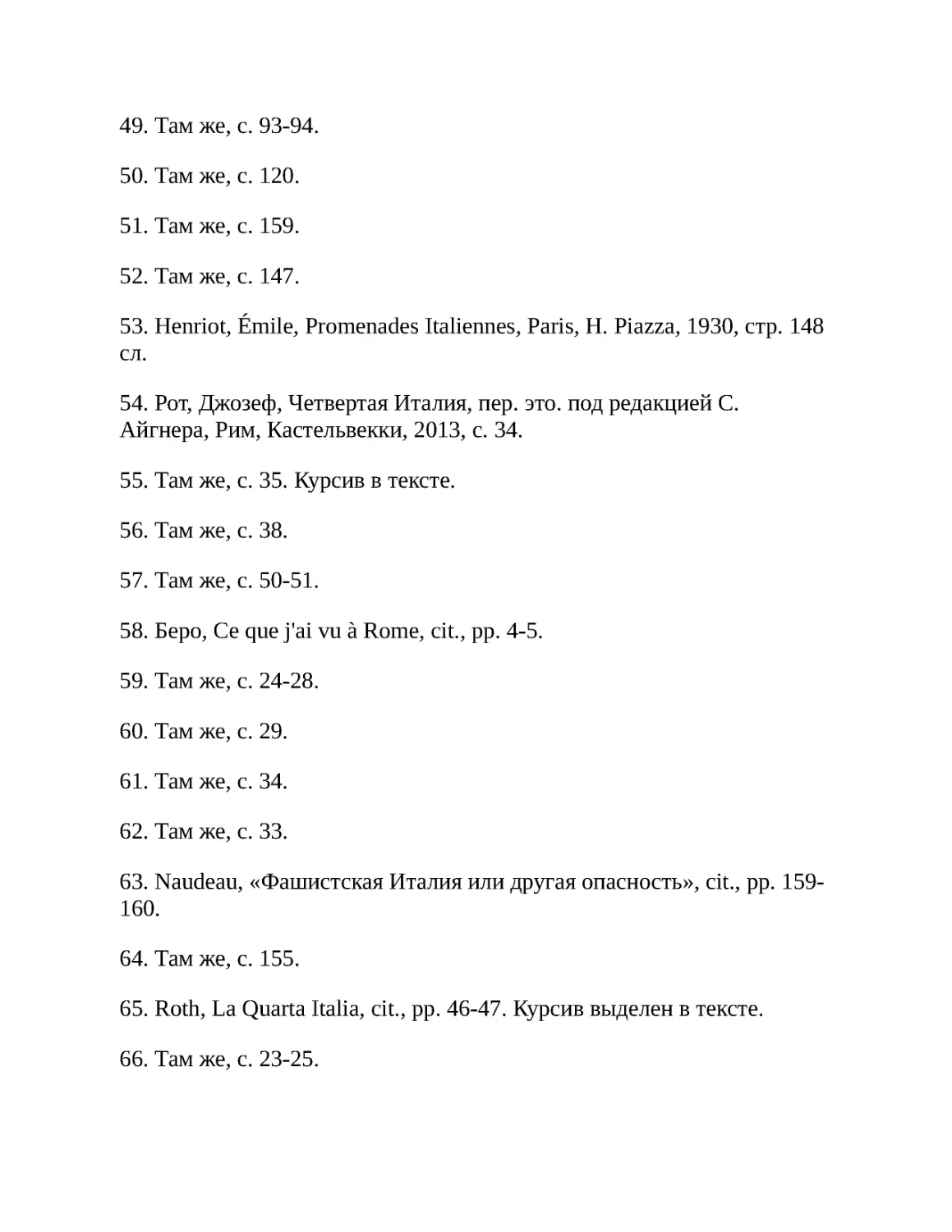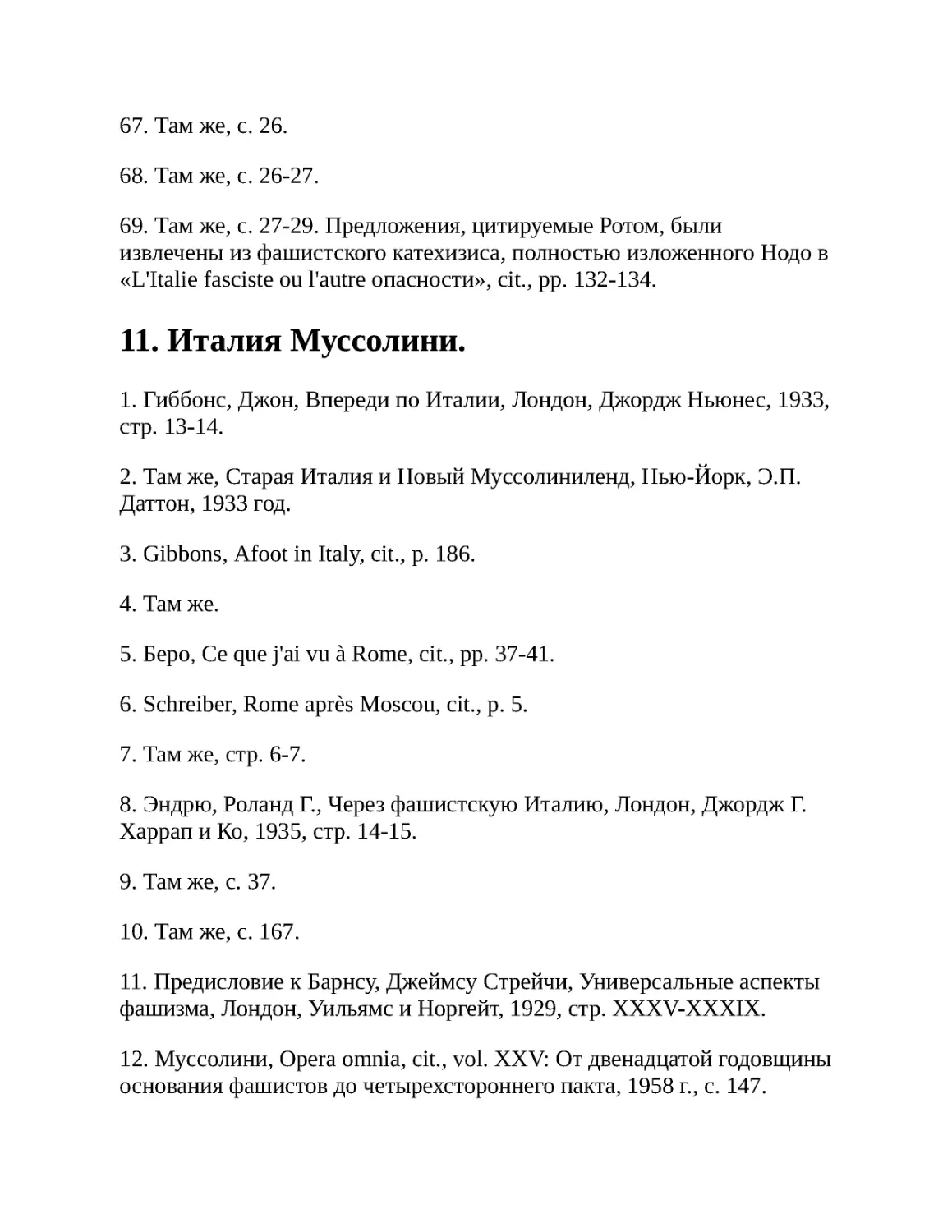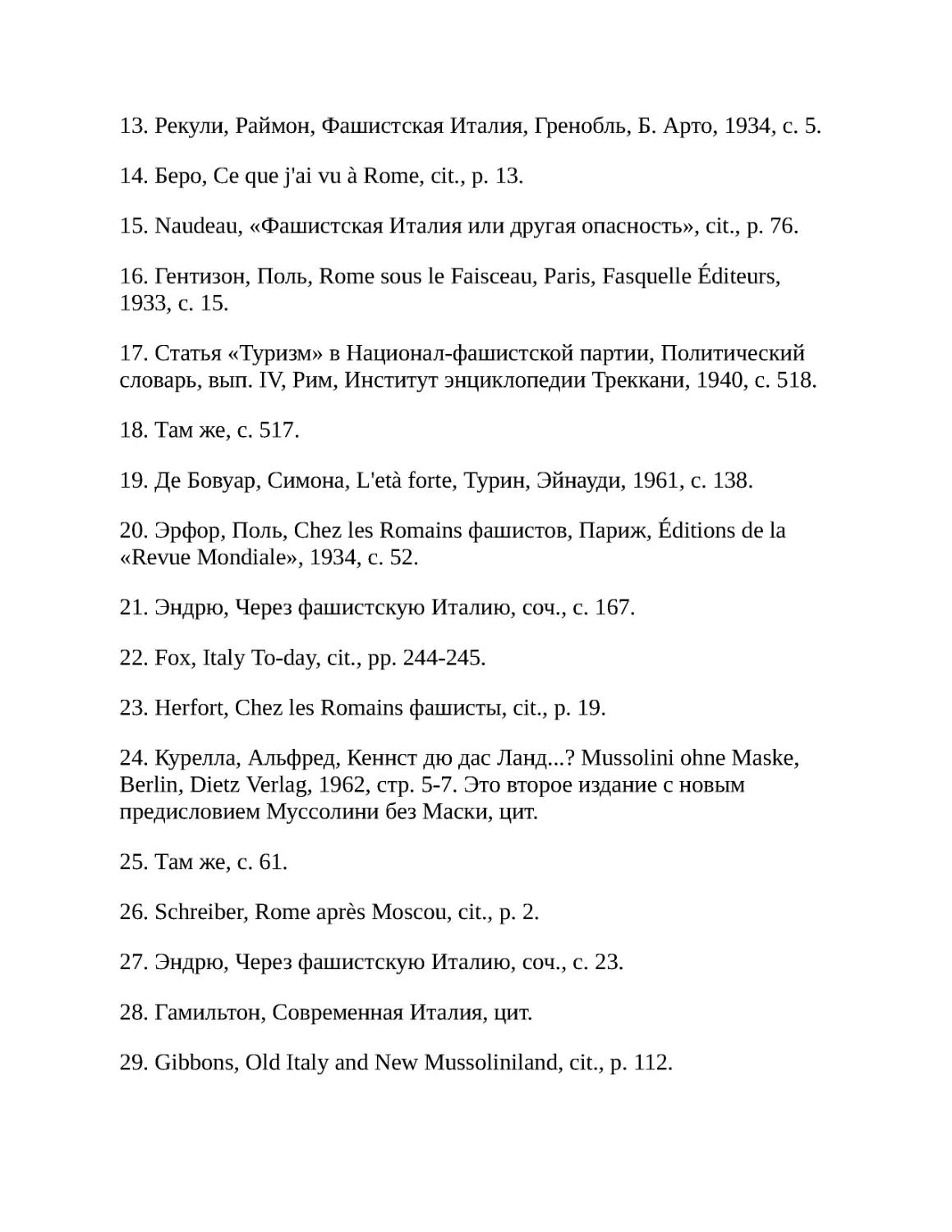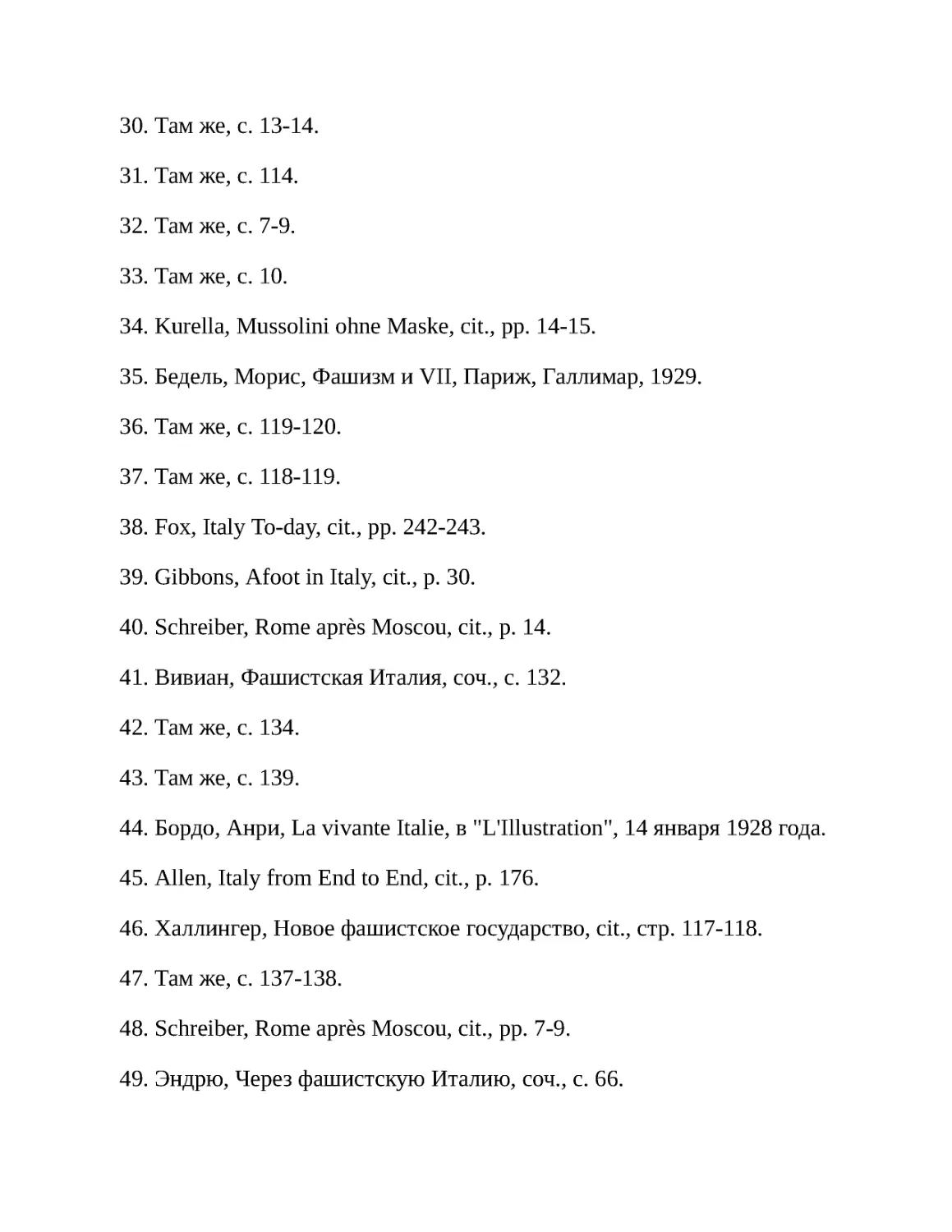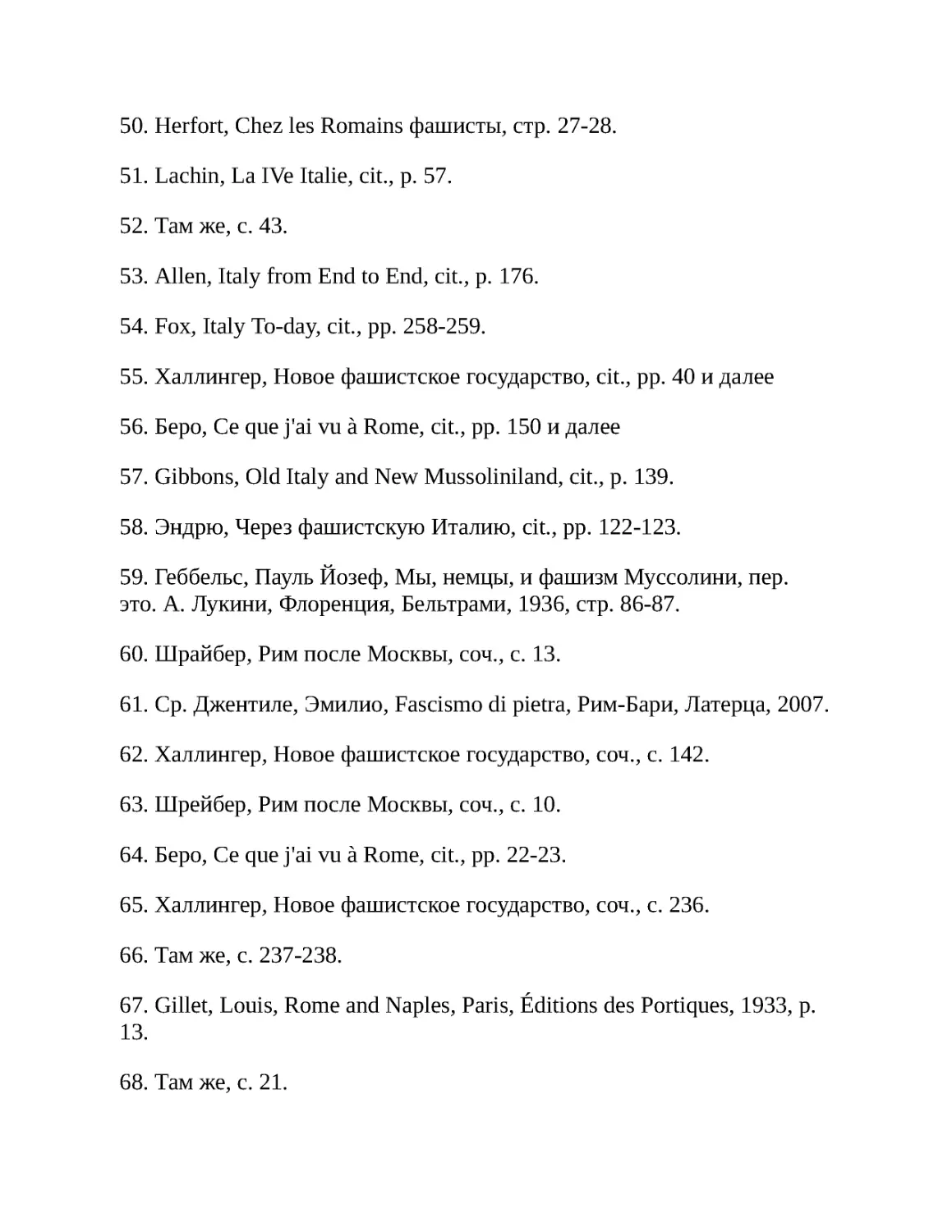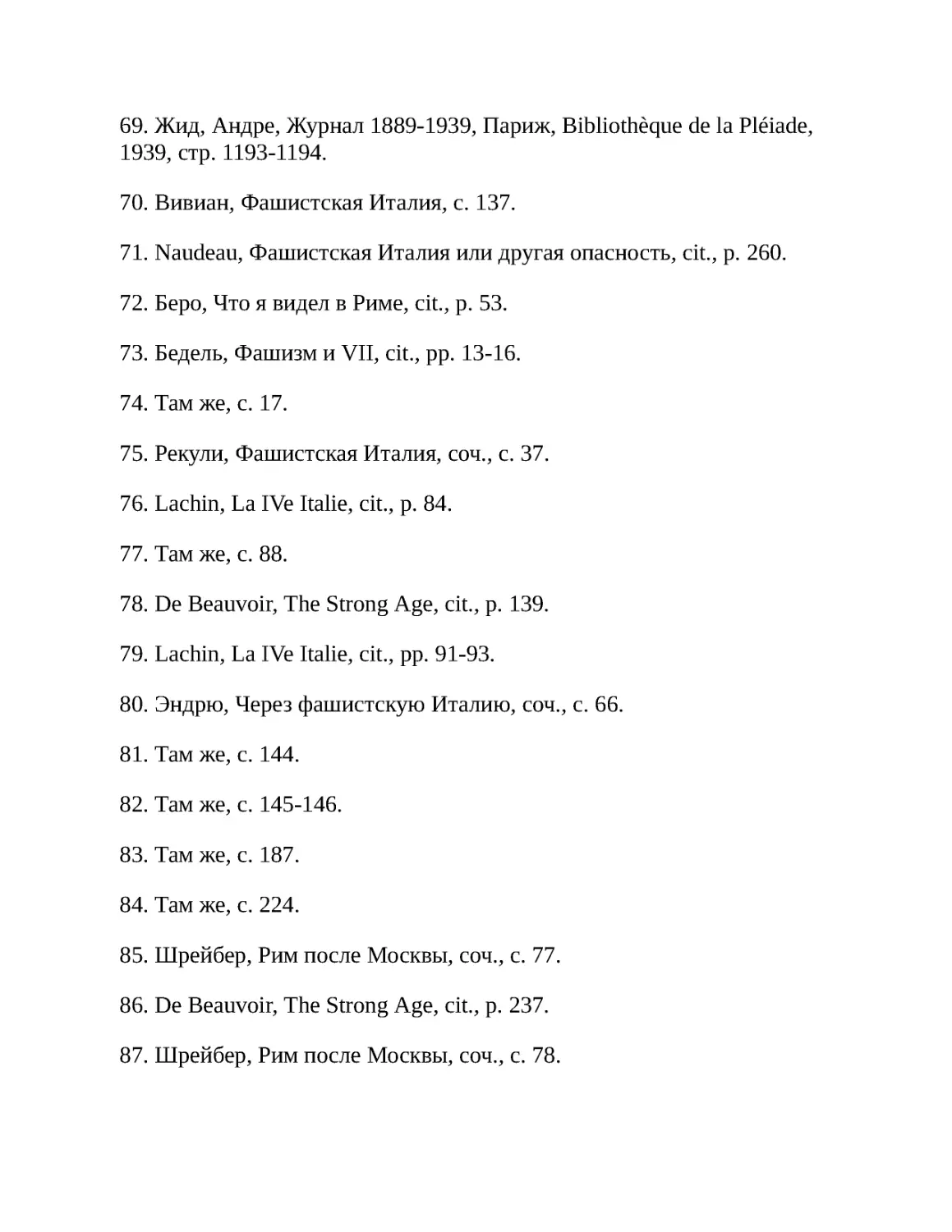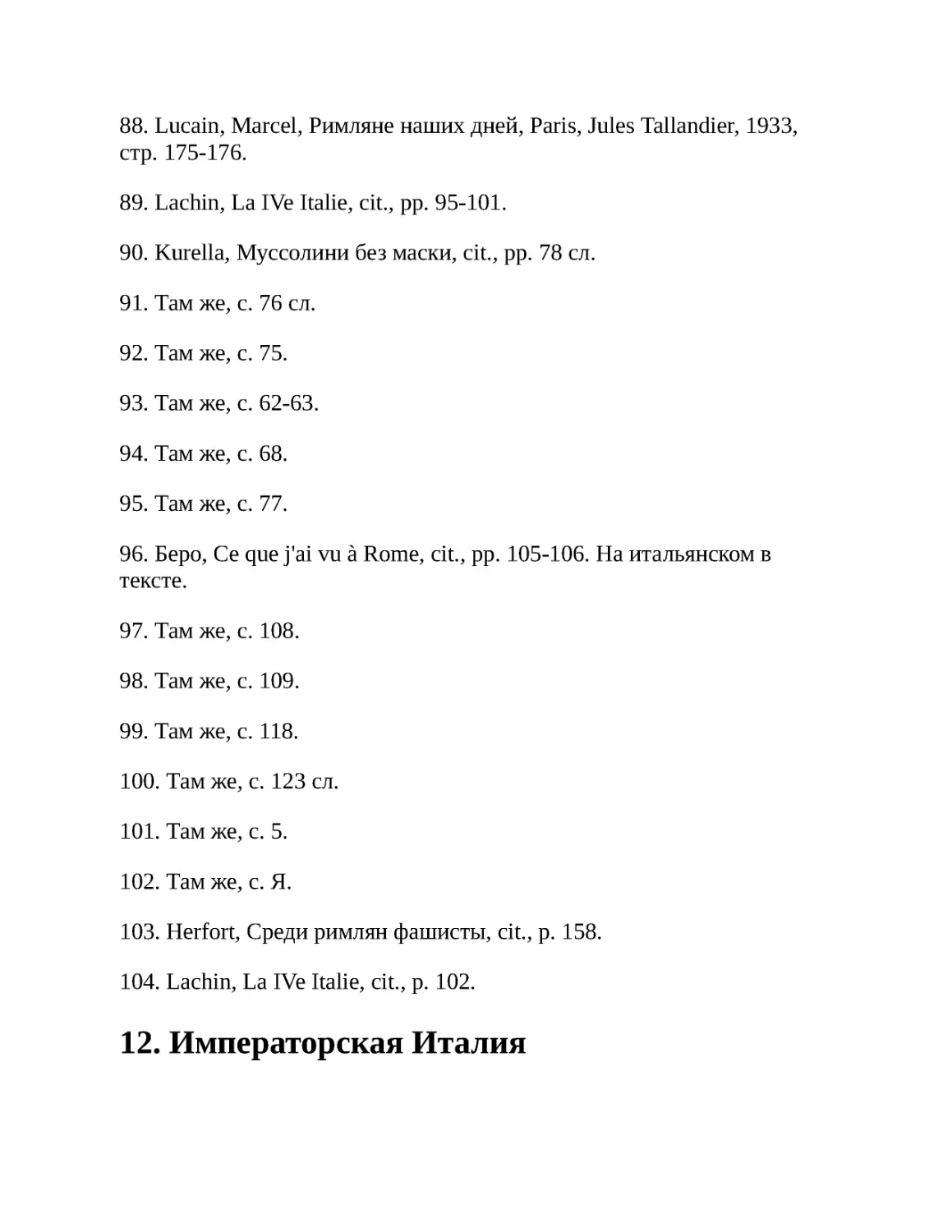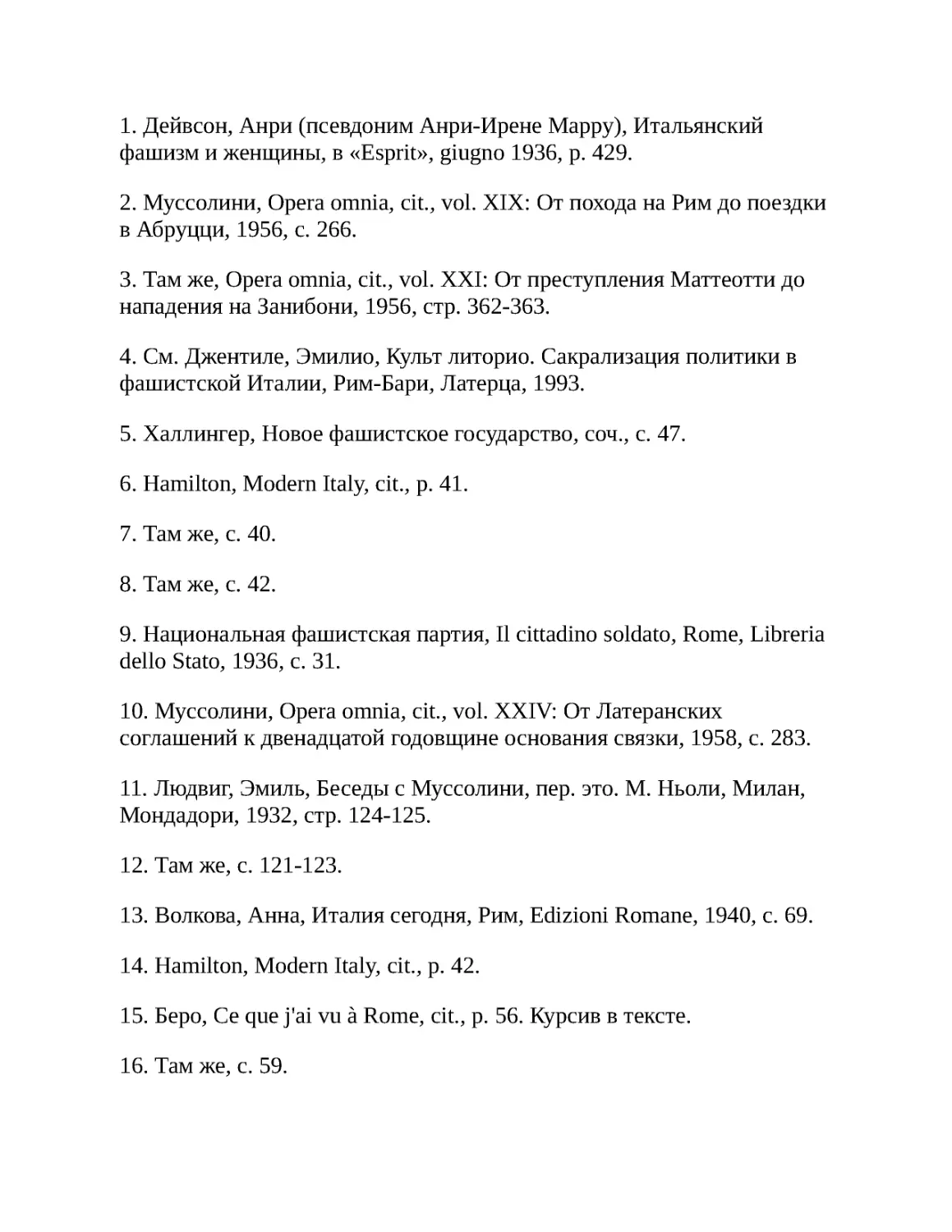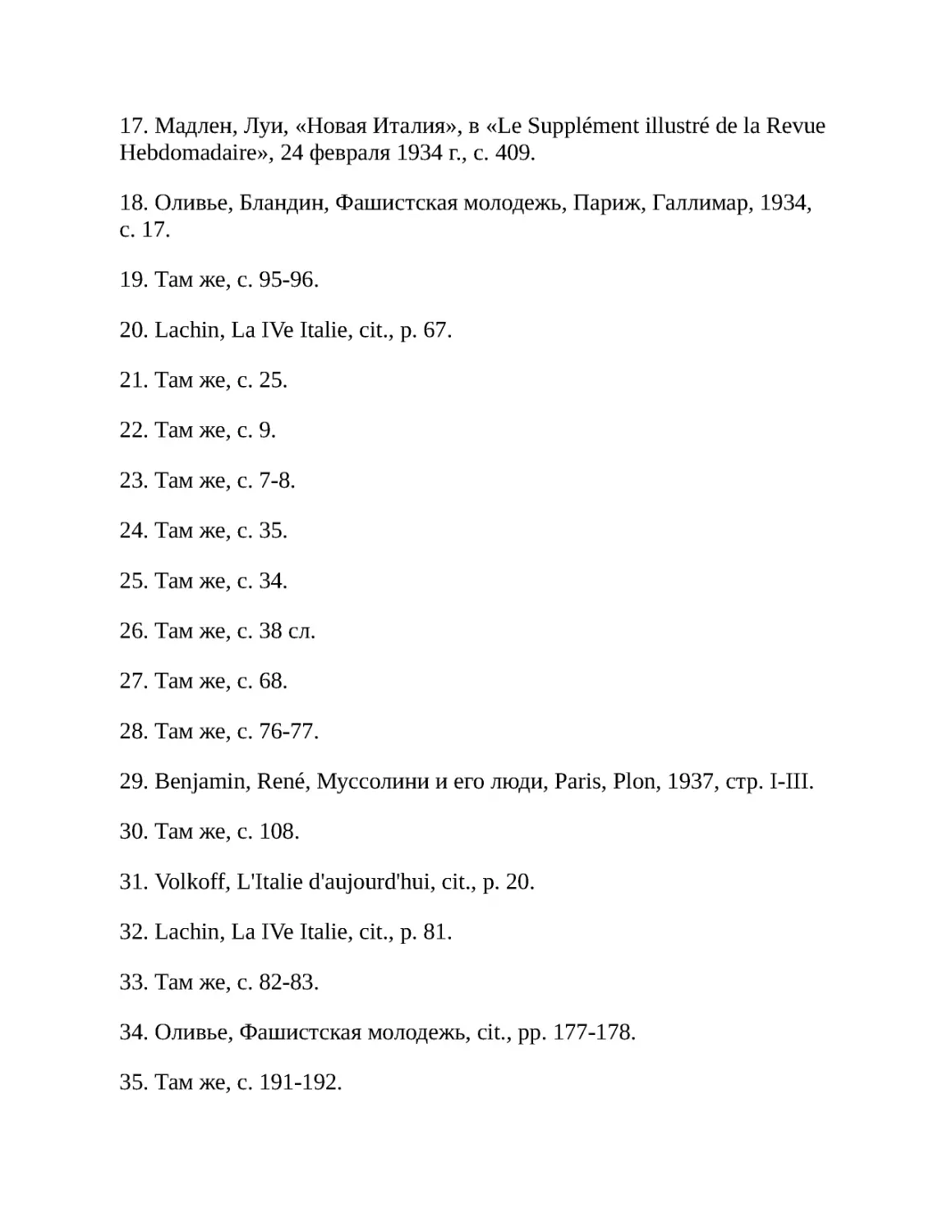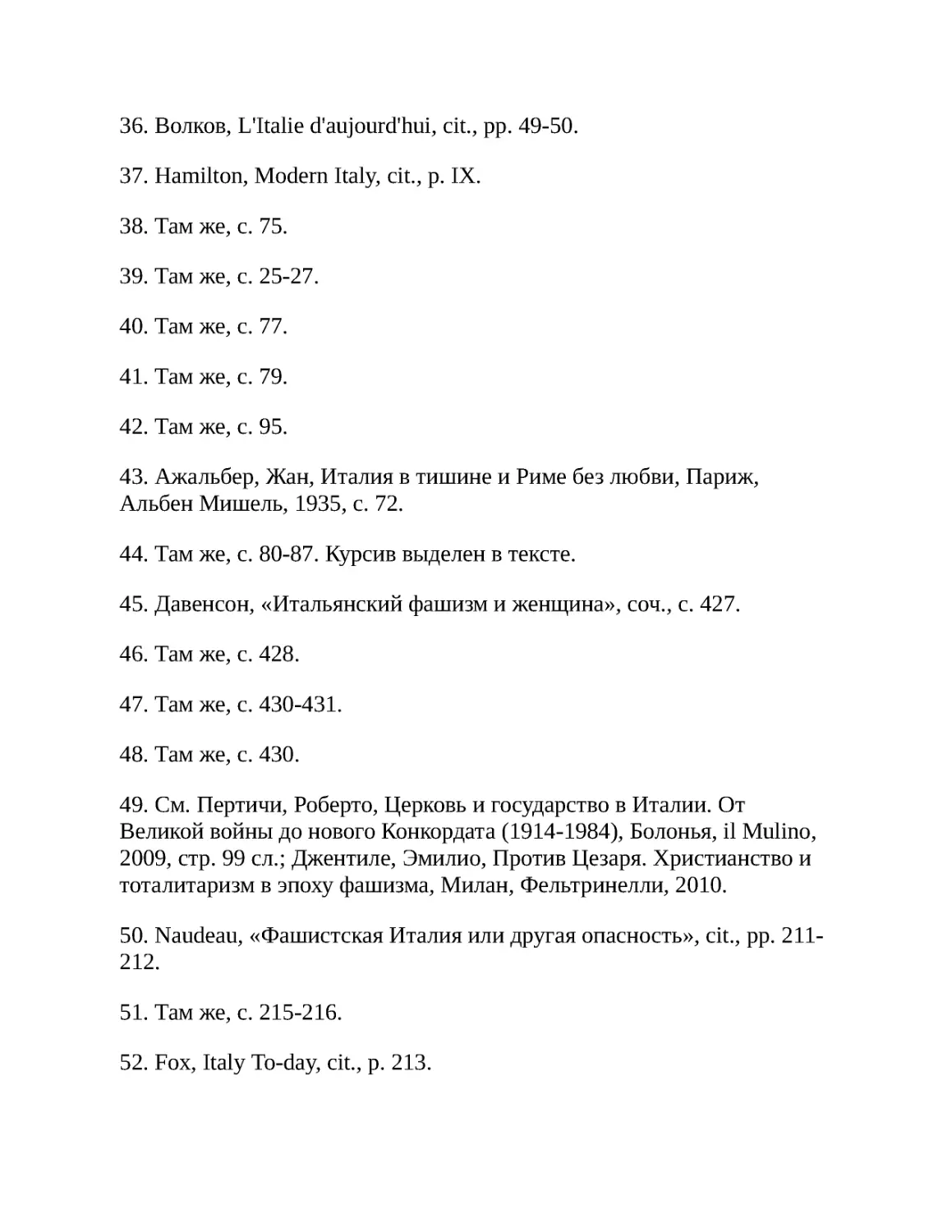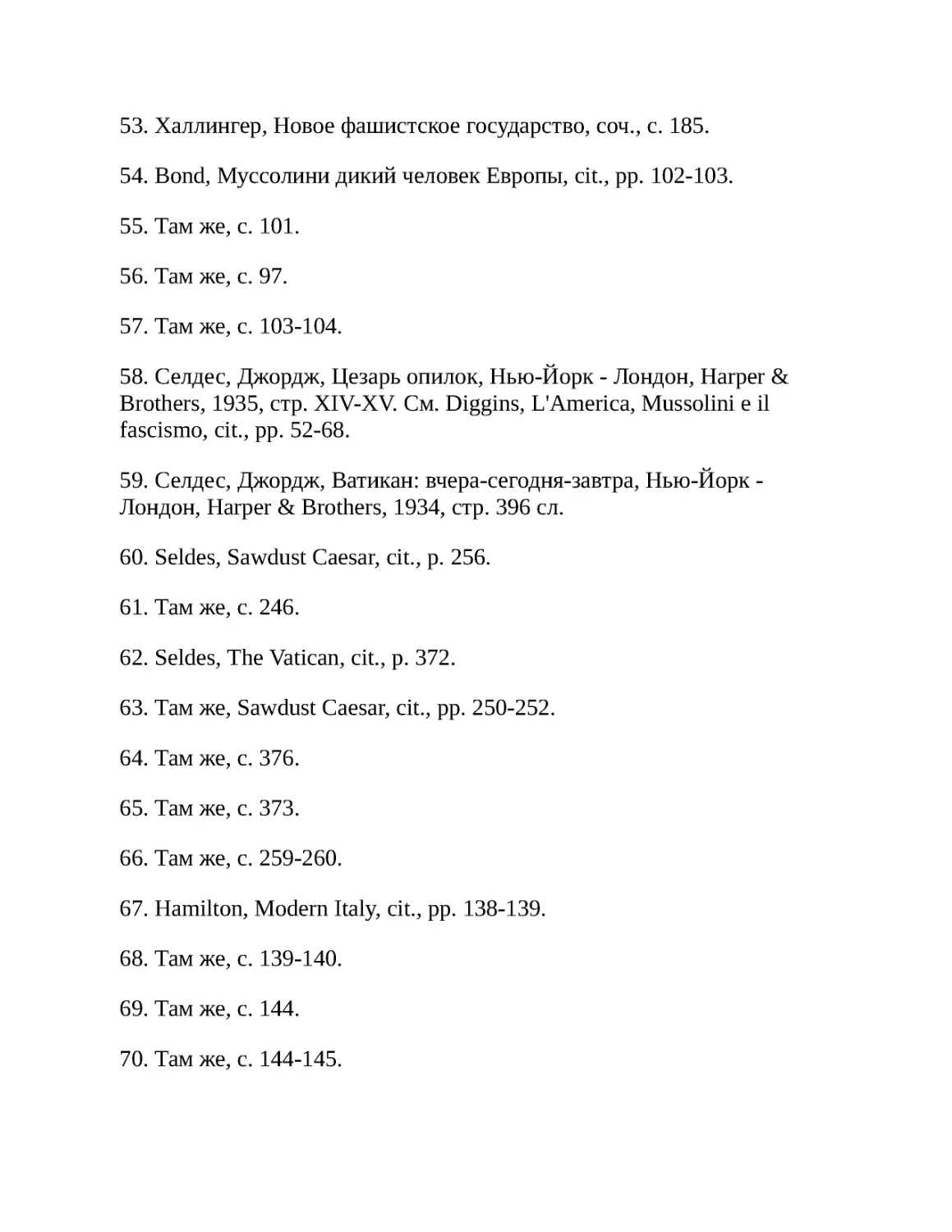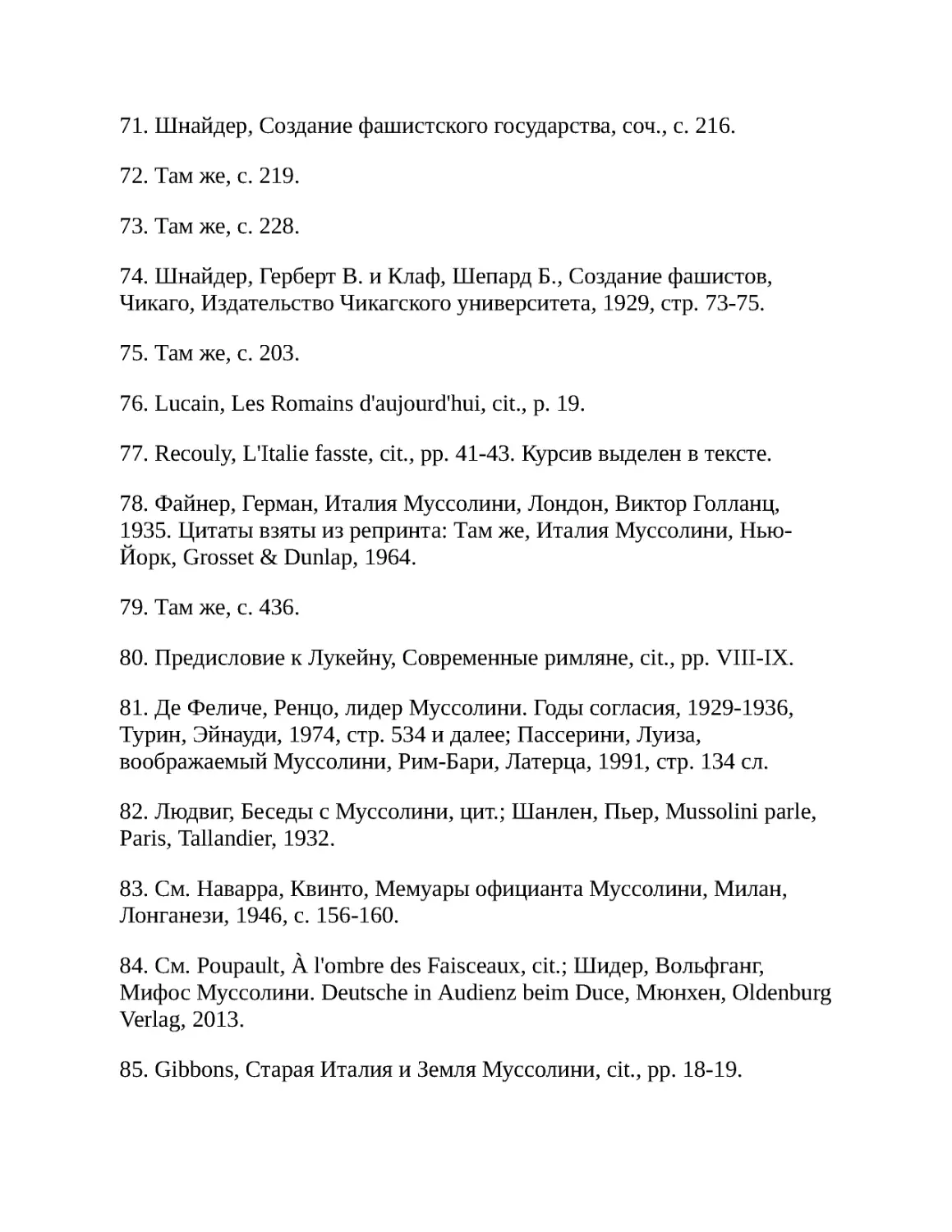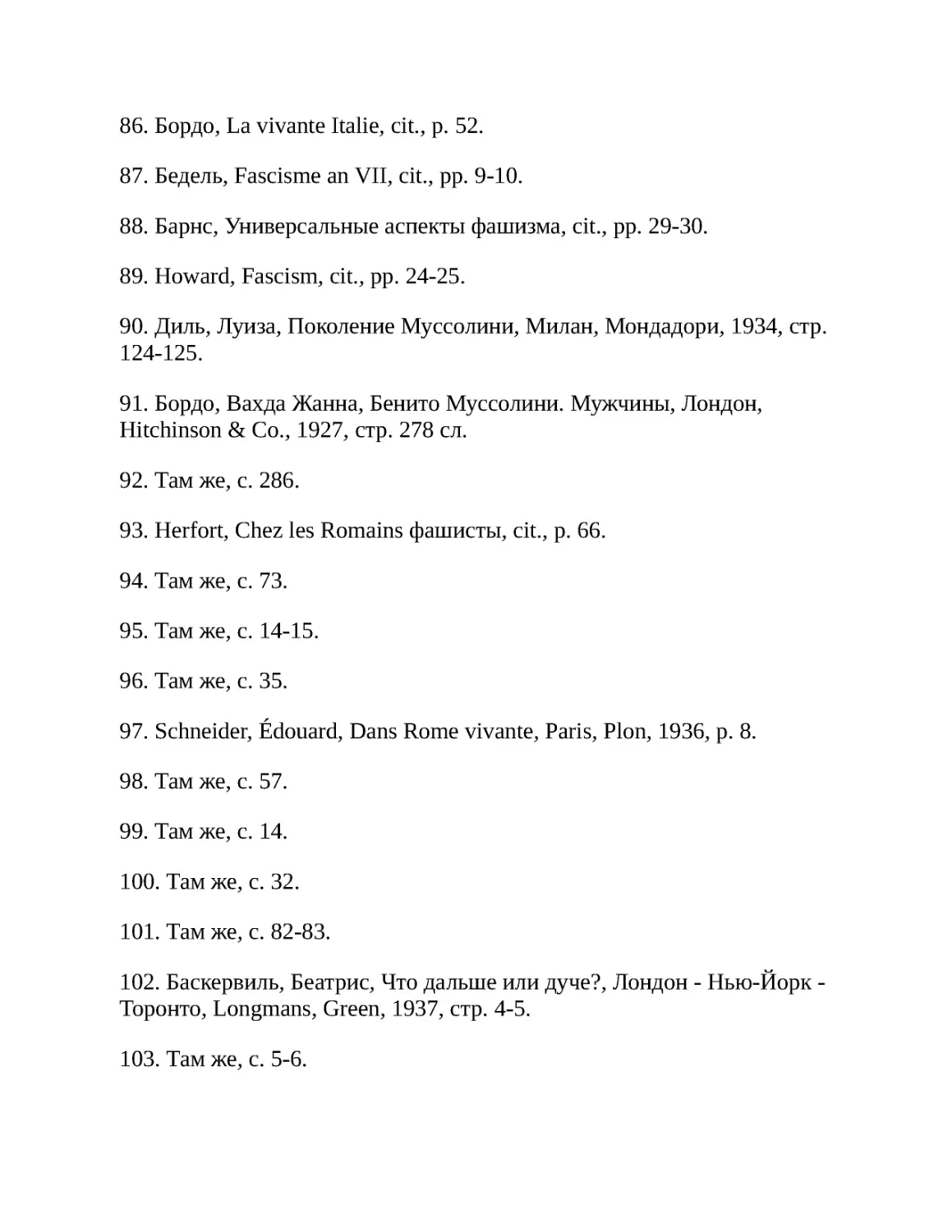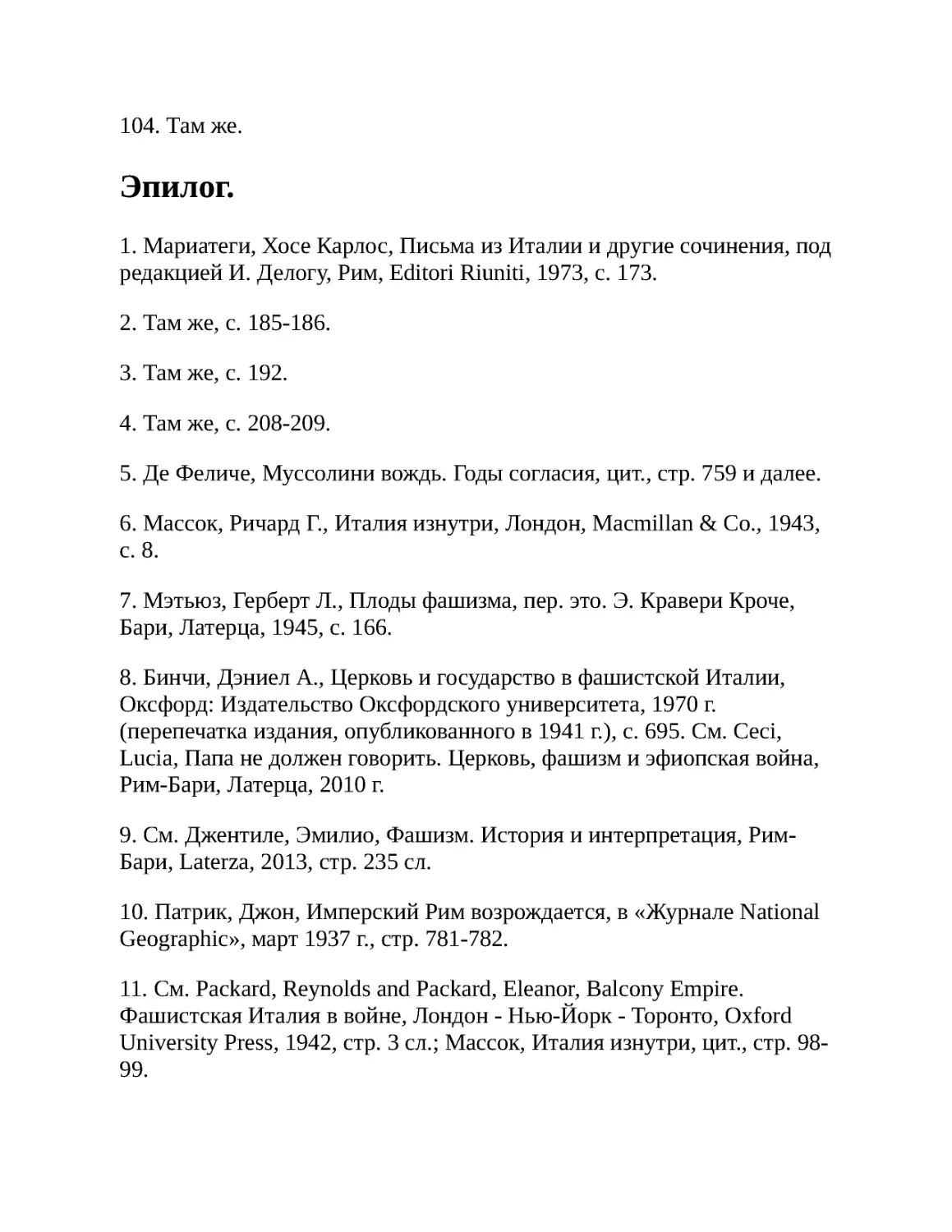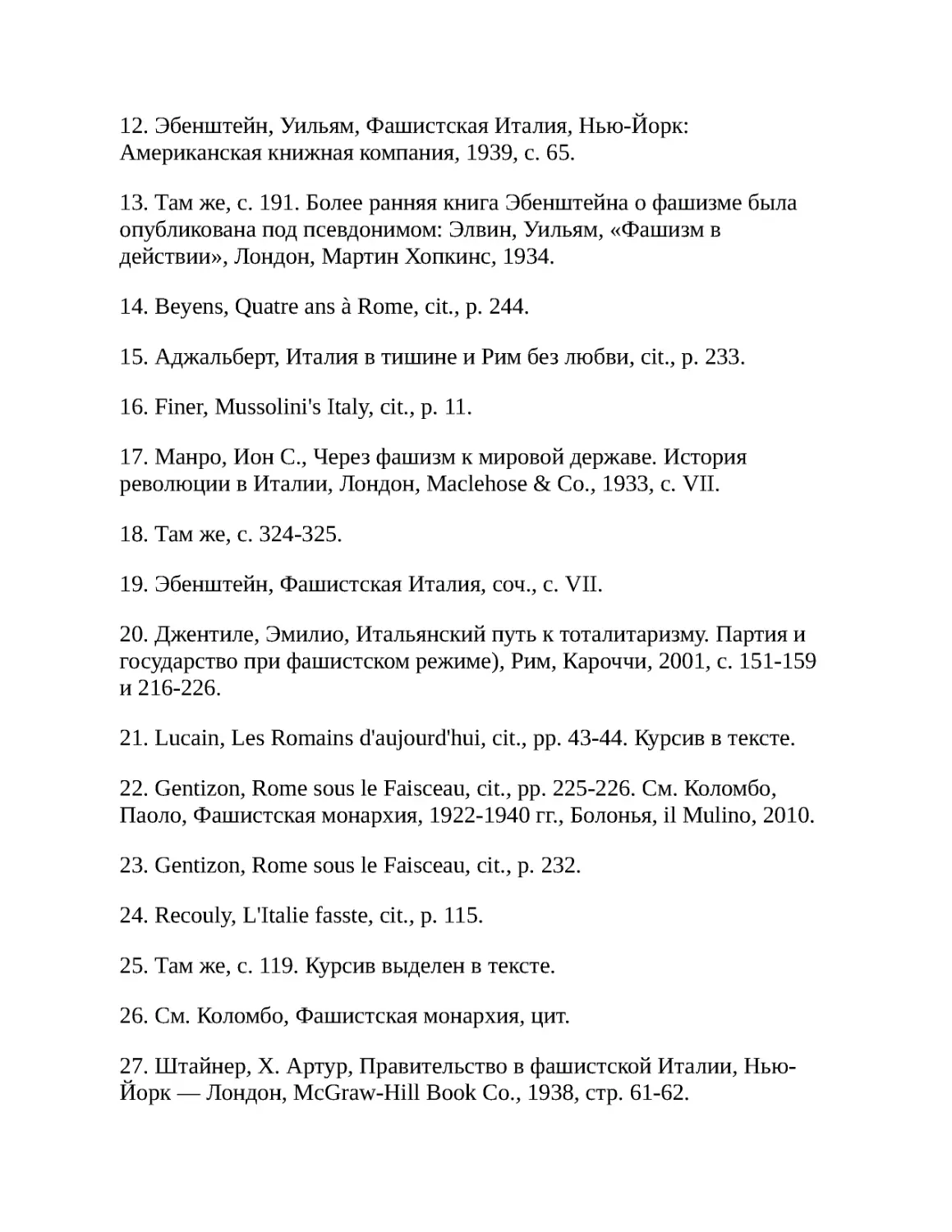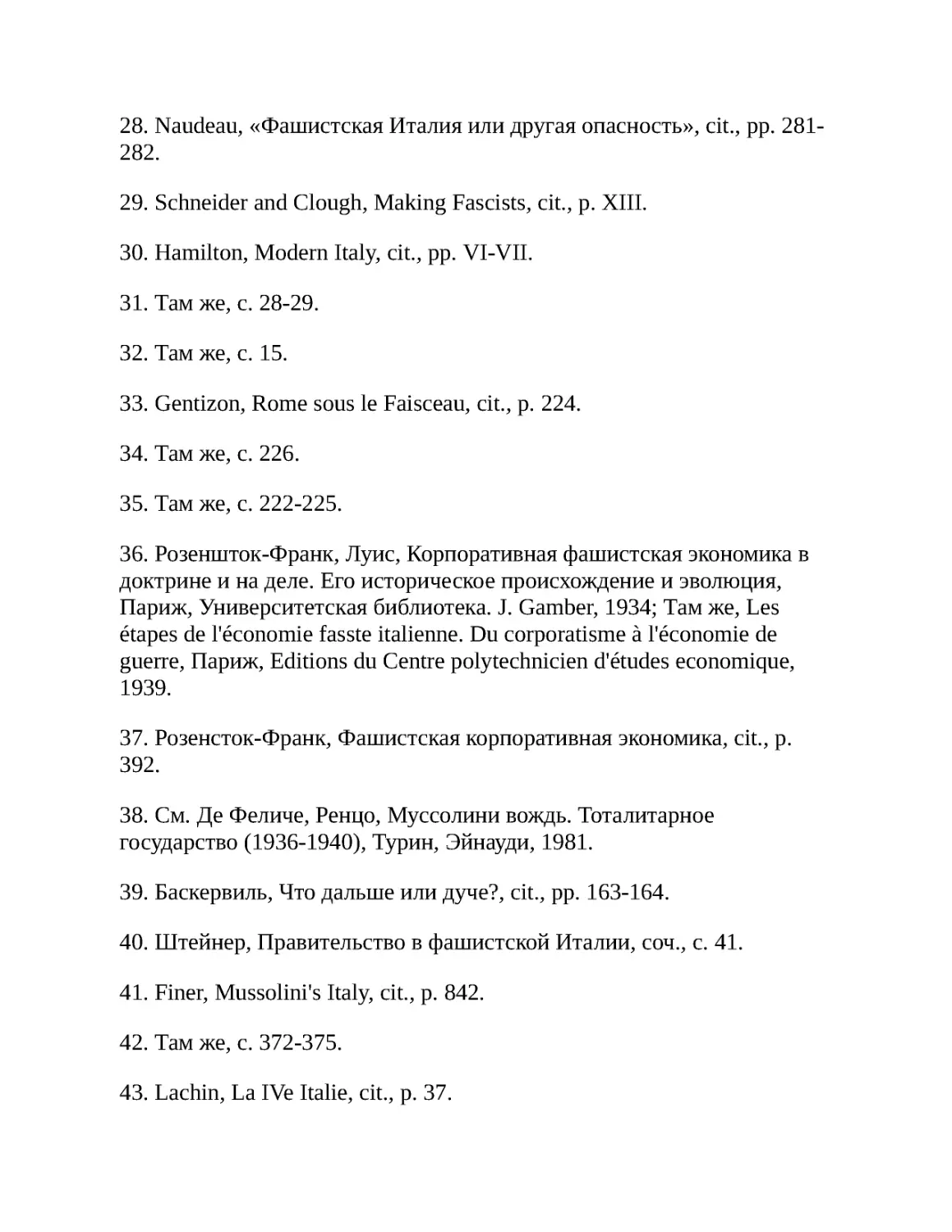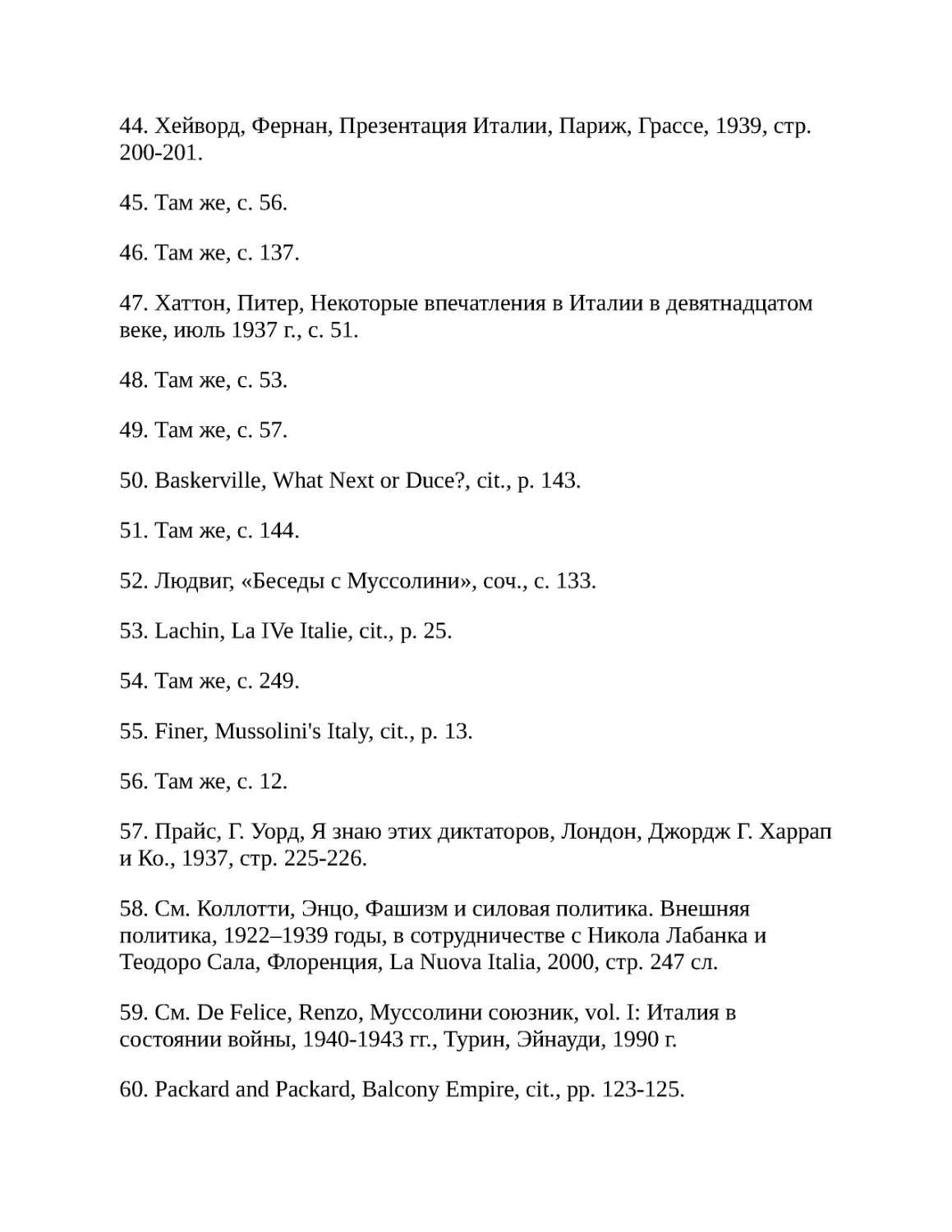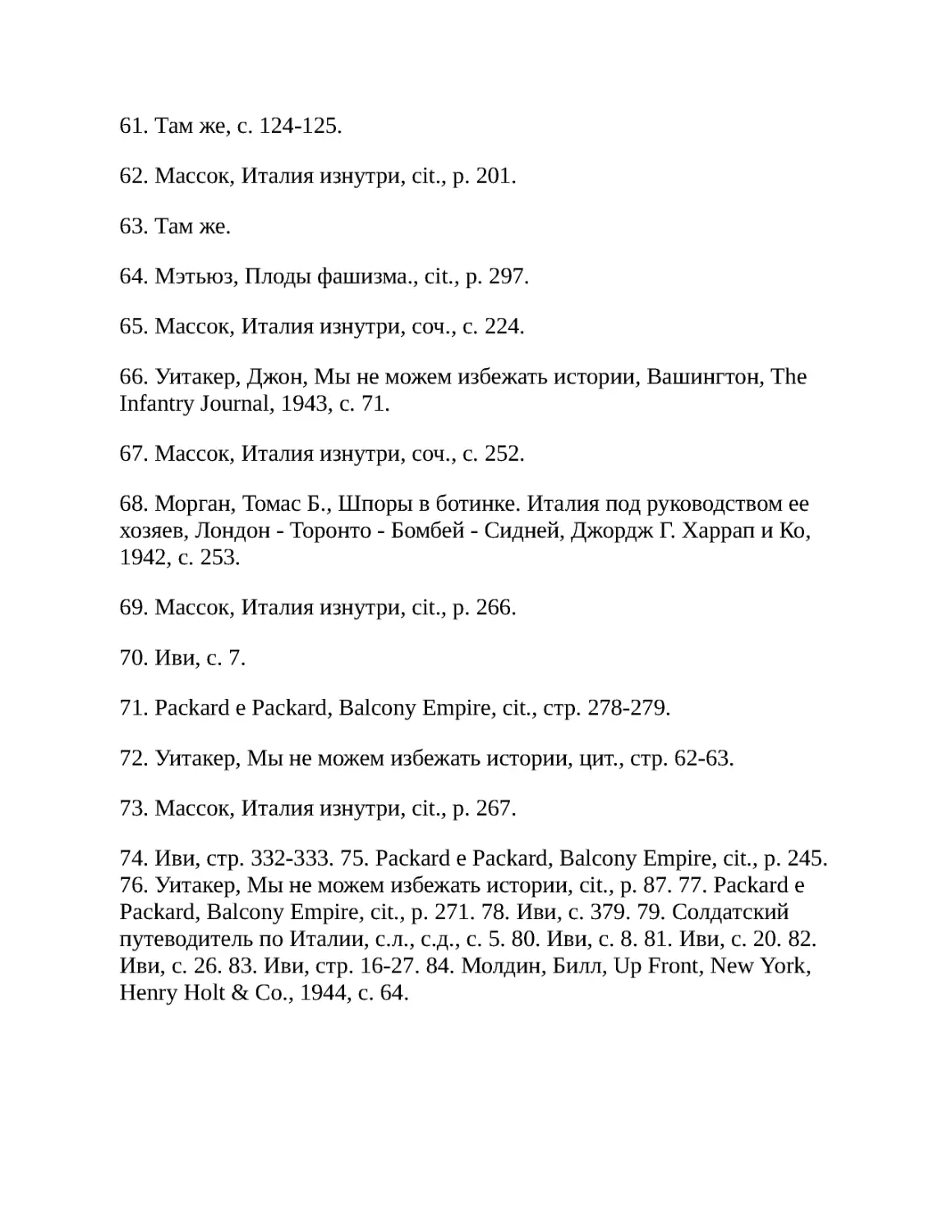Text
В ИТАЛИИ ВО ВРЕМЕНА
МУССОЛИНИ
ПУТЕШЕСТВИЕ В КОМПАНИИ ИНОСТРАННЫХ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Эмилио Джентиле
Данная электронная книга содержит материал, защищенный авторским
правом, и не может быть скопирована, воспроизведена, передана,
распространена, сдана в аренду, лицензирована или передана в эфир
публично, а также использована любым другим способом, кроме как
по специальному разрешению издателя, в соответствии с условиями,
на которых она была приобретена, или в соответствии с действующим
законодательством.
Любое несанкционированное распространение или использование
данного текста, а также изменение электронной информации о режиме
прав является нарушением прав издателя и автора и влечет за собой
гражданские и уголовные санкции в соответствии с положениями
Закона 633/1941 и последующих поправок.
Данная электронная книга никоим образом не может быть предметом
обмена, торговли, кредитования, перепродажи, покупки в рассрочку
или иным образом распространяться без предварительного
письменного согласия издателя. В случае согласия данная электронная
книга не может быть распространена ни в какой иной форме, кроме
той, в которой произведение было опубликовано, и условия,
включенные в настоящий документ, также налагаются на
последующего пользователя.
www.librimondadori.it
© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p .A., Milan
Электронная книга ISBN 9788852058554
ОБЛОЖКА || ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: ДЖАКОМО
КАЛЛО
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР: БЕППЕ ДЕЛЬ ГРЕКО
ПРИВЕТСТВИЕ МУССОЛИНИ В ВАЛЬ-Д'АОСТА, 1939, ФОТО ©
ISTITUTO LUCE
УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ АЛИНАРИ; МУССОЛИНИ БЕЖИТ С
СОЛДАТАМИ И ИЕРАРХАМИ, 1938, ФОТО © HULTON-DEUTSCH
COLL./CORBIS | РАЗРАБОТКИ БЕППЕ ДЕЛЬ ГРЕКО
Книга
Вечером 29 октября 1922 года на миланском вокзале среди толпы
вооруженных молодых людей в черных рубашках итальянский
корреспондент газеты "Chicago Daily News" Эдгар Ансель Моурер
заметил Бенито Муссолини. Журналист подошел к нему и спросил:
"Господин Муссолини, не расскажете ли вы мне, что происходит?".
"Разве вы не знаете?" - ответил он. "Я еду в Рим, чтобы установить
фашизм".
"Поздравляю", - добавил Моурер и сел в поезд, который на следующий
день доставил дуче фашизма к власти.
Так начинается, накануне "Марша на Рим", это особенное путешествие
по Италии Муссолини, прослеженное на самых важных этапах со
страниц, которые журналисты, ученые, путешественники и
иностранные писатели посвятили событиям в нашей стране в самые
трагические годы XX века. Путешествие, длившееся более двадцати
лет, от Великой войны до борьбы рабочих и крестьян "biennio rosso",
от насилия эскадры до великолепия имперской Италии и вплоть до
мрачных дней Второй мировой войны, когда Италия оказалась "под
колесами истории". Если раньше Италия привлекала иностранцев
своим славным прошлым, произведениями искусства и природными
красотами, то после 1915 года главной причиной посещения
полуострова стало желание открыть для себя "живую Италию", как
определил ее в 1922 году французский историк Поль Хазар.
Поклонники Муссолини или его ярые противники, привлеченные
оригинальностью и успехами фашизма, иностранные наблюдатели
стали свидетелями радикальных изменений, внесенных режимом во
все сферы повседневной жизни с целью создания "нового итальянца".
В своих работах, порой не свободных от предрассудков, но богатых
своевременным и часто пророческим анализом, они исследовали
характер, пороки и слабости целого народа, выявляя таким образом
подлинную природу фашизма, понимаемого не как "неестественный
нарост", а как "истинно итальянское" явление, По словам испанского
писателя Алисио Гарситораля, это конденсация всех стремлений,
разочарований, страхов и авторитарных импульсов, которые дуче смог
уловить и использовать для того, чтобы дать жизнь режиму,
предназначенному, по его замыслу, "длиться во времени".
В книге "В Италии в эпоху Муссолини" Эмилио Джентиле дает нам
оригинальную реконструкцию Вентеннио, увиденную глазами
иностранцев. Но если "всякая истинная история - это современная
история", как писал Бенедетто Кроче, то эта книга проливает свет на
сегодняшнюю Италию, на ее политические и экономические
трудности, на ее потенциал, который слишком часто растрачивается,
остается невыраженным или униженным.
Автор
Эмилио Джентиле, всемирно известный историк, является почетным
профессором Римского университета Ла Сапиенца. Он является
сотрудником газеты "Sole 24 Ore". Его работы, многие из которых
переведены на многие языки мира, включают самые последние:
Фашизм и антифашизм (2000), Религии политики (2001), Фашизм.
Storia e interpretazione (2003), La democrazia di Dio (2006), Il fascino del
persecutore (2007), Fascismo di pietra (2008), L'apocalisse della modernità
(2008), Contro Cesare (2010), Né Stato né nazione (2010), Italiani senza
padri (2011), E fu subito regime. Il fascismo e la marcia su Roma (2012),
Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo (2014).
Эмилио Джентиле
В ИТАЛИИ ВО ВРЕМЕНА МУССОЛИНИ
Путешествие с иностранными наблюдателями
В ИТАЛИИ ВО ВРЕМЕНА МУССОЛИНИ
Пролог
БЕССМЕРТНАЯ ИТАЛИЯ
В поезде, который вез Бенито Муссолини, дуче фашистской партии, из
Милана в Рим в ночь на 29 октября 1922 года, приглашенного в
столицу королем Виктором Эммануилом III для поручения
формирования нового правительства, ехал американский журналист
Эдгар Ансель Моурер, корреспондент в Италии газеты "Chicago Daily
News".
В предыдущие дни журналист был в Софии, чтобы взять интервью у
царя Болгарии, но поспешно вернулся в Италию, так как его газета
приказала ему немедленно отправиться в Рим, где должны были быть
объявлены важные события. Моурер забронировал место в поезде
direttissimo 17, который отправлялся из Милана в 8.30 вечера. На
вокзале он обнаружил скопление людей и патрули карабинеров,
которые пропускали только тех, у кого были билеты. Затем, среди
толпы вооруженных молодых людей в черных рубашках, он заметил
Муссолини. Он знал его с 1915 года. Он подошел к нему и спросил:
"Господин Муссолини, не скажете ли вы мне, что происходит?". "Разве
вы не знаете?" - ответил он ему. "Я еду в Рим, чтобы установить
фашизм". "Поздравляю", - добавил журналист. И он сел в поезд вместе
с торжествующим дуче чернорубашечников.1
Американец в Италии
Моурер впервые встретил Муссолини в Милане 1 мая 1915 года, в тот
же день, когда он прибыл в Италию из Франции.
Ему было двадцать три года, и он жил в Париже с 1911 года, куда он
отправился учиться, намереваясь стать писателем. Как и многие
молодые американцы, он был очарован энергичным французским
мегаполисом. Париж был цивилизацией, первой, которую я видел", -
писал он в своих мемуарах2.
Европа тогда переживала прекрасный век торжествующей
современности. На самом богатом, самом культурном, самом
цивилизованном и самом могущественном континенте в мире более
сорока лет царил мир. И молодой американец разделял с миллионами
европейцев убеждение, что прогресс западной цивилизации,
руководствуясь разумом, одержав победу над многими болезнями,
которые тысячелетиями уничтожали людей, победит и страсть людей к
войне.3
И вдруг, 1 августа 1914 года, мирное царствование было поглощено
Великой войной. Моурер видел, как французские солдаты уходили на
фронт, но он не думал о том, чтобы записаться в армию, как это делали
другие молодые американцы, находившиеся в Европе, потому что
чувствовал себя отчужденным от воюющих держав. Через месяц,
находясь в Лондоне в гостях у своей невесты Лилиан, английской
журналистки, он получил предложение от газеты "Chicago Daily News"
поехать в Бельгию в качестве военного корреспондента. Он согласился
и таким образом смог лично наблюдать трагедию нейтральной страны,
в которую вторглась самая мощная армия на континенте и подвергла ее
безжалостной оккупации.
Опыт пребывания в Бельгии изменил отношение молодого американца
к европейскому конфликту: когда он вернулся в Париж на Рождество,
он стал горячим сторонником войны против Центральных империй. 27
апреля 1915 года, после того как слухи о предстоящем вмешательстве
Италии в войну против Австрии дошли до парижской редакции его
газеты, ему предложили отправиться в качестве корреспондента в Рим
или Вену. Он выбрал Рим только потому, что его невеста была
влюблена в Италию, а он, как англичанин, чувствовал себя в состоянии
войны с Австро-Венгрией.
1 мая Моурер был в Милане. Город был охвачен демонстрациями и
столкновениями между нейтралистами и интервентами. В Народном
доме он слушал ораторов-социалистов, клявшихся против войны.
Позже, в другом небольшом зале, он услышал "пламенного трибуна,
совершенно лысого", призывавшего своих слушателей поддержать
интервенцию Италии, чтобы завоевать Тренто, Триест и Далмацию,
или присоединиться к нему и совершить революцию.4
Когда он закончил говорить, Моурер представился оратору. Это был
Муссолини. Который, говоря по-французски, объяснил своему
американскому коллеге, что в начале войны, будучи лидером
социалистов и редактором газеты Социалистической партии "Avanti!",
он решительно выступал против интервенции Италии, но позже
услышал призыв родины, ушел с поста редактора "Avanti!" и основал
свою собственную газету "Il Popolo d'Italia", посвященную делу
интервенции и величию Италии. За это он был исключен из
Социалистической партии. Теперь, добавил Муссолини, нравится это
итальянцам или нет, страна вот-вот вступит в войну, и посоветовал
американскому журналисту пойти послушать речь Габриэле
д'Аннунцио, которую тот должен был произнести в Кварто 5 мая.
На следующий день Моурер был в Генуе. Сидя перед морем в лучах
прекрасного заката, он понял, что знает об Италии все. Ему были
знакомы имена некоторых итальянских музыкантов и Бенедетто Кроче,
но "о современной Италии, ее истории, ее проблемах, ее стремлениях
и ее культуре" он не знал "ничего". И он не мог понять, как могло
меньшинство заставить правительство ввергнуть страну в величайшую
войну всех времен, утверждая во имя "священного эгоизма", что
Италия должна освободить ирредентные провинции от австрийского
владычества и расширить свои границы до Далмации.
В Кварто Моурер выслушал поэта, провозгласившего себя ватагой
новой Италии. Ему не понравился этот персонаж: "маленький, жалкий
гистрион, сверхрафинированный и сверхрафинированный
одновременно, примитивный декадент".
5 Однако что его поразило в
д'Аннунцио, так это его способность возбуждать толпу до исступления
своей изощренной риторикой. Американский журналист никогда
прежде не видел такого количества людей, соблазненных столь
напыщенным ораторским искусством. Это была его первая встреча с
итальянским национализмом.
Через несколько дней Моурер был в Риме. Он был сразу же очарован
памятниками двадцатипятивековой истории города. В пансионе, где он
остановился, его первым учителем итальянского языка была маркиза,
националистка и ярая интервенционистка, но не гордившаяся древней
славой Италии, потому что, по ее словам, она принадлежала к векам,
когда Италия была разделена и порабощена. Молодой американец был
приобщен ею к знанию итальянского языка через чтение
"Божественной комедии".
Когда они подружились, она выразила свое возмущение тем, что
Италия и итальянцы слишком снисходительно, если не сказать хуже,
относятся к иностранцам, тогда как она, уроженка Пьемонта,
гордилась тем, что принадлежит к региону, который никогда не
покорялся иностранным князьям и боролся за освобождение всего
полуострова от иностранцев и объединение его в независимость. И
теперь она провозгласила себя интервентом не только потому, что
хотела освободить итальянцев от ирредентных провинций, но и
потому, что хотела, чтобы итальянцы, сражаясь, доказали, что они
достойны быть великой нацией.
Она восхищалась Муссолини и д'Аннунцио, верила каждому их слову
и с энтузиазмом читала националистическую прессу, которую
американец считал невыносимо фанатичной. Однако из их бесед
Моурер понял, что мотивы итальянского интервенционизма были
глубже, чем желание освободить Тренто и Триест и завоевать
Далмацию: война должна была доказать всему миру, что Италия -
великая держава. Возможно, в своих беседах она повторяла то, что
Муссолини в те дни писал в своей газете: "Режим нейтралитета, как и
все режимы отставки и отречения, угрожает "разложить" организм
нации".
Нейтралитет сделал нас злыми, трусливыми, разделенными,
деморализованными. Он сделал нас расчетливыми, эгоистичными,
холодными, циничными. Все "недостатки" итальянского характера в
последние месяцы "вырвались" на поверхность... Если нейтралитет
сохранится, завтрашняя Италия будет жалкой и проклятой нацией;
обреченной нацией, без автономии и без будущего; сказочники,
грубияны, арендаторы, чистильщики обуви, уличные музыканты будут
продолжать представлять миру итальянскую сущность, а мир живых
будет по-прежнему относиться к нам, побежденным без борьбы, с
некоторым состраданием и с большим презрением... к нам, мертвым
еще до рождения".
6 Интервенты, продолжал Муссолини, были
доказательством того, что "старая Италия сцитаранти и кантастори -
это не вся Италия: есть новая Италия, которую немцы не игнорируют,
потому что они видели ее трудолюбивой, плодовитой, трезвой,
упорной в шахтах Вестфалии и Лотарингии... Эта новая Италия имеет
тридцать пять миллионов жителей в своих границах; она имеет шесть
миллионов, рассеянных по всему миру. Завтра, когда будет
произнесено великое слово, все они составят гранитную и грозную
глыбу".
7
К войне с итальянцами
В последующие дни Моурер был свидетелем интервенционистских
демонстраций в центре столицы, слушал пламенные речи поэта-
витязя, который подстрекал римский народ восстать против
парламента, избить нейтралистов, избавиться от Джиолитти, которого
он презрительно называл "boja labbrone". А когда Италия вступила в
войну, Моурер пробил себе дорогу на фронт в качестве
корреспондента, и ему удалось, благодаря дружбе, которую он завел в
Риме среди политиков и военных, преодолеть запреты, наложенные на
журналистов из нейтральных стран.
В течение всего конфликта он находился на передовой, где сражались
итальянские солдаты, которые казались ему "порывистыми в порыве,
но в то же время лишенными энтузиазма".
8 Он женился на Лилиан, и
пара временно поселилась в Виченце. В конце октября 1917 года
журналист стал свидетелем разгрома Капоретто и оставался в Удине
до прихода австрийцев, а затем сумел добраться до нового
итальянского фронта, который отступил на Тальяменто. В
последующие месяцы он сотрудничал с профессором американского
университета Чарльзом Э. Мерриамом, который был направлен в
Италию по приказу президента Вудро Вильсона, "чтобы убедить
итальянцев, что они не одиноки и являются ценным союзником в
победоносной борьбе демократий".
9 Среди средств убеждения была
финансовая поддержка итальянских газет, которые подстрекали страну
к сопротивлению после Капоретто. Моурер вспомнил о "Il Popolo
d'Italia" и посетил Муссолини в скромной штаб-квартире его газеты в
Милане.
Муссолини был на фронте, где вел себя как хороший солдат, получив
звание капрала, но в августе 1917 года он был демобилизован в
результате ранения, полученного при случайном взрыве саперной
лопатки. Яростно стремясь подстегнуть правительство и страну к
сопротивлению и искуплению, редактор "Il Popolo d'Italia" был в
восторге от предложения финансовой поддержки со стороны
американского правительства. Моурер опасался, что попросит
непропорционально большую сумму; вместо этого он решил
предложить скромную сумму, которая была немедленно принята
посланником Вильсона. Моурер не знал, был ли выплачен грант, хотя у
него еще была возможность встретиться с Муссолини позже во время
войны.
Теперь Моурер считал себя обязанным всячески поддерживать
итальянское восстание. Чтобы донести до американцев важную роль,
которую Италия сыграла в Великой войне, начиная с интервенции и
заканчивая сопротивлением после Капоретто, и побудить свое
правительство больше поддерживать итальянские военные усилия, он
написал в начале 1918 года книгу "Солдаты Третьей Италии",
посвященную "итальянским солдатам, о подвигах которых он
рассказывает", но не смог найти издателя, готового ее опубликовать.
В последний год войны Моурер все еще находился на итальянском
фронте и даже участвовал в некоторых действиях против австрийцев
вместе с несколькими итальянскими офицерами, которые стали его
друзьями. Вместе с командиром Луиджи Риццо он совершил
авантюрный ночной рейд на Триест на борту MAS, а в июне 1918 года
следил за наступлением, которое проложило путь к окончательной
победе Италии. Но он не смог присутствовать на битве при Витторио
Венето, так как в начале октября тяжело заболел и был на грани
смерти: он подхватил "испанский грипп", грипп, который в 1918-1920
годах унес больше жертв, чем Великая война. Из-за своих страданий
он подумывал о самоубийстве, но его отговорила жена, которая тоже
была больна. Моурер еще лежал на больничной койке, когда
медсестра, которую он в шутку прозвал миссис Батчер, сообщила ему
новость о перемирии.
К счастью, Моурер выздоровел и на следующий день после окончания
конфликта возобновил свою работу в качестве корреспондента из
Рима, где он подружился с различными журналистами и
интеллектуалами, включая Джузеппе Преццолини, которого он назвал
"самым острым критиком".
10 Он часто путешествовал по Европе, от
Франции до Балкан и Турции, чтобы следить за мучительными
перипетиями мирных договоров, напряженностью и конфликтами
послевоенного периода.
После ужасающей массовой бойни Моурер надеялся на наступление
лучшей эры: вместо этого он стал свидетелем жестокого повторного
взрыва националистических антагонизмов между старыми и новыми
государствами, между победителями и побежденными, к которым
добавилось насилие классовых антагонизмов, раздутых
большевистской революцией, и распространяющийся политический
фанатизм военизированных экстремистов правого и левого толка.
Однако в тот же период, когда они не были за границей, Моурер и его
жена погрузились в изучение итальянской культуры "от загадочных
этрусков до Бенедетто Кроче". Они также совершали частые поездки
на полуостров, чтобы увидеть "как можно больше из того, что может
предложить Италия, от северных озер до Сицилии". Они прошли через
Венето, Абруцци, Кампанию и Апулию. "Короче говоря, - вспоминал
позднее Моурер, - е сли забыть о политике, как национальной, так и
международной, жизнь в Италии в годы сразу после Великой войны
была сплошным удовлетворением "11
.
Вечная Италия
Моурер очень любил Италию и итальянцев: он сам заявил об этом в
предисловии к книге "Бессмертная Италия", написанной в 1921 году и
опубликованной в США в начале 1922 года. Это был объемный том в
четыреста с лишним страниц, в котором журналист рассказывал о
событиях в Италии со времен объединения до первых послевоенных
лет и откровенно излагал свои наблюдения за итальянцами, чередуя
искренние и нериторические похвалы с жесткой критикой их обычаев,
менталитета, привычек, образа жизни и различных аспектов
итальянского общества, политической жизни и государства.
Однако в предисловии он уточнил, что критика была плодом
искренности наблюдателя, который в прошлом также критиковал
другие страны, включая свою собственную, поскольку был убежден,
что анализ недостатков нации без предубеждений - это способ внести
рациональный вклад в ее излечение. Более того, книга была посвящена
"итальянцам, независимо от рода и партии, которым удалось, среди
нетерпимости половины мира, сохранить в своей стране оазис
социальной и интеллектуальной свободы".
Моурер описал Италию как страну, "где сбываются мечты".
12
Обращаясь к своим соотечественникам, журналист призвал их изучать
и посещать Италию, потому что "увидеть и узнать Италию - значит
понять, почему Бог, глядя на свою работу, сказал, что она хороша".
13
Очарование Италии, объяснял Моурер своим американским читателям,
проистекает из ее прошлого, ее тысячелетних традиций, все еще
живых воспоминаний об ушедшей славе, красоты ее городов и
великолепия памятников и произведений искусства, разбросанных по
полуострову на протяжении веков. Завораживающая уникальность
Италии среди всех европейских стран заключалась в одновременном
присутствии на физическом пространстве полуострова огромного
разнообразия предметов, идей и обычаев, многие из которых для
американского журналиста были достойны восхищения.
Прежде всего, климат и ландшафт. Умеренный климат многих
регионов позволял только в Италии вести "истинно человеческую
жизнь". Полуостров был повсюду прекрасен своими природными
пейзажами, самыми разнообразными, какие только можно себе
представить, от гребней Альп до скал Апеннин и болот, похожих на
болота Луизианы14.
Журналист постоянно сравнивал Италию с Соединенными Штатами.
Он заметил, что итальянские пейзажи менее величественны, чем
американские, но превосходят их по совершенству природной среды и
преобразованиям, которые внес туда человек. Так же, как и
американские города, лишенные истории, всегда современные и
постоянно изменяемые требованиями современности, итальянские
города, пронизанные историей и гармонично сочетающиеся с
окружающей природой, казались более естественными, чем деревни,
процветающие на вершинах холмов.
Климат, природа и города были прекрасны, потому что они были
разнообразны, как разнообразно было и население Италии. "Хотя на
всем полуострове преобладает общий итальянский характер, еще
более характерным для Италии является богатство местных
характеров".
15 Разнообразие человеческих типов, порожденное
разнообразием природных условий и различными цивилизациями,
сменявшими друг друга на протяжении истории, сделало население
полуострова необычайно своеобразным: из всех народов белой расы,
утверждал Моурер, итальянцы были "настолько близки к тому, что мы
можем назвать цивилизацией".
16
Даже те недостатки, которые иностранцы находили в итальянцах,
предупреждал Моурер, были недостатками высокоцивилизованного
человечества, истощенного избытком жизненной силы, но способного
к "неожиданному пробуждению", как это неоднократно случалось на
протяжении его истории. В недавние времена, когда посторонним
казалось, что итальянцы обречены на безвозвратный упадок, как в
начале XIX века, "страна мертвых" вновь восстала как нация благодаря
инициативе энергичного и героического меньшинства, которое
совершило "чудесное чудо", обеспечив итальянцам политическое
единство и независимость суверенного государства после
четырнадцати веков разделения и порабощения иностранцами. "Нация,
способная дважды пробудиться от сна, похожего на смерть", - сказал
Моурер, - "заслуживает эпитета "бессмертная".
От Древнего Рима до эпохи Возрождения история Италии вышла за
пределы полуострова, потому что ее события имели ценность и
значение не только итальянские, и даже не только европейские, но
общечеловеческие: "Франция, Испания, Голландия, Англия, Германия,
какой бы вклад они ни внесли в создание человеческих ценностей,
оставались в рамках своего национального измерения, каждый со
своим национальным великолепием, но, конечно, смертными, тогда как
Италия - другое дело; она имеет национальное измерение, но в то же
время у нее есть нечто, что превосходит его: она обладает более
широкой духовностью, что делает ее, очевидно, бессмертной".
18
Климат, природа, история, человечность: для Моурера все
способствовало неповторимому очарованию Италии, которая после
долгих веков упадка, омрачившего славу Рима, Средневековья и
Возрождения, все еще казалась настолько жизненной, что
американский журналист считал, что однажды она снова
наэлектризует мир: "Ее универсальный дух, столь широко человечный
по сравнению с узким национализмом других народов, будет самым
мощным средством спасения, потому что итальянцы несут в своей
крови судьбу всей христианской эпохи".
19
Универсальная Италия
В том же году, когда Моурер опубликовал "Бессмертную Италию" в
США, в Англии вышла книга другого американца под названием
"Возрождение Италии". В начале книги говорилось, что универсальное
призвание к осуществлению спасения в единстве человечества
присутствовало в истории Италии со времен Августа: это "отводило
Италии в последние две тысячи лет уникальную пророческую роль,
сравнимую с той, которую играл Израиль в столетия до рождения
Христа".20 Автор, Джордж Д. Херрон был протестантским теологом в
возрасте шестидесяти лет; в последние десятилетия девятнадцатого
века он был ведущим выразителем Социального Евангелия в
Соединенных Штатах, религиозного движения, исповедовавшего
христианство, направленное на улучшение условий жизни и
эмансипацию рабочих классов. Херрон был активным членом
Американской социалистической партии, но в 1901 году, после развода
с первой женой и женитьбы на гораздо более молодой женщине, что
вызвало скандал среди членов его церкви, он покинул Соединенные
Штаты и поселился во Флоренции, где оставался до 1914 года.
После начала Великой войны Херрон переехал в Швейцарию и
выступал за вмешательство США. Он стал информатором по
европейской ситуации для американского и британского правительств,
которым он сообщал о своих беседах и переписке с немецкими
интеллектуалами и учеными, и выступал в качестве эмиссара
президента Вильсона, чтобы выяснить возможность мира,
поддерживая контакты как с представителями императора Карла
Габсбурга, так и с представителями славян. После окончания войны,
разочарованный Версальским договором и жесткими условиями,
навязанными Германии, он выразил свой протест в книге "Поражение
победы", опубликованной в 1921 году.
Книга "Возрождение Италии", написанная после пребывания в Италии
в 1920 году, стала последней из многочисленных книг Херрона,
опубликованных до его смерти в 1925 году. Во время ее написания
богослов беседовал в Риме с премьер-министром Джолитти,
министром иностранных дел графом Карло Сфорца, министром
образования Бенедетто Кроче, другими членами правительства и
Джузеппе Преццолини, своим другом со времен пребывания во
Флоренции.
Херрон заявил, что он "скорее любитель, чем критик Италии, скорее
адвокат, чем судья", потому что он был убежден, что Италия -
единственная страна, действительно преданная делу примирения
классов и наций, "с достаточным импульсом, чтобы предотвратить
окончательную катастрофу нашей цивилизации "21
. Миссия Италии, по
мнению протестантского теолога, вытекала из специфического
качества ее населения, которое со времен Августа и до наших дней
всегда находилось в поисках объединяющего человечество принципа,
принципа римского по своему происхождению, но универсального по
своей ценности, значению и цели: реализовать общество, где власть и
свобода будут объединены в разворачивании "божественного хода
человеческой жизни, где личность и человечество идут одним шагом в
восхождении вверх "22
.
Этот поиск, по мнению Херрона, был историческим призванием
Италии. К сожалению, итальянцы не всегда осознавали это призвание,
хотя оно и провозглашалось самыми подлинными голосами
итальянской души, от Вергилия до Кардуччи: голосами Святого
Франциска и Данте, Мадзини и Кавура. Прежде всего, Мадзини,
который задумал итальянскую революцию не просто национальной, не
просто европейской, а универсальной: свобода и единство Италии
должны были стать матрицами свободы и единства человечества.
Для Херрона универсальное призвание Италии вновь стало надеждой
для всего человечества после трагедии Великой войны, когда
подавленные и потерянные нации искали путь к спасению между
"самой суровой реакцией в истории", которую преследовал
международный финансовый капитализм, полностью "сошедший с
ума", и "мощной иллюзией" большевистской революции. Херрон
видел спасение человечества в "пробуждении Италии".
23
Со времен Рисорджименто новая Италия, воскресшая после веков
порабощения и моральной дремоты, добилась огромного прогресса,
продемонстрировав непреходящую жизненную силу своего народа.
"Сегодня в Италии звучат голоса новой национальной весны, истоки
которой находятся в Древнем Риме, истоки, которые всегда свежи:
весна итальянского народа кажется неиссякаемой".
24 И со все большим
акцентом Херрон восхвалял вечную молодость итальянцев: "Вы
забыли, что итальянцы никогда не стареют. И если вы неожиданно
видите их молодыми и свежими, как будто не было лет битвы, смерти
и предательства, возрожденными свободными и неприрученными, вы
чувствуете, что находитесь в присутствии народа, любимого Богом".
25
Итальянцы всегда были такими, и причина их вечной молодости,
заметил Херрон, объясняется "именно тем, что для нас является
основанием для главного обвинения против них: итальянец никогда не
покорялся богу чистой эффективности. Они никогда не подчиняли
свою жизнь материалистическим критериям, они никогда не
признавали, что ценность человека или нации заключается в изобилии
вещей, которыми они обладают, они никогда не считали
существование человеческой расы посвященным только производству
и потреблению материальных благ".
26
В современной Италии Херрон увидел зарю нового Ренессанса, о
котором свидетельствует распространение культуры в народе,
поскольку социальные проблемы, вопросы войны и мира, вопросы
внешней политики заставили интеллектуалов использовать понятный
язык, а среди молодежи распространилась новая страсть к чтению и
знаниям, открывая более широкие человеческие горизонты. Херрон
был согласен с "самым выдающимся итальянским философом
Бенедетто Кроче" в том, что империалистический национализм был
побежден идеализмом Мадзини, который имел христианские корни,
потому что в Италии, "как ни в какой другой стране, царит дух
симпатии и уважения к другим народам".
27 Духовный
интернационализм был древней итальянской привычкой ума, как
показывает ее история: "политическая мудрость, уравновешенность,
здравый смысл, ужас перед преувеличениями - неотъемлемые части
итальянского характера". И Херрон по-прежнему разделял убеждение
Кроче в том, что благодаря своей исторической традиции и
нынешнему состоянию национальной души итальянский народ
"обладает высокой квалификацией для содействия развитию
универсального общества "28
.
Херрон также предвидел новый ренессанс в живописи и скульптуре,
но не в футуризме и кубизме, которыми, по его словам, в Италии
больше не увлекались, а в итальянской традиции, не как подражание, а
как подлинное возвращение к духу древних, стимулированное
столетними юбилеями Леонардо и Рафаэля. Кроме того, он верил, что
новая итальянская литература не последует за д'Аннунцио в
декадентскую болезнь с апологией удовольствий и жестокости, потому
что "итальянец ищет духовные и социальные истины, и этот поиск
сегодня имеет своего пророка в Джованни Папини, который,
уединившись, посвящает долгие месяцы подготовке истории Христа,
которая будет обращена к народу". В философской области преобладал
идеализм Кроче и Джентиле, а также таких молодых людей, как Гвидо
де Руджеро, который погрузил философию в жизнь, признав, что Бог
проявляется в мире29.
Херрон восхищался Папини, потому что он отказался от футуризма,
политики и национализма, чтобы стать апостолом возвращения
Италии, человека и народов к Христу, иначе ничто не спасло бы
цивилизацию и Италию от распада. Среди секуляристов, помимо
великих философов-идеалистов, Херрон восхищался Джованни
Амендолой, который оставил многообещающую философскую карьеру
и посвятил себя политике, намереваясь привнести в реальность
национальную духовность, и богослов желал, чтобы "такой одаренный
человек смог реализовать свое предназначение и не был подавлен
злобными силами, которые во вселенском масштабе ждут, чтобы
завладеть политической властью "30
. Среди католиков, помимо
новообращенного Папини, Херрон восхищался историком религий
Эрнесто Буонаюти, сочетавшим "великий духовный пыл с подлинным
критическим духом и превосходной доктриной", и францисканским
монахом Падре Пио, "который скромно живет аскетом недалеко от
Фоггии, оказывая растущее влияние на католическую Италию.
Настоящий сын святого Франциска. Он переживает удивительные
мистические переживания и демонстрирует необычные, но реальные
духовные явления, такие как стигматы. От его лица на посетителей
исходит мощная обновляющая духовная энергия".
31
Из нового итальянского Возрождения у Херрона была причина
подтвердить свою убежденность в миссии Италии в мире,
опустошенном Первой мировой войной. Вдохновленный Мадзини,
теолог предвидел для Третьей Италии миссию по продвижению
универсальной цивилизации Третьего Рима как спасительной
альтернативы распаду христианской цивилизации, которому угрожал
большевизм. «Бессмертная Италия» может указать на новый путь
спасения человечества. «Новое Возрождение» Италии станет новым
Возрождением для всех наций.
1. НОВАЯ ИТАЛИЯ
Бессмертная Италия, универсальная Италия: эпитеты, которыми два
американца, влюбленные в Италию, воздали ей должное, возобновили
после Великой войны традицию итальянского мифа, культивируемого
многочисленными иностранцами, посещавшими полуостров в
прошлые века. Этот миф возник из очарования тысячелетней историей
Италии и разнообразием цивилизаций, сменявших друг друга в ее
регионах, от юга до севера, с самых отдаленных времен, оставляя
вечные свидетельства своей оригинальности в пейзажах, памятниках,
городах и музеях, где собраны бесчисленные произведения искусства,
созданные итальянскими художниками на протяжении веков, одни из
самых возвышенных и самых восхитительных в мире.
Для иностранных гостей миф о бессмертной и универсальной Италии
был вдохновлен в основном культом ее прошлого, в пределах
временного интервала, который начался с самых ранних италийских
цивилизаций и, пройдя через Magna Graecia, Рим и Средние века,
достиг Ренессанса или вскоре после него, только чтобы закончиться,
оставив после себя долгий период безвестности, прерываемый время
от времени проблесками одинокого величия, которые, однако, еще
больше подчеркивали общий упадок полуострова и убожество, в
котором жила большая часть его населения, погруженного в
многовековую летаргию, в то время как творческий гений цивилизации
эмигрировал за Альпы, в другие страны Европы.
Иностранцев, которые с XVIII века все чаще приезжали на полуостров,
также привлекали живописные образы его жителей, их традиционные
обычаи и образ жизни различных социальных слоев в разных
регионах.
Испытывая отвращение к более гнусным аспектам отсталых регионов,
особенно на юге Италии, очаровываясь и ужасаясь одновременно
рассказами о разбойничьих нападениях, насилии, дуэлях и вендеттах,
многие иностранцы наслаждались зрелищем - ведь именно такими они
представали их глазам - простых людей, веселых и беззаботных,
предающихся "dolce far niente", предающихся песням и танцам,
несмотря на бедность, нищету, грязь, в которой они жили, и при этом
умудряющихся использовать иностранцев в своих интересах, хитря,
обманывая или подневольно удовлетворяя их желания.
Затем было Рисорджименто: несколько меньшинств молодых
итальянцев пробудились от оцепенения светского рабства и,
воспламененные новыми идеалами свободы и достоинства,
всколыхнули "землю мертвых", размахивая флагом независимости и
единства. Путем войн и революций этим меньшинствам удалось
"достичь невозможного", как выразился Моурер: создать единое и
независимое государство.1
Объединенная Италия
Рисорджименто и объединение Италии происходили при содействии
других европейских государств, которые поддерживали войны
Савойского королевства против Австрии и усилия итальянских
патриотов по политическому объединению полуострова и созданию
новой, современной, единой и независимой Италии, основанной на
принципах свободы, человеческого достоинства, равенства граждан
перед законом и способной подражать самым передовым странам
Европы. Иностранцы, которые благосклонно смотрели на
Рисорджименто, посетив Италию в первой половине XIX века, больше
всего подчеркивали значение новых поколений, борющихся за свободу
и независимость, и с энтузиазмом приветствовали рождение
итальянского государства как достижение итальянцев, имеющее
значение для всего человечества.
Однако после объединения, столкнувшись с горой проблем,
навалившихся на новое унитарное государство, в умах иностранцев,
наблюдавших вблизи многочисленные трудности, с которыми
пришлось столкнуться новой Италии, возникли сомнения в ее
способности укрепить и развить свое единство, сохраняя при этом
веру в принципы свободы, достоинства и равенства. Как заметил
Моурер, после совершения великого подвига объединения перед
новым итальянским государством стояла не менее великая и трудная
задача: формирование национального духа, поскольку "национальное
единство существовало только на карте "2
.
Иностранцы, посещавшие Италию в первые десятилетия после
объединения, обращали больше внимания на зло, от которого она
страдала, чем на прогресс, которого она добивалась: Такие беды, как
подавление разбойничества, ужасающая экономическая, социальная и
моральная отсталость значительной части бедного населения,
особенно в Меццоджорно; низкое участие граждан в политике из-за
ограниченного избирательного права и враждебности церкви и
католиков к светскому государству, которое положило конец
временной власти папы; репутация плохого управления, которая
влияла на политический класс и правителей от центра до периферии.
Однако с течением десятилетий, несмотря на сильные толчки
социальных, экономических и политических землетрясений,
угрожавших его основам, новое государство не только не рассыпалось,
но, напротив, крепло и прогрессировало, хотя и отягощенное грузом
древних нерешенных проблем, к которым добавлялись новые
трудности, требующие сложного решения. Это побудило более
реалистичных иностранных гостей, менее отягощенных
предрассудками, более внимательно рассмотреть путь, который
объединенная Италия выбирала на пути к современности. Бенедетто
Кроче заметил в 1902 году в предисловии к книге "L'Italia d'oggi" двух
английских авторов, Болтона Кинга и Томаса Оки: "Поэтические книги
об Италии изобилуют, настаивая на прошлом, которое на сегодняшний
день является общим наследием европейской культуры. Есть и те, что
посвящены современности, но они часто продиктованы
недоброжелательностью и вырождаются в поверхностную сатиру. И не
менее поверхностными, хотя и оптимистичными и хвалебными,
являются некоторые из тех, кто стремится одержать легкую победу над
мелкими предрассудками или строит замки на облаках, в которых
итальянцы будут жить с такой же вероятностью, как и любой другой
народ!
Неаполитанский философ рекомендовал публикацию книги своему
издателю Латерца, оценив ее как "трезвый и энергичный голос,
который излагает вещи, а не фразы", потому что авторы
"сосредоточили свой взгляд на реальных и конкретных условиях, не
отвлекаясь на теории и общие тезисы, не позволяя себе соблазниться
ни оптимизмом, ни пессимизмом, ни нашим напыщенным
хвастовством, ни нашими иеремиадами "3
.
Со времен Рисорджименто, и особенно в первые пятьдесят лет после
объединения, книги иностранцев об Италии больше не были
посвящены исключительно воспоминаниям о былой славе мифической
бессмертной Италии и описанию эмоций, которые они испытывали,
гуляя среди монументальных памятников, переживших коррозию
времени, созерцая красоту ее городов и шедевры ее искусства,
хранящиеся в церквях, дворцах и музеях, или романтически
очаровываясь видом ее природных ландшафтов.
Особенно в начале двадцатого века появилось множество книг
иностранцев, иллюстрирующих новые и современные аспекты
реальной Италии, и, хотя в них по-прежнему подчеркивались
разногласия, конфликты, отсталость, бедность, невежество,
преступность во многих регионах, недостатки, убогость и коррупция в
обществе, государственном устройстве и политике, тем не менее, в них
уделялось достаточно места достигнутому прогрессу и
преобразованиям, которые сделали страну более современной,
улучшили условия жизни, способствовали развитию образования и
распространению культуры.
Английским читателям два автора "L'Italia d'oggi" хотели показать,
"что разногласия в итальянской жизни не настолько глубоки и не
настолько постоянны, как часто считают; и что под уродством плохого
правительства, коррупции и политической апатии скрывается молодая
нация, естественно наделенная качествами, которые делают народ
великим".
4
Празднование первых пятидесяти лет существования итальянского
государства стало поводом для похвалы, не только косвенной, со
стороны иностранцев в адрес объединенной Италии, которая на своих
выставках демонстрировала, наряду со славой прошлого, современную
славу промышленных завоеваний, гигантских общественных работ,
модернизации городов и производственных предприятий, которые
приблизили Италию к самым современным странам, хотя до них еще
оставалось огромное расстояние.
Анализируя прогресс Италии за пятьдесят лет единства, французский
исследователь социальных проблем Эрнест Лимонон заявил в 1913
году, что если принять во внимание "только точку отправления и точку
прибытия, то можно обнаружить огромный прогресс, такой, что,
казалось бы, ни одна другая держава не смогла бы добиться такого
прогресса".
5
Описывая "итальянцев наших дней" в 1912 году, после ливийской
войны, английский писатель Ричард Багот хотел опровергнуть многие
"ошибочные представления" об Италии и итальянцах и, прежде всего,
открыть глаза своим соотечественникам не только "на чудесный
прогресс, достигнутый Италией за пятьдесят лет национального
единства, но и на мужество, твердость цели, острый ум современной
итальянской расы, которых этот прогресс достиг посреди величайших
внутренних и внешних трудностей".
6
Багот сетовал на то, что интерес иностранцев к Италии, включая
британцев, все еще обусловлен "сентиментальными и эстетическими
соображениями", направленными на мифическое и идеальное
существо, что исключает итальянский народ, по отношению к
которому британцы продолжали питать предрассудки и негативные
стереотипы: они смотрели на него с презрением и насмешкой или с
сострадательным снисхождением, как смотрят на ребенка, полного
пороков и недостатков. Вместо этого, возражал Багот, мы должны
"убедить себя, что испорченный ребенок Европы, при рождении
которого, как нам хочется верить, мы сыграли полезную роль
акушерки, внезапно превратился в сильного мужчину; мы должны
больше не думать об Италии, но и об итальянцах... Рождаются
итальянцы завтрашнего дня, а мы, традиционные друзья Италии, даже
не потрудились подумать о тех, кто был вчера, а довольствуемся тем,
что время от времени выражаем снисходительное одобрение народу,
созданному нашим воображением и не имеющему ничего общего с
настоящими итальянцами".
7
Интервенционистская Италия
К похвалам в адрес прогресса объединенной Италии, высказанным
иностранцами в 1911 году, после 1915 года добавились похвалы в
адрес интервенционистской Италии со стороны ее новых союзников в
Великой войне.
Заклейменная Центральными империями как предательница, Италия
была признана союзниками героической, потому что, хотя она могла
оставаться нейтральной и воспользоваться преимуществами такого
положения, и несмотря на сильное давление, оказываемое в основном
Германией, с заманчивыми обещаниями и предложениями
территориальной компенсации и экономической компенсации, если
она останется на стороне Центральных империй или, по крайней мере,
сохранит нейтралитет, Италия решила вмешаться вместе с Францией и
Англией, когда еще ничто не предвещало их победы. Решение было
трудным, потому что оно было принято в стране, раздираемой
ожесточенными внутренними конфликтами между сторонниками и
противниками интервенции. И это было решение, на котором
настоятельно настаивали Франция и Англия, обещая адекватную
компенсацию, сопровождая его напоминаниями о древней дружбе и
помощи, которую две державы Антанты оказали Италии во время
Рисорджименто, и взывая к ее достоинству великой нации, которая не
могла смириться с преимуществами нейтральной страны, остающейся
равнодушной к жестокости держав, нарушающих нейтралитет
беззащитных народов.
"Не подобает достоинству великой нации, - предупреждал английский
журналист Эмиль Джозеф Диллон в 1915 году, - стоять в стороне,
когда две группы государств сталкиваются в борьбе за свою жизнь - и
одна из них за дело, которое также является ее собственным, - и
рассчитывать, как много можно выиграть от слабости той из двух,
которая останется непокоренной "8
.
На секретном подписании Лондонского пакта 26 апреля 1915 года
итальянское правительство, взвесив преимущества и риски
нейтралитета и интервенции, держа стол переговоров открытым как с
Антантой, так и с Центральными империями, в конце концов, во имя
"священного эгоизма" решило, что Италия не может оставаться в
стороне от войны и не может вмешаться в нее, кроме как выступив
против Австрии.
В дни бурных демонстраций интервентов и столкновений с
нейтралистами в Риме в мае 1915 года Моурер встречался с
дипломатами, бизнесменами, депутатами и журналистами, среди
которых преобладали умеренные элементы, выступавшие против
интервенции. "Они рассуждали, - вспоминал американский журналист,
- но против их рассуждений интервенты выдвигали либо
сомнительные аргументы, либо бурные вспышки и эмоциональные
разглагольствования "9
.
Большинство депутатов были на стороне Джованни Джолитти,
который выступал против интервенции, в том числе и потому, что не
знали, что правительство Антонио Саландры и Сиднея Соннино
подписало тайный договор с Францией и Англией, согласно которому
Италия должна была вступить в войну, а взамен, в случае победы,
получить Тренто, Триест, Истрию, Далмацию и новые колонии в
Малой Азии и Африке.
Интервенты ненавидели Джиолитти, поскольку знали, что в
противостоянии в Палате депутатов Саландра и Соннино не надеялись
на успех над пьемонтским парламентарием: "Джиолитти был боссом,
диктатором, хозяином".
10 В конце концов, именно интервенты
одержали верх на улицах, когда они ворвались в парламент, протестуя
против отставки Саландры и возвращения в правительство Джиолитти
или кого-то из Джиолитти. Король, выступая за интервенцию,
отклонил отставку. Интервенты победили. Узнав о тайном Лондонском
пакте, Джолитти прекратил всякую оппозицию. 20 мая палата
восстановила доверие к Саландре и утвердила решение об
интервенции: четыре дня спустя итальянская армия пересекла границу
Австрии. "Никогда не было более серьезного решения, -
комментировал Моурер, - но это было решение меньшинства,
решившего навязать себя, сознательно использовавшего незаконные
средства для блага страны "11.
Комментарии французских наблюдателей были иными: они полностью
положительно оценили решение итальянского правительства вывести
Италию из-под гегемонии Германии и втянуть ее в войну вместе с
Антантой, прислушавшись к голосу итальянцев, которые требовали
вмешательства не ради империалистических амбиций, а для защиты
права народов на свободу.
Жан Алазар, историк искусства, преподававший во Французском
институте во Флоренции, а также следивший за политическими
событиями в Италии как хороший знаток, вспоминал два года спустя в
книге, посвященной участию Италии в европейской войне: "Те, кто
пережил дни энтузиазма, верили с самого начала. Они понимали, что
политические причины для итальянского вмешательства были
слишком весомыми, чтобы не навязать себя силой. Они восхищались
народным порывом, который стал непреодолимым. На войну шли не
хладнокровно, а движимые импульсом великого патриотического и
человеческого идеала".12
Алазард особенно вспоминает обращение Муссолини к
интервенционизму. Подстрекательство к дерзости, брошенное
Муссолини итальянцам в первой статье "Il Popolo d'Italia", было
немедленно подхвачено "теми, кто, казалось, меньше всего был
способен поддержать революционный социализм, то есть
коллаборационистами из группы "La Voce": их лидер, Джузеппе
Преццолини, надолго стал главным автором "Il Popolo d'Italia". Это
был символический союз, который в действительности осуществил
мечту Муссолини - слияние пылких элементов в своего рода
национальную концентрацию пролетарских и интеллектуальных сил
"13.
По мнению Алазарда, было также естественно, что итальянцы,
которые рассматривали войну как конфликт, от которого будет зависеть
свобода Европы, и которые не ограничивали свои амбиции
завоеванием нескольких квадратных километров территории, должны
были "объединить свои усилия с усилиями такого человека, как
Муссолини, идеалиста с совершенно другими наклонностями, но
одинаково убежденного в моральной необходимости итальянского
вмешательства".14
Историк приветствовал этот союз, поскольку авторы "La Voce" в
большинстве своем были поклонниками французской цивилизации и
культуры, как и Муссолини, преподаватель французского языка, на
которого большое влияние оказала новая идеалистическая философия
из-за Альп и революционный синдикализм Жоржа Сореля.
Поклонниками Франции были и многие другие революционные
интервенты, такие как футуристы, и многие демократы, выступавшие
за войну.
На основе союза Франции и Италии Алазар предвидел в будущей
Европе, освобожденной от германской угрозы, окончательное
преодоление соперничества между двумя "латинскими сестрами",
укрепление их отношений во всех областях, культурной, духовной,
моральной, экономической и политической, включая создание общих
органов управления, как это представлял себе выдающийся
итальянский юрист, цитируемый Алазаром: "Так будет создано
государство, которое объединит в пучок две самые блестящие расы в
мире, которое будет держать в узде агрессивные духи любой державы
"15.
Испытание огнем
Великая война стала для Италии, по словам Моурера, "испытанием
огнем" ее национального единства и стремления стать великой
державой. Впервые итальянский народ вступил в войну как единый
коллектив ради национальной цели: освобождения итальянцев,
порабощенных Австро-Венгерской империей, завершения
территориального объединения с присоединением Трентино, Триеста и
Истрии, а также расширения границ до Далмации для обеспечения
господства Италии на Адриатике. Обо всех этих целях большинство
пехотинцев, отправленных на фронт, в основном крестьяне и
неграмотные, практически ничего не знали.
Италия осуществляла интервенцию в сложнейших условиях,
обусловленных настроением населения и отношением общественного
мнения к войне. Ни одно из других воюющих государств не вступило в
войну при противоположном мнении большинства населения и после
ожесточенных столкновений между интервентами и нейтралистами.
Как только начался конфликт, противоборствующие и
антагонистические партии, даже если они были антимилитаристами,
пацифистами и интернационалистами, в других воюющих
государствах объединили свои правительства, объединившись в
патриотический "священный союз". Но не так в Италии.
Начнем с того, заметил Моурер, что страну подтолкнуло к войне
меньшинство, которое смотрело далеко вперед, но было настолько
внутренне разделено между различными интервенционистскими
течениями, что не смогло сформировать единый моральный фронт для
противостояния нейтралистам. Более того, большая часть
образованного класса была настроена прогермански или, по крайней
мере, выступала против войны. Массы хотели мира, даже если их
мнение не учитывалось. "Для масс война была отвратительным и
глупым навязыванием правительства, как налоги, которых нужно
избегать, если возможно, и покорно принимать, если необходимо". С
помощью этих трех элементов - разделенной, но восторженной
интеллигенции, выступающей за войну, образованных людей,
враждебных войне, и некультурных людей, пассивно выступающих
против, - Италия должна была сформировать огромную вооруженную
силу. Здравый смысл подсказывал, что первой важнейшей проблемой,
которую необходимо было решить, было создание общего
национального морального духа путем дискуссий и пропаганды. Но
здравый смысл был именно тем, чего в значительной степени не
хватало итальянскому правящему классу "16.
Смесь посредственного интеллекта, риторики и хитрости
характеризовала правящий класс объединенной Италии, состоявший
из людей, которые, по словам Моурера, не говорили на одном языке с
людьми, которыми они управляли, и игнорировали экономические
вопросы. "Баланс сил, контроль над Адриатикой, Тренто и Триест,
национальное прошлое: это были их символы и предмет их мыслей.
Но простой народ, составлявший основную часть армии, не заботился
о балансе сил и игнорировал национальное прошлое "17.
Тренто и Триест, по мнению Моурера, могли бы сказать что-то массам,
чтобы подтолкнуть их к войне, если бы предыдущие итальянские
правительства не подавляли каждую демонстрацию ирредентистов в
знак уважения к Тройственному союзу. Вместо этого большинство
южных итальянцев имели лишь смутное представление о том, что
такое Австрия, а тысячи и тысячи крестьян считали австрийцев,
против которых они воевали, жертвами, как и они сами, а не
врагами.18
Моурер, как и многие другие иностранцы, был убежден, что
итальянцы любят воевать между собой, но что они не являются
воинственным народом, потому что "они ненавидят войну и являются
последними людьми в мире, готовыми очаровываться призраками
ложной славы". Среди итальянцев престиж армии низок". Кроме того,
заметил Моурер, со времен римских легионов итальянцы не сражались
плечом к плечу, как народ, объединенный общей войной против
общего врага. Поэтому среди иностранцев, да и среди немногих
итальянцев, была широко распространена идея, "что итальянцы не
осмеливаются воевать, а если и могут, то не воюют. Итальянец как
личность способен на безграничный героизм, но он не может быть
доминирующим и дисциплинированным внешней традицией, и если
им не движет внутренний импульс, он быстро становится
безразличным". Поэтому неудивительно, - заключает Моурер, - что
строгие иностранцы плохо думали об итальянце, когда Джованни
Джолитти, как говорят, утверждал, что итальянцы никогда не захотят
воевать".19
И все же он сражается
Во время войны иностранцы, наблюдавшие итальянцев на фронте,
высказывали отличное от Моурера мнение об их способности воевать.
Итальянские солдаты, писали два французских автора в 1916 году в
книге о воюющей Италии, развеяли легенду о том, что "итальянцы не
воюют": напротив, они храбро сражались, причем на трудных фронтах
на большой высоте; а "патриотическая зараза" распространилась на
сельскую местность, откуда пришло большинство сражающихся
пехотинцев. Авторы согласились с сомнительной оценкой, которую
многие иностранцы давали объединенной Италии. После героических
лет Рисорджименто, утверждали они, итальянский народ выглядел
уставшим и, казалось, забыл воспоминания о древней славе, любовь к
родине, стремление к величию, которые вдохновляли Мадзини,
Манина, Джоберти, Кавура и Гарибальди. Итальянцы превратили
триумфальные лавры этих "гигантов истории" в "удобную кровать для
отдыха", позволив себе погрузиться в унылый скептицизм20.
Затем, с началом Великой войны, интервенция возродила моральную
энергию итальянцев, оживила их на полях сражений и внушила им,
народу индивидуалистов, склонному к анархии, новое коллективное
чувство солидарности.21 Таким образом, с участием в войне Италия
укрепила и обновила свое единство, оставаясь верной вдохновению и
идеальной функции своего Рисорджименто.22 Похвала новой Италии
со стороны Франции была особенно значимой, поскольку после
Рисорджименто, в которое Франция внесла свой вклад в 1859 году,
"латинская сестра" до 1870 года была не более чем "латинской
сестрой".
Похвалы в адрес новой Италии с французской стороны были особенно
значительными, поскольку после Рисорджименто, в которое Франция
Наполеона III внесла свой вклад в 1859 году, "латинская сестра" до
1870 года была мало склонна к укреплению нового унитарного
государства. Она не только была главным сторонником сохранения
папских государств, но и в последующие десятилетия стала главным
соперником Италии в Средиземноморье.
Вплоть до кануна Великой войны между двумя "кузинами", е сли не
совсем латинскими "сестрами", как их определяла патриотическая
риторика Рисорджименто во времена союза Франции и Пьемонта во
Второй освободительной войне, были моменты напряженности. Но
после выбора интервентов вся прошлая неприязнь, казалось, исчезла,
и французские посетители итальянского фронта не жалели признания
доблести, мужества и героизма итальянцев, некоторые из которых
добровольцами сражались бок о бок с французами с 1914 года. И это
французы не должны были забывать, наставлял Поль Хазард, историк
литературы и исследователь итальянской культуры, который долгое
время до войны жил в Италии. "Что мы никогда не должны забывать, -
писал Хазард в 1921 году, - е сли мы не хотим судить об итальянской
душе иначе, чем о нашей собственной, на основании наших привычек
и предрассудков, так это сами условия итальянской войны. Ее вела,
направляла и вела к победе не нация, само существование которой
было под угрозой, а меньшинства, которые смогли мобилизовать
колеблющийся народ, заставив его встать на сторону справедливости и
закона. Было и итальянское чудо, а именно выступление Италии на
стороне Антанты, несмотря на противоположные усилия ее союзника
Германии. Было бы несправедливо не испытывать благодарного
уважения к архитекторам такой моральной победы "23.
Не обошлось и без похвалы со стороны американских союзников. В
начале 1917 года журналист и историк Уильям Кей Уоллес
опубликовал книгу "Великая Италия", в которой, как он объяснил в
предисловии, он хотел показать американским читателям важную
роль, которую Италия сыграла в мировой истории последних
десятилетий и, прежде всего, в европейской истории вплоть до
Великой войны, когда, будучи союзником центральных империй, она
поняла, что больше не может связывать свою судьбу с амбициозной и
агрессивной Германией, и решила выступить вместе с союзниками,
чтобы гарантировать миру справедливый мир.
Уоллес также присутствовал на итальянском фронте: "Мне
посчастливилось быть на фронте или рядом с фронтом с итальянскими
армиями в разное время, я присутствовал в трудные дни, когда
Австрия начала майское наступление в 1916 году, и там я смог понять
кое-что о бесстрашной доблести храбрых сынов объединенной
Италии, которые шли на смерть по плоскогорьям с гирляндами цветов
вокруг своих пыльных шлемов, с улыбкой на устах и песней в сердце.
Четкая эффективность, спокойное поведение, твердая решимость
офицеров и солдат перед лицом такой серьезной опасности открыли
мне новую Италию: динамичную, энергичную, предприимчивую,
смелую, одушевленную энтузиазмом оптимистической жизненной
силы "24.
Это была та новая Италия, которую Уоллес хотел донести до
американцев, чтобы опровергнуть живописный и злобный образ,
распространенный в Соединенных Штатах, который представлял
итальянцев варварами, бездельниками, нищими, играющими на
мандолине и поедающими макароны, готовыми обманывать и
мошенничать, жестокими и свирепыми, как бандиты, но неумелыми и
трусливыми, как солдаты. Вместо этого война выявила их доблесть и
лучшие достоинства, поэтому Уоллес был убежден, что "будущее
многое сулит Италии. Путь к великой Италии открыт". Новая Италия
заслуживала справедливого вознаграждения за свой решающий вклад
в победу союзников. И хотя в начале 1917 года еще рано было говорить
о победе, Уоллес считал, что, какой бы ни была судьба конфликта,
Италия уже добилась большого успеха, потому что она сражалась не
только за расширение своей территории и увеличение богатства, но и
за защиту и утверждение принципа гражданства, сотрудничая, чтобы
"снова принести мир, безопасность и свободу в Европу "25.
Италия побеждает
Катастрофа при Капоретто в октябре 1917 года, казалось, опровергла
предсказания американского историка о "великой Италии".
Английский историк Джордж Маколей Тревельян стал свидетелем
итальянского поражения. С сентября 1915 года по ноябрь 1918 года
Тревельян находился на итальянском фронте в качестве командира
отделения британского Красного Креста по перевозке больных и
раненых с передовых перевязочных пунктов, и более трех лет жил "в
постоянном ежедневном контакте с итальянцами всех классов, иногда
посещая их столовые, всегда получая их приказы, обсуждая с ними
детали службы, ежедневно загружая их больных и раненых в наши
санитарные машины "26. 26 Живя вместе с пехотинцами в самых
болезненных и тяжелых для них условиях, когда раненых собирали в
госпиталях, в "ночи грязи и крови", с ноября 1915 года, во время
третьего наступления на Изонцо, когда потери итальянцев составили
более 65 000 человек, историк ощутил "глухое течение враждебности к
войне, которое распространялось среди крестьянских солдат,
доблестно сражавшихся и храбро переносивших невероятные
лишения. Я с грустным предчувствием думал, устоят ли они еще год.
Но они продержались еще два года до Капоретто; и они
оправились".27 Капоретто, продолжал Тревельян, "разразился как
молния. Оно чуть не разрушило Италию и чуть не подорвало дело
союзников, но в итоге дало первым новую цель и новую национальную
дисциплину, а вторым - более тесное единство".28
Английский историк пересмотрел способ участия Италии в конфликте,
чтобы объяснить причины поражения при Капоретто. Солдаты были
отправлены на войну, не зная причин и целей войны,
неподготовленными, с неадекватным оружием и недостаточным
снабжением, брошенными на убой в многократных наступлениях,
подвергнутыми суровым и жестоким условиям жестоко навязанной
дисциплины.
Учитывая эти условия, Тревельян был поражен тем, что итальянское
отступление не произошло раньше, и не менее поражен тем, что
"армия и народ Италии оправились и восстановили свой "боевой дух",
навязав себе новую и лучшую дисциплину". И это не могло не вызвать
его восхищения, потому что "эти крестьянские солдаты не были так
образованы, как британские и американские солдаты, чтобы понять
цели и идеалы войны, и не были охвачены ужасом, как те, кто
находился в рядах противника. Инстинктивный патриотизм, природное
мужество, крестьянское телосложение и терпение привели к тому, что
итальянцы привыкли нести огромные военные потери, которые
составили 461 000 погибших при численности населения, едва
соответствующей половине белого населения Британской империи".29
После Капоретто Моурер также заметил трансформацию итальянцев:
политиков, командиров, солдат, гражданских лиц. Мы, иностранцы,
оказались перед лицом нового народа. Рисорджименто, Гарибальди,
Коммуны, древний Рим теперь стали понятны... Старые и негодные
добровольно шли на активную службу, мужчины в безопасных и
удобных местах просили отправить их на фронт, а новобранцы
восемнадцати и девятнадцати лет демонстрировали спокойную
готовность к самопожертвованию, зрелое чувство ответственности и
безумную храбрость. И чем ближе они подходили к фронту, тем выше
становился дух мужчин "30.
Но самая важная перемена произошла в рядовом солдате, который
"никогда не верил в войну, никогда не ненавидел врага и выражал свое
душевное состояние в сотнях язвительных песен. Теперь, однако, что-
то новое подтолкнуло его сказать, что он любит свою родину, свою
армию, свою Италию, захваченную врагом. Впервые он сражался с
убежденностью, с гордым мужеством и холодным презрением к
смерти, думая о своей семье и своей чести". А американский
журналист, который был на фронте с самого начала войны, в Бельгии,
Италии, на Балканах, зашел так далеко, что заявил, что он "никогда
прежде не жил в контакте с таким возвышенным телом скромных
героев". В огне катастрофы мир ожидал, что итальянское железо
разжижится, но вместо этого оно закалилось в сталь". Моурер
утверждал, что "Италия спасла себя, не получив помощи", потому что,
пока итальянцы сражались, на итальянском фронте французские и
британские дивизии ждали за линией фронта, неподвижные, но
готовые в случае итальянского поражения броситься в бой. Роль,
которую сыграли союзники в ноябре 1917 года, была "чисто
моральной, подобной той, которую позже сыграл американский
Красный Крест".31
В 1921 году Моурер хотел ответить многим иностранцам, которые
после окончания мировой войны пытались преуменьшить роль Италии
в Великой войне, сведя ее к незначительному факту, в то время как
многие итальянцы в ответ на это превозносили ее сверх меры, даже
сделав главным элементом всех военных усилий. Придерживаясь
фактов, Моурер обратил внимание иностранцев на важность
интервенционистского выбора, сделанного Италией, и ее участия в
войне.
Например, отметил журналист, Италия могла бы привести к гибели
Францию, если бы в 1914 году перешла на сторону Центральных
империй. Более того, Италия считала, что ее вмешательство будет
решающим для окончания войны; но когда она поняла, что это не так,
она могла бы сохранить независимость действий и выйти из
конфликта: вместо этого она с "великим великодушием" подписала
пакт с союзниками, исключающий сепаратный мир, и объявила войну
Германии. Моурер также добавил, что вклад Италии в победу был
меньше в плане военных обязательств, экономических усилий и
пожертвований жизнями, чем у союзников. В военном отношении
Италия дала все, что могла дать. Она мобилизовала 5 200 000 солдат.
Ее потери, пропорциональные численности населения, были такими
же высокими, как у Великобритании, и намного выше, чем потери
Британской империи. Ее финансовое кровотечение было
пропорционально больше, чем у союзников. Лишения, которым
подвергся ее народ, были более суровыми, чем у любого из основных
союзников".
Конечно, Моурер признал, что большая часть военной мощи Италии
была растрачена из-за неправильного ведения войны и естественных
препятствий. "Пока не произошел крах России, значение Италии в
общей ситуации было невелико. Но с лета 1917 года и до прибытия
большого количества американских войск во Францию оборона
Италии была абсолютно жизненно важна для дела союзников, и если
бы Италия сдалась, союзники не выиграли бы войну". Таково было
значение Италии в войне. И она выполнила свою задачу без колебаний.
Италия потерпела самое впечатляющее поражение за всю войну при
Капоретто, но при Витторио-Венето она одержала самую выдающуюся
победу "32.
Война, заключил американский журналист, была для итальянцев
гораздо большим, чем участие в гигантском конфликте: "Это был
экзамен на их моральное право на демократию и независимость, на их
потребность в уважении, на их характер и способности. Поражение
означало бы гибель, а возможно, дезинтеграцию и порабощение.
Поэтому победа была гораздо больше, чем победа над Австро-
Венгрией: это был триумф новых итальянцев. Новые итальянцы,
воспитанные войной, одержали победу, писал Моурер, цитируя
Преццолини, "над бесславным прошлым, над невежественным и
буйным итальянцем, умственно старым, риторическим в литературе,
высокомерным в успехе, подавленным в несчастье, властным, когда он
побеждает, подневольным, когда проигрывает".33 "В ноябре 1917 года,
- заключил Моурер, - современная Италия стала взрослой, а Австро-
Венгрия потерпела моральное поражение, которое впоследствии
привело к ее физическому поражению "34.
Американский журналист согласился с другими наблюдателями
союзников, отдавая должное доблести солдат и, в целом, итальянского
народа, который через "испытание огнем" войны, казалось, стал новым
народом. Родилось новое поколение, которое ничем не уступает такому
же поколению в других странах", - заявил в 1918 году французский
эссеист и критик Андре Морель35. Исследователь итальянской
культуры и искусства, он был свидетелем интервенционистских
выступлений в Италии и несколько раз посещал полуостров в 1916-
1917 годах, отмечая, как опыт войны укрепил моральное и
политическое единство страны, в то время как производственные
усилия активизировали трудовую и предпринимательскую энергию, а
идеализм в сочетании с реализмом ускорили модернизацию страны,
сделав национальные чувства более конкретными и действенными36.
В офисах и мастерских, по словам Мореля, "дышишь новым, бодрым
воздухом, который может распространить только молодость". Повсюду
француз видел молодых итальянцев за работой: молодых
промышленников, молодых рабочих, молодых интеллектуалов,
молодых бойцов. В заключение он сказал: "После того, что я
наблюдал, я твердо верю в будущее процветание индустриальной
Италии, процветание, одним из главных факторов которого будет
молодость лидеров и их главных сотрудников. Итальянская нация
молода, ее персонал также молод: пылкая, амбициозная, доблестная
молодежь, готовая к любым усилиям".37
2. ИТАЛЬЯНСКАЯ ИТАЛИЯ
Новая Италия времен Великой войны заставила иностранных
наблюдателей относиться к итальянцам с симпатией, ценя те качества,
которые отличали их от других народов, а в некоторых отношениях и
превосходили их. Моурер заявил, что "нет двух составляющих белой
расы, которые были бы менее приспособлены к совместной жизни, чем
средний итальянец и средний американец".1 Тем не менее, добавил
журналист, американцам есть чему поучиться у итальянцев, особенно
в искусстве жить. "У итальянцев меньше материальной пищи, чем у
американцев, но иногда кажется, что они могут накрыть более богатый
стол в искусстве жить".2 Восхваляя итальянское искусство жить,
Моурер зашел так далеко, что заявил: "Тот, кто познал и понял
Италию, добавил новое измерение к своему существованию. Он стал
мудрее и более близким человеком, менее поверхностным оптимистом
и в то же время более снисходительным и терпимым к человеческим
грехам "3.
Итальянское искусство жить
В первой главе "Бессмертной Италии", озаглавленной "Там, где
сбываются мечты", среди причин очарования Италии иностранцами
Моурер указывает на отношение итальянцев к себе и к жизни.
"Итальянец спокойно принимает себя таким, какой он есть, с его
достоинствами и недостатками".4 Итальянцы искренне почитали
святых, но что касается их самих, то они не утверждали, что состоят
только из духа. Добродетелями итальянца были откровенность,
непосредственность, простота, искренность и, прежде всего, способ
принятия существования, который делал его способным наслаждаться
хорошей едой, хорошей погодой и противоположным полом, и в то же
время заставлял его терпеливо переносить трудности и лишения,
никогда не предаваясь излишествам или худшим порокам: "В Италии
пьянство не распространено, жестокость редка, добровольная
жестокость почти неизвестна "5.
Эмоционально простые и спонтанные, итальянцы проявляли по
отношению к иностранцам любопытство, равное лишь их готовности
раскрыться перед другими: "Итак, они признаются в своих грехах,
своих предпочтениях, своих социальных и политических амбициях, но
от вас они ждут интереса и сочувствия. Которые вы даете, потому что
понимаете, что этот свободный обмен является источником радости
для итальянца". Но, почти противореча образу итальянца, умеющего
радоваться жизни, Моурер отметил, что "в Италии не хватает радости.
Жизнь - это, по сути, серьезное дело, и хотя смех легко звучит на устах
итальянцев, в их жизни почти нет юмора и мало комедии... Простой
итальянец получает мало удовольствия от жизни и не стремится к
удовольствиям".
Причина в том, что он перестал верить в удовольствия. И это не
потому, что у него нет средств или возможности их получить: ни в
одной стране мира роскошь и развлечения не стоят дешевле. Но
виновата сама жизнь, и вина эта в природе вещей, непоправимая...
Жизнь не выполняет своих обещаний, и смерть неизбежна: так зачем
же цепляться за жизнь? ... Итальянцы очень похожи на восточных
людей в своем отсутствии юмора, трезвости и презрении к смерти...
Среди европейцев только итальянцы, кажется, все еще способны
оценить красоту трагедии".6
Восхищаясь итальянским искусством жить, Моурер гораздо больше
внимания уделял его недостаткам, которые занимали значительное
место в его анализе характера и поведения итальянцев, какими он знал
их в течение семи лет своего пребывания на полуострове. Однако
журналист заранее предупредил своих американских читателей, что
"любой дурак может составить самонадеянный список слабостей
итальянцев", но понять, в чем они превосходят других, гораздо
сложнее, поскольку их качества проявляются постепенно, а недостатки
лежат на поверхности7. Более того, отметил Моурер, отмеченные им
общие недостатки не могут быть отнесены без разбора ко всему
народу и к каждому отдельному итальянцу, но он настаивал на том, что
существует "настоящий итальянский характер": "Если бы мы могли
создать национальное образование, составное существо, включающее
в себя сущность всех итальянцев, я думаю, оно было бы наделено
этими общими недостатками".8
Итальянец и американец
Моурер анализирует недостатки итальянцев во второй главе
"Бессмертной Италии", озаглавленной "Плохое пробуждение". Чтобы
понять значение этого названия, следует отметить, что первая глава,
посвященная празднованию бессмертной Италии, заканчивается
меланхолическим размышлением об отсутствии радости в итальянской
жизни. И к основным причинам этого недостатка Моурер, вероятно,
относит сами недостатки итальянцев, которые для иностранца,
влюбленного в Италию, где мечты становятся реальностью, были
грубым пробуждением.
Глава начинается с цитаты друга-музыканта: "Итальянцы - прекрасные
певцы, но когда они поют в хоре, они всегда не в такт". А журналист,
разделявший это суждение, добавил, что итальянцам не хватает
чувства сотрудничества: "Когда они работают, они работают в
разногласиях; когда они думают, они думают в разногласиях. Даже их
общая жизнь безнадежно индивидуалистична, и следствием этого на
поверхностный взгляд может показаться неминуемая анархия".9
Моурер предварял свой анализ итальянских недостатков сравнением
характера среднего итальянца и характера среднего американца.
Например, американцы верили в эффективность действий, меньше
заботились о добрых намерениях, хороши были только те, которые
прокладывали дорогу в ад: спасение было в делах. Итальянцы,
напротив, придавали большее значение мотивам, признавая, что все
люди - великие грешники и могут быть спасены только бесконечным
прощением Бога. Американцы верили в нравственный прогресс и в
глубине души боялись лжи, поскольку считали, что "честность -
лучшая политика", и действовали соответственно. В отличие от них, "у
итальянцев мало моральной энергии, и они лгут о многих вещах из
равнодушия или из желания угодить".
Американцы были немногословны в признании своих грехов, тогда как
итальянцы признавались в них "с возвышенной простотой, которая
делает их дорогими для ангелов, тогда как англосаксы считают это
абсолютным отсутствием порядочности". В результате "фасад
американской жизни кажется относительно безупречным, в то время
как фасад Италии представляется иностранцу лицемерным и
болезненно испачканным". Американцы боятся и почитают
общественное мнение и никогда открыто не оспаривают его вердикты.
Именно поэтому они стараются казаться моральными, даже если это
не так... Итальянцы мало заботятся о мнении других или их образе
жизни и терпимы до пассивности... Американцы дружелюбны и
открыты для дружбы, щедры в гостеприимстве, потому что могут себе
это позволить, в то время как итальянцы смотрят на иностранцев с
подозрением, и даже когда они богаты, они ненавидят давать что-то
просто так... Американцы щедры, но не благотворительны, в то время
как итальянцы изобилуют благотворительностью, которая, по словам
святого Павла, превосходит веру и надежду. И все же жить с
итальянцами утомительно".10
Противоречивое богатство национальной души
Был один аспект итальянского характера, в котором сходились все
иностранные наблюдатели: итальянцы, по словам Моурера, были
"бескомпромиссно индивидуалистичны".11 "Первая черта, которую вы
обнаруживаете в итальянцах, - это индивидуализм", - вторил ему
другой американец, Клейтон Седжвик Купер, путешественник,
посетивший Европу и Италию после Великой войны.12
"Индивидуализм, - утверждал Купер, - это ключ к итальянскому
характеру. Слава нации в прошлом сгруппирована в отдельных людях.
Итальянцы собираются ради личности, а не ради принципа. История
великих эпох Рима и Италии может быть прочитана практически в
образах Цезаря, Данте, Мадзини или Гарибальди". "Говорят, -
продолжал Купер, - что на войне итальянский солдат нуждается в
четком информировании о причинах, по которым он сражается, и о
целях битвы - потому что он настоящий индивид и не может принять
приказ без понимания, как-немецы».
По мнению француза Мориса Перно, исследователя социальных и
международных проблем и знатока многих европейских стран,
включая Италию, которую он посетил из конца в конец после Первой
мировой войны, в Европе нет другого народа, "столь демократичного",
как итальянский, и нет другой страны в Европе, где "индивидуализм
был бы так развит", как в Италии: "Иерархия и солидарность -
абстрактные понятия для итальянцев, которые, кажется, не
соответствуют никакому естественному чувству. Там сильно
подчеркнуты различия между отдельными людьми, как вверху, так и
внизу социальной шкалы, и это разнообразие отчасти объясняет
притягательность, которую итальянцы оказывают на иностранцев".14
По этой причине, согласно Перно, ни один итальянец не считал себя
ниже другого, но в лучшем случае - другим.
Следствием такого отношения, однако, была не здоровая и прочная
демократия, а скорее широко распространенная анархия, которая
проявлялась в презрении к другим, неуважении к законам и отсутствии
дисциплины. Мы от природы недисциплинированны", - сказала Полу
Хазарду одна миланская дама, чей муж управлял сотней рабочих. А в
Риме, в трамвае, Хазард слышал человека, который "ворчал "Я
поступаю по-своему", при этом плевал на пол вагона, в лицо правилам,
людям и богам".15
Приписывание итальянцам преувеличенного индивидуализма
дополнялось рассуждениями о разнообразии и противоречивости их
характера, которые для многих иностранцев были источником
восхищения. Противоречия итальянской души - это ее богатство", -
утверждал Хазард. Он назвал итальянца эмоциональным человеком,
"чувствительным к малейшим нюансам чувств, и его трудно убедить
рационально, если сначала не затронуть его чувства. Он чрезвычайно
восприимчив, и если его ранить, то все будет потеряно".16
Итальянская душа была нежной, но могла быть и суровой и жестокой.
В то же время итальянец обладал практическим чутьем, имел
склонность к бизнесу и вкус к прибыли, никогда не упускал из виду
свои непосредственные интересы и сразу же стремился к их
реализации. Итальянец, добавляет Хазард, любил риторику,
изысканные речи, величественные комплименты, но здравый смысл
также был его качеством, превосходящим все суперлативы в мире; он
любил представления, внешность, приличия, заботился о том, чтобы
"произвести впечатление", но больше всего он любил простоту,
добродушие, а иногда и нахальство17.
Тщеславие и риторика
В своем списке недостатков Моурер считал особенно серьезными
"тщеславие, зависимость от пустых слов и неумеренное удовольствие
слышать, как говорят".18 Эти недостатки, безусловно, присутствовали
и у других народов, но для Моурера они были настолько характерны
для итальянцев, что их можно считать "почти сугубо итальянскими".
Тщеславие было "продуктом прошлых достижений, преобладающего
невежества и вечного индивидуализма". Будучи широко
распространенным недостатком, тщеславие принимало у итальянцев
множество форм, препятствуя любым усилиям по обновлению для
эффективной современной жизни. Итальянцы говорили: "Какая
необходимость меняться, когда все итальянское уже является образцом
для всего мира?". Удовлетворенные этой презумпцией превосходства,
они легко льстили своему тщеславию, когда называли себя потомками
и наследниками римской цивилизации, младшими братьями Данте.
Но худшим недостатком, чем тщеславие, по мнению Моурера, была
любовь итальянцев к риторике, к самовосхвалению собственных
достоинств, собственного гения, собственного превосходства над
всеми другими народами. В этой связи Моурер процитировал фразу,
сказанную Франческо Саверио Нитти группе американских
журналистов: "Мы, итальянцы, не совершаем революций, мы
произносим речи".
Даже если она не точна до буквы, прокомментировал Моурер,
высказывание Нитти верно по существу, поскольку он сам видел, как
из-за риторики "огромное количество национальной энергии уносится
на ветер". Итальянцы любят "пускать по ветру", сказал журналист, и
сравнил их риторику со "словесным газом". Затем он добавил: "Эта
привычка была бы безобидной, если бы не тот факт, что этот
словесный газ гораздо более смертоносен, чем тот, что используется на
войне, потому что он создает завесу между говорящим и реальностью,
давая искаженное представление о ней. Так уж повелось, что
итальянцы видят все сквозь дымовую завесу гиперболизации,
риторики и просто глупостей".19
Моурер испытал на себе "словесный газ" национализма после первой
оратории д'Аннунцио в "Кварто". Во время войны он наблюдал
галлюцинаторное воздействие "словесного газа" на итальянских
командиров и солдат. Чтобы не дать общественности узнать реальную
картину конфликта, командиры, жадные до власти и славы,
использовали военных корреспондентов для возведения риторических
занавесов, восхваляющих славные наступления, организованные
блестящими генералами, проведенные героическими солдатами и
завершившиеся громкими победами. И итальянская публика, которая
сначала была настроена скептически, не смогла противостоять таким
порывам своего тщеславия и в итоге поверила риторике.
Корреспонденты сами вдыхали "словесный газ" и уже не могли
отличить факт от вымысла. "Последними поддались солдаты. Сначала
в окопах, где царило недовольство, напыщенные журналистские
описания неизбежных побед вызывали только смех. Но вскоре газ
начал действовать. В своих письмах домой солдаты стали рассказывать
не правду, а ложь, которую они читали в газетах. Это искажение было
триумфом высшего командования. Но ни общественность, ни
командиры не знали истинного душевного состояния солдат.
Следствием этого стал разгром, получивший название Капоретто: это
был триумф риторики. Тогда наказанная и очищенная нация
посмотрела в лицо реальности и победила. Но народ не смог
противостоять успеху, и реальность снова исчезла за новым выбросом
словесного газа "20.
Итальянская Бория
Поражение при Капоретто заставило итальянцев посмотреть в лицо
жестокой реальности, но окончательная победа над Австрией снова
взорвала словесные газы национализма, которые снова не позволили
им увидеть реальность такой, какая она есть, закрыв ее завесой
славословия и подвергнув итальянцев иллюзиям победы и
разочарованиям мира. "Большая часть разнузданного национализма,
преобладающего сегодня во многих итальянских кругах, - заключил
Моурер, - является следствием перегруженности национального
сознания слишком большим количеством слов "21.
По мнению другого молодого американского журналиста, Карлетона
Билса, неуклюжий национализм, порожденный тщеславием и
риторикой, был характерен для объединенной Италии. Билс
приписывал новоявленной нации экспансионистские цели в
Средиземноморье и на Востоке, осуществление "неразумной" силовой
политики, не имея экономических и финансовых ресурсов и средств:
именно поэтому он называл Италию, бедную, но амбициозную,
"самонадеянным джаггернаутом", добавляя, что "тот, кто забывает об
этом, не понимает Италии".22
Будучи радикальным журналистом, во время войны Билз отсидел
более года в тюрьме за то, что выступал против призыва в армию
после интервенции США. В 1918 году он отправился в Мексику, где
вместе с Эмилиано Сапатой участвовал в революции, писал статьи для
различных радикальных американских журналов и преподавал
английский язык в основанном им институте. Затем, в августе 1920
года, он вместе со своей женой Лилиан переехал в Европу,
остановившись в основном в Италии, где оставался до 1923 года,
посылая статьи об итальянских делах в "The Nation" и посещая
университет Ла Сапиенца. Его суждения об итальянцах были
суровыми, особенно об империалистических притязаниях страны,
состоящей в основном из крестьян и мелкой буржуазии, с
выродившейся аристократией и крупной земельной буржуазией,
получившей в прошлом веке "беспорядочное вливание
индустриализма, по сути чуждого итальянскому гению, но
наделенного, благодаря войне, несоразмерной и агрессивной силой»23.
Каждый сам за себя, обман для всех
Тщеславие и риторика уходят корнями в другую особенность
итальянского характера - индивидуализм, который, по мнению многих
наблюдателей, был причиной его разнообразия и богатства, а по
мнению Моурера, лежал в основе многих пороков итальянского
общества.
Например, итальянцы, думая только и прежде всего о себе, жили в
состоянии вечного недоверия к другим, подозревали, что все от
природы нечестны, и таким образом оправдывали собственную
склонность к нечестным поступкам. Италия - страна мошенничества,
фальсификации и суррогатов", - утверждал американский журналист,
основывая это суждение на своем опыте работы на рынках, в
магазинах и общения с ремесленниками. Здесь не уважают подлинное
качество продаваемой продукции, редко дают гарантии, а когда их
дают, то редко соблюдают. Ни одну покупку нельзя было совершить,
не торгуясь часами и не рискуя быть обманутым. "Со времен войны в
Риме невозможно было достать не разбавленное водой молоко и
бутылку настоящих чернил "24.
Редко, добавляет Моурер, ремесленник соблюдал условия устного
контракта на выполнение работы. "Тот, кто обязался выполнить
определенную работу в определенный день, без зазрения совести
нарушает свои обязательства. Водопроводчик или электрик заранее
назначает цену за свою работу, но счет по окончании работы всегда
оказывается двойным".25 Конечно, на такие мошенничества можно
было отреагировать, прибегнув к помощи закона, но для этого, заметил
журналист, "нужно было иметь много денег, вооружиться бесконечным
терпением и не иметь никаких других обязательств по крайней мере в
течение года".26 В бизнесе, заключил он, итальянцы не знали другого
принципа, кроме "максимальной прибыли при минимальных
усилиях".27
Как бы смягчая суровость своих суждений, Моурер отметил, что
описанные им характеристики применимы не ко всем. Склонность к
обману и мошенничеству была следствием бедности и невежества,
которые оказывали "огромное влияние на все аспекты итальянской
жизни". В разных городах были свои различия. Качество и честность в
торговле были выше на севере, в то время как в Риме и на остальном
юге они почти всегда отсутствовали. И это было связано в основном с
глубокими экономическими, социальными и культурными различиями
между северной Италией и центральной и южной Италией.
Начнем с внешнего вида. Северная Италия была чистой, хотя и не
такой чистой, как Швейцария или Англия, но по крайней мере такой
же чистой, как Франция, тогда как по мере продвижения от центра к
югу страна выглядела все более грязной.
Моурер лично наблюдал, что в южных регионах принято выбрасывать
все из окон в канализацию, если таковая имеется, или делать свои дела
в открытую, потому что даже во многих домах в больших городах не
было туалетов. "И вот стены домов, тротуары, ступени церквей и
общественных зданий, лестницы, набережные, парки служат
хранилищами человеческих экскрементов".
Моуреру случалось видеть, как хорошо одетые молодые девушки
спокойно облегчались на тротуарах оживленных улиц. "В моем
присутствии мать поощряла своего ребенка делать свои дела в проходе
железнодорожного вагона. И никто не обратил на это внимания". Все
эти ситуации с разнузданной грязью, предупреждает журналист,
начинаются в центральной Италии и становятся все хуже по мере
продвижения на юг. "И они очень плохи в Риме, городе, где жители
построили роскошные памятники, но забыли сделать обязательной
установку туалетов "28.
Очень плохо обстояли дела в южных деревнях, где многие крестьяне
жили в жилищах, состоящих всего из одной комнаты, в которых вместе
жили мужчины, женщины, дети, животные, куры и черви. Во многом
это объяснялось отсутствием воды, и, конечно, существовала большая
потребность в санитарных условиях, но "еще больше, - заметил
Моурер, - была потребность в гражданском чувстве, самоуважении и
строгом соблюдении законов".29
К недостаткам, проистекающим из бедности, добавлялись и
смешивались недостатки, порожденные невежеством. Итальянец
представлял собой "нелогичное, увлекательное сочетание прошлого и
настоящего, старика и незрелого юноши".30 В целом, утверждал
Моурер, у итальянцев не было желания знакомиться с другими
народами, другим образом жизни, другими странами. Аристократия и
буржуазия были образованными, но провинциальными. Итальянец
был наделен быстрым и острым умом, быстро учился мастерству в
бизнесе, обладал природной изобретательностью, но не был очень
любознательным; за редким исключением, "итальянцы остаются
рабами своих привычек и суеверий и совершенно инертны во всех
вопросах, представляющих общий интерес".31
Итальянец, по Моуреру, был пропитан сглазом и чудотворными
верованиями, его религиозность состояла в культе чудотворных
образов, его суеверная вера обращалась к чудесным рецептам, а
предубеждения против санитарно-гигиенических или пищевых
нововведений делали его враждебным элементарным законам жизни.
наука и опыт, которые, если бы их соблюдали, обеспечили бы ему
здоровое и лучшее существование»32.
Священная корова
Последним, но не менее ярким проявлением недостатков итальянцев
было их отношение к государству, правителям и политике в целом.
Больше всего американского наблюдателя поразил тот факт, что
многие итальянцы, хотя и наделены качествами и живут в стране,
которой благоволит природа, стали жертвой цинизма, безразличия,
суеверия и отсутствия гражданского чувства. Еще больше его удивило
пристрастие к старости - типичная особенность итальянской
политики: в сорок лет политик еще считался "молодым", в пятьдесят -
достигал зрелости, в шестьдесят - становился авторитетным, в
шестьдесят пять - созревал для сената или правительственного поста, в
семьдесят - мог претендовать на пост премьер-министра33. Такая
ситуация, по мнению Моурера, возможно, объясняется
перенаселением, когда энергичные молодые люди эмигрируют, а
ленивые и циничные остаются и загромождают правительственные
кабинеты.
Американский журналист считал, что итальянское государство,
"священная корова", как он его называл, существует главным образом
для того, чтобы давать работу праздным и неспособным. "Оказавшись
у власти, праздность и наглость этих тысяч клерков выходит за рамки
воображения, превращая в маленьких тиранов людей, которые в
частной жизни были бы хорошими гражданами, надежными друзьями,
милосердными соседями. Мелкие бюрократы становятся набобами;
скромные руководители бесполезных контор считают необходимым
сделать себя недоступными. В большинстве офисов руководитель
считает себя слишком важным, чтобы придерживаться рабочего
времени или приходить на прием вовремя. К счастью для бюрократов
и государственных служащих, их наглость обычно не превышает
терпимость и терпение общества "34.
Правление священной коровы подпитывало и усиливало недоверие и
безразличие к политике и государству. Итальянцы, в целом, не верили
в человеческую природу. Их моральный скептицизм породил
преувеличенный реализм, который побуждал их добиваться своих
целей мошенническими средствами. "Среди людей высшим титулом
уважения является наименование "хитрый"". К счастью, добавил
Моурер, это отношение смягчалось врожденной щедростью и
терпимым дружелюбием, а также склонностью принимать жизнь
такой, какая она есть. "В противном случае бизнес и политика могли
бы вестись в Италии с невиданной в других странах жестокостью".35
Если этого не происходило, то это зависело не только от
доброжелательности итальянцев, но и от повсеместной
дезорганизации государственного аппарата в результате
индивидуализма. "Достоинство дезорганизации заключается в свободе,
которую она дает. Италия - страна свободы "36.
Но в какой степени, задавался вопросом Моурер, требование
индивидуальной свободы совместимо с необходимостью организации?
Итальянцы, по мнению журналиста, отдавали предпочтение первому в
ущерб второму. Для итальянца индивидуальная воля оставалась
высшим арбитром при принятии решений в области морали,
философии, искусства, а также политики. Итальянец имел эластичное
представление о законе и применял его с непринужденной гибкостью.
"Мы имеем дело с нацией, которая предпочитает индивидуальное
развитие коллективной эффективности, лицензию конформизму,
беспорядок патернализму, свободу морального выбора (которая всегда
означает готовность к пороку) против обязательного хорошего
поведения".37
Отношения между людьми имели преимущество перед отношениями,
определенными законом. "Законы, - объясняли они, - создаются для
вульгарного стада, для людей без важности и влияния, без денег и
круга знаний. Но для вас есть специальные положения: вы можете
найти сахар, муку и сыр, когда на рынке их нет; вы можете
путешествовать на машине, когда забастовка остановила все железные
дороги; вы даже можете найти дом, когда его нет". Большая часть
широко распространенного в Италии беззакония возникла благодаря
прочности личных отношений. "Дружба может устранить препятствие
недоброжелательности; таким образом, в угоду другу можно прорыть
туннель под горой бюрократии "38.
Бюрократия: высокомерие и неэффективность
Гора итальянской бюрократии, государственной и частной, берет свое
начало в общем недоверии итальянцев к своим согражданам, которых
подозревали в том, что все они по природе своей нечестны. По этой
причине бюрократия возводила для граждан барьеры контроля,
заполняя бланки и подписывая декларации, как это происходило в
банках при проведении простейших операций или на почте и вокзалах,
когда нужно было отправить посылку или багаж. В государственных
службах Италии царила изнурительная формальность, усугубляемая
бюрократической тупостью, которая притворялась, что контролирует
все, не обеспечивая эффективности и безопасности: "Нет другой
цивилизованной страны, - сказал Моурер, - которая терпит такое
жалкое железнодорожное и почтовое обслуживание: посылки и багаж
часто теряются, крадутся или портятся, письма теряются.
Теоретически, если вы что-то потеряли, вы можете получить
компенсацию. На практике, тяготы наглых клерков, с которыми
приходится иметь дело, и бесконечное количество бланков, которые
нужно заполнять, заставляют молча переживать потерю".39
В государственных телефонах обслуживание зависело от доброй или
злой воли служащих. Железнодорожные и почтовые служащие,
казалось, получали удовольствие от того, что выполняли минимум
требований закона. "В службе нет рвения и мало желания. Я видел, как
десять человек, и среди них солдат в увольнении, опоздали на поезд,
потому что кондуктор на станции в Риме отказался поторопить службу
"40. Резкое суждение Моурера об итальянской бюрократии, почте и
железных дорогах не было обобщением неприятного личного опыта,
его разделяли и другие иностранцы, посетившие Италию в те годы.
Аналогичный неприятный опыт общения с итальянскими железными
дорогами имел француз Поль Хазард, который долгое время прожил на
полуострове до войны и вернулся туда летом 1921 года.
Неудобства начались на таможне, с бесконечных досмотров, как будто
таможенники хотели дать путешественникам в Италию "урок
терпения, прежде чем отпустить их", погружая руки в чемоданы, как
будто искали сокровища.41 Затем путешествие продолжилось в
неопределенности: "Почти невозможно путешествовать на поезде, не
смирившись с длительными задержками. Даже на маленьких станциях
вы видите группы клерков, которые ничем не заняты, они считают
публику помехой и показывают ее. Эти господа имеют тенденцию
образовывать государство в государстве. Под самыми ничтожными
предлогами они угрожают забастовкой. Добавлю, что на складах
больших городов хорошо организовано разграбление товарных
вагонов, они прибегают к любым средствам, вплоть до нападения и
стрельбы, как в кино. Таким образом, с товарами обращаются больше,
чем с путешественниками".42
Иного мнения придерживался другой американец, писатель Кеннет
Робертс, который побывал в Италии до войны и вернулся после
конфликта, чтобы обнаружить, что ничего не изменилось в
итальянских железных дорогах, которые он назвал "худшими в мире":
они были худшими до войны и худшими после войны, несмотря на то,
что за это время государство увеличило количество железнодорожного
персонала, так что почти на каждого пассажира, заплатившего за
билет, приходился один сотрудник, в то время как многие
пользовались правом бесплатного проезда по привилегиям или
уловкам. Учитывая большое количество людей, работающих на них,
комментировал Робертс, итальянские железные дороги должны были
быть чистыми, эффективными и предоставлять отличный сервис, но
вместо этого они продолжали оставаться худшими в мире, и
становились все хуже и хуже, чем больше было персонала43.
Робертс был консерватором, выступающим против всех форм
государственного устройства. На основе своего опыта в Италии он
привел аргументы против государственного управления
общественными услугами в США. Причину плохого состояния
общественных служб он объяснял в основном статизмом. В отличие от
него, Моурер рассматривал их неэффективность как еще одно
проявление и следствие характера итальянцев, которые к своему
индивидуализму добавляют семейный и партийный фаворитизм
бюрократов и политиков.
Итальянские чиновники не претендовали на беспристрастность при
исполнении своих обязанностей: между знакомым и незнакомым
человеком они, естественно, выбирали первого, который таким
образом получал полезную информацию, дополнительный билет или
выгодный контракт. Если все это приводило к увеличению
государственных расходов, заключил Моурер, "то настоящей жертвой
становилась публика, анонимная масса мужчин и женщин, о которых
никто не заботится".44 И если дружба обеспечивала особое внимание
и благосклонность государственной бюрократии, то тем более в
общественной и частной жизни преобладал "самый наглый непотизм":
"Председатели Совета без колебаний окружали себя потенциальными
зятьями, внуками и сыновьями своих сыновей". Большая часть
коррупции, приписываемой Джованни Джолитти, великому
политическому боссу, заключается лишь в строгом применении
фаворитизма. Кто может обвинить премьер-министра, если он
вознаграждает своих друзей и уничтожает врагов в соответствии с
самой тонкой логикой? Если он помогает своему зятю стать членом
парламента, а затем назначает его сенатором? Безусловно, такая
система сводит общественную жизнь к войне между соперничающими
кланами. Это личный тип правления, как и балканские правительства.
Но мало кто из итальянцев находит в ней повод для критики, потому
что ядром итальянской жизни является не личность и тем более не
социальный класс, а семья".45
Парадокс итальянского характера
Для такого иностранца, как Моурер, недостатки итальянцев были
поводом для порой противоречивых рассуждений. Ни один другой
иностранный наблюдатель не препарировал характер итальянцев с
такой тщательностью, чтобы выделить их достоинства и недостатки, и
в итоге отметил преобладание одного над другим, не теряя при этом
веры в лучшее будущее новой Италии, молодой нации, достигшей
совершеннолетия после Капоретто. Моурер был не единственным
иностранцем, которого итальянские недостатки побудили к
противоречивым суждениям. То же самое произошло с Джорджем
Херроном, еще более восторженным поклонником Италии и
уверенным в ее будущем. Менее аналитически, чем Моурер, исследуя
недостатки итальянцев, Херрон рассматривал их в более широкой
перспективе, как продукт тысячелетней истории Италии, от Древнего
Рима до объединенной Италии. Даже протестантский теолог был
несколько озадачен, рассматривая достоинства и недостатки
итальянцев, и он попытался разобраться с этим во второй главе своей
книги о возрождении Италии, озаглавленной "Парадокс итальянского
национального характера".
С самого начала политического объединения и на протяжении всех
последующих десятилетий, по мнению Херрона, главным
препятствием на пути реализации национального духа было наследие
более чем тысячелетней политической раздробленности полуострова с
чередой самых разных королевств, княжеств и республик, каждая из
которых имела свою собственную и своеобразную цивилизацию.
Однако это не помешало укорениться определенным общим чертам в
итальянском населении, в его менталитете, обычаях, поведении и
способе восприятия и осмысления бытия, что в целом составило
итальянский национальный характер, результат тысячелетнего
процесса смешения качеств и недостатков, пороков и добродетелей,
типичный для нации, которая была одновременно "самым древним
народом в анналах истории" и "самым молодым среди народов,
создавших западную цивилизацию "46.
Для Херрона "вечным парадоксом" была вся долгая история
итальянцев, вовлеченных на протяжении веков в непрерывную борьбу
между стремлением к единству и привычкой бороться друг с другом,
вечно колеблясь между отчаянием и надеждой. Итальянцы пережили
все виды величия и упадка, испытали славу и злодейство империи,
выражали самые высокие социальные представления и погружались в
самые глубокие бездны вырождения; они пережили эпохи
религиозного возрождения или моральной деградации, тирании и
освобождения. В них сосуществовали добродетель и порок, аскетизм и
безнравственность, возвышенность и низость. Из итальянцев родились
святейшие из святых и преступнейшие из преступников.
Художественный гений и тончайшая гуманистическая культура
процветали в эпоху самой беспощадной и жестокой фракционной
борьбы между группировками и сильными мира сего. «Вероятно, что с
доисторических времен, как только два-три итальянца оказывались
вместе, они начинали воевать друг с другом. Между собой... они всегда
находились в состоянии войны: и в то же время они всегда были
привержены поиску всеобщего духовного единства»47.
На протяжении всей истории Италии стремлению к совершенному
социальному единству всегда противодействовал агрессивный и
жадный индивидуализм, "пресыщенный индивидуализм", который
"имел свои корни в свободе, которая была не свободой, а прихотью,
прихотью ребенка, не получившего образования и дисциплины, чтобы
думать и действовать с учетом интересов других"; из этого развилось
скептическое отношение итальянского характера к людям и
движениям, которые преследовали цели выше собственных интересов:
"Это не только скептицизм, но и циничное отношение, которое
наносит серьезный вред человеку и нации". 48 Это, по словам
Херрона, "главный грех" итальянца: неспособность мыслить уверенно,
а следовательно, действовать честно и последовательно, как
социальное существо в отношениях с другими. Вечная борьба между
итальянцами была не только "главным грехом Италии, но и,
следовательно, проклятием, которое только итальянцы могли изгнать
из себя и своей национальной жизни".49 Во всей национальной жизни,
как в прошлом, так и в настоящем, доминировал этот
"обескураживающий дуализм", который все еще составлял "отчаяние и
надежду их истории".50
Парадоксальный характер итальянцев", - заключил Херрон, - был
самой серьезной из проблем, нависших над их настоящим и будущим.
От их способности преодолеть ее будет зависеть спасение Италии от
послевоенного беспорядка и возможность ее нового восхождения к
роли лидера цивилизации.51
В конце концов, заметил Херрон, чтобы успокоить свою надежду на
способность Италии к возрождению, были "великие эпохальные
моменты", когда итальянцы смогли преодолеть свой "анархический
индивидуализм", совершив подлинные "чудеса сотрудничества и
героизма", такие как апостольский ассоцианизм Мадзини, верность
последователей Гарибальди, кооперативное движение, ставшее
образцом экономического и социального управления. И не было
большего и более возвышенного доказательства способности Италии
преодолеть свой индивидуализм, чем сопротивление солдат на Пьяве
после сокрушительного разгрома Капоретто. Если это "было вызвано
расколом среди итальянцев, то сопротивление на Пьяве было вызвано
чудесной реакцией почти чудесного единства молодых людей, которые
отреагировали на катастрофу".
Для Херрона эти события стали доказательством того, что итальянцы,
несмотря на свой крайний индивидуализм и упрямое желание думать
только о себе, будучи охваченными патриотической страстью, умели
жертвовать индивидуализмом ради блага и морального единства
нации.52 Только так они смогли увенчать свое участие в войне
выдающейся победой, которая до самого конца казалась трудной, если
не недостижимой. Витторио Венето стал победой итальянцев над
своими недостатками.
3. ИТАЛИЯ В ХАОСЕ
Франсиско де Асис Камбо-и -Батль был каталонским экономистом и
политиком. Он основал Регионалистскую лигу за автономию
Каталонии в 1901 году и был министром общественных работ в
испанском правительстве в 1918 году. Покровитель образования,
культуры и искусства, он также был страстным коллекционером работ
итальянских художников эпохи Возрождения. В сентябре 1920 года он
посетил Италию, чтобы посмотреть, что там происходит после
окончания войны. Антикоммунист, консерватор, критик
парламентаризма, но не сторонник авторитаризма, Камбо был
встревожен тем, что происходило на полуострове, потому что видел,
что "Италия демонстрировала все симптомы, которые были
непосредственными предвестниками демагогической революции,
анархического разложения, как в политическом, так и в социальном
порядке". Когда он прибыл в Италию, его удивило, что в стране,
которая вышла победителем из великой мировой войны, "не было
видно ни офицеров, ни солдат, ни охранников общественной
безопасности", потому что "форма, крест, любой знак отличия,
представляющий принцип власти или несущий память о войне - о
победоносной войне, которая длилась менее двух лет! - привлекали
насмешки и агрессию со стороны тех, кто выставлял их напоказ".1
Поражение страны-победительницы
Морис Перно также был в Италии в 1920 году. Француз уже посетил
другие европейские страны, вовлеченные в послевоенный кризис, как
победители, так и побежденные, включая Англию и Германию, но ни в
одной из них он не видел ситуации, подобной итальянской, в которой
страна, выигравшая войну, выглядела столь же растерянной и
хаотичной, как если бы она потерпела катастрофическое поражение:
"Из грозного испытания мировой войны, - писал Перно в книге,
посвященной его итальянским впечатлениям, опубликованной в 1924
году, - Италия вышла победительницей, но ослабленной, как и
Франция, но более того, она была беспокойна и дезориентирована". В
течение четырех лет, с конца 1918 по конец 1922 года, итальянская
нация видела, как ее лучшие силы были растрачены, ее прогресс
остановился, а ее равновесию угрожал глубокий и жестокий
внутренний кризис. Политические беспорядки, социальные волнения,
аграрные волнения, экономическое и финансовое недомогание - все
это сговорилось, чтобы держать Италию в недоумении и смятении".2
Фактически, с первых месяцев после окончания мирового конфликта
Италия создавала у иностранных наблюдателей образ страны,
превратившей победу в поражение, поскольку начался период сильной
социальной и политической турбулентности, вызванной
последствиями войны, разочарованием в мире и серьезным
экономическим кризисом, вызванным огромными затратами ресурсов
на военные действия, которые привели к накоплению огромного долга
государства. Карлтон Билз писал, что 1919-1920 годы "запомнятся как
один из самых критических периодов в истории Италии. Извращенная
судьба сосредоточила все свои силы в эти два года, чтобы разрушить
Италию. Наиболее очевидными были прямые сокрушительные
последствия войны и последующего Версальского мира. Война
вызвала сильные революционные настроения даже среди традиционно
консервативного населения".3
Миф о большевистской революции, которая "пересекла Альпы,
возвещая наступление новой эпохи", а также демобилизация, которая
проходила быстро и без адекватного плана по обеспечению ветеранов
работой, способствовали восстанию, добавил Билз.
Демобилизация и поиск работы способствовали массовому
переселению населения в города, и такое смешение людей из самых
разных регионов, с разительными различиями в менталитете и
обычаях, способствовало "общему беспорядку, разрушению
традиционных норм поведения и морали, росту преступности,
расточительства и роскоши". "Новые предприятия, процветающие
сегодня в Италии, - отметил Билз, - это кафе, кинотеатры, театры,
кондитерские; а самая заметная реклама рекламирует самые дорогие
спиртные напитки. В то же время стоимость жизни растет с
угрожающей скоростью, а девальвация лиры сделала и продолжает
делать маловероятным любое улучшение в этом направлении "4.
Усугубленный закрытием кредитов союзниками, экономический
кризис сопровождался галопирующей инфляцией и непрерывным
ростом стоимости жизни, что вызвало волны агитации трудящихся
масс с целью добиться повышения заработной платы, сокращения
рабочего дня и улучшения условий труда. В 1919 году было проведено
почти тысяча восемьсот забастовок с участием более полутора
миллионов человек на заводах, в сельской местности, на железных
дорогах и в государственных учреждениях. Во многих городах
произошли жестокие беспорядки в знак протеста против высокой
стоимости жизни, толпы людей штурмовали магазины. Во многих
регионах центральной и южной Италии, в Лациуме, Апулии и
Сицилии крестьяне заняли латифундии, требуя от правительства
выполнения обещания, данного во время войны: "земля - крестьянам".
В 1920 году было проведено более двух тысяч забастовок, в которых
приняли участие почти два с половиной миллиона рабочих.
Кульминацией волнений стал захват заводов в сентябре 1920 года на
большей части северной Италии.
Все иностранные наблюдатели видели, что Италия скатывается или
даже погружается в анархию или социальную революцию. Миллионы
рабочих и крестьян, организованных Социалистической партией, вели
ежедневную агитацию, представляя, что в Италии произойдет
революция, как это случилось в России с большевизмом, и
пролетариат придет к власти, оттеснив буржуазию. Перно был
свидетелем захвата земли и аграрных беспорядков в различных
регионах Италии и заметил, что правительство, "бессильное
предотвратить беспорядки и еще более бессильное их подавить,
предпочло терпеть их, позволив крестьянам захватить землю и занять
фабрики".5
Тем временем, пока общество переживало потрясения, государство
теряло престиж и авторитет, демонстрируя свою неспособность
справиться с кризисом и социальными беспорядками. В период с 1919
по 1922 год у руля страны сменялось восемь правительств:
правительство во главе с Орландо до июня 1919 года, три
правительства во главе с Франческо Саверио Нитти (июнь 1919 - июнь
1920), одно правительство во главе с Джолитти (июнь 1920 - июнь
1921), одно правительство во главе с Иваноэ Бономи (июнь 1921 -
февраль 1922) и два правительства во главе с Луиджи Факта (февраль -
октябрь 1922).
Искалеченная победа
Иностранные наблюдатели, находившиеся в Италии в течение
некоторого времени, такие как Моурер и Алазард, или посетившие ее в
первые два послевоенных года, такие как Перно и Камбо, отметили,
прежде всего, быстроту, с которой энтузиазм по поводу победы и
чувство национальной солидарности, которые, казалось, были усилены
итальянским сопротивлением после поражения при Капоретто до
перемирия от 4 ноября 1918 года, растворились в течение нескольких
месяцев. Ни в одной другой стране, заметил Камбо, разочарование от
победы "не ощущалось так быстро, как в Италии".6
Разочарование проистекало из убеждения, разделяемого многими
итальянцами, особенно националистами, что союзники плохо
обошлись с Италией на мирной конференции, не признав ее законных
территориальных претензий. Согласно Лондонскому пакту, Италия
получила Трентино до перевала Бреннер, Триест и Истрию, но не
Далмацию, а также ей было отказано в аннексии города Риека, которая
не была предусмотрена соглашениями, но о которой просило
большинство населения этого истрийского города, которое было
итальянским.
Союзники, на самом деле, чтобы сдержать итальянскую экспансию на
Адриатике и Балканах, были более благосклонны к новому сербско-
хорватско-словенскому унитарному государству - Югославии, которая
даже претендовала на расширение своих границ до Триеста, но, тем не
менее, добилась исключения Италии из значительной части Далмации.
Италия также не получила новых колониальных владений, а Франция
и Англия поделили между собой трофеи победы, разделив гегемонию
над новыми государствами Ближнего Востока, возникшими после
исчезновения Османской империи.
Все это привело к разочарованию от победы, особенно среди
интервентов и ветеранов национализма. Д'Аннунцио усугубил это
разочарование, говоря об "искалеченной победе", предлагая таким
образом миф бывшим комбатантам, особенно молодым ветеранам, с
которыми он организовал оккупацию Фиуме в сентябре 1919 года,
вопреки противодействию союзников и итальянского правительства,
чтобы заявить о присоединении города к Италии. Националистические
интервенты приписывали "искалеченность" победы как президенту
Вильсону, который не чувствовал себя приверженным Лондонскому
пакту, не подписанному Соединенными Штатами, так и Франции,
которая не одобряла итальянскую гегемонию в Восточной Европе, и
Англии за ее симпатии к балканским славянам. Билз также
приписывал "маневрам Англии и Франции против Италии,
проводимым под прикрытием вильсоновского идеализма",
разочарование от победы итальянцев, "которые нашли в этом еще один
повод обвинить своих правителей в неспособности".7
С другой стороны, для Моурера большая часть ответственности за
разочарование от победы лежала на самих лидерах итальянского
правительства, премьер-министре Орландо и министре иностранных
дел Сиднее Соннино, потому что они неуклюже вели переговоры с
союзниками, в то время как, жестом отказа от участия в мирной
конференции, а затем возвращения на нее, они вызвали у своих
соотечественников чувство, что Италия, выиграв войну, победив врага,
проиграла мир, потерпев унизительное дипломатическое поражение от
своих же союзников.
В действительности, для Италии результаты войны были очень важны:
с концом империи Габсбургов исчез ее многовековой враг;
ирредентные земли были присоединены к итальянскому государству; с
выделением Южного Тироля вплоть до перевала Бреннер Италия
получила более надежные границы. Однако, отметил Моурер, хотя
война стала "самым плодотворным событием в ее молодой истории",
"реальные результаты, полученные Италией, не оправдали ожиданий
итальянцев", и это было следствием "узости мышления ее правителей,
жадности союзников и их ревности, а также несправедливого
отношения к ней президента Вильсона". Поэтому "истинные плоды
победы были видны не сразу, а итальянские правители позволили
стране стать жертвой опьянения эгоизмом". Поэтому на следующее
утро после победы Италия пережила "горькое пробуждение".8
Понятное разочарование
Среди иностранных наблюдателей были и те, кто считал, что
разочарование итальянцев было небезосновательным. Так считал,
например, Джордж Херрон, который утверждал, что "вступление
Италии в войну в самый критический момент для союзников на
Западном фронте спасло их", но услуги, которые она оказала, принеся
столько жертв, не были оценены по достоинству: напротив, они были и
продолжают обесцениваться.9
Херрон представил, что для будущего историка "одной из самых
непостижимых необычностей войны был бы тот факт, что претензиям
Италии, хотя и скромным в территориальном отношении и не
имеющим большой экономической ценности, противостояли
заинтересованные враги, такие как ее собственные союзники,
представители империализма, уступающего по своим хищническим
намерениям только империализму Пруссии". Более того, иронизирует
Херрон, если бы воображаемый путешественник с Марса читал
определенную английскую и американскую прессу, он бы наверняка
подумал, что "Антанта и Соединенные Штаты воевали против Италии,
а не Германии". И все это, добавил американский теолог, несмотря на
то, что затраты на войну, понесенные Италией, если рассматривать их
в соотношении с ее ресурсами, были намного больше,
пропорционально, чем затраты ее союзников. "И это тем более верно -
более того, несправедливо верно, - е сли учесть цену, которую Италия
заплатила за войну, и то немногое, что она получила, и сравнить это с
огромным присвоением правительствами Антанты территорий,
обширных как континенты и богатых ресурсами для невообразимого
будущего богатства "10.
Определенное понимание причин итальянского разочарования
выразил и Жан Алазар в новой книге об Италии, опубликованной в
1922 году. Алазар указал, что Италия могла бы остаться в стороне от
конфликта, пользуясь преимуществами нейтралитета, но вместо этого
по собственной воле вступила в войну на стороне Франции и Англии,
внеся решающий вклад в поражение Австрии. Следовательно, чтобы
не заставить ее сожалеть о своем выборе вмешательства, к Италии
должны были относиться на мирной конференции "с той же заботой,
что и к другим союзникам"; вместо этого она вскоре поняла, что ее
жертвы были недостаточно учтены, и в то время как "она рассчитывала
на дружбу и поддержку народов, с которыми она вступила в союз, у
нее сложилось впечатление, что в дружбе и поддержке ей было
отказано"; и "именно это оскорбило ее больше всего". Считалось, что
вопрос о Фиуме был главным вопросом для Италии, и казалось
странным, что из-за порта страсти так накалились. Но Фиуме был
символом. И Италия не понимала, почему союзники так благосклонно
относятся к народам, которые еще вчера были ее врагами, и не
понимала, почему в таком серьезном споре хорваты пользуются
большей симпатией, чем Италия, среди ее собственных союзников.
Так получилось, продолжал Алазар, что два месяца трудных
переговоров "поселили много горечи в сердцах итальянцев, которым
казалось, что все досталось им: железо, уголь, колонии; и в то время
как французская колониальная империя, уже значительная,
продолжала расширяться, итальянская оставалась в зачаточном
состоянии "11.
Понимая причины недовольства итальянцев своими бывшими
союзниками, Алазар считал, что острота итальянского кризиса после
войны была также следствием невыполнения социальных реформ,
обещанных правителями во время конфликта: именно это, по мнению
французского историка, заставило возмущенные массы обратиться к
левым экстремистам, выступавшим против войны, в надежде получить
от них то, что русские крестьяне и рабочие завоевали в "ленинском
раю "12.
Месть нейтралистов
Явление, которое больше всего поразило иностранных наблюдателей, -
это быстрый и триумфальный подъем сил, выступавших против
войны: социалистов и католиков. Как заметил Алазар, в то время как
интервенты, разочарованные "искалеченной победой", чувствовали
себя преданными своими союзниками, нейтралисты воспользовались
возможностью отомстить 1915 году, используя разочарование от
победы и широко распространенное недовольство в стране, что
способствовало распространению чувства осуждения войны.
Действительно, по мере того, как энтузиазм от победы угасал, среди
населения, которое вынесло на своих плечах основную тяжесть
военных усилий и заплатило за победу кровью своих близких,
распространялось негодование против войны и тех, кто ее хотел.
Война была бедствием, которого Италия могла бы избежать, но
некоторые энергичные люди были достаточно глупы, чтобы навязать
ее", - услышал Хазард слова жителей Флоренции в сентябре 1921 года:
"До 1914 года это было идиллическое время, жизнь была легкой и
приятной; затем, с 1915 по 1918 год, это был кошмар; а после - снова
серия страданий, которые являются логическим следствием
первоначальной ошибки: так простые люди видели историю". 13
Французский историк слышал от людей всех социальных слоев
протесты против войны за понесенные потери, за разочарование от
победы, за растущую стоимость жизни. Его флорентийский
домовладелец сетовал: "Ах, синьорино, что стало с нашей бедной
Флоренцией? За флягу вина здесь берут десять франков. Зачем, зачем
мы вообще вступили в войну?". А женщина из народа: "Что мы
получили, развязав войну? Страдания и больше ничего".
Один рабочий проклинал буржуа, которые хотели войны: "Если бы у
меня на руках были д'Аннунцио и Саландра, они бы не вышли
живыми". А этот, отметил Хазард, "был очень хорошим человеком,
который, если бы случайно встретил Саландру или д'Аннунцио, не дал
бы ему и буйвола". А смотритель Института перспективных
исследований по-своему выразил свое отвращение к войне: "До войны
можно было жить. Сегодня это невозможно. Вы думаете, приятно
целый день зря делать поклоны?". Смотритель, добавил Хазард,
подумывал оставить работу в университете и вернуться в лагеря14.
Хазард слышал осуждение войны не только от людей, но и от
государственного служащего и бывшего члена парламента. Они
объяснили ему, что на протяжении всего конфликта в Италии
существовала партия с большим количеством сторонников, которая по-
прежнему враждебно относилась к интервенции: Поэтому в Италии не
было "священного союза", за исключением нескольких критических
часов, которые вскоре были забыты, в то время как на протяжении всей
войны существовала значительная масса людей, "которые не считали
войну конфликтом принципов, от которого не может уйти ни одна
человеческая совесть, защитой справедливости от несправедливости,
но считали ее авантюрой, которую человек предпринимает для
достижения неопределенных преимуществ". Бывший депутат указал
своему французскому другу, что "Франция подверглась нападению и
не обсуждала войну, потому что ей нужно было сначала защитить себя.
Напротив, Италия не подверглась нападению, но месяцами обсуждала
войну, которая, таким образом, стала вопросом внутренней политики".
Из всех этих недовольств после перемирия возникла месть
нейтралистов, сопровождаемая бурной реакцией масс, настолько
опасной, что она поставила нацию на грань анархии. В Италии,
отмечал Хазард, существовала не только ненависть к войне, что было
вполне естественно, но и "глубокое разочарование полученными
преимуществами, которые казались незначительными по сравнению с
огромными усилиями, долгими жертвами; были обиды, горечь, упреки,
упорное разделение и продолжительное недомогание "15.
Реванш нейтралистов был подтвержден политическим успехом
католиков и социалистов на первых послевоенных всеобщих выборах,
состоявшихся в ноябре 1919 года при всеобщем мужском
избирательном праве и пропорциональной избирательной системе. В
январе 1919 года католики создали собственную политическую партию
- Итальянскую народную партию, которая предложила программу
демократических реформ, вдохновленную социальной доктриной
церкви, но не являющуюся конфессиональной партией. Хотя к ней
присоединились католики, которые были интервентами и участниками
боевых действий, большинство членов партии разделяли осуждение
войны как "бесполезной бойни", высказанное Папой Бенедиктом XV в
1917 году. Среди народников также было левое течение, которое
придерживалось нейтралитета, сохраняло враждебность к
интервенционистскому патриотизму и соперничало с социалистами в
организации земельных рабочих против аграриев. На первых
послевоенных всеобщих выборах Народная партия утвердилась в
нижней палате парламента как вторая по числу депутатов
политическая сила, а в стране она быстро развивалась как массовая
партия с собственной сетью профсоюзов и ассоциаций. "Появление
мощной католической партии, - писал Алазар, - стало в 1919 году
большой новинкой итальянской политики, которая включилась в
политическую борьбу, взяв в качестве своей эмблемы эмблему коммун
Средневековья - щит со словом: libertas(свобода) "16.
Партией, победившей на выборах 1919 года с наибольшим числом
депутатов, стала Социалистическая партия, возглавляемая
максималистским большинством, решительно настроенным на
осуществление в Италии социальной революции по примеру
большевистской революции. Миф об Октябрьской революции
оказывал мощное влияние на рабочие массы, побуждая их к действию
в надежде на грядущее завоевание власти для реализации социализма.
Реформисты, которые были основателями партии и имели большое
количество депутатов, а также составляли большинство во Всеобщей
конфедерации труда, выступали против революционного экстремизма;
однако их заглушала громкая и яростная риторика максималистов.
Новая программа, принятая Социалистической партией в октябре 1919
года, призывала к насильственному завоеванию политической власти и
установлению "переходного режима диктатуры всего пролетариата"
для коммунистического преобразования общества путем отмены
частной собственности и коллективизации фабрик и земли. В союзе с
Социалистической партией, число членов которой в 1920 году
достигло 300 000 человек, действовала Всеобщая конфедерация труда,
главная профсоюзная организация, насчитывавшая более полутора
миллионов членов. Разветвленная сеть кооперативов, лиг и рабочих
палат, распространенная в основном в северной и центральной
Италии, также принадлежала к Социалистической партии.
Социалистическая партия подтвердила свой успех на местных
выборах, состоявшихся в октябре и ноябре 1920 года: несмотря на
потерю голосов по сравнению с политическими выборами
предыдущего года, социалисты получили большинство в 2022
муниципалитетах из 8. 346 и в 26 из 69 провинциальных советов, став
доминирующей партией в Эмилии и Тоскане, с абсолютным
большинством в тринадцати провинциальных столицах: Алессандрия,
Новара, Милан, Кремона, Виченца, Ровиго, Беллуно, Пьяченца,
Реджио Эмилия, Модена, Болонья, Феррара и Гроссето, в то время как
они получили относительное большинство в семи других: Мантуя,
Верона, Павия, Ливорно, Масса, Пезаро и Перуджа.
В период с 1919 по 1921 год социалисты и католики были двумя
самыми сильными массовыми партиями в парламенте и наиболее
организованными в стране, в то время как традиционные либеральные
группы продолжали действовать в разрозненном порядке, разделяясь
на консерваторов, умеренных и демократов, отличавшихся только
личными связями с доминирующей фигурой в каждой группе, такой
как Орландо, Джолитти, Нитти.
На протяжении десятилетий разделенные личным соперничеством,
либералы и демократы оставались разделенными и соперничали даже
после войны: "Невозможно было, - писал Алазард, - достичь союза
между различными тенденциями, которые различались по названию
гораздо больше, чем по программе, потому что личная политика
сохранила все свои права". Привыкшая "бороться за то, чтобы
удержать человека у власти", комментировал французский
обозреватель, Либеральная партия "не знала, какому святому
посвятить себя в день, когда необходимо иметь идеи и принципы".17
Вопиющий антипатриотизм
В 1919 и 1920 годах именно социалисты мстили интервентам,
устраивая ежедневные демонстрации с осуждением войны,
прославлением дезертиров, оскорблением ветеранов и солдат,
насмешками над патриотизмом, очернением победы и
предотвращением патриотических церемоний. Италия была
единственной из стран-победительниц, где правительство во главе с
Нитти не праздновало первую годовщину победы, 4 ноября 1919 года,
опасаясь беспорядков, в то время как то же правительство, с целью
умиротворения страны, объявило амнистию за военные преступления,
которой воспользовались около 600 000 человек, включая дезертиров.
В своих рассказах о впечатлениях от пребывания в послевоенной
Италии иностранные наблюдатели часто ссылались на демонстрации
мести социалистических боевиков, обычно называемых "красными"
или "коммунистами". Факты, о которых рассказывалось, часто были
схожими, хотя тон и стиль повествования варьировались в
зависимости от политической ориентации наблюдателя.
Молодой сербский либерал Иво Андрич, атташе посольства Сербско-
хорватско-словенского королевства в Ватикане с 16 февраля 1920 года
по 1 октября 1921 года, когда он был назначен генеральным консулом в
Бухаресте, а затем в Триесте в ноябре 1922 года, так описывал
итальянскую ситуацию между 1919 и 1921 годами: "Общественная и
частная жизнь протекала в тяжелом и напряженном климате. Выборы
дали социалистам подавляющее, почти плебисцитарное большинство.
Массы живут в новом психозе, который есть не что иное, как обратная
сторона психоза войны. Забастовки множатся, делая и без того
трудную жизнь невозможной. Все, что напоминает о только что
закончившейся войне, выметается ежедневными насмешками и
организованными бойкотами. Медали прячут. Военные награды стали
знаком позора. В провинциях "красные бароны" освобождаются от
власти, бессильной защитить свои органы. Железнодорожники
контролируют поезда и останавливают их на середине пути, чтобы
убедиться в отсутствии карабинеров. А государство реагирует на это
тем, что пересаживает карабинеров в грузовики. Само собой
разумеется, что престиж власти падает с каждым днем. Парламент
отражает печальное состояние страны. Недовольство всеобщее, и все
ждут революционной бури, чтобы успокоить атмосферу".18
Изображение итальянской ситуации, описанное английским
консервативным журналистом сэром Персивалем Филлипсом, ничем
не отличалось от других. Этот журналист был всемирно известен
своими репортажами о войне между США и Испанией в 1898 году,
русско-японском конфликте 1904-1905 годов и Великой войне.
Отправленный в Италию после войны в качестве специального
корреспондента лондонской газеты "The Daily Mail", Филлипс писал,
что антинационалистическая и антивоенная пропаганда в Италии
"усилилась так быстро и так успешно, что солдат предстал как
отвратительное существо, пригодное только для истребления. Красные
агитаторы и ораторы свободно разгуливали по стране, произнося
подстрекательские речи, объявляя войну буржуазии, подстрекая народ
к анархии и завоеванию частной собственности и издеваясь над
искалеченными ветеранами".19
В основе народного недовольства против офицеров, по мнению Билса,
лежала подавленная враждебность почти всех классов к военной
дисциплине, которой они подвергались во время конфликта, и
неэффективное ведение войны правительством: "Итальянский народ
не желал подчиняться милитаризму, и когда наступил мир, вспыхнуло
широкое недовольство против офицеров. Поездные бригады
отказывались перевозить людей в форме; на изолированных офицеров
нападали, их жестоко избивали и даже убивали". Во Флоренции Билз
видел, как "случайная толпа глумилась на улице над лейтенантом,
которого сбросили с велосипеда, и он шел, пошатываясь,
полуослепший от крови, текущей по его лицу».
Аналогичную оценку презрения масс к военным дал Моурер, который
был кем угодно, но не симпатизировал националистам и риторам
"искалеченной победы". Американского журналиста не удивило, что
население, которое в течение четырех лет подчинялось строгой
военной дисциплине, должно испытывать обиду и негодование,
выплескивая их в жестах бунтарства, что было вполне объяснимо в
послевоенной ситуации. Скорее, он был поражен "необычным
зрелищем, предложенным Италией после перемирия: зрелищем
страны-победительницы, пытающейся всеми средствами заставить
людей забыть о победе и очернить ее творцов".
О войне, по наблюдениям Моурера, либо не говорили, либо говорили
только для того, чтобы покрыть ее злобой, в то время как дезертиров
"возвели в ранг героев и прославляли на массовых парадах". Премьер-
министр Нитти немедленно объявил им амнистию. Неаполь и Турин
соревновались за честь избрания дезертира Мизиано в парламент. Все
известные лица, выступавшие за итальянскую интервенцию, были
обвинены в милитаризме и подверглись нападкам со стороны масс...
Это стало прелюдией к открытым нападкам на вооруженные силы,
особенно на профессиональных солдат. Генералов выставляли на
всеобщее обозрение, офицеров разоружали, избивали, оплевывали или
бросали в реки, а солдат в форме окружали, раздевали и иногда резали
ножом. В Анконе дом полковника был сожжен дотла. Носить военную
форму стало опасно. Нация была запрещена. Итальянский флаг
тащили по пыли и клали под ноги. В Болонье, в годовщину
итальянского перемирия, триколор был спущен с ратуши и заменен
красным флагом".21 Патриотическим ораторам не давали выступать
или приказывали кричать "Да здравствует социализм".
Инакомыслящие социалисты также подвергались особым
преследованиям. В рядах "красных" инакомыслие не допускалось.
Самые популярные лидеры наиболее активно подстрекали к насилию и
обещали скорую революцию.22
Аналогичные эпизоды вопиющего непатриотизма и антимилитаризма
были описаны Алазаром, который говорил о "социалистическом
неврозе" в 1919-1921 годах. Он писал, что после выборов 1919 года
социалисты "отпраздновали свой триумф грандиозными речами.
Многочисленные процессии прошли по улицам города, разбивая
витрины магазинов под крики "Да здравствует Ленин". В первые дни
декабря агитация стала еще более интенсивной. Триумф опьянил
коллективистов... Враждебность толпы стала проявляться более
открыто. Горе тем, кто носил форму или передвигался на автомобиле.
В Милане офицеров оскорбляли; одного раздели, чтобы лучше его
избить".23
Социалистическая партия занимала такую же позицию в палате, где 1
декабря на королевском заседании депутаты-максималисты устроили
бурную антимонархическую демонстрацию: "Избранные на основе
очень упрощенной программы: "Прокляните тех, кто хотел
вмешательства в европейский конфликт", они были полны решимости
бойкотировать все, что напоминало о войне, которая стала очень
непопулярной, мстя за молчание, которое они терпели в течение трех
лет, жестокостью языка и бесконечными криками. Большинство из них
не вдавались в философские изыскания, а видели только два выхода из
ситуации: списать все долги росчерком пера и установить, как в
России, режим диктатуры пролетариата "24.
В революционном хаосе
В хаотичной Италии послевоенного периода иностранные
наблюдатели видели проявление пороков, которые они считали
типичными для итальянцев - склонность к индивидуализму,
недисциплинированность, пренебрежение к закону и правилам -
пороков, усугубляемых недовольством из-за тяжелой экономической
ситуации, в то время как вера в скорую революцию, подогреваемая
мифом о большевистской революции, подстрекала социалистические
массы к беззаконию и анархии. Моурер описал разгул беспорядков в
сфере общественного обслуживания, где хронические перебои в
работе усугублялись частыми забастовками, объявляемыми даже по
пустяковым причинам. Ссора между водителем общественного
транспорта и пассажиром могла спровоцировать всеобщую
двадцатичетырехчасовую забастовку. Всеобщие забастовки
изолировали один город за другим, телефонные и телеграфные
провода часто обрывались. Заказные письма пропадали. Посылки и
товары подвергались самым наглым кражам. Поезда задерживались на
несколько часов или не ходили вовсе, в соответствии с решениями
профсоюзных лидеров.
"В Риме, - вспоминал Моурер, - мусорщики дважды бастовали в самые
жаркие дни, и в течение двух дней в городе воняло мусором, от
которого легко могла распространиться ужасная эпидемия. Жизнь
превратилась в злобный карнавал. Каждая категория рабочих стала
сама себе законом. Всякая власть исчезла. Пустяковые споры
регулярно заканчивались убийствами". В то же время бунтующие
рабочие постоянно требовали повышения заработной платы, а
"правительство и владельцы постоянно уступали. Профсоюзы, наглые,
непатриотичные, жестокие, давали стране почувствовать вкус
грядущей революции".
Максималисты во главе социалистической партии, которая быстро
пополнялась новыми массами членов, проповедовали революцию,
которая теперь неизбежна, и готовились к завоеванию власти,
подстрекая рабочих к насильственным агитациям как этапам
революции, в то время как призывы реформистов к реализму
замалчивались как действия, противоречащие интересам пролетариата
или, что еще хуже, как непомерные попытки предотвратить
революцию.
"Отсюда, - заметил Андрич, - началась тактика "чудотворцев"
итальянского социализма, гипертрофия его силы, которой он начал
злоупотреблять, даже прежде чем ему пришлось ее использовать".
Югославский дипломат отметил, что в самой Социалистической
партии, несмотря на постоянный приток новых сил, любые
грандиозные действия тормозились внутренним расколом между
различными течениями максималистов, реформистов и коммунистов, с
сильной тенденцией к расколу. Революция была обещана в
определенный срок: "Мне отрубят голову, если в июне не будет
революции", - прозвучало в 1920 году после результатов выборов".26
Некоторые иностранные наблюдатели, такие как Джордж Херрон,
объясняли ажиотаж вокруг большевистского мифа революционной
пропагандой агентов, специально подосланных Лениным, который был
убежден, что 'Италия последует за Россией в установлении советского
режима'. Но в то же время протестантский теолог возлагал
ответственность за итальянские волнения на злобу капиталистов и
иностранных правительств, включая правительства бывших союзных
держав, "которые боялись возможного соперничества, вызванного
всеобщим возрождением Италии".27
По словам Херрона, эффект большевистской пропаганды, с одной
стороны, и "результат тайной пропаганды, финансово контролируемой
иностранными державами", с другой, означал, что Италия целые
месяцы жила в состоянии экономических и социальных потрясений.
"Повсюду проходили забастовки, и большинство из них по
политическим причинам. Государственные службы были
парализованы. Поезд, телеграмма, письмо могли дойти до места
назначения, а могли и не дойти. Трамваи в городе могли прекратить
движение только потому, что кондуктор поссорился с пассажиром.
Железнодорожники, справедливо или нет, отказывались перевозить
колонны солдат и оружие. Электрики оставляли города в темноте.
Социальное обеспечение казалось вымершим. И любой, кто плохо
знал итальянский народ, пришел бы к выводу, что Италия становится
большевистской "28.
По мнению Билза, неэффективность государственных служб,
очевидная еще во время войны, после конфликта переросла в полную
дезорганизацию. "Ведение государственных дел требовало
бесконечных бюрократических сложностей, влиятельных знакомств и
денежных затрат. Телефония была практически невозможна. На почте
царил полный хаос, а дефицит почты, телефонов и телеграфов
составлял полмиллиарда лир в год. Забастовки и локауты множились.
Белые забастовки парализовали государственную промышленность.
Блокирование транспорта и производства преследующими элементами
могло возникнуть и на почве мелкой злобы. Пассажиры не были
уверены, что их не бросят на произвол судьбы. Запутанные правила
обычно освобождали железнодорожных служащих от ответственности
за потери или кражи, которые, как известно, случались часто".
В марте 1921 года Билз стал свидетелем того, как в Риме и Милане
ветераны и ампутанты занимали общественные здания, требуя работы.
В Милане они заняли почтовое отделение и телеграф. Сотрудники не
подвергались преследованиям, но многие окна были разбиты, а почта,
предназначенная для раздачи, была разбросана по земле. Региональная
гвардия не предприняла никаких попыток освободить захватчиков, а
лишь сформировала неэффективное оцепление перед входом в офис и
Банком Италии на противоположной стороне улицы. Никто, казалось,
не беспокоился о том, что почта не будет роздана или телеграммы не
будут доставлены. Билз заметил, что публика покорно наблюдала за
происходящим, восклицая: "Терпение!". С другой стороны, он был
очень раздражен, потому что у него закончились деньги, и он рисковал
не получить чек, которого давно ждал. В конце концов, правительство
пошло на компромисс, наняв большое количество работников. И Билс
тоже наконец получил свой чек, в конверте, на котором был
полулунный отпечаток грязного каблука безымянного ботинка.29
Красная тирания
По мнению большинства иностранных наблюдателей, послевоенный
хаос был вызван в основном доминированием экстремистов
социалистического и интернационалистского толка. В некоторых
регионах диктатура пролетариата уже была навязана "красными
лигами", то есть социалистическими профсоюзами, которые
осуществляли почти абсолютный контроль над экономической и
коммерческой жизнью в провинциях, где социалистическая партия и ее
профсоюзы имели большинство. Как писал Алазард, "несколько
итальянских провинций, особенно Феррара и Болонья, были
систематически разграблены коммунистами. Невероятные вещи
происходили каждый день в Эмилии и Романье, где осуществлялась
полная красная диктатура. Капилеги", т.е . главы профсоюзов
сельскохозяйственных рабочих, были всесильны, а в районах, где
сельскохозяйственный пролетариат был наиболее многочисленным,
помещичья торговля была последней из профессий. Повсюду
"красных" приходилось приводить в соответствие. В некоторых
провинциях даже были установлены пропуска или разрешения для
коммунистических профсоюзов и революционных рабочих палат".30
Консерватор Персиваль Филлипс описал Италию между 1919 и 1921
годами как страну под "коммунистическим господством": "В течение
двух лет коммунисты имели преимущество в Северной Италии. Только
им разрешалось выступать на публике и вывешивать плакаты. Они
угрожали, оскорбляли, даже убивали, когда их оппоненты пытались
заявить о себе. В коммунах, где они доминировали, коммунисты
грубой силой мешали либеральным меньшинствам выражать свое
мнение. Большинство заставляло их молчать, крича или размахивая
стульями и палками". На площадях и улицах шествовали только
красные флаги, на публичных демонстрациях пели коммунистические
песнопения, выкрикивали или распространяли в прессе яростные
нападки на монархию и парламент, а также призывы к классовой
ненависти и подстрекательство к массовому насилию31.
Описание Италии в 1920 году, сделанное консервативным изданием
"Камбо", ничем не отличалось: "Красный флаг развевался над
фабриками и мэриями центральной и северной Италии.
Промышленное производство исчезало, железные дороги, эта сложная
и деликатная служба, как никакая другая, в которой дисциплина и
иерархия более необходимы, чем рельсы и локомотивы,
функционировали анархически, с недисциплинированным персоналом,
не признающим ни авторитетов, ни иерархии".32
Такое же суждение о доминировании "красных" высказал демократ
Моурер: "Социальная нетерпимость и насилие в целом не имели
границ. В некоторых регионах было даже опасно носить монокль или
водить машину. Все должны были быть равны - все лорды".33 Вождь
стал "деревенским тираном", о существляя абсолютную власть над
землевладельцами, лавочниками, торговцами и над самими рабочими,
которые не подчинялись решениям лиги. Тех, кто не подчинялся,
приговаривали к бойкоту: "С этого момента жизнь приговоренного
превращалась в мучение. Изолированный, не с кем поговорить, всеми
отвергаемый как преступник, бойкотируемый не мог жить в
спокойных материальных и моральных условиях. Он не мог работать
за пределами своей земли, и никто не мог ему помочь. Он не мог зайти
в таверну, чтобы выпить или купить что-нибудь. Из страха, что его в
свою очередь бойкотируют, лавочники отказывались продавать ему
что-либо, сапожник - чинить обувь, кузнец - подковать лошадь,
цирюльник - побрить. Его детей выгоняли из школы, врач "не находил
времени" навестить его больную жену".
Бойкотируемый не мог даже переехать в другую страну, потому что
везде были красные лиги, и он был человеком, отмеченным анафемой,
отлученным от церкви. "Известны бойкотируемые, которые вместе со
своими семьями преодолевали десятки километров в поисках работы и
даже убежища. Рано или поздно жертва покорялась и просила мира". И
снова красная лига выносила свой приговор: виновный должен был
заплатить лиге сотни или тысячи лир (в зависимости от тяжести его
вины), без вопросов, без жалоб, без квитанции об уплаченной сумме.
"Такая красная тирания, - комментировал Моурер, - была неизвестна в
мире за пределами России "34. Поклонник реформистского
социализма, Херрон сожалел о тиранической системе красных лиг,
которая уже задолго до мирового конфликта установила "фактическую
диктатуру пролетариата", а после войны стала "более иррациональной
и жестокой с каждым днем". Бойкот, писал Херрон, распространялся и
на мертвых. Когда умирал человек, приговоренный к бойкоту,
могильщики отказывались хоронить его, если только один из них
принадлежал к лиге. Тирания лиг коснулась и духовенства: "в
некоторых регионах социалисты потребовали ввести налог на
церковную ренту, и людям запрещалось посещать мессу только потому,
что священник дал работу крестьянину, которого бойкотировали, или
заготовил сено на бойкотируемом поле".35
Несмотря на свое суровое осуждение красной тирании, Моурер все же
признавал, что в революционной агитации "наряду с большим злом
появилось и нечто хорошее", поскольку почти все категории рабочих
получили право на восьмичасовой рабочий день. Более того, в первые
месяцы 1920 года было принято множество законов,
благоприятствующих рабочим.36
С таким же спокойствием американский журналист признал, что
широкое движение по захвату фабрик в сентябре 1920 года, несмотря
на несколько эпизодов насилия, в целом проходило в условиях
"величайшего спокойствия", свидетелем которого он сам был:
"Дисциплина в целом поддерживалась рабочими, движимыми
желанием показать свою способность к самоконтролю". 37 Будучи
свидетелем движения по захвату фабрик, Херрон подтвердил, что
рабочие смогли навязать себе "дисциплину, гораздо более строгую, чем
осмелился бы навязать любой начальник, и осуществляемую самими
рабочими по взаимному согласию".38 После долгих и трудоемких
переговоров, при посредничестве правительства Джиолитти, которое
отказалось призвать общественные силы для очистки фабрик,
Конфедерация промышленников и Всеобщая конфедерация труда
достигли соглашения о требованиях по заработной плате и контроле
рабочих над промышленностью, которое было подписано в Риме 19
сентября на встрече под председательством Джиолитти. Три дня
спустя большинство рабочих одобрили соглашение. В конце сентября
фабрики были эвакуированы.
Так закончилась самая долгая, самая сложная и решающая битва в
истории итальянского пролетариата, ставшая кульминацией двух лет
агитации и профсоюзной борьбы. Коммунисты протестовали против
того, что Всеобщая конфедерация труда "предала революцию". Но в
действительности, заметил Моурер, с окончанием оккупации заводов
большевизм в Италии "потерпел решающее поражение".39
Затем Социалистическая партия начала параболу вниз, прежде всего,
из-за внутреннего кризиса, который в январе 1921 года привел к
расколу, из которого родилась Коммунистическая партия Италии.
Раскол, однако, не подорвал максималистское руководство, которое
продолжало вести партию, заявляя о своей верности Третьему
коммунистическому интернационалу и реализации в Италии
диктатуры пролетариата. Хотя, как отметил Андрич, по мере того, как
сроки неизбежной революции проходили без революции, "массы
постепенно начали терять веру в красное чудо "40.
То, что в стране что-то меняется в противовес угрожающей
социалистической революции, стало ясно на осенних местных
выборах, когда успех "национальных блоков", спонсируемых
Джолитти, состоящих из либералов, демократов и националистов,
сумевших получить большинство в некоторых крупных городах,
включая Турин, Геную, Флоренцию, Рим и Неаполь, которые были
освобождены "от кошмара коммунистической администрации", как
писал Алазар. Он отметил как еще один важный признак изменения в
противоположном направлении антимилитаристской и
антипатриотической тенденции, преобладавшей в предыдущие два
года, торжественное празднование годовщины победы 4 ноября 1920
года, желаемое Джолитти: "Апофеоз победы был, таким образом,
делом рук нейтралиста 1915 года", - прокомментировал Алазар.41
После этого празднования иностранным наблюдателям казалось, что
Италия вышла из хаоса. Для Херрона соглашение между
промышленниками и рабочими, достигнутое после оккупации фабрик
при посредничестве Джиолитти, даже представляло собой
универсальную модель мирного примирения между капиталом и
трудом, с помощью которой Италия продемонстрировала свою
способность сохранить веру в свою миссию лидера для всего
человечества: "Это, конечно, поразительное зрелище, что этот старый
и проницательный европейский политик был единственным, кто
понимал признаки своего возраста, и как, действуя под влиянием
какого-то благородного видения, он сознательно посвятил свое
правительство программе, в которой предлагал полную
реконструкцию индустриального общества и переопределение
функций государства". 42
Херрон описал как "великое приключение" реализацию замысла
Джолитти, "этого необычного политика", который стремился
продвигать "новый способ производства и экономического
управления", эксперимент в промышленной политике, способный
создать более справедливое общество благодаря свободному действию
его сил.43 Для Билса осень 1920 года также была самым решающим
моментом в послевоенной истории Италии, но в далеко не
положительном смысле, потому что это был момент, когда пик
революционной силы совпал с разочарованием итальянских рабочих в
мифе о большевистской России: Это был момент, когда началась
дезорганизация пролетариата, с одной стороны, и, с другой стороны,
организация традиционных классов, крестьянства и мелкой
буржуазии, "первое полное обновление этих двух классов и их первая
попытка обрести эффективное политическое сознание". Наконец, она
была решающей, потому что "это был момент, когда начался быстрый
рост фашизма и его объединение в подлинно национальном
масштабе".44
Италия выходила из хаоса и вступала в гражданскую войну.
4. ИТАЛИЯ В ПЕРИОД
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
До сих пор в рассказах иностранных наблюдателей, находившихся в
Италии после войны, мы не встречали ни Муссолини, ни фашизма.
Действительно, в 1918-1920 годах ни Муссолини, ни фашизм не
привлекали их внимания, потому что, как писал Моурер, после
рождения Фаши ди комбаттименто 23 марта 1919 года фашизм
"о ставался практически неактивным почти два года".1 Но даже в этот
период можно было говорить об Италии Муссолини, потому что
именно Муссолини в 1912 году возглавил революционное течение в
партии, окончательно оттеснив реформистов на второй план. В Италии
"красного двухлетия" не было преувеличением видеть также влияние
революционного возбуждения, которое Муссолини, будучи редактором
"Avanti!", внушил социалистическим массам: в конце концов,
максималисты и коммунисты 1919-1920 годов были восторженными
муссолинистами в 1912-1914 годах.
Некоторые иностранцы позже писали, что впервые услышали о
фашистах и Муссолини только в 1920 году. Например, английский
журналист Герберт Вивиан, который посещал Италию с конца XIX
века и в 1917 году опубликовал книгу о воюющей Италии как "дань
уважения героизму храброго народа", а после конфликта защищал
итальянские претензии на мирной конференции.
В книге о фашистской Италии, опубликованной в 1936 году, Вивиан
утверждал, что впервые услышал слово fascisti в 1920 году. Он был в
Венеции, сидел в кафе, когда недалеко от его столика взорвалась
бомба; к счастью, ему удалось спастись, журналист сказал одному
человеку из толпы, собравшейся на месте взрыва: "Конечно, это были
социалисты", но тот ответил: "Возможно, это были фашисты". 2 Через
несколько дней он был в Фиуме на встрече с поэтом-командиром и там
впервые услышал о Муссолини как о "лейтенанте д'Аннунцио в
Италии": "Я представил себе, что это знаменитый бандит с таким
именем, считавшийся своего рода национальным героем типа Робин
Гуда".3
Вивиан вспоминал, что впервые встретил Муссолини в Милане в
штаб-квартире своей газеты, не уточняя, когда именно: "Я был
впечатлен его магнетизмом, решительностью, откровенностью и
самоуверенностью, но прежде всего он поразил меня как самый
маловероятный лидер латинской толпы. С его сверкающими
цыганскими глазами, выдающимся лбом, медленной ораторской речью
и совершенным спокойствием он мог бы быть проповедником
мистической религии. Или профессиональным боксером, с его
сильными сжатыми челюстями, огромными плечами и пристальным
взглядом боксера, всегда готового уклониться от удара. Я заметил его
большие пальцы, которые пальмология приписывает тем, кто рожден
властвовать; и раз или два, отдавая приказы или диктуя манифест, у
него был тот вдохновенный взгляд, который льстецы придавали
портретам Бонапарта. Но в нем не было ни малейшего сходства с
демагогом".4
О фашистах и Муссолини
В книге о воюющей Италии Алазар много писал об интервенте
Муссолини, но в более позднем томе о послевоенной Италии
Муссолини впервые появляется не как основатель фашистского
движения, а для комментария в мае 1919 года против правительства
Нитти. Фашист Муссолини появляется только в пятой главе под
названием "Буржуазная реакция: фашизм", но после описания
появления "фашистов", которых Алазар определил как
"гомеопатическое средство" против "красной диктатуры": "на удары
палками отвечали ударами, на револьверы - револьверами, на насилие -
насилием". Фашисты восстали против коммунистов. Буржуазия также
решила объединиться и преподать урок тем, кто нарушал их мирное
существование. Ядром фашио стали бывшие ардити и студенты, к
которым присоединились представители среднего и высшего среднего
класса. Во главе их стоял ярый романьоло, ранний интервенционист (и
бывший унитарист-социалист) Бенито Муссолини. Их призывом был
клич добровольцев Д'Аннунцио в Фиуме: "Eja Eja Alalà". Д'Аннунцио
стал вдохновителем фашизма".5
Алазар описал фашизм как движение без сплоченности, в котором
собрались разочарованные послевоенные люди, ветераны, которые
хотели уважения к победе и итальянскому солдату, враги социализма и
коммунизма. В фашизме сосуществовали различные чувства и
стремления: надежды средних классов вернуть себе богатство,
утраченное во время войны, необходимость укрепления
патриотического сознания, широко распространенная ненависть к
нажившимся на войне, которых следовало преследовать без пощады.
Но "романтический аспект", как заметил Алазар, вскоре исчез, остался
"социальный аспект, который был фатально антикоммунистическим и
антиреволюционным", и те, кого фашисты изначально презирали, то
есть крупные промышленники, обогатившиеся за счет военных
поставок, встали под сень их вымпелов.
С этого момента фашизм стал "своего рода милицией, призванной
защищать установленный порядок и довести до бессилия
коммунистическую партию и красные профсоюзы".6 Несмотря на
неорганичность различных тенденций, фашизм, как писал Алазар,
"полностью изменил характер внутренней политики", организовав
"настоящие батальоны порядка", со стоящие из боевых буржуазных
групп, готовых выйти на улицы. 7 Внедрение вооруженной
организации сквадризма и его жестокие методы борьбы с
противниками в 1921 и 1922 годах придали политическому
противостоянию вид гражданской войны, и в основном именно
благодаря этому фашизм привлек внимание иностранных
наблюдателей.
Джолитти, которому было почти восемьдесят лет, оставался в
правительстве до июня 1921 года: "период Джолитти стал еще более
трагичным и превзошел по жестокости период Нитти", - писал
Алазард.8
Новый вид войны
Революция, которой не было": так Моурер озаглавил главу о
социалистическом господстве в своей книге об Италии, и завершил ее
следующими замечаниями: "Италия тем временем, без ведома
большинства итальянцев, вступила в новую фазу реакции и
сектантской анархии... Отголоски революции, которая так и не
состоялась, угасали на фоне нарастающего грохота нового вида
войны".9
В следующей главе Моурер в качестве главного действующего лица
ввел в картину фашизм. Это был не первый раз, когда американский
журналист говорил о фашизме и его лидере. Он уже упоминал
Муссолини и фашизм как сторонников предприятия д'Аннунцио в
Фиуме.10 Затем он упомянул тот факт, что Муссолини был
сторонником Рапалльского договора, по которому Джолитти
договорился с югославским правительством о признании Фиуме
"свободным городом", что вынудило поэта положить конец своей
авантюре и навсегда покинуть город.11 Затем больше никаких
упоминаний до конца 1920 года, учитывая, что до этого времени
фашизм оставался почти полностью бездействующим, за исключением
спорадических эпизодов насилия, таких как нападение на миланский
офис "Avanti!" в апреле 1919 года и разрушение Народного дома
словенцев в Триесте.
Только в конце 1920 года, по словам Моурера, "союзники армии в
Венеции Джулии и капитала в Эмилии, фашисты начали настоящее
наступление на организованное рабочее движение, вербуя своих
последователей из всех респектабельных классов и, перестав быть
ополчением, приняли облик и тактику "дружинников". Крича "Eja, Eja,
Alalà", распевая свой гимн и выкрикивая "Abbasso Lenin", фашисты
ввергли миллионы итальянских рабочих и крестьян в панику и
замешательство. Атака сопровождалась ударами дубинок, бешеными,
иногда смертельными выстрелами из револьверов, взрывами ручных
гранат и ревом тяжелых грузовиков. Все это означало разрушение,
насилие, смерть и исчезновение всех следов тридцати лет медленного
социалистического прогресса".12
Таким образом, с эффективной краткостью американский журналист
описал "войну нового типа", которая разразилась в Италии в конце
1920 года, с вооруженной реакцией фашистов против организаций
пролетариата. Предлогом и провозглашенным мотивом фашистской
реакции была защита войны, победы и ветеранов, борьба с
большевизмом и "красной тиранией", утверждение примата нации,
восстановление порядка и прав собственности против всех тех, кто
проповедовал и практиковал классовую борьбу, интернационализм и
наступление социальной революции для экспроприации капитализма и
установления диктатуры пролетариата.
На практике фашизм, по мнению Моурера, "показал себя
"динамически консервативным", хотя его теория была и оставалась
революционной", в силу предыдущего опыта, в социализме или
синдикализме, его "бесспорного основателя" Муссолини и первых
лидеров, которые придали движению "сильный революционный и
республиканский дух". Моурер считает, что ранние фашисты были
сродни коммунистам по темпераменту: они были врагами
либерализма, демократии и пацифизма; они были готовы к борьбе,
превознося героическое насилие против "культа подкаблучников". Из
синдикализма фашисты вывели культ производительных сил, сместив
акцент экономической борьбы с распределения на производство13.
С этой программой фашистское движение собрало в свои ряды
ветеранов, солдат, студентов, профессионалов, офицеров,
коммерсантов, с которыми оно вело насильственные действия против
противников, рассматривая их как врагов нации. Начало фашистского
насилия было положено в Триесте и Венеции-Джулии против славян
недавно присоединенных провинций; но развитие движения началось
в конце 1920 года, когда "война нового типа" фашистов разразилась в
Болонье и Ферраре, распространившись в первые месяцы 1921 года на
другие провинции долины По, Венето и Тосканы "со скоростью
эпидемии", как писал Андрич. Югославский дипломат отмечал,
однако, что средства, используемые фашистами "для защиты
существующего порядка, были гораздо дальше от закона и
цивилизованных обычаев, чем средства, используемые социал-
коммунистами".14
Повсюду фашистское наступление затрагивало организации
социалистического пролетариата, разрушая и сжигая партийные
штабы, профсоюзы, рабочие палаты и кооперативы, насильственно
заставляя социалистических администраторов в муниципалитетах,
городах и провинциях уходить в отставку. Иностранные наблюдатели
часто становились непосредственными свидетелями "нового вида
войны", которую фашизм ввел в Италии с помощью своих
вооруженных отрядов. В первые дни марта 1921 года Алазард
наблюдал во Флоренции жестокие столкновения между фашистами и
жителями популярного квартала Сан-Фредиано после того, как
чернорубашечники убили профсоюзного коммуниста. Тогда жители
квартала бросили вызов фашистам: "Приходите, если у вас есть
мужество, и вы увидите, как мы отомстим за нашего Спартака".
Фашисты, по словам Алазарда, приняли вызов и вошли в квартал, где
"их встретили выстрелами из револьвера, а на их головы обрушились
кипяток и черепица". Фашисты отреагировали. Стрельба становилась
все гуще и гуще. Потом вмешалась полиция, но поздновато... Все
узкие, извилистые улочки Сан-Фредиано превратились в баррикады. И
началась непримиримая борьба, которая продолжалась два дня: все
кварталы рабочего класса последовали примеру Сан-Фредиано. Имя
Спартако Лаваньини пробудило "popolo minuto".
Бои в районе продолжались и на следующий день, и "можно было
видеть, как мимо проезжали процессии грузовиков с солдатами,
готовыми к стрельбе, колонны бронированных машин, парады
артиллерии. На углах улиц, на террасах были установлены пулеметы.
Мосты были забаррикадированы кордонами войск и защищались
пушками". В городе была объявлена всеобщая забастовка. В центре
Флоренции толпа ликовала, когда мимо проходили солдаты, пушки и
пулеметы: "Пьяцца Витторио Эмануэле произвела впечатление шестью
пушками и большой кавалерией, и такое же размещение войск можно
было видеть повсюду". Затем было объявлено об окончании
забастовки: "Коммунистическая партия понизила тон, и все стены
зачитали призыв социалистических депутатов о возобновлении работы
и трогательное воззвание архиепископа". На третий день несколько
рабочих возобновили работу, а вокруг Флоренции продолжалась
борьба: "Но коммунисты были побеждены, порядок в конце концов
был восстановлен".15
В те же дни, что и во Флоренции, Билз стал свидетелем ежедневных
столкновений между фашистами и антифашистами в Милане: "Наша
комната, выходившая на площадь Венеции, оказалась лучше, чем
сцена в театре, для наблюдения за серией спектаклей, которые в то
время еще имели вид новизны. На наших глазах коммунисты и
фашисты вели многочисленные бои. Среди жертв были женщина на
последнем месяце беременности и горничная, выбивавшая ковер на
дальнем балконе. Однажды ночью, около 11 часов, наше окно
распахнулось с ужасающим грохотом, когда в театре "Диана" на
другой стороне улицы взорвалась бомба. В течение двух часов в
кричащей неразберихе полицейские санитары извлекали мертвых и
раненых, перемещаясь среди беспорядочных рядов зрителей".16
В последующие месяцы Билз видел результаты уничтожения офисов
"Avanti!" в Милане и социалистической газеты "La Giustizia" в Реджо-
Эмилии: "Печатные станки разбиты, шрифты разбросаны по земле,
корпуса сожжены. Печатные машинки уничтожены, книги и архивы
украдены или сожжены. Нужно было вернуться к землетрясению и
пожару в Сан-Франциско, чтобы найти такие же разрушенные и
выпотрошенные интерьеры".17
Древние пороки возрождаются
Дни Флоренции были представлены Алазаром как яркий пример
трансформации политики, произведенной фашизмом: "Кто бы мог
поверить, что страна "спокойной жизни" станет полем боя?". Но
француз предупредил читателя не удивляться применению
политического насилия среди итальянцев, напомнив ему о кровавых
битвах 14-го века, "дерзости "popolo minuto" и знаменитых
беспорядках "ciompi"".18 Билс также рассказывал, что марширующие
шаги фашистов, раздающиеся ночью на пустынных улицах или под
портиками, напомнили ему о "наемных солдатах средневековых
кондотьери".19
Ссылка на войны между группировками в средневековой и
ренессансной Италии использовалась иностранными наблюдателями,
чтобы объяснить древние корни новой гражданской войны, ведущейся
между фашистами и антифашистами, в то время как остальное
население, как и в средние века и в эпоху Возрождения, занималось
своей повседневной жизнью, не принимая в ней участия. "Только в
Италии, - заметил Херрон, - может вестись своего рода гражданская
война между равнодушным населением, которое продолжает спокойно
заниматься своими повседневными делами".
Богослов вспоминал эпоху Возрождения, когда художники и их
произведения процветали "во Флоренции, где каждый дворец был
крепостью, где войны между семьями были обычным состоянием
улиц", так же как "восхитительные люди, от Святого Франциска до
Леонардо да Винчи, совершили свои беспримерные произведения,
живя в городах-государствах, где один деспот за другим правили по
закону убийства; и никто не знал, какой новый конфликт и какое новое
разрушение принесет завтрашний день". Это "бурное великолепное
прошлое" было для Херрона, безусловно, "прародителем современной
Италии", описанной как страна, "страдающая от мук нового
рождения", хотя она и "кипела гражданскими конфликтами, которые
поначалу были неконтролируемыми "20.
Билз, путешествуя по Италии в те годы, также отмечал, что
"невозможно поверить, что идет такая жестокая война фракций,
поскольку, пересекая сельскую местность Тосканы, долины реки По
или Адриатики, можно было видеть людей, спокойно занимающихся
своими делами, точно так же, как на улицах любого итальянского
города можно было увидеть хорошо одетых людей, кафе,
переполненные днем и ночью, портики, оживленные
прогуливающимися людьми". "Мало в какой стране, - заметил Билз, -
может произойти настоящая гражданская война, не втянув в свой
водоворот огромную массу населения".21 Контраст между
гражданской войной и обычной жизнью большинства населения
американец объяснил атавистическим насилием итальянцев, которое
фашисты возродили, используя прямые действия немедленной и
быстрой физической агрессии против своих противников, а не бойкот,
забастовку или саботаж.22
В Италии, отметил Билз, "насилие было более или менее нормальным
средством выражения общественного мнения в условиях
несовершенной демократии. Уличные демонстрации восходят к
временам Римской республики... В средние века такие конфликты
были обычаем, как и во Флоренции в период расцвета ее культурного
величия и превосходства... Более поздним прецедентом была
метеоритная карьера Гарибальди. А после объединения насилие и
демонстрации на улицах были частыми и часто серьезными".23
Об атавистической "привычке итальянцев к насилию" говорил и
Хазард, задаваясь вопросом, всегда ли это было так. Возможно", -
ответил он, - "не составит труда найти в итальянской литературе, от
Данте до Кардуччи, людей, склонных к насилию, в большом
количестве"; но в любом случае, отметил историк, эта привычка была
обострена войной, а с войны перешла в политическую борьбу: "нет
сдерживания в борьбе между партиями, каждая пытается навязать себя
силой; если те, кто хочет восстановить порядок, действуют с
дубинками и револьверами, то другие - с бомбами. Более спокойные
убедили себя, что для того, чтобы чего-то добиться, нужно кричать,
угрожать, штурмовать. Они, естественно, приняли этот метод, потому
что это было единственное, что им оставалось". Следовательно,
продолжал Хазар, насилие стало в Италии "просто модой дня "24.
Для французского историка обращение к средневековому и
ренессансному прошлому было неизбежным, особенно во время его
пребывания в Тоскане, где он видел, как сквадристы совершали
карательные экспедиции. История Тосканы, писал Хазард, со Средних
веков до эпохи Возрождения включительно, была "историей долгой
битвы: город против города, партия против партии, семья против
семьи. Кровь не переставала литься.
Никогда еще человеческая жизнь не ценилась так низко, и никогда она
не была так драгоценна, потому что стала самоцелью, чтобы быть
наполненной всеми удовольствиями, чтобы быть украшенной всем
престижем искусства. Немного осталось следов этого кровавого
прошлого; неужели все они исчезли? Не возрождается ли в некоторых
из их потомков дух, который вдохновлял гвельфов против гибеллинов,
белых против черных? Разве презрение к жизни, проявляемое в
нынешней политической борьбе, в тот самый момент, когда урок
войны напомнил нам о бесконечной ценности каждого человеческого
существования, не напоминает о древней традиции? Разве это первый
случай, когда граждане, видя несостоятельность институтов, берут
правосудие в свои руки и утверждают, что из насилия можно извлечь
новое право? Впервые ли партия заменяет государство?".
Хазард, "не драматизируя", считал, что сходство между прошлым и
настоящим очевидно: "Сейчас, как и тогда, нет ни одного человека,
который не был бы вооружен, сейчас, как и тогда, никто не соблюдает
указов против тех, кто ходит вооруженным, сейчас, как и тогда,
граждане из разных городов собираются и уходят в спешке, чтобы их
замыслы не были раскрыты, они обрушиваются на своих врагов,
грабят и сжигают их дома, а затем каждый возвращается в свой дом. И
сейчас, как и тогда, главы фракций согласны положить конец
карательным экспедициям, которые порождают, от одной вендетты к
другой, бесконечные убийства "25. Моурер также не избегал
исторических аналогий и ссылок на характер итальянцев. Чтобы
объяснить истоки фашизма, прежде всего, необходимо помнить, что
Италия была "классической страной фракций и драк, быстрых убийств
и долгой мести".
По словам американского журналиста, в Италии не было ни одной
публичной демонстрации, собрания или выборов, которые не
закончились бы конфликтом. "И часто кто-то был убит". После
окончания войны "воинственный дух" проник и в Палату депутатов,
где часто происходили злобные оскорбления, жестокие столкновения и
нападения. Но для Моурера "война не была матерью этого насилия в
действии, поскольку она лишь оживила умонастроения,
существовавшие на протяжении всей истории Италии. Римские семьи
Средневековья, Колонны, Савелли, Орсини, Гвельфы и Гибеллины,
Белые Гвельфы и Черные Гвельфы: они были просто коммунистами и
фашистами другой эпохи. Итальянцы редко вели национальные войны,
а партизанские, коммунальные и личные войны были их забавой и
удовольствием".26
Черная тирания Обращение к прошлому и аналогии со
средневековыми междоусобицами не заставили нас упустить из виду
современную реальность фашизма, особенности его организации,
методы борьбы и эффективность, с которой эти два фактора позволили
фашистам одержать победу над своими противниками, за несколько
месяцев разрушив большинство "красных тираний" и заменив их
новыми тираниями чернорубашечников. Внимание иностранных
наблюдателей было сосредоточено на этих новых аспектах фашизма,
после довольно стереотипных описаний предыдущих историков.
Среди книг, опубликованных до "Марша на Рим", книга Моурера
содержала наиболее подробный анализ успехов фашизма в период с
конца 1920 по лето 1921 года. Он указал на скорость, с которой
фашистам удалось запугать своих противников и заставить их сдаться.
В первые несколько месяцев, писал Моурер, прослеживая генезис
фашизма в провинциях долины реки По, "фашисты навязывали себя
без контраста: пятьдесят из них могли контролировать большой город;
четверо "оккупировали" враждебную деревню с населением в две
тысячи душ".27 Отказавшихся подчиниться было немного, и только в
нескольких местах были коммунистические, католические и
республиканские оплоты, которые сопротивлялись. "Но вскоре
основные коммунистические центры - Болонья, Феррара, Ровиго,
Реджо-Эмилия, Модена - оказались под военным господством
фашистов. Тех коммунистов, которые сопротивлялись, били
дубинками или еще хуже. Фашистские дозорные патрулировали улицы
и поддерживали порядок, а общественное мнение ликовало.
Торговцы были счастливы. Социалистические администрации открыто
действовали в интересах рабочих... Фашисты сразу же организовали
свою деятельность, используя военные методы. У них были смены
караулов, штабы, эмиссары, а для быстрых действий были
предоставлены грузовые и легковые автомобили. Одной телеграммы
было достаточно, чтобы собрать сотни фашистов за несколько часов.
Все они носили тяжелые палки, многие были вооружены
револьверами, некоторые также винтовками, стальными касками и
ручными гранатами. В сельской местности они обычно действовали
ночью, в других местах они спускались в города средь бела дня,
производя ужасные залпы выстрелов в воздух и издавая свой боевой
клич: "Eja, eja, alalà!"28.
Американский журналист не уточнил, были ли его описания действий
и правления фашистов получены из газет, свидетельств или
непосредственного наблюдения, но его рассказ о развитии "черной
тирании" в северной и центральной Италии в период с конца 1920 года
по лето 1921 года отразил некоторые аспекты раннего фашизма как
движения, возникшего в результате "спонтанного взрыва" с
выраженными региональными особенностями и поддержкой
различных социальных сил. В Истрии, в Венеции Джулии, в Триесте
фашисты пользовались поддержкой вооруженных сил и вели свою
"войну нового типа" против славян, а также против организованных
левых рабочих. В долине реки По чернорубашечники действовали от
имени аграриев с целью уничтожения красных лиг: "одна деревня за
другой подвергалась нападениям и террору, профсоюзных лидеров
избивали, пытали, убивали".
"В провинции Феррара лиги были вынуждены присоединиться к
Фашио. Все, кому пролетарская диктатура была противна, офицеры,
сыновья землевладельцев, жертвы бойкотов и штрафов, с радостью
присоединились к фашизму; остальных "уговорили"... Так фашистская
партия Феррары завоевала красные лиги и подвергла их террору. По
мере распространения движения множились и методы, включая
беспорядки и провокации, похищения и охоту на частных лиц. И там,
где социалисты не давали предлога, а помещики платили, именно
фашисты провоцировали столкновения: в Италии социализм должен
был исчезнуть "29.
Больше всего Моурера и других иностранных наблюдателей, таких как
Алазард, поразила неспособность "красных" сопротивляться и
реагировать на новый вид войны, развязанной фашистами против них,
которые в течение двух лет восхваляли революционное насилие,
классовую борьбу и уничтожение буржуазии. Отсутствие реакции на
агрессию чернорубашечников, по мнению Алазарда, зависело от того,
что фашистское движение, "даже если оно неорганично в своих
тенденциях", тем не менее, сумело со своими вооруженными отрядами
сформировать эффективную боевую организацию, которая застала
своих противников врасплох, внезапно обрушив на них волну
систематического насилия30.
Поначалу социалисты отвечали "не менее яростными и кровавыми
атаками", - заметил Андрич, - но их оборона оставалась
неорганизованной и индивидуальной, а сопротивление продолжало
слабеть... В то время как социалисты проводили примирения и
референдумы по вопросу "за или против применения силы",
решительное и беспринципное меньшинство проливало кровь и
безжалостное масло".31
Моурер обвинил коммунистических лидеров в том, что они в целом
проявили "самую отвратительную трусость", поскольку ничто не
могло оправдать ту легкость, с которой многие под угрозой насилия
подписывали декларации, "отрекаясь от работы всей своей жизни,
восхваляя фашизм и подчиняясь, уходя с постов, на которые они были
законно избраны "32 . 32 И пока старые реформаторы с горьким
удовлетворением наблюдали, как сбываются их предсказания о
последствиях максимализма, советуя не отвечать на агрессию
насилием, лишенные лидеров массы были предоставлены сами себе.
Таким образом, фашисты, поддерживаемые аграриями, завоевывали
все большее господство в северных регионах, где до сих пор
преобладали левые организации. Способствовали росту фашизма все
те, чьи интересы и идеалы были оскорблены в предыдущие два года
максималистским социализмом, или кто подвергся навязыванию
"красных баронств", или кто иным образом намеревался остановить
продвижение пролетарских организаций. В центральной Италии,
заметил Моурер, фашизм был, по сути, движением социального и
интеллектуального бунта аристократии и капиталистических классов
против процветания организованных рабочих. Насилие фашистов
воскресило атавистическую ненависть, соперничество и жестокие
столкновения между коммунами и кварталами, "которые, казалось,
вернули Италию на шесть веков назад".33 В Риме фашисты были
немногочисленны и совершали спорадические насильственные
действия, а на юге они были безуспешны, за исключением, по словам
Моурера, тех мест, где их поддерживало правительство. Но
наибольшее финансирование, где фашизм утвердился наиболее
быстро, исходило от бизнесменов, землевладельцев, патриотов, тех,
кто был заинтересован в снижении стоимости рабочей силы или
сведении старых счетов с социалистами. Везде, где фашисты
навязывали свою власть, владельцы отказывались признавать
соглашения с лигами и профсоюзами.
Помимо финансовой поддержки частных лиц, фашисты пользовались
пособничеством полиции, военного командования, государственных
чиновников и представителей правительства, которые были
оскорблены и обижены революционной пропагандой. Вполне
естественно, заметил Моурер, что государственные служащие, над
которыми издевались революционеры, а солдаты и ветераны, которых
оскорбляли и обижали, стали союзниками фашистов, которые вместо
этого восхваляли их труд и доблесть; следовательно, они закрывали
глаза на фашистское насилие, когда не поощряли его.
От армии фашисты получали сочувствие, помощь и военные
материалы; офицеры в форме участвовали в карательных экспедициях;
фашистам разрешили использовать военные склады в качестве
собственного арсенала: "Эти факты доказаны", - отметил Моурер.34
Кроме того, журналист осудил тот факт, что полиция оставалась
"нейтральной" перед лицом убийств, насилия и пожаров. Даже когда
они знали о карательных экспедициях, они позволяли фашистским
бандам "разъезжать на своих грузовиках, вооруженным до зубов",
чтобы совершать свои жестокие подвиги. Командиры общественных
сил игнорировали объявления и подготовку к карательным
экспедициям, а если не могли избежать вмешательства в защиту
беззащитных рабочих и крестьян, то приезжали слишком поздно. А
когда фашистские вооруженные банды под угрозой смерти заставляли
социалистов уходить со своих постов, приговаривали своих врагов к
избиению дубинками, запретам или еще чему-нибудь похуже,
"чиновники лишь пожимали плечами или отвечали, как префект
Реджио: "так дует ветер"".35
Сговорчивый нейтралитет слабого государства
Слабость или инертность правительств, а значит и либерального
государства, перед лицом распространения незаконности и
политического насилия в послевоенной Италии рассматривалась всеми
иностранными наблюдателями как одна из главных причин хаоса и
гражданской войны.
Алазард назвал "любопытной характеристикой политического момента
олимпийское спокойствие буржуазного государства перед лицом всех
проявлений активности революционных социалистов".36 Таким
образом, страна оказалась в глубоком социальном кризисе, а "никто
больше не уважал принцип власти".37 Нейтралитет правительства
перед лицом социальной борьбы, когда она приняла незаконный и
насильственный характер, показал отсутствие авторитета государства,
заметил Перно: "Вместо того чтобы быть суверенным модератором,
законным и ответственным арбитром, государство стало своего рода
протокольным свидетелем, и даже все менее и менее навязчивым
свидетелем. Другими словами, идея государства, его прерогативы и
функции имели тенденцию к исчезновению".38
Для француза, комментировал Перно, было трудно понять, как
вооруженные люди, одетые в свою форму, могут свободно
передвигаться, нападать, разрушать и убивать в стране, которая
хорошо обеспечена многочисленными государственными силами,
включая полицию, карабинеров и Guardia Regia. Объяснение Перно
ставило под сомнение "итальянский менталитет, который сильно
отличается от нашего": "У нас есть определенная концепция порядка -
как в области мысли, так и в области политики, - из которой следует,
что мы не допускаем промежуточных условий между уважением к
закону и его нарушением, между дисциплиной и анархией. Если эти
два принципа вступают в конфликт, один должен победить другой:
побеждает власть или революция". С другой стороны, в Италии было
признано, что "чтобы избежать революции, власть отказывается от
осуществления своих прав; а между строго законным порядком и
объявленной анархией остается место для маневра, в том смысле, что
правительство не отказывается от своей функции, но временно
воздерживается от ее осуществления и, ожидая лучших времен,
ограничивается сдерживанием рисков и предотвращением
непоправимого "39.
В поведении правительства перед лицом насилия со стороны
сквадристов Моурер увидел закрепление конституционного дефекта
итальянского государства и подтверждение решающей роли
меньшинств в истории Италии. Объединение было результатом
действий энергичного меньшинства, как и интервенция, авантюра
д'Аннунцио в Фиуме и теперь фашизм: все движения меньшинств,
которые действовали незаконно, чтобы навязать свою волю
правительствам, неспособным реагировать, которые маскировали свою
собственную слабость перед лицом незаконных действий меньшинств
беспристрастностью, или в конечном итоге становились их
сообщниками, терпя их действия. Моурер считал доминирование
"решительного меньшинства" специфически итальянской традицией,
которой способствует другая атавистическая склонность итальянцев:
"В стране, где большинство населения все еще привычно пассивно и
считает центральную власть чем-то вроде жестокого отчима, который
должен обманывать, жульничать и противостоять, доминирование
одной фракции неизбежно.
Когда происходило жестокое столкновение между двумя фракциями,
правительства вели себя как большинство итальянцев: они стояли в
стороне и наблюдали, какая из них одержит верх, а затем вмешивались
на стороне победителя. Таким образом, правительство пыталось
соответствовать ориентации общественного мнения, по крайней мере,
той его части, которая, пусть и незначительная, действительно имела
значение.
Именно так, по мнению Моурера, вели себя правительства Нитти и
Джолитти, когда социалисты и профсоюзы под руководством
"фанатичных коммунистов" смогли почти два года доминировать в
стране, даже при поддержке части общественного мнения. Затем, когда
коммунисты не смогли выполнить свои обещания и "шарики
российской утопии сдулись, из лап средних классов возникли
фашисты, которые навязали свою волю во имя порядка, закона и
капитала". Успех фашистов был следствием не только насилия, но и
изменившегося отношения общественного мнения: "Человек с улицы
устал от коммунистического насилия и произвола над рабочими.
Фашисты обещали нечто другое - так что ура фашистам - по крайней
мере, на данный момент".40
Моурер прямо обвинил Джолитти в том, что тот "не сделал ничего,
чтобы противостоять чрезвычайной красной тирании" или новой
тирании фашистов, но использовал чернорубашечников, чтобы
ослабить социалистов и народников. Обладая "талантом к
дезориентации", Джолитти "планировал использовать фашистов в
своих целях на следующих выборах".41
Пьемонтский политик, однако, не отрицал идеального мотива, а
именно "стремления к постепенному пробуждению национального
сознания и поглощению различных революционных сил либеральной
монархией", и напомнил, что в течение пятнадцати лет Джолитти
отдавал предпочтение рабочему классу с целью приручить
социалистов.42 Но после войны социалистов, число которых
чрезвычайно возросло, было не приручить, и искусство Джолитти
стало против них неэффективным. После окончания оккупации
заводов престарелый государственный деятель решил ослабить
социалистов в парламенте, спонсируя создание Национальных блоков,
в которых на парламентских выборах в мае 1921 года присутствовали
и фашистские кандидаты. И фашисты внедрили свои методы борьбы в
избирательную кампанию: Моурер назвал выборы 1921 года
"выборами с дубинкой", взяв из газет различной ориентации,
социалистических и либеральных, цифры насилия, совершенного
фашистами против социалистов, а также против Народной партии43.
Результатом стал электоральный успех фашистов, чьи кандидаты,
начиная с Муссолини, почти везде обогнали кандидатов от
правительства по количеству голосов, проведя в Палату тридцать пять
депутатов. Тем не менее, как попытка Джолитти ослабить социалистов
и Народную партию, выборы были неудачными, хотя в то время
казалось, что "страна перешла в руки фашистов, которые считали себя
партией будущего и настоящими хозяевами положения".44 Но это, по
словам Моурера, было недолговечной иллюзией.
Фашизм в сумерках
На самом деле, по мнению американского журналиста, после успеха на
выборах для фашизма начался период кризиса, связанный, прежде
всего, с внутренними разногласиями внутри самого движения. Когда
после выборов Муссолини подтвердил "республиканскую тенденцию"
фашизма и отказал в доверии Джолитти, который подал в отставку,
националистические и консервативные фашисты пригрозили
расколом.
Кризис фашизма был вызван, по мнению Моурера, и внешними
факторами. Отношение буржуазной общественности к фашистам
менялось, поскольку она испытывала отвращение к их жестоким и
тираническим методам, которые иногда приводили к жертвам даже
среди иностранных туристов. Английский ребенок был убит во время
перестрелки, когда чернорубашечники пытались занять Витербо. Во
Флоренции семья американских туристов подверглась угрозам, а
французский турист был атакован и избит дубинкой, потому что
фашисты приняли знак Почетного легиона за коммунистический
символ.
После протестов иностранных правительств новый премьер-министр
Иваноэ Бономи приказал полиции заставить фашистов соблюдать
закон. "Фашизм, - комментировал Моурер эти факты, - быстро делал
страну столь же небезопасной для иностранцев, как и для итальянцев
"45.
В то же время участились случаи реакции со стороны противников
фашизма. Чернорубашечники стали становиться объектами и
жертвами засад и нападений; были созданы вооруженные группы
пролетариата, Arditi del popolo, для сопротивления и реагирования на
нападения отрядов. Также наблюдались проявления большей
решимости со стороны общественных сил в подавлении фашистского
насилия с помощью оружия. 31 июля 1921 года в Сарзане карабинеры
открыли огонь по значительному числу сквадристов, которые хотели
взять город штурмом: когда фашисты отступали, их преследовала
толпа и батальон Ардити дель Пополо, которые расправились со
всеми, кого смогли схватить46.
В этой ситуации Муссолини убедился, что пришло время обуздать
насилие эскадрилий, и согласился подписать "пакт об умиротворении"
с социалистами при поддержке президента Палаты депутатов. Пакт
был подписан 2 августа 1921 года в Риме. "Через несколько дней, -
рассказывает Моурер, - когда правительство окончательно решило, что
существующий закон, если он будет исполняться, достаточен для
обеспечения порядка, премьер-министр Бономи разослал всем
префектам циркуляр, в котором говорилось, что ни одно преступление
или правонарушение больше не должно быть допущено". По словам
американского журналиста, этот циркуляр, после пакта об
умиротворении, означал, что "официально фашистская реакция
закончилась".47
Умиротворение не было немедленным, поскольку коммунисты
проигнорировали пакт и продолжали разжигать "классовую войну", а
фашисты Тосканы и Эмилии отказались соблюдать соглашение и
продолжили насилие. Моурер считает, что фашизм окончательно встал
на путь заката, когда фашисты отвергли умиротворение, "подписанное
лучшими из их лидеров"; Муссолини отреагировал отставкой от
руководства движением, заявив в своей газете 10 августа, что фашизм -
это уже не освобождение, а тирания, не сохранение нации, а защита
частных интересов. "Все это знали", - прокомментировал Моурер, - "но
было утешительно услышать, как разгневанный лидер признал это".
Повествование об итальянских событиях прекращается в книге
Моурера с пактом об умиротворении и поражением фашизма
Муссолини. Хотя насилие со стороны сквадристов продолжалось и в
последующие месяцы, в заключении своей книги американский
журналист не сомневался, что фашистская реакция окончательно
провалилась.
Его заключительный вердикт фашизму был осуждением без
смягчающих обстоятельств: "Фашизм никуда не вел... Убить человека
было легко; перевоспитать его - вот задача". Настоящей проблемой
Италии был не социализм, а скорее внутренняя слабость
национального характера".48
Алазар тоже завершил свое повествование пактом об умиротворении,
не высказав окончательного суждения о фашизме, но полагая, что
"сами фашисты в конце концов поймут, что лучше перенести борьбу
на почву идей".49 Француз надеялся, что политическая ненависть
постепенно утихнет, хотя он опасался, что в бойцах, ведущих
многомесячную гражданскую борьбу, сохранится недовольство.
Умиротворение совести было величайшей задачей, стоявшей перед
правительством Бономи: более трудной задачи не существовало. И для
ее выполнения требовалось правительство, опирающееся на твердое
большинство, в то время как действующему президенту приходилось
опираться на Национальный блок, который в действительности
представлял собой шаткую коалицию разнородных сил. "Италии
нужен, - заключил Алазард, - энергичный человек, который придаст
этому блоку сильную сплоченность и в то же время серьезную
программу, и который восстановит во всех областях авторитет
государства, серьезно подорванный в ходе последнего
законодательного собрания "50.
Уверенность в Италии, стране свободных
Херрон написал предисловие к своей книге о пробуждении Италии
вскоре после прихода к власти правительства Бономи. Он считал, что
"битва между крайностями" завершилась победой фашистов. Кому он
адресовал свое предупреждение, ведь победа возложила на фашизм,
ставший самой сильной партией, "торжественную и серьезную
ответственность": окончание гражданской войны и социальное
примирение. Признав свое патриотическое происхождение, признав,
что они спасли Италию от анархии, фашисты теперь должны были
понять, что "никакая социальная сила искупления и сохранения не
может быть основана на насилии. Насилие не может исцелить то зло,
которое породило насилие. В конце концов, насилие порождает только
насилие".51
Херрон задавался вопросом, поймут ли фашисты "истинное значение
своей победы" и будут ли они стремиться к еще большей победе, "без
которой достигнутая до сих пор победа была бы хуже, чем
бесполезной, это была бы победа в пользу сил тьмы": своей
величайшей победы фашисты достигнут, встав на пике успеха "на
сторону новой свободы, распространяемой на все общество".
"Будущее не только Италии, но и ... всего человечества, - заявил
Херрон, - зависит от ответа, который даст на эти вопросы действие
фашизма. Если ответ будет отрицательным, то фашисты, следуя
роковому историческому курсу подобных движений в прошлом, станут
самыми страшными угнетателями людей, которых они, по их словам,
хотят освободить. Если ответ будет положительным, то пусть эти
молодые люди немедленно станут апостолами примирения более
справедливой свободы, встав на путь триумфа, бесконечно увеличивая
духовные силы итальянского народа, вновь посвящая его исторической
миссии "52.
Призыв Херрона был обращен не только к фашистам, но и ко всем
гражданам Италии, к носителям экономической власти, к рабочим,
чтобы положить конец их разногласиям, чтобы поставить Италию,
"избранную Богом среди народов", на путь выполнения миссии,
возвещенной всеми ее пророками: спасти "цивилизацию, опьяненную
кровью, которая становится диким местом все более зверских
правительств "53.
Моурер также выразил надежду на будущее Италии. Заявив, что
фашистская реакция потерпела крах, а претензии фашизма на то,
чтобы представлять новую Италию, провалились, американский
журналист не верил, что итальянская ситуация может быстро
вернуться в нормальное русло, если не будут рассмотрены и
устранены эндемические и недавние пороки государства, политики и
общества с помощью нового поведения и крупных программ реформ.
Прежде всего, дискредитация государства в глазах граждан.
Государство, "священная корова", как назвал его Моурер,
рассматривалось итальянцами "как организация, которая не защищает
общие интересы", а отдает их "в распоряжение отдельных групп",
предоставляя им привилегии и обильные денежные раздачи, которые
получались за счет "безжалостного" налогообложения народа54.
Отсюда презрение и отвращение итальянцев к правительству,
вызванное тем, что "правительство относится к нации с невероятным
неуважением... Самые элементарные гарантии против
правительственной тирании игнорируются или отсутствуют.
Полицейская власть в равной степени может быть использована для
политического преследования или агитации, а государственные
чиновники безнаказанно злоупотребляют своей властью".55
Эти пороки были порождены и усугублены правящим классом старых
политиков, каждый из которых имел свои собственные консорциумы и
клиентуру, постоянно соперничая за личные амбиции и интересы,
которые увековечивали себя у власти, прибегая к любым средствам.
"Если бы старые поколения итальянцев были бессмертны, - иронично
заметил Моурер, - надежды на улучшение ситуации было бы мало. Но
молодежь, ветераны и их младшие братья, средний класс и лучший
пролетариат, бунтуют. Недовольство, кажется, подстрекает целое
поколение свергнуть стариков с их циничными извилистыми
методами. Молодые более патриотичны, более энергичны и более
практичны, чем старые. Если бы они хотели, многие могли бы
эмигрировать, но поскольку они остаются, они требуют другого мира:
меньше финансов и больше производства, меньше патернализма и
больше индивидуальности. Будущее неизбежно за ними".56
Моурер был убежден, что в Италии что-то меняется. Старики
ссылались на слабость экономики, чтобы не брать на себя инициативу
и не идти новыми путями. Возможно, новое поколение осмелится это
сделать".57 В старом политическом теле выросла "новая итальянская
душа", которая теперь, подобно куколке, хочет выйти и жить. Для
этого новая, молодая Италия должна была развить лучшие качества
своего характера, стерев старые недостатки. Ведь несмотря на эти
недостатки, утверждал Моурер, итальянцы - свободный и терпимый
народ, народ, "наделенный здравым смыслом, который спасает его от
фанатизма".58 В конце концов, "все в Италии лучше, чем кажется", -
утверждал американец, подчеркивая эту фразу для придания ей
большей силы.59
Несмотря на недостатки итальянцев, анатомированные без поблажек,
для Моурера существовала новая Италия, ожидающая своего часа. Под
поверхностной риторикой и коррупцией скрывается группа людей,
которые действительно могут создать новую Италию. Они - совесть
нации, ее душа. Именно через них дух национальности создает новую
нацию... И когда страдания и необходимость иссушат риторику и
сметут моральную инерцию, тогда Италия вновь станет учителем
человечества. Ее задача - примирить национальность и человечность
"60.
Италия, заключил журналист, была страной свободы и терпимости,
даже если свобода часто казалась лицензией, а терпимость -
безразличием: "Сегодня Италия остается, несмотря на фашистов,
почти единственной страной, где уважают свободу и идеи, где
разрешено инакомыслие и, в пределах допустимого, общепринятое
поведение. Если страна останется верна своему врожденному
либерализму, Италия сможет занять место, которое когда-то с
гордостью занимали, а теперь трагически покинуты Соединенные
Штаты, Великобритания и Швейцария, как убежище для
преследуемых и инакомыслящих: убежище для сегодняшних изгоев,
прокладывающих путь в завтра".
Моурер верил в молодых итальянцев, которые, сочетая постоянную
дисциплину с мудрой терпимостью, внесут свой разумный здравый
смысл в спасение удрученной, напуганной и расстроенной Европы.
"Зная молодые поколения, поколения, которые сопротивлялись на
Пьяве, пока старшие отступали, я верю в Италию "61.
5. ИТАЛИЯ В ЧЕРНОЙ
РУБАШКЕ
Поль Хазард рассказал о своем опыте путешествия по Италии в 1921 и
1922 годах в книге, опубликованной в 1923 году под названием L'Italie
vivante ("Живая Италия"). По его словам, 25 августа 1921 года он
сидел в поезде на станции Модане, собираясь въехать в Италию. Пока
проходил изнурительный таможенный контроль, французский историк
представлял в своем воображении множество иностранцев,
посещавших полуостров на протяжении веков. Он думал о
бесчисленных книгах, в которых описывались их путешествия по
Италии: книгах, которые теперь вечным сном покоятся на
библиотечных полках, и чувствовал себя смущенным, оказавшись по
следам их авторов. "Вот только Италия, которую они описывали,
мертва, как мертвы и они", - подумал Хазард. "После войны возникла
другая Италия, и именно к этой живой Италии я хочу обратиться". У
него было много друзей в Италии, которые могли помочь ему понять
новую "живую Италию", провести его "через обновленную душу их
страны "1.
Хазарду было интересно снова увидеть в Бардонеккии, первой
итальянской станции, живописный красный берет начальника станции
с золотыми шевронами, который для него всегда был "символом земли
обетованной". Но на этот раз удовольствие было смешано с тревогой,
потому что из новостей, которые доходили до него из Франции,
казалось, что земля обетованная превратилась в "потерянный рай "2.
Француз в Италии
Хазард давно знал и любил Италию. В 1903 году, в возрасте двадцати
пяти лет, он выбрал для своей диссертации изучение взаимосвязи
между Французской революцией и итальянской культурой и
отправился в Италию на стипендию для проведения исследований. Он
оставался там в течение двух лет. Со страстью и тщательностью
великого историка-стажера он исследовал многочисленные архивы и
библиотеки во многих городах и начал публиковать свои первые
исследования по итальянской литературе. Он остановился во
Флоренции, где часто встречался с молодежью культурного авангарда,
собравшейся вокруг журнала "Леонардо", которым руководили
Джованни Папини и его друг Джузеппе Преццолини, оба
воинствующие националисты того времени и сторонники
антидемократической и экспансионистской Италии3.
Результатом его исследований стала книга "Французская революция и
итальянские письма (1789-1815)", опубликованная в 1910 году. Хазард
утверждал, что истоки национального чувства и сознания в Италии, из
которых возникло движение Рисорджименто, были следствием
Французской революции. Его интерпретация была опровергнута в
рецензии Бенедетто Кроче "La critica" философом Джованни
Джентиле, который утверждал автономность "национального чувства и
итальянского чувства", оживлявших Рисорджименто.4 На самом деле,
аргументируя свой тезис, Хазард не собирался утверждать первенство
Франции над Рисорджименто, поскольку он прямо отвергал претензии
на "установление своего рода иерархии между нациями в сфере
мысли", так же как он не одобрял "привычку присваивать звания или
присуждать премии".5
Хазард все еще изучал итальянскую культуру - в 1913 году он
опубликовал книгу о Леопарди - когда началась Великая война,
которая захватила его и превратила в участника боевых действий на
пять лет. Когда мир вернулся, он был назначен профессором
сравнительной литературы в Сорбонне в 1919 году. Однако его интерес
к Италии не ослабевал, как и его привязанность, которая
действительно росла вместе с его благодарностью к
интервенционистской Италии за помощь, оказанную ею Франции во
время войны. Поэтому он был встревожен, когда читал "странные
новости", которые доходили до него с полуострова в годы после
окончания конфликта: рабочие занимали фабрики, крестьяне - землю;
недовольство войной и теми, кто ее хотел и вел, было настолько
сильным, что едва не привело к революции. В газетах он читал, что "с
ветеранами обращались не только как с имбецилами, рисковавшими
жизнью ради пустых идолов, но и как с преступниками, пожелавшими
установить культ ложных божеств; и эти божества, которые были
свергнуты, были заменены культом Ленина, а раненых и даже
искалеченных оскорбляли и избивали на улицах". 6 Судя по этим
новостям, Италия показалась ему не праздной и легкомысленной,
какой ее продолжали представлять многие французы, а скорее
"возбужденной и лихорадочной".
Из газет он узнал, что в июне 1920 года "у постели страдающей
Италии, как это уже случалось в подобных ситуациях в прошлом, был
вызван старый доктор Джолитти, который, как обычно, рекомендовал
диету и отдых". Но лечение теперь было неэффективным: Италия не
хотела знать о диете и отдыхе, как и старый Джолитти. Были вызваны
другие врачи, но ни один не смог вылечить страну, где каждый день
происходили драки и сражения между враждующими сторонами, и где
"ценность человеческой жизни сильно обесценилась с тех пор, как в
моду вошел револьвер".
Для французского историка Италия, судя по "странным новостям",
дошедшим до него из Франции, была неузнаваема. Поэтому он решил
поехать и своими глазами увидеть, что происходит на полуострове.
Возвращение к порядку?
Хазард прибыл в Италию после заключения пакта об умиротворении
между социалистами и фашистами, когда другие иностранные
наблюдатели, такие как Моурер, Алазард и Херрон, считали, что после
самой острой фазы итальянская болезнь миновала и страна находится
на пути к выздоровлению: здравый смысл итальянского народа, его
мудрое искусство жить, индивидуализм и привычка к терпимости
возьмут верх над жестокостью политической борьбы между
экстремистами противоборствующих фракций.
Путешествуя по полуострову с севера на юг в течение трех месяцев,
Хазард создавал впечатление, что ситуация улучшается, хотя
политическое насилие по-прежнему было в порядке вещей. Каждое
утро, - отметил он 4 сентября, - открывая газету, я читаю новости о
трагических событиях. Речь больше не идет о любовных драмах,
которые, похоже, вышли из моды. Фашисты отправляются в
"карательные экспедиции", как они их называют; коммунисты обычно
не сопротивляются, но как только им удается застать врасплох какого-
нибудь изолированного фашиста, они мстят, убивая его. Между двумя
партиями идет непрерывная череда провокаций, драк, мести. Насилие
требует насилия, и политические преступления - это порядок дня".7
Но что удивило француза, как и американца Билса,
путешествовавшего по Италии в те же месяцы, так это то, что
политическое насилие не нарушало обычную жизнь в городах и
деревнях, настолько, что частые, но единичные случаи насилия теперь
казались ему "минимальными инцидентами" по сравнению с
прошлым. Поэтому Хазард также считал, что пакт об умиротворении,
который более или менее соблюдался обеими сторонами, все же
послужил завершению периода, когда конфликты переросли в
гражданскую войну.
Историк считал, что беспорядки и конфликты угасали, они были
пережитками прошлого, находящегося в стадии ликвидации.
Забастовки были под угрозой, но их количество сократилось. Были
попытки вовлечь профсоюзы в общее движение, но попытки не
увенчались успехом. Государственные службы все еще скрипели, но
функционировали лучше, чем в прошлые месяцы. "Тенденция к
анархии исчезает, а тенденция к порядку теперь торжествует "8.
И Хазард приписал эту заслугу фашистам. Он пришел к этому выводу
через несколько недель после прибытия в Италию, остановившись во
Флоренции и других городах Тосканы, одного из регионов, где фашизм
навязал свои жестокие методы социалистам и коммунистам, которые
доминировали до конца 1920 года.
В Сан-Джиминьяно люди рассказали ему, что после войны
муниципальная администрация попала в руки "ленинцев". Войска
крестьян ходили по улицам, заходили на фермы и захватывали землю.
По ночам они проходили под окнами буржуазных домов, выкрикивая
угрозы смерти. Затем, в одно прекрасное утро, фашисты прибыли на
грузовиках. Их было не более двадцати человек, но остальные
испугались и замолчали: "С этого дня порядок начал
восстанавливаться". Ленинцы" были так впечатлены угрозой, что
всегда боялись возвращения фашистов. Даже грузовик с волами,
увиденный издалека, заставлял их бояться, что фашисты уже в пути.9
Слушая эти рассказы, Хазард не мог понять, почему коммунисты не
сопротивлялись, хотя среди них были смелые люди. Ему ответили:
"Потому что было кровопролитие". Это произошло во время
муниципальных выборов в декабре 1920 года, в результате которых
экстремисты получили большинство. На ратуше был сорван
национальный флаг и поднят красный. В следующее воскресенье
фашисты вернулись, сняли красный флаг и приказали вывесить в
окнах триколор. Им повиновались. Ночью произошли столкновения.
На рассвете следующего дня фашисты расположились вдоль дороги,
останавливали прохожих и рвали карточки Социалистической партии,
которые они находили, роясь в карманах. Один крестьянин оказал
сопротивление, подняв топор: его застрелили. Но в целом
сопротивления не было.
Люди, которые рассказывали эти истории, описывали фашистов как
"пламенных молодых людей или бывших комбатантов", "готовых
пожертвовать жизнью за принципы, которые они защищают и от
которых зависит само существование родины", в то время как
"экстремисты заботятся прежде всего о своей жизни. За редким
исключением, у них нет другого идеала, кроме как занять место
богатых. Ради чего рисковать своей шкурой? Экстремисты набираются
из числа тех, кто был плохим солдатом, дезертиром, трусом; из числа
тех, кто предпочел свое сиюминутное спасение самопожертвованию в
момент великого испытания. Что касается остальных, тех, кто по
логике вещей должен быть таким же храбрым, как и фашисты, то их
поведение объясняется удивлением и паникой. Возможно, в других
местах все по-другому, но в Сан-Джиминьяно все было именно так".10
Таким образом, даже французский путешественник стал относиться к
фашистам с симпатией.
Разговор с 18-летним фашистом
Хазард впервые столкнулся с фашистами через несколько дней после
прибытия во Флоренцию, 28 августа. На площади Сан-Марко он
увидел множество молодых людей в возрасте от пятнадцати до
тридцати лет, со смелым и вызывающим поведением, которые
собрались со всех концов города в военном строю. Затем, по приказу
своих лидеров, они начали маршировать, размахивая большими
палками и распевая гимн, неизвестный итальянскому репертуару
французов. На следующий день Хазард беседовал с 18-летним сыном
знакомого юриста: "Молодые люди, - отметил историк в своем путевом
дневнике, - всегда кажутся мне страшными, потому что они уверены,
что могут реформировать мир, который без них рискует развалиться".
Эти молодые люди, полные гордости, заставляют тебя в каждый
момент осознавать, что мы плохо провели свою жизнь, и что очень
легко использовать ее лучше". Они правы, я полон сожалений и полон
угрызений совести", - иронично подумал Хазард, когда молодой
студент спорил с ним "на равных, несмотря на мой возраст", проявляя
к нему особую снисходительность.
Молодой человек сказал, что он "фашист, конечно, как и большинство
его друзей-студентов", в то время как его отец не был им, и для сына
это была его серьезная ошибка. И когда Хазард сказал, что не знает,
кто такие фашисты, молодой человек, пораженный таким
невежеством, объяснил ему, что после войны, когда казалось, что
Италия движется к большевизму, были созданы вооруженные силы,
чтобы противостоять попыткам анархистов восстановить порядок
везде, где он был под угрозой. "Если мы узнаем, что в соседней
коммуне администрация отреклась от отечества, подняла красный
флаг, провозгласила революцию, а несколько карабинеров были убиты,
для начала мы реагируем энергично: мы садимся в грузовики,
добираемся до коммуны, находящейся в опасности, и приводим в
чувство лидеров с помощью хорошо обоснованных аргументов, при
необходимости мы нападаем на них с дубинками и револьверами, и мы
не покидаем это место, пока не одержим победу". Эта поспешная
система, примененная во многих городах, спасла Италию: "Вот кто
такие фашисты: те, кто изобрел эту систему и сохраняет ее по сей
день. И фашисты клянутся двумя божествами: д'Аннунцио, идеальным
вдохновителем движения, и Муссолини, их лидером".
Так студент завершил свое объяснение. Продолжая беседовать в
добром согласии, Хазард сказал, что посетил монастырь Сан-Марко,
похваляясь его красотой. Тогда молодой фашист снова стал
пренебрежительным и ответил, что, конечно, собор Святого Марка
достоин восхищения, и однажды, когда ему нечем было заняться, он
тоже посетил его, но сейчас он немного вышел из моды. Затем он
добавил, что не понимает, почему иностранцы прилагают столько
усилий, чтобы приехать в Италию и посетить музеи и другие
памятники старины, в то время как современную Италию они даже не
удостаивают взглядом. "Пора бы покончить с предрассудком, что
Италия - это только страна красоты, как будто можно игнорировать
величие настоящего, постоянно глядя в прошлое".
На вопрос, является ли он футуристом, молодой человек ответил, что
вовсе нет, потому что он не отрицает национальное наследие, он не
думает превращать каналы Венеции в дороги, и как флорентиец он
гордится художественными сокровищами своего города и страны. Он
лишь попросил нас рассмотреть современную Италию, которая
"создала крупнейший в мире автомобильный завод, открыла
практическое применение беспроводной телеграфии, смогла лучше,
чем любая другая страна, использовать богатства белого угля; все это
не лишено интереса и восхищения", - с гордостью заявил он. И
добавил: "Давайте меньше смотреть на руины древности и больше на
мастерские, которые поднимаются. Нужно жить с живыми". В конце
концов, вы обижаете итальянцев, если говорите только об их
художественной красоте. Можно любить прекрасную Италию, но при
условии, что человек думает и о великой Италии, которая хочет иметь
свое место под солнцем и не уступает никому".11
Бурное пробуждение итальянской души
Через несколько недель после разговора с молодым фашистом, 11
сентября, Хазар присутствовал на праздновании столетнего юбилея
Данте во Флоренции, где собрались огромные толпы людей со всего
мира, образовавшие огромную толпу, в которой с энтузиазмом
размахивали многочисленными трехцветными флагами. На торжествах
присутствовал король, которого приветствовали спонтанной овацией, в
которой француз почувствовал "живую силу национального
чувства".12 Это подтвердило его первые впечатления от "живой
Италии". Он считал, что стал свидетелем пробуждения "итальянской
души, живой и благородной" после двух лет недоумения, когда
итальянский народ, особенно классы, наиболее пострадавшие от
войны, проецировали на "далекую и загадочную большевистскую
Россию свою вечно обновляющуюся мечту о лучшей жизни", окружая
"образ Ленина ореолом", как в другие времена крестьяне ожидали
прихода святых в сельской местности. По мнению Хазарда, в Италии
невозможно осуществить революцию, которую большевизм
осуществил в России, потому что "душа Италии здорова, а душа
России больна; насколько энергична итальянская душа, настолько же
слаба другая".
Страсти итальянской души происходят от избытка жизненной силы, и
их избыток иногда страшен. Но они вскоре проходят, и итальянская
душа вновь обретает свое доминирующее качество - здравый смысл.
Великий практический здравый смысл - вот что находят психологи на
протяжении всей его истории... Так, итальянская душа, жестоко
потрясенная войной, сначала бросалась в крайности, но нескольких
месяцев было достаточно, чтобы вернуть ее к точному ощущению
реальности. Итальянская душа часто колеблется: но она всегда снова
обретает равновесие "13.
Из этих соображений французский историк черпал аргументы для
объяснения своим соотечественникам истоков фашизма и причин его
утверждения: "Из национального организма в момент угрозы, - писал
он 19 сентября, - высвободилась воля к жизни, которая стала
спасением. Бывшие комбатанты, объединившись в фасции, хотели
защитить принципы интервенционизма, жертвы войны, плоды победы.
И, поскольку государство было неспособно реагировать, они
действовали вместо него. Они не составляли политической партии, и в
их программе было только одно слово: Италия. Таковы истоки
фашизма, явления, не имеющего аналогов в других европейских
государствах. Буржуазия, которая до этого подвергалась террору и не
оказывала никакого сопротивления анархистским брожениям, поняла,
что ее спасение связано со спасением этих храбрецов. Поэтому она
предоставила им свою материальную помощь и своих детей. Всего их
сейчас пятьсот тысяч: они - Сила".14
Хазар был не единственным среди иностранцев, присутствовавших в
Италии летом 1921 года, кто считал фашизм выражением новой
Италии, которая хотела подтвердить принципы нации и защиты
социального порядка против революционного интернационализма.
Другой французский посетитель, Морис Перно, приписывал
первопричину фашизма отсутствию государственной власти в первые
два послевоенных года. В низшей точке упадка государства, утверждал
Перно, опираясь на свои личные наблюдения во время поездок по
многим провинциям на севере и юге страны, "по всей Италии
возникло движение жестокой реакции, направленное скорее против
самого беспорядка, чем против недостатка власти, которая, не
подавляя его, поощряла его". Фашисты приказали государству и
правительству выполнять свою функцию, или, проще говоря, они сами
заменили правительство и государство в выполнении этой функции".
Джолитти хотел использовать фашизм, "последнее дополнение к
внепарламентским силам, важность которых он осознавал", но это
было неизбежно, возразил Перно, "чем больше правительство
использовало фашизм, тем больше оно усиливало фашистов и
ослабляло себя "15.
Французам было трудно понять фашизм "как чувство и состояние ума,
проистекающее из такой особой традиции и атмосферы", как
послевоенная Италия. Перно объяснил французам, что фашистами
"были бывшие комбатанты, ардиты, студенты, буржуазия, а затем
также рабочие и крестьяне, те, кто был разочарован послевоенным
периодом, кто был возмущен всемогуществом профсоюзов, кто
упрекал правительство за его постоянную и разорительную
капитуляцию перед подрывными партиями, и те, кто провозглашал
несостоятельность государства и право взять правосудие в свои руки.
Во главе их стоял Муссолини, бывший социалист из Романьи "16.
Жестокая реакция фашизма была развязана в северных провинциях,
где "тирания социалистических союзов была установлена наиболее
прочно". "Именно против этой тирании, - утверждал Перно, - были
направлены действия фашистов: они поджигали палаты труда, склады
красных кооперативов, штаб-квартиры коммунистических газет; они
убивали дубинками рабочих и крестьян, записавшихся в
социалистические лиги". Таким образом, в Романье, Эмилии и других
провинциях непрерывно продолжались пожары и грабежи домов,
кровавые драки и убийства.
Массовый роспуск
Но мотивы фашистской реакции были не только экономическими и
социальными; были также, по мнению Перно, сентиментальные и
идеальные. Иллюстрируя эти мотивы, он предложил общую
положительную оценку фашизма как движения, направленного на
пробуждение итальянской души, обвиняя при этом "большевиков-
социалистов" в отрицании победы, оскорблении ее создателей и
нападении на принципы, на которых основывалось национальное
единство, а именно "патриотизм и верность династии": "Действия
подлого или слепого меньшинства, поощряемые слабостью
правительства, привели весь деморализованный народ к анархии", а
"правительство оставило все как есть". В этой ситуации сторонники
фашистского движения "были первыми, кто не только протестовал
против этого скандала, но и заявил, что положит ему конец, чего бы
это ни стоило; и они были первыми, кто вернул итальянскому народу
чувство собственного достоинства, доблести и победы".
По мнению Перно, заслуга фашизма в том, что он призвал нацию
перестать жалеть себя и вновь обрести гордость и волю, чтобы
подтвердить свою роль в мире, как это было сделано с помощью
интервенционизма, войны и победы: "Фашизм возродил мужество
поколений, участвовавших в войне и начинавших сомневаться в
победе, судьбе Италии и собственной доблести. А для молодых людей,
которые не воевали, он был школой дисциплины и энергии".17
Объяснив происхождение фашизма, Перно быстро и драматично
резюмировал ситуацию политической борьбы, сложившуюся летом
1921 года: "Борьба идет неопределенно, победа переходит от одного
лагеря к другому, но наконец наступает день, когда коммунисты,
столкнувшись с частотой и жестокостью нападений, пугаются и сами
отказываются от непомерных привилегий, которыми их организации
так долго пользовались без сопротивления и контроля". В конце
концов, последнее слово осталось за фашистами".18 Правительству
Бономи удалось убедить фашистов и социалистов подписать пакт об
умиротворении, "который наделал много шума, но не произвел
должного эффекта".19
Иностранные наблюдатели согласились, что инертность правительства
была наиболее ответственна за хаотическую ситуацию в стране,
которая была предана беззаконию и насилию. Но они считали, что
фашистское наступление было успешным, потому что оно было
развязано против пролетарского движения, уставшего после двух лет
агитации, оживленного угасающими революционными надеждами и
ослабленного расколом между социалистами и коммунистами. Более
того, пролетарское движение разделилось на тех, кто утверждал
необходимость ответить насилием на насилие фашистов, организовав
военизированные формирования Arditi del popolo, и тех, кто, как
максималисты, так и реформисты, советовали проявлять благоразумие,
требуя от буржуазного государства, к которому до этого момента они
относились как к врагу, которого нужно свергнуть, защиты законности.
Следствием всего этого стала дезориентация и распущенность рабочих
масс, подвергшихся фашистскому насилию и неспособных
реагировать. Правительственные власти, писал Иво Андрич,
"наблюдали за этими столкновениями с более чем благожелательным
нейтралитетом по отношению к фашизму".20 Так, в течение 1921 года
наступил сезон карательных экспедиций, описанный югославским
дипломатом как ежедневная череда фашистских нападений на штаб-
квартиры оппозиционных организаций, лидеры которых были
запрещены и вынуждены покинуть свою страну.
Импотентный социализм Даже Хазард должен был понять, что
"насилие порождает насилие, незаконные методы устанавливают
господство беззакония". Революционеры хотели вернуть свои позиции
и организовали силу, Народные Ардиты, против фашистов. Казалось,
что восстановить порядок без кровопролития невозможно, но кровь
продолжает литься и сейчас, когда порядок восстановлен. Существует
томительная опасность: что станет с государством в этой борьбе, если
оно останется бессильным подтвердить свою власть, чтобы навязать
мир? Французскому историку, однако, одно казалось несомненным:
"Италия восстановилась благодаря своей собственной добродетели", и
"великий источник энергии и активности готов к высвобождению".21
Чтобы лучше осознать возможности восстановления Италии, в октябре
Хазард продолжил свое путешествие, посетив различные города на
севере страны, где получил подтверждение своим первым
впечатлениям: "Мое чувство укрепилось и прояснилось: эта страна,
которую иностранцы постоянно хотят вернуть к слишком славному
прошлому, стремится к будущему "22.
В Милане он увидел производственную, промышленную, торговую
Италию в действии и почувствовал повсюду "атмосферу силы,
роскоши и величия "23 . 23 В ломбардском городе с 10 по 15 октября
проходил съезд Социалистической партии, и Хазар хотел принять в
нем участие, так же как он планировал посетить съезд Народной
партии в Венеции с 20 по 23 октября и, наконец, съезд фашистского
движения, намеченный на ноябрь: "Жизнь страны будет зависеть,
возможно, на годы, от резолюций, которые будут приняты в
ближайшие недели", - записал он в своем дневнике. Но резолюции -
ничто без духа, который их оживляет. Я хочу стать свидетелем
формирования армий, готовящихся двинуться на завоевание мнений,
на штурм власти: как выглядят солдаты? Воздух силы или дряхлости?
И какова душа их вождей? "24
На социалистическом конгрессе ответ на эти вопросы был весьма
неутешительным. Среди шума споров между революционерами и
реформистами французы чувствовали призрак фашизма, таящийся в
собрании, хотя никто о нем не говорил. "Страх перед фашизмом
парализует их. Фашизм кажется им одним из тех страшных фантомов,
о которых все время думают, но избегают называть их вслух, боясь
увидеть их появление.
Два или три оратора имели неосторожность напомнить о его
существовании, вспомнить, что этот смертельный враг всегда таился,
что с ним было заключено перемирие, но фашизм понял его по-своему,
то есть нарушал его каждый день. Перемирие, которое для фашистов
было продолжением битвы, а для социалистов - обязательством
принять закон сильнейшего. Но делали вид, что не слушают этих
смельчаков, а со злом обращались так, как будто его не существует,
конечно, потому, что не было средства, которое можно было бы
предложить". Более того, Хазард отметил, что новые лидеры, в
которых партия нуждалась, чтобы встряхнуться, так и не появились.
"Те, кого я слушал, были на сцене в течение многих лет, их заслуги
исчерпаны, их влияние ослабло. Они - те же теноры, повторяющие те
же арии, встречаемые традиционными аплодисментами, их голоса не
молоды, их пение устало. Мне кажется, что среди этих выступающих
нет оригинальности и силы. Меня не поразило раскрытие характера.
Многословные, бурные, но не действенные, я не уловил среди этих
привычных трибунов ни мистицизма, который заражает толпу своей
экзальтацией и верой, ни воли, которая доминирует и организует
действия "25.
Французский историк спонтанно провел сравнение с социализмом
времен истоков, когда "щедрые и интеллектуальные молодые люди,
сыновья буржуазии, вступали в Социалистическую партию, движимые
идеалом социальной справедливости". Однако теперь партия больше
не привлекала в свои ряды ни буржуазию, ни интеллигенцию, и
"вместо попыток организовать лучшее общество, мы видели жестокое
развязывание аппетитов, чувствовали надвигающуюся анархию,
угрожающую разрушением страны". Для Хазарда Социалистическая
партия была на излете: "Иллюзия разрушилась, ореол исчез, молодые
итальянцы сегодня отворачиваются от партии, которая, будучи
проверенной, оказалась гнусной для нации и опасной для
человеческой цивилизации. Продлится ли эта ситуация? Я не знаю. Я
знаю, однако, что в октябре 1921 года, в этот месяц, когда итальянская
социалистическая партия проводит свой послевоенный экзамен на
совесть, она оставляет глубокое впечатление бессилия и
недоумения".26
Дон Стурцо, могущественный
Совершенно иным было впечатление Хазарда от съезда Народной
партии, которая появилась всего двумя годами ранее. Ему казалось, что
он стал свидетелем празднования триумфа: "Нежданный,
преждевременный триумф: три министра, три государственных
секретаря, большинство в сто депутатов, зарегистрированных в
парламентской группе; представители всех регионов, даже тех,
которые считаются наиболее антиклерикальными, например, Марке;
городские рабочие вместе с крестьянами; если учесть численность
такой силы и подумать, что партия существует всего два года, то члены
съезда имеют полное право, я думаю, шумно гордиться".27
После съезда Хазард был убежден, что Народная партия, несмотря на
некоторую неуверенность, обладает значительными ресурсами и
амбициозной программой реформ для демократического обновления
Италии, вдохновленной христианскими ценностями. "Но дон Стурцо
не ограничивал свои амбиции Италией: он распространил их на
Европу и, возможно, на весь мир. Создав демократическую партию,
противопоставленную Социалистической партии, он теперь также
хочет основать Белый Интернационал. Он надеется на присоединение
к нему католиков всех стран, например, французских католиков. Но
как он может не рассчитывать, в гораздо большей степени, на
немецких католиков, которые представляют собой реальную силу?
Центр, великолепно организованная политическая партия, как образец
для подражания! Может ли быть более желанный союзник? Дон
Стурцо вернулся из Берлина, где пользовался самым лестным успехом
"28.
Основатель Народной партии очень понравился французскому
наблюдателю; его поразила странная фигура священника, который был
весь в политических действиях, с необыкновенными
организаторскими талантами, решительно настроенного воплотить
свои идеи в факты: "Инстинкт практических достижений - его страсть.
Он везде, он все видит, он все предвидит, он вмешивается в
подходящий момент, чтобы предложить соответствующие решения
колеблющимся, нерешительным, растерянным". Чем бы была
Народная партия без него? Безусловно, без него она не достигла бы
такого уровня процветания. Дон Стурцо доминирует в ней: он ее
диктатор. Я знаю, что он раздражается, когда вы его так называете, и
протестует... Давайте доставим ему это удовольствие, - иронизировал
француз, - и скажем тогда, что дон Стурцо - рядовой солдат, как
Наполеон был маленьким капралом".29
В своей заключительной оценке Хазард заявил, что Народная партия
готова к "взрыву энергии", утверждая себя "как одну из живых сил
страны", сильную в парламенте, присутствующую в правительстве,
после "короткой и триумфальной карьеры", и одушевленную
стремлением к "большим успехам": "Они больше не довольствуются
сотрудничеством у власти, они стремятся к полной власти без раздела,
радостно идя в будущее с превосходной уверенностью и прекрасным
аппетитом".30
Во время своей поездки по северной Италии Хазард встретился с
кардиналом Акилле Ратти, архиепископом Милана. Он показался ему
все еще молодым, несмотря на свои шестьдесят четыре года, без
атмосферы человека, который всегда склонялся над книгами; с
достоинством, но не надменным, ученым и простым в манерах.
Разговор начался с Дантовых торжеств и перешел к Римскому вопросу
и сближению между Ватиканом и Квириналом, "о котором говорили
все, даже те, кому нечего было сказать". Но кардинал сказал, что все
слухи о сближении между Святым Престолом и итальянским
правительством не означают, что понимание будет реализовано на
следующий день. Однако, добавил Ратти, будет какой-то результат от
того, что об этом много говорят в статьях, речах, предложениях:
"чтобы подготовить умы к поиску пути. Но без ускорения движение,
которое может быть только результатом медленной эволюции»31.
Разговор с Муссолини
После съездов Социалистической партии и Народной партии Азар
хотел бы посетить фашистский съезд, который должен был состояться
в Риме в начале ноября, чтобы принять решение о преобразовании
движения в партию. Тем временем, оказавшись в Милане, историк
отправился на встречу с Муссолини в штаб-квартиру его газеты.
«Везде есть молодые мужчины, солдаты, женщины, которые не
довольствуются тем, что им может сказать заместитель, но хотят
поговорить с самим начальником и ждать, как я. Муссолини прибывает
быстрым шагом, получает отчет от доверенных лиц, сообщает им свои
указания, отпускает их. Я могу войти». 32
Азар видел перед собой «борца, укротителя толпы, человека,
прошедшего через все приключения, все опасности; вождь, который по
своему повелению заставляет повиноваться себе пятьсот тысяч
человек»: «он обладает мужественной и свирепой красотой бюстов
итальянского Возрождения. Поражают три вещи: сильно
подчеркнутый и волевой подбородок; тонкие и чувственные губы и,
прежде всего, темные и пылкие глаза»33. Возможно, восхищение,
которое он тотчас же испытал к Муссолини, помогло историку
интуитивно уловить некоторые характерные черты его личности:
«жадный до всяких наслаждений, он считает бороться со своим
высшим наслаждением; он неустанно борется не только с
враждебными сторонами, но и со своими товарищами, чтобы изгнать
неверных, вернуть еретиков к дисциплине, довести до бессилия
честолюбцев, которые преследуют все его ошибки, чтобы привести к
его падению. У него нет недостатка ни в одном из качеств,
свойственных великим вождям: несомненное мужество, забвение
правил общепринятой морали, личное обаяние, презрение к людям,
которое он любит подчеркивать порой с явным пренебрежением:
приветствуя поклоны, как скучающему богу. "
Азар не сомневался, что Муссолини был «одним из тех, кто остановил
большевизм в его навязчивом марше и решительно остановил его у
ворот Италии», напоминая большое тело, «находящемуся под угрозой
опасной инфекции». Муссолини удалось там, где потерпели неудачу
вызванные к его постели врачи-экономки: «он вылечил его, и теперь он
продолжает следить за возможными рецидивами. Он не считает свою
задачу выполненной, потому что итальянский патриотизм еще не
оформился». Это последнее замечание удивило французского
собеседника, который ответил, что «в глазах иностранцев итальянский
патриотизм не только полностью сформирован, но жив и даже
раздражен».
В этот момент, вспоминал Хазард, у Муссолини произошел "толчок":
"Он стукнул кулаком по столу, наклонился вперед; его лицо
затвердело, голос повысился", чтобы сказать французу, что тот не
понимает итальянского патриотизма. Итальянский патриотизм очень
далек от того, куда он хочет его завести. Конечно, он пробуждался в
течение нескольких лет, он проявился во время войны. Но теперь, как
будто утомленный, он заснул. Речи, патриотические
разглагольствования в изобилии. Но когда призывают к действию, и
особенно когда взывают к кошельку, все они исчезают. Человек
считает, что все делается, когда звучит риторика. Необходимо научить
Италию, что ее усилия ни в коем случае не закончены, потребовать от
нее новых жертв, заставить чувство национального достоинства
проникнуть даже в самые непокорные классы. Так говорит
Муссолини".
После лекции об итальянском патриотизме разговор перешел к самому
важному вопросу: фашизму. Движение в полном развитии, заметил
Хазард, оно находится на грани превращения в партию, но возможно
ли такое изменение без "существенной трансформации" и разработки
новой программы? Уверенный в себе, Муссолини дал краткий и четкий
ответ: "В вопросах внешней политики, - сказал он, - наша программа
будет заметно похожа на программу националистов, но без смешения с
ними. Что касается внутренней политики, то у нас будет
демократическая программа. Возможно, мы будем приветствовать
остатки старых либеральных партий, не боясь быть покоренными ими,
потому что мы останемся хозяевами выбора". Что касается программы,
то после небольшой паузы Муссолини добавил: "В конце концов, какое
значение имеет теоретическое содержание партии? Что придает ей
силу и жизнь, так это ее тон; это воля тех, кто ее составляет; это душа
ее лидера".34 "Очевидно...", - прокомментировал француз.
В следующие дни Хазар отправился в Гардоне, чтобы встретиться с
д'Аннунцио, который очаровал его своей личностью: "Я не знаю, какая
сила исходит от него, как будто в его душе и теле скрыт фонтан вечной
молодости, вечной бодрости... Какая могучая индивидуальность!
Можно сказать, что он способен прожить несколько жизней
одновременно". Однако поэт ничего не сказал ему о его роли в
ближайшем будущем живой Италии, хотя, как отметил Хазард, "со
всех концов Италии к нему обращаются, прежде всего молодые,
которые ищут силы в недоумении нынешнего часа "35.
Прощание с уверенностью После двухмесячного пребывания в Италии
опасения, испытываемые накануне поездки, прошли, и Хазард
почувствовал, что в Италии "национальная жизнь возродилась после
потрясений, которые сломили бы менее устойчивый организм". Война
нарушила экономику страны, резко остановив материальный прогресс
нации, которая встала на путь процветания. Но ничто существенное не
пострадало: "Италия возобновит свой путь, как только Европа
успокоится".36 В начале ноября 1921 года, подводя итоги своей
поездки, французский историк заметил, что в итальянской политике
было только три основные силы: Социалистическая партия в упадке,
Народная партия на подъеме и, наконец, фашизм, "который стал силой,
которую государство не в состоянии контролировать, и находится в
кризисе трансформации, потому что переживает кризис роста и хочет
стать политической партией, не отказываясь от насильственных
методов". 37
Четкие и непримиримые позиции между этими тремя великими
силами, по мнению Хазарда, ликвидировали двадцатилетний период
политической жизни Италии, "склонявшейся к оппортунизму", и
сделали искусство трансформизма, "столь чуждое французскому
менталитету", устаревшим и неэффективным; Трансформизм, -
объяснял Хазард французам, - со стоит в том, чтобы "найти между
двумя противоположными интересами точку объединения,
посредством сделки, в которой каждая из двух сторон уступает часть
своих прерогатив, учитывая общие интересы, откладывая на время
абстрактные принципы, которые являются препятствием для их
непримиримости, в пользу практики. Это искусство сделки
предполагает определенный скептицизм, высокоразвитое чувство
непосредственного интереса, привычку рассматривать действие
независимо от теории, и поэтому оно бесконечно полезно в
управлении текущими делами, всегда облегчает его, но нельзя сказать,
что оно всегда абсолютно нравственно. В Италии трансформизм стал
методом управления, возведя уступки принципам в систему. Но когда
приходится принимать фундаментальные решения, правильные или
неправильные, принципы вновь обретают силу". Сейчас в Италии,
утверждал Хазард, скептицизм уступил место "энергичному
исповеданию веры; мы перешли от "посредничества" к насилию". На
данный момент спокойствие страны от этого не пострадало, но можно
ли сказать, что пострадала общая мораль? "38.
Накануне своего прощания с Италией, после посещения Рима,
Неаполя и Турина, французский историк подвел итог своим
наблюдениям за "живой Италией", напомнив "недоверчивым
французам" о том, что уже открыл им Стендаль, а именно, что "сила
итальянской расы сохранила больше, чем любая другая в мире,
первобытную силу ее природных инстинктов". И, вслед за Стендалем,
Хазард повторил, что "на этой щедрой почве человеческое растение
произрастает с несравненной силой "39.
Вспоминая итальянские события от Рисорджименто до Великой
войны, историк показал путь, пройденный объединенной Италией для
восхождения в мире среди наций. Благодаря либеральным идеям
Италия достигла единства, но в новом государстве оставалась
инертная масса в несколько миллионов жителей, крестьян, рабочих,
которых не интересовала национальная жизнь, не привлекали
политические действия: скептически настроенные - особенно в
некоторых регионах - равнодушные, они ограничивали свой идеал
легкой и непринужденной жизнью. Затем разразилась Великая война,
которая подействовала на эту массу как закваска, пробудив в ней
интерес к великим проблемам будущего, заставив ее высказать идеи,
поставившие на карту само ее существование, и, наконец, побудила ее
к действию. Существовала большая часть населения, которую то, как
происходило Рисорджименто, сделало враждебной государству:
"Теперь война помогла сделать католиков одной из самых активных
сил в новой Италии".
Более того, продолжал Хазард, "из народных масс и буржуазии война,
снова война, породила фашизм: еще одну силу, о которой сейчас никто
не может сказать, как далеко она зайдет". Таким образом, несмотря на
потрясения, которые сотрясали и еще будут сотрясать ее, Италия
возобновила свое движение вперед, с возросшими и умноженными
ресурсами. Рисорджименто сделало ее нацией; война продолжает
делать Италию великой нацией. Будущее по-прежнему открыто перед
ней".40 И даже если внутри страны все еще оставались следы
"праздного прошлого", е сли во внешних отношениях "ее амбиции
иногда превышали ее нынешние ресурсы", Хазард считал эти амбиции
"могучим стимулом к действию" для "живых сил", появившихся после
войны.
Хазард завершил свою поездку с чувством надежды на будущее
Италии, разделяя уверенность других наблюдателей, таких как
Херрон, Моурер и Алазард: "Нужно верить в судьбу Италии, не
вопреки потрясениям, театром которых она сейчас является, а
благодаря этим потрясениям, которые, как я упорно считаю,
представляют собой буйство жизненной силы. Мы должны верить в
бесконечные ресурсы итальянской души, не вопреки ее
противоречиям, а благодаря ее собственным противоречиям, которые
проистекают из разнообразия ее богатств". Итальянская душа,
предупреждал Хазард, чувствительна к чувствам, и невозможно
убедить ее разум, если сначала не удастся привести ее в движение; но
в то же время итальянская душа обладает практическим чувством, она
никогда не теряет осознания своих непосредственных интересов и
стремится к их достижению, потому что у нее есть чувство бизнеса и
вкус к прибыли. Итальянец любил риторику, изысканные речи,
величественные комплименты, но без особой веры в них:
"Доминирующим качеством итальянцев, с которым не могут
справиться никакие суперлативы в мире, всегда будет оставаться
здравый смысл".
Партия и ее дуче
В течение 1921 года фашизм разросся и стал массовым движением
независимо от руководства его основателя, но Муссолини оставался
единственным выразителем фашизма, известным на национальной
арене благодаря своему политическому происхождению, потому что он
руководил ежедневной газетой, считавшейся рупором фашистского
движения - хотя у последнего с 1920 года был свой официальный
орган "Il Fascio" - и потому что он был необычной личностью, не
имевшей аналогов среди новых молодых лидеров фашистских
отрядов. Даже Билз, наблюдатель, невосприимчивый к чарам
Муссолини, признал, что Муссолини был "ведущей драгунской
личностью" и добился "выдающегося положения благодаря
переменчивой адаптивности своего мышления в сочетании с
кальвинистской решимостью и кромвелевским эгоизмом".
В движении, настолько изменчивом, что оно ускользало от анализа в
течение двух лет, этот энергичный, несколько догматичный и в то же
время изобретательный лидер с течением времени становился все
более и более точкой сплочения, вокруг которой могло закрутиться
народное эмоциональное течение".42 Американец впервые увидел
Муссолини в Болонье 3 апреля 1921 года, в разгар борьбы между
социалистами и фашистами во время избирательной кампании. Он
слушал его речь в театре Комунале, где перед пятью тысячами
фашистов из Эмилии и Романьи он заявил, что является отцом
фашизма, "этого моего создания, столь переполненного жизнью",
признавая при этом, что "движение уже вышло за скромные границы,
которые я ему определил". По этому случаю Муссолини упомянул о
желательности ограничения применения насилия, не превращая его в
"школу, систему или, что еще хуже, в эстетику". Карательные
экспедиции должны "всегда носить характер справедливого возмездия
и законной расправы".43
Билз не был особенно впечатлен личностью Муссолини. Хотя
американец описывал его как необычную фигуру с сильной челюстью,
волевым подбородком и "мощными глазами с черной радужкой", он не
видел в нем "вспыхивающего взгляда", ни когда он выступал перед
аудиторией, ни когда видел, как он гневно спорил с небольшой
группой после встречи. Он оценил его ораторское искусство как
эффективное не из-за логики аргументов, а из-за мастерства, с которым
оратор "быстро переходил от одной идеи к другой, быстрее, чем
аудитория могла за ним следовать", покоряя слушателей "счастливым и
искусным движением между различными и, казалось бы,
несовместимыми пунктами, часто с быстрым и извилистым
разворачиванием предложения". Билз описал Муссолини как
"художника предложения", с "любовью поэта к языку и словам", не
риторического, как д'Аннунцио, но наделенного способностью
"выражать мысль в скульптурных фразах", хотя ему не хватало силы
синтеза и связности излагаемых идей.
Съезд, на котором было принято решение о преобразовании движения
в Национальную фашистскую партию (НФП), проходил в Риме с 7 по
11 ноября. Столица, где фашизм только начинал зарождаться,
встретила фашистов холодно и равнодушно, в то время как их
противники парализовали город всеобщей забастовкой.
Чернорубашечники пронеслись по городу, разместились на вилле
Боргезе, грозно шествовали по улицам в военном строю. Бельгийский
посол при Святом Престоле, который находился в Риме с 1921 года и
следил за ростом фашизма, увидел шествующих "людей с военным
видом, некоторые очень молодые, другие постарше, со свирепыми
лицами, большинство из них босые и лохматые, одетые как гимнасты,
в черных, синих или красных рубашках", с флагами и вымпелами, на
которых выделялся символ черепа.
Послу показалось, что он стал свидетелем "очень впечатляющего и
внушительного зрелища под солнцем, от которого светится взгляд
грозных глаз и энергия коричневых и жестоких лиц. Горе тем
гражданам, которые не раскрывают себя, когда мимо проносятся их
знамена. Взмахнув палкой, они распускают волосы: "Снимаем
шляпы!". Многие магазины были закрыты из-за страха перед
мародерством, но это был неоправданный страх, потому что фашисты
соблюдали дисциплину регулярной армии. Римская буржуазия со
спокойными привычками, испытывавшая ужас перед побоями, молча
наблюдала за ними, не осмеливаясь на какие-либо контр-
манифестации. Время от времени раздается несколько возгласов и
криков сочувствия", а власти, столкнувшись с таким воинственным
развертыванием сил, сохраняли "благожелательное воздержание,
Guardia regia и полиция не вмешивались". В итоге, заключил посол,
"жертвами столкновений между фашистами и коммунистами стали
полдюжины убитых и сотня раненых "45.
Иво Андрич дал более драматическое описание фашистов в Риме, без
каких-либо уступок фашизму военного зрелища: "Те, кто в ноябре
1921 года, во время фашистского конгресса в Риме, видел процессии
людей в черных рубашках, украшенных головой мертвеца,
шествующих парадным шагом по тихим улицам столицы, могли ясно
видеть истоки и путь фашизма. За исключением нескольких
восторженных бородатых профессоров, сыновей из хороших семей,
студентов с белыми глазами, у всех остальных были
неинтеллигентные, грубые, жестокие провинциальные лица. Головы
непокрыты, лица остекленели от сильного холода, с гневным
энтузиазмом, в повязках с характерными девизами (Me ne frego,
Desperata), с шишковатыми дубинками или простыми железными или
свинцовыми палками, явно освященными традицией многочисленных
драк. Это темная, грубая провинция, пришедшая в Рим, жаждущая
борьбы и власти... нашествие негодяев и карьеристов".
Во главе нескончаемой процессии Андрич заметил "человека, о
котором до сих пор мало что было сказано. Одетый в длинное темно-
коричневое пальто, с широким желтоватым лицом и большими
огненными глазами, с нервной походкой, он сразу приковывал к себе
внимание. В его лице было что-то жестокое и монашеское. Это был
Бенито Муссолини". На фашистском конгрессе, вспоминал
югославский дипломат, он впервые услышал, как его назвали дуче, и с
этого момента, по крайней мере для широкой публики, "Муссолини
впервые навязал себя как человек, представляющий и возглавляющий
фашизм".46
По завершении фашистских дней в столице бельгийский посол счел
очень странным, что "политики, сменяющие друг друга в
правительстве, похоже, не встревожены ни фашистской демонстрацией
в Риме, ни растущим числом рубашек, ни повторяющимися актами
насилия, которые они совершают безнаказанно". Еще более
удивительным для посла было спокойствие, которое он заметил среди
итальянских политиков, которых он часто посещал: "Эта страшная
организация и опасность, которую она представляет для правителей,
нисколько не отвлекает этих слепцов от их мелких парламентских
интриг по свержению правительства и захвату министерств.
Итальянский парламентаризм быстро идет к своей гибели. Вот такое
впечатление осталось у меня в конце 1921 года".47
Осень 1921 года Моурер считает началом осени фашизма из-за
кризиса, разделившего Муссолини и лидеров сквадризма. После съезда
в Риме кризис был преодолен, поскольку лидеры сквадристов приняли
предложенное Муссолини преобразование движения в партию, но в
свою очередь навязали ему денонсацию пакта об умиротворении и
сохранение вооруженной организации в качестве фундаментальной и
характерной структуры новой партии.
6. ИТАЛИЯ НА МАРШЕ
Француз Хазар и американец Билс приехали в Италию в одно и то же
время, летом и осенью 1921 года. Возможно, были дни, когда они
находились в одном городе, пересекались и, не зная друг друга,
игнорировали друг друга. А возможно, они наблюдали друг за другом,
наблюдая за происходящим вокруг, узнавая друг друга по внешнему
виду незнакомцев, путешествующих по полуострову. И, возможно,
каждый из них задавался вопросом, кто такой другой, и по какой
причине он оказался в Италии в этот момент.
Их объединяло любопытство к современной Италии: "живая Италия",
как назвал ее француз; "новая Италия", как назвал ее американец. Но
что у них не было общего, так это их мнение о фашизме. Покидая
Италию, Хазард питал некоторую симпатию к партии Муссолини, в то
время как Билз, следивший за новой фазой фашистского наступления в
1922 году, все более негативно относился к фашизму, считая, что его
приход к власти будет иметь катастрофические последствия для
демократии, как в Италии, так и в Европе.
Наступление продолжается
В воображаемой конфронтации по поводу разнообразия их суждений
француз мог бы заявить, что он лучше знает Италию и итальянцев, а
американец мог бы возразить французу, что его большее знакомство с
итальянцами заставляет его относиться к фашизму благожелательно,
несмотря на его жестокость, поскольку это движение возникло в
войне, которую Италия вела вместе с Францией. Американец оценивал
фашизм таким, каким он был и что он делал, без поблажек и
смягчающих обстоятельств. Что касается итальянцев, то он
ограничился несколькими соображениями, не уступая в симпатии ни
разнообразию и богатству их характера, ни их искусству жить, которое
ценили другие американцы, такие как Моурер и Купер.
Рассказывая об итальянских событиях, свидетелем которых он стал в
1922 году, Билз прежде всего был заинтересован в иллюстрации
экспансии фашизма, торжествующего на руинах организаций
пролетариата. Фашистское наступление вступило в новую фазу.
Теперь, отмечал Билс, целью чернорубашечников были не только
социалисты, коммунисты и другие нефашистские партии, но главным
образом правительство либерального государства, которое в течение
1922 года дало новые доказательства своего бессилия перед лицом
распространения сквадристского насилия. В феврале правительство
Бономи пало, и после длительного кризиса председательство в Совете
было доверено Луиджи Факта, джолиттианскому политику со
скромной личностью, мало пригодному для управления страной, в
которой вооруженная партия действовала беспрепятственно, совершая
всевозможные незаконные действия.
Фашисты продолжали наступление, продолжая уничтожать
пролетарские организации, заставляя социалистических
администраторов уходить со своих муниципальных или
провинциальных постов, и расширяли свои нападки на Народную
партию и республиканцев, с явным намерением навязать свое
господство повсюду во имя отождествления фашизма с новой
Италией, которая только у фашистов имела своих законных
интерпретаторов, потому что они боролись против ее внешних врагов,
они отстояли победу, а теперь они борются с ее внутренними врагами.
Билз наблюдал процесс отождествления фашизма с нацией,
конкретный способ, которым фашисты работали над расширением
своего контроля над массами, которые до сих пор придерживались
Социалистической партии и левых профсоюзов. Прежде всего,
фашисты силой заставили местных руководителей профсоюзов,
рабочих палат и кооперативов уйти со своих постов, контролировали
профсоюзные собрания, чтобы заставить избрать благоприятные для
них элементы или склонить рабочих к вступлению в фашистские
профсоюзы, которые начали организовываться в начале 1922 года.
Случалось и так, что многие профсоюзы и кооперативы обращались к
фашизму, чтобы избежать разрушения своих штаб-квартир и избиения
своих руководителей и чиновников. Это явление, утверждал Билс,
было не только следствием насилия сквадристов или оппортунизма
некоторых лидеров красных лиг и кооперативов, но и результатом
"разворота значительной части рабочих", которые в течение 1922 года
массово переходили в фашистские профсоюзы.1 В основном это
касалось крестьян, крестьянство, крестьянство и кооперативы. В
основном это касалось крестьян, дезориентированных разрушением
своих организаций, но также уставших от деспотических методов лиг
по отношению к самим рабочим, которых теперь привлекали обещания
фашистов повысить зарплату рабочим и способствовать
распространению мелкой крестьянской собственности, вопреки
социалистической программе коллективизации труда.
Феномен массовой миграции рабочих в фашистские профсоюзы был
также отмечен Перно, который писал, что "только в провинциях
Болонья, Феррара, Модена и Ровиго за один месяц почти сто тысяч
земельных рабочих покинули красные лиги и присоединились к
фашистским организациям". Очевидно, их быстрое обращение
объяснялось скорее надеждой на лучшие условия, чем
привлекательностью новой доктрины".2
Такие массовые переходы от "красных" к "черным" Хазар наблюдал в
Тоскане, когда вернулся в Италию в сентябре 1922 года. В своем
"маленьком Сан-Джиминьяно", одном из самых "красных" городов
Тосканы до начала наступления сквадристов, француз увидел
"фашистскую процессию, шествующую по случаю национального
праздника 20 сентября: с марширующим оркестром, исполняющим
национальные гимны, красивые молодые люди, гордые в своих черных
рубашках, с фесками, элегантно уложенными на голове, маршировали
в каденционном темпе, а впереди них кусок маркантонио нес флаг,
украшенный не только фасционой Литторио, но и черепом большой
эффектности". Теперь, иронизировал Хазард, "эти убежденные
патриоты были коммунистами прошлого года". Этот феномен
трансмутации происходил и в других местах: как мне сказали, это
очень распространенное явление, настолько убедительными были
аргументы фашистов. Так они завоевали Италию. Только
Меццоджорно немного сопротивляется, возможно, не столько из духа
оппозиции, сколько из непобедимой праздности и гораздо более
острого критического чувства".3
Когда рабочие, принадлежащие к фашистским профсоюзным
организациям, стали исчисляться сотнями тысяч, чернорубашечники
без колебаний приняли те же методы, что и красные лиги, против
владельцев и правительства, чтобы получить работу для безработных.
В Тоскане Билс видел, как фашисты навязывали землевладельцам наем
рабочей силы пропорционально размеру их владений или
финансирование фашизма за работу, проделанную в защиту их ферм от
притеснений и навязываний красных лиг. Во Флоренции он был
свидетелем вмешательства фашистов в рынок с целью навязать
снижение цен. В мае 1922 года он присутствовал при захвате Феррары
более чем пятьюдесятью тысячами рабочих, мобилизованных лидером
фашизма в Ферраре Итало Бальбо, чтобы потребовать от
правительства уступок в области общественных работ. И они добились
этого, так же как и перевода префекта Болоньи, который не
симпатизировал фашистам.4
Против либерального государства
Оккупация Феррары ознаменовала начало новой фазы фашистского
наступления, целью которого было, с одной стороны, завершить
уничтожение противостоящих организаций, а с другой - начать
действия против местных представителей либерального государства,
чтобы продемонстрировать их бессилие и неумелость в обеспечении
порядка и соблюдения закона: доказательство того, что старый
правящий класс уже не способен управлять страной и поэтому
недостоин представлять новую и молодую Италию, которая сделала и
выиграла войну. Фашисты спасли страну от хаоса и большевистской
опасности, а потому имели право взять на себя управление страной,
дать ей новое государство, способное повести ее по пути к величию и
могуществу.
Отождествление Италии с фашизмом узаконило применение насилия
чернорубашечниками, которые должны были занять место инертного
правительства и бессильного государства. "Отождествляя свое насилие
с законной силой государства, - писал Билз, - фашисты чувствуют себя
обязанными взять на себя часть прерогатив государства, поскольку оно
отказалось от части своих полномочий. Фашисты заявляют: "Мы -
государство, мы - новая Италия"". Для фашистов легитимность и
законность не имели никакого значения за пределами их претензий на
роль нового государства и новой Италии. Таким образом, заметил
Билз, с "фашистами даже демократия перестает иметь смысл. Любое
меньшинство теперь может претендовать на роль "государства".5
Вызов либеральному государству усилился в июле многочисленными
фашистскими экспедициями против социалистических
администраций. 3 июля сквадристы захватили мэрию Адрии в Апулии;
12-го римские сквадристы заняли Витербо; 13-го, в Кремоне, фашисты
под руководством Роберто Фариначчи разгромили штаб-квартиры
Народной партии и Социалистической партии, а также дома двух
депутатов от этих двух партий, которым запретили въезд в город.
События в Кремоне привели к падению правительства Факта шесть
дней спустя.
Во время дебатов в Палате депутатов 19 июля Муссолини произнес
угрожающую речь, в которой заявил, что фашизм стоит перед
дилеммой: идти ли ему к власти путем выборов или предпочесть путь
восстания. Перно вспоминал, что в тот момент, когда Муссолини
поднялся, чтобы выступить, "в полукреслах и на трибунах воцарилась
великая тишина, тревожная, почти боязливая тишина, которая все еще
продолжалась, когда фашистский лидер вернулся на свое место. Ни
один протест, ни один ропот не прервал его речь, в то время как
предложения и слова Муссолини трещали, как удары расстрельной
команды". В конце концов, аплодировали только тридцать фашистских
депутатов. Но вскоре после этого коридоры палаты наполнились
людьми, протестующими возмущенными криками".6
Американский путешественник Клейтон Купер также был в то время в
Риме. Он сидел в кафе на Виа дель Корсо с группой молодых
итальянцев, обсуждавших политику, попивая лимонад: "Каждый
молодой итальянец, - заметил Купер, - это политик в зародыше".7
Некоторые из них участвовали в войне, другие были слишком молоды,
чтобы принимать участие в мировом конфликте, но они были охвачены
одним и тем же патриотическим чувством. Они не были фашистами,
но симпатизировали фашизму и комментировали кризис правительства
Факта. "Это правительство, - сказал один из них, - слабое и
колеблющееся, оно принадлежит к старому режиму. Его девиз -
угодить всем, занимаясь политикой. Мы, молодые люди, устали от
бесконечных отсрочек, от всех этих красивых разговоров и оправданий
бездействия. Мы хотим правительство, которое имеет смелость решать
и действовать, правительство, которое обеспечивает соблюдение
закона и сохраняет то, за что Италия сражалась и за что выиграла
войну. Мы хотим, чтобы правительство было вовлечено и работало». 8
Социалистический капоретто
Правительственный кризис завершился 1 августа формированием
нового исполнительного органа Факта и заменой нескольких
министров. Накануне стало известно о всеобщей забастовке,
объявленной Альянсом труда, объединявшим все нефашистские
профсоюзы, с требованием к правительству подавить насилие
эскадрильи, восстановить законность и свободу для всех граждан.
Фашистская партия, по инициативе своего генерального секретаря
Микеле Бьянки, пригрозила правительству, что если забастовка не
будет предотвращена, то фашистские отряды вмешаются для ее
подавления. В дни забастовки, с 1 по 3 августа, фашисты повсеместно
заняли место бастующих, чтобы гарантировать работу общественных
служб, особенно транспорта.
В первый день забастовки Билс ехал из Флоренции в Сиену в поезде,
который вел экипаж, состоящий исключительно из
чернорубашечников, которые охраняли каждый вагон, в то время как
команда из восьми фашистов патрулировала платформы вокзала.9
2 августа в Милане Купер был разбужен около шести утра криками
сотен людей, собравшихся на площади Пьяцца дель Дуомо, и увидел
полдюжины трамваев, украшенных трехцветным флагом и
фашистским символом, управляемых фашистами, в то время как толпа
граждан всех классов заполнила площадь, распевая национальные
гимны, "не оставляя сомнений в настроении общественного мнения".
Что поразило Купера, так это "отсутствие сопротивления социалистов
скабрезностям". В течение следующих нескольких дней в Генуе Купер
видел, как фашисты штурмовали штаб социалистов, "и в течение
нескольких дней по улицам города, безлюдным для пешеходов,
разъезжали бронированные машины с пулеметами, а группы молодых
людей с гордым видом, размахивающих дубинками и носящих
черепные пояса, занимали главные улицы". А однажды вечером,
возвращаясь в гостиницу, Купер увидел группу фашистов, которые
заметили лидера коммунистов, крадущегося по улице. "Раздался
свисток, и в одно мгновение фашисты выскочили со всех сторон,
возбужденно бросились по следу "красного человека", схватили его и
потащили в укромное место; позже мы узнали, что ему пришлось
лечиться в больнице "10.
Фашисты не ограничились подавлением забастовки путем замены
забастовщиков, но после окончания блокады, решение о которой было
принято 3 августа Альянсом трудящихся, репрессии продолжились. В
Милане, вспоминал Перно, они подожгли штаб-квартиру "Аванти!" и
вторглись в мэрию, вынудив социалистическую хунту уйти в отставку.
То же самое они сделали в Ливорно и Генуе, где были разгромлены
офисы газеты "Il Lavoro", а в результате столкновений погибли и были
ранены люди, другие столкновения и разрушения произошли в других
городах северной и центральной Италии.
Лидер реформистских социалистов Филиппо Турати назвал провал
всеобщей забастовки "социалистическим Капоретто". И когда 3
августа Всеобщая конфедерация труда приказала прекратить волнения,
вся Италия, по словам французского обозревателя, поняла, что не
Факта, а Муссолини заставил социалистов приостановить забастовку.
В те дни, - продолжал Перно, - народ Рима, которого фашистское
насилие в ноябре прошлого года глубоко возмутило, примирился с
фашизмом. Римляне забыли о процессиях, загромождавших улицы, о
бомбах и выстрелах, нарушавших их сон, об охоте за людьми и
избиениях, когда увидели, как чернорубашечники садятся в трамваи и
автобусы, чтобы заменить забастовщиков". 2 августа Перно был на
площади Тритоне, когда увидел Муссолини, выходящего из дома, где
размещалась дирекция фашистской партии: "Толпа, сдерживаемая
взводом конной охраны, долго аплодировала хозяину момента. Не
имея точного представления о происходящем, толпа знала только, что
Муссолини взял на себя задачу положить конец забастовке, и что у
него больше шансов добиться успеха со своими бандами, чем у
правительства с его грозными увещеваниями и неэффективными
приказами префектам".11
Руководство фашистской партии подчеркнуло этот успех
прокламацией, которую Перно процитировал как документ,
свидетельствующий о вызове, брошенном фашизмом либеральному
государству: "Поражение красного негодяя достойно сопровождает
недостаточность правительства. В очередной раз пассивность
либерального государства предстала в полном свете, а фашистам
пришлось технически и политически подменять собой это
государство, всегда неподготовленное, нерешительное и лишенное
силы воли "12.
Все это происходило в первые дни августа, когда парламент еще
обсуждал вопрос о доверии новому правительству Факта. Билз прибыл
в Рим вовремя, чтобы присутствовать на заседании Палаты депутатов
8 августа: "Я был зрителем бурной сцены в Монтечиторио, где порядок
исчез, оружие стреляло, а звон колокольчика президента Палаты де
Никола заглушался криками палаты". На следующий день после
бурного заседания палаты, когда дул вредный ветер сирокко с запахом
гари, было проведено поспешное голосование о доверии Факте: палата
закрыла заседание, депутаты бросились к морю, коммунисты исчезли в
тени и в тавернах, а фашисты демобилизовались". Таким образом,
заключил Билз, "в ужасающей жаре августа первая фашистская угроза
дворцовой революции была успешно осуществлена".13
Консенсус доброжелателей
Перно оценил провал всеобщей забастовки как окончательную победу
фашизма над левыми партиями. По мнению французского
обозревателя, забастовка провалилась как из-за угрожающего настроя
фашистской партии, так и из-за "отсутствия энтузиазма со стороны
рабочего класса".14 Эта неудача, продолжал Перно, подчеркнула
ослабление социалистической партии и изменение буржуазного
общественного мнения, которому надоели бунты и забастовки, которое
сожалело и проклинало слабость правителей и с видимым сочувствием
смотрело на действия фашистов по защите общественных услуг.
Прибыв в Италию месяц спустя, Хазард отметил, что фашизм встал на
путь к власти, возможно, готовя государственный переворот против
правительства. В связи с этим он сообщил о разговоре с французской
дамой, которую он несколько раз встречал в Милане и которая была
"скандализирована тем, что она видит и слышит в этой Италии,
которую она больше не узнает", и резко осудила фашизм за его
насилие. Хазард не оправдывал фашистское насилие, более того, он
признавал, что его соотечественник был прав, осуждая его без
смягчающих обстоятельств, как и многие итальянцы, "о собенно те, кто
потерпел поражение" от фашизма. Но, добавил историк, "правда также
обязывает меня сказать, что, если бы этот переворот произошел, он
произошел бы с согласия общественного мнения; потому что на него
ссылаются, его желают совершенно разумные люди, которые не менее
шокированы методами, которые они считают прискорбными, но, тем
не менее, считают необходимыми. Многие благонамеренные люди,
которые вовсе не считают, что сила должна подавить закон в этом
бедном мире, считают, что, в конце концов, фашисты поставили силу
на службу закону, и если они придут к власти, как бы это ни было, тем
лучше для Италии "15.
Таково было общее мнение, зафиксированное Хазардом в беседах с
итальянцами, которые, заявляя, что они не фашисты, и осуждая
эксцессы насилия эскадрильи, объясняли ему, что они поддерживают
фашизм, потому что предпочитают насилие, "которое ведет к порядку,
а не насилие, которое ведет к анархии"; потому что они признают, что
фашисты своими насильственными методами в любом случае спасли
Италию: "Я не фашист, - сказал Хазарду один итальянский друг, - но
считаю, что мы обязаны фашизму приятным впечатлением
безопасности. Больше нет опасности, что поезд посреди своего пути
остановится на открытой местности, к большому ущербу для толпы
путешественников, или что машинист позволит себе такие фантазии
сегодня... несколько черных рубашек сядут на локомотив, и локомотив
снова заведется как бы сам собой..." . Мы больше не привыкли к таким
прелестям. Подумать только: больше никаких забастовок, или почти.
Да будут благословенны небеса и фашисты.
Забастовки стали эпидемией: женщины-телефонистки не звонили,
когда коммунальные службы не бастовали, наступала очередь
металлургов, текстильщиков или строителей. Фашисты были
несколько жестокими, но прекрасными врачами. Зараза пошла на
убыль, и сегодня она практически прекратилась: теперь она не должна
возродиться. Им удалось высмеять их, потому что мы смеялись, когда
они мазали сажей лица рабочих, нарушавших запрет, или когда они
навязывали своим врагам выбор: либо касторовое масло, либо смерть.
Однако никто не видел, чтобы кто-то выбирал смерть". А другой, более
осторожный, сказал: "Я не фашист, но, поддерживая фашизм, я
страхуюсь от возможного возвращения диверсантов". Такое быстрое
исчезновение революционных партий, разве это не удивительно? ... Но
как: отсутствие реакции или слабая реакция, которая не считается?
Может быть, большевики и их сообщники готовят какую-то тайную
месть? Это возможно: это вероятно. Но пока хорошие солдаты стоят на
страже нас, мы дышим спокойно.
И я, признаться, с сочувствием смотрю на этих хороших солдат".
Другой доброжелатель добавил: "В королевстве царила гниль. Мы
испытывали глубокое отвращение, это правда, к политике в том виде, в
котором мы видели ее в последние несколько лет, и особенно во время
правления Нитти. Наши правители зашли в политике попустительства
так далеко, что мы пришли к анархии, которую нельзя назвать
приятной. Честный человек, который хотел работать, был парализован
в своих движениях в течение всего дня. Он становился жертвой
трамвайщиков, железнодорожников, официантов, тысячи
джентльменов, которые расхаживали по улицам, гордясь своими
правами, и относились к трудолюбивому плебсу свысока. Откуда же
взялась первая реакция против этой одиозной тирании, та
спасительная реакция, последствия которой мы благословляем каждый
день? От фашизма. От фашизма, как логического следствия, мы теперь
надеемся на величайшее чудо. Возможно, он нападет на министров и
бюрократов в министерствах. Возможно, оно заставит бюрократов в
Риме понять, что "срочно" не означает "шесть месяцев". А итальянцы
поймут, что законы созданы для того, чтобы их выполняли, независимо
от того, что они о них думают. Именно таких подвигов мы ждем от
наших рыцарей: в самой их жестокости мы видим обещание энергии.
Вот почему я, хотя и не фашист, но за фашизм: профашист, если
хотите".
Это, - заключил Хазард, - то, что я слышал и повторял в течение этих
недель с сентября по октябрь, где бы я ни проходил: в Турине под
аркадами, в Милане под галереей, в Венеции во Флориане, во
Флоренции в Боттегоне. Я не сужу, я записываю. Я пытаюсь понять и
объяснить".16 Государство в государстве
И Билз, и Перно считали итоги Августовских дней решающим
моментом, когда в фашизме созрела идея завоевания власти. У
либерального государства была иллюзия укрощения фашистов после
того, как оно использовало их для ослабления социалистов, но эта
иллюзия не имела другого эффекта, кроме как укрепить фашизм и
убедить его в том, что он достаточно силен, чтобы бросить вызов
либеральному государству, оспаривая его легитимность в качестве
представителя новой Италии и его способность управлять ею. Начиная
с августа, утверждает Билз, фашистское насилие применялось для
того, чтобы свергнуть власть старого правящего класса и старой
бюрократии. Фашизм, чем бы он ни был и чем бы ни стал, - это
восстание окопов против итальянской бюрократии... Фашизм видит в
существующем правительстве свою противоположность... Как и в
случае с пролетарским восстанием, у оседлой джолиттианской
бюрократии нет ни ума, ни мужества, ни инициативы, чтобы
противостоять новому фашистскому человечеству". Как только
моральное банкротство социалистической партии стало очевидным,
стало также очевидно, что фашизм, несмотря на свой аморфный и
нелогичный характер, не может больше воздерживаться от
победоносного завоевания государства "17.
В последующие недели, с конца августа по начало сентября, пока
король, правительство и парламент были в отпуске, сквадристы
возобновили последнее наступление на то, что осталось от
администраций, управляемых противоположными партиями, и они
делали это, несмотря на предупреждения Муссолини воздержаться от
насильственных действий, чтобы не оттолкнуть симпатии буржуазии,
которая проявляла все больше признаков неодобрения экспедиций
сквадристов после "социалистического Капоретто". Повсюду в Лацио,
вспоминал Билс, социалистических и католических администраторов
вытаскивали из офисов и домов. Тем временем фашисты
активизировали свою деятельность по укреплению организации,
проводили многочисленные провинциальные съезды, изгоняя из
партии непоследовательных или нежелательных элементов. Военная
структура партии также была укреплена: было издано Положение о
милиции, которое было опубликовано в фашистской прессе в начале
октября. "Таким образом, - комментировал Билз, - в течение одного
месяца было построено военное государство внутри государства "18.
Хазар пришел к аналогичному выводу, отметив, что сейчас есть
"нетерпеливые актеры, которые хотят поторопить завершение драмы,
которая двенадцать месяцев назад была еще в зачаточном
состоянии".19 Француз отметил, что всего за один год, "короткий
промежуток в жизни нации", фашисты "взорвали свою власть: теперь
вся сцена принадлежит им. В прошлом году они завершили первый
этап необычайно быстрой и блестящей карьеры. Перед ними
большевики, коммунисты, революционеры сдались и исчезли: и вот
социалисты разбежались, втянутые в общее поражение. Правда, иногда
они сами нападали. Когда фашисты проходили мимо, из подвала или
сарая раздавался выстрел: на одного фашиста меньше, еще одно имя в
списке убитых. Но фашисты возвращались, приводили врага в
исполнение и возобновляли свое победоносное шествие. Это была уже
не война, а партизанская война. Более того, они не ждали, пока их
спровоцируют: чаще они провоцировали сами, и их методы
заключались в укрощении насилия террором".20
Фашистское всемогущество
К октябрю стало ясно, что фашизм готовится прийти к власти, хотя
оставалось неясным, по какому пути он пойдет: выборы или
восстание. Однако ситуация складывалась таким образом, что эпилог
марша к завоеванию столицы, который фашизм предпринял с
постоянным ускорением в течение 1922 года, был неизбежен,
поскольку теперь перед ним не было сил, способных противостоять
или помешать ему.
"Да, всемогущество сегодня принадлежит фашизму. Кто осмелится
противостоять ему?" - заметил Хазард, находясь в октябре в Милане.
Он ответил на этот вопрос ярким описанием беспорядка, в котором
оказались все другие партии: "Народники? Они в полном
замешательстве. Социалисты? В партии произошел новый раскол [1
октября]: теперь есть три секции, три враждебные группы, почти
равные по силе, или, скорее, равные по слабости. Всеобщая
конфедерация труда откололась от Социалистической партии [6
октября]; три социалистические партии вместо одной, какая
неразбериха! К какой из них прислушиваться? Какая из них
представляет истинную традицию?
Находясь в недоумении, исполнительный совет Конфедерации решил
никого не слушать и возобновить свободу действий". В еще более
запутанном состоянии находились либералы, которые изо всех сил
пытались создать единую партию, продолжая ссориться между
персонализмами и противоречивыми тенденциями. "Либералы пришли
на помощь: с небольшим опозданием и хромая. Они встретились в
Болонье [8 октября], на съезде, который почти превратился в
боксерский поединок. Демократические либералы, чистые либералы,
консервативные либералы, фашистские либералы - для каждого
нашлось что-то свое: их было так много, что все эти либералы не
смогли определить, что такое либерал, и ушли, так и не узнав этого.
Бесконечные дискуссии, крайнее словоблудие, мало идей, мало людей,
региональные антагонизмы, разногласия, которые оставались тайной
до сих пор, и на которые пролил свет конгресс. Таким образом, вместо
того, чтобы объединить, съезд разделил: крики, оскорбления,
делегации уходят, хлопая дверью; есть даже смутное подражание
фашистам, как будто достаточно носить цветные рубашки (у
либералов рубашки цвета хаки), чтобы иметь силу... Однако сейчас в
Италии есть либеральная партия, и она заслуживает уважения, потому
что состоит из людей доброй воли. Вот только время не
благоприятствует: Либеральная партия потерпела крах еще до своего
рождения".21
Среди растерянных или распущенных партий, продолжал Хазард,
Италия дала "парадоксальное зрелище, которое каждый здесь может
увидеть своими глазами": организованная в военном отношении
партия, бросающая вызов либеральному государству, делящая
территорию полуострова на командования армейских корпусов и
дивизионные командования своего частного ополчения, каждое из
которых имеет своих командиров, свой генеральный штаб и свои
войска, с офицерами, "я говорю офицерами настоящей армии,
служащими в кадрах этой революционной армии". Хазард вспоминал,
что был свидетелем многочисленных сборищ фашистов, "хозяев
улицы, то есть хозяев страны". Фашистские мобилизации, отметил он,
"не скрываются, не маскируются, не остаются в тени: они стали
привычкой, они проходят при свете дня на глазах у всех. В Милане,
когда я иду по улице, я обращаю внимание на здание, которое при
внимательном рассмотрении не кажется ничем примечательным.
"Красивая архитектура", - говорю я из вежливости. Действительно,
архитектура! В подвалах здания находится склад оружия, которое
использовалось фашистами: в этом его интерес; и теперь я с
уважением смотрю на этот дом-архив "22.
Победив противоборствующие стороны или доведя их до бессилия,
чернорубашечники теперь стремились нанести удар по правительству
и либеральному государству, используя насильственные методы
против его представителей. Хазард привел пример того, что
произошло в начале октября в Южном Тироле. Он напомнил, что в
предыдущем году, когда он посетил австрийскую территорию,
присоединенную к Италии после победы, он заметил, что «при слабом
губернаторе, назначенном Италией, население никогда не переставало
проявлять свои немецкие чувства», в то время как правительство Рима
позволяло это произошло. «Пока не вмешались фашисты: они
организовали военную экспедицию, они обосновались в Трентино, они
ослабили гордость австрийцев и их немецких приспешников, они
свергли бессильного губернатора». И правительство Рима допустило
это.
То же самое произошло и в других провинциях королевства, где
фашисты без разбора нападали на органы власти и парламентариев
противоборствующих партий: «Фашисты изгоняют префектов из
префектур. Как только противник раздражает их своими сочинениями,
своими речами или одним своим присутствием в городе, они
приказывают изгнать его в течение суток. И что самое удивительное,
заинтересованное лицо действительно выбивается, очень болезненно...
Депутат их раздражает? Они запрещают ему доступ к своему
избирательному округу, в случае необходимости, они также запрещают
ему доступ в Палату». Во Франции, заметил Азар, столкнувшись с
такими ситуациями, «было бы сопротивление, конфликт, битва; можно
было бы страстно увлечься не лицом, которому угрожают, а
принципом: одна половина страны восстанет против другой», потому
что использование подобных методов во Франции «исчезло после
Наполеона: не третья, а первая, которые он использовал только после
прихода к власти», в то время как фашисты использовали их, когда они
были еще партией от власти.
В действительности, не умаляя силы фашизма, Азар полагал, что
именно «слабость противников» сделала его сильным, в том числе и
правительство, о котором француз судил резко: «Итальянское
правительство есть лишь тень, которая она предлагает симулякры
порядка теням чиновников, которые не имеют ничего другого в своем
распоряжении, чтобы навязать тень своей воли, кроме теней солдат».
Таким образом, заключил историк, «понемногу фашисты перестали
быть просто государством в государстве, они сами стали
государством»23.
Фашистский мистицизм Хазарду пришлось полностью пересмотреть
прогнозы, сделанные им годом ранее, когда будущее фашизма еще
казалось неопределенным, а движение - хаотичным, неопределенным в
своих программах и целях. Год назад, заметил историк, фашисты
могли "повесить винтовки и вернуться к законности", к чему их
призывали буржуазные газеты, и встать на путь выборов, чтобы
завоевать большинство в парламенте, как пытался предложить сам
Муссолини. Но теперь ситуация радикально изменилась, причем
совсем не в том смысле, которого хотел бы Муссолини, потому что,
резко заметил Хазард, "политическая партия - это тяжелая машина,
которой трудно маневрировать, которая медленно движется и требует
больших усилий для достижения какого-либо эффекта". Фашистская
организация была не политической, а военной, и она работала
слишком хорошо, чтобы менять ее: военной она была, военной она и
осталась".24
Описывая ситуацию в Италии в октябре 1922 года, Хазард понимал,
что его соотечественникам будет трудно понять, как это возможно,
чтобы военная организация бросила вызов государству, действуя
незаконно, чтобы навязать стране политическое господство партии:
"Здесь мы должны более чем когда-либо приложить усилия, чтобы
понять психологию, столь отличную от нашей собственной".
Фашисты, объяснял Хазард французам, продолжали применять
насилие после того, как довели своих противников до бессилия,
потому что не считали свою задачу выполненной. Убежденные в том,
что они спасли Италию от смертельной опасности большевистской
революции, фашисты не считали Италию излеченной: даже если она
была спасена, она все равно жила плохо, потому что ее организм
больше не функционировал. Большинство дряхлых министров,
которые ничего не понимали в потребностях нового времени;
депутаты, которые проводили свои лучшие дни за разговорами, когда
занимались только своими делами, в ущерб общественному благу;
низкий оппортунизм, возведенный в принцип; коррупция, возведенная
в систему; финансы в беспорядке; администрации в беспорядке;
внешняя политика неопределенная или пассивная.
"Вот, - писал Хазард, - как фашисты видели Италию. Тяжело больная,
говорили они: спасши ее, они хотели ее вылечить". И каким образом?
Сметая людей у власти и устанавливая на их место себя, отвергая
устаревшие институты, устаревшие методы, робкие привычки, леча
глубокое зло героическими средствами". Для француза фашисты не
могли похвастаться желаемыми амбициями, ибо они доказали, что,
задумав план, они воплощают его в жизнь. Теперь настало время
осуществить "третий этап": "Они переходят прямо к государственному
перевороту - предсказание, которое тем легче сделать, что они шумно
объявляют о нем. Отдадим им должное, они совершенно логичны сами
с собой: поскольку их сила сформировалась вне государства, она знает
только свой собственный закон. Это они спасли государство, спасут
вопреки ему, спасут от самого себя». 25
Пытаясь объяснить особенность фашизма и отношение фашистов к
либеральному государству, Хазард использовал свои навыки историка
для интерпретации психологии боевиков вооруженной партии,
претендовавшей на отождествление с нацией. Прежде всего, фашизм
хвастался тем, что является движением молодежи, которое "имеет
импульс, стремление, пыл и противоречия в несколько дряхлой Италии
(и Европе), которая с удовольствием оставляет власть старикам, и
которая не дает власти, кроме как людям, слишком уставшим, чтобы ее
осуществлять". Более того, это было буржуазное движение, которое,
тем не менее, "презирает буржуазию, потому что она была неспособна
защитить себя, и помнит об этом". В своих профсоюзных
организациях фашизм ежедневно собирал все новые и новые массы
рабочих, разочаровавшихся в большевистском мифе и теперь
организованных под знаменем нации. Наконец, заметил Хазард,
"существует фашистский мистицизм. Да, Боже мой! Мы не удивлены,
даже если этот мистицизм проявляется с дубинками и револьверами.
Страсть к прозелитизму и завоеваниям, жажда жертв, презрение к
смерти - все мотивы, которые нельзя отрицать у тысяч партийных
боевиков, - предполагают идею, перешедшую в область чувств. Идею-
силу: императивное желание сделать Италию процветающей,
счастливой, а также могущественной, уважаемой в мире, готовой
завоевать большое место под солнцем. Одним словом, душа фашизма -
это итальянскость "26.
Заговорщики при свете дня
Претендуя на монополию итальянизма для своей партии, фашисты не
стеснялись демонстрировать свое стремление к завоеванию власти,
продолжая идти по пути нелегальности, который они успешно
проходили до этого момента, показывая на деле, что они участвуют в
заговоре против правительства. Во второй половине октября
фашистские лидеры часто говорили о "походе на Рим", чтобы
заставить правительство уйти в отставку и назначить новые выборы, в
победе на которых они теперь были уверены, иначе они угрожали
прямым захватом власти.
Это был еще один аспект итальянской ситуации, который вряд ли был
понятен иностранным наблюдателям: тот факт, что в Италии партия
могла публично выступить с заговором против правительства, угрожая
государственным переворотом, выставляя напоказ свою незаконную
вооруженную организацию - которая отняла у государства законную
монополию на насилие - не вызывая адекватной реакции со стороны
властей, чтобы подавить ее в соответствии с действующими законами.
Хазард назвал фашистов "заговорщиками нового типа", потому что
они не строили заговоры втайне, "скрытые масками и плащами, с
секретными паролями и знаками узнавания", а делали это средь бела
дня, выставляя напоказ "как знак узнавания форму, как пароль, боевой
клич и все... с голым лицом, с некоторым кокетством в их показном
поведении: вот каковы сегодняшние заговорщики".27
Эти "заговорщики нового типа" недвусмысленно демонстрировали
свои революционные намерения с обескураживающей
беспринципностью за ту легкость, с которой они отбросили
традиционную политику доктрин, идеологий и программ, чтобы
возвеличить только действие, вдохновленное мифом о нации,
направленное на завоевание власти, на превращение всей Италии в
"нацию в черной рубашке".
Одним из таких заговорщиков был молодой студент-юрист, с которым
Хазард уже встречался в прошлом году; теперь он нашел его "полным
энтузиазма", демонстрирующим французскому другу своего отца
менталитет, идеи, намерения и отношение фашистов к политике, к
правительству, к монархии: "Больше никаких идеологий. Никаких
идеологий, никакой бесполезной болтовни. Мы - реалисты. У нас нет
предрассудков относительно существующих институтов. Они прошли
свои испытания: они однозначно негативны; выживут ли они или
исчезнут, не имеет большого значения. Они не священны сами по себе,
не более, чем те, которые им предшествовали, не более, чем те,
которые будут существовать в будущем, в соответствии с необходимым
законом вещей. Священно только одно: интересы страны, и цель
оправдывает средства".
Для фашизма, продолжал молодой человек, наступило "время жатвы:
мы - жнецы, и мы поднимаем нашу косу. Ничто не может нас
остановить: ни армия, которая с нами, ни Guardia Regia, институт
пресловутых Nitti, способный подавить движение, но не остановить
революцию". Кроме того, он испытывает инстинктивный ужас перед
пулями. Карабинеры, конечно, тоже. Бедные карабинеры! Они помнят
время, когда их побивали камнями, загоняли в угол, чтобы убить. Мы
пришли им на помощь, и они не перестали нас любить".
Наконец, молодой человек объявил о предстоящих намерениях
фашизма: "Мы предъявим ультиматум этому министерству (потому
что это не правительство, а едва ли министерство), мы предъявим
ультиматум тем, кто должен управлять Италией, но не управляет ею:
распустить Палату и назначить новые выборы. Потому что нынешнее
состояние Палаты уже не отвечает состоянию страны, которое
является фашистским. Выборы дадут фашистам подавляющее
большинство. Роспуск в ноябре, выборы в декабре. Это окончательная
программа, по которой мы не пойдем на компромисс". И заговорщик
нового типа заключил: "Теперь наше псевдоправительство может
подчиняться нам или нет. Если оно подчинится нам, мы не откажемся
влить в него молодую и энергичную кровь, сотрудничающую во
власти. Но мы не хотим, чтобы к нам относились как к бедным
родственникам и входили в правительство через черный ход. Они
должны отдать нам пять портфелей, среди них - внутренних дел,
иностранных дел, войны и флота. Если они не послушаются нас, если
они будут только медлить, уклоняться, как они всегда делали, тогда все
будет еще проще. То, что они не хотят нам дать, мы возьмем".28
Мы маршируем
После успеха фашистов в августе 1922 года все чаще стали говорить о
возможном "марше на Рим": "Марш на Рим с начала октября является
актуальной темой для обсуждения", - писал французский дипломат
Франсуа Шарль-Ру, в то время поверенный в делах посольства
Франции в столице Италии.29. Лидеры фашизма говорили об этом
открыто, это обсуждалось как нечто само собой разумеющееся даже
среди пассажиров поездов, как вспоминал посол Бейенс, который в
сентябре во время поездки услышал от промышленника,
симпатизирующего фашизму, что фашистский переворот неизбежен:
"Банды чернорубашечников будут мобилизованы, говорит мой
попутчик, оснащены винтовками и пулеметами. Они соберутся на
конгресс в Неаполе, откуда пойдут маршем на Рим".30
Съезд фашистской партии начался в Неаполе 24 октября. Сорок тысяч
чернорубашечников со всего полуострова мирно вторглись в
неаполитанский город и прошли парадом, "чтобы прославить своего
лидера", как писал Перно. Фашистское шествие представляло собой
настоящий военный парад: его открывал эскадрон кавалерии в
фашистской форме и отряды велосипедистов, затем шел Муссолини с
членами квадрумвирата и фашистскими генералами, за ними
следовали легионы Милиции, молодежные организации и члены
профсоюзов. В тот день шел дождь, вспоминал Перно, но люди
толпились на улицах, наслаждаясь зрелищем, героями которого были
они сами, "больше из любопытства, чем из энтузиазма, восхищаясь
гордым видом эскадрилий и приветствуя их оркестры и флаги".
Утром 24-го, в десять часов, Муссолини триумфально вошел в театр
Сан-Карло, где его приветствовали префект, мэр и городской совет в
полном составе. Перед семитысячной аудиторией, а также депутатами
и фашистскими лидерами Муссолини высмеял демократию,
либерализм и парламент, заявил, что фашизм хочет "стать
государством", и поставил дилемму "какими путями фашизм станет
государством", но тут же указал, что в конце концов "все решит сила".
Затем, во второй половине дня, перед чернорубашечниками,
собравшимися на площади Piazza Plebiscito, он сказал "со всей
торжественностью, которую налагает момент: либо они отдадут нам
правительство, либо мы возьмем его, спустившись на Рим". Теперь это
вопрос дней и, возможно, часов".31
Как отметил Билз, который присутствовал в неаполитанском городе на
собрании фашистов, конгресс в Неаполе стал для фашизма проверкой
мобилизации "военного государства", выросшего внутри либерального
государства. Действительно, конгресс состоялся и поспешно
завершился 26 октября, но Муссолини уже уехал за день до этого.
Однако в то время как в Неаполе фашизм демонстрировал свою силу, в
Риме, по словам Перно, "люди ждали без нетерпения, почти без
любопытства" того, что происходит, не зная, существует ли еще
правительство, ушел ли в отставку Факта, но ходили слухи, что он
уйдет в отставку 7 ноября, когда вновь откроется палата32.
День 27 октября прошел в столице на фоне слухов о "неясных
переговорах" по формированию правительства Орландо при
поддержке Джиолитти, которые вскоре были опровергнуты. Пока
старые политики изнуряли себя неудачными маневрами, вспоминал
Перно, "чернорубашечники организованно и молча готовили свой
концентрический марш к столице". В ночь на 27-е число Рим был
окружен сплошным кордоном хорошо вооруженных войск, готовых к
любому развитию событий. Сообщалось о концентрации фашистов в
Чивита Веккья, Санта Маринелла, Ментана и Монтеротондо. В то же
время стало известно, что сквадристы заняли почтовые отделения,
электростанции и железнодорожные станции, иногда после коротких
боев, чаще всего без единого удара. Перно прокомментировал:
"Больше нет сомнений, это государственный переворот, возможно,
революция".33
В ночь с 27-го на 28-е отставное правительство решило объявить
осадное положение по всей Италии. Железнодорожные пути, ведущие
в столицу, были разорваны на несколько сотен метров, а общественные
здания были заняты военными. Утром 28-го числа римляне с
удивлением увидели, что трамваи не ходят, и задумались о новой
забастовке. Проезд по мостам был забаррикадирован фризскими
лошадьми, управляемыми солдатами, а по улицам бродили
вооруженные патрули, блокируя запрещенные к движению автомобили
и разгоняя сборища более чем из пяти человек. "Столкнувшись с этим
трагическим устройством и этими строгими мерами", римский народ
"не потерял ни спокойствия, ни хорошего настроения; в кварталах, на
обочинах дорог прохожие, прежде всего девушки, бросали множество
шутливых девизов в адрес солдат, которые в ответ улыбались", - писал
Перно. Тем временем в Рим прибыл король, который не хотел
подписывать указ об осадном положении, но решил телеграммой
пригласить Муссолини, находившегося в Милане, приехать в столицу,
чтобы получить задание сформировать новое правительство. Победа
фашизма стала эпилогом к заговору, который чернорубашечники
затеяли средь бела дня. Перно оценил решение суверена как мудрое,
поскольку оно избавило "страну от жестокого испытания,
Конституцию - от серьезной раны, а Муссолини - от вопиющего
противозаконного действия. Здравый смысл итальянского народа
сделал все остальное".34
«Марш на Рим» глазами американца
Из всех иностранных наблюдателей пока только Билз опубликовал
дневник тех дней, в течение которых происходил "поход на Рим".35 28
октября американец описал хаотическую ситуацию в столице после
известия об отставке Факты, в то время как король, все еще
находившийся на отдыхе в Сан-Россоре, вернулся в Квиринал "как раз
вовремя, чтобы попытаться спасти тонущий корабль государства в
условиях бурных событий". Правительство разместило эскадроны
кавалерии, бронированные автомобили с пулеметами, заграждения из
колючей проволоки и вооруженную охрану на мостах Тибра и у ворот
столицы в разных местах города. Потому что начался марш на Рим".
"Рим или смерть" - таков фашистский лозунг. Но что происходит на
самом деле? ... Даже правительство блуждает в потемках".
Ходили слухи, что фашисты в разных городах заняли почтовые и
телеграфные отделения. Военные власти из Рима рассылали по
столице курьеров на велосипедах, которые "бешено крутили педали по
проселочным дорогам, чтобы узнать, где расположилась большая
армия чернорубашечников, и, потея, возвращались, торопливо крутя
педали, чтобы сообщить о сотнях преувеличенных слухов". Накануне
вечером некоторые сообщения в прессе сообщали о фашистской
мобилизации, но утром 28 октября "ни газет, ни новостей. Только
возбужденные толпы собирались на площадях". В течение утра
фашисты расклеивали на зданиях печатные циркуляры, сообщавшие о
полном успехе движения в Тоскане и призывавшие римских
чернорубашечников к мобилизации к полудню. Тоскана - ключ к
контролю над Италией".
Билз полностью процитировал прокламацию фашистского
квадрумвирата, объявив о начале решающей битвы за завоевание
власти. Ушедшее в отставку правительство, иронично заметил
американец, отреагировало на это провозглашением осадного
положения "с опозданием на двадцать четыре часа, фактически с
опозданием на два месяца". Но утром 28 октября король отказался
подписать соответствующий указ, и Факте пришлось объявить об этом
в прессе и снять осадное положение. 'При известии об отказе короля
подписать осадное положение фашисты, ликуя от того, что они
считали своей первой победой, собрались под королевским дворцом на
Квиринале. Полдень. Час мобилизации. Дождь. Непрекращающийся
моросящий дождь, который вскоре перешел в ливень. Никаких
признаков жизни. Только дождь... проливной дождь, бьющий по
вековым стенам из руста и травертина. А потом ветер! Причудливые
порывы через Тибр, с холма Яникул и Капитолийского холма, между
колоннами затонувших Форумов". Дождь был таким сильным, писал
Билз, что с площади Пьяцца дель Пополо он не мог увидеть Алтарь
Отечества в конце Виа дель Корсо. Затем, бегая под дождем,
американец добрался до площади Барберини и штаб-квартиры Фашио.
"Группа молодых людей раздраженного вида стоит у входа с
пистолетами и большими дубинками... Что-то произойдет, - говорят
они мне, - это неизбежно произойдет... Анкона была оккупирована ...
Завод боеприпасов в Терни захвачен... Двадцать тысяч фашистов
расположились лагерем в пяти километрах вверх по Виа Номентана, с
пушками и пулеметами... Шестьдесят тысяч идут из Тосканы... Я
выхожу на улицу, дождь и ветер треплют мой зонт и пальто... как
собака набрасывает одеяло... Дрожь от холода и сырости пробегает по
моим ногам... В королевском дворце на Квиринале - ничего, даже
усиления караула... Военный министр спит во дворе в огромном
лимузине ... встает не спеша. В Монтеситорио, где заседает Палата
депутатов, два солдата в серо-зеленой форме, как и в любой другой
день года. В резиденции Государственного совета, в старом дворце
Спада алла Регола, в убогом квартале недалеко от Тибра, ни одного
охранника... В министерстве внутренних дел, где постоянно заседает
отставное правительство, целых две роты солдат, промокших...
дрожащие... изрубленные в футуристическую полихромию линиями
железной решетки двери и проливным дождем. Но ни одного
фашиста... ни одного. Когда же произойдет революция?"
Двигаясь под дождем по улицам и площадям в центре столицы, Билз
заметил грузовики с пулеметами, группы промокших, холодных и
усталых вооруженных солдат, а "тут и там, в самых широких дворах
дворцов в центре - палаццо Венеция, палаццо Дориа-Памфили", он
видел "отряды кавалерии, ожидающие... под дождем... в ожидании
фашистов... ожидая приказов отставного правительства... ожидая
решений короля".
Вернувшись в свою квартиру и переодевшись в мокрую одежду, Билз
выглянул с балкона, выходящего на Форум, "не испытывая никакого
желания узнать новости о двадцати тысячах фашистов на Виа
Номентана", смутно помня, "что двадцать три века назад на Монте
Сакро плебеи-сепаратисты разбили лагерь, и по Виа Номентана
прошли легионы цезарей-завоевателей, которые пришли, чтобы взять
Рим, Вечный город, центр мира. Сколько раз это происходило?
Сколько раз за год? Сколько раз за столетие? И по тому же маршруту в
1870 году войска Савойского дома пришли, чтобы разрушить стены
Порта Пиа и основать новую нацию".
На следующее утро, в воскресенье 29 октября, Билз записал в своем
дневнике: "Судя по всему, вчера вечером ничего не произошло. Но
сегодня дождь прекратился". В своем дневнике Муссолини кричал о
победе. 'Конечно, в Риме не видно никакого желания блокировать
фашистов, нет даже попытки, пусть и незлобивой, сохранить порядок'.
В 10.30 утра на Виа дель Тритоне я случайно увидел, как фашисты
поджигают стопки бумаги и списки подписчиков перед разрушенным
входом в "L'Epoca", а чернорубашечника, прикоснувшегося к
высоковольтному проводу в одной из типографий, уводят. Все рабочие
документы, по словам фашистов, были уничтожены. Дальше, на
площади Барберини, на той стороне, где раньше находились сады
историка Саллюстио, колыхалась шумная орда фашистов. Они
приехали из Флоренции, Перуджи, Ареццо, Чивитавеккьи. Они
приезжают на велосипедах, мотоциклах, автомобилях, поездах,
самолетах - и пешком. Собралась неохотная, любопытная,
разговорчивая толпа". Фашисты управляли толпой, чтобы пропустить
машины, груженные чернорубашечниками, кричали "Eja, eja, alalà" и
пели Giovinezza. "В четыре часа "Джорнале ди Рома" опубликовала
чрезвычайный номер, в котором объявила, что король назначил
Муссолини премьер-министром. Весь Рим высыпал на улицы, на
проспекты, завис перед воротами Квиринале".
30 октября снова пошел дождь, и дождь стучал по балкону, где
американец вел свой дневник: "Печальный день! Заканчивается
мрачный итальянский октябрь. Над моей головой в сером тумане
парит аэроплан. Муссолини прибыл в Рим. По милости короля, судьбы
и собственного гения, министр королевства - по всем признакам, кроме
названия, диктатор Италии ... "La paix est signée. Le drame est fini", -
так написал однажды Кавур. Этот же государственный деятель после
образования объединенной Италии провозгласил, что "слава Италии в
том, что она смогла сформироваться как нация, не жертвуя свободой и
независимостью, не проходя через диктаторские руки Кромвеля".
Какие бы просвещенные блага ни принес новый режим, Италия
больше не может этим похвастаться. Конституция, верховенство
закона, сегодня в Италии вылетела в трубу. С сегодняшнего дня, 30
октября 1922 года, политическая демократия в Италии значит так же
мало, как и при Кромвеле. И нет никакой разницы, добровольно ли
стадо подчинилось новому игу... Но это мелочи, о которых будут
помнить в учебниках грядущих веков. Важно другое: в Италии
началась новая эра, как она началась в Риме с диктатуры Суллы.
События последних дней являются частью европейской тенденции,
которая началась с Великой войны, включает в себя русскую
революцию и, возможно, не закончится при нашем поколении".36
7. ИТАЛИЯ В ПОРЯДКЕ
Муссолини прибыл в Рим утром 30 октября. Он сразу же отправился в
Квиринале, где показал королю список министров нового
правительства. На следующий день его исполнительная власть была
официально сформирована: в нее вошли члены Фашистской партии и
других партий, от националистов до народников, а также некоторые
независимые. Новый премьер-министр сохранил за собой
министерства внутренних дел и иностранных дел. Только после этого
лидер фашизма дал разрешение на въезд в столицу фашистов со всей
Италии, которые с вечера 27 октября мобилизовались в городе для
проведения "марша на Рим". Революция без крови
Утром 31 октября десятки тысяч фашистов, возможно, пятьдесят
тысяч, возможно, семьдесят тысяч, "триумфально вошли в столицу", -
писал Перно. А днем они отдали дань уважения своему дуче, который
во главе процессии прошел по центру города: "В течение шести часов,
- вспоминал Перно, - их бесконечная процессия, которую не
осмеливался пересечь ни один прохожий, буквально разрезала столицу
на две части". До самого вечера можно было видеть две длинные
шеренги мужчин в черных рубашках всех возрастов, "вооруженных
винтовками, пистолетами или дубинками, на их лицах были следы
ночей, проведенных на открытой местности, и тягот, перенесенных
перед победой". Военный парад имел скорее вид процессии: два ряда
черных пилигримов занимали края узкой проезжей части, в середине
шли оркестры и знамена, а с балконов и окон сыпались цветы".1
Среди толпы зрителей был и французский дипломат Франсуа Шарль-
Ру, который отметил, что фашисты на параде имели скорее "вид
нерегулярных групп, чем организованных сил", потому что, кроме
черной рубашки, у них не было общей формы, но каждый одевался как
мог. Столь же разнообразным было и их вооружение: пистолеты,
кинжалы, штыки, винтовки разных типов, время от времени проезжала
машина с пулеметом. Несмотря на это, шествие шло
дисциплинированно, с явным намерением, по словам французского
дипломата, не напугать буржуазию. Что касается толпы зрителей, по
крайней мере тех, кто находился в том месте, где стоял Шарль-Ру, то
они выглядели "нейтрально, не проявляя ни энтузиазма, ни
неодобрения "2. Фашистская процессия прошла от Пьяцца дель
Пополо до Алтаре делла Патриа, чтобы отдать дань памяти
Неизвестному солдату, а затем прошла под балконом Квиринале,
чтобы поприветствовать короля.
В течение трех дней тысячи фашистов размещались в столице, а
римляне, как отметил Перно, "не проявляя большого энтузиазма,
делали хорошее лицо для этих гостей: все улицы были украшены
триколором, а магазины, ради мира, вывешивали флаг или рисовали на
окнах щит с тремя цветами".3 Вступление фашистских отрядов в
столицу вызвало жестокие столкновения в рабочих кварталах Сан-
Лоренцо и Порта-Трионфале, сопровождавшиеся смертями и
ранениями. Уже вечером 30-го числа Билз видел, как фашисты
разграбили штаб-квартиру "Аванти!", сожгли книги, мебель и
документы. Из своей квартиры с видом на Форо ди Траяно он
наблюдал, как фашисты ворвались и подожгли Камеру дель Лаворо. То
же самое произошло в штаб-квартире Республиканской партии на
площади Пьяцца Колонна.4 В течение трех дней, вспоминал Билз,
фашисты выслеживали членов противоборствующих партий, нападали
и уничтожали штаб-квартиры их организаций и газет. В театрах и
кинотеатрах они контролировали и избивали всех, кто не отдавал
римское приветствие или не выражал свою радость по поводу нового
правительства. Повсюду фашисты циркулировали с угрожающим
видом, вторгались в квартиры сторонников антифашизма и избивали, а
в некоторых случаях убивали тех, кого считали социалистами или
коммунистами.5
Многочисленные кровавые эпизоды не сразу помешали
формированию, особенно у иностранных наблюдателей, образа
прихода фашизма к власти, который был каким угодно, только не
жестоким: своего рода легенда о "Марше на Рим" как о революции,
совершенной, в целом, без кровопролития. Фашисты, писал Хазард в
статье для французского журнала "L'Illustration", совершили
"революцию без восстания "6.
В доказательство этого утверждения, в заключительной главе своей
книги, посвященной приходу фашизма к власти, историк просто
процитировал несколько заголовков итальянских газет, набранных
крупным шрифтом, относящихся к событиям с 8 по 31 октября 1922
года, как сжатое изложение "эпилога драмы": "Последние сцены были
идеально связаны между собой, перед тем как опустился занавес:
неожиданности были минимальны, сопротивление незначительно,
достаточно, чтобы лучше подчеркнуть триумф героя". После
заголовков Хазард полностью процитировал приказ о демобилизации
фашистских отрядов, изданный Квадрумвиратом, который
провозглашал победу с приходом к власти Дуче фашизма,
поблагодарил отрядников за доказательство дисциплины, которую они
проявили, собравшись для "великой борьбы, призванной открыть
новую эру в истории Италии", и приказал им вернуться к работе,
потому что Италия должна работать в мире, и ничто не должно
нарушать великий успех фашизма.7
"Следует признать, - писал Перно, комментируя эпилог "похода на
Рим", - что никогда еще государственный переворот не совершался с
меньшим количеством жертв".8 Именно такой образ фашистской
революции передавали за границу большинство иностранных
корреспондентов и многие послы. Американский посол Ричард
Уошберн Чайлд, поклонник Муссолини, с которым он встречался до
его прихода к власти, писал своему отцу: "Здесь мы наблюдаем
прекрасную революцию молодых людей. Никакой опасности. Она
полна красок и энтузиазма".9 А несколько дней спустя он доложил
своему правительству: "Ни одна революция не происходила так
быстро и не была так легко успешна".10
Американский консул в Венеции также назвал "марш на Рим"
революцией, потому что "конституционные силы итальянского
правительства были подавлены фашистскими силами", но, как он
отметил, это не должно настораживать, потому что фашизм был "очень
популярным и патриотическим движением". 11 Британский посол
считал, что трудно отрицать, что движение, приведшее Муссолини к
власти, было революционным, хотя "точнее было бы назвать его
контрреволюционным", поскольку поход завершился признанием
фашизмом монархии и согласием короля.12
Легенда о Черном Рыцаре и Красном Драконе
Конституционное решение "похода на Рим" с назначением Муссолини
сувереном и формированием коалиционного правительства давало
основания надеяться, что, придя к власти, фашизм сбросит свои
насильственные доспехи и вернется к законности, гарантируя стране
возвращение к порядку и нормальности. Кроме того, правительство
Муссолини получило доверие и полные полномочия на год от
парламента с большим большинством голосов.
За рубежом приход фашизма к власти вызвал большое любопытство и
в целом приветствовался либеральными и консервативными
правительствами и общественным мнением, в то время как левые
правительства, демократы и радикалы были против, а также, конечно,
социалисты и коммунисты всех направлений. Либералы и
консерваторы за пределами Италии были убеждены, что фашизм спас
страну от анархического хаоса, нанеся смертельный удар
большевизму. Американское правительство видело в успехе
фашистского движения "окончательное исчезновение большевистской
опасности в Италии и спасительный пример для всех стран "13.
Самым восторженным создателем легенды о фашизме как спасителе
Италии от большевизма был английский журналист Персиваль
Филлипс, который сразу после "Марша на Рим" напечатал небольшую
книгу под названием "Красный дракон и чернорубашечники. Как
Италия обрела душу: правдивая история фашистского движения (The
'Red' Dragon and the Black Shirts. How Italy Found Her Soul: The True
Story of the Fascist Movement), состоящую из статей о послевоенной
Италии, которые он написал для газеты "Дейли Мейл".
Первая глава, озаглавленная "Священная война за свободу",
начиналась словами: "Италия переломила ход войны против
большевизма и, можно сказать, спасла Европу. Победа фашистов,
которые привели к власти необыкновенно властную личность Бенито
Муссолини, рыцаря XV века в облегающих белых шлемах, до сих пор
была плохо понята и мало оценена в остальном мире. Лишь немногие
понимают, что, не считая Великой войны, восстание итальянской
молодежи против тирании красного социализма будет рассматриваться
историками как самое важное движение нашего времени".14
Филлипс заявил, что его рассказ - это "подлинная история" фашизма,
но он использовал библейские и средневековые метафоры, описывая
его как противостояние Давида и Голиафа, "священную войну",
"крестовый поход чернорубашечников", возглавляемый людьми,
преданными "дисциплине, послушанию и безусловной преданности
стране и религии", которые осмелились подняться и бороться с
коммунистической тиранией, в то время как неумелые правительства
наблюдали, как нация деградирует в анархию. Фашисты боролись с
"красным террором" его же оружием: "Методы Москвы нашли ответ в
методах фашистов "15 . 15 Но фашистские методы, отметил Филлипс,
не были такими беспощадными и кровавыми, как у большевиков: В
войне против большевизма "крестоносцы в черных рубашках
использовали много оружия, но самым эффективным было касторовое
масло", которое первым взял на вооружение двадцатисемилетний
лидер фашистского ополчения Итало Бальбо, "имевший внешность
поэта-солдата", и сразу же оружие касторового масла стало для
фашистов лучшим "средством для лечения большевистского безумия",
потому что оно излечивало пациента, "делая его не мучеником, а
поводом для насмешек". Насмешка была мощным союзником
крестоносцев в черных рубашках".16 В то же время фашисты
сражались как "прекрасно организованное" ополчение.17
По приказу Муссолини фашистская "военная машина" атаковала и
разгромила оплоты красной тирании до полного поражения.18 Так
закончилась, писал Филлипс, "чудесная эпопея", достойная быть
рассказанной писателем средневековья: "Перед нами храбрый рыцарь,
осмеянный врагами, жалеемый испуганными друзьями, который почти
в одиночку отправляется на борьбу с красным драконом, который с
каждым днем становится все больше и больше. Весь народ в
опасности. Борьба долгая и мучительная, и бывают моменты, когда
кажется, что дракон побеждает. Но мало-помалу ряды последователей
рыцаря становятся многочисленными, и когда люди видят, что их
спасение возможно, они стекаются под его знамена. И вот дракон
повержен, а доблестный рыцарь, который был не кто иной, как сын
деревенского кузнеца, становится премьер-министром королевства".19
Режим движения поездов по расписанию
И все в Итальянском королевстве, казалось, изменилось как по
волшебству после прихода Муссолини к власти, в результате того, что
американец Кеннет Робертс назвал "черной магией":
восстановительного действия движения, которое "спасло нацию от
падения в хаотический водоворот коммунизма и финансовой
катастрофы, по сравнению с которым Ниагарский водопад показался
бы спокойной лужей дождевой воды".20
Действительно, иностранные наблюдатели, находившиеся в Италии в
первые два года правления Муссолини, были поражены быстрым
изменением ситуации: с приходом Муссолини к власти, - отмечали
они, - резко сократилось количество забастовок в государственных
службах, где беспорядок, медлительность, леность, пренебрежение
правилами и общественностью прекратились, сменившись порядком,
скоростью, эффективностью, пунктуальностью.
"Итальянцы, - заметил Робертс, - не привыкли придерживаться
расписания, особенно работники государственной администрации...
Муссолини выгнал тысячи клерков из государственной бюрократии,
чтобы повысить эффективность работы офисов; в результате все
остальные стали прилежными". При Муссолини итальянский
государственный офис выглядит как самое оживленное место в мире.
Иногда чиновники только заняты, без каких-либо реальных
результатов, но они всегда заняты больше, чем до прихода Муссолини
к власти".21 А Робертс, который называл итальянские железные
дороги худшими в мире, теперь заявил, что "разница между
итальянским железнодорожным сообщением в 1919, 1920 и 1921 годах
и тем, что работало в течение первого года режима Муссолини, почти
невероятна. Вагоны чистые, обслуживающий персонал старательный и
вежливый, а на станциях поезда прибывают и отправляются по
расписанию, не на пятнадцать минут или пять минут позже, а точно в
назначенное время". То же самое можно сказать и о почтовых,
телефонных и телеграфных отделениях.22
Даже в бюрократии неэффективность и леность, казалось, были
сметены волной динамизма, порожденного энергичной личностью
молодого премьер-министра, который подавал пример расторопности,
работая по многу часов в день, навязывая тот же ритм государственной
администрации и изгоняя бездельников без поблажек. "Бюрократы
старого типа, крепко привязанные, как лимпиты, к своим постам,
столкнулись лицом к лицу с Новой Италией и больше не чувствуют
себя в безопасности, - писал Филлипс, - потому что Муссолини начал
кампанию против праздности и неэффективности с той же
безжалостностью, которая использовалась против большевизма".
Старые менеджеры и чиновники, имевшие привычку поздно
приходить в офис, внезапно оказались "перед лицом кризиса, который
для них был не менее ужасен, чем Судный день". Восхищенные
Муссолини бюрократы, "которые никогда не слышали звука
будильника, начали задаваться вопросом, был ли, в конце концов, их
герой богом или просто неприятным человеком с плохими идеями".
Даже самые рьяные сторонники нового режима забеспокоились. Было
ясно, что первый крестоносец чернорубашечников не потерпит
никакого неприемлемого поведения".23
Франсиско де Асис Камбо не был поклонником фашизма, но он с
восхищением признавал перемены, произошедшие в Италии после
прихода к власти Муссолини. Вернувшись в Италию через два года, в
начале 1924 года, каталонский политик писал: "Италия, которую я
созерцал в марте прошлого года, кажется другой. Снаружи и внутри, в
том, что видно глазами головы, и в том, что видно глазами духа,
преобразование было полным. Она была лучше, намного лучше не
только Италии 1920 года, но и довоенной Италии".24 Убежденный в
том, что недисциплинированность и беспорядок были привычным
злом в странах Южной Европы, Камбо считал, что Италия "поднялась
на несколько ступенек к Северу": "В городских службах и
государственных службах порядок, дисциплина, "хорошая работа" -
это замечательно. Улицы чистые, поезда приходят вовремя, а
чиновники, даже самые скромные, тактичны и заботливы в
обслуживании населения. Действие государственной власти, которую
раньше нигде не было видно, теперь ощущается постоянно: везде
чувствуешь, что она окружает тебя, защищает и присматривает за
тобой. Как если бы вы были в Англии или Германии".25
Человек-загадка
Главным архитектором возвращения Италии к порядку считался новый
премьер-министр. Иностранные наблюдатели в Италии начали
интересоваться Муссолини, если вообще интересовались, только после
того, как он стал лидером фашизма, хотя некоторые знали его еще в
период интервенции. Но теперь, когда он стал премьер-министром
одного из великих государств мира, благодаря стремительному
подъему движения, которое он основал всего три года назад, персона
Муссолини пересеклась с его собственной партией, став главным
предметом размышлений о сегодняшней Италии и ее будущем. Как
писал Хазард, посвящая ему одну из последних глав своей книги,
"лидер с грубыми жестами, отрывистыми движениями, сын кузнеца,
который создал для своей партии такую сильную армию, видит, как его
личное положение растет с каждым днем". Вступив в ряды народных
идолов, он теперь переходит в ранг полубогов".26
Французский историк, симпатизировавший фашистам, одним из
первых наделил Муссолини чертами мифической личности. Он не
только приписал ему заслугу в том, что тот "угадал чаяния Италии", но
прежде всего в том, что он обладал "верой, которая двигает горы, и
умел донести ее как до верующих, так и до фанатиков"; он верил в
свою родину, из своей веры он извлек доктрину и немедленно
воплотил ее в жизнь, навязав "свое руководство безудержному
движению, показав себя вождем людей", наделенным "бдительным
вниманием, постоянно напряженной волей, неутомимой боевой
силой", и более того, наделенным двумя качествами, "с которыми
трудно сравниться: ловкость и энергичность". 27
Международное любопытство и внимание привлекала личность
нового премьер-министра, самого молодого в истории Италии и
самого молодого среди правителей, находившихся в то время у власти
в Европе и остальном мире.
Его политическая биография также была необычной: сын кузнеца,
учитель начальной школы, депутат всего пятнадцать месяцев, без
опыта работы в правительстве или государственном управлении, с
бурным прошлым более десяти лет как революционный социалист,
один из самых непримиримых и жестоких, антипатриот,
антимилитарист, антихристианин и ярый антиклерикал до 1914 года;
затем пламенный патриот-интервенционист; а затем снова основатель
республиканского фашизма, националист, антисоциалист и
антикоммунист, но антистаталист и либертарианец, а затем еще более
националист, антилиберал и антидемократ, но уважающий католицизм
и более не враждебный монархии, а затем дуче вооруженной партии,
которая пришла к власти, угрожая восстанием, но приняв от короля
задачу формирования нового правительства парламентского
государства. Большое любопытство у иностранцев вызывала
физическая фигура самого Муссолини, с ярко выраженными
соматическими особенностями, повадками и поведением, которые
подчеркивали его необычность и очарование сложной, даже
загадочной личности.
"Синьор Муссолини, - писал Филлипс в заключении своей "подлинной
истории" фашизма, - в настоящее время является "человеком-загадкой"
Италии. Он - одинокая, почти страшная фигура, потому что
ближайшее будущее нации находится в его руках, и он продвигается
вперед в одиночку".28 В Гранд-отеле Филлипс видел, как прибывали
главные лидеры фашизма, вызванные ночью Дуче в квартиру на
втором этаже, где он остановился, для "секретных бесед, которые
приведут к успеху или катастрофе величайшего эксперимента,
свидетелями которого мы были со времен Ленина, свергнувшего
Романовых [sic!]". Квартира, где "Диктатор ест и спит - если он
вообще спит - является истинным центром тяжести Итальянского
королевства". Никто не думал о короле в Квиринале и папе в Ватикане,
но многие думали о диктаторе, остановившемся на втором этаже
гостиницы, задаваясь вопросом: останется ли он там? "Трудно
проникнуть в мысли диктатора. Его собственные друзья часто
задаются вопросом: о чем он думает, что он будет делать?".
Журналист послал Муссолини список вопросов, ответы на которые
"пролили бы свет на политику ближайшего будущего". Но он не
отвечает. Я сомневаюсь, что он ответит, потому что нельзя отвечать на
вопросы других людей, если не можешь ответить себе на те же
вопросы".29
В беседе с загадочным политиком
На самом деле, человек-загадка говорил. И он часто выступал на
площадях многих городов полуострова, с севера на юг, включая
острова: действительно, он был первым премьер-министром, который
объехал всю Италию и лично разговаривал с итальянцами.
Начиная со своей первой угрожающей речи 16 ноября в Палате
депутатов, охарактеризованной как "глухая и серая палата",
Муссолини выступал постоянно, и как премьер-министр, и как дуче
фашизма, хотя было нелегко понять, когда он говорит то или другое,
потому что он одновременно обещал возвращение к порядку и
продолжение "революции черных рубашек". С начала 1923 года,
помимо полиции и карабинеров, Муссолини доверил охрану порядка и
защиту фашистской революции массе сквадристов, которые декретом
были преобразованы в Добровольную милицию национальной
безопасности (ДМНБ), состоящую исключительно из
чернорубашечников и подчиняющуюся непосредственно премьер-
министру. Последний с начала 1923 года стал также председателем
Большого совета фашизма, нового высшего руководящего органа
ПНФ, в котором участвовали фашистские лидеры и фашистские члены
правительства, разрабатывавшие законы, которые впоследствии
утверждал Совет министров, как это произошло с преобразованием
массы сквадристов в Национальное ополчение.
Премьер-министр Муссолини обещал нормализацию и умиротворение;
дуче фашизма Муссолини угрожал оппозиционным партиям,
предупреждая их, что их существование будет терпимым, только если
они перестанут выступать против. И каждый день он призывал
фашистов быть бдительными по отношению к тем, кто не принимает
"неопровержимый факт" прихода фашизма к власти.
Человек-загадка выступал не только в палате и на площадях Италии.
Он охотно давал интервью, особенно иностранным журналистам и
гостям со всего мира, которые расспрашивали его, пытаясь понять,
каковы его цели и задачи.
Одним из первых, кто взял интервью у Муссолини после его прихода к
власти, был французский журналист Людовик Наудо, известный
своими корреспонденциями во время русско-японской войны и во
время большевистской революции, когда он взял длинное интервью у
Ленина, которое стоило ему пребывания в советских тюрьмах.
Журналист взял интервью у Муссолини 26 ноября с целью составить
объективный портрет человека, который в своей стране "приобрел
большой авторитет благодаря уничтожению коммунизма".30 Нелегкая
задача, заметил Наудо, если даже опытные знатоки Италии признают,
что "психология диктатора остается загадочной по сей день". Были те,
кто говорил, что Муссолини будет двигаться все дальше и дальше
вправо, те, кто верил, что он вернется к своим социалистическим
истокам, двигаясь влево.
Встретившись с ним за правдой, французский журналист не
соблазнился человеком-загадкой: напротив, Муссолини показался ему
"очень простым, дружелюбным, без ничего от людоеда", которого он
себе представлял, и даже без наполеоновских черт, которые ему
приписывали его поклонники. Он, безусловно, был личностью,
излучавшей энергию и решительность: "Авторитарный человек, чья
главная сила заключается в уверенности в себе. Он верит в себя, и я
уже не удивляюсь тому, что некоторые из его старых товарищей
признались мне: "Куда бы он ни пошел, он хочет быть боссом. Он
командует так, как другие дышат"". В физиономии Муссолини,
отмечал Наудо, "время от времени мелькали черты государственного
деятеля, кондотьера, поэта, комика и, возможно, служителя черной
мессы. Без сомнения, он кто-то есть. Но кто?".
Для французского журналиста Муссолини оставался загадочной и
таинственной личностью, не менее загадочным для него был и тот
факт, что, когда он говорил, верховный лидер дубинщиков держал в
правой руке, словно скипетр, превосходную красную розу, аромат
которой он вдыхал, одновременно отщипывая лепестки нервными
пальцами.
Несмотря на эти позы, Наудо оценил "осторожность и сдержанность, с
которой Муссолини, как государственный деятель, излагал
иностранному журналисту те же международные вопросы, которые
несколькими днями ранее он излагал с полемическим пылом
агитатора", что вызвало беспокойство среди иностранных
наблюдателей. Вместо этого в беседе с журналистом государственный
деятель говорил о мире, труде, братстве. Из этой беседы Наудо вынес
элементы, позволяющие судить о Муссолини как об очень одаренном
политике, который, как уверяли его те, кто знал его некоторое время,
"соединял в себе стремительность и решительность с расчетливым,
оппортунистическим умом, умеющим извлекать выгоду из
непредвиденных ситуаций и иногда способным нащупывать, тянуть
время, чтобы добиться успеха". И, не будучи очарованным им, Наудо
описал его как "молодую, властную личность, чрезвычайно
самоуверенную и в то же время способную к сдержанности и
притворству".31
Мистическая встреча с лидером
Другие иностранцы отправились на интервью с Муссолини в 1923
году, уже воспаленные его мифом, и уехали еще более воспаленными,
убежденными в том, что он был исключительным человеком, которому
суждено было повлиять на будущее не только Италии, но и Европы и
всего мира. "Муссолини, творец будущего": так он был описан в
названии книги, опубликованной в 1923 году португальским
писателем-националистом Франсишку Хомем Кристо, сторонником
создания панлатинской федерации между Португалией, Испанией,
Францией и Италией для возрождения "первенства латинства" в мире.
Именно поэтому в 1923 году он хотел встретиться с дуче фашизма.
Беседа состоялась в Палаццо Чиджи, куда Муссолини перенес штаб-
квартиру Министерства иностранных дел. Гомем Кристо описал эту
беседу в начале своей книги, придав ей характер почти мистической
встречи. Велико было волнение португальца, когда он узнал, что всего
через три дня после прибытия в Рим ему позволили быть принятым
"обновленцем Италии".32 Гомем Кристо провели в огромный зал,
"просторный и высокий, как неф церкви": сзади, за большим столом,
"сидел человек, коренастый, твердый, солидный". Ни жеста, ни слова
приветствия". Мороз, Муссолини: "Вы говорите по-французски, не так
ли? Я слушаю".
Взволнованный, посетитель сказал "главе фашизма, что намерен
обратиться к нему только двумя словами - "Четыре!" оборвал
Муссолини. Я поклонился и продолжил: Я буду обращаться к Вашему
превосходительству как можно меньше... - "Полчаса!" - уточняет
Муссолини". В этих двух перерывах Хом Кристо увидел знак
благосклонного внимания. "Муссолини хочет меня слушать. Я должен
только завоевать его". И он начал с заявления о том, что считает
"эпопею фашизма" и фигуру вождя надеждой для "всех латинских
народов, объединившихся во имя господства одного идеала "33.
Муссолини слушал его бесстрастно, иногда прерывая его короткими
замечаниями, чтобы задать вопрос, уточнить факт, всегда глядя
собеседнику в глаза с другой стороны большого стола. "Я чувствую,
что меня изучают, оценивают, следят за мной, и велика моя радость,
когда я слышу, как он говорит: "Вы видите фашизм таким, каким он
должен быть, в его истинном свете, и вы точно осознаете, какие
последствия он может иметь"". Затем португалец изложил свою идею
панлатинской федерации, которую Муссолини назвал,
преисполненный радости, "благородной идеей... Идея, которая
заслуживает усилий всей жизни!". А когда Гомем Кристо заявил ему о
своем намерении написать книгу о фашизме, дуче обратил его
внимание на некоторые моменты, изложив "в ясных и императивных
предложениях великолепный план, возвеличивание национальных
добродетелей: веры, мужества, разума. Вся роль государства сведена к
формуле: Учение, общественный порядок, национальная оборона".
Полностью покоренный, португалец удалился, потому что не хотел
больше отнимать время "у этого человека, который принадлежит всей
нации". Муссолини встал, обошел большой письменный стол и
подошел к нему, чтобы пожать руку. Он впервые улыбнулся и сказал:
"До свидания, даете ли вы мне слово, что об этой беседе не сообщит
ни одна газета и что только в вашей книге будет изложена ее суть?".
Португалец пообещал.
Покинув Палаццо Чиджи, Homem Christo, словно в состоянии
благодати за то, что узнал в Муссолини "лицо лидера, голос лидера,
душу лидера", бродил по улицам Рима и, оказавшись возле Форума,
почувствовал "вторжение такого пыла", что у него на устах возникли
слова призыва, с которым он хотел обратиться "к латинским братьям",
чтобы побудить их последовать примеру "сияющего Фашио" и
"умолять их объединиться". Затем, "перед бесчисленной, невидимой
аудиторией", Homem Christo в идеале произнес "воззвание к латинским
толпам", содержащееся на следующих трехстах страницах его книги,
чтобы сказать латинским расам последовать примеру Муссолини,
"безнадежному синтезу всех добродетелей, необходимых для
обновления латинского мира", который со временем "утратил
фундаментальные принципы своего превосходства: веру и энергию".
34 Латинские расы должны были увидеть в фашизме и, прежде всего, в
Муссолини, человеке, в котором "воплотилась вся Италия,
итальянский прототип", пример и модель для достижения возрождения
латинского превосходства в мире.
Новая демократия Новой Италии
Гомем Кристо превозносил Муссолини как "творца будущего", но
прежде всего ценил "восхитительную добродетель, столь редкую и
глубоко итальянскую, которую можно назвать чувством умеренности",
добродетель, которой дуче обладал "в высшей степени", потому что он
"с точной точностью знал, что нужно делать и, прежде всего, что не
нужно делать", и с помощью этой добродетели он командовал
фашизмом и руководил Италией35. Говоря о фашизме, Гомем Кристо
превозносил антикоммунизм и национализм, но прежде всего он
подчеркивал способность знать, как вступить на путь мира после
применения насилия для свержения коммунизма и подавления
беспорядков для восстановления порядка: "Насилие было его путем,
но умиротворение - его цель". 36 По своей сути фашизм был школой
"цивилизма", призванной "восстановить и поддерживать здоровую
дисциплину во все еще кипучем Риме", превратив предновогоднее
ополчение "в мирных солдат, озабоченных исключительно
сохранением мира в городе от нападения".37
Для других иностранцев, увлеченных Муссолини, заслуга фашизма
заключалась не только в спасении итальянцев от большевизма и
восстановлении порядка и мира, но и в том, как утверждала
английский антрополог Гертруда М. Годден, в том, что он основал
"новую и блестящую итальянскую демократию", восстановив
ценности страны, религии и социальной гармонии: "Дух новой
демократии, состоящий из патриотизма и религиозности, охватил
нацию от одного конца до другого, как очищающий огонь; он
восстановил религию в начальном государственном образовании и
переместил распятие в классные комнаты; он вернул нации порядок
взамен беспорядка, свободу взамен принуждения, социальное
единство взамен классовой ненависти, труд взамен праздности,
честность взамен преступления, производство взамен безработицы,
прекрасное взамен уродливого". 38
Новая итальянская демократия, которую английский антрополог
назвал даже "супердемократией", была основана на принципе
дисциплинированной свободы, живущей "в духе радости и веры",
которая обязывала гражданина в соответствии с формулой присяги
молодых людей, вступивших в ополчение: "Во имя Бога и Италии, во
имя всех тех, кто пал за величие Италии, я клянусь посвятить себя
целиком и навсегда благу Италии".
Годден проследил истоки "новой демократии" до вмешательства
Италии в Великую войну, до духа патриотизма и самопожертвования,
оживлявшего в окопах солдат новой Италии, которую фашизм привел
к власти путем возрождения нации. По этой причине антрополог
призывал Англию вдохновиться духом новой демократии, чтобы
"родилась новая Англия, порожденная жертвами, принесенными
английскими солдатами на равнинах Фландрии, на полях Франции, на
пляжах Галлиполи, у рек Месопотамии, так же как новая Италия
поднялась, по словам ее поэта [Сем Бенелли], с "великого каменного
алтаря" Карсо". Мы должны помнить, что фашистская Италия, новая
нация продуктивной деятельности, дисциплинированной жизни,
национальной гармонии, была выкована в окопах "39.
Для Гертруды Годден то, что сделал и делает фашизм, было "самым
захватывающим опытом современной Европы", но чтобы полностью
понять "европейское значение" фашизма, необходимо знать его
историю, "которая начинается с несчастья, раздора, бездны коррупции"
и "заканчивается единой нацией, очищенной, укрепленной,
процветающей, в мире внутри своих границ и с внешним миром".
Теперь, говорила антрополог, обращаясь к своим молодым
соотечественникам, то, что "молодежь Италии делает сегодня,
молодежь Англии может сделать завтра".40 И не только для Англии
фашистская Италия могла стать моделью возрождения, но и для всей
Европы, "Европы, обновленной благородной творческой энергией
истинного национализма".41
Патриотизм и современность
Энтузиазм британского антрополога по поводу фашизма как модели
национального возрождения разделяли и другие иностранцы, которые
с таким же энтузиазмом относились к новой Италии, живой,
бессмертной Италии, искупленной фашистами, готовой возобновить
свою миссию на благо Европы и человечества. Все качества новой,
живой и бессмертной Италии, какой ее представляли Уоллес, Моурер,
Херрон или Хазард, теперь, казалось, были воплощены в фашизме и
его дуче. Так думал американский путешественник Клейтон Купер. С
Херроном Купер разделял убеждение, что Италия переживает "новую
национальную весну".42 С Хазардом он разделял интерес к
настоящему и современной Италии, которая не хотела хвастаться
прошлым, а стремилась завоевать новую славу в настоящем и
будущем. С Моурером он разделял веру в свободный и толерантный
нрав итальянцев, способствующий прогрессу общества "взрослых
людей, способных решать за себя".43
В частности, Купер был убежден, что Италия наделена огромными
человеческими ресурсами для покорения новых, современных
рекордов, не оставаясь связанной культом древних рекордов. Италия
банкиров, промышленников, бизнесменов, инженеров и
производителей больше не могла считаться страной музеев, голубого
неба и синего моря, она была настроена на строительство
современной, динамичной страны. "Новая Италия считает, что она
имеет право на свое место под солнцем, под которым он подразумевает
место в великом международном круговороте торговли и
промышленности".44 По этой причине, заключил Купер, "сегодняшняя
Италия, Новая Италия, свежая, энергичная, современная и полная
энергии, немного устала слушать о былой славе и сыта по горло
слухами о Вечном городе "45.
Большую часть своей книги Купер описывал экономическую и
социальную картину нации, находящейся в непрерывном развитии
после объединения; он говорил о "промышленном ренессансе",
подъеме сельского хозяйства и интенсификации торговли, утверждая,
что Италии не хватает "рекламщика", способного пропагандировать не
только ее художественные и природные богатства, но и ее товары,
чтобы предложить их на международном рынке.
Фашизм, по мнению Купера, также был выражением современной и
динамичной Италии. В "бескровной революции", которая привела
Муссолини к власти, американский путешественник увидел приход к
власти Новой Италии: "Сегодня молодежь командует. На смену старым
и вялым традиционным политикам, скорее риторическим, чем
практическим, пришел молодой и энергичный правящий класс, горячо
патриотичный, оснащенный средствами для осуществления своей
политики". В различных отношениях Италия обновилась, и ее звезда
снова восходит "46.
Как показывает их гимн "Giovinezza" ("Молодость"), фашисты хотели
провести нацию "под ритм современной музыки": "Давайте на время
забудем наших предков и наше славное прошлое и подумаем о нашей
молодости и нашем еще более прекрасном и многообещающем
будущем".47 Это, по словам Купера, и было то стремление, которое
заставило Муссолини и фашизм "покончить с традиционным
режимом". Наиболее очевидным выражением фашистского
модернизма был Муссолини, "с амый молодой премьер-министр,
который когда-либо был в Италии", который в свои тридцать девять
лет обладал "дальновидным и практическим гением, с помощью
которого он смог сплотить буквально миллионы мужественных, умных
и активных итальянцев под знаменами фашизма".48 Американец
заявил, что он твердо верит, что "в этом возрождении Италии кроется
мощная надежда не только для Италии, но и для восстановления
Европы".49
Сомнения по поводу воинственного дуче
Однако, несмотря на свой энтузиазм, Купер не видел совершенно
радужного будущего для Муссолини и фашизма. Путешествуя по
Италии, он слышал один и тот же вопрос: "Что будет делать
Муссолини? Будет ли он столь же успешен как государственный
деятель, дипломат, администратор, как он был агитатором и борцом?".
Американец признавал, что "задача Муссолини - не детская игра, ведь
легче совершить революцию, чем построить стабильное
правительство".50 У Муссолини было много шансов, он пользовался
широкой парламентской поддержкой, а противоборствующие партии
были бессильны ему противостоять. "По крайней мере, в течение года
у него была возможность действовать практически без помех, чтобы
переделать Италию". Немногие другие национальные лидеры имели
больше возможностей, и Муссолини, несомненно, обладал смелостью,
энергией, лидерскими качествами, молодостью; за ним стояло
движение молодых патриотов; и он "несомненно, знал, что итальянцы
всегда предпочитали следовать личностям, а не принципам". И в
стране также было понимание того, что если Муссолини и его силы не
одержат победу, то Италия рискует погрузиться "в худший хаос, чем
тот, который она знала за всю свою историю "51.
Но есть еще один вопрос, который Купер ставит при рассмотрении
воинственных настроений фашизма в его взгляде на внешнюю
политику. Для иностранных наблюдателей внешняя политика была
самым неоднозначным и тревожным аспектом Муссолини. Как
премьер-министр Муссолини обещал желать мира в Европе, как дуче
фашизма он утверждал право на экспансию процветающей Италии, не
отказываясь немедленно прибегнуть к силе оружия для разрешения
напряженности в отношениях с соседними государствами, как он
сделал в августе 1923 года, военным путем оккупировав остров Корфу,
чтобы потребовать компенсации от греческого правительства после
убийства итальянских солдат, выполнявших миссию в Греции. Более
того, фашисты проповедовали необходимость империализма и
требовали территориальной компенсации за "искалеченную победу".
Что касается позиции Муссолини во внешней политике, Купер считал,
что Италия переживает период испытаний, во время которого
необходимы дипломатия, идеализм и даже диктатура. Бисмарк правил
железом и кровью. Кавур - моральной энергией, взывая к духу
человечности и прогресса всего народа. Бисмарк построил прусское
государство, нападая на Данию, Австрию и Францию. Теперь,
задавался вопросом Купер, "пойдет ли Муссолини по пути великого
государственного деятеля, сочетая свой гарибальдийский характер с
кавурским мастерством, или же он пойдет по бисмарковскому пути
завоевания близких к Италии стран, открывая тем самым новые раны и
откладывая приход мирной Европы?".
Выдержит ли Муссолини?
Сомнения относительно будущего Муссолини и фашизма выражали и
другие иностранцы, которые также признавали заслуги Дуче в
наведении порядка в Италии. Даже один из самых восторженных, как
Филлипс, был неуверен: он описывал Муссолини как "одинокую и
страшную фигуру, на плечах которой лежит тяжесть Италии, а перед
ним лежит путь, полный подводных камней... Безусловно, ни одному
человеку не приходилось сталкиваться с более необычной задачей, чем
та, которая лежит на плечах этой теневой личности с горящими
глазами и ярко выраженной челюстью. И он идет вперед один, с
Судьбой".52
Иностранные наблюдатели задавались вопросом, действительно ли
Муссолини, даже со всеми его дарами, энергией и волей, сможет
добиться того, что он обещал, и последуют ли итальянцы за ним,
приняв его жесткую и авторитарную политику, которая навязывала
стране дисциплину и жертвы. Британский консерватор Филлипс
заявил: "Нация с ним. И это делает Муссолини неуязвимым".53 Но
американский консерватор Робертс по-другому оценивал популярность
Дуче в 1923 году. В начале правления Муссолини Робертс отметил, что
"вся нация, от Севера до Юга, была полна энтузиазма по отношению к
нему, фашистам, фашистским идеалам и стремлениям", и
патриотический пыл был широко распространен. Но в течение 1923
года, хотя патриотизм сохранялся, американец отметил, что "энтузиазм
в отношении Муссолини и фашистов ослабевает "54.
Усугублению энтузиазма в отношении Муссолини способствовали
внутренние распри, которые разделяли Фашистскую партию на
протяжении всего 1923 года: открытые столкновения между
фашистами разных направлений, между фашистами и
националистами, между местными фашистскими лидерами, "расами",
и национальным руководством ПНФ. Более того, по словам Робертса,
после победы фашистские ряды быстро разрастались, "и фашистами
становились самые разные люди: социалисты, хулиганы,
забастовщики, эксгибиционисты, негодяи, продажные люди".55 Сам
дуче должен был бороться за то, чтобы держать под контролем массу
старых и новых фашистов, навязывать дисциплину сквадристам,
которые продолжали обычное насилие, практикуя всевозможные
незаконные действия, и удерживать вместе множество душ партии, что
приводило к расколам, разделениям и исключениям.56 Муссолини все
еще был вынужден бороться с фашизмом. Муссолини по-прежнему
твердо стоял у власти, и противники не осмеливались оспаривать его
силу, но в то же время, по словам Робертса, падение популярности
дуче было ощутимым.
Энтузиазм был высок в северных регионах, где фашизм был наиболее
силен, но ослабевал по мере продвижения к южным регионам. В
Неаполе в июне, по случаю Дня статута, Робертс отметил, что
фашистские отряды прошли парадом по переполненным улицам, но не
встретили одобрительных возгласов, в то время как регулярной армии
горячо аплодировали. В Риме американец побывал на международном
боксерском матче и стал свидетелем появления итальянского боксера
Спаллы и Муссолини: оба опоздали, но публика встретила боксера
более тепло57.
Короче говоря, заключил Робертс, "в Италии было много недовольства
Муссолини".58 Многие итальянцы были недовольны диктаторскими
методами дуче и фашистов, в то время как сторонники Муссолини
возмущенно отрицали, что он был автократом, утверждая, что все его
действия были конституционными. Но, иронизировал Робертс, "е сли
все действия Муссолини конституционны, то памятник Вашингтону
сделан из мятного леденца".59 Однако Робертс не критиковал
Муссолини за диктаторские методы, отмечая, что те, кто их не
одобряет, похожи на тех мужчин, которые полагаются на молитву
вместо того, чтобы действовать, спасая своих жен и детей от
агрессора. "Если бы он не был диктатором, Муссолини не продержался
бы и десяти минут, и все хорошее, что он и фашисты сделали,
закончилось бы ничем".60 Для американца диктатура Муссолини была
"хорошей диктатурой, а диктатура в Италии - это необходимость".61
Диктаторские методы были тем, чего заслуживала Италия, пока она не
поднялась со дна, на которое добровольно опустилась, но "никто не
может предсказать будущее Муссолини и фашистской партии.
Муссолини может продержаться достаточно долго, чтобы поставить
Италию на прочную основу, или он может быть свергнут политиками
до того, как выполнит свою задачу". Каким бы ни был будущий ответ,
Робертс считал подъем Муссолини и фашизма, а также их
диктаторские методы восстановления нации "уроком для всех
правительств и всех политиков".62
Диктаторский режим То, что Муссолини установил в Италии
диктатуру, вряд ли кто из иностранных наблюдателей отрицал, хотя
они приводили разные причины и, прежде всего, по-разному
оценивали ее характер, цели и продолжительность.
С момента угрожающего выступления в Палате депутатов 16 ноября,
когда он заявил, что может превратить ее в "бивуак" для
чернорубашечников, диктаторские замашки лидера фашизма были
очевидны. Столь же очевидным было неоспоримое господство
Муссолини в национальном коалиционном правительстве, которое он
возглавлял, поскольку, как заметил Перно, "правительство - это
Муссолини". В последующие месяцы журналист уже не сомневался,
что "под конституционной и парламентской личиной фашистский
лидер намеревался осуществлять не собственно диктатуру, а
обширную и неоспоримую личную власть "63.
Осуществление личной власти подкреплялось использованием
государственной полиции, новой Милиции, а также господством,
которое фашисты имели в стране и продолжали укреплять
насильственными и террористическими методами. Однако
большинство иностранных наблюдателей, особенно либеральных и
демократических, были склонны объяснять осуществление диктатуры
Муссолини не призванием и волей фашизма и его дуче, а отсутствием
у итальянцев воспитания в духе свободы и практики парламентских
институтов, их готовностью очаровываться сильной личностью и
подчиняться командованию.
Перно напомнил своим французским читателям, что необходимо
"принять во внимание менталитет, "стиль" итальянского народа",
чтобы объяснить театральную привлекательность фашистского стиля,
ритуалов и символов, а также сценографии парадов, которые вызывали
атмосферу возбуждения и энтузиазма, затмевая или представляя в
выгодном свете фашистское насилие как необходимое для спасения
нации и религии отечества64.
Несмотря на страсть итальянцев к живописному, риторическому и
театральному, Перно утверждал, что "итальянским качеством par
excellence было чувство меры, практическое чувство или, проще
говоря, здравый смысл. Буйство жестов и акцентирование слов
прикрывают, а иногда и скрывают очень точное чувство, очень
холодную оценку реального, возможного и подходящего".65 Это
давало ему основания думать, что диктаторская ситуация
правительства Муссолини была преходящей, навязанной
потребностями момента, но не созданной призванием Муссолини к
диктатуре.
Более того, заключил французский журналист, было неизвестно, как
долго продержится новое правительство. Установив свою власть,
Муссолини выполнил только одну часть своей миссии, "и самую
легкую; ведь если триумф фашизма был обусловлен энергичными и
дисциплинированными усилиями полумиллиона решительных
граждан, то он также объясняется покорным скептицизмом политиков
старого режима и безразличием большинства населения". Этот
скептицизм и это безразличие, которые помогли Муссолини совершить
государственный переворот, станут помехой и препятствием для
развития его политических действий "66.
В том, что фашизм - это диктатура, которой суждено усилиться, Билз
был убежден с того самого дня, как Муссолини пришел к власти. То,
что произошло в Италии в последующие месяцы, подтвердило его
мнение, настолько, что Билз озаглавил "Фашистское государство"
последнюю часть своей книги, состоящую из одной главы:
"Диктатура".
Первые месяцы диктатуры Муссолини, писал Билз, очень напоминали
десятилетие, в течение которого Август постепенно принимал
верховную власть в Римской империи. За три месяца Муссолини
обеспечил полный контроль над финансами, сократил парламент до
удобной палаты одобрения, повысил престиж сената, но в то же время
переполнил его новыми фашистскими и националистическими
назначенцами, создал собственную вооруженную и оплачиваемую
государством преторианскую гвардию, взял под прямой контроль
армию и флот, усилил эффективность и значение существующего
полицейского корпуса, резко устранил чиновников, которые не были
явно профашистски настроены, свел все фланговые партии к статусу
чистильщиков обуви.
"Ни один человек со времен Робеспьера и Наполеона не осуществлял
такой прямой, неограниченной и всемогущей власти над народом,
потому что в России существует дуумвират, который покоится на более
или менее твердой почве коммунистической партии». Сам ОНФ с
созданием Большого совета был лишен автономии и подчинен
правительству. "Как и в случае с коммунистической партией в России,
после успеха революции фашистскому правительству пришлось
беспокоиться о характере своих приверженцев. Диктатура, будь то
правая, левая или центристская, зависит от поддержки небольшой,
жестко дисциплинированной и слепо преданной группы. Большая
часть энергии лидеров "чернорубашечников" была направлена на
создание такой группы в первые месяцы после "переворота"
Муссолини".
По мере того как Муссолини укреплял свою личную диктатуру,
продолжает Билз, фашисты расширяли свое господство в стране,
продолжая агрессию против противоборствующих партий:
социалистов, коммунистов, народников, республиканцев. Используя
насилие, фашисты заставили уйти в отставку муниципальные и
провинциальные администрации, управляемые другими партиями, и
выиграли новые выборы, запугивая оппозиционных избирателей; они
уничтожали оппозиционные газеты или препятствовали их изданию и
распространению; они нападали на политических противников, а
иногда и убивали их.
Короче говоря, - заключил Билз, - "сильное государство пришло в
Италию так, как оно всегда приходит. В течение некоторого времени
его происхождение может быть скрыто парламентской поддержкой,
фиктивными выборами, хором подневольной журналистики. Как и
любое сильное государство, оно состоит из господства воинствующего
меньшинства. Но каким бы сильным ни было это государство, Италия
все еще остается ореховой скорлупкой в бурном море Европы".68
Реалистично описав превратности фашизма после его прихода к
власти, Билз также задался вопросом: "Может ли власть Муссолини,
основанная в конце концов на меньшинстве лично преданных
вооруженных сил, но не имеющая широких экономических и
социальных основ, продержаться в современном государстве. А если
она продлится, то остается неизвестным, как он намерен использовать
свою власть".69
Для Билза значение фашизма не закончилось установлением
диктатуры в Италии, поскольку он представлял собой более общую
тенденцию. Это был поздний бунт из окопов, слепой, идеалистический
и возвышенный. В своих методах и идеях фашизм не смог подняться
над своими мутными истоками и был, по сути, вспышкой эмоций и
разочарований.
Более того, продолжал Билз, фашизм "выражал широкое
разочарование политической демократией и представительным
правительством в их нынешнем виде, а с другой стороны, был также
следствием разочарования коммунистическим милленаризмом"; это
была "националистическая реакция против правительственного и
социального хаоса Европы и Италии", целью которой было
"установление режима эффективного сотрудничества и солидарности в
промышленности и обществе". Но американец не думал, что такой
режим может быть "установлен силой теперь, когда война сделала мир
демократическим".
Выводы Билза о фашизме расширили его взгляд на Европу: "По правде
говоря, фашизм - это мутное течение, поворачивающее к неизвестному
морю будущего, будущего не только Италии, но и Европы, и курс,
который он возьмет, не будет ни линейным, ни предсказуемым.
Фашизм создал Новую Италию в старой, очень старой Европе -
Италию, запутавшуюся в порочном круге политической изоляции,
истощающихся ресурсов, финансового банкротства и растущего
милитаризма; Италию, странным образом проникнутую
иерархическим духом прусского образца, но не обладающую силой
характера, организаторскими способностями и промышленным
потенциалом, необходимыми для успешного осуществления политики
величия; Италию, которая, вопреки всякой логике, намеревается рано
или поздно атаковать закрытые ворота Средиземноморья. Это Новая
Италия, которая еще вчера была погружена в беспорядок, коррупцию,
дезорганизацию и хаос, а сегодня открыла для себя новую веру в
"право силы". Потому что фашизм опирается на эффективные штыки.
Фашизм - это новая гиря, жестоко брошенная на весы европейской
политики. Возможно, когда-нибудь мистический, эклектичный и
запутанный идеализм фашизма удастся вернуть. Но в настоящее время
Новая Италия знаменует собой новый этап на пути к общему упадку
политической демократии в Европе".70
Фашистскому режиму пришел конец
В июле 1923 года правительство Муссолини приняло новый
избирательный закон, который вводил мажоритарную систему,
согласно которой список, набравший наибольшее количество голосов,
получал две трети мест, то есть 356, а остальные 179 мест
распределялись пропорционально между списками меньшинства.
Новый избирательный закон был задуман Большим советом с целью
обеспечить парламентское большинство для Фашистской партии,
которая имела всего около тридцати депутатов в палате: таким
образом, правительство Муссолини получило бы твердое фашистское
большинство и больше не зависело бы от поддержки других партий в
парламенте.
Победа ПНФ на выборах, назначенных на апрель 1924 года, считалась
само собой разумеющейся: как заметил Робертс, "когда выборы
пройдут по новому избирательному закону, чернорубашечники будут
стоять наготове со своими пистолетами, ножами и дубинками, чтобы
гарантировать, что итальянский народ, хочет он того или нет, спасет
себя, обеспечив Муссолини эффективное большинство".71
Предсказание американского консерватора сбылось. На выборах 6
апреля фашизм получил большее большинство, чем ожидалось, но
избирательная кампания и голосование были отягощены
эскадрильским терроризмом, который продолжался и впоследствии. 30
мая депутат-социалист Джакомо Маттеотти осудил насилие,
запугивание, нарушения и мошенничество фашистов в Палате и
потребовал отложить утверждение результатов выборов en bloc. Во
время своего выступления Маттеотти несколько раз был жестоко
прерван фашистами. 10 июня депутат-социалист был похищен и убит
бандой сквадристов. Его убийство, к которому были причастны
близкие соратники дуче, нанесло сильный удар по власти Муссолини,
которая, казалось, колебалась под напором возмущения, вызванного
этим преступлением, и открыло длительный кризис, в ходе которого
антифашистские оппозиции надеялись свергнуть то, что с первых дней
после "Марша на Рим" стало принято называть "фашистским
режимом". В том, что за убийством стоит сам Муссолини, подозревали
его самого.
"Преступление, - писал Франсиско Камбо несколько месяцев спустя, -
несомненно, фашистское, а не группы, далекой от высших сфер
партийного руководства: ответственность за него возлагается на тех,
кто был одним из первых в партии, на товарищей, которых Муссолини
имел в первый час, на тех, кто сопровождал его в начале фашистского
движения, на тех, кто впоследствии постоянно следовал за ним, и кто,
придя к власти, занял посты, пользующиеся наибольшим доверием и
расположением, или был ежедневным посетителем залов дворца
Виминале "72.
Для каталонского политика попытка Муссолини пожертвовать
"непримиримо своими ближайшими друзьями", чтобы успокоить
негодование оппозиции, которая обвинила в убийстве "весь фашизм,
фашистское движение en bloc, главой которого является
правительство, а во главе правительства - Муссолини", была
напрасной, поскольку они считали это преступление "естественным
плодом цветения насилия, которое фашизм посеял по всей Италии".
Камбо написал свои мысли об убийстве Маттеотти во время переезда
через Атлантический океан, вскоре после отъезда из Италии, куда он
вернулся в начале 1924 года. В то время его оценка фашизма все еще
была положительной, поскольку он оценил преобразования,
произведенные в стране правительством во главе с Муссолини73.
Каталонский политик отметил, что в Италии люди больше не
отрицают войну, "но превозносят ее как самое славное деяние
современной Италии", потому что "в нации в целом, выше классовых
разногласий и сильно влияя на них, дыхание утвердительного
патриотизма, твердая гордость расы, преобразила итальянский народ".
Буржуазия, хотя и "угнетенная очень тяжелым бременем", платила
много и была довольна этим, потому что гордилась тем, что внесла
свой вклад в улучшение условий жизни Италии; значительная часть
массы рабочего класса была "вовлечена в фашизм, хотя большинство
все еще находилось в рамках социалистических организаций, которые
стали более осторожными". Кроме того, на международной арене,
заявил Камбо, Италия приобрела больший престиж среди великих
держав, ее боялись и к ней прислушивались: "Горе тем, кто обижает
или неправильно понимает Италию! Помните Грецию, помните
Корфу!". "Во внешней политике жест Корфу освятил престиж Италии.
Соглашение с Югославией подавило опасения по поводу Адриатики.
Соглашение с Россией открыло большие перспективы на Востоке".
Завершая свой анализ итальянской ситуации перед выборами 1924
года, Камбо писал: "Итоги полутора лет фашистского правления
таковы, что ими может гордиться любое правительство". Но после
убийства Маттеотти баланс быстро стал дефицитным, и каталонский
политик считал, что конец фашистского режима теперь неизбежен.
Муссолини ничего не может сделать, кроме как капитулировать. Он
держит себя в правительстве, потому что сегодня никто не хочет его
заменить... Муссолини потребуется месяц, год, возможно, даже больше
времени, чтобы пасть. Пока он жив, он будет оставаться важным
фактором в итальянской политике... но фашистская революция,
фашистское государство, которое должно было установить новый мир,
уже подходит к концу "74.
8. ИТАЛИЯ - РЕЖИМ
В месяцы после убийства Маттеотти многие считали, что время
фашистского режима сочтено. Это было широко распространенным
убеждением среди всех оппозиционных партий, которые 27 июня 1924
года решили больше не участвовать в парламентской работе, пока не
будет сформировано новое правительство, которое намеревалось
восстановить законность и свободу путем упразднения всех
партийных милиций. Протест, названный "Авентино", имел
моральную ценность, но не имел большого политического эффекта, и
до начала 1925 года культивировал надежду на то, что фашистский
режим, перегруженный внутренними конфликтами и всеобщим
общественным осуждением убийства Маттеотти, распадется в течение
нескольких месяцев.
Так думали и иностранные наблюдатели, такие как Франсиско Камбо,
допуская возможность того, что Муссолини сможет продержаться у
власти некоторое время, но только если он восстановит законность,
навязав уважение к закону всем, включая фашистов, распустив
Милицию и лишив свою партию права на монополию власти: другими
словами, отняв у фашизма все, что составляло его силу и суть.
Фашизм исчерпал себя
Тем не менее, каталонский политик считал опыт фашизма как
трансцендентного явления исчерпанным, то есть, в том смысле,
который он вкладывал в этот термин, как эксперимент национального
и авторитарного правления, который мог бы стать примером для
лечения слабости либерального государства, вызванной, по мнению
Камбо, чрезмерной властью парламента, в котором доминируют
антагонистические партии, неспособные выразить сильное,
стабильное правительство, способное принимать решения и
действовать решительно. Преодоление кризиса стало бы возможным
при балансировании функции парламента с усилением
исполнительной власти по модели американского президенциализма.
Другим фактором консолидации либерального государства, примером
которого могло бы стать фашистское правительство, был рост
национальных чувств в обществе, что позволило бы сдержать
антагонизмы, порожденные различиями и конкуренцией между
политическими силами, осознав их ответственность за общее благо
нации.
Камбо видел в фашизме движение утверждения национального
самосознания, а в Муссолини - политика, способного восстановить
авторитет, престиж и решительность исполнительной власти: поэтому
он положительно оценивал фашизм, указывая его в качестве примера
для испанского государства, которое с 1923 года управлялось военной
диктатурой генерала Мигеля Примо де Ривера.
Но то, что произошло с убийством Маттеотти, показало реальность
диктатуры, которая добивалась своей консолидации с помощью
насилия на религиозной почве, и поэтому была неспособна перейти на
более высокий уровень, провести институциональные реформы,
которые укрепили бы национальное государство без подавления
демократического представительства. Поэтому для Камбо фашистский
опыт закончился трагическим провалом.
Еще до убийства Маттеотти 25-летний немецкий журналист-марксист
Ханнс-Эрих Камински, находившийся в Италии с 1922 по 1924 год и
наблюдавший зарождение и развитие фашизма вплоть до его прихода к
власти, пришел к тем же выводам, что и каталонский консерватор, хотя
и с противоположными идеологическими убеждениями и с абсолютно
негативным мнением о фашизме. Летом 1923 года он уже подготовил
книгу о движении Муссолини, которая осталась в ящике из-за
трудностей на немецком издательском рынке. Он опубликовал ее в
1925 году под названием Fascismus in Italien. Grundlagen. Aufstieg.
Niedergang (Фашизм в Италии. Истоки, подъем, упадок), не меняя
того, что он написал ранее, потому что, как он заявил в предисловии,
написанном в начале 1925 года, "фашизм во всех его существенных
аспектах не изменился "1.
Целью книги было объяснить немецким читателям особенности новой
формы реакционного движения посредством расследования,
проведенного в путешествии с севера на юг полуострова, причем
отношение было отнюдь не беспристрастным, поскольку, как заявлял
автор, "мое сердце бьется за все ценности, которые фашизм попирает
ногами, все мои чувства - за убитых, замученных, заключенных,
возмущенных и жертв террора, которые борются и страдают за
возвышенные идеалы свободы, справедливости и процветания". 2 К
тексту 1923 года Каминский добавил главу, написанную в феврале
1924 года, и послесловие, написанное в Париже годом позже, а также
перевод памфлета Джакомо Маттеотти "Год фашистского господства",
который убитый депутат опубликовал в конце 1923 года.
В начале 1924 года Камински с оптимизмом смотрел на скорый конец
режима, поскольку внутренние контрасты в фашизме казались более
острыми, а оппозиция значительно восстанавливалась. Итальянская
ситуация казалась неизменной, поскольку диктатура оставалась
"жестокой и террористической, реакционной и дилетантской", но
немецкий журналист отметил, что вместо этого в неблагоприятном для
фашизма направлении меняется общеевропейская ситуация: в Англии
лейбористы были в правительстве, во Франции укрепились
социалисты и коммунисты, в Испании военная диктатура Примо де
Ривера теряла позиции; Советская Россия, признанная теперь всеми
великими державами, становилась все сильнее; наконец, Германия,
решив вопрос о военных репарациях с помощью плана Дауэса, могла
теперь более урегулированию внутренних проблем3.
Эти "многообещающие признаки" позволяли журналисту надеяться на
возрождение левых сил в Италии, что приведет к провалу фашизма,
который он рассматривал как реакционное движение, лишенное
политической и социальной последовательности, возникшее почти из
импровизации и способное навязать себя только с помощью насилия.
Только метод
Фашизм, утверждал Каминский, родился не из комплекса идей, не из
желания удовлетворить конкретные потребности, а исключительно из
реакционного недовольства массы националистически настроенных
мелких буржуа, искавших лидера, который мог бы противостоять
наступлению пролетариата4. "Масса, особенно в Италии, хочет
поклоняться", и в Муссолини масса мелкой буржуазии нашла своего
лидера: "У социалистической революции его не было: Ленин был
далеко, Муссолини был там: дуче, человек с "львиным лицом" и
"наполеоновским" взглядом, человек, в котором, кажется,
кульминирует весь фашизм". Смехотворное идолопоклонство" перед
Муссолини, подпитываемое фашистской пропагандой, проистекало из
"искренней наивности, но также из размышлений, которые нельзя
назвать глупыми, а именно, что можно обойтись без идеи и
программы, если удастся привлечь внимание к фигуре диктатора".5
Для Камински Муссолини был не только лидером фашизма, но и сам
был фашизмом: "У фашизма нет ни содержания, ни цели: Муссолини -
его содержание и цель. И для Муссолини фашизм - лишь средство для
его восхождения, которое он может отбросить в любой момент, если
больше не считает его необходимым для своих целей".6
Журналист знал Муссолини, поскольку брал у него интервью в
Берлине весной 1922 года. Уже тогда у него сложилось впечатление,
что это был комик. Во время интервью он спросил его о его позиции в
отношении монархии, и Муссолини ответил, что он представляет себе
аристократическую республику, примерно по образцу Венецианской
республики. Затем, увольняя его, Муссолини подарил ему пачку
брошюр и свою фотографию. Камински рассказал, что показал
фотографию нескольким людям и спросил, кем они его считают, и
ответы были единодушны: тенором или киноактером. Для немецкого
журналиста не было сомнений: Муссолини был "комиком", который
оценивал каждый свой поступок "в зависимости от эффекта", "всегда
ждал аплодисментов и был готов проституировать, чтобы ему
польстили". Но это был комик с умом, тщеславием и амбициями,
полный энергии и беспринципный: "Он стремится к успеху любой
ценой". Вот кто такой Муссолини".7
Фашизм, по мнению Каминского, полностью сводился к установлению
личной диктатуры, даже если он и претендовал на воплощение воли
нации через идеологию, представляющую собой смесь
"национального социализма, истерического империализма,
романтической теократии", без концепции общества и государства,
кроме ненависти к социализму, презрения к либерализму и
демократии, а также превознесения силы и иерархии. В этом, заметил
Каминский, фашизм полностью отличается от большевизма, который,
несмотря на свои ошибки и преступления, имел идею, этику, культуру.
"Что есть у фашизма вместо этого? Давайте возьмем две жемчужины
из его сокровищницы: это, конечно, "миф", но без реальной основы;
"религия", но без этики; "вера", но без верности. В действительности
фашизм - не более чем великий авантюрист. Вчера он маскировался
под защитника величия нации против большевизма. Сегодня, спасши
отечество от большевизма, он маскируется под силу, которая делает
все красивым и привлекательным: за маской скрывается лишь тупая и
оскорбительная реакция "8.
Родившись как инструмент для реализации амбиций небольшой касты
теневых деятелей, которые хотели увековечить дух войны и борьбы с
большевизмом, победив пролетариат при поддержке мелкой буржуазии
и благосклонной терпимости капитала, фашизм стал "иерархической
диктатурой", о снованной на насилии. "Фашизм - это абсолютно не
идея, это метод. Метод антидемократического, антипарламентского
насилия".9 Только как диктаторский метод, заметил Камински, фашизм
имеет родство с большевизмом: родство, о котором "сам Дуче ...
открыто заявляет "10.
Фашизм и большевизм
Наблюдение о родстве между большевизмом и фашизмом не было
новым. Некоторые упоминания об их сходстве уже были сделаны
Моурером, Алазардом, Хазардом и Перно. Более тщательное
осмысление их сходства было сделано Камбо, который в 1924 году
заметил, что "из всех революций, произошедших в Европе за
последние годы, единственными, на которых было сосредоточено
внимание всего мира, были большевистская и фашистская
революции... И даже те, кто не видит этого, чувствуют, что то, что
произошло в Италии и России, представляет интерес не только для
русских и итальянцев, но и для всего мира, поскольку имеет
общечеловеческую, универсальную ценность".11
Камбо нашел "поразительное сходство" между большевизмом и
фашизмом. Оба они отрицали народный суверенитет, приписывая
власть меньшинствам, "которые своей дерзостью, своим героизмом
заслужили право управлять другими": "В России, как и в Италии,
сегодня правят не от имени всего народа, как велит демократическая
идеология, а от имени партии, которая пришла к власти, провозгласив
идеал и пройдя путь героических и кровавых усилий".12
Однако, помимо сходства между двумя диктатурами, Камбо обнаружил
существенные различия между лидерами двух движений, которые не
могли не отразиться в основанных ими режимах. Ленин был
"доктринером, непримиримым, непримиримым", создателем
"идеологии партии, касты, секты", которая даже после его смерти
продолжала "вдохновлять и направлять сам большевизм" своей
"неумолимой непримиримостью". Муссолини был
"противоположностью идеолога, доктринера". Между Лениным и
Муссолини лежит целая пропасть, которая отделяет славянский мир от
латинского": "В одном преобладает гордость, в другом - тщеславие.
Один вел бы бешеную жизнь, посвященную своему идеалу, даже если
бы не мог ни говорить, ни писать: другой не говорил бы, если бы не
имел слушателей, не писал бы, если бы не имел читателей, не
занимался бы политикой, если бы не имел убежденности в победе".
Вот почему Муссолини в своих действиях стремится, прежде всего, к
результату. Идеи не являются для него целью, они - средство
достижения цели... Муссолини без колебаний жертвует программой,
формулой, которые для него ничто, ради действия, силы, триумфа,
которые для него - все "13.
Для Каминского эти два режима были принципиально разными по
своему устройству и функциям, потому что если большевизм был
диктатурой класса для реализации социалистической теории, то
фашизм был "диктатурой человека, который не имеет теории и на
практике следует старой политике". Кроме того, большевизм намерен
использовать насилие только как средство, но его цель - свобода, тогда
как Муссолини, наоборот, заявляет, что свобода - это не цель, а только
средство. Большевизм знает и говорит, чего он хочет, в то время как
фашизм никогда не говорил, чего он на самом деле хочет, и, по правде
говоря, не знает. Возможно, большевизм - это всего лишь эксперимент,
но никто не может отрицать, что это эксперимент, продиктованный
идеей. Фашизм, с другой стороны, является лишь экспериментом
амбиций одного человека".14
Диктатура с глиняными ногами
Для марксиста Каминского фашизм не был даже "диктатурой класса",
поскольку, по его словам, капиталисты и мелкая буржуазия
"делегировали осуществление своей власти одному человеку, явно
неофициально, когда они были в затруднительном положении, наделив
его только государственной фразеологией и исполнительной властью",
но были готовы избавиться от него, если он не выполнит их
желания.15. Более того, журналист был уверен, что внутренние
конфликты в ПНФ и растущее осознание оппозицией необходимости
борьбы с фашизмом ускорят конец диктатуры Муссолини.
Тирания - это всегда колосс с глиняными ногами", - написал Камински
в начале последней главы, озаглавленной "Конец фашизма". У
диктатуры Муссолини глиняные ноги прежде всего потому, что она
контрастировала с общим ходом европейской истории в предыдущем
столетии, которая произвела "столько борьбы за свободу... и пролилось
столько крови мучеников": вся европейская история последних ста лет
потеряла бы смысл, если бы "самый просвещенный век долго терпел
диктатуру одного человека в большом государстве". И это, как отметил
Камински, было особенно верно для Италии, "чей живой народ всегда
готов возобновить опыт своих многочисленных восстаний".16
Немецкий журналист считал конец фашизма неизбежным, поскольку
диктатура Муссолини не имела предпосылок для длительной
стабильности. Используя новый термин, придуманный
антифашистами для определения системы власти, созданной НФП,
Камински объяснил, что фашистский тоталитаризм невозможен,
"потому что он не основан на каком-либо четко определенном классе.
Средний класс, это бесхребетное образование, недостаточно един в
своих интересах и чувствах, чтобы быть в состоянии поддерживать
стабильность правительства".17 Что касается капиталистов, Камински
считал, что они не желают принимать личную диктатуру: основные
газеты северной буржуазии критиковали авторитарную, дилетантскую
и беспорядочную политику Муссолини; буржуазия хотела иметь
"технически хорошо функционирующее" правительство18.
Каминский написал последнюю главу своей книги в феврале 1924
года. То, что произошло в последующие месяцы, включая убийство
Маттеотти, укрепило его убеждение в том, что дни фашистского
режима сочтены. В послесловии, написанном 13 февраля 1925 года, он
настаивал на прогрессирующей изоляции Муссолини: союзники
отступают, фашистские массы распущены, оппозиция требует головы
дуче, считая его главным виновником убийства депутата-социалиста, а
буржуазное общественное мнение больше не очаровано молодым
премьер-министром. "Великий человек, который фотографировал себя
три раза в день, который тщетно выступал перед своей нацией и
миром, который предал идеи своей юности и не верил ни во что, кроме
насилия: Муссолини сегодня один».
Тоталитарный поворот, объявленный речью, произнесенной в Палате
депутатов 3 января 1925 года Муссолини, который был вынужден
подчиниться инициативе фашистских экстремистов, был для
Каминского последней попыткой добиться "меттернихианской
реакции". Но он был убежден, что преступления, в которых был
виновен фашизм, теперь вновь пробудили "в сердцах итальянцев"
стремление к свободе: "Итальянский народ борется сегодня за свою
свободу, а поскольку по своему характеру и истории он может жить
только как свободный народ, он, по сути, борется за само свое
существование "20.
Итальянцы, демократы веры
Веру Каминского в любовь итальянцев к свободе разделял
американский социалист Чарльз Эдвард Рассел, который в возрасте
шестидесяти четырех лет захотел поехать в Италию, чтобы
посмотреть, что произошло после прихода фашизма к власти. "В
Италии, на родине нашей цивилизации, произошла революция, - писал
он в апреле 1925 года, - и чтобы узнать правду об этом редком
событии, необходимо совершить поездку в Италию и провести
собственное расследование "21. К такому расследованию
американского социалиста подтолкнуло его отвращение к
прославлению Муссолини в британской и американской прессе,
которая изображала его как "восхитительного колосса нашего
времени". Британская пресса называла дуче "спасителем Италии",
призывая другие страны найти своего собственного Муссолини, чтобы
вывести их из кризиса.22 Демократическая Америка любила
Муссолини, потому что он был суровым, быстрым, свободным
правителем, который восстановил порядок в своей стране, дал ей
замечательное, хотя и смутное, процветание и сделал ее безопасной и
великой.23 "В нем, - саркастически заметил Рассел, - мы видим то, что
нужно миру для ведения своих дел: железную волю и решительную
силу человека..." . Для его апологетов не имеет значения, что
Муссолини, если рассматривать его в самом благоприятном свете, все
же сверг правительство, избранное народом, чтобы вернуться к
абсолютизму XVI века, потому что он все же восстановил
стабильность в Италии, укрепил лиру и улучшил бизнес. Да
здравствует Муссолини!".24
Это изображение Муссолини, по мнению Рассела, было
демонстрацией того, как легко было "в третьем десятилетии
двадцатого века сфабриковать воображаемого человека, приписать ему
воображаемые подвиги, написать о нем массу фантастических историй
и навязать миру массу этих мошеннических выдумок", заставив людей
поверить, что "безответственная диктатура принесла итальянцам
преимущества, которые они никогда бы не получили от любой другой
формы правления". В США и Англии поверили, что после периода
хаоса и анархии, развязанного большевизмом, с которым героически
боролся фашизм, "как только Муссолини принял командование,
разбитый государственный корабль был приведен в порядок,
беспорядки прекратились, верховенство закона было восстановлено, и
все стало налаживаться»25.
"Замечательна сила пропаганды", - прокомментировал Рассел,
продолжая показывать, как в Италии правительство Муссолини вовсе
не восстановило порядок, а наоборот, "значительно усилило
беспорядок" из-за беззакония фашистов и их насилия над членами
парламента, профсоюзами, кооперативами, оппозиционными партиями
и газетами: вместо мира "было установлено господство террора,
которое продолжается до сих пор". Чернорубашечники жестоко
избивали и убивали всех, кто выступал против правительства или
критиковал его, с одобрения крупных финансовых и деловых кругов,
которые дали Муссолини чрезвычайную власть. Но с приходом
Муссолини к власти "худшие подвиги Ку-клукс-клана со времен
гражданской войны в Америке были превзойдены в Италии
удивительным возвращением к варварству": "В сотнях городов штаб-
квартиры профсоюзов были взяты штурмом, сожжены или
разграблены, работников вытаскивали ночью из постелей, избивали,
ужасно избивали и изгоняли из домов под угрозой смерти. Полиция
искала виновных там, где не могла их найти, как и карабинеры,
которые когда-то были гордостью законопослушной Италии".26
Рассел привел самые чудовищные эпизоды фашистского насилия,
такие как резня в Турине в конце декабря 1922 года, когда эскадрильи
хладнокровно убили дюжину политических противников и простых
людей, но остались безнаказанными.
Однако, несмотря на режим террора, навязанный противникам, Рассел
утверждал, что были миллионы итальянцев, которые не склонились
перед фашизмом. Сопротивление антифашистской оппозиции
доказало, что "в мире нет народа, который бы сильнее верил в
демократию, чем итальянцы", несмотря на то, что они управлялись
неэффективной и неадекватной демократией: "История
восхитительной и непревзойденной пятидесятилетней борьбы за
свободу Италии - это то приобретение, которое им дороже всего". В
доказательство этого Рассел напомнил, что избирательная реформа,
принятая правительством Муссолини, чтобы гарантировать
фашистской партии надежное парламентское большинство, прошла в
1923 году 232 голосами против 123, и что на выборах в апреле 1924
года, несмотря на фашистский террор, более двух с половиной
миллионов избирателей проголосовали за антифашистские партии.
Серия преступлений, совершенных фашистами против своих
противников, достигла кульминации после убийства Маттеотти,
депутата-социалиста, пролившего свет на "огромное количество"
коррупции, которая накапливалась в Риме в течение полутора лет:
"Таким образом, общественность начала узнавать правду о
правительстве, несмотря на цензуру и террор, и правительство
Муссолини заметно пошатнулось под ударом". 27 Все средства,
использованные для того, чтобы заставить замолчать оппозиционную
прессу, оказались напрасными, поскольку любой, кто путешествовал
по Италии в то время, по свидетельству Рассела, "ясно ощущал, что
конец диктатуры не за горами".
явно против него". Единственный вопрос заключался в том,
произойдет ли конец диктатуры без гражданской войны. Даже
Муссолини начал говорить об отставке: "Пока я был в Италии, общее
негодование против него было настолько велико, что никто не
удивился бы ничему, что с ним случилось бы, потому что он совершил
или позволил своему правительству совершить то, что в глазах
итальянцев было самым тяжким из преступлений: отрицание духа
итальянской революции, предательство традиций Маццини".28
Итальянские массы, продолжал Рассел, приняли Муссолини как
инструмент восстановления порядка и возрождения национального
престижа, а не как "разрушителя свободы, за которую итальянские
патриоты заплатили памятную цену". Вместо этого Муссолини
перепутал необходимость момента со своим личным величием и,
"вместо свободы и демократии, читал итальянцам мучительные речи о
замене прав обязанностями". Но теперь, по мнению американского
социалиста, итальянцы поняли, что "за его напыщенными речами
скрывается коррумпированная и жестокая деспотия": "Никто, кто знает
Италию, не даст больше шести месяцев жизни абсурдному
эксперименту правительства Муссолини, несмотря на избирательные
законы, составленные в его интересах, указы о кляпах, фашистских
янычарах и огромную власть реакционной прессы, которая его
поддерживает". Подобно тому, как вода не идет в гору, а эволюция не
идет вспять, - заключил Рассел, - "автократия по-прежнему является
врагом человечества, демократия - путь вперед". Это верно как в
Италии, так и в других странах".29
Патриот, а не диктатор
Несмотря на веру Каминского и Рассела в любовь итальянцев к
свободе, завоеванной благодаря Рисорджименто, ни в месяцы после
убийства Маттеотти, ни после речи Муссолини 3 января 1925 года не
было восстания против фашистского правительства. Не было
восстаний и в последующие двадцать один месяц, в течение которых
фашизм довел антифашистские партии до бессилия и укрепил свою
власть. За рубежом, несмотря на некоторую озабоченность
экспансионистскими и империалистическими прокламациями дуче и
фашистской прессы, режим продолжал пользоваться симпатией
общественного мнения и умеренных и консервативных правительств
западных стран, в то время как в Италии правительство с недоверием
относилось к иностранным корреспондентам, которые рассказывали
читателям своих газет правду о насилии и преступлениях фашистов и
преследовании противников. За свои репортажи об убийстве
Маттеотти американский журналист Джордж Селдес, корреспондент
"Чикаго Трибюн", был выслан из страны в июне 1925 года.30
Но уже в 1923 году Эдгар Моурер добровольно и окончательно
покинул Италию, прожив там семь лет с критической любовью к
итальянцам. "Фашистское правительство, - писал он позже в своих
мемуарах, - было счастливо избавиться от меня." Но редактор
дружественной газеты рисковал получить хорошую порцию
касторового масла за щедрое упоминание "точной картины, которую
Эдгардо Моурер дал не только о военных усилиях Италии, но и о
"трудных годах восстановления", добавив доброе слово о
"Бессмертной Италии"".31
В то время как Селдеса изгоняли, а социалист Рассел осуждал пышные
похвалы Муссолини в британской и американской прессе, бывший
американский посол в Риме Ричард Уошберн Чайлд покинул свой пост
в 1924 году и в 1925 году опубликовал мемуары, в которых
содержались длинные главы, восхваляющие Муссолини и фашизм.32
Чайлд рассказал о своих отношениях с Муссолини до и после "Марша
на Рим", цитируя страницы из своего дневника, посвященные дням
прихода фашистов к власти. Таким образом, американские и
британские читатели узнали некоторые предпосылки "Марша на Рим".
Посол присутствовал на митинге фашистов в Неаполе и отметил, что в
тот момент Муссолини все еще не знал, что произойдет: участие
фашистов в коалиционном правительстве под председательством
старого либерала или восстание чернорубашечников с целью захвата
власти. Более того, вспоминал Чайлд, Муссолини был встревожен
массой новых людей, присоединяющихся к фашистам больше из
оппортунизма, чем из энтузиазма, и предупреждал, что другие
фашистские лидеры стремятся соперничать с ним, настаивая на
крайних действиях. Затем, возвращаясь в Милан из Неаполя,
Муссолини остановился в Риме, чтобы встретиться с американским
послом, который заверил его, что его правительство благосклонно
смотрит на рост фашизма.
Повествование Чайлда продолжилось победой Муссолини, парадом в
Риме после его назначения премьер-министром, восторгом самого
посла по поводу "радостной и бескровной революции", его встречей с
лидером фашизма, который пришел поприветствовать его как премьер-
министра, и началом строительства нового государства.33 Для Чайлда
фашизм был патриотическим движением, направленным
исключительно на благо нации, которое привело к власти новую
Италию бойцов, молодежи и производительной энергии. Хвастаясь
тем, что он был знаком с Муссолини до своего назначения на пост
премьер-министра, Чайлд уверял своих читателей, что считал себя не
диктатором, "а патриотом, и что его высшей целью, когда он взял в
руки пластичную материю хаоса, было создание государства, которое
было бы не просто бюрократической машиной, но было бы
одушевлено единым национальным духом, таким, чтобы ... чтобы
пробудить в народе верность и преданность с почти мистической и
религиозной привлекательностью".34
Баланс первых двух лет правления Муссолини был полностью
положительным для бывшего посла, который в своем рассказе
утверждал, что придерживается только фактов. Но его воспоминания
заканчивались без единого упоминания о насилии и преступлениях,
совершенных фашистами против своих противников с целью
получения монополии на власть: убийство Маттеотти даже не
упоминалось. И в последующие годы в Соединенных Штатах Чайлд
продолжал восхвалять Муссолини и фашизм и добивался публикации
в своей стране автобиографии дуче, написанной по правде его братом
Арнальдо и отредактированной самим Чайлдом, опубликованной в
1928 году, когда "патриот", отменив все политические и гражданские
свободы, бесспорно стал диктатором35.
Жесткая диктатура
В течение 1925 года фашистское правительство начало принимать ряд
законов, подавляющих политические и гражданские свободы, а
полицейские репрессии и насилие со стороны отрядов все больше
осложняли жизнь и выживание оппозиционных партий и газет. Более
того, передав 13 июня 1924 года Министерство внутренних дел
националисту Луиджи Федерцони, чтобы успокоить монархию, 12
февраля 1925 года Муссолини заставил Большой совет назначить
Роберто Фариначчи, признанного лидера непримиримых фашистов,
генеральным секретарем ПНФ, который еще со времен "Марша на
Рим" выступал за необходимость революционной "второй волны" для
полного завоевания государства фашизмом. В конце 1925 года, 24
декабря, правительство приняло закон о полномочиях и прерогативах
главы правительства, который положил конец парламентской системе,
поскольку власть исполнительной власти была усилена настолько, что
премьер-министр больше не был подотчетен парламенту. Таким
образом, Муссолини, как глава правительства и дуче фашизма,
укрепил свою личную диктатуру. Он лишил страну свободы и всего
того, что делает общую жизнь достойной жизни". На третий год его
правления Италия представляет собой молчаливый и тенистый мир,
где люди боятся появляться на улицах в компании правды "36.
Так британский радикальный журналист Уильям Болито описывал
ситуацию в Италии в 1925 году. Как и Рассел, Болито тоже хотел
побывать в Италии, чтобы получить представление о реальном
положении дел в стране и опровергнуть ложь сторонников Муссолини
за рубежом и фашистской пропаганды. Путешествуя из одного конца
полуострова в другой, журналист смог составить "длинный список
злодеяний Муссолини и его последователей: тысячи избиений и
жестокостей всех видов, таких как навязывание подстригания бороды
и унизительная и непристойная пытка касторовым маслом, сотни
произвольных убийств и тюремных заключений".
Этими средствами фашистской диктатуре удалось сделать Италию
"эффективно умиротворенной", в том смысле, что "на полуострове не
тлеет ни одного серьезного восстания". Тоталитарные" методы держат
Италию под контролем: больше нет даже всеобщего возмущения,
потому что цензура в прессе поддерживает молчание о местном
насилии". Например, пишет Болито, в Палермо люди не знали, что во
Флоренции в октябре 1925 года эскадрильи расправились с
пятнадцатью людьми во время акции возмездия, а также разграбили и
подожгли дома антифашистов или тех, кого считали таковыми. Однако,
отмечал журналист, фашисты "не стыдятся насилия. Насилие - это суть
идеи, провозглашенной и исповедуемой фашизмом, подлинное ядро
"новой религии", которую Муссолини теперь провозглашает своей
основой": для фашизма жестокость и насилие стали догмой37.
Для британского журналиста насилие было главной новинкой
фашистского режима по сравнению с предыдущими правительствами
либеральной эпохи. Если социальный класс, извлекавший выгоду из
власти в Италии, был уникальным и всегда одним и тем же, то с
фашизмом изменился инструмент для ее осуществления.
Предшественники Муссолини, такие как Депретис, Криспи, Джолитти,
использовали коррупцию, чтобы доминировать; лидер фашизма,
помимо коррупции, использовал револьвер и дубинку.38 Это, по
мнению Болито, было единственным важным отличием Италии,
управляемой Муссолини, от Италии, управляемой либералами. Но тот
же журналист противоречит этому утверждению, когда описывает "три
простых средства", используемых фашизмом для установления
диктатуры: "цензура, запрет на ассоциации и организация уличного
насилия. Успех, достигнутый этими средствами, является первым
важным уроком фашизма для остального мира", показывая, что "в век
танков и беспроволочного телеграфа управлять государством легче,
чем в Средние века".39
Архитектором фашистского завоевания государства был Муссолини,
способный и успешный политик, потому что он был беспристрастным,
без теорий, без принципов, без идеалов; он действовал,
приспосабливаясь к обстоятельствам и воплощая идеи, которые были
ему полезны в то время, чтобы достичь успеха, к которому его вело
честолюбие. "Он следует за своей счастливой звездой, мгновенно
приспосабливаясь к событиям... Одна из сторон его обаяния - жить в
стиле великого игрока, по системе, которую он разрабатывает по ходу
дела, следуя за своей фортуной".40 У Болито было много
возможностей увидеть Муссолини, когда он возбуждал толпы
обожающих его фашистов, и у него сложилось впечатление больного
человека, от которого, тем не менее, исходила магнетическая сила,
"выходящая далеко за пределы его голоса". Болито вспоминал, что
некоторые враги Муссолини говорили ему, что его невозможно
победить, потому что он "постоянно меняет свои решения", но
журналист признавал наличие постоянного мотива в карьере дуче:
"стремление к власти и популярности "41.
Дуче и рас
Политика Муссолини по подчинению Италии своей диктаторской
власти, по мнению Болито, состояла из нескольких этапов: Первый,
сразу после "марша на Рим", был "нормализацией", т.е . попыткой
"прийти к соглашению со старыми партиями и старыми носителями
власти, чтобы быть принятым мирно, чтобы легитимировать себя как
равного им и быть принятым как их лидер"; но эта тактика
провалилась после убийства Маттеотти и кризиса, который последовал
до января 1925 года, когда началась фаза "тоталитарного подавления, с
помощью которого Муссолини уничтожил всю организованную
оппозицию". 42
К тому времени, когда журналист отправился в Италию, началась
новая фаза, в ходе которой Муссолини боролся с мятежными рядами
своей собственной партии и лидерами провинциального фашизма, так
называемыми "ras", на которых, как писал Болито, "органически
основывалась фашистская власть", власть, которую "ras" осуществляли
над полицией, местными администраторами, магистратами, жизнью и
судьбами других граждан. Рас, которые насаждали "частную тиранию"
на местах, будучи признанными лидерами сквадристов, происходили в
основном из ранних фашистов, развязавших насилие против
пролетарских организаций, но некоторые из них, отмечал Болито,
были бывшими коммунистами, обращенными в фашизм, которые были
одинаково "дома как в диктатуре пролетария, так и в диктатуре
пролетариата "43.
Правление фашистской партии в Италии в значительной степени
основывалось на силе ras и их вооруженных отрядов, несмотря на
создание MVSN, который Муссолини хотел сосредоточить под своим
контролем вооруженную организацию партии. От ras требовалось
"абсолютное повиновение", восхваляемое под "благозвучным
названием иерархии", но они, или, по крайней мере, наиболее
влиятельные из них на местном уровне, такие как ras Кремоны Роберто
Фариначчи, нелегко приспособились подчиняться Муссолини,
признавая его абсолютным и бесспорным дуче, и не были готовы
отказаться от насилия, не считаясь с общественной силой, чтобы
уничтожить любого, кто осмелится выступить против них, даже если
это были фашисты. "Этот вид насилия, - писал Болито, - широко
распространен по всей Италии и черпает вдохновение и пример из
диктатуры самого Муссолини, который теперь кажется запуганным
своими учениками. Его диктатура намерена использовать насилие
более систематически". В начале, на этапе нормализации, Муссолини
пытался сделать свою тиранию "как можно более незаметной", прося
раши максимально ограничить их власть, но сам он без колебаний
использовал насилие тайной организации, так называемой "ЧК",
которая совершила убийство Маттеотти. А сам Муссолини после 3
января был вынужден призвать к руководству партией Раса
Фариначчи, пользовавшегося большим авторитетом среди
сквадристов.
Будучи генеральным секретарем ПНФ с февраля 1925 по март 1926
года, ras из Кремоны сыграл решающую роль в превращении
правительства Муссолини в однопартийный режим, на что он надеялся
со времен "Марша на Рим". Среди молодых лидеров фашизма
Фариначчи, наряду с Итало Бальбо, больше всего привлекал внимание
иностранных наблюдателей. Испанский писатель Хуан Чабас, который
знал Фариначчи в то время, "на пике его славы", нарисовал его
эффективный портрет в книге, опубликованной в 1928 году, описав его
как молодого человека, которому на вид было не более тридцати пяти
лет, "полного физической энергии, высокого роста, крепкого
телосложения, широкоплечего, в черной рубашке, как победитель
скачек..." . Его история проста: железнодорожный служащий в
Кремоне, он оказал фашизму очень эффективную поддержку в самые
трудные моменты революционной борьбы за завоевание власти. Он
руководит газетой "Cremona Nuova", которая является органом
наиболее агрессивной массы фашистской партии и составляет
идеологический багаж сквадризма.
Импровизированная культура. Ловкий и крепкий, он появляется и
уходит в народ из города в город, готовит выборы, организует
конгрессы, своим декламаторским тоном разжигает бешеную агрессию
всех фашистов. Он обладает легким, теплым, инстинктивным словом,
которое ему полезно, чтобы внезапно вызвать на площадях тот мутный
энтузиазм, который вызывает в массах немедленное единодушие.
Лишенный культуры, фактически враг культуры - в одной из речей он
сказал, что культура или университетская карьера - это лишь способ
заработать на жизнь и огрубить свою душу, - Фариначчи вместо этого
одарен беспринципными действиями и слепой динамикой
противостояния "44.
Наслаждаясь харизматическим превосходством над широкими
массами фашистов, будучи убежденным, что секретарь партии
находится на одном уровне с премьер-министром и как лидер партии
имеет автономную власть от правительства, Фариначчи часто
оказывался в конфликте с Муссолини, более того, как заметил Чабас,
"во времена Фариначчи Муссолини казался второстепенной фигурой
"45.
На посту секретаря ПНФ кремонец проводил эффективные,
решительные и жесткие действия, "суперфашистские", по
определению испанского писателя, с помощью которых он стремился
укрепить партийную организацию после роспуска, вызванного
преступлением Маттеотти, и дисциплинировать боевиков, продолжая
при этом преследование антифашистов эскадрильскими методами и
кровавыми репрессиями. Для выполнения этих задач, по словам
Болито, "Фариначчи обладал настоящим талантом".46
Тюремщик Дуче
При содействии секретаря ПНФ в течение 1925 года Муссолини
укреплял свою личную власть, расширяя и укрепляя тоталитарную
монополию фашистской партии. Страна подвергалась все более
жесткому контролю. Для Болито Муссолини казался "надзирателем
тюрьмы, полной каторжников", в которую сажали всех, кто не
соглашался с ним. Но именно это, заметил журналист, и было
доказательством того, что дуче не пользовался широким консенсусом
среди итальянцев, как можно было бы предположить по "огромным
толпам, которые посещали фашистские церемонии и встречи с дуче,
где бы он ни находился", потому что иначе нельзя было бы понять,
если бы консенсус был широким, необходимость вводить цензуру в
отношении общественного мнения, вместо того чтобы позволить ему
свободно выражать себя47. Вместо этого, утверждал Болито,
Муссолини "боялся прежде всего прессы", поэтому он решил подавить
любой голос, выступающий против правительства и фашизма или
просто критикующий их,48 и поэтому не только принял закон,
отменяющий свободу прессы, но и распространил свой контроль на
корреспондентов иностранных газет.
Подавлением оппозиционных газет Муссолини преподал, пусть и
непреднамеренно, свой "лучший урок", потому что он показал, что
если свобода прессы мертва, то современное государство может свести
население к молчанию и бесправию.
Тюремное государство
Созданный для борьбы с большевизмом и организациями
пролетариата, после захвата власти и установления диктатуры фашизм
издал указ о прекращении права на забастовку и роспуске
нефашистских профсоюзов. Это решение, иронично заметил Болито,
было обещанием, которое фашизм сдержал. По его словам, положение
итальянского рабочего было хуже, чем положение любого другого
рабочего в любой стране к западу от России, потому что в Италии у
него не было права на забастовку или использование своей
организации для получения минимальной зарплаты или повышения
зарплаты. Таким образом, миллионы рабочих были "низведены до
такого рабства, равного которому нет в Европе с начала
индустриальной эпохи". Миллионы рабочих, к которым принадлежали
большинство павших в Великой войне, возвеличиваемых фашизмом,
были лишены "даже старого права, признаваемого самыми худшими
бандитами, - права выкрикивать свой протест... Это нестабильная
ситуация", - заключил Болито.
И все же, несмотря на нестабильную ситуацию, журналист не показал,
что считает фашистский режим в опасности: оппозиция была сведена
к бессилию и молчанию, а "Авентино" ныне распущенных
антифашистских партий не имело реального эффекта, в то время как
против их лидеров свирепствовали полицейские репрессии и
преследования эскадронов. Путешествуя по Италии 1925 года, Болито
встретил несколько групп противников, но редко сталкивался с
заговорщиками: на самом деле это были "небольшие подпольные
группы, которые распространяли новости и запрещенные книги и
вместе заявляли о своей ненависти к режиму, затаив дыхание, на
общем журнальном столике. Есть и более молодые, которые прячут
револьвер. У некоторых из них может возникнуть искушение зайти так
далеко, чтобы совершить убийство. Но для всех страховых компаний
жизнь Муссолини находится в такой же опасности, как и жизнь
бывшего кайзера". Журналист встречал антифашистских политиков и
писателей, которые не сдавались, но и не могли активно
сопротивляться. Многие другие, как Нитти, покинули страну и
поддерживали переписку с теми, кто остался, но больше для того,
чтобы их пожалели, чем для заговора.
Более того, Болито не видел возможности восстания: "Правительство,
подобное тому, которое мы видим сегодня в Италии, может быть
уверено, что ему нечего бояться, тем более народного восстания,
поскольку у него есть танки и пулеметы. Времена баррикад прошли".
Кроме того, добавил журналист, возможность всеобщего восстания
была исключена из-за подавления основных газет и отсутствия
лидеров среди сторонников антифашизма. Некоторые находились в
изгнании, например, Нитти в Париже и Дон Луиджи Стурцо,
"итальянский Ганди", как называл его Болито, в Лондоне; в Италии
был Джолитти, но "он был стар и дряхл, без последователей и без
достаточного морального авторитета"; в Риме был Джованни
Амендола, "которого били дубинкой столько раз, что он почти умирал,
и каждый день ему угрожала смерть: строгий, суровый человек,
который не позволял себя напугать". Многие другие журналисты
подражают его пассивному, трудному, благородному и гражданскому
мужеству: мыслители и писатели, принимающие мученичество в
карьере, которая не принесет триумфа".49
Английский журналист отметил, что к этому времени политическая
оппозиция вынуждена была уступить Муссолини, поскольку у нее не
было лидеров и программ. Кроме того, заметил Болито, старые
политики вряд ли осмелились бы подстрекать народ к героическому
восстанию: "Как можно отдать свою жизнь, а Джолитти просит его
пожертвовать ею, чтобы восстановить свой старый, удобный,
бесславный режим?". Что касается возможности появления нового
лидера, способного говорить о свободе и справедливости, журналист
исключил ее, утверждая, что "на каждом углу есть шпионы, доносчики
и фанатики, готовые убить его при первой же речи".50
В конце своей поездки Болито записал, что повсюду царит
пассивность: "Пассивно общественное мнение, запуганное и
невежественное; пассивны вооруженные силы, которые сохраняют
нейтралитет, окружая осторожную монархию; пассивна и
парализована политическая оппозиция; пассивна враждебная режиму
пресса; пассивен покорный рабочий класс". Ко всему этому журналист
добавил "еще один институт пассивной оппозиции - церковь", которая
даже осмеливалась время от времени подавать голос, осуждая насилие
фашистов против духовенства или католических организаций:
"Церковь громче всех протестовала с тех пор, как была подавлена
свобода прессы. Она запретила своим сановникам участвовать в
фашистских церемониях или выступать с проповедями, склоняющими
к поддержке правительства". В то время, по мнению Болито, Церковь
была единственным институтом, осмелившимся выступить против
фашистского режима, "который, как тюремщик, со всеми ключами,
висящими на поясе, и револьвером в руке, проходит вверх и вниз по
Италии, как по тихим, мрачным коридорам тюрьмы".51
9. ЛИТТОРИО ИТАЛИЯ
4 ноября 1925 года, во время празднования годовщины победы, на
церемонии, которая уже показала, что фашизм у власти твердо идет к
отождествлению себя с нацией, провозглашая себя единственным
толкователем ее воли и законным наследником героизма павших, было
сорвано покушение на Муссолини, организованное депутатом-
социалистом Тито Дзанибони. В ответ на это правительство
распустило Объединенную социалистическую партию, к которой
принадлежал террорист, и приостановило выпуск оппозиционных
газет. В течение 1926 года на Муссолини было совершено еще три
покушения: 7 марта ирландка Вайолет Гибсон выстрелила в него,
нанеся ему поверхностное ранение; 11 августа анархист Джино
Лусетти бросил бомбу в машину, в которой ехал дуче, но он остался
невредим; наконец, 31 октября, когда Муссолини находился в Болонье
на праздновании годовщины "марша на Рим", в его машину был
произведен выстрел из пистолета, возможно, молодым анархистом
Антео Дзамбони, который был линчеван на месте фашистами.
Эти нападения, и особенно последнее, дали правительству и
фашистской партии повод для уничтожения либерального режима
путем преследования противников, ареста лидеров антифашистских
партий и утверждения ряда новых законов для "защиты государства",
которые позволяли распускать партии и все организации и ассоциации,
выступающие против фашизма; подавление оппозиционных газет;
введение полицейского заключения для антифашистов или лиц,
подозреваемых в принадлежности к таковым; смертная казнь для тех,
кто совершал нападки на короля и главу правительства; учреждение
Специального трибунала по защите государства, состоящего в
основном из консулов ополчения и возглавляемого генералом армии,
который должен был судить каждое деяние, совершенное против
режима.
С подавлением свободы ассоциаций были распущены антифашистские
профсоюзы. Закон от 3 апреля 1926 года о регулировании трудовых
отношений запретил забастовки и локауты и учредил трудовую
магистратуру для разрешения споров между рабочими и
работодателями. Единственными признанными профсоюзами
оставались фашистские профсоюзы, подчиненные государственному
контролю. Закон о профсоюзах был представлен как первый шаг к
реализации корпоративного порядка - Министерство корпораций было
создано 2 июля 1926 года - для унитарной организации
производительных сил, основанной на сотрудничестве между
классами, в соответствии с принципами, определенными позднее в
Хартии труда, обнародованной 21 апреля 1927 года. Наконец, 9 ноября
по инициативе нового секретаря ПНФ Аугусто Турати, сменившего
Фариначчи, все депутаты от антифашистских партий были объявлены
дисквалифицированными.
12 декабря 1926 года фасцио литорио декретом стал символом
итальянского государства, поскольку в нем, по словам заместителя
докладчика комиссии по преобразованию декрета в закон,
"суммируется культ традиций рода и выражается воля быть достойным
его в новую эпоху величия". 1 27 октября 1927 года правительство
постановило, что 28 октября, дата "Марша на Рим", станет днем
начала нового календаря режима, который должен был отмечать
торжественные даты новой "фашистской эры" и во всех актах
государственного управления должен был называться "Год I, II и т.д .
фашистской эры", наряду с гражданским календарем. 27 марта 1927
года был принят указ о том, что фашио литторио должен был
находиться на фланге щита Савойского дома в государственном гербе
Италии.
Неизвестный солдат воскрешен
После 1925 года Италия стала местом назначения иностранных
журналистов и ученых, которые посещали полуостров с конкретной
целью наблюдать фашизм и итальянскую действительность при новом
однопартийном режиме, а также иллюстрировать читателям в своих
странах результаты своего опыта в книгах, которые стремились стать
размышлениями о фашизме и итальянцах, управляемых фашистским
режимом.
Если одни путешественники, такие как Камински и Болито, открыто
заявляли о своем неприятии фашизма, то другие не скрывали своей
симпатии и даже восхищения, особенно Муссолини. Одним из них
был португалец Антониу Ферро, консервативный журналист и
писатель, поклонник националистических диктаторов, находившихся у
власти в 1920-е годы, таких как Муссолини, испанский генерал Мигель
Примо де Ривера и президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк.
Ферро брал у них интервью в 1923-1924 годах и описал эти встречи в
книге, опубликованной в 1927 году.
Прибыв в Италию осенью 1926 года, португальцы сразу заметили в
Вентимилье лицо Муссолини, нарисованное на столбах цветочного
рынка, с надписью: "Кто дотронется до него, умрет" внизу. "Странное
сходство, - подумал португалец, - с табличками на электрических
столбах, где изображен череп и три слова: смертельная опасность...".
Замбони, который осмелился сделать это, на самом деле умер от удара
. . . Осторожно, очень осторожно... Ток Муссолини - это электрический
ток "2.
Ферро был очарован личностью Муссолини, и в своей книге он
посвятил диктатору и фашизму две отдельные части, в которых
рассказал о двух своих поездках в Италию в 1923 и 1926 годах. В 1923
году он прибыл в итальянскую столицу во время празднования первой
годовщины "Марша на Рим", который португальский писатель описал
как "грандиозный и наивный марш, со стихами д'Аннунцио и музыкой
Пуччини".3 Он стал свидетелем триумфального шествия фашистов,
"длинной человеческой змеи", которая, прежде чем пройти к Алтаре
делла Патриа, чтобы отдать дань памяти Неизвестному солдату,
остановилась на площади Колонна, чтобы приветствовать Муссолини,
выходящего из Палаццо Чиджи. Дуче появился возле колонны
Адриана, как будто он сам был колонной, "но колонной, которая
марширует, колонной, которая думает". Фашистские массы с
"религиозным" энтузиазмом приветствовали своего суроволицего
дуче, который не говорил и не улыбался, но стоял во главе процессии,
чтобы пройти к Алтарю Отечества.
Перед могилой Неизвестного солдата Ферро рассказывал:
"Муссолини, солдат Великой войны, преклонил колени, все
преклонили колени. Теперь диктатор - это Неизвестный солдат. Я
смотрю с тревожным предчувствием на простую и суровую гробницу.
Я чувствую, что она вот-вот откроется, я предвижу, что вот-вот
произойдет воскрешение... После нескольких минут воспоминаний
Муссолини поднимается, вдохновленный. И в тот момент, когда он
поднимается, моя душа говорит мне, убеждая и убеждая, что гробница
теперь пуста".4
Пораженный образом Неизвестного солдата, воскресшего в Дуче,
после празднования Ферро попросил и получил аудиенцию у премьер-
министра. Муссолини принял его в огромном зале Палаццо Чиджи,
погрузившись в чтение газеты, пока гость не подошел к его столу.
Только тогда он поднял взгляд и встал навстречу. Представившись
"поклонником фашизма и его лидера", журналист начал интервью,
спросив дуче, является ли фашизм консервативной партией, является
ли его правительство диктатурой, является ли диктатура доктриной
или ограничением. Дуче ответил, что фашизм был "духовным и
политическим движением, абсолютно чуждым старым категориям
консерватизма и либерализма, оригинальным выражением
итальянского народа", который хотел восстановить утраченные
традиции Италии, но в то же время не хотел, чтобы Италия застыла в
созерцании своих славных руин: "Италия была жива в прошлом, она
жива сегодня, она будет жить завтра, она будет жить всегда".
Затем он заявил, что его правительство действительно является
диктатурой, поскольку, получив все полномочия от парламента, оно
взяло на себя "огромную ответственность командовать и быть
послушным", тем самым заявив, что диктатура - это "не принцип и не
цель, а система, соответствующая определенным потребностям".
Бессмысленно, продолжал Муссолини, спрашивать, хороша или плоха
диктатура: о ней нужно судить по ее результатам. Не существует
доктрины диктатуры, но она должна быть введена, когда это
необходимо для нации". Он добавил, что демократия - это иллюзия,
потому что народ любит иерархию. "Каждый век, - заключил
Муссолини, - имеет свою историю и свои институты. Разумная
диктатура может просуществовать очень долго "5.
Перед увольнением дуче подарил ему свою фотографию с
посвящением: "Журналисту Антонио Ферро, с римской дружбой, II
год. Муссолини". И Ферро подумал: "Второй год! Мир для Муссолини
поднимается вместе с фашизмом. После эры Христа - эра
Муссолини".6
Португальский журналист вышел из аудитории 1923 года "с
повышенным восхищением новым человеком... Бенито Муссолини -
великий мастер современной политики".7
Самый серьезный враг Муссолини
Затем Ферро рассказал, что он отправился в Ватикан для беседы с
кардиналом Гаспарри, государственным секретарем, и аудиенции у
понтифика, а затем поехал в Милан, город итальянской столицы,
промышленный, производительный, динамичный город, но и
"парадоксальный, потому что это был город фашизма и социализма,
город "Il Popolo d'Italia" и "Avanti! Короче говоря, штаб-квартира
великих идей". В Милане Ферро взял интервью у Филиппо Турати,
лидера реформистского социализма, которого журналист считал
"самым серьезным врагом Муссолини, потому что он был самым
умным, одной из самых важных фигур в современной Италии".
Разговор шел только о Муссолини и фашизме. Мы находимся в
средневековье", - сказал ему Турати. "Свобода мысли - это
воспоминание. У нас больше нет права говорить и писать, у нас даже
нет права судить о работе правительства". По меньшей мере тридцать
депутатов-социалистов находятся в изгнании, не имея возможности
выполнять свой мандат в парламенте, парламенте комедии, говорить
правду "8.
Когда журналист заметил, что фашизм был реакцией на эксцессы
экстремистов в Социалистической партии, Турати ответил, что
социалистические экстремисты перешли к фашизму, теперь они с
Муссолини, который, будучи социалистом, был главным врагом
умеренного течения. Муссолини - прежде всего жестокий человек", -
добавил Турати, и его образ действий как фашиста был таким же, как и
в Социалистической партии: "Муссолини - разрушитель,
поджигатель". Между Муссолини и Лениным есть большое сходство,
но есть и разница: у Муссолини культура учителя начальной школы,
Ленин - блестящий человек, с солидной культурой, человек, который
совершал ошибки, но теперь встал на правильный путь".
Муссолини, продолжал Турати, в любом случае был умным человеком,
с сильной личностью, и "среди стольких ничтожеств можно понять его
престиж"; по этой причине лидер социалистов отличает муссолинизм
от фашизма, подчеркивая, что между этими двумя течениями
существуют сильные различия: "Муссолини - жестокий человек, но в
то же время он понимает, что очень трудно, придя к власти,
продолжать насилие, в то время как его коллеги по религии, в прошлом
экстремисты, подстрекают к насилию. Он сопротивляется. Отсюда их
разногласия, которые они пытаются скрыть, но они существуют".
Однако Турати исключил возможность движения против Муссолини,
"сильного человека, который разоружил всех своих врагов и вооружил
своих друзей. Я первый, кто считает, что заменить Муссолини сегодня
было бы очень трудно. Муссолини - уникальная личность в фашизме.
Если бы Муссолини исчез, а фашизм остался, наступил бы страшный
хаос, а гонений было бы не счесть". Многие считали фашизм
эфемерным явлением, в то время как Турати утверждал, что он будет
существовать долгое время.9 Прощаясь с Турати, Ферро вспомнил тот
далекий период, когда Турати и Муссолини воевали в одной партии, и
связал работу "двух борцов", которую он оценил как одинаково
"сильную, честную, искреннюю работу", потому что они шли
"разными дорогами в одном направлении": "Муссолини находится в
Вечном городе. Турати достигнет его. Все дороги ведут в Рим "10.
Вернувшись в Италию в 1926 году, португальский журналист уже не
помнил честного, сильного и искреннего Турати: в своей книге он не
упомянул о том, что в декабре того же года, после запрета
антифашистских партий, Турати был вынужден встать на путь
изгнания и стать аутсайдером.
Вечный фашизм
Ферро завершил рассказ о своей первой поездке в Италию
дифирамбом Муссолини: "Итальянский народ любит Муссолини, как
любит хорошую погоду, тепло и солнечный свет... Муссолини
превратил Италию в вечную весну... Зима ушла навсегда... Близкий
друг большевизма, зима укрылась в России".11 Готовясь вернуться в
Италию в 1926 году, журналист опасался новостей о покушениях на
Муссолини и слухов о возможных трагических событиях; вместо
этого, как только он въехал в Италию, он увидел радостный народ:
"первый образ ужасной Италии Муссолини" был страной "свежей и
весенней, как цветочный сад "12.
С новым энтузиазмом журналист завел новый разговор с дуче,
который заявил, что он друг и поклонник Португалии, чтобы развеять
подозрения в том, что Италия имеет планы на португальские колонии в
Африке, назвав "фантастическими и нелепыми" слухи о таких планах,
распространяемые врагами фашизма. Такие заверения заставили
интервьюера вздохнуть с облегчением; его восхищение дуче возросло
еще больше, когда он сказал ему, что понимает португальский язык так
же хорошо, как итальянский, знает "блестящую историю Португалии"
и глубоко восхищается ее литературой. Что касается фашизма,
Муссолини заявил, что режим стремится гарантировать итальянцам
процветание посредством трудовой дисциплины, защиты семьи,
социальной солидарности и защиты престижа Италии в мире. Его
диктатура была прочной - в Италии почти не осталось антифашистов -
и продлится даже после его смерти: "Все уже решено. Мои преемники
выбраны, и когда станет известно, что они назначены мной, их будут
слушаться, как меня... Можно быть уверенным. Никто и не подумает
возражать против моей последней воли".13
На замечание журналиста о том, что изгнанники дискредитируют
фашизм за рубежом, сея недоверие к Италии, Муссолини ответил:
"Есть только один ответ: последний! последний! последний навеки! ...
Фашизм будет вечным, вечным, как Италия, вечным, как монумент, как
пирамида".14
Покоренный пророчеством Дуче, португальский консерватор
возобновил дифирамб трехлетней давности, рассказав о впечатлениях
от своей второй поездки в еще более апологетических тонах. Повсюду
он видел людей со значками фашистской партии, подтверждающими
"силу и окончательную победу фашизма": "Антифашистов больше нет.
Антифашисты, с оружием и багажом, покинули Италию. И именно они
на пяти континентах пытаются уничтожить нетронутый престиж
Муссолини". Но изгнанники были "ничтожным меньшинством", в то
время как итальянцы, почти в полном составе, были фашистами: "На
улицах спонтанными голосами постоянно говорят о любви к Риму, о
любви Италии к Муссолини... Или в Италии играет комедия — что
маловероятно при искреннем и возвышенном темпераменте
итальянцев — или фашизм раз и навсегда проник в душу нации.
Муссолини может умереть. Фашизм не умирает".15
Молодежь на марше
В то самое время, когда португальский журналист был опьянен
видением вечного фашизма, предсказанного Дуче, пожилая англичанка
Эдит Селлерс, исследователь социальных проблем в различных
европейских странах, путешествовала по Северной Италии, наблюдая
повсеместное прославление Муссолини. Что удивило ее с первых
дней, рассказывала она читателям престижного британского журнала
"Contemporary Review" в ноябре 1926 года, так это
националистическая гордость школьников, которые восхваляли
Италию так, что англичанке это казалось противоречащим здравому
смыслу, даже абсурдным. "Ночь за ночью в маленьком городке, где я
остановилась, по улицам проходили молодые люди, распевая гимны и
песни, прославляющие Италию, молодую Италию, которая
поднимается, и громко провозглашающие славу и почести, которые ее
ожидают. Слова некоторых песен были, несомненно, напыщенными и
претенциозными, более или менее лживыми, но голоса, исполнявшие
их, звучали искренне, полные горячего патриотизма и безусловной
преданности своей родине "16.
Слушая эти песни, путешествуя из города в город и из деревни в
деревню, Эдит Селлерс начала понимать, "насколько отличается
средний итальянский мальчик сегодня от итальянского мальчика
двадцать или тридцать лет назад". Везде она видела хорошо
построенные и хорошо организованные школы, которые посещали
"радостные толпы красивых, здоровых мальчиков и девочек, с яркими,
умными лицами, большинство из них были хорошо одеты", мальчиков,
"которыми гордилась бы любая нация". Только в Венеции английский
ученый видел голодного мальчика, но ни один не попрошайничал.
Более того, если раньше итальянская молодежь казалась прежде всего
практичной и реалистичной, то теперь все они были охвачены
шовинистическими мечтами, не уставая "воскурять фимиам Италии,
восхвалять ее красоты, петь ее славу". И было немало мальчиков,
которые, наряду со своими старшими братьями и отцами, были еще
"более склонны воскурять фимиам Дуче": "нет предела их
преданности Муссолини, которого называют спасителем отечества". И,
что самое любопытное, даже итальянские женщины, которые, как
правило, интересовались политикой не больше, чем в Тимбукту, жены,
матери, сестры, дочери соревнуются с мужчинами в преданности
Муссолини и более щедры в своих похвалах". В этом английская леди
имела постоянные доказательства17.
Между друзьями и врагами фашизма
Мало зная о Муссолини, Эдит Селлерс не могла понять причину
такого восхищения и преданности ему. Она также слышала, как его
дифирамбы пела очень пожилая француженка, вышедшая замуж за
итальянца и прожившая в Италии сорок лет. Эта женщина восхваляла
великие перемены, которые принес Муссолини, хотя в ее голосе
англичанин уловил насмешливую нотку: "Конечно, я фашистка. Мы
все фашисты, поклонники Муссолини. И нет причин удивляться.
Только подумайте, от чего он нас спас. Если бы не он, сегодняшняя
Италия была бы похожа на Россию, и что бы тогда стало с нашими
бедными сбережениями? ... И подумайте обо всем, что он сделал для
нас. Здесь мужчины, и мои сыновья в их числе, сегодня работают не
покладая рук, и делают они это благодаря ему, который дал им понять,
что они должны работать, нравится им это или нет: и это великое дело.
Как он это сделал, я не знаю, но он это сделал, и никто другой не смог
бы этого сделать.
Я уверен в этом, потому что люди не любят работать". Без Муссолини,
продолжала пожилая француженка, не было бы больше
промышленности, а промышленность принесла процветание. Поэтому
она заключила: "Да, Муссолини полезен для нации. Я бы хотел, чтобы
он был во Франции". Но затем он быстро воскликнул: "Нет, нет. Я не
хочу этого. Это не может работать во Франции. При Муссолини
Франция сразу перестала бы быть Францией". Затем, выглянув в окно,
он сменил тему.18 Не похожими были аргументы, которыми потомок
дожей объяснял английскому ученому свое восхищение Дуче, которого
называли спасителем общества и собственности: "Если бы Муссолини
не пошел на Рим, крестьяне захватили бы всю землю, твердо верила
она, и ни один квадратный метр не достался бы законным
владельцам...". Большевизм продвигался по всей стране, жизнь больше
не была безопасной ни для кого.
Сейчас все сильно изменилось, страна организована как никогда, наши
железные дороги - образец, почтовая служба идеальна, мы можем
спокойно жить дальше. Перемены были замечательными, и мы
обязаны этим Муссолини". И потомок дожей был так воодушевлен
дуче, что с радостью платил налоги, какими бы ужасающе высокими
они ни были. У нее была только одна претензия, добавила Эдит
Селлерс: "Рабочий класс не удерживается на своем месте, а становится
слишком преувеличенным в своих требованиях". Казалось, что она
уже не довольствуется только хлебом и луком". Но аристократка была
уверена, что это проходящая фаза: Дуче скоро положит конец такому
положению вещей".19
Устав от всех этих восхвалений Муссолини и почти задыхаясь от того,
что он "держит всю нацию в своей хватке, и бесполезно пытаться
вырваться", Селлерс почувствовал истинное удовольствие, когда
встретил старого сельского приходского священника, который в
молодости знал Мадзини, сражался вместе с Гарибальди, а также
восторженно отзывался о Кавуре. Если бы сегодня в Италии был
Гарибальди, все было бы лучше", - сказал старый приходской
священник. А английский ученый заметил: "Но сегодня в Италии есть
Муссолини". Ответ преподобного был нерешительным: "Конечно,
хорошо, что он есть. Он вернул распятие в классные комнаты, и это
великое дело для наших школ". Анархисты распространяли свою
разрушительную пропаганду даже среди мальчиков, а он остановил
их". Да, он, конечно, очень хорошо поработал, и мы должны быть
благодарны ему за это". Но затем, почти яростно крича, старый
священник добавил: "Но он также сделал много плохого. Сейчас в
нашей стране не больше свободы, чем сто лет назад, даже меньше, чем
при Бурбонах. Но говорить об этом бесполезно. Давайте лучше
поговорим об Англии. Гарибальди любил Англию "20.
Продолжая путешествие, английская леди услышала еще больше
похвал в адрес Муссолини от многих итальянцев и итальянок, которые
были искренне убеждены, что фашистский режим - лучший из
режимов для их страны, потому что он больше всего подходит для
обеспечения мира и процветания, чести и славы. Однако в то же время
он слушал, как итальянцы и итальянки обличали преступления
фашистской тирании, бросая обвинения если не прямо в адрес
Муссолини, то в адрес его лейтенантов. Он встретил женщину, которая
была чертовски зла на дуче и его действия и не боялась открыто
говорить об этом; но даже эта женщина убедилась, что нет открытого
окна, прежде чем заявить, что Муссолини наносит неисчислимый вред
Италии, прокладывает путь к ее гибели, превращает мирный народ в
массу фанатичных националистов, подстрекает их к захвату чужих
территорий, учит итальянцев, что единственная истинная слава - это
военная слава. "Муссолини не произносит ни одной речи, не наполняя
пустые головы мечтами о триумфальных маршах в чужие страны, о
великих битвах, о воинах, возвращающихся увенчанными лаврами и
нагруженными добычей. Куда все это приведет нас?" Эта женщина, по
словам Эдит Селлерс, бросала проклятия "как настоящая Кассандра,
которая не видела в будущем ничего, кроме руин: руин для Италии,
руин для всей Европы".21
Не все женщины-антифашистки, с которыми встречался британский
путешественник, были столь радикальны в своей ненависти к
фашизму. Одна дама-антифашистка была готова признать заслуги
Муссолини и фашизма в спасении страны от хаоса, в наведении
порядка и дисциплины в государственном управлении и общественных
службах, в улучшении школ, в создании условий для повышения
производительности труда и процветания страны. Короче говоря,
заключила антифашистка, Муссолини сделал кое-что хорошее, но вред
перевесил пользу, "потому что добро могло быть сделано без удушения
свободы, которую наши отцы обеспечили нам своей жизнью". Будучи
ярой патриоткой, леди-антифашистка страдала от того, что ее страна
снова оказалась под деспотическим правлением после всех жертв,
которые она понесла ради конституции. Муссолини уничтожил работу
Кавура и выкорчевал семена, посаженные Мадзини: и этого патриотка-
антифашистка не могла простить дуче фашизма, которого она также
обвиняла в том, что он оказывает "деморализующее воздействие" на
нацию, навязывая итальянцам, особенно мальчикам, прусские военные
привычки, подстрекая их стать воинственным народом, настроенным
на завоевание половины Европы, начиная с Ниццы, и значительной
части Африки22.
Кто марширует, а кто молчит
Селлерс лично наблюдал последствия "прусского" воспитания, став
свидетелем многочисленных демонстраций мальчиков и девочек в
военной форме, марширующих по улицам, и бесконечных шествий
мужчин и женщин в военной форме под фашистскими вымпелами:
маршировали рабочие, ремесленники, профессионалы, разделенные по
своим категориям. Огромная масса демонстрантов выглядела
счастливой и гордой, многие демонстрировали триумфальный
настрой. Но английский ученый также уловил признаки недовольства
среди толпы, маршировавшей рядом с фашистскими выпускниками:
они выглядели как тюремщики, провожающие преступников в тюрьму.
И он был поражен, увидев среди шествующих людей из образованных
классов, которые явно выглядели неуютно и подавленно. "На их
грустных лицах можно было прочесть мрачную покорность, в других -
что-то сродни страху".
Эдит Селлерс, которая утверждала, что ничего не знает о политике,
партиях и фракциях, была болезненно встревожена этим зрелищем и
обратилась за объяснениями к своему итальянскому другу,
уравновешенному человеку, способному отстраненно рассматривать
как фашистов, так и антифашистов. Она спросила его, почему люди с
покорным и печальным выражением лица участвуют в параде:
"Потому что они должны участвовать", - ответил друг. "Если бы
чиновник отсутствовал, он бы сразу перестал быть чиновником. Если
бы профессионал не пришел, он потерял бы всех своих клиентов и
имел бы очень трудную жизнь".23
Подобные впечатления были и у других иностранцев, посетивших
Италию после 1925 года. Во время своих поездок они наблюдали, где
бы они ни находились, зрелище военных маршей мальчиков и девочек,
одетых в различные формы молодежных организаций фашистской
партии: Balilla, Piccole italiane, Avanguardisti. Особым поводом для
подобных массовых демонстраций итальянцев всех возрастов, мужчин
и женщин, всех социальных условий были годовщины фашистского
календаря, такие как 28 октября, годовщина "Марша на Рим", или 21
апреля, день празднования Рождества в Риме.
Французский журналист Людовик Наудо был в Турине 21 апреля и
видел парад школьников, одетых в черные рубашки по приказу
фашистской партии, которая "просто постановила, что все мальчики и
девочки в Италии должны носить ее форму и думать так, как думает
партия". 24 В течение всего дня в "превосходном Турине" длинные
процессии мальчиков и девочек обоих полов маршировали военным
маршем, решительно ступая ногами по земле и распевая
патриотические гимны, среди развевающихся флагов, знамен и
вымпелов: "Эти молодые толпы, быстро военизированные, кажется,
осознают, что они принимают участие в великом событии", -
прокомментировал Наудо, удивляясь, что итальянскому народу,
"чрезвычайно умному", не хватает "чувства смешного".25
Однако французский наблюдатель отметил, что во время этих
празднеств, организованных властями, "масса населения не проявляла
никакого мнения. Поскольку магазины были закрыты, по улицам
ходило много людей, но они не выражали своих впечатлений. Крики
были слышны, но это были крики фашистов, проезжавших мимо на
грузовиках. Патриотическим излияниям люди предпочитали идти
вдоль берегов По "26.
Несколько дней спустя, в Милане, Наудо стал свидетелем еще одной
демонстрации толпы, возбужденной визитом Муссолини, которая
неподвижно ждала его на площади Дуомо под проливным дождем,
обнажая головы каждый раз, когда звучал фашистский гимн. "Толпа
находилась под влиянием своего рода иррационального рвения. Люди
вокруг меня, казалось, действительно ждали чего-то великого. Словно
в тисках эмоций, вызванных неслыханными испытаниями, они
собрались, чтобы потребовать торжественного возмещения за
причиненную несправедливость". Пятнадцати- или
шестнадцатилетние мальчики были наиболее взволнованы, ожидая
встречи с Муссолини. И наконец, в окне освещенного здания, среди
звуков оркестров и криков толпы, под "жестоким светом
электрического прожектора, появился Дуче, в полном апофеозе,
величественный, как древний бог, приветствуемый огромным криком,
поднявшимся с земли...". Напряжение достигло своего пика. Было
ясно, что для всех собравшихся молодых людей существовали великие
национальные замыслы, которые предстояло воплотить в жизнь.
И таким образом мечты о величии взращиваются в возвышенных
душах, которые верят, что видят в Муссолини своего следующего
реализатора". Однако, наблюдая позже, как миланская толпа молча
отступила в сторону, чтобы пропустить колонну фашистов, Наудо
задался вопросом: "О чем он на самом деле думает? Трудно сказать".27
Тот же вопрос он задал себе несколько дней спустя в Риме, наблюдая
за процессией людей, идущих возложить венок к Неизвестному
солдату. Во главе шествия шли фашисты в форме, которые через
регулярные промежутки времени выкрикивали "alalà", на что
следовавшие за ними гражданские лица, чувствуя, что за ними
наблюдают, отвечали немедленно, но менее энергично. "Люди,
составлявшие центр процессии, открывали рот, но выходило что-то
вроде слабого "а". А огромная масса, следовавшая за ними, шла
пассивно, молча, и даже не пыталась притворяться". Без сомнения,
человеческие стада везде одинаковы: именно энергичные меньшинства
заставляют их повиноваться. "28 И с иронией Наудо рассказывал
своим французским читателям, что в Риме он видел большую толпу,
шумно ожидавшую прибытия Дуче; внезапно шум присутствующих
стал пароксизмальным: но это был шум не Дуче, а пары актеров
Дугласа Фэрбенкса и Мэри Пикфорд, которые торжественно выходили
из такси: "Два великолепных жиголо кино затмили самого известного
жиголо политики".29
Фашистский метод
У французского журналиста были веские причины быть
предубежденным против фашизма, поскольку он был свидетелем
антифашистских демонстраций в Вентимилье с момента своего
приезда в Италию, которые повторялись в других итальянских городах
во время его пребывания.
Управляемая "картелем левых", победившим на выборах в 1924 году, и
ставшая убежищем для многих антифашистов, Франция стала
мишенью фашистской прессы, которая обвиняла ее в противодействии
итальянским требованиям на мирной конференции и в том, что теперь
она принимает антифашистских изгнанников, замышляющих
свержение режима. К этим обвинениям добавились претензии к
Италии Ниццы и Савойи, Корсики и Туниса, выкрикиваемые
фашистскими демонстрантами под французским посольством в Риме.
Наконец, Франция изображалась фашистской пропагандой как
загнивающая и коррумпированная нация с низким приростом
населения, а потому обреченная уступить свои колонии молодой и
плодовитой нации, такой как Италия эпохи литорио, которая
претендовала на лидерство в латинских странах30.
Несмотря на антифранцузские демонстрации, Наудо свидетельствовал,
что "французского путешественника в Италии везде принимали
хорошо, лучше, чем в 1922 году". С ним никогда не происходило того,
что, как говорят, случилось с другими иностранцами, с которыми
плохо обращались чернорубашечники, потому что они не снимали
шляпы под звуки фашистского гимна.31. Более того, журналист
заявил, что, готовясь к поездке в Италию, он хотел отличить себя от
многих посетителей, которые приезжали на полуостров в поисках
аргументов в поддержку своих тезисов: "Сторонники демократии
хотят задокументировать злоупотребления режима, в котором
отменены все свободы, другие намерены продемонстрировать
эффективность авторитарной системы, а третьи просто хотят собрать
основания для панегирика Италии".
Наудо хотел провести "объективное исследование".32 Что касается его
оценки фашистского режима, он не считал возможным установить
априори, на основе теории, какой режим является "хорошим"; он не
считал демократию догмой и полагал, что хороший режим "это режим,
который лучше всего подходит определенному народу в определенную
эпоху его эволюции. Хорошим является тот режим, которому удается
возвысить жизненную силу нации и сделать ее более способной
внести свой вклад в прогресс".
Для Наудо не имело смысла называть режим плохим, если его
последствия были хорошими. О политической системе нужно судить
по ее результатам. "Только эффективность метода доказывает его
превосходство. Мы будем исследовать эмпирическим путем, принес ли
фашистский метод Италии пользу или вред".33 Он поставил перед
собой задачу оценить последствия фашистского метода правления: для
Наудо фашистский режим был не стражем класса, а "применением, в
контексте интенсивного национализма, теории насилия Жоржа
Сореля", направленной на создание "государственного авторитаризма,
не позволяющего ни одному гражданину обсуждать и не подчиняться".
34 Это определение не означало одобрения или снисхождения к
фашистскому методу со стороны французского наблюдателя, который
прибыл в Италию в период принятия "фашистских законов",
подавлявших любую свободу и пресекавших любые попытки критики
и оппозиции режиму.
Там, где царит порядок
Общее впечатление от Италии у Наудо было таким: "процветающая и
счастливая страна, более счастливая и процветающая, я признаю, чем
она выглядела в 1922 году". Даже пролетарские массы, казалось, не
слишком страдали от фашистского режима. Как ни старался
журналист, ему не удалось добиться от людей, чтобы они сказали, что
режим сделал жизнь итальянцев более трудной. Но нельзя исключать,
возразил он, что это было следствием того, что "над всей страной
висит тщательный шпионаж, и любой, кого поймают на критике
режима, может получить удар дубинкой и быть приговоренным к
нескольким месяцам или годам тюрьмы". Конечно, в стране царили
порядок и безопасность, как и воздержание иностранцев от
пунктуальности поездов, но даже на это можно было бы возразить,
заметил Наудо, что, возможно, того же результата можно было бы
достичь, "не обрекая Италию на вечное существование в режиме
сжатия, который делает ее страной, чуждой нормальному состоянию
Европы". Особенно после бомбардировки Болоньи, вспоминал
журналист, "произвол фашистского режима был необузданным" в
отношении своих противников: Прославленные мыслители и
профессора университетов подверглись нападению "людей,
недостойных даже чистить свои ботинки"; в Неаполе были
разграблены библиотеки Бенедетто Кроче и Артуро Лабриолы;
газетные редакции и дома антифашистов были захвачены и
подожжены; несколько сотен человек, составлявших
интеллектуальную элиту страны, были "зверски избиты людьми в
черных рубашках, которые, во имя порядка", "покрывали их плевками
и мусором". Тем временем тюрьмы были переполнены заключенными
политиками, сто двадцать четыре депутата были изгнаны из
парламента, специальный военный трибунал судил всех, кто был
обвинен в противостоянии режиму.
К этому времени мы уже близки к террору", - заявил Наудо, хотя в
Италии, как он отметил, дело еще не дошло до массовых убийств,
которые оправдывали бы использование этого слова, как оно тогда
применялось к большевистскому режиму. Журналист
свидетельствовал, что в Италии, несмотря на его критику фашизма, он
мог свободно распространяться, тогда как в России он, конечно, не
пользовался бы такой свободой: "Мы еще не говорим, что Италия
живет в режиме террора, но мы просто отмечаем, что система
запугивания, принуждения и интеллектуальной кастрации, которой
подвергает ее фашизм, ухудшается день ото дня".35
Как и в большевистской России, в фашистской Италии подавлялась
любая свобода слова. Как и большевизм, фашизм "не признает
расколов, разногласий, тонкостей, плюрализма мнений: он весь един...
Фашизм хочет, чтобы у нации был общий менталитет, неизменная
дисциплина и одни и те же цели... Его проект состоит в том, чтобы
придать нации максимальную силу, заставив каждого человека
подчиниться коллективной воле". Фашизм хочет, чтобы сорок
миллионов итальянцев вместе, одновременно, одним жестом потянули
за веревку итальянской судьбы. Фашисты - это властное меньшинство,
которое заставляет итальянцев, по сути своей индивидуалистов,
подчиниться коллективным действиям общего дела".36
Аналогичным образом, заметил Наудо, все журналисты должны были
повторять слова дуче и директивы режима, поэтому все газеты в
Италии публиковали одни и те же новости, придерживались одних и
тех же мнений и выглядели одинаково. Наудо заявил о своем
отвращении к такому конформизму, отметив, что многие иностранцы,
живущие в Италии, хотя и не испытывали неприязни к фашистскому
режиму, жаловались на свою дезориентацию из-за того, что новости
всегда подавались "по-одному".37
Резюмируя свои соображения по поводу общей ситуации в Италии,
Наудо заявил: "Все, что мы наблюдаем в настоящее время в Италии,
можно свести к тому, что страной абсолютно управляет фашистская
партия, которая "уничтожила парламент, уничтожила свободу прессы,
пресекла всякую оппозицию и подавила всякую критику, подвергая
весь полуостров патриотической пропаганде и овладевая молодежью,
чтобы укоренить в ней убеждение, что Италии уготованы величайшие
судьбы". 38 К этому времени никто уже не выступал против
фашистского режима: "его власть абсолютна, и иностранец,
путешествующий по Италии, нигде не найдет людей, которые
осмелились бы объявить себя врагами правительства". В том, что
тайная оппозиция все еще существует, журналист не сомневался; он
сам встречал четырех или пяти человек, которые откровенно выражали
свое неприятие режима, но никто из них не выражал своего
недовольства открыто: "от усталости, недоумения или страха многие
отказались от мысли о сопротивлении и позволили себе поддаться
необычайному влиянию, которое Муссолини, теперь более
могущественный и непогрешимый, чем Папа, оказывает на
итальянцев".39
В конце своего путешествия Наудо попытался составить своеобразный
баланс хорошего и плохого, принесенного фашистским режимом. Из
неизбежного сравнения с ситуацией до прихода Муссолини к власти,
улучшения, произведенные правительством, были очевидны: "Фашизм
заменил период анархии, незащищенности и социальной
дезинтеграции порядком, дисциплиной, послушанием, бесперебойной
работой государственных служб и подчинил бесчисленные
межпартийные беспорядки чувству общественного блага,
символизируемого государством»40.
Следствием новой ситуации порядка, созданной фашизмом, стал
широко распространенный пыл трудолюбия во всех социальных
классах, решающий фактор, способствующий возрождению
итальянской экономики и лучшему использованию человеческих и
материальных ресурсов, дающий толчок к модернизации
промышленности и повышению производительности труда.
В частности, Наудо высоко оценил фашизм за "крайнюю мораль,
которую он навязал итальянской общественной жизни: все
непристойные зрелища, все двусмысленные люди, все
порнографические изображения запрещены".41 Предлагая развивать
силу нации, фашизм требовал пуританской морали, одновременно
принимая меры по защите семьи, повышению рождаемости, заботе о
развитии и воспитании детей.
Если это то добро, которое фашизм сделал для итальянцев и которое
было правильно признать, то необходимо, однако, признать и то зло,
которое можно было найти в Италии, управляемой фашистским
режимом. Например, невозможно отрицать, что жизнь в Италии была
ужасно дорогой, что торговый баланс был крайне неблагоприятным,
что промышленность испытывала серьезные трудности, что "люди
голодны, они всегда голодны".42 В Италии, конечно, был порядок, но
порядок оплачивался "отменой прав человека, подавлением гарантий
индивидуальной свободы и справедливости, заменой произвола
законом, ежедневными обысками и шпионажем". Французский
журналист был готов признать, что такие меры были необходимы при
подавлении анархии и спасении Италии, но они не могли стать
"постоянным режимом разумного народа"; подобно тому, как, по его
ироничному замечанию, человек проходит болезненные процедуры у
дантиста, когда они необходимы: "Но что бы вы сказали о
сумасшедшем дантисте, который хотел бы навсегда привязать вас к
своему креслу с огромной ватой во рту? "43. Порядок царил в Италии
времен диктатуры: "Но порядок - это еще не все, - заключает
журналист, - потому что порядок царит даже в тюрьме и на кладбище.
Порядок царит. Но есть такой вид порядка, который является
нормализацией фундаментального беспорядка".44
10. ТОТАЛИТАРНАЯ ИТАЛИЯ
В то время, когда Наудо подводил итоги деятельности правительства
Муссолини через четыре года после "Марша на Рим", фашизм уже
начал строительство нового режима посредством прогрессивной серии
институциональных нововведений, принятых Большим советом,
которые, оставляя в неприкосновенности фасад конституционной
монархии, разрушили либеральное государство в том виде, в котором
оно было реализовано за более чем шестьдесят лет после объединения
Италии. Таким образом, как писал Муссолини в 1927 году в
предисловии к книге, в которой были собраны решения Большого
совета "за первые пять лет фашистской эры", "гигантское здание
фашистского государства" было "возведено камень за камнем",
строительство которого началось в январе 1923 года с создания
Милиции, "которая поставила правительство на плоскость,
совершенно отличную от всех предыдущих, и сделала его режимом".
Вооруженная партия ведет к тоталитарному режиму "1.
Тоталитарный фашизм
Строительство тоталитарного государства, начавшееся в 1925 году,
достигло своей первой фазы с принятием закона от 9 декабря 1928
года, который превратил Большой совет в высший орган государства,
наделенный фундаментальными полномочиями в конституционных
вопросах, включая право вести обновленный список преемников главы
правительства и даже вмешиваться в престолонаследие. Кроме того, на
Большой совет возлагалась задача выбора кандидатов на выборах в
Палату депутатов, как это было установлено реформой политического
представительства, утвержденной в мае 1928 года, согласно которой
был создан единый национальный избирательный округ, а высшему
органу партии было поручено выбрать кандидатов из числа имен,
предложенных фашистскими профсоюзами и другими органами,
чтобы сформировать список выдвинутых депутатов, который
избиратели могли только одобрить или отклонить в блоке.
Преобразование Палаты сопровождалось преобразованием местных
администраций, где выборы мэров и муниципальных советников были
отменены и заменены правительственными назначениями: во главе
муниципалитетов был поставлен подеста, назначенный королевским
указом и подчиненный префекту, который был утвержден в качестве
высшего органа власти в провинции, которому также подчинялся
провинциальный секретарь PNF.
В фашистской партии также была отменена выборность должностей:
все ранги в иерархии, от генерального секретаря до местных
секретарей, назначались сверху; на вершине, в качестве абсолютного и
окончательного "верховного руководства", находился Дуче, которому
помогал Большой совет, высший орган партии. Помимо новых
органов, стабильность режима основывалась на эффективном
репрессивном аппарате, который использовал традиционные
полицейские силы, к которым добавились Милиция и новая
организация, ОВРА, тайная полиция, действовавшая в Италии и за
рубежом для предотвращения и подавления любых попыток
оппозиции. Укрепление тоталитарного режима увенчалось 24 марта
1929 года плебисцитом по выборам нового состава Палаты депутатов
по списку, подготовленному Большим советом и одобренному более
чем 98 процентами избирателей. За месяц до этого, 11 февраля,
правительство достигло примирения между государством и церковью,
подписав Латеранские пакты, "великую сделку 1929 года", как назвал
ее французский журналист Анри Беро, благодаря которой Муссолини
получил "поддержку епископов и кураторов на своих выборах",
укрепив свой режим с согласия католического мира.2
Беро, который был в Италии в 1929 году, задавался вопросом, что
делать с выборной палатой, на сто процентов фашистской,
правительством, "которое отказывается от какого-либо контроля,
провозглашает себя непогрешимым, упраздняет парламентскую
инициативу, отрицает догму суверенитета, приравнивает любую
оппозицию к заговору против безопасности государства, и которое,
наконец, по определению не может быть свергнуто", потому что,
согласно доктрине Муссолини, только исполнительная власть была
"хранилищем власти", а синтез организаций происходил в Большом
совете фашизма. "Теперь председатель Большого совета и глава
правительства - одно и то же лицо: сам Муссолини. Он держит в своем
кабинете девять министерств - и ждет, когда сможет взять на себя три
последних и таким образом реализовать чисто тоталитарную доктрину
фашизма: один человек - одна власть "3.
Своей речью 3 января 1925 года, писал десять лет спустя французский
журналист Морис Лашин, Муссолини "объявил противникам фашизма
войну: либо со мной, либо против меня". Тоталитарное фашистское
государство родилось".4 После 1925 года, с уничтожением всей
оппозиции и установлением однопартийного режима, фашизм вступил
в новую фазу. Насильственные методы эскадрильи, часто
применявшиеся до конца 1925 года, были заменены полицейским
аппаратом режима, а наиболее жестокие и беспокойные элементы
старой эскадрильи были исключены из партии.
Сегодня, - писал в 1928 году американский журналист Эдвин Уэр
Халлингер, который несколько раз бывал в Италии с лета 1922 года, -
"практически дни касторового масла и избиений ушли в прошлое.
Угроза всегда нависает, но ее редко приводят в исполнение". В стране
больше не существовало активной оппозиции, а немногочисленные
антифашисты также были арестованы. В декабре 1927 года сам
Муссолини заявил, что в тюрьмах сидят в общей сложности 676
антифашистов. "Фашистская тайная полиция расширяется, но ее
нельзя сравнить с русской Чека "5.
Это не означает, что диктатура Муссолини стала мягче: совсем
наоборот, как заметил французский журналист Эмиль Шрайбер,
совершивший в 1932 году поездку в фашистскую Италию после
поездки в Советскую Россию в предыдущем году. В отличие от
большинства других исторических диктатур, которые начинали с
установления более жесткого политического режима и затем
эволюционировали в сторону постепенного ослабления репрессий,
заявил Шрайбер, фашизм "не остановился после своего появления,
чтобы закрепить свои позиции с помощью все более строгих
репрессивных законов. Это то, что фашисты называют переходом от
частичного фашизма к тоталитарному фашизму".6
Фашизм нельзя игнорировать
Большинство иностранцев, опубликовавших книги об Италии после
установления тоталитарного режима, приезжали на полуостров
главным образом для наблюдения за новой политической системой и
ее влиянием на жизнь итальянцев. Отношение иностранцев к режиму
было разным. Были поклонники Муссолини и фашизма, такие как
пастор Шотландской церкви в Венеции Александр Робертсон; были
сочувствующие журналисты, такие как англичанин Х. Уорнер Аллен,
австралиец Фрэнк Фокс и американец Милфорд Ховард, которые
давали своим читателям в целом благоприятное, если не
восторженное, изображение; и были антифашисты, такие как
французский писатель и журналист Анри Беро, немецкий
коммунистический боевик Альфред Курелла, поэт Хуан Чабас и
республиканский писатель Алисио Гарситораль, оба испанцы, которые
дали критические и полемические портреты Италии в черных
рубашках, резко контрастирующие с теми, которые дали их
поклонники и единомышленники, как будто они побывали в двух
совершенно разных Италиях, за исключением правящего режима,
который также был предметом противоположных оценок. 7
Помимо поклонников и врагов режима, были иностранные
путешественники и путешественницы, такие как британская
писательница-феминистка и активистка Сисели Гамильтон, которые
претендовали на объективность наблюдений, хотя и не объявляли себя
беспристрастными. Рассказывая о своем путешествии по полуострову
в 1931 году, Гамильтон признала, что ее наблюдения были "окрашены
личными и традиционными предрассудками", но, тем не менее, она
старалась "придерживаться фактов, насколько это возможно",
описывая "Италию такой, какой ее сделал фашизм "8. 8 Те, кто пишет
об Италии и ее народе, заметила британская феминистка, никак не
могли игнорировать политику, потому что фашистское государство
пронизывало и влияло на каждый аспект индивидуальной и
коллективной жизни итальянцев, стремясь "создать народ с единым
умом и единым сердцем".9 Более того, было бы невозможно
представить, что итальянцы будут жить в одном государстве.
Более того, было бы невозможно посетить Италию и не столкнуться с
тоталитарным режимом с момента пересечения границы, который
сразу же навязывал свое внимание путешественнику фигурой
молодого человека в черной рубашке из Milizia ferroviaria,
охраняющего поезд, или бесчисленными изображениями Муссолини,
которые появлялись повсюду. Путешественник не может игнорировать
такое явление, как фашизм, потому что при нынешнем положении
вещей его существование навязывает ему свое внимание на каждом
шагу", - писал английский путешественник Х. Уорнер Аллен в 1927
году. Уорнер Аллен.10 Он совершил свое первое путешествие в
Италию в начале века, когда еще был студентом Оксфорда, и
возвращался туда несколько раз, очарованный необычайной
жизненной силой и разнообразием итальянской действительности.
Более двадцати лет спустя Аллен считал, что больше нельзя ездить в
Италию только для того, чтобы созерцать памятники прошлого,
игнорируя настоящее. И своей книгой "Италия из конца в конец" он
хотел предоставить английским путешественникам путеводитель,
который послужил бы мостом между Италией прошлого и Италией
настоящего, чтобы помочь им понять "сущность Италии", о снованную
на воспоминаниях о ее истории и оценке настоящего.11 А настоящее -
это, прежде всего, фашизм.
Аллен хвастался, что он предсказал приход фашизма еще в 1902 году,
во время своего первого визита в Рим, когда пожилая англичанка,
прожившая в Италии много лет и дружившая со всеми героями эпопеи
Гарибальди, призвала его благожелательно наблюдать за новой
Италией, сказав, что она уверена, что, хотя на Италию обрушилось
столько бед, "Италия сделает свое дело", чтобы бороться с ними и
преодолеть их. И он сразу же осознал "фундаментальную
оригинальность итальянского народа", когда в столице стал
свидетелем инициативы некоторых буржуа, которые с кулаками и
палками вступились за охранника, на которого напала группа
забастовщиков, заставив их бежать: другие буржуа отреагировали, и
забастовка прекратилась. В этом эпизоде, заявил Аллен двадцать пять
лет спустя, был "зародыш фашизма".12 И снова во время своей первой
поездки в Италию он прослеживал свою интуицию о будущем страны,
вспоминая увлеченность своих молодых флорентийских друзей
д’Аннунцио, их националистические настроения, «стремление сделать
будущую Италию достойной своего прошлого, желание преуспеть в
материальной области, а также в области искусства»: это чувство «с
войной распространилось от города к нации, и Муссолини смог
направить его на общее благо».
Эксперимент нового государства
Как и Аллен, австралийский журналист Фрэнк Игнатиус Фокс,
посетив полуостров в 1927 году, заявил, что его интересует "не
музейная Италия, а новая фашистская Италия". В предисловии к своей
книге "Италия сегодня" Фокс объяснил, что о "музее Италии, ее
галереях, ее памятниках, ее руинах существует столько книг -
большинство восхитительных, другие обусловлены более или менее
осознанным представлением об итальянцах как о живописных
ящерицах среди своих исторических камней, - что было бы
опрометчиво думать, что нужна еще одна. Но новая Италия,
участвующая в эксперименте по управлению людьми, является
предметом чрезвычайной важности для цивилизации и заслуживает
изучения со всех точек зрения".14
Уникальность фашистского режима как эксперимента по
строительству нового государства, сравнимого в этом отношении
только с советским режимом, была главной причиной, которая
привлекала в Италию ученых, заинтересованных в знании и
понимании происхождения, структуры, функционирования и целей
режима Муссолини. В 1926-1928 годах молодой американский
философ Герберт В. Шнайдер остановился в Риме с целью провести
"экспериментальное исследование разума и воображения фашизма в
его работе по созданию нового государства". Шнайдер намеревался
изучить "взаимодействие между фактами и идеями, между
практическими потребностями и социальными теориями, между
разумом и телом", "построение фашистских теорий в соответствии с
различными практическими ситуациями, в которых фашизм
действовал под давлением обстоятельств "15.
Провозглашая себя людьми действия, заметил Шнайдер, фашисты
демонстрировали свое презрение к абстрактным теориям политики, но
их действия, тем не менее, направлялись философией, разработанной
"путем ассимиляции из различных источников наиболее близких им
идей". Она основывалась на твердой и безоговорочной уверенности
фашистов в том, что они являются не только "истинными
представителями и толкователями нации", но и "рыцарями нового
политического порядка", архитекторами эксперимента по созданию
нового современного государства, которое, преодолевая демократию и
парламентаризм, реорганизует народ в иерархический унитарный
порядок, в котором социальные разногласия и конфликты разрешаются
путем сотрудничества между классами: Для фашистов их "новый
политический порядок" был "началом трансформации европейской
политики, неизбежным следствием революционных изменений XIX
века". 16
Американский журналист Эдвин Уэр Халлингер, который жил в
Европе с 1920 по 1928 год и впервые посетил Италию летом 1922 года,
также говорил о "фашистском эксперименте". В предисловии к своей
книге "Новое фашистское государство", опубликованной в 1928 году,
Халлинджер писал, что его намерением было проиллюстрировать
"один из величайших в мире социальных и политических
экспериментов", "смелое приключение в области государственного
строительства", "самый впечатляющий национальный эксперимент со
времен Французской революции, который возвышался на фоне серого
и запутанного неба Европы с индивидуальностью, захватившей
внимание всего мира, как никакое другое событие после Великой
войны". 17 Для Халлингера, уже автора книги о большевистской
России, фашистская Италия и Советский Союз "выделялись на сером
небосклоне Европы живостью и новизной, которые привлекли
внимание всего мира" к их "экспериментам, оживленным самой
интенсивной жизненной силой", и оба стали предметом оживленной
политической полемики в более цивилизованных странах, как
выражения "всемирного феномена социальных волнений, которые
после окончания Великой войны вызывали волнения различного рода
во многих частях земного шара".18
Италия и Россия, отметила в свою очередь Сисели Гамильтон,
решились на два "смелых эксперимента", в то время как в остальном
мире политические институты, считавшиеся стабильными,
"находились в состоянии нерешительности и неуверенности". Еще
слишком рано говорить о том, каковы будут окончательные
последствия этих "колоссальных экспериментов" для народов двух
стран, в которых они проводились, и для мира в целом; но независимо
от того, закончились ли они успехом или неудачей, предупреждал
британский ученый, фашизм и большевизм "многому могут научить
менее авантюрные народы, наблюдавшие за попытками их
экспериментов". "Даже если наши убеждения или предрассудки
направлены против новых экспериментов, - заметил Гамильтон, - мы
должны, тем не менее, помнить, что их инициаторы осмелились встать
на путь, который никогда ранее не пробовали, и за это - независимо от
того, привел ли их путь к прогрессу или реакции - мы должны быть им
благодарны "19.
Экспериментаторство или оппортунизм?
Действительно, больше всего иностранных наблюдателей озадачивали
вопиющие идеологические противоречия между фашизмом у истоков
и фашизмом у власти, внезапные изменения в экономической
политике, частые колебания между призывами к миру и угрозами
войны во внешней политике, чередование призывов к порядку и
подстрекательств к революции во внутренней политике, так же как
многих иностранцев смущало безудержное презрение Муссолини и
фашистов к политическим теориям, идеологиям и программам, их
показной прагматизм, превозносивший действие и опыт как
единственный критерий политического поведения режима.
Иностранцам, бравшим у него интервью, Дуче повторял, что "не
существует окончательных принципов. Доктрина должна
интерпретировать жизнь, а жизнь должна учитывать доктрину".20
Эмиль Шрайбер, которому эти слова были адресованы в 1932 году,
заметил, что фашизм - это "неуловимая доктрина".21 После
пребывания в Советском Союзе и публикации своей книги "Как жить в
России", рассказывая о своей поездке в фашистскую Италию,
Шрайбер провел постоянное сравнение между фашизмом и
большевизмом, "двумя экстремистскими системами, возникшими из
хаоса политических идей, обе основаны на принципе односторонней
философской и политической директивы". Хотя "жестоко
противоположные в своих основных элементах, они были едины во
многих отношениях в своих практических действиях", даже питая
"тайное снисхождение друг к другу, которое иногда граничит с
симпатией".22
Несмотря на это сходство, французский журналист особо отметил
радикальное идеологическое разнообразие между двумя режимами:
"насколько точны и ясны директивы советского коммунизма, настолько
же трудно определить директивы фашизма", потому что сама суть
фашизма "заключается в том, чтобы быть доктриной в постоянной
эволюции", чтобы адаптироваться к реальности тоталитарного
государства, находящегося в процессе постоянного строительства.
"Фашистское государство, - сказал Шрайберу один из видных
интеллектуалов режима, - похоже на автомобиль, едущий по
обрывистой дороге, между обрывом и горой, пытающийся при умелом
вождении избежать любого из препятствий".23 Чтобы лучше понять,
что такое фашистская доктрина, Шрайбер расспросил различных
фашистских интеллектуалов и боевиков, но из их объяснений он
пришел к выводу, что "нет даже уверенности, что фашизм - это
доктрина. Это скорее миф", который можно перевести в различные
синтетические формулы, такие как "Верь, подчиняйся, борись"; в то
время как один антифашист дал французскому журналисту следующее
синтетическое определение: "Фашизм - это мнение Муссолини, о
котором мы говорим".24
Для иностранцев-антифашистов экспериментализм, реализм и
идеологическая эклектика фашизма были доказательством
политической и культурной пустоты Муссолини и его последователей,
их оппортунизма без принципов, без идеалов и без ценностей,
движимых исключительно волей к господству и сохранению власти,
управляемой в соответствии с интересами правящих классов. Для
американского журналиста Джона Бонда, который в 1929 году назвал
Муссолини "дикарем Европы", дуче двигали в политике не идеи, а
лишь необузданные амбиции, эгоизм и воля к власти: "Коммунист,
анархист, революционер, патриот, империалист, антимилитарист - все
это лишь временные маски динамичного и неутомимого Эго, которое
мир знает под именем Муссолини "25 .
Испанский антифашист Алисио Гарситораль высказал аналогичное
суждение в 1930 году: "Фашизм - это не доктрина и не наука
управления, это просто инстинктивная и импульсивная сила, созданная
и развитая в благоприятные моменты и организованная энергичным
человеком - Муссолини", который "был антибуржуазным агитатором, а
сегодня стоит на страже буржуазии", действуя всегда и только под
влиянием собственных амбиций.26 Немецкий коммунист Альфред
Курелла также использовал метафору маски для определения
Муссолини и фашизма в 1931 году: "Муссолини носит маску. Мы все
знаем эту маску, но что за ней скрывается?". Чтобы выяснить это,
Курелла предпринял поездку в Италию в марте 1931 года, и в своем
отчете он показал "фашистскую Италию, Италию Муссолини и самого
Муссолини без маски: когда маска падает, падает и Муссолини!
Потому что за маской, которую он носит, нет человека Муссолини. Как
только маска падает, Муссолини исчезает, и появляются уродливые
рожи землевладельцев, промышленников и банкиров, настоящих
хозяев фашистской Италии".27
Для антифашистских наблюдателей даже приверженность режиму
престижных интеллектуалов, таких как Альфредо Рокко и Джованни
Джентиле, которые разработали две разные концепции фашизма, не
доказывала, что у фашизма есть своя доктрина; он просто создал
импровизированную доктринерскую личину, чтобы скрыть жестокое
навязывание партийного правления и тоталитарного государства. Как
заметил Хуан Чабас, хороший знаток итальянской культуры и
философии, союз между фашизмом и идеализмом Джентиле был
основан на "пороке фальши", потому что "центральная концепция
актуализма Джентиле заключается в том, что вся реальность - это Дух,
а Дух - это абсолютная свобода", а эта концепция была "абсолютно
несовместима с политикой дубинки, касторового масла, избиений и
убийств".
Энтузиасты реализма
Иная оценка фашистского эклектизма и его пренебрежения к теориям
исходила от зарубежных поклонников или сочувствующих, которые
видели в нем эффективное выражение политического реализма,
положительный аспект оригинальности фашизма. Для англичанина
Гарольда Е. Goad, журналиста и поэта, члена Британского института
во Флоренции и автора нескольких апологетических работ о фашизме,
режим Муссолини был "конструктивной диктатурой", порожденной
"анаболическим" движением. которое "практически поглотило все
конструктивные группы и организации в стране", чтобы
"мобилизовать духовной силой идеала подавляющее большинство
итальянцев в кампании национального сотрудничества, в духе
жертвенности, против эгоистичного индивидуализма, против
безжалостного антагонизма и жестокой эксплуатации слабых, т.е .
бедных классов".
Строительство" было сутью фашизма, а его оригинальность
заключалась в способности использовать все имеющиеся силы,
приспосабливая их для достижения своей цели.29 Строительство
фашистского государства было не продуктом абстрактной доктрины, а
постепенной реализацией унитарного принципа национального
единства под влиянием идеалистического антиматериалистического и
антииндивидуалистического движения, которое в политике и
экономике стремилось развить "новое общественное сознание"
посредством сотрудничества классов в корпоративной системе и
воспитания масс, организованных в фашистскую партию, в смысле
этического государства, задуманного как сущность, "превосходящая
гражданина и наделенная собственной моральной, религиозной и
социальной индивидуальностью "30. Другим британским энтузиастом
фашистского режима был журналист Джеймс Стрэчи Барнс, боевик
британского фашистского движения и сторонник универсальной
ценности фашизма.
Протестант, перешедший в католичество после долгого пребывания на
полуострове, Барнс любил Италию "до такой степени, что хотел бы
быть итальянцем", как он заявил в своих мемуарах, опубликованных в
1937 году. Он жил в Италии с детства и, получив образование в
Англии, вернулся туда после Первой мировой войны. В Милане он был
свидетелем зарождения и подъема фашизма. Вернувшись в Италию
после "Марша на Рим", он прожил "четыре года после фашистской
революции" в столице, где стал тайным официантом Пия XI и в то же
время "другом величайшего государственного деятеля нашего времени
Бенито Муссолини "31.
Барнс вспоминал, что у него было много бесед с Дуче, который
написал предисловие к его книге "Универсальные аспекты фашизма" в
1927 году, и от самого Дуче он узнал суть реализма, который дал
импульс фашистскому динамизму: "В то время как его принципы,
основанные на моральном законе, неизменны, его идеалы
трансцендентны; поэтому его практическая цель постоянно
продвигается вперед, как дорога, по которой человек идет, чтобы
достичь страны нашей мечты, которая хотя и приближается, но
никогда не будет достигнута; дорога, которая затем будет постоянно
адаптироваться к топографии земли, которую он пересекает". Этот
образ принадлежит Муссолини и показывает его интенсивный
реализм".32
Барнс превозносил реализм и эклектизм фашизма, которые для него
были выражением "темперамента", а не доктрины. Главным качеством
фашизма была его "интуитивная способность", которая не могла быть
заключена в догматическую фиксированность, но действовала в
конкретности реальности, имея в качестве единственного и
стабильного идеала и этического принципа Богом данный моральный
закон и верховенство национального коллективизма, организованного
в государство, управляемое меньшинством избранных людей во главе с
дуче, в котором воплощена и выражена "общая воля" нации: "Фашизм
принимает принцип правления аристократии в смысле элиты и делает
это своей целью, выступая против либеральной концепции народного
суверенитета и партийного правительства, так же как он отвергает
идею агностического государства", которому он приписывает
собственную мораль и этическое превосходство, провозглашая "Бога
верховным сувереном, а государство - его светским наместником,
ответственным перед Богом за хорошее управление народом". 33
Итальянский режим
Доктринально неполноценный, отметил Хуан Чабас, фашизм, тем не
менее, пропитал своим присутствием жизнь итальянцев: "Вся
сегодняшняя итальянская жизнь, политическая и неполитическая,
является фашистской. Фашизм - это не отношение к проблемам
управления государством: это, во всех случаях, отношение к жизни.
Существует фашистский образ жизни: возможно, единственный
итальянский образ жизни".34 Сам фашистский прагматизм был
"итальянским способом, скорее реалистическим, чем
идеалистическим, чувствовать политику", типичным для "народа без
политической культуры", е сли под политической культурой понимать
догматическую доктрину некоторых немецких, французских или
английских партий. Однако, с другой стороны, итальянский народ
обладал "политическим тактом и чувством": "позитивные выводы трех
тысяч лет римского права" и уроки Макиавелли, который считал
"идеалы лишь средствами, которые необходимо использовать в
определенных обстоятельствах, по соображениям удобства, а не
убеждения", сильно повлияли на итальянскую политическую
концепцию. Из-за этого позитивного и конкретного восприятия
политики, по словам испанского поэта, часто случалось так, что
итальянские партии, вместо того чтобы иметь четкую идеологию,
разработанную сознательной правящей элитой, пользовались
"расплывчатой риторикой, возвышающей сентиментальный и
театральный характер народа, готового напиться и получить
удовольствие от театральности политических жестов "35.
То, что фашизм был типично итальянским явлением, уходящим
корнями в историю, традиции, обычаи и характер итальянцев, было
широко распространенным толкованием среди иностранных
путешественников, особенно из демократических стран.
Если фашизм не пользовался хорошей прессой в Англии или был
неправильно понят, то это, по мнению Аллена, было связано с
недостаточным знанием итальянского характера. Многие англичане
описывали фашизм как чрезвычайную случайность, чудовищную
попытку навязать тиранию отдельного человека, удивительный бунт,
вызванный исключительно исключительными обстоятельствами
войны. Многие, кто знает Италию, думаю, не разделяют эту точку
зрения. Это факт, что фашизм является логическим и естественным
продуктом национального духа, и в истории Италии есть много такого,
что объясняет его появление и успех "36. Аллен был в Италии во
время Великой войны, встречался с итальянскими солдатами и ценил
их доблесть, был свидетелем поражения при Капоретто и
сопротивления на реке Пьяве вплоть до победы. Тогда он увидел
подтверждение главных достоинств итальянцев: "добродетель
терпения, пассивной и жизнерадостной стойкости, с одной стороны, а
с другой - интенсивная жизненная сила молодости,
руководствующейся гордым оригинальным видением и осознанием
великих традиций". В горниле войны, среди катастроф и успехов, за
которыми следовали другие катастрофы, добродетели итальянцев
сплавились в хорошо закаленный металл, из которого Муссолини
выковал меч фашизма. Победа Италии над большевизмом не была
внезапным чудом, совершенным одним гением: это была естественная
эволюция итальянского духа, а великий человек, олицетворявший
свою нацию, был продуктом своего времени".37
Вернувшись в Италию через пять лет после прихода Муссолини к
власти, Аллен не имел причин менять свое благоприятное мнение:
"Его проявления все яснее доказывают, что фашизм не является
неестественным наростом, а в значительной степени соответствует
итальянскому характеру. Как и другие системы правления, он имеет
свои недостатки, и некоторые из них сводят с ума многих англосаксов.
Факт остается фактом: свобода - понятие относительное во всем мире,
и ее значение совершенно различно в Англии, США, России,
Германии, Китае и других латинских странах. Ни одно государство не
может существовать, не ограничивая в той или иной мере
индивидуальные свободы, и счастье нации зависит от того, что ее
лишают только тех свобод, которые она не ценит... Сегодня, при
фашистском правлении, свобода слова ограничена, и писатель должен
уважать систему, которая спасла нацию, хочет он того или нет".38
Похожие соображения о происхождении и функциях фашистского
режима, как типично итальянского явления, излагал Милфорд В.
Говард, бывший член американского Конгресса, который хотел лично
убедиться, совершив поездку на полуостров, на что похож фашизм,
вызвавший такой большой интерес в Соединенных Штатах. Говард
утверждал, что он протестант, "верящий в божественное право народа
управлять собой", и поэтому "естественно враждебен ко всем
муссолинистским доктринам", как он их понимал до посещения
Италии. Но поездка в фашистскую Италию убедила его в том, что
итальянцы, как и американцы у истоков своей республики, стремятся
"найти путь к спасению, экспериментируя с новыми методами в новом
и удивительном приключении "39.
Говард объяснял американским демократам, что необходимо знать
Италию и итальянцев прошлого и настоящего, чтобы осознать
глубокие причины и условия, которые сделали возможным фашизм:
только тогда они смогут понять, что "нигде в мире фашистская
концепция правления не могла быть успешно применена". Фашизм
родился не на пустом месте, не из "инфантильного мозга какого-то
догматического мечтателя, а из великой национальной необходимости,
из мудрости и философии великого провидца, чья жизнь и опыт
сделали его подходящим в высший час смертельной опасности для
Италии".40
Беро также считал фашизм "очень итальянским явлением". Можно,
конечно, провести сравнение между большевистской Россией и
фашистской Италией и увидеть сходство, потому что "в обеих странах
воля народа была заменена нетерпимой и бесконтрольной властью
лидера, поддерживаемого агрессивным меньшинством", но "Советам,
специфически славянскому созданию, которому прошлое не дало
никакого опыта, фашизм противопоставил чисто итальянское
создание": "Фашистская Италия - это не новая Италия, есть Италия
вчерашняя и позавчерашняя, Италия всегдашняя - Италия". А чтобы
понять "смущающую" фашистскую систему, которая "время от
времени бывает мятежной и консервативной, где государство, партия и
нация неразрывно смешаны; где фракция приобретает
конституционный аспект, а умеренность - подозрительный характер;
где смешаны строгие обычаи и безнаказанное насилие,
республиканская дисциплина и антидемократический дух",
необходимо, предупреждал Беро, "искать истоки в меандрах
итальянской души и в интригах [ее] прошлого "41.
В фашистском темпераменте и образе действий не было ничего
удивительного, поскольку они были "проявлением итальянского
характера, подчиняющегося древним установкам", включая
"излишества, нетерпимость и жестокость режима", так же как
"подлинно итальянским продуктом является политическое касторовое
масло, которое нужно употреблять на месте". Итальянская сущность
фашистского режима утешала француза в том, что такая
демократическая и республиканская страна, как Франция, находится в
безопасности от заразы: "Фашизм передается своим соседям не
больше, чем каморра или мафия".42
Народ, непригодный для демократии
Порицаемый иностранными наблюдателями демократических
государств, фашистский диктаторский режим, тем не менее,
рассматривался многими из них снисходительно, поскольку считался
подходящим для народа, не имевшего традиций самоуправления,
завоевавшего свою независимость менее века назад и принявшего
либеральные институты, импортированные из политического
устройства наций, которые были создателями правительства,
основанного на свободе гражданина и народном суверенитете. Будучи
иностранным импортом, парламентская система плохо
функционировала в Италии, а либерализм не привился к сознанию и
политической культуре большинства населения, которое все еще было
слишком отсталым, неграмотным и подверженным вековым
авторитарным традициям. Более шестидесяти лет парламентского
режима, к тому же сопряженного со многими недостатками, оказалось
недостаточно, чтобы приучить итальянцев к представительной
демократии.
Парламентские институты, сказал Людовик Наудо, "не родились в
Италии спонтанно: предоставленный сам себе, итальянский народ
никогда не создавал либеральных институтов, ему все еще не хватает
чувства общественной солидарности". Свободы, подавленные
фашизмом, не были теми, о которых заботился народ". Более того, с
принятием всеобщего мужского избирательного права "правительство
неграмотной толпы подвергло Италию тотальной подрывной
деятельности: оно должно было быть уничтожено. Демократия была
легко уничтожена, потому что она была лишь симулякром ... Десять
миллионов неграмотных избирателей неизбежно должны были
породить бессильные правительства и таким образом, через анархию,
привести к диктатуре".
Отсюда успех фашизма, который не позволил всеобщему
избирательному праву отобрать власть "у олигархии, которая из
лучших побуждений считала себя единственно пригодной для
управления Италией", выражение буржуазии, которая не собиралась
отказываться от руководства страной, в котором она все еще
чувствовала себя необходимой, поскольку все еще не было другого
социального класса, способного ее заменить. Таким образом, он
возник в результате "комбинации специфически итальянских
обстоятельств", навязывания "центральной власти народу, чья
естественная склонность, недисциплинированный индивидуализм,
опасно усугубляется при демократическом режиме", подтверждая, что
"Италия с ее 40-процентным неграмотным населением еще не готова
радоваться свободе и не будет процветать без жесткого управления".43
Для Эдвина Уэйра Халлингера также было необходимо вернуться к
"органическим дефектам итальянской нации", чтобы понять фашизм и
его политический режим.44 Италия была отсталой страной, с
населением, которое оставалось в основном неграмотным и
примитивным, и, несмотря на современную индустриализацию
некоторых северных регионов, накануне фашистской революции это
была "страна, все еще омраченная тенью средневековья", не сильно
отличающаяся от той, какой была Россия накануне революции. Не
случайно, заметил американский журналист, две страны, ставшие
"лабораторией двух самых передовых социальных экспериментов века,
были странами с замедленным развитием".
Упорная отсталость Италии не позволила ей включиться в процесс
формирования современной демократии, поэтому после объединения
страны парламентский режим был лишь "фасадной демократией", где
господствовали интриги, жульничество и коррупция. "Даже в наше
время, - заметил Халлингер, - почти половина населения Италии по
своей природе не приспособлена к представительным формам
правления "45.
Отсюда, по мнению американца, вытекала необходимость в
правительстве, способном устранить основные органические
недостатки Италии, решить проблему отсутствия национального
единства путем создания итальянского патриотизма и искоренения
провинциальных настроений. По мнению Халлингера, "необходимо
было провести радикальную реорганизацию и омоложение страны;
изменить ее образ жизни, чтобы догнать современный марш
прогресса, усвоить уроки, которые преподал нациям XX век".46
Фашистский режим, по мнению Халлингера, представлял собой
решение проблем Италии, предложенное новым и молодым правящим
классом во главе с Муссолини, главной целью которого было
"запечатлеть в итальянском народе новую концепцию жизни и новый
образ жизни", способные превратить все еще подростковый народ во
взрослый. Но для достижения этой цели необходимо было
организовать нацию как "компактную и органичную социальную и
политическую единицу "47.
Для Алисио Гарситораля фашизм также был "истинно итальянским
феноменом", но только не в хвалебном смысле, потому что он был
конденсатом недостатков итальянского народа, которые дуче смог
использовать, потакая вкусу своих соотечественников к театральности
парадов, униформе, римским орлам, иерархии, высокомерию и
насилию.48 Муссолини смог придать фашизму "ритм, внешний облик,
легко очаровывающий итальянцев... На первом этапе своей диктатуры
фашизм создал фашистскую атмосферу, превосходящую сам фашизм",
которая подстрекала итальянцев к безудержному национализму,
заставляя их верить в то, что Италия Муссолини вот-вот завоюет
авангардное положение во всем мире49.
Таким образом, фашизму удалось "перешагнуть через нацию", навязав
ей свою собственную диктатуру: "Диктатура - это реальность:
диктатура с древними итальянскими корнями, которая решает все
проблемы с опасным и беспочвенным эклектизмом, стремясь, прежде
всего, укрепить и увековечить себя". Таким образом, поход на Рим
превратился в поход на Италию" благодаря установлению
диктатуры.50 Фашистский режим усугубил традиционное отвращение
к итальянской политике, усугубил его как в партии и дуче, так и в
народе и классах, вынужденных подчиниться диктатуре.51 Режим
Муссолини представлял собой смесь тирании и театральности, обе из
которых происходили из явно итальянской традиции: "Тираническая
театральность. Театральность - это тирания. Итальянское восхищение
театральностью; итальянское подчинение тирании". Справедливо
признать, что в борьбе между фашизмом и оппозицией народ
предпочитал отсутствовать".52
Разговорчивое молчание
Французский писатель Эмиль Анрио в последний раз был в Риме в
1912 году, а затем вернулся туда в декабре 1928 года. Он нашел
столицу сильно изменившейся: в ней больше не было прежней
жизнерадостности. Улицы молчаливы и ужасно серьезны... Царит
порядок - как и в Варшаве - обеспечиваемый военными. Повсюду
полиция, торжество одностороннего движения, даже для пешеходов,
на тротуаре, как на духу...". Конечно, Италия признает, что фашизм
сделал много хорошего: возрождение служб, гарантированный
порядок, восстановленный авторитет, вновь обретенное чувство
(иногда обидное) национального достоинства. Но, не будучи
коммунистами, в Италии есть и свободные духи, которые страдают от
ощущения этого свинцового плаща на своих плечах. Они не могут
говорить. В прессе нет ни одного несогласного голоса. И каждый из
них, как видно, охраняет себя... Француз, у которого чувство свободы в
крови, ощущает здесь нестерпимое недомогание, чувство удушья.
Такой режим был бы невозможен у нас: итальянец приспосабливается,
привыкая во все времена к власти, формы которой всегда одни и те же
"53.
При фашистском режиме охрана порядка была возложена на
полицейский контроль, осуществляемый таким образом, чтобы
породить у гражданина постоянный страх "стать подозреваемым",
поскольку закон "полностью отдает его на произвол полиции", отметил
Йозеф Рот во время своей поездки в Италию в 1928 году, обрисовав
"краткую панораму бессилия гражданина в сегодняшней Италии". 54
Австрийский журналист и писатель привел цифры, которые сам
Муссолини назвал 26 мая 1927 года о полицейских силах,
действующих в Италии: 60 000 карабинеров, 15 000 полицейских в
Риме, 10 000 человек в Milizia ferroviaria, postale e telegrafica и 300 000
человек в Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. "Одного
существования этих вооруженных сил было бы достаточно, чтобы
ограничить личную свободу итальянского гражданина. Но существуют
законы, которые полностью сводят ее на нет".55 Таковы законы, писал
Рот, которые не позволяли итальянскому гражданину передвигаться по
стране без удостоверения личности, выдаваемого полицейским
органом по месту жительства. Ни одна гостиница не может его
принять. Его даже не могут принять в больницах. Эмиграция
практически невозможна. Власти не дают заграничных паспортов".
Двадцать тысяч лир и не менее трех лет тюрьмы для каждого, кто
попытается пересечь границу без паспорта".
Режим ввел понятие "гражданин с плохой репутацией": "Такой
гражданин больше не имеет никакой личной свободы. Полиция, т.е .
жандармерия, постоянно следит за ним. Она устанавливает точные
часы, когда он может покинуть свою квартиру. Полицейская комиссия
может назначить ему место для проживания либо в Италии, либо в
колониях. Только полиция определяет его день, его работу, его сон, его
прогулку, его отдых. Муссолини объяснял подобные меры так: "Мы
удаляем этих людей из нормальной жизни, как врачи изолируют
больных заразными болезнями". Но помимо принудительных мер,
итальянцы жили в постоянном страхе, что за ними следят везде и все:
"Итальянский гражданин боится газетчика на углу, табачника и
парикмахера, носильщика и нищего, соседа по трамваю и водителя. А
табачник, парикмахер, сосед, пассажир и водитель боятся друг
друга".56
Подавив свободу прессы, заставив граждан жить в страхе перед
подозрениями во враждебности режиму, создав систему полицейского
контроля, в которую были вовлечены даже консьержи гостиниц,
фашистский режим к концу 1920-х годов прочно утвердился у власти,
сделав "всесильную полицию", как назвал ее Рот, и все население
Италии бессильным проявить какое-либо несогласие или протест, хотя,
добавил австрийский писатель, следствием фашистской цензуры стало
существование "опасной, неконтролируемой подпольной прессы". 57
Через год после поездки Рота в Италию Анри Беро, исповедовавший
себя свободолюбивым республиканцем, получил разрешение от самого
Муссолини посетить страну, куда бы он ни пожелал, включая
посещение островов, где содержались в заключении противники
режима, с обязательством вернуться к дуче и откровенно рассказать
ему о своих впечатлениях58.
Первое, на что обратил внимание француз в столице, да и во всей
остальной Италии, от Турина до Палермо, - это непрерывный,
настойчивый, постоянный поток разноцветных плакатов и настенных
надписей, восхваляющих дуче, фашизм, секретаря партии, Милицию,
"Марш на Рим", Пьяве, Победу, армию, короля. Плакаты и надписи,
всегда свежие, "неустанно выражали энтузиазм населения по
отношению к режиму и его лидеру". Но Беро задавался вопросом,
почему так много публичных похвал, даже дорогих похвал, в адрес
режима, который считал само собой разумеющимся, что его любит
народ. И журналист ответил цитатой из старой пословицы: "Когда
стены говорят, народ молчит".59
На самом деле, во время своей поездки в Италию времен диктатуры,
особенно в столицу, он заметил "шумное молчание" населения:
"Молчание публики столь же примечательно, как и красноречие
прокламаций. Заметьте, это не обычное молчание. Молчание Рима -
это болтливое молчание, молчание, которое никогда не умолкает,
молчание, так сказать, с утра до вечера, через все уста". В потоке слов
Италия погружается в молчание. Это первое из чудес, которые фашизм
предлагает для восхищения иностранцев".60
Исследуя причины "шумного молчания" населения, в то время как все
стены кричали о единодушном энтузиазме итальянцев по отношению к
режиму и Дуче, Беро выразил впечатления и оценки, очень схожие с
теми, о которых годом ранее сообщал Джозеф Рот. Главной причиной
был "печальный страх перед полицейским": "Чтобы обеспечить
порядок - в тишине - режим имеет полицию, которая является
шедевром и образцом в своем роде".61 Под этим подразумевался,
прежде всего, режим, который хотел дать итальянцам новое
индивидуальное достоинство и коллективную гордость, сделать их
счастливыми, счастье, которое родится "из сухой дисциплины, из
слепого послушания, из безоговорочного уважения к иерархии".
Однако это еще вопрос, сделает ли это людей счастливыми; могут ли
ограничения и дубинки способствовать моральному возвышению
бесконечно цивилизованного народа "62.
'Обязательный оптимизм'
Репрессии не позволяли итальянцам даже жаловаться на
экономические трудности в их повседневном существовании из-за
постоянно дорожающей стоимости жизни. Большая часть населения,
отмечал Наудо, жила "в условиях, которые мы считали бы
неприемлемыми", потому что "в сельской местности крестьяне
довольствуются очень малым и едят мясо только раз в неделю. Рабочие
в мастерских не едят ничего, кроме хлеба, помидоров и лука. Семьи с
большим количеством детей игнорируют даже запах мяса и обходятся
хлипкими помоями, скудной пищей".63 Итальянское население
должно было "довольствоваться жизнью в экономных условиях", к
которым его подготовила традиционная трезвость, но ему будет трудно
сократить потребление дальше, и оно должно выразить свой энтузиазм
по поводу того, как им управляют. "Режим сделал оптимизм
обязательным. Запрещено чувствовать себя несчастным", -
прокомментировал французский журналист.64
Рот также говорил о "вынужденном оптимизме", который, несомненно,
взял это выражение у Наудо, не цитируя его. Описывая итальянские
газеты, Рот заметил, что в Италии журналист - не критик, "а эхо. То,
что Муссолини провозглашает стране, эхом отражается в зарослях
итальянских газет". Таким образом, появился новый вид журналистов -
"комментаторы фашистской доктрины и действий; скучный
журналист". (Он существует и здесь, но не как идеал.) Откройте
итальянские газеты! Их характерная черта - скука. Фашизм гордится
тем, что покончил с порнографией и сенсационными
преувеличениями. Вот почему он ввел обязательный оптимизм".65
Австрийский писатель обнаружил тот же "обязательный оптимизм" в
публичных демонстрациях.
Оптимизм, доминирующий на итальянских улицах, настолько
безусловный, настолько откровенный, что заставляет подозревать, что
он обязателен": "Фашисты маршируют по улицам под музыку.
Множество людей в штатском идут по бокам и следуют за ними... На
их лицах можно прочесть не что иное, как некое тронутое
воспоминание, порожденное сочетанием неподвижного, пустого
взгляда и ритмично подрагивающих щек, и имеющее именно вид
массовой экзальтации". Когда в музыке наступала пауза, фашист
издавал воинственный клич "alalà", который "опасно напоминает о
предыстории человечества", потому что, заметил Рот, "он напоминает
мне - когда речь идет о воинственных кличей, можно говорить только о
субъективных впечатлениях - скорее мифологическую неясность
прошлого, чем суровую ясность древнеримской истории, к которой
ясный, дисциплинированный трубный звук вернет меня скорее, чем
крик человеческого горла".66
Большинство фашистов, которых Рот видел на параде, были молодыми
людьми, но в их рядах были и люди "с чертами ответственных
семьянинов, чья решительность имеет еще более боевой эффект", а по
сторонам улиц стояли зрители: "В молчании. Они не реагируют на
воинственные крики марширующих. Лишь изредка мужчина или
женщина отделяется от этих групп, подходит к краю тротуара, кричит
протяжное "Хааа!" и поднимает руку в хорошо известном священном
приветствии, которое может означать все что угодно: "Хайль!",
"Удачи!", "Доброе утро!", "Бог вам в помощь!". Остальные молчат и не
двигаются. И поскольку этот человек остается один со своим криком и
приветствием, неподвижная тишина остальных производит
впечатление вражеского молчания. Это, конечно, не так. Я
предполагаю, что оно только нейтральное. Но оно все же достаточно
велико, чтобы демонстрация этого человека звучала как мужественный
протест".67
Для саркастичного австрийца, прежде всего, военная форма детей
выглядела нелепо. Если фашистская форма "делала взрослых красивее
и моложе, чем они были, то детей она превращала в некую военную
миниатюру и потенциальных взрослых", - комментировал Рот,
отмечая, что он часто замечал, что националистическим настроениям
не хватает чувства смешного: "Дети с патриотическими флагами и в
форме на улице, взбудораженной патриотизмом, всегда вызывают
смутные воспоминания о варьете и тренировках и создают у зрителя
впечатление, что он должен купить билет".68
Не скрывая сарказма, Рот оценил как абсурдное требование навязать
детям, которые учатся читать и писать, убеждение, "что фашистская
диктатура является спасением Италии"; однако он понимал, что такое
требование является логическим следствием "фашистского катехизиса,
который преподается в школах и важнейшее кредо которого звучит
следующим образом: "Я - Италия, твоя госпожа, твой Бог"; "Я верю в
гений Муссолини"; "И в нашего святого отца фашизма, и в общение
мучеников"; "В обращение итальянцев и воскрешение империи.
Аминь". Рот назвал такой катехизис (который он взял из книги Наудо,
опять же не цитируя ее) "ошеломляющим возмущением против
ребенка" и "против Церкви", точно так же, как он считал учение о
слонах "возмущением против природы "69.
11. МУССОЛИНИАНСКАЯ
ИТАЛИЯ
С детства Джон Гиббонс, английский католик, собирал
железнодорожные расписания со всего мира. Читая их, он наугад
выбирал места, где хотел бы побывать. Так, движимый любопытством
и случайностью, он путешествовал по Европе на поездах и пешком,
описывая свои впечатления в различных книгах. В июне 1932 года он
путешествовал по Италии и, находясь в Риме, решил поехать на поезде
в Сульмону просто потому, что ему понравилось название. Расстояние
в сто километров от Рима до Сульмоны заняло более шести часов: но
ему понравился этот маленький городок в Абруццо, что
компенсировало усталость от путешествия. Гиббонс не в первый раз
посещал Италию. Он был там за несколько лет до этого, потому что,
как он читал во многих книгах, это был полуостров, где "царило
солнце, а люди проводили свою жизнь, ничего не делая".1 Но как
только он пересек границу, он обнаружил, что старая Италия,
описанная в книгах, изменилась, и возникла новая Италия, Италия
Муссолини: "Новая страна Муссолини", как он ее называл.2
Вездесущий
Гиббонс проехал по Италии с севера на юг и сообщал, что везде видел
стены, покрытые плакатами с надписью "W il Duce" и портретами
Муссолини, нарисованными мелом или штампами. Помимо стен,
изображение Муссолини демонстрировалось "в офисах, в залах
ожидания вокзалов, на плакатах, везде, во всех формах, со
стилизацией, которая делала его похожим скорее на череп, чем на
портрет сурового государственного деятеля, и гораздо чаще на
оратора, выступающего перед толпой". 3 Из всего многообразия мод у
Гиббона сложилось впечатление, что доминирующим мотивом было
изображение "полной и непреклонной власти", "движущей силы,
которая взяла на себя руководство нацией и за несколько месяцев
превратила ее из страны на грани анархии в самый сплоченный и
самосознательный народ в мире".4
Публичное распространение образа Муссолини началось с приходом
фашизма к власти и постоянно усиливалось, превращаясь в навязчивое
присутствие: "Муссолини везде - в имени и в чучеле, в жестах и в
словах, - заметил Беро в 1929 году, - гораздо больше, чем Кемаль в
Турции и даже больше, чем Ленин в Москве... Куда бы вы ни обратили
свой взор, куда бы вы ни пошли, вы найдете Муссолини, и снова
Муссолини, всегда Муссолини". Газеты и газетные киоски, книжные
магазины и кафе, витрины и стены магазинов и даже заборы
строительных площадок "не перестают провозглашать его имя и
славу", а открытки и пропагандистские фотографии показывали главу
правительства во всех формах и позах: "в рединготе, в форме, одетый
как яхтсмен, как авиатор, как кавалерист, в фелюке с перьями, в
сапогах, за рулем спортивного автомобиля, перепрыгивая через
препятствия, обращаясь к толпе, пожиная пшеницу, восстанавливая
леса Калабрии, отдавая честь на римский манер, пробуя ранчо
берсальери, гладя зверей, маршируя на Рим, играя на скрипке". Спустя
семь лет, продолжает Беро, изобилие чучел Муссолини было поистине
невероятным. Образ Дуче стал частью бытия, он управляет каждым
моментом итальянской жизни. И я говорю не только о публичных
актах, я говорю о повседневной жизни, жизни на улице. Вы заходите в
часовую мастерскую, шляпный магазин, парикмахерскую, аптеку,
табачную лавку: изображение диктатора в похоронной рубашке
смотрит на вас, оно доминирует над прилавком и руководит покупкой,
свидетельствуя о гражданской позиции владельца магазина". В
кинотеатре, когда Дуче появлялся в кинохронике Istituto Luce, зрители
вставали как один. "Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали, его
взгляд будет следовать за вами: везде глаз хозяина! Муссолини
вездесущ, как бог "5.
Путешествие в Италию в 1932 году, после пребывания в Советском
Союзе, произвело на Эмиля Шрайбера иное впечатление. В начале
своего рассказа об итальянских впечатлениях он указал на
существенные различия в том, как принимали иностранцев в этих двух
странах, где правили тоталитарные режимы. Прежде всего, французу,
отправляющемуся в Италию, требовался только паспорт, в то время
как для въезда в Россию ему приходилось ждать визы из Москвы.
Кроме того, Шрайбер обнаружил, что в Италии легко исследовать
фашизм, в то время как в России сложно исследовать коммунизм.
Независимо от политического режима, Италия оставалась "страной
несравненной красоты и наилучшим образом оборудованной для
приема иностранных туристов: везде комфортабельные отели,
маленькие ресторанчики под открытым небом в восхитительных
местах, одни из самых эффективных организаций для экскурсий и
посещения музеев, и, что бы ни говорили, прием был не только
радушным, но и очень симпатичным по отношению к французам,
несмотря на постоянные устные, письменные и устные упражнения
против нашей страны".6
Наконец, иностранец, приехавший в страну Советов только как турист,
не мог игнорировать большевизм, его доктрины и достижения, потому
что, объяснял Шрайбер, советская пропаганда буквально захватывала
его, как только он пересекал границу, начиная с больших плакатов на
пограничной станции, хвастающихся достижениями пятилетнего
плана или празднующих победы пролетариата над военными силами,
религиозными или буржуазными силами в других странах, а затем
продолжалось в гостиницах, на стенах мастерских, на улицах, в то
время как туристическое агентство "Интертурист" показывало
туристам достижения диктатуры пролетариата точно так же, как в
других странах агентство "Кук" показывало туристам музеи или
живописные места.
С другой стороны, в Италии иностранцы, которые хотели лишь
полюбоваться великолепием природы, провести спокойный отпуск,
совершить паломничество в Рим или познакомиться с его
археологическими и художественными сокровищами, мало что видели
от фашистского режима и не были обязаны следовать
пропагандистским маршрутам и визитам. Даже "редкие изображения
Муссолини, напечатанные на стенах больших городов", - утверждал
Шрайбер, - "практически исчезли. Его портреты можно увидеть только
в общественных или частных зданиях... и даже не везде (я говорю о
частных!). Крупные демонстрации проходят реже, но не потому, что
энтузиазм боевиков угас, а потому, что собрать большое количество
ополченцев со всей Италии дорого, а чрезмерные расходы больше не
совместимы с экономической ситуацией". Более того, заметил
Шрайбер, режим больше не нуждался в таких демонстрациях,
поскольку теперь он прочно сосредоточил в своих руках все рычаги
управления, "включая общественное мнение, благодаря полному
молчанию, наложенному на всех, кто хотел выразить хоть малейшую
критику". Поэтому для француза фашизм, в отличие от большевизма,
был "трезвым режимом", то есть режимом, который не стремился
демонстрировать и навязывать свое присутствие, свои произведения и
свой дуче иностранным туристам посредством пропаганды.7
Среди британских путешественников Эндрю рассказывал, что он
почувствовал "зов Италии" и откликнулся на него с единственной
целью - посетить страну и познакомиться с ее жителями.8 И, хотя он
был членом Британской фашистской партии Освальда Мосли и назвал
свою книгу "Через фашистскую Италию", он мало рассказывал о
фашизме и Муссолини, за исключением нескольких случайных
замечаний. Об изображениях Муссолини он рассказал, что видел один
из них в Сузах, на стене, стилизованный портрет, который "какой-то
тайный противник нового порядка замазал шрамом... гвоздем или
ключом".9 А в Риме он с удивлением узнал от фашистов, когда
выразил намерение посетить новый город Литтория, что не существует
организованной экскурсии, как это было бы сделано в
коммунистической России, чтобы отвезти иностранных туристов
посетить мелиорацию в Агропонтино, общественную работу, которой
сам режим хвастался за границей. Они сказали мне, что я могу идти
куда хочу и видеть что хочу". Итак, - заметил англичанин, - е сли
фашистская Италия не использовала новые поселения на месте болот в
пропагандистских целях, она, конечно, не пыталась их скрыть, как она
бы сделала, если бы это были работы, выполненные рабочими,
вынужденными трудиться в нечеловеческих условиях, как утверждала
коммунистическая пресса "10.
Революция продолжается
Определение "трезвый режим" не подходило Италии Муссолини в
начале 1930-х годов, когда режим праздновал первое десятилетие
фашистской революции. Хотя иконографическая вездесущность
Муссолини, возможно, уменьшилась, физическое присутствие дуче на
полуострове усилилось: он часто совершал поездки и выступал с
речами в разных регионах. Между началом 1930 и концом 1932 года
Муссолини показывался и выступал перед итальянцами не только в
Риме, но и в Гроссето, Лукке, Пистойе, Милане, Специи, Неаполе,
Терни, Турине, а затем в Витербо, Форли, Павии, Монце, Брешии,
Анконе. И везде он объявлял, что фашизм - это революция, которой
суждено продолжаться весь 20-й век.
Уверенный в своей "способности продержаться", дуче писал в 1928
году: "Фашистский эксперимент уже начал программу политических
реформ на ближайшие годы". Фашизм "отождествляет себя и будет
отождествлять на протяжении многих десятилетий со всей
итальянской нацией": однако, добавил Муссолини, несмотря на то, что
он является "чисто итальянским явлением в своем историческом
выражении, его доктринальные постулаты имеют универсальный
характер", поскольку они предлагают людям, уставшим от
либеральной демократии, новые решения политических и социальных
проблем современного мира в качестве альтернативы
большевистскому эксперименту. Фашистский эксперимент показал,
что "Италия способна инициировать - в третий раз в своей истории -
новые формы политической цивилизации".11 Четыре года спустя, 25
октября 1932 года, во время празднования десятой годовщины "Марша
на Рим", в Милане, на площади Дуомо, перед океанской толпой, Дуче
объявил, что "двадцатый век будет веком фашизма. Это будет век
итальянского могущества; это будет век, в течение которого Италия в
третий раз вернется к роли директора человеческой цивилизации,
потому что вне наших принципов нет спасения ни для отдельных
людей, ни тем более для народов "12.
Празднование десятилетия стало поводом для открытия крупных
общественных работ, таких как Виа дель Имперо в Риме 28 октября,
которая соединила площадь Венеции с Колизеем, пройдя через
территорию Форума, открытую в результате археологических
раскопок, проводившихся при поддержке Муссолини. 18 декабря дуче
торжественно открыл Литторию, первый из "новых городов",
построенных режимом в восстановленной сельской местности
Агропонтино. Помимо восстановления болот, обширная программа
общественных работ, проводимых режимом, таких как городские
преобразования столицы и других крупных городов, была обусловлена
не только стремлением Муссолини материально создать новую
фашистскую Италию, но и необходимостью решить проблему
растущей безработицы и увеличить производство после того, как
итальянская экономика пострадала от великого экономического
кризиса, разразившегося в США в октябре 1929 года.
Более того, чтобы показать, что режим, спустя десять лет после захвата
власти, больше не боялся никакой оппозиции, в конце 1932 года была
объявлена амнистия для политических заключенных, приговоренных к
пяти годам лишения свободы. В то же время был возобновлен прием в
Фашистскую партию, закрытый в 1928 году: новый секретарь ФНФ
Акилле Стараче сообщил Большому совету на заседании 5 ноября 1932
года, что число новых заявлений о приеме в партию превысило
полмиллиона и что в первый день 11-го года фашистской эры общая
численность партии составляла 2 411 133 члена. Два года спустя, 25
марта, в ходе второго плебисцита по выборам в Палату депутатов
почти ста процентами действительных голосов избиратели утвердили
единый список кандидатов, предложенный Большим советом.
"Последний плебисцит стал оглушительным триумфом Муссолини.
Теперь за ним стоит вся нация", - заметил французский писатель
Раймон Рекули, посетивший Италию в 1934 году. Если еще есть какие-
то противники, то они принадлежат к угасающим поколениям, которые
становятся все реже и реже, вплоть до своего исчезновения. Напротив,
подрастающие поколения, молодежь, на которую дуче возлагал свои
надежды, которую он воспитал в своих доктринах, вылепил своей
могучей рукой, - все они с ним". Фашистский режим просуществовал
двенадцать лет, "немного для собора, но кое-что, и даже много, для
диктатуры", которая, преодолев трудные моменты, такие как убийство
Маттеотти, "все глубже и глубже пускала корни в итальянскую почву.
И сегодня она обладает прочностью, которая кажется
непоколебимой".13
Политический туризм
Укрепившись у власти, режим стал активно призывать иностранцев
посетить Италию. Сначала фашизм враждебно относился к
иностранному туризму, считая его фактором деградации итальянского
характера, поскольку он способствовал распространению
подневольных привычек, которые Муссолини осуждал еще будучи
социалистом, и тем более позже, будучи интервентом и фашистом.
Более того, фашисты осуждали иностранцев, которые приезжали в
Италию только для того, чтобы провести там отпуск или медовый
месяц, насладиться природной красотой и кухней, посетить музеи и
древние памятники, в то время как они игнорировали новую,
современную, динамичную Италию, Италию фашизма и Муссолини.
Анри Беро сообщал, что во время "марша на Рим" он слышал, как
"Муссолини, смеясь, сказал, что за всю свою жизнь он ни разу не
заходил на Форум или в музей".14 А Людовик Наудо вспоминал
"радостную убежденность", с которой во время интервью в ноябре
1922 года Муссолини выразил "свое глубокое презрение ко всей
древности, к музеям, царству теней".15
В начале 1930-х годов все еще существовали ультрафашистские
газеты, "объявившие войну невинной индустрии туризма", как писал
швейцарский журналист Поль Жантизон, проработавший в Риме пять
лет в качестве корреспондента парижской газеты "Le Temps", потому
что, по их мнению, "Италия опозорила бы себя, раболепно
опустившись до того, чтобы воспользоваться волной приезжих "с их
варварским акцентом и экзотическим произношением, а также
претенциозных и агрессивных", которые мешали итальянцам
предаваться "удовольствию чувствовать себя хозяевами в собственном
доме". Поэтому, по мнению молодых ультрафашистов, правительство
должно было отдать приказ выслать обратно на границу всех
иностранцев с "Кодаками" и "Бедекерами", всех неитальянских
молодоженов, всех ученых с белыми бакенбардами, а на границах
повесить таблички с анафемой "Vade retro", обращенной ко всем
иностранцам".16
Во втором десятилетии режим изменил свое отношение и стал
поощрять иностранный туризм. Прежде всего потому, что это был
важный финансовый ресурс для преодоления экономического кризиса:
в экономическом балансе Италии доходы от туризма почти составляли
чистую положительную статью, поскольку при сравнении расходов
иностранцев в Италии и итальянских туристов за границей баланс
всегда был в основном в минусе: это было особенно верно в годы
между 1932 и 1934, в течение которых в Риме отмечались Десятилетие
фашистской революции и Святой год17.
Режим принял туристическую политику, направленную на развитие
как эстетического туризма, который интересовал иностранцев,
желающих посетить страну, которую все считали соблазнительной по
своему климату, кухне, фольклору и природной красоте, так и
культурного туризма для тех, кого привлекали "проявления и
спекуляции человеческой мысли, творения в области науки,
удовольствие от контактов с культурными кругами и желание создать
связи мысли между различными народами". Именно на эту вторую
категорию туристов, хотя и менее многочисленную, режим обратил
свое внимание с определенно политическими намерениями, считая,
что "каждая страна представляет собой центр политики с
определенными критериями, и эти критерии соответствуют тем,
которые характерны для каждого из человеческих обществ,
упорядоченных в политической системе". Иностранный туризм
рассматривался режимом как один из наиболее эффективных
пропагандистских инструментов в распоряжении современного
государства, которое должно было "заботиться обо всем, что связано с
тем, чтобы сделать свои институты известными за рубежом и повысить
свой престиж, тем самым распространяя свою жизнь за пределы
страны": "Турист, который удобно размещен, вносит больший вклад в
знание страны за рубежом, чем многие пропагандистские брошюры,
отправленные за границу".
Чтобы облегчить прибытие иностранцев и сделать их пребывание
более приятным, были созданы условия для предоставления скидок на
железнодорожные билеты, улучшения транспортного обслуживания и
размещения в гостиницах. По случаю десятилетия, чтобы привлечь
иностранцев посетить выставку фашистской революции,
проходившую в столице, железные дороги предоставили 70-
процентную скидку на билеты, которые необходимо было подтвердить
при выходе с выставки. "Мы бессовестно воспользовались этим", -
вспоминала в своих мемуарах Симона де Бовуар, путешествовавшая
по Италии с Жан-Полем Сартром в 1932 году19. Более того, как
отметила в 1934 году Поле Эрфор, французская журналистка,
увлеченная Муссолини и фашизмом, иностранные туристы "ценят тот
факт, что вход в общественные здания, раскопки и музеи в Италии
везде совершенно бесплатный".20 Роланд Дж. Эндрю вспоминал, что
он бесплатно получил от римских фашистов две книги: "Фашистская
Италия в движении", полную фотографий, иллюстрирующих прогресс
в различных секторах национальной деятельности, и книгу на
английском языке "Что такое фашизм и почему", "которая увлечет
любого, кто интересуется мировыми делами и социальными
науками".21
На границе фашистской Италии
Иностранцы, собиравшиеся ехать в Италию Муссолини, говорили, что
сначала они колебались, потому что за рубежом ходили слухи о рисках,
связанных с поездками в Италию: таможенники были высокомерны и
домогались при проверке паспортов и багажа; повсюду были шпионы;
было опасно выражать антифашистские взгляды и даже произносить
имя Муссолини. Однако, оказавшись в Италии, иностранные
путешественники не подтверждали эти слухи.
Таможенники, писал Фрэнк Фокс, "вежливы и услужливы. Нет причин
беспокоиться, если в вашем багаже случайно окажется книга или
газета, осуждающая фашизм. Самое любопытное, что ваш багаж не
будут обыскивать. Тех, кто намеренно везет с собой пропагандистские
материалы или запрещенную прессу, или хочет провезти запрещенные
книги, обязательно обнаружат и у них будут неприятности.
Путешественник, который, не будучи пропагандистом, не является
полным сторонником фашистского "режима добродетели", не будет
подвергаться вмешательству в свои личные вкусы". Только
путешественник, привезший с собой подрывные материалы, может
подвергнуться риску, в противном случае приезжий может
передвигаться "с той же свободой, что и в Англии, а о полицейских он
не будет знать ничего, кроме их вежливости и доброжелательности".
Политическая полиция", о которой я слышал, - продолжал Фокс, -
известна своей эффективностью - поскольку у них в союзниках все
население - и, вероятно, хорошо информирована о путешественниках".
Но невинный турист никогда не услышит об этом, он даже не будет
знать о его существовании". Вежливость была названа Фоксом "одним
из успехов фашизма": "Это вежливость, которая не зависит от чаевых,
а основана на желании дать иностранцам хорошее впечатление об
Италии сегодня... Говоря коротко, политические изменения не мешают
туристам получать удовольствие от посещения Италии как страны
большой природной красоты".22 В следующем году Поле Херфорт
подтвердил, что "итальянские таможенники очень вежливы и
полностью справляются со своей задачей".23
3 марта 1931 года Альфред Курелла, сотрудник немецкой
коммунистической партии и писатель, прибыл на итальянскую
границу. Большевистский боевик с 1917 года, Курелла был в Италии до
Великой войны в качестве туриста, а затем вернулся туда в 1919 году в
качестве лидера молодежного движения Третьего Интернационала,
чтобы содействовать организации молодых итальянских коммунистов.
С тех пор он часто бывал в Италии: последний раз - в 1924 году, перед
преступлением Маттеотти, для реорганизации Коммунистической
партии Италии в условиях фашистского преследования.24 Семь лет
спустя Курелла вернулся без политических обязанностей, только
чтобы осознать, во что превратилась Италия при фашистском режиме.
Въезд в Италию, - вспоминал он, - прошел без проблем. Видимо, они
даже не стали тщательно проверять мои документы".25
О "безупречной вежливости" итальянских чиновников на границе
Шрайбер также вспоминал: полицейский проверил его паспорт,
таможенник бросил беглый взгляд на чемоданы и заставил один из них
открыть для чистой формальности, а билетный контролер одобрил, в
то время как фашистский солдат стоял рядом, "не зная, охранять трех
других или защищать их". 26 Роланд Эндрю пересек границу пешком;
у него проверили паспорт, но не мешок, который он нес, и двое солдат
поставили печать на его фотоаппарат только потому, что он пересекал
военную зону: он мог снять ее позже.27
Строгость, но не террор
Иногда пограничный контроль временно ужесточался, как это
произошло после ареста анархиста Микеле Ширру, который в январе
1931 года отправился на поезде из Парижа в Рим с намерением убить
Муссолини: Ширру был обнаружен, судим и расстрелян 28 мая. Это
привело к ужесточению мер на границе, о чем Сисели Гамильтон
узнала во время своей поездки в Италию летом 1931 года. Побывав в
прошлом в различных европейских странах, в возрасте пятидесяти
девяти лет английская писательница решила посетить полуостров и
отправилась в путь пешком по дороге Монсенизио, чтобы попасть в
Италию "так, как в нее входили легионы и паломники". На границе ее
вежливо встретили стражники, несмотря на их удивление тем, что она
путешествует пешком. Когда она покидала пограничный пост, она
думала, что ей больше не нужно показывать паспорт: вместо этого ей
пришлось предъявлять его бесчисленное количество раз, хотя
контролеры всегда были очень вежливы. Она также узнала, что в
гостиницах фашистской Италии недостаточно было заполнить анкету,
а нужно было передать свой паспорт владельцу или консьержу,
который, в свою очередь, сообщал данные документа в полицию.28
Во время своей первой поездки на полуостров Гиббонс прочитал в
английских газетах, что в Италии "царит всеобщий террор".29 На
границе его паспорт тщательно сверили со списком и попросили
заполнить анкету с именами родителей. Ожидая возврата документов,
Гиббонс думал сойти с поезда, но солдат, повернувшись к нему
спиной, что-то крикнул ему: "Казалось, что сойти запрещено. И меня
это поразило, - вспоминал Гиббонс, - потому что мне показалось, что
это имеет мало общего с тем, что я читал о "dolce far niente" в книгах о
Новой Италии. Если бы там говорилось о суровой и неутомимой
работоспособности, авторы были бы более правдивы".30 Но за все
время путешествия лишь пару раз его приглашали в полицейский
участок для предъявления документов, и всегда вежливо.31 Хотя
Гиббонс не знал, что ему делать. Хотя Гиббонс проехал сотни
километров, даже в местах, наименее посещаемых иностранными
туристами, он не чувствовал, что за ним следят, несмотря на то, что
повсюду были полицейские, дорожная полиция, карабинеры и хорошо
вооруженные фашистские милиционеры, следившие за поездами,
трамваями, городскими улицами и самыми отдаленными дорогами
полуострова.
Даже во время второй поездки Гиббонс не нашел подтверждения тому,
что он читал в книгах о фашистской Италии: например, что
"путешественнику было крайне опасно даже произносить имя
великого диктатора на публике". У него была возможность проехать
несколько часов на поезде с одним уважаемым итальянским
джентльменом, который немного говорил по-английски, «и все это
время мы слушали лекцию о Муссолини и чудесах нового режима».
Имя Дуче постоянно звучало в словах итальянца, и не нужно быть
хорошо подготовленным шпионом, вспоминал Гиббонс, чтобы
услышать, что "мы все произносили Запретное имя вслух, в среднем
дважды в минуту, заставляя наше "Синьор Муссолини" звучать над
грохотом поезда. Но ничего не произошло, вопреки тому, что писали
авторы книг, наделенные воображением больше, чем точностью". Во
время остальной части путешествия Гиббонс обнаружил, что имя дуче
"могут произносить обычные люди, и я сам упоминал его, не будучи
пораженным чем-то сродни молнии "32.
В другой раз, также в поезде, Гиббонс более часа беседовал с
антифашистом, который прекрасно говорил по-английски, признавал,
что фашизм достиг поразительных результатов за необычайно
короткое время, подняв престиж нации, но, тем не менее, был
полностью против фашистских теорий. Этот человек, вспоминает
Гиббонс, сказал все это честно и открыто, "и, очевидно, под столом не
прятались шпионы, потому что ничего не произошло". Это навело
англичанина на мысль, что "мелодраматический ужас шпионажа в
Италии" был в основном выдумкой, и что "о Новой Италии написано
больше чепухи, чем о многих других странах "33. Даже у Куреллы не
было ощущения, что во время путешествия он подвергался жесткому
полицейскому контролю, хотя он переехал из Лигурии в Сицилию и
встречался с рабочими, крестьянами и старыми товарищами по
партии. На самом деле, немецкий коммунист назвал ошибочным образ
Италии, распространяемый антифашистскими либеральными
демократами, которые описывали ее как страну, где "царит
террористический полицейский режим, контролирующий всех
граждан в любое время".34
В качестве примера такого образа Курелла привел роман французского
писателя Мориса Беделя "Филиппина", опубликованный в 1930 году и
получивший большое признание (за несколько месяцев было продано
75 000 экземпляров). Действие романа происходит в Риме, и его цель -
дать "образ фашистского режима, каким он является на самом деле".
Величайшим преступлением фашизма, по мнению Беделя, было
подавление свободы и система контроля, которой подвергался любой
человек в Италии, как и в России. Однако Курелла оспаривает это
сравнение, поскольку, по его словам, между фашистской и советской
системами контроля существует глубокая разница. В России диктатура
пролетариата была глубоко укоренена в массах рабочих в городе и
деревне, и люди спонтанно сотрудничали, чтобы защитить советскую
систему от контрреволюционеров, тогда как в Италии фашизм был
диктатурой меньшинства привилегированных мелких буржуа, которые
составляли инородное тело среди рабочего народа. И только над
рабочими был установлен режим террористического и полицейского
контроля.
Автор "Филиппин" действительно побывал в Италии в 1929 году и в
том же году опубликовал брошюру, в которой изложил свои
впечатления о фашизме в VII году фашистской эры, не особо
настаивая, однако, на аспекте террора35. Выражая сожаление по
поводу отказа от свободы, Бедель не говорил о терроре в Италии
Муссолини, а, напротив, отмечал, что итальянцы охотно подчиняются
суровости диктатуры: "Согласная дисциплина, несмотря на видимость,
сохраняет душу в состоянии бодрости. Фашистская Италия выполняет
приказы Муссолини, как футбольная команда выполняет приказы
своего капитана".36 Размышляя о новой Италии, Бедель думал о
"целом народе, проникнутом красотой своей задачи, стремящемся
сделать свою родину великой"; он думал о "пылкой молодежи, которая
после семи лет, не уставая, совершенствует и совершенствует свою
страну в моральном и практическом плане с настойчивостью, верой в
успех, которая заканчивается тем, что становится свидетелем этих
усилий. Таково доверие, которое они оказали своему вождю, что они
жертвуют ради него свободой, которую мы, французы, считаем первым
из благ "37.
Путешествия в Италии Муссолини
Улучшая условия передвижения и проживания в Италии, режим имел
значительный успех среди иностранных путешественников. Сегодня
железнодорожное сообщение замечательно улучшено, то же самое
касается и всех других общественных услуг", - заявил Фрэнк Фокс в
1927 году. "Гостиницы были подвергнуты строгой дисциплине, и если
иногда у вас возникает впечатление, что вы платите слишком много,
то, по крайней мере, вы четко знаете, на какую сумму вам следует
рассчитывать. Вам должны сообщить максимальную стоимость номера
и питания, цены находятся под контролем префекта и не могут быть
изменены произвольно. Транспортные услуги контролируются тем же
органом". В целом, продолжает австралийский журналист, можно
найти способы сэкономить деньги и быть одинаково довольным.
Провинциальные городки предлагают экономный комфорт. Даже такие
курорты, как Лидо и Ривьера, предлагают "разумный комфорт по более
низким ценам, чем в остальной Европе". Государственная
туристическая организация ENIT предоставила путешественнику
список надежных отелей с указанием цен в основных центрах".38
Гиббонс высоко оценил пунктуальность поездов, "одинаковых от
Милана до Неаполя и отдаленной Сицилии".39 Не менее ценным было
обновление дорог и строительство новых автомагистралей. "Каждый,
кто путешествует на автомобиле, - писал Шрайбер в 1932 году, -
отметит огромные усилия, предпринятые за десять лет в этой стране,
где посредственность дорог казалась непоправимым злом. Повсюду
проезжие части были переделаны в соответствии с самыми
современными методами. Были построены автомагистрали, которые
напрямую соединяют большинство крупных городов: Геную, Милан,
Турин и вскоре Венецию. Более короткие дороги соединяют другие
города, например, из Рима в Остию и из Неаполя в Помпеи»40.
Три года спустя англичанин Герберт Вивиан подтвердил, что фашизм
добился "поразительного улучшения путей сообщения... Дороги и
железные дороги были полностью возрождены ... Линии были
полностью обновлены, даже в самых труднодоступных местах...
Расписание строго соблюдается, ибо железнодорожники знают, что его
несоблюдение влечет за собой немедленное увольнение... Новые
линии были щедро построены во всех направлениях. Новая линия
между Болоньей и Римом экономит несколько часов, избавляя от
необходимости ехать ночью, чтобы избежать неудобных часов. Рим и
Неаполь, когда-то разделенные, казалось бы, непреодолимым
расстоянием, стали почти соседями, и все красоты Юга теперь легко
доступны. Самые отдаленные города, большие и маленькие, теперь
доступны со всех сторон и быстро обретают жизненную силу, которой
они были лишены на протяжении многих поколений". По этим
причинам англичанин без колебаний признал, что "движение в Италии
стало образцом регулярности, которому нет равных в мире "41.
Кроме того, продолжал Вивиан, путешествия по Италии стали
настолько дешевыми, "что больше нет никаких оправданий для того,
чтобы оставаться дома. Иностранцы могут воспользоваться 70-
процентной скидкой на пограничный билет во всех направлениях и в
любое время года. Тысячи молодых пар пользуются 70-процентной
скидкой на поездку в Ватикан для получения благословения от Папы.
Также скидки от 25 до 70 процентов на длительные или короткие
поездки на фестивали, выставки, соревнования или на поездки на
новые оздоровительные и пляжные курорты, которые правительство
намерено продвигать". Режим также поощрял итальянцев
путешествовать, обращаясь ко "всем классам, как к самым бедным, так
и к обеспеченным, а также к тем, кто не решается сделать это во
времена экономических трудностей". На стенах и в газетах появились
объявления о "народных поездах" по невероятно низким ценам, и
толпы людей собирались за несколько часов до поездки, чтобы занять
их". Однако после бурных похвал Вивиан добавил, что вагоны для
простых людей по-прежнему "примитивны", а туалеты недостаточны
или отсутствуют.42 Что касается размещения в гостиницах, он
отметил, что в столице крупные отели значительно улучшились, но
маленькие гостиницы и пансионы "по-прежнему оставляют желать
лучшего из-за скромности комнат, посредственности еды и плохого
обслуживания".43
Чистая, упорядоченная, дисциплинированная, модернизированная
Италия
Как изменилась моя дорогая Италия прошлых лет! ' - заявил
французский академик Анри Бордо, не возвращавшийся в Италию со
времен Великой войны, читателям "L'Illustration" 14 января 1928 года:
"Подумайте, что поезда больше не опаздывают; что города содержатся
с ревностной заботой, улицы подметены, хорошо вычищены,
отполированы; что выпавший в Риме снег - редкое и непредсказуемое
зрелище - не превратился в грязь благодаря вмешательству стихийных
групп; что даже самый недоумевающий иностранец обязательно
найдет кареты и носильщиков; что чаевые отменены, а чиновники,
принимающие их в музеях, рискуют быть уволенными, и что нет
нищих". 44 Годом ранее Х. Уорнер Аллен отметил, что даже в таком
городе, как Неаполь, "наименее симпатичном из итальянских городов
для многих любителей Италии", фашистский режим внес большие
изменения: "Нищие почти исчезли с улиц; туриста больше не мучает
длинная очередь кучеров, предлагающих ему платный транспорт, когда
он всего лишь хочет прогуляться".45
Такое же описание, с более или менее личными вариациями,
появилось почти во всех отчетах о путешествиях иностранных гостей.
Даже те, кто осуждал фашистскую диктатуру, признавали, что она все
же достигла "впечатляющих материальных результатов", как писал
Халлингер: "Страна работает сегодня так, как никогда не работала
раньше. Новая атмосфера была создана от одного конца полуострова
до другого. Итальянский народ работает так, как никогда не работал
раньше".46 Все это было заслугой Муссолини, который "учил
итальянцев новому чувству личного уважения. Ранее Италия была
известна туристам как романтическая, древняя страна - и грязная.
Муссолини буквально удаляет грязь из своей страны. И он уже
добился замечательных результатов во внешнем виде улиц и жилых
кварталов больших городов. Мусор больше не выбрасывают из окон и
не бросают на улицах. Неаполь, например, стал другим городом.
Италия умывает свое лицо! В Риме фашисты возвели сотни туалетов с
фарфоровой арматурой. В прошлом писсуары были выставлены на
всеобщее обозрение на улицах, как это до сих пор происходит в
деревнях и многих маленьких городах. В Риме детям и даже взрослым
больше не разрешают делать свои дела в темных углах церковных
папертей. Вагоны второго и третьего классов, когда-то печально
известные своей грязью, теперь чистят и моют".47
Поэтому именно новый облик Италии Муссолини поразил
иностранцев. "Что прежде всего замечает турист, - писал Шрайбер, -
так это идеальный порядок, царящий повсюду... Турист замечает
присутствие фашистского милиционера, готового вмешаться в случае
несчастных случаев, которых уже давно не случалось, он ценит
дисциплину на улицах больших городов. Повсюду организовано
одностороннее движение, тогда как еще десять лет назад в некоторых
городах, в частности в Генуе, машины двигались безразлично справа
или слева. Сегодня, с другой стороны, даже пешеходов, например, на
улицах Рима, полицейские просят пользоваться правым или левым
тротуаром в зависимости от направления их движения... Весь этот
порядок в стране, которую многие привыкли называть страной "лего",
является ярчайшим признаком трансформации итальянского народа".
С улиц, продолжает Шрайбер, исчезли нищие, которые до фашизма
"были бичом туристов. Сегодня иностранца больше не беспокоят руки,
протягиваемые ему на каждом шагу. Нищие больше не имеют права на
убежище, разве что у дверей церквей", хотя, особенно в больших
городах, часто можно было увидеть безработных, просящих
милостыню.48 В Милане Арнольд Эндрю заметил пожилых людей,
откровенно просящих милостыню.49 Однако общее впечатление было
таким, что в городе царили порядок и дисциплина: "В городах, как и в
Милане, везде чистота, порядок, дисциплина", - сказал Поль Эрфор.
"Дисциплина: это одна из великих заслуг фашизма - установить
дисциплину в Италии; дисциплина, которая делает людей
сильными".50 "Дисциплина, которая делает людей сильными". "Даже
те, кто не симпатизировал фашизму, такие как Морис Лашин,
высадившийся в Неаполе в 1935 году, чтобы начать путешествие по
Италии после долгого отсутствия, были поражены "новым зрелищем,
которое предлагал город", отметив "исчезновение живописных
элементов, которые были частью красоты Неаполя", таких как
демонстрация разноцветного белья на узких улочках, ведущих к порту:
"Фашизм прошел и здесь, и нижние районы потеряли всю
распущенность, которая придавала им бурный страстный характер".51
Помимо чистоты и порядка, иностранцы добавили к достоинствам
режима еще и безопасность. Туристы больше не рисковали быть
ограбленными в поездах или на вокзалах, где теперь стояла
фашистская милиция, "прекрасное тело мужчин", как назвал их
Эндрю: только "друзья демократии, ностальгирующие по старой
системе, когда поезда никогда не приходили вовремя, у пассажиров
отбирали багаж и обманывали клерки", могли утверждать, "что
фашистская милиция - это вооруженные наемники, стреляющие в
итальянских рабочих", но те, кто знает лучше, смеются над такой
чепухой "52.
Даже если они не могли убедиться в этом лично, иностранные гости
приписывали режиму успех в искоренении организованной
преступности, такой как каморра и мафия. Фашизм смело атаковал эти
ассоциации, основанные на бандитизме и мести, которые высмеивали
слабые усилия предыдущих правительств по их подавлению", - заявил
Уорнер Аллен в 1927 году.53 А в следующем году Фокс повторил:
"Турист в Неаполе не может надеяться сегодня найти какие-либо
следы каморры. Сегодня каморра практически исчезла; а на Сицилии
исчезает мафия, еще более кровожадная организация".54
Италия в процессе становления
В стране, известной на протяжении веков как страна "dolce far niente",
иностранные туристы с удивлением воспринимали более интенсивный
ритм в коллективной жизни, в производственной деятельности и даже
в поведении ее жителей. По мнению всех иностранных наблюдателей,
это было связано с желанием Муссолини и фашизма навязать
итальянцам глубокие изменения в их характере, чтобы превратить их в
единую, активную и трудолюбивую нацию. Фашизм, утверждал
Халлингер в 1928 году, учил итальянцев новому образу жизни, хотя и
диктаторскими методами, чтобы заставить нацию "функционировать
как единый, компактный и органичный социальный и политический
коллектив". Итальянский народ был еще подростком в процессе
развития, и Муссолини пытался "с поразительным успехом сделать из
этого юноши человека", прививая итальянцам "из каждой деревни и
города, от Альп до Сицилии, необходимость дисциплины,
самоконтроля, настойчивости, качеств, в которых латиняне
темпераментно не обладают".
Он учит итальянцев необходимости непрерывного труда и
индустриальному менталитету. Итальянцы по своей природе, грубо
говоря, ленивы. Им не хватает организованности в личной жизни. Они
самые непунктуальные люди в Европе. Даже русские не превосходят
их в этом".55 А в 1929 году Беро сделал похожие замечания: "Когда
Муссолини получил от короля мандат на спасение страны от
беспорядков, он знал, чего от него ждут... Его задача была огромной и
трудной. Она заключалась в том, чтобы привить итальянскому народу,
то есть менее трудолюбивым людям, вкус к работе и уважение к
рабочим". Для французского антифашиста приверженность режима
задаче воспитания у итальянцев трудолюбия была положительным
аспектом его деятельности: "Порядок, прогресс, образование, гигиена,
урбанизм, улучшение общественного обслуживания, развитие южных
провинций, регулярность транспортных средств и т.д . все, что фашизм
сделал хорошего и доброго, связано с торжеством этой новой для
многих итальянцев истины, что труд - это закон мира, и что весь
человеческий прогресс связан с трудом людей".56 Учение о
трудолюбии, казалось, принесло свои плоды: "Я не знаю, дал ли
синьор Муссолини итальянцам то, что они хотели, или убедил их
хотеть то, что он им дал, - заметил Гиббонс, - но результат налицо: это
похоже на нацию, работающую как машина. Как будто нация была
крепко сплочена для осуществления какого-то предприятия".57
На Апеннинах и в сельской местности английский фашист Эндрю
встречал крестьянские семьи, которые щедро предлагали ему свое
гостеприимство: "Что я могу сказать об итальянских крестьянах? Это
уродливые лица истории, ленивые, нечестные и трусливые? Неужели
вы верите, что крестьяне, возделывающие горную почву, могут стать
расой трусов и лентяев? ... Современные итальянцы, конечно, не
ленивы. Рабочие со всего полуострова роют туннели под Альпами...
Сегодня итальянская наука и энергия превращают болотистые берега
Средиземного моря и пустыни Триполи в места, где могут жить
люди".58
Новое трудолюбие итальянцев нашло свое наиболее очевидное
проявление в широком объеме общественных работ, проводимых
режимом. Для иностранных наблюдателей Италия Муссолини
представлялась огромной строительной площадкой, на которой
непрерывно велись работы по обновлению и модернизации страны.
Италия больше не является страной, которая ничего не делает и
пускает все на самотек", - сказал Йозеф Геббельс, министр пропаганды
национал-социалистического режима, посетивший Италию в 1934 году
и описавший ее как "строительную площадку, дисциплину,
напряжение, срочность: работы, дни, сосредоточенные на работах. Это
хоровая, единодушная, доминирующая мысль".59
Иностранных гостей сразу же поразили радикальные городские
преобразования в крупных городах, от Милана до Неаполя, от Генуи
до Турина и Брешии, и особенно в Риме, со сносом старых кварталов и
строительством новых дорог и зданий. Преобразования в столице
были настолько масштабными, заметил Шрайбер, что город "будет
совершенно не похож на Рим Средневековья и Возрождения, каким его
знал турист до прихода фашизма". То же самое происходило и в других
городах: в Неаполе, Милане, Турине, Брешии. "Я говорю, - уточнил
Шрайбер, - о тех городах, которые посетил лично, но мне подтвердили,
что есть немного итальянских городов, которые не выиграли бы от
этих далеко идущих работ "60.
Муслинский Рим
В глазах иностранных наблюдателей, однако, именно столица стала
символом новой фашистской Италии. Под киркой Муссолини на
огромной территории центра, от площади Арджентина до Колизея,
были снесены целые кварталы, чтобы раскопать Форумы и
изолировать римские памятники, и в то же время открыть новые
широкие улицы, такие как Via dell'Impero, и построить новые
архитектурные комплексы, такие как Foro Mussolini, чтобы
увековечить память о фашизме во времени61. В Риме Муссолини культ
древней славы сосуществовал с безумием модернизации и
стремлением поставить рядом с памятниками древнеримской
цивилизации произведения новой цивилизации фашистской Италии.
Каким бы ни был его окончательный отпечаток в истории Италии,
фашистский режим предпринял работу по физической реконструкции,
которая оставит неизгладимый след в Риме и, в меньшей степени, во
многих других итальянских городах", - заметил Халлингер в 1928
году.62
Шрайбер вторил ему четыре года спустя: "Ничто так не поражает
туриста, как зрелище важных работ, уже завершенных или
продолжающихся в большинстве крупных городов. В Риме
археологические раскопки привели к необходимости уничтожения
целых кварталов среди самых густонаселенных и нездоровых. Эти
кварталы были переданы "его величеству Пиконе" с двойной целью -
вернуть себе столицу Италии и реконструировать ряд форумов, рынков
и базилик древнего Рима "63. Фашизм превратил столицу в
современный мегаполис с более чем миллионным населением -
несмотря на кампанию Муссолини против урбанизма - где шумное,
хотя и не интенсивное, автомобильное движение давало иностранному
туристу непосредственное физическое восприятие глубоких перемен,
произошедших в Вечном городе. Римский транспорт, по наблюдениям
Беро, осквернял древнюю тишину старых улиц и старинных кварталов
"американской суматохой, модернизмом обстоятельств, механическим
весельем, которые делают атмосферу этих улиц, из которых, кажется,
изгнано пение, еще более гнетущей".64
Многие восхищались городскими преобразованиями, проведенными в
столице, но были и иностранцы, ностальгирующие по старой Италии.
Халлингер вспоминал, как редактор американского журнала сказал
ему: "Муссолини ухудшает Италию. Он убирает те черты, которые нас
так восхищали".65 Конечно, ответил Халлингер, новая Италия
Муссолини может разочаровать тех иностранцев, которые любили
Италию, представляя ее себе "как поэму беззаботной радости, как
песню менестреля", романтическую страну, страну фестивалей,
веселых карнавалов, молодых людей, всегда готовых спеть песню. Но
фашизм был полон решимости уничтожить старые обычаи, чтобы
приучить итальянцев к трудовой дисциплине и строгому образу жизни,
вызывая тем самым сетования иностранцев, которые "знали Италию
прошлого и видели, что очарование их старой любви исчезает".66
Новости о больших урбанистических изменениях вызвали
любопытство иностранных ученых, живших в итальянской столице до
фашизма, таких как историк литературы и искусства Луи Жиле,
который посетил Рим, а затем Неаполь в ноябре 1932 года, чтобы
своими глазами увидеть "работу по преобразованию, разрушению и
открытию, а также проекты обустройства, которые полностью
изменили исторический облик города".67 Искусствоведу не
понравилось превращение Рима в мегаполис, в который вторглась
бешеная и шумная современность. Рим моторизован. В тихие
маленькие улочки вокруг Пантеона или Палаццо Фарнезе вливаются
громогласные монстры, трубящие с большим шумом... Две вещи,
скорость и шум, изменение и ускорение ритма, являются самыми
поразительными чертами нового Рима "68.
Другие иностранцы, высоко оценивая обновление и модернизацию
столицы, сетовали на разрушение старых улиц, площадей и кварталов,
которые, хотя и были темными, грязными и деградировавшими, на
протяжении веков привлекали прославленных путешественников
своим живописным и романтическим очарованием. "Было бы грубой
ошибкой не признать, что Рим великолепен: более великолепен, чем
вчера, без сомнения; он не может быть более захватывающим", -
отметил Андре Жид в своем дневнике по прибытии в Рим из Неаполя в
феврале 1934 года: "Но в то же время Рим потерял большую часть
своей тайной привлекательности, которая меня завораживала. Вчера
почти все можно было обнаружить... Сегодня все выставлено напоказ
и сияет в лучах солнца. Напротив, то, что сегодня скрыто, - это
несчастье. Все чисто, блестит, сверкает. Но ничто больше не
напоминает вам о Китсе, Стендале или Гете".69 Другие, как и Вивиан,
признавали заслугу фашизма в том, что он модернизировал города и в
то же время улучшил памятники прошлого, высветил их и
восстановил, как это произошло в Риме, где "прошлое и будущее были
гармонизированы. Древняя империя возвращается к жизни, чтобы
вдохновить новую империю, которая постоянно строится»70.
Рим пуританский
Ностальгия по исчезнувшим старым кварталам часто сопровождалась
удивлением при виде изменений в поведении римлян, вызванных
новым нарядом порядка и дисциплины, который фашизм навязал
повседневной жизни. Особенно это было заметно французским
наблюдателям, которые до фашизма чаще общались со столицей. Уже в
1926 году Наудо приписывал фашизму "новую пуританскую привычку,
навязанную общественной жизни".71 В отличие от него, Беро в 1929
году сожалел о "тишине Рима", где режим даже запретил петь песню с
припевом "Не злись, жизнь коротка! ', поскольку ее заподозрили в
антифашистских намерениях, поскольку она предполагала отношение,
противоречащее суровому, аскетичному, мужественному и
воинственному фашистскому этосу: "Закалить характеры, ожесточить
сердца - вот слова напутствия "72.
В беседе с Муссолини в том же году Морис Бедель услышал от дуче
резкие заявления о роли женщины в фашистском режиме: "сидеть
дома и рожать детей"; именно поэтому, заметил французский писатель,
"в своей программе возрождения" Муссолини запретил
романтическую любовь, запретив газетам сообщать о преступлениях
страсти и самоубийствах по любви, так же как влюбленным было
строго запрещено обниматься и целоваться в любом общественном
месте, на улицах или в кинотеатрах. Тех, кто нарушал запрет,
осуждали за оскорбление общественной морали. "Но Рим печален", -
ответил Бедель, получив в ответ от дуче заявление, что "Рим станет в
мире городом, где мораль будет высочайшей, а общественная жизнь -
наилучшей", чтобы сделать его достойным быть не только столицей
фашистской Италии, но и столицей католического мира.73 В
результате, заметил Бедель, Рим стал городом, "где редко слышен смех,
где никогда не услышишь свиста брадобрея или беззаботного пения
прохожего... Я уверен, что во времена пап жизнь в Риме была гораздо
веселее". Прекрасная манера поведения, которой хвастается Дуче,
очень похожа на скуку".74
Пять лет спустя Раймон Рекули отметил отсутствие ночной жизни в
столице: "Любители ночной жизни, кабаре, ночных клубов и все те,
кто страдает от того, что ложится спать раньше двух или трех часов
ночи, поступят мудро, перенеся свою деятельность в другое место. В
Риме нет мест для ночных сов. Муссолини, который рано ложится
спать, делает все возможное, чтобы воспрепятствовать этой
профессии. Есть только один едва приличный танцевальный клуб, а
это не так уж много для столицы с миллионным населением. Говорят,
что Дуче запретил своей дочери ходить туда... Фашизм, по воле своих
лидеров, даже больше, чем по их примеру, создает в столице
атмосферу довольно пуританской строгости".75
В пуританском Риме Муссолини жизнь влюбленных стала более
рискованной, подтвердил Морис Лашин в 1935 году: "Чистая любовь,
сентиментальные прогулки стали настоящей опасностью... Выходить
ночью на улицы Рима в обществе женщины неосмотрительно, потому
что каждую ночь происходят облавы, и часто ревностные агенты видят
зло там, где его нет".76 И он приводил различные примеры, когда на
невинных влюбленных писали доносы, потому что они были пойманы
"на месте преступления во время... разговора", чтобы заявить, что
"определенно, Рим - не место для любовников".77
Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр испытали на себе пуританство
Муссолини во время своего пребывания в Риме в 1932 году. Днем,
вспоминала писательница в своих мемуарах, "присутствие Муссолини
в городе было подавляющим; стены были исписаны, черные рубашки
преобладали повсюду. Ночью улицы были пустынны; этот город, в
котором окаменевшие века великолепно торжествовали над небытием,
погрузился в бездействие: однажды вечером мы решили наблюдать за
ним до рассвета, одни, как свидетели. Около полуночи мы беседовали
на пустынной площади Навона, сидя на парапете фонтана; за
закрытыми ставнями не было ни лучика света. К нам подошли двое в
черных рубашках: что мы делали на улице в такой час? Наше качество
туристов заслужило их снисходительность, но они твердо попросили
нас пойти домой и прилечь". Пара не послушалась и продолжила
прогулку, пока около трех часов не достигла Колизея: "Нас озарило:
что мы делаем? На этот раз казалось, что даже для туристов наше
поведение действительно неприлично". Вздохнув при мысли о долгих
ночах в Мадриде, мы вернулись в отель".78
В Риме Муссолини любовникам больше нельзя было встречаться в
отелях или на квартирах, которые снимали самодовольные хозяйки.
"Полиция закрыла почти все эти квартиры, больше никаких меццане.
Священный город был очищен", - рассказывал Лашин французским
читателям. Фашизм обещал, что проституция будет "уничтожена", но
затем решил "закрыть роскошные дома и оставить открытыми только
скромные". Римская мораль!". Даже на улице Венето ночью не было
видно женщин, а только "банды гаги", так что создавалось
впечатление, "что находишься в городе, где живут одни мужчины, или
почти одни". И возникает вопрос, зачем фашизм хотел навязать это
лицемерие стране, где пылкий темперамент является поговоркой.
"Потому что есть Папа, в Риме", - отвечают они. "Вы прекрасно знаете,
что в других городах Италии, в Милане и Турине, такая строгость
обычаев совершенно не действует".79
Другая Италия
Во время своей поездки в Италию Роланд Эндрю был поражен,
заметив в Турине полное отсутствие "социальных пороков" на улицах,
но его не менее поразил тот факт, что в Милане, в Галерее,
"проституция изобилует и, кажется, имеет свой центр в этой части
города. Я видел, как к мужчинам подходили прямо под взглядами
улыбающихся полицейских, прямо посреди Галереи... Из всех
итальянских городов, которые я посетил, Милан был единственным,
где я видел этих несчастных женщин, занимающихся проституцией на
улицах. В Неаполе этот бизнес в какой-то степени идет тайно, через
посредников-мужчин... но ни фашизм, ни кто-либо другой не может
помешать неаполитанцу быть не таким, как он есть, тогда как от
миланца можно было бы ожидать чего-то лучшего".80
Английскому фашисту также не нравился Рим, начиная с вокзала
Термини: ему казалось невероятным, что это главный вокзал "одного
из самых важных городов мира, тогда как он был бы позором для
многих английских провинциальных городков".81 Одновременно
провинциальная и космополитическая, итальянская столица и ее
жители не имели ничего привлекательного для Эндрю; действительно,
чем больше он узнавал Рим и его жителей, "тем больше гордился тем,
что он англичанин. В Вечном городе мужчина никогда не думает о том,
чтобы уступить место женщине в трамвае, как это происходит в той
части Англии, где я живу. Римские автомобилисты, кажется,
беспрестанно дуют в свои трубы, словно дети, только что получившие
новый подарок". Англичанин признал только, что движение хорошо
организовано, пробок мало, а пешеходы в большей безопасности, чем
в Лондоне или Манчестере.82
Покидая Рим, Эндрю не испытывал желания вернуться. Но пока он
ехал на поезде на юг из Литтории, где его радушно встретили местные
фашистские лидеры, в Неаполь, его впечатления от Италии
ухудшились. Утром я видел искусный и точный план ферм и городов.
Вечером я увидел убогие лачуги, кишащие грязными убогими людьми.
За обедом я был среди сливок итальянской нации, за ужином - среди ее
отбросов".83 Однако даже в Неаполе Эндрю обнаружил, что
проституция была ограничена закрытыми домами, а женщин,
занимавшихся ею, каждое утро проверяли полицейские врачи. Однако,
предупреждал Эндрю, у моралистов нет причин обрушиваться на
обычаи новой Италии, потому что "они должны были видеть Неаполь
до фашизма, когда он кишел проститутками и гомосексуалистами, а в
старой Италии были свои публичные дома, но не предпринималось
никаких усилий, чтобы удержать там людей, не позволяя им выходить
на улицы и распространять одну из самых страшных болезней,
известных человеку. В сегодняшней Италии, за исключением Милана,
проституция и ее болезни держатся под контролем".84
Посетив Неаполь и Юг, большинство иностранных наблюдателей
увидели другую Италию, сильно отличающуюся от Италии
Муссолини, которой многие из них восхищались. За новыми зданиями
и улицами неаполитанского города убогая реальность бедного и
несчастного общества оставалась неизменной, как и в других регионах
Италии, особенно на Юге, где вековая бедность и несчастья, так и не
излеченные, усугублялись безработицей, вызванной экономическим
кризисом. Один высокопоставленный чиновник признался Шрайберу,
что в Неаполе триста тысяч человек просыпаются утром, не зная,
будут ли они есть в течение дня. Журналист лично наблюдал, гуляя по
городу, что "зрелище нищеты, хотя оно существовало задолго до
фашизма, при новом режиме сохранялось неизменным".85 В Неаполе,
вспоминала Симона де Бовуар, "жизнь людей выставлена напоказ в
своей органической наготе, в своем висцеральном жаре: в этом аспекте
Неаполь ошеломил нас, затошнил, околдовал. Мы чувствовали его
ужас: голые дети, покрытые струпьями, больные, открытые язвы,
нагноения, лица, покрытые синяками, как нарывами, нездоровые дома,
обозначенные знаками не пригодные для жилья, запрещенные для
входа - и в которых кишмя кишели семьи; в ручьях, торсах, трупах,
которые спорили руки; Девы-благословения, которые улыбались на
каждом углу улицы, покрытые золотой мишурой, среди цветов и
фонарей". 86
Босоногих детей можно было увидеть по всей южной Италии, многие
были лишены всякого ухода и внимания, хотя и не совсем брошены,
как в России, заметил Шрайбер, сожалея, что правительство,
тратившее сотни миллионов на общественные работы, вооруженные
силы и археологические раскопки, "до сих пор не смогло излечить это
бедствие, эффективно бороться с этой мучительной бедой". Режим
поощрял плодовитое деторождение, но "недостаточно просто
произвести на свет детей, они должны воспитываться в приемлемых
человеческих условиях".87
Страдания Неаполя были для иностранных наблюдателей символом не
только Юга, но и всей другой Италии, подвергшейся воздействию
фашистского режима, но не возрожденной в результате его
деятельности. По правде говоря, фашизм, торжествующий в Риме и
Милане, оказывает лишь отдаленное влияние на южную Италию", -
комментировал Марсель Люсен, другой французский журналист,
посетивший Италию в 1933 году и давший благоприятную для
фашизма характеристику этой стране в книге под названием Les
Romains d'aujourd'hui ("Современные римляне"): "Процветание режима
утверждается прежде всего в официальных рамках Рима или богатой
столицы Милана, но постоянное несчастье Неаполя, как и кварталов
рабочего класса Генуи, показывает, что диктатура не достигает
определенных социальных слоев, глубоко затронутых кризисом".
Работа режима, возможно, впечатляющая в официальной и городской
сферах, приглушается в пространстве, хотя и ограниченном, бедных
провинций, хищной сельской местности, портов, измученных общим
застоем. От фашизма на центральной площади Неаполя можно
увидеть только дорожных полицейских "88. Другая Италия - бедная,
несчастная, безработная, голодающая, бесхозная - существовала в
самой столице. Великие городские преобразования, уничтожившие
целые кварталы рабочего класса, чтобы освободить место для нового
Рима, заставили тысячи обездоленных семей переехать в наспех
построенные пригороды, а тысячи безработных, не имеющих жилья,
были собраны "в своего рода концентрационные лагеря, в деревни
безработных", подобные тем, что были созданы в США. В Риме эти
деревни располагались на окраинах столицы, в Сетте Кьезе и
Гарбателле. Морис Лашин посетил их в 1935 году и увидел семьи,
забитые в тесные помещения или пещеры, использовавшиеся для
жилья. Безработные рассматривались как "отдельный класс, между
богатыми и бедными", как "существа, которых общество объявило вне
закона, человеческая личинка, от которой мы не можем избавиться":
следовательно, режим решил "обрамить несчастьем" деревни
безработных, "которые, как и деревни американских безработных,
представляют собой трагический аспект тюрьмы, где заключенные
виновны в отвратительном преступлении: преступлении жизни".89
Антифашистская Италия?
Во время своей поездки по Италии Альфред Курелла в основном
посещал сельскую местность и бедные районы, населенные рабочими,
которые в основном были безработными или нанимались ежедневно на
настоящем "невольничьем рынке" на работу продолжительностью
более десяти часов в день и плохо оплачиваемую.90 В рабских
условиях работали рабочие, нанятые "габеллотти" и "капоччиа" в
южной сельской местности, "мондине" на рисовых полях Верчелли,
рабочие на фабриках. Худшим примером условий труда при
фашистском режиме, описанным Куреллой, был "детский ад
зольфатаре" на Сицилии, где от рассвета до заката большую часть
работы выполняли одиннадцати-, двенадцати- и тринадцатилетние
мальчики, "карузи", которых даже не коснулись реформы фашизма по
защите детей91. "Они держат нас как овец, как собак", - повторяли как
рефрен рабочие, с которыми Курелла встречался во время своих
визитов "в рабочих кварталах города, на шахтах, в деревнях, на
металлургических предприятиях Турина и Милана, на шерстяных
фабриках Бьеллы". И везде, утверждал немецкий коммунист, "от
эксплуатируемых и угнетенных исходило только одно напутствие:
смерть фашизму".92 Курелла не верил, что большинство населения
Италии поддерживает фашизм; он был убежден, что фашисты - это
меньшинство, изолированное от остальной страны, и что режим не
имеет никакого влияния на массы, их образ жизни, их образ жизни, их
менталитет. «Где фашизм?» — спрашивал он себя 10 марта 1931 года,
отмечая в своей записной книжке впечатления от первых дней
пребывания в Италии: «Жизнь масс продолжается традиционным
образом.
Характер людей кажется неизменным. Там, где собираются массы,
особенно по праздникам, в тавернах и кафе, не видно никаких
изменений по сравнению с прошлыми годами. Народ сам по себе. Над
ним возвышается фашизм: сеть надзирателей, пользующихся
законными привилегиями и поддерживаемых, навязанных народу.
Никаких следов корней в народе, а скорее щупальца, пытающиеся
проникнуть в массы»93. Изолированные между миром боссов и миром
рабочих, фашисты для Куреллы были своего рода "третьей нацией",
состоящей из "контролеров и рабов на службе землевладельческих
классов".94 В ходе своего путешествия Курелла встретил старых
товарищей, которых он знал в прошлом, в 1919 и 1924 годах, и из этих
встреч он вынес убеждение, что "народ ненавидит фашизм и ждет его
падения. Он ждет возобновления действий, начатых в 1920 году, чтобы
захватить фабрики и фермы. Он ждет, пока небольшое меньшинство
коммунистов в своих подпольных организациях работает над
подготовкой и организацией падения ненавистной власти".95
Восприятие широко распространенной народной ненависти к фашизму
среди рабочего класса не совпадало с опытом других иностранных
путешественников. Кто-то, например, Беро, заметил в 1929 году, что
"порядок царит, но меры, с помощью которых он был восстановлен,
теперь переносятся с меньшим терпением. Сама буржуазия, уже не
чувствуя, что вокруг рыщут волки бунта, начинает испытывать
раздражение от общественной безопасности. И многие расстроены
тем, что им пришлось так долго играть в спартанцев. В конечном
счете, их раздражает то, что горстка холеричных экстремистов
постоянно держит их под наблюдением, не переставая призывать к
репрессиям против подозрительных, или, говоря по-другому,
слабонервных". По этим причинам французский журналист
почувствовал "в воздухе ... беспокойство, определенное нетерпение,
смутное желание перемен. Было бы ложью сказать, что в одночасье это
может вызвать бурный протест", но, тем не менее, создавалось
впечатление, что страна "молча следит за малейшим дуновением
мнения... оттачивает свое терпение в манере своих предков, повторяя
себе, что в Италии все подвижно, как небо, и ничто не мешает тому,
чтобы оно снова изменилось... и каждый идет вперед, повторяя про
себя национальную поговорку: "Давайте подождем".96
Но сам Беро не думал, что недовольство может вылиться в оппозицию
режиму. "Это правда, что по всему королевству, за пределами тюрем,
фашистская власть больше не насчитывает ни одного объявленного
противника".97 Это было вполне объяснимо, учитывая жесткие
репрессивные меры, введенные режимом, которые подавляли любое,
даже самое умеренное, инакомыслие. Не имели никакого влияния и
протесты изгнанников, поселившихся во Франции и других странах.
Тем не менее, заметил Беро, в Италии все еще оставались "смелые
заговорщики, бросающие вызов безжалостным репрессиям", молодые
люди, принадлежащие в основном к рабочему классу, изолированные
индивидуумы или небольшие группы, лишенные силы и связей.
"Правилом, однако, является молчание. То ли из-за усталости, то ли из-
за невозможности скоординировать свои усилия, то ли из-за
отсутствия лидеров, антифашистские массы, похоже, подчинились
прихотям сильнейших".98 В этой ситуации засияло мужество
некоторых молодых людей, «которые в своем горячем и великодушном
безумии», по большей части «сыны народа», не сдавались и
мужественно переносили приговоры на десять или двадцать лет
лишения свободы, не отказываясь от них: «Они заслуживают
уважения»99.
Но режим больше не боялся оппозиции. Муссолини демонстрировал
уверенность, когда разрешил Беро посетить острова, где жили
"итальянцы, которых самый грозный полицейский аппарат западного
мира не смог принудить к повиновению, молчанию или побегу".
Журналисту разрешили поехать на Липари и увидеть
интернированных в сопровождении начальника тюрьмы, но ему не
разрешили свободно посещать места, где они жили, и разговаривать с
ними.100 Когда журналист попросил разрешения на поездку на
острова депортированных, дуче сразу же его дал, сказав: "Я верю, что
вы будете первым".101 Муссолини также разрешил ему ехать куда
угодно, пригласив вернуться к нему в конце поездки и искренне
рассказать о своих впечатлениях. Беро так и сделал, и Муссолини
выслушал его. Но после сердечного увольнения журналиста он
приказал заблокировать на границе французскую газету, в которой
Беро изложил свои впечатления от поездки в Италию102.
Три года спустя Поле Эрфор, которая с энтузиазмом относилась к
фашистской Италии, также было разрешено посетить Липари, и ее
впечатление было таким: "Депортированным в эти кризисные времена
повезло больше, чем безработным", потому что у них было жилье и
ежедневная зарплата или они могли, если были обеспечены, жить за
свой счет со своими семьями. Журналистка рассказала, что ее
"приняли любезно", и все постарались проинформировать ее и
показать все, что она хотела. "Поэтому мое убеждение абсолютно: все,
что рассказывали об острове заточенных, - легенда". В январе 1933
года, отметил Херфорт, тюрьма на Липари была закрыта, а все
интернированные, не воспользовавшиеся десятилетней амнистией,
были переведены в другие места: "Сегодня остров стал лечебным и
спа-курортом... Это самое прекрасное подтверждение сладости
вчерашнего заточения".103
Накануне Эфиопской войны, внимательно изучив реальность Италии
Муссолини, Лачин мог констатировать, что "фашизм преуспел в
подавлении любой активной оппозиции. Таким образом, практически
говоря, антифашизм, не играющий больше никакой роли в
общественной жизни Италии, можно считать несуществующим".104
12. ИМПЕРИЯ ИТАЛИЯ
Француз Анри-Ирене Марру, католик и историк античности, жил в
Италии в течение четырех лет для проведения своих исследований.
Вечером 5 мая 1936 года он находился на площади Венеции, когда в
восемь часов, "когда ночь тихо опустилась после последнего полета
голубей, на задыхающуюся толпу открылось окно, и появился Мастер.
На него не был направлен свет прожектора, но яркий огромный шар,
установленный позади него на уровне головы, освещал его, как
освещали чучела императоров во времена Нижней империи. Я
потерялся в толпе, приветствующей (и не по приказу!) эту
излучающую свет, торжественную, сверхчеловеческую фигуру, а его
голос, усиленный громкоговорителями, подчеркивал колоссальность
атмосферы. Я был там, яростно отталкиваемый этим общением, один.
Отвергнутый двадцать веков назад, с тенью маленького еврея из
Киликии рядом со мной, стремящегося распространить возвещение о
неизвестном и презираемом Боге, сгорающего от негодования при виде
того, как этот город прославляет идола".1
Мастерская для империи
Основание итальянской империи было самой большой амбицией
Муссолини со времен интервенционизма. Однако это стремление не
сразу воплотилось в продуманную программу колониальных
завоеваний. По мнению Муссолини, для создания новой имперской
Италии необходимо было сначала возродить всю нацию. Миф об
империи в сознании дуче переплетался с желанием устранить вековые
недостатки характера итальянцев и создать сообщество мужчин и
женщин, полностью преданных государству и готовых выполнять
приказы лидера, который поведет его к завоеванию нового имперского
величия.
Все годы своего пребывания у власти Муссолини был почти одержим
идеей стать регенератором "этой итальянской расы, которая была
великой, когда другие народы еще не родились, этой итальянской расы,
которая трижды дарила свою цивилизацию изумленному или
восстановленному миру, этой итальянской расы, которую мы хотим
взять, сформировать, вылепить для всех необходимых сражений в
дисциплине, труде, вере", как он сказал жителям Сассари 10 июня
1923 года2. Три года спустя, 22 июня 1925 года, на последнем съезде
фашистской партии Муссолини вновь заявил, что "наша яростная
тоталитарная воля" намерена "с еще большим ожесточением" идти к
цели, "которая станет доминирующей нотой и заботой нашей
деятельности. Короче говоря, мы хотим фашизировать нацию, чтобы
завтра итальянец и фашист, как можно ближе итальянец и католик,
были одним и тем же... Сегодня фашизм - это партия, это ополчение,
это корпорация".
Этого недостаточно: это должно стать чем-то большим, это должно
стать образом жизни. Должны быть итальянцы фашизма, точно так же,
как есть итальянцы эпохи Возрождения и итальянцы латинства. Только
создав образ жизни, то есть образ жизни, мы сможем отметить
страницы в истории, и не только в летописи... Воплощая в жизнь все
то, что было бы грубой ошибкой ограничить политикой, мы создадим,
благодаря упорной и настойчивой работе отбора, новые поколения, а в
новых поколениях у каждого будет своя определенная задача. Я иногда
улыбаюсь при мысли о лабораторных поколениях, о создании класса
воинов, которые всегда готовы умереть; класса изобретателей, которые
ищут секрет тайны; класса судей; класса великих капитанов
промышленности, великих исследователей, великих правителей. И
именно благодаря этому методичному отбору создаются великие
категории, которые, в свою очередь, создают империи "3.
Лаборатория по возрождению итальянской "расы" была создана уже в
1925 году. Вся массовая политика режима, через институты и
народные организации, от школы до партии, от Балиллы до
Дополаворо, от профсоюзов до культурных институтов, была
задумана, скоординирована и разработана для осуществления
эксперимента, направленного на создание нового народа, полностью
интегрированного в государство как единое, организованное и
дисциплинированное сообщество. Также неотъемлемой частью
тоталитарной лаборатории была сложная структура коллективных
демонстраций, ритуалов, праздников, памятных дат, фестивалей,
собраний, в которые часто вовлекались миллионы итальянцев всех
возрастов.4
Фабрика нового итальянца
Иностранные путешественники уделили особое внимание
тоталитарному эксперименту по возрождению нации. Задача, которую
поставил перед собой Муссолини, а именно "изменить характер нации,
колоссальна, и для наблюдателя это увлекательное занятие", - заявил
Халлингер в 1928 году.5 Никакая другая работа режима, за
исключением, пожалуй, корпоративизма, не привлекала больше
внимания иностранных наблюдателей. Однако, в то время как
корпоративизм оставался для самих фашистов в основном
теоретическим аспектом, на фоне противоречивых интерпретаций
путей его достижения и целей, "эксперимент по массовому
производству граждан", как назвала его Сисели Гамильтон в 1931 году,
был самой заметной реальностью фашистской Италии: "Ни одна
другая нация, кроме России, - заметила английская исследовательница,
- не зашла так далеко в попытке этого конкретного эксперимента по
массовому производству с таким тщательным методом ... прививать
обычаи и идеалы, направленные исключительно на службу
государству".6
Гамильтон посвятил большую часть своей книги об Италии
иллюстрации различных организаций и форм деятельности,
действовавших до 1931 года, чтобы "создать нацию без
организованных разделений, народ с единым разумом и единым
сердцем".7 Уничтожив демократию и свободу, фашизм теперь
стремился искоренить индивидуализм в характере итальянцев, чтобы
воспитать их жить коллективно с единой мыслью, единым чувством,
единым идеалом, под командованием единой партии с единым дуче, в
структурах тоталитарного государства. Поэтому наибольшее внимание
фашистский режим уделял воспитанию новых поколений, наиболее
податливых, чтобы сформировать их в соответствии с
муссолинистской моделью нового итальянца.
Условием успеха "педагогической машины, работающей на
производство людей определенного типа, с "унитарным политическим
сознанием", - заметил Гамильтон, - была полная концентрация власти в
руках олигархии, чтобы предотвратить вмешательство любой модели,
альтернативной фашистскому прототипу: тоталитарный режим
ответил на это условие своей монополией на власть и контроль над
системой образования. Но не менее важным условием успеха
эксперимента, по мнению английского ученого, была полная
уверенность в себе и в своей миссии со стороны олигархии,
построившей и контролирующей машину "массового производства
граждан": "Она должна иметь перед собой ясную цель и не
сомневаться в величии предпринятой работы. Она должна верить в
состоятельность того типа граждан, который производит машина, не
сожалея об уничтожении других типов, не полезных для государства".
Это означает, другими словами, что машина работает лучше всего с
движущей энергией фанатизма".8
Такую энергию обеспечивали иерархи, наиболее вовлеченные в
педагогический эксперимент, такие как Ренато Риччи, президент
Национальной оперы Балилла (ONB), которую в 1936 году определили
как "самое большое экспериментальное поле для человека, когда-либо
созданное в любое время и в любой стране".9 Что касается Дуче, то он
имел четкое представление о цели регенеративного эксперимента и
преследовал ее с фанатичным упорством. "Мы, - говорил он 27 октября
1930 года партийным иерархам, - должны отчистить и раздробить в
характере итальянцев осадок, отложенный теми ужасными веками
политического, военного и морального упадка, которые продолжаются
с 1600-х годов до прихода Наполеона. Это огромная работа.
Рисорджименто было только началом, потому что это была работа
слишком малого меньшинства; мировая война, с другой стороны, была
глубоко поучительной. Речь идет о том, чтобы день за днем
продолжать эту работу по изменению характера итальянцев "10.
Два года спустя в беседе с Эмилем Людвигом Дуче четко
сформулировал цель фашистской антропологической революции: "Мы,
как и в России, выступаем за коллективное чувство жизни, и это мы
хотим укрепить ценой индивидуальной жизни. При этом мы не
заходим так далеко, чтобы превращать людей в фигуры, но
рассматриваем их прежде всего в их функции в государстве...". Да, это
то, что фашизм хочет сделать с массами: организовать коллективную
жизнь, общую жизнь, работать и бороться в иерархии без стада. Мы
хотим человечности и общей красоты жизни. Конечно, это удивляет
иностранцев! Уже в шесть лет человек в определенном смысле
забирается из семьи, а в шестьдесят лет его возвращает
государство".11 Для того чтобы привить коллективное чувство
государства массе итальянцев, добавил Дуче, необходимо организовать
их с железной дисциплиной и вести их с интересом и энтузиазмом:
"Мистическая сторона и политическая сторона обусловливают друг
друга. Одно без другого бесплодно, то без другого развеивается по
ветру флагов... Римское приветствие, все песнопения и формулы, даты
и памятные даты необходимы для сохранения пафоса движения. Так
было уже в Древнем Риме "12.
И снова, в конце 1930-х годов, Анне Волков, дочери эмигрировавшего
царского адмирала, натурализованной англичанке, жене болгарского
посла в Италии, антисемитски настроенной нацистке и поклоннице
Муссолини, Дуче признался, что образцом фашистской педагогики
также является Спарта. До семи лет ребенок нуждался в материнской
нежности, "потому что ребенок - самое трудное существо для
воспитания": но после этого, утверждал Муссолини, государство
должно было вмешаться, "как это было в древней Спарте, и с восьмого
года детей воспитывают и обучают в строгой дисциплине, которая
сделает их сильными, находчивыми, честными и мужественными
гражданами "13.
Хотя Сисели Гамильтон не была знакома с заявлениями Муссолини о
перерождении итальянцев, некоторые из которых были сделаны после
публикации его книги, она точно понимала цель фашистского
педагогического эксперимента, сравнивая его с тем, который был
осуществлен в России: "В обеих странах машина для производства
хороших граждан приводится в движение верой и энергией, не
имеющими себе равных. Фашизм, как и большевизм, достаточно
уверен в себе и в своей концепции, чтобы работать без угрызений
совести и без колебаний над созданием людей по своему образу и
подобию, формируя их в соответствии с избранной моделью
гражданственности".14
Пакт о молодежи
Дети, молодые люди обоих полов были главными подопытными
кроликами в эксперименте по возрождению страны. И по-прежнему
молодые люди, в большинстве своем, были архитекторами и
исполнителями этого эксперимента. Педагогика нового итальянца
была вдохновлена мифом о молодости как категории духа, а не как
условии возраста, и Муссолини первым заявил о себе как о живом
образце, выглядя вечно молодым, настолько, что прессе было
запрещено вспоминать о его дне рождения: но исторический факт
оставался фактом: он пришел к власти в возрасте тридцати девяти лет,
как самый молодой премьер-министр в истории Италии. Молодой
возраст иерархов был фактом, который иностранные наблюдатели
отмечали за пределами фашистской риторики: "Если вы спросите
меня, что действительно нового в Италии, - писал Беро в 1929 году, - я
без колебаний отвечу: то, что действительно ново - это престиж
молодости. Именно это, а не доктрины, преобразило Италию".15
"Повсюду вы видите молодые лица, выбритые на американский манер
- говорят, на римский манер, - повсюду активные мужчины на
должностях, требующих активности. В Палаццо Чиджи, в свите Дуче,
вы не увидите выбеленных голов, разве что у швейцаров".16
Пять лет спустя другой французский посетитель, историк Луи
Маделин, академик Франции, был поражен "молодостью вещей и
людей", как он написал в своей статье "Новая Италия",
опубликованной в феврале 1934 года. Как старый Фауст заключил
договор с Мефистофелем, попросив у него молодости, так и Маделин
писал: "Муссолини хотел, чтобы Италия заключила новый договор
молодости... Вождь окружил себя молодыми людьми. Рядом с
министрами и лейтенантами дуче, которому едва исполнилось
пятьдесят лет, почти превратился в фигуру Нестора". В Риме я видел
некоторых из этих молодых правителей в возрасте тридцати, тридцати
двух, тридцати пяти лет. У меня было интервью с молодым
организатором физического воспитания Риччи, который не выглядел
на тридцать, а в министерстве корпораций заместитель
государственного секретаря Бьяджи, маленький, худой, с блестящими
глазами и курчавой черной бородой, выглядел не старше. В отсутствие
Бальбо - маршала в тридцать шесть лет - я познакомился с его
заместителем, который имел вид студента. Но самым великолепным
образцом этих новых правителей, по моему впечатлению, был
секретарь фашистской партии Стараче, который показался мне новым
Цезарем, такой властью веяло от каждого его жеста. Многие из самых
молодых бойцов Великой войны первыми вступили в ряды фашизма,
наложив на него свой отпечаток: молодость".
Также в 1934 году французская писательница Бландин Олливье,
внучка Эмиля Олливье, министра и главы правительства при
Наполеоне III и Ференца Листа, провела расследование о фашистской
молодежи, взяв интервью у различных иерархов и самого Муссолини,
поскольку считала, что "фашизм - это проблема образования;
прочность режима зависит от завтрашних людей". И вскоре он
убедился, что благодаря воспитанию новых поколений "твердые
добродетели римлян воскресают в фашистах".18 Олливье отметил, как
фашистская система образования стремится "вывести детство из-под
влияния семьи": "Фашизм заменяет свое образование, свою этику и
свою мистику старым буржуазным образованием и старой семейной
моралью. За тщательно замаскированным фасадом буржуазное
мышление и мораль уничтожаются. Уникальная, школа находится в
центре нации и режима. С самого детства, в течение пяти лет, богатые
и бедные находятся вместе, получают одинаковое обучение,
подвергаются одинаковому обращению; и на всю жизнь они сохранят
отпечаток этого эгалитарного воспитания".19 Аналогичное замечание
об антибуржуазном характере образования сделал в следующем году
Морис Лашин: "Если фашизму удастся преобразовать менталитет
итальянцев, это будет происходить в следующем направлении:
уничтожение буржуазного духа и ослабление семьи, причем
государство все больше берет на себя задачи, которые раньше
считались обязанностью семьи".20
Непрерывный эксперимент
Фашизм, по словам Лашена, "превратил великую страну в огромную
лабораторию",21 в которой режим осуществлял свою политическую,
социальную и человеческую революцию, "действуя экспериментально,
постепенно, без слишком больших потрясений", чтобы создать
"четвертую Италию", после Италии Римской империи, Италии
Возрождения и Италии Рисорджименто и объединения.22
Французский журналист, который долгое время презирал фашизм,
считая его "чисто реакционным движением", вернулся на полуостров в
1935 году после долгих лет работы, намереваясь "провести
беспристрастное расследование, вдохновленное желанием понять
фашизм" и узнать об "изменениях, внесенных фашизмом в жизнь
итальянцев". С этой целью Лачин взял интервью у многочисленных
иерархов, работавших в различных секторах режима, которые
откровенно отвечали на вопросы, даже указывая французскому
журналисту на "коррективы, которые фашизм должен был внести в
свою работу и методы, принятые для достижения своей цели", так что
его книга была "критикой фашизма фашистскими иерархами "23.
Один из них, молодой профессор, возглавлявший пресс-службу ПНФ,
сказал ему: "Мы взяли на себя внушительную и в то же время
обременительную задачу: переделать менталитет итальянцев.
Итальянец больше не должен чувствовать себя ущербным по
сравнению с другими народами, как это было на протяжении многих
веков. В самой Италии итальянцы были величайшими клеветниками
своей страны... Чтобы сделать из этого разнородного народа единый
народ, надо подвергнуть его железной дисциплине»24.
Партия, милиция, профсоюзы, молодежные и народные организации,
школа были инструментами, используемыми режимом для
"организации и стандартизации жизни итальянцев".25 С этой целью,
поскольку фашизм был "тоталитарным движением", которое должно
было "прежде всего контролировать мысль", режим навязал прессе и
органам коммуникации быть однозначным выражением "приказной
мысли", в соответствии с директивами, которые ежедневно давал
Дуче.26 Наконец, фашистский режим не ограничивался управлением
общественной жизнью итальянцев, но глубоко проникал в их частную
жизнь с целью "ориентировать общество на новое состояние, в
котором личность в первую очередь находится на службе у
государства". 27 В этом направлении работали и Дополаворо, который
организовывал свободное время всех рабочих, и спортивные
организации, которые стали "эффективным инструментом для
морального, а не только физического формирования" итальянцев:
"Критерий, который нас вдохновляет, - сказал молодой секретарь
Олимпийского комитета, - не только спортивный, но и направленный
на политическую цель: поощрять рациональное развитие расы".28
В конце 1930-х годов эксперимент по национальному возрождению
продолжал вызывать восхищение иностранных наблюдателей,
восторженно относившихся к Дуче. Французский писатель Рене
Бенжамен, националист и член Гонкуровской академии, после
посещения Италии в 1937 году посвятил "книгу восхищения и любви"
"Муссолини и его народу", объявив себя фашистом29. Описывая
собрания ONB в Форо Муссолини, Беньямин заявил, что энтузиазм, с
которым молодые люди подчинялись своим командирам, был
спонтанным: "Лидеры отдают приказы, но не в резкой и жесткой
манере: они приказывают просто, и балилла подчиняются, потому что
понимают. Вы не просто обучаете солдат: вы закаляете людей. Цель - с
ранних лет привить им высокую идею жизни и отечества, зажечь в их
душах веру. Каждому придают силу и значение, показывая ему, что он
не одинок и что он принадлежит к великой стране "30.
Более категорично, возможно, вдохновленная гигантскими
атлетическими статуями в Форо Муссолини, Анна Волков
провозгласила, что "фашизм - это дисциплина для высших мужчин: в
лидерах не должно быть слабости, никаких колебаний, которые могли
бы поколебать массы. Дуче - это воплощение Сверхчеловека, он -
материализация ницшеанской идеи о высших видах... Идеал фашиста -
иметь плечи гиганта, легкие атлета, цепкую хватку борца, быть
понятым не только в физическом, но и, прежде всего, в духовном
смысле. Тот, кто умеет наблюдать, обнаружит в фашизме мистику
ритуалов и выражений. В фашистском режиме личность вождя
возведена на высочайшую высоту. Все делается во имя Вождя!"31.
Матрона для имперской Италии
Все инструменты фашистской лаборатории использовались "для
изменения менталитета мужчины", но, как заметил Лачин, "поскольку
режим тоталитарный, он, естественно, должен думать и о женщине",
воспитывать ее, чтобы она "стала лучшим сотрудником фашизма в
формировании новых поколений", прививая ей "идею, что материнство
- это патриотический долг". 32 Подтверждая, что место женщины - в
доме, а ее роль - в семье, фашизм, по словам Лачина, "не стремится
развивать политическую культуру женщин, а просто хочет сделать их
эффективным инструментом, самым эффективным инструментом
фашистской революции"; именно поэтому он уделял самое
пристальное внимание воспитанию маленьких итальянских девочек,
"которые станут матерями новых поколений". Режим создал
специальную среднюю школу для подготовки будущих
воспитательниц - Академию ди Орвието, где ученицы не только
проходили курсы по уходу за детьми, но и получали физическую,
моральную и политическую подготовку33.
Были и иностранные наблюдатели, восторженно отзывавшиеся о
фашистской политике в отношении женщин, такие как Бландин
Олливье, которая посещала школы, центры Национальной оперы
материнства и детства (ONMI), фашистские организации Piccole
italiane и Giovani italiane. В последних "все организовано так, что
девочка и девушка в свободные часы, оставленные ей школой и семьей
- а иногда даже в ущерб последней - находятся в рамках, за ними
следят, они вовлечены в постоянный ритм "34 . 34 Но в дополнение к
тому, чтобы стать женой и матерью, заметил Олливье, новая итальянка
изучала фашизм, "его доктрины, его цели, его проекты и его мечты",
"положение, которое фашистское государство заставило Италию
занять в мире, и еще большее положение, которое оно заставит ее
завоевать". Став "ярым последователем нового культа, новый
итальянец сможет следить за развитием фашистской политики уже не
только со смутным чувством симпатии, но и с осознанием верующего,
который понял догмы своей религии... и все ее физические и духовные
силы будут напряжены, развиты, возвышены для выполнения задач,
которые поставит перед ней фашистская родина".35
Не меньший энтузиазм по поводу фашистского образования женщин
проявила Анна Волкова, которая после посещения Академии в
Орвието сообщила дуче, что вернулась "еще более восторженной и
убежденной поклонницей" такого "великолепного учреждения".
Волков особенно ценил защиту материнства, которая не оставляла без
внимания даже матерей-одиночек: "Фашистское государство защищает
женщин и их детей всеми средствами. Нигде в мире не делается так
много для женщины и ее ребенка, как в Италии". Ребенок, законный
или незаконный, является представителем расы, полностью
аналогичным всем другим людям, составляющим государство, как в
правах, так и в обязанностях". Следовательно, чтобы привить всем
итальянцам "культ детства", фашизм стремился "навязать убеждение,
что незаконная мать, которая с любовью и самоотречением посвящает
себя своему ребенку, терпеливо снося лицемерное порицание других
обычных матерей, бесконечно более достойна помощи и поддержки,
чем мать, которая находится на хорошем счету и может радоваться
всеобщему одобрению". Волкова рассказала, что сам Дуче во время
интервью подтвердил ей защиту матерей-одиночек, напомнив, что по
случаю завоевания империи он обратился "непосредственно к
женщинам и говорил с ними независимо от их семейного положения; и
когда все итальянцы лишили себя священного кольца, чтобы
пожертвовать его отечеству, никто не потрудился выяснить, было ли
предложенное ими кольцо благословлено или нет". По этой же
причине дуче хотел поручить контроль и помощь африканскому
предприятию матерям и вдовам Великой войны, потому что "эти
женщины, пожертвовавшие ради родины всем, что им было дороже
всего на свете, вполне достойны таких задач "36. Фашистка, но...
Далеко не в восторге от фашистской политики в отношении женщин
была феминистка Гамильтон, которая "решительно выступала против
фашистской концепции женственности и предназначения женщин" и
осуждала демографическую кампанию по увеличению рождаемости37.
Несмотря на революционность в других областях, отмечала
Гамильтон, фашизм был консервативен в отношении задач женщин:
"Домашняя жизнь, муж и дом: и дети, будущие граждане Италии, и
тем лучше, если их будет много".38 Как и мальчиков, девочек по
просьбе родителей зачисляли в ОНБ, который, однако, собрал лишь
меньшинство нового поколения. Однако, посетив столичные школы,
Гамильтон обнаружил, что в них не было дискриминации между теми,
кто был членом ОНБ, и теми, кто им не был. Он также заметил, что как
в государственных школах, таких как Монтессори, так и в
общественных школах, школьники демонстрировали здоровый и
радостный вид.
И она высоко оценила то, что режим сделал для заботы о матерях и
защиты детства благодаря помощи ОНМИ и организации приморских
и горных колоний.39 Маленькая итальянская девочка воспитывалась
прежде всего "в культе колыбели". Однако ученый отмечает
противоречия в фашистской политике в отношении женщин. В
действительности, хотя фашизм стремился сосредоточить женщин в
домашней жизни, он в то же время призывал их, "гораздо больше, чем
в прошлом, записываться в ряды фашизма".40 Хотя воинственность
женщин-членов женского фашизма, зависящего от ПНФ, была
посвящена, по сути, филантропическим задачам, тем не менее, как
заметил Гамильтон, эти задачи имели политическую цель, поскольку
были «наиболее эффективным инструментом пропаганды и
проникновения»41.
Английский ученый также отметил, что положение женщин в Италии
не везде одинаково, учитывая большой разрыв между Севером и Югом
страны, и, следовательно, режим должен был адаптировать свое
отношение к обычаям, традициям и менталитету женщин в различных
регионах: "Многие древние традиции были отменены в Ломбардии, в
то время как в Калабрии они все еще сопротивляются". Особенно это
проявилось в реализации демографической политики, которая
оказалась неутешительной для режима: "Уровень рождаемости в
Италии в целом высок по сравнению с другими европейскими
странами, но в некоторых крупнейших городах - Турине, Генуе,
Милане - он упал ниже уровня рождаемости в Лондоне "42.
Скептически относился к способности режима превратить
итальянскую женщину в романтическую римскую матрону Жан
Ажальбер, французский поэт, ученый и путешественник, член
Гонкуровской академии, который описал свои впечатления от поездки
в Италию в 1935 году в книге, иронически критикующей фашизм, под
названием L'Italie en silence et Rome sans amour (Италия в тишине и
Рим без любви). Академик хотел бы посетить Италию, игнорируя
Муссолини и фашизм, но это было невозможно: "Дуче... дуче... дуче...
дуче..., это всего лишь крик.... Увы! Я бы хотел путешествовать без
этой навязчивой идеи, держаться подальше от политики, обойти ее,
вытеснить из своих туристических маршрутов. Но "наваждение" - это
не каменный город или станция, которую можно проскочить... Фашизм
- это на данный момент атмосфера, атмосфера Италии, и нельзя
отрицать пространство, солнце, свет и воздух, которым не могут
дышать легкие, привыкшие к другим выделениям".43
Аджальбер считал навязчивым зрелище детей, мальчиков и юношей
обоих полов, марширующих повсюду в своей униформе и с
песнопениями, восхваляющими Дуче и молодежь фашистской Италии.
Ему казалось печальным видеть "девиц в форме, белых рубашках,
черных юбках, военизированных, поющих не знаю какие фашистские
песни по приказу строгих маршалов"; он сожалел о девицах прошлого,
которые "танцевали, размахивая гирляндами цветов", и задавался
вопросом, танцуют ли еще девушки сальтарелло в Риме и тарантеллу в
Неаполе: "Фашистская культура! В своих планах на будущее женщина
должна оказывать такое же влияние, как и мужчина". Поэтому женские
фашисты наряду с мужскими фашистами", но никакого "внедрения
женщин в политику. Она должна довольствоваться своей естественной
миссией - жены и матери: главное - максимальная рождаемость". Но
Ажальбер сомневался в успехе этой политики: "О! Фашистская
женщина ни в коем случае не будет древней матроной.
Административные профессии открыты для нее в определенном
процентном соотношении: 20% на низших должностях: машинистки,
стенографистки; 15% на высших должностях: архивариусы, секретари,
библиотекари; 5% на более высоких должностях, где требуется высшее
образование.
Были и женщины, занимавшиеся экономической деятельностью,
игравшие важную роль в управлении фабриками, особенно на севере;
женщина-инженер руководила главной электростанцией в Риме; были
женщины-адвокаты, врачи, журналисты, профессора университетов:
тем не менее, "несмотря на эти уступки модернизму, на страже
интересов стоит максимальная рождаемость, благодаря которой
однажды Италия взорвется...". Честь беременной женщине! Позор
худой женщине". Но, несмотря на огромные усилия ОМНИ по
увеличению численности населения, Аджальбер отметил, что
рождаемость в Италии упала с 29,7 на тысячу человек в 1921-1925
годах до 24,9 в 1931 году и 23,5 в 1933 году44.
Решительно против фашистской модели женщин и семьи выступал
Анри-Ирене Марру. В своей статье, опубликованной в журнале "Esprit"
через месяц после участия в океанском собрании 5 мая, историк
утверждал, что фашистская концепция женщины и семьи, хотя внешне
и совпадает с католической концепцией, на самом деле предлагает
модель, вдохновленную языческой древностью: "Фашизм есть не что
иное, как воскрешение древнего города, и идеал женщины, который он
предлагает, тот же самый, которому учили цивилизации классического
Средиземноморья: идеал спартанской женщины, или, лучше сказать,
идеал римских матерей, которые знали, что их сыновья станут
легионерами, и заранее "посвящали" их родине". 45
Ссылка на античную модель была подсказана Марру не его эрудицией,
а тем, что он наблюдал во время эфиопской войны, когда "никогда, как
в течение этих восьми месяцев, мы не видели, чтобы на нее ссылались
и ей подражали". Марру привел в пример телеграммы и письма
матерей бойцов, павших в Африке, направленные дуче, которые
получили широкую огласку в прессе режима: "Гордясь тем, что я
итальянка и мать, я благодарю Бога, который позволил моему сыну
пожертвовать собой"; "Пусть его крылатый дух парит над славными
чернорубашечниками..." . А историк добавил: "Только сегодня (я не
делаю этого специально) я прочитал в утренней газете: великая
демонстрация сильных женщин Рима. Римские матери, поющие гимны
отечества, протягивали своих детей к Муссолини в знак высшей
преданности...'.46
Согласно Марру, фашистский идеал "матери на службе воинственного
государства" представлял собой "регресс на духовном уровне" по
сравнению с католической концепцией и "регресс на уровне чисто
человеческих ценностей", потому что конкретно "горизонт
фашистской женщины будет ограничен и определен домом, кухней,
прачечной и колыбелью". Фашистская риторика превозносила
"возвышенную слабость материнства", чтобы скрыть тот факт, что
сведение женщины только к роли матери ведет "к деградации ее
личности", поскольку это означает "деградацию человека путем
ограничения его смысла жизни, его цели, биологической функцией ...
потому что речь идет именно об этом: фашистская женщина есть
только репродуктивный орган»47.
Две имперские державы, союзники и соперники
После размышлений о языческой модели женщины и фашистской
семье Марру обратился к вопросу об отношениях между фашизмом и
католицизмом. Официально, отмечает историк, фашизм уважал
католические ценности и с "замечательным политическим чутьем
ликвидировал абсурдное положение антиклерикального правительства
в стране, где массы оставались глубоко католическими". Но в то же
время Марру считал, что между фашизмом и католицизмом
существует "фундаментальное противостояние", поскольку "фашизм
стремится использовать в своих целях чистую и простую
христианскую веру народа", в то время как кощунственные и
антихристианские взгляды и поведение были скрыты в его действиях,
как, например, фашистское прославление Мадонны, которое в
действительности служило лишь для прославления "биологического и
социологического факта материнства". "Официальный католицизм
фашистов, - заключил Марру, - не более чем поэтическая мифология,
символизирующая суровые реалии земного, языческого города "48.
Тема отношений между фашизмом и католицизмом рассматривалась
большинством иностранных путешественников в основном с точки
зрения отношений между режимом и церковью.49 Еще до подписания
Латеранских пактов наблюдатели почти все сходились в оценке
позиции фашизма и Муссолини по отношению к церкви как
продиктованной исключительно политическими расчетами. "Будучи
реалистичным и дальновидным государственным деятелем,
Муссолини спустя долгое время понял, что поддержка духовенства
усилит влияние фашизма на итальянцев", - писал Наудо в 1926 году, и
поэтому Муссолини всячески пытался "примириться с
благосклонностью Ватикана". 50 Более того, дуче считал, что может
использовать церковь для реализации своих имперских амбиций, и по
этой причине он превозносил католицизм итальянской нации:
"Хороший итальянец обязан быть хорошим католиком, потому что
католицизму суждено стать инструментом созидательной и
экспансионистской силы Италии "51.
В 1927 году Фрэнк Фокс назвал отношения между Церковью и
режимом "сердечными" и, вероятно, ориентированными на решение
Римского вопроса; однако он отметил, что для Муссолини интересы
государства стоят на первом месте, и что Дуче "не пожертвует ничем
из национальных интересов ради Церкви".52 В следующем году Эдвин
Халлингер заявил, что "одним из самых важных успехов фашистского
правительства, с точки зрения внутреннего единства нации, было
сближение между государством и Церковью". Даже принимая во
внимание напряженность и столкновения, возникшие в 1925-1927
годах по вопросу о католических скаутах, которых режим хотел
подавить в пользу ОНБ, Халлингер предсказал, что "после почти
столетия напряженного соперничества - которое временами сотрясало
основы единой Италии и и грозили расколоть нацию надвое – Ватикан
и итальянское правительство наконец медленно, но верно движутся к
примирению»53.
Конкордат был с энтузиазмом одобрен иностранными наблюдателями,
благосклонными к фашизму и Церкви, в то время как антифашисты
оценили его как еще одно доказательство оппортунизма Муссолини.
"Почтение, которое Муссолини демонстрирует сегодня по отношению
к Папе и Церкви, является полностью искусственным и показным
только по политическим причинам", - прокомментировал Джон Бонд в
1929 году, добавив, что он может утверждать "из личного опыта, что
антиклерикальные настроения в Италии все еще живы и отнюдь не
мертвы даже среди последователей Муссолини".54 Для Бонда союз
между Муссолини и Папой был "противоестественным", даже если он
был основан на борьбе против общих врагов, от масонства до
коммунизма55. Муссолини хотел примирения с Церковью, потому что
стремился к "воскрешению Римской империи с помощью
понтифика".56
Бонд считал правдоподобным, что Пий XI также разделял "мечту о
воскрешенной Римской империи", и поэтому не исключал гипотезу,
что "имперский Рим и папский Рим могут вновь возникнуть не как
соперничающие державы, а как союзные державы, сотрудничающие в
возрождении и, возможно, расширении древнего владычества". Какой
бы надуманной ни была эта гипотеза, она, по мнению Бонда, не была
беспочвенной, поскольку "союз между империализмом и
клерикализмом не является чем-то новым в истории человечества",
даже если результат не всегда был благоприятным: "Как это было
установлено и функционирует сегодня в Италии, союз между
церковью и фашистским режимом представляет угрозу миру во всем
мире".57
Более глубокую оценку отношений между Церковью и фашистской
Италией предложил в 1934 году американский журналист Жорж
Селдес, которого Муссолини выслал из Италии в 1925 году. Селдес
продолжал следить за происходящим на полуострове в сотрудничестве
с американскими журналистами, жившими в Риме, которые снабжали
его информацией и документами, а в 1931 году он тайно посетил
Италию, чтобы завершить весьма критическую биографию Муссолини
"Опилки Цезаря", которую в течение четырех лет ни один английский
или французский издатель не хотел публиковать из-за
дипломатической целесообразности58. Находясь в Италии, журналист
стал свидетелем конфликта между церковью и режимом, который
обвинил "Католическую акцию" в политической игре.59 Папа
отреагировал публикацией энциклики "Non abbiamo bisogno" ("У нас
нет нужды"), в которой он осудил претензии режима на монополию на
образование новых поколений, чтобы воспитывать их в культе воина и
имперских идеалах языческой государственности. "Папа, - иронично
заметил Селдес в биографии Муссолини, - заявил, что католицизм и
фашизм несовместимы; Муссолини заявил, что фашизм и католицизм
несовместимы. После двух лет попыток отдать дуче то, что
принадлежит дуче, а Богу то, что принадлежит Богу, кризис
фактически взорвался, и обе стороны поняли, что дружбы между
двумя противоположными идеологиями быть не может "60.
Конфликт продолжался до 2 сентября, когда был достигнут
компромисс между режимом и церковью, которой пришлось
согласиться ограничить деятельность "Католического действия"
религиозной помощью. Отношения снова стали сердечными,
настолько, что в третью годовщину Латеранских пактов Папа Римский
принял дуче в Ватикане и провел с ним долгую беседу. Тем не менее,
Селдес продолжал считать, как он писал в 1934 году, что причин для
конфликта между Церковью и фашизмом было больше, чем причин
для согласия. Он вспоминал, что "вся история переговоров между
режимом и Ватиканом была чередованием угроз, провокаций,
обещаний".61 С 1922 по 1931 год отношения между папством и
фашизмом "прошли через четыре фазы: взаимное недоверие и
враждебность фашистов; примирение (Латеран); открытая война; и
кажущийся мир, который длится до сих пор". 62 Однако журналист не
верил в прочность мира из-за "глубокой, существенной и
неустранимой оппозиции, существующей между духом и философией
фашизма и католической доктриной, точнее, христианской доктриной".
Эта оппозиция уже вызвала "жестокий конфликт" между режимом и
Святым Престолом через три месяца после подписания Латеранских
пактов, когда Муссолини, выступая в Сенате, язвительно назвал
христианство небольшой палестинской сектой, которая так бы и
осталась таковой, если бы не стала католической, перебравшись в
имперский Рим.63 Папа выразил протест, объявив заявления Дуче
еретическими, и был почти на грани разрыва Конкордата, но в конце
концов примирение восторжествовало. Будучи политическим
реалистом, Муссолини искал согласия с церковью ради политических
целей, а ради политических целей он провозгласил католицизм
религией государства; но фашизм, по словам Селдеса, преследовал
цель создания "тоталитарного государства, которое захватывает
человека, гражданина или подданного, чтобы превратить его в
шестеренку, часть всемогущего коллективного правительства, внушая
ему политические, социальные, моральные и религиозные идеи
политической партии". 64 Ссылаясь на Сореля и Ницше, фашизм
проповедовал доктрину, которая была антитезой христианской
доктрины, потому что, вдохновленный мифом о языческом Риме, он
фактически провозглашал "обожествление государства".65
Со стороны Папы, "который остается антифашистом", по словам
американского журналиста, было понимание того, "что его противник
играет роль, что диктатура может исчезнуть так же внезапно, как и
возникла, а Церковь будет продолжать свой путь". Пий XI следил за
"поклонами, коленопреклонением и исповеданием веры неофитов",
считая их "проявлениями вчерашнего и, возможно, завтрашнего
атеиста". Его вердикт фашизму очень прост: ничто, построенное на
насилии, не может существовать долго. Для Пия XI тоталитарное
государство остается "антихристианским". И Папа не изменил своего
вердикта". Отсюда, по мнению Селдеса, возможность будущих
конфликтов между Церковью и режимом. "В первом столкновении
1929 года Муссолини одержал пиррову победу; в битве 1931 года
Муссолини одержал победу... На данный момент победа принадлежит
Цезарю. Но царство бледного Галилея и иерархия еретика Предаппио
не могут вечно сосуществовать и морально функционировать бок о
бок. Окончательный триумф принадлежит будущему "66.
Фашистская религия
Сисели Гамильтон была во Флоренции, когда конфликт между
церковью и фашистским режимом по поводу действий католиков
"достиг самой острой точки", как она выразилась, "прискорбной
вспышки насилия со стороны горячих голов фашизма, с нападениями
на священников, которые пресса и сторонники Ватикана описывали
как многочисленные и жестокие". Для фашистов это было совсем не
так. Один иерарх заверил английского ученого, что нападений на
священников было всего сто семьдесят три и большинство из них
далеко не серьезные. Однако, добавил Гамильтон, эти нападения были
сочтены церковью настолько серьезными, что она решила запретить
шествия в честь Тела Христова, опасаясь повторения насилия над
священниками. Фашисты презрительно ответили, что запрет был
излишней мерой предосторожности. Однако английской ученой было
жаль, что ее лишили церемонии, которую она надеялась увидеть во
Флоренции "во всем ее великолепии". На самом деле, вместо того
чтобы пройти по главным улицам города, процессия в честь Тела
Христова проходила внутри собора. Войдя в собор, Гамильтон с
удивлением увидела несколько десятков чернорубашечников,
выстроившихся перед главным входом, которые, несмотря на
напряженные отношения с Ватиканом, приняли участие в религиозной
церемонии "с военной торжественностью", вместе с подестой, пешими
солдатами и камердинерами, одетыми в средневековые костюмы, за
которыми следовали священники, монахи и прелаты: все это
показалось ей "несочетаемым".67
Однако "после того, как английский ученый немного больше
понаблюдал за фашизмом в действии и немного больше прочитал о его
теориях и принципах", этот эпизод больше не казался ей нелепым, а,
напротив, она сочла его "значительным, потому что он
продемонстрировал силу Муссолини против Ватикана".68 Эта сила, по
мнению Гамильтона, была следствием фашистской политики в
отношении Церкви. Фашизм не был ни атеистом, ни иррелигиозным, и
если он иногда был антиклерикальным, его нельзя было назвать
антикатолическим, потому что он вновь ввел распятие и молитву в
государственных школах, а преподавание религии велось в
соответствии с католической ортодоксией. Конфликт между режимом
и церковью, по мнению Гамильтона, возник "потому что это два
несколько похожих института, в том смысле, что один и другой не
терпят ереси, они хотят сформировать "единую совесть" и
контролировать ее, они соревнуются в том, чтобы добиться
повиновения масс через преданность своим идеалам, и они пытаются
добиться этого одними и теми же средствами: влиянием и контролем
над молодежью". И нет сомнений, что фашизм, среди его самых
идеалистических боевиков, имеет многие черты религии... Пий XI не
ошибся, осудив фашистское вероучение как языческую статолатрию.
Конечно, в фашизме есть элемент культа: культа государства,
превращенного в нечто большее, чем человеческий институт, и культа
героя, в котором воплощено государство".69
Церковь и режим были двумя институтами, настроенными на
прозелитизм путем завоевания сердец молодежи, каждый из которых
поддерживался верой в свою миссию, и по этой причине, утверждал
Гамильтон, они были обречены "на столкновение и борьбу друг с
другом, тем более что оба они относятся к римской традиции власти,
господства, империи, в то время как ни один из них до сих пор не
усвоил традицию терпимости. Каждый из них считает, что имеет право
сделать мир лучше, и уступают только тогда, когда их вынуждает сила
и необходимость". По мнению ученого, "только в силу необходимости
Ватикан прекратил конфликт с режимом, по крайней мере, на время,
подписав соглашение, которое многое уступило языческому
государству, которое он осуждал".70
Селдес и Гамильтон были не первыми, кто утверждал идеальную и
моральную несовместимость между фашизмом и католицизмом. В
1927 году американский философ Герберт Шнайдер писал, что фашизм
"в культурном, если не в политическом отношении, является самым
сильным соперником католической церкви. Ни одна светская власть ...
никогда не пыталась соперничать с церковью в ежедневном контроле
над жизнью и сознанием итальянцев".71 Фашизм провозгласил себя
католическим только потому, что итальянская нация была
католической, а "все, что является национальным, должно быть
фашистским".72 В своих националистических догмах, воинской и
империалистической этике, ритуалах, поклонении мученикам,
прославлении Дуче и сакрализации нации, фашизм, по словам
Шнайдера, имел «энергию новой религии ", потому что, даже если он
и не задался целью "развить собственное богословие", он дал "тысячам
молодых людей идеал, ради которого... пожертвовать своей жизнью".
Многочисленные фашисты, рассказывал философ, признавались ему,
что готовы умереть не за свою христианскую веру или за короля, «а за
Муссолини, с радостью и без колебаний»73.
Два года спустя Шнайдер и Клаф говорили о "фашистской религии",
отмечая успех фашизма в создании "собственной религиозной
атмосферы и ритуальности": "Фашизм провозглашает себя духовной
революцией, а не только политической, началом новой эры
итальянской цивилизации, если не мировой. И как таковой, он имеет
элементы новой религии". Одним из первых проявлений фашистской
религии стал культ мучеников - фашистов, павших в столкновениях с
антифашистами; затем последовало "обожествление Дуче: его жизнь
священна, его слово - закон, его воля - высшее правило
существования"; наконец, появился культ римскости и воскрешение
новой Римской империи, вызванное в фашистских ритуалах по
образцу древних языческих обрядов. Все это, комментируют Шнайдер
и Клаф, может показаться "иностранцу искусственным и невозможным
для серьезного восприятия, но даже случайного знакомства с духом и
внутренней жизнью фашистского фашизма достаточно, чтобы показать
эмоциональную привлекательность и силу воображения, которую все
это оказывает на молодежь".
Конечно, отметили два ученых, политики превозносили эти чувства в
литературе и риторике партии, поэтому не все можно было
"воспринимать всерьез как выражение искреннего чувства, а только
как простую пропаганду". Тем не менее, в большинстве фашистов,
несомненно, присутствовал заметный элемент религиозного пыла и
преданности, который выходил за рамки политической борьбы и
партийной тактики".74 Фашистский режим добился огромного
прогресса по сравнению со своими предшественниками в обращении к
религиозному воображению народа и конкретном предоставлении
нации символов и ритуалов ее политической веры. Это сделало
отношения между фашизмом и католицизмом сложными и трудными,
которые не ограничивались отношениями между церковью и режимом.
Фашизм, утверждали Шнайдер и Клаф, не был "ни языческим, ни
христианским", но соперничал с церковью за монополию на совесть. И
это было источником новых напряжений и возможных конфликтов
между Церковью и тоталитарным государством.75
В 1930-е годы были и другие иностранные наблюдатели, которые
описывали фашизм как религию или мистицизм. Фашизм, заявил
Марсель Люсен в 1934 году, "стал политической религией, которая
преображает полуостров".76 Говоря о воспитании новых поколений,
Раймон Рекули заметил, что "все усилия режима направлены на
создание у молодых людей своего рода религии, мистики
фашизма".Вы приучаете их чувствовать и думать коллективно,
национально. Если молодежь воспитана, мобилизована,
индоктринирована, то впоследствии не составит труда удержать ее в
рядах фашистского организма. Она чувствует себя в своей стихии и не
представляет себе другой ориентации для своего гражданского
существования и карьеры. И он с энтузиазмом поставляет солдат в
бесчисленные батальоны". Декалог по индоктринации нового
поколения заканчивался словами: "Муссолини всегда прав. Одну вещь
нужно беречь превыше всего: жизнь дуче". Таким образом,
прокомментировал Рекули, "фашистская религия - это правильный
термин - тесно связана с культом диктатора, который рассматривается
не только как лидер, но и как бог, и его приказы не могут, никогда не
должны подвергаться сомнению".77
"Дуче - Бог": так саркастически назывался параграф в книге "Италия
Муссолини", опубликованной в 1935 году Германом Финером,
английским политологом, который жил в Италии с января по сентябрь
1933 года и снова в марте-апреле 1935 года, чтобы узнать об истоках,
организации и функционировании фашистского государства78. Для
Финера "возвышение Дуче над всеми людьми, не только сегодняшней
Италии, но и каждой страны и каждого века", было "несостоятельной
темой в любой свободной дискуссии", но в то же время
демонстрировало неизбежный кощунственный характер религиозного
образования, насаждаемого режимом; Действительно, нет смысла
говорить с мальчиком или девочкой о Князе мира, Сыне Божьем,
распятом ради спасения человечества, и благости Девы Марии, если
"более 90 процентов их времени уходит на изучение значения
мужественности, энергии, амбиций, завоеваний и тоталитарной
преданности Дуче..." . . . Если религиозное воспитание что-то значит
для мальчика, он должен отвергнуть фашизм и его дела. Духовные
ценности фашизма и ценности католицизма полностью
противоположны".79
Верующие
В 1930-е годы было много известных иностранцев из демократических
стран, которые относились к Муссолини с большим уважением, если
не с восхищением, поскольку считали, что его режим положительно
решил многие проблемы, хотя и пожертвовав свободой. Например, в
1933 году политик и журналист Генри де Жувенель, посол Франции в
Риме в 1932-1933 годах, писал: "Дисциплину производства Италия
установила. Кризис государства, Италия его разрешила. Профсоюзное
движение - Италия интегрировала его в свой политический организм.
Если это было сделано путем, отличным от тех, которыми шли наши
вчерашние, сегодняшние и завтрашние правители, и ценой свободы,
которой по-прежнему связана наша республика, тем не менее, решения
фашизма заслуживают уважительного внимания, причитающегося
всем положительным работам. Неважно, нравятся они нам или нет.
Фашистские решения существуют. Мы все еще ищем свои
собственные".80
Более того, многие иностранные гости, имевшие возможность
побеседовать с Муссолини и сообщившие об этом в своих рассказах,
способствовали распространению его мифа.81 Беседы с дуче были
неотъемлемой частью различных книг об Италии, опубликованных за
рубежом, когда они не становились предметом целого тома, как,
например, знаменитые Colloqui con Mussolini немецкого писателя
Эмиля Людвига, переведенные на многие языки, или менее известные
Mussolini parle французского писателя Пьера Шанлена,
опубликованные в 1932 году.82
Муссолини с удовольствием принимал иностранных гостей, которых
он принимал почти каждый день, в дневные и вечерние часы, в своем
кабинете, сначала в Палаццо Чиджи, где располагалось Министерство
иностранных дел, затем в Палаццо Венеция, куда дуче переехал на
постоянное место жительства в сентябре 1929 года. 83 Рассказы
иностранцев о встрече в Палаццо Венеция совпадают в описании
волнения, когда их ввели в кабинет Дуче: когда за ними закрылась
дверь, они оказались перед огромным, совершенно голым залом, без
мебели, кроме большого письменного стола в углу сзади, где в свете
лампы можно было разглядеть силуэт лысого мужчины,
сосредоточенно читающего газету, книгу или документ. Затем, когда
посетитель преодолевал почти половину огромного зала, сидящий
вставал, медленно подходил к гостю, говорил несколько слов
приветствия, пожимал ему руку вместо фашистского приветствия и
приглашал присесть, а сам возвращался к своему столу. И начиналась
беседа, которая могла длиться от четверти часа до часа или около того.
Многие иностранцы, особенно журналисты и писатели, включали в
свою поездку в Италию просьбу о встрече с Муссолини. Беро
встречался с ним не менее пяти раз.84 Гиббонс вспоминал, что хотел
бы встретиться с дуче, поскольку был его поклонником, но не был
уверен, что ему есть что ему сказать, и его отталкивала мысль о том,
что ему придется идти к Муссолини, как к одной из туристических
достопримечательностей Европы. И он привел в этой связи анекдот об
одном американском джентльмене, "который после долгих хлопот с
властями добился личной беседы с господином Муссолини, а когда его
приняли, он просто сделал отметку в своем блокноте и поспешил на
следующий поезд в Швейцарию. Ему сказали, что Муссолини,
Монблан и колледж Магдален в Оксфорде - единственные объекты в
Европе, которые заслуживают внимания очень занятого человека".85
Все иностранцы, встречавшиеся с Дуче, рассказывали, что видели
человека, сильно отличающегося от того, каким он представал на
публике: без статных поз, без хмурого, жесткого лица, без выдающейся
челюсти, сжатых губ и яростного взгляда, Муссолини выглядел
простым, вежливым, разговорчивым, иногда даже дружелюбным и
улыбающимся. Французский академик Анри Бордо, вернувшийся в
Италию в начале 1928 года после многолетнего отсутствия, был
принят в Палаццо Чиджи, и как только Муссолини подошел к нему, он
спонтанно воскликнул: "Господин президент, вы не выглядите так
ужасно, как на ваших фотографиях". "Вы должны выглядеть ужасно", -
ответил Муссолини с улыбкой, полной изящества, почти нежной".86
Другой французский писатель, Морис Бедель, начал свой рассказ о
поездке в Италию в 1929 году с рассказа об "улыбке Муссолини".
Перед тем, как попасть на прием к дуче, Бедель видел его фотографии,
на которых он был изображен "в маске, выражающей волю к
жесткости", выставленные повсюду: "в редакциях, в кондитерских, в
парикмахерских, в телефонных будках, в табачных лавках, в салоне
Грации Деледда. Настоящая одержимость, вплоть до того, что
возникает вопрос: если спящий Муссолини сохранит прежнее
отношение, если он хоть на мгновение перестанет быть полубогом,
отмеченным суровой судьбой". Бедель, однако, успокаивал своих
читателей: Муссолини по-человечески отличался от того, каким он
представал на портретах, потому что "я видел, как он улыбался,
слышал, как он смеялся".87
Среди иностранцев, которых принимал Муссолини, большинство
восхищались дуче еще до встречи с ним, так же как и фашизмом,
считая его движением, которому суждено возродить итальянцев и
основать новую цивилизацию. В их рассказах о путешествиях и в
образе Италии Муссолини были обновлены мотивы мифа о
бессмертной Италии, которые теперь отождествлялись с мифом о дуче
и фашизме.
Для этих иностранных "верующих" Муссолини был создателем
фашизма, который искоренил большевизм в Италии, не позволив ему
завоевать Европу и уничтожить западную цивилизацию, и основателем
нового государства, которое предлагало себя в качестве эффективной и
действенной модели для национальных государств, пострадавших от
кризиса капиталистической системы, показывая пример объединения
всех сил нации под руководством единого лидера и партии,
устанавливая в корпоративной системе сотрудничество между всеми
производителями, владельцами и рабочими в высших интересах
коллективного блага. Дуче описывали словами возвышенного
восхищения как живой миф, сравнивали его телосложение, характер и
политический гений с Юлием Цезарем или, чаще всего, с Наполеоном,
с которым сам Муссолини в беседах с иностранными гостями любил
сравнивать свою фигуру, упоминая их как великих политических
деятелей, которыми он больше всего восхищался. Но были и те, кто,
подобно английскому католику Джеймсу Стрэчи Барнсу, отвергал эти
сопоставления, заявляя, что Муссолини "был духовным спутником не
Наполеона, а скорее святого Игнатия", потому что, в то время как
Наполеон считал себя "центром своей вселенной", "центром вселенной
Муссолини является Бог".88
Были посетители, которые пережили своего рода мистический опыт в
присутствии Муссолини, например, американский протестант
Милфорд В. Говард, у которого было видение "преображения" во
время встречи с дуче: "Суровые наполеоновские черты - ибо
Муссолини имел необычайное сходство с великим императором -
полностью расслабились; свет залил его лицо, веселая улыбка
растянула рот, а глаза, которые раньше казались горящими в глубине
моей души, теперь превратились в яркое пламя, открывающее
непроницаемые глубины, странные, таинственные, завораживающие,
внушающие благоговение, и я увидел перед собой великого мистика,
мечтателя, который из своих снов породил фашизм, новую Италию,
новое Возрождение. Странное чувство овладело мной, потому что в
тот момент я знал, что нахожусь в присутствии человека, которому
суждено, если он проживет еще двадцать лет, войти в мировую
историю, гораздо больше, чем Александру, Наполеону или Цезарю. Я
чувствовал себя так, как, должно быть, чувствовал себя Моисей перед
горящим кустом: я чувствовал, что нахожусь в священном месте".89
С таким же мистическим импульсом немецкая журналистка Луиза
Диль, плодовитый автор апологетических книг о фашистской Италии,
в своей книге La generazione di Mussolini ("Поколение Муссолини"),
представленной воспроизведением предисловия, подписанного дуче,
рассказывала, что она много раз видела Муссолини, публично и
наедине, что близко знала и понимала как человека, так и диктатора, и
при личных встречах чувствовала себя "так близко к нему,
объединенной с ним одним чувством, порывом сосредоточить, как и
он, все свои силы в воле и действии, как и он, дрожащей за будущее
Европы, как и он, растрачивающей комфортную жизнь..." . .. Вся его
личность излучает максимум динамической силы, и это ощущается
элементарно. Каждая фотография Дуче в этом отношении тоже живая.
Каждый, кто смотрит на его портрет в течение пяти минут, не может не
почувствовать влияние его взгляда и невольно принимает более
устойчивое положение. Я сам наблюдал это множество раз".90
Не с таким мистическим восторгом, но с убеждением, что она
встретилась с "величайшим человеком своего времени", французская
феминистка Вахда Жанна Бордо, жившая в Италии после "красного
двухлетия" и прихода фашизма к власти и уже опубликовавшая
биографию Элеоноры Дузе, попросила аудиенции у Дуче, чтобы
выразить намерение написать ее биографию, сделать известным не
только политика, но и человека. Муссолини, сказала феминистка,
"бесспорно, великий человек, величайший человек нашего времени; но
он не святой. Он не всеведущ и не всемогущ, но в нем есть
безграничная, мощная любовь к родине, сила и мужество творить
историю, которая однажды станет легендой. Поэтому судите о нем не
по тому, что думают о нем посторонние люди, не знающие его и
полные предрассудков, не по тому, что говорят и пишут о нем его
враги, а поезжайте в Италию и посмотрите, что он сделал для своей
страны. Тогда воздайте кесарю то, что принадлежит кесарю". 91
И с намерением воздать кесарю то, что принадлежит кесарю, Бордо
объяснил, что Муссолини, "человек-загадка, к словам которого должны
прислушиваться мировые державы, тот, кто, когда любовь бессильна,
правит насилием, за маской - просто человек, такой же, как все другие
люди, немного более человечный, чем большинство людей, и часто
нежный; который любит детей и животных, который страдает за
человечество и вместе с человечеством, и в своем умственном,
моральном и духовном одиночестве печалится о себе, печалится о
потере личной жизни, печали, которая должна быть вечной, потому что
пока он жив, он никогда не сможет забыть свое славное прошлое и
никогда не будет другим, чем Муссолини". 92
Другие иностранцы, допущенные к интервью с Муссолини, были
очарованы фигурой дуче новой Италии, возрожденной и выкованной
его волей. 'Ваше превосходительство, позвольте мне сказать вам, как я
восхищен вашей великолепной страной, которая работает как часы.
Каких важных результатов вы достигли. Это достойно восхищения!"93
- так начала Пола Херфорт на своей первой встрече с Дуче в Палаццо
Венеция 13 октября 1931 года. А когда беседа закончилась и Дуче
пригласил журналистку вернуться еще раз, галантно поднеся ее руку к
губам, Герфорт вспоминала: "Я больше ничего не вижу, личность и
индивидуальность Дуче настолько светлы, что затмевают все вокруг.
Ослепительная казнь на электрическом стуле".94
Французская журналистка уже решила вернуться в Италию, и она
вернулась туда в 1932 и 1933 годах, с целью объехать полуостров с
севера на юг, "чтобы узнать его во всех смыслах", наблюдать его
современную реальность, "чувствовать биение его сердца", побывать
во всех социальных слоях, передвигаться на обычных средствах
передвижения, смешиваться с толпой, слушать разговоры людей,
смотреть, как играют дети, расспрашивать стариков: жить, короче
говоря, "как итальянец в Италии Муссолини".95 И в конце своего
путешествия она заявляет, что "я больше не вижу Дуче, я вижу его
личность и индивидуальность настолько яркую, личность и
индивидуальность Дуче, что она стирает все вокруг "95 . 95 А в
заключение своей поездки она, как убежденный верующий в величие
Дуче и его дела, заявила, что "сегодняшняя Италия является
фашистской не по принуждению, а из энтузиазма и гордости", и что
"фашизм Муссолини - это не просто режим, сменивший другой, а
начало новой цивилизации, призванной оставить свой след в истории
подобно своему предку Риму. Его отпечатки уже стали бессмертными
благодаря проведенным реформам, общественным работам,
окончательно воссозданной консолидации итальянского единства и
тем огням, которые фашистская Италия зажгла на европейском
континенте".96
Обращенным в миф о Муссолини был французский писатель Эдуард
Шнейдер, автор нескольких книг об Италии и жизни Жанны д'Арк,
который прибыл в Италию в 1935 году на самолете новой линии связи
Рим-Париж, недавно открытой итальянской компанией Ala Littoria и
Air France, которые совершали полеты между двумя столицами за пять
часов, вместо двадцати четырех по железной дороге. В отчете о своем
путешествии, опубликованном в 1936 году, Шнайдер заявил, что он
был "противником Муссолини и его режима", но хотел "лояльно
наблюдать за обоими" и "мало-помалу увидел, как его внимание
сменилось восхищением "97.
Своей книгой он теперь хотел "отдать должное гениальному диктатору
Бенито Муссолини и его делу - фашизму".98 Шнайдер рассказал, что
впервые был принят дуче в 1929 году и сразу же был очарован тем
очарованием, которое исходило от его личности. Он встретился с ним
снова в 1935 году, когда тот готовил завоевание Эфиопии: "Для него
римский орел снова расправил крылья, как в славные времена; для
него potestas romana больше не потакает безграничным амбициям
прошлого, а соизмеряет себя с реальностью настоящего, чтобы
завоевать право жить под голубым средиземноморским небом". На
протяжении пятнадцати веков у римской власти не было такого
молодого, такого сильного, такого красивого лица".99 С этим видением
обновленного римского величия Шнайдер наблюдал в Неаполе "уход
чернорубашечников, которым было поручено защищать в Эфиопии
престиж Италии и, можно сказать, всей Европы".100 И это произошло
в Неаполе. 100 И именно на площади Венеции, вечером 5 апреля 1936
года, спустя всего семь месяцев кампании, "которая остается самой
быстрой, самой экономной в человеческих жизнях, самой
изобретательно проведенной из всех кампаний, вошедших в историю
колониальных усилий", Дуче объявил об "ослепительной победе" в
войне, которую французский новообращенный определил как
"о свободительную, назидательную войну, которая на острие своего
меча несет не смерть, а цивилизацию".101
Имперский апофеоз
Вечером 9 мая 1936 года океанская, возбужденная толпа, подобной
которой никогда не было в столице, вновь собралась на площади
Венеции, заполнила Виа дель Имперо и другие улицы, выходящие на
огромную площадь, толпилась на ступенях и террасах Алтаре делла
Патрия и, словно волна, хлынула к коричневой громаде дворца с
башнями, из которого Дуче обращался к итальянцам и всему миру.
Среди ожидающей толпы была английская журналистка Беатрис
Баскервиль, корреспондент лондонской "Дейли Телеграф" и
нескольких американских периодических изданий.
"Было ровно тридцать минут после десяти часов, когда Дуче вышел с
балкона, приветствуемый взрывами труб и двадцатью одним
пушечным выстрелом, которые эхом отдавались в инертном воздухе
римской весны. В луче света, направленном на него, единственного
освещенного участка в темноте пьяццы, его лицо напоминало старый
пергамент. Он перевел взгляд на толпу внизу. Четыреста тысяч
мужчин, женщин, детей и солдат кричали, пели, ликовали. В городах и
даже в самых маленьких деревнях полуострова миллионы людей,
столпившихся под громкоговорителями, присоединились к овациям из
Рима. Возбужденные массы затаили дыхание, когда Дуче поднял руку,
призывая к тишине. В течение нескольких минут он созерцал
ликующую толпу. Затем раздался его голос, ясный и мощный". Дуче
объявил Италии и всему миру, что Италия "наконец-то обрела свою
империю", и побудил итальянский народ "приветствовать повторное
появление империи, спустя пятнадцать веков, на роковых холмах Рима
"102.
Провозглашение империи стало апофеозом Дуче. Без преувеличения
можно сказать, что Бенито Муссолини достиг вершины популярности
в ночь на 9 мая 1936 года", - писала английская журналистка в
вышедшей в 1937 году книге с красноречивым названием What Next o
Duce? (И после этого, о Дуче?), к написанию которой ее побудило само
основание империи. Вспоминая огромные толпы, собравшиеся в Риме
и на всех пьяцца Италии, Баскервиль размышляла о том, какое влияние
победоносная война против Эфиопии и апофеоз Дуче окажут на
итальянцев и на будущую внутреннюю и внешнюю политику режима.
"Итальянский народ, которым дуче управлял железной рукой в течение
четырнадцати лет, теперь сходил с ума от радости. Муссолини привел
итальянцев к имперской власти, выиграв эфиопскую войну против
Британской империи и ненавистной Лиги Наций с ее
санкционированными государствами. Он раз и навсегда изгнал из их
сердец мучительное чувство неполноценности перед великими
державами. Он удовлетворил их жажду величия. Он подарил им
страну, которую они воображали Эльдорадо. Это была ночь их
триумфа, ночь, которую итальянцы ждали с тех пор, как семьдесят лет
назад их полуостров стал независимым и суверенным государством
"103.
Как итальянцы могли отплатить за то, что сделал для них Дуче?
задавался вопросом английский журналист. Благородные титулы были
барахлом для человека, который любил, чтобы его называли "il Duce".
Деньги были для него безразличны. Был только один способ почтить
его: "Рим никогда не забывал, что во времена славы он обожествлял
лидеров, которые увеличивали его империю. И сейчас Рим делал то
же, что и в прошлом. Пока Дуче находился на балконе, Рим воздал ему
триумфальные почести: сделал его богом".
Так английская журналистка описала апофеоз дуче в день основания
империи в первой главе своей книги под названием "Муссолини, бог".
И в ее словах не было иронии. Конечно, для англосаксонского
менталитета такая честь звучала экстравагантно, обреченная
потускнеть, как золотые лавровые венки, которые когда-то были в моде
в Риме. В прошлом, напомнил журналист, подобное обожествление
было обоюдоострым мечом, и многие римские завоеватели старались
отложить его до своей смерти. "Но от такого обожествления нельзя
избавиться, как от нелепости. Потому что в ту ночь на площади
Венеции кое-что изменилось. После прихода Муссолини к власти на
пьяцца было много других хореографических демонстраций. Но со
времен падения древней империи Рим никогда не ставил драмы,
равной той, что произошла 9 мая, по своему необычайному
эмоциональному возбуждению и по своим возможным, тревожным
последствиям "104.
Эпилог
СМЕРТОНОСНАЯ ИТАЛИЯ
"Фашистская диктатура, таким образом, будет иметь все менее
фашистский характер... Шумная, риторическая, олимпийская и
похожая на Д'Аннунцио по своему происхождению, она, как и
подобает в эту бурную эпоху, в конце концов, сойдет за скромные
пропорции бюрократической диктатуры. Она постепенно утратит свой
героический акцент и эпический акцент. Она будет использовать
оппортунистические средства и уловки старой демократии, чтобы
удержать власть... Черных рубашек ждет такая же судьба, как и
"красных рубашек" Гарибальди. Они перестанут быть модной вещью
даже среди фашистов. И их закат будет, по сути, закатом фашизма".
Потому что эта сенсационная политическая встряска на самом деле
означает для Третьей Италии не смену доктрины, а всего лишь смену
рубашки "1. Так 12 апреля 1924 года перуанский журналист Хосе
Карлос Мариатеги, социалист, находившийся в Италии в 1920-1922
годах, прокомментировал политические выборы, в результате которых
фашистская партия получила большинство в Палате депутатов.
Перуанский журналист наблюдал за рождением и развитием фашизма
до кануна "Марша на Рим", а затем, вернувшись в Перу, продолжал
следить за событиями в Италии. 25 декабря 1925 года Мариатеги
заявил, что фашизм находится "в эпилоге своей истории".2 Но через
несколько дней, 16 января 1926 года, он отметил, что фашистский
режим "победоносно контратаковал".3 Одиннадцать месяцев спустя,
13 ноября 1926 года, он вновь поддался предсказанию: "Муссолини
обещал своему народу великую империю. Если история не позволит
ему выполнить свое обещание, его фундаментальное предприятие
потерпит неудачу".4
И революция продолжается...
Через десять лет после последнего предсказания история, казалось,
подтвердила правоту Мариатеги, но с неожиданным эпилогом:
Муссолини удалось дать итальянскому народу империю. Его
фундаментальное предприятие не провалилось.5
Италия выиграла свою войну. Итальянцы удовлетворили свою жажду
величия. Если бы Муссолини остановился тогда, он мог бы стать
богом, как римские императоры", - писал Ричард Г. Массок, с 1938
года возглавлявший римское бюро Associated Press.6 Другой
американский журналист, Герберт Л. Мэтьюс, который побывал в
Италии в 1925 году, а с 1939 года был корреспондентом "Нью-Йорк
Таймс", заявил, что завоевание империи было для дуче "самым
великолепным моментом его существования, вершиной его карьеры,
вершиной итальянского фашизма... моментом, когда этот современный
Икар приблизился к солнцу "7. 7 Война в Эфиопии была также
моментом, когда поддержка режима со стороны духовенства достигла
наибольшего энтузиазма и продолжилась участием фашистской
Италии в гражданской войне в Испании, когда план Муссолини
"присоединить церковь к мировому господству и сделать фашизм
универсальным, отождествив его с католицизмом", казалось, был
близок к осуществлению, как писал в 1941 году ирландский
католический историк Дэниел Энтони Бинчи, подробно изучивший
отношения между Ватиканом и режимом.8
Италия Муссолини, ставшая имперской, казалось, исполнила
пророчества о возрождении бессмертной Италии, о которой мечтали,
хотя и с другими перспективами, иностранные путешественники во
время Великой войны. Имперская Италия возвестила миру о создании
новой цивилизации, которая увековечит имя своего основателя в веках.
По этой причине после завоевания империи режим усилил
эксперимент, направленный на возрождение нации, новыми
инициативами, такими как объединение всех молодежных организаций
под контролем фашистской партии в новой газете Gioventù italiana del
littorio в 1937 году, борьба за реформу таможни, начатая в том же году,
и введение расовых и антисемитских законов в 1938 году9.
Антисемитские законы стали болезненным сюрпризом для
итальянских евреев; по трагической иронии судьбы, в марте 1937 года
в статье о возрождении империи, опубликованной в "National
Geographic Magazine", Джон Патрик в разговоре с евреем написал, что
"Рим - порт для многих иностранцев": "Нас в Риме около 25 000", -
заметил отец большого семейства... "Многие из нас сражались в
Эфиопии. Мы свободно исповедуем свою религию как "евреи", но мы
также римляне". А другой еврей, отставной торговец текстилем,
сказал, что живет в Риме, "потому что здесь я чувствую больше
равенства, чем когда-либо знал".10
Имперская Италия ужесточила контроль над итальянцами, чтобы
сделать их более жесткими и готовыми к новым войнам, а режим стал
более нетерпимым к иностранным корреспондентам. Подвергаясь
слежке со стороны полиции и ОВРА, журналисты из демократических
стран также страдали от последствий ужесточения отношений между
тоталитарной Италией и их странами, особенно после заключения
союза с нацистской Германией.11 Австрийский ученый, исследователь
Висконсинского университета Уильям Эбенштейн, который жил в
Италии и опубликовал книгу о фашизме в 1934 году, переизданную и
дополненную в 1939 году, сообщил, что в сентябре 1936 года
корреспондент Юнайтед Пресс был выслан за то, что писал о
коммунистической деятельности в Италии. В ноябре 1938 года был
выслан корреспондент газеты Chicago Daily News; еще двадцать пять
иностранных журналистов были высланы в период с 1 января 1938
года по 26 февраля 1939 года12.
В тот же период значительно сократился иностранный туризм: в 1924
году, по оценкам, полуостров посетили 1 060 000 иностранцев,
которые потратили около 2 862 миллионов лир, но к 1937 году их было
всего 700 000, а их расходы сократились до 1 200 миллионов. На
сокращение числа туристов повлиял общий экономический кризис, но,
как заметил Эбенштейн, не стоит "недооценивать роль нынешней
политической системы": "Атмосфера в стране сейчас такова, что
многие иностранцы не решаются ехать в Италию. Путешественник ...
сразу же ощущает изменения в атмосфере. Его итальянские друзья
замолкают во время разговора, боясь оказаться под наблюдением, и
даже иностранец заражается общим недоверием".13
Фашизм - это Муссолини
Имперский апофеоз стал кульминацией процесса идентификации
Муссолини и фашизма. "Муссолини - это весь фашизм и его доктрина,
которая воплощена в таком человеке, как Мухаммед в исламе и
Коране, с учетом пропорций между мусульманским пророком и
итальянским реформатором", - писал бельгийский посол в Риме
Бейенс в 1934 году14. "Фашизм - это личное явление: это личность
Муссолини", - повторял француз Ажальбер в 1935 году.15 В том же
году ему вторил американец Герман Файнер: "Итальянский режим -
это диктатура. Фашизм - это Муссолини: таково суждение
большинства итальянцев".16
Обожествление дуче" началось еще до провозглашения империи, с
превращения "доктрины в культ", как заметил в 1933 году Ион С.
Манро, английский журналист и римский корреспондент "Дейли
Мейл". 17 В "доктрине, превращенной в культ", дуче был
мифологизирован как "спаситель нации и верховный архитектор ее
судьбы".18 В школах, писал Эбенштейн в 1939 году, "обожествление
дуче" зашло так далеко, что "ученики должны были говорить
Муссолини "спасибо" перед едой".19 Символическое обожествление
основателя империи конкретно соответствовало максимальной
концентрации власти в руках диктатора.20 В беседе с Марселем
Люсеном в 1933 году дуче без утайки описал абсолютный характер
своей личной власти: "Со спокойной уверенностью, - вспоминал
журналист, - он сказал мне, что в государстве ничего не решается
помимо его всемогущей воли. Он требует, чтобы все было подчинено
ему, и все он контролирует. Он уверяет меня, что в кинотеатрах всего
полуострова не показывают ни одного дюйма фильма без того, чтобы
он, Муссолини, не сказал: да! И он ни в коем случае не отрицает, что
фашизм был и остается фашизмом: он! ... Муссолини признает, что
престиж его личности, его верховной власти - это фундамент
здания".21
С другой стороны, внимание иностранных путешественников к
королю всегда было невысоким. Формально, отмечал в 1933 году Пол
Джентизон, Италия оставалась конституционной монархией, в ней по-
прежнему существовали Сенат и Палата. Но назначаемый королем
Сенат после десяти лет режима, "за исключением нескольких членов,
полностью фашизировался", а Палата стала "мертвым телом".22
Однако король в конечном итоге оставался "решающим фактором".
Дуче - это жизнь человека. Король - это династический принцип,
"преемственность"", и именно ему предстояло выбрать преемника
главы правительства из списка имен, подготовленного Большим
советом.23
Это не отменяло реальной действительности отношений между
королем и дуче: "Король, - заметил Раймон Рекули в 1934 году, -
полностью затмил себя перед дуче. Он оставил ему всю власть. Он
оставляет ему свободу действовать так, как он считает нужным". С
другой стороны, Муссолини при любых обстоятельствах стремится
сохранить престиж и почести государя и королевской семьи в
неприкосновенности. Таким образом, король выступает как своего
рода флаг, национальное знамя".24 В заключение Рекули писал, что
Муссолини "не только премьер-министр, он - Дуче, со всем
символическим значением, которое подразумевает это слово,
верховный и всемогущий лидер... Он выбирает своих соратников и
часто меняет их... Именно он принимает все важные решения,
внутренние и внешние".25
Новый удар по власти короля был нанесен режимом с учреждением 30
марта 1938 года нового военного звания первого маршала империи,
которое присваивалось как дуче, так и королю, закладывая тем самым
основу для передачи Муссолини в случае войны верховного
командования всеми вооруженными силами, что было прерогативой
Виктора Эммануила III26. Х. Артур Штайнер, американский
политолог, проводивший исследования фашистского режима в Италии,
так определил положение суверена: "Король стал идеальным
"конституционным" монархом, марионеткой в руках своего премьер-
министра, королем, который царствует, не претендуя на
командование".27
С максимальной властью, сосредоточенной в его руках, заметил Наудо
еще в 1926 году, Муссолини "может вести итальянский народ куда
захочет". Поэтому журналист считал, что фашизм, пропитанный
"культурой силы", представляет собой "опасность для демократий...
Чем больше он дисциплинирует Италию, тем больше он
дисциплинирует ее в смысле враждебности к иностранцам".
Подражая, распространяясь по всей Европе, фашизм подчинил
западную цивилизацию самому фанатичному национализму, фатально
подталкивая ее к необузданному воинству. Итальянский внутренний
порядок организован только в соответствии с внешними амбициями
Италии. И фашизм, чего бы это ни стоило, будет стремиться
реализовать их".28
Иностранцы, которые останавливались в Италии при Дуче, были
впечатлены военным духом, символизированным в девизе Муссолини
"Книга и мушкет - идеальный фашист", что соответствовало
милитаристской природе фашизма с момента его зарождения, как
заметили Герберт В. Шнайдер и Шепард Б. Клаф в 1929 году29.
Сисели Гамильтон считала тревожным тот факт, что Италия была
единственной страной, вышедшей из Первой мировой войны, которая
пропагандировала культ войны.30 В школьных учебниках все
повествование о Великой войне было сосредоточено на решающей
роли итальянской интервенции, желаемой Муссолини. Новые
поколения должны были подражать павшим солдатам и героям
Великой войны. Гамильтон видела в школах, которые она посещала,
что каждый класс был посвящен павшему солдату, духовно принятому
классом в качестве "патриотического покровителя", почитаемому
ежедневным салютом его изображению, помещенному в классе, где
также стояли портреты короля и дуче, а школьники утешали
родственников павшего солдата письмами, в которых сообщали им,
что память о его жертве жива в сердцах детей31.
Прославление итальянской интервенции в Первой мировой войне
продолжалось в школьных текстах с описанием Италии в тисках хаоса
большевистского безумия, отрицателя войны и победы, с которым
героически боролся и победил Муссолини, дуче фашизма, спасителя
Италии и творца ее обновленного величия, сделавшего ее единой и
сильной, чтобы повести ее по путям Рима к завоеванию новой
империи. История, которую преподавали детям в фашистских школах,
представляла собой непрерывное триумфальное шествие Италии под
руководством гения дуче, который призывал их "подражать
победителям Витторио Венето и сделать себя достойными
наследниками римлян, которые когда-то были правителями мира". 32
К концу 1930-х годов милитаризм пропитал все организации и
государственные институты режима, включая бюрократию, и вся
деятельность тоталитарного государства, от школ до экономики,
включая корпоративный порядок, была направлена на подготовку к
империалистической войне.
Корпоративистское государство без тела
Пропаганда режима превозносила фашистский корпоративизм как
единственную экономическую систему, способную примирить капитал
и труд, достичь социального мира с большей социальной
справедливостью, увеличить богатство и мощь нации и обеспечить
сотрудничество всех производительных сил: корпоративизм
указывался как единственный путь спасения, альтернатива
коммунизму, для человечества, охваченного кризисом
капиталистической системы. Во второе десятилетие существования
режима корпоративизм вызвал в Италии бурный поток идей и дебатов,
и даже для иностранцев он стал "одним из самых увлекательных
аспектов новой Италии", как отметил Поль Джентизон в 1933 году.33
Однако тот же журналист, несмотря на то, что он был поклонником
Муссолини, заявил, что корпоративно-фашистское государство, по
сути, было "целым, лишенным большой однородности, истинной
связности... Фундамент здания уже заложен, но внутреннее устройство
еще не кажется завершенным".34 Следовательно, корпоративистская
система в теории претендовала на то, чтобы общие интересы
превалировали над частными, но на практике этого не происходило в
политической системе, "где все свободы принесены в жертву
настоящему националистическому коллективизму и где индивид
должен подчиняться государству, которое, конечно, может
представлять собой грозную силу, но чей деспотичный деспотический
характер нельзя игнорировать".35
Не отличалось от этого и мнение Луи Розенштока-Франка, эльзасского
инженера, который в середине 1930-х годов отправился в Италию для
изучения конкретного функционирования корпоративной экономики, о
чем он опубликовал две книги, в 1934 и 1939 годах. 36
Государственное управление корпоративной экономикой было
ограниченным и плохо функционировало, потому что "руководство
итальянской экономикой принадлежит олигархии, олигархии крупных
конфедераций работодателей, но в диктаторском режиме влияние
политики и администрации на частную деятельность настолько
глубоко, что фашизм смог создать впечатление осуществления
контроля над итальянской экономикой, который в действительности
ускользает от него".37
Олигархия режима
После завоевания империи иностранные наблюдатели обратили
больше внимания на фашистскую партию. 11 января 1937 года
секретарь партии получил титул и функции министра, а 27 октября
того же года ему подчинились фашистские молодежные организации,
объединенные в Джовенту Италиана дель литорио; 27 мая 1937 года
Министерство печати и пропаганды было преобразовано в
Министерство народной культуры; 19 января 1939 года Палата
депутатов была упразднена и заменена Палатой фашистов и
корпораций: Таким образом, все выборные критерии были
окончательно аннулированы, поскольку ее членами стали члены
Национального совета фашистской партии, от генерального секретаря
до федеральных секретарей, а также члены Национального совета
корпораций. 38
Беатрис Баскервиль называла Фашистскую партию "перемычкой
государства. Уничтожьте партию, и государство само либо впадет в
анархию и хаос, либо постепенно трансформируется в
нетоталитарную форму правления": "Партия есть везде. Самая
маленькая и бедная деревня имеет свое фашистское ядро, в городах
каждый квартал имеет свою группу. В каждом многоквартирном доме
или многоэтажном здании, скромном или роскошном, бдительное око
фашизма отмечает и сообщает о частной и политической жизни
жильцов. Эта система шпионажа незаметно называется "капиллярным
проникновением". Задача работающих там мужчин и женщин -
"продолжать фашистскую революцию". Много раз Дуче и иерархи
говорят, что "революция продолжается".39
Партия, по словам Артура Штайнера, гарантировала "непрерывность и
постоянство режима... Пока фашистская партия сохраняет свою
монополию и жизнеспособность, постоянство фашистской революции
защищено внутренними силами". Хотя партия была поставлена "на
службу государству", согласно формуле Муссолини, Штайнер, тем не
менее, отметил, что "партия, отнюдь не служа государству в скромном
и униженном смысле, ставит себе в заслугу создание фашистского
государства и использует инструменты государства для достижения
своих целей... А поскольку государственные институты адаптируются
и используются партией в своих целях, они теряют относительную
важность и в итоге занимают второстепенное место в итальянской
системе". Американский ученый описал положение партии в
государстве с помощью очень эффективного образа: "Фашистская
партия - это капля черных чернил, которая, попадая на чистую
поверхность, изменяет ее первоначальный вид. По этой причине
фашистское государство - это гораздо больше, чем форма, принятая
итальянским государством под покровительством фашизма: это
государство, в которое фашистская партия погружена как
неотъемлемый элемент, это государство, которое направляется,
толкается и тянется волей партии "40.
Число членов Фашистской партии увеличилось с 1 851 770 в 1934 году
до 2 027 400 в 1936 году и достигло 2 633 514 в 1939 году. Таким
образом, фашисты составляли меньшинство итальянского населения, и
в риторике режима их называли "гражданским ополчением нации на
службе фашистского государства", "авангардом фашистской
революции", "армией верующих", но для разочарованного
иностранного наблюдателя, такого как Файнер, это было просто и
жестоко "диктаторское меньшинство", "олигархия", которая
обновлялась "путем кооптации, как и все олигархии". 41 Политическая
деятельность и карьера, ставшие партийной профессией, были
зарезервированы для членов ОНФ, и только им, начиная с середины
1930-х годов, предоставлялась работа в государственных
администрациях, осуществление профессиональной деятельности,
предпочтение при приеме на работу.
И это было главной причиной вступления в партию.42 Для Лачина
фашистская партия тоже не была гражданским ополчением,
"одушевленным верой", иначе фашисты "не подвергались бы почти
ежедневным демонстрациям, которые только показывают, какой
степени совершенства достигла техника демонстрации... Каждый день
сотни тысяч людей заставляют произносить имя Муссолини... Каждый,
кто принимает участие в этих демонстрациях, был вызван, получил
красную карточку от своей фашистской партии: цвет карточки
указывает на то, что присутствие в форме строго обязательно".
Техника проведения демонстрации: на собрания районных фашистов
вызывается каждый член: если он получил красную карточку, то
присутствие обязательно; если синюю, то отсутствие разрешено, если
оно оправдано; если белую, то присутствие необязательно".43
Две Италии в Италии Муссолини
Сомнения в фашистской вере миллионов членов партии касались
отношения населения к режиму в целом. Был ли народный энтузиазм
искренним и продолжительным? Удалось ли режиму изменить
характер итальянцев и сформировать новую "расу"? Именно эти
вопросы задавали себе иностранные наблюдатели после основания
империи. Из их ответов снова вытекали две резко контрастирующие
реальности, как будто путешественники посетили две разные страны.
В 1939 году французский ученый Фернан Хейворд, выдающийся
итальянист, заявил, что "сегодняшняя Италия, муссолинистская,
фашистская, имперская Италия глубоко отличается от Италии
вчерашней, от того, что чернорубашечники с удовольствием называют
довоенной Италией".44 Хейворд описал трудолюбивый и радостный
народ, объединенный со своим дуче "любовью, граничащей с
обожанием". 45 Ученый был очарован "необычайным единством
гигантской работы, проделанной за пятнадцать лет фашистским
режимом под личным и постоянным руководством Бенито
Муссолини", направленной на достижение одной цели: "развитие
итальянской нации, рост ее влияния, ее могущества, ее благополучия,
ее прогресса во всех областях, духовной, интеллектуальной и
материальной".46
Совсем другой была Италия, описанная английским журналистом
Питером Хаттоном, который путешествовал по полуострову на
машине в течение четырех месяцев в 1937 году: "Дуче-дуче-дуче...
Это, вероятно, первое, что увидит посетитель, как только попадет в
Италию: гигантские слова, начертанные на стенах домов и садов или
на железнодорожных насыпях. Затем следуют фразы из речей великого
человека, начертанные на стенах... От Альп до Сицилии такие цитаты
можно найти в каждом городе и деревне, вдоль всех дорог и железных
дорог".47
После поездки в Рим, "читая газеты и разговаривая с итальянцами и
иностранцами, с фашистами и антифашистами, государственными
служащими, врачами, священниками, монахами, монахами,
проводниками, крестьянами, нищими, лавочниками и простыми
людьми неизвестных профессий", Хаттон собрал огромное количество
информации об итальянской жизни. Во-первых, он обнаружил, "что в
Италии широко распространено мнение, прямо противоположное
официальному, но которое никак нельзя назвать "общественным
мнением", поскольку оно абсолютно частное. Выразить такое мнение
публично - значит быть заключенным "на островах" по меньшей мере
на два года или даже хуже". Более того, писал Хаттон, "в Италии есть
тысячи так называемых коммунистов, которые на самом деле являются
анархистами или просто непримиримыми антифашистами...
Большинство итальянских коммунистов являются верными членами
фашистской партии, тем самым показывая правительству, что, по
крайней мере, публично, они отказались от старого пути. Тем не
менее, они и их друзья бескомпромиссны и критикуют режим.
Около сорока человек были недавно арестованы в городке в Умбрии,
где я был, потому что над муниципалитетом был поднят
коммунистический флаг. Около тридцати человек были арестованы на
морском курорте, потому что они распространяли коммунистическую
печать... Местные бунты, отдельные акты восстания происходят
каждый день, и тюрьмы переполнены".48 Подвергаясь ежедневному
воздействию пропаганды, население игнорировало то, что
происходило за пределами Италии: итальянцам говорили, что в других
странах условия жизни плохие, налоги неслыханные, безработица
огромная, так же как и коррупция, несчастные случаи, банкротства.
Пропаганда имела огромную эффективность, "и без нее режим был бы
быстро свергнут, потому что даже сегодня фашизм в Италии
небезопасен".
Поэтому режиму пришлось прибегнуть и к инструменту страха:
"Никто не может доверять другому, каждый может стать агентом-
провокатором, а латинский порок клеветы и зависти процветает на
благодатной почве, которую обеспечивает система шпионажа режима".
Однако среди масс было широко распространено недовольство,
"которое является прямым следствием политики фашистского
правительства. Империя не так популярна, как хотелось бы верить
фашистской прессе. Налоги пугающе высоки, и все знают, что причина
этого - завоевание империи и необходимость для фашизма держать
оружие наготове". Люди также были против военной политики и союза
с Германией. 'Ось не очень популярна. И помимо каких-либо
политических разногласий, между итальянцами и немцами
существует, как это было всегда, сильная антипатия'.49
Беатрис Баскервиль не привела никаких эпизодов бунта, но
подтвердила, что, опасаясь Овра, итальянец стал "крайне
осторожным". Его болтливость на публике сменилась односложными
фразами. Его откровенность превратилась в сдержанность. Он может
восхвалять фашистское государство и своего Дуче, когда захочет, и
часто это делает. Но что у него на душе, никто не может сказать...
Многие итальянцы находят, что "соответствовать" легче и
экономически менее вредно".50 Были небольшие группы "ярых
противников", но они жили уединенно и молчаливо, из года в год
ожидая какой-нибудь катастрофы или болезни", которая избавит
Италию от Муссолини. Они были убеждены, что со смертью дуче
режим рухнет.51
Муссолини смертельно опасен
Отождествление режима с Муссолини вызвало ряд вопросов среди
иностранных наблюдателей: "Как долго продержится фашистский
режим и как он будет развиваться? Какое влияние сможет оказать
фашизм на мировое общественно-политическое развитие? Какое
будущее ждет Италию как члена семьи европейских народов?".
Подобные вопросы, которые Халлингер задавал себе еще в 1928 году,
повторялись как рефрен вплоть до начала Второй мировой войны.
Иностранные наблюдатели также задавались вопросом, кто станет
преемником Муссолини. Порядок фашистского государства
предусматривал, что преемник дуче будет назначен королем по
предложению Большого совета, и ходили слухи о списке имен,
подготовленном самим Муссолини. Однако в ходе переговоров с
Эмилем Людвигом он исключил возможность "дуче номер два".52
Будущее фашизма, заметил Морис Лачин в 1934 году, зависело от его
способности сделать "чудо одного человека продолжительным, потому
что с человеком, который смертен, чудо закончится".53 Драма режима
заключалась в необходимости "придать чуду одного человека
последовательность системы", способной его пережить, но в этой
драме, заключил Лачин, была и "трагедия Италии". 54 Герман Файнер
поставил вопрос о будущем режима в похожих терминах: "Муссолини
является главой и центром всего в сегодняшней Италии", поэтому "без
почти чудесной верности Муссолини система распадется на
множество плохо подобранных частей, из которых она была
построена".55 Прогноз американца не оставлял фашизму никаких
шансов: "Муссолини смертен, фашизм должен погибнуть вместе с
ним, оставив нации проблему поиска системы правления, подходящей
для простого человека. А это вряд ли может быть достигнуто мирным
путем".56
В 1937 году британский журналист Дж. Уорд Прайс утверждал, что
итальянцы не задавались вопросом о том, кто будет преемником
Муссолини, потому что многие думали, что режим уже достиг своей
стабильности и его преемственность будет гарантирована
"аристократией фашистов", подобной олигархии, которая веками
правила Венецианской республикой: но журналист возразил, что
"продолжающаяся концентрация верховной власти в руках одного
человека может быть опасной, поскольку ни один преемник не
унаследует престиж и власть, которых Муссолини добился благодаря
личным способностям". 57
Италия в состоянии войны
Его смерть и его возможный преемник не волновали суеверного
Муссолини, который был полон решимости продолжать
империалистическую политику, начатую с эфиопской войны, за
которой последовало вмешательство в гражданскую войну в Испании с
1936 по 1939 год, оккупация Албании в апреле 1939 года и союз с
нацистской Германией в июне того же года58. Наконец, 10 июня 1940
года последовало объявление войны против Франции и
Великобритании, за которым 28 октября последовала агрессия против
Греции, 26 июня 1941 года - участие Германии в войне против
Советского Союза, а 14 декабря 1941 года - объявление войны против
США. Начав войну, дуче занял пост верховного главнокомандующего
вооруженными силами в 1940 году59.
Об Италии Муссолини в годы Второй мировой войны, с 1939 по 1942
год, было опубликовано несколько книг последними из оставшихся в
Италии иностранных наблюдателей, корреспондентов американских
газет, которые после объявления войны Соединенным Штатам были
интернированы, а затем высланы. Их книги вышли в 1942-1943 годах,
до высадки союзников на Сицилии, и все они сходились в описании
страны, уставшей от войны с 1935 года. Итальянцы, аплодировавшие
Дуче, "спасителю мира" после Мюнхенской конференции 1938 года и
декларации о "невоинственности" в 1939 году, с 1940 года были
втянуты в новую войну, которую подавляющее большинство не
чувствовало и не хотело, так же как не хотело союза с Германией, хотя
в июне 1940 года многие заблуждались, что конец конфликта близок и
победа несомненна.
Элеонора Паккард была на площади Венеции 10 июня 1940 года, когда
в 6.01 утра Дуче появился на балконе и объявил об объявлении войны.
Его встретили самыми бурными аплодисментами с тех пор, как он
объявил об окончании эфиопской войны. Аплодисменты были
результатом непостоянства итальянцев, которые не осознавали
трагедии, которой они аплодировали: они думали, что аплодируют
окончанию конфликта, потому что война закончилась бы через
несколько недель после вмешательства Италии".60 По окончании речи,
вспоминает журналист, толпа не менее семи раз вызывала дуче
обратно на балкон: "Не было сомнений, что итальянская публика была
захвачена фашистской пропагандой и верила, что Италия просто дает
отпор Франции... Мало кто думал, что Италия вовлечена в войну на
смерть против Англии". Все закончится через несколько недель. Но
многие женщины на площади плакали от мысли, что через короткое
время их мужчины могут быть убиты в бою французами".61 Неделю
спустя Ричард Массок зашел в бар в Риме и увидел, как итальянцы
поднимают бокалы шампанского за "победу над Францией": "Разве это
не здорово? - ликовали они, - Франция капитулировала. Теперь война
окончена".62 Многие итальянцы, заметил Мэссок, считают, что
Муссолини был прав, воспользовавшись удобным моментом для
вступления в войну; Франция пала, и только Британия не устоит:
"Италия победила без боя".63 А Мэтьюс заметил: "Настоящее
обвинение против Италии основано на цинизме и самодовольстве, с
которыми народ принял преступную политику своих лидеров, включая
предательство Франции, и мы никогда не должны забывать об этом".64
Смерть Италии Муссолини
Иллюзия победы исчезла в течение нескольких месяцев.
Катастрофическая кампания против Греции между осенью 1940 и
весной 1941 года, показавшая неподготовленность итальянских
вооруженных сил, отсутствие надлежащего оборудования и
неумелость военачальников, разрушила амбиции дуче. Для
американских корреспондентов в Италии, следивших за ходом войны
против Греции в полевых условиях, это был крах фашистской Италии,
смерть Италии Муссолини. "Фашистская Италия, как военная держава,
была повержена на землю в первый год войны величайшим
поражением, единственным настоящим поражением, понесенным
нацией со времен объединения Италии", - писал Массок, потому что
"по сравнению с этим Капоретто был лишь досадным эпизодом",
который в конце концов "был отомщен"; однако после поражения с
Грецией Италия так и не оправилась. И не только Греция нанесла
поражение Италии, добавил Массок, но и "фашизм нанес поражение
итальянской армии, флоту, военно-воздушным силам: виноват
конфликт между армией и фашистской партией "65 . 65 Итальянские
вооруженные силы, повторял другой американский корреспондент,
Джон Уитакер, "были уничтожены не врагами, а фашистской
системой, которая сделала невозможным функционирование армии,
флота и ВВС как вооруженных сил, превратив их в придаток
фашистской партии и политический инструмент".66
После поражения в Греции Италия Муссолини стала сателлитом
гитлеровской Германии в союзе, основанном на взаимном подозрении
и презрении, причем немцы взяли на себя ведущую роль в Италии и на
всех фронтах, где они оказывали помощь итальянской армии. Таким
образом, иронично заметил Мэссок, фашизм возродил вековой ужас -
"вторжение Германии в Италию "67.
Судьба Италии Муссолини теперь была связана с судьбой
гитлеровской Германии. Фашистская Италия была обречена на
подчиненное, если не худшее, положение по отношению к нацистской
Германии. Даже если бы он вышел победителем из конфликта, дуче
все равно был бы обязан победой фюреру, ученику, который не только
превзошел мастера, но и теперь обращался с ним как с высокомерным
господином. "На десятилетия вперед поражение Гитлера было бы
гораздо выгоднее для Италии, чем победа Германии", - писал
журналист американской United Press Томас Б. Морган в
опубликованных в 1942 году мемуарах, в которых он в анекдотической
форме рассказывал о своем опыте пребывания в Италии после
Великой войны и о своих личных отношениях с Муссолини с момента
его прихода к власти, с королем, с высшими иерархами режима, с
генералами и с Пием XII. Гитлер торжествует, продолжал Морган,
"Новый порядок" будет германским порядком для Италии, как и для
Франции, для испанцев, как и для британцев, для скандинавов, как и
для славян. Это будет германская, а не итальянская империя...
Владычество будет исключительно германским. Италия будет
вассалом Германии".68
5 мая 1941 года британцы завоевали Эфиопию и вернули на трон
законного императора. Имперская Италия также была мертва. А
агония фашистской Италии началась с крушения мифа о Муссолини:
"Муссолини придал Италии огромный престиж перед войной, - писал
Массок, - и каждый итальянец чувствовал более сильное национальное
самосознание благодаря ему. За один год Муссолини уничтожил весь
престиж. И вместе с ним... обожание, которое когда-то окружало
его".69 11 декабря 1941 года Массок был на площади Венеции и
увидел Муссолини на балконе, объявляющего войну Соединенным
Штатам. Толпа слушала без энтузиазма, с безразличием. "Муссолини
утратил свое обаяние... Через восемнадцать месяцев Италия была
побеждена на всех фронтах... Итальянцы были готовы к сепаратному
миру "70.
После военных поражений деморализация итальянцев усугублялась
все более жесткими ограничениями, налагаемыми войной,
нормированием продуктов питания, транспортных средств,
электричества и газа, частыми бомбардировками.
Раса воинов", которая должна была родиться в тоталитарной
лаборатории новой фашистской Италии, не родилась, а в глазах
иностранных наблюдателей старый, традиционный образ итальянца
вернулся к жизни: "После стольких лет милитаристского воспитания,
физического и умственного, навязанного среднему итальянцу, -
отмечали Рейнольдс и Элеонора Паккард, - казалось странным, что
каждый молодой итальянец не стал ярым фашистом". Но дело в том,
что так называемые фашистские идеалы противоречили итальянскому
характеру. В принципе, итальянец по своей природе антимилитарист и
ненавидит все формы полководства. Все фашистские мундиры и
парады, которыми Муссолини украшал детей, не могли этого
изменить: поэтому, как только фашистские заповеди становились
слишком трудными для выполнения, то есть требовали лишений и
жертв, как в военное время, средний итальянец инстинктивно
обращался против них".71
После имперской Италии умерла и фашистская Италия. По мнению
Уитакера, причина военных поражений и падения морального духа
итальянцев заключалась не только в характере итальянского народа,
но, во-первых, в самой природе тоталитарного режима, который
"поставил партию выше нации, фашизм выше Италии", а затем в
"врожденной слабости тоталитарного характера фашизма, которая
заключается в том, что он никогда не может казаться слабым".
Муссолини создал этого Франкенштейна, и, возможно, было
неизбежно, что в конце концов он будет поглощен своим созданием".72
Сходное суждение о тоталитаризме как главной причине конца
фашистской Италии высказал Массок: "Если бы он удержал Италию
от участия в войне, Муссолини сохранил бы высокую степень
популярности внутри страны и престиж за рубежом... Присоединив
партию к нации, Муссолини показал истинную природу фашизма, и
вся нация потеряла волю к борьбе". В частной жизни итальянцы
поносили его или смеялись над ним, что было еще хуже,
распространяя грязные истории о его личной жизни".73
Судя по растущему недовольству итальянцев, их неприятию войны,
враждебности к фашизму и презрению к Муссолини, американские
наблюдатели не ожидали, что повстанческое движение свергнет режим
и искупит вину за двадцать лет диктатуры. Их суждения сходились в
описании итальянцев, неспособных к восстанию: "Итальянцы впали в
апатию и пессимизм. Они пораженцы в войне. Они не верят, что могут
что-то сделать, и поэтому продолжают жаловаться и молиться о мире".
Американские наблюдатели не надеялись на действия со стороны
антифашистских движений, потому что им не хватало лидеров:
"Поскольку Муссолини решал все, остальные потеряли привычку
руководить"; возможно, это было связано с "сильным
индивидуализмом... склонностью каждого итальянца к желанию
утвердить свою индивидуальность и уклониться от дисциплины".74
Какой бы ни была причина, "политическая вялость его врагов
позволила дуче остаться у власти".75 Итальянцы никогда бы не
поднялись против немцев, чтобы помочь союзникам освободить их, и с
энтузиазмом приветствовали бы высадку союзников на Сицилии; но
"только когда немцы уйдут, итальянцы будут сражаться за нас...
Итальянский народ не обладает героическим духом и вряд ли обретет
его, пока не искупит вину перед фашизмом кровью революции". В
настоящее время мало кто из итальянцев считает нас освободителями
или надеется, что их полуостров может послужить мостом. Их города
рушатся, люди в панике бьются под нашими бомбами, но немцев
боятся гораздо больше, чем американцев и англичан... Развратные,
циничные и совершенно лишенные героизма, итальянцы считают, что
нам было бы лучше вторгнуться в Германию через Францию или
Балканы".76
Среди американских наблюдателей были и те, кто считал, что в
Италии есть много людей, готовых сформировать "пятую колонну" в
пользу англо-американцев, "которые с радостью будут работать на нас,
если мы окажем им помощь"; но из-за "их фундаментального
отвращения к риску" итальянцы "не поднимутся и не будут готовы
быть убитыми во время восстания, если у них не будет хотя бы 70-
процентного шанса на успех".77
В заключение все американские наблюдатели были убеждены, что
"итальянский народ сегодня настроен против Муссолини и стремится
избавиться от него. Итальянцы обвиняют его в двух серьезных
преступлениях: в разрушении демократии ... и в том, что он вступил в
союз с нацистской Германией... Они правы, и мы должны поощрять их
восстать в нужное время и встать на нашу сторону, но не заманчивым
предложением о полном помиловании". Как сказал государственный
секретарь Халл, демократия - это то, за что нужно работать и бороться.
Итальянцы не смогли этого сделать, и их неудача - это как клеймо
против них самих. Но в этой запутанной ситуации ясно одно:
итальянский народ возлагает большие надежды на переход на сторону
американцев и англичан, чем на продолжение союза с Германией. И
многие из них это знают»78.
Под колесами истории
В начале лета 1943 года в Африке тысячи вооруженных англо-
американцев готовились к высадке на Сицилии. Каждый из них
получил экземпляр "Справочника солдата по Италии", в котором
объяснялось, что американцы итальянского происхождения получат
"теплый прием повсюду" и что "итальянцы Италии, после двадцати
лет фашизма, не похожи на итальянцев, которых вы, возможно, знали в
Америке, и в любом случае отношения оккупационных сил с
оккупированной нацией никогда не могут быть простыми". 79 Затем
он вспомнил, что впервые Италия стала врагом Соединенных Штатов
и Англии, тогда как раньше "она всегда была нашим другом и
союзником в Великой войне". Теперь итальянцы, союзники Германии,
были врагами, пока не сдали свое оружие. С гражданским населением
необходимо было проявлять такт и сдержанность, но при
необходимости и твердость, чтобы завоевать "будущее уважение и
поддержку итальянского народа в наших усилиях по восстановлению
мирового порядка": "Вы будете первым контактом союзников с
народами континента с самого начала войны, и они будут судить о
нашей доброй воле по тому, как мы с ними обращаемся". Не
забывайте, что фашистская пропагандистская машина в течение
двадцати лет пыталась создать у итальянцев совершенно ложное
представление об американском и британском образе действий.
Многих итальянцев, особенно молодых людей, которые никогда не
знали, что такое другая форма правления, кроме фашизма, научили
верить, что вы жадные, лживые и жестокие. В целом, итальянцы
неплохо справляются с этой пропагандой, потому что они не
позволяют управлять собой так легко, как немцы, и гордятся своей
способностью "читать между строк". Тем не менее, грязь всегда
прилипает, поэтому имейте в виду, что вы столкнетесь с определенным
количеством антиамериканских и антибританских настроений, и,
конечно, каждый будет готов сменить сторону и признать, что
Муссолини был прав, если наше поведение даст ему такую
возможность. Имейте все это в виду в отношениях с гражданским
населением и считайте одной из своих первых обязанностей
разрушить ложное представление итальянцев о демократии".80
За этим советом следовали заметки о характере итальянцев: чувство
семьи, ревность к своим женщинам и индивидуализм, хотя, как
отмечалось в Руководстве, "когда итальянцы сталкиваются с большими
проблемами, их легко привести к массовому энтузиазму и
послушанию, хотя зачастую и поверхностному. Но они хорошо
разбираются в характере и быстро оценивают достоинства людей".
Более того, "они не инстинктивно послушны законам, как
англоязычные народы, более того, они очень часто считают, что
законам надо не подчиняться, а обходить их. И дисциплина у них
довольно слабая... Другой характерной чертой является возбудимость
. . . тщеславие итальянца, которое иногда трудно отличить от гордости:
тщеславие легко ранить, а гордость может быть оскорблена самой
невинной критикой, особенно если она касается его родины, доблести
итальянского солдата или других качеств его расы. В массе итальянцы
по своей природе дружелюбны и вежливы, но они инстинктивно не
приемлют надменного и высокомерного отношения".81 Затем
путеводитель предупреждал, что "сознание итальянцев было искажено
фашистской пропагандой, поэтому они не будут видеть вещи так, как
видите их вы, и будут казаться чрезвычайно неосведомленными не
только о ситуации в других странах, но и о своей собственной
стране".82.
О бессмертной Италии или ее историческом величии в "Солдатском
справочнике" не упоминалось, но искра восхищения появилась в
краткой заметке об искусстве: "Большие и малые города часто полны
прекрасных дворцов, картин и скульптур, которыми жители по праву
гордятся... Если вы интересуетесь искусством, у вас будет прекрасная
возможность учиться; если нет, вам будет на что посмотреть и чем
насладиться". Италия настолько богата художественными
сокровищами, что сама по себе является огромной картинной
галереей. В любом случае, у вас будет прекрасная возможность узнать
кое-что об итальянцах с лучшей стороны".83 Среди американских
солдат, высадившихся на Сицилии в составе 45-й пехотной дивизии,
был Уильям Генри 'Билл' Маулдин, двадцатидвухлетний отличный
карикатурист. Его сатирические карикатуры на войну были популярны
и оценены солдатами и принесли ему Пулитцеровскую премию в 1945
году. Маулдин рассказал о своих впечатлениях от "поездки в Италию"
вместе с союзными армиями в книге "На фронте", которую он написал
и проиллюстрировал сам и которая была опубликована в 1944 году.
Италия вызвала у Билла изумление, но его поразили не
художественные произведения: "Те из нас, кто долгое время находился
на Сицилии и в Италии, - вспоминал он, - с каждым днем все больше и
больше удивляются тому, что страна, находящаяся в таком запустении,
имела наглость объявить кому-либо войну, даже при поддержке
"фрицев". Наши пехотинцы испытывают смешанные чувства по
отношению к Италии. Многие из них - но не так много, как это обычно
бывает - помнят, что некоторые из их лучших друзей были убиты
итальянцами, а многие наши союзники не могут забыть, что Италия
причинила им много горя. Я не принадлежу к этой группе, хотя
первыми врагами, с которыми я столкнулся, были итальянцы. Нельзя
возбудить ненависть к солдатам, которые сдаются в плен так быстро,
что их приходится брать по договоренности. Простому пехотинцу
ужасно жаль этих несчастных, которых топчут ногами, и хочется что-
нибудь для них сделать. Я даже не принадлежу к этой второй группе.
Итальянцы не дали мне возможности дать им что-либо, фактически
они украли у меня все, кроме зубной пломбы".
После описания итальянцев Билл описал Италию: "Италия напоминает
мне собаку, которую сбила машина, потому что она побежала за ней,
чтобы покусать шины. Вы не можете позволить маленькому зверьку
умереть, но вы также должны думать, что он не оказался бы под
колесами, если бы остался на тротуаре". Несомненно, итальянцы
жестоко поплатятся за свои грехи. Страна выглядит так, словно по ней
проехались гигантскими граблями, от одного конца до другого, и,
продолжая движение граблями, вы задаетесь вопросом, оставили ли
вы что-нибудь после себя".84
Под колесами истории миф о бессмертной Италии умер. Но лоскутки
ее истории избежали прохода гигантских граблей, которые мы
собрали, чтобы рассказать о путешествии по Италии времен
Муссолини в компании иностранных наблюдателей. Здесь
путешествие заканчивается.
Примечание
Пролог. Бессмертная Италия
1. Моурер, Эдгар Ансель, Триумф и потрясение. A Personal History of
Our Time, New York, Weybright and Talley, 1968, p. 131.
2. Там же, стр. 12.
3. Джентиле, Эмилио, L'apocalisse della modernità, Милан, Мондадори,
2014.
4. Моурер, Триумф и потрясение, цит. соч. с . 75.
5. Там же, с. 76.
6. Mussolini, Benito, Opera omnia, edited by Edoardo and Duilio Susmel,
35 vols., Florence, Ла Фениче, 1951-1963, том. VII: От основания «Il
Popolo d'Italia» до интервенции, 1952, p. 235.
7. Там же, с. 369.
8. Mowrer, Triumph and Turmoil, cit., p. 78.
9. Там же, с. 101.
10. Моурер, Эдгар Ансель, Бессмертная Италия, Нью-Йорк - Лондон,
Эпплтон, 1922, с. VII.
11. Id., Triumph and Turmoil, cit., p. 120.
12. Id., Immortal Italy, cit., p. 1.
13. Там же, p. 3.
14.Тамжеp.7.
15. Там же, стр. 8.
16. Там же, стр. 9.
17. Там же, стр. 11.
18. Там же, стр. 2.
19. Там же.
20. Херрон, Джордж Д., Возрождение Италии, Лондон, G. Allen &
Unnwin Ltd, 1922, стр. 10.
21. Там же, стр. 112 .
22. Ibid, p. 9.
23. Там же, стр. 19.
24. Там же, стр. 21.
25. Там же, стр. 88-89.
26. Там же, стр. 89.
27. Там же, стр. 92.
28. Там же, стр. 93.
29. Там же, стр. 93-94.
30. Там же, стр. 101.
31. Там же, стр. 103.
I. Новая Италия
1. Моурер, Бессмертная Италия, цит. соч. стр. 92.
2. Там же, с. 125.
3. King, Bolton and Okey, Thomas, L'Italia d'oggi, Bari, Laterza, 1904, pp.
VI-VII.
4. Там же, стр. X.
5. Lémonon, Ernest, Экономическая и социальная Италия, 1861-1912,
Paris, F. Alcan, 1913, p. 206.
6. Bagot, Richard, Gl'italiani d'oggi, Bari, Laterza, 1912, pp. 14-15.
7. Там же, стр. 185.
8. Цитируется в Ragionieri, Ernesto, Италию судят: 1861-1945, или
история итальянцев, написанная другими, т. II: От эпохи Джолитти до
преступления Маттеотти, 1901-1925, при участии Марио Г. Росси,
Турин, Einaudi, 1976, p. 447.
9. Моурер, Бессмертная Италия, цит. соч., стр. 189-190.
10. Там же, стр. 191.
11. Там же, стр. 194.
12. Alazard, Jean, Италия и европейский конфликт (1914-1916), Paris, F.
Alcan, 1916, p. 5.
13. Ibid, p. 74.
14. Ibid, p. 80.
15. Там же, стр. 218. Курсив в тексте.
16. Моурер, Бессмертная Италия, цит. соч. с . 190.
17. Ibid, p. 194.
18. Там же, стр. 196-197.
19. Там же, стр. 196.
20. Charriaut, Henri and Amici-Grossi, Италия в состоянии войны, Paris,
Flammarion, 1916, pp. 1-2.
21. Там же, стр. 321-333 .
22. Там же, стр. 2.
23. Hazard, Paul, L'Italie vivante, Paris, Perrin et Cie, 1923, p. 45.
24. Wallace, William K., Greater Italy, New York, Constable & C., 1917,
pp. VI-VII.
25. Там же, стр. 301.
26. Тревельян, Джордж Маколей, Сцены из итальянской войны,
перевод Л. Ди Лизи, Болонья, Заничелли, 1919, стр. 7 -8.
27. Там же, стр. 73.
28. Там же, стр. 175.
29. Там же, стр. 186.
30. Моурер, Бессмертная Италия, цит. соч. стр. 230-231.
31. Там же, стр. 232.
32. Там же, стр. 239-240. Курсив в тексте.
33. Там же, стр. 195.
34. Там же, стр. 232.
35. Maurel, André, Молодая Италия, Париж, Émile-Paul frères, 1918, p.
246.
36. Там же, стр. 239-242 .
37. Там же, стр. 242-244 .
II. Итальянская Италия
1. Моурер, Бессмертная Италия, цит. соч. стр. 23.
2. Там же, стр. 17.
3. Ibid, p. 22.
4. Там же, стр. 18.
5. Там же.
6. Там же, стр. 21.
7. Там же, стр. 25.
8. Там же, стр. 45.
9. Там же, стр. 23.
10. Там же, стр. 24.
11. Там же, стр. 25.
12. Купер, Клейтон Седжвик, Понимание Италии, Лондон, Джон Лонг,
1923.
13. Там же, стр. 28.
14. Pernot, Maurice, Итальянский опыт, Paris, Grasset, 1924, p. 68.
15. Hazard, Италия живая, cit., p. 222. Курсив в тексте.
16. Там же, стр. 221.
17. Ibid, p. 223.
18. Моурер, Бессмертная Италия, цит. соч. с . 38.
19. Ibid, p. 41.
20. Ibid, p. 42.
21. Там же.
22. Билз, Карлетон, Рим или смерть. The Story of Fascism, London, The
Century Co., 1923, p. 25.
23. Там же.
24. Mowrer, Бессмертная Италия, cit., p. 26.
25. Там же, стр. 27.
26. Ibid, p. 28.
27. Там же, стр. 30.
28. Там же, стр. 33.
29. Там же, стр. 34.
30. Там же.
31. Там же, стр. 31.
32. Ibid. p. 38.
33. Там же, стр. 42-43.
34. Там же.
35. Там же, стр. 44.
36. Там же, стр. 48.
37. Там же, стр. 49.
38. Там же, стр. 56.
39. Там же.
40. Там же, стр. 43.
41. Hazard, Италия живая, cit., p. V.
42. Ibid, p. 18.
43. Робертс, Кеннет Льюис, Черная магия. Отчет о его благотворном
использовании в Италии, о его извращении в Баварии и о некоторых
тенденциях, которые могут потребовать его изучения в Америке,
Индианаполис, The Bobbs-Merrill Co., 1924, pp. 17-21.
44. Mowrer, Immortal Italy, cit., p. 57.
45. Ibid.
46. Herron, The Revival of Italy, cit., p. 21.
47. Там же, стр. 22.
48. Там же, стр. 25.
49. Там же, стр. 27.
50. Там же, стр. 22.
51. Там же, стр. 31.
52. Там же, стр. 29.
3. Италия в хаосе
1. Камбо, Франциско, Итальянский фашизм, предисловие Ф.
Чарлантини, Милан, Альпы, 1925, стр. 14 -1
2. Pernot, The Italian Experiment, cit., p. 2.
3. Beals, Rome or Death, cit., p. 31.
4. Иви, с. 32.
5. Pernot, The Italian Experiment, cit., p. 32.
6. Cambó, Il Italian Fascism, cit., p. 15.
7. Beals, Rome or Death, cit., p. 33.
8. Маурер, Бессмертная Италия, cit., p. 240.
9. Херрон, Возрождение Италии, cit., p. 121.
10. Иви, с. 122.
11. Алазар, Жан, Коммунизм и «Фашио» в Италии, Париж, Боссар,
1922, стр. 11-1
12. Иви, с. 21.
13. Хазард, Living Italy, cit., p. 7.
14. Иви, стр. 101-1 . 8-9
15. Иви, стр. 101-1 . 11-1
16. Алазар, Коммунизм и «Fascio» в Италии, cit., p. 31.
17. Иви, стр. 101-1 . 33-3
18. Андрич, Иво, Рождение фашизма, Париж, No Place, 2012, с. 27.
Если вы писатель, я получил Нобелевскую премию по литературе в
19. Филлипс, Персиваль, «Красный дракон и чернорубашечники». Как
Италия обрела свою душу: правдивая история фашистского движения,
Лондон, Дом кармелитов, 1923, с. 17.
20. Beals, Rome or Death, cit., p. 31.
21. Косилка, Бессмертная Италия, цит. 318-319.
22. Иви, с. 319.
23. Алазар, Коммунизм и «Fascio» в Италии, цит. 47 -4
24. Иви, стр. 101-1 . 44-4
25. Маурер, Бессмертная Италия, соч., с. 320.
26. Андрич, Рождение фашизма, cit., p. 28.
27. Херрон, Возрождение Италии, cit., p. 78.
28. Там же.
29. Билс, Рим или смерть, цит. 6-7
30. Алазар, Коммунизм и «Fascio» в Италии, цит. 76-77.
31. Филлипс, «Красный» дракон и чернорубашечники, cit., p. 17 .
32. Cambó, Il Italian Fascism, cit., p. 14.
33. Маурер, Бессмертная Италия, cit., p. 320. Курсив — это nel testo.
34. Иви, с. 325.
35. Херрон, Возрождение Италии, cit., p. 79.
36. Маурер, Бессмертная Италия, cit., p. 320.
37. Иви, с. 331.
38. Херрон, Возрождение Италии, cit., p. 37.
39. Моурер, Бессмертная Италия, cit., p. 333 .
40. Андрич, Рождение фашизма, cit., p. 28.
41. Алазар, Коммунизм и «Fascio» в Италии, cit., p. 75.
42. Херрон, Возрождение Италии, cit., p. 50.
43. Иви, с. 65.
44. Beals, Rome or Death, cit., p. 41 .
4. Италия в гражданской войне
1. Маурер, Бессмертная Италия, соч., с. 353.
2. Вивиан, Герберт, Фашистская Италия, Лондон, А. Мелроуз, 1936, с.
12.
3. Там же, с. 22.
4. Там же, с. 13-14.
5. Алазар, Communisme et «Fascio» en Italie, cit., p. 77.
6. Там же, с. 78.
7. Там же, с. 79.
8. Там же, с. 90.
9. Маурер, Бессмертная Италия, cit., p. 343.
10. Там же, с. 300.
11. Там же, с. 302.
12. Там же, с. 354.
13. Там же, с. 352-353.
14. Андрич, «Возрождение фашизма», соч., с. 33.
15. Алазар, Communisme et «Fascio» en Italie, cit., pp. 92-93 .
16. Beals, Rome or Death, cit., p. 5.
17. Там же, с. 54.
18. Алазар, Communisme et «Fascio» en Italie, cit., p. 91.
19. Beals, Rome or Death, cit., pp. 8 -9 .
20. Херрон, Возрождение Италии, cit., p. 76.
21. Beals, Rome or Death, cit., p. 10.
22. Там же, с. 43.
23. Там же, с. 10.
24. Hazard, L'Italie vivante, cit., pp. 149-150.
25. Там же, с. 32-33 .
26. Маурер, Бессмертная Италия, соч., с. 345.
27. Там же, с. 350.
28. Там же, с. 356 -357.
29. Там же, с. 357.
30. Алазар, Communisme et «Fascio» en Italie, cit., p. 79.
31. Андрич, La Naissance du фашизм, cit., p. 33.
32. Маурер, Бессмертная Италия, соч., с. 356 .
33. Там же, с. 359.
34. Там же, с. 361.
35. Там же.
36. Алазар, Communisme et «Fascio» en Italie, cit., p. 53.
37. Там же, с. 69.
38. Pernot, L'Expérience italienne, cit., p. 32.
39. Там же, с. 54. Курсив в тексте.
40. Маурер, Бессмертная Италия, соч., с. 346.
41. Там же, с. 362.
42. Там же, с. 363.
43. Там же, с. 365.
44. Там же, с. 366.
45. Там же, с. 371.
46. Там же, с. 374.
47. Там же, с. 372.
48. Там же, с. 393.
49. Алазар, Communisme et «Fascio» en Italie, cit., p. 113.
50. Там же, с. 113-114 .
51. Херрон, Возрождение Италии, cit., стр. 84-85.
52. Там же, с. 85-86.
53. Там же, с. 87.
54. Маурер, Бессмертная Италия, cit., p. 391.
55. Там же, с. 392.
56. Там же, с. 395.
57. Там же.
58. Там же, с. 50.
59. Там же. Курсив в тексте.
60. Там же, с. 63.
61. Там же, с. 398.
5. Италия в черной рубашке
1. Hazard, L'Italie vivante, cit., pp. VII-VIII.
2.Тамже,с.в.
3. Рекуперати Г. Современные портреты. Поль Азар, в «Бельфегоре»,
XXIII, 1968, стр. 564-594.
4. Ланфранчи, Стефани, «Les lettres italiennes «sans» la Révolution
française». Réécritures fasistes, в Бертране, Жиле и Неппи, Энцо (под
редакцией), Просвещение и Французская революция в итальянских
дебатах 20-го века. Les Lumières et la Révolution française dans le débat
italien du XXe siècle, Материалы международной исследовательской
конференции (Musée de la Révolution française, Vizille [Isère], 27–28
сентября 2007 г.) Florence, Leo S. Olschki, 2010, стр. 255 сл.
5. Hazard, Paul, La Révolution française et les lettres italiennes (1789-
1815), Paris, Hachette, 1910, p. 491; перевод это. Французская
революция и итальянские письма (1789-1815), под редакцией П.А.
Борхеджиани, Рим, Бульцони, 1995.
6. Hazard, L'Italie vivante, cit., стр. V-VI.
7. Там же, стр. 17-18.
8. Там же, с. 21.
9. Там же, с. 26-28.
10. Там же, с. 28.
11. Там же, с. 4-7.
12. Там же, с. 40.
13. Там же, с. 49.
14. Там же, с. 48.
15. Pernot, L'Expérience italienne, cit., p. 32.
16. Там же, с. 53.
17. Там же, с. 252.
18. Там же, с. 52.
19. Там же, с. 56.
20. Андрич, La Naissance du fascisme, cit., p. 33 .
21. Hazard, L'Italie vivante, cit., p. 50.
22. Там же, с. 63.
23. Там же, с. 51.
24. Там же, с. 53-54.
25. Там же, с. 60-61.
26. Там же, с. 61-62.
27. Там же, с. 93-94.
28. Там же, с. 97.
29. Там же, с. 101.
30. Там же, с. 99.
31. Там же, с. 105-106.
32. Там же, с. 107.
33. Там же, с. 107-108.
34. Там же, с. 108-110.
35. Там же, с. 115.
36. Там же, с. 117.
37. Там же, с. 118-119.
38. Там же, с. 120.
39. Там же, с. 219.
40. Там же, с. 220-221.
41. Там же, с. 222.
42. Beals, Rome or Death, cit., p. 243.
43. Муссолини, Opera omnia, cit., vol. XVI: От Рапалльского договора
до первой речи в Палате, 1955 г., стр. 241-242 .
44. Beals, Rome or Death, cit., p. 245.
45. Бейенс, Эжен-Наполеон, Quatre ans à Rome (1921-1926), Paris, Plon,
1934, стр. 30-31.
46. Андрич, La Naissance du fascisme, cit., p. 35 .
47. Beyens, Quatre ans à Rome, cit., p. 33.
6. Италия на марше
1. Beals, Rome or Death, cit., p. 161; видеть Джентиле, Эмилио, И сразу
режим был. Фашизм и «поход на Рим», Рим-Бари, Латерца, 2012.
2. Pernot, L'Expérience italienne, cit., p. 57.
3. Hazard, L'Italie vivante, cit., pp. 258-259.
4. Beals, Rome or Death, cit., p. 160.
5. Там же, с. 204.
6. Pernot, L'Expérience italienne, cit., p. 59.
7. Купер, Понимание Италии, соч., с. 43.
8. Там же, с. 44.
9. Beals, Rome or Death, cit., p. 161.
10. Cooper, Understanding Italy, cit., p. 46.
11. Pernot, L'Expérience italienne, cit., p. 59.
12. Там же, с. 214.
13. Beals, Rome or Death, cit., p. 160.
14. Pernot, L'Expérience italienne, cit., p. 289.
15. Hazard, L'Italie vivante, cit., p. 254.
16. Там же, с. 251-253.
17. Beals, Rome or Death, cit., pp. 239-240.
18. Там же, с. 278.
19. Hazard, L'Italie vivante, cit., p. 250.
20. Там же, с. 243.
21. Там же, с. 257-258.
22. Там же, с. 259-260.
23. Там же, с. 258-261.
24. Там же, с. 247.
25. Там же, с. 253.
26. Там же, с. 263-265. Курсив в тексте.
27. Там же, с. 266-267.
28. Там же, с. 267-269.
29. Шарль-Ру, Франсуа, Дипломатические сувениры. Une grande
ambassade à Rome (1919-1925), Paris, Fayard, 1953, p. 181.
30. Beyens, Quatre ans à Rome, cit., p. 133.
31. Муссолини, Opera omnia, cit., vol. XVIII: От Каннской конференции
до марша на Рим, 1956 г., стр. 453-459.
32. Pernot, L'Expérience italienne, cit., p. 221 .
33. Там же, с. 223.
34. Там же, с. 224 -225.
35. Beals, Rome or Death, cit., pp. 285 сл.
36. Там же, с. 297-298.
7. Италия в порядке
1. Pernot, L'Expérience italienne, cit., p. 226.
2. Шарль-Ру, Дипломатические сувениры, cit., pp. 194-196.
3. Pernot, L'Expérience italienne, cit., p. 227.
4. Beals, Rome or Death, cit., p. 295.
5. Там же, с. 298-301.
6. Азар, Поль, Психология фашистов, в "L'Illustration", 11 ноября 1922
г.
7. Там же, L'Italie vivante, cit., p. 270.
8. Pernot, L'Expérience italienne, cit., p. 225.
9. Цит. в Шмитц, Дэвид Ф., Соединенные Штаты и фашистская
Италия, 1922-1940, Чапел-Хилл - Лондон, Университет Северной
Каролины Press, 1988, с. 58.
10. Цит. в Де Санти, Л., Отношения Соединенных Штатов с Италией
при Муссолини, 1921-1941, докторская диссертация, Нью-Йорк,
Колумбийский университет, 1951, с. 38. О своих отношениях с
Муссолини до и после «похода на Рим» посол писал в своих
автобиографических мемуарах «Дипломат смотрит на Европу»,
Лондон, Т. Фишер Анвин, 1925, с. 152 сл.
11. Цит. in Schmitz, Соединенные Штаты и фашистская Италия, cit., p.
55.
12. PRO, FO 371/7569, C 15130/366/22, Итальянский политический
кризис, Рим, 31 октября 1922 г. См. Де Феличе, Ренцо, Муссолини иль
фашист. Завоевание власти, 1921-1925 гг., Турин, Эйнауди, 1967, стр.
389 и далее; Литтелтон, Адриан, Завоевание власти. Фашизм с 1919 по
1929 год, пер. это. Г. Феррара и И. Рабелли, Бари, Латерца, 1974, стр.
152 сл.
13. Цит. in Schmitz, Соединенные Штаты и фашистская Италия, cit., p.
25.
14. Филлипс, «Красный» дракон и чернорубашечники, цит., с. 11 .
15. Там же, с. 13.
16. Там же, с. 37.
17. Там же, с. 41.
18. Там же, с. 45.
19. Там же, с. 12.
20. Roberts, Black Magic, cit., p. 5.
21. Там же, с. 107.
22. Там же, с. 109.
23. Филлипс, «Красный» дракон и чернорубашечники, цит., с. 58-59.
24. Камбо, Итальянский фашизм, соч., с. 21.
25. Там же, с. 22.
26. Hazard, L'Italie vivante, cit., p. 262.
27. Там же, с. 264.
28. Филлипс, «Красный» дракон и чернорубашечники, цит., с. 269.
29. Там же, с. 72.
30. Нодо, Людовик, Фашистская Италия или другая опасность, Париж,
Фламмарион, 1927, с. 67-76.
31. Там же, с. 75.
32. Омем Христо, Франциско, Муссолини batisseur d'avenir. Harangue
aux foules latinas, Париж, Société des éditons Fast, 1923, стр. 1-10.
33. Там же, с. 6.
34. Там же, с. 322-323.
35. Там же, с. 88-89.
36. Там же, с. 131.
37. Там же, с. 121.
38. Годден, Гертруда М., Муссолини. Рождение новой демократии,
Лондон, Burns, Oates & Washbourne Ltd, 1923, с. 4.
39. Там же, с. 4-5.
40. Там же, с. 8.
41. Там же, с. 2.
42. Cooper, Understanding Italy, cit., p. 23.
43. Там же, с. 30.
44. Там же, с. 13.
45. Там же, с. 4.
46. Там же, с. 23.
47. Там же, с. VII.
48. Там же, с. 64.
49. Там же, с. VIII.
50. Там же, с. 73.
51. Там же, с. 73-75.
52. Филлипс, «Красный» дракон и чернорубашечники, цит., с. 72.
53. Там же, с. 61.
54. Робертс, Черная магия, cit., стр. 114-115.
55. Там же, с. 125.
56. Там же, с. 126-128.
57. Там же, с. 116.
58. Там же, с. 117.
59. Там же, с. 118.
60. Там же, с. 119.
61. Там же, с. 135.
62. Там же, с. 136.
63. Pernot, L'Expérience italienne, cit., pp. 228-230.
64. Там же, с. 252-253.
65. Там же, с. 254.
66. Там же, с. 257.
67. Beals, Rome or Death, cit., pp. 307 сл.
68. Там же, с. 302-303.
69. Там же, с. 339.
70. Там же, с. 337-341.
71. Roberts, Black Magic, cit., p. 135.
72. Cambó, Il fascismo italiano, cit., pp. 10-11 .
73. Там же, с. 21 сл.
74. Там же, с. 132-133.
8. Италия под режимом
1. Камински, Ганс-Эрих, Фашизм в Италии. Грундлаген. Ауфштиг.
Нидерганг, Берлин, Verlag fur Sozialwissenschaft, 1925, с. 1.
2. Там же, с. 5-6.
3.Тамже,с.2.
4. Там же, с. 78-82.
5. Там же, с. 83.
6. Там же, с. 89.
7. Там же, с. 85.
8. Там же.
9. Там же, с. 93.
10. Там же, с. 94.
11. Камбо, Итальянский фашизм, соч., с. 5 .
12. Там же, с. 8.
13. Там же, с. 111-114.
14. Kaminski, Fascimus in Italien, cit., p. 94.
15. Там же, с. 93-94.
16. Там же, с. 105.
17. Там же.
18. Там же, с. 106.
19. Там же, с. 113-114 .
20. Там же, с. 115.
21. Рассел, Чарльз Эдвард, Новые фазы итальянской борьбы. Оправдал
ли Муссолини свою диктатуру?, в «Веке», апрель 1925 г., с. 744.
22. См. Берселли, Альдо, Английское общественное мнение и
появление фашизма (1919-1925), Милан, Франко Анджели, 1971.
23. См. Диггинс, Джон П., Америка, Муссолини и фашизм, пер. это.
Дж. Бертолацци и Г. Феррара, Бари, Латерца, 1972.
24. Russell, New Phases in the Italian Struggle, cit., p. 744.
25. Там же, с. 749.
26. Там же, с. 753.
27. Там же, с. 754.
28. Там же, с. 755.
29. Там же.
30. Шмитц, Соединенные Штаты и фашистская Италия, cit., стр. 79-80;
Диггинс, Америка, Муссолини и фашизм, cit., стр. 51 и след.
31. Маурер, «Триумф и суматоха», цит., с. 152.
32. Чайлд, Дипломат смотрит на Европу, цит.; видеть Шмитц,
Соединенные Штаты и фашистская Италия, cit., стр. 52 сл.
33 Чайлд, Дипломат смотрит на Европу, цит., с. 186.
34. Там же, с. 206 сл.
35. См. Diggins, L'America, Mussolini e il fascismo, cit., pp. 31-32.
36. Болито, Уильям, Италия при Муссолини, Нью-Йорк, Grosset &
Dunlap, 1926, с. 2.
37. Там же, с. 29.
38. Там же, с. 30.
39. Там же, с. 4.
40. Там же, с. 61.
41. Там же, с. 63.
42. Там же, с. 16.
43. Там же, с. 32.
44. Чабас, Хуан, Фашистская Италия. Политика и культура, Барселона,
Editorial Mentora, 1928, стр. 65 -66; перевод это. Фашистская Италия,
Политика и культура, под редакцией Дж. Морелли, Милан, Вьенпьер,
2004.
45. Там же, с. 65.
46. Bolitho, William, Италия при Муссолини, cit., p. 39.
47. Там же, с. 100.
48. Там же, с. 102.
49. Там же, с. 103-104.
50. Там же, с. 105.
51. Там же, с. 106-107.
9. Италия литорио
1. Парламентские акты, Палата депутатов, Законодательное собрание
XXVII, сессия 1924-1927 гг., Документы. Счета и отчеты, н. 1189-А.
2. Ферро, Антонио, Viagem à volta das ditaduras, Lisboa, Emprêsa
«Diário de notícias», 1927, с. 128.
3. Там же, с. 59.
4. Там же, с. 61-63.
5. Там же, с. 70-72.
6. Там же, с. 74.
7. Там же, с. 75.
8. Там же, с. 97.
9. Там же, с. 99-102.
10. Там же, с. 104.
11. Там же, с. 121.
12. Там же, с. 127.
13. Там же, с. 166-173.
14. Там же, с. 174.
15. Там же, с. 129-131.
16. Селлерс, Эдит, Среди друзей и врагов фашизма, в «Contemporary
Review», 130, ноябрь 1926 г., с. 596.
17. Там же, с. 597.
18. Там же, с. 599.
19. Там же, с. 559 -600.
20. Там же, с. 600.
21. Там же, с. 601.
22. Там же, с. 602-603.
23. Там же, с. 605.
24. Naudeau, «Фашистская Италия или другая опасность», cit., p. 28.
25. Там же, с. 29.
26. Там же, с. 31.
27. Там же, с. 33-35 .
28. Там же, с. 36-37.
29. Там же, с. 37.
30. См. Деклева, Энрико и Милца, Пьер (под редакцией), Франция и
Италия в 1920-е годы, Милан, Институт международных политических
исследований, 1996; Плацелла Соммелла, Паола, французские
путешественники в Риме в двадцатые годы, в «Исследованиях
французской литературы. Европейское обозрение», 2004-2005, с. 75-
90; Aa.Vv., Les voyages français en Italie au XXe siècle, Fasano-Paris,
Schena Editore-Éditions Lanore, 2007, стр. 167 и далее; Матар-Бонуччи,
Мари-Энн, Французские интеллектуалы в фашистской Италии, в
Дульфи, Анн, Леонар, Ив, Матар-Бонуччи, Мари-Анн (ред.),
Интеллектуалы, артисты и боевики. Le voyage comme experiénce de
l'étranger, Брюссель, PIE-Peter Lang, 2009, стр. 29-48; Пупо, Кристоф, À
l'ombre des Faisceaux. Les voyages français dans l'Italie des Chemises
noires (1922–1943), Thése de doctorat d'histoire en cotutelle, Université
Paris Ouest Nanterre La Défense, 1 июля 2011 г.
31. Naudeau, «Фашистская Италия или другая опасность», cit., pp. 16-
17.
32. Там же, с. 11.
33. Там же, с. 13-14 .
34. Там же, с. 16.
35. Там же, с. 17-19.
36. Там же, с. 236-237.
37. Там же, с. 176.
38. Там же, с. 41-42 .
39. Там же, с. 19-20.
40. Там же, с. 254-255.
41. Там же, с. 160-161.
42. Там же, с. 266.
43. Там же, с. 268.
44. Там же, с. 268-269.
10. Тоталитарная Италия
1. Национальная фашистская партия, Большой совет в первые пять лет
фашистской эры, Рим, Libreria del Littorio, 1927, с. XI .
2. Беро, Анри, Ce que j'ai vu à Rome, Paris, Éditions de France, 1927, с.
89.
3. Там же, с. 92-93.
4. Лашен, Морис, La IVe Italie, Paris, Gallimard, 1935, с. 22 .
5. Халлинджер, Эдвин Уэр, Новое фашистское государство.
Исследование Италии при Муссолини, Нью-Йорк, Rae D. Henkle Co.,
1928, с. 21.
6. Schreiber, Émile, Rome après Moscou, Paris, Plon, 1932, стр. 54-55.
7. Робертсон, Александр, Муссолини и Новая Италия, Нью-Йорк, Х.Р.
Алленсон, 1929 г .; Аллен, Х. Уорнер, Италия от края до края, Лондон,
Метуэн, 1927; Фокс, Фрэнк И., Италия сегодня, Лондон, Дженкинс,
1927; Ховард, Милфорд В., Фашизм: вызов демократии, Нью-Йорк:
Fleming H. Revell Co., 1929; Чабас, Фашистская Италия, цит.;
Garcitoral, Alicio, Italia con camisa negra, Madrid, Editorial Zeus, 1930;
Беро, Анри, Ce que j'ai vu à Rome, cit.; Курелла, Альфред, Муссолини в
маске: Der erste rote Reporter bereist Italien, Берлин, Neuer Deutscher,
1931.
8. Гамильтон, Сисели, Современная Италия глазами англичанки,
Лондон-Торонто, Дж.М . Dent & Sons Ltd, 1931, стр. VI-XI .
9. Там же, с. ТЫ.
10. Allen, Italy from End to End, cit., p. 17.
11. Там же, с. 8-9.
12. Там же, с. 18.
13. Там же, с. 93-94.
14. Fox, Italy To-day, cit., p. в.
15. Шнайдер, Герберт В., Создание фашистского государства, Нью-
Йорк: издательство Оксфордского университета, 1928, с. в .
16. Там же, с. 101-113.
17. Халлингер, Новое фашистское государство, соч., с. 5.
18. Там же, с. XI.
19. Hamilton, Modern Italy, cit., p. VIII.
20. Schreiber, Rome après Moscou, cit., pp. 111 -112.
21. Там же, с. 79.
22. Там же, с. 10.
23. Там же, с. 79.
24. Там же, с. 86-88 .
25. Бонд, Джон, Муссолини, дикий человек Европы, Вашингтон,
Independent Publishing Co., 1929, с. 110.
26. Garcitoral, Italia con camisa negra, cit., p. 10.
27. Kurella, Mussolini ohne Maske, cit., p. 8.
28. Чабас, Фашистская Италия, cit., стр. 122-123.
29. Гоуд, Гарольд Э., Создание корпоративного государства:
исследование фашистского развития, Лондон, Кристоферс, 1934, стр.
11-14.
30. Там же, с. 126.
31. Барнс, Джеймс Стрейчи, Я люблю Италию. Воспоминания
английского журналиста, пер. это. Ф. Каддео, Милан, Тревес, 1939,
стр. 3-4.
32. Там же, с. 14.
33. Барнс, Джеймс Стрейчи, Фашизм, Лондон, Т. Баттерворт, 1931, с.
109-116.
34. Чабас, Фашистская Италия, cit., стр. 11 -12.
35. Там же, с. 17-18.
36. Allen, Italy from End to End, cit., p. 17.
37. Там же, с. 164.
38. Там же, с. 227.
39. Говард, Фашизм, cit., стр. 5-6.
40. Там же, с. 38.
41. Беро, Ce que j'ai vu à Rome, cit., pp. 81-83.
42. Там же, с. 87.
43. Naudeau, «Фашистская Италия или другая опасность», cit., pp. 64-
65.
44. Халлингер, Новое фашистское государство, cit., pp. 23 сл.
45. Там же, с. 31.
46. Там же, с. 38.
47. Там же, с. 40.
48. Garcitoral, Italia con camisa negra, cit., p. 91.
49. Там же, с. 93-94.
50. Там же, с. 120.
51. Там же, с. 159.
52. Там же, с. 147.
53. Henriot, Émile, Promenades Italiennes, Paris, H. Piazza, 1930, стр. 148
сл.
54. Рот, Джозеф, Четвертая Италия, пер. это. под редакцией С.
Айгнера, Рим, Кастельвекки, 2013, с. 34.
55. Там же, с. 35. Курсив в тексте.
56. Там же, с. 38.
57. Там же, с. 50-51.
58. Беро, Ce que j'ai vu à Rome, cit., pp. 4-5.
59. Там же, с. 24-28.
60. Там же, с. 29.
61. Там же, с. 34.
62. Там же, с. 33.
63. Naudeau, «Фашистская Италия или другая опасность», cit., pp. 159-
160.
64. Там же, с. 155.
65. Roth, La Quarta Italia, cit., pp. 46-47 . Курсив выделен в тексте.
66. Там же, с. 23-25.
67. Там же, с. 26.
68. Там же, с. 26-27 .
69. Там же, с. 27-29. Предложения, цитируемые Ротом, были
извлечены из фашистского катехизиса, полностью изложенного Нодо в
«L'Italie fasciste ou l'autre опасности», cit., pp. 132-134.
11. Италия Муссолини.
1. Гиббонс, Джон, Впереди по Италии, Лондон, Джордж Ньюнес, 1933,
стр. 13-14.
2. Там же, Старая Италия и Новый Муссолиниленд, Нью-Йорк, Э.П.
Даттон, 1933 год.
3. Gibbons, Afoot in Italy, cit., p. 186.
4. Там же.
5. Беро, Ce que j'ai vu à Rome, cit., pp. 37-41.
6. Schreiber, Rome après Moscou, cit., p. 5.
7. Там же, стр. 6-7.
8. Эндрю, Роланд Г., Через фашистскую Италию, Лондон, Джордж Г.
Харрап и Ко, 1935, стр. 14-15.
9. Там же, с. 37.
10. Там же, с. 167.
11. Предисловие к Барнсу, Джеймсу Стрейчи, Универсальные аспекты
фашизма, Лондон, Уильямс и Норгейт, 1929, стр. XXXV-XXXIX.
12. Муссолини, Opera omnia, cit., vol. XXV: От двенадцатой годовщины
основания фашистов до четырехстороннего пакта, 1958 г., с. 147 .
13. Рекули, Раймон, Фашистская Италия, Гренобль, Б. Арто, 1934, с. 5.
14. Беро, Ce que j'ai vu à Rome, cit., p. 13.
15. Naudeau, «Фашистская Италия или другая опасность», cit., p. 76.
16. Гентизон, Поль, Rome sous le Faisceau, Paris, Fasquelle Éditeurs,
1933, с. 15.
17. Статья «Туризм» в Национал-фашистской партии, Политический
словарь, вып. IV, Рим, Институт энциклопедии Треккани, 1940, с. 518.
18. Там же, с. 517.
19. Де Бовуар, Симона, L'età forte, Турин, Эйнауди, 1961, с. 138.
20. Эрфор, Поль, Chez les Romains фашистов, Париж, Éditions de la
«Revue Mondiale», 1934, с. 52.
21. Эндрю, Через фашистскую Италию, соч., с. 167.
22. Fox, Italy To-day, cit., pp. 244-245.
23. Herfort, Chez les Romains фашисты, cit., p. 19.
24. Курелла, Альфред, Кеннст дю дас Ланд...? Mussolini ohne Maske,
Berlin, Dietz Verlag, 1962, стр. 5-7. Это второе издание с новым
предисловием Муссолини без Маски, цит.
25. Там же, с. 61.
26. Schreiber, Rome après Moscou, cit., p. 2.
27. Эндрю, Через фашистскую Италию, соч., с. 23.
28. Гамильтон, Современная Италия, цит.
29. Gibbons, Old Italy and New Mussoliniland, cit., p. 112.
30. Там же, с. 13-14 .
31. Там же, с. 114.
32. Там же, с. 7-9.
33. Там же, с. 10.
34. Kurella, Mussolini ohne Maske, cit., pp. 14-15.
35. Бедель, Морис, Фашизм и VII, Париж, Галлимар, 1929.
36. Там же, с. 119-120.
37. Там же, с. 118-119.
38. Fox, Italy To-day, cit., pp. 242-243.
39. Gibbons, Afoot in Italy, cit., p. 30.
40. Schreiber, Rome après Moscou, cit., p. 14 .
41. Вивиан, Фашистская Италия, соч., с. 132.
42. Там же, с. 134.
43. Там же, с. 139.
44. Бордо, Анри, La vivante Italie, в "L'Illustration", 14 января 1928 года.
45. Allen, Italy from End to End, cit., p. 176.
46. Халлингер, Новое фашистское государство, cit., стр. 117-118.
47. Там же, с. 137-138.
48. Schreiber, Rome après Moscou, cit., pp. 7 -9 .
49. Эндрю, Через фашистскую Италию, соч., с. 66.
50. Herfort, Chez les Romains фашисты, стр. 27-28.
51. Lachin, La IVe Italie, cit., p. 57.
52. Там же, с. 43.
53. Allen, Italy from End to End, cit., p. 176.
54. Fox, Italy To-day, cit., pp. 258-259.
55. Халлингер, Новое фашистское государство, cit., pp. 40 и далее
56. Беро, Ce que j'ai vu à Rome, cit., pp. 150 и далее
57. Gibbons, Old Italy and New Mussoliniland, cit., p. 139.
58. Эндрю, Через фашистскую Италию, cit., pp. 122 -123.
59. Геббельс, Пауль Йозеф, Мы, немцы, и фашизм Муссолини, пер.
это. А. Лукини, Флоренция, Бельтрами, 1936, стр. 86-87.
60. Шрайбер, Рим после Москвы, соч., с. 13.
61. Ср. Джентиле, Эмилио, Fascismo di pietra, Рим-Бари, Латерца, 2007.
62. Халлингер, Новое фашистское государство, соч., с. 142 .
63. Шрейбер, Рим после Москвы, соч., с. 10.
64. Беро, Ce que j'ai vu à Rome, cit., pp. 22-23.
65. Халлингер, Новое фашистское государство, соч., с. 236.
66. Там же, с. 237-238.
67. Gillet, Louis, Rome and Naples, Paris, Éditions des Portiques, 1933, p.
13.
68. Там же, с. 21.
69. Жид, Андре, Журнал 1889-1939, Париж, Bibliothèque de la Pléiade,
1939, стр. 1193-1194.
70. Вивиан, Фашистская Италия, с. 137.
71. Naudeau, Фашистская Италия или другая опасность, cit., p. 260.
72. Беро, Что я видел в Риме, cit., p. 53.
73. Бедель, Фашизм и VII, cit., pp. 13-16.
74. Там же, с. 17.
75. Рекули, Фашистская Италия, соч., с. 37.
76. Lachin, La IVe Italie, cit., p. 84.
77. Там же, с. 88.
78. De Beauvoir, The Strong Age, cit., p. 139.
79. Lachin, La IVe Italie, cit., pp. 91-93.
80. Эндрю, Через фашистскую Италию, соч., с. 66.
81. Там же, с. 144.
82. Там же, с. 145-146.
83. Там же, с. 187.
84. Там же, с. 224.
85. Шрейбер, Рим после Москвы, соч., с. 77 .
86. De Beauvoir, The Strong Age, cit., p. 237.
87. Шрейбер, Рим после Москвы, соч., с. 78.
88. Lucain, Marcel, Римляне наших дней, Paris, Jules Tallandier, 1933,
стр. 175-176.
89. Lachin, La IVe Italie, cit., pp. 95-101.
90. Kurella, Муссолини без маски, cit., pp. 78 сл.
91. Там же, с. 76 сл.
92. Там же, с. 75.
93. Там же, с. 62-63 .
94. Там же, с. 68.
95. Там же, с. 77.
96. Беро, Ce que j'ai vu à Rome, cit., pp. 105-106. На итальянском в
тексте.
97. Там же, с. 108.
98. Там же, с. 109.
99. Там же, с. 118.
100. Там же, с. 123 сл.
101. Там же, с. 5.
102. Там же, с. Я.
103. Herfort, Среди римлян фашисты, cit., p. 158.
104. Lachin, La IVe Italie, cit., p. 102.
12. Императорская Италия
1. Дейвсон, Анри (псевдоним Анри-Ирене Марру), Итальянский
фашизм и женщины, в «Esprit», giugno 1936, p. 429.
2. Муссолини, Opera omnia, cit., vol. XIX: От похода на Рим до поездки
в Абруцци, 1956, с. 266.
3. Там же, Opera omnia, cit., vol. XXI: От преступления Маттеотти до
нападения на Занибони, 1956, стр. 362-363.
4. См. Джентиле, Эмилио, Культ литорио. Сакрализация политики в
фашистской Италии, Рим-Бари, Латерца, 1993.
5. Халлингер, Новое фашистское государство, соч., с. 47.
6. Hamilton, Modern Italy, cit., p. 41 .
7. Там же, с. 40.
8. Там же, с. 42.
9. Национальная фашистская партия, Il cittadino soldato, Rome, Libreria
dello Stato, 1936, с. 31.
10. Муссолини, Opera omnia, cit., vol. XXIV: От Латеранских
соглашений к двенадцатой годовщине основания связки, 1958, с. 283.
11. Людвиг, Эмиль, Беседы с Муссолини, пер. это. М . Ньоли, Милан,
Мондадори, 1932, стр. 124-125.
12. Там же, с. 121 -123.
13. Волкова, Анна, Италия сегодня, Рим, Edizioni Romane, 1940, с. 69 .
14. Hamilton, Modern Italy, cit., p. 42.
15. Беро, Ce que j'ai vu à Rome, cit., p. 56. Курсив в тексте.
16. Там же, с. 59.
17. Мадлен, Луи, «Новая Италия», в «Le Supplément illustré de la Revue
Hebdomadaire», 24 февраля 1934 г., с. 409.
18. Оливье, Бландин, Фашистская молодежь, Париж, Галлимар, 1934,
с. 17.
19. Там же, с. 95-96 .
20. Lachin, La IVe Italie, cit., p. 67.
21. Там же, с. 25.
22. Там же, с. 9.
23. Там же, с. 7-8.
24. Там же, с. 35.
25. Там же, с. 34.
26. Там же, с. 38 сл.
27. Там же, с. 68.
28. Там же, с. 76-77 .
29. Benjamin, René, Муссолини и его люди, Paris, Plon, 1937, стр. I -III .
30. Там же, с. 108.
31. Volkoff, L'Italie d'aujourd'hui, cit., p. 20.
32. Lachin, La IVe Italie, cit., p. 81.
33. Там же, с. 82-83.
34. Оливье, Фашистская молодежь, cit., pp. 177 -178.
35. Там же, с. 191-192.
36. Волков, L'Italie d'aujourd'hui, cit., pp. 49-50.
37. Hamilton, Modern Italy, cit., p. IX.
38. Там же, с. 75.
39. Там же, с. 25-27 .
40. Там же, с. 77.
41. Там же, с. 79.
42. Там же, с. 95.
43. Ажальбер, Жан, Италия в тишине и Риме без любви, Париж,
Альбен Мишель, 1935, с. 72.
44. Там же, с. 80-87. Курсив выделен в тексте.
45. Давенсон, «Итальянский фашизм и женщина», соч., с. 427.
46. Там же, с. 428.
47. Там же, с. 430-431.
48. Там же, с. 430.
49. См. Пертичи, Роберто, Церковь и государство в Италии. От
Великой войны до нового Конкордата (1914-1984), Болонья, il Mulino,
2009, стр. 99 сл.; Джентиле, Эмилио, Против Цезаря. Христианство и
тоталитаризм в эпоху фашизма, Милан, Фельтринелли, 2010.
50. Naudeau, «Фашистская Италия или другая опасность», cit., pp. 211-
212.
51. Там же, с. 215-216.
52. Fox, Italy To-day, cit., p. 213.
53. Халлингер, Новое фашистское государство, соч., с. 185.
54. Bond, Муссолини дикий человек Европы, cit., pp. 102-103.
55. Там же, с. 101.
56. Там же, с. 97.
57. Там же, с. 103-104.
58. Селдес, Джордж, Цезарь опилок, Нью-Йорк - Лондон, Harper &
Brothers, 1935, стр. XIV-XV. См. Diggins, L'America, Mussolini e il
fascismo, cit., pp. 52-68.
59. Селдес, Джордж, Ватикан: вчера-сегодня-завтра, Нью-Йорк -
Лондон, Harper & Brothers, 1934, стр. 396 сл.
60. Seldes, Sawdust Caesar, cit., p. 256.
61. Там же, с. 246.
62. Seldes, The Vatican, cit., p. 372.
63. Там же, Sawdust Caesar, cit., pp. 250-252.
64. Там же, с. 376.
65. Там же, с. 373.
66. Там же, с. 259-260.
67. Hamilton, Modern Italy, cit., pp. 138-139.
68. Там же, с. 139-140.
69. Там же, с. 144.
70. Там же, с. 144 -145.
71. Шнайдер, Создание фашистского государства, соч., с. 216.
72. Там же, с. 219.
73. Там же, с. 228.
74. Шнайдер, Герберт В. и Клаф, Шепард Б., Создание фашистов,
Чикаго, Издательство Чикагского университета, 1929, стр. 73-75.
75. Там же, с. 203.
76. Lucain, Les Romains d'aujourd'hui, cit., p. 19.
77. Recouly, L'Italie fasste, cit., pp. 41-43. Курсив выделен в тексте.
78. Файнер, Герман, Италия Муссолини, Лондон, Виктор Голланц,
1935. Цитаты взяты из репринта: Там же, Италия Муссолини, Нью-
Йорк, Grosset & Dunlap, 1964.
79. Там же, с. 436.
80. Предисловие к Лукейну, Современные римляне, cit., pp. VIII-IX.
81. Де Феличе, Ренцо, лидер Муссолини. Годы согласия, 1929-1936,
Турин, Эйнауди, 1974, стр. 534 и далее; Пассерини, Луиза,
воображаемый Муссолини, Рим-Бари, Латерца, 1991, стр. 134 сл.
82. Людвиг, Беседы с Муссолини, цит.; Шанлен, Пьер, Mussolini parle,
Paris, Tallandier, 1932.
83. См. Наварра, Квинто, Мемуары официанта Муссолини, Милан,
Лонганези, 1946, с. 156-160.
84. См. Poupault, À l'ombre des Faisceaux, cit.; Шидер, Вольфганг,
Мифос Муссолини. Deutsche in Audienz beim Duce, Мюнхен, Oldenburg
Verlag, 2013.
85. Gibbons, Старая Италия и Земля Муссолини, cit., pp. 18-19.
86. Бордо, La vivante Italie, cit., p. 52.
87. Бедель, Fascisme an VII, cit., pp. 9 -10.
88. Барнс, Универсальные аспекты фашизма, cit., pp. 29-30.
89. Howard, Fascism, cit., pp. 24-25.
90. Диль, Луиза, Поколение Муссолини, Милан, Мондадори, 1934, стр.
124-125.
91. Бордо, Вахда Жанна, Бенито Муссолини. Мужчины, Лондон,
Hitchinson & Co., 1927, стр. 278 сл.
92. Там же, с. 286.
93. Herfort, Chez les Romains фашисты, cit., p. 66 .
94. Там же, с. 73.
95. Там же, с. 14-15.
96. Там же, с. 35.
97. Schneider, Édouard, Dans Rome vivante, Paris, Plon, 1936, p. 8.
98. Там же, с. 57.
99. Там же, с. 14.
100. Там же, с. 32.
101. Там же, с. 82-83.
102. Баскервиль, Беатрис, Что дальше или дуче?, Лондон - Нью-Йорк -
Торонто, Longmans, Green, 1937, стр. 4-5.
103. Там же, с. 5-6.
104. Там же.
Эпилог.
1. Мариатеги, Хосе Карлос, Письма из Италии и другие сочинения, под
редакцией И. Делогу, Рим, Editori Riuniti, 1973, с. 173.
2. Там же, с. 185-186.
3. Там же, с. 192.
4. Там же, с. 208-209.
5. Де Феличе, Муссолини вождь. Годы согласия, цит., стр. 759 и далее.
6. Массок, Ричард Г., Италия изнутри, Лондон, Macmillan & Co., 1943,
с. 8.
7. Мэтьюз, Герберт Л., Плоды фашизма, пер. это. Э. Кравери Кроче,
Бари, Латерца, 1945, с. 166.
8. Бинчи, Дэниел А., Церковь и государство в фашистской Италии,
Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1970 г.
(перепечатка издания, опубликованного в 1941 г.), с. 695. См. Ceci,
Lucia, Папа не должен говорить. Церковь, фашизм и эфиопская война,
Рим-Бари, Латерца, 2010 г.
9. См. Джентиле, Эмилио, Фашизм. История и интерпретация, Рим-
Бари, Laterza, 2013, стр. 235 сл.
10. Патрик, Джон, Имперский Рим возрождается, в «Журнале National
Geographic», март 1937 г., стр. 781-782.
11. См. Packard, Reynolds and Packard, Eleanor, Balcony Empire.
Фашистская Италия в войне, Лондон - Нью-Йорк - Торонто, Oxford
University Press, 1942, стр. 3 сл.; Массок, Италия изнутри, цит., стр. 98-
99.
12. Эбенштейн, Уильям, Фашистская Италия, Нью-Йорк:
Американская книжная компания, 1939, с. 65.
13. Там же, с. 191. Более ранняя книга Эбенштейна о фашизме была
опубликована под псевдонимом: Элвин, Уильям, «Фашизм в
действии», Лондон, Мартин Хопкинс, 1934.
14. Beyens, Quatre ans à Rome, cit., p. 244.
15. Аджальберт, Италия в тишине и Рим без любви, cit., p. 233.
16. Finer, Mussolini's Italy, cit., p. 11 .
17. Манро, Ион С., Через фашизм к мировой державе. История
революции в Италии, Лондон, Maclehose & Co., 1933, с. VII.
18. Там же, с. 324-325.
19. Эбенштейн, Фашистская Италия, соч., с. VII.
20. Джентиле, Эмилио, Итальянский путь к тоталитаризму. Партия и
государство при фашистском режиме), Рим, Кароччи, 2001, с. 151-159
и 216-226.
21. Lucain, Les Romains d'aujourd'hui, cit., pp. 43-44. Курсив в тексте.
22. Gentizon, Rome sous le Faisceau, cit., pp. 225-226. См. Коломбо,
Паоло, Фашистская монархия, 1922-1940 гг., Болонья, il Mulino, 2010.
23. Gentizon, Rome sous le Faisceau, cit., p. 232.
24. Recouly, L'Italie fasste, cit., p. 115.
25. Там же, с. 119. Курсив выделен в тексте.
26. См. Коломбо, Фашистская монархия, цит.
27. Штайнер, Х. Артур, Правительство в фашистской Италии, Нью-
Йорк — Лондон, McGraw-Hill Book Co., 1938, стр. 61-62.
28. Naudeau, «Фашистская Италия или другая опасность», cit., pp. 281-
282.
29. Schneider and Clough, Making Fascists, cit., p. XIII.
30. Hamilton, Modern Italy, cit., pp. VI-VII.
31. Там же, с. 28-29.
32. Там же, с. 15.
33. Gentizon, Rome sous le Faisceau, cit., p. 224.
34. Там же, с. 226.
35. Там же, с. 222 -225.
36. Розеншток-Франк, Луис, Корпоративная фашистская экономика в
доктрине и на деле. Его историческое происхождение и эволюция,
Париж, Университетская библиотека. J. Gamber, 1934; Там же, Les
étapes de l'économie fasste italienne. Du corporatisme à l'économie de
guerre, Париж, Editions du Centre polytechnicien d'études economique,
1939.
37. Розенсток-Франк, Фашистская корпоративная экономика, cit., p.
392.
38. См. Де Феличе, Ренцо, Муссолини вождь. Тоталитарное
государство (1936-1940), Турин, Эйнауди, 1981.
39. Баскервиль, Что дальше или дуче?, cit., pp. 163-164.
40. Штейнер, Правительство в фашистской Италии, соч., с. 41.
41. Finer, Mussolini's Italy, cit., p. 842.
42. Там же, с. 372-375.
43. Lachin, La IVe Italie, cit., p. 37.
44. Хейворд, Фернан, Презентация Италии, Париж, Грассе, 1939, стр.
200-201.
45. Там же, с. 56.
46. Там же, с. 137.
47. Хаттон, Питер, Некоторые впечатления в Италии в девятнадцатом
веке, июль 1937 г., с. 51.
48. Там же, с. 53.
49. Там же, с. 57.
50. Baskerville, What Next or Duce?, cit., p. 143.
51. Там же, с. 144.
52. Людвиг, «Беседы с Муссолини», соч., с. 133.
53. Lachin, La IVe Italie, cit., p. 25.
54. Там же, с. 249.
55. Finer, Mussolini's Italy, cit., p. 13.
56. Там же, с. 12.
57. Прайс, Г. Уорд, Я знаю этих диктаторов, Лондон, Джордж Г. Харрап
и Ко., 1937, стр. 225-226.
58. См. Коллотти, Энцо, Фашизм и силовая политика. Внешняя
политика, 1922–1939 годы, в сотрудничестве с Никола Лабанка и
Теодоро Сала, Флоренция, La Nuova Italia, 2000, стр. 247 сл.
59. См. De Felice, Renzo, Муссолини союзник, vol. I: Италия в
состоянии войны, 1940-1943 гг., Турин, Эйнауди, 1990 г.
60. Packard and Packard, Balcony Empire, cit., pp. 123-125.
61. Там же, с. 124 -125.
62. Массок, Италия изнутри, cit., p. 201.
63. Там же.
64. Мэтьюз, Плоды фашизма., cit., p. 297.
65. Массок, Италия изнутри, соч., с. 224.
66. Уитакер, Джон, Мы не можем избежать истории, Вашингтон, The
Infantry Journal, 1943, с. 71.
67. Массок, Италия изнутри, соч., с. 252.
68. Морган, Томас Б., Шпоры в ботинке. Италия под руководством ее
хозяев, Лондон - Торонто - Бомбей - Сидней, Джордж Г. Харрап и Ко,
1942, с. 253.
69. Массок, Италия изнутри, cit., p. 266.
70. Иви, с. 7.
71. Packard e Packard, Balcony Empire, cit., стр. 278-279.
72. Уитакер, Мы не можем избежать истории, цит., стр. 62-63.
73. Массок, Италия изнутри, cit., p. 267.
74. Иви, стр. 332-333. 75. Packard e Packard, Balcony Empire, cit., p. 245.
76. Уитакер, Мы не можем избежать истории, cit., p. 87. 77 . Packard e
Packard, Balcony Empire, cit., p. 271 . 78. Иви, с. 379. 79. Солдатский
путеводитель по Италии, с.л., с.д ., с. 5. 80. Иви, с. 8 . 81. Иви, с. 20. 82.
Иви, с. 26. 83. Иви, стр. 16-27 . 84. Молдин, Билл, Up Front, New York,
Henry Holt & Co., 1944, с. 64.