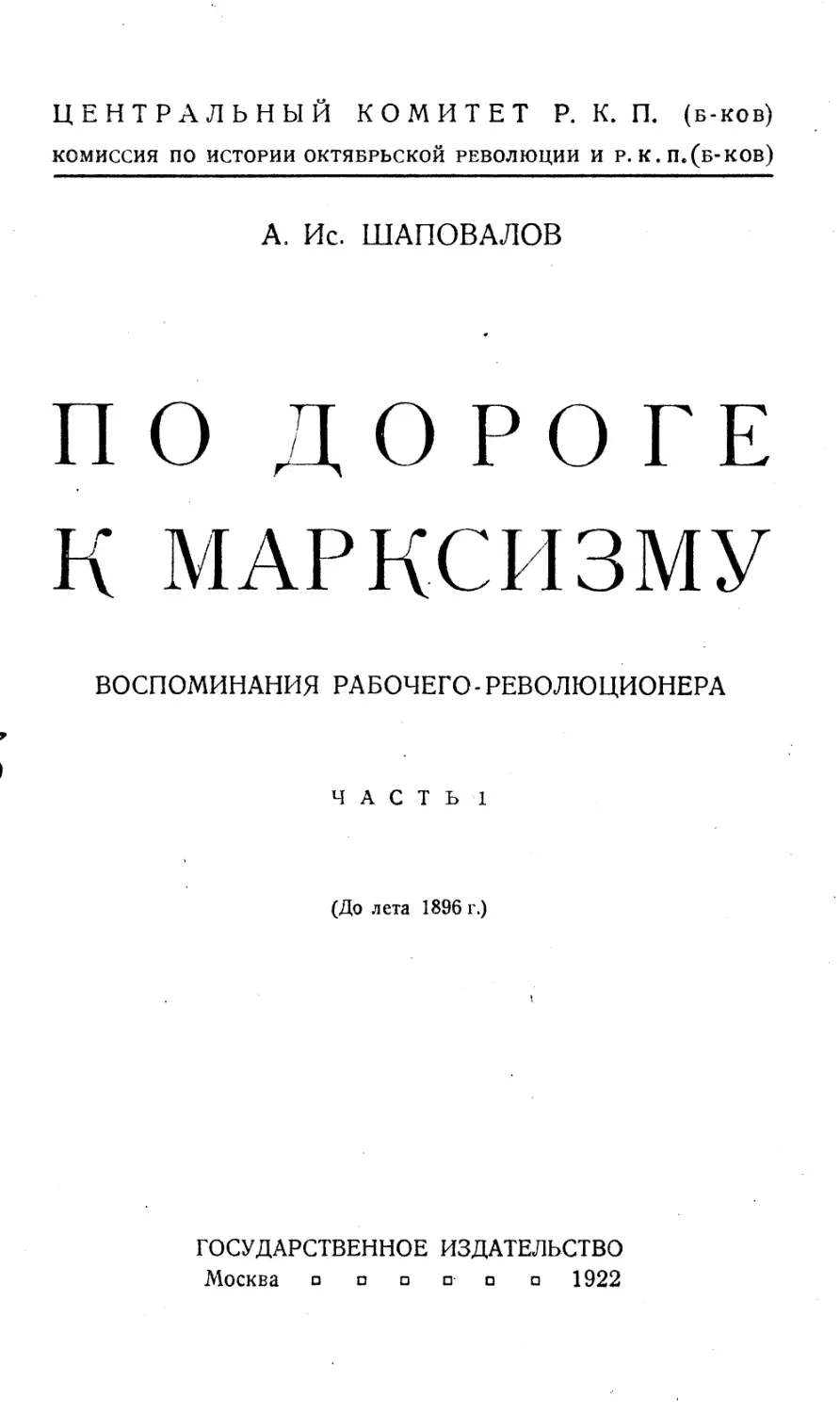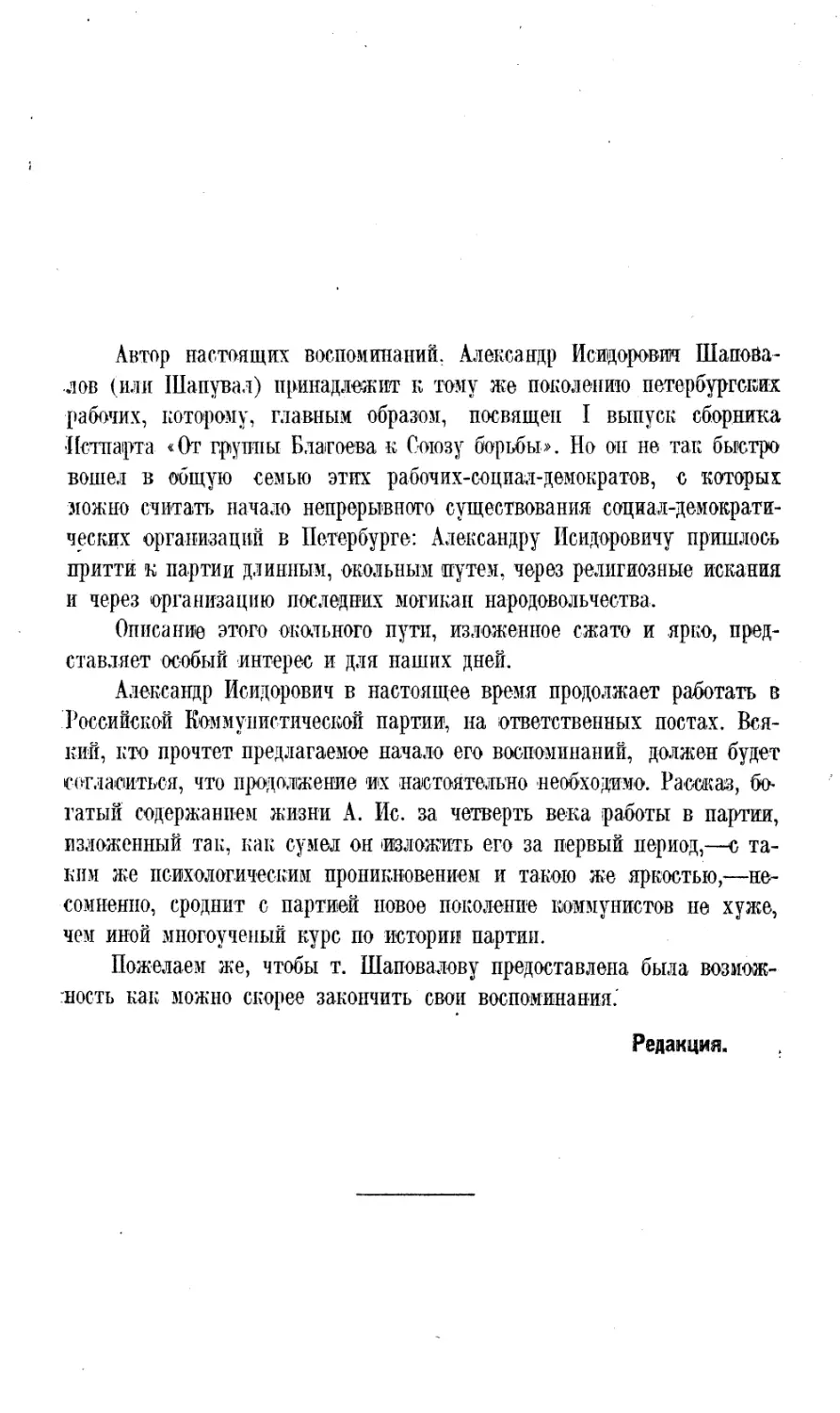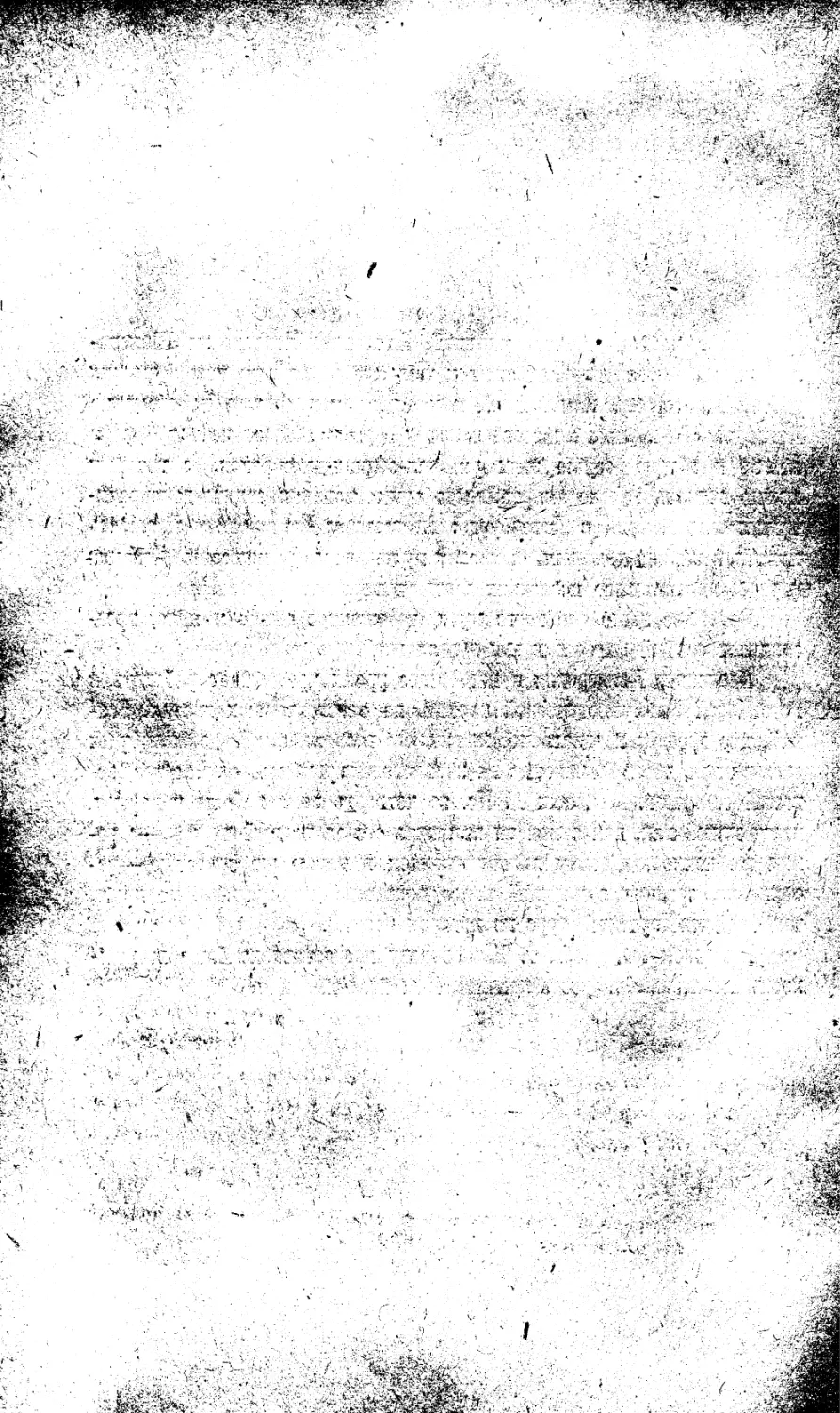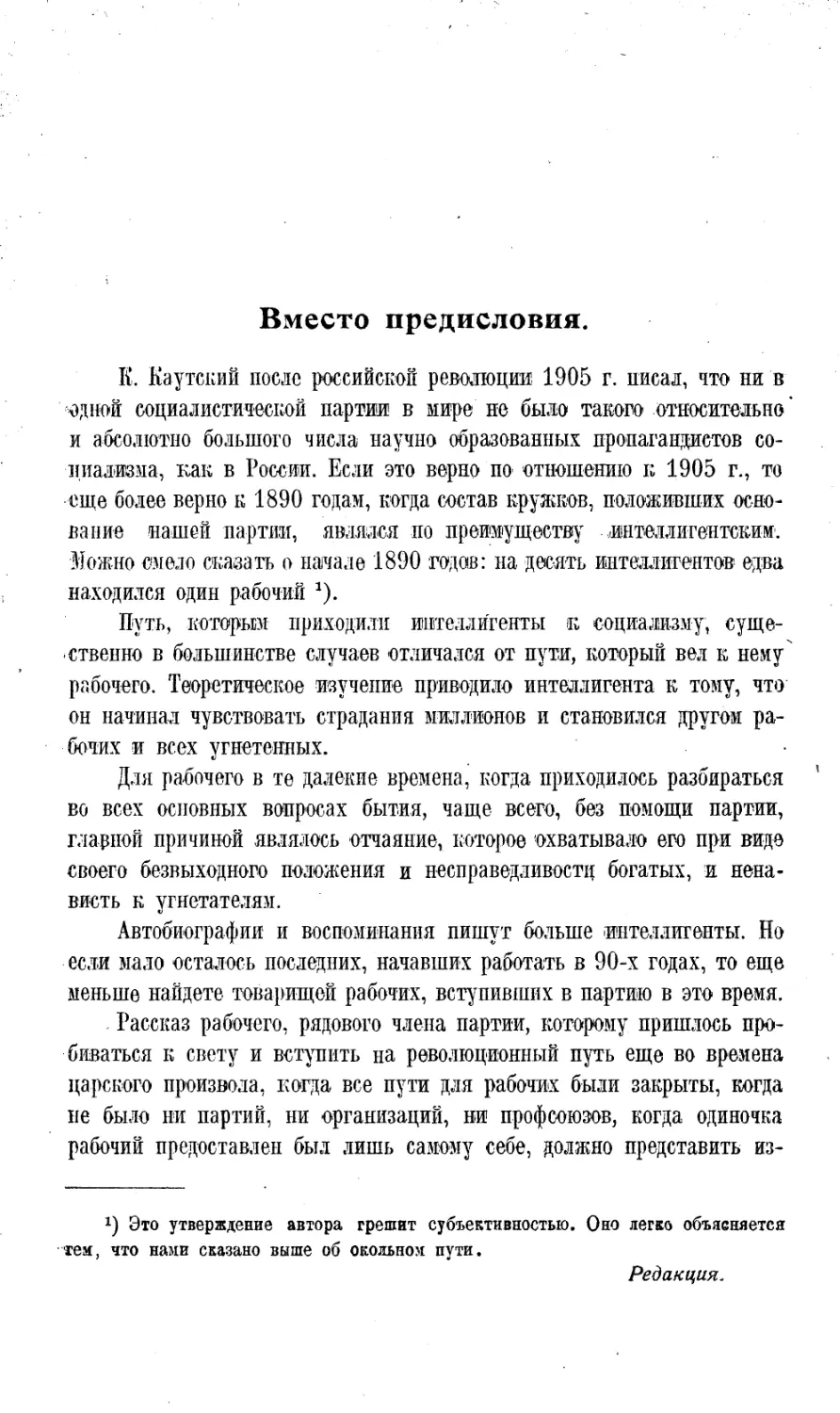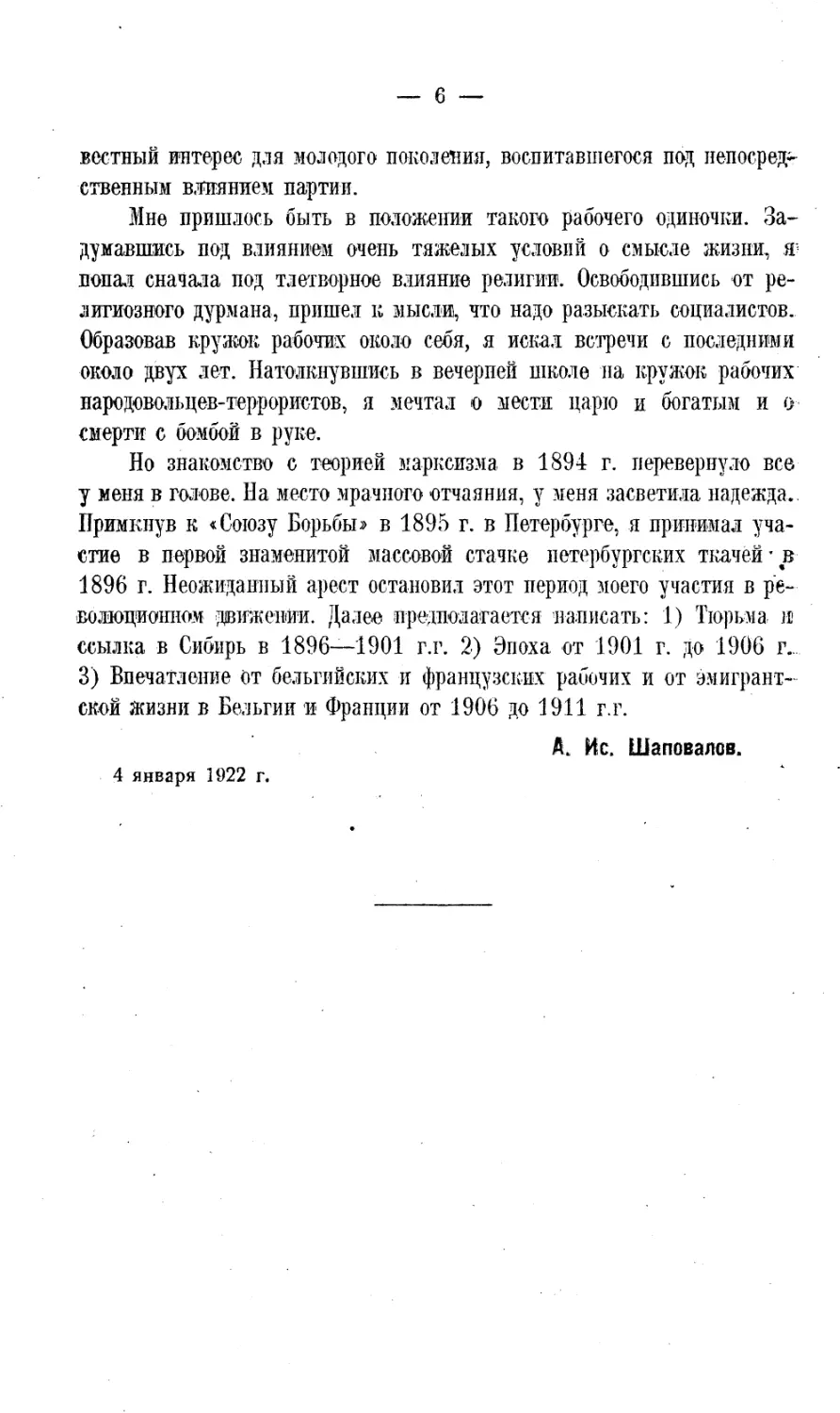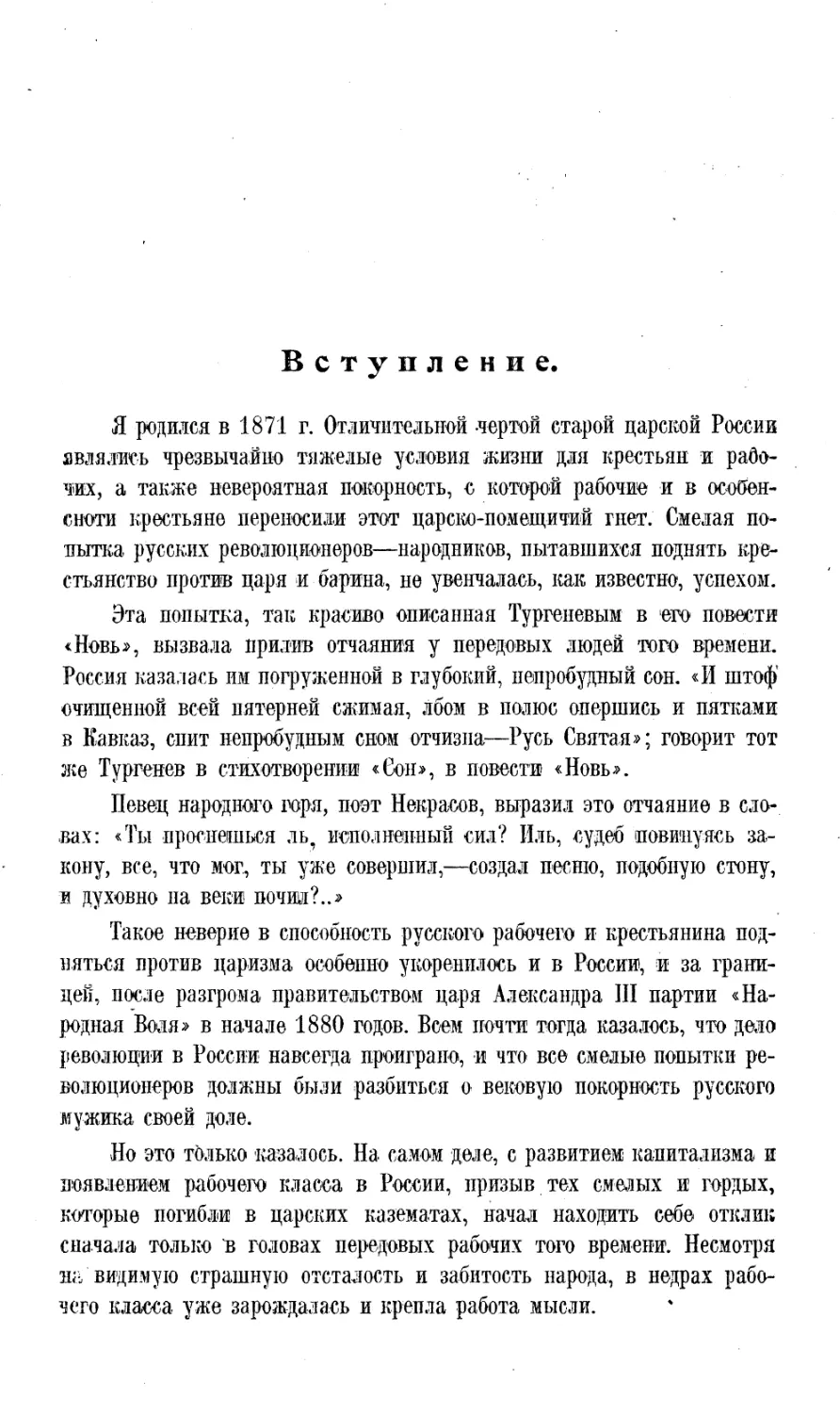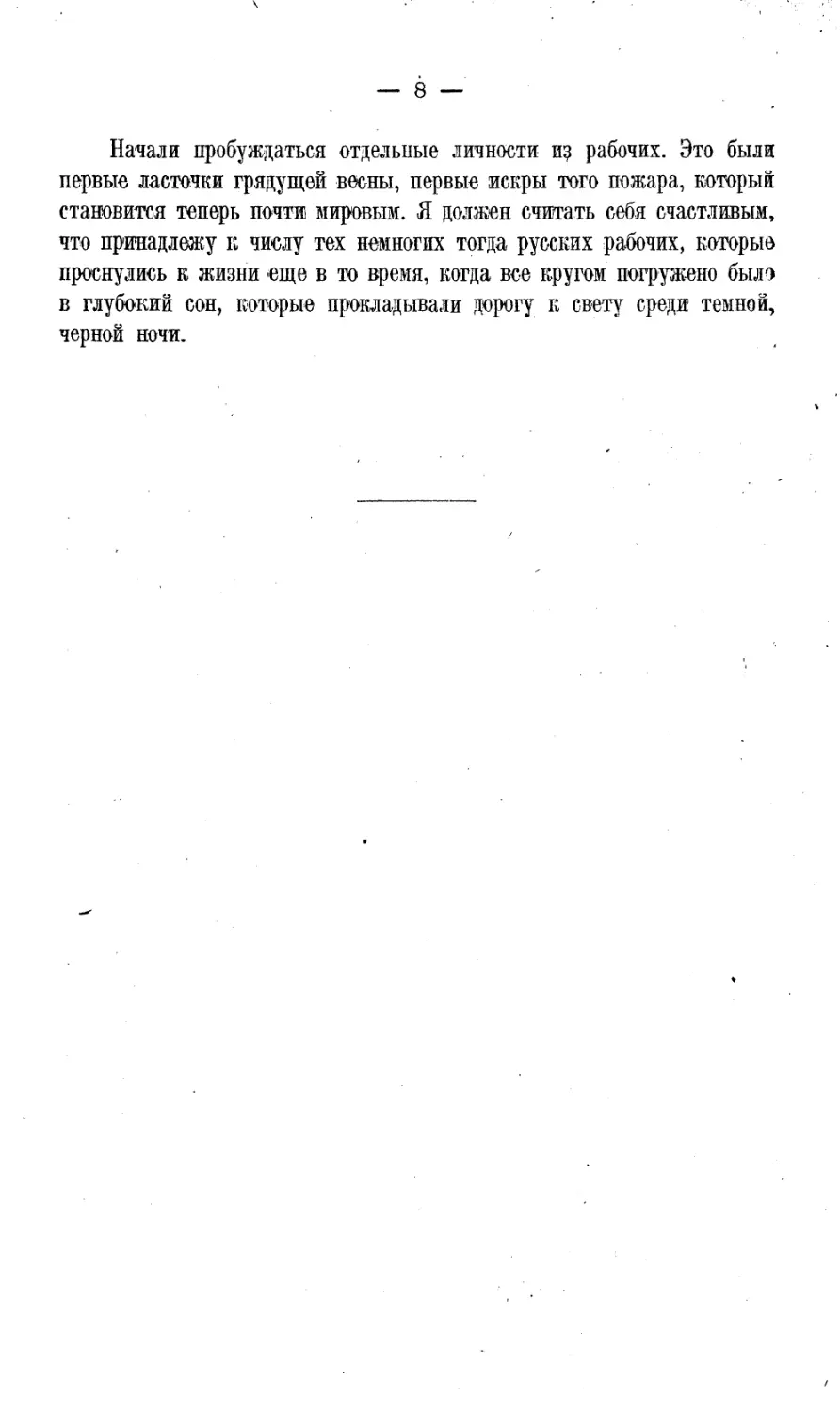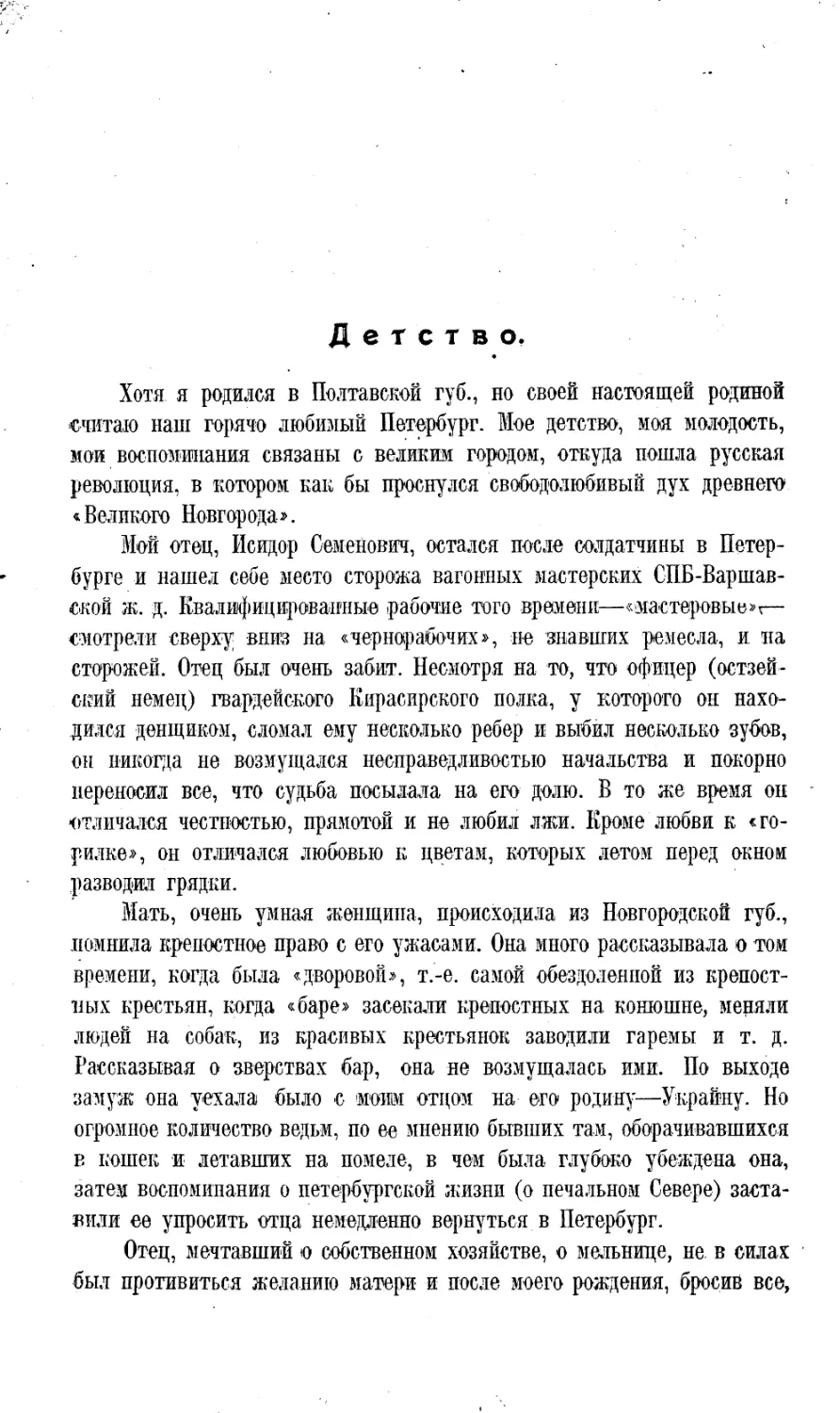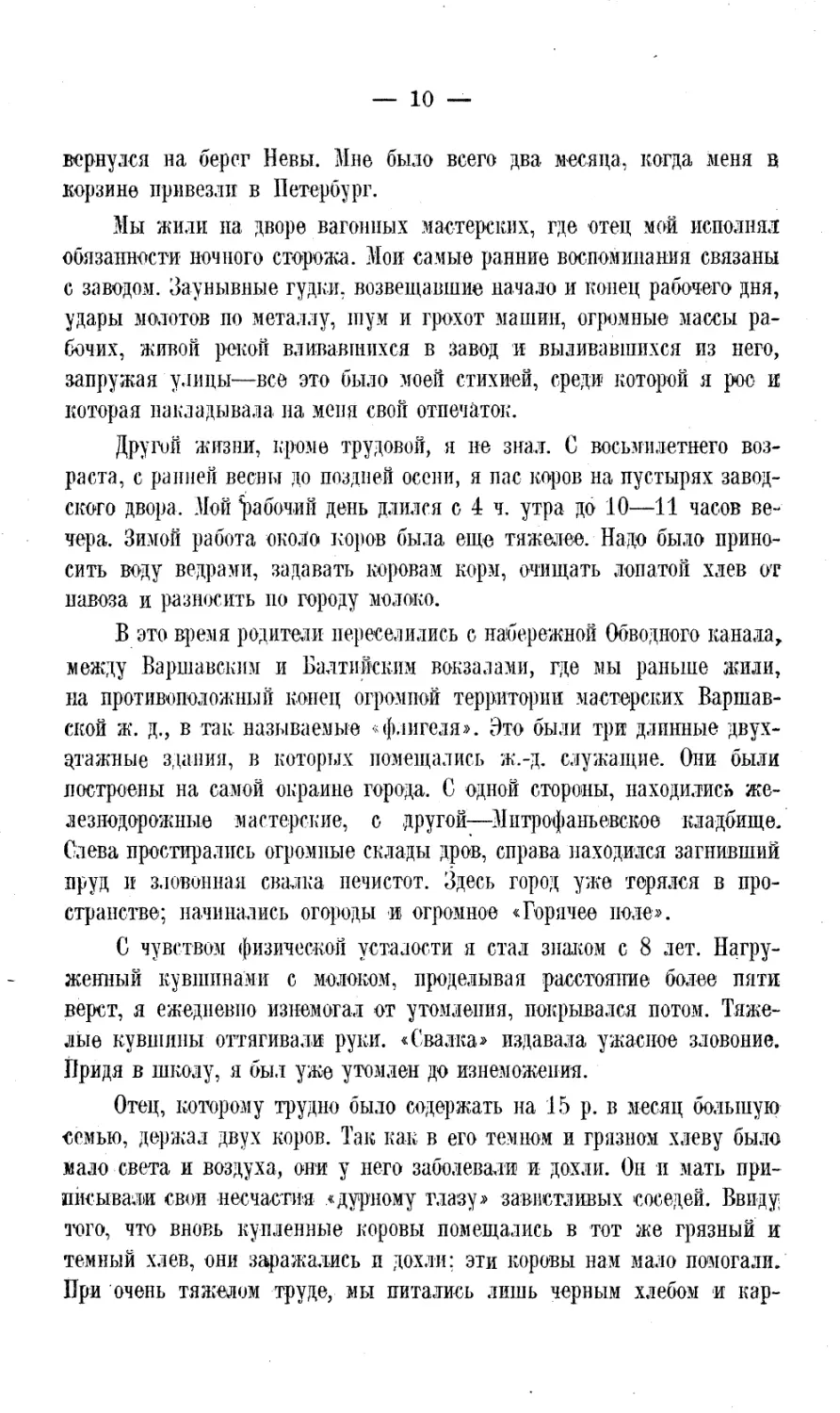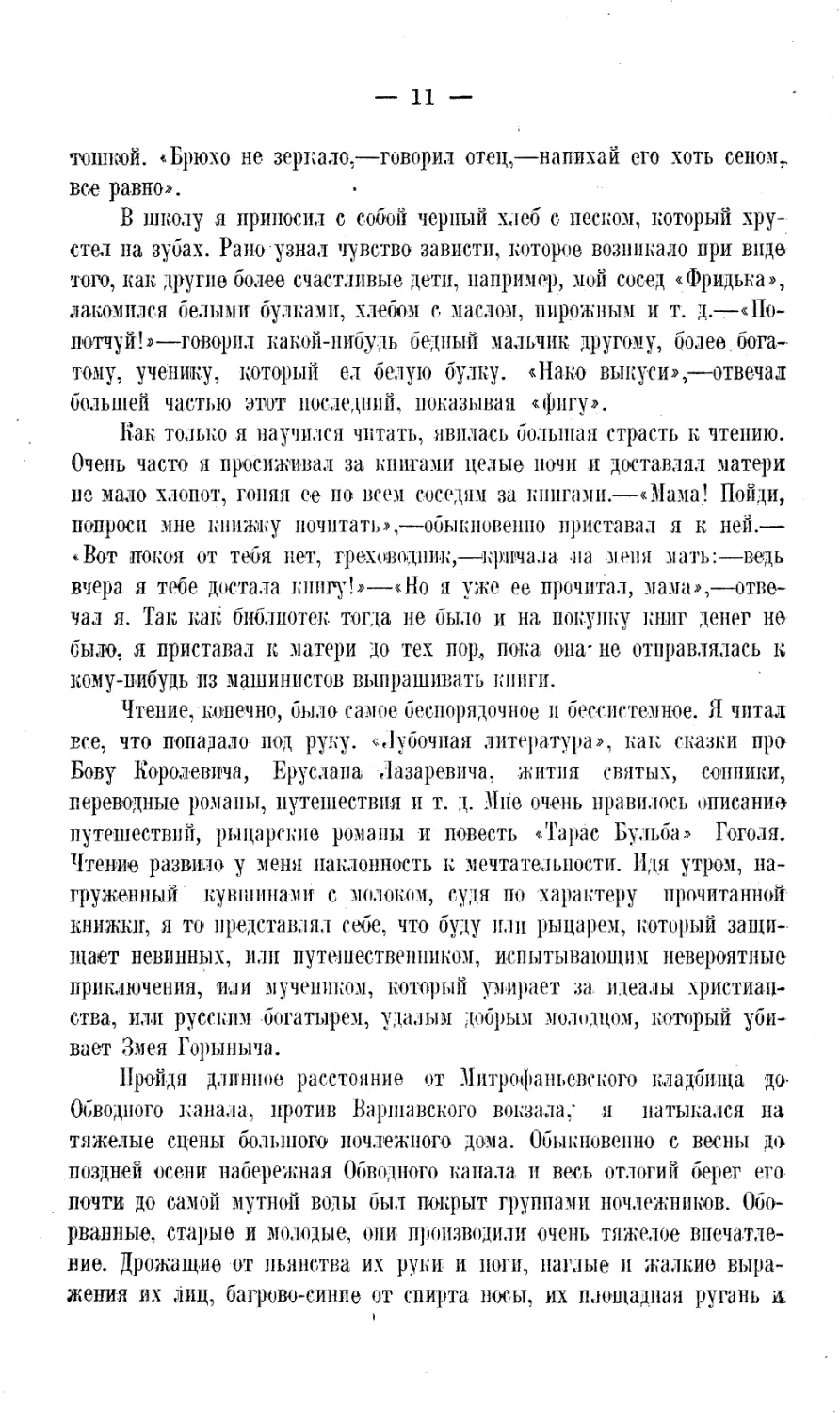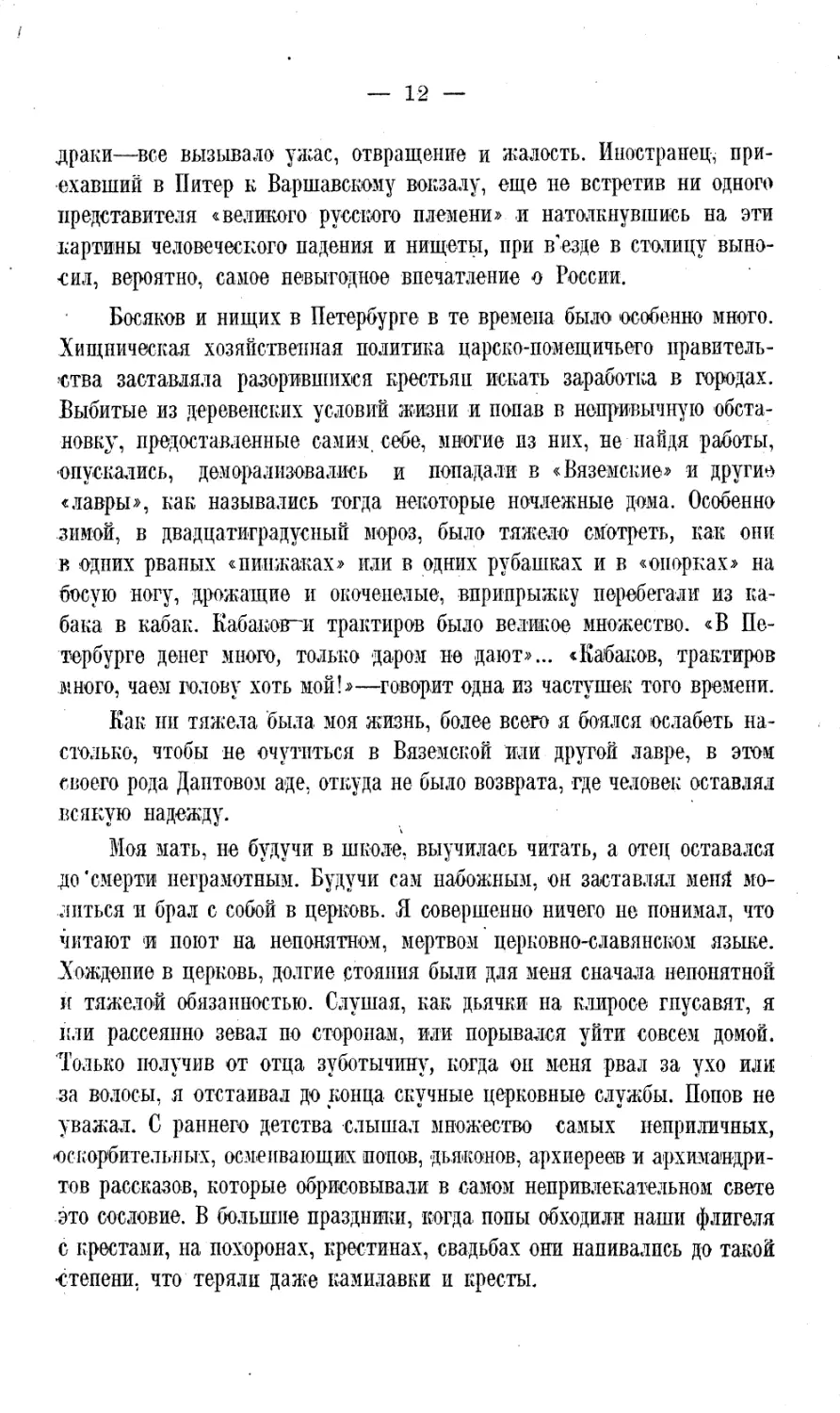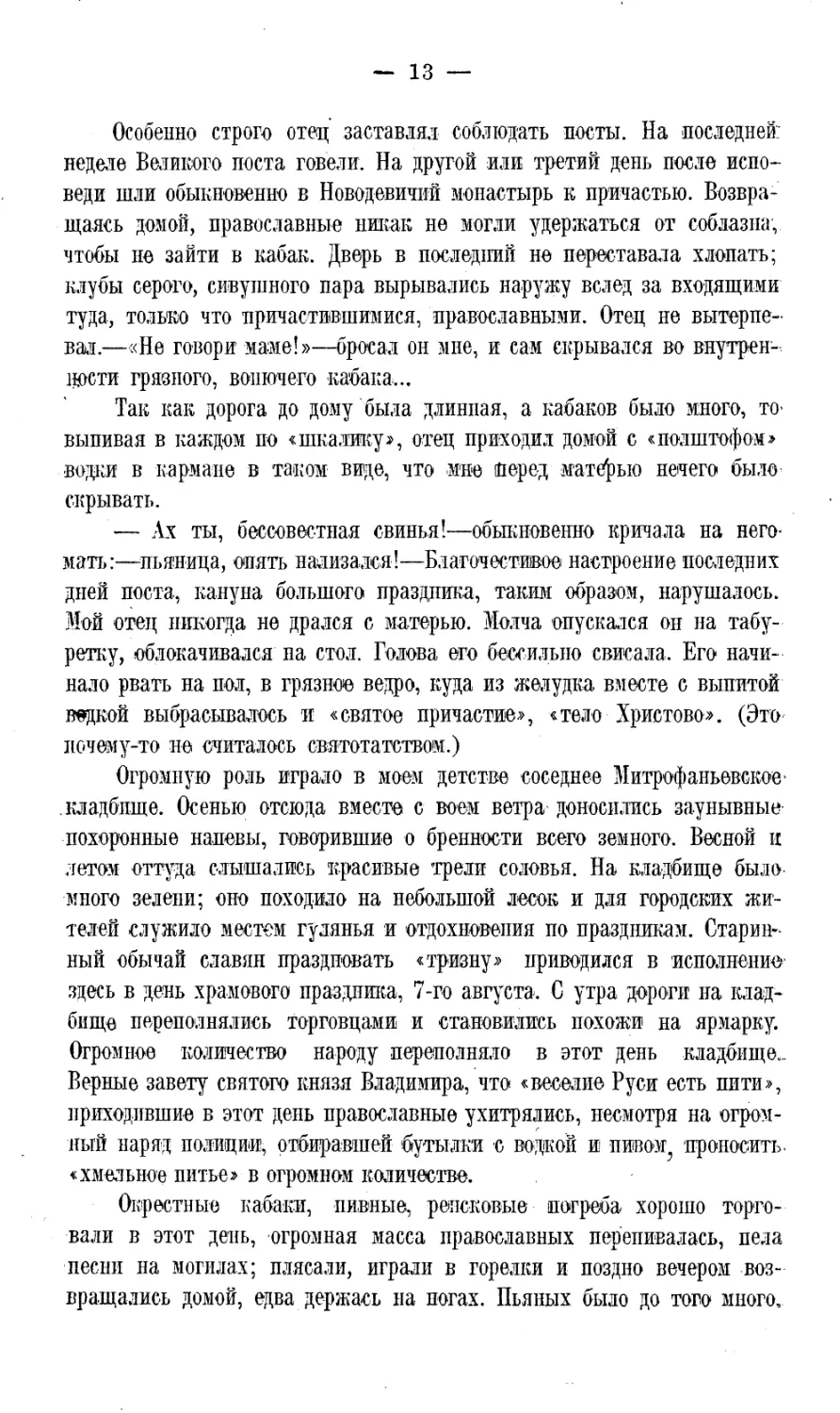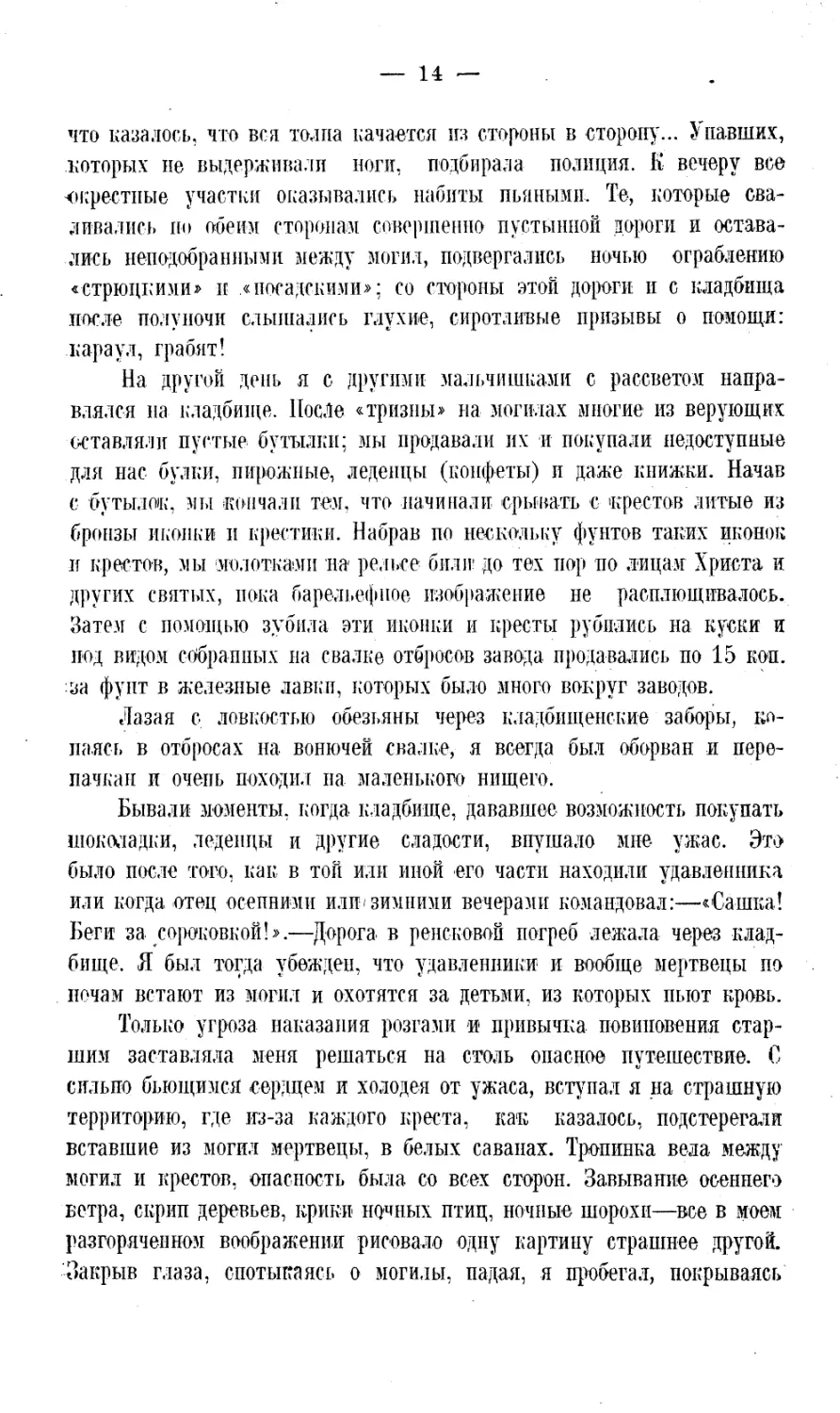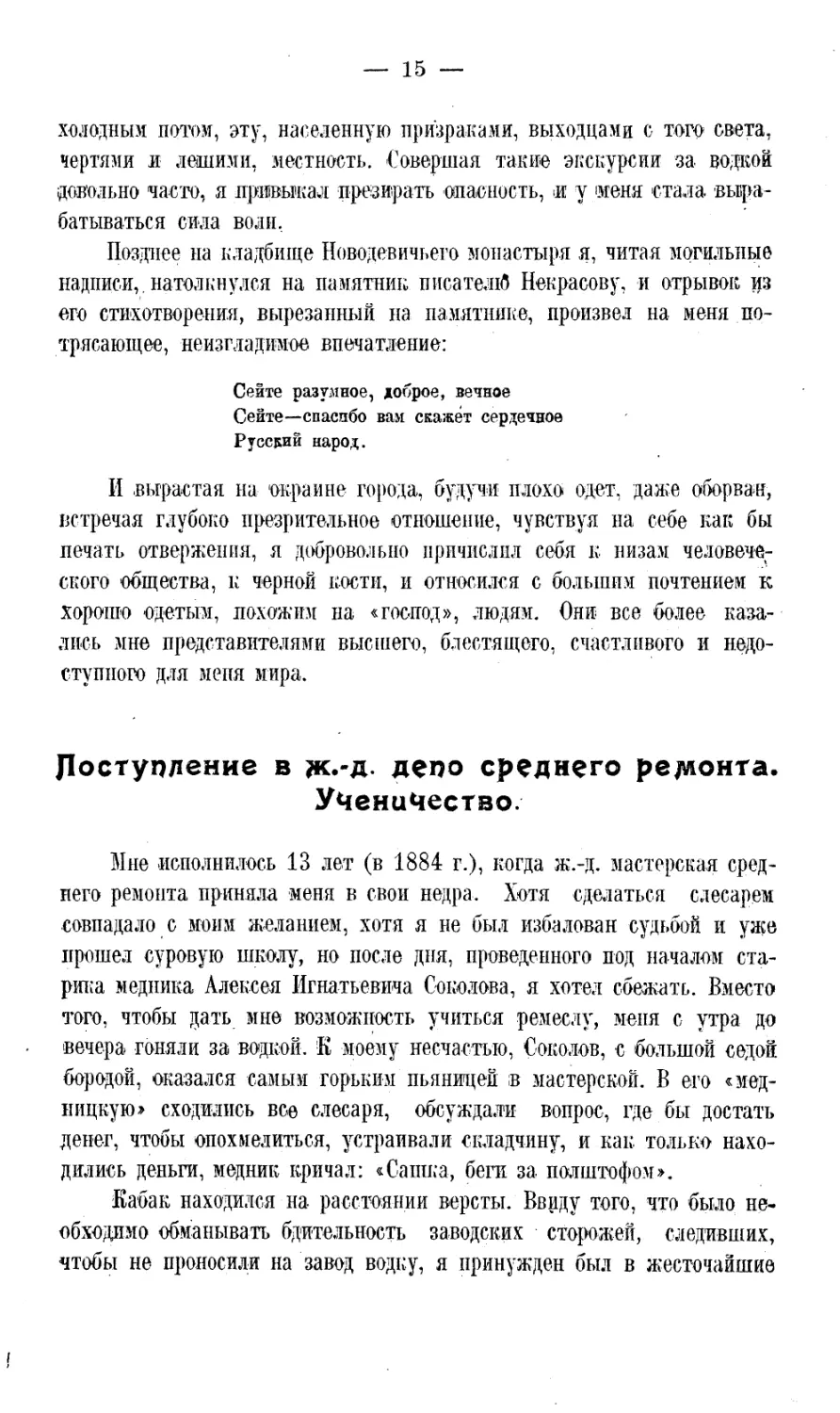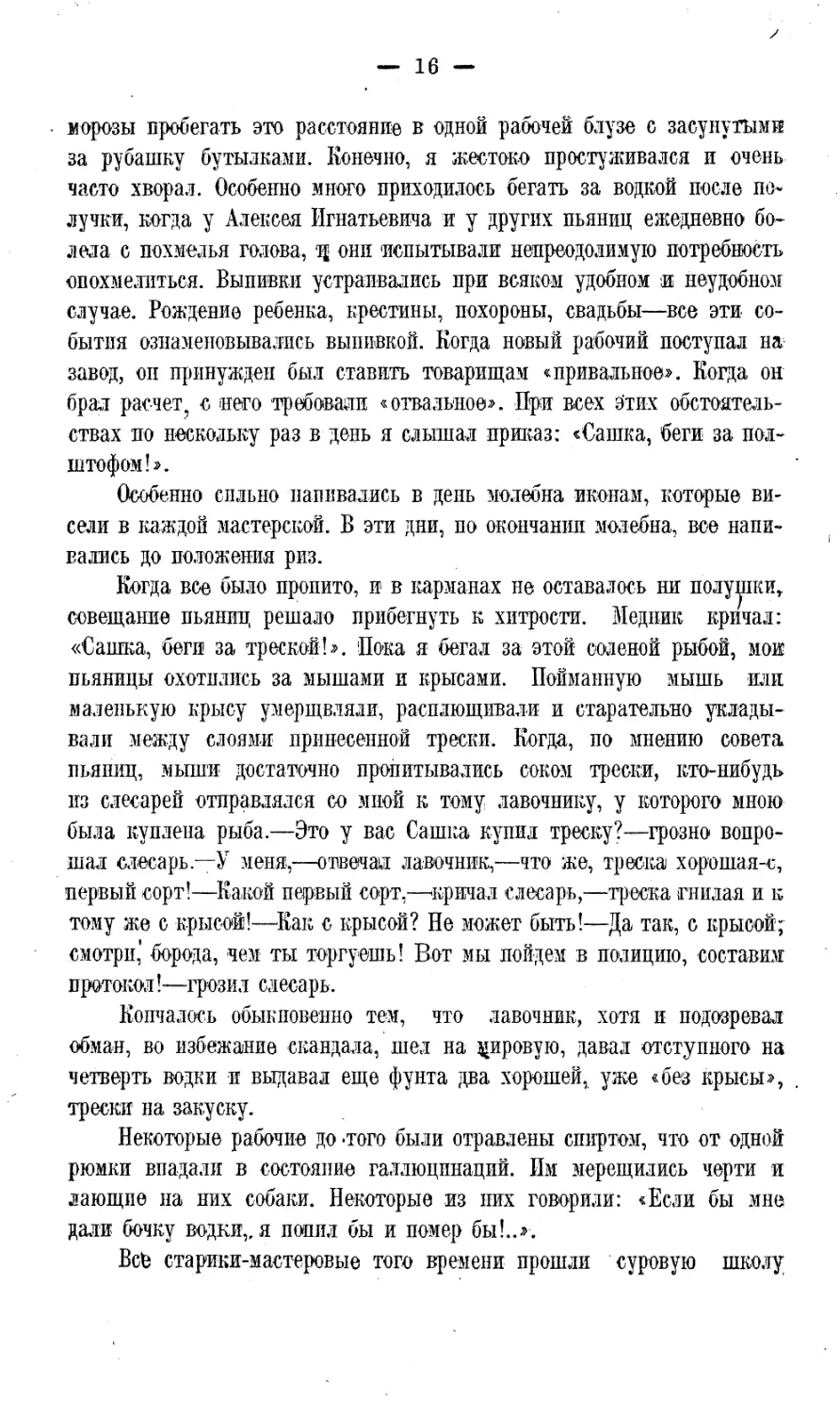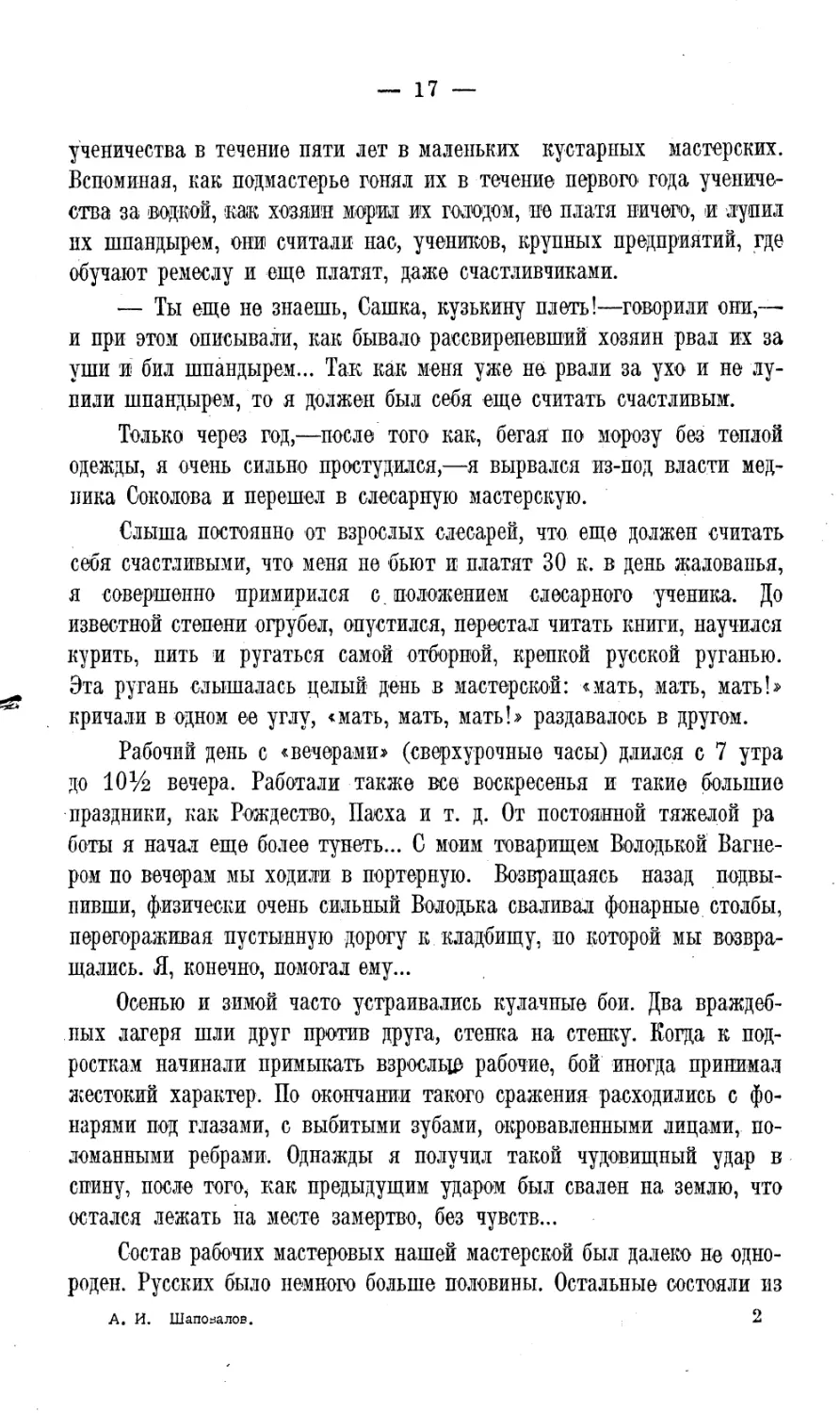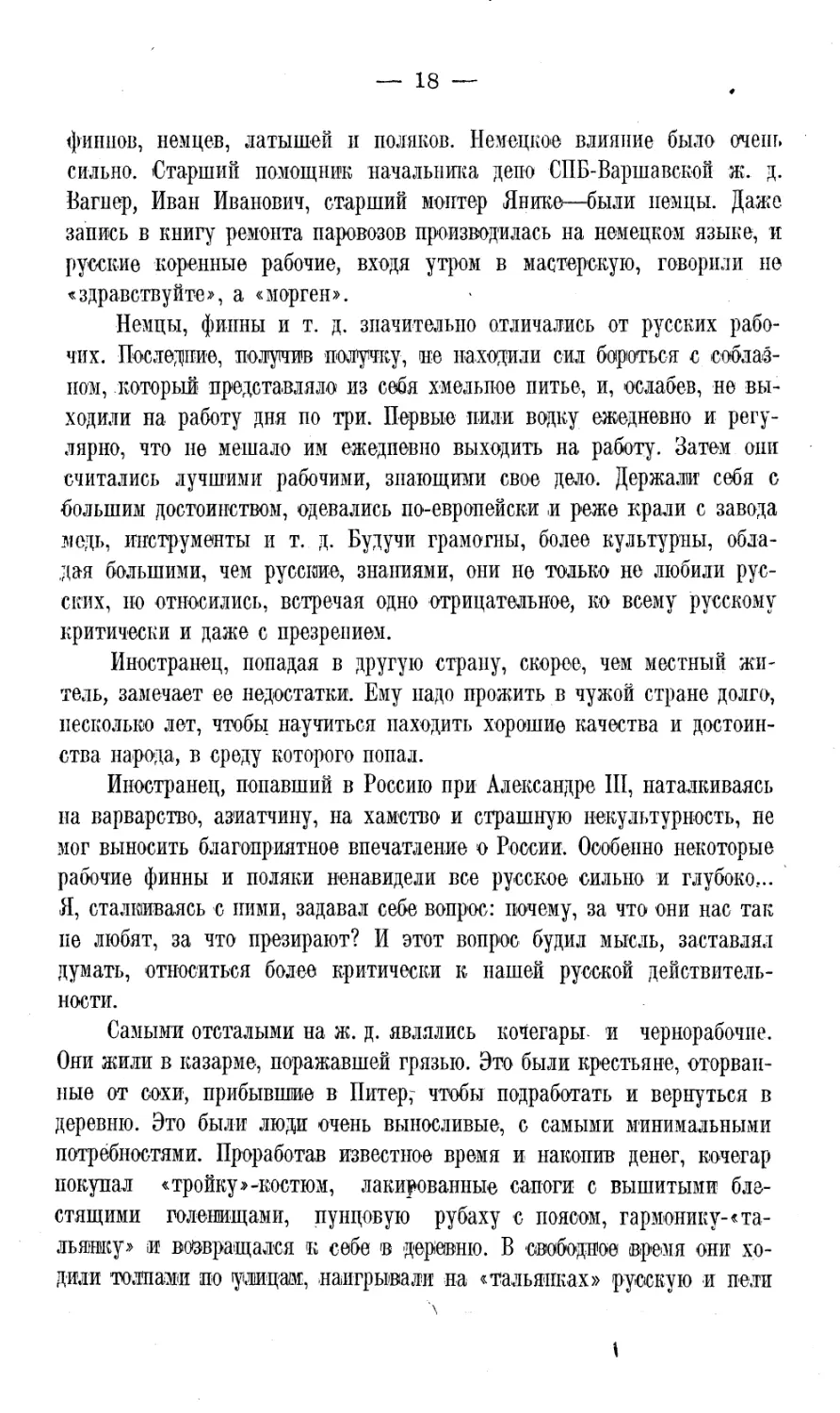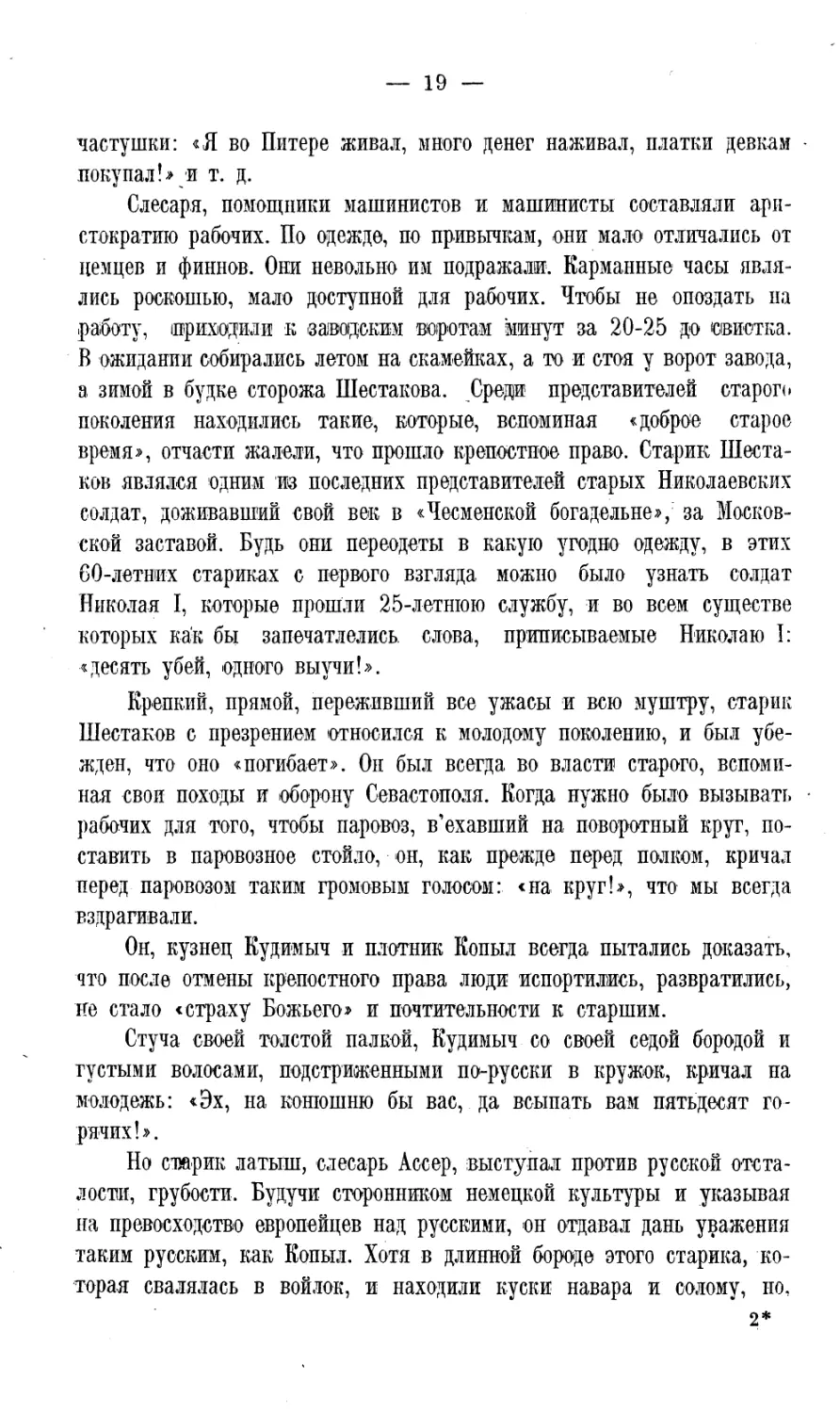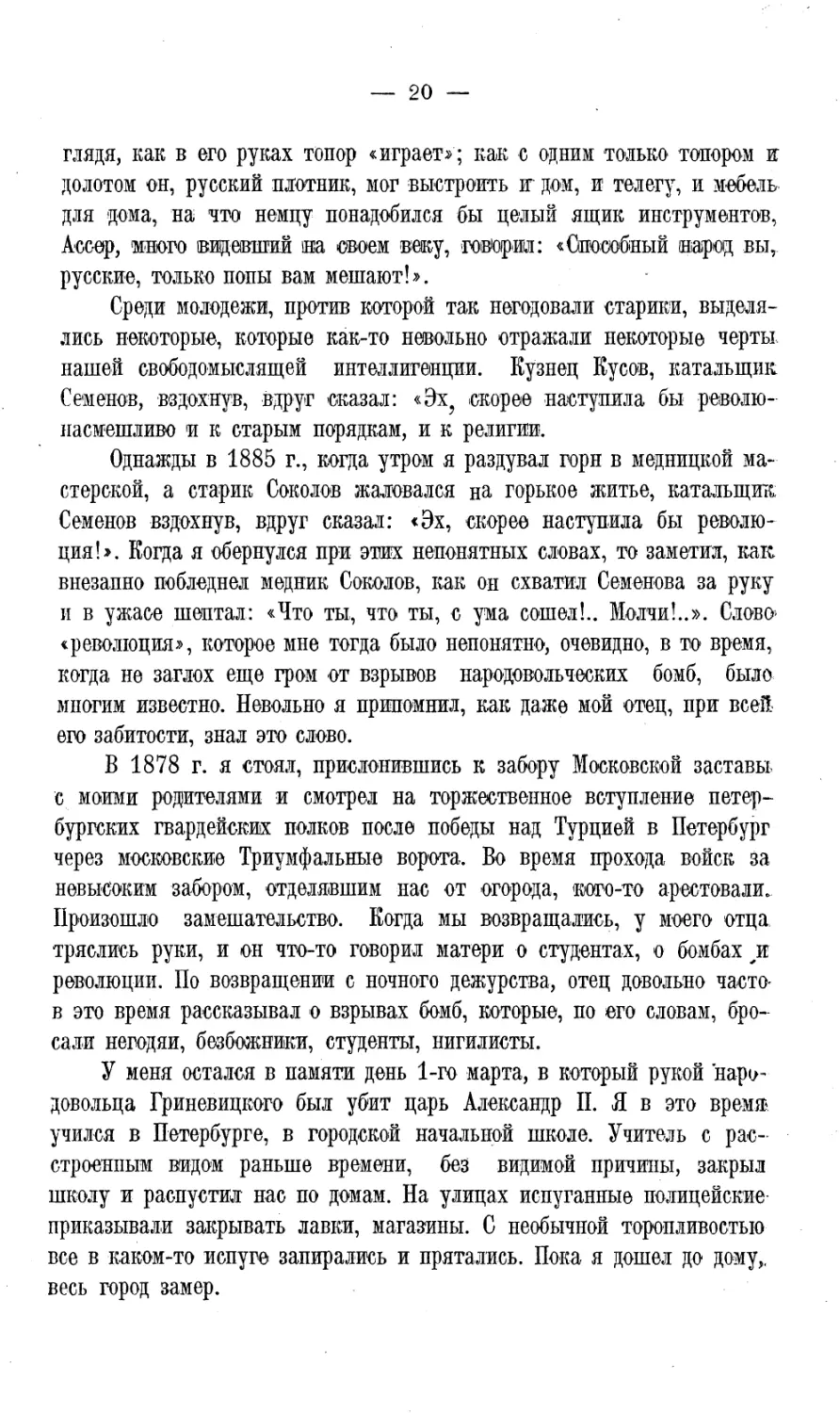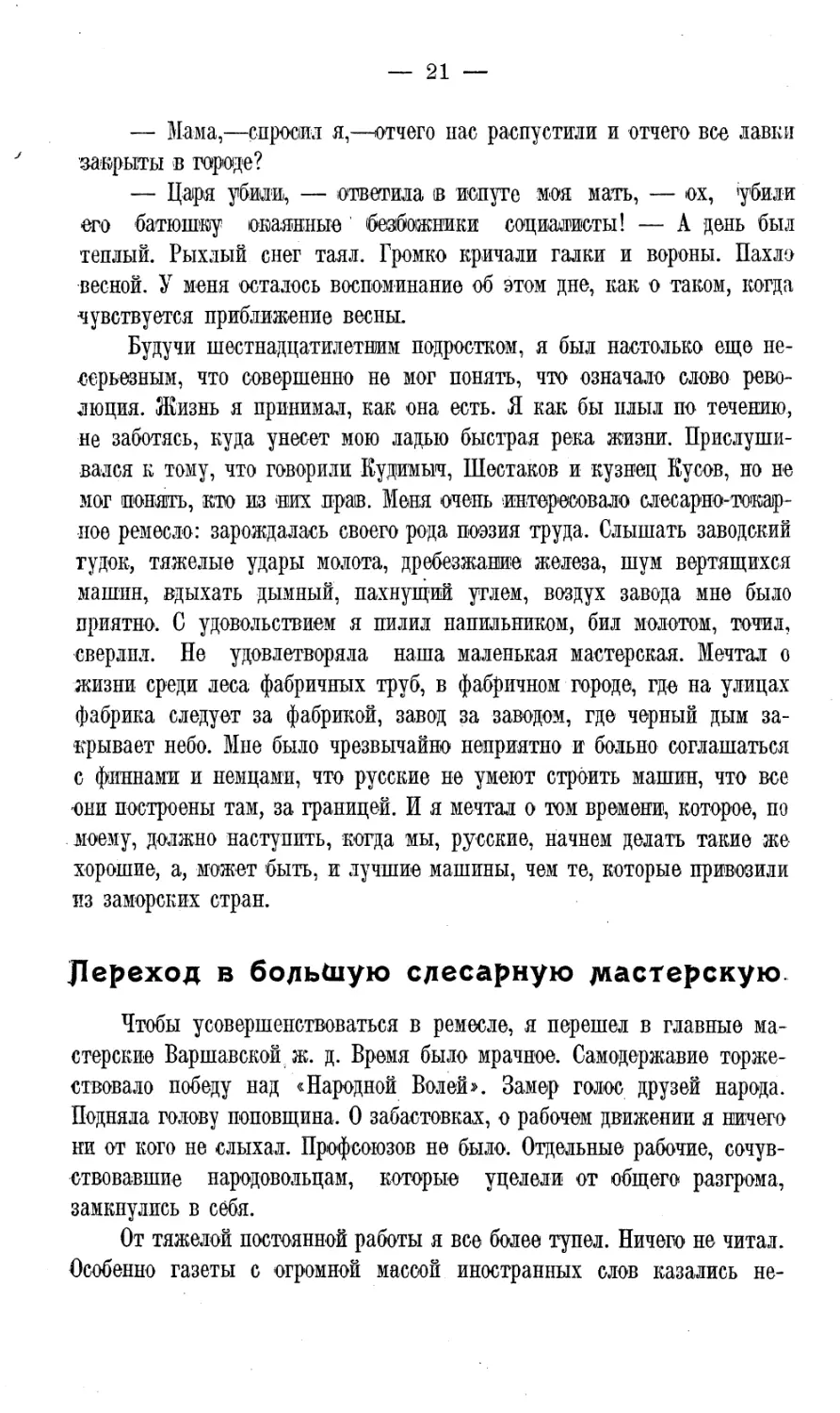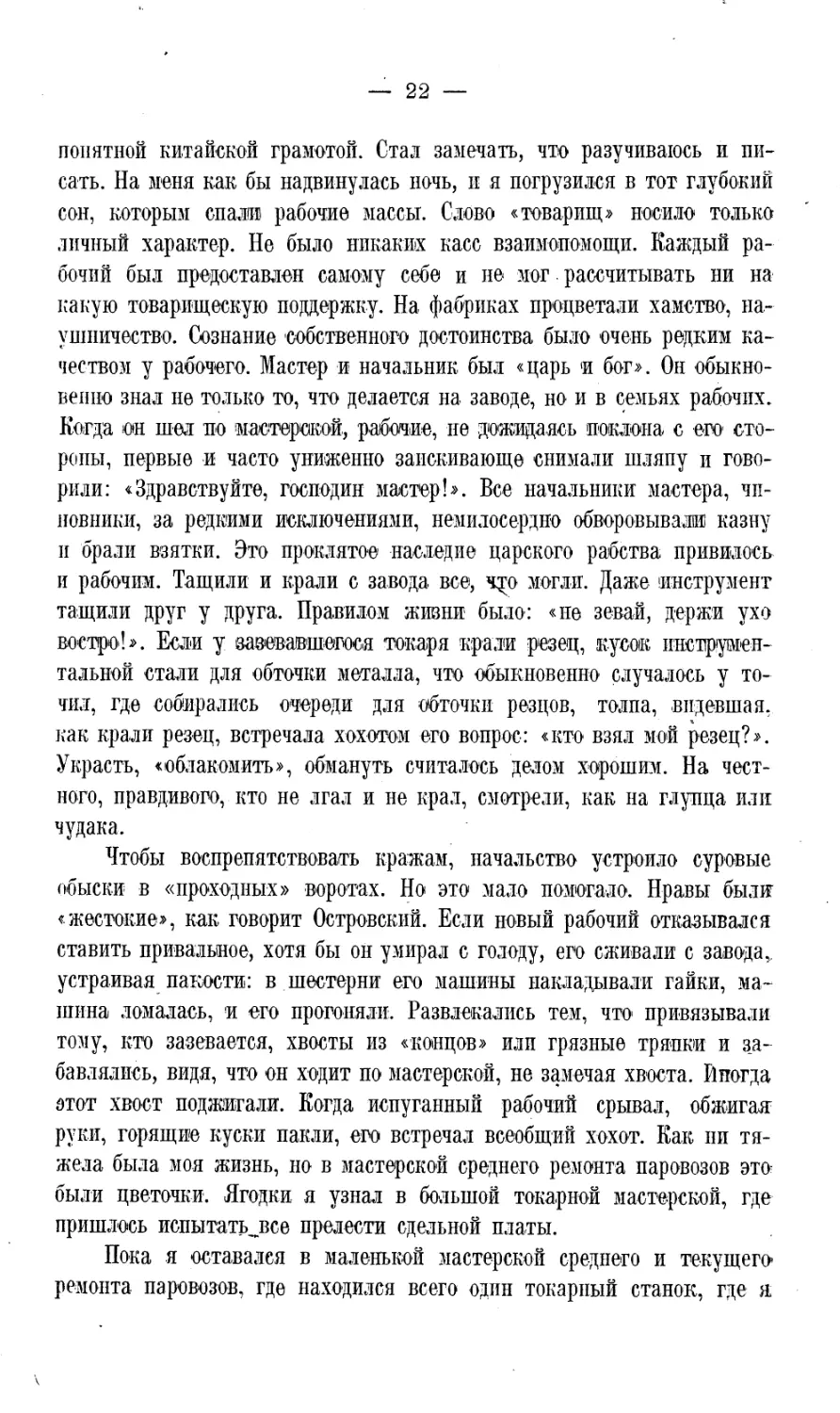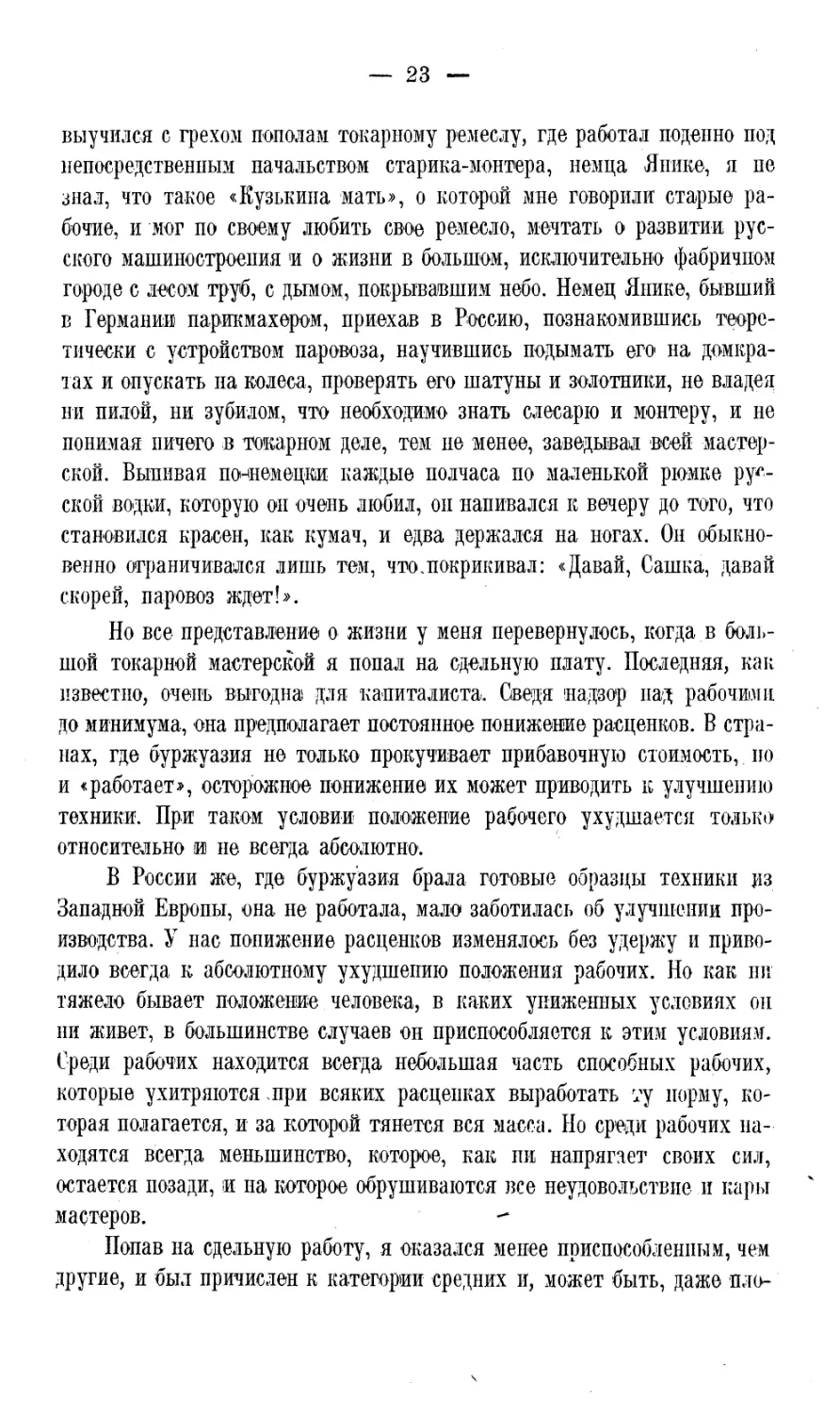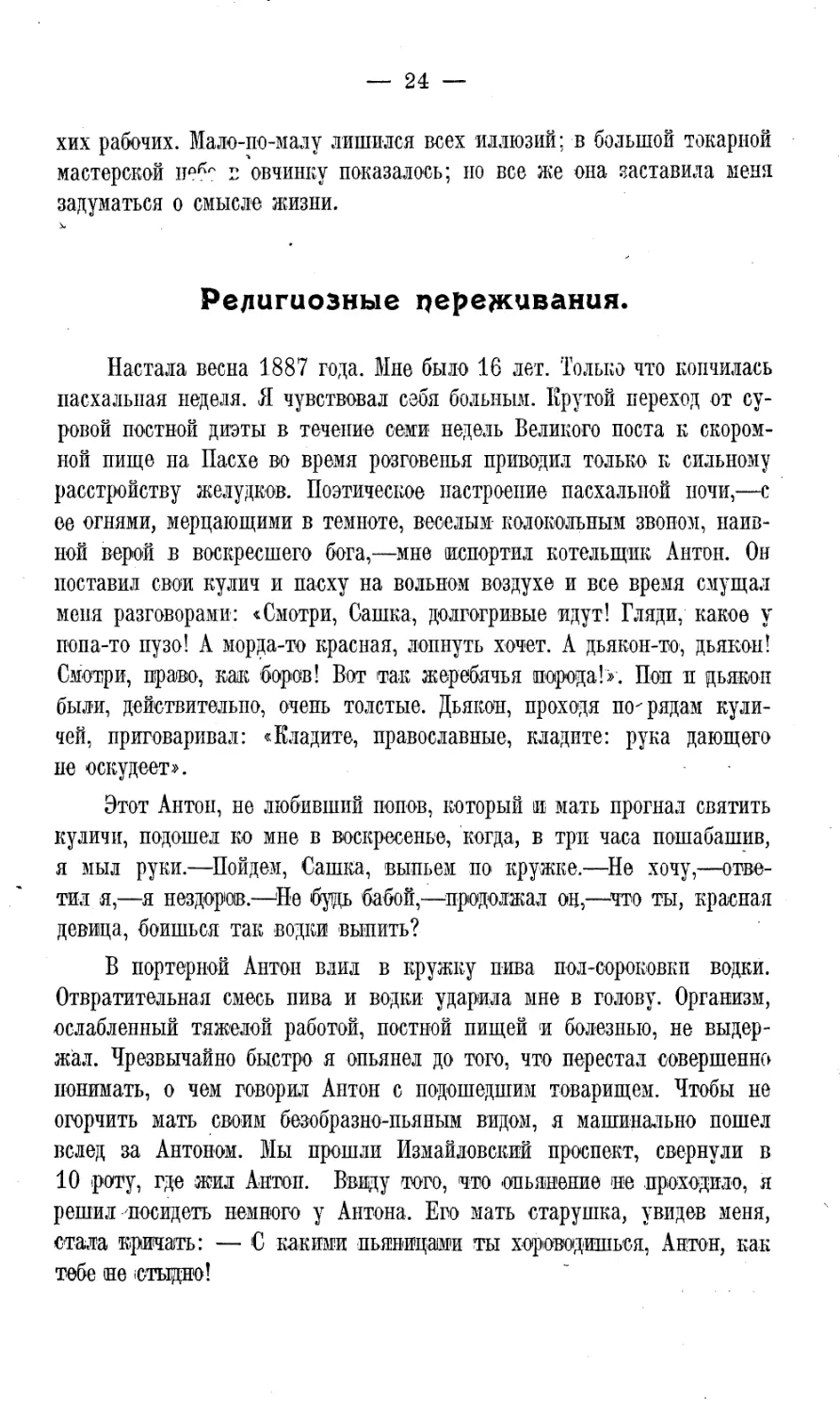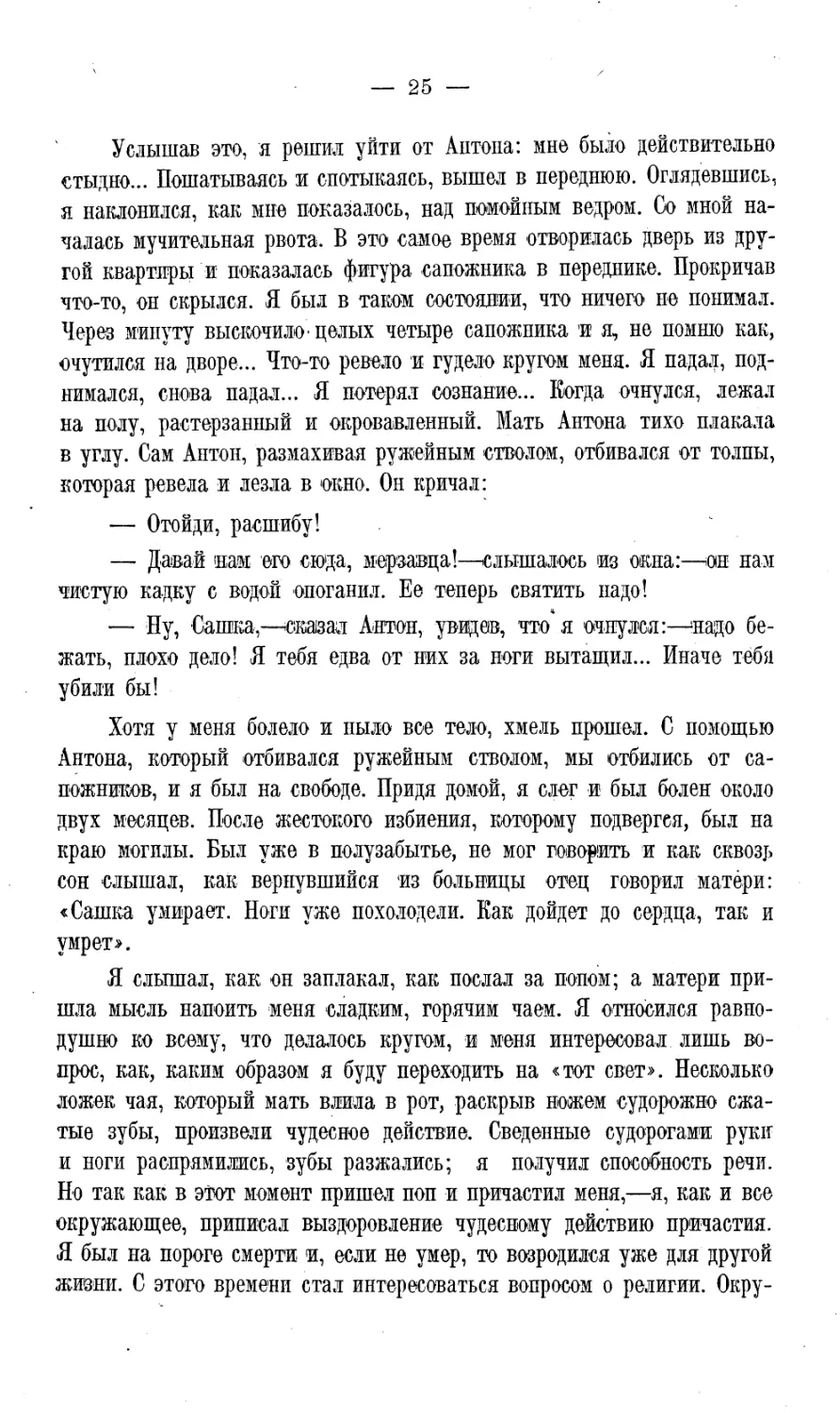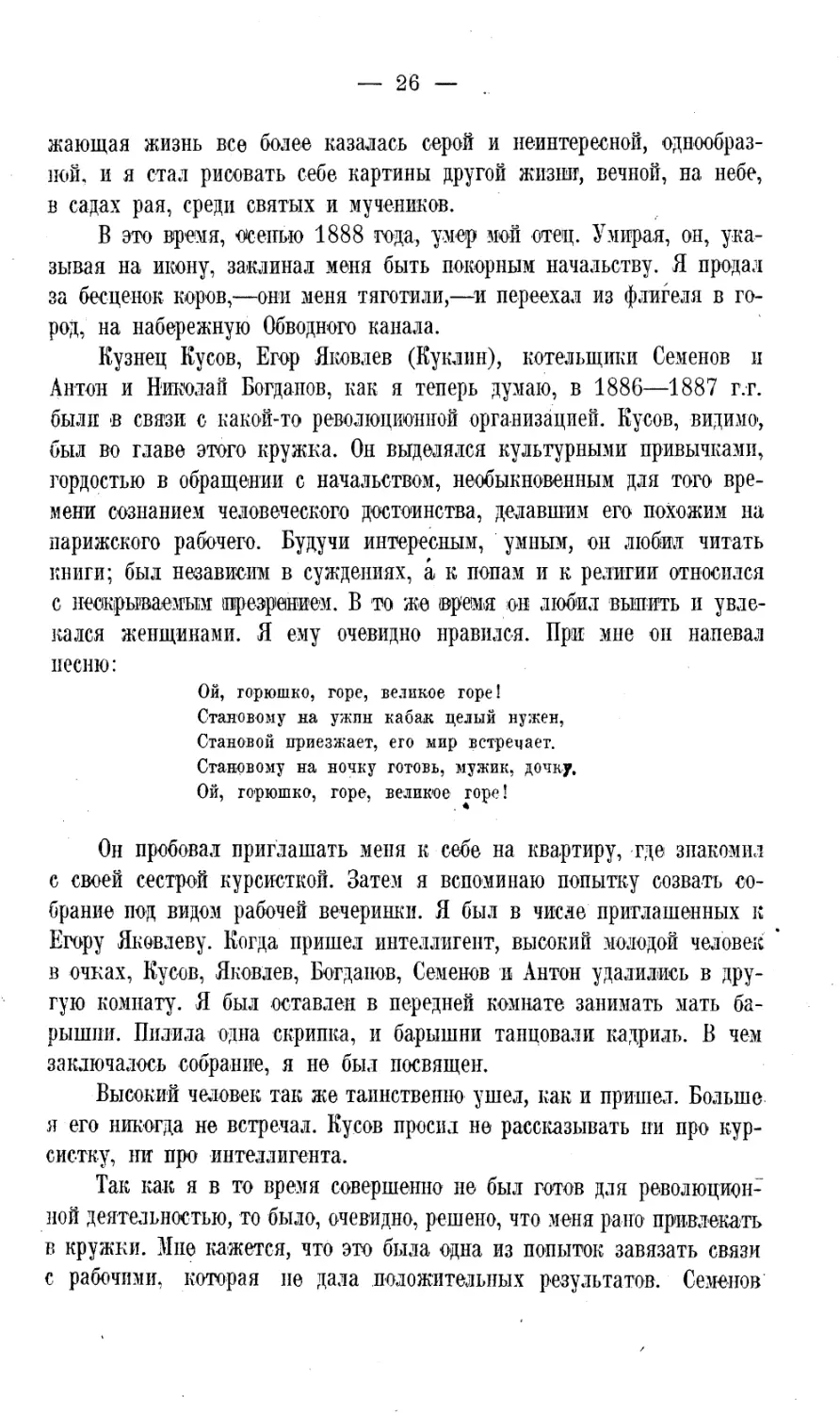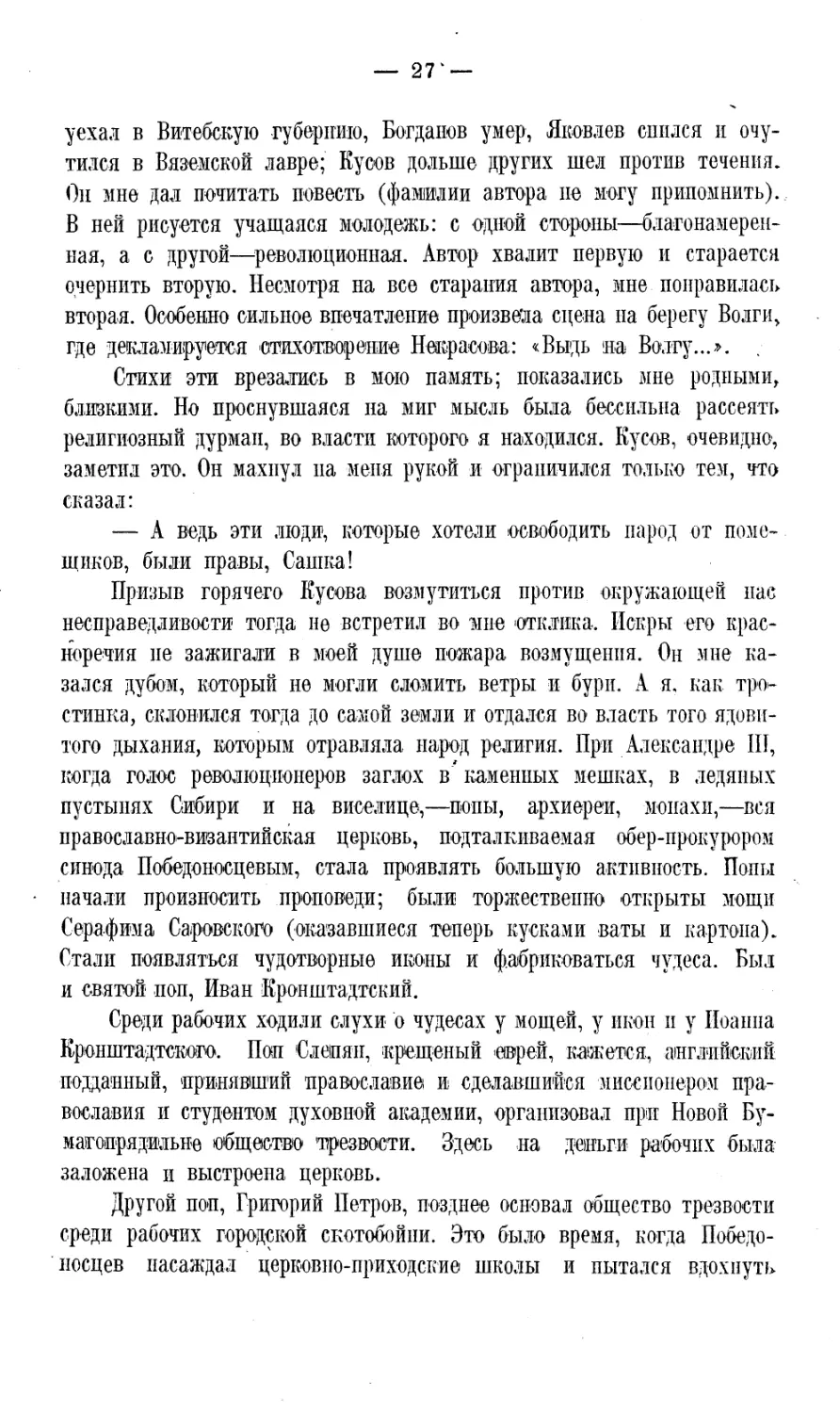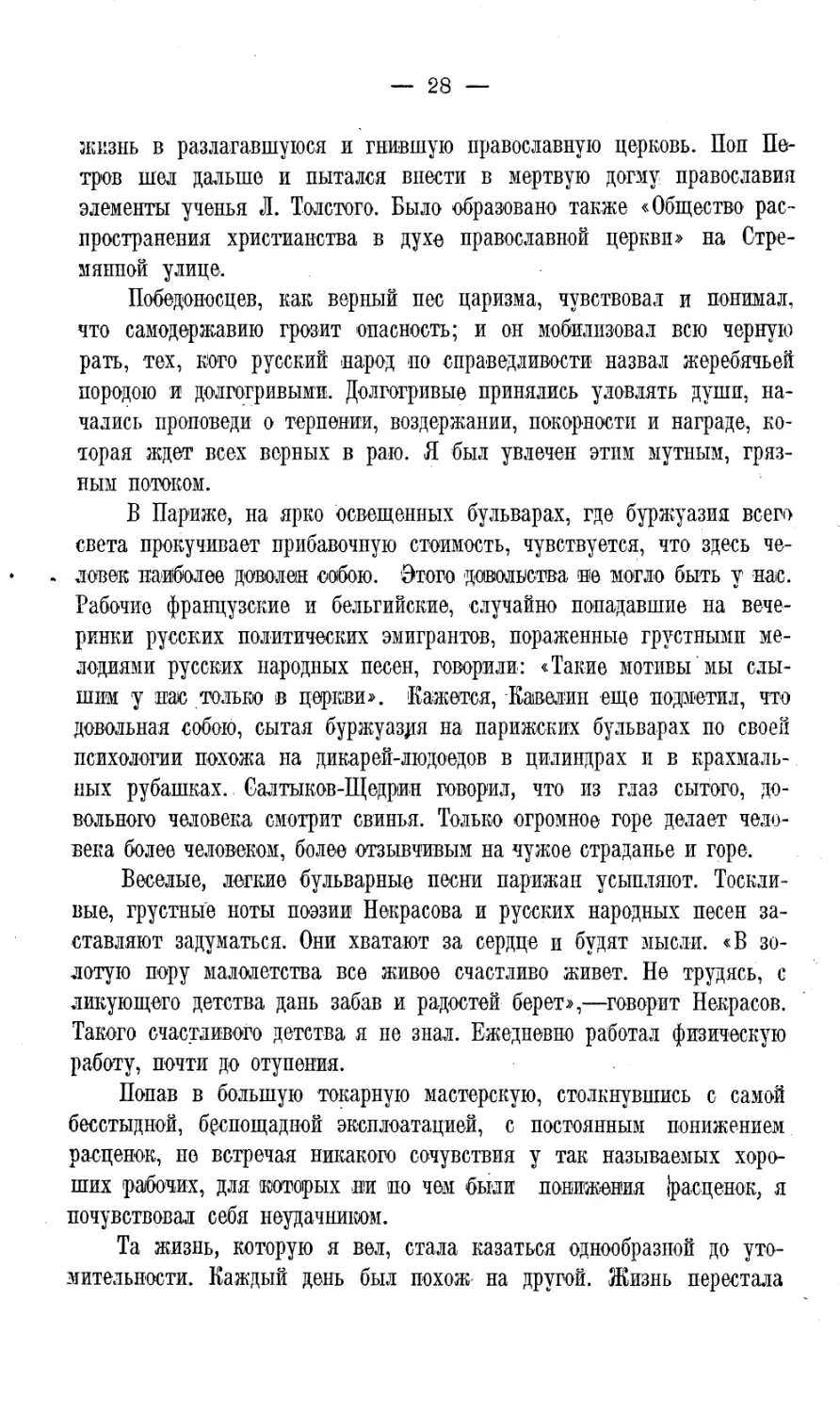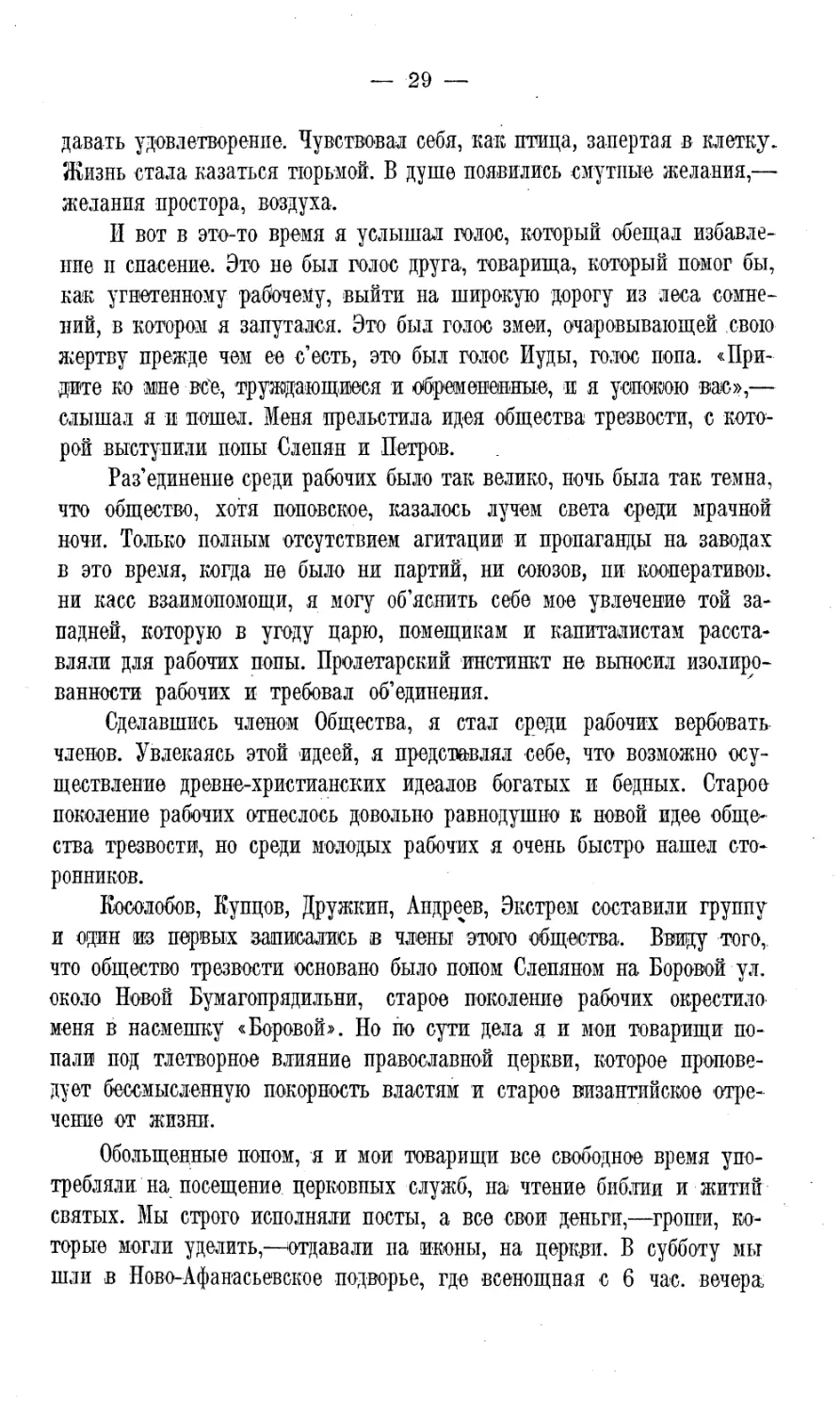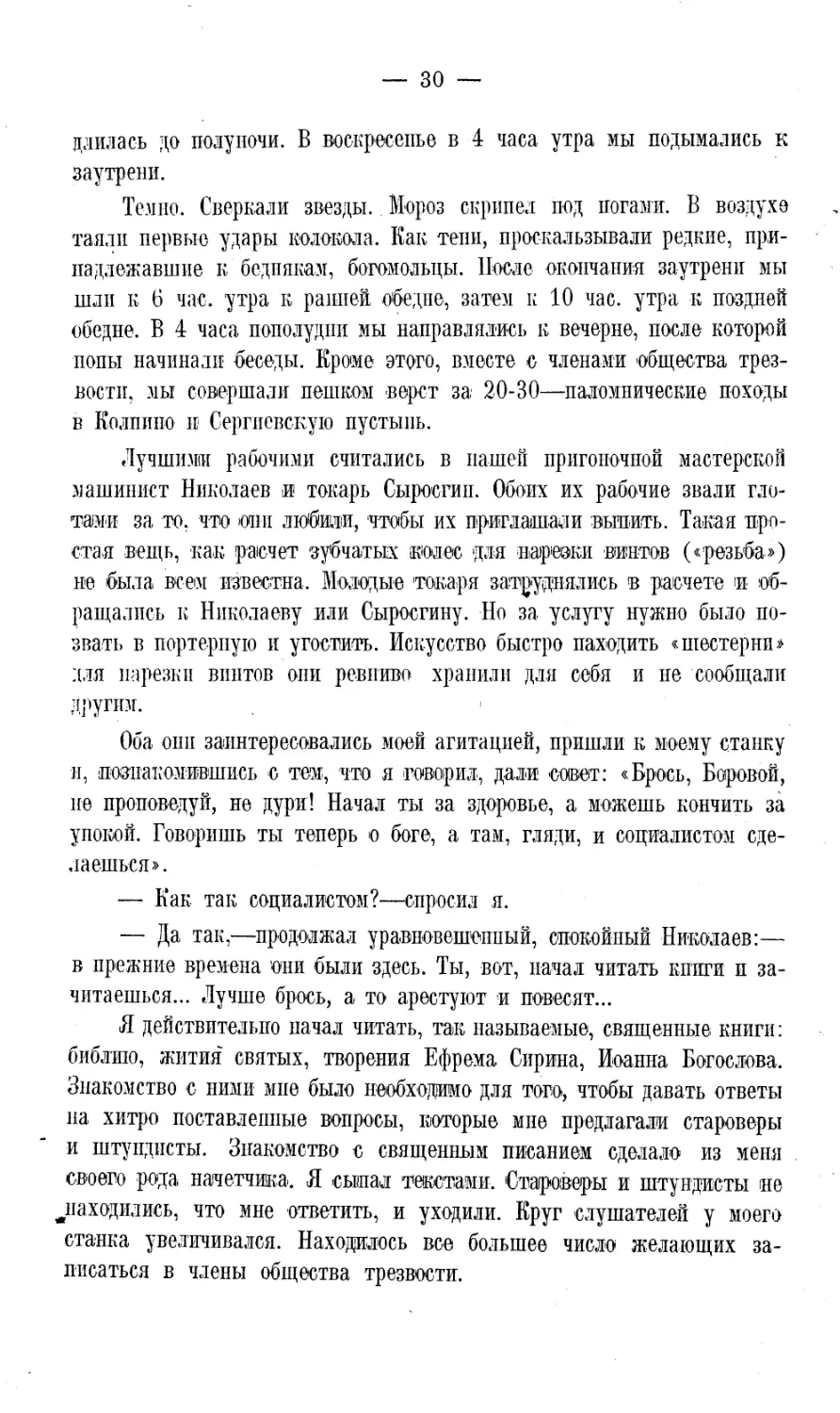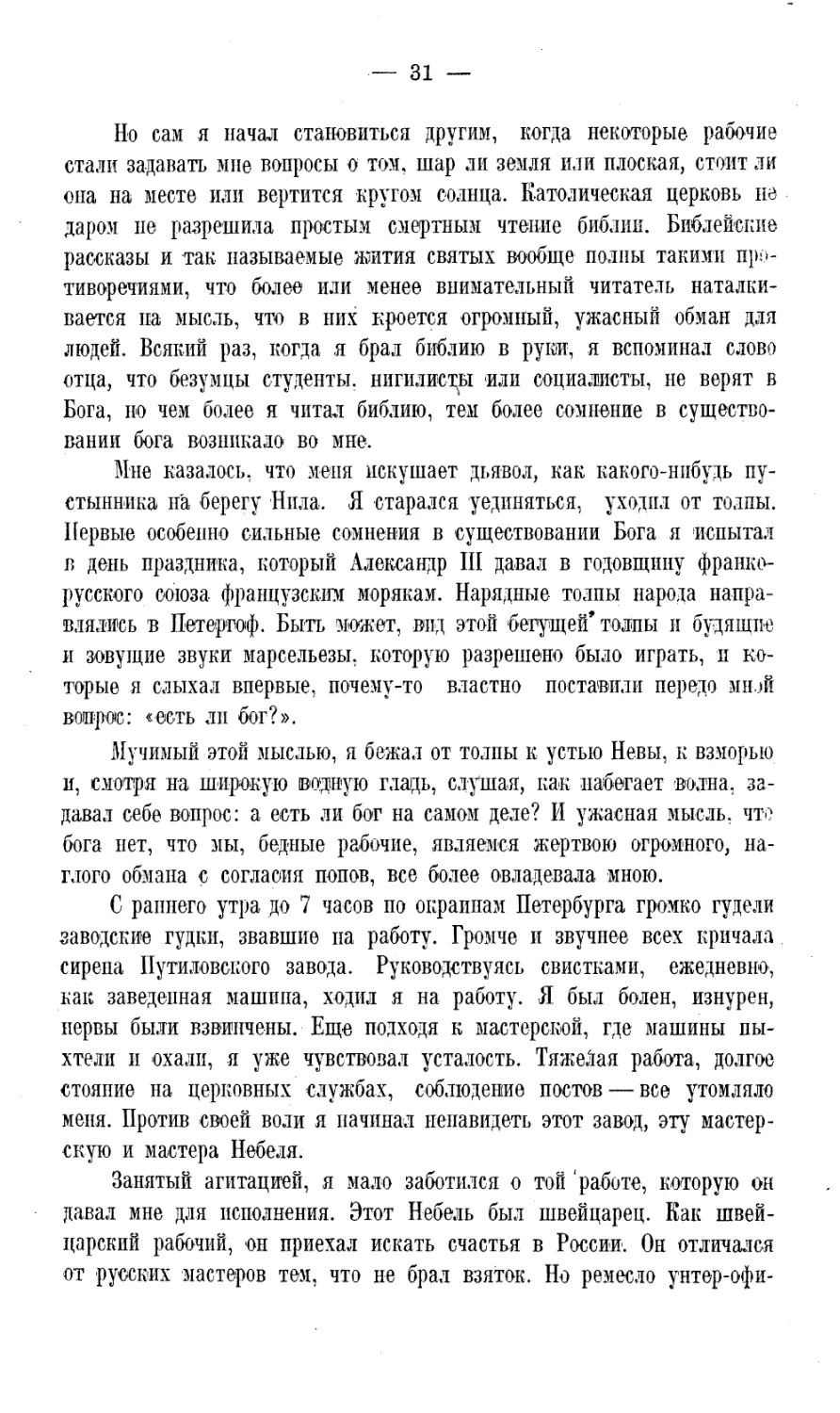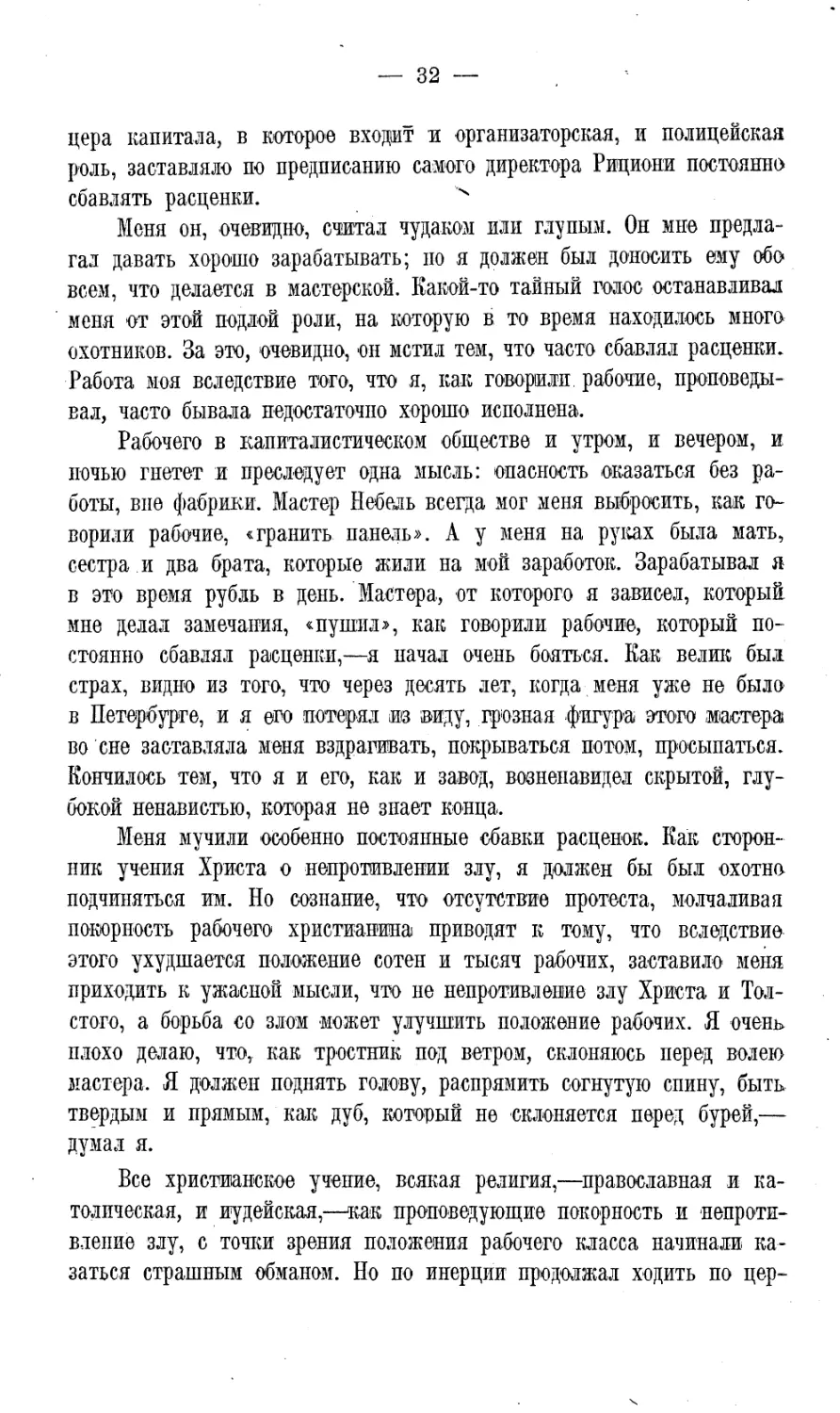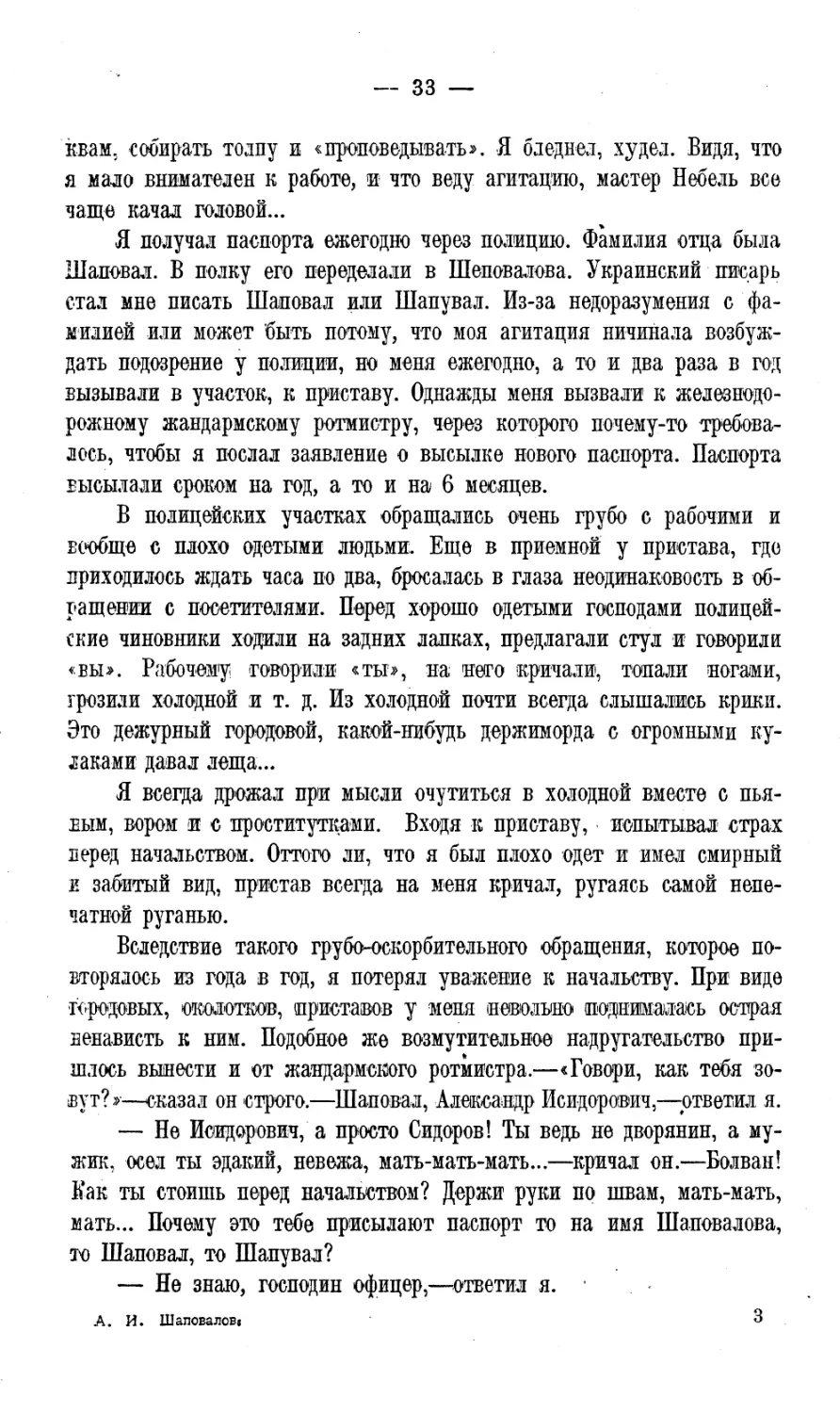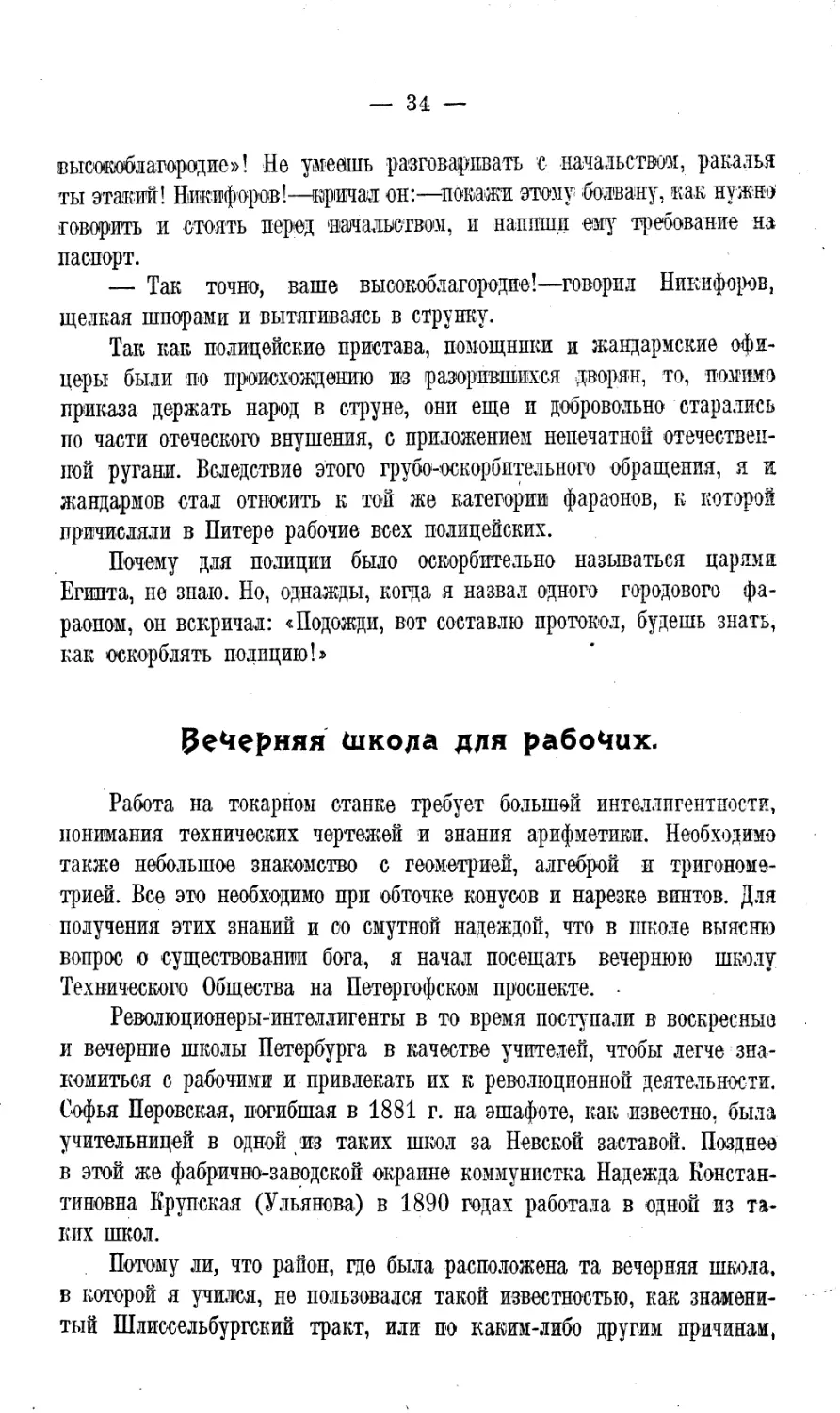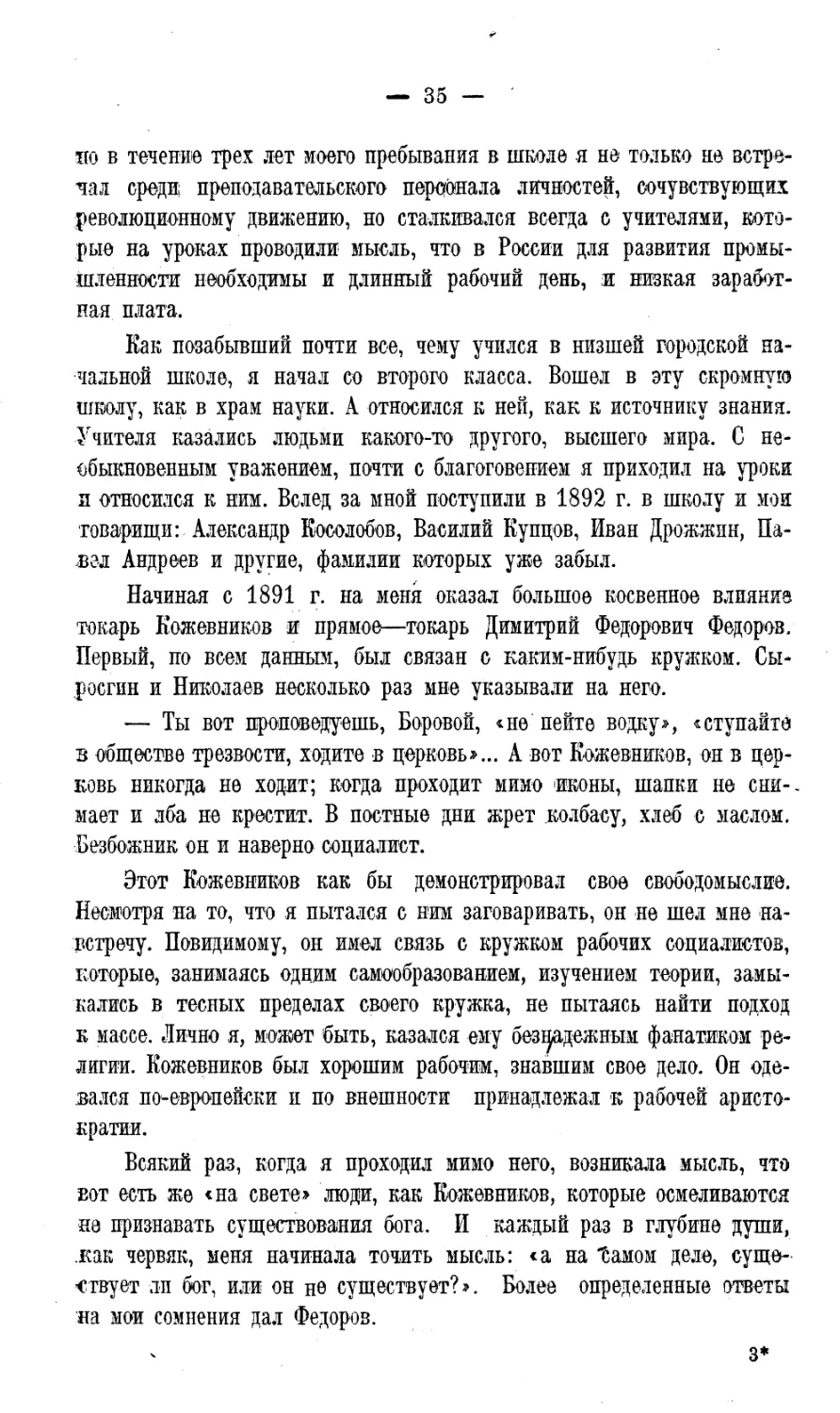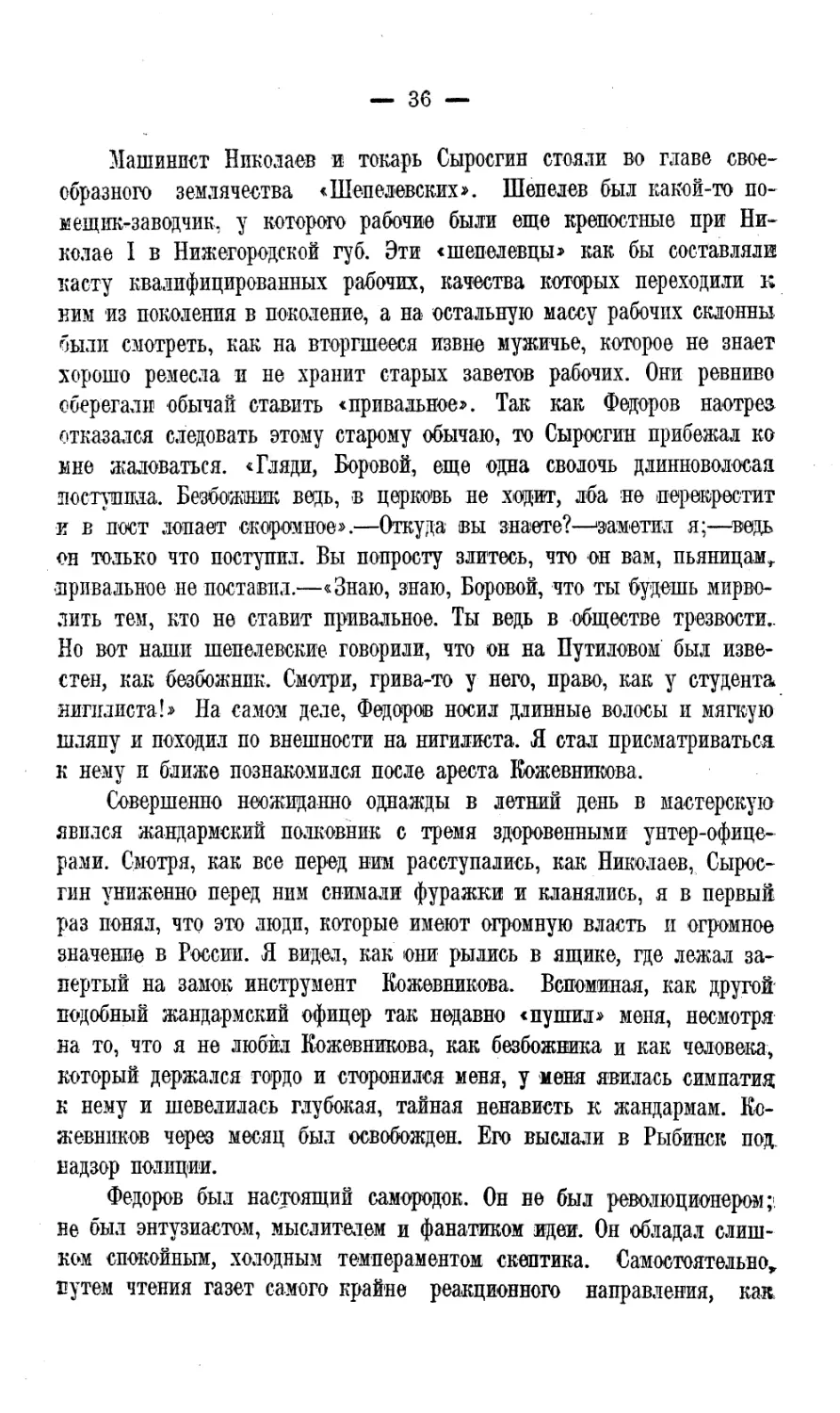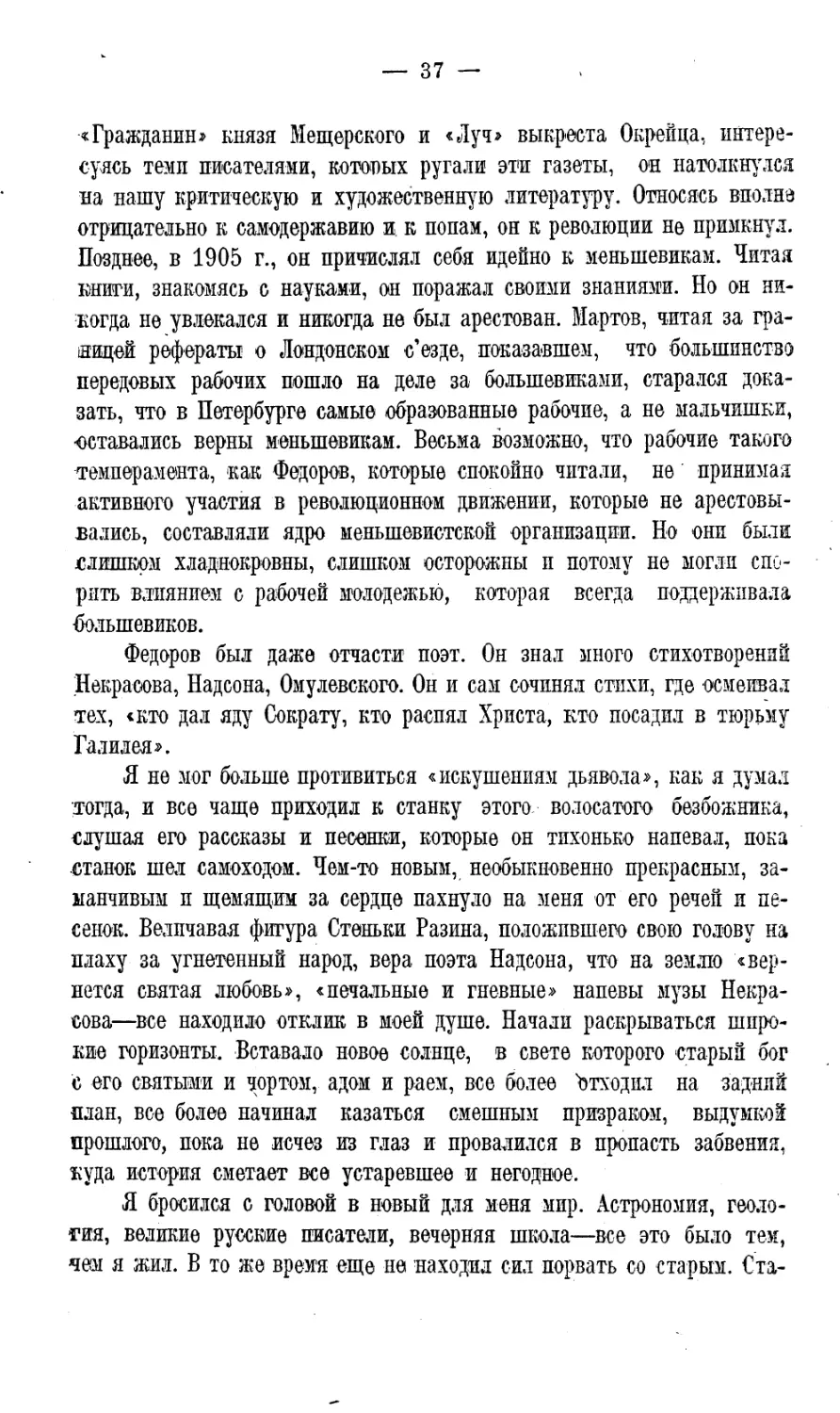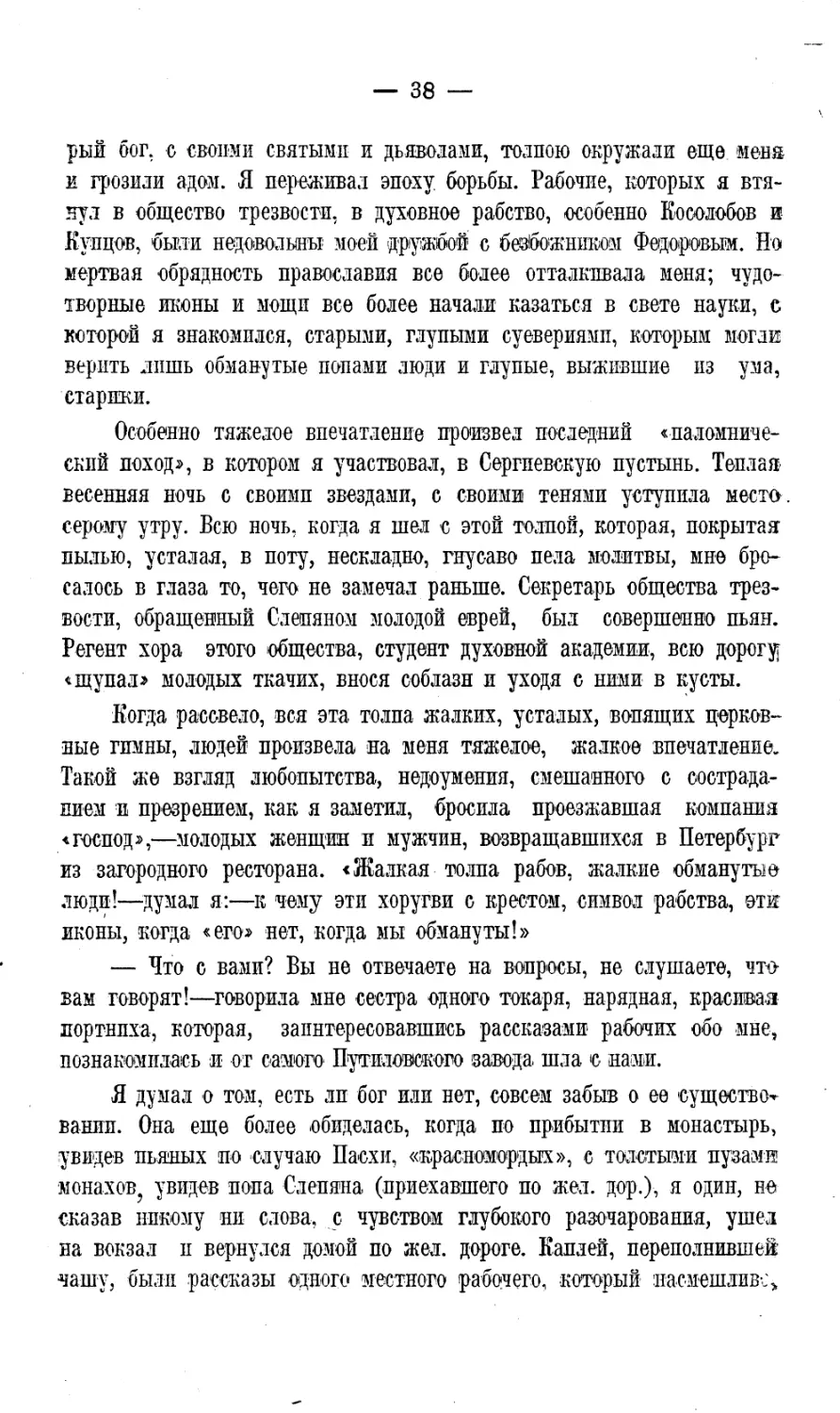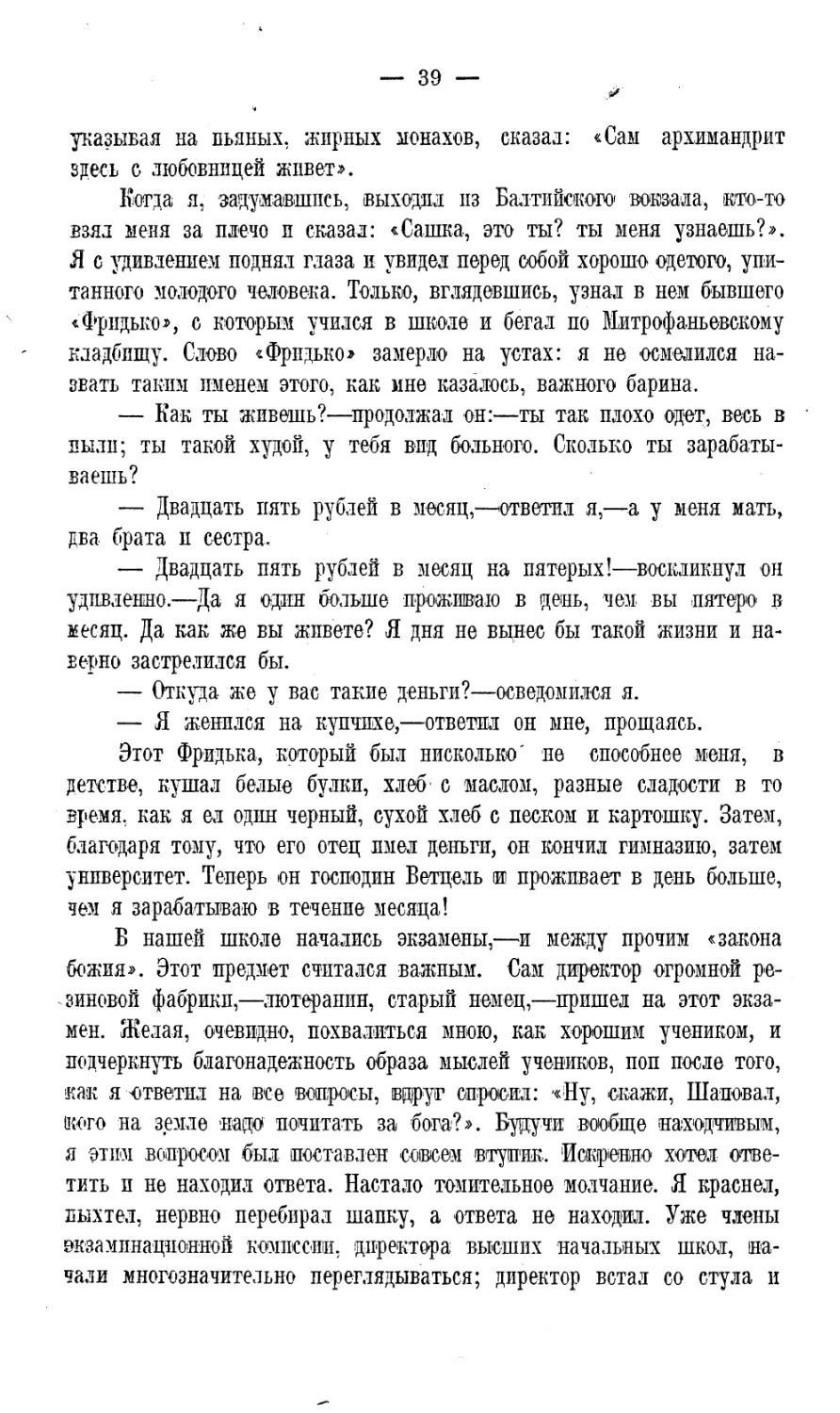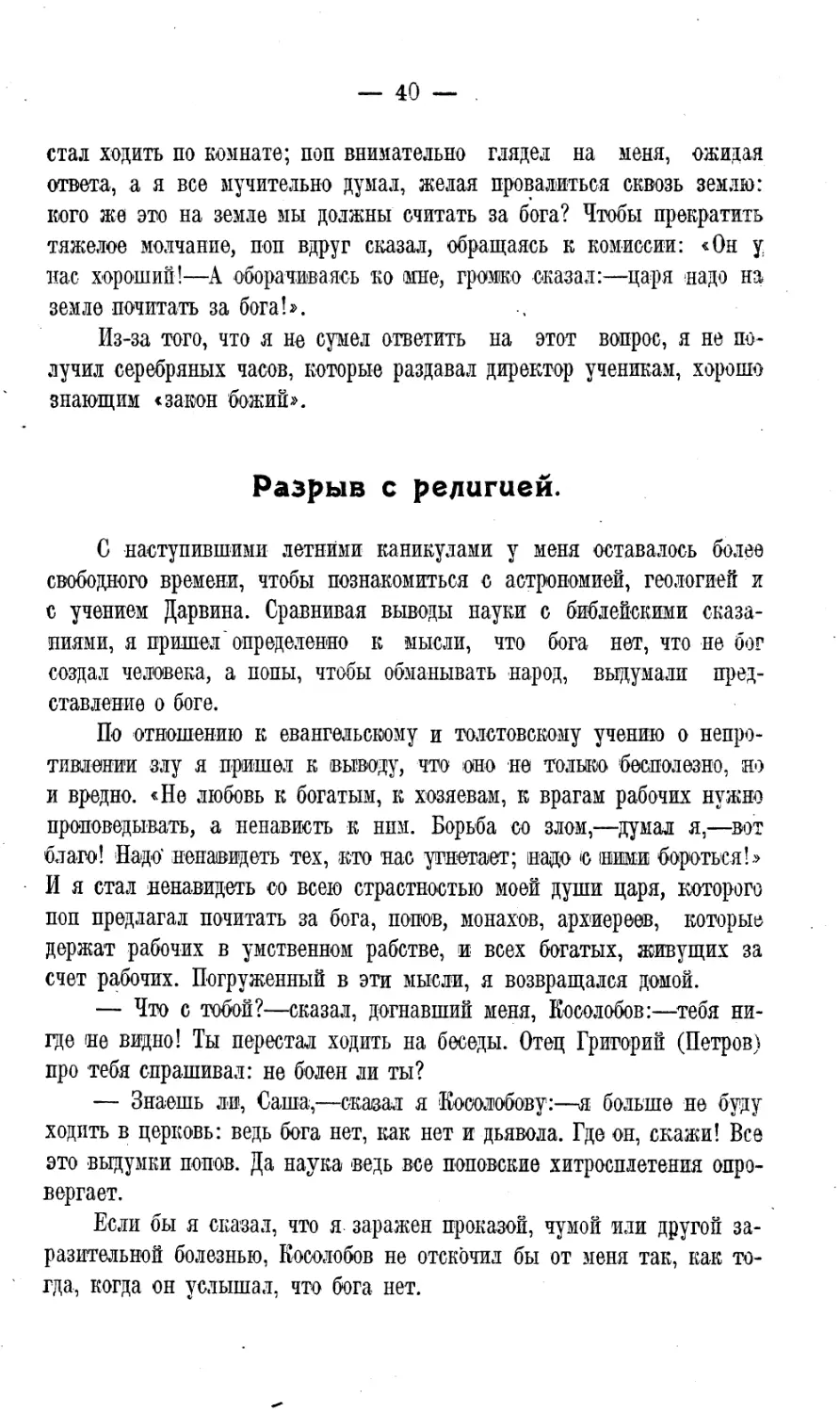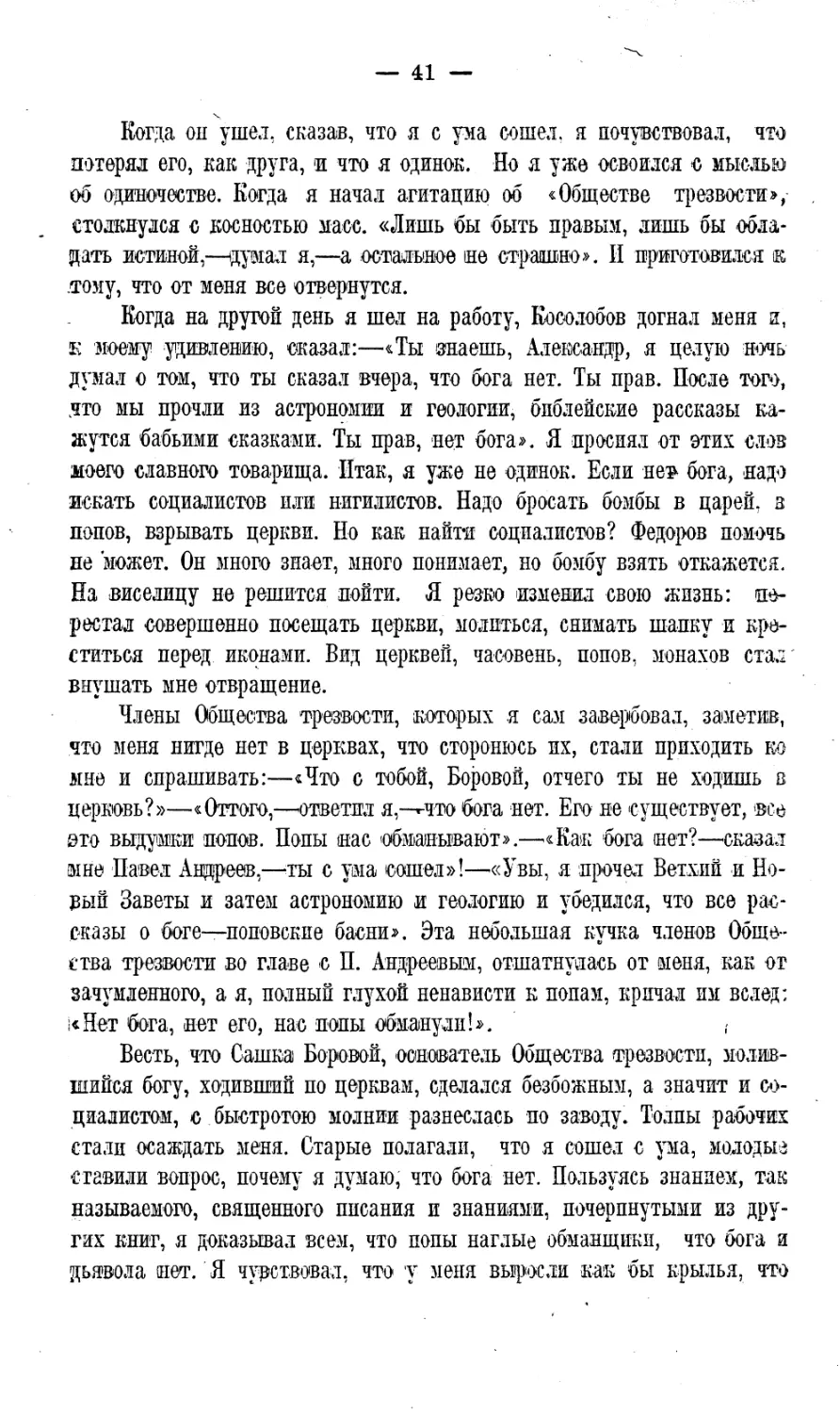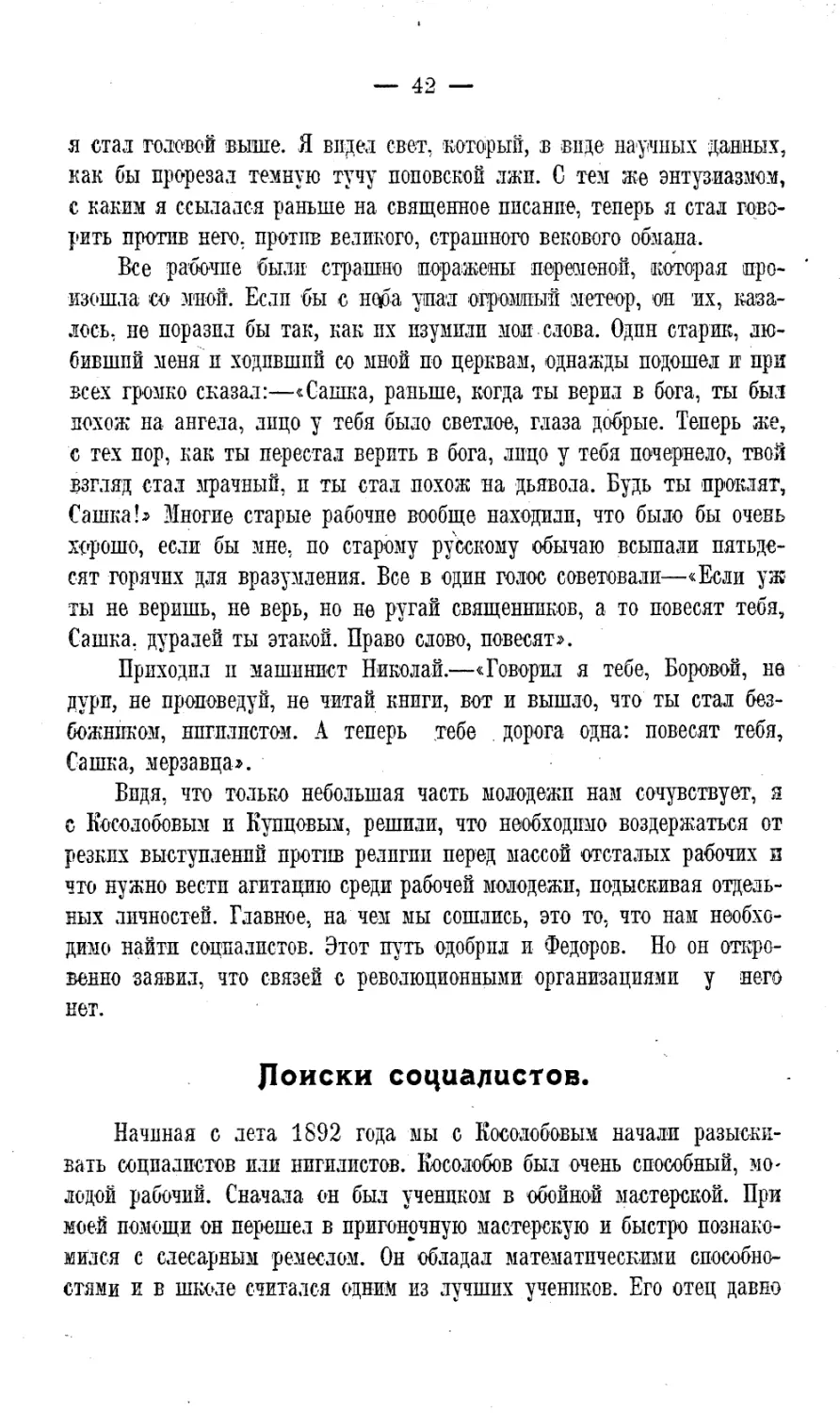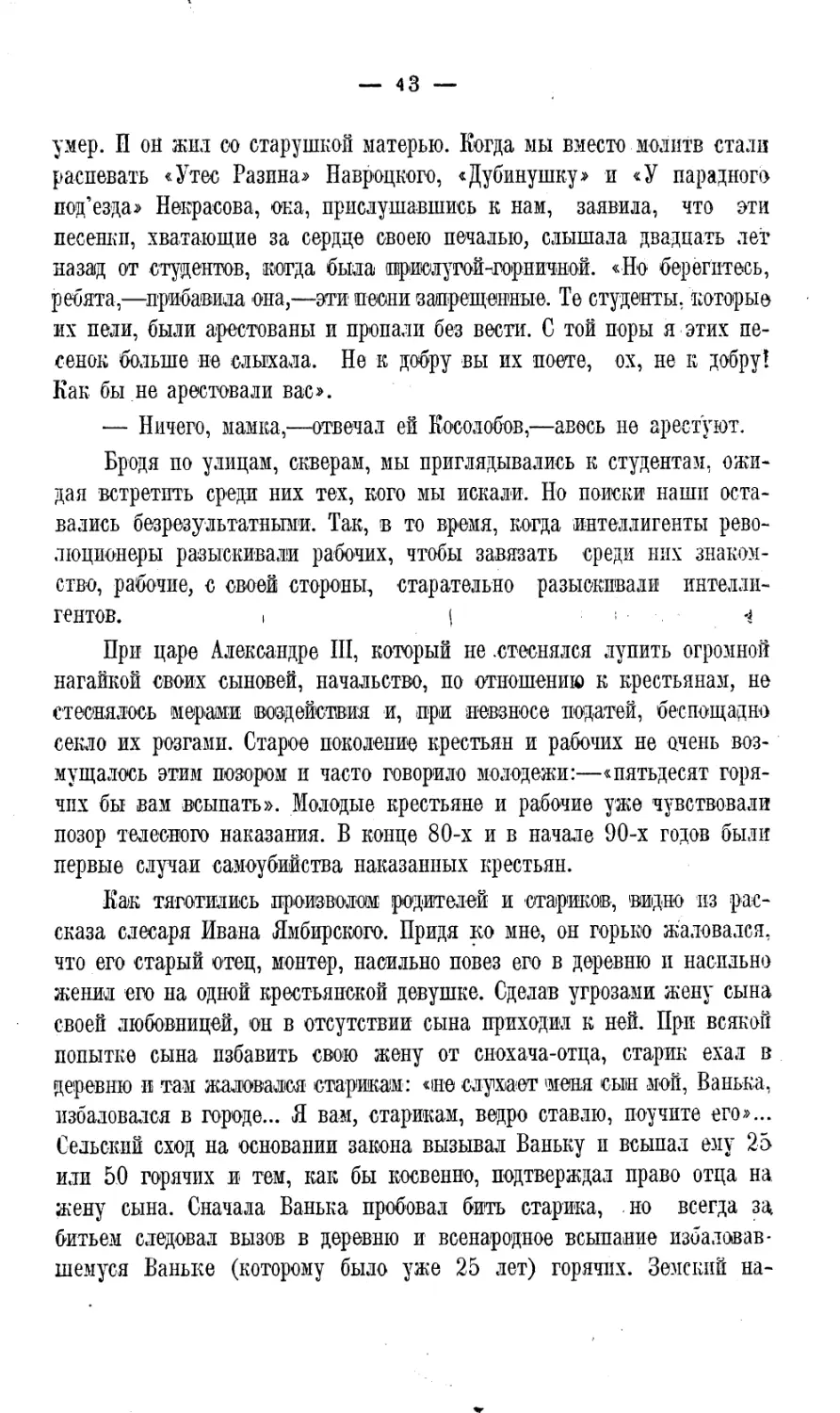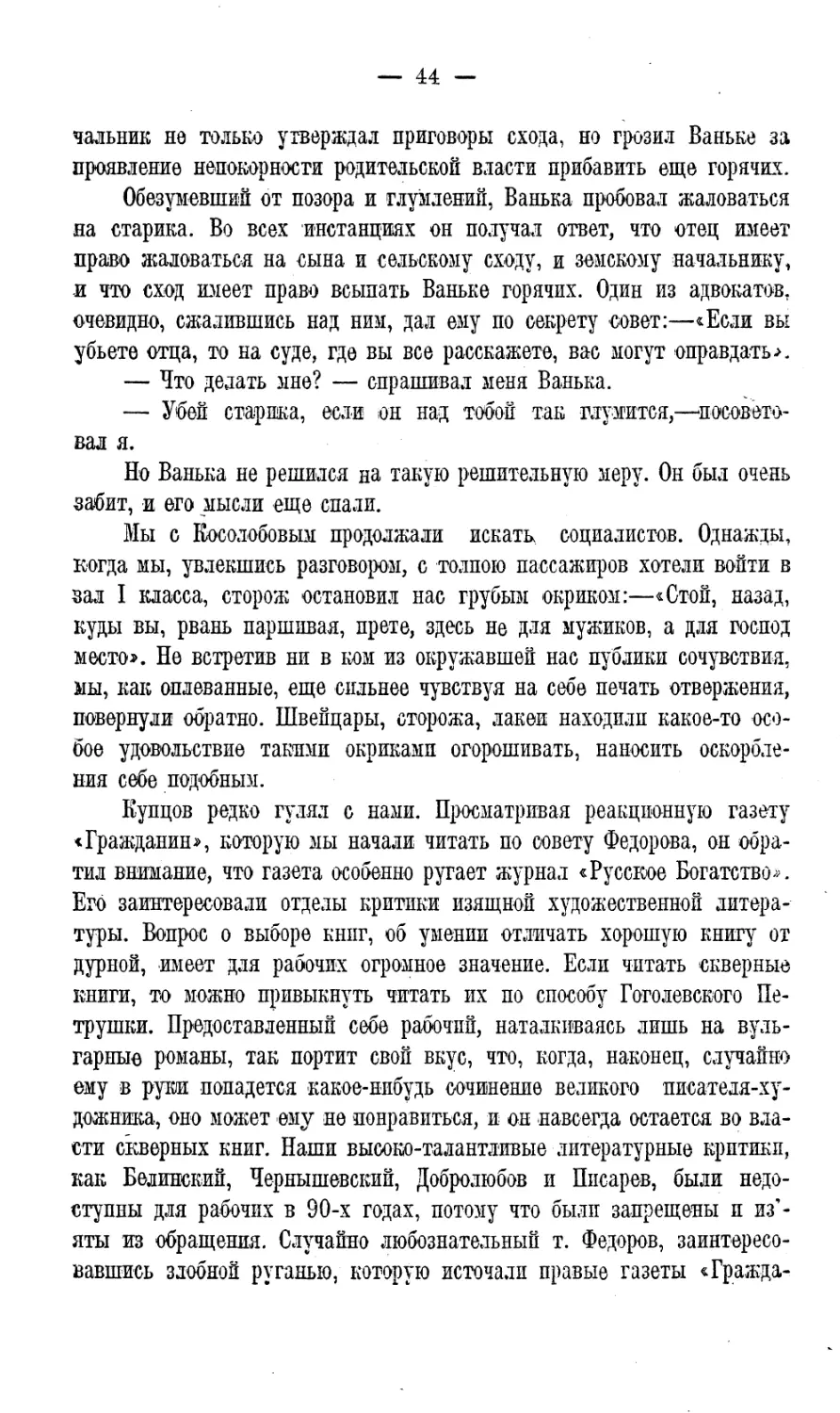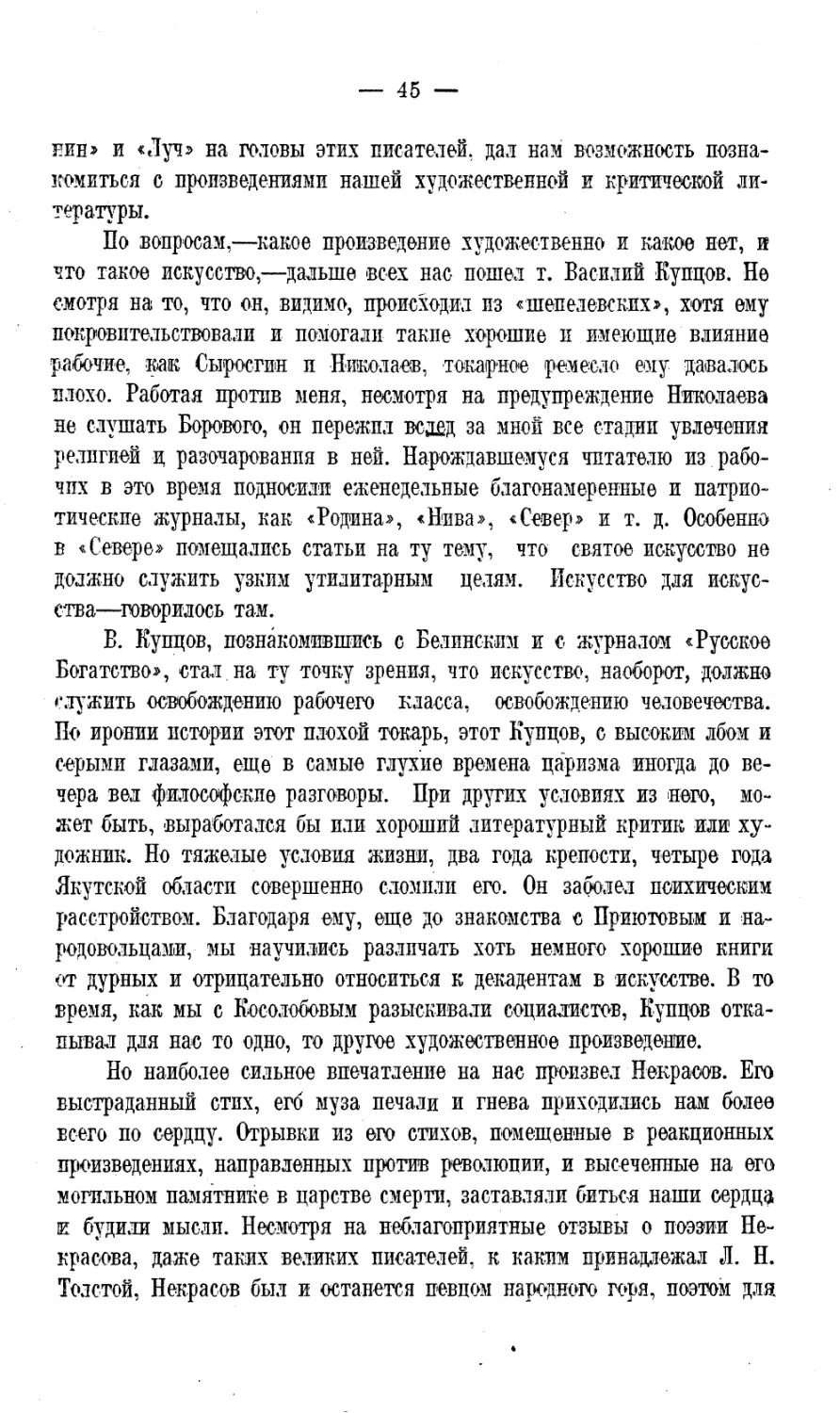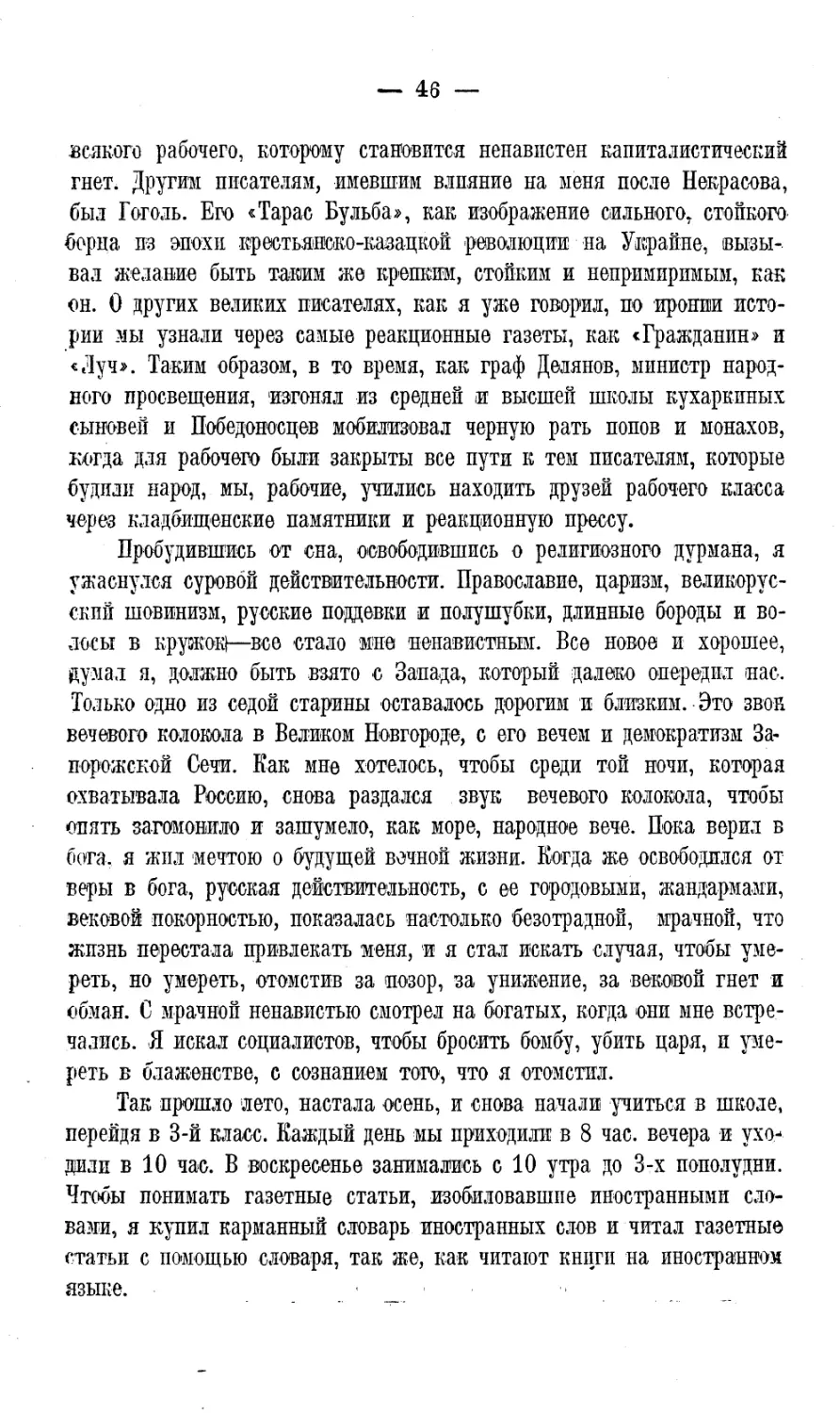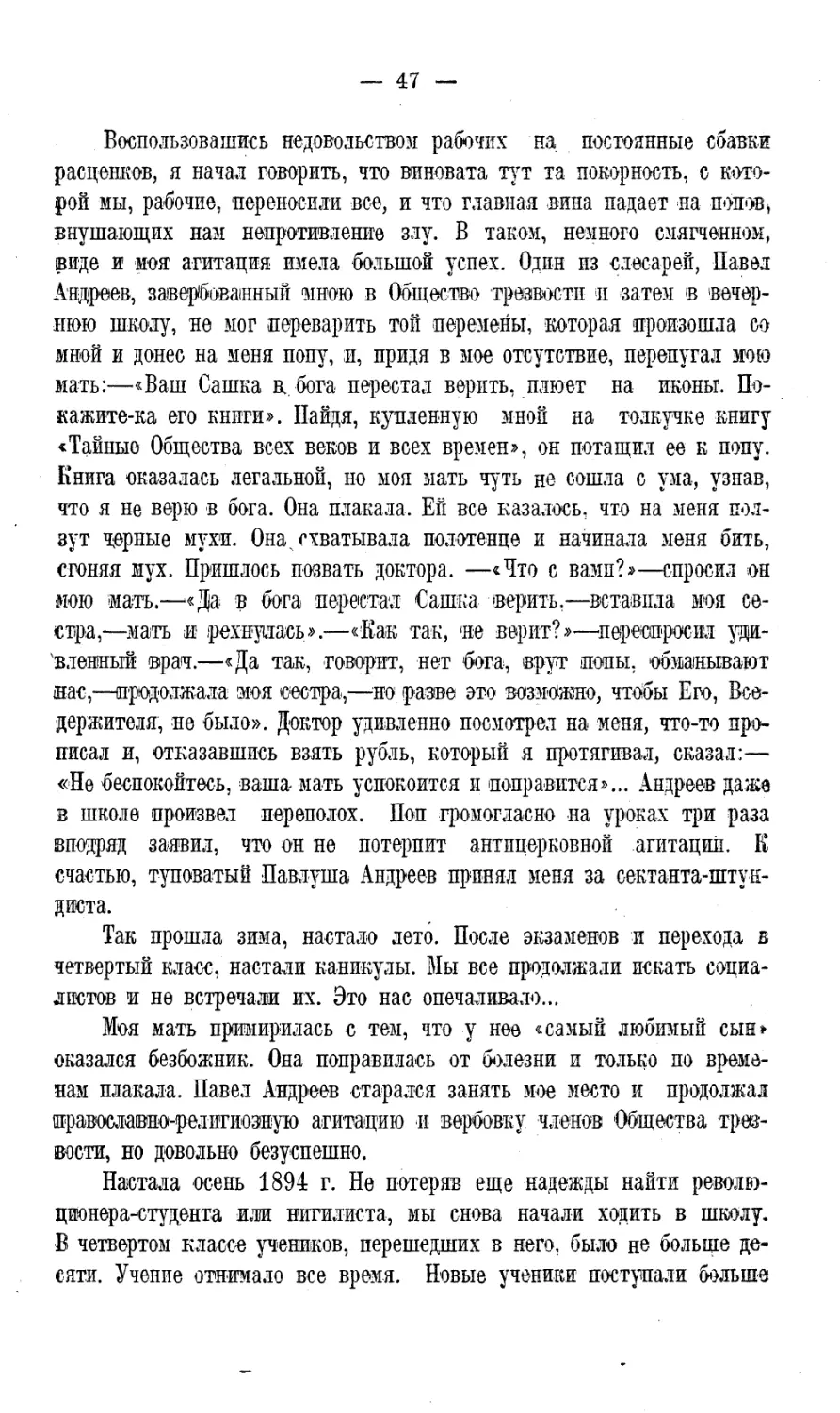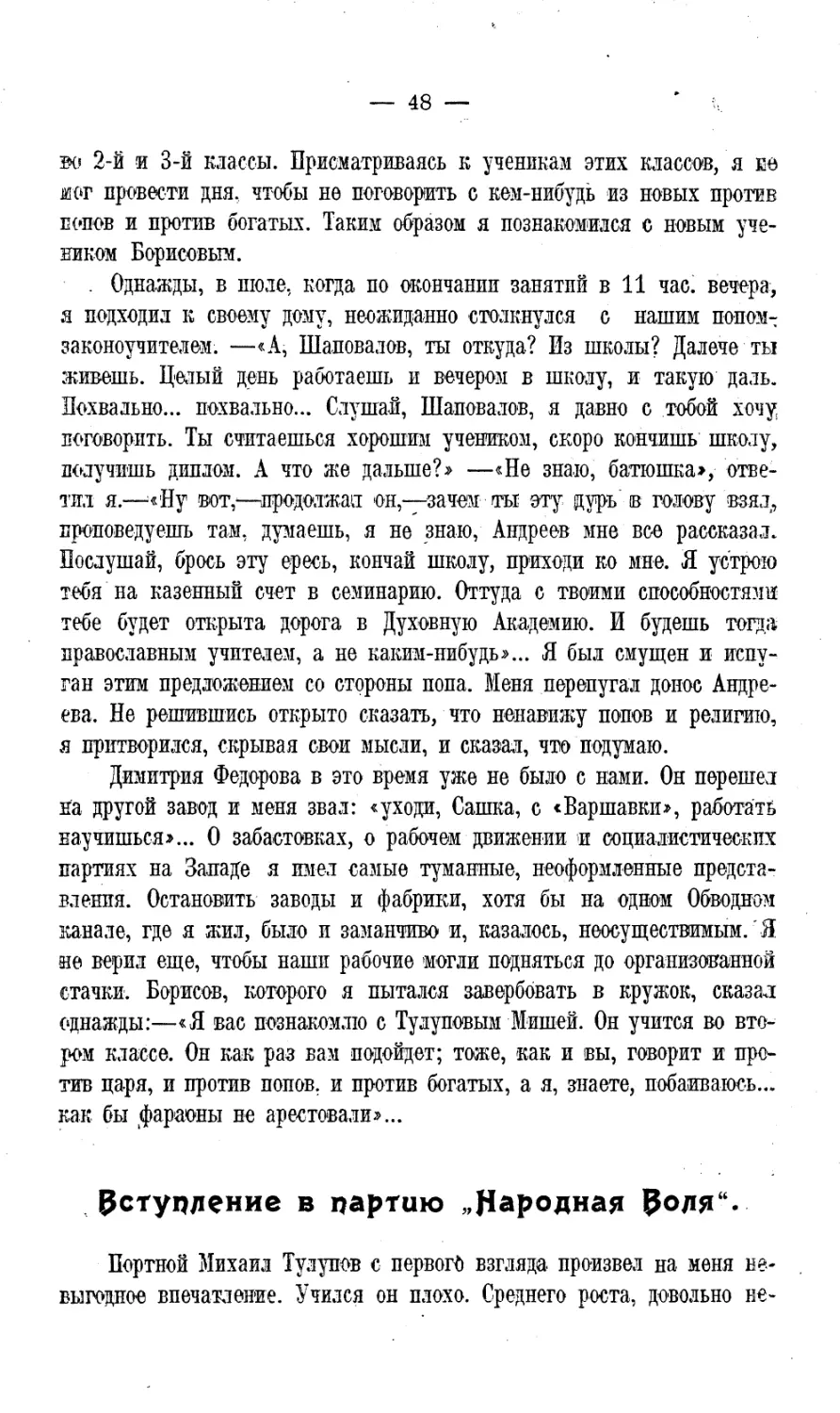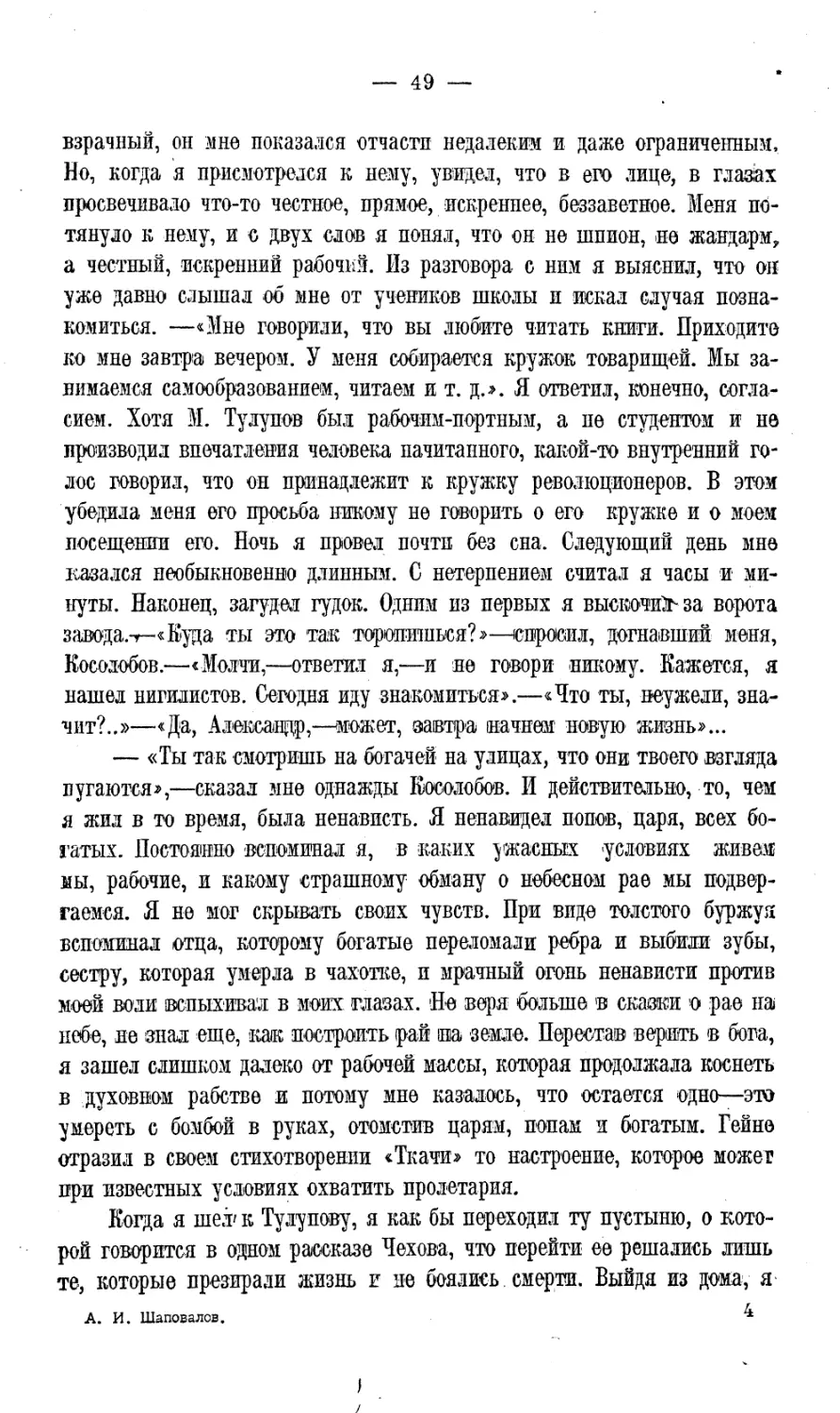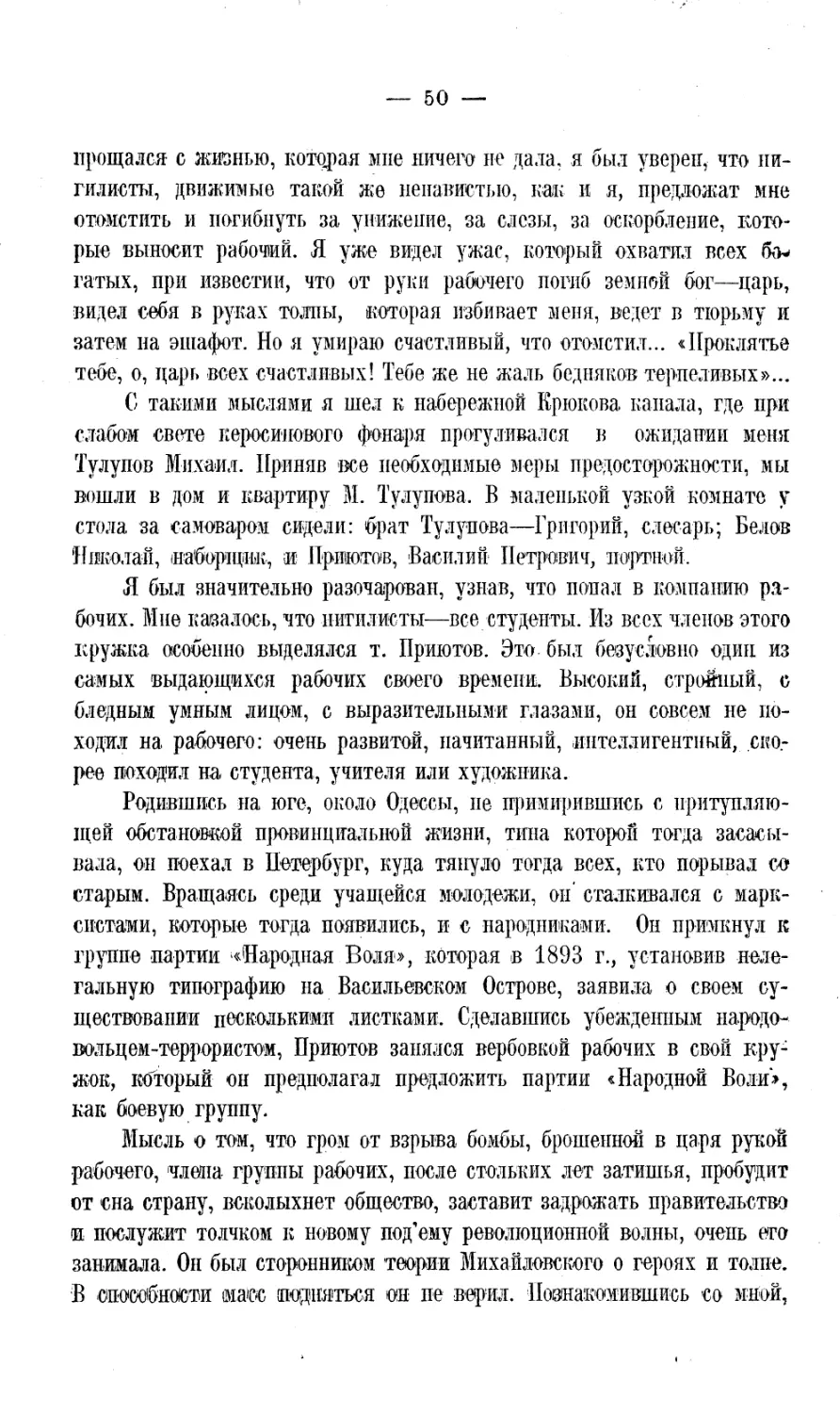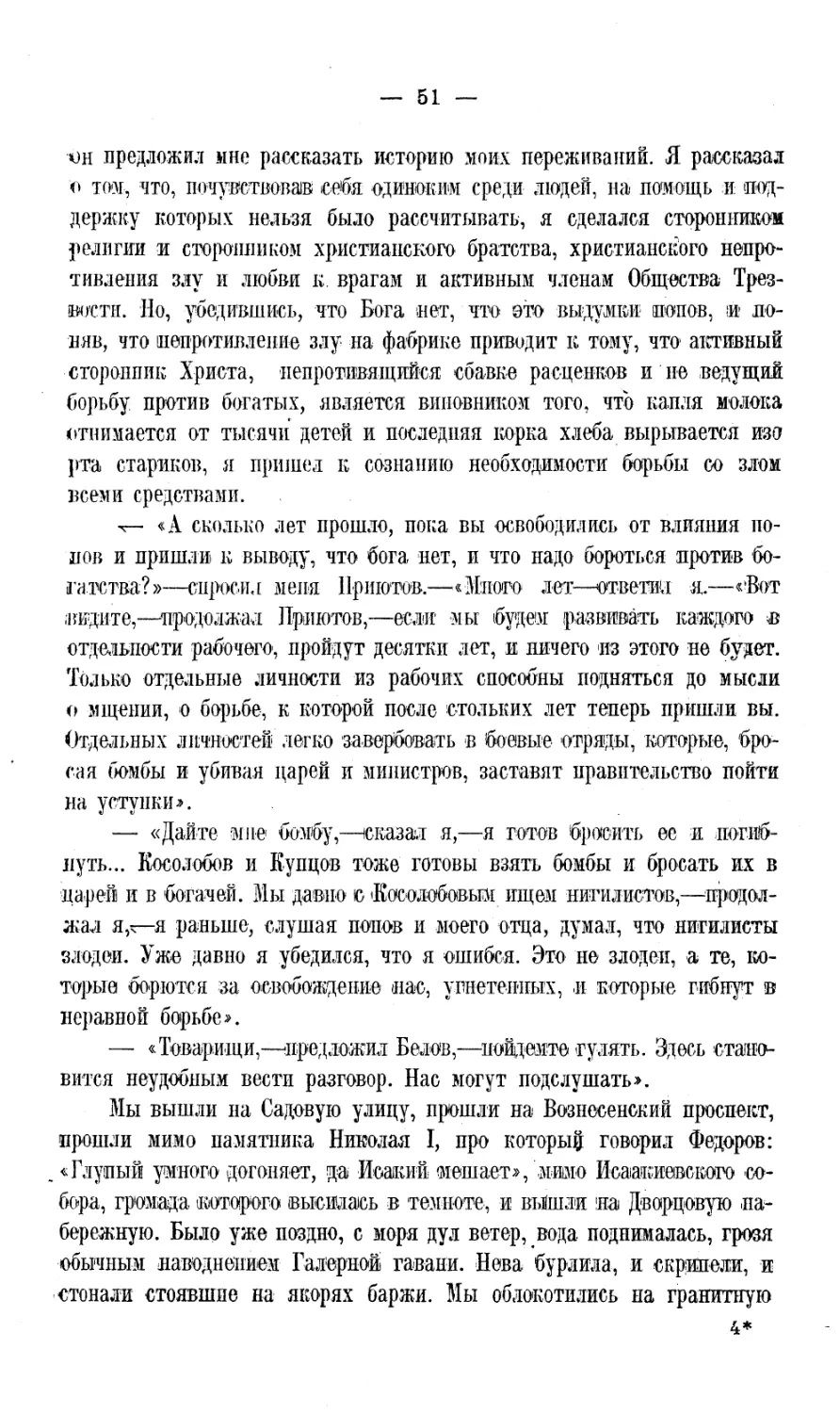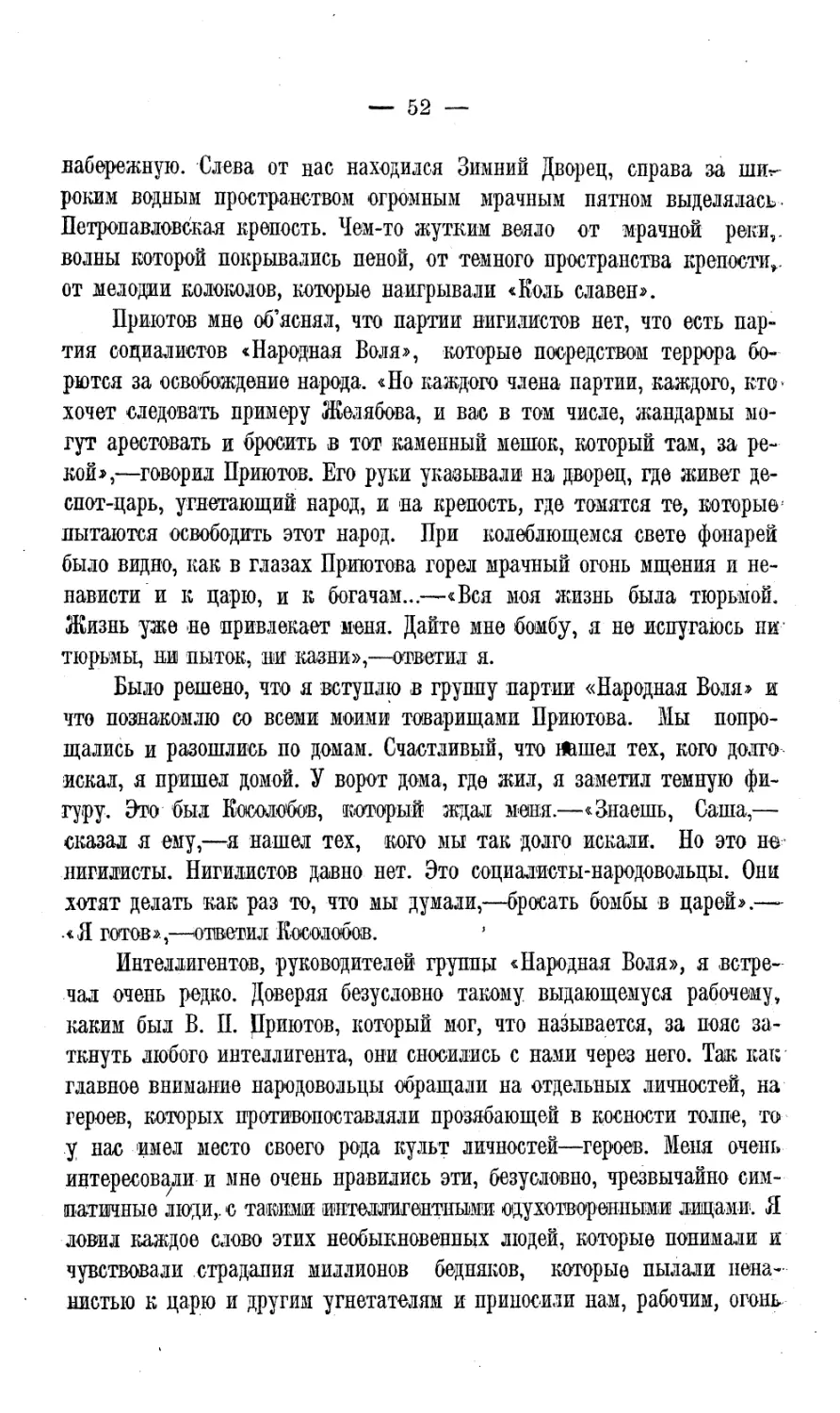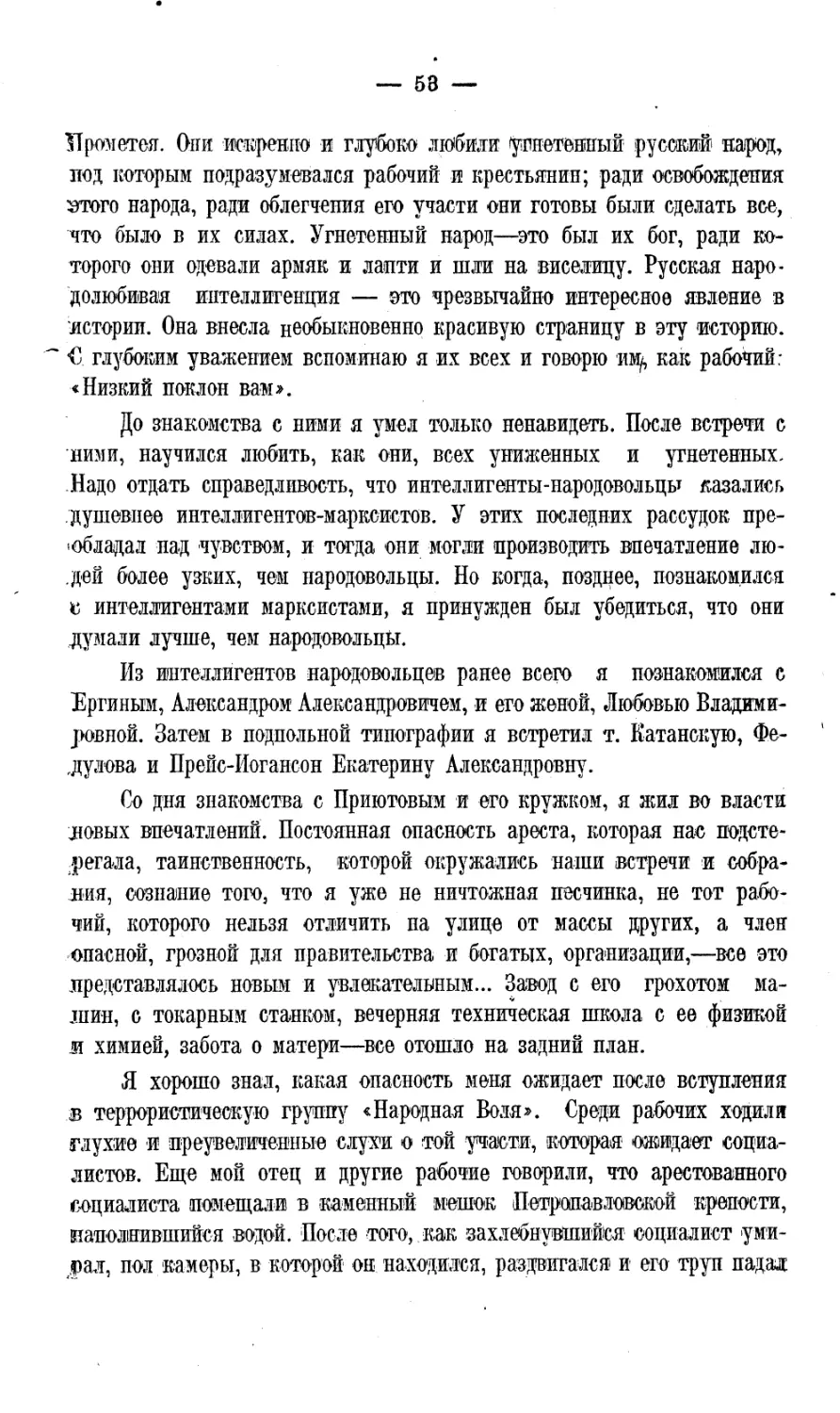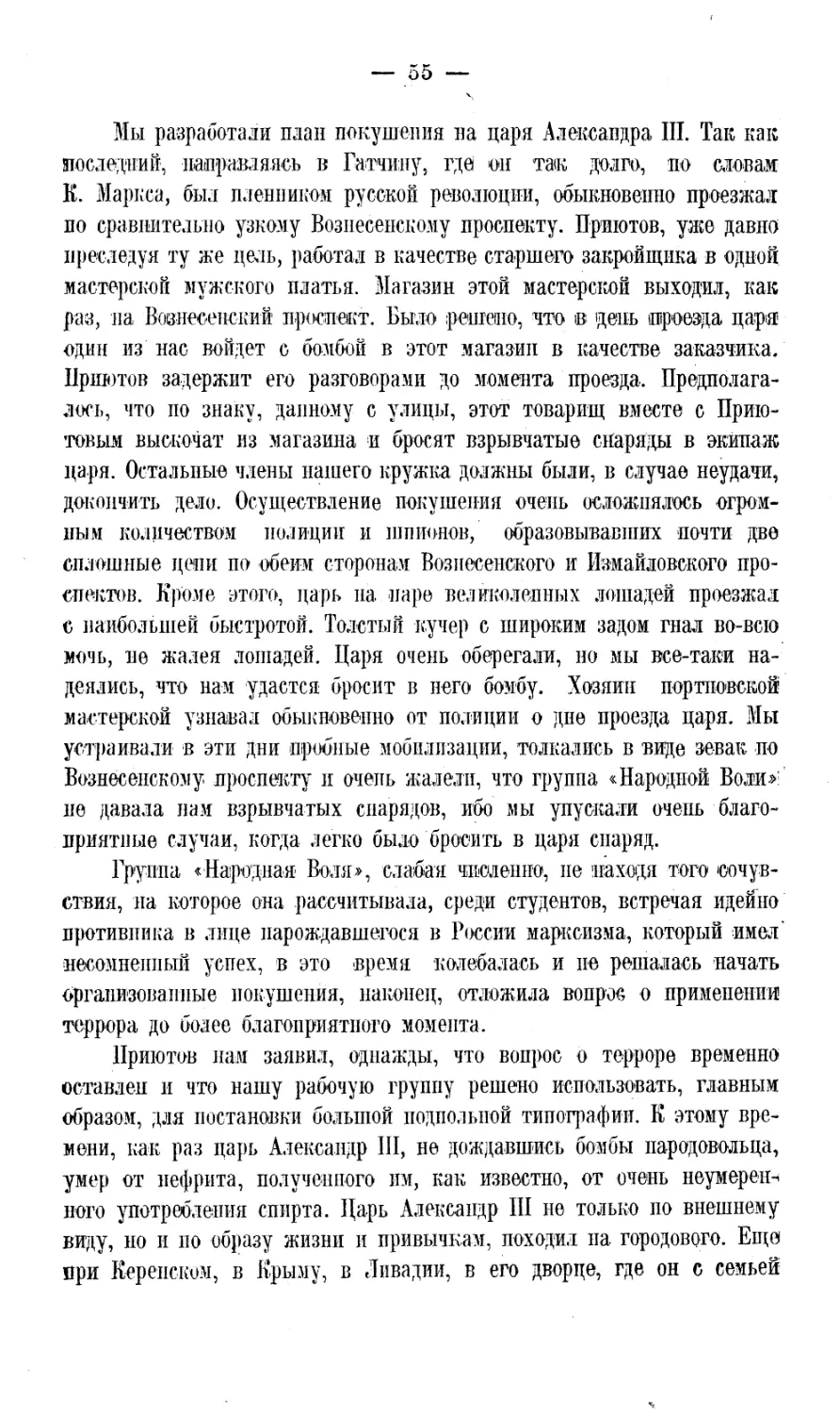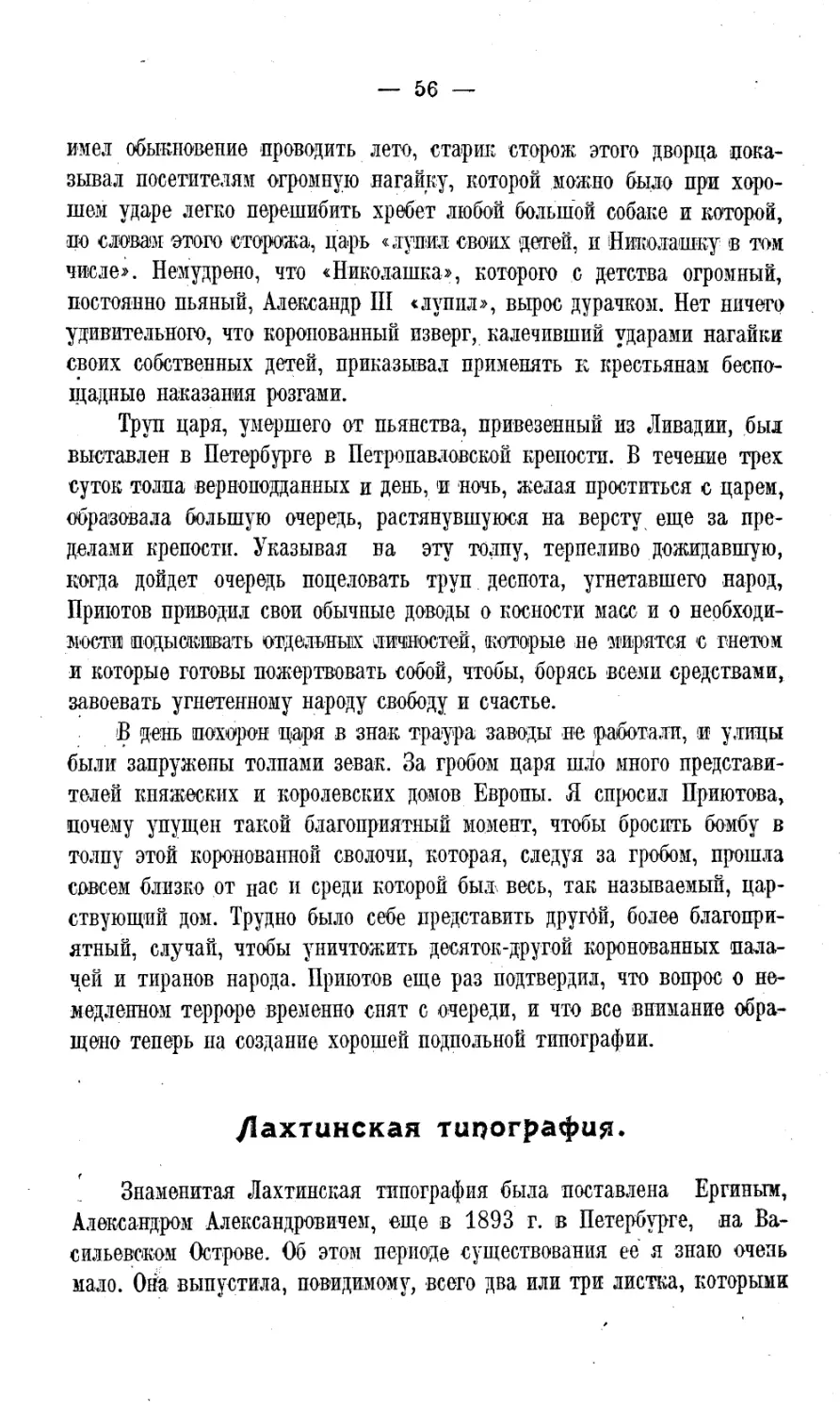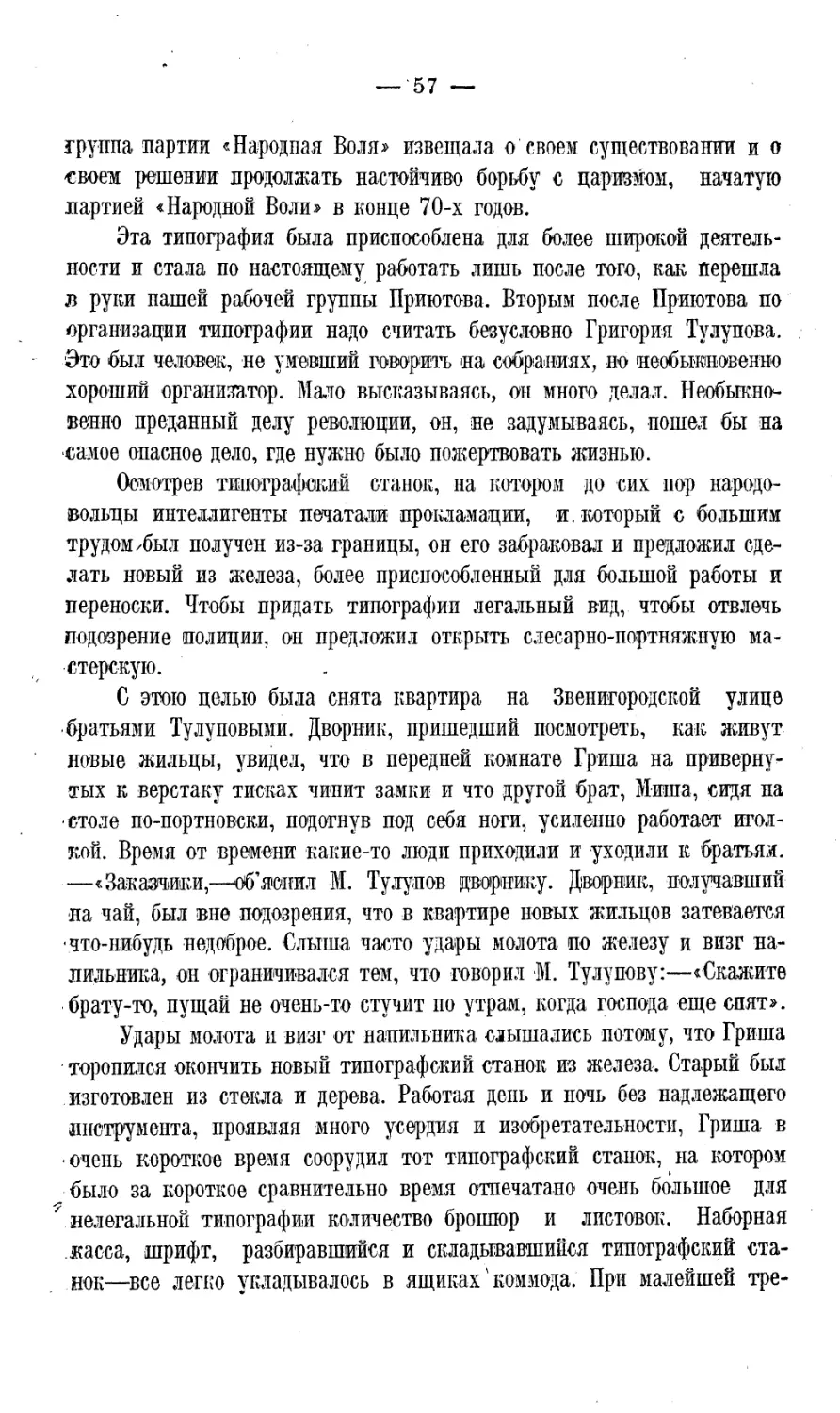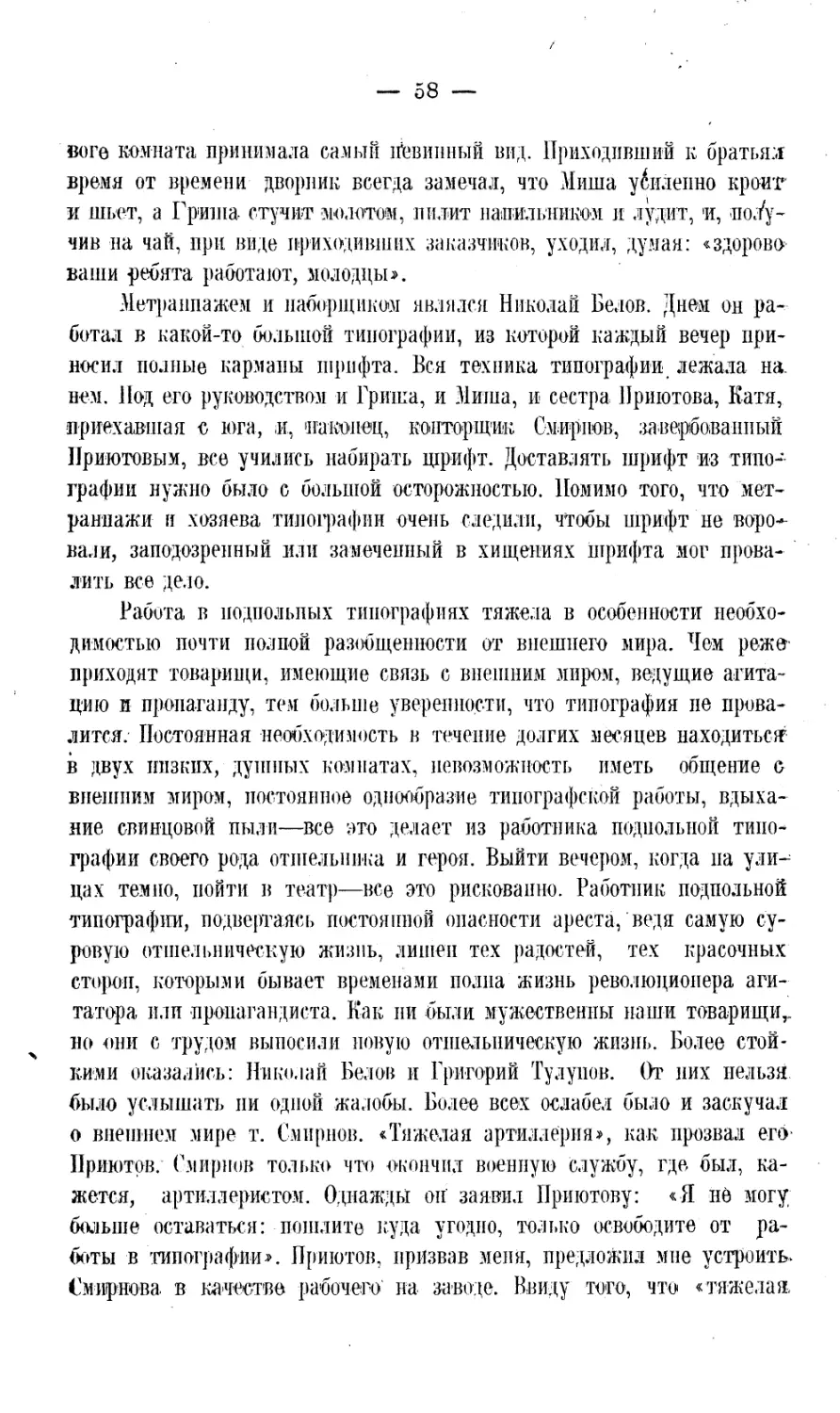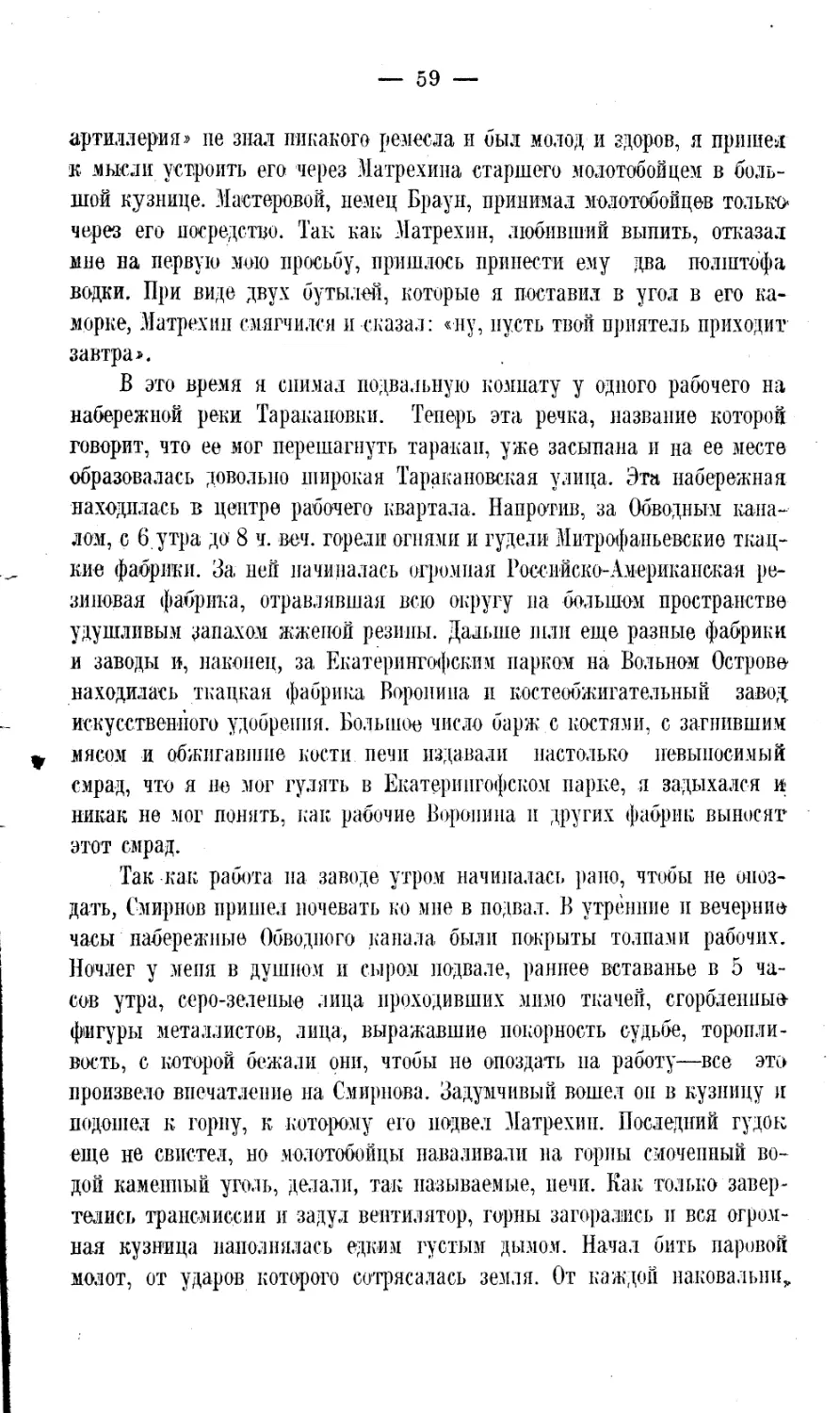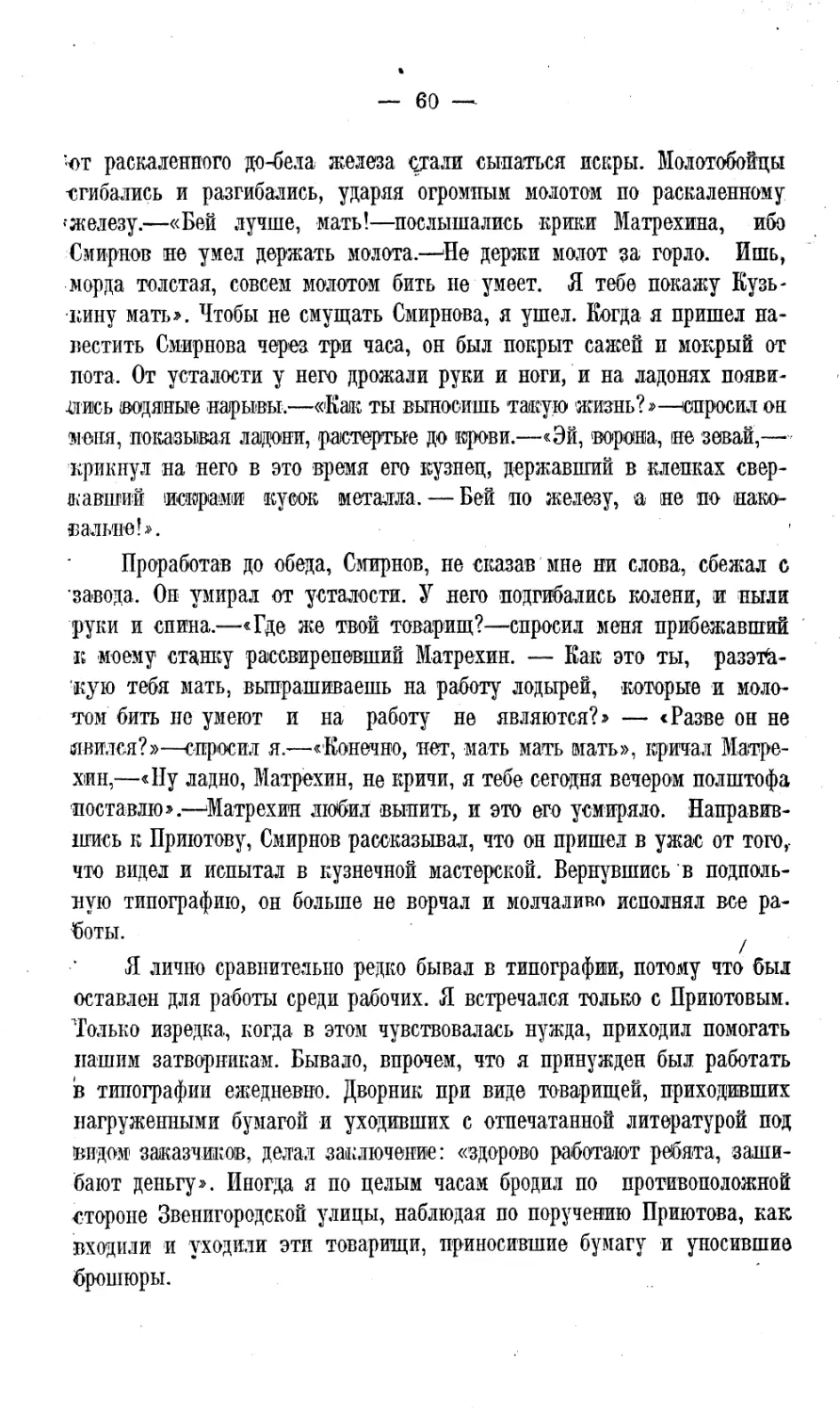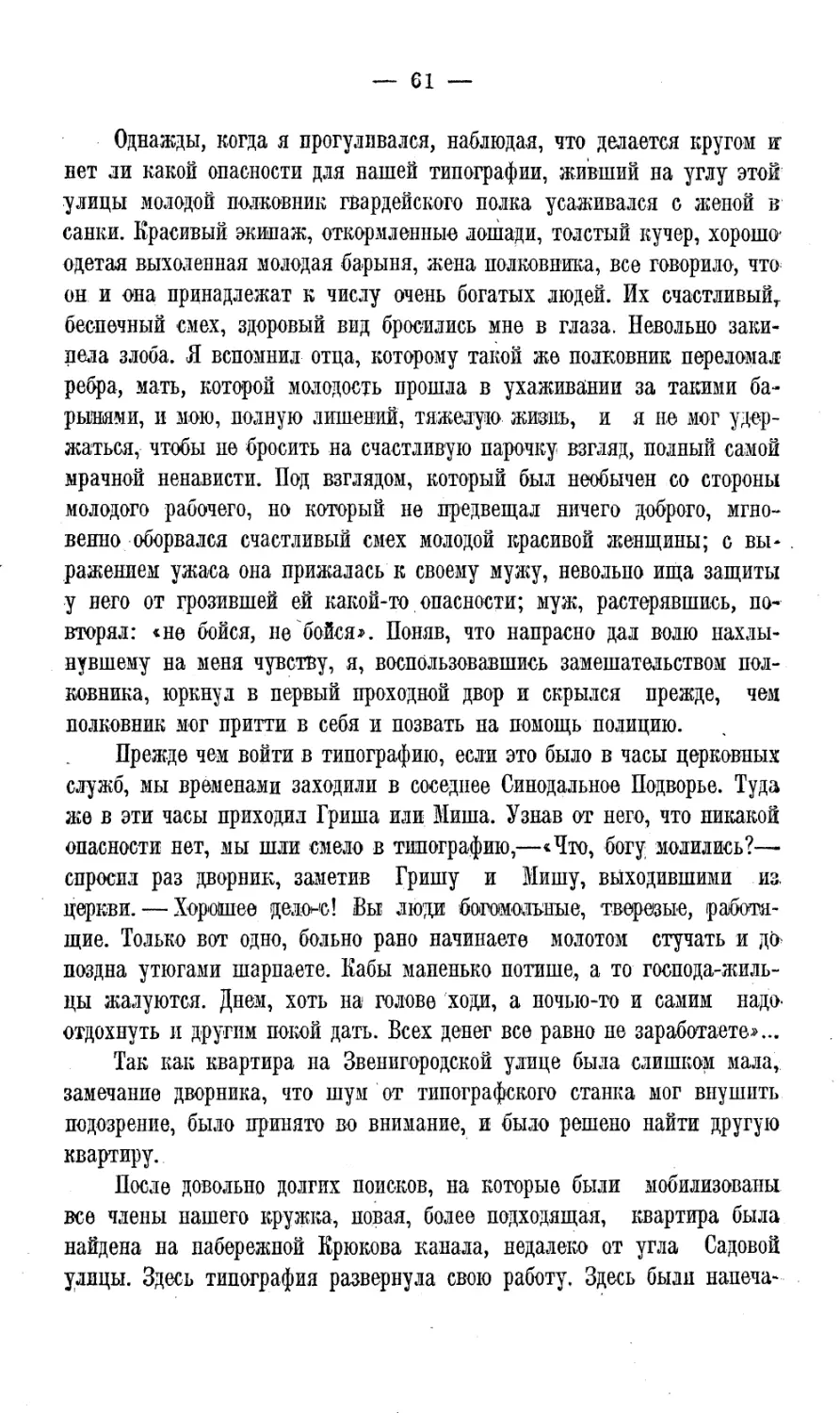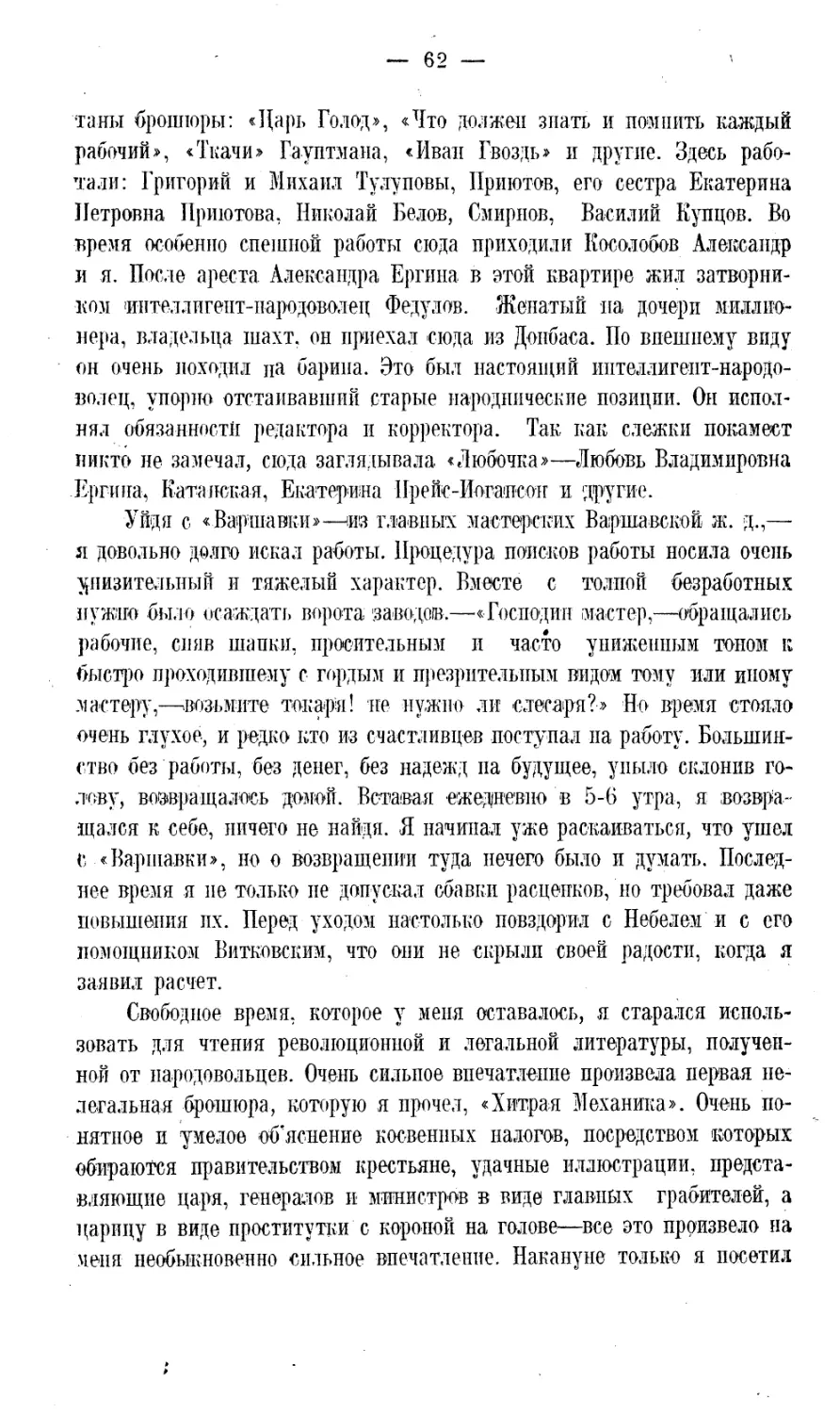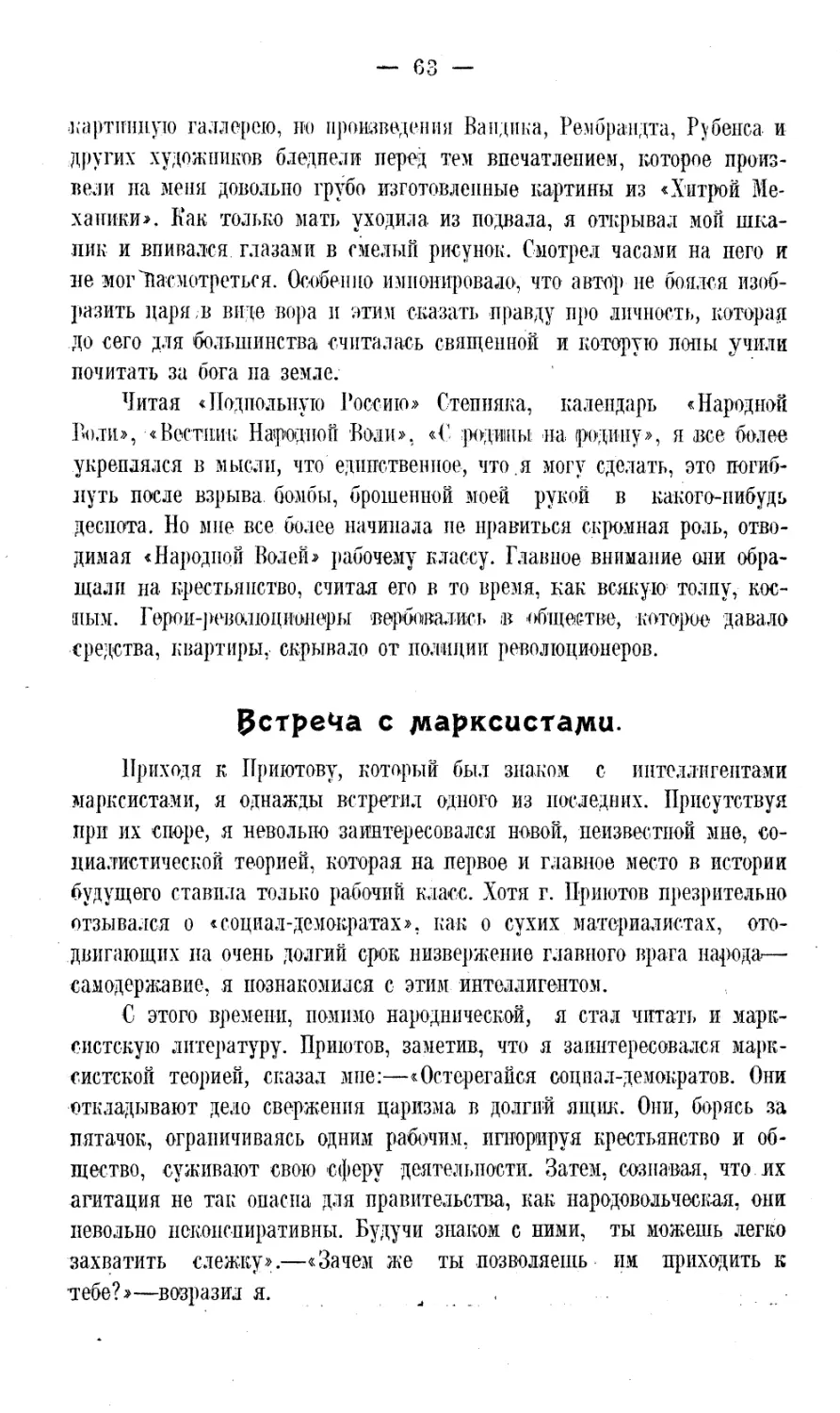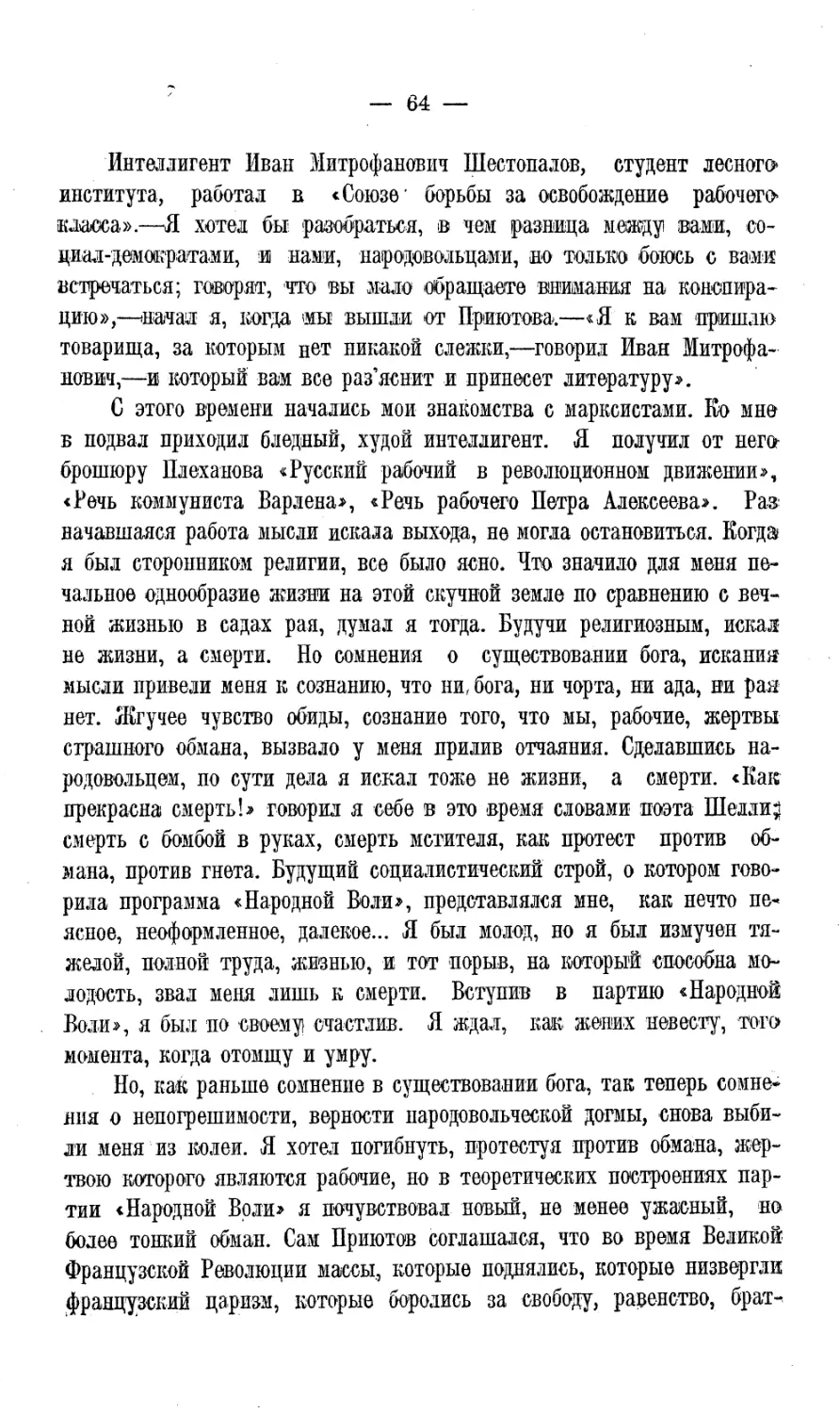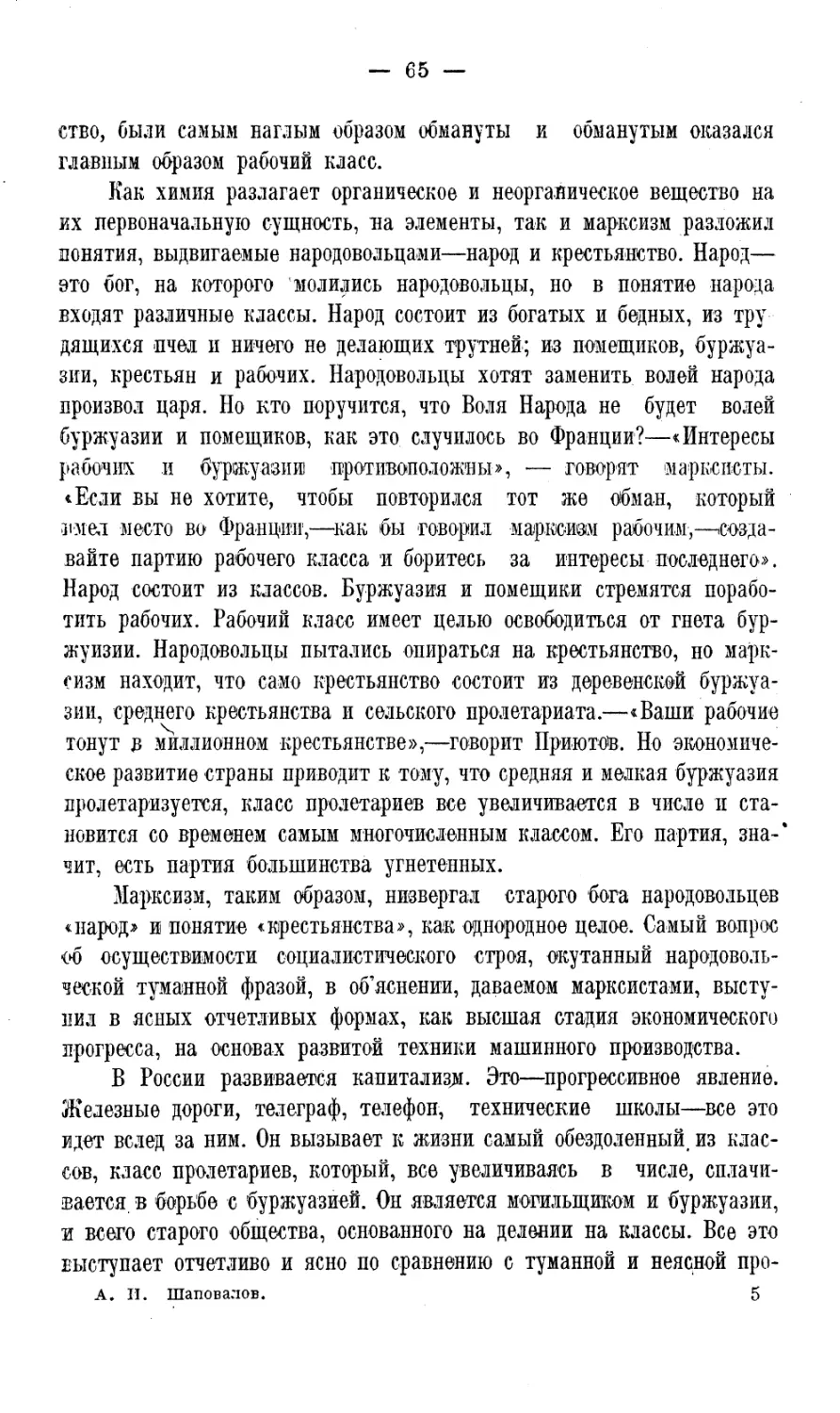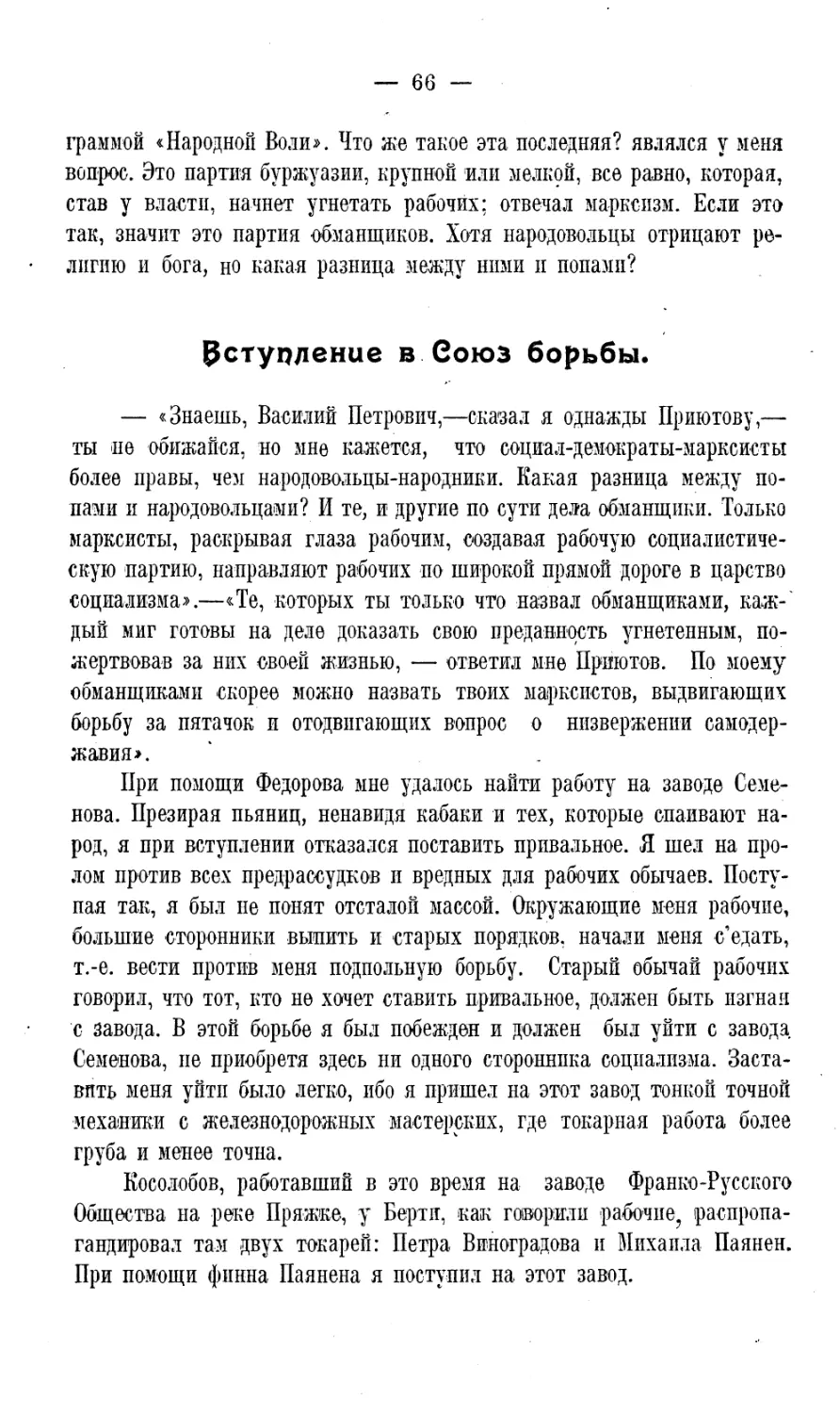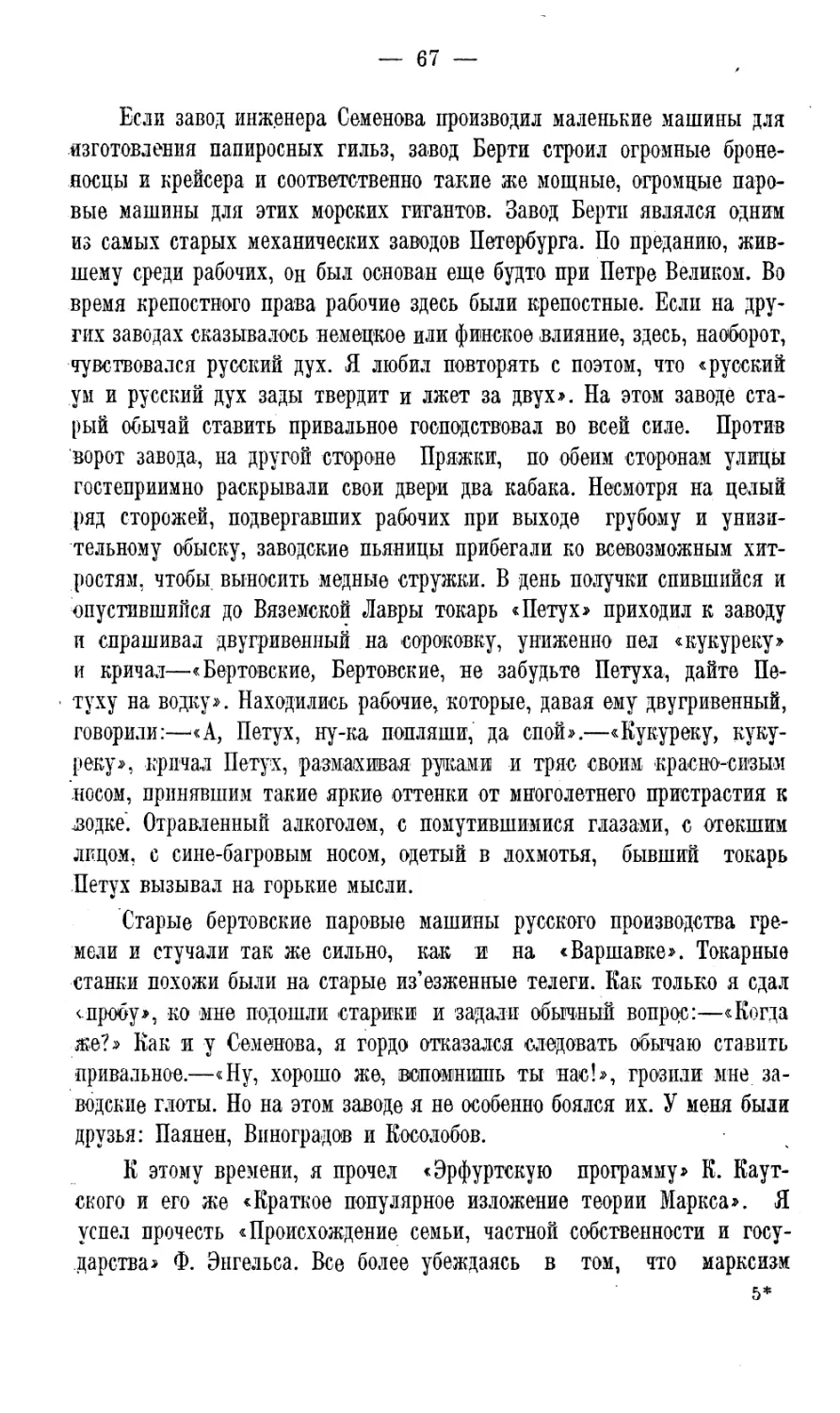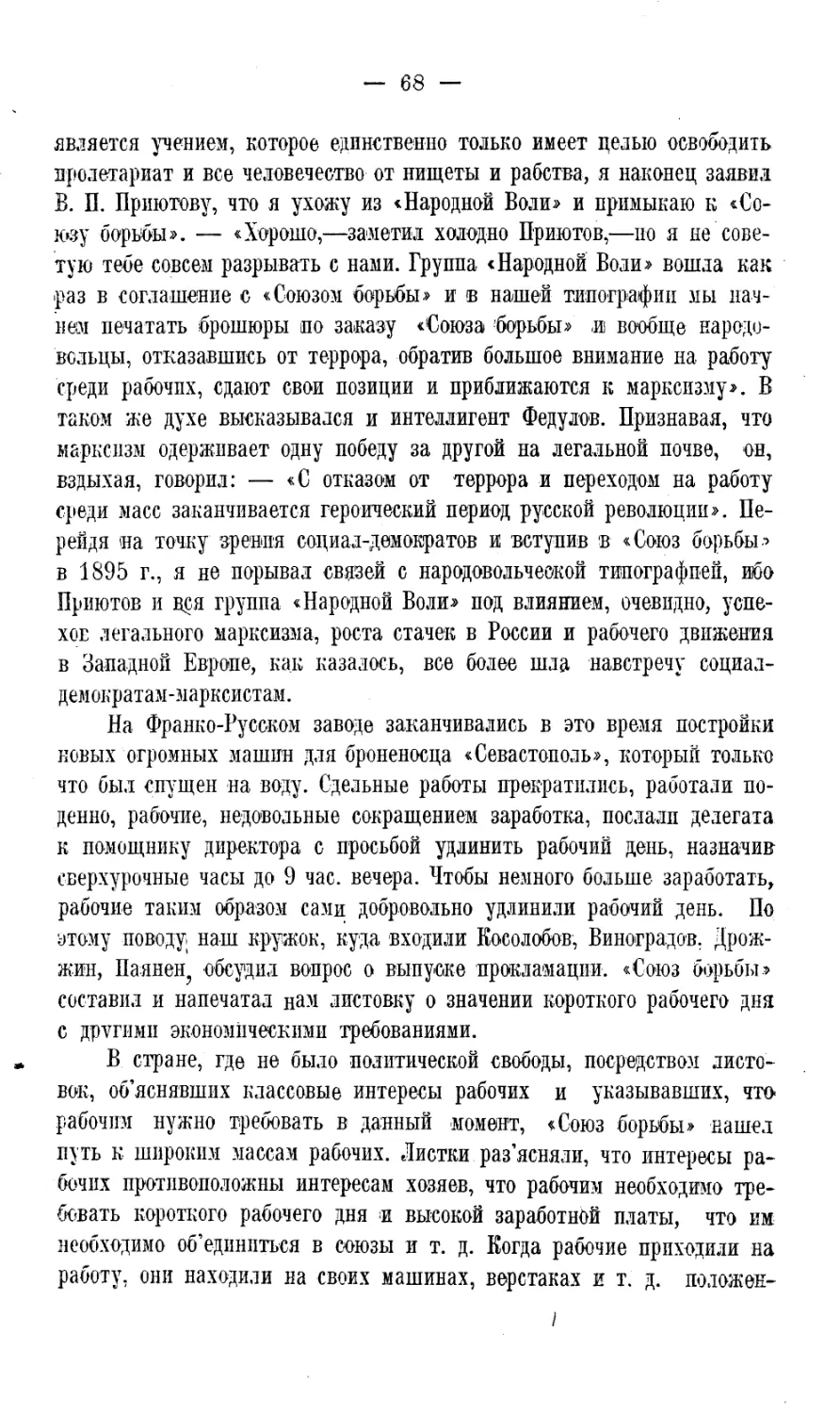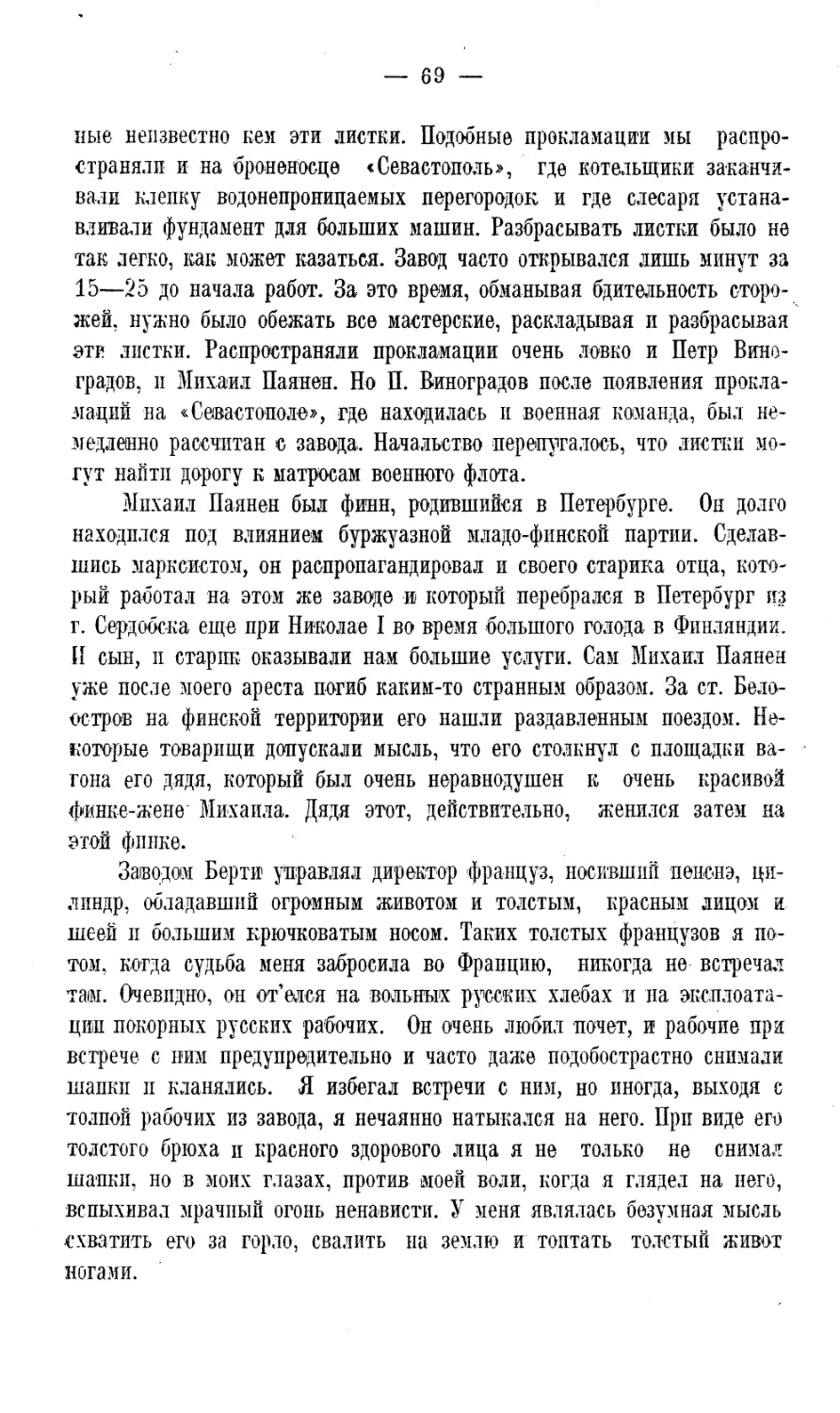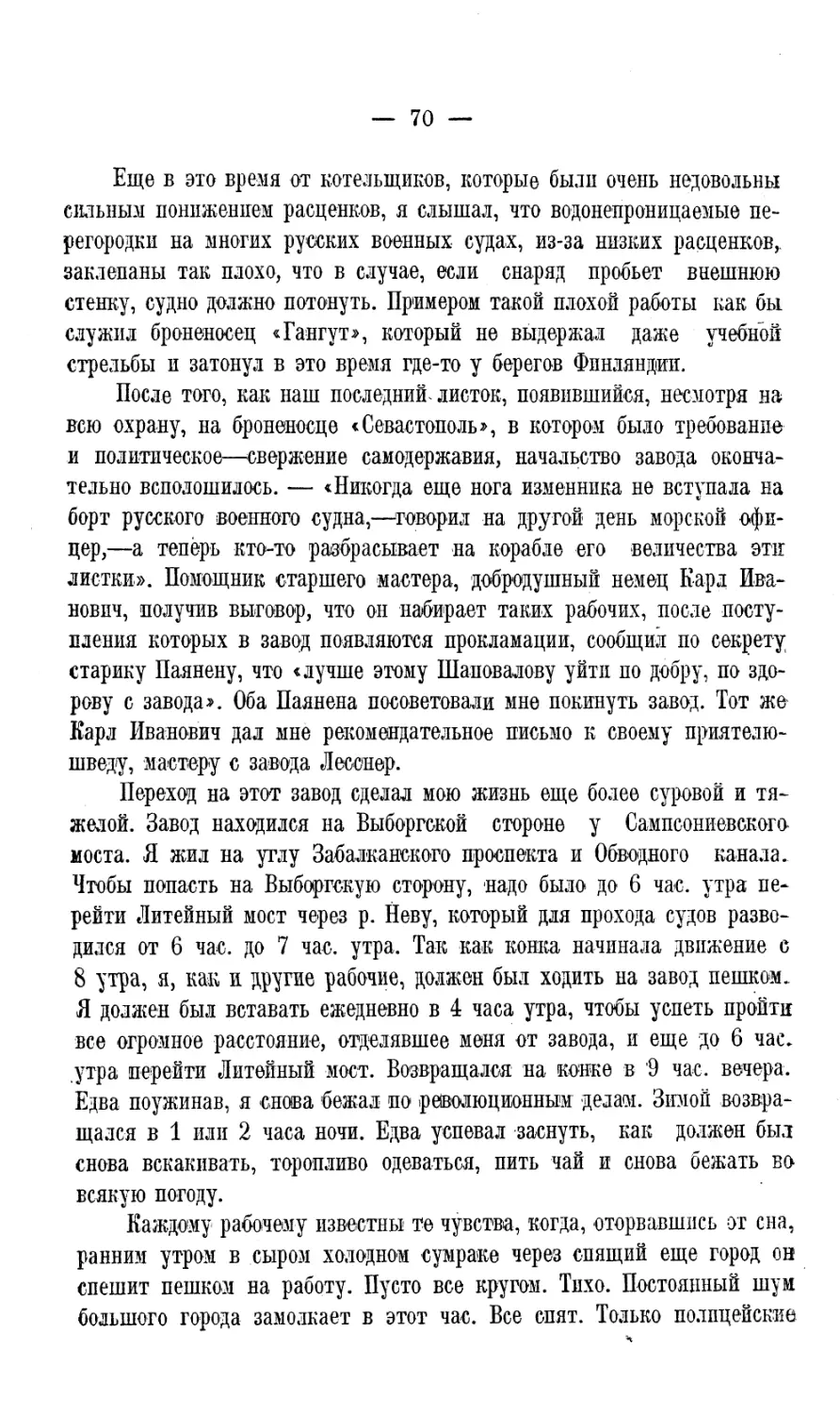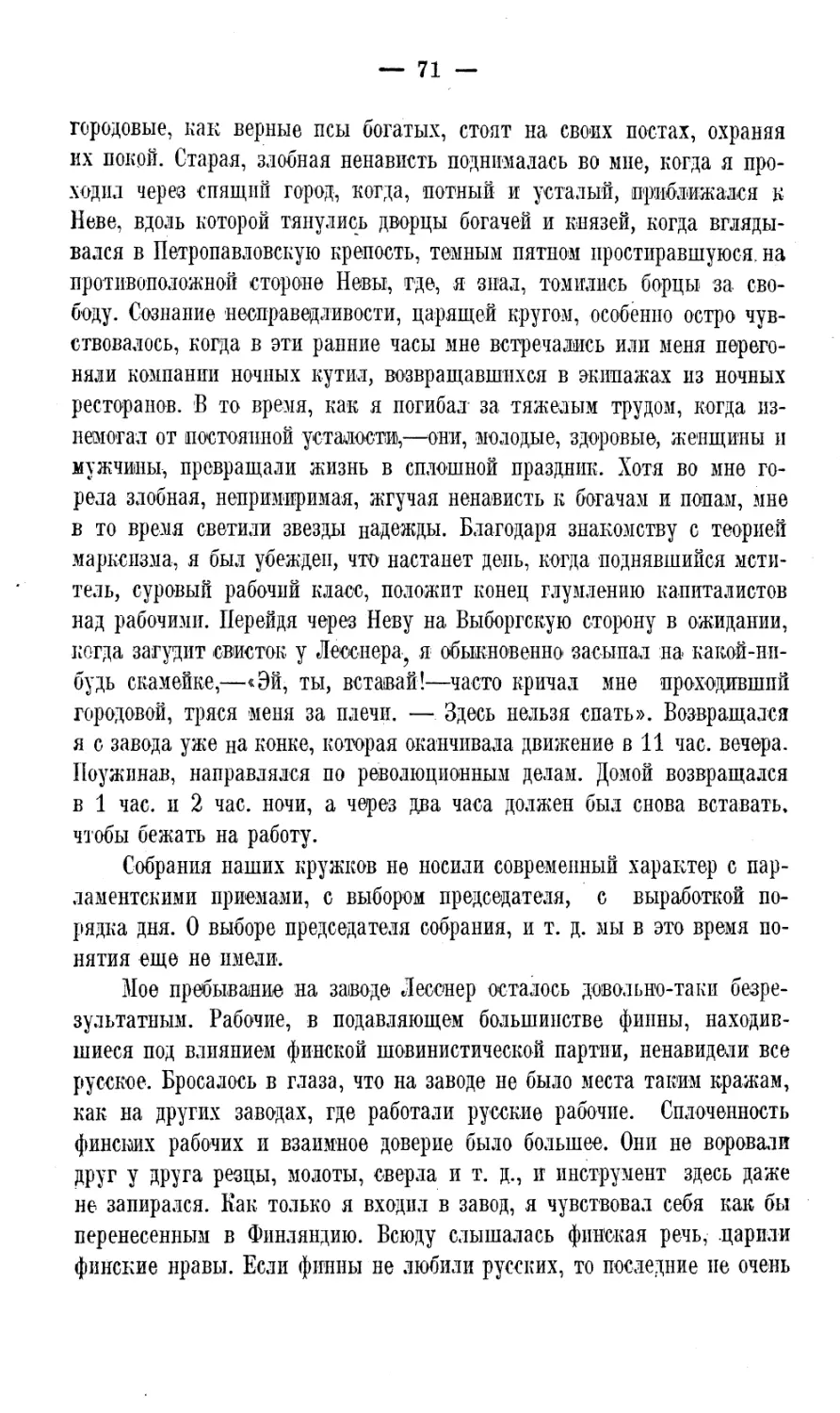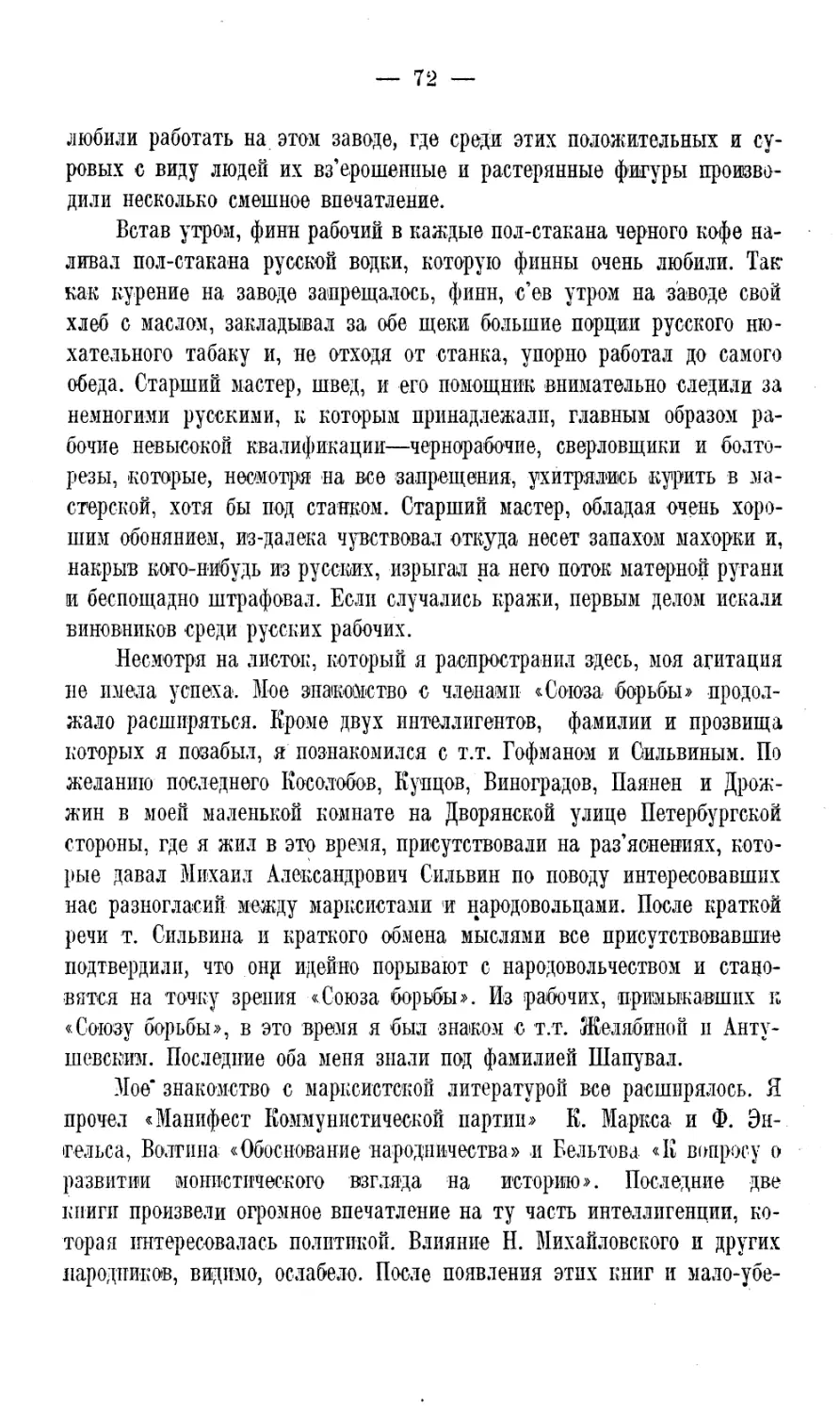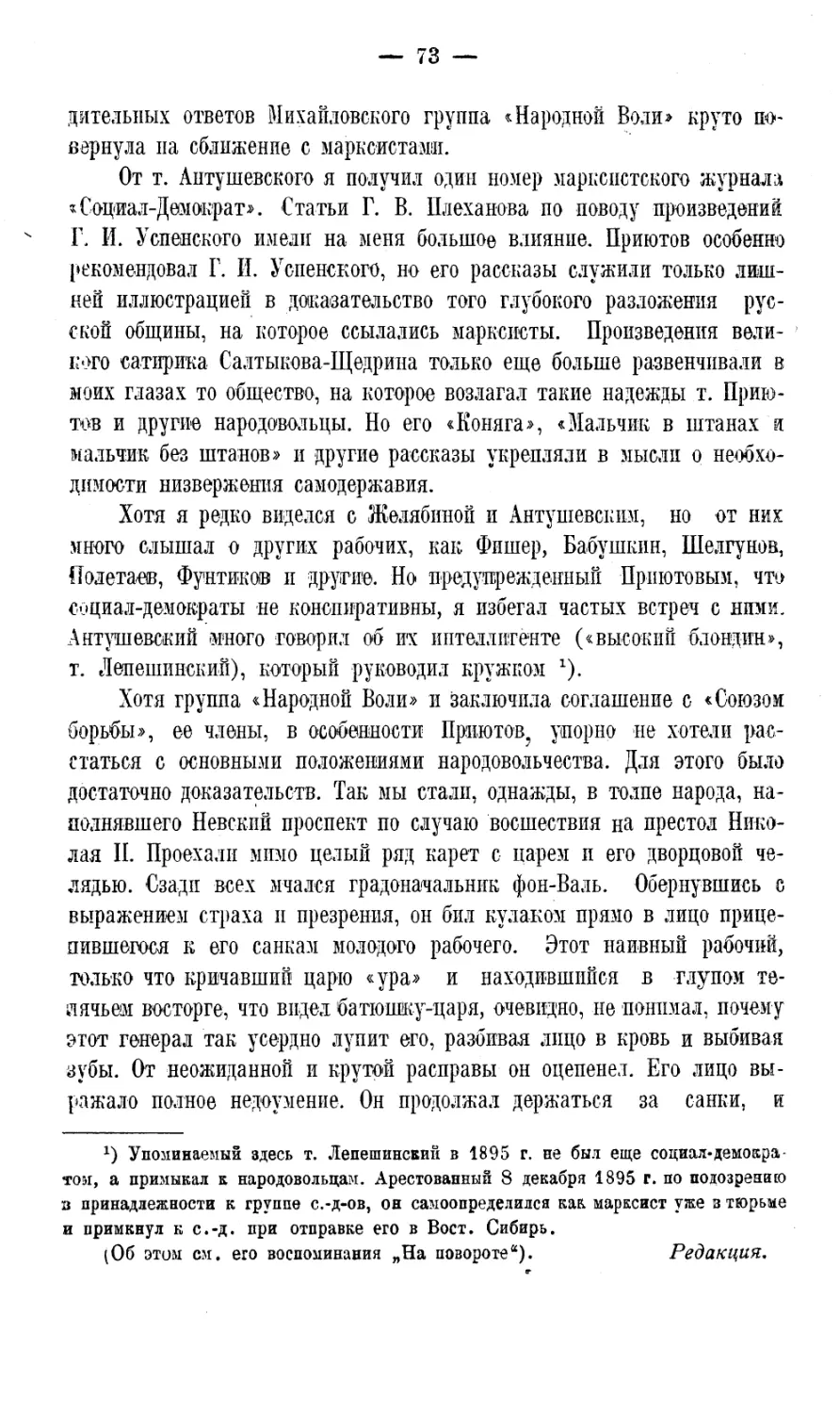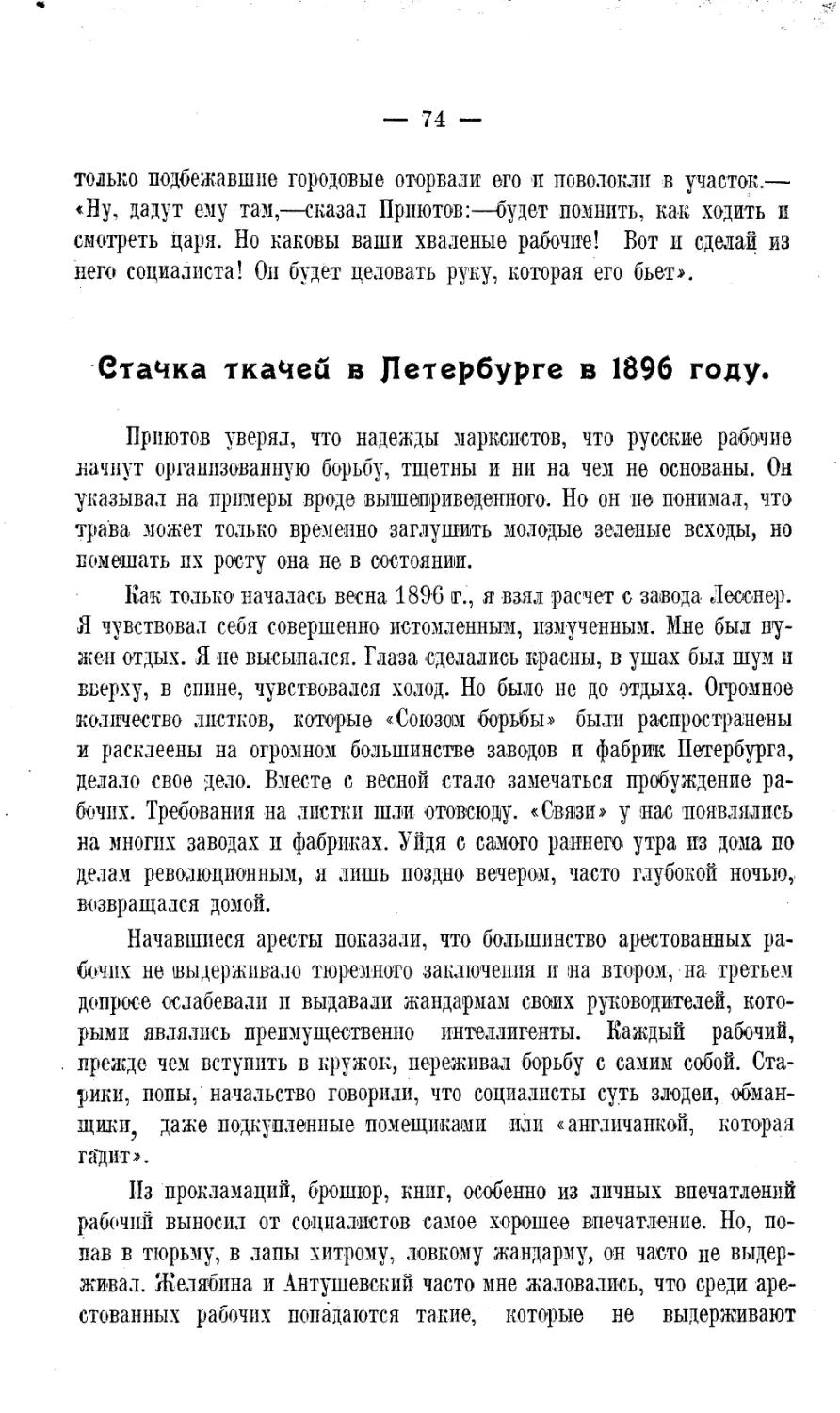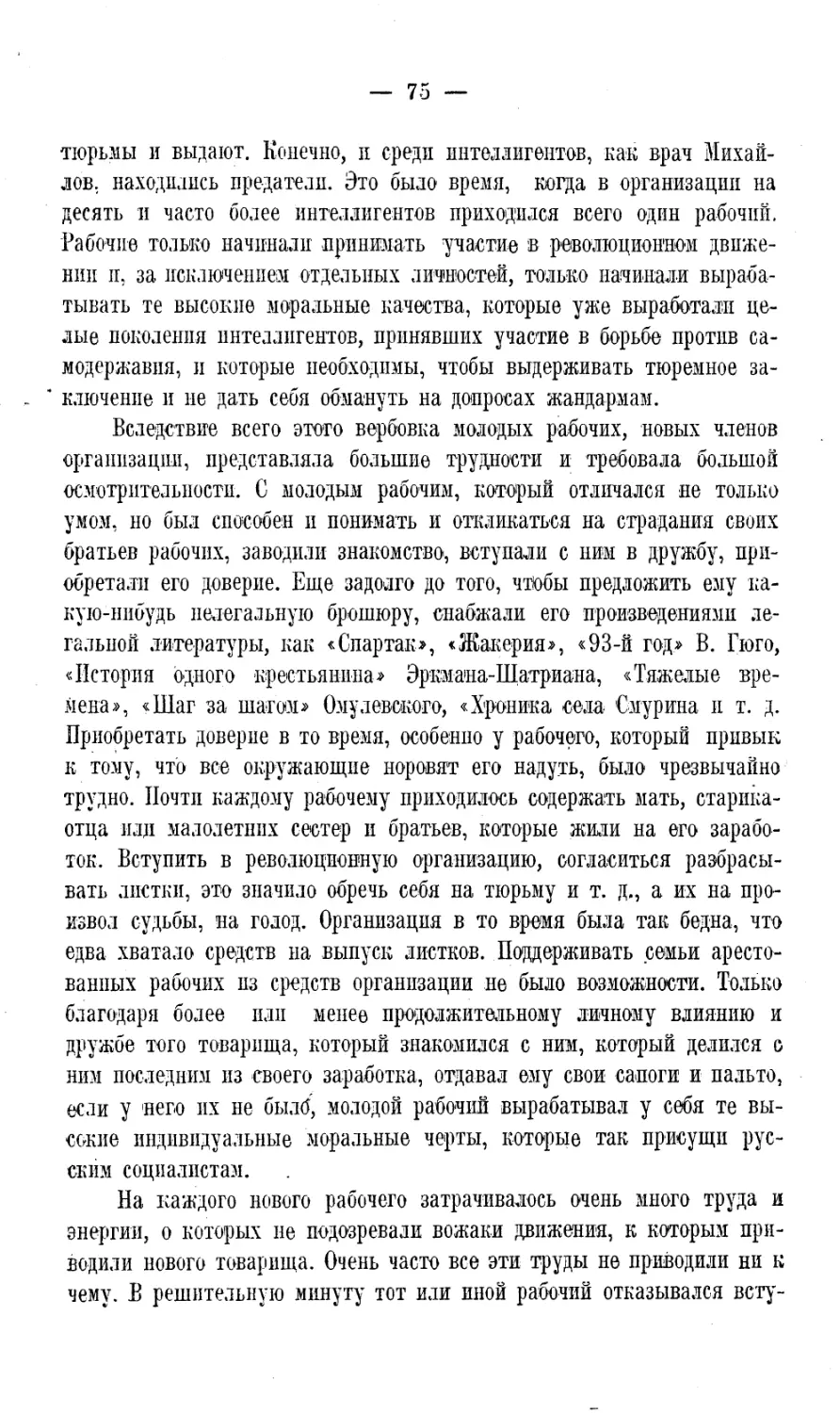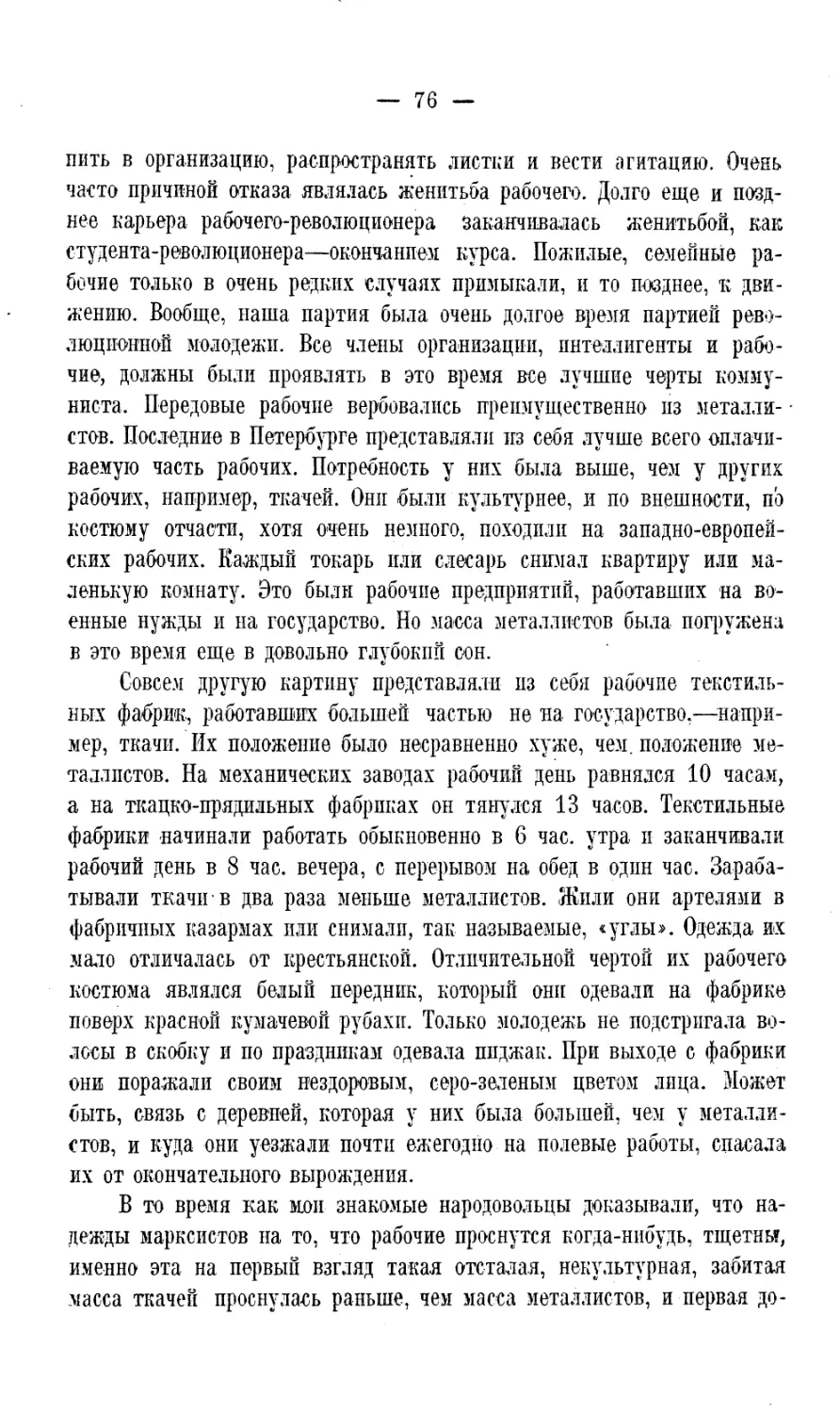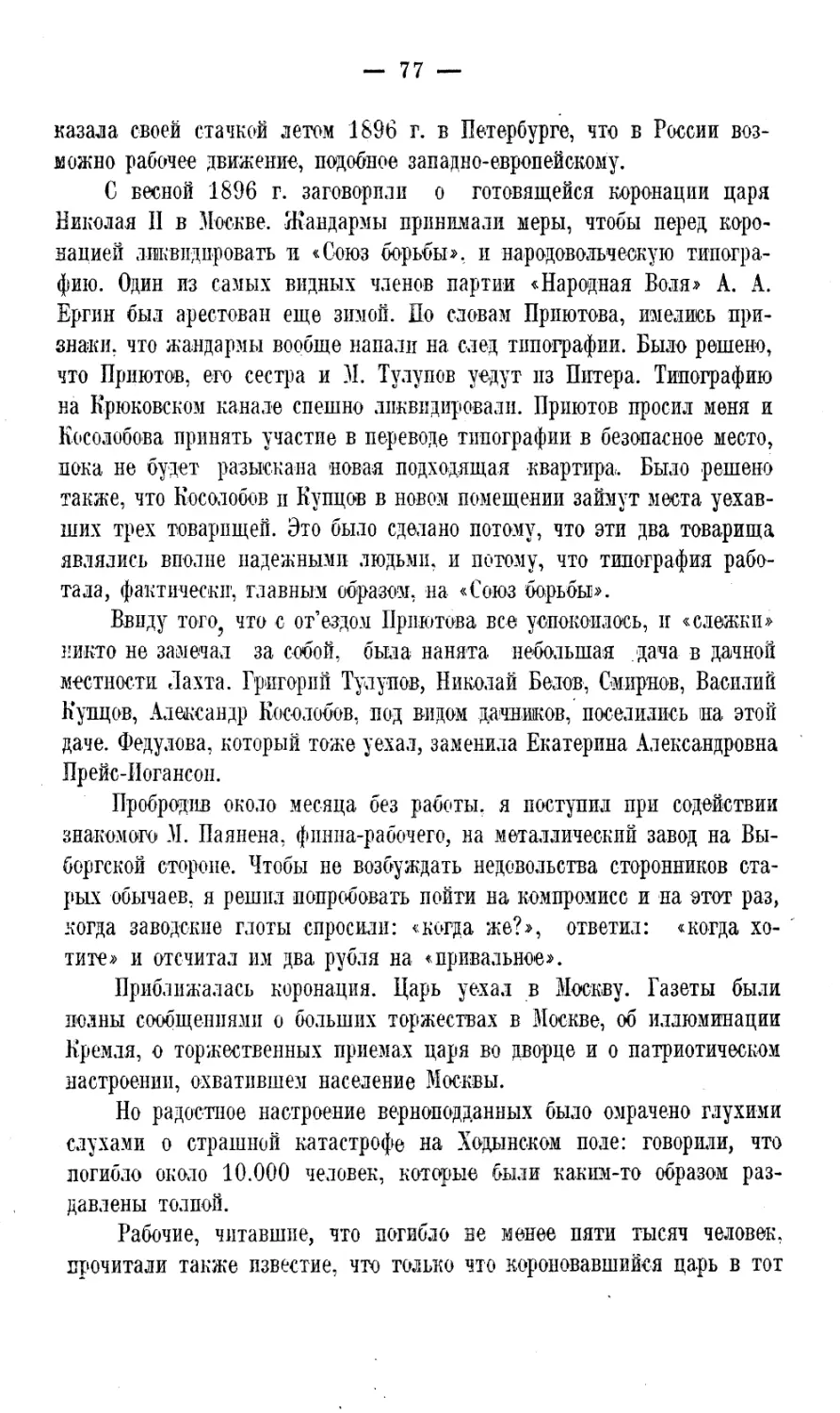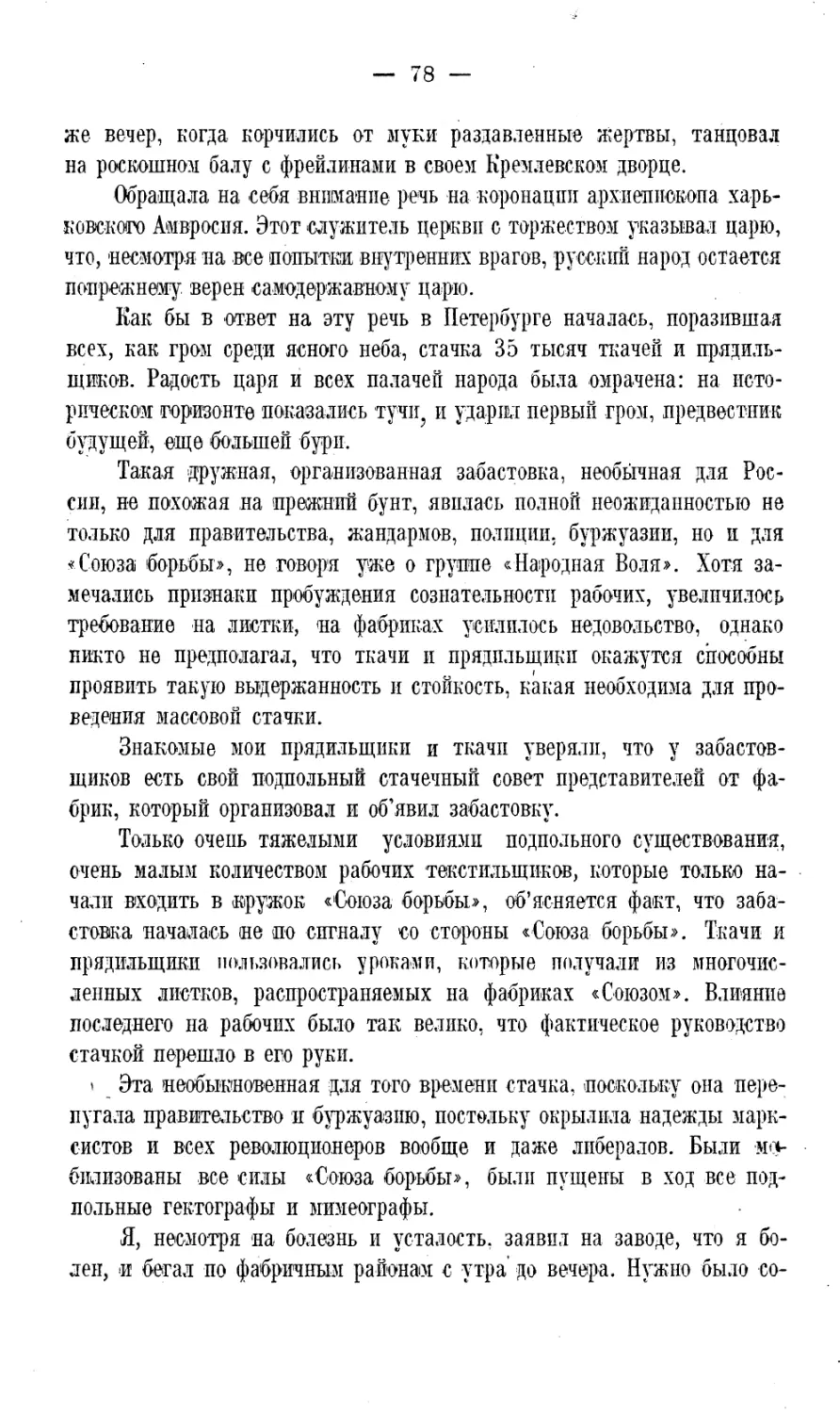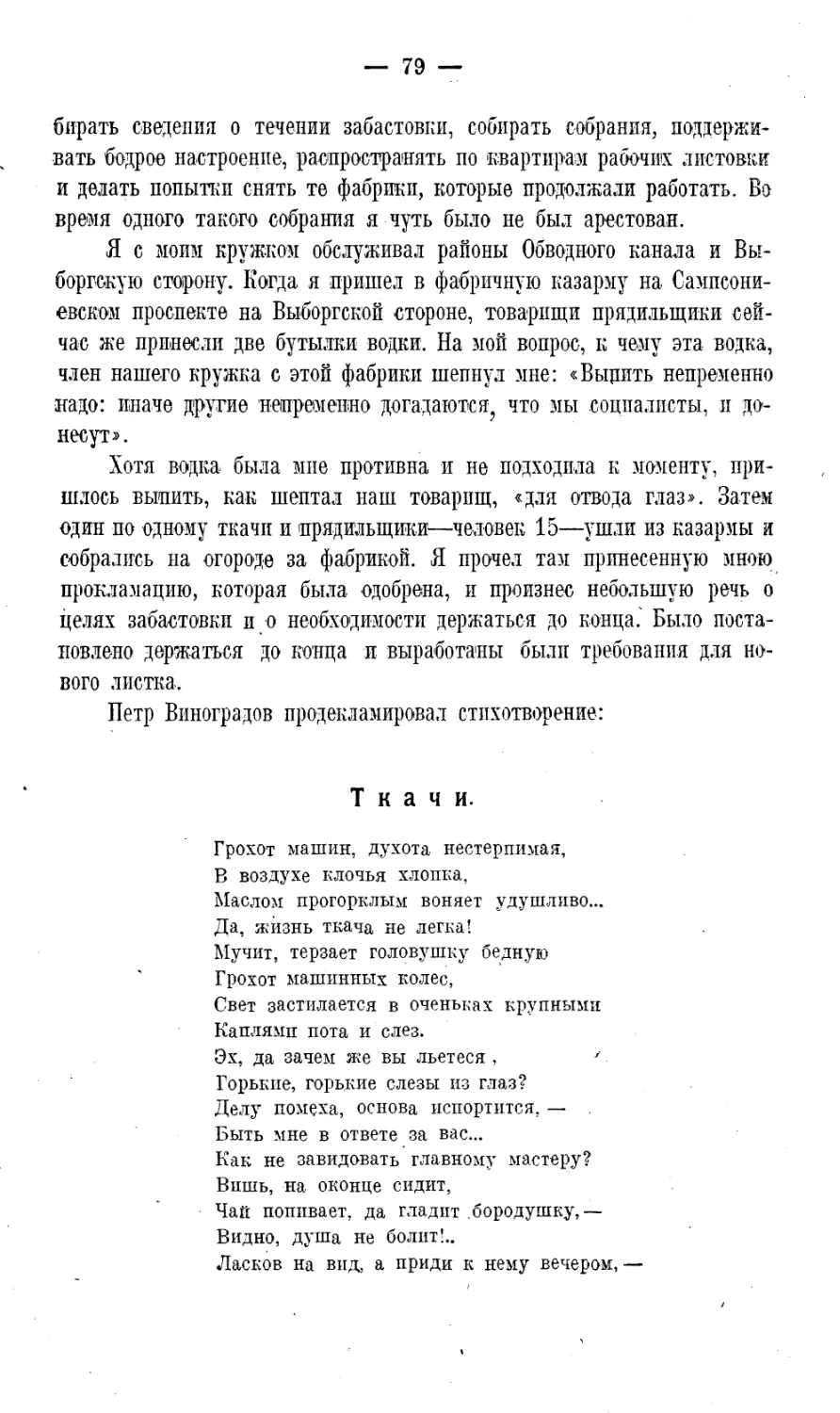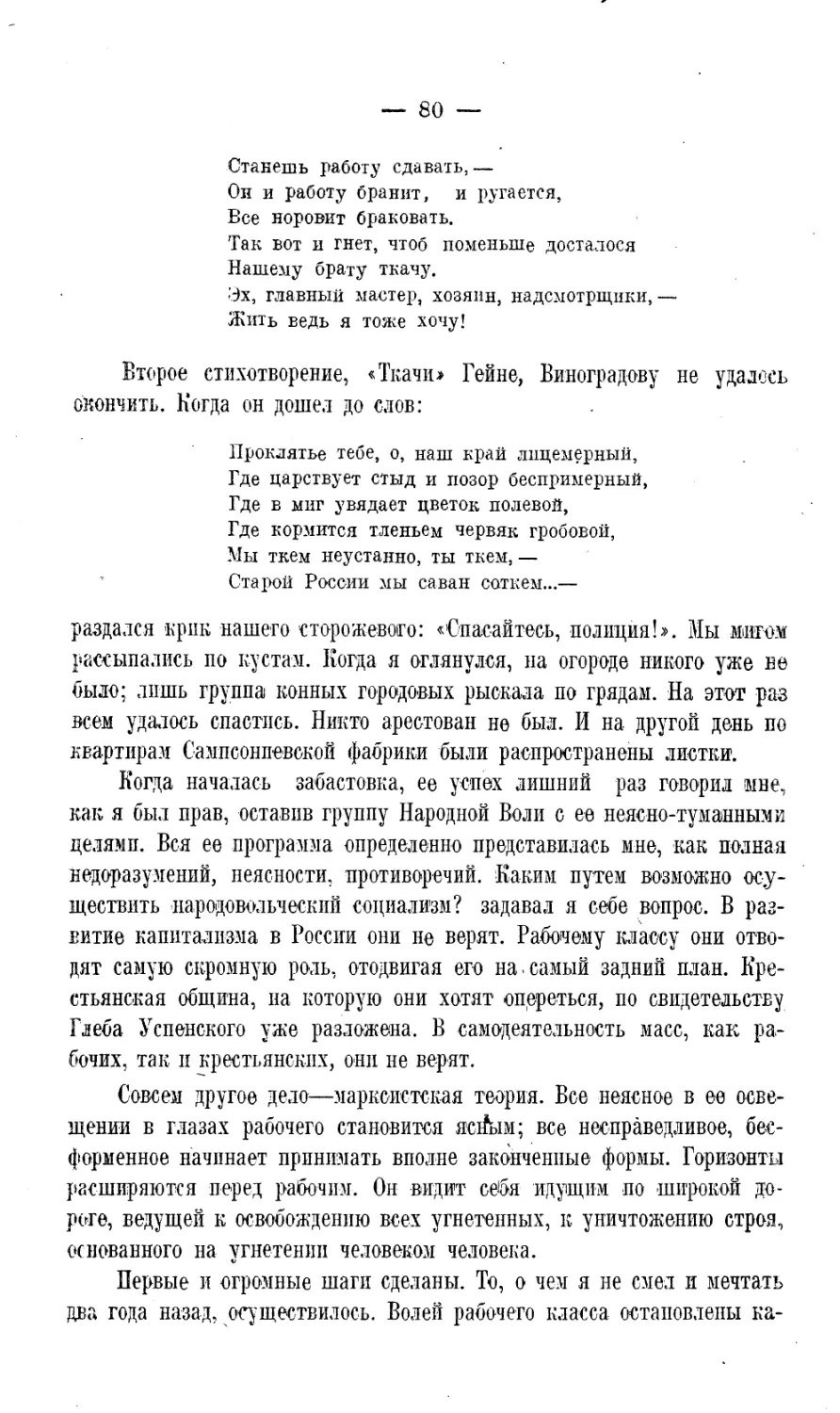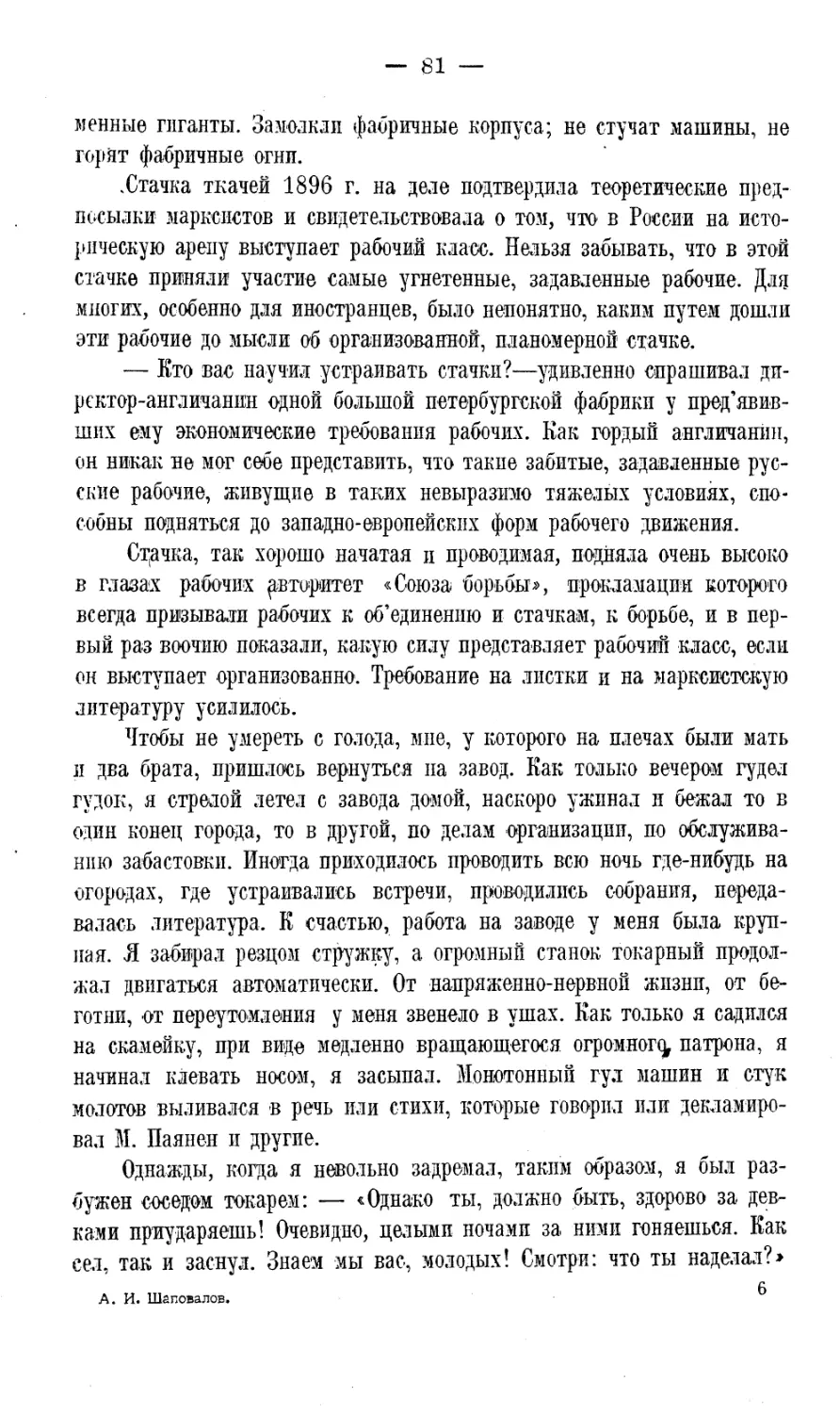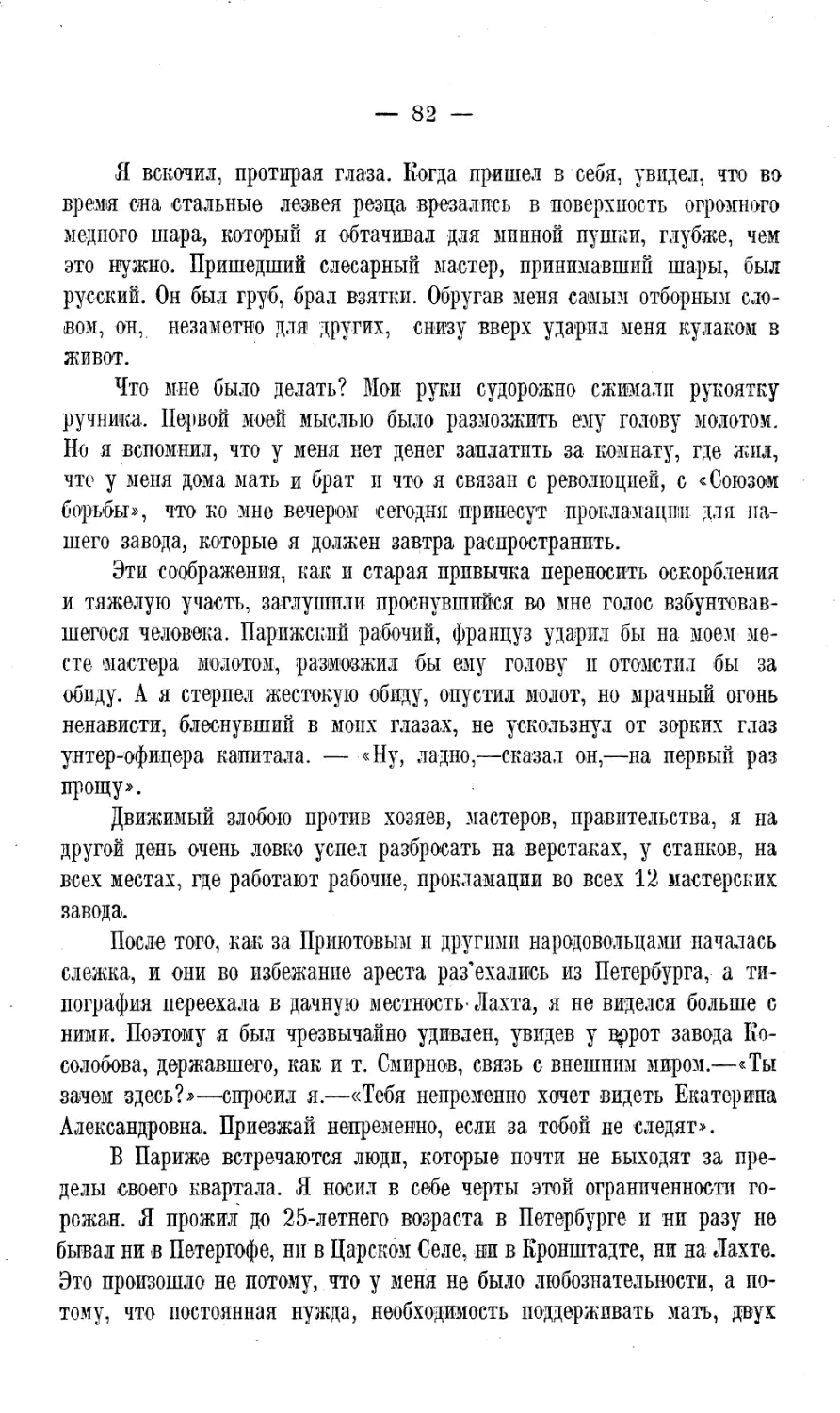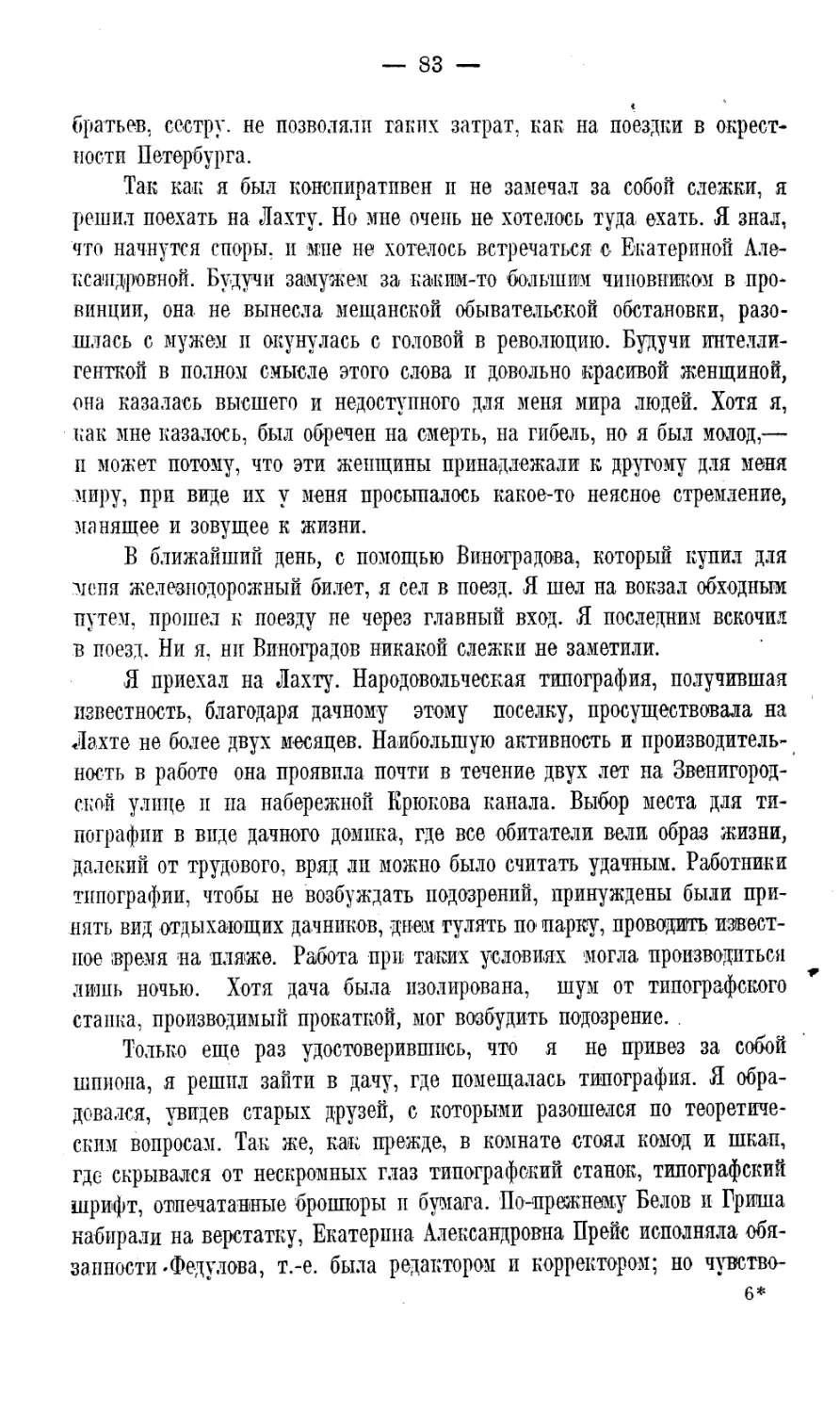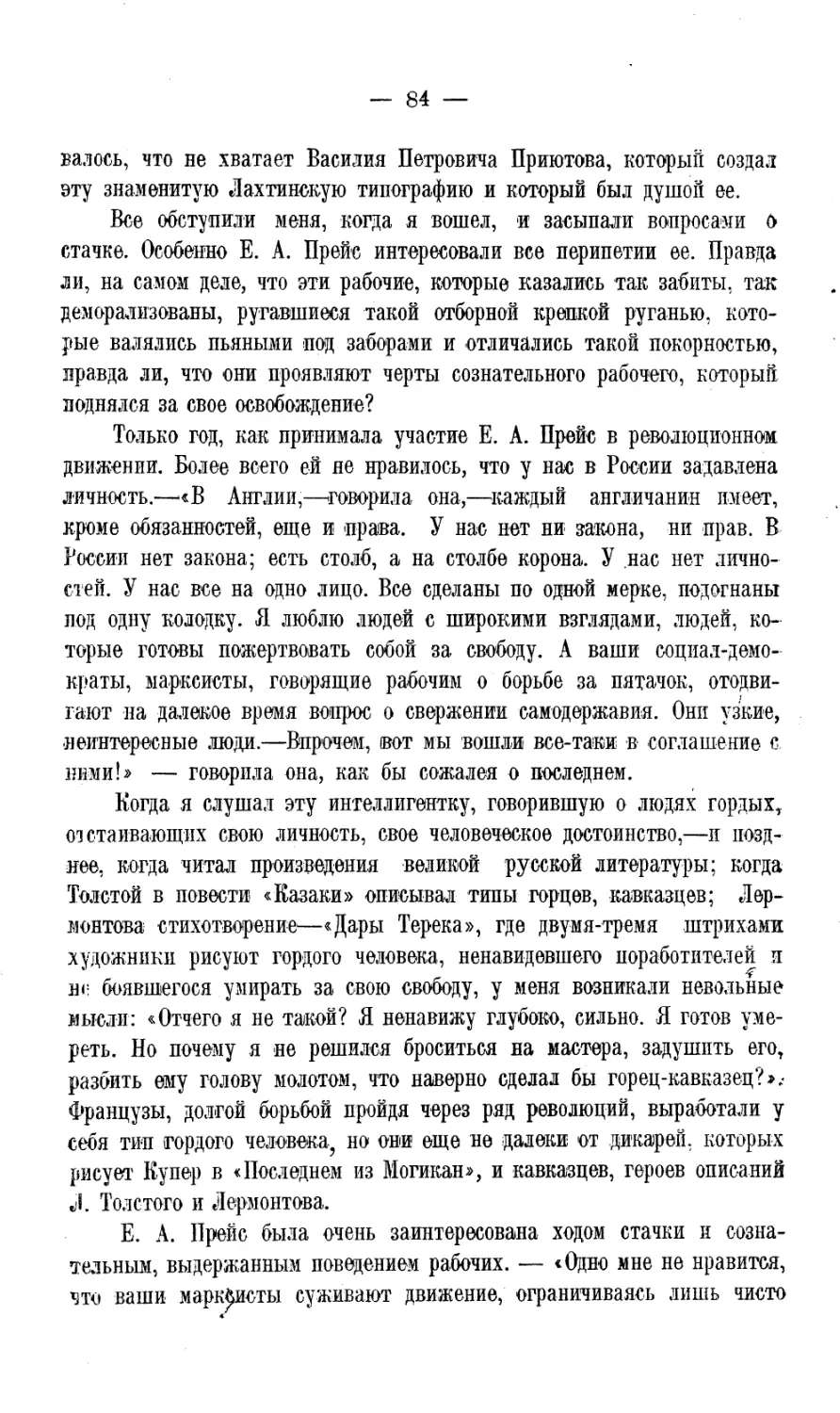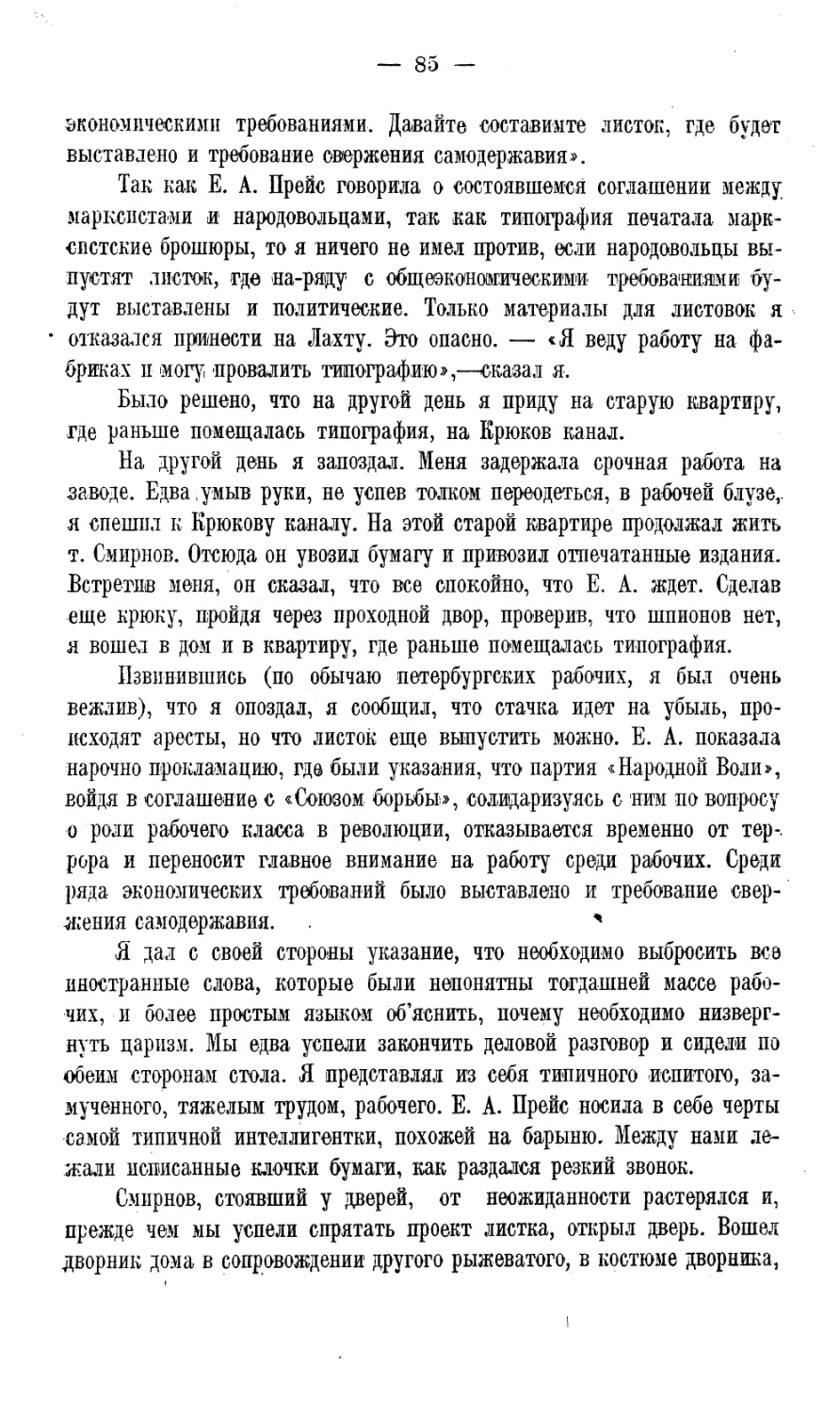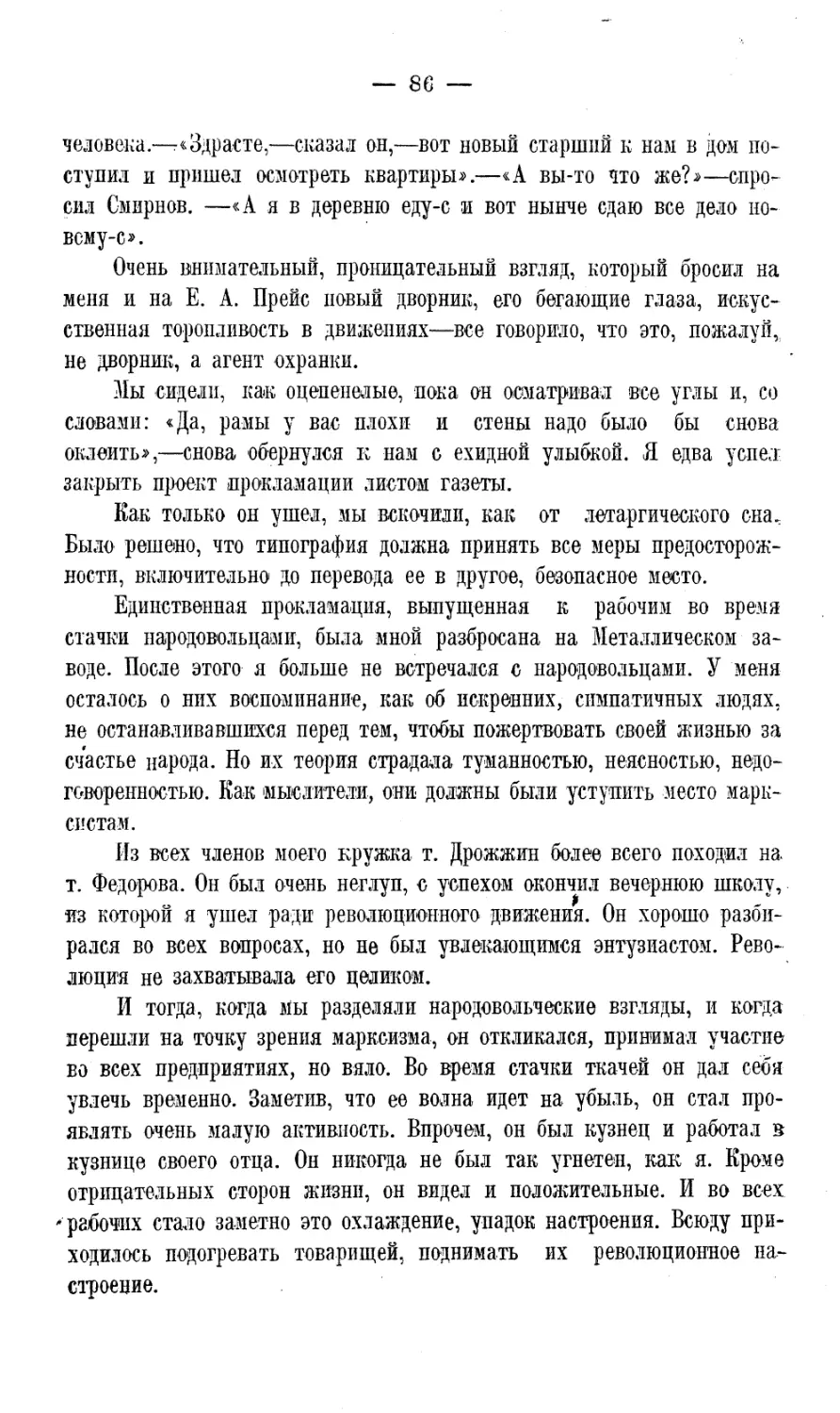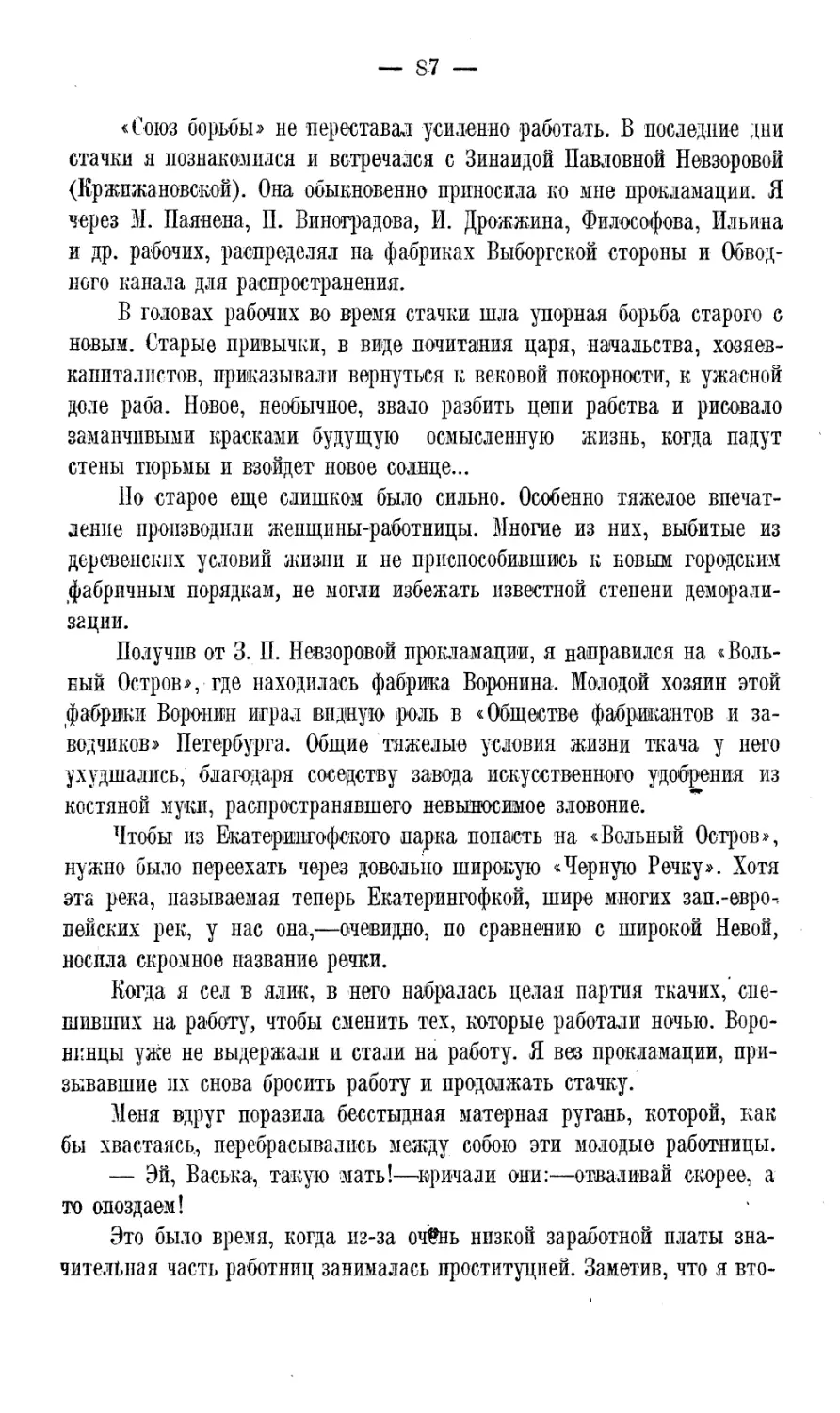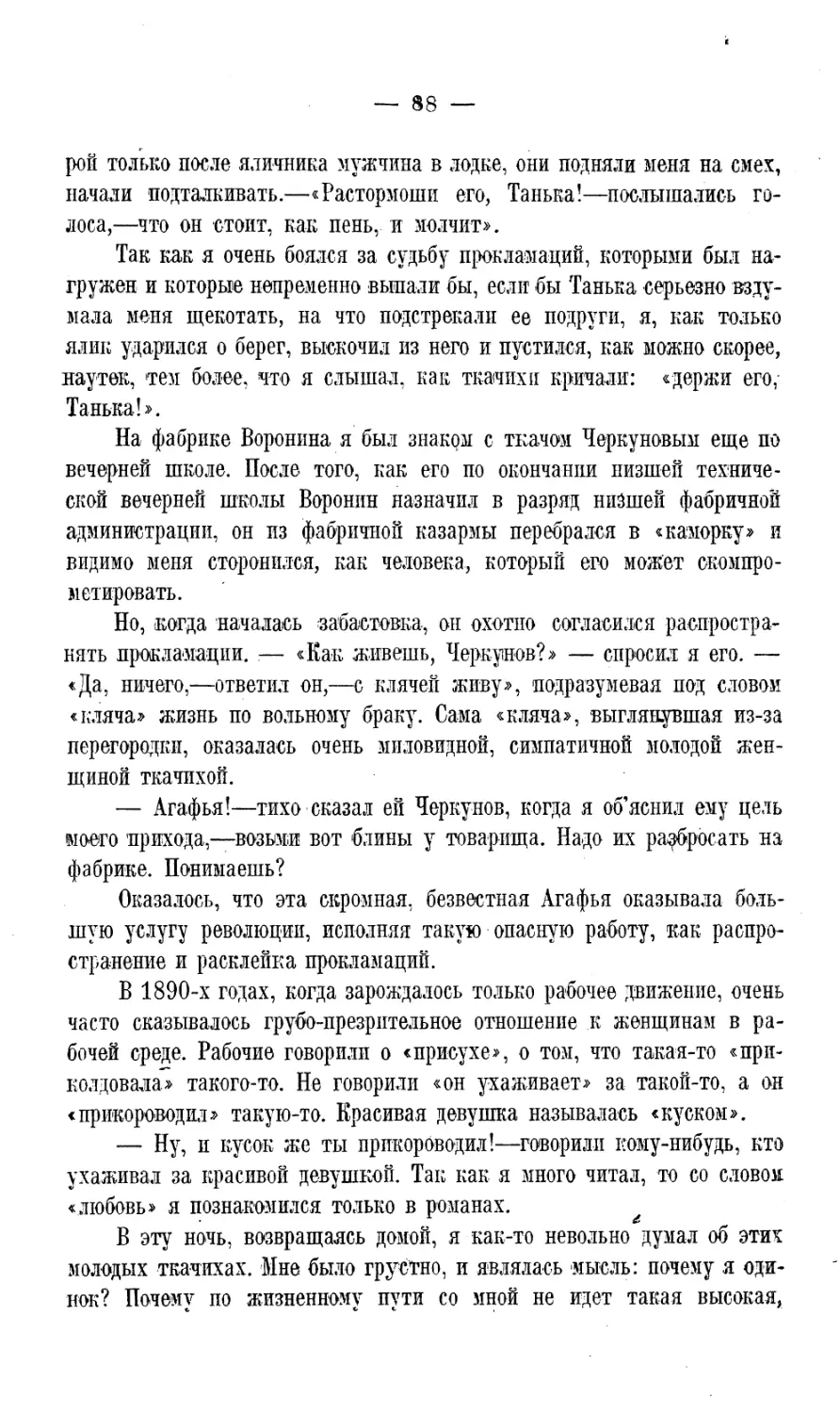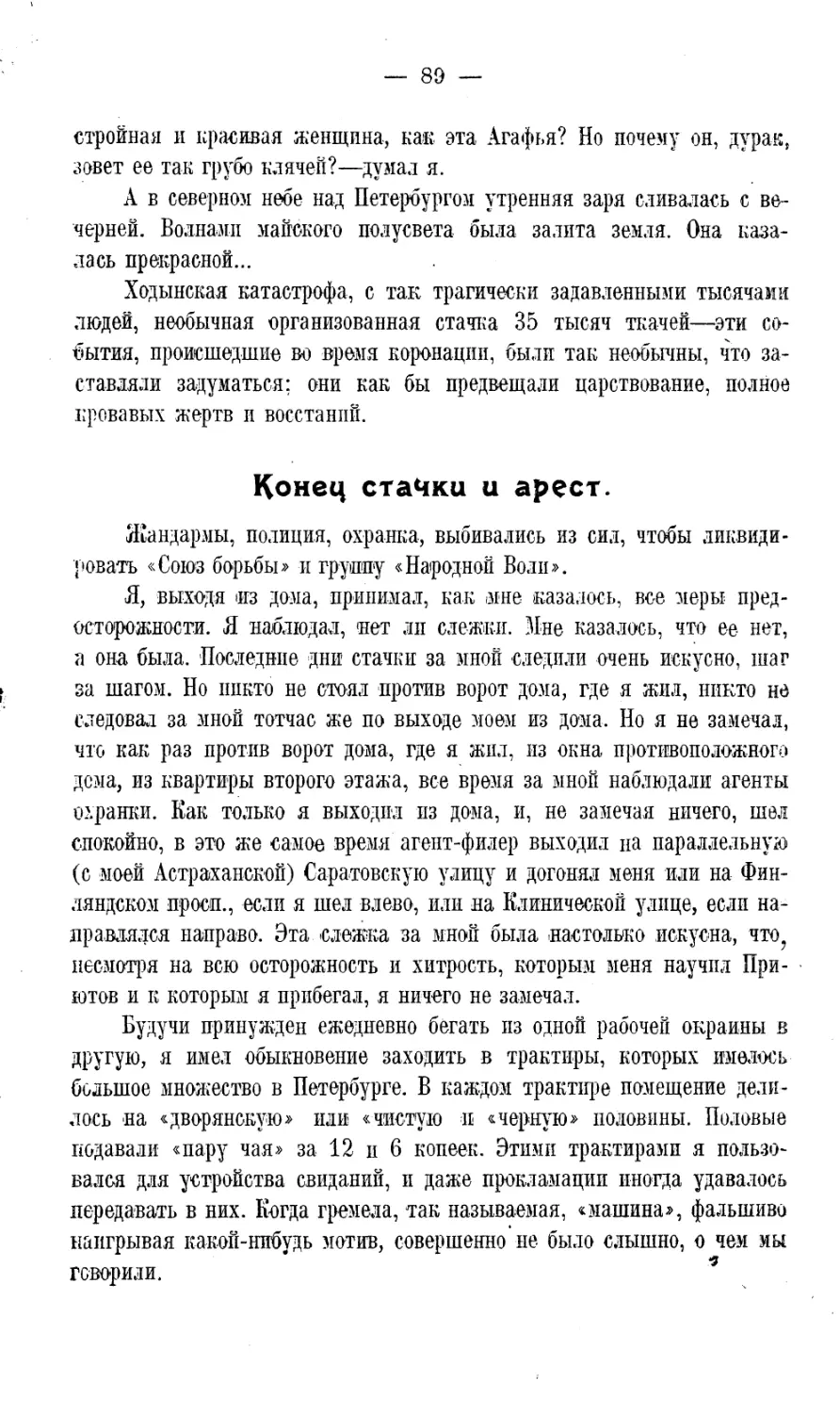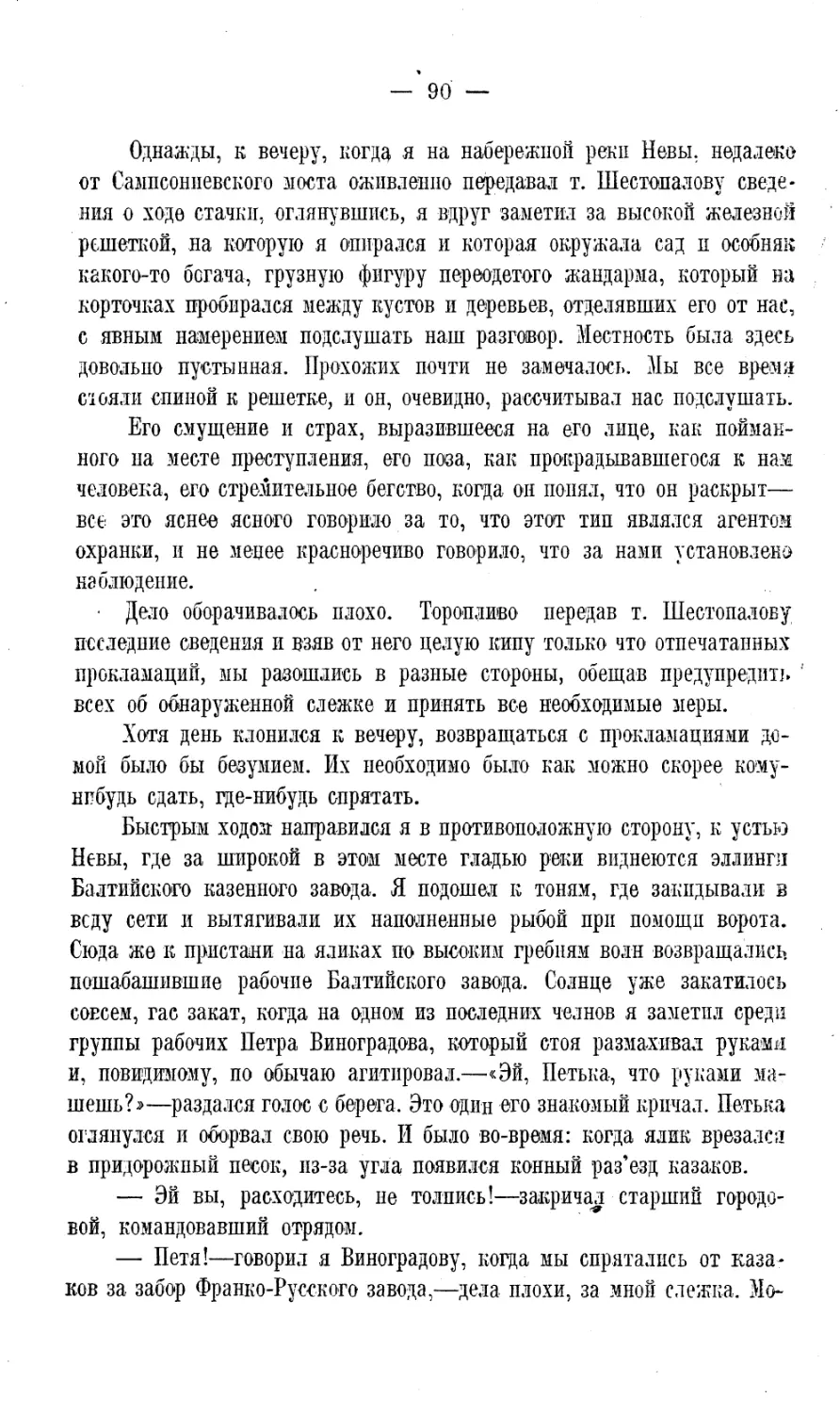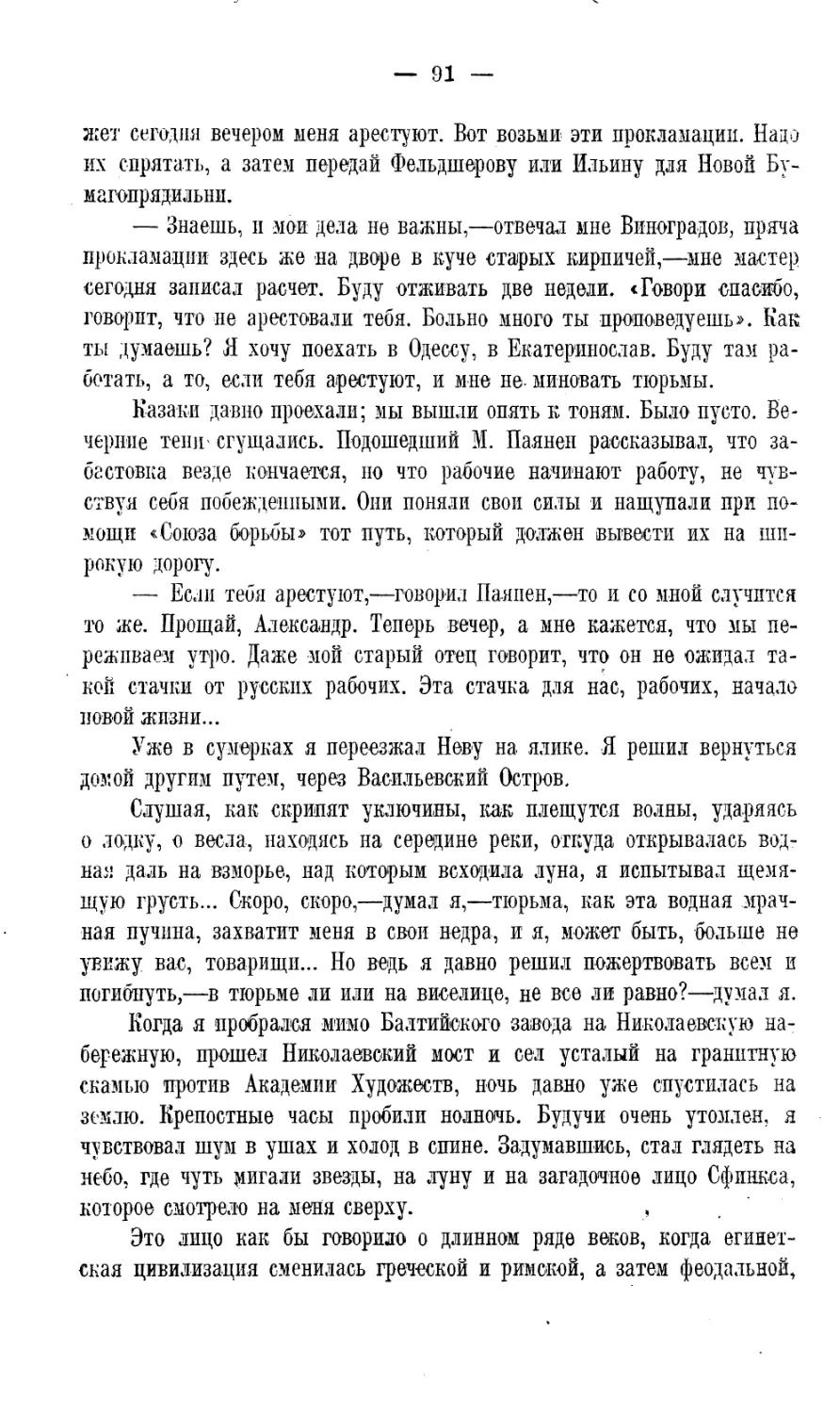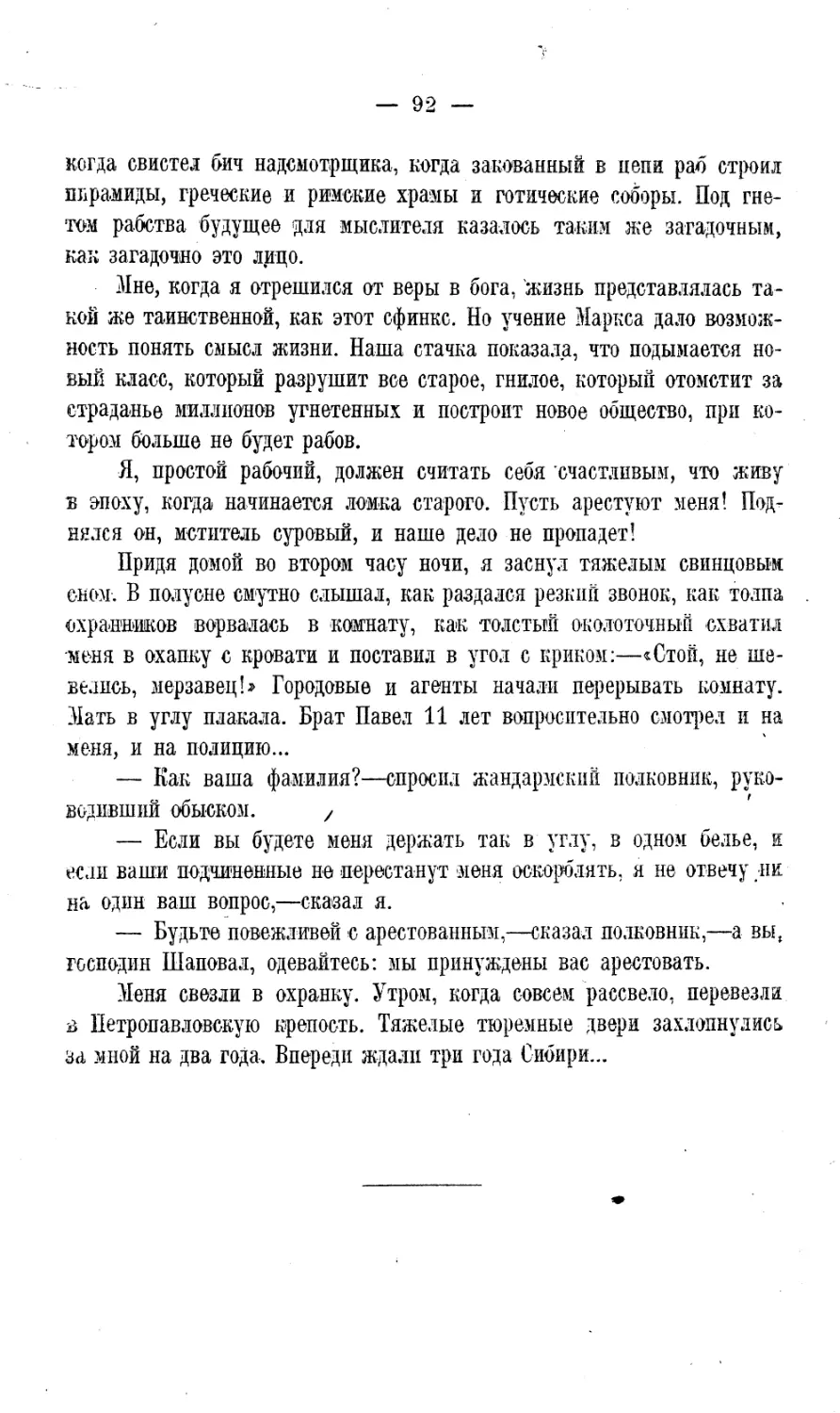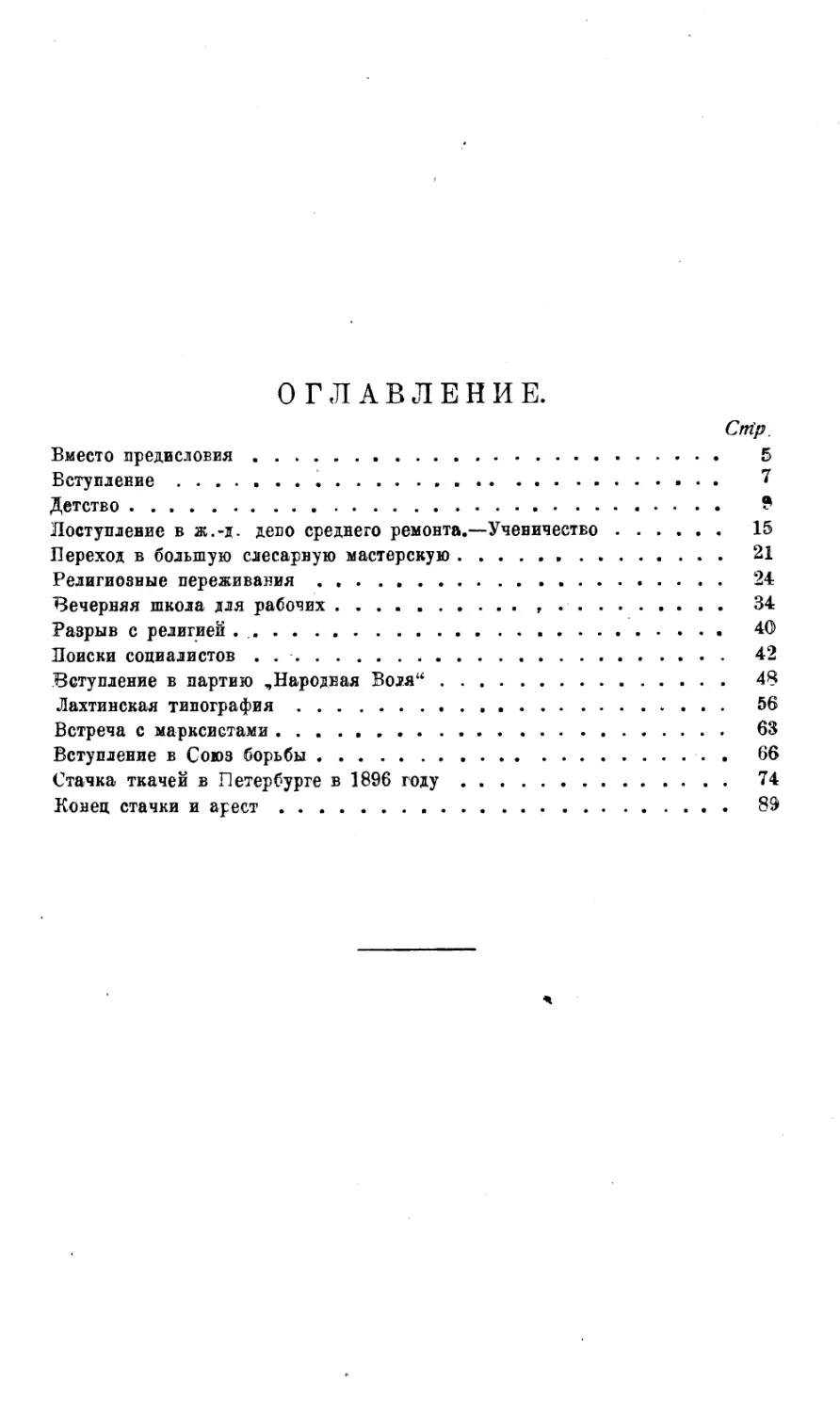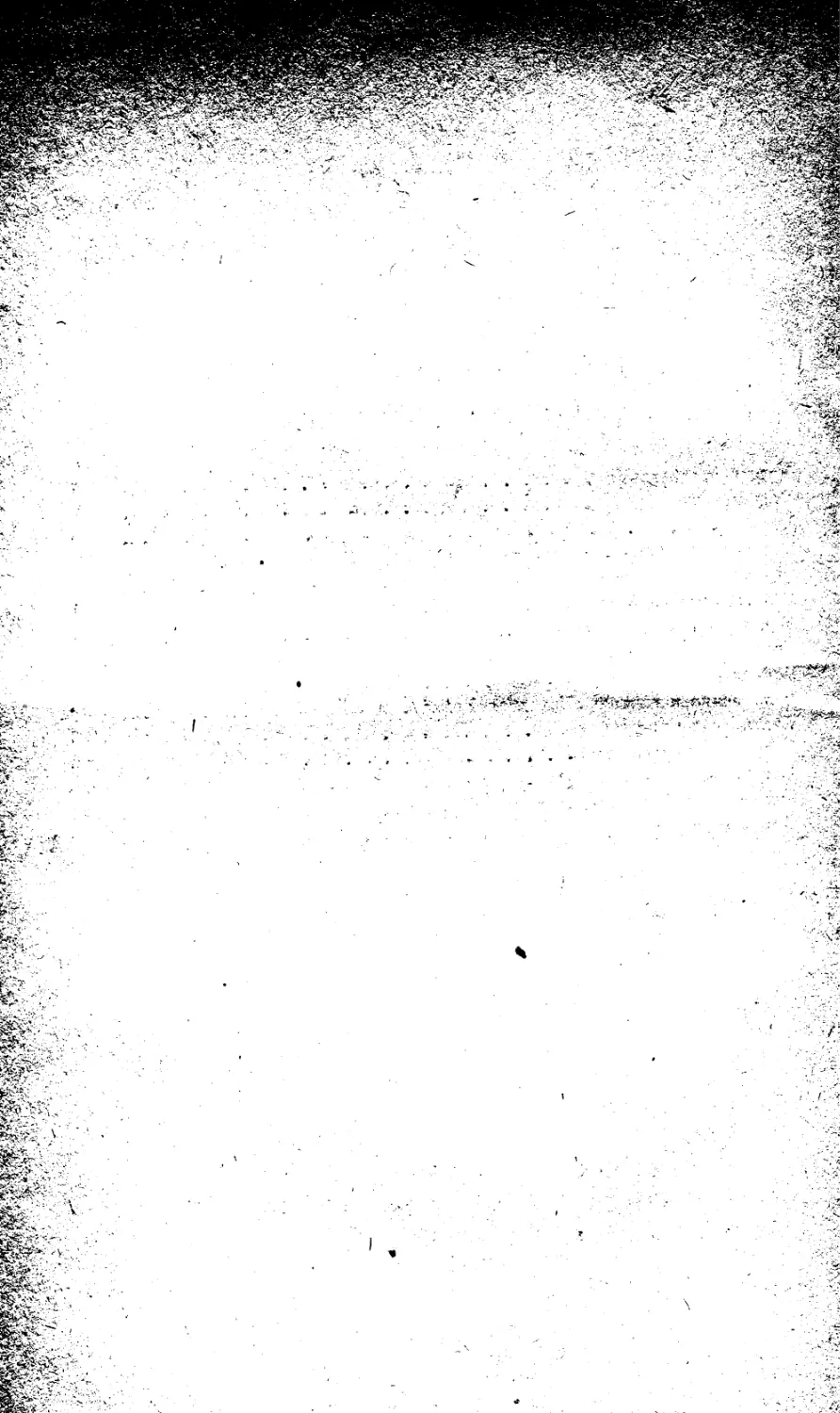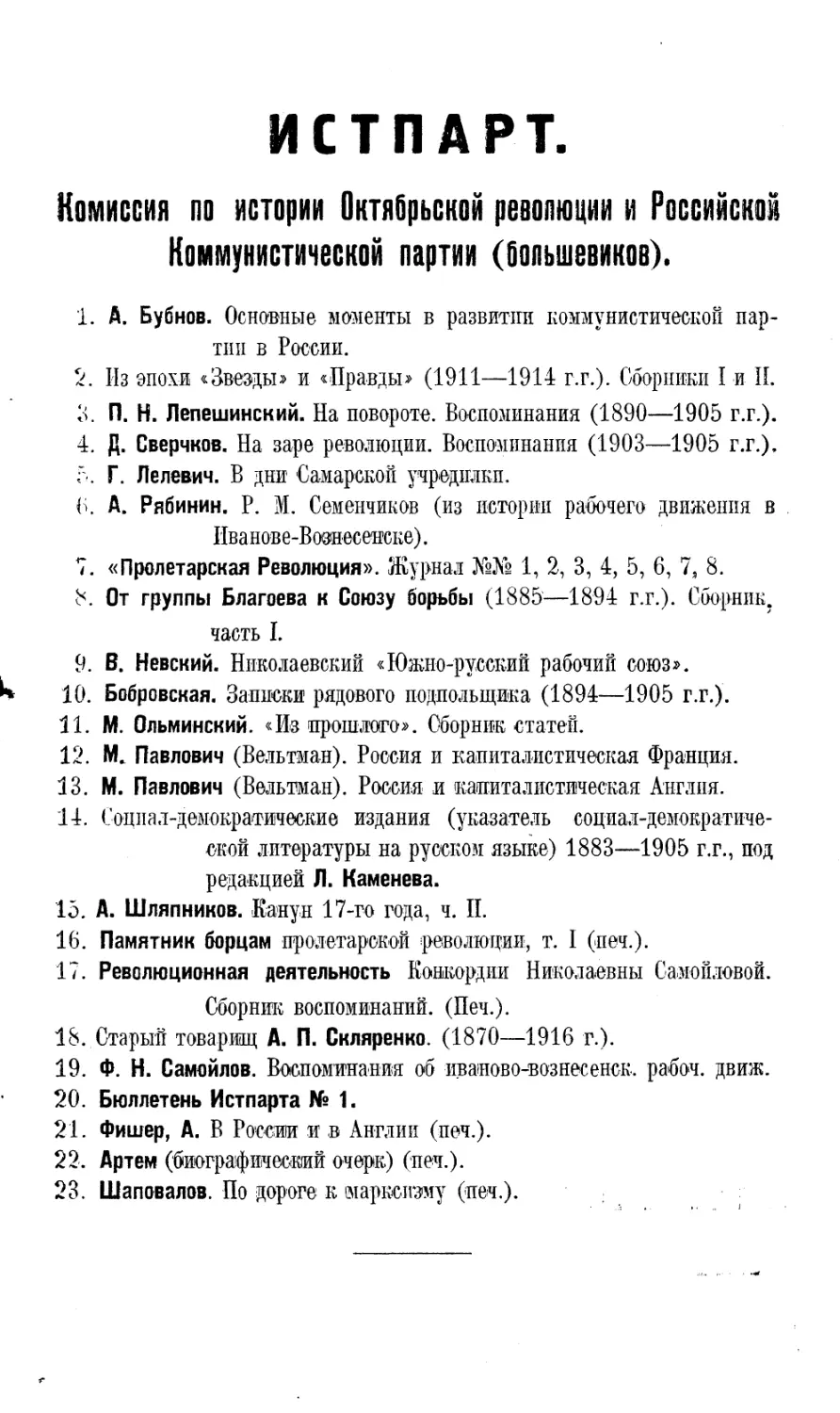Author: Шаповалов А.
Tags: воспоминания марксизм революция в россии левые социалисты-революционеры рабочее движение в россии
Year: 1922
Text
шшщщ
llllllüllllilltlllllllll
ч
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Р. К. П. (б-ков)
комиссия по истории октябрьской революции и р.к.п.(б-ков)
А. Ис. ШАПОВАЛОВ
ПО ДОРОГЕ
К МАРКСИЗМУ
ВОСПОМИНАНИЯ РАБОЧЕГО - РЕВОЛЮЦИОНЕРА
Ч А С Т Ь 1
(До лета 1896 г.)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва □ о □ о □ □ 1922
Р, Ц. Москва, № 1755.
3.000 экЗ.
16-я типография М. С. H. X., Трехпрудный, 9.
Автор настоящих воспоминаний. Александр Исидорович Шаповалов (или Шапувал) принадлежит к тому же поколению петербургских
рабочих, которому, главным образом, посвящен I выпуск сборника
■Истпарта «От группы Благоева в Союзу борьбы». Но он не так быстро
вошел в общую семью этих рабочих-социал-демократов, с которых
можно считать начало непрерывного существования социал-демократических организаций в Петербурге: Александру Исидоровичу пришлось
притти к партии длинным, окольным путем, через религиозные искания
и через организацию последних могикан народовольчества.
Описание этого окольного пути, изложенное сжато и ярко, представляет особый интерес и для наших дней.
Александр Исидорович в настоящее время продолжает работать в
Российской Коммунистической партии, на ответственных постах. Всякий, кто прочтет предлагаемое начало его воспоминаний, должен будет
«славиться, что продолжение их настоятельно необходимо. Рассказ, богатый содержанием жизни А. Ис. за четверть века работы в партии,
изложенный так, как сумел он 'Изложить его за первый период,—с таким же психологическим проникновением и такою же яркостью,—несомненно, сроднит с партией новое поколение коммунистов не хуже,
чем иной многоученый курс по истории партии.
Пожелаем же, чтобы т. Шаповалову предоставлена была возможность как можно скорее закончить свои воспоминания.'
Редакция.
Вместо предисловия.
К. Каутский после российской революции 1905 г. писал, что ни в
одной социалистической партии в мире не было такою относительно'
и абсолютно большого числа научно образованных пропагандистов социализма, как в России. Если это верно по отношению к 1905 г., то
еще более верно к 1890 годам, когда состав кружков, положивших основание нашей партии, являлся по преимуществу лнтеллигентским'.
Можно смело сказать о начале 1890 годов: на десять интеллигентов едва
находился один рабочий 1).
Путь, которым приходили интеллигенты к социализму, существенно в большинстве случаев отличался от пути, который вел к нему
рабочего. Теоретическое изучение приводило интеллигента к тому, что
он начинал чувствовать страдания миллионов и становился другом рабочих и всех угнетенных.
Для рабочего в те далекие времена, когда приходилось разбираться
во всех основных вопросах бытия, чаще всего, без помощи партии,
гларной причиной являлось отчаяние, которое охватывало его при виде
своего безвыходного положения и несправедливости богатых, и ненависть к угнетателям.
Автобиографии и воспоминания пишут больше интеллигенты. Но
если мало осталось последних, начавших работать в 90-х годах, то еще
меньше найдете товарищей рабочих, вступивших в партию в это время.
Рассказ рабочего, рядового члена партии, которому пришлось пробиваться к свету и вступить на революционный путь еще во времена
царского произвола, когда все пути для рабочих были закрыты, когда
не было ни партий, ни организаций, ни профсоюзов, когда одиночка
рабочий предоставлен был лишь самому себе, должно представить из-
!) Это утверждение автора грешит субъективностью. Оно легко объясняется
тем, что нами сказано выше об окольном пути.
Редакция,
— 6
вестный интерес для молодого поколения, воспитавшегося под непосредственным влиянием партии.
Мне пришлось быть в положении такого рабочего одиночки. Задумавшись под влиянием очень тяжелых условий о смысле жизни, №
попал сначала под тлетворное влияние религии. Освободившись от религиозного дурмана, пришел к мысли, что надо разыскать социалистов.
Образовав кружок рабочих около себя, я искал встречи с последними
около двух лет. Натолкнувшись в вечерней школе на кружок рабочих
народовольцев-террористов, я мечтал о мести царю и богатым и о
смерти с бомбой в руке.
Но знакомство с теорией марксизма в 1894 г. перевернуло все
у меня в голове. На место мрачного отчаяния, у меня засветила надежда.
Примкнув к «Союзу Борьбы» в 1895 г. в Петербурге, я принимал участие в первой знаменитой массовой стачке петербургских ткачей ■ в
1896 г. Неожиданный арест остановил этот период моего участия в революционном деижемии. Далее предполагается написать: 1) Тюрьма и
ссылка в Сибирь в 1896—1901 г.г. 2) Эпоха от 1901 г. до 1906 г..
3) Впечатление от бельгийских и французских рабочих и от эмигрантской Жизни в Бельгии и Франции от 1906 до 1911 г.г.
А. Нс. Шаповалов.
4 января 1922 г.
Вступление.
Я родился в 1871 г. Отличительной чертой старой царской России
являлись чрезвычайно тяжелые условия жизни для крестьян и рабочих, а также невероятная покорность, с которой рабочие и в особен-
сноти крестьяне переносили этот царско-помещичий гнет. Смелая поныла русских революционеров—народников, пытавшихся поднять крестьянство против царя и барина, не увенчалась, как известно, успехом.
Эта попытка, так красиво описанная Тургеневым в его повести
«Новь», вызвала прилив отчаяния у передовых людей того времени.
Россия казалась им погруженной в глубокий, непробудный сон. «И штоф'
очищенной всей пятерней сжимая, лбом в полюс опершись и пятками
в Кавказ, спит непробудным сном отчизна—Русь Святая»; говорит тот
же Тургенев в стихотворении «Сон», в повести «Новь».
Певец народного торя, поэт Некрасов, выразил это отчаяние в словах: «Ты проснешься ль, исполненный сил? Иль, судеб повинуясь закону, все, что мог., ты уже совершил,—создал песню, подобную стону,
и духовно на веки почил?..»
Такое неверие в способность русского рабочего и крестьянина подняться против царизма особенно укоренилось и в России, и за границей, после разгрома правительством царя Александра III партии «Народная Воля» в начале 1880 годов. Всем почти тогда казалось, что дело
революции в России навсегда проиграно, и что все смелые попытки революционеров должны были разбиться о вековую покорность русского
мужика своей доле.
Но это только казалось. На· самом деле, с развитием капитализма и
появлением рабочего класса в России, призыв тех смелых и гордых,
которые погибли в царских казематах, начал находить себе отклик
сначала только в головах передовых рабочих того времени. Несмотря
на видимую страшную отсталость и забитость народа, в недрах рабочего класса уже зарождалась и крепла работа мысли.
— 8 —
Начали пробуждаться отдельные личности из рабочих. Это были
первые ласточки грядущей весны, первые искры того пожара, который
становится теперь почти мировым. Я должен считать себя счастливым,
что принадлежу к числу тех немногих тогда русских рабочих, которые
проснулись к жизни еще в то время, когда все кругом погружено было
в глубокий сон, которые прокладывали дорогу к свету среди темной,
черной ночи.
Детство,
Хотя я родился в Полтавской губ., но своей настоящей родиной
«читаю наш горячо любимый Петербург. Мое детство, моя молодость,
мои воспоминания связаны с великим городом, откуда пошла русская
революция, в котором как бы проснулся свободолюбивый дух древнего
«Великого Новгорода».
Мой отец, Исидор Семенович, остался после солдатчины в Петербурге и нашел себе место сторожа вагонных мастерских СПБ-Варшав-
окой ж. д. Квалифицированные рабочие того времени—«мастеровые»*—
смотрели сверху вниз на «чернорабочих», не знавших ремесла, и на
сторожей. Отец был очень забит. Несмотря на то, что офицер (остзейский немец) гвардейского Кирасирского полка, у которого он находился денщиком, сломал ему несколько ребер и выбил несколько зубов,
он никогда не возмущался несправедливостью начальства и покорно
переносил все, что судьба посылала на его долю. В то же время он
отличался честностью, прямотой и не любил лжи. Кроме любви к «горилке», он отличался любовью к цветам, которых летом перед окном
разводил грядки.
Мать, очень умная женщина, происходила из Новгородской губ.,
.помнила крепостное право с его ужасами. Она много рассказывала о том
времени, когда была «дворовой», т.-е. самой обездоленной из крепостных крестьян, когда «баре» засекали крепостных на конюшне, меняли
людей на собак, из красивых крестьянок заводили гаремы и т. д.
Рассказывая о зверствах бар, она не возмущалась ими. По выходе
замуж она уехала было с моим отцом на его родину—Украйну. Но
огромное количество ведьм, по ее мнению бывших там, оборачивавшихся
в кошек и летавших на помеле·, в чем была глубоко убеждена она,
затем воспоминания о петербургской жизни (о печальном Севере) заставили ее упросить отца немедленно вернуться в Петербург.
Отец, мечтавший о собственном хозяйстве, о мельнице, не. в силах
был противиться желанию матери и после моего рождения, бросив все,
— 10 —
вернулся на берег Невы. Мне было всего два месяца, когда меня а
корзине привезли в Петербург.
Мы жили на дворе вагонных мастерских, где отец мой исполнял
обязанности ночного сторожа. Мои самые ранние воспоминания связаны
с заводом. Заунывные гудки, возвещавшие начало и конец рабочего дня,
удары молотов по металлу, шум и грохот машин, огромные массы рабочих, живой рекой вливавшихся в завод и выливавшихся из него,
запружая улицы—все это было моей стихией, среди которой я рос и
которая накладывала на меня свой отпечаток.
Другой жизни, кроме трудовой, я не знал. С восьмилетнего возраста, с ранней весны до поздней осени, я лас коров на пустырях заводского двора. Мой рабочий день длился с 4 ч. утра до 10—И часов вечера. Зимой работа около коров была еще тяжелее. Надо было приносить воду ведрами, задавать коровам корм, очищать лопатой хлев от
навоза и разносить по городу молоко.
В это время родители переселились с набережной Обводного канала,
между Варшавским и Балтийским вокзалами, где мы раньше жили,
на противоположный конец огромной территории мастерских Варшавской ж. д., в так называемые «флигеля». Это были три длинные двухэтажные здания, в которых помещались ж.-д. служащие. Они были
построены на самой окраине города. С одной стороны, находились железнодорожные мастерские, с другой—Митрофаньевокое кладбище.
Слева простирались огромные склады дров, справа находился загнивший
пруд и зловонная свалка нечистот. Здесь город уже терялся в пространстве; начинались огороды и огромное «Горячее ноле».
С чувством физической усталости я стал знаком с 8 лет. Нагруженный кувшинами с молоком, проделывая расстояние более пяти
верст, я ежедневно изнемогал от утомления, покрывался потом. Тяжелые кувшины оттягивали руки. «Свалка» издавала ужасное зловоние.
Придя в школу, я был уже утомлен до изнеможения.
Отец, которому трудно было содержать на 15 р. в месяц большую
семью, держал двух коров. Так как в его темном и грязном хлеву было
мало света и воздуха, они у него заболевали и дохли. Он и мать приписывали свои несчасш» «дурному глазу» завистливых соседей. Ввиду
того, что вновь купленные коровы помещались в тот же грязный и
темный хлев, они заражались и дохли; эти коровы нам мало помогали.
При очень тяжелом труде, мы питались лишь черным хлебом и кар¬
тошкой. «Брюхо не.зеркало,—говорил отец,—напихай его хоть сеномг
все равно».
В школу я приносил с собой черный хлеб с песком, который хрустел на зубах. Рано узнал чувство зависти, которое возникало при виде
того, как другие более счастливые дети, например, мой сосед «Фридька»,
лакомился белыми булками, хлебом с маслом, пирожным и т. д—«Попотчуй!»—говорил какой-нибудь бедный мальчик другому, более богатому, ученику, который ел белую булку. «Нако выкуси»,—отвечал
большей частью этот последний, показывая «фигу».
Как только я научился читать, явилась большая страсть к чтению.
Очень часто я просиживал за книгами целые ночи и доставлял матери
не мало хлопот, гоняя ее по всем соседям за книгами.—«Мама! Пойди,
попроси мне шишку почитать»,—обыкновенно приставал я к ней.—
«Вот покоя от тебя нет, греховодник,—кричала т меня .мать:—ведь
вчера я тебе достала книгу!»—«Но я уже ее прочитал, мама»,—отвечал я. Так как библиотек тогда не было и на покупку книг денег не
было, я приставал к матери до тех пор., пока она-не отправлялась к
кому-нибудь из машинистов выпрашивать книги.
Чтение, конечно, было самое беспорядочное и бессистемное. Я читал
все, что попадало иод руку. «Лубочная литература», как сказки про
Бову Королевича, Еруслаиа Лазаревича, жития святых, сонники,
переводные романы, путешествия и т. д. Мне очень нравилось описание
путешествий, рыцарские романы и повесть «Тарас Бульба» Гоголя.
Чтение развило у меня наклонность к мечтательности. Идя утром, нагруженный кувшинами с молоком, судя по характеру прочитанной
книжки, я то представлял себе, что буду или рыцарем, который защищает невинных, или путешественником, испытывающим невероятные
приключения, или мучеником, который умирает ш идеалы христианства, или русским· богатырем, удалым добрым молодцом, который убивает Змея Горыныча.
Пройдя длинное расстояние от Митрофаньевского кладбища до
Обводного канала, против Варшавского вокзала; я натыкался иа
тяжелые сцены большого ночлежного дома. Обыкновенно с весны до
поздней осени набережная Обводного канала и весь отлогий берег его
почти до самой мутной воды был покрыт группами ночлежников. Оборванные, старые и молодые, они производили очень тяжелое впечатление. Дрожащие от пьянства их руки и ноги, наглые и жалкие выражения их лиц, багрово-синие от спирта носы, их площадная ругань &
— 12 —
драки—все вызывало ужас, отвращение и жалость. Иностранец, приехавший в Питер к Варшавскому вокзалу, еще не встретив ни одного
представителя «великого русского племени» и натолкнувшись на эти
картины человеческого падения и нищеты, при в’езде в столицу выносил, вероятно, самое невыгодное впечатление о России.
Босяков и нищих в Петербурге в те времена было особенно много.
Хищническая хозяйственная политика царско-помещичьего правительства заставляла разорившихся крестьян искать заработка в городах.
Выбитые из деревенских условий жизни и попав в непривычную обстановку, предоставленные самим, себе, многие из них, не найдя работы,
•опускались, деморализовались и попадали в «Вяземские» и другие
«лавры», как назывались тогда некоторые ночлежные дома. Особенно
зимой, в двадцатиградусный мороз, было тяжело смотреть, как они
в одних рваных «пинжаках» или в одних рубашках и в «опорках» на
босую ногу, дрожащие и окоченелые, вприпрыжку перебегали из кабака в кабак. Кабавдт трактиров было великое множество. «В Петербурге денег много, только даром не дают»... «Кабаков, трактиров
много, чаем голову хоть мой!»—говорит одна из частушек того времени.
Как ни тяжела была, моя жизнь, более всего я боялся ослабеть настолько, чтобы не очутиться в Вяземской или другой лавре, в этом
своего рода Дантовом аде, откуда не было возврата, где человек оставлял
всякую надежду.
Моя мать, не будучи в школе, выучилась читать, а отец оставался
до'смерти неграмотным. Будучи сам набожным, он заставлял мепй молиться и брал с собой в церковь. Я совершенно ничего не понимал, что
читают я поют на непонятном, мертвом церковно-славянском языке.
Хождение в церковь, долгие стояния были для меня сначала непонятной
и тяжелой обязанностью. Слушая, как дьячки на клиросе гиусавят, я
или рассеянно зевал по сторонам, или порывался уйти совсем домой.
Только получив от отца зуботычину, когда он меня рвал за ухо или
за волосы, я отстаивал до конца скучные церковные службы. Попов не
уважал. С раннего детства слышал множество самых неприличных,
оскорбительных, осмеивающих потов, дьяконов, архиереев и архимандритов рассказов, которые обрисовывали в самом непривлекательном свете
это сословие. В большие праздники, когда попы обходили наши флигеля
с крестами, на похоронах, крестинах, свадьбах они напивались до такой
степени, что теряли даже камилавки и кресты.
— 13 —
Особенно строго отец заставлял соблюдать посты. На последней:
неделе Великого поста говели. На другой или третий день после исповеди шли обыкновенно в Новодевичий монастырь к причастью. Возвращаясь домой, православные никак не могли удержаться от соблазна,
чтобы не зайти в кабак. Дверь в последний не переставала хлопать;
клубы серого, сивушного пара вырывались наружу вслед за входящими
туда, только что причастившимися, православными. Отец не вытерпе-
вал.—«-Не говори маме!»—бросал он мне, и сам скрывался во внутренности грязного, вонючего кабака...
Так как дорога до дому была длинная, а кабаков было много, то·
выпивая в каждом по «шкалику», отец приходил домой с «полштофом»
водки в кармане в таком виде, что мне перед матфыо нечего было
скрывать.
— Ах ты, бессовестная свинья!—обыкновенно кричала на него·
мать:—пьяница, опять нализался!—Благочестивое настроение последних
дней поста., кануна большого праздника, таким образом, нарушалось.
Мой отец никогда не дрался с матерью. Молча опускался он на табуретку, облокачивался на стол. Голова его бессильно свисала. Его начинало рвать на пол, в грязное ведро, куда из желудка вместе с выпитой
водкой выбрасывалось и «святое причастие», «тело Христово». (Это
почему-то не считалось святотатством.)
Огромную роль играло в моем детстве соседнее Митрофаньевское·
кладбище. Осенью отсюда вместе с воем ветра доносились заунывные
похоронные напевы, говорившие о бренности всего земного. Весной и
летом оттуда слышались красивые трели соловья. На кладбище было-
много зелени; оно походило на небольшой лесок и для городских жителей служило местом гулянья и отдохновения по праздникам. Старинный обычай славян праздновать «тризну» приводился в исполнение
здесь в день храмового праздника, 7-го августа. С утра дороги на кладбище переполнялись торговцами и становились похожи на ярмарку.
Огромное количество народу переполняло в этот день кладбище..
Верные завету святого князя Владимира, что «веселие Руси есть пити»,
приходившие в этот день православные ухитрялись, несмотря на огромный наряд полиции, отбиравшей бутылки с водкой и пивом, проносить-
«хмельное питье» в огромном количестве.
Окрестные кабаки, пивные, ренсковые погреба хорошо торговали в этот день, огромная масса православных перепивалась, пела
песни на могилах; плясали, играли в горелки и поздно вечером возвращались домой, едва держась на ногах. Пьяных было до того много,
что казалось, что вся толпа качается из стороны в сторону... Упавших,
которых не выдерживали ноги, подбирала полиция. К вечеру все
окрестные участки оказывались набиты пьяными. Те, которые сваливались но обеим сторонам совершенно пустынной дороги и оставались неподобранными между могил, подвергались ночыо ограблению
«стрюцкими» и «посадскими»; со стороны этой дороги и с кладбища
после полуночи слышались глухие, сиротливые призывы о помощи:
караул, грабят!
На другой день я с другими мальчишками с рассветом направлялся на кладбище. После «тризны» на могилах многие из верующих
оставляли пустые бутылки; мы продавали их и покупали недоступные
для нас булки, пирожные, леденцы (конфеты) и даже книжки. Начав
с бутылок, мы кончали тем, что начинали срывать с 'крестов литые из
бронзы иконки и крестики. Набрав по нескольку фунтов таких иконок
и крестов, мы молотками на рельсе били до тех пор по лицам Христа и
других святых, пока барельефное изображение не расплющивалось.
Затем с помощью зубила эти иконки и кресты рубились на куски и
иод видом собранных на свалке отбросов завода продавались по 15 коп.
за фунт в железные лавки, которых было много вокруг заводов.
Лазая о ловкостью обезьяны через кладбищенские заборы, копаясь в отбросах на вонючей свалке, я всегда был оборван и перепачкан и очень походил на маленького нищего.
Бывали моменты, когда кладбище, дававшее возможность покупать
шоколадки, леденцы и другие сладости, внушало мне- ужас. Это
было после того, как в той или иной его части находили удавленника
или когда отец осепними или» зимними вечерами командовал:—«Сашка!
Беги за сороковкой!».—Дорога в ренсковой погреб лежала через кладбище. Я был тогда убежден, что удавленники и вообще мертвецы по
ночам встают из могил и охотятся за детьми, из которых пыот кровь.
Только угроза наказания розгами и привычка повиновения старшим заставляла меня решаться на столь опасное путешествие. С
сильно бьющимся сердцем и холодея от ужаса, вступал я на страшную
территорию, где из-за каждого креста, как казалось, подстерегали
вставшие из могил мертвецы, в белых саванах. Тропинка вела между
могил и крестов, опасность была со всех сторон. Завывание осеннего
ветра, скрип деревьев, криви ночных птиц, ночные шорохи—все в моем
разгоряченном воображении рисовало одну картину страшнее другой.
Закрыв глаза, спотыкаясь о могилы, падая, я пробегал, покрываясь
— 15
холодным потом, эту, населенную призраками, выходцами с того света,
чертями и лешими, местность. Совершая такие экскурсии за водкой
довольно часто, я лрившал презирать опасность, ,и у меня стала, вырабатываться сила волн,
Позднее на кладбище Новодевичьего монастыря я, читая могильные
надписи,, натолкнулся на памятник писателй Некрасову, и отрывок, из
его стихотворения, вырезанный на памятнике, произвел на меня потрясающее, неизгладимое впечатление:
Сейте разумное, доброе, вечное
Сейте—спасибо вам скажет сердечное
Русский народ.
И вырастая на 'окраине города, будучи плохо одет, даже оборван,
встречая глубоко презрительное отношение, чувствуя на себе как бы
печать отвержения, я добровольно причислил себя к низам человеческого общества, к черной кости, и относился с большим почтением к
хорошо одетым, похожим на «господ», людям. Они все более казались мне представителями высшего, блестящего, счастливого и недоступного для меня мира.
Поступление в гк.-д- депо среднего редюита.
Ученичество.
Мне исполнилось 13 лет (в 1884 г.), когда ж.-д. мастерская среднего ремонта приняла меня в свои недра. Хотя сделаться слесарем
совпадало с моим желанием, хотя я не был избалован судьбой и уже
прошел суровую школу, но после дня, проведенного под началом старика медника Алексея Игнатьевича Соколова, я хотел сбежать. Вместо
того, чтобы дать мне возможность учиться ремеслу, меня с утра до
вечера гоняли за водкой·. Е моему несчастью, Соколов, с большой седой
бородой, оказался самым горьким пьяницей в мастерской. В его «медницкую» сходились вс-е слесаря, обсуждали вопрос, где бы достать
денег, чтобы опохмелиться, устраивали складчину, и как только находились деньги, медник кричал: «Сашка, беги за· полштофом».
Еабак находился на расстоянии версты. Ввиду того, что было необходимо обманывать бдительность заводских сторожей, следивших,
чтобы не проносили на завод водку, я принужден был в жесточайшие
/
— 16 —
морозы пробегать это расстояние в одной рабочей блузе с засунутыми
за рубашку бутылками. Конечно, я жестоко простуживался и очень
часто хворал. Особенно много приходишь бегать за водкой после получки, когда у Алексея Игнатьевича и у других пьяниц ежеревно болела с похмелья голова, 1 они испытывали непреодолимую потребность
опохмелиться. Выпивки устраивались при всяком удобном и неудобном
случае. Рождение ребенка, крестины, похороны, свадьбы—все эти события ознаменовывались выпивкой. Когда новый рабочий поступал на
завод, он принужден был ставить товарищам «привальное». Когда он
брал расчет, с него требовали «отвальное». При всех этих обстоятельствах по нескольку раз в день я слышал приказ: «Сашка, беги за полштофом!».
Особенно сильно напивались в день молебна иконам, которые висели в каждой мастерской. В эти дни, по окончании молебна, все напивались до положения риз.
Когда все было пропито, и в карманах не оставалось ни получки,
совещание пьяниц решало прибегнуть к хитрости. Медник кричал:
«Сашка, беги за треской!». Пока я бегал за этой соленой рыбой, мои
пьяницы охотились за мышами и крысами. Пойманную мышь или
маленькую крысу умерщвляли, расплющивали и старательно укладывали между слоями принесенной трески. Когда, по мнению совета
пьяниц, мыши достаточно пропитывались соком трески, кто-нибудь
из слесарей отправлялся со мной к тому лавочнику, у которого мною
была куплена рыба.—Это у вас Сашка купил треску?—грозно вопрошал слесарь—У меня,—отвечай лавочник,—что же, треска хорошая-«,
первый сорт!—Какой первый сорт,—кричал слесарь,—треска гнилая и в
тому же с крысой!—Как с крысой? Не может быть!—Да так, с крысой;
смотри,' борода, чем ты торгуешь! Вот мы пойдем в полицию, составим
протокол!—грозил слесарь.
Кончалось обыкновенно тем, что лавочник, хотя и подозревал
обман, во избежание скандала, шел на мировую, давал отступного на
четверть водки и выдавал еще фунта два хорошей, уже «без крысы»,
трески на закуску.
Некоторые рабочие до -того были отравлены спиртом, что от одной
рюмки впадали в состояние галлюцинаций. Им мерещились черти и
лающие на них собаки. Некоторые из них говорили: «Если бы мне
дали бочку водки,, я попил бы и помер бы!..».
Веб старики-мастеровые того времени прошли суровую школу
17 —
ученичества в течение пяти лет в маленьких кустарных мастерских.
Вспоминая, как подмастерье гонял их в течение первого года ученичества за водкой, как хозяин морил их голодом, не платя ничего, и -лупил
их шпандырем, они считали нас, учеников, крупных предприятий, где
обучают ремеслу и еще платят, даже счастливчиками.
— Ты еще не знаешь, Сашка, кузькину плеть!—говорили они,—
и при этом описывали, как бывало рассвирепевший хозяин рвал их за
уши и бил шпандырем... Так как меня уже не рвали за ухо- и не лупили шпандырем, то я должен был себя еще считать счастливым.
Только через год,—после того как, бегая по морозу без теплой
одежды, я очень сильно простудился,—я вырвался из-под власти медника Соколова и перешел в слесарную мастерскую.
Слыша постоянно от взрослых слесарей, что еще должен считать
себя счастливыми, что меня не бьют и платят 30 к. в день жалованья,
я совершенно примирился с. положением слесарного ученика. До
известной степени огрубел, опустился, перестал читать книги, научился
курить, пить и ругаться самой отборной, крепкой русской руганью.
Эта ругань слышалась целый день в мастерской: «мать, мать, мать!»
кричали в одном ее углу, «мать, мать, мать!» раздавалось в другом.
Рабочий день с «вечерами» (сверхурочные часы) длился с 7 утра
до ЮУг вечера. Работали также все воскресенья и такие большие
праздники, как Рождество, Пасха и т. д. От постоянной тяжелой ра
боты я начал еще более тупеть... С моим товарищем Володькой Вагнером по вечерам мы ходили в портерную. Возвращаясь назад подвыпивши, физически очень сильный Володька сваливал фонарные столбы,
перегораживая пустынную дорогу к. кладбищу, по которой мы возвращались. Я, конечно, помогал ему...
Осенью и зимой часто устраивались кулачные бои. Два враждебных лагеря шли друг против друга, стенка на стенку. Когда к подросткам начинали примыкать взрослою рабочие, бой иногда принимал
жестокий характер. По окончании такого сражения расходились с фонарями под глазами, с выбитыми зубами, окровавленными лицами, поломанными ребрами. Однажды я получил такой чудовищный удар в
спину, после того, как предыдущим ударом был свален на землю, что
остался лежать на месте замертво, без чувств...
Состав рабочих мастеровых нашей мастерской был далеко не однороден. Русских было немного больше половины. Остальные состояли из
2
А. И. Шаповалов.
— 18 —
финнов, немцев, латышей и поляков. Немецкое влияние было очень
сильно. Старший помощник начальника депо СПБ-Варшавской ж. д.
Вагнер, Иван Иванович, старший монтер Янике—были немцы. Даже
запись в книгу ремонта паровозов производилась на немецком языке, и
русские коренные рабочие, входя утром в мастерскую, говорили не
«здравствуйте», а «морген».
Немцы, финны и т. д. значительно отличались от русских рабочих. Последние, получив получку, не находили сил бороться с соблазном, который представляло из себя хмельное питье, и, ослабев, не выходили на работу дня по три. Первые пили водку ежедневно и регулярно, что не мешало им ежедневно выходить на работу. Затем они
считались лучшими рабочими, знающими свое дело. Держали себя с
большим достоинством, одевались по-европейски и реже крали с завода
медь, инструменты и т. д. Будучи грамотны, более культурны, обладая большими, чем русские, знаниями, они не только не любили русских, но относились, встречая одно отрицательное, ко всему русскому
критически и даже с презрением.
Иностранец, попадая в другую страну, скорее, чем местный житель, замечает ее недостатки. Ему надо прожить в чужой стране долго,
несколько лет, чтобы, научиться находить хорошие качества и достоинства народа, в среду которого попал.
Иностранец, попавший в Россию при Александре III, наталкиваясь
на варварство, азиатчину, на хамство и страшную некультурность, не
мог выносить благоприятное впечатление о России. Особенно некоторые
рабочие финны и поляки ненавидели все русское сильно и глубоко,..
Я, сталкиваясь с ними, задавал себе вопрос: почему, за что они нас так
не любят, за что презирают? И этот вопрос будил мысль, заставлял
думать, относиться более критически к нашей русской действительности.
Самыми отсталыми на ж. д. являлись кочегары· и чернорабочие.
Они жили в казарме, поражавшей грязью. Это были крестьяне, оторванные от сохи, прибывшие в Питер,- чтобы подработать и вернуться в
деревню. Это были люди очень выносливые, с самыми минимальными
потребностями. Проработав известное время и накопив денег, кочегар
покупал «тройку»-костюм, лакированные сапоги с вышитыми блестящими голенищами, пунцовую рубаху с поясом, гармонику-«тальнику» и возвращался к себе в деревню. В свободное время они ходили толпами по улицам, наигрывали на «тальянках» русскую и пели
\
*
— 19 —
частушки: «Я во Питере живал, много денег наживал, платки девкам
покупал!» и т. д.
Слесаря, помощники машинистов и машинисты составляли аристократию рабочих. По одежде, по привычкам, они мало отличались от
немцев и финнов. Они невольно им подражали. Карманные часы являлись роскошью, мало доступной для рабочих. Чтобы не опоздать на
работу, 11грихо:пии к заводским воротам минут за 20-25 до свистка.
В ожидании собирались летом на скамейках, а то и стоя у ворот завода,
а зимой в будке сторожа Шестакова. Среди представителей старого
поколения находились такие, которые, вспоминая «доброе старое
время», отчасти жалели, что прошло крепостное право. Старик Шестаков являлся одним из последних представителей старых Николаевских
солдат, доживавший свой век в «Чесменской богадельне»/ за Московской заставой. Будь они переодеты в какую угодно одежду, в этих
60-летних стариках с первого взгляда можно было узнать солдат
Николая I, которые прошли 25-летнюю службу, и во всем существе
которых как бы запечатлелись слова, приписываемые Николаю I:
«десять убей, одного выучи!».
Крепкий, прямой, переживший все ужасы и всю муштру, старик
Шестаков с презрением относился к молодому поколению, и был убежден, что оно «погибает». Он был всегда во власти старого, вспоминая свои походы и оборону Севастополя. Когда нужно было вызывать
рабочих для того, чтобы паровоз, в’ехавший на поворотный круг, поставить в паровозное стойло, он, как прежде перед полком, кричал
перед паровозом таким громовым голосом: «иа круг!», что мы всегда
вздрагивали.
Он, кузнец Кудимыч и плотник Копыл всегда пытались доказать,
что после отмены крепостного права люди испортились, развратились,
не стало «страху Божьего» и почтительности к старшим.
Стуча своей толстой палкой, Кудимыч со своей седой бородой и
густыми волосами, подстриженными по-русски в кружок, кричал па
молодежь: «Эх, на конюшню бы вас, да всыпать вам пятьдесят горячих!».
Но старик латыш, слесарь Аосер, выступал против русской отсталости, грубости. Будучи сторонником немецкой культуры и указывая
на превосходство европейцев над русскими, он отдавал дань уважения
таким русским, как Копыл. Хотя в длинной бороде этого старика, которая свалялась в войлок, и находили куски навара и солому, но,
2*
— 20 —
глядя, как в его руках топор «играет» ; как с одним только топором к
долотом он, русский плотник, мог выстроить г дом, и телегу, и мебель
для дома, на что немцу понадобился бы целый ящик инструментов,
Ассер, много видевший на своем веку, говорил: «Способный народ вы,
русские, только попы вам мешают!».
Среди молодежи, против которой так негодовали старшей, выделялись некоторые, которые как-то невольно отражали некоторые черты,
нашей свободомыслящей интеллигенции. Кузнец Кусов, катальщик
Семенов, вздохнув, вдруг сказал: «Эх, скорее наступила бы револю-
насмешливо н к старым порядкам, и к религии.
Однажды в 1885 г., когда утром я раздувал горн в медницкой мастерской, а старик Соколов жаловался на горькое житье, катальщик
Семенов вздохнув, вдруг сказал: «Эх, скорее наступила бы революция!». Когда я обернулся при этих непонятных словах, то заметил, как
внезапно побледнел медник Соколов, как он схватил Семенова за руку
и в ужасе шептал: «Что ты, что ты, с ума сошел!.. Молчи!..». Слово·
«революция», которое мне тогда было непонятно, очевидно, в то время,
когда не заглох еще гром от взрывов народовольческих бомб, было
многим известно. Невольно я припомнил, как даже мой отец, при всей
его забитости, знал это слово.
В 1878 г. я стоял, прислонившись к забору Московской заставы
с моими родителями и смотрел на торжественное вступление петербургских гвардейских полков после победы над Турцией в Петербург
через московские Триумфальные ворота. Во время прохода войск за
невысоким забором, отделявшим нас от огорода, кого-то арестовали.
Произошло замешательство. Когда мы возвращались, у моего отца,
тряслись руки, и он что-то говорил матери о студентах, о бомбах
революции. По возвращении с ночного дежурства, отец довольно часто·
в это время рассказывал о взрывах бомб, которые, по его словам, бросали негодяи, безбожники, студенты, нигилисты.
У меня остался в памяти день 1-го марта, в который рукой народовольца Гриневицкого был убит царь Александр II. Я в это время
учился в Петербурге, в городской начальной школе. Учитель с расстроенным видом раньше времени, без видимой причины, закрыл
школу и распустил нас по домам. На улицах испуганные полицейские·
приказывали закрывать лавки, магазины. С необычной торопливостью
все в каком-то испуге запирались и прятались. Пока я дошел до дому,,
весь город замер.
— 21 —
— Мама,—спросил я,—отчего нас распустили и отчего все лавки
закрыты в городе?
— Царя убили, — ответила в иопуте моя мать, — ох, убили
его батюшку окаянные безбожники социалисты! — А день был
теплый. Рыхлый снег таял. Громко кричали галки и вороны. Пахло
весной. У меня осталось воспоминание об этом дне, как о таком, когда
чувствуется приближение весны.
Будучи шестнадцатилетним подростком, я был настолько еще несерьезным, что совершенно не мог понять, что означало слово революция. Жизнь я принимал, как она есть. Я как бы плыл по течению,
не заботясь, куда унесет мою ладыо быстрая рева жизни. Прислушивался в тому, что говорили Кудимыч, Шестаков и кузнец Кусов, но не
мог понять, кто ш 'них прав. Меня очень интересовало слесарно-тоиар-
ное ремесло: зарождалась своего рода поэзия труда. Слышать заводский
тудок, тяжелые удары молота, дребезжание железа, шум вертящихся
машин, вдыхать дымный, пахнущий углем, воздух завода мне было
приятно. С удовольствием я пилил напильником, бил молотом, точил,
сверлил. Не удовлетворяла наша маленькая мастерская. Мечтал о
жизни среди леса фабричных труб, в фабричном городе, где на улицах
фабрика следует за фабрикой, завод за заводом, где черный дым закрывает небо. Мне было чрезвычайно неприятно и больно соглашаться
с финнами и немцами, что русские не умеют строить машин, что все
■они построены там, за границей. И я мечтал о том времени, которое, по
моему, должно наступить, когда мы, русские, начнем делать такие же·
хорошие, а, может быть, и лучшие машины, чем те, которые привозили
из заморских стран.
переход в большую слесарную мастерскую.
Чтобы усовершенствоваться в ремесле, я перешел в главные мастерские Варшавской ж. д. Время было мрачное. Самодержавие торжествовало победу над «Народной Волей». Замер голос друзей народа.
Подняла голову поповщина. О забастовках, о рабочем движении я ничего
ни от кого не слыхал. Профсоюзов не было. Отдельные рабочие, сочувствовавшие народовольцам, которые уцелели от общего разгрома,
замкнулись в себя.
От тяжелой постоянной работы я все более тупел. Ничего не читал.
Особенно газеты с огромной массой иностранных слов казались не¬
22 —
понятной китайской грамотой. Стал замечать, что разучиваюсь и писать. На меня как бы надвинулась ночь, и я погрузился в тот глубокий
сон, которым спали рабочие массы. Слово «товарищ» носило только
личный характер. Не было никаких касс взаимопомощи. Каждый рабочий был предоставлен самому себе и не мог рассчитывать ни на
какую товарищескую поддержку. На фабриках процветали хамство, наушничество. Сознание собственного достоинства было очень редким качеством у рабочего. Мастер и начальник был «царь и бог». Он обыкновенно знал не только то, что делается на заводе, но и в семьях рабочих.
Когда он шел по мастерской, рабочие, не дожидаясь поклона с его стороны, первые и часто униженно заискивающе снимали шляпу и говорили: «Здравствуйте, господин мастер!». Все начальники мастера, чиновники, за редкими исключениями, немилосердно обворовывали казну
и брали взятки. Это проклятое наследие царского рабства привилось
и рабочим. Тащили и врали с завода все, чдо могли. Даже инструмент
тащили друг у друга. Правилом жизни было: «не зевай, держи ухо
востро!». Если у завевавшегося токаря крали резец, кусок инструментальной стали для обточки металла, что обыкновенно случалось у точил, где собирались очереди для обточки резцов, толпа, видевшая,
как крали резец, встречала хохотом его вопрос: «кто взял мой резец?».
Украсть, «облакомить», обмануть считалось делом хорошим. На честного, правдивого, кто не лгал и не крал, смотрели, как на глупца или
чудака.
Чтобы воспрепятствовать кражам, начальство устроило суровые
обыски в «проходных» воротах. Но это мало помогало. Нравы были
«жестокие», как говорит Островский. Если новый рабочий отказывался
ставить привальное, хотя бы он умирал с голоду, его сживали с завода,
устраивая пакости: в шестерни его машины накладывали гайки, машина ломалась, и его прогоняли. Развлекались тем, что привязывали
тому, кто зазевается, хвосты из «концов» или грязные тряпки и забавлялись, видя, что он ходит по мастерской, не замечая хвоста. Иногда
этот хвост поджигали. Когда испуганный рабочий срывал, обжигая7
руки, горящие куски пакли, его встречал всеобщий хохот. Как ни тяжела была моя жизнь, но в мастерской среднего ремонта паровозов это
были цветочки. Ягодки я узнал в большой токарной мастерской, где
пришлось испытать_все прелести сдельной платы.
Пока я оставался в маленькой мастерской среднего и текущего
ремонта паровозов, где находился всего один токарный станок, где я
— 23
выучился с грехом пополам токарному ремеслу, где работал поденно под
непосредственным начальством старика-монтера, немца Янике, я пе
знал, что такое «Кузькина мать», о которой мне говорили старые рабочие, и мог по своему любить свое ремесло, мечтать о развитии русского машиностроения и о жизни в большом, исключительно фабричном
городе с лесом труб, с дымом, покрывавшим небо. Немец Янике, бывший
в Германии парикмахером, приехав в Россию, познакомившись теоретически с устройством паровоза, научившись подымать его на домкратах и опускать на колеса, проверять его шатуны и золотники, не владея
ни пилой, ни зубилом, что необходимо знать слесарю и монтеру, и не
понимая ничего в токарном деле, тем не менее, заведывал всей мастерской. Выпивая по-немецки каждые полчаса по маленькой рюмке русской водки, которую он очень любил, он напивался к вечеру до того, что
становился красен, как кумач, и едва держался на ногах. Он обыкновенно ограничивался лишь тем, что.покрикивал: «Давай, Сашка, давай
скорей, паровоз ждет!».
Но все представление о жизни у меня перевернулось, когда в большой токарной мастерской я попал на сдельную плату. Последняя, как
известно, очень выгодна для капиталиста. Сведя надзор над рабочими
до минимума, она предполагает постоянное понижение расценков. В странах, где буржуазия не только прокучивает прибавочную стоимость, но
и «работает», осторожное понижение их может приводить к улучшению
техники. При таком условии положение рабочего ухудшается только
относительно и не всегда абсолютно.
В России же, где буржуазия брала готовые образцы техники из
Западной Европы, она не работала, мало заботилась об улучшении производства. У нас понижение расценков изменялось без удержу и приводило всегда к абсолютному ухудшению положения рабочих. Но как ни
тяжело бывает положение человека, в каких униженных условиях он
ни живет, в большинстве случаев он приспособляется к этим условиям.
Среди рабочих находится всегда небольшая часть способных рабочих,
которые ухитряются .при всяких расценках выработать ту норму, которая полагается, и за которой тянется вся масса. Но среди рабочих находятся всегда меньшинство, которое, как ни напрягает своих сил,
остается позади, и на которое обрушиваются все неудовольствие и кары
мастеров.
Попав на сдельную работу, я оказался менее приспособленным, чем
другие, и был причислен к категории средних и, может быть, даже пло¬
— 24 —
хих рабочих. Мало-по-малу лишился всех иллюзий; в большой токарной
мастерской ноГ1Г в овчинку показалось; но все же она заставила меня
задуматься о смысле жизни.
Религиозные переживания.
Настала весна 1887 года. Мне было 16 лет. Только что кончилась
пасхальная неделя. Я чувствовал себя больным. Крутой переход от суровой постной диэты в течение семи недель Великого поста к скоромной пище на Пасхе во время розговенья приводил только к сильному
расстройству желудков. Поэтическое настроепие пасхальной ночи,—с
ее огнями, мерцающими в темноте, веселым колокольным звоном, наивной верой в воскресшего бога,—мне испортил котельщик Антон. Он
поставил свои кулич и пасху на вольном воздухе и все время смущал
меня разговорами: «Смотри, Сашка, долгогривые идут! Гляди, какое у
попа-то пузо! А морда-то красная, лопнуть хочет. А дьякон-то, дьякон!
Смотри, право, как боров! Вот так жеребячья порода!»'. Поп и дьякон
были, действительно, очень толстые. Дьякои, проходя подрядам куличей, приговаривал: «Кладите, православные, кладите: рука дающего
не оскудеет».
Этот Антон, не любивший попов, который и мать прогнал святить
куличи, подошел ко мне в воскресенье, когда, в три часа пошабашив,
я мыл руки.—Пойдем, Сашка, выпьем по кружке.—Не хочу,—ответил я,—я нездоров.—Не будь бабой,—продолжал ои,—что ты, красная
девица, боишься так водки выпить?
В портерной Антон влил в кружку пива пол-сороковки водки.
Отвратительная смесь пива и водки ударила мне в голову. Организм,
ослабленный тяжелой работой, постной пищей и болезнью, не выдержал. Чрезвычайно быстро я опьянел до того, что перестал совершенно
понимать, о чем говорил Антон с подошедшим товарищем. Чтобы не
огорчить мать своим безобразно-пьяным видом, я машинально пошел
вслед за Антоном. Мы прошли Измайловский проспект, свернули в
10 роту, где жил Антоп. Ввиду того, что опьянение не проходило, я
решил посидеть немного у Антона. Его мать старушка, увидев меня,
стала кричать: — С какими пьяницами ты хороводишься, Антон, как
тебе не стыдно!
— 25
Услышав это, я решил уйти от Антона: мне было действительно
стыдно... Пошатываясь и спотыкаясь, вышел в переднюю. Оглядевшись,
я наклонился, как мне показалось, над помойным ведром. Со мной началась мучительная рвота. В это самое время отворилась дверь из другой квартиры и показалась фигура сапожника в переднике. Прокричав
что-то, он скрылся. Я был в таком состоянии, что ничего не понимал.
Через минуту выскочило· целых четыре сапожника и я, не помню как,
очутился на дворе... Что-то ревело и гудело кругом меня. Я падал, поднимался, снова падал... Я потерял сознание... Когда очнулся, лежал
на полу, растерзанный и окровавленный. Мать Антона тихо плакала
в углу. Сам Антон, размахивая ружейным стволом, отбивался от толпы,
которая ревела и лезла в окно. Он кричал:
— Отойди, расшибу!
— Давай нам его сюда, мерзавца!—слышалось из окна:—он нам
чистую кадку с водой опоганил. Ее теперь святить надо!
— Ну, Сашка,—сказал Антон, увидев, что я очнулся:—'надо бежать, плохо дело! Я тебя едва от них за ноги вытащил... Иначе тебя
убили бы!
Хотя у меня болело и ныло все тело, хмель прошел. С помощью
Антона, который отбивался ружейным стволом, мы отбились от сапожников, и я был на свободе. Придя домой, я слег и был болен около
двух месяцев. После жестокого избиения, которому подвергся, был на
краю могилы. Был уже в полузабытье, не мог говорить и как сквозд
сон слышал, как вернувшийся из больницы отец говорил матери:
«Сашка умирает. Ноги уже похолодели. Как дойдет до сердца, так и
умрет».
Я слышал, как он заплакал, как послал за попом; а матери пришла мысль напоить меня сладким, горячим чаем. Я относился равнодушно ко всему, что делалось кругом, и меня интересовал лишь вопрос, как, каким образом я буду переходить на «тот свет». Несколько
ложек чая, который мать влила в рот, раскрыв ножем судорожно сжатые зубы, произвели чудесное действие. Сведенные судорогами руки
и ноги распрямились, зубы разжались; я получил способность речи.
Но так как в этот момент пришел поп и причастил меня,—я, как и все
окружающее, приписал выздоровление чудесному действию причастия.
Я был на пороге смерти и, если не умер, то возродился уже для другой
жизни. С этого времени стал интересоваться вопросом о религии. Окру-
— 26
знающая зкизнь все более казалась серой и неинтересной, однообразной, и я стал рисовать себе картины другой жизни, вечной, на небе,
в садах рая, среди святых и мучеников.
В это время, осенью 1888 года, умер мой отец. Умирая, он, указывая на икону, заклинал меня быть покорным начальству. Я продал
за бесценок коров,—они меня тяготили,—и переехал из флигеля в город, на набережную Обводного канала.
Кузнец Кусов, Егор Яковлев (Куклин), котельщики Семенов и
Антон и Николай Богданов, как я теперь думаю, в 1886—1887 г.г.
были н связи с какой-то революционной организацией. Кусов, видимо,
был во главе этого кружка. Он выделялся культурными привычками,
гордостью в обращении с начальством, необыкновенным для того времени сознанием человеческого достоинства, делавшим его похожим на
парижского рабочего. Будучи интересным, умным, он любил читать
книги; был независим в суждениях, а к попам и к религии относился
с нескрываемым презрением. В то же время он любил выпить и увлекался женщинами. Я ему очевидно нравился. При мне он напевал
песню:
Ой, горюшко, горе, великое горе!
Становому на ужин кабак целый нужен,
Становой приезжает, его мир встречает.
Становому на ночку готовь, мужик, дочку.
Ой, горюшко, горе, великое горе!
Он пробовал приглашать меня к себе на квартиру, где знакомил
с своей сестрой курсисткой. Затем я вспоминаю попытку созвать собрание под видом рабочей вечеринки. Я был в числе приглашенных к
Егору Яковлеву. Когда пришел интеллигент, высокий молодой человек
в очках, Кусов, Яковлев, Богданов, Семенов и Антон удалились в другую комнату. Я был оставлен в передней комнате занимать мать барышни. Пилила одна скрипка, и барышни танцовали кадриль. В чем
заключалось собрание, я не был посвящен.
Высокий человек так же таинственно ушел, как и пришел. Больше
я его никогда не встречал. Кусов просил не рассказывать ни про курсистку, ни про интеллигента.
Так как я в то время совершенно не был готов для революционной деятельностью, то было, очевидно, решено, что меня рано привлекать
в кружки. Мне кажется, что это была одна из попыток завязать связи
с рабочими, которая не дала положительных результатов. Семенов
— 27' —
уехал в Витебскую губернию, Богданов умер, Яковлев спился и очутился в Вяземской лавре; Кусов дольше других шел против течения.
Он мне дал почитать повесть (фамилии автора не могу припомнить).
В ней рисуется учащаяся молодежь: с орой стороны—благонамеренная, а с другой—революционная. Автор хвалит первую и старается
очернить вторую. Несмотря на все старания автора, мне понравилась
вторая. Особенно сильное впечатление произвела сцена на берегу Волги,
где декламируется 'Стихотворение Некрасова: «Вьгдь на Волгу...». .
Стихи эти врезались в мою память; показались мне родными,
близкими. Но проснувшаяся на миг мысль была бессильна рассеять
религиозный дурман, во власти которого я находился. Кусов, очевидно,
заметил это. Он махнул на меня рукой и ограничился только тем, что
сказал:
— А ведь эти люди, которые хотели освободить народ от помещиков, были правы, Сашка!
Призыв горячего Кусова возмутиться против окружающей нас
несправедливости тогда не встретил во мне отклика-. Искры его красноречия не зажигали в моей душе пожара возмущения. Он мне казался дубом, который не могли сломить ветры и бури. А я, как тростинка, склонился тогда до самой земли и отдался во власть того ядовитого дыхания, которым отравляла народ религия. При Александре III,
когда голос революционеров заглох в’ каменных мешках, в ледяных
пустынях Сибири и на виселице,—попы, архиереи, монахи,—вся
православно-византийская церковь, подталкиваемая обер-прокурором
синода Победоносцевым, стала проявлять большую активность. Попы
начали произносить проповеди; были торжественно открыты мощи
Серафима Саровского (оказавшиеся теперь кусками ваты и картона).
Стали появляться чудотворные иконы и фабриковаться чудеса. Был
и святой поп, Иван Кронштадтский.
Среди рабочих ходили слухи о чудесах у мощей, у икон и у Иоанна
Кронштадтского. Пон Слегаян, крещеный 'еврей, кажется, английский
поданный, принявший православие и сделавшийся миссионером православия и студентом духовной академии, организовал при Новой Бу-
магопрядильне общество трезвости. Здесь на деньги рабочих была
заложена и выстроена церковь.
Другой поп, Григорий Петров, позднее основал общество трезвости
среди рабочих городской скотобойни. Это было время, когда Победоносцев насаждал церковно-приходские школы и пытался вдохнуть
28 —
жизнь в разлагавшуюся и гнившую православную церковь. Поп Петров шел дальше и пытался внести в мертвую догму православия
элементы ученья Л. Толстого. Было образовано также «Общество распространения христианства в духе православной церкви» на Стремянной улице.
Победоносцев, как верный пес царизма, чувствовал и понимал,
что самодержавию грозит опасность; и он мобилизовал всю черную
рать, тех, кого русский народ по справедливости назвал жеребячьей
породою и долгогривыми. Долгогривые принялись уловлять души, начались проповеди о терпении, воздержании, покорности и награде, которая ждет всех верных в раю. Я был увлечен этим мутным, грязным потоком.
В Париже, на ярко освещенных бульварах, где буржуазия всего
света прокучивает прибавочную стоимость, чувствуется, что здесь человек наиболее доволен собою. Этого довольства ие могло быть у нас.
Рабочие французские и бельгийские, случайно попадавшие на вечеринки русских политических эмигрантов, пораженные грустными ме-
лорями русских народных песен, говорили: «Такие мотивы мы слышим у нас только в церкви». Кажется, Кавелин еще подметил, что
довольная собою, сытая буржуазия на парижских бульварах по своей
психологии похожа на дикарей-людоедов в цилиндрах и в крахмальных рубашках. Салтыков-Щедрин говорил, что из глаз сытого, довольного человека смотрит свинья. Только огромное горе делает человека более человеком, более отзывчивым на чужое страданье и горе.
Веселые, легкие бульварные песни парижан усыпляют. Тоскливые, грустные ноты поэзии Некрасова и русских народных песен заставляют задуматься. Они хватают за сердце и будят мысли. «В золотую пору малолетства все живое счастливо живет. Не трудясь, с
ликующего детства дань забав и радостей берет»,—говорит Некрасов.
Такого счастливого детства я не знал. Ежедневно работал физическую
работу, почти до отупения.
Попав в большую токарную мастерскую, столкнувшись с самой
бесстыдной, беспощадной эксплоатацией, с постоянным понижением
расценок, не встречая никакого сочувствия у так называемых хороших рабочих, для которых ни по чем были понижения (расценок, я
почувствовал себя неудачником.
Та жизнь, которую я вел, стала казаться однообразной до утомительности. Каждый день был похож на другой. Жизнь перестала
— 29 —
давать удовлетворение. Чувствовал себя, как птица, запертая в клетку.
Жизнь стала казаться тюрьмой. В душе появились смутные желания,—
желания простора, воздуха.
И вот в это-то время я услышал голос, который обещал избавление и спасение. Это не был голос друга, товарища, который помог бы,
как угнетенному рабочему, выйти на широкую дорогу из леса сомнений, в котором я запутался. Это был голос змеи, очаровывающей свою
жертву прежде чем ее с’есть, это был голос Иуды, голос попа. «Придите ко мне все·, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас»,—
слышал я и пошел. Меня прельстила идея общества трезвости, с которой выступили попы Слепян и Петров.
Раз’единение среди рабочих было так велико, ночь была так темна,
что общество, хотя поповское, казалось лучом света среди мрачной
ночи. Только полным отсутствием агитации и пропаганды на заводах
в это время, когда не было ни партий, ни союзов, пи кооперативов,
ни касс взаимопомощи, я могу об’яснить себе мое увлечение той западней, которую в угоду царю, помещикам и капиталистам расставляли для рабочих попы. Пролетарский инстинкт не выносил изолированности рабочих и требовал об’единения.
Сделавшись членом Общества, я стал среди рабочих вербовать
членов. Увлекаясь этой идеей, я представлял себе, что возможно осуществление древне-христианских идеалов богатых и бедных. Старое
поколение рабочих отнеслось довольно равнодушно к новой идее общества трезвости, но среди молодых рабочих я очень быстро нашел сторонников.
Восолобов, Купцов, Дружкин, Андреев, Экстрем составили группу
и один из первых записались в члены этого общества. Ввиду того,
что общество трезвости основано было попом Слепяном на Боровой ул.
около Новой Бумагопрядильни, старое поколение рабочих окрестило
меня в насмешку «Боровой». Но по сути дела я и мои товарищи попали под тлетворное влияние православной церкви, которое проповедует бессмысленную покорность властям и старое византийское отречение от жизни.
Обольщенные попом, я и мои товарищи все свободное время употребляли на посещение церковных служб, на чтение библии и житий
святых. Мы строго исполняли посты, а все свои деньги,—гроши, которые могли уделить,—отдавали на иконы, на церкри. В субботу мьт
шли в Ново-Афанасьевское подворье, где всенощная с 6 час. вечера
— 30 —
длилась до полуночи. В воскресенье в 4 часа утра мы подымались к
заутрени.
Темно. Сверкали звезды. Мороз скрипел под ногами. В воздухе
таяли первые удары колокола. Как тени, проскальзывали редкие, принадлежавшие к беднякам, богомольцы. После окончания заутрени мы
шли к 6 час. утра в ранней обедне, затем к 10 час. утра к поздней
обедне. В 4 часа пополудни мы направлялись к вечерне, после которой
попы начинали беседы. Кроме этого, вместе с членами общества трезвости, мы совершали пешком верст за 20-30—паломнические походы
в Колпино и Сергиевскую пустынь.
Лучшими рабочими считались в нашей пригоночной мастерской
машинист Николаев и токарь Сыросгин. Обоих их рабочие звали глотами за то, что они любили, чтобы их приглашали выпито. Такая простая вещь, как расчет зубчатых колес для нарезки винтов («резьба»)
не была всем известна. Молодые токаря затруднялись в расчете и обращались к Николаеву или Сыросгину. Но за услугу нужно было позвать в портерную и угостить. Искусство быстро находить «шестерни»
для нарезки винтов они ревниво хранили для себя и не сообщали
другим.
Оба они заинтересовались моей агитацией, пришли к моему станку
и, познакомившись с тем., что я говорил, дали совет: «Брось, Баровой,
не проповедуй, не дури! Начал ты за здоровье, а можешь кончить за
упокой. Говоришь ты теперь о боге, а там, гляди, и социалистом сделаешься».
— Как так социалистом?—спросил я.
— Да так,—продолжал уравновешенный, спокойный Николаев:—
в прежние времена они были здесь. Ты, вот, начал читать книги и зачитаешься... Лучше брось, а то арестуют и повесят...
Я действительно начал читать, гак называемые, священные книги:
библию, жития' святых, творения Ефрема Сирина, Иоанна Богослова.
Знакомство с ними мне было необходимо для того, чтобы давать ответы
на хитро поставленные вопросы, которые мне предлагали староверы
и штундисты. Знакомство с священным писанием сделало из меня
своего рода начетчика. Я сыпал текстами. Староверы и штундисты не
^находились, что мне ответить, и уходили. Круг слушателей у моего
станка увеличивался. Находилось все большее число желающих записаться в члены общества трезвости.
— 31 —
Но сам я начал становиться другим, когда некоторые рабочие
стали задавать мне вопросы о том, шар ли земля или плоская, стоит ли
она на месте или вертится кругом солнца. Католическая церковь не
даром не разрешила простым смертным чтение библии. Библейские
рассказы и так называемые жития святых вообще полны такими противоречиями, что более или менее внимательный читатель наталкивается на мысль, что в них кроется огромный, ужасный обман для
людей. Всякий раз, когда я брал библию в руки, я вспоминал слово
отца, что безумцы студенты, нигилисты или социалисты, не верят в
Бога, но чем более я читал библию, тем более сомнение в существовании бога возникало во мне.
Мне казалось, что меня искушает дьявол, как какого-нибудь пустынника на берегу Нила. Я старался уединяться, уходил от толпы.
Первые особенно сильные сомнения в существовании Бога я испытал
в день праздника, который Александр III давал в годовщину франкорусского союза французски морякам. Нарядные толпы народа направлялись в Петергоф. Быть может, вид этой бегущей’ толпы и будящие
и зовущие звуки марсельезы, которую разрешено было играть, и которые я слыхал впервые, почему-то властно поставили передо мной
вопрос: «есть ли бог?».
Мучимый этой мыслью, я бежал от толпы к устью Невы, к взморью
и, смотря на широкую водную гладь, слушая, как набегает волна, задавал себе вопрос: а есть ли бог на самом деле? И ужасная мысль, что
бога нет, что мы, бедные рабочие, являемся жертвою огромного, наглого обмана с согласия попов, все более овладевала мною.
С раннего утра до 7 часов по окраинам Петербурга громко гудели
заводские гудки, звавшие на работу. Громче и звучнее всех кричала
сирена Путиловского завода. Руководствуясь свистками, ежедневно,
как заведенная машина, ходил я на работу. Я был болен, изнурен,
нервы были взвинчены. Еще подходя к мастерской, где машины пыхтели и охали, я уже чувствовал усталость. Тяжелая работа, долгое
стояние на церковных службах, соблюдение постов — все утомляло
меня. Против своей воли я начинал ненавидеть этот завод, эту мастерскую и мастера Нобеля.
Занятый агитацией, я мало заботился о той 'работе, которую он
давал мне для исполнения. Этот Нобель был швейцарец. Как швейцарский рабочий, он приехал искать счастья в России. Он отличался
от русских мастеров тем, что не брал взяток. Но ремесло унтер-офи-
— 32
цера капитала, в которое вхорт и организаторская, и полицейская
роль, заставляло по предписанию самого директора Рициони постоянно
сбавлять расценки. ^
Меня он, очевидно, считал чудаком или глупым. Он мне предлагал давать хорошо зарабатывать; но я должен был доносить ему обо
всем, что делается в мастерской. Какой-то тайный голос останавливал
меня от этой подлой роли, на которую в то время находилось много
охотников. За это, очевидно, он мстил тем, что часто сбавлял расценки.
Работа моя вследствие того, что я, как говорили рабочие, проповеды-
вал, часто бывала недостаточно хорошо исполнена.
Рабочего в капиталистическом обществе и утром, и вечером, и
ночью гнетет и преследует одна мысль: опасность оказаться без работы, вне фабрики. Мастер Небель всегда мог меня выбросить, как говорили рабочие, «гранить панель». А у меня на руках была мать,
сестра и два брата, которые жили на мой заработок. Зарабатывал я
в это время рубль в день. Мастера, от которого я зависел, который
мне делал замечания, «пушил», как говорили рабочие, который постоянно сбавлял расценки,—я начал очень бояться. Как велик был
страх, видно из того, что через десять лет, когда меня уже не было
в Петербурге, и я его потерял из »иду, грозная фигура этого мастера
во сне заставляла меня вздрагивать, покрываться потом, просыпаться.
Кончилось тем, что я и его, как и завод, возненавидел скрытой, глубокой ненавистью, которая не знает конца.
Меня мучили особенно постоянные сбавки расценок. Как сторонник учения Христа о непротивлении злу, я должен бы был охотно
подчиняться им. Но сознание, что отсутствие протеста, молчаливая
покорность рабочего христианина приводят к тому, что вследствие
этого ухудшается положение сотен и тысяч рабочих, заставило меня
приходить к ужасной мысли, что не непротивление злу Христа и Толстого, а борьба со злом может улучшить положение рабочих. Я очень
плохо делаю, что, как тростник под ветром, склоняюсь перед волею
мастера. Я должен поднять голову, распрямить согнутую спину, быть
твердым и прямым, как дуб, который не склоняется перед бурей,—
думал я.
Все христианское учение, всякая религия,—православная и католическая, и иудейская,—как проповедующие покорность и непротивление злу, с точки зрения положения рабочего класса начинали! казаться страшным обманом. Но по инерции продолжал ходить по цер-
— 33 —
квам, собирать толпу и «проповедывать». Я бледнел, худел. Видя, что
я мало внимателен к работе, и что веду агитацию, мастер Небель все
чаще качал головой...
Я получал паспорта ежегодно через полицию. Фамилия отца была
Шаповал. В полку его переделали в Шеповалова. Украинский писарь
стал мне писать Шаповал или Шапувал. Из-за недоразумения с фамилией или может быть потому, что моя агитация ничинала возбуждать подозрение у полиции, но меня ежегодно, а то и два раза в год
вызывали в участок, к приставу. Однажды меня вызвали к железнодорожному жандармскому ротмистру, через которого почему-то требовалось, чтобы я послал заявление о высылке нового паспорта. Паспорта
высылали сроком на год, а то и на 6 месяцев.
В полицейских участках обращались очень грубо с рабочими и
вообще с плохо одетыми людьми. Еще в приемной у пристава, где
приходилось ждать часа по два, бросалась в глаза неодинаковость в обращении с посетителями. Перед хорошо одетыми господами полицейские чиновники ходили на задних лапках, предлагали стул и говорили
«вы». Рабочему говорили «ты», на него кричали, топали ногами,
грозили холодной и т. д. Из холодной почти всегда слышались крики.
Это дежурный городовой, какой-нибудь держиморда с огромными кулаками давал леща...
Я всегда дрожал при мысли очутиться в холодной вместе с пьяным, вором и с проститутками. Входя к приставу, испытывал страх
перед начальством. Оттого ли, что я был плохо одет и имел смирный
и забитый вид, пристав всегда на меня кричал, ругаясь самой непечатной руганью.
Вследствие такого грубо-оскорбительного обращения, которое повторялось из года в год, я потерял уважение к начальству. При виде
городовых, околотков, приставов у меня невольно поднималась острая
ненависть к ним. Подобное же возмутительное надругательство пришлось вынести и от жандармского ротмистра.—«Говори, как тебя зовут?»—сказал он строго.—Шаповал, Александр Исидорович,—-ответил я.
— Не Исидорович, а просто Сидоров! Ты ведь не дворянин, а мужик, осел ты эдакий, невежа, матъ-мать-мать...—кричал он.—Болван!
Как ты стоишь перед начальством? Держи руки по швам, мать-мать,
мать... Почему это тебе присылают паспорт то на имя Шаповалова,
то Шаповал, то Шапувал?
— Не знаю, господин офицер,—ответил я.
А. И. Шаповалов«
3
— 34 —
высокоблагородие»! Не умеешь разговаривать е начальством, ракалия
ты этакий! Никифоров!—кричал он:—пока«® этому болвану, как нужно
говорить и стоять перед начальством, и напиши ему требование на
паспорт.
— Так точно, ваше высокоблагородие!—говорил Никифоров,
щелкая шпорами и вытягиваясь в струнку.
Так как полицейские пристава, помощники и жандармские офицеры были по происхождению из разорившихся дворян, то, помимо
приказа держать народ в струне, они еще и добровольно старались
по части отеческого внушения, с приложением непечатной отечественной ругани. Вследствие этого грубо-оскорбительного обращения, я и
жандармов стад относить к той же категории фараонов, в которой
причисляли в Питере рабочие всех полицейских.
Почему для полиции было оскорбительно называться царями
Египта, не знаю. Но, однажды, когда я назвал одного городового фараоном, он вскричал: «Подожди, вот составлю протокол, будешь знать,
как оскорблять полицию!»
РеЧерняя школа для рабочих.
Работа на токарном станке требует большой интеллигентности,
понимания технических чертежей и знания арифметики. Необходимо
также небольшое знакомство с геометрией, алгеброй и тригонометрией. Все это необходимо при обточке конусов и нарезке винтов. Для
получения этих знаний и со смутной надеждой, что в школе выясню
вопрос о существовании бога, я начал посещать вечернюю школу
Технического Общества на Петергофском проспекте. ·
Революционеры-интеллигенты в то время поступали в воскресные
и вечерние школы Петербурга в качестве учителей, чтобы легче знакомиться с рабочими и привлекать их к революционной деятельности.
Софья Перовская, погибшая в 1881 г. на эшафоте, как известно, была
учительницей в одной из таких школ за Невской заставой. Позднее
в этой же фабрично-заводской окраине коммунистка Надежда Константиновна Крупская (Ульянова) в 1890 годах работала в одной из таких школ.
Потому ли, что район, где была расположена та вечерняя школа,
в которой я учился, не пользовался такой известностью, как знаменитый Шлиосельбургский тракт, или по каким-либо другим причинам,
— 35 —
яо в течение трех лет моего пребывания в школе я не только не встречал среди преподавательского персонала личностей, сочувствующих
революционному движению, но сталкивался всегда с учителями, которые на уроках проводили мысль, что в России для развития промышленности необходимы и длинный рабочий день, и низкая заработная плата.
Как позабывший почти все, чему учился в низшей городской начальной школе, я начал со второго класса. Вошел в эту скромную
школу, как в храм науки. А относился к ней, как к источнику знания.
Учителя казались людьми какого-то другого, высшего мира·. С необыкновенным уважением, почти с благоговением я приходил на уроки
и относился к ним. Вслед за мной поступили в 1892 г. в школу и мои
товарищи: Александр Кооолобов, Василий Купцов, Иван Дрожжин, Павел Андреев и другие, фамилии которых уже забыл.
Начиная с 1891 г. на меня оказал большое косвенное влияние
токарь Кожевников и прямое—токарь Димитрий Федорович Федоров.
Первый, но всем данным, был связан с каким-нибудь кружком. Сырости и Николаев несколько раз мне указывали на него.
— Ты вот проповедуешь, Боровой, «не пейте вору», «ступайте
в обществе трезвости, ходите в церковь»... А вот Кожевников, он в церковь никогда не хорт; когда проходит мимо иконы, шапки не сни-.
мает и лба не крестит. В постные дни жрет колбасу, хлеб с маслом.
Безбожник он и наверно социалист.
Этот Кожевников как бы демонстрировал свое свободомыслие.
Несмотря на то, что я пытался с ним заговаривать, он не шел мне навстречу. Невидимому, он имел связь с кружком рабочих социалистов,
которые, занимаясь одним самообразоваиием, изучением теории, замыкались в тесных пределах своего кружка, не пытаясь найти подход
к массе. Лично я, мож/ет быть, казался ему безнадежным фанатиком религии. Кожевников был хорошим рабочим, знавшим свое дело. Он одевался по-европейски и по внешности принадлежал к рабочей аристократии.
Всякий раз, когда я проходил мимо него, возникала мысль, что
вот есть же «на свете» люда, как Кожевников, которые осмеливаются
не признавать существования бога. И каждый раз в глубине души,
.как червяк, меня начинала точить мысль: «а на "Самом деле, существует ли бог, или он не существует?». Более определенные ответы
на мои сомнения дал Федоров.
з*
— 36 —
Машинист Николаев и токарь Сыросгин стояли во главе своеобразного землячества «Шепелевских». Шепелев был какой-то помещик-заводчик, у которого рабочие были еще крепостные при Николае I в Нижегородской губ. Эти «шепелевцы» как бы составляли
касту квалифицированных рабочих, качества которых переходили к
ним из поколения в поколение, а на остальную массу рабочих склонны
были смотреть, как на вторгшееся извне мужичье, которое не знает
хорошо ремесла и не хранит старых заветов рабочих. Они ревниво
оберегали обычай ставить «привальное». Так как Федоров наотрез
отказался следовать этому старому обычаю, то Сыросгин прибежал ко
мне жаловаться. «Гляди, Боровой, еще одна сволочь длинноволосая
поступила. Безбожник ведь, в церковь не ходит, лба не перекрестит
и в пост лопает скоромное».—Откуда вы знаете?—'заметил я;—ведь
он только что поступил. Вы попросту злитесь, что он вам, пьяницам*
привальное не поставил.—«Знаю, знаю, Боровой, что ты будешь мирволить тем, кто не ставит привальное. Ты ведь в обществе трезвости..
Но вот наши шепелевские говорили, что он на Путиловой был известен, как безбожник. Смотри, грива-то у него, право, как у студента
нигилиста!» На самом деле, Федоров носил длинные волосы и мягкую
шляпу н походил по внешности на нигилиста.. Я стал присматриваться
к нему н ближе познакомился после ареста Кожевникова.
Совершенно неожиданно однажды в летний день в мастерскую
явился жандармский полковник с тремя здоровенными унтер-офицерами. Смотря, как все перед ним расступались, как Николаев, Сыросгин униженно перед ним снимали фуражки и кланялись, я в первый
раз понял, что это люди, которые имеют огромную власть и огромное
значение в России. Я видел, как они рылись в ящике, где лежал запертый на замок инструмент Кожевникова. Вспоминая, как другой
подобный жандармский офицер так недавно «пушил» меня, несмотря
на то, что я не любил Кожевникова, как безбожника и как человека,
который держался гордо и сторонился меня, у меня явилась симпатия
к нему и шевелилась глубокая, тайная ненависть к жандармам. Кожевников через месяц был освобожден. Его выслали в Рыбинск под.
надзор полиции.
Федоров был настоящий самородок. Он не был революционером},
не был энтузиастом, мыслителем и фанатиком щей. Он обладал слишком спокойным, холодным темпераментом скептика. Самостоятельно*
путем чтения газет самого крайне реакционного направления, как.
— 37 —
«Гражданин» князя Мещерского и «Луи» выкреста Окрейца, интересуясь теми писателями, которых ругали эти газеты, он натолкнулся
на нашу критическую и художественную литературу. Относясь вполне
отрицательно к самодержавию и. к попам, он к революции не примкнул.
Позднее, в 1905 г., он причислял себя идейно к меньшевикам. Читая
книги, знакомясь с науками, он поражал своими знаниями. Но он никогда не увлекался и никогда не был арестован. Мартов, читая за границей рефераты о Лондонском с’езде, показавшем, что большинство
передовых рабочих пошло на деле за большевиками, старался доказать, что в Петербурге самые образованные рабочие, а не мальчишки,
•оставались верны меньшевикам. Весьма возможно, что рабочие такого
темперамента, как Федоров, которые спокойно читали, не принимая
активного участия в революционном движении, которые не арестовывались, составляли ядро меньшевистской организации. Но они были
слишком хладнокровны, слишком осторожны н потому не могли спорить влиянием с рабочей молодежью, которая всегда поддерживала
большевиков.
Федоров был даже отчасти поэт. Он знал много стихотворений
Некрасова, Надсона, Омулевского. Он и сам сочинял стихи, где осмеивал
тех, «кто дал яду Сократу, кто распял Христа, кто посадил в тюрьму
Галилея».
Я не мог больше противиться «искушениям дьявола», как я думая
тогда, и все чаще приходил к станку этого волосатого безбожника,
слушая его рассказы и песенки, которые он тихонько напевал, пока
станок шал самоходом. Чем-то новым, необыкновенно прекрасным, заманчивым и щемящим за сердце пахнуло на меня от его речей и песенок. Величавая фигура Стеньки Разина, положившего свою голову на
плаху за угнетенный народ, вера поэта Надсона, что на землю «вернется святая любовь», «печальные и гневные» напевы музы Некрасова—все находило отклик в моей душе. Начали раскрываться широкие горизонты. Вставало новое солнце, в свете которого старый бог
с его святыми и портом,, адом и раем, все более 'отходил на задний
план, все более начинал казаться смешным призраком, выдумкой
прошлого, пока не исчез из глаз и провалился в пропасть забвения,
куда история сметает все устаревшее и негодное.
Я бросился с головой в новый для меня мир. Астрономия, геология, великие русские писатели, вечерняя школа—все это было тем,
чем я жил. В то же время еще не находил сил порвать со старым. Ста¬
— 38
рый бог. о своими святыми и дьяволами, толпою окружали еще мена
и грозили адом. Я переживал эпоху, борьбы. Рабочие, которых я втянул в общество трезвости, в духовное рабство, особенно Косолобов и
Купцов, были недовольны моей дружбой с безбожником Федоровым. Но
мертвая обрядность православия все более отталкивала меня; чудотворные иконы и мощи все более начали казаться в свете науки, с
которой я знакомился, старыми, глупыми суевериями, которым могли
верить лишь обманутые попами люди и глупые, выжившие из ума,
старики.
Особенно тяжелое впечатление произвел последний «паломнический поход», в котором я участвовал, в Сергиевскую пустынь. Теплая
весенняя ночь с своими звездами, с своими тенями уступила место-
серому утру. Всю ночь, когда я шел с этой толпой, которая, покрытая
пылью, усталая, в поту, нескладно, гнусаво пела молитвы, мне бросалось в глаза то, чего не замечал раньше. Секретарь общества трезвости, обращенный С-лепяном молодой еврей, был совершенно пьян.
Регент хора этого общества, студент духовной академии, всю дорогу;
«щупал» молодых ткачих, внося соблазн и уходя с ними в кусты.
Когда рассвело, вся эта толпа жалких, усталых, вопящих церковные гимны, людей произвела на меня тяжелое, жалкое впечатление.
Такой же взгляд любопытства, недоумения, смешанного с состраданием и презрением, как я заметил, бросила проезжавшая компания
«господ»,—молодых женщин и мужчин, возвращавшихся в Петербург
из загородного ресторана. «Жалкая толпа рабов, жалкие обманутые
люди!—думал я:—к чему эти хоругви с крестом, символ рабства, эти
иконы, когда «его» нет, когда мы обмануты!»
— Что е вами? Вы не отвечаете на вопросы, не слушаете, что
вам говорят!—говорила мне сестра одного токаря, нарядная, красивая
портниха, которая, заинтересовавшись рассказами рабочих обо мне,
познакомилась и от самого Путпдовского завода шла с нами.
Я думал о том, есть ли бог или нет, совсем забыв о ее существо^
вании. Она еще более обиделась, когда по прибытии в монастырь,
увидев пьяных по случаю Пасхи, «красномордых», с толстыми пузагчи
монахов^ увидев попа Слепяна (приехавшего по жел. дор.), я один, не
сказав никому ни слова, с чувством глубокого разочарования, ушел
на вокзал н вернулся домой по жел. дороге. Каплей, переполнившей
чашу, были рассказы одного местного рабочего, который насм-ешливс,
— 39 —
указывая на пьяных, жирных монахов, сказал: «Сам архимандрит
здесь с любовницей живет».
Когда я, задумавшись, выходил из Балтийского вокзала, кто-то
взял меня за плечо и сказал: «Сашка, это ты? ты меня узнаешь?».
Я с удивлением поднял глаза и увидел перед собой хорошо одетого, упитанного молодого человека. Только, вглядевшись, узнал в нем бывшего
«Фрпдько», с которым учился в школе и бегал по Митрофаньевскому
кладбищу. Слово «Фрндько» замерло на устах: я не осмелился назвать таким именем этого, как мне казалось, важного барина.
— Как ты живешь?—продолжал он:—ты так плохо одет, весь в
ныли; ты такой худой, у тебя вид больного. Сколько ты зарабатываешь?
— Двадцать пять рублей в месяц,—ответил я,—а у меня мать,
два брата и сестра.
— Двадцать пять рублей в месяц на пятерых!—воскликнул он
удивленно.—Да я один больше проживаю в день, чем вы пятеро в
месяц. Да как же вы живете? Я дня не вынес бы такой жизни и наверно застрелился бы.
— Откуда же у вас такие деньги?—осведомился я.
— Я женился на купчихе,—ответил он мне, прощаясь.
Этот Фридька, который был нисколько' не способнее меня, в
детстве, кушал белые булки, хлеб с маслом, разные сладости в то
время, как я ел один черный, сухой хлеб с песком и картошку. Затем,
благодаря тому, что его отец имел деньги, он кончил гимназию, затем
университет. Теперь он господин Ветцель и проживает в день больше,
чем я зарабатываю в течение месяца!
В нашей школе начались экзамены,—и между прочим «закона
божия». Этот предмет считался важным. Сам директор огромной резиновой фабрики,—лютеранин, старый немец,—пришел на этот экзамен. Желая, очевидно, похвалиться мною, как хорошим учеником, и
подчеркнуть благонадежность образа мыслей учеников, поп после того,
как я ответил на (все вопросы, вдруг спроси: «Ну, скажи, Шаповал,
кого на земле надо почитать за бога?». Будучи вообще находчивым,
я этим вопросом был поставлен совсем втупик. Искренно хотел ответить и не находил ответа. Настало томительное молчание. Я краснел,
пыхтел, нервно перебирал шапку, а ответа не находил. Уже члены
экзампнацпонной комиссии, директора высших начальных школ, начали многозначительно переглядываться; директор встал со стула и
стал ходить по комнате; поп внимательно глядел на меня, ожидая
ответа, а я все мучительно думал, желая провалиться сквозь землю:
кого же это на земле мы должны считать за бога? Чтобы прекратить
тяжелое молчание, поп вдруг сказал, обращаясь к комиссии: «Он у
нас хороший!—А оборачиваясь ко мне, громко оказал:—царя надо на
земле почитать за бога!».
Из-за того, что я не сумел ответить на этот вопрос, я не получил серебряных часов, которые раздавал директор ученикам, хорошо
знающим «закон божий».
Разрыв с религией.
С наступившими летними каникулами у меня оставалось более
своборого времени, чтобы познакомиться с астрономией, геологией ж
с учением Дарвина. Сравнивая выводы науки с библейскими сказаниями, я пришел’определенно в мысли, что бога нет, что не бог
создал человека, а попы, чтобы обманывать народ, выдумали представление о боге.
По отношению в евангельскому и толстовскому учению о непротивлении злу я пришел к выводу, что оно не только бесполезно, яо
и вредно. «Не любовь к богатым, к хозяевам, к врагам рабочих нужно
проповедывать, а ненависть к ним. Борьба со злом,—думал я,—вот
благо! Надо- ненавидеть тех, кто нас угнетает; надо с ними бороться!»
И я стал ненавидеть со всею страстностью моей души царя, которого
поп предлагал почитать за бога, попов, монахов, архиереев, которые
держат рабочих в умственном рабстве, в всех богатых, живущих за
счет рабочих. Погруженный в эти мысли, я возвращался домой.
— Что с тобой?—сказал, догнавший меня, Косодобов:—тебя нигде не видно! Ты перестал ходить на беседы. Отец Григорий (Петров)
про тебя спрашивал: не болен ли ты?
— Знаешь ли, Саша,—сказал я Косо Лобову:—я больше не буду
ходить в церковь: ведь бога нет, как нет и дьявола. Где он, скажи! Все
это выдумки попов. Да наука ведь все поповские хитросплетения опровергает.
Если бы я сказал, что я заражен проказой, чумой или другой заразительной болезнью, Косодобов не отскочил бы от меня так, как тогда, когда он услышал, что бога нет.
Когда он ушел, сказав, что я с ума сошел, я почувствовал, что
потерял его, как друга, и что я одинок. Но я уже освоился с мыслью
об одиночестве. Когда я начал агитацию об «Обществе трезвости»,
столкнулся с косностью масс. «Лишь бы быть правым, лишь бы обладать истиной,—думал я,—а остальное не страшно». II приготовился к
.тому, что от меня все отвернутся.
Когда на другой день я шел на работу, Косолобов догнал меня и,
к моему удивлению, сказал:—«Ты 'знаешь, Александр, я целую ночь
думал о том, что ты сказал вчера, что бога нет. Ты прав. После того,
.что мы прочли из астрономии и геологии, библейские рассказы кажутся бабьими еказками. Ты прав, нет бога». Я просиял от этих слов
моего славного товарища. Итак, я уже не одинок. Если нет бога, надо
искать социалистов или нигилистов. Надо бросать бомбы в царей, в
попов, взрывать церкви. Но как найти социалистов? Федоров помочь
не может. Он много знает, много понимает, но бомбу взять откажется.
На виселицу не решится пойти. Я резко изменил свою жизнь: перестал совершенно посещать церкви, молиться, снимать шапку и креститься перед иконами. Вид церквей, часовень, попов, монахов стал
внушать мне отвращение.
Члены Общества трезвости, которых я сам завербовал, заметив,
что меня нигде нет в церквах, что сторонюсь их, стали приходить ко
мне и спрашивать:—«Что с тобой, Боровой, отчего ты не ходишь в
церковь?»—«Оттого,—ответил я,—^что бога нет. Его не существует, все
это выдумки ионов. Попы нас обманывают».—'«Как 'бога нет?—сказал
мне Павел Андреев,—ты с ума сошел»!—«Увы, я прочел Ветхий и Новый Заветы и затем астрономию и геологию и убедился, что все рассказы о боге—-поповские басни». Эта небольшая кучка членов Общества трезвости во главе с П. Андреевым, отшатнулась от меня, как от
зачумленного, а я, полный глухой ненависти к попам, кричал нм вслед:
;«Нет бога, нет его, нас попы обманули!».
Весть, что Сашка Боровой, основатель Общества трезвости, молившийся богу, ходивший по церквам, сделался безбожным, а значит и социалистом, с быстротою молнии разнеслась по заводу. Толпы рабочих
стали осаждать меня. Старые полагали, что я сошел с ума, молодые
ставили вопрос, почему я думаю, что бога нет. Пользуясь знанием, так
называемого, священного писания и знаниями, почерпнутыми из других книг, я доказывал всем, что попы наглые обманщики, что бога и
дьявола нет. Я чествовал, что у меня выросли как бы крылья, что
— 42 —
я стал головой выше. Я видел свет, который, в виде научных данных,
как бы прорезал темную тучу поповской лжи. С тем же энтузиазмом,
с каким я ссылался раньше на священное писание, теперь я стал говорить против него, против великого, страшного векового обмана.
Все рабочие были страшно поражены переменой, которая произошла со мной. Если бы с йена упал огромный згетеор, он их, казалось, не поразил бы так, как нх изумили мои слова. Одпн старик, любивший меня и ходивший со мной по церквам, однажды подошел и при
всех громко сказал:—«Сашка, раньше, когда ты верил в бога, ты был
похож на ангела, лицо у тебя было светлое, глаза добрые. Теперь же,
с тех пор, как ты перестал верить в бога, лицо у тебя почернело, твой
взгляд стал мрачный, п ты стад похож на дьявола. Будь ты проклят,
Сашка!* Многие старые рабочие вообще нахорди, что было бы очень
хорошо, если бы мне, по старому русскому обычаю всыпали пятьдесят горячих для вразумления. Все в один голос советовали—«Если уж
ты не веришь, не верь, но не ругай священников, а то повесят тебя,
Сашка, дуралей ты этакой. Право слово, повесят».
Приходил п машинист Николай.—«Говорил я тебе, Боровой, не
дури, не проповедуй, не читай книги, вот и вышло, что ты стал безбожником, нигилистом. А теперь тебе дорога одна: повесят тебя,
Сашка, мерзавца».
Видя, что только небольшая часть молодежи нам сочувствует, я
с Косодобовым и Купцовым, решили, что необходимо воздержаться от
резких выступлений против религии перед массой отсталых рабочих и
что нужно вести агитацию среди рабочей молодежи, подыскивая отдельных личностей. Главное, на чем мы сошлись, это то, что нам необходимо найти социалистов. Этот путь одобрил и Федоров. Но он откровенно заявил, что связей с революционными организациями у него
нет.
Поиски социалистов.
Начиная с лета 1892 года мы с Косолобовым начали разыскивать социалистов или нигилистов. Косолобов был очень способный, молодой рабочий. Сначала он был учеником в обойной мастерской. При
моей помощи он перешел в пригоночную мастерскую и быстро познакомился с слесарным ремеслом. Он обладал математическими способностями и в школе считался одним из лучших учеников. Его отец давно
— 43 —
умер. И он жил оо старушкой матерью. Когда мы вместо молитв стали
распевать «Утес Разина» Навроцкого, «Дубинушку» и «У парадного
под’езда» Некрасова, она, прислушавшись к нам, заявила, что эти
песенкп, хватающие за сердце своею печалью, слышала двадцать лег
назад от студентов, когда была оришугой-горничной. «Но берегитесь,
ребята,—прибавила она,—эти песни запрещенные. Те студенты, которые
их пели, были арестованы и пропали без вести. С той поры я этих песенок больше не слыхала. Не к добру вы их поете, ох, не к добру!
Как бы не арестовали вас».
— Ничего, мамка,—отвечал ей Косолобов,—авось не арестуют.
Бродя по улицам, скверам, мы приглядывались к студентам, ожидая встретить среди них тех, кого мы искали. Но поиски наши оставались безрезультатными. Так, в то время, когда интеллигенты революционеры разыскивали рабочих, чтобы завязать среди них знакомство, рабочие, с своей стороны, старательно разыскивали интеллигентов. I | ' . ч
При царе Александре III, который не .стеснялся лупить огромной
нагайкой своих сыновей, начальство, по отношению к крестьянам, не
стеснялось мерами воздействия и, при невзносе податей, беспощадно
секло их розгами. Старое поколение крестьян и рабочих не очень возмущалось этим позором и часто говорило молодежи:—«пятьдесят горячих бы вам всыпать». Молодые крестьяне и рабочие уже чувствовали
позор телесного наказания. В конце 80-х и в начале 90-х годов были
первые случаи самоубийства наказанных крестьян.
Как тяготились произволом родителей и стариков, 'видно из рассказа слесаря Ивана Ямбирсюого. Придя ко мне, он горько жаловался,
что его старый отец, монтер, насильно повез его в деревню и насильно
женил его на одной крестьянской девушке. Сделав угрозами жену сына
своей любовницей, он в отсутствии сына приходил к ней. При всякой
попытке сына избавить свою жену от снохача-отца, старик ехал в
деревню и там жаловался старикам: «да сяухает меня сын мой, Ванька,
избаловался в городе... Я вам, старикам, ведро ставлю, поучите его»...
Сельский сход на основании закона вызывал Ваньку и всыпал ему 25
или 50 горячих и тем, как бы косвенно, подтверждал право отца на
жену сына. Сначала Ванька пробовал бить старика, но всегда за
битьем следовал вызов в деревню и всенародное всыпание избаловавшемуся Ваньке (которому было уже 25 лет) горячих. Земский на-
— и —
чалышк не только утверждал приговоры схода, но грозил Ваньке за
проявление непокорности родительской власти прибавить еще горячих.
Обезумевший от позора и глумлений, Ванька пробовал жаловаться
на старика. Во всех инстанциях он получал ответ, что отец имеет
право жаловаться на сына и сельскому сходу, и земскому начальнику,
и что сход имеет право всыпать Ваньке горячих. Один из адвокатов,
очевидно, сжалившись над ним, дал ему по секрету совет:—«Если вы
убьете отца, то на суде, где вы все расскажете, вас могут оправдать >.
— Что делать мне? — спрашивал меня Ванька.
— Убей старика, если он над тобой так глумится,—посоветовал я.
Но Ванька не решился на такую решительную меру. Он был очень
забит, и его мысли еще спали.
Мы с Косолобовым продолжали искать социалистов. Однажды,
когда мы, увлекшись разговором, с толпою пассажиров хотели войти в
зал I класса, сторож остановил нас грубым окриком:—«Стой, назад,
куды вы, рвань паршивая, прете, здесь не для мужиков, а для господ
место». Не встретив ни в ком из окружавшей нас публики сочувствия,
мы, как оплеванные, еще сильнее чувствуя на себе печать отвержения,
повернули обратно. Швейцары, сторожа, лакеи находили какое-то особое удовольствие такими окриками огорошивать, наносить оскорбления себе подобным.
Купцов редко гулял е нами. Просматривая реакционную газету
«Гражданин», которую мы начали читать по совету Федорова, он обратил внимание, что газета особенно ругает журнал «Русское Богатство».
Его заинтересовали отделы критики изящной художественной литературы. Вопрос о выборе книг, об умении отличать хорошую книгу от
дурной, имеет для рабочих огромное значение. Если читать скверные
книги, то можно привыкнуть читать их по способу Гоголевского Петрушки. Предоставленный себе рабочий, наталкиваясь лишь на вульгарные романы, так портит свой вкус, что, когда, наконец, случайно
ему в руки попадется какое-нибудь сочинение великого писателя-ху-
дожника, оно может ему не понравиться, и он навсегда остается во власти скверных книг. Наши высоко-талантливые литературные критики,
как Белинский, Чернышевский, Добролюбов и Писарев, были недоступны для рабочих в 90-х годах, потому что были запрещены н из’-
яты из обращения. Случайно любознательный т. Федоров, заинтересовавшись злобной руганью, которую источали правые газеты «Гражда-
— 45 —
вин» и «Луч» на головы этих писателей, дал нам возможность познакомиться с произведениями нашей художественной и критической литературы.
По вопросам,—какое произведение художественно и какое нет, и
что такое искусство,—дальше всех нас пошел т. Василий Купцов. Не
смотря на то, что он, видимо, происходил из «шепелевских», хотя ему
покровительствовали и помогали такие хорошие и имеющие влияние
рабочие, как Сыросгвн и Николае®, токарное ремесло ему давалось
плохо. Работая против меня, несмотря на предупреждение Николаева
не слушать Борового, он пережил веда за мной все стадии увлечения
религией ц разочарования в ней. Нарождавшемуся читателю из рабочих в это время подносили еженедельные благонамеренные и патриотические журналы, как «Родина», «Нива», «Север» и т. д. Особенно
в «Севере» помещались статьи на ту тему, что святое искусство но
должно служить узким утилитарным целям. Искусство для искусства—говорилось там.
В. Купцов, познакомившись с Белинским и с журналом «Русское
Богатство», стал на ту точку зрения, что искусство, наоборот, должно
служить освобождению рабочего класса, освобождению человечества.
По иронии истории этот плохой токарь, этот Купцов, с высоким лбом и
серыми глазами, еще в самые глухие времена царизма иногда до вечера вел философские разговоры. При других условиях из него, может быть, выработался бы нли хороший литературный критик или художник. Но тяжелые условия жизни, два года крепости, четыре года
Якутской области совершенно сломили его. Он заболел психическим
расстройством. Благодаря ему, еще до знакомства с Приютовым и народовольцами, мы научились различать хоть немного хорошие книги
от дурных н отрицательно относиться к декадентам в искусстве. В то
время, как мы с Косолобовым разыскивали социалистов, Купцов откапывал для нас то одно, то другое художественное произведение.
Но наиболее сильное впечатление на нас произвел Некрасов. Его
выстраданный стих, егб муза печали и гнева приходились нам более
всего по сердцу. Отрывки из его стихов, помещенные в реакционных
произведениях, направленных против революции, и высеченные на его
могильном памятнике в царстве смерти, заставляли биться наши сердца
и будили мысли. Несмотря на неблагоприятные отзывы о поэзии Некрасова, даже таких великих писателей, к каким принадлежал Л. Н.
Толстой, Некрасов был и останется певцом народного горя, поэтом для
— 46 —
всякого рабочего, которому становится ненавистен капиталистически!
гнет. Другим писателям, имевшим влияние на меня после Некрасова,
был Гоголь. Его «Тарас Бульба», как изображение сильного, стойкого
борца, из эпохи крестьянско-казацкой революции на Украйне, вызывал желание быть таким же крепким, стойким и непримиримым, как
он. О других великих писателях, как я уже говорил, по иронии истории мы узнали через самые реакционные газеты, как «Гражданин» и
«Луч». Таким образом, в то время, как граф Делянов, министр народного просвещения, изгонял из средней и высшей школы кухаркиных
сыновей и Победоносцев мобилизовал черную рать попов и монахов,
когда для рабочего были закрыты все пути в тем писателям, которые
будили народ, мы, рабочие, учились находить друзей рабочего класса
через кладбищенские памятники и реакционную прессу.
Пробудившись от сна, освободившись о религиозного дурмана, я
ужаснулся суровой действительности. Православие, царизм, великорусский шовинизм, русские поддевки и полушубки, длинные бороды и волосы в кружок]—все стало мне ненавистным. Все новое и хорошее,
думал я, должно быть взято с Запада, который далеко опередил нас.
Только одно из седой старины оставалось дорогим и близким. Это звон
вечевого колокола в Великом Новгороде, с его вечем и демократизм Запорожской Сечи. Как мне хотелось, чтобы среди той ночи, которая
охватывала Россию, снова раздался звук вечевого колокола, чтобы
опять загомонило и зашумело, как море, народное вече. Пока верил в
бога, я жил мечтою о будущей вечной жизни. Когда же освободился от
веры в бога, русская действительность, с ее городовыми, жандармами,
вековой покорностью, показалась настолько безотрадной, мрачной, что
жизнь перестала привлекать меня, и я стал искать случая, чтобы умереть, но умереть, отомстив за позор, за унижение, за вековой гнет и
обман. С мрачной ненавистью смотрел на богатых, когда они мне встречались. Я искал социалистов, чтобы бросить бомбу, убить царя, и умереть в блаженстве, с сознанием того, что я отомстил.
Так прошло лето, настала осень, и снова начали учиться в школе,
перейдя в 3-й класс. Каждый день мы приходили в 8 час. вечера и уходили в 10 час. В воскресенье занимались с 10 утра до 3-х пополудни.
Чтобы понимать газетные статьи, изобиловавшие иностранными словами, я купил карманный словарь иностранных слов и читал газетные
статьи с помощью словаря, так же, как читают книги на иностранном
языке.
— 47
Воспользовашись недовольством рабочих на постоянные сбавки
расценков, я начал говорить, что виновата тут та покорность, с которой мы, рабочие, переносили все, и что главная вина падает на попов,
внушающих нам непротивление злу. В таком, немного смягченном,
виде и моя агитация имела большой успех. Один из слесарей, Павел
Андреев, завербованный мною в Общество трезвости и затем в вечернюю школу, не мог переварить той перемены, которая произошла со
мной и донес на меня попу, и, придя в мое отсутствие, перепугал мою
мать:—-«Ваш Сашка в бога перестал верить, плюет на иконы. Покажите-ка его книги». Найдя, купленную мной на толкучке книгу
«Тайные Общества всех веков и всех времен», он потащил ее к попу.
Книга оказалась легальной, но моя мать чуть не· сошла с ума, узнав,
что я не верю в бога. Она плакала. Ей все казалось, что на меня ползут черные мухи. Она ухватывала полотенце и начинала меня бить,
сгоняя мух. Пришлось позвать доктора. —«Что е вамп?»—спросил он
мою мать.—«Да в бога перестал Сашка верить,—вставила моя сестра,—мать и рехнулась».—«Как так, ие верит?»—переспросил удивленный врач.—«Да так, говорит, нет бога, врут попы, обманывают
пас,—продолжала моя сестра,—но. разве это возможно, чтобы Его, Вседержителя, не было». Доктор удивленно посмотрел на меня, что-то прописал и, отказавшись взять рубль, который я протягивал, сказал:—
«Не беспокойтесь, ваша мать успокоится и поправится»... Андреев даже
в школе произвел переполох. Поп громогласно на уроках три раза
вподряд заявил, что он не потерпит антицерковной агитации. К
счастью, туповатый Павлуша Андреев принял меня за сектанта-штук-
диюта.
Так прошла зима, настало лето. После экзаменов и перехода в
четвертый класс, настали каникулы. Мы все продолжали искать социалистов и не встречали их. Это нас опечаливало...
Моя мать примирилась с тем, что у нее «самый любимый сын»
оказался безбожник. Она поправилась от болезни и только по временам плакала. Павел Андреев старался занять мое место и продолжал
православно-религиозную агитацию и вербовку членов Общества трезвости, но довольно безуспешно.
Настала осень 1894 г. Не потеряв еще надежды найти револю-
ционера-студента или нигилиста, мы снова начали ходить в школу.
В четвертом классе учеников, перешедших в него, было не больше десяти. Учение отнимало все время. Новые ученики поступали больше
— 48 — ' ь.
во 2-й и 3-й классы. Присматриваясь к ученикам этих классовая ей
дог провести дня, чтобы не поговорить с кем-нибудь из новых против
ионов и против богатых. Таким образом я познакомился с новым учеником Борисовым.
. Однажды, в июле, когда по окончании занятий в 11 час. вечера,
я подходил к своему дому, неожиданно столкнулся с нашим попом-
законоучителем. —«А, Шаповалов, ты откуда? Из школы? Далече ты
живешь. Целый день работаешь и вечером в школу, и такую даль.
Похвально... похвально... Слушай, Шаповалов, я давно с тобой хочу
поговорить. Ты считаешься хорошим учеником, скоро кончишь школу,
получишь диплом. А что же дальше?» —«Не знаю, батюшка», ответил я.—«Ну вот,·—продолжал он,—зачем ты эту- дурь в голову взял,,
проповедуешь там, думаешь, я не знаю, Андреев мне все рассказал.
Послушай, брось эту ересь, кончай школу, приходи ко мне. Я устрою
тебя на казенный счет в семинарию. Оттуда с твоими способностями
тебе будет открыта дорога в Духовную Академию. И брешь тогда
православным учителем, а не каким-нибудь»... Я был смущен и испуган этим предложением со стороны попа. Меня перепугал донос Андреева. Не решившись открыто сказать, что ненавижу попов и религию,
я притворился, скрывая свои мысли, и сказал, что подумаю.
Димитрия Федорова в это время уже не было с нами. Он перешел
на другой завод и меня звал: «ухор, Сашка, с «Варшавки», работать
научишься»... О забастовках, о рабочем рижении и социалистических
партиях на Западе я имел самые туманные, неоформленные представления. Остановить заводы и фабрики, хотя бы на одном Обвором
канале, где я жил, было и заманчиво и, казалось, неосуществимым. Я
не верил еще, чтобы наши рабочие могли подняться до организованной
стачки. Борисов, которого я пытался завербовать в кружок, сказал
однажды:—«Я вас познакомлю с Тулуповым Мишей. Он учится во втором классе. Он как раз вам подойдет; тоже, как и вы, говорит и против царя, и против попов, и против богатых, а я, знаете, побаиваюсь...
как бы фараоны не арестовали»...
вступление в партию „Народная Родя“·
Портной Михаил Тулупов с первого взгляда произвел на меня не-
выгорое впечатление. Учился он плохо. Среднего роста, довольно не¬
49
взрачный, он мне показался отчасти недалеким и даже ограниченным.
Но, когда я присмотрелся к нему, увидел, что в его лице, в главах
просвечивало что-то честное, прямое, искреннее, беззаветное. Меня потянуло в нему, и с двух слов я понял, что он не шпион, не жандарм,
а честный, искренний рабочий. Из разговора с ним я выяснил, что он
уже давно слышал об мне от учеников школы и искал случая познакомиться. —«Мне говорили, что вы любите читать книги. Приходите
ко мне завтра вечером. У меня собирается кружок товарищей. Мы занимаемся самообразованием, читаем и т. д.». Я ответил, конечно, согласием. Хотя М. Тулупов был рабочим-портным, а не студентом и не
производил впечатления человека начитанного, какой-то внутренний голос говорил, что он принадлежит к кружку революционеров. В этом
уберла меня его просьба никому не говорить о его кружке и о моем
посещении его. Ночь я провел почти без сна. Следующий день мне
казался необыкновенно длинным. С нетерпением считал я часы и минуты. Наконец, загудел гудок. Одним из первых я выскочив за ворота
завода.-»—« Куца ты это так торопишься? *—спросил, догнавший меня,
Косолобов.—«Молчи,—ответил я,—и не говори никому. Кажется, я
нашел нигилистов. Сегоря иду знакомиться».—«Что ты, неужели, значит?..»—«Да, Александр,—может, завтра начнем новую жизнь»...
— «Ты так смотришь на богачей на улицах, что они твоего взгляда
пугаются»,—сказал мне однажды Косолобов. И действительно, то, чем
я жил в то время, была ненависть. Я ненавидел попов, царя, всех богатых. Постоянно вспоминал я, в каких ужасных условиях живем
мы, рабочие, и какому страшному обману о небесном рае мы подвергаемся. Я не мог скрывать своих чувств. При виде толстого буржуя
вспоминал отца, которому богатые переломали ребра и выбили зубы,
сестру, которая умерла в чахотке, и мрачный огонь ненависти против
моей воли вспыхивал в моих глазах. Не веря больше в сказки о рае на
небе, не знал еще, как построить рай иа земле. Перестав верить в бота,
я зашел слишком далеко от рабочей массы, которая продолжала коснеть
в духовном рабстве и потому мне казалось, что остается одно—это
умереть с бомбой в руках, отомстив царям, попам и богатым. Гейне
отразил в своем стихотворении «Ткачи» то настроение, которое может
нри известных условиях охватить пролетария.
Когда я шел' к Тулупову, я как бы переходил ту пустыню, о которой говорится в одном рассказе Чехова, что перейти ее решались лишь
те, которые презирали жизнь и не боялись, смерти. Выйдя из дома, я
А. И. Шаповалов. ^
)
)
— 50 —
прощался с жданыо, которая мне ничего не дала, я был уверен, что нигилисты, движимые такой же ненавистью, как и я, предложат мне
отомстить и погибнуть за унижение, за слезы, за оскорбление, которые выносит рабочий. Я уже видел ужас, который охватил всех богатых, при известии, что от руки рабочего погиб земной бог—царь,
видел себя в руках толпы, которая избивает меня, ведет в тюрьму и
затем на эшафот. Но я умираю счастливый, что отомстил... «Проклятье
тебе, о, царь всех счастливых! Тебе же не жаль бедняков терпеливых»...
С такими мыслями я шел к набережной Крюкова канала, где при
слабом свете керосинового фонаря прогуливался в ожидании меня
Тулупов Михаил. Приняв все необходимые меры предосторожности, мы
вошли в дом и квартиру Ж. Тулупова. В маленькой узкой комнате у
стола за самоваром сидели: брат Тулупова—Григорий, слесарь; Белов
Николай, наборщик, и Приютов, Василий Петрович, портной,
Я был значительно разочарован, узнав, что попал в компанию рабочих. Мне казалось, что нигилисты·—все студенты. Из всех членов этого
кружка особенно выделялся т. Приютов. Это был безусловно один из
самых выдающихся рабочих своего времени. Высокий, стройный, с
бледным умным лицом, с выразительными глазами, он совсем не походил на рабочего: очень развитой, начитанный, интеллигентный, ,ско,-
рее походил на, студента, учителя или художника.
Родившись на юге, около Одессы, не примирившись с притупляющей обстановкой провинциальной жизни, тина которой тогда засасывала, он поехал в Петербург, куда тянуло тогда всех, кто порывал со
старым. Вращаясь срер учащейся молодежи, он’ сталкивался с марксистами, которые тогда появились, и с народниками. Он примкнул к
группе партии «Народная Воля», которая в 1893 г., установив нелегальную типографию на Васильевском Острове, заявила о своем существовании песколькими листками. Сделавшись убежденным народо-
вольцем-террористом, Приютов занялся вербовкой рабочих в свой кружок, который он предполагал предложить партии «Народной Воли»,
как боевую группу.
Мысль о том, что гром от взрыва бомбы, брошенной в царя рукой
рабочего, члена группы рабочих, после стольких лет затишья, пробудит
от сна страну, всколыхнет общество, заставит задрожать правительство
и послужит толчком к новому под’ему революционной волны, очень его
занимала. Он был сторонником теории Михайловского о героях и толпе.
В способности масс подняться он не верил. Познакомившись со мной,
— 51
•он предложил мне рассказать историю моих переживаний. Я рассказал
о том, что, почувствовав себя одиноким среди людей, на помощь и «поддержку которых нельзя было рассчитывать, я сделался сторонником
религии и сторонником христианского братства, христианского непротивления злу и любви к врагам и активным членам Общества Трезвости. Но, убедившись, что Бога нет, что это выдумки попов, и поняв, что непротивление злу на фабрике приводит к тому, что активный
сторонник Христа, непротивящийся сбавке расценков и не ведущий
борьбу против богатых, является виновником того, что капля молока
отнимается от тысячи детей и последняя корка хлеба вырывается изо
рта стариков, я пришел к сознанию необходимости борьбы со злом
всеми средствами.
-с— «А сколько лет прошло, пока вы освободились от влияния ионов и пришли к выводу, что бога нет, и что надо бороться против богатства?»—сирости меня Приютов.—'«Много лет—ответил я.—«'Вот
видите,—продолжал Приютов,—если мы будем развивать каждого в
отдельности рабочего, пройдут десятки дет, и ничего нз этого не будет.
Только отдельные личности из рабочих способны подняться до мысли
о мщении, о борьбе, к которой после стольких лет теперь пришли вы.
Отдельных личностей легко завербовать -в боевые отряды, которые, бросая бомбы и убивая царей и министров, заставят правительство пойти
на уступки*.
— «Дайте мне бомбу,—сказал я,—я готов бросить ее и погибнуть... Косолобов и Купцов тоже готовы взять бомбы и бросать их в
царей и в богачей. Мы давно с Косолобовым ищем нигилистов,—«продолжал я—я раньше, слушая попов и моего отца, думал, что нигилисты
злодеи. Уже давно я убедился, что я ошибся. Это не злодеи, а те, которые борются за освобождение нас, угнетенных, и которые гибнут в
неравной борьбе *.
— «Товарищи,—предложил Белов,—пойдемте гулять. Здесь становится неудобным вести разговор. Нас могут подслушать».
Мы вышли на Садовую улицу, прошли на Вознесенский проспект,
прошли мимо памятника Николая I, про который говорил Федоров:
«Глупый умного догоняет, да Исакий мешает», мимо Исаа&иеюского 'Собора, громада которого высилась в темноте, и вышли на Дворцовую набережную. Было уже поздно, с моря дул ветер, вода поднималась, грозя
обычным наводнением Галерной гавани. Нева бурлила, и скрипел®, и
стонали стоявшие на якорях баржи. Мы облокотились на гранитную
4*
— 52 —
набережную. Слева от нас находился Зимний Дворец, справа за пит-
роким водным пространством огромным мрачным пятном выделялась
Петропавловская крепость. Чем-то жутким веяло от мрачной реки,,
волны которой покрывались пеной, от темного пространства крепости,,
от мелодии колоколов, которые наигрывали «Коль славен».
Приютов мне об’яснял, что партии нигилистов нет, что есть партия социалистов «Народная Воля», которые посредством террора борются за освобождение народа. «Но каждого члена партии, каждого, кто·
хочет следовать примеру Желябова, и вас в том числе, жандармы могут арестовать и бросить в тот каменный мешок, который там, за рекой»,—говорил Приютов. Его руки указывали на дворец, где живет деспот-царь, угнетающий народ, и на крепость, где томятся те, которые-
пытаются освободить этот народ. При колеблющемся свете фонарей
было видно, как в глазах Приютова горел мрачный огонь мщения и ненависти и к царю, и к богачам...—«Вся моя жизнь была тюрьмой.
Жизнь уже не привлекает меня. Дайте мне бомбу, я не испугаюсь ни-
тюрьмы, ни пыток, ни казни»,—ответил я.
Было решено, что я вступлю в группу партии «Народная Воля» и
что познакомлю со всеми моими товарищами Приютова. Мы попрощались и разошлись по домам. Счастливый, что кишел тех, кого долго
искал, я пришел домой. У ворот дома, где жил, я заметил темную фигуру. Это был Косолобов, который ждал меня.—«Знаешь, Саша,—
сказал я ему,—я нашел тех, кого мы так долго искали. Но это не-
нигилисты. Нигилистов давно нет. Это социалисты-народовольцы. Они
хотят делать как раз то, что мы думали,—бросать бомбы в царей»,—
■«Я готов»,—ответил Косолобов.
Интеллигентов, руководителей группы «Народная Воля», я встречал очень редко. Доверяя безусловно такому выдающемуся рабочему,
каким был В. П. Приютов, который мог, что называется, за нояс заткнуть любого интеллигента, они сносились с нами через него. Так как
главное внимание народовольцы обращали на отдельных личностей, на
героев, которых противопоставляли прозябающей в косности толпе, то
у нас имел место своего рода культ личностей—героев. Меня очень
интересовали и мне очень нравились эти, безусловно, чрезвычайно симпатичные люди,, с такими интелиг штными одухотворенными лицам®. Я
ловил каждое слово этих необыкновенных людей, которые понимали и
чувствовали страдания миллионов бедняков, которые пылали нена-
нистыо к царю и другим угнетателям и приносили нам, рабочим, огонь
58 —
Прометеи. Они искренно и глубоко любили урнетеппын русский народ,
под которым подразумевался рабочий и крестьянин; ради освобождения
этого народа, рада облегчения его участи они готовы были сделать все,
что было в их силах. Угнетенный народ—это был их бог, ради которого они одевали армяк и лапти и шли на виселицу. Русская народолюбивая интеллигенция — это чрезвычайно интересное явление в
истории. Она внесла необыкновенно красивую страницу в эту историю.
€ глубоким уважением вспоминаю я их всех и говорю ии^, как рабочий:
«Низкий поклон вам».
До знакомства с ними я умел только ненавидеть. После встречи с
ними, научился любить, как они, всех униженных и угнетенных.
Надо отдать справедливость, что интеллигенты-народовольцы казались
душевнее интеллигентав-марксистов. У этих последних рассудок пре-
■обладал над чувством, и тогда они могли производить впечатление людей более узких, чем народовольцы. Но когда, позднее, познакомился
с интеллигентами марксистами, я принужден был убедиться, что они
думали лучше, чем народовольцы.
Из интеллигентов народовольцев ранее всего я познакомился с
Ергиным, Александром Александровичем, и его женой, Любовью Владимировной. Затем в подпольной типографии я встретил т. Катанскую, Федулова и Прейс-Иогансон Екатерину Александровну.
Со дня знакомства с Приютовым и его кружком, я жил во власти
новых впечатлений. Постоянная опасность ареста, которая нас подстерегала, таинственность, которой окружались наши встречи и собрания, сознание того, что я уже не ничтожная песчинка, не тот рабочий, которого нельзя отличить на улице от массы других, а член
опасной, грозной для правительства и богатых, организации,—все это
представлялось новым и увлекательным... Завод с его грохотом малин, с токарным станком, вечерняя техническая школа с ее физикой
я химией, забота о матери—все отошло на задний план.
Я хорошо знал, какая опасность меня ожидает после вступления
в террористическую группу «Народная Воля». Среда рабочих ходили
глухие и преувеличенные слухи о той участи, которая ожидает социалистов. Еще мой отец и другие рабочие говорили, что арестованного
социалиста помещали в каменный мешок ПетропавловоЕой крепости,
наполнившийся водой. После того, как захлебнувшийся социалист умирал, пол камеры, в которой он .находился, раздвигался и его труп падал
— 54 —
в Неву. Сделаться социалистом, это значило, по мнению рабочих,-*-
обречь себя на верную и ужасную гибель.
Теория народовольцев более всего пришлась по душе из моего·
крута Василию Купцову, Николаев и Сыросгин злились на меня из-за
Васьки. «Дурак ты,. Васька,—говорил он Купцову,—зачем ты слушаешь Борового. Обоих вас, дураков, повесят. Одна дорога .вам»... Насколько раньше Купцов был знатоком священного писания, настолько·
теперь он, много читая, приобрел большое знакомство с Белинским,
Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым и нашей русской художественной литературой. Когда через год я перешел на сторону марксизма,
он упорно цеплялся за теорию. народовольцев. Я потерял уже тогда на
него влияние.
Особенно приятно было сознавать, что я не одинок, что у меня
есть друзья, на которых могу положиться, товарищи. Меня очень поражало то чувство братства, которое царило в кружке Приютова. Это
была своего рода маленькая коммуна, где все было общее. То хорошее,
о чая я мечтал, что было в общинах· первых христиан, здесь было налицо. Каждый старался заботиться о товарище больше, чем о брате.
Жизнь была наполнена интересом духовным, умственным. Приютов был
душой кружка.
Волнующее и чарующее наслаждение охватывало меня, когда где-
нибудь на Островах или на лодке на взморье, ч куда мы удалялись я
уплывали, я слушал народоволышческие революционные гимны и украинские песни. Огненный шар солнца погружался в море, гасли последние отблески багрово-красной зари, в небе зажигались звезды и .всходил
месяц, короткая летняя ночь проходила, наступало утро, а я все находился во власти новых волшебных звуков и впечатлений.
Вскоре Приютов об’явил, что нам, рабочим, членам его кружка,
придется -подготовить попущение на царя Алекса-пдра III. Ввиду этого
была удвоепа осторожность, было решено, что всякая более или менее
явная агитация и пропаганда на заводе и в школе прекращается. Приютов также' находил, что мне необходимо совсем уйти из школы, где
я был скомпрометирован в глазах попа, и перейти на другой завод,
где меня не знают. М. Тулупов покинул школу тотчас после того, как
я был завербован, считая, что его миссия закончена. Хотя мне оставалось всего несколько месяцев, чтобы окончить эту школу и получить,
диплом, и хотя мне очень хотелось ее окончить, я ушел из нее с:
мыслью: «для чего мне?—все равно буду качаться в петле»...
— 55 —
Мы разработали план покушения па царя Александра III. Так как
последний, направляясь в Гатчину, где он так долго, но словам
К. Маркса, был пленником русской революции, обыкновенно проезжал
по сравнительно узкому Вознесенскому проспекту. Приютов, уже давно
преследуя ту же цель, работал в качестве старшего закройщика в одной
мастерской мужского платья. Магазин этой мастерской выходил, как
раз, на Вознесенский проспект. Было решено, что в цепь проезда цари
один из нас войдет с бомбой в этот магазин в качестве заказчика.
Приютов задержит его разговорами до момента проезда. Предполагалось, что по знаку, данному с улицы, этот товарищ вместе с Прию-
товым выскочат из магазина и бросят взрывчатые снаряды в экипаж;
царя. Остальные члены нашего кружка должны были, в случае неудачи,
докончить дело. Осуществление покушения очень осложнялось огромным количеством полиции и шпионов, образовывавших почти две
сплошные цени по обеим сторонам Вознесенского и Измайловского проспектов. Кроме этого, царь на. паре великолепных лошадей проезжал
с наибольшей быстротой. Толстый кучер с широким задом гнал во-всю
мочь, не жалея лошадей. Царя очень оберегали, но мы все-таки надеялись, что нам удастся бросит в него бомбу. Хозяин портновской
мастерской узнавал обыкновенно от полиции о дне проезда царя. Мы
устраивали в эти дни пробные мобилизации, толкались в виде зевак по
Вознесенскому, проспекту и очень жалели, что группа «Народной Воли»:
не давала нам взрывчатых снарядов, ибо мы упускали очень благоприятные случаи, когда легко было ’бросить в царя снаряд.
Группа «Народная Воля», слабая численно, ие находя того сочувствия, на которое она рассчитывала, среди студентов, встречая идейно
противника в лице нарождавшегося в России марксизма, который имел'
несомненный успех, в это время колебалась и не решалась начать
организованные покушения, наконец, отложила вопрос о применении
террора до более благоприятного момента.
Приютов нам заявил, однажды, что вопрос о терроре временно
оставлен и что нашу рабочую группу решено использовать, главным
образом, для постановки большой подпольной типографии. К этому времени, как раз царь Александр III, не дождавшись бомбы народовольца,
умер от нефрита, полученного им, как известно, от очень неумеренного употребления спирта. Царь Александр III не только по внешнему
виду, но и по образу жизни и привычкам, походил на городового. Еще
при Керенском, в Крыму, в Ливадии, в его дворце, где он с семьей
— 56
имел обыкновение проводить лето, старик сторож этого дворца показывал посетителям огромную нагайку, которой можно было при хорошем ударе легко перешибить хребет любой большой собаке и которой,
по словам этого сторожа, царь «лупя своих детей, и Ннколашку в том
числе». Немудрено, что «Николашка», которого с детства огромный,
постоянно пьяный, Александр Ш «лупил», вырос дурачком. Нет ничего
удивительного, что коропованный изверг, калечивший ударами нагайки
своих собственных детей, приказывал применять к крестьянам беспощадные наказания розгами.
Труп царя, умершего от пьянства, привезенный из Ливадии, был
выставлен в Петербурге в Петропавловской крепости. В течение трех
суток толпа верноподданных и день, и ночь, желая проститься с царем,
образовала большую очередь, растянувшуюся на версту еще за пределами крепости. Указывая на эту толпу, терпеливо дожидавшую,
когда дойдет очередь поцеловать труп деспота, угнетавшего народ,
Приютов приводил свои обычные доводы о косности масс и о необходимости подыскивать отдельных личностей, которые не мирятся с гнетом
и которые готовы пожертвовать собой, чтобы, борясь всеми средствами,
завоевать угнетенному народу свободу и счастье.
В день похорон царя в знав траура заводы не работали, и улицы
были запружены толпами зевак. За гробом царя шло много представителей княжеских и королевских домов Европы. Я спросил Приютова,
почему упущен такой благоприятный момент, чтобы бросить бомбу в
толпу этой коронованной сволочи, которая, следуя за гробом, прошла
совсем близко от нас и среди которой был весь, так называемый, царствующий дом. Трудно было себе представить другой, более благоприятный, случай, чтобы уничтожить десяток-другой коронованных палачей и тиранов народа. Приютов еще раз подтвердил, что вопрос о немедленном терроре временно снят с очереди, и что все внимание обращено теперь на создание хорошей подпольной типографии.
/1ахтинская типография.
Знаменитая Лахтинская типография была поставлена Ергиным,
Александром Александровичем, еще в 1893 г. в Петербурге, на Васильевском Острове. Об этом периоде существования ее я знаю очень
мало. Она выпустила, невидимому, всего два или три листка, которыми
— 57 —
труппа партии «Народпая Воля» извещала о своем существовании и о
«воем решении продолжать настойчиво борьбу с царизмом, начатую
партией «Народной Воли» в конце 70-х годов.
Эта типография была приспособлена для более широкой деятельности и стала по настоящему работать лишь после того, как перешла
в руки нашей рабочей группы Приютова. Вторым после Приютова по
организации типографии надо считать безусловно Григория Тулупова.
Это был человек, не умевший говорить на собраниях, но необыкновенно
хороший организатор. Мало высказываясь, он много делал. Необыкновенно преданный делу революции, он, не задумываясь, пошел бы на
самое опасное дело, где нужно было пожертвовать жизнью.
Осмотрев типографский станок, на котором до сих пор народовольцы интеллигенты печатали прокламации, и. который с большим
трудом /был получен из-за границы, он его забраковал и предложил сделать новый из железа, более приспособленный для большой работы и
переноски. Чтобы придать типографии легальный вид, чтобы отвлечь
подозрение полиции, он предложил открыть слесарно-портняжную мастерскую.
С этою целью была снята квартира на Звенигородской улице
братьями Тулуповыми. Дворник, пришедший посмотреть, как живут
новые жильцы, увидел, что в передней комнате Гриша на привернутых к верстаку тисках чинит замки и что другой брат, Миша, сидя на
•столе по-портновски, подогнув под себя ноги, усиленно работает иголкой. Время от времени какие-то люди приходили и уходили к братьям.
—«Заказчики,—об’яонил М. Тулунов дворнику. Дворник, получавший
на чай, был вне подозрения, что в квартире новых жильцов затевается
■что-нибудь недоброе. Слыша часто удары молота по железу и визг напильника, он ограничивался тем, что говорил М. Тулупову:—«Скажите
брату-то, пущай не очень-то стучит по утрам, когда господа еще спят».
Удары молота и визг от напильника слышались потому, что Гриша
торопился окончить новый типографский станок из железа. Старый был
изготовлен из стекла и дерева. Работая день и ночь без надлежащего
инструмента, проявляя много усердия и изобретательности, Гриша в
•очень короткое время соорудил тот типографский станок, на котором
было за короткое сравнительно время отпечатано очень большое для
нелегальной типографии количество брошюр и листовок. Наборная
касса, шрифт, разбиравшийся и складывавшийся типографский станок—все легко укладывалось в ящиках ’ коммода. При малейшей тре-
вогв комната принимала самый повинный вид. Приходивший к братья;,г
время от времени дворник всегда замечал, что Миша усиленно кроит
и шьет, а Гриша стучит молотом, пилит напильником л лудит, и, поручив на чай, при виде приходивших заказчиков, уходил, думая: «здорово
ваши ребята работают, молодцы».
Метранпажем и наборщиком являлся Николай Белов. Днем он работал в какой-то большой типографии, из которой каждый вечер приносил полные карманы шрифта. Вся техника типографии лежала на.
нем. Нод его руководством и Гриша, и Миша, и сестра Приютова, Катя,
приехавшая с юга, и, 'наконец, конторщик Смирнов, за«ербО|Ванпый
Приютовым, все учились набирать шрифт. Доставлять шрифт из типографии нужно было с большой осторожностью. Помимо того, что метранпажи и хозяева типографии очень следили, чтобы шрифт не воро-
вали, заподозренный или замеченный в хищениях шрифта мог провалить все дело.
Работа в подпольных типографиях тяжела в особенности необходимостью почти полной разобщенности от внешнего мира. Нем реже-
приходят товарищи, имеющие связь с внешним миром, ведущие агитацию и пропаганду, тем больше уверенности, что типография не провалится. Постоянная необходимость в течение долгих месяцев находиться
в двух низких, душных комнатах, невозможность иметь общение &
внешним миром, постоянное однообразие типографской работы, вдыхание свинцовой пыли-—все это делает из работника подпольной типографии своего рода отшельника и героя. Выйти вечером, когда на улицах темно, пойти в театр—все это рискованно. Работник подпольной
типографии, подвергаясь постоянной опасности ареста, ведя самую суровую отшельническую жизнь, лишен тех радостей, тех красочных
сторон, которыми бывает временами полна жизнь революционера агитатора или •пропагандиста. Как ни были мужественны наши товарищи,,
но они с трудом выносили новую отшельническую жизнь. Более стойкими оказались: Николай Белов и Григорий Тулупов. От них нельзя
было услышать ни одной жалобы. Более всех ослабел было и заскучал
о внешнем мире т. Смирнов. «Тяжелая артиллерия», как прозвал его·
Приютов. Смирнов только что окончил военную службу, где был, кажется, артиллеристом. Однажды он заявил Приютову: «Я не могу,
больше оставаться!: пошлите куда угодно, только освободите от работы в типографии». Приютов, призвав меня, предложил мне устроить.
Смирнова, в качестве рабочего на заводе. Ввиду того, что «тяжелая,
— 59 —
артиллерия* пе знал никакого ремесла и был молод и здоров, я пришел
к мысли устроить его через Матрехина старшего молотобойцем в большой кузнице. Мастеровой, немец Браун, принимал молотобойцев толы»
через его посредство. Так как Матрехин, любивший выпить, отказал
мне на первую мою просьбу, пришлось принести ему два полштофа
водки. При виде двух бутылей, которые я поставил в угол в его каморке, Матрехин смягчился и сказал: «ну, пусть твой приятель приходит
завтра*.
В это время я снимал подвальную комнату у одного рабочего на
набережной реки Таракаиовки. Теперь эта речка, название которой
говорит, что ее мог перешагнуть таракан, уже засыпана и на ее месте
образовалась довольно широкая Таракановская улица. Эта набережная
находилась в центре рабочего квартала. Напротив, за Обводным младом, с 6. утра до 8 ч. веч. горели огнями и гудели Митрофаньевскио ткацкие фабрики. За ней начиналась огромная 1’оссийско-Американская резиновая фабрика, отравлявшая всю округу па большом пространстве
удушливым запахом жженой резины. Дальше шли еще разные фабрики
и заводы и, наконец, за Екатерингофским парком на Вольном Острове
находилась ткацкая фабрика Воронина и костеобжигательный завод,
искусственного удобрения. Большое число барж с костями, с загнившим
Ф мясом и обжигавшие кости печи издавали настолько невыносимый
смрад, что я не мог гулять в Екатерипгофском парке, я задыхался и
никак не мог понять, как рабочие Воронина н других фабрик выносят
этот смрад.
Так как работа на заводе утром начиналась рано, чтобы не опоздать, Смирнов пришел ночевать ко мне в подвал. В утренние и вечерние
часы набережные Обводного канала, были покрыты толпами рабочих.
Ночлег у меня в душном и сыром подвале, раннее вставанье в 5 часов утра, серо-зеленые лица проходивших мимо ткачей, сгорбленные
фигуры металлистов, лица, выражавшие покорность судьбе, торопливость, с которой бежали они, чтобы не опоздать на работу—все это
произвело впечатление на Смирнова. Задумчивый вошел он в кузницу и
подошел к горну, к которому его подвел Матрехин. Последний гудок
еще не свистел, но молотобойцы наваливали на горны смоченный водой каменный уголь, делали, так называемые, печи. Как только завертелись трансмиссии и задул вентилятор, горны загорались и вся огромная кузница наполнялась едким густым дымом. Начал бить паровой
молот, от ударов которого сотрясалась земля. От каждой наковальни,
— 60
'от раскаленного до-бела железа стали сыпаться искры. Молотобойцы
-сгибались и разгибались, ударяя огромным молотом по раскаленному
••железу.—«Бей лучше, мать!—послышались крики Матрехина, ибо
Смирнов не умел держать молота.—Не держи молот за горло. Ишь,
морда толстая, совсем молотом бить не умеет. Я тебе покажу Кузькину мать». Чтобы не смущать Смирнова, я ушел. Когда я пришел навестить Смирнова через три часа, он был покрыт сажей и мокрый от
пота. От усталости у него дрожали руки и ноги, и на ладонях появились водяные нарывы.—«Как ты выносишь такую жизнь?»—«просил он
меня, показывая ладони, растертые до крови.—«Эй, ворона·, не зевай,—
крикнул на него в это время его кузнец, державший в клепках свершавший искрами кусок металла. — Бей по железу, а не по- наковальне!» . ■
Проработав до обеда, Смирнов, не сказав мне ни слова, сбежал с
■завода. Он умирал от усталости. У него подгибались колени, и ныли
руки и спина.—«Где же твой товарищ?—спросил меня прибежавший
к моему станку рассвирепевший Матрехин. — Как это ты, разэтакую тебя мать, выпрашиваешь на работу лодырей, которые и молотом бить не умеют и на работу не являются?» — «Разве он не
явился?»—спросил я.—«Конечно, нет, мать мать мать», кричал Матре-
хин,—«Ну ладно, Матрехин, не кричи, я тебе сегодня вечером полштофа
поставлю».—‘Матрехин любил выпить, и это его усмиряло. Направившись к Приютову, Смирнов рассказывал, что он пришел в ужас от того,
что видел и испытал в кузнечной мастерской. Вернувшись в подпольную типографию, он больше не ворчал и молчаливо исполнял все работы. .
Я лично сравнительно редко бывал в типографии, потому что был
оставлен для работы среди рабочих. Я встречался только с Дриютовым.
Только изредка., когда, в этом чувствовалась нужда, приходил помогать
нашим затворникам. Бывало, впрочем, что я принужден был работать
в типографии ежедневно. Дворник при виде товарищей, приходивших
нагруженными бумагой и уходивших с отпечатанной литературой под
видом заказчиков, делал заключение: «здорово работают ребята, зашибают деньгу». Иногда я по целым часам бродил по противоположной
стороне Звенигородской улицы, наблюдая по поручению Приютова, как
входили и уходили эти товарищи, приносившие бумагу и уносившие
брошюры.
— 61 —
Однажды, когда я прогуливался, наблюдая, что делается кругом ж
нет ли какой опасности для нашей типографии, живший на углу этой
улицы молодой полковник гвардейского полка усаживался с женой в
санки. Красивый экипаж, откормленные лошади, толстый кучер, хорошо·
одетая выхоленная молодая барыня, жена полковника, все говорило, что
он и она принадлежат к числу очень богатых людей. Их счастливый*
беспечный смех, здоровый вид бросились мне в глаза. Невольно закипела злоба. Я вспомнил отца, которому такой же полковник переломал
ребра, мать, которой молодость прошла в ухаживании за такими барынями, и мою, полную лишений, тяжелую жизнь, и я не мог удержаться, чтобы не бросить на счастливую парочку взгляд, полный самой
мрачной ненависти. Под взглядом, который был необычен со стороны
молодого рабочего, но который не предвещал ничего доброго, мгновенно оборвался счастливый смех молодой красивой женщины; с выражением ужаса она прижалась к своему мужу, невольно ища защиты
у него от грозившей ей какой-то опасности; муж, растерявшись, повторял: «не бойся, не бойся*. Поняв, что напрасно дал волю нахлынувшему на меня чрству, я, воспользовавшись замешательством полковника, юркнул в первый проходной pop и скрылся прежде, чем
полковник мог притти в себя и позвать на помощь полицию.
Прежде чем войти в типографию, если это было в часы церковных
служб, мы временами заходили в соседнее Синодальное Подворье. Туда
же в эти часы приходил Гриша или Миша. Узнав от него, что никакой
опасности нет, мы шли смело в типографию,—«Что, богу молились?—
спросил раз рорник, заметив Гришу и Мишу, выходившими из.
церкви. — Хорошее дайне! Вы люди богомольные, тверезые, работящие. Только вот одно, больно рано начинаете молотом стучать и до
поздна утюгами шарпаете. Кабы маненько потише, а то господа-жильцы жалуются. Днем, хоть на голове хода, а ночыо-то и самим надо-
отдохнуть и другим покой дать. Всех денег все равно не заработаете»...
Так как квартира на Звенигородской улице была слишком мала,
замечание дворника, что шум от типографского станка мог внушить
подозрение, было принято во внимание, и было решено найти другую
квартиру.
После довольно долгих поисков, на которые были мобилизованы
все члены нашего кружка, новая, более подходящая, квартира была
найдена на набережной Крюкова канала, недалеко от угла Садовой
улицы. Здесь типография развернула свою работу. Здесь были напеча-
62 —
•таны брошюры: «Царь Голод», «Что должен знать и помнить каждый
рабочий», «Ткачи» Гауптмана, «Иван Гвоздь» и другие. Здесь работали: Григорий и Михаил Тулуповы, Приютов, его сестра Екатерина
Петровна Приютова, Николай Белов, Смирнов, Василий Купцов. Во
время особенно спешной работы сюда приходили Косодобов Александр
и я. После ареста Александра Ергина в этой квартире жил затворником интеллигент-народоволец Федулов. Женатый на дочери миллионера, владельца шахт, он приехал сюда из Донбаса. По внешнему виду
он очень походил на барина. Это был настоящий интеллигент-народоволец, упорно отстаивавший старые народнические позиции. Он исполнял обязанности редактора и корректора. Так как слежки покамест
никто не замечал, сюда заглядывала «Любочка»—Любовь Владимировна
Ергина, Катансвая, Екатерина Прейс-Иогансон и другие.
Уйдя с «Варшавки»—из главных мастерских Варшавской ж. д.,—
я довольно долго искал работы. Процедура поисков работы носила очень
унизительный и тяжелый характер. Вместе с толпой безработных
нужно было осаждать ворота заводов.—«Господин мастер.—обращались
рабочие, сняв шапки, просительным и часто униженным тоном к
быстро проходившему с гордым и презрительным видом тому или иному
мастеру,—.возьмите токаря! не нужно ли слесаря?» Но время стояло
очень глухое, и редко кто из счастливцев поступал на работу. Большинство без работы, без денег, без надежд па будущее, уныло склонив голову, возвращалось домой. Вставая ежедневно в 5-6 утра, я возвращался к себе, ничего не найдя. Я начинал уже раскаиваться, что ушел
с «Варшавки», но о возвращении туда нечего было и думать. Последнее время я не только не допускал сбавки расценков, но требовал даже
повышения их. Перед уходом настолько повздорил с Небел ем и с его
помощником Витковским, что они не скрыли своей радости, когда я
заявил расчет.
Свободное время, которое у меня оставалось, я старался использовать для чтения революционной и легальной литературы, полученной от народовольцев. Очень сильное впечатление произвела первая нелегальная брошюра, которую я прочел, «Хитрая Механика». Очень понятное и умелое объяснение косвенных налогов, посредством которых
обираются правительством крестьяне, удачные иллюстрации, представляющие царя, генералов и министров в виде главных грабителей, а
царицу в виде проститутки с короной на голове—все это произвело на
меня необыкновенно сильное впечатление. Накануне только я посетил
.картинную галлергао, но произведения Вандина, Рембрандта, Рубенса и
.других художников бледнели перед тем впечатлением, которое произвели на меня довольно грубо изготовленные картины из «Хитрой Механики!. Как только мать уходила из подвала, я открывал мой шкалик и впивался глазами в смелый рисунок. Смотрел часами на него и
не мог Насмотреться. Особенно импонировало, что автор-не боялся изобразить царя ;В виде вора и этим сказать правду про личность, которая
до сего для большинства считалась священной и которую ноны учили
почитать за бога па земле.
Читая «Подпольную Россию» Степняка, календарь «Народной
Воли», «Вестник, Народной Води», «€ родины на (родину», я все более
укреплялся в мысли, что единственное, что я могу сделать, это погибнуть после взрыва бомбы, брошенной моей рукой в какого-нибудь
деспота. Но мне все более начинала не нравиться скромная роль, отводимая «Народной Волей» рабочему классу. Главное внимание они обращали на крестьянство, считая его в то время, как всякую толпу, косным. Герои-революционеры вербовались в •обществе, которое давало
средства, квартиры, скрывало от полиции революционеров.
Зстре^а с /марксистами.
Приходя к Приюто-ву, который был знаком с интеллигентами
марксистами, я однажды встретил одного из последних. Присутствуя
при их споре, я невольно заинтересовался новой, неизвестной мне, социалистической теорией, которая на первое и главное место в истории
будущего ставила только рабочий класс. Хотя г. Приютов презрительно
отзывался о «социал-демократах», как о сухих материалистах, отодвигающих на очень долгий срок низвержение главного врага народа.—
самодержавие, я познакомился с этим интеллигентом.
С этого времени, помимо народнической, я стал читать и марксистскую литературу. Приютов, заметив, что я заинтересовался марксистской теорией, сказал мне:—«Остерегайся социал-демократов. Они
откладывают дело свержения царизма в долгий ящик. Они, борясь за
пятачок, ограничиваясь одним рабочим, игнорируя крестьянство и общество, суживают свою сферу деятельности. Затем, сознавая, что их
агитация не так опасна для правительства, как народовольческая, они
невольно неконспиративны. Будучи знаком с ними, ты можешь легко
захватить слежку».—«Зачем же ты позволяешь им приходить к
тебе?»—возразил я. .
— 64 —
Интеллигент Иван Митрофанович Шестопалов, студент лесного
института, работал в «Союзе' борьбы за освобождение рабочего
клала».—Я хотел бы разобраться, в чем разница между тми, социал-демократами, и нами, народовольцами, но только боюсь с вами
встречаться; говорят, что вы «мало обращаете внимания на конспирацию»,—начал я, когда мы вышли от Приютов».—«Я к вам пришлю
товарища, за которым нет никакой слежки,—говорил Иван Митрофанович,—и который вам все раз’яснит и принесет литературу».
С этого времени начались мои знакомства с марксистами. Ко мне
в подвал приходил бледный, худой интеллигент. Я получил от него
брошюру Плеханова «Русский рабочий в революционном движении»,
«Речь коммуниста Варлена», «Речь рабочего Петра Алексеева». Ра»
начавшаяся работа мысли искала выхода, не могла остановиться. Когда
я был сторонником религии, все было ясно. Что значило для меня печальное однообразие жизни на этой скучной земле по сравнению с вечной жизнью в садах рая, думал я тогда. Будучи религиозным, искал
не жизни, а смерти. Но сомнения о существовании бога, искания
мысли привели меня к сознанию, что ни, бога, ни чорта, ни ада, ни рая
нет. Жгучее чувство обиды, сознание того, что мы, рабочие, жертвы
страшного обмана, вызвало у меня прилив отчаяния. Сделавшись народовольцем, по сути дела я искал тоже не жизни, а смерти. «Как
прекрасна смерть!» говорил я себе в это время словами поэта Шелли;
смерть с бомбой в руках, смерть мстителя, как протест против обмана, против гнета. Будущий социалистический строй, о котором говорила программа «Народной Боли», представлялся мне, как нечто неясное, неоформленное, далекое... Я был молод, но я был измучен тяжелой, полной труда, жизнью, и тот порыв, на который способна молодость, звал меня лишь к смерти. Вступив в партию «Народной
Воли», я был по своему счастлив. Я ждал, как жених невесту, того
момента, когда отомщу и умру.
Но, как раньше сомнение в существовании бога, так теперь сомнения о непогрешимости, верности народовольческой догмы, снова выбили меня из колеи. Я хотел погибнуть, протестуя против обмана, жертвою которого являются рабочие, но в теоретических построениях партии «Народной Воли» я почувствовал новый, не менее ужасный, но
более тонкий обман. Сам Приютов соглашался, что во время Великой
Французской Революции массы, которые поднялись, которые низвергли
французский царизм, которые боролись за свободу, равенство, брат¬
— 65 —
ство, были самым наглым образом обмануты и обманутым оказался
главным образом рабочий класс.
Как химия разлагает органическое и неорганическое вещество на
их первоначальную сущность, на элементы, так и марксизм разложил
понятия, выдвигаемые народовольцами—народ и крестьянство. Народ—
это бог, на которого молились народовольцы, но в понятие народа
входят различные классы. Народ состоит из богатых и бедных, из трудящихся пчел и ничего не делающих трутней; из помещиков, буржуазии, крестьян и рабочих. Народовольцы хотят заменить волей народа
произвол царя. Но кто поручится, что Воля Народа не будет волей
буржуазии и помещиков, как это случилось во Франции?—«Интересы
рабочих и буржуазии противоположны», — говорят марксисты.
«Если вы не хотите, чтобы повторился тот же обман, который
имел место во Франции1,—как бы говорил -марксизм рабочим,—создавайте партию рабочего класса и боритесь за интересы последнего».
Народ состоит из классов. Буржуазия и помещики стремятся поработить рабочих. Рабочий класс имеет целью освободиться от гнета буржуазии. Народовольцы пытались опираться на крестьянство, но марксизм находит, что само крестьянство состоит из деревенской буржуазии, среднего крестьянства и сельского пролетариата.—«Ваши рабочие
тонут в миллионном крестьянстве»,—говорит Приютов. Но экономическое развитие страны приводит к тому, что средняя и мелкая буржуазия
лролетаризуется, класс пролетариев все увеличивается в числе и становится со временем самым многочисленным классом. Его партия, зна-*
чит, есть партия большинства угнетенных.
Марксизм, таким образом, низвергал старого бога народовольцев
«народ» и понятие «крестьянства», как однородное целое. Самый вопрос
об осуществимости социалистического строя, окутанный народовольческой туманной фразой, в объяснении, даваемом марксистами, выступил в ясных отчетливых формах, как высшая стадия экономического
прогресса, на основах развитой техники машинного производства.
В России развивается капитализм. Это—прогрессивное явление.
Железные дороги, телеграф, телефон, технические школы—все это
идет вслед за ним. Он вызывает к жизни самый обездоленный, из классов, класс пролетариев, который, все увеличиваясь в числе, сплачивается в борьбе с буржуазией. Он является могильщиком и буржуазии,
и всего старого общества, основанного на делении на классы. Все это
выступает отчетливо и ясно по сравнению с туманной и неясной про-
А. II. Шаповалов. 5
66 —
граммой «Народной Води». Что же такое эта последняя? являлся у меня
вопрос. Это партия буржуазии, крупной иди мелкой, все равно, которая,
став у власти, начнет угнетать рабочих; отвечал марксизм. Если это
так, значит это партия обманщиков. Хотя народовольцы отрицают религию и бога, но какая разница между ними п попами?
вступление в Союз борьбы.
— «Знаешь, Василий Петрович,—сказал я однажды Приютову,—
ты не обижайся, но мне кажется, что социал-демократы-марксисты
более правы, чем народовольцы-народники. Какая разница между попами и народовольцами? И те, и другие по сути дела обманщики. Только
марксисты, раскрывая глаза рабочим, создавая рабочую социалистическую партию, направляют рабочих по широкой прямой дороге в царство
социализма».—«Те, которых ты только что назвал обманщиками, каждый миг готовы на деле доказать свою преданность угнетенным, пожертвовав за них своей жизнью, — ответил мне Приютов. По моему
обманщиками скорее можно назвать твоих марксистов, выдвигающих
борьбу за пятачок и отодвигающих вопрос о низвержении самодержавия».
При помощи Федорова мне удалось найти работу на заводе Семенова. Презирая пьяниц, ненавидя кабаки и тех, которые опаивают народ, я при вступлении отказался поставить привальное. Я шел на пролом против всех предрассудков и вредных для рабочих обычаев. Поступая так, я был не понят отсталой массой. Окружающие меня рабочие,
большие сторонники выпить и старых порядков, начали меня с’едать,
т.-е. вести против меня подпольную борьбу. Старый обычай рабочих
говорил, что тот, кто не хочет ставить привальное, должен быть изгнан
с завода. В этой борьбе я был побежден и должен был уйти с завода.
Семенова, не приобретя здесь ни одного сторонника социализма. Заставить меня уйти было легко, ибо я пришел на этот завод тонкой точной
механики с железнодорожных мастерских, где токарная работа более
груба и менее точна.
Косолобов, работавший в это время на заводе Франко-Русского
Общества на реке Пряжке, у Берти, как говорили рабочие, распропагандировал там двух токарей: Петра Виноградова и Михаила Паянен.
При помощи финна Паянена я поступил на этот завод.
— 67 —
Если завод инженера Семенова производил маленькие машины для
изготовления папиросных гильз, завод Берти строил огромные броненосцы и крейсера и соответственно такие же мощные, огромцые паровые машины для этих морских гигантов. Завод Берти являлся одним
из самых старых механических заводов Петербурга. По преданию, жившему среди рабочих, он был основан еще будто при Петре Великом. Во
время крепостного права рабочие здесь были крепостные. Если на других заводах сказывалось немецкое или финское влияние, здесь, наоборот,
чувствовался русский дух. Я любил повторять с поэтом, что «русский
ум и русский дух зады твердит и лжет за двух». На этом заводе старый обычай ставить привальное господствовал во всей силе. Против
ворот завода, на другой стороне Пряжки, по обеим сторонам улицы
гостеприимно раскрывали свои двери два кабака. Несмотря на целый
ряд сторожей, подвергавших рабочих при выходе грубому и унизительному обыску, заводские пьяницы прибегали ко всевозможным хитростям, чтобы, выносить медные стружки. В день получки спившийся и
опустившийся до Вяземской Лавры токарь «Петух» приходил к заводу
и спрашивал двугривенный на сороковку, униженно пел «кукуреку»
и кричал—«Бертовские, Бертовские, не забудьте Петуха, дайте Петуху на водку». Находились рабочие, которые, давая ему двугривенный,
говорили:—'«А, Петух, ну-ка попляши, да спой».—«Кукуреку, кукуреку», кричал Петух, размахивая руками и тряс своим красно-сизым
носом, принявшим такие яркие оттенки от многолетнего пристрастия к
водке’. Отравленный алкоголем, с помутившимися глазами, с отекшим
лицом, с сине-багровым носом, одетый в лохмотья, бывший токарь
Петух вызывал на горькие мысли.
Старые бертовские паровые машины русского производства гремели и стучали так же сильно, как и на «Варшавке». Токарные
станки похожи были на старые из’езженные телеги. Как только я сдал
«пробу», ко мне подошли старики и задали обычный вопрос:—«Когда
же?» Как и у Семенова, я гордо отказался следовать обычаю ставить
привальное.—«Ну, хорошо же, вспомнишь ты нас!», грозили мне заводские глоты. Но на этом заводе я не особенно боялся их. У меня были
друзья: Паянен, Виноградов и Косолобов.
К этому времени, я прочел «Эрфуртскую программу» К. Каутского и его же «Краткое популярное изложение теории Маркса». Я
успел прочесть «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса. Все более убеждаясь в том, что марксизм
5*
— 68 —
является учением, которое единственно только имеет целью освободить
пролетариат и все человечество от нищеты и рабства, я наконец заявил
В. П. Приютову, что я ухожу из «Народной Воли» и примыкаю к «Союзу борьбы». — «Хорошо,—заметил холодно Приютов,—но я не советую тебе совсем разрывать с нами. Группа «Народной Воли» вошла как
раз в соглашение с «Союзом борьбы» и в нашей типографии мы начнем печатать брошюры по заказу «Союза борьбы» и вообще народовольцы, отказавшись от террора, обратив большое внимание на работу
среди рабочих, сдают свои позиции и приближаются к марксизму». В
таком же духе высказывался и интеллигент Федулов. Признавая, что
марксизм одерживает одну победу за другой на легальной почве, он,
вздыхая, говорил: — «С отказом от террора и переходом на работу
среди масс заканчивается героический период русской революции». Перейдя па точку зрения социал-демократов и вступив в «Союз борьбы»
в 1895 г., я не порывал связей с народовольческой типографией, ибо
Приютов и вся группа «Народной Воли» под влиянием, очевидно, успехов легального марксизма, роста стачек в России и рабочего движения
в Западной Европе, как казалось, все более шла навстречу социал-
демократам-марксистам.
На Франко-Русском заводе заканчивались в это время постройки
новых огромных машин для броненосца «Севастополь», который только
что был спущен на воду. Сдельные работы прекратились, работали поденно, рабочие, недовольные сокращением заработка, послали делегата
к помощнику директора с просьбой удлинить рабочий день, назначив
сверхурочные часы до 9 час. вечера. Чтобы немного больше заработать,
рабочие таким образом сами добровольно удлинили рабочий день. По
этому поводу; наш кружок, куда входили Косолобов, Виноградов, Дрож-
жин, Паянен, обсудил вопрос о выпуске прокламации. «Союз борьбы»
составил и напечатал нам листовку о значении короткого рабочего дня
с другими экономическими требованиями.
В стране, где не было политической свободы, посредством листовок, об’яснявших классовые интересы рабочих и указывавших, что
рабочим нужно требовать в данный момент, «Союз борьбы» нашел
путь к широким массам рабочих. Листки раз’ясняли, что интересы рабочих противоположны интересам хозяев, что рабочим необходимо требовать короткого рабочего дня и высокой заработной платы, что им
необходимо об’единиться в союзы и т. д. Когда рабочие приходили на
работу, они находили на своих машинах, верстаках и т. д. положен¬
I
— 69 —
ные неизвестно кем эти листки. Подобные прокламации мы распространяли и на броненосце «Севастополь», где котельщики заканчивали клепку водонепроницаемых перегородок и где слесаря устанавливали фундамент для больших машин. Разбрасывать листки было не
так легко, как может казаться. Завод часто открывался лишь минут за
15—25 до начала работ. За это время, обманывая бдительность сторожей. нужно было обежать все мастерские, раскладывая и разбрасывая
эти листки. Распространяли прокламации очень ловко и Петр Виноградов, и Михаил Паянен. Но П. Виноградов после появления прокламаций на «Севастополе», где находилась и военная команда, был немедленно рассчитан с завода. Начальство перепуталось, что листан могут найти дорогу к матросам военного флота.
Михаил Паянен был финн, родившийся в Петербурге. Он долго
находился под влиянием буржуазной младо-финской партии. Сделавшись марксистом, он распропагандировал и своего старика отца, который работал на этом же заводе и который перебрался в Петербург из
г. Сердобска еще при Николае I во время большого голода в Финляндии.
И сын, п старик оказывали нам большие услуги. Сам Михаил Паянен
уже после моего ареста погиб каким-то странным образом. За ст. Бело-
остров на финской территории его нашли раздавленным поездом. Некоторые товарищи допускали мысль, что его столкнул с площадки вагона его дядя, который был очень неравнодушен к очень красивой
финке-жене Михаила. Дядя этот, действительно, женился затем на
этой финке.
Заводом Берти управлял директор француз, носивший пеиснэ, цилиндр, обладавший огромным животом и толстым, красным лицом и
шеей и большим крючковатым носом. Таких толстых французов я потом, когда судьба меня забросила во Францию, никогда не встречал
там. Очевидно, он от’елся на вольных -русских хлебах и на эксллоата-
цвн покорных русских рабочих. Он очень любил почет, и рабочие при
встрече с ним предупредительно и часто даже подобострастно снимали
шапки п кланялись. Я избегал встречи с ним, но иногда, выходя с
толпой рабочих из завода, я нечаянно натыкался на него. При виде его
толстого брюха и красного здорового лица я не только не снимал
шапки, но в моих глазах, против моей воли, когда я глядел на него,
вспыхивал мрачный огонь ненависти. У меня являлась безумная мысль
схватить его за горло, свалить на землю и топтать толстый живот
ногами.
— 70
Еще в эхо время от котельщиков, которые были очень недовольны
сильным понижением расценков, я слышал, что водонепроницаемые перегородки на многих русских военных судах, из-за низких расценков,
заклепаны так плохо, что в случае, если снаряд пробьет внешнюю
стенку, судно должно потонуть. Примером такой плохой работы как бы
служил броненосец «Гангут», который не выдержал даже учебной
стрельбы и затонул в это время где-то у берегов Финляндии.
После того, как наш последний листок, появившийся, несмотря на
всю охрану, на броненосце с Севастополь», в котором было требование
и политическое—свержение самодержавия, начальство завода окончательно всполошилось. — «Никогда еще нога изменника не вступала на
борт русского военного судна,—товорил на другой день морской офицер,—а теперь кто-то разбрасывает на корабле его величества эти
листки». Помощник старшего мастера, добродушный немец Карл Иванович, получив выговор, что он набирает таких рабочих, после поступления которых в завод появляются прокламации, сообщил по секрету;
старику Паянену, что »лучше этому Шаповалову уйти по добру, по здо-
рову с завода». Оба Паянена посоветовали мне покинуть завод. Тот же
Карл Иванович дал мне рекомендательное письмо к своему приятелю-
шведу, мастеру с завода Лесонер.
Переход на этот завод сделал мою жизнь еще более суровой и тяжелой. Завод находился на Выборгской стороне у Сампсониевского
моста. Я жил на углу Забалканского проспекта и Обводного канала.
Чтобы попасть на Выборгскую сторону, надо было до 6 час. утра перейти Литейный мост через р. Неву, который для прохода судов разводился от 6 час. до 7 час. утра. Так как конка начинала движение с
8 утра, я, как и другие рабочие, должен был ходить на завод пешком.
Я должен был вставать ежедневно в 4 часа утра, чтобы успеть пройти
все огромное расстояние, отделявшее меня от завода, и еще до 6 час.
утра перейти Литейный мост. Возвращался на конке в 9 час. вечера.
Едва поужинав, я снова бежал по революционным делам. Зимой возвращался в 1 или 2 часа ночи. Едва успевал заснуть, как должен был
снова вскакивать, торопливо одеваться, пить чай и снова бежать во
всякую погоду.
Каждому рабочему известны те чувства, когда, оторвавшись от сна,
ранним утром в сыром холодном сумраке через спящий еще город он
спешит пешком на работу. Пусто все кругом. Тихо. Постоянный шум
большого города замолкает в этот час. Все спят. Только полицейские
— 71 —
городовые, как верные псы богатых, стоят на своих постах, охраняя
их покой. Старая, злобная ненависть поднималась во мне, когда я проходил через спящий город, когда, потный и усталый, приближался к
Неве, вдоль которой тянулись дворцы богачей и князей, когда вглядывался в Петропавловскую крепость, темным пятном простиравшуюся, на
противоположной стороне Невы, где, я знал, томились борцы за свободу. Сознание несправедливости, царящей кругом, особенно остро чувствовалось, когда в эти ранние часы мне встречались или меня перегоняли компании ночных кутил, возвращавшихся в экипажах из ночных
ресторанов. В то время, как я погибал за тяжелым трудом, когда изнемогал от постоянной усталости,—они, молодые, здоровые, женщины и
мужчины, превращали жизнь в сплошной праздник. Хотя во мне горела злобная, непримиримая, жгучая ненависть к богачам и попам, мне
в то время светили звезды надежды. Благодаря знакомству с теорией
марксизма, я был убежден, что настанет день, когда поднявшийся мститель, суровый рабочий класс, положит конец глумлению капиталистов
над рабочими. Перейдя через Неву на Выборгскую сторону в ожидании,
когда загудит свисток у Леоонера я обыкновенно засыпал на какой-нибудь скамейке,—«Эй, ты, вставай!—часто кричал мне проходивший
городовой, тряся меня за плечи. — Здесь нельзя спать». Возвращался
я с завода уже на конке, которая оканчивала движение в 11 час. вечера.
Поужинав, направлялся по революционным делам. Домой возвращался
в 1 час. и 2 час. ночи, а через два часа должен был снова вставать,
чтобы бежать на работу.
Собрания наших кружков не носили современный характер с парламентскими приемами, с выбором председателя, с выработкой порядка дня. О выборе председателя собрания, и т. д. мы в это время понятия еще не имели.
Мое пребывание на заводе Лесснер осталось довольно-таки безрезультатным. Рабочие, в подавляющем большинстве финны, находившиеся под влиянием финской шовинистической партии, ненавидели все
русское. Бросалось в глаза, что на заводе не было места таким кражам,
как на других заводах, где работали русские рабочие. Сплоченность
финских рабочих и взаимное доверие было большее. Они не воровали
друг у друга резцы, молоты, сверла и т. д., и инструмент здесь даже
не запирался. Как только я входил в завод, я чувствовал себя как бы
перенесенным в Финляндию. Всюду слышалась финская речь, царили
финские нравы. Если финны не любили русских, то последние не очень
— 72 —
любили работать на этом заводе, где среди этих положительных и суровых с виду людей их вз’ерошенные и растерянные фигуры производили несколько смешное впечатление.
Встав утром, финн рабочий в каждые пол-стакана черного кофе наливал пол-стакана русской водки, которую финны очень любили. Так
как курение на заводе запрещалось, финн, с’ев утром на заводе свой
хлеб с маслом, закладывал за обе щеки большие порции русского нюхательного табаку и, не отходя от станка, упорно работал до самого
обеда. Старший мастер, швед, и его помощник внимательно следили за
немногими русскими, к которым принадлежали, главным образом рабочие невысокой квалификации—чернорабочие, сверловщики и болто-
резы, которые, несмотря на все запрещения, ухитрялись курить в мастерской, хотя бы под станком. Старший мастер, обладая очень хорошим обонянием, из-далека чувствовал откуда несет запахом махорки и,
накрыв кого-нибудь из русских, изрыгал на него поток матерной ругани
и беспощадно штрафовал. Если случались кражи, первым делом искали
виновников среди русских рабочих.
Несмотря на листок, который я распространил здесь, моя агитация
не имела успеха. Мое знакомство с членами «Союза- борьбы» продолжало расширяться. Кроме двух интеллигентов, фамилии и прозвища
которых я позабыл, я познакомился с т.т. Гофманом и Сильвиным. По
желанию последнего Косолобов, Купцов, Виноградов, Паянен и Дрож-
жин в моей маленькой комнате на Дворянской улице Петербургской
стороны, где я жил в это время, присутствовали на разделениях, которые давал Михаил Александрович Сильвин по поводу интересовавших
нас разногласий между марксистами и народовольцами. После краткой
речи т. Сильвина и краткого обмена мыслями все присутствовавшие
подтвердили, что онр идейно порывают с народовольчеством и становятся на точку зрения «Союза борьбы». Из рабочих, примыкавших к
«Союзу борьбы», в это время я был знаком с т.т. Желябиной и Анту-
шевсвим. Последние оба меня знали под фамилией Шапувал.
Мое" знакомство с марксистской литературой все расширялось. Я
прочел «Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, Волгина «Обоснование 'народничества» и Бельтова «К вопросу о
развитии монистического взгляда на историю». Последние две
книги произвели огромное впечатление на ту часть интеллигенции, которая интересовалась политикой. Влияние Н. Михайловского и других
народников, видимо, ослабело. После появления этих книг и мало-убе-
— 73 —
дательных ответов Михайловского группа «Народной Воли» круто повернула на сближение с марксистами.
От т. Антушевского я получил один номер марксистского журнала
«Социал-Демократ». Статьи Г. В. Плеханова по поводу произведений
Г. И. Успенского имели на меня большое влияние. Приютов особенно
рекомендовал Г. И. Успенского, но его рассказы служили только лишней иллюстрацией в доказательство того глубокого разложения русской общины, на которое ссылались марксисты. Произведения великого сатирика Салтыкова-Щедрина только еще больше развенчивали в
моих глазах то общество, на которое возлагал такие надежды т. Приютов и другие народовольцы. Но его «Коняга», «Мальчик в штанах и
мальчик без штанов» и другие рассказы укрепляли в мысли о необходимости низвержения самодержавия.
Хотя я редко виделся с Желябиной и Антушевским, но от них
иного слышал о других рабочих, как Фишер, Бабушкин, Шедгунов,
Полетаев, Фунтиков и другие. Но предупрежденный Прнютовым, что
социал-демократы не конспиративны, я избегал частых встреч с ними.
Антушевский много говорил об их интеллигенте («высокий блондин»,
т. Лепешинский), который руководил кружком 1).
Хотя группа «Народной Воли» н заключила соглашение с «Союзом
борьбы», ее члены, в особенности Приютов, упорно не хотели расстаться с основными положениями народовольчества. Для этого было
достаточно доказательств. Так мы стали, однажды, в толпе народа, наполнявшего Невский проспект по случаю восшествия на престол Николая II. Проехали мимо целый ряд карет с царем п его дворцовой челядью. Сзади всех мчался градоначальник фон-Валь. Обернувшись с
выражением страха и презрения, он бил кулаком прямо в лицо прицепившегося к его санкам молодого рабочего. Этот наивный рабочий,
только что кричавший царю «ура» и находившийся в глупом телячьем восторге, что видел батюшку-царя, очевидно, не понимал, почему
этот генерал так усердно лупит его, разбивая лицо в кровь н выбивая
зубы. От неожиданной и крутой расправы он оцепенел. Его лицо выражало полное недоумение. Он продолжал держаться за санки, и
х) Упоминаемый здесь т. ЛепешинсЕий в 1895 г. не был еще социал-демократом, а примыкал к народовольцам. Арестованный 8 декабря 1895 г. по подозрению
в принадлежности к группе с.-д-ов, он самоопределился как марксист уже в тюрьме
и примкнул к с.-д. при отправке его в Воет. Сибирь.
(Об этом см. его воспоминания „На повороте“).
Редакция.
— 74 —
только подбежавшие городовые оторвали его я поволокли в участок.—
«Ну, дадут ему там,—сказал Приютов:—будет помнить, как ходить и
смотреть царя. Но каковы ваши хваленые рабочие! Вот и сделай из
него социалиста! Он будет целовать руку, которая его бьет».
Стачка ткачей в Петербурге в 1896 году.
Приютов уверял, что надежды марксистов, что русские рабочие
начнут организованную борьбу, тщетны и ни на чем не основаны. Он
указывал на примеры вроде вышеприведенного. Но он не понимал, что
трава может только временно заглушить молодые зеленые всходы, но
помешать их росту она не в состоянии.
Как только началась весна 1896 г., я взял расчет с завода Лесснер.
Я чувствовал себя совершенно истомленным, измученным. Мне был нужен отдых. Я не высыпался. Глаза сделались красны, в ушах был шум и
вверху, в спине, чувствовался холод. Но было не до отдыха. Огромное
количество листков, которые «Союзом борьбы» были распространены
и расклеены на огромном большинстве заводов и фабрик Петербурга,
делало свое дело. Вместе с весной стало замечаться пробуждение рабочих. Требования на листки шли отовсюду. «Связи» у нас появлялись
на многих заводах и фабриках. Уйдя с самого раннего утра из дома по
делам революционным, я лишь поздно вечером, часто глубокой ночью,
возвращался домой.
Начавшиеся аресты показали, что большинство арестованных рабочих не выдерживало тюремного заключения и на втором, на третьем
допросе ослабевали п выдавали жандармам своих руководителей, которыми являлись преимущественно интеллигенты. Каждый рабочий,
прежде чем вступить в кружок, переживал борьбу с самим собой. Старики, попы, начальство говорили, что социалисты суть злодеи, обманщики даже подкупленные помещиками или «англичанкой, которая
гадит».
Из прокламаций, брошюр, книг, особенно из личных впечатлений
рабочий выносил от социалистов самое хорошее впечатление. Но, попав в тюрьму, в лапы хитрому, ловкому жандарму, он часто не выдерживал. Желябина и Антушевский часто мне жаловались, что срер арестованных рабочих попадаются такие, которые не выдерживают
тюрьмы и выдают. Конечно, и среди интеллигентов, как врач Михайлов, находились предатели. Это было время, когда в организации на
десять и часто более интеллигентов приходился всего один рабочий.
Рабочие только начинали принимать участие в революционном движении и, за исключением отдельных лютостей, только начинали вырабатывать те высокие моральные качества, которые уже выработали целые поколения интеллигентов, принявших участие в борьбе против самодержавия, и которые необходимы, чтобы выдерживать тюремное заключение и не дать себя обмануть на допросах жандармам.
Вследствие всего этого вербовка молодых рабочих, новых членов
организации, представляла большие трудности и требовала большой
осмотрительности. С молодым рабочим, который отличался не только
умом, но был способен и понимать и откликаться на страдания своих
братьев рабочих, заводили знакомство, вступали с ним в дружбу, приобретали его доверие. Еще задолго до того, чтобы предложить ему какую-нибудь нелегальную брошюру, снабжали его произведениями легальной литературы, как «Спартак», «Жакерия», «93-й год» В. Гюго,
«История одного крестьянина» Эркмаща-Щатриана, «Тяжелые времена», «Шаг за шагом» Омулевского, «Хроника села ('.пурина и т. д.
Приобретать доверие в то время, особенно у рабочего, который привык
к тому, что все окружающие норовят его надуть, было чрезвычайно
трудно. Почти каждому рабочему приходилось содержать мать, старика-
отца или малолетних сестер и братьев, которые жили на его заработок. Вступить в революционную организацию, согласиться разбрасывать листки, это значило обречь себя на тюрьму и т. д., а их на произвол судьбы, на голод. Организация в то время была так бедна, что
едва хватало средств на выпуск листков. Поддерживать семьи арестованных рабочих из средств организации не было возможности. Только
благодаря более или менее продолжительному личному влиянию и
дружбе того товарища, который знакомился с ним, который делился о
ним последним из своего заработка, отдавал ему свои сапоги и пальто,
если у него их не былб, молодой рабочий вырабатывал у себя те высокие индивидуальные моральные черты, которые так присущи русским социалистам.
На каждого нового рабочего затрачивалось очень много труда и
энергии, о которых не подозревали вожаки движения, к которым приводили нового товарища. Очень часто все эти труды не приводили ни к
чему. В решительную минуту тот или иной рабочий отказывался вегу-
— 76 —
пить в организацию, распространять листки и вести агитацию. Очень
часто причиной отказа являлась женитьба рабочего. Долго еще и позднее карьера рабочего-революционера заканчивалась женитьбой, как
студента-революционера—окончанием курса. Пожилые, семейные рабочие только в очень редких случаях примыкали, и то позднее, к движению. Вообще, наша партия была очень долгое время партией революционной молодежи. Все члены организации, интеллигенты и рабочие, должны были проявлять в это время все лучшие черты коммуниста. Передовые рабочие вербовались преимущественно из металла- ·
стов. Последние в Петербурге представляли из себя лучше всего оплачиваемую часть рабочих. Потребность у них была выше, чем у других
рабочих, например, ткачей. Они были культурнее, и по внешности, по
костюму отчасти, хотя очень немного, походили на западно-европейских рабочих. Каждый токарь или слесарь снимал квартиру или маленькую комнату. Это были рабочие предприятий, работавших на военные нужды и на государство. Но масса металлистов была погружена
в это время еще в довольно глубокий сон.
Совсем другую картину представляли из себя рабочие текстильных фабрик, работавших большей частью не на государство,—например, ткачи. Их положение было несравненно хуже, чем. положение металлистов. На механических заводах рабочий день равнялся 10 часам,
а на ткацко-прярльных фабриках он тянулся 13 часов. Текстильные
фабрики начинали работать обыкновенно в 6 час. утра и заканчивали
рабочий день в 8 час. вечера, с перерывом на обед в один час. Зарабатывали ткачи-в два раза меньше металлистов. Жили они артелями в
фабричных казармах или снимали, так называемые, «углы». Одежда их
мало отличалась от крестьянской. Отличительной чертой их рабочего
костюма являлся белый передник, который они одевали на фабрике
поверх красной кумачевой рубахи. Только молодежь не подстригала волосы в скобку и по праздникам одевала пиджак. При выходе с фабрики
они поражали своим нездоровым, серо-зеленым цветом лица. Может
быть, связь с деревней, которая у них была большей, чем у металлистов, и куда они уезжали почти ежегодно-на полевые работы, спасала
их от окончательного вырождения.
В то время как мои знакомые народовольцы доказывали, что надежды марксистов на то, что рабочие проснутся когда-нибудь, тщетны,
именно эта на первый взгляд такая отсталая, некультурная, забитая
масса ткачей проснулась раньше, чем масса металлистов, и первая до¬
— 77 —
казала своей стачкой летом 1896 г. в Петербурге, что в России возможно рабочее движение, подобное западно-европейскому.
С весной 1896 г. заговорили о готовящейся коронации царя
Николая II в Москве. Жандармы принимали меры, чтобы перед коронацией ликвидировать и «Союз борьбы», и народовольческую типографию. Один из самых видных членов партии «Народная Воля» А. А.
Ергин был арестован еще зимой. По словам Приютова, имелись признаки, что жандармы вообще напали на след типографии. Было решено,
что Приютов, его сестра и М. Тулупов уедут из Питера. Типографию
на Крюковском канале спешно ликвидировали. Приютов просил меня и
Косолобова принять участие в переводе типографии в безопасное место,
пока не будет разыскана новая подходящая квартира. Было решено
также, что Косолобов и Купцов в новом помещении займут места уехавших трех товарищей. Это было сделано потому, что эти два товарища
являлись вполне надежными людьми, и потому, что типография работала, фактически’, главным образом, на «Союз борьбы».
Ввиду того, что с от’ездом Приютова все успокоилось, и «слежки»
никто не замечал за собой, была нанята, небольшая дача в дачной
местности Лахта. Григорий Тулупов, Николай Белов, Смирнов, Василий
Купцов, Александр Косолобов, под видом дачников, поселились на этой
даче. Федулова, который тоже уехал, заменила Екатерина Александровна
Лрейс-Иогансои.
Пробродив около месяца без работы, я поступил при содействии
знакомого .4. Паянена, финна-рабочего, на металлический завод на Выборгской стороне. Чтобы не возбуждать недовольства сторонников старых обычаев, я решил попробовать пойти на компромисс и на этот раз,
когда заводские глоты спросили: «когда же?», ответил: «когда хотите» и отсчитал им два рубля на «привальное».
Приближалась коронация. Царь уехал в Москву. Газеты были
полны сообщениями о больших торжествах в Москве, об иллюминации
Кремля, о торжественных приемах царя во дворце и о патриотическом
настроении, охватившем население Москвы.
Но радостное настроение верноподданных было омрачено глухими
слухами о страшной катастрофе на Ходынском поле: говорили, что
погибло около 10.000 человек, которые были каким-то образом раздавлены толпой.
Рабочие, читавшие, что погибло не менее пяти тысяч человек,
прочитали также известие, что только что короновавшийся царь в тот
78 —
же вечер, когда корчились от муки раздавленные жертвы, танцовал
на роскошном балу с фрейлинами в своем Кремлевском дворце.
Обращала на себя внимание речь на коронации архиепископа харьковского Амвросия. Этот служитель церкви с торжеством указывал царю,
что, несмотря на все попытки внутренних врагов, русский народ остается
попрежнему. верен самодержавному царю.
Как бы в ответ на эту речь в Петербурге началась, поразившая
всех, как гром среди ясного неба, стачка 35 тысяч ткачей и прядильщиков. Радость царя и всех палачей народа была омрачена: на историческом горизонте показались тучи и ударил первый гром, предвестник
орущей, еще большей бури.
Такая дружная, организованная забастовка, необычная для России, не похожая на прежний бунт, явилась полной неожиданностью не
только для правительства, жандармов, полиции, буржуазии, но и для
«Союза борьбы», не говоря уже о группе «Народная Воля». Хотя замечались признаки пробуждения сознательности рабочих, увеличилось
требование на листки, на фабриках усилилось недовольство, однако
никто не предполагал, что ткачи и прядильщики окажутся способны
проявить такую выдержанность и стойкость, какая необходима для проведения массовой стачки.
Знакомые мои прядильщики и ткачи уверяли, что у забастовщиков есть свой подпольный стачечный совет представителей от фабрик, который организовал и об’явил забастовку.
Только очень тяжелыми условиями подпольного существования,
очень малым количеством рабочих текстильщиков, которые только начали входить в кружок «'Союза борьбы», обгоняется факт, что забастовка началась не по сигналу со стороны «Союза борьбы». Ткачи и
прядильщики пользовались уроками, которые получали из многочисленных листков, распространяемых на фабриках «Союзом». Влияние
последнего на рабочих было так велико, что фактическое руководство
стачкой перешло в его руки.
| Эта необыкновенная для того времени стачка, поскольку она перепугала правительство и буржуазию, постольку окрылила надежды марксистов и всех революционеров вообще и даже либералов. Были ы<*-
билизованы все силы «Союза борьбы», были пущены в ход все подпольные гектографы и мимеографы.
Я, несмотря на болезнь и усталость, заявил на заводе, что я болен, и бегал по фабричным районам с утра до вечера. Нужно было со¬
бирать сведения о течении забастовки, собирать собрания, поддерживать бодрое настроение, распространять по квартирам рабочих листовки
и делать попытки снять те фабрики, которые продолжали работать. Во
время одного такого собрания я чуть было не был арестован.
Я с моим кружком обслуживал районы Обводного канала и Выборгскую сторону. Когда я пришел в фабричную казарму на Сампсонн-
евском проспекте на Выборгской стороне, товарищи прядильщики сейчас же принесли две бутылки водки. На мой вопрос, к чему эта водка,
член нашего кружка с этой фабрики шепнул мне: «Вырить непременно
надо: иначе другие непременно догадаются, что мы социалисты, я донесут*.
Хотя водка была мне противна и не подходила к моменту, пришлось выпить, как шептал наш товарищ, «для отвода глаз*. Затем
один по одному ткачи и прядильщики—человек 15—ушли из казармы и
собрались на огороде за фабрикой. Я прочел там принесенную мною
прокламацию, которая была одобрена, и произнес небольшую речь о
целях забастовки и о необходимости держаться до конца. Было постановлено держаться до конца и выработаны были требования для нового листка.
Петр Виноградов продекламировал стихотворение:
Ткачи.
Грохот машин, духота нестерпимая,
В воздухе клочья хлопка,
Маслом прогорклым воняет удушливо...
Да, жизнь ткача не легка!
Мучит, терзает головушку бедную
Грохот машинных колес,
Свет застилается в оченьках крупными
Каплями пота и слез.
Эх, да зачем же вы льетеся ,
Горькие, горькие слезы из глаз?
Делу помеха, основа испортится, —
Быть мне в ответе за вас...
Как не завидовать главному мастеру?
Вишь, на оконце сидит,
Чай попивает, да гладит бородушку,—
Видно, душа не болит!..
Ласков на вид, а приди к нему вечером,—
80 —
Станешь работу сдавать,—
Он и работу бранит, и ругается,
Все норовит браковать.
Так вот и гнет, чтоб поменьше досталося
Нашему брату ткачу.
Эх, главный мастер, хозяин, надсмотрщики, —
Жить ведь я тоже хочу!
Второе стихотворение, «Ткачи» Гейне, Виноградову не удалось
окончить. Когда он дошел до слов:
Проклятье тебе, о, наш край лицемерный,
Где царствует стыд и позор беспримерный,
Где в миг увядает цветок полевой,
Где кормится тленьем червяк гробовой,
Мы ткем неустанно, ты ткем, —
Старой России мы саван соткем...—
раздался крик нашего 'сторожевого: «Опасайтесь, полиция!». Мы мигом
рассыпались но кустам. Когда я оглянулся, на огороде никого уже не
было; лишь группа конных городовых рыскала по грядам. На этот раз
всем удалось спастись. Никто арестован не был. И на другой день по
квартирам Сампсонпевской фабрики были распространены листки.
Когда началась забастовка, ее успех лишний раз говорил мне,
как я был прав, оставив группу Народной Воли с ее неясно-туманными
целямн. Вся ее программа определенно представилась мне, как полная
недоразумений, неясности, противоречий. Каким путем возможно осуществить народовольческий социализм? задавал я себе вопрос. В развитие капитализма в России они не верят. Рабочему классу они отводят самую скромную роль, отодвигая его на. самый задний план. Крестьянская община, на которую они хотят опереться, по свидетельству
Глеба Успенского уже разложена. В самодеятельность масс, как рабочих, так п крестьянских, они не верят.
Совсем другое дело—марксистская теория. Все неясное в ее освещении в глазах рабочего становится шЬлм; все несправедливое, бесформенное начинает принимать вполне законченные формы. Горизонты
расширяются перед рабочим. Он видит себя идущим по широкой дороге, ведущей к освобождению всех угнетенных, к уничтожению строя,
основанного на угнетении человеком человека.
Первые и огромные шаги сделаны. То, о чем я не смел и мечтать
два года назад, осуществилось. Волей рабочего класса остановлены ка-
— 81 —
ценные гиганты. Замолкли фабричные корпуса; не стучат машины, не
горят фабричные огни.
.Стачка ткачей 1896 г. на деле подтвердила теоретические предпосылки марксистов и свидетельствовала о том, что в России на историческую арену выступает рабочий класс. Нельзя забывать, что в этой
стачке приняли участие самые угнетенные, задавленные рабочие. Дли
многих, особенно для иностранцев, было непонятно, каким путем дошли
эти рабочие до мысли об организованной, планомерной стачке.
— Кто вас научил устраивать стачки?—удивленно спрашивал директор-англичанин одной большой петербургской фабрики у предававших ему экономические требования рабочих. Как гордый англичанин,
он никак не мог себе представить, что такие забитые, задавленные русские рабочие, живущие в таких невыразимо тяжелых условиях, способны подняться до западно-европейских форм рабочего движения.
Стачка, так хорошо начатая п проводимая, подняла очень высоко
в глазах рабочих рвтормтет «Союза борьбы», прокламации которого
всегда призывали рабочих к об’единению и стачкам, к борьбе, н в первый раз воочию показали, какую силу представляет рабочий класс, если
он выступает организованно. Требование на листки и на марксистскую
литературу усилилось.
Чтобы не умереть с голода, мне, у которого на плечах были мать
н два брата, пришлось вернуться на завод. Как только вечером гудел
гудок, я стрелой летел с завода домой, наскоро ужинал н бежал то в
один конец города, то в другой, во делам организации, по обслуживанию забастовки. Иногда приходилось проводить всю ночь где-нибудь на
огородах, где устраивались встречи, проводились собрания, передавалась литература. К счастью, работа на заводе у меня была крупная. Я забирал резцом стружку, а огромный станок, токарный продолжал двигаться автоматически. От напряженно-нервной жизни, от беготни, от переутомления у меня звенело в ушах. Как только я садился
на скамейку, при виде медленно вращающегося огромного патрона, я
начинал клевать носом, я засыпал. Монотонный гул машин и стук
молотов выливался в речь или стихи, которые говорил или декламировал М. Паянен и другие.
Однажды, когда я невольно задремал, таким образом, я был разбужен соседом токарем: — «Однако ты, должно быть, здорово за девками приударяешь! Очевидно, целыми ночами за ними гоняешься. Как
сел, так и заснул. Знаем мы вас, молодых! Смотри: что ты наделал?»
6
А. И. Шаповалов.
82 —
Я вскочил, протирая глаза. Когда пришел в себя, увидел, что во
время она стальные леэвея резца врезались в поверхность огромного
медного шара, который я обтачивал для минной пушки, глубже, чем
это нужно. Пришедший слесарный мастер, принимавший шары, был
русский. Он был груб, брал взятки. Обругав меня самым отборным словом, он, незаметно для других, снизу вверх ударил меня кулаком в
живот.
Что мне было делать? Мои руки судорожно сжимали рукоятку
ручника. Первой моей мыслью было размозжить ему голову молотом.
Но я вспомнил, что у меня нет денег заплатить за комнату, где жил,
что у меня дома мать и брат и что я связан с революцией, с «Союзом
борьбы», что ко мне вечером сегодня принесут прокламации для нашего завода, которые я должен завтра распространить.
Эти соображения, как и старая привычка переносить оскорбления
и тяжелую участь, заглушили проснувшийся во мне голос взбунтовавшегося человека. Парижский рабочий, француз ударил бы на моем месте мастера молотом, размозжил бы ему голову п отомстил бы за
обиду. А я стерпел жестокую обиду, опустил молот, но мрачный огонь
ненависти, блеснувший в моих глазах, не ускользнул от зорких глаз
унтер-офицера капитала. —«Ну, ладно,—сказал он,—на первый раз
прощу».
Движимый злобою против хозяев, мастеров, правительства, я на
другой день очень ловко успел разбросать на верстаках, у станков, на
всех местах, где работают рабочие, прокламации во всех 12 мастерских
завода.
После того, как за Приютовым и другими народовольцами началась
слежка, и они во избежание ареста раз’ехались из Петербурга, а типография переехала в дачную местность· Лахта, я не виделся больше с
ними. Поэтому я был чрезвычайно удивлен, увидев у вррот завода Ко-
солобова, державшего, как и т. Смирнов, связь с внешним миром.—«Ты
зачем здесь?»—спросил я.—«Тебя непременно хочет видеть Екатерина
Александровна. Приезжай непременно, если за тобой не следят».
В Париже встречаются люди, которые почти не выходят за пределы своего квартала. Я носил в себе черты этой ограниченности горожан. Я прожил до 25-летнего возраста в Петербурге и ни разу не
бывал ни в Петергофе, ни в Царском Селе, ни в Кронштадте, ни на Лахте.
Это произошло не потому, что у меня не было любознательности, а потому, что постоянная нужда, необходимость поддерживать мать, рух
83 —
братьев, сестру, не позволяли таких затрат, как на поездки в окрестности Петербурга.
Так как я был конспиративен и не замечал за собой слежки, я
решил поехать на Лахту. Но мне очень не хотелось туда ехать. Я знал,
что начнутся споры, и мне не хотелось встречаться с Екатериной Александровной. Будучи замужем за каким-то большим чиновником в провинции, она не вынесла мещанской обывательской обстановки, разошлась с мужем п окунулась с головой в революцию. Будучи интеллигенткой в полном смысле этого слова и довольно красивой женщиной,
она казалась высшего и недоступного для меня мира людей. Хотя я,
как мне казалось, был обречен на смерть, на гибель, но я был молод,—
п может потому, что эти женщины принадлежали к другому для меня
миру, при виде их у меня просыпалось какое-то неясное стремление,
манящее и зовущее к жизни.
В ближайший день, с помощью Виноградова, который купил для
меня железнодорожный билет, я сел в поезд. Я шел на вокзал обходным
путем, прошел к поезду не через главный вход. Я последним вскочил
в поезд. Ни я, ни Виноградов никакой слежки не заметили.
Я приехал на Лахту. Народовольческая типография, получившая
известность, благодаря дачному этому поселку, просуществовала на
Лахте не более двух месяцев. Наибольшую активность и производительность в работе она проявила почти в течение двух лет на Звенигородской улице и на набережной Крюкова канала. Выбор места для типографии в виде дачного домика, где все обитатели вали образ жизни,
далекий от трудового, вряд ли можно было считать удачным. Работники
типографии, чтобы не возбуждать подозрений, принуждены были принять вид отдыхающих дачников, днем гулять по парку, проводить известное время на пляже. Работа при таких условиях могла, произворться
лишь ночью. Хотя дача была изолирована, шум от типографского
станка, производимый прокаткой, мог возбудить подозрение..
Только еще раз удостоверившись, что я не привез за собой
шпиона, я решил зайти в дачу, где помещалась типография. Я обрадовался, увидев старых друзей, с которыми разошелся по теоретическим вопросам. Так же, как прежде, в комнате стоял комод и шкап,
где скрывался от нескромных глаз типографский станок, типографский
шрифт, отпечатанные брошюры и бумага. По-прежнему Белов и Гриша
набирали на верстатку, Екатерина Александровна Прейс исполняла обязанности -Федулова, т.-е. была редактором и корректором; но чувство-
6*
— 84 —
валось, что не хватает Василия Петровича Приютова, который создал
эту знаменитую Лахтинскую типографию и который был душой ее.
Все обступили меня, когда я вошел, и засыпали вопросами о
стачке. Особенно Е. А. Прейс интересовали все перипетии ее. Правда
ли, на самом деле, что эти рабочие, которые казались так забиты, так
деморализованы, ругавшиеся такой отборной крепкой руганью, которые валялись пьяными под заборами и отличались такой покорностью,
правда ли, что они проявляют черты сознательного рабочего, который
поднялся за свое освобождение?
Только год, как принимала участие Е. А. Прейс в революционном
движении. Более всего ей не нравилось, что у нас в России задавлена
личность.—'«В Англии,—говорила она,—каждый англичанин имеет,
кроме обязанностей, еще и права. У нас нет ни закона, ни прав. В
России нет закона; есть столб, а на столбе корона. У нас нет личностей. У нас все на одно лицо. Все сделаны по одной мерке, подогнаны
под одну колодку. Я люблю людей с широкими взглядами, людей, которые готовы пожертвовать собой за свободу. А ваши социал-демократы, марксисты, говорящие рабочим о борьбе за пятачок, отодвигают на далекое время вопрос о свержении самодержавия. Они узкие,
неинтересные люди.—Впрочем, вот мы вошли все-таки в соглашение с
ними!» — говорила она, как бы сожалея о последнем.
Когда я слушал эту интеллигентку, говорившую о людях гордых,
отстаивающих свою личность, свое человеческое достоинство,—и позднее, когда читал произведения великой русской литературы; когда
Толстой в повести «Казаки» описывал типы горцев, кавказцев; Лермонтова стихотворение—«Дары Терека», где двумя-тремя штрихами
художники рисуют гордого человека, ненавидевшего поработителей я
но боявшегося умирать за свою свободу, у меня возникали невольные
мысли: «Отчего я не такой? Я ненавижу глубоко, сильно. Я готов умереть. Но почему я не решился броситься на мастера, задушить его,
разбить ему голову молотом, что наверно сделал бы горец-кавказец?».·
Французы, долгой борьбой пройдя через ряд революций, выработали у
себя тип гордого человека, но они еще не далеки от дикарей, которых
рисует Купер в «Последнем из Могикан», и кавказцев, героев описаний
Л. Толстого и Лермонтова.
Е. А. Прейс была очень заинтересована ходом стачки и сознательным, выдержанным поведением рабочих. — «Одно мне не нравится,
что ваши марксисты суживают движение, ограничиваясь лишь чисто
— 85 —
экономическими требованиями. Давайте составимте листок, где будет
выставлено и требование свержения самодержавия».
Так как Е. А. Прейс говорила о состоявшемся соглашении между
марксистами и народовольцами, так как типография печатала марксистские брошюры, то я ничего не имел против, если народовольцы выпустят листок, где на-ряду с общеэкономическими требовашщми будут выставлены и политические. Только материалы для листовок я
отказался принести на Лахту. Это опасно. — «Я веду работу на фабриках и могу провалить типографию»,—сказал я.
Было решено, что на другой день я приду на старую квартиру,
где раньше помещалась типография, на Крюков канал.
На другой день я запоздал. Меня задержала срочная работа на
заводе. Едва,умыв руки, не успев толком переодеться, в рабочей блузе,,
я спешил к Крюкову каналу. На этой старой квартире продолжал жить
т. Смирнов. Отсюда он увозил бумагу и привозил отпечатанные издания.
Встретив меня, он сказал, что все спокойно, что Е. А. ждет. Сделав
еще крюку, пройдя через проходной двор, проверив, что шпионов нет,
я вошел в дом и в квартиру, где раньше помещалась типография.
Извинившись (по обычаю петербургских рабочих, я был очень
вежлив), что я опоздал, я сообщил, что стачка идет на убыль, происходят аресты, но что листок еще выпустить можно. Е. А. показала
нарочно прокламацию, где были указания, что партия «Народной Воли»,
войдя в соглашение с «Союзом борьбы», солидаризуясь с ним по вопросу
о роли рабочего класса в революции, отказывается временно от террора и переносит главное внимание на работу среди рабочих. Среди
ряда экономических требований было выставлено и требование свержения самодержавия. 4
Я дал с своей стороны указание, что необходимо выбросить все
иностранные слова, которые были непонятны тогдашней массе рабочих, и более простым языком об’яснить, почему необходимо низвергнуть царизм. Мы едва успели закончить деловой разговор и сидели по
обеим сторонам стола. Я представлял из себя типичного испитого, замученного, тяжелым трудом, рабочего. Е. А. Прейс носила в себе черты
самой типичной интеллигентки, похожей на барыню. Между нами лежали исписанные клочки бумаги, как раздался резкий звонок.
Смирнов, стоявший у ререй, от неожиданности растерялся и,
прежде чем мы успели спрятать проект листка, открыл рерь. Вошел
дворник дома в сопровождении другого рыжеватого, в костюме дворника,
— 86 —
человека.—-«Здрасте,—сказал он,—вот новый старший к нам в дом поступил и пришел осмотреть квартиры».—«А вы-то что же?»—спросил Смирнов. —«А я в деревню еду-с и вот нынче сдаю все дело но-
всму-с».
Очень внимательный, проницательный взгляд, который бросил на
меня и на Е. А. Прейс новый дворник, его бегающие глаза, искусственная торопливость в движениях—все говорило, что это, пожалуй,,
не дворник, а агент охранки.
Мы сидели, как оцепенелые, пока он осматривал все углы и, со
словами: «Да, рамы у вас плохи и стены надо было бы снова
оклеить»,—снова обернулся к нам с ехидной улыбкой. Я едва успел
закрыть проект прокламации листом газеты.
Как только он ушел, мы вскочили, как от летаргического сна.
Было решено, что типография должна принять все меры предосторожности, включительно до перевода ее в другое, безопасное место.
Единственная прокламация, выпущенная к рабочим во время
стачки народовольцами, была мной разбросана на Металлическом заводе. После этого я больше не встречался с народовольцами. У меня
осталось о них воспоминание, как об искренних, симпатичных людях,
не останавливавшихся перед тем, чтобы пожертвовать своей жизнью за
счастье народа. Но их теория страдала туманностью, неясностью, недоговоренностью. Как мыслители, они должны были уступить место марксистам.
Из всех членов моего кружка т. Дрожжин более всего походил на
т. Федорова. Он был очень неглуп, с успехом окончил вечернюю школу,
из которой я ушел ради революционного движения. Он хорошо разбирался во всех вопросах, но не был увлекающимся энтузиастом. Революция не захватывала его целиком.
И тогда, когда мы разделяли народовольческие взгляды, и когда
перешли на точку зрения марксизма, он откликался, принимал участие
во всех предприятиях, но вяло. Во время стачки ткачей он дал себя
увлечь временно. Заметив, что ее волна идет на убыль, он стал проявлять очень малую активность. Впрочем, он был кузнец и работал в
кузнице своего отца. Он никогда не был так угнетен, как я. Кроме
отрицательных сторон жизни, он видел и положительные. И во всех
-рабочих стало заметно это охлаждение, упадок настроения. Всюду приходилось подогревать товарищей, поднимать их революционное настроение.
— 87
«Союз борьбы» не переставал усиленно работать. В последние дни
стачки я познакомился и встречался с Зинаидой Павловной Невзоровой
(Кржижановской). Она обыкновенно приносила ко мне прокламации. Я
через М. Паянена, П. Виноградова, И. Дрожжина, Философова, Ильина
и др. рабочих, распределял на фабриках Выборгской стороны и Обводного канала для распространения.
В головах рабочих во время стачки шла упорная борьба старого с
новым. Старые привычки, в виде почитания царя, начальства, хозяев-
капиталнстов, приказывали вернуться к вековой покорности, к ужасной
доле раба. Новое, необычное, звало разбить цепи рабства и рисовало
заманчивыми красками будущую осмысленную жизнь, когда падут
стены тюрьмы и взойдет новое солнце...
Но старое еще слишком было сильно. Особенно тяжелое впечатление производили женщины-работницы. Многие из них, выбитые из
деревенских условий жизни и не приспособившись к ковьм городским
фабричным порядкам, не могли избежать известной степени деморализации.
Получив от 3. П. Невзоровой прокламации, я направился на «Вольный Остров», где находилась фабрика Воронина. Молодой хозяин этой
фабрики Воронин играл видную роль в «Обществе фабрикантов и заводчиков» Петербурга. Общие тяжелые условия жизни ткача у него
ухудшались, благодаря соседству завода искусственного удобрения из
костяной муки, распространявшего невыносимое зловоние.
Чтобы из Екатер1ИИгофского парка попасть на «Вольный Остров»,
нужно было переехать через довольно широкую «Черную Речку». Хотя
эта река, называемая теперь Екатерингофкой, шире многих зап.-европейских рек, у нас она,—очевиро, по сравнению с широкой Невой,
носила скромное название речки.
Когда я сел в ялик, в него набралась целая партия ткачих, спешивших на работу, чтобы сменить тех, которые работали ночью. Воро-
вкнцы уже не выдержали и стали на работу. Я вез прокламации, призывавшие их снова бросить работу и продолжать стачку.
Меня вдруг поразила бесстыдная матерная ругань, которой, как
бы хвастаясь, перебрасывались между собою эти молодые работницы.
— Эй, Васька, такую мать!—кричали они:—отваливай скорее, а
то опоздаем!
Это было время, когда из-за очень низкой заработной платы значительная часть работниц занималась проституцией. Заметив, что я вто¬
— 38
рой только после яличника мужчина в лодке, они подняли меня на смех,
начали подталкивать.—«Растормоши его, Танька!—послышались голоса,—что он стоит, как пень, и молчит».
Так как я очень боялся за судьбу прокламации, которыми был нагружен и которые непременно выпали бы, если бы Танька серьезно вздумала меня щекотать, на что подстрекали ее подруги, я, как только
ялик ударился о берег, выскочил из него и пустился, как можно скорее,
наутек, тем более, что я слышал, как ткачихи кричали: «держи его,
Танька!».
На фабрике Воронина я был знаком с ткачом Черкуновым еще по
вечерней школе. После того, как его по окончании низшей технической вечерней школы Воронин назначил в разряд низшей фабричной
администрации, он из фабричной казармы перебрался в «каморку» и
видимо меня сторонился, как человека, который его может скомпрометировать.
Но, когда началась забастовка, он охотно согласился распространять прокламации. — «Как живешь, Черкунов?» — спросил я его. —
«Да, ничего,—ответил он,—с клячей живу», подразумевая под словом
«кляча» жизнь по вольному браку. Сама «кляча», выглянувшая из-за
перегородки, оказалась очень миловидной, симпатичной молодой женщиной ткачихой.
— Агафья!—тихо сказал ей Черкунов, когда я об’яснил ему цель
моего прихода,—возьми вот блины у товарища. Надо их разбросать на
фабрике. Понимаешь?
Оказалось, что эта скромная, безвестная Агафья оказывала большую услугу революции, исполняя такую опасную работу, как распространение и расклейка прокламаций.
В 1890-х годах, когда зарождалось только рабочее движение, очень
часто сказывалось грубо-презрительное отношение к женщинам в рабочей среде. Рабочие говорили о «присухе», о том, что такая-то «приколдовала» такого-то. Не говорили «он ухаживает» за такой-то, а он
«прикороводил» такую-то. Красивая девушка называлась «куском».
— Ну, и кусок же ты прикороводил!—говорили кому-нибудь, кто
ухаживал за красивой девушкой. Так как я много читал, то со словом
«любовь» я познакомился только в романах.
В эту ночь, возвращаясь домой, я как-то невольно думал об этих
молодых ткачихах. Мне было грустно, и являлась мысль: почему я одинок? Почему по жизненному пути со мной не идет такая высокая,
— 89 —
стройная и красивая женщина, как эта Агафья? Но почему он, дурак,
зовет ее так грубо клячей?—думал я.
А в северном небе над Петербургом утренняя заря сливалась с вечерней. Волнами майского полусвета была залита земля. Она казалась прекрасной...
Ходынская катастрофа, с так трагически задавленными тысячами
людей, необычная организованная стачка 35 тысяч ткачей—эти события, происшедшие во время коронации, были так необычны, что заставляли задуматься: они как бы предвещали царствование, полное
кровавых жертв и восстаний.
Конец стачки и арест.
Жандармы, полиция, охранка, выбивались из сил, чтобы ликвидировать «Союз борьбы» и грушу «Народной Воли».
Я, выходя из дома, принимал, как мне казалось, все меры предосторожности. Я наблюдал, нет ли слежки. Мне казалось, что ее нет,
а она была. Последние дни стачки за мной следили очень искусно, шаг
за шагом. Но никто не стоял против ворот дома, где я жил, никто не
следовал за мной тотчас же по выходе моем из дома. Но я не замечал,
что как раз против ворот дома, где я жил, из окна противоположного
дома, из квартиры второго этажа, все время за мной наблюдали агенты
охранки. Как только я выходил из дома, и, не замечая ничего, шел
спокойно, в это же самое время агент-филер выходил на параллельную
(с моей Астраханской) Саратовскую улицу и догонял меня или на Финляндском проси., если я шел влево, или на Клинической улице, если направлялся направо. Эта слежка за мной была настолько искусна, что,
несмотря на всю осторожность и хитрость, которым меня научил Приютов и к которым я прибегал, я ничего не замечал.
Будучи принужден ежедневно бегать из одной рабочей окраины в
другую, я имел обыкновение заходить в трактиры, которых имелось
большое множество в Петербурге. В каждом трактире помещение делилось на «дворянскую» или «чистую и «черную» половины. Половые
подавали «пару чая» за 12 и 6 копеек. Этими трактирами я пользовался для устройства свиданий, и даже прокламации иногда удавалось
передавать в них. Когда гремела, так называемая, «машина», фальшиво
наигрывая какой-нибудь мотив, совершенно не было слышно, о чем мы
говорили. *
— 90 —
Однажды, к вечеру, когда я на набережной реки Невы, недалеко
ох Сампсонневского моста оживленно передавал т. Шестопалову сведения о ходе стачки, оглянувшись, я вдруг заметил за высокой железной
решеткой, на которую я опирался и которая окружала сад н особняк
какого-то богача, грузную фигуру переодетого жандарма, который на
корточках пробирался между кустов и деревьев, отделявших его от нас,
с явным намерением подслушать наш разговор. Местность была здесь
довольно пустынная. Прохожих почти не замечалось. Мы все время
стояли спиной к решетке, и он, очевидно, рассчитывал нас подслушать.
Его смущение и страх, выразившееся на его лице, как пойманного на месте преступления, его поза, как прокрадывавшегося к нам
человека, его стремительное бегство, когда он понял, что он раскрыт—
все это яснее ясного говорило за то, что этот тип являлся агентом
охранки, и не менее красноречиво говорило, что за нами установлено
наблюдение.
• Дело оборачивалось плохо. Торопливо передав т. Шестопалову
последние сведения и взяв от него целую кипу только что отпечатанных
прокламаций, мы разошлись в разные стороны, обещав предупредить
всех об обнаруженной слежке и принять все необходимые меры.
Хотя день клонился к вечеру, возвращаться с прокламациями домой было бы безумием. Их необходимо было как можно скорее кому-
нибудь сдать, где-нибудь спрятать.
Быстрым ходом направился я в противоположную сторону, к устью
Невы, где за широкой в этом месте гладью реки виднеются эллинга
Балтийского казенного завода. Я подошел к тоням, где закидывали в
веду сети и вытягивали их наполненные рыбой при помощи ворота.
Сюда же к пристани на яликах по высоким гребням волн возвращались,
пошабашившие рабочие Балтийского завода. Солнце уже закатилось
совсем, гас закат, когда на одном из последних челнов я заметил среди
группы рабочих Петра Виноградова, который стоя размахивал руками
и, поводимому, по обычаю агитировал.—«Эй, Петька, что руками машешь?»—раздался голос с берега. Это один его знакомый кричал. Петька
оглянулся и оборвал свою речь. И было во-время: когда ялик врезался
в придорожный песок, из-за угла появился конный раз’езд казаков.
— Эй вы, расходитесь, не толпись!—закричал старший городовой, командовавший отрядом.
— Петя!—говорил я Виноградову, когда мы спрятались от казаков за забор Франко-Русского завода,—дела плохи, за мной слежка. Мо¬
— 91
жет сегодня вечером меня арестуют. Вот возьми эти прокламации. Надо
их спрятать, а затем передай Федьдшерову или Ильину для Новой Бу-
магшрядильни.
— Знаешь, и мои дела не важны,—отвечал мне Виноградов, пряча
прокламации здесь же на дворе в куче старых кирпичей,—мне мастер
сегодня записал расчет. Буду отживать две недели. «Говори спасибо,
говорит, что не арестовали тебя. Больно много ты проповедуешь». Как
ты думаешь? Я хочу поехать в Одессу, в Екатеринослав. Буду там работать, а то, если тебя арестуют, и мне не миновать тюрьмы.
Казаки давно проехали; мы вышли опять к тоням. Было пусто. Вечерние тени- сгущались. Подошедший 1. Паянен рассказывал, что забастовка везде кончается, но что рабочие начинают работу, не чувствуя себя побежденными. Они поняли свои силы и нащупали при помощи «Союза борьбы» тот путь, который должен вывести их на широкую дорогу.
— Если тебя арестуют,—говорил Паянен,—то и со мной случится
то же. Прощай, Александр. Теперь вечер, а мне кажется, что мы переживаем утро. Даже мой старый отец говорит, что он не ожидал такой стачки от русских рабочих. Эта стачка для нас, рабочих, начало
новой жизни...
Уже в сумерках я переезжал Неву на ялике. Я решил вернуться
домой другим путем, через Васильевский Остров.
Слушая, как скрипят уключины, как плещутся волны, ударяясь
о лодку, о весла, находясь на середине реки, откуда открывалась водна;: даль на взморье, над которым всходила луна, я испытывал щемящую грусть... Скоро, скоро,—думал я,—тюрьма, как эта водная мрачная пучина, захватит меня в свои недра, и я, может быть, больше не
увижу вас, товарищи... Но ведь я давно решил пожертвовать всем и
погибнуть,—в тюрьме ли или на виселице, не все ли равно?—думал я.
Когда я пробрался мимо Балтийского завода на Николаевскую набережную, прошел Николаевский мост и сел усталый на гранитную
скамыо против Академии Художеств, ночь давно уже спустилась на
землю. Крепостные часы пробили нолночь. Будучи очень утомлен, я
чувствовал шум в ушах и холод в спине. Задумавшись, стал глядеть на
небо, где чуть мигали звезды, на луну и на загадочное лицо Сфинкса,
которое смотрело на меня сверху. ,
Это лицо как бы говорило о длинном ряде веков, когда египетская цивилизация сменилась греческой и римской, а затем феодальной,
— 92 —
когда свистел бич надсмотрщика, когда закованный в цепи раб строил
пирамиды, греческие и римские храмы и готические соборы. Под гнетом рабства будущее для мыслителя казалось таким же загадочным,
как загадочно это лицо.
Мне, когда я отрешился от веры в бога, жизнь представлялась такой же таинственной, как этот сфинкс. Но учение Маркса дало возможность понять смысл жизни. Наша стачка показала, что подымается новый класс, который разрушит вое старое, гнилое, который отомстит за
страданье миллионов угнетенных и построит новое общество, при котором больше не будет рабов.
Я, простой рабочий, должен считать себя счастливым, что живу
в эпоху, когда начинается ломка старого. Пусть арестуют меня! Поднялся он, мститель суровый, и наше дело не пропадет!
Придя домой во втором часу ночи, я заснул тяжелым свинцовым
сном. В полусне смутно слышал, как раздался резкий звонок, как толпа
охранников ворвалась в комнату, как толстый околоточный схватил
меня в охапку с кровати и поставил в угол с криком:—«Стой, не шевелись, мерзавец!» Городовые и агенты начадя перерывать комнату.
Мать в углу плакала. Брат Павел 11 лет вопросительно смотрел и на
меня, и на полицию...
— Как ваша фамилия?—спросил жандармский полковник, руководивший обыском. /
— Если вы будете меня держать так в углу, в одном белье, и
если ваши подчиненные не перестанут меня оскорблять, я не отвечу ни
на один ваш вопрос,—сказал я.
— Будьте повежливей с арестованным,—сказал полковник,—а вы,
господин Шаповал, одевайтесь: мы принуждены вас арестовать.
Меня свезли в охранку. Утром, когда совсем рассвело, перевезла
в Петропавловскую крепость. Тяжелые тюремные двери захлопнулись
за мной на два года·. Впереди ждали три года Сибири...
ОГЛАВЛЕНИЕ.
С trip.
Вместо предисловия 5
Вступление ........ . 7
Детство 9
Поступление в яс.-д. депо среднего ремонта.—Ученичество 15
Переход в большую слесарную мастерскую 21
Религиозные переживания . 24
Вечерняя школа для рабочих , . 34
Разрыв с религией 40
Поиски социалистов . . · 42
Вступление в партию „Народная Воля“ 48
Лахтинская типография 56
Встреча с марксистами 63
Вступление в Союз борьбы . 66
Стачка ткачей в Петербурге в 1896 году 74
Конец стачки и арест 89
ч
ИСТПАРТ.
Комиссия по истории Октябрьской резолюции и Российской
Коммунистической партии (большевиков).
1. А. Бубнов. Основные моменты в развитии коммунистической пар¬
тии в России.
2. Из эпохи «Звезды» и «Правды» (1911—1914 г.г.). Сборники I и Н.
3. П. Н. Лепешинский. На повороте. Воспоминания (1890—1905 г.г.).
4. Д. Сверчков. На заре революции. Воспоминания (1903—1905 г.г.),
5. Г. Лелевич. В дни Самарской учредилки.
В. А. Рябинин. Р. М. Семенников (из истории рабочего движения в
Иванове-Вознесенске).
7. «Пролетарская Революция». Журнал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. От группы Благоева к Союзу борьбы (1885—1894 г.г.). Сборник.
часть I.
9. В. Невский. Николаевский «Южно-русский рабочий союз».
10. Бобровская. Записки рядового подпольщика (1894—1905 г.г.).
11. М. Ольминский. «Из прошлого». Сборник статей.
12. М. Павлович (Вельтман). Россия и капиталистическая Франция.
13. М. Павлович (Вельтман). Россия и капиталистическая Англия.
14. Социал-демократические издания (указатель социал-демократиче¬
ской литературы на русском языке) 1883—1905 г.г., под
редакцией Л. Каменева.
15. А. Шляпников. Канун 17-го года, ч. II.
16. Памятник борцам пролетарской революции, т. I (печ.).
17. Революционная деятельность Конкордии Николаевны Самойловой.
Сборник воспоминаний. (Печ.).
18. Старый товарищ А. П. Скляренко. (1870—1916 г.).
19. Ф. Н. Самойлов. Воспоминания об иваново-вознесенск, работ. движ.
20. Бюллетень Истпарта № 1.
21. Фишер, А. В России и в Англии (печ.).
22. Артем (биографический очерк) (печ.).
23. Шаповалов. По дороге к марксизму (печ.).
:Шт·,
~:*t 'h·.:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Главное Управление □ Москва □ 1922