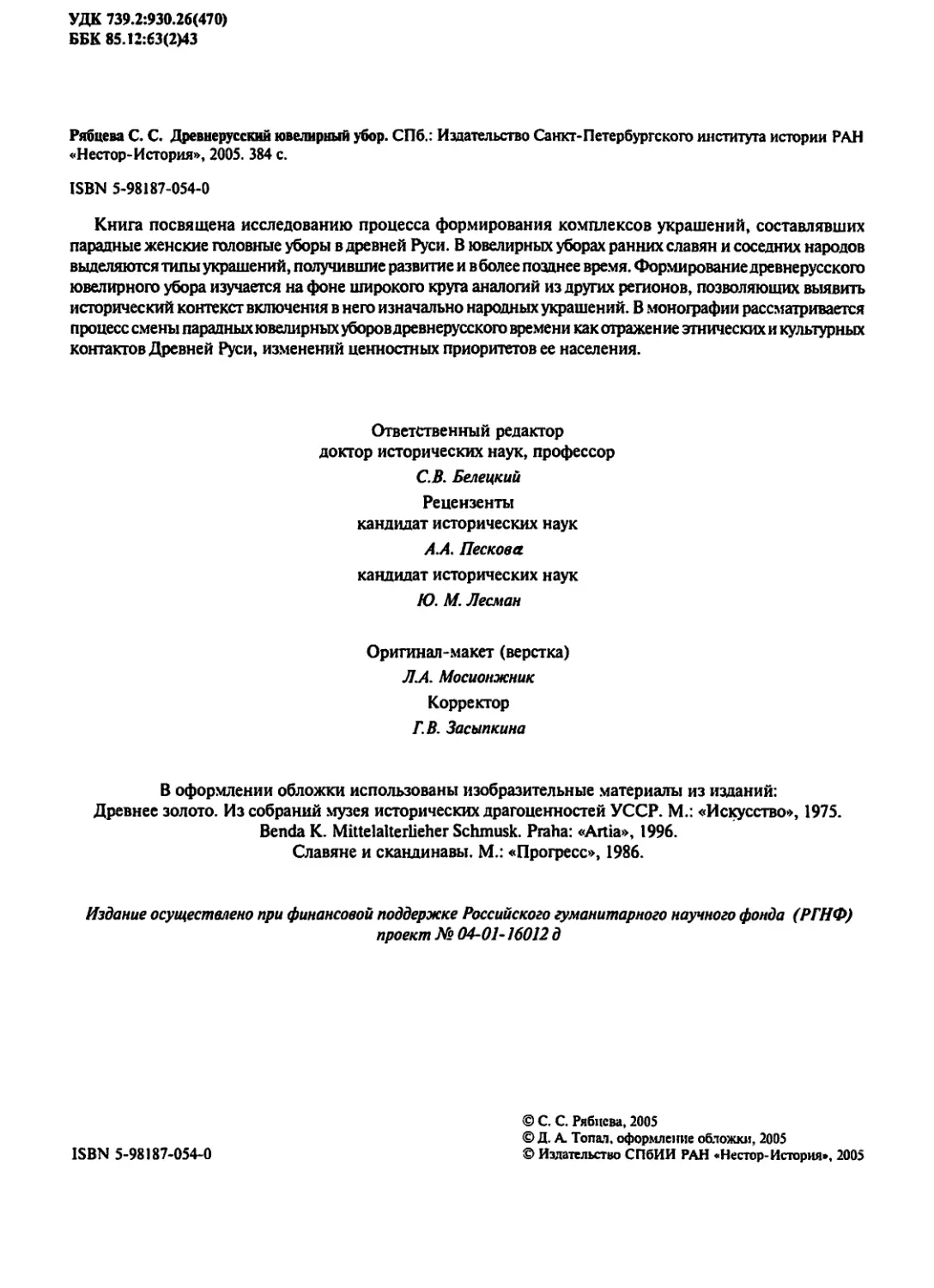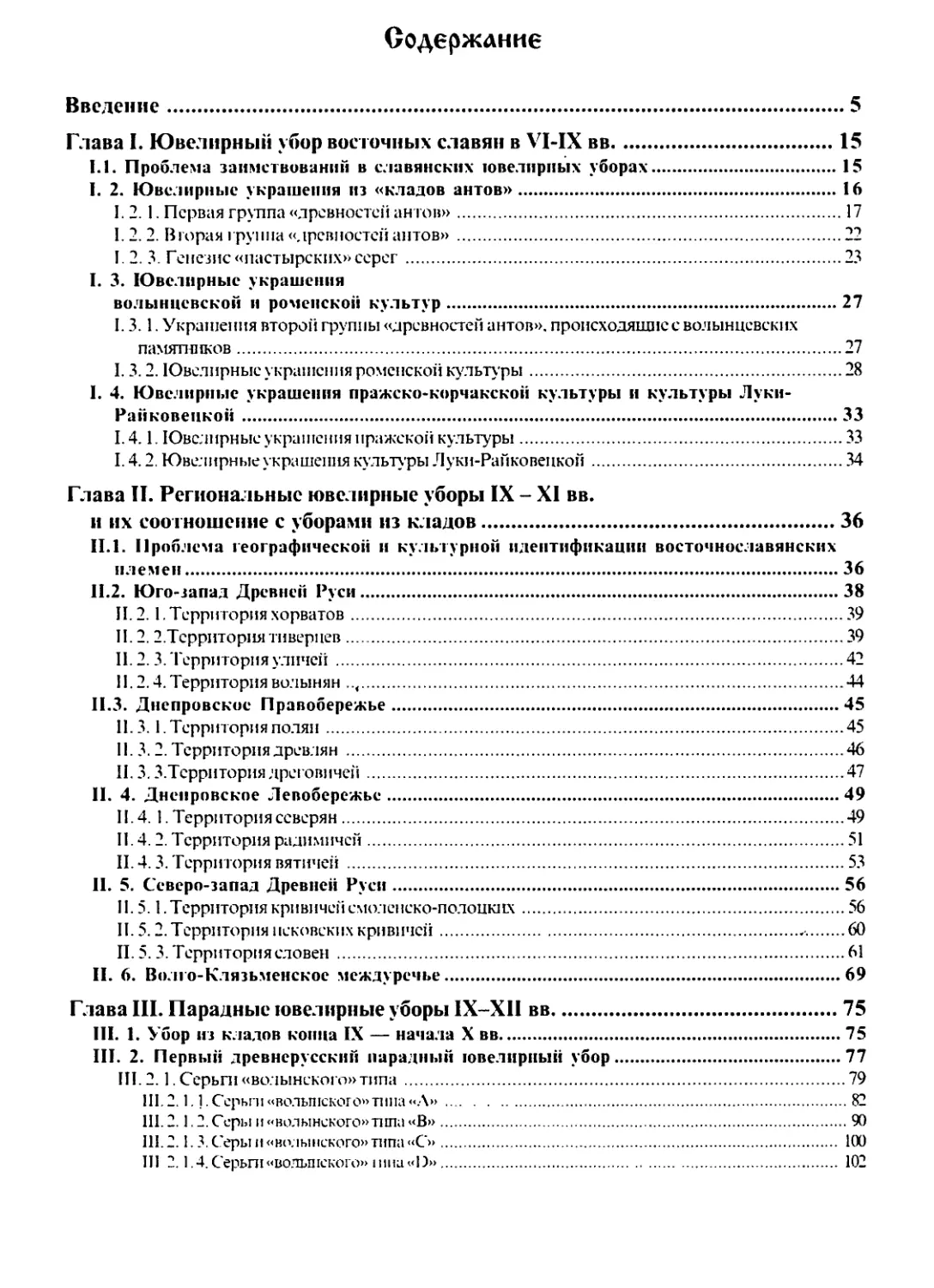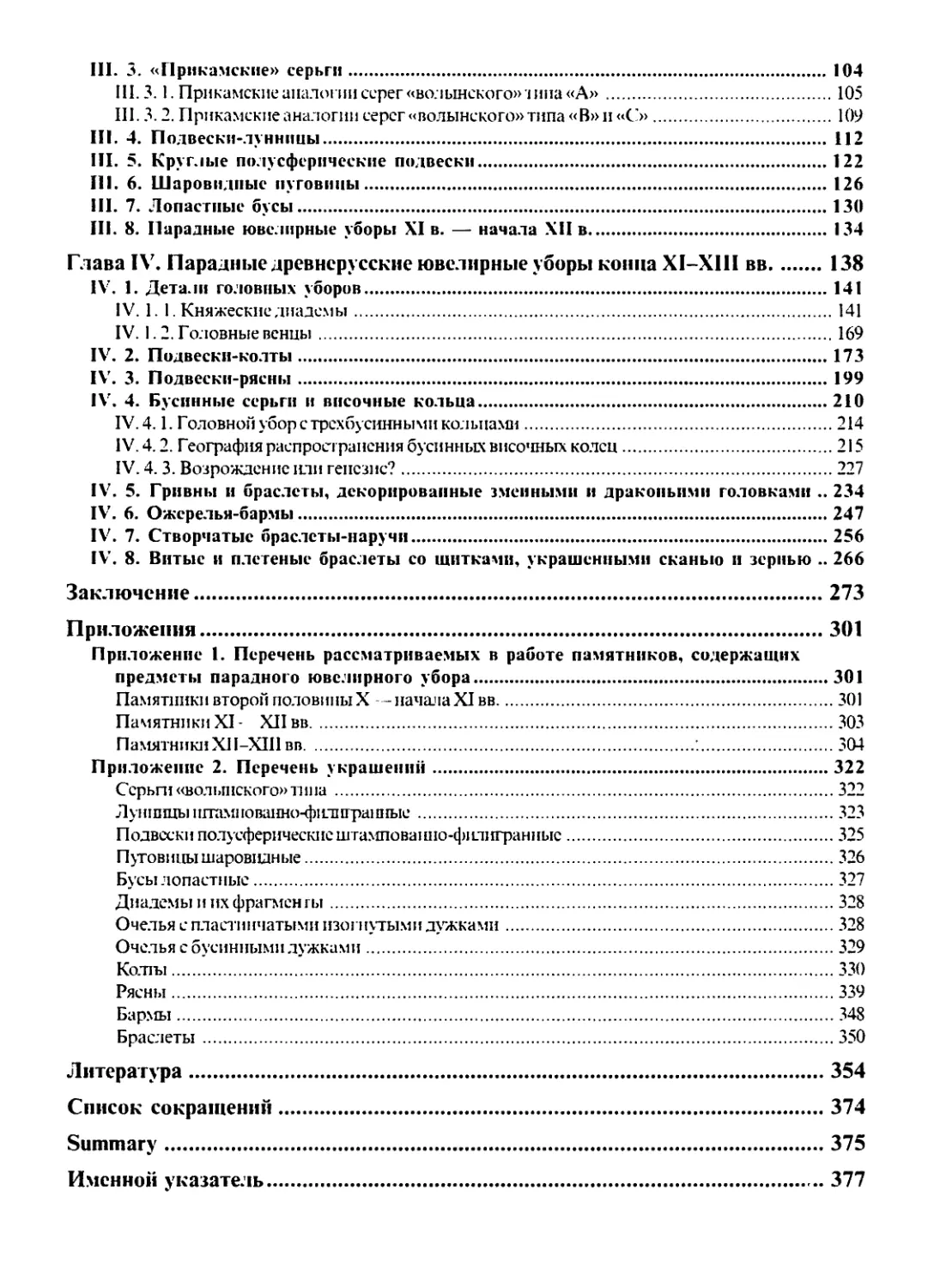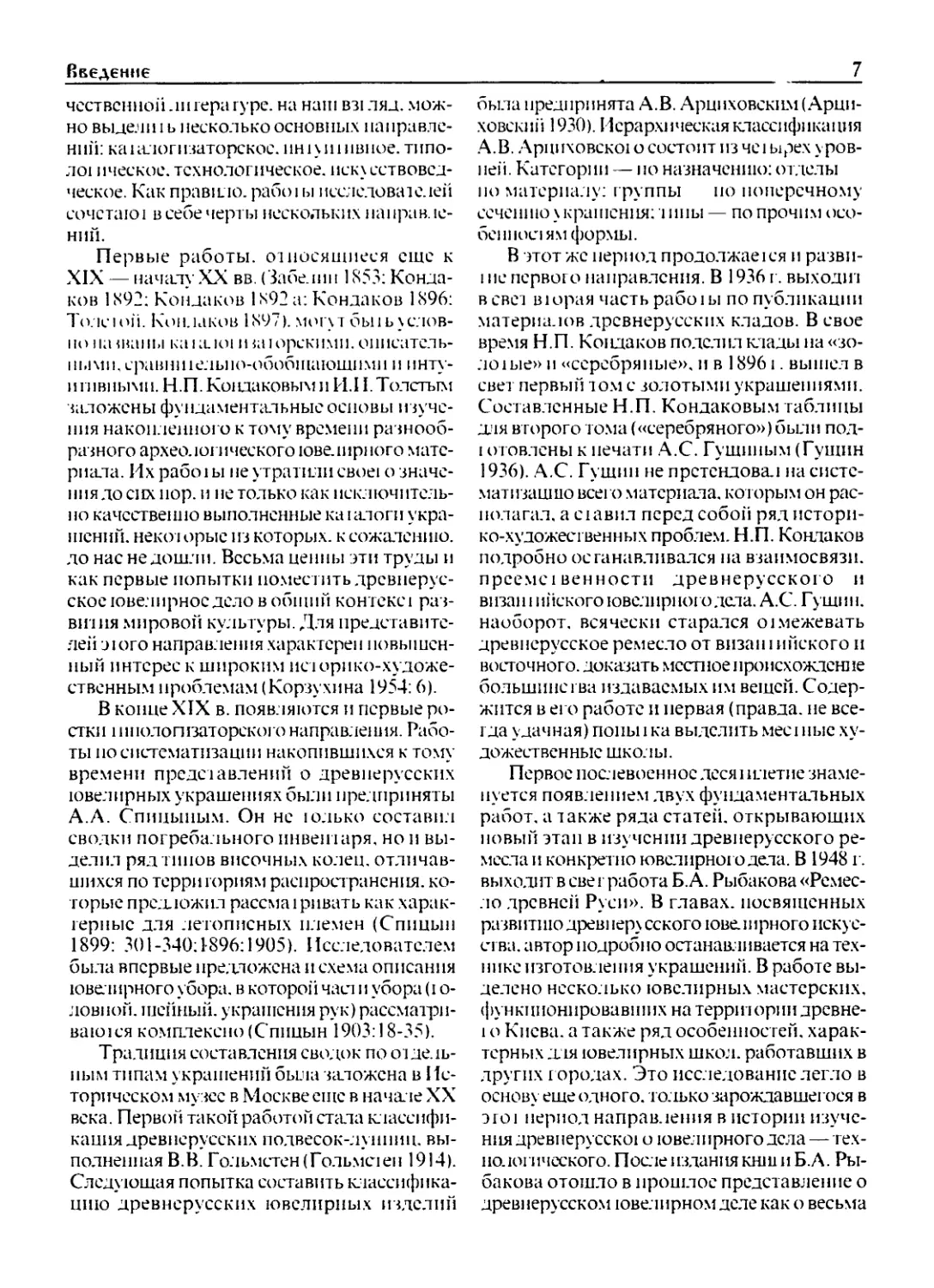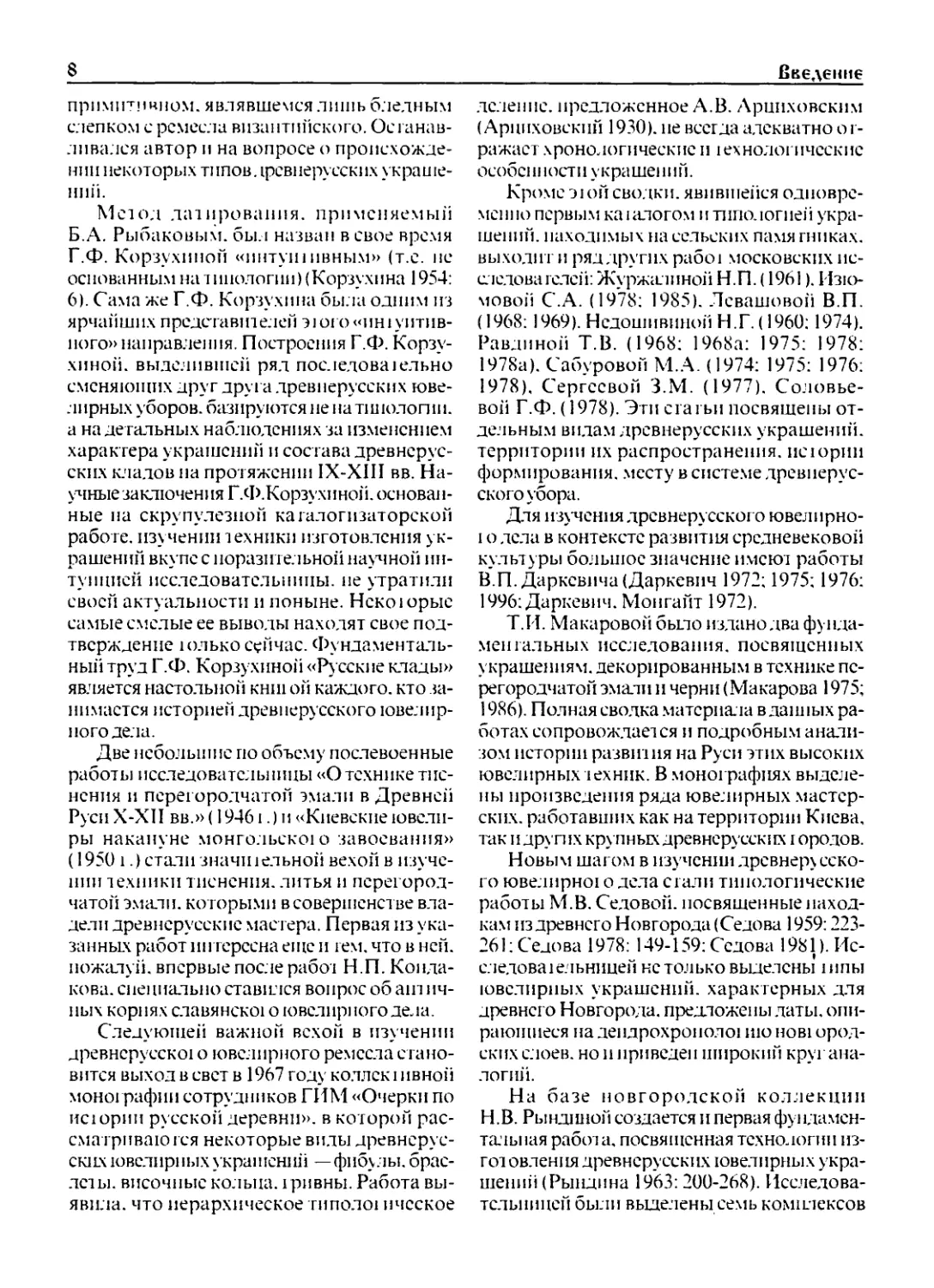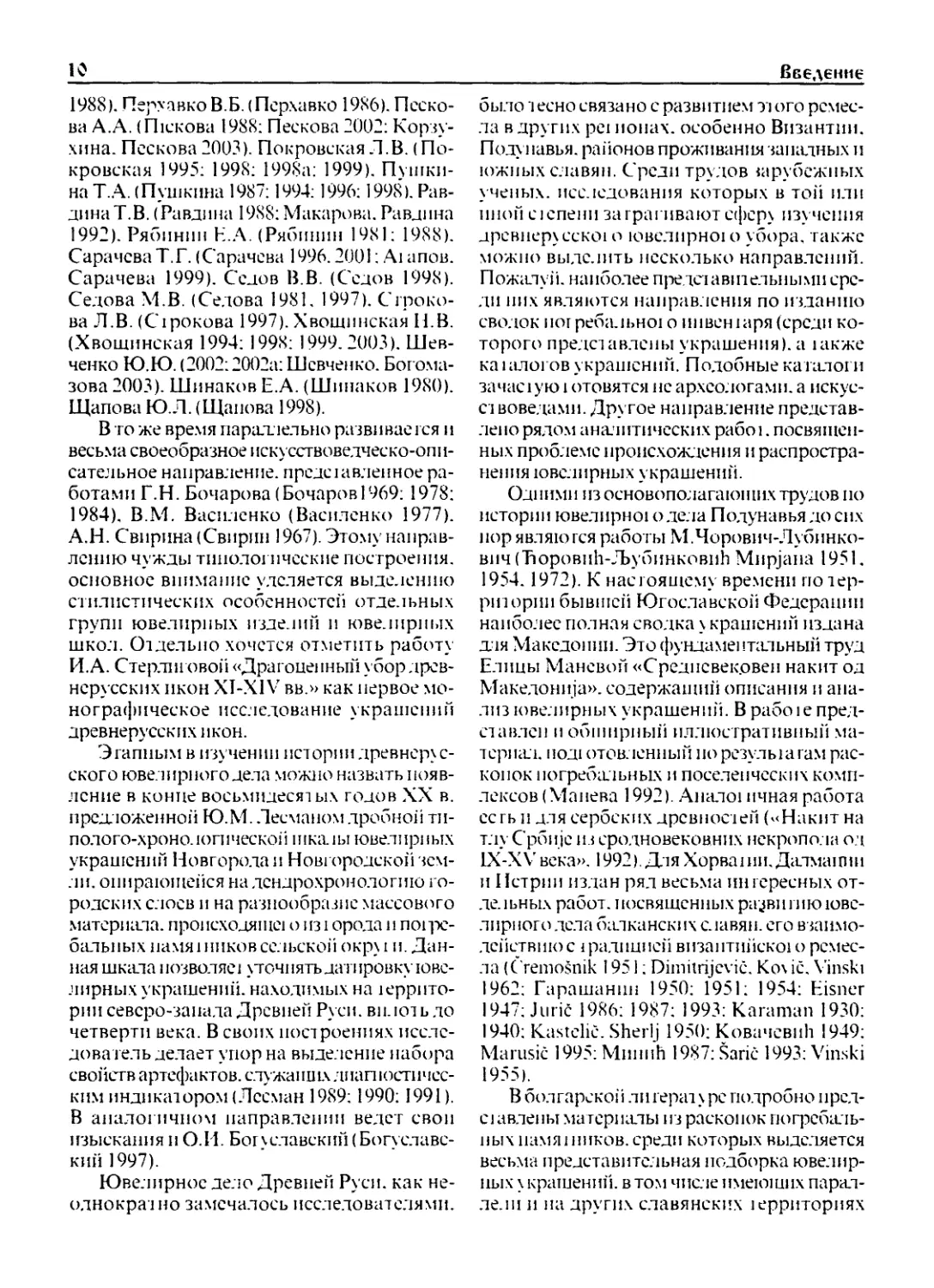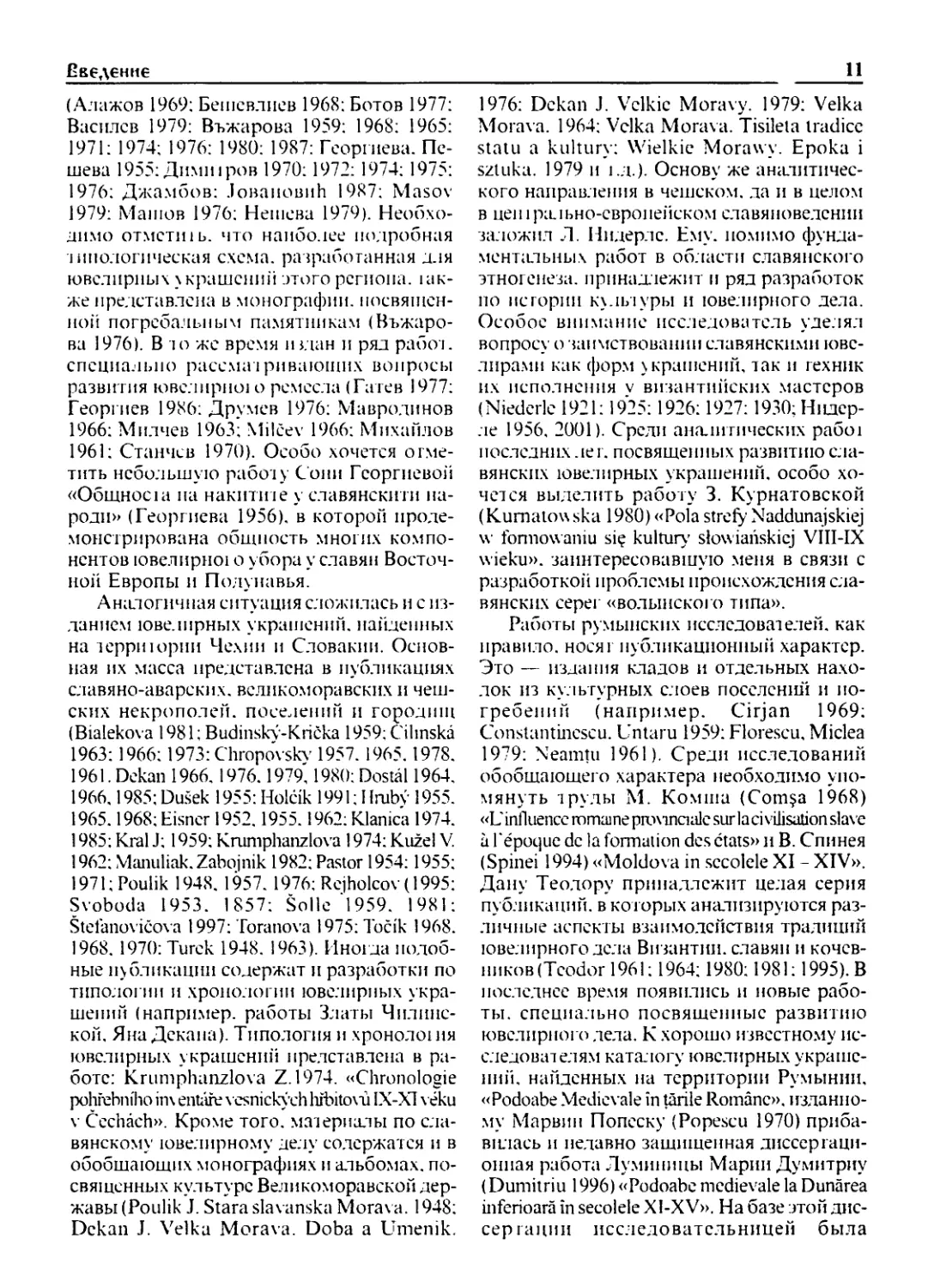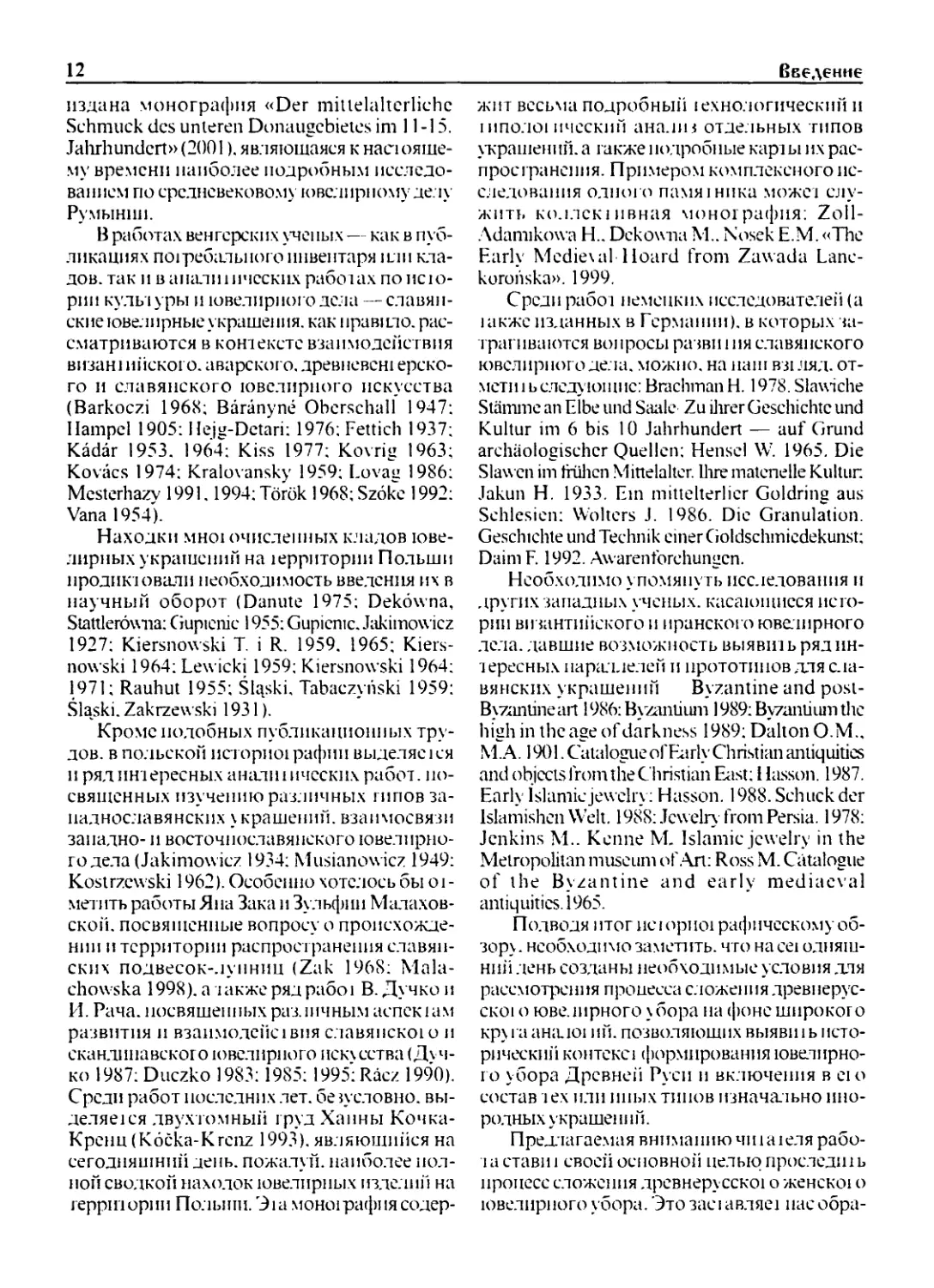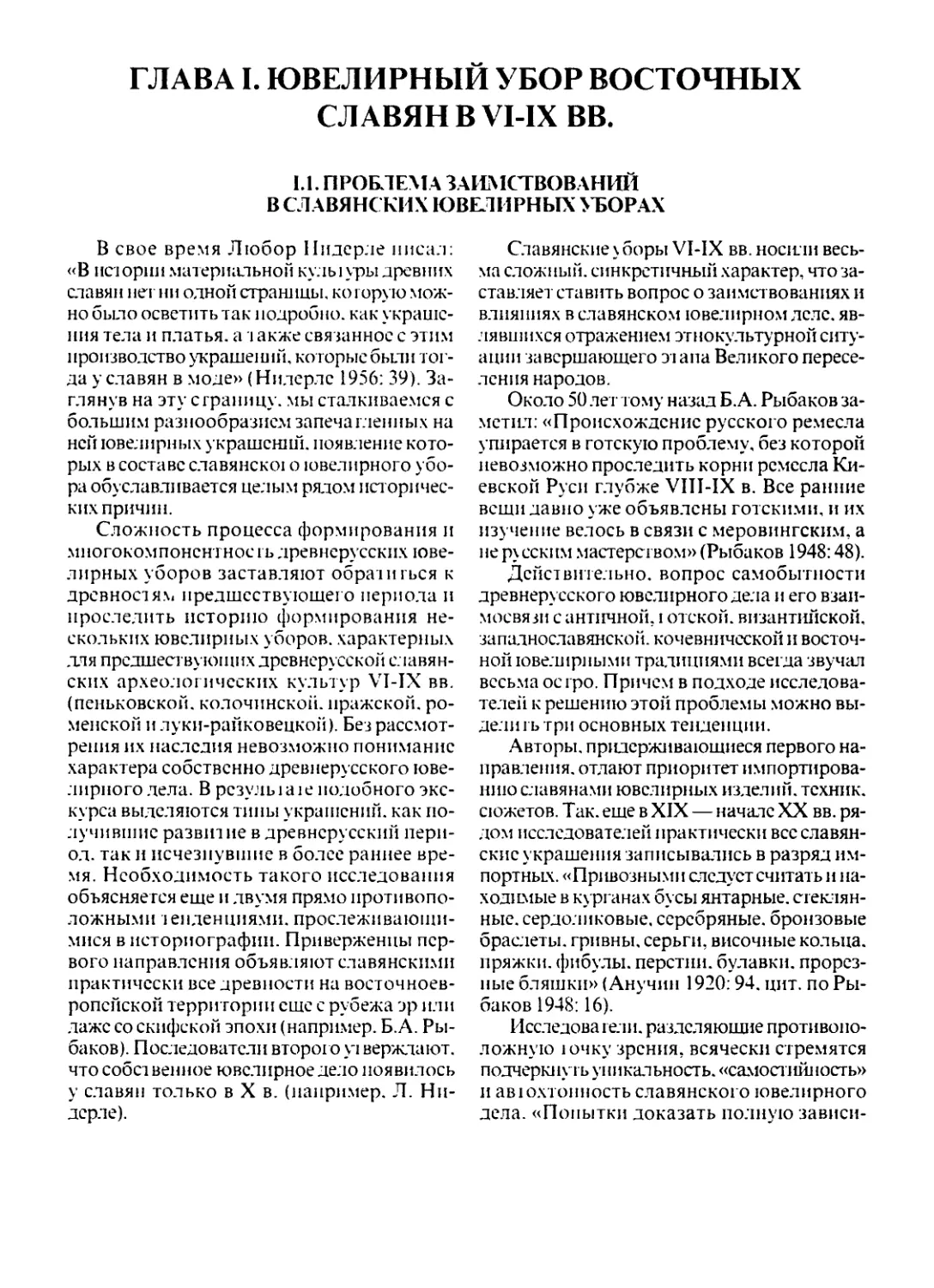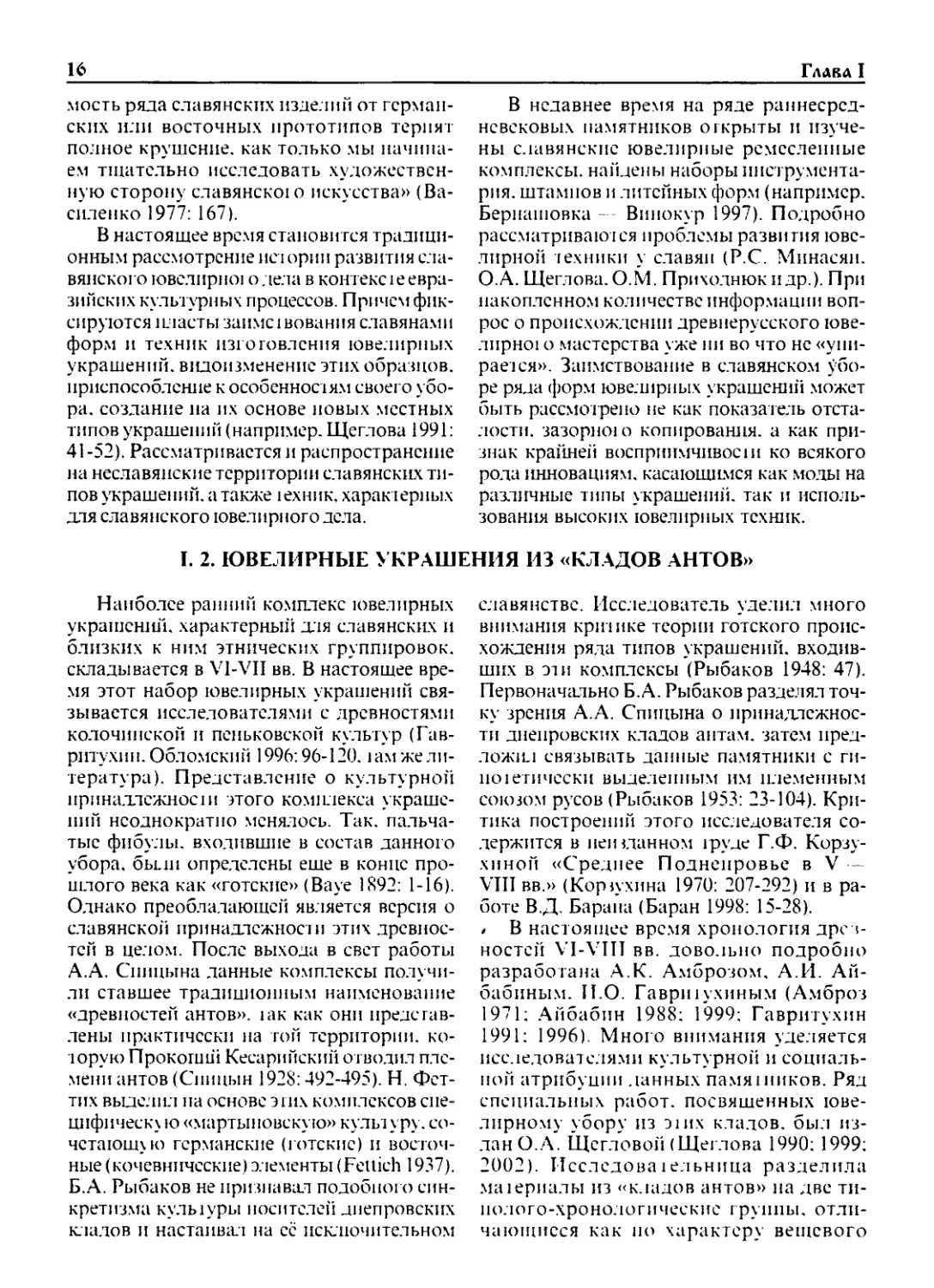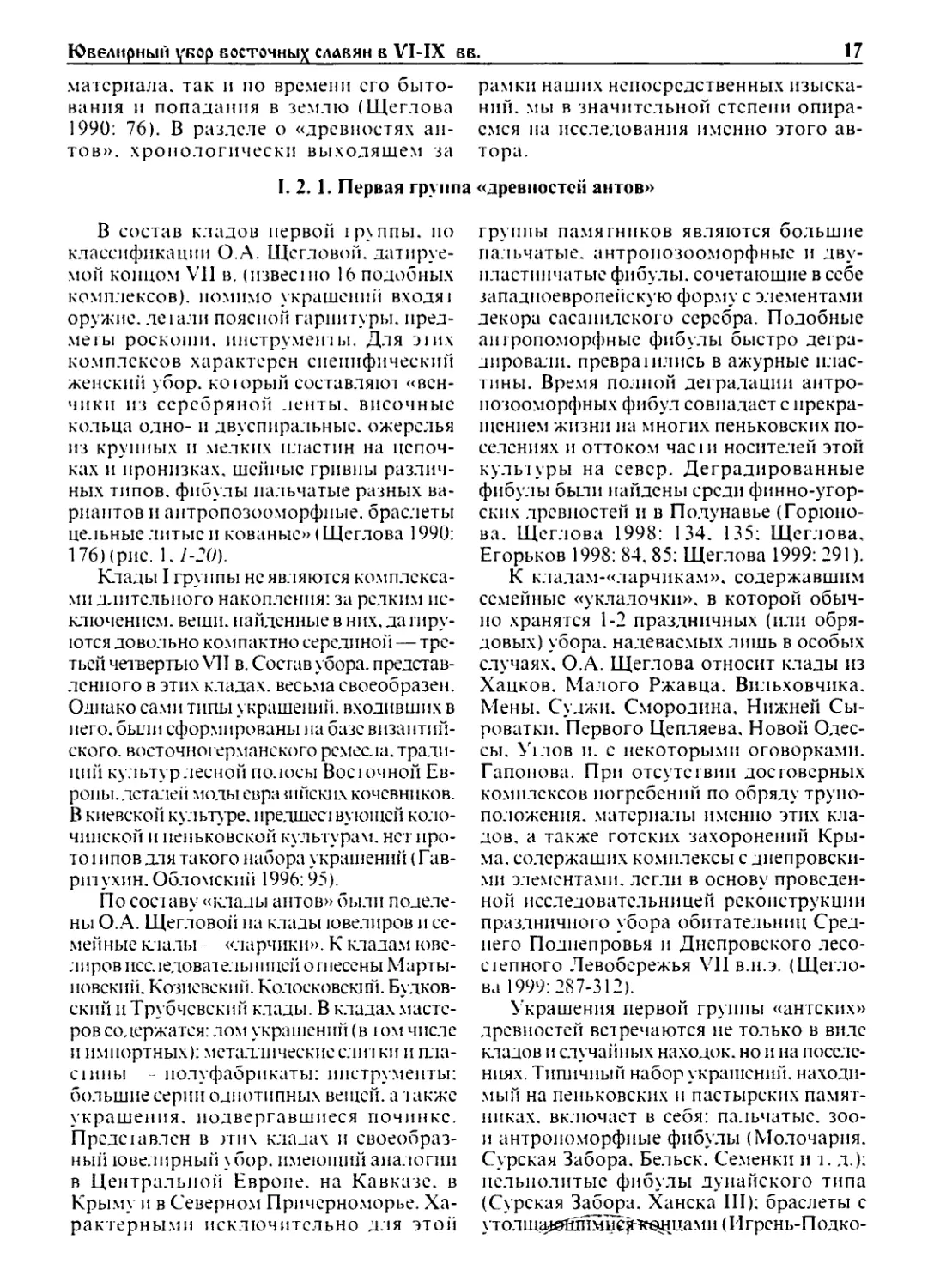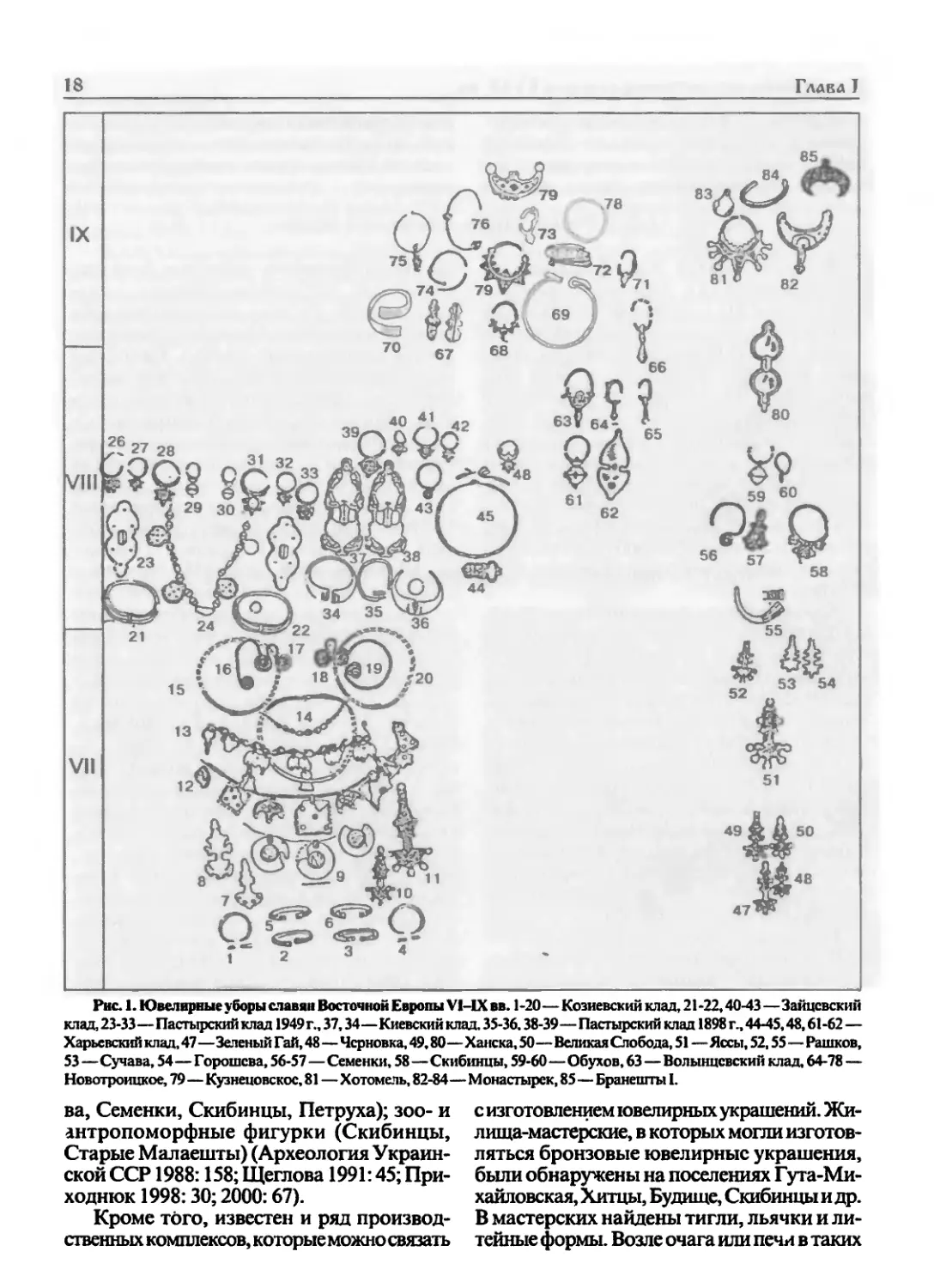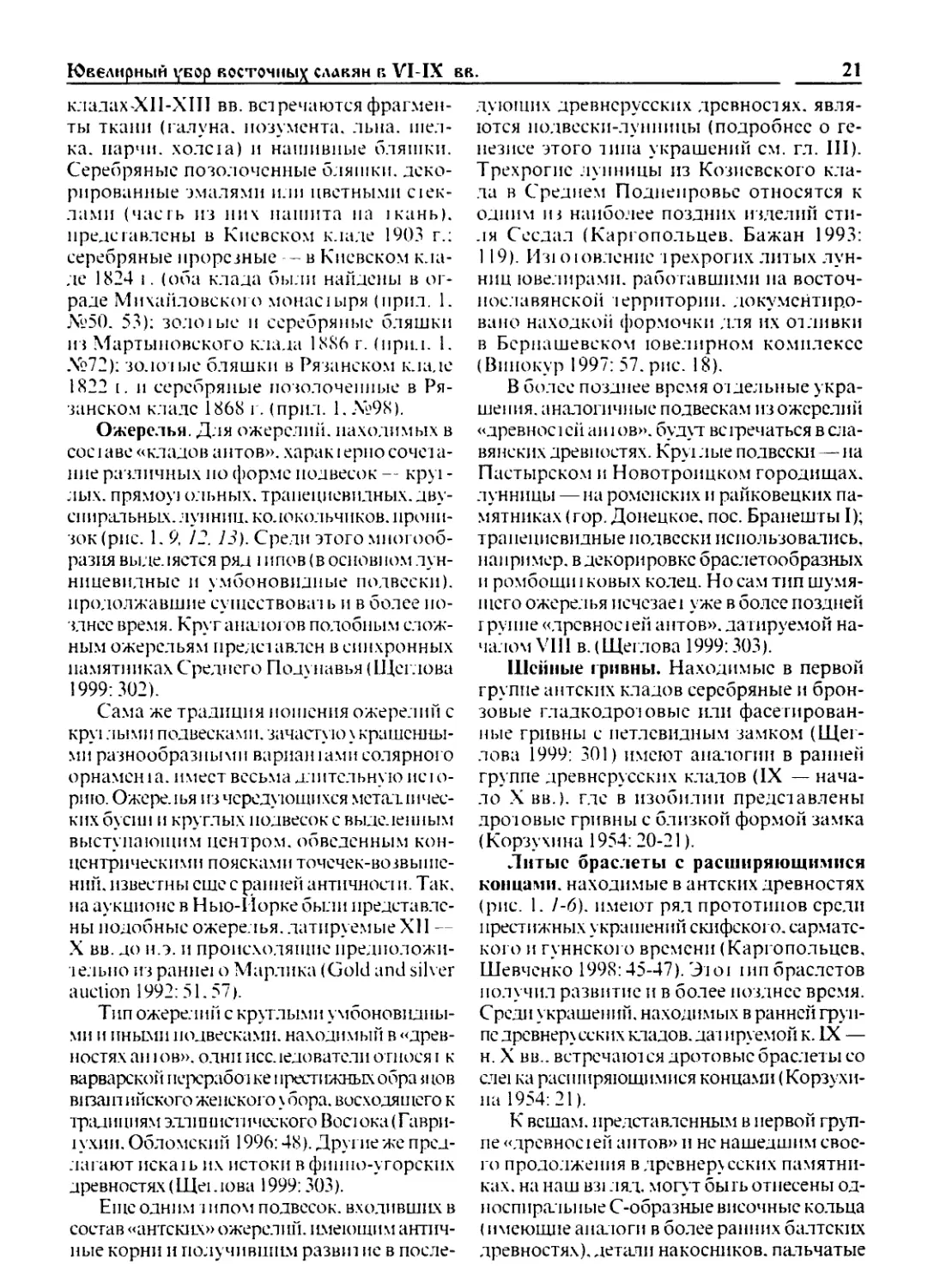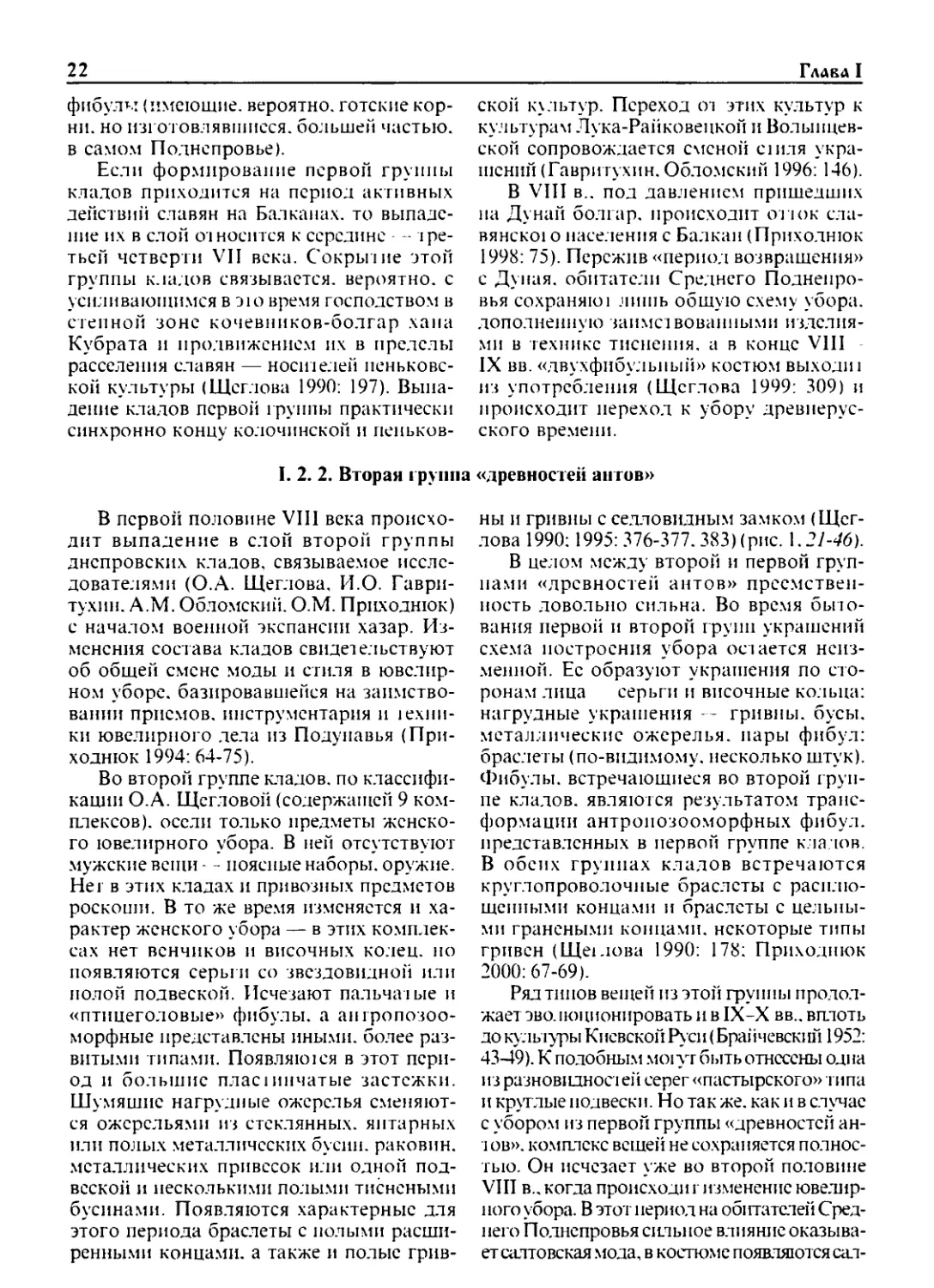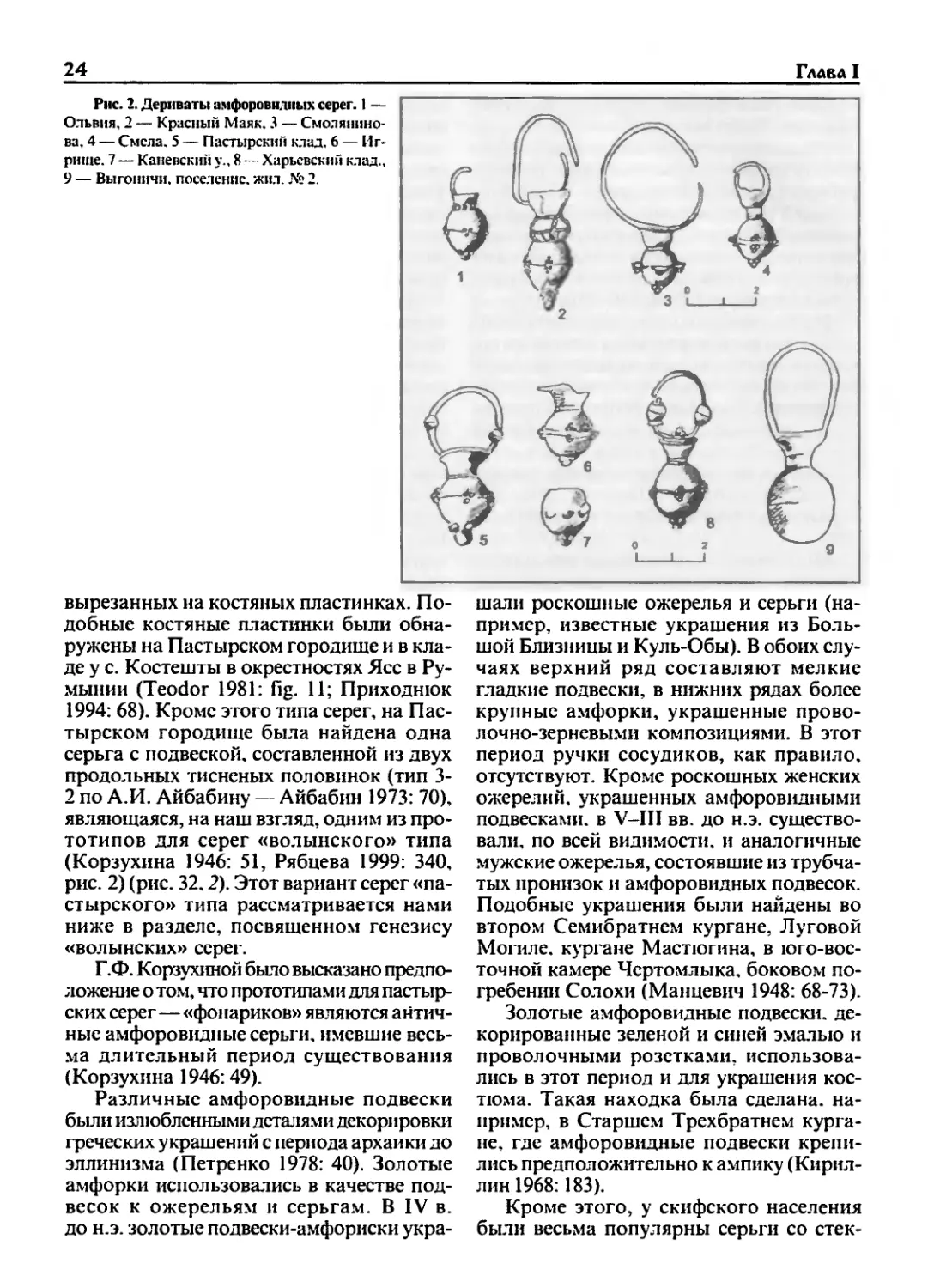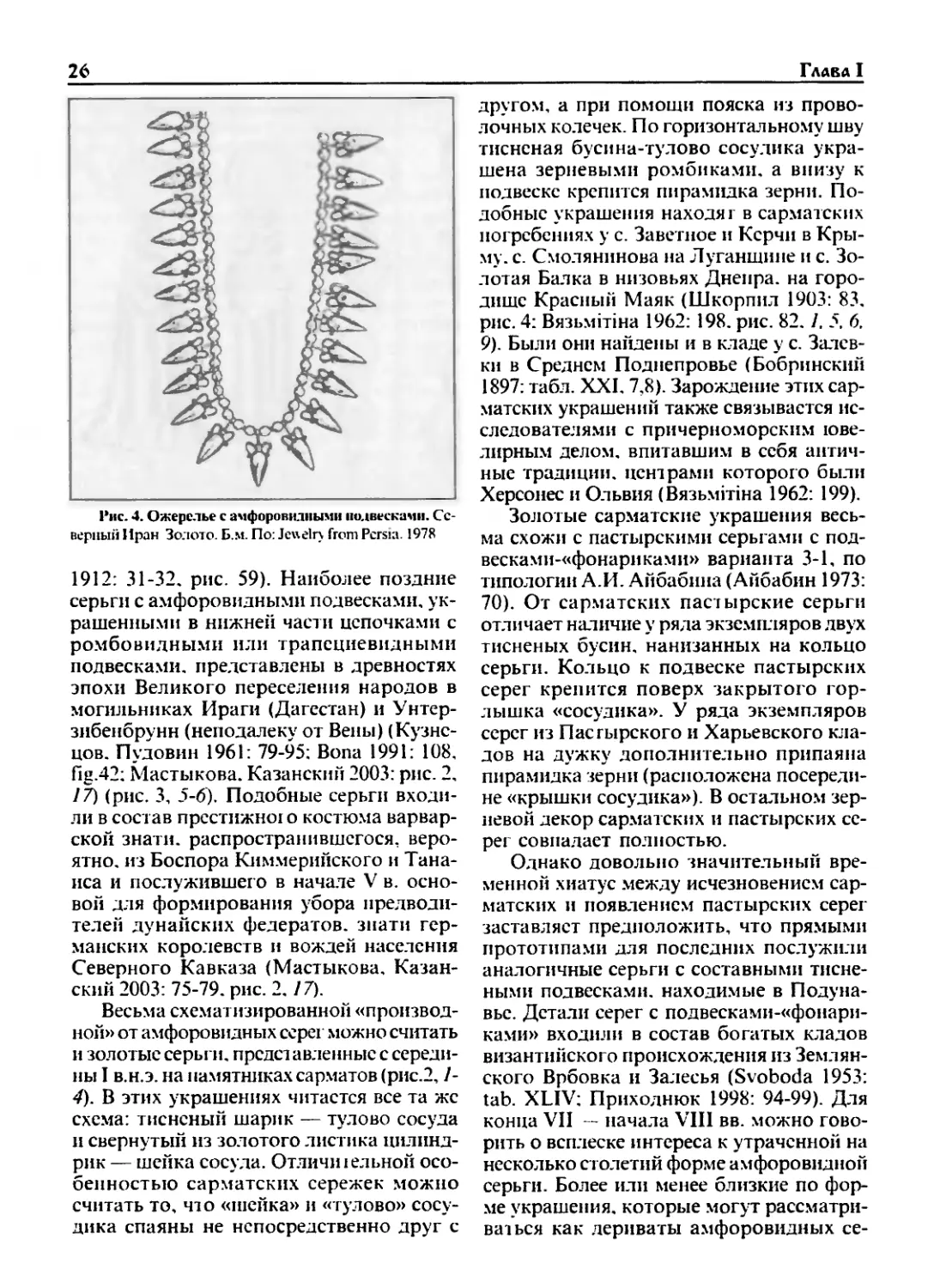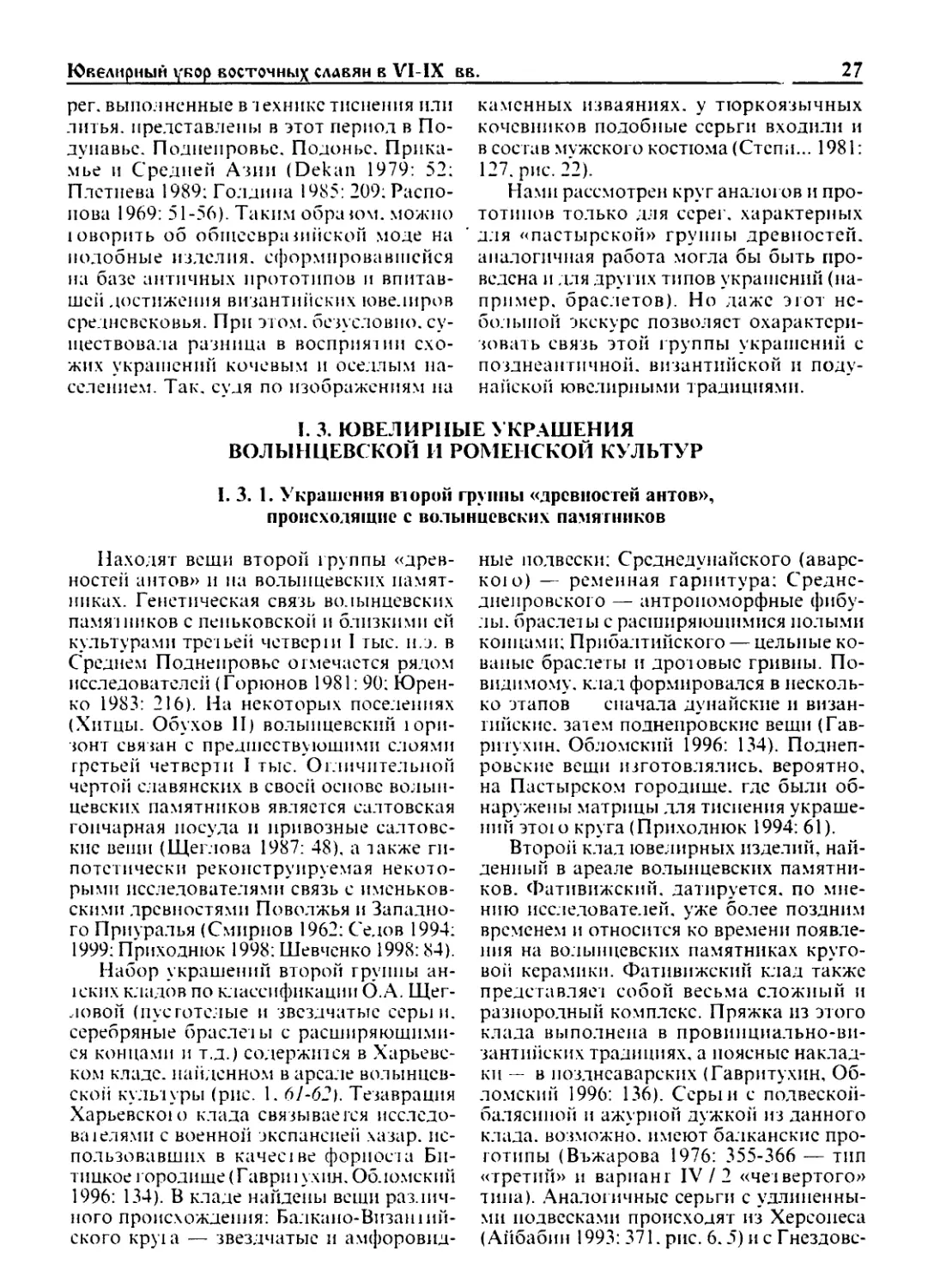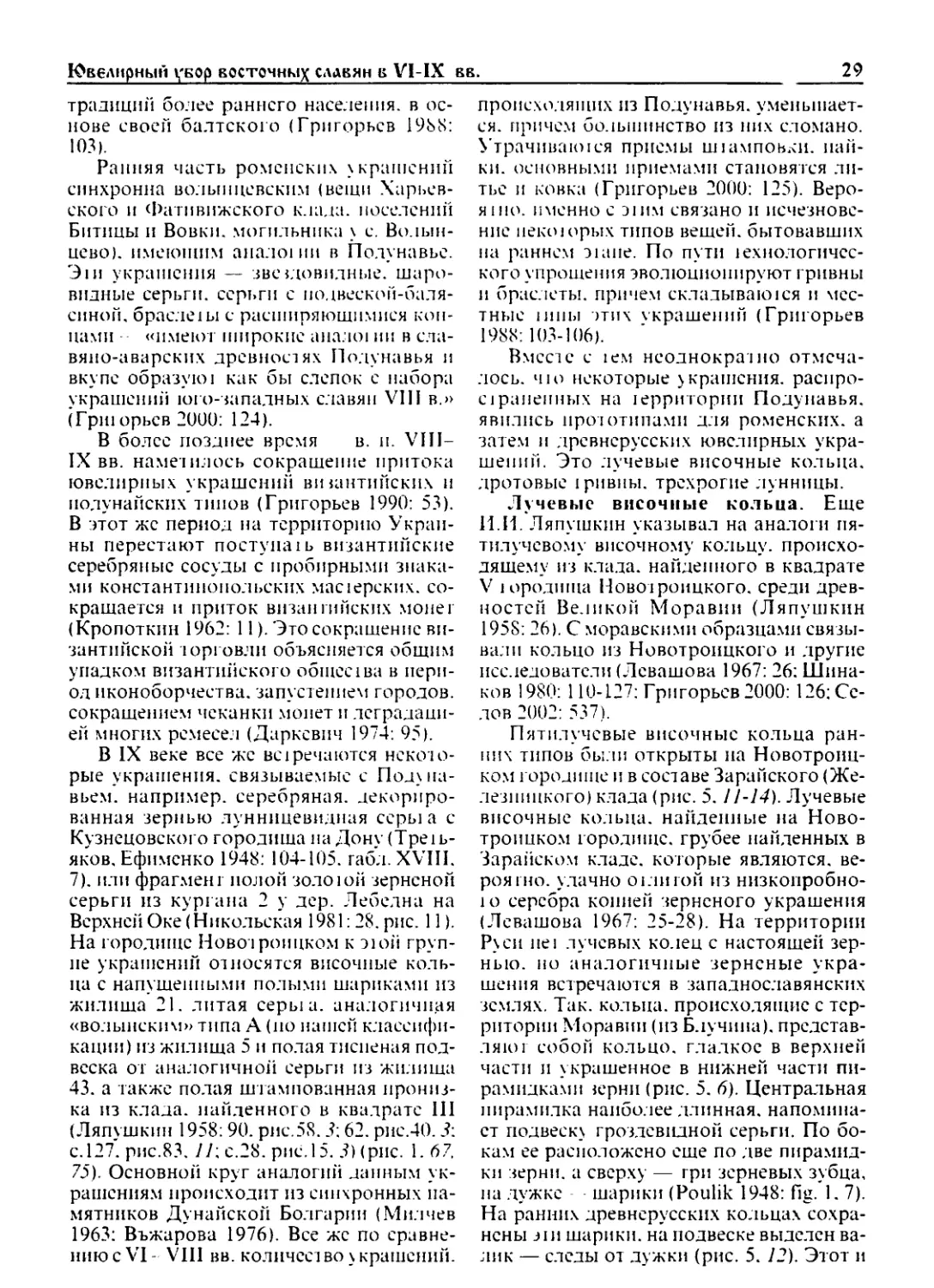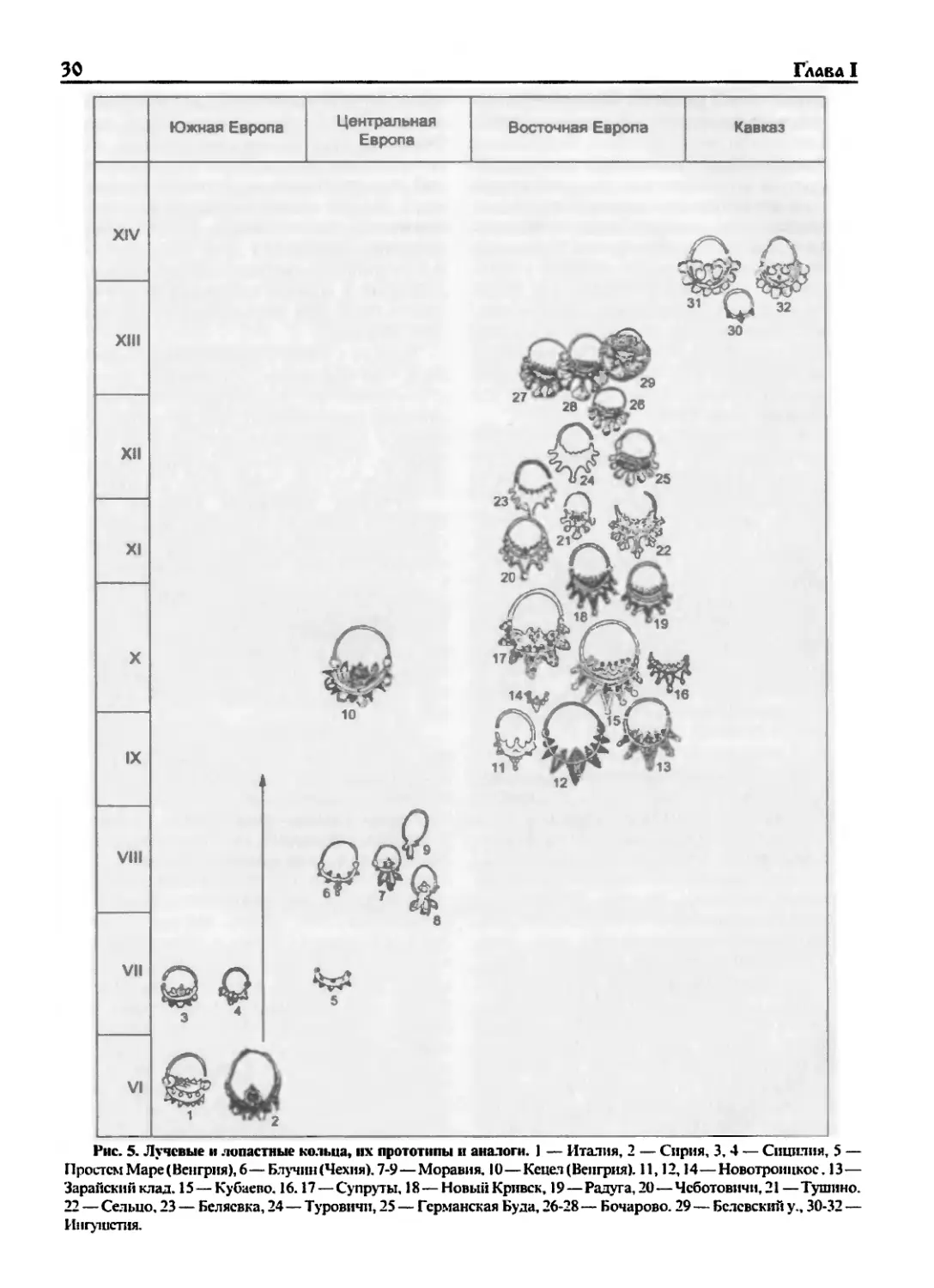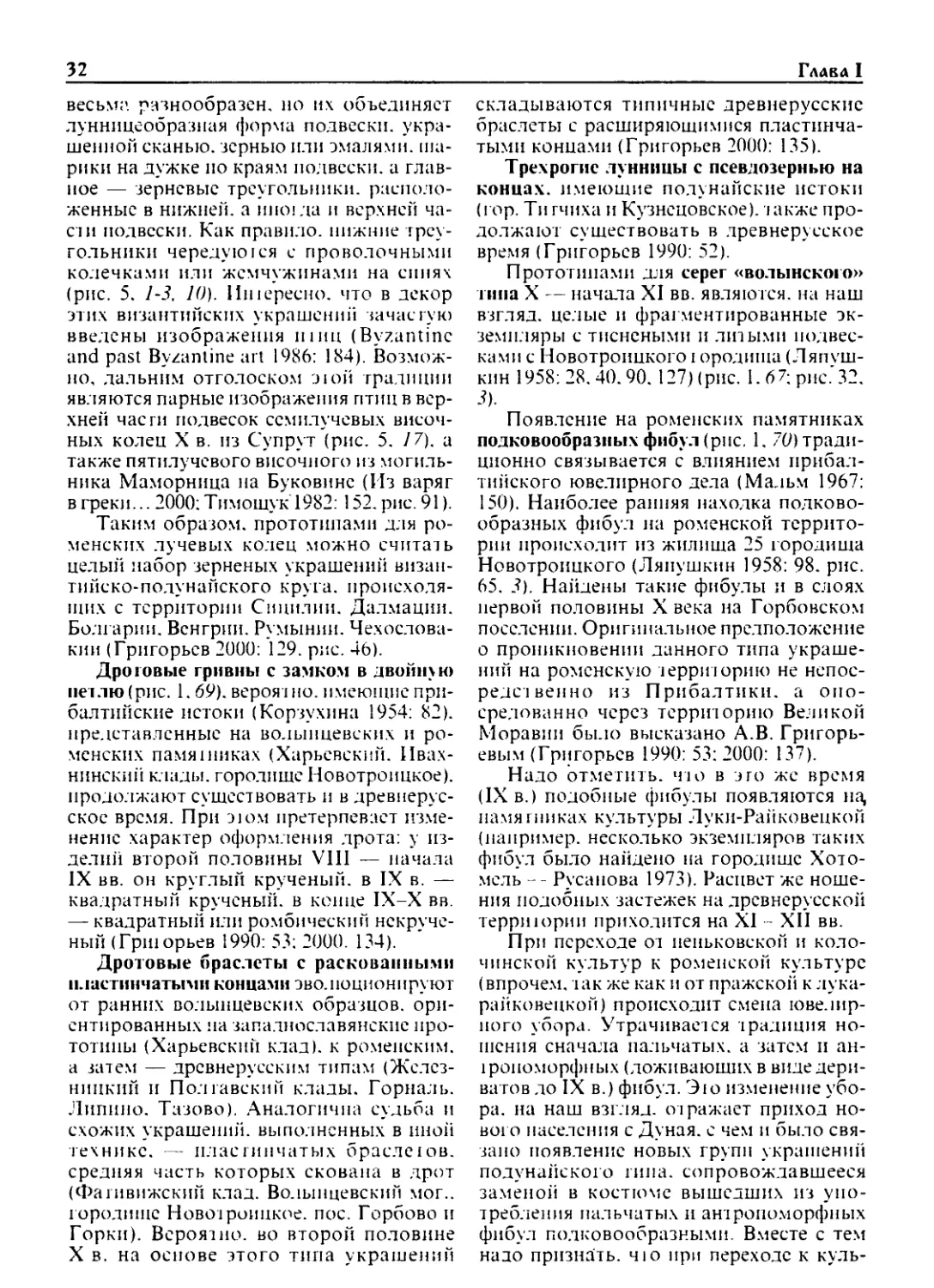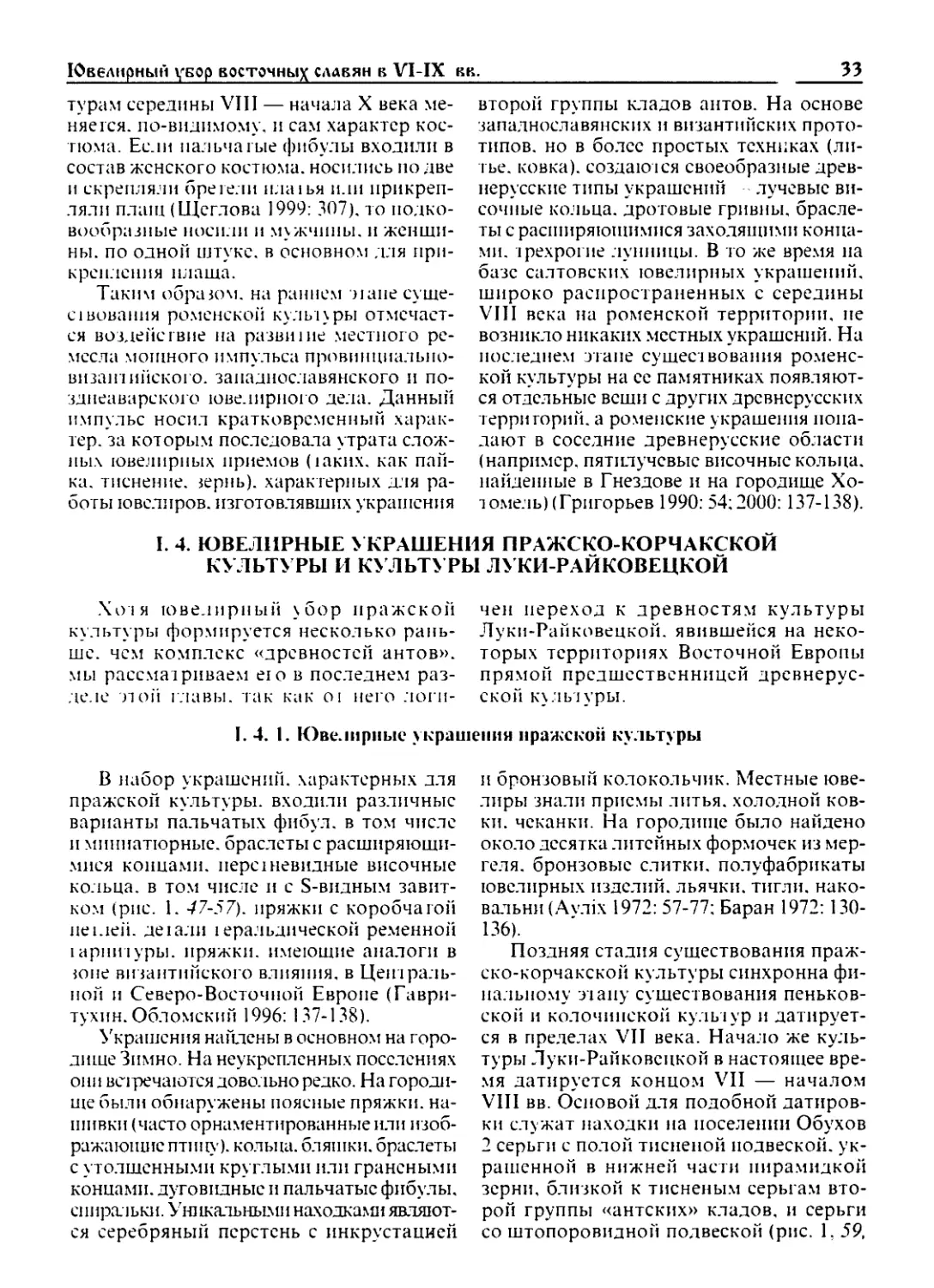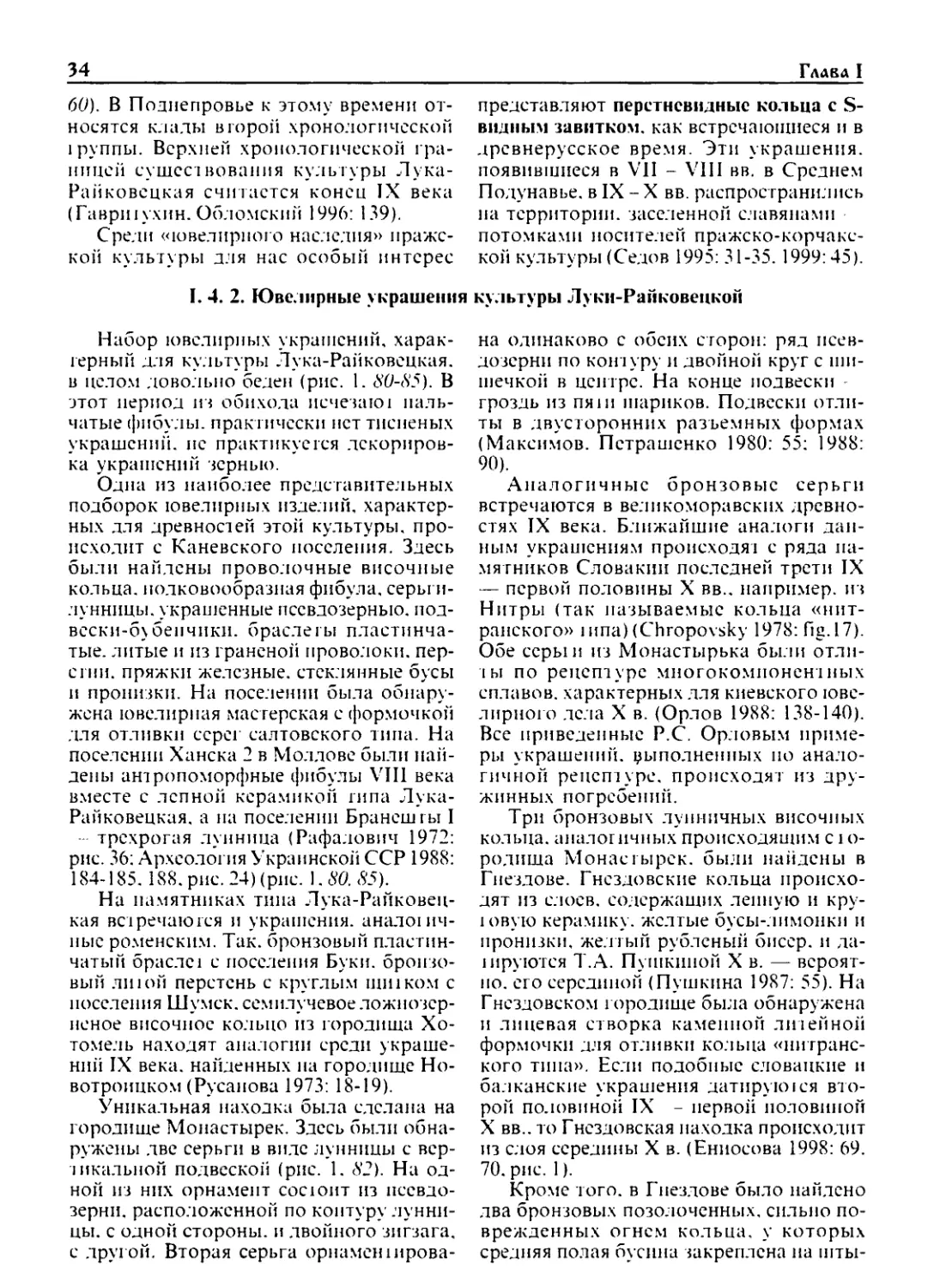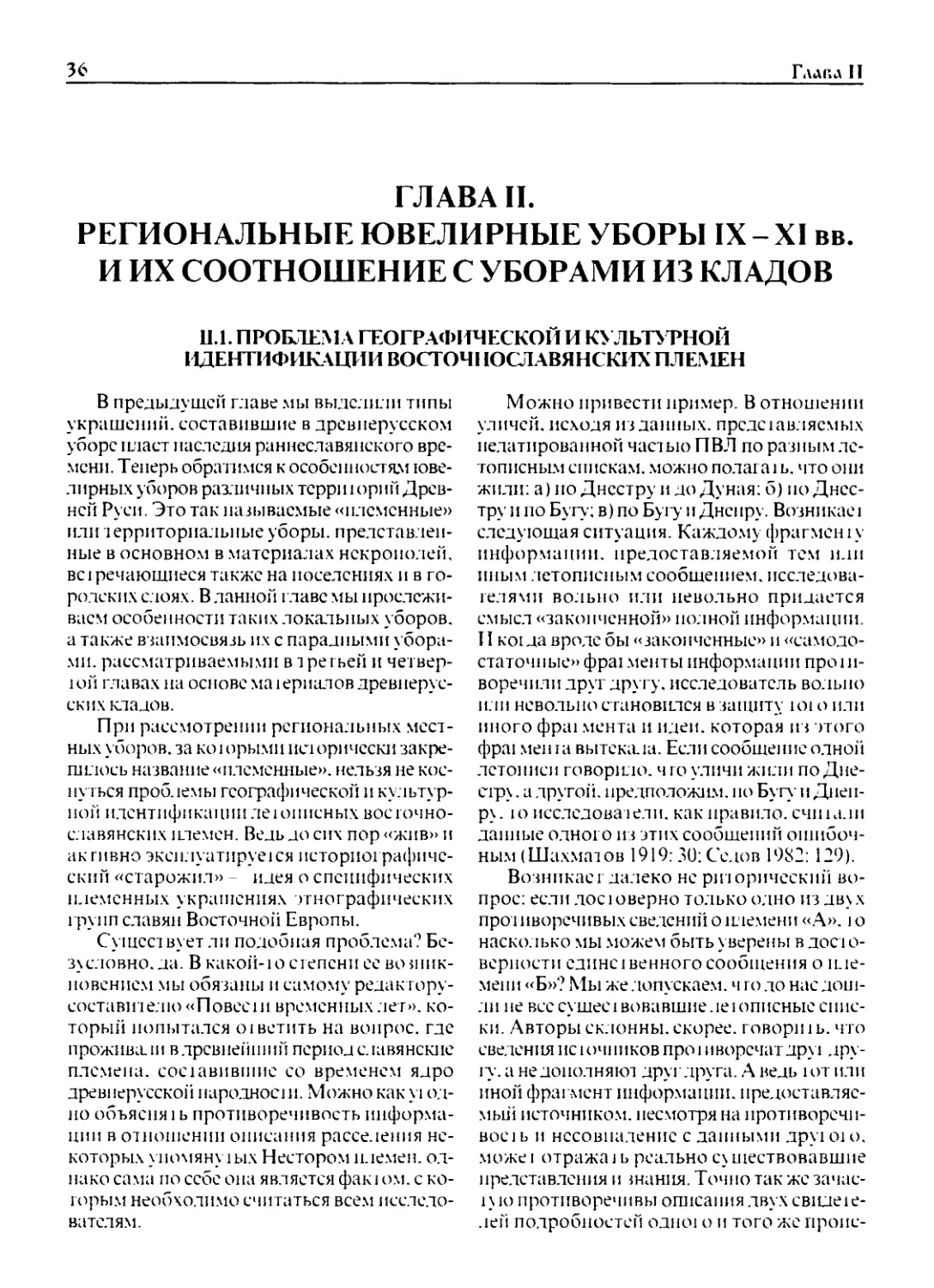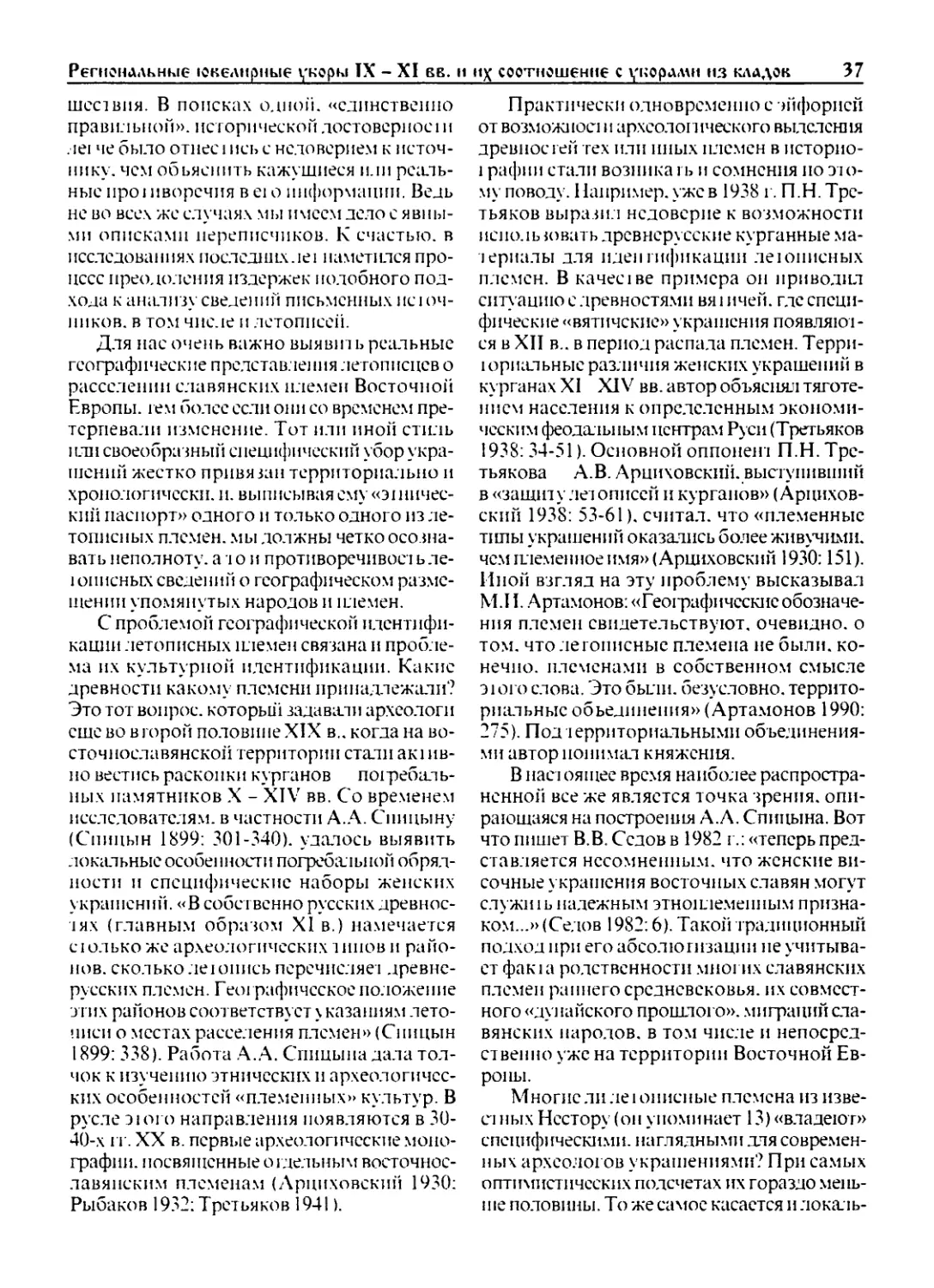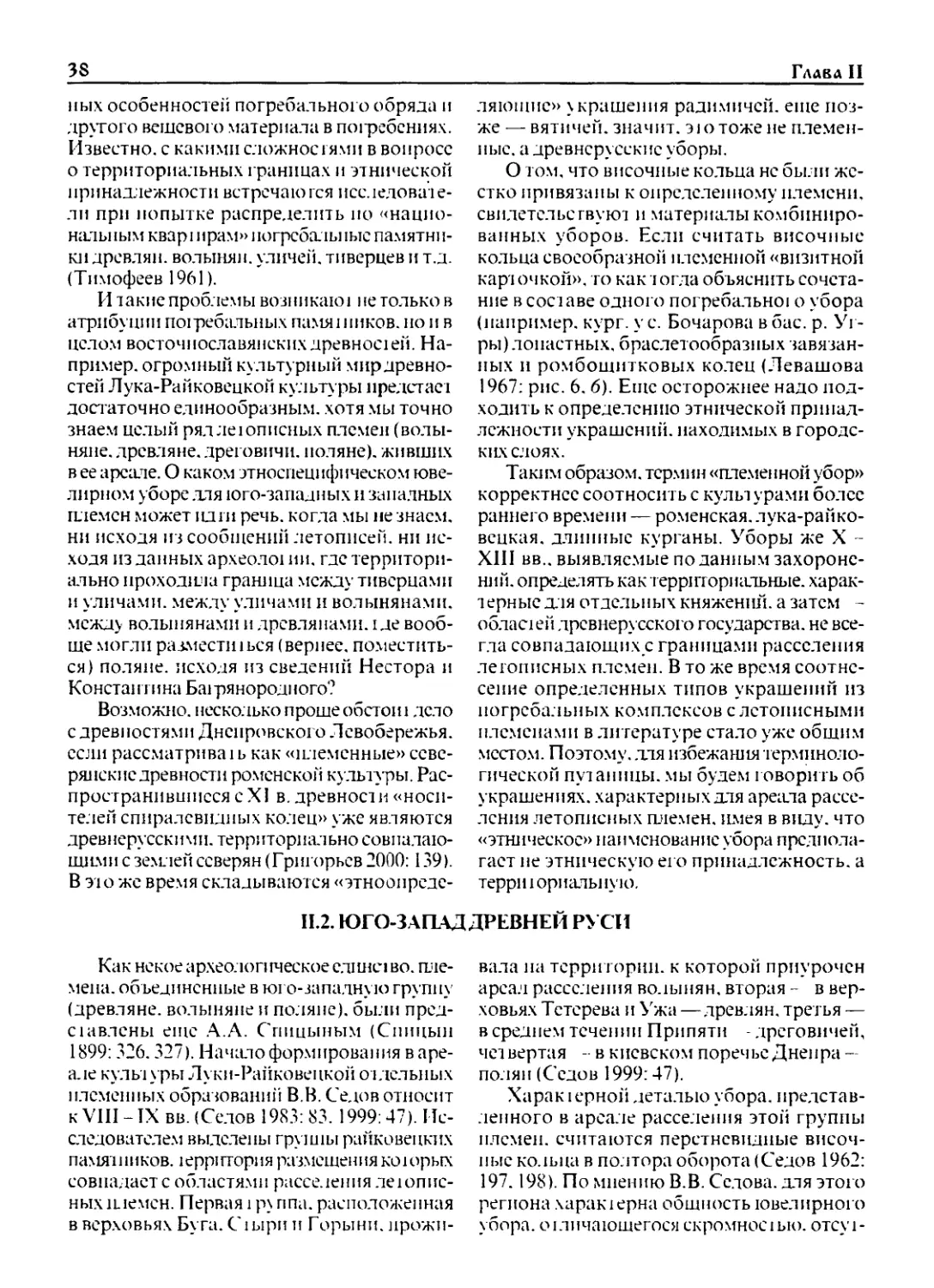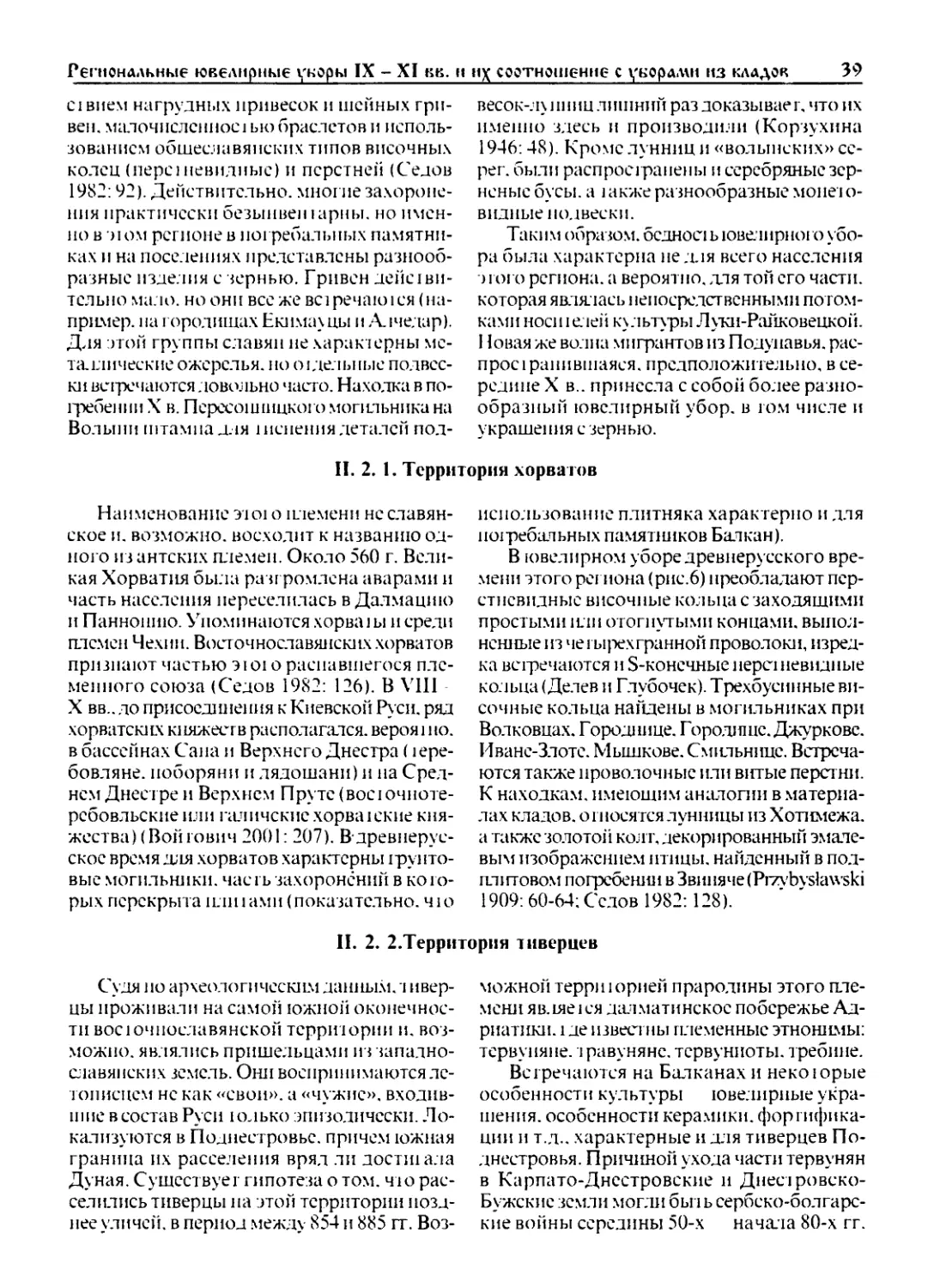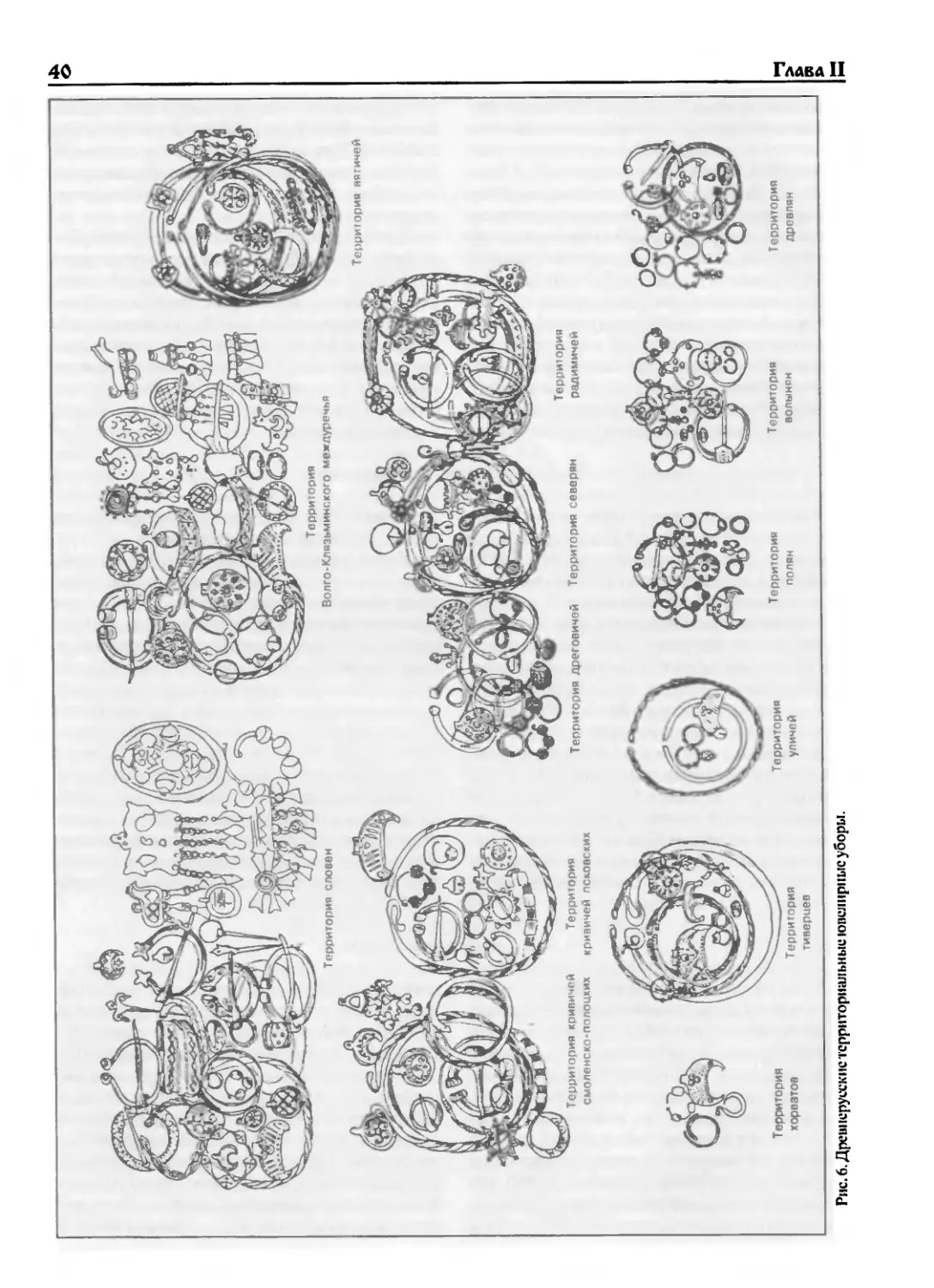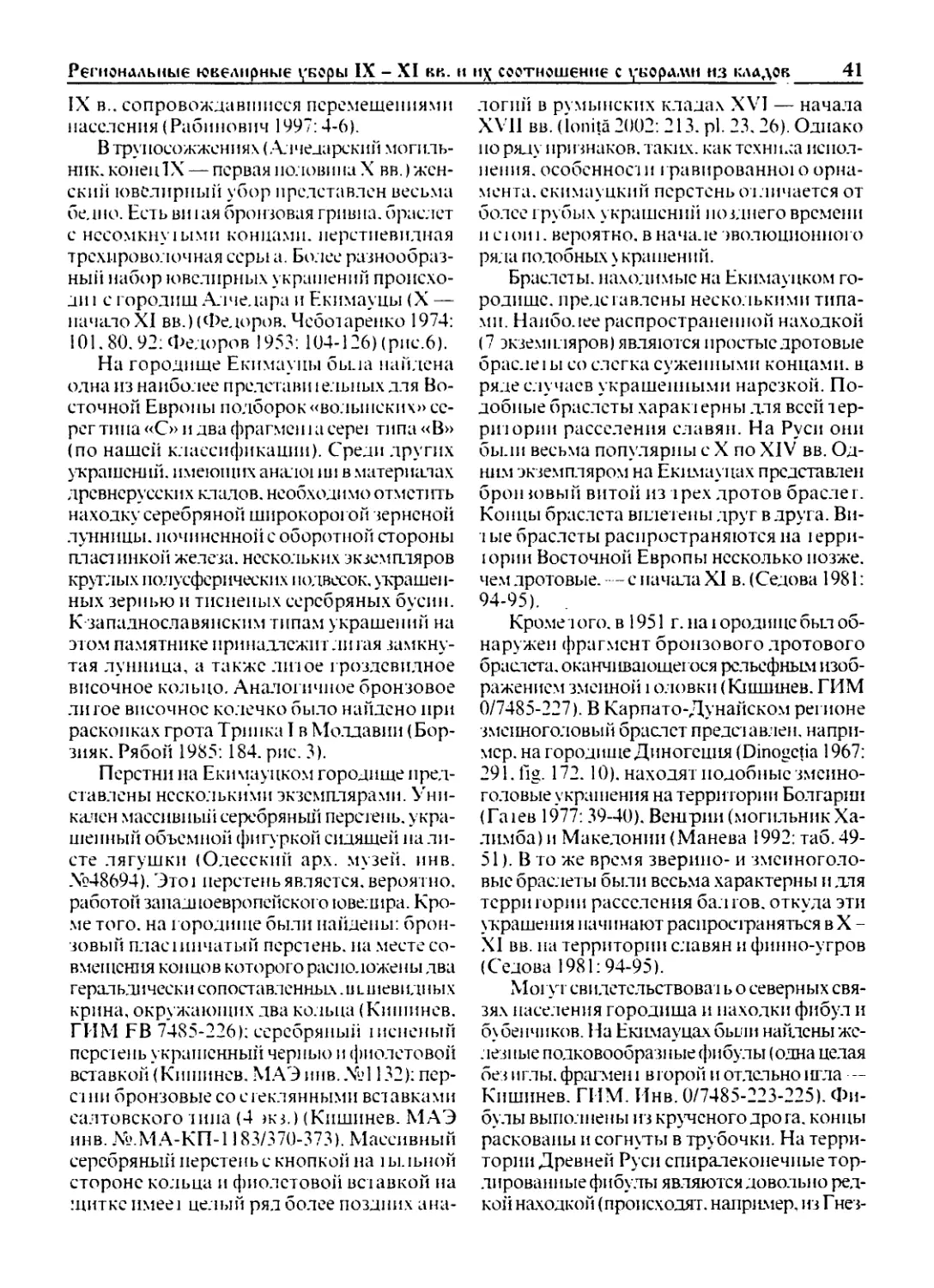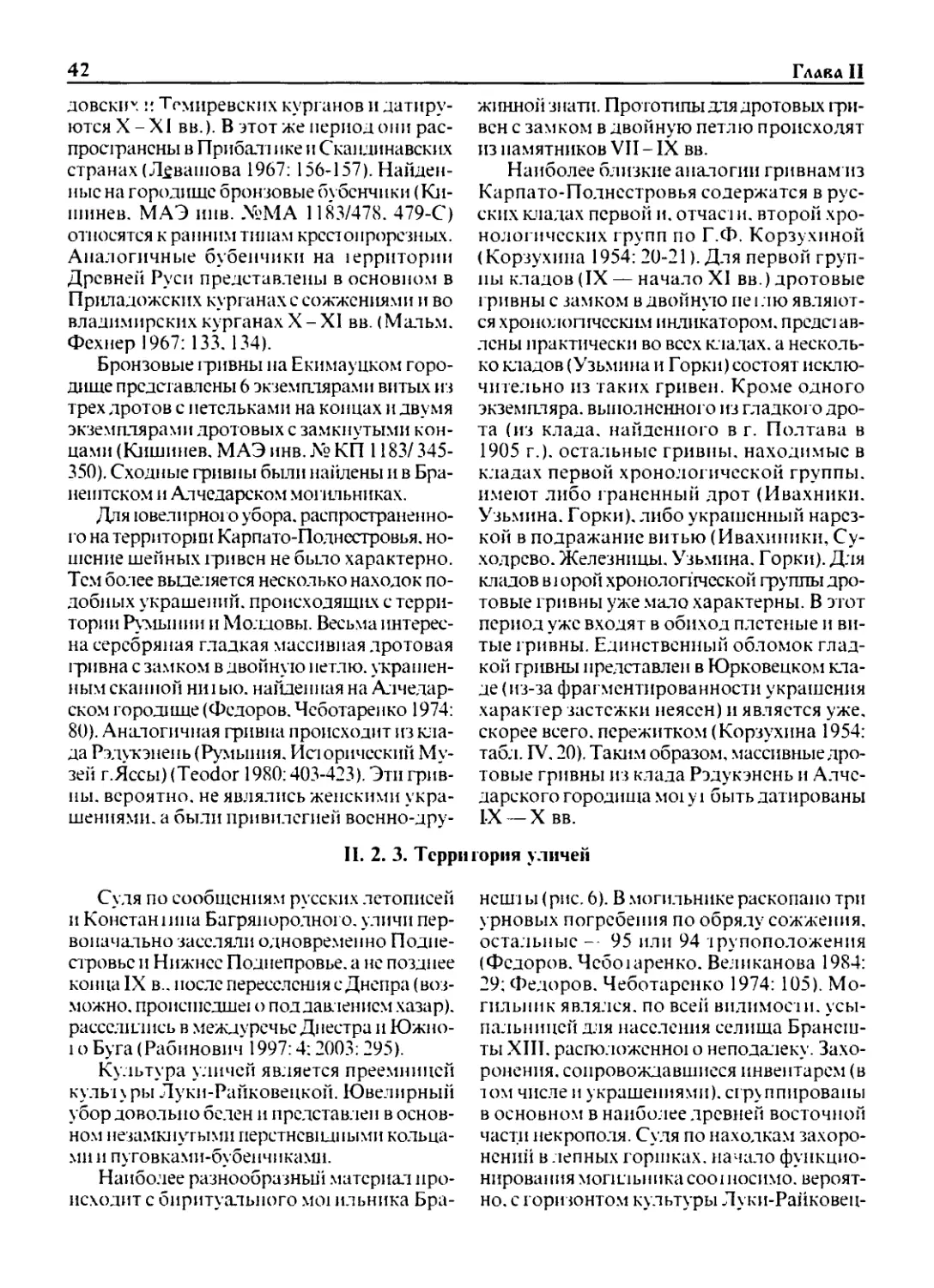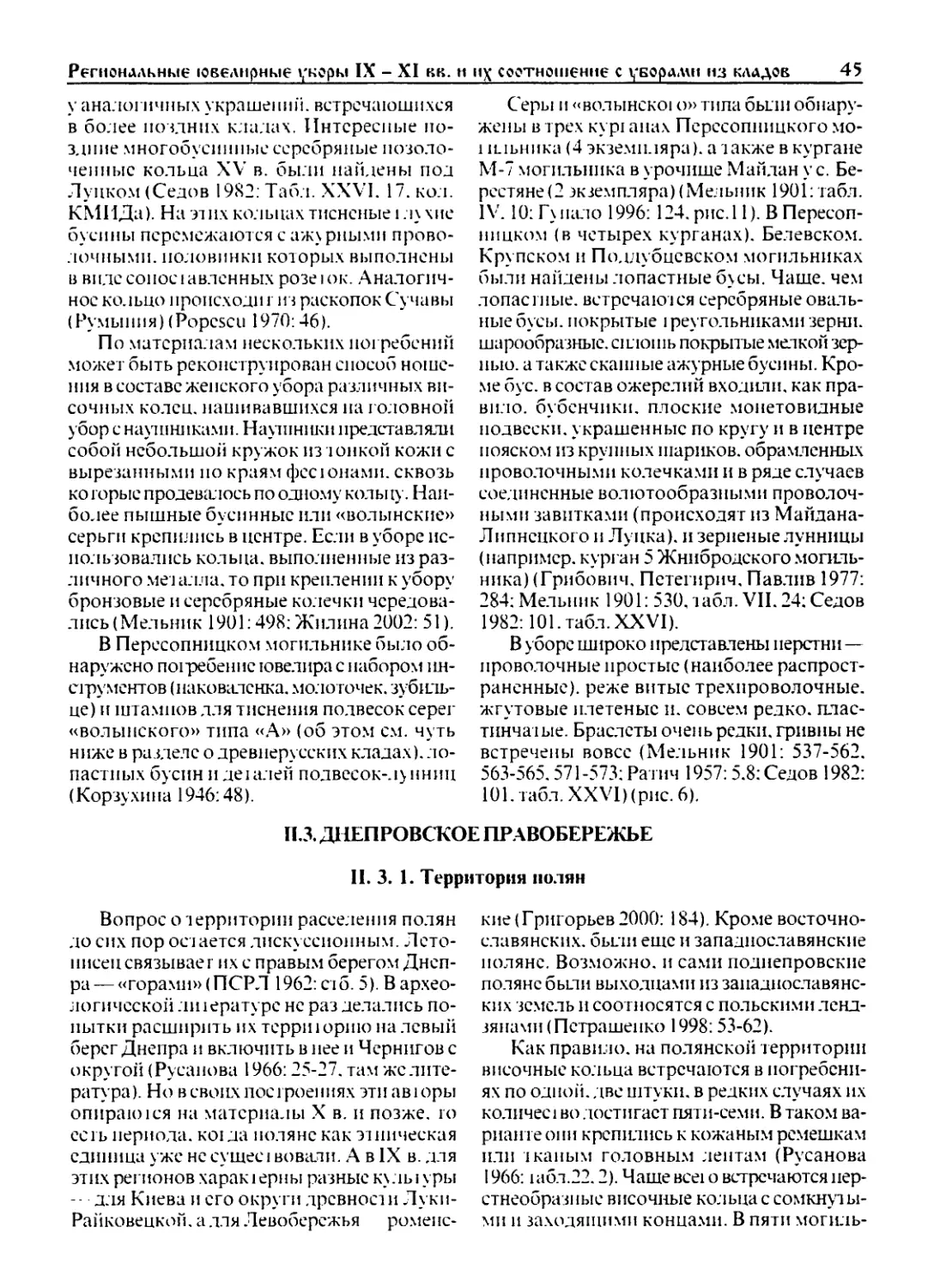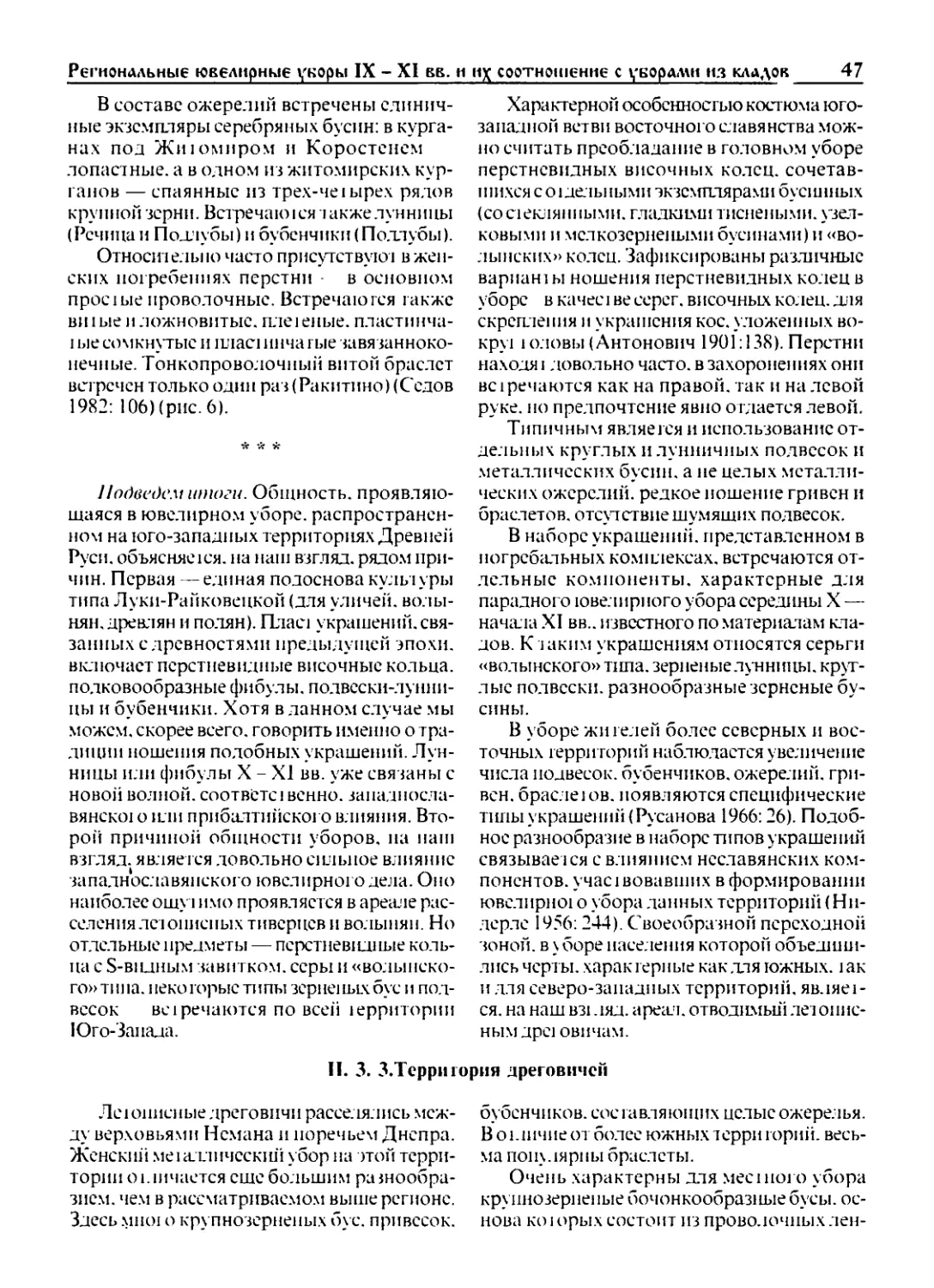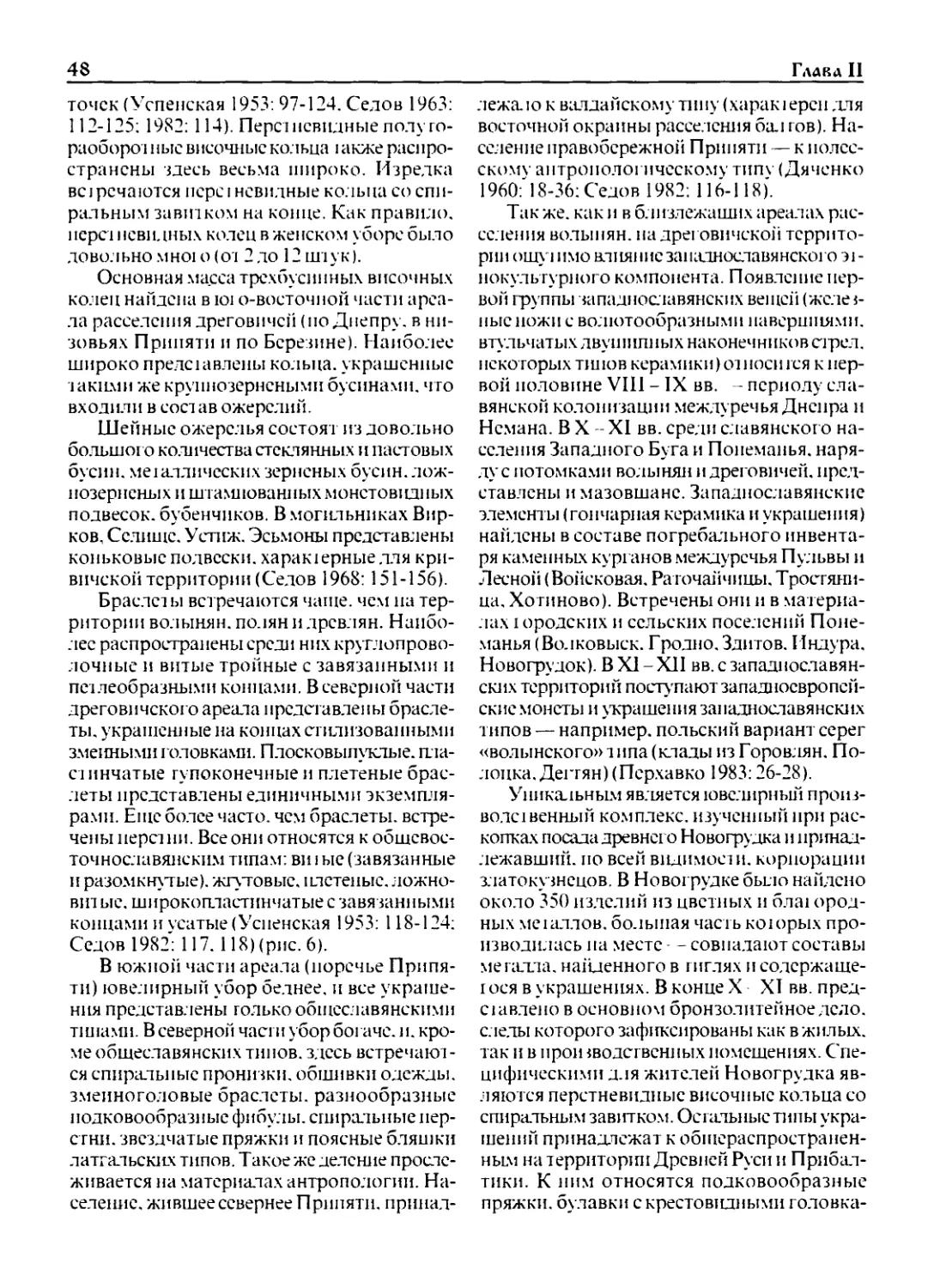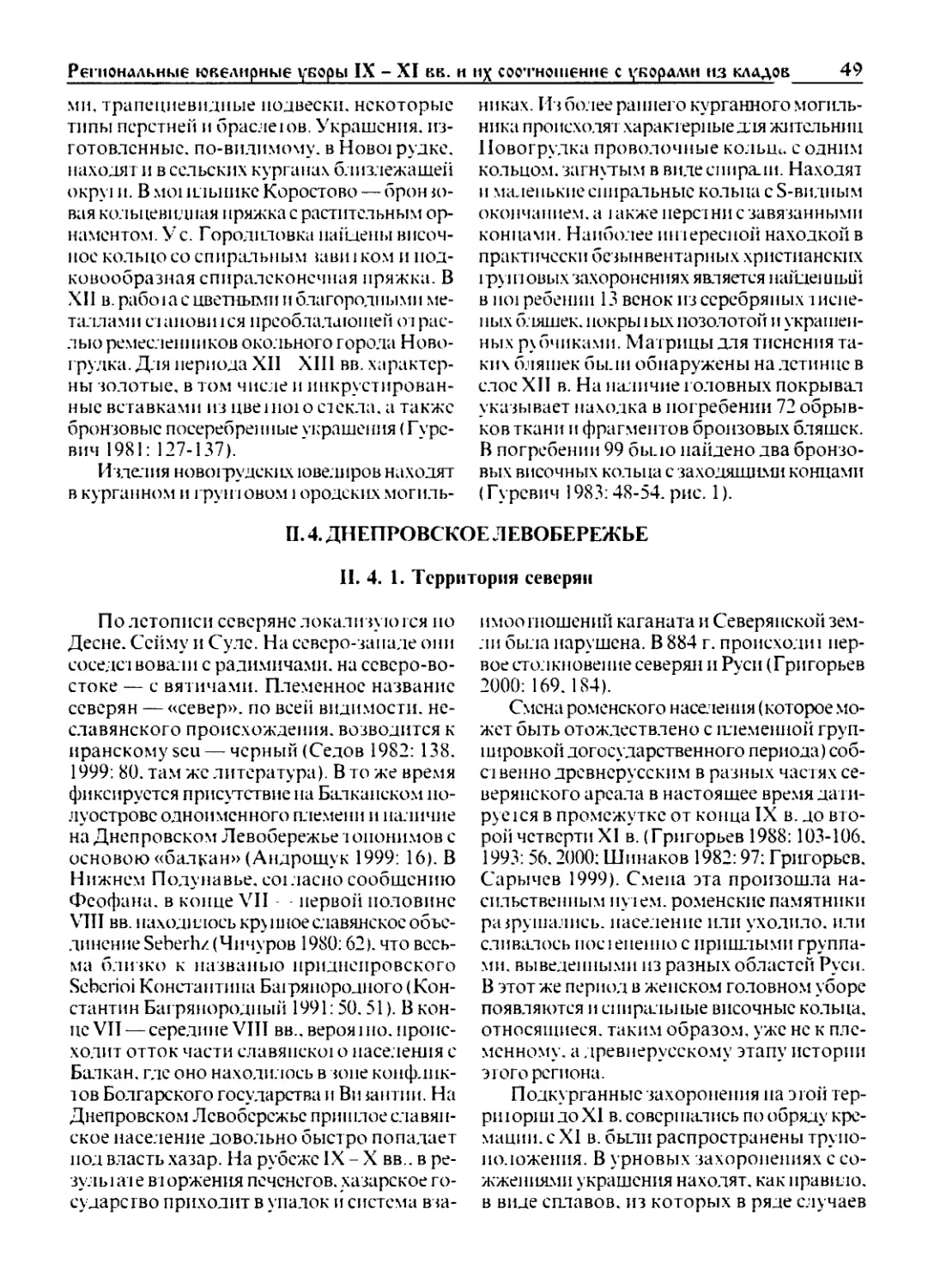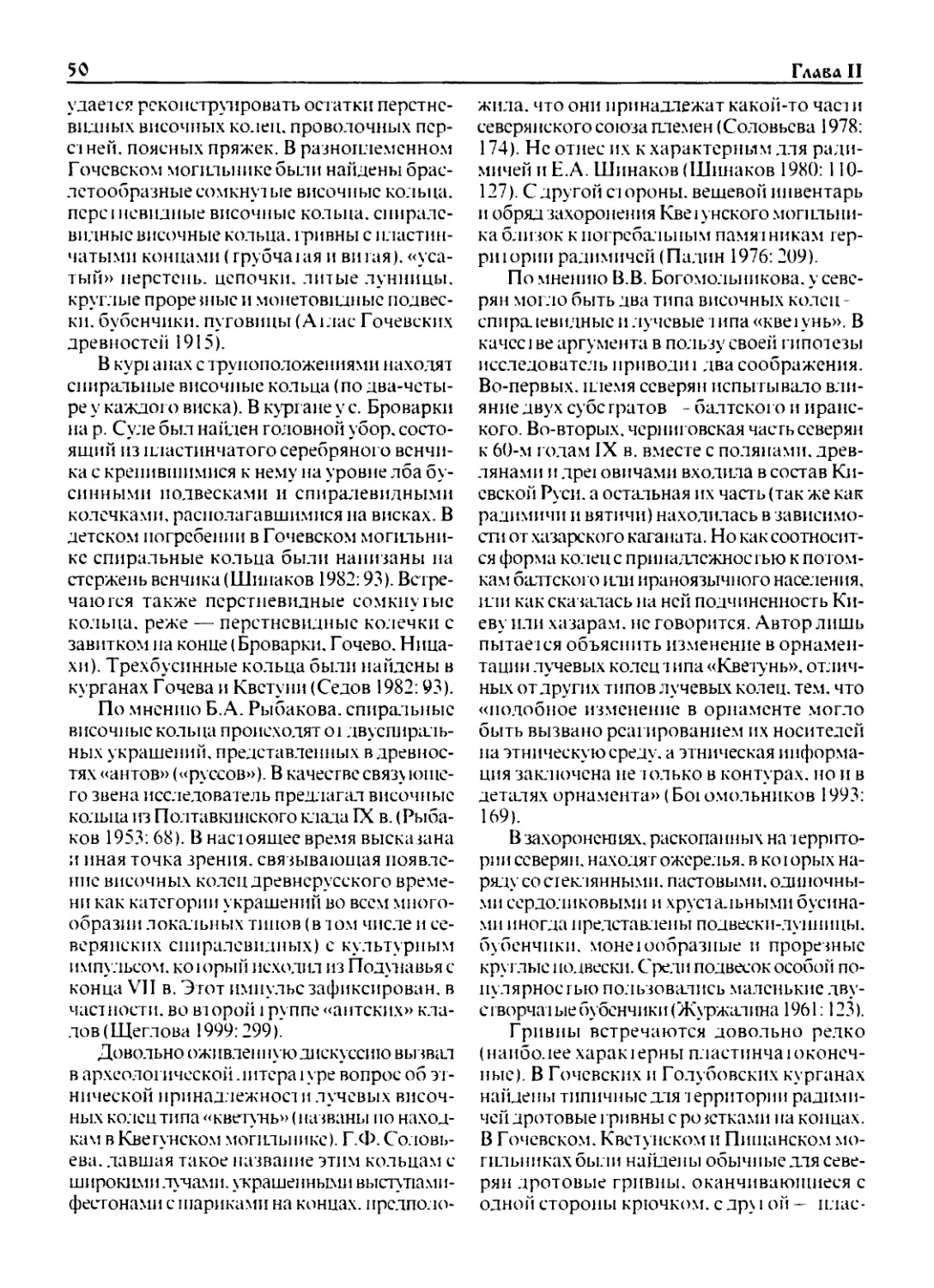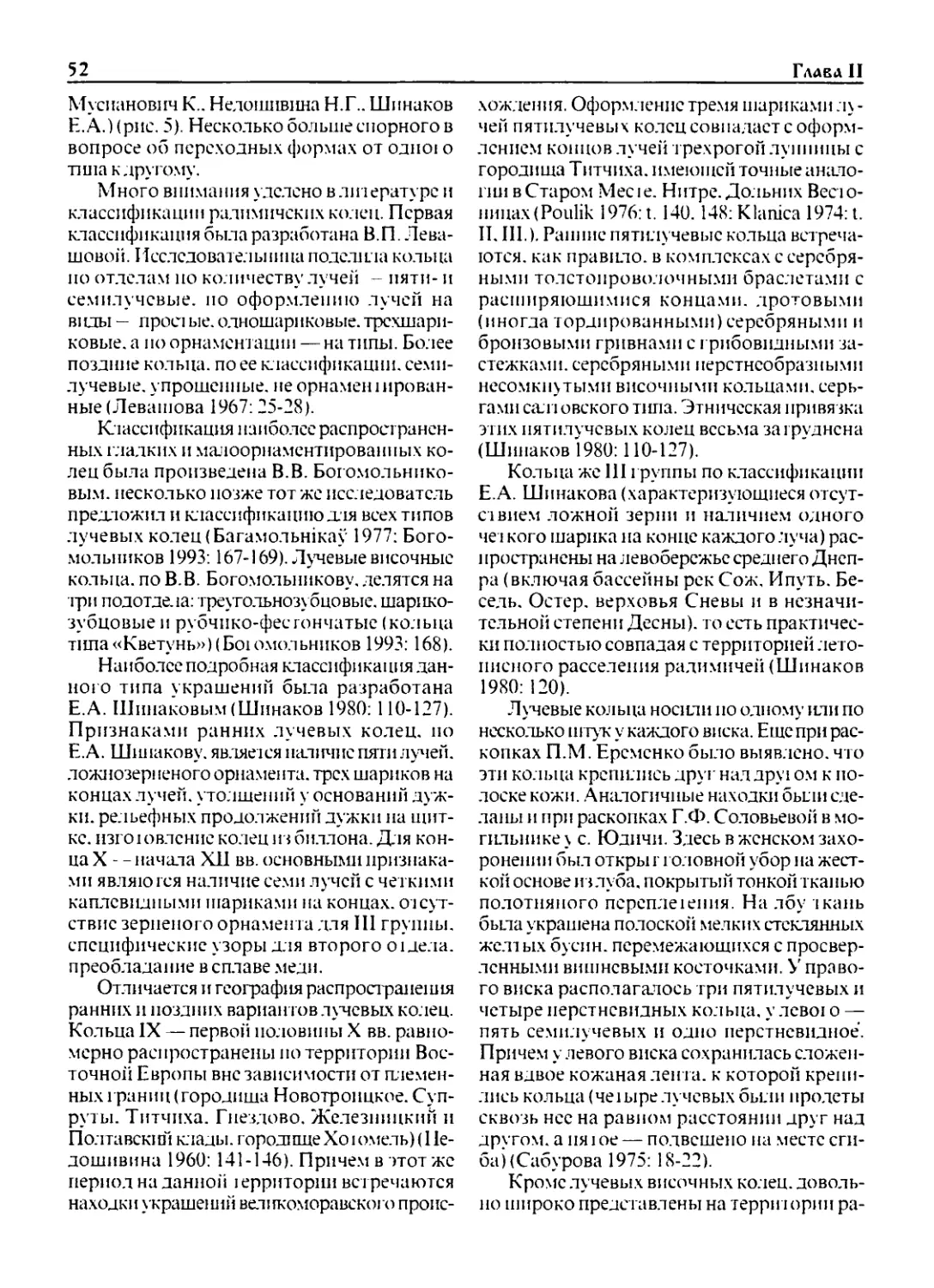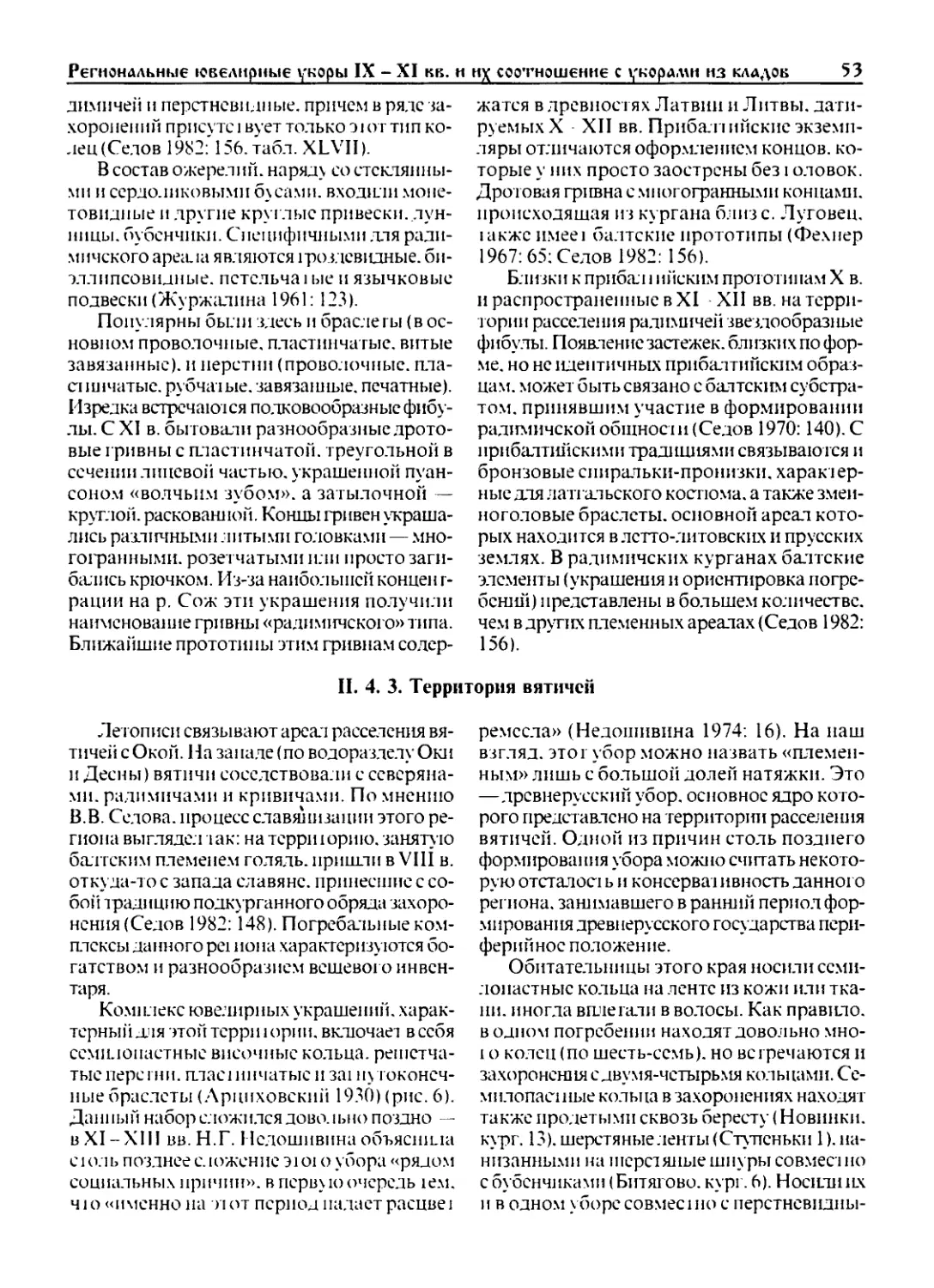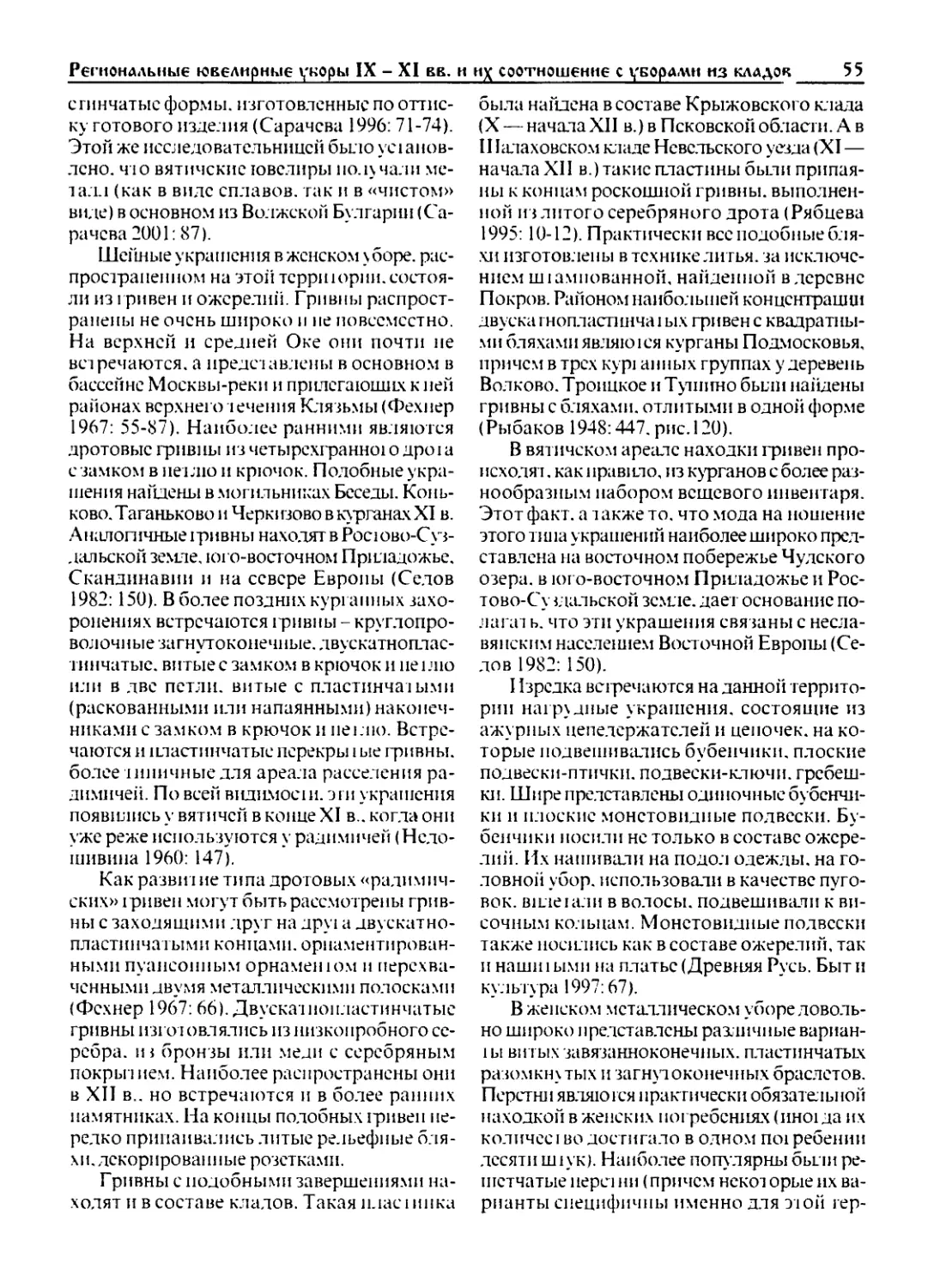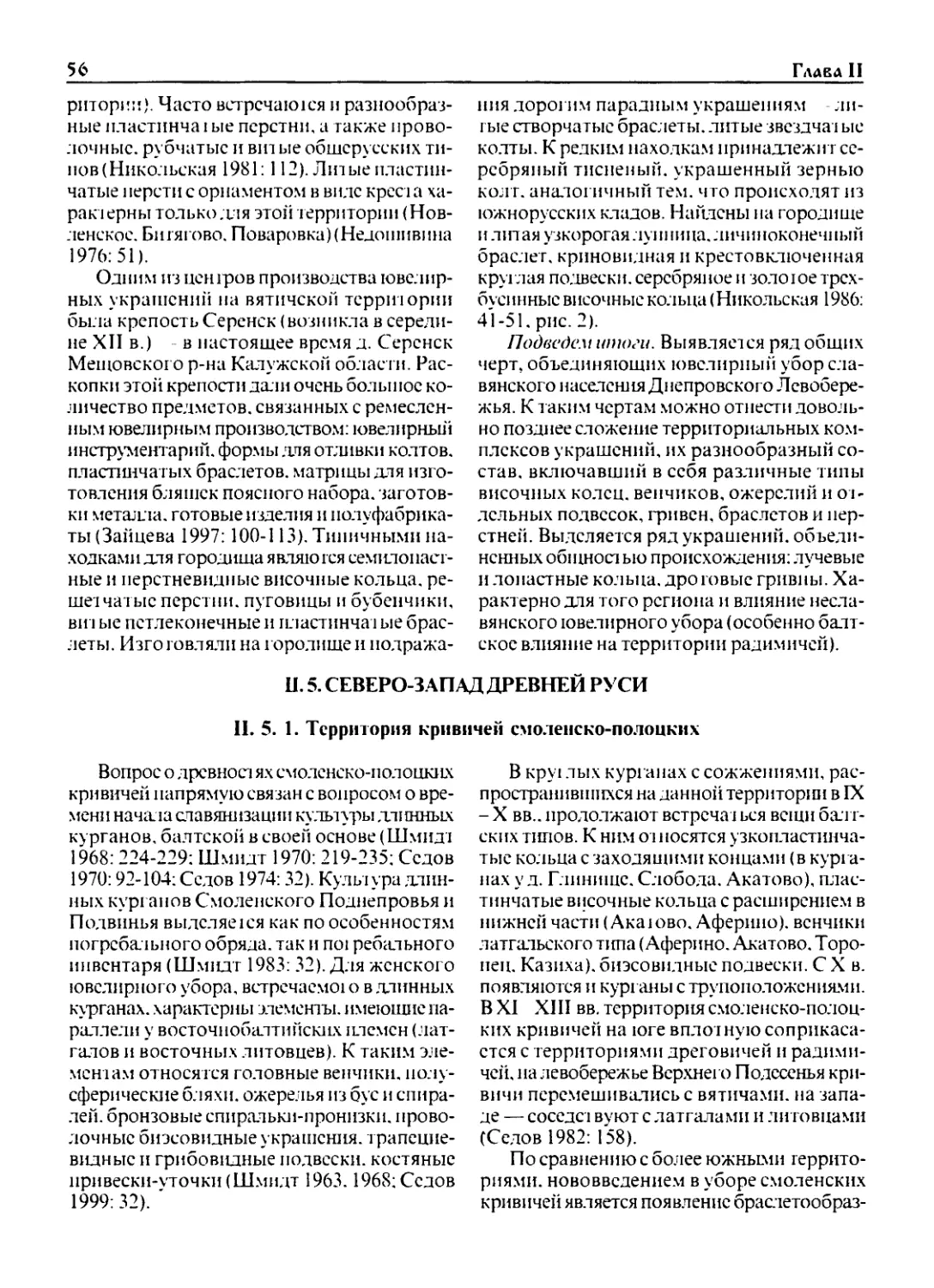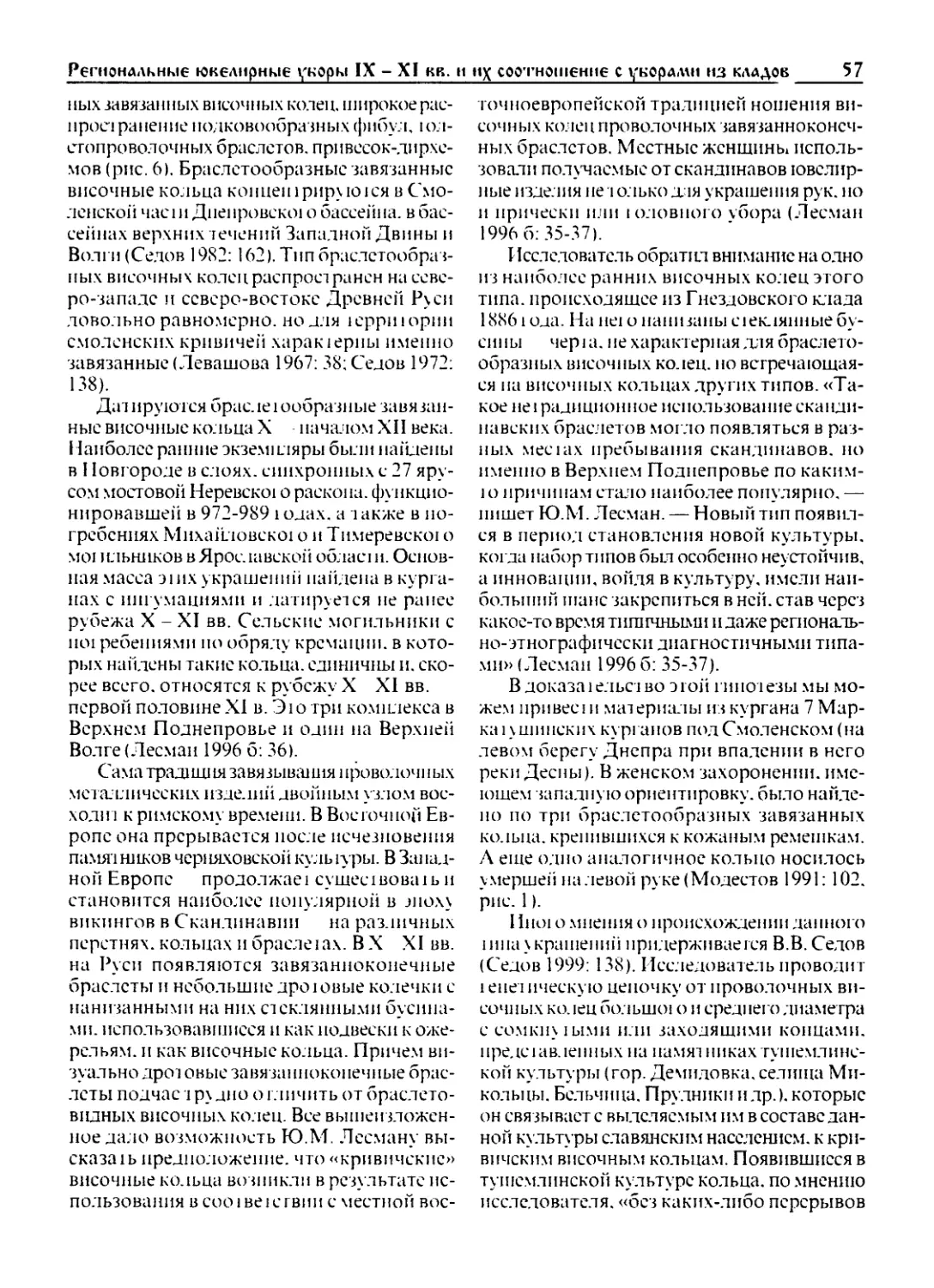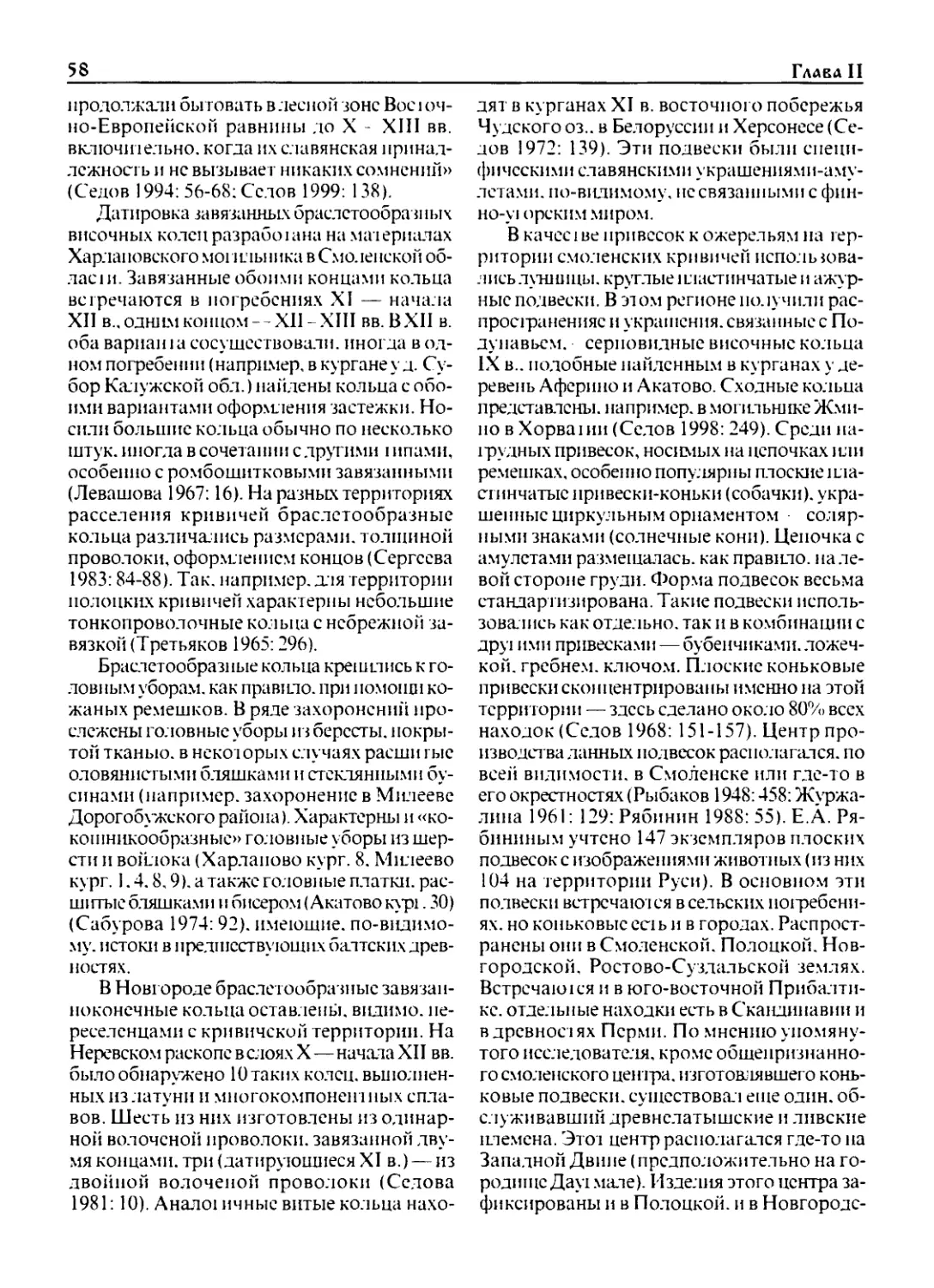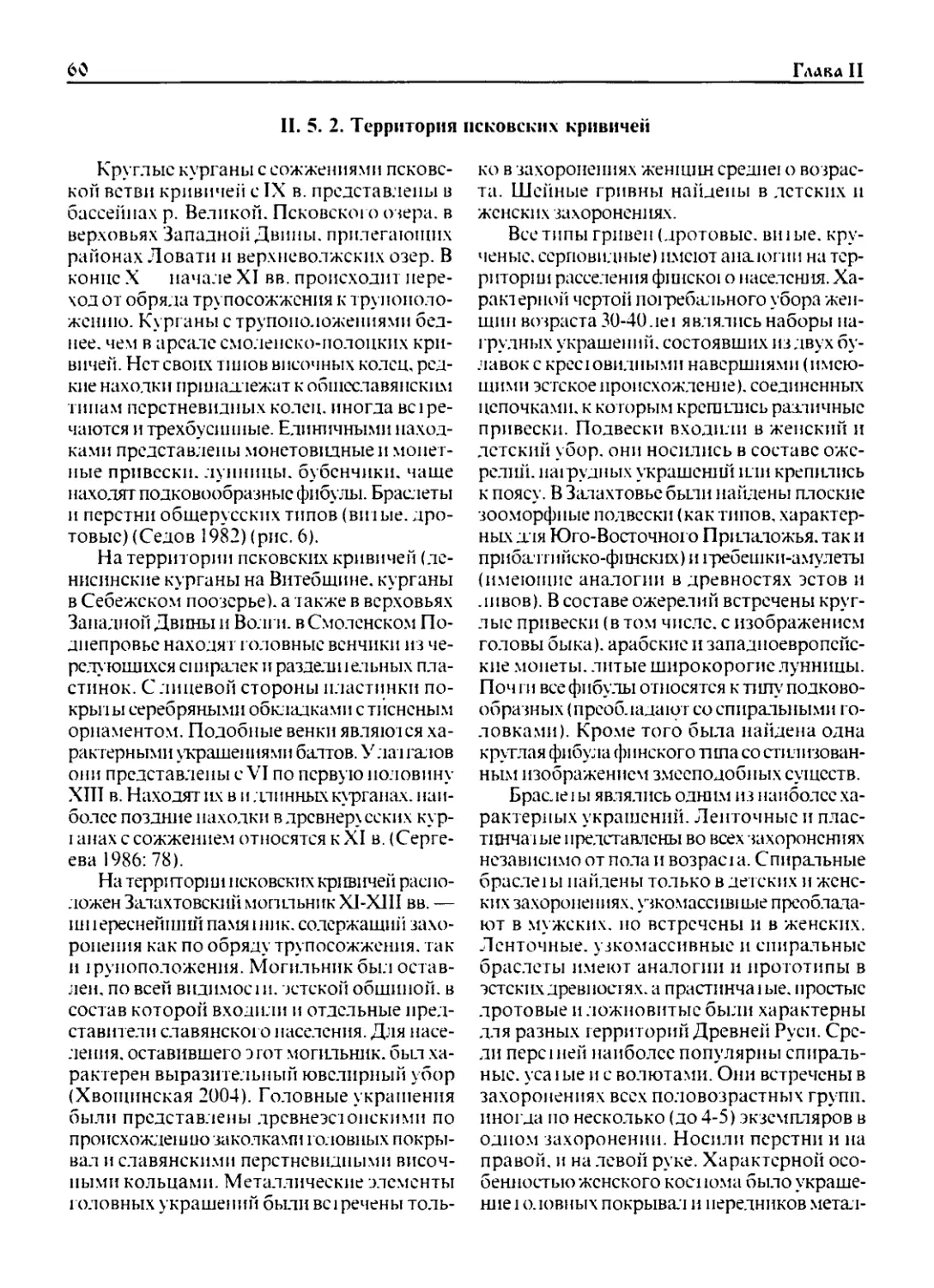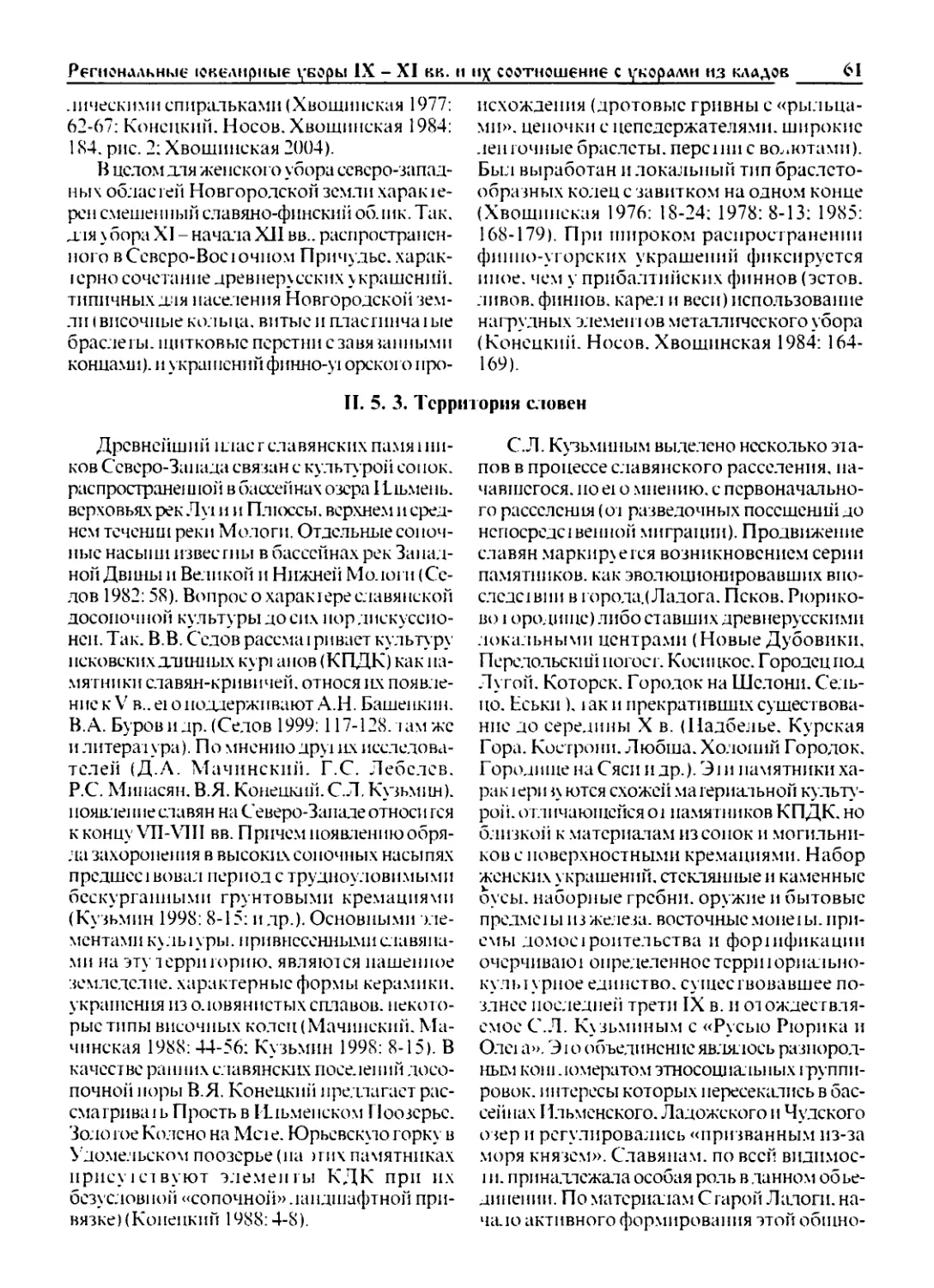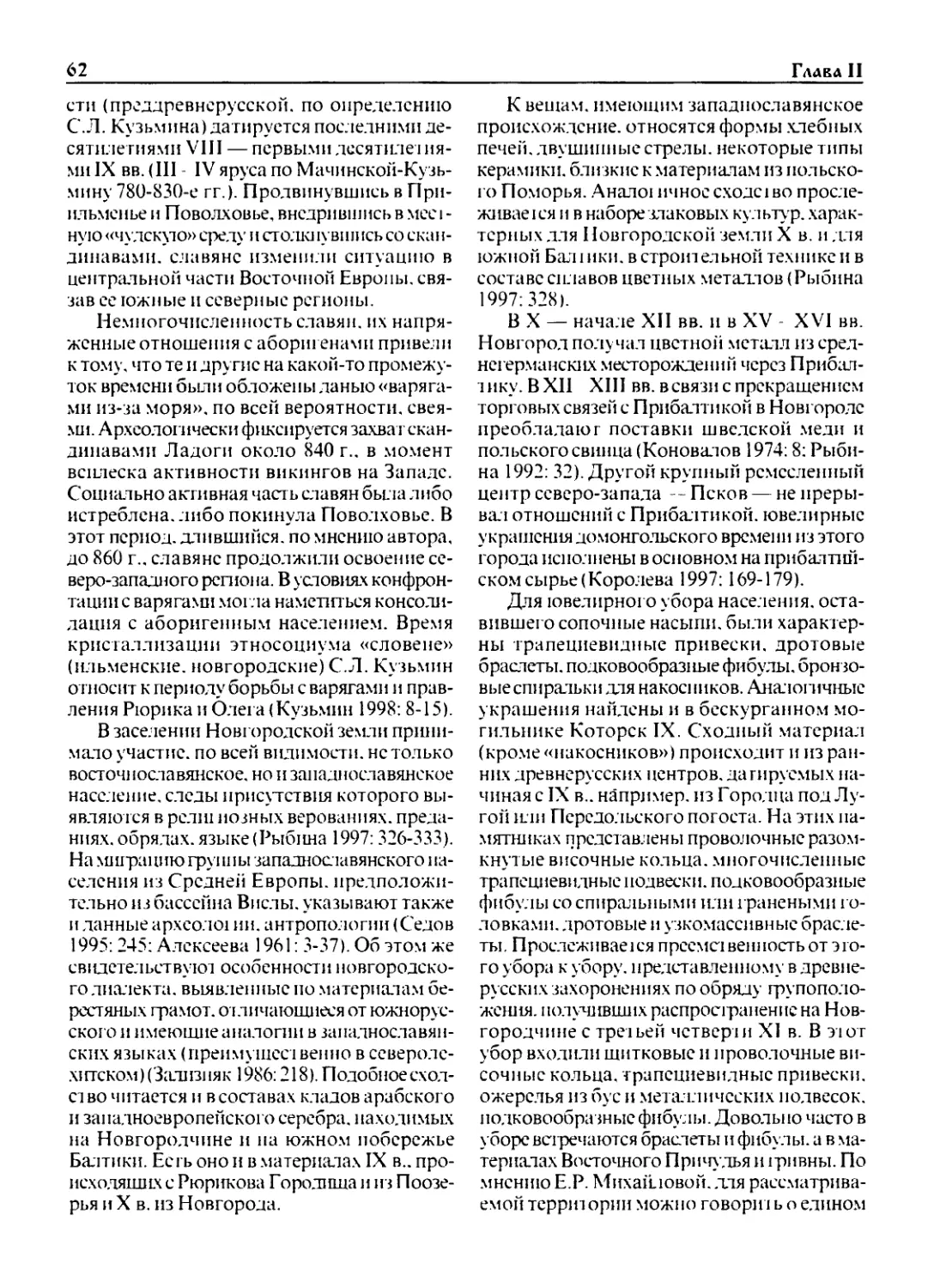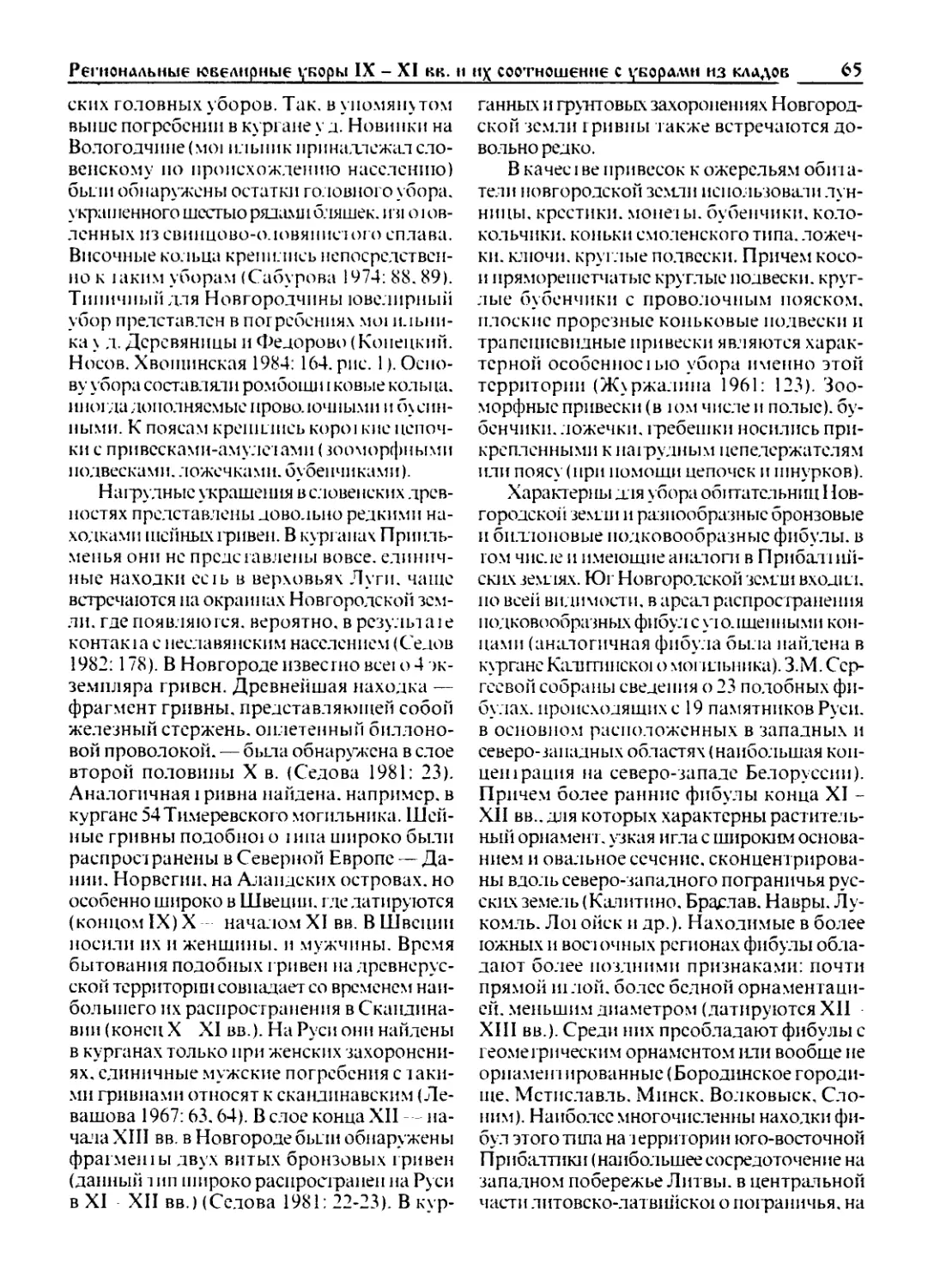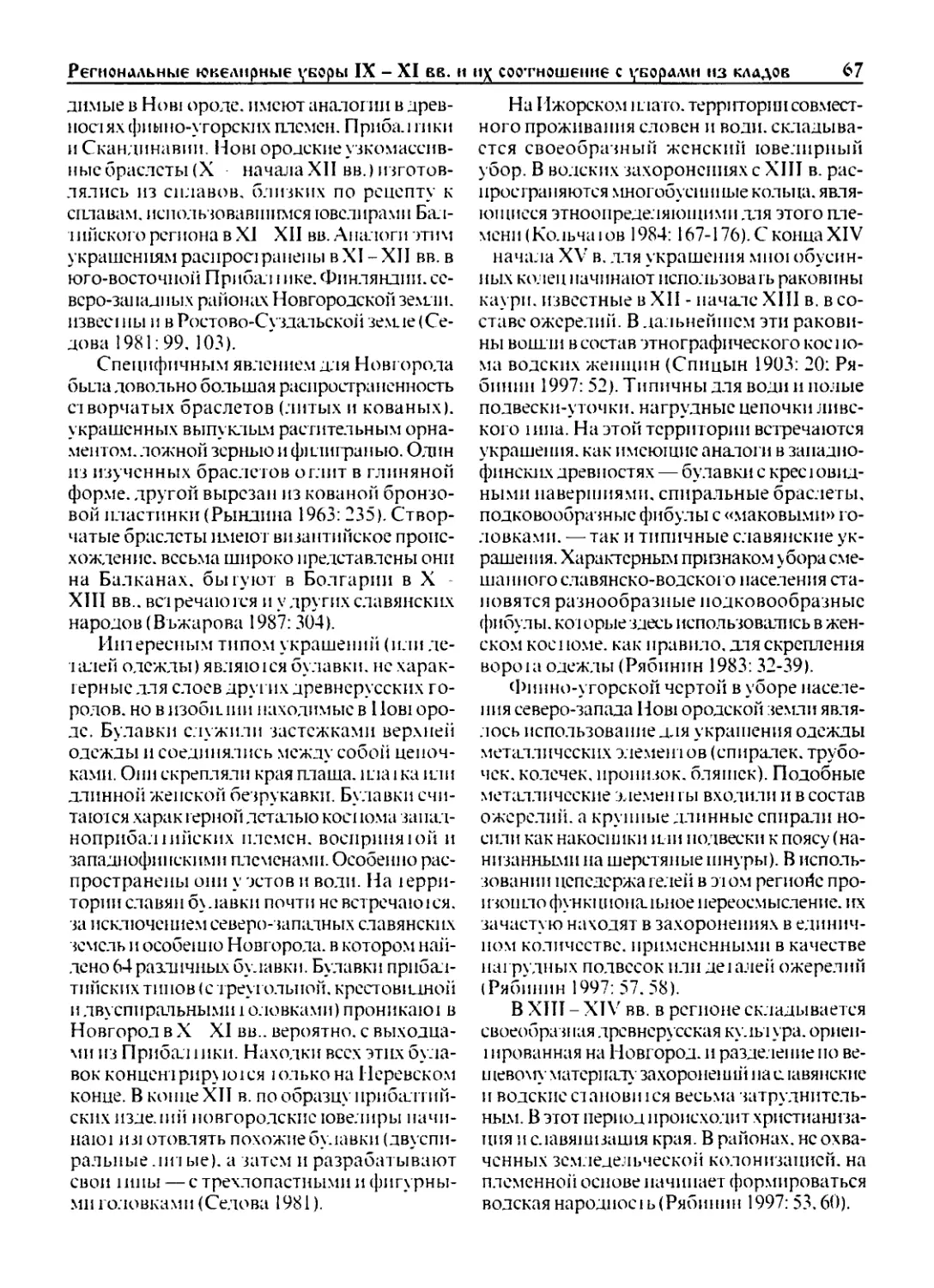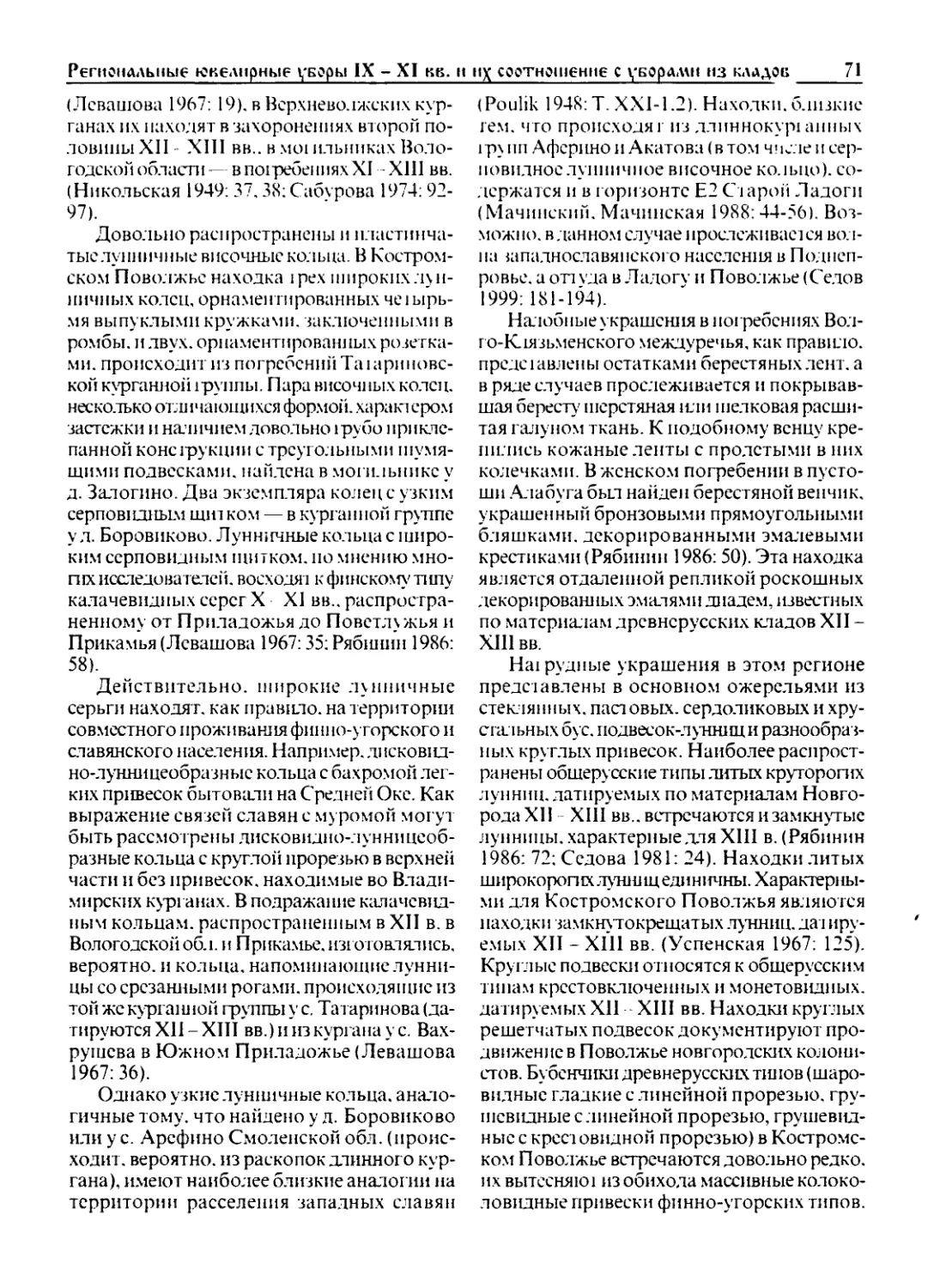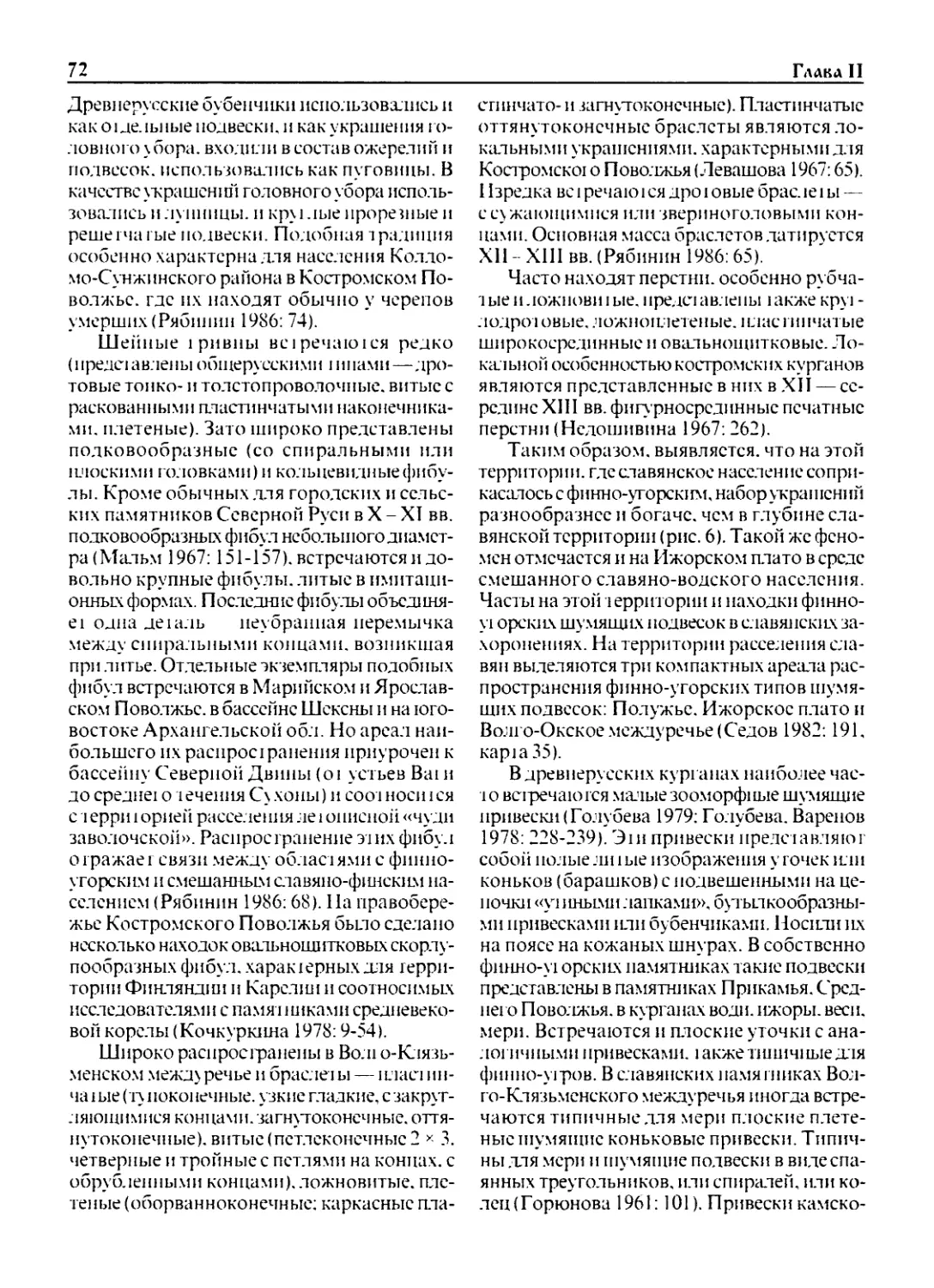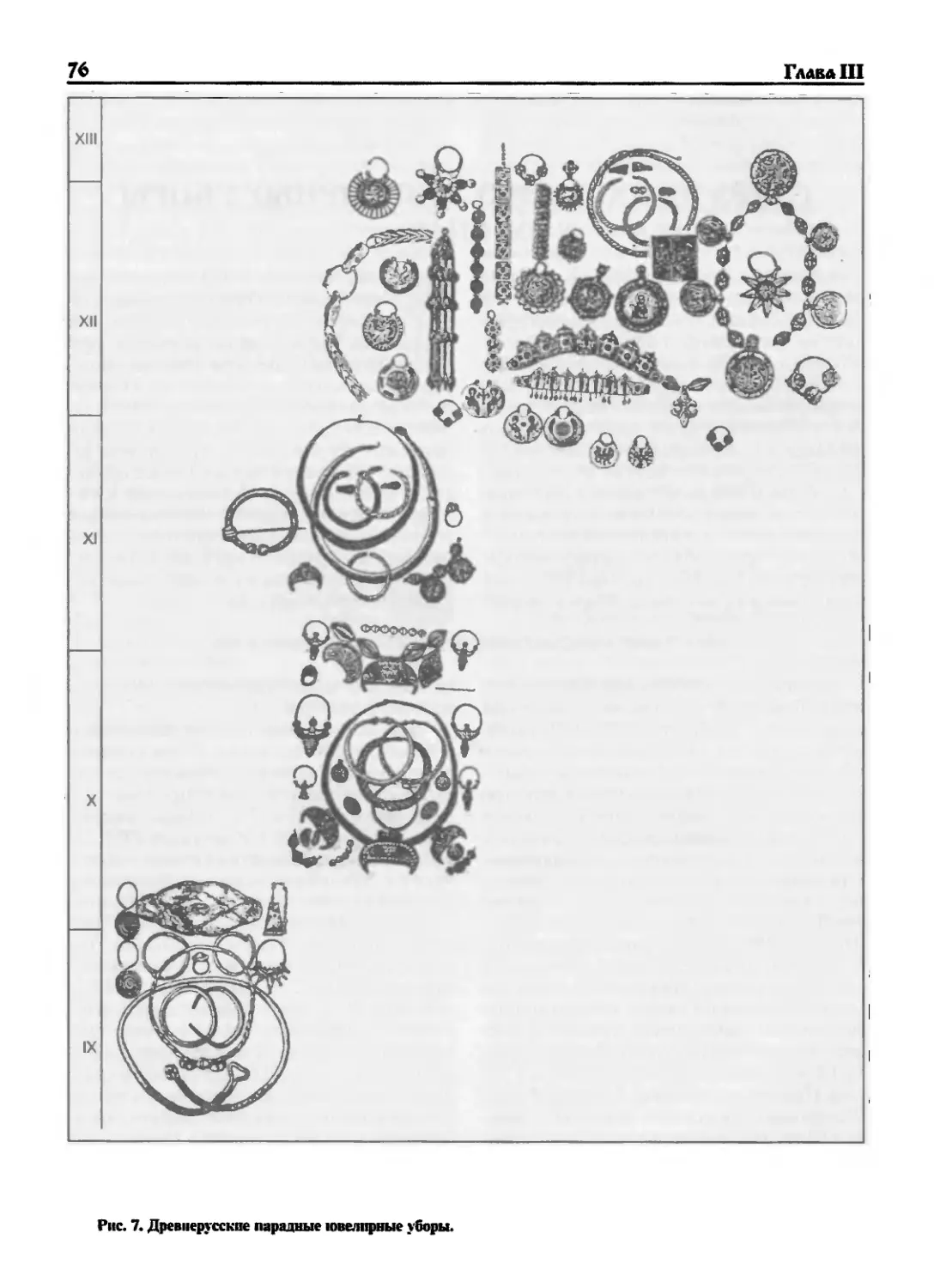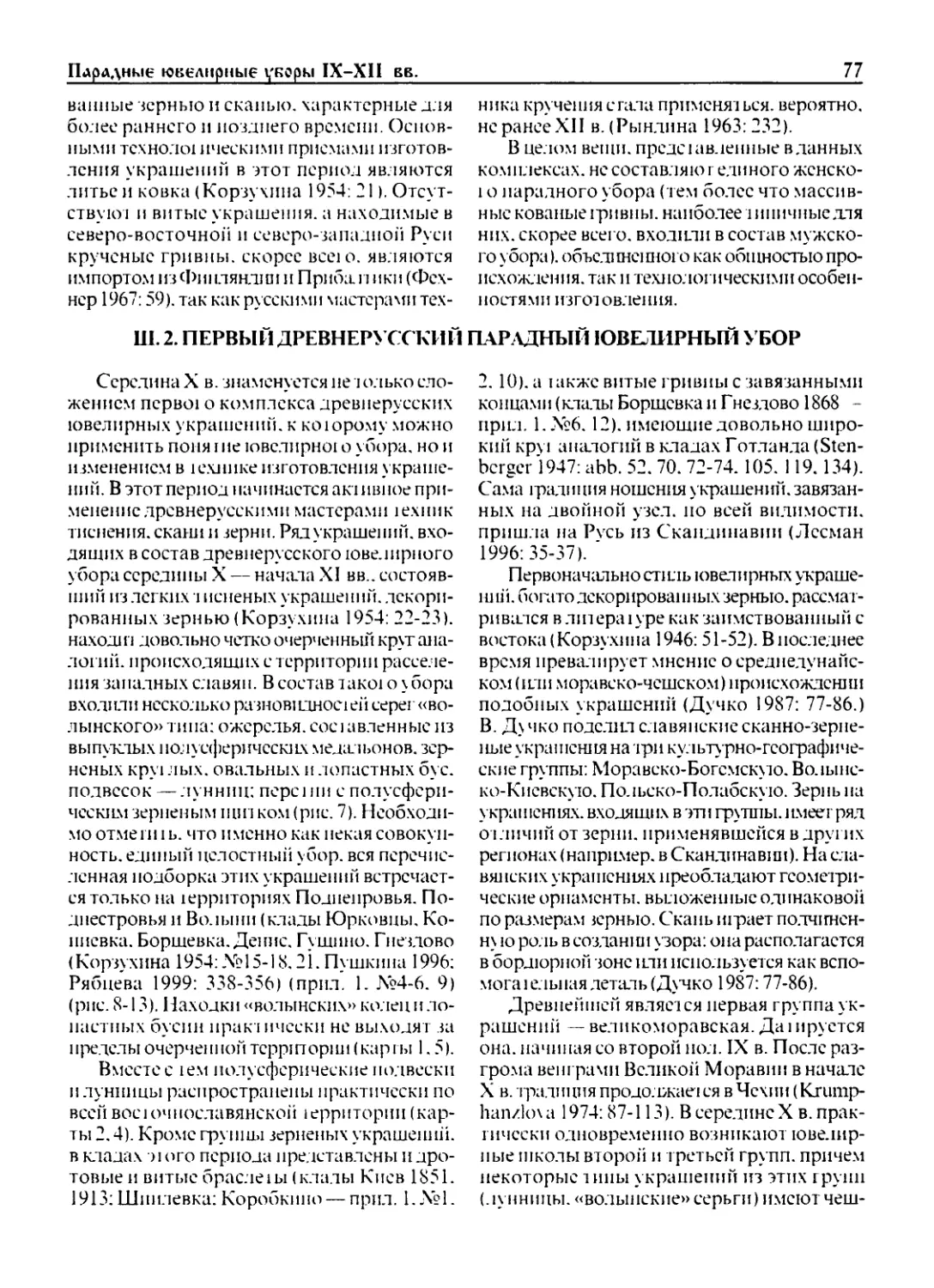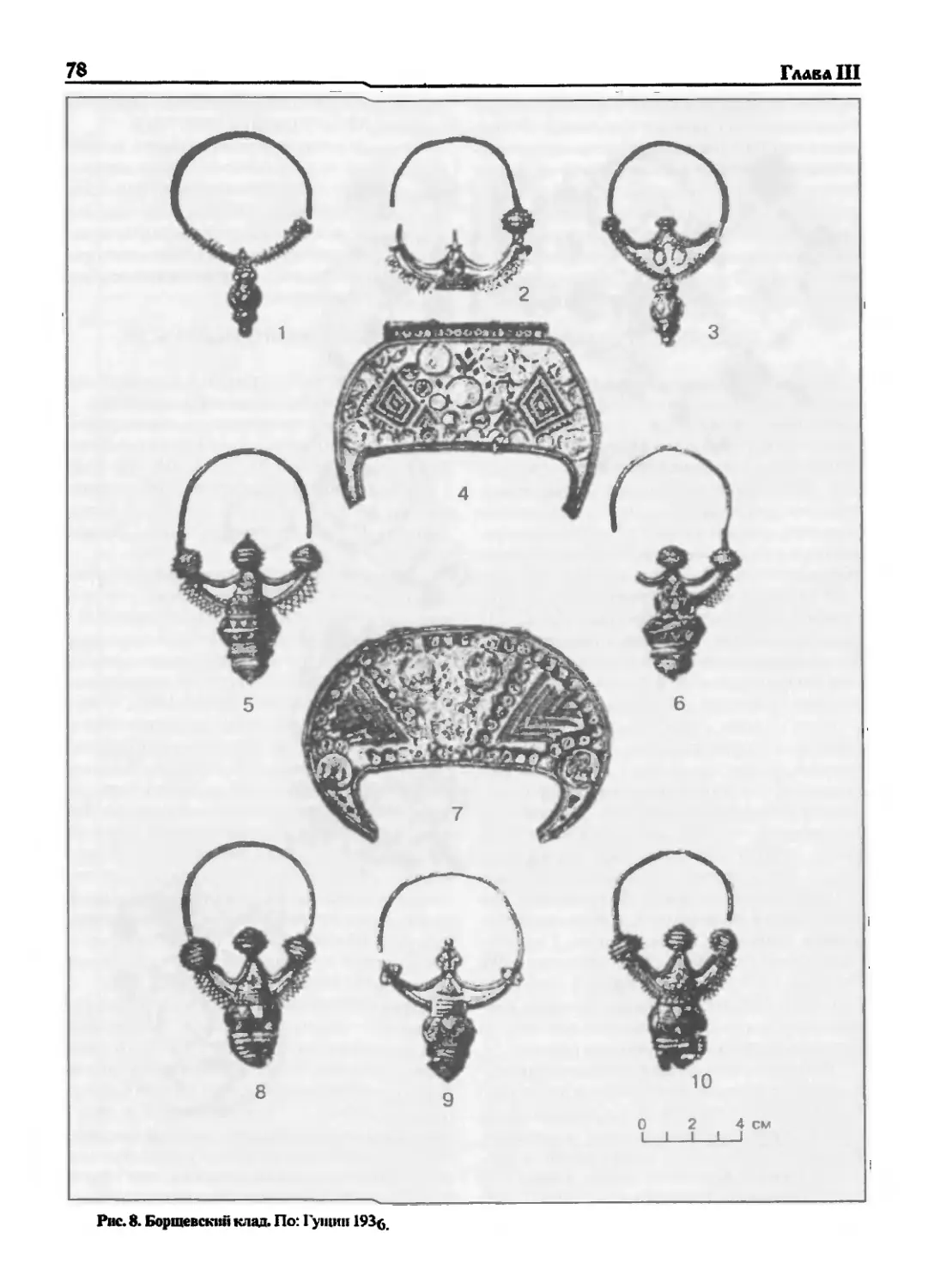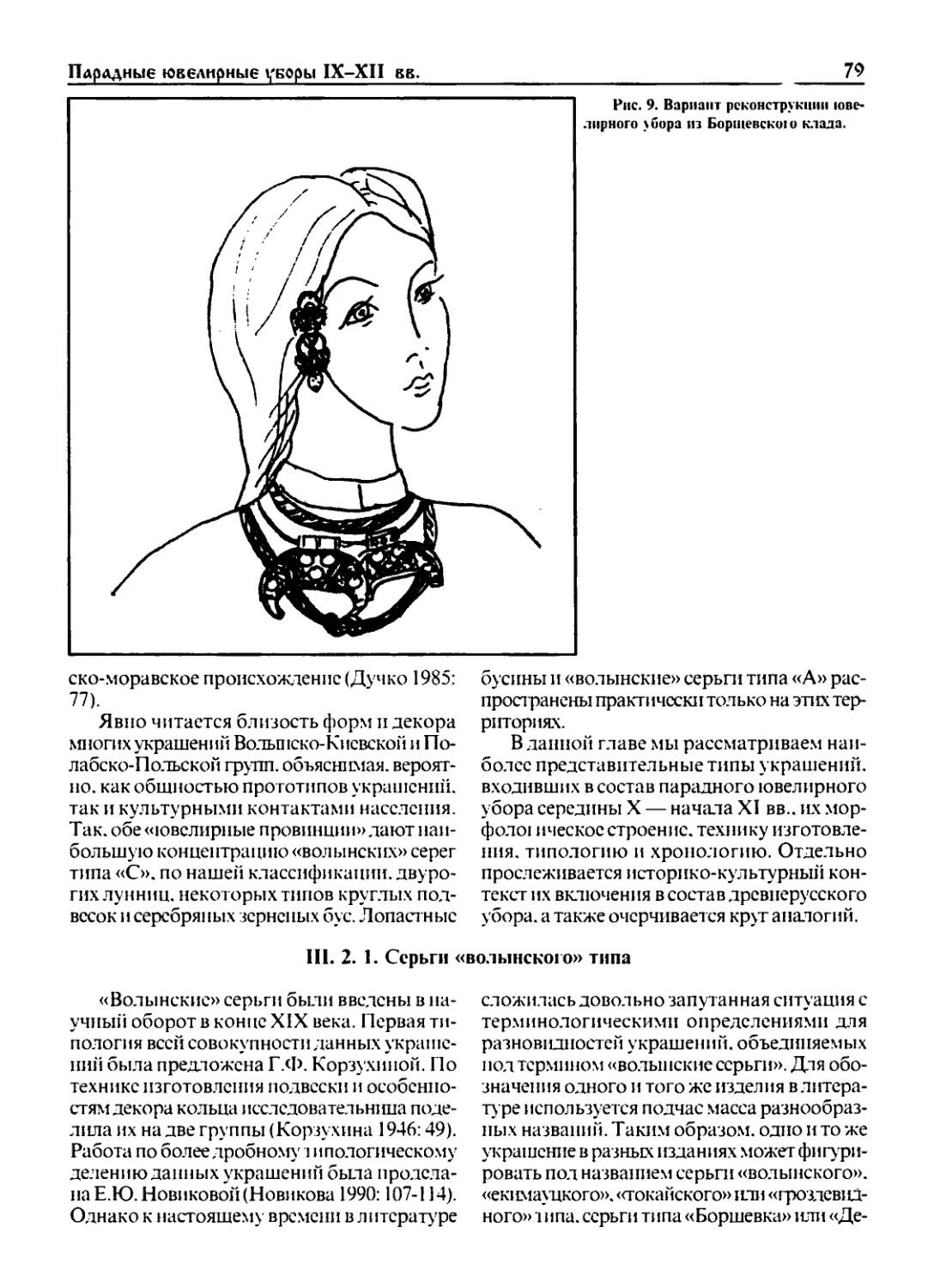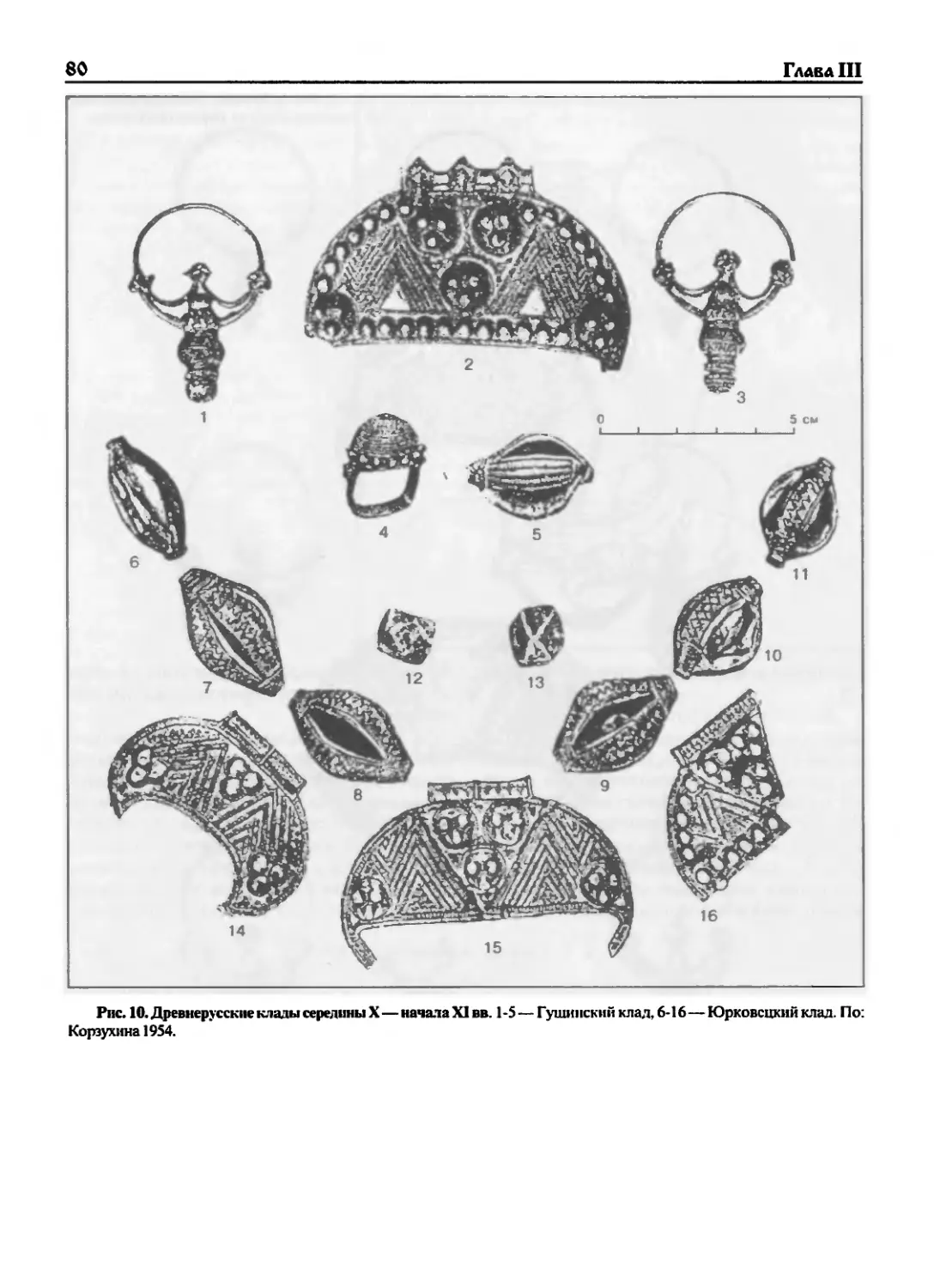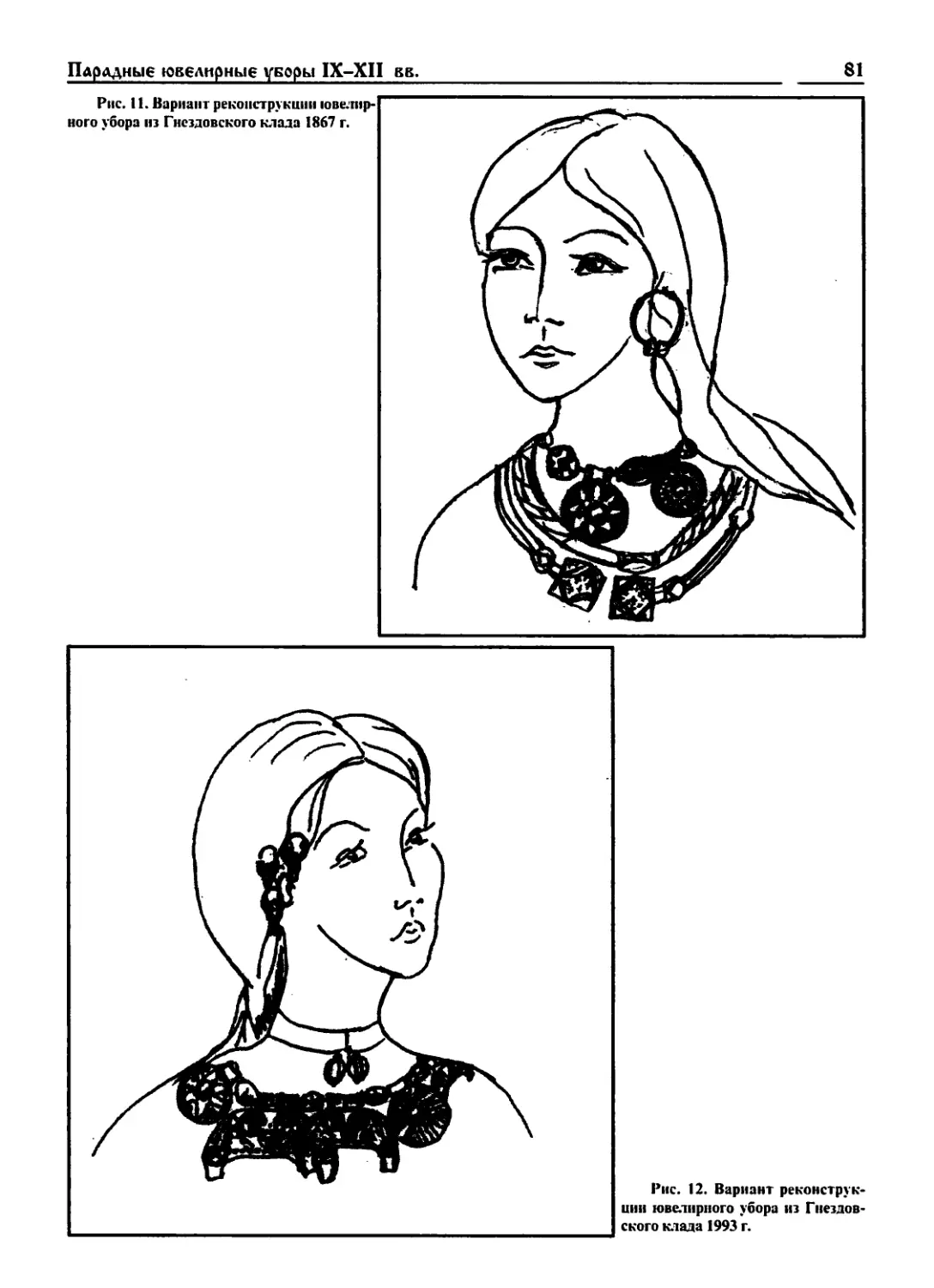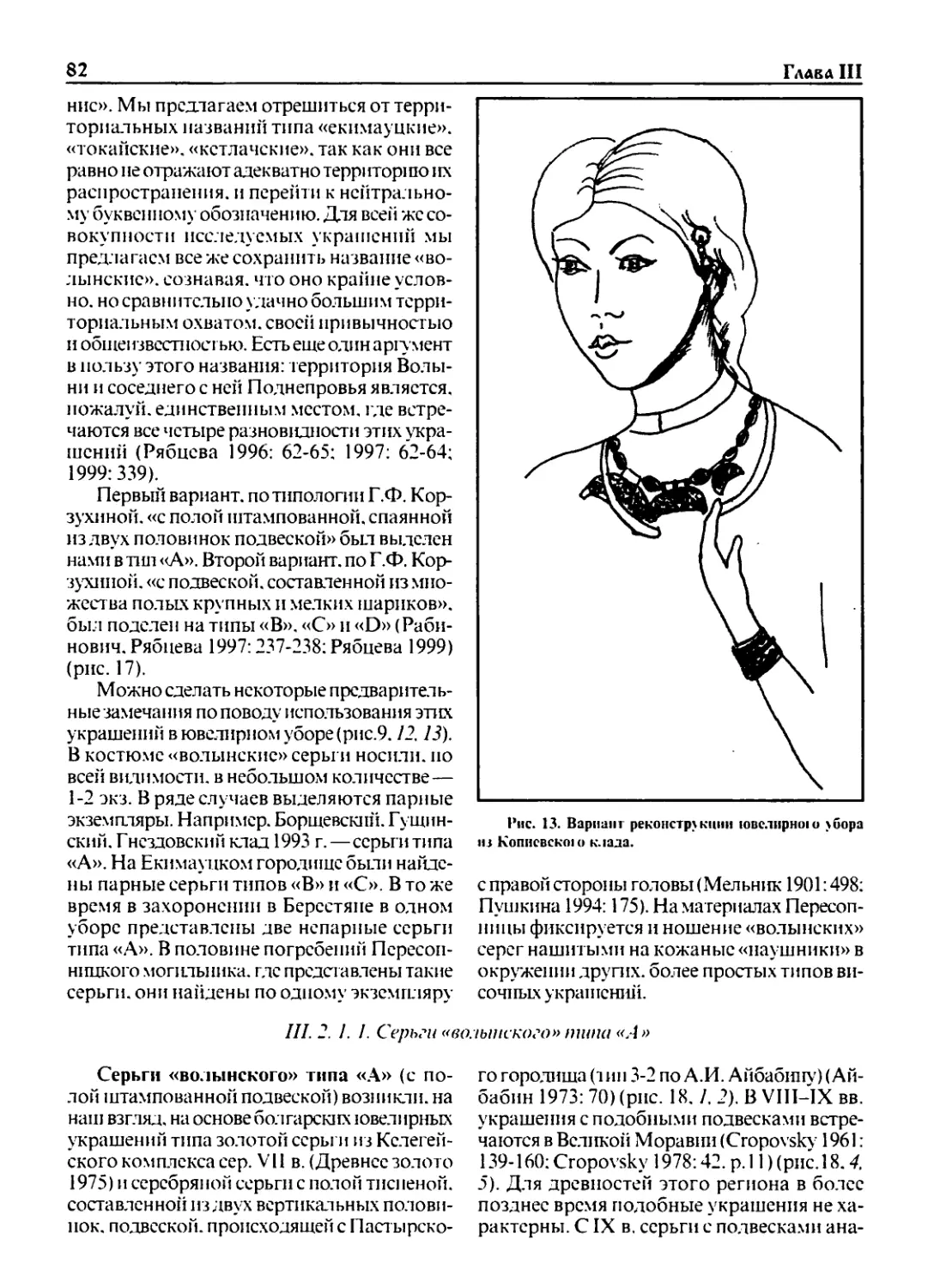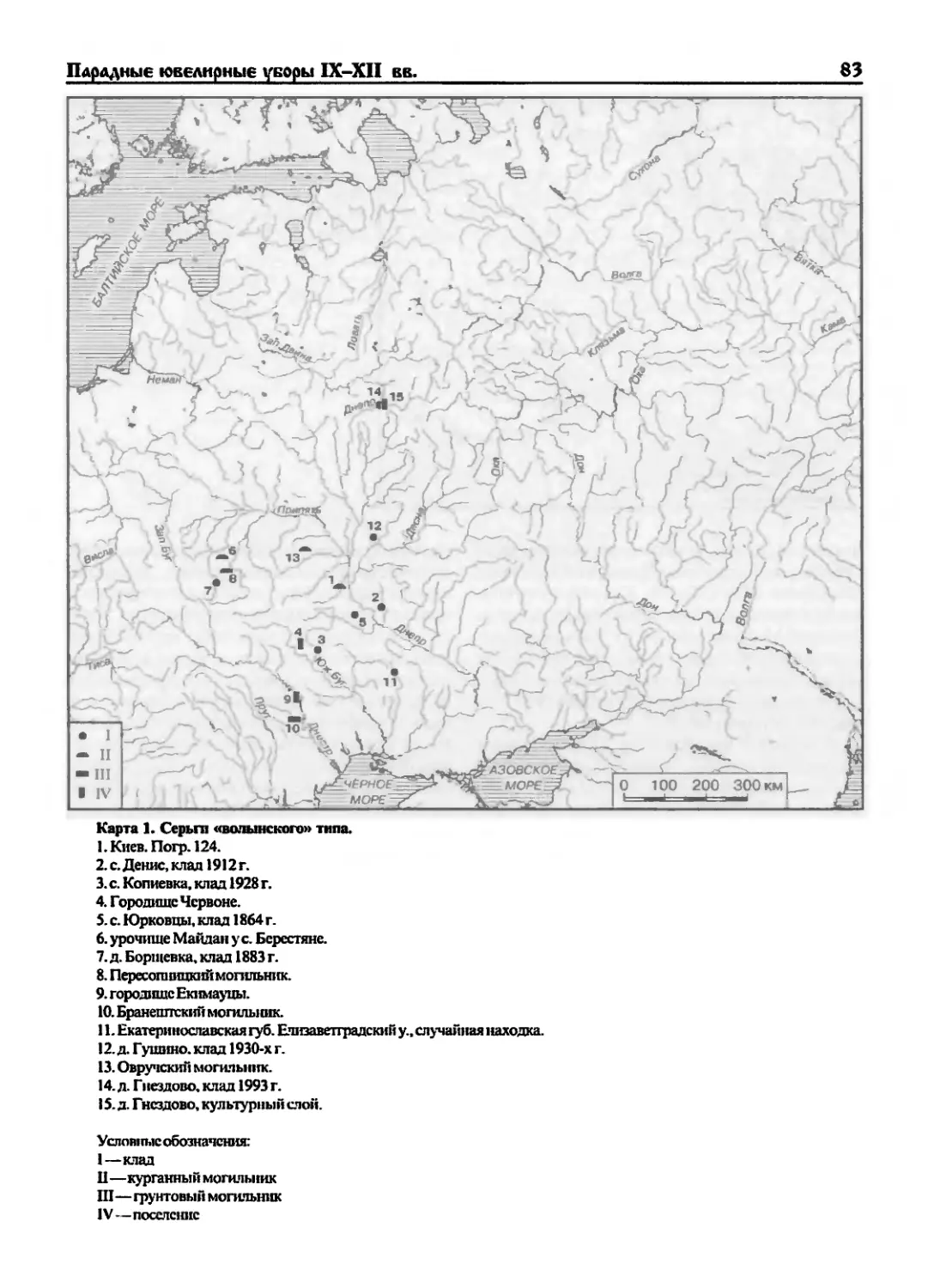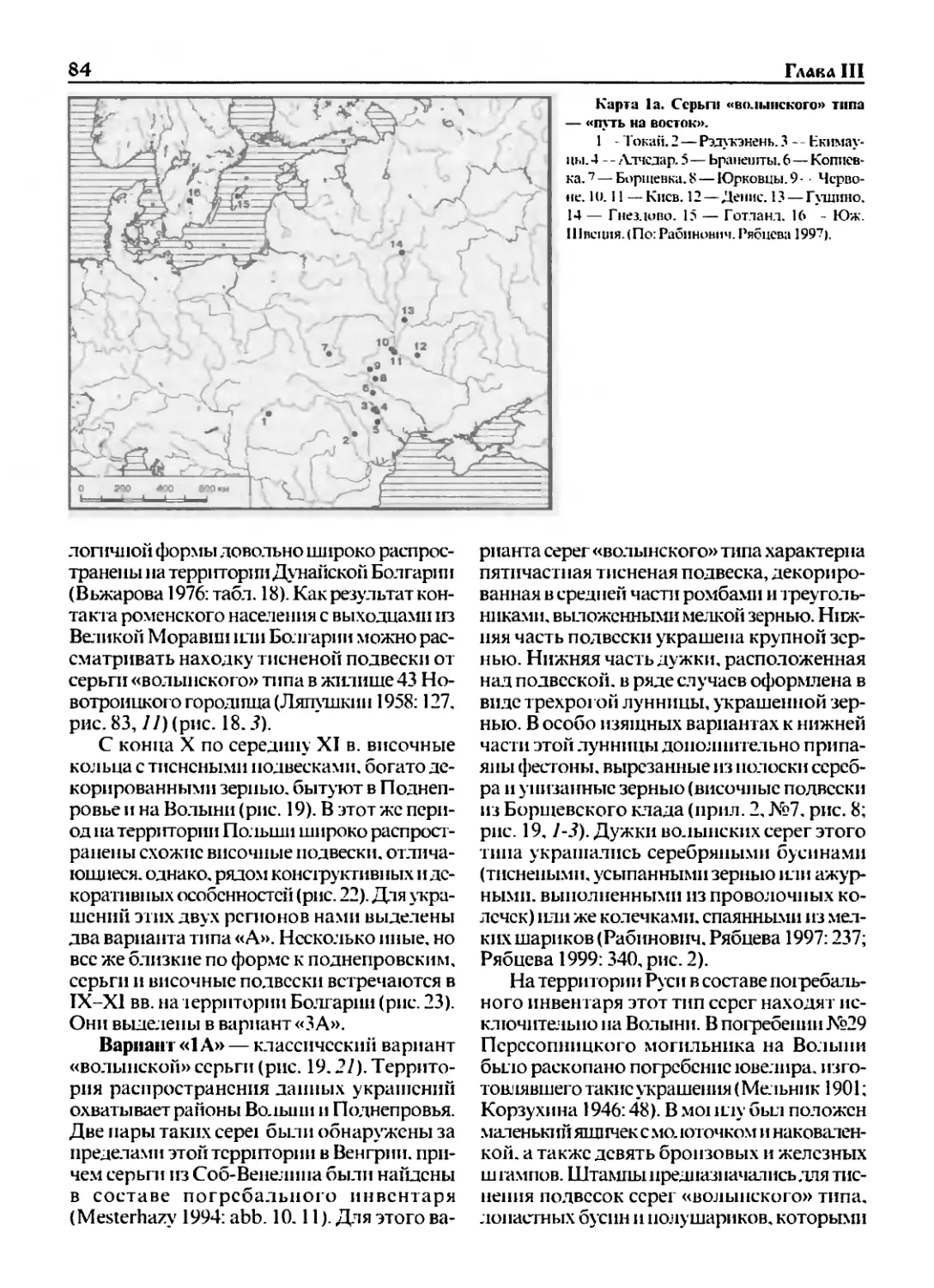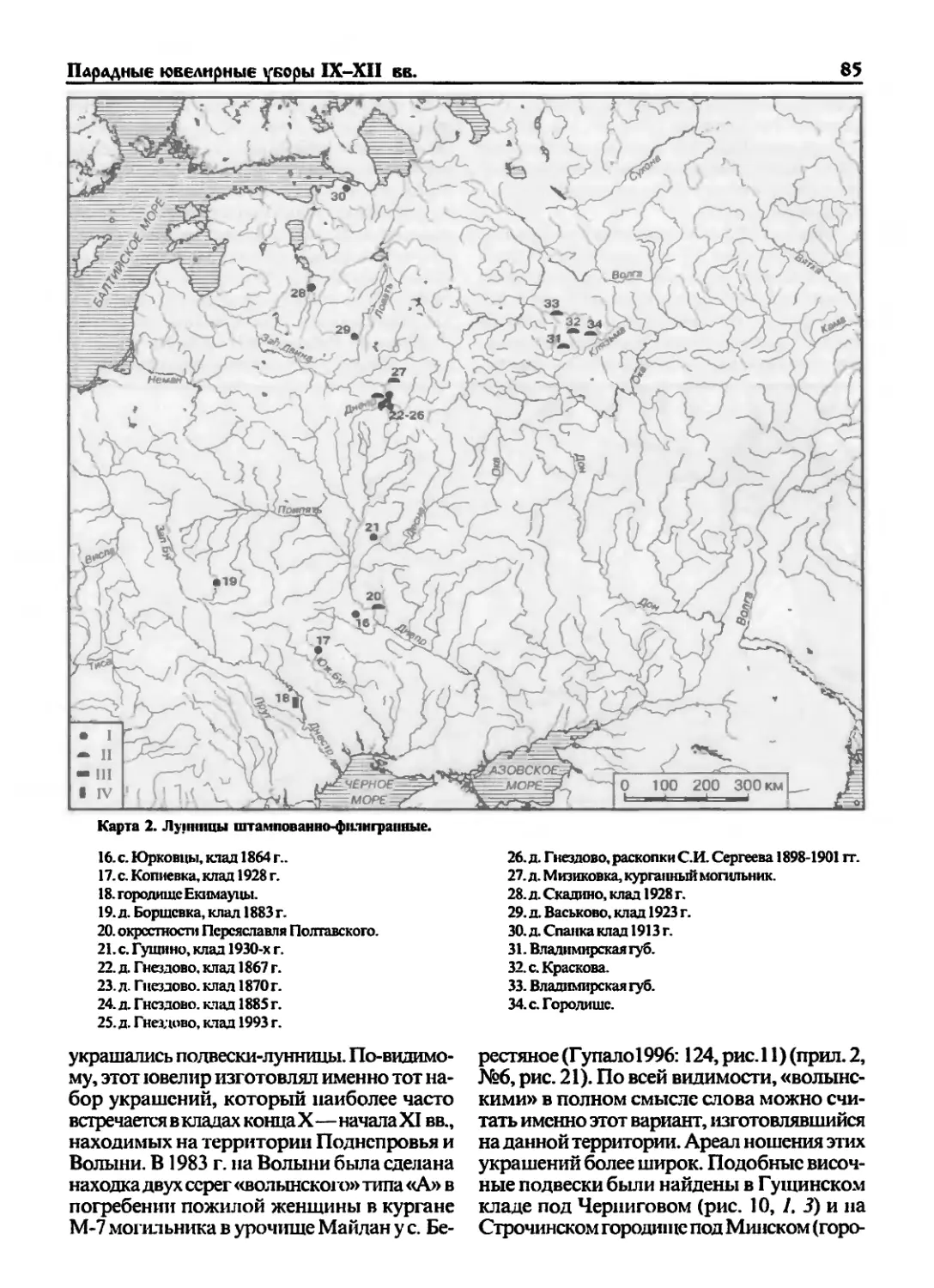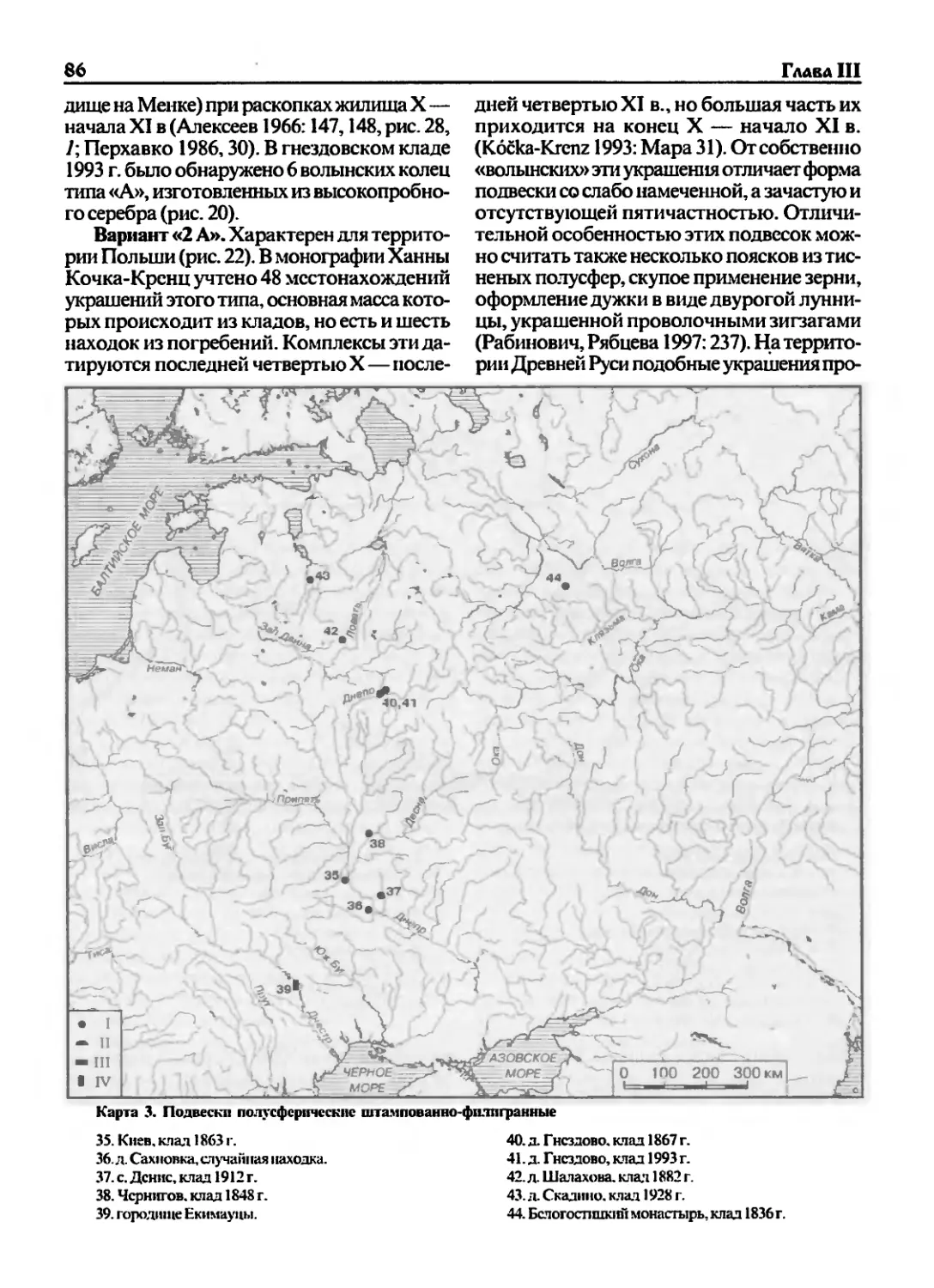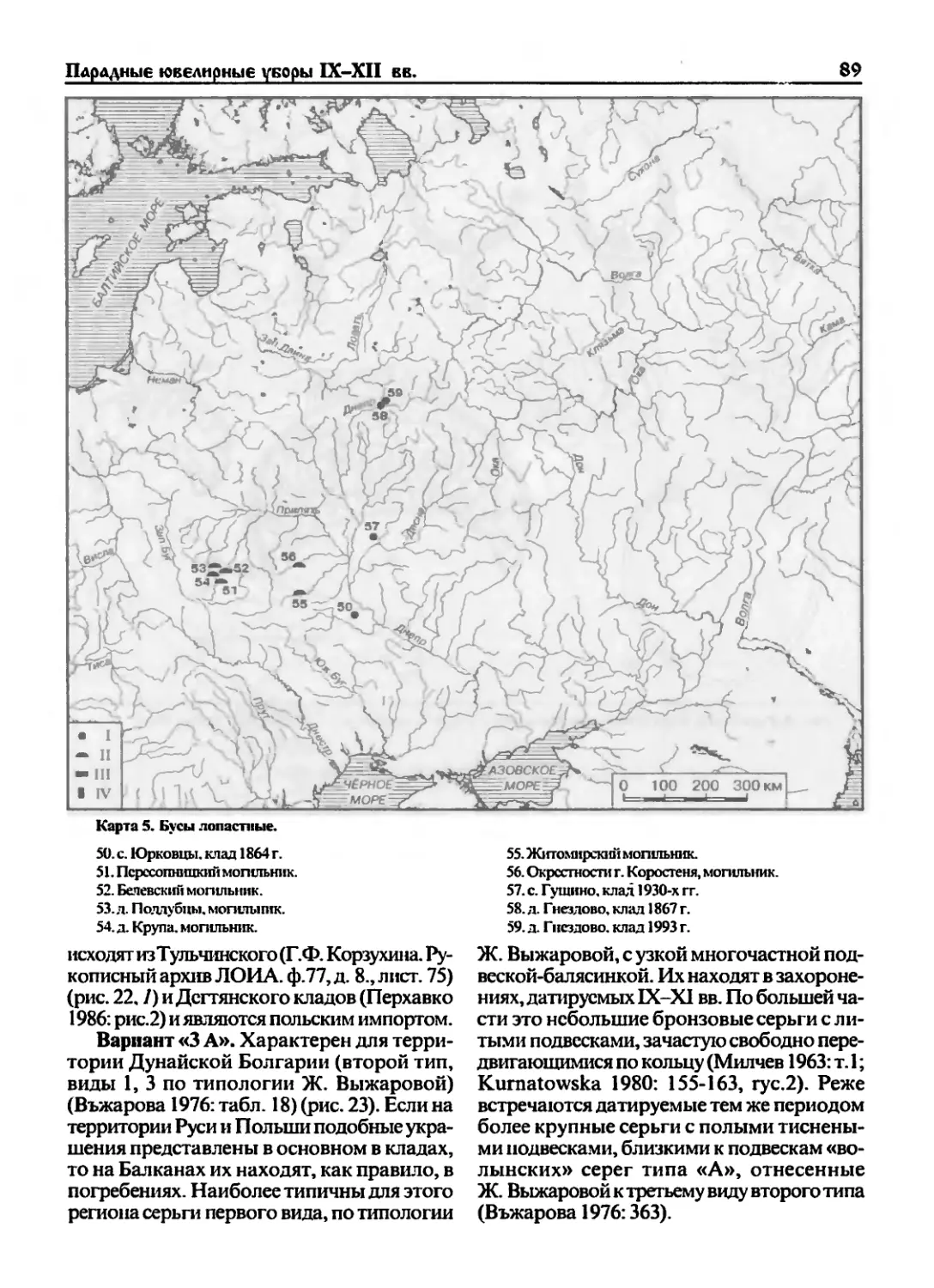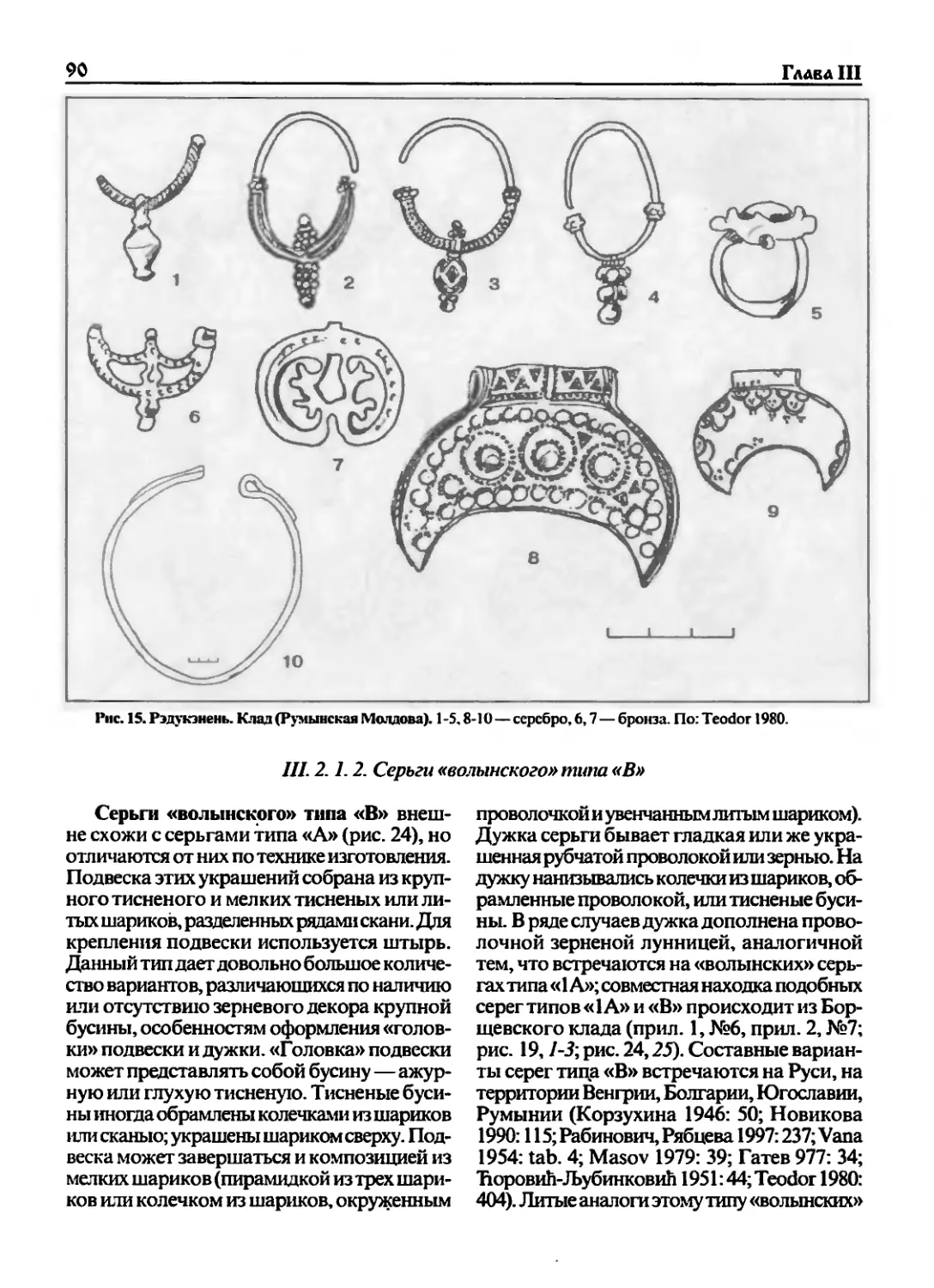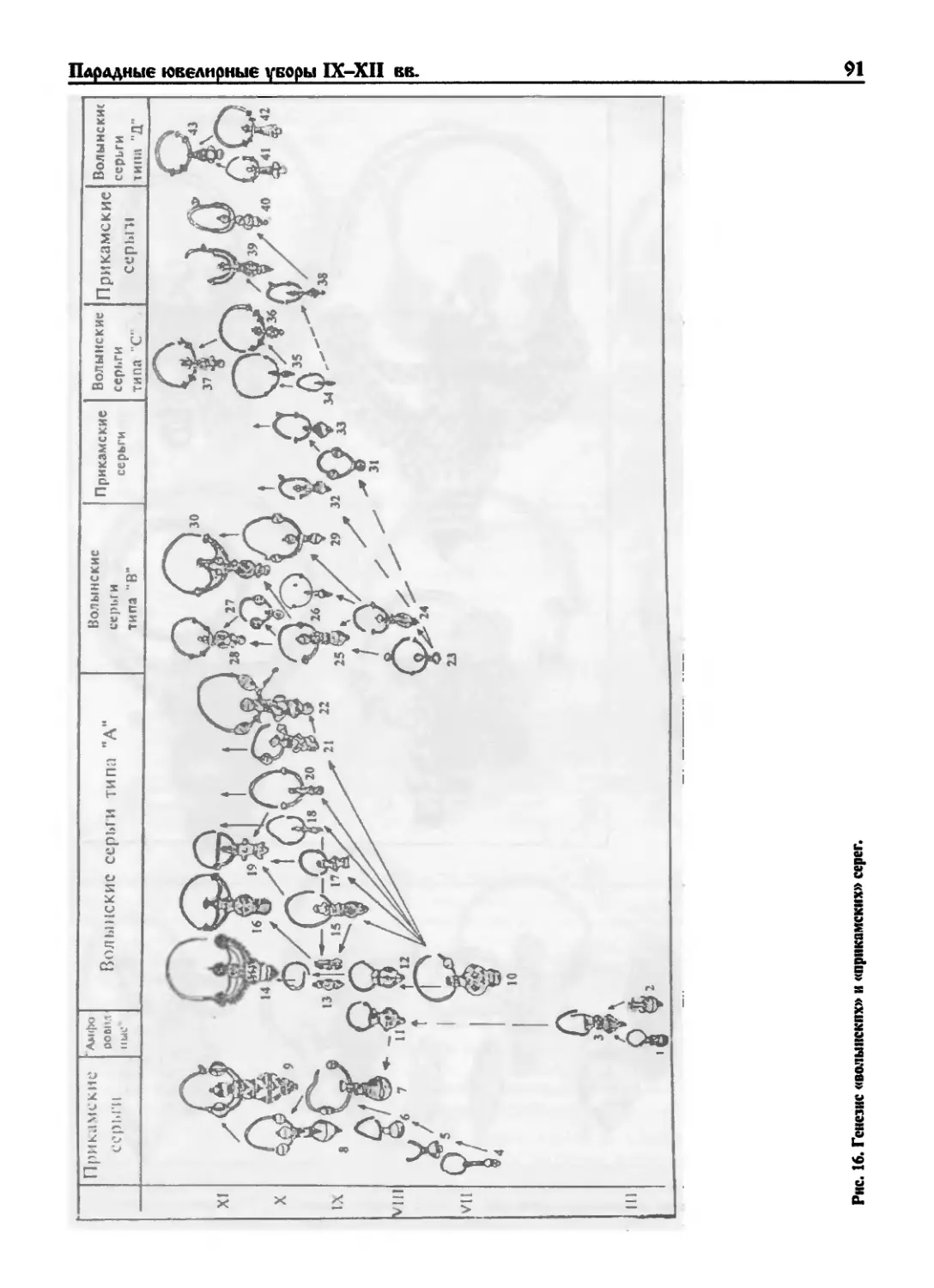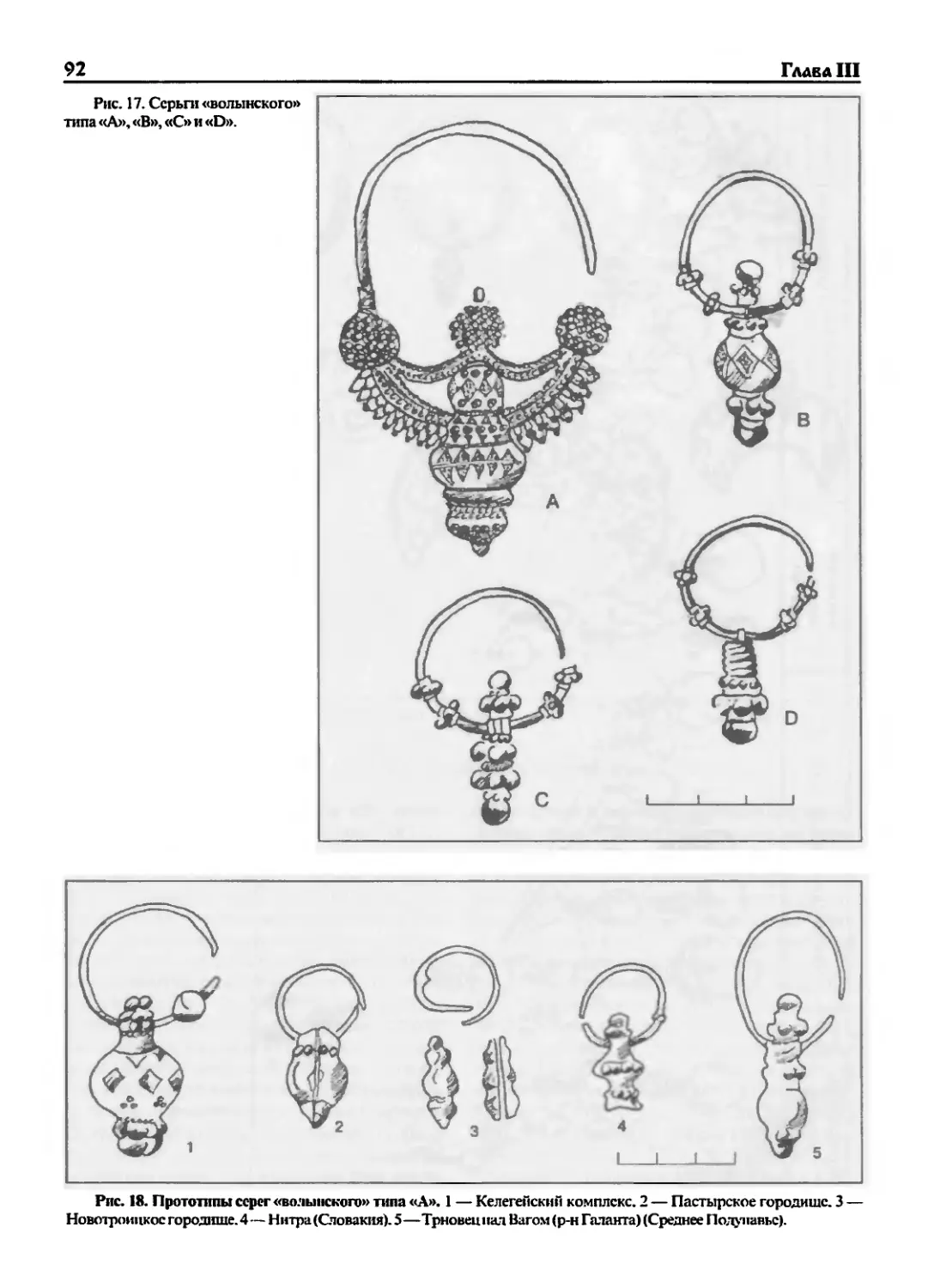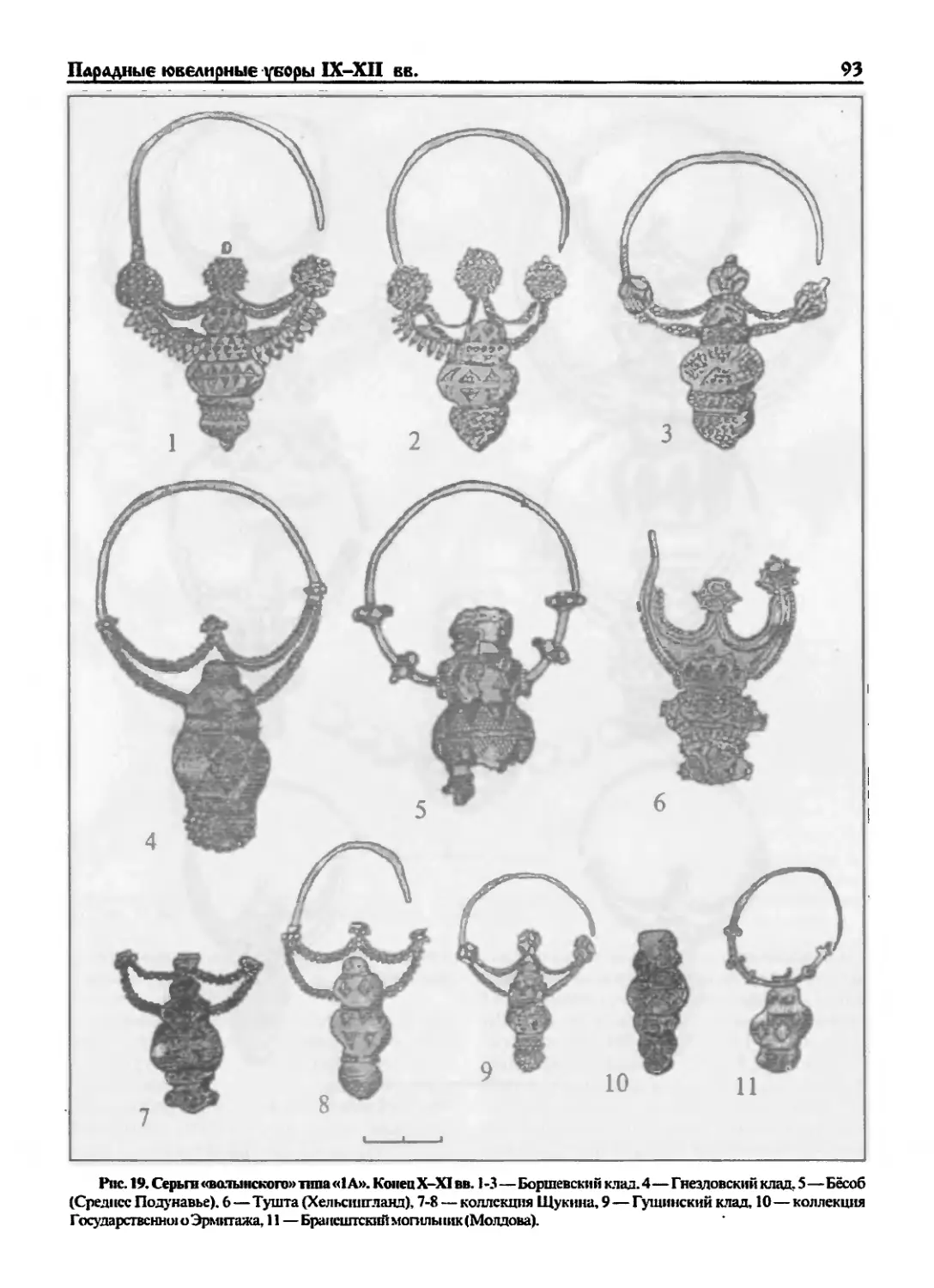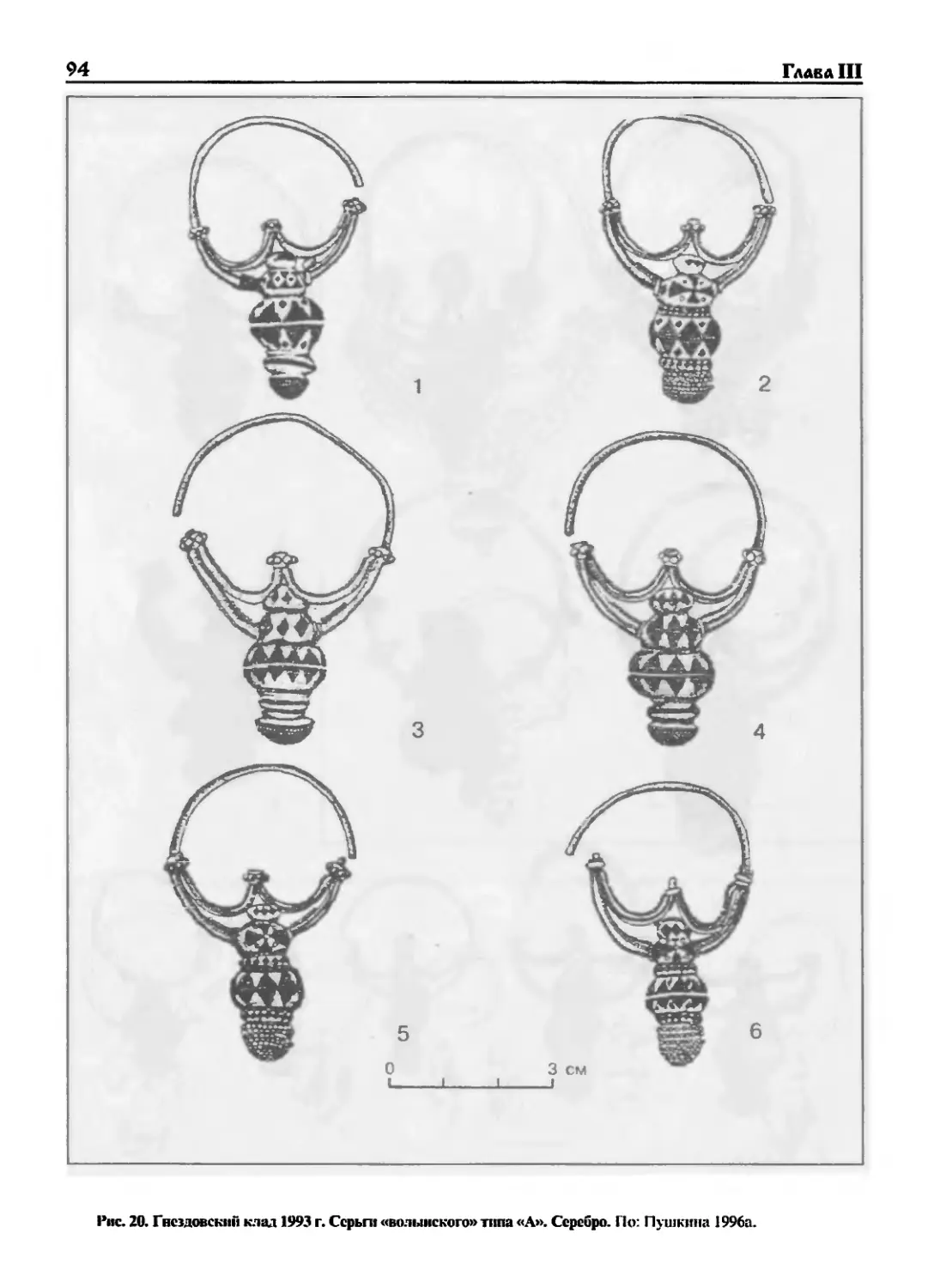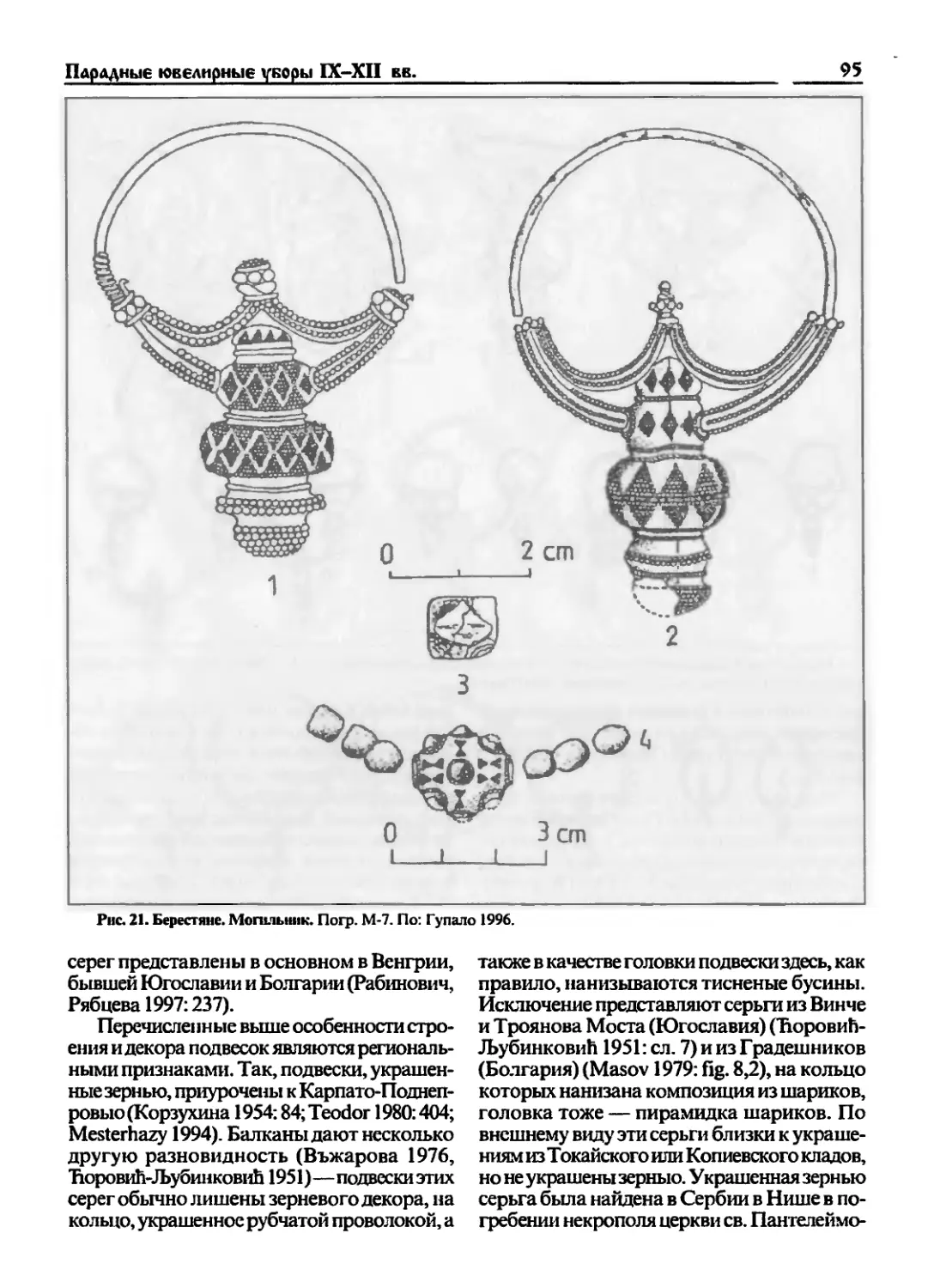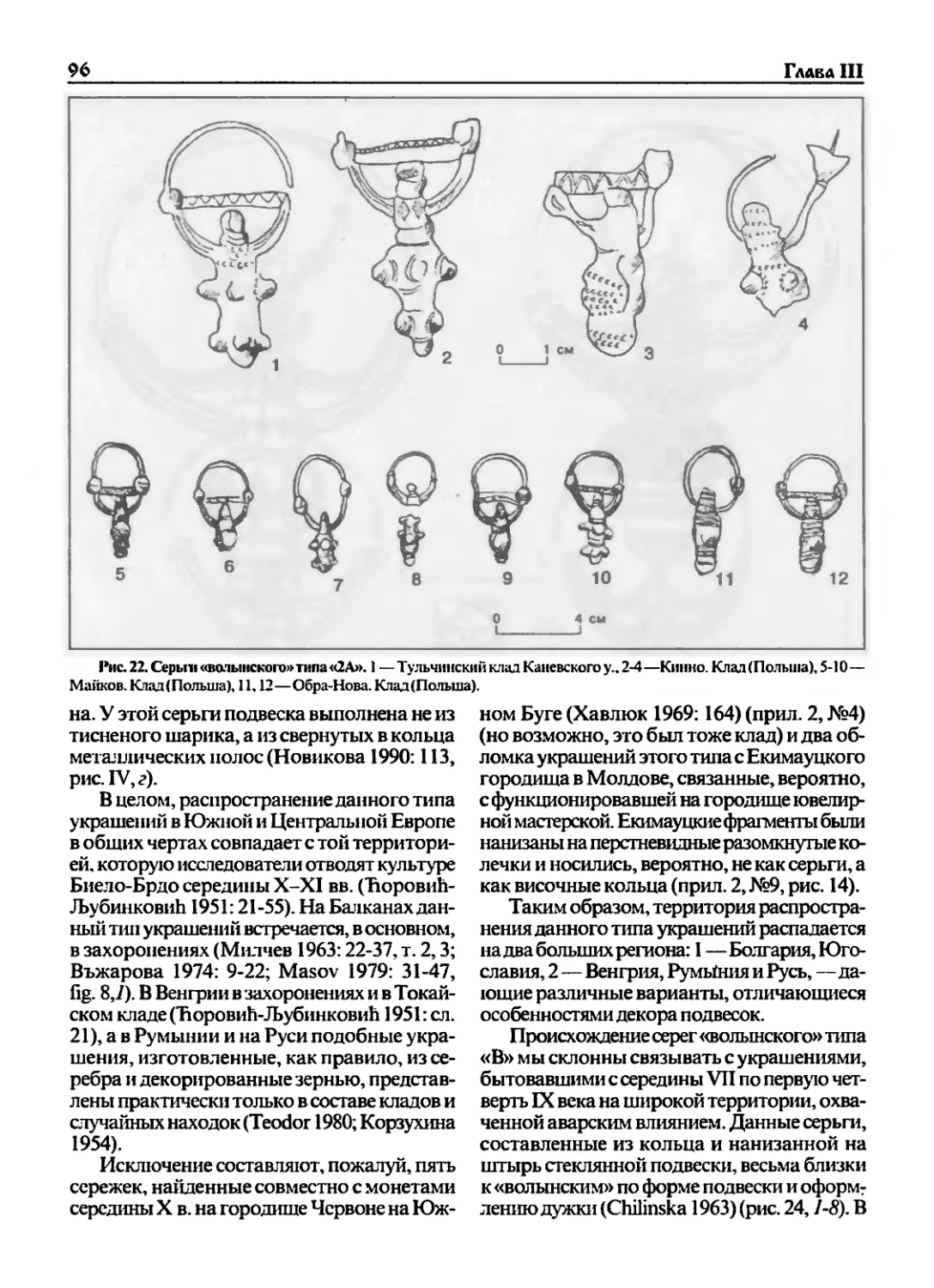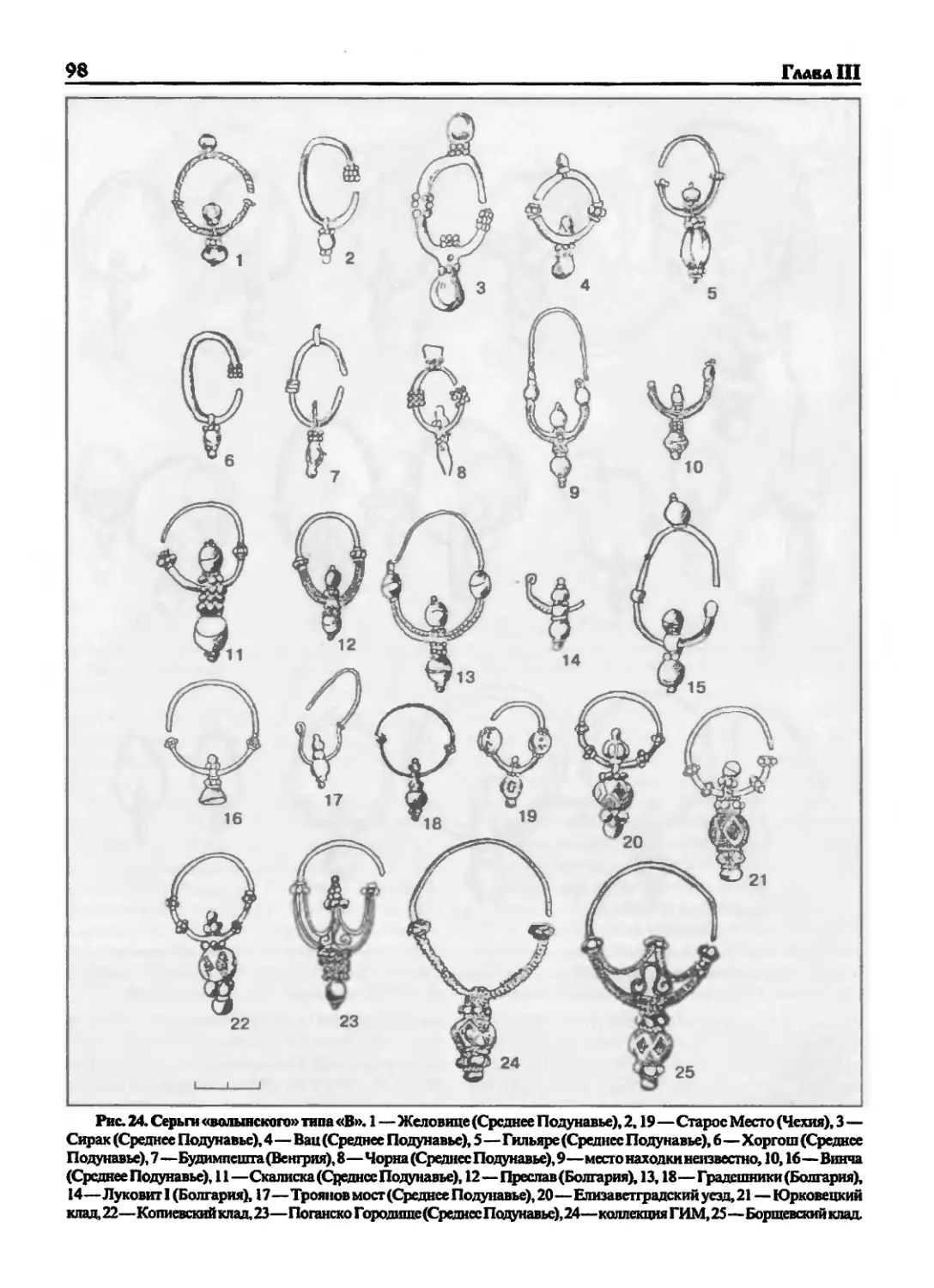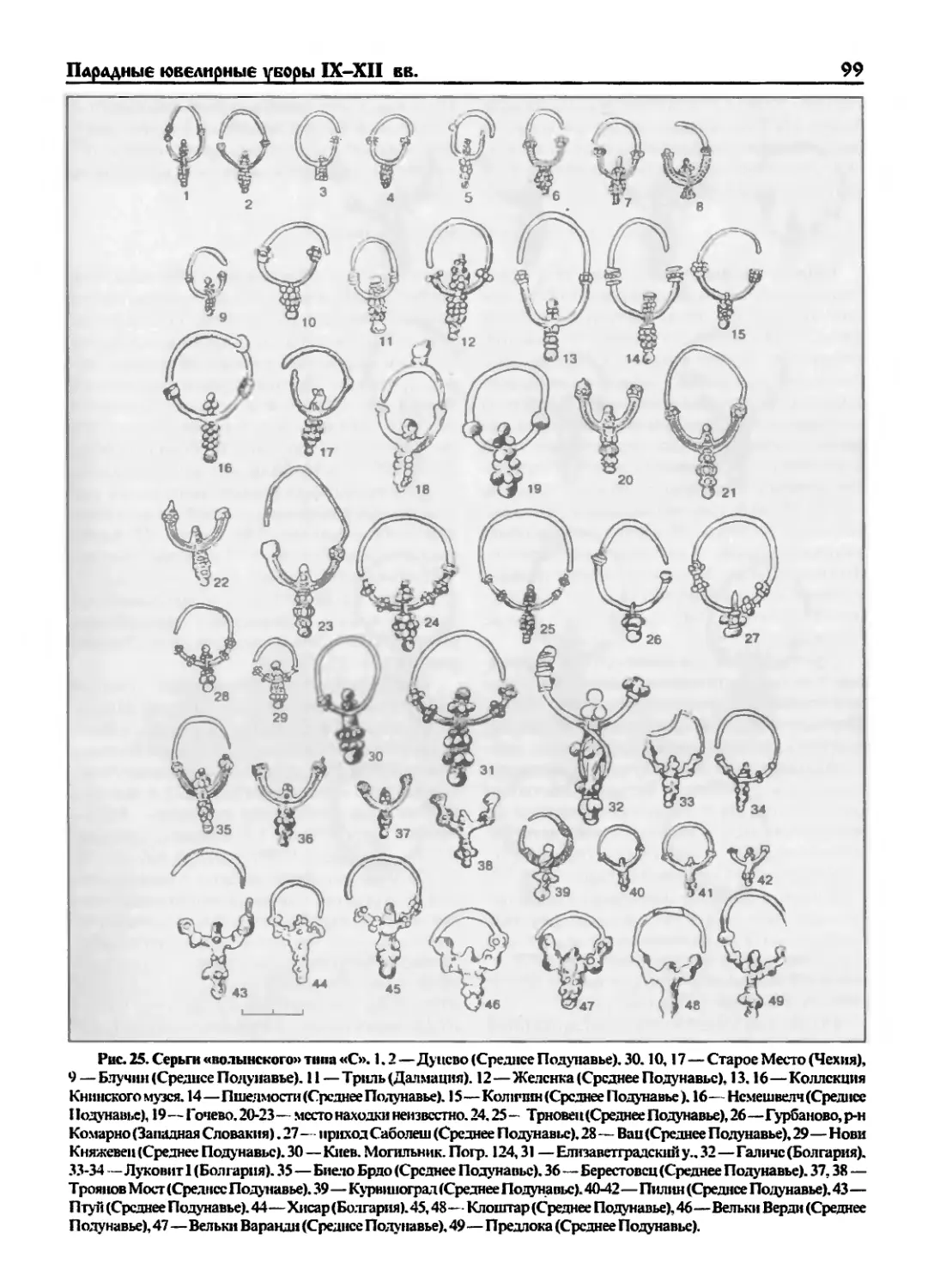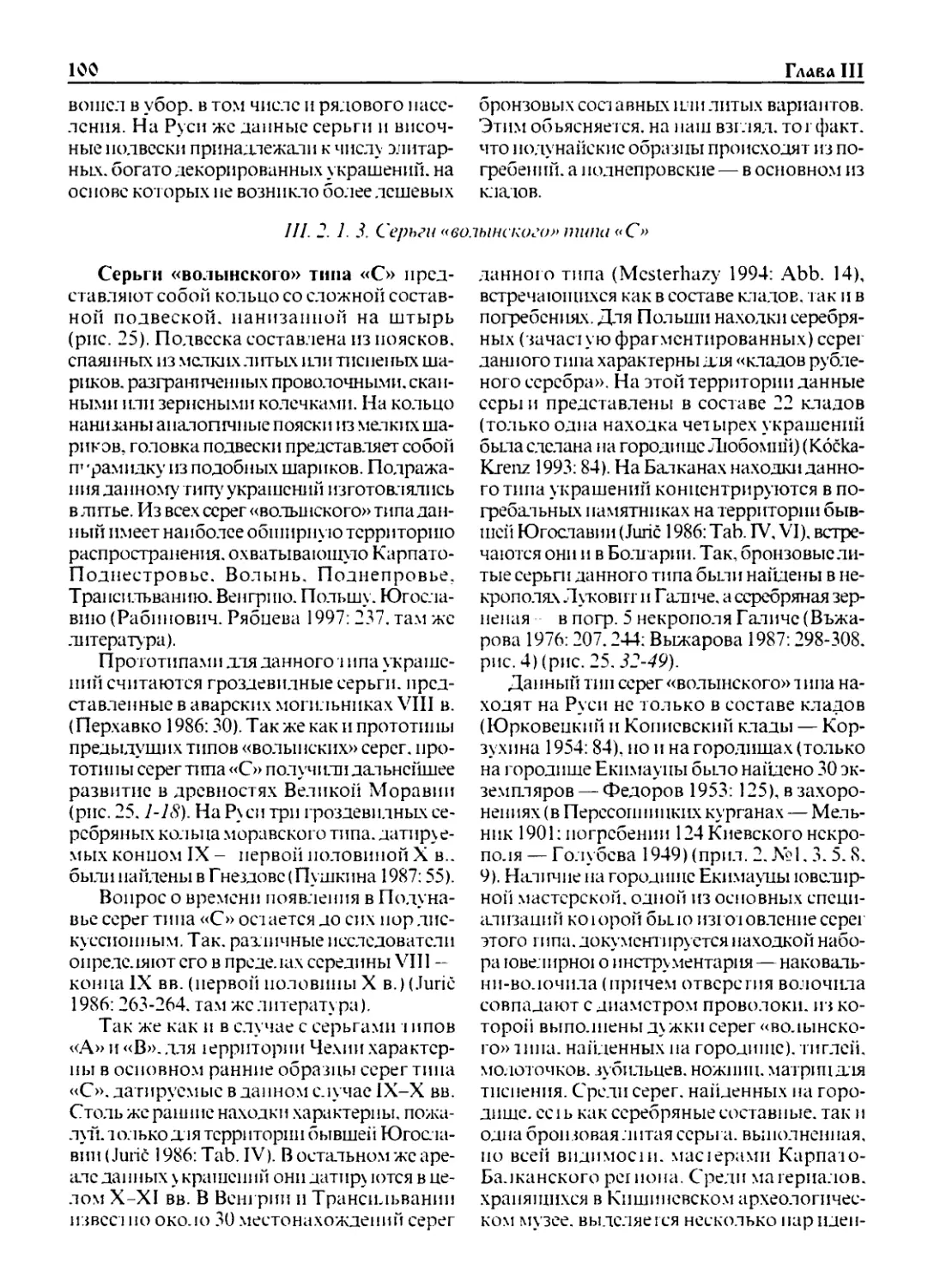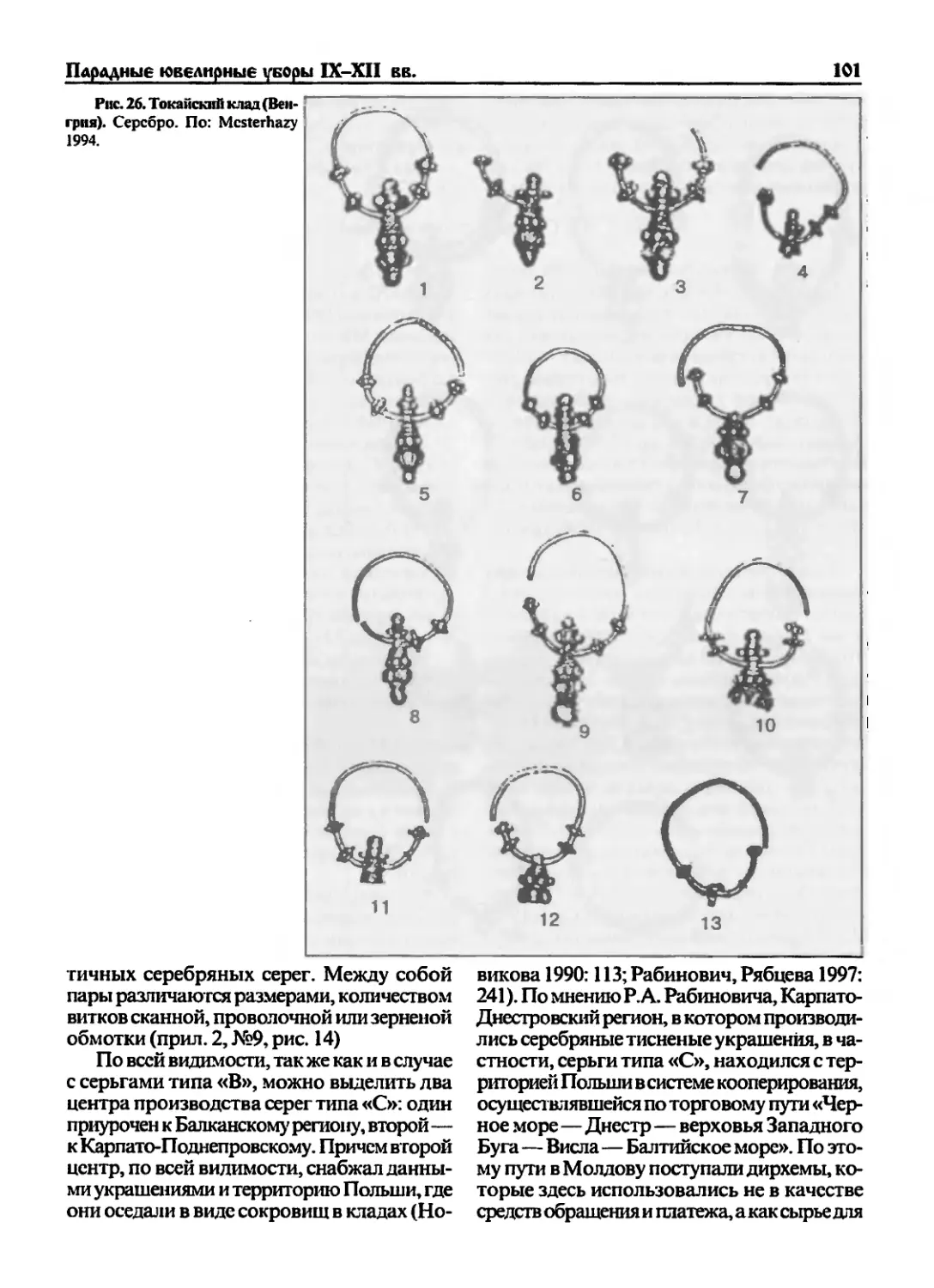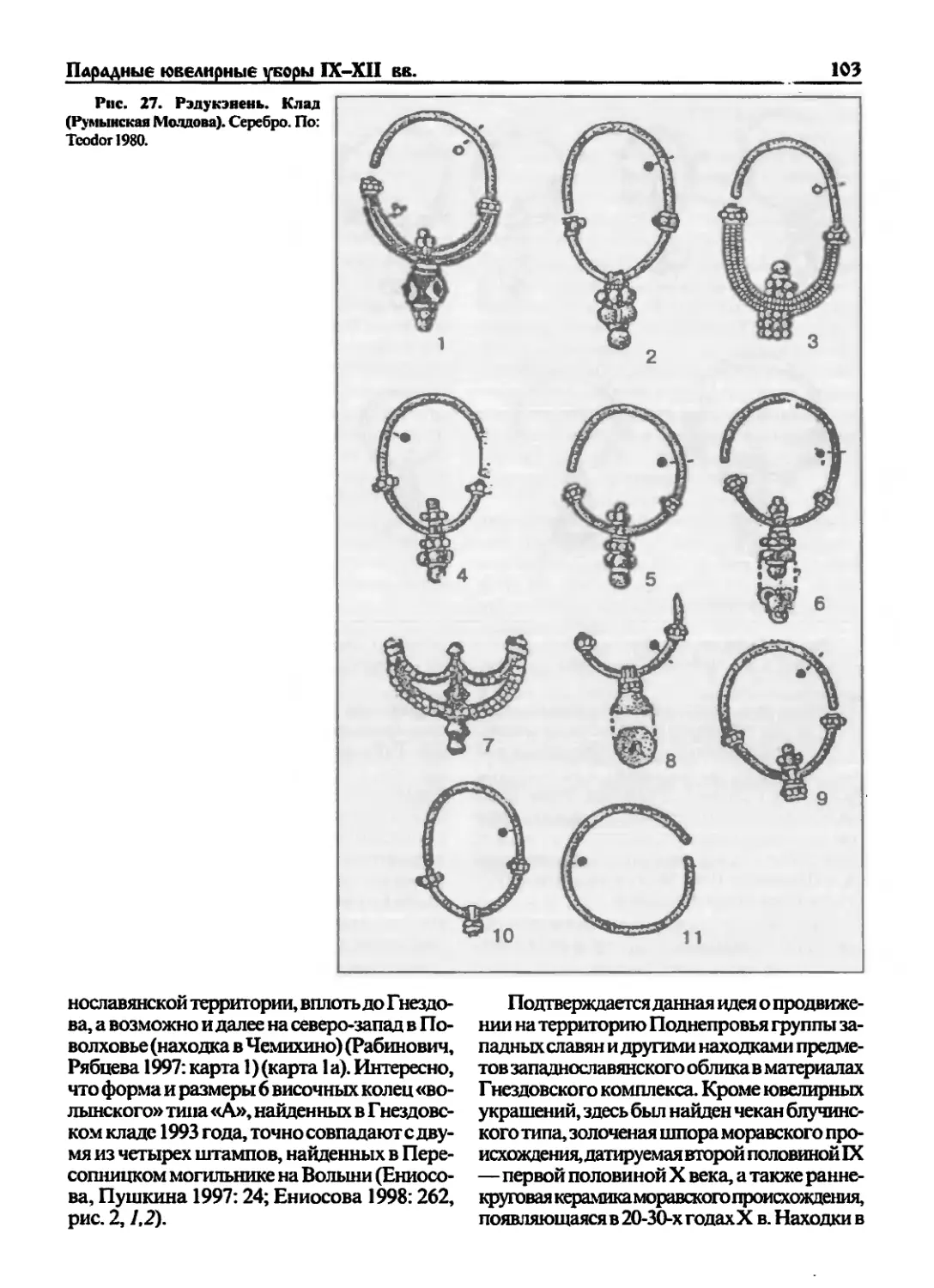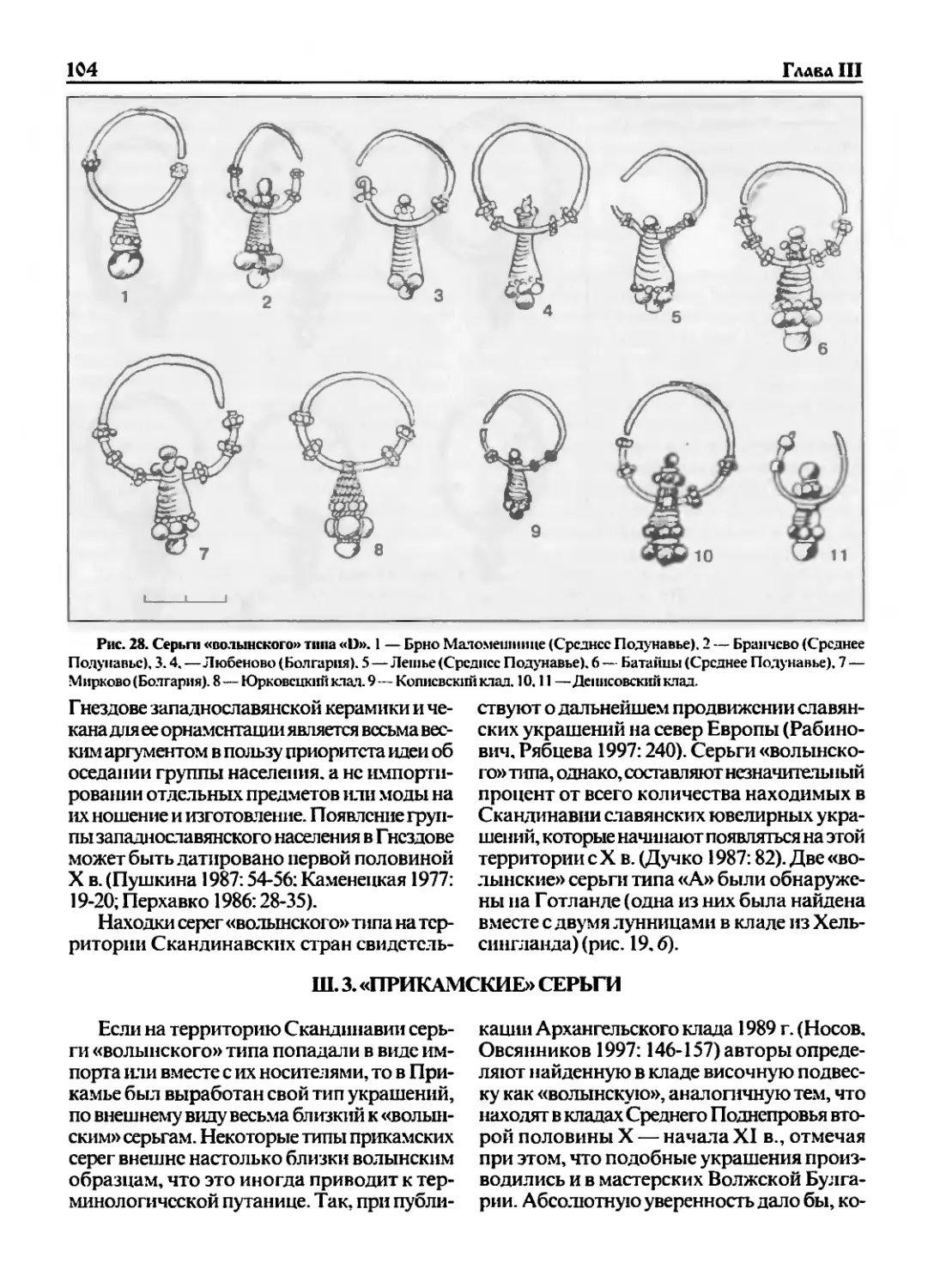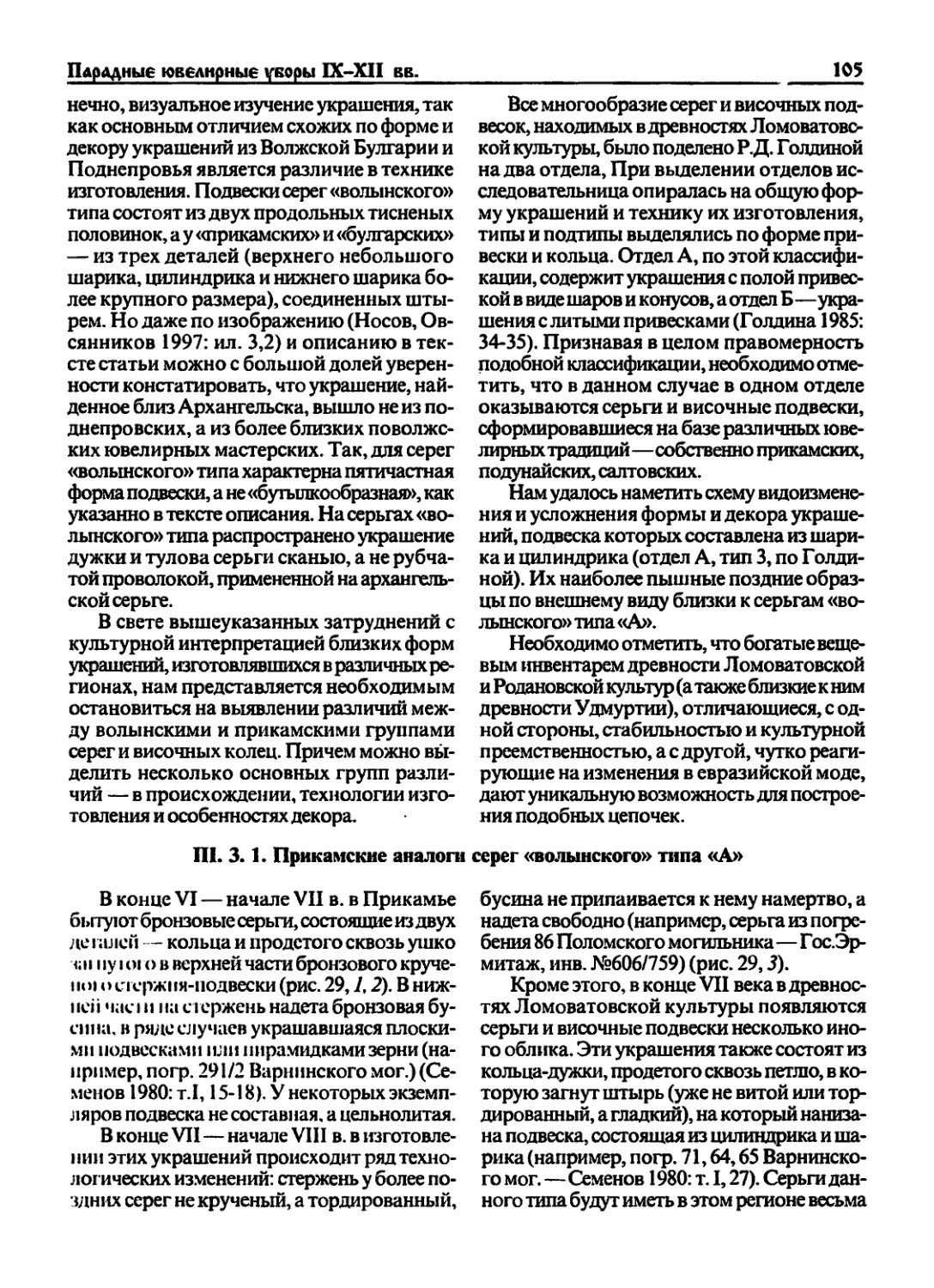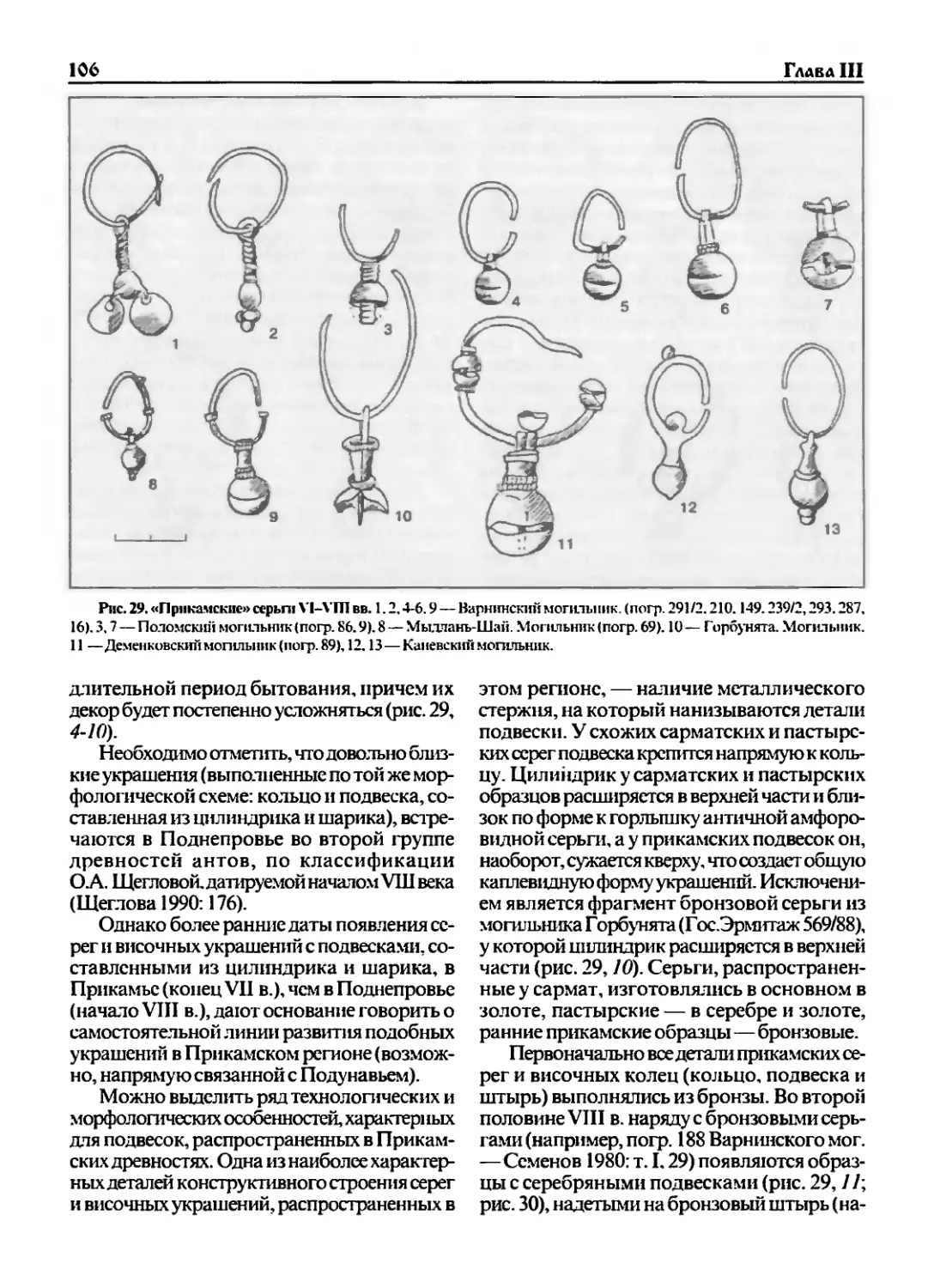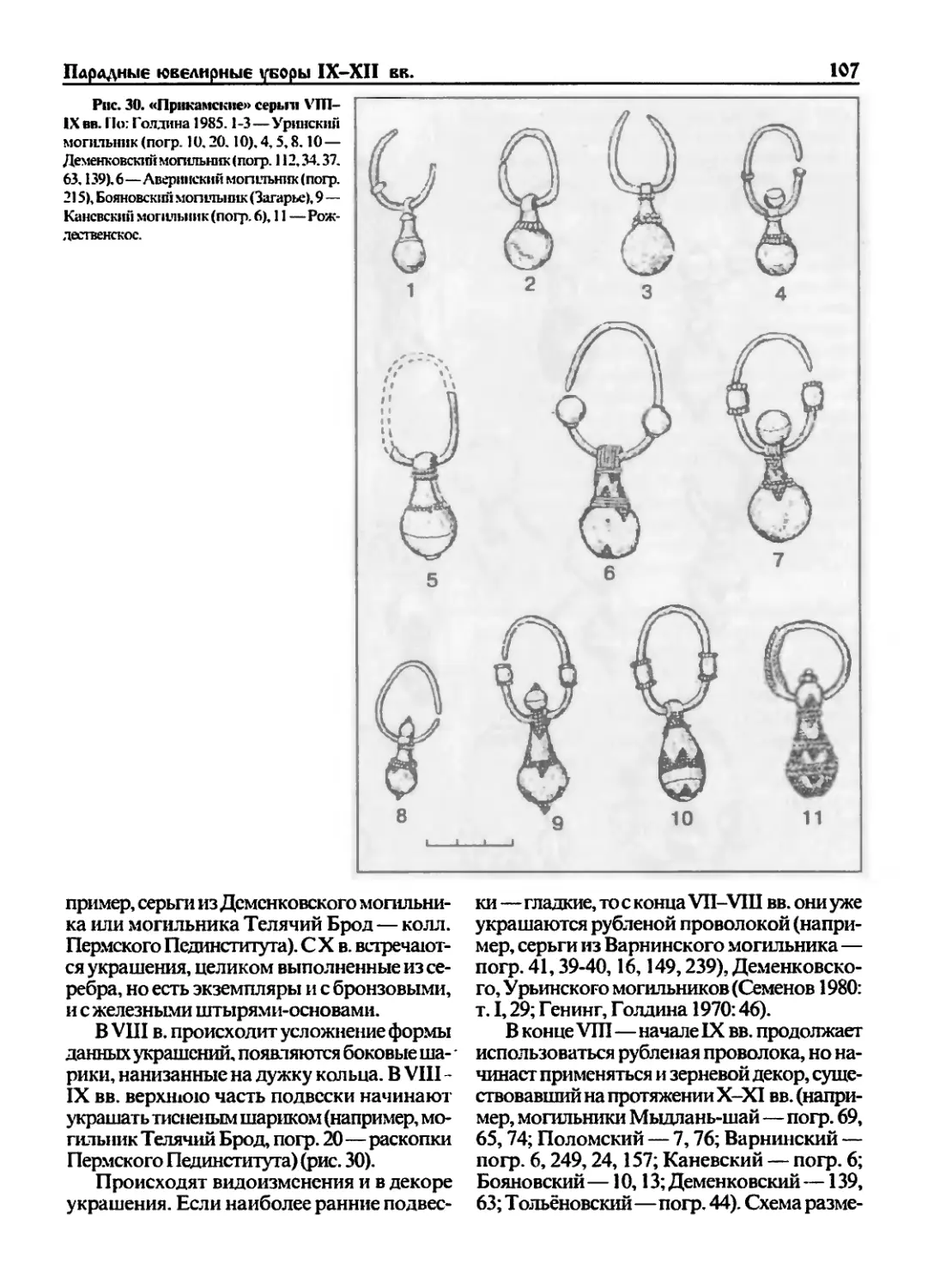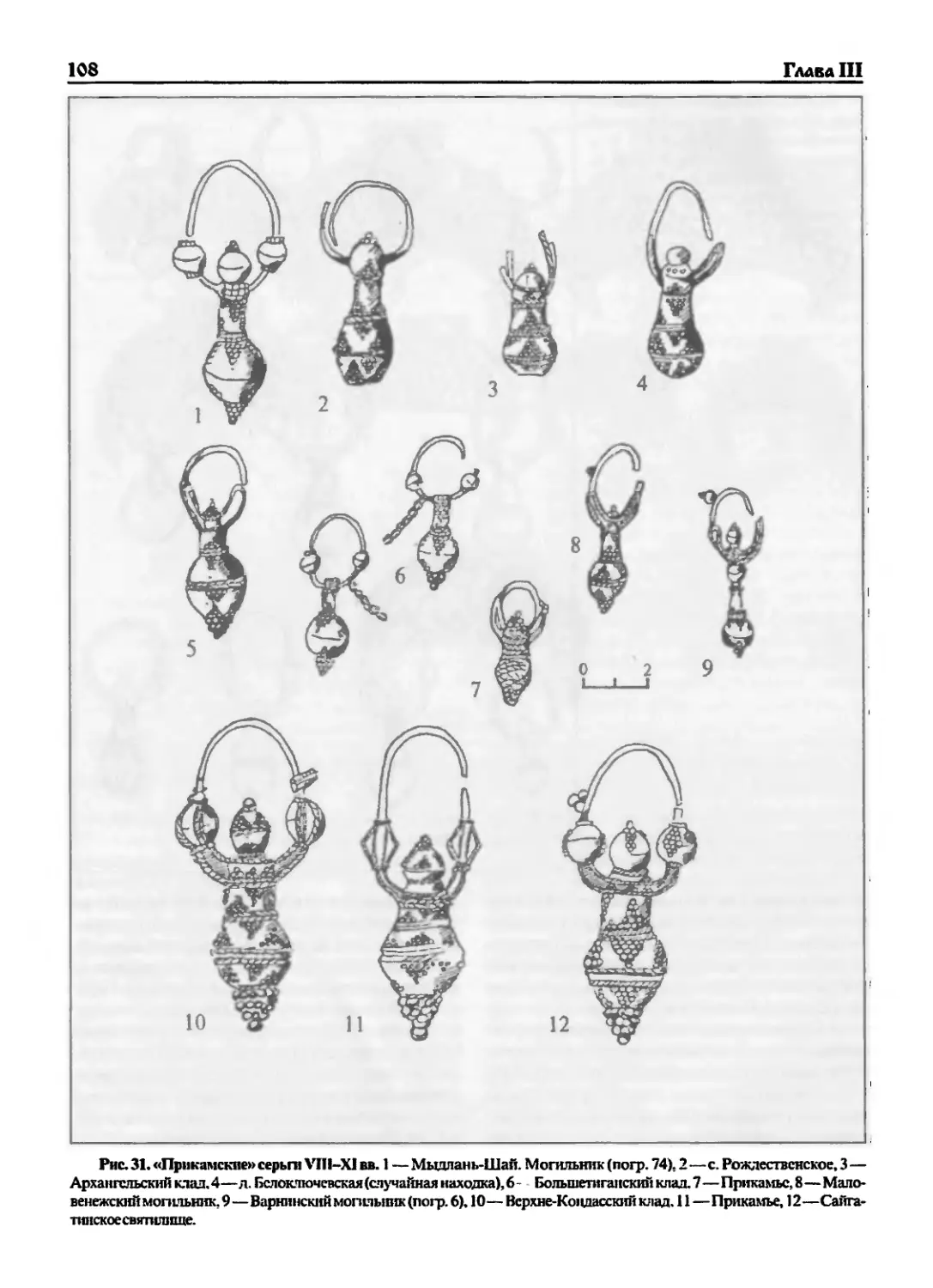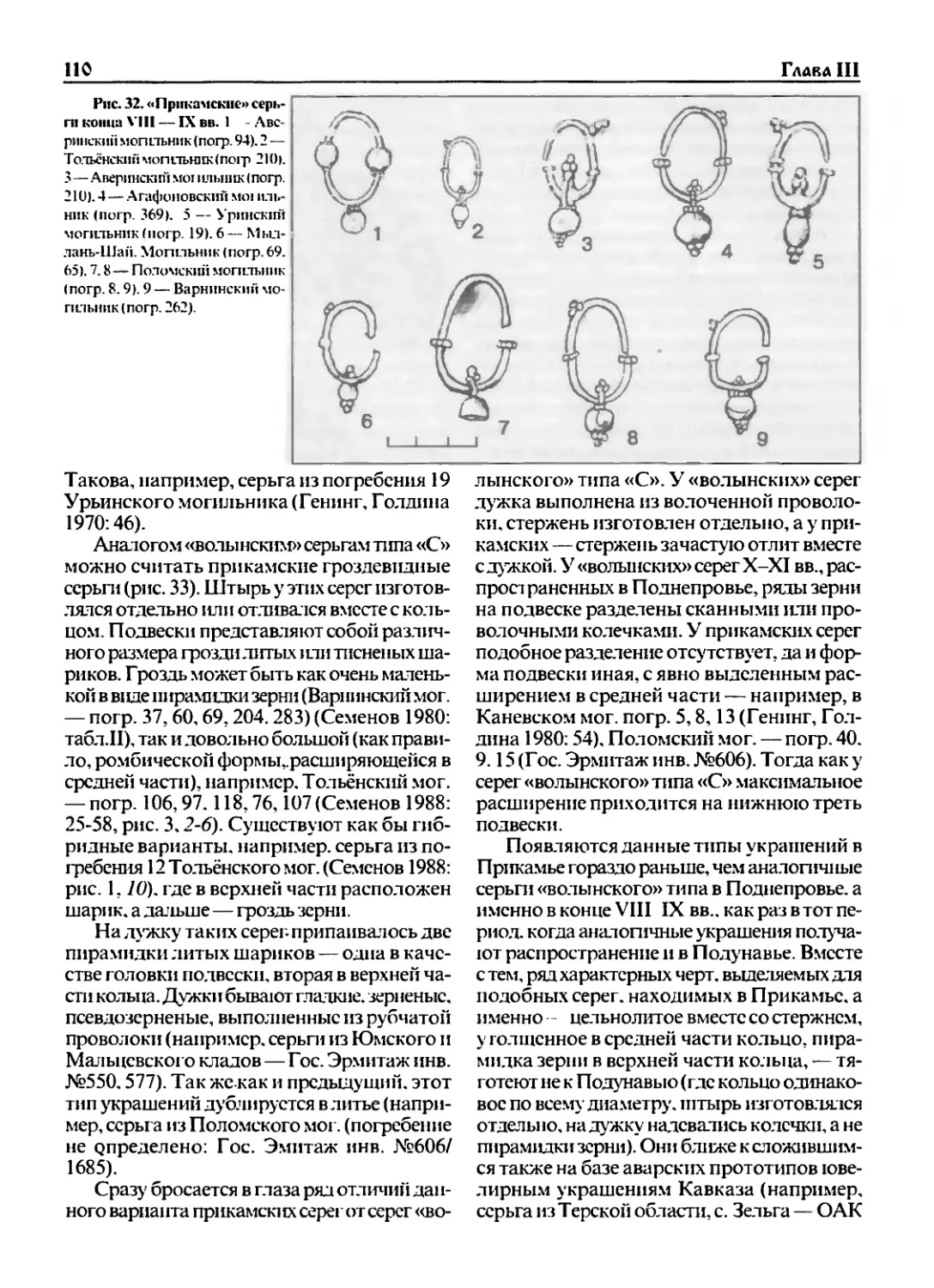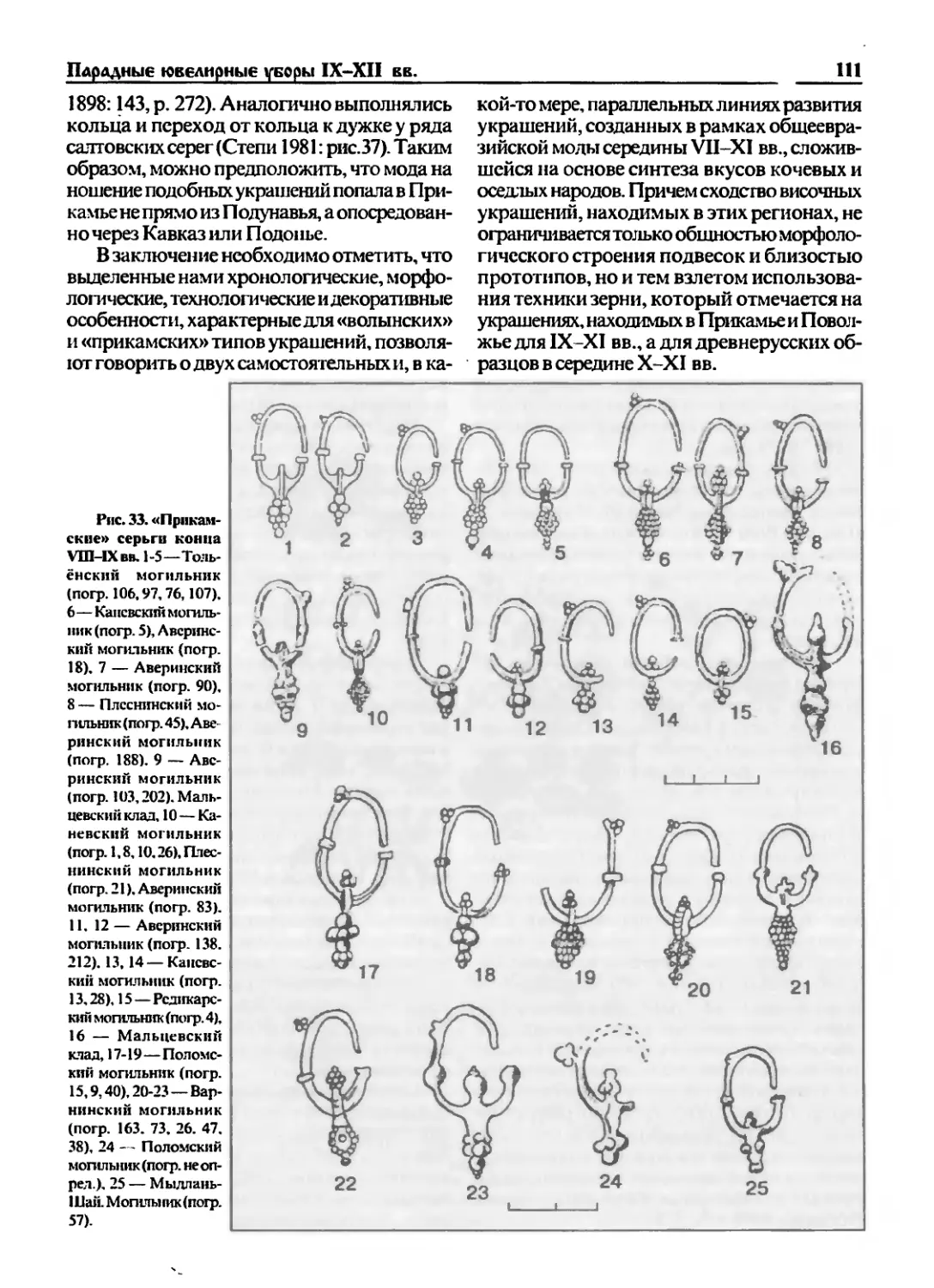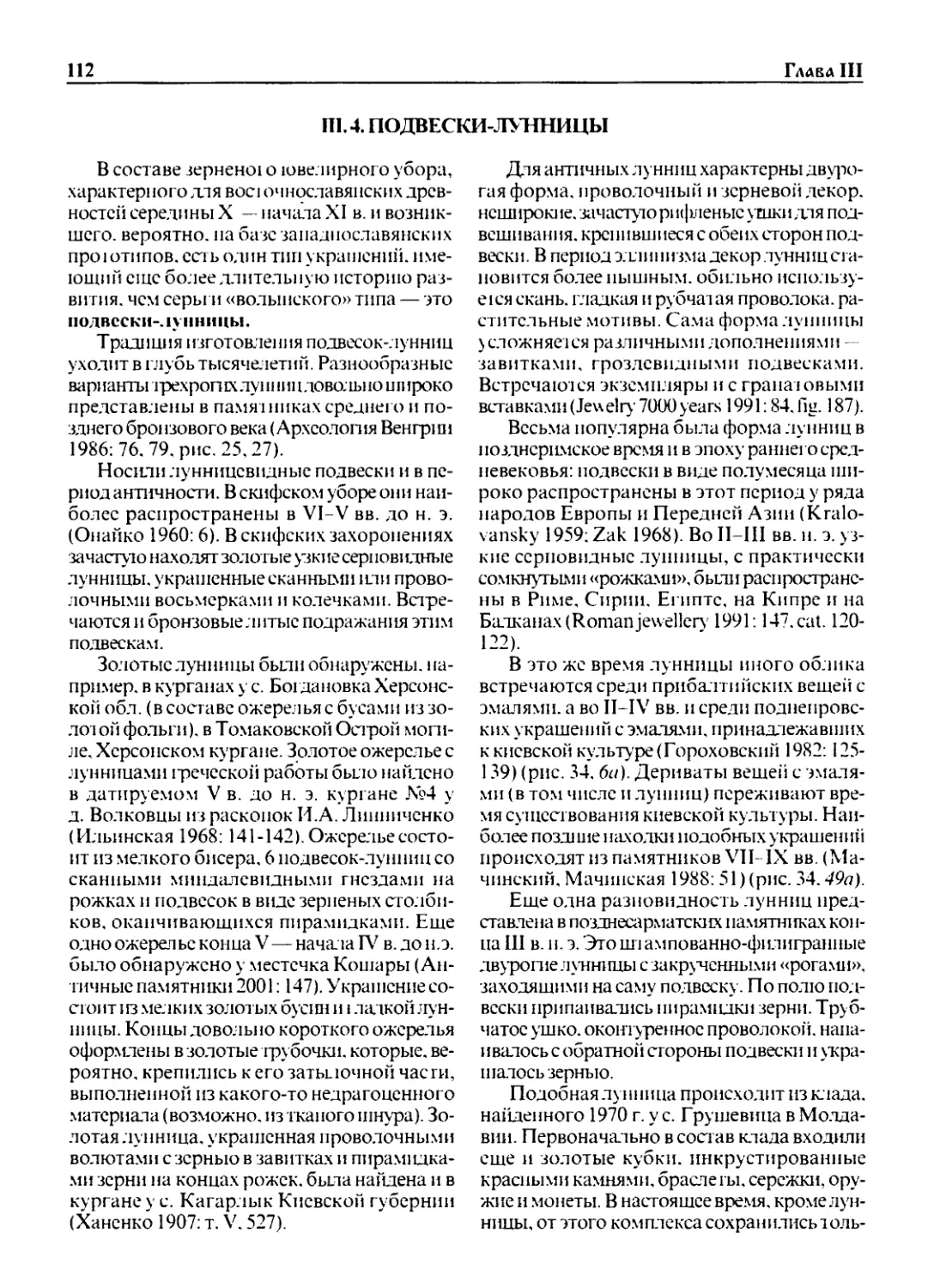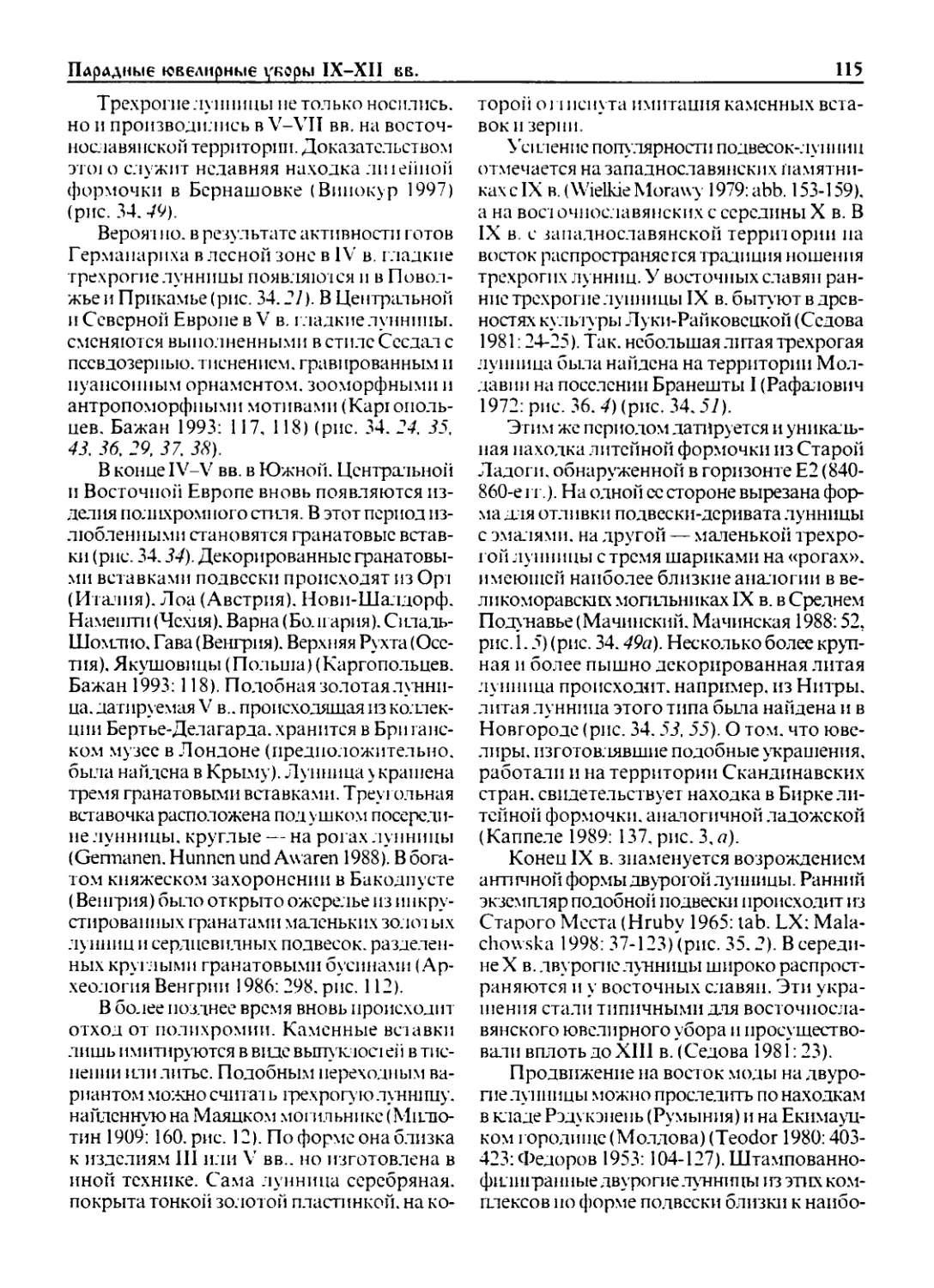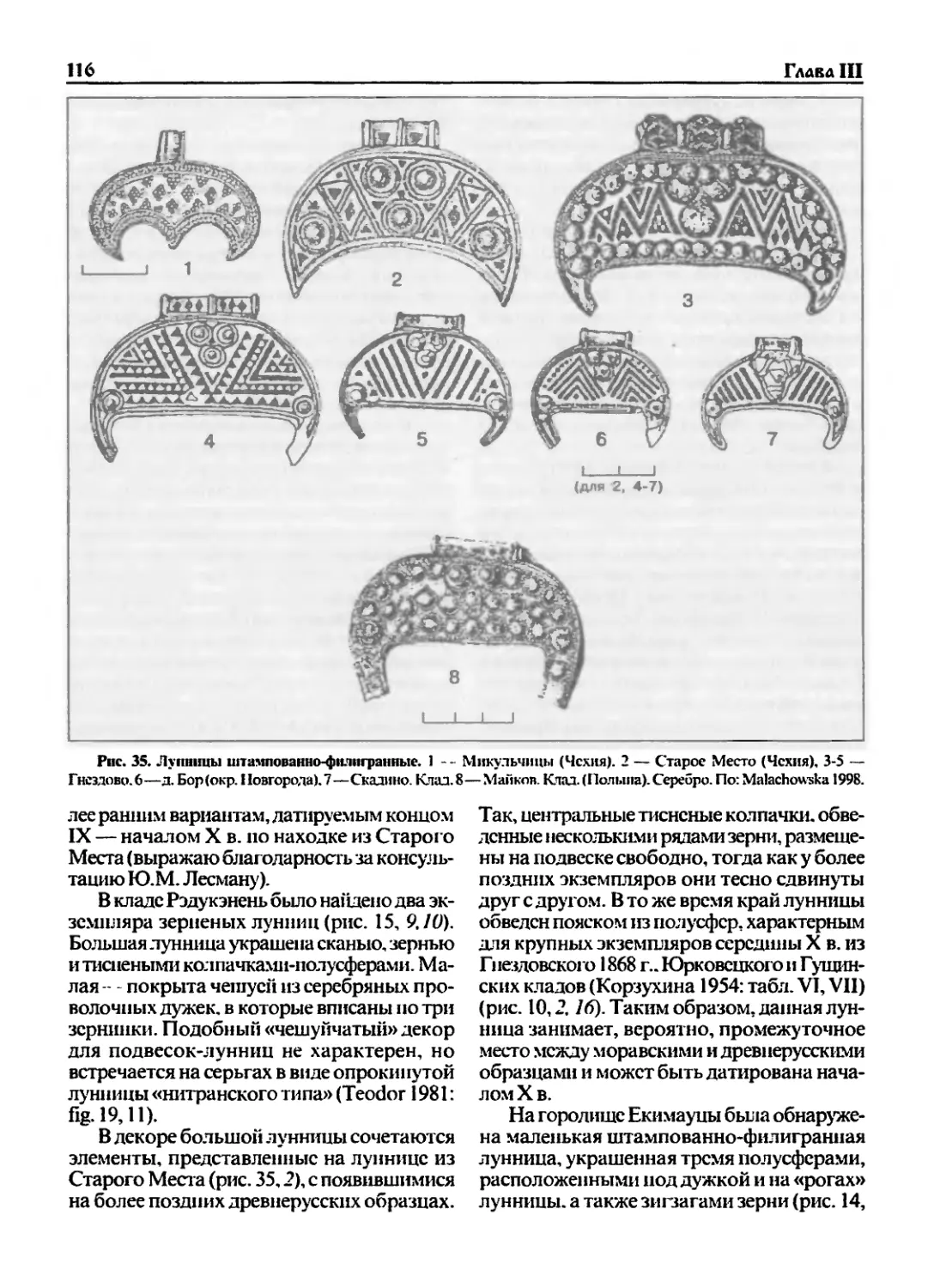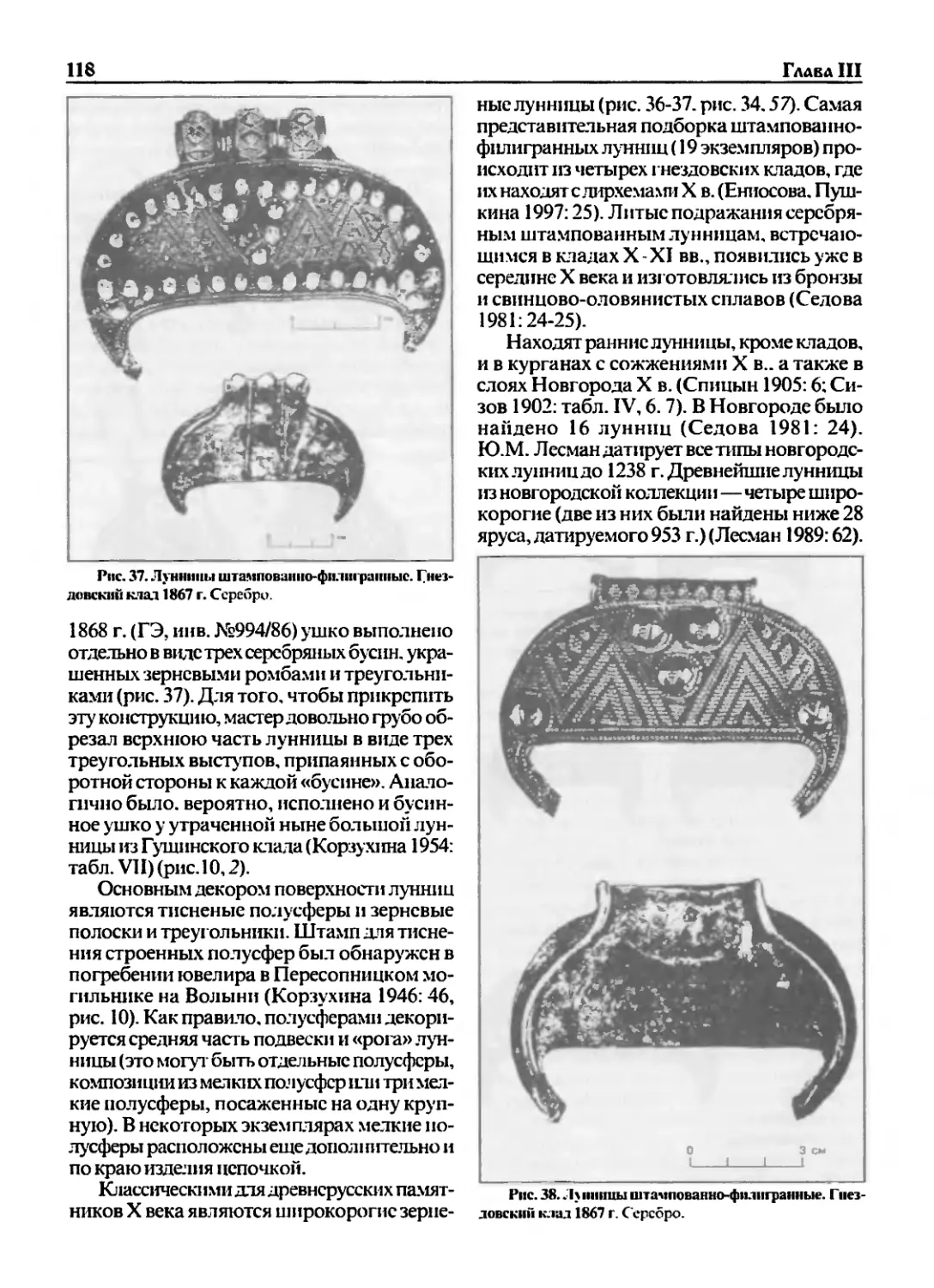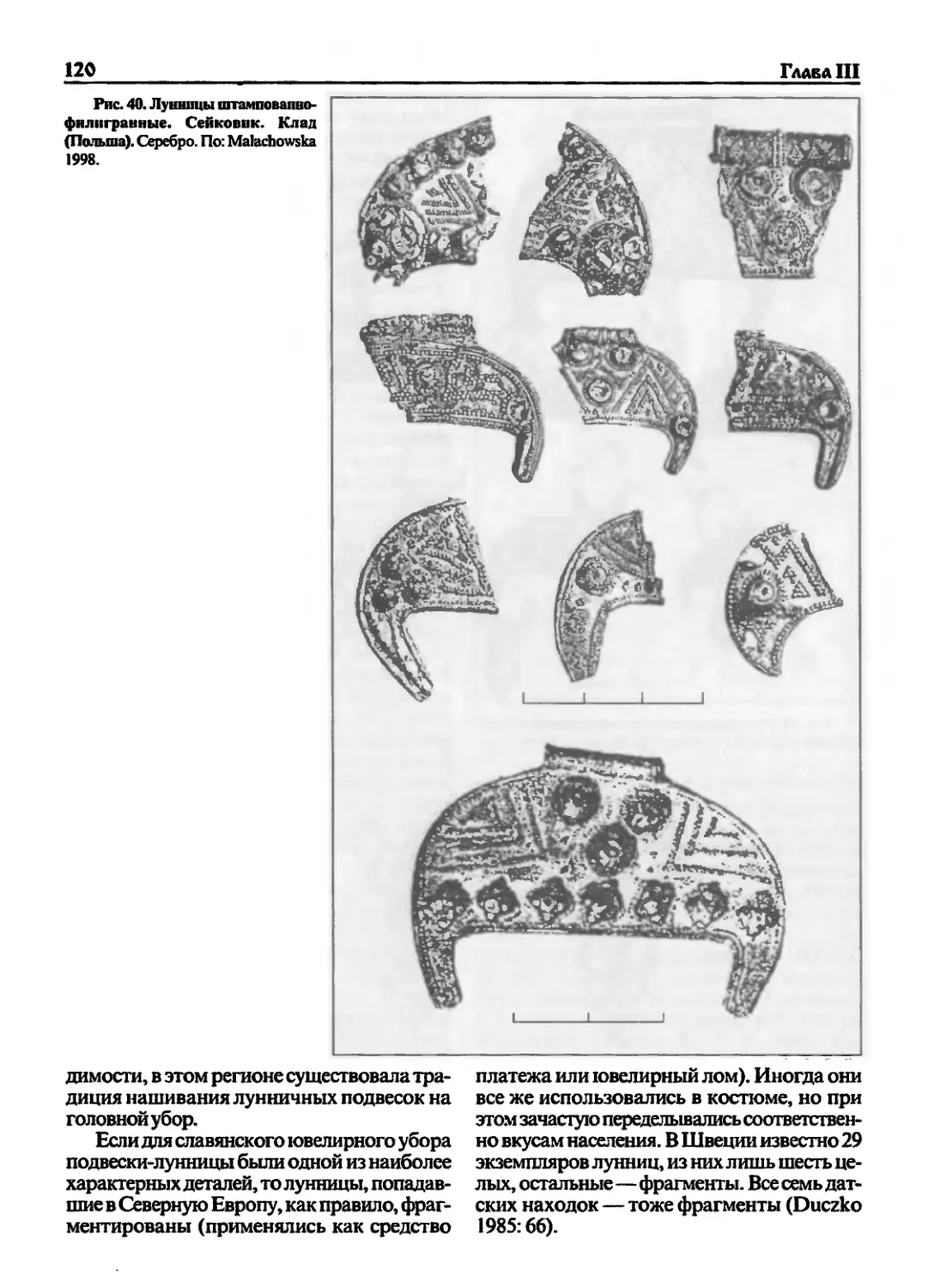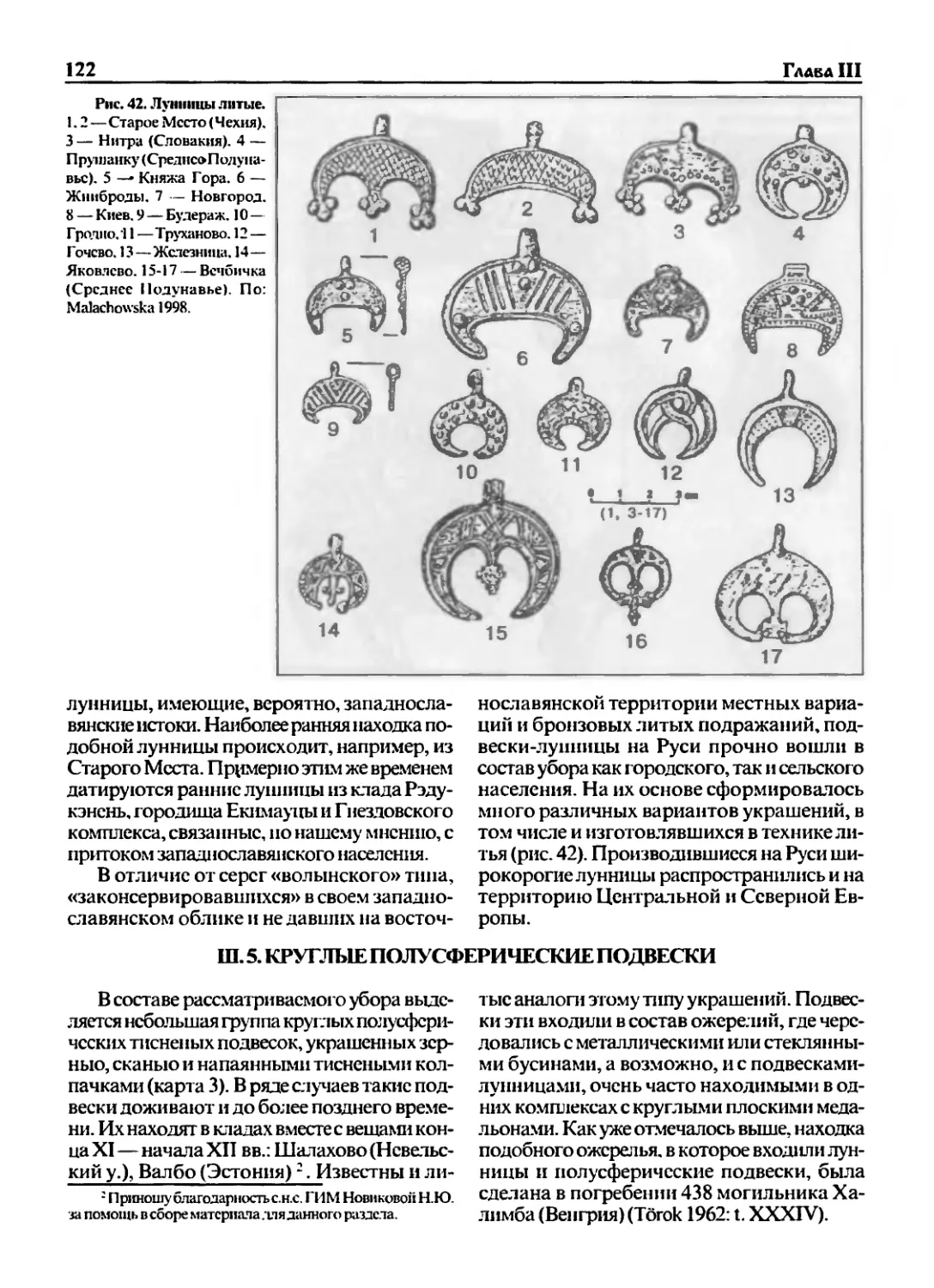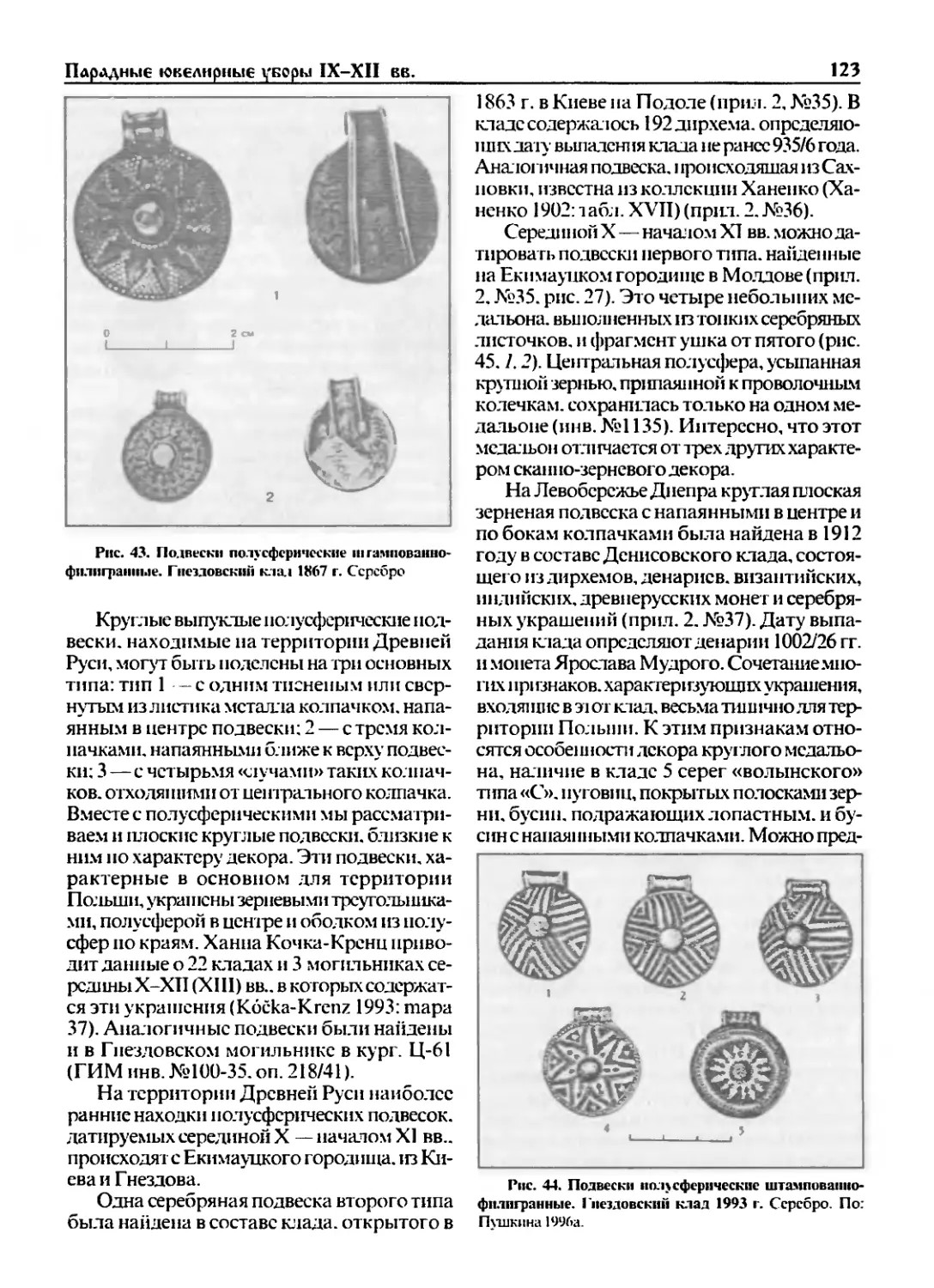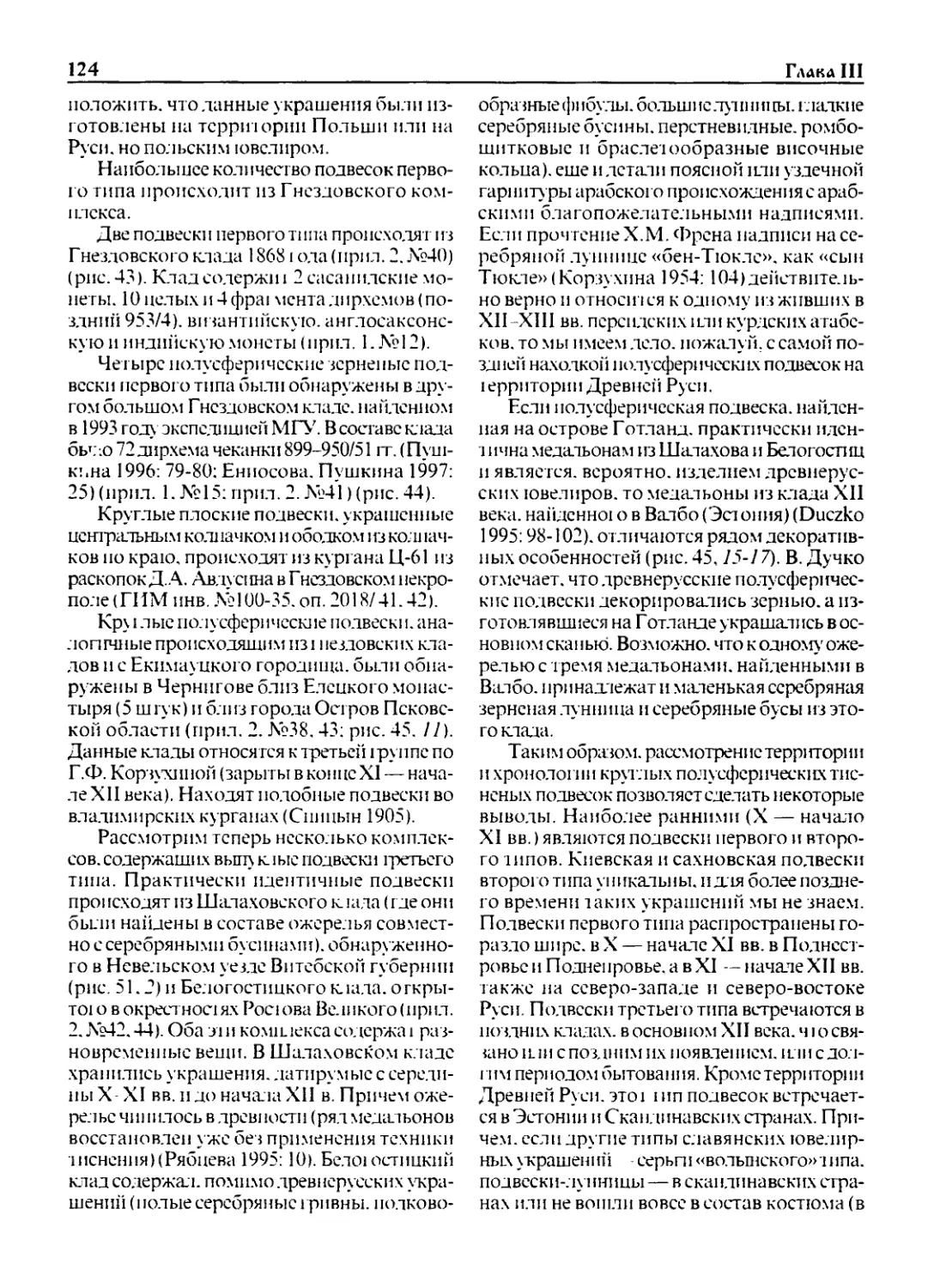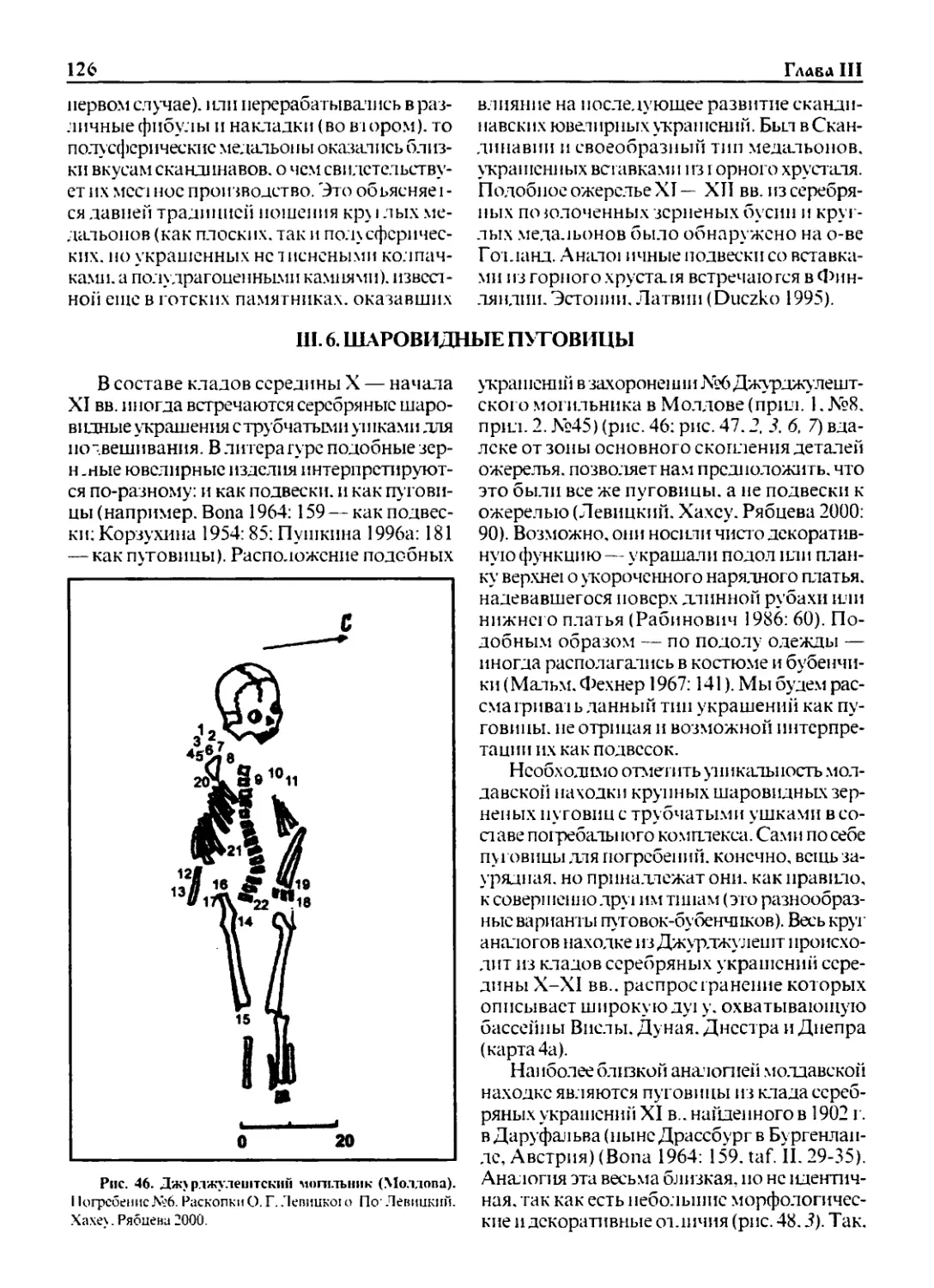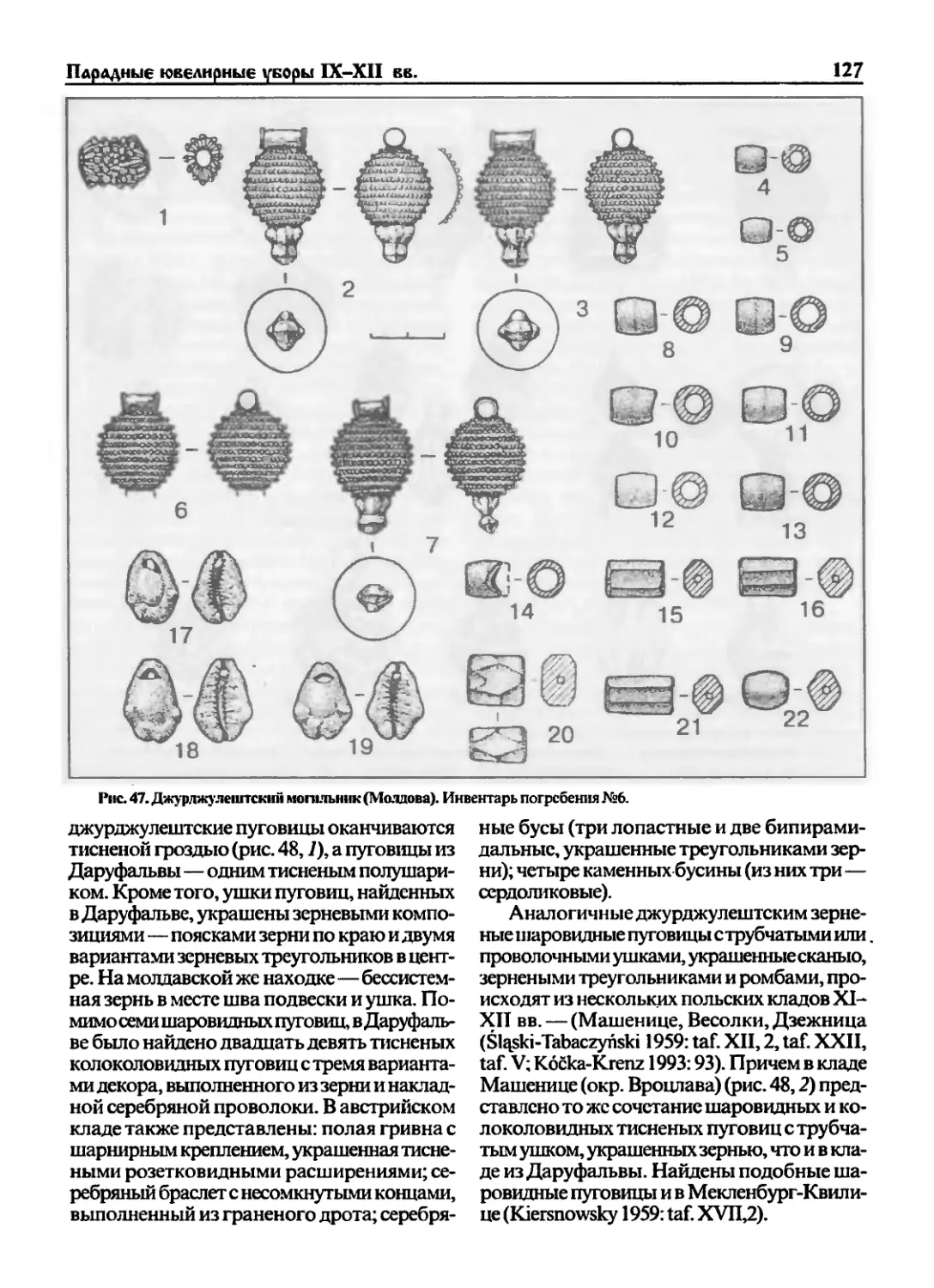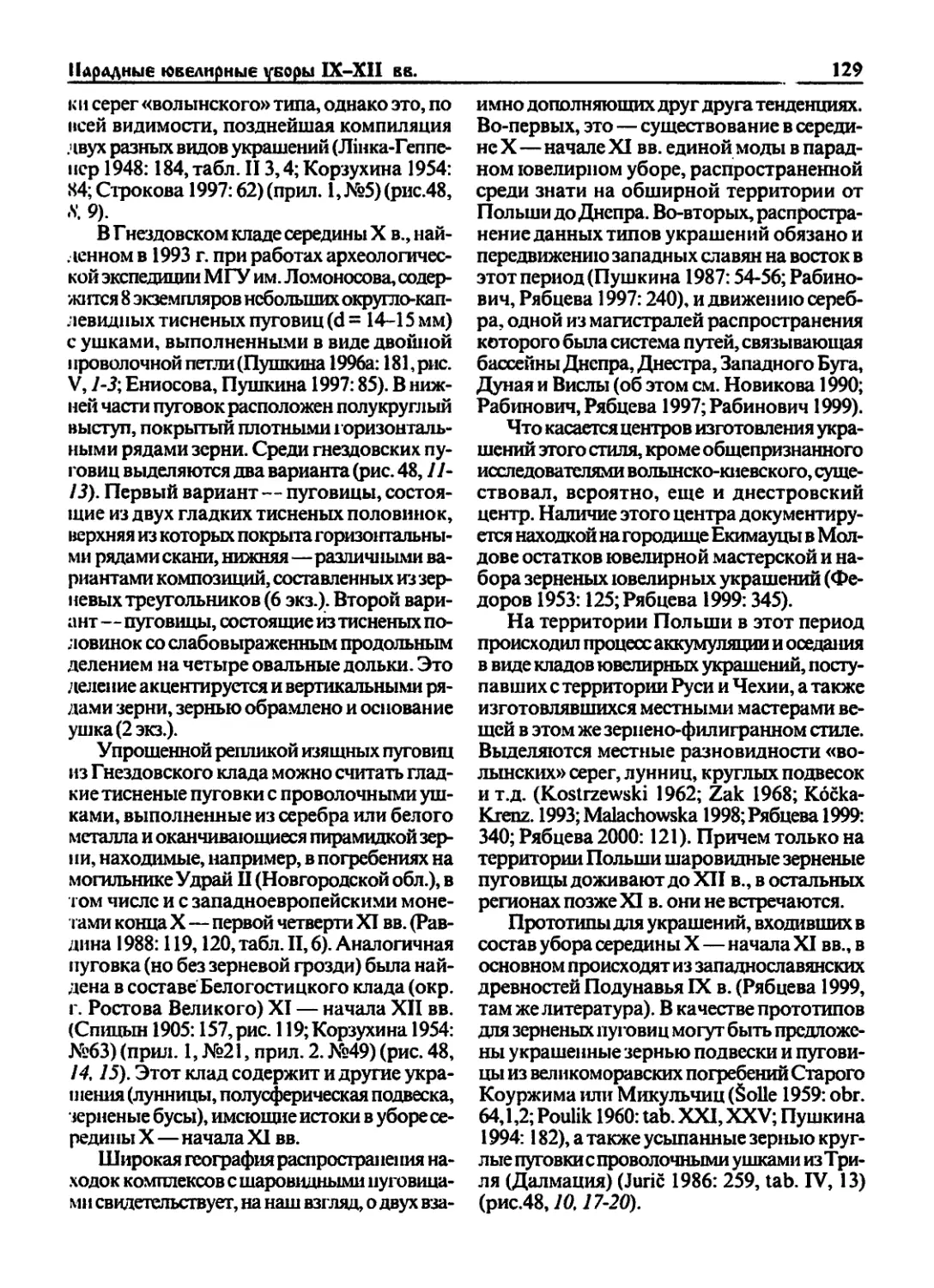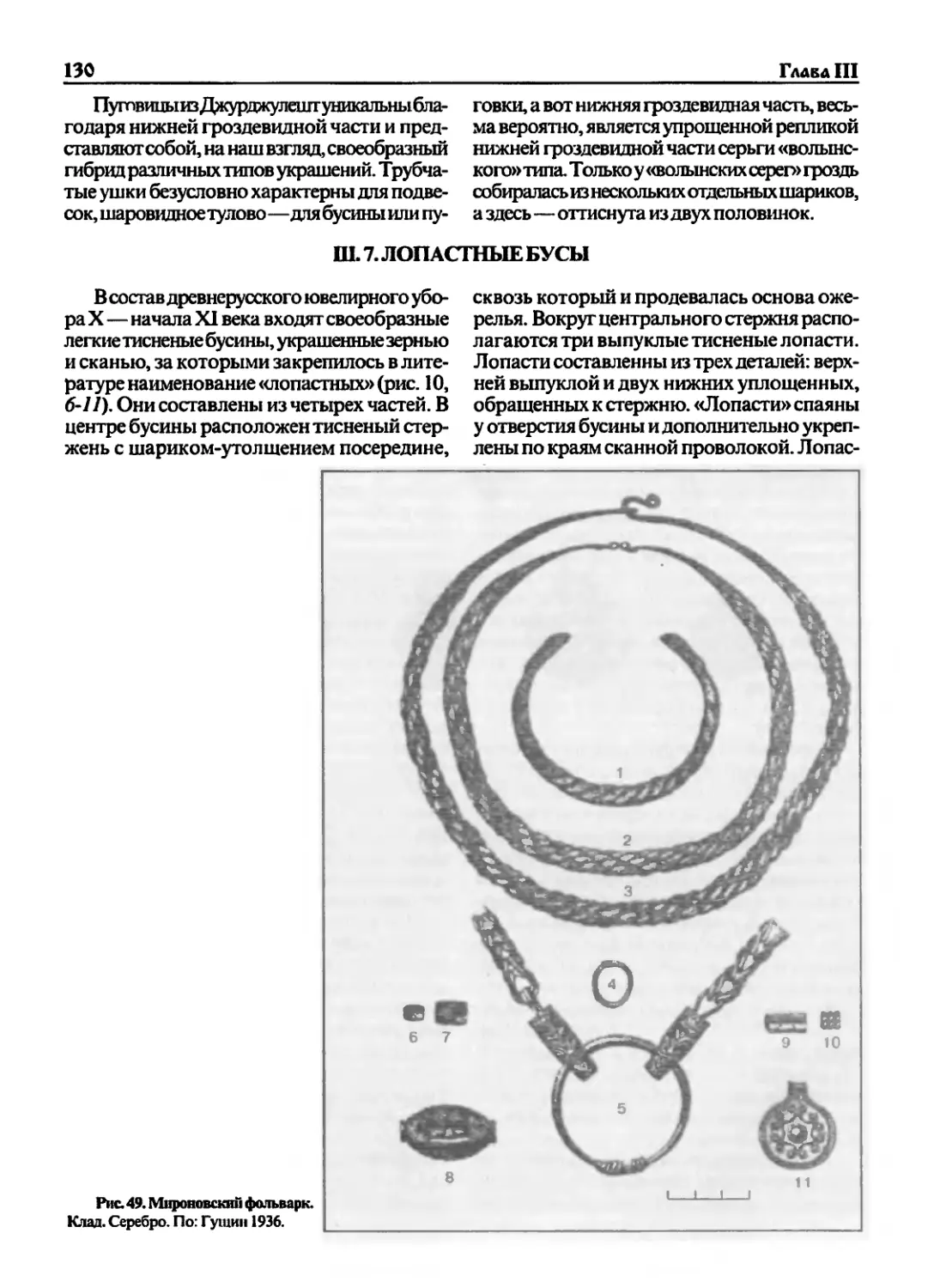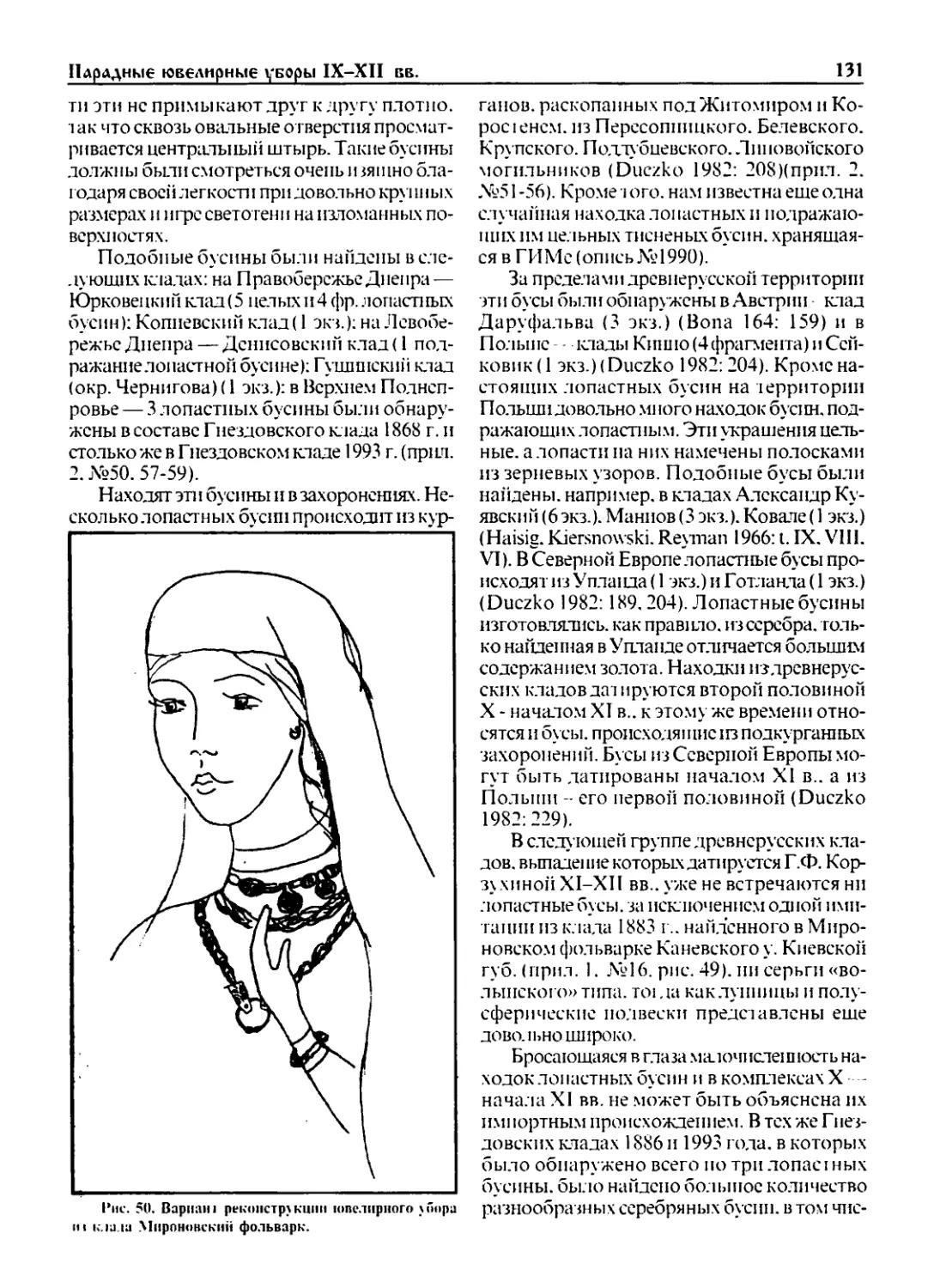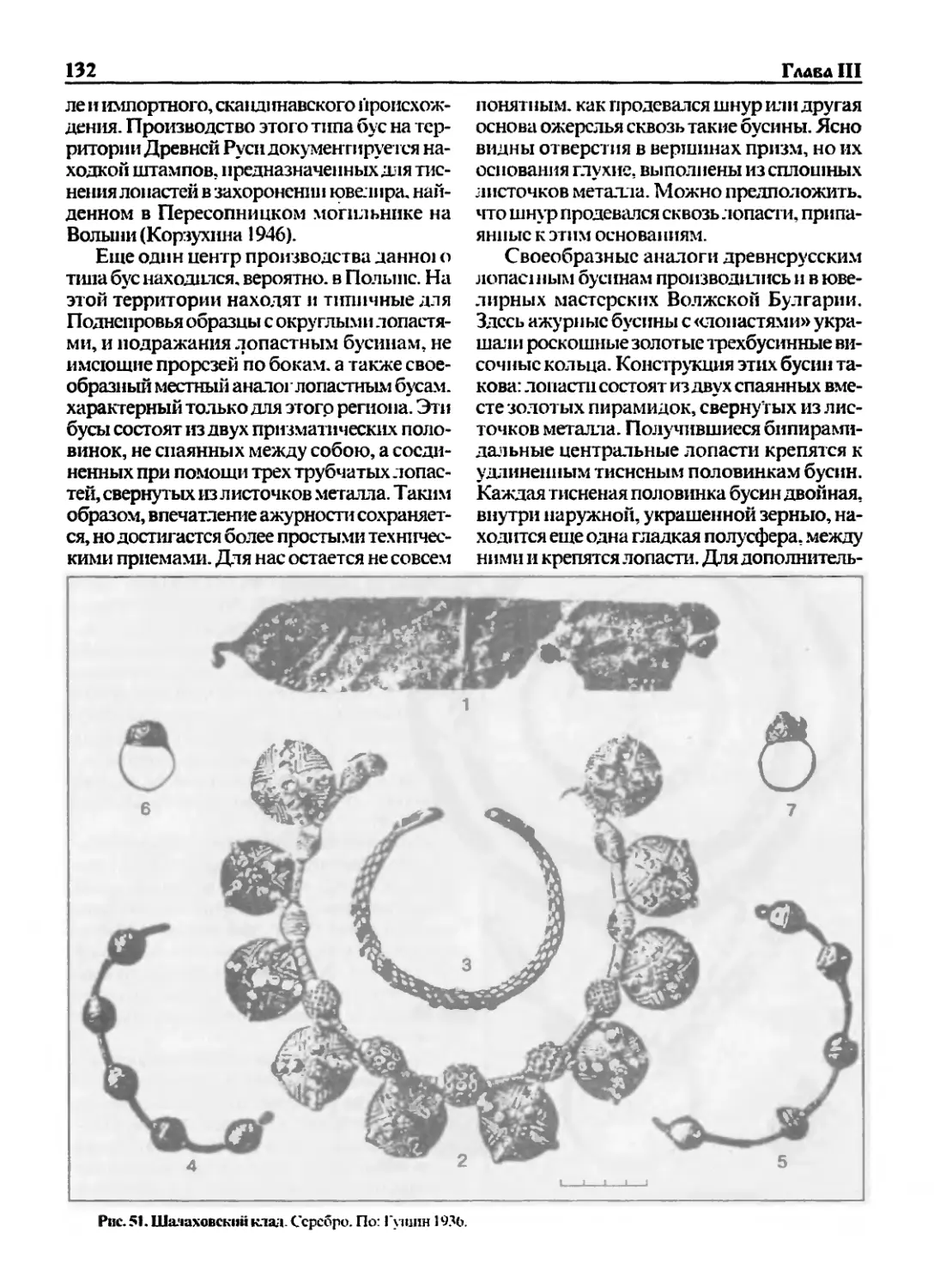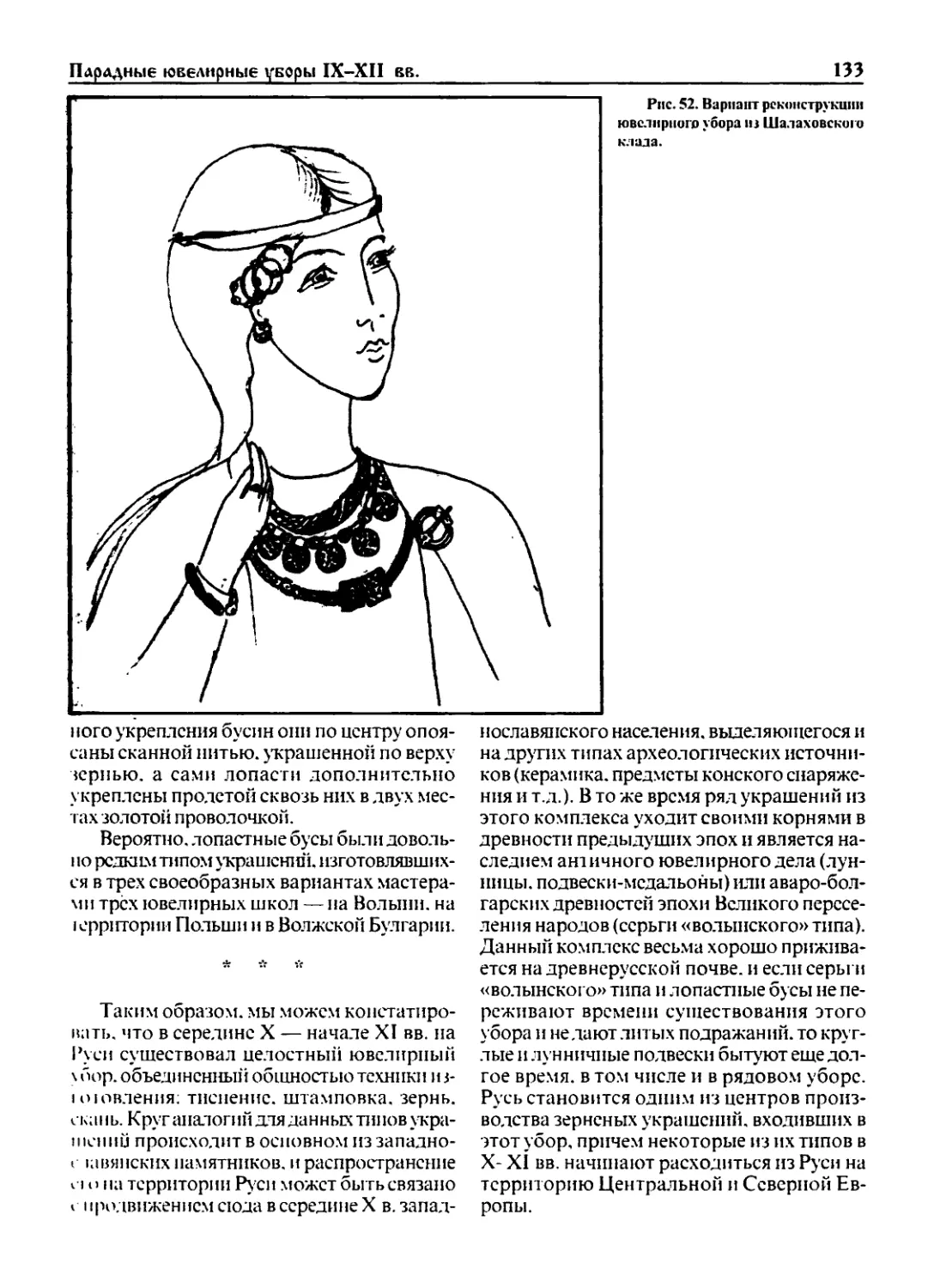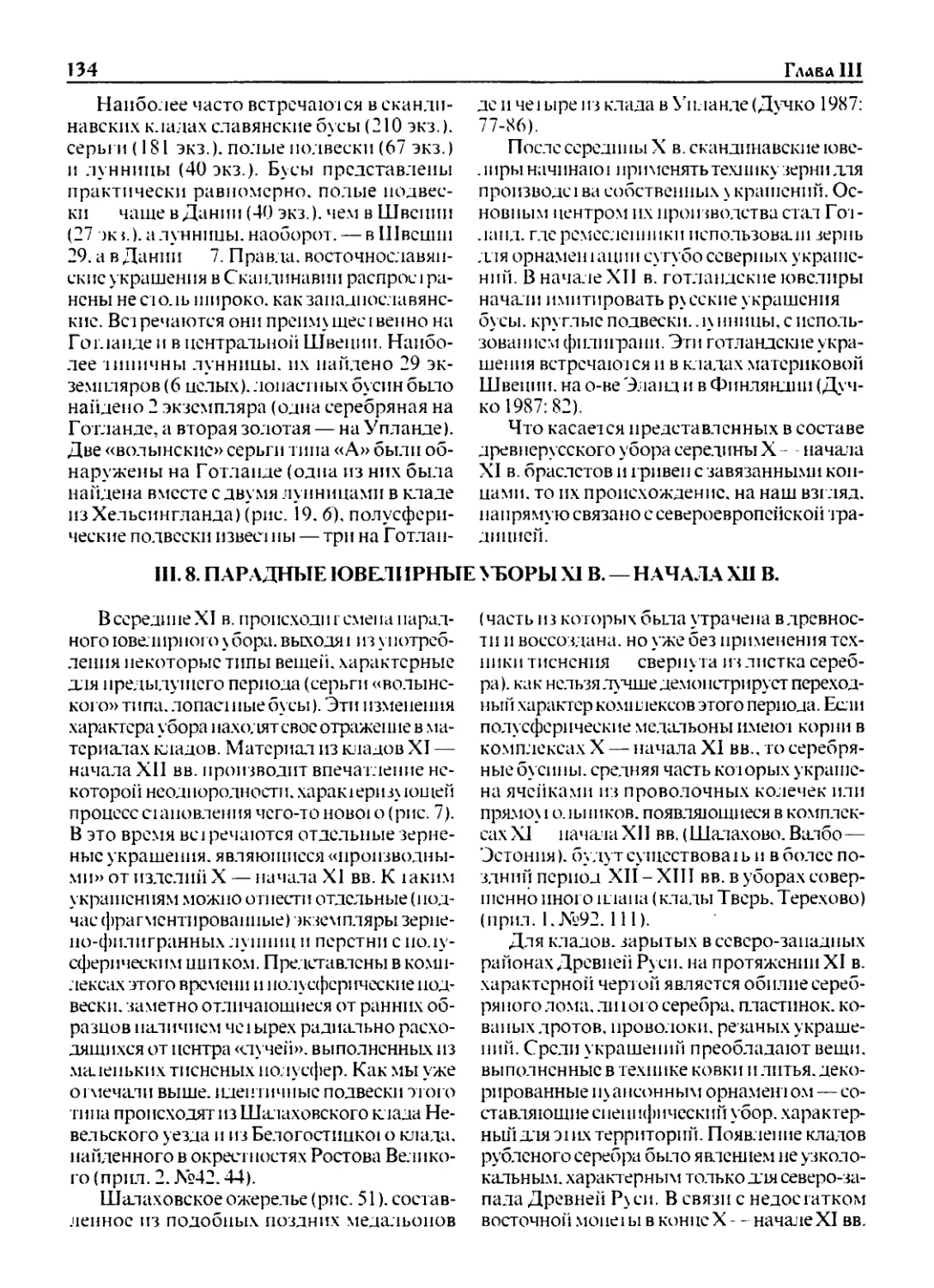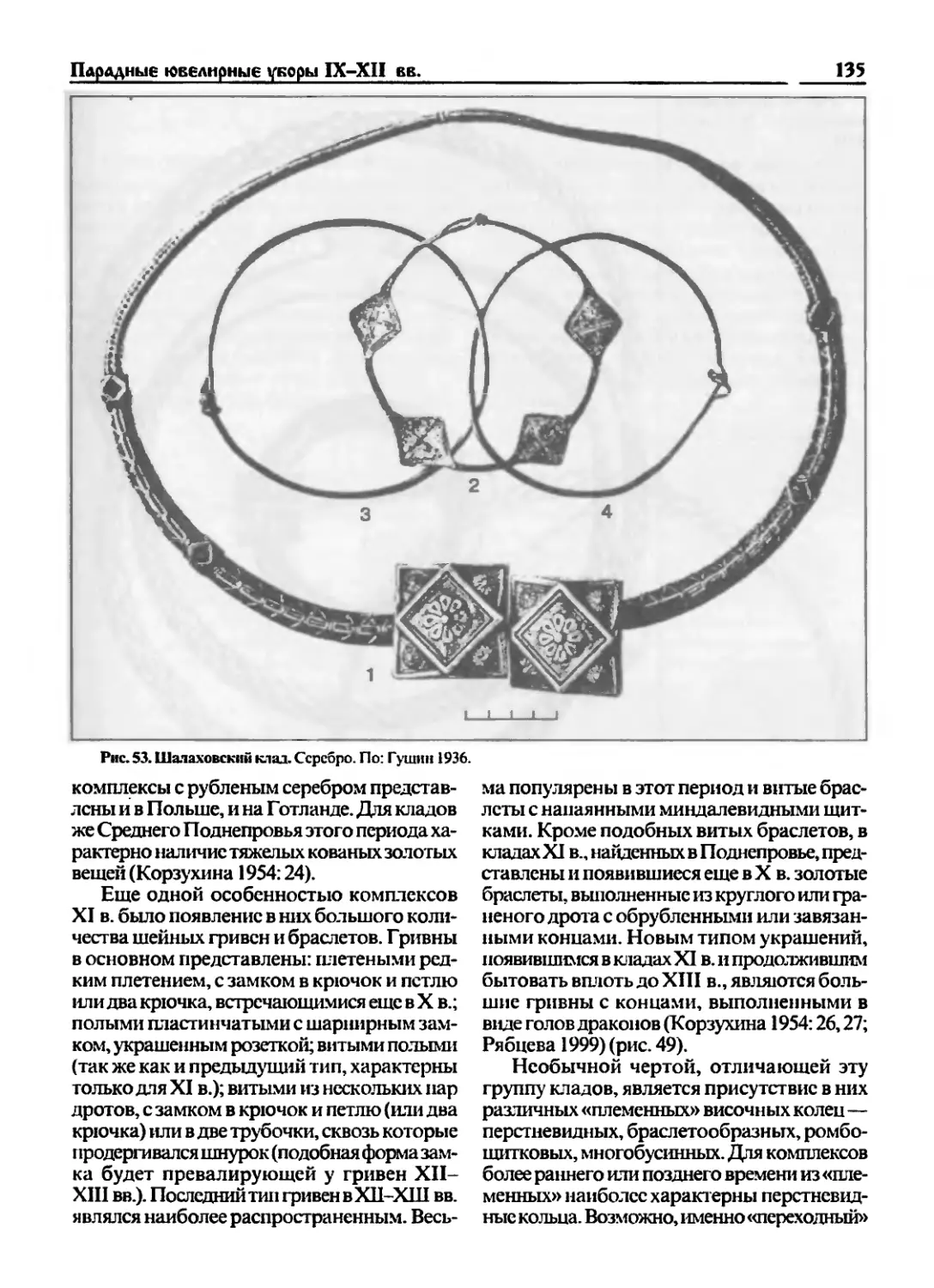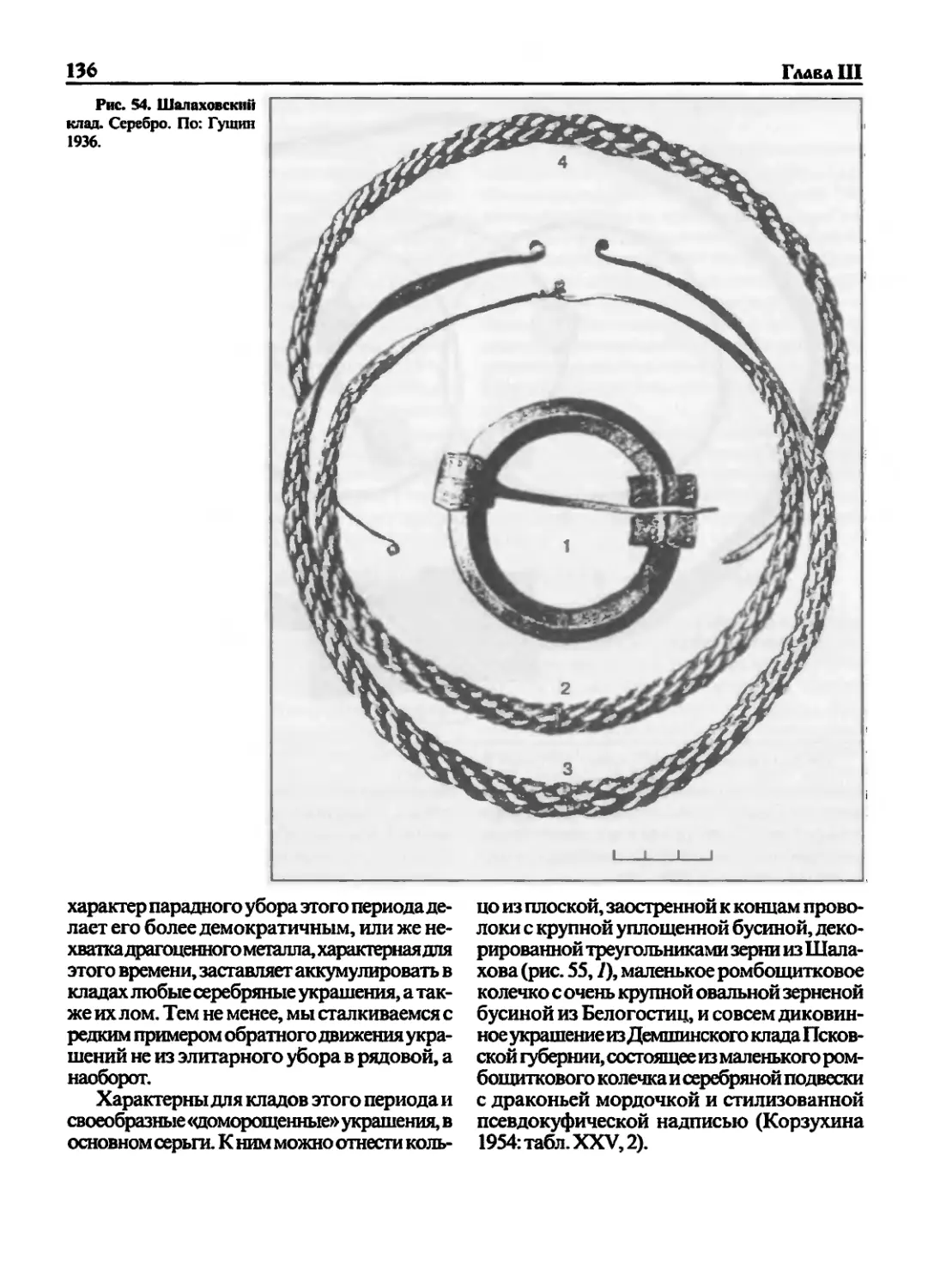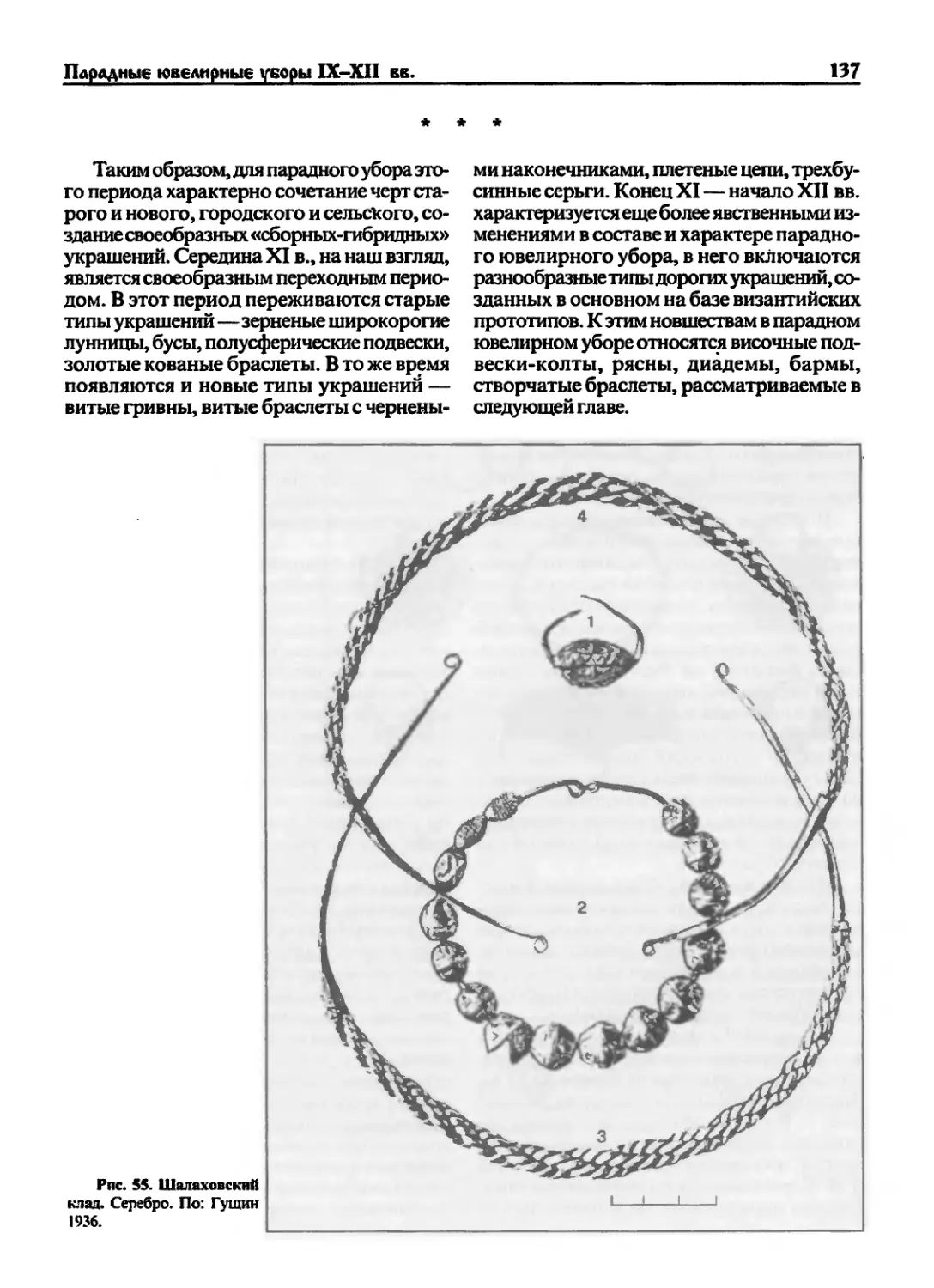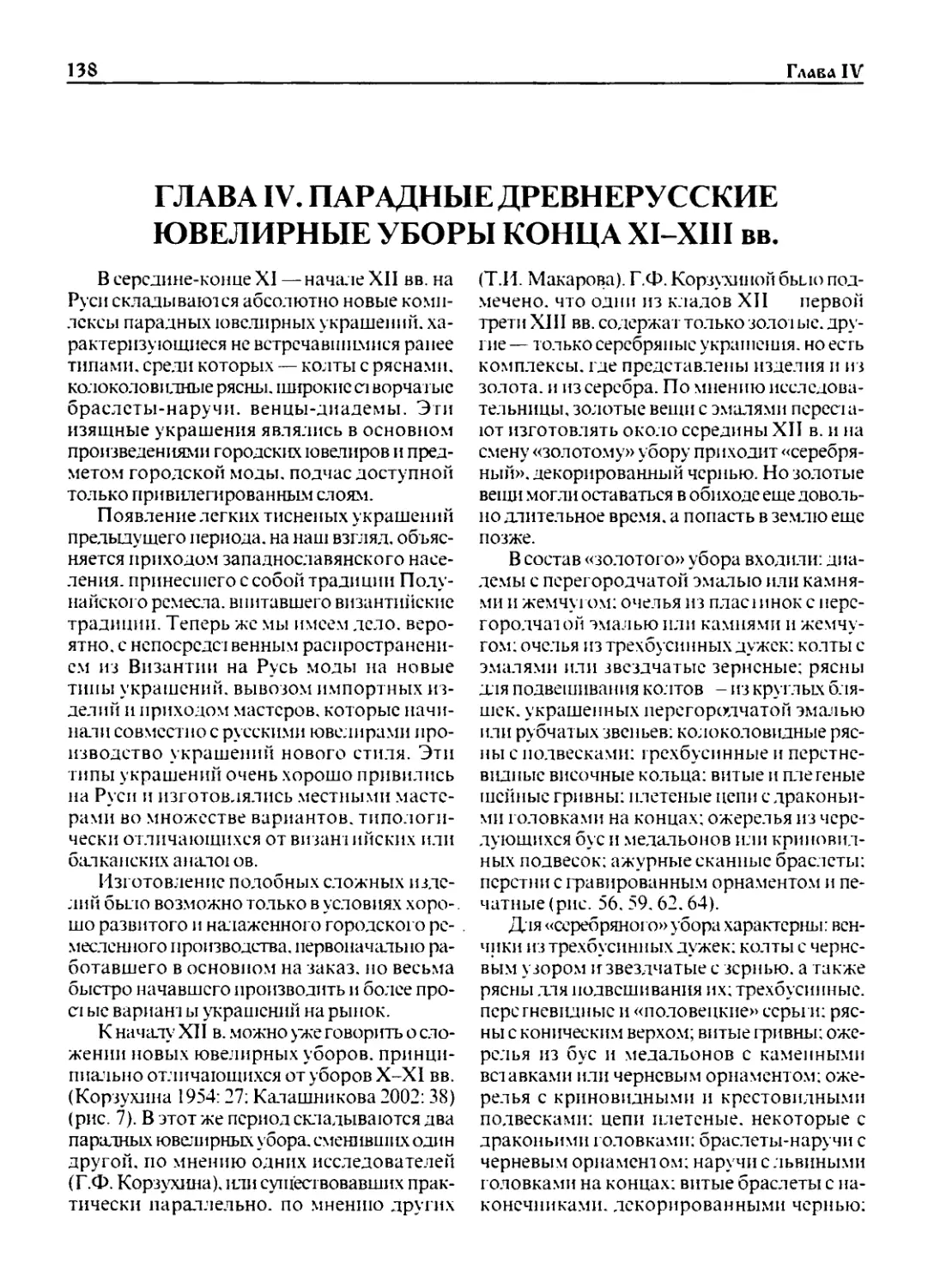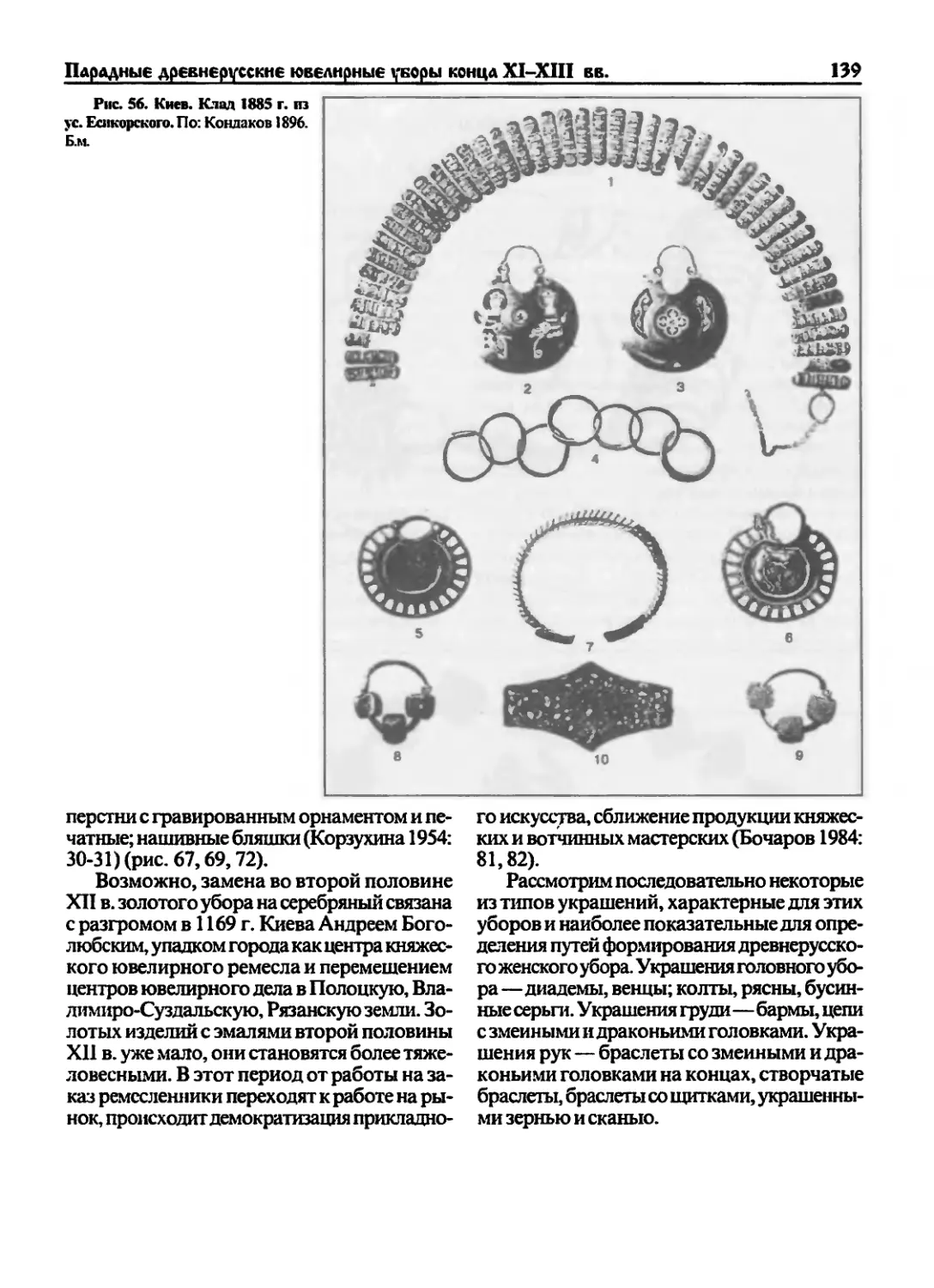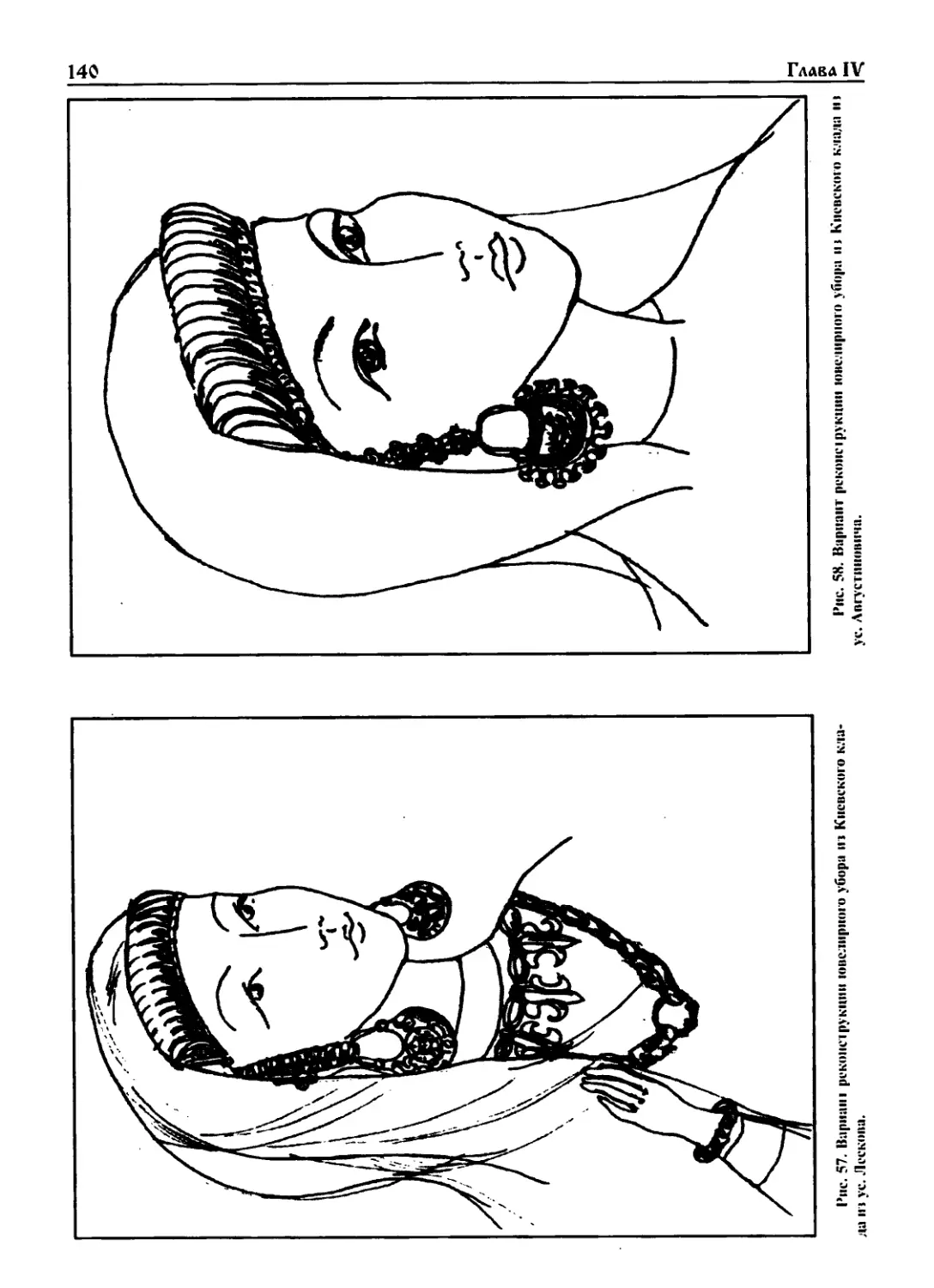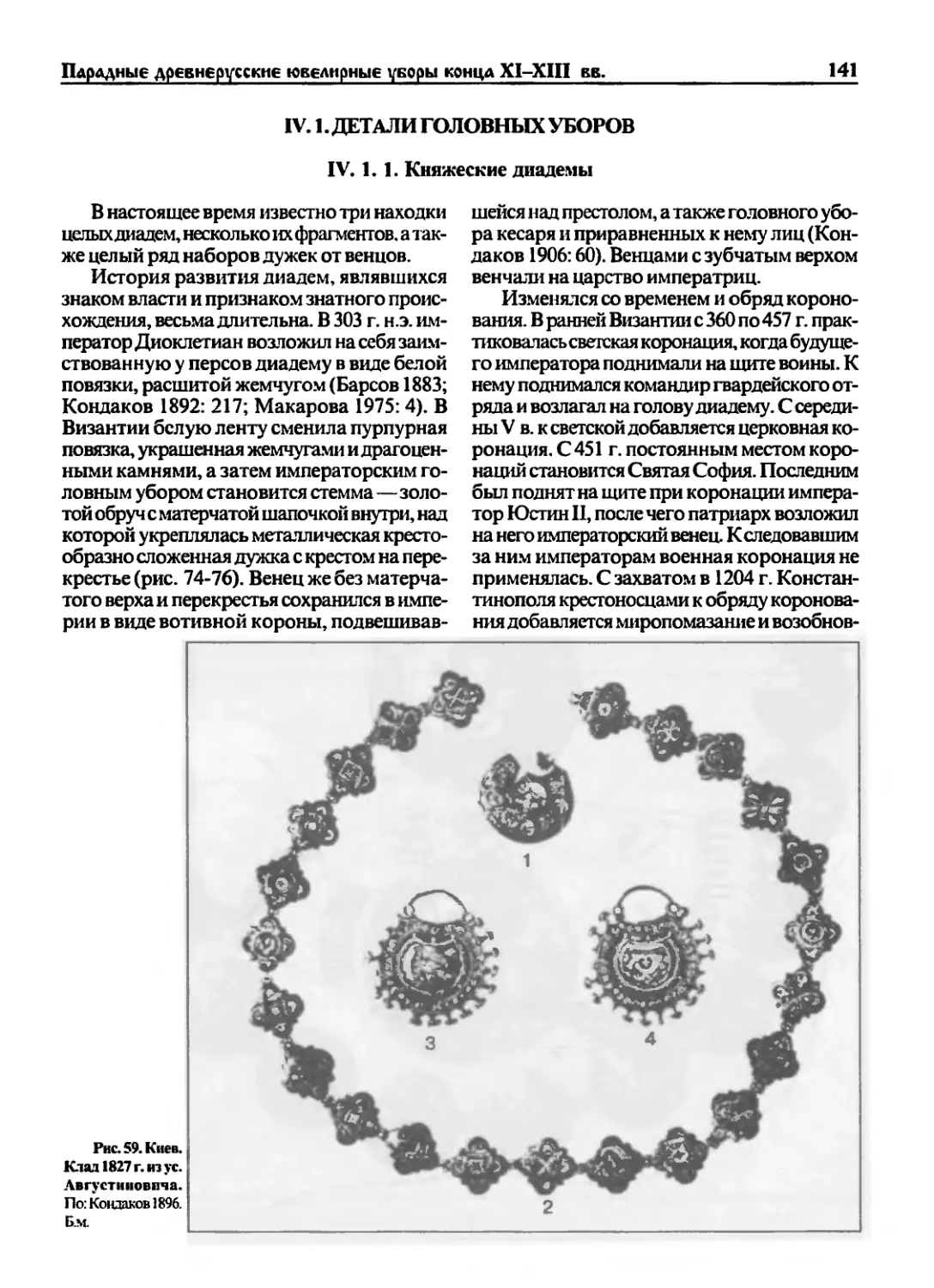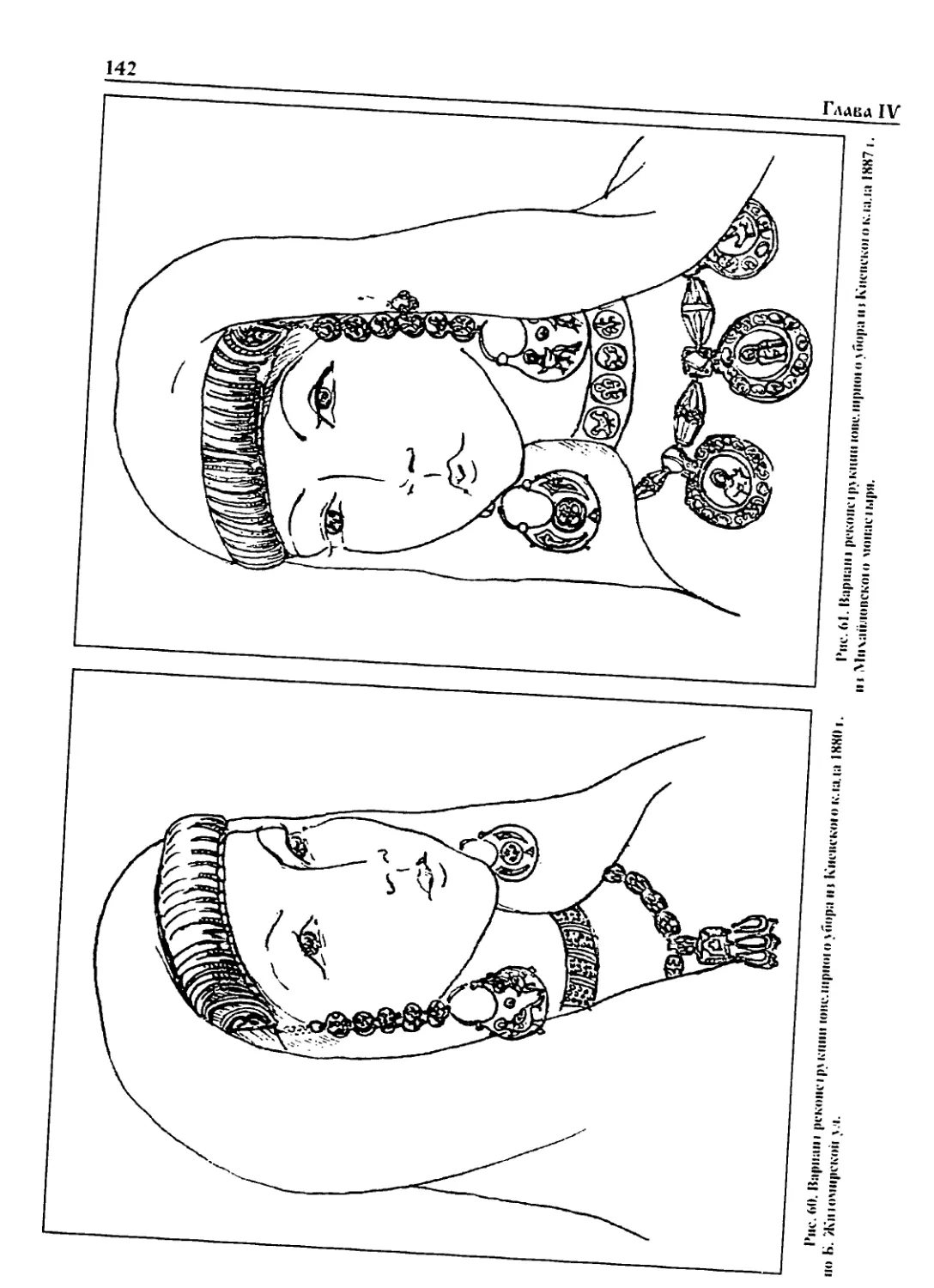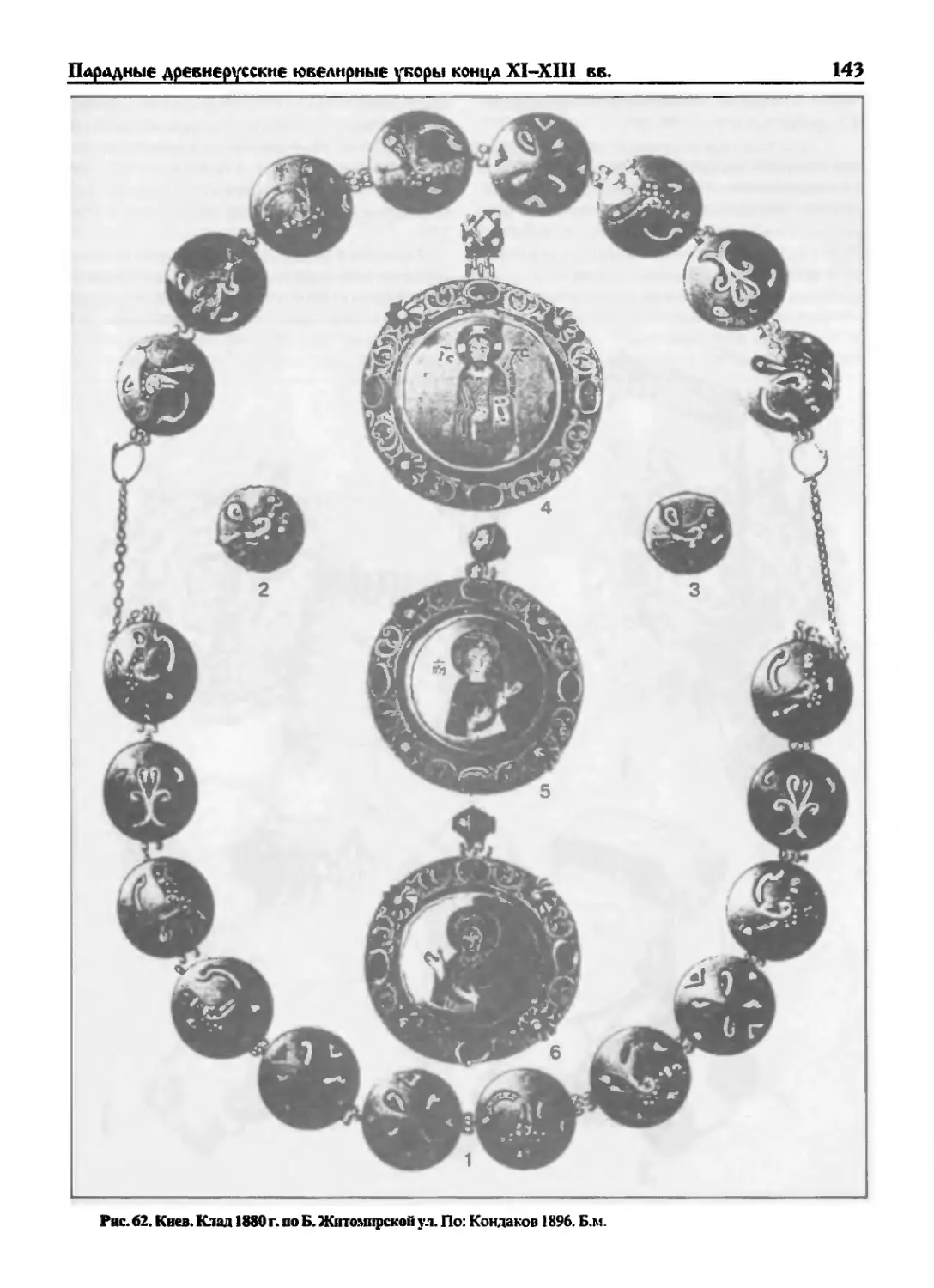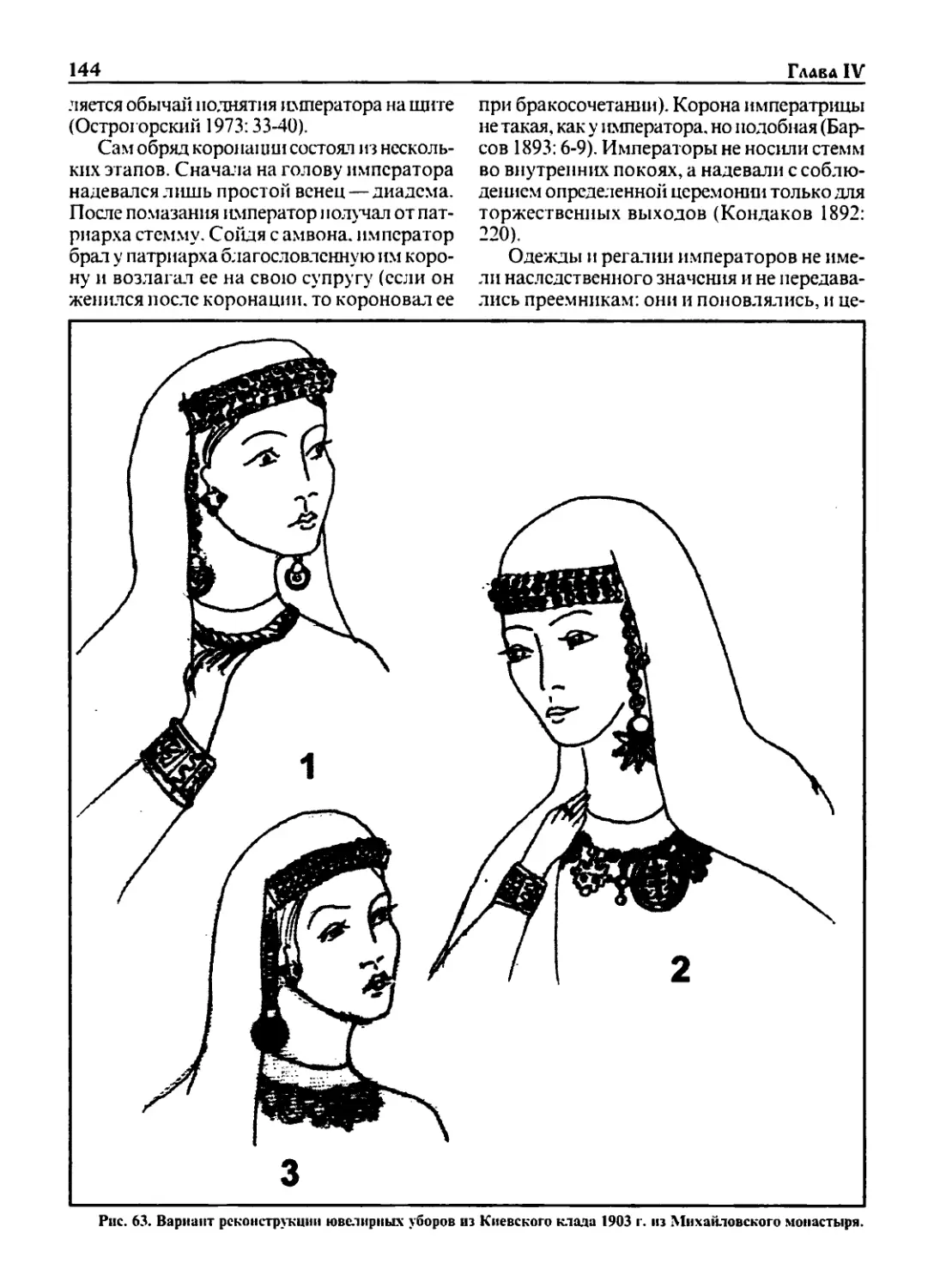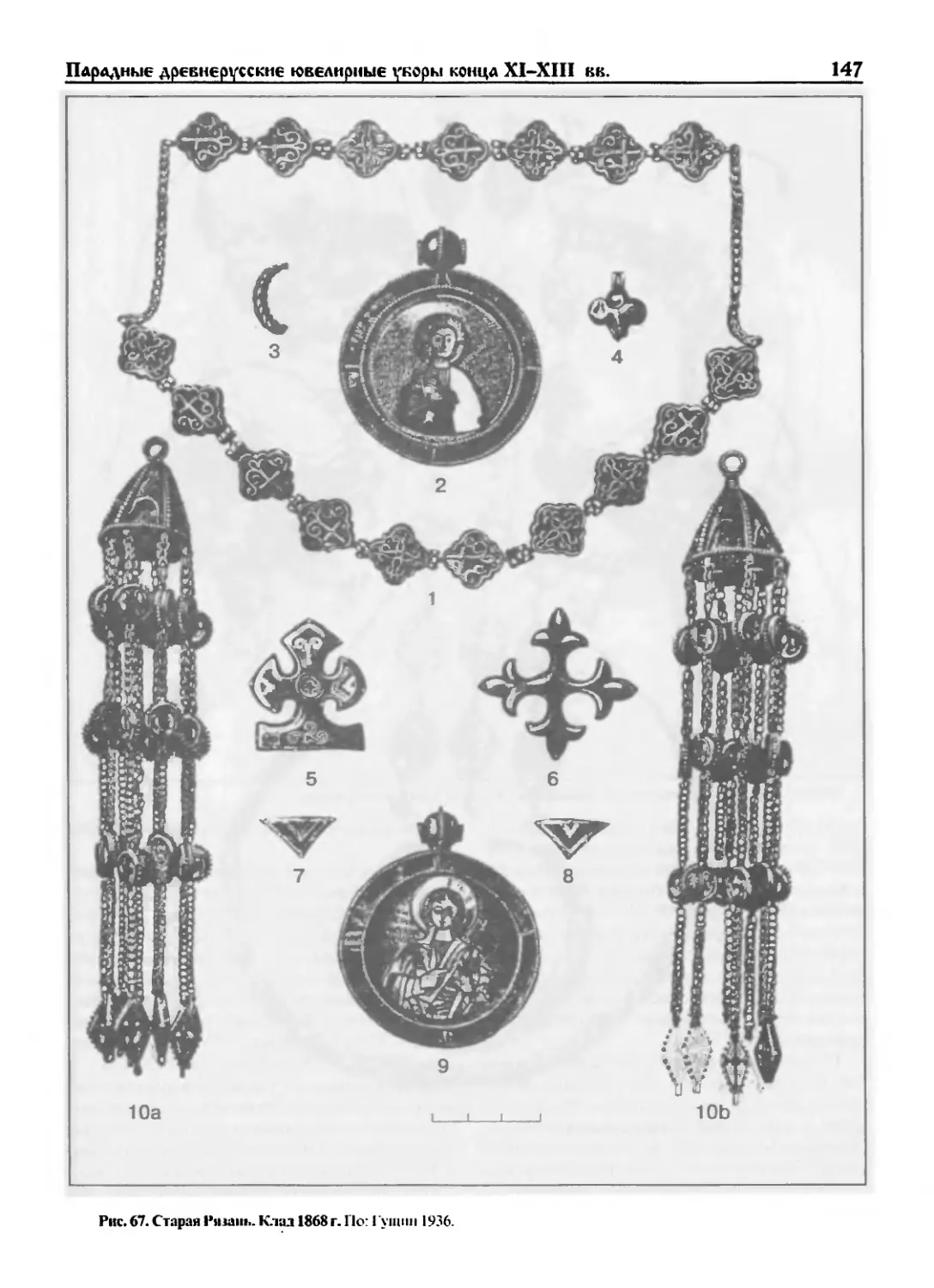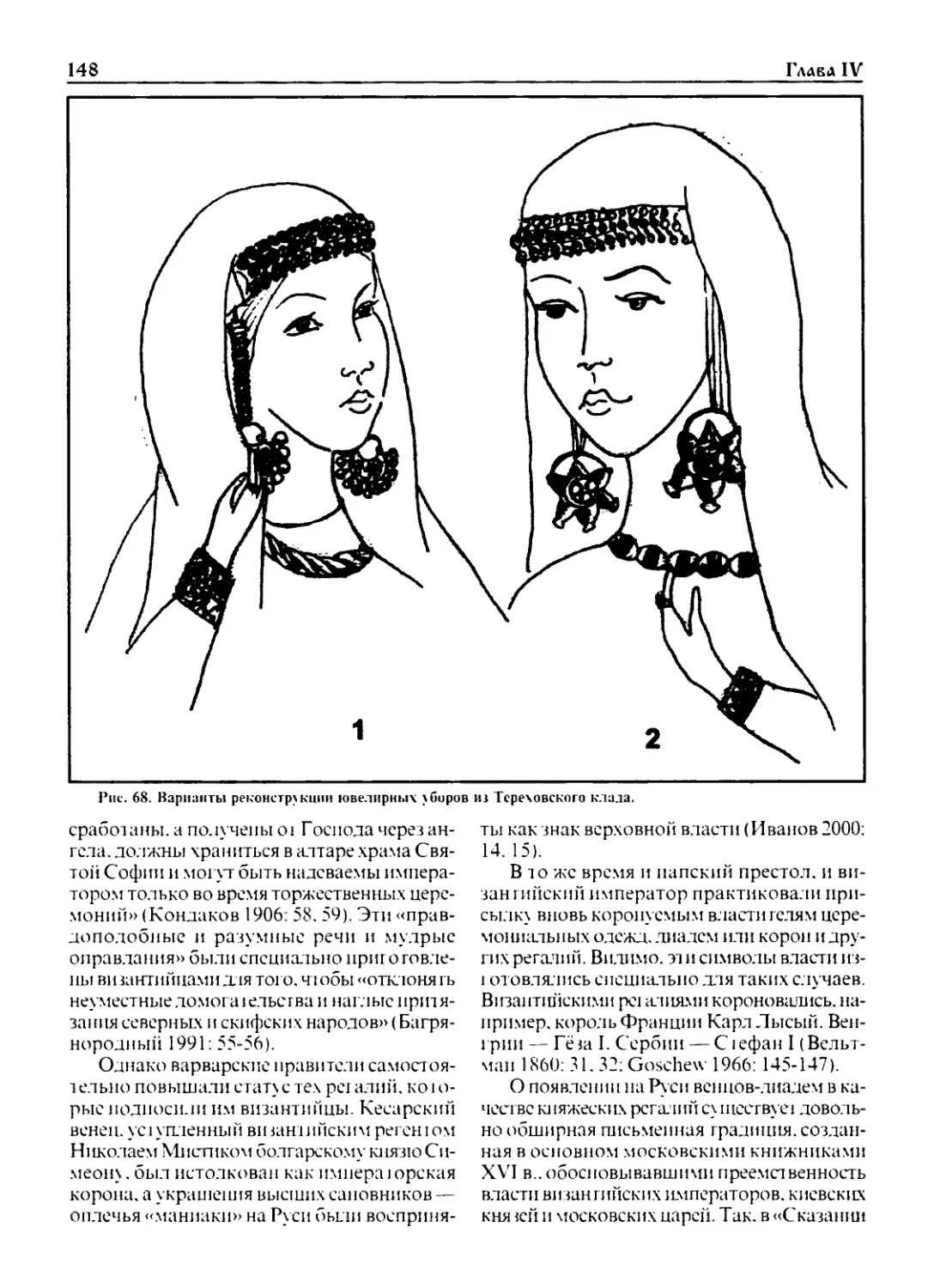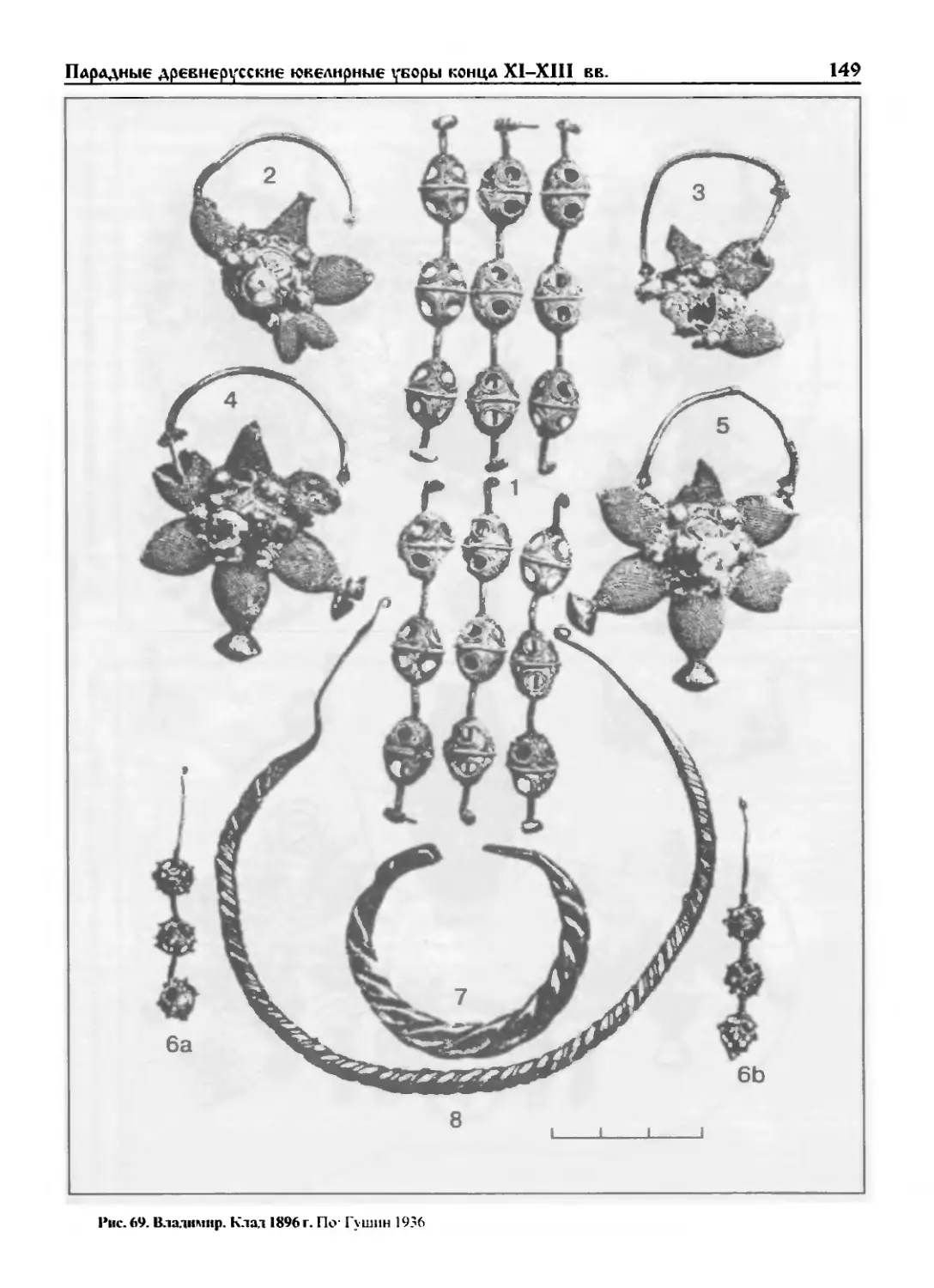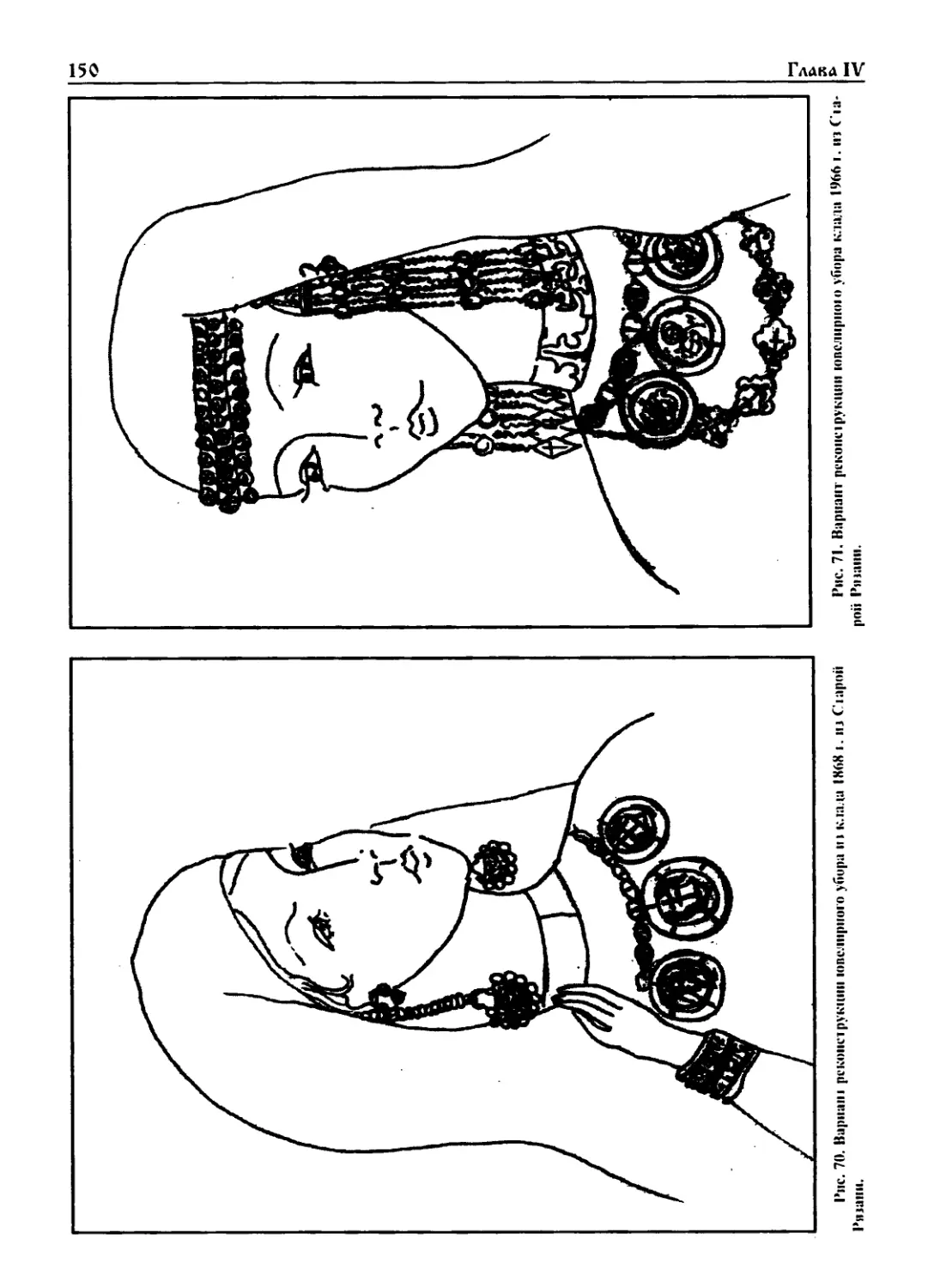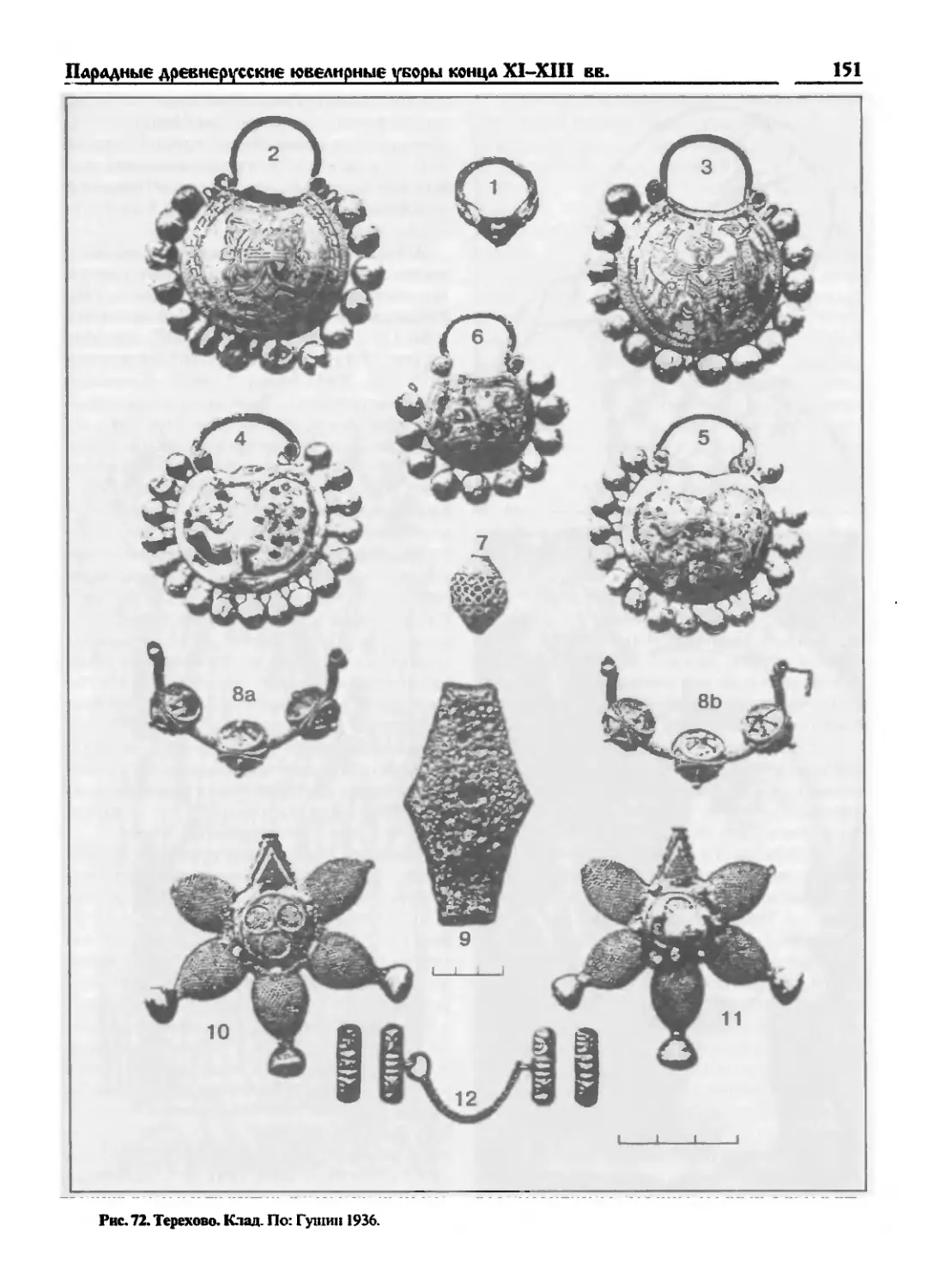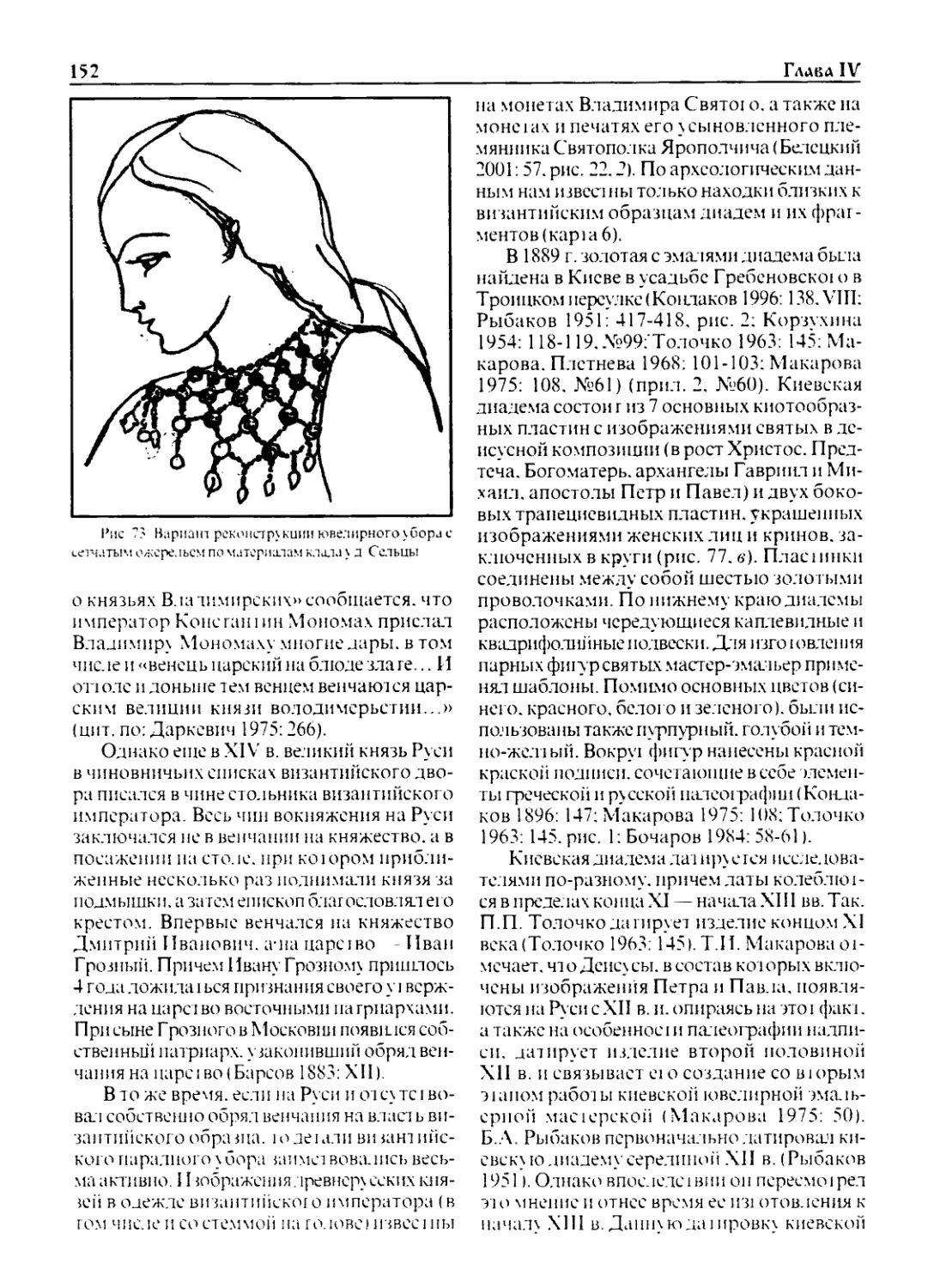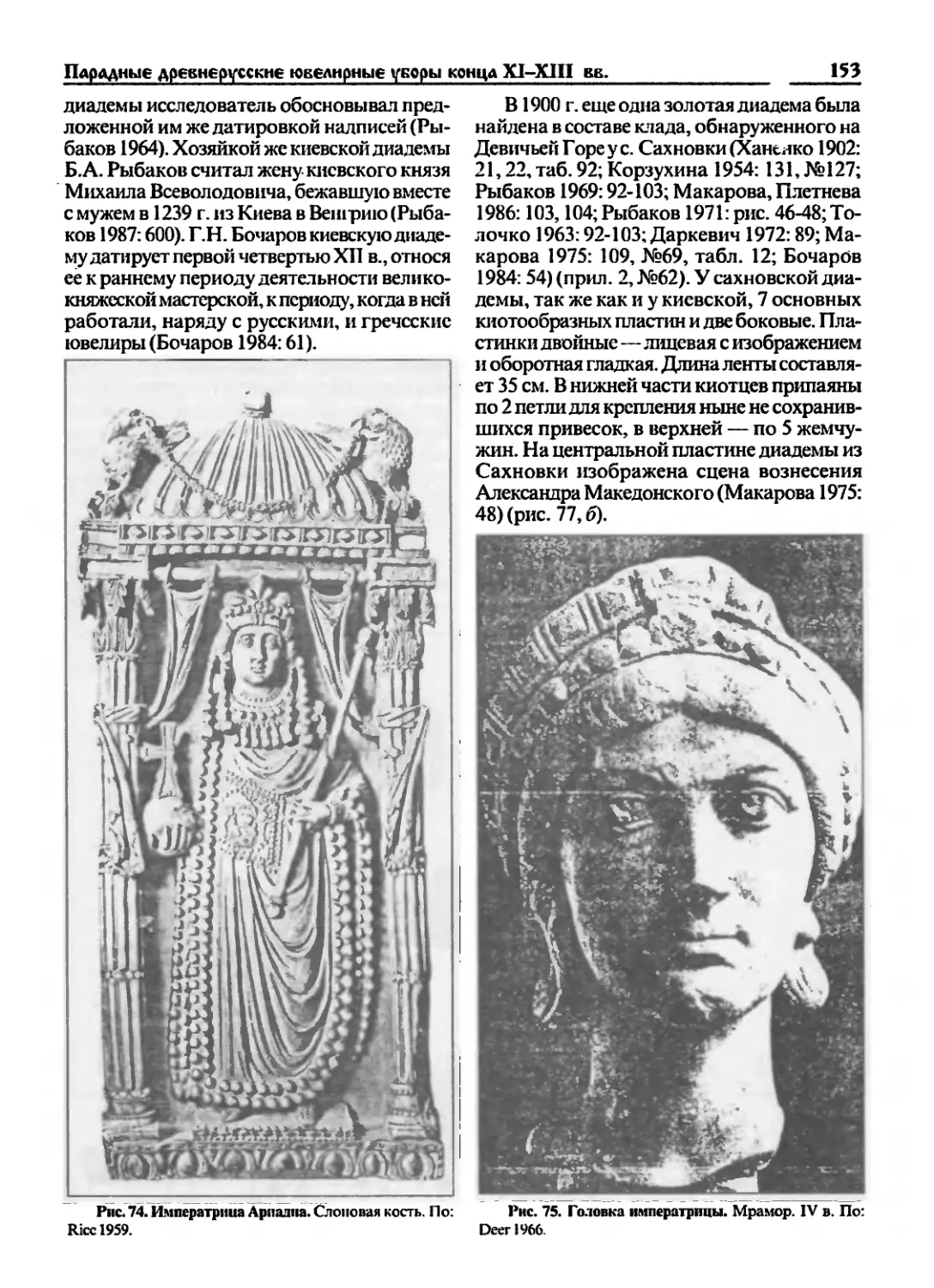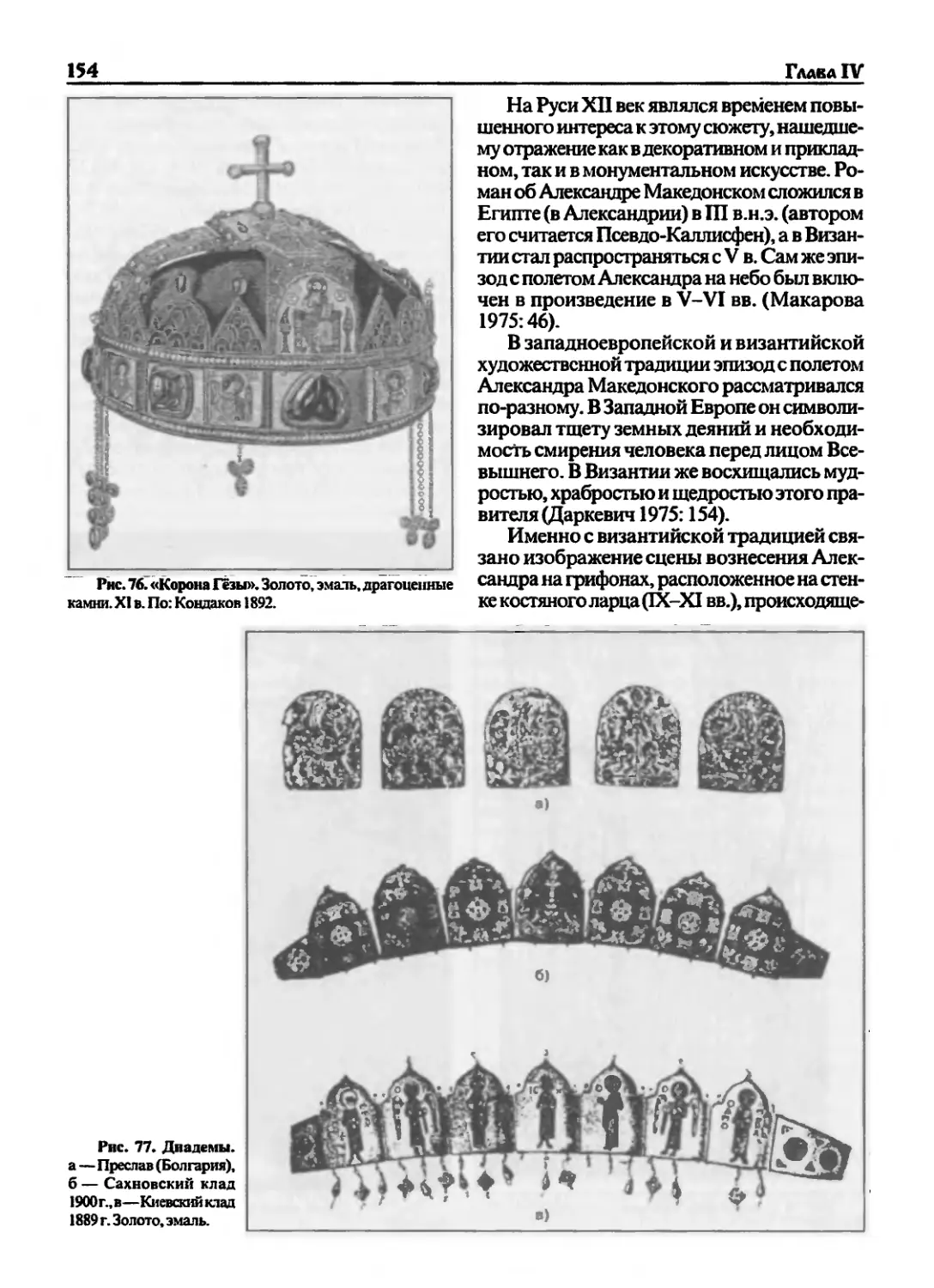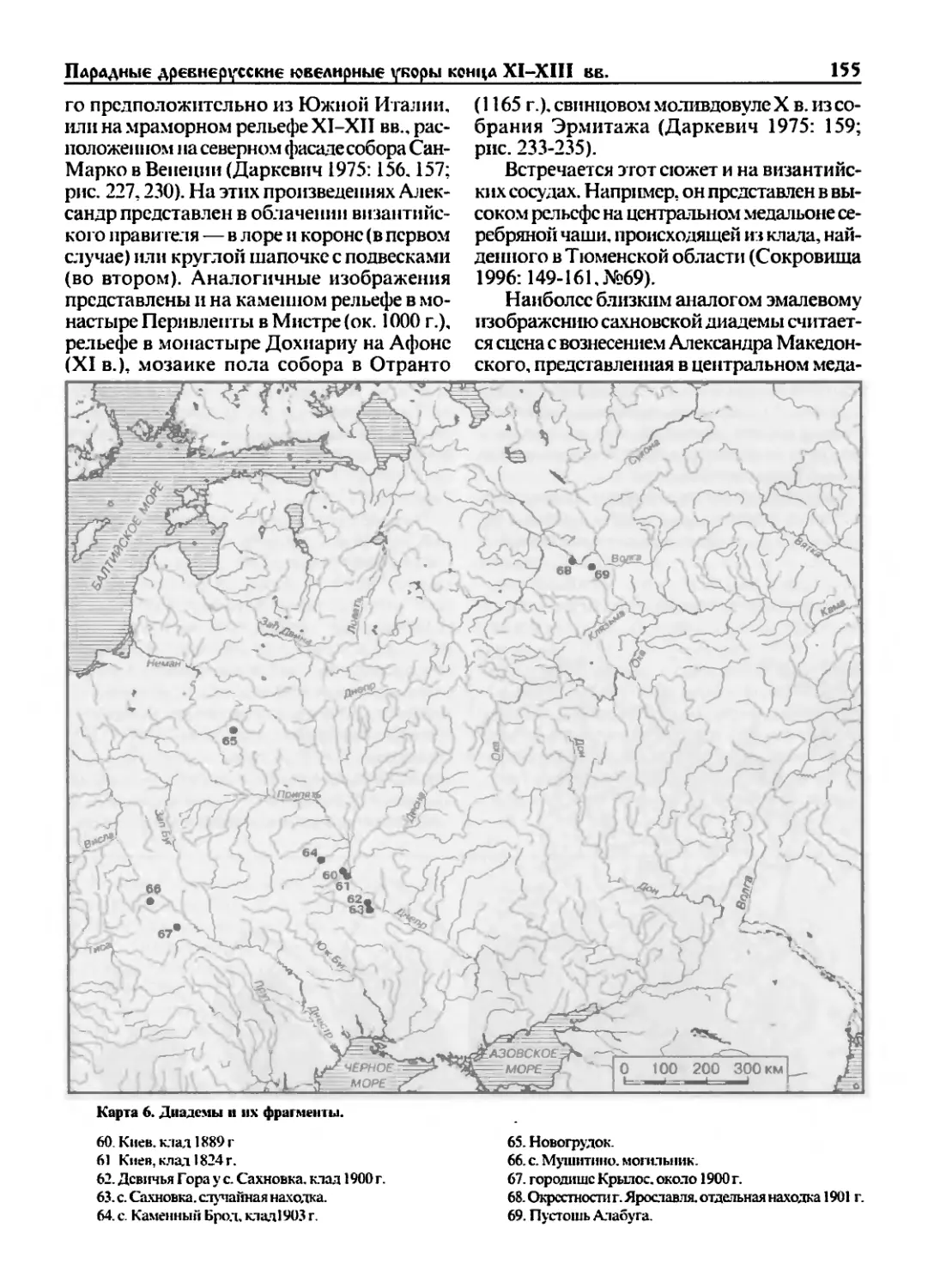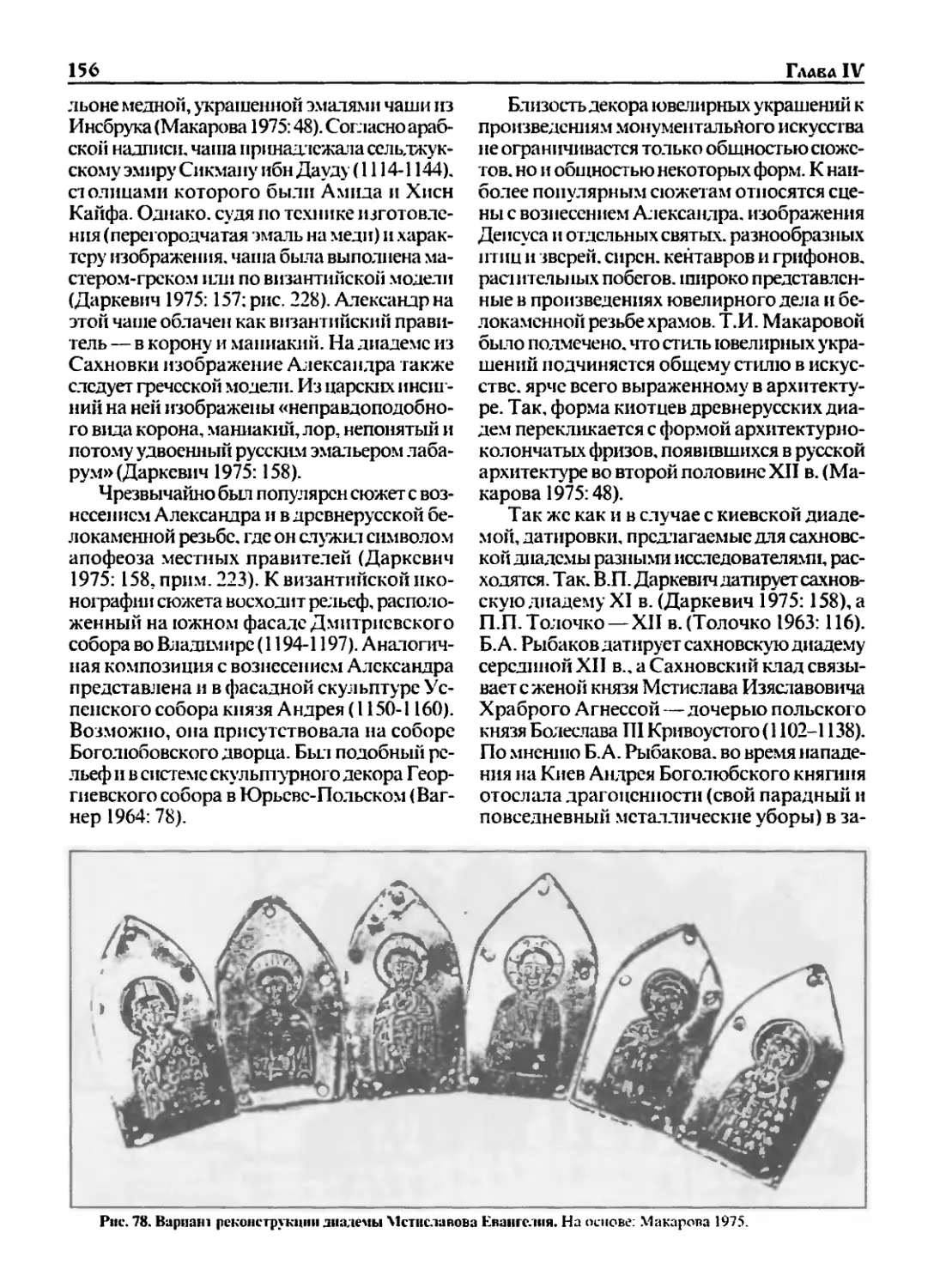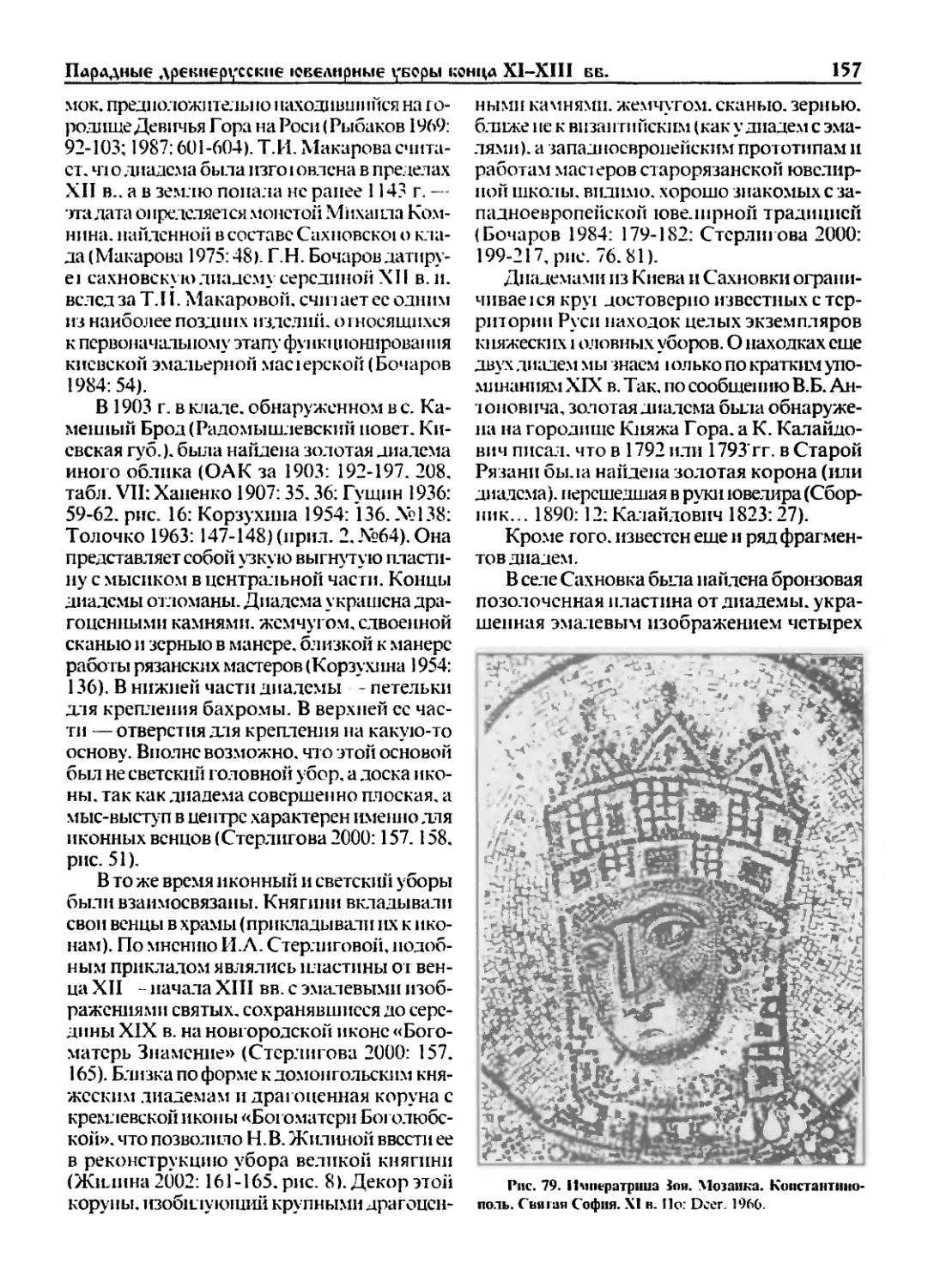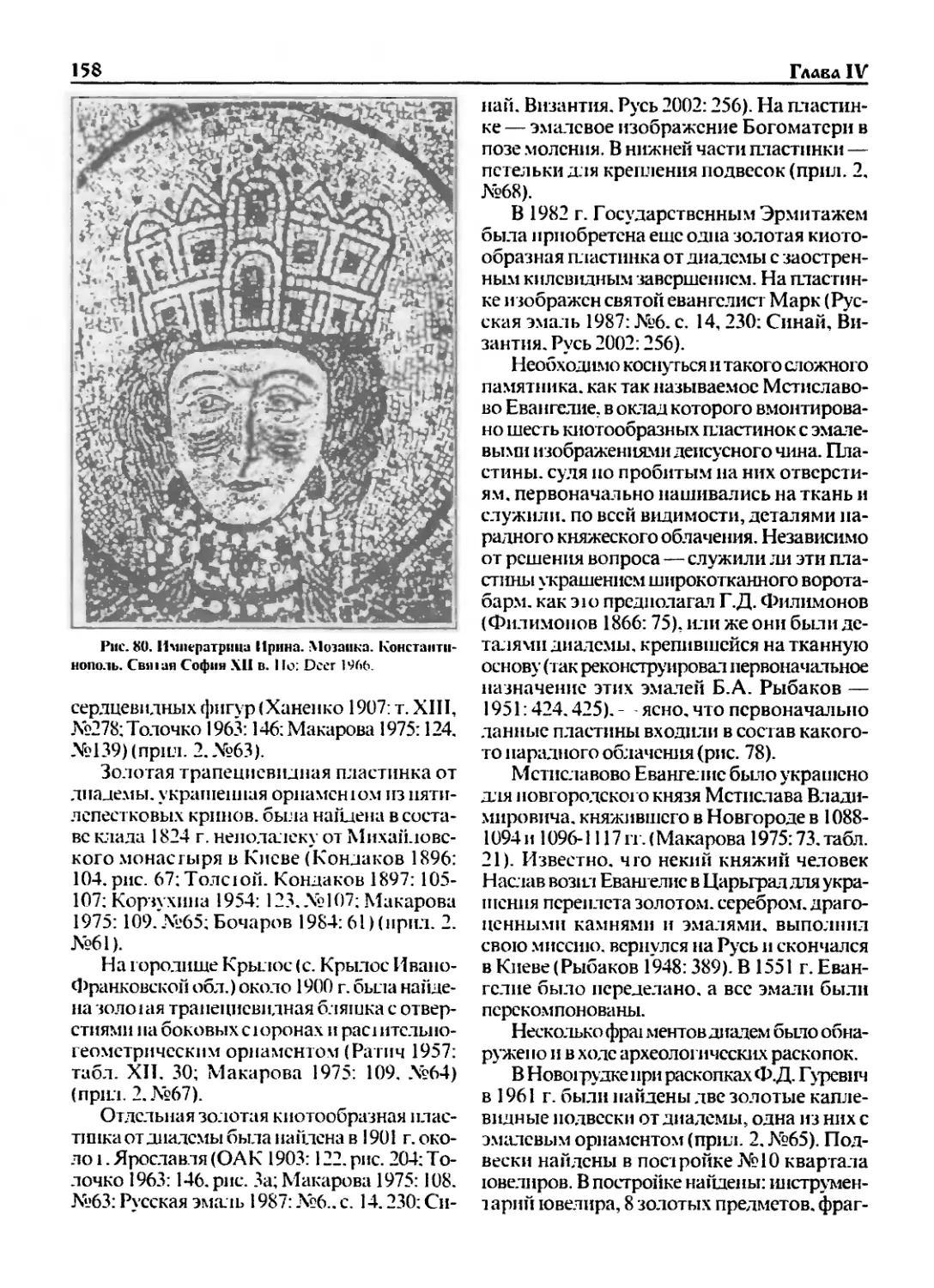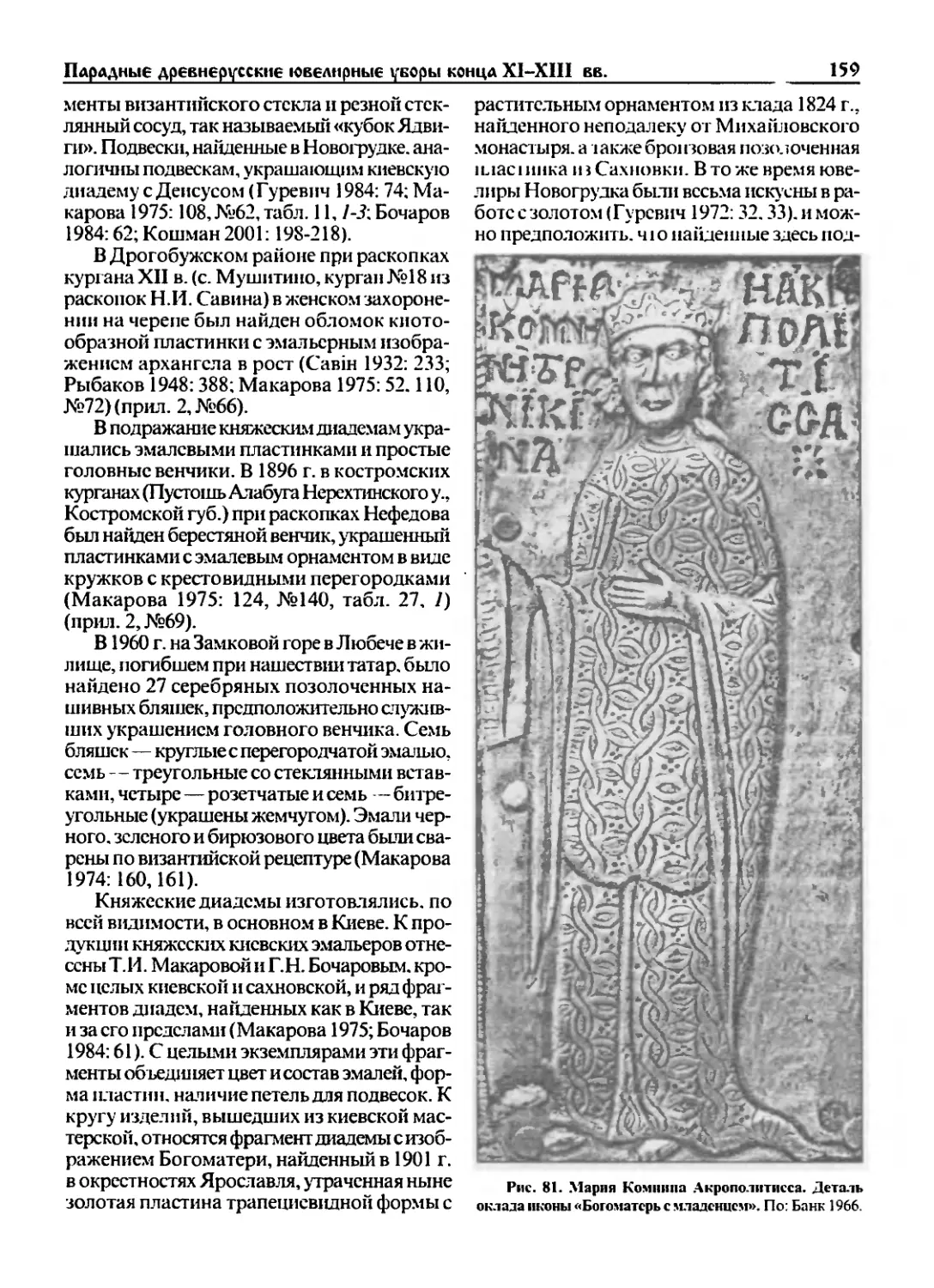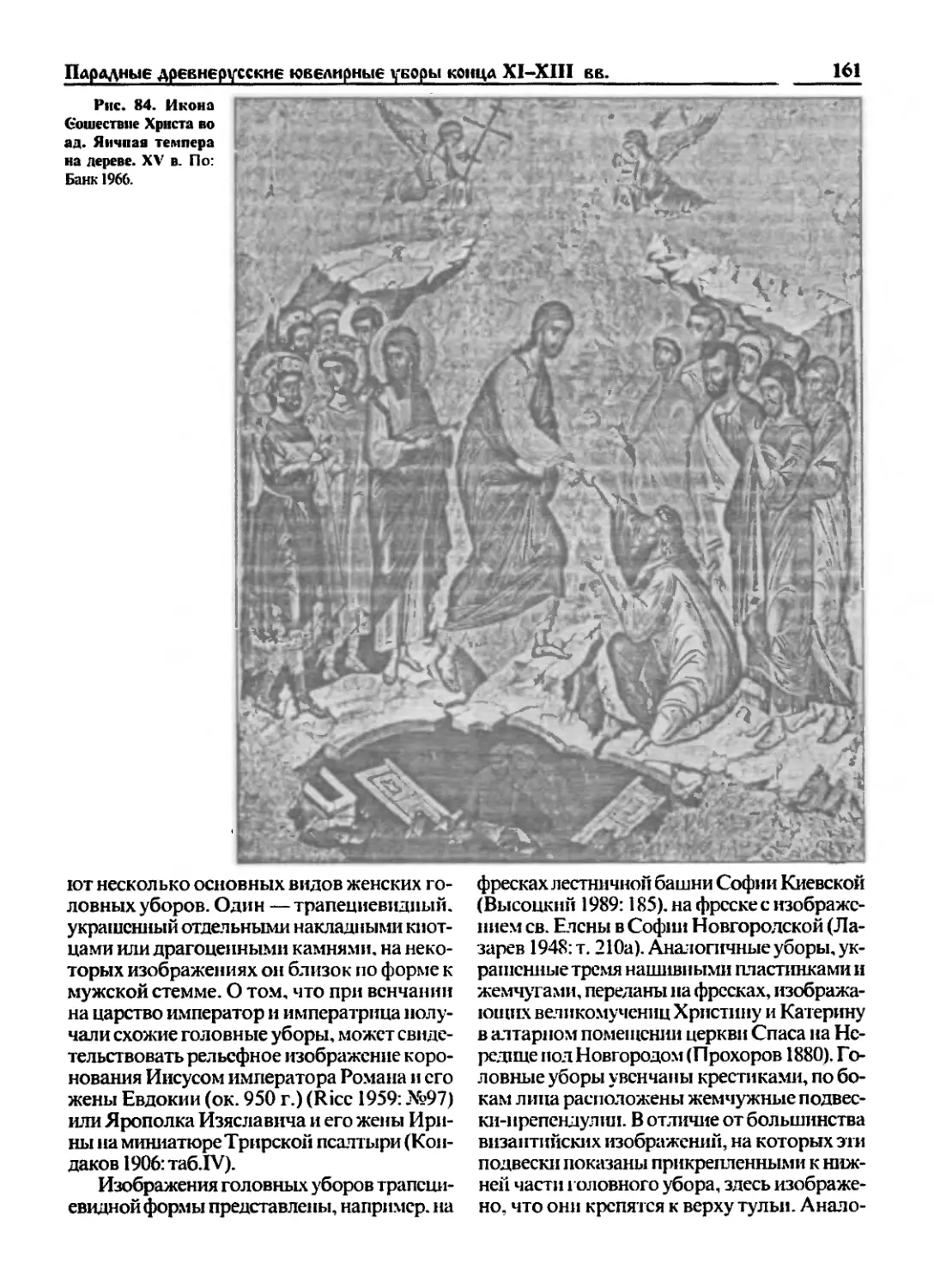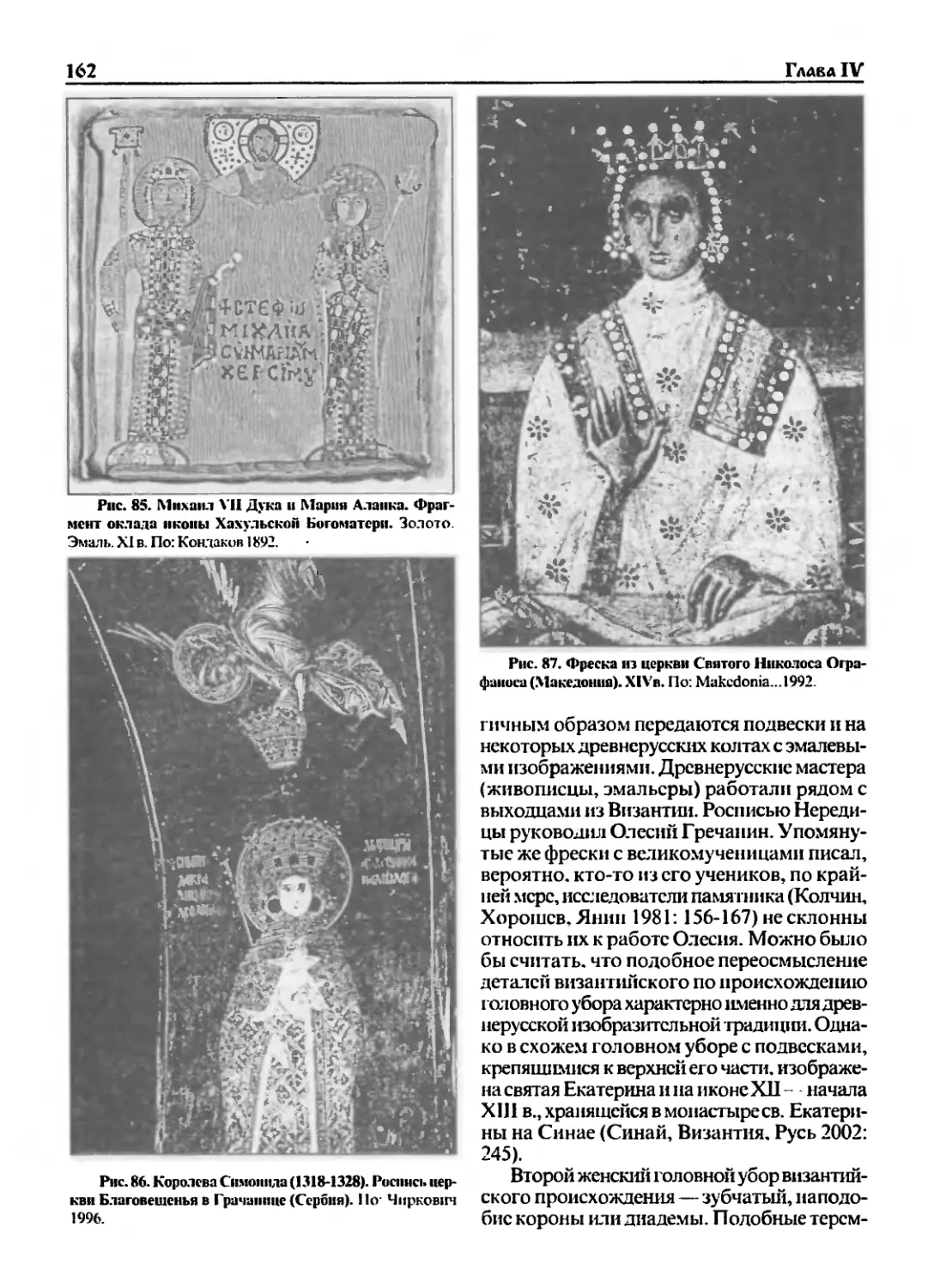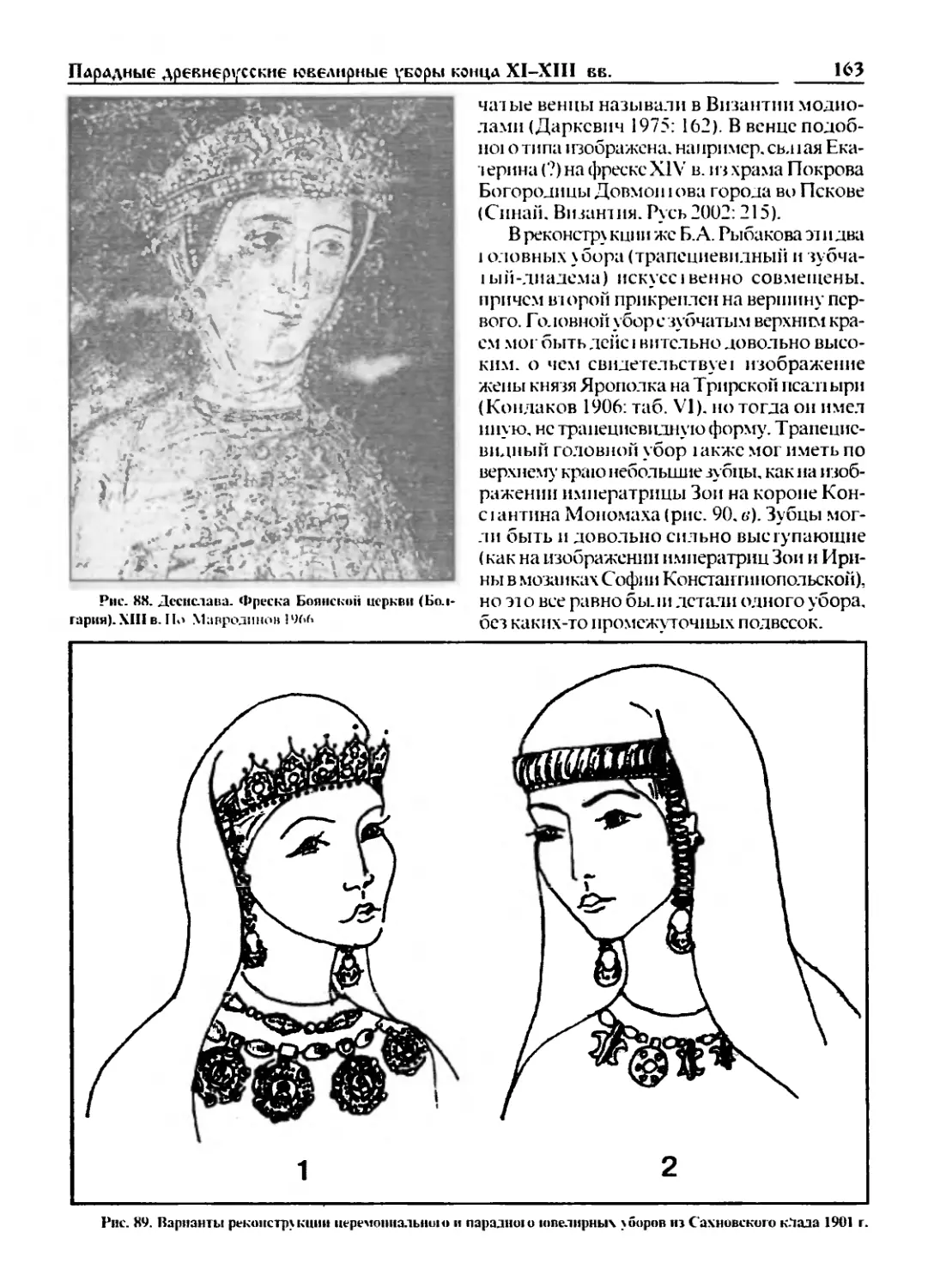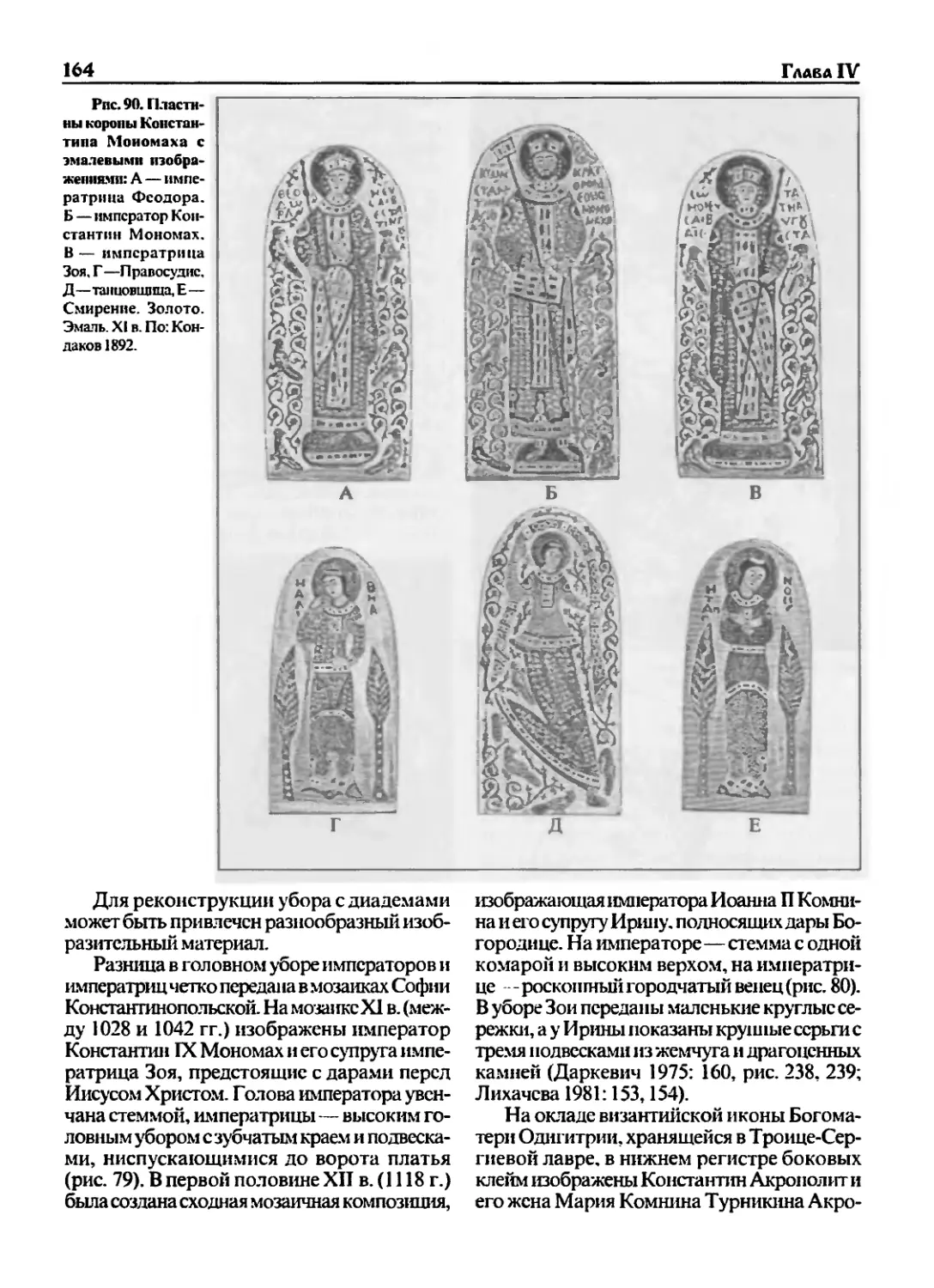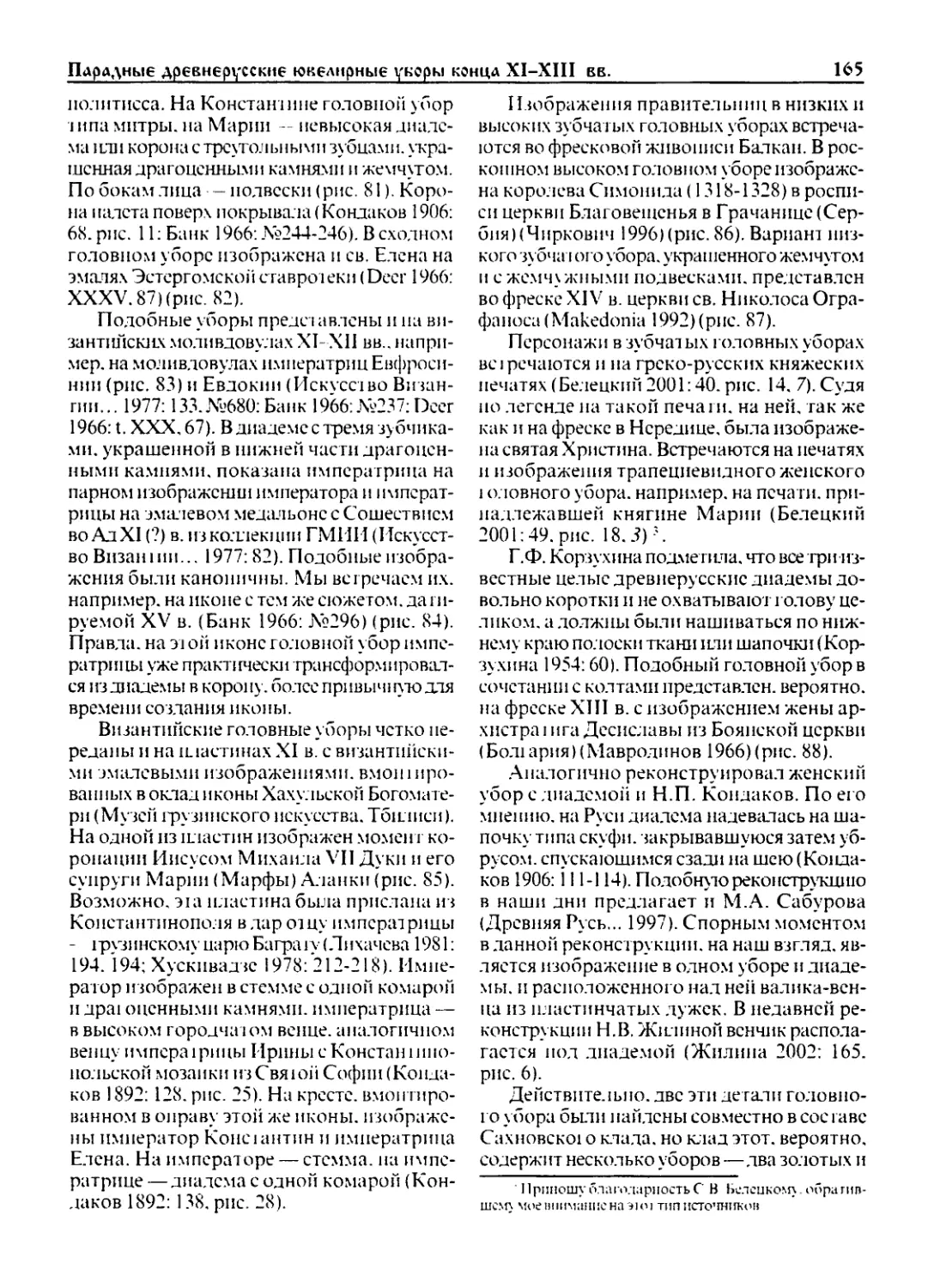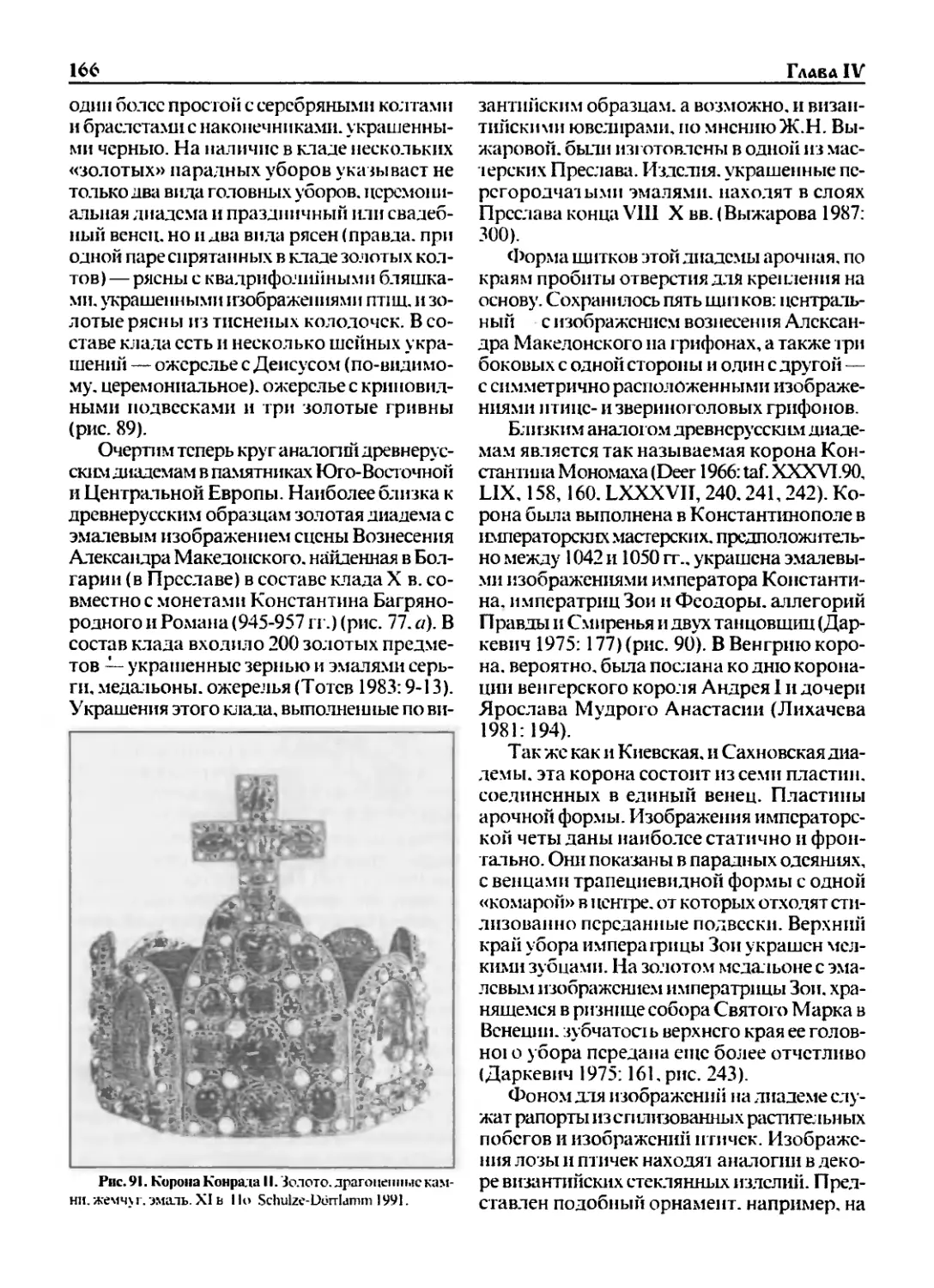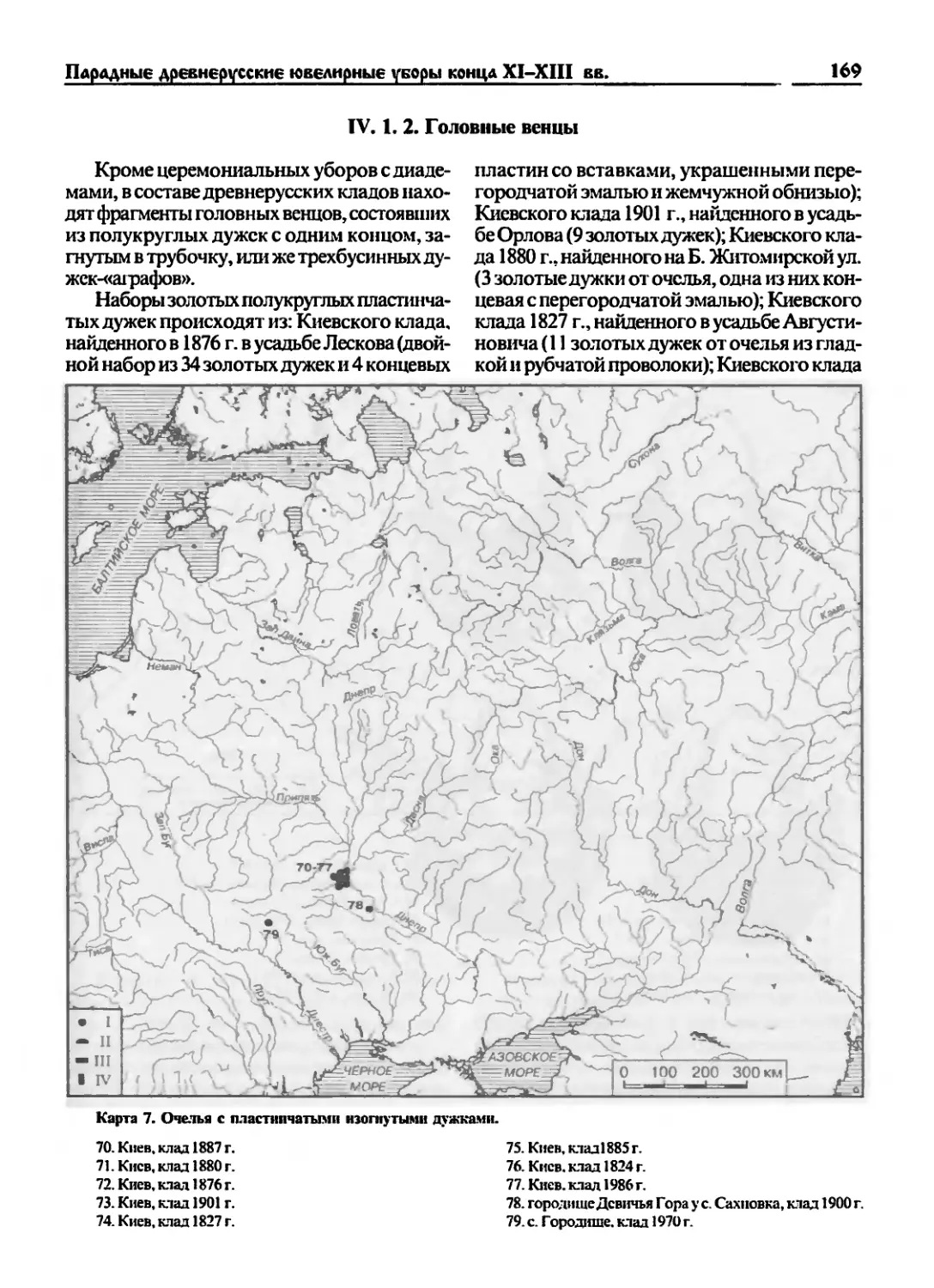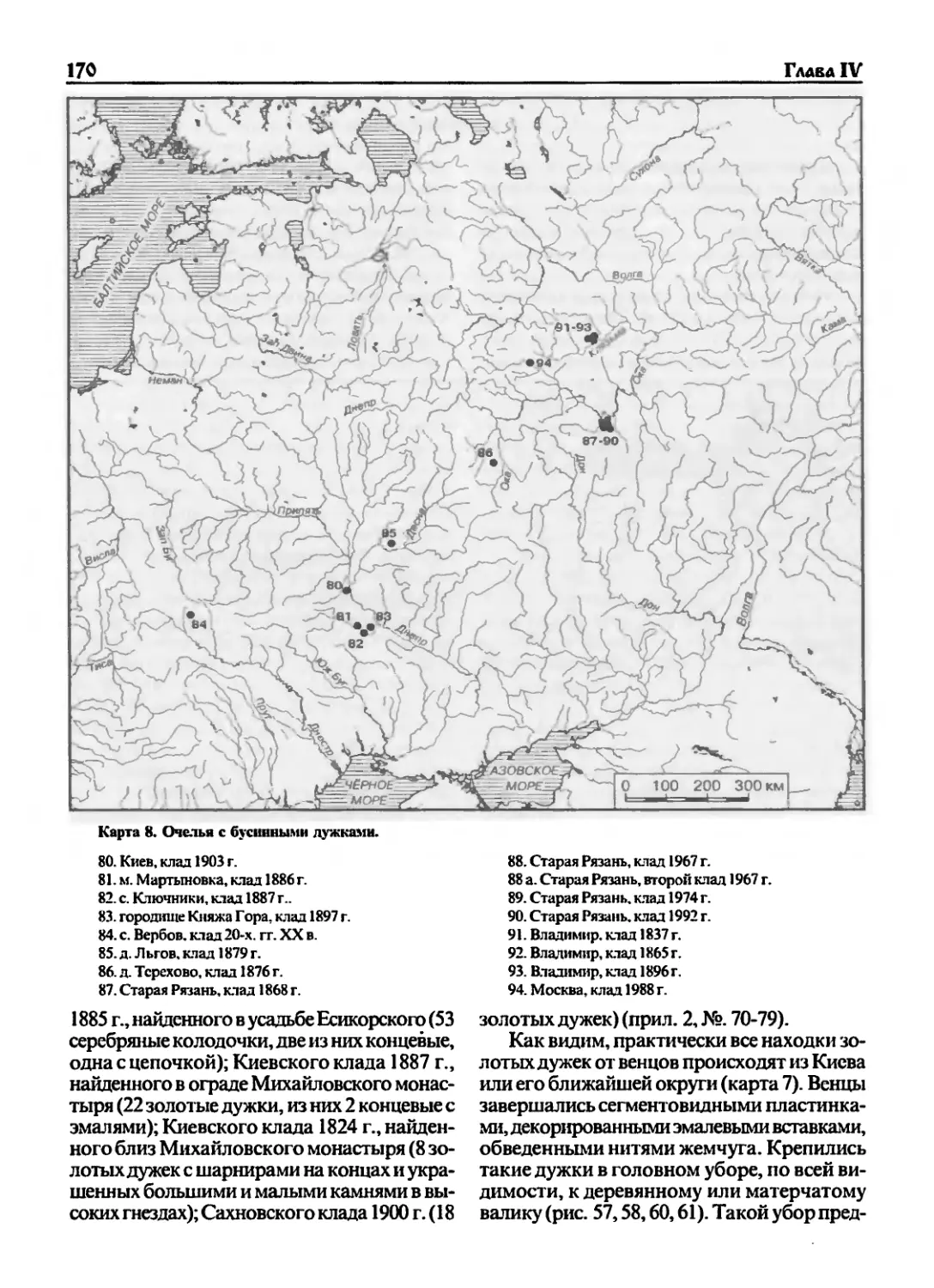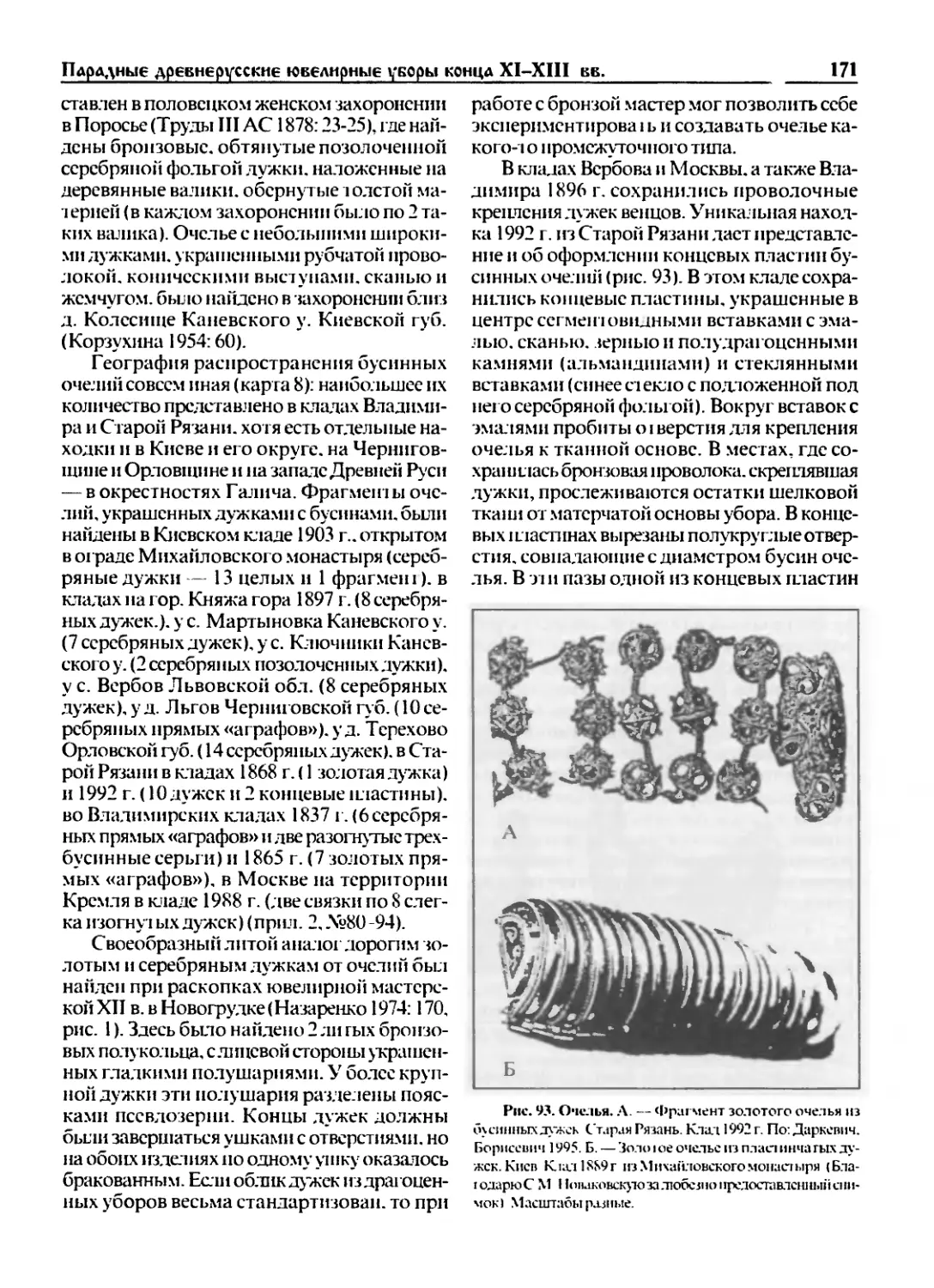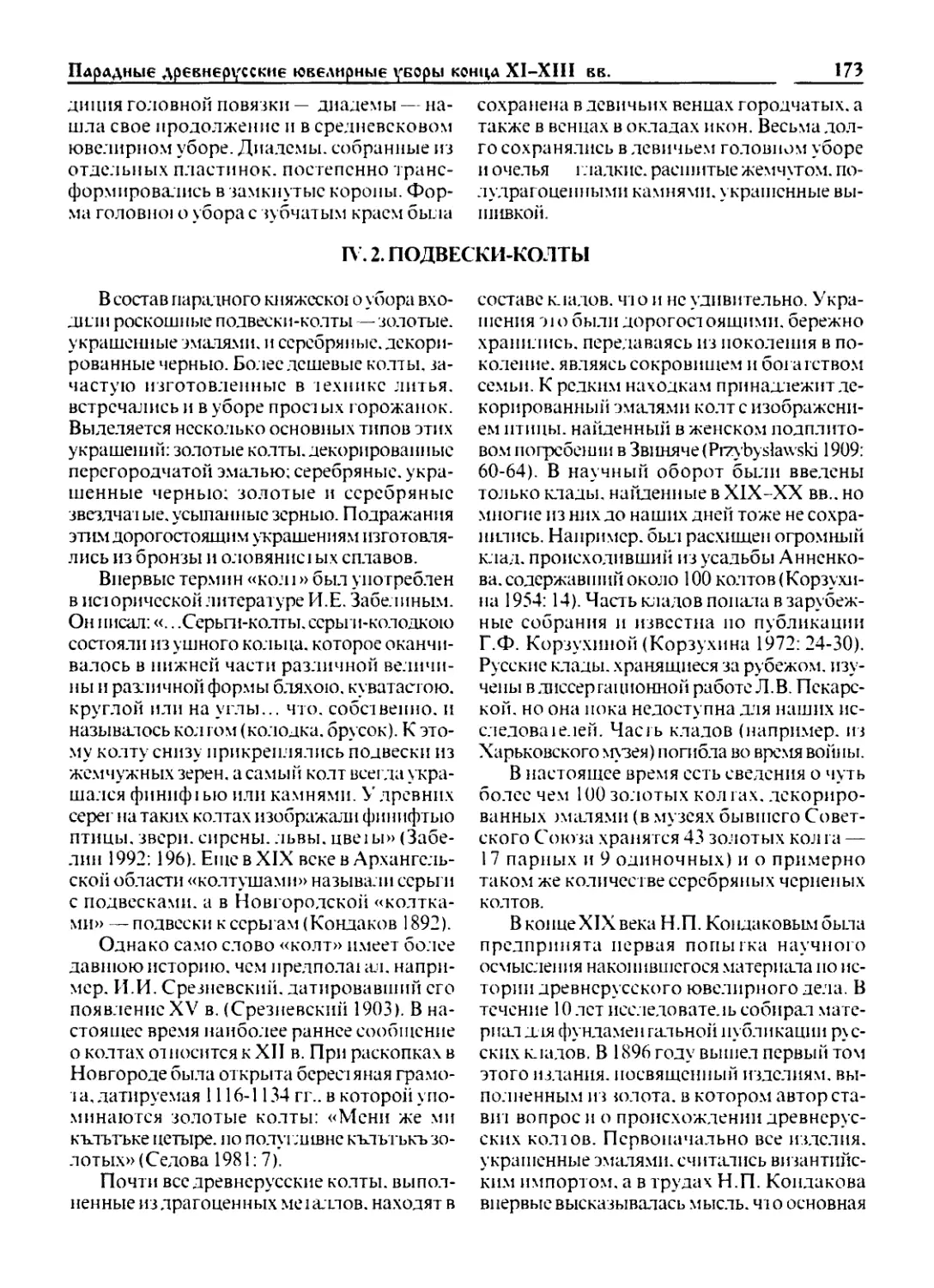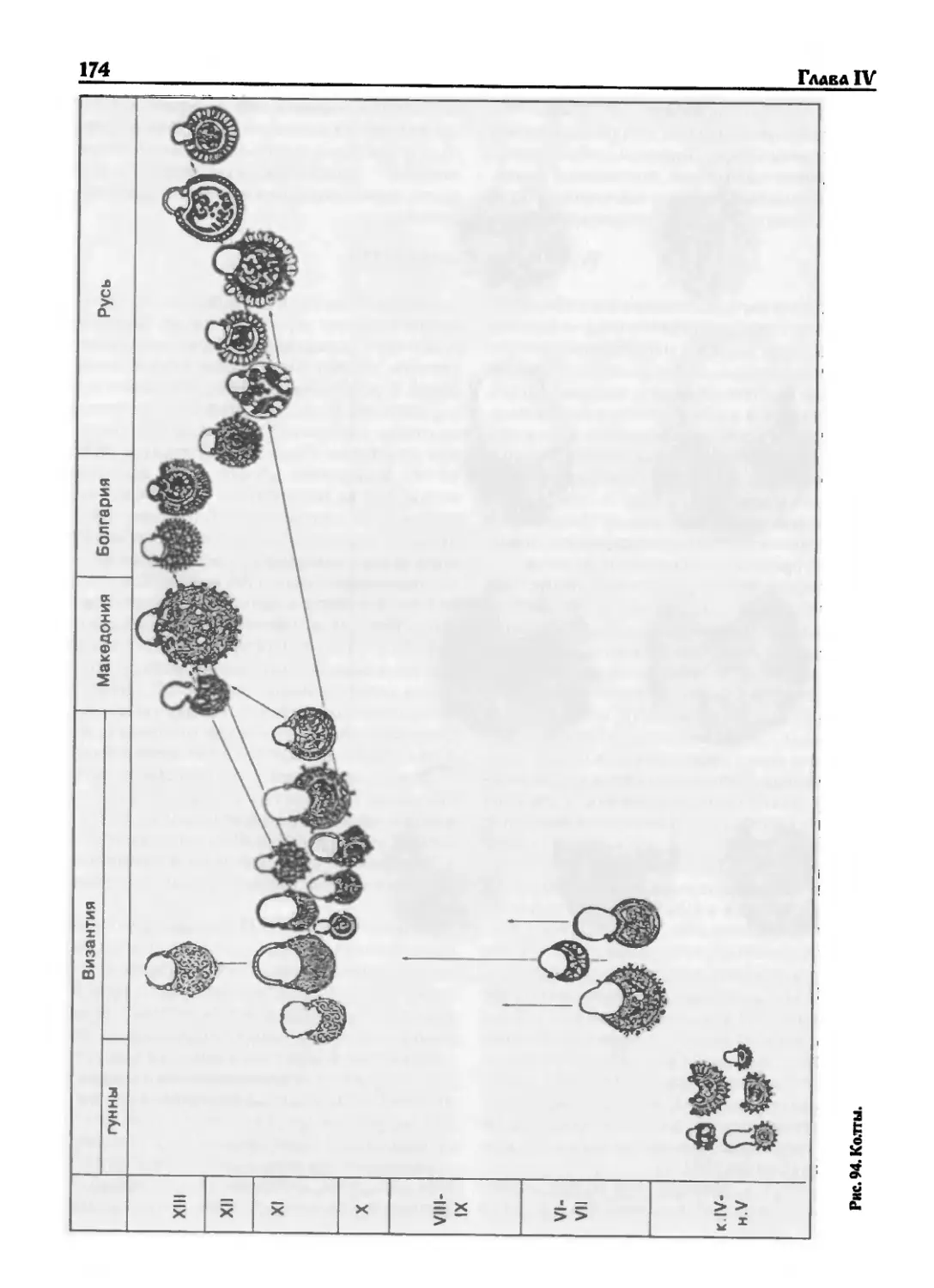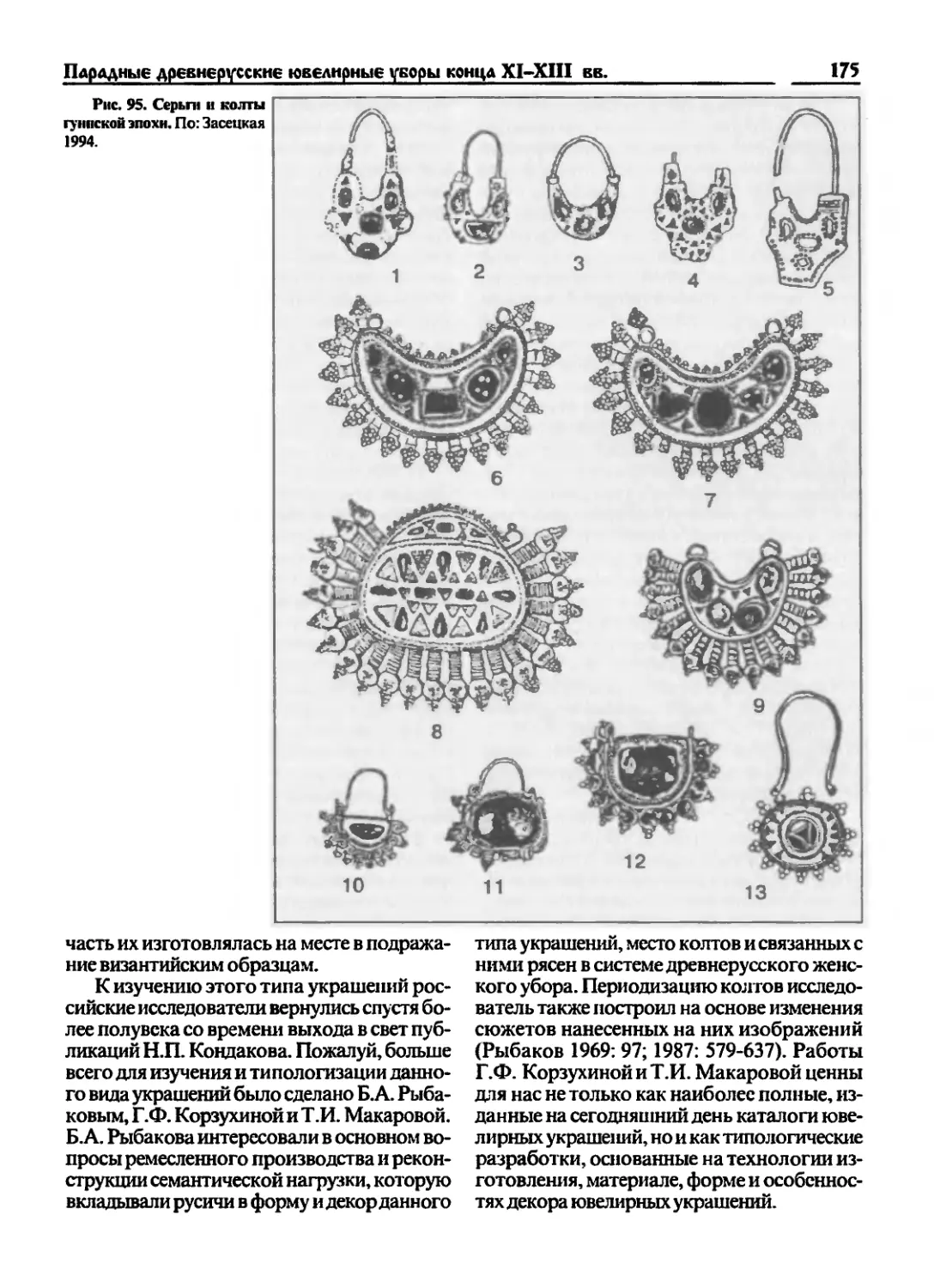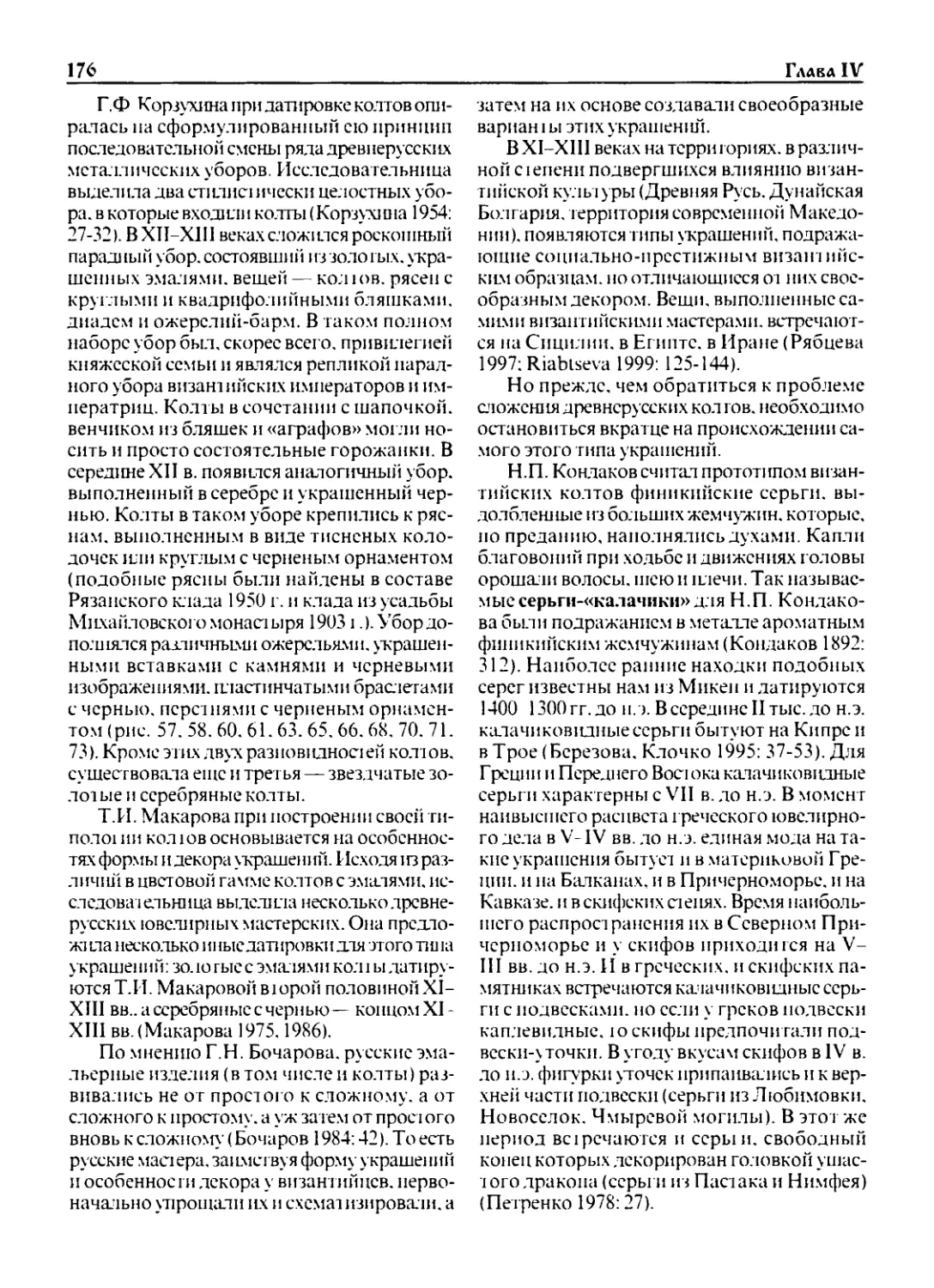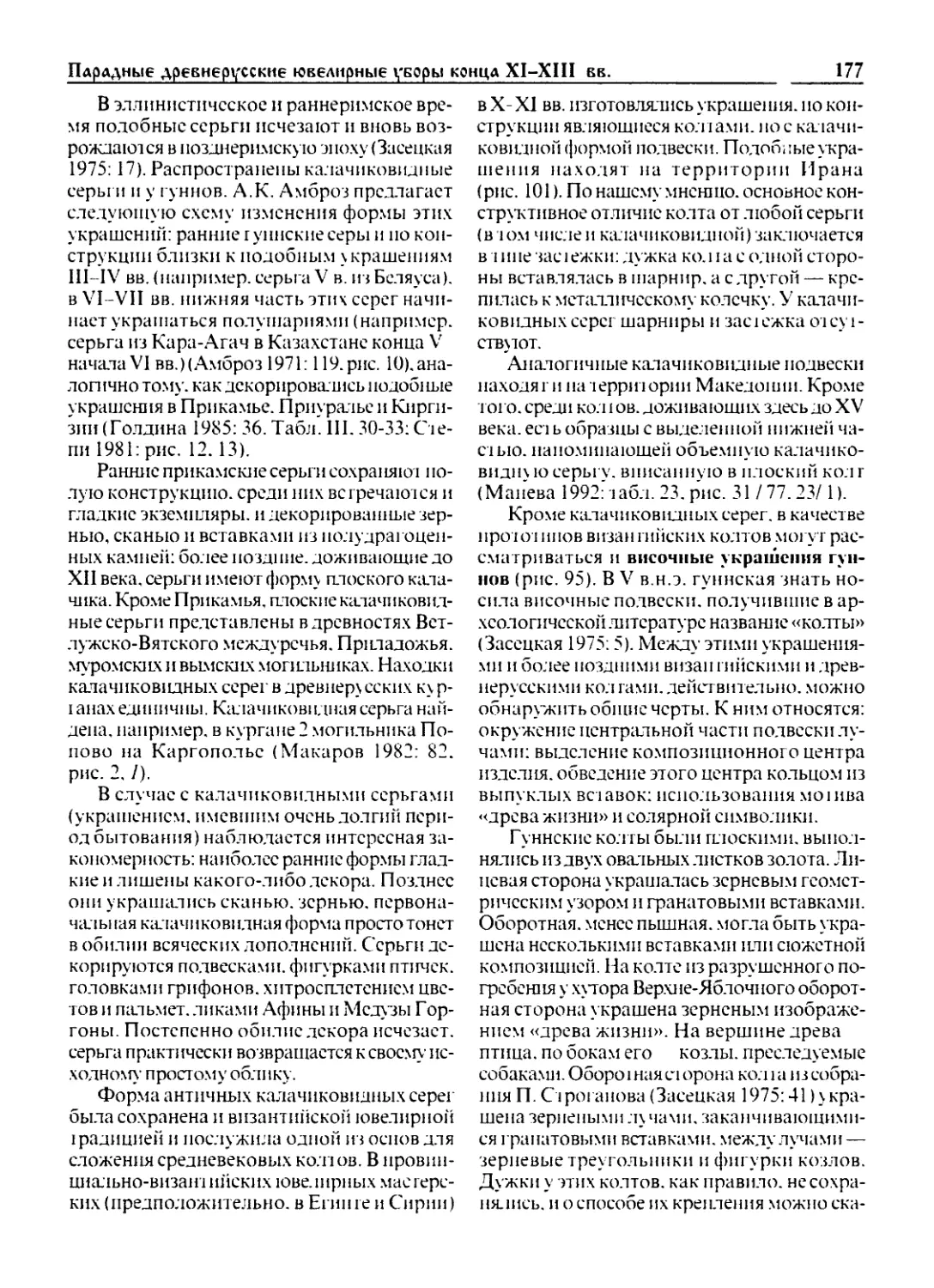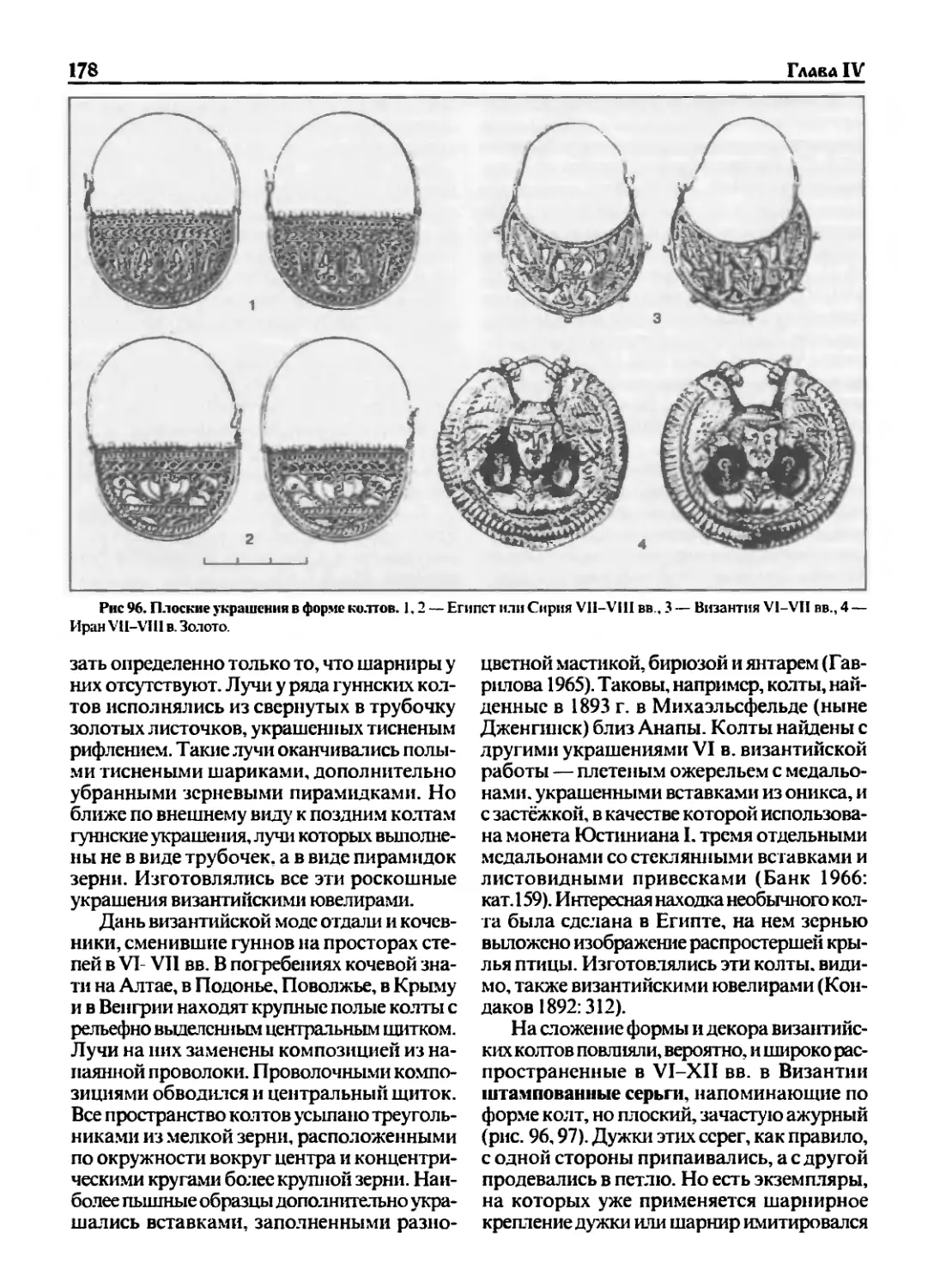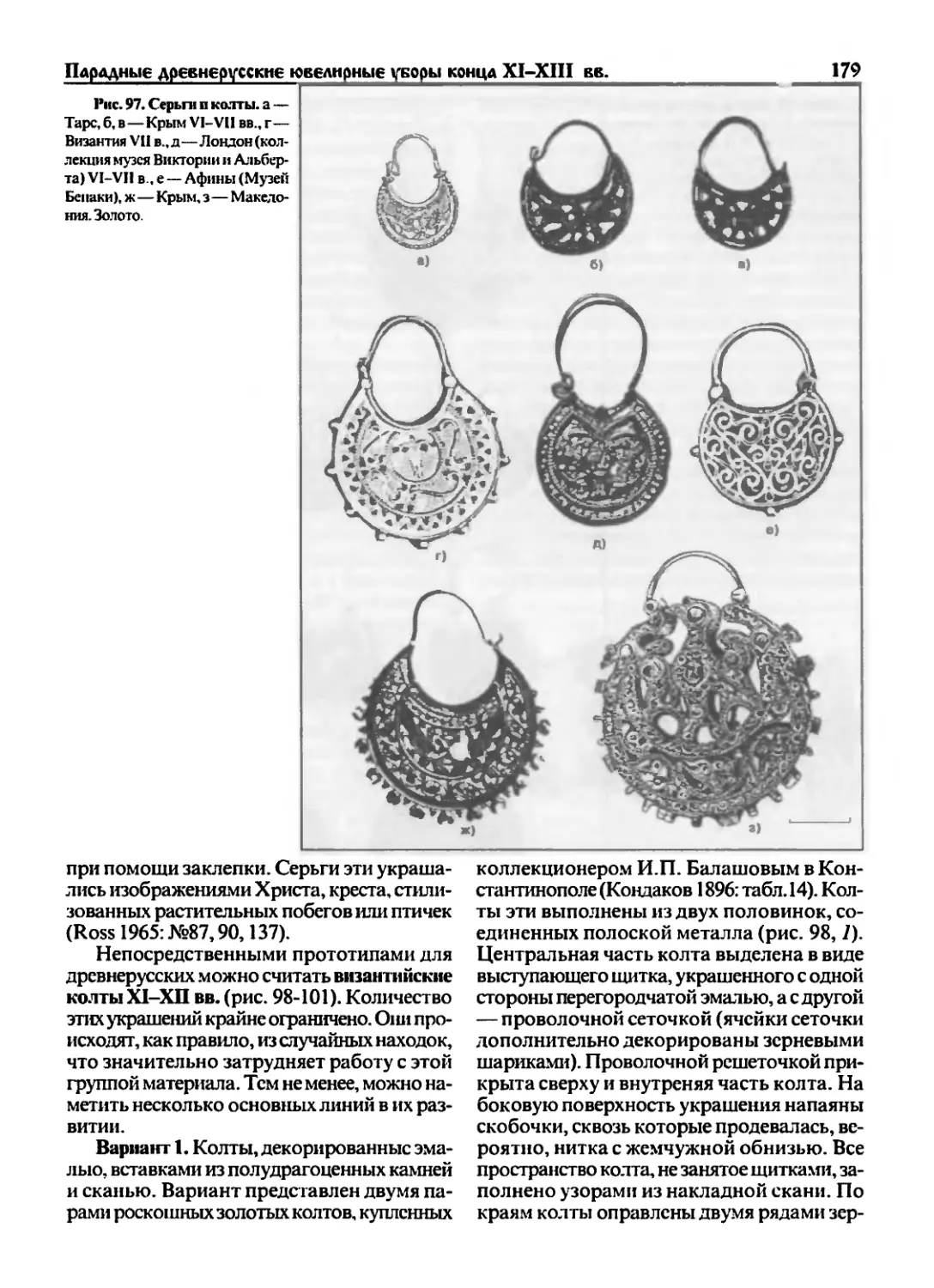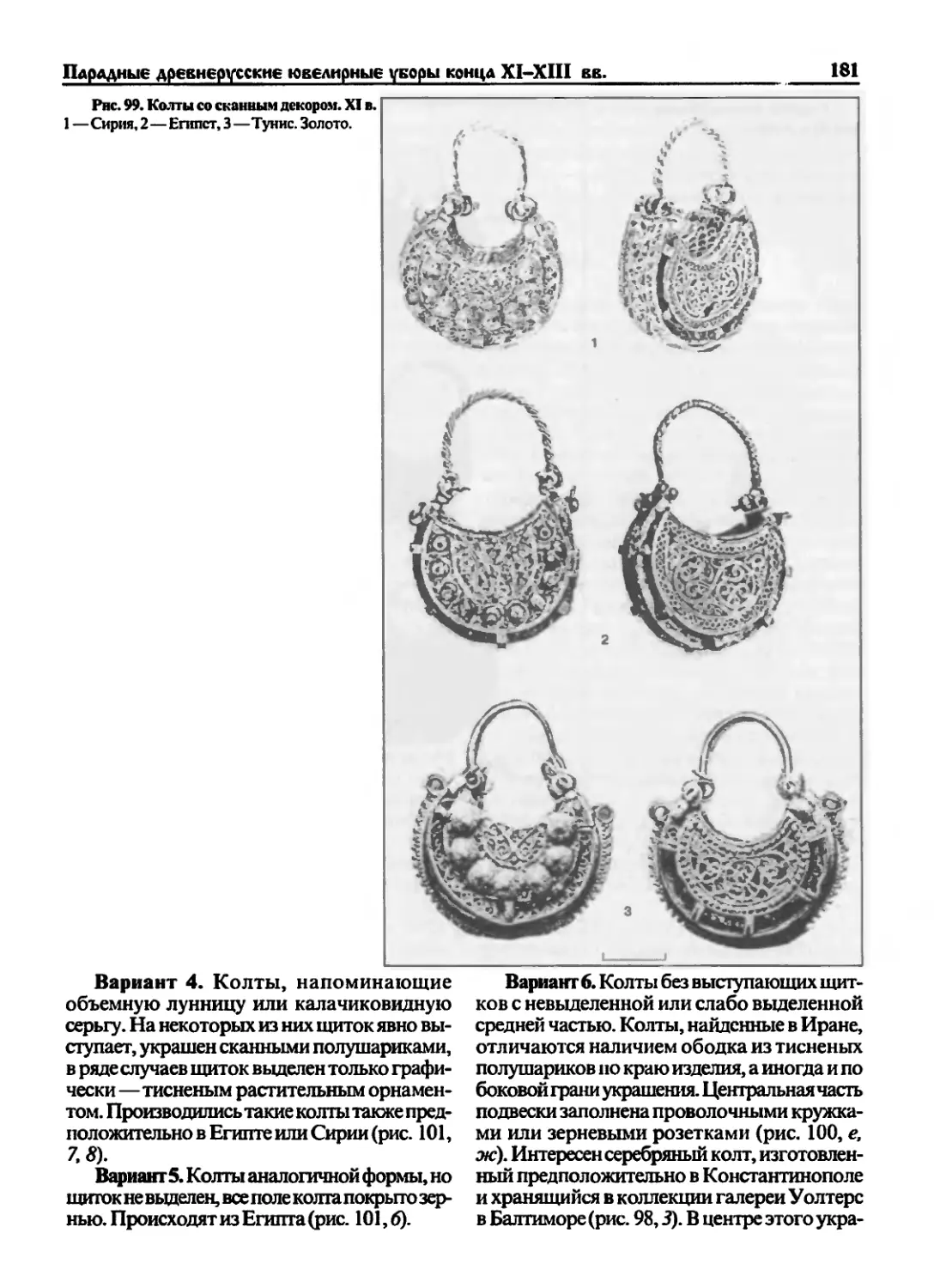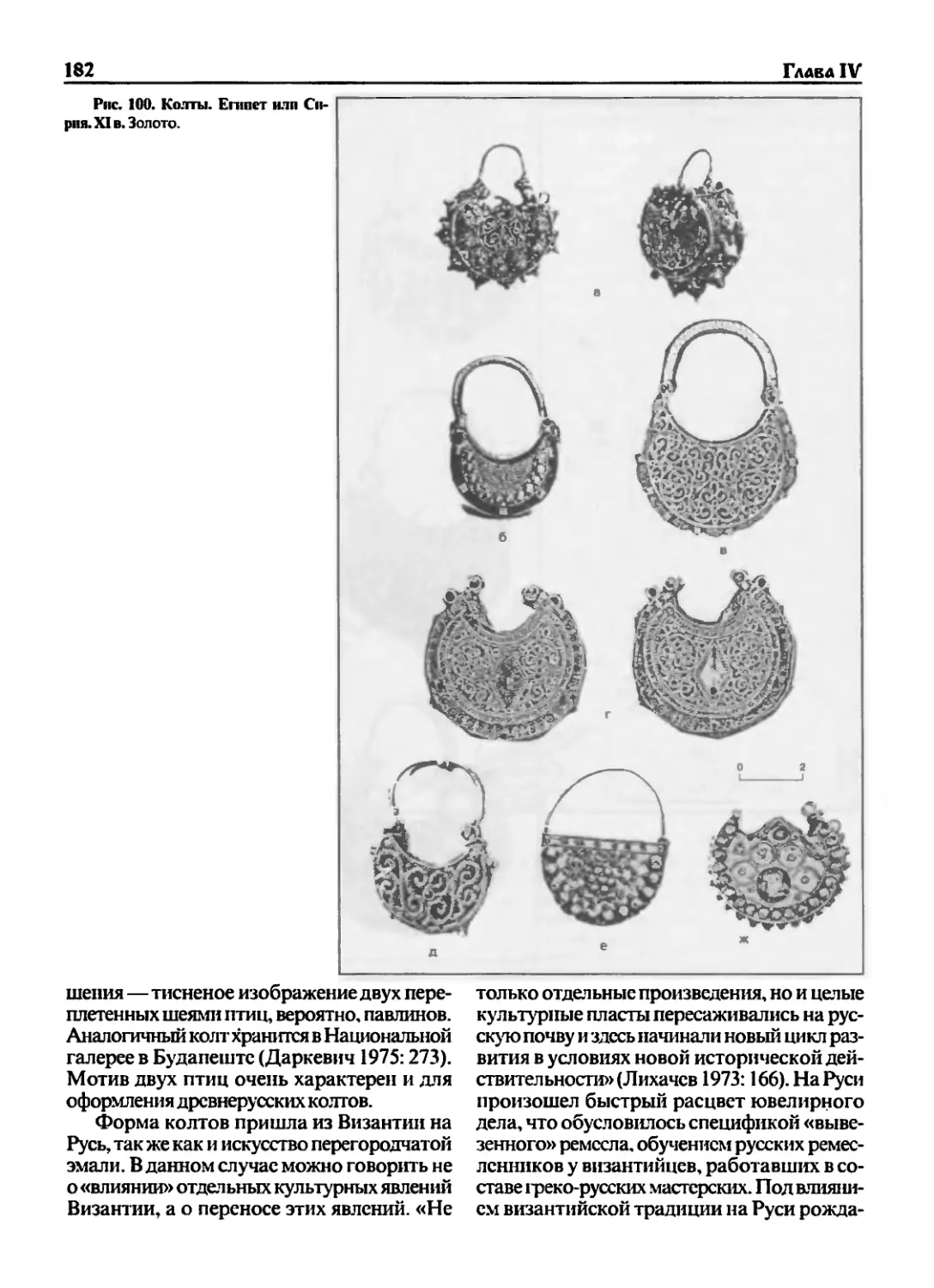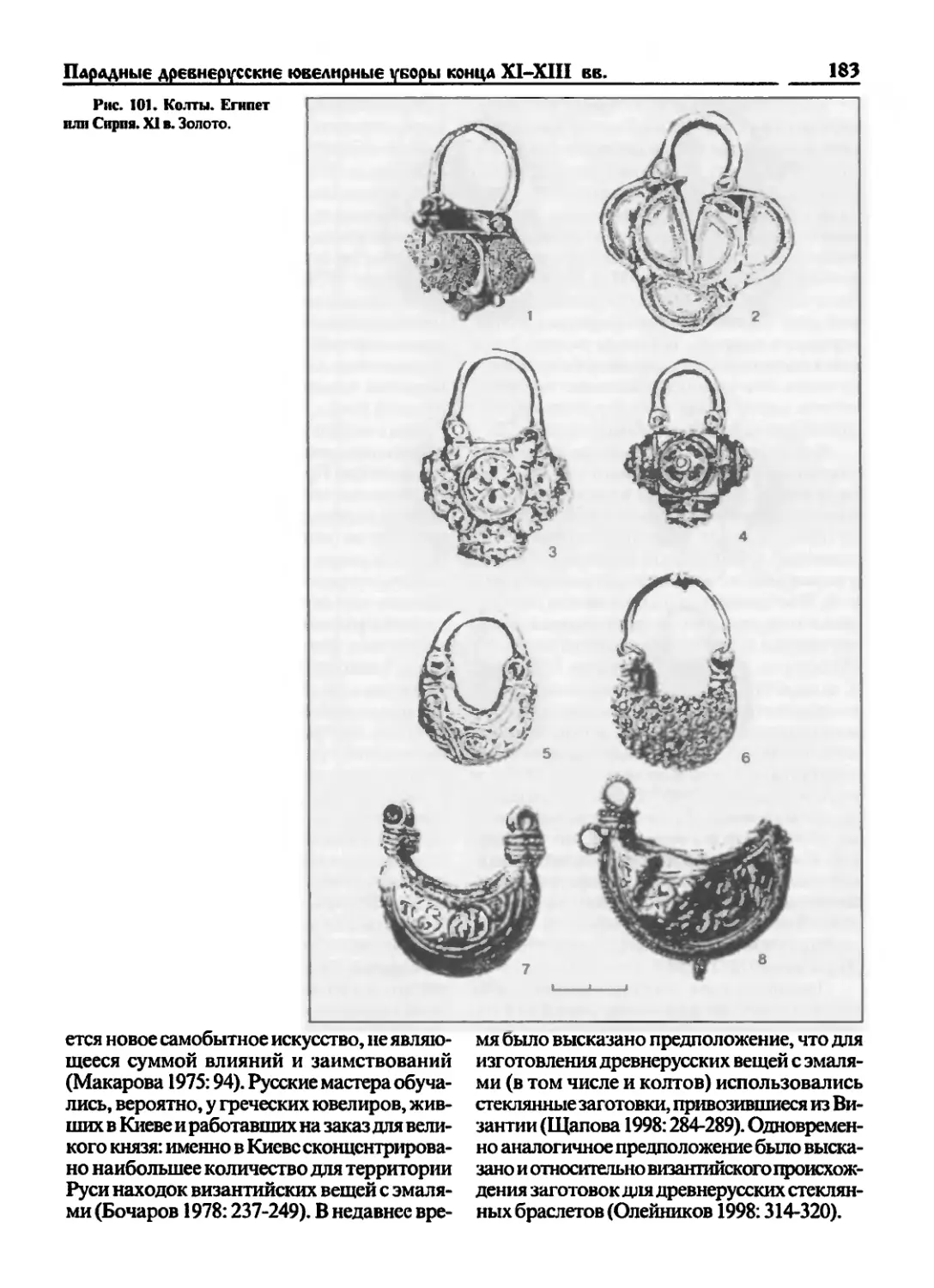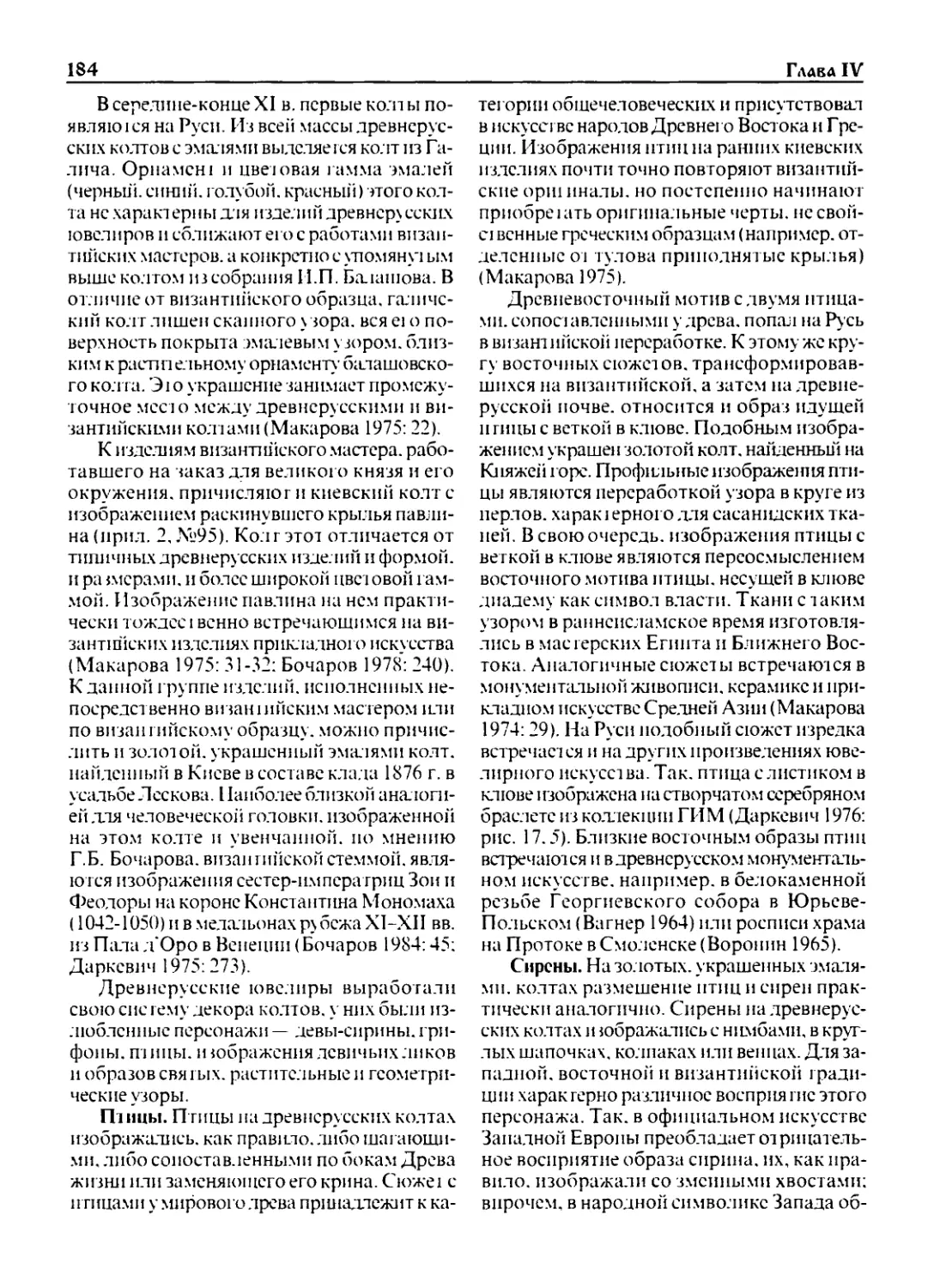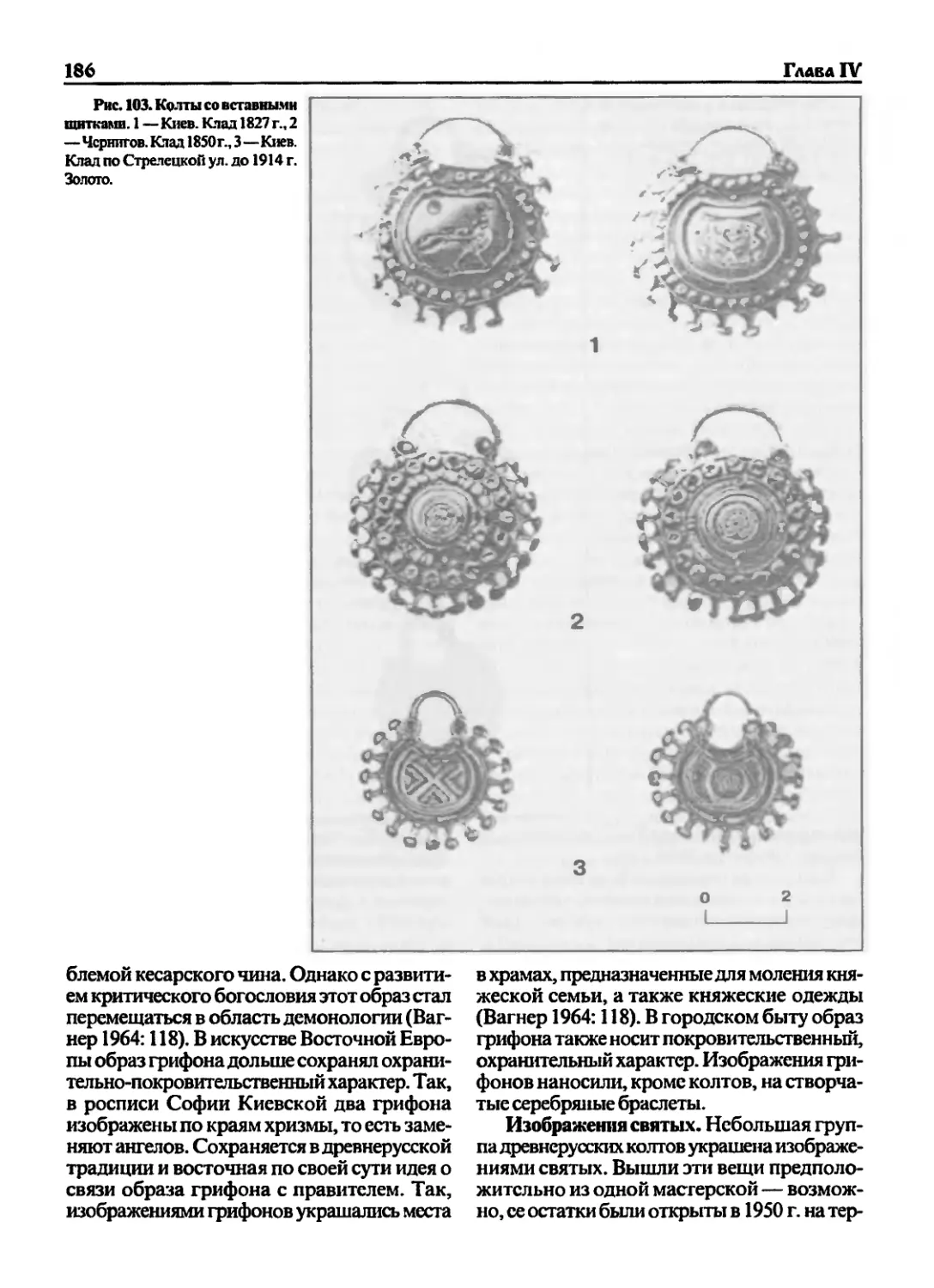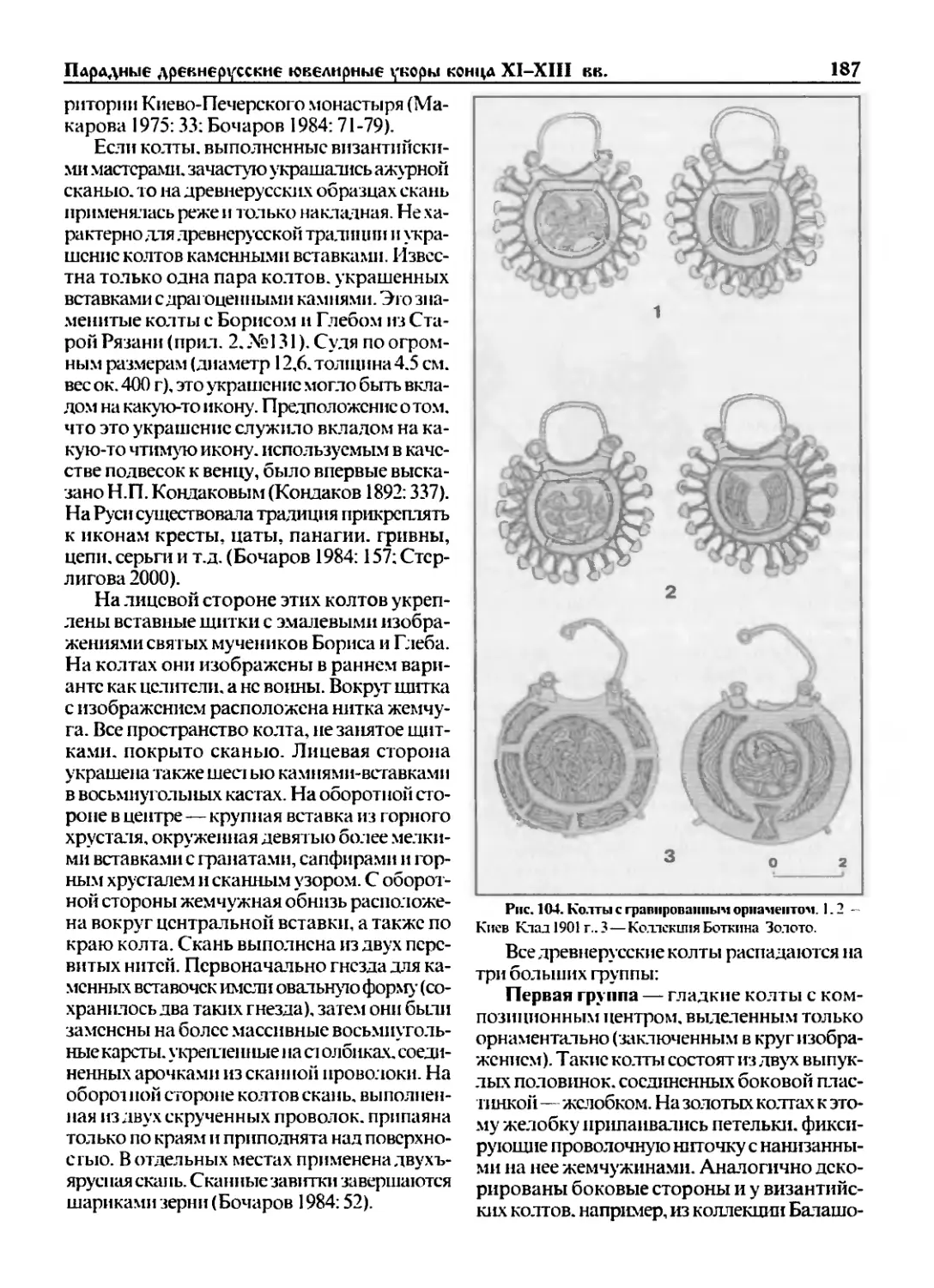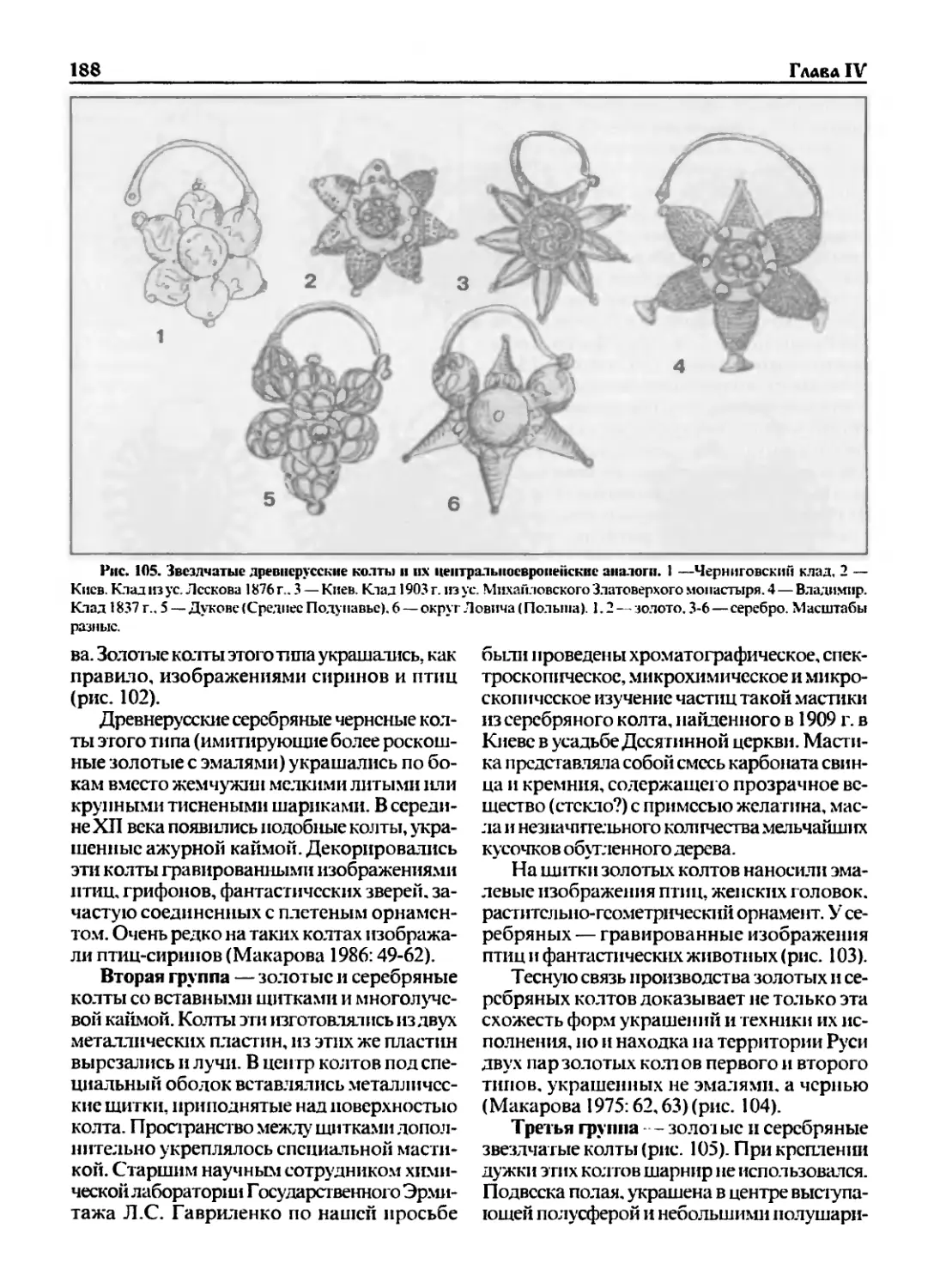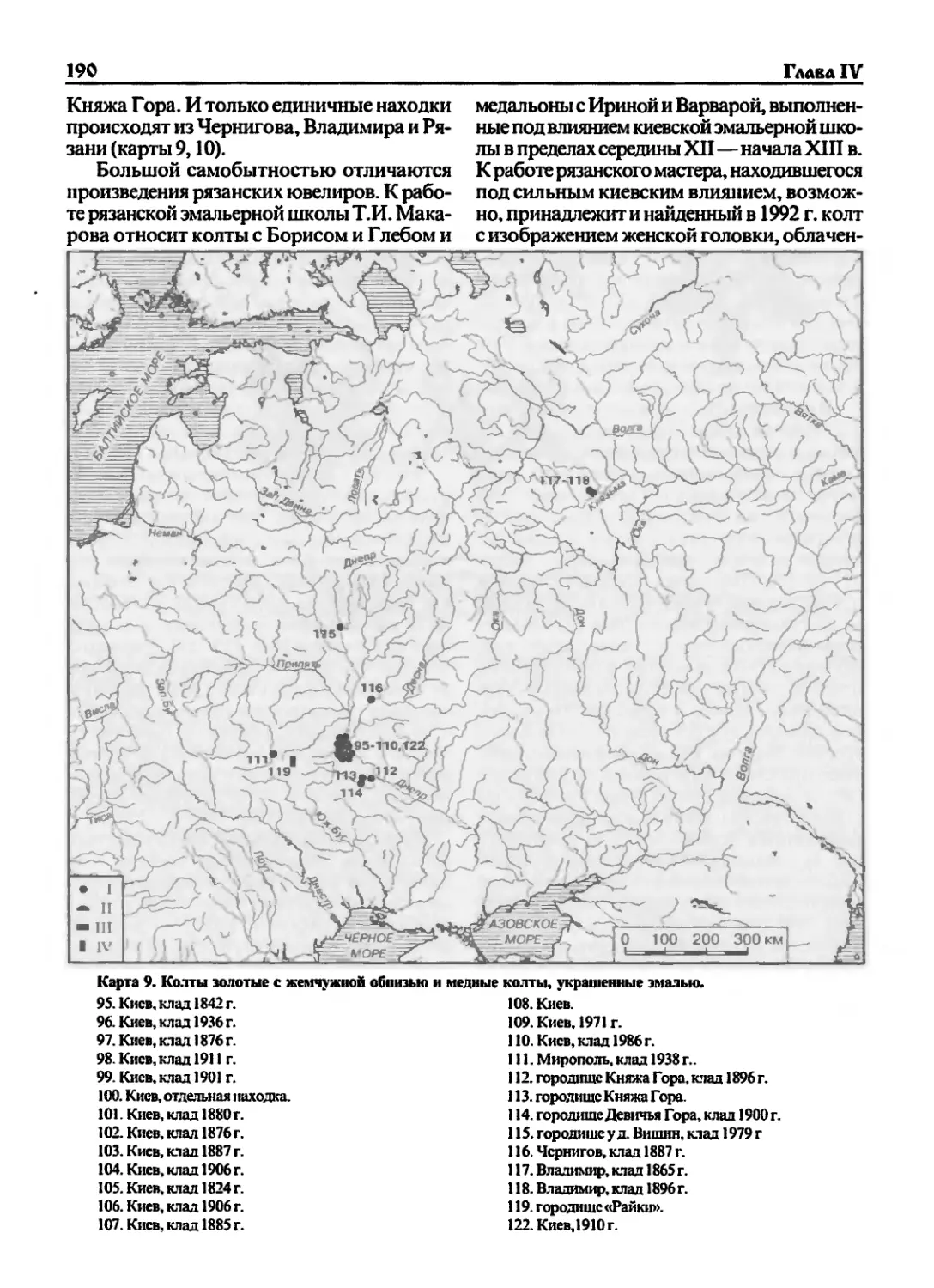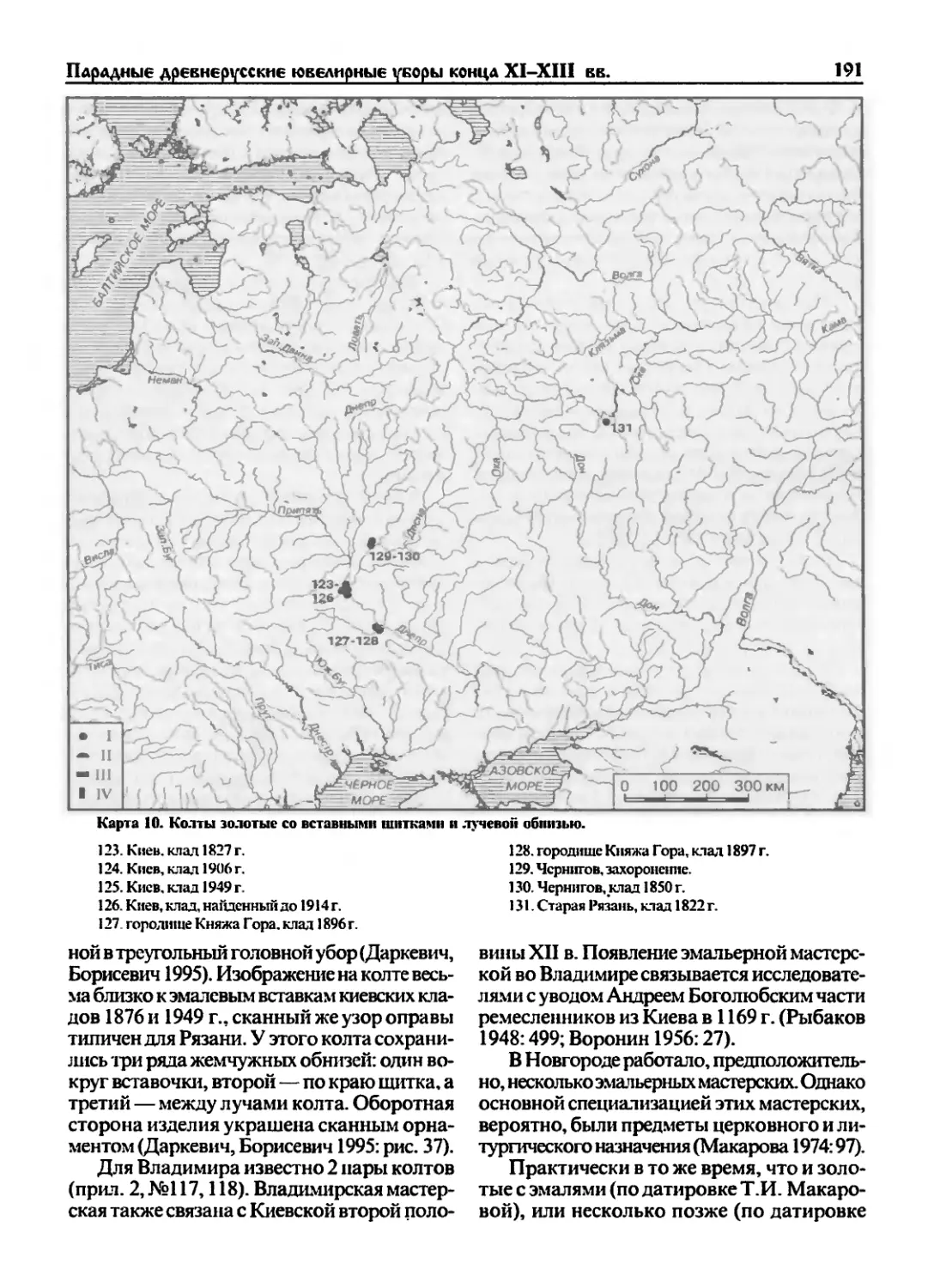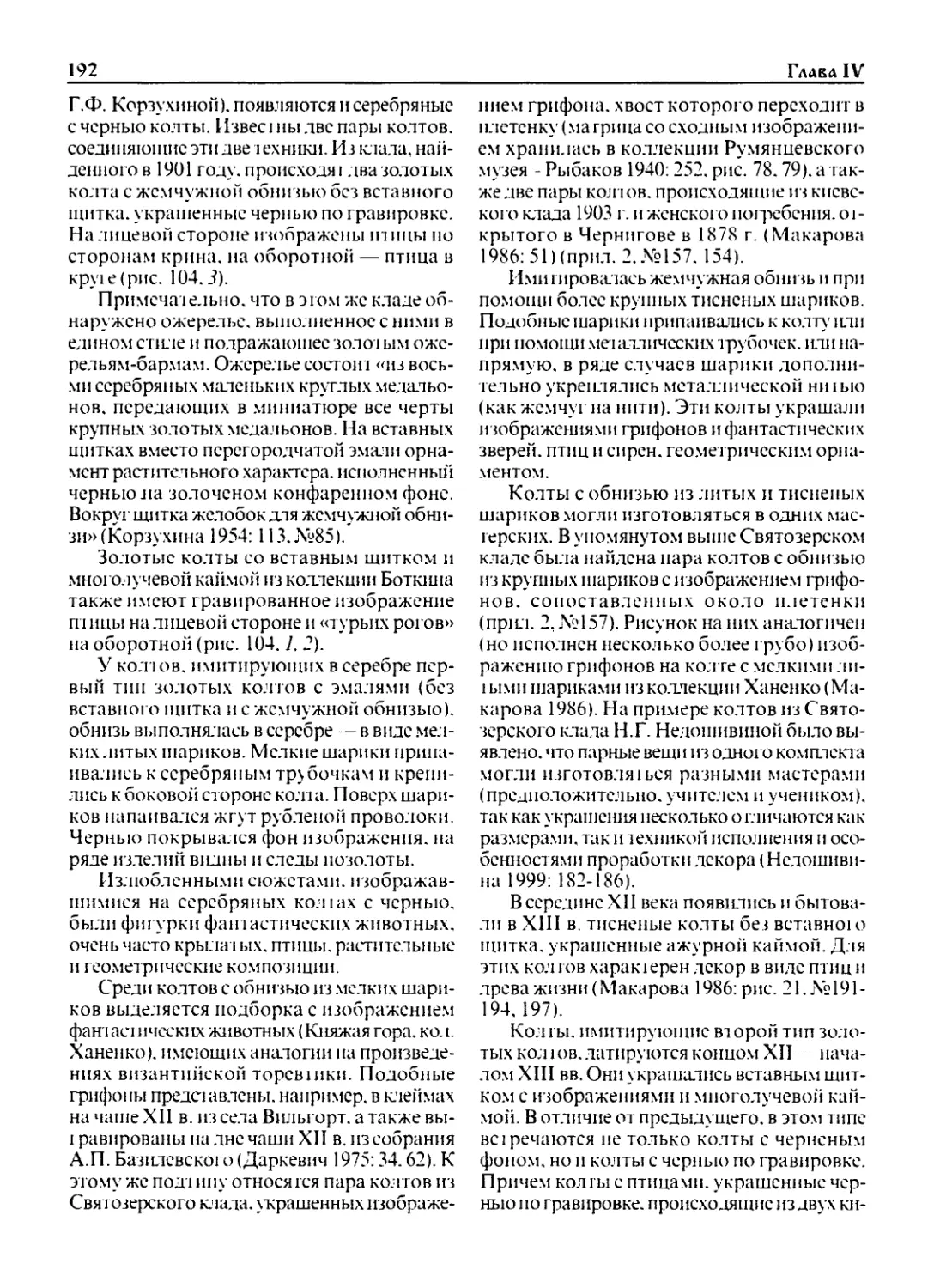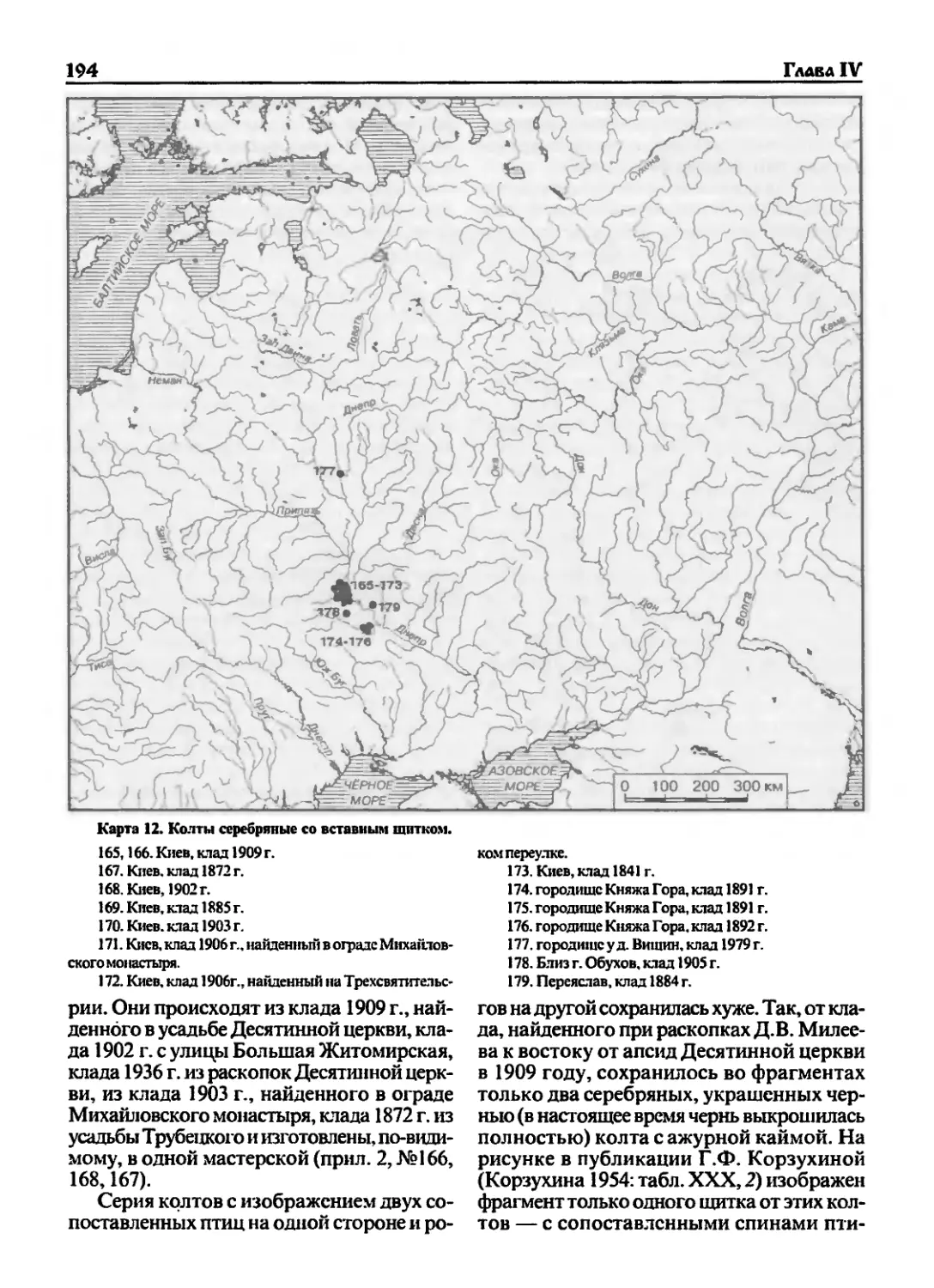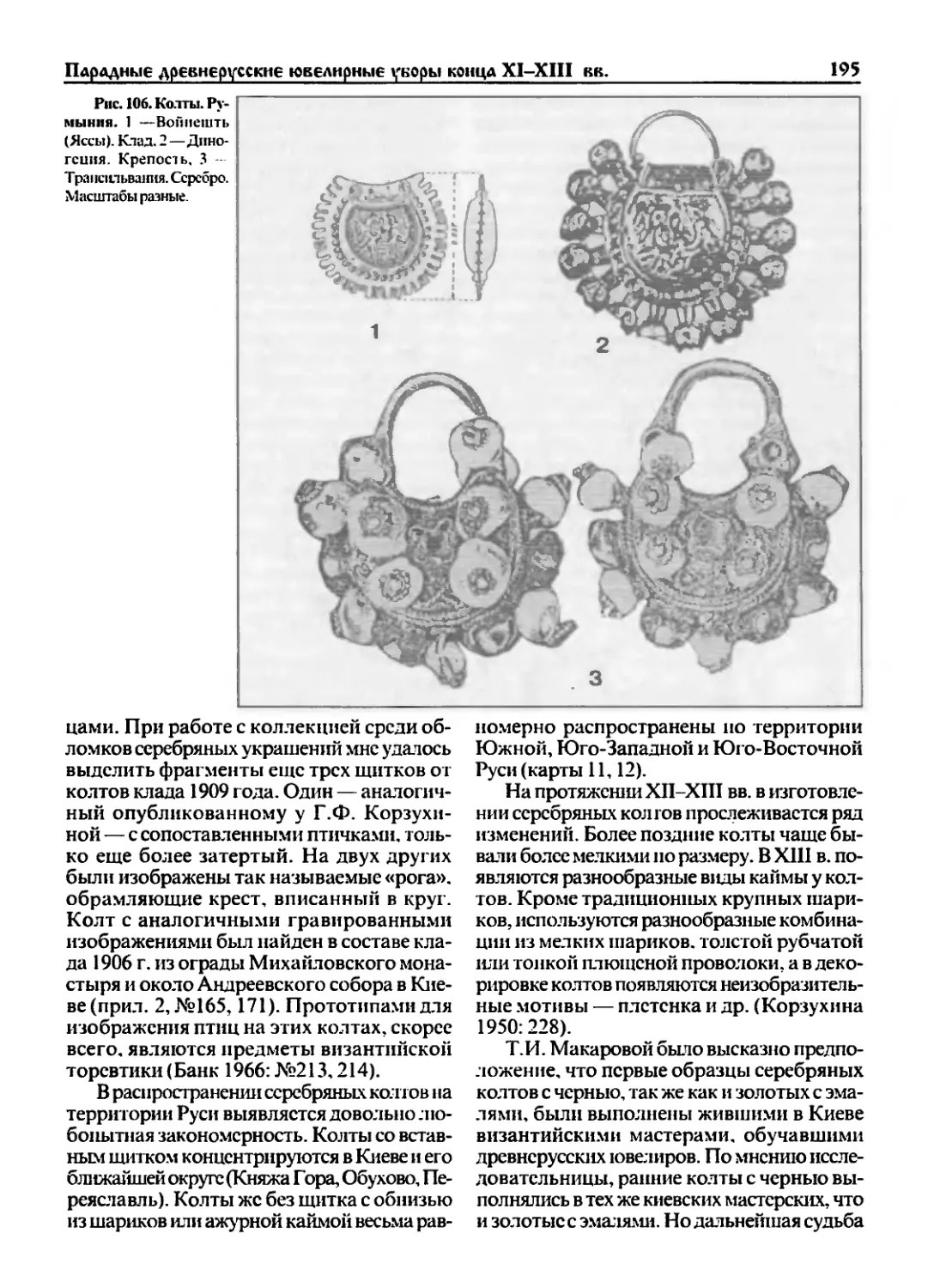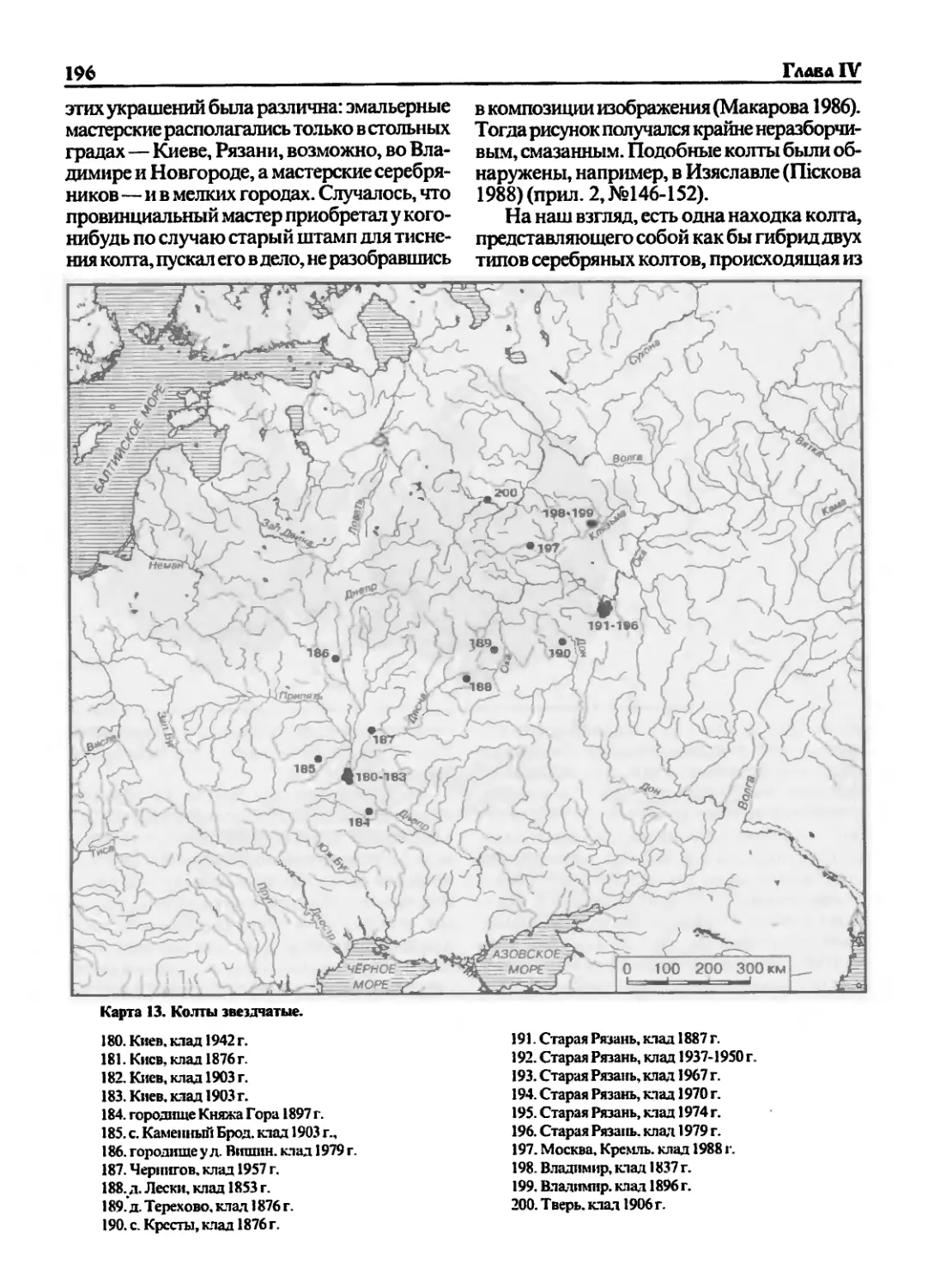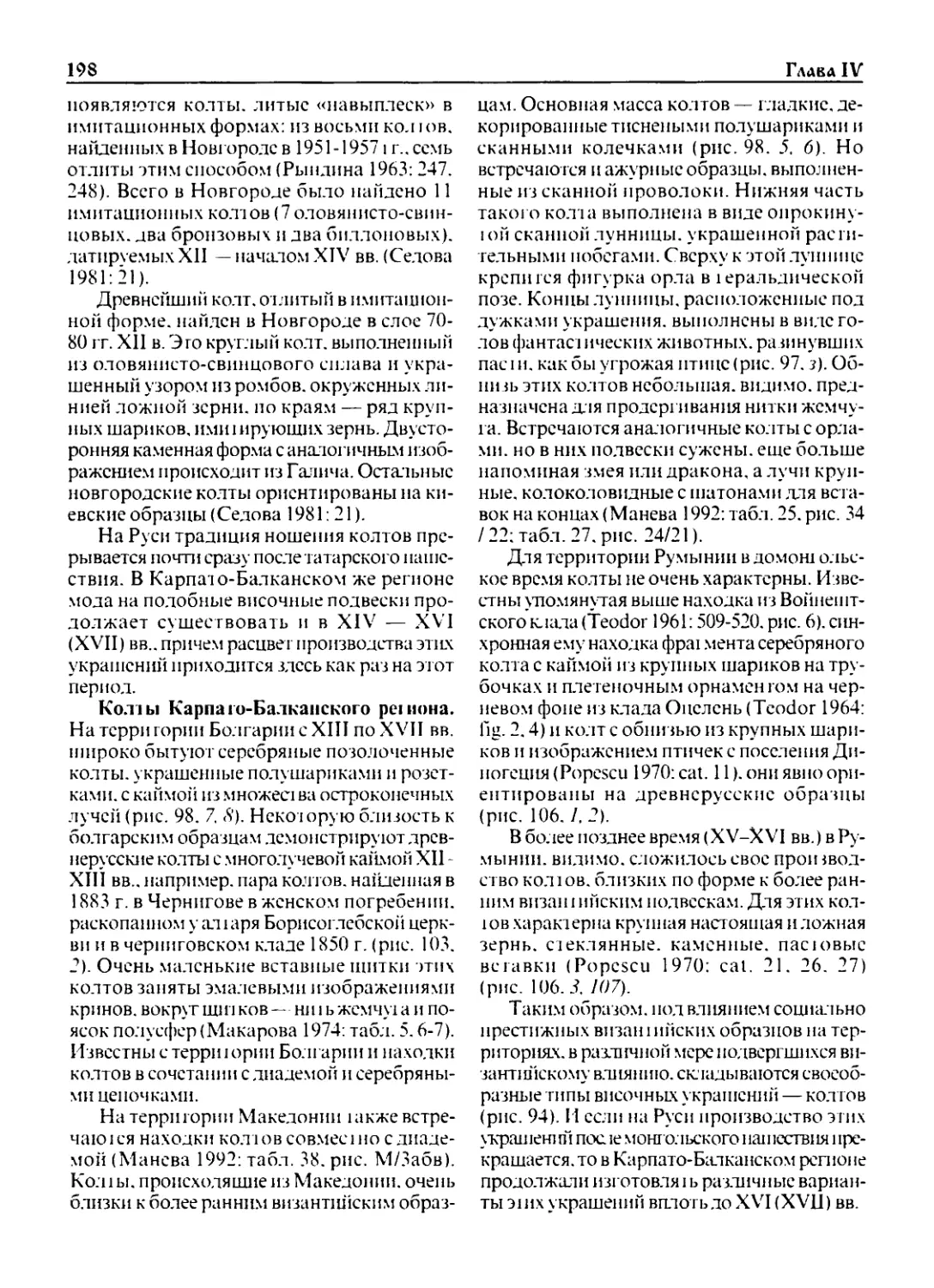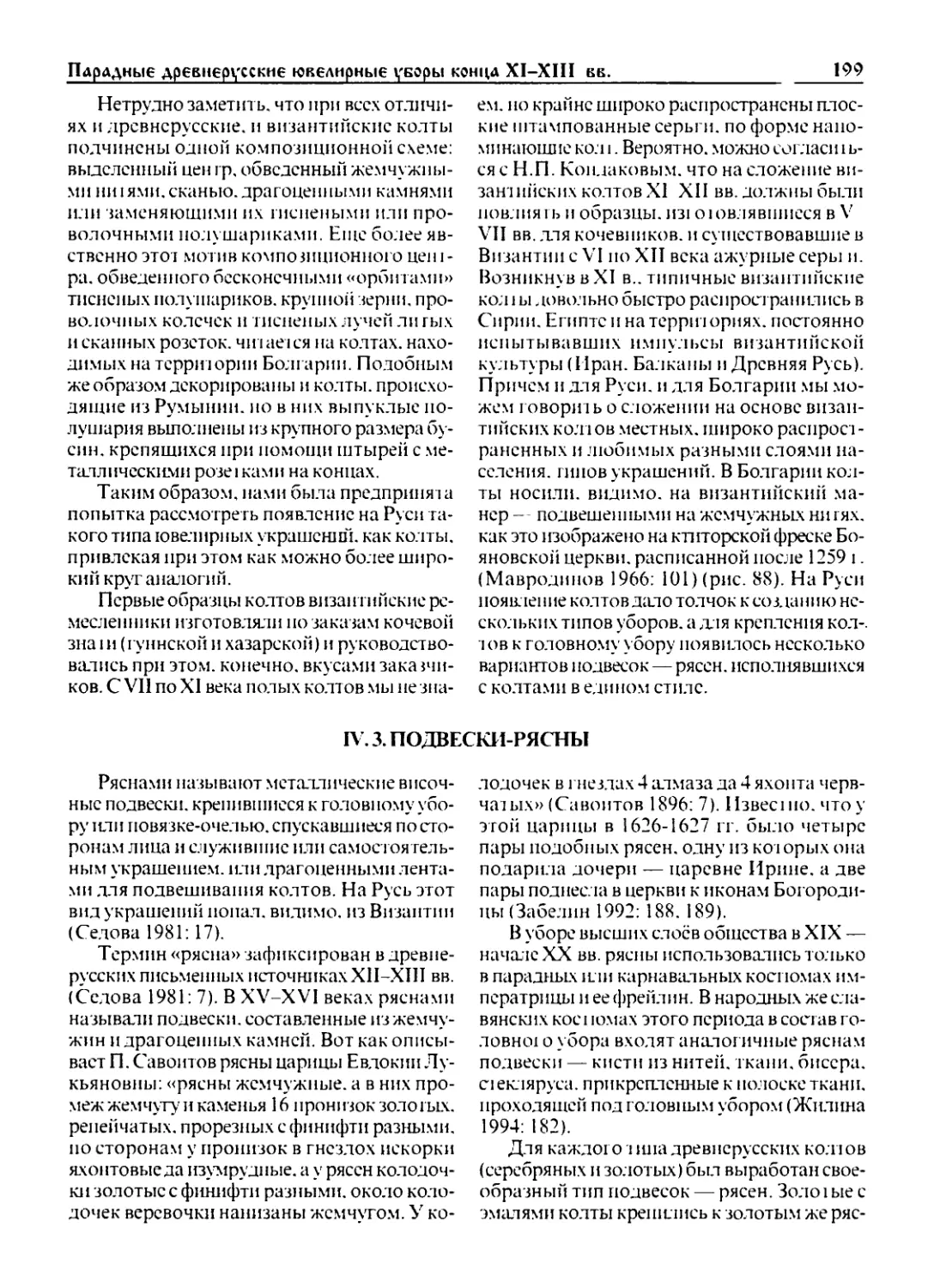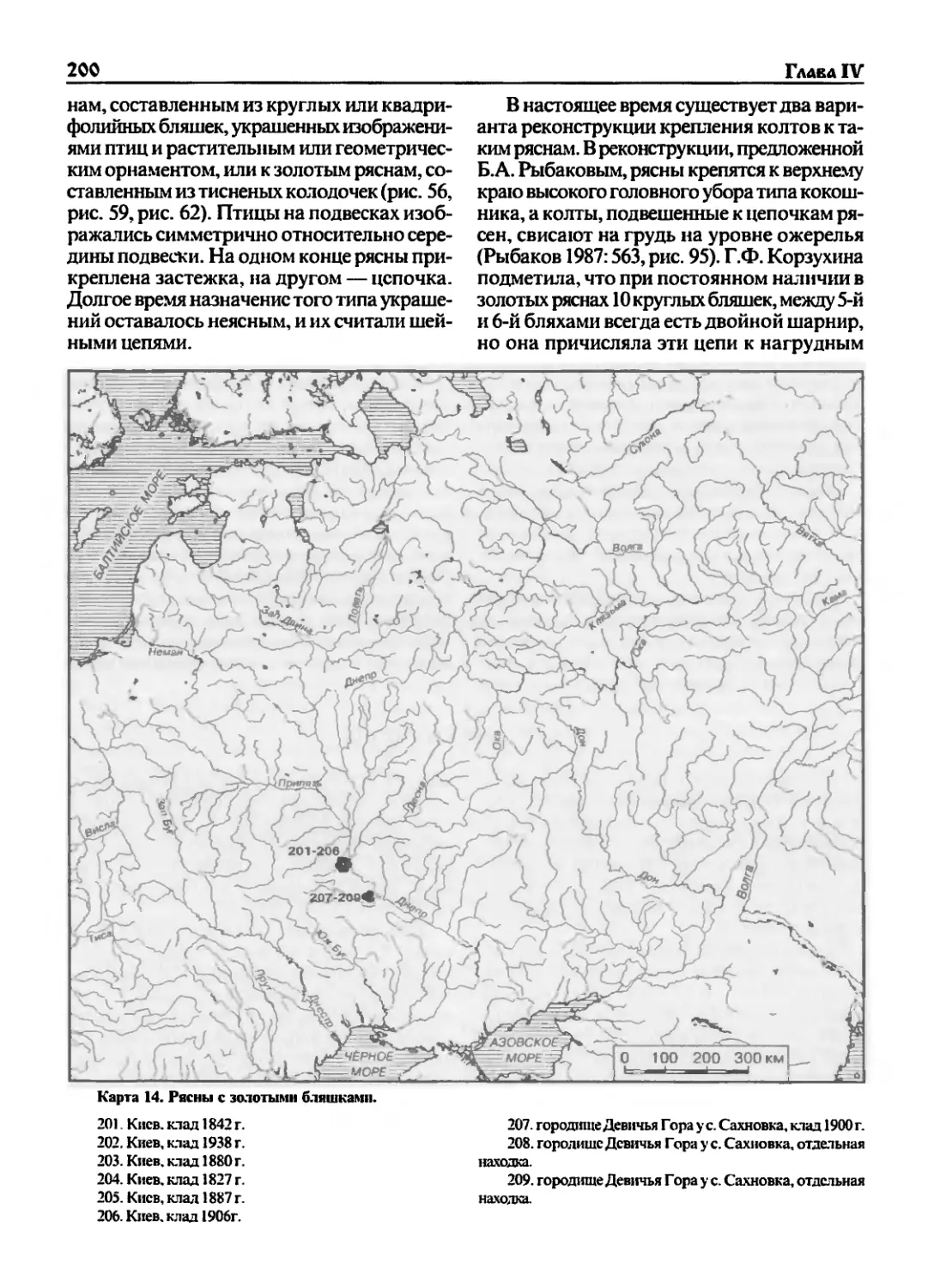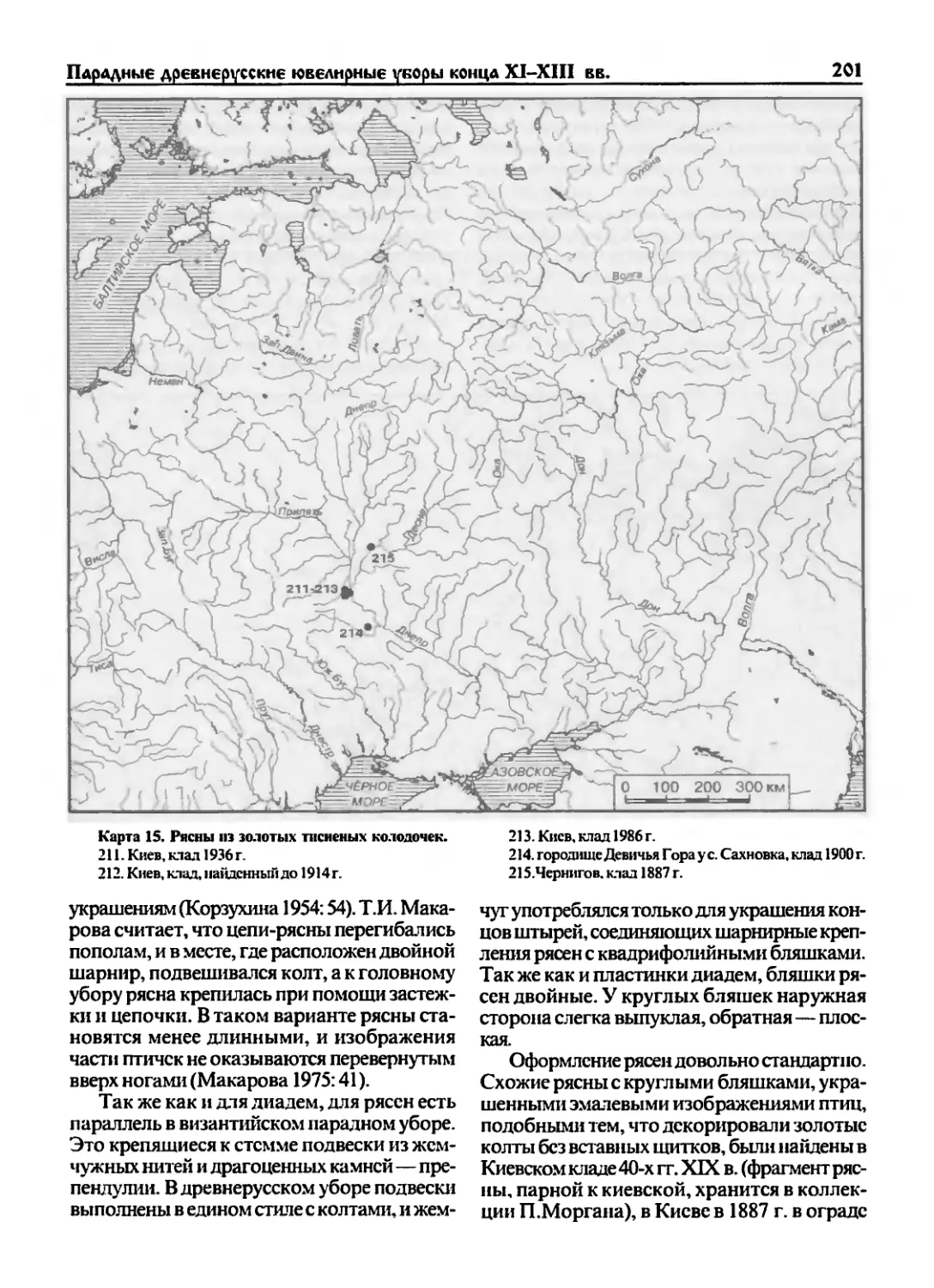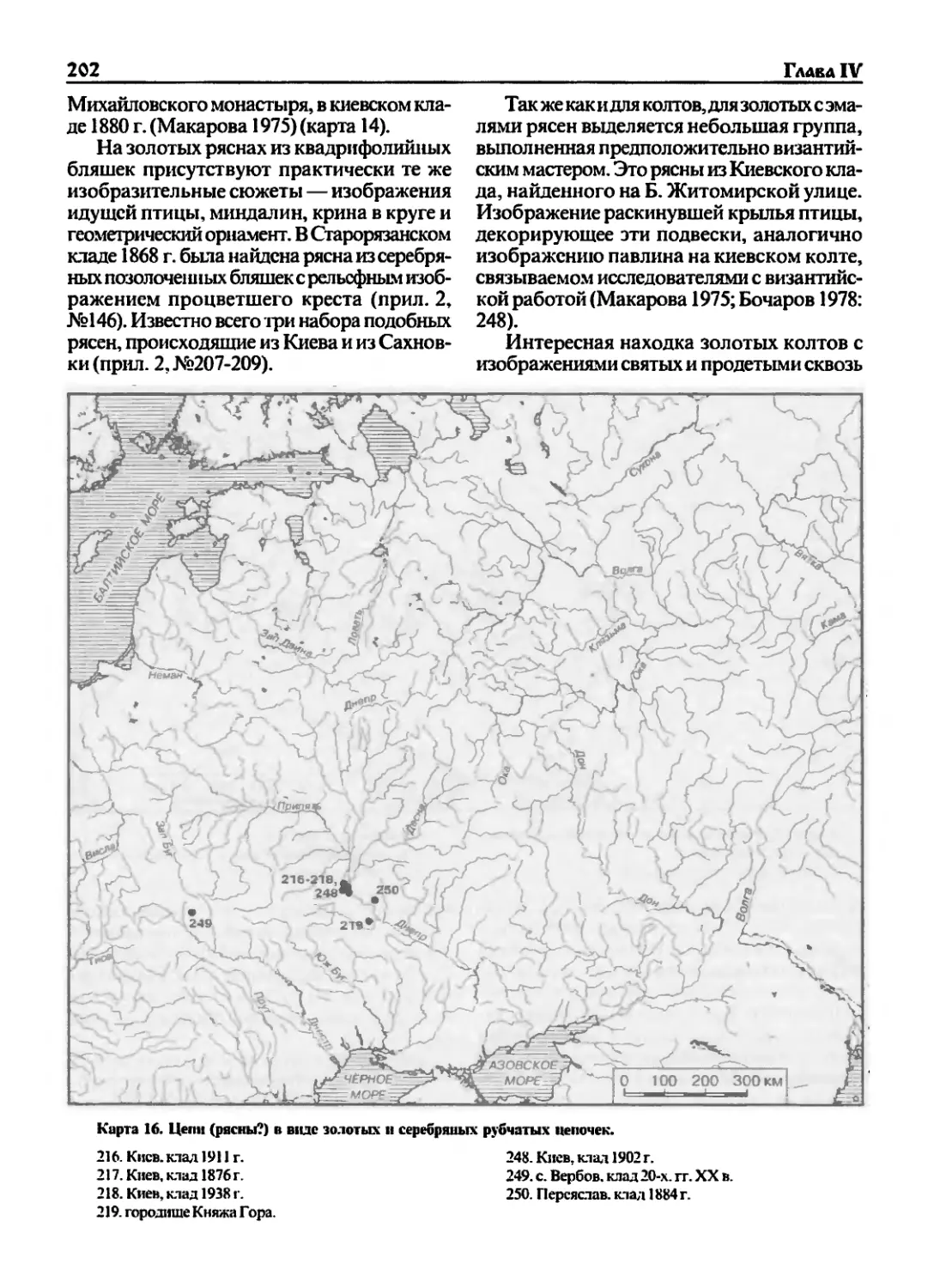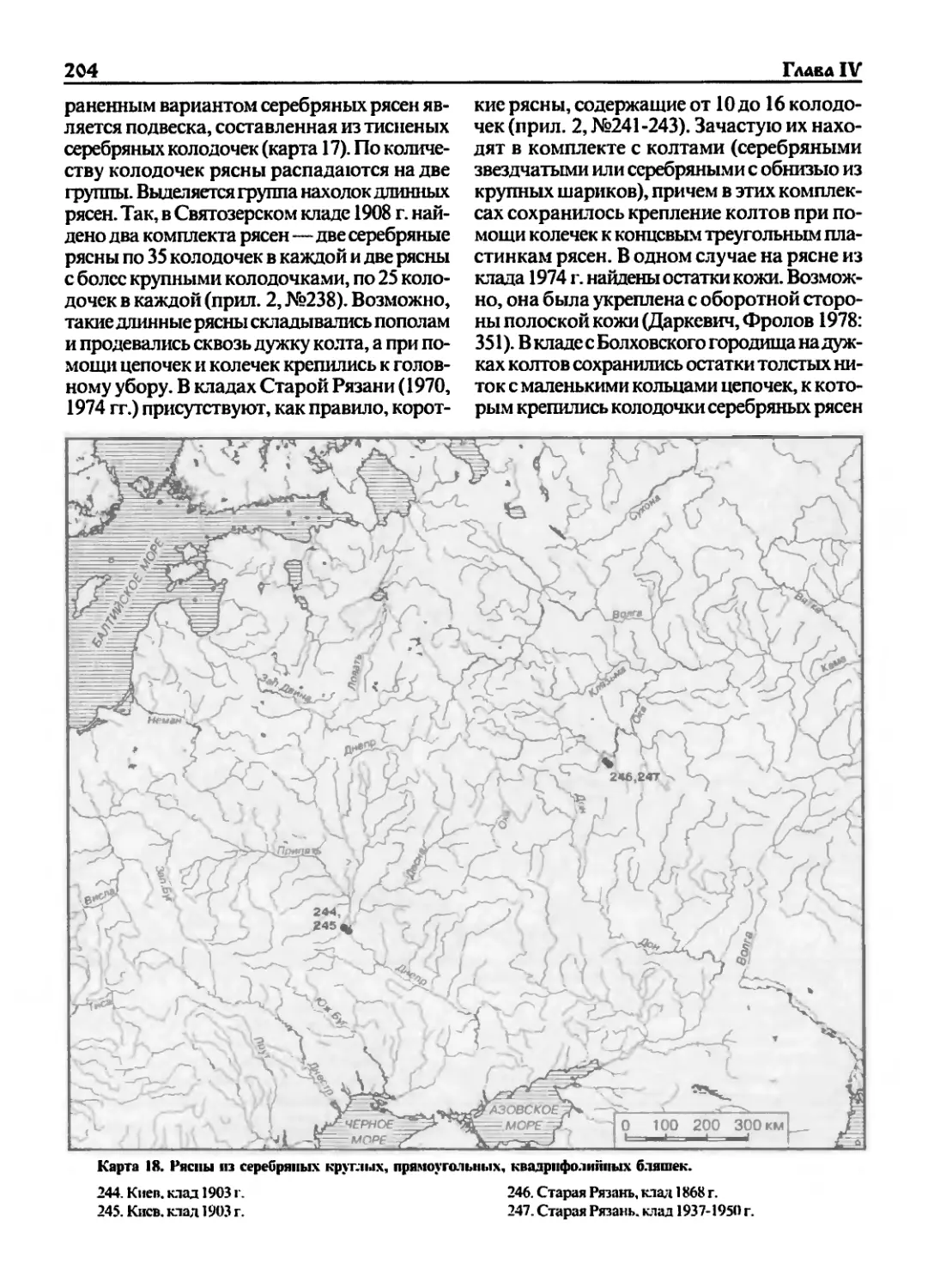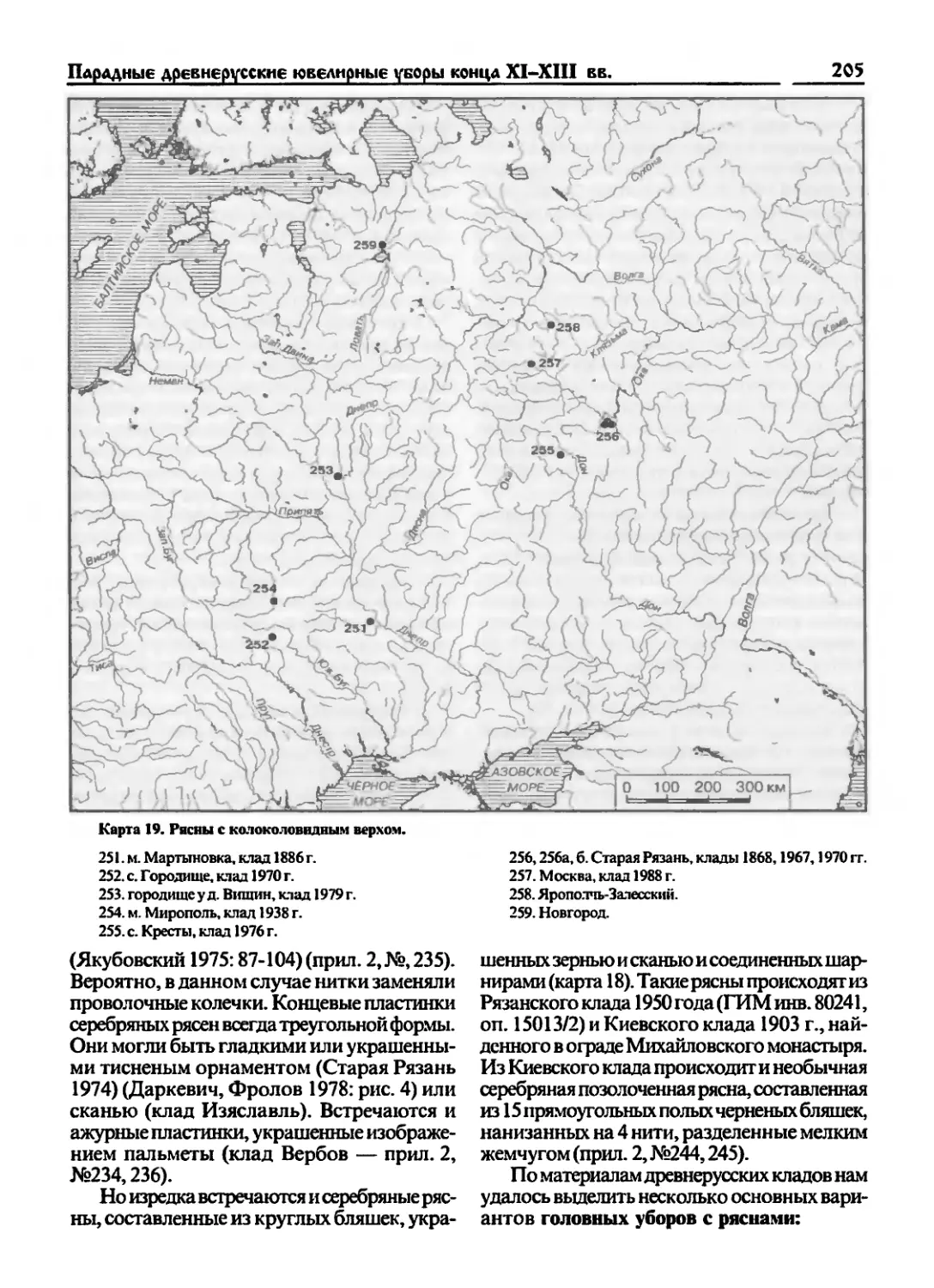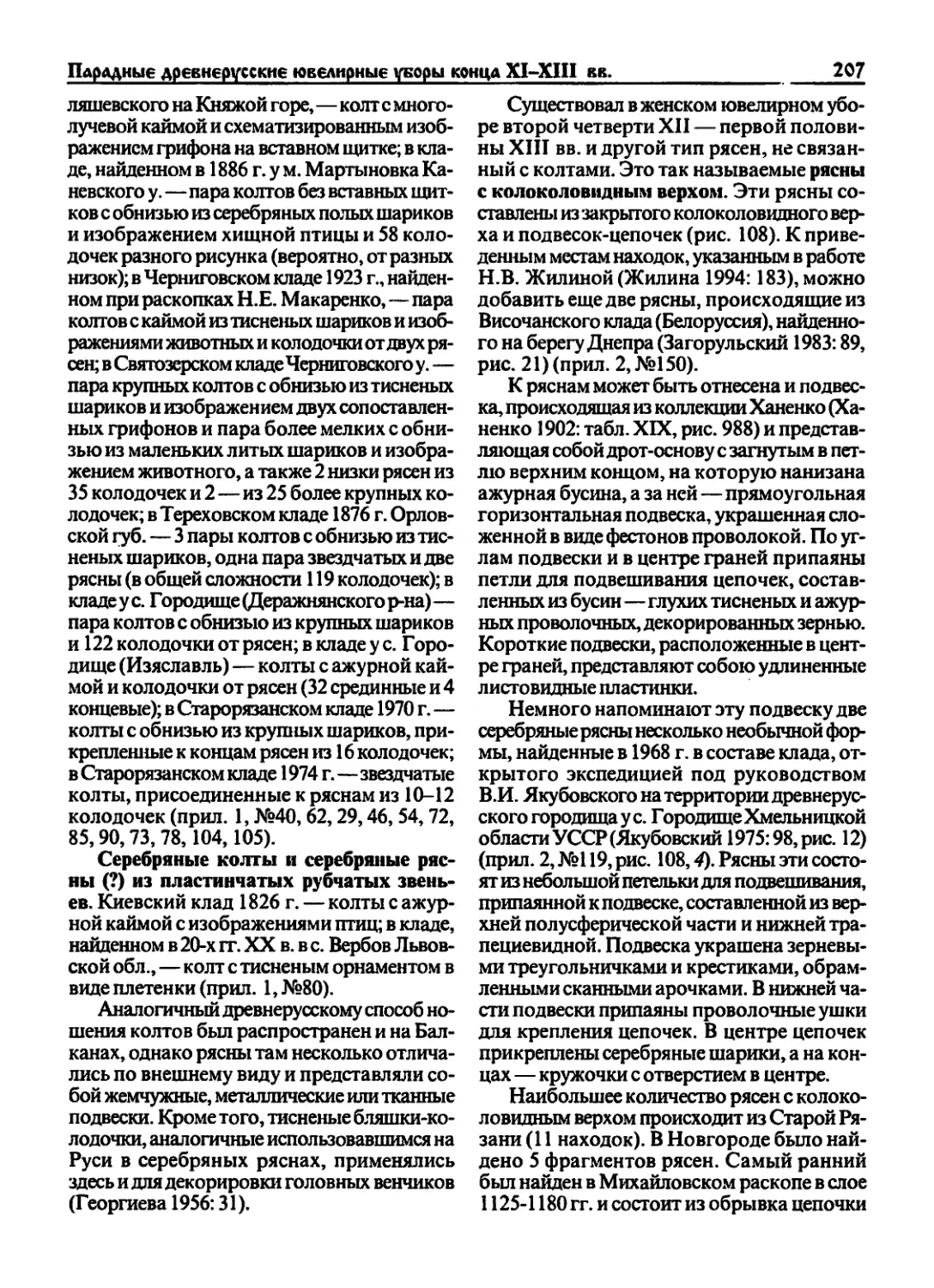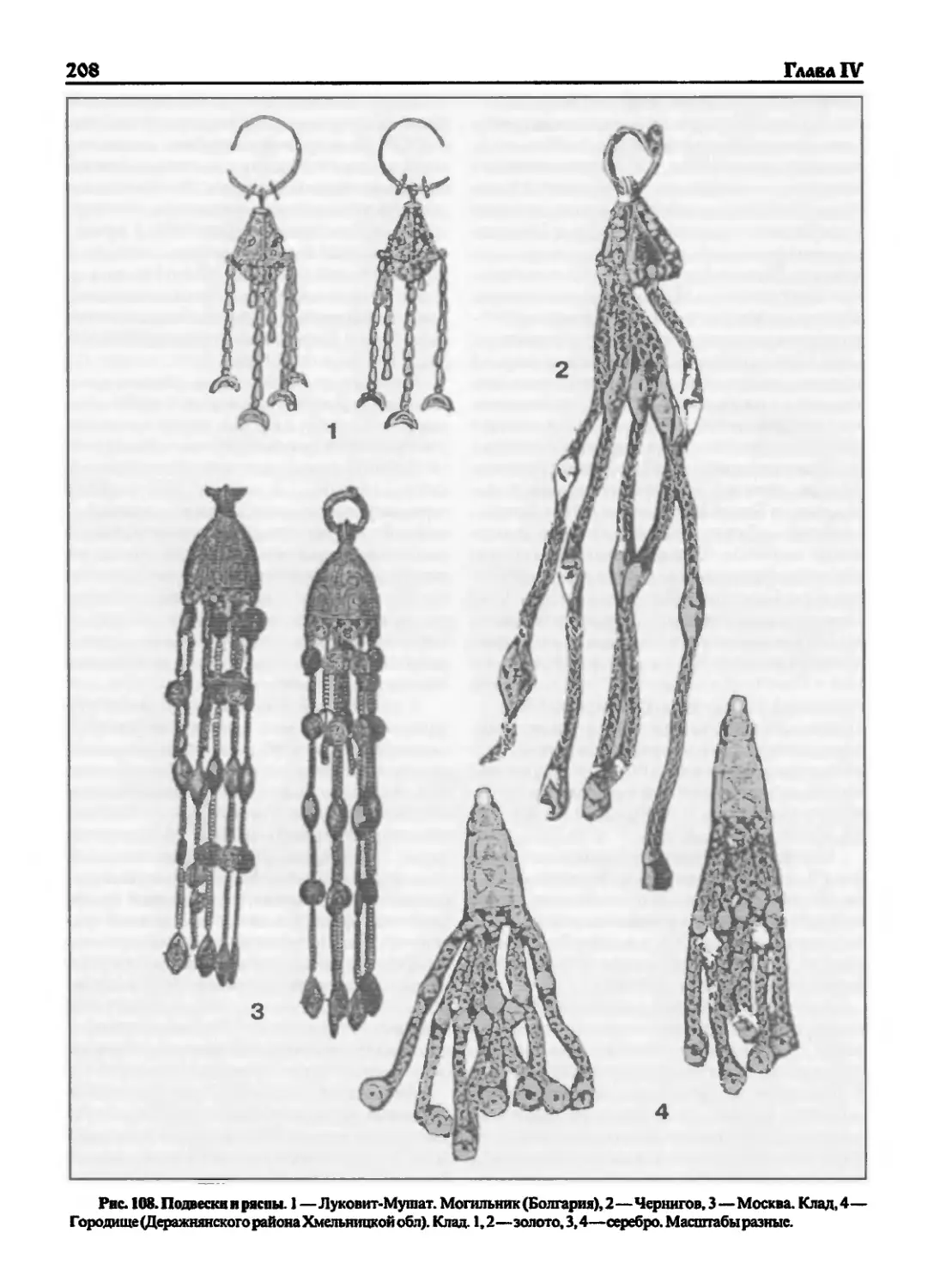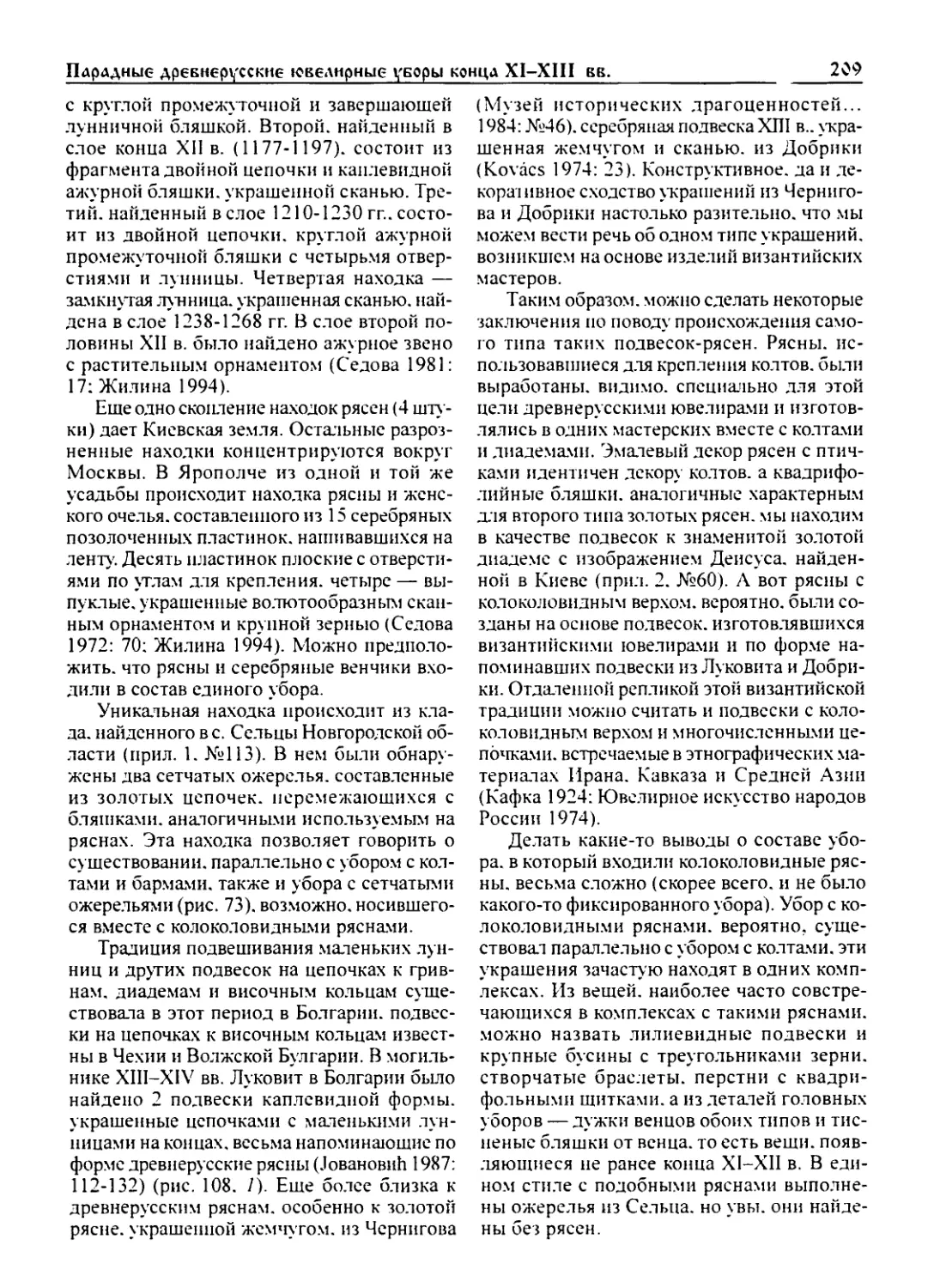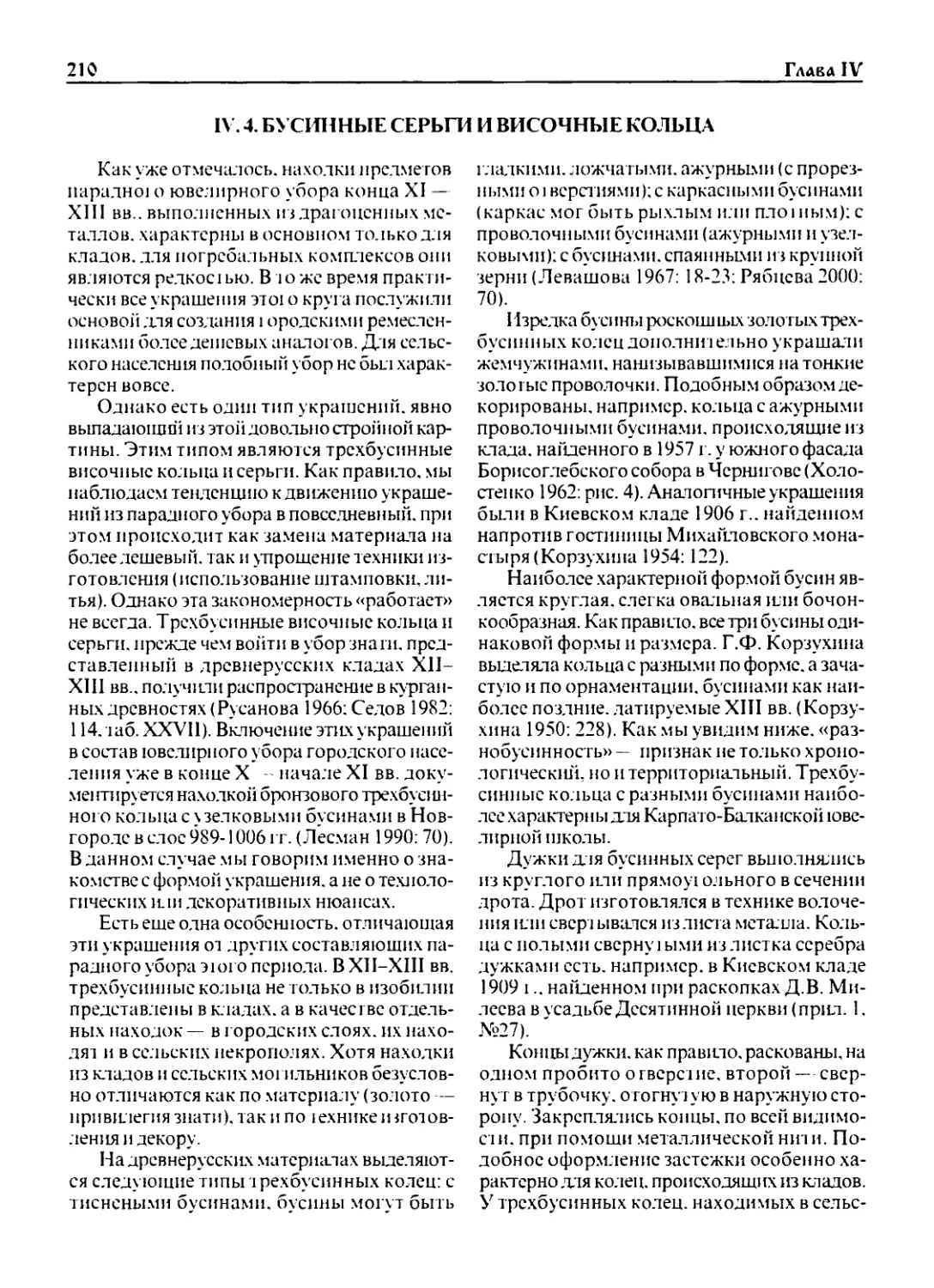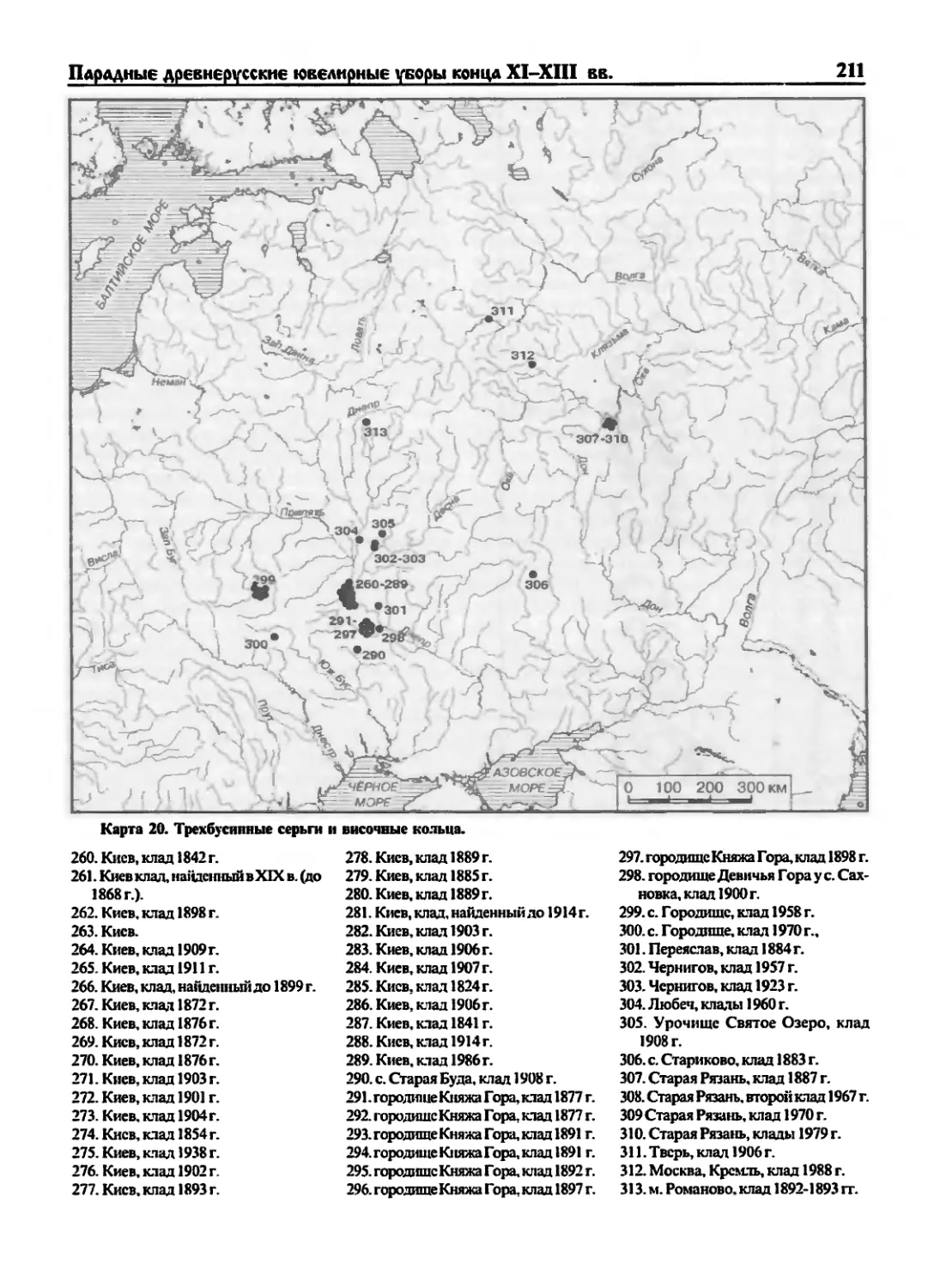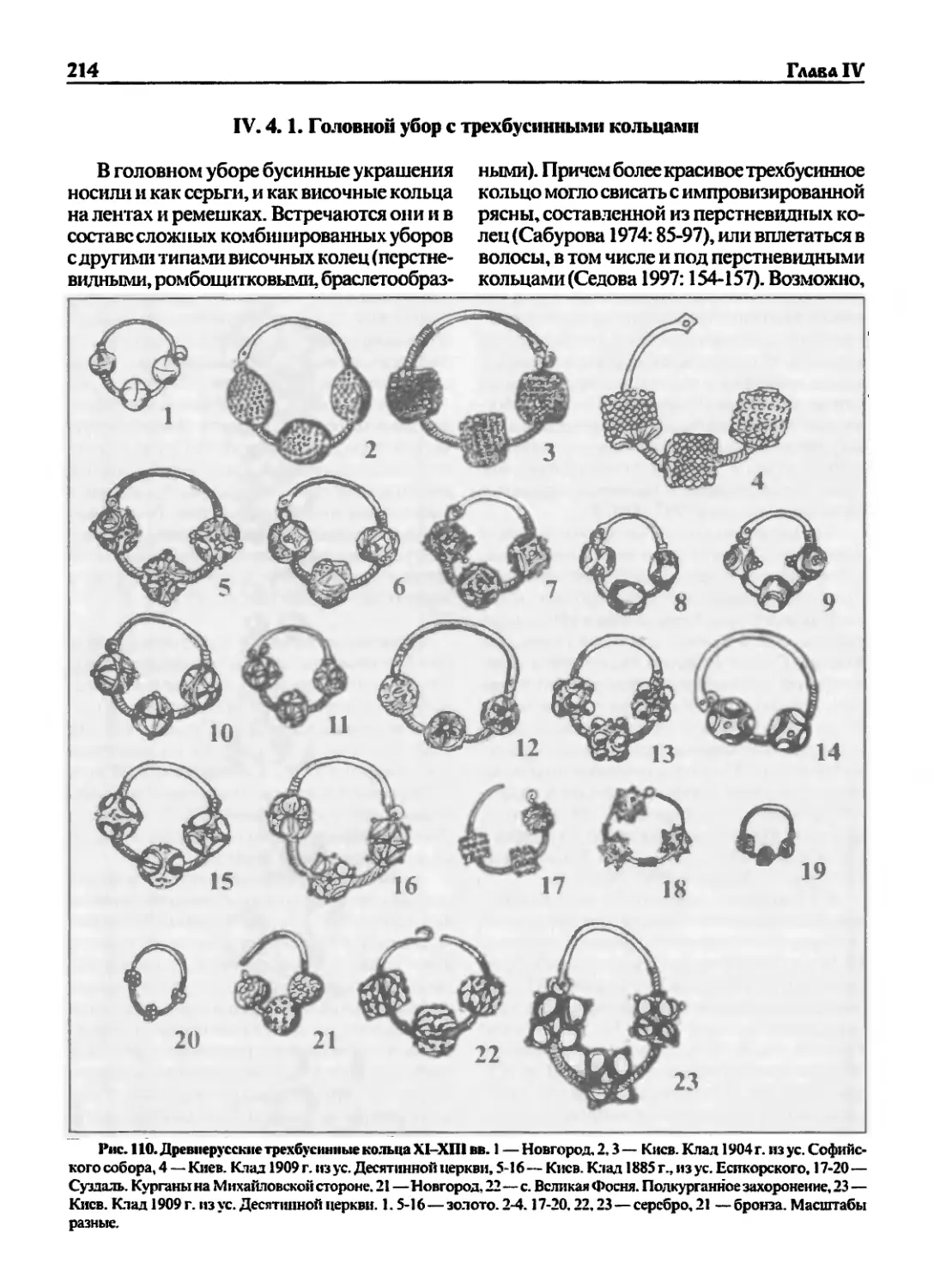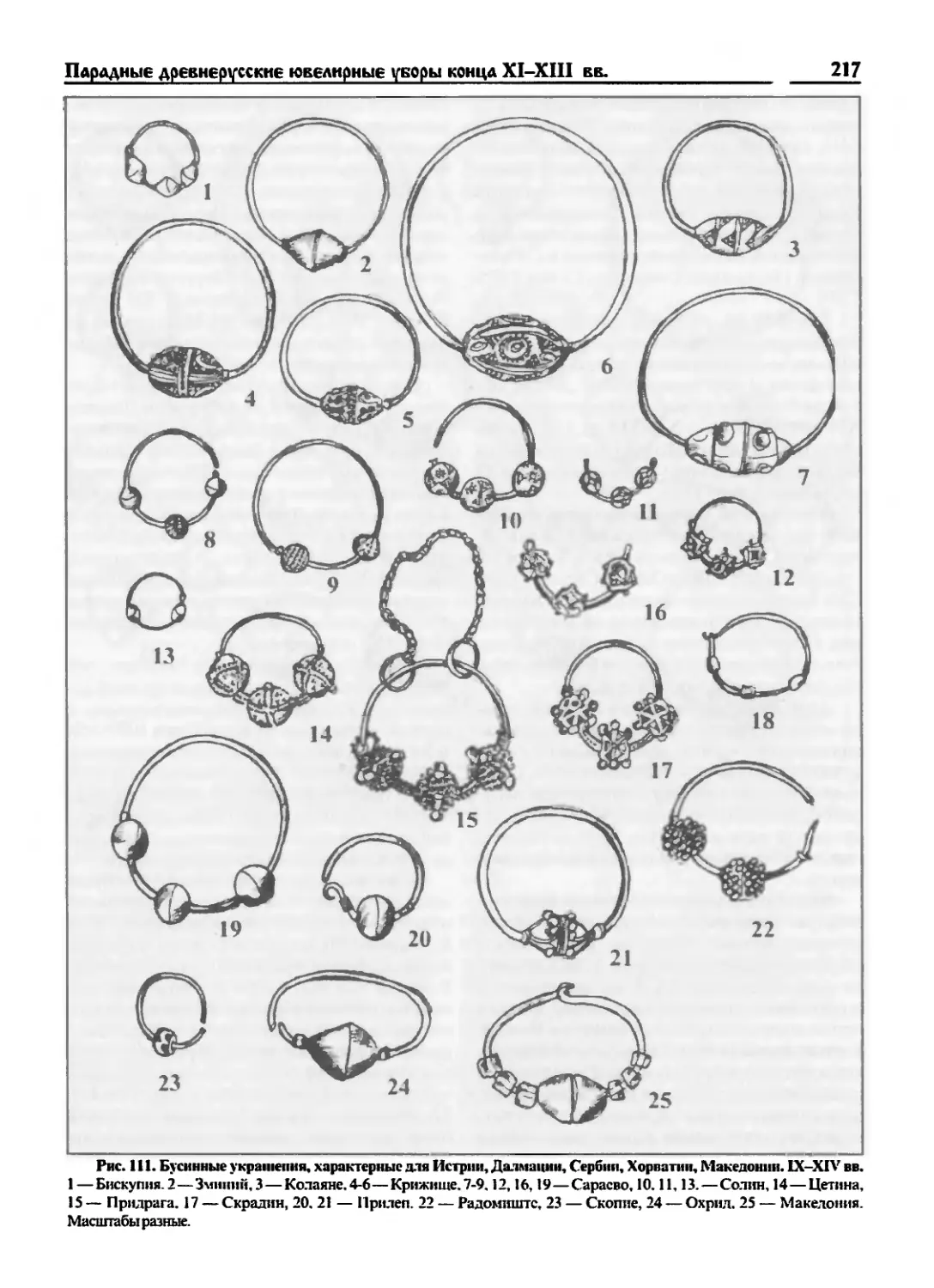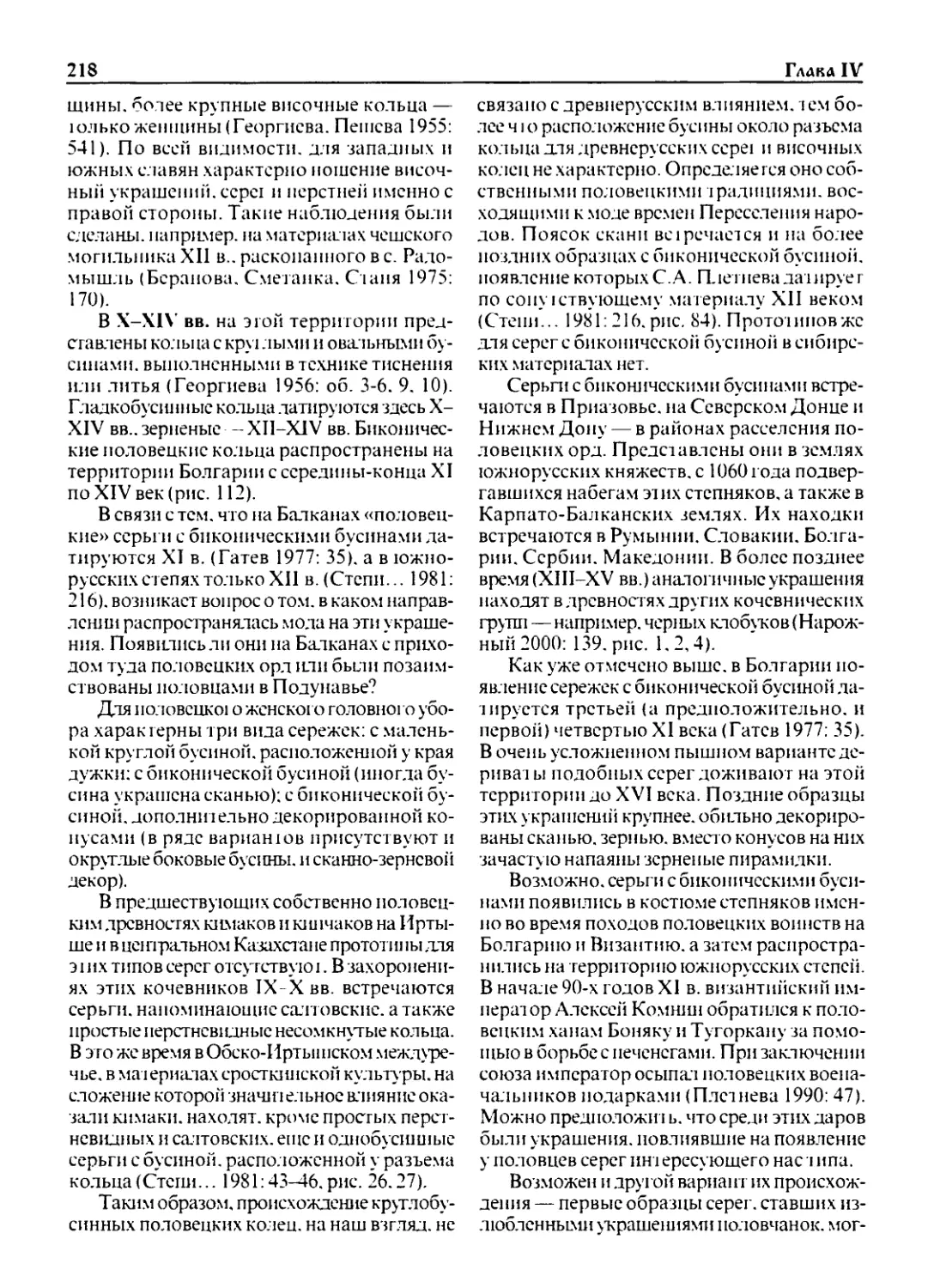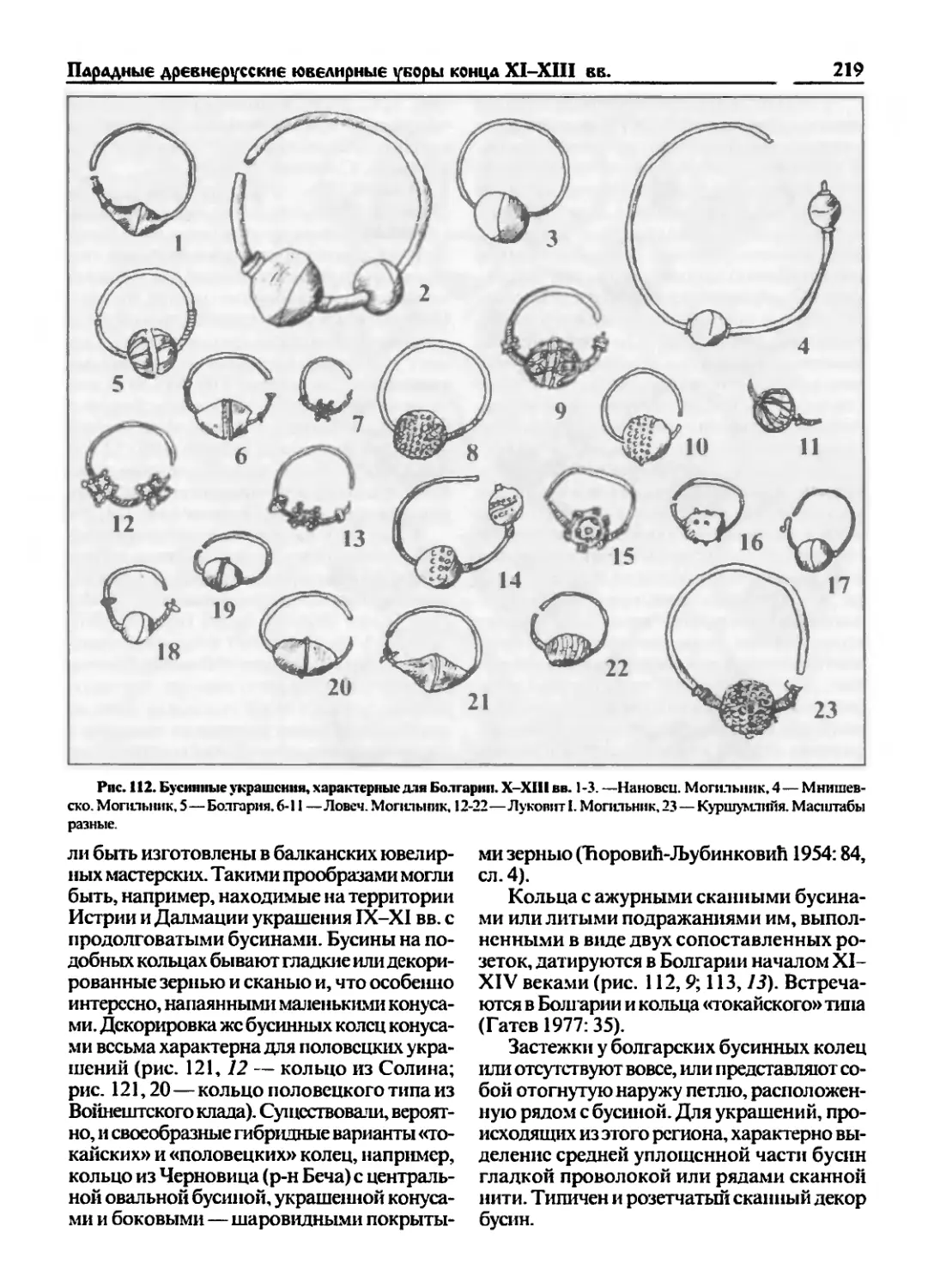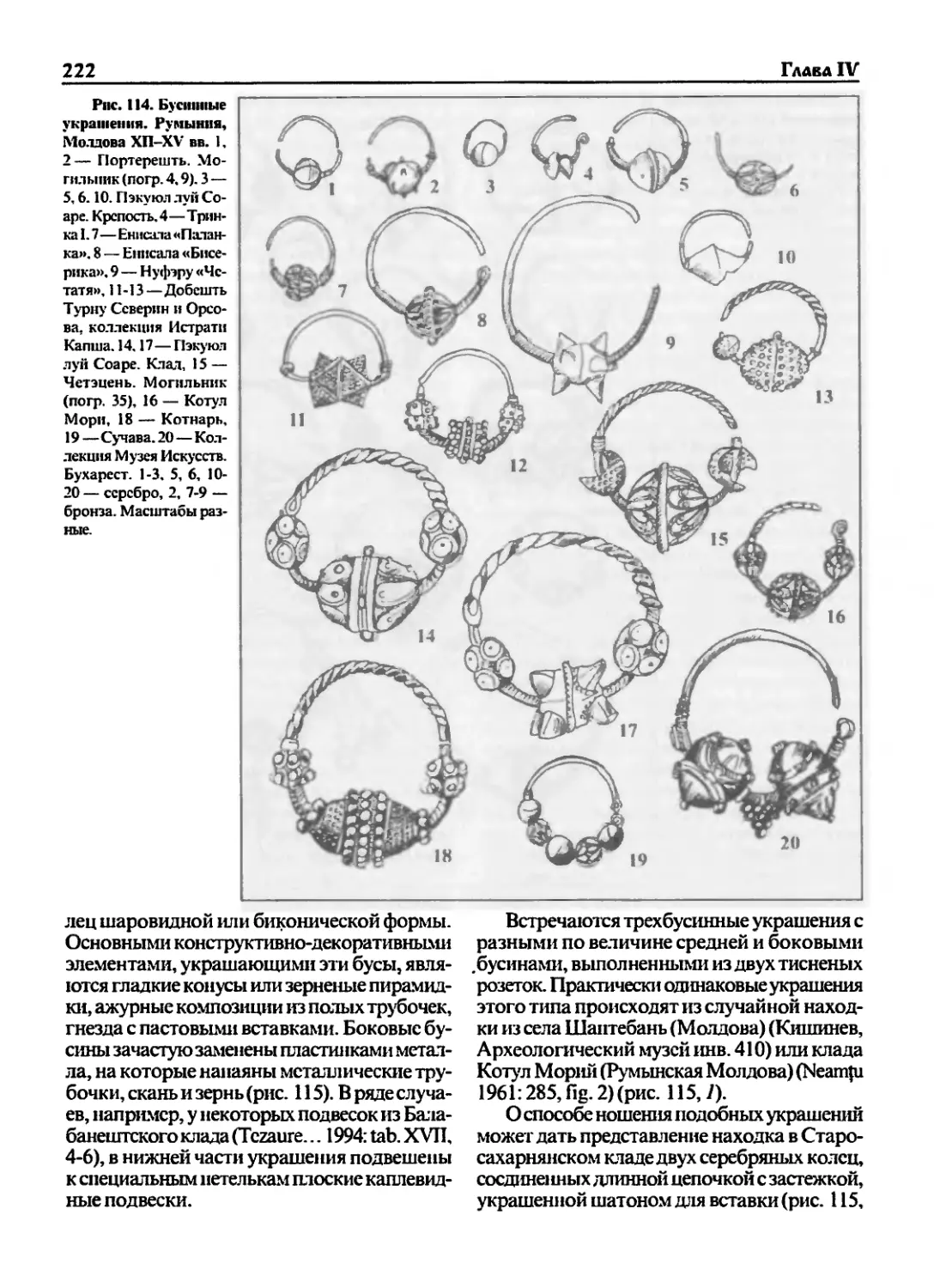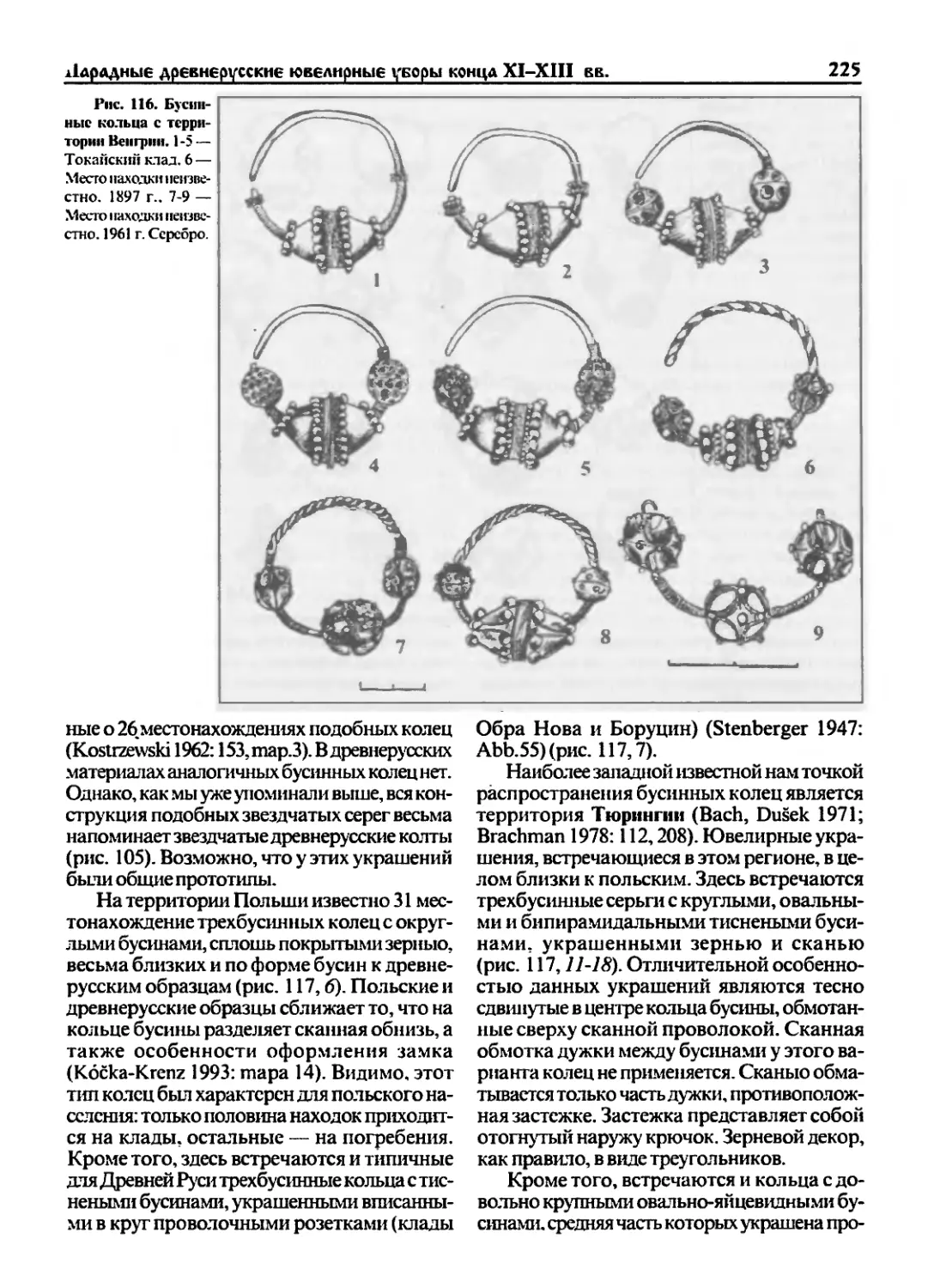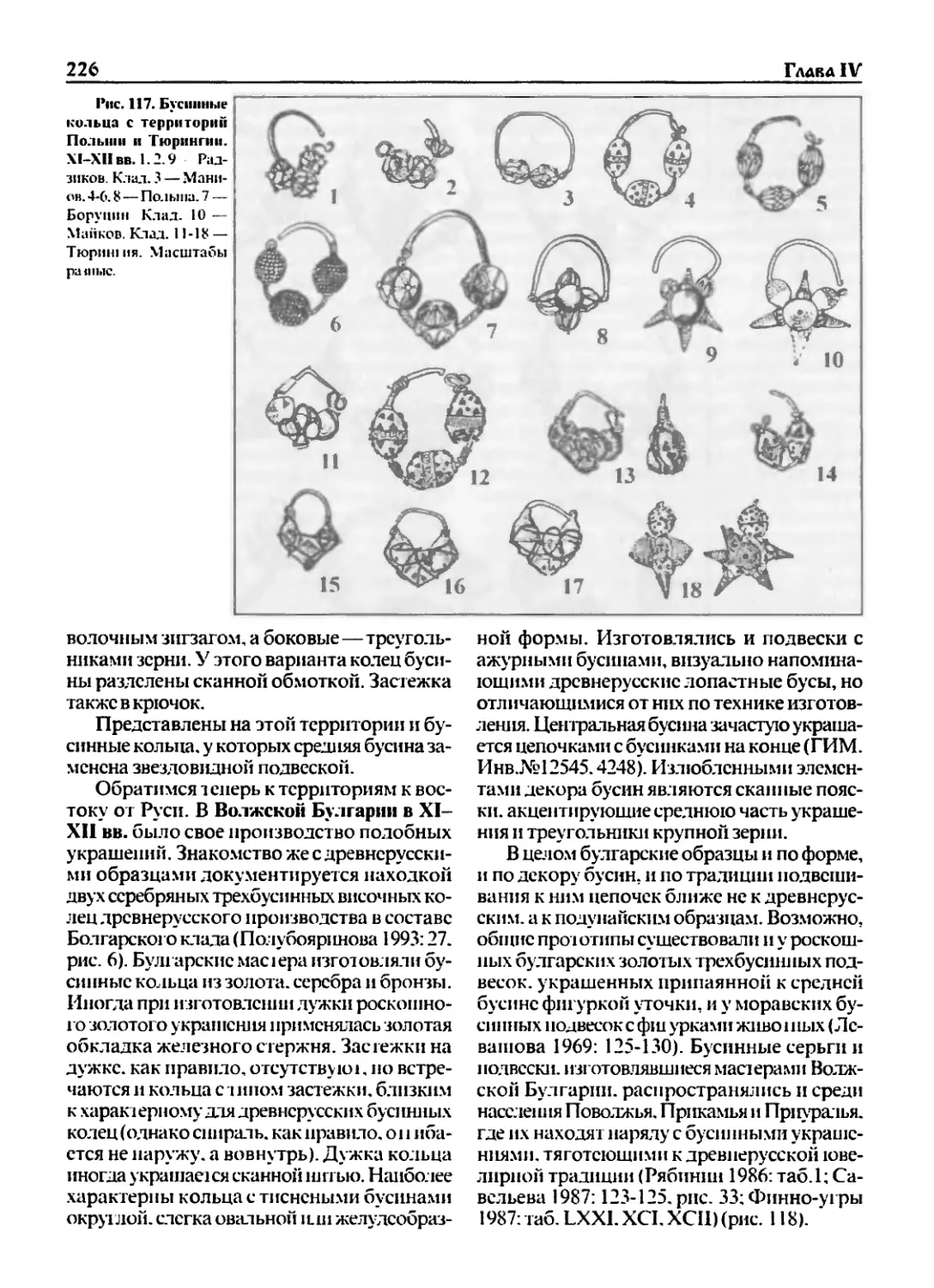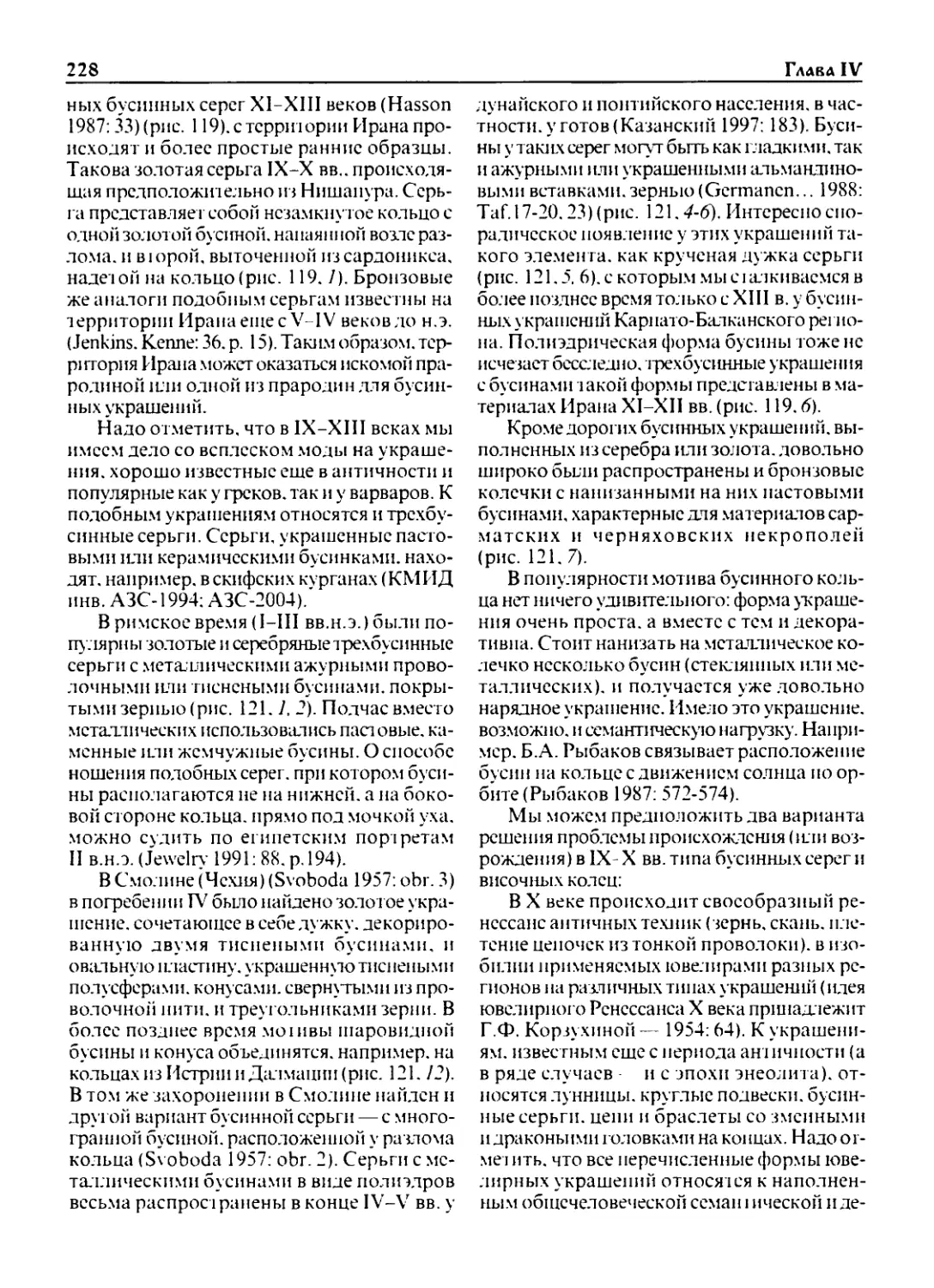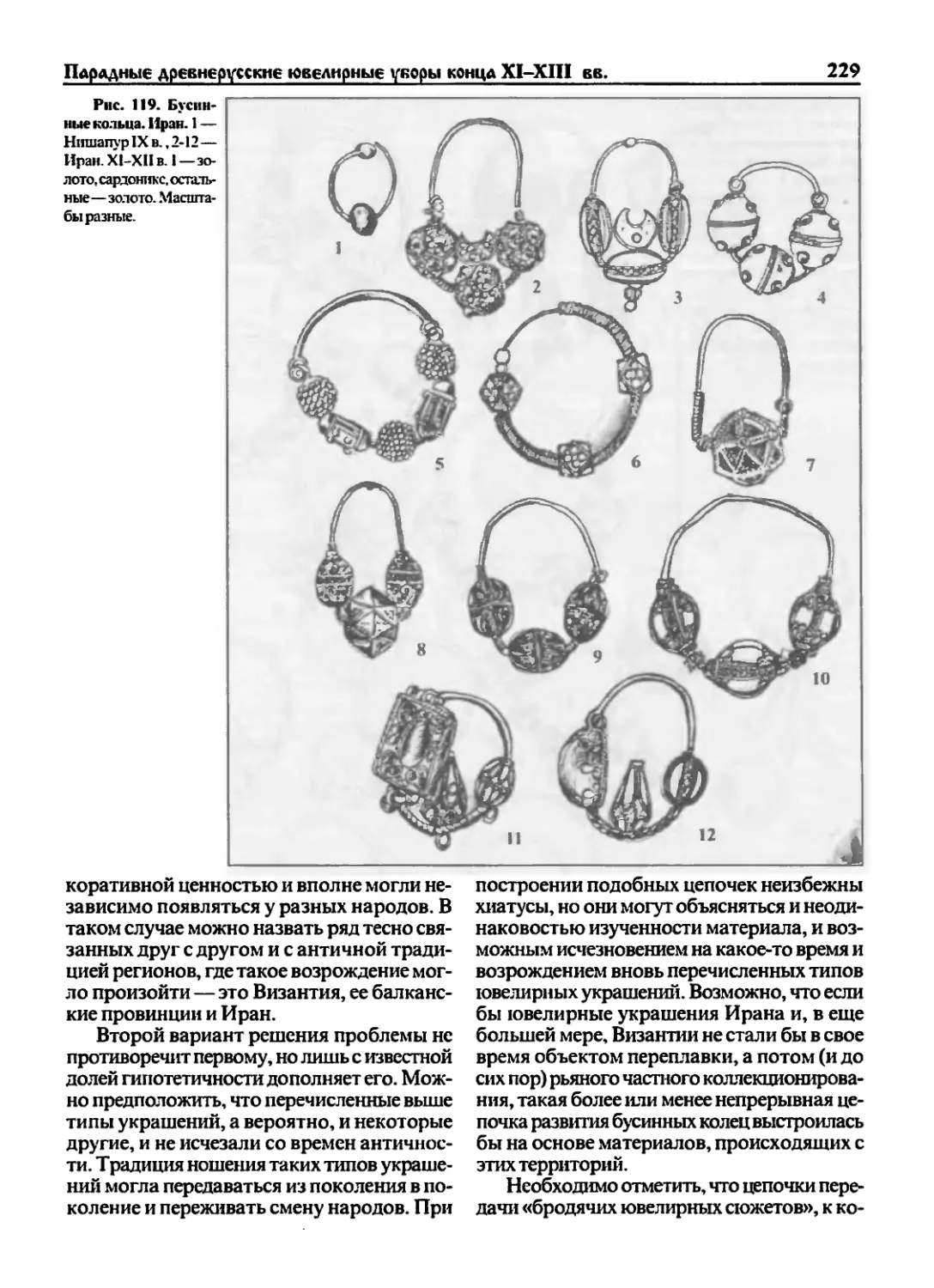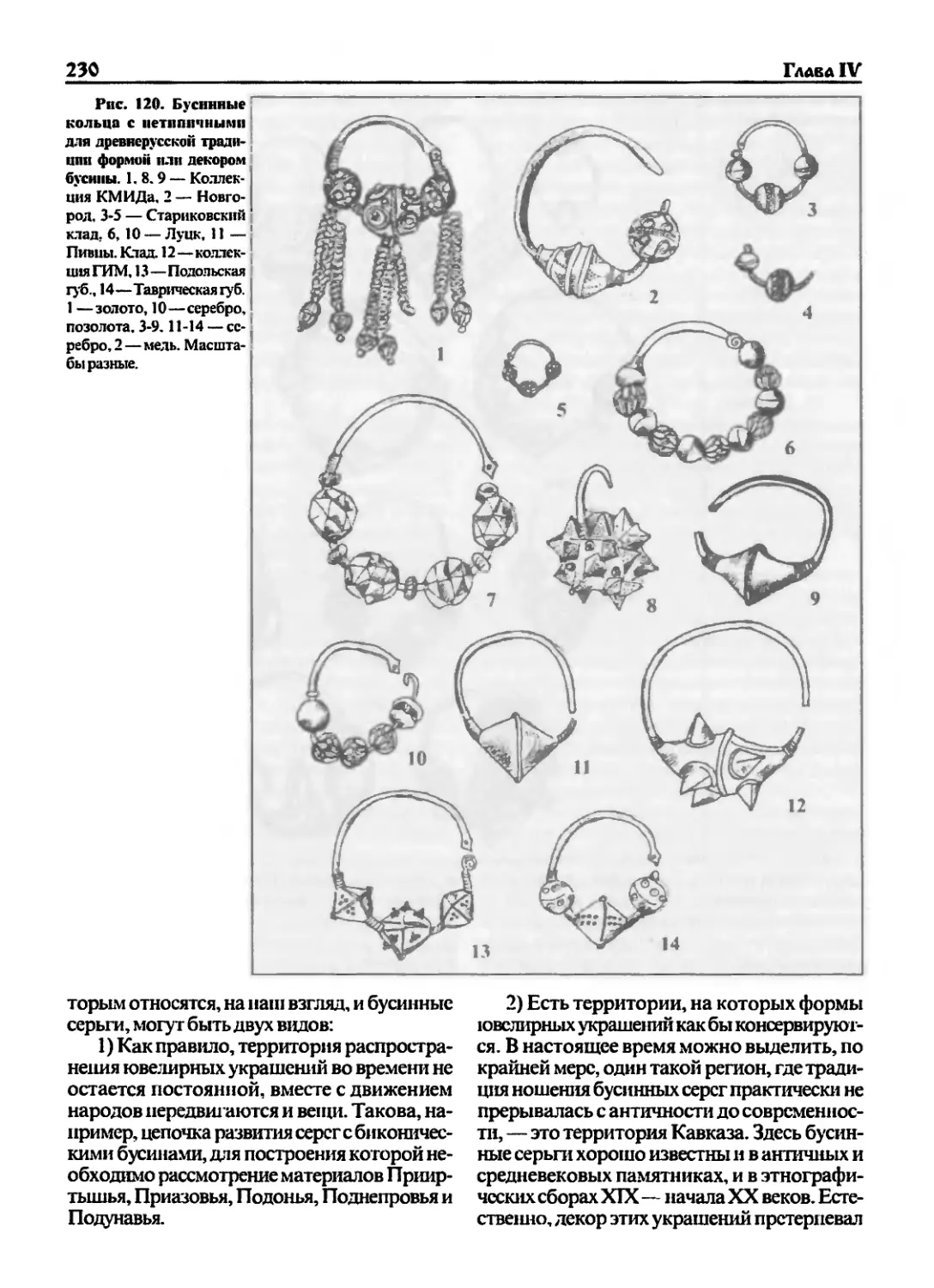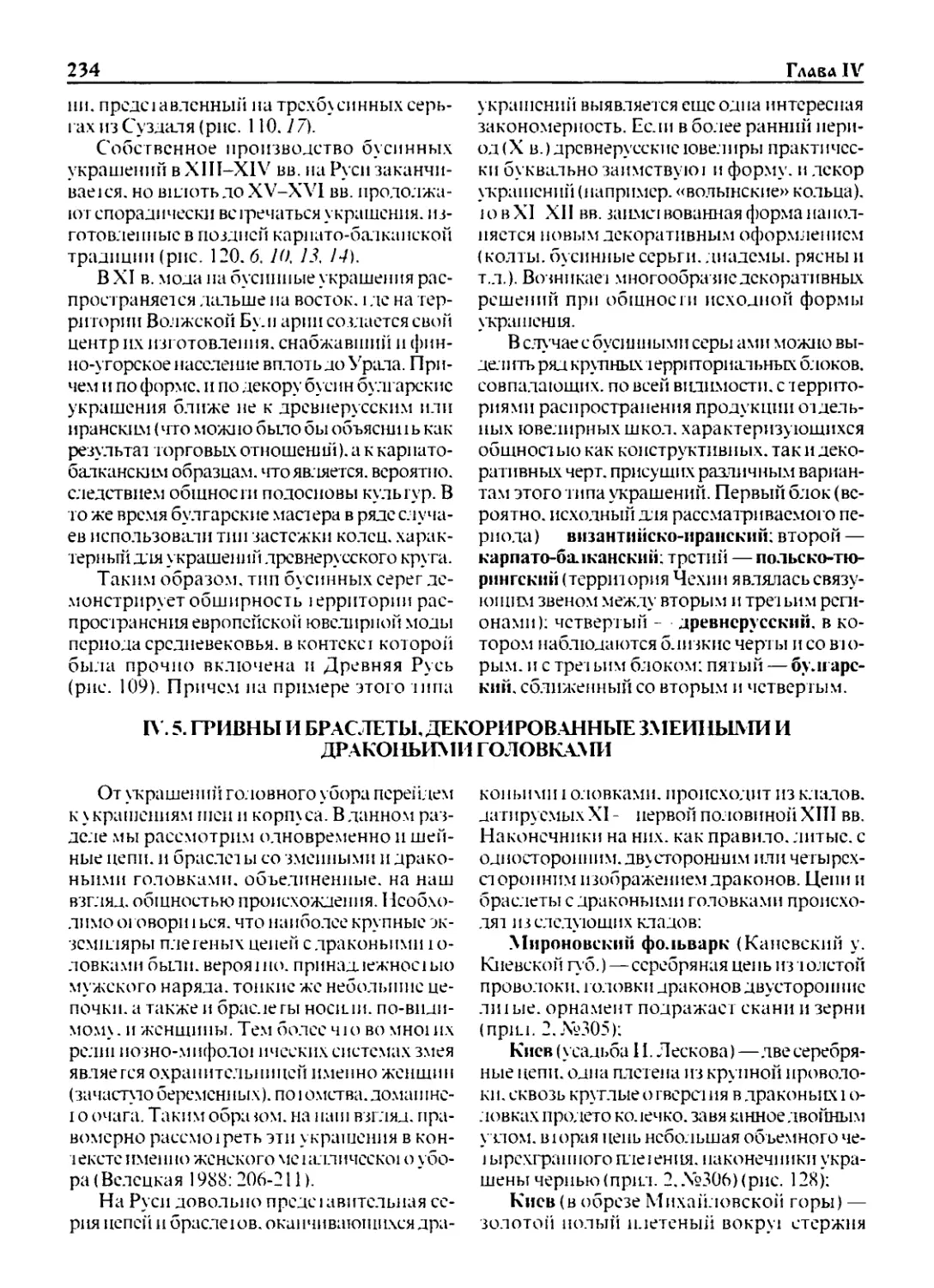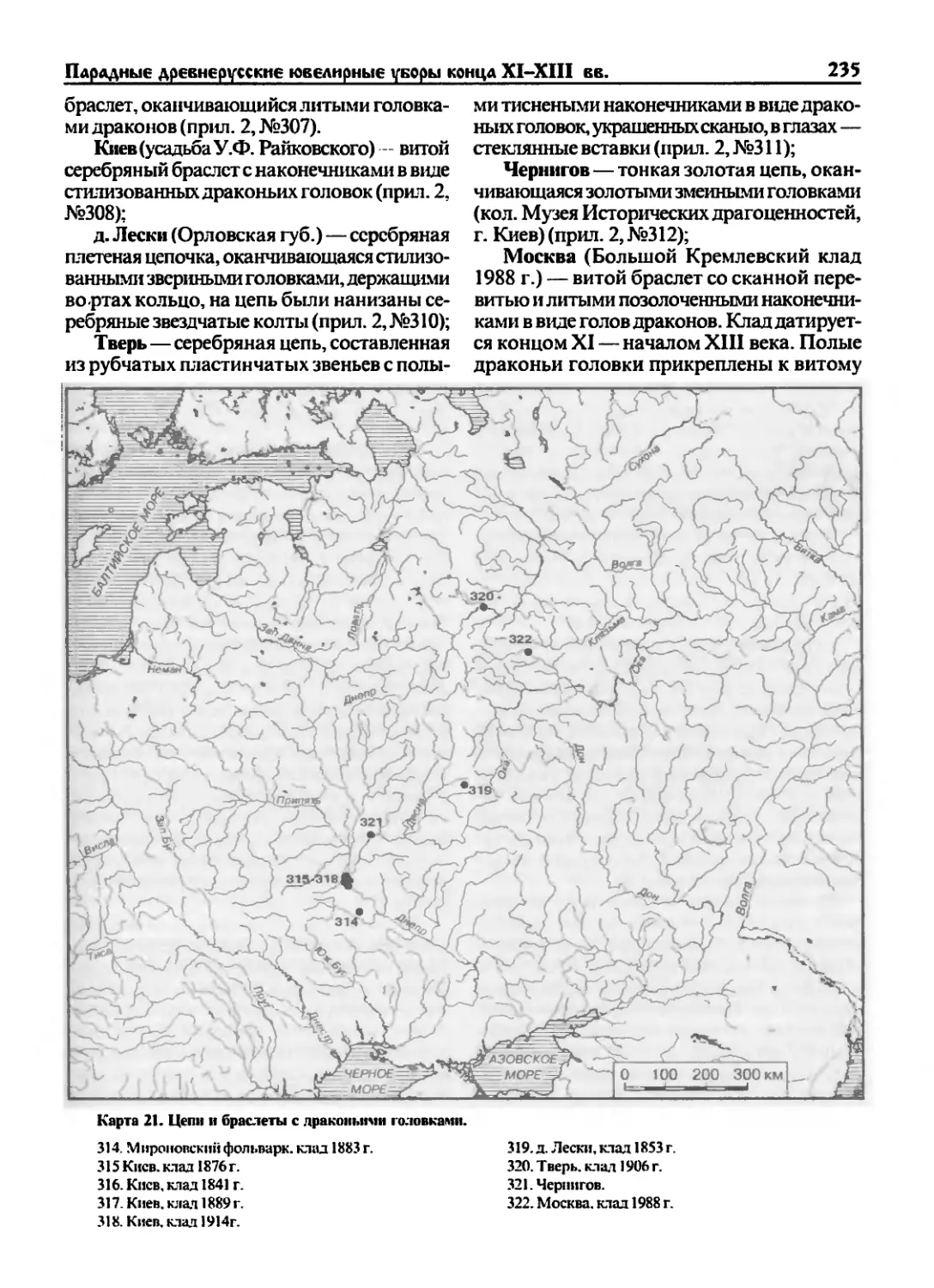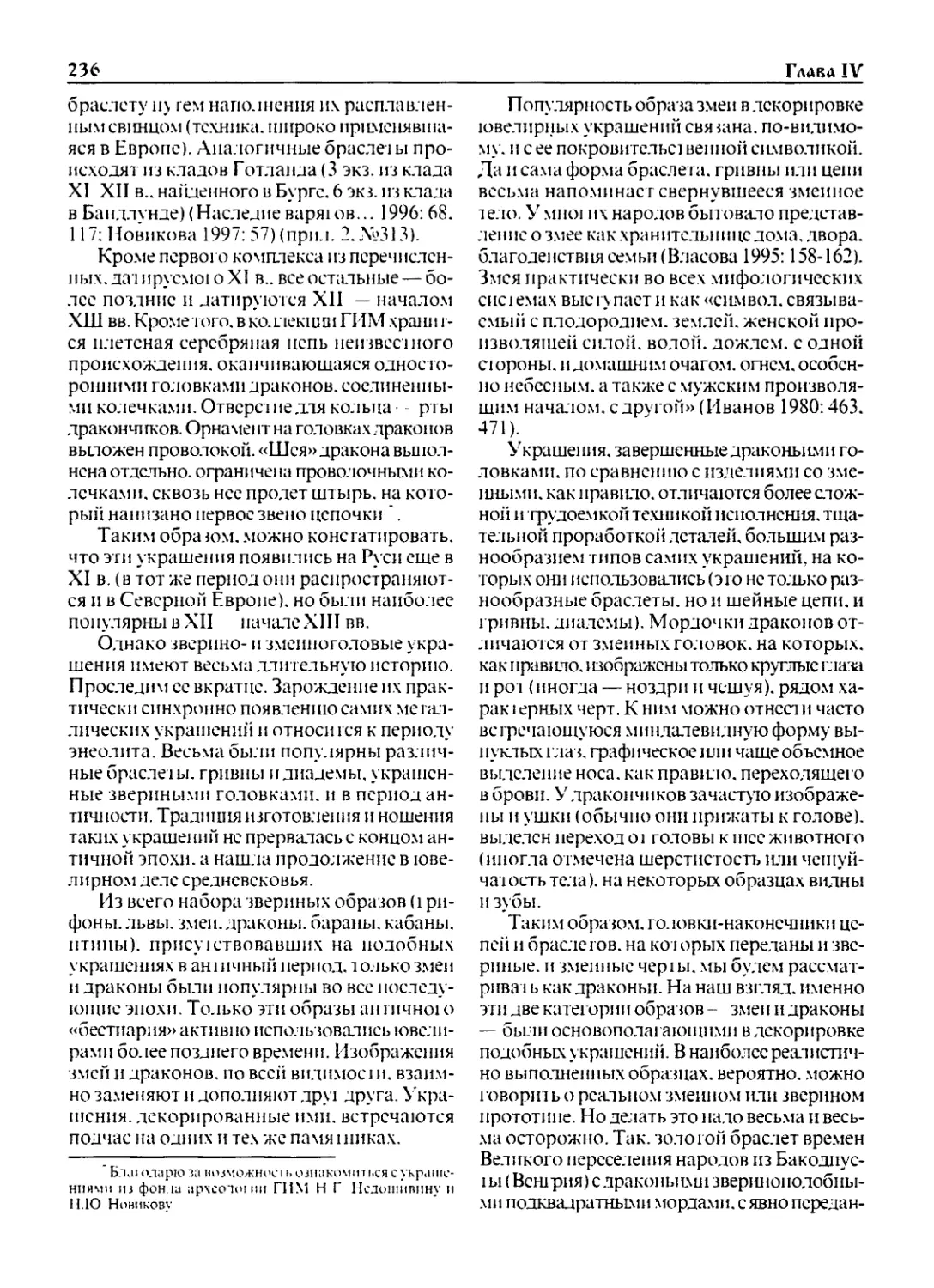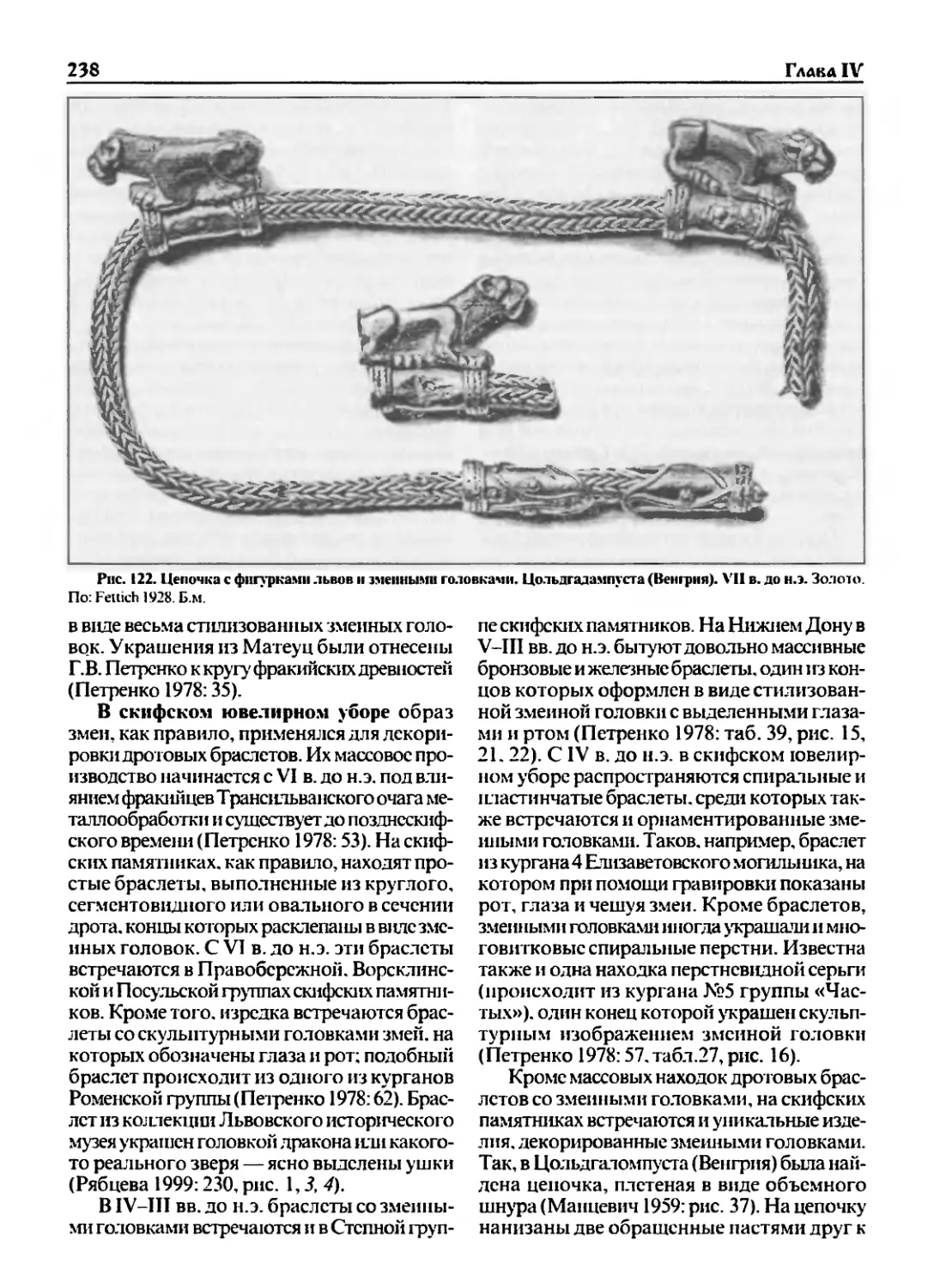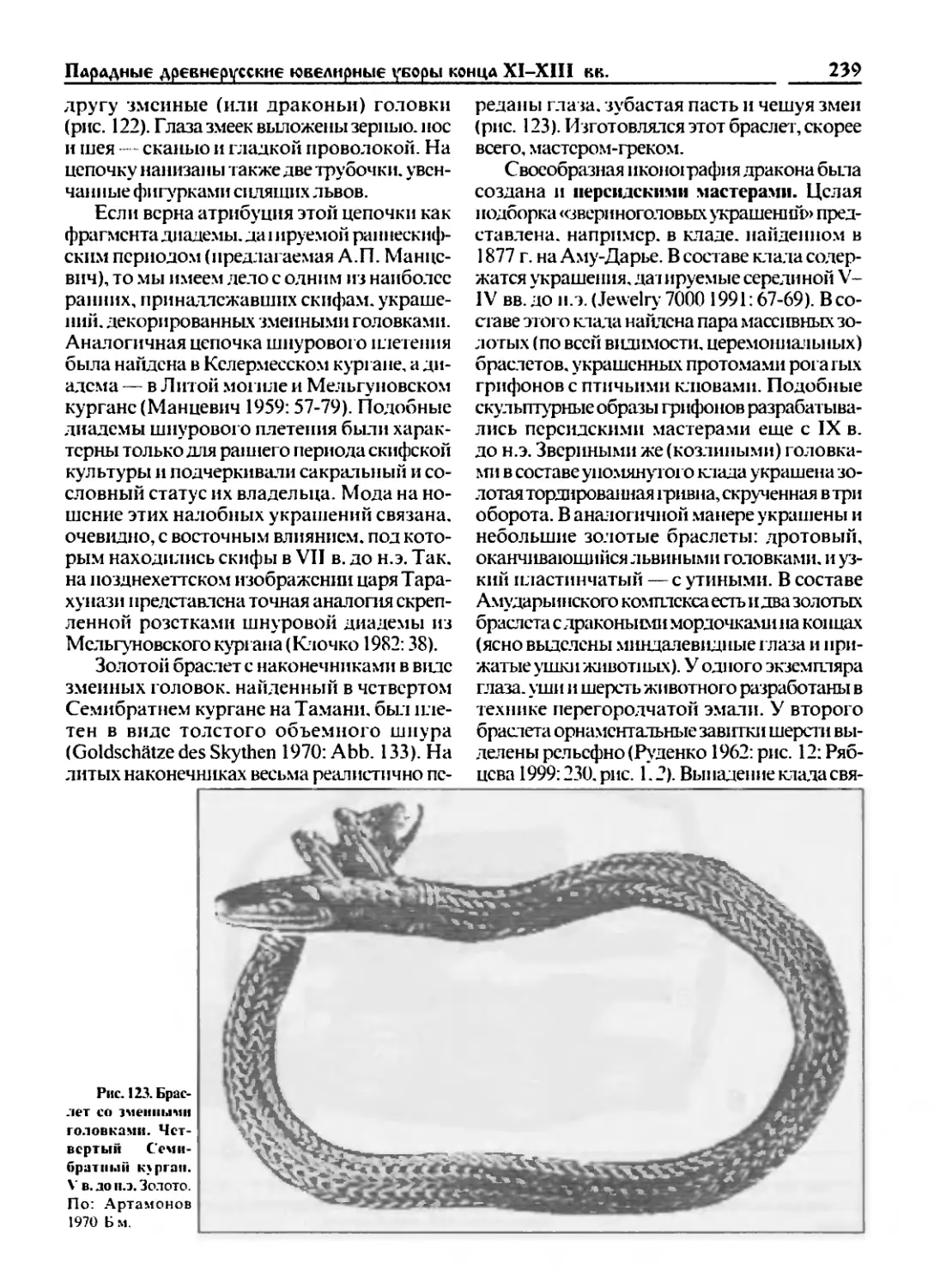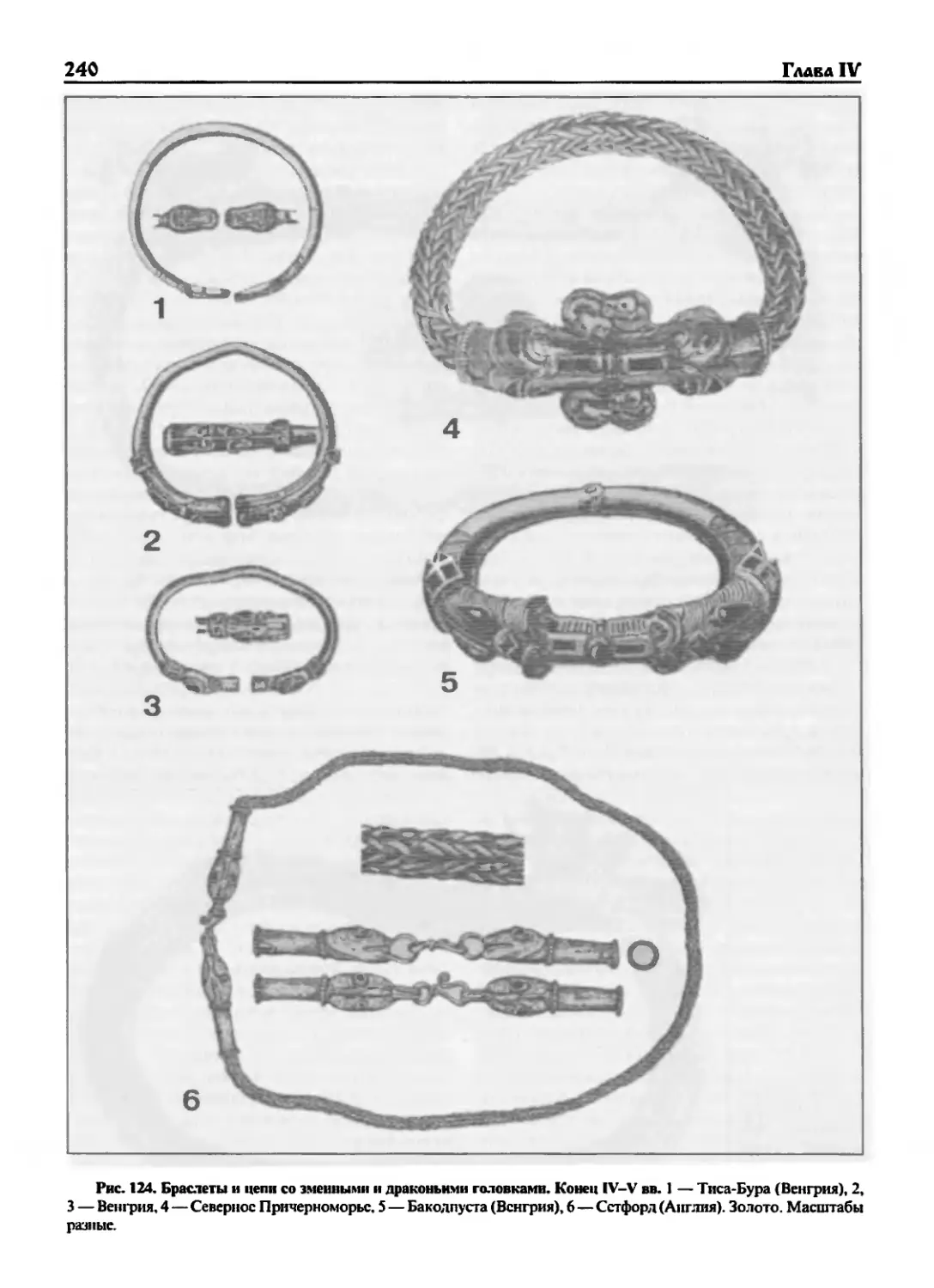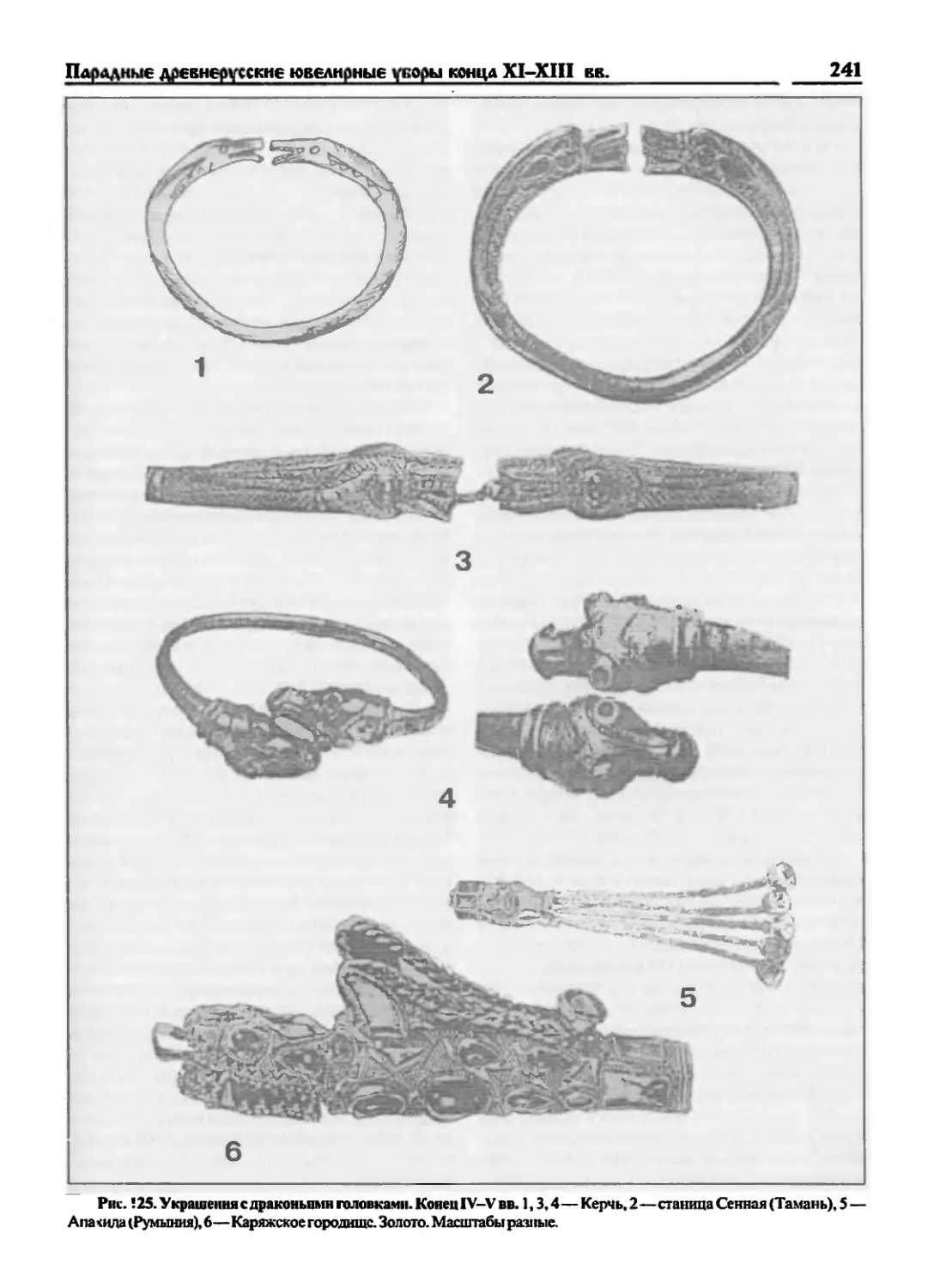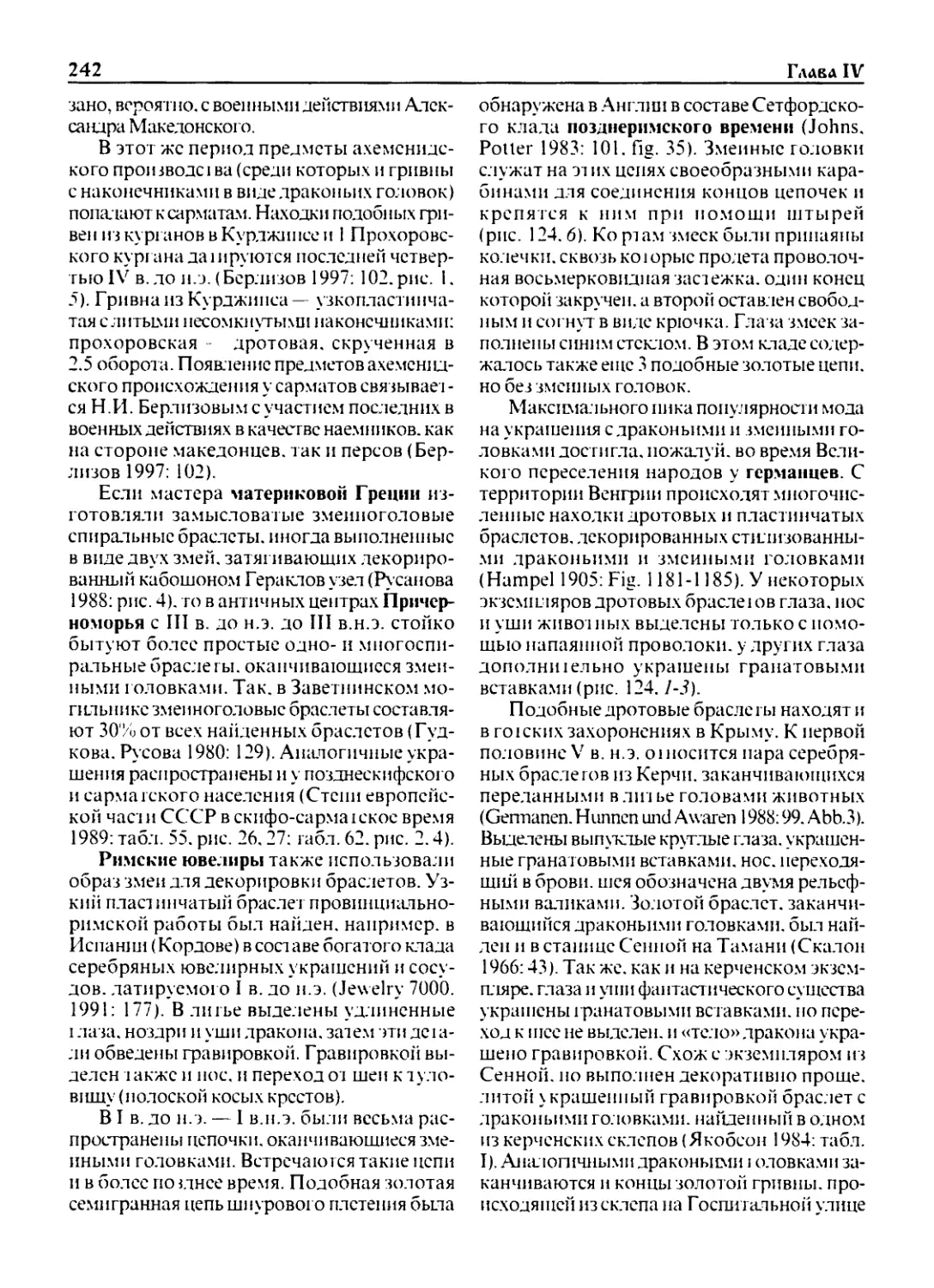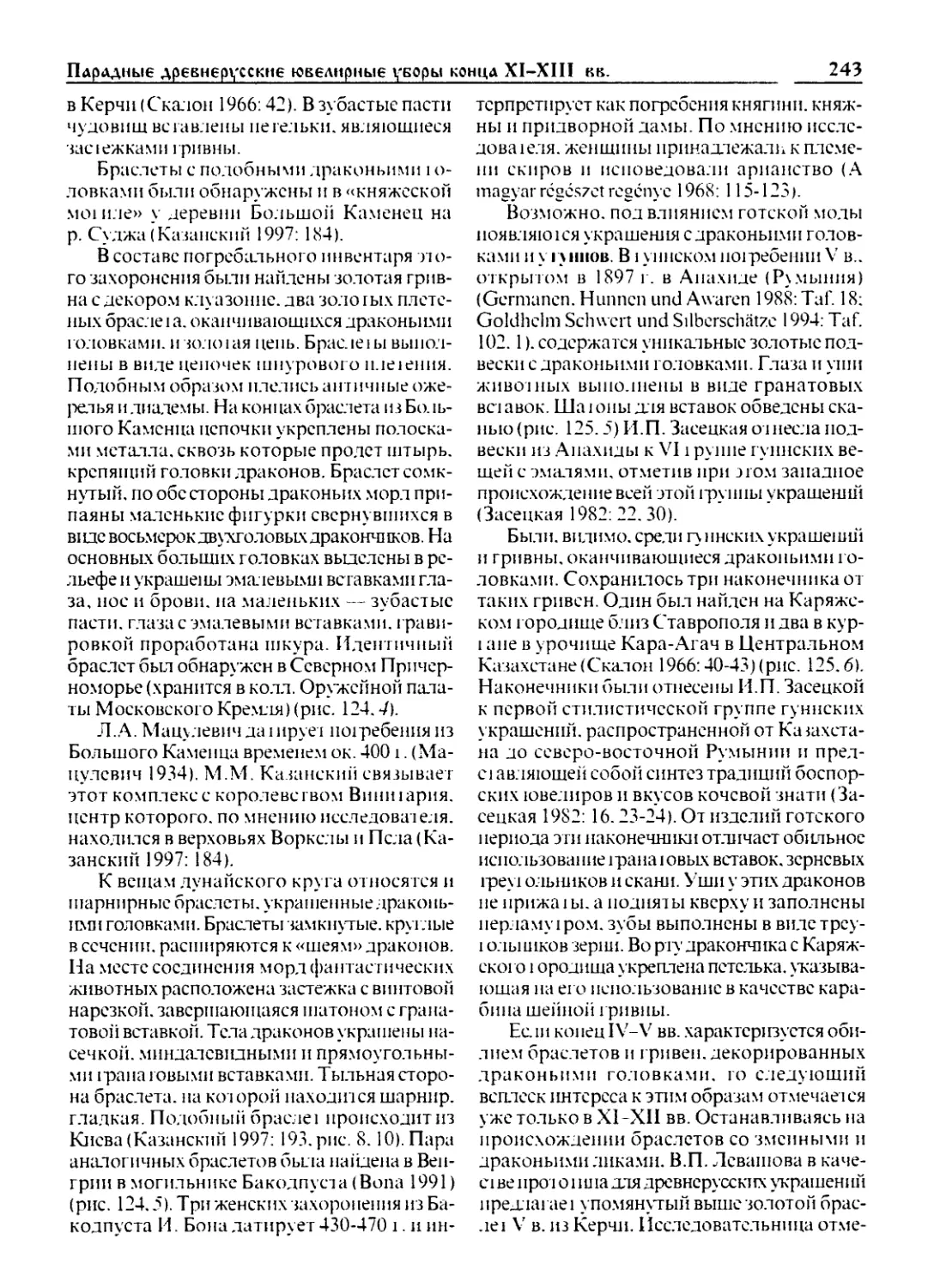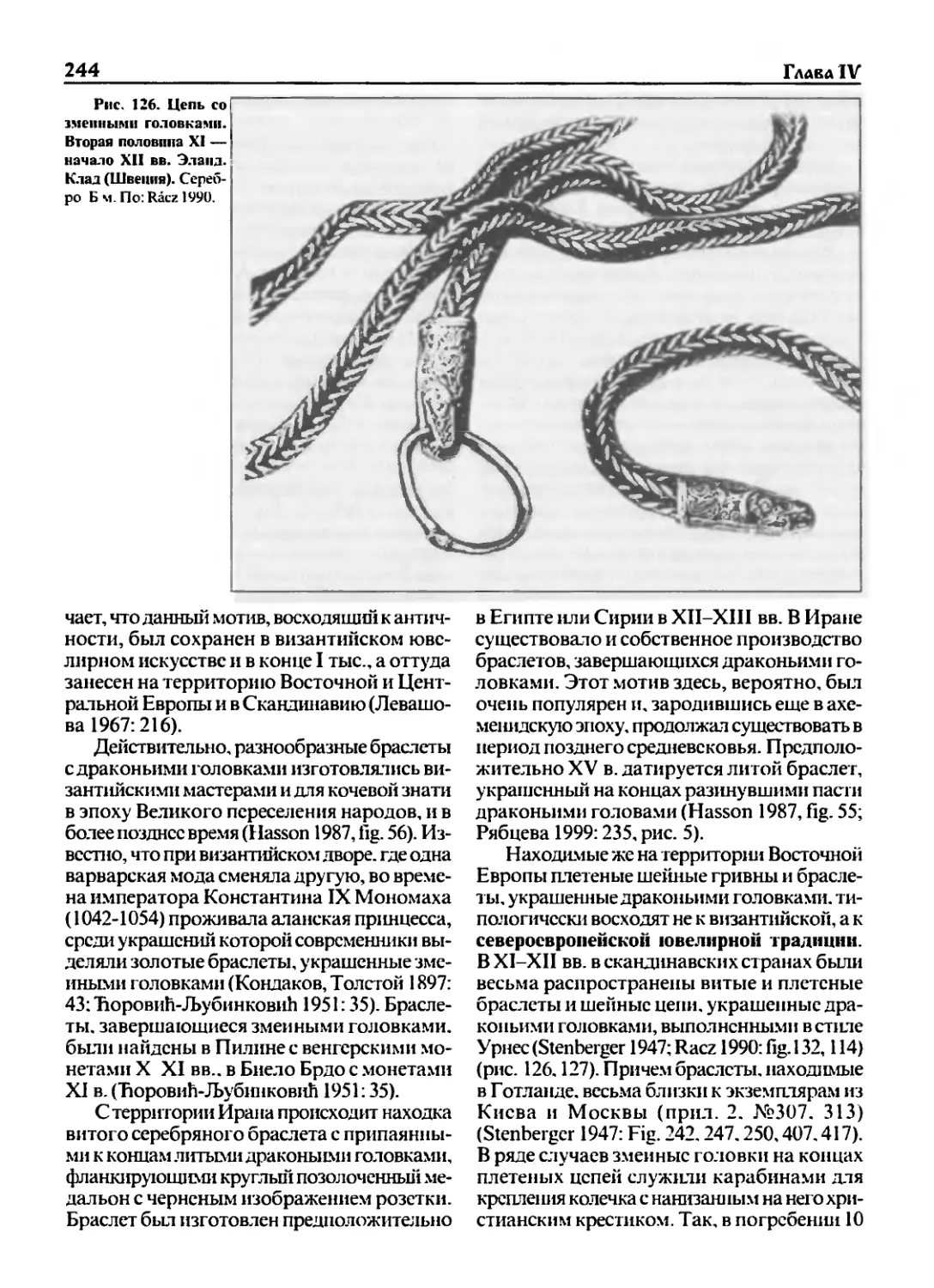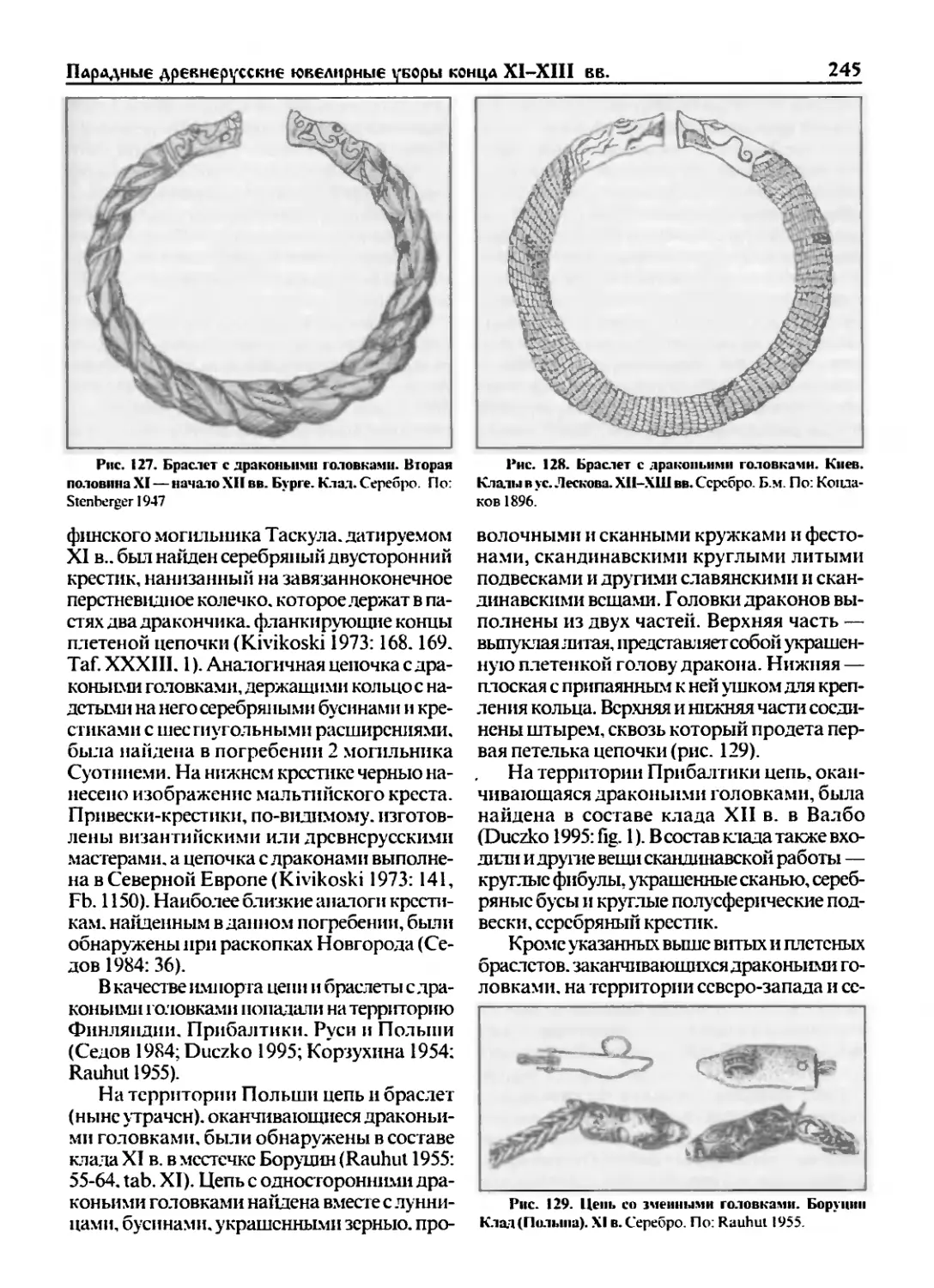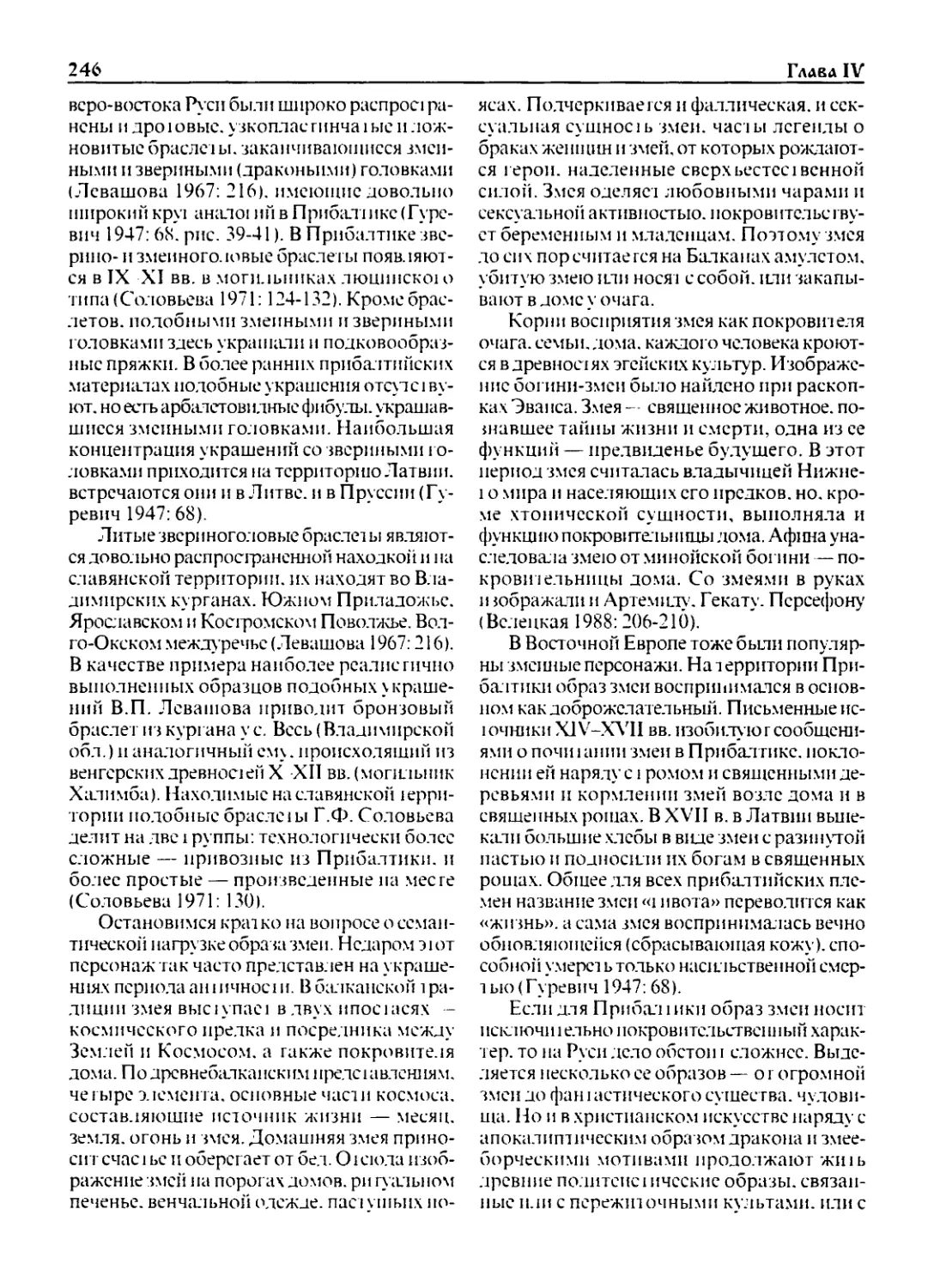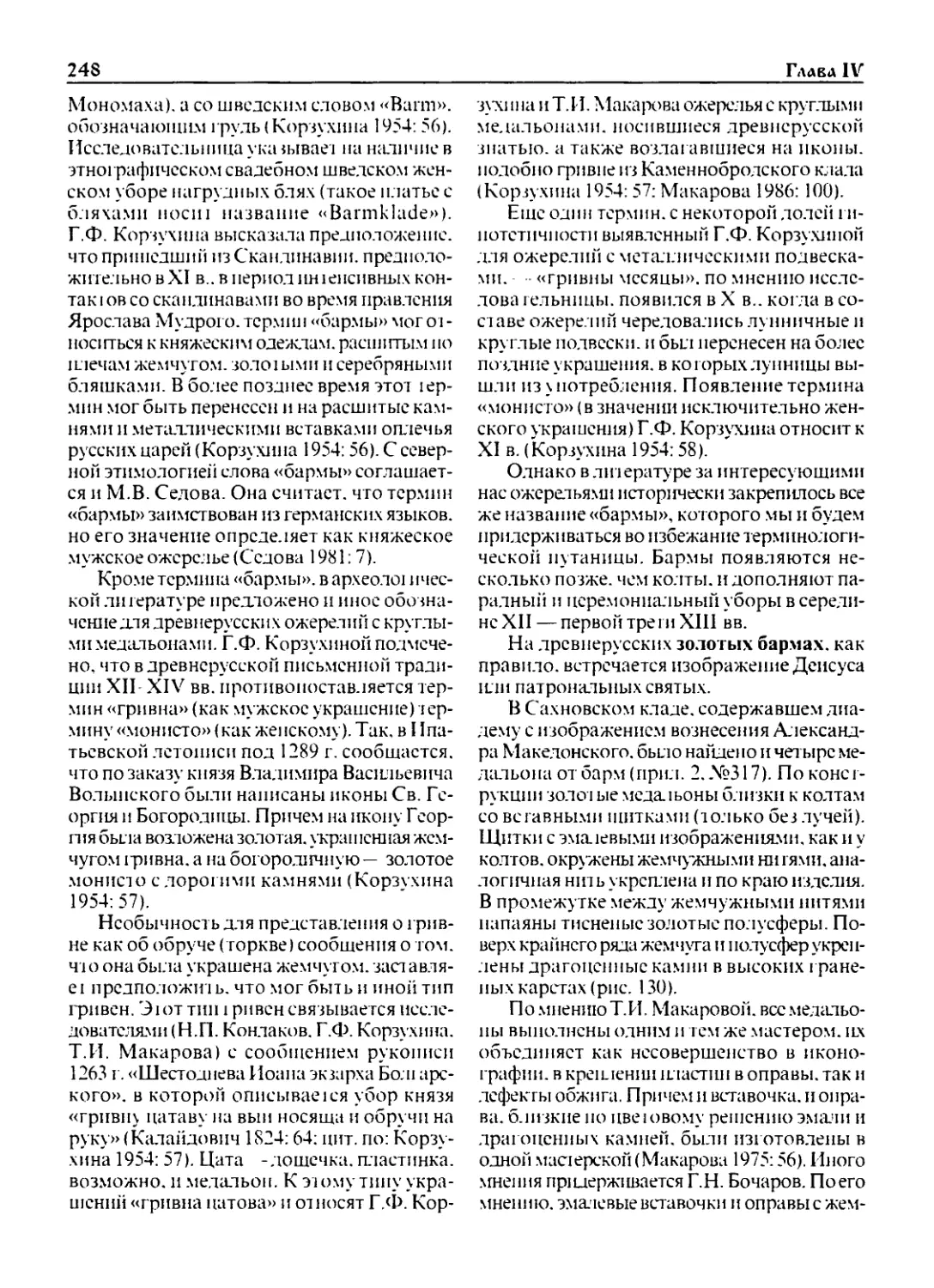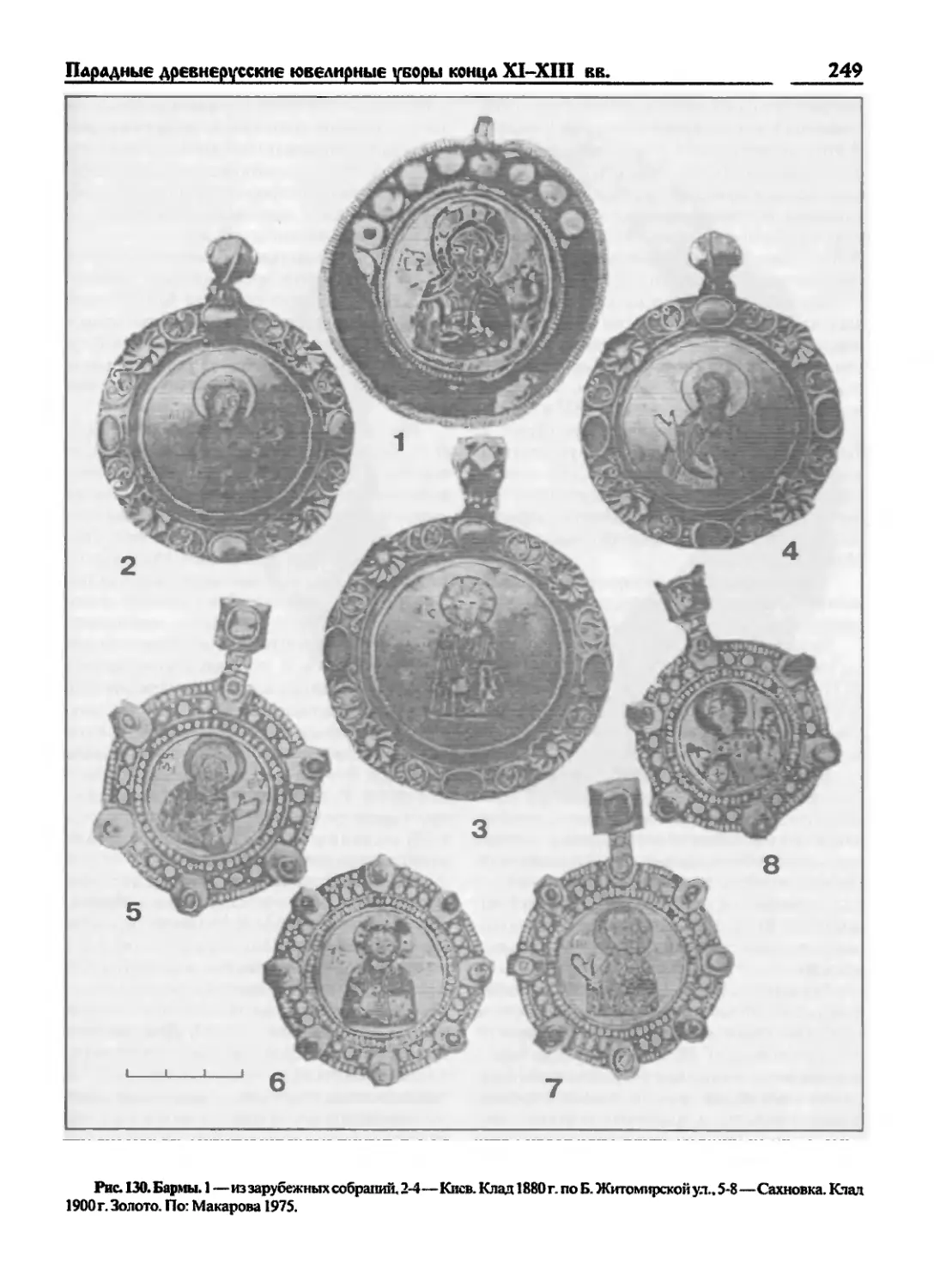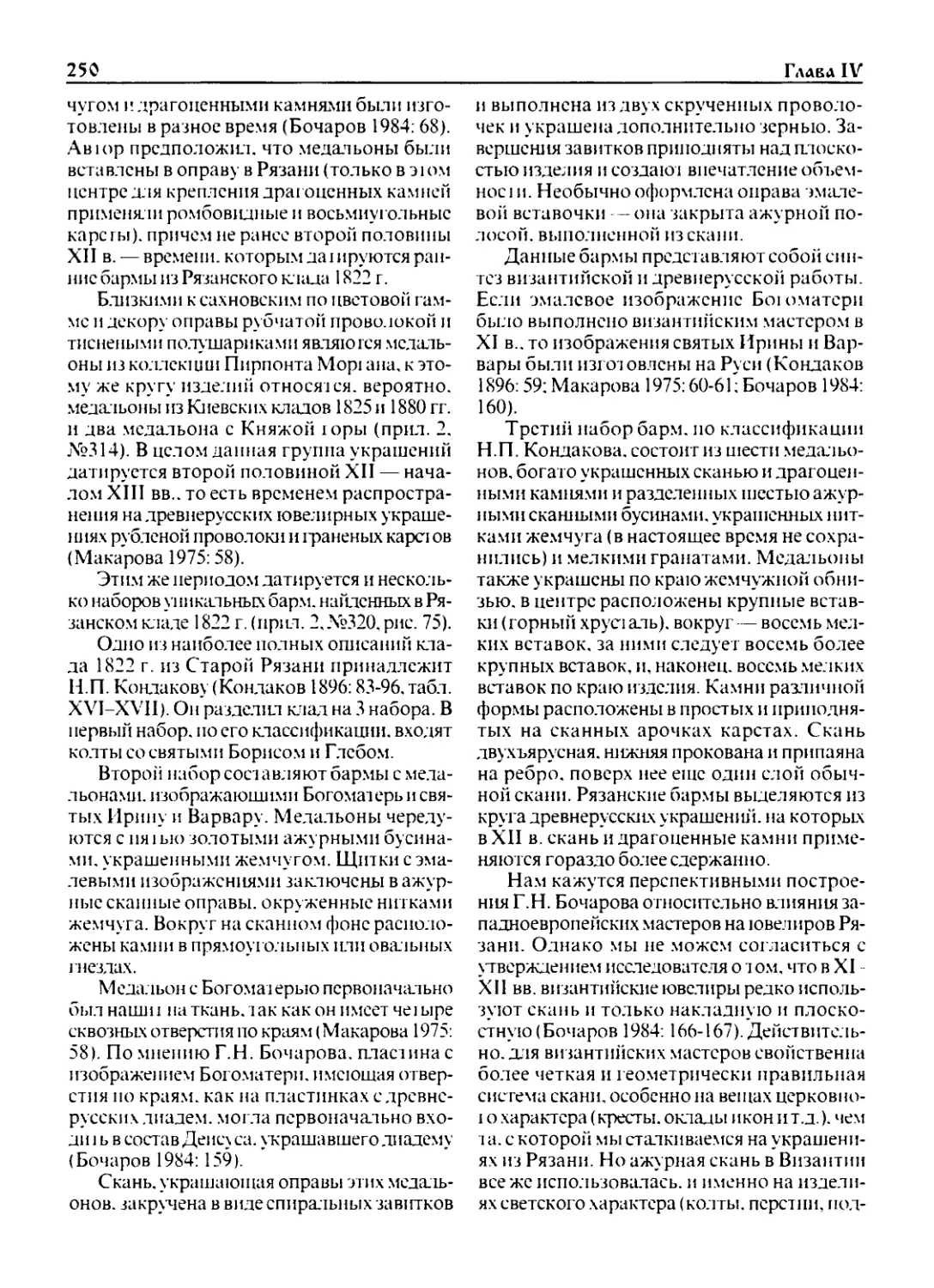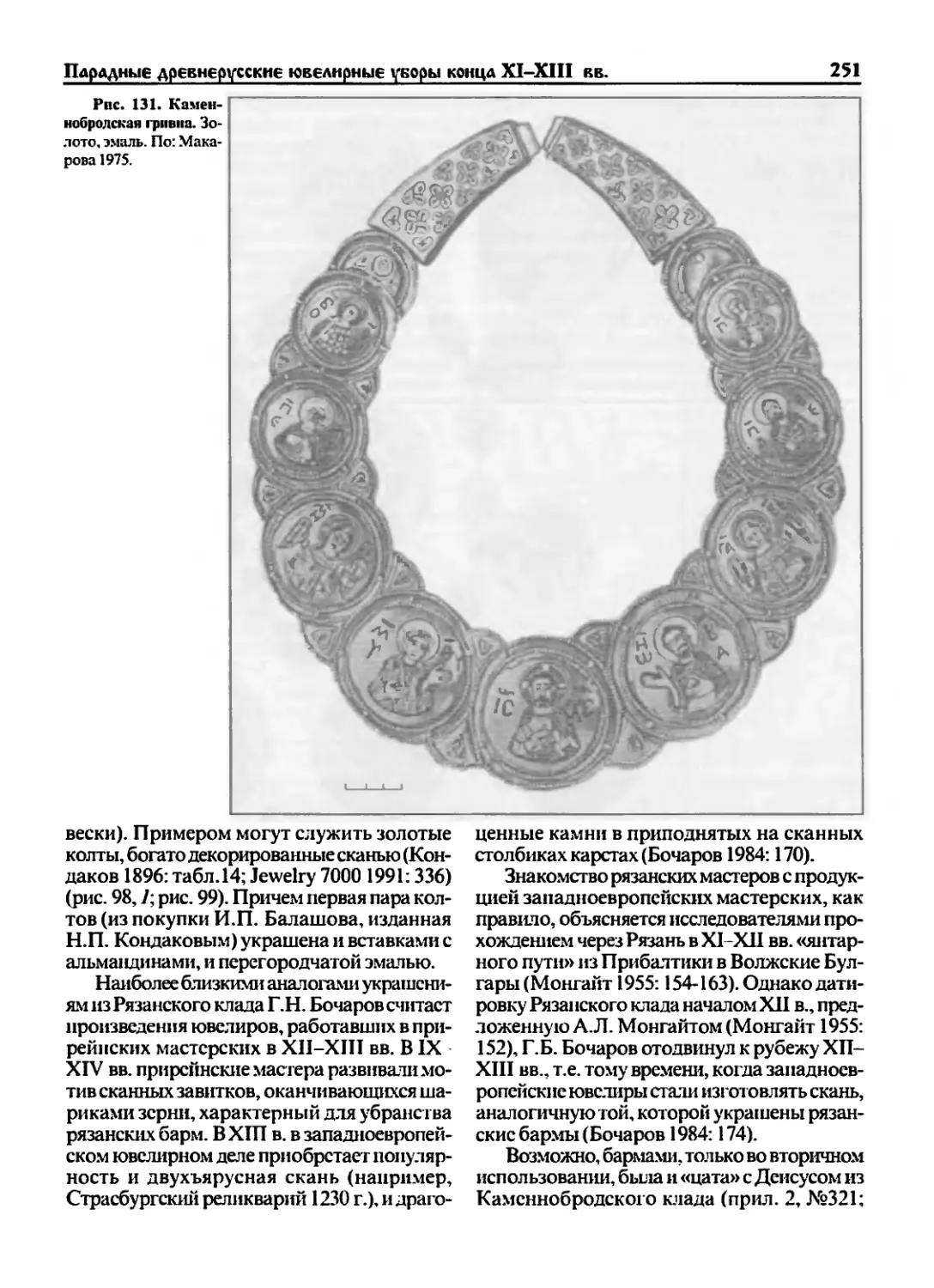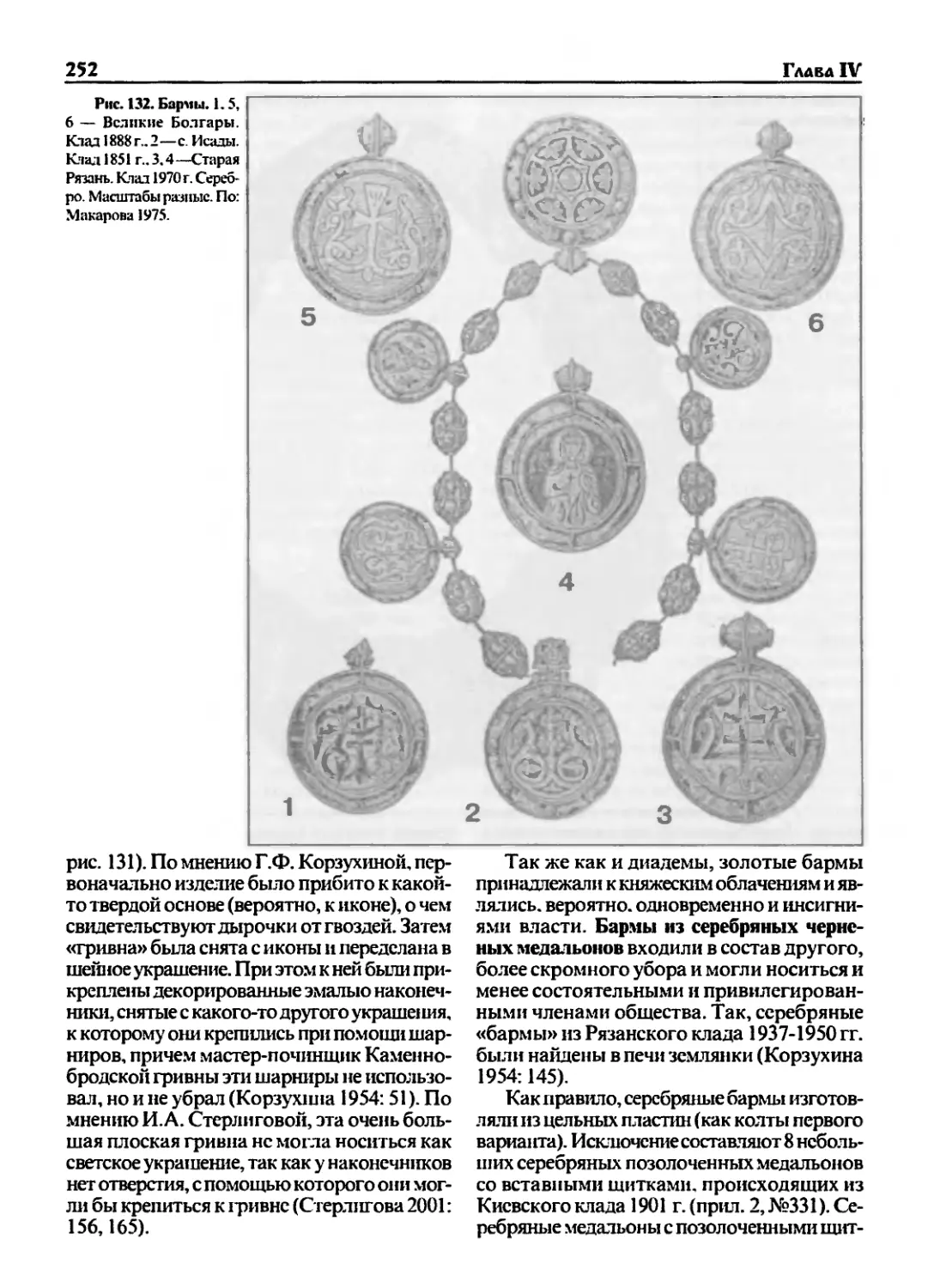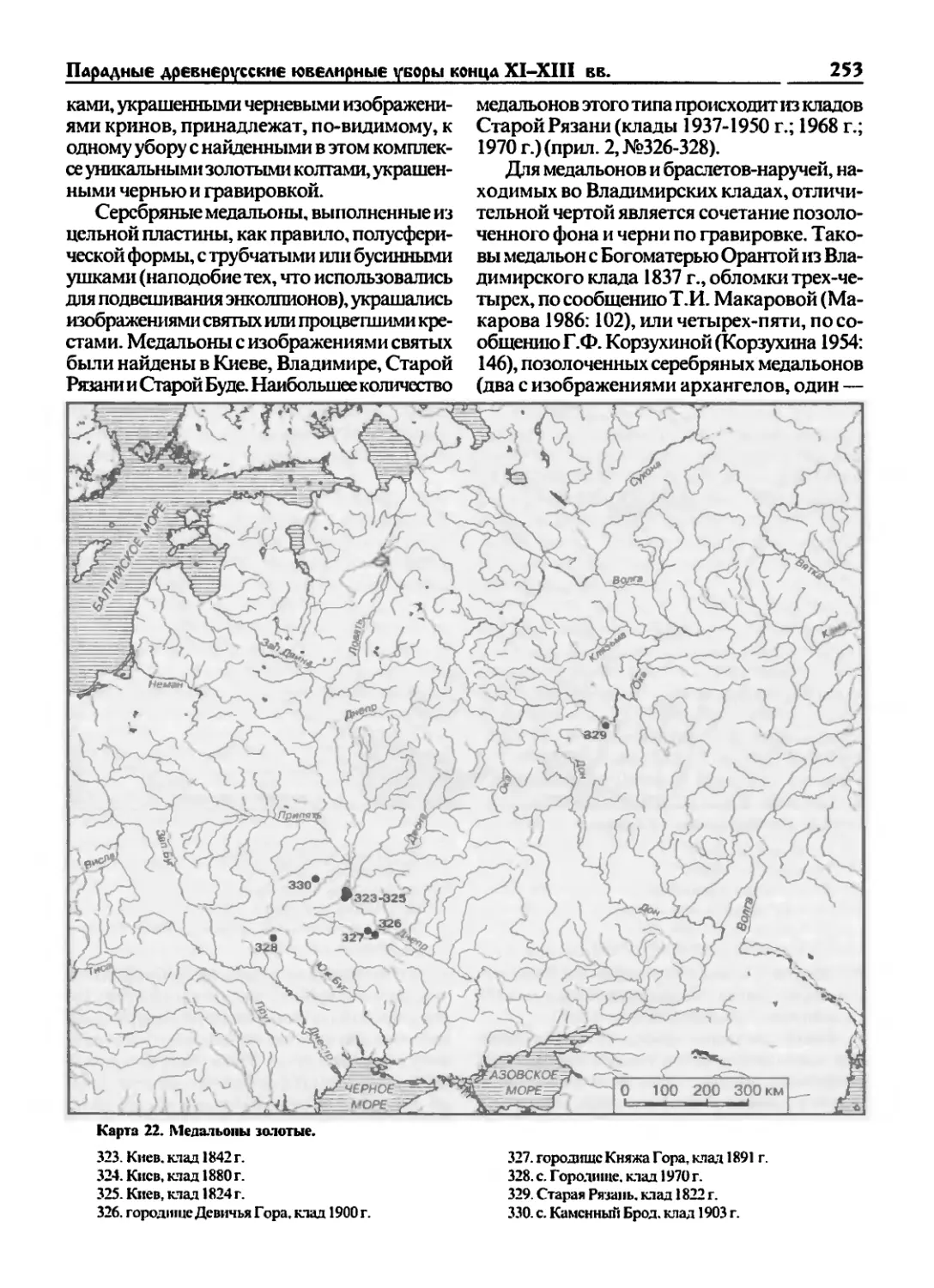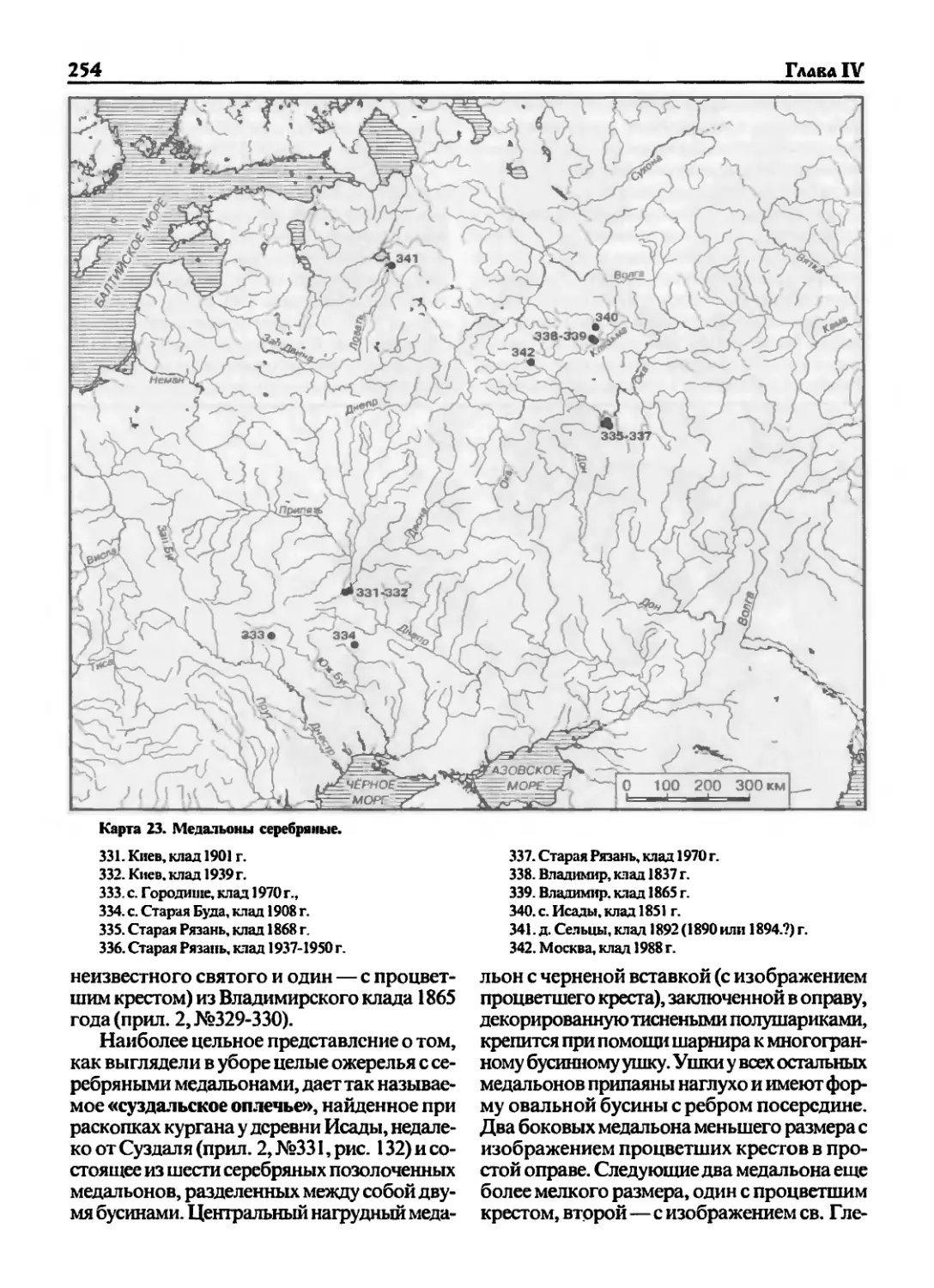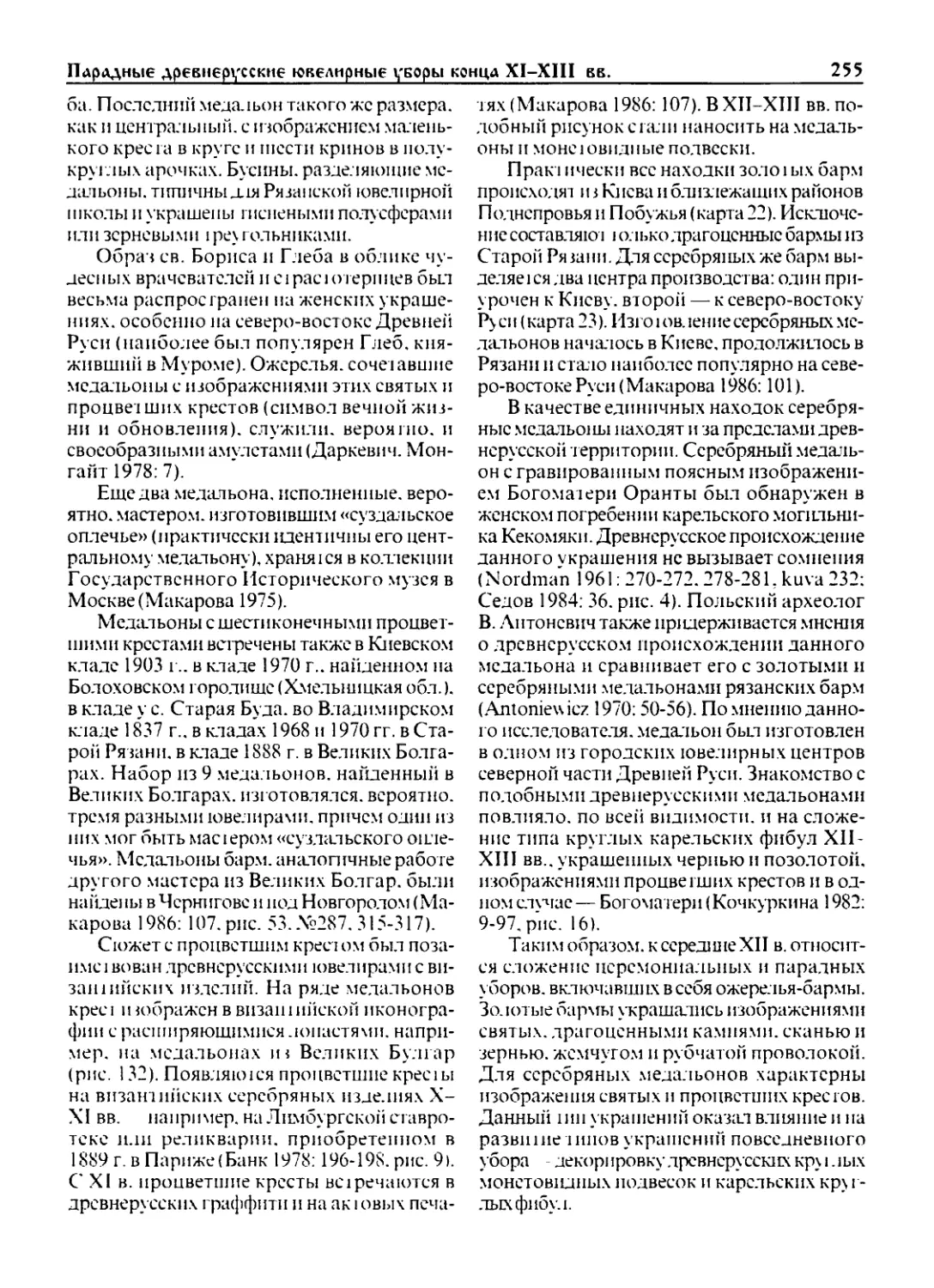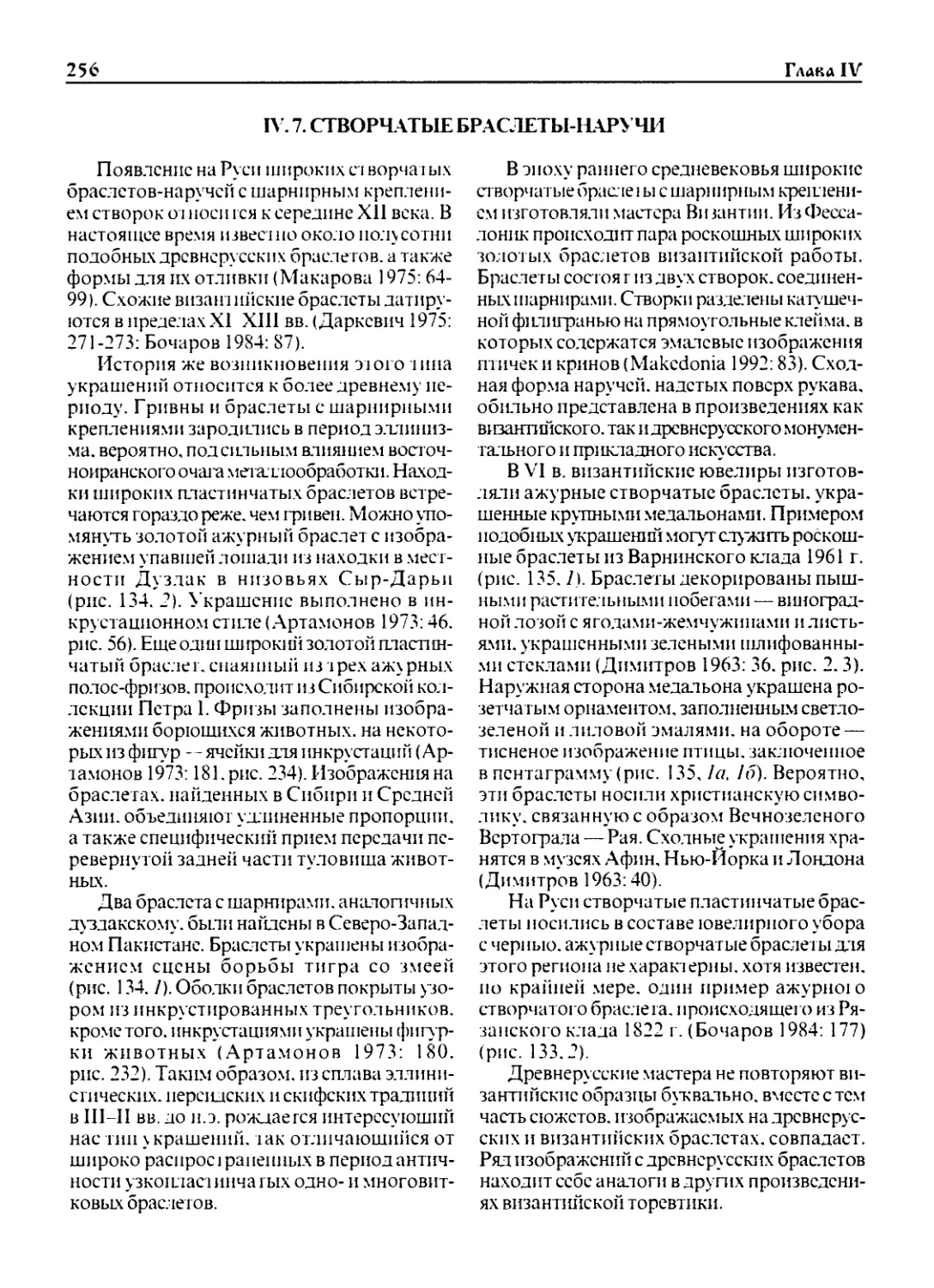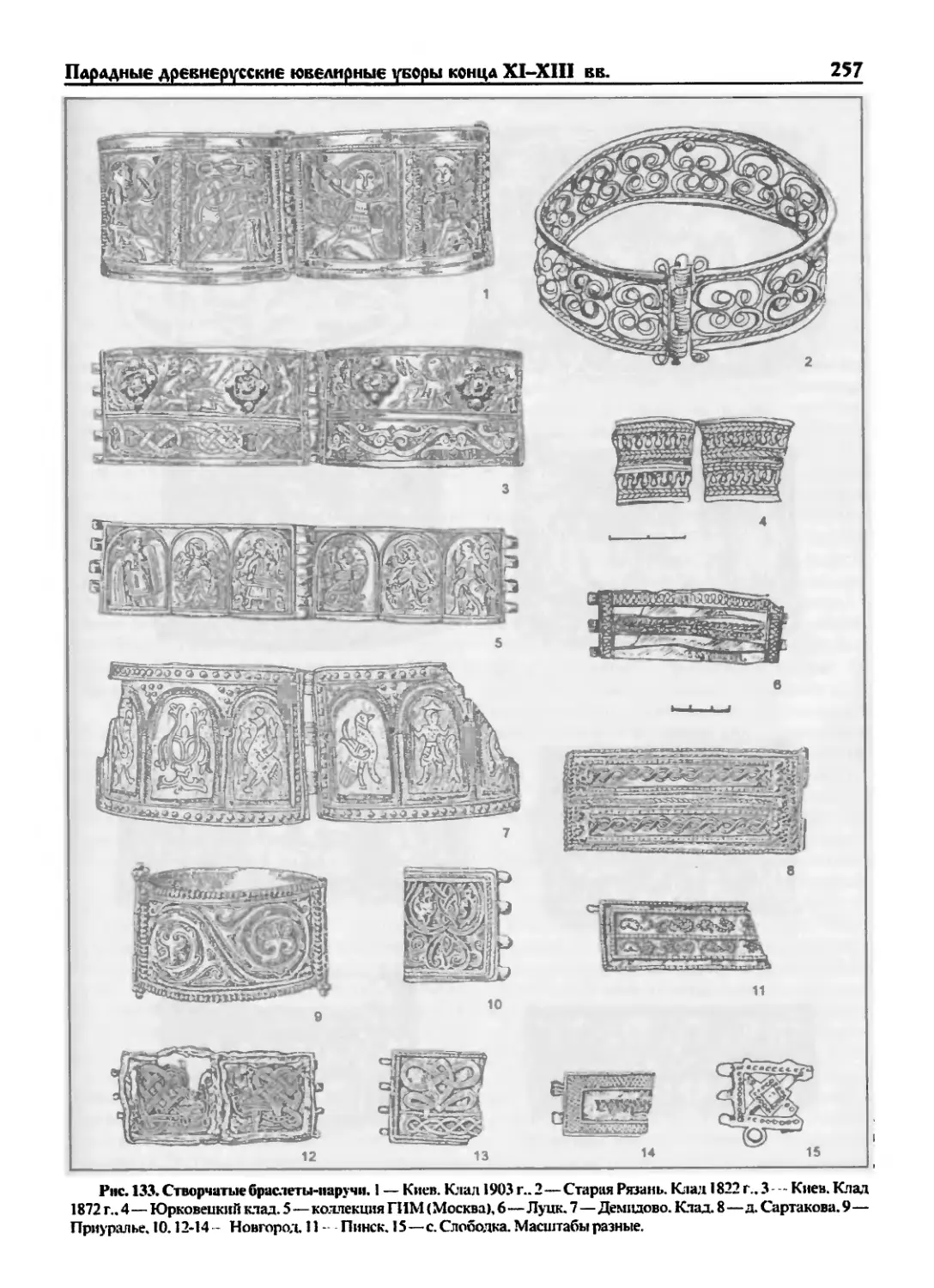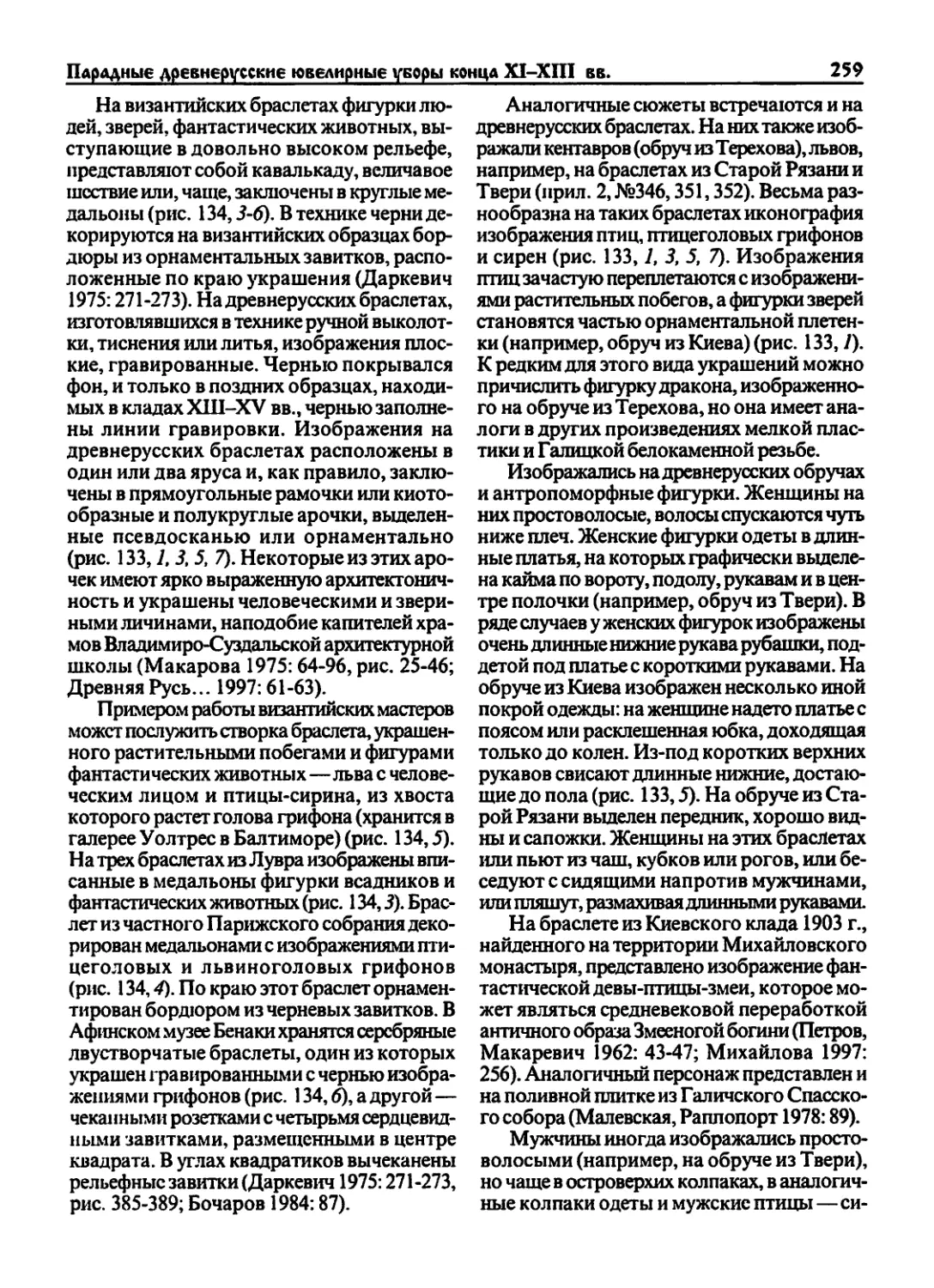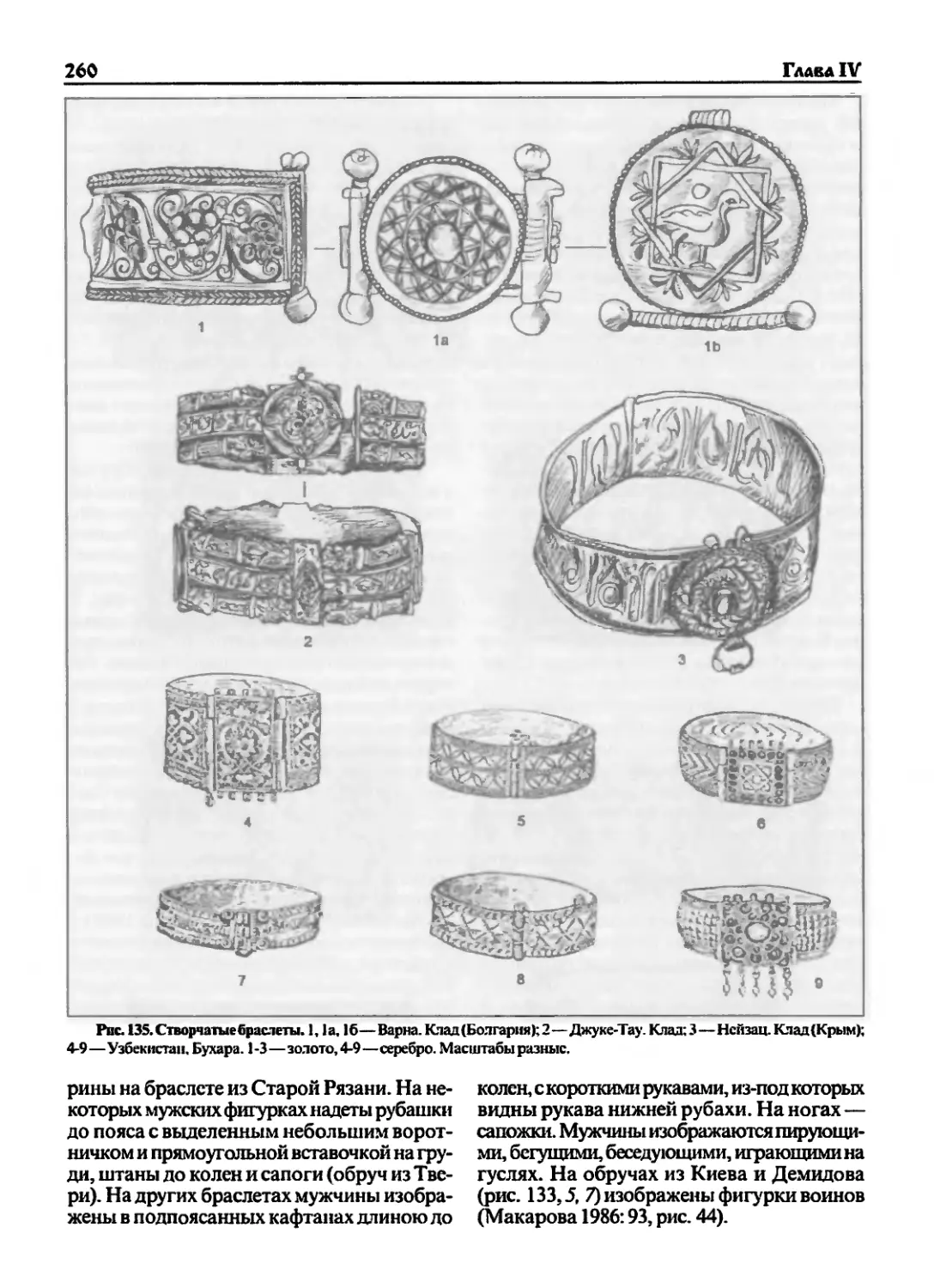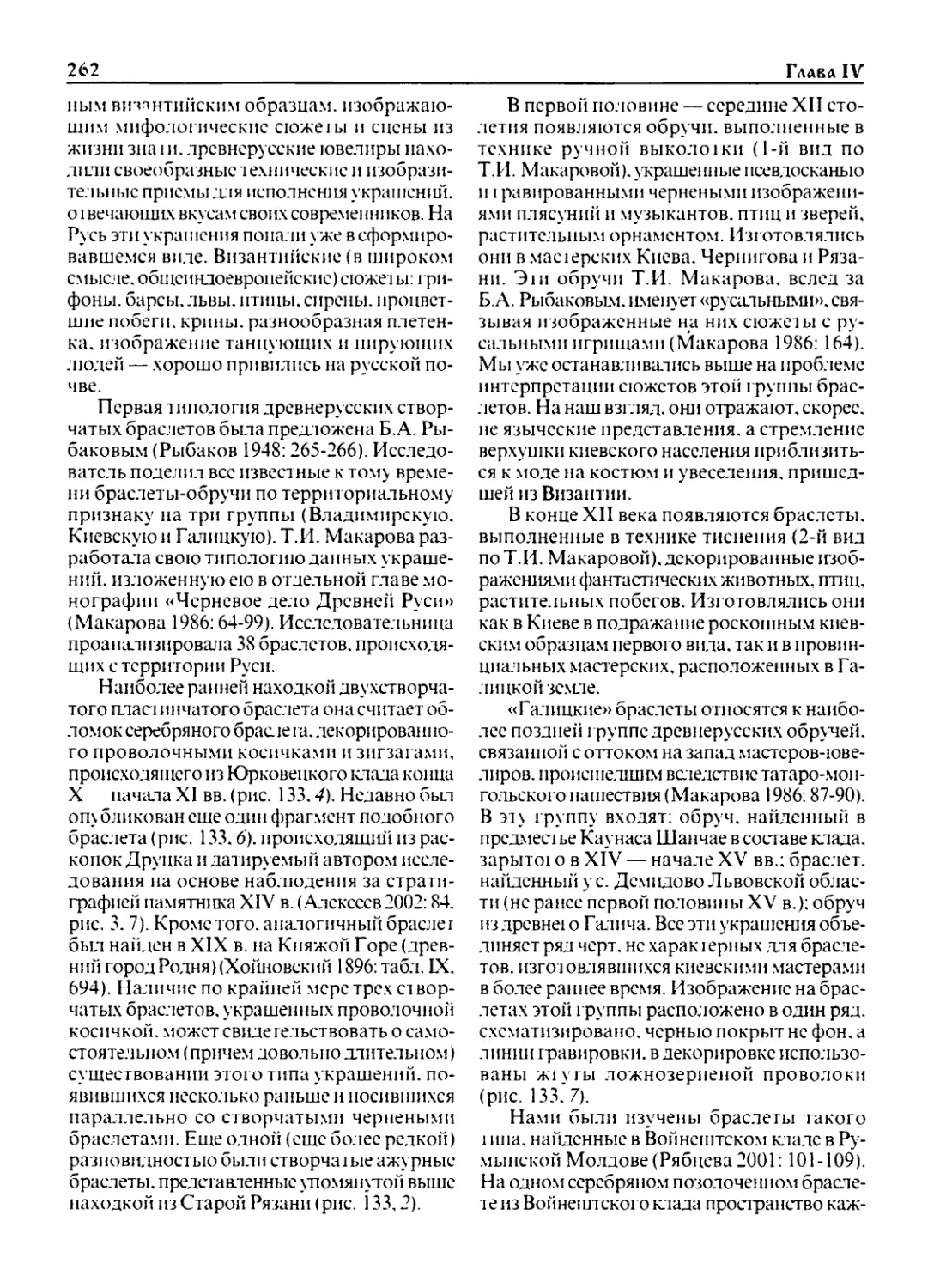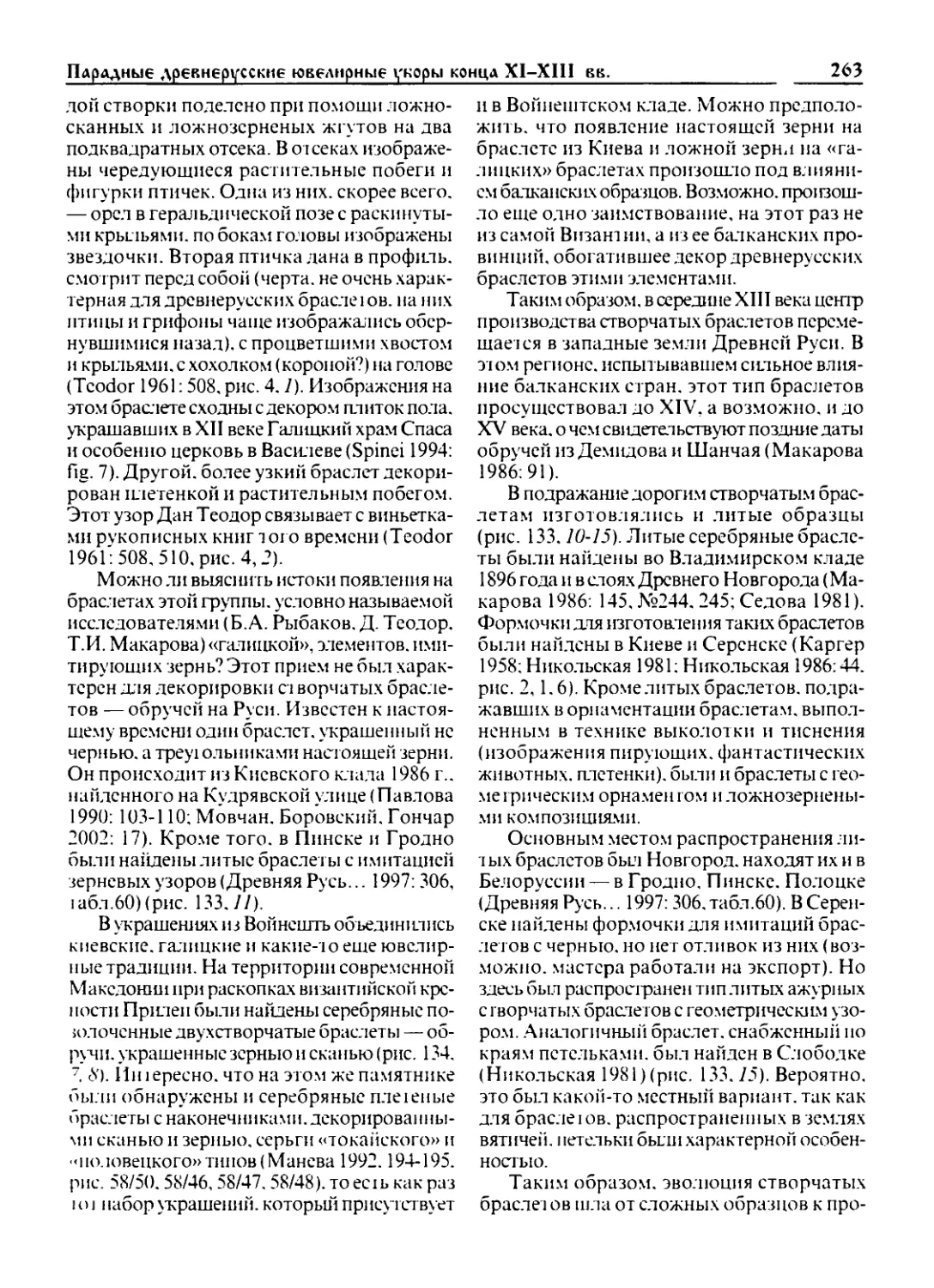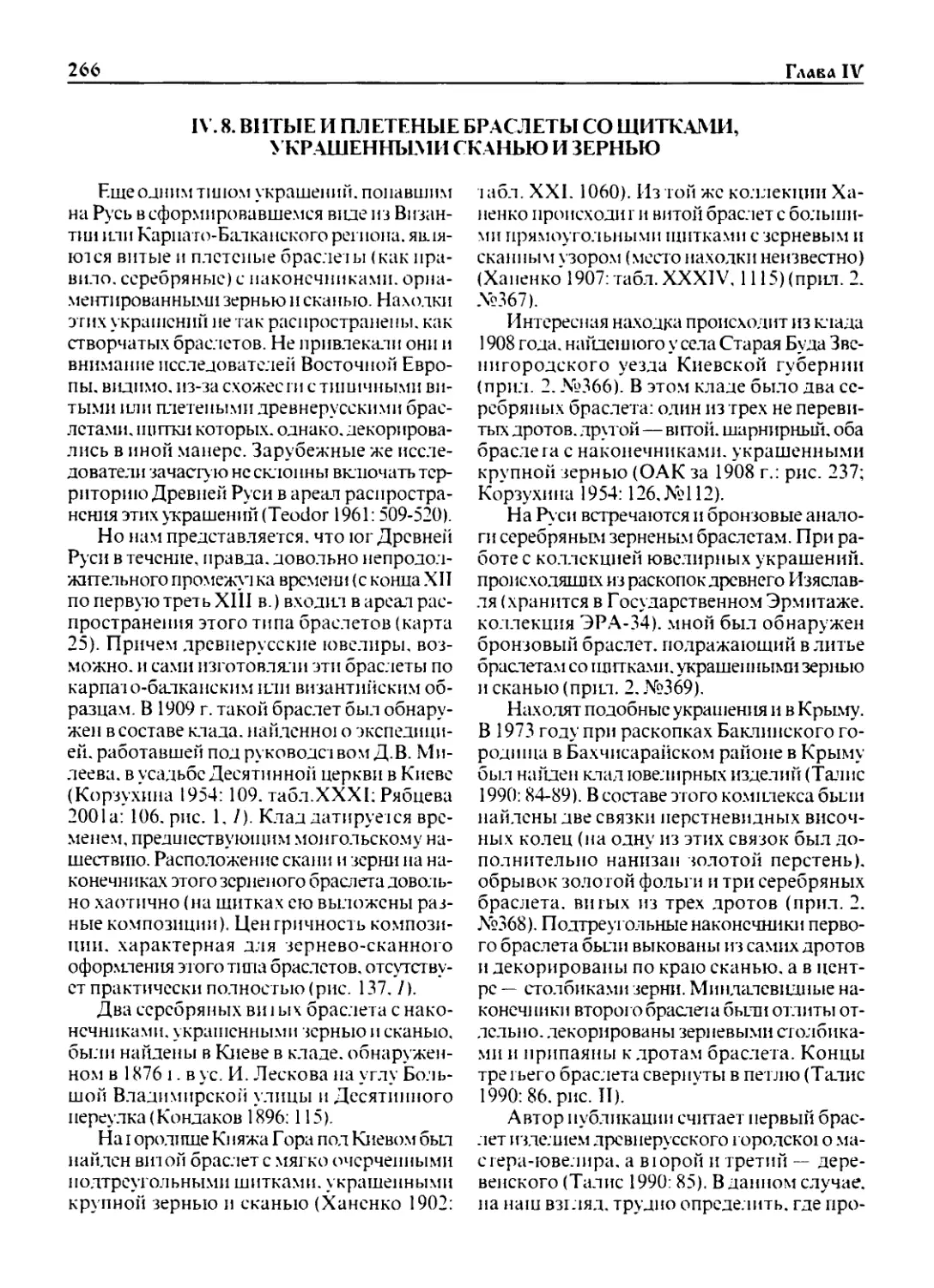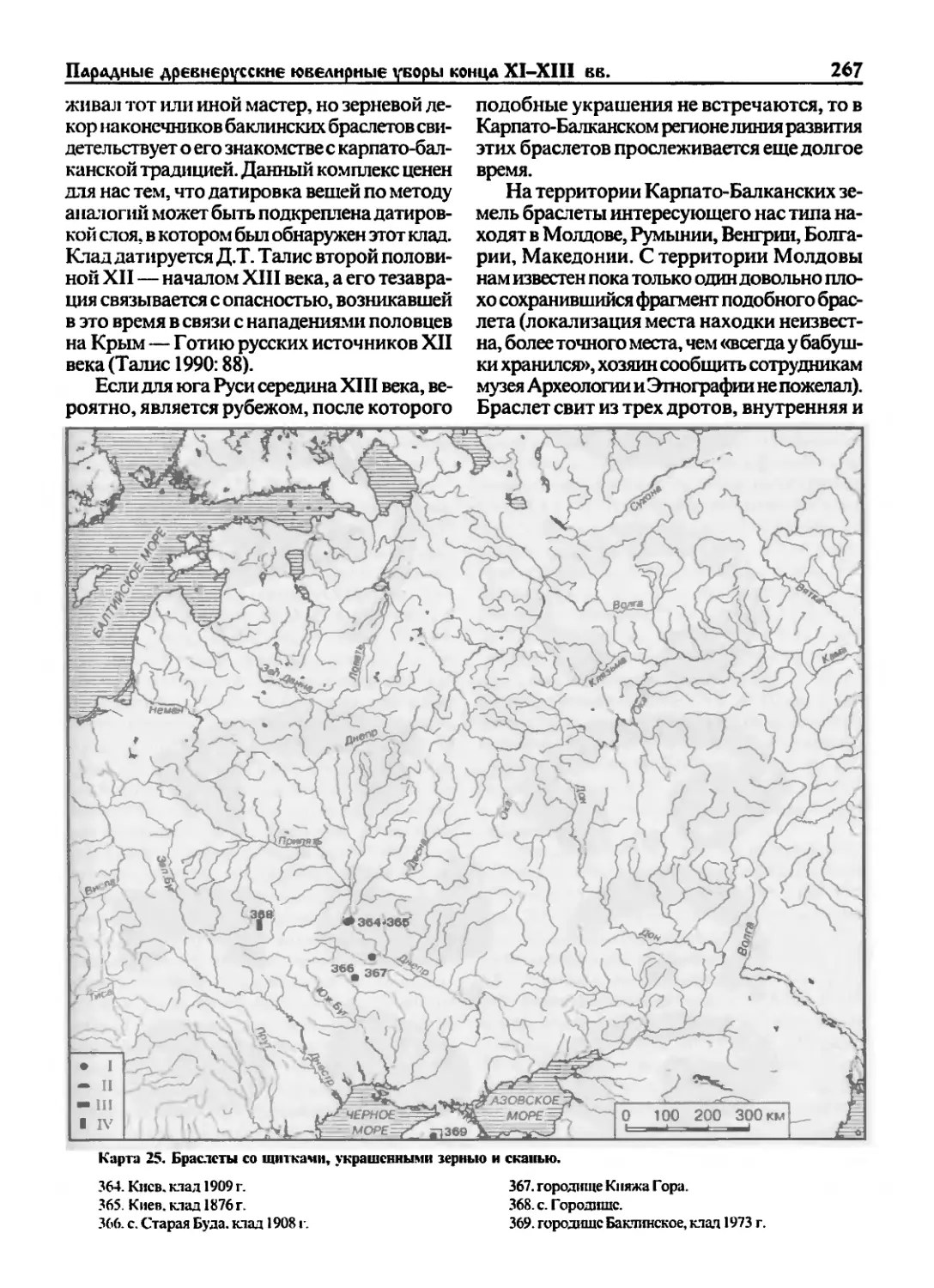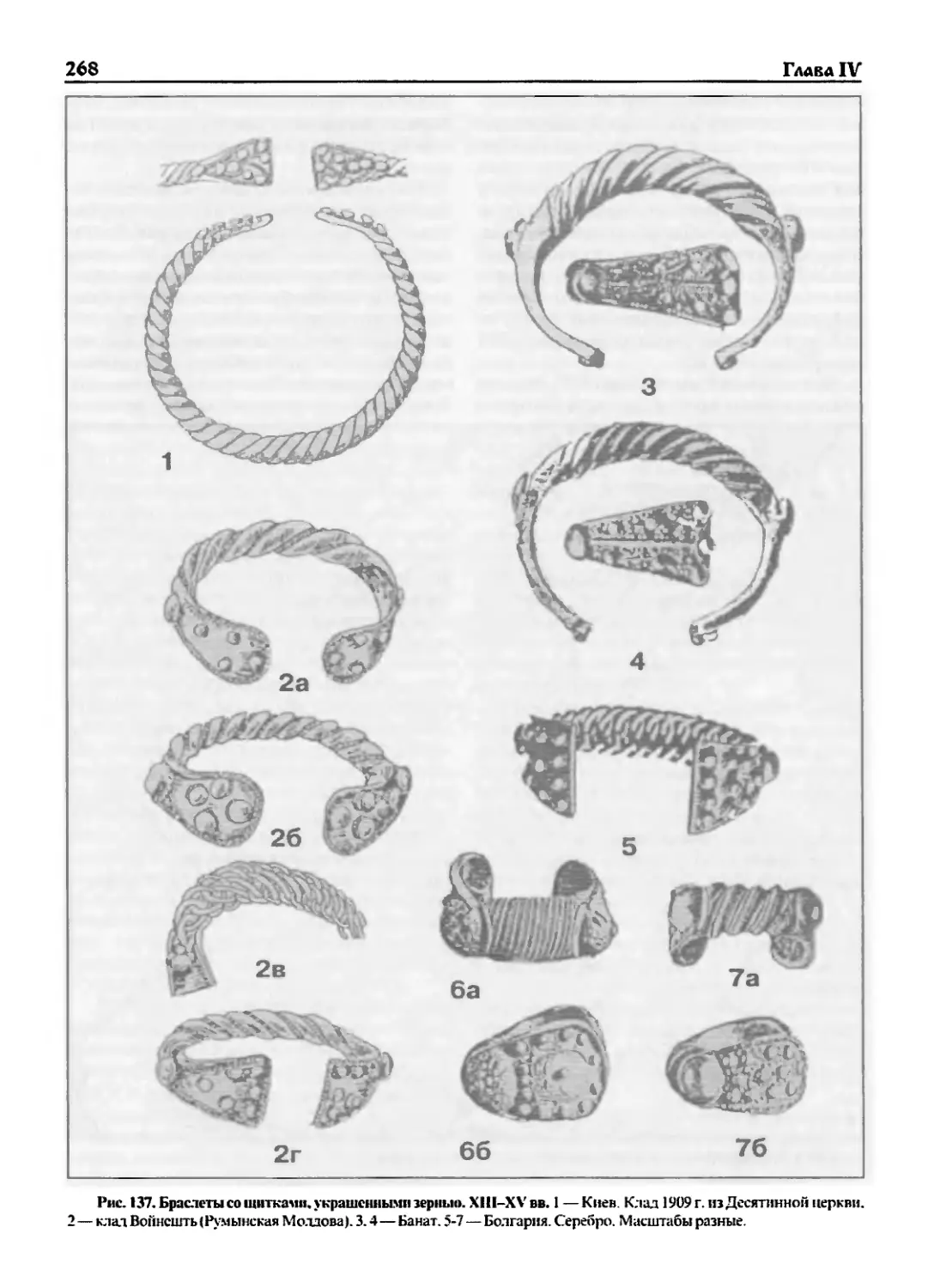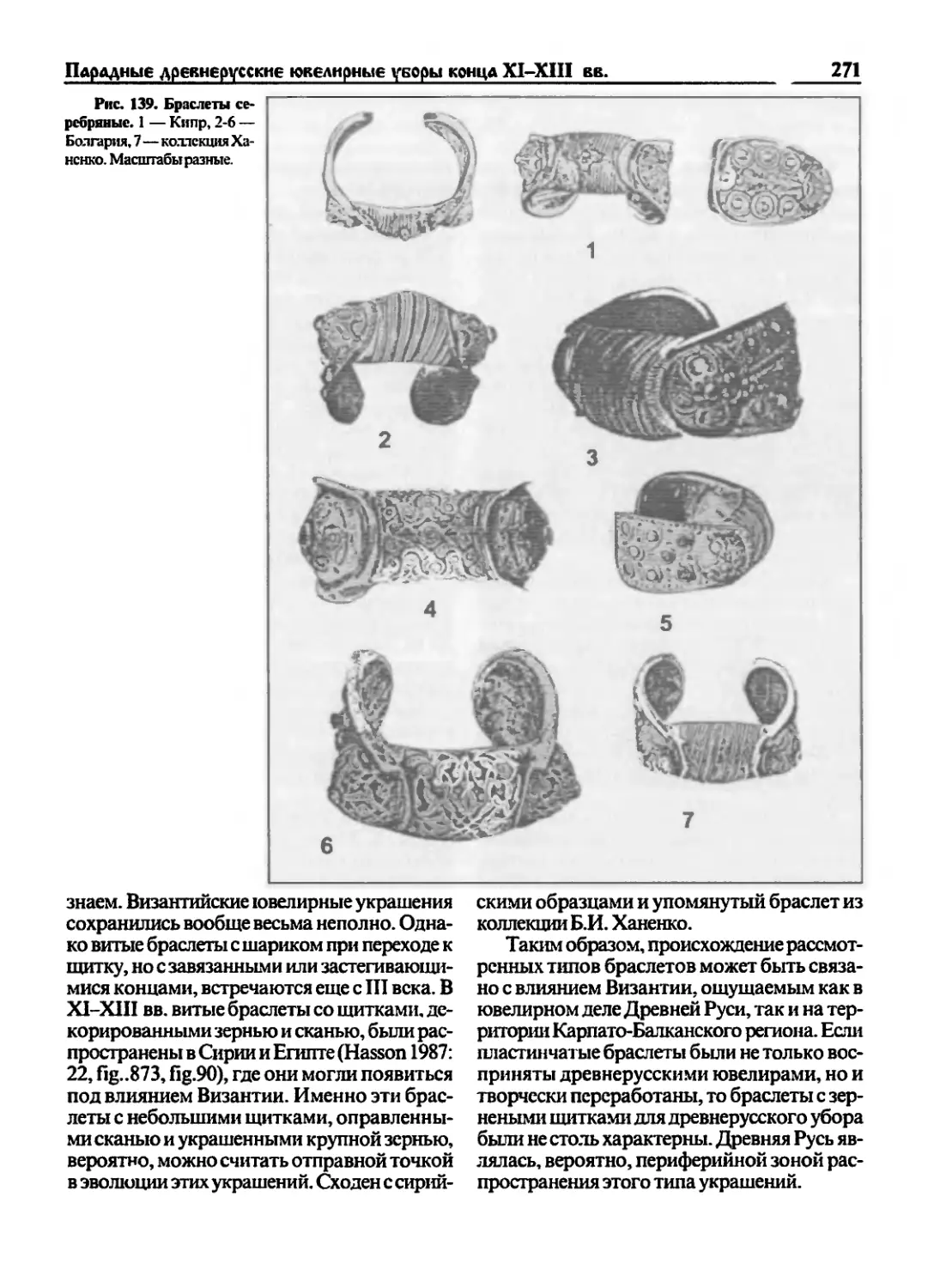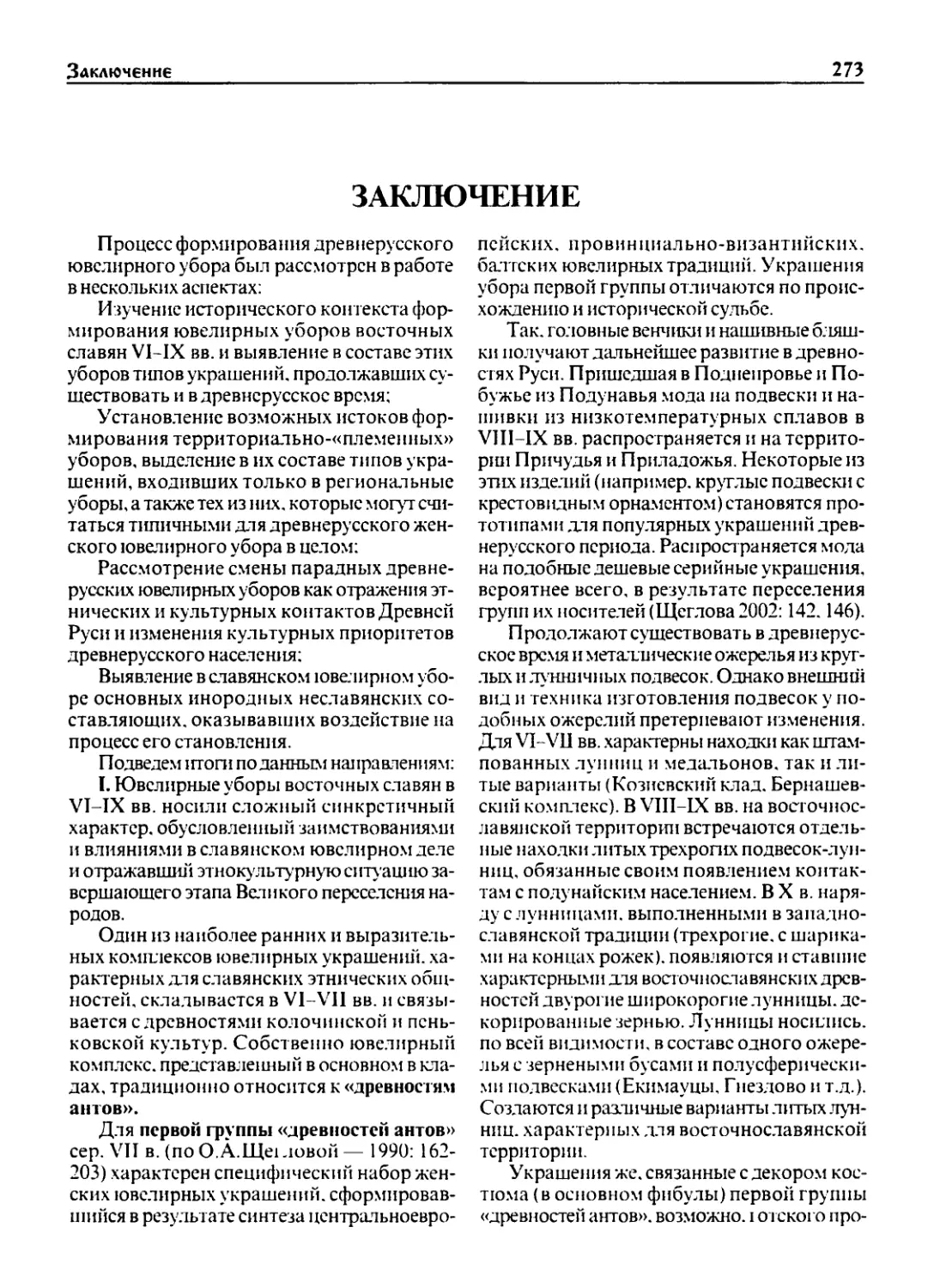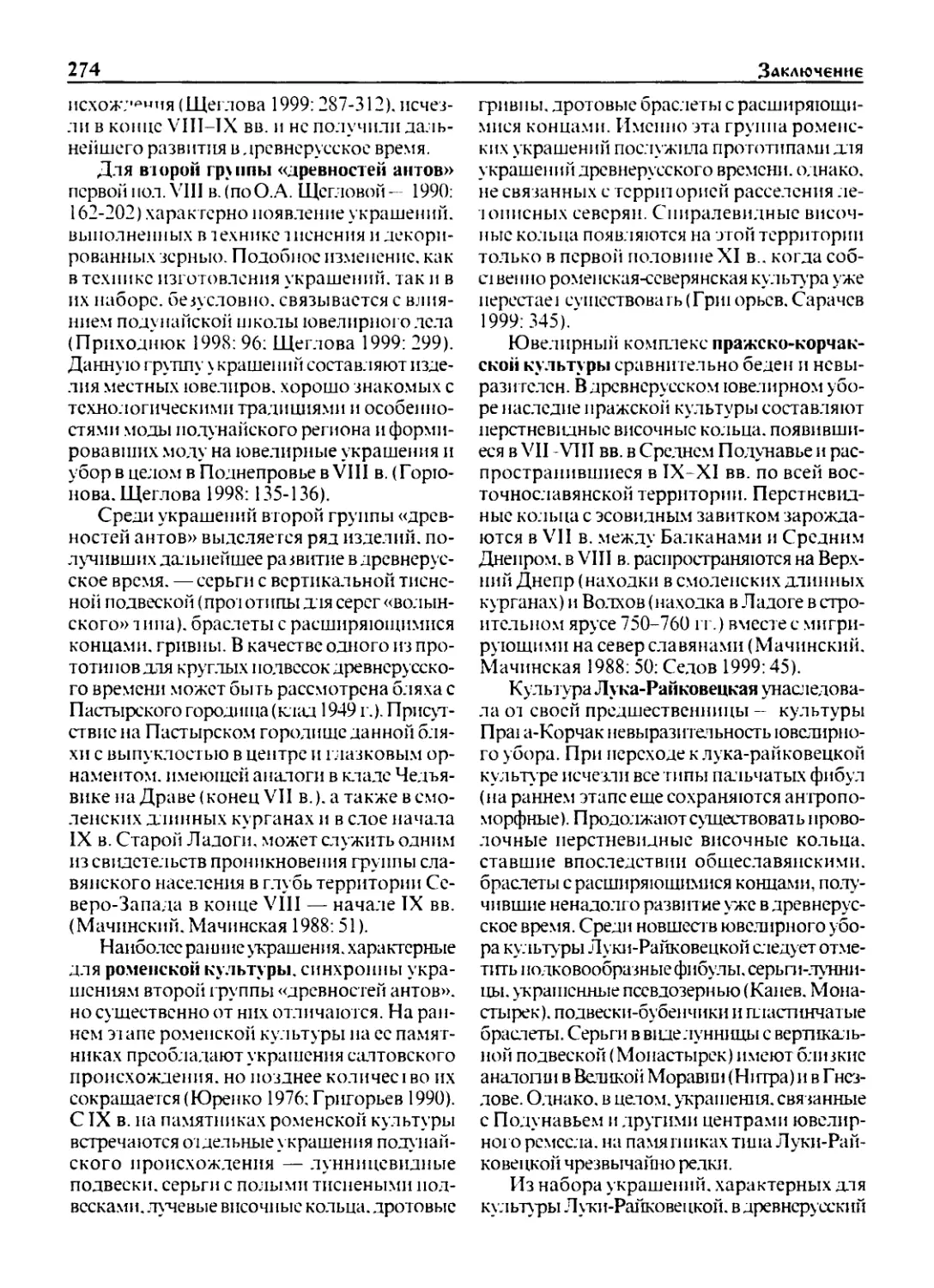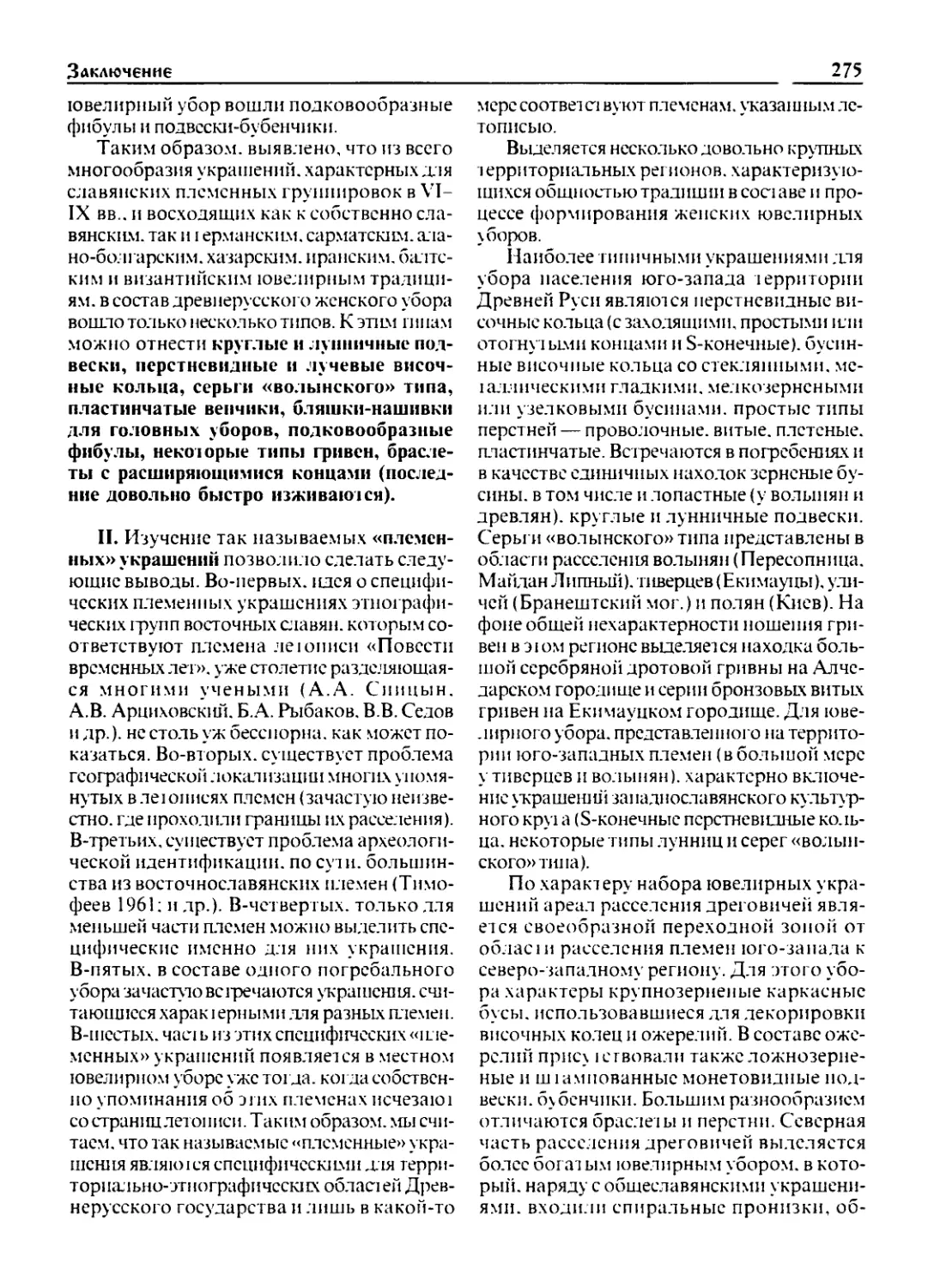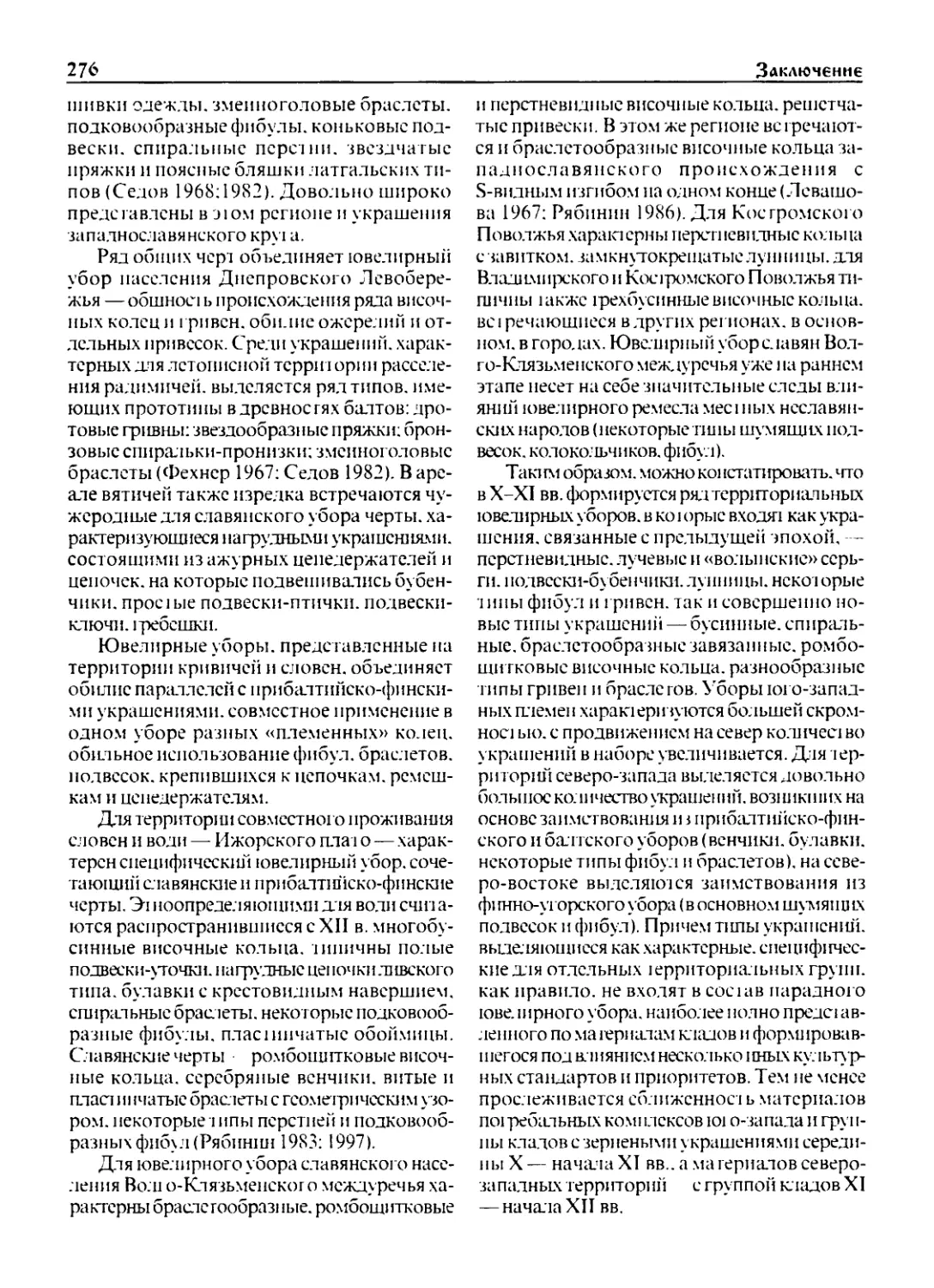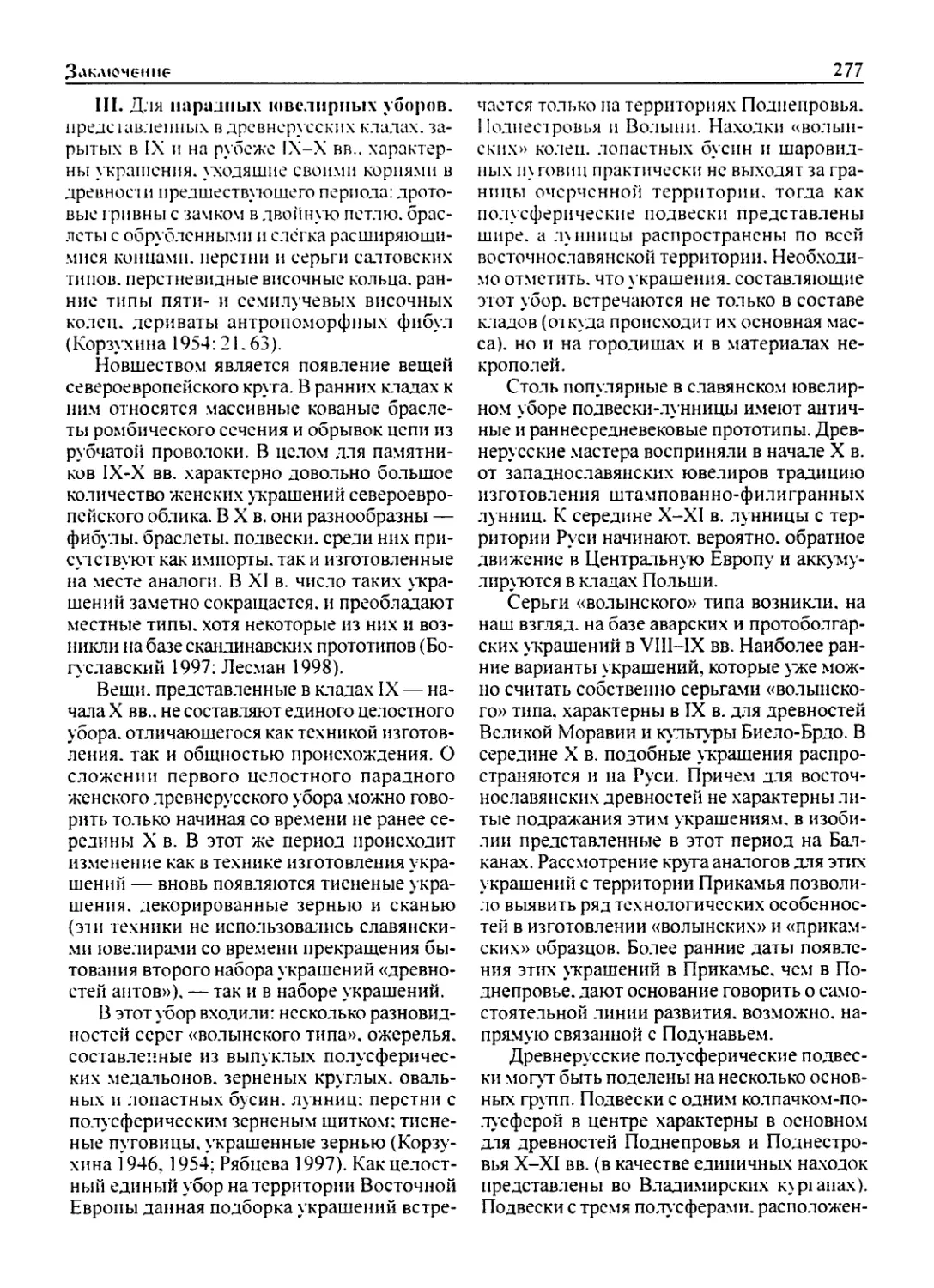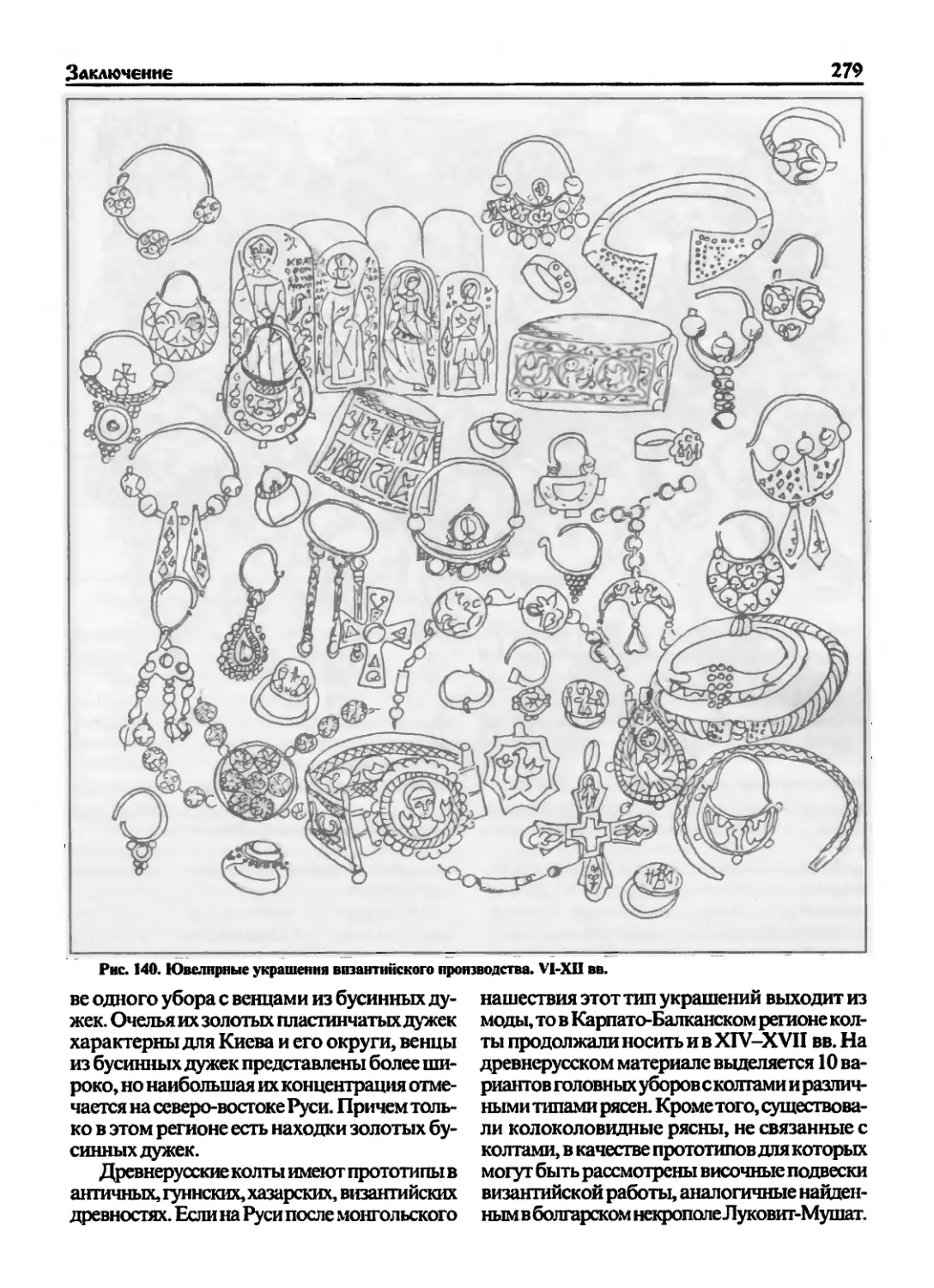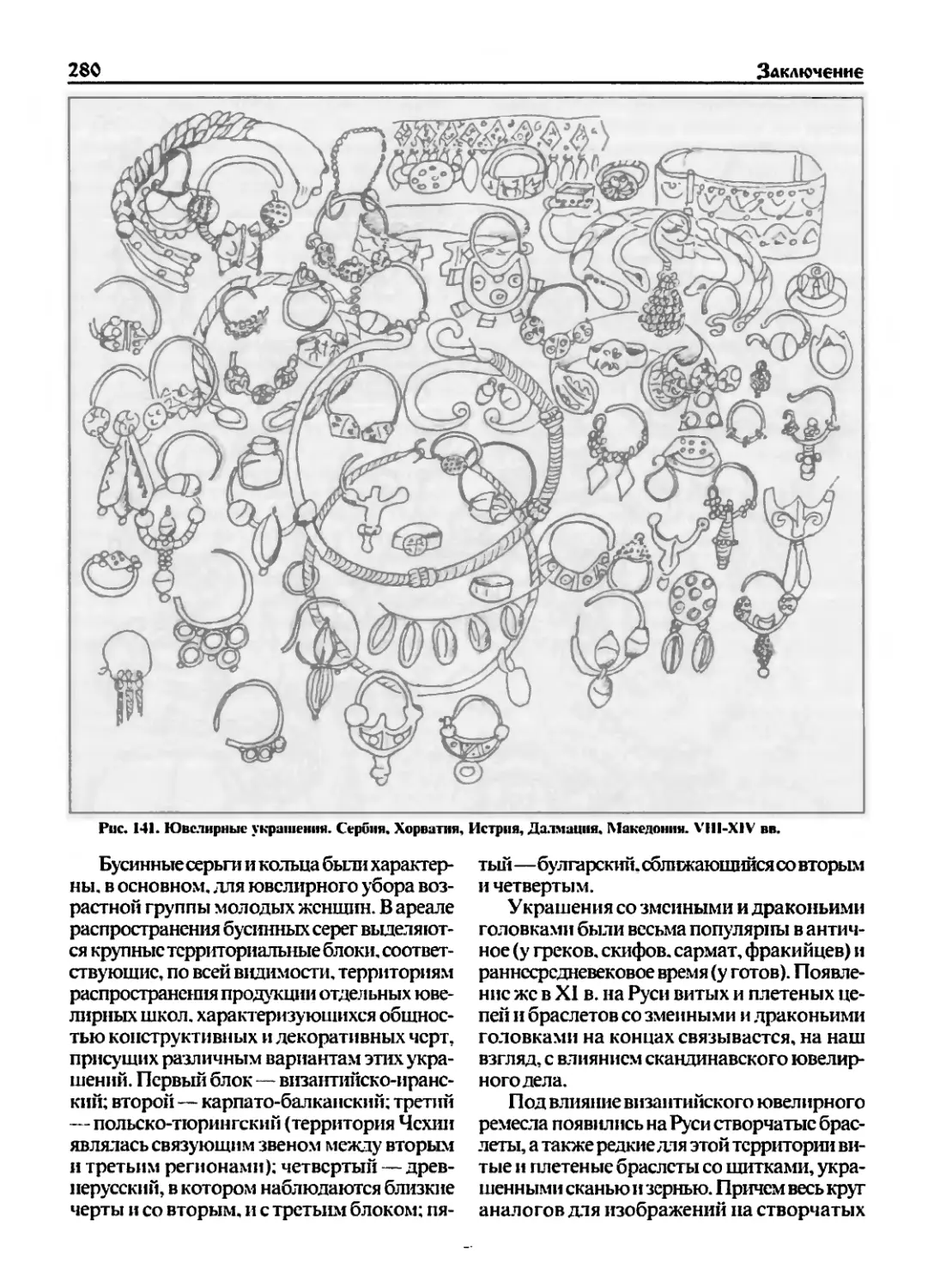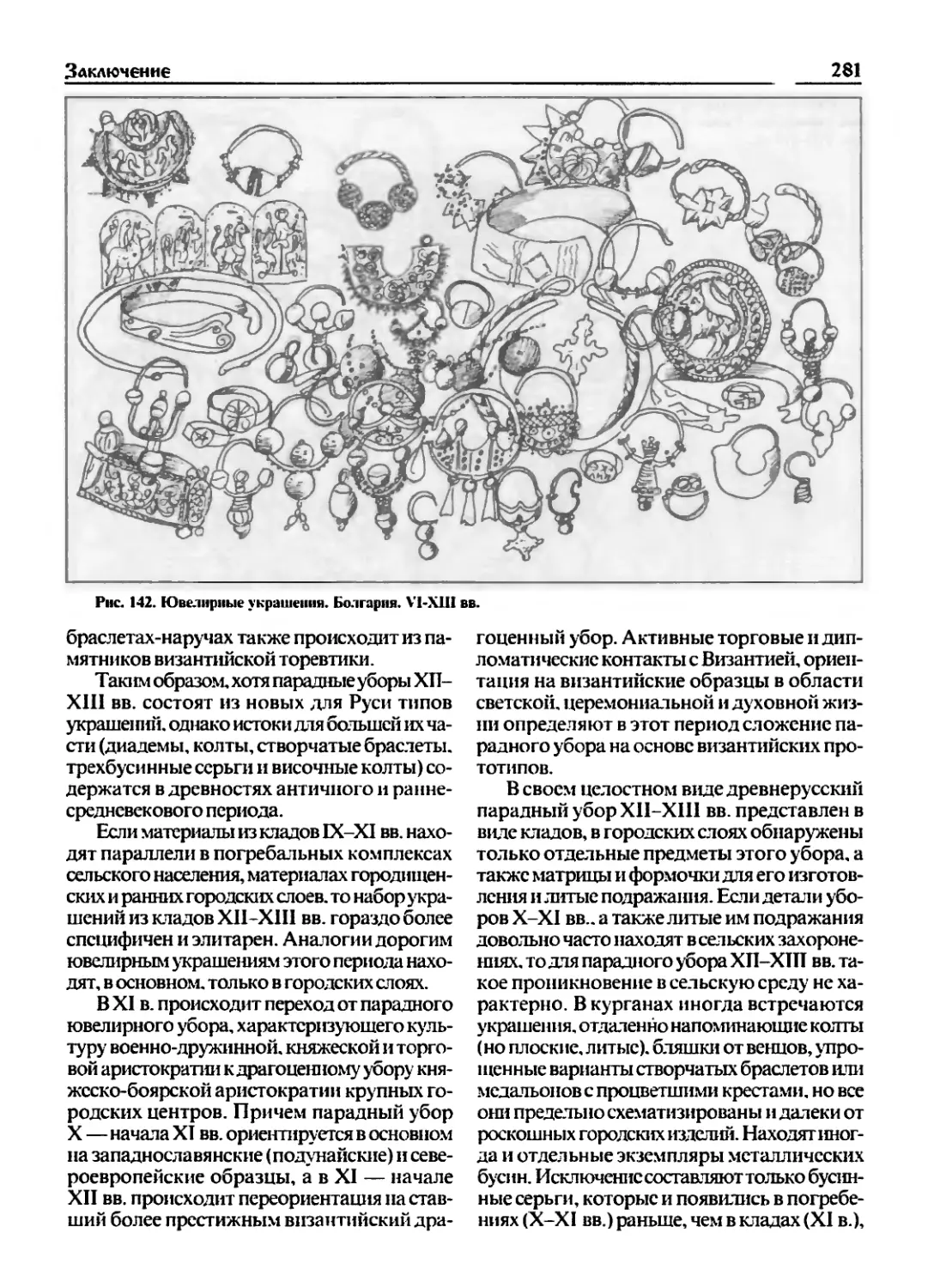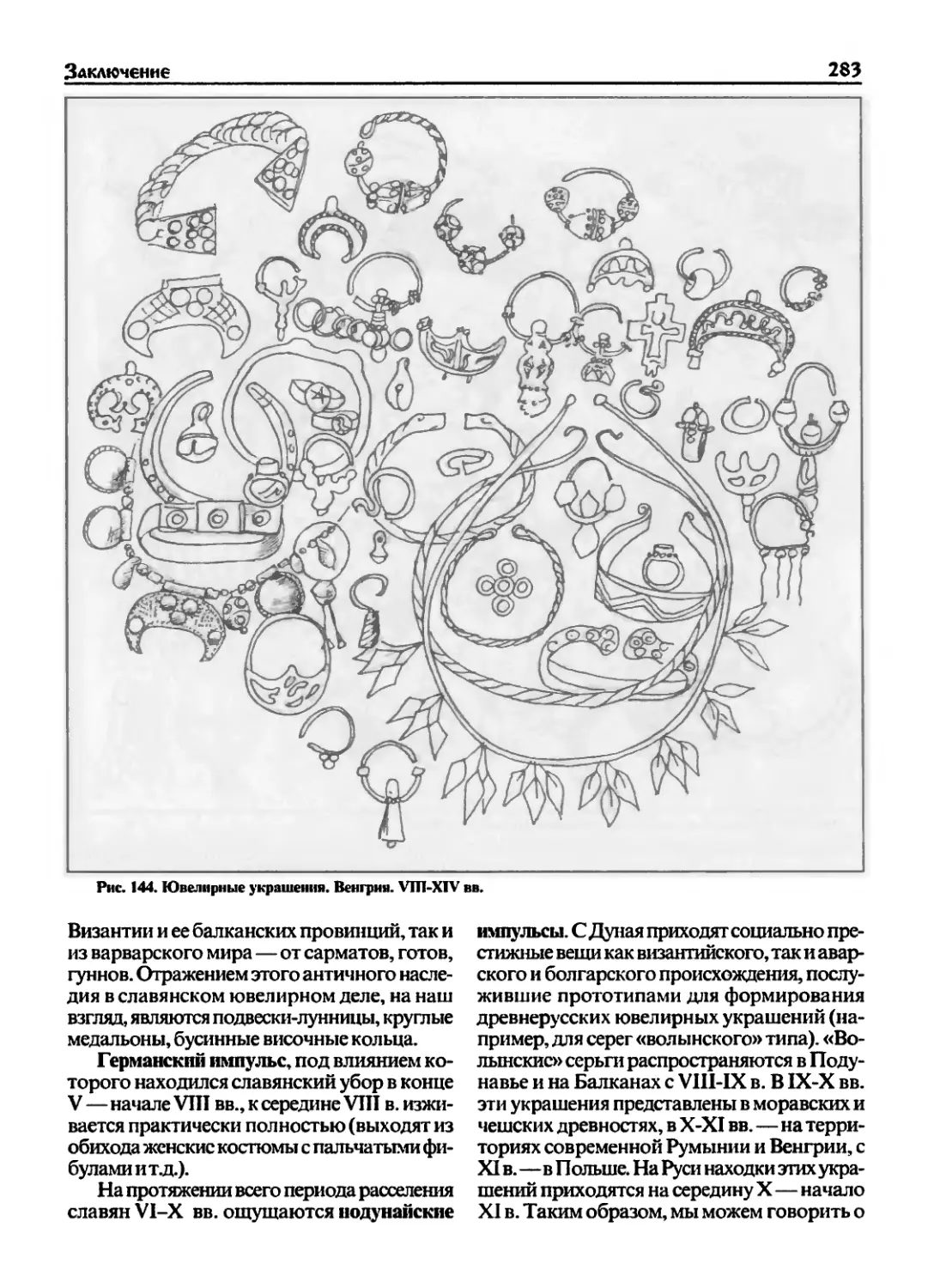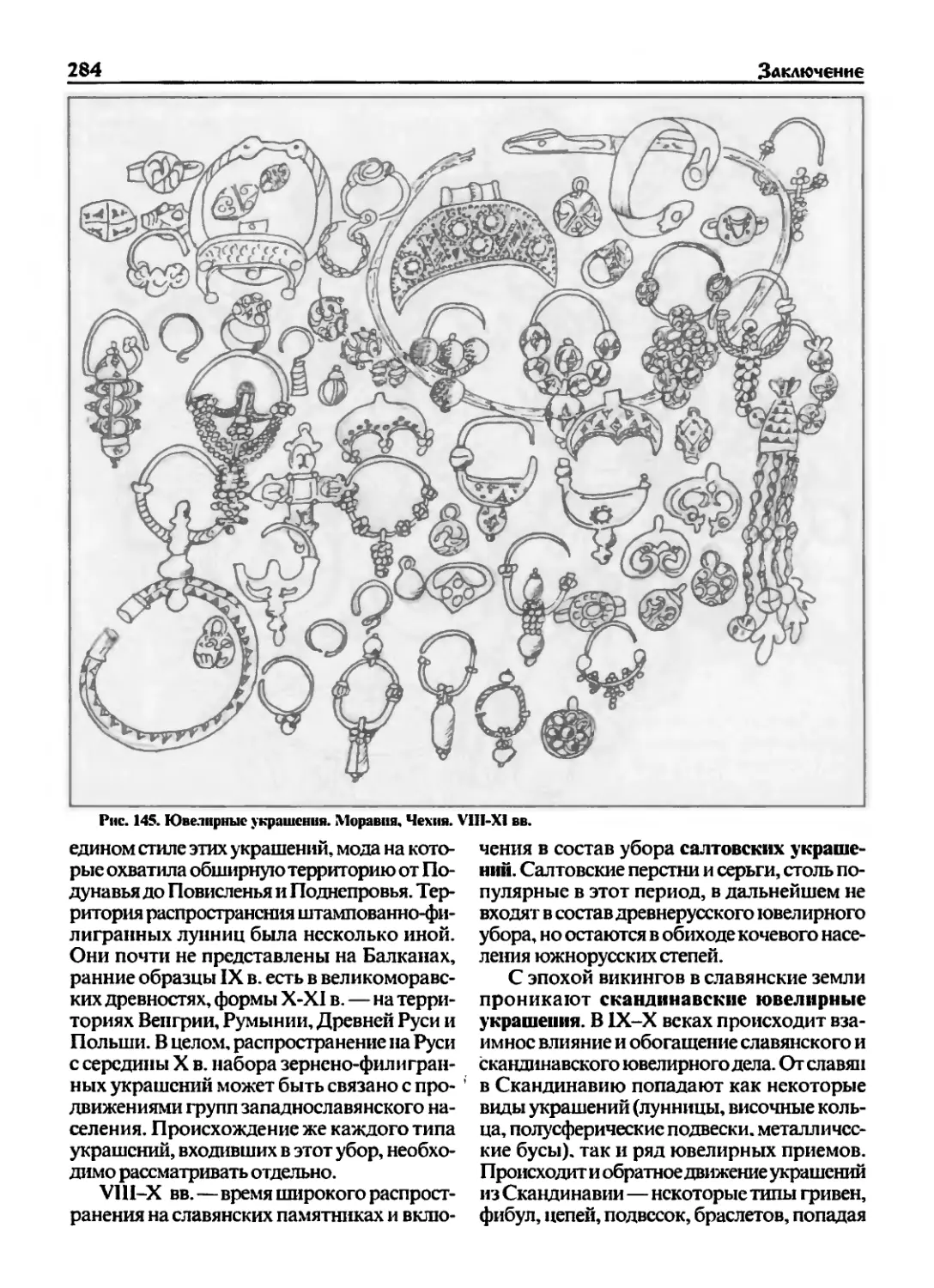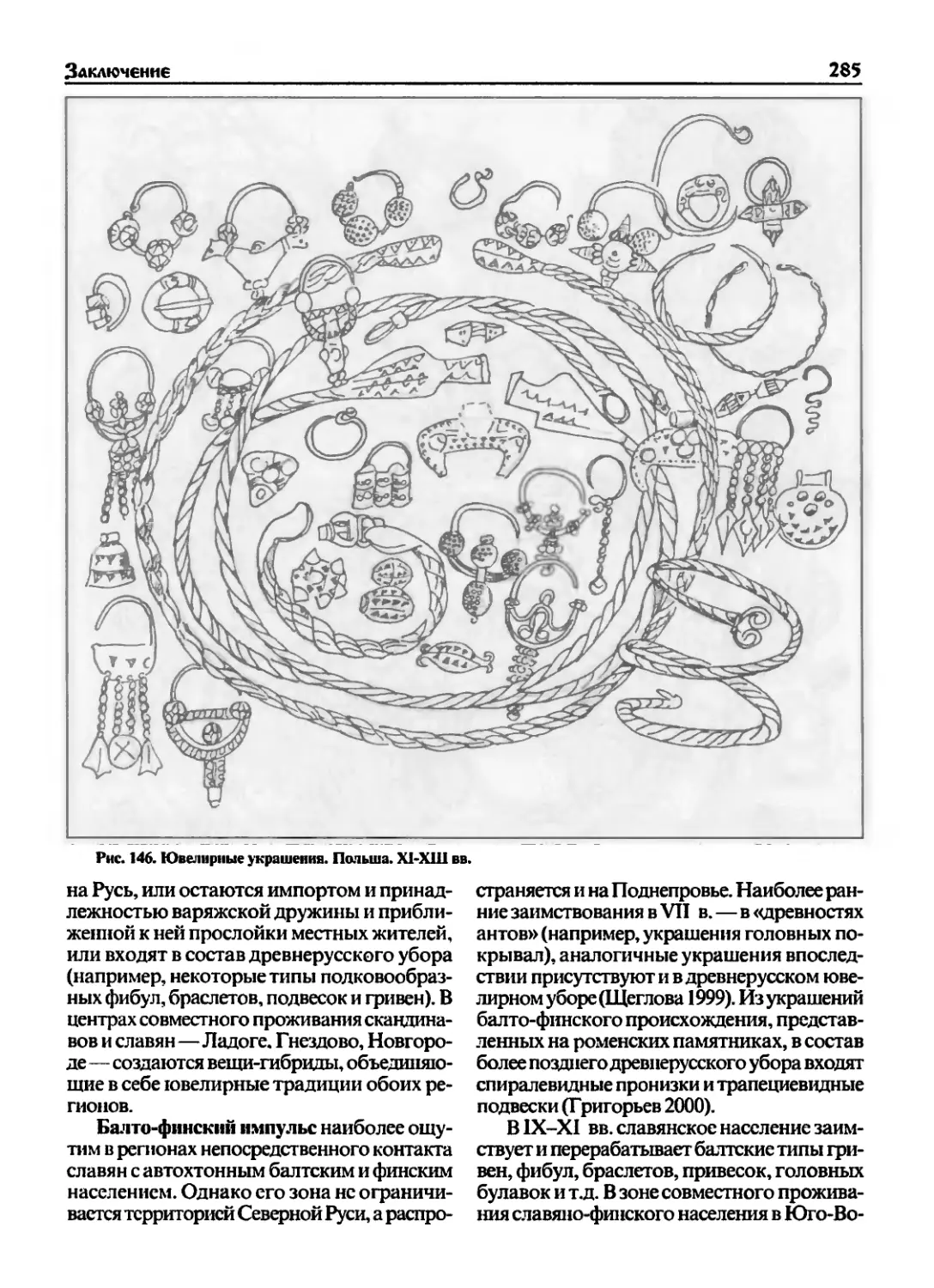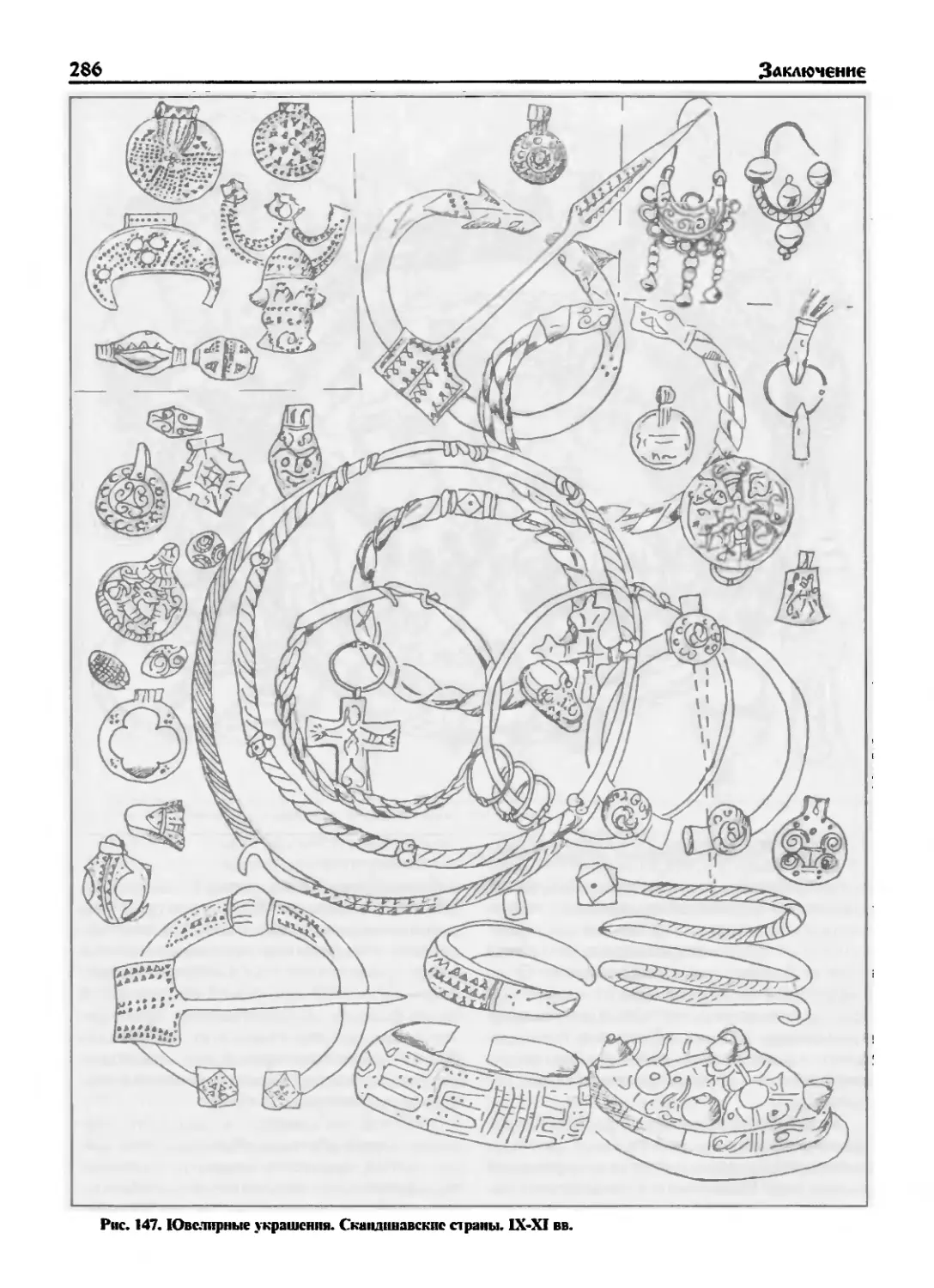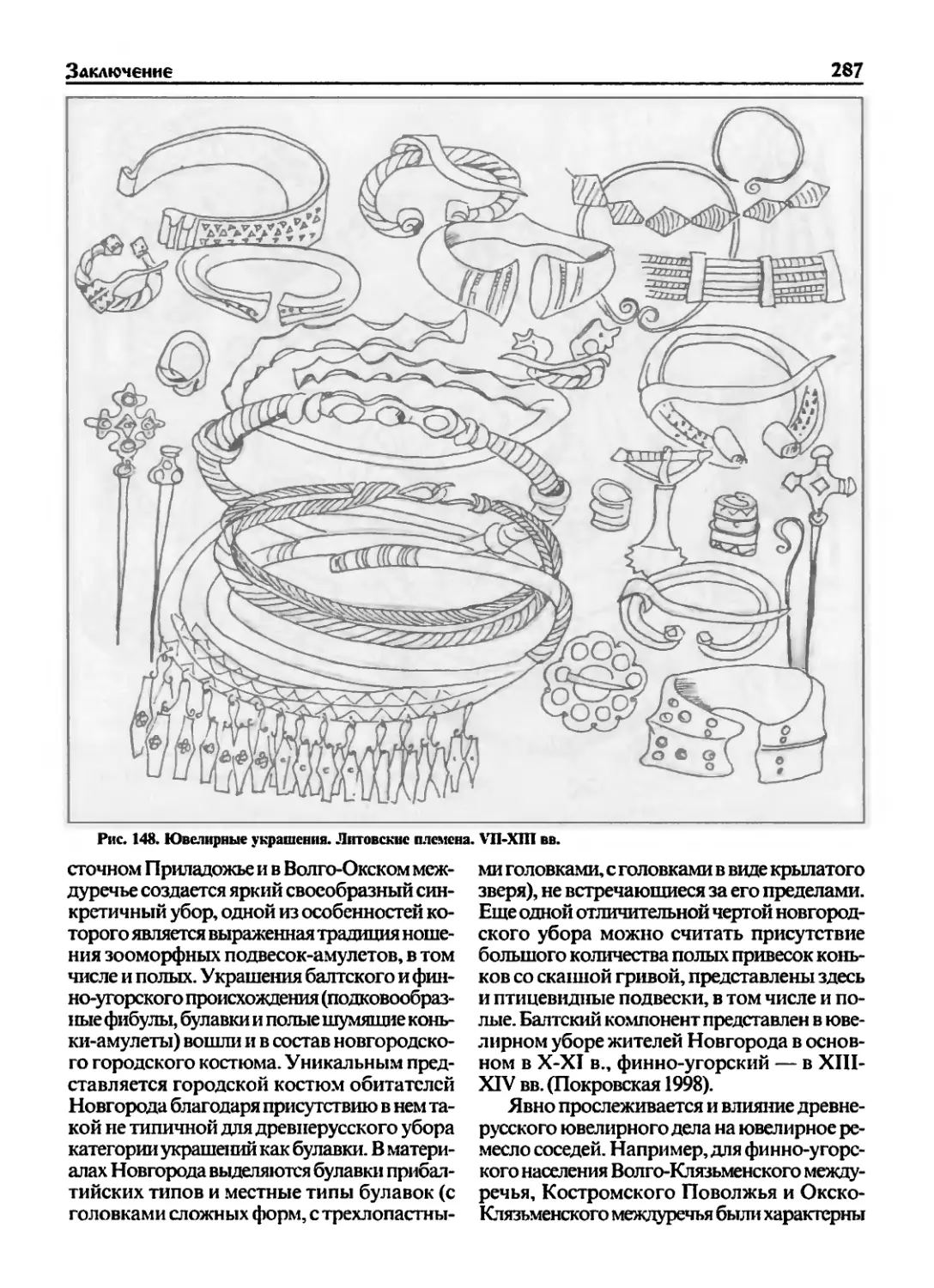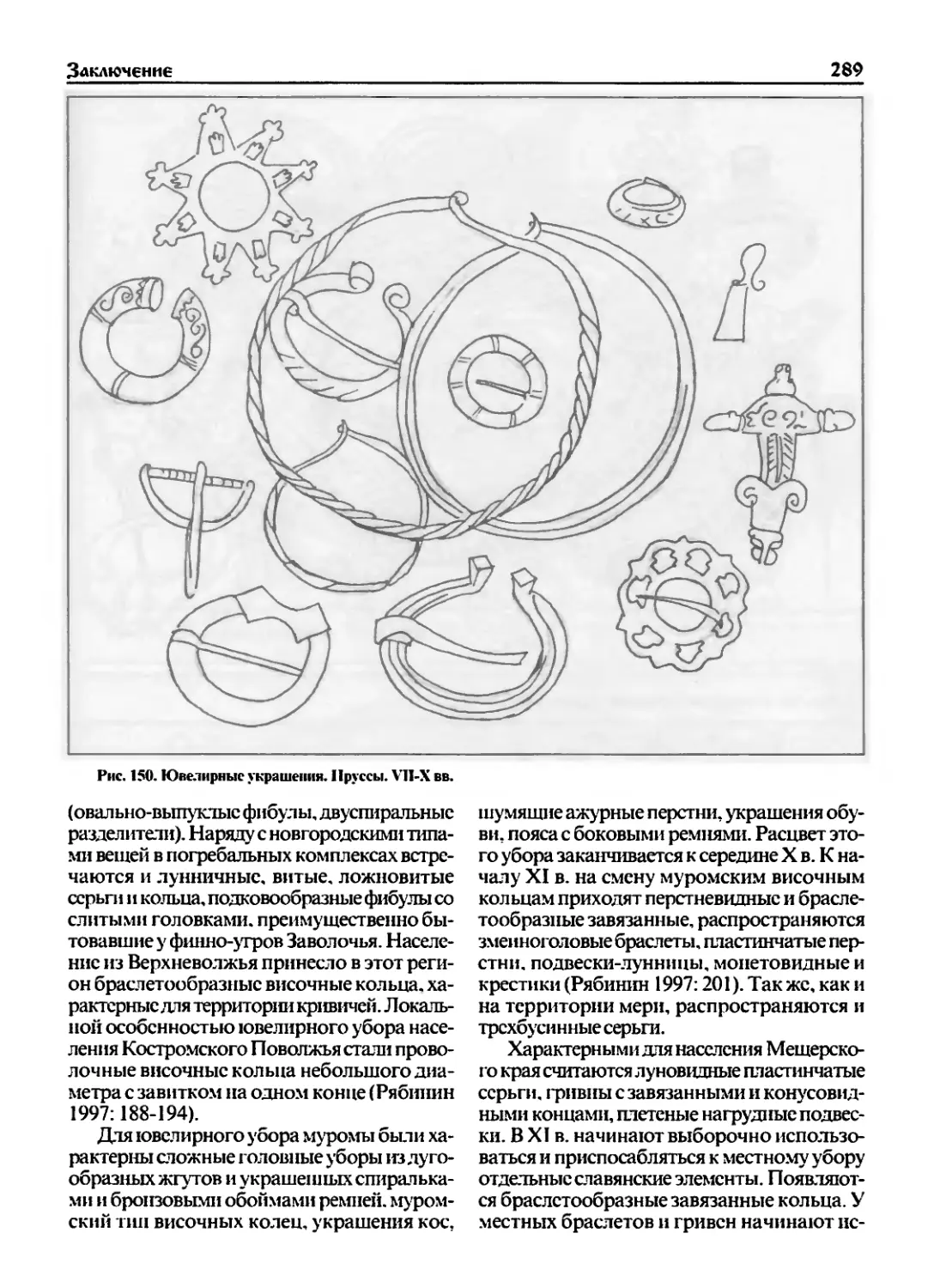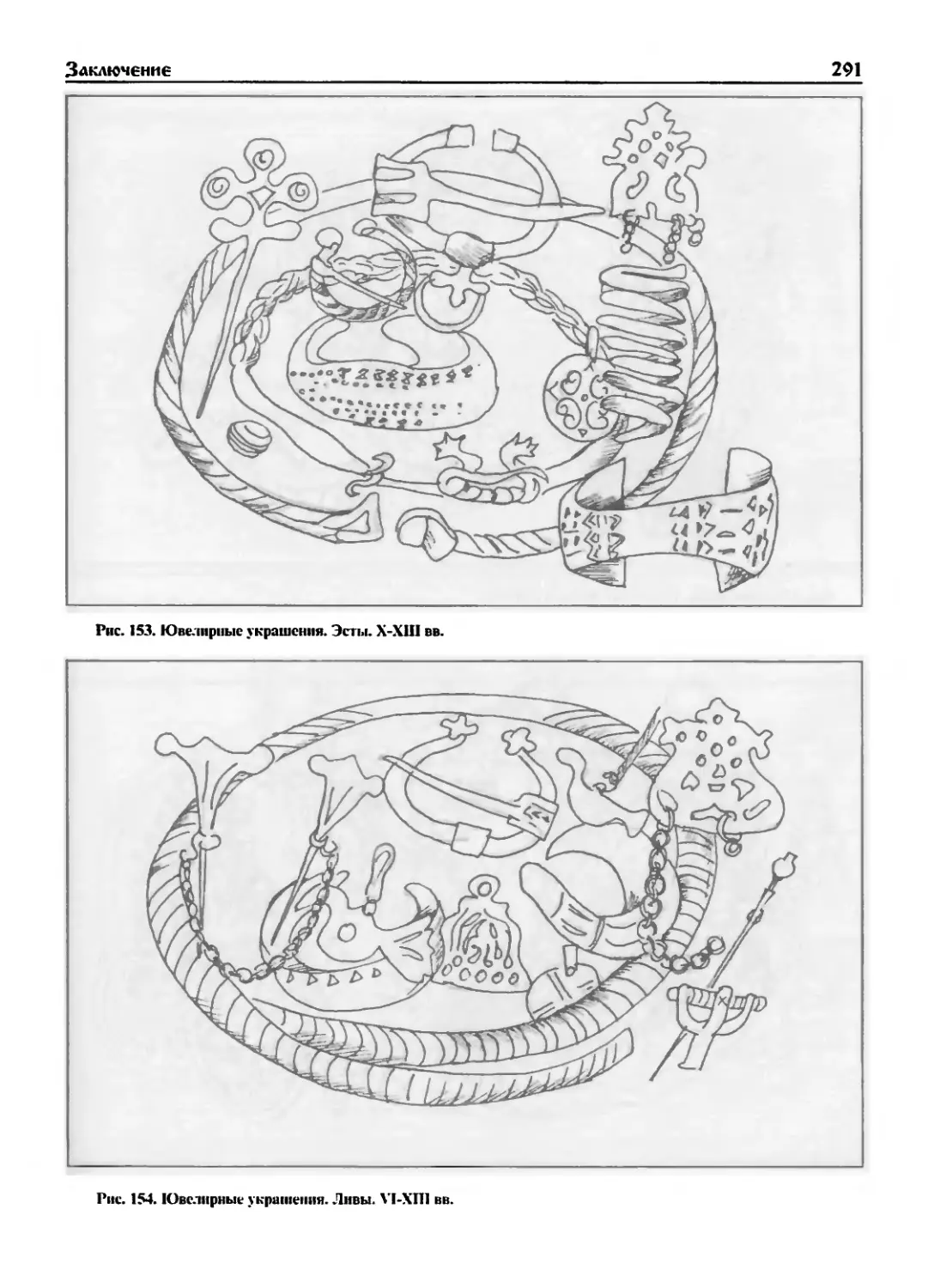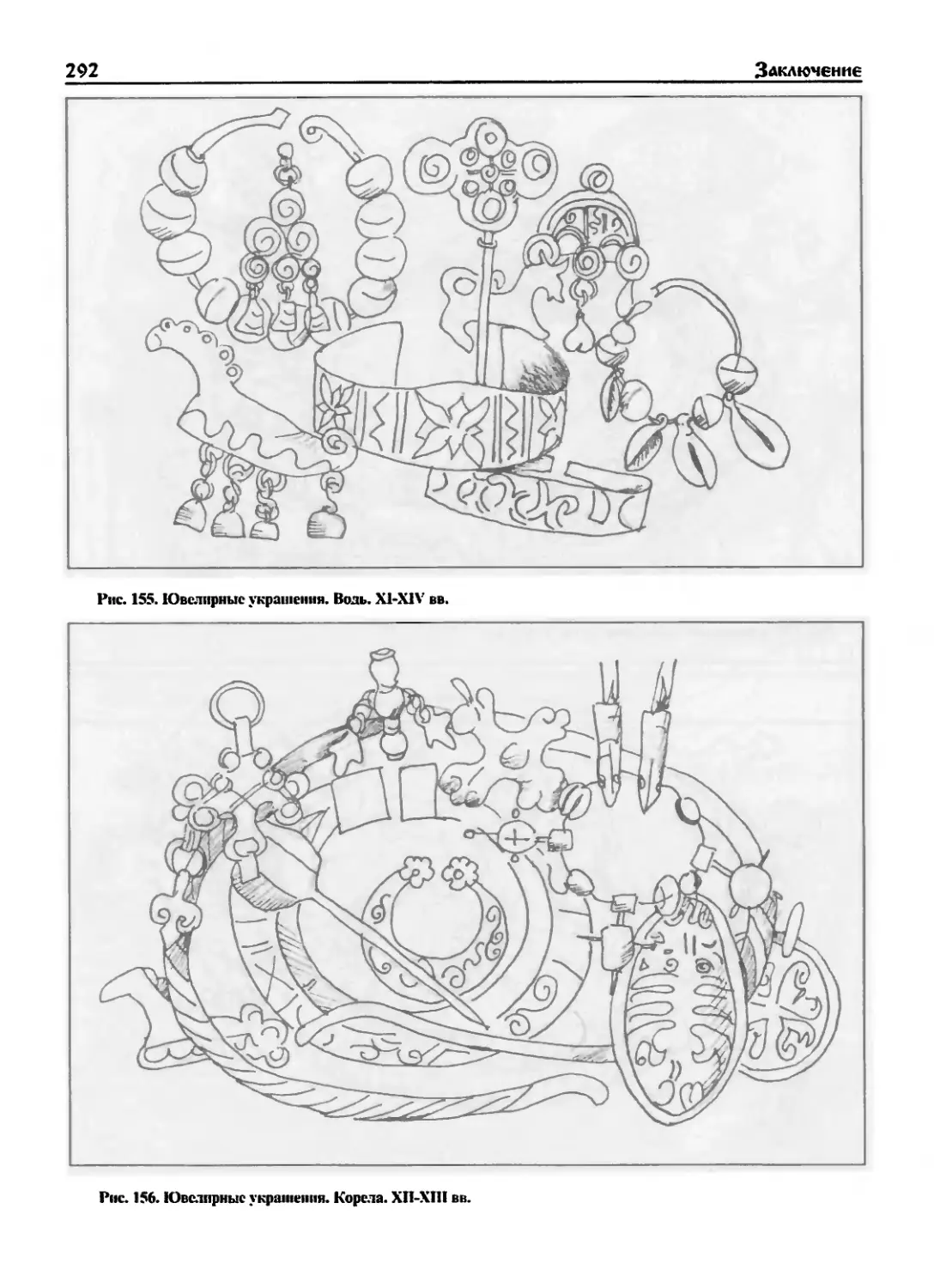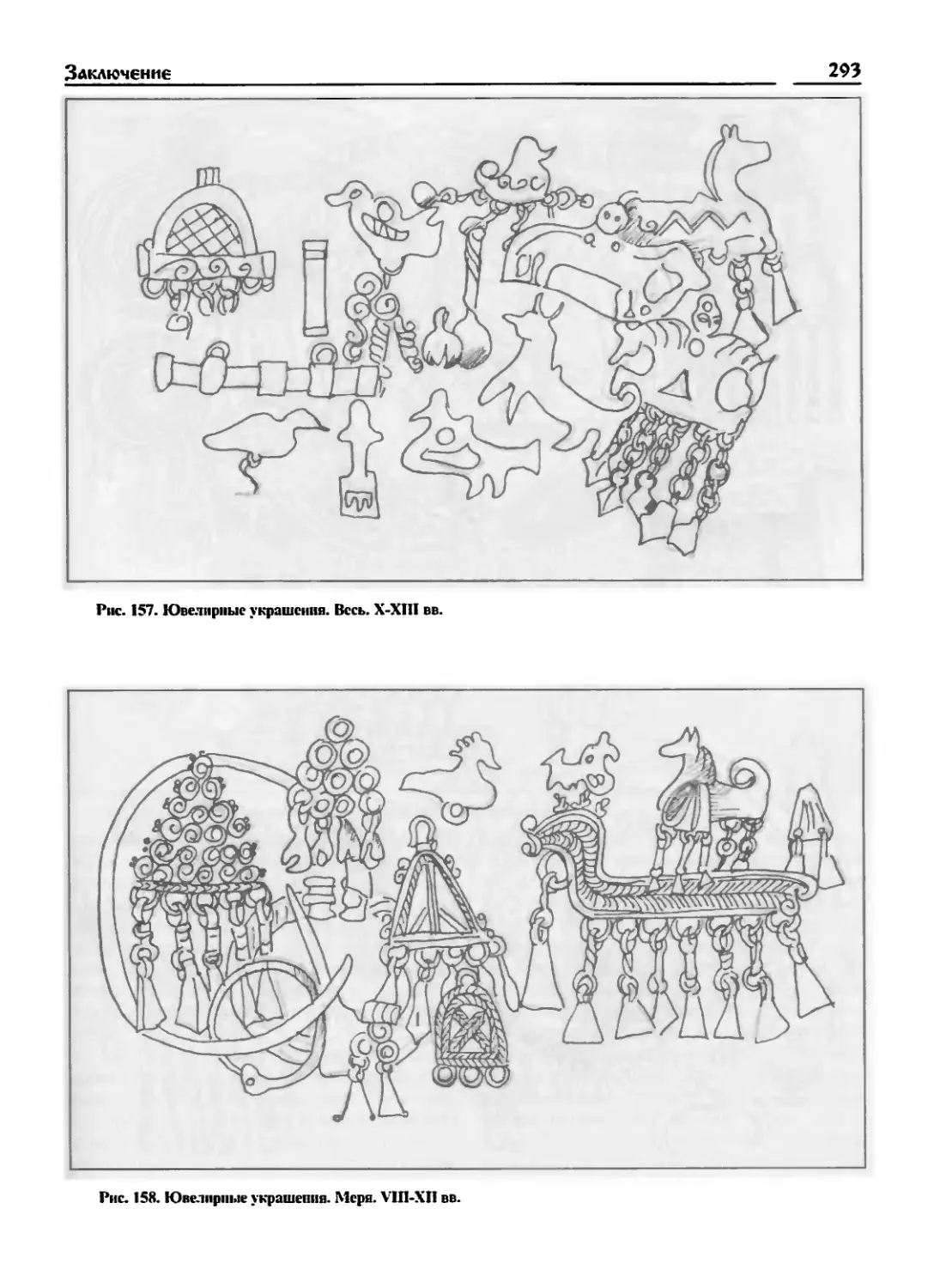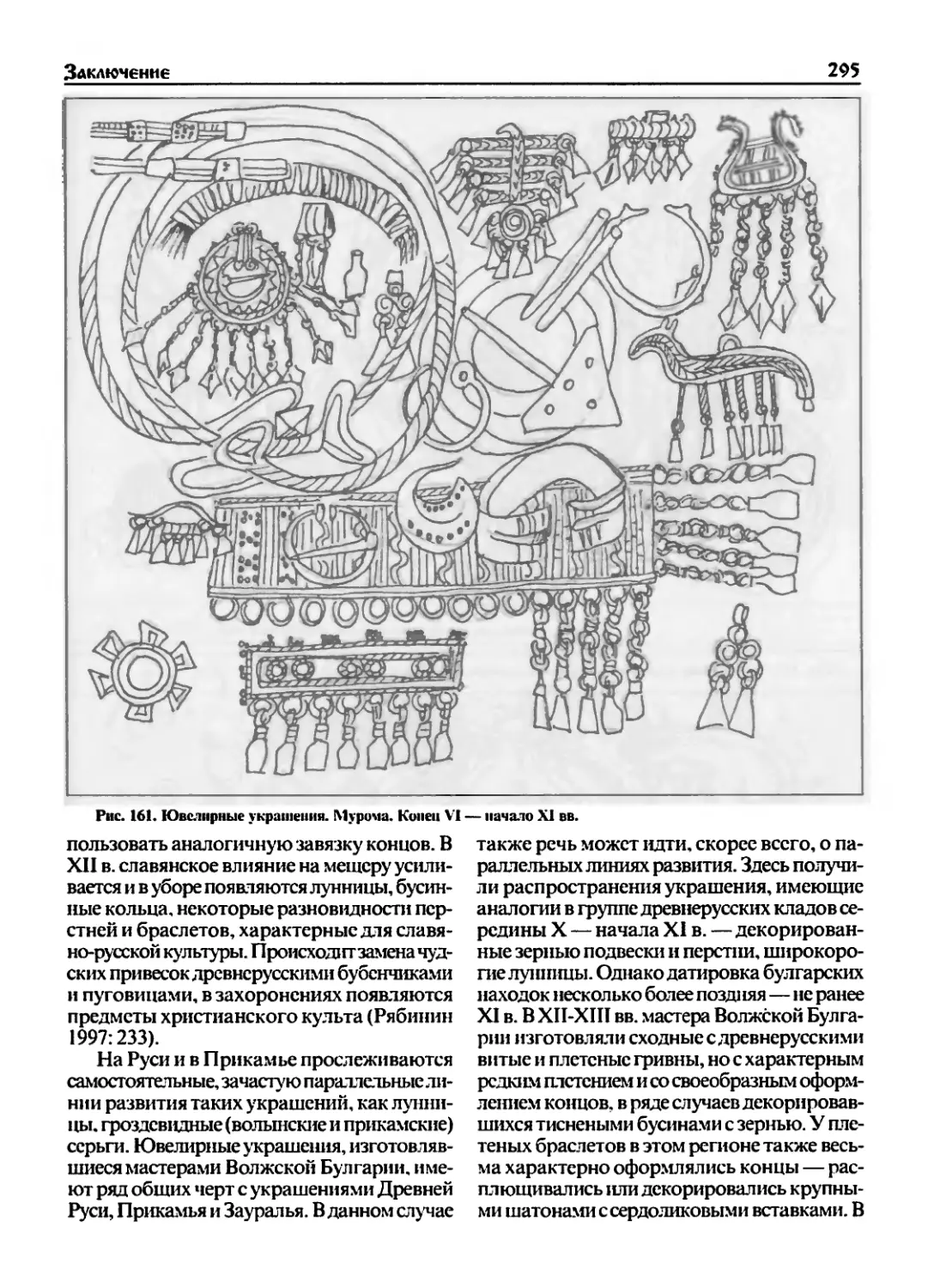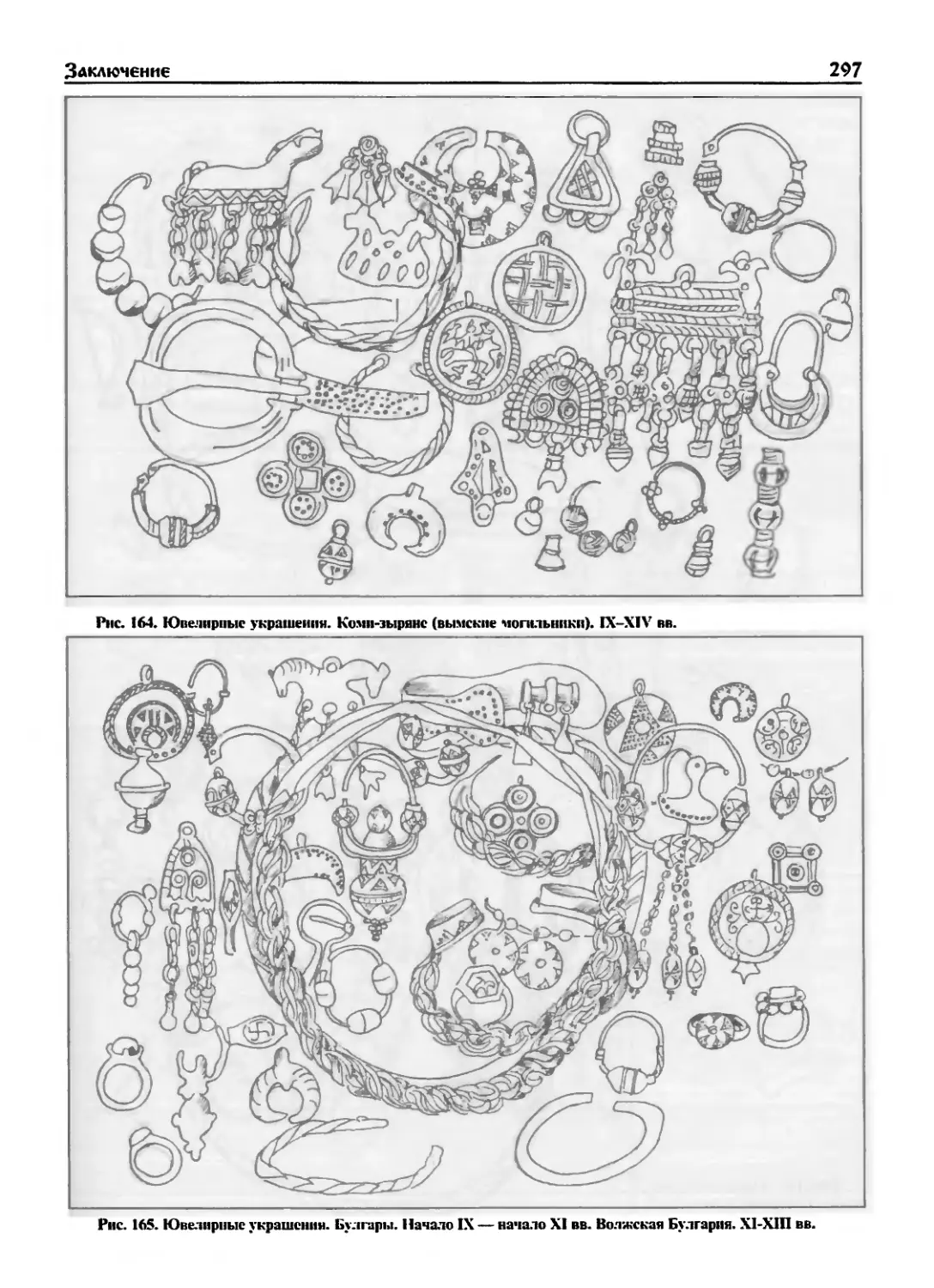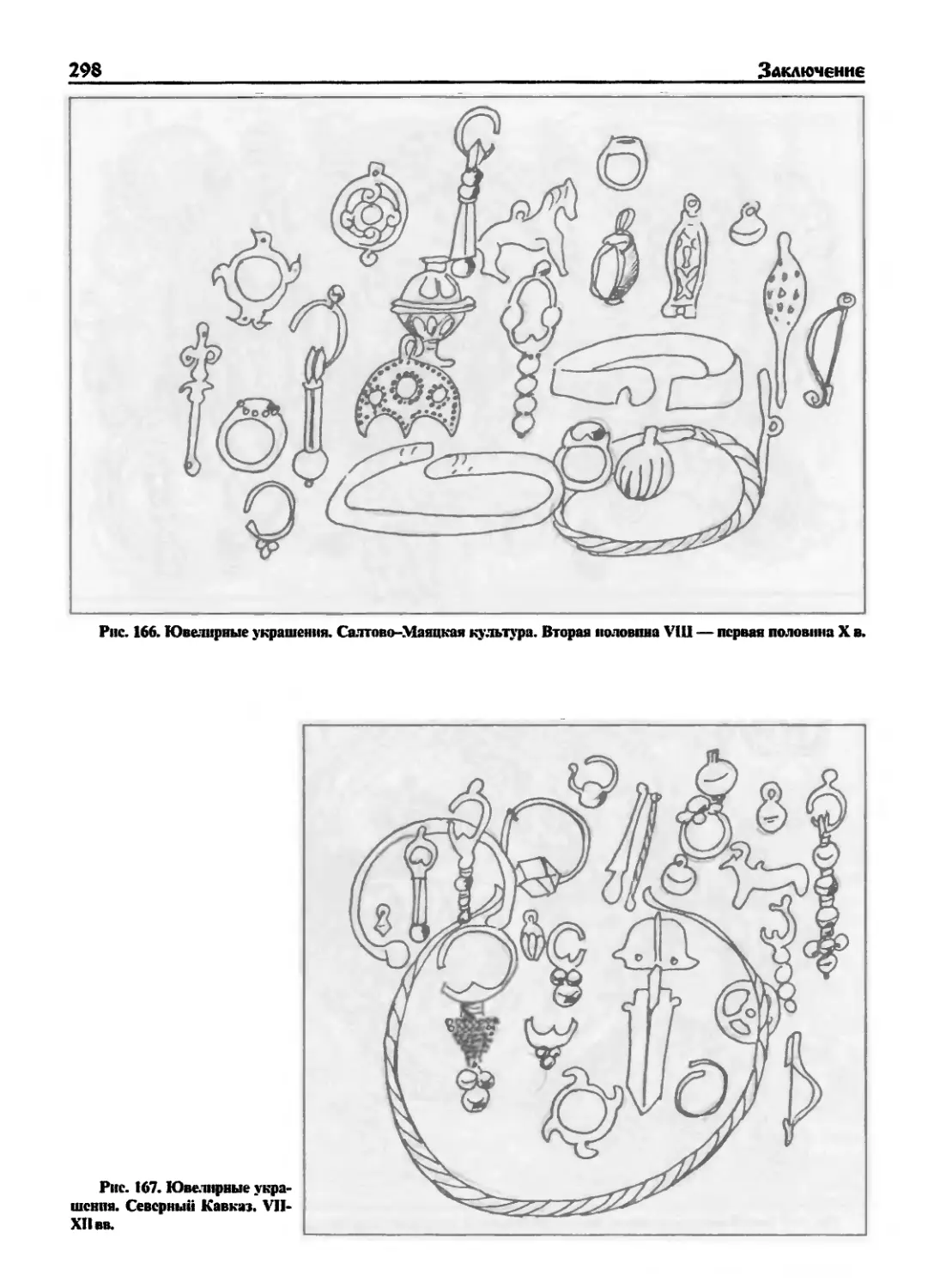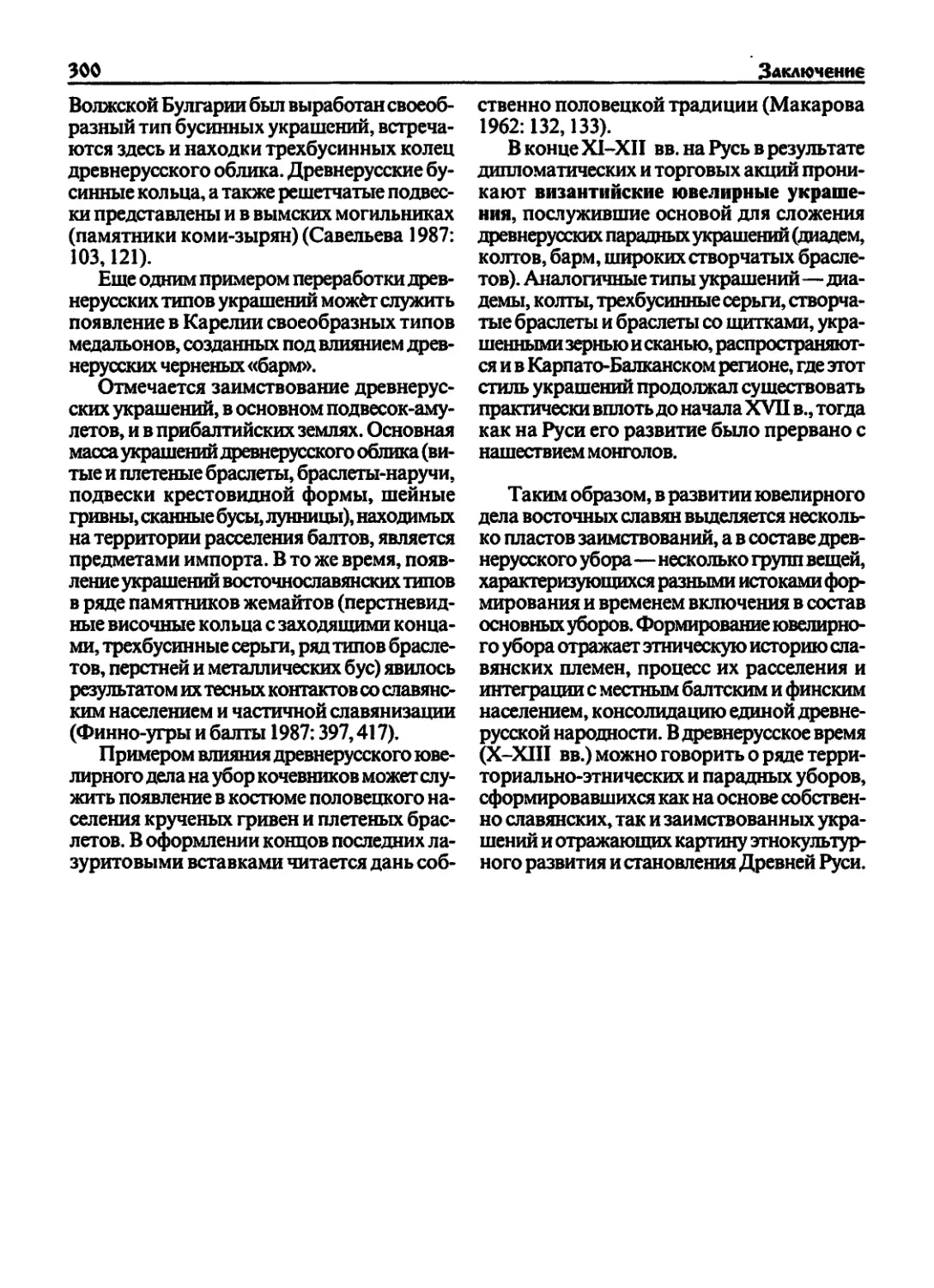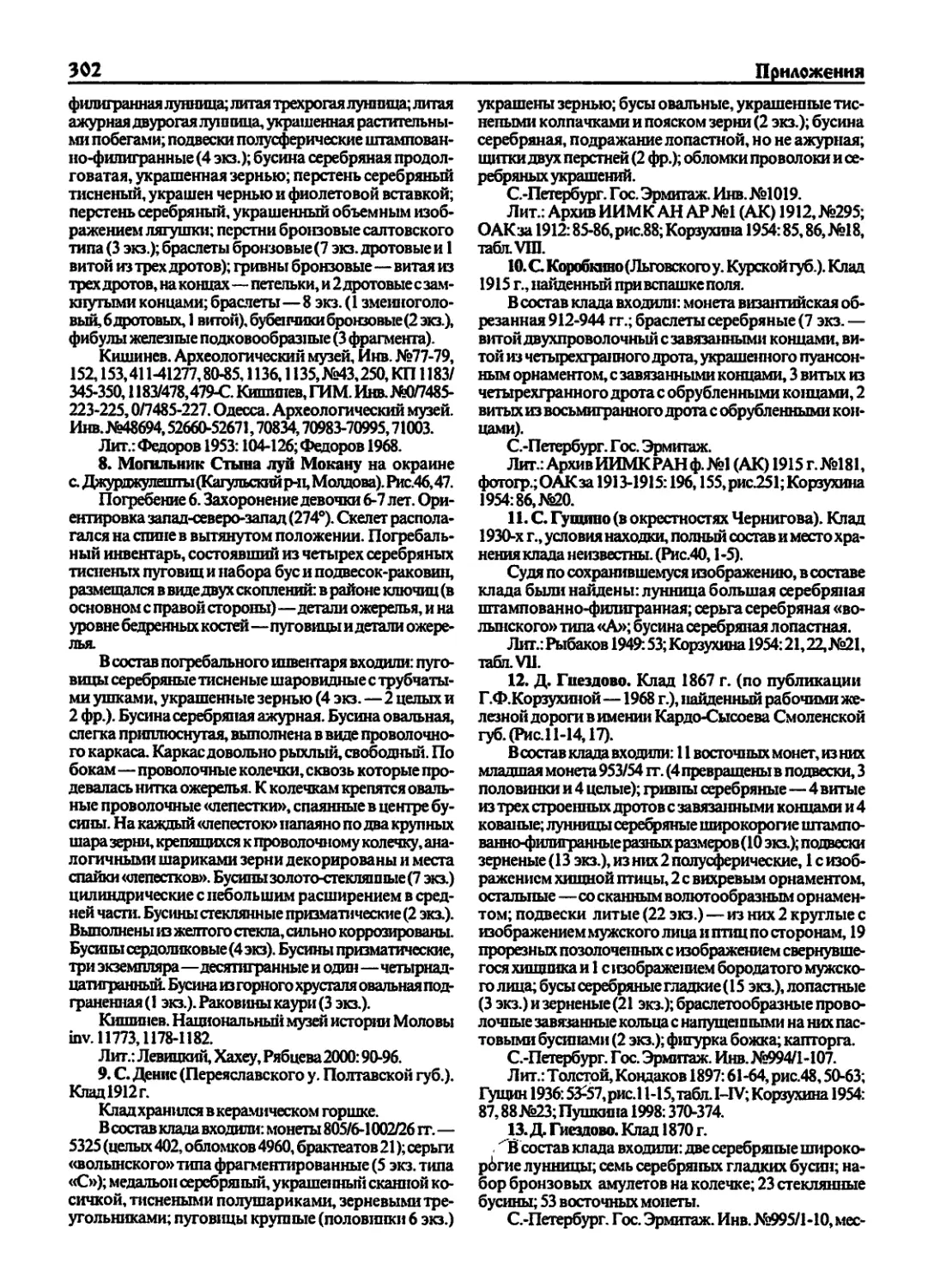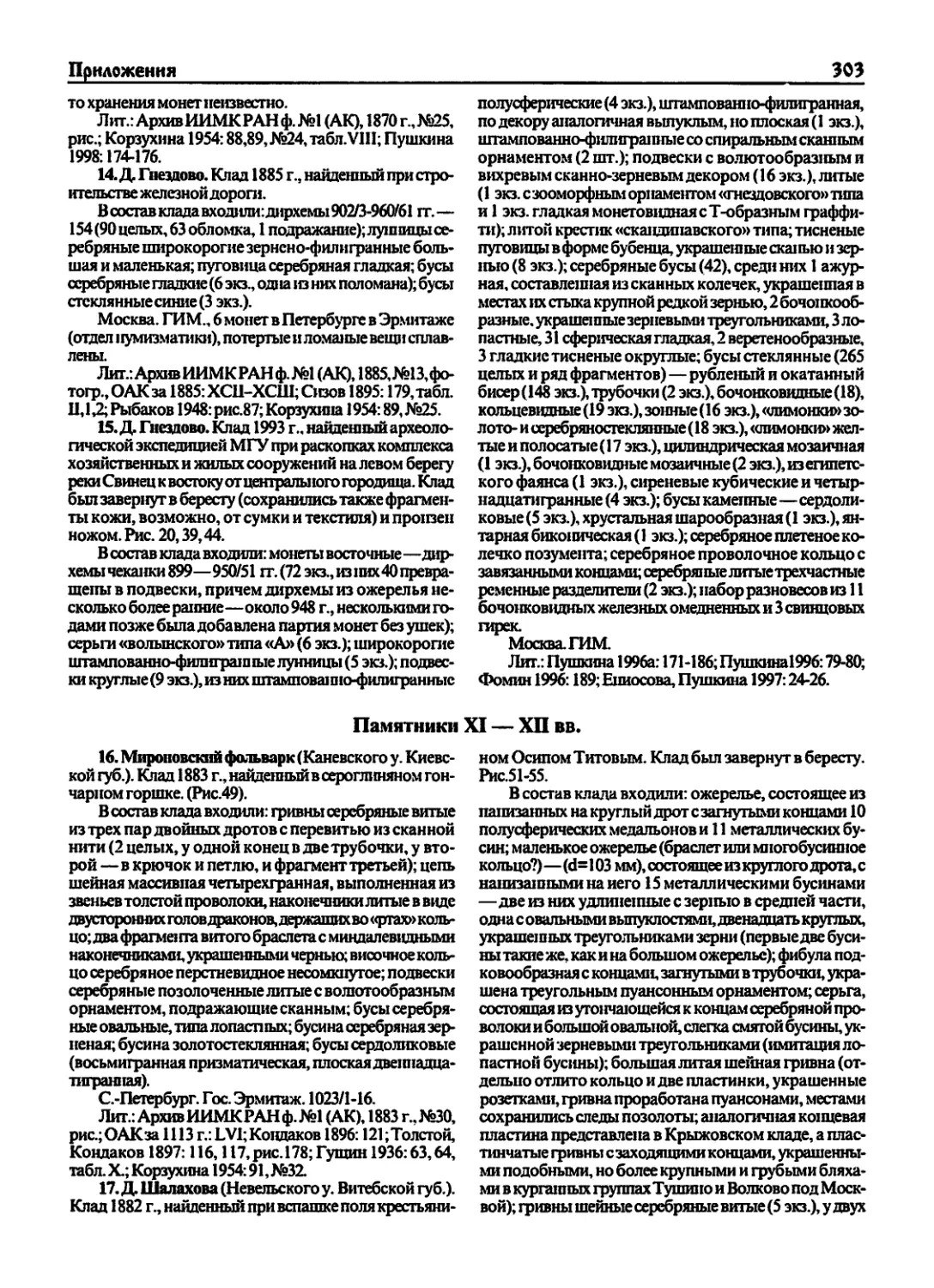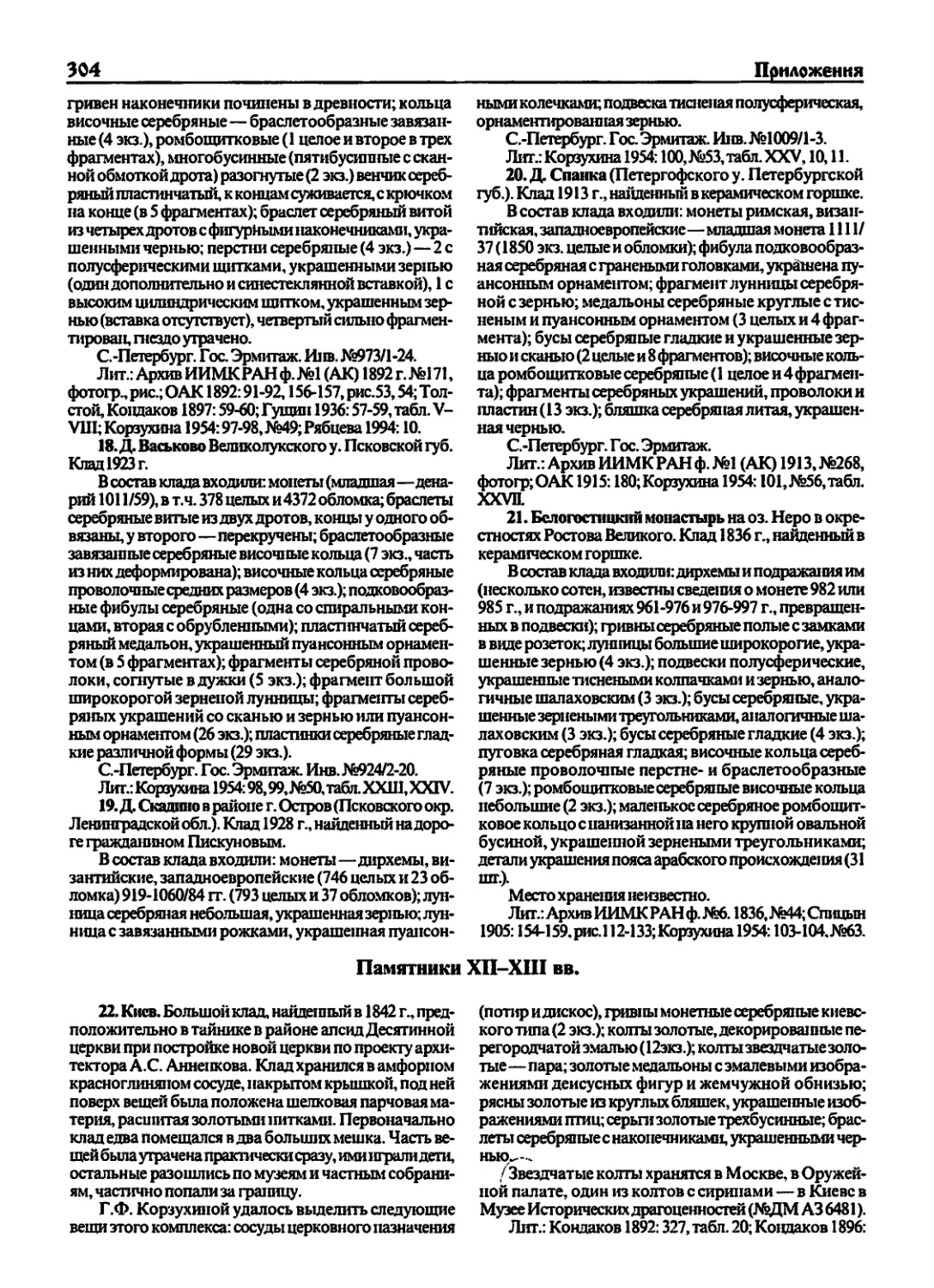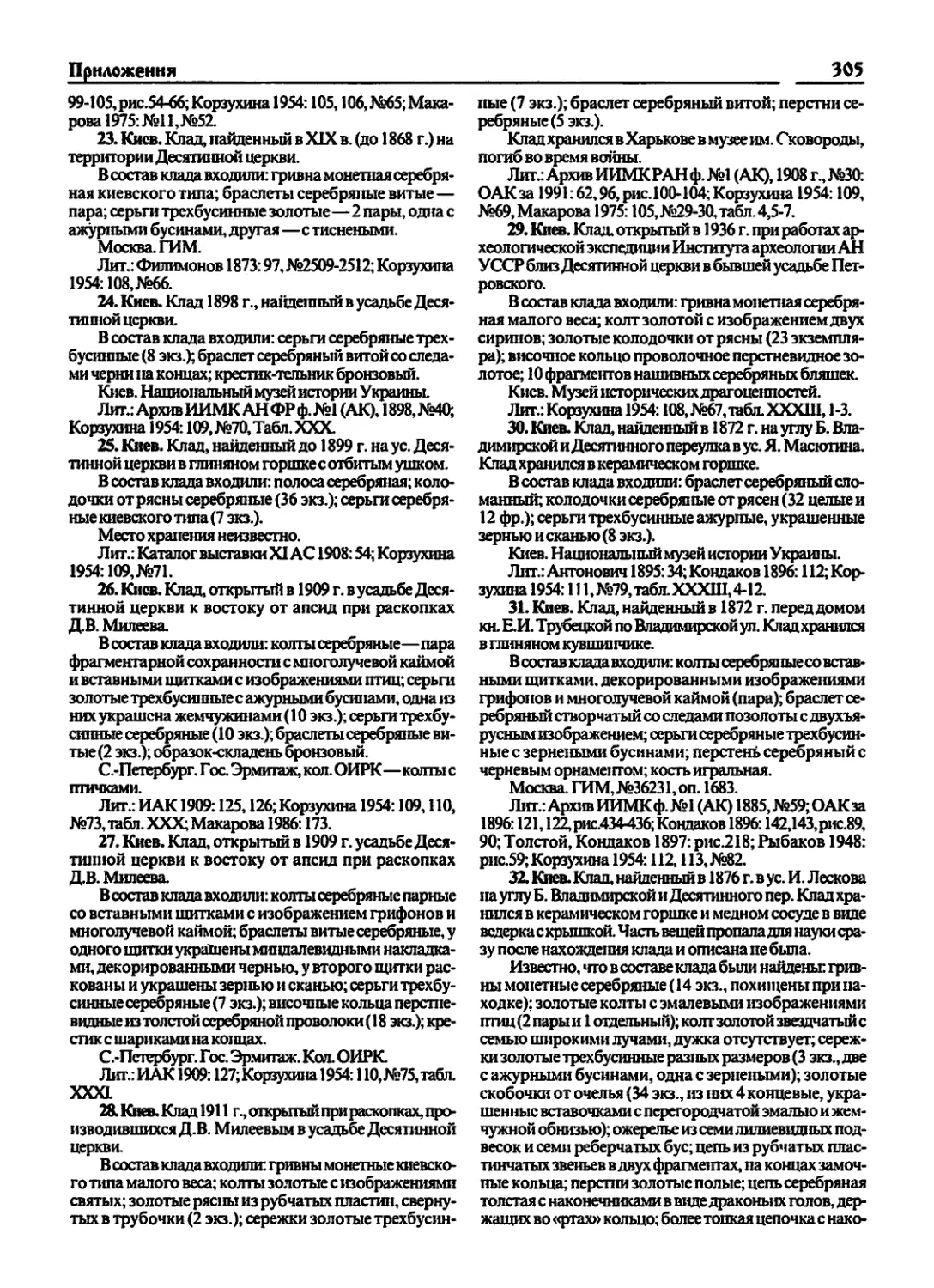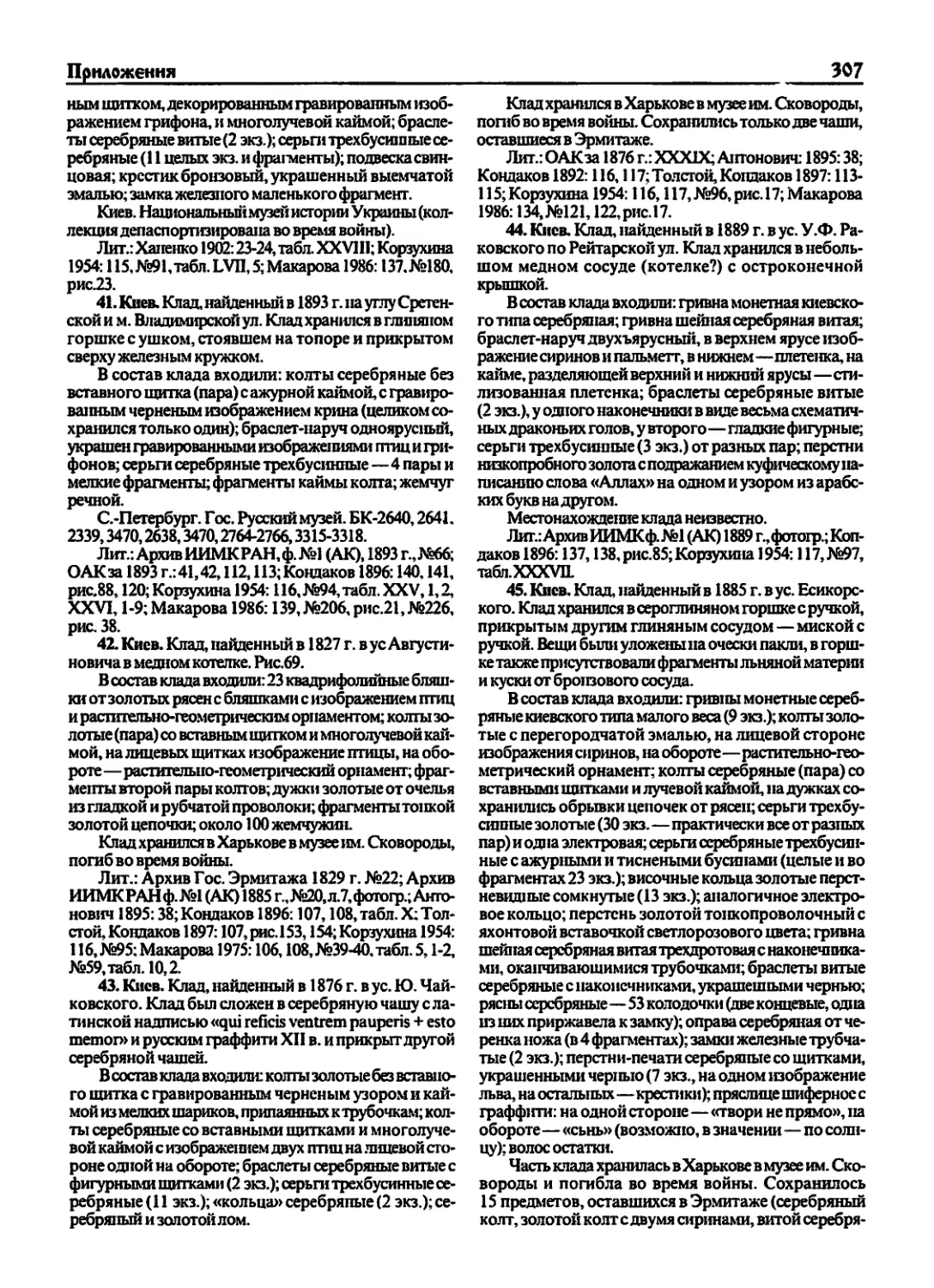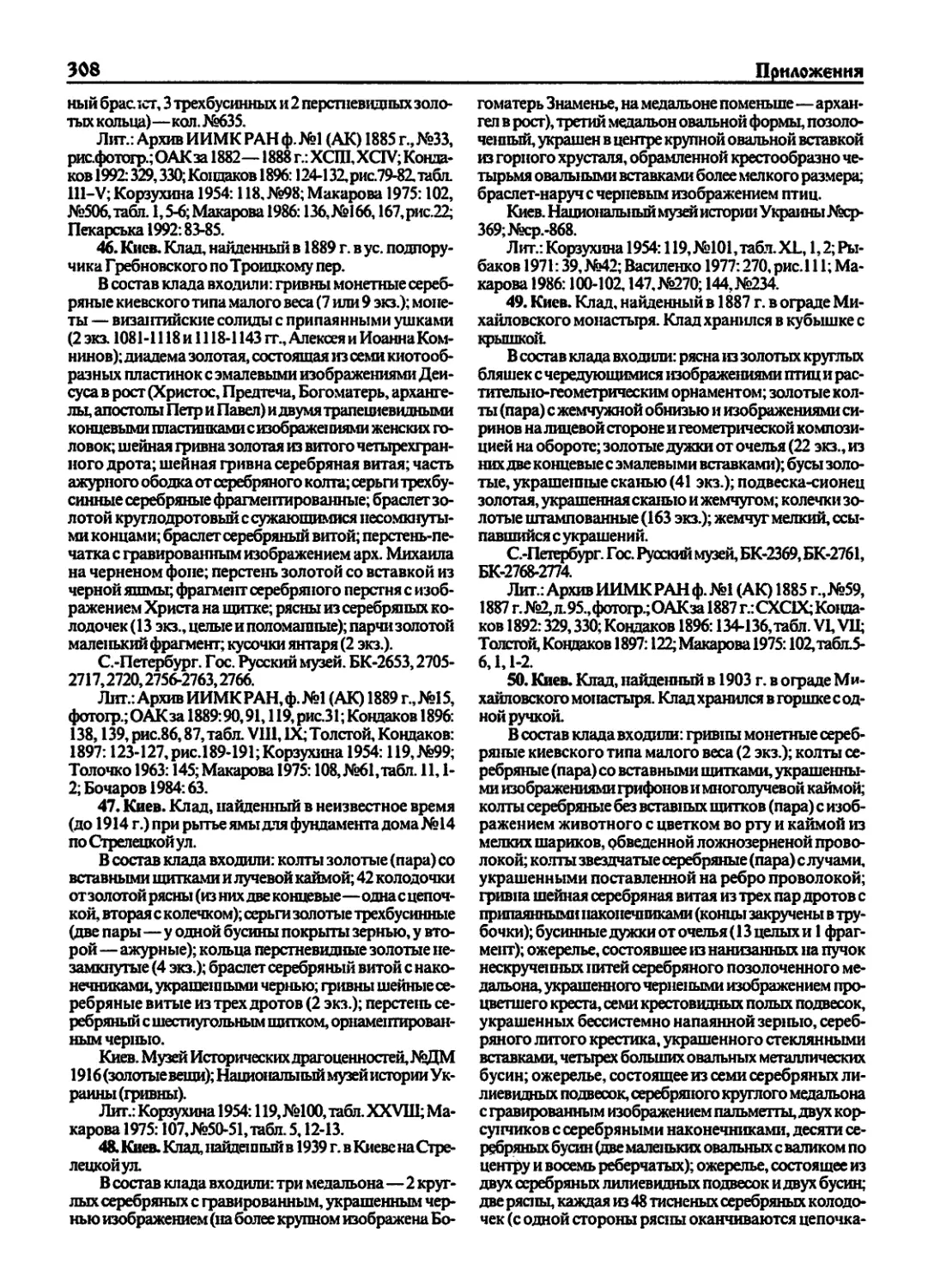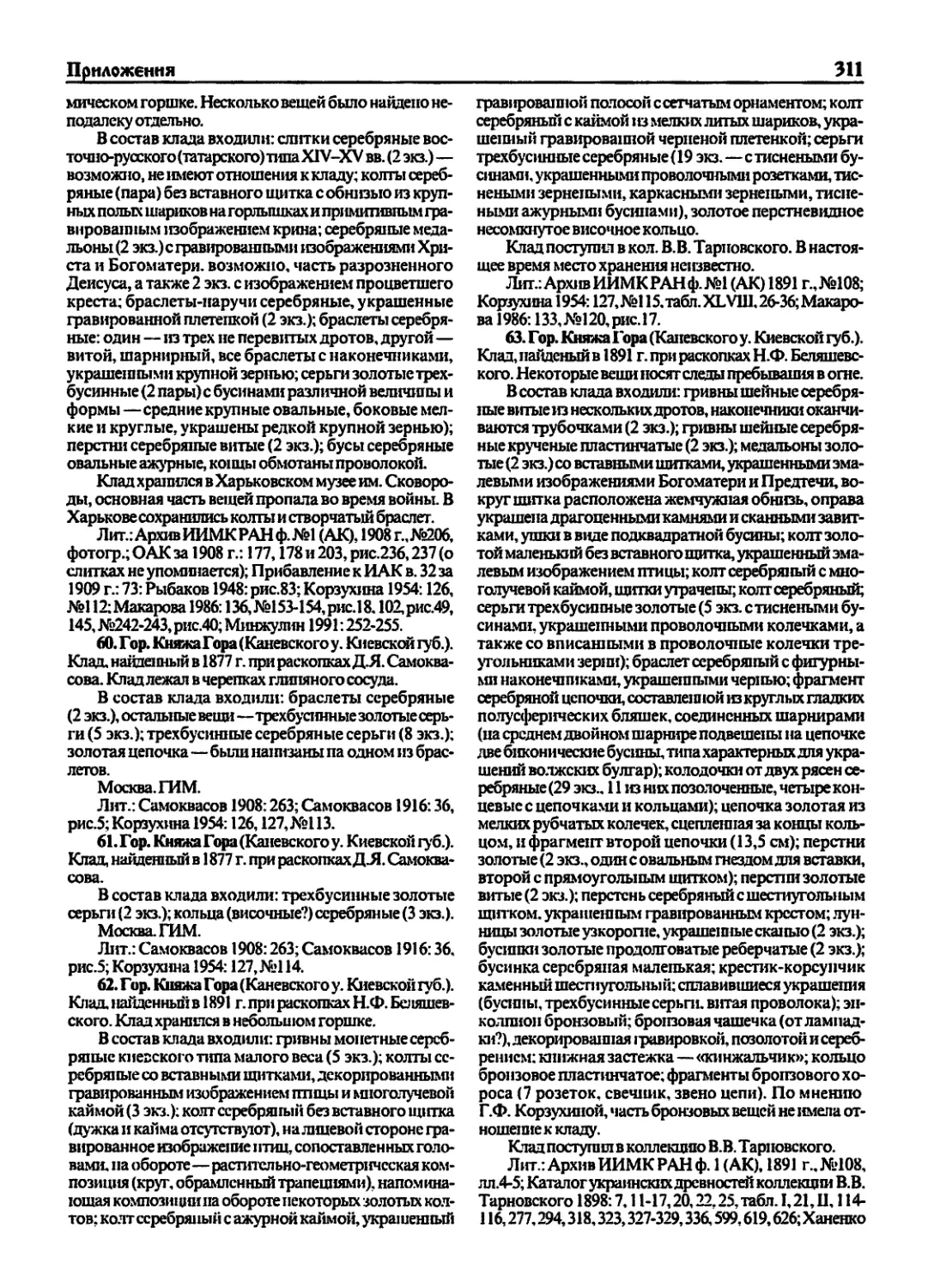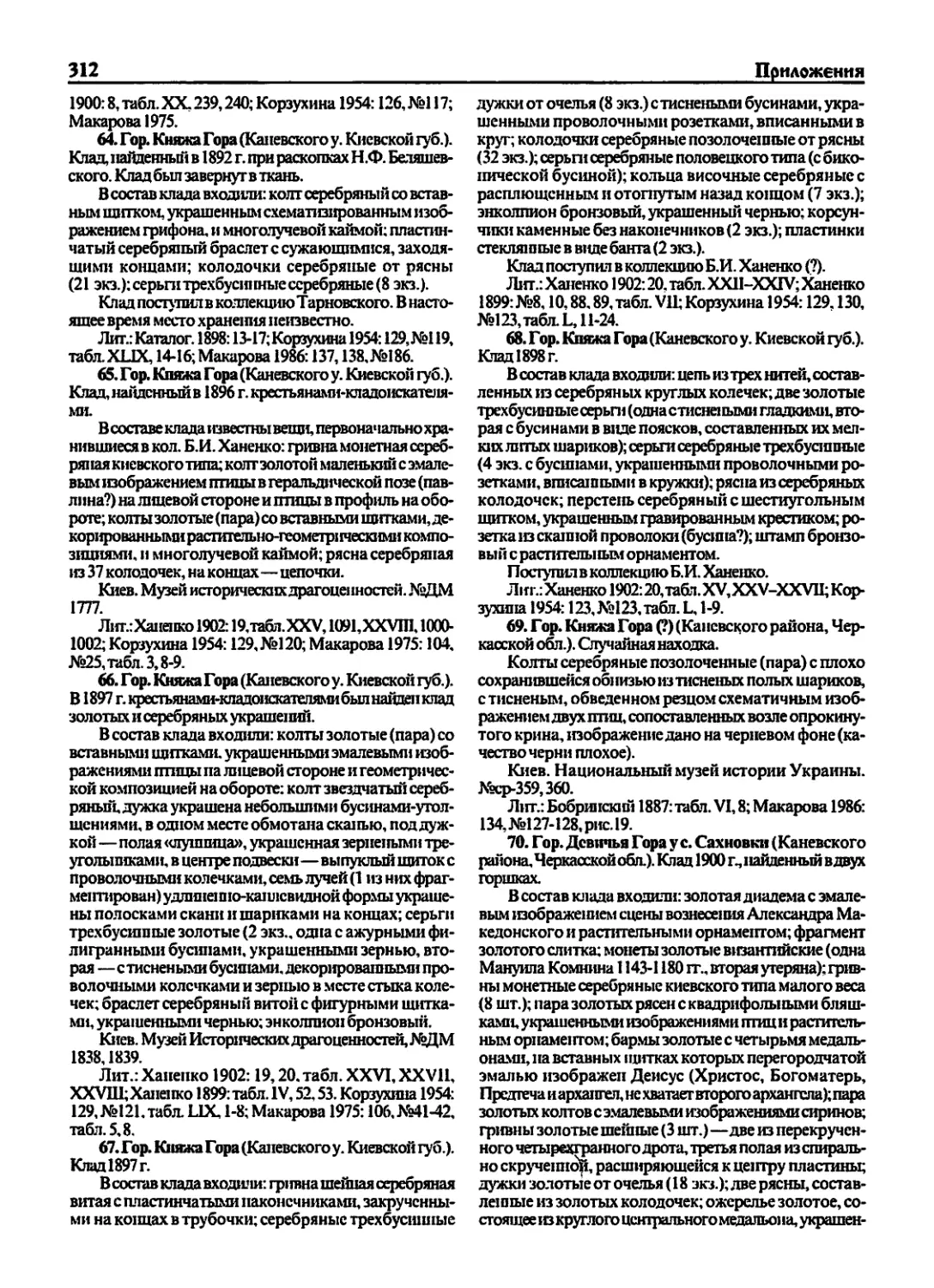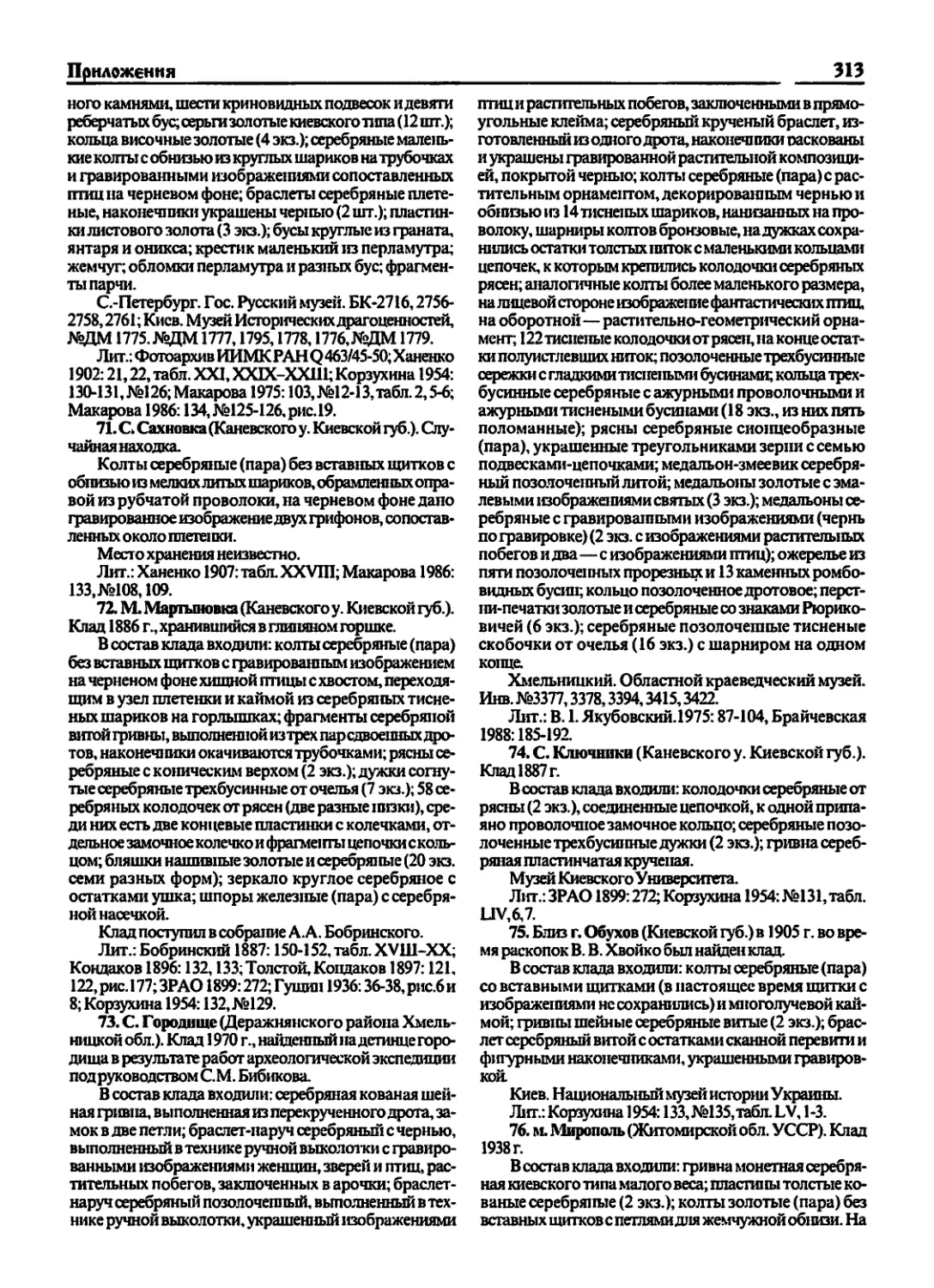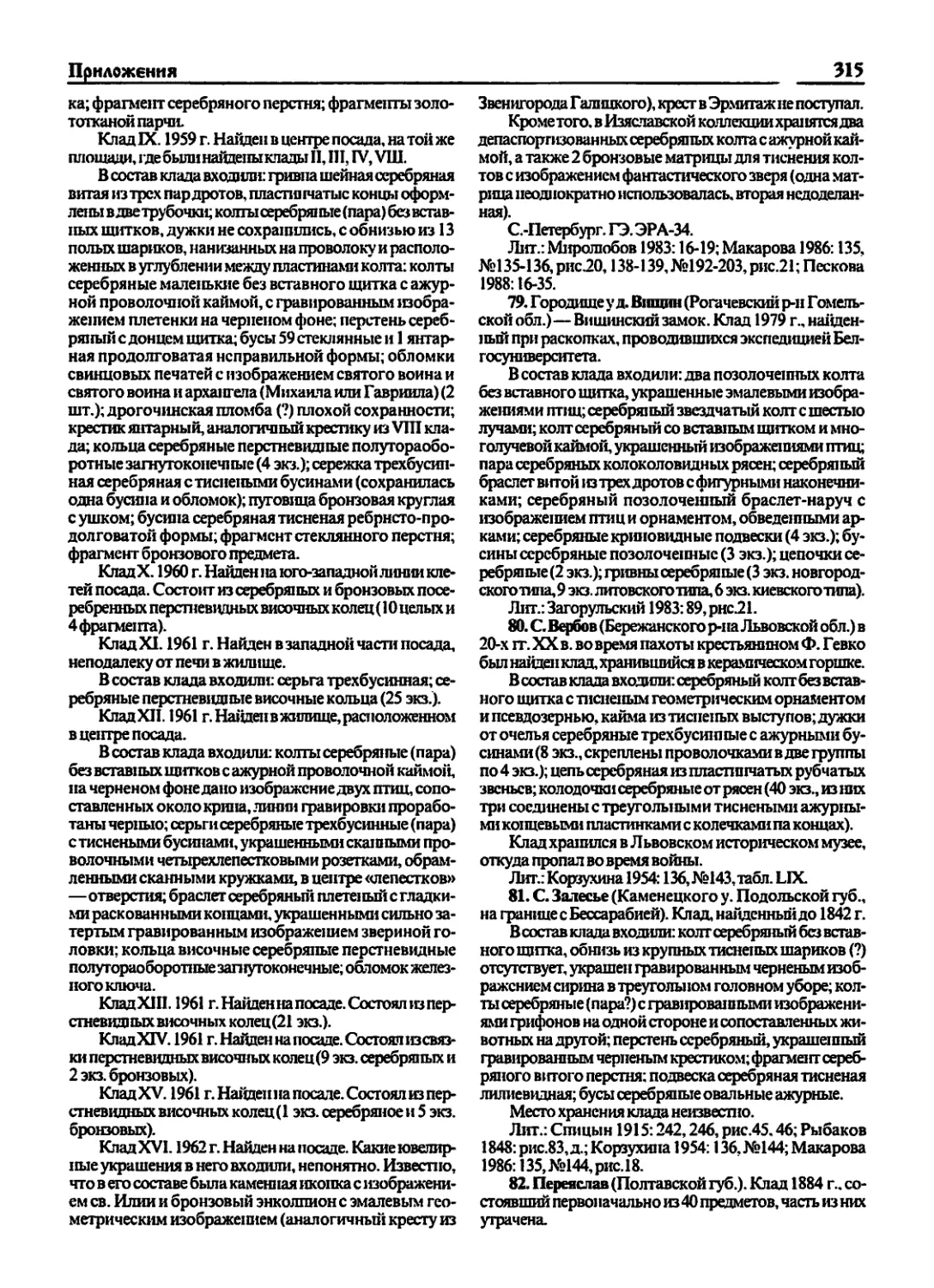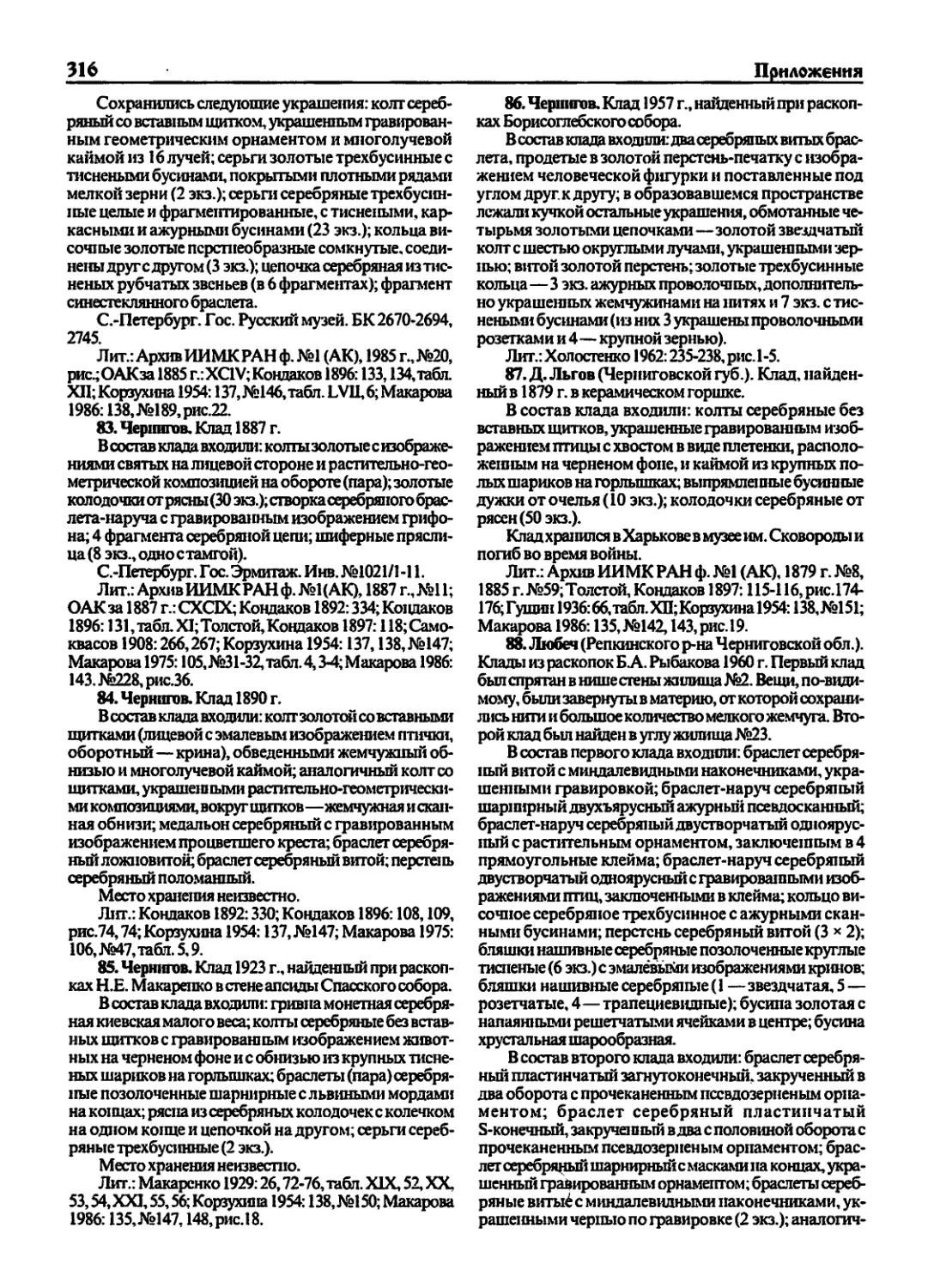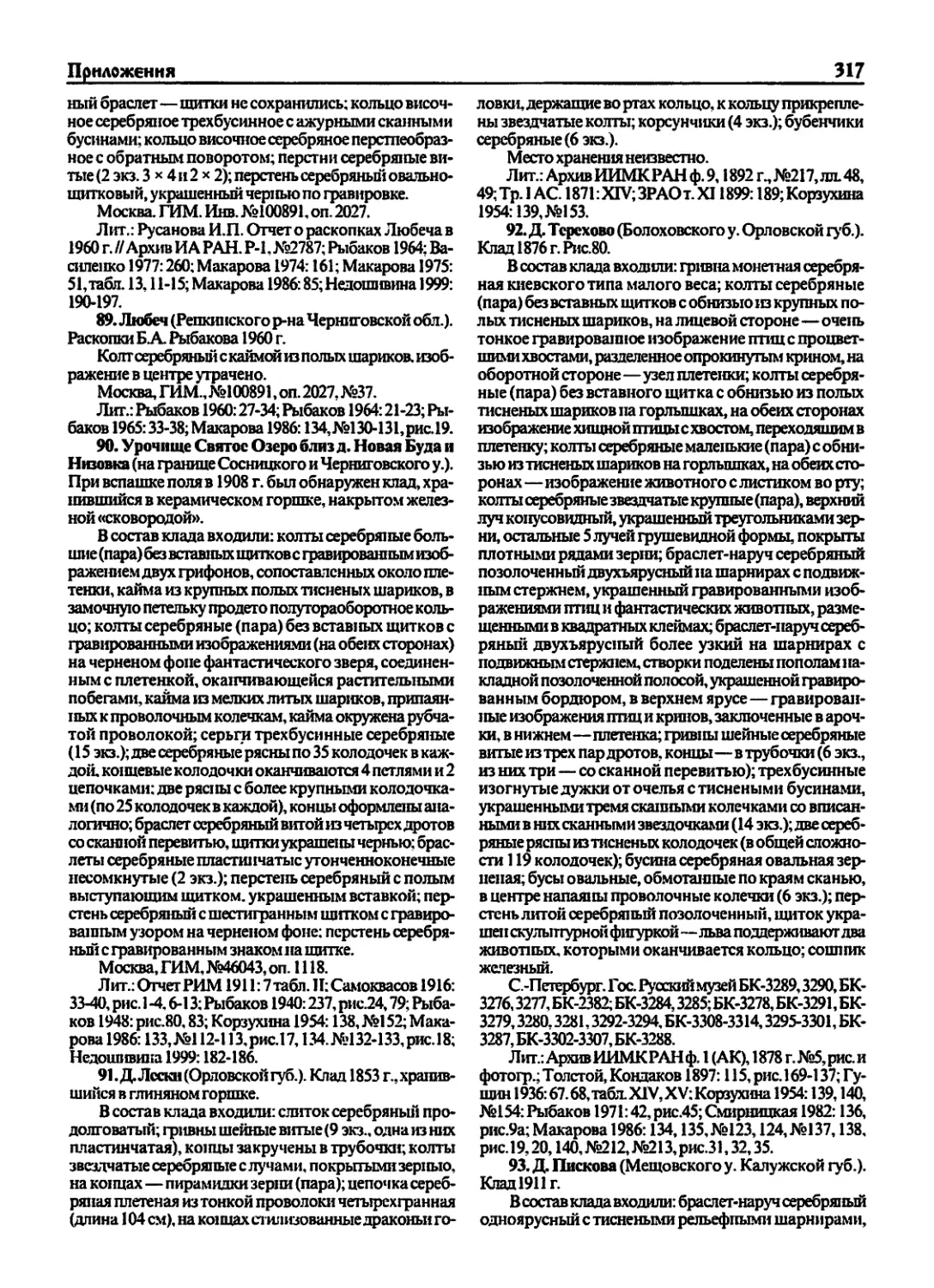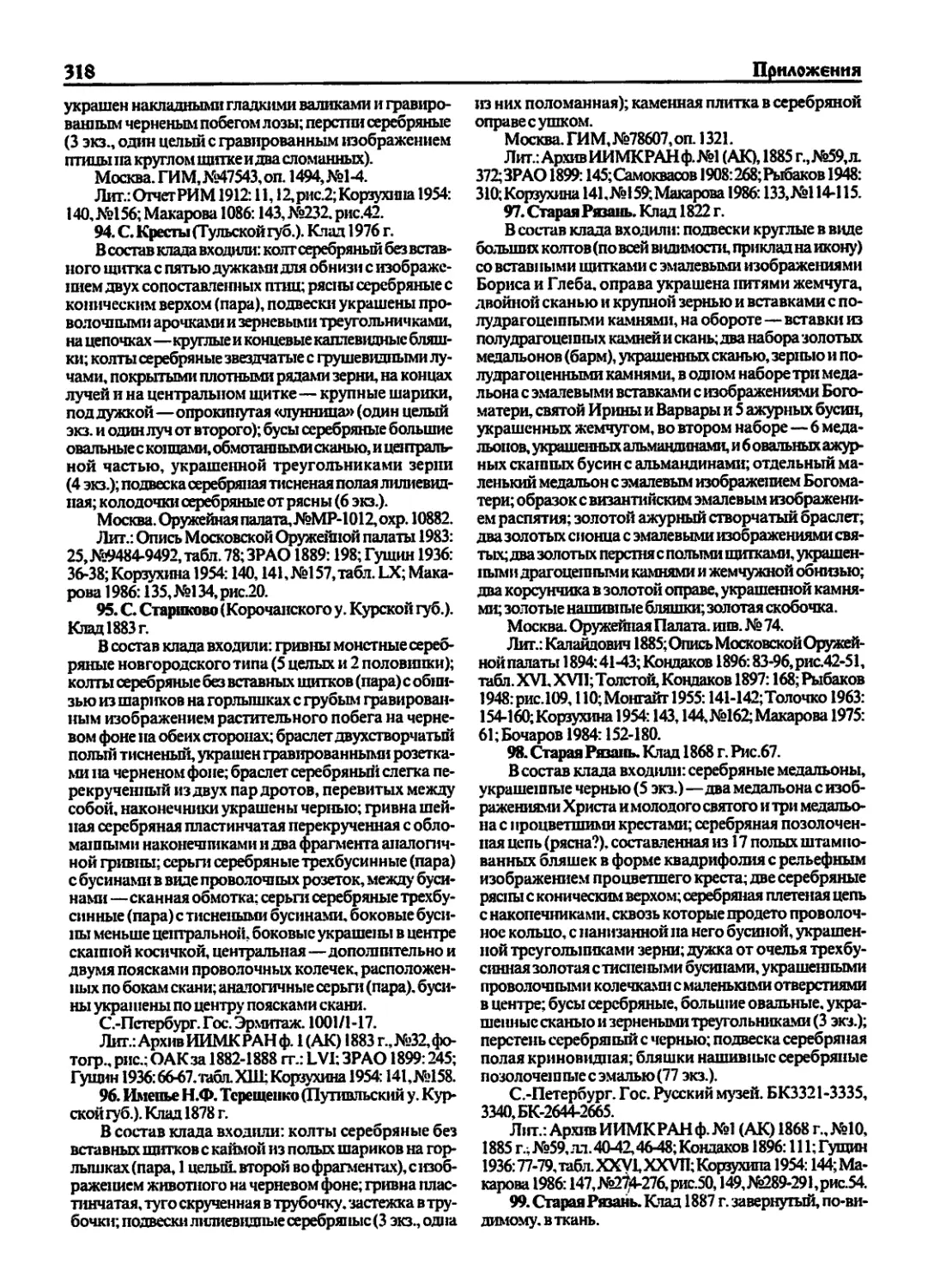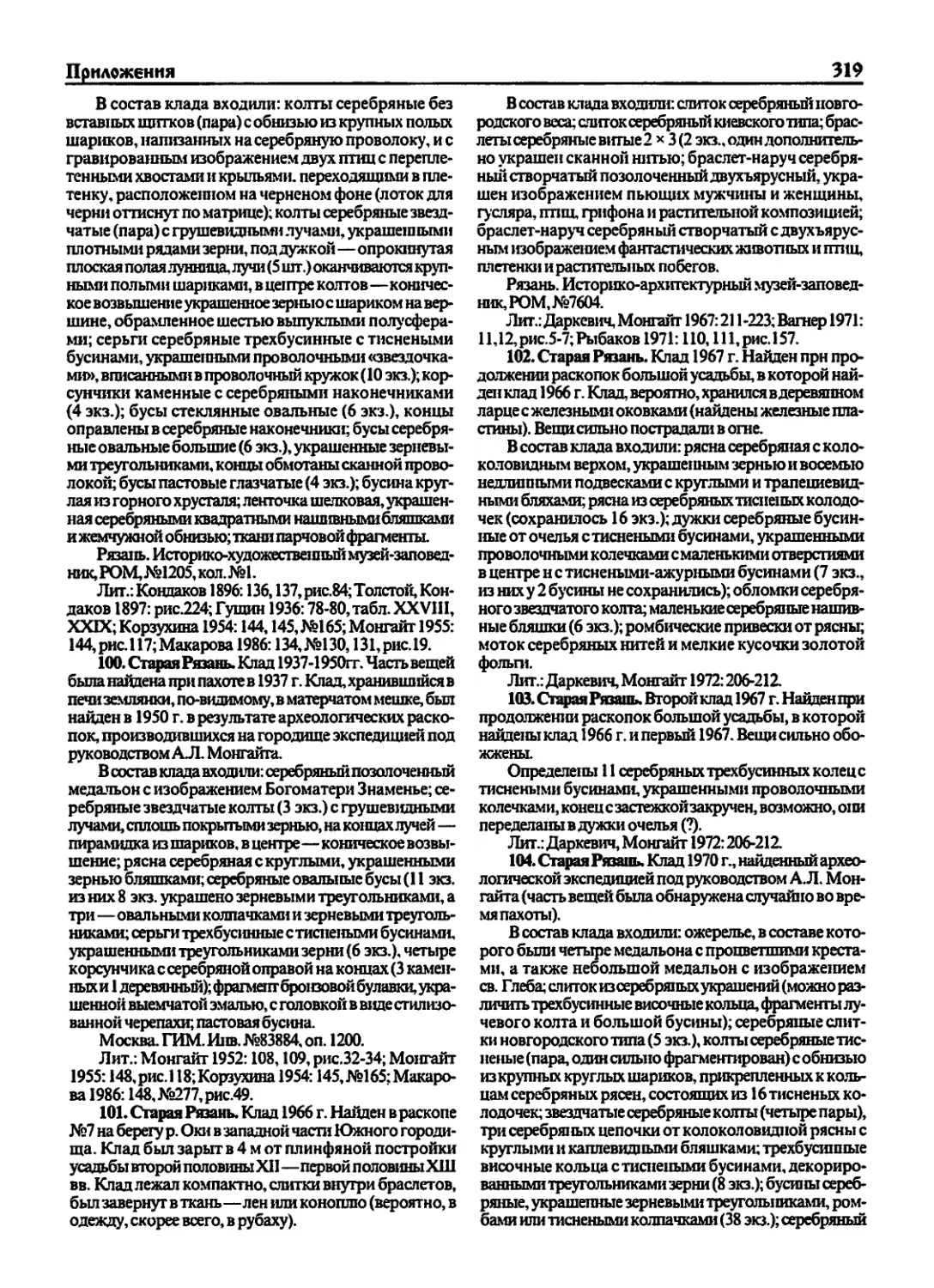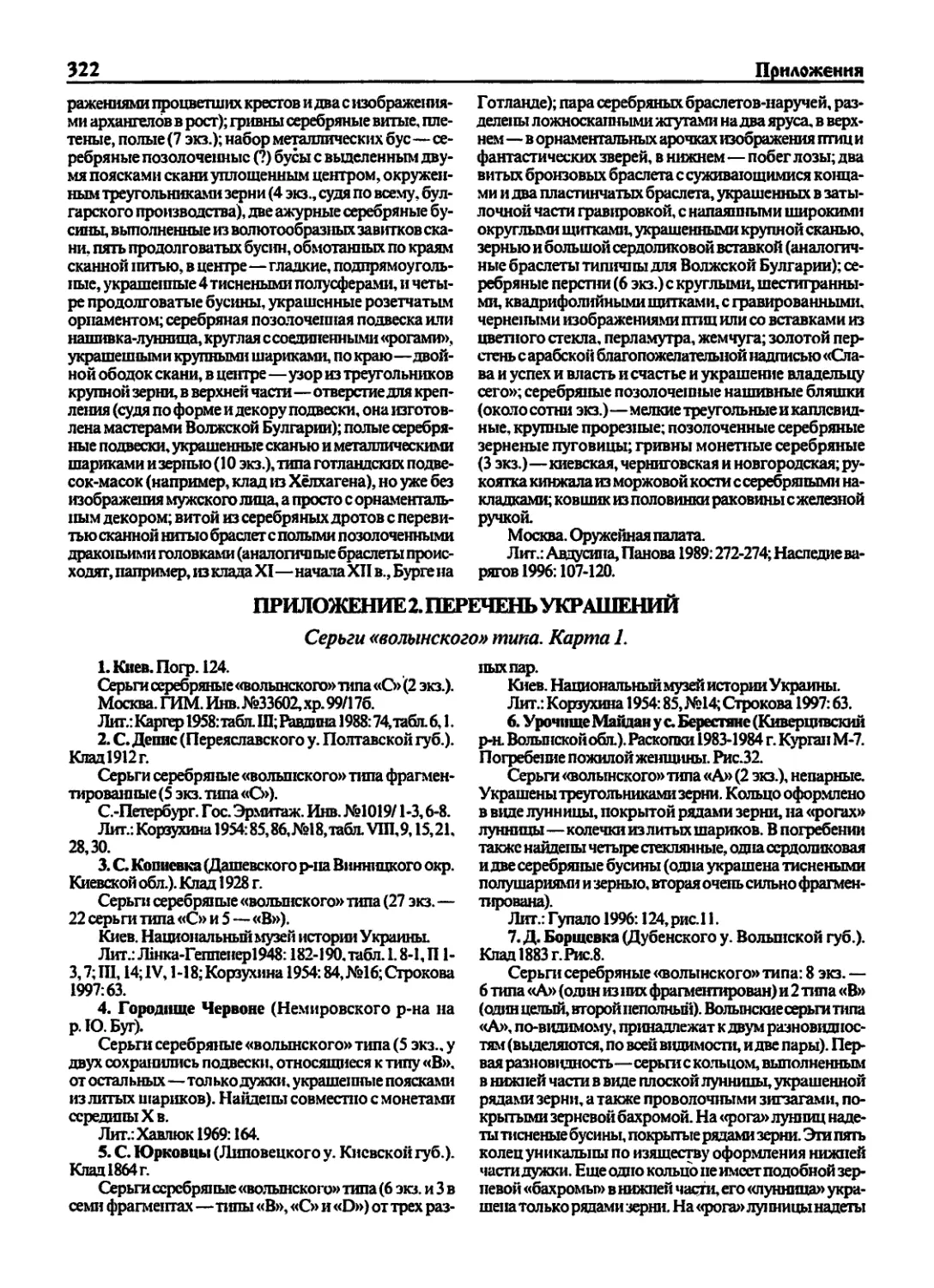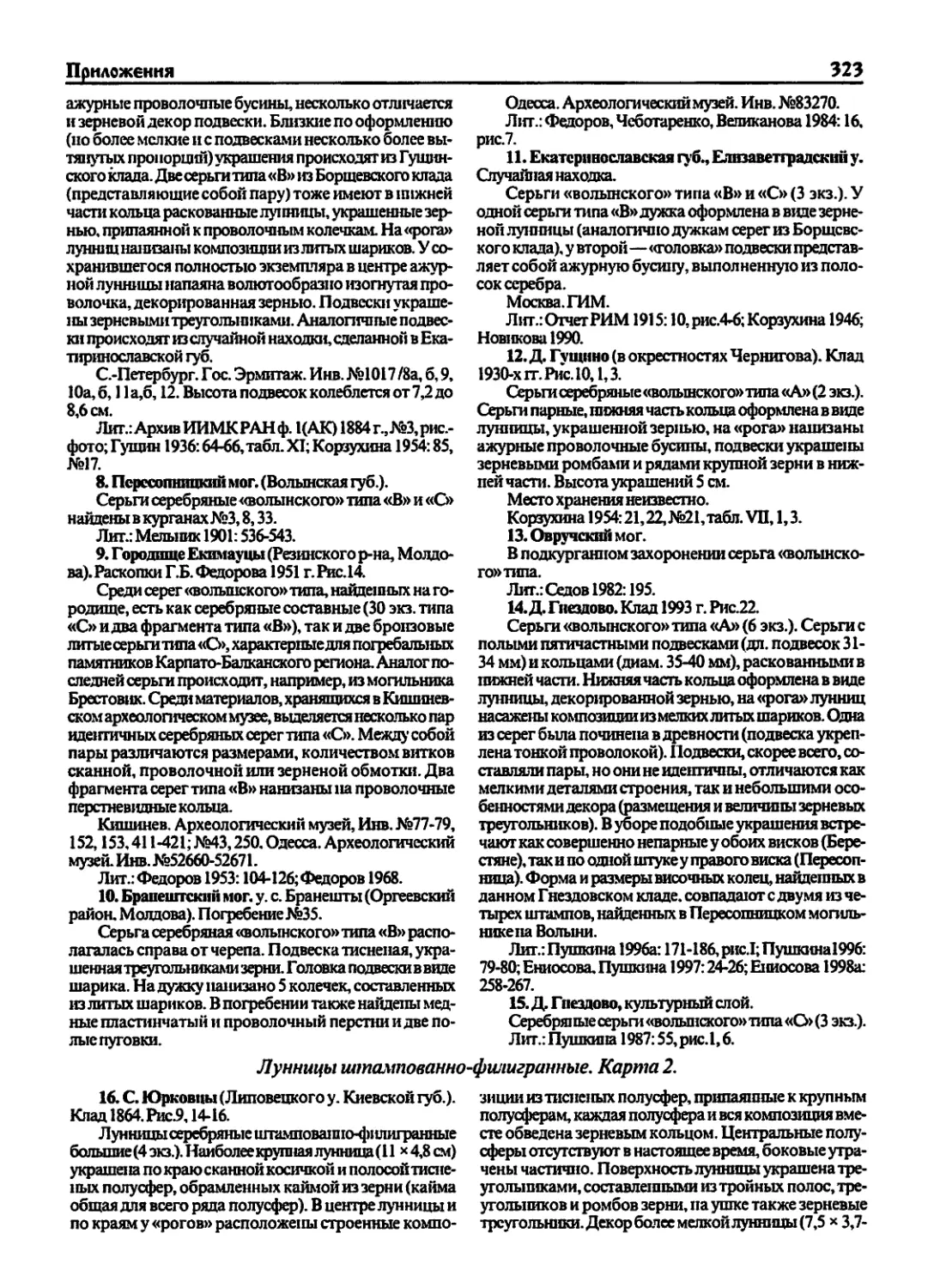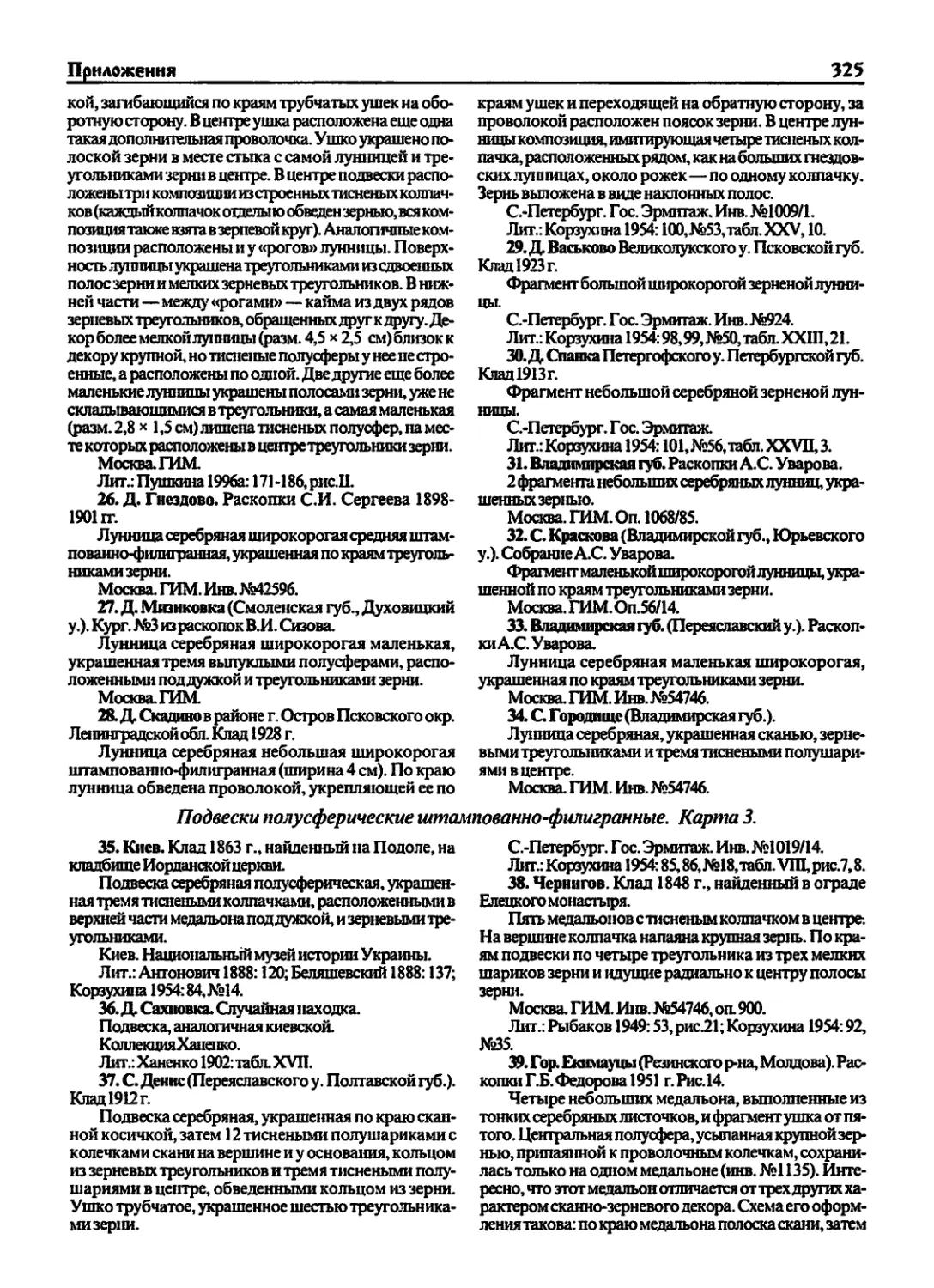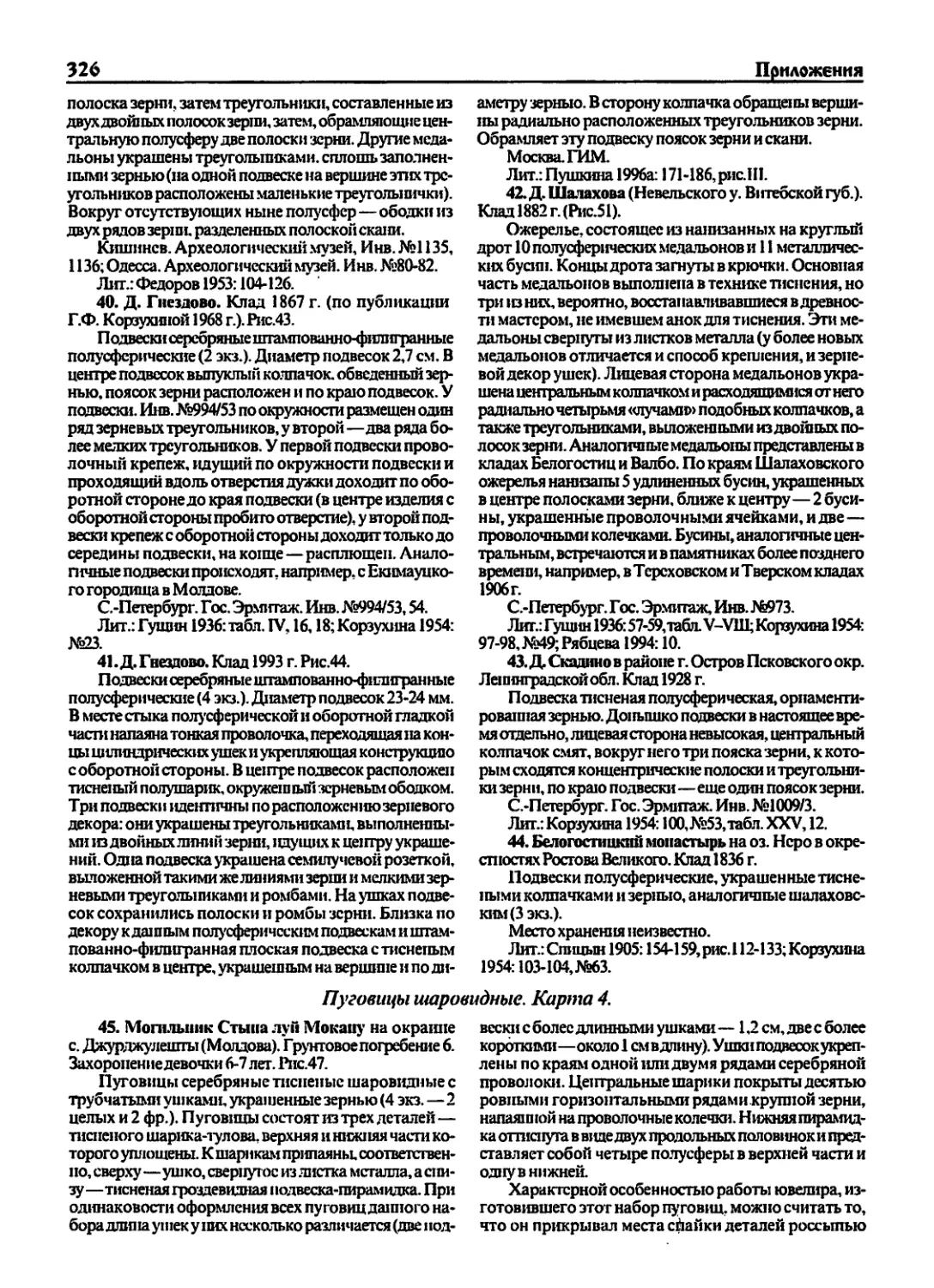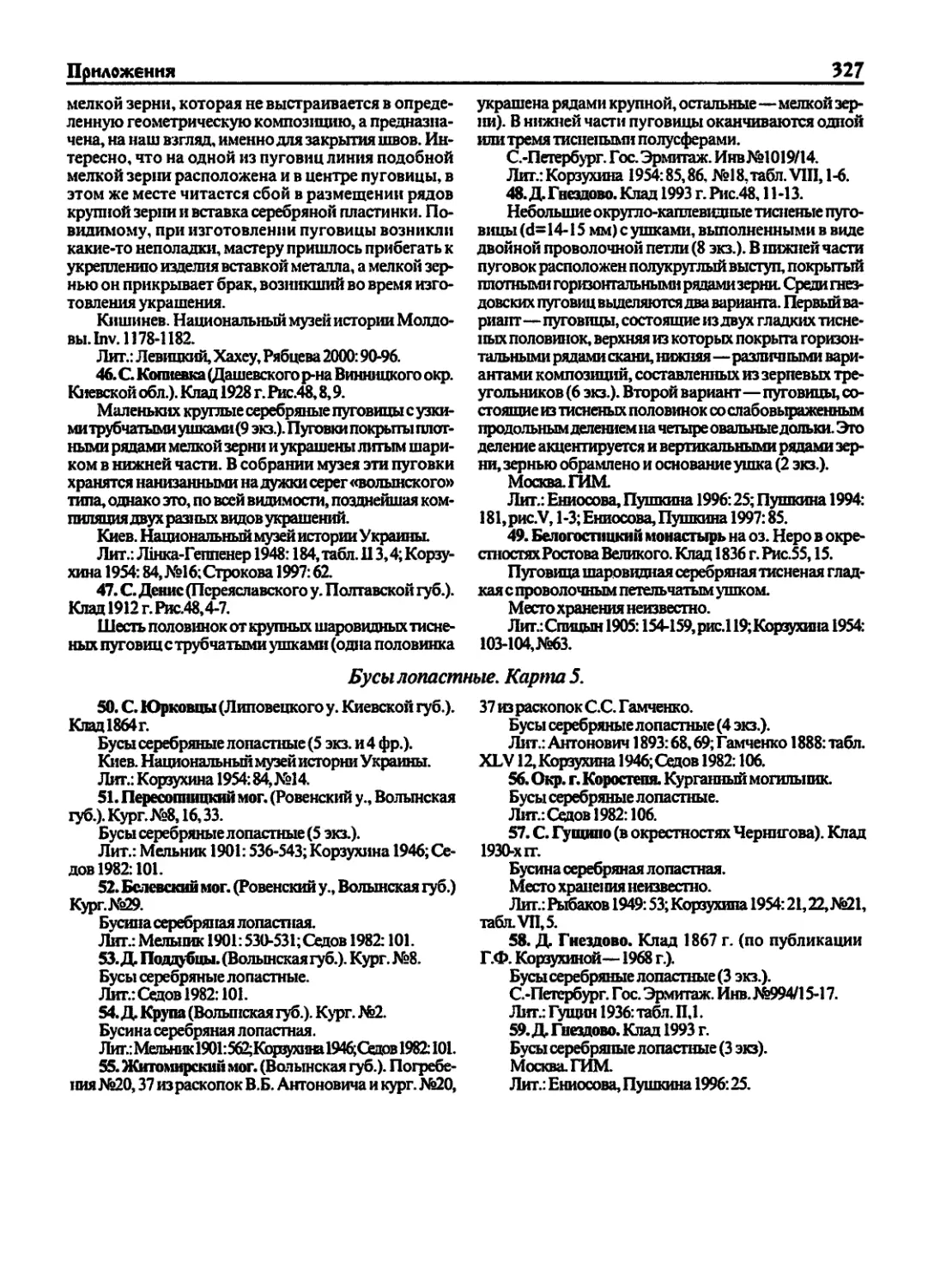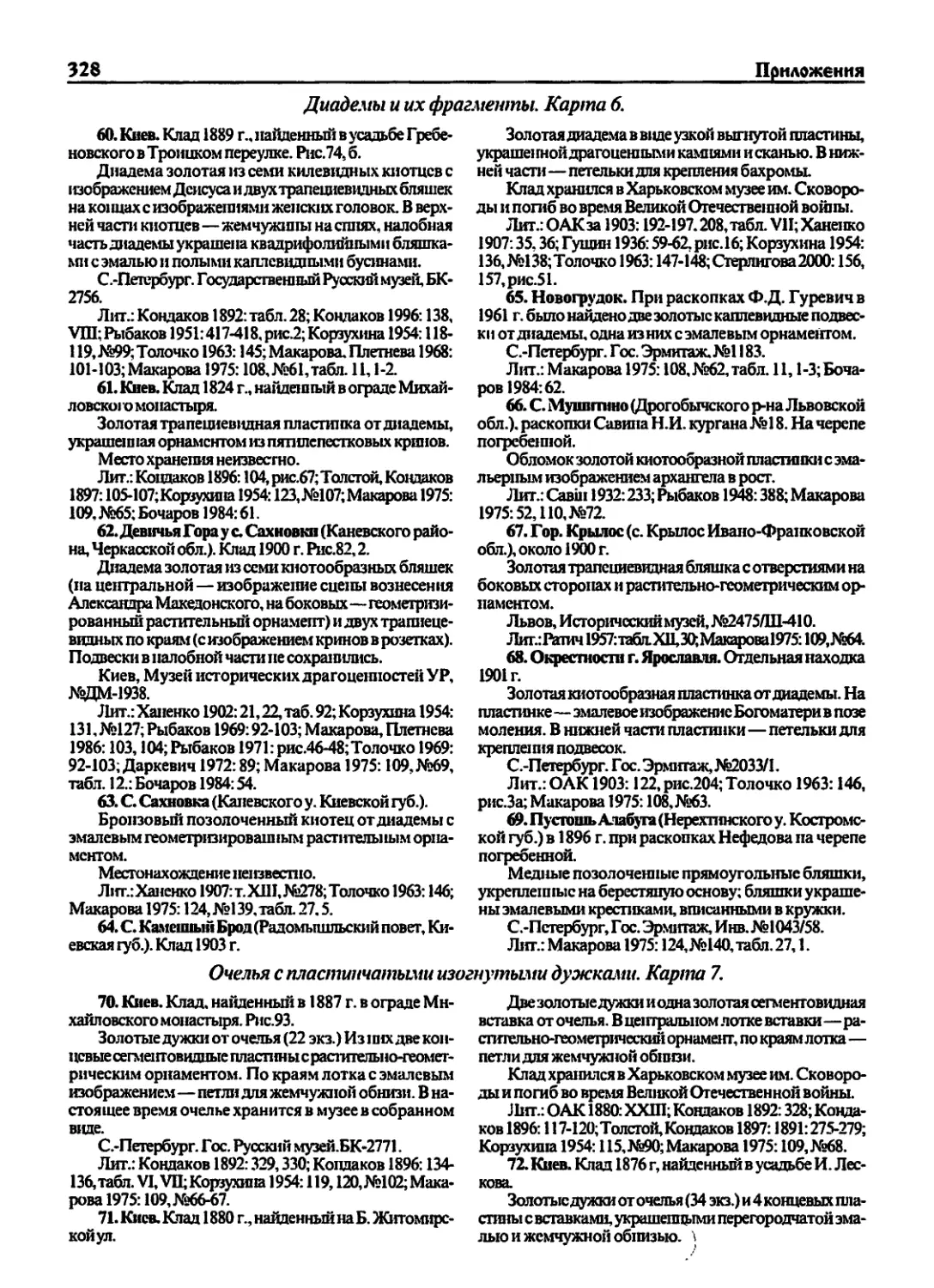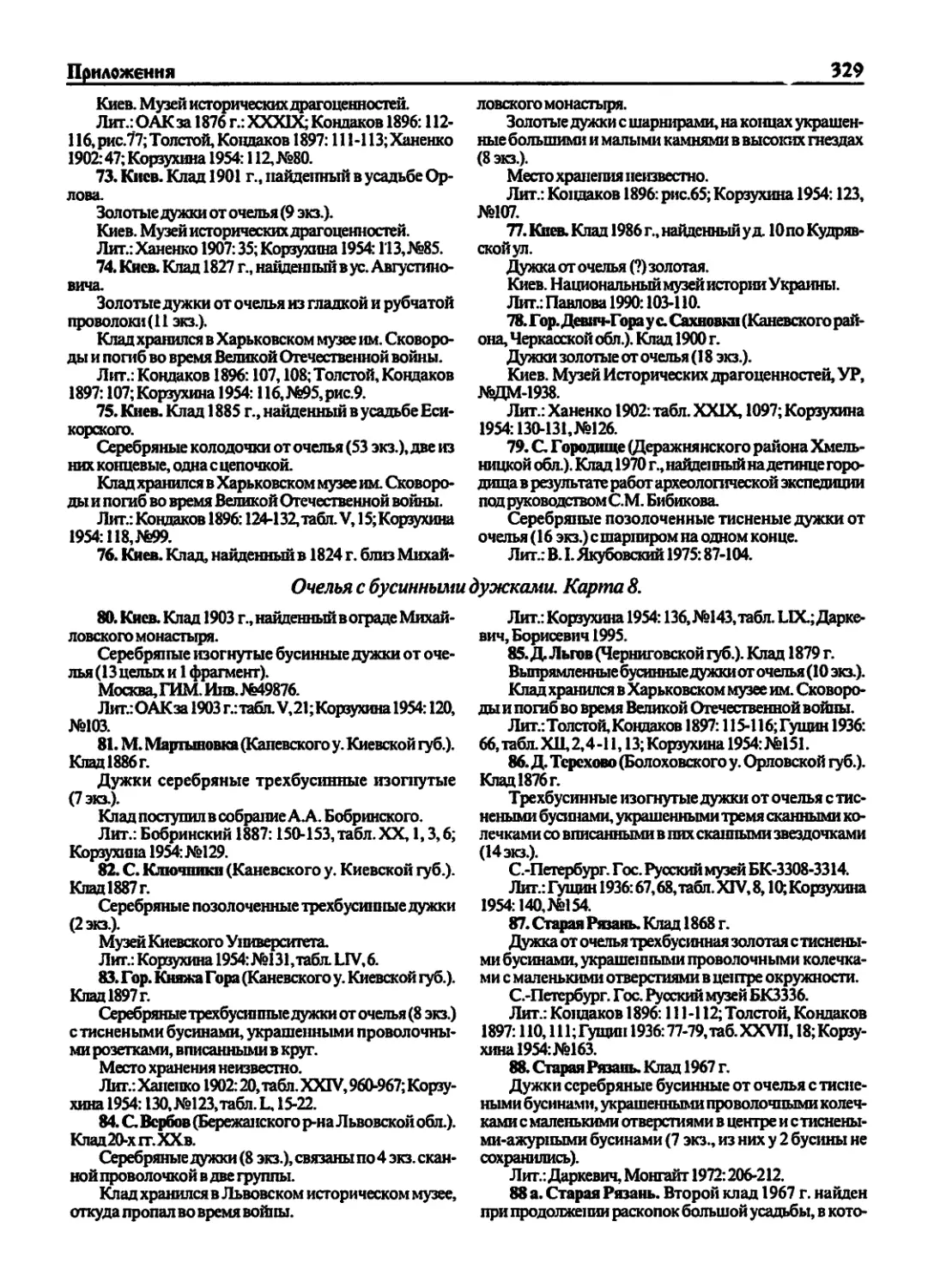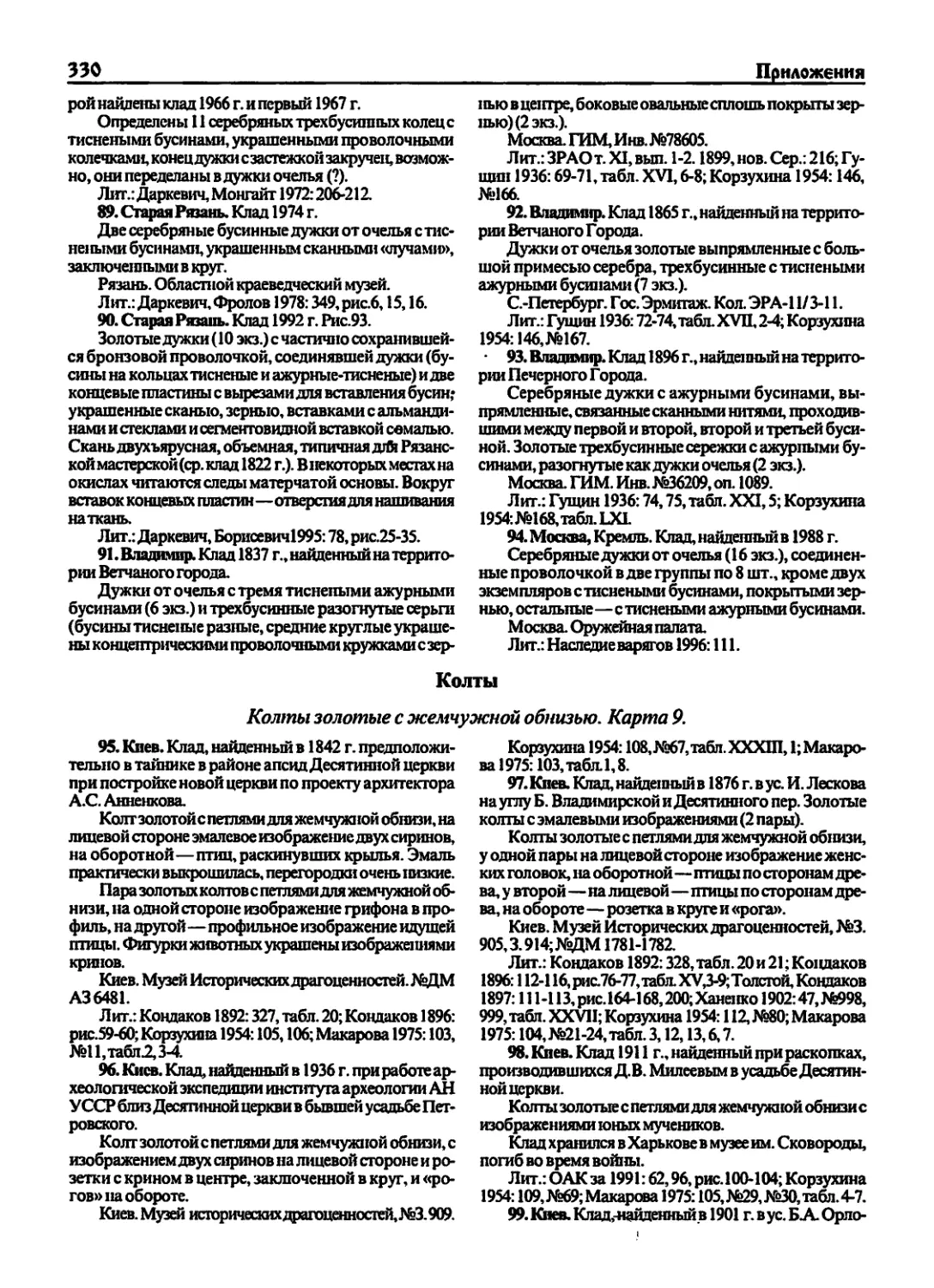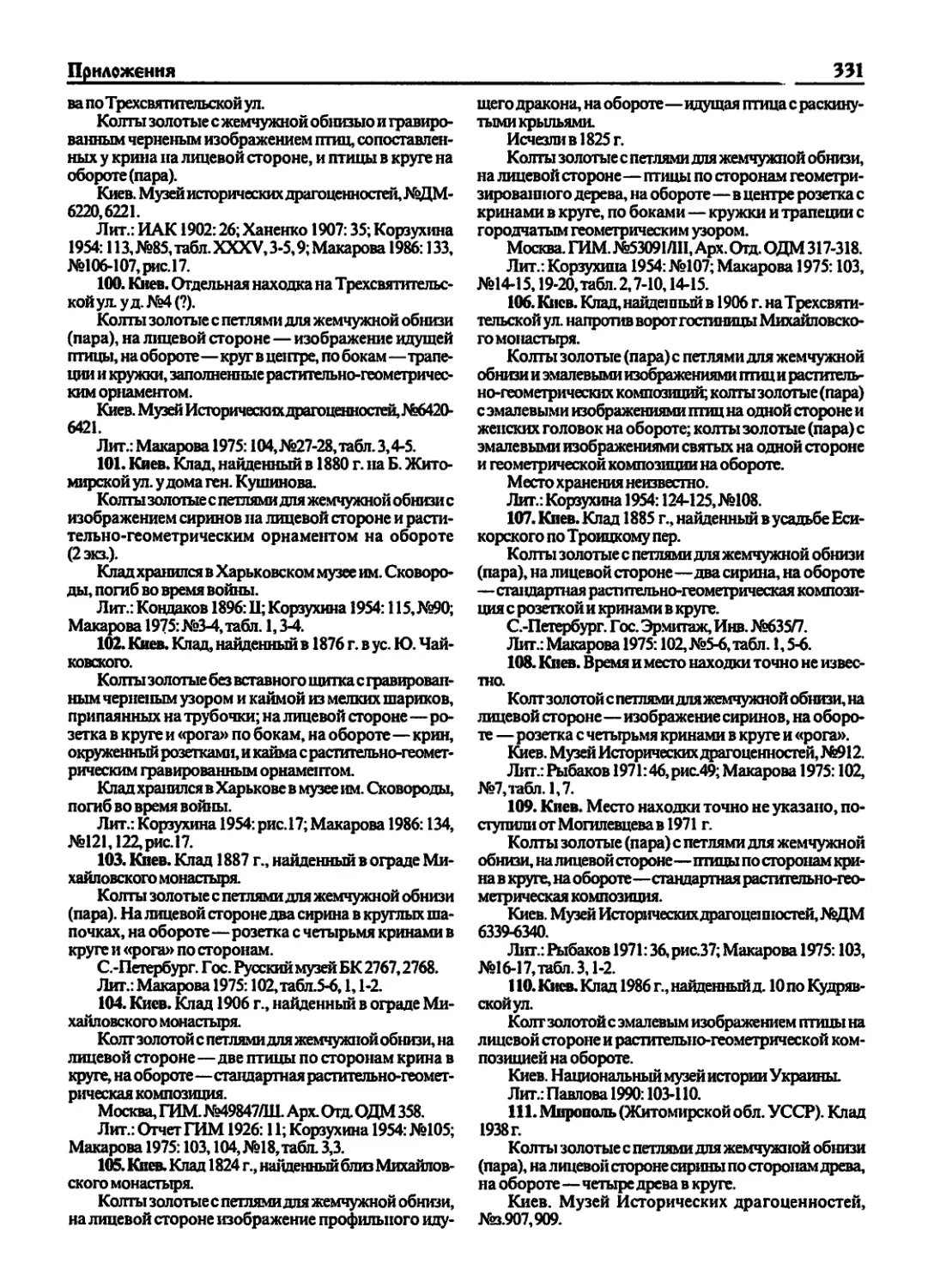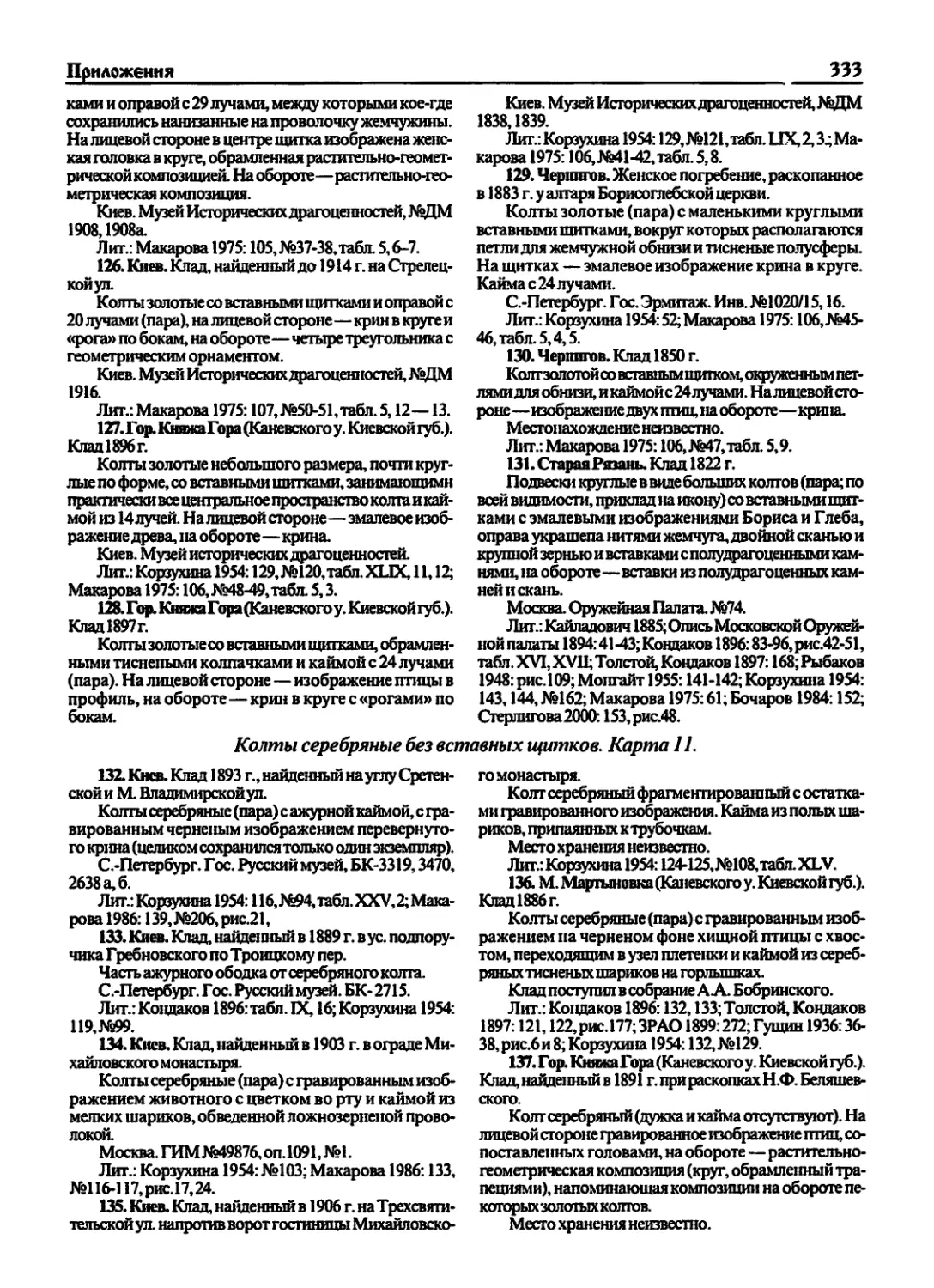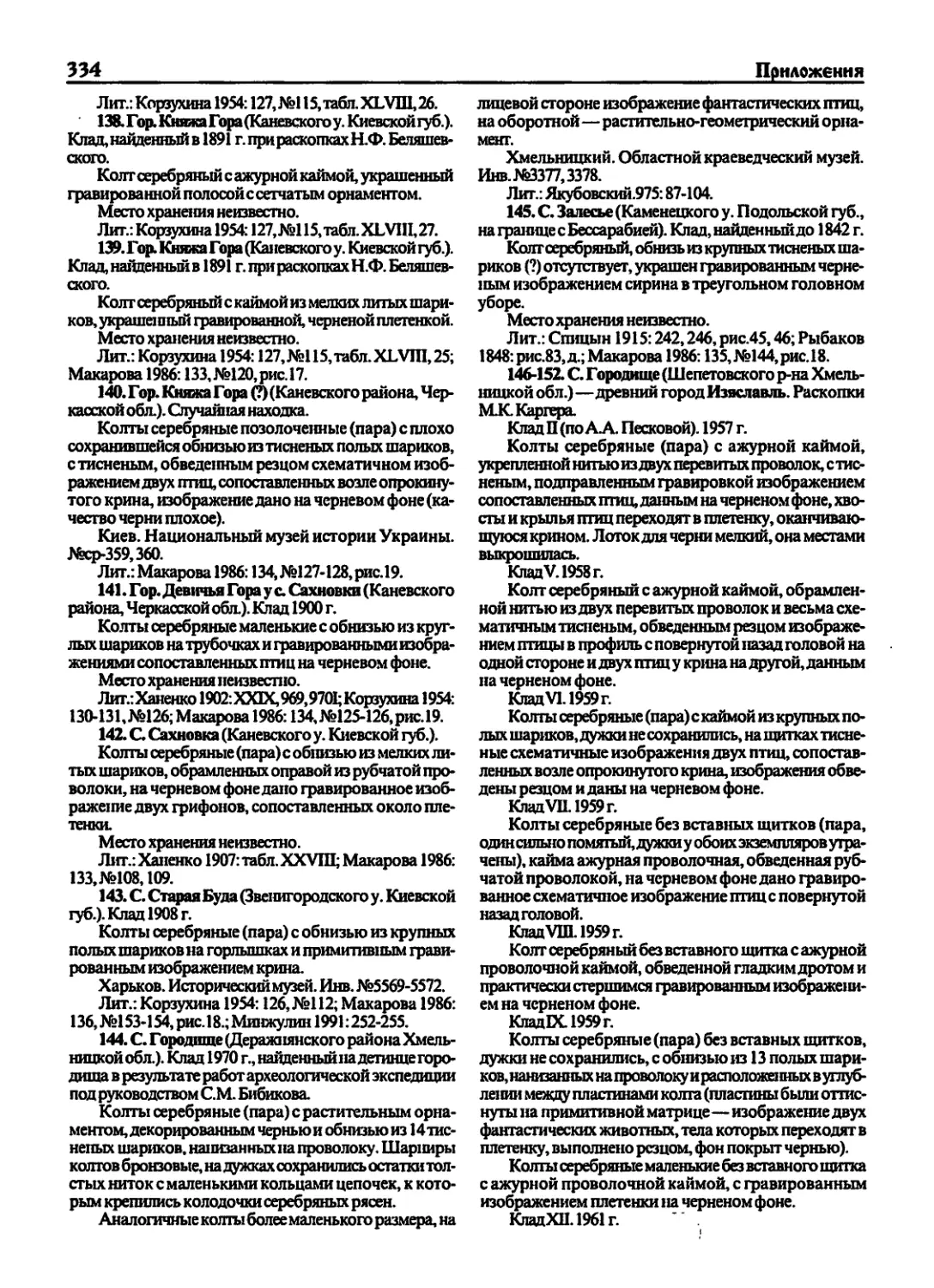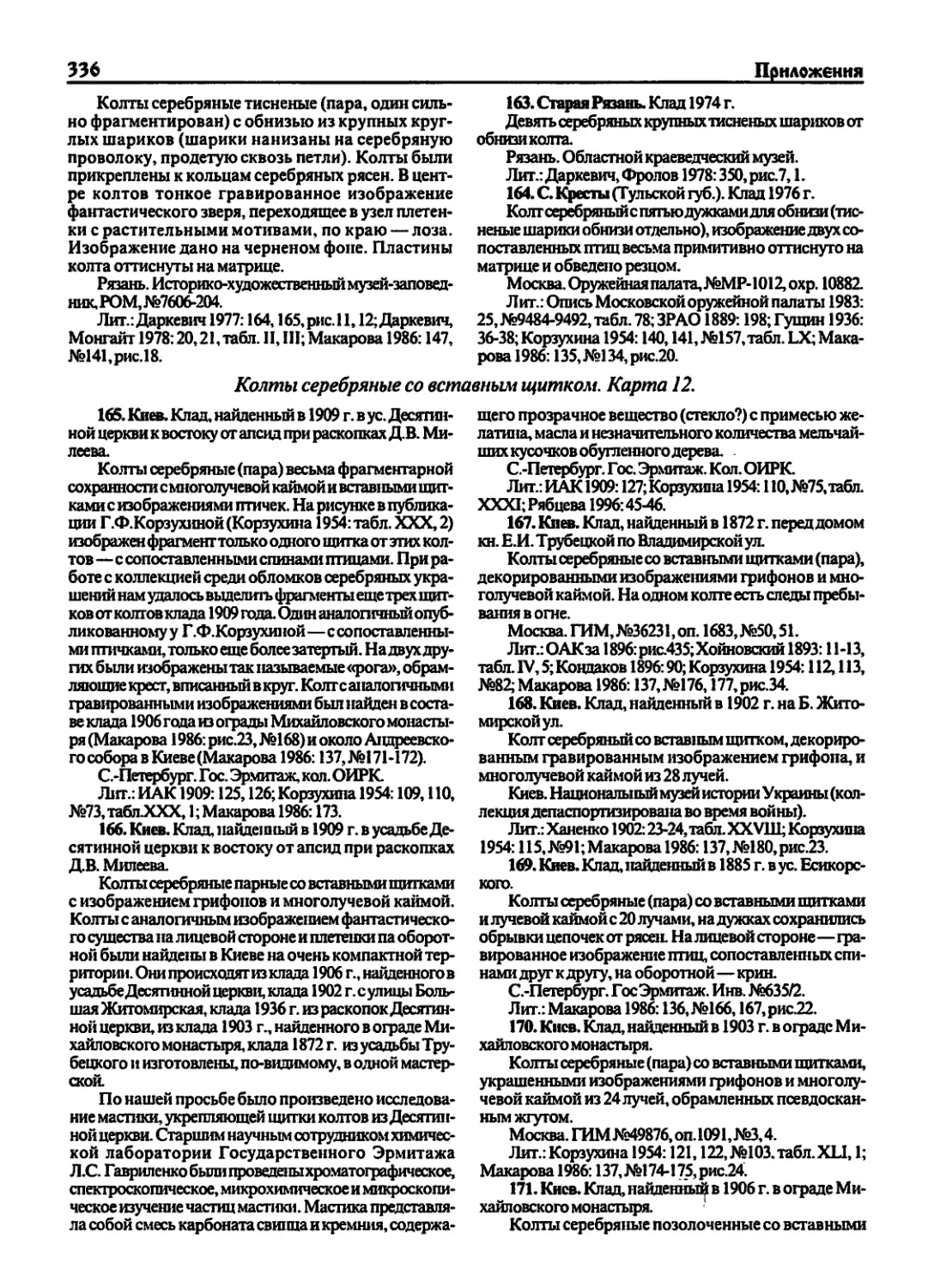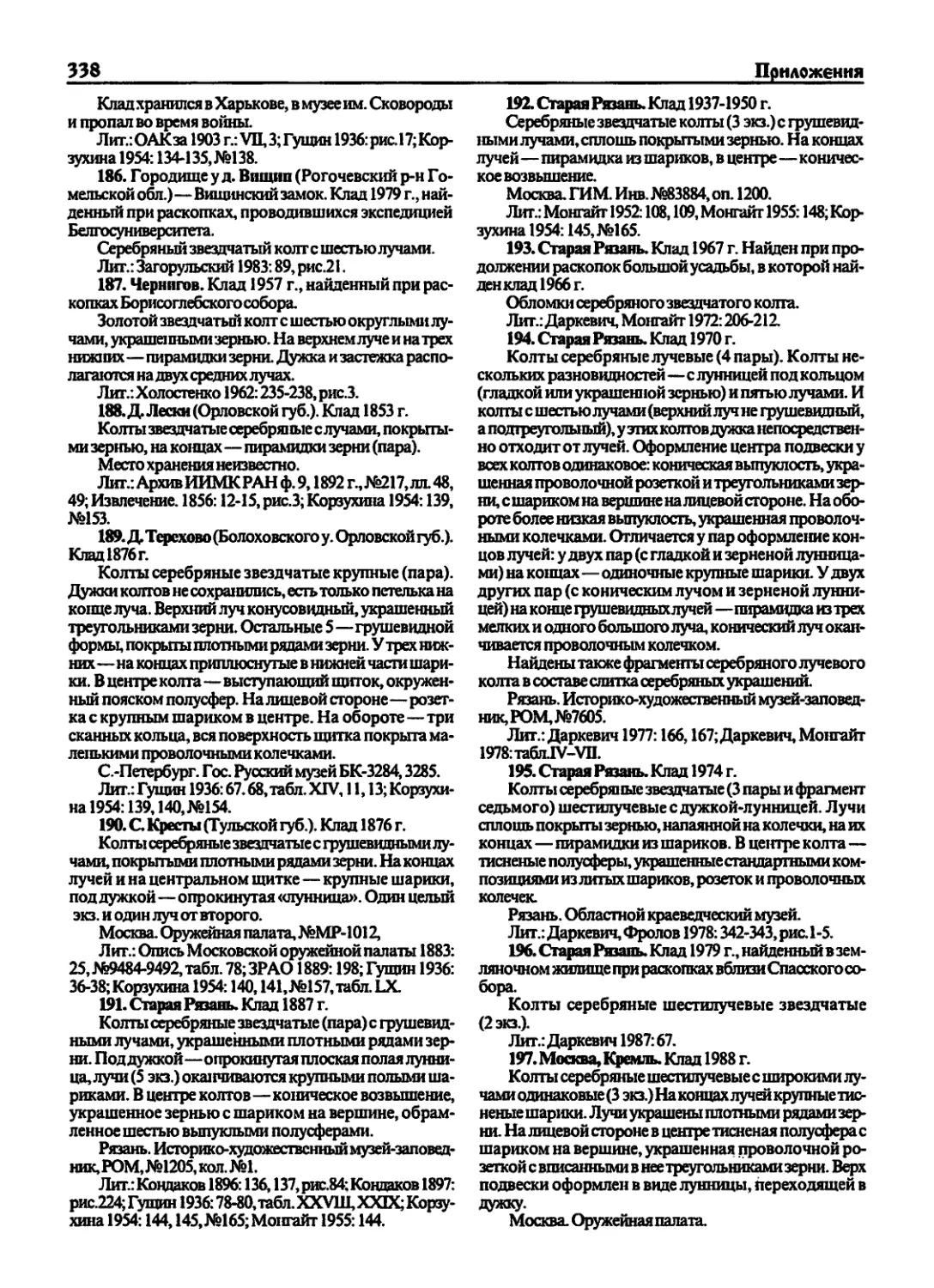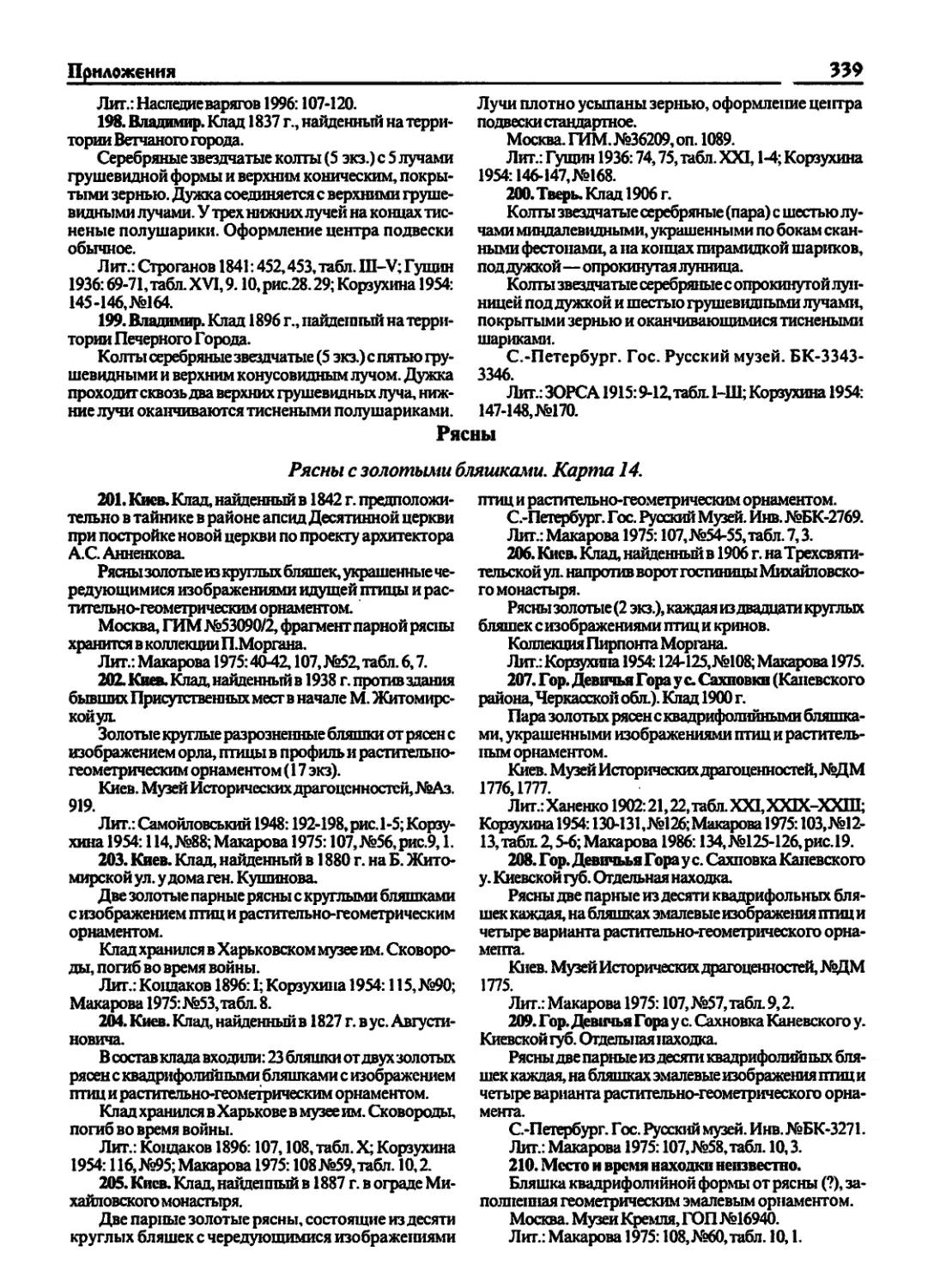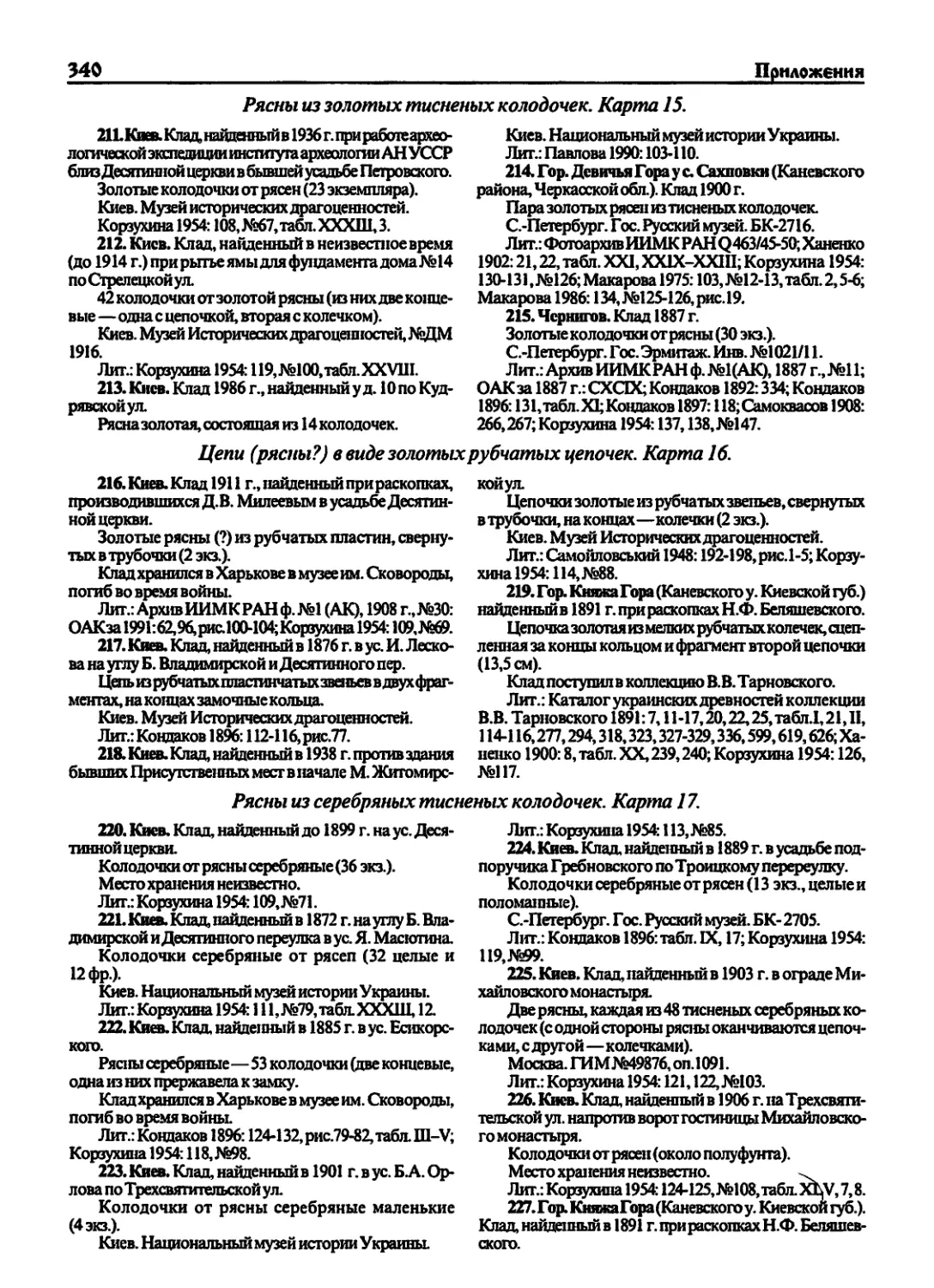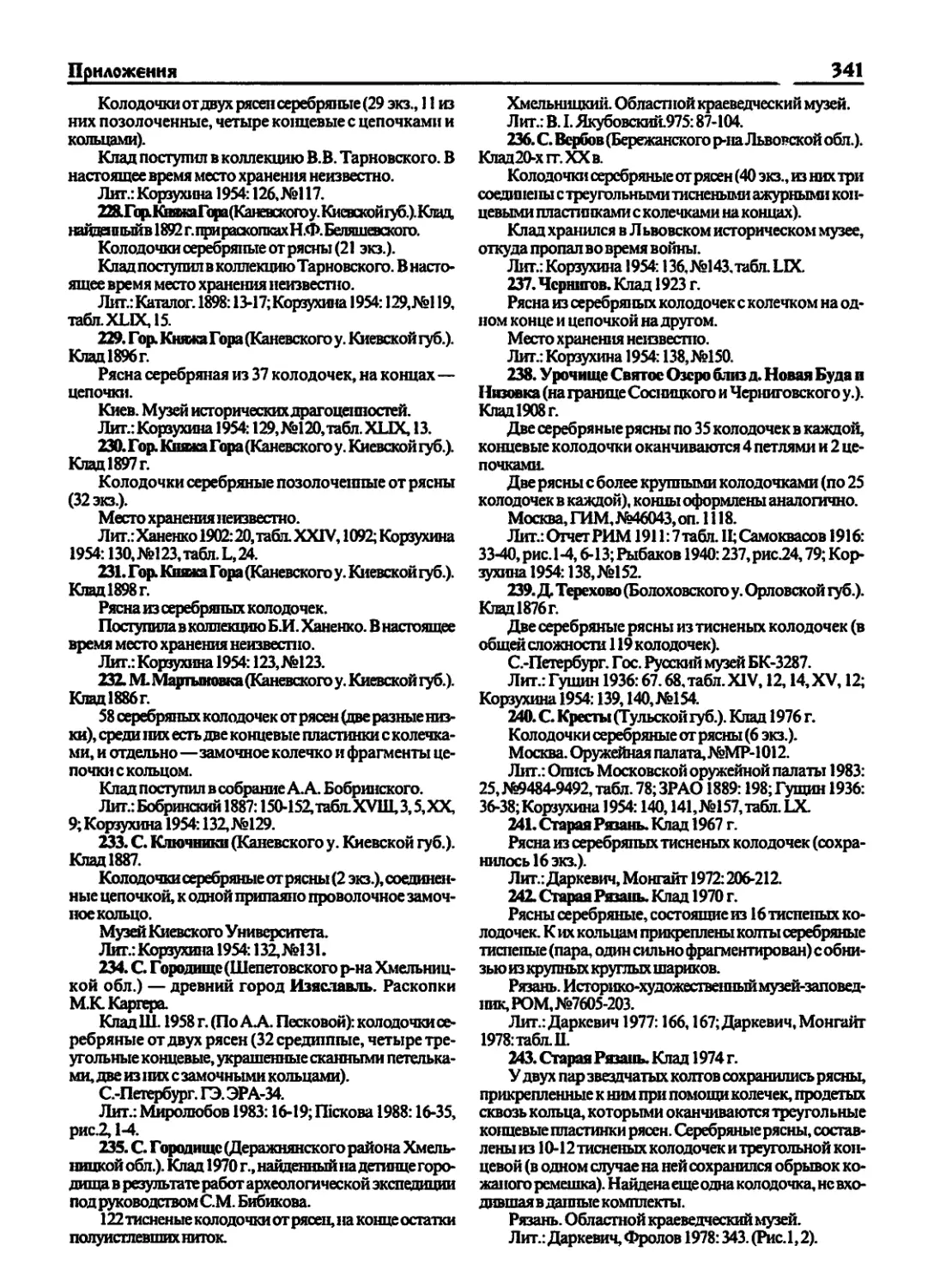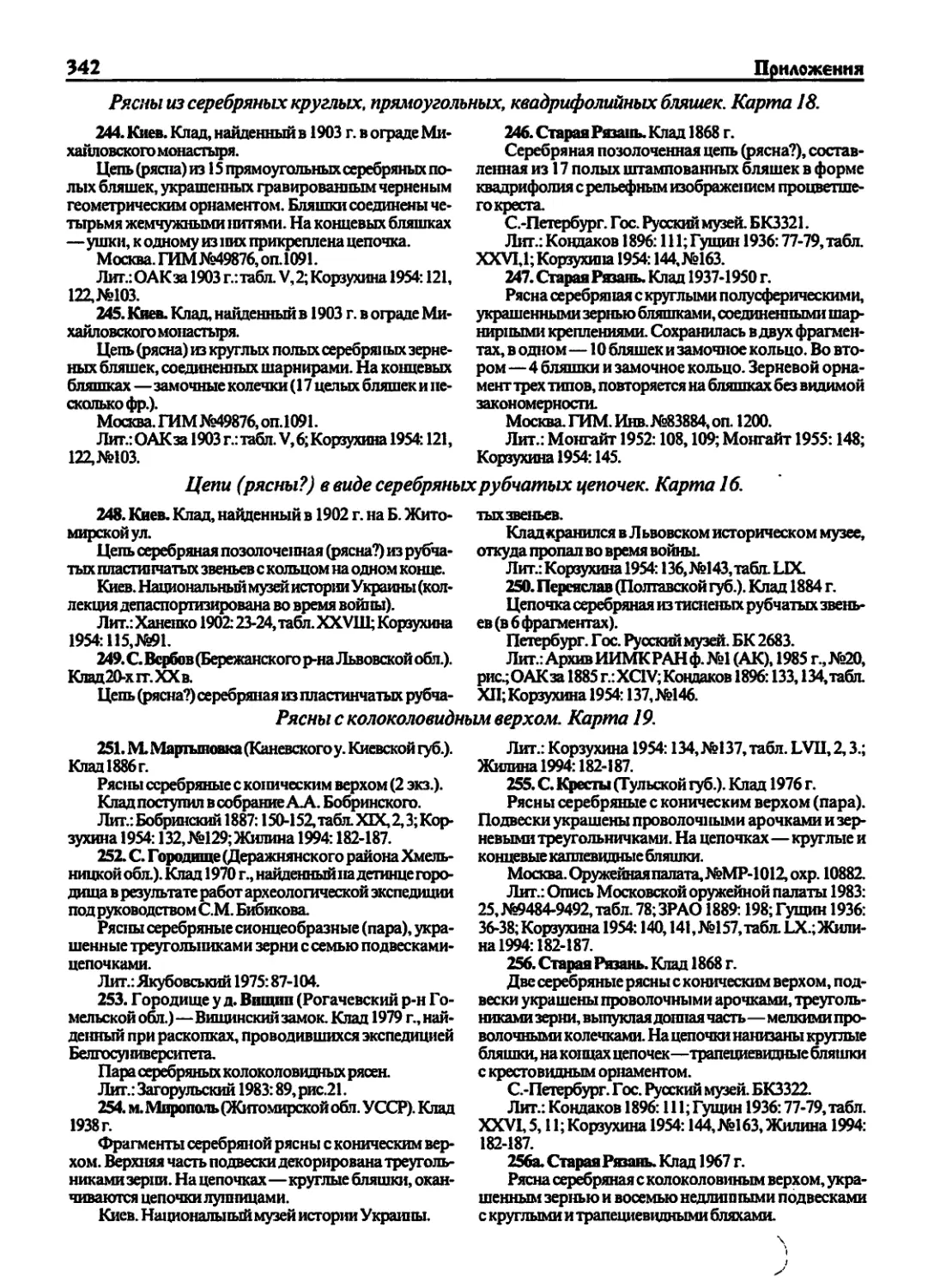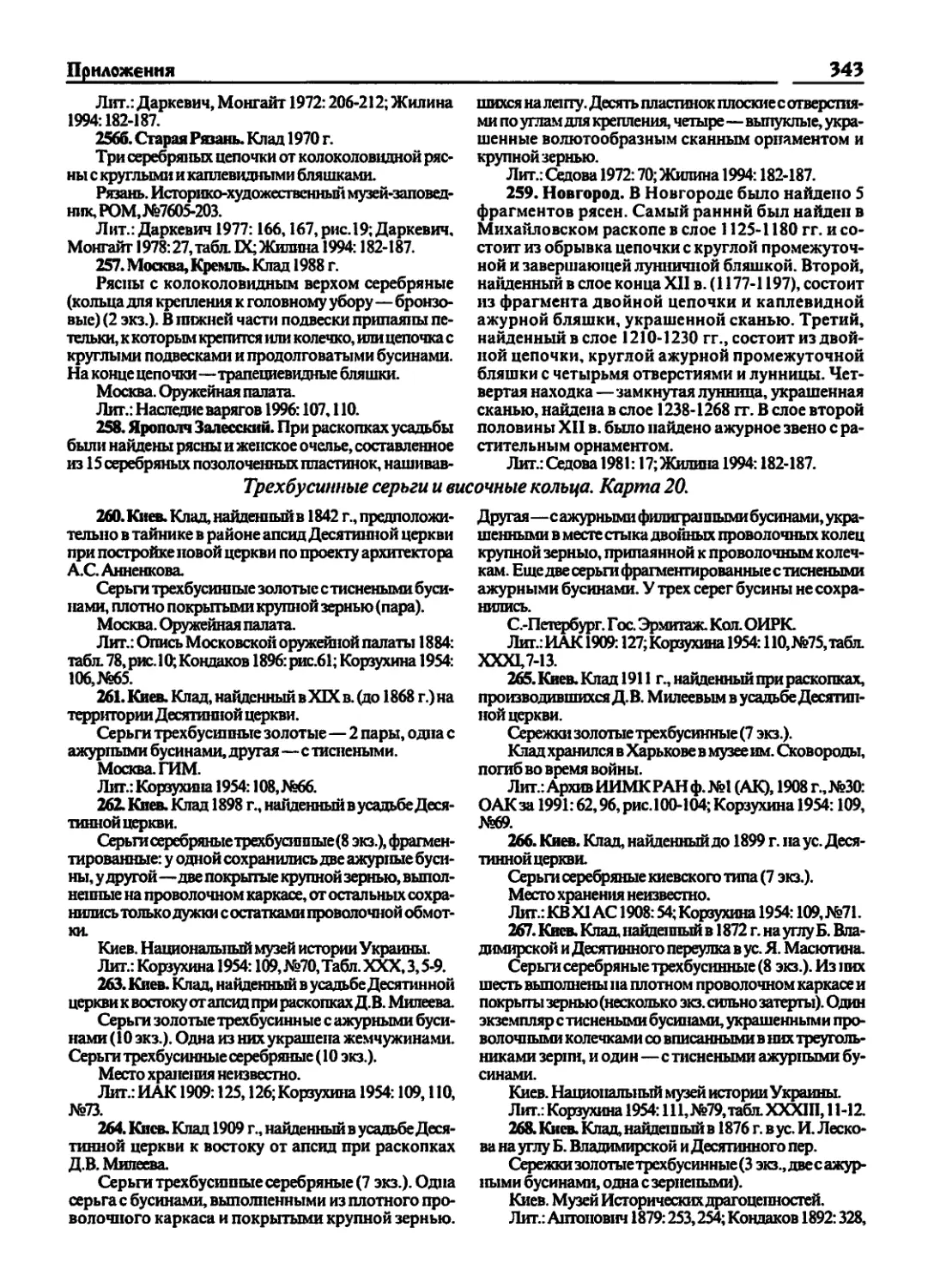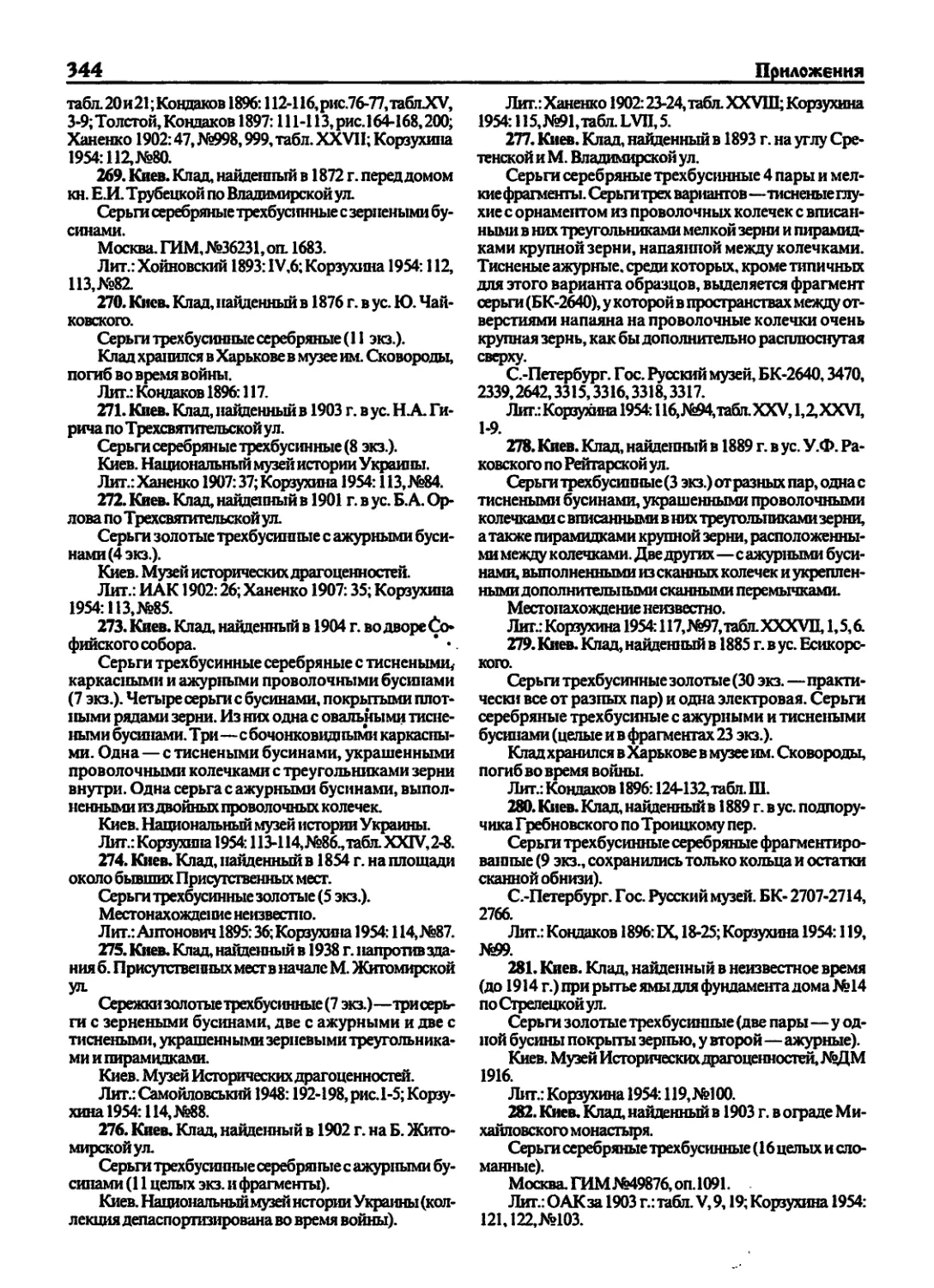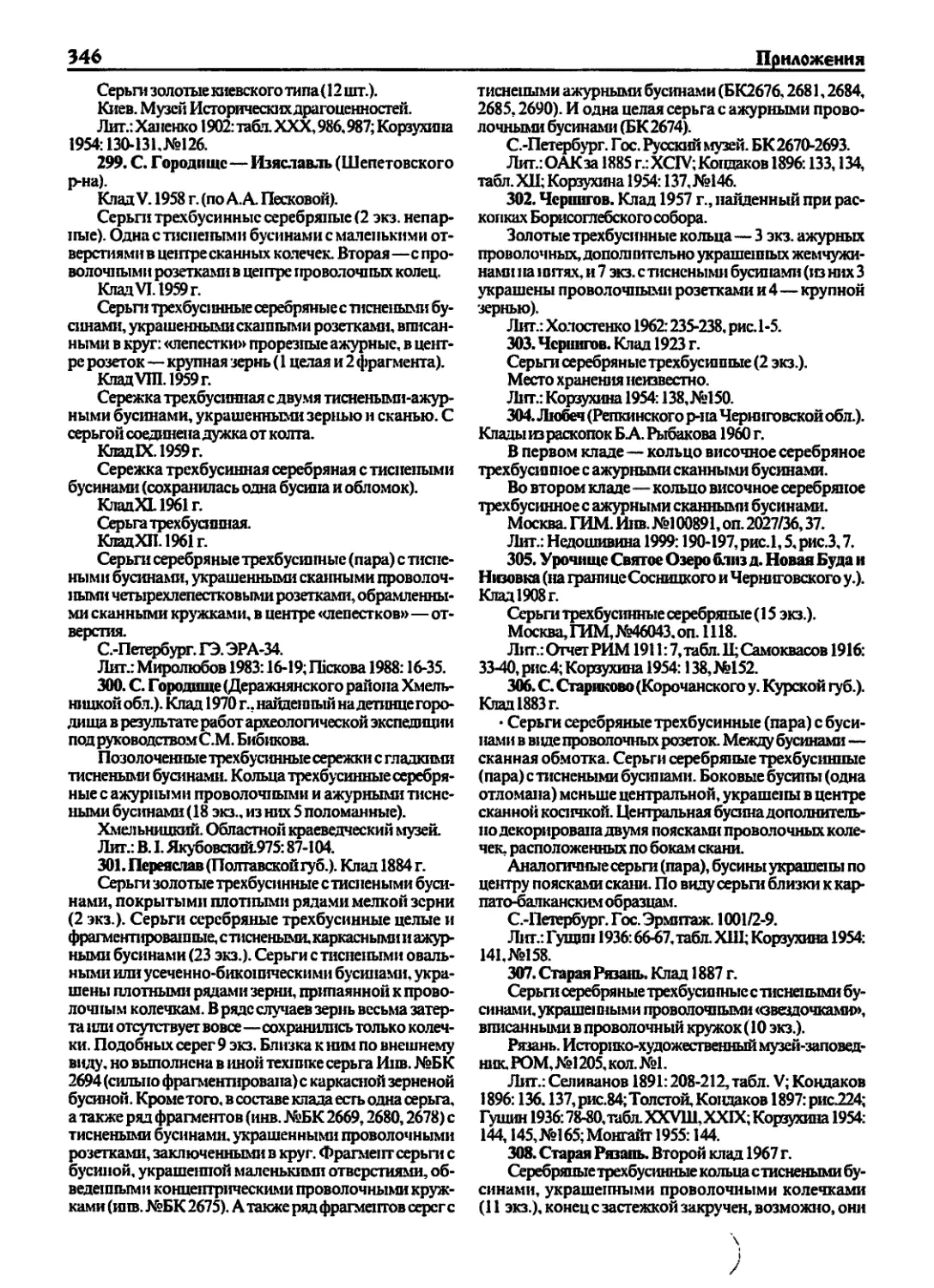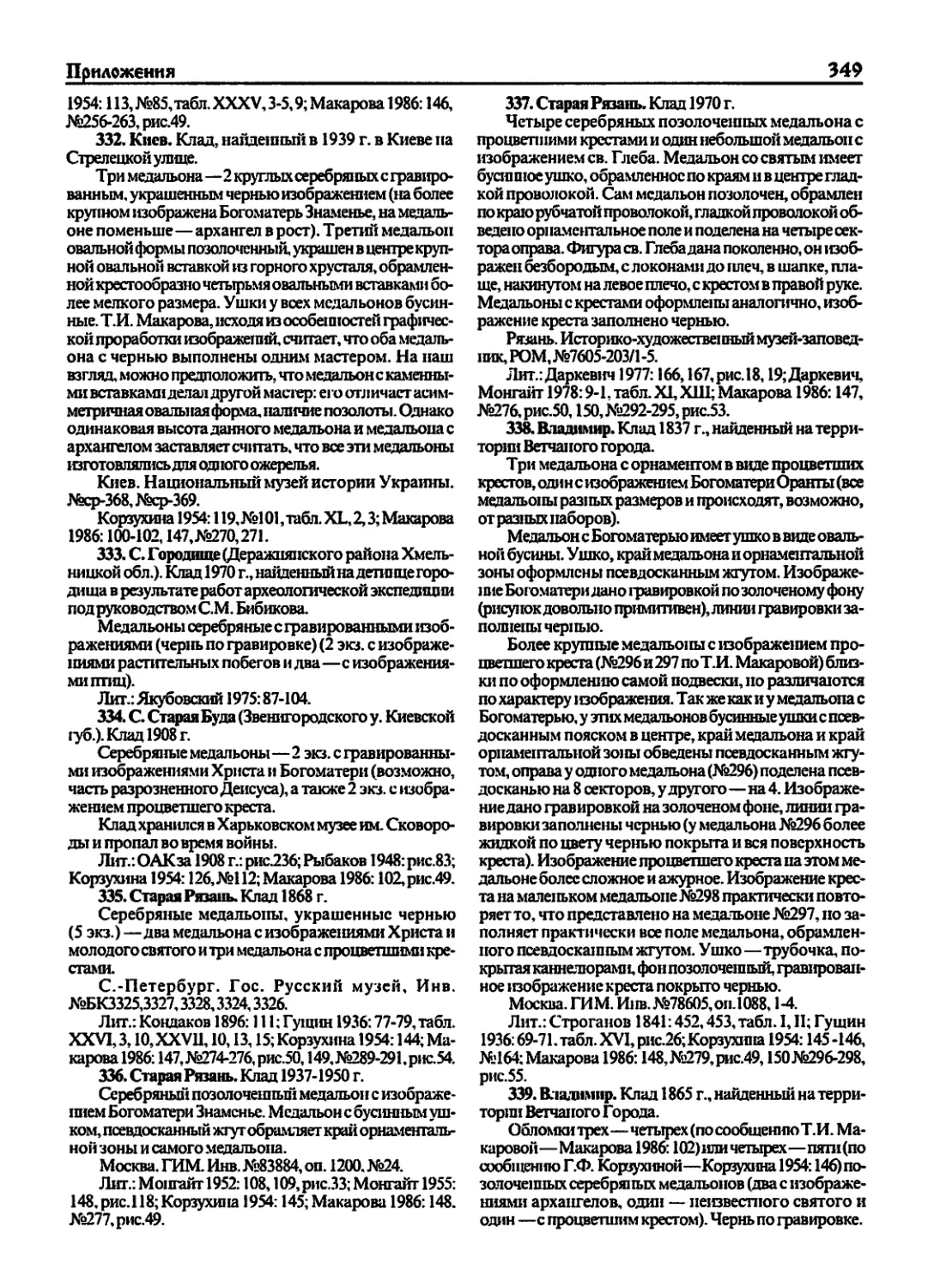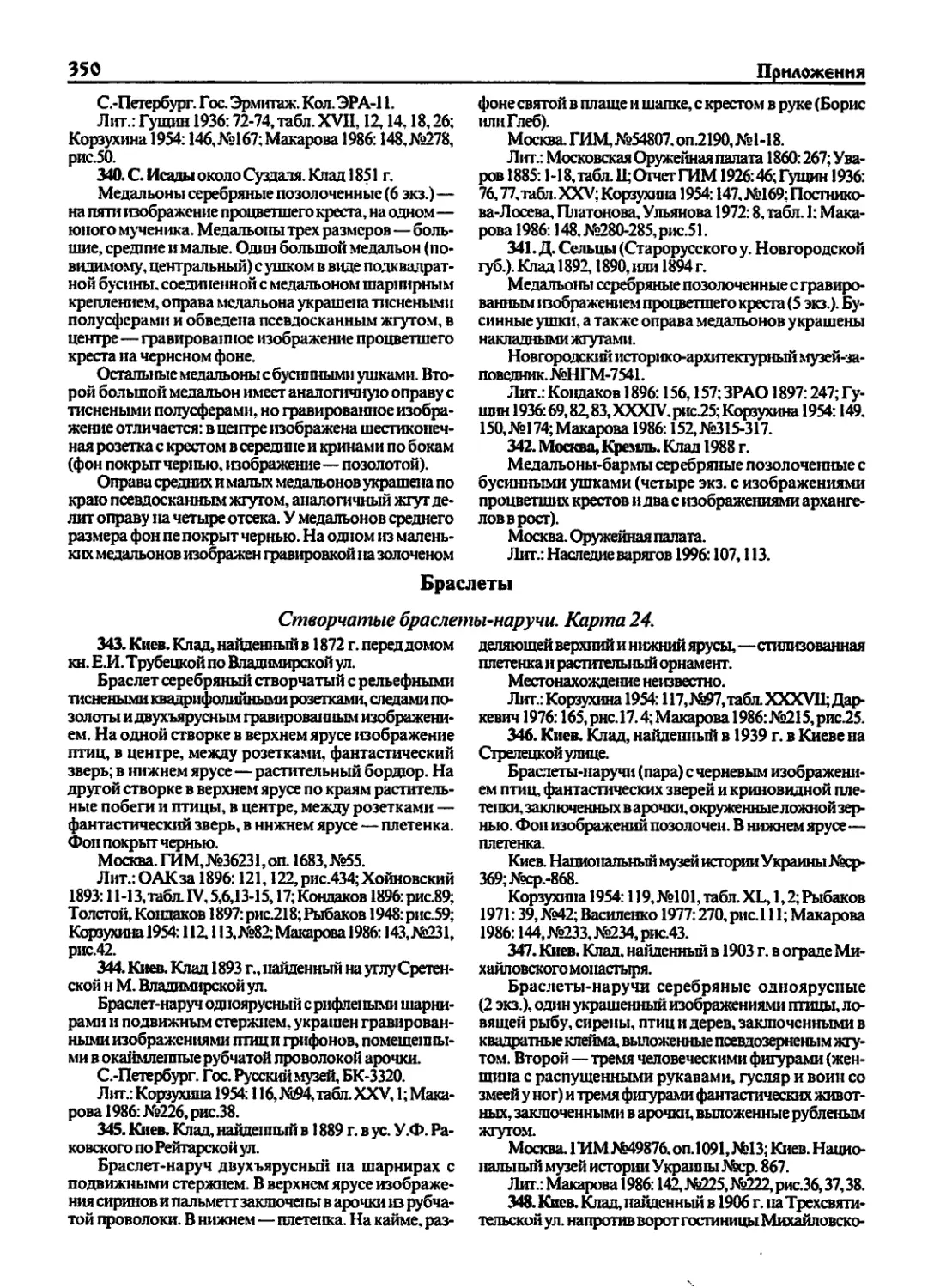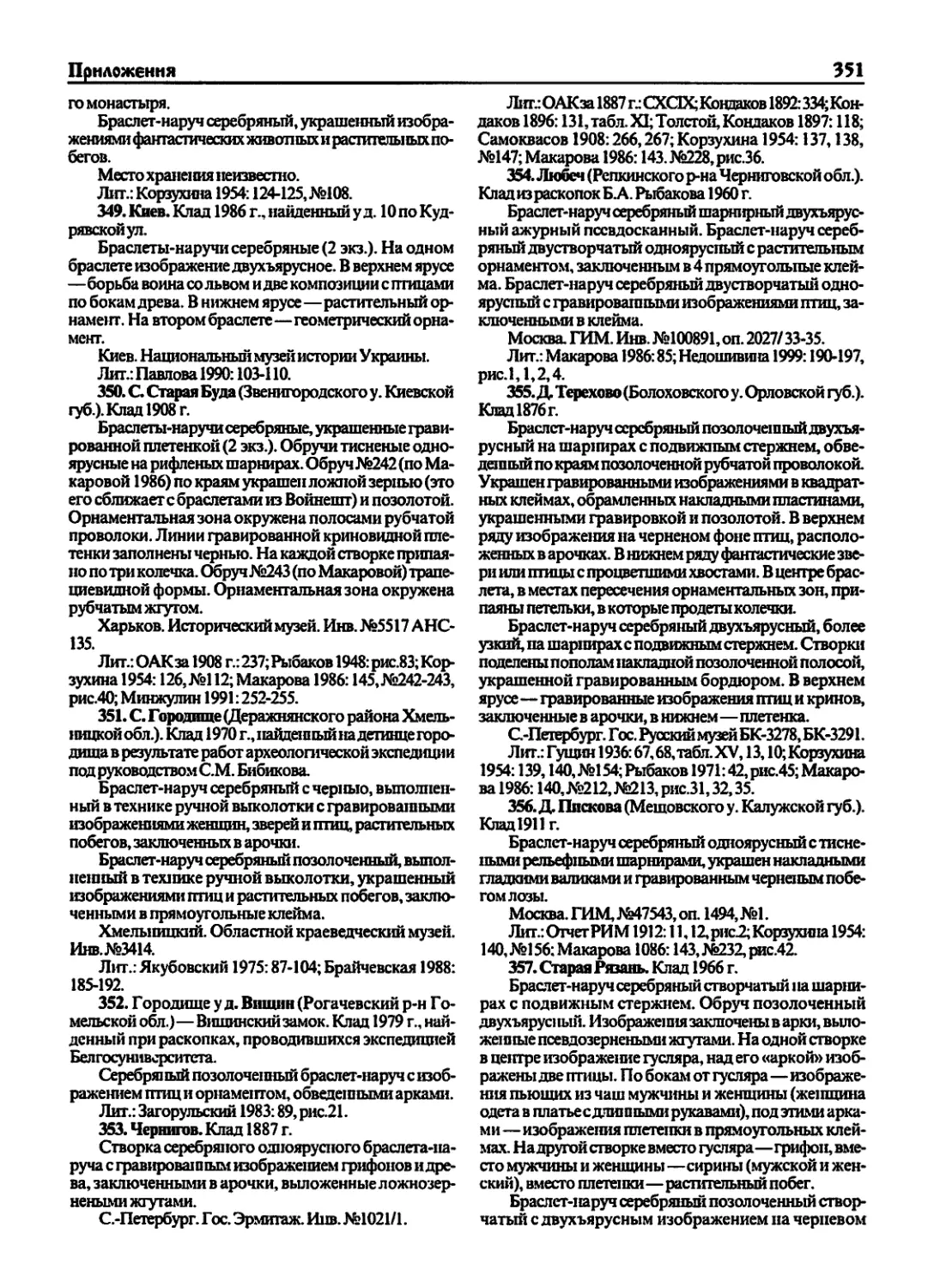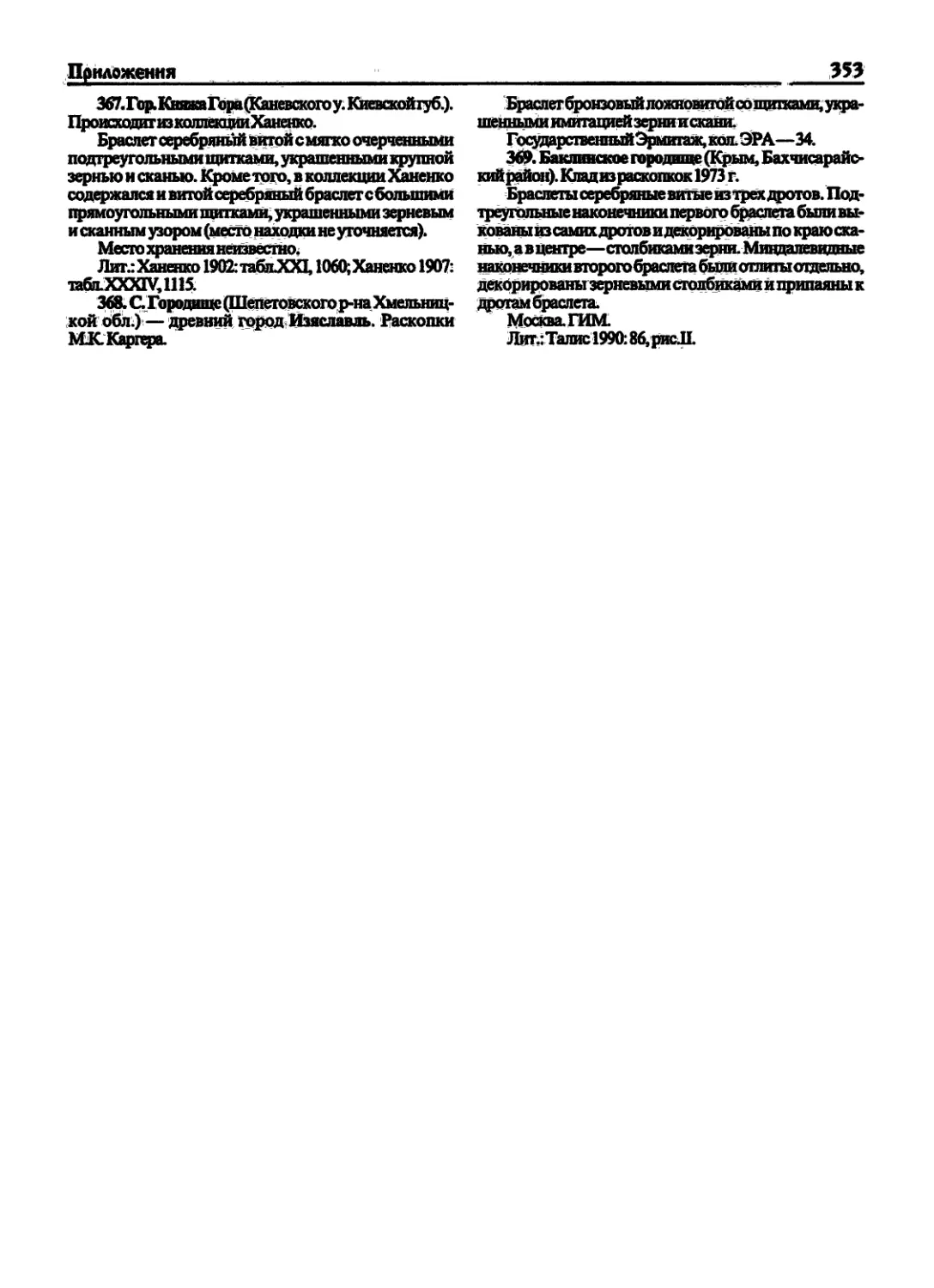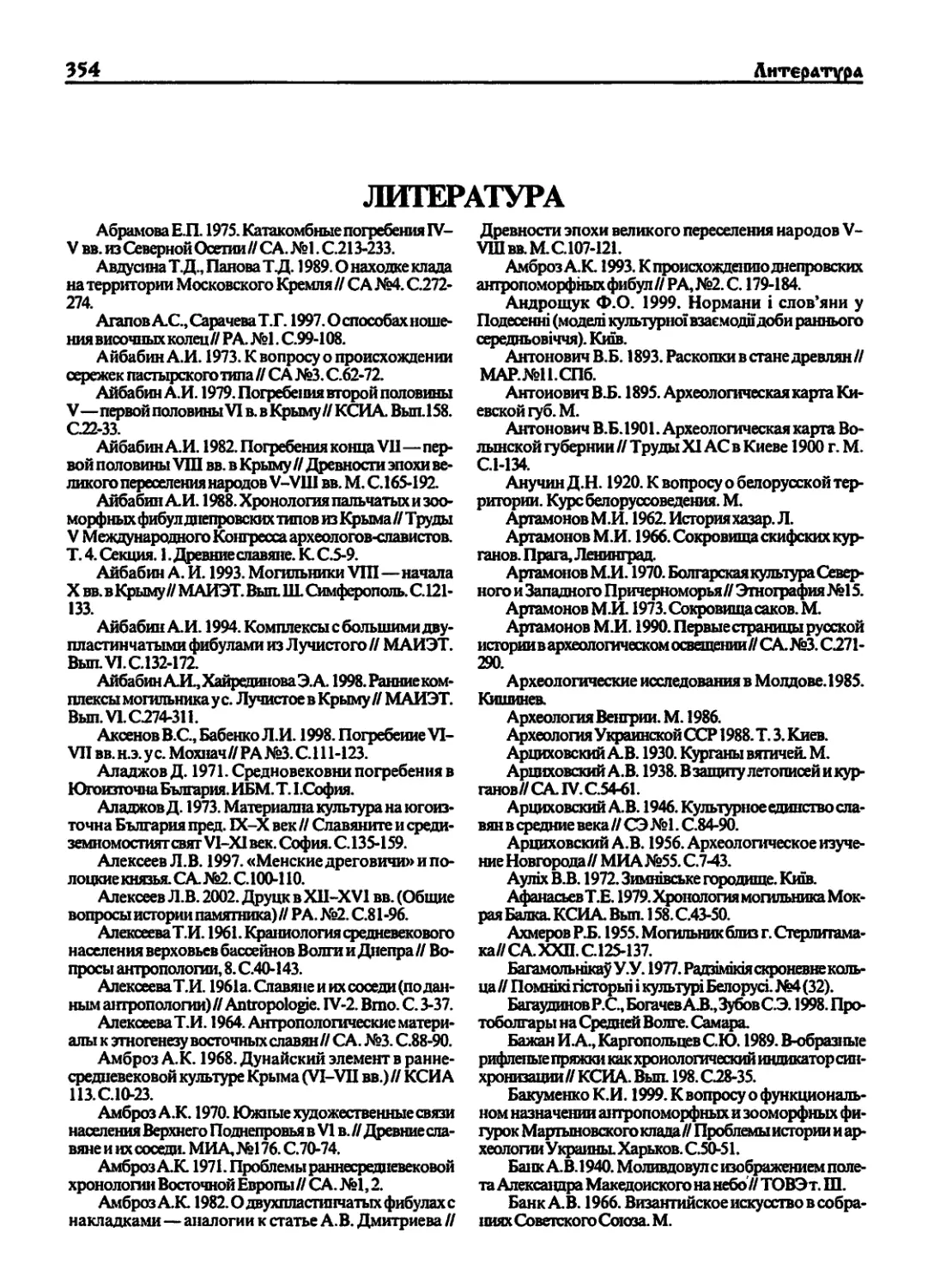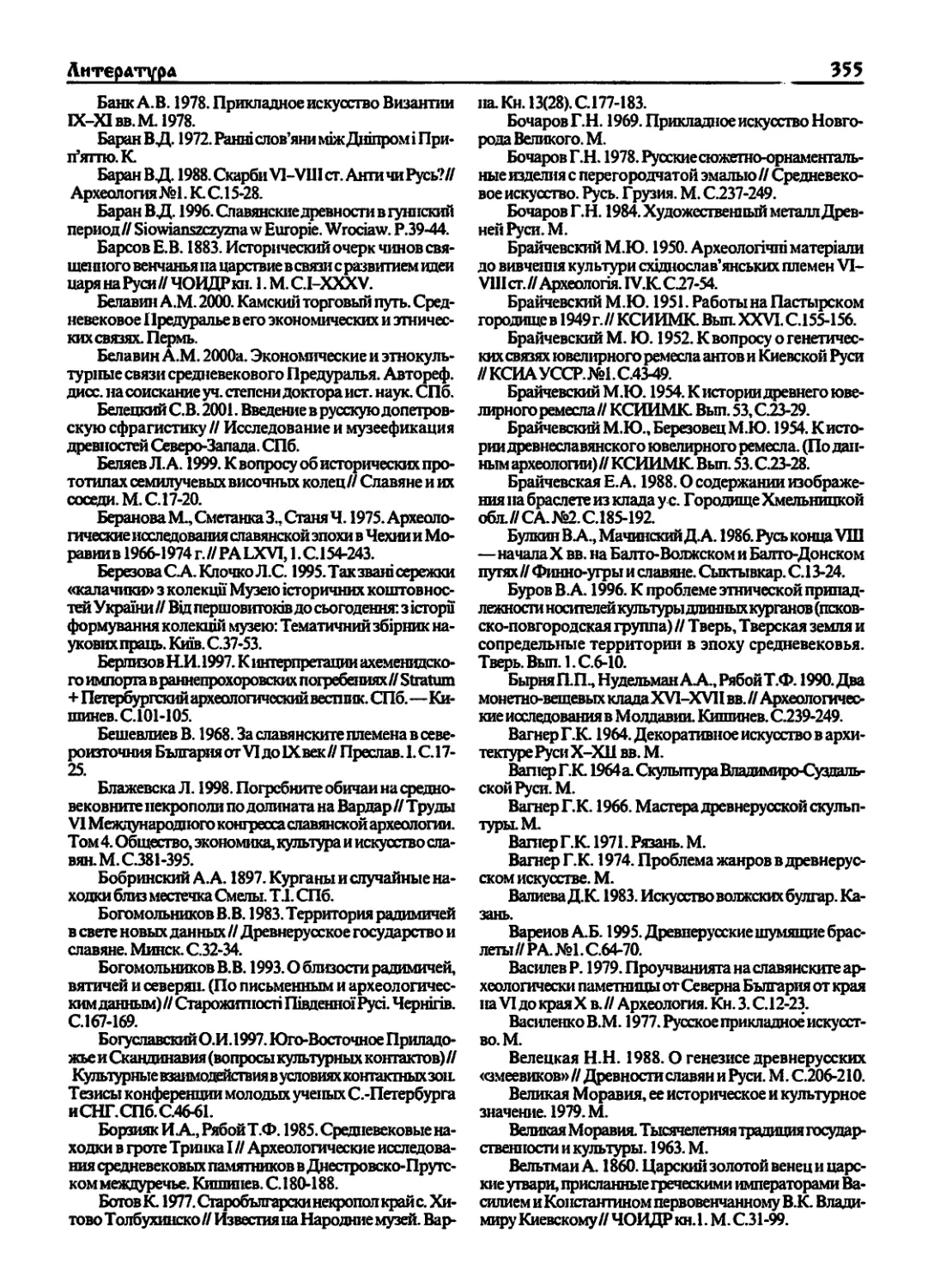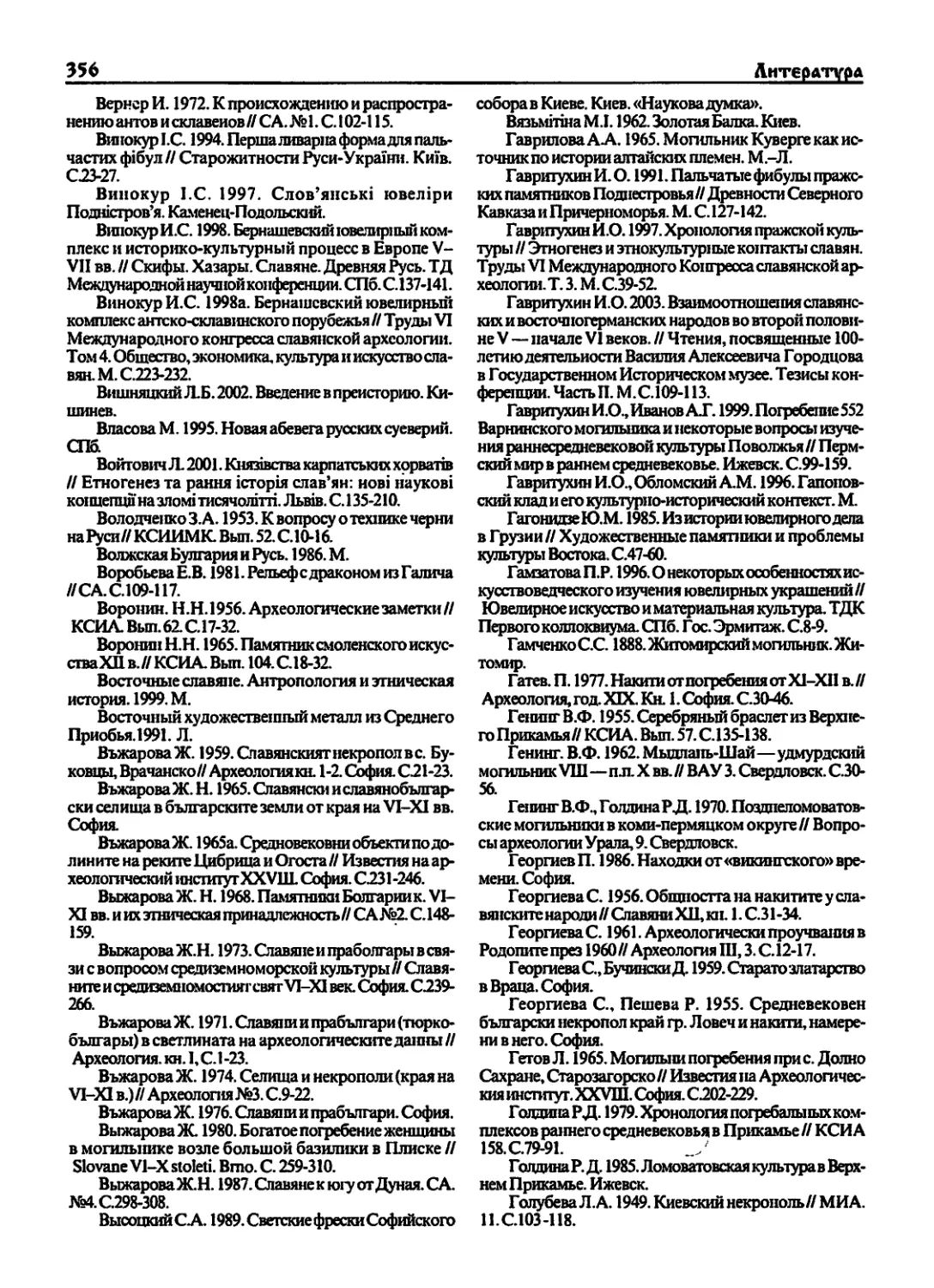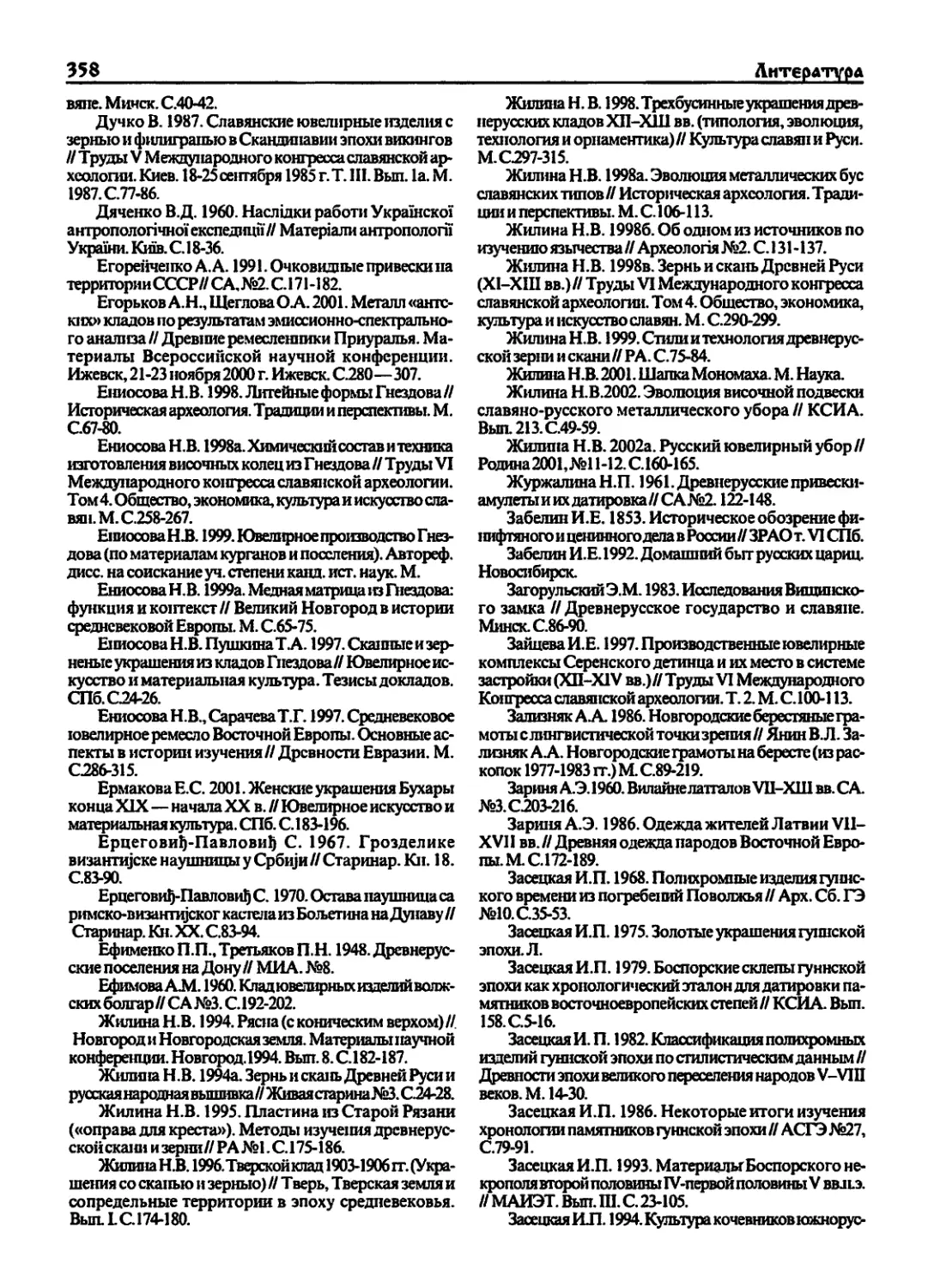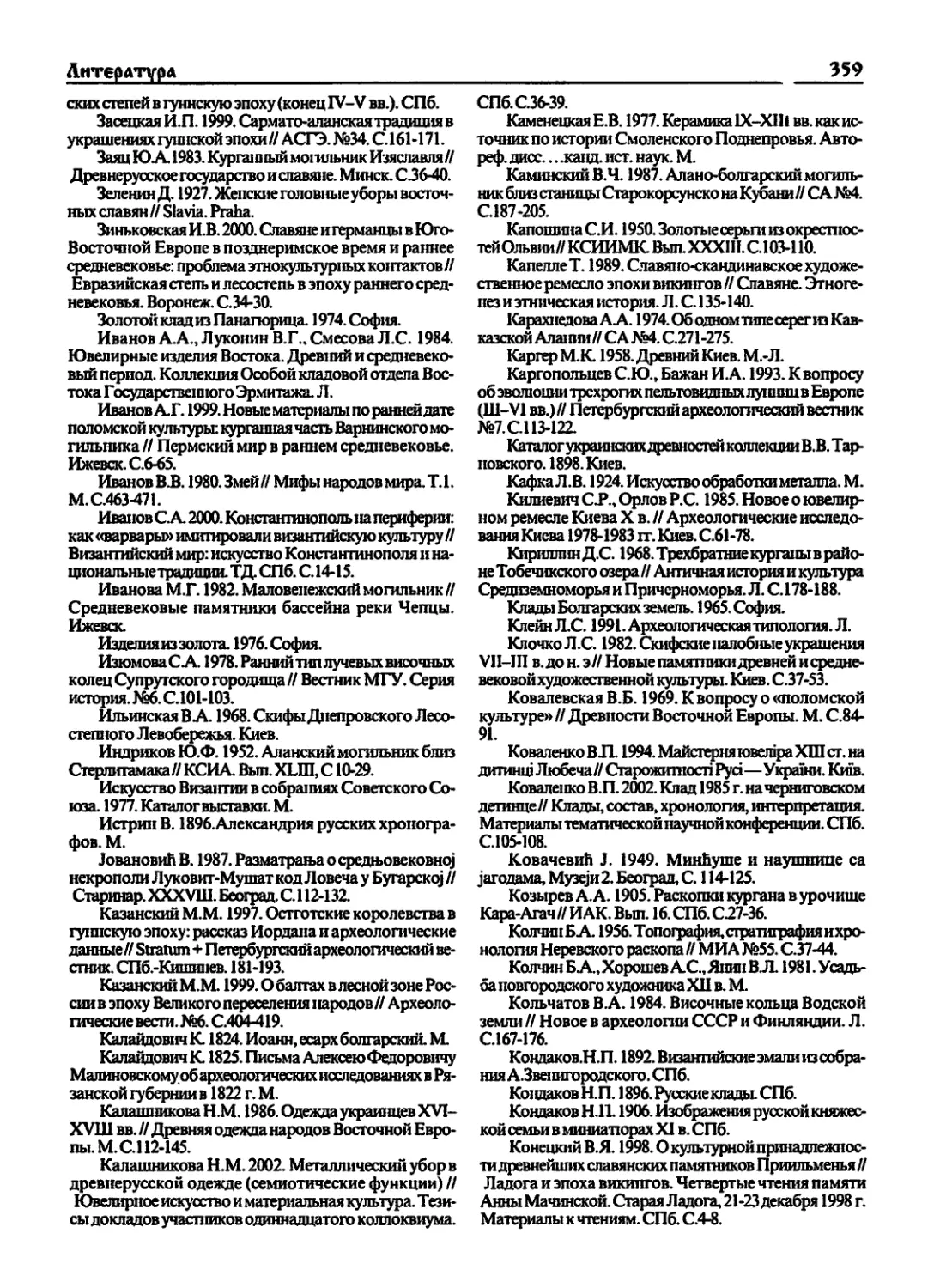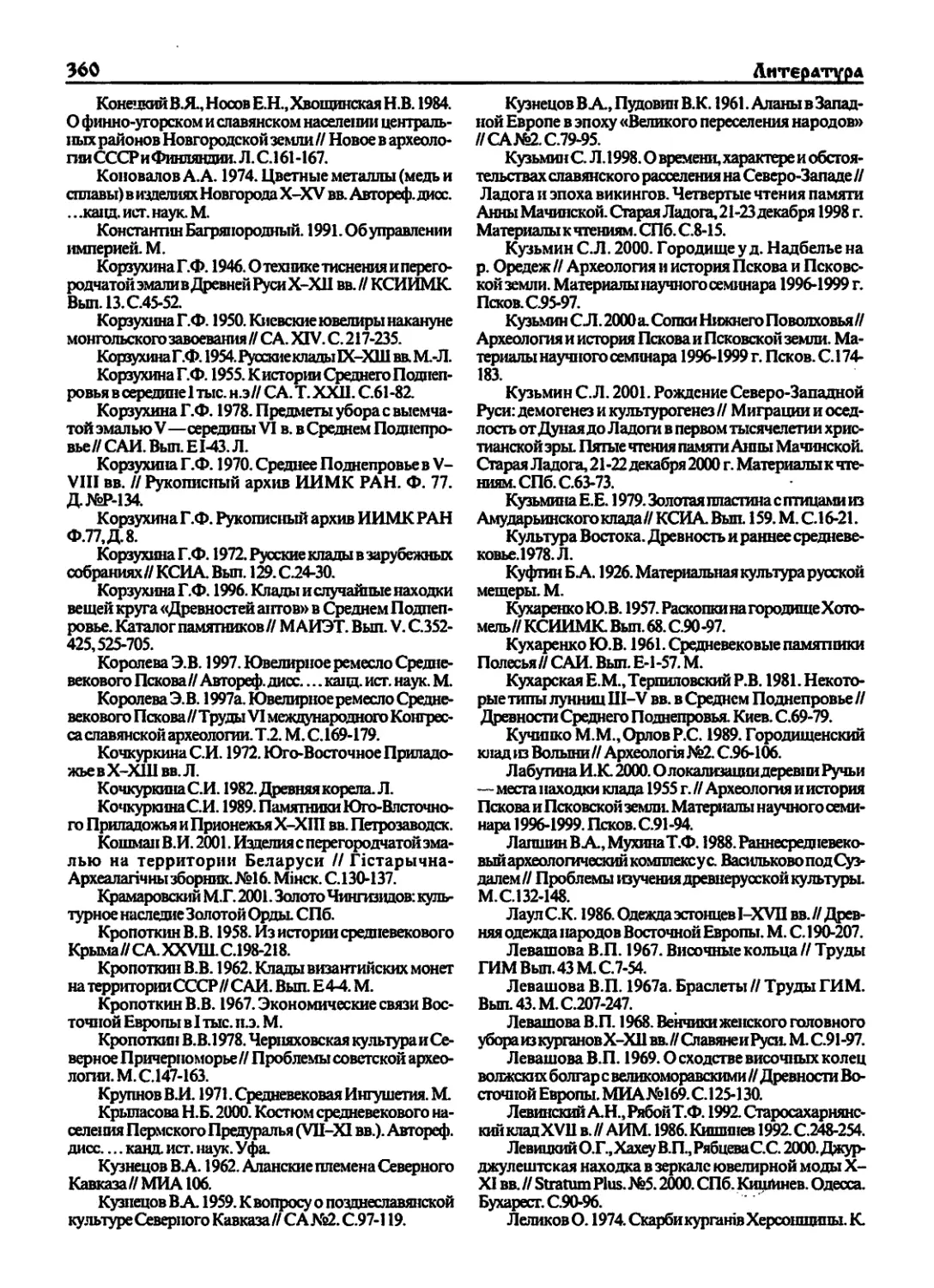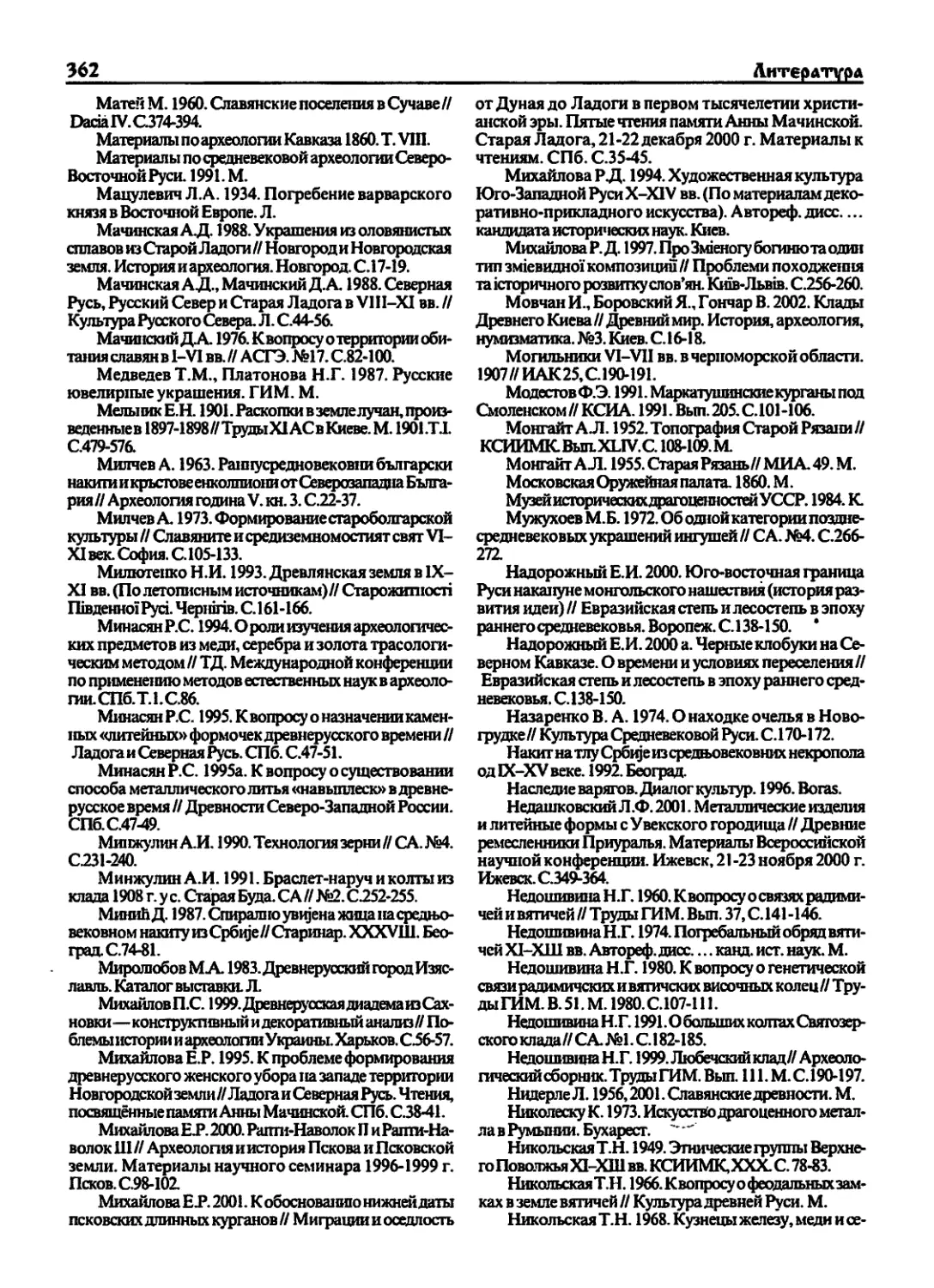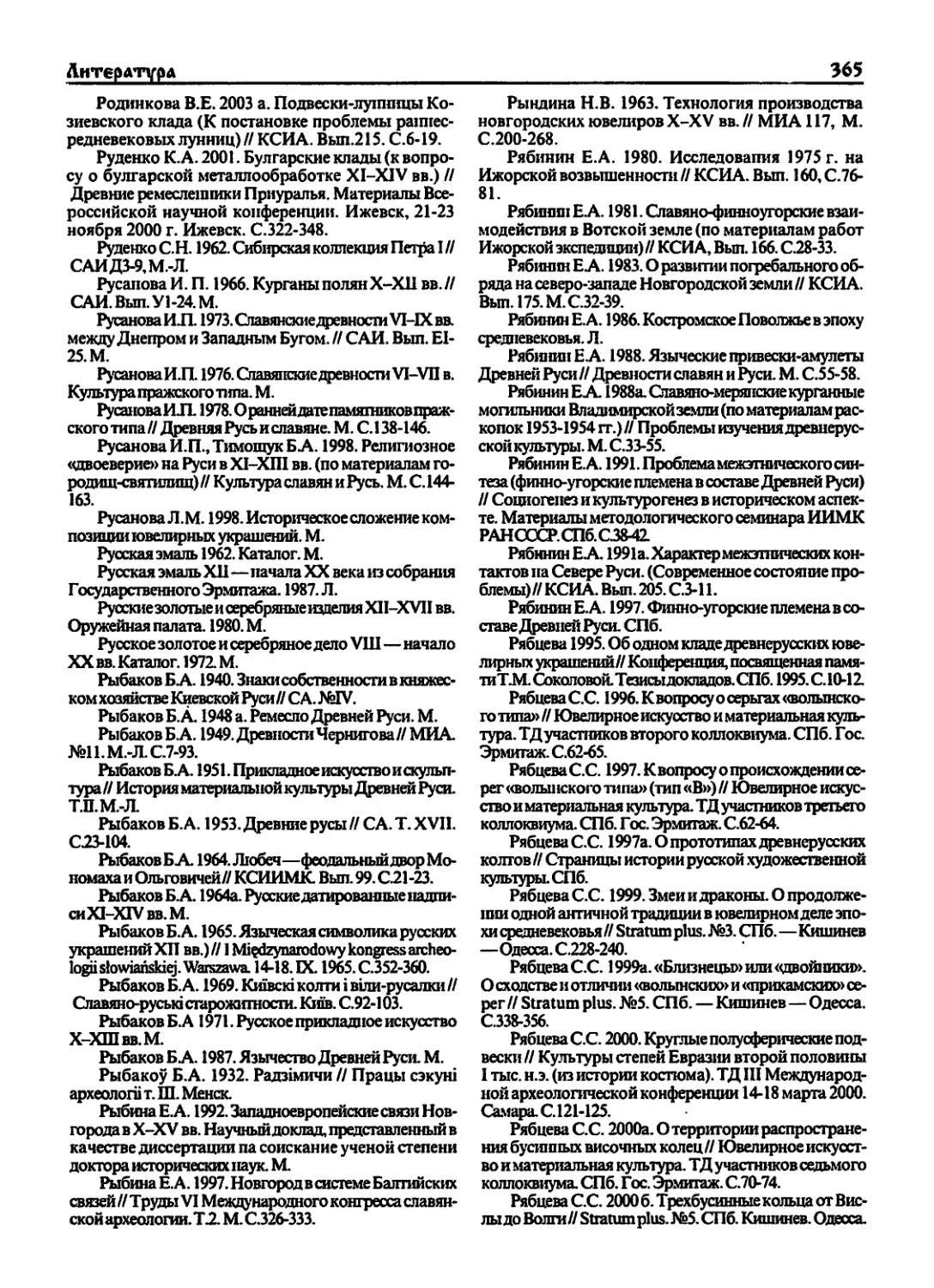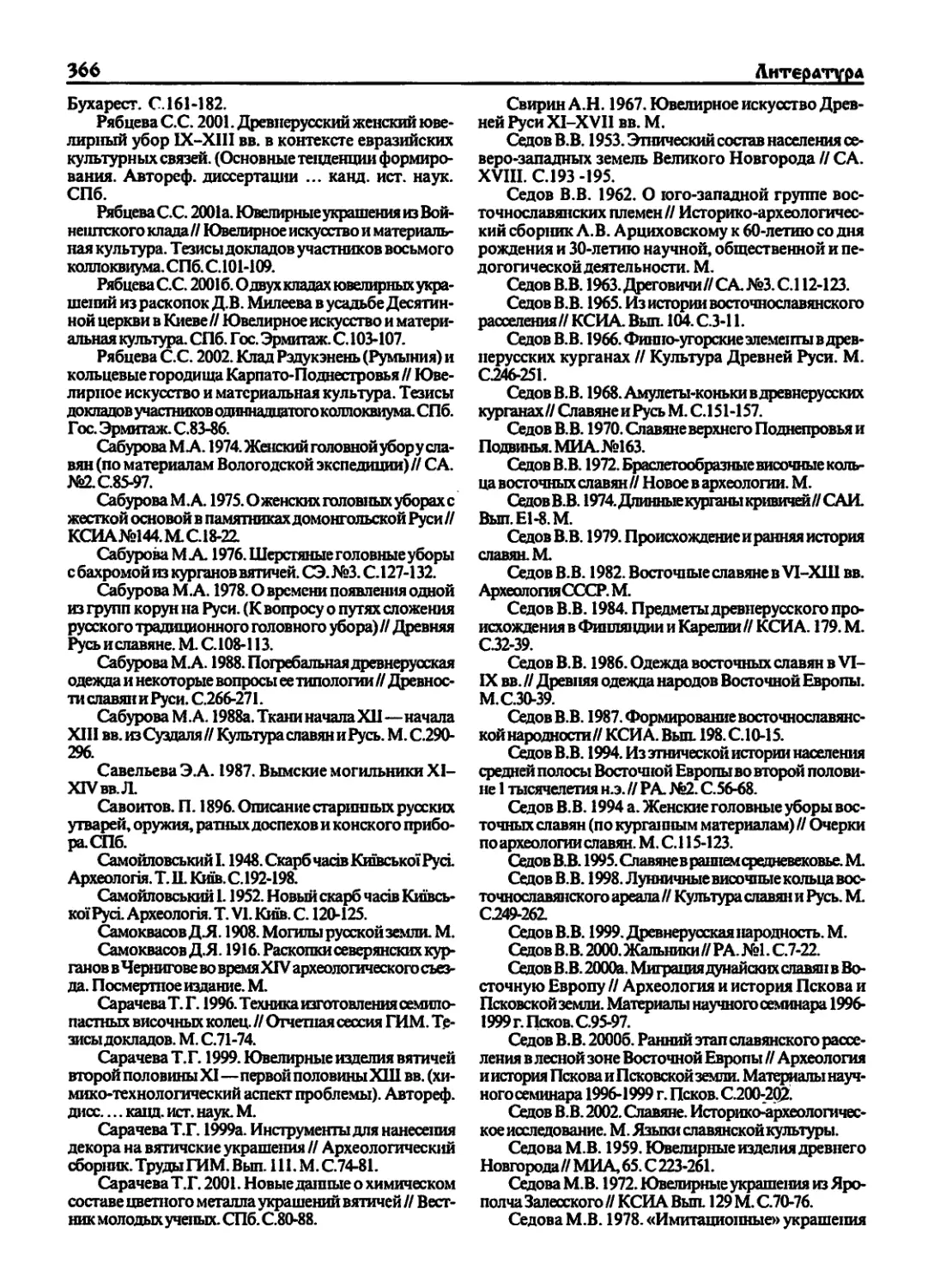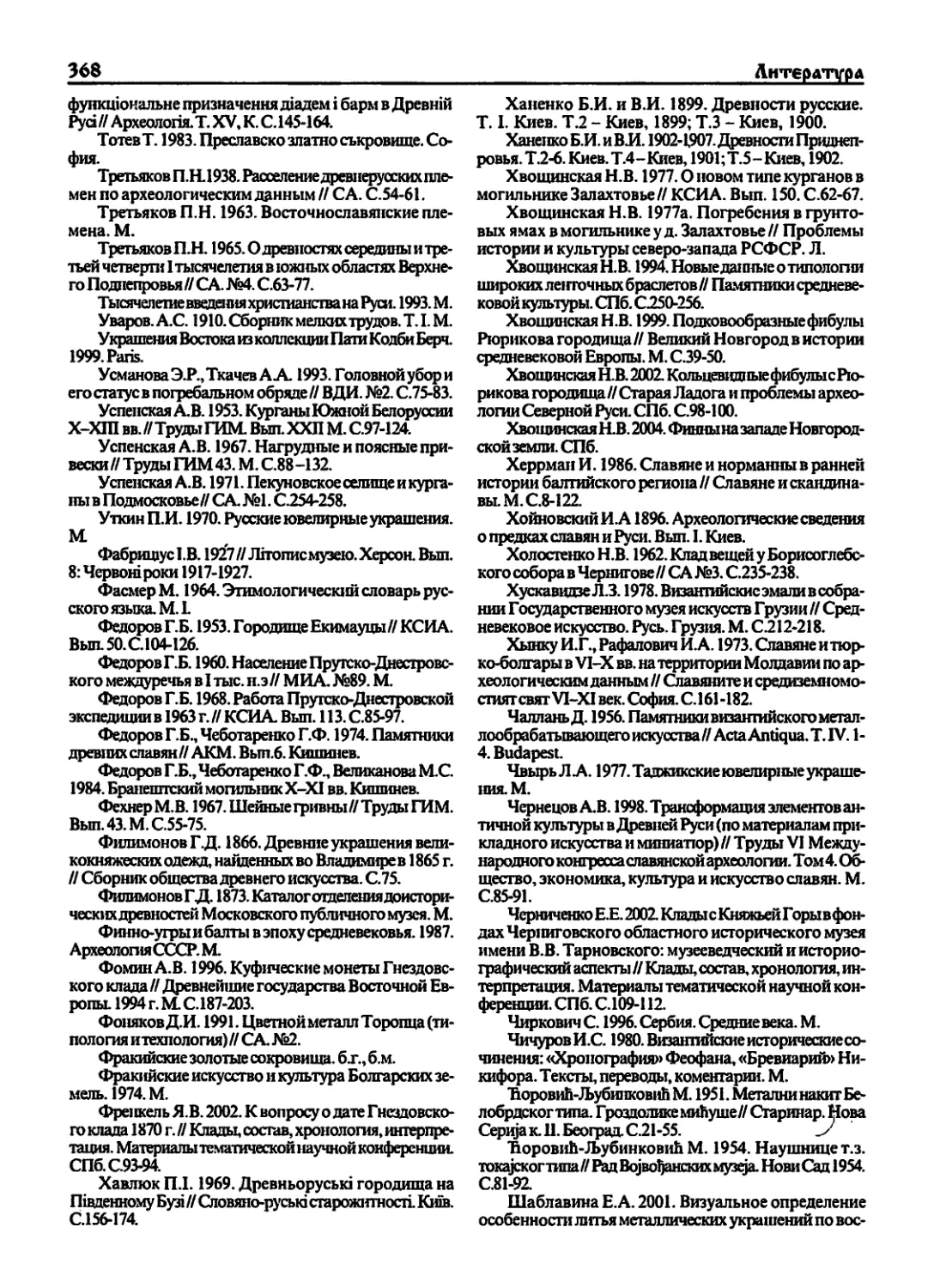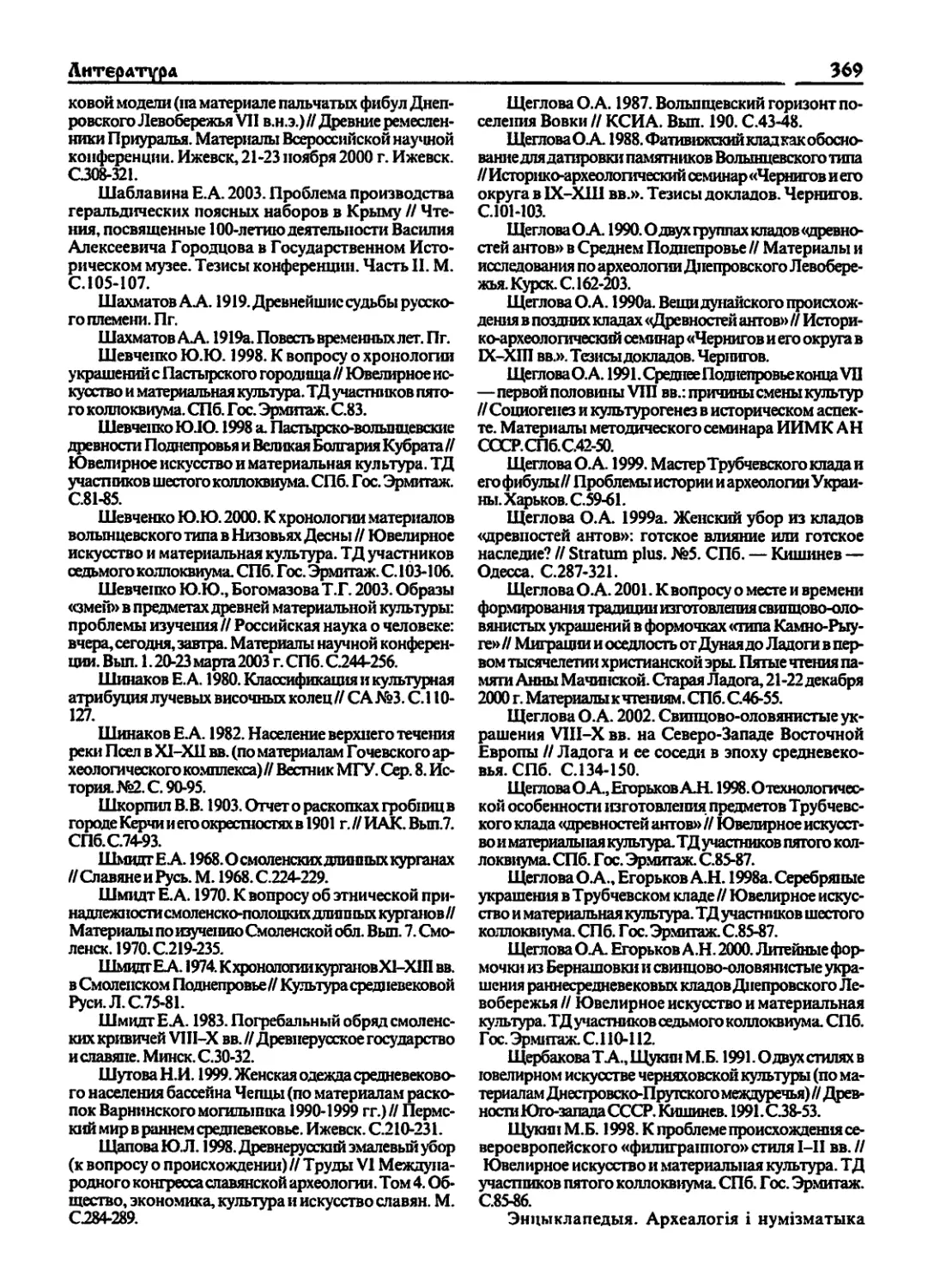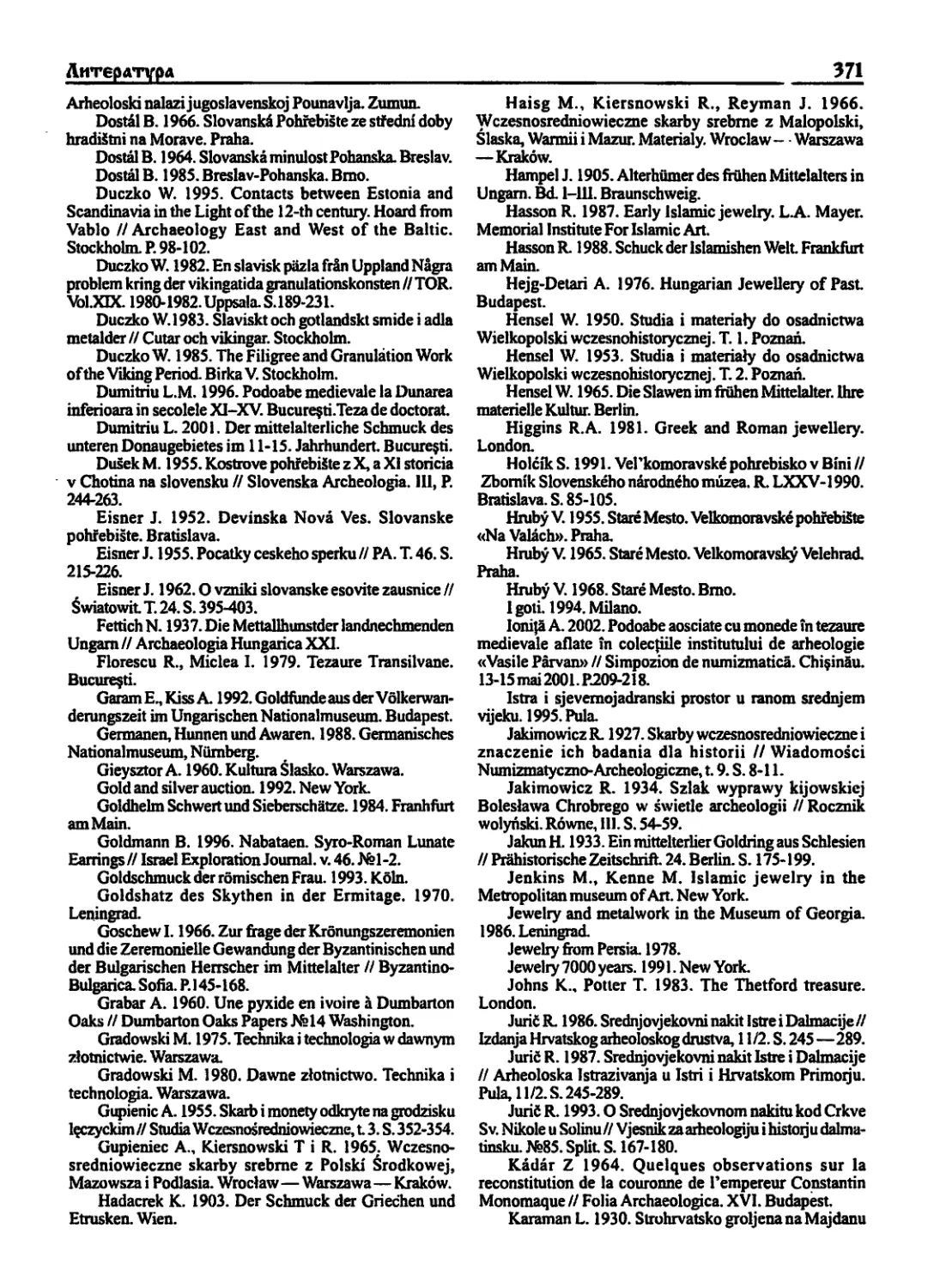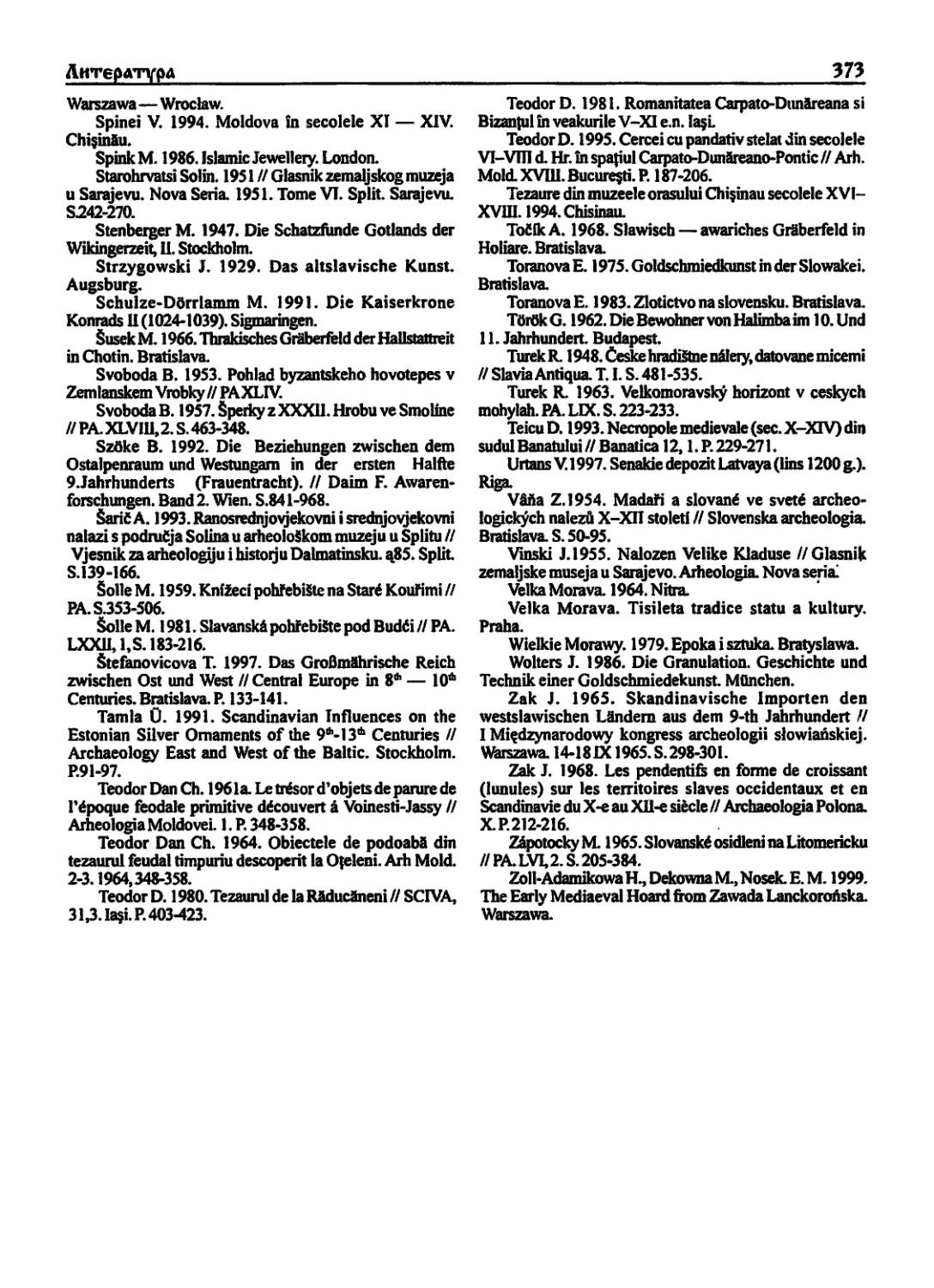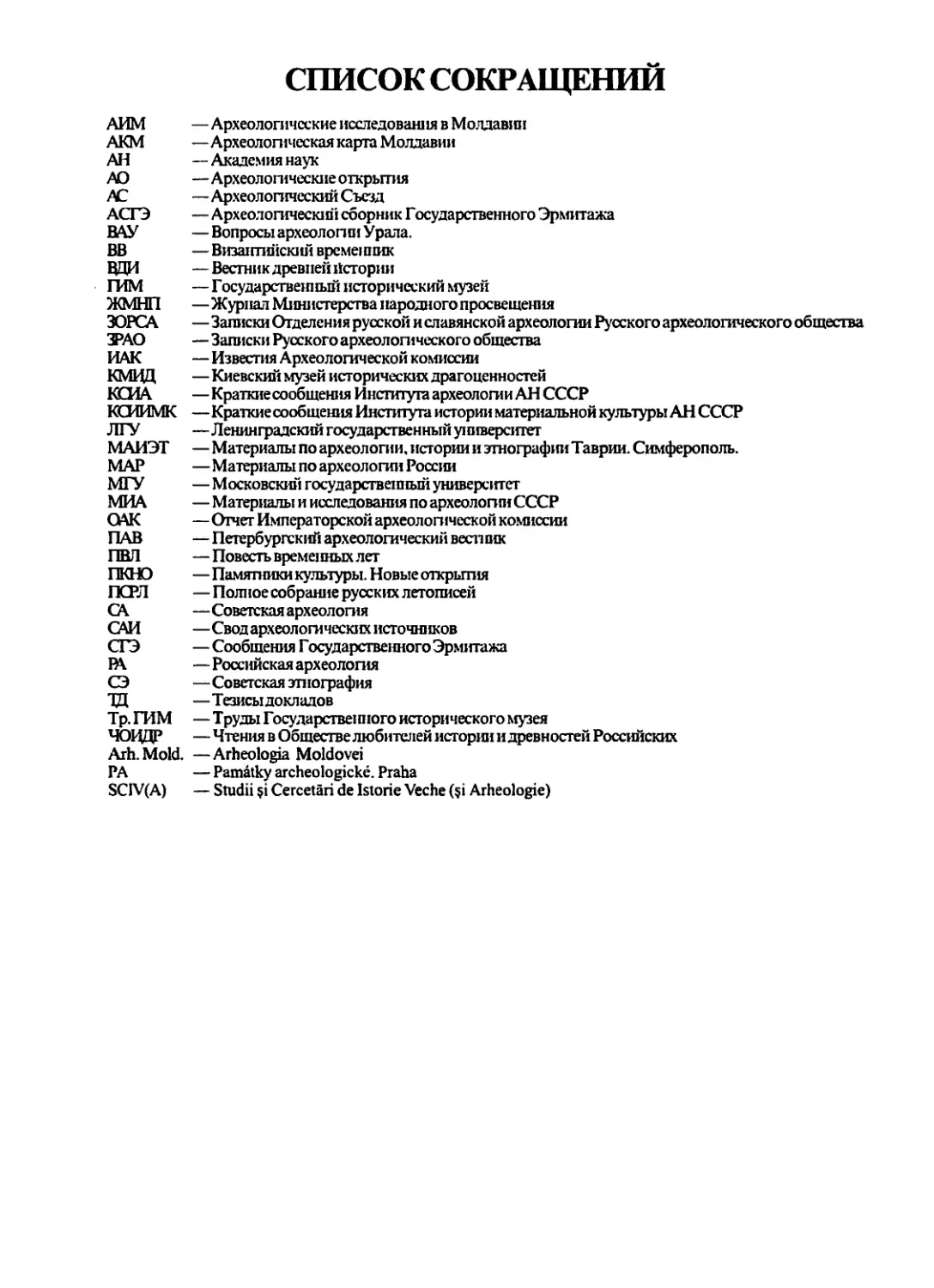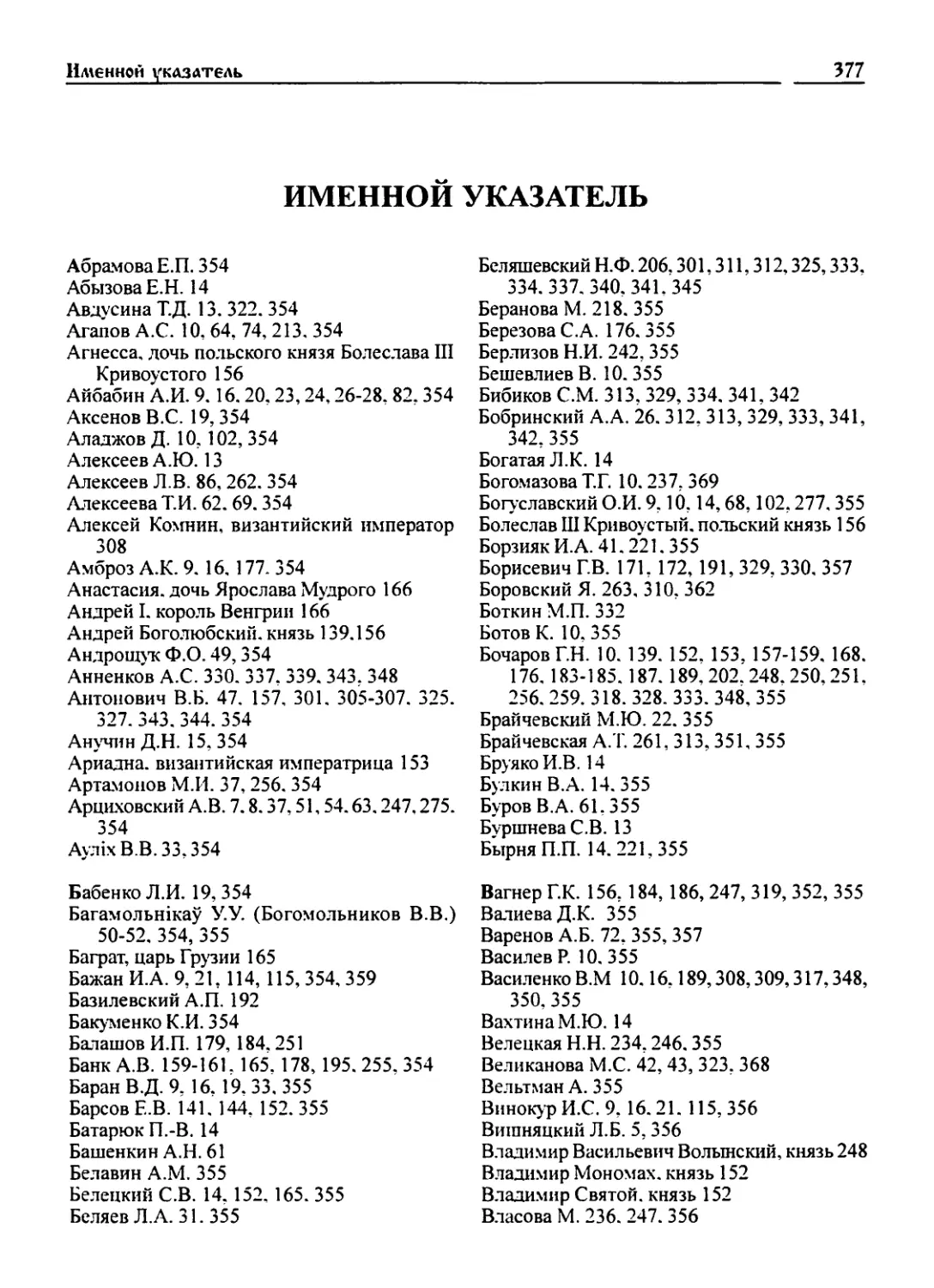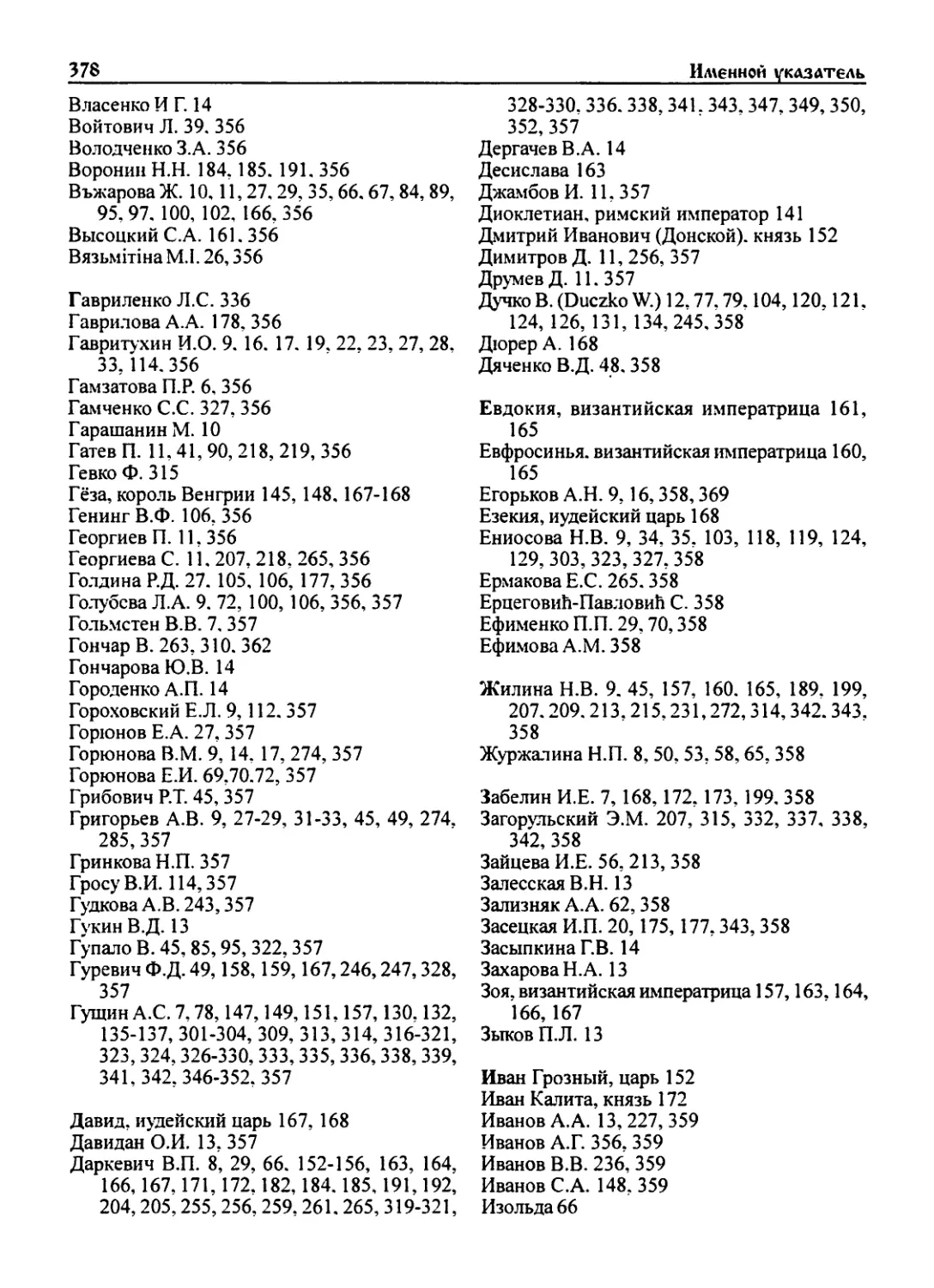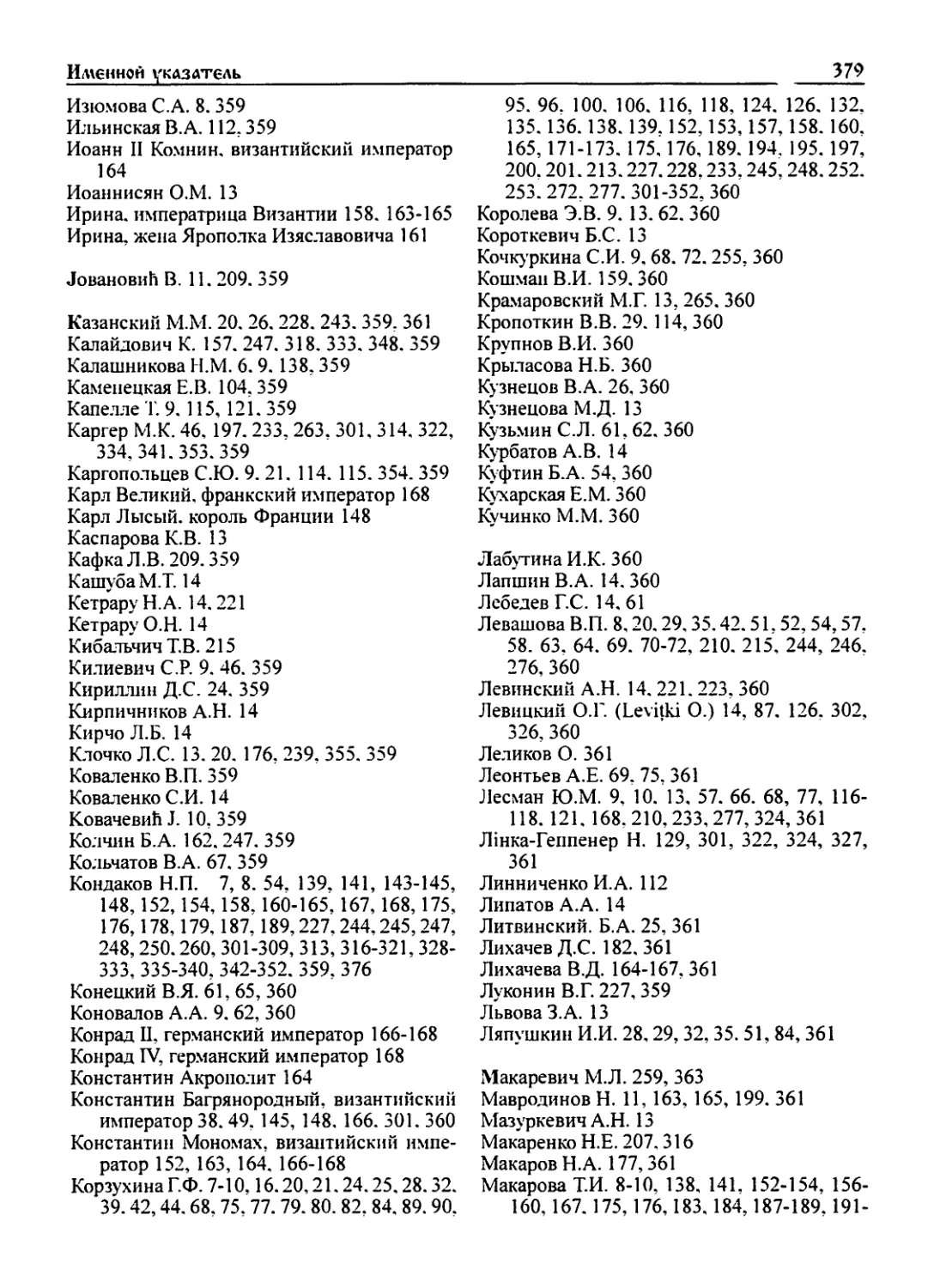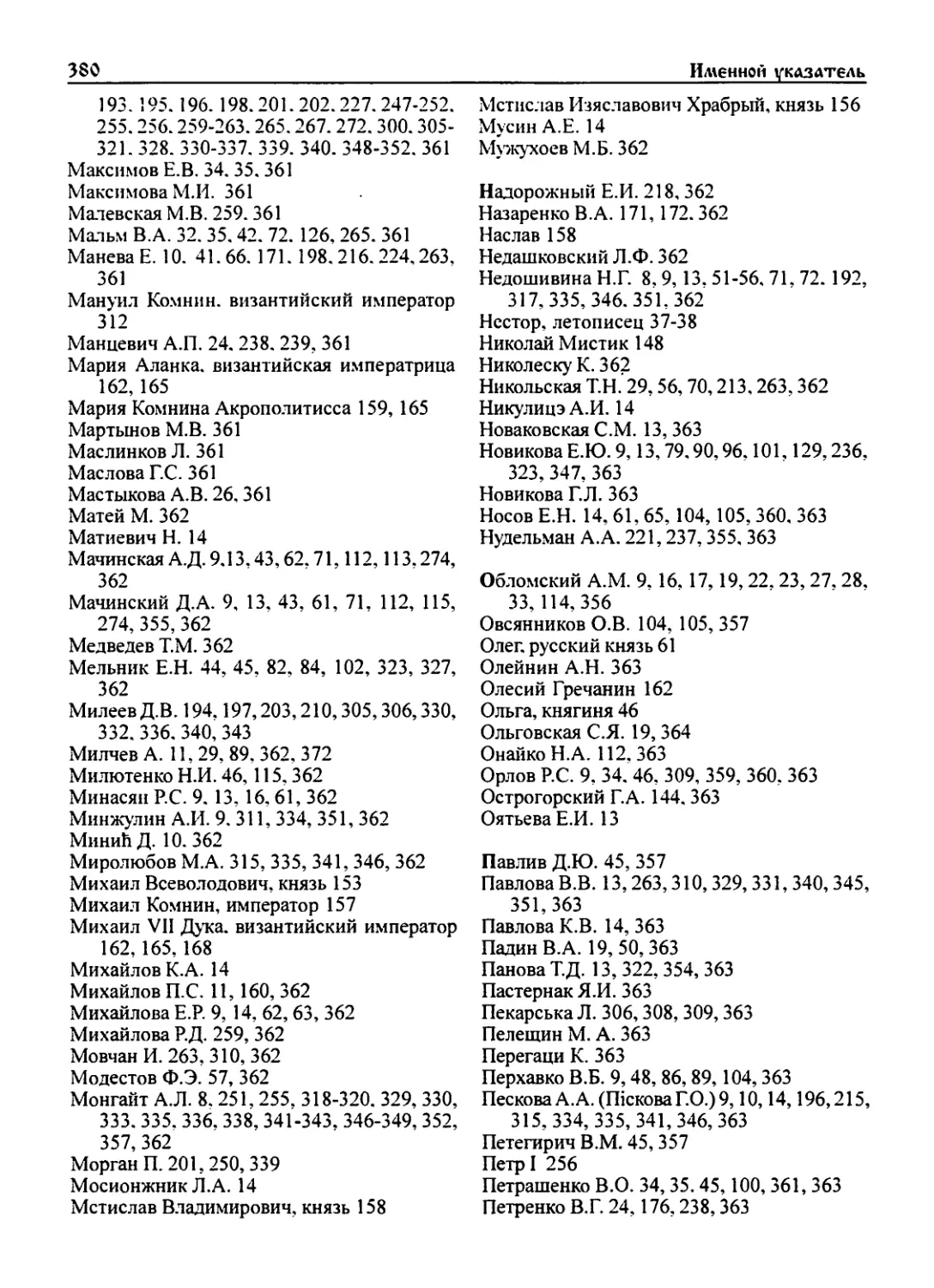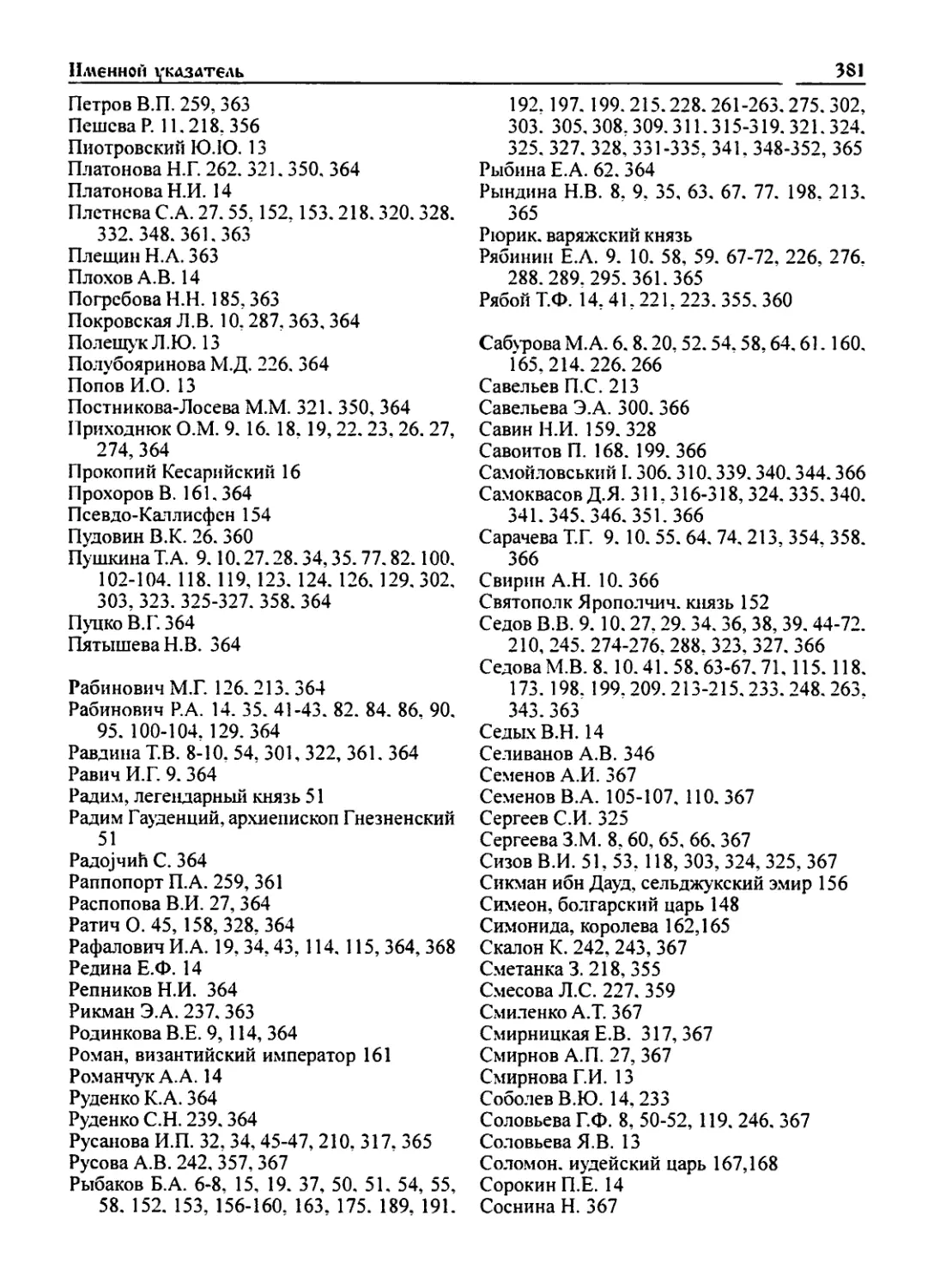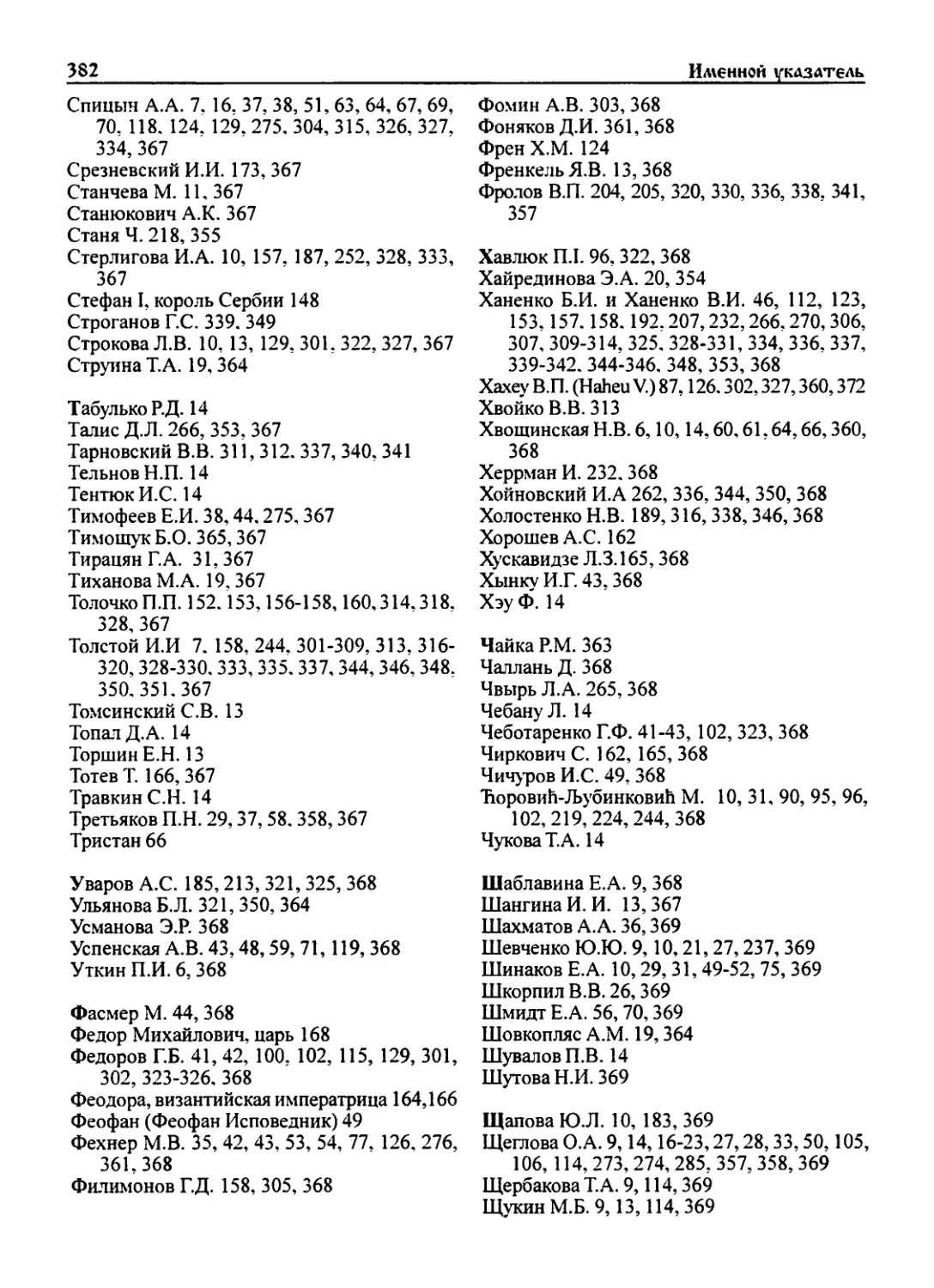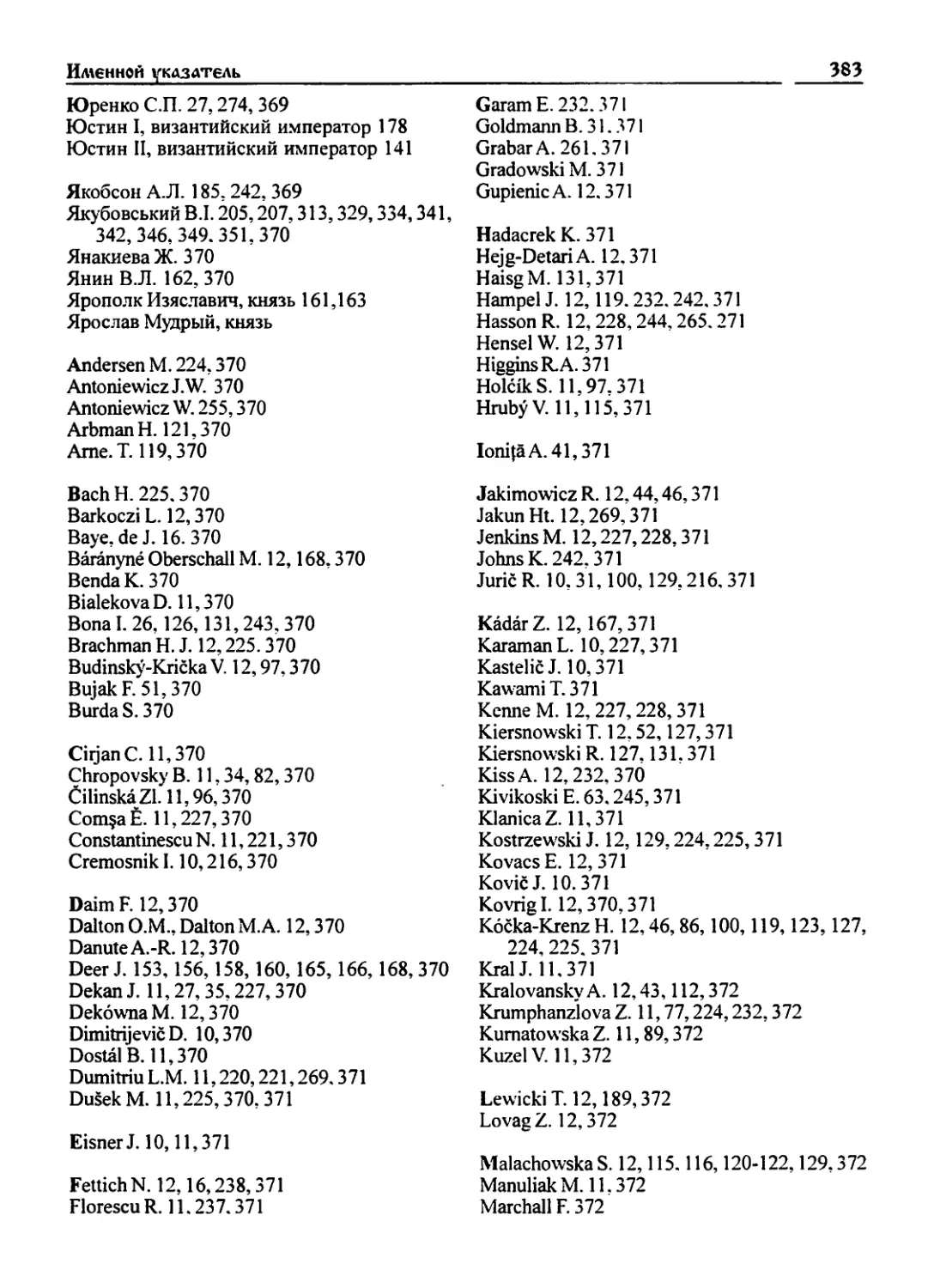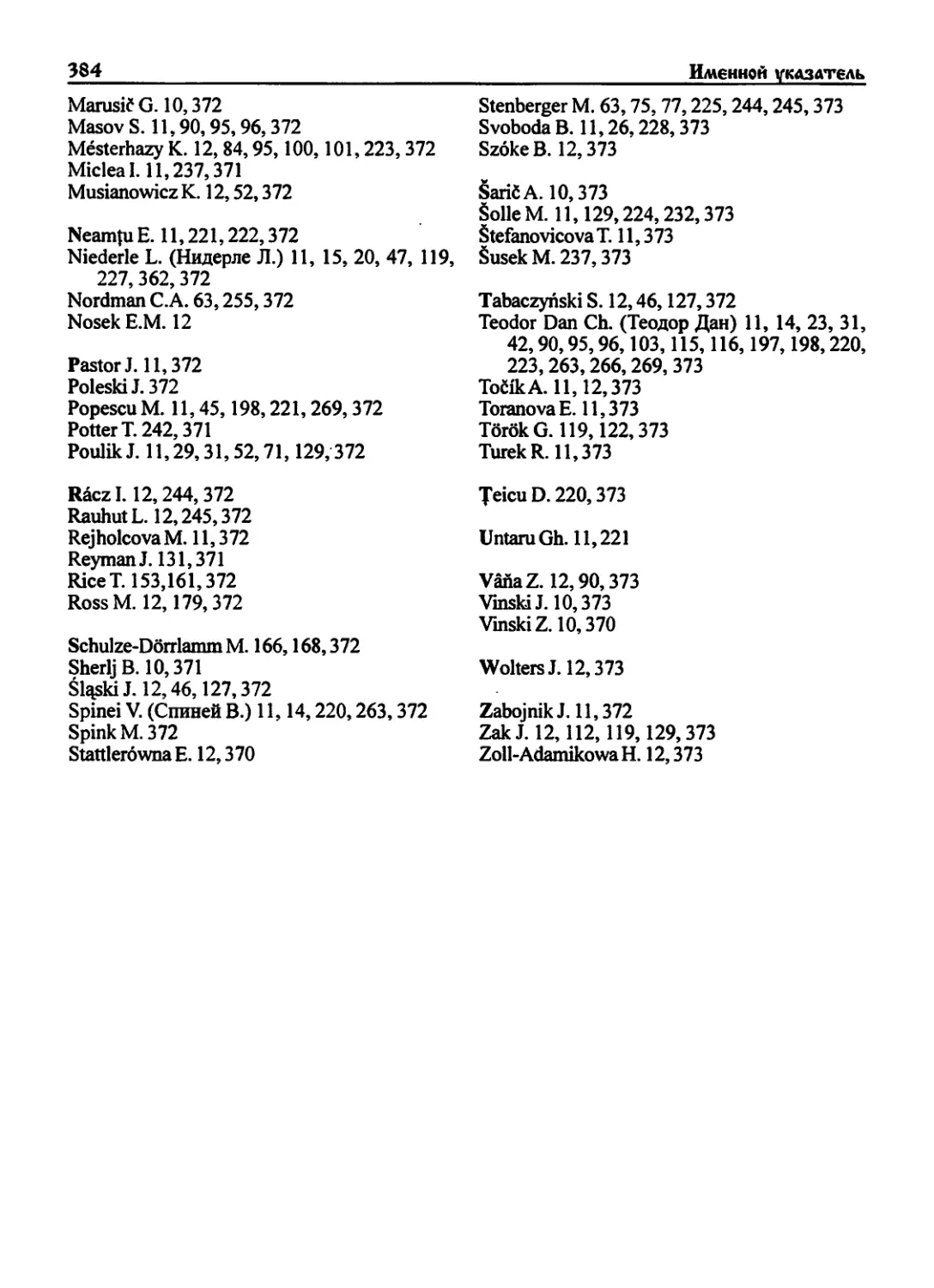Author: Рябцева С.С.
Tags: ювелирное искусство (в аспекте работ по металлу) методология истории вспомогательные исторические науки методы изучения, основанные на письменных источниках, записях, надписях декоративно прикладное искусство история исторические науки археология древняя русь
ISBN: 5-98187-054-0
Year: 2005
Светлана РЯБЦЕВА
Древнерусский
ювелирный УБОР
Основные тенденции формирования
Санкт-Петербург
2 0 0 5
УДК 739.2:930.26(470)
ББК 85.12:63(2)43
Рябцева С. С. Древнерусский ювелирный убор. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН
«Нестор-История», 2005. 384 с.
ISBN 5-98187-054-0
Книга посвящена исследованию процесса формирования комплексов украшений, составлявших
парадные женские головные уборы в древней Руси. В ювелирных уборах ранних славян и соседних народов
выделяются типы украшений, получившие развитие и в более позднее время. Формирование древнерусского
ювелирного убора изучается на фоне широкого круга аналогий из других регионов, позволяющих выявить
исторический контекст включения в него изначально народных украшений. В монографии рассматривается
процесс смены парадных ювелирных уборов древнерусского времени как отражение этнических и культурных
контактов Древней Руси, изменений ценностных приоритетов ее населения.
Ответственный редактор
доктор исторических наук, профессор
С.В. Белецкий
Рецензенты
кандидат исторических наук
А.А. Пескова
кандидат исторических наук
Ю. М. Лесман
Оригинал-макет (верстка)
JL4. Мосионжник
Корректор
Г. В. Засыпкина
В оформлении обложки использованы изобразительные материалы из изданий:
Древнее золото. Из собраний музея исторических драгоценностей УССР. М.: «Искусство», 1975.
Benda К. Mittelalterlieher Schmusk. Praha: «Artia», 1996.
Славяне и скандинавы. М.: «Прогресс», 1986.
Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект № 04-01-16012 д
ISBN 5-98187-054-0
© С. С. Рябцева, 2005
© Д. А Топал, оформление обложки, 2005
© Издательство СПбИИ РАН «Нестор-История», 2005
Содержание
Введение...................................................................5
Глава I. Ювелирный убор восточных славян в VI-IX вв.......................15
1.1. Проблема заимствований в славянских ювелирных уборах................15
I. 2. Ювелирные украшения из «кладов антов».............................16
1.2.1. Первая группа «древностей антов»..............................17
1.2. 2. Вторая группа «древностей антов».............................22
I. 2. 3. Генезис «пастырских» серег...................................23
I. 3. Ювелирные украшения
волынцевской и роменской культур......................................27
1.3.1. Украшения второй группы «древностей антов», происходящие с волынцевскпх
памятников..........................................................27
1.3.2. Ювелирные украшения роменской культуры........................28
1. 4. Ювелирные украшения пражско-корчакской культуры и культуры Луки-
Райковеикой...........................................................33
1.4.1. Ювелирные украшения пражской культуры.........................33
1.4.2. Ювелирные украшения культуры Луки-Райковепкой.................34
Глава II. Региональные ювелирные уборы IX - XI вв.
и их соотношение с уборами из кладов...................................36
П.1. Проблема географической и культурной идентификации восточнославянских
племен.....................................................................36
11.2. Юго-запад Древней Руси.................................................38
И. 2.1. Территория хорватов................................................39
П. 2. 2.Тсрритория тиверцев................................................39
II. 2.3. Территория уличей.................................................42
11.2.4. Территория волынян ................................................44
II.3. Днепровское Правобережье...............................................45
11.3. 1. Территория полян..................................................45
11.3.2. Территория древлян ................................................46
II. 3.3.Тсрритория дреговичей..............................................47
11. 4. Днепровское Левобережье...............................................49
II. 4. 1. Территория северян...............................................49
П. 4.2. Территория радимичей...............................................51
И. 4.3. Территория вятичей ................................................53
II. 5. Северо-запад Древней Руси.............................................56
II. 5.1 .Территория кривичей смоленско-полоцких............................56
II. 5.2. Территория псковских кривичей................................... 60
П. 5. 3. Территориясловен..................................................61
П. 6. Во.п о-Клязьменское междуречье.........................................69
Глава III. Парадные ювелирные уборы IX-X1I вв...................................75
III. 1. Убор из кладов конца IX — начала X вв................................75
III. 2. Первый древнерусский парадный ювелирный убор.........................77
III. 2.1. Серьги «волынского» типа.........................................79
111.2.1.1. Серьги «волынского» тина «А» ................................82
111.2.1.2. Серы и «волынского» пта «В»..................................90
111.2.1.3. Серы и «волынского» вша «С»................................ 100
III 2.1.4. Серьги «волынского» i ина «13».......................... 102
Ill. 3. «Прикамские» серьги.............................................104
III. 3.1. Прикамские аналогии серег «волынского» чипа «А» ...........105
III. 3.2. Прикамские аналогии серег «волынского» типа «В» и «С».......109
III. 4. Подвески-луннины............................................... 112
III. 5. Круглые полусферические подвески................................122
Ill. 6. Шаровидные пуговицы.............................................126
111. 7. Лопастные бусы..................................................130
III. 8. Парадные ювелирные уборы XI в. — начала XII в...................134
Глава IV. Парадные древнерусские ювелирные уборы конца Х1-Х1П вв...........138
IV. 1. Детали головных уборов...........................................141
IV. 1.1. Княжеские диадемы...........................................141
IV. 1.2. Головные венцы..............................................169
IV. 2. Подвески-колты...................................................173
IV. 3. Подвески-рясны...................................................199
IV. 4. Бусинные серьги и височные кольца................................210
IV. 4.1. Головной уборстрсхбусинными кольцами.........................214
IV. 4.2. География распространения бусинных височных колец............215
IV. 4. 3. Возрождение или генезис?...................................227
IV. 5. Гривны н браслеты, декорированные змеиными и драконьими головками .. 234
IV. 6. Ожсрелья-бармы...................................................247
IV. 7. Створчатые браслсты-наручи.......................................256
IV. 8. Витые и плетеные браслеты со щитками, украшенными сканью и зернью .. 266
Заключение................................................................273
Приложения................................................................301
Приложение 1. Перечень рассматриваемых в работе памятников, содержащих
предметы парадного ювелирного убора..................................301
Памятники второй половипыХ —началаXI вв..............................301
Памятники XI - XII вв................................................303
Памятники XI I—XIII вв..................................'............304
Приложение 2. Перечень украшений........................................322
Серьги «волынского» зппа.............................................322
Лун1пщынггампованно-ф11Л11гра1П1ые...................................323
Подвески полусферическиештампованно-фччлигранныс.....................325
Пуговицы шаровидные..................................................326
Бусы лопастные.......................................................327
Диадемы и их фрагменты...............................................328
Очелья с пластинчатыми изогнутыми дужками............................328
Очелья с бусинными дужками...........................................329
Колты................................................................330
Рясны................................................................339
Бармы................................................................348
Браслеты.............................................................350
Литература.................................................................354
Список сокращений..........................................................374
Summary....................................................................375
Именной указатель......................................................... 377
ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый читатель! Перед тобой кни-
га. посвяшенная интересной и сложной на-
учно!! проблеме — процесс} формирования
дренчер}clkoi о юве. шрно! отбора ГХ-ХШ вв.
11лс к»111 ice псе 1едование по преимуществу
посвящено формированию женского юве-
лирно! о >бора как более информативно! о и
нолю представленного в археологических
маюриалах. В то же время рассматривается
ряд! ювелирных изделий, которые moi ли ис-
пользоваться и в мужском уборе (например,
диадемы, массивные гривны или цепи со
змеиными и драконьими головками на кон-
цах).
Ко времени, когда возникла и прожила
первые века своей истории Древняя Русь,
ювелирное дело прошло уже длительный
путь развишя. Появление первых предметов,
которые Moiyr быть определены как украше-
ния (ожерелья из раковин, клыков, костяные
пронизки), относится еше к раннему перио-
ду истории человечества — эпохам мустье и
верхнего палео.ипа. В этот же период про-
исходят и другие важнейшие изменения,
ознаменовавшие сложение человека как со-
циального существа. Он начал хоронить сво-
их сородичей, появилось искусство (Вишняц-
кий 2002: 290-304). К вопросам, давно дис-
кутирующимся в исторической науке как
появились религиозные представления, что
было раньше — миф ити обряд, как зароди-
лось искусство. — можно прибавить еще
один: почему человек начал себя украша i ь?
Видимо, причин было несколько: украше-
ния являлись знаком принадлежности к сво-
ей куль I урной общност и. символом осозна-
ния своего места в складывающейся мифо-
ло1 ической структуре бытия, знаком удачли-
вост и. способом эту удачу привлечь, обере-
гом. амулетом — средством отогнать злых
духов, а заодно и обратить на себя внимание
прсдставшелей противоположного пола. И.
наконец, украшение- эю просто красивая
вещь, кот орой хорошо владеть и демонстри-
ровать окр> жаюшим. Постепенно некоторые
вилы ювелирных украшений, особенно на-
шивные бляшки. подвески, диадемы, ci ано-
вятся своеобразными драгоценными книга-
ми. в ко горых в изобразительной форме за-
писываются целые мифоло! ическис и лите-
ратурные сюжеты.
С детства человек познает свое место в
стр\ ктурс коллектива, его традиций, норма-
тивных устоев поведения. На различных эта-
пах истории место человека в эт нической, со-
циальной и половозрастной струк т уре обще-
ства определяло тот характер ювелирного
убора, который человек moi и должен был
носить.
Так как в современной научной литера-
туре не существует устоявшегося определе-
ния ювелирного убора, мы предлагаем опре-
дели 1 не. согласно с ко i оры м и будем рассма г-
ривать комплексы ювелирных украшений.
Под ювелирным убором, на наш взгляд, мож-
но пониматьнекую идеальную целостность,
совокупное! ь ювелирных украшений, носи-
мых юй или иной половозрастной группой
конкретной этнической или культурной об-
щности в определенный исторический пери-
од. На основании анализа археоло! ического
материала можно говорить лишь об идеаль-
ной целостноеги славянского ювелирного
убора. В материалах погребений убор зачас-
тую неполон, а в кладах moi уг содержаться
сокровища, состоящие как из неполных, так
и из нескольких уборов одного или разного
времени.
Если мы обратимся к noi ребатьным па-
мятникам соседних со славянами финно-
угорских племен (мещеры, муромы или на-
селения Прикамья), то увидим, что ювелир-
ный убор гораздо более насыщен и разнооб-
разен. и выделение убора, возможно, легче.
Однако и в этом случае часто мы имеем дело
с весьма специфическим набором украшений
— погребальным (зачастую дублирующим
свадебный), не совпадающим полностью с
носимым при жизни.
«Этно1рафическая» сторона убора опре-
делялась не только этническим происхожде-
нием индивида, но и теми культурными, но-
6
Введение
л итическими контактам!i. которые бы. in у ei о
этноса с ближними и дальними соседями.
Причем ювелирный убор может отражать как
контакты, происходившие при жизни чело-
века. так и те. что имели место задолго до
его рождения. К примеру, культурное взаи-
модействие славян с болгарами и аварами,
происходившее в V1-VII вв.. наложило от пе-
чаток на характер древнсрусско! о ювелирно-
го убора X-XI вв. Но ешь и еще более древ-
ний пласт заимствований: toickhc ювелир-
ные украшения, возникшие, в свою очередь,
на базе античных образцов, послужили про-
то типами для украшений, попавших на Русь
из Скандинавии в эпоху викингов.
Немаловажное влияние на характер юве-
лирного убора оказывает и место индивида
в половозрастной структуре. Из этнографи-
ческих данных известно, что при переходе из
одной возрастной т руппы в другую (напри-
мер. девочки, девушки, невесты, молодухи,
бабы, старухи) менялся и костюм (Калашни-
кова 1986:124). То же можно сказать! те только
о костюме, но и о характ ере ювелирного убо-
ра. однако эти разновидности убора на архео-
логическом материале нс так четко уловимы,
как на этнотрафическом (например. Рыбаков
1949: 20; Сабурова 1988:266-271; Хвошинс-
кая 2004: 59).'
Тесно связанные с костюмом украшения,
их форма и конструкция не только отражают
существующую в обществе (осознанную или
неосознанную) систему представлений о се-
мантике строения человеческого тела, но и
сами формиру ют физическую и духовную
сущность человека (Гамзатова 1996:9). По-
казательно. что украшения, так же как и вы-
шивка. не размешались по костюму произ-
вольно. они маркировали наиболее ответ-
ст венные и уязвимые участки тела. Так. осо-
бенно тщательно декорируются запястья. во-
рот и подол, как участки костюма, через ко-
т орыс недоброжелательный дух может про-
браться под одежду и навредить (Уткин 1970:
10).
Семантическую нагру тку несет и верти-
кальное расположение украшений в костю-
ме. Замечено, что представление об иерар-
хии уровней в человеческом 1е.те во многом
повторяс! представление о мировом древе
и уровнях иерархии Вселенной. Так. уровень
головно! о убора может быть сопоставлен с
уровнем небесным. В древнерусском уборе
ix г и венчики с различными бляшками и
вышивкой с солярной и христианской тема-
тикой. и золотые княжеские диадемы, укра-
шавшиеся эмалью наподобие корон европей-
ских владык. Диадема из Сахновки декори-
рована эмалевым изображением сцены воз-
несения на небо Александра Македонского,
а диадема из Киева - Деисусом. Обе диаде-
мы явно несут в себе сакральную, небесную,
покрови тельс! венную нагрузку. С небесной
символикой связываются некоторыми иссле-
доват елями и почт и все типы височных ко-
лец и серег, и изображения на древнерусских
колтах (Рыбаков 1987:63).
Зона груди, видимо, представляла собой
место перехода о т небесного уровня к зем-
ному и. почти сразу, к подземному, хтоничес-
кому. Необходимо было, чтобы дтя ее охра-
ны объединились все начала. Лунницы, крут -
лые подвески с солярной символикой, бар-
мы с изображениями святых, медальоны мо-
гут быть причислены к верхнему уровню. Но
вот цепи с драконьими головками нс мот ут
быть рассмо трены т ак одт юзначно. Подобные
украшения извсст ны сше со времени антич-
ное ги. В период раннего средневековья раз-
личные гривны, браслеты и цепи, фланки-
рованные драконьими головками, были осо-
бенно популярны у 1 отов. На Русь мода на
цепи с драконьими т оловками пришла в XI-
XII вв. из Скандинавии. Причем в северных
древностях встречаются экземпляры, на ко-
торых головки дракончиков уже выполняли
функцию карабинов дтя подвешивания хри-
стианского крестика. Видимо, подобно змее-
викам. эти украшения объединяли в себе и
небесную, и хтоническую покровительствен-
ную сущность. Уровень запястий также час-
то охраняли браслеты со звериными или зме-
иными головками. Таким образом, семан т и-
ческие зоны размещения металлических
у крашений имеют немаловажное значение в
системе древнерусского ювелирно! о убора.
Прежде чем перейти к обоснованию
структ уры нашей работы, хотелось бы вкрат-
цскоснуться и историографической ситуации
в связи с исследованием проблем, связанных
с древнерусским ювелирным убором.
К настоящему времени сложилась обшир-
ная историография, посвященная различным
аспектам изучения ювелирно! о дела. В оте-
Введение
чсствснной лит ера гуре. на наш вз! ляд. мож-
но выдели 1 ь несколько основных направле-
ний: каталогизаторскос. интуитивное. типо-
ло! ическос. технологическое. искусствовсд-
ческое. Как правило, работ ы исследователей
сочетаю! в себе черты нескольких наира в. те-
ний.
Первые работы, относящиеся еще к
XIX — начету XX вв. (Забелин 1853: Конда-
ков 1892; Кондаков 1892 а: Кондаков 1896:
Толстой. Кондаков 1897). могут бытьуслов-
но па шаны ка тало! и та юрскими. описатель-
ными, сравнительпо-обобшаюшими и инту-
итивными. Н.П. Кондаковым и И.11. Толстым
заложены фундаментальные основы изуче-
ния накопленного к тому времени разнооб-
разного археологического ювелирного мате-
риала. Их работы не утратили свое! о значе-
ния до сих нор. и не только как исключитель-
но качественно выполненные каталоги укра-
шений. некоторые из которых, к сожалению,
до нас не дошли. Весьма пенны эти труды и
как первые попытки поместить древнерус-
ское ювелирное дело в общий контекст раз-
вития мировой культуры. Для представите-
лей эюго направления характерен повышен-
ный интерес к широким историко-художе-
ственным проблемам (Корзухина 1954:6).
В копие XIX в. появляются и первые ро-
стки пшологизаторского направлетшя. Рабо-
ты ио систематизации накопившихся к тому
времени представлений о древнерусских
ювелирных украшениях были предприняты
А.А. Спицыным. Он нс только составил
сводки погребального инвентаря, но и вы-
делил ряд типов височных колец, отличав-
шихся по территориям распространения, ко-
торые предложил рассматривать как харак-
терные для летописных племен (Спицын
1899: 301-340; 1896:1905). Исследователем
была впервые предложена и схема описания
ювелирного убора, в которой часа и убора (I о-
ловиой. шейный, украшения рук) рассматри-
ваются комплексно (Спицын 1903:18-35).
Традиция составления сводок по отдель-
ным типам украшений была заложена в Ис-
торическом му:гсс в Москве еще в начале XX
века. Первой такой работой стала классифи-
кация древнерусских подвесок-луиииц. вы-
полненная В.В. Гольмстен( Гольмст еп 1914).
Следующая попытка составить классифика-
цию древнерусских ювелирных изделий
7
была предпринята А.В. Арциховским(Арци-
ховский 1930). Иерархическая классификация
А.В. .Арциховскот о состоит из чс! ырех уров-
ней. Категории — по назначению: отделы
по материалу: группы по поперечному
сечениюукрашения; типы — по прочим осо-
бенностямформы.
В этот же период продолжается и разви-
тие первого направления. В 1936г. выходит
в свет вторая часть работы по публикации
материалов древнерусских кладов. В свое
время Н.П. Кондаков поделил клады на «зо-
лотые» и «серебряные», и в 18961. вышел в
свет первый том с золотыми украшениями.
Составленные Н.П. Кондаковым таблицы
дтя второго тома («серебряного») были под-
I отовлены к печати А.С. Гущиным (Гущин
1936). А.С. Гущин не претендовал на систе-
матизацию всего материала, кот орым он рас-
полагал. а ставил перед собой ряд истори-
ко-художественных проблем. Н.П. Коатаков
подробно останавливался на взаимосвязи,
преемственности древнерусского и
bi гзат т I ийского ювелт трт юг о дета. А.С. Г уши 11.
наоборот, всячески старался отмежевать
древнерусское ремесло от визан т ийского и
восточного, доказать местное происхождение
большинст ва издаваемых им вещей. Содер-
жится в его работе и первая (правда, не все-
гда удачная) попы т ка выделить мест ныс ху-
дожественные школы.
Первое послевоенное десятилетие знаме-
нуется появлением двух фундаментальных
работ, а также ряда статей, открывающих
новый этан в изучении древнерусского ре-
месла и конкретно ювелирного дела. В 1948 г.
выхолит в све г работа Б. А. Рыбакова «Ремес-
ло древней Руси». В главах, посвященных
развитию древнерч сского ювелирного искус-
ства. автор подробно останавливается на тех-
нике изготовления украшений. В работе вы-
делено несколько ювелирных мастерских,
функционировавших на территории древне-
1 о Киева, а также ряд особенностей, харак-
терных для ювелирных школ, работавших в
других городах. Это исследование легло в
основу еще одного, го.гько зарождавшегося в
эго! период направления в истории изучс-
нття древнерусскот о ювелирного дела—гех-
т то. готического. Пос.те т гздания кнш и Б.А. Ры-
бакова отошло в прошлое представление о
древнерусском ювелирном деле как о весьма
8
Введение
примитивном. являвшемся лишь бледным
слепком с ремесла византийского. Останав-
ливался автор и на вопросе о происхожде-
нии некоторых типов древнерусских украше-
ний.
Метод датирования, применяемый
Б.А. Рыбаковым, был назван в свое время
Г.Ф. Корзухиной «интуитивным» (т.с. не
основанным на типологии) (Корзухина 1954:
6). Сама же Г.Ф. Корзухина была одним из
ярчайших представителей этот о «интуитив-
ного» направления. Построения Г.Ф. Корзу-
хиной. выделившей ряд последовательно
сменяющих друг друга древнерусских юве-
лирных уборов, базируются не на типологии,
а на детальных наблюдениях за изменением
характера украшений и состава древнерус-
ских кладов па протяжении IX-XIII вв. На-
учные заключения Г.Ф.Корзухиной. основан-
ные на скрупулезной кагалогизаторской
работе, изучении техники изготовления ук-
рашений вкупе с поразительной научной ин-
туицией исследовательницы, не утратили
своей актуальности и поныне. Некоторые
самые смелые ее выводы находят свое под-
тверждение только сейчас. Фундаменталь-
ный труд Г.Ф. Корзухиной «Русские клады»
является настольной кнш ой каждого, кто за-
нимается историей древнерусского ювелир-
ного дела.
Две небольшие по объему послевоенные
работы исследовательницы «О технике тис-
нения и перегородчатой эмали в Древней
Руси Х-ХП вв.» (1946 т.) и «Киевские ювели-
ры накануне монгольскою завоевания»
(1950 1.) стали значительной вехой в изуче-
нии з е.хники тиснения, литья и перегород-
чатой эмали, которыми в совершенстве вла-
дели древнерусские маст ера. Первая из ука-
занных работ интересна еще и гем. что в ней.
пожалуй, впервые после работ Н.П. Конда-
кова. специально ставился вопрос об атп ич-
ных корнях славянскот о ювелирного дела.
Следующей важной вехой в изучении
древнсрусскот о ювелирного ремесла стано-
вится выход в свет в 1967 году коллск т ивной
монот рафии сотрудников ГИМ «Очерки по
истории русской деревни», в которой рас-
сматриваются некоторые виды древнерус-
ских ювелирных украшений —фибулы, брас-
леты. височные кольца, тривны. Работа вы-
явила. что иерархическое гиполот ичсское
деление, предложенное А.В. Арииховским
(Арциховский 1930). не всегда адекватно от-
ражает хронологические и технологические
особснн ости у к ра шен и й.
Кроме эт ой сводки, явивитейся одновре-
менно первым каталогом и типологией укра-
шений. находимых на сельских памя гниках.
выходит и ряд других работ московских ис-
следователей: Журжалиной Н.П. (1961). Изю-
мовой С.А. (1978: 1985). Левашовой В.П.
(1968:1969). Недошивиной Н.Г. (1960:1974).
Равниной Т.В. (1968: 1968а: 1975: 1978:
1978а). Сабуровой М.А. (1974: 1975: 1976:
1978), Сергеевой З.М. (1977). Соловье-
вой Г.Ф. (1978). Эти статьи посвящены от-
дельным видам древнерусских украшений,
территории их распространения, истории
формирования, месту в системе древнерус-
ского убора.
Для изучения древнерусского ювелирно-
1 о дела в контексте развития средневековой
культуры большое значение имеют работы
В.П. Дарксвича(Даркевич 1972; 1975; 1976:
1996: Даркевич. Монгайт 1972).
Т.Н. Макаровой было издано два фунда-
ментальных исследования, посвященных
украшениям, декорированным в технике пе-
регородчатой эмали и черни (Макарова 1975;
1986). Полная сводка материала в данных ра-
ботах сопровождается и подробным анали-
зом истории развития на Руси этих высоких
ювелирных техник. В монот рафиях выделе-
ны произведения ряда ювелирных мастер-
ских. работавших как на территории Киева,
гак и других крупных древнерусских т ородов.
Новым шагом в изучении древнеру сско-
го ювелирно! о дела стали типологические
работы М.В. Седовой, посвященные наход-
кам из древнего Новгорода (Седова 1959:223-
261: Седова 1978: 149-159: Седова 1981). Ис-
следовательницей нс только выделены типы
ювелирных украшений, характерных для
древнего Новгорода, предложены латы, опи-
рающиеся на дендрохротюлот ито новт ород-
ских слоев, но и приведен широкий крут ана-
логий.
На базе новгородской коллекции
Н.В. Рындиной создается и первая фундамен-
тальная работа, посвященная технологии из-
гот овления древнерусских ювелирных укра-
шений (Рындина 1963:200-268). Исследова-
тельницей были выделены семь комплексов
Введение
9
ювелирных Mete герских XI1-XV вв., в ряде
случаев установлены преемственность в
ювелирном ремесле, передача производ-
ственных навыков от отца к сыну. В моно-
графии очерчен и крут технических приемов,
которыми владели новт ородскиеювелиры,
выделено несколько хронолот ичсских этапов
развития ювелирного производства в Нов-
городе.
Работа Н.В. Рындиной была дополнена
А.А. Коноваловым, проанализировавшим
тенденции в использовании нов!ородскими
ювелирами различных сплавов цветных ме-
таллов (Коновалов 1974). В настоящее вре-
мя отмечаемся увеличение числа работ, ко-
торые Moiyi бьп ь отнесены к технологичес-
кому направлению. Причем авторы исполь-
зую! различные методики исследования: ви-
зуальное наблюдение с применением бино-
кулярного микроскопа и фо 1 осьемки вешей с
большим увеличением (Макарова 1986. Ми-
насян 1994.1995. 1995а. Жилина 1995.1998.
1999.2001); мета, тлографичсский анализ (на-
пример. Равич. Рындина 1989); изучение
химического состава сплавов (например.
Королева 1997; 1997а; Еторьков. Щеглова
2001); экспериментальные paooibi по изго-
товлению изделий в технике литья, скани.
зернтцМинасян 1995; Минжулин 1990; Шаб-
лавииа 2001: 2002; 2003); изучение инстру-
мент ария ювелиров (например. Ениосова
1998; 1999: Сарачева 1996; 1999).
В целом работы археологов SO-90-.х i одов
XX — начала XXI века отличает повышен-
ный ишереск использованию типолот ичес-
кого метода, широкий охват материала и
ст ремление не замыкаться в pei иоиальиы.х
рамках, переход от детально! о изучения от-
дельных типов ювелирных украшений к ши-
роким историческим обобщениям. Исследо-
вателей этот о поколения объединяет стрем-
ление использовать прсиму шее i ва всех не-
реш тс. тент тых выше методов в i гзу чет ши древ-
нерусскот о ювелирного дела.
В этот период складываются два взаимо-
дополнятошихдрут друга направления. С од-
ной стороны, авторы, занимающиеся по пре-
имуществу вопросами истории ювелирного
дела, выходят на решение проблем происхож-
дения и формирования тех или иных архсо-
лотичсских культур (например, работы
11.0. Гавритухина.О.А. Щетловой). С другой.
археологи, занимающиеся изучением отдель-
ных археологических культур, весьма часто
обращаются к рассмотрению ювелирных
у крашений как одной из наиболее ярких со-
ставляющих материальной культуры (напри-
мер. работы O.I I. Бот уславскот о. А.В. Григо-
рьева. Р.Д. Голубевой. С.И. Кочкуркиной.
О.М. Приходшока. Е.А. Рябинина. В.В. Се-
дова. М.Б. Щукина и др.).
Среди ав торов, занимающихся исследо-
ванием раннсславянских ювелирных укра-
шений. необходимо отмстить Айбабина А.И.
(/Хйбабин 1988: 1994; 1999). Амброза А.К.
(Амброз 1982; 1993). Бажана И.А. (Бажан.
Карт оиольцев 1989; Каргопольцев. Бажан
1993). Барана В.Д. (Баран 1998), Винокура
И.С. (Винокур 1994; 1997; 1998; 1998а), Гав-
ритухшта I1.O. (Гавритухин 1991:1997:2003;
Гаври тухни. Обломский 1996). Гороховско-
го Е.Л. (Гороховский 1982). Горюнову В.М.
(Горюнова 1987; 1992; Горюнова. Щеглова
1998) Грит орьева А.В. (Григорьев 1988:1990;
1999). Карт онольцева С.Ю. (Каргопольцев,
Бажан 1993; Карт оиольцев, Шевченко 1998).
Обломского А.М. (Гавритухин. Обломский
1996). ПриходнюкаО.М. (Приходнюк 1994;
1998). Родинкову В.Е. (Родинкова 2003). Шаб-
лавииу Е.А. (Шаблавина 2001; 2002; 2003).
Щеглову О. А. (Щет лова 1988; 1990: 1990а;
1991; 1999: 1999а; 2002; 2002а: Щеглова.
Егорьков 1998). Щхкитта М.Б. (Щербакова.
Щукин 1991; Щукин 1998).
Среди славистов, занимающихся древне-
русским периодом, специально рассматрива-
ют различные аспекты истории ювелирного
дела Ениосова Н.В. (Ениосова 1998; 1998а;
1999; 1999а; Ениосова. Пушкина 1997; Ени-
осова. Сарачева 1997). Жилина Н.В. (Жили-
на 1994; 1994а; 1995; 1996; 1998; 1998а-в;
1999; 2001; 2002; 2002а). Калашникова Н.М.
(Калашникова 2002). КанеллеТ. (Капелле
1989). Килиевич С.Р. (Ки.тисвич, Орлов
1985). Королева Э.В. (Королева 1997; 1997а).
Лесман Ю.М. (Лесман 1988; 1989; 1998.
2003). Макарова Т.П. (Макарова 1997; 1998;
1998а; 2000; Макарова. Равдипа 1992). Ма-
чинская А.Д. (Мачинская 1988; Мачинская.
Мачииский 1988). Михайлова Е.Р. (Михай-
лова 1995.2001). Недошивина Н.Г. (Недоши-
вина 1980; 1991), Новаковская С.М. (Нова-
ковская 1999; 2002). Новикова Е.Ю. (Нови-
кова 1990; 1997). Орлов Р.С. (Орлов 1983:
10
Введение
1988). Перхавко В.Б. (Перхавко 1986). Песко-
ва А.А. (Птскова 1988; Пескова 2002; Корзу-
хина. Пескова 2003). Покровская Л.В. (По-
кровская 1995; 1998; 1998а: 1999). Пушки-
на Т.А. (Пушкина 1987; 1994; 1996; 1998). Рав-
динаТ.В. (Равнина 1988; Макарова. Равнина
1992). Рябинин Е.А. (Рябинин 1981; 1988).
СарачсваТ.Г. (Сарачева 1996.2001; А1 апов.
Сарачева 1999). Сенов В.В. (Седов 1998).
Седова М.В. (Седова 1981. 1997). Строко-
ва Л.В. (Строкова 1997). Хвошинская 11.В.
(Хвошинская 1994; 1998: 1999. 2003). Шев-
ченко Ю.Ю. (2002; 2002а; Шевченко. Богома-
зова 2003). Шинаков Е.А. (Шилаков 1980).
Щапова Ю.Л. (Щапова 1998).
В то же время параллельно развивается и
весьма своеобразное искусствоведческо-опи-
сательное направление, представленное ра-
ботами Г.Н. Бочарова (Бочаров 1969: 1978;
1984), В.М. Василенко (Василенко 1977).
А.Н. Свирина (Свирин 1967). Этому направ-
лению чужды типологические построения,
основное внимание уделяется выделению
стилистических особенностей отдельных
групп ювелирных изделий и ювелирных
школ. Отдельно хочется отметить работу
И. А. Стерлиговой «Драгоценный убор древ-
нерусских икон XT-X1V вв.» как первое мо-
нографическое исследование украшений
древнерусских икон.
Этапным в изучении истории древнерус-
ского ювелирного дела можно назватыюяв-
ление в конце восьмидесятых годов XX в.
предложенной Ю.М. Лесманом дробной ти-
полого-хронологической шкалы ювелирных
украшений Новгорода и Новгородской зем-
ли. опирающейся на дендрохронологию го-
родских слоев и на разнообразие массового
материала, происходящет о из г орода и погре-
бальных памятников сельской окру г и. Дан-
ная шкала позволяет уточнять датировку юве-
лирных украшений, находимых на террито-
рии северо-запада Древней Руси, вплоть до
четверти века. В своих построениях иссле-
дователь делает упор на выделение набора
свойств артефактов, служащих диагностичес-
ким индикатором (Лссман 1989; 1990; 1991).
В аналогичном направлении ведет свои
изыскания и О.И. Богуславский (Богуславс-
кий 1997).
Ювелирное дело Древней Руси, как не-
однократно замечалось исследователями.
было т есно связано с развитием эт ого ремес-
ла в других per ионах, особенно Византии.
Поду 1 гавья. районов проживания западных и
южных славян. Среди трудов гарубежных
ученых, исследования которых в той или
иной с 1 слепи за грагивают сферу изучения
дрсвнерусског о ювелирно! о убора, также
можно выделить несколько направлений.
Пожалу й. наиболее представительными сре-
ди них являются направления по изданию
сводок погребально! о инвентаря (среди ко-
торого представлены украшения), а также
ка 1 алогов украшений. Подобные каталоги
зачастую т отовятся не археологами, а искус-
ст воведами. Другое направление представ-
лено рядом аналитических работ, посвящен-
ных проблеме происхождения и распростра-
нения ювелирных украшений.
Одними из основополагающих трудов но
истории ювелирно! о дела Подунавья до сих
нор являются работы М.Чорович-Лубинко-
внч (TiopoBiih-jbyoHHKOBiih Mnpjaiia 1951.
1954. 1972). К настоящему времени по тер-
ритории бывшей Югославской Федерации
наиболее полная сводка у крашений издана
для Македонии. Это фундаментальный труд
Елицы Маневой «Среднсвековен накит од
Македошуа». содержащий описания и ана-
лиз ювелирных украшений. В paooie пред-
ставлен и обширный иллюстративный ма-
териал. нот отовленный но резулыагам рас-
копок погребальных и поселенческих комп-
лексов (Манева 1992). Аналот ичная работа
есть и для сербских древностей («Накит на
тлу Cponje из сродновековних некрополи од
IX-XVвека». 1992). Для Хорватии. Далмации
и Петрин издан ряд весьма интересных от-
дельных работ, посвященных развитию юве-
лирного дела балканских славян, его взаимо-
действию с традицией византийскою ремес-
ла (Creinosnik 1951; Dimitrijcvic. Ко\ ic. Vin.ski
1962; Гарашанин 1950; 1951; 1954; Eisner
1947; Juric 1986: 1987: 1993: Karaman 1930:
1940; Kastelic. Sherlj 1950; КовачевиИ 1949;
Marusic 1995: МиниБ 1987: Saric 1993: Vin.ski
1955).
В болгарской ли герат у ре подробно ттрсл-
ставлены материалы из раскопок погребаль-
ных памятников, среди которых выделяется
весьма представительная подборка ювелир-
ных у крашений, в том числе имеющих парал-
лели и на других славянских территориях
Введение
11
(Алажов 1969: Бешсвлиев 1968: Ботов 1977:
Василев 1979: Въжарова 1959: 1968: 1965:
1971: 1974; 1976: 1980: 1987: Георгиева. Пе-
шева 1955: Димшров 1970:1972:1974; 1975:
1976; Джамбов: ЗоваповиЬ 1987; Masov
1979: Матов 1976: Нешева 1979). Необхо-
димо отмсти1ь. что наиболее подробная
типологическая схема, разработанная для
ювелирных украшений этого региона. 1ак-
же представлена в монографии, посвящен-
ной погребальным памятникам (Въжаро-
ва 1976). В то же время 1вдан и ряд работ,
специально рассматривающих вопросы
развития ювелирно! о ремесла (Гатев 1977;
Георгиев 1986: Друмев 1976: Мавродинов
1966: Милчев 1963; Milcev 1966; Михайлов
1961; Станчсв 1970). Особо хочется отме-
тить небольшую работу Сони Георгиевой
«Общнос1а на накитите у славянскити на-
роди» (Георгиева 1956). в которой проде-
монстрирована общность многих компо-
нентов ювелирно! о убора у славян Восточ-
ной Европы и Подунавья.
Аналогичная ситуация сложилась и с из-
данием ювелирных украшений, найденных
на терриюрии Чехии и Словакии. Основ-
ная их масса представлена в публикациях
славяно-аварских, всликоморавских и чеш-
ских некрополей, поселений и городищ
(Bialekova 1981; Budinskv-Kricka 1959; Cihnska
1963: 1966; 1973: Chropovskv 1957. 1965.1978.
1961.Dekan 1966.1976.1979,1980: Dostal 1964.
1966.1985; Dusek 1955: Holcik 1991; I Irubv 1955.
1965.1968; Eisner 1952.1955.1962; Klanica 1974.
1985; Kral J; 1959; Krumphanzlova 1974; Kuzel V.
1962; Manuliak.Zabojnik 1982; Pastor 1954:1955;
1971; Poulik 1948. 1957. 1976; Rejholcov (1995:
Svoboda 1953. 1857: Solle 1959. 1981:
Stefanovicova 1997: Toranova 1975:Tocik 1968.
1968. 1970: Turek 1948. 1963). Иногда подоб-
ные публикации содержат и разработки по
типологии и хронологии ювелирных укра-
шений (например, работы Златы Чилийс-
кой, Яна Декана). Типология и хронолотя
ювелирных украшений представлена в ра-
боте: Krumphanzlova Z.1974. «Chronologic
pohfebniho in\ entire vcsnickych hrbitovu 1X-XI veku
v Ccchach». Кроме того, материалы по сла-
вянскому ювелирному делу содержатся и в
обобщающих монографиях и альбомах, по-
священных культуре Великоморавской дер-
жавы (Poulik J. Stara slavanska Morava. 1948:
Dckan J. Velka Morava. Doba a Umenik.
1976: Dckan J. Velkic Moravy. 1979: Velka
Morava. 1964; Velka Morava. Tisileta tradicc
statu a kultury: Wielkie Moravvy. Epoka i
sztuka. 1979 и 1.д.). Основу же аналитичес-
кого направления в чешском, да и в целом
в цешрально-свропейском славяноведении
заложил Л. Нидерлс. Ему. помимо фунда-
ментальных работ в области славянского
этногенеза, принадлежит и ряд разработок
по истории культуры и ювелирного дела.
Особое внимание исследователь уделял
вопросу о заимствовании славянскими юве-
лирами как форм украшений, так и техник
их исполнения v византийских .мастеров
(Niedcric 1921:1925:1926:1927:1930; Нидср-
ле 1956, 2001). Среди аналитических paooi
последних лег. посвященных развитию сла-
вянских ювелирных украшений, особо хо-
чется выделить работу 3. Курчатовской
(Kumatowska 1980) «Pola strefy Naddunajskiej
vv fonnovvaniu si? kultury slovviaiiskiej VIILIX
wieku». заинтересовавшую меня в связи с
разработкой проблемы происхождения сла-
вянских серег «волынскою типа».
Работы румынских исследователей, как
правило, нося! публикационный характер.
Это — издания кладов и отдельных нахо-
док из культурных слоев посслсшш и по-
гребений (например. Cirjan 1969;
Constantincscu. L'ntaru 1959: Florescu. Miclea
1979: Neamtu 1961). Среди исследований
обобщающего характера необходимо упо-
мянуть труды М. Комша (Cornea 1968)
«U influence romaine provinciate sur la ci vilisation slave
a 1'epoque de la formation des ctats» и В. Спинея
(Spinei 1994) «Moldova in sccolele XI - XIV».
Дану Теодору принадлежит целая серия
публикаций, в которых анализируются раз-
личные аспекты взаимодействия традиций
ювелирного дела Византии, славян и кочев-
ников (Teodor 1961; 1964; 1980; 1981; 1995). В
последнее время появились и новые рабо-
ты. специально посвященные развитию
ювелирного дела. К хорошо известному ис-
следователям каталогу ювелирных украше-
ний, найденных на территории Румынии.
«Podoabe Medicvale in tarile Romanc», изданно-
му Марвин Попеску (Popescu 1970) приба-
вилась и недавно защищенная диссертаци-
онная работа Лу.мииицы Марии Думитриу
(Dumitriu 1996) «Podoabe medievale la Dunarea
inferioara in secolele XI-XV». На базе этой дис-
сергации исследовательницей была
12
Введение
издана монография «Der millelaltcrlichc
Schmuck des unteren Donaugebietes im 11 -15.
Jahrhundert» (2001). являющаяся к напояше-
му времени наиболее подробным исследо-
ванием по средневековому ювелирному делу
Румынии.
В работах венгерских ученых — как в пуб-
ликациях погребального инвентаря или кла-
дов. так и в аналитичсских работах по исто-
рии культуры и ювелирного дела — славян-
ские ювелирные украшения, как правило, рас-
сматриваются в контексте взаимодействия
византийского, аварского, древневент ерско-
го и славянского ювелирного искусства
(Barkoczi 1968; Вагапупё Oberschall 1947:
Hampel 1905: Heju-Detari: 1976; Fettich 1937;
Kadar 1953. 1964: Kiss 1977; Kovrig 1963;
Kovacs 1974; Kralovansky 1959; Lovag 1986:
Mesterhazy 1991.1994; Torok 1968; Szokc 1992:
Vana 1954).
Находки mhoi очисленных кладов юве-
лирных украшений на территории Польши
продиктовали необходимость введения их в
научный оборот (Danute 1975; Dekowna,
Stattlerowna: Gupienic 1955; Gupicnic. Jakimowicz
1927; Kiersnowski T. i R. 1959. 1965; Kiers-
nowski 1964; Lewicki 1959; Kiersnowski 1964;
1971; Rauhut 1955; Slqski. Tabaczynski 1959:
Slaski. Zakrzewski 1931).
Кроме подобных публикационных тру-
дов. в польской историот рафии выделяется
и ряд интересных аналитичсских работ, по-
священных изучению различных типов за-
паднославянских украшений, взаимосвязи
западно- и восточнославянского ювелирно-
го дела (Jakimowicz 1934; Musianowicz 1949:
Kostrzcwski 1962). Особенно хотелось бы о т -
метить работы Яна Зака и Зульфии Малахов-
ской. посвященные вопросу о происхожде-
нии и территории распространения славян-
ских подвесок-лу нниц (Zak 1968; Mala-
chowska 1998). а т акже ряд рабо 1 В. Дучко и
И. Рача, посвященных различным аспектам
развития и взаимодействия славянского и
скандинавского ювелирного искхсства (Дуч-
ко 1987: Duczko 1983; 1985; 1995; Racz 1990).
Среди работ последних лет. бе тусловно. вы-
деляется двухтомный груд Ханны Кочка-
Кренц (Kdcka-Krcnz 1993). являющийся на
сегодняшний день, пожалуй, наиболее пол-
ной сводкой находок ювелирных изделий на
территории Полыни. Эта монотрафия содер-
жит весьма подробный ихнологический и
т ипо.101 ический аналит отдельных типов
украшений, а также подробные карты их рас-
пространения. Примером комплексного ис-
следования одного памятника может слу-
жить коллективная монография: Zoll-
Adamikowa Н.. Dekowna М.. Nosek Е.М. «The
Early Mediex al Hoard from Zawada Lanc-
korohska». 1999.
Среди работ немецких исследователей (а
1 акже изданных в Германии), в которых за-
трагива ются Boi I росы развт 11 ня сл авя1 юкого
ювелирного дела, можно, на наш взгляд. от-
мсти 1 ь следующие: Brachman Н. 1978. Slawiche
Stamme an Elbe and Saale Zu ilirer Geschichtc und
Kultur im 6 bis 10 Jahrhundert — auf Grund
archaologischcr Quellen; Hensel W. 1965. Die
Slawen im tnilicn Mittelalter. litre matenelle Kultur.
Jakun H. 1933. Ein mittelterlicr Goldring aus
Schlesien; Wolters J. 1986. Die Granulation.
Geschichte undTeehnik einerGoldschmicdekunst;
DaimF. 1992. Awarenforehungcn.
Необходимо упомянуть исследования и
других западных ученых, касающиеся исто-
рии византийского и иранского ювелирного
дела, давшие возможность выявить ряд ин-
тересных параллелей и прототипов для сла-
вянских украшений Byzantine and post-
Byzanlineart 1986: Byzantium 1989: Byzantium the
high in the age of darkness 1989; Dalton O.M..
M.A. 1901. Catalogue of Early Christian antiquities
and objects from the Christian East; Hasson. 1987.
Early Islamic jewelry: Hasson. 1988. Schtick der
Islamishcn Welt. 1988: Jewelry from Persia. 1978;
Jenkins M.. Кеппе M. Islamic jewelry in the
Metropolitan museum of .Art: Ross M. Catalogue
of the Byzantine and early mediaeval
antiquities. 1965.
Подводя итог историот рафическому об-
зору . необходимо замел пь. что на сет одияш-
ний день созданы необходимые условия для
рассмотрения процесса сложения древнерус-
ско1 о ювелирного убора на фоне широкого
круга аналот ий. позволяющих выяви ^исто-
рический контекст формирования ювелирно-
го убора Древней Руси и включения в его
состав тех или иных типов изначально ино-
родных украшений.
Предлагаемая вниманию читателя рабо-
та стави т своей основной целью проследить
процесс сложения древнерусскот о женскот о
ювелирного убора. Это зашавляет пас обра-
Введение
13
ша I ься к исторической ретроспекции, позво-
ляющей определить последовательность
включения в состав древнерусского убора от-
дельных I инов украшений и охарактеризо-
вать культурные взаимосвязи, повлиявшие на
формирование как отдельных украшений, так
и уборов в целом. Для этого дается краткая
характеристика ювелирных уборов восгоч-
ных славян VI-1X вв.. в их составе выделя-
Ю1ся типы у крашений, продолжившие сушс-
с! нова । ь и в древнерусский период. Наибо-
лее подробно рассматриваю 1ся истоки фор-
мирования и смены парадных ювелирных
уборов конца IX — середины ХШ в., а также
их соотношение с комплексами украшений,
характерных для различных территорий
Древней Руси.
Главная задача исследования выясне-
ние тенденций формирования древнерусско-
го ювелирного убора — определила и струк-
туру работы. В первой главе рассмафивают-
ся раннеславянские ювелирные уборы и в их
сошаве выделяются украшения, получившие
дальнейшее развитие в период Древней Руси.
Во второй 1 лаве — соотношение региональ-
ных и парадных ювелирных уборов. Первая
и вторая главы носят историографический ха-
рактер и служа! подготовительным матери-
алом для решения основной проблемы рабо-
ты - исследованию процесса формирования
и смены парадных ювелирных уборов IX-
ХШ вв.. которой гюсвяшены третья и четвер-
тая главы. В заключении делаются выводы
об основных тенденциях в формировании
ювелирных уборов восточных славян, а так-
же выделяются инородные (неславянские)
сошавляющис. оказывавшие в разные пери-
оды развития этих уборов различное по силе
и значимости влияние иа их сложение. Опрс-
леляекя и влияние славянского ювелирного
ремесла на развитие ювелирного дела сопре-
дельных территорий. В книге содержится
двухуровневая сишема приложений. Прило-
жение 1 является описанием комплексов па-
радных ювелирных украшений, рассматри-
ваемых в работе. Приложение снабжено раз-
вернутой библио! рафией. Приложение2 -
характсризуе! распространение основных
т hi юв парадных ювелирных украшений, рас-
сматриваемых в работе. Данное приложение
является расширенной легендой к соответ-
ствующим каршм. приводимым в книгс(но-
мсра пунктов на кар!ах соответствую! 1 поряд-
ковым номерам в приложении).
А теперь счи 1аю своим приятным дол-
гом высказать признательност ь своим учи-
телям. коллегам и друзьям. Данная киш а в
своей основе представляет диссер! анионное
исследование, выполненное в голы моей
рабо I ы в О где.те истории русской культ уры
Государственного Эрмитажа (Саны-Пегер-
oypi). Хочу выразить глу бокуто благодарность
всем без исключения сотрудникам Отдела, и
в особенное i и С.В. Томсинскому. за неоце-
нимую помощь и дружеское участие в рабо-
те. Хочшся выразить свою признательность
моему учителю и научному руководителю
Р.С. Минасяну. а также друп im коллегам-эрми-
тажникам. предоставившим возможность
ознакоми гься с коллекциями шли консульти-
ровавшим меня, помогавшим советом и дру-
жеским участием: А.Ю. Алексееву. С. В. Бурш-
невой.В.Д. Гукину.О.И. Давидан.В.Н. Залес-
ской. Н. А. Захаровой. П.Л. Зыкову. А.А. Ива-
нову. О.М. Иоаинисяну. К.В. Каспаровой.
Б.С. Короткевичу. М.Г. Крамаровскому.
М.Д. Кузнецовой. Ю.М. Лесману. З.А. Льво-
вой. А.Н. Мазуркевичу. А.Д. Мачииской.
Д.А Мачинскому. Е.И. Оятьсвой.Ю.Ю. Пиот-
ровскому. И.О. Попову. Г.И. Смирновой.
Я.В. Соловьевой. Е.Н. Торшину. Я.В. Френке-
лю. М.Б. Щукину'.
Хоче> ся выраз! гть б: шгодарность руковод-
ству. хранителям, со грудникам дру! их науч-
ных учреждений и музеев за помошь и пре-
лое 1 авленную возможл юсть ознаком! 11 ься с
коллекциями Государственно! о Русского
музея, особенно Л. Д. Лихачевой и С.М. Но-
ваковской. Г осу дарш ве! того Российского эт-
нографического музея, особенно И.И. Шанги-
ной: С гароладожского Музея-Заповедника.
11ов! ородского музея-заповедника. Псковско-
го музея-заповедника, особенно Э.В. Коро-
левой: Государствснио! о Историческо! о Му-
зея (Москва). особенно Н.Г. Недошивиной и
Е.Ю. Новиковой: музеев Mockobckoi о Крем-
ля, особенно Т.Д. АвдусинойиТ.Д. Пановой;
Краеведческого музея. Государстве! того Уни-
верситета и Педа! О! ического института го-
рода Перми: Национального Музея Истории
Украины и Музея исторических дра! оценно-
стей (Киев), особенно В.В. Павловой.
Л.В. Строковой. Л.С. Клочко: Одесского Ар-
хеологического музея НАН Украины (Одес-
14
Введение
са), особенно Е.Ф. Рединой, И.В. Бруяко и
Л.Ю. Полешук; Музея Археологии и Этно-
графии АН Молдовы (Кишинев), особенно
И.Г. Власенко, А.И. Никулицэ.И.С. Тентюку.
Л. Чебан; Национального музея истории
Молдовы (Кишинев), особенно Е.Н. Абызо-
вой. О.Н. Кетрару и Н.А. Кеграру. А.Н. Ле-
винскому, Н. Матиевич, С.И. Коваленко; Му-
зея Природы и Этнографии (Кишинев), осо-
бенно Р.Д. Табулько; Государственного музея
Истории Буковины (Сучава, Румыния), осо-
бенно П.-В. БатарюкиФ. Хэу;Государствен-
ного музея истории Румынии (Яссы).
Не могу не вспомнить и дорогих препода-
вателей Кафедры археологии СПбГУ, особен-
но своих учителей славистов В. А. Булкина,
Г.С. Лебедева, В.Н. Седых. В ходе подготовки
моей работы я постоянно и плодотворно кон-
тактировала с сотрудниками и аспирантами
ИИМКРАН. Моя особая признательность—
СВ. Белецкому, О.И. Богуславскому, М.Ю.Вах-
тиной.В.М. Горюновой. А.Н. Кирпичникову,
Л.Б. Кирчо, А.В. Курбатову, В.А. Лапшину,
А А Ли! 1атову, КА Михайлову. Е.Р. Михайло-
вой. А.Е. Мусину. Е.Н. Носову, К.В. Павловой.
А. А. Песковой. Н.И. Платоновой, А.В. Плохо-
ву, В.Ю. Соболеву, П.Е. Сорокину. С.Н. Трав-
кину, Н.В. Хвощинской, Т.А. Чуковой,
П.В. Шувалову, О. А. Щегловой. Слова глубо-
кой благодарности и всему коллективу заме-
чательной библиотеки ИИМК РАН.
Оказывали мне большую помощь и со-
трудники Института Археологии и Этногра-
фии АН РМ (Кишинев) — Л.К. Богатая,
В.А. Дергачев, М.Т. Кашуба, О.Г. Левицкий,
Т.Ф. Рябой. Н.П. Тельнов, и Высшей Антро-
пологической школы (Кишинев)—П.П. Быр-
ня. Ю.В. Гончарова, А.П. Городенко, Г.В. За-
сыпкина. Л. А. Мосионжник,Р.А. Рабинович.
А. А. Романчук, Д. А. Топал, а также румынс-
кие коллеги, среди которых особенно хочет-
ся поблагодарить Д. Теодора и В. Спинея.
ГЛАВА I. ЮВЕЛИРНЫЙ УБОР ВОСТОЧНЫХ
СЛАВЯН В VI-IX ВВ.
1.1. ПРОБЛЕМА ЗАИМСТВОВАНИЙ
В СЛАВЯНС КИХ ЮВЕЛИРНЫХ УБОРАХ
В свое время Любор Пидерле писал:
«В истории материальной кулыуры древних
славян пег ни одной страницы, которую мож-
но было осветить так подробно, как украше-
ния тела и платья, а 1 акже связанное с этим
производство украшений, которые были тог-
да у славян в моде» (Нилерлс 1956: 39). За-
глянув на эту страницу, мы сталкиваемся с
большим разнообразием запечатленных на
ней ювелирных украшсшш. появление кото-
рых в составе славянско! о ювелирного убо-
ра обуславливается целым рядом историчес-
ких причин.
Сложность процесса формирования и
многокомпонентное гь древнерусских юве-
лирных уборов заставляют обратиться к
древностях! предшествующего периода и
проследить историю формирования не-
скольких ювелирных уборов, характерных
.тля предшествующих древнерусской славян-
ских археологических культур VI-IX вв.
(Пеньковской, колочинской. пражской, ро-
мейской и луки-райковецкой). Без рассмот-
рения их наследия невозможно понимание
характера собственно древнерусского юве-
лирного дела. В результате подобного экс-
курса выделяются тины украшений, как по-
лучившие развитие в древнерусский пери-
од. так и исчезнувшие в более раннее вре-
мя. Необходимость такого исследования
объясняется еще и двумя прямо противопо-
ложными тенденциями, прослеживающи-
мися в историографии. Приверженцы пер-
вого направления объявляют славянскими
практически все древности на восточноев-
ропейской территории еще с рубежа эр или
лаже со скифской эпохи (например. Б.А. Ры-
баков). Последователи второго ут вержлают.
что собственное ювелирное дело появилось
у славян только в X в. (например. Л. Ни-
дерле).
Славянские у боры VI-IX вв. носили весь-
ма сложный, синкретичный характер, что за-
ставляет ставить вопрос о займет вованиях и
влияниях в славянском ювелирном деле, яв-
лявшихся отражением этнокультурной ситу-
ации завершающего эт апа Великого пересе-
ления народов.
Около 50 ле г тому назад Б. А. Рыбаков за-
метил: «Происхождение русского ремесла
упирается в готскую проблему, без которой
невозможно проследить корни ремесла Ки-
евской Руси глубже VIII-IX в. Все ранние
вещи давно уже объявлены готскими, и их
изучение велось в связи с меровингским, а
не ру ccKi IM мастерством »(Рыбаков 1948:48).
Действительно, вопрос самобытности
древнерусского ювелирного дела и его взаи-
мосвязи с античной, I отской. византийской,
западнославянской, кочевнической и восточ-
ной ювелирными традициями всегда звучал
весьма остро. Причем в подходе исследова-
телей к решению этой проблемы можно вы-
дели гь три основных тенденции.
Авторы, придерживающиеся первого на-
правления. отлают приоритет импортирова-
нию славянами ювелирных изделий, техник,
сюжетов. Так. еще в XIX — начале XX вв. ря-
дом исследователей практически все славян-
ские украшения записывались в разряд им-
портных. «Привозными следует считать и на-
ходимые в курганах бусы янтарные, стеклян-
ные. сердоликовые, серебряные, бронзовые
браслеты, гривны, серьги, височные кольца,
пряжки, фибулы, перстни, булавки, прорез-
ные бляшки» (Анучин 1920:94. цит. по Ры-
баков 1948:16).
Исследова гели, разделяющие противопо-
ложную гочку зрения, всячески стремятся
подчеркнут ь уникальность, «самостийность»
и авгохтонность славянского ювелирного
дела. «Попытки доказать полную зависи-
16
Глава I
мость ряда славянских изделий от герман-
ских или восточных прототипов терпят
полное крушение, как только мы начина-
ем тщательно исследовать художествен-
ную сторону славянскою искусства» (Ва-
силенко 1977: 167).
В настоящее время становится традици-
онным рассмотрение ист ории развития сла-
вянского ювелирно! одела в контексieевра-
зийских культурных процессов. Причем фик-
сируются пласты заимшвования славянами
форм и техник изготовления ювелирных
украшений, видоизменение этих образцов,
приспособление к особенностям своего убо-
ра. создание на их основе новых местных
типов украшений (например. Щеглова 1991:
41-52). Рассматривается и распространение
на неславянские территории славянских ти-
пов украшений, а также 1ехник, характерных
для славянского ювелирного дела.
В недавнее время на ряде раннесрсд-
невсковы.х памятников открыты и изуче-
ны славянские ювелирные ремесленные
комплексы, найдены наборы инструмента-
рия. штампов и литейных форм (например.
Бернашовка -- Винокур 1997). Подробно
рассматриваются проблемы развития юве-
лирной техники у славян (Р.С. Минасян.
О. А. Щеглова. О.М. Прихолнюк и др.). При
накопленном количестве информации воп-
рос о происхождении древнерусского юве-
лирно! о мастерства уже ни во что не «упи-
рается». Заимствование в славянском убо-
ре ряда форм ювелирных украшений может
быть рассмотрено не как показатель отста-
лости. зазорною копирования, а как при-
знак крайней восприимчивое!и ко всякого
рода инновациям. касающимся как моды на
различные типы украшений, так и исполь-
зования высоких ювелирных техник.
I. 2. ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ «КЛАДОВ АНТОВ»
Наиболее ранний комплекс ювелирных
украшений, характерный для славянских и
близких к ним этнических группировок,
складывается в V1-VII вв. В настоящее вре-
мя этот набор ювелирных украшений свя-
зывается исследователями с древностями
колочинской и Пеньковской культур (Гав-
ритухин. Обломский 1996:96-120.1а.м же ли-
тература). Представление о культурной
принадлежност этого комплекса украше-
ний неоднократно менялось. Так. пальча-
тые фибулы, входившие в состав данного
убора, были определены еше в конце про-
шлого века как «готские» (Вауе 1892: 1-16).
Однако преобладающей является версия о
славянской принадлежности этих древнос-
тей в целом. После выхода в свет работы
А.А. Спицына данные комплексы получи-
ли ставшее традиционным наименование
«древностей антов». 1ак как они представ-
лены практически на той территории, ко-
торую Прокопий Кесарийский отводил пле-
мени антов (Спицын 1928:492-495). Н. Фст-
тих выделил на основе эшх комплексов спе-
цифически ю «мартыновскую» культуру, со-
четании} ю германские (готские) и восточ-
ные (кочевнические) элементы (Fettich 1937).
Б. А. Рыбаков не признавал подобною син-
кретизма кулыуры носителей днепровских
кладов и настаивал на ее исключительном
славянстве. Исследователь уделил много
внимания критике теории готского проис-
хождения ряда типов украшений, входив-
ших в эти комплексы (Рыбаков 1948: 47).
Первоначально Б.А. Рыбаков разделял точ-
ку зрения А.А. Спицына о принадлежнос-
ти днепровских кладов антам, затем пред-
ложил связывать данные памятники с ги-
но1етически выделенным им племенным
союзом русов (Рыбаков 1953: 23-104). Кри-
тика построений этого исследователя со-
держится в неизданном 1руде Г.Ф. Корзу-
хиной «Среднее Поднепровье в V
VTII вв.» (Корзухина 1970: 207-292) и в ра-
боте В.Д. Барана (Баран 1998: 15-28).
/ В настоящее время хронология дрез-
ностей VI-VIII вв. довольно подробно
разработана А.К. Амброзом. А.И. Ай-
бабиным. П.О. Гавршухиным (Амброз
1971; Айбабин 1988; 1999; Гавритухин
1991; 1996). Много внимания уделяется
исследователями культурной и социаль-
ной атрибуции данных памя!пиков. Ряд
специальных работ, посвященных юве-
лирному убору из Э1их кладов, был из-
дан О.А. Щегловой (Щеглова 1990; 1999;
2002). Исслсдоваюльница разделила
ма1ериалы из «кладов антов» на две ти-
полого-хронологические группы, отли-
чающиеся как но характеру вещевого
Ювелирный укор восточных славян к VI-IX вв.17
материала, так и по времени его оыто-
вания и попадания в землю (Щеглова
1990: 76). В разделе о «древностях ан-
тов». хронологически выходящем за
рамки наших непосредственных изыска-
ний. мы в значительной степени опира-
емся на исследования именно этого ав-
тора.
I. 2. 1. Первая группа «древностей антов»
В состав кладов первой 1р\ппы. по
классификации О.А. Щегловой, датируе-
мой концом VII в. (извешно 16 подобных
комплексов), помимо украшений входя!
оружие. де1али поясной гарнитуры, пред-
меты роскоши, инструменты. Для лих
комплексов характерен специфический
женский убор, коюрый составляют «вен-
чики из серебряной ленты, височные
кольца одно- и двуспиральные, ожерелья
из крупных и мелких пластин на цепоч-
ках и пронизках. шейные гривны различ-
ных типов, фибулы пальчатые разных ва-
риантов и антропозооморфные. браслеты
цельные литые и кованые» (Щеглова 1990:
176) (рис. 1. 1-20).
Клады I группы не являются комплекса-
ми длительного накопления: за редким ис-
ключением. веши, найденные в них. да тиру-
ются довольно компактно серединой — тре-
тьей четвертью VII в. Состав убора, представ-
ленного в этих кладах, весьма своеобразен.
Однако сами типы украшений, входивших в
него, были сформированы на базе византий-
ского. восточногерманского ремесла, тради-
ций культур лесной полосы Вос i очной Ев-
ропы, деталей молы евра шйских кочевников.
В киевской культуре, иредшеш вуюшей коло-
чинекой и Пеньковской культурам, нет про-
то I ипов для такого набора украшений (Гав-
ритухин. Обломский 1996:95).
По составу «клады антов» были поделе-
ны О.А. Щегловой на клады ювелиров и се-
мейные клады - «ларчики». К кладам юве-
лиров исследовательницей отнесены Марты-
новский. Козисвский. Колосковский. Будков-
ский и Трубчсвский клады. В кладах масте-
ров содержатся: лом украшений (в i ом числе
и импортных): металлические слитки и пла-
стины - полуфабрикаты: инструменты;
большие серии однотипных вещей, а т акже
украшения, подвергавшиеся починке.
Преле 1авлсн в згих кладах и своеобраз-
ный ювелирный \ бор. имеющий аналогии
в Центральной Европе, на Кавказе, в
Крыму и в Северном Причерноморье. Ха-
рактерными исключительно для этой
группы памятников являются большие
пальчатые, антропозооморфные и дву-
иластинчатые фибулы, сочетающие в себе
западноевропейскую форму с элементами
декора сасапидского серебра. Подобные
антропоморфные фибулы быстро дегра-
дировали. преврашлись в ажурные плас-
тины. Время полной деградации антро-
позооморфных фибул совпадает с прекра-
щением жизни на многих пеньковских по-
селениях и оттоком часш носителей этой
кулыуры на север. Деградированные
фибулы были найдены среди финно-угор-
ских древностей и в Подунавье (Горюно-
ва. Щеглова 1998: 134. 135: Щеглова,
Егорьков 1998: 84, 85; Щеглова 1999: 291).
К к.талам-«ларчикам». содержавшим
семейные «укладочки», в которой обыч-
но хранятся 1-2 праздничных (или обря-
довых) убора, надеваемых лишь в особых
случаях. О.А. Щеглова относит клады из
Хацков. Малого Ржавца. Вильховчика.
Мены. Суджи. Смородина, Нижней Сы-
роватки. Первого Цепляева. Новой Одес-
сы. Ут лов и. с некоторыми оговорками.
Гапонова. При отсутствии достоверных
комплексов погребений по обряду труио-
положения. материалы именно этих кла-
дов, а также готских захоронений Кры-
ма. содержащих комплексы с днепровски-
ми элементами, легли в основу проведен-
ной исследовательницей реконструкции
праздничного убора обитательниц Сред-
него Поднепровья и Днепровского лесо-
счепного Левобережья VII в.н.э. (Щегло-
ва 1999:287-312).
Украшения первой группы «антских»
древностей встречаются не только в виде
кладов и случайных находок, но и на поселе-
ниях. Типичный набор украшений, находи-
мый на пеньковских и пастырских памят-
никах. включает в себя: пальчатые, зоо-
и антропоморфные фибулы (Молочарня.
Сурская Забора. Бельск. Семенки и т. д.);
цельнолитые фибулы дунайского типа
(Сурская Забора. Ханска III); браслеты с
утолшаз0Ейимыс?1-т?онцами (Игрснь-Подко-
18
Глава J
Рис. 1. Ювелирные уборы славян Восточном Европы V1-1X вв. 1-20— Козиевский клад, 21-22,40-43—Зайцсвский
клад, 23-33—Пастырский клад 1949г„ 37,34—Киевский клад, 35-36,38-39—Пастырский клад 1898 г.» 44-45,48,61-62 —
Харьевский клад, 47—Зеленый Гай, 48—Чсрновка, 49,80—Ханска, 50—Великая Слобода, 51 — Яссы, 52,55—Рашков,
53—Сучава, 54—Горошсва, 56-57—Семенки, 58—Скибинцы, 59-60—Обухов, 63—Волынцсвский клад, 64-78 —
Новотроицкое, 79—Кузнецовское, 81—Хотомель, 82-84—Монастырей, 85—Бранешты I.
ва, Семенки, Скибинцы, Петруха); зоо- и
антропоморфные фигурки (Скибинцы,
Старые Малаешты) (Археология Украин-
ской ССР 1988:158; Щеглова 1991:45; При-
ходнюк 1998:30; 2000:67).
Кроме того, известен и ряд производ-
ственных комплексов, которые можно связать
с изготовлением ювелирных украшении. Жи-
лища-мастерские, в которых могли изготов-
ляться бронзовые ювелирные украшения,
были обнаружены на поселениях Гута-Ми-
хайловская, Хитцы, Будище, Скибинцы и др.
В мастерских найдены тигли, льячки и ли-
тейные формы. Возле очага или печи в таких
Ювелирный укор восточных славян в VI-IX кк.19
жилищах находят накипи бронзы. Масте-
ра использовали технику литья (фибулы,
фигурки), ковку, обпиловку. шлифовку.
Так как свои источники сырья отсутство-
вали, ювелиры работали на привозном
сырье, поступавшем в виде слитков, или
использовали в качестве сырья лом укра-
шений. Подобные слитки обнаружены на
поселении Хиты и городише Сслиште
(Рафалович 1965: 123-28; Рафалович 1972;
189.190; Приходнюк 1989: 62: Археология
Украинской ССР 1988: 164. 165).
Существует несколько мнений относи-
тельно культурной принадлежности убора
ранней группы «древностей антов». Первое
заключается в том. что это — достаточно
богатые комплексы, представляющие собой
клады-сокровища, приобретенные знатью в
качестве военной добычи (Рыбаков 1953:99;
Приходнюк. Падин, Тихонов 1996; 94; Баран
1998:17). Близкого мнения придерживаются
О.И. Гавритухин и А.М. Обломский, счита-
ющие, что клады принадлежали «элите» но-
вого формирующегося политического объе-
динения. а область распространения этих
уборов достаточно компак гна и нс совпада-
ет с границами пеньковской и колочинской
археологических культур (Гавритухин. Об-
ломский 1996:145).
Несколько иная точка зрения была вы-
сказана О.А. Щегловой, отметившей, что «в
кладах почти полностью отсутствуют при-
возные изделия, совсем нет золотых вещей.
Украшения изготовлены из латуни и серебра
с высоким содержанием меди, многие несут
следы починки. Состав комплексов унифи-
цирован: они содержат не только общие ка-
тегории вещей, но одинаковые типы, а в ряде
случаев — вещи серийного изготовления.
Поэтому представляется, что в... (этих) ком-
плексах осели не сокровища элиты, а “пред-
меты массового потребления"» (Щеглова
1999:290).
На наш взгляд, оба эти утверждения не
противоречат друг другу, ибо в «древностях
антов» содержатся, по-видимому, несколько
пластов. Выделенные О.А. Щегловой клады-
«ларчики» действительно не содержат при-
возных и роскошных вещей и отражают
хоть и праздничную, но культуру «сред-
него слоя». В то же время крупные кла-
ды. содержащие импорты (например,
Мартыновский), вполне могли быть воен-
ной добычей или дипломатическими да-
рами элиты (Приходнюк. Шовкопляс,
Ольговская. Струина 1991: 78). С княжес-
кими или королевскими уборами власти-
телей германских королевств (например,
с украшениями из погребения Хильдери-
ка в Турнэ) соотносятся рядом исследова-
телей золотые украшения, выполненные в
позднеантичной традиции, происходящие из
покупок, месго находки которых определяет-
ся примерно как Киевская губерния (Гаври-
тухин. Обломский 1996:143). Таким образом,
«древности антов» отражают, по всей види-
мости, и элитарную, и рядовую культуру.
Из вещей, составляющих данные комп-
лексы, для нас наиболее интересны те кате-
гории украшений, которые получили даль-
нейшее развитие в древнерусское время. К
таким украшениям относятся головные вен-
чики, ожерелья, гривны и браслеты. Причем,
в ряде случаев можно говорить о непрерыв-
ном развитии украшений вплоть до древне-
русского времени. В других - о сохранении
только самой категории украшения, в быто-
вании которой прослеживаются временные
лакуны.
Головные венчики. Пластинчатые вен-
чики, зачастую оканчивающиеся спиральны-
ми завитками на концах и украшенные тис-
неным и гравированным орнаментом, были
найдены в Мартыновском. Хацковском, Суд-
жанском, Козиевском, Ново-Одесском, Ко-
лосковском. Трубчевском и Гапоновском кла-
дах (Щеглова 1999:298). В качестве аналога
подобным венчикам О.А. Щеглова приводит
находку из могильника Циллингталь (Поду-
навье). В погребении D 48 этого могильни-
ка. относящемся ко второму среднеаварско-
му периоду, подобная лента находилась на
черепе молодой женщины. Интересно, что в
этом же захоронении были найдены и трех-
рогие пластинчатые подвески-лунницы, ана-
логи которым представлены в поднепровс-
ких Козиевском и Зайцевском кладах (Гаври-
тухин, Обломский 1996:49; Приходнюк 2000;
68. рис. 8). О сущесзвовании пластинчатой
диадемы в женском погребении в Мохначе
свидетельствует полоска окислов на че-
репе погребенной (Аксенов, Бабенко 1998;
XX).
Металлические головные венчики в
виде ленты фольги (как в Гапоновском
кладе) или в виде диадемы (как в Мохна-
че) — деталь антского убора, унаследо-
ванная восточнославянской культурой в
20
Глава I
более позднее время (Щеглова 1999: 299).
В древнерусское время они встречаются
в курганных древностях X XIII вв. (Седов
1994: 117-118). В сводке В.П. Левашовой
(Левашова 1968: 91) учтено 43 пластинча-
тых венчика, застегивавшихся в крючок
или завязывавшихся. Большая часть на-
ходок венчиков этого типа приходится на
территорию Лсниш радской области, r/ie
их находят как в славянских, так и в фин-
но-угорских захоронениях. Довольно
широко представлены они на Новгород-
чине и во Владимирских курганах. Про-
слежено. что некоторые металлические
венчики крепились к твердой берестяной,
кожаной или матерчатой основе, к кото-
рой могли присоединяться височные коль-
ца или ремешки для их подвешивания (Са-
бурова 1975: 21). Носились венчики и в
сочетании с шапочкой (Броварки на р.
Суде) (Нидерле 1956: 240. рис. 29: Седов
1982: 139.211; 1994: 118). Таким образом,
венчики, возможно, входили не только в
девичий, но и в женский головной убор
(Щеглова 1999: 299). Встречаются в древ-
нерусское время пластинчатые венчики и
в составе кладов — например, находка
серебряного пластинчатого венчика из
Шалаховского клада Невельского уезда
(Корзухина 1954: 97. 98). Кроме металли-
ческих венцов, унаследованных еше из
раннесредневекового костюма, в древне-
русское время были распространены и го-
ловные повязки на твердой основе с зо-
лотым и серебряным шитьем или вышив-
кой бусами и бляшками, дожившие в тра-
диционном костюме до начала XX в. (Са-
бурова 1975: 22; Щеглова 1999: 299).
Бляшки и подвески, декорировавшие
платье и юловной убор. Свинцово-оловя-
пистые бляшки и ворворки (усеченно-кони-
ческие бусины)из Козиевского. Ново-Одес-
ского. Смородинского. Нижнс-Сыроватско-
1 о. Гапоновскогои Большебулковского кладов
также связываются с женским головным убо-
ром (Щеглова 1999:300). Выделяется несколь-
ко возможных вариантов использования
этих бляшек в декоре одежды. Их могли упо-
треблять д-тя украшения головного покрыва-
ла. головного убора (шапочки, калафа. кокош-
ника) или как детали диадемы.
Традиция орнаментации нашивными
бляшками головных уборов и шейных i юкры-
вал известна еше с периода античноеi и. По-
добный дорогой убор, украшенный золо-
тыми бляшками, реконструируется по ма-
териалам захоронений знатных скифянок
(К.точко 1982: 37-53). В период Великого
переселения народов (н.п. V в.н.э.) бога-
тые уборы с диадемами, собранными из
золотых бляшек, встречаются в богатых
погребениях от Керчи до Нормандии. По-
добные диадемы из золотых бляшек
представлены, например, в могильниках
Лучисюго или Большо! о Каменца (Айба-
бин. Хайрединова 1998: 300-301; Казанс-
кий 1997: 184; Щеглова 1999: 300). Появле-
ние захоронений этого крута исследова-
тели связывают с перемещением варвар-
ских племен сармато-аланов и готов на юг
и запад под давлением обосновавшихся
в Северном Причерноморье гуннов (За-
ссцкая 1993: 38; Айбабин, Хайрединова
1998: 309: Щеглова 1999: 300).
Традиция же отливки мелких нашивных
украшений из низкотемпературных сплавов
была позаимствована населением Нижнего
Подунавья. Поднестровья и Побужья в VI в.
из Подунавья. Со второй половины VIII в.
центр изготовления и ношения подобных
украшений перемещается в регион Причудья
и Повод ховья. Здесь представлены как дери-
ват ы. так и прямые заимствования из юж-
ной зоны, среди которых хочется особенно
выделить плоские круглые подвески с крес-
товидным орнаментом как прототипы для
популярных и широко распространенных в
древнерусское время монетовидных подве-
сок (Щеглова 2002: 134-150. рис. 4,31). В со-
ставе парадного женского \бора X-XI вв.
встречаются аналогичные подвески, но вы-
полненные из серебра, с полусферической
лицевой частью, крестообразный орнамент
на которой выполнен при помощи зерни и
тисненых колпачков.
В качестве нашивок на покрывала разно-
образные бляшки и бисер встречаются в
древнерусских курганных древностях X-
XII вв.. причем металлические бляшки в де-
коре головных уборов особенно популярны
•на территории кривичей (например, мог.
Харл апова) (Сабурова 1974:94; Щеглова 1999:
300). Головные уборы, расшитые бляшками,
были найдены и на Вологодчине на могиль-
нике Новинки I (кург. 9.36) (Сабурова 1974:
90. рис.З: 94). В кладах X-XI вв. нашивные
бляшки не зафиксированы, но представлены
подвески с крестообразным орнаментом. В
Ювелирный укор восточных славян г» VI-IX вв. 21
кладах-Х11-Х1П вв. встречаются фрагмен-
ты ткани (галуна, позумента, льна, шел-
ка. парчи, холста) и нашивные бляшки.
Серебряные позолоченные бляшки, деко-
рированные эмалями или цветными стек-
лами (часть из них нашита на ткань),
представлены в Киевском кладе 1903 г.;
серебряные прорезные -- в Киевском кла-
де 1824 1. (оба клада были найдены в ог-
раде Михайловского монастыря (ттрил. 1.
№50. 53); золотые и серебряные бляшки
из Мартыновского клада 1886 г. (при.т. 1.
№72); золотые бляшки в Рязанском кладе
1822 т. и серебряные позолоченные в Ря-
занском кладе 1868 г. (прил. 1.№98).
Ожерелья. Для ожерелий, находимых в
сост аве «кладов антов», харак т ерносочета-
ттие различных тто форме подвесок -- крут -
лых. прямоут ольных. трапециевидных, дву-
спиральных, лунниц. колокольчиков, пропи-
сок (рис. 1. 9, 12. 13). Среди этого многооб-
разия выделяется ряд т илов (в основном лун-
нтшевидные и умбоновидные подвески),
продолжавшие сушествоват ь и в более по-
зднее время. Круг аналогов подобным слож-
ным ожерельям предет авлен в синхронных
памятниках Среднего Подмтавья (Щеглова
1999; 302).
Сама же традиция ношения ожерелий с
крут лыми подвесками. зачастую у крашенны-
ми разнообразными вариантами солярного
орнамента, имеет весьма длительную ттсто-
рию. Ожерелья из чередующихся металличес-
ких бусин и круглых подвесок с выделенным
выступающим центром, обведенным кон-
центрическими поясками точечек-возвыше-
ний. известны сше с ранней античност и. Так.
на аукционе в Нью-Йорке были представле-
ны подобные ожерелья, датируемые XII —
X вв. до н.э. и происходящие предположи-
тельно из раннет о Марлика (Gold and silver
auction 1992: 51.57).
Тип ожерелий с круглыми у мбоновидиы-
ми и иными подвесками, находимый в «древ-
ностях антов». одни исследователи относят к
варварской перерабо т ке т трестижных обра я юв
визаит ийского женского у бора, восходящего к
традициям элл т п в топического Вост ока (Гаври-
т ухии. Обломский 1996:48). Друт не же пред-
лагают искать их истоки в финно-угорских
древностях (Щет лова 1999:303).
Еще одним типом подвесок, входивших в
состав «антских» ожерелий, имеющим антич-
ные корни и получившим развит ие в после-
дующих древнерусских древностях, явля-
ются подвески-луниицы (подробнее о ге-
незисе этого типа украшений см. гл. III).
Трехрогис луиницы из Козиевского кла-
ла в Среднем Подиеировьс относятся к
одним ты наиболее поздних изделий сти-
ля Сослал (Каргопольцев. Бажан 1993:
119). Изт отопление трехрогих литых лун-
ниц ювелирами, работавшими на восточ-
нославянской территории, документиро-
вано находкой формочки для их отливки
в Бсрнашевском ювелирном комплексе
(Винокур 1997: 57. рис. 18).
В более позднее время отдельные укра-
шения. аналогичные подвескам из ожерелий
«древностей антов». будут встречаться в сла-
вянских древностях. Крутлые подвески — на
Пастырском и Новотроицком городищах,
лунницы — на роменских и райковецких па-
мятниках (гор. Донецкое, пос. Бранешты I);
трапециевидные подвески использовались,
например, в декорировкс браслетообразных
и ромбощитковых колец. Носам тип шумя-
щего ожерелья исчезает уже в более поздней
группе «древностей антов», датируемой на-
чалом VIII в. (Щетлова 1999:303).
Шейные гривны. Находимые в первой
группе антских кладов серебряные и брон-
зовые гладкодротовыс или фасетирован-
ттые гривны с петлевидным замком (Щег-
лова 1999: 301) имеют аналогии в ранней
группе древнерусских кладов (IX — нача-
ло Хвв.). где в изобилии представлены
дротовые гривны с близкой формой замка
(Корзухина 1954: 20-21).
Литые браслеты с расширяющимися
концами, находимые в антских древностях
(рис. 1. 1-6). имеют ряд прототипов среди
престижных украшений скифского, сарматс-
кого и гуннского времени (Каргопольцев.
Шевченко 1998:45-47). Этот тип браслетов
получил развитие и в более позднее время.
Среди украшений, находимых в ранней груп-
пе древнеру сских кладов, да т ируемой к. IX —
н. X вв.. встречаются дротовые браслеты со
слет ка расширяющимися концами (Корзухи-
на 1954:21).
К вешам. представленным в первой груп-
пе «древностей антов» и нс нашедшим свое-
го продолжения в древнерусских памятни-
ках. на наш взт ляд. могут быть отнесены од-
носпиралытые С-образные височные кольца
(имеющие аналоги в более ранних балтских
древностях), детали накосников. пальчатые
22
Глава I
фибулы (имеющие. вероятно, готские кор-
ни. но изготовлявшиеся, большей частью,
в самом Поднспровье).
Если формирование первой группы
кладов приходится на период активных
действий славян на Балканах, то выпаде-
ние их в слой от носится к середине - тре-
тьей четверти VII века. Сокрытие этой
группы кладов связывается, вероятно, с
усиливающимся в эю время господством в
степной зоне кочевников-болгар хана
Кубрата и продвижением их в пределы
расселения славян — носителей Пеньковс-
кой культуры (Щеглова 1990: 197). Выпа-
дение кладов первой группы практически
синхронно концу колочинской и Пеньков-
ской культур. Переход от этих культур к
культурам Лука-Райковеикой и Волынцев-
ской сопровождается сменой стиля укра-
шений (Гавритухин. Обломский 1996: 146).
В VIII в., под давлением пришедших
на Дунай болгар, происходит отток сла-
вянскот о населения с Балкан (Приходнюк
1998: 75). Пережив «период возвращения»
с Дуная, обитатели Среднего Поднепро-
вья сохраняю! лишь общую схему убора,
дополненную заимствованными изделия-
ми в технике тиснения, гт в конце VIII
IX ВВ. «двухфибульиый» КОСТЮМ ВЫХОДИ!
из употребления (Щеглова 1999: 309) и
происходит переход к убору древнерус-
ского времени.
I. 2. 2. Вторая группа «древностей антов»
В первой половине VIII века происхо-
дит выпадение в слой второй группы
днепровских кладов, связываемое иссле-
дователями (О.А. Щеглова, И.О. Гаври-
тухин. А.М. Обломский. О.М. Приходнюк)
с началом военной экспансии хазар. Из-
менения состава кладов свидетельствуют
об общей смене моды и стиля в ювелир-
ном уборе, базировавшейся на заимство-
вании приемов, инструментария и 1ехни-
ки ювелирного дела из Подунавья (При-
ходнюк 1994: 64-75).
Во второй группе кладов, по классифи-
кации О.А. Щегловой (содержащей 9 ком-
плексов). осели только предметы женско-
го ювелирного убора. В ней отсутствуют
мужские вещи - - поясные наборы, оружие.
Her в этих кладах и привозных предметов
роскоши. В то же время изменяется и ха-
рактер женского убора — в этих комплек-
сах нет венчиков и височных колец, но
появляются серы и со звездовидной или
полой подвеской. Исчезают пальчатые и
«птицеголовые» фибулы, а аигропозоо-
морфные представлены иными, более раз-
витыми типами. Появляююя в этот пери-
од и большие пластнчатые застежки.
Шумящие нагрудные ожерелья сменяют-
ся ожерельями из стеклянных, янтарных
или полых металлических бусин, раковин,
металлических привесок или одной под-
веской и несколькими полыми тиснеными
бусинами. Появляются характерные для
этого периода браслеты с полыми расши-
ренными концами, а также и полые грив-
ны и гривны с седловидным замком (Щег-
лова 1990:1995: 376-377. 383) (рис. 21-46).
В целом между второй и первой груп-
пами «древностей антов» преемствен-
ность довольно сильна. Во время быто-
вания первой и второй групп украшений
схема построения убора остается неиз-
менной. Ес образуют украшения по сто-
ронам лица серьги и височные кольца:
нагрудные украшения — гривны, бусы,
металлические ожерелья, пары фибул:
браслеты (по-видимому, несколько штук).
Фибулы, встречающиеся во второй груп-
пе кладов, являются результатом транс-
формации антропозооморфных фибул,
представленных в первой группе кладов.
В обеих группах кладов встречаются
круглопроволочные браслеты с расплю-
щенными концами и браслеты с цельны-
ми гранеными концами, некоторые типы
гривен (Щеыова 1990: 178: Приходнюк
2000: 67-69).
Ряд типов вещей из этой группы продол-
жает эволюционировать и в IX-X вв.. вплоть
до культуры Киевской Руси (Брайлевский 1952:
43-49). К подобным мотуг быть отнесены одна
из разновидност ей серег «пастырского» типа
и круглые подвески. Но так же. как и в случае
с убором из первой группы «древностей ан-
1 ов». комплекс вещей не сохраняется полнос-
тью. Он исчезает уже во второй половине
VIII в., когда происходи г изменение ювелир-
ного убора. В этотпериод на обитателей Сред-
него Поднспровья сильное влияние оказыва-
ет салтовская мода, в костюме появляются сад-
Ювелирный увор восточных славян в VI-IX кв. 23
товские типы сережек, бляшек и перстней
(Щеглова 1990:178).
Клады второй группы состоят из украше-
ний, сформировавшихся на базе прото типов,
распространенных в середине - взорой по-
ловине VII в. в славяно-аварской среде на-
селения Подунавья. и встречаются в ареале
пастырских, сахновских и волынцевских
групп памятников (Щеглова 1991:45; Гаври-
тухин. Обломский 1996: 130-136).
На Пастырском городище открьпы от-
дельные украшения первой и второй групп,
клады второй группы, а также несколько ре-
месленных мастерских, в том числе ювелир-
ная мастерская и кузница. Большая часть укра-
шений изготовлялась, по-видимому. на самом
городище. В составе кладов встречаются
украшения, выполненные в одной форме или
по одному шаблону (Щеглова 1990: 201:
Приходнюк 1994; 61; Приходнюк 2000:48-
73).
По технике изготовления ювелирные
украшения Пастырского городища делятся на
несколько трупп. Литые украшения — паль-
чатые, зоо- и антропоморфные фибулы, звез-
довидные серьги, некот орые типы пряжек.
Кованые — ангропоморфные фибулы.
Штампованно-паянные — серьги с под-
весками-«фонариками». браслеты с полы-
ми расширяющимися концами. Мастера
Пастырского юродиша используют ряд
техник, до этого периода не применяв-
шихся славянскими ювелирами. Техника
тиснения, чеканки, скани была принесе-
на. вероятно, из Подунавья и с Балкан.
Технику волочения, видимо, не применя-
ли. более толстый дрог изготовляли ме-
тодом ковки, тонкую проволоку - мето-
дом литья (Приходнюк 1994: 69; Приход-
шок 1998: 96).
Кроме ювелирных техник, заимство-
вался и ряд типов ювелирных украшений.
Из Подунавья на Пастырское городище
завозились византийские лировидные
пряжки, пальчатые фибулы гепидского
стиля. Веши провинциально-византийско-
го круга, возможно, не только импорти-
ровались. но и изготовлялись на месте
странствующими ремесленниками (При-
ходнюк 1994: 70). Находят на Пастырском
городище и типичные салтовские вещи.
По мнению О.М. Приходнюка. наличие
северных связей иллюстрируют находки
круглопроволочных шейных тривен. ха-
рактерных для Прибалтики, но скручен-
ных и носимых как браслеты (Приходнюк
1994: 72. рис. 3.7).
Связь второй группы «древностей ан-
тов» с позднеантичной и подунайской
ювелирными традициями весьма ярко ил-
люстрируется на примере развития форм
сережек «пастырского» типа.
I. 2. 3. Генезис «пастырских» серег
Остановимся кратко на процессе гене-
зиса некоторых типов украшений, харак-
терных для этой группы кладов.
Паяные звездовидные серьги появля-
ются в VI в. — начале VII в. па Сицилии,
откуда попадают в Подунавьс. где в
VII в. начинают изготовляться литые ана-
лот п этих украшений (Айбабин 1973: 68).
На побережье Адриатики и в Подунавье
эти украшения да т ируются концом VI —
началом VII вв. Концом VII в. датируют-
ся так называемые клады ювелиров, най-
денные в Землянском Вробке в Словакии
и в Залесье в Среднем Полнспровье. Ли-
тые варианты этих серег, изготовлявши-
еся в Византии и Подунавьс. доживают
до XII в. В конце VII — первой половине
VIII вв. литые звездовидные подвески, со-
зданные на основе провинциально-ви-
зантийских образцов, распространились
в Поднепровье (рис. 1.26-28, 31-33). От по-
дунайских экземпляров поднепровскис
варианты отличает более узкая нижняя
часть дхжки (Приходнюк 1994: 96-97;
1998).
Тисненые серьги с нодвеской-«фонари-
ком» встречаются на пастырских памятниках
в нескольких вариантах. Основу серьги все-
гда составляе г сочетание тисненого шарика,
цилиндрика и дужки (рис. 1.29. 30. рис. 2.5-
6’). Горлышки подвесок, как правило, при-
крыты круглыми пластинками, к которым
припаяны кольца-дужки. Некоторые экземп-
ляры дополнительно украшены внизу пира-
мидками кру иной зерни, а на серьге из клада
1948 г. в месте стыка половинок шарика
вставлена шестиугольная пластинка, декори-
рованная но краям пирамидками зерни. По
мненшоО.М. Приходнюка. шарики для по-
добных подвесок оттискивались в матрицах.
24
Глава I
Рис. 2. Дериваты амфоровилиых серег. 1 —
Ольвия, 2 — Красный Маяк. 3 — Смолянино-
ва, 4 — Смела. 5 — Пастырский клад. 6 — Иг-
рище. 7 — Каневский у., 8 — Харьсвский клад.,
9 — Выгопичи, поселение, жил. № 2.
вырезанных на костяных пластинках. По-
добные костяные пластинки были обна-
ружены на Пастырском городище и в кла-
де у с. Костешты в окрестностях Ясс в Ру-
мынии (Teodor 1981: fig. 11; Приходнюк
1994:68). Кроме этого типа серег, на Пас-
тырском городище была найдена одна
серьга с подвеской, составленной из двух
продольных тисненых половинок (тип 3-
2 по А.И. Айбабину — Айбабин 1973: 70),
являющаяся, на наш взгляд, одним из про-
тотипов для серег «волынского» типа
(Корзухина 1946: 51, Рябцева 1999: 340,
рис. 2) (рис. 32,2). Этот вариант серег «па-
стырского» типа рассматривается нами
ниже в разделе, посвященном генезису
«волынских» серег.
Г.Ф. Корзухиной было высказано предпо-
ложение о том, что прототипами для пастыр-
ских серег—«фонариков» являются антич-
ные амфоровидные серьги, имевшие весь-
ма длительный период существования
(Корзухина 1946:49).
Различные амфоровидные подвески
были излюбленными деталями декорировки
греческих украшений с периода архаики до
эллинизма (Петренко 1978: 40). Золотые
амфорки использовались в качестве под-
весок к ожерельям и серьгам. В IV в.
до н.э. золотые подвески-амфориски укра-
шали роскошные ожерелья и серьги (на-
пример, известные украшения из Боль-
шой Близницы и Куль-Обы). В обоих слу-
чаях верхний ряд составляют мелкие
гладкие подвески, в нижних рядах более
крупные амфорки, украшенные прово-
лочно-зерневыми композициями. В этот
период ручки сосудиков, как правило,
отсутствуют. Кроме роскошных женских
ожерелий, украшенных амфоровидными
подвесками, в V—III вв. до н.э. существо-
вали, по всей видимости, и аналогичные
мужские ожерелья, состоявшие из трубча-
тых пронизок и амфоровидных подвесок.
Подобные украшения были найдены во
втором Семибратнем кургане. Луговой
Могиле, кургане Мастюгина, в юго-вос-
точной камере Чсртомлыка, боковом по-
гребении Солохи (Манцевич 1948: 68-73).
Золотые амфоровидные подвески, де-
корированные зеленой и синей эмалью и
проволочными розетками, использова-
лись в этот период и для украшения кос-
тюма. Такая находка была сделана, на-
пример, в Старшем Трехбратнем курга-
не, где амфоровидные подвески крепи-
лись предположительно к ампику (Кирил-
лин 1968:183).
Кроме этого, у скифского населения
были весьма популярны серьги со стек-
Ювелирный укор восточных славян в VI-IX вв.
25
Рис. 3. Амфоровндпые серьги и их
дериваты. 1 — Нессбр (Болгария). 2-4—
Керчь. 5 — Унтерзибепбрунн. Могиль-
ник (Австрия), 6 — Праги. Moi ильпнк
(Дагестан).
лянными подвесками в виде амфорок и
кувшинчиков, встречаются также серьги
в виде кольца и стилизованной золотой
или бронзовой амфоровидной подвески
(тоже без ручек сосудика).
На памятниках фракийского гальшта-
та представлены бронзовые ожерелья с
различными подвесками, в том числе и в
виде сосудиков. Подобное ожерелье было
найдено на территории Румынии в Ка-
раш-Северин (Goldhehn schwert... 1994: fig.
35).
С III в. до н.э. по всей античной ойкуме-
не распространяются серьги в виде кольца и
весьма реалистично выполненной амфоро-
видной подвески. У этих серег подвески-ам-
форки уже. как правило, снабжены ручками.
Такова, например, пара золотых серег се-
редины III в. до н.э.. происходящих из кла-
да, найденного в Несебре (Болгария)
(Клады Болгарских земель 1965) (рис. 3,
1). Серьги состоят из кольца, украшенно-
го полой протомой Пегаса, и укреплен-
ной на штырь полой амфоровидной под-
вески (один конец штыря завернут в пет-
лю. сквозь которую продето кольцо). Под-
веска составлена из свернутой из золото-
го листочка полой цилиндрической шей-
ки сосудика, продолговатого тисненого
тулова. украшенного зернью и филигра-
нью. и подставки.
Несколько разнообразных амфоро-
видных серег, датируемых в пределах II в.
до н.э. — II в.н.э.. находят в Керчи, дужки
этих серег подчас дополнительно декори-
рованы щитками с розетками, палицами
Геракла (Г.Ф. Корзухина, Рукописный
архив ИИМК. ф. 77.д. №8) (рис. 3.2-4).
Серьги с амфоровидными подвесками
встречаются и в этрусских гробницах Hi-
ll вв. до н.э.. весьма популярны они с I в. н.э.
в Сирии и Египте, где существуют до II-
III вв. н.э.. в Месопотамии и Иране подоб-
ные серьги датируются концом I в. до н.э. —
II в. н.э. (Литвинский 1973:42). Кроме серег,
на территории Ирана в этот период изготов-
ляли и ожерелья, содержащие до полусотни
амфоровидных подвесок (Jewelry from
Persia 1978: fig. 50, 56, 59) (рис. 4).
О распространешш подобных украшений
в Средней Азии свидетельствует находка на
Мунчак-Тепе литейной формы для отливки
амфоровидных серег. Формочка предназ-
начена для отливки сразу двух сережек,
состоящих из кольца и подвески-амфор-
ки с коротким горлом, каннелированным
туловом и шариком в нижней части под-
вески. Одна из амфорок имеет дополни-
тельно восьмеркообразные ручки (Лит-
винский 1973: табл. 19).
Таким образом, в конце I тыс. до н.э. и
начале I тыс. н.э. были весьма широко
распространены крайне реалистичные
флакончики, служившие деталями серег и
подвесками к ожерельям. Несколько поз-
же появляются и более схематизирован-
ные образцы: такова, например, серьга в
виде сосудика без ручек из Керчи (ОАК
26
Глава I
Рнс. 4. Ожерелье с амфоровилными подвесками. Се-
верный Иран Золото. Б.м. По: Jeueln from Persia. 1978
1912: 31-32. рис. 59). Наиболее поздние
серьги с амфоровидными подвесками, ук-
рашенными в нижней части цепочками с
ромбовидными или трапециевидными
подвесками, представлены в древностях
эпохи Великого переселения народов в
могильниках Ираги (Дагестан) и Унтер-
зибенбрунн (неподалеку от Вены) (Кузне-
цов. Пудовин 1961: 79-95: Bona 1991: 108.
fig.42: Мастыкова. Казанский 2003: рис. 2.
17) (рис. 3, 5-6). Подобные серьги входи-
ли в состав престижно! о костюма варвар-
ской знати, распространившегося, веро-
ятно. из Боспора Киммерийского и Тана-
иса и послужившего в начале V в. осно-
вой для формирования убора предводи-
телей дунайских федератов, знати гер-
манских королевств и вождей населения
Северного Кавказа (Мастыкова. Казан-
ский 2003: 75-79. рис. 2.17).
Весьма схематизированной «производ-
ной» от амфоровидных серег можно считать
и золотые серьги, представленные с середи-
ны I в.н.э. на памятниках сарматов (рис.2,1-
4). В этих украшениях читается все та же
схема: тисненый шарик — тулово сосуда
и свернутый из золотого листика цилинд-
рик — шейка сосуда. Отличи i ельной осо-
бенностью сарматских сережек можно
считать то, что «шейка» и «тулово» сосу-
дика спаяны не непосредственно друг с
другом, а при помощи пояска из прово-
лочных колечек. По горизонтальному шву
тисненая бусина-тулово сосудика укра-
шена зерневыми ромбиками, а внизу к
подвеске крепится пирамидка зерни. По-
добные украшения находят в сарматских
погребениях у с. Заветное и Керчи в Кры-
му. с. Смолянинова на Луганщине и с. Зо-
лотая Балка в низовьях Днепра, на горо-
дище Красный Маяк (Шкорпил 1903: 83.
рис. 4: Вязьмтна 1962: 198. рис. 82.1. 5. 6.
9). Были они найдены и в кладе у с. Запев-
ки в Среднем Поднепровье (Бобринский
1897: табл. XXI. 7,8). Зарождение этих сар-
матских украшений также связывается ис-
следователями с причерноморским юве-
лирным делом, впитавшим в себя антич-
ные традиции, центрами которого были
Херсонес и Ольвия (Вязьмтна 1962: 199).
Золотые сарматские украшения весь-
ма схожи с пастырскими серьгами с под-
весками-«фонариками» варианта 3-1, по
типологии А.И. Айбабпиа (Айбабин 1973:
70). От сарматских пастырские серьги
отличает наличие у ряда экземпляров двух
тисненых бусин, нанизанных на кольцо
серьги. Кольцо к подвеске пастырских
серег крепится поверх закрытого гор-
лышка «сосудика». У ряда экземпляров
серег из Пастырского и Харьевского кла-
дов на дужку дополнительно припаяна
пирамидка зерни (расположена посереди-
не «крышки сосудика»). В остальном зер-
невой декор сарматских и пастырских се-
рег совпадает полностью.
Однако довольно значительный вре-
менной хиатус между исчезновением сар-
матских и появлением пастырских серег
заставляет предположить, что прямыми
прототипами для последних послужили
аналогичные серьги с составными тисне-
ными подвесками, находимые в Подуна-
вьс. Детали серег с подвесками-«фонари-
ками» входили в состав богатых кладов
византийского происхождения из Землян-
ского Врбовка и Залесья (Svoboda 1953:
tab. XLIV; Приходнюк 1998: 94-99). Для
конца VII — начала VIII вв. можно гово-
рить о всплеске интереса к утраченной на
несколько столетий форме амфоровидной
серьги. Более или менее близкие по фор-
ме украшения, которые могут рассматри-
ваться как дериваты амфоровидных се-
Ювелирный укор восточных славян к VI-IX вв.27
per. выполненные в технике тиснения или
литья, представлены в этот период в По-
дунавьс. Поднепровьс. Подоньс. Прика-
мье и Средней Азии (Dekan 1979: 52;
Плетнева 1989; Голдина 1985: 209; Распо-
пова 1969: 51-56). Таким обратом. можно
товорить об обтпеевра лтйской моде на
подобные изделия, сформировавшейся
на базе античных прототипов и впитав-
шей достижения византийских ювелиров
средневековья. При этом, безусловно, су-
ществовала разница в восприятии схо-
жих украшений кочевым и оседлым на-
селением. Так. судя по изображениям на
каменных изваяниях, у тюркоязычных
кочевников подобные серьги входили и
в состав мужского костюма (Степи... 1981:
127. рис. 22).
Нами рассмотрен круг аналогов и про-
тотипов только для серег, характерных
для «пастырской» группы древностей,
аналогичная работа могла бы быть про-
ведена и для других типов украшений (на-
пример. браслетов). Но даже этот не-
большой экскурс позволяет охарактери-
зовать связь этой группы украшений с
позднеантичной, византийской и поду-
найской ювелирными т радициями.
I. 3. ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
ВОЛЫНЦЕВС КОЙ И РОМЕЙСКОЙ КУЛЬТУР
I. 3. 1. Украшения второй группы «древностей антов»,
происходящие с волынцевских памятников
Находят веши второй группы «древ-
ностей антов» и па волынцевских памят-
никах. Генетическая связь волынцевских
памятников с Пеньковской и близкими ей
культурами третьей четверит I тыс. н.э. в
Среднем Поднепровьс отмечается рядом
исследователей (Горюнов 1981: 90; Юрен-
ко 1983: 216). На некоторых поселениях
(Хитцы. Обухов II) волыпцевский тори-
зонт связан с предшествующими слоями
третьей четверти I тыс. Отличительной
чертой славянских в своей основе волын-
цевских памятников является салтовская
гончарная посуда и привозные салтовс-
кис вещи (Щеглова 1987: 48), а также ги-
потетически реконструируемая некото-
рыми исследователями связь с именьков-
скими древностями Поволжья и Западно-
го Приуралья (Смирнов 1962; Седов 1994;
1999; Приходнюк 1998: Шевченко 1998: 84).
Набор украшений второй группы ан-
тских кладов по классификации 6.А. Щег-
ловой (пустотелые и звездчатые серый,
серебряные браслеты с расширяющими-
ся концами и т.д.) содержится в Харьевс-
ком кладе, найденном в ареале волынцсв-
ской культуры (рис. 1. 61-62}. Тезаврация
Харьевскою клада связывается исследо-
вателями с военной экспансией хазар, ис-
пользовавших в качестве форпоста Бп-
тицкое городище (Гавритухин. Обломский
1996: 134). В кладе найдены веши различ-
ного происхождения: Балкано-Византий-
ского крута — звездчатые и амфоровид-
ные подвески; Среднедунайского (аваре -
кото) — ременная гарнитура; Средне-
днепровского — антропоморфные фибу-
лы. браслеты с расширяющимися полыми
коттами; Прибалтийского — цельные ко-
ваные браслеты и дротовыс гривны. По-
видимому. клад формировался в несколь-
ко этапов сначала дунайские и визан-
тийские. затем поднепровскис веши (Гав-
ритухин. Обломский 1996: 134). Поднеп-
ровские веши изготовлялись, вероятно,
на Пастырском городище, где были об-
наружены матрицы для тиснения украше-
ний этою круга (Приходнюк 1994; 61).
Второй клад ювелирных изделий, най-
денный в ареале волынцевских памятни-
ков. Фативижский. датируется, по мне-
нию исследователей, уже более поздним
временем и относится ко времени появле-
ния на волынцевских памятниках круго-
вой керамики. Фативижский клад также
представляет собой весьма сложный и
разнородный комплекс. Пряжка из этого
клада выполнена в провинциально-ви-
зантийских традициях, а поясные наклад-
ки — в позднсаварских (Гавритухин, Об-
ломский 1996: 136). Серый с подвеской-
балясиной и ажурной дужкой из данного
клада, возможно, имеют балканские про-
тотипы (Въжарова 1976: 355-366 — тип
«третий» и вариант IV /2 «четвертого»
типа). Аналот ичныс серьги с удлиненны-
ми подвесками происходят из Херсонеса
(Айбабин 1993: 371. рис. 6.5) и с Гнездове-
28
Глава 1
кого посетения (Пушкина 1987: рис. 1. 7).
Кроме серьги с балясинкой, в Гнсздове
были обнаружены две серый, идентич-
ные сережке с полой шарообразной под-
веской. найденной на волынцевском Би-
типкомгородише (Пушкина 1987: 55: Гри-
горьев 1990: 52). Вероятно, весь фативиж-
ский комплект был изготовлен ювелира-
ми одной местной школы, работавшей с
применением и византийских и аварских
традиций (звездовидные серьги из Фати-
вижского клада ближе не к поднепровс-
ким, а балканским образцам) (Гавриту-
хин. Обломский 1996: 136). Аналогичные
вещи встречены, кроме волынцевских па-
мятников. на Новотроицком городище
(Ляпушкин 1958: 120) и в длинном кургане
№2 v л.Ярцево близ Смоленска (Архив
ИИМК РАН 1898: Ф.1. д. №172. л. II). Дея-
тельность этой мастерской связывается
рядом исследователей с хазарами, куль-
тура которых впитала в себя и византй-
ские. и аварские традиции (Гавритухин.
Обломский 1996: 136).
Аналогичного мнения о характере про-
никновения подунайских(аварских)типов
вещей на волынцевскую территорию при-
держивается и О.А. Щеглова. По мнению
исследовательницы, серьги Фативижско-
го клада имеют близкие аналогии в мо-
гильнике Ксстхея. а бубенчики — в мо-
гильнике Фсйсерлак VIII - IX вв. в Венг-
рии. а на территории Восточной Европы
— в Саркеле и Маяцком городите (Щег-
лова 1988: 102-103). О.А. Щеглова датиру-
ет проникновение аварских вешей на во-
лынцевскис памятники второй половиной
VIII - IX вв. (одновременно с попаданием
туда салтовских вещей). По ее мнению,
аварские веши распространяются на во-
лынцевской территории не прямо из По-
дунавья. а через носиiелей салтовской
культуры.
Таким образом, набор ювелирных ук-
рашений второй группы древностей ан-
тов представляет собой сложное синкре-
тичное явление, возникшее, по всей види-
мости. в смешанной славяно-болгарской
(пастырская группа) и славяно-хазарской
среде (волынцевская 1 руппа памятников).
Кроме того, убор этот впитал в себя по-
зднеантичные. византийские, подунайс-
кие (аваро-болгарские) импульсы.
Что касается наследия этой группы па-
мятников в древнерусском ювелирном
деле, то к нему могут быть отнесены ва-
риант «пастырской» серый 3-2 по
А.И. Айбабину с продольной зисненой
подвеской (Айбабин 1973: 70) и серьги с
подвеской-балясинкой из Фативижского
клада, Битицы. Гнездова и Херсонеса, как
прототипы серег «волынского» типа. На
трех круглых серебряных бляхах из кла-
да 1949 г., найденного на Пастырском го-
родище. нанесен крестовидный орнамент
из тисненых полусфер, типичный для
круглых подвесок древнерусского перио-
да (Корзухина 1996: 377. табл. 27. 7-3: Гав-
ритухин. Обломский 1996: 249) (рис. 1.24,
63).'
Остальные типы украшений — антро-
поморфные фибулы, браслеты с полыми
концами, украшения салтовского круга
и т.д. изживаются в разнос время на про-
тяжении IX — начала X в. и не входят
состав убора древнерусского времени.
I. 3. 2. Ювелирные украшения ромейской культуры
Обратимся теперь к комплексу ювелир-
ных украшений, характерному для ромей-
ской культуры. Во второй половине
VIII — первой половине IX в. в нем отчет-
ливо прослеживается доминирование сал-
товской моды. На протяжении IX века ко-
личество салтовских вешей уменьшается.
Если в материалах Опошни практически
все ювелирные украшения происходят из
степных регионов, то уже на городище
Новотроицком они составляют менее од-
ной пятой всех находок (Ляпушкин 1958:
Григорьев 1990: 50; 2000: 124). В X в. па
Днепровском Левобережье, в славянских
памятниках Среднего Дона и Верхней
Оки встречаются только отдельные сал-
товские украшения.
Встречаются на ромснских памятни-
ках X в. и финно-угорские украшения —
подвески в виде «утиных лапок» в Новго-
роде-Северском и на Большом Горналь-
ском городище, шумящая подвеска и
бронзовый цепедержатель на поселении
у с. Горбово (Григорьев 2000: 122). На
протяжении всего периода существова-
ния культуры встречаются спиралевид-
ные пронизки и трапециевидные подвес-
ки. Эти подвески могли появиться как в
результате контактов с финно-уграми,
так и в качестве пережитков культурных
Ювелирный ysop восточных славян в VI-IX вв. 29
традиций более раннего населения, в ос-
нове своей балтского (Григорьев 1988:
103).
Ранняя часть роменских украшений
синхронна волынцсвским (вещи Харьев-
ского и Фативижского клада, поселений
Битицы и Вовки, могильника у с. Волын-
цеве). имеющим аналоити в Подунавьс.
Эти украшения — зве щовилные. шаро-
видные серьги, серьги с подвеской-баля-
синой. браслеты с расширяющимися кон-
цами «имеют широкие аналот ни в сла-
вяно-аварских древностях Подунавья и
вкупе образую! как бы слепок с набора
украшений юго-западных славян VIII в.»
(Гршорьсв 2000: 124).
В более позднее время в. н. VIII-
IX вв. наметилось сокращение притока
ювелирных украшений византийских и
подунайских типов (Григорьев 1990: 53).
В этот же период нг1 территорию Украи-
ны перестают поступать византийские
серебряные сосуды с пробирными знака-
ми константинопольских мастерских. со-
кращается и приток византийских монет
(Кропоткин 1962: 11). Это сокращение ви-
зантийской торговли объясняется общим
упадком византийского общества в пери-
од иконоборчества, запустением городов,
сокращением чеканки монет и деградаци-
ей многих ремесел (Дарксвпч 1974: 95).
В IX веке все же встречаются некото-
рые украшения, связываемые с Под\на-
вьем. например, серебряная, декориро-
ванная зернью лунницевидная серы а с
Кузнецовского городища на Дону (Tpeib-
яков, Ефименко 1948: 104-105. габл. XVIII.
7). или фрагмент полой золоюй зернсной
серьги из кургана 2 у дер. Лебелна на
Верхней Оке (Никольская 1981: 28. рис. 11).
На городище Новотроицком к этой груп-
пе украшений относятся височные коль-
ца с напущенными полыми шариками из
жилища 21. литая серы а. аналогичная
«волынским» типа А (но нашей классифи-
кации) из жилища 5 и полая тисненая под-
веска от аналогичной серьги из жилища
43. а также полая шт ампованная нрониз-
ка из клада, найденного в квадрате III
(Ляпушкин 1958: 90. рис.58. 3;62. рис.40. 3;
с. 127. рис.83. 11; с.28. рис. 15. 3) (рис. 1. 67,
75). Основной круг аналогий данным ук-
рашениям происходит из синхронных па-
мятников Дунайской Болгарии (Милчев
1963: Въжарова 1976). Все же по сравне-
нию с VI- VIII вв. количество украшений.
происходящих из Подунавья. уменьшает-
ся. причем большинство из них сломано.
Утрачиваются приемы штамповки, пай-
ки. основными приемами становятся ли-
тье и ковка (Григорьев 2000: 125). Веро-
я! но. именно с э!им связано и исчезнове-
ние некоторых типов вещей, бытовавших
на раннем этане. По пути ихнологичес-
кого упрощения эволюционируют гривны
и браслеты, причем складываю 1ся и мес-
тные 1ипы этих украшений (Григорьев
1988:103-106).
Вместе с тем неоднократно отмеча-
лось. чю некоторые украшения, распро-
страненных на территории Подунавья.
явились прототипами для роменских. а
затем и древнерусских ювелирных укра-
шений. Это лучевые височные кольца,
дротовые тривны. трсхрогие лунницы.
Лучевые височные кольца. Еще
11.11. Ляпушкин указывал на аналот и пя-
тилучсвому височному кольцу, происхо-
дящему из клада, найденного в квадрате
V тородитпа Новотроицкого, среди древ-
ностей Великой Моравии (Ляпушкин
1958: 26). С моравскими образцами связы-
вали кольцо из Новотроицкого и другие
исследователи (Левашова 1967: 26: Шина-
ков 1980: 110-127: Григорьев 2000: 126; Се-
дов 2002: 537).
Пятилучсвые височные кольца ран-
них типов были открыты на Новотроиц-
ком городище и в составе Зарайского (Же-
лезпипкого) клада (рис. 5.11-14). Лучевые
височные кольца, найденные на Ново-
троицком городище, грубее найденных в
Зарайском кладе, которые являются, ве-
роятно. удачно отлитой из низкопробно-
ю серебра копией черненого украшения
(Левашова 1967: 25-28). На территории
Руси не! лучевых колец с настоящей зер-
нью. но аналогичные зернсные укра-
шения встречаются в западнославянских
землях. Так. копыта, происходящие с тер-
ритории Моравии (из Блу чина). представ-
ляют собой кольцо, гладкое в верхней
части и украшенное в нижней части пи-
рамидками терни (рис. 5. 6). Центральная
пирамидка наиболее длинная, напомина-
ет подвеску гроздевидной серьги. По бо-
кам ее расположено еще по две пирамид-
ки зерни, а сверху — три зерневых зубца,
на дужке шарики (Poulik 1948: fig. 1.7).
На ранних древнерусских кольцах сохра-
нены ли шарики, на подвеске выделен ва-
лик — следы от дужки (рис. 5. 12). Этот и
30
Глава I
Рис. 5. Лучевые и лопастные кольца, их прототипы и аналоги. ] — Италия, 2 — Сирия, 3,4 — Сицилия, 5 —
Простои Маре (Венгрия), 6—Блучин (Чехия). 7-9—Моравия. 10—Кецел (Венгрия). 11,12,14—Новотроицкое. 13—
Зарайский клал. 15— Кубаево. 16.17—Супруты, 18—Новый Кривск, 19—Радуга, 20—Чсботовичи,21—Тушино.
22 — Сельпо, 23 — Белясвка, 24—Туровичи, 25 — Германская Буда, 26-28 — Бочарове. 29 — Белевский у., 30-32 —
Ингушетия.
Ювелирный укор восточных славян к VI-IX вв. 31
близкий типы серег с зернеными лучами
пришли из Византии во второй половине
I тыс. н.э. и получили широкое распрост-
ранение в западноевропейских странах
вплоть до Скандинавии (Тэоровий-
.ЪубинковиЬ 1951: abb. 14./).
Прослеживается связь украшения из
Новотроицкого с более поздними пяти- и
семилучевыми кольцами с псевдозсрныо.
характерными для ромейских памятни-
ков. а зак'.м и для древносмей радимичей
(Шилаков 19X0: 115). Е.А. Шинаков раз-
деляет мнение В.П. Левашовой о том. чю
пятилучевые височные кольца восходят
к золотым и серебряным моравским чер-
неным пяшлучсвы.м кольцам VI - IX вв..
аналотчным тем. что приведены у И.
Поулика (Poulik 1948: 146). Кроме нятилу-
чевой конструкции, с западнославянски-
ми украшениями эти кольца сближает
небольшой размер (менее 40 мм по вер-
тикали). наличие трех зубчиков но верх-
нему краю, рельефное продолжение дуж-
ки на щитке. Восточнославянские кольца
являются упрошенными подражаниями
западнославянским, причем насюящая
зернь имитируется в литье, продолжение
дужки на щитке носит уже не функцио-
нальный. а чисто декоративный харак-
тер. Данную I руппу восточнославянских
колец Е.А. Шинаков датирует по наход-
ке на Новотроицком городище IX в. и воз-
водит к нему все остальные лучевые коль-
ца древнерусского времени.
На заключительном этапе развития
роменской культуры пяти- и семилучевые
кольца представлены на поселении Лух-
товка. Воробьевка. Полтава, на Большом
Горнальном городище, городище Супру-
ты и в составе Жслезницкого клада. За
пределами роменской терри горни в IX-
X вв. подобные кольца представлены на
славянских памятниках Полонья. па го-
родище Хотомель и в Гнездове (Григорь-
ев 2000: 126).
Кроме приводимых обычно в литера-
туре моравских аналогий, можно указа 1ь
на аналогичные серьги с тремя черневы-
ми лучами, спаянными из настоящей зер-
ни. и тремя пирамидками из грех зерни-
нок каждая, расположенными над луча-
ми на кольце, встречающиеся на терри-
тории Хорватии (например, в Височане
и Солинс). Традиционно подобные черне-
ные украшения также связывают с рабо-
т ой визан 1 ийских мастеров, датировка же
их v рашых авторов колеблется в преде-
лах VII X вв. (Juric 1987: 259. 26?. tab.1V.
5).
Сама же византийская традиция изю-
ювлепия серег с тремя гроздевидными
выступами, возможно, имеет очень дав-
нюю 1ралицию и восходит к древневос-
точным украшениям. Лунницевидные
серьги с гроздевидными выступами «ви-
зан ШЙСКОГО мира» связаны с лунообраз-
ными подвесками позднеангичной Пале-
стины и Сирии от которых прослежива-
ется ретроспекция к образцам II 1 тыс.
до н.э. (Goldman 1996: fig. 17-18: Беляев
1999: 19). Серьги с тремя гроздевидными
лучами встречены в коллективном захо-
ронении V - IV вв. до н.э.. раскопанном у
с. Джрарат (неподалеку от Еревана), ана-
логичные украшения изображены и на ре-
льефах потднсассирийского времени
(VII в. до н.э.) (Тирацян 1964: 66. рис. 2. 3).
Кроме того, в качестве прототипов для
древнерусских пятилучсвых колец можно
рассматривать и находимые на террито-
рии Румынии и Веш рии трех- и пятилу-
чсвые серьги, являющиеся, по мнению Д.
Теодора, упрощенными производными от
звездовидных серег византийского проис-
хождения (Teodor 1995: 187-206). Две серь-
ги этою типа происходят из могильника
Карлииа-Констанца. один фрагментиро-
ванный экземпляр из Тэрнава Маре-Си-
биу. еще один фрагмент из Баната (точ-
ное место находки неизвестно), два экзем-
пляра из Горня-Караш Северин, один
фрагмент был найден в Вэдень-Васлуй
(Teodor 1995: fig.5). Серьги этого типа со-
стоят из литой луннпцеобразной подвес-
ки. украшенной в нижней части тремя или
пятью лучами настоящей или псевдозер-
ни. при переходе oi подвески к дужке —
литыми бусинами. В ценз ре верхней час-
ти подвески иногда расположена пира-
мидка зерни, в ряде случаев припаянная
к выступу-рогу лунницы. Дан Теодор да-
тирует этот тин украшений IX - XI вв.
(Teodor 1995: 194).
На наш взгляд, в качестве прототипов
для подобных украшений можно рассмат-
ривать не юлько звещовидные серьги,
но и более близкие по форме изящные
ажурные серый византийской работы,
распространенные в VI - X вв. (Byzantium
1989: fig. 62-64). Декор этих украшений
32
Глдвд I
весьма разнообразен, но их объединяет
лунницсобразная форма подвески, укра-
шенной сканью, зернью или эмалями, ша-
рики на дужке по краям подвески, а глав-
ное — зерневые треугольники, располо-
женные в нижней, а ипо!да и верхней ча-
сти подвески. Как правило, нижние треу-
гольники чередую 1ся с проволочными
колечками или жемчужинами на синях
(рис. 5. 7-3. 10). Ишересно. что в декор
этих византийских украшений зачастую
введены изображения пищ (Byzantine
and past Byzantine art 1986: 184). Возмож-
но, дальним отголоском эюй традиции
являются парные изображения птиц в вер-
хней части подвесок ссмилучевых височ-
ных колец X в. из Супрут (рис. 5. 17). а
также пятилучевого височного из могиль-
ника Маморница на Буковине (Из варяг
в греки... 2000; Тимощук 1982: 152. рис. 91).
Таким образом, прототипами для ро-
менских лучевых колец можно считать
целый набор зерненых украшений визан-
тийско-подунайского круга, происходя-
щих с территории Сицилии. Далмации.
Болгарии. Венгрии. Румынии. Чехослова-
кии (Григорьев 2000: 129. рис. 46).
Дроговые гривны с замком в двойною
петлю (рис. 1.69). вероятно, имеющие при-
балтийские истоки (Корзухина 1954: 82).
представленные на волынцевских и ро-
менских памя!никах (Харьсвский. Ивах-
нинский клады, городище Новотроицкое),
продолжают существовать и в древнерус-
ское время. При Э1о.м претерпевает изме-
нение характер оформления дрота: у из-
делий второй половины VIII — начала
IX вв. он круглый крученый, в IX в. —
квадратный крученый, в конце IX-X вв.
— квадратный или ромбический некруче-
ный (Гршорьев 1990: 53; 2000. 134).
Дротовые браслеты с раскованными
пластинчатыми концами эволюционируют
от ранних волынцевских образцов, ори-
ентированных на западнославянские про-
тотипы (Харьевский клад), к ромейским,
а затем — древнерусским типам (Жслсз-
нипкий и Полтавский клады. Горналь.
Липино. Тазово). Аналогична судьба и
схожих украшений, выполненных в иной
технике. — пластинчатых браслеюв.
средняя часть которых скована в дрот
(Фагивижский клад. Волынцевский мог.,
городите Новотроицкое, пос. Горбово и
Горки). Вероятно, во второй половине
X в. на основе этого типа украшений
складываются типичные древнерусские
браслеты с расширяющимися пластинча-
тыми концами (Григорьев 2000: 135).
Трехрогие лунницы с псевдозернью на
концах, имеющие подунайские истоки
(гор. Ти гчиха и Кузнецовское), также про-
должают существовать в древнерусское
время (Григорьев 1990: 52).
Прототипами для серег «волынского»
типа X — начала XI вв. являются, на наш
взгляд, целые и фрагментированные эк-
земпляры с тиснеными и литыми подвес-
ками с Новотроицкого I ородиша (Ляпуш-
кин 1958: 28. 40. 90. 127) (рис. 1.67; рис. 32.
3).
Появление на ромейских памятниках
подковообразных фибул (рис. 1. 70) тради-
ционно связывается с влиянием прибал-
тийского ювелирного дела (Мальм 1967:
150). Наиболее ранняя находка подково-
образных фибул на ромейской террито-
рии происходит из жилища 25 городища
Новотроицкого (Ляпушкин 1958: 98. рис.
65. 3). Найдены такие фибулы и в слоях
первой половины X века на Горбовском
поселении. Оригинальное предположение
о проникновении данного типа украше-
ний на ромейскую территорию не непос-
редственно из Прибалтики, а опо-
средованно через территорию Великой
Моравии было высказано А.В. Григорь-
евым (Григорьев 1990: 53:2000: 137).
Надо отметить, что в эго же время
(IX в.) подобные фибулы появляются на,
памятниках культуры Луки-Райковецкой
(например, несколько экземпляров таких
фибул было найдено на городище Хото-
мель -- Русанова 1973). Расцвет же ноше-
ния подобных застежек на древнерусской
терриюрии приходится на XI - XII вв.
При переходе от Пеньковской и коло-
чинской культур к роменской культуре
(впрочем, так же как и от пражской к лука-
райковецкой) происходит смена ювелир-
ного убора. Утрачивается традиция но-
шения сначала пальчатых, а затем и ан-
1рономорфных (доживающих в виде дери-
ватов до IX в.) фибул. Эю изменение убо-
ра. на наш взгляд, отражает приход но-
вого населения с Дуная, с чем и было свя-
зано появление новых групп украшений
подунайского типа, сопровождавшееся
заменой в костюме вышедших из упо-
требления пальчатых и антропоморфных
фибул подковообразными. Вместе с тем
надо признать, чю при переходе к куль-
Ювелирный укор восточных славян в VI-IX кв. 33
турам середины VIII — начала X века ме-
няется. по-видимому, и сам характер кос-
тюма. Если пальчатые фибулы входили в
состав женского костюма, носились по две
и скрепляли бретели платья или прикреп-
ляли плащ (Щеглова 1999: 307). то подко-
вообразные носили и мужчины, и женщи-
ны. по одной штуке, в основном для при-
крепления плаща.
Таким образом, на раннем этане суще-
ствования ромейской культ хры отмечает-
ся воздействие на развитие местного ре-
месла мощного импульса провшщиально-
визаш ийского. западнославянского и по-
зднеаварского ювелирного дела. Данный
импульс носил кратковременный харак-
тер. за которым последовала утрата слож-
ных ювелирных приемов (таких. как пай-
ка. тиснение, зернь), характерных для ра-
боты ювелиров, изготовлявших украшения
второй группы кладов антов. На основе
западнославянских и византийских прото-
типов. но в более простых техниках (ли-
тье. ковка), создаются своеобразные древ-
нерусские типы украшений лучевые ви-
сочные кольца, дротовые гривны, брасле-
ты с расширяющимися заходящими конца-
ми. трехрогие лунницы. В то же время на
базе салтовских ювелирных украшений,
широко распространенных с середины
VIII века на ромейской территории, не
возникло никаких местных украшений. На
последнем этапе существования ромейс-
кой культуры на ее памятниках появляют-
ся отдельные веши с других древнерусских
территорий, а роменские украшения попа-
дают в соседние древнерусские области
(например, пятилучсвые височные кольца,
найденные в Гнездове и на городище Хо-
томель) (Григорьев 1990: 54; 2000:137-138).
I. 4. ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ПРАЖСКО-КОРЧАКСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ ЛУКИ-РАЙКОВЕЦКОЙ
Хотя ювелирный \бор пражской
культуры формируется несколько рань-
ше. чем комплекс «древностей антов»,
мы рассматриваем ею в последнем раз-
деле этой главы, так как от него логи-
чен переход к древностям культуры
Луки-Райковецкой. явившейся на неко-
торых территориях Восточной Европы
прямой предшественницей древнерус-
ской кхлыуры.
I. 4. 1. Ювелирные украшения пражской культуры
В набор украшений, характерных для
пражской культуры, входили различные
варианты пальчатых фибул, в том числе
и миниатюрные, браслеты с расширяющи-
мися концами, перстневидные височные
кольца, в том числе и с S-видным завит-
ком (рис. 1. 47-57). пряжки с коробчатой
петлей, детали теральдической ременной
тарии туры. пряжки, имеющие аналоги в
зоне византийского влияния, в Централь-
ной и Северо-Восточной Европе (Гаври-
тухин. Обломский 1996: 137-138).
Украшения найдены в основном на горо-
дище Зимно. На неукрепленных поселениях
отти встречаются довольно редко. На городи-
ще были обнаружены поясные пряжки, на-
шивки (часто орнаментированные или изоб-
ражающие птиц}')- кольца, бляшки, браслеты
с утолщенными круглыми или гранеными
концами, дуговидные и пальчатые фибулы,
спиральки. Уникальнььми находками являют-
ся серебряный перстень с инкрустацией
и бронзовый колокольчик. Местные юве-
лиры знали приемы литья, холодной ков-
ки. чеканки. На городище было найдено
около десятка литейных формочек из мер-
геля. бронзовые слитки, полуфабрикаты
ювелирных изделий, льячки, тигли, нако-
вальни (Avnix 1972: 57-77; Баран 1972:130-
136).
Поздняя стадия существования праж-
ско-корчакской культуры синхронна фи-
нальному этапу существования Пеньков-
ской и колочинской культур и датирует-
ся в пределах VII века. Начало же куль-
туры Луки-Райковсикой в настоящее вре-
мя датируется концом VII — началом
VIII вв. Основой для подобной датиров-
ки служат находки на поселении Обухов
2 серьги с полой тисненой подвеской, ук-
рашенной в нижней части пирамидкой
зерни, близкой к тисненым серьгам вто-
рой группы «антских» кладов, и серьги
со штопоровидной подвеской (рис. 1,59,
34
Глава I
60). В Поднепровье к этому времени от-
носятся клады второй хронологической
1руппы. Верхней хронологической гра-
ницей сушсствования культуры Лука-
Райковецкая считается конец IX века
(Гавршухин. Обломский 1996: 139).
Среди «ювелирного наследия» пражс-
кой культуры для нас особый интерес
I. 4. 2. Ювелирные украшения
Набор ювелирных украшений, харак-
терный для культуры Лука-Райковецкая.
в целом довольно беден (рис. 1. 80-85). В
этот период из обихода исчезаю! паль-
чатые фибулы, практически нет тисненых
украшений, нс практикуется лскориров-
ка украшений зернью.
Одна из наиболее представительных
подборок ювелирных изделий, характер-
ных для древностей этой культуры, про-
исходит с Каневского поселения. Здесь
были найдены проволочные височные
кольца, подковообразная фибула, серы и-
лунницы. украшенные пссвдозерныо. под-
всски-бхбепчики. браслеты пластинча-
тые. литые и из граненой проволоки, пер-
сти. пряжки железные, стеклянные бусы
и пронизки. На поселении была обнару-
жена ювелирная мастерская с формочкой
для отливки серег салтовского типа. На
поселении Ханска 2 в Молдове были най-
дены антропоморфные фибулы VIII века
вместе с лепной керамикой типа Лука-
Райковецкая. а на поселении Бранешты I
трсхрогая лунница (Рафалович 1972:
рис. 36: Археология Украинской ССР 1988:
184-185. 188. рис. 24) (рис. 1.ДО. 85).
На памятниках тина Лука-Райковец-
кая встречаются и украшения, аналотч-
пые ромейским. Так. бронзовый пластин-
чатый браслс! с поселения Буки, бронзо-
вый ли!ой перстень с круглым щшком с
поселения Шумск, семилучевое ложнозер-
неное височное кольцо из городища Хо-
томель находят аналогии среди украше-
ний IX века, найденных на городище Но-
вотроицком (Русанова 1973: 18-19).
Уникальная находка была сделана на
городище Монастырек. Здесь были обна-
ружены две серьги в виде лунницы с вер-
тикальной подвеской (рис. 1. 82). На од-
ной из них орнамент состоит из псевдо-
зерни, расположенной по контуру лунни-
цы. с одной стороны, и двойного зигзага,
с другой. Вторая серьга орнаменшрова-
представляют перстневидные кольца с S-
видным завитком, как встречающиеся и в
древнерусское время. Эти украшения,
появившиеся в VII - VIII вв. в Среднем
Подунавье. в IX -X вв. распространились
на территории, заселенной славянами
потомками носителей пражско-корчакс-
кой культуры (Седов 1995: 31-35. 1999:45).
культуры Луки-Райковецкой
на одинаково с обеих сторон: ряд нсев-
дозерни по контуру и двойной круг с ши-
шечкой в центре. На конце подвески
гроздь из пяш шариков. Подвески отли-
ты в двусторонних разъемных формах
(Максимов. Пстрашснко 1980: 55: 1988:
90).
Аналогичные бронзовые серьги
встречаются в великоморавских древно-
стях IX века. Ближайшие аналоги дан-
ным украшениям происходят с ряда па-
мятников Словакии последней трети IX
— первой половины X вв.. например, из
Нитры (так называемые кольца «нит-
ранского» mna)(Chropovsky 1978: fig.17).
Обе серый из Монастырька были отли-
ты по рецептуре многокомпонентных
сплавов, характерных лля киевского юве-
лирного дела X в. (Орлов 1988: 138-140).
Все приведенные Р.С. Орловым приме-
ры украшений, выполненных но анало-
гичной рецептуре, происходят из дру-
жинных погребений.
Три бронзовых лунничных височных
кольца, аналогичных происходящим сю-
родиша Монасгырск. были найдены в
Гнездове. Гнсздовские кольца происхо-
дят из слоев, содержащих ленную и кру-
i овую керамику, желтые бусы-лимонки и
пронизки. желтый рубленый бисер, и да-
шруются Т.А. Пушкиной X в. — вероят-
но. его серединой (Пушкина 1987: 55). На
Гнсздовском городище была обнаружена
и лицевая створка каменной литейной
формочки для отливки кольца «нитранс-
кого типа». Если подобные словацкие и
балканские украшения датирую 1ся вто-
рой половиной IX - первой половиной
X вв.. то Гнездовская находка происходит
из слоя середины X в. (Ениосова 1998: 69.
70. рис. 1).
Кроме того, в Гнездове было найдено
два бронзовых позолоченных, сильно по-
врежденных огнем кольца, у которых
средняя полая бусина закреплена на шты-
Ювелирный укор восточных славян в VI-IX вв. 35
ре. в верхней части которого видны сле-
ды четвертой бусины. Эти украшения
отнесены Т./Ч. Пушкино!! к одному из ва-
риантов «каранганского стиля», распро-
страненного в Моравии. Каринтии. Хор-
ватии и Далмации в IX X вв. К этому же
кругу находок принадлежат и три гроз-
девидных серебряных кольца, найденные
в Гнездове и о 1 носящиеся к одному из по-
здних вариаиюв широко распространен-
ных в Великой Моравии украшений, да-
тируемых концом IX — первой половиной
X в. (Пушкина 1987: 55). Находки на Гнсз-
довском городище украшений западно-
славянского облика, литейной формочки,
керамики, а также некоторых типов ору-
жия и воинского снаряжения свидетель-
ствует о притоке в середине X в. группы
западнославянского населения (Пушкина
1987; Рабинович. Рябцева 1997; Ениосова
1998: 70). Вероятно, следы присутствия
этого населения фиксируются и на Мона-
стырькс.
Как уже отмечалось выше, при пере-
ходе О1 Пражской культуры к культуре
Лука-Райковецкая набор ювелирных ук-
рашений претерпевает довольно сильное
изменение. Исчезают все виды пальчатых
фибул. На раннем этапе еще изредка
встречаются антропоморфные фибулы.
Исчезают поясные гарнитуры, выполнен-
ные под византийским влиянием. Весьма
редки украшения, связанные с Поду навь-
ем (серый с круглой тсненой и шгопо-
ровидной подвеской и! Обухова 2. серь-
ги из Монастырька). В славянском уборе
ПОЯВ.1ЯЮ1СЯ салтовские серьги и перстни.
Нововведением является появление на
лука-райковецких и ромснских памятни-
ках подковообразных фибул, которые
будут существовать и в дальнейшем в
древнерусских памятниках. Исчезают
браслеты с расширенными полыми кон-
цами. но сшс в X веке буду i встречаться
цельнолитые браслеты с расширенными
концами. Среди форм ювелирных украше-
ний, сохранившихся от более ранних сла-
вянских древностей, можно назвав пер-
стневидные височные кольца, подвески к
ожерельям - - круглые медальоны, бубен-
чики и трехрогие лунницы.
Проволочные перстневидные височные
кольца с незамкнутыми концами были, по-
жалуй. наиболее распространенными сла-
вянскими височными украшениями на про-
тяжении VIII - X вв. Встречаются они в
памятниках типа Луки-Райковецкой
(Максимов. Петрашенко 1988: рис.18. 6),
ромснских (Ляпушкин 1958: 31. рис. 17).
салтовских (Плетнева 1967: 141. рис. 36).
великоморавских (Dckan 1976: 170) и бол-
1 арских (Въжарова 1976; 228. обр. 142. 16).
Весьма популярен лот тип украшения и
в древнерусское время (особенно у юго-
западной 1 руппы восточных славян, но
был распространен и на всей восточнос-
лавянской 1ерритории). Эти кольца носи-
ли вплетенными в волосы, на кожаных
или i каных летах. крепили к шапочкам,
использовали в качестве серег или свое-
образных подвесок-рясен для крепления
в нижней части более пышных колец дру-
юго типа, например, грехбусинных. В
севсро-вошочных регионах (Вологодская
область) из перстневидных височных ко-
лец делали ожерелья в виде цепи. Носили
их и в виде венца вокруг головы (напри-
мер. в Подмосковье), аналогичный спо-
соб ношения зафиксирован и в Польше
(Левашова 1967: 15).
Перстневидные кольца с S-видным за-
витком были распространены в основном
в X - XIV вв.. в ряде случаев они дожива-
ют и до XV XVIII вв. Наибольшая кон-
центрация подобных височных колец при-
ходится на западнославянские земли —
Польшу и Чехию. Вшречаются они так-
же в Болгарии. Румынии. Молдове, на
территории Древней Руси, в основном в
Ю1 о-западных районах (Рындина 1963:
248).
Практически столь же широка геогра-
фия распространения нсорнаментирован-
ных грушевидных бубенчиков с линейной
прорезью, продолжавших существовать и
в древнерусских памятниках X - XI вв.
(Мальм. Фехнер 1967: 134. рис. 20).
Таким образом, при рассмотрении
предшествующих древнерусской культу-
ре славянских древностей V - IX вв. вы-
деляется ряд типов женских украшений,
продолживших существовать и в древне-
русском металлическом уборе. К ним. на
наш взгляд, относятся: пластинчатые вен-
чики, бляшки-нашивки на головные по-
крывала, подвески-лунницы и круглые
подвески-медальоны, браслеты с расширя-
ющимися концами, дротовые гривны, пер-
стневидные и лучевые височные кольца,
серьги с тиснеными вертикальными под-
весками, грушевидные бубенчики с линей-
ной прорезью, подковообразные фибулы.
36
ГАДКА II
ГЛАВА II.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УБОРЫ IX - XI вв.
И ИХ СООТНОШЕНИЕ С УБОРАМИ ИЗ КЛАДОВ
11.1. ПРОБЛЕМА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН
В предыдущей главе мы выделили типы
украшений, составившие в древнерусском
уборе пласт наследия раннеславянского вре-
мени. Теперь обратимся к особенностям юве-
лирных уборов различных тсрриюрий Древ-
ней Руси. Это так называемые «племенные»
или территориальные уборы, представлен-
ные в основном в материалах некрополей,
вс1 речаюшиеся также на поселениях и в го-
родских слоях. В данной главе мы прослежи-
ваем особенности таких локальных уборов,
а также взаимосвязь их с парадными убора-
ми. рассматриваемыми в т регьей и четвер-
1 ой главах на основе ма гериалов древнерус-
ских кладов.
При рассмотрении региональных мест-
ных уборов, за ко 1 орыми ист оричсски закре-
пилось название «племенные», нельзя не кос-
нуться проблемы географической и культур-
ной идентификации летописных восточно-
славянских племен. Ведь до сих пор «жив» и
активно эксплуатируется историографиче-
ский «старожил» - идея о специфических
племенных украшениях этнографических
групп славян Восточной Европы.
Существует ли подобная проблема? Бе-
зусловно, да. В какой-1о степени ее во шик-
новением мы обязаны и самому редактору-
составителю «Повести временных лет», ко-
торый попытался ответить на вопрос, где
прожива. ш в древнейший период славянские
племена, составившие со временем ядро
древнерусской народности. Можно как ут од-
но объясни 1 ь противоречивость информа-
ции в отношении описания расселения не-
которых упомянутых Нестором племен, од-
нако сама по себе она является факт ом. с ко-
торым необходимо считаться всем исследо-
вателям.
Можно привести пример. В отношении
уличей, исходя изданных, представляемых
недатированной частью ПВЛ по разным ле-
тописным спискам, можно полага т ь. что они
жили: а) ио Днестру и до Дуная: б) по Днес-
тру и по Бугу; в) по Буту и Днепру. Возникает
следующая ситуация. Каждому фрагменту
информации, предоставляемой тем или
иным летописным сообщением, исследова-
телями вольно или невольно придается
смысл «законченной» иодной информации.
11 кот да вроде бы «законченные» и «самодо-
статочные» фрагменты информации проти-
воречили друг другу, исследователь волыто
или невольно становился в защиту тот о или
иного фрат мента и идеи, которая из этого
фрат мента вытекала. Если сообщение одной
летописи говорило, что уличи жили по Дне-
стр} . а другой, предположим, по Бугу и Днен-
ру. то исследователи, как правило, считали
данные одного из этих сообщений ошибоч-
ным (Шахматов 1919: 30: Седов 1982: 129).
Возникает далеко не риторический во-
прос: если достоверно только одно из двух
противоречивых сведений о племени «А», то
насколько мы можем быть уверены в дос т о-
верности сдинст венного сообщения о пле-
мени «Б»? Мы же допускаем, ч голо нас дош-
ли т те все сущее т вовавшие. те т описные спис-
ки. Авторы склонны.скорее, говорить, что
сведения источников противоречат друт дру-
гу. а не дополняют друт друга. А ведь тот или
иной фрат -мент информации, предоставляе-
мый источником, несмотря на противоречи-
вость и несовпадение с данными друт ото.
може т отражат ь реально су шествовавшие
т т рел ста влей ття и знания. Точно так же зачас-
тую противоречивы описания двух свидете-
лей подробностей однот о и того же пропс-
Региональные ювелирные укоры IX - XI вв. i
шествия. В поисках одной, «единственно
правильной».исторической достоверное!и
лет че было отнес i ись с недоверием к источ-
нику. чем объяснить кажущиеся или реаль-
ные про творения вето информации. Ведь
не во всех же случаях мы имеем дело с явны-
ми описками переписчиков. К счастью, в
исследованиях послсднихлет наметился про-
цесс преодоления издержек подобного под-
хода к ашьтизу сведений письменных ис 1 оч-
ников. в том числе и летописей.
Для нас очень важно выявить реальные
географические представления летописцев о
расселении славянских племен Восточной
Европы, гем более если они со временем пре-
терпевали изменение. Тот или иной стиль
пли своеобразный специфический убор укра-
шений жестко привязан территориально и
хронологически, и. выписывая ему «этничес-
кий паспорт» одного и только одного из ле-
тописных племен, мы должны четко осозна-
вать неполноту. а той противоречивость л е-
1 описных сведений о географическом разме-
щении упомянутых народов и племен.
С проблемой географической идентифи-
кации летописных племен связана и пробле-
ма их культурной идентификации. Какие
древности какому племени принадлежали?
Это тот вопрос, который задавали археологи
еще во в горой половине XIX в., когда на во-
сточнославянской территории стали актив-
но вестись раскопки курганов погребаль-
ных памятников X - XIV вв. Со временем
исследователям, в частности А.А. Спицыну
(Спицын 1899: 301-340). удалось выявить
локальные особенности погребальной обряд-
ности и специфические наборы женских
украшений. «В собственно русских древнос-
тях (главным образом XI в.) намечается
столько же археологических типов и райо-
нов. сколько летопись перечисляет древне-
русских племен. Географическое положение
этих районов соответствует \ казаниям лето-
писи о местах расселения племен» (Спицын
1899: 338). Работа А.А. Спицына дала тол-
чок к изучению этнических и археологичес-
ких особенностей «племенных» культур. В
русле этого направления появляются в 30-
40-х гт'. XX в. первые археологические моно-
графии. посвященные отельным восточнос-
лавянским племенам (Арциховский 1930:
Рыбаков 1932; Третьяков 1941).
i<X соотношение с утюралхн из кладок 37
Практически одновременно с эйфорией
от возможное! и археологического выделения
древностей тех или иных племен в историо-
т рафии стали возника гь и сомнения по это-
му поводу. Например.уже в 1938 г. П.Н.Тре-
тьяков выразил недоверие к возможности
исио.тыовать древнерусские курганные .ма-
териалы для идентификации летописных
племен. В качестве примера он приводил
ситуацию с древностями вя т ичей. где специ-
фические «вятичские» украшения появляют-
ся в XII в., в период распада племен. Терри-
ториальные различия женских украшений в
курганах XI XIV вв. автор объяснял тяготе-
нием населения к определенным экономи-
ческим феодальным центрам Руси (Третьяков
1938: 34-51). Основной оппонент П.Н. Тре-
тьякова А.В. Арциховский. выступивший
в «защиту летописей и курганов» (Арцихов-
ский 1938: 53-61). считал, что «племенные
типы украшений оказались более живучими,
чем племенное имя» (Арциховский 1930:151).
Иной взгляд на эту проблему высказывал
M.I I. Артамонов: «Геофафичсскис обозначе-
ния племен свидетельствуют, очевидно, о
том. что летописные племена не были, ко-
нечно. племенами в собственном смысле
этого слова. Это были, безусловно, террито-
риальные объединения» (Артамонов 1990:
275). Под территориальными объединения-
ми автор понимал княжения.
В паст оящее время наиболее распростра-
ненной все же является точка зрения, опи-
рающаяся на построения А.А. Спицына. Вот
что пишет В.В. Седов в 1982 г.: «теперь пред-
ставляется несомненным, что женские ви-
сочные украшения восточных славян могут
служи ть надежным этнопле.мештым призна-
ком...» (Седов 1982; 6). Такой традиционный
подход при его абсолютизации не учитыва-
ет факта родственности многих славянских
племен раннего средневековья, их совмест-
ного «дунайского прошлого». миграций сла-
вянских народов, в том числе и непосред-
ственно уже на территории Восточной Ев-
ропы.
Многие ли летописные племена из изве-
ст ных Нестору (он упоминает 13) «владеют»
специфическими, наглядными .тля современ-
ных археологов украшениями? При самых
оптимистических подсчетах их гораздо мень-
ше половины. То же самое касается и локаль-
3S
пых особенностей погребального обряда и
другого вешевого материала в пофебениях.
Известно, с какими сложностями в вопросе
о территориальных границах и этнической
принадлежности встречаются исследовате-
ли при попытке распределить по «нацио-
налы 1ымквар1 ирам» погребальные памятни-
ки древлян. волынян, уличей, тиверцев и т.д.
(Тимофеев 1961).
И такие проблемы возникаю! не только в
атрибуции пофебальиы.х памяншков. но и в
целом восточнославянских древнос!ей. На-
пример. огромный культурный мир древно-
стей Лука-Райковецкой культуры предстает
достаточно единообразным, хотя мы точно
знаем целый ряллеюписных племен (волы-
няне. древляне, дреговичи, поляне), живших
в ее ареале. О каком этноспецифическом юве-
лирном уборе лля юго-западных и западных
племен может идти речь, когда мы не знаем,
ни исходя из сообщений летописей, ни ис-
ходя из данных археолот ни. где территори-
ально проходила граница между тиверцами
и уличами, между уличами и волынянами,
между волынянами и древлянами. I де вооб-
ще могли размести 1ься (вернее, поместить-
ся) поляне, исходя из сведений Нестора и
Конста! пина Bai рядородного?
Возможно, несколько проще обстош дело
с древностями Днепровского Левобережья,
если рассматривав как «племенные» ссве-
рянскис древности ромснской культуры. Рас-
пространившиеся с XI в. древности «носи-
телей спиралевидных колец» уже являются
древнерусскими, территориально совпадаю-
щими с землей северян (Григорьев 2000:139).
В это же время складываются «этноопрсде-
Гадва И
ляюшие» украшения радимичей, еще поз-
же — вятичей, значит. Э1 о тоже не племен-
ные. а древнерусские уборы.
О том, что височные кольца нс были же-
стко привязаны к определенному племени,
свидетельствуют и материалы комбиниро-
ванных уборов. Если считать височные
кольца своеобразной племенной «визитной
карточкой», то как тогда объяснить сочета-
ние в составе одного погребально! о убора
(например, кург. у с. Бочарова в бас. р. У1 -
ры) лопастных, браслетообразных завязан-
ных и ромбощитковых колец (Левашова
1967: рис. 6. 6). Еще осторожнее надо под-
ходить к определению этнической принад-
лежности украшений, находимых в городс-
ких слоях.
Таким образом, термин «племенной убор»
корректнее соотносить с культурами более
раннего времени — ромейская, лука-райко-
вецкая. длинные курганы. Уборы же X -
XIII вв.. выявляемые по данным захороне-
ний. определять как территориальные, харак-
терные для отдельных княжений, а затем -
областей древнерусского государства, не все-
гда совпадающих с границами расселения
летописных племен. В то же время соотне-
сение определенных типов украшений из
погребальных комплексов с летописными
племенами в литературе стало уже общим
местом. Поэтому, лля избежания терминоло-
гической путаницы, мы будем говорить об
украшениях, характерных для ареала рассе-
ления летописных племен, имея в виду, что
«этническое» наименование убора предпола-
гает не этническую его принадлежность, а
терри 1 ориалы iy ю.
II.2. ЮГО-З АПАД ДРЕВНЕЙ РУСИ
Как некое археолог!тческое с.пшшво. пле-
мена. объединенные в юго-западную группу
(древляне, волыняне и поляне), были прсд-
С1авлены еще А.А. Спицыным (Спицын
1899: 326.327). Начало формирования в аре-
але кулыуры Луки-Райковецкой отдельных
племенных образований В.В. Седов относит
к VIII -IX вв. (Седов 1983: 83. 1999:47). Ис-
следователем выделены грутшы райковецких
памятников. 1ерритория размещения коюрых
совпадаете областями расселения леюпис-
ных1пемсн. Первая i ру ппа. расположенная
в верховьях Буга. СТыри и Горыни. прожи-
вала на территории, к которой приурочен
ареал расселения волынян, вторая - в вер-
ховьях Тетерева и Ужа—древлян, третья —
в среднем течении Припяти дреговичей,
чет вертая - в киевском поречье Днепра —
полян (Седов 1999:47).
Харак 1ерной деталью убора, представ-
ленного в ареале расселения этой группы
племен, считаются перстневидные височ-
ные кольца в полтора оборота (Седов 1962:
197.198). По мнению В.В. Седова, для этого
региона характерна общность ювелирного
убора, онтичающегося скромношыо. otcvi-
Региональные ювелирные укоры IX - XI вв. и
С!вием нагрудных привесок и шейных гри-
вен. малочисленное! ыо браслетов и исполь-
зованием общеславянских типов височных
колец (nepci невидные) и перстней (Седов
1982:92). Действительно, многие захороне-
ния практически безынвешарны. но имен-
но в лом регионе в noi ребальных памятни-
ках и на поселениях представлены разнооб-
разные изделия с зернью. Гривен действи-
тельно мало, но они все же bci речаю i ся (на-
пример. на городищах Екимах цы и Алчелар).
Для этой группы славян ие характерны ме-
та, ьтические ожерелья, по отельные подвес-
ки встречаются довольно часто. Находка в по-
гребении X в. Пересоиницко! о могильника на
Волыни штампа для тиснения деталей под-
соотношение с уноралхн из кладов 39
весок-лчиниц лишний раз доказывает, что их
именно здесь и производили (Корзухина
1946:48). Кроме лунниц и «волынских» се-
рег. были распространены и серебряные зер-
ненью бусы, а 1акже разнообразные монето-
видные подвески.
Таким образом, бсдностыовелирного убо-
ра была характерна не для всего населения
л о! о региона, а вероятно, для той его части,
которая являлась непосредственными потом-
ками носитетей культуры Лукн-Райковецкой.
11овая же волна мигрантов из Подунавья. рас-
прош ранившаяся, предположительно, в се-
редине X в., принесла с собой более разно-
образный ювелирный убор, в том числе и
украшения с зернью.
II. 2. 1. Территория хорватов
Наименование этот о племени нс славян-
ское и. возможно, восходит к названию од-
ного из антских племен. Около 560 г. Вели-
кая Хорватия была разгромлена аварами и
часть населения переселилась в Далмацию
и Паннонию. Упоминаются хорваш и среди
племен Чехии. Восточнославянских хорватов
признают частью эю1 о распавшегося пле-
менного союза (Седов 1982: 126). В VIII
X вв.. до присоединения к Киевской Руси, ряд
хорватских княжеств располагался, верояню.
в бассейнах Сана и Верхнего Днестра (iepe-
бовляне. поборяни и лядошани) и на Сред-
нем Днестре и Верхнем Пруте (вое гочноте-
рсбовльские или галичские хорваккие кня-
жества) (Войтович 2001: 207). В-древнерус-
ское время для хорватов характерны трунто-
вые могильники, часть захоронений в кото-
рых перекрыта шипами (показательно, что
II. 2. 2.Терри
Судя ио археологическим данным, т ивер-
цы проживали на самой южной оконечнос-
ти вое!очнославянской территории и, воз-
можно. являлись пришельцами из западно-
славянских земель. Они воспринимаются ле-
тописцем нс как «свои», а «чужие», входив-
шие в состав Руси голько эпизодически. Ло-
кализуются в Поднестровьс. причем южная
граница их расселения вряд ли достшала
Дуная. Существует гипотеза о том. что рас-
селились тиверцы на этой территории позд-
нее уличей, в период между 854 и 885 гг. Воз-
использование плитняка характерно и для
нотребальных памяттшков Балкан).
В ювелирном уборе древнерусского вре-
мени этого региона (рис.6) преобладают пер-
стневидные височные колы та с за ходящими
простыми или отогнутыми концами, выпол-
ненные из четырехгранной проволоки, изред-
ка встречаются и S-конечные перст невидные
кольца (Делев и Глубочек). Трехбусинные ви-
сочные кольца найдены в могильниках при
Волковцах. Городшще. Горо.ипцс. Джурковс.
Иванс-Злотс. Мышкове. Смильницс. Встреча-
ются также проволочные или витые перстни.
К находкам, имеющим аналопш в материа-
лах кладов, о гносятся лунницы из Хотимежа.
а также золотой кол г, декорированный эмале-
вым изображением птицы, найденный в под-
плитовом погребении в 3BHH84e(Przvbvslawski
1909: 60-64; Седов 1982: 128).
>рия тиверцев
можной терри горней прародины этого пле-
мени яв.тяекя далматинское побережье Ад-
риатики. 1 де известны племенные этнонимы:
тервуняне. травуняне. тервуниоты. требине.
Встречаются на Балканах и некогорые
особенности культуры ювелирные укра-
шения. особенности керамики, фортифика-
ции и т.д.. характерные и для тиверцев По-
днестровья. Причиной ухода части тервунян
в Карпато-Днсстровские и Днест ровско-
Бужскис земли могли быть сербско-болгарс-
кие войны середины 50-х начала 80-х гг.
смоленско-полоцких кривичей псковских
Территория
хорватов
Рис. 6. Древнерусские территориальные ювелирные уборы.
Территория
уличей
Территория
полян
Территория
волынян
Территория
древлян
Глава II
Региональные ювелирные укоры IX - XI кв. и и\ соотношение с угюрдлш из кладов 41
IX в., сопровождавшиеся перемещениями
населения (Рабинович 1997:4-6).
В трупосожжениях (Алчедарский могиль-
ник. конец IX — первая половина X вв.) жен-
ский ювелирный убор представлен весьма
бедно. Есть ви 1ая бронзовая гривна, браслет
с несомкнутыми концами, перстневидная
трехдрово.точная серы а. Более разнообраз-
ный набор ювелирных украшений происхо-
ди! с городищ Алчедара и Екимауцы (X —
началоXI вв.)(Федоров. Чеботаренко 1974:
101.80.92: Федоров 1953:104-126) (рис.6).
На городище Екимауцы была найдена
одна из наиболее прелстави 1 ельных для Во-
сточной Европы подборок «волынских» се-
рег типа «С» и два фрагмен i a cepei типа «В»
(по нашей классификации). Среди других
украшений, имеющих аналог ни в материалах
древнерусских кладов, необходимо отметить
находку серебряной широкоротой зернсной
лунницы. починенной с оборотной стороны
пластинкой железа, нескольких экземпляров
круглых полусферических подвесок, украшен-
ных зернью и тисненых серебряных бусин.
К западнославянским типам украшений на
этом памятнике принадлежит литая замкну-
тая лунница, а также литое гроздевидное
височное кольцо. Аналогичное бронзовое
литое височное колечко было найдено при
раскопках грота Тринка I в Молдавии (Бор-
зияк. Рябой 1985:184. рис. 3).
Перстни на Екимауцком городище пред-
ставлены несколькими экземплярами. Уни-
кален массивный серебряный перстень, укра-
шенный объемной фигуркой сидящей па ли-
сте лягушки (Одесский арх. .музей, инв.
№48694). Это! перстень является, вероятно,
работой западноевропейского юве.тира. Кро-
ме того, на городите были найдены: брон-
зовый пластнчатый перстень, на месте со-
вмещения концов которого расположены два
геральдически сопоставленных. пылевидных
крина, окружающих два кольца (Кишинев.
ГИМ FB 7485-226): серебряный тсненый
перстень украшенный чернью и фиолетовой
вставкой (Кишинев. МАЭинв.№1132): пер-
стни бронзовые со стеклянными вставками
салтовского типа (4 зкз.) (Кишинев. МАЭ
инв. №.МА-КП-1183/370-373). Массивный
серебряный перстень с кнопкой на тыльной
стороне кольца и фиолетовой вставкой на
щитке имее! целый ряд более поздних ана-
логий в румынских кладах XVI — начала
XVII вв. (Ionita 2002: 213. pl. 23. 26). Однако
ио ряду признаков, таких, как техника испол-
нения. особенности гравированною орна-
мента. скимауцкий перстень отличается от
более грубых украшений позднего времени
и ci он 1. вероятно, в начале эволюционного
ряда подобных у крашений.
Браслеты, находимые на Екимауцком го-
родище. представлены несколькими типа-
ми. Наиболее распространенной находкой
(7 экземпляров) являются простыедротовые
браслеш со слегка суженными концами, в
ряде случаев украшенными нарезкой. По-
добные браслеты характерны для всей тер-
ритории расселения славян. На Руси они
были весьма популярны с X по XIV вв. Од-
ним экземпляром на Екимауцах представлен
брон зовый витой из трех дротов браслет.
Концы браслета вплетены друг в друга. Ви-
т ые браслеты распространяются на ieppn-
юрии Восточной Европы несколько позже,
чем дротовые. — с начала XI в. (Седова 1981:
94-95).
Кроме 1 ого. в 1951 г. на i ородище был об-
наружен фрагмент бронзового дротового
браслета, оканчивающегося рельефным изоб-
ражением змеиной 1 оловки (Кишинев. ГИМ
0/7485-227). В Карпато-Дунайском регионе
змсиноголовый браслет представлен, напри-
мер. на городище Диногсция (Dinogctia 1967:
291. fig. 172. 10). находят подобные змеино-
головые украшения на территории Болгарии
(Га1ев 1977: 39-40). Венгрии (могильник Ха-
лимба)и Македонии (Манева 1992: таб.49-
51). В то же время звериио- и змеиноголо-
вые браслеты были весьма характерны и для
территории расселения байтов, откуда эти
украшения начинают распространяться в X -
XI вв. на территории славян и финно-угров
(Седова 1981:94-95).
Moi ут свидетсльствоват ь о северных свя-
зях населения городища и находки фибул и
бубенчиков. На Екимауцах были найдены же-
лез! !ые подковообразные фибулы (одна целая
без иглы, фрагмент второй и отдельно игла —
Кишинев. ГИМ. Инв. 0/7485-223-225). Фи-
булы выполнены из крученого дрога. концы
раскованы и согнуты в трубочки. На терри-
тории Древней Руси спиралеконечные тор-
дированные фибулы являются довольно ред-
кой находкой (про! 1СХОДЯТ. например, из Гнез-
42
Гадка II
довских :: Темиревских курганов и датиру-
ются X-XI вв.). В этот же период они рас-
npocipa нсны в Прибалт ике и Скандинавских
странах (Левашова 1967: 156-157). Найден-
ные на городище бронзовые бубенчики (Ки-
шинев. МАЭ ипв. №МА 1183/478. 479-С)
относятся к ранним типам крестопрорезных.
Аналогичные бубенчики на 1ерритории
Древней Руси представлены в основном в
Приладожских курганах с сожжениями и во
владимирских курганах X-XI вв. (Мальм.
Фехнер 1967: 133. 134).
Бронзовые гривны на Екимауцком горо-
дище представлены 6 экземплярами витых из
трех дротов с петельками на концах и двумя
экземплярами дротовых с замкнутыми кон-
цами (Кишинев. МАЭ инв. № КП 1183/ 345-
350). Сходные гривны были найдены и в Бра-
нештском и Алчедарском могильниках.
Для ювелирного убора, распространенно-
го натерриторш! Карпато-Поднестровья. но-
шение шейных гривен не было характерно.
Тем более выделяется несколько находок по-
добных украшений, происходящих с терри-
тории Румынии и Молдовы. Весьма интерес-
на серебряная гладкая массивная дротовая
гривна с замком в двойную петлю, украшен-
ным сканной нт ыо. найденная на Алчедар-
ском городище (Федоров. Чеботаренко 1974:
80). Аналогичная гривна происходит из кла-
да Рэдукэнень (Румыния. Исторический Му-
зей г.Яссы) (Teodor 1980:403-423). Эти грив-
ны. вероятно, не являлись женскими укра-
шениями. а были привилегией военно-дру-
II. 2. 3. Тсрр
Судя по сообщениям русских летописей
и Константна Багрянородного, уличи пер-
воначально заселяли одновременно Подне-
стровье и Нижнее Поднепровье. а нс позднее
конца IX в., после переселения с Днепра (воз-
можно. происшсдше! о поддавленисм хазар),
расселились в междуречье Днестра и Южно-
1 о Буга (Рабинович 1997:4:2003: 295).
Культура уличей является преемницей
культуры Луки-Райковецкой. Ювелирный
убор довольно белен и представлен в основ-
ном незамкнутыми перстневидными кольца-
ми и пуговками-бубенчиками.
Наиболее разнообразный материал про-
исходит с биритуального moi ильника Бра-
жинной знати. Прототипы для дротовых гри-
вен с замком в двойную петлю происходят
из памятников VII - IX вв.
Наиболее близкие аналогии гривнам из
Карпато-Поднестровья содержатся в рус-
ских кладах первой и. отчаст и. второй хро-
нологических групп по Г.Ф. Корзухиной
(Корзухина 1954: 20-21). Для первой груп-
пы кладов (IX — начало XI вв.) дротовые
гривны с замком в двойную не i лю являют-
ся хронологическим индикатором, предел ав-
лены практически во всех кладах, а несколь-
ко кладов (Узьмина и Горки) состоят исклю-
чительно из таких гривен. Кроме одного
экземпляра, выполненного из гладкого дро-
та (из клада, найденного в г. Полтава в
1905 г.), остальные гривны, находимые в
кладах первой хронологической группы,
имеют либо граненный дрот (Ивахники.
Узьмина. Горки), либо украшенный нарез-
кой в подражание витью (Ивахиники, Су-
ходрево. Железницы. Узьмина. Горки). Для
кладов bi орой хронологической группы дро-
товые гривны уже мало характерны. В этот
период уже входят в обиход плетеные и ви-
тые гривны. Единственный обломок глад-
кой гривны представлен в Юрковецком кла-
де (из-за фрагментированности украшения
характер застежки неясен) и является уже.
скорее всего, пережитком (Корзухина 1954:
табл. IV. 20). Таким образом, массивные дро-
товые гривны из клада Рэдукэнень и Алче-
дарского городища moi у i быть датированы
IX —Хвв.
ория уличей
нешт ы (рис. 6). В могильнике раскопано три
урновых погребения по обряду сожжения,
остальные - 95 или 94 трупоположения
(Федоров. Чсбо1аренко. Великанова 1984:
29; Федоров. Чеботаренко 1974: 105). Мо-
гильник являлся, по всей видимое!и. усы-
пальницей для населения селища Брансш-
ты XIII. расположенно! о неподалеку. Захо-
ронения. сопровождавшиеся инвентарем (в
том числе и украшениями), сгруппированы
в основном в наиболее древней восточной
части некрополя. Суля по находкам захоро-
нений в лепных горшках, начало функцио-
нирования могильника cool носимо, вероят-
но. с горизонтом культуры Луки-Райковец-
Региональные ювелирные укоры IX - XI вв. н их соотношение с уворллщ из кладов 43
кой на поселении Бранешты ХШ (Рабино-
вич 1997: 4-7).
Основным швом височных украшений
населения.ославившегоэю1 moi ильник.яв-
ляю1ся простые серебряные и бронзовые
перс I невидные височные кольца и серы и с
несомкнутыми концами. Диаметр кольца ва-
рьирует в пределах от 2.5 до 3.5 см. В захо-
ронениях эти украшения находят по одному
экземпляру (в 8 пшребениях). по два (в 7 по-
гребениях). по три — в одном и по шест ь —
тоже в одном noi ребении. В noi ребении 74
было найдено два медных колечка с нани-
занными на них медными тиснеными бусин-
ками (Федоров. Чеботаренко. Великанова
1984:48-49). Эги кольца принадлежат к типу
однобусинных и широко предел авлены в этот
период в курганных древношях Руси, нахо-
дят их и в Подунавьс — в Ишрии. Далма-
ции. Болгарии. Чехии и Моравии (Рябцева
2000).
Уникальной представляется находка в по-
грсбешш 35 Брансштского могильника сереб-
ряной серьги с полой тисненой подвеской,
относящейся к типу «В» «волынских серег»
(Рябцева 1999: 344) и имеющей аналогии в
кладах Побужья. Поднспровья и Румынии.
Перстни, найденные в погребениях Бра-
нсштского могильника, за исключением од-
ного серебряного экземпляра из погребения
54. изготовлены из медного нссомкну того
дрота, полукруглого, круглого, прямоугольно-
го 1тш треугольного в сечении (Федоров. Че-
бошренко 1974:106: Федоров. Чебоиаренко.
Великанова 1984: 51).
Наиболее распространенным типом брас-
лет ов, представленных в этом могильнике,
являются простые бронзовые браслеты, вы-
кованные из квадратного в сечении дро ia с
несомкнутыми заостренными концами (2 на-
ходки в культурном слое и одна в погребе-
нии 43 и две - 74). Кроме того, в погребении
40 был найден бронзовый пстлоконечный
браслет. свитый из сложенной в три раза про-
волоки. Оба эти тина браслетов широко
представлены как у восточных, так и у юж-
ных и западных славян. Подобные браслеты
являются практически обязательной наход-
кой во всех некрополях Бол 1 арии Х-ХГП вв.
(Въжарова 1976).
Единственная находка шейной гривны
была сделана в культурном слое могильника.
Это бронзовая дротовая витая гривна с пет-
лями на концах, подобные гривны xapaKiep-
пы для древнерусских памятников X - XI вв.
(Федоров. Чеботаренко. Великанова 1984:49.
50: Фехнер 1967: 70-71).
Одним экземпляром в материалах этого
moi ильника (погр. 74) представлена и брон-
зовая литая ложнозерненная трехрогая лун-
ница. украшенная в центральной части круж-
ками. а на «рожках» — каплевидными фигу-
рами (Федоров. Чеботаренко. Великанова
1984:25. рис. 11. III. 7). Лунница имеет арха-
ичный облик: выпуклые кружки и капли в
окружении псевдозерни являются как бы на-
поминанием о каменных вставочках готско-
го и гуннского периода.
Кроме того, небольшая литая трехрогая
лунница была найдена на поселении Бра-
неш I ы I (Рафалович 1972: рис. 36.4) (рис. 47,
51). И эта брансштская лунница выглядиттак-
же весьма архаично — по краю украшения
идет бортик, а цен тральная часть углублена,
как напоминание о изжившей себя к этому
периоду традиции декорирования вещей эма-
лью. О том. что воспоминания об этой тра-
диции были живы еще и в IX в., свидетель-
ст вует находка уникальной литейной фор-
мочки из Старой Ладоги, обнаруженной в го-
ризонте Е2 (840-860-е гг.). На одной ее сто-
роне вырезана форма для отливки подвески-
деривата лунницы с эмалями, на другой —
маленькой трсхрогой лунницы с тремя ша-
риками на «рогах», имеющая наиболее близ-
кие аналогии в великоморавских могильни-
ках IX в. в Среднем Подунавье (Мачинский,
Мачинская 1988: 52. рис. 1.5) (рис. 47.49а).
Лунница из Брансштского могильника да-
тируется несколько более поздним временем,
чем лунница с Брансштского поселения, и мо-
жет быть соотнесена со следующей волной
западнославянского влияния, продвижение
которой на материалах кладов Карпато-По-
днестровья и Поднспровья может быть да-
тировано серединой X в. (Рабинович. Рябце-
ва 1997).
Кроме этих лв\-х лунниц. из Бранештско-
го комплекса памятников (с поселения Бра-
неш!Ы XIII) происходи г литая двурогая лун-
ница. украшенная псевдозернью, найденная
совместно с половинкой литой бронзовой
пуговки в заполнении жилища № 1 (Хынку
1969: 52. 53). Подобные лунницы датируют-
44
ГллвлII
ся концом X - XI вв. (Успенская 1967: 103).
Была найдена в Бранештахилитая двурогая
лунница с волнистым орнаментом. Лунни-
II. 2. 4. Терри
Волыняне предстают в летописи еще под
одним именем — бужапе (от названия реки
Буг. на ко юрой расселялось данное племя).
Название «волыняне» исследователи выво-
дят от названия города Велынь (Волынь)
(Фасмер 1964: 347). Интересно присутствие
аналогичных топонимов и на западнославян-
ской территории — польский Волин (Wolin)
или Волин в Чехии (Volyne) (Седов 1982:94).
Ювелирный убор, распространенный в
Побужье. включал в себя перстневидные ви-
сочные колечки и серы и диаметром от 1 до
3.5 см. выполненные из бронзовой или.
реже, серебряной проволоки. На ношение по-
добных колец в качестве сережек указывают
находки их совместно с фрагментами ушной
ткани (Мельник 1901:479). Встречаются пер-
стневидные височные кольца с сомкнутыми,
загнутыми, слегка заходящими и заходящими
на полтора оборота концами. Все три вида
колец могут быть встречены в одном погре-
беюш. Носили их по несколько штук (от 3 до
16). нашивая на ленту или головной убор,
вплетая в волосы. Перстневидные височные
кольца находят как кучкой в районе висков,
так и полоской о 1 висков колбу. Иногда до
десяти экземпляров височных колец соеди-
нены в цепочку в виде венчика. В ряде слу-
чаев они располагались на г рули вдоль пле-
чевых костей (при жизни они. вероятно, были
вплетены в косы). Причем в захоронениях
самых молодых и пожилых женщин перст-
невидные кольца использовались, как прави-
ло. как височные кольца, у женщин среднего
возраста — как серьги (Мельник 1901:498).
Реже вс тречаются кольца с концом, завер-
нутым в грубочку ичи завернутым в виде бук-
вы S (известно деся i ь местонахождений по-
следних — Збуж. Поддубцы. Майдан-Лип-
нецкийи др.). Последние характерны для за-
падных славян, особенно распространены в
Польше и Чехии. По мнению польского ис-
следователя Р. Якимовича (Jakimowicz 1934:
54-59). скопление перешевидных колец с
S-видным завитком на Волыни между Бутом
и Горыныо свилетсльс1вует о расселении
цы с таким волнистым opi гаментом характер-
ны для Карпатского региона в X - XI вв.
(Kralovansky 1959:76. t. XII. XIII).
юрия волынян
выходцев из Польши, произошедшем в ре-
зультат е 1 юхода Болеслава Храброго на Киев
в 1019 г. Несколько hhoi о мнения иридержи-
ваегся Е.Н. Тимофеев (Тимофеев 1961:56-75).
счшаюший появление логотипа перстне-
видных колец результатом не этнических, а
скорее культурных контактов западных и во-
сточных славян.
На наш взгляд, прослеживается очень
много параллелей между западнославянским,
а конкретно польским, и волынским ювелир-
ными уборами. Кроме упомянутых выше пер-
стневидных S-конечных колец, общими яв-
ляются типы «волынских» серег, лунниц. се-
ребряных бус (в том числе и таких редких,
как лопастные). Эта общность, вероятно,
объясняется целой совокупностью связей: эт-
нических. политических, культурных (в том
числе близостью ювелирных школ) и эконо-
мических. отражающихся в близости сосза-
вов кладов. Перстневидные же кольца с од-
ним кольцом, закру ченным в трубочку, могут
являться и наследием пражской кулыуры (по-
добное найдено, например, в Семенках
Славяне Юго-Восточной Европы 1990: рис.
48. /9).
Бусинные височные кольца в уборе
представлены несколькими типами. Наибо-
лее распространены были однобусинные со
стеклянными (зонными или цилиндричес-
кими разных цветов) или ластовыми буси-
нами. В одном из курганов Сурожского и
Майдан-Лиинецкого могильников были
найдены височные кольца с серебряной зер-
неной бусиной. Из курганов, раскопанных в
Лыще. Пересопнице. Старом Жукове. Май-
дан-Липнецком и Поддубцах. происходя г
отдельные находки трехбусинных височных
колене узелковыми, гиснсными мелкозер-
непыми и ажурными бусинами. В кургане у
с. Лыша было найдено кольцо с четырьмя
бусинами (Мельник 1901: табл. VI). Подоб-
ные кольца, как правило, изготовлялись из
низкопробного серебра или бронзы. Разме-
ры трехбусинных колец, находимых в кур-
ганных древностях. несколько меньшие, чем
Региональные ювелирные укоры IX - XI вв. н и\ соотношение с уБордлш из кладов
у аналогичных украшений, встречающихся
в более поздних кладах. Интересные по-
здние многобусинные серебряные позоло-
ченные кольца XV в. были найдены под
Пупком (Седов 1982: Табл. XXVI. 17. кол.
КМИДа). На этих кольцах тисненые 1 лу хне
бусины перемежаются с ажурными прово-
лочными. половинки которых выполнены
в видесопос1авленных розе)ок. Аналогич-
ное кольцо происходит из раскопокСучавы
(Румыния) (Popescu 1970:46).
По материалам нескольких погребений
может быть реконструирован способ ноше-
ния в составе женского убора различных ви-
сочных колец, нашивавшихся на головной
убор с наушниками. Наушники представляли
собой небольшой кружок из тонкой кожи с
вырезанными по краям фестонами. сквозь
ко горыс продевалось по одному кольцу. Наи-
более пышные бу синныс или «волынские»
серьги крепились в центре. Если в уборе ис-
пользовались кольца, выполненные из раз-
личного металла, то при креплении к убору
бронзовые и серебряные колечки чередова-
лись (Мельник 1901:498: Жилина 2002: 51).
В Пересопницком могильнике было об-
наружено потребение ювелира с набором ин-
струментов (наковаленка. молоточек, зубиль-
це) и штампов для тиснения подвесок серег
«волынского» типа «А» (об этом см. чуть
ниже в разделе о древнерусских кладах), ло-
пастных бусин и деталей подвесок-.ту нниц
(Корзухина 1946:48).
45
Серы и «волынско! о» типа были обнару-
жены в трех ку pi анах Перссопницкого мо-
1 ильника (4 экземпляра), а также в кургане
М-7 могильника в урочише Майлан у с. Бе-
рсстяне(2 экземпляра)(Мельник 1901: табл.
IV. 10: Тушью 1996: 124. рис.11). В Пересоп-
ницком (в четырех курганах). Белевском.
Крупском и Поллу бцсвском могильниках
были найдены лопастные бусы. Чаше, чем
лопастные, встречаются серебряные оваль-
ные бусы. покрытые треугольниками зерни,
шарообразные, сплошь покрытые мелкой зер-
нью. а также сканпые ажурные бусины. Кро-
ме бус. в состав ожерелий входили, как пра-
вило. бубенчики, плоские монетовидные
подвески, украшенные по кругу и в центре
пояском из крупных шариков, обрамленных
проволочными колечками и в ряде случаев
соединенные волютообразными проволоч-
ными завитками (происходят из Майдана-
Липнсцкого и Луцка), и зериеные лунницы
(например, курган 5 Жнибродского могиль-
ника) (Грибович. Петегирич. Павлив 1977:
284; Мельник 1901: 530, табл. VII. 24; Седов
1982:101. табл. XXVI).
В уборе широко представлены перстни —
проволочные простые (наиболее распрост-
раненные). реже витые трехпроволочные,
жгутовые плетеные и. совсем редко, плас-
тинчатые. Браслеты очень редки, гривны не
встречены вовсе (Мельник 1901: 537-562.
563-565.571-573; Ратич 1957: 5.8; Седов 1982:
101. табл. XXVI) (рис. 6).
П.З. ДНЕПРОВСКОЕ ПРАВОБЕРЕЖЬЕ
11. 3. 1. Территория полян
Вопрос о территории расселения полян
до сих пор остается дискуссионным. Лето-
писец связывает их с правым берегом Днеп-
ра— «горами» (ПСРЛ 1962: сто. 5). В архео-
логической литературе не раз делались по-
пытки расширить их территорию палевый
берег Днепра и включить в нее и Чернигов с
округой (Русанова 1966:25-27. там же лите-
ратура). Но в своих построениях эти авторы
опираются на материалы X в. и позже, го
сеть периода, котла поляне как этническая
единица уже не сущее т вовали. А в IX в. для
этих регионов характерны разные культуры
- для Киева и его округи древности Л у кн-
Райковецкой. а для Левобережья ромейс-
кие (Григорьев 2000: 184). Кроме восточно-
славянских. были еще и западнославянские
поляне. Возможно, и сами поднепровские
поляне были выходцами из западнославянс-
ких земель и соотносятся с польскими ленд-
зяиами(Пстрашенко 1998:53-62).
Как правило, на Полянской территории
височные кольца встречаются в погребени-
ях по одной, две штуки, в редких случаях их
количест во достигает пяти-семи. В таком ва-
рианте они крепились к кожаным ремешкам
пли тканым головным лентам (Русанова
1966: табл.22.2). Чаше веет о встречаются пер-
стнеобразные височные кольца с сомкнуты-
ми и заходящими концами. В пяти могиль-
46
Глава II
никах в юго-западной части Полянского аре-
ала (Грубск. Почтовая Вита. Ромашки. Буки.
Ягнятин) найдены перо невидные височные
кольца с S-видным зави т ком (Русанова 1966:
табл.VI). По мнению Р. Якимовича. полянс-
кое скопление этого типа западнославянских
колец соотносится с расселением на этой тер-
ритории Ярославом Мудрым в 1031 г. плен-
ных поляков (Jakimowicz 1934:54-59). Встре-
чаются перстневидные височные кольца с
одним концом, отогнутым наружу или во-
внутрь. а также перстневидные височные
кольца с нанизанной на них одной или тре-
мя стеклянными бусинами (могильник Леп-
лява).
Другие типы височных колец представ-
лены единичными находками. Перстневид-
ные завязанные найдены в Киеве. Переяс-
лавле и Лспляве. Трехбусинные височные
кольца происходят из Киева и Леплявы (Ру-
санова 1966: табл. VI).
В погребении 124 Киевского некрополя
была найдена пара серебряных серег волын-
ского типа «С», а в 112-м — гроздевидные
кольца моравского облика (Каргер 1985:
рис.III. 24, 24). Кроме того, при раскопках
кузнечной мастерской i та Старокиевской Горе
была найдена каменная литейная форма со
следами неоднократного использования,
предназначенная для изготовления грозде-
видного украшения (Килиевич. Орлов 1985:
167. рис. 6). Наиболее близкие аналогии для
этого украшения, на наш взгляд, происходят
II. 3. 2. Teppi
Восточные соседи волынян, древляне, в
начале древнерусского периода были, по всей
видимости, сильным племенным образова-
нием со столицей Искоростень (ПВЛ 1950.1:
15). ВIX в. древляне, вероятно, подчиняют
себе волынян и дреговичей, возглавив пле-
менной союз, долгое время сопротивляв-
шийся экспансии киевских князей. К середи-
не X в. этот союз был подчинен Киеву, а
древлянская племенная знать истреблена
княгиней Олы ой (Милютенко 1993: 166).
На этой территории распространен ме-
таллический женский ювелирный убор, ти-
пичный для всего Юх о-Запада. В него вхо-
дили несколько типов височных колец. Пер-
стневидные височные кольца представлены
прост ыми с сомкнутыми концами и копиа-
из материалов Польши середины X в.
(Kocka-Krenz 1997: 71. рис. 1.2). где подоб-
ные серьги и височные подвески распрост-
ранились под великоморавским влиянием.
Два украшения западнославянского обли-
ка были найдены еше в одном районе Киева
-- на Фроловой Горе. Одно из них напоми-
нает верхнюю часть «волынской серьги» с
тисненой подвеской и несколькими шарика-
ми на дужке. Серьга как бы обрезана попо-
лам и украшена в нижней части полосой из
спирально сложенной проволоки. Другое
украшение представляет собой 11 ере вер т ту тую
луннипу с выпуклостью в средней части и
дужками для подвешивания цепочек в ниж-
ней (Ханенко 1906: табл. XVII. 959). Подоб-
ное украшение возникло, вероятно, на осно-
ве серег «шггранского» типа. Интересно, что
обе эти сережки также характерны для древ-
ностей Польши. Схожие образцы, только до-
полнительно декорированью цепочками по
нижнему краю, представлены, например, в
кладе Обра Нова (Sl^ski-Tabaczyriski 1959).
Из нагрудных привесок встречаются на
территории полян единичные лунницы (ши-
рокорогие ш гампованно-филш'ранные и кру-
торогие) и бубенчики. В состав ожерелий
иногда входили небольшие зерненые бусины.
Браслеты редки, встречены в трех могильни-
ках (Киев. Буки. Емчиха). Несколько чаще
встречаются перстни (проволочные гладкие
или витые, у зкопласгинчатые или плетеные)
(Русанова 1966: Taon.VI)(pnc. 6).
ория древлян
ми. загнутыми в полтора оборота. В курга-
нах под Коростелем и в Житомирском мо-
гильнике найдены перстневидные кольца с
S-видным концом. Изредка находят перстне-
видные однобусинные кольца с ластовыми
или стеклянными бусинами или металличес-
кой зерт теной (Буки). Трехбусинные височные
кольца найдены в четырех могильниках -
Великая Фосня. Коростснь. Лопатичи.
Олевск. В одном из курганов Овручского
мот ильника и в насыпи кургана Речинского
мот ильника были найдены серьги «волынс-
кого» типа. Из кургана 37 происходит серьга
в виде кольца с шестью розет ками. Анало-
гичным образом оформлены дужки некото-
рых типов «волынских» серег (Седов 1982:
105).
Региональные ювелирные укоры IX - XI вв. и ну соотношение с уворллш из кладок 47
В составе ожерелий встречены единич-
ные экземпляры серебряных бусин: в курга-
нах под Житомиром и Коростенем
лопастные, а в одном из житомирских кур-
ганов — спаянные из трех-четырех рядов
крупной зерни. Встречаются такжелунницы
(Рсчица и Подлубы) и бубенчики (Подлубы).
Относительно часто присутствуют в жен-
ских погребениях перстни в основном
npocibie проволочные. Встречаются также
вшые и ложновитые, плететтые. пластинча-
1 ые сомкнутые и пласт инча тые завязанноко-
нечные. Тонкопроволочный витой браслет
встречен только одш i раз (Ракитино) (Седов
1982: 106) (рис. 6).
W X X
Подведем итоги. Общность, проявляю-
щаяся в ювелирном уборе, распространен-
ном на юго-западных территориях Древней
Руси, объясняется, на наш взгляд, рядом при-
чин. Первая — единая подоснова кулыуры
типа Луки-Райковецкой (для уличей, волы-
нян. древлян и полян). Пласт украшений, свя-
занных с древностями предыдущей эпохи,
включает перстневидные височные кольца,
подковообразные фибулы, подвески-лу тши-
цы и бубенчики. Хотя в данном случае мы
можем, скорее всего, говорить именно о тра-
диции ношения подобных украшений. Лун-
ницы или фибулы X - XI вв. уже связаны с
новой волной, соответственно, заиадносла-
вянскот о или прибалтийского влияния. Вто-
рой причиной общности уборов, на наш
взгляд, является довольно сильное влияние
западнославянского ювелирного дела. Оно
наиболее ощут имо проявляется в ареале рас-
селения лет оштсных тиверцев и волынян. Но
отдельные предметы — перстневидные коль-
ца с S-видным завитком, серы и «волынско-
го» тит та. некоторые типы зернепыхбус и под-
весок встречаются по всей территории
Юго-Запада.
Характерной особенностью коса тома юго-
западной ветви восточного славянства мож-
но считать преобладание в головном уборе
перстневидных височных колец, сочетав-
шихся с отдельными экземплярами бусшшых
(состеклянными, гладкими тиснеными, узел-
ковыми и мелкозернеными бусинами) и «во-
лынских» колец. Зафиксированы различные
варианты ношения перстневидных колец в
уборе в качест ве серег, височных колец, для
скрепления и украшения кос. уложенных во-
крут толовы (Антонович 1901:138). Перстни
находят довольно часто, в захоронениях они
встречаются как на правой, так и на левой
руке, но предпочтение явно отдается левой.
Типичным является и использование от-
дельных круглых и лунничпых подвесок и
металлических бусин, а тте целых металли-
ческих ожерелий, редкое ношение гривен и
браслетов, отсутствие шумящих подвесок.
В наборе украшений, представленном в
погребальных комплексах, встречаются от-
дельные компоненты, характерные для
парадного ювелирного убора середины X —
начала XI вв.. известного по материалам кла-
дов. К таким украшениям относятся серьги
«волынского» типа, зернение лунницы. круг-
лые подвески, разнообразные зернение бу-
сины.
В уборе жителей более северных и вос-
точных территорий наблюдается увеличение
числа подвесок, бубенчиков, ожерелий, гри-
вен. браслетов, появляются специфические
типы украшений (Русанова 1966:26). Подоб-
ное разнообразие в наборе типов украшений
связывается с влиянием неславянских ком-
понентов. учас т вовавших в формировании
ювелирно! о убора данных территорий (Нтт-
дсрлс 1956:244). Своеобразной переходной
зоной, в у боре населения которой объедшш-
лись черты, харак терние как для южных, т ак
и для северо-западных территорий, являет-
ся. на наш взт ляд. ареал, отводимый ле т опис-
ным дрет овичам.
II. 3. З.Терригорня дреговичей
Летописные дреговичи расселялись меж-
ду верховьями Немана и поречьем Днепра.
Женский металлический убор на этой терри-
тории отличается сшебольшим разнообра-
зием. чем в рассматриваемом выше регионе.
Здесь мнот о крупнозерненых бус. привесок.
бубенчиков, составляющих целые ожерелья.
В от личиеот более южных терри торий, весь-
ма популярны браслеты.
Очень характерны для местного убора
крупнозерпеные бочонкообразные бусы, ос-
нова ко 1 орых состоит из проволочных лен-
48
Глава II
точек (Успенская 1953: 97-124. Седов 1963:
112-125; 1982: 114). Перстневидные полу го-
раоборотныс височные кольца шкже распро-
странены здесь весьма широко. Изредка
всфечаются перс I невидные кольца со спи-
ральным завитком на конце. Как правило,
перст невидных колец в женском уборе было
ДОВОЛЬНО MHO1 о (от 2 до 12 штук).
Основная масса трехбусинных височных
колец найдена в ют о-восточной части ареа-
ла расселения дреговичей (но Днепру, в ни-
зовьях Припяти и по Березине). Наиболее
широко представлены кольца, украшенные
такими же круннозернсными бусинами, что
входили в состав ожерелий.
Шейные ожерелья состоят из довольно
большого количества стеклянных и настовых
бусин, металлических зернсных бусин, лож-
нозерненых и штампованных монетовидных
подвесок, бубенчиков. В могильниках Вир-
ков, Селище. Устиж. Эсьмоны представлены
коньковые подвески, характерные для кри-
вичской территории (Седов 1968:151-156).
Браслеты встречаются чаше, чем на тер-
ритории волынян, полян и древлян. Наибо-
лее распространены среди них круглопрово-
лочные и витые тройные с завязанными и
петлеобразными концами. В северной части
дреговичского ареала предст авлены брасле-
ты, украшенные на концах стилизованными
змеиными головками. Плосковылуклые. пла-
ст инчатые тупоконечные и плетеные брас-
леты представлены единичными экземпля-
рами. Еще более часто, чем браслеты, встре-
чены перстни. Все они относятся к обшсвос-
точнославянским типам: ви т ые (завязанные
и разомкнутые), жгутовые, плетеные, ложно-
вит ыс. широкопластинчатые с завязанными
концами и усатые (Успенская 1953: 118-124;
Седов 1982': 117.118) (рттс. 6).
В южной части ареала (поречье Припя-
ти) ювелирный убор беднее, и все украше-
ния представлены только общеславянскими
типами. В северной части убор богаче, и. кро-
ме общеславянских типов, здесь встречают-
ся спиральные пронизки. обшивки одежды,
з.меиноголовые браслеты, разнообразные
подковообразные фибулы, спиральные пер-
стни. звездчатые пряжки и поясные бляшки
латгальских типов. Такое же деление просле-
живается на материалах антропологии. На-
селение. жившее севернее Припяти, принад-
лежало к валдайскому тину (харакшрен .для
восточной окраины расселения ба. 1 гов). На-
селение правобережной Припяти — к полес-
скому антропологическому типу (Дяченко
I960:'18-36; Седов 1982; 116-118).
Так же. как и в близлежащих ареалах рас-
селения волынян, на дреговичской террито-
рии ошутмо вл иянис западнославянского Э1-
нокультурного компонента. Появление пер-
вой группы западнославянских вещей (желе <-
нысножи с волютообразными навершпями.
втульчатых двушипных наконечников прел,
некоторых типов керамики) от носи гея к пер-
вой половине VIII - IX вв. - периоду сла-
вянской колонизации междуречья Днепра и
Немана. В X -XI вв. среди славянского на-
селения Западного Буга и Понеманья. наря-
ду с потомками волынян и дреговичей, пред-
ставлены и мазовшане. Западнославянские
элементы (гончарная керамика и украшения)
найдены в составе погребального инвента-
ря каменных курганов междуречья Пульвы и
Лесной (Войсковая. Раточайчицы. Тростяни-
ца, Хотиново). Встречены они и в материа-
лах I ородских и сельских поселений Поне-
манья (Вол ковыск. Гродно. Здитов. Индура.
Новогрудок). BX1-X1I вв. с западнославян-
ских территорий поступают западноевропей-
ские монеты и украшения западнославянских
типов — например, польский вариант серег
«волынского» типа (клады из Горовлян. По-
лоцка. Деггян)(Перхавко 1983:26-28).
Уникальным является юве/шрный произ-
воле! венный комплекс, изученный при рас-
копках посада древнего Новогрудка и принад-
лежавший. по всей видимости, корпорации
златокузнецов. В Новогрудке было найдено
около 350 изделий из цветных и бла! ород-
ных мпаллов. большая часть когорых про-
изводилась па месте - - совпадают составы
металла, найденного в тиглях и содержаще-
гося в украшениях. В конце X XI вв. пред-
павлено в основном бронзолитейное дело,
следы которого зафиксированы как в жилых,
так и в ирон !водсгвснных помещениях. Спе-
цифическими для жителей Новогрудка яв-
ляются перстневидные височные кольца со
спиральным завитком. Остальные типы укра-
шений принадлежат к общераспространен-
ным на территории Древней Руси и Прибал-
тики. К ним относятся подковообразные
пряжки, булавки с крестовидными головка-
Региональные ювелирные укоры IX - XI кв. и их соотношение с укорллш нз кладок
ми, трапециевидные подвески, некоторые
типы перстней и брасдеюв. Украшения, из-
готовленные. по-видимому, в Hoboi рудке.
находят и в сельских курганах близлежащей
окру! и. В moi ильнике Коростово — брон ю-
вая кольцевидная пряжка с растительным ор-
наментом. Ус. Городиловка найдены височ-
ное кольцо со спиральным шви 1 ком и под-
ковообразная спиралсконечная пряжка. В
ХП в. работ с цветными и благородными ме-
таллами становтся преобладающей отрас-
лью ремесленников окольного города Ново-
грудка. Для периода XII XIII вв. характер-
ны золотые, в том числе и инкрустирован-
ные вставками из цвешою стекла. а также
бронзовые посеребренные украшения (Гуре-
вич 1981: 127-137).
Изделия новогрудских ювелиров находят
в курганном и грунтовом 1 ородских могиль-
49
никах. Из более раннего курганного могиль-
ника происходят.характерные для жительниц
Новогрудка проволочные кольщ. с одним
кольцом, загнутым в видеспирали. Находят
и маленькие спиральные кольца с S-видным
окончанием, а 1акже перстни с завязанными
концами. Наиболее интересной находкой в
практически безынвентарных христианских
фунтовых захоронениях является найденный
в noi ребении 13 венок из серебряных тисне-
ных бляшек, иокрьпыхпозолотой и украшен-
ных рябчиками. Мат рицы для тиснения та-
ких бляшек были обнаружены на детинце в
слое XII в. На наличие головных покрывал
указывает находка в погребении 72 обрыв-
ков ткани и фрагментов бронзовых бляшек.
В погребении 99 было найдено два бронзо-
вых височных кольца с заходящими концами
(Гуревич 1983: 48-54. рис. 1).
П. 4. ДНЕПРОВСКОЕ ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ
II. 4. 1. Территория северян
Полстописи северяне локализуются но
Десне. Сейму и Суле. На северо-западе они
соседст вовали с радимичами, на северо-во-
стоке — с вятичами. Племенное название
северян — «север», по всей видимости, не-
славянского происхождения, возводится к
иранскому scu — черный (Седов 1982: 138.
1999: 80. там же литература). В то же время
фиксируется присутствие на Балканском по-
луострове одноименного племени и наличие
на Днепровском Левобережье топонимов с
основою «балкан» (Андрощук 1999: 16). В
Нижнем Подунавье. сотласно сообщению
Феофана, в конце VII первой половине
VTTI вв. находилось крушое славянское объе-
динен не Seberhz (Чичуров 1980:62). что весь-
ма близко к названью приднепровского
Scbcrioi Константина Бафянородного (Кон-
стантин Багрянородный 1991:50.51). В кон-
це VII— середине VIII вв., верояпю. проис-
ходит отток части славяпско! о населения с
Балкан, где оно находилось в зоне конфлик-
тов Болгарского государства и Ви зантии. На
Днепровском Левобережье пришлое славян-
ское население довольно быстро попадает
под власть хазар. На рубеже IX - X вв.. в ре-
зулы ат е вторжения печенегов, хазарское го-
сударство приходит в упадок и система вза-
имоогношений каганата и Северянской зем-
ли была нарушена. В 884 г. происходи! пер-
вое столкновение северян и Руси (Григорьев
2000:169.184).
Смена ромейского населения (которое мо-
жет быть отождествлено с племенной груп-
штровкой догосударственного периода) соб-
ственно древнерусским в разных частях се-
верянского ареала в настоящее время дати-
руйся в промежутке от конца IX в. до вто-
рой четверти XI в. (Григорьев 1988:103-106.
1993: 56.2000: Шилаков 1982:97: Григорьев.
Сарычев 1999). Смена эта произошла на-
сильственным путем, роменские памятники
разрушались, население или ухолило, или
сливалось пошененио с пришлыми группа-
ми. выведенными из разных областей Руси.
В этот же период в женском головном уборе
появляются и спиральные височные кольца,
относящиеся, таким образом, уже не к пле-
менному. а древнерусскому этапу истории
эгого региона.
Подкурганнысзахоронения на этой тер-
ршориидоХ! в. совершались по обряду кре-
мации. с XI в. были распространены трупо-
положения. В урновых захоронениях с со-
жжениями украшения находят, как правило,
в виде сплавов, из которых в ряде случаев
50
ГлаваII
удается реконструировать остатки перстне-
видных височных конец, проволочных пер-
ст ней. поясных пряжек. В разноплеменном
Гочевском могильнике были найдены брас-
летообразные сомкнутые височные кольца,
перс। невидные височные кольца, спирале-
видные височные кольца. тривны с пластин-
чатыми концами (трубчатая и витая). «уса-
тый» перстень, цепочки, литые лунницы.
круглые проре шыс и монетовидные подвес-
ки. бубенчики, пуговицы (Атас Гочевских
древностей 1915).
В курт анах с трупоположениями находят
спиральные височные кольца (по два-четы-
ре у каждого виска). В кургане у с. Броварки
на р. Суле был найден головной убор, состо-
ящий из пластинчатого серебряного венчи-
ка с кренившимися к нему на уровне лба бу-
синными подвесками и спиралевидными
колечками, располагавшимися на висках. В
детском погребении в Гочевском могильни-
ке спиральные кольца были нанизаны на
стержень венчика (Шинаков 1982:93). Встре-
чаю гея также перстневидные сомкнутые
кольца, реже — перстневидные колечки с
завитком на конце (Броварки. Гочево. Ница-
хи). Тре.хбусинные кольца были найдены в
курганах Гочева и Кветуни (Седов 1982:93).
По мнению Б.А. Рыбакова, спиральные
височные кольца происходят oi двуспираль-
ных украшений, представленных в древнос-
тях «антов» («руссов»). В качестве связующе-
го звена исследователь предлагал височные
кольца I гз Полтавкинского клада IX в. (Рыба-
ков 1953: 68). В настоящее время высказана
и иная точка зрения, связывающая появле-
ние височных колец древнерусского време-
ни как категории украшений во всем много-
образии локальных типов (в том числе и се-
верянских спиралевидных) с культурным
импульсом, коюрый исходил из Подунавья с
конца VII в. Этот импульс зафиксирован, в
частности, во второй 1 руппе «антских» кла-
лов(Щеглова 1999:299).
Довольно оживленную дискуссию вызвал
в археологической литературе вопрос об эт-
нической принадлежности лучевых височ-
ных колец типа «кветунь» (названы по наход-
кам в Кветунском могильнике). Г.Ф. Соловь-
ева. давшая такое название этим кольцам с
широкими лучами, украшенными выступами-
фестонами с шариками на концах, предполо-
жила. что они принадлежат какой-то част и
севсрянского союза племен (Соловьева 1978:
174). Нс отнес их к характерным для ради-
мичей и Е.А. Шинаков (Шинаков 1980:110-
127). С другой стороны, вещевой инвентарь
и обряд захоронения Кветунекого могильни-
ка близок к погребальным памятникам тер-
ритории радимичей (Падин 1976: 209).
По мнению В.В. Богомолышкова. у севе-
рян могло быть два типа височных колец -
спира.тевидные и лучевые типа «кветунь». В
качестве аргумента в пользу своей гипотезы
исследователь приводит два соображения.
Во-первых, племя северян испытывало вли-
яние двух субс гратов - балтскот о и иранс-
кого. Во-вторых, черниговская часть северян
к 60-м годам IX в. вместе с полянами, древ-
лянами и дрет овичами входила в состав Ки-
евской Руси, а остальная их часть (так же как
радимичи и вятичи) находилась в зависимо-
сти от хазарского кагат тата. Но как соотносит-
ся форма колене принадлежностью к потом-
кам балтскот о или ираноязычного населения,
тптт как сказалась на ней подчиненность Ки-
еву или хазарам, нс говорится. Автор лишь
пытается объяснить изменение в орнамен-
тации лучевых колец т ипа «Кветунь», отлич-
ных от других типов л учевых колец, тем. что
«подобное изменение в орнаменте могло
быть вызвано реагированием их носителей
на этническую среду, а этническая информа-
ция заключена не только в контурах, но и в
деталях орнамента»(Ботсмольников 1993:
169).
В захоронениях, раскопанных на террито-
рии северян, находят ожерелья, в которых на-
ряду со стеклянными, ластовыми, одиночны-
ми сердоликовыми и хрустальными бусина-
ми иногда представлены подвески-дунницы.
бубенчики, монетообразные и прорезные
круглые подвески. Среди подвесок особой по-
пулярное гыо пользовались маленькие дву-
ст ворчат ые бубенчики (Журжалина 1961:123).
Гривны встречаются довольно редко
(наиболее харак т ерны пластинча т оконеч-
ные). В Гочевских и Голубовских курганах
найдены типичные для территории радими-
чей дротовые гривны с ро тетками иа концах.
В Гочевском. Квету неком и Пишанском мо-
гильниках были найдены обычные для севе-
рян дротовые гривны, оканчивающиеся с
одной стороны крючком, с дру т ой — плас-
Региональные ювелирные укоры IX - XI кк. и их соотношение с уворадш из кладов 51
тинкой. Браслеты относя 1ся к общерусским
типам (толстопроволочные, iliac 1 инча гые.
витые) и встречаются довольно редко, так же
как и перстни (проволочные, пластинчатые,
витые, щитковые) или пряжки и металличес-
кие пуговицы (Седов 1982:139-140).
На магериалах Гочевского могильника
выделяется несколько женских уборов, харак-
теризующихся использованием разных «пле-
менных» украшений. Здесь представлены го-
ловные уборы, в которые входили спирале-
видные височные кольца в сочетании с пер-
стневидными (иногда браслегообразными)
височными кольцами и пластинчатыми вен-
чиками. Найдены и головные уборы, состо-
явшие голько из браслстообразных колец и
венчика. Встречаются и перстневидные или
браслетообразные кольца с нанизанными на
них биконическими бусинами, укрепленные
на кожаном ремешке. В одном захоронении
встречены трехбусинные кольца с крупными
зернеными бусинами «минского шла». По-
добная пестрота убора связывается исследо-
вателями с практикой выведения в порубеж-
ные крепост и «лучших мужей» из разных ре-
гионов (Шинаков 1982:92-95).
11. 4. 2. Территория радимичей
Радимичи селились по р. Сож и в меж-
дуречье Сожа и Днепра. В поречье Днепра
они граничили с дреговичами. Граница с се-
верянами проходила в междуречье Сожа и
Десны (Седов 1982: 151 ).Досих пор остает-
ся о 1 крытым вопрос о достоверности лего-
писпого свидетельства о происхождении ра-
димичей и вятичей «от ляхов». Так, выска-
зываются предположения, что радимичи и
вятичи первоначально проживали на Висле,
откуда ушли под напором германцев, и рас-
селились радимичи на Соже, а вятичи — на
Оке(Ви)ак 1949: 57). Данный вывод Ф. Буяк
основывает на данных топонимики (напри-
мер. скопления топонимов с корнем rad на
территории Польши в районе Гнезно). Од-
нако эти топонимы могут от носиться к бо-
лее позднему времени — к концу XI - XII вв.
и быть связаны с именем архиепископа Гнез-
ненского Радима Гауденция. брата св. Аль-
даберта. а нс с легендарным Радимом. Скоп-
ления же топонимов с таким корнем па гер-
ритории радимичей приходятся на погранич-
ные участки расселения радимичей и вяти-
чей (но Десне) и радимичей и северян (ио
Сожу) и связаны, вероятно, не с приходом
из Полыни, а с пограничными областями
(Соловьева 1968: 352-356). Идеи о легендар-
ности сообщения о приходе этих племен из
Полыни придерживается и В.В. Седов (Се-
дов 1999: 81).
Дтя территории радимичей характерными
категориями украшений являются: ссмилучс-
выс и ссмплапчатые височные кольца: гроз-
девидные. петлистые, биэллипсовилныс и
язычковые подвески: некоторые типы гривен.
особенное розеткообразными бляхами на кон-
цах (Рыбакоу 1932:153: Богомольников 1983:
32:1993: 167: Седов 1970; 140) (рис. 6).
Семилучевые кольца, как наиболее харак-
терные для радимичей, были выделены еще
А.А. Спицыным (Спицын 1896:95). Отдель-
но останавливался на истории данного т ина
колец Б.А. Рыбаков, предположивший, что
кольца с полумесяцем на среднем луче свя-
заны с арабскими привесками (Рыбаков 1932:
103).
Как правило, исследователи делят время
существования данных украшении на два пе-
риода. Однако датировки этих периодов не-
сколько разнятся. Так. В.В. Седов делит их на
2 хронологические группы: VIII - IX вв. —
ложнозернсные и более поздние X - XI вв.,
генетически связанные с более ранними (Се-
дов 1970:130). Г.Ф. Соловьева предлагает для
ранней группы дату IX - X вв.. а для более
поздней — XI-XII вв. (Соловьева 1978:171-
178).
Практически все исследователи, касавши-
еся вопроса о происхождении данного типа
украшений, сходятся во мнении, что отправ-
ной точкой для их формирования послужи-
ли украшения, встречающиеся в древностях
Среднего Подунавья. а переходным э<а-
пом — кольца Новотроицкого и Хотомель-
ского городищи Зарайского клада (Ляиушкин
1958: Левашова 1967: Недошивина 1960; Со-
ловьева 1978: Седов 1982: 1999: Шинаков
1980). Общим местом стало и положение о
генетической преемственное! и радимичских
лучевых и вятичских допас г пых колец (Си-
зов В.И.. Арциховский А.В.. Рыбаков Б.А..
52
Глава II
Мусианович К.. Недошивина Н.Г.. Шинаков
Е.А.) (рис. 5). Несколько больше спорного в
вопросе об переходных формах от одпот о
типа к другому.
Много внимания уделено в литературе и
классификации радимичских колеи. Первая
классификация была разработана В.П. Лева-
шовой. Исслсдователыпшаподелила кольца
по отделам но количеству лучей - пяти- и
семилучсвые. но оформлению лучей на
виды — проел ые. олношариковые. трехшари-
ковые, а но орнаментации — на типы. Более
поздние кольца, по ее классификации, семи-
лучевые. упрошенные, неорнаментирован-
ные (Левашова 1967: 25-28).
Классификация наиболее распространен-
ных гладких и малоорнаментированных ко-
лец была произведена В.В. Богомол ьнико-
вым. несколько позже тот же исследователь
предложил и классификацию для всех типов
лучевых колец (Багамольшкау 1977: Бого-
молышков 1993:167-169). Лучевые височные
кольца, по В.В. Богомолышкову, делятся на
три подотдела: треугольнозубцовые, шарико-
зубцовые и рубчико-фесгончатые (кольца
т1ша«Кветунь»)(Боюмольников 1993:168).
Наиболее подробная классификация дан-
ного типа украшений была разработана
Е.А. Шинаковым (Шинаков 1980: 110-127).
Признаками ранних лучевых колец, но
Е.А. Шинакову. является наличие пяти лучей,
ложнозерт юного орнамет 1та. трех шариков на
концах лучей, утолщений у оснований дуж-
ки. рельефных продолжений дужки па щит-
ке. изготовление колец из биллона. Дтя кон-
ца X - - начала XII вв. основными признака-
ми являются наличие семи лучей с четкими
каплевидными шариками на концах, отсут-
ствие зерненого орнамента для III группы,
специфические узоры для второго отела,
преобладание в сплаве меди.
Отличается и география распространештя
ранних и поздних вариантов лучевых колец.
Кольца IX — первой половины X вв. равно-
мерно распространены по территории Вос-
точной Европы вне зависимости от племен-
ных границ (городища Новотроицкое. Суп-
руты. Титчиха. Гнездово. Железницкий и
Полтавский клады, городище Хоi омель) (11е-
дошивина 1960:141-146). Причем в этот же
период на данной территории встречаются
находки украшений великоморавского проис-
хождения. Оформление тремя шариками лу -
чей пятилучевых колец совпадает с оформ-
лением концов лучей трехрогой лунницы с
городища Титчиха. имеющей точные анало-
гш1 в Старом Mecie. Нитре. Дольних Весто-
Himax(Poulik 1976:1.140.148:Klanica 1974: t.
II. III.). Ранние пятилучевыс кольца встреча-
ются. как правило, в комплексах с серебря-
ными толстопроволочными браслетами с
расширяющимися концами, дротовыми
(иногда тордированными)серебряными и
бронзовыми гривнами с грибовидными за-
стежками. серебряными перстнеобразными
несомкнутыми височными кольцами, серь-
гами сад говского типа. Этническая привязка
этих пятилучевых колец весьма затруднена
(Шинаков 1980:110-127).
Кольца же III группы по классификации
Е.А. Шинакова (характеризующиеся отсут-
ствием ложной зерни и наличием одного
четкого шарика на конце каждого луча) рас-
пространены на левобережье среднего Днеп-
ра (включая бассейны рек Сож, Ипуть. Бе-
седы Остер, верховья Сневы и в незначи-
тельной степени Десны), то есть практичес-
ки полностью совпадая с территорией лето-
писного расселения радимичей (Шинаков
1980: 120).
Лучевые кольца носили по одному или по
несколько штук у каждого виска. Еще при рас-
копках П.М. Еременко было выявлено, что
эти кольца крепились друг нал друт ом к по-
лоске кожи. Аналогичные находки были сде-
ланы и при раскопках Г.Ф. Соловьевой в мо-
гильнике у с. Юдичи. Здесь в женском захо-
ронении был открыт головной убор на жест-
кой основе из луба, покрытый тонкой тканью
полотняного переплетения. На лбу ткань
была у крашена полоской мелких стеклянных
желт ьтх бусин, перемежающихся с просвер-
ленными вишневыми косточками. У право-
го виска располагалось три пятилучевых и
четыре перстневидных кольца, у левот о —
пять семплу чевых и одно перстневидное.
Причем у левого виска сохранилась сложен-
ная вдвое кожаная лента, к которой крени-
лись кольца (четыре лучевых были продеты
сквозь нес на равном расстоянии друг над
другом, а пятое — подвешено на месте сги-
ба) (Сабурова 1975: 18-22).
Кроме лучевых височных колец, доволь-
но широко представлены на территории ра-
Региональные ювелирные укоры IX - XI кк. н
димичей и перстневидные, причем в ряде за-
хоронений присутс 1 вует только эгот тип ко-
лец (Седов 1982:156. табл. XLVII).
В состав ожерелий, наряду со стеклянны-
ми и сердоликовыми бусами, входили моне-
товидные и другие крут лыс привески..лун-
ницы. бубенчики. Специфичными для ради-
мичского ареала являются 1роздсвидные. би-
эллипсовидные. пстсльча! ые и язычковые
подвески (Журжалина 1961:123).
Популярны были здесь и браслеты (в ос-
новном проволочные, пластинчатые, витые
завязанные), и перстни (проволочные, пла-
стинчатые. рубчатые, завязанные, печатные).
Изредка встречаются подковообразные фибу-
лы. С XI в. бытовали разнообразные дрото-
вые гривны с пластинчатой, треугольной в
сечении лицевой частью, украшенной пуан-
соном «волчьим зубом», а затылочной —
круглой, раскованной. Концы тривен украша-
лись различными литыми головками — мно-
гогранными. розет чатыми или просто заги-
бались крючком. Из-за наибольшей концен г-
рации на р. Сож эти украшения получили
наименование гривны «радимичского» типа.
Ближайшие прототипы этим гривнам со дер-
11. 4. 3. Teppi
Летописи связывают ареал расселения вя-
тичей с Окой. На запале (по водоразделу Оки
и Десны) вятичи соседствовали с северяна-
ми. радимичами и кривичами. По мнению
В.В. Седова, процесс славянизации этого ре-
гио!ia выглядел т ак: на терри 1 орию. занятую
балтским племенем голядь, пришли в VIII в.
откуда-то с запада славяне, принесшие с со-
бой традицию подкурганного обряда захоро-
нения (Седов 1982:148). Погребальные ком-
плексы данного pei hoi ia характеризуются бо-
гатством и разнообразием вещевого инвен-
таря.
Комплекс ювелирных украшений, харак-
терный для этой терри 1 ории. включает в себя
ссмилопастные височные кольца, решетча-
тые персти, пласишчатыс и за1 нут оконеч-
ные браслеты (Арциховский 1930) (рис. 6).
Данный набор сложился довольно поздно —
bXI-XIH вв. Н.Г. Недошивина объяснила
сголь позднее сложение эю1 о убора «рядом
социальных причин», в первую очередь 1ем.
Ч1о «именно на эт от период падает расцве!
их соотношение с укоралш из кладок 53
жатся в древностях Латвии и Литвы, дати-
руемых X XII вв. Прибалтийские экземп-
ляры отличаются оформлением концов, ко-
торые у них просто заострены без т оловок.
Дротовая гривна с.многогранными концами,
происходящая из кургана близ с. Луговец.
также имеет балтские прототипы (Фехпер
1967: 65; Седов 1982: 156).
Близки к прибал т ттйским прототипам X в.
и распространенные в XI XII вв. на терри-
тории расселения радимичей звездообразные
фибулы. Появление застежек, близких по фор-
ме. но не идентичных прибалтийским образ-
цам. может быть связано с балтским субстра-
том. принявшим участие в формировании
радимичской общности (Седов 1970:140). С
прибалтийскими традициями связывают ся и
бронзовые сииральки-пронизки, характер-
ные для латгальского костюма, а также змеи-
тюголовые браслеты, основной ареал кото-
рых находится в лстто-литовских и прусских
землях. В радимичских курганах балтские
элементы (украшения и ориентировка погре-
бений) представлены в большем количестве,
чем в других племенных ареалах (Седов 1982:
156).
горня вятичей
ремесла» (Недошивина 1974: 16). На наш
взгляд, этот убор можно назвать «племен-
ным» лишь с большой долей натяжки. Это
—древнерусский убор, основное ядро кото-
рого предст авлено на территории расселения
вятичей. Одной из причин столь позднего
формирования убора можно считать некото-
рую отсталое! ь и консерват ивность данного
региона, занимавшего в ранний период фор-
мирования древнерусского государства пери-
ферийное положение.
Обитательницы этого края носили семи-
лопастные кольца на ленте из кожи или тка-
ни. иногда вплетали в волосы. Как правило,
в одном погребении находят довольно мно-
1 о колец (по шесть-семь), но встречаются и
захоронения с двумя-четырьмя кольцами. Се-
милопаешые кольца в захоронениях находят
также продетыми сквозь бересту (Новинки,
кург. 13). шерстяные ленты (Ступеньки 1). на-
низанными на шерстяные шнуры совместно
с бубенчиками (Битягово. кург. 6). Носили их
и в одном уборе совмещ но с перстневидны-
54
Глава II
ми и трехбусинными кольцами (Слевидово)
(Никольская 1981:111). В кургане ГЗТрстьс-
го Покровско! о могильника было зафиксиро-
вано четыре кольца, крепившихся к шерстя-
ной повязке, украшенной полусферическими
бляшками. Под кольца были подложены во-
лосы. согну 1 ые в виде петли (Сабурова 1974:
91). В ряде случаев лопастные и трехбусин-
ные кольца носили в качестве ccpei (упомя-
нутая выше находка ус. Слевидово). Находят
семилопастные височные кольца и в соста-
ве сложных головных уборов, состоящих из
шерстяной ткани, бахромы и лент, соотно-
симых с «мохрами» - этнографическими
головными уборами молодух у южных вели-
короссов (Сабурова 1976:132).
О происхождении лопастных колец было
высказано несколько самых разнообразных
предположений. Н.П. Кондаков считал, что
эти кольца развились из колтов. шарики ко-
торых постепенно эволюционировали в ло-
пасти (Кондаков 1896:198). П.Н. Третьяков
предлагал в качестве прототипов дтя лопаст-
ных колец серповидные украшения, увешан-
ные трапециевидными подвесками (Третья-
ков 1941:41). В.И. Сизов указывал насиль-
ное влияние восточного ювелирного дела на
формирование древнерусских украшений (в
том числе и лопастных височных колец).
Восточное влияние в данном типе украше-
шш исследователь прослеживал в основном
в узорах, которые он сопост авлял с арабской
орнаментикой (Сизов 1895:188). Мнение об
арабском происхождении эюго типа колец
разделяли Б.А. Куфтин. А.В. Арциховский и
Б. А. Рыбаков (Куфтин 1926:92: Арциховский
1930: 8: Рыбаков 1948: 106).
В то же время именно В.И. Сизовым было
высказано предположение об эволюции фор-
мы лопастных колец из радимичских семи-
лучевых. В дальнейшем на этом вопросе не-
сколько раз подробно останавливалась
Н.Г. Недошивина (например. Недошивина
1980:107-111). В качестве переходного звена
исследовательница, вслед за Б.А. Рыбако-
вым. предлагает рассматривав ь так называе-
мые серьги «деснинского» шла (подобные
тем. что найдеиы в курзане у д. Сельца).
Действительно, лучи этих украшений уже
близки к кршювидным лопастям. Несколько
странным является, на наш взгляд, высказан-
ное Н.Г. Недошивиной предположение. что
этот тип украшений произошел не от разви-
1 ых форм радимичских колец, а от ранних ук-
рашений. подобных тем. что были найдены
в составе Зарайско! о клада. Вряд ли это убе-
дительно. У зарайского кольца на концах лу-
чей — шарики, а у ccpei «деснинско! о» типа
лучи напоминают крины, да и хронологичес-
кий разрыв чрезвычайно велик.
Следующим этапом в эволюции допас г-
ных колец можно считать детское шгилопа-
стное колечко из кургана близ села Снас-Ту-
шино Московской обл.. форма лопастей ко-
торого напоминает форму лучей неси и неких
колец, т олько с уплощенной средней частью
(Недошивина 1960:144). Вероятно, славянс-
кое население (радимичи) продвинулось к
востоку по р. Жиздре в верховья Оки и на
Угру, а височные кольца, распространенные
на западе ареала расселения радимичей
(кольца типа Сельцо), положили начало вя-
тичским украшениям (Недошивина 1980:
109).
Кроме вопроса о генезисе вятичских ви-
сочных колец, в литературе не единожды рас-
сматривался и вопрос об их хронологии и ти-
полопш. Было предложено несколько типо-
логических схем для этого типа колец. Пер-
вая классификация принадлежит А.В. Арци-
ховскому. разделившему эти украшения на
типы и предложившему для простых колец
датировку XII - XIV вв.. а для более слож-
ных (разделенных им на 12 типов) — XIII -
XIV вв. (Арциховский 1930: 49-55). Свои
типологии для этих колец были разработа-
ны Т.В. Равдиной (Равдина 1968: 136-142:
Равнина 1978: 181-187) и В.П. Левашовой
(Левашова 1967: 28-36). По типологии
В.П. Левашовой, лопастные кольца делятся
на отделы: семилопастных. пятилопасгных
и трсхлопастиых. Причем эволюция колец
идет по пути усложнения контура, появле-
ния обилия дополнительных декоративных
и орнаментальных деталей.
I Уготовлялись лопастные кольца в техни-
ке литья. По мнению Б.А. Рыбакова, приме-
нял ось только литье по восковой модели (Ры-
баков 1948: 554). Т.Г. Сарачсвой па основе
визуального, трасологического и микрострук-
турного анализа 264семилопастных колец
было выявлено, что кольца изготовлялись
двумя способами: пут ем литья в пластинча-
тые формы по восковой модели и литья в пла-
Региональные ювелирные укоры IX - XI вв. н их соотношение с укорами из кладок 55
сгинчатыс формы, изготовленные по оттис-
ку готового изделия (Сарачсва 1996: 71-74).
Этой же исследовательницей было усынов-
лено. ч ю вятичские ювелиры получали ме-
талл (как в виде сплавов, гак и в «чистом»
виде) в основном из Волжской Булгарии (Са-
рачсва 2001: 87).
Шейные украшения в женском уборе. рас-
пространенном на этой терри юрии. состоя-
ли из гривен и ожерелий. Гривны распрост-
ранены не очень широко и не повсеместно.
На верхней и средней Оке они почти не
встречаются, а представлены в основном в
бассейне Москвы-реки и прилегающих к ней
районах верхнего течения Клязьмы (Фехнер
1967: 55-87). Наиболее ранними являются
дротовыс гривны из четырехгранно! о дро! а
с замком в петлю и крючок. Подобные укра-
шения найдены в могильниках Беседы. Конь-
ково. Таганьково и Черкизово в курганах XI в.
Аналогичные тривны находят в Ростово-Суз-
дальской земле, юго-восточном Приладожье.
Скандинавии и на севере Европы (Седов
1982:150). В более поздних курганных захо-
ронениях встречаются тривны - круглопро-
волочные загнутоконечные, двускатноплас-
тинчатые. витые с замком в крючок и иеипо
пли в две петли, витые с пластинчатыми
(раскованными или напаянными) наконеч-
никами с замком в крючок и nei лю. Встре-
чаются и пластинчатые псрекры i ые гривны,
более типичные для ареала расселения ра-
димичей. По всей видимости. эти украшения
появились у вятичей в конце XI в., когда они
уже реже используются у радимичей (Недо-
шивина 1960: 147).
Как развит не типа дротовых «радимич-
ских» тривен могут быть рассмот рены грив-
ны с заходящими друг на др\т а двускатно-
пластинчатыми концами, орнаментирован-
ными пуансонным орнамешом и перехва-
ченными двумя металлическими полосками
(Фехнер 1967:66). Двускат иопластинчатые
гривны из! от овл ялисьиз низкопробного се-
ребра. и! бронзы или меди с серебряным
покрытием. Наиболее распространены они
в XII в., но встречаются и в более ранних
памятниках. На копны подобных гривен не-
редко припаивались литые рельефные бля-
хи, декорированные розетками.
Гривны с подобными завершениями на-
ходят и в составе кладов. Такая плас i инка
была найдена в составе Крыжовского клада
(X — начала XII в.) в Псковской области. А в
II 1алаховском кладе Невельского уезда (XI —
начала XII в.) такие пластины были припая-
ны к концам роскошной гривны, выполнен-
ной излитого серебряного дрота (Рябцева
1995: 10-12). Практически все подобные бля-
хи изготовлены в технике литья, за исключе-
нием цпампованной, найденной в деревне
Покров. Районом наибольшей концентрации
двуска гноплаепшча i ых гривен с квадратны-
ми бляхами являемся курганы Подмосковья,
причем в трех кур! анных группах у деревень
Волково. Троицкое и Тушино были найдены
гривны с бляхами, отлитыми в одной форме
(Рыбаков 1948:447. рис. 120).
В вятичском ареале находки гривен про-
исходя!. как правило, из курганов с более раз-
нообразным набором вещевого инвентаря.
Этот факт, а также то. что мода на ношение
этого типа украшений наиболее широко пред-
ставлена на восточном побережье Чудского
озера, в юго-восточном Приладожье и Рос-
тово-Су здальской земле, дает основание по-
лагаз ь. что эти украшения связаны с несла-
вянским населением Вост очной Европы (Се-
дов 1982: 150).
I Предка встречаются на данной террито-
рии нагрудные украшения, состоящие из
ажурных цепедержатслей и цепочек, на ко-
торые подвешивались бубенчики, плоские
подвески-птички, подвески-ключи, гребеш-
ки. Шире представлены одиночные бубенчи-
ки и плоские монетовидные подвески. Бу-
бенчики носили нс только в составе ожере-
лий. Их нашивали на подол одежды, на го-
ловной убор, использовали в качестве пуго-
вок. вплетали в волосы, подвешивали к ви-
сочным кольцам. Монетовидные подвески
также носились как в составе ожерелий, так
и нашшыми на платье (Древняя Русь. Быт и
культура 1997:67).
В женском металлическом уборе доволь-
но широко представлены различные вариан-
1ы витых завязанноконечных. пластинчатых
разомкнутых и загнул оконечных браслетов.
Перстни являются практически обязательной
находкой в женских погребениях (ино! да их
количество достигало в одном noi ребении
десяти цпук). Наиболее популярны были ре-
шетчатые перст ни (причем некоз орые их ва-
рианты специфичны именно для эзой гер-
56
Глава II
ритории). Часто встречаются и разнообраз-
ные пластинчатые перстни, а также прово-
лочные. рубчатые и виз ые общерусских ти-
пов (Никольская 1981:112). Литые пластин-
чатые 1 терсти с орнаментом в виде крест а ха-
ракт ерны только для этой территории (Нов-
ленскос. Бигягово. Поваровка) (Недошивина
1976:51).
Одним из центров производства ювелир-
ных украшений на вятичской терри юрии
была крепость Серенек (возникла в середи-
не XII в.) в настоящее время д. Серенек
Мещовского р-на Калужской области. Рас-
копки этой крепости дали очень большое ко-
личество предметов, связанных с ремеслен-
ным ювелирным производством: ювелирный
инструментарий. формы для отливки колтов.
пластинчатых браслетов, матрицы для изго-
товления бляшек поясного набора, заготов-
ки металла, готовые изделия и полуфабрика-
ты (Зайцева 1997:100-113). Типичными на-
ходками для городища являю гея семилопаст-
ные и перстневидные височные кольца, ре-
шет чатые перстни. пуговицы и бубенчики,
вит ые пстлеконечные и пластинчат ые брас-
леты. Изготовляли на городище и подража-
ния дорогим парадным украшениям ли-
тые створчатые браслеты, литые звездчат ые
колты. К редким находкам принадлежит се-
ребряный тисненый, украшенный зернью
колт. аналогичный тем. ч то происходят из
южнорусских кладов. Найдены на городище
и литая узкорогая луш ища. личиноконечный
браслет, криновидная и крестовключенная
круглая подвески, серебряное и золотоетрсх-
бусинныс височные кольца (Никольская 1986:
41-51. рис. 2).
Подведем итоги. Выявляется ряд общих
черт, объединяющих ювелирный убор сла-
вянского населения Днепровского Левобере-
жья. К т аким чертам можно отнести доволь-
но позднее сложение территориальных ком-
плексов украшений, их разнообразный со-
став, включавший в себя различные типы
височных колец, венчиков, ожерелий и от-
дельных подвесок, гривен, браслетов и пер-
стней. Выделяется ряд украшений, объеди-
ненных общност ыо происхождения: лучевые
и лопастные кольца, дротовые гривны. Ха-
рактерно для того региона и влияние несла-
вянского ювелирного убора (особенно балт-
ское влияние на территории радимичей).
II. 5. СЕВЕРО-ЗАПАД ДРЕВНЕЙ РУСИ
II. 5. 1. Территория кривичей смоленско-полоцких
Вопрос о дрсвност ях смоленско-полоцких
кривичей напрямую связан с вопросом о вре-
мени начала славянизации культуры длинных
курганов, балтской в своей основе (Шмидт
1968: 224-229: Шмидт 1970: 219-235; Седов
1970:92-104: Седов 1974: 32). Культура длин-
ных курганов Смоленского Поднепровья и
Подвинья выдслящся как по особенностям
погребального обряда, так и noi ребального
инвентаря (Шмидт 1983: 32). Для женского
ювелирного убора, встречаемо! о в длинных
курганах, характерны элементы, имеющие па-
раллели у восточнобалтийских племен (лат-
галов и восточных литовцев). К таким эле-
ментам относятся головные венчики, полу-
сферические бляхи, ожерелья из бус и спира-
лей. бронзовые спиральки-пронизки. прово-
лочные биэсовидные украшения. трапецие-
видные и грибовидные подвески, костяные
привески-уточки (Шмидт 1963.1968; Седов
1999: 32). '
В крут дых курганах с сожжениями, рас-
пространившихся на данной территории в IX
- X вв., продолжают встрсчат ься вещи бал г-
ских типов. К ним относятся узкопласттшча-
тыс кольца с заходящими концами (в курга-
нах уд. Глинище.Слобода. Акатово), плас-
тинчатые височные кольца с расширением в
нижней части (Акаюво. Аферино). венчики
латгальского Tima (Аферино. Акатово. Торо-
пец. Казиха). биэсовидные подвески. С X в.
появляются и курганы с трупоположениями.
В XI XIII вв. территория смоленско-полоц-
ких кривичей на юге вплотную соприкаса-
ется с территориями дреговичей и радими-
чей. на левобережье Верхнего Понесенья кри-
вичи перемешивались с вятичами, на запа-
де — соседст вуют с латгалами и литовцами
(Седов 1982: 158).
По сравнению с более южными террито-
риями. нововведением в уборе смоленских
кривичей является появление браслетообраз-
Региональные ювелирные укоры IX - XI кв. и их соотношение с укорами из кладов 57
ных завязанных височных колец, широкое рас-
прост ранение подковообразных фибул, тол-
стопроволочных браслетов, привесок-дпрхе-
мов(рис. 6). Браслетообразныс завязанные
височные кольца концентрируются в Смо-
ленской част Днеировскот о бассейна, в бас-
сейнах верхних течений Западной Двины и
Волги (Седов 1982: 162). Тип браслетообраз-
ных височных колец распространен на севе-
ро-западе и северо-востоке Древней Руси
довольно равномерно, но для территории
смоленских кривичей характерны именно
завязанные (Левашова 1967: 38; Седов 1972:
138).
Датируются браслетообразные завязан-
ные височные кольца X началом XII века.
Наиболее ранние экземпляры были найдены
в 11овгороде в слоях, синхронных с 27 яру-
сом мостовой Неревскот о раскопа, функцио-
нировавшей в 972-989 годах. а также в по-
гребениях Михайловскот о и Тимеревског о
moi ильников в Ярославской облает. Основ-
ная масса этих украшений найдена в курга-
нах с ингумациями и датируется не ранее
рубежа X - XI вв. Сельские могильники с
пог ребениями по обряду кремации, в кото-
рых найдены такие кольца, единичны и. ско-
рее всего, относятся к рубежу X XI вв.
первой половине XI в. Эю три комплекса в
Верхнем Поднепровье и одни на Верхней
Волге (Лесман 1996 б: 36).
Сама традиция завязывания проволочных
металлических изделий двойным узлом вос-
ходит к римскому времени. В Восточной Ев-
ропе она прерывается после исчезновения
памят ников Черняховской куль туры. В Запад-
ной Европе продолжает сушествоватьи
становится наиболее популярной в эпоху
викингов в Скандинавии на различных
перстнях, кольцах и браслетах. В X XI вв.
на Руси появляются завязанноконечные
браслеты и небольшие дроювые колечки с
нанизанными на них стеклянными бусина-
ми. использовавшиеся и как подвески к оже-
рельям. и как височные кольца. Причем ви-
зуально дрот овые завязанноконечные брас-
леты подчас т ру дно о гличить от браслето-
видных височных колец. Все вышеизложен-
ное дало возможность Ю.М. Лссману вы-
сказать предположение. что «кривичские»
височные кольца возникли в результате ис-
пользования в соответствии с местной вос-
точноевропейской традицией ношения ви-
сочных колен проволочных завязанноконеч-
ных браслетов. Местные женщины исполь-
зовали получаемые от скандинавов ювелир-
ные изделия не только дтя украшения рук. ио
и прически или толовного убора (Лесман
1996 б: 35-37).
Исследователь обратил внимание на одно
из наиболее ранних височных колец этого
типа, происходящее ттз Гнездовского клада
1886 т ода. На нет о нанизаны стеклянные бу-
сины черта, не характерная дтя браслето-
образных височных колец, но встречающая-
ся на височных кольцах других типов. «Та-
кое тте традиционное использование сканди-
навских браслетов могло появляться в раз-
ных местах пребывания скандинавов, но
именно в Верхнем Поднепровье по каким-
то причинам стало наиболее популярно. —
пишет Ю.М. Лесман. — Новый тип появил-
ся в период становления новой культуры,
когда набор типов был особенно неустойчив,
а инновации, войдя в культуру, имели наи-
больший шанс закрепиться в ней. став через
какое-то время типичными и даже региональ-
но-этнографически диагностичными типа-
ми» (Лесман 1996 6: 35-37).
В доказательство этой гипотезы мы мо-
жем привест и материалы из кургана 7 Мар-
катушипских курт аиов пол Смоленском (на
левом берегу Днепра при впадении в него
реки Десны). В женском захоронении, име-
ющем западную ориентировку, было найде-
но по три браслетообразных завязанных
кольца, кренившихся к кожаным ремешкам.
Л еще одно аналогичное кольцо носилось
умершей на левой руке (Модестов 1991: 102.
рис. 1 ).
Пиот о мнения о происхождении даштот о
типа у крашений придерживаегея В.В. Седов
(Седов 1999: 138). Исследователь проводит
т енет ическую цепочку от проволочных ви-
сочных колец большот о и среднего диаме тра
с сомкнутыми или заходящими концами,
ттредетавлепных на намят никах тушемлинс-
кой культуры (гор. Демидовка. селища Ми-
кольцы. Бсльчина. Прулники и др.), которые
он связывает с выделяемым им в составе дан-
ной культуры славянским населением. к кри-
вичским височным кольцам. Появившиеся в
тушсмлинской культуре кольца, по мнению
исследователя, «без каких-либо перерывов
58
Глава II
продолжали бытовать в лесной зоне Воеюч-
но-Европейской равнины до X XIII вв.
включительно, когда их славянская принад-
лежность и нс вызывает никаких сомнений»
(Седов 1994: 56-68; Седов 1999: 138).
Датировка завязанных браслстообразпых
височных колен разработка на материалах
Харлановского могильника в Смоленской об-
лас1и. Завязанные обоими концами кольца
встречаются в погребениях XI — начала
XII в., одним концом- XII XIII вв. ВXII в.
оба вариант сосуществовали, иногда в од-
ном погребении (например, в кургане уд. Су-
бор Калужской обл.) найдены кольца с обо-
ими вариантами оформления застежки. Но-
сили большие кольца обычно по несколько
штук, иногда в сочетании с другими i ипами,
особенно с ромбошитковыми завязанными
(Левашова 1967:16). На разных территориях
расселения кривичей браслетообразные
кольца различались размерами, толщиной
проволоки, оформлением концов (Сергеева
1983:84-88). Так. например, для территории
полоцких кривичей характерны небольшие
тонкопроволочные кольца с небрежной за-
вязкой (Третьяков 1965:296).
Браслетообразные кольца крешпись к го-
ловным уборам, как правило, при помощи ко-
жаных ремешков. В ряде захоронений про-
слежены головные уборы из бересты, покры-
той тканью, в некоторых случаях расши гые
оловяниегыми бляшками и стеклянными бу-
синами (например, захоронение в Милееве
Дорогобужского района). Характерны и «ко-
кошникообразныс» головные уборы из шер-
сти и войлока (Харлаиово кург. 8. Милеево
кург. 1.4.8.9). а также головные платки, рас-
шитые бляшками и бисером (Акатово кур!. 30)
(Сабурова 1974: 92). имеющие, по-видимо-
му. истоки в предшествующих балтских древ-
ностях.
В Новгороде браслет ообразныс завязан-
ноконечные кольца оставлены, видимо, пе-
реселенцами с кривичской территории. На
Неревско.м раскопе в слоях X—начала XII вв.
было обнаружено 10 таких колец, выполнен-
ных из латуни и многокомпонентных спла-
вов. Шесть из них изготовлены из одинар-
ной волоченой проволоки, завязанной дву-
мя концами, три (датирующиеся XI в.) — из
двойной волоченой проволоки (Седова
1981:10). Анало! ичныс витые кольца нахо-
дят в курганах XI в. восточного побережья
Чудского оз., в Белоруссии и Херсонесе (Се-
дов 1972: 139). Эти подвески были специ-
фическими славянскими украшениями-аму-
летами. по-видимому, несвязанными с фин-
но-ут орским миром.
В качещве привесок к ожерельям на тер-
ритории смоленских кривичей использова-
лись лунницы. круглые пластинчатые и ажур-
ные подвески. В этом регионе получили рас-
прошраненияс и украшения, связанные с По-
дунавьсм. серповидные височные кольца
IX в., подобные найденным в курганах у де-
ревень Аферино и Акатово. Сходные кольца
представлены, например, в могильнике Жми-
но в Хорвати (Седов 1998: 249). Среди на-
i-рудных привесок, носимых на цепочках или
ремешках, особенно популярны плоские пла-
стинчатые привески-коньки (собачки), укра-
шенные циркульным орнаментом соляр-
ными знаками (солнечные кони). Цепочка с
амулетами размещалась, как правило, пале-
вой стороне груди. Форма подвесок весьма
стандарт изирована. Такие подвески исполь-
зовались как отдельно, так и в комбинации с
друз ими привесками — бубенчиками, ложеч-
кой. гребнем, ключом. Плоские коньковые
привески сконцентрированы именно на этой
территории — здесь сделано около 80% всех
находок (Седов 1968: 151-157). Центр про-
изводства данных подвесок располагался, по
всей видимости, в Смоленске или где-то в
его окрестностях (Рыбаков 1948:458: Журжа-
лина 1961: 129: Рябинин 1988: 55). Е.А. Ря-
бининым учтено 147 экземпляров плоских
подвесок с изображениями животных (из них
104 на территории Руси). В основном эти
подвески встречаются в сельских погребени-
ях. но коньковые есть и в городах. Распрост-
ранены они в Смоленской. Полоцкой. Нов-
городской, Ростово-Суздальской землях.
Встречаю зся и в юго-восточной Прибалти-
ке. отдельные находки есть в Скандинавии и
в древностях Перми. По мнению упомяну-
того исследователя, кроме общепризнанно-
го смоленского центра, изготовлявшего конь-
ковые подвески, существовал еще один, об-
служивавший древнелатышские и ливские
племена. Этот центр располагался где-то на
Западной Двине (предположительно на го-
родище Дауз мале). Изделия этого центра за-
фиксированы и в Полоцкой, и в Новгороде-
Региональные ювелирные укоры IX - XI кв. н н\ соотношение с укорами из кладов
кой землях (Рябинин 1988: 55-58). Само же
появление этого типа амулетов в славянском
уборе, возможно, обязано контактам с ба.не-
ким населением, лля которого был характе-
рен культ коня (Седов 1968:156). В XI-XII вв.
подобные изделия попадают и на север Вос-
точной Европы к фшшо-уграм. где opi анич-
но входя! в местный убор, изобилующий
подвесками.
Ареал второй по количеству находок груп-
пы славянских привссок-амулстов — ложск
и ковшиков совпадает с ареалом коньков.
Наибольшая их концентрация фиксируется в
междуречье Днепра. Западной Двины и Вол-
ги. На территории Руси найдено нс менее 75
ложек (в основном бронзовые, но встреча-
ются и из низкопробного серебра) и 10 брон-
зовых литых ковшиков. Подвески-ложечки
изготовлялись, скорее всего, сельскими юве-
лирами Смоленской земли, вместе с тем аре-
ал распространештя амулетов, из! oi овленных
в одной форме, достаточно широк (Успенс-
кая 1967: 88-132; Рябинин 1988).
Привески-амулеты в уборе встречаются,
как правило, в виде целых наборов, в кото-
рые входят привески-коньки, ложечки, бубен-
чики. клыки животных. К славянским по про-
исхождению oi нося гея подвески в виде i-peo-
ней. украшенных проломами коней (встреча-
ются в основном в Верхнем Поднспровьс) и
рыбок. В славянской среде был выработан и
специальный держатель арочной формы для
подвесок. Распространенные же в XII -
XIII вв. на северо-западе Новгородской зем-
ли. в Приладожьс и Костромском Поволжье
литые полые имитации ножен, использовав-
шиеся в качестве игольников, имели прибал-
тийско-финское происхождение. Аналогии
для встречающихся на славянских памятни-
ках XI — начала XIII в. в Верхнем Поднсп-
ровье и на северо-западе Новгородской зем-
ли цельных кошяных и бронзовых амулетов
в виде ножен происходят из лревнеэстонс-
ких и ливских памятников. К амулетам, вы-
работанным в балто-финно-у горской среде,
о I носятся также ножсвидныс подвески, под-
вески-ключи. прорезные птицевидные фи-
гурки. В то же время под влиянием славян
начинается изготовление подвесок-коньков в
59
Прибалтике, импульс с ioi а привел к созда-
нию чудским населением Приладожья соб-
ственной разновидности ключей-амулетов
(Рябинин 1988: 58).
По мнению В.В. Седова, полые зооморф-
ные привески не являются специфическими
детагями восточнославянского женского ко-
С1 юма. Все они встречены в курганах север-
ной части древнерусской территории, там. где
славяне соприкасались с иноязычным насе-
лением и совсем не известны в южнорусских
землях (Киевщина. Волынь. Поднепровье).
Амуле! ы. ci 1абже1 н !ые бахромой из шумящих
подвесок, являются типичными финно-угор-
скими украшениями, появление которых в
древнерусских курганах обуславливается кон-
так1амп с финноязычными племенами (Се-
дов 1966:246-251; 1968; 151).
Находки шейных гривен в кривичском
ареале немногочисленны (в основном, витые
с пластинчатыми концами или круглопрово-
лочные). Встречаются также и гривны балт-
ских типов. Браслеты и перстни принадле-
жат к общерусским типам. Браслеты, в основ-
ном. встречаются витые завязанные и пле-
теные. а перстни — проволочные, витые,
рубчатые и пластинчатые. Довольно часты
находки подковообразных фибул и металли-
ческих пуговиц грибовидной или шарообраз-
ной формы (Седов 1982: 163.164).
Широко распространены и украшения
балтских типов. Так. латгальские головные
венчики-вайнаги представлены не только в
намял никах, расноложешшгх поблизости от
латгальской территории (Овсиновка, Осте-
нец. Федогоово. Шакелево). но и в глубине
кривичского ареала (Дымово. Стерж). Пред-
ставлены также браслеты и шейные гривны
со стилизованными змеиными головками на
концах, шейные гривны из проволоки круг-
лого сечения с уплощенной средней частью
и заходящими концами, шейные гривны из
толстого прута, спирально обвитые тонкой
проволокой, спиральные перстни, лучевые
кольнсообразныс пряжки, некоторые типы
подковообразных фибул, характерные для
Прибат 1 ики. Эти украшения вошли в состав
убора, видимо, в результате славянизации
местных банов (Седов 1982:164).
60
Гланд II
II. 5. 2. Территория псковских кривичей
Круглые курганы с сожжениями псковс-
кой ветви криви чей с IX в. представлены в
бассейнах р. Великой. Псковского озера, в
верховьях Западной Двины, прилегающих
районах Ловати и верхневолжских озер. В
конце X начале XI вв. происходит пере-
ход от обряда трупосожжсния к трупополо-
жению. Курганы с трупоположениями бед-
нее. чем в ареале смоленско-полоцких кри-
вичей. Нет своих типов височных колец, ред-
кие находки принадлежат к общеславянским
типам перстневидных колец, иногда BCipe-
чаются и трехбусшшые. Единичными наход-
ками представлены монетовидные и монет-
ные привески, лунницы. бубенчики, чаще
находят подковообразные фибулы. Браслеты
и перстни общерусских типов (вшые. дро-
товые) (Седов 1982) (рис. 6).
На территории псковских кривичей (ле-
нисинские курганы на Витебшине. курганы
в Себежском поозерье), а также в верховьях
Западной Двины и Волги, в Смоленском По-
дпепровье находят головные венчики из че-
редующихся спиралек и раздели!ельных пла-
стинок. С лицевой стороны пластинки по-
крыты серебряными обкладками с тисненым
орнаментом. Подобные венки являются ха-
рактерными украшениями балтов. У латгалов
они представлены с VI по первую половину
ХШ в. Находят их в и .шинных курганах, наи-
более поздние находки в древнеру сских кур-
1 аиах с сожжением относятся к XI в. (Серге-
ева 1986:78).
На территории псковских кривичей распо-
ложен Залахтовский могильник X1-XIII вв. —
шиереснейпши памя шик. содержащий захо-
ронения как по обряду трупосожжсния. так
и 1руноположения. Могильник был остав-
лен, по всей видимосш. эстской общиной, в
состав которой входили и отдельные пред-
ставители славянского населения. Для насе-
ления. оставившего э гот могильник, был ха-
рактерен выразительный ювелирный убор
(Хвощинская 2004). Головные украшения
были представлены древнеэстонскими по
происхождению заколками головных покры-
вал и славянскими перстневидными височ-
ными кольцами. Металлические элементы
головных украшений былившречены толь-
ко в захоронениях женщин средне! о возрас-
та. Шейные гривны найдены в детских и
женских захоронениях.
Все типы гривен (дротовыс. вшые. кру-
ченые. серповидные) имеют аналогии на тер-
ритории расселения финско! о населсния. Ха-
ракт ерной чертой по1ребального убора жен-
щин возраста 30-40 ле! являлись наборы на-
грудных украшений, состоявших из двух бу-
лавок с кресговидными навершиями (имею-
щими эстское происхождение), соединенных
цепочками, к которым крепились различные
привески. Подвески входили в женский и
детский убор, они носились в составе оже-
релий. нафудных украшений или крепились
к поясу. В Задахтовье были найдены плоские
зооморфные подвески (как типов, характер-
ных для Юго-Восточного Приладожья. так и
приба.ттийско-финских) и i-ребешки-амулеты
(имеющие аналогии в древностях эстов и
ливов). В составе ожерелий встречены круг-
лые привески (в том числе, с изображением
головы быка), арабские и западноевропейс-
кие монеты, литые широкорогие лунницы.
Поч ги все фибулы относятся к типу подково-
образных (преобладают со спиральными го-
ловками). Кроме того была найдена одна
круглая фибула финского типа со стилизован-
ным изображением змееподобных существ.
Брасле1ы являлись одним из наиболее ха-
рактерных украшений. Ленточные и плас-
тинчатые представлены во всех захоронениях
независимо от пола и возраша. Спиральные
брасле! ы найдены только в детских и женс-
ких захоронениях, узкомассивные преоблада-
ют в мужских, но встречены и в женских.
Ленточные, узкомассивные и спиральные
браслеты имеют аналогии и прототипы в
эстских древностях, а прастинчаше. простые
лротовые и ложновитыс были характерны
для разных территорий Древней Руси. Сре-
ди перс 1 ней наиболее популярны спираль-
ные. уса I ые и с волютами. Они встречены в
захоронениях всех половозрастных групп,
иногда по несколько (до 4-5) экземпляров в
одном захоронении. Носили перстни и на
правой, и на левой руке. Характерной осо-
бенностью женского костюма было украше-
ние 1 оловных покрывал и передников метал-
Региональные ювелирные укоры IX - XI кк. и их соотношение с укорами из кладов 61
лическими спиральками (Хвошинская 1977:
62-67: Конецкий. Носов. Хвошинская 1984:
184. рис. 2; Хвошинская 2004).
В целом для же! тского убора севсро-запад-
ных областей Новгородской земли характе-
рен смешенный славяно-финский облик. Так.
для у бора XI - начала XII вв.. pacnpocrpaiich-
ного в Северо-Вост очном Причудьс. харак-
терно сочетание древнерусских у крашений,
типичных дня населения Новгородской зем-
ли (височные кольца, витые и пластинчатые
бра еле гы. i цитков ыс перстни с за вя занны м и
концами), и украшений финно-ут орского про-
исхождения (дротовыс гривны с «рыльца-
ми». цепочки с цепсдсржателя.ми. широкие
ленточные браслеты, персти с волютами).
Был выработан и локальный тип браслето-
образных колец с завитком на одном конце
(Хвошинская 1976: 18-24; 1978:8-13; 1985:
168-179). При широком распространении
финно-угорских украшений фиксируется
иное, чем у прибалтийских финнов (эстов,
ливов. финнов, карел и веси) использование
нагрудных элемент ов металлического убора
(Конецкий. Носов. Хвошинская 1984: 164-
169).
II. 5. 3. Территория словен
Древнейший плас г славянских памя ти-
ков Ссверо-3а11ада связан с культурой coi юк.
распространенной в бассейнах озера Итьметть.
верховьях рек Лу т и и Плюссы. верхнем и сред-
нем тсчсшш реки Мологи. Отдельные сопоч-
ные насыпи известны в бассейнах рек Запад-
ной Двины и Великой и Нижней Молот (Се-
дов 1982:58). Вопрос о характере славянской
досопочной культуры доси.х нор дискуссио-
нен. Так. В.В. Седов рассма i ривает культу ру
псковских длинных кур! аиов (КПДК) как па-
мятники славян-кривичей, относя их появле-
ниек V в., его под держивают А.Н. Башенкин.
В.А. Бурови др. (Седов 1999:117-128. зам же
и литература). По мнению друт их исследова-
телей (Д.А. Мачинский. Г.С. Лебедев.
Р.С. Минасян. В.Я. Конецкий. С.Л. Кузьмин).
Iюявлетше славян на Северо-Западе отностi гея
к концу VII-VIII вв. Причем появлению обря-
да захоронения в высоких сопочных насыпях
предшествовал период с трудноуловимыми
бескурганными грунтовыми кремациями
(Кузьмин 1998: 8-15; и др.). Основными эле-
ментами кулы уры. привнесенными славяна-
ми на эту территорию, являются пашенное
земледелие, характерные формы керамики,
украшения из оловянистых сплавов, некото-
рые типы височных колец(Мачинский. Ма-
чинская 1988: 44-56; Кузьмин 1998: 8-15). В
качестве ранних славянских поселений досо-
почной норы В.Я. Конецкий предлагает рас-
сма грива! ь Прость в Ильменском Поозерье.
Золо гое Колено на Мет е. Юрьевскуто горку в
Удомельском поозерье (на них памятниках
ирису телвуют элементы КДК при их
безусловной «сопочной» ландшафтной при-
вязке) (Конецкий 1988:4-8).
С.Л. Кузьминым выделено несколько эта-
пов в процессе славянского расселения, на-
чавшегося. по ет о мнению, с первоначально-
го расселения (от разведочных поссшентш до
нспосредс!венной миграции). Продвттжение
славян маркируется возникновением серии
памятников, как эволюционировавших впо-
следствии в города.( Ладога. Псков. Рюрико-
во 1 ородишс) либо ставших древнерусскими
локальными центрами (Новые Дубовики,
Перслольскии иогосг. Косицкос. Городецпод
Лугой, Которск, Городок на Шслони. Сель-
цо. Еськи). так и прекративших существова-
ние до середины X в. (Надбелье. Курская
Гора. Кострони. Любша. Холопий Городок.
Городище на Сяси и др.). Эти памятники ха-
рак 1 epi । ту ются схожей ма сериал ьной культу-
рой. отличающейся от памятников КПДК. но
близкой к материалам из сопок и могильни-
ков с поверхностными кремациями. Набор
женских у крашений, стеклянные и каменные
оусы. наборные гребни, оружие и бытовые
предметы изжелеза. восточные монеты, при-
емы домостроительства и фортификации
очерчивают определенноетерри ториалыто-
ку амурное единство, существовавшее по-
зднее последней трети IX в. и отождествля-
емое С.Л. Кузьминым с «Русью Рюрика и
Одет а». Э1 о объединение являлось разнород-
ным кош ломератом этносоциальных ipynnn-
ровок. интересы которых пересекались в бас-
сейнах Ильменского. Ладожского и Чудского
озер и регулировались «призванным из-за
моря князем». Славянам, по всей видимос-
1 и. принадлежала особая роль в данном обье-
динеиии. По материалам С тарой Ладоги, на-
чало активного формирования этой обпшо-
62
Глава II
сти (преддревнсрусской. по определению
С.Л. Кузьмина) датируется последними де-
сятилетиями VIII — первыми десятинет ия-
ми IX вв. (Ill - IV яруса по Мачинской-Кузь-
мину 780-830-е гг.). Продвинувшись в При-
ильменье и Поволховье, внедрившись в мест-
ную «чудскую» среду и сто.ио iyвии 1сь со скан-
динавами. славяне изменили ситуацию в
центральной части Восточной Европы, свя-
зав се южные и северные регионы.
Немногочисленность славян, их напря-
женные отношения с аборигенами привели
к тому, что те и другие на какой-то промежу-
ток времени были обложены данью «варяга-
ми из-за моря», по всей вероятности, свея-
,\ш. Археологически фиксируется захват скан-
динавами Ладоги около 840 г., в момент
всплеска активности викингов на Западе.
Социально активная часть славян была либо
истреблена, либо покинула Поволховье. В
этот период, длившийся, по мнению автора,
до 860 г., славяне продолжили освоение се-
веро-западного региона. В условиях конфрон-
тации с варягами могла наметиться консоли-
дация с аборигенным населением. Время
кристаллизации этносоциума «словене»
(ильменские, новгородские) С.Л. Кузьмин
относит к периоду борьбы с варягами и прав-
ления Рюрика и Олега (Кузьмин 1998: 8-15).
В заселении Новгородской земли прини-
мало участие, по всей видимости, нс только
восточнославянское, но и западнославянское
население, следы присутствия которого вы-
являются в релит иозных верованиях, преда-
ниях. обрядах, языке (Рыбина 1997: 326-333).
На миграцию группы западнославянского на-
селения из Средней Европы, предположи-
тельно из бассейна Вислы, указывают также
и данные архсолот ни. антропологии (Седов
1995: 245: Алексеева 1961: 3-37). Об этом же
свидетельствуют особенности новгородско-
го диалекта, выявленные по материалам бе-
рестяных грамот, отличающиеся от южнорус-
ского и имеющие аналогии в западнославян-
ских языках (преимущественно в северолс-
хитском) (Зализт тяк 1986:218). Подобное схол-
ство читается и в составах кладов арабского
и западноевропейского серебра, находимых
на Новгородчине и на южном побережье
Балтики. Есть оно и в материалах IX в., про-
исходящих с Рюрикова Городища и из Поозе-
рья и X в. из Новгорода.
К вещам, имеющим западнославянское
происхождение, относятся формы хлебных
печей, двушипные стрелы, некоторые типы
керамики, близкие к материалам из польско-
го Поморья. Аналот ичнос сходство просле-
живается и в наборе злаковых культур, харак-
терных для Новгородской земли X в. и для
южной Бал I ики. в строительной технике и в
составе сплавов цветных металлов (Рыбина
1997:328).
В X — начале XII вв. и в XV XVI вв.
Новгород получал цветной металл из сред-
негерманских месторождений через Прибал-
т ику. В XII XIII вв. в связи с прекращением
торговых связей с Прибалтикой в Новгороде
преобладаю г поставки шведской меди и
польского свинца (Коновалов 1974:8: Рыби-
на 1992: 32). Другой крупный ремесленный
центр северо-запада — Псков — не преры-
вал отношений с Прибалтикой, ювелирные
украшения домонгольского времени из этого
города исполнены в основном на прибалтий-
ском сырье (Королева 1997:169-179).
Для ювелирного убора населения, оста-
вившего сопочные насыпи, были характер-
ны трапециевидные привески, дротовые
браслеты, подковообразные фибулы, бронзо-
выеспиральки для накоеннков. Аналогичные
украшения найдены и в бескурганном мо-
гильнике Которск IX. Сходный материал
(кроме «накоеннков») происходит и из ран-
них древнерусских центров, датируемых на-
чиная с IX в., например, из Городца под Лу-
гой ши Передольского погоста. На этих па-
мятниках представлены проволочные разом-
кнутые височные кольца, многочисленные
трапециевидные подвески, подковообразные
фибулы со спиральными или гранеными го-
ловками. дротовые и узкомассивные брасле-
ты. Прослеживается прссмст венность от это-
го убора к убору, представленному в древне-
русских захоронениях по обряду групополо-
жения. получивших распространение на Нов-
городчине с третьей четверти XI в. В этот
убор входили щитковые и проволочные ви-
сочные кольца, трапециевидные привески,
ожерелья из бус и металлических подвесок,
подковообразные фибулы. Довольно часто в
уборе встречаются браслеты и фибулы, а в ма-
териалах Восточного Причудья и тривны. По
мнению Е.Р. Михайловой, для рассматрива-
емой терри т ории можно говори т ь о едином
Региональные ювелирные укоры IX - XI кв. н ну соотношение с укорами из кладов 63
древнерусском уборе начиная со второй по-
ловины IX по начало XII в. Значительная
часть компонешов данного убора вписыва-
ется в кр\ 1 северных древностей и восходи г
к североевропейским проктитам. Виредше-
овмотей культуре псковских шинных кур-
ганов прототпов для такого убора но (Ми-
хайлова 1995: 38-40).
Ромбощитковыс височные кольца состав-
ляю! 48" о височных украшений в курганах
Лешин радской обд. (Седова 1981:9). Основ-
ной ареал ромбошшковых колен охватывает
Прнильмснье. р. Л six и Плюссу. Довольно
часто встречается лот тип украшений на
Ижорском плато и на Псковщине, отражая
проникновение слове! !ского населения на эт и
территории.
Кроме того, вместе с передвижением сла-
вянского населения э гот тип украшения по-
падает на терригоршо Ярославского и Кост-
ромского Поволжья и в Ростово-Суздальскую
землю. Отдельные находки ромбошшковых
колен происходя инн юго-западных pei ио-
нов (Дро! ичин, Гомельскос Поднепровье).
Встречайся лот тип украшений и в Каре-
лии. и Финляндии, а также в виде л ома в кла-
дах скандинавских стран (Nordman 1924: 70.
fill. 50: К ix ikoski 1973: abb. 1077; Stenbcrser
1947: Abb. 226. Г. Седов 1982: 177).
Впервые схема видоизменения этих укра-
шений была предложена cine А.А. Спицы-
ным (Спицын 1896: 12. 13; 1903: 191).
А.В. Арциховский поделил ЭЮ! нш колец по
характеру щи i ков на ромбоши 1 ковые. квад-
ратнощитковые и овальнопштковые. Более
дробная классификация была разработана
В.П. Левашовой, выделившей но xapaKiepy
застежки шесть 1 инов этих колец(прооые
несомкнутые, замкну! ые. завязанные, крюч-
ковоконечные. щи । ковоконсчныс. вильча-
тые) (Левашова 1967: 23).
В. В. Седовым была предложена схема ви-
доизменения ромбощитковых колец на про-
тяжен и и XI XIV вв. Ромбощитковыеколь-
цаХ1 XII вв. (I ак называемые классические)
имею! чс1ко вырезанные ромбические щит-
ки. орнаментированные пуансонным крес-
том. ВХП - XIII вв. шшкистановятсясгла-
жепноромбическими или овальными, крсс!
на них заменяется пупк!ирным рисунком,
размеры колец стаповя1ся меньше (Седов
1953: 194).
Аналогично описывает хроиоло!тио из-
менений. произошедших в ромбощитковых
кольцах, распространенных в Новгородской
земле с начала XI до XIV вв.. и В.П. Левашо-
ва. Переход от четких ромбических форм
тюков к овальным исследоваголышца
объясняет стремлением к удешевлению то-
вара. при котором мастера не подправляли
до исходной формы первоначально получав-
шиеся при расковке овальные щшки. В ор-
наментации хронологическим признаком
счигаеюя упрощение классического креста с
пуансонными шариками на концах, переход
к крестообразной фигуре из 4-5 пуансонных
или прочеканенных с обратной стороны
кружков. В XI XII вв. ст арая и новая систе-
мы орнаментации сосущест вовали. в конце
XII — XIII вв. орнамент ация выпуклыми че-
канными кружками стала преобладающей
(Левашова 1967: 24).
В эту привычную эволюционную схему
ра звития ромбошш ковых колец несколько нс
вписываются новгородские находки. В Нов-
городе в слоях рубежа X - XI начала
XIV вв. найдено 7 ромбощитковых колец.
I кшболее древний экземпляре несомкнуты-
ми концами датируется рубежом X - XI вв..
4 эк земпляра — щитковоконечные. 2 — во
фрагментах. Причем наиболее ранние коль-
ца. найденные в 26 и 25 ярусах, имеют оваль-
ные пштки. то опровергает устоявшееся
мнение, что на раннем этапе существовали
только кольца с ромбическими щитками. На
новгородских кольцах не встречен классичес-
кий орнамент в виде креста с четырьмя кру-
жочками на концах, кольца орнаментирова-
ны пуансонными ромбиками по краям и 4-5
кружкамй в цен 1 ре (Седова 1981: 10). Не-
обычна и техника изгоговления этих колец:
они отлиты в односгоронних каменных фор-
мах. а не раскованы из проволоки. Изготов-
лены новгородские кольца из латуни, мно-
гокомпонсн 1 пых сплавов с преобладанием
цинка, меди (Рындина 1963: 248).
11з всех ни юв ромбощитковых колец наи-
более многочисленны щитковоконечные,
широко распространенные в Новгородской
обдаст. Для этого региона завязанные ром-
бошитковыс кольца не характерны, они бо-
лее типичны для междуречья Днепра и Оки.
Здесь представлены довольно крупные коль-
ца с чет кими ромбическими inn квадратны-
64
Глава II
ми щитками, датируемые началом XII — пер-
вой половиной XIII вв. (Левашова 1967:24).
Для ювелирно! о убора, представлений! о в
кур! анных захоронениях, раскопанных в
окрестностях Глова. характерно привешива-
ние к ромбошит ковым кольцам различных
привесок: 1реуюльных. трапециевидных,
крут лых. б\ бенчиков. цепочек, нанизанных на
гонкие колечки бусинок (Спицын 1903:20).
Носили ромбошитковые кольца в составе
головного убора. т ак же как и браслетообраз-
ные. Количест во таких колец при одной по-
гребенной колеблется от одного до четырех.
Входили ромбошитковые кольца и в состав
комбинированных уборов. Так. в кургане у
с. Бочарова в бассейне р. Угры были найде-
ны лопастные кольца простейше! о вариан-
та. браслетообразныс завязанные кольца и
ромбошитковые. В погребении у с Леонова
Калужской обл. было найдено небольшое
ромбощитковое кольцо с нанизанными на
него маленькими лопастными (Левашова
1967: рис. 6. б).
Кроме ромбощитковых колец, в словенских
памя тниках часто встречаются перстневидные
колечки, иногда находят и трехбусинные коль-
ца. Уборы с подобным комбинированным но-
шением колец были изучены М.А. Сабуровой
на MaiepiiiLiax раскопок могильников Новин-
ки 1 и II (Сабурова 1974:85-97).
Исследовательницей выделен девичий
убор с двумя косами или распушенными во-
лосами. Причем различные височные колеч-
ки вплетены в маленькую косичку по сторо-
нам лица (выше уха — перстневидное коль-
цо. на уровне уха — многобусинное. грехбу-
синное. браслетообразное или ромбошитко-
вое кольцо). В ряде случаев большие кольца
чередовались с кольцами малых размеров.
Анало! ично вплетались браслстообразные
кольца в маленькие косички и в кривичских
памятниках (Сипьгово. Коханы). В костюме
замужней женщины височные кольца крепи-
лись к головным уборам из шерсти и войло-
ка. которые иногда расшивались бляшками
(подобные уборы особенно харакгорны для
территории смоленско-полоцких кривичей).
Третий отдельный тин ношения составляют
кольца, носимые как серьги (перстневидные,
малые ромбощи 1 ковые. бусинные). В насто-
ящее время, после исследования височных
украшений из коллекции ГИМ. можно кон-
статирова i ь. ч i о в качестве серег могли по-
ст ься и довольно крупные браслетообраз-
ные кольца (Агапов. Сарачева 1997:99).
На территории Новгородской земли были
распространены все варианты браслет ооб-
разных височных колец, кроме завязанных.
Особенно же были характерны кольца со
скрещенными концами, перевязанными ни-
тью. Скопление подобных колец отмечается
на северо-западе Новгородской области. На-
ходки же 1аких колец в бассейне левобереж-
ных при токов Волги подтверждают освоение
этой территории новгородцами. Браслегооб-
разные кольца носили здесь не но несколько,
а по 1-2 экземпляра на каждом виске (Лева-
шова 1967:25). Кроме того, на северо-западе
Новгородской области и в землях кривичей
представлены браслстообразные височные
кольца с заходящими концами, один и! кото-
рых резко отогнут в обрат ную сторону. Два
экземпляра подобных колец были найдены
в Новгороде в слоях середины XI в. и сере-
дины XIII в. (Седова 1981:10). Специфичны
для этой т ерритории были также и щитково-
конечные. и втульчатыс браслсгообразные
кольца (Левашова 1967:25).
Кроме височных колец, в состав голов-
ного убора жительниц Новгородской земли
входили бронзовые или серебряные тонко-
пласт начатые головные венчики. Эти вен-
чики завязывались сзади при помоши шну-
ра. продетого в специальные отвершия. или
застегивались при помоши крючков. Скопле-
ние этих украшений именно на Новгородчи-
не. а т акже отдельные находки их в Верхнем
Поволжье и в междуречье Волги и Клязьмы
(на шрригориях, заселенных, в том числе, и
выходцами и i новгородских земель), застав-
ляет предположить, что пластинчатые вен-
чики специфичны именно лля территории
словеи (Левашова 1968: 91-97; Седов 1982:
178). Встречаются и парчовые венчики, рас-
ши 1 ые квадратными, круглыми и треуголь-
ными бляшками (аналогичные головные убо-
ры находят и на территортш расселения кри-
вичей. а также в курганах Волго-Окского меж-
дуречья). В ряде случаев тисненые бляшки
венцов ХШ в. украшали ст екл янн ы м и вед ав-
ками (как правило, зеленого цвета) (Спицын
1903:18). Кроме венчиков, являвшихся в ос-
новном принадлежпост ыо девичьего голов-
ного убора, находя i и оста i ки сложных жен-
Региональные ювелирные укоры IX - XI кк. и ну соотношение с укорами из кладок 65
ских головных уборов. Так. в упомянутом
выше погребении в кургане у л. Новинки на
Вологодчине (moi илышк принадлежал сло-
венскому по происхождению населению)
были обнаружены остатки головного убора,
украв энного шестью рядами бляшек. j гя о i ов-
ленных из свинцово-оловяниитого сплава.
Височные кольца крепились непосредствен-
но к 1аки.м уборам (Сабурова 1974: 88. 89).
Типичный для Новгородчины ювелирный
убор представлен в погребениях moi илыш-
ка у д. Дсрсвяницы и Федорово (Конецкий.
Носов. Хвошинская 1984: 164. рис. 1). Осно-
ву убора составляли ромбошл i ковые колыia.
иногда дополняемые проволочными ибусии-
иыми. К поясам крепились Kopoi кие цепоч-
ки с привесками-амулетами (зооморфными
подвесками, ложечками, бубенчиками).
Нагрудные украшения в словенских древ-
ностях представлены довольно редкими на-
ходками шейных гривен. В курганах Прииль-
менья они нс представлены вовсе, единич-
ные находки ecib в верховьях Луги, чаще
встречаются на окраинах Новгородской зем-
ли. где появляются, вероятно, в результат
контакт с неславянским населением (Седов
1982:178). В Новгороде известно всею 4 эк-
земпляра гривен. Древнейшая находка —
фрагмент гривны, представляющей собой
железный стержень, оплетенный биллоно-
вой проволокой. — была обнаружена в слое
второй половины X в. (Седова 1981: 23).
Аналогичная т ривна найдена, например, в
кургане 54Тимеревского могильника. Шей-
ные гривны подобно! о тина широко были
распространены в Северной Европе — Да-
нии. Норвегии, на Аландских островах, но
особенно широко в Швеции, где датируются
(концом IX) X началом XI вв. В Швеции
носили их и женщины, и мужчины. Время
бытования подобных i ривен на древнерус-
ской территории совпадает со временем наи-
большего их распространения в Скандина-
вии (конец X XI вв.). На Руси они найдены
в курганах только при женских захоронени-
ях. единичные мужские погребения с таки-
ми гривнами относят к скандинавским (Ле-
вашова 1967: 63.64). В слое конца XII на-
чала XIII вв. в Новгороде были обнаружены
фрагменты двух витых бронзовых гривен
(данный 1 ин широко распространен на Руси
в XI XII вв.) (Седова 1981: 22-23). В кур-
ганных и грунтовых захоронениях Новгород-
ской земли гривны также встречаются до-
вольно редко.
В качес i ве привесок к ожерельям обит а-
тели новгородской земли использовали лун-
ницы. крестики, монет ы. бубенчики, коло-
кольчики. коньки смоленского типа, ложеч-
ки. ключи, круглые подвески. Причем косо-
и пряморешетчатыс круглые подвески, круг-
лые бубенчики с проволочным пояском,
плоские прорезные коньковые подвески и
трапециевидные привески являются харак-
терной особенное 1ыо убора именно этой
территории (Журжалнна 1961: 123). Зоо-
морфные привески (в Юм числе и полые), бу-
бенчики. ложечки, i-ребешки носились при-
крепленными к натрудным цепедержатслям
или поясу (при помощи цепочек и шнурков).
Характерны для убора обитательниц 11ов-
городской зе.чгш и разнообразные бронзовые
и биллоповые подковообразные фибулы, в
юм числе и имеющие аналоги в Прибалт ий-
ских землях. Юг Новгородской зем/ш входил,
по всей видимости, в ареал распространения
подковообразных фибул с утолщенными кон-
цами (аналогичная фибула была найдена в
кургане Калитинскот о могильника). З.М. Сер-
геевой собраны сведения о 23 подобных фи-
булах. происходящих с 19 памятников Руси,
в основном расположенных в западных и
северо-западных областях (наибольшая коп-
нет рация на северо-западе Белоруссии).
Причем более ранние фибулы конца XI -
XII вв.. для которых характерны раститель-
ный орнамент, узкая игла с широким основа-
нием и овальное сечение, сконцентрирова-
ны вдоль северо-западного пограничья рус-
ских земель (Калитино. Брдслав. Навры. Лу-
комль. Лог ойск и др.). Находимые в более
южных и восточных регионах фибулы обла-
дают более поздними признаками: почти
прямой ш лой. более бедной орнаментаци-
ей. меньшим диаметром (датируются XII
XIII вв.). Среди них преобладают фибулы с
геометрическим орнаментом или вообще не
орнамент ированныс (Бородинское городи-
ще. Мстиславль. Минск. Волковыск, Сло-
ним). Наиболее многочисленны находки фи-
бул этого типа на территории юго-восточной
Прибалтики (наибольшее сосредоточение на
западном побережье Литвы, в центральной
части литовско-латвийског о пограничья, на
66
ГлакдII
западном побережье Рижского залива. вдоль
всего течения Западной Двины, до границ с
русскими княжествами). Вшречаются подоб-
ные украшения и в Финляндии. Эстонии,
древней Пруссии. В Прибалтике подобные
фибулы дат ируются XI - XII1 вв.. а наиболее
поздние (упрошенные) варианты доживаю!
и до XIII -XV вв. На территорию Руси по-
добные фибулы, вероятно, попадали по За-
падной Двине и Неману (Сергеева 1977: 34-
37).
Для уточнения времени бытования фибул
на территории обитания словен важны нов-
городские находки. В Новгороде в слоях X -
XV вв. были обнаружены 130 фибул и 23
язычка к ним. Основная масса этих украше-
ний найдена в слоях X - XII вв. Самым рас-
пространенным тшюм для Новгорода явля-
ются подковообразные фибулы со спираль-
но загнутыми концами. Фибулы со ашраль-
пыми головками были распространены в
Новгороде, так же как и в других землях, в
основном, в X - XI вв. В XII -XIV вв. их уже
гораздо меньше. Этот тип фибул был попу-
лярен как у бантов, так и у славян и у финно-
угров. Другие типы фибул встречаются в Нов-
городе значительно реже. Фибулы с много-
шинными. воронкообразными, гранчатыми.
маковидными головками имеют основной
крут аналогий в Прибалтике и Северной Ев-
ропе (Седова 1981: 83).
К редким формам относятся фибулы с зоо-
морфными (напоминаю! морды драконов)
концами, которые были найдены: одна в слое
конца X в. (литая из латуни). другая нача-
ла XIV в. (литая из бронзы). Подобные фи-
булы широко pacnpoci ранены в древностях
баллов XI-XFV вв. Интересна находка и двух
экземпляров сердцевидных фибул. Одна ли-
тая бронзовая с неясным растительным ор-
наментом по краю была найдена в слое ру-
бежа XII-XIII вв. Вторая — в слое первой
четверги XIII в. Эта фибула литая ажурная, в
неё вписаны тянущиеся друг к другу фш уры
мужчины и женщины (предположи!ельно.
Тристана и Изольды). В.П. Даркевич считает
местом изготовления застежки Германию
(Даркевич 1966: 34. табл. 11). В качестве ана-
лога новгородской фибуле М.В. Седова при-
водит золотую застежку из Венгрии. датиру-
емую около 1250 г. и украшенную изображе-
ниями мужской и женской фигур, и предпо-
лагает. что этот сюжет мог быть весьма по-
пулярен в Западной Европе(Седова 1981:90).
В слое 30-60-х годов XII в. была найдена
круглая пласт инчатая застежка, украшенная
восьмилепсстковой розеткой, выложенной
медными nepei ородочками и инкрустирован-
ной синим непрозрачным оеклом. Рецепт
стекла византийский. Анало1 ичная застежка
была найдена в Швеции, куда, так же как и в
Новгород, подобные украшения могли по-
пасть. вероятно, из Византии (Седова 1981:
92). К привезенным из Западной Европы или
выполненным но западным образцам, отно-
сятся и кольцевидные фибулы со стеклянны-
ми вставками, найденные в слоях XII-XIII вв.
в Новгороде и в слое древнерусского време-
ни Рюрикова городища (Седова 1981:91; Хво-
щинская 2002: 98-100).
Довольно широко распространены в Нов-
городской земле перст ни и браслеты. Перст-
ни принадлежат к общерусским типам (наи-
более часто встречаются узкопластинчатые
и проволочные перстни, изредка — спираль-
ные). Браслеты в Новгородской земле носи-
лись только женщинами, на правой и левой
руках, иногда на обеих сразу, причем по не-
сколько штук — от 1 до 8 (Седова 1981:92).
Браслеты были весьма популярны. Наи-
более часто встречающимися типами брас-
летов на этой территории являются витые и
пластинчатые браслеты. Тройные витые
браслеты с пет лями на концах, весьма часто
встречающиеся в Новгороде, имеют широкий
крут аналогий в западнославянских (Въжаро-
ва 1976. Манева 1992) и восточнославянс-
ких землях. Но особенно популярны они в
землях новгородских словен. кривичей и вя-
тичей. Наиболее специфичны д,1я Новгород-
чины широкие пластинчатые и толстые
плосковыпуклые браслеты. Причем ряд пла-
стинчатых браслетов украшен гем же крес-
товидным пуансонным орнаментом, что и
ромбошитковые височные кольца (Лссман
1999).
Один четырехгранный дрот овый браслет
с суживающимися завязанными концами был
найден в Новгороде в слое середины X в. По-
добные браслеты характерны дтя погребений
и кладов восточных славян в X - XI вв..
встречаются они и в восточной Прибалтике.
Финляндии, Скандинавии. где датируются
гем же временем. Крученые браслеты, нахо-
Региональные ювелирные укоры IX - XI вв. и их соотношение с укорали! из кладов
димые в Hobi ороде. имеют аналогии в древ-
ностях фиыно-угорских племен. Прибалтики
и Скандинавии. Hobi ородские узкомассив-
ные браслеты (X началаXII вв.)изготов-
лялись из сплавов, близких по рецепту к
сплавам, использовавшимся ювелирами Вал-
лийского региона в XI XII вв. Аналоги этим
украшениям распространены в XI-XII вв. в
юго-восточной Прибал i ике. Финляндии, се-
веро-западных районах Новгородской земли,
пзвест ны и в Ростово-Ссздальской земле (Се-
дова 1981: 99. 103).
Специфичным явлением для Новгорода
была довольно большая распространенность
створчатых браслетов (литых и кованых),
украшенных выпуклым растительным орна-
ментом. ложной зернью и филигранью. Олин
из изученных браслетов отлит в глиняной
форме, другой вырезан из кованой бронзо-
вой пластинки (Рындина 1963: 235). Створ-
чатые браслеты имеют византийское проис-
хождение. весьма широко представлены они
на Балканах, бытуют в Болгарии в X
XIII вв.. вст речаю гея и у других славянских
народов (Вьжарова 1987: 304).
Интересным типом украшений (или .те-
кшей одежды) являю 1ся булавки, не харак-
терные для слоев других древнерусских го-
родов. но в изобилии находимые в Новгоро-
дс. Булавки служили застежками верхней
одежды и соединялись между собой цепоч-
ками. Они скрепляли края плаша. ила i ка ити
длинной женской безрукавки. Булавки счи-
таются харак герной деталью кост юма занад-
ноприбал 1ИЙСКИХ племен, воспринягой и
западнофинскими племенами. Особенно рас-
пространены они у эстов и води. На 1ерри-
тории славян булавки почти не встречаемся,
за исключением северо-западных славянских
земель и особешю Новгорода, в котором най-
дено 64 различных булавки. Булавки прибал-
тийских типов (с треугольной, крестовидной
и двуспиральными 1 оловками) проникаю! в
Новгород в X XI вв.. вероятно, с выходца-
ми из Прибалтки. Находки всех этих була-
вок конценэ риру ioi ся юлько на Неревском
конце. В конце XII в. по образцу прибалтий-
ских изделий новгородские ювелиры начи-
наю! из! отовлять похожие булавки (двуспи-
ральные лит ые). а затем и разрабатывают
свои швы — с трехлопастиыми и фигурны-
ми головками (Седова 1981).
67
На Ижорском! стаю, территории совмест-
ного проживания словен и води, складыва-
ется своеобразный женский ювелирный
убор. В водских захоронениях с XIII в. рас-
пространяются многобусинные кольца, явля-
ющиеся этноопределяющими для этого пле-
мени (Ко. 1ьча юв 1984:167-176). С конца XIV
начала XV в. для украшения мши обусин-
ных колец начинают использовать раковины
каури, известные в XII - начале XIII в. в со-
ставе ожерелий. В дальнейшем эти ракови-
ны вошли в состав этнографического костю-
ма водских женщин (Спицын 1903: 20: Ря-
бинин 1997: 52). Типичны для води и полые
подвески-уточки, нагрудные цепочки ливс-
кого тиа. На этой территории встречаются
украшения, как имеющие аналоги в западно-
финских древностях — булавки с крестовид-
ными навершиями. спиральные браслеты,
подковообразные фибулы с «маковыми» го-
ловками. — так и типичные славянские ук-
рашения. Характерным признаком убора сме-
ша! шогославянско-водско! о населения ста-
новятся разнообразные подковообразные
фибулы, ко I орые здесь использовались в жен-
ском кост юме. как правило, дтя скрепления
Bopoia одежды (Рябинин 1983: 32-39).
Финно-угорской чертой в уборе населе-
ния северо-запада Hobi ородской земли явля-
лось использование для украшения одежды
металлических элемен i ов (спиралек, трубо-
чек. колечек, иронизок. бляшек). Подобные
металлические элемен гы входили и в состав
ожерелий, а крупные длинные спирали но-
сили как накосиики или подвески к поясу (на-
низанными на шерстяные шнуры). В исполь-
зовании цепсдержа гелей в Э1 ом региойс про-
изошло функциональное переосмысление, их
зачастую находят в захоронениях в единич-
ном количестве, примененными в качестве
нагрудных подвесок или дсталей ожерелий
(Рябинин 1997: 57. 58).
В XIII - XIV вв. в регионе складывается
своеобразная древнерусская кулыура. ориен-
1 ированная на Новгород, и разделение по ве-
щевому материалу захоронений на славянские
и водскиестановшся весьма затруднитель-
ным. В этот период происходит христианиза-
ция и славянизация края. В районах, нс охва-
ченных земледельческой колонизацией, на
племенной основе начинает формироваться
волскаянароднос1ь(Рябинин 1997: 53.60).
68
Глава II
Вероя iно. в X -XI вв. новгородскиесло-
вене проникают и в Юго-Восгочиос Прила-
дожье. где проживало финно-угорское насе-
ление. испытавшее до этого довольно силь-
ное скандинавское влияние. В костюме древ-
них жителей Приладожья использовались
скандинавские скорлунообразныс фибулы,
браслеты, гривны. Наличие подобных изде-
лий в погребальном инвентаре свидетсль-
ствуе! о заимствовании определенного типа
женского костюма шли его элементов. Скан-
динавские украшения появляются на этой
территории в период распространения в
Приладожье кур1 анных захоронений (860-
890 гг.) и довольно широко бытуютдо нача-
ла XI в. (Богуславский 1997:46-61)1.
' 1О М Лесманом(Лесман 1998л 106-115)быловыде-
лено на территории Дренней Рчси 4 региона, в которых по-
разномх происходил проиеес лтап гании скандинавских про-
тотипов в кос, юме местного населения
В Приладожье и Финляндии х крашения осваивались
целыми комплектам!, npeino.iai акмпими восприятие убора
в целом В местную культуру входят и полу чают дальней-
шее развитие ряд типов фибул (скорлупообразных и подко-
вообразных). браслеты (с завязанными концами и. ia. невид-
ные). некоторые типы подвесок (кру глые и сскировидные)
Вероятно, на noil территории местные женщины входили в
состав смешанных семей, их статус был высок, а костюм пре-
стижен и служил обра !ном ,ыя подражания
В Нош ородской земле воспринимаются технические
приемы, но скандинавские типы у крашений X в нс получа-
ют заметного развил ия Исключсииесоставляня лальепил-
ные браслет ы и.может быть, некоторые типы подковообраз-
ньгх фибул, но и те и дру гиетипологически е шны с у краше-
ниями, характерными в XI-ХИ вв ,ыя Прибалтики, и пре i-
ставлсны в кон 1 екстс иных находок тою же кру га
В Верхнем 11олвинье. Верхнем Подненровье. Верхнем
Подесенье. Верхнем Поволжье. Во.и о-Окском междуречье
в копие X — начале XI в в местную культуру входит и
подчас становится очень популярным ряду крашений, вос-
ходяших к скандинавским прототипам К таким у крашениям
относя1ся браслстообразные завя занныс височные кольца,
ряд подвесок с изображением и <oi ну вшегося зверя с oi -
крытой пастью, с декором и з волют, с «кустом» с лучевой
или вихревой розеткой 1 !ногла встречаются пластинчатые
подражания ладьевидным браслетам, перст ни с завя занны-
ми концами и другие украшения Происходит заимствова-
ние отдельных пшов у крашений и включение их в состав
местного кос! юма. подчас этот процесс сопровождается пе-
реосмыслением их фу нкциошыыюиисемантзшеской нагруз-
ки
В Среднем 11одпепровьс скандинавские женские у кра-
шения иеполучаюл дальнейшего развития в древнерусской
культуре XI XIII вв Единичные вещи, найденные здесь,
являются, скорее всего, привезенными е севера. I Негород-
ская и киевская верху шка быстро переходит на более рос-
кошные привозные у крашения (Вжатия. мусульманские
страны и др центры I которые и стали основными объекта-
ми подражания (Десмин 1948а 106-115)
В X-XI вв. в Юго-Восточном Прилало-
жье складываю гея региональные формы фин-
но-угорских украшений. отражающие тради-
ции формирующейся этносоциальной общ-
нош и. Появляется стандартный серийный
чудской этнографический убор, предметы
которого из1 о говлялись как городскими, так
и сельскими ремесленниками. В XIII в. Юго-
Вос । очное Приладожье уже включено в со-
став Новгородской земли. В XII XIII вв. ра-
стет количес! во славянских этнокультурных
элсменюв. Обрусение южных групп чуди,
вероятно, закончилось в эпоху жальников, в
бассейне же Ояти еще длительное время со-
существовали разноэтничиые группировки
(Рябинин 1991:6).
Одним из показателей распространения
славянского влияния в этом регионе являет-
ся появление традиции ношения ccpei и ви-
сочных колец (проволочных спиралеконеч-
ных и S-консчны.х. ромбощитковых и трех-
бусинных). В захоронениях, раскопанных в
бассейне реки Оязь. был зафиксирован спо-
соб ношения височных колец на кожаных
ремешках на затылке (Кочкуркина 1973:20).
Подведем итоги. Можно выделить ряд
общих черт, объединяющих ювелирные убо-
ры населения северо-западных территорий
Руси. В этих уборах представлены различные
типы украшений, имеющие прибалтийско-
финское происхождение. В оыичие от более
южных областей, в костюме гораздо чаше ис-
пользую гея разнообразные фибулы, брасле-
ты. подвески, крепившиеся к цепочкам, ре-
мешкам и цеподержателям. В составе убора
зачас! ую используются разные «племенные»
кольца. В целом убор северо-западных тер-
риторий. на наш взгляд, сопоставим с соста-
вом третьей 1руппы древнерусских кладов по
Г.Ф. Корзухиной (Корзухина 1954: 23-27).
Основная част ь материалов из л их кладов
приходится па XI в. И в той. и в дру1 ой груп-
пе памятников представлены ра гшчныс ва-
рианты ВН1ЫХ и плетеных гривен, подково-
образных фибул, витые браслеты, браслето-
образные. многобусинные. ромбощитковые
височные кольца.
К лем\ можно добавить, что с\ iiieci попал еше один
pei ион .Древней Р\си — аре.и расселения летописных хор-
ватов 1 иверпев и хличей здесь скан, ишавскии компонент в
ювелирном уборе не прослеживается вовсе
Региональные нгвелирные укоры IX - XI кк. и н\ соотношение с укорами из кладов
69
II. 6. ВОЛГО-КЛЯЗЬМЕНСКОЕ МЕЖДУ РЕЧЬЕ
До прихода славян территория Волго-
Клязьмснского междуречья принадлежала
поволжско-финскому племени мере. В IX
-X вв. освоение славянами Волго-Клятьмен-
ско! о междуречья шло небольшими группа-
ми. ВIX - XI вв. появляются славянские кур-
ганы с сожжениями. В западные области,
примыкающие к Верхнему Поднепровыо.
проникали отдельные группы кривичей, бо-
лее значительное количество переселенцев
продвигалось из Новгородской земли по
Мологе. В X в. выходцы из Новгородчины
достигают Ростово-Суздальскою края. Здесь
в курганах с сожжениями много украшений,
характерных для мери — коньковые и тре-
угольные подвески (Большая Брембола. Весь.
Кабанское. Кхстера, Шокшово), браслетооб-
разные кольца с замком в виде круглого щит-
ка (Киучер). Встречаются и вещи скандинав-
ского происхождения скорлуиообразныс
фибулы, широкие выпукловогнутые брасле-
ты. плетеные браслет ы с напущенными ко-
лечками. круглые бляшки-подвески с плете-
ным узором (Седов 1982: 189).
Сближение этносов славян и мери начи-
нается в конце X — начале XI вв. Как этнос
меря перестает существовать, по-видимому,
в XII в. (Леонтьев. Рябинин 1980:69-79). Дан-
ные о смешанности славяно-финской куль-
туры этого региона под гверждаются и мате-
риштами краниолот шт (Алексеева 1961:140-
143). выявляющей сближение славянскою
населения, проживавшего здесь, с финскими
племенами лесной зоны Вост очной Европы.
В начале XI в. появляются первые под-
курганные трупоположения. Начало интен-
сивною кривичского расселения в Волго-
Окском междуречье относится В.В. Седовым
к XI в. Ареал распространения на восток
браслетообразных височных колец охваты-
вает тверское поречье Волги. Москвы-реки.
Клязьмы, расширяется, охватывая Ярослав-
ское Поволжье и всю Ростово-Су тдальскую
землю. В междуречье Волги и Клязьмы в по-
гребальных памя т никах представлены брас-
лстообразные. ромбошитковые и перстне-
видные височные кольца. В Костромском
Поволжье концентрируются находки, свиде-
тельствующие о новт ородской колонизации
данной территории: ромбошитковыекольца,
решет чатые привески. В небольшом количе-
стве встречаются ромбошитковые кольца и в
Суздальском от то. тье. Распространены на этих
территориях и курганы с каменными кольца-
ми у основания. которые и называют сопка-
ми. как на Новгородчине (Горюнова 1961;
Седов 1982: 189).
Ромбошитковые кольца в Костромском
Поволжье представлены двумя вариантами
— щитковоконечные и завязанные (причем
численно преобладают первые). Как прави-
ло, щитковоконечные представляют собой
кольца небольшого диаметра (3,5-5 см) с
тремя-четырьмя щитками ромбической фор-
мы. украшенными «классическим» орнамен-
том в виде крест а с тремя пуансонными кру-
жочками па копнах ветвей или с орнамен-
том из четырех-пяти пуансонных кружков.
Щитковые завязанные кольца более крупные
(5.5 - 7.5 см.), щитки у них круглые ilth оваль-
ные и украшены четырьмя-пятью гравиро-
ванными кружками ilth выпуклинами. Щит-
ковоконечные кольца типичны лля Новго-
родской земли в XI-ХТП вв. (Левашова 1967:
42). Завязанные же ромбошитковые кольца
харак т ерны дзя верховьев Днепра и Оки. Для
этой т ерритории более характерны кольца с
четкими щитками ромбической или квадрат-
ной формы (Рябинин 1986: 57).
В Волго-Клязьменском междуречье пре-
обладающим типом височных колец являют-
ся перстневидные височные кольца с захо-
дящими концами (Спицын 1905: 100. 101).
Перстневидные же проволочные кольца с
завитком на одном кольце особенно харак-
терны дтя Костромского Поволжья (Левашо-
ва 1967: 28). В Костромском Поволжье пер-
стневидные кольца, бытовавшие на всем про-
тяжении существования здесь курганной
культ ры. сос гавляют 94" .> от всех находок
височных \ крашений, из них 54% перст-
невидные с одним концом, загнутым в тру-
бочку. Перстневидные кольца кретпгтись по
сторонам лица к кожаным лентам, остатки
которых часто находят в пот ребениях. Как
правило, в состав убора входило два-шесть
перстневидных колец, но в 46 случаях зафик-
сированы наборы из 10 20 колец. Перстне-
70
Глава II
видные кольца с завитком являются характер-
ным локальным элементом костромской кур-
ганной культуры. Количест во перстневидных
колец этого типа возрастает по мере продви-
жения с запада на восток по территории Ко-
стромского Поволжья (Рябинин 1986: 53).
Широко представлены в Волга-Клязьмен-
ском междуречье и браслет ообразные коль-
ца с сомкнутыми или слегка заходящими кон-
цами. В Тверском Поволжье и соседних рай-
онах Ярославщины встречаются и кольца, за-
вязанные только одним концом. Вопрос о пле-
менной принадлежности браслетообразных
сомкнутых колец остается дискуссионным.
Так. ряд исследователей считает их харакл ер-
ными для новгородских словен (Никольская
1949: 78-83; Левашова 1967: 38). Другие ав-
торы придерживаются мнения о принадлеж-
ности данного типа колен славянизирован-
ному финноязычному населению северных
областей Древней Руси (Седов 1972:138-144.
там же литература). С VI - VII вв. браслето-
образные кольца, завершающиеся втулкой или
щитком, представлены в памятниках мери и
муромы (Спицын 1901:45: Горюнова 1961:
96: Ефименко 1926: 76). В XI в. эти типы ко-
лец выходят из употребления и заменяют ся,
по мнению В.В. Седова, браслетообразны-
ми сомкнутыми кольцами, которые в XI -
XIII вв. носили уже славянизированные по-
томки местных финнов.
Встречаются в Волго-Окском междуречье
браслет ообразные кольца, завязанные одним
концом, выделенные еще А. А. Спицыным в
отдельный «тверской» ттш. возникший в XII
- XIII вв. в Поволжье на основе переработки
смоленских браслетообразных завязанных
колец (Спицын 1921: 16). В.В. Седов также
рассматривает этот тип как переработку укра-
шения. характерного .тля смоленских криви-
чей на территории, первоначально заселен-
ной финно-уграми (Седов 1972:140.141). Од-
нако подобные кольца встречаются с конца
XII в. и в Смоленском Поднепровье — т та ис-
конной кривичской территории, где они эво-
люционно связаны с ранним вариантом ук-
рашений с завязанными концами (Шмидт
1974:77).
Встречаются в Во.ц о-Окском междуречье
и браслегообразные кольца с эсоконечным
изгибом на одном конце — например, в кур-
ганных труппах близ усадьбы Погорслка (Ря-
бинин 1986: 56). Данный тип браслетообраз-
пых колец сложился в западнославянских
землях, откуда в XII вв. проник и к восточ-
ным славянам. В целом, для Вост очной Ев-
ропы такие кольца не харак терны, их наход-
ки представлены единичными экземпляра-
ми и только в западной части Волго-Окского
бассейна. В междуречье Волги и Дт тепра (вер-
ховья Истры и Клязьмы)этот тин получил
довольно широкое распространение, наряду
с другими типами браслетообразных колец
(Левашова 1967:40: Рябинин 1986: 56). Как
правило, шитковоконечныс ромбощи гковыс
и браслегообразные кольца всех тшюв обра-
зуют однородные уборы из 2 6 экземпля-
ров и проявляют слабую взаимосвязь с мест-
ными формами височных подвесок (Рябинин
1986: 59).
Во владимирских курганах, территори-
ально тяготеющих к крупным городским цен-
трам Ростово-Суздальской земли, весьма рас-
пространены тре.хбусинные височные коль-
ца. характерные в основном для городских
слоев. Возможно, моду на эти украшения за-
несли сюда переселенцы с южных окраин
Руси (Седов 1982:190). Вероятно, с Влади-
мирщины мода на ношение этих украшений
распространилась и далее в Костромское
Пово.тжье. т ле трсхбусинные кольца представ-
лены также довольно большим количеством
экземпляров, принадлежащих к разнообраз-
ным типам.
Как правило, в Костромском Поволжье
встречаются бу сшитые кольца пяти типов.
Первый — с гладкими тиснеными бронзо-
выми бусинами, фиксируемыми на кольце
проволочной обмоткой. Второй — гладкие
ложнобусинныс (небольшие литые кольца).
Третий —с полыми бронзовыми бусинами,
декорированными ложной зернью. Четвер-
тый - с бусинами цилиндрической формы,
украшенными в средней части двумя пояс-
ками скани. Такие украшения встречаются в
двух вариантах — однобусинныс литые по
восковой модели и трехбусинныс с серебря-
ными тиснеными бусинами, насаженными
на кольцо. Пя т ый — Узелковые с одной-тре-
мя бронзовыми бусинами, сплетенными из
проволочки (Рябинин 1986: 57). Намечается
весьма любоныт ная картина продвижения
этих колец на северо-восток. Так. ранние глад-
кие бусинные кольца датируются X - XI вв.
Региональные ккелнрные укоры IX - XI кв. it н\ соотношение с укорами из кладов 71
(Левашова 1967: 19). в Всрхневояжски.х кур-
ганах их находят в захоронениях второй по-
ловины XII XIII вв.. в moi илышках Воло-
годской области — в погребениях XI - XIII вв.
(Никольская 1949: 37.38: Сабурова 1974: 92-
97).
Довольно распространены и пластинча-
тые лунничные височные кольца. В Костром-
ском Поволжье находка ipex широких лун-
ничных колец, орнаментированных чегырь-
мя выпуклыми кружками, заключенными в
ромбы, и двух, орнаментированных розетка-
ми. происходит из погребений Taiарииовс-
кой курганной группы. Пара височных колец,
несколько отличающихся формой, характ ером
застежки и наличием довольно грубо прикле-
панной конструкции с треугольными шумя-
щими подвесками, найдена в могильнике у
д. Залогино. Два экземпляра колене узким
серповидным щит ком — в курганной группе
у д. Боровиково. Лунничные кольца с широ-
ким серповидным щитком, по мнению мно-
гих исследователей, восходят к финскому типу
калачевидных серег X XI вв.. распростра-
ненному от Приладожья до Поветлу жья и
Прикамья (Левашова 1967:35: Рябшшн 1986:
58).
Действительно, широкие лунничные
серьги находят, как правило, на территории
совместного проживания фиш ю-у горского и
славянского населентгя. Например, дисковид-
но-лунницеобразные кольца с бахромой лег-
ких привесок бытовали на Средней Оке. Как
выражение связей славян с муромой могут
быть рассмотрены дисковидно-лунницеоб-
разные кольца с круглой прорезью в верхней
части и без привесок, находимые во Влади-
мирских кург анах. В подражание калачевид-
ным кольцам, распространенным в XII в. в
Вологодской обл. и Прикамье, изготовлялись,
вероятно, и кольца, напоминающие лунни-
цы со срезанными рогами, происходящие из
той же курганной группыус. Татаринова (да-
тируются XII-XIII вв.) и из кургана у с. Вах-
рушева в Южном Приладожье (Левашова
1967:36).
Однако узкие лунгшчные кольца, анало-
гичные тому, что найдено у д. Боровиково
или у с. Арефино Смоленской обл. (проис-
ходит. вероятно, ггз раскопок длинного кур-
гана), имеют наиболее близкие аналогии на
территории расселения западных славян
(Poulik 1948: Т. XXI-1.2). Находки, близкие
гем. что происходят из длиннокурганиых
1 ру пи Аферино и Акатова (в том числе и сер-
повидное лугшичиое височное кольцо), со-
держатся и в горизонте Е2 Старой Ладоги
(Мачииский. Мачинская 1988: 44-56). Воз-
можно. в данном случае прослеживается вол-
на гападнославянского населения в Поднеп-
ровье. а оп уда в Ладогу и Поволжье (Седов
1999:181-194).
Налобныеукрашентгя в погребениях Вол-
го-К.1язь.менского междуречья, как правило,
представлены остатками берестяных лент, а
в ряде случаев прослеживается и покрывав-
шая бересту' шерстяная или шелковая расши-
тая гаду ном ткань. К подобному венцу кре-
пились кожаные ленты с продетыми в них
колечками. В женском погребении в пусто-
ши .Алабуга был найден берестяной венчик,
у крашенный бронзовыми прямоугольными
бляшками, декорированными эмалевыми
крестиками (Рябинин 1986: 50). Эта находка
является отдаленной репликой роскошных
декорированных эмалями диадем, известных
по материалам древнерусских кладов XII -
XIII вв.
Hai рудные украшения в этом регионе
представлены в основном ожерельями из
стеклянных, пастовых. сердоликовых и хру-
стальных бус. подвесок-лунници разнообраз-
ных круглых привесок. Наиболее распрост-
ранены общерусские типы литых круторогих
лунниц. датируемых по материалам Новго-
рода XII XIII вв.. встречаются и замкнутые
лунницы. характерные .для XIII в. (Рябинин
1986: 72; Седова 1981:24). Находки литых
широкорогих лутшиц единичны. Характерны-
ми для Костромского Поволжья являются
находки замкнутокрещатых .луттниц. дат иру-
емых XII - XIII вв. (Успенская 1967: 125).
Круглые подвески относятся к общерусским
тинам крестовключенных и монетовидных,
датируемых XII XIII вв. Находки круглых
решетчатых подвесок документируют про-
движение в Поволжье новгородских колони-
стов. Бубенчики древнерусских типов (шаро-
видные гладкие с линейной прорезью, гру-
шевидные с линейной прорезью, грушевид-
ные с крестовидной прорезью) в Костромс-
ком Поволжье встречаются довольно редко,
их вытесняют из обихода массивные колоко-
ловидные привески финно-угорских типов.
72
ГлAKA II
Древнерусские бубенчики использовались и
как 01 дельные подвески, и как украшения го-
ловного убора. входили в состав ожерелий и
подвесок, использовались как пуговицы. В
качестве украшений головного убора исполь-
зовались и лунницы. и крутые прорезные и
решетчатые подвески. Подобная традиция
особенно характерна для населения Колдо-
мо-Сунжинского района в Костромском По-
волжье. где их находят обычно у черепов
умерших (Рябинин 1986: 74).
Шейные 1 ривны вс 1 речаю 1ся редко
(представленыобщерусскими iинами—дро-
товые тонко- и толстопроволочные, витые с
раскованными пластинчатыми наконечника-
ми. плетеные). Зато широко представлены
подковообразные (со спиральными или
плоскими головками) и кольцевидные фибу-
лы. Кроме обычных для городских и сельс-
ких памятников Северной Руси в X - XI вв.
подковообразных фибул небольшого диамет-
ра (Мальм 1967:151-157). встречаются и до-
вольно крупные фибулы, литые в имитаци-
онных формах. Последние фибулы объединя-
ei одна де 1 аль неубранная перемычка
между спиральными концами, возникшая
при литье. Отдельные экземпляры подобных
фибул встречаются в Марийском и Ярослав-
ском Поволжье, в бассейне Шексны и на юго-
востоке Архангельской обл. Но ареал наи-
большего их распространения приурочен к
бассейну Северной Двины (oi устьев Bai и
до средне! о течения Су хоны) и соот носи i ся
с т ерри 1 орией расселения ле1 оиисной «чуди
заволочекой». Распространение этих фибул
отражает связи между областями с финно-
угорским и смешанным славяно-финским на-
селением (Рябинин 1986: 68). Па правобере-
жье Костромского Поволжья было сделано
несколько находок овальношитковых скорлу-
пообразных фибул, характерных для терри-
тории Финляндии и Карслтш и соотносимых
исследователями с намял i шками средневеко-
вой корслы (Кочкурктша 1978:9-54).
Широко распространены в Волт о-Клязь-
менском междуречье и браслеты — пластип-
ча 1ые (ту поконечные. узкие гладкие, с закруг-
ляющимися концами, загнутоконечные. оття-
нутоконечные). витыс(пстлеконсчныс2 * 3.
четверные и тройные с петлями на концах, с
обрубленными концами), ложновитые, пле-
теные (оборванноконечные: каркасные пла-
стинчато- и загнутоконечные). Пластинчатые
оттяну токонечные браслеты являются ло-
кальными украшениями, характерными для
Костромской о Поволжья (Левашова 1967:65).
1 Предка вс i речаю 1 ся дрот овые брас. ie 1 ы —
ссужающимися или звериноголовыми кон-
цами. Основная масса браслетов датируется
XII - ХШ вв. (Рябинин 1986:65).
Часто находят перстни, особенно рубча-
тые и ложновтые, представлены 1акже крут -
лодротовые. ложноплетеные, пластинчатые
широкосрединные и овальнощитковые. Ло-
кальной особенностью костромских курганов
являются представленные в них в XII — се-
редине ХШ вв. фигурносрсдинные печатные
перстни (Недошивина 1967: 262).
Таким образом, выявляется, что на этой
территории, где славянское население сопри-
касалось с финно-угорским, набор украшений
разнообразнее и богаче, чем в глубине сла-
вянской территории (рис. 6). Такой же фено-
мен отмечается и на Ижорском плато в среде
смешанного славяно-водского населения.
Часты на этой л ерритории и находки финно-
ут орских шумящих подвесок в славянских за-
хоронениях. На территории расселения сла-
вян выделяются три компактных ареала рас-
пространения финно-угорских типов шумя-
щих подвесок: Полужьс. Ижорское плато и
Волго-Окское междуречье (Седов 1982:191,
карза 35).
В древнерусских курганах наиболее час-
1 о встречаются малые зооморфные шумящие
привески (Голубева 1979: Голубева. Варелов
1978: 228-239). Эти привески представляют
собой полые ли i ые изображения у точек шш
коньков (барашков) с подвешенными на це-
почки «утиными лапками», бутылкообразны-
ми привесками или бубенчиками. Носили их
на поясе на кожаных шнурах. В собственно
финно-ут орских памятниках такие подвески
представлены в памятниках Прикамья. Сред-
него Поволжья, в курганах води, ижоры. веси,
мери. Встречаются и плоские уточки с ана-
логичными привесками. 1 акже тшшчные для
финно-утров. В славянских памятниках Вол-
го-Клязьменского междуречья иногда встре-
чаются типичные для мери плоские плете-
ные шумящие коньковые привески. Типич-
ны.тля мери и шумящие подвески в виде спа-
янных треугольников, или спиралей, или ко-
лец(Горюнова 1961:101). Привески камско-
Региональные ювелирные укоры IX - XI вв. н н\ соотношение с укорами из кладок 73
го облика (литые парные коньки с бутылко-
образными привесками) находят в курганах
Костромского Пово.тжья.
Наиболее широко финно-угорские эле-
мешы представлены на окраинах Волго-
Кля шменского междуречья (разнообразные
шумящие привески и игольники. своды в кур-
ганах, типы сосудов, имеющие прототипы в
местной керамике).
Таким образом, мы можем утверждать,
ч 1 о в X - XI вв. формируется ряд территори-
альных ювелирных уборов, в которые входят
как украшения, связанные с предыдущей эпо-
хой — перстневидные, лучевые, трехбусин-
ные височные кольца и серьги «волынского»
типа, подвески-бубенчики, лунницы. некото-
рые I ины фибул и гривен, так и совсем но-
вые типы украшений — спиральные, брас-
nei ©образные завязанные, ромбощитковыс
височные кольца, разнообразные типы гри-
вен. фибул и браслеюв. Уборы юго-западных
племен характеризуются большей скромнос-
тью. с продвижением на север количество
украшений в наборе увеличивается, изменя-
ется и сам характер этого убора. В ювелир-
ном комплексе Поднссгровья, Побужья и Под-
непровья ощущается влияние западнославян-
ского ювелирного дела («волынские» и лу-
чевые кольца, некоторые типы лунниц. бу-
син и подвесок к ожерельям). Возможно, на
примере лунничных колец подобное влия-
ние западнославянской моды просматрива-
ется и вплоть до Поволжья.
На территории Северо-Запада выделяет-
ся обширный пласт украшений, возникших
на основе заимствования из прибалтийско-
финского ювелирно! о убора (головные вен-
чики. булавки, разнообразные типы фибул и
браслетов), прослеживается и включение в
местный убор переработанных типов укра-
шений. имеющих истоки в уборе скандинав-
ских стран. В северо-восточном ареале рас-
селения славян выделяются заимствования
из финно-угорского убора (в основном шу-
мящих подвесок). Причем типы украшений,
выделяющиеся как характерные, специфи-
ческие для отдельных территориальных
групп, как правило, не входят в состав парад-
ного ювелирного убора, наиболее полно
представленного по материалам кладов и
формировавшегося под влиянием несколько
штых культурных стандартов и приоритетов.
Тем не менее прослеживается сближенность
материалов погребальных комплексов юго-
запада и группы кладов с зернеными укра-
шениями середины X — начала XI вв. Мате-
риалы же погребальных и поселенческих па-
мятников северо-западных т ерриторий Древ-
ней Руси близки к группе кладов XI в.
Кроме того, мат ериалы погребальных па-
мятников дают возможность составить i ipen-
ставление не только о характере уборов раз-
личных ieppii торий Древней Руси, о приуро-
ченности различных типов украшений к кон-
кретным регионам, но и об особенностях но-
шения украшений в уборе.
Металлические пластинчатые венчики
были наиболее популярны, по всей видимо-
сти. на территориях северян и словен. Вен-
ки из чередующихся спиралек и пластинок
встречают ся на территории псковских кри-
вичей. в верховьях Западной Двины и Вол-
ги, в Смоленском Поднепровье. Венчики из
тисненых бляшек, видимо, не приурочены к
какой-то определенной территории. Это по-
казатель. скорее, не территориальный, а хро-
нологический. они представлены в основном
в памятниках позднего времени (XII-XIV вв.).
По поводу характера ношения височных
украшений и серег можно сделать несколько
замечаний. В составе одного убора встреча-
ет ся от одного до более десятка височных
украшений, причем, зачастую они принадле-
жат к разным типам. Прослеживается тен-
денция к увеличению количества височных
украшений в уборе по мере продвижения с
юга древнерусской террит ории на север. При
эюм выделяется несколько основных спосо-
бов их ношения в уборе. Височные кольца на-
шивались на кожаную основу типа «наушни-
ков». крепились к металлическим цепочкам.
I каным шнурам, кожаным лентам, нанизы-
вались на венчики. Их находят вплетенны-
ми в пряди волос, декорирующими и скреп-
ляющими косы, уложенные вокруг головы,
прикрепленными к кожаным шнуркам на за-
т ылке погребенной. В ряде случаев перстне-
видные кольца свисают гирляндой и могли
использоваться в качестве «рясны» дтя креп-
ления более роскошного кольца, носили пер-
стневидные кольца и как ожерелья на шее.
74
Глава II
И. наконец, те же самые височные кольца
могли служить и серьгами. В качестве серег
документировано ношение проволочных
браслетообразных (в том числе и завязан-
ных). семилопастных, грехбусинных. перст-
невидных колец. Причем, такой способ но-
шения применялся вне зависимости от раз-
меров украшений. В одном ухе могли носить
как по одному, так и по несколько украшений.
Вероятно, височные кольца и серьги носи-
лись в уборе полифункционально, а к XIV в.
височные кольца уже почти полностью вы-
тесняются серьгами (Агапов, Сарачева 1997:
99-108).
Если для прибалпшско-финского населе-
ния шейные гривны были практически обя-
зательной принадлежностью детского и жен-
ского убора, то в славянском уборе они встре-
чаются не так часто. Наиболее характерны эти
украшения для населения восточного побе-
режья Чудского озера, Юго-Восгочного При-
ладожья, Ростово-Суздальской земли, то есть
тех территорий, где происходили непосред-
ственные контакты с неславянским населе-
нием. Кроме того, можно говорить о специ-
фических типах гривен для территорий ра-
димичей и вятичей.
С продвижением с юга Древней Руси на
север растет в уборе и количество нагрудных
украшений - металлических подвесок к оже-
рельям, а также украшений, связанных с кро-
ем одежды - фибул, в некоторых регионах
встречаются и булавки. К числу наиболее рас-
пространенных видов подвесок относятся
лунницы, круглые подвески, монеты, крес-
тики. Кроме того. славянское население Смо-
ленской, Полоцкой. Ростово-Суздальской зе-
мель носило плоские зооморфные подвески-
амулеты, подвески-ложечки, ковшики, кре-
пившиеся к цепедержателям или простым
цепочкам на груди, цепочкам или шнуркам
на поясе. Полые же зооморфные подвески,
имеющие финно-угорские истоки, характер-
ны в основном лля инвентаря «Петербургс-
ких», Костромских и Владимирских курганов.
При продвижении с юга на север в уборе
увеличивается количество и разнообразие
перстней и браслетов. Перстни были весьма
популярны, например, на территории вяти-
чей, браслеты - в Новгородской земле, где их
находят до восьми экземпляров в одном по-
гребении. Браслеты носили как на левой, так
и на правой руке, иногда на обеих одновре-
менно.
Таким образом. материалы территориаль-
ных уборов дают весьма ценное представле-
ние о характере, составе и путях формирова-
ния древнерусского ювелирного убора, кото-
рые могут быть дополнены при рассмотре-
нии материалов кладов IX-XIII вв.
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
75
ГЛАВА III. ПАРАДНЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УБОРЫ
IX-XII ВВ.
Если представление о локальных \ бо-
рах различных территорий Древней Руси
можно состави 1 ь но материалам погребе-
ний. то для изучения парадного убора не-
обходимо привлечение такой неоднознач-
ной категории источников, как клады. 11аи-
болыпую сложность представляет датиров-
ка украшений из кладов. Многие из кладов
являлись комплексами длительного накоп-
ления и содержали семейные драгоценно-
сти. сберегаемые несколькими поколения-
ми. В то же время подобная длительность
хранения позволяет вычленить работу ма-
стсров-починшиков. реставрировавших
старые вещи (подобная работа была про-
делана нами на материале Шалаховското
клада — Рябцева 1995: 10) и оценить пе-
риод. в который еще сохранялись вещи от
старых уборов. Изучение совокупности
материалов, происходящих из кладов, дает
представление о некоем стандартном,
усредненном наборе украшений, входив-
ших в состав нескольких последовательно
сменяющих друг друга древнерусских
парадных уборов (рис. 7). Аналогии боль-
шинству украшений из этих уборов проис-
ходят из памятников Центральной. Юго-
Восточной или Северной Европы. Кроме
того, нами привлекаются европейские па-
мятники изобразительного искусства, да-
ющие представление о средневековых па-
радных и церемониальных уборах.
III. 1. УБОР ИЗ КЛАДОВ КОНЦА IX — НАЧАЛА X ВВ.
Для древнерусских кладов, зарытых в IX
и на рубеже IX-X вв. (известно 11 подобных
комплексов — Корзухина 1954: 79-82). харак-
терны украшения, уходящие своими корнями
в более раннюю эпоху. К подобным украше-
ниям относятся гривны с замком в двойную
петлю, а также с замком с граненой шляпкой
и винтовой нарезкой (последние, так же как
и браслеты с гвозлевидными окончаниями,
характерны для восточно-финских древнос-
тей — Прикамье. Глазовский уезд, мордовс-
кие Пановскпй и Лядинский мот ильники —
Шинаков 1980:116). Типичны ды кладов это-
го времени и браслеты с обрубленными и
слегка расширяющимися концами, перстни и
серьги салтовских типов, перстневидные
височные кольца, ранние тины пяти- и сс-
милучсвых височных колец. Кованые грив-
ны IX в. застегивались на груди (клады Пол-
тава. Ивахштки. Суходрево. Узьмина. Горки.
Железницы). так же как и гривны VI — нача-
ла VIII вв.. перстневидные кольца тоже име-
ют прототипы в древностях более ранней
эпохи. Как от голосок моды предшествующе-
го периода может бы т ь рассмотрена находка
в Ивахникском кладе двух крупных блях —
дерттва т ов антропоморфных фибул (Корзухи-
на 1954:21.63) (рис. 7).
Новшеством является появление вещей
североевропейского круга. К ним в ранней
группе кладов относятся обрывок цепи из
рубчатой проволоки, найденный вместе с
дирхемами 742/43-867 тг. (Мнишневский
клад Калужской губ.) (Корзухина 1954: 21.
табл. 11. 1) и два браслета из клада, найден-
ного ус. Угодичи па одном из древнейших
славянских поселений у оз. Неро (Леонть-
ев 1986: 8). Два массивных кованых брас-
лета ромбического сечения в Угодичском
кладе найдены совместно с куфическими
монетами 699-812 гг. (Корзухина 1954: 82.
№9. табл. II. 2). Один браслет замкнутый,
второй — разомкнутый с утонченными
концами. Подобные браслеты имеют евро-
пейское происхождение, аналогичные
браслеты и кованые серебряные прутки, из
которых они изготовлялись, широко пред-
ставлены в кладах Готланда и Прибалтики
(Slenberaer 1947: abb. 1.23. 31. 33.3; Леон-
тьев 1986: 8.9).
ВIX - - начале X в. отсу гст вуюг вещи, вы-
полненные в технике тиснения, декориро-
76
Глава III
Рис. 7. Древнерусские парадные ювелирные уборы.
Парадные ювелирные укоры IX—XII вв.
ванные зернью и сканью, характерные для
более раннего и позднего времени. Основ-
ными тсхнодот ическими приемами изготов-
ления украшений в этот период являются
литье и ковка (Корзухина 1954: 21). Отсут-
ствую! и витые украшения, а находимые в
северо-восточной и северо-западной Руси
крученые гривны, скорее всею, являются
импортом из Финляндии и Прибалт ики (Фех-
нер 1967:59). так как русскими мастерами тех-
Ш. 2. ПЕРВЫЙ ДРЕВНЕРУССКИЙ
Середина X в. знаменуется не т олько сло-
жением перво! о комплекса древнерусских
ювелирных украшений, к которому можно
применить понятие ювелирною убора, но и
изменением в 1 ехнике изготовления украше-
ний. В этот период начинается активное при-
менение древнерусскими мастерами техник
тиснения, скани и зерни. Ряд украшений, вхо-
дящих в состав древнерусского ювелирного
убора середины X — начала XI вв.. состояв-
ший из легких тисненых украшений, декори-
рованных зернью (Корзухина 1954: 22-23).
находит довольно четко очерченный крут ана-
логий. происходящих с территории расселе-
ния западных славян. В состав такот о у бора
входили несколько разновидное! ей серег «во-
лынского» типа: ожерелья, coci авленные из
выпуклых иолу сферических медальонов, зер-
неных крут л ых. овальных и лопастных бус.
подвесок — луннии; перо пи с полусфери-
ческим зерпеным щит ком (рис. 7). Необходи-
мо отмети I ь. что именно как некая совокуп-
ность. единый целостный убор, вся перечис-
ленная подборка этих украшений встречает-
ся только на территориях Подненровья. По-
днестровья и Волыни (клады Юрковиы. Ко-
пиевка. Боршевка. Денис. Гушино. Гнездово
(Корзухина 1954: №15-18.21. Пушкина 1996;
Рябцева 1999: 338-356) (прил. 1. №4-6. 9)
(рис. 8-13). Находки «волынских» колец и ло-
пастных бусин практ ически не выходят за
пределы очерченной территории(карты 1.5).
Вместе с ie.M полусферические подвески
и лунницы распространены практически по
всей восточнославянской 1ерритории (кар-
ты 2.4). Кроме груши.1 зерненых украшений,
в кладах эт ого периода представлены и дро-
товые и витые браслеты (клады Киев 1851.
1913; Шиилевка; Коробкино — прил. 1. №1.
77
ника кручения спета применяться, вероятно,
не ранее XII в. (Рындина 1963:232).
В целом вещи, прсдс! авленные в данных
комплексах, не составляю г единого жснско-
1 о парадного убора (тем более что массив-
ные кованые тривны. наиболее типичные .дтя
них. скорее всею, входили в состав мужско-
го убора). объединенного как общностью про-
исхождения. так и технологическими особен-
ностями изготовления.
ПАРАДНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ УБОР
2. 10). а также витые гривны с завязанными
концами (клады Боршевка и Гнездово 1868 -
прил. 1.№6.12). имеющие довольно широ-
кий кр\т аналогий в кладах Готланда (Sten-
berger 1947: abb. 52. 70. 72-74.105. 119.134).
Сама традиция ношения украшений, завязан-
ных на двойной узел, ио всей видимости,
пришла на Русь из Скандинавии (Лесман
1996:35-37). '
Первоначально стиль ювелирных украше-
ш 1й. богато декорироват шых зернью, рассмат-
ривался в литературе как заимствованный с
востока (Корзухина 1946:51-52). В последнее
время превалирует мнение о среднедунайс-
ком (шш моравско-чешском) происхождении
подобных украшений (Дучко 1987: 77-86.)
В. Ду чко поделил славянские сканно-зерие-
ные украшения на три культу рно-географиче-
ские группы: Моравско-Богемскую. Волынс-
ко-Киевскую. Польско-Полабску то. Зернь на
у кра< 11 chi тях. входятщ ix в этт i группы, т тмеег ряд
отличий от зерни, применявшейся в друт их
регионах (например, в Скандинавии). На сла-
вят 1СКНХ украшениях преобладают геометри-
ческие орнаменты, выложенные одинаковой
по размерам тернью. Скань итрает полчинсн-
ну то роль в создании узора: она располагается
в бордюрной зоне или используется как вспо-
могательная деталь (Дучко 1987:77-86).
Древнейшей является первая группа ук-
рашений — великоморавская. Даптрустся
она. начиная со второй пол. IX в. После раз-
грома венграми Великой Моравии в начале
X в. традиция продолжае! ся в Чехии (Кгиптр-
hanzlox а 1974: 87-113). В середине X в. прак-
тически одновременно возникают ювелир-
ные школы второй и т ретьей групп, причем
некоторые т ины украшений из этих групп
(лунницы. «волынские» серьги) имеют чеш-
78
ГлаваШ
Рис. 8. Борщевский клад. По: Гущин 193<j.
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
79
Рис. 9. Вариант реконструкции юве-
лирного убора из Борщевско!о клада.
ско-моравское происхождение (Дучко 1985:
77).
Явно читается близость форм и декора
многих украшений Волынско-Киевской и По-
лабско-Польской групп, объяснимая, вероят-
но. как общностью прототипов украшений,
так и культурными контактами населения.
Так. обе «ювелирные провинции» дают наи-
большую концентрацию «волынских» серег
типа «С», по нашей классификации, двуро-
гих лунниц. некоторых типов круглых под-
весок и серебряных зерненых бус. Лопаст ные
бусины и «волынские» серьги типа «А» рас-
пространены практически только на этих тер-
риториях.
В данной главе мы рассматриваем наи-
более представительные типы украшений,
входивших в состав парадного ювелирного
убора середины X — начала XI вв.. их мор-
фоло! ическосстроение, технику изготовле-
ния. типологию и хронологию. Отдельно
прослеживается историко-культурный кон-
текст их включения в состав древнерусского
убора, а также очерчивается крут аналогий.
III. 2. 1. Серьги «волынского» типа
«Волынские» серьги были введены в на-
учный оборот в конце XIX века. Первая ти-
пология всей совокупности данных украше-
ний была предложена Г.Ф. Корзухиной. По
технике изготовления подвески и особенно-
стям декора кольца исследовательница поде-
лила их на две группы (Корзухина 1946:49).
Работа по более дробному' i ипологическому
делению данных украшений была продела-
на Е.Ю. Новиковой (Новикова 1990:107-114).
Однако к настоящему времени в литературе
сложилась довольно запутанная ситуация с
терминологическими определениями для
разновидностей украшений, объединяемых
нол термином «волынские серьги». Дзя обо-
значения одного и того же изделия в литера-
туре используется подчас масса разнообраз-
ных названий. Таким образом, одно и то же
украшение в разных изданиях может фигури-
ровать под названием серьги «волынского»,
«екимауцкого». «токайского» или «гроздевид-
ного» типа, серьги типа«Боршевка» или «Де-
80
Глава III
Рис. 10. Древнерусские клады середины X—начала XI вв. 1-5 — Тушинский клад, 6-16—Юрковсцкий клад. По:
Корзухина 1954.
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв. 81
Рис. 11. Вариант реконструкции юве.'шр-
ного убора из Гисздовского клада 1867 г.
Рис. 12. Вариант реконструк-
ции ювелирного убора из Гнездов-
ского клада 1993 г.
82
Глава III
нис». Мы предлагаем отрешиться от терри-
ториальных названий типа «екимауцкие».
«токайские», «кстлачские». так как они все
равно не отражают адекватно территорию их
распространения, и перейти к нейтрально-
му буквенному обозначению. Для всей же со-
вокупности исследуемых украшений мы
предлагаем все же сохранить название «во-
лынские». сознавая, что оно крайне услов-
но. но сравнительно удачно большим терри-
ториальным охватом, своей привычностью
и общеизвестностью. Есть еще один аргумент
в пользу этого названия: территория Волы-
ни и соседнего с ней Поднепровья является,
пожалуй, единственным местом, где встре-
чаются все четыре разновидности этих укра-
шений (Рябцева 1996: 62-65: 1997: 62-64;
1999:339).
Первый вариант, по типологии Г.Ф. Кор-
зухиной. «с полой штампованной, спаянной
из двух половинок подвеской» был выделен
нами в тип «А». Второй вариант, по Г.Ф. Кор-
зухиной. «с подвеской, составленной из мно-
жества полых крупных и мелких шариков»,
был поделен на типы «В». «С» и «D» (Раби-
нович. Рябцева 1997:237-238; Рябцева 1999)
(рис. 17).
Можно сделать некоторые предваритель-
ные замечания по поводу использования этих
украшений в ювелирном уборе (рис.9.12.13).
В костюме «волынские» серы и носили, по
всей видимости, в небольшом количестве—
1-2 экз. В ряде случаев выделяются парные
экземпляры. Например. Борщевский. Тушин-
ский. Гнсздовский клад 1993 г.—серьги типа
«А». На Екимауцком городище были найде-
ны парные серьги типов «В» и «С». В то же
время в захоронении в Берсстяпе в одном
уборе представлены две непарные серьги
типа «А». В половине погребений Псресоп-
ницкого могильника, где предст авлены такие
серьги, они найдены по одному экземпляру
Рис. 13. Вариант реконструкции ювелирною убора
uj Кописвскою клада.
с правой стороны головы (Мельник 1901:498;
Пушкина 1994:175). На материалах Пересоп-
ницы фиксируется и ношение «волынских»
серег нашитыми на кожаные «наушники» в
окружении других, более простых типов ви-
сочных украшении.
III. 2. 1. 1. Серьги «волынского» типа «А »
Серьги «волынского» типа «А» (с по-
лой штампованной подвеской) возникли, на
наш взгляд, на основе болгарских ювелирных
украшений типа золотой серьги из Кслегей-
ского комплекса сер. VII в. (Древнее золото
1975) и серебряной серьги с полой тисненой,
составленной из двух вертикальных полови-
нок. подвеской, происходящей с Паст ырско-
го городища (тип 3-2 по А.И. Айбабину) (Ай-
бабин 1973: 70) (рис. 18.1. 2). В VIII-IX вв.
украшения с подобными подвесками встре-
чаются в Великой Моравии (Cropovskv 1961:
139-160: Cropovsky 1978:42. р. 11) (рис. 18.4.
5). Для древностей этого региона в более
позднее время подобные украшения не ха-
рактерны. СIX в. серьги с подвесками ана-
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
83
Карта 1. Серьги «волынского» типа.
1. Киев.Погр.124.
2. с. Денис,клад 1912г.
3. с. Копиевка. клад 1928 г.
4. Городище Чсрвоне.
5. с. Юрковцы, клад 1864г.
6. урочище Майдан ус. Бсрсстяне.
7. д. Борщевка, клад 1883 г.
8. Пересогапщкиймопшьник.
9. городище Екимауцы.
10. Бранептгский могильник.
11. Екатеринославская губ. Ечизаветградский у., случайная находка.
12. д. Гушино. клад 1930-х г.
13. Овручский могилытк.
14. д. Г нездово. клад 1993 г.
IS. д. Гнездове, культурный алой.
Условные обозначения:
1—клад
И—курганный могильник
П1—грунтовый могильник
IV — ПОССЛСНИС
84
Глава III
Карта la. Серьги «волынского» типа
— «путь на восток».
1 - Токай. 2 — Рэдукэнень. 3 - - Ккимау-
цы. 4 - - .Ллчедар. 5 — Ьранешты. 6 — Копиев-
ка.7— Боршевка. 8 — Юрковцы.9- Чсрво-
не. 10.11 —Киев. 12—Денис. 13 — Тушино.
14 — Гнез.юво. 15 — Готланд. 16 - Юж.
Швеция. (По: Рабинович. Рябцева 1997).
логичной формы довольно широко распрос-
транены на территории Дунайской Болгарии
(Вьжарова 1976: табл. 18). Как результат кон-
такта ромейского населения с выходцами из
Великой Моравии или Болгарии можно рас-
сматривать находку тисненой подвески от
серьги «волынского» типа в жилише 43 Но-
вотроицкого городища (Ляпушкин 1958:127.
рис. 83,1 7)(рис. 18.3).
С конца X по середину XI в. височные
кольца с тиснеными подвесками, богато де-
корированными зериыо. бытуют в Поднеп-
ровье и на Волыни (рис. 19). В этот же пери-
од на территории Польши широко распрост -
ранены схожие височные подвески, отлича-
ющиеся. однако, рядом конструктивных и де-
коративных особенностей (рис. 22). Дтя укра-
шений этих двух регионов нами выделены
два варианта типа «А». Несколько иные, но
все же близкие по форме к поднепровским.
серьги и височные подвески встречаются в
ТХ-Х1 вв. на территории Болгарии (рис. 23).
Они выделены в вариант «ЗА».
Вариант «1 А» — классический вариант
«волынской» серьги (рис. 19.27). Террито-
рия распространения данных украшений
охватывает районы Волыни и Поднепровья.
Две пары таких cepei были обнаружены за
пределами этой территории в Венгрии, при-
чем серьги из Соб-Венелипа были найдены
в составе погребального инвентаря
(Mesterhazy 1994: abb. 10.11). Для этого ва-
рианта серег «волынского» типа характерна
пятичаст ная тисненая подвеска, декориро-
ванная в сред! !ей части ромбами и треуголь-
никами. выложенными мелкой зернью. Ниж-
няя часть подвески украшена крупной зер-
нью. Нижняя часть дужки, расположенная
над подвеской, в ряде случаев оформлена в
виде трехрогой лунницы, украшенной зер-
нью. В особо изящных вариантах к нижней
части этой лунницы дополнительно припа-
яны фестоны, вырезанные из полоски сереб-
ра и унизанные зернью (височные подвески
из Борщевского клада (прил. 2, №7. рис. 8;
рис. 19. 7-3). Дужки волынских серег этого
типа украшались серебряными бусинами
(тиснеными, усыпанными зернью юи ажур-
ными. выполненными из проволочных ко-
лечек) или же колечками, спаянными из мел-
ких шариков (Рабинович. Рябцева 1997:237;
Рябцева 1999:340, рис. 2).
На территории Руси в составе погребаль-
ного инвентаря этот тип серег находят ис-
ключительно на Волыни. В погребении №29
Псрссопницкого могильника на Волыни
было раскопано погребение ювелира, изго-
товлявшего такие украшения (Мельник 1901;
Корзухина 1946:48). В moi илу был положен
маленький ящичек с мо. ютонком и наковален-
кой. а также девять бронзовых и железных
штампов. Штампы предназначались для тис-
нения подвесок серег «волынского» типа,
лопастных бусин и иолушариков. которыми
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
85
Карта 2. Лунницы штампованно-филигранные.
16. с. Юрковцы, клад 1864 г..
17. с. Копиевка, клад 1928 г.
18. городище Екимауцы.
19. д. Боршсвка, клал 1883 г.
20. окрестности Переяславля Полтавского.
21. с. Гушино, клад 1930-х г.
22. д Гнездово. клад 1867 г.
23. д. Гнездово. клад 1870г.
24. д. Гнсздово. клад 1885 г.
25. д. Гнездово, клад 1993 г.
26. д. Гнездово, раскопки С.И. Сергеева 1898-1901 гт.
27. д. Мизиковка, курганный могильник.
28. д. Скадино, клад 1928 г.
29. д. Васьково, клад 1923 г.
30. д. Спайка клад 1913 г.
31. Владимирская губ.
32.с.Краскова.
33. Владимирская губ.
34.с.Горолишс.
украшались подвески-лунницы. По-видимо-
му, этот ювелир изготовлял именно тот на-
бор украшений, который наиболее часто
встречается в кладах концаХ—началаХ! вв.,
находимых на территории Поднспровья и
Волыни. В1983 г. на Волыни была сделана
находка двух серег «волынского» типа «А» в
погребении пожилой женщины в кургане
М-7 могильника в урочище Майлан у с. Бе-
рестяное (Гупало1996:124, рис. 11) (прил. 2,
№6, рис. 21). По всей видимости, «волынс-
кими» в полном смысле слова можно счи-
тать именно этот вариант, изготовлявшийся
на данной территории. Ареал ношения этих
украшений более широк. Подобные височ-
ные подвески были найдены в Гущинском
кладе под Черниговом (рис. 10, 1. 3) и на
Строчинском городите под Минском (горо-
86
Глава III
дище на Менке) при раскопках жилища X—
начала XI в (Алексеев 1966:147,148, рис. 28,
Г, Перхавко 1986,30). В гнездовском кладе
1993 г. было обнаружено 6 волынских колец
типа «А», изготовленных из высокопробно-
го серебра (рис. 20).
Вариант «2 А». Характерен для террито-
рии Польши (рис. 22). В монографии Ханны
Кочка-Крснц учтено 48 местонахождений
украшений этого типа, основная масса кото-
рых происходит из кладов, но есть и шесть
находок из погребений. Комплексы эти да-
тируются последней четвертью X—после-
дней четвертые XI в., но большая часть их
приходится на конец X — начало XI в.
(Kocka-Krcnz 1993: Мара 31). От собственно
«волынских» эти украшения отличает форма
подвески со слабо намеченной, а зачастую и
отсутствующей пятичастностью. Отличи-
тельной особенностью этих подвесок мож-
но считать также несколько поясков из тис-
неных полусфер, скупое применение зерни,
оформление дужки в виде двурогой лунни-
цы, украшенной проволочными зигзагами
(Рабинович, Рябцева 1997:237). На террито-
рии Древней Руси подобные украшения про-
Карта 3. Подвески полусферические штампованно-филигранные
35. Киев, клал 1863 г.
36. л. Сахновка, случайная находка.
37. с. Денис, клад 1912г.
38. Чернигов, клад 1848 г.
39. городище Екимауцы.
40. д. Гнсздово. клад 1867 г.
41. д. Гнсздово,клад 1993 г.
42. л. Шалахова. клал 1882 г.
43. д. Скадино. клад 1928 г.
44. Бслогоспщкий монастырь, клад 1836г.
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
87
Карта 4. Пуговииы шаровидные.
45. могильник Дж>рджулешты (Молдова).
46. с. Копиевка, клал 1928 г.
ч/.с./Денис, клад 1>1£г.
48. д. Гнездово, клад 1993 г.
49. Белогостицкий монастырь, клад 1836г.
Карта 4а. Распространение шаровидных зерненых
пуговиц.
1—могильник Джурджулепггы (Молдова), 2-е. Копи-
евка, клад, 3 — с. Денис, клад, 4—с. Гнездово, клад, 5 —
Даруфальва. клад (Австрия), 6—Токай, клад (Венгрия),
7 — Вссолки, клал (Польша), 8- Дзежкица, клад (Польша),
9—Машенице. клад (Польша), 10— Квилице-Меклеибург,
клад (Германия). (По: Левицкий, Хахсу. Рябцева 2000).
88
Глава III
Рис. 14. Екимауцы. Городище (Молдова). 1-10,13-15,17,19,20—серебро, 12,16,18,21-23 — бронза.
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
89
Карта 5. Бусы лопастные.
50. с. Юрковцы, клад 1864 г.
51. Псрссопницкий могильник.
52. Белевский могильник.
53. л. Поллубны. могильник.
54. д. Крупа, могильник.
исходят изТульчинского (Г.Ф. Корзухина. Ру-
кописный архив ЛОИА. ф.77, д. 8.» лист. 75)
(рис. 22.1) и Дсгтянского кладов (Перхавко
1986: рис.2) и являются польским импортом.
Вариант «3 А». Характерен для терри-
тории Дунайской Болгарии (второй тип,
виды 1, 3 по типологии Ж. Выжаровой)
(Въжарова 1976: табл. 18) (рис. 23). Если на
территории Руси и Польши подобные укра-
шения представлены в основном в кладах,
то на Балканах их находят, как правило, в
погребениях. Наиболее типичны для этого
региона серьги первого вида, по типологии
55. Житомирский могильник.
56. Окрестности г. Коростеня, могильник.
57. с. Гушино, клад 1930-х гг.
58. д. Гнездово, клад 1867 г.
59. д. Гнездово. клад 1993 г.
Ж. Выжаровой, с узкой многочастной под-
веской-балясинкой. Их находят в захороне-
ниях, датируемых IX-XI вв. По большей ча-
сти это небольшие бронзовые серьги сли-
тыми подвесками, зачастую свободно пере-
двигающимися по кольцу (Милчев 1963: т. 1;
Kurnatowska 1980: 155-163, гус.2). Реже
встречаются датируемые тем же периодом
более крупные серьги с полыми тиснены-
ми подвесками, близкими к подвескам «во-
лынских» серег типа «А», отнесенные
Ж. Выжаровой к третьему виду второго типа
(Въжарова 1976:363).
90
Глава III
Рис. 15. Рэдукэнень. Клад (Румынская Молдова). 1-5,8-10—серебро, 6,7—бронза. По: Teodor 1980.
III. 2.1.2. Серьги «волынского» типа «В»
Серьги «волынского» типа «В» внеш-
не схожи с серьгами типа «А» (рис. 24), но
отличаются от них по технике изготовления.
Подвеска этих украшений собрана из круп-
ного тисненого и мелких тисненых или ли-
тых шариков, разделенных рядами скани. Для
крепления подвески используется штырь.
Данный тип дает довольно большое количе-
ство вариантов, различающихся по наличию
или отсутствию зерневого декора крупной
бусины, особенностям оформления «голов-
ки» подвески и дужки. «Головка» подвески
может представлять собой бусину—ажур-
ную или глухую тисненую. Тисненые буси-
ны иногда обрамлены колечками из шариков
или сканью; украшены шариком сверху. Под-
веска может завершаться и композицией из
мелких шариков (пирамидкой из трех шари-
ков или колечком из шариков, окруженным
проволочкой и увенчанным литым шариком).
Дужка серьги бывает гладкая или же укра-
шенная рубчатой проволокой или зернью. На
дужку нанизывались колечки из шариков, об-
рамленные проволокой, или тисненые буси-
ны. В ряде случаев дужка дополнена прово-
лочной зерненой лунницей, аналогичной
тем, что встречаются на «волынских» серь-
гах типа «1 А»; совместная находка подобных
серег типов «1 А» и «В» происходит из Бор-
щевского клада (прил. 1, №6, прил. 2, №7;
рис. 19,1-3; рис. 24,25). Составные вариан-
ты серег типа «В» встречаются на Руси, на
территории Венгрии, Болгарии, Югославии,
Румынии (Корзухина 1946: 50; Новикова
1990:115; Рабинович, Рябцева 1997:237; Vana
1954: tab. 4; Masov 1979: 39; Гатев 977: 34;
ТюровиЪ-ЛэубинковиЪ 1951:44; Teodor 1980:
404). Литые аналоги этому типу «волынских»
Рис. 16. Генезис «волынских» и «прикамских» серег.
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
92
Глава III
Рис. 17. Серьги «волынского»
типа «А», «В», «С» и «D».
Рис. 18. Прототипы серег «волынского» типа «А». 1 — Келегейский комплекс. 2 — Пастырское городище. 3 —
Новотроицкое городище. 4—Нитра (Словакия). 5—Трновец нал Вагом (р-н Галанта) (Среднее Полулавке).
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.93
Рис. 19. Серьга «волынского» типа «1Л». Конец Х-Х1вв. 1-3—Борщевский клад. 4—Гнездовскийклад,5—Бёсоб
(Среднее Подунавье). 6—Тушта (Хельсипгланд), 7-8 — коллекция Щукина, 9—Тушинский клад, 10—коллекция
Государственно! о Эрмитажа, 11 —Бранеипскиймопшышк (Молдова).
94
Глава III
Рис. 20. Гнездовский клад 1993 г. Серьга «волынского» типа «А». Серебро. По: Пушкина 1996а.
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
95
Рис. 21. Берестяне. Могильник. Погр. М-7. По: Гупало 1996.
серег представлены в основном в Венгрии,
бывшей Югославии и Болгарии (Рабинович,
Рябцева 1997:237).
Перечисленные выше особенности стро-
ения и декора подвесок являются региональ-
ными признаками. Так, подвески, украшен-
ные зернью, приурочены к Карпато-Поднеп-
ровыо (Корзухина 1954; 84; Teodor 1980:404;
Mesterhazy 1994). Балканы дают несколько
другую разновидность (Въжарова 1976,
ЪоровиЙ-Л>убинковиЬ 1951)—подвески этих
серег обычно лишены зерневого декора, на
кольцо, украшенное рубчатой проволокой, а
также в качестве головки подвески здесь, как
правило, нанизываются тисненые бусины.
Исключение представляют серьги из Винче
и Троянова Моста (Югославия) (ЪоровиЬ-
Лэубинковий 1951: сл. 7) и из Градешников
(Болгария) (Masov 1979: fig. 8,2), на кольцо
которых нанизана композиция из шариков,
головка тоже — пирамидка шариков. По
внешнему виду эти серьги близки к украше-
ниям из Токайского или Копиевского кладов,
но не украшены зернью. Украшенная зернью
серьга была найдена в Сербии в Нише в по-
гребении некрополя церкви св. Пантелеймо-
96
Глава III
Рис. 22. Серьга «волынского» типа «2А». 1 — Тульчииский клад Каневского у.. 2-4
Майков. Клад (Польша), 11,12—Обра-Нова. Клад (Польша).
на. У этой серьги подвеска выполнена не из
тисненого шарика, а из свернутых в кольца
металлических полос (Новикова 1990:113,
рис. IV, г).
В целом, распространение данного типа
украшений в Южной и Центральной Европе
в общих чертах совпадает с той территори-
ей, которую исследователи отводят культуре
Биело-Брдо середины X-XI вв. (ТторовиЬ-
Л>убинковиЬ 1951:21-55). На Балканах дан-
ный тип украшений встречается, в основном,
в захоронениях (Милчев 1963:22-37, т. 2,3;
Въжарова 1974: 9-22; Masov 1979: 31-47,
fig. 8,7). В Венгрии в захоронениях и в Токай-
ском кладе (ТюровиЬ-ТЬубинковиЬ 1951: ел.
21), а в Румынии и на Руси подобные укра-
шения, изготовленные, как правило, из се-
ребра и декорированные зернью, представ-
лены практически только в составе кладов и
случайных находок (Teodor 1980; Корзухина
1954).
Исключение составляют, пожалуй, пять
сережек, найденные совместно с монетами
середины X в. на городище Чсрвоне на Юж-
Кинно. Клад (Польша), 5-10—
ном Буге (Хавлюк 1969:164) (прил. 2, №4)
(но возможно, это был тоже клад) и два об-
ломка украшений этого типа с Екимауцкого
городища в Молдове, связанные, вероятно,
с функционировавшей на городище ювелир-
ной мастерской. Екимауцкие фрагменты были
нанизаны на перстневидные разомкнутые ко-
лечки и носились, вероятно, не как серьги, а
как височные кольца (прил. 2, №9, рис. 14).
Таким образом, территория распростра-
нения данного типа украшений распадается
на два больших региона: 1 —Болгария, Юго-
славия, 2 — Венгрия, Румьйшя и Русь, —да-
ющие различные варианты, отличающиеся
особенностями декора подвесок.
Происхождение серег «волынского» типа
«В» мы склонны связывать с украшениями,
бытовавшими с середины VII по первую чет-
верть IX века на широкой территории, охва-
ченной аварским влиянием. Данные серьги,
составленные из кольца и нанизанной на
штырь стеклянной подвески, весьма близки
к «волынским» по форме подвески и оформ-
лению дужки (Chilinska 1963) (рис. 24, 1-8). В
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
97
Рис. 23. Серьги «волынского» типа «ЗА». 1,3—Градешнмки. Могильник, 2,15,16—Вълчедром. Могильник, 4-
10—Галиче. Могильник, 11,12—Луковит!. Могильник, 13,14—Михайлово. Могильник (все—Болгария).
IX веке в Подунавье встречаются аналогич-
ные украшения, у которых бусины выполне-
ны уже не из стекла, а из металла (например,
серьги из Скалиска и Вини в Словакии)
(Holcik 1991: 85-105, Tab. 5; Budinsky-Кпёа
1959: abb. 28,15) (рис. 24,11).
В середине X в. производство подобных
украшений начинается и на Руси. В этот же
период появляются и наиболее изящные раз-
новидности подобных украшений, д екориро-
ванные зернью (клады Копиевский, Борщев-
ский, Токайский, Рэдукэнень, находка в Ели-
заветградскому. Екатеринославскойгуб.)(рис.
24,20-22,24,25; 15). Можно предположить,
что в Подунавье, чрезвычайно насыщенном
различными типами височных украшений, в
том числе и возникшими под влиянием ви-
зантийского ювелирного ремесла (Въжарова
1980:259-310, рис. 3), данный тип украше-
ний был чем-то весьма заурядным и прочно
98
ГлаваШ
Рис. 24. Серьги «волынского» типа «В». 1—Желовице (Среднее Подунавье), 2.19—Старое Место (Чехия), 3—
Сирак (Среднее Подунавье), 4—Ваи (Среднее Подунавье), 5—Гильяре (Среднее Подунавье), 6—Хоргош (Среднее
Подунавье), 7—Будимпешта (Венгрия), 8—Чорна (Среднее Подунавье),9—место находки неизвестно, 10,16—Винча
(Среднее Подунавье), 11—Скалиска (Среднее Подунавье), 12—Преслав(Болгария), 13,18—Градешники (Болгария),
14—Луковит! (Болгария), 17—Троянов мост(Среднее Подунавье), 20—Елизаветградскийуезд,21—Юрковецкий
клад, 22—Копиевскийклад,23—Поганско Городище(СреднссПодунавье),24—коллекция ГИМ, 25—Борщевский клад.
Парадные ювелирные укоры IX-XII кв.99
Рис. 25. Серьги «волынского» типа «С». 1.2—Дуисво (Среднее Подунавье). 30.10,17—Старое Место (Чехия),
9—Бпучнн (Среднее Подунавье). 11 — Тридь (Далмация). 12—Желснка (Среднее Подунавьс), 13,16—Коллекция
Книнского музея. 14—Пшедмости (Среднее Подунавье). 15—Количин (Среднее Подунавье). 16 — Немешвелч (Среднее
Подунавье), 19—Гочево.20-23— место находки неизвестно. 24,25— Трновен (Среднее Подунавье), 26—Гурбаново,р-н
Комарно (Западная Словакия). 27 — приход Саболеш (Среднее Подунавьс). 28 — Ван (Среднее Подунавье), 29—Нови
Княжевен (Среднее Подунавьс). 30—Киев. Могильник. Поц>. 124,31 — Елизаветградский у.. 32—Галиче (Болгария).
33-34 — Луковит 1 (Болгария). 35—Биело Брдо (Среднее Подунавье). 36—Берестовсц (Среднее Подунавье). 37,38 —
Троянов Мост (Среднее Подунавье). 39—Курвиноград (Среднее Подунавьс).40-42—Пнлин (Среднее Подунавье), 43—
Птуй (Среднее Подунавье). 44—Хисар (Болгария).45,48—Клопггар (Среднее Подунавье), 46—Вельки Верди (Среднее
Подунавье), 47—Вельки Варанди (Среднее Подунавье). 49—Предлока (Среднее Подунавье).
100
Глава III
вошел в убор, в том числе и рялового насе-
ления. На Руси же данные серьги и височ-
ные подвески принадлежали к числу элитар-
ных. богато декорированных украшений, на
основе которых не возникло более дешевых
бронзовых сост авных или литых вариантов.
Этим объясняется, на наш взгляд, то г факт,
что но дунайские образцы происходят из по-
гребений. а полнепровские — в основном из
кладов.
III. 2. 1. 3. Серьги «волынского» типа «С»
Серьги «волынского» типа «С» пред-
ставляют собой кольцо со сложной состав-
ной подвеской, нанизанной на штырь
(рис. 25). Подвеска составлена из поясков,
спаянных из мелких литых или тисненых ша-
риков. разграниченных проволочными, скан-
ными или зернсными колечками. На кольцо
нанизаны аналогичные пояски из метких ша-
риков, головка подвески представляет собой
ш 'рамидку из подобных шариков. Подража-
ния данному'типу'украшений изготовлялись
в литье. Из всех серег «волынского» типа дан-
ный имеет наиболее обширную территорию
распространения, охватывающую Карпато-
Поднестровье. Волынь. Поднепровье,
Трансильванию. Венгрию. Польшу. Югосла-
вию (Рабинович. Рябцева 1997: 237. там же
литература).
Прототипами для данного т ипа украше-
ний считаются гроздевидные серьги, пред-
ставленные в аварских могильниках VIII в.
(Перхавко 1986:30). Также как и прототипы
предыдущих типов «волынских» серег, про-
тотипы серег типа «С» получили дальнейшее
развитие в древностях Великой Моравии
(рис. 25.1-18). На Руси три гроздевидных се-
ребряных кольца моравского типа, датируе-
мых концом IX - первой половиной X в.,
были найдены в Гнездове (Пушкина 1987:55).
Вопрос о времени появления в Подуна-
вье серег типа «С» остается до сих нор дис-
куссионным. Так. различные исследователи
онреде.гяют его в пределах середины VIII —
конца IX вв. (первой половины X в.) (Juric
1986: 263-264. там же литература).
Так же как и в случае с серьгами г ипов
«А» и «В», для 1 ерритории Чехии характер-
ны в основном ранние образцы серег типа
«С», датируемые в данном случае 1Х-Х вв.
Столь же ранние находки характерны, пожа-
луй, только для территории бывшей Югосла-
вии (June 1986: Tab. IV). В остальном же аре-
але данных у крашений они датпру ются в це-
лом X-XI вв. В Венгрии и Трансильвании
извсст но около 30 местонахождений серег
данного типа (Mcsterhazy 1994: Abb. 14),
встречающихся как в составе кладов, так и в
погребениях. Дтя Польши находки серебря-
ных (зачастую фрагментированных) серег
данного типа характерны шт «кладов рубле-
ного серебра». На этой территории данные
серы и представлены в составе 22 кладов
(только одна находка четырех украшений
была сделана на городище Любомий) (Коска-
Kxenz 1993:84). На Балканах находки данно-
го типа украшений концентрируются в по-
гребал ьных памятниках на территории быв-
шей Югославии (June 1986: Tab. IV, VI), встре-
чаются они и в Болгарии. Так, бронзовые ли-
тые серьги данного типа были найдены в не-
крополях Луковит и Галиче, а серебряная зер-
неная в погр. 5 некрополя Галиче (Въжа-
рова 1976: 207.244; Выжарова 1987:298-308.
рис. 4) (рис. 25. 32-49).
Данный тип серег «волынского» т ипа на-
ходят на Руси не только в составе кладов
(Юрковецкий и Кописвский клады — Кор-
зухина 1954:84), но и на городищах (только
на городище Екимаупы было найдено 30 эк-
земпляров— Федоров 1953: 125), в захоро-
нениях (в Перссогшипких курганах — Мель-
ник 1901; погребении 124 Киевского некро-
поля — Голубева 1949) (прил. 2. №1.3. 5.8.
9). Надюше на городище Екимауцы ювелир-
ной мастерской, одной из основных специ-
ализаций ко юрой было изготовление серег
этого типа, документ ируется находкой набо-
ра ювелирно! о инструментария — наковаль-
ни-волочила (причем отверстия волочила
совпадают с диаметром проволоки, из ко-
торой выполнены ду жки серег «волынско-
го» типа. найденных на городище), т иглей,
молоточков, зубильцев. ножниц, матриц д_1я
тиснения. Среди серег, найденных на горо-
дище. сс1ь как серебряные составные, так и
одна бронзовая литая серы а. выполненная,
но всей видимое!и. маеiерами Карпато-
Балканского региона. Среди материалов,
хранящихся в Кишиневском археологичес-
ком музее, выделяется несколько парилен-
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
101
Рис. 26. Токайский клад (Вен-
грия). Серебро. По: Mcsterhazy
1994.
гичных серебряных серег. Между собой
пары различаются размерами, количеством
витков сканной, проволочной или зерненой
обмотки (прил. 2, №9, рис. 14)
По всей видимости, так же как и в случае
с серьгами типа «В», можно выделить два
центра производства серег типа «С»: один
приурочен к Балканском)' региону, второй—
к Карпато-Поднепровскому. Причем второй
центр, по всей видимости, снабжал данны-
ми украшениями и территорию Польши, где
они оседали в виде сокровищ в кладах (Но-
викова 1990:113; Рабинович, Рябцева 1997:
241). По мнению Р.А. Рабиновича, Карпато-
Днестровский регион, в котором производи-
лись серебряные тисненые украшения, в ча-
стности, серьги типа «С», находился с тер-
риторией Польши в системе кооперирования,
осуществлявшейся по торговому пути «Чер-
ное море—Днестр—верховья Западного
Буга—Висла—Балтийское море». По это-
му пути в Молдову поступали дирхемы, ко-
торые здесь использовались не в качестве
средств обращения и платежа, а как сырье для
102
Глава III
местного ювелирного производства (боль-
шинство «волынских» ccpei Екимауцко! о го-
родища имеют пробу 960. совпадающую с
пробой монетного серебра — С.Р.). Частич-
но готовые украшения по этому же пути пе-
реправлялись на север, по направлению к
Балтике, что иллюстрируется концентраци-
ей серег типа «С» в 22 кладах «рубленого се-
ребра» в бассейне Вислы (Рабинович 1999:
263-274).
III. 2. 1. 4. Серьги «волынского)' типа «D»
Серьги «волынского» iniia «D» отли-
чаются от тина «С» тем, ч 1 о основную част ь
подвески составляю! ряды сканной прово-
локи (рис. 28). Распространен данный тип
украшений в основном на Балканах — в Бол-
гарии (вюрой тип. пятый вид. первая раз-
новидность по типологии Ж. Въжаровой
(Въжарова 1976) и в Сербии (Тюровий-
ЗЪубинковиЬ 1951; Алажов 969:139. обр. 3).
Н территории Древней Руси подобные, но
несколько более миниатюрные серьги были
найдены в Юрковецком. Копиевском и Де-
нисовском кладах (Корзухина 1954)(прил.2.
№3.5).
Таким образом, вся совокупность cepei
«волынского» тина была представлена в
Кариато-Днестровских землях и в Подпеп-
ровье. Их находят в следующих памя 1 никах.
Эю обнаруженный на территории Румынии
клал Рэдукэнень (рис. 15. рис. 27). близкий
по составу инвентаря ко второй 1 руппе древ-
нерусских кладов по Г.Ф. Корзухиной. По со-
вокупности все! о материала Дан Теодор да-
тирует данный комплекс последней четвер-
тые IX — первыми двумя десятилетиями
X вв.. но самый поздний дирхем в кладе дае1
еше более раннюю дату — 809 год (Teodor
1980). Городище Екимауцы. по хронологии
Г. Б. Федорова, возникает в последней чст-
верти IX - первой половине X в. (30 сере-
жек типа «С» и две тина «В») (Федоров 1953:
125). В Бранештском moi ильнике (в погребе-
нии 35) фра! мент серьги типа «В» был най-
ден вместе с бронзовым пластинчат ым пер-
стнем и бронзовыми пуговками-бубенчика-
ми (Федоров. Чеботаренко 1974: 91-93)
(прил. 2. №9. 10).
На Днепровском Правобережье эти укра-
шения были найдены в русских кладах вто-
рой хронологической группы но Г.Ф. Корзу-
хиной: Копиевском — 22 серьги типа «С» и
5 — «В», поздняя дата дирхемов 954/955 гг.
(Строкова 1997:63). (прил. 2. №3). Борщевс-
ком (6 экз. сережек т инов «А» и «В») и Юрко-
вецком кладах (3 целых серьги i ипы «В». «С»
и «D» и 3 фрагменга) (вторая половина X
начало XI в.) (прил. 2. №5.7. рис. 8), а также
в материалах Пересопницкого могильника на
Волыни (Мельник 1901) (прил. 2. №8). На
городище Червонс в верховьях Южного Бута
5 сережек типа «В» было найдено в культур-
ных стоях. имеющих дату, определяемую дир-
хемами 934/935 гг. (прил. 2. №4).
В Киевском некрополе «волынские» серь-
in типа «С» были найдены в погребении 124
совместное византийскими монетами, чека-
ненными между 931 и 944 i г. (прил. 2. №1).
На Левобережье Днепра серьги «волын-
ского» типа находят в кладах у сел Денис (3
целых серы и типов «С» и «D» и 2 фра! мен-
та) (поздний дирхем 1002/1026 гг.)и Гушино
(2 экз. сережек типа «А») (вторая половина
X начало XI в) (прил. 2. №2. 12. рис. 10).
В верховьях Днепра они найдены в мате-
риалах Гнсздовского комплекса на поселе-
нии. в могильнике ив кладе 1993 года. В со-
став этого клада, завернутого в берестяной
сверток и пронзенного клинком, входило 389
целых предметов у крашения (в том чис-
ле. 6 сережек типа «А»), весовые гирьки, стек-
лянные и каменные бусы (273 экземпляров),
а также 72 монеты 839-950/954 гг. (Пушкина
1996: 79-80) (прил. 1. №15. прил. 2. №14.
рис.20).
Наконец, самой северо-западной точкой,
1 де были встречены подобные украшения,
можно считат ь могильник у деревни Чеми-
хино под Тихвином (благодарю за консуль-
тацию О.И. Бо1 уславского). Серьги «волын-
ского» типа находят также в Скандинавии (в
Южной Швеции и на о. Готланд), в Пруссии,
Польше. Венгерском Потисье и Трансильва-
нии. Моравии и на юго-западных Балканах
(Рабинович. Рябцева 1997:238. там же лите-
ратура).
Кар 10!рафирова1 в ie мсстонахождею ш се-
рег «волынского» типа на территории Вос-
точной Европы дало довольно убедительную
картину, отражающую процесс продвижения
западнославянского населения вглубь восточ-
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
103
Рис. 27. Рэдукэнень. Клад
(Румынская Молдова). Серебро. По:
Teodor 1980.
неславянской территории, вплоть до Гнездо-
ва, а возможно и далее на северо-запад в По-
волховье (находка в Чемихино) (Рабинович,
Рябцева 1997: карта 1) (карта 1а). Интересно,
что форма и размеры 6 височных колец «во-
лынского» типа «А», найденных в Гнездовс-
ком кладе 1993 года, точно совпадают с дву-
мя из четырех штампов, найденных в Пере-
сопницком могильнике на Волыни (Ениосо-
ва, Пушкина 1997:24; Ениосова 1998:262,
рис. 2, /,2).
Под тверждается данная идея о продвиже-
нии на территорию Поднепровья группы за-
падных славян и другими находками предме-
тов западнославянского облика в материалах
Гнездовского комплекса. Кроме ювелирных
украшений, здесь был найден чекан блучинс-
кого типа, золоченая шпора моравского про-
исхождения, датируемая второй половинойIX
—первой половиной X века, а также ранне-
круговая керамика моравского происхождения,
появляющаяся в 20-30-х годахХ в. Находки в
104
Глава III
Рис. 28. Серьги «волынского» типа «D». 1 — Брно Маломешиице (Среднее Подунавье). 2 — Бранчсво (Среднее
Подунавье), 3.4. — Любеново (Болгария). 5—Лешье (Среднее Подунавье), 6 — Батайиы (Среднее Подунавье), 7 —
Мирково (Болгария). 8— Юрковсцкийклад. 9— Кописвскийклад, 10.11 —Денисовский клад.
Гнездове западнославянской керамики и че-
кана для ее орнаментации является весьма вес-
ким аргументом в пользу приоритета идеи об
оседании группы населения, а нс импорти-
ровании отдельных предметов или моды на
их ношение и изготовление. Появление груп-
пы западнославянского населения в Гнездове
может быть датировано первой половиной
X в. (Пушкина 1987:54-56: Каменецкая 1977:
19-20; Перхавко 1986:28-35).
Находки серег «волынского» типа на тер-
ритории Скандинавских стран свидетель-
ствуют о дальнейшем продвижении славян-
ских украшений на север Европы (Рабино-
вич. Рябцева 1997:240). Серьги «волынско-
го» типа, однако, составляют незначителы 1ый
процент от всего количества находимых в
Скандинавии славянских ювелирных укра-
шений, которые начинают появляться на этой
территории с X в. (Дучко 1987:82). Две «во-
лынские» серьги типа «А» были обнаруже-
ны на Готланде (одна из них была найдена
вместе с двумя лунницами в кладе из Хель-
сингланда) (рис. 19.6).
Ш. 3. «ПРИКАМСКИЕ» СЕРЬГИ
Если на территорию Скандинавии серь-
ги «волынского» типа попадали в виде им-
порта или вместе с их носителями, то в При-
камье был выработан свой тип украшений,
по внешнему виду весьма близкий к «волын-
ским» серьгам. Некоторые типы прикамских
серег внешне настолько близки волынским
образцам, что это иногда приводит к тер-
минологической путанице. Так, при публи-
кации Архангельского клада 1989 г. (Носов.
Овсянников 1997:146-157) авторы опреде-
ляют найденную в кладе височную подвес-
ку как «волынскую», аналогичную тем, что
находят в кладах Среднего Поднепровья вто-
рой половины X — начала XI в., отмечая
при этом, что подобные украшения произ-
водились и в мастерских Волжской Булга-
рии. Абсолютную уверенность дало бы, ко-
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
нечно, визуальное изучение украшения, так
как основным отличием схожих по форме и
декору украшений из Волжской Булгарии и
Поднепровья является различие в технике
изготовления. Подвески серег «волынского»
типа состоят из двух продольных тисненых
половинок, а у «прикамских» и «булгарских»
— из трех деталей (верхнего небольшого
шарика, цилиндрика и нижнего шарика бо-
лее крупного размера), соединенных шты-
рем. Но даже по изображению (Носов, Ов-
сянников 1997: ил. 3,2) и описанию в тек-
сте статьи можно с большой долей уверен-
ности констатировать, что украшение, най-
денное близ Архангельска, вышло не из по-
днепровских, а из более близких поволжс-
ких ювелирных мастерских. Так, для серег
«волынского» типа характерна пятичастная
форма подвески, а не «бутылкообразная», как
указанно в тексте описания. На серьгах «во-
лынского» типа распространено украшение
дужки и тулова серьги сканью, а не рубча-
той проволокой, примененной на архангель-
ской серьге.
В свете вышеуказанных затруднений с
культурной интерпретацией близких форм
украшений, изготовлявшихся в различных ре-
гионах, нам представляется необходимым
остановиться на выявлении различий меж-
ду волынскими и прикамскими группами
серег и височных колец. Причем можно вы-
делить несколько основных групп разли-
чий — в происхождении, технологии изго-
товления и особенностях декора.
Ш. 3.1. Прикамские аналоги
В конце VI — начале VII в. в Прикамье
бытуют бронзовые серьги, состоящие из двух
де галсй — кольца и продетого сквозь ушко
•ин । iy । oi о в верхней части бронзового круче-
но! о стержня-подвески (рис. 29,1,2). В ниж-
I iei i час i и на стержень надета бронзовая бу-
сина, в ряде случаев украшавшаяся плоски-
ми подвесками или пирамидками зерни (на-
пример, погр. 291/2 Варнинского мог.) (Се-
менов 1980: т.1,15-18). У некоторых экземп-
ляров подвеска не составная, а цельнолитая.
В конце VII—начале VIII в. в изготовле-
нии этих украшений происходит ряд техно-
логических изменений: стержень у более по-
здних серег не крученый, а тордированный,
105
Все многообразие серег и височных под-
весок, находимых в древностях Ломоватовс-
кой культуры, было поделено Р.Д. Голдиной
на два отдела, При выделении отделов ис-
следовательница опиралась на общую фор-
му украшений и технику их изготовления,
типы и подтипы выделялись по форме при-
вески и кольца. Отдел А, по этой классифи-
кации, содержит украшения с полой привес-
кой в виде шаров и конусов, а отдел Б—укра-
шения с литыми привесками (Голдина 1985:
34-35). Признавая в целом правомерность
подобной классификации, необходимо отме-
тить, что в данном случае в одном отделе
оказываются серьги и височные подвески,
сформировавшиеся на базе различных юве-
лирных традиций—собственно прикамских,
подунайских, салтовских.
Нам удалось наметить схему видоизмене-
ния и усложнения формы и декора украше-
ний, подвеска которых составлена из шари-
ка и цилиндрика (отдел А, тип 3, по Голди-
ной). Их наиболее пышные поздние образ-
цы по внешнему виду близки к серьгам «во-
лынского» типа «А».
Необход имо отметить, что богатые веще-
вым инвентарем древности Ломоватовской
и Родановской культур (а также близкие к ним
древности Удмуртии), отличающиеся, с од-
ной стороны, стабильностью и культурной
преемственностью, а с другой, чутко реаги-
рующие на изменения в евразийской моде,
дают уникальную возможность для построе-
ния подобных цепочек.
серег «волынского» типа «А»
бусина не припаивается к нему намертво, а
надета свободно (например, серьга из погре-
бения 86 Поломского могильника—Гос.Эр-
митаж, инв. №606/759) (рис. 29,3).
Кроме этого, в конце VII века в древнос-
тях Ломоватовской культуры появляются
серьги и височные подвески несколько ино-
го облика. Эти украшения также состоят из
кольца-дужки, продетого сквозь петлю, в ко-
торую загнут штырь (уже не витой или тор-
дированный, а гладкий), на который наниза-
на подвеска, состоящая из цилиндрика и ша-
рика (например, погр. 71,64,65 Варнинско-
го мог.—Семенов 1980: т. 1,27). Серьги дан-
ного типа будут иметь в этом регионе весьма
106
Глава III
Рис. 29. «Прикамские» серьги V1-VITI вв. 1.2,4-6.9 — Варнинский могильник. (погр. 291/2.210.149.239/2,293.287,
16), 3,7—Потомский могильник (погр. 86.9), 8 — Мыдлань-Шай. Могильник (погр. 69). 10— Горбунята. Могильник.
11 —Деменковский могильник (иогр. 89), 12.13—Каневский могильник.
длительной период бытования, причем их
декор будет постепенно усложняться (рис. 29,
4-10).
Необходимо отметить, что довольно близ-
кие украшения (выполненные по той же мор-
фологической схеме: кольцо и подвеска, со-
ставленная из цилиндрика и шарика), встре-
чаются в Поднепровье во второй группе
древностей антов, по классификации
О. А. Щегловой, датируемой началом УШ века
(Щеглова 1990:176).
Однако более ранние даты появления се-
рег и височных украшешш с подвесками, со-
ставленными из цилиндрика и шарика, в
Прикамье (конец VII в.), чем в Поднепровье
(начало VIII в.), дают основание говорить о
самостоятельной линии развития подобных
украшений в Прикамском регионе (возмож-
но, напрямую связанной с Подунавьем).
Можно выделить ряд технологических и
морфологических особенностей, характерных
для подвесок, распространенных в Прикам-
ских древностях. Одна из наиболее характер-
ных деталей конструктивногостроения серег
и височных украшений, распространенных в
этом регионе, — наличие металлического
стержня, на который нанизываются летали
подвески. У схожих сарматских и пастырс-
ких серег подвеска крепится напрямую к коль-
цу. Цилиндрик у сарматских и пастырских
образцов расширяется в верхней части и бли-
зок по форме к горлышку античной амфоро-
видной серьги, а у прикамских подвесок он,
наоборот, сужается кверху, что создает общую
каплевидную форму украшешш. Исключени-
ем является фрагмент бронзовой серьги из
могильника Горбунята (Гос.Эрмитаж 569/88),
у которой цилиндрик расширяется в верхней
части (рис. 29,10). Серьги, распространен-
ные у сармат, изготовлялись в основном в
золоте, пастырские — в серебре и золоте,
ранние прикамские образцы—бронзовые.
Первоначально вое детали прикамских се-
рег и височных колец (кольцо, подвеска и
штырь) выполнялись из бронзы. Во второй
половине VIII в. наряду с бронзовыми серь-
гами (например, погр. 188 Варнинского мог.
—Семенов 1980: т. 1.29) появляются образ-
цы с серебряными подвесками (рис. 29, 11;
рис. 30), надетыми на бронзовый штырь (на-
Парадные ювелирные укоры IX-XII вк.
107
Рис. 30. «Прикамские» серьги VIH-
IX вв. По: Голдина 1985.1-3—Уринский
могильник (погр. 10.20.10). 4,5,8.10 —
Демеиковскии могильник (погр. 112,34.37.
63.139).6—Лверинский могильник (погр.
215), Бояновский могильник (Загарье), 9—
Каневский могилышк (погр. 6), 11 — Рож-
дественское.
пример, серьги из Дсмснковского могильни-
ка или могильника Телячий Брод — колл.
Пермского Пединститута). С X в. встречают-
ся украшения, целиком выполненные из се-
ребра, но есть экземпляры и с бронзовыми,
и с железными штырями-основами.
В VUI в. происходит усложнение формы
данных украшений, появляются боковые ша- •
рики, нанизанные на дужку кольца. В VIII -
IX вв. верхнюю часть подвески начинают
украшать тисненым шариком (например, мо-
гильник Телячий Брод, погр. 20—раскопки
Пермского Пединститута) (рис. 30).
Происходят видоизменения и в декоре
украшения. Если наиболее ранние подвес-
ки —гладкие, то с конца VII-VIII вв. они уже
украшаются рубленой проволокой (напри-
мер, серьги из Варнинского могильника—
погр. 41,39-40,16,149,239), Деменковско-
го, Урьинского могильников (Семенов 1980:
т. I,29; Генинг, Голдина 1970:46).
В конце VIII—начале IX вв. продолжает
использоваться рубленая проволока, но на-
чинает применяться и зерневой декор, суще-
ствовавший на протяжении X-XI вв. (напри-
мер, могильники Мыдлань-шай—погр. 69,
65,74; Поломский — 7,76; Варнинский —
погр. 6,249,24,157; Каневский — погр. 6;
Бояновский—10,13; Деменковский—139,
63; Тольёновский—погр. 44). Схема разме-
108
Глава III
Рис. 31. «Прикамские» серьга VIII-X1 вв. 1 — Мыдлань-Шай. Могильник (погр. 74). 2—с. Рождественское, 3—
Архангельский клал,4—л. Бслоключевская (случайная находка),б- Большетигаиский клад. 7—Прикамье, 8—Мало-
венежскнй могильник, 9—Варнинский могильник (погр. 6), 10 — Верхне-Коиоасский клад. 11—Прикамье, 12—Сайга-
тинскоесвятилише.
Парадные ювелирные укоры IX—XII вв.
щсиия зерни и рубчаюй проволоки на этих
серы ах довольно проста: как правило. зернь
располагайся в местах стыка деталей и при-
крывает припай. С X - начала XI вв. в
убранст ве прикамских серег начинают ис-
пользовать и скань.
В ряде слу чаев шарик головки приподняг
над дужкой. Так. у серьги из погребения 77
Поломского мот ильника (Гос. Эрмитаж
ОИПК 606/624) шарик «т оловки» крепится к
«шейке». выполненной из зерни. В некото-
рых случаях (погребение 63 Деменковского
могильника, погребения 249. 254. 24, 157
Варнинского могильника, погребение 7 По-
ломского moi ильника) в конструкции подвес-
ки появляется дополнительная деталь -рас-
положенный горизонтально цилиндрик,
сквозь который продето кольцо-дужка
(рис. 30. 6. 7). Цилиндрик -либогладкий,
либо украшен рубча юй проволокой. Целая
подборка зерненых серебряных серег с по-
добным I п гл п тдриком. украшет 1ным рубчатой
проволокой, была найдена в составе Маль-
цевского клада (Кол. Гос.Эрмитажа. Инв.
577).
ВIX X вв. цен тр производства mix укра-
шений перемещается в Волжску то Бул арию.
В этот период подвески становятся более тя-
желовесными (например, подвески из Всрх-
нс-Кандасского клада или Сайгатинского 1
святилища (Гос. Эрмитаж инв. №548. УАЭ-
182). Носили их уже зачастую не как серы и.
а как височные кольца, прикрепляя к голов-
ному убору при помощи металлических це-
почек (например. подвески из Больше-Тигатт-
ско! о moi ильника). Верхний шарик поздних
прикамских серег этого типа подчас как бы
III. 3. 2. Прикамские аналоги се
В конце VI11—IX вв. в древностях Полом-
ской культуры появляются литые и состав-
ные серьги, схожие с «волынскими» серы а-
ми типов «В» и «С» (Голдина 1985: рис. 16,
117,1 !8. табл. I. 3. 4: табл. II. 5-19: Семенов
1988: рис. 1. 6-9: рис. III. 2-7).
Прикамские серьги, близкие по виду «во-
лынским» типа «В», представляют собой
кольцо с надетым на нет о штырем, на кото-
рый нанизана металлическая бу сина. обрам-
ленная сверху колечком зерни и пирамидкой
зерни в нижней части (рис. 32). В некоторых
вариантах кольцо отлито вместе со стержнем.
109
сливается с телом подвески, (рис. 31.6, 10).
У нско горых экземпляров дужка кольца рас-
положена не иод шариком, а проходит сквозь
Hei о (например, подвеска ты погребения 45
Аверинского мот ильника или из с. Рожде-
ственское на р. Обвс Корзухина. Рукопис-
ный архив ИИМК. ф. 77. д. 8. л. 4) и форма
подвески принимает сиде более ярко выра-
женную каплевидную форму. Все это делает
эти украшения весьма похожими на серьги
«волынского» типа «А» (например, ссры а из
случайной находки у д. Белоключевской —
Корзухина. Рукописный архив, ф. 77. д. 8.
л. 4). Интересно, что в этот период появля-
ется сканный и пссвдосканный декор на дуж-
ках колец, напоминающий скан но-зерт тенью
лунницы. которыми украшались дужки во-
лынских колец. Такова, например, подвеска
из клада, найденного ул. Вашкур (Пермский
Краеведческий Музей), или пара серег, соеди-
ненных цепочкой, нат'тденных в Маловенеж-
скоммог. нар. Чепце (Иванова 1982: рис. 5.
8) (рис. 31.3-5). Это видоизменение формы
и декора подвесок, возможно, является отра-
жением влияния славянскот о ремесла на юве-
лирное дето Прикамья и Поволжья.
Таким образом, мы. вероятно, имеем дето
с непрерывным развитием на территории
Прикамья местной ювелирной традиции,
впитавшей ряд инноваций, исходивших из
юго-западных регионов. Так же как и .для во-
лынских серег тина «А», для этого типа се-
рет отправной точкой послужили, вероят-
но. подунайскис образцы, но исполненные
с рядом технологических отличий, касаю-
щихся в основном техники изготовления
подвески.
?г «волынского» тина «В» и «С»
В месте перехода к стержню кольцо у серег
второт о варианта расширяется и утолщается
(посередине — ребро). Головка подвески
представляет собой пирамидку зерни. Ана-
логичная пирамидка припаяна и в верхней
части кольца-дужки (например, могильники
Мыдлань-Шай погр. 65,69: Поломский - -
потр. 8.9.15 (Гос.Эрмитаж, инв. №606). Вар-
нинский мог. погр. 262, 221 (Семенов
1980: т. 1. 32); Тольёнский мог. - - погр. 39).
Необходимо отметить. что у этого тина серег
сама бусина зернью нс украшалась. Встрсча-
юлся и цельнолитые подобные подвески.
по
Глава III
Рис. 32. «Прикамские» серь-
га конца VJH — IX вв. 1 - Авс-
ринский могильник (погр. 94). 2 —
Тольёнск11ймопигьн1гк(погр 210).
3—Аверинский мог илыпгк (погр.
210). 4—Агафоновский moi иль-
ник (погр. 369). 5 — Уринскпй
могильник (погр. 19). 6 — Мыд-
лань-Шай. Могильник (погр. 69.
65). 7.8—Поломский могильник
(погр. 8.9). 9 — Варнинский мо-
гильник (погр. 262).
Такова, например, серьга из погребения 19
Урьинского могильника (Генинг, Голдина
1970:46).
Аналогом «волынским» серьгам типа «С»
можно считать прикамские гроздевидные
серьги (рис. 33). Штырь у этих серег изготов-
лялся от дельно или отливался вместе с коль-
цом. Подвески представляют собой различ-
ного размера грозди литых или тисненых ша-
риков. Гроздь может быть как очень малень-
кой в виде пирамидки зерни (Варнинский мог.
— погр. 37,60,69,204.283) (Семенов 1980:
табл.И), так и довольно большой (как прави-
ло, ромбической формы,.расширяющейся в
средней части), например. Тольёнский мог.
— погр. 106,97.118,76,107 (Семенов 1988:
25-58, рис. 3,2-6). Существуют как бы гиб-
ридные варианты, например, серьга из по-
гребения 12 Тольёнского мог. (Семенов 1988:
рис. 1,10). где в верхней части расположен
шарик, а дальше—гроздь зерни.
На дужку таких серег- припаивалось две
пирамидки литых шариков — одна в каче-
стве головки подвески, вторая в верхней ча-
сти кольца. Дужки бывают гладкие. зернение,
псевдозерненые, выполненные из рубчатой
проволоки (например, серьги из Юмского и
Мальцевского кладов—Гос. Эрмитаж инв.
№550.577). Так же как и предыдущий, этот
тип украшений дублируется в литье (напри-
мер, серьга из Поломского мог. (погребение
не (Определено: Гос. Эмитаж инв. №606/
1685).
Сразу бросается в глаза ряд отличий да! i-
ного варианта прикамских серег от серег «во-
лынского» типа «С». У «волынских» серег
дужка выполнена из волоченной проволо-
ки. стержень изготовлен отдельно, а у при-
камских —стержень зачастую отлит вместе
с дужкой. У «волынских» серег X-XI вв., рас-
npoci раненных в Поднепровье, ряды зерни
на подвеске разделены сканными или про-
волочными колечками. У прикамских серег
подобное разделение отсутствует, да и фор-
ма подвески иная, с явно выделенным рас-
ширением в средней части — например, в
Каневском мог. погр. 5,8,13 (Генинг, Гол-
дина 1980:54), Поломский мог. — погр. 40.
9.15 (Гос. Эрмитаж инв. №606). Тогда как у
серег «волынского» типа «С» максимальное
расширение приходится на нижнюю треть
подвески.
Появляются данные типы украшений в
Прикамье гораздо раньше, чем аналогичные
серьги «волынского» типа в Поднепровье. а
именно в конце VIII IX вв.. как раз в тот пе-
риод. когда аналогичные украшения получа-
ют распространение и в Подунавье. Вместе
с тем, ряд характерных черт, выделяемых для
подобных серег, находимых в Прикамье, а
именно - цельнолитое вместе со стержнем,
у толщенное в средней части кольцо, пира-
мидка зерни в верхней части кольца, — тя-
готеют не к Подунавыо (где кольцо одинако-
вое по всему диаметру, штырь изготовлялся
отдельно, на дужку надевались колечки, а не
пирамидки зерни). Они ближе к сложившим-
ся также на базе аварских прототипов юве-
лирным украшениям Кавказа (например,
серьга из Терской области, с. Зельга — ОАК
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
111
1898:143, р. 272). Аналогично выполнялись
кольца и переход от кольца к дужке у ряда
салтовских серег (Степи 1981: рис.37). Таким
образом, можно предположить, что мода на
ношение подобных украшений попала в При-
камье не прямо из Подунавья, а опосредован-
но через Кавказ или Подонье.
В заключение необходимо отметить, что
выделенные нами хронологические, морфо-
логические, технологические и декоративные
особенности, характерные для «волынских»
и «прикамских» типов украшений, позволя-
ют говорить о двух самостоятельных и, в ка-
кой-то мере, параллельных линиях развития
украшений, созданных в рамках общеевра-
зийской моды середины VII-XI вв., сложив-
шейся на основе синтеза вкусов кочевых и
оседлых народов. Причем сходство височных
украшений, находимых в этих регионах, не
ограничивается только общностью морфоло-
гического строения подвесок и близостью
прототипов, но и тем взлетом использова-
ния техники зерни, который отмечается на
украшениях, находимых в Прикамье и Повол-
жье для IX-XI вв., а для древнерусских об-
разцов в середине X-XI вв.
Рис. 33. «Прикам-
ские» серьги конца
Vin-IXBB. 1-5—Толь-
ёнский могильник
(погр. 106,97,76,107).
6— Каневский могиль-
ник (погр. 5), Авсринс-
кий могильник (погр.
18). 7 — Аверинский
могильник (погр. 90),
8 — Плсснинский мо-
гильник (погр. 45), Аве
ринский могильник
(погр. 188). 9 — Авс-
ринский могильник
(погр. 103,202). Маль-
цевский клад, 10 — Ка-
невский могильник
(погр. 1,8,10.26), Плес-
нинский могильник
(погр. 21), Аверинский
могильник (погр. 83).
11. 12 — Аверинский
могильник (погр. 138.
212). 13,14—Каневс-
кий могильник (погр.
13,28), 15—Рслгкарс-
кий могильник (погр. 4),
16 — Мальцевский
клад, 17-19—Поломс-
кий могильник (погр.
15,9.40), 20-23 —Вар-
нинский могильник
(погр. 163. 73. 26. 47.
38), 24 — Поломский
могильник (погр. не оп-
рел.), 25 — Мыдлаиь-
Шай. Могильник (погр.
57).
112
Глава III
Ш. 4. ПОДВЕСКИ-ЯУННИЦЫ
В составе зернено! о ювелирного убора,
характерного для boci очнославянских древ-
ностей середины X — начала XI в. и возник-
шего. вероятно, на базе западнославянских
проютипов. есть один тип украшений, име-
ющий еще более длительную историю раз-
вития. чем серьги «волынского» типа — это
подвески-, зуиницы.
Традиция изготовления подвесок-лунниц
ухолит в глубь тысячелетий. Разнообразные
варз 1анты трехроп к лут шип доводы ю ип 1роко
представлены в памятниках среднего и по-
зднего бронзового века (Археология Венгрии
1986: 76. 79. рис. 25,27).
Носили лунницсвидные подвески и в пе-
риод античности. В скифском уборе они наи-
более распространены в VI-V вв. до н. э.
(Онайко 1960: 6). В скифских захоронениях
зачастую находят золотые узкие серповидные
лунницы. украшенные сканными или прово-
лочными восьмерками и колечками. Встре-
чаются и бронзовые литые подражания этим
подвескам.
Золотые лунницы были обнаружены, на-
пример. в курганах у с. Богдановка Херсонс-
кой обл. (в сост аве ожерелья с бусами из зо-
лотой фольги), в Томаковской Острой моги-
ле, Херсонском кургане. Золотое ожерелье с
луннинами 1реческой работы было найдено
в датируемом V в. до н. э. кургане №4 у
д. Волковцы из раскопок И.А. Линничснко
(Ильинская 1968:141-142). Ожерелье состо-
ит из мелкого бисера. 6 подвесок-лунниц со
сканными миндалевидными гнездами на
рожках и подвесок в виде зерненых столби-
ков, оканчивающихся пирамидками. Еще
одно ожерелье конца V—начала IV в. до н.э.
было обнаружено у местечка Кошары (Ан-
тичные памятники 2001: 147). Украшение со-
стоит !□ мелких золотых бусин и 1 латкой лун-
ницы. Концы довольно короткого ожерелья
оформлены в золотые трубочки. которые, ве-
роятно, крепились к его затылочной части,
выполненной из какого-то недрагоценного
материала (возможно, из тканого шнура). Зо-
лотая лунница. украшенная проволочными
волютами с зернью в завитках и пирамидка-
ми зерни на концах рожск. была найдена и в
кургане у с. Кагарлык Киевской губернии
(Ханснко 1907: т. V. 527).
Дтя античных лунниц характерны двуро-
гая форма, проволочный и зерневой декор,
неширокие, зачастую pi к|)леныс ушки дтя под-
вешивания. крепившиеся с обеих сторон под-
вески. В период эллинизма декор лунницега-
новится более пышным, обильно использу-
стся скань, гладкая и рубчат ая проволока, ра-
стительные мотивы. Сама форма лунницы
усложняется различными дополнениями —
завитками, гроздевидными подвесками.
Встречаются экземпляры и с гранатовыми
вставками (Jewelry 7000years 1991:84. fig. 187).
Весьма популярна была форма лунниц в
позднеримское время и в эпоху раннего сред-
невековья: подвески в виде полумесяца ши-
роко распространены в этот период у ряда
народов Европы и Передней Азии (Kralo-
vansky 1959; Zak 1968). Во II—III вв. и. э. уз-
кие серповидные лунницы, с практически
сомкнутыми «рожками», былираспростране-
ны в Риме, Сирии. Египте, на Кипре и на
Балканах (Roman jewellery' 1991:147. cat. 120-
122).
В это же время лунницы иного облика
встречаются среди прибалтийских вещей с
эмалями, а во II—IV вв. и среди подненровс-
ких украшений с эмалями, принадлежавших
к киевской культуре (Гороховский 1982:125-
139) (рис. 34. ба). Дериваты вещей с эмаля-
ми (в том числе и лунниц) переживают вре-
мя сущест вования киевской культуры. Наи-
более поздние находки подобных украшений
происходят из памятников VII- IX вв. (Ма-
чинский, Мачинская 1988: 51) (рис. 34.49а).
Еще одна разновидность лунниц пред-
ставлена в позднесарматских памятниках koi i-
на 111 в. н. э. Это штампованно-филигранные
двурогие лунницы с закрученными «рогами»,
заходящими на саму подвеску. По полю под-
вески припаивались пирамидки зерни. Труб-
чатое ушко, оконтуренное проволокой, напа-
ивалось с обратной стороны подвески и укра-
шалось зернью.
Подобная лун ни на происходит из клада,
найденного 1970 г. у с. Грушевица в Молда-
вии. Первоначально в состав клада входили
еше и золотые кубки, инкрустированные
красными камнями, браслеты. сережки, ору-
жие и монеты. В настоящее время, кроме лун-
ницы, от этого комплекса сохранились толь-
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
113
Рис. 34. Лунницы. I.J—Чернореченская (Крым). 3—Михета (Грузия). 4—Иран. 5—Неаполь (Крым). 6—Беляус
(Крым). 6а — Казаровичи (Украина). 7 — Штраубинг (Германия), 8.9.31 — Данчены (Молдова), 10—Никольское
(Украина), 11 —Тисафельдвар(Венгрия).12.16- -Закшув (Польша). 13—Жельново(Польша), 14—Роище (Украина).
15— Бранешты! (Молдова). 17—Тнсафюрсд(Вснгрия). 18—Пантакапей, 19—Нови-Шалдорф (Чехия), 20—Горско
(Псковская обл). 21 — Варнино (Удмуртия). 22 — Насобурки (Чехия). 23 — Валя Стрымба (Румыния), 24—Торсберг
(Германия). 25—Якушовиие (11ольша), 26 — Вимозс (Дания). 27—Брангструп (Дания). 28—Квармлес (о-в. Зеландия,
Дания). 29—Сесдал (Швеция), 30—Скира (Киевская обл.), 32—Рысна-Саарс 11 (Эстония), 33—Бирск (Башкирия), 34
— Гава (Венгрия). 35 — Нови-Шалдорф (Чехия). 36—Вескень (Венгрия), 37—Эйсбел (Дания), 38—Хештенторп (о-в
Зеландия, Дания), 39—Иран, 40—Щербатая котловина (Украина), 41 — Любахнн I (Новгор. обл.), 42—Бырлад Валя
Сяка (Рум. Молдова), 43 — Лоа (Австрия). 44 — Брангструп (Дания), 45 — Землянский Врбовк (Словакия), 46 —
Новогригорьсвка (Украина). 48—Козисвскнй клад. 49—Бернашовка. 49а — Старая Ладога. 49b—Лоози, 50—Циллин-
гталь (Подунавье). 51 — Бранешты (Молдова). 52.53.57.58—Гисздово. 54.55а—Микульчипы (Чехия), 55,56— Старое
Место (Чехия), 59—Новгород. 60,61.67.68—Среднее Подунавье. 62—Майков (Польша). 63—Бирка, 64—Скадино,
69—место находки неизвестно (Польша?), 65.71 — Вербичка (Украина), 66 — Новгород. 72—Владимирские курганы.
114
Глава III
ко золотая подвеска-ведерко с зернью и ауре-
vc Аврелиана (270-275 гг.) (Рафалович 1986:
199).
Целое ожерелье, составленное из золотых
лунниц. украшенных по краям сканью, и
трубчат ых золо i ых пронизок. было обнару -
жсно при раскопках сарматского катакомбно-
го П01рсбения в кургане26 могильника) села
Никольское (Украина) (рис. 34.10). Кроме
ожерелья, в захоронении найдены такжестск-
лянный канфар. бронзовое зеркальце, под-
веска из горного хрусталя с медной петель-
кой. краст юг.вшяная узкогорлая амфора (Грос-
су 1990: 90).
Появление лунниц в материалах Черня-
ховской кулыуры связывается исследовате-
лями с переселениями готов на юг Восточ-
ной Европы в период «готских войн» III в.
(Кропоткин 1978: 147-163). А сама мода на
подобные украшения была, вероятно, вос-
принята германцами римских провинций на
Дунае у сарматов венгерской равнины (Кар-
гопольцев, Бажан 1993: 114).
Ранние Черняховские л) нницы выполне-
ны в так называемом закушувском стиле. На-
ходки подобных лунниц в Польше происхо-
дят из Закушова. Спицымежа. Жслыюва.
Крушвиц. Комарова, Пилипков. Отличитель-
ной особенностью украшений III в.н.э.. ис-
полненных в этом стиле, является обильный
зерневой и сканный декор, а также цветные
вставки из оранжевого, красного, сине-фио-
летового стекла, пасты, сердоликов, реже —
фанатов-кабошонов. Внешне эти веши очень
похожи на полихромные изделия гуннской
эпохи к. IV-V вв..что подчас приводит к дис-
куссиошюст и их дат ировок и этнической ат-
рибуции (Щербакова. Щукин 1991: 38-53:
Каргопольцев. Бажан 1993:-! 13-122) (рис. 34.
7, 11-13. 17.17).
Примером подобных украшений могут
служить три золотые rpcxpoi не лунницы.
найденные в 1976 году при раскопках Черня-
ховского могильника Дш 1чсны па терри т ории
Молдавии (рис. 34.8. 9). Из погребения 64
этого могильника происходят две подвески
с закругленными боковыми «рогами» и фе-
угольпым центральным (Музей Институт
Археологии АН Молдовы, инв. №30. 31).
Лунницы вырезаны из золотой пластинки,
но краям декорированы следующей компози-
цией: полоской скани.проволочкой.цепоч-
кой зерни, проволочкой, полоской скани.
Ушко для подвешивания лунницы рифленое,
загну т о в кольцо и припаяно с обрат i юй сто-
роны украшения. В це> пре подвески пол дуж-
кой расположено круглое 11 юздо дтя вставки
(в настоящее время вставка оюутствует).
Карст окружен сканью и зернью. По полю
подвески припаяны треугольники зерни.
Третья лупница (инв. №33) отличается и
формой, и декором — у нее мягко очерчен-
ные заостри и 1ыс «рога», края подвески от о-
гнут ы наружу, за образовавшимся ободком
расположена сканная косичка. В центре лун-
ницы под дужкой и на боковых рогах распо-
ложены миндалевидные гнезда для вст авок
(в двух сохранилась красноватая спекшаяся
масса). Поверхность изделия дополнительно
украшена пирамидками зерни и отдельными
зернинками, напаянными на колечки. Риф-
леное ушко припаяно с двух сторон подвес-
ки.
В более позднее время, с IV в. в древнос-
тях Черняховской культуры (Чсрняхово. Коса-
ново, Тышгор. Могошаны. Демьянов, Солон-
цы) стали распространяться гладкие.1унни-
цы (рис. 34.14). В этот же период лля Черня-
ховской, а также других синхронных культур
отмечается сочетание простых лунниц с круг-
лыми и прямоугольными подвесками в со-
ставе одного ожерелья (Будешты. Дслакэу.
Тыргшор. Косаново, Брапгструп) (Каргополь-
цев. Бажан 1993:113-122) (рис. 34.23. 25. 26.
27). Они зафиксированы в девят и Черняхов-
ских памятниках, в двух случаях с монст ами
III IV вв. (Щербакова. Щукин 1991:48).
Традиция сочетаниялунниц и круглых
подвесок в составе одного ожерелья позже
будет широко представлена в материалах
древнерусского ювелирного дела. Наиболее
ранняя находка подобного ожерелья в ставя! ь
ском памятнике— Козисвский клад, датиру-
емый концом VII в. (Щеглова 1990: Гавриту-
хин. Обломский 1996: рис. 59) (рис. 34. 48).
Лунницы из этого клала т радиционно счи-
таются наиболее поздним отголоском готс-
кой моды, представленной в Черняховских
памятниках IV в. В недавнее время этим укра-
шениям бьша посвящена специальная рабо-
та. в которой их происхождение связывается
с древностями лесной полосы Восточной Ев-
ропы и юго-восточной Балтией (Родинкова
2003: 17).
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
Трехрогие лунницы не только носились,
но и производились в V-VII вв. на восточ-
нославянской территории. Доказательством
этою служит недавняя находка литейной
формочки в Бсрнашовке (Винокур 1997)
(рис. 34. 49).
Вероятно. в результате активности готов
Германариха в лесной зоне в IV в. гладкие
трехрогие лунницы появляются и в Повол-
жьеи Прикамье(рис. 34.2/). В Центральной
и Северной Европе в V в. гладкие лунницы.
сменяются выполненными в стиле Сослал с
пссвдозерныо. тиснением, гравированным и
пуансонным орнаментом, зооморфными и
антропоморфными мотивами (Карт ополь-
цев. Бажан 1993: 117, 118) (рис. 34. 24. 35.
43. 36, 29, 37. 38).
В концеIV-V вв. в Южной. Центральной
и Восточной Европе вновь появляются из-
делия полихромного стиля. В этот период из-
любленными становятся гранатовые встав-
ки (рис. 34.34). Декорированные гранатовы-
ми вставками подвески происходят из Орт
(Италия). Лоа (Австрия). Нови-Шалдорф.
Наметили (Чехия). Варна (Болгария). Силадь-
Шомлио. Гава (Венгрия). Верхняя Рухта (Осе-
тия). Якушовицы (Польша) (Каргопольцев.
Бажан 1993:118). Подобная золотая лунни-
ца. датируемая V в., происходящая из ко.тлек-
ции Бертье-Делагарда. хранится в Британс-
ком музее в Лондоне (предположительно,
была найдена в Крыму). Лунница у крашена
тремя гранатовыми вставками. Треугольная
вставочка расположена под ушком посереди-
не лунницы, круглые — на рогах лунницы
(Germanen. Hunncn und Awaren 1988). В бога-
том княжеском захоронении в Бакодпусте
(Вешрия) было открыто ожерелье из инкру-
стированных гранатами маленьких золот ых
лунниц и сердцевидных подвесок, разделен-
ных круглыми гранатовыми бусинами (Ар-
хеология Венгрии 1986: 298. рис. 112).
В более позднее время вновь происходит
отход от полихромии. Каменные вставки
лишь имитируются в виде выпуклост ей в тис-
нении или литье. Подобным переходным ва-
риантом можно считат ь трехрогую луннину.
найденную на Маяцком могильнике (Милю-
тин 1909: 160. рис. 12). По форме она близка
к изделиям 111 или V вв.. но изготовлена в
иной технике. Сама лунница серебряная,
покрыта тонкой золотой пластинкой, на ко-
115
торой от т иену та имитация каменных вста-
вок и зерни.
Усиление популярности подвесок-лунниц
отмечается на западнославянских памятни-
ках с IX в. (WielkieMorawy 1979: abb. 153-159),
а на вост очнославянских с середины X в. В
IX в. с западнославянской территории на
восток распространяется традиция ношения
трехрогих лунниц. У восточных славян ран-
ние трехрогие лунницы IX в. бытуют в древ-
ностях культу ры Луки-Райковецкой (Седова
1981:24-25). Так. небольшая литая трехрогая
лунница была найдена на территории Мол-
давии на поселении Бранешты 1 (Рафалович
1972: рис. 36. 4) (рис. 34.51).
Этим же периодом датируется и уникаль-
ная находка литейной формочки из Старой
Ладоги, обнаруженной в горизонте Е2 (840-
860-е I I .). На одной се стороне вырезана фор-
ма для отливки подвески-деривата лунницы
с эмалями, на другой — маленькой трехро-
гой лунницы с тремя шариками на «рогах»,
имеющей наиболее близкие аналогии в ве-
ликоморавских могильниках IX в. в Среднем
Подунавье (Мачинский. Мачинская 1988:52,
рис. 1.5) (рис. 34.49а). Несколько более круп-
ная и более пышно декорированная литая
лунница происходит, например, из Нитры.
литая лунница этого типа была найдена и в
Новгороде (рис. 34.53. 55). О том. что юве-
лиры. изготов.тявшие подобные украшения,
работали и на территории Скандинавских
стран, свидетельствует находка в Бирке ли-
тейной формочки, аналогичной ладожской
(Каппеле 1989: 137, рис. З.п).
Конец IX в. знаменуется возрождением
античной формы двурогой лунницы. Ранний
экземпляр подобной подвески происходит из
Старого Места (Hruby 1965: tab. LX: Mala-
chowska 1998: 37-123) (рис. 35.2). Всереди-
неХ в. двурогие лунницы широко распрост-
раняются и у восточных славян. Эти укра-
шения стали типичными для восточносла-
вянского ювелирного убора и просущество-
вали вплоть до XIII в. (Седова 1981:23).
Продвижение на восток моды на двуро-
гие лунницы можно проеледить по находкам
в кладе Рэдукэнень (Румыния) и на Екимауц-
ком городище (Молдова) (Teodor 1980:403-
423: Федоров 1953:104-127). Штампованно-
филшранные двурогие лунницы тгз этих ком-
плексов но форме подвески близки к наибо-
116
Глава III
Рис. 35. Лунницы штампованно-филигранные. 1 - - Микульчипы (Чехия). 2 — Старое Место (Чехия), 3-5 —
Гнездово. 6 —д. Бор(окр. 11овгорода). 7—Скадино. Клад. 8—Майков. Клад. (Польша). Серебро. По: Malachowska 1998.
лее ранним вариантам, датируемым концом
IX — началом X в. по находке из Старого
Места (выражаю благодарность за консуль-
тацию Ю.М. Лесман}).
В кладе Рэдукэнень было найдено два эк-
земпляра зерненых луннип (рис. 15, 9.10).
Большая лунница украшена сканью, зернью
и тиснеными колпачками-полусферами. Ма-
лая покрыта чешуей из серебряных про-
волочных дужек, в которые вписаны по три
зернинки. Подобный «чешуйчатый» декор
для подвесок-луннип не характерен, но
встречается на серьгах в виде опрокинутой
лунницы «нитранского типа» (Teodor 1981:
fig. 19,11).
В декоре большой лунницы сочетаются
элементы, представленные на луннице из
Старого Места (рис. 35,2), с появившимися
на более поздних древнерусских образцах.
Так, центральные тисненые колпачки, обве-
денные несколькими рядами зерни, размеще-
ны на подвеске свободно, тогда как у более
поздних экземпляров они тесно сдвинуты
друг с другом. В то же время край лунницы
обведен пояском из полусфер, характерным
для крупных экземпляров середины X в. из
Гнездовского 1868 г.. Юрковсцкого и Гущин-
ских кладов (Корзухина 1954: табл. VI, VII)
(рис. 10,2.16). Таким образом, данная лун-
ница занимает, вероятно, промежуточное
место между моравскими и древнерусскими
образцами и может быть датирована нача-
лом X в.
На городище Екимауцы была обнаруже-
на маленькая штампованно-филигранная
лунница, украшенная тремя полусферами,
расположенными иод дужкой и на «рогах»
лунницы. а также зигзагами зерни (рис. 14,
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
13). Эта подвеска в настоящее время фраг-
ментирована (обломан один «рог»). С обрат-
ной стороны лунницы Hai >аяна железная пла-
стинка. Можно предположить, что в древ-
ности эта подвеска была починена или ук-
реплена, но тогда вызывает удивление мате-
риал, использованный для крепления изящ-
ной серебряной вещи. Возможно, во вторич-
ном использовании подвеска служила на-
кладкой на какой-то твердый предмет (на-
пример, на обкладку сундучка). Накладкой на
твердый предмет могли быть и пробитые в
древности лунницы из Гнездовского клада
1868 г. (Лесман2000:62-64).
В славянском костюме лунницы исполь-
зовались в качестве подвесок к ожерельям,
117
головным уборам, ряснам, серьгам, брасле-
там, гривнам, диадемам и височным кольцам
(последние четыре варианта для восточных
славян не характерны).
По технике изготовления средневековые
славянские лунницы делятся i ia штампован-
но-филигранные и литые. Зерненые лунни-
цы вырезались из тонкой серебряной плас-
тинки. Трубочка-ушко для продергивания
шнура вырезалась из той же пластинки, за-
гибалась на лицевую сторону, а с оборотной
стороны укреплялась полосками металла.
Края изделия обводились проволокой. Ушко
зачастую имею проволочные валики по кра-
ям, а в ряде экземпляров и в центре. У одной
из больших лунниц из Гнездовского клада
1’ис. 36. Лунницы 11ггампопа1Н1о-фнлпгран>1ые. Гнездопский клал 1867 г. Серебро.
118
Глава III
Рис. 37. Лунницы штампованно-филигранные. Гнез-
довский клал 1867 г. Серебро.
1868 г. (ГЭ, инв. №994/86) ушко выполнено
отдельно в виде трех серебряных бусин, укра-
шенных зернсвыми ромбами и треугольни-
ками (рис. 37). Для того, чтобы прикрепить
эту конструкцию, мастер довольно грубо об-
резал верхнюю часть лунницы в виде трех
треугольных выступов, припаянных с обо-
ротной стороны к каждой «бусине». Анало-
гично было, вероятно, исполнено и бусин-
ное ушко у утраченной ныне большой лун-
ницы из Тушинского клада (Корзухина 1954:
табл. VII) (рис. 10,2).
Основным декором поверхности лунниц
являются тисненые полусферы и зерновые
полоски и треугольники. Штамп для тисне-
ния строенных полусфер был обнаружен в
погребении ювелира в Пересопницком мо-
гильнике на Волыни (Корзухина 1946:46,
рис. 10). Как правило, полусферами декори-
руется средняя часть подвески и «рога» лун-
ницы (это могут быть отдельные полусферы,
композиции из метких полусфер ши три мет-
кие полусферы, посаженные на одну круп-
ную). В некоторых экземплярах мелкие по-
лусферы расположены еще допои ппелыю и
по краю изделия цепочкой.
Классическими для древнерусских памят-
ников X века являются широкорогис зерне-
нью лунницы (рис. 36-37. рис. 34.57). Самая
представительная подборка штампованно-
филигранных лунниц (19 экземпляров) про-
исходит из четырех гнездовских кладов, где
их находят с дирхемами X в. (Ениосова, Пуш-
кина 1997:25). Литые подражания серебря-
ным штампованным лун ницам, встречаю-
щимся в кладах X -XI вв., появились уже в
середине X века и изготовлялись из бронзы
и свпнцово-оловянистых сплавов (Седова
1981:24-25).
Находят ранние лунницы, кроме кладов,
и в курганах с сожжениями X в., а также в
слоях Новгорода X в. (Спицын 1905:6; Си-
зов 1902: табл. IV, 6.7). В Новгороде было
найдено 16 лунниц (Седова 1981: 24).
Ю.М. Лесман датирует все типы новгородс-
ких лунниц до 1238 г. Древнейшие лунницы
из новгородской коллекции—четыре широ-
корогие (две из них были найдены ниже 28
яруса, датируемого 953 г.) (Лесман 1989:62).
Рис. 38. Л} ИН1ШЫ штампованно-филигранные. Гиез-
довскин клад 1867 г. Серебро.
Парадные ювелирные укоры IX-XII кв.
119
Рис. 39. Лунницы штампованно-филигранные. Гне-
довский клад 19931. Серебро. По: Пушкина 1996а.
Малая серебряная лунница. украшенная пу-
ансонным орнаментом, найдена в кладе ку-
фических монет, да тируемом второй полови-
ной X в. Лунницастремя кружочками на кон-
цах, имеющая аналогии в древностях Вели-
кой Моравии, была найдена в составе оже-
релья из бус желтого и черного цвета, дати-
руемого X — началом XI в. (рис. 34.59). В
XII-XIII вв. в Новгороде полу чшн распрос-
траненней круторогие лунницы. Интересны
находки в Новгороде литых ложнозерненых
лунниц с гнездами для вставок в центре (Се-
дова 1981: 24, 25). Возможно, лунницы со
вставками изготовлялись для неславя, тского
населения. Подобная традиция украшения
подвесок каменными (зачастую сердоликовы-
ми) или настовыми вставочками характерна
для древностей Волжской Булгарии.
Миниатюрная же серебряная позолочен-
ная лунница, украшенная эмалью, найденная
в Новгороде на берегу Волхова неподалеку
от Антониева монастыря (КП 31 562 / А81-
14), видимо, использовалась как деталь сет-
чатого ожерелья или нашивка. На шкое ис-
пользование этого украшения указывает на-
личие трех припаян! 1ых к нему ушек — одно
на вершш ie и два по бокам на рожках лунни-
цы.
Еще большая, чем на Руси, концен трация
зернен ых лунниц отмечена в кладах Польши
(Ениосова. Пушкина 1997: 25) (рис.40,
рис. 41). Ханна Кочка-Крснц приводит дан-
ные о 72 местонахождениях лунниц на тер-
ритории Польши (Kocka-Krenz 1993: тара
36). Причем большая часть находок приходит-
ся на клады, 6 находок в могильниках. 4—в
крепостях, 3 — в городах. Подобное распре-
деление находок данного типа украшений по
памятникам заставляет предположить их
привозной характер. Ян Зак предлагает два
возможных варианта продвижения лунниц
в Польшу с территории Руси: Киевщина —
Прага — Регенсбург или с территории Во-
лыни по Evry в Повпсленьс (Zak 1968:215-
216).
Типичны лунницы для кладов серебря-
ных вещей Восточной Германии и Венгрии
(Arne 1914: 109: Niederle 1921: 255, 256). В
Венгрии и бывшей Югославии их находят в
материалах культуры Биело Брдо (Hampel
1905:1.520.2). Интересна находка в погребе-
нии 438 могильника Халимба (Венгрия) оже-
релья, составленного из настовых, сердоли-
ковой и хрустальной бусин, раковин, литой
лунницы. подражающей штампованно-фи-
лигранной, и круглых подвесок с полусфери-
ческой лицевой частью (Тбгок 1962:
I. XXXIV).
Находят литые лунницы в составе оже-
релий и на восточнославянской территории.
Особенно часто встречаются ожерелья с
большим количеством нодвесок-лунниц (до
10-13 экземпляров) на территории радими-
чей (Соловьева 1982: 79-80). Необычно ис-
пользовались лунницы населением Кост-
ромского Поволжья. В этом регионе замкну-
тые кресговключенныс литые ложнозерне-
ные лунницы зачастую встречаются в погре-
бениях в районе черепа. «Судя по располо-
жению при костяке», А.В. Успенская считает
их серьгами или височными кольцами (Ус-
пенская 1967:103). Но по форме данные лун-
ницы являются типичными подвесками с
широкими трубчатыми ушками. По всей ви-
120
Глава III
Рис. 40. Лунницы штамповапно-
филнгранные. Сейковик. Клад
(Польша). Серебро. По: Malachowska
1998.
димости, в этом регионе существовала тра-
диция нашивания лунничных подвесок на
головной убор.
Если для славянского ювелирного убора
подвески-лунницы были одной из наиболее
характерных деталей, то лунницы, попадав-
шие в Северную Европу, как правило, фраг-
ментированы (применялись как средство
платежа или ювелирный лом). Иногда они
все же использовались в костюме, но при
этом зачастую переделывались соответствен-
но вкусам населения. В Швеции известно 29
экземпляров лунниц, из них лишь шесть це-
лых, остальные—фрагменты. Все семь дат-
ских находок — тоже фрагменты (Duczko
1985:66).
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
121
Рис. 41. Лунницы штампо-
вапно-филиграипые. 1 — Сей-
ковик. Клад. 2—Борунин. Клад,
3 — место находки неизвестно.
4 —Дзперника (вес Польша). Се-
ребро. По: Malachowska 1998.
Известна только одна находка этого укра-
шения в составе погребального инвентаря
женского захоронения №660могильника Бир-
ки. В этом погребении, датируемом X веком,
подвсска-лунница была обнаружена вместе
со скорлупообразными фибулами (Arbman
1940/43).
Интересна находка фрагмента лунницы из
клада в Мюренде на Готланде (Duczko 1983:
335). Скандинавский владелец использовал
ее не как подвеску, а как фибулу—на обрат-
ной стороне украшения сохранились остат-
ки иглодержателя (Капелле 1989:137). Не-
обычно использовались и целые экземпля-
ры. Лунница из Бирки (рис.34,63). несмотря
на наличие ушка, подвешивалась с помощью
дополнительного колечка, продетого в это
ушко. Лунница из клада, найденного в Енг-
гэрде (Готланд), служила перед попаданием
в клад в качестве накладки, а не подвески,
так как ушко ее было повреждено, а в цент-
ральной части пробито небольшое отверстие
(Лесман 2000:62-64).
В то же время приемы северного ремесла
нашли отражение и в украшениях славянс-
кого крута. К подобным вешам-гибридам мо-
жет быть отнесена серебряная двурогая лун-
ница из кургана №6 могильника Плакун в
окрестности Старой Ладоги (ГЭ 2833/1). Эту
лунницу отличает правильная серповидная
форма и необычно высокое ушко. Причем
шнур продевался только в верхней части
ушка. Лунница украшена настоящей и лож-
ной зернью, выполненной из рубчатой про-
волоки. На дужке выложены кружки и полу-
кружья, । ia самой луншше—петельный узор,
характерный дтя североевропейских украше-
ний (Капелле 1989:136).
Подведем итоги. Первые экземпляры
подвесок-лунниц встречаются в славянском
уборе уже в VII в. и являются отголоском об-
щеевразийской моды VI-VII вв. Отдельные
экземпляры трехрогих лунниц представлены
на восточнославянских памятниках и в IX-
X вв. В середине X в. на территории Руси
распространяются широкорогие подвески-
122
Глава III
Рис. 42. Лунницы литые.
1.2—Старое Место (Чехия).
3 — Нитра (Словакия). 4 —
Прушанку (СрелнсоПодупа-
вьс). 5 — Княжа Гора. 6 —
Жниброды. 7 — Новгород.
8 — Киев. 9 — Будераж. 10 —
Гродно, 11 —Труханово. 12 —
Гочсво. 13—Жслезнииа. 14—
Яковлево. 15-17 — Вечбичка
(Среднее Подунавье). По:
Malachowska 1998.
лунницы, имеющие, вероятно, западносла-
вянские истоки. Наиболее ранняя находка по-
добной лунницы происходит, например, из
Старого Места. Примерно этим же временем
датируются ранние лунницы из клада Рэду-
кэнень, городища Екимауцы и Гнездовского
комплекса, связанные, по нашему мнению, с
протоком западнославянского населения.
В отличие от серег «волынского» типа,
«законсервировавшихся» в своем западно-
славянском облике и не давших на восточ-
нославянской территории местных вариа-
ций и бронзовых литых подражаний, под-
вески-лунницы на Руси прочно вошли в
состав убора как городского, так и сельского
населения. На их основе сформировалось
много различных вариантов украшений, в
том числе и изготовлявшихся в технике ли-
тья (рис. 42). Производившиеся на Руси ши-
рокорогие лунницы распространились и на
территорию Центральной и Северной Ев-
ропы.
Ш. 5. КРУГЛЫЕ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЕ ПОДВЕСКИ
В составе рассматриваемого убора выде-
ляется небольшая группа круглых полусфери-
ческих тисненых подвесок, украшенных зер-
нью, сканью и напаянными тиснеными кол-
пачками (карта 3). В ряде случаев такие под-
вески доживают и до более позднего време-
ни. Их находят в кладах вместе с вещами кон-
ца XI—начала XII вв.: Шалахово (Нсвельс-
кий у.), Валбо (Эстония)2. Известны и ли-
: Приношу благодарность с.н.с. ГИМ Новиковой Н.Ю.
за помощь в сборе материала лля данного раздела.
тыс аналоги этому типу украшений. Подвес-
ки эти входили в состав ожерелий, где чере-
довались с металлическими или стеклянны-
ми бусинами, а возможно, и с подвесками-
лунницами, очень часто находимыми в од-
них комплексах с круглыми плоскими меда-
льонами. Как уже отмечалось выше, находка
подобного ожерелья, в которое входили лун-
ницы и полусферические подвески, была
сделана в погребении 438 могильника Ха-
лимба (Венгрия) (Тбгок 1962: t. XXXIV).
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
123
Рис. 43. Подвески полусферические ш гампованно-
филигранные. Гиездовский клал 1867 г. Серебро
Круглые выпуклые полусферические под-
вески. находимые на территории Древней
Руси, могут быть поделены на гри основных
типа: тип 1 - — с одним тисненым или свер-
нутым из листика металла колпачком, напа-
янным в центре подвески; 2 — с тремя кол-
пачками. напаянными ближе к верху подвес-
ки; 3—с четырьмя «лучами» таких колпач-
ков. отходящими от центрального колпачка.
Вместе с полусферическими мы рассмат ри-
ваем и плоские круглые подвески, близкие к
ним по характеру декора. Эти подвески, ха-
рактерные в основном для территории
Польши, украшены зерневыми треугольника-
ми, полусферой в центре и ободком из полу-
сфер по краям. Ханна Кочка-Крснц приво-
дит данные о 22 кладах и 3 могильниках се-
редины X-XII (XIII) вв.. в которых содержат-
ся эти украшения (Kocka-Krenz 1993: тара
37). Аналогичные подвески были найдены
и в Гпездовском могильнике в кург. Ц-61
(ГИМ инв. №100-35. on. 218/41).
На территории Древней Руси наиболее
ранние находки полусферических подвесок,
датируемых серединой X — началом XI вв..
происходят с Екимаункого городища, из Ки-
ева и Гнездова.
Одна серебряная подвеска второго типа
была найдена в составе клада, открытого в
1863 г. в Киеве на Подоле (прил. 2, №35). В
кладе содержалось 192 дирхема, определяю-
щих дату выпадения клада не ранее 935/6 года.
Аналогичная подвеска, 11роисходяшая из Сах-
новки, известна из коллекции Ханенко (Ха-
ненко 1902: табл. XVII) (прил. 2. №36).
Серединой X — началом XI вв. можно да-
тировать подвески первого топа, найденные
на Екимаунком городище в Молдове (прил.
2. №35. рис. 27). Это четыре небольших ме-
дальона. выполненных из тонких серебряных
листочков, и фрагмент ушка от пятого (рис.
45. /. 2). Центральная полусфера, усыпанная
крупной зернью, припаянной к проволочным
колечкам, сохранилась только на одном ме-
дальоне (инв. №1135). Интересно, что этот
медальон отличается от трех других характе-
ром сканно-зерневого декора.
На Левобережье Днепра круглая плоская
зерненая подвеска с напаянными в центре и
по бокам колпачками была найдена в 1912
году в составе Денисовского клада, состоя-
щего из дирхемов, денариев, византийских,
индийских, древнерусских монет и серебря-
ных украшений (прил. 2. №37). Дату выпа-
дания клада определяют денарии 1002/26 гт.
и монета Ярослава Мудрого. Сочетание мно-
гих признаков, характеризующих украшения,
входящие в Э1 от ктад, весьма тшшчно для тер-
ритории Польши. К этим признакам отно-
сятся особенности декора круглого медальо-
на, наличие в кладе 5 серег «волынского»
типа «С», пуговиц, покрытых полосками зер-
ни. бусин, подражающих лопастным, и бу-
син с напаянными колпачками. Можно пред-
Рнс. 44. Подвески па п сферические штампованно-
филигранные. Гпездовский клад 1993 г. Серебро. По:
Пушкина 1996а.
124
Гадка III
положить, что данные украшения были из-
готовлены на территории Польши или на
Руси, но польским ювелиром.
Наибольшее количество подвесок перво-
го типа происходит из Гнсздовского ком-
плекса.
Две подвески первого типа происходят из
Г нездовского клада 18681 ода (прил. 2. №40)
(рис. 43). Клад содержи! 2 сасанидские мо-
неты. 10 целых и 4 фра! мента дирхемов (по-
здний 953/4). византийскую, англосаксонс-
кую и индийскую монеты (ирил. 1. №12).
Четыре полусферические зернепые под-
вески первого типа были обнаружены в дру-
гом большом Гнсздовском кладе, найденном
в 1993 году экспедицией МГУ. В составе клада
бы?.о 72 дирхема чеканки 899-950/51 гт. (Пуш-
кина 1996: 79-80: Ениосова. Пушкина 1997:
25) (прил. 1. №15: прил. 2. №41) (рис. 44).
Круглые плоские подвески, украшенные
центральным колпачком и ободком из ко.и <ач-
ков по краю, происходят из кургана Ц-61 из
раскопок Д. А. Авдусина в Гнсздовском некро-
поле (ГИМ инв. №100-35. оп. 2018/41.42).
Кр\ I лые полусферические подвески, ана-
логичные происходящим из i нездовских кла-
дов и с Екимауцкого городища, были обна-
ружены в Чернигове близ Елецкого монас-
тыря (5 штук) и близ города Остров Псковс-
кой области (прил. 2. №38. 43; рис. 45. //).
Данные клады относятся к третьей ipynne по
Г.Ф. Корзчэшной (зарыты в конце XI — нача-
ле XII века). Находят подобные подвески во
владимирских курганах (Спицын 1905).
Рассмотрим теперь несколько комплек-
сов. содержаш! lx выщ к. iwc подвески третьего
типа. Практически идентичные подвески
происходят из Шалаховского клада (где они
были найдены в составе ожерелья совмест-
но с серебряными бусинами), обнаруженно-
го в Невельском уезде Витебской губернии
(рис. 51.2) и Белогостицкогоклала, откры-
то! о в окрестностях Росгова Великого (ирил.
2.№42.44). Оба эти ko.mil 1ексасодержа! раз-
новременные вещи. В Шалаховском кладе
хранились украшения, датирумыс с середи-
ны X XI вв. и до начала XII в. Причем оже-
релье чинилось в древности (ряд медальонов
восстановлен уже без применения техники
тиснения) (Рябцева 1995:10). Бело! остинкий
клад содержал, помимо древнерусских укра-
шений (полые серебряные гривны, подково-
образные фибулы. большие лунницы. гладкие
серебряные бусины, перстневидные, ромбо-
щитковые и браслет ообразные височные
кольца), еше и детали поясной ilth уздечной
гарнитуры арабского происхождения с араб-
скими благопожелательными надписями.
Если прочтение Х.М. Френа надписи на се-
ребряной луннинс «бен-Тюкле», как «сын
Тюкле» (Корзухина 1954: 104)действитель-
но верно и относится к одному из живших в
XII —XIII вв. персидских ilth курдских атабс-
ков. то мы имеем дело, пожалуй, с самой по-
здней находкой полусферических подвесок на
leppiiTopiin Древней Руси.
Если полусферическая подвеска, найден-
ная на острове Готланд, практически иден-
тична медальонам из Шалахова и Белогостиц
и является, вероятно, изделием древнерус-
ских ювелиров, то медальоны из клада XII
века, найденно! о в Валбо (Эстония) (Duczko
1995:98-102). от личаются рядом декоратив-
ных особенностей (рис. 45, /5-7 7). В. Дучко
отмечает, что древнерусские полусферичес-
кие подвески декорировались зернью, а из-
готовлявшиеся на Готланде украшались в ос-
нов! юм ска! !ыб. Возможно, что к одном}' оже-
релью с тремя медальонами, найденными в
Валбо. принадлежат и маленькая серебряная
зерненая лунница и серебряные бусы из это-
го клада.
Таким обратом, рассмотрение территории
и хронологии круглых полусферических тис-
неных подвесок позволяет сделаты 1екоторые
выводы. Наиболее ранними (X — начало
XI вв.) являются подвески первого и второ-
го типов. Киевская и сахновская подвески
второго типа уникальны, и д.т более поздне-
го времени таких украшений мы не знаем.
Подвески первого типа распространены го-
раздо шире, в X — начале XI вв. в Поднсст-
ровьеиПоднепровье, авХ1 — начале XII вв.
также на северо-западе и северо-востоке
Руси. Подвески третьего типа встречаются в
поздншх кладах, в основном XII века, ч i о свя-
зано ilih с поздним их появлением, штисдол-
111 м пери одо.ч 1 бытова и и я. Кроме reppi fTopi in
Древней Руси, это! шп подвесок встрсчает-
сявЭстонии и Скандинавских странах. При-
чем. если другие типы славянских ювелир-
ных чкрашений серьги «волынского»типа,
подвсски-лунницы — в скандинавских стра-
нах или не вошли вовсе в состав костюма (в
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
125
Рис. 45. Подвески полусферические штампованно-ф|щигранные и литые. 1.2 — Екимауцкое городище, 3,4 —
Гнсздовскийклад 1867 г., 5,6—Гнсздовский клад 1993 г., 7—с. Городище (Владимирская губ.), 8—Киев. Погребение у
Михайловского Златоверхого монастыря. 9—с. Черевка. Погребение, 10—с.Спанка.Клал, 11—Чернигов. Погребение,
12—Ботерс. Клад, 13—Лиле Роне. Клад. 14—Бугре. Клад, 15—Шалаховскийклад. 16—Белогостицкий клад, Y1—
Волбо. Клад. (Эстония), 18—Готланд. Клад, 19—Санкт-Петербургская губерния, 20—Среднее Поднепровье, коллекция
Ханснко,21—Коллекция Хайновского, 22—Волжская Булгария, 23—Новгород. 1-18,23—серебро. 19-22—бронза.
126
Глава III
первом случае). или перерабатывались в раз-
личные фибулы и накладки (во в гором). то
полусферические медальоны оказались близ-
ки вкусам скандинавов, о чем свидетельству-
ет их мес1 нос производство. Это объясняй-
ся давней традицией ношения кру i лых ме-
дальонов (как плоских, так и полусферичес-
ких. но украшенных нс тиснеными колпач-
ками. а полу драгоценными камнями), извест-
ной ешс в готских памятниках, оказавших
влияние на последующее развитие сканди-
навских ювелирных украшений. Был в Скан-
динавии и своеобразный тип медальонов,
украшенных вставками из горного хрусталя.
Подобное ожерелье XI— XII вв. из серебря-
ных поюлоченных зерненых бусин и круг-
лых медальонов было обнаружено на о-ве
Готланд. Аналог ичные подвески со вставка-
ми из горного хрусталя встречаются в Фин-
ляндии. Эстонии. Латвии (Duczko 1995).
III. 6. ШАРОВИДНЫЕ ПУГОВИЦЫ
В составе кладов середины X — начала
XI вв. иногда встречаются серебряные шаро-
видные украшения с трубчатыми ушками для
подвешивания. В литера гуре подобные зер-
н .ные ювелирные изделия интерпретируют-
ся по-разному: и как подвески, и как пугови-
цы (например. Bona 1964:159 — как подвес-
ки: Корзухина 1954: 85: Пушкина 1996а: 181
— как пуговицы). Расположение подобных
Рис. 46. Джу рлжулештский могильник (Молдова).
11огрсбенис№6. Раскопки О. Г. Делийкою По' Левиикий.
Хахеу. Рябцева 2000.
украшенг гй в захоронег ши №6 Джурджулешт-
ского могильника в Молдове (прил. 1. №8.
прил. 2. №45) (рис. 46: рис. 47.2, 3. 6, 7) вда-
леке от зоны основного скопления деталей
ожерелья, позволяет нам предположить, что
это были все же пуговицы, а не подвески к
ожерелью (Левицкий. Хахеу. Рябцева 2000:
90). Возможно, они носили чисто декоратив-
ную функцию— украшали подол или план-
ку верхнег о укороченного нарядного платья,
надевавшегося поверх длинной рубахи или
нижнего платья (Рабинович 1986: 60). По-
добным образом — по подолу одежды —
иногда располагались в костюме и бубенчи-
ки (Мальм. Фехнер 1967:141). Мы будем рас-
сматривать данный тип украшений как пу-
говицы. не отрицая и возможной интерпре-
тации их как подвесок.
Необходимо отметить уникальность мол-
давской находки крупных шаровидных зер-
неных пуговиц с трубчатыми ушками в со-
ставе погребалы юго комплекса. Сами по себе
пу г овины дтя погребений, конечно, вещь за-
урядная. но прина дтежат они. как правило,
к совершенно друг им типам (это разнообраз-
ные варианты пуговок-бубенчиков). Весь круг
аналогов находке из Джурджулешт происхо-
дит из кладов серебряных украшений сере-
дины X-XI вв.. распространение которых
описывает широкую дуг у. охватывающую
бассейны Вислы. Дуная. Днестра и Днепра
(карта 4а).
Наиболее близкой аналогией молдавской
находке являются пуговицы из клада сереб-
ряных украшений XI в., найденного в 1902 г.
в Даруфальва (ныне Драссбург в Бургенлан-
де, Австрия) (Вона 1964: 159. taf. II. 29-35).
Аналогия эта весьма близкая, но нс идентич-
ная. так как есть небольшие морфологичес-
кие и декоративные отличия (рис. 48.3). Так.
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
127
Рис. 47. Джурджулештский могильник (Молдова). Инвентарь погребения №6.
джурджулештские пуговицы оканчиваются
тисненой гроздью (рис. 48,1), а пуговицы из
Даруфальвы—одним тисненым полушари-
ком. Кроме того, ушки пуговиц, найденных
в Даруфальве, украшены зерневыми компо-
зициями —поясками зерни по краю и двумя
вариантами зерневых треугольников в цент-
ре. На молдавской же находке—бессистем-
ная зернь в месте шва подвески и ушка. По-
мимо семи шаровидных пуговиц, в Даруфаль-
ве было найдено двадцать девять тисненых
колоколовидных пуговиц с тремя варианта-
ми декора, выполненного из зерни и наклад-
ной серебряной проволоки. В австрийском
кладе также представлены: полая гривна с
шарнирным креплением, украшенная тисне-
ными розетковидными расширениями; се-
ребряный браслет с несомкнутыми концами,
выполненный из граненого дрота; серебря-
ные бусы (три лопастные и две бипирами-
дальныс, украшенные треугольниками зер-
ни); четыре каменных бусины (из них три—
сердоликовые).
Аналогичные джурджулештским зерне-
нью шаровидные пуговицы с трубчатыми или
проволочными ушками, украшенныесканыо,
зернеными треугольниками и ромбами, про-
исходят из нескольких польских кладов XI-
XII вв. — (Машенице, Весолки, Дзежница
(Slqski-Tabaczyriski 1959: taf. XII, 2, taf. XXII,
taf. V; Kocka-Krenz 1993:93). Причем в кладе
Машенице (окр. Вроцлава) (рис. 48,2) пред-
ставлено то же сочетание шаровидных и ко-
локоловидных тисненых пуговиц с трубча-
тым ушком, украшенных зернью, что и в кла-
де из Даруфальвы. Найдены подобные ша-
ровидные пуговицы и в Мекленбург-Квили-
це (Kiersnowsky 1959: taf. XVII,2).
128
Глава III
Рис. 48. Пуговицы тисненые. 1 —Джурджулештский могильник (Молдова), 2—Машеница. Клад (Польша), 3—
Даруфальва. Клад (Австрия). 4-7—Денисовский клад, 8,9 — Кописвский клад. 10—Триль (Далмация), 11-13—Гнсздов-
скинклад 1993 г., 14—Удрай 11. Могильник. 15—Белогостицкий клад, 16,17,19,20—Старый Коуржим. Могильник
(Чехия). 18—Микульчицы. Могильник (Чехия).
В Поднепровье шаровидные зерненые пу-
говицы представлены в Денисовском кладе
1912 г., Копиевском кладе 1928 г. и Гнездов-
ском кладе 1993 г. (прил. 2, №46^48) (рис. 48).
Клады эти принадлежат ко второй группе
древнерусских кладов, по Г.Ф. Корзухиной,
датирующейся серединой X — началом
XI вв. и характеризующейся весьма устойчи-
вым набором украшений (Корзухина 1954:22-
23). По составу вещевого инвентаря к этой
же группе комплексов может быть отнесен и
клад из Даруфал ьвы (состав польских нахо-
док отличается рядом своеобразных черт).
Возможно, пуговицей является и фрагменти-
рованное серебряное украшение, декориро-
ванное рядами зерни, происходящее из кла-
да Спанка 1913 г. (С.-Петербургской губ.), да-
тируемого несколько более поздним време-
нем — XI в. (Корзухина 1954: №56, табл.
ХХУП, 17).
В Денисовском кладе (Полтавской губ.)
найдены 6 половинок от крупных шаровид-
ных тисненых пуговиц с трубчатыми ушка-
ми (одна половинка украшена рядами круп-
ной, остальные—мелкой зерни). В нижней
части пуговицы оканчиваются одной или
тремя тиснеными полусферами (прил. 1, №9)
(рис. 48,4-7).
В Копиевском кладе (Киевская обл.) было
найдено 9 маленьких круглых серебряных пу-
говиц с узкими трубчатыми ушками. Пугов-
ки покрыты плотными рядами мелкой зерни
и украшены литым шариком в нижней час-
ти. В собрании Киевского Национального ис-
торико-художественного музея-заповедника
эти пуговки хранятся нанизанными на дуж-
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
129
к и серег «волынского» типа, однако это, по
всей видимости, позднейшая компиляция
двух разных видов украшений (Лшка-Геппе-
нср 1948:184, табл. II3,4; Корзухина 1954:
84; Строкова 1997:62) (прил. 1, №5) (рис.48,
•S'. 9).
В Гнездовском кладе середины X в., най-
денном в 1993 г. при работах археологичес-
кой экспедиции МГУ им. Ломоносова, содер-
жится 8 экземпляров небольших округло-кап-
левидных тисненых пуговиц (d = 14-15 мм)
с ушками, выполненными в виде двойной
проволочной петли (Пушкина 1996а: 181, рис.
V, 7-3; Ениосова, Пушкина 1997:85). В ниж-
ней части пуговок расположен полукруглый
выступ, покрытый плотными горизонталь-
ными рядами зерни. Среди гнездовских пу-
говиц выделяются два варианта (рис. 48, 77-
13). Первый вариант — пуговицы, состоя-
щие из двух гладких тисненых половинок,
верхняя из которых покрыта горизонтальны-
ми рядами скани, нижняя—различными ва-
риантами композиций, составленных из зер-
невых треугольников (6 экз.). Второй вари-
ант —пуговицы, состоящие из тисненых по-
ловинок со слабовыраженным продольным
делением на четыре овальные дольки. Это
деление акцентируется и вертикальными ря-
дами зерни, зернью обрамлено и основание
ушка (2 экз.).
Упрошенной репликой изящных пуговиц
из Гнездовского клада можно считать глад-
кие тисненые пуговки с проволочными уш-
ками, выполненные из серебра или белого
металла и оканчивающиеся пирамидкой зер-
ни, находимые, например, в погребениях на
могильнике Удрай П (Новгородской обл.), в
гом числе и с западноевропейскими моне-
тами конца X—первой четверти XI вв. (Рав-
нина 1988:119,120, табл. II, 6). Аналогичная
пуговка (но без зерневой грозди) была най-
дена в составе Белогостицкого клада (окр.
г. Ростова Великого) XI — начала XII вв.
(Спицын 1905:157, рис. 119; Корзухина 1954:
№63) (прил. 1, №21, прил. 2. №49) (рис. 48,
14,15). Этот клад содержит и другие укра-
шения (лунницы, полусферическая подвеска,
черненые бусы), имеющие истоки в уборе се-
редины X—начала XI вв.
Широкая география распространения на-
ходок комплексов с шаровидными пуговица-
ми свидетельствует, на наш взгляд, о двух вза-
имно дополняющих друг друга тенденциях.
Во-первых, это — существование в середи-
не X —начале XI вв. единой моды в парад-
ном ювелирном уборе, распространенной
среди знати на обширной территории от
Польши до Днепра. Во-вторых, распростра-
нение данных типов украшений обязано и
передвижению западных славян на восток в
этот период (Пушкина 1987:54-56; Рабино-
вич, Рябцева 1997:240), и движению сереб-
ра, одной из магистралей распространения
которого была система путей, связывающая
бассейны Днепра, Днестра, Западного Буга,
Дуная и Вислы (об этом см. Новикова 1990;
Рабинович, Рябцева 1997; Рабинович 1999).
Что касается центров изготовления укра-
шений этого стиля, кроме общепризнанного
исследователями волынско-киевского, суще-
ствовал, вероятно, еще и днестровский
центр. Наличие этого центра документиру-
ется находкой на городище Екимауцы в Мол-
дове остатков ювелирной мастерской и на-
бора зерненых ювелирных украшений (Фе-
доров 1953:125; Рябцева 1999:345).
На территории Польши в этот период
происходил процесс аккумуляции и оседания
в виде кладов ювелирных украшений, посту-
павших с территории Руси и Чехии, а также
изготовлявшихся местными мастерами ве-
щей в этом же зернено-филигранном стиле.
Выделяются местные разновидности «во-
лынских» серег, лунниц, круглых подвесок
и т.д. (Kostrzewski 1962; Zak 1968; Kocka-
Krenz. 1993;Malachowska 1998; Рябцева 1999:
340; Рябцева 2000:121). Причем только на
территории Польши шаровидные зернение
пуговицы доживают до XII в., в остальных
регионах позже XI в. они не встречаются.
Прототипы для украшений, входивших в
состав убора середины X—начала XI вв., в
основном происходят из западнославянских
древностей Подунавья IX в. (Рябцева 1999,
там же литература). В качестве прототипов
для зерненых пуговиц могут быть предложе-
ны украшенные зернью подвески и пугови-
цы из великоморавских погребений Старого
Коуржима или Микульчиц (Solle 1959: obr.
64,1,2; Poulik 1960: tab. XXI, XXV; Пушкина
1994:182), а также усыпанные зернью круг-
лые пуговки с проволочными ушками из Три-
ля (Далмация) (Juric 1986: 259, tab. IV, 13)
(рис.48,10,17-20).
130
Гадка III
ПугпвицьгшДжурджулештуникальнь! бла-
годаря нижней гроздевидной части и пред-
ставляют собой, на наш взгляд, своеобразный
гибрид различных типов украшений. Трубча-
тые ушки безусловно характерны для подве-
сок, шаровидное тулово—для бусины или пу-
говки, а вот нижняя гроздевидная часть, весь-
ма вероятно, является упрощенной репликой
нижней гроздевидной части серьги «волынс-
кого» типа. Только у «волынских серег» гроздь
собиралась из нескольких отдельных шариков,
а здесь—оттиснута из двух половинок.
Ш. 7. ЛОПАСТНЫЕ БУСЫ
В состав древнерусского ювелирного убо-
ра X —начала XI века входят своеобразные
легкие тисненые бусины, украшенные зернью
и сканью, за которыми закрепилось в лите-
ратуре наименование «лопастных» (рис. 10,
6-11). Они составлены из четырех частей. В
центре бусины расположен тисненый стер-
жень с шариком-утолщением посередине,
сквозь который и продевалась основа оже-
релья. Вокруг центрального стержня распо-
лагаются три выпуклые тисненые лопасти.
Лопасти составлении из трех деталей: верх-
ней выпуклой и двух нижних уплощенных,
обращенных к стержню. «Лопасти» спаяны
у отверстия бусины и дополнительно укреп-
лены по краям сканной проволокой. Лопас-
Рис. 49. Мироновским фольварк.
Клад. Серебро. По: Гущин 1936.
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
ти эти нс примыкают друг к другу ПЛОТНО.
1 ак что сквозь овальные отверстия просмат-
ривается центральный штырь. Такие бусины
должны были смотреться очень и тятино бла-
годаря своей легкости при довольно крупных
размерах и игре светотени на изломанных по-
верхностях.
Подобные бусины были найдены в сле-
дующих кладах: на Правобережье Днепра —
Юрковенкий клад (5 целых и 4 фр. лопастных
бусин): Копиевский клад (1 экз.); на Левобе-
режье Днепра— Денисовский клад( 1 под-
ражание лопастной бусине): Тушинский клад
(окр. Чернигова) (1 экз.): в Верхнем Поднеп-
ровье — 3 лопастных бусины были обнару-
жены в составе Г нездовского клада 1868 т.п
столько же в Гнездовском кладе 1993 г. (прил.
2. №50. 57-59).
Находят эл I бусины и в захоронениях. Не-
сколько лопастных бусин происходит из кур-
1’ис. 50. Варнак । реконструкции ювелирного у пора
in K.ia.ia Мироновский фольварк.
131
ганов. раскопанных под Житомиром и Ко-
рос тенем. из Пересоппицкого. Белевского.
Крупского. Подтубцевского. Липовойского
могильников (Duczko 1982: 208)(прил. 2.
№51 -56). Кроме т ого. нам известна еще одна
случайная находка лопастных и подражаю-
щих им цельных тисненых бусин, хранящая-
ся в ГИМс (опись №1990).
За пределами древнерусской территории
эти бусы были обнаружены в Австрии клад
Даруфальва (3 экз.) (Bona 164: 159) и в
Польше клады Кинпо (4 фрагмента) и Ссй-
ковикЦ экз.) (Duczko 1982:204). Кроме на-
стоящих лопастных бусин на территории
Польши довольно много находок бусин, под-
ражающих лопасл 1ы.м. Эти украшения цель-
ные, а лопасти на них намечены полосками
из зерневых узоров. Подобные бусы были
найдены, например, в кладах Александр Ку-
явский (6 экз.). Маннов (3 экз.). Ковале (1 экз.)
(Haisig. Kiersnowski. Reyman 1966: t. IX. VIII.
VI). В Северной Европе лопастные бусы про-
исходят из Уплата(1 экз.) и Готланда (1 экз.)
(Duczko 1982:189.204). Лопастные бусины
изготовлялись, как правило, из серебра, толь-
ко найденная в Уиланде отличается большим
содержанием золота. Находки издревнерус-
ских кладов дат ируются второй половиной
X - началом XI в., к этому же времени отно-
сятсяи бусы, происходящие из подкурганных
захоронений. Бусы из Северной Европы мо-
гут быть датированы началом XI в., а из
Полыни - его первой половиной (Duczko
1982:229).
В следующей группе древнерусских кла-
дов. выпадение которых датируется Г.Ф. Кор-
з_\ хиной XI—XII вв.. уже не встречаются ни
лопастные бусы, за исключением одной ими-
тации из клала 1883 г., найденного в Миро-
новском фольварке Каневского у. Киевской
губ. (прил. 1. №16. рис. 49). ни серьги «во-
лынского» типа. ТО1 да как лунницы и полу-
сферические подвески представлены еще
довод ьно широко.
Бросающаяся в глаза малочисленность на-
ходок лопастных бусин и в комплексах X--
начала XI вв. не может быть объяснена их
импортным происхождением. В тех же Гнез-
довских кладах 1886 и 1993 гола, в которых
было обнаружено всего потри лопастных
бусины, было найдено большое количество
разнообразных серебряных бусин, в том чис-
132
Глава III
ле и импортного, скандинавского происхож-
дения. Производство этого Tima бус на тер-
ритории Древней Руси документируется на-
ходкой штампов, предназначенных для тис-
нения лопастей в захоронении ювелира, най-
денном в Пересопнипком могильнике на
Волыни (Корзухина 1946).
Еще один центр производства данно» о
типа бус находился, вероятно, в Польше. На
этой территории находят и типичные для
Поднепровья образцы с округлыми лопастя-
ми, и подражания лопастным бусинам, не
имеющие прорезей по бокам, а также свое-
образный местный аналог лопастным бусам,
характерный только для этого региона. Эти
бусы состоят из двух призматических поло-
винок, не спаянных между собою, а соеди-
ненных при помощи трех трубчатых лопас-
тей, свернутых из листочков металла. Таким
образом, впечатление ажурности сохраняет-
ся, но достигается более простыми техничес-
кими приемами. Для нас остается не совсем
понятным, как продевался шнур или другая
основа ожерелья сквозь такие бусины. Ясно
видны отверстия в вершинах призм, но их
основания глухие, выполнены из сплошных
листочков металла. Можно предположить,
что шнур продевался сквозь лопасти, припа-
янные к этим основаниям.
Своеобразные аналоги древнерусским
лопастным бусинам производились и в юве-
лирных мастерских Волжской Булгарии.
Здесь ажурные бусины с «лопастями» укра-
шали роскошные золотые трехбусинные ви-
сочные кольца. Конструкция этих бусин та-
кова: лопасти состоят из двух спаянных вме-
сте золотых пирамидок, свернутых из лис-
точков металла. Получившиеся бипирами-
дальные центральные лопасти крепятся к
удлиненным тисненым половинкам бусин.
Каждая тисненая половинка бусин двойная,
внутри наружной, украшенной зернью, на-
ходится еще одна гладкая полусфера, между
ними и крепятся лопасти. Для дополнитель-
Рис. 51. Ша-чаховскин клал. Серебро. По: Гущин 1930.
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
133
кого укрепления бусин они по центру опоя-
саны сканной нитью, украшенной по верху
зернью, а сами лопасти дополнительно
укреплены продетой сквозь них в двух мес-
тах золотой проволочкой.
Вероятно, лопастные бусы были довод ь-
1 ю редким типом украшений, изготовлявших-
ся в трех своеобразных вариантах мастера-
ми трех ювелирных школ — на Волыни, на
|срритории Польши и в Волжской Булгарии.
Таким образом, мы можем констатиро-
вать. что в середине X — начале XI вв. на
Руси существовал целостный ювелирный
у бор. объединенный общностью техники и з-
гоговления; тиснение, штамповка, зернь,
скань. Круг аналогий для данных типов укра-
шений происходит в основном из западно-
i кизянских памятников, и распространение
ci о на территории Руси может быть связано
с продвижением сюда в середине X в. запад-
нославянского населения, выделяющегося и
на других типах археологических источни-
ков (керамика, предметы конского снаряже-
ния и т.д.). В то же время ряд украшений из
этого комплекса уходит своими корнями в
древности предыдущих эпох и является на-
следием античного ювелирного дела (лун-
ницы. подвески-медальоны) или аваро-бол-
гарских древностей эпохи Великого пересе-
ления народов (серьги «волынского» типа).
Данный комплекс весьма хорошо прижива-
ется на древнерусской почве, и если серы и
«волынского» типа и лопастные бусы не пе-
реживают времени существования этого
убора и не дают литых подражаний, то круг-
лые и лунничные подвески бытуют еще дол-
гое время, в том числе и в рядовом уборе.
Русь становится одним из центров произ-
водства зерненых украшений, входивших в
этот убор, причем некоторые из их типов в
X- XI вв. начинают расходиться из Руси на
территорию Центральной и Северной Ев-
ропы.
134
Глава III
Наиболее часто встречаются в сканди-
навских кладах славянские бусы (210 экз.).
серьги(181 экз.). полые подвески (67 экз.)
и лунницы (40 экз.). Бусы представлены
практически равномерно, полые подвес-
ки чаше в Дании (40 экз.). чем в Швеции
(27 эк т). а лунницы. наоборот. — в Швеции
29. а в Дании 7. Правда, восточнославян-
ские украшения в Скандинавии распрос i ра-
нены нестолыиироко. как западнославянс-
кие. Вез речаются они преиму шее i венно на
Готланде и в центральной Швеции. Наибо-
лее типичны лунницы. их найдено 29 эк-
земпляров (6 целых), лопастных бусин было
найдено 2 экземпляра (одна серебряная на
Готланде, а вторая золотая — на Упланде).
Две «волынские» серьги типа «А» были об-
наружены на Готланде (одна из них была
найдена вместе с двумя лунницами в кладе
изХельсингланда) (рис. 19. б), полусфери-
ческие подвески извест ны — три на Готлан-
де и че1 ыре из клада в Упланде (Дсчко 1987:
77-86).
После середины X в. скандинавские юве-
лирыначинаю! применять технику зерни .для
произволе! ва собственных у крашений. Ос-
новным центром их производства стат Гот-
ланд. где ремесленники использовали зернь
для орнаментации сугубо северных украше-
ний. В начале XII в. готландские ювелиры
начали имитировать русские украшения
бусы, круглые подвески.лу нницы, с исполь-
зованием филиграни. Эти готландские укра-
шения встречаются и в кладах материковой
Швеции, на о-ве Эланд и в Финляндии (Д\ч-
ко 1987:82).
Что касается представленных в составе
древнерусского убора середины X - начала
XI в. браслетов и гривен с завязанными кон-
цами. то их происхождение, на наш взгляд,
напрямую связано с североевропейской тра-
дицией.
III. 8. ПАРАДНЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УБОРЫ XI В. — НАЧАЛА XII В.
ВссредииеХ! в. происходи г смен а парад-
ного ювелирно! о убора, выходя! из употреб-
ления некоторые типы вешей. характерные
для предыдущего периода (серьги «волынс-
кого» типа, лопастные бусы). Эти изменения
характера убора нахо.тятсвое отражение в ма-
териалах кладов. Материал из кладов XI —
начала XII вв. производит впечатление не-
которой неоднородности, характеризующей
процесс становления чего-то ново! о (рис. 7).
В это время вс! речаются отдельные зерне-
ныс украшения, являющиеся «производны-
ми» от изделий X — начала XI вв. К таким
украшениям можно отнести отдельные (под-
час фрагментированные) экземпляры зерне-
но-филигранных лунниц и перстни с полу-
сферическим щитком. Представлены в комп-
лексах этого времени и полусферические под-
вески. заметно отличающиеся от ранних об-
разцов наличием чет ырех радиально расхо-
дящихся от центра «лучей», выполненных из
маленьких тисненых полусфер. Как мы уже
О! мечали выше, идентичные подвески этого
типа происходят из Шалаховского клада Не-
вельского уезда и из Белогостицко! о клада,
найденного в окрестностях Ростова Велико-
го (прил. 2. №42.44).
Шалаховское ожерелье (рис. 51). состав-
ленное из подобных поздних медальонов
(часть из которых была утрачена в древнос-
ти и воссоздана, но уже без применения тех-
ники тиснения свернута из листка сереб-
ра). как нельзя лучше демонстрирует переход-
ный характер комплексов этого периода. Если
полусферические медальоны имеют корни в
комплексах X — начала XI вв.. то серебря-
ные бусины, средняя часть которых украше-
на ячейками из проволочных колечек или
прямоугольников, появляющиеся в комплек-
caxXl началаХП вв.(Шалахово.Валбо—
Эстония), будут существовать и в более по-
здний период XII -XIII вв. в уборах совер-
шенно иного плана (клады Тверь. Терехово)
(прил. 1. №92.111).
Для кладов, зарытых в северо-западных
районах Древней Руси, на протяжении XI в.
характерной чертой является обилие сереб-
ряного лома, ли того серебра. пластинок, ко-
ваных дротов, проволоки, резаных украше-
ний. Среди украшений преобладают веши,
выполненные в технике ковки и литья, деко-
рированные иу ансонным орнамент ом — со-
ставляющие сиепифическийубор. характер-
ный для Э1их территорий. Появление кладов
рубленого серебра было явлением не узколо-
кальным. характерным только для северо-за-
пада Древней Руси. В связи с недостатком
восточной монет ы в концеX - - началеXI вв.
Парадные ювелирные укоры IX-XII вв.
135
Рис. 53. Шаяаховский клад. Серебро. По: Тушин 1936.
комплексы с рубленым серебром представ-
лены и в Польше, и на Готланде. Для кладов
же Среднего Поднепровья этого периода ха-
рактерно наличие тяжелых кованых золотых
вещей (Корзухина 1954:24).
Еще одной особенностью комплексов
XI в. было появление в них большого коли-
чества шейных гривен и браслетов. Гривны
в основном представлены: плетеными ред-
ким плетением, с замком в крючок и петлю
или два крючка, встречающимися еще в X в.;
полыми пластинчатыми с шарнирным зам-
ком, украшенным розеткой; витыми полыми
(так же как и предыдущий тип, характерны
только для XI в.); витыми из нескольких пар
дротов, с замком в крючок и петлю (или два
крючка) или в две трубочки, сквозь которые
продергивался шнурок (подобная форма зам-
ка будет превалирующей у гривен XII-
XIII вв.). Последний тип гривен в ХП-ХШ вв.
являлся наиболее распространенным. Весь-
ма популярены в этот период и витые брас-
леты с напаянными миндалевидными щит-
ками. Кроме подобных витых браслетов, в
кладах XI в., найденных в Поднепровье, пред-
ставлены и появившиеся еще в X в. золотые
браслеты, выполненные из круглого или гра-
неного дрота с обрубленными или завязан-
ными концами. Новым типом украшений,
появившимся в кладах XI в. и продолжившим
бытовать вплоть до ХШ в., являются боль-
шие гривны с концами, выполненными в
виде голов драконов (Корзухина 1954:26,27;
Рябцева 1999) (рис. 49).
Необычной чертой, отличающей эту
группу кладов, является присутствие в них
различных «племенных» височных колец—
перстневидных, браслетообразных, ромбо-
щитковых, многобусинных. Для комплексов
более раннего или позднего времени из «пле-
менных» наиболее характерны перстневид-
ные кольца. Возможно, именно «переходный»
136
Глава III
Рис. 54. Шалаховский
клад. Серебро. По: Гущин
1936.
характер парадного убора этого периода де-
лает его более демократичным, или же не-
хватка драгоценного металла, характерная для
этого времени, заставляет аккумулировать в
кладах любые серебряные украшения, а так-
же их лом. Тем не менее, мы сталкиваемся с
редким примером обратного движения укра-
шений не из элитарного убора в рядовой, а
наоборот.
Характерны для кладов этого периода и
своеобразные «доморощенные» украшения, в
основном серьги. К ним можно отнести коль-
цо из плоской, заостренной к концам прово-
локи с крупной уплощенной бусиной, деко-
рированной треугольниками зерни из Шала-
хова (рис. 55, /), маленькое ромбощитковое
колечко с очень крупной овальной зерненой
бусиной из Белогостиц, и совсем диковин-
ное украшение из Демшинского клада Псков-
ской губернии, состоящее из маленького ром-
бощиткового колечка и серебряной подвески
с драконьей мордочкой и стилизованной
псевдокуфической надписью (Корзухина
1954: табл. XXV, 2).
Парадные ювелирные укоры IX-XI1 вв.
137
Таким образом, для парадного убора это-
го периода характерно сочетание черт ста-
рого и нового, городского и сельского, со-
здание своеобразных «сборных-гибридных»
украшений. Середина XI в., на наш взгляд,
является своеобразным переходным перио-
дом. В этот период переживаются старые
типы украшений—зернение широкорогие
лунницы, бусы, полусферические подвески,
золотые кованые браслеты. В то же время
появляются и новые типы украшении —
витые гривны, витые браслеты с чернены-
ми наконечниками, плетеные цепи, трехбу-
синные серьги. Конец XI—начало XII вв.
характеризуется еще более явственными из-
менениями в составе и характере парадно-
го ювелирного убора, в него включаются
разнообразныетипы дорогих украшений, со-
зданных в основном на базе византийских
прототипов. К этим новшествам в парадном
ювелирном уборе относятся височные под-
вески-колты, рясны, диадемы, бармы,
створчатые браслеты, рассматриваемые в
следующей главе.
Рис. 55. Шаяаховский
клал. Серебро. По: Гущин
1936.
138
Глава IV
ГЛАВА IV. ПАРАДНЫЕ ДРЕВНЕРУССКИЕ
ЮВЕЛИРНЫЕ УБОРЫ КОНЦА XI-XIII вв.
В середине-конце XI — начале XII вв. на
Руси складываются абсолютно новые комп-
лексы парадных ювелирных украшений, ха-
рактеризующиеся не встречавшимися ранее
типами, среди которых — колты с ряснами.
колокол овидные рясны. широкие ст ворчат ые
браслсты-наручи. венцы-диадемы. Эти
изящные украшения являлись в основном
произведениями городских ювелиров и пред-
метом городской моды, подчас доступной
только привилегированным слоям.
Появление легких тисненых украшений
предыдущего периода, на наш взгляд, объяс-
няется приходом западнославянского насе-
ления. принесшего с собой традиции Поду-
найского ремесла, впитавшего византийские
традиции. Теперь же мы имеем дело, веро-
ятно. с нспосрсдст венным распространени-
ем из Византии на Русь моды на новые
типы украшений, вывозом импортных из-
делий и приходом мастеров, которые начи-
нали совмест но с русскими ювелирами про-
изводство украшений нового стиля. Эти
типы украшений очень хорошо привились
на Руси и изготовлялись местными масте-
рами во множестве вариантов, типологи-
чески отличающихся от визант ийских или
балканских аналот ов.
Изготовление подобных сложных изде-
лий было возможно только в условиях хоро-.
шо развитого и налаженного городского ре-
месленного производства, первоначально ра-
ботавшего в основном на заказ, ио весьма
быстро начавшего производить и более про-
ст ыс вариант ы украшений на рынок.
К началу' XII в. можно уже говорить о сло-
жении новых ювелирных уборов, принци-
пиально отличающихся от уборов Х-Х1 вв.
(Корзухина 1954: 27: Калашникова 2002: 38)
(рис. 7). В этот же период складываются два
парадных ювелирных убора, сменивших один
другой, по мнению одних исследователей
(Г.Ф. Корзухина), ют сущест вовавших прак-
тически параллельно, по мнению других
(Т.Н. Макарова). Г.Ф. Корзухиной было под-
мечено. что одни из кладов XII первой
трети XIII вв. содержат толькозолотые. дру-
гие— только серебряные украшештя. но есть
комплексы, где представлены изделия и из
золота, и из серебра. По мнению исследова-
тельницы, золотые вещи с эмалями переста-
ют изготовлять около середины XII в. и на
смену «золотому» убору приходит «серебря-
ный», декорированный чернью. Но золотые
вещи могли оставаться в обиходе еще доводь-
но длительное время, а попасть в землю еще
позже.
В состав «золотого» убора входили: диа-
демы с перегородчатой эмалью или камня-
ми и жемчут ом: очелья из пластинок с пере-
городчатой эмалью или камнями и жемчу-
гом; очелья из трехбусинных дужек: колты с
эмалями или звездчатые зернсные; рясны
дтя подвешивания колтов - из крут лых бля-
шек. украшенных перегородчатой эмалью
или рубчатых звеньев; колоколовидные ряс-
ны с подвесками: грехбусинные и перстне-
видные височные кольца: витые и плетеные
шейные гривны: плетеные цепи с драконьи-
ми головками на концах; ожерелья из чере-
дующихся бус и медальонов или криновил-
ных подвесок; ажурные сканные браслеты:
перстни с гравированным орнаментом и пе-
чатные (рис. 56. 59. 62.64).
Дтя «серебряного» убора характерны: вен-
чики из трехбусинных дужек; колты с черне-
вым узором и звездчатые с зернью, а также
рясны лля подвешивания их; трехбусииные.
перстневидные и «половецкие» серы й; ряс-
ны с коническим верхом; витые гривны; оже-
релья из бус и медальонов с каменными
вставками или черневым орнаментом; оже-
релья с криновидными и крестовидными
подвесками: цепи плетеные, некоторые с
драконьими головками; браслеты-наручи с
черневым орнаментом; наручи с львиными
головками на концах; витые браслеты с на-
конечниками. декорированными чернью;
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
139
Рис. 56. Киев. Клад 1885 г. из
ус. Есикорского. По: Кондаков 1896.
Б.м.
перстни с гравированным орнаментом и пе-
чатные; нашивные бляшки (Корзухина 1954:
30-31) (рис. 67,69,72).
Возможно, замена во второй половине
XII в. золотого убора на серебряный связана
с разгромом в 1169 г. Киева Андреем Бого-
л юбским, упадком города как центра княжес-
кого ювелирного ремесла и перемещением
центров ювелирного дела в Полоцкую, Вла-
димиро-Суздальскую, Рязанскую земли. Зо-
лотых изделий с эмалями второй половины
ХИ в. уже мало, они становятся более тяже-
ловесными. В этот период от работы на за-
каз ремесленники переходят к работе на ры-
нок, происходит демократизация прикладно-
го искусства, сближение продукции княжес-
ких и вотчинных мастерских (Бочаров 1984:
81,82).
Рассмотрим последовательно некоторые
из типов украшений, характерные для этих
уборов и наиболее показательные для опре-
деления путей формирования древнерусско-
го женского убора. Украшения головного убо-
ра —диадемы, венцы; колты, рясны, бусин-
ные серьги. Украшения груди—бармы, цепи
с змеиными и драконьими головками. Укра-
шения рук — браслеты со змеиными и дра-
коньими головками на концах, створчатые
браслеты, браслеты со щитками, украшенны-
ми зернью и сканью.
Рис. 58. Вариант рекопс! рукцин ювелирного убора in Киевского клада in
ус. Августиновича.
Рис. 57. Варнакi реконструкции ювелирного убора in Киевского кла-
да in ус. Лескова.
140 Глава IV
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
141
IV. 1. ДЕТАЛИ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
IV. 1.1. Княжеские диадемы
В настоящее время известно три находки
целых диадем, несколько их фрагментов, а так-
же целый ряд наборов дужек от венцов.
История развития диадем, являвшихся
знаком власти и признаком знатного проис-
хождения, весьма длительна. В 303 г. н.э. им-
ператор Диоклетиан возложил на себя заим-
ствованную у персов диадему в виде белой
повязки, расшитой жемчугом (Барсов 1883;
Кондаков 1892: 217; Макарова 1975:4). В
Византии белую ленту сменила пурпурная
повязка, украшенная жемчугами и драгоцен-
ными камнями, а затем императорским го-
ловным убором становится стемма—золо-
той обруч с матерчатой шапочкой внутри, над
которой укреплялась металлическая кресто-
образно сложенная дужка с крестом на пере-
крестье (рис. 74-76). Венец же без матерча-
того верха и перекрестья сохранился в импе-
рии в виде вотивной короны, подвешивав-
шейся над престолом, а также головного убо-
ра кесаря и приравненных к нему лиц (Кон-
даков 1906:60). Венцами с зубчатым верхом
венчали на царство императриц.
Изменялся со временем и обряд короно-
вания. В ранней Византии с 360 по457 г. прак-
тиковалась светская коронация, когда будуще-
го императора поднимали на щите воины. К
нему поднимался командир гвардейского от-
ряда и возлагал на голову диадему. С середи-
ны V в. к светской добавляется церковная ко-
ронация. С 451 г. постоянным местом коро-
наций становится Святая София. Последним
был поднят на щите при коронации импера-
тор Юстин II, после чего патриарх возложил
на него императорский венец. К следовавшим
за ним императорам военная коронация не
применялась. С захватом в 1204 г. Констан-
тинополя крестоносцами к обряду коронова-
ния добавляется миропомазание и возобнов-
Рис. 59. Киев.
Клад 1827 г. из ус.
Августиновича.
По: Кондаков 1896.
Б.м.
Рис. 60. Варили i pcKoiicip.M.iliiit loiie.iiipuoio jiiupn hi KiieiicKOlo к. la. la 1X80 i.
ио Б. /KmoMiipcKoii y i.
Рис. 61. Варпан I piKonci рскиии юне.uipitoio сбира u> Киевскою клала IXX7 i.
in Mn\aiijioncKoio ooiiaeiiapii.
142 Глава IV
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
143
Рис. 62. Киев. Клад 1880 г. по Б. Житомирской ул. По: Кондаков 1896. Б.м.
144
Глава IV
ляется обычай поднятия императора на щите
(Острогорский 1973:33-40).
Сам обряд коронации состоял из несколь-
ких этапов. Сначала на голову императора
надевался лишь простой венец — диадема.
После помазания император получал от пат-
риарха стемму. Сойдя с амвона, император
брал у патриарха благословленную им коро-
ну и возлагал ее на свою супругу (если он
женился после коронации, то короновал ее
при бракосочетании). Корона императрицы
не такая, как у императора, но подобная (Бар-
сов 1893:6-9). Императоры не носили стемм
во внутренних покоях, а надевали с соблю-
дением определенной церемонии только для
торжественных выходов (Кондаков 1892:
220).
Одежды и регалии императоров не име-
ли наследственного значения и не передава-
лись преемникам: они и поновлялись, и це-
Рис. 63. Вариант реконструкции ювелирных уборов из Киевского клада 1903 г. из Михайловского монастыря.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.145
ликом заменялись на новые. Небольшая часть
императорских инсигний и одеяний храни-
лась в храме Святой Софии. В основном они
содержались в царском вестиарии (гард еро-
бе), китоне (сокровищнице) и тронном зале
Большого Императорского дворца—Хрисот-
риклинии (Багрянородный 1991:341).
Два основных типа византийских цере-
мониальных головных уборов нашли отра-
жение и в нарядах властителей других стран.
Так, знаменитая венгерская корона Гёзы—
типичная сгемма (рис. 76). Головные уборы,
найденные в киевском или сахновском кла-
дах, представляют собой диадемы, состав-
ленные из киотообразных пластин (рис. 77,
б, в).
Между тем, при широко распространен-
ной у византийцев практике использования
в качестве подарков «варварам» тканей,
одежд и предметов их убранства (галунов,
нашивок, вошв), поясов, ювелирныхукраше-
ний и парадной посуды и т.д., головные убо-
ры и другие предметы императорского обла-
чения подносили весьма неохотно или не да-
рили вообще. Они объясняли это тем, что
«подобные облачения и венцы не людьми
Рис. 64. Чернигов. Клад 1883 г. По: Кондаков 1896.
Рис. 65. Вариант рсконс1ру'киии ювелирною убора m Владимирскою клада
1837 г.
Рис. 66. Вариаи i рекопс 1 ру кипи loncaiipiioi о у бора и i Владимирски! о клада
18651.
146 Глава IV
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII кк.
147
Рис. 67. Старая Рязань. Клад 1868 г. По: Гущин 1936.
148
Глава IV
Рис. 68. Варианты реконструкции ювелирных уборов из Тереховского клада.
сработаны, а получены oi Господа через ан-
гела. должны храниться в алтаре храма Свя-
той Софии и могул быть надеваемы импера-
тором только во время торжественных цере-
моний» (Кондаков 1906: 58. 59). Эти «прав-
доподобные и разумные речи и мудрые
оправдания» были специально приготовле-
ны византийцами для того, чтобы «отклонять
неуместные домогательства и наглые притя-
зания северных и скифских народов» (Багря-
нородный 1991:55-56).
Однако варварские правители самостоя-
тельно повышали статус тех реталий, кото-
рые подносили им византийцы. Кесарский
венец, уступленный византийским регентом
Николаем Мистиком болгарскому князю Си-
меону. был истолкован как императорская
корона, а украшештя высших сановников —
оплечья «маниакп» на Руси были восприня-
ты как знак верховной власти (Иванов 2000:
14. 15).
В то же время и папский престол, и ви-
зантийский император практиковали при-
сылку вновь коронуемым властителям цере-
мониальных одежд, диадем или корон и дру-
гих регалий. Видимо. эт и символы власти из-
т отовлялись специально .тля таких случаев.
Византийскими рст алиями короновались, на-
пример. король Франции Карл Лысый. Вен-
грии — Гёза I. Сербии — Стефан I (Вельт-
ман 1860: 31.32; Goschew 1966: 145-147).
О появлении па Руси венцов-диадем в ка-
честве княжеских регалий су шествует доволь-
но обширная письменная традиция, создан-
ная в основном московскими книжниками
XVI в., обосновывавшими преемственность
власти византийских императоров, киевских
кня зей и московских царей. Так. в «Сказании
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца X1-XII1 вв.
149
Рис. 69. Владимир. Клал 1896 г. По Гушин 1936
Рис. 70. Вариаш реконструкции ювелирною убора u> клада 1X68 i. iij Ciapoii
Рязани.
Рис. 71. Вариант рскопс1рукции ювелирною убора клада 19661. in Cia-
poii Piiiaiiu.
150 ГлакаIV
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XJII кв.
151
Рис. 72. Терехово. Клад. По: Гущин 1936.
152
Глава IV
Рис 7? Вариант реконструкции ювелирного;.бора с
сетчатым О/Кере.1ьсм по материалам клала у д Сельцы
о князьях Владимирских»сообщается, что
император Константин Мономах присяги
Владимир} Мономаху многие дары, в том
числе и «венсць царский на блюде зла ге... И
оттоле и доныне тем венцем венчаются цар-
ским велиции князи володимсрьстии...»
(цит. по: Даркевич 1975:266).
Однако еще в XIV в. великий князь Руси
в чиновничьих списках византийского дво-
ра писался в чине стольника византийского
императора. Весь чип вокияжения на Руси
заключался не в венчании на княжество, а в
посажении на столе, при котором прибли-
женные несколько раз поднимали князя за
подмышки, а затем епископ благословлял его
крестом. Впервые венчался на княжество
Дмитрий Иванович, аша царство - Иван
Грозный. Причем Ивану Грозному пришлось
4 года дожила 1 ься признания своего у 1 верж-
дсния на наршво восточными патриархами.
При сыне Г розного в Московии появился соб-
ственный патриарх, узаконивший обряд вен-
чания на цареI во (Барсов 1883: ХП).
В то же время, если на Руси и отсутство-
вал собственно обряд венчания на власть ви-
зантийского обра зна. 1 о де шли ви зант ийс-
кого парадного убора займет вовались весь-
ма активно. 11 зображения древнерусских кня-
зей в одежде византийског о императора (в
го.м числе и со стеммой на голове) известны
на монетах Владимира Святог о. а также на
моне 1 ах и печатях его усыновленного пле-
мянника Святополка Ярополчича (Белецкий
2001:57. рис. 22.2). По археологическим дан-
ным нам известны только находки близких к
византийским образцам диадем и их фраг-
ментов (кар) а 6).
В 1889 г. золотая с эмалями диадема была
найдена в Киеве в усадьбе Гребеновскот о в
Троицком переулке (Кондаков 1996:138. VIII;
Рыбаков 1951: 417-418, рис. 2; Корзухина
1954: 118-119.№99;'Толочко 1963: 145: Ма-
карова. Плетнева 1968: 101-103; Макарова
1975: 108. №61) (прил. 2. №60). Киевская
диадема состои г из 7 основных киотообраз-
ных пластин с изображениями святых в дс-
исусной композиции (в рост Христос. Пред-
теча. Богоматерь, архангелы Гавриил и Ми-
хаил. апостолы Петр и Павел) и двух боко-
вых трапециевидных пластин, украшенных
изображениями женских лиц и кринов, за-
ключенных в круги (рис. 77.в). Пластинки
соединены между собой шестью золотыми
проволочками. По нижнему краю диадемы
расположены чередующиеся каплевидные и
квадрифолийныеподвески. Для изготовления
парных фшур святых мастер-эмальер приме-
нял шаблоны. Помимо основных цветов (си-
него. красного, белого и зеленого), были ис-
пользованы также пурпурный, голубой и тем-
но-желт ый. Вокруг фигур нанесены красной
краской подписи, сочетающие в себе элемен-
ты греческой и русской налсотрафии (Конда-
ков 1896: 147; Макарова 1975: 1()8;Толочко
1963: 145. рис. 1: Бочаров 1984: 58-61).
Киевская диадема датируется исследова-
телями по-разному, причем даты колеблют-
ся в пределах конца XI — начала ХШ вв. Так.
П.П. Толочко датирует изделие концом XI
вска(Толочко 1963. 145). Т.Н. Макарова от-
мечает. чт о Дсису сы. в состав кот орых вклю-
чены изображения Петра и Павла, появля-
ются на Руси сXII в. и. опираясь на этот факт,
а также на особенност и палеографии надпи-
си. датирует изделие второй половиной
XII в. и связывает ст о создание со в т орым
этаном работы киевской ювелирной эмаль-
ерной мастерской (Макарова 1975: 50).
Б.А. Рыбаков первоначально датировал ки-
евскую диадему серединой XII в. (Рыбаков
1951). Однако впоследствии он пересмотрел
это мнение и отнес время ее изт отовления к
началу ХШ в.Даш ту ю да т ировку киевской
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XJ-XJII кв.
153
диадемы исследователь обосновывал пред-
ложенной им же датировкой надписей (Ры-
баков 1964). Хозяйкой же киевской диадемы
Б. А. Рыбаков считал жену киевского князя
Михаила Всеволодовича, бежавшую вместе
с мужем в 1239 г. из Киева в Венгрию (Рыба-
ков 1987:600). Г.Н. Бочаров киевскую диаде-
му датирует первой четвертью ХП в., относя
ее к раннему периоду деятельности велико-
княжеской мастерской, к периоду, когда в ней
работали, наряду с русскими, и греческие
ювелиры (Бочаров 1984:61).
Рис. 74. Императрица Ариадна. Слоновая кость. По:
Rice 1959.
В1900 г. еще одна золотая диадема была
найдена в составе клада, обнаруженного на
Девичьей Горе у с. Сахновки(Хансяко 1902:
21,22, таб. 92; Корзухина 1954:131, №127;
Рыбаков 1969:92-103; Макарова, Плетнева
1986:103,104; Рыбаков 1971: рис. 46-48; То-
лочко 1963:92-103; Даркевич 1972:89; Ма-
карова 1975: 109, №69, табл. 12; Бочаров
1984:54) (прил. 2, №62). У сахновской диа-
демы, так же как и у киевской, 7 основных
киотообразных пластин и две боковые. Пла-
стинки двойные—лицевая с изображением
и оборотная гладкая. Длина ленты составля-
ет 35 см. В нижней части киотцев припаяны
по 2 петли для крепления ныне не сохранив-
шихся привесок, в верхней — по 5 жемчу-
жин. На центральной пластине диадемы из
Сахновки изображена сцена вознесения
Александра Македонского (Макарова 1975:
48) (рис. 77,6).
Рис. 75. Головка императрицы. Мрамор. IV в. По:
Deer 1966.
154
Глава IV
Рис. 76. «Корона Гёзы». Золото, эмаль, драгоценные
камни. XI в. По: Кондаков 1892.
На Руси XII век являлся временем повы-
шенного интереса к этому сюжету, нашедше-
му отражение как в декоративном и приклад-
ном, так и в монументальном искусстве. Ро-
ман об Александре Македонском сложился в
Египте (в Александрии) в III в.н.э. (автором
его считается Псевдо-Каллисфен), а в Визан-
тии стал распространяться с V в. Сам же эпи-
зод с полетом Александра на небо был вклю-
чен в произведение в V-VI вв. (Макарова
1975:46).
В западноевропейской и византийской
художественной традиции эпизод с полетом
Александра Македонского рассматривался
по-разному. В Западной Европе он символи-
зировал тщету земных деяний и необходи-
мость смирения человека перед лицом Все-
вышнего. В Византии же восхищались муд-
ростью, храбростью и щедростью этого пра-
вителя (Даркевич 1975:154).
Именно с византийской традицией свя-
зано изображение сцены вознесения Алек-
сандра на грифонах, расположенное на стен-
ке костяного ларца (IX-XI вв.), происходяще-
Рис. 77. Диадемы,
а—Преслав (Болгария),
б — Сахновский клад
1900г., в—Киевский клад
1889г. Золото, эмаль.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII кв.
155
го предположительно из Южной Италии,
или на мраморном рельефе XI-XII вв., рас-
положи и юм J ia северном фасаде собора Сан-
Марко в Венеции (Даркевич 1975:156,157;
рис. 227,230). На этих произведениях Алек-
сандр представлен в облачении византийс-
кого правителя — в лоре и короне (в первом
случае) или круглой шапочке с подвесками
(во втором). Аналогичные изображения
представлены и на каменном рельефе в мо-
настыре Перивлепты в Мистре (ок. 1000 г.),
рельефе в монастыре Дохиариу на Афоне
(XI в.), мозаике пола собора в Отранто
(1165 г.), свинцовом моливдовуле X в. из со-
брания Эрмитажа (Даркевич 1975: 159;
рис. 233-235).
Встречается этот сюжет и на византийс-
ких сосудах. Например, он представлен в вы-
соком рельефе на центральном медальоне се-
ребряной чаши, происходящей из клала, най-
денного в Тюменской области (Сокровища
1996:149-161, №69).
Наиболее близким аналогом эмалевому
изображению сахновской диадемы считает-
ся сцена с вознесением Александра Македон-
ского, представленная в центральном меда-
Карта 6. Диадемы и их фрагменты.
60. Киев, клал 1889 г
61 Киев, клал 1824 г.
62. Девичья Гора ус. Сахновка. клад 1900 г.
63. с. Сахновка. случайная находка.
64. с. Каменный Брод, клал1903 г.
65. Новогрудок.
66. с. Мушитиио. могильник.
67. городишс Крылос. около 1900 г.
68. Окрестности г. Ярославля, отдельная находка 1901 г.
69. Пустошь Алабуга.
156
Глава IV
льоне медной, украшенной эмалями чаши из
Инсбрука (Макарова 1975:48). Согласно араб-
ской надписи, чаша принадлежала сельджук-
скому эмиру Сикману ибн Дауду (11 14-1144).
столицами которого были Амида и Хисн
Кайфа. Однако, судя по технике изготовле-
ния (перегородчатая эмаль на меди) и харак-
теру изображения, чаша была выполнена ма-
стером-греком или по византийской модели
(Даркевич 1975:157; рис. 228). Александр на
этой чаше облачен как византийский прави-
тель — в корону и маниакий. На диадеме из
Сахновки изображение Александра также
следует греческой модели. Из царских инсш -
ний на ней изображены «неправдоподобно-
го вида корона, маниакий, лор, непонятый и
потому удвоенный русским эмальером лаба-
рум» (Даркевич 1975:158).
Чрезвычайно был популярен сюжет с воз-
несением Александра и в древнерусской бе-
локаменной резьбе, где он служил символом
апофеоза местных правителей (Даркевич
1975:158. прим. 223). К византийской пко-
нографни сюжета восходит рельеф, располо-
женный на южном фасаде Дмитриевского
собора во Владимире (1194-1197). Аналогич-
ная композиция с вознесением Александра
представлена и в фасадной скульптуре Ус-
пенского собора князя Андрея (1150-1160).
Возможно, она присутствовала на соборе
Боголюбовского дворца. Был подобный ре-
льеф и в системе скульптурного декора Геор-
гиевского собора в Юрьсвс-Польском (Ваг-
нер 1964: 78).
Близость декора ювелирных украшений к
произведениям монументальйого искусства
не ограничивается только общност ью сюже-
тов. но и общностью некоторых форм. К наи-
более популярным сюжетам относятся сце-
ны с вознесением Александра, изображения
Деисуса и отдельных святых, разнообразных
птиц и зверей, сирен, кентавров и грифонов,
растительных побегов, широко представлен-
ные в произведениях ювелирного дета и бе-
локаменной резьбе храмов. Т.И. Макаровой
было подмечено, что стиль ювелирных укра-
шений подчиняется общему стилю в искус-
стве. ярче всего выраженному в архитекту-
ре. Так, форма киотцев древнерусских диа-
дем перекликается с формой архитектурно-
колончатых фризов, появившихся в русской
архитектуре во второй половине XII в. (Ма-
карова 1975:48).
Так же как и в случае с киевской диаде-
мой, датировки, предлагаемые для сахновс-
кой диадемы разными исследователями, рас-
ходятся. Так. В.П. Даркевич датирует сахнов-
скую диадему XI в. (Даркевич 1975:158), а
П.П.Толочко—XII в. (Толочко 1963:116).
Б. А. Рыбаков датирует сахновскую диадему
серединой XII в., а Сахновский клад связы-
вает с женой князя Мстислава Изяславовича
Храброго Агнессой — дочерью польского
князя Болеслава III Кривоустого (1102-1138).
По мнению Б.А. Рыбакова, во время нападе-
ния на Киев Андрея Боголюбского княгиня
отослала драгоценности (свой парадный и
повседневный металлические уборы) в за-
Рис. 78. Варпаш реконструкции диадемы Мстиславова Евангелия. На основе: Макарова 1975.
Парадные древнерусские ювелирные уворы конца XI-XIII бб.
157
мок. предположительно находившийся на го-
родище Девичья Гора на Роси (Рыбаков 1969:
92-103; 1987:601-604). Т.И. Макарова счита-
ет. чт о диадема была пзго i овлена в пределах
XII в., а в землю попала не ранее 1143 г. —
тга дата определяется монетой Михаила Ком-
нина. найденной в составе Сахновско! о кла-
да (Макарова 1975:48). Г.Н. Бочаров датнру-
ei сахновскую диадему серединой XII в. и.
вслед за Т.П. Макаровой, считает ее одним
из наиболее поздних изделий, относящихся
к первоначальному этап}’функционирования
киевской эмальерной мае 1ерской (Бочаров
1984: 54).
В 1903 г. в кладе. обнаруженном в с. Ка-
мештый Брод (Радомышлевский повет. Ки-
евская губ.), была найдена золотая диадема
иного облика (ОАК за 1903: 192-197. 208.
табл. VII: Ханенко 1907:35.36: Гущин 1936:
59-62. рис. 16: Корзухина 1954:136. №138:
Толочко 1963:147-148) (прил. 2. №64). Она
представляет собой узкую выгнутую пласти-
ну с мысиком в центральной части. Концы
диадемы отломаны. Диадема у крашена дра-
гоценными камнями, жемчугом, сдвоенной
сканью и зернью в манере, близкой к манере
работы рязанских мастеров (Корзухина 1954:
136). В нижней части диадемы - петельки
для крепления бахромы. В верхней ее час-
ти — отверстия для крепления на какую-то
основу. Вполне возможно, что этой основой
был не светский головной убор, а доска ико-
ны. так как диадема совершенно плоская, а
мыс-выступ в центре характерен именно для
иконных венцов (Стерлигова 2000:157.158.
рис. 51).
В то же время иконный и светский уборы
были взаимосвязаны. Княгини вкладывали
свои венцы в храмы (прикладывали их к ико-
нам). По мнению И.А. Стерлиговой, подоб-
ным прикладом являлись пластины от вен-
ца XII - начала XIII вв. с эмалевыми изоб-
ражениями святых, сохранявшиеся до сере-
дины XIX в. на новгородской иконе «Бого-
матерь Знамение» (Стерлигова 2000: 157.
165). Близка по форме к домонгольским кня-
жеским диадемам и драгоценная коруна с
кремлевской иконы «Богоматери Боголюбс-
кой». что позволило Н.В. Жилиной ввести ее
в реконструкцию убора великой княгини
(Жилина 2002:161-165. рис. 8). Декор этой
кору ны. изобилующий крупными драгоцен-
ными камнями, жемчугом, сканью, зернью,
ближе не к византийским (как у диадем с эма-
лями). а западноевропейским прототипам и
работам мастеров старорязанской ювелир-
ной школы, видимо, хорошо знакомых с за-
падноевропейской ювелирной традицией
(Бочаров 1984: 179-182: Стерлигова 2000:
199-217, рис. 76. 81).
Диадемами из Киева и Сахновки ограни-
чивав тся крут достоверно известных с тер-
ритории Руси находок целых экземпляров
княжеских 1 оловных уборов. О находках еше
двух диадем мы знаем i ол ько по кратким упо-
минаниям XIX в. Так, по сообщению В.Б. Ан-
тоновича, золотая диадема была обнаруже-
на на городище Княжа Гора, а К. Калайдо-
вич писал, что в 1792 или 1793 гг. в Старой
Рязани была найдена золотая корона (или
диадема), перешедшая в руки ювелира (Сбор-
ник... 1890:12; Калайдович 1823:27).
Кроме того, известен еше и ряд фрагмен-
тов диадем.
В селе Сахновка была найдена бронзовая
позолоченная пластина от диадемы, укра-
шенная эмалевым изображением четырех
Рис. 79. Императрица Зон. Мозаика. Константино-
поль. Свитая София. XI в. Но: Deer. 1966.
158
Глава IV
Рис. 80. Императрица Ирина. Мозаика. Константи-
нополь. Свшая София XII в. I Io: Deer I960.
сердцевидных фигур (Ханенко 1907: т. XIII,
№278;Толочко 1963:146; Макарова 1975; 124.
№139)(прил. 2. №63).
Золотая трапециевидная пластинка от
диадемы, украшенная орнаментом из пяти-
лепестковы.х кринов, была найдена в соста-
ве клада 1824 г. неподалеку от Михайловс-
кого монастыря в Киеве (Кондаков 1896;
104. рис. 67;Толсюй. Кондаков 1897: 105-
107; Корзухина 1954: 123. №107; Макарова
1975:109. .№65; Бочаров 1984: 61) (прил. 2.
№61).
На городище Крылос (с. Крылос Ивано-
Франковской обл.) около 1900 г. была найде-
на золотя трапециевидная бляшка с отвер-
стиями на боковых сторонах и расштслыю-
геомстрическим орнаментом (Ратич 1957;
табл. XII. 30; Макарова 1975: 109. №64)
(прил. 2. №67).
Отдельная золотая киотообразная нлас-
тшша от диадемы была найдена в 1901 г. око-
ло 1. Ярославля (ОАК 1903:122. рис. 204: То-
лочко 1963:146. рис. За; Макарова 1975:108.
№63: Русская эмаль 1987: №6.. с. 14.230: Си-
най. Византия. Русь 2002:256). На пластин-
ке — эмалевое изображение Богоматери в
позе моления. В нижней части пластинки —
петельки для крепления подвесок (прил. 2.
№68).
В 1982 г. Государственным Эрмитажем
была приобретена еще одна золотая киото-
образная пластинка от диадемы с заострен-
ным килевидным завершением. На пластин-
ке изображен святой евангелист Марк (Рус-
ская эмаль 1987: №6. с. 14,230: Синай, Ви-
зантия. Русь 2002:256).
Необходимо коснуться и такого сложного
памятника, как так называемое Мстиславо-
во Евангелие, в оклад которого вмонтирова-
но шесть киотообразных пластинок с эмале-
выми изображениями деисусного чина. Пла-
стины. суля но пробитым на них отверсти-
ям. первоначально нашивались на ткань и
служили, по всей видимости, деталями па-
радного княжеского облачения. Независимо
от решения вопроса — служили ли эти пла-
стины украшением широкотканного ворота-
барм. как эю предполагал Г.Д. Филимонов
(Филимонов 1866:75), или же они были де-
талями диадемы, крепившейся на тканную
основу (так реконструировал первоначальное
назначение этих эмалей Б.А. Рыбаков —
1951:424.425). - ясно, что первоначально
данные пластины входили в состав какого-
то парадного облачения (рис. 78).
Мстиславово Евангелие было украшено
для новгородского князя Мстислава Влади-
мировича. княжившего в Новгороде в 1088-
1094и 1096-1117 гг. (Макарова 1975:73. табл.
21). Известно, чго некий княжий человек
Настав возил Евангелие в Царьград для укра-
шения переплета золотом, серебром, драго-
ценными камнями и эмалями, выполнил
свою миссию, вернулся на Русь и скончался
в Киеве (Рыбаков 1948:389). В 1551 г. Еван-
гелие было переделано, а все эмали были
перекомпонованы.
Несколько фра1 ментов диадем было обна-
ружено и в ходе археологических раскопок.
В Новофудке при раскопках Ф.Д. Гуревич
в 1961 г. были найдены две золотые капле-
видные подвески от диадемы, одна из них с
эмалевым орнаментом (прил. 2. №65). Под-
вески найдены в постройке №10 квартала
ювелиров. В постройке найдены: инструмен-
тарий ювелира, 8 золотых предметов, фраг-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца X1-XIII вв.
159
менты византийского стекла и резной стек-
лянный сосуд, так называемый «кубок Ядви-
ги». Подвески, найденные в Новохрудке. ана-
логичны подвескам, украшающим киевскую
диадему с Деисусом (Гуревич 1984:74; Ма-
карова 1975:108, №62, табл. 11, /-3; Бочаров
1984:62; Кошман 2001:198-218).
В Дрогобужском районе при раскопках
кургана XII в. (с. Мушитино, курган №18 из
раскопок Н.И. Савина) в женском захороне-
нии на черепе был найден обломок киото-
образной пластинки с эмальерным изобра-
жением архангела в рост (Савш 1932: 233;
Рыбаков 1948:388; Макарова 1975:52.110,
№72) (прил. 2, №66).
В подражание княжеским диадемам укра-
шались эмалевыми пластинками и простые
головные венчики. В 1896 г. в костромских
курганах (Пустошь Алабуга Нерехтинского у..
Костромской губ.) при раскопках Нефедова
был найден берестяной венчик, украшенный
пластинками с эмалевым орнаментом в виде
кружков с крестовидными перегородками
(Макарова 1975: 124, №140, табл. 27, /)
(прил. 2, №69).
В1960 г. на Замковой горе в Любече в жи-
лище, погибшем при нашествии татар, было
найдено 27 серебряных позолоченных на-
шивных бляшек, предположительно служив-
ших украшением головного венчика. Семь
бляшек—круглые с перегородчатой эмалью,
семь — треугольные со стеклянными встав-
ками, четыре—розетчатые и семь — битре-
угольные (украшены жемчугом). Эмали чер-
ного. зеленого и бирюзового цвета были сва-
рены по византийской рецептуре (Макарова
1974: 160,161).
Княжеские диадемы изготовлялись, по
всей видимости, в основном в Киеве. К про-
дукции княжеских киевских эмальеров отне-
сены Т.П. Макаровой и Г.Н. Бочаровым, кро-
ме целых киевской и сахновской, и ряд фраг-
ментов диадем, найденных как в Киеве, так
и за его пределами (Макарова 1975; Бочаров
1984:61). С целыми экземплярами эти фраг-
менты об ьедиияет цвет и состав эмалей, фор-
ма пластин, наличие петель для подвесок. К
кругу изделий, вышедших из киевской мас-
терской, относятся фрагмент диадемы с изоб-
ражением Богоматери, найденный в 1901 г.
в окрестностях Ярославля, утраченная ныне
золотая пластина трапециевидной формы с
растительным орнаментом из клада 1824 г.,
найденного неподалеку от Михайловского
монастыря, а также бронзовая позолоченная
плас шика итСахновки. В то же время юве-
лиры Новогрудка были весьма искусны в ра-
боте с золотом (Гуревич 1972:32.33). и мож-
но предположить, ч i о найдеш иле здесь под-
Рис. 81. Мария Комнина Акрополнтисса. Деталь
оклада иконы «Богоматерь с младенцем». По: Банк 1966.
160
Глава IV
Рис. 82. Святая Елена. Фрагмент Эстергомской став-
ротекп. Эмаль. По: Deer 1966.
вески к диадеме были частью головного убо-
ра. изготовленного в этом центре.
По вопросу о принадлежности диадем с
зубчатыми и киотообразными пластинками
мужскому или женскому ювелирному убору
среди исследователей до сих нор нет един-
ства мнений. Например, киевские исследо-
ватели П.П. Толочко и П.С. Михайлов (То-
лочко 1963: Михайлов 1999) считают, что
диадемы были привилегией мужского кня-
жеского убора.
Но более распространенным является
мнение о том, что диадемы принадлежали к
женскому ювелирному убору. К женскому го-
ловному убору отнесли диадемы Н.П. Кон-
даков, Б.А. Рыбаков. Г.Ф. Корзухина. Т.Н. Ма-
карова. М.А. Сабурова, Н.В. Жилина (Кон-
даков 1906; Рыбаков 1987:562-574: Корзухи-
на 1954; Макарова 1985; Древняя Русь... 1997:
Жилина 2001:159).
Н.П. Кондаков считал, что «византийские
женские короны отличались от мужской
стеммы и представляли собой терсмчатыс
венцы разнообразного рисунка, украшенные
по верху зубцами, киотцами и стрелками, на
которых сплели жемчужины и дра1 оценные
камни» (Кондаков 1906:109).
Аналогичного мнения придерживался и
Б.А. Рыбаков, писавший, что диадемы «за-
вершали наверху своеобразный кокошник
“венец городчатый", расшитый в остальной
части узором из мелких бляшек» (Рыбаков
1987:564). Это предположение автор api у-
ментируст тем. что в составе древнерусских
кладов (в которых находят и диадемы) встре-
чены исключительно предметы женского ме-
таллического убора. С этим утверждением
трудно согласиться: ведь гривны, цепи, бар-
мы, различные типы браслетов, перстней,
фибул, нскоторыстипы серег носились и муж-
чинами. изредка встречаются в кладах и
предметы мужской поясной гарнитуры.
Второй аргумент Б.А. Рыбакова, приво-
дящего в качестве аналогов древнерусским
диадемам венцы в окладах икон XV в., а так-
же этнографические кокошники XIX в., ка-
жется нам более основательным. Однако ре-
конструируемое исследователем размещение
диадемы на верху высокого головного убора
(Рыбаков 1987:563. рис. 95) кажется надуман-
ным хотя бы потому, что тогда пропадаег весь
смысл бахромы, крепящейся в нижней части
диадем, которая должна спускаться на лоб. а
не находиться где-то на середине головного
убора.
Памятники изобразительного искусства
(и византийские, и древнерусские) фиксиру-
йте. 83. IlMitcpaipinia Евфроснпья (1195-1203). Мо-
ливдовул. Свинец. По: Банк 1966
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
161
Рис. 84. Икона
Сошествие Христа во
ад. Яичная темпера
на дереве. XV в. По:
Банк 1966.
ют несколько основных видов женских го-
ловных уборов. Один —трапециевидный,
украшенный отдельными накладными киот-
цами или драгоценными камнями, на неко-
торых изображениях он близок по форме к
мужской стемме. О том, что при венчании
на царство император и императрица полу-
чали схожие головные уборы, может свиде-
тельствовать рельефное изображение коро-
нования Иисусом императора Романа и его
жены Евдокии (ок. 950 г.) (Rice 1959: №97)
или Прополка Изяславича и его жены Ири-
ны на миниатюре Трирской псалтыри (Кон-
даков 1906:ia6.IV).
Изображения головных уборов трапеци-
евидной формы представлены, например, на
фресках лестничной башни Софии Киевской
(Высоцкий 1989:185). на фреске с изображе-
нием св. Елены в Софт! Новгородской (Ла-
зарев 1948: т. 210а). Аналогичные уборы, ук-
рашенные тремя нашивными пластинками и
жемчугами, переданы на фресках, изобража-
ющих великомучениц Христину и Катерину
в алтарном помешешш церкви Спаса на Нс-
редице под Новгородом (Прохоров 1880). Го-
ловные уборы увенчаны крестиками, по бо-
кам липа расположены жемчужные подвес-
ки-нрепендулш!. В отличие от большинства
византийских изображений, на которых эти
подвески показаны прикрепленными к ниж-
ней части головного убора, здесь изображе-
но, что они крепятся к верху тульи. Анало-
162
Глава IV
Рис. 85. Михаил VII Дука и Мария Аланка. Фраг-
мент оклада иконы Хахульской Богоматери. Золото.
Эмаль. XI в. По: Кондаков 1892.
Рис. 86. Королева Симонида (1318-1328). Роспись цер-
кви Благовещенья в Грачаиице (Сербия). По* Чиркович
1996.
Рис. 87. Фреска из церкви Святого Николоса Огра-
фаиоса (Македония). XIVb. По: Makcdonia...l992.
гичным образом передаются подвески и на
некоторых древнерусских коптах с эмалевы-
ми изображениями. Древнерусские мастера
(живописцы, эмальеры) работали рядом с
выходцами из Византии. Росписью Нереди-
цы руководил Олесий Гречанин. Упомяну-
тые же фрески с великомученицами писал,
вероятно, кто-то из его учеников, по край-
ней мерс, исследователи памятника (Колчин,
Хорошев. Янин 1981:156-167) не склонны
относить их к работе Олесия. Можно было
бы считать, что подобное переосмысление
деталей византийского по происхождению
головного убора характерно именно для древ-
нерусской изобразительной традиции. Одна-
ко в схожем головном уборе с подвесками,
крепящимися к верхней его части, изображе-
на святая Екатерина и на иконе ХП - начала
ХШ в., хранящейся в монастыре св. Екатери-
ны на Синае (Синай, Византия, Русь 2002:
245).
Второй женский головной убор византий-
ского происхождения—зубчатый, наподо-
бие короны или диадемы. Подобные терем-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца Х1-Х1П вв.
163
Рис. 88. Десислава. Фреска Боннской церкви (Бол-
гария). XIII в. По Мавродинон 196Ь
чатые венцы называли в Византии модио-
лами (Дарксвич 1975: 162). В венце подоб-
ием о типа изображена. например, сь.ная Ека-
терина (?) на фреске XIV в. из храма Покрова
Богородицы Довмоп 1 ова города во Пскове
(Синай. Византия. Русь 2002:215).
В реконстрч кцни же Б.А. Рыбакова эт j 1 два
1 оловных \бора (трапециевидный и зубча-
1ый-диадема) искусеi веяно совмещены,
причем второй прикреплен на вершину пер-
вого. Го. ювиой убор с зубчатым верхним кра-
ем мог быть ДСЙС1 витсльно довольно высо-
ким. о чем свидетельствуе! изображение
жены князя Ярополка на Трирской псалтыри
(Кондаков 1906: таб. VI). но тогда он имел
иную, нс трапециевидную форму. Трапецие-
видный головной убор 1акже мог иметь по
верхнему краю небольшие зубцы, как на изоб-
ражении императрицы Зои на короне Кон-
ciантина Мономаха (рис. 90. в). Зубцы мог-
ли быть и довольно сильно выступающие
(как на изображении императриц Зои и Ири-
ны в мозаиках Софии Константинопольской),
но эт о все равно были детали одного убора,
без каких-то промежуточных подвесок.
Рис. 89. Варианты реконструкции ||еремо1шалыюю и парадною ювелирных уборов нт Сахновского кЛада 1901 г.
164
Глава IV
Рис. 90. Пласти-
ны короны Констан-
тина Мономаха с
эмалевыми изобра-
жениями: А — импе-
ратрица Феодора.
Б — император Кон-
стантин Мономах.
В — императрица
Зоя, Г —Правосудие,
Д—танцовщица, Е—
Смирение. Золото.
Эмаль. XI в. По: Кон-
даков 1892.
Для реконструкции убора с диадемами
может быть привлечен разнообразный изоб-
разительный материал.
Разница в головном уборе императоров и
императриц четко передана в мозаиках Софии
Константинопольской. На мозаике XI в. (меж-
ду 1028 и 1042 гг.) изображены император
Константин IX Мономах и его супруга импе-
ратрица Зоя, предстоящие с дарами перед
Иисусом Христом. Голова императора увен-
чана стеммой, императрицы—высоким го-
ловным убором с зубчатым краем и подвеска-
ми, ниспускающимися до ворота платья
(рис. 79). В первой половине XII в. (1118 г.)
была создана сходная мозаичная композиция,
изображающая императора Иоанна П Комни-
на и его супругу Ирину, подносящих дары Бо-
городице. На императоре—стемма с одной
комарой и высоким верхом, на императри-
це —роскошный городчатый венец (рис. 80).
В уборе Зои переданы маленькие круглые се-
режки, а у Ирины показаны крупные серьги с
тремя подвесками из жемчуга и драгоценных
камней (Даркевич 1975: 160, рис. 238, 239;
Лихачева 1981:153,154).
На окладе византийской иконы Богома-
тери Одигитрии, хранящейся в Троице-Сер-
гиевой лавре, в нижнем регистре боковых
клейм изображены Константин Акрополит и
его жена Мария Комнина Турникина Акро-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI—XIII вв.165
политисса. На Константине головной убор
типа митры, на Марии — невысокая диаде-
ма иди корона с треугольными зубцами, укра-
шенная драгоценными камнями и жемчугом.
По бокам лица — подвески (рис. 81). Коро-
на 1ылста поверх покрывала (Кондаков 1906:
68. рис. 11: Банк 1966: №244-246). В сходном
головном уборе изображена и св. Елена на
эмалях Эстергомской ставротеки (Deer 1966:
XXXV. 87)(рис. 82).
Подобные уборы предо авлены и на ви-
зантийских моливдовулах XT-XII вв.. напри-
мер. на моливдовулах императриц Евфроси-
нии (рис. 83) и Евдокии (Искусство Визан-
тии... 1977:133.№68О: Банк 1966: №237: Deer
1966: t. XXX, 67). В диадеме с тремя зубчика-
ми. украшенной в нижней части драгоцен-
ными камнями, показана императрица на
парном изображешш императора и императ-
рицы на эмалевом медальоне с Сошествием
во Ад XI (?) в. из коллекции ГМИИ (Искусст-
во Визаннш... 1977: 82). Подобные изобра-
жения были каноничны. Мы встречаем их.
например, на иконе с тем же сюжетом, дати-
руемой XV в. (Банк 1966: №296) (рис. 84).
Правда, на эт ой иконе головной убор импе-
ратрицы уже практически трансформировал-
ся из диадемы в корону, более привычную для
времени создания иконы.
Византийские головные уборы четко пе-
реданы и на пластинах XI в. с византийски-
ми эмалевыми изображениями, вмоширо-
ваниых в оклад иконы Хахульской Богомате-
ри (Музей грузинского искусства. Тбилиси).
На одной из пластин изображен момент ко-
ронации Иисусом Михаила VII Дуки и его
супруги Марии (Марфы) Аланки (рис. 85).
Возможно. 31 а пластина была прислана из
Константинополя в дар отцу императрицы
- грузинскому царю Багра jy (Лихачева 1981:
194. 194; Хускивадзс 1978: 212-218). Импе-
ратор изображен в стемме с одной комарой
и дра1 оценными камнями, императрица —
в высоком городчатом венце, аналогичном
венцу импсра1рицы Ирины с Константно-
польской мозаики изСвятой Софии (Конда-
ков 1892: 128. рис. 25). На кресте, вмонтиро-
ванном в оправу этой же иконы, изображе-
ны император Коне i антин и императрица
Елена. На императоре — стсмма. на импе-
ратрице — диадема с одной комарой (Кон-
даков 1892:138. рис. 28).
Изображения правительниц в низких и
высоких зубчатых головных уборах встреча-
ются во фресковой живописи Балкан. В рос-
кошном высоком головном уборе изображе-
на королева Симонида (1318-1328) в роспи-
си церкви Благовещенья в Грачанице (Сер-
бия)(Чиркович 1996)(рис. 86). Вариант низ-
кого зубчат ого убора, украшенного жемчугом
и с жемчужными подвесками, представлен
во фреске XIV в. церкви св. Нпколоса Огра-
фапоса (Makedonia 1992)(рис. 87).
Персонажи в зубчатых головных уборах
встречаются и на греко-русских княжеских
печатях (Белецкий 2001:40. рис. 14. 7). Судя
но легенде на такой печати, на ней, так же
как и на фреске в Нсредице, была изображе-
на святая Христина. Встречаются на печатях
и изображения трапециевидного женского
1 оловного убора, например, на печати, при-
надлежавшей княгине Марии (Белецкий
2001:49. рис. 18. 3)?.
Г.Ф. Корзухина подметила, что все гри из-
вестные целые древнерусские диадемы до-
вольно коротки и не охватывают голову це-
ликом. а должны были нашиваться по ниж-
нему краю полоски ткани пли шапочки (Кор-
зухина 1954:60). Подобный головной убор в
сочетании с коптами представлен, вероятно,
на фреске ХШ в. с изображением жены ар-
хистра 1 ига Дссиславы из Боянской церкви
(Бошария)(Мавродинов 1966)(рис. 88).
Аналогично реконструировал женский
убор с диадемой и Н.П. Кондаков. По его
мнению, на Руси диадема надевалась на ша-
почку типа ску фи. закрывавшуюся затем уб-
русом. спускающимся сзади на шею (Конда-
ков 1906:111-114). Подобную реконструкцию
в наши дни предлагает и М.А. Сабурова
(Древняя Русь... 1997). Спорным моментом
в данной реконструкции, на наш взгляд, яв-
ляется изображение в одном уборе и диаде-
мы. и расположенного над ней валика-вен-
ца из пластинчатых дужек. В недавней ре-
конструкции Н.В. Жилиной венчик распола-
гается под диадемой (Жилина 2002: 165.
рис. 6).
Действительно, две эти детали головно-
го убора были найдены совместно в сос гаве
Сахновскот о клада, но клад этот, вероятно,
содержит несколько уборов—два золотых и
Приношу благодарность С В Белецкому обратив-
шем} мое внимание наэкм тип истопников
166
Глава IV*
один более простой с серебряными кот ами
и браслетами с наконечниками, украшенны-
ми чернью. На наличие в кладе нескольких
«золотых» парадных уборов указывает не
только два вида головных уборов, церемони-
альная диадема и праздничный или свадеб-
ный венец, но и два вида рясен (правда, при
одной паре спрятанных в кладе золотых кол-
тов) — рясны с квадрифолийными бляшка-
ми. украшенными изображениями птиц, и зо-
лотые рясны из тисненых колодочек. В со-
ставе клада есть и несколько шейных укра-
шений — ожерелье с Деисусом (по-видимо-
му. церемониальное), ожерелье с криновил-
ными подвесками и три золотые гривны
(рис. 89).
Очертим теперь крут аналогий древнерус-
ским диадемам в памятниках Юго-Восточной
и Центральной Европы. Наиболее близка к
древнерусским образцам золотая диадема с
эмалевым изображением сцены Вознесения
Александра Македонского, найденная в Бол-
гарии (в Прсславе) в составе клада X в. со-
вместно с монетами Константина Багряно-
родного и Романа (945-957 гг.) (рис. 77. а). В
состав клада входило 200 золотых предме-
тов — украшенные зернью и эмалями серь-
ги. медальоны, ожерелья (Тотов 1983:9-13).
Украшения этого клада, выполнешые по ви-
Рис.91. Корона Конрада П.Золото.драгопеппыскам-
ни. жемчм . эмаль. XI в Но Schulze-Donlamm 1991.
зантийским образцам, а возможно, и визан-
тийскими ювелирами, по мнению Ж.Н. Вы-
жаровой. были изготовлены в одной из мас-
терских Преслава. Изделия, украшенные пс-
рсгородчатыми эмалями, находят в слоях
Прсслава конца V111 X вв. (Выжарова 1987:
300).
Форма щитков этой диадемы арочная, по
краям пробиты отверстия для крепления на
основу. Сохранилось пять щитков: централь-
ный с изображением вознесения Алексан-
дра Македонского на грифонах, а также три
боковых с одной стороны и один с другой —
с симметрично расположенными изображе-
ниями птице- и звериноголовых грифонов.
Близким аналогам древнерусским диаде-
мам является так называемая корона Кон-
станпша Мономаха (Deer 1966: taf. XXXVI.90,
L1X. 158,160. LXXXVII, 240.241,242). Ко-
рона была выполнена в Константинополе в
императорских мастерских, предположитель-
но между 1042 и 1050 гг., украшена эмалевы-
ми изображениями императора Константи-
на. императриц Зои и Феодоры, аллегорий
Правды и Смиренья и двух танцовщиц (Дар-
кевич 1975:177) (рис. 90). В Венгрию коро-
на. вероятно, была послана ко дню корона-
ции венгерского короля Андрея 1 и дочери
Ярослава Мудрого Анастасии (Лихачева
1981:194).
Так же как и Киевская, и Сахновская диа-
демы. эта корона состоит из семи пластин,
соединенных в единый венец. Пластины
арочной формы. Изображения императорс-
кой четы даны наиболее статично и фрон-
тально. Они показаны в парадных одеяниях,
с венцами трапециевидной формы с одной
«комарой» в центре, от которых отходят сти-
лизованно переданные подвески. Верхний
край убора императрицы Зои украшен мел-
кими зубцами. На золотом медальоне с эма-
левым изображением императрицы Зои. хра-
нящемся в ризнице собора Святого Марка в
Венеции, зубчатость верхнего края ее голов-
но1 о убора передана еще более отчетливо
(Даркевич 1975:161. рис. 243).
Фоном для изображений на диадеме слу-
жат рапорты из стилизованных растительных
побегов и изображений птичек. Изображе-
ния лозы и птичек находят аналогии в деко-
ре византийских стеклянных изделий. Пред-
ставлен подобный орнамент, например, на
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI—XIII вв.
167
Рис. 92. Пластинки с эмалеными изображениями с короны Конрада II: А — Спас. Б — пророк Исайя. В — парь
Давид. Г—парь Соломон По; Кондаков 1892.
стеклянных сосудах. найденных в Новогруд-
ке(Гурсвпч 1981:78. рис. 61). Сходные изоб-
ражения птичек часто встречаются и на
древнерусских колтах с эмалями. Есть на этих
колтах и изображения женских головок в вен-
цах трапециевидной формы (Даркевич 1975:
270. рис. 380.381: Макарова 1975: табл. 5).
У фшур Правды и Смиренья головки сти -
ка наклонены, и все их позы исполнены спо-
койного раздумья. По бокам изображений—
стилизованные деревья. Наибольшего дина-
мизма полны, безусловно, фигуры танцов-
щиц. Изображения 1 анцовщиц находят широ-
кий круг аналогий на изделиях византийско-
го. мусульманского и древнерусского приклад-
ного искусства. Сходные изображения на ви-
занпшеких и мусульманских изделиях (сереб-
ряных чашах и сосудах, медных чашах с пере-
городчатой эмалью, настенной росписи, рез-
ной кости) отличаются известной долей стан-
дартизации. За счет того, что одна нога пля-
суньи приподня га в танце и окружена разве-
вающимся подолом платья, торс развернут в
другую сторону, создается ощущение вихреоб-
разного движения. Вокруг фигур развеваю гея
длинные рукава или шарфы (Даркевич 1975:
177. 178. рис. 88. 270-273). Изображения
танцовщиц характерны и ятя древнерусских
серебряных браслетов с чернью, где они так-
же ЯВ.1ЯЮТСЯ. вероятно, отголоском пришед-
шей через Византию древневосточной гради-
шш танцев на пирах дев. облаченных в одся-
1шя с развевающимися рукавами.
Любопытная попытка перегруппировки
пластин эт ой диадемы п «доосмысления» ее
в двухъярусный rpai юцпевидный убор, вклю-
чающий изображение Деисуса. была пред-
принята Золтаном Кадаром (Kadar 1964:113-
124). Однако вряд ли стоит делать из одного
головного убора другой, дополняя его при
этом фрагментами иной вещи. Фигура Пан-
тократора взята, например, с «короны Гёзы».
Медальоны со святыми, использованные в
этой реконструкщш, были найдены в одном
кладе с диадемой, но неизвестно, принадле-
жали ли к ней.
Близка к пластинкам короны Константи-
на Мономаха золотая пластина XII в. визан-
тийской работы с эмалевым изображением
императрицы Зои. На голове императрицы
показан довольно высокий головной убор с
одной комарой. драгоценными камнями и
тремя зубцами по верху. Фон гладкш'1, только
по краю пластины — стилизованное изоб-
ражение юнкпх колонок и арочного проема
(Лихачева 1981:195).
Если описанные ранее головные уборы
представляли собой диадемы, составленные
из семи пластин (возможно, столько же пла-
стии первоначально было и в диадеме из Пре-
слава). то «корона», присланная в дар вен-
герскому королю Гёзе (1074-1077), выглядит
в настоящее время как стемма с перекрести-
ем и матерчатым верхом (рис. 76). Первона-
чально головной убор представлял собой, ве-
роятно. замкнутый венец с изображениями,
размещенными по обручу в прямоугольных
клеймах, и вторым регистром из полукруг-
лых пластин и зубцов, украшенных по верху
драгоценными камнями. Во втором ярусе
расположены основные изображения —
Иисуса Христа, восседающего на троне, об-
рамленном деревьями, аналогичными тем.
что представлены на короне Константина
16S
Глава IV
Мономаха. На противоположной сюронс ко-
роны — изображения императора Михаила
Дуки и его соправителя Константина и ко-
роля Венгрии Гёзы (Deer 1966: Taf. 1 XII).
Предположение Н.П. Кондакова о юм. что
сгеммное перекрестие на этом головном убо-
ре является поздней доработкой (Кондаков
1892:225). представляется весьма обоснован-
ным. гак как изображение Христа, располо-
женное под крестом, дублирует уже имею-
щееся во в юром ярусе короны. Кроме того,
эго изображение было испорчено прикреп-
ленным прямо на нею крестом (Вагапупё
Oberschall: fig. 1-3).
Нижний ярус на этой короне обрамлен
жемчужными нитями ложноскаипой вере-
вочки. характерной для византийских чекан-
ных изделий Х-ХП вв. (Бочаров 1984:64). и
содержит изображения архангелов Гаврии-
ла и Михаила, святых воинов Георгия и
Дмитрия, святых Козьмы и Демьяна, разде-
ленные крупными сапфирами. В нижней ча-
сти венца укреплены подвески-цепочки,
оканчивающиеся драгоценными камнями.
Примером венца-диадемы, выполненно-
го западноевропейским мает ером. может слу-
жи I ь знамени i ая корона, хранящаяся в Вене,
украшенная россыпью драгоценных камней
и эмалевыми вставками, связываемая преда-
нием с именем Карла Великого (рис. 91).
Именно в этом головном уборе император
предет авлен на работе А. Дюрера 1513 года
(Schulze-Dorrlanim 1991: 37. abb.10). Впрочем,
среди исслсдова гелей hhkoi да нс было един-
ства во взглядах на то. кому же принадлежа-
ла эта реликвия, а датировка ее колебалась в
пределахХ-ХП вв. (Кондаков 1892: 234). В
вышедшей в 1991 1. монографии (Schulze-
Dorrlamm 1991)4 обосновывается принад-
лежность короны императору Конраду II
(1024-1039). Так же как и «корона Гёзы». эта
корона не является памятником одновремен-
но! о изготовления. Ее основная часть стар-
ше. чем укрепленная по верху, украшенная
драгоценными камнями дуга, датируемая
надписью с именем императора Конрада IV
(т1254)(Кондаков 1892: 235).
Корона состоит из восьми пластин-щит-
ков арочной формы, соединенных шарнир-
ным креплением. Видимо, со временем это
крепление стало недостаточно прочным, и
'Приношу благодарнойьЮ М.Десмину м.тюбезнонре-
jocraRiei uiyio возмож! 1ость озником! гп<я с эп im । и. i.u шем
корона была довольно грубо укреплена при-
клепанными на обороте пласт инками метал-
ла. Четыре более крупных щитка украшены
только драгоценными камнями (сапфиры,
аметисты, изумруды и рубины) и крупным
жемчут ом. У чет ырех более маленьких щит-
ков в центре щитки с эмалевыми изобра-
жениями. обрамленные также драгоценны-
ми камнями и жемчугом. Щитки короны, эма-
левые и каменные вставки обрамлены нитя-
ми ложной зерни. В основе щитков под кам-
нями прорезаны о 1верстия. камни припод-
няты над фоном в ажурных гнездах на ароч-
ках и дополнительно укреплены лапками.
Подобный способ крепления камней, их оби-
лие и яркость, сухость рисунка и мутность
цветов эмалей, наконец, латинские подписи
к ним не оставляют тшкакого сомнения в том,
что это - и зделие западноевропейского юве-
лира. впрочем, вероятно, знакомого с визан-
тийской традицией оформления диадем.
На щитках кио т ообразной формы распо-
ложены эмалевые изображения Христа на
троне, окруженного двумя серафимами: про-
рока Исайи, предстоящего перед царем Езе-
киею: царя Давида; царя Соломона (рис. 92).
В руках библейских царей и пророка — сви г-
ки с пророческими надписями (Кондаков
1892: 236. 237. рис. 78-81). Венчает корону
крест. прикрепленный к одному из щитков с
драт оценными камнями. Лицевая сторона
крест усыпана драгоценными камнями и
жемчужинами, i ia оборо т е — гравированное
распятие.
Приведенные выше примеры доказыва-
ют. на наш взт.тяд. что древнерусский цере-
мониальный убор развивался в общем русле
формирования регалий европейских владык
и находился под сильным византийским вли-
янием. Причем, суля по многочисленным
изобразительным материалам, зубчатые вен-
цы-диадемы входили нс только в состав муж-
ского, но и женскот о уборов.
Наследие ломо1 (гольскот о парадного убора
сохранилось и во времена Московской Руси.
Извес гно. что у царя Федора Михайловича
была диадема с изображениями Христа, Бо-
городицы. Предтечи и архангелов (Савои гов
1896: 32). то есть тог же деисусный чин, ко-
торый мы встречаем на диадемах Древней
Руси. В уборе цариц Московской Руси ана-
логичной инсигнисйвласти были коруны (За-
белин 1992: 185).
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
169
IV. 1. 2. Головные венцы
Кроме церемониальных уборов с диаде-
мами, в составе древнерусских кладов нахо-
дят фрагменты головных венцов, состоявших
из полукруглых дужек с одним концом, за-
гнутым в трубочку, или же трехбусинных ду-
жек-«аграфов».
Наборы золотых полукруглых пластинча-
тых дужек происходят из: Киевского клада,
найденного в 1876 г. в усадьбе Лескова (двой-
ной набор из 34 золотых дужек и 4 концевых
пластин со вставками, украшенными пере-
городчатой эмалью и жемчужной обнизью);
Киевского клада 1901 г., найденного в усадь-
бе Орлова (9 золотых дужек); Киевского кла-
да 1880 г., найденного на Б. Житомирской ул.
(3 золотые дужки от очелья, одна из них кон-
цевая с перегородчатой эмалью); Киевского
клада 1827 г., найденного в усадьбе Августи-
новича (11 золотых дужек от очелья из глад-
кой и рубчатой проволоки); Киевского клада
Карта 7. Очелья с пластинчатыми изогнутыми дужками.
70. Киев, клад 1887 г.
71. Киев, клад 1880 г.
72. Киев, клад 1876 г.
73. Киев, клад 1901 г.
74. Киев, клад 1827 г.
75. Киев, клад1885г.
76. Киев, клад 1824 г.
77. Киев, клад 1986 г.
78. городище Девичья Гора у с. Сахповка, клад 1900 г.
79. с. Городише. клад 1970 г.
170
Глава IV
Карта 8. Очелья с бусинными дужками.
80. Киев, клад 1903 г.
81. м. Мартыновка, клад 1886 г.
82. с. Ключники, клад 1887 г..
83. городище Княжа Гора, клад 1897 г.
84. с. Вербов, клад 20-х. гг. XX в.
85. д. Льгов, клад 1879 г.
86. д. Терехово, клад 1876 г.
87. Старая Рязань, клад 1868 г.
1885 г., найденного в усадьбе Есикорского (53
серебряные колодочки, две из них концевые,
одна с цепочкой); Киевского клада 1887 г.,
найденного в ограде Михайловского монас-
тыря (22 золотые дужки, из них 2 концевые с
эмалями); Киевского клада 1824 г., найден-
ного близ Михайловского монастыря (8 зо-
лотых дужек с шарнирами на концах и укра-
шенных большими и малыми камнями в вы-
соких гнездах); Сахновского клада 1900 г. (18
88. Старая Рязань, клад 1967 г.
88 а. Старая Рязань, второй клад 1967 г.
89. Старая Рязань, клад 1974 г.
90. Старая Рязань, клад 1992 г.
91. Владимир, клад 1837 г.
92. Владимир, клад 1865 г.
93. Владимир, клад 1896 г.
94. Москва, клад 1988 г.
золотых дужек) (прил. 2,№. 70-79).
Как видим, практически все находки зо-
лотых дужек от венцов происходят из Киева
или его ближайшей округи (карта 7). Венцы
завершались сегментовидными пластинка-
ми, декорированными эмалевыми вставками,
обведенными нитями жемчуга. Крепились
такие дужки в головном уборе, по всей ви-
димости, к деревянному или матерчатому
валику (рис. 57,58,60,61). Такой убор пред-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI—XIII вв.
171
ставлен в половецком женском захоронении
в Поросье (Труды III АС 1878:23-25), где най-
дены бронзовые, обтянутые позолоченной
серебряной фольгой лужки, наложенные на
деревянные валики, обернутые i одетой ма-
терией (в каждом захоронении было по 2 та-
ких валика). Очелье с небольшими широки-
ми дужками. украшенными рубчатой прово-
локой. коническими выступами, сканью и
жемчугом, было найдено в захоронении близ
д. Колесите Каневского у. Киевской губ.
(Корзухина 1954:60).
География распространения бусинных
очелий совсем иная (карта 8): наибольшее их
количество представлено в кладах Владими-
ра и Старой Рязани, хотя есть отдельные на-
ходки и в Киеве и его округе, на Чернигов-
щине и Орловщине и на западе Древней Руси
— в окрестностях Галича. Фрагменты оче-
лий. украшенных дужками с бусинами, были
найдены в Киевском кладе 1903 г., открытом
в ограде Михайловского монастыря (сереб-
ряные дужки — 13 целых и 1 фрагмеш). в
кладах на гор. Княжа гора 1897 г. (8 серебря-
ных дужек.), у с. Мартыновка Каневского у.
(7 серебряных дужек), у с. Ключники Канев-
ского у. (2 серебряных позолоченных дужки),
у с. Вербов Львовской обл. (8 серебряных
дужек), уд. Льгов Черниговской губ. (10 се-
ребряных прямых «аграфов»), уд. Терехово
Орловской губ. (14 серебря] гых дужек), в Ста-
рой Рязани в кладах 1868 г.(1 золотая дужка)
и 1992 г. (10 дужек и 2 концевые шастаны),
во Владимирских кладах 1837 г. (6 серебря-
ных прямых «аграфов» и две разогнутые трех-
бусинные серьги) и 1865 г. (7 золотых пря-
мых «аграфов»), в Москве на территории
Кремля в кладе 1988 г. (две связки по 8 слег-
ка изогнут ыхдужек) (прил. 2, №80 -94).
Своеобразный литой аналог дорогом зо-
лотым и серебряным лужкам от очелий был
найден при раскопках ювелирной мастерс-
кой XII в. в Новогрудке (Назаренко 1974:170,
рис. 1). Здесь было найдено 2 ли гых бронзо-
вых полукольца, с лицевой стороны украшен-
ных гладкими полушариями. У более круп-
ной дужки эти полушария разделены пояс-
ками пссвдозерни. Концы дужек должны
были завершаться ушками с отверстиями, но
на обоих изделиях но одному ушку оказалось
бракованным. Если облик дужек из драгоцен-
ных уборов весьма стандартизован, то при
работе с бронзой мастер мог позволить себе
эксиериментирова i ь и создавать очелье ка-
кого-! о промежуточного типа.
В кладах Вербова и Москвы, а также Вла-
димира 1896 г. сохранились проволочные
крепления дужек венцов. Уникальная наход-
ка 1992 г. из Старой Рязани лает представле-
ние и об оформлении концевых пластин бу-
синных очелии (рис. 93). В этом кладе сохра-
нились концевые пластины, украшенные в
центре сегменювидными вставками с эма-
лью. сканью, зернью и полудрагоценными
камнями (альмандинами) и стеклянными
вставками (синее ст екло с подложенной под
него серебряной фольгой). Вокруг вставок с
эмалями пробиты о i верстия для крепления
очелья к тканной основе. В местах, где со-
хранилась бронзовая проволока, скреплявшая
дужки, прослеживаются остатки шелковой
ткаш1 от матерчатой основы убора. В конце-
вых пластинах вырезаны полукруглые отвер-
стия, совпадающие с диаметром бусин оче-
лья. В э 1 и пазы одной из концевых пластин
Рис. 93. Очелья. Л. — Фрагмент золотого очелья из
бхеинных дужек Старая Рязань. Клал 1992 г. По: Даркевич.
Борисевич 1995. Б. — Золоioe очелье из пластинчагых ду-
жек. Киев Клал 1889г из Михайловского монастыря (Бла-
юдарюС М 11оваковск}тозал1обсзнопредосгавлсн1ияйсни-
мок) Масштабы разные.
172
Глава IV
вставлены бусины крайней дужки очелья,
прикрученной! к пластинке при помощи скан-
ной золотой нити (Даркевич. Борисевич
1995: 65-78. рис. 29 34).
Манера оформления концевых пластин
Рязанского клада типична для работы юве-
лиров этого центра: i о же обильное приме-
нение двухъярусной скани, крупной зерни на
концах завитков и цветных вставок в высо-
ких карстах, что и на бармах и «колтах» из
знамени! ого рязанско! о клада 1822 г. Мож-
но предположить, что концевые пластины
очелшц изготовлявшихся в других ремеслен-
ных центрах, вьплядсли не столь пышно, ибо
подобная манера декорировки украшений ти-
пична только для Рязани конца XII - начала
XIII вв.
Дужки очелий оформлялись довольно
стандартно. Бусины, нанизывавшиеся на
них. были нескольких типов. Наиболее рас-
пространены круглые или слегка овальные
тисненые бусины с круглыми отверстиями,
окруженными сканной нитью и пояском
сканной или рубчатой проволоки по диамет-
ру. Встречаются и глухие тисненые бусины,
украшенные сканными кружками со вписан-
ными в них зерневыми треугольниками.
Интересен факт сочетания в золотых оче-
льях. найденных в последние годы в Рязани
и Москве, дужек с бусинами разного типа.
Преобладающими являются в обоих случаях
дужки с тиснеными бусинами, украшенны-
ми круглыми отверстиями. Но в московском
очелье есть еще две дужки с тиснеными бу-
синами. усеянными зернью, а в рязанском —
тисненые бусины без отверстий, украшенные
кружками скани. Возможно, такие пары не-
стандартных дужек были центральными.
Средняя длина очелья составляет 20-
22 см (Даркевич 1996: 366-372). значит, они
доходили примерно до висков, как и диаде-
мы (рис. 63. 68, 70, 71), а сзади, вероятно,
крепились при помощи цепочек (находка кон-
цевых пластин с цепочками происходит из
усадьбы Есикорского в Киеве).
Бросается в глаза тот факт, что бусинные
и пластинчатые очелья никогда не встреча-
ются в составе одного и того же комплекса и
входили, вероятно, в состав разных уборов.
В.А. Назаренко определит эти уборы как убор
киевской знати и общерусский парадный (На-
заренко 1974:172).
Очелья первого типа выполнены в еди-
ном стиле с золотыми колтами, ряснами и ме-
дальонами. украшенными эмалями. В комп-
лексах очелья этого типа обязательно со-
всгречаюэся с золо! ыми. украшенными эма-
лью колтами (в одном случае — в Киевском
кладе из ус. Орлова, эт и колты не с эмалями,
а с чернью), реже с золотыми звездчатыми
колтами. Часто их находят и с золотыми, реже
серебряными серьгами киевского типа, оже-
рельями с круглыми медальонами или кри-
новидными подвесками, а также с золотыми
ряснами.
Очелья второго типа, как правило, се-
ребряные. и совстречаются они обычно с се-
ребряными чернеными колтами и серебря-
ными же ряснами для подвешивания колтов
(рясны могут бьп ь с круглыми бляшками
Владимирский клад 1837 г., но. как правило,
составлены из колодочек). Часты также на-
ходки подобных очелий с серебряными звезд-
чатыми колтами. ожерельями из серебряных
медальонов или криновидных подвесок,
створчатыми браслетами.
Особняком стоят находки из Старой Ря-
зани (клады 1868 и 1992 г.), Владимира
(1865 г.) и Москвы (1988 г.), в которых золо-
тые бусинные дужки очелий совстречаются
с золотыми же колтами (с эмалью или звезд-
чатыми). Таким образом, бусинные очелья
входили в состав как «золотого», так и «се-
ребряного» убора (Г.Ф. Корзухина считала их
достоянием только серебряного убора, по в
то время нс были известны последние на-
ходки из Рязани и Москвы). Причем находки
золотых венцов этого типа приурочены к
востоку, а серебряных — к центру и юго-за-
паду Руси.
Вероятно, очелья из пластинчатых или
бусинных дужек были деталями девичьего
или свадебного головного убора (подобно
шитым жемчугом и камнями перевязкам, че-
лам. венцам более позднего времени). Чело
упоминается в духовной Ивана Калиты
(1328). есть в документах упоминание о сва-
дебном венце царицы Евдокии Лукьяновны
— «венец с каменьи и жемчуги» (Забелин
1992: 182). Возможно, аналогичные венцы
использовались и в женском головном убо-
ре. но уже нашивались на его тулыо (как в
погребении в Поросье).
Таким образом, древняя восточная тра-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI—XIII кв. 173
диция головной повязки — диадемы — на-
шла свое продолжение и в средневековом
ювелирном уборе. Диадемы, собранные из
отдельных пластинок, постепенно транс-
формировались в замкнутые короны. Фор-
ма головнот о убора с зубчатым краем была
сохранена в девичьих венцах городчатых, а
также в венцах в окладах икон. Весьма дол-
го сохранялись в девичьем головном уборе
и очелья гладкие, расшитые жемчугом, по-
лудрагоценными камнями, украшенные вы-
шивкой.
IV. 2. ПОДВЕСКИ-КОЛТЫ
В состав парадного княжсскоз о убора вхо-
дили роскошные подвески-колты—золотые,
украшенные эмалями, и серебряные, декори-
рованные чернью. Более дешевые колты. за-
частую изготовленные в технике литья,
встречались и в уборе простых горожанок.
Выделяется несколько основных типов этих
украшений: золотые колты. декорированные
перегородчатой эмалью; серебряные, укра-
шенные чернью; золотые и серебряные
звездчат ые. усыпанные зернью. Подражания
этим дорогостоящим украшениям изготовля-
лись из бронзы и оловяниш ых сплавов.
Впервые термин «колю был употреблен
в исторической литературе И.Е. Забелиным.
Он писал:«.. .Серьги-колты. серы и-колодкою
состояли из ушного кольца, которое оканчи-
валось в нижней части различной величи-
ны и различной формы бляхою, куватастою.
круглой или на углы... что. собственно, и
называлось кол том (колодка, ops сок). К это-
му колту снизу прикреплялись подвески из
жемчужных зерен, а самый колт всегда укра-
шался финифтью или камнями. У древних
серег на таких колтах изображали финифтью
птицы, звери, сирены, львы, цветы» (Забе-
лин 1992; 196). Еще в XIX веке в Архангель-
ской области «колтушами» называли серьги
с подвесками, а в Новгородской «коптка-
ми» — подвески к серьгам (Кондаков 1892).
Однако само слово «колт» имеет более
давнюю историю, чем прелполат ал. напри-
мер. И.И. Срезневский, датировавший его
появление XV в. (Срезневский 1903). В на-
стоящее время наиболее раннее сообщение
о колтах относится к ХИ в. При раскопках в
Новгороде была открыта берестяная грамо-
т а. датируемая 1116-1134 гг.. в которой упо-
минаются золотые колты: «Мени же ми
кълътьке четыре, по полугштвне кълъгькъ зо-
лотых» (Седова 1981: 7).
Почти все древнерусские колты. выпол-
ненные из драгоценных металлов, находят в
составе кладов, что и нс удивительно. Укра-
шения э 1 о были дорогост оящими. бережно
хранились, передаваясь из поколения в по-
коление. являясь сокровищем и богатством
семьи. К редким находкам принадлежит де-
корированный эмалями колт с изображени-
ем птицы, найденный в женском подплито-
вом погребении в 3BHHB4e(Przybysla\v.ski 1909:
60-64). В научный оборот были введены
только клады, найденные в Х1Х-ХХ вв.. но
многие из них до наших дней тоже не сохра-
нились. Например, был расхищен огромный
клад, происходивший из усадьбы Анненко-
ва. содержавший около 100 колтов (Корзухи-
на 1954:14). Часть кладов попала в зарубеж-
ные собрания и известна по публикации
Г.Ф. Корзухиной (Корзухина 1972:24-30).
Русские клады, хранящиеся за рубежом, изу-
чены в диссертационной работе Л.В. Пекарс-
кой. но она пока недоступна для наших ис-
следователей. Часть кладов (например, из
Харьковского музея) погибла во время войны.
В настоящее время есть сведения о чуть
более чем 100 золотых колтах. декориро-
ванных змалями (в музеях бывшего Совет-
ского Союза хранятся 43 золотых колта —
17 парных и 9 одиночных) и о примерно
таком же количестве серебряных черненых
колтов.
В коицеХТХ века Н.П. Кондаковым была
предпринята первая попытка научного
осмысления накопившегося материала по ис-
тории древнерусского ювелирного дела. В
течение 10 лет исследователь собирал мате-
риал ятя фундаментальной публикации рус-
ских кладов. В 1896 году вышел первый том
этого издания, посвященный изделиям, вы-
полненным из золота, в котором автор ста-
вит вопрос и о происхождении древнерус-
ских колтов. Первоначально все изделия,
украшенные эмалями, считались византийс-
ким импортом, а в трудах Н.П. Кондакова
впервые высказывалась мысль, чз о основная
Византия
Рис. 94. Колты.
Гадва IV
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
175
Рис. 95. Серьга и копты
гуннской эпохи. По: Засецкая
1994.
часть их изготовлялась на месте в подража-
ние византийским образцам.
К изучению этого типа украшений рос-
сийские исследователи вернулись спустя бо-
лее полувека со времени выхода в свет пуб-
ликаций Н.П. Кондакова. Пожалуй, больше
всего для изучения и типологизации данно-
го вида украшений было сделано Б. А. Рыба-
ковым, Г.Ф. Корзухиной и Т.И. Макаровой.
Б. А. Рыбакова интересовали в основном во-
просы ремесленного производства и рекон-
струкции семантической нагрузки, которую
вкладывали русичи в форму и декор данного
типа украшений, место колтов и связанных с
ними рясен в системе древнерусского женс-
кого убора. Периодизацию колтов исследо-
ватель также построил на основе изменения
сюжетов нанесенных на них изображений
(Рыбаков 1969: 97; 1987: 579-637). Работы
Г.Ф. Корзухиной и Т.И. Макаровой ценны
для нас не только как наиболее полные, из-
данные на сегодняшний день каталоги юве-
лирных украшений, но и как типологические
разработки, основанные на технологии из-
готовления, материале, форме и особеннос-
тях декора ювелирных украшений.
176
Гааба IV
Г.Ф Корзухина при датировке колтов опи-
ралась па сформулированный сю принцип
последовательной смены ряда древнерусских
металлических уборов. Исследовательница
выделила два стилист ически целостных убо-
ра, в которые входили копты (Корзухина 1954:
27-32). В XII—XIII веках сложился роскошный
парадный убор, состоявший из золотых, укра-
шенных эмалями, вешей — кол юв. рясеп с
круглыми и квадрифолийными бляшками,
диадем и ожерелий-барм. В таком полном
наборе убор был, скорее всего, привилегией
княжеской семьи и являлся репликой парад-
ного убора византийских императоров и им-
ператриц. Колты в сочетании с шапочкой,
венчиком из бляшек и «аграфов» могли но-
сить и просто состоятельные горожанки. В
середине XII в. появился аналогичный убор,
выполненный в серебре и украшенный чер-
нью. Колты в таком уборе крепились к ряс-
нам. выполненным в виде тисненых коло-
дочек или круглым с черненым орнаментом
(подобные рясны были найдены в составе
Рязанского клада 1950 г. и клада из усадьбы
Михайловского монастыря 19031.(.Убордо-
полиялся различными ожерельями, украшен-
ными вставками с камнями и черневыми
изображениями, пластинчатыми браслетами
с чернью, перстнями с черненым орнамен-
том (рис. 57. 58. 60. 61.63. 65. 66, 68, 70. 71.
73). Кроме этих двух разновидностей колтов.
существовала еше и третья — звездчатые зо-
лот ые и серебряные колты.
Т.И. Макарова при построении своей ти-
пол от ни кол юв основывается на особеннос-
тях формы и декора украшений. Исходя из раз-
личий в цветовой гамме колтов с эмалями, ис-
следовательница выделила несколько древне-
русских ювелирных мастерских. Она предло-
жила несколько иные датировки для этого типа
украше! шй: зо. то гые с эмалями кол i ы дал ipy-
ются Т.И. Макаровой второй половиной XI-
XIII вв.. а серебряные с чернью— концом XI-
XIII вв. (Макарова 1975.1986).
По мнению Г.Н. Бочарова, русские эма-
льерные изделия (в том числе и колты) раз-
вивались не от простого к сложному, а от
сложного к простому, а уж затем от простого
вновь к сложному (Бочаров 1984:42). То есть
русские маст ера. займет вуя форму украшений
и особенност и декора у византийцев, перво-
начально упрощали их и схематизировали, а
затем на их основе создавали своеобразные
вариан I ы этих украшений.
В XI—XIII веках на терри гориях. в различ-
ной с I епени подвергшихся влиянию визан-
тийской культ уры (Древняя Русь. Дунайская
Болгария, территория современной Македо-
нии), появляются типы украшений, подража-
ющие социально-престижным византийс-
ким образцам, но отличающиеся от них свое-
образным декором. Веши, выполненные са-
мими византийскими мастерами, встречают-
ся на Сицилии, в Египте, в Иране (Рябцева
1997;Riablseva 1999: 125-144).
Но прежде, чем обратиться к проблеме
сложения древнерусских кол гов. необходимо
остановиться вкра гце на происхождении са-
мого этого типа украшений.
Н.П. Кондаков считал прототипом визан-
тийских колтов финикийские серьги, вы-
долбленные из больших жемчужин, которые,
по преданию, наполнялись духами. Капли
благовоний при ходьбе и движениях головы
орошали волосы, шею и плечи. Так называе-
мые серьги-«ка.тачики» для Н.П. Кондако-
ва были подражанием в металле ароматным
финикийским жемчужинам (Кондаков 1892:
312). Наиболее ранние находки подобных
серег известны нам из Микен и датируются
1400 1300 гг. до н.э. В середине II тыс. до н.э.
калачиковидные серьги бытуют на Кипре и
в Трое (Березова. Клочко 1995: 37-53). Для
Греции и Переднего Востока калачиковидные
серьги характерны с VII в. до н.э. В момент
наивысшего расцвета греческого ювелирно-
го дела в V- IV вв. до н.э. единая мода на та-
кие украшения бытует и в материковой Гре-
ции. и на Балканах, и в Причерноморье, и на
Кавказе, и в скифских степях. Время наиболь-
шего распрост ранения их в Северном При-
черноморье и у скифов приходи гея на V-
III вв. до н.э. И в греческих, и скифских па-
мятниках встречаются калачиковидныс серь-
ги с подвесками, но если у греков подвески
каплевидные. 1 о скифы предпочитали под-
вески-уточки. В угоду вкусам скифов в IV в.
до н.э. фигурки уточек припаивались и к вер-
хней части подвески (серьги из Любимовки.
Новоселок. Чмыревой могилы). В этот же
период встречаются и серый, свободный
конец которых декорирован головкой ушас-
того дракона (серы й из Пастака и Нимфея)
(Петренко 1978:27).
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI—XIII вв.
177
В эллинистическое и раннеримское вре-
мя подобные серьги исчезают и вновь воз-
рождаются в позднеримскуто эпоху (Засецкая
1975:17). Распространены калачиковидные
серьги и у гуннов. А.К. Амброз предлагает
следующую схему изменения формы этих
украшений: ранние гуннские серы и по кон-
струкции близки к подобным у крашениям
III—IV вв. (например, серьга V в. из Беляуса).
в VI—VII вв. нижняя часть этих серег начи-
нает украшаться полушариями (например,
серьга из Кара-Агач в Казахстане конца V
начала VI вв.) (Амброз 1971:119. рис. 10). ана-
логично тому, как декорировались подобные
украшения в Прикамье. Приуралье и Кирги-
зии (Голдина 1985: 36. Табл. 111. 30-33; Сте-
пи 1981: рис. 12. 13).
Ранние прикамские серьги сохраняют по-
лую конструкцию, среди них встречаются и
гладкие экземпляры, и декорированные зер-
нью, сканью и вставками из полудрагоцен-
ных камней: более поздние, доживающие до
XII века, серьги имеют форму плоского кала-
чика. Кроме Прикамья, плоские калачиковид-
ные серьги представлены в древностях Вет-
лужско-Вятского междуречья. Приладожья.
муромских и вымских могильниках. Находки
калачиковидных серег в древнерусских кур-
г анах единичны. Калачиковидная серьга най-
дена, например, в кургане 2 могильника По-
пово на Каргопольс (Макаров 1982: 82.
рис. 2, /).
В случае с калачиковидными серьгами
(украшением, имевшим очень долгий пери-
од бытования) наблюдается интересная за-
кономерность: наиболее ранние формы глад-
кие и лишены какого-либо декора. Позднее
они украшались сканью, зернью, первона-
чальная калачиковидная форма просто тонет
в обилии всяческих дополнений. Серьги де-
корируются подвесками, фигурками птичек,
головками грифонов, хитросплетением цве-
тов и пальмет. ликами Афины и Медузы Гор-
гоны. Постепенно обилие декора исчезает,
серьга практически возвращается к своему ис-
ходному простому облику.
Форма античных калачиковидных серег
была сохранена и византийской ювелирной
традицией и послужила одной из основ для
сложения средневековых колтов. В нровин-
штально-византийски.х ювелирных мастерс-
ких (предположительно. в Египте и Сирии)
в Х-Х1 вв. изготовлялись украшения, но кон-
струкции являющиеся кол тами. но с калачи-
ковидной формой подвески. Подобные укра-
шения находят на территории Ирана
(рис. 101). По нашему мненшо. основное кон-
структивное отличие колта от любой серьги
(в том числе и калачиковидной) заключается
в т ине зас i ежки: дужка ко.пас одной сторо-
ны вставлялась в шарнир, а с другой — кре-
пилась к металлическому колечку. У калачи-
ковидных серег шарниры и застежка от суд-
ствутот.
Аналогичные калачиковидные подвески
ттаходяги натерритории Македонии. Кроме
т от о. среди кол т ов. доживающих здесь до XV
века, ест ь образцы с выделенной нижней ча-
ст ыо. напоминающей объемную калачико-
видную серьгу. вписанную в плоский колт
(Малева 1992: табл. 23. рис. 31 /77.23/ 1).
Кроме калачиковидных серег, в качестве
протот инов визамгииских колтов могут рас-
сматриваться и височные украшения гун-
нов (рис. 95). В V в.н.э. гуннская знать но-
сила височные подвески, получившие в ар-
хеологической .литературе название «колты»
(Засецкая 1975:5). Между этими украшения-
ми и более поздними византийскими и древ-
нерусскими кол гами. действител ыю. можно
обнаружить общие черты. К ним относятся:
окружение центральной части подвески лу-
чами: выделение композиционного центра
изделия, обведение этого центра кольцом из
выпуклых вставок: использования мотива
«древа жизни» и солярной символики.
Гуннские колты были плоскими, выпол-
нялись из двух овальных листков золота. Ли-
цевая сторона украшалась зерневым геомет-
рическим узором и гранатовыми вставками.
Оборотная, менее пышная, могла быть укра-
шена несколькими вставками или сюжетной
композицией. На колте из разрушенного по-
гребения у хутора Верхне-Яблочного оборот-
ная сторона украшена зернсным изображе-
нием «древа жизни». На вершине древа
птица, по бокам его козлы, преследуемые
собаками. Оборо т пая ст орона кол т а из собра-
ния П. Ст ротанова(Засецкая 1975:41(укра-
шена зернеными лучами, заканчивающими-
ся гранатовыми вставками, между лучами —
зерневые треугольники и фигурки козлов.
Дужки у этих колтов. как правило, не сохра-
нялись. тт о способе их крепления можно ска-
178
Глава IV
Рис 96. Плоские украшения в форме колтов. 1,2 — Египет или Сирия VII-VI1I вв., 3 — Византия VI—VII вв., 4 —
Иран V1I-VHI в. Золото.
зать определенно только то, что шарниры у
них отсутствуют. Лучи у ряда гуннских кол-
тов исполнялись из свернутых в трубочку
золотых листочков, украшенных тисненым
рифлением. Такие лучи оканчивались полы-
ми тиснеными шариками, дополнительно
убранными зерневыми пирамидками. Но
ближе по внешнему виду к поздним колтам
гуннские украшения, лучи которых выполне-
ны не в виде трубочек, а в виде пирамидок
зерни. Изготовлялись все эти роскошные
украшения византийскими ювелирами.
Дань византийской моде отдали и кочев-
ники, сменившие гуннов на просторах сте-
пей в VI- VII вв. В погребениях кочевой зна-
ти на Алтае, в Подонье, Поволжье, в Крыму
и в Венгрии находят крупные полые колты с
рельефно выделенным центральным щитком.
Лучи на них заменены композицией из на-
паянной проволоки. Проволочными компо-
зициями обводился и центральный щиток.
Все пространство колтов усыпано треуголь-
никами из мелкой зерни, расположенными
по окружности вокруг центра и концентри-
ческими кругами более крупной зерни. Наи-
более пышные образцы дополнительно укра-
шались вставками, заполненными разно-
цветной мастикой, бирюзой и янтарем (Гав-
рилова 1965). Таковы, например, колты, най-
денные в 1893 г. в Михаэльсфельде (ныне
Дженпшск) близ Анапы. Колты найдены с
другими украшениями VI в. византийской
работы — плетеным ожерельем с медальо-
нами. украшенными вставками из оникса, и
с застёжкой, в качестве которой использова-
на монета Юстиниана I. тремя отдельными
медальонами со стеклянными вставками и
листовидными привесками (Банк 1966:
кат. 159). Интересная находка необычного кол-
га была сделана в Египте, на нем зернью
выложено изображение распростершей кры-
лья птицы. Изготовлялись эти колты. види-
мо, также византийскими ювелирами (Кон-
даков 1892:312).
На сложение формы и декора византийс-
ких колтов повлияли, вероятно, и широко рас-
пространенные в VI-XII вв. в Византии
штампованные серьги, напоминающие по
форме колт, но плоский, зачастую ажурный
(рис. 96,97). Дужки этих серег, как правило,
с одной стороны припаивались, а с другой
продевались в петлю. Но есть экземпляры,
на которых уже применяется шарнирное
крепление дужки или шарнир имитировался
Парадные древнерусские
конца XI-XIII
ВВ.
179
Рис. 97. Серьги и колты. а —
Таре, б, в—Крым VI-VII вв., г—
Византия VII в.,д—Ловдон(кол-
лекния музея Виктории и Альбер-
та) VI-VII в., е — Афины (Музей
Бепаки), ж—Крым, з—Македо-
ния. Золото.
при помощи заклепки. Серьги эти украша-
лись изображениями Христа, креста, стили-
зованных растительных побегов или птичек
(Ross 1965: №87,90,137).
Непосредственными прототипами для
древнерусских можно считать визант ийские
колты Х1-ХП вв. (рис. 98-101). Количество
этих украшений крайне ограничено. Они про-
исходят, как правило, из случайных находок,
что значительно затрудняет работу с этой
группой материала. Тем не менее, можно на-
метить несколько основных линий в их раз-
витии.
Вариант 1. Колты, декорированные эма-
лью, вставками из полудрагоценных камней
и сканью. Вариант представлен двумя па-
рами роскошных золотых колтов, купленных
коллекционером И.П. Балашовым в Кон-
стантинополе (Кондаков 1896: табл. 14). Кол-
ты эти выполнены из двух половинок, со-
единенных полоской металла (рис. 98,1).
Центральная часть колта выделена в виде
выступающего щитка, украшенного с одной
стороны перегородчатой эмалью, а с другой
— проволочной сеточкой (ячейки сеточки
дополнительно декорированы зерневыми
шариками). Проволочной решеточкой при-
крыта сверху и внутреняя часть колта. На
боковую поверхность украшения напаяны
скобочки, сквозь которые продевалась, ве-
роятно, нитка с жемчужной обнизью. Все
пространство колта, не занятое щитками, за-
полнено узорами из накладной скани. По
краям колты оправлены двумя рядами зер-
180
Глава IV
Рис. 98. Колты работы визан-
тийских и балканских мастеров.
I — коллекция И.П. Балашова. 2—
Сирия, 3—коллекция галереи Уол-
терс в Балтиморе. 4—Константино-
поль, 5,6—Македония, 7.8—Бол-
гария. Масштабы разные.
ни. Эмаль белого, голубого, синего, зелено-
го и красного цветов.
Вариант 2. Ажурные колты, выполнен-
ные из золотой проволоки, украшение слож-
ными растительными побегами и сканными
колечками. Поясок драгоценных камней за-
менен оправой из сканных узелков или по-
лусфер. Изделия, так же как и в предыдущем
варианте, имеют выступающий щиток, а в
ряде случаев и петли для обнизи. На изобра-
жении одного колта из Сирии (Jewelry 7000
1991: 146, рис. 336) можно различить, что
верхнее отверстие прикрыто такой же реше-
точкой, как и на балашовских колтах (рис. 99,
7). Центром производства этих украшений,
вероятно, были Египет и Сирия.
Вариант 3. Небольшие колты с прямо-
угольным отверстием, счетырех боковых сто-
рон и снизу украшены напаянными полусфе-
рами. Полусферы декорированы зерневым,
проволочным или сканным орнаментом. Ме-
стами производства подобных украшений
предположительно также были Египет и Си-
рия (рис. 101,7-4).
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
181
Рис. 99. Колты со сканным декором. XI в.
1 — Сирия, 2—Египет, 3—Тунис. Золото.
Вариант 4. Колты, напоминающие
объемную лунницу или калачиковидную
серыу. На некоторых из них щиток явно вы-
ступает, украшен сканными полушариками,
в ряде случаев щиток выделен только графи-
чески —тисненым растительным орнамен-
том. Производились такие колты также пред-
положительно в Египте или Сирии (рис. 101,
7,8).
Вариант 5. Колты аналогичной формы, но
щиток не выделен, все поле колта покрыто зер-
нью. Происходят из Египта (рис. 101,6).
Вариант 6. Колты без выступающих щит-
ков с невыделенной или слабо выделенной
средней частью. Колты, найденные в Иране,
отличаются наличием ободка из тисненых
полушариков по краю изделия, а иногда и по
боковой грани украшения. Центральная часть
подвески заполнена проволочными кружка-
ми или зерневыми розетками (рис. 100, е,
ж). Интересен серебряный колт, изготовлен-
ный предположительно в Константинополе
и хранящийся в коллекции галереи Уолтерс
в Балтиморе (рис. 98,3). В центре этого укра-
182
Глава IV
Рнс. 100. Колты. Египет или Си-
рия. XI в. Золото.
шения—тисненое изображение двух пере-
плетенных шеями птиц, вероятно, павлинов.
Аналогичный колт хранится в Национальной
галерее в Будапеште (Даркевич 1975:273).
Мотив двух птиц очень характерен и для
оформления древнерусских колтов.
Форма колтов пришла из Византии на
Русь, так же как и искусство перегородчатой
эмали. В данном случае можно говорить не
о «влиянии» отдельных культурных явлений
Византии, а о переносе этих явлений. «Не
только отдельные произведения, но и целые
культурные пласты пересаживались на рус-
скую почву и здесь начинали новый цикл раз-
вития в условиях новой исторической дей-
ствительности» (Лихачев 1973:166). На Руси
произошел быстрый расцвет ювелирного
дела, что обусловилось спецификой «выве-
зенного» ремесла, обучением русских ремес-
ленников у византийцев, работавших в со-
ставе греко-русских мастерских. Под влияни-
ем византийской традиции на Руси рожда-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
183
Рис. 101. Колты. Египет
или Сирия. XI в. Золото.
ется новое самобытное искусство, не являю-
щееся суммой влияний и заимствований
(Макарова 1975:94). Русские мастера обуча-
лись, вероятно, у греческих ювелиров, жив-
ших в Киеве и работавших на заказ для вели-
кого князя: именно в Киеве сконцентрирова-
но наибольшее количество для территории
Руси находок византийских вещей с эмаля-
ми (Бочаров 1978:237-249). В недавнее вре-
мя было высказано предположение, что для
изготовления древнерусских вещей с эмаля-
ми (в том числе и колтов) использовались
стеклянные заготовки, привозившиеся из Ви-
зантии (Щапова 1998:284-289). Одновремен-
но аналогичное предположение было выска-
зано и относительно византийского происхож-
дения заготовок для древнерусских стеклян-
ных браслетов (Олейников 1998:314-320).
184
Глава IV
В середине-конце XI в. первые колт ы по-
ЯВДЯЮ1СЯ на Руси. Из всей массы древнерус-
ских колтов с эмалями выделяется колт из Га-
лича. Орнамсн! и цветовая гамма эмалей
(черный, синий, голубой, красный) этого кол-
та нс характерны для изделий древнерч сских
ювелиров и сближают его с работами визан-
тийских мастеров, а конкретно с упомяну! ым
выше ко.ттом из собрания И.П. Балашова. В
отличие от византийского образца, галичс-
кий колт лишен скапного >зора. вся ei о по-
верхность покрыта эмалевым узором, близ-
ким к растительному орнаменту балашовско-
го колта. Эю украшение занимает промежу-
точное место между древнерусскими и ви-
зантийскими колтами (Макарова 1975: 22).
К изделиям византийского мастера, рабо-
тавшего на заказ для великого князя и его
окружения, причисляют и киевский колт с
изображением раскинувшего крылья павли-
на (прил. 2, №95). Кол г этот отличается от
типичных древнерусских изделий и формой,
и ра змсрами. и более широкой цветовой гам-
мой. Изображение павлина на нем практи-
чески тождсс! венно встречающимся на ви-
зантийских изделиях прикладного искусства
(Макарова 1975: 31-32: Бочаров 1978: 240).
К данной группе изделий, исполненных не-
посредственно византийским мастером inn
по византийскому образцу, можно причис-
лить и золотой, украшенный эмалями колт.
найденный в Киеве в составе клада 1876 г. в
усадьбе Лескова. Наиболее близкой аналоги-
ей для человеческой головки, изображенной
на этом колте и увенчанной, по мнению
Г.Б. Бочарова, византийскойстеммой.явля-
ются изображения сестер-императриц Зои и
Феодоры на короне Константина Мономаха
(1042-1050) и в медальонахрчбежа XI—XII вв.
из Пала д’Оро в Венеции (Бочаров 1984:45;
Даркевич 1975:273).
Древнерусские ювелиры выработали
свою систему декора колтов. у них были из-
любленные персонажи — девы-сирины, гри-
фоны. типы, и юбражения девичьих ликов
и образов святых, растительные и геометри-
ческие узоры.
Птицы. Птицы на древнерусских колтах
изображались, как правило, либо шагающи-
ми. либо сопоставленными по бокам Древа
жизни или заменяющего его крина. Сюжст с
птицами у мирового древа принадлежит к ка-
тегории общечеловеческих и присутствовал
в искусстве народов Древнего Вост ока и Гре-
ции. Изображения птиц на ранних киевских
изделиях почти точно повторяют византий-
ские орш иналы. но постепенно начинают
приобре 1 ать оригинальные черты, не свой-
ст венные греческим образцам (например, от-
деленные от тулова приподнятые крылья)
(Макарова 1975).
Древневосточный мотив с двумя птица-
ми. сопоставленными у древа, попал на Русь
в византийской переработке. К этому же кру-
гу восточных сюжетов, трансформировав-
шихся на византийской, а затем на древне-
русской почве, относится и образ идущей
и гицы с веткой в клюве. Подобным изобра-
жением украшен золотой колт. найденный на
Кияжей горе. Профильные изображешгя пти-
цы являются переработкой узора в круге из
перлов, харам ерного для сасанидских тка-
ней. В свою очередь, изображения птицы с
веткой в клюве являются переосмыслением
восточного мотива птицы, несущей в клюве
диадему как символ власти. Ткани с таким
узором в раннсисламское время изготовля-
лись в мастерских Египта и Ближнего Вос-
тока. Аналогичные сюжеты встречаются в
монументальной живописи, керамике и при-
кладном искусстве Средней Азии (Макарова
1974:29). На Руси подобный сюжет изредка
встречается и на других произведениях юве-
лирного искусства. Так. птица с листиком в
клюве изображена на створчатом серебряном
браслете из коллекции ГИМ (Даркевич 1976:
рис. 17.5). Близкие восточным образы птиц
встречаются и в древнерусском монументаль-
ном искусстве, например, в белокаменной
резьбе Георгиевского собора в Юрьеве-
Польском (Вагнер 1964) или росписи храма
на Протоке в Смоленске (Воронин 1965).
Сирены. На золотых, украшенных эмаля-
ми. колтах размещение птиц и сирен прак-
тически аналогично. Сирены на древнерус-
ских колтах и юбражались с нимбами, в круг-
лых шапочках, колпаках или венцах. Дтя за-
падной, восточной и византийской гради-
Ш1И характерно различное восприятие этого
персонажа. Так, в официальном искусстве
Западной Европы преобладает отрицатель-
ное восприятие образа сирина, их, как пра-
вило, изображали со змеиными хвостами;
впрочем, в народной символике Запада об-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
185
Рис. 102. Колты с жемчужной об-
низью. 1.2—Киев. Клад 1887 г. изогра-
ды Михайловско) о монастыря. 3.4—
Киев. Клад 1876 г. из ус. Лескова. 5.6 —
Чернигов. Клал 1887 г. Золото.
раз сирина носит более благожелательный
оттенок (Воронин 1964:126).
Распространенный на Руси образ сирен
был ближе к византийскому благожелатель-
ному значению, однако иконография птицс-
дев, одетых в головные уборы, восточная. По
мнению А.Л. Якобсона, образ сирены при-
шел на Русь через Херсонес и города Таврии,
где подобные сюжеты часты на поливной ке-
рамике. Изображения же сирен на хсрсонсс-
ских поливных блюдах восходят, в свою оче-
редь, к армяно-персидским прототипам
(Якобсон 1950:209-212). Это восхождение к
персидским образцам и объясняет, по всей
видимости, то, что на древнерусских изде-
лиях сирены изображены в головных уборах,
а не простоволосыми, как, например, на ви-
зантийской чаше XII в. из с. Вильгорт (Дар-
кевич 1975:14, рис. 1; Бочаров 1978:244). На
Руси образ сирина близок к образу серафи-
мов и херувимов, соединяющих антропо-
морфное и птичье начало. Выступает образ
сирина и в значении, символизирующем пра-
ведника, то есть носит исключительно бла-
гожелательное значение (Уваров 1910:303-
305).
Грифоны. Одним из наиболее почитае-
мых и употребляемых образов во все време-
на был образ грифона. Для эпохи античнос-
ти выделяются три основных иконографии
этого образа—псредневосточная, скифская
и греческая (Погребова 1948:62-67). В гре-
ческой традиции грифон, как атрибут бога
Апполона, был связан с солнечным культом.
В Византии грифон был рано включен в свя-
щенную эмблематику и постепешю стал эм-
186
Глава IV
Рис. 103. Колты со вставными
щитками. 1 —Киев. Клад 1827 г., 2
—Чернигов. Клад 1850г., 3—Киев.
Клад по Стрелецкой ул. до 1914 г.
Золото.
блемой кесарского чина. Однако с развити-
ем критического богословия этот образ стал
перемещаться в область демонологии (Ваг-
нер 1964:118). В искусстве Восточной Евро-
пы образ грифона дольше сохранял охрани-
тельно-покровительственный характер. Так,
в росписи Софии Киевской два грифона
изображены по краям хризмы, то есть заме-
няют ангелов. Сохраняется в древнерусской
традиции и восточная по своей сути идея о
связи образа грифона с правителем. Так,
изображениями грифонов украшались места
в храмах, предназначенные для моления кня-
жеской семьи, а также княжеские одежды
(Вагнер 1964:118). В городском быту образ
грифона также носит покровительственный,
охранительный характер. Изображения гри-
фонов наносили, кроме колтов, на створча-
тые серебряные браслеты.
Изображения святых. Небольшая груп-
па древнерусских колтов украшена изображе-
ниями святых. Вышли эти вещи предполо-
жительно из одной мастерской — возмож-
но, се остатки были открыты в 1950 г. на тер-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
187
ритории Киево-Печерского монастыря (Ма-
карова 1975:33: Бочаров 1984:71-79).
Если колты. выполненные византийски-
ми маст ерами, зачаст ую украшались ажурной
сканью, то на древнерусских образцах скань
применялась реже и только накладная. Не ха-
рактерно для древнерусской традиции и укра-
шение колтов каменными вставками. Извес-
тна только одна пара колтов. украшенных
вставками с драгоценными камнями. Эго зна-
менитые колты с Борисом и Глебом из Ста-
рой Рязани (прил. 2. №131). Судя по огром-
ным размерам (диаметр 12,6. толщина 4.5 см.
вес ок. 400 г), это украшение могло быть вкла-
дом на какую-то икону'. Предположение о том.
что это украшение служило вкладом на ка-
кую-то чтимую икону, используемым в каче-
стве подвесок к венцу, было впервые выска-
зано Н.П. Кондаковым (Кондаков 1892:337).
На Руси существовала традиция прикреплять
к иконам кресты, цаты, панагии, гривны,
цепи, серьги и т.д. (Бочаров 1984:157; Стер-
лигова 2000).
На лицевой стороне этих колтов укреп-
лены вставные щитки с эмалевыми изобра-
жениями святых мучеников Бориса и Глеба.
На колтах они изображены в раннем вари-
анте как целители, а нс воины. Вокруг шитка
с изображением расположена нитка жемчу-
га. Все пространство колта, не занятое щит-
ками. покрыто сканью. Лицевая сторона
украшена также шест ыо камнями-вставками
в восьмиугольных кастах. На оборотной сто-
роне в центре—крупная вставка из горного
хрусталя, окруженная девятью более мелки-
ми вставками с гранатами, сапфирами и гор-
ным хрусталем и сканиым узором. С оборот-
ной стороны жемчужная обнизь расположе-
на вокруг центральной вставки, а также по
краю колта. Скань выполнена из двух пере-
витых нитей. Первоначально гнезда для ка-
менных вставочек имели овальную форму (со-
хранилось два таких гнезда), затем они были
заменены на более массивные восьмиуголь-
ные карсты. укрепленные i ia ст олбнках. соеди-
ненных арочками из сканной проволоки. На
оборот ной сторо! ie колтов скань, выполнен-
ная из двух скрученных проволок, припаяна
только по краям и приподнята над поверхно-
егыо. В отдельных местах применена двухъ-
ярусная скань. Сканные завитки завершаются
шариками зерни (Бочаров 1984:52).
Рис. 104. Колты с гравированным орнаментом. 1.2 -
Киев Клад 1901 г..З — Ко.ллскипя Боткина Золото.
Все древнерусские колты распадаются на
три больших группы:
Первая группа — гладкие колты с ком-
позиционным центром, выделенным только
орнаментально (заключенным в круг изобра-
жением). Такие колты состоят из двух выпук-
лых половинок, соединенных боковой плас-
тинкой —желобком. На золотых колтах к это-
му желобку припаивались петельки, фикси-
рующие проволочную ниточку с нанизанны-
ми на нее жемчужинами. Аналогично деко-
рированы боковые стороны и у византийс-
ких колтов. например, из коллекции Балашо-
188
Глава IV
Рис. 105. Звездчатые древнерусские колты и их центральноевропейские аналоги. 1 —Черниговский клад, 2 —
Киев. Клад из ус. Лескова 1876 г.. 3 — Киев. Кзад 1903 г. из ус. Михайловского Златоверхого монастыря. 4—Владимир.
Клад 1837 г., 5 — Дуковс (Среднее Подунавье), 6 — округ Ловима (Польша). 1.2 — золото. 3-6—серебро. Масштабы
разные.
ва. Золотые колты этого типа украшались, как
правило, изображениями сиринов и птиц
(рис. 102).
Древнерусские серебряные черненые кол-
ты этого типа (имитирующие более роскош-
ные золотые с эмалями) украшались по бо-
кам вместо жемчужин мелкими литыми пли
крупными тиснеными шариками. В середи-
не XII века появились подобные колты, укра-
шенные ажурной каймой. Декорировались
эти колты гравированными изображениями
птиц, грифонов, фантастических зверей, за-
частую соединенных с плетеным орнамен-
том. Очень редко на таких колтах изобража-
ли птиц-сиринов (Макарова 1986:49-62).
Вторая группа — золотые и серебряные
колты со вставными щитками и многолуче-
вой каймой. Колты эти изготовлялись из двух
металлических пластин, из этих же пластин
вырезались и лучи. В центр колтов под спе-
циальный ободок вставлялись металличес-
кие щитки, приподнятые над поверхностью
колта. Пространство между щитками допол-
нительно укреплялось специальной масти-
кой. Старшим научным сотрудником хими-
ческой лаборатории Государст венного Эрми-
тажа Л.С. Гавриленко по нашей просьбе
были проведены хроматографическое, спек-
троскопическое, микрохимическое и микро-
скопическое изучение частиц такой мастики
из серебряного колта, найденного в 1909 г. в
Киеве в усадьбе Десятинной церкви. Масти-
ка представляла собой смесь карбоната свин-
ца и кремния, содержащего прозрачное ве-
щество (стекло?) с примесью желатина, мас-
ла и незначительного количества мельчайших
кусочков обугленного дерева.
На щитки золотых колтов наносили эма-
левые изображения птиц, женских головок,
раст ительно-геометрический орнамент. У се-
ребряных — гравированные изображения
птиц и фантастических животных (рис. 103).
Тесную связь производства золотых и се-
ребряных колтов доказывает не только эта
схожесть форм украшений и техники их ис-
полнения, но и находка на территории Руси
двух пар золотых коллов первого и второго
типов, украшенных не эмалями, а чернью
(Макарова 1975:62,63) (рис. 104).
Третья группа — зололыс и серебряные
звездчатые колты (рис. 105). При креплении
дужки этих колтов шарнир не использовался.
Подвеска полая, украшена в центре выступа-
ющей полусферой и небольшими полушари-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI—XIII вв. 189
ками. Тисненые лучи припаяны по бокам под-
вески и закреплены дополнительно проволо-
кой. Лучи украшены плотными рядами зерни,
на концах припаяны пирам) 1дки зерни, петель-
ки. крупные шарики inn конусы.
По всей видимости, этот вариант колтов
имеет несколько иное происхождение, чем
первые два. Вшречаююя B.Tincpaiype. на-
пример, предложения счиниьпроютипами
таких колтов паяные и лише звездна! ые
серьги из «древностей антов» VIII в. или ра-
димичские лучевые кольца (Василенко 1977).
Но ни для одного из этих вариантов проис-
хождения мы нс знаем переходных этапов.
В.качсствс аналогов можно привести кол-
ты с каймой из множсст ва заостренных лу-
чей. находимые на территории Болгарии (но
т ам лучей очень много и средняя часть упло-
щена. да и появляются они позднее, чем
звездчатые на Руси), или бусинныс серьги с
центральной звездча 1 ой чат ыо. распростра-
ненные на территории Польши (рис. 105. 6,
117. 9, 10}. Последние наиболее близки к
древнерусским лучевым кол i ам. но меньше
их по размерам (Рябцева 2000: 137). Насле-
дием подобных серег в древнерусских кол-
тах можно считать верхний конический луч.
представленный у серебряных колтов с гру-
шевидными лучами, а кроме roi о. на малень-
ком золотя колле из Киевского клада из
усадьбы Лескова. Весьма схожи и централь-
ные выпуклые части польских и древнерус-
ских украшений. В то же время золотой колт
с одинаковыми по форме округлыми лучами,
найденный в Чернигове (Холостенко 1962:
рис. 3). очень близок к некоторым образцам
поздних великоморавских серег с подвеской
«корзиночкой» (см. например — Lewicki 1959)
(рис. 105). В недавнее время предположение
о польских про готипах древнерусских кол i ов
было высказано и Н.В. Жилиной (Жилина
2002: 55. рис. 3. 5). В целом можно конста-
тировать. что в данном случае мы сталкива-
емся нес прямым влиянием Византии, как в
случае с другими типами колтов. а с опосре-
дованным через передачу западных славян.
Наиболее ранние звездчатые колты изго-
товлялись. вероятно, в Киеве, затем произ-
водечво Э1пх украшений переместилось на
северо-восюк Руси. Поздний этап изготов-
лешгя звездчат ых кол i ов докумен шрован на-
ходками из Москвы. Владимира, Тверии Ста-
рой Рязани. Э1и ко.'иы. как правило, сереб-
ряные. более крупные, чем ранние, с круп-
ными шариками на концах лучей грушевид-
ной формы (Корзухина 1950: 228: Жилина
1998:291).
Использование 1рафаретов и шаблонов
при изготовлении колтов из драгоценных ме-
таллов и литья при рабо те с медью и оловя-
нистыми сплавами привело к весьма широ-
кому распросгранению на Руси этого пришед-
inei о из Визан 1 ни и ставшего очень быстро
типично русским у крашения. С другой сторо-
ны. применение шаблонов, в отличие от ви-
зантийского способа индивидуальной прори-
совки и прочеканки рисунка, приводило к не-
которому композиционному однообразию и
застылости изображений (Бочаров 1984:40).
Еще Н.П. Кондаков отмечал, что древне-
русские ювелиры по-своему интерпретиро-
вали византийские оригиналы, заменяли
сложные элементы декора более прост ыми,
а аскетически строгие л ики византийских свя-
тых на округлые, коротконосые славянс-
кие лица, нередко допуская при этом ошиб-
ки (в иконо] рафии, в подписях, в деталях
одежд) (Кондаков 1896:155-157). Древнерус-
ские мастера позаимствовали у византийцев
не только саму форму колта. но и ряд т инов
эмалевых узоров (рост ки-крины, городчатый
и зш за1 ообразный орнамент). Практически
все типы у зоров. вшречающихся на древне-
русских вещах с эмалями, ешь на медальо-
нах. у крашающих собор Св. Марка в Вене-
ции (Бочаров 1978: 238).
Первоначально золотые колты с эмалями
изготовляли только киевские мастера — се-
рия близких колтов первого варианта с дву-
мя пищами, сиринами, уникальные колты с
павлином и грифоном, колты со святыми:
кол 1 ы в 1 opoi о вар] iai гга с i вображеш тем жен-
ских 1 оловок. птиц, растительно-геометри-
ческим орнамснгом (Макарова 1975). Внача-
ле ювелирные мастерские столь высокого
уровня концентрировались вокруг княжеско-
го двора, за гем они появляются и в других
районах Киева. В XII в. происходит выход
ремесла за пределы Киева (Рыбаков 1948:
203-433). и производство кол юв возникает
и в иных ремесленных центрах (Владимир.
Чернигов. Рязань). При этом на материалах
кладов выделяются два больших скопления
колтов с эмалями обоих типов. Это Киев и
190
Глава IV
Княжа Гора. И только единичные находки
происходят из Чернигова, Владимира и Ря-
зани (карты 9, 10).
Большой самобытностью отличаются
произведения рязанских ювелиров. К рабо-
те рязанской эмальерной школы Т.И. Мака-
зова относит колты с Борисом и Глебом и
медальоны с Ириной и Варварой, выполнен-
ные под влиянием киевской эмальерной шко-
лы в пределах середины XII—начала ХШ в.
К работе рязанского мастера, находившегося
под сильным киевским влиянием, возмож-
но, принадлежит и найденный в 1992 г. колт
с изображением женской головки, облачен-
Карта 9. Колты золотые с жемчужной обнизью и медные колты, украшенные эмалью.
95. Киев, клад 1842 г.
96. Киев, клад 1936 г.
97. Киев, клад 1876г.
98. Киев, клад 1911 г.
99. Киев, клад 1901 г.
100. Киев, отдельная находка.
101. Киев, клад 1880г.
102. Киев, клал 1876 г.
103. Киев, клад 1887 г.
104. Киев, клад 1906 г.
105. Киев, клад 1824г.
106. Киев, клад 1906 г.
107. Киев, клад 1885 г.
108. Киев.
109. Киев. 1971 г.
110. Киев, клад 1986 г.
111. Мирополь, клад 1938 г..
112. городище Княжа Гора, клад 1896 г.
113. городище Княжа Гора.
114. городище Девичья Гора, клад 1900 г.
115. городите уд. Вишин, клад 1979 г
116. Чернигов, клад 1887 г.
117. Владимир, клад 1865 г.
118. Владимир, клад 1896г.
119. городище «Райки».
122. Киев, 1910 г.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII кв.
191
Карта 10. Колты золотые со вставными шитками и лучевой обнизью.
123. Киев, клал 1827 г.
124. Киев, клал 1906 г.
125. Киев, клад 1949 г.
126. Киев, клад, найденный до 1914 г.
127. городище Княжа Гора, клад 1896г.
ной в треугольный головной убор (Даркевич,
Борисевич 1995). Изображение на колте весь-
ма близко к эмалевым вставкам киевских кла-
дов 1876 и 1949 г., сканный же узор оправы
типичен для Рязани. У этого колта сохрани-
лись гри ряда жемчужных обнизей: один во-
круг вставочки, второй—по краю щитка, а
третий — между лучами колта. Оборотная
сторона изделия украшена сканным орна-
ментом (Даркевич, Борисевич 1995: рис. 37).
Для Владимира известно 2 пары колтов
(прил. 2, №117,118). Владимирская мастер-
ская также связана с Киевской второй поло-
128. городище Княжа Гора, клад 1897 г.
129. Чернигов, захоронение.
130. Чернигов, клад 1850 г.
131. Старая Рязань, клад 1822 г.
вины XII в. Появление эмальерной мастерс-
кой во Владимире связывается исследовате-
лями с уводом Андреем Боголюбским части
ремесленников из Киева в 1169 г. (Рыбаков
1948:499; Воронин 1956:27).
В Новгороде работало, предположитель-
но, несколько эмальерных мастерских. Однако
основной специализацией этих мастерских,
вероятно, были предметы церковного и ли-
тургического назначения (Макарова 1974:97).
Практически в то же время, что и золо-
тые с эмалями (по датировке Т.И. Макаро-
вой), или несколько позже (по датировке
192
Глава IV
Г.Ф. Корзухиной), появляются и серебряные
с чернью колты. Извес! ны две пары колтов.
соединяющие эти две т ехники. Из клала, най-
денного в 1901 году, происходя! два золотых
колта с жемчужной обнизью без вставного
щитка, украшенные чернью по гравировке.
На лицевой стороне изображены типы по
сторонам крина, на оборотной — птица в
кру! е( рис. 104.5).
Примечательно, что в этом же кладе об-
наружено ожерелье, выполненное с ними в
едином стиле и подражающее золот ым ожс-
рельям-бармам. Ожерелье состоит «из вось-
ми серебряных маленьких круглых медальо-
нов. передающих в миниатюре все черты
крупных золотых медальонов. На вставных
щитках вместо перегородчатой эмали орна-
мент растительного характера, исполненный
чернью на золоченом конфаренном фоне.
Вокруг щитка желобок для жемчужной обни-
зи» (Корзухина 1954: 113. №85).
Золотые колты со вставным щитком и
многолучевой каймой из коллекции Боткина
также имеют гравированное изображение
пт ицы на лицевой стороне и «турьих рогов»
на оборотной (рис. 104.1, 2).
У колтов. имитирующих в серебре пер-
вый тип золотых колтов с эмалями (без
вставного щитка и с жемчужной обнизью),
обнизь выполнялась в серебре — в виде мел-
ких литых шариков. Мелкие шарики припа-
ивались к серебряным тр\бочкам и крепи-
лись к боковой стороне колта. Поверх шари-
ков напаивался жгут рубленой проволоки.
Чернью покрывался фон изображения, на
ряде изделий видны и следы позолоты.
Излюбленными сюжетами, изображав-
шимися на серебряных кол iах с чернью,
были фигурки фантастических животных,
очень часто крылат ых. птицы, растительные
и геометрические композиции.
Среди колтов с обнизью из мелких шари-
ков выделяется подборка с изображением
фантастчееких животных (Княжая гора. кол.
Ханенко). имеющих аналогии на произведе-
ниях византийской торсвтки. Подобные
грифоны предшавлены. например, в клеймах
на чаше XII в. из села Вилы орт. а также вы-
I равированы на дне чаши XII в. из собрания
А.П. Базилевского (Даркевич 1975:34.62). К
этому же подтипу относятся пара колтов из
Свя 1 озерского клада, украшенных изображе-
нием грифона, хвост которого переходит в
плетенку (матрица со сходным изображени-
ем хранилась в коллекции Румянцевского
музея - Рыбаков 1940:252. рис. 78.79). а т ак-
же две пары колтов. происходящие из киевс-
кою клада 1903 г. и женского погребения, oi-
крытого в Чернигове в 1878 г. (Макарова
1986: 51)(прил. 2.№157. 154).
Имитировалась жемчужная обнизь и при
помощи более крупных тисненых шариков.
Подобные шарики припаивались к колту ilth
при помощи металлических трубочек, ilth на-
прямую. в ряде случаев шарики дополни-
тельно укреплялись металлической шпыо
(как жемчуг на нити). Эти колты украшали
изображениями грифонов и фантастических
зверей, птиц и сирен, геометрическим орна-
ментом.
Колты с обнизью из литых и тисненых
шариков могли изготовляться в одних мас-
терских. В упомянутом вышсСвятозерском
кладе была найдена пара колтов с обнизью
из крупных шариков с изображением грифо-
нов. сопоставленных около плетенки
(прил. 2, №157). Рисунок на них аналогичен
(но исполнен несколько более грубо) изоб-
ражению грифонов на колте с мелкими ли-
1 ыми шариками из коллекции Ханенко (Ма-
карова 1986). На примере колтов из Свято-
зсрского клада Н.Г. Недошивиной было вы-
явлено. что парные вещи из одного комплекта
могли изготов.тя1ься разными мастерами
(предположительно, учителем и учеником),
так как украшения несколько отличаются как
размерами, так и техникой исполнения и осо-
бенностями проработки декора (Недошиви-
на 1999: 182-186).
В середине XII века появились и бытова-
ли в ХШ в. тисненые колты без вставною
щитка, украшенные ажурной каймой. Для
этих кол юв харакюрен декор в виде птиц и
древа жизни (Макарова 1986: рис. 21. №191-
194. 197).
Колты. имитирующие второй тип золо-
тых кол 1 ов. датируются концом XII — нача-
лом XIII вв. Они украшались вставным щит-
ком с изображениями и многолучевой кай-
мой. В отличие от предыдущего, в этом типе
вс!речаются не только колты с черненым
фоном, но и колты с чернью по гравировке.
Причем колты с птицами, украшенные чер-
нью по гравировке, происходящие из двух ки-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII кв.
193
евских кладов (рис. 104), весьма близки по
технике исполнения и декору к золотым кол-
там. Они и покрыты позолотой в подража-
ние золотым (Макарова 1986:137).
Колты с чернью по фону и с изображени-
ями фантастического зверя или сопоставлен-
ных спинами птиц дают впечатляющие се-
рии изделий, связанных с работой киевских
ювелиров. Колты с аналогичным изображе-
нием фантастического существа на лицевой
стороне и плетенки на оборотной были най-
дены в Киеве на очень компактной террито-
Карта И. Колты серебряные без вставных щитков.
132. Киев, клал 1893 г.
133. Киев, клал 1889 г.
134. Киев, клад 1903 г.
135. Киев, клад 1906 г.
136. м. Мартыновка, клад 1886 г.
137. городище Княжа Гора, клад 1891 г.
138. горолише Княжа Гора, клад 1891 г.
139. городище Княжа Гора, клад 1891 г.
140. городище Княжа Гора (?), случайная находка.
141. городище Девичья Гора у с. Сахновка, клад 1900 г.
142. с. Сахновка.
143. с. Старая Буда, клад 1908 г.
144. с. Городище, клад 1970 г.
145. с. Залесье, клад, найденный ло 1842 г.
146-152. с. Городище, клады.
153. с. Вербов, клад 20-х. гг. XX в.
154. Чернигов, клад 1923 г.
155. д. Льгов, клад!879г.
156. Любеч.
157. Урочище Святое Озеро, клад 1908 г.
158. д. Терехово, клад 1876 г.
159. с. Стариково, клад 1883 г.
160. Именье Н.Ф. Терещенко, клад 1878 г.
161. Старая Рязань, клад 1887 г.
162. Старая Рязань, клал 1970 г.
163. Старая Рязань, клад 1974 г.
164. с. Кресты, клад 1976 г.
194
Глдвд IV
Карта 12. Колты серебряные со вставным щитком.
16 5,166. Киев, клад 1909 г.
167. Киев, клад 1872 г.
168. Киев, 1902 г.
169. Киев, клад 1885 г.
170. Киев, клад 1903 г.
171. Киев, клад 1906г., найденный в ограде Михайлов-
ского монастыря.
172. Киев, клад 1906г., найденный на Трехсвятительс-
рии. Они происходят из клада 1909 г., най-
денного в усадьбе Десятинной церкви, кла-
да 1902 г. с улицы Большая Житомирская,
клада 1936 г. из раскопок Десятинной церк-
ви, из клада 1903 г., найденного в ограде
Михайловского монастыря, клада 1872 г. из
усадьбы Трубецкого и изготовлены, по-види-
мому, в одной мастерской (прил. 2, №166,
168,167).
Серия колтов с изображением двух со-
поставленных ПТИЦ на ОДНОЙ стороне И ро-
ком переулке.
173. Киев, клад 1841 г.
174. городище Княжа Гора, клад 1891 г.
175. городище Княжа Гора, клад 1891 г.
176. городище Княжа Гора, клад 1892 г.
177. городишеуд. Вищин, клад 1979 г.
178. Близ г. Обухов, клад 1905 г.
179. Переяслав, клад 1884 г.
гов на другой сохранилась хуже. Так, от кла-
да, найденного при раскопках Д.В. Милее-
ва к востоку от апсид Десятинной церкви
в 1909 году, сохранилось во фрагментах
только два серебряных, украшенных чер-
нью (в настоящее время чернь выкрошилась
полностью) колта с ажурной каймой. На
рисунке в публикации Г.Ф. Корзухиной
(Корзухина 1954: табл. XXX, 2) изображен
фрагмент только одного щитка от этих кол-
тов — с сопоставленными спинами пти-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
195
Рис. 106. Колты. Ру-
мыния. 1 —Войнешть
(Яссы). Клад. 2—Дино-
гсиия. Крепость, 3
Тpai гснльвапия. Серебро.
Масштабы разные.
цами. При работе с коллекцией среди об-
ломков серебряных украшений мне удалось
выделить фрагменты еще трех щитков от
колтов клада 1909 года. Один — аналогич-
ный опубликованному у Г.Ф. Корзухи-
ной — с сопоставленными птичками, толь-
ко еще более затертый. На двух других
были изображены так называемые «рога»,
обрамляющие крест, вписанный в круг.
Колт с аналогичными гравированными
изображениями был найден в составе кла-
да 1906 г. из ограды Михайловского мона-
стыря и около Андреевского собора в Кие-
ве (прил. 2, №165,171). Прототипами для
изображения птиц на этих колтах, скорее
всего, являются предметы византийской
торевтики (Банк 1966: №213,214).
В распространении серебряных колтов на
территории Руси выявляется довольно лю-
бопытная закономерность. Колты со встав-
ным щитком концентрируются в Киеве и его
ближайшей округе (Княжа Гора, Обухове, Пе-
реяславль). Колты же без щитка с обнизью
из шариков или ажурной каймой весьма рав-
номерно распространены ио территории
Южной, Юго-Западной и Юго-Восточной
Руси (карты 11,12).
На протяжении ХП-ХШ вв. в изготовле-
нии серебряных колгов прослеживается ряд
изменений. Более поздние колты чаще бы-
вали более мелкими по размеру. В XIII в. по-
являются разнообразные виды каймы у кол-
гов. Кроме традиционных крупных шари-
ков, используются разнообразные комбина-
ции из мелких шариков, толстой рубчатой
или тонкой плющеной проволоки, а в деко-
рировке колтов появляются неизобразитель-
ные мотивы — плетенка и др. (Корзухина
1950:228).
Т.Н. Макаровой было высказно предпо-
ложение, что первые образцы серебряных
колтов с чернью, так же как и золотых с эма-
лями, были выполнены жившими в Киеве
византийскими мастерами, обучавшими
древнерусских ювелиров. По мнению иссле-
довательницы, ранние колты с чернью вы-
полнялись в тех же киевских мастерских, что
и золотые с эмалями. Но дальнейшая судьба
196
Глава IV
этих украшений была различна: эмальерные
мастерские располагались только в стольных
градах—Киеве, Рязани, возможно, во Вла-
димире и Новгороде, а мастерские серебря-
ников —и в мелких городах. Случалось, что
провинциальный мастер приобретал у кого-
нибудь по случаю старый штамп для тисне-
ния колта, пускал его в дело, не разобравшись
в композиции изображения (Макарова 1986).
Тогда рисунок получался крайне неразборчи-
вым, смазанным. Подобные колты были об-
наружены, например, в Изяславле (Пюкова
1988) (прил. 2, №146-152).
На наш взгляд, есть одна находка колта,
представляющего собой как бы гибрид двух
типов серебряных колтов, происходящая из
Карта 13. Колты звездчатые.
180. Киев, клад 1942 г.
181. Киев, клад 1876 г.
182. Киев, клад 1903 г.
183. Киев, клад 1903 г.
184. городище Княжа Гора 1897 г.
185. с. Каменный Брод, клад 1903 г.,
186. городище уд. Вишин. клад 1979 г.
187. Чернигов, клад 1957 г.
188. д. Лески, клад 1853 г.
189. д. Терехово, клал 1876 г.
190. с. Кресты, клад 1876 г.
191. Старая Рязань, клад 1887 г.
192. Старая Рязань, клад 1937-1950 г.
193. Старая Рязань, клад 1967 г.
194. Старая Рязань, клад 1970 г.
195. Старая Рязань, клад 1974г.
196. Старая Рязань, клад 1979 г.
197. Москва, Кремль, клад 1988 г.
198. Владимир, клад 1837 г.
199. Владимир. клад 1896 г.
200. Т верь, клал 1906 г.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вк.
197
клада, найденного в 1926 году в Войнештах
(рис. 106, /). Данный клад серебряных укра-
шений и деталей поясной гарнитуры пред-
ставляет собой интереснейший комплекс, да-
тируемый первой четверило — серединой
XIII в., объединяющий вещи древнерусского,
карпато-балкаиского и кочевнического круга
(Teodor 1961: 504-521: Рябцева 2001: 101-
109). Колты из Войнсшть выполнены из двух
серебряных пластинок, в центральной части
кю горых отшенуты выпуклые медальоны д.1я
изображений. Медальоны подражаю! по
форме щиткам древнерусских колтов. Веро-
ятнее всего, мастер вой непггских колтов под-
ражал древнерусским экземплярам со встав-
ным щитком, но выполню их более просты-
ми техническими средствами. Необычна и
обнизь данных колтов, подобная нигде боль-
ше не встречена. Она является, вероятно,
подражанием многолучевой или ажурной
кайме аналогичных древнерусских украше-
ний. Нестандартно у войнештских колтов и
расположение ушек, предназначенных для
крепления дужки: они припаяны не к краям
пластинок, из которых составлен колт. а к
краю орнаментальной зоны.
Как уже упоминалось выше, кроме доро-
гих золотых и серебряных колтов, были рас-
пространены литые подражания. В Киеве
находят как формочки для отливки колтов
в тайнике Десятинной церкви, в усадьбе Тру-
бецкого, — так и литые колты, например, в
усадьбе Михайловского монастыря. Ли 1 ой
колт был обнаружен в 1910 г. при раскопках
Д.В. Милеева в усадьбе Трубецкого. Это
бронзовый с эмалями колт с профильным
изображением птицы на лицевой стороне и
чстырехлепестковой розетки на обороте (ГЭ
928/624). Несколько литых колтов найдено на
Княжой Горе. Парный колт к киевскому плос-
кому бронзовому позолоченному колту с кон-
центрическим геометрическим орнаментом
был обнаружен в Екатеринославском уезде.
Плоский колт с изображением сопоставлен-
ных и гиц. найденный в Поросьс (Корзухина
1950: 222), весьма близок к византийским
плоским серьгам, что является еще одним до-
казательством родства этих типов украше-
ний.
Основная масса литейных форм для со-
здания имшационных подражаний колтам
была найдена в Киеве на Фроловой горе.
Особняком стоит находка, сделавшая в 1939 г.
при раскопках М.К. Каргера в усадьбе Деся-
тинной церкви в Киеве, koi да бы., обнару-
жен подземный ход. в кот ором найдены ске-
лет ы киевлян, noi ибших при штурме города
татарами. При раскопках подземного хода
было найдено 19 литейных форм, предназ-
наченных для отливки кол гов. подражающих
звездчатым, а также серебряным кол там со
вставным щитком с изображением фантасти-
ческого зверя с поднятой лапой, ложновитых
браслетов и т рехбхеинных серег (Рыбаков
1948:274. рис. 63).'
Еще одним центром производства литых
подражаний колтам быт древний Новгород,
Изготовлялись подобные украшения и в дру-
гих городах — Галиче, Гродно. Ссренске.
Наиболее древний новгородский колт. дати-
руемый XI в., нс литой, он изготовлен из двух
полых круглых тисненых половинок, края
украшены каймой из серебряной волнообраз-
ной полоски, изображение не читается из-за
смятости изделия. Во второй половине XII в.
Рис. 107. Колты. Трансильвания XVI-XVH вв. Се-
ребро. позолоы. стеклянные вставки Масштабы разные
198
Глава IV
появляются колты. литые «павыплеск» в
имитационных формах: из восьми кол i ов.
найденных в Новгороде в 1951-19571 г., семь
отлиты этим способом (Рындина 1963: 247.
248). Всего в Новгороде было найдено 11
имитационных колтов (7 оловянисто-свин-
новых. два бронзовых и два биллоновых),
датируемых XII — началом XIV вв. (Седова
1981:21).
Древнейший колт. отлитый в имитацион-
ной форме, найден в Новгороде в слое 70-
80 гг. XII в. Эго круглый колт. выполненный
из оловянисто-свинцового сплава и укра-
шенный узором из ромбов, окруженных ли-
нией ложной зерни, по краям — ряд круп-
ных шариков, имитирующих зернь. Двусто-
ронняя каменная форма с аналогичным изоб-
ражением происходит из Галича. Остальные
новгородские колты ориентированы на ки-
евские образцы (Седова 1981: 21).
На Руси традиция ношения колтов пре-
рывается почти сразу после татарского наше-
ствия. В Карпат о-Балканском же регионе
мода на подобные височные подвески про-
должает существовать и в XIV — XVI
(XVII) вв.. причем расцвет производства этих
украшений приходится здесь как раз на эт от
период.
Колты Карпаго-Балканского ретиона.
На терри горни Болгарии с XIII по XVII вв.
широко бытуют серебряные позолоченные
колты. украшенные полушариками и розет-
ками. с каймой из множества остроконечных
лучей (рис. 98. 7. 8). Некоторую близость к
болгарским образцам демонстрируют древ-
нерусские колты с многолучевой каймой XII -
XIII вв.. например, пара колтов. найденная в
1883 г. в Чернигове в женском погребении,
раскопанном у алтаря Борисоглебской церк-
ви и в черниговском кладе 1850 г. (рис. 103.
2). Очень маленькие вставные щитки этих
колтов заняты эмалевыми изображениями
кринов. вокруг щит ков — шт 1 ь жемчуг а и по-
ясок полусфер (Макарова 1974: табл. 5.6-7).
Известны стерритории Болгарии и находки
колтов в сочетании с диадемой и серебряны-
ми цепочками.
На территории Македонии также встре-
чаются находки колтов совместно с диаде-
мой (Манева 1992: табл. 38. рис. М/Забв).
Колты. происходящие из Македонии, очень
близки к более ранним византийским образ-
цам. Основная масса колтов — гладкие, де-
корированные тиснеными полушариками и
сканными колечками (рис. 98. 5. 6). Но
встречаются и ажурные образцы, выполнен-
ные из сканной проволоки. Нижняя часть
такого кота выполнена в виде опрокину-
той сканной лунницы. украшенной расти-
тельными побегами. Сверху к этой лунницс
крепится фигурка орла в геральдической
позе. Концы лунницы. расположенные под
дужками украшения, выполнены в виде го-
лов фантаст ических животных, разинувших
пасти, как бы угрожая птице (рис. 97. з). Об-
низь этих колтов небольшая, видимо, пред-
назначена дтя продергивантгя нитки жемчу-
га. Встречаются аналогичные колты с орла-
ми. но в них подвески сужены, еще больше
напоминая змея или дракона, а лучи круп-
ные, колоколовидные с талонами дтя вст а-
вок на концах (Манева 1992: табл. 25. рис. 34
/22; табл. 27, рис. 24/21).
Дтя территории Румынии в домош ольс-
кое время колты не очень характерны. Изве-
стны упомянутая выше находка из Войнешт-
ского клада (Teodor 1961:509-520. рис. 6). син-
хронная ему находка фраг .мента серебряного
колта с каймой и з крупных шариков на тру-
бочках и плетеночным орнаментом на чер-
невом фоне из клада Опслснь (Teodor 1964:
fig. 2.4) и колт с обнизью из крупных шари-
ков н изображением птичек с поселения Ди-
погеция (Popescu 1970: cat. 11). они явно ори-
ентированы на древнерусские образцы
(рис. 106. /, 2).
В более позднее время (XV-XVI вв.) в Ру-
мынии. видимо, сложилось свое прои гвол-
ство колтов. близких по форме к более ран-
ним византийским подвескам. Дтя этих кол-
тов характерна крупная настоящая и ложная
зернь, стеклянные, каменные, патовые
вставки (Popescu 1970: cat. 21. 26. 27)
(рис. 106. 5. 107).
Таким образом, под влиянием социально
престижных византийских образцов на тер-
риториях. в различной мере подвергшихся ви-
за нтийскому влиянию, складываются своеоб-
разные типы височных украшений — колтов
(рис. 94). И если на Руси производство этих
украшен! rii пос ie монгольского i ian тесты тя т ipe-
крашается. то в Карпато-Балканском рсгиот те
продолжали изготовлять различные вариан-
ты этих украшений вплоть до XVI (XVII) вв.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI—XIII вв. 199
Нетрудно заметить, что при всех отличи-
ях и древнерусские, и византийские колты
подчинены одной композиционной схеме:
выделенный цен гр. обведенный жемчужны-
ми ни 1ями. сканью, драгоценными камнями
или заменяющими их тиснеными или про-
волочными нолушариками. Еще более яв-
ственно этот мотив композиционного цеш-
ра. обведенного бесконечными «орбитами»
тисненых полушариков. кру! шой зерни, про-
волочных колечек и тисненых лучей ли гых
и сканных розеток, чш аечея на колтах. нахо-
димых на территории Болгарии. Подобным
же образом декорированы и колты. происхо-
дящие из Румынии, но в них выпуклые по-
лушария выполнены из крупного размера бу-
син. крепящихся при помощи штырей с ме-
таллическими розе! ками на концах.
Таким образом, нами была предпринята
попытка рассмотреть появление на Руси та-
кого типа ювелирных украшений. как колты.
привлекая при этом как можно более широ-
кий круг аналогий.
Первые образцы колтов византийские ре-
месленники изготовляли по заказам кочевой
зна 1 и (гуннской и хазарской) и руководство-
вались при этом, конечно, вкусами зака зчи-
ков. С VII по XI века полых колтов мы не зна-
ем. но крайне широко распространены плос-
кие штампованные серьги, по форме напо-
минающие кол 1. Вероятно, можно согласи i ь-
ся с Н.П. Кондаковым, что на сложение ви-
зантийских колтов XI XII вв. должны были
повлиять и образцы, изюювлявшиеся в V
VII вв. для кочевников, и существовавшие в
Византии с VI но XII века ажурные серы и.
Возникнув в XI в., типичные византийские
колты довольно быстро распространились в
Сирии. Египте и на террит ориях. постоянно
испытывавших импульсы византийской
культуры (Иран. Балканы и Древняя Русь).
Причем и для Руси, и для Болгарии мы мо-
жем говорить о сложении на основе визан-
тийских колтов .местных, широко распрост-
раненных и любимых разными слоями на-
селения. типов украшений. В Болгарии кол-
ты носили, видимо, на византийский ма-
нер — подвешенными на жемчужных нитях,
как это изображено на ктиторской фреске Бо-
яновской церкви, расписанной после 1259 i.
(Мавродинов 1966: 101) (рис. 88). На Руси
появление колтов дало толчок к созданию не-
скольких типов уборов, а для крепления кол-,
т ов к головному убору появилось несколько
вариантов подвесок — ряссн. исполнявшихся
с колтами в едином стиле.
IV. 3. ПОДВЕСКИ-РЯСНЫ
Ряснами называют металлические височ-
ные подвески, крепившиеся к головному убо-
ру или повязке-очелью, спускавшиеся по сто-
ронам лица и служившие или самостоятель-
ным украшением, или драгоценными лента-
ми для подвешивания колтов. На Русь этот
вид украшений попал, видимо, из Византии
(Седова 1981:17).
Термин «рясна» зафиксирован в древне-
русских письменных источникахXII—XIII вв.
(Седова 1981: 7). В XV-XVI веках ряснами
называли подвески, составленные из жемчу-
жин и драгоценных камней. Вот как описы-
вает П. Савоитов рясны царицы Евдокии Лу-
кьяновны: «рясны жемчужные, а в них про-
меж жемчугу'и каменья 16 пронизок золотых,
репейчатых. прорезных с финифти разными,
по сторонам у пронизок в гнезлох искорки
яхонтовые да изумрудные, а у ряссн колодоч-
ки золотые с финифти разными, около коло-
дочек веревочки нанизаны жемчугом. У ко-
лодочек в гнездах 4 алмаза да 4 яхонта черв-
чазых» (Савоитов 1896: 7). Извесию. что у
этой царицы в 1626-1627 гг. было четыре
пары подобных рясен. одну из koiорых она
подарила дочери — царевне Ирине, а две
пары поднесла в церкви к иконам Богороди-
цы (Забелин 1992: 188. 189).
В уборе высших слоёв общества в XIX —
начале XX вв. рясны использовались только
в парадных inn карнавальных костюмах им-
ператрицы и ее фрейлин. В народных же сла-
вянских кош юмах этого периода в состав го-
ловно! о убора входят аналогичные ряснам
подвески — кисти из нитей, ткани, бисера,
оекляруса. прикрепленные к полоске ткани,
проходящей под головным сбором (Жилина
1994:182).
Для каждого i mia древнерусских колюв
(серебряных и золотых) был выработан свое-
образный тип подвесок — рясен. Золо1ые с
эмалями колты крепились к золотым же ряс-
200
Глава IV
нам, составленным из круглых или квадри-
фолийных бляшек, украшенных изображени-
ями птиц и растительным или геометричес-
ким орнаментом, или к золотым ряснам, со-
ставленным из тисненых колодочек (рис. 56,
рис. 59, рис. 62). Птицы на подвесках изоб-
ражались симметрично относительно сере-
дины подвески. На одном конце рясны при-
креплена застежка, на другом — цепочка.
Долгое время назначение того типа украше-
ний оставалось неясным, и их считали шей-
ными цепями.
В настоящее время существует два вари-
анта реконструкции крепления колтов к та-
ким ряснам. В реконструкции, предложенной
Б.А. Рыбаковым, рясны крепятся к верхнему
краю высокого головного убора типа кокош-
ника, а колты, подвешенные к цепочкам ря-
сен, свисают на грудь на уровне ожерелья
(Рыбаков 1987:563, рис. 95). Г.Ф. Корзухина
подметила, что при постоянном наличии в
золотых ряснах 10 круглых бляшек, между 5-й
и 6-й бляхами всегда есть двойной шарнир,
но она причисляла эти цепи к нагрудным
Карта 14. Рясны с золотыми бляшками.
201. Киев, клад 1842 г.
202. Киев, клад 1938 г.
203. Киев, клад 1880 г.
204. Киев, клад 1827 г.
205. Киев, клал 1887 г.
206. Киев, клад 1906г.
207. городище Девичья Гора ус. Сахиовка, клад 1900г.
208. городище Девичья Гора у с. Сахиовка, отдельная
находка.
209. городище Девичья Гора у с. Сахиовка, отдельная
находка.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
201
Карта 15. Рясны из золотых тисненых колодочек.
211. Киев, клал 1936 г.
212. Киев, клад, найденный до 1914г.
украшениям (Корзухина 1954:54). Т.И. Мака-
рова считает, что цепи-рясны перегибались
пополам, и в месте, где расположен двойной
шарнир, подвешивался колт, а к головному
убору рясна крепилась при помощи застеж-
ки и цепочки. В таком варианте рясны ста-
новятся менее длинными, и изображения
части птичек не оказываются перевернутым
вверх ногами (Макарова 1975:41).
Так же как и для диадем, для рясен есть
параллель в византийском парадном уборе.
Это крепящиеся к стсмме подвески из жем-
чужных нитей и драгоценных камней—пре-
пендулии. В древнерусском уборе подвески
выполнены в едином стиле с колтами, и жем-
213. Киев, клад 1986 г.
214. городище Девичья Гора у с. Сахновка, клад 1900г.
215.Чернигов. клад 1887 г.
чуг употреблялся только для украшения кон-
цов штырей, соединяющих шарнирные креп-
ления рясен с квадрифолийными бляшками.
Так же как и пластинки диадем, бляшки ря-
сен двойные. У круглых бляшек наружная
сторона слегка выпуклая, обратная—плос-
кая.
Оформление рясен довольно стандартно.
Схожие рясны с круглыми бляшками, укра-
шенными эмалевыми изображениями птиц,
подобными тем, что декорировали золотые
колты без вставных щитков, были найдены в
Киевском кладе 40-х гг. XIX в. (фрагмент ряс-
ны, парной к киевской, хранится в коллек-
ции П.Моргана), в Киеве в 1887 г. в ограде
202
Глава IV
Михайловского монастыря, в киевском кла-
де 1880 г. (Макарова 1975) (карта 14).
На золотых ряснах из квадрифолийных
бляшек присутствуют практически те же
изобразительные сюжеты — изображения
идущей птицы, миндалин, крина в круге и
геометрический орнамент. В Старорязанском
кладе 1868 г. была найдена рясна из серебря-
ных позолоче1шых бляшек с рельефным изоб-
ражением процветшего креста (прил. 2,
№146). Известно всего гри набора подобных
рясен, происходящие из Киева и из Сахнов-
ки(прил. 2, №207-209).
Так же как и для колтов, для золотых с эма-
лями рясен выделяется небольшая группа,
выполненная предположительно византий-
ским мастером. Это рясны из Киевского кла-
да, найденного на Б. Житомирской улице.
Изображение раскинувшей крылья птицы,
декорирующее эти подвески, аналогично
изображению павлина на киевском колте,
связываемом исследователями с византийс-
кой работой (Макарова 1975; Бочаров 1978:
248).
Интересная находка золотых колтов с
изображениями святых и продетыми сквозь
Карта 16. Цепи (рясны?) в виде золотых и серебряных рубчатых цепочек.
216. Киев, клад 1911г.
217. Киев, клад 1876 г.
218. Киев, клад 1938 г.
219. городище Княжа Гора.
248. Киев, клад 1902 г.
249. с. Вербов, клад 20-х. гг. XX в.
250. Персяслав. клад 1884г.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII кв.
203
них цепочками, составленными из сверну-
тых в трубочки рубчатых пластин, была сде-
лана в составе клада, найденного экспеди-
цией под руководством Д.В. Милеева в 1911 г.
в усадьбе Десятинной церкви (ОАК1911:62,
рис. 100) (прил. 2. №216). Возможно, здесь
мы имеем дело с еще одним типом рясен —
в виде цепочек. Можно предположить по-
лифункциональное использование подобных
цепочек—и как нагрудных цепей, и как ря-
сен для колтов (карта 16).
Рясны, на которые подвешивали серебря-
ные черненые колты, как правило, выполня-
лись в серебре (рис. 70). Наиболее распрост-
Карта 17. Рясны из серебряных тисненых колодочек.
220. Киев. клад, найденный до 1899г.
221. Киев, клад 1872г.
222. Киев, клад 1885 г.
223. Киев, клад 1901 г.
224. Киев, клад 1889 г.
225. Киев, клад 1903 г.
226. Киев, клал 1906 г.
227. городище Княжа Гора, клад 1891 г.
228. городище Княжа Гора, клад 1892 г.
229. городище Княжа Гора, клад 1896 г.
230. городище Княжа Гора, клал 1897 г.
231. городище Княжа Гора, клад 1898 г.
232. м. Мартыновка, клад 1886 г.
233. с. Ключники, клад 1887.
234. с. Городище, клад 1958 г.
235. с. Городише, клад 1970 г
236. с. Вербов, клад 20-х. гг. XX в.
237. Чернигов, клад 1923 г.
238. Урочище Святое, клад 1908 г.
239. д. Терехово, клад 1876 г.
240. с. Кресты, клад 1976 г.
241. Старая Рязань, клад 1967 г.
242. Старая Рязань, клад 1970 г.
243. Старая Рязань, клад 1974 г.
204
Глава IV
раненным вариантом серебряных рясен яв-
ляется подвеска, составленная из тисненых
серебряных колодочек (карта 17). По количе-
ству колодочек рясны распадаются на две
группы. Выделяется группа находок длинных
рясен. Так, в Святозерском кладе 1908 г. най-
дено два комплекта рясен—две серебряные
рясны по 35 колодочек в каждой и две рясны
с более крупными колодочками, по 25 коло-
дочек в каждой (прил. 2, №238). Возможно,
такие д линные рясны складывались пополам
и продевались сквозь дужку колта, а при по-
мощи цепочек и колечек крепились к голов-
ному убору. В кладах Старой Рязани (1970,
1974 гг.) присутствуют, как правило, корот-
кие рясны, содержащие от 10 до 16 колодо-
чек (прил. 2, №241-243). Зачастую их нахо-
дят в комплекте с колтами (серебряными
звездчатыми или серебряными с обнизью из
крупных шариков), причем в этих комплек-
сах сохранилось крепление колтов при по-
мощи колечек к концевым треугольным пла-
стинкам рясен. В одном случае на рясне из
клада 1974 г. найдены остатки кожи. Возмож-
но, она была укреплена с оборотной сторо-
ны полоской кожи (Даркевич, Фролов 1978:
351). В кладе с Волховского городища на дуж-
ках колтов сохранились остатки толстых ни-
ток с маленькими кольцами цепочек, к кото-
рым крепились колодочки серебряных рясен
Карта 18. Распы пз серебряных круглых, прямоугольных, квадрпфолиппых бляшек.
244. Киев, клад 1903 г.
245. Киев, клад 1903 г.
246. Старая Рязань, клад 1868 г.
247. Старая Рязань, клад 1937-1950 г.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
205
Карта 19. Рясны с колоколовидным верхом.
251. м. Мартыновка, клад 1886 г.
252. с. Городище, клад 1970 г.
253. городище уд. Вищин, клад 1979 г.
254. м. Мирополь, клад 1938 г.
255. с. Кресты, клад 1976 г.
(Якубовский 1975:87-104) (прил. 2,№, 235).
Вероятно, в данном случае нитки заменяли
проволочные колечки. Концевые пластинки
серебряных рясен всегда треугольной формы.
Они могли быть гладкими или украшенны-
ми тисненым орнаментом (Старая Рязань
1974) (Даркевич, Фролов 1978: рис. 4) или
сканью (клад Изяславль). Встречаются и
ажурные пластинки, украшенные изображе-
нием пальметы (клад Вербов — прил. 2,
№234,236).
Но изредка встречаются и серебряные ряс-
ны, составленные из круглых бляшек, укра-
256,256а, б. Старая Рязань, клады 1868,1967,1970 гт.
257. Москва, клад 1988 г.
258. Ярополчь-Залесский.
259. Новгород.
шейных зернью и сканью и соединенных шар-
нирами (карта 18). Такие рясны происходят из
Рязанского клада 1950года (ТИМ инв. 80241,
оп. 15013/2) и Киевского клада 1903 г., най-
денного в ограде Михайловского монастыря.
Из Киевского клада происходит и необычная
серебряная позолоченная рясна, составленная
из 15 прямоугольных полых черненых бляшек,
нанизанных на 4 нити, разделенные мелким
жемчугом (прил. 2, №244,245).
По материалам древнерусских кладов нам
удалось выделить несколько основных вари-
антов головных уборов с ряснами:
206
Глава IV
Золотые с эмалями колты и золотые
рясны с круглыми бляшками, украшенные
эмалевыми изображениями (рис. 60,61). Та-
кой набор встречен в Киевском кладе, най-
денном в 40-х гг. XIX вв. близ Десятинной
церкви—пара колтов с изображениями птиц
и рясна с аналогичным узором; Киевском
кладе 1880 г., найденном на Б. Житомирской
ул.—пара колтов с эмалевыми изображени-
ями сиринов и рясна с изображениями птиц;
в Киевском кладе 1887 г., найденном в огра-
де Михайловского монастыря—пара золо-
тых колтов с изображениями сиринов и одна
рясна с изображениями птиц; в Киевском
кладе 1906 г., найденном на Трехсвятительс-
кой ул. — 2 пары колтов с изображениями
птиц, одна—с изображениями святых, ряс-
на с изображением птиц (прил. 1, №22,39,
49,54).
Золотые колты и золотые рясна с
квадрифолийными бляшками (рис. 58). Та-
кие уборы найдены в Киевском кладе 1827 г.
в ус. Августиновича—пара колтов со встав-
ными щитками с изображением птицы и фраг-
менты второй пары колтов—без вставных
щитков; в кладе 1900 г. на гор. Девичья Гора
близ с. Сахиовка—2 рясны с изображением
птиц, пара колтов без вставного щитка с изоб-
ражениями сиринов (прил. 1, №42,70).
Золотые колты с эмалями и золотые
рясны, составленные из тисненых коло-
дочек. Такой набор представлен в киевском
кладе, найденном в усадьбе Десятинной цер-
кви в XIX в. — золотой колт с изображени-
ем сирина и рясна из 23 колодочек; киевском
кладе, найденном на Стрелецкой ул.—пара
колтов со вставным щитком и многолучевой
каймой и одна целая рясна; в кладе 1900 г. на
гор. Девичья Гора близ с. Сахиовка—две
рясны по 25 колодочек; в Черниговском кла-
де 1850 г. — пара колтов с изображениями
святых и 30 колодочек от рясны (прил. 1,
№22,47,70).
Золотые колты с эмалями и серебря-
ные рясны из тисненых колодочек. Подоб-
ный набор был найден в кладе, открытом в
1897 г. на Княжой Горс, — колт с жемчуж-
ной обнизью с изображением павлина на од-
ной стороне и идущей птицы надругойипара
колтов со вставными щитками и многолуче-
вой каймой с растительно-геометрическим
орнаментом (прил. 1, №66).
Золотые колты и золотые рясна (?) из
рубчатых пластинок, свернутых в трубоч-
ки (рис. 57). Подобный набор был найден в
Киевском кладе 1911 г., открытом при раскоп-
ках Д.В. Милеева,—пара колтов с изображе-
ниями святых; в Киевском кладе 1876 г., най-
денном в усадьбе И. Лескова, - 2 пары кол-
тов и один непарный с изображениями птиц,
один золотой звездчатый колт, золотая цепь с
колечками на концах (прил. 1, №28,32).
Серебряные колты и серебряные ряс-
ны из прямоугольных полых серебряных
бляшек, украшенных черневым орнамен-
том, соединенные четырьмя жемчужными
нитями. Подобный набор встречен в Киевс-
ком кладе 1903 г., найденном в ограде Ми-
хайловского монастыря, — пара колтов с
многолучевой каймой, со вставным щитком
с изображением грифона, пара—без щитка,
с имитацией жемчужной обнизи с изобра-
жением зверя с побегом во рту, пара звездча-
тых колтов (прил. 1, №50).
Серебряные колты и серебряные ряс-
ны с круглыми полусферическими бляш-
ками на шарнирах, украшенными прово-
лочными колечками. Этот набор встречен
в том же Киевском кладе 1903 г. (прил. 1,
№50).
Серебряные колты и серебряные по-
золоченные рясны из тисненых колодо-
чек. Подобный набор был найден в Киевс-
ком кладе 1902 г. на Б. Житомирской ул. —
колт с многолучевой каймой с изображени-
ем грифона; в кладе, найденном в 1891 г. при
раскопках Н.Ф. Беляшевского на Княжой
Горе,—колт с многолучевой каймой.
Серебряные колты и серебряные ряс-
ны из тисненых колодочек (рис. 70). По-
добные уборы найдены в Киевском кладе
1936 г., найденном при раскопках Десятин-
ной церкви,—пара колтов с многолучевой
каймой и изображением грифона и фрагмент
рясны; Киевском кладе 1889 г., найденном в
ус. Гребновского, — и колты и рясна фраг-
ментированы; в Киевском кладе 1906 г., най-
денном на Трехсвятительской ул.,—сильно
фрагментированный колт без вставного щит-
ка с остатками трубочек для обнизи из шари-
ков и три колта со вставными щитками, укра-
шенными изображениями фантастических
животных и многолучевой каймой; в кладе,
найденном в 1892 г. при раскопках Н.Ф. Бе-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.207
Ляшевского на Княжой горе,—колт с много- Существовал в женском ювелирном убо-
лучевой каймой и схематизированным изоб-
ражением грифона на вставном щитке; в кла-
де, найденном в 1886 г. у м. Мартыновка Ка-
невского у.—пара колтов без вставных щит-
ков с обнизью из серебряных полых шариков
и изображением хищной птицы и 58 коло-
дочек разного рисунка (вероятно, от разных
низок); в Черниговском кладе 1923 г., найден-
ном при раскопках Н.Е. Макаренко,—пара
колтов с каймой из тисненых шариков и изоб-
ражениями животных и колодочки от двух ря-
сен; в Святозерском кладе Черниговского у. —
пара крупных колтов с обнизью из тисненых
шариков и изображением двух сопоставлен-
ных грифонов и пара более мелких с обни-
зью из маленьких литых шариков и изобра-
жением животного, а также 2 низки рясен из
35 колодочек и 2—из 25 более крупных ко-
лодочек; в Тереховском кладе 1876 г. Орлов-
ской губ. — 3 пары колтов с обнизью из тис-
неных шариков, одна пара звездчатых и две
рясны (в общей сложности 119 колодочек); в
кладе у с. Городище (Деражнянского р-на)—
пара колтов с обнизью из крупных шариков
и 122 колодочки от рясен; в кладе у с. Горо-
дище (Изяславль) — колты с ажурной кай-
мой и колодочки от рясен (32 срединные и 4
концевые); в Старорязанском кладе 1970 г. —
колты с обнизью из крупных шариков, при-
крепленные к концам рясен из 16 колодочек;
в Старорязанском кладе 1974 г.—звездчатые
колты, присоединенные к ряснам из 10-12
колодочек (прил. 1, №40,62,29,46, 54,72,
85,90,73, 78,104,105).
Серебряные колты и серебряные ряс-
ны (?) из пластинчатых рубчатых звень-
ев. Киевский клад 1826 г. — колты с ажур-
ной каймой с изображениями птиц; в кладе,
найденном в 20-х гг. XX в. в с. Вербов Львов-
ской обл.,—колт с тисненым орнаментом в
виде плетенки (прил. 1,№80).
Аналогичный древнерусскому способ но-
шения колтов был распространен и на Бал-
канах, однако рясны там несколько отлича-
лись по внешнему виду и представляли со-
бой жемчужные, металлические или тканные
подвески. Кроме того, тисненые бляшки-ко-
лодочки, аналогичные использовавшимся на
Руси в серебряных ряснах, применялись
здесь и для декорировки головных венчиков
(Георгиева 1956:31).
ре второй четверти XII — первой полови-
ны XIII вв. и другой тип рясен, не связан-
ный с колтами. Это так называемые рясны
с колоколовидным верхом. Эти рясны со-
ставлены из закрытого колоколовидного вер-
ха и подвесок-цепочек (рис. 108). К приве-
денным местам находок, указанным в работе
Н.В. Жилиной (Жилина 1994:183), можно
добавить еще две рясны, происходящие из
Височанского клада (Белоруссия), найденно-
го на берегу Днепра (Загорульский 1983:89,
рис. 21) (прил. 2, №150).
К ряснам может быть отнесена и подвес-
ка, происходящая из коллекции Ханенко (Ха-
ненко 1902: табл. XIX, рис. 988) и представ-
ляющая собой дрот-основу с загнутым в пет-
лю верхним концом, на которую нанизана
ажурная бусина, а за ней—прямоугольная
горизонтальная подвеска, украшенная сло-
женной в виде фестонов проволокой. По уг-
лам подвески и в центре граней припаяны
петли для подвешивания цепочек, состав-
ленных из бусин—глухих тисненых и ажур-
ных проволочных, декорированных зернью.
Короткие подвески, расположенные в цент-
ре граней, представляют собою удлиненные
листовидные пластинки.
Немного напоминают эту подвеску две
серебряные рясны несколько необычной фор-
мы, найденные в 1968 г. в составе клада, от-
крытого экспедицией под руководством
В.И. Якубовского на территории древнерус-
ского городища у с. Городище Хмельницкой
области УССР (Якубовский 1975:98, рис. 12)
(прил. 2, №119, рис. 108,4). Рясны эти состо-
ят из небольшой петельки для подвешивания,
припаянной к подвеске, составленной из вер-
хней полусферической части и нижней тра-
пециевидной. Подвеска украшена зерневы-
ми треугольничками и крестиками, обрам-
ленными сканными арочками. В нижней ча-
сти подвески припаяны проволочные ушки
для крепления цепочек. В центре цепочек
прикреплены серебряные шарики, а на кон-
цах — кружочки с отверстием в центре.
Наибольшее количество рясен с колоко-
ловидным верхом происходит из Старой Ря-
зани (11 находок). В Новгороде было най-
дено 5 фрагментов рясен. Самый ранний
был найден в Михайловском раскопе в слое
1125-1180 гг. и состоит из обрывка цепочки
208
Глава IV
Рис. 108. Подвески и рясны. 1 —Луковит-Мушат. Могильник (Болгария), 2—Чернигов, 3—Москва. Клад, 4—
Городище (Деражнянского района Хмельницкой обл). Клад. 1,2—золото, 3,4—серебро. Масштабы разные.
Парадные древнерусские квелирныс укоры конца XI-XIII вв. 209
с круглой промежуточной и завершающей
лунничной бляшкой. Второй, найденный в
слое конца XII в. (1177-1197). состоит из
фрагмента двойной цепочки и каплевидной
ажурной бляшки, украшенной сканью. Тре-
тий. найденный в слое 1210-1230 гг.. состо-
ит из двойной цепочки, круглой ажурной
промежуточной бляшки с четырьмя отвер-
стиями и лунницы. Четвертая находка —
замкнутая лунница. украшенная сканью, най-
дена в слое 1238-1268 гг. В слое второй по-
ловины XII в. было найдено ажурное звено
с растительным орнаментом (Седова 1981:
17; Жилина 1994).
Еше одно скопление находок рясен (4 шту-
ки) дает Киевская земля. Остальные разроз-
ненные находки концентрируются вокруг
Москвы. В Ярополче из одной и той же
усадьбы происходит находка рясны и женс-
кого очелья, составленного из 15 серебряных
позолоченных пластинок, нашивавшихся на
ленту; Десять пластинок плоские с отверсти-
ями по утлам для крепления, четыре — вы-
пуклые. украшенные волютообразным скан-
ным орнаментом и крупной зернью (Седова
1972: 70; Жилина 1994). Можно предполо-
жить. что рясны и серебряные венчики вхо-
дили в состав единого убора.
Уникальная находка происходит из кла-
да. найденного в с. Сельцы Новгородской об-
ласти (прил. 1. №113). В нем были обнару-
жены два сетчатых ожерелья, составленные
из золотых цепочек, перемежающихся с
бляшками, аналогичными используемым на
ряснах. Эта находка позволяет говорить о
существовании, параллельно с убором с кол-
тами и бармами, также и убора с сетчатыми
ожерельями (рис. 73). возможно, носившего-
ся вместе с колоколовидными ряснами.
Традиция подвешивания маленьких лун-
ниц и друтих подвесок на цепочках к грив-
нам. диадемам и височным кольцам суще-
ствовала в этот период в Болгарии, подвес-
ки на цепочках к височным кольцам извест-
ны в Чехии и Волжской Булгарии. В могиль-
нике XIII—XIV вв. Луковит в Болгарии было
найдено 2 подвески каплевидной формы,
украшенные цепочками с маленькими лун-
пицами на концах, весьма напоминающие по
форме древнерусские рясны (.1овановиЬ 1987:
112-132) (рис. 108. /). Еше более близка к
древнерусским ряснам. особенно к золотой
рясне. украшенной жемчугом, из Чернигова
(Музей исторических драгоценностей...
1984: №46). серебряная подвеска ХП1 в., укра-
шенная жемчугом и сканью, из Добрики
(Kovacs 1974: 23). Конструктивное, да и де-
кораливное сходство украшений из Черниго-
ва и Добрики настолько разительно, что мы
можем вести речь об одном типе украшений,
возникшем на основе изделий византийских
мастеров.
Таким образом, можно сделать некоторые
заключения по поводу происхождения само-
го типа таких подвесок-рясен. Рясны. ис-
пользовавшиеся д.ля крепления колтов. были
выработаны, видимо, специально для этой
цели древнерусскими ювелирами и изготов-
лялись в одних мастерских вместе с колтами
и диадемами. Эмалевый декор рясен с птич-
ками идентичен декору колтов. а квадрифо-
лийные бляшки, аналогичные характерным
для второго типа золотых рясен. мы находим
в качестве подвесок к знаменитой золотой
диадеме с изображением Деисуса. найден-
ной в Киеве (прил. 2. №60). А вот рясны с
колоколовидным верхом, вероятно, были со-
зданы на основе подвесок, изготовлявшихся
византийскими ювелирами и по форме на-
поминавших подвески из Лу ковита и Добри-
ки. Отдаленной репликой этой византийской
традиции можно считать и подвески с коло-
коловидным верхом и многочисленными це-
почками. встречаемые в этнографических ма-
териалах Ирана. Кавказа и Средней Азии
(Кафка 1924: Ювелирное искусство народов
России 1974).
Делать какие-то выводы о составе убо-
ра. в который входили колоколовидные ряс-
ны. весьма сложно (скорее всего, и не было
какого-то фиксированного убора). Убор с ко-
локоловидными ряснами. вероятно, суще-
ствовал параллельно с убором с колтами. эти
украшения зачастую находят в одних комп-
лексах. Из вещей, наиболее часто совстре-
чающихся в комплексах с такими ряснами.
можно назвать лилиевидные подвески и
крупные бусины с треугольниками зерни,
створчатые браслеты, перстни с квадри-
фольными щитками, а из деталей головных
уборов — дужки венцов обоих типов и тис-
неные бляшки от венца, то есть веши, появ-
ляющиеся не ранее конца XI—XII в. В еди-
ном стиле с подобными ряснами выполне-
ны ожерелья из Сельца, но увы. они найде-
ны без рясен.
210
Глава IV
IV. 4. БУСИННЫЕ СЕРЬГИ И ВИСОЧНЫЕ КОЛЬЦА
Как уже отмечалось. находки предметов
парадно! о ювелирного убора конца XI —
XIII вв.. выполненных и з драгоценных ме-
таллов. характерны в основном только для
кладов, для погребальных комплексов они
являются редкое! ью. В то же время практи-
чески все украшения это! о круга послужили
основой дтя создания 1 ородскими ремеслен-
никами более дешевых аналогов. Для сельс-
кого населения подобный убор нс был харак-
терен вовсе.
Однако есть один тип украшений, явно
выпадающий из этой довольно стройной кар-
тины. Этим типом являются трехбусинные
височные кольца и серьги. Как правило, мы
наблюдаем тенденцию к движению украше-
ний из парадного убора в повседневный, при
этом происходит как замена материала на
более дешевый, так и упрощение техники из-
готовления (использование штамповки, ли-
тья). Однако эта закономерность «работает»
не всегда. Трехбусинные височные кольца и
серьги, прежде чем войти в убор знати, пред-
ставленный в древнерусских кладах XII-
XIII вв.. получили распространение в курган-
ных древностях (Русанова 1966: Седов 1982:
114. таб. XXVII). Включение этих украшений
в состав ювелирного убора городского насе-
ления уже в конце X начале XI вв. доку-
ментируется находкой бронзового трехбусин-
ного кольца с узелковыми бусинами в Нов-
городе в слое 989-1006 гг. (Лесман 1990: 70).
В данном случае мы говорим именно о зна-
комстве с формой украшения, а не о техноло-
гических И.Ш декоративных нюансах.
Есть еше одна особенность, отличающая
эти украшения оз других составляющих па-
радного убора эю1 о периода. В XII—XIII вв.
трехбусинные кольца не только в изобилии
представлены в кладах, а в качестве отдель-
ных находок — в городских слоях, их нахо-
дят и в сельских некрополях. Хотя находки
из кладов и сельских могильников безуслов-
но отличаются как по материалу (золото —
привилегия знати), так и по юхнике и зготов-
ления и декору.
На древнерусских материалах выделяют-
ся следутощие типы т рехбусинных колец: с
тиснеными бусинами, бусины могут быть
1 падкими. ложчатыми. ажурными (с прорез-
ными о 1 верстиями); с каркасными бусинами
(каркас мог быть рыхлым или плотым): с
проволочными бусинами (ажурными и узел-
ковыми): с бусинами, спаянными из крупной
зерни (Левашова 1967: 18-23: Рябцева 2000:
70).
Изредка бу сины роскошных золотых трех-
бусинных колец дополнительно украшали
жемчужинами, нанизывавшимися на тонкие
золотые проволочки. Подобным образом де-
корированы, например, кольца с ажурными
проволочными бусинами, происходящие из
клада, найденного в 1957г. у южного фасада
Борисоглебского собора в Чернигове (Холо-
стенко 1962: рис. 4). Аналогичные украшения
были в Киевском кладе 1906 г., найденном
напротив гостиницы Михайловского мона-
стыря (Корзухина 1954:122).
Наиболее характерной формой бусин яв-
ляется круглая, слегка овальная или бочон-
кообразная. Как правило, все три бу сины оди-
наковой формы и размера. Г.Ф. Корзухина
выделяла кольца с разными по форме, а зача-
стую и по орнаментации, бусинами как наи-
более поздние, датируемые XIII вв. (Корзу-
хина 1950: 228). Как мы увидим ниже, «раз-
нобусинность» — признак не только хроно-
логический, но и территориальный. Трехбу-
синпыс кольца с разными бусинами наибо-
лее характерны для Карпато-Балканской юве-
лирной школы.
Дужки дтя бусинных серег выполнялись
из круглого или прямоут ольного в сечении
дрота. Дрот изготовлялся в технике волоче-
ния ilth свертывался из листа металла. Коль-
ца с полыми сверну 1 ыми из листка серебра
дужками есть, например, в Киевском кладе
1909 1.. найденном при раскопках Д.В. Ми-
леева в усадьбе Десятинной церкви (пршт. 1.
№27).
Концы дужки, как правшю. раскованы, на
одном пробито отверстие, второй — свер-
нут в трубочку, отогнутую в наружную сто-
рону. Закреплялись концы, по всей видимо-
ст и. при помоши металлической нит и. По-
добное оформление застежки особенно ха-
рактерно дтя колец, происходящих из кладов.
У трехбусинных колец, находимых в сельс-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца X1-X1I1 вв.
211
Карта 20. Трехбусипные серьги и височные кольца.
260. Киев, клад 1842 г.
261. Киев клал, найденный в XIX в. (до
1868 г.).
262. Киев, клад 1898 г.
263. Киев.
264. Киев, клад 1909г.
265. Киев, клад 1911 г.
266. Киев, клад, найденный до 1899 г.
267. Киев, клад 1872 г.
268. Киев, клад 1876 г.
269. Киев, клад 1872 г.
270. Киев, клад 1876 г.
271. Киев, клад 1903 г.
272. Киев, клад 1901 г.
273. Киев, клад 1904г.
274. Киев, клад 1854 г.
275. Киев, клад 1938 г.
276. Киев, клад 1902 г.
277. Киев, клад 1893 г.
278. Киев, клад 1889 г.
279. Киев, клад 1885 г.
280. Киев, клад 1889г.
281. Киев, клад, найденный до 1914г.
282. Киев, клал 1903 г.
283. Киев, клад 1906 г.
284. Киев, клад 1907 г.
285. Киев, клад 1824г.
286. Киев, клад 1906г.
287. Киев, клад 1841 г.
288. Киев, клад 1914г.
289. Киев, клад 1986г.
290. с. Старая Буда, клад 1908 г.
291. городищеКняжа Гора, клад 1877 г.
292. городище Княжа Гора, клад 1877 г.
293. городище Княжа Гора, клад 1891 г.
294. городищеКняжаГора,клад1891 г.
295. городище Княжа Гора, клад 1892 г.
296. городище Княжа Гора, клад 1897 г.
297. городище Княжа Гора, клад 1898 г.
298. городище Девичья Гора у с. Сах-
новка, клад 1900г.
299. с. Городище, клад 1958 г.
300. с. Городище, клал 1970 г.,
301. Переяслав, клад 1884г.
302. Чернигов, клад 1957 г.
303. Чернигов, клад 1923 г.
304. Любеч, клады 1960 г.
305. Урочище Святое Озеро, клад
1908 г.
306. с. Стариково, клад 1883 г.
307. Старая Рязань, клад 1887 г.
308. Старая Рязань, второй клад 1967 г.
309 Старая Рязань, клад 1970 г.
310. Старая Рязань, клады 1979 г.
311 .Тверь, клал 1906 г.
312. Москва, Кремль, клад 1988 г.
313. м. Романово, клад 1892-1893 гг.
Рис. 109. Распространение бусинных серег и височных колец.
Глава IV
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
213
ких памятниках, как правило, иное заверше-
ние дужки: один конец обрублен, а на вто-
ром — спираль (или. как вариант. — крю-
чок). Встречаются экземпляры, у которых
обрублены оба конца дужек.
Исторически закрепившееся за этими
х крашениями название «серы и киевскот о
типа» довольно условно. Часть трехбусинных
украшений носилась как височные кольца, а
часть действительно продевалась в уши как
серьги. Ношение грехбусинных колец в каче-
стве серег документировано. например, на-
ходкой из Поворотовских курганов бусинных
колец, продетых в частично сохранившиеся
ушные раковины (Рабинович 1940:89). Мог-
ли использоваться бусинные украшения и по-
лифункционально — и как серьги, и как ви-
сочные кольца, причем, по-видимому, вне
прямой зависимости от размеров украшений
(Агапов. Сарачева 1997:99-108).
Что касается «киевской» приуроченности
данных украшений, то в настоящее время,
кроме киевского центра изготовления подоб-
ных колец, выделяются еше, вероятно, цент-
ры Княжой Горы. Переяслава и Изяславля.
работавшие в рамках киевской традиции.
Мастера Старой Рязани и Владимира исполь-
зовали технологические и декоративные при-
емы, несколько отличающиеся от киевских.
Ювелиры Москвы тт Твери работали, веро-
ятно. в рамках владимирской школы (Жили-
на 1998: 311-312). Ограниченные подборки
подобных украшений происходят и из дру-
гих древнерусских городов — Новгорода.
Суздаля. Ярополча Залесского. Ссренска и
т.д. (Седова 1981. 1997. 1972; Никольская
1986: рис. 2; Зайцева 1997: 100-113).
В Новгороде найдено 20 экземпляров
трехбусинных колец. Находки распределяют-
ся между 26 и 8 ярусами. Древнейшее брон-
зовое височное кольцо с узелковыми бусина-
ми датируется концом X — началом XI вв.. а
самой поздней является литейная форма, про-
исходящая из слоя 1369-1382 гг. (Лесман
1990: 70. рис. 8. 5). Наибольшее количество
находок приходится на слои XII XIII вв. (Се-
дова 1981:14). По техникеизтотовленияпов-
т ородские трехбусинные кольца (кромедрев-
нейшего с узелковыми бусинами) делятся па
кольца с тиснеными и литыми бусинами.
Кроме колец с бусинами, литыми в разъем-
ные каменные формы, встречаются и укра-
шения. отлитые целиком в имитационной
форме (у таких колец полые не только буси-
ны. но и дужки). В новгородской коллекции
представлены литые кольца с гладкими, лож-
нозернеными и ложносканными бусинами
(Рындина 1963:251). Уникально для Новго-
рода миниатюрное золотое колечко ilth серь-
га с тиснеными бусинами (инв. №12-24-93 —
относится к 5-му горизонту, датируемому
1140-1150 гг.?). характерное больше дтя кла-
дов Киевщины (Седова 1981: 14. рис. 3.13).
Аналогичное колечко происходит, например,
с Княжой Горы (Корзухина 1954: табл. L. 4).
Несколько иной набор бусинных украше-
ний лают материалы Суздаля. В хорошо изу-
ченном городском некрополе Суздаля пред-
ставлены следующие типы трехбусинных
височных колец: с узелковыми бусинами; с
тиснеными цилиндрическими бусинами,
покрытыми рядами крупной зерни; с круглы-
ми бусинами, украшенными пирамидками
зерни; с бусинами, составленными из рядов
зерни (Седова 1997: рис. 48.50) (рис. 110.17-
20).
Отдельные находки некоторых типов
трехбусинных височных колец представлены
и в сельских некрополях, особенно в Росто-
во-Суздальской земле, т ле они довольно ши-
роко встречаются с XI в. (Седова 1972: 70;
1981: 14). Так. в материалах из раскопок
А.С. Уварова и П.С. Савельева (ГИМ инв.
54746) представлены кольца с тиснеными бу-
синами. декорированными различными ва-
риантами зернсвых композиций (треугольни-
ки. крестики, линии зерни).
Количество трехбусинных серег в целом
невелико на фоне других «сельских» украше-
ний. однако это — один из немногих типов
украшений этого периода, характерный как
для парадного и повседневного городского,
так и дтя сельского убора. В городских комп-
лексах представлено все многообразие типов
бусинных колец. Для сельской окрут и харак-
терны в основном кольца с тиснеными глад-
кими. гладкими литыми, узелковыми и спа-
янными из крупной зерни бусинами. Реже
встречаются кольца с тиснеными бусинами,
украшетшыми зернью.
' Благодарю за консультацию IO М Лссмаиа
214
Глава IV
IV. 4.1. Головной убор с трехбусинными кольцами
В головном уборе бусинные украшения
носили и как серьги, и как височные кольца
на лентах и ремешках. Встречаются они и в
составе сложных комбинированных уборов
с другими типами височных колец (перстне-
видными, ромбощитковыми, браслетообраз-
ными). Причем более красивое трехбусинное
кольцо могло свисать с импровизированной
рясны, составленной из перстневидных ко-
лец (Сабурова 1974:85-97), или вплетаться в
волосы, в том числе и под перстневидными
кольцами (Седова 1997:154-157). Возможно,
Рис. 110. Древнерусские трехбусиниые кольца Х1-ХП1 вв. 1 — Новгород, 2,3 — Киев. Клад 1904г. из ус. Софийс-
кого собора, 4—Киев. Клад 1909 г. из ус. Десятинной церкви, 5-16 — Киев. Клад 1885 г., из ус. Есикорского, 17-20—
Суздаль. Курганы на Михайловской стороне. 21 —Новгород, 22—с. Великая Фосня. Полкурганное захоронение, 23 —
Киев. Клад 1909 г. из ус. Десятинной церкви. 1.5-16—золото. 2-4.17-20,22,23—серебро, 21 — бронза. Масштабы
разные.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI—XIII вв.215
трсхоусинные кольца moi ли заменять колт на
конце рясны из серебряных тисненых коло-
дочек (Пюкова 1988: 19. рис. 2).
Предел авление о городском уборе с трех-
бусинными кольцами даю I. например, .\iaie-
риалы кургана №6 и з раскопок 1967 г. в Суз-
дале. У висков погребенной с обеих сторон
были вплетены в сохранившиеся волосы по
6 височных колец. С правой стороны 3
перстневидных, под ними располагались
друг над дру1 ом — трехбу синное кольцо с
бусинами, составленными из одного ряда
зерш!. трехбусинноес узелковыми бусинами,
тре.хбусишюе с круглыми бусинами, декори-
рованными пирамидками зерни. С левой сто-
роны — 5 перстневидных колец, а ниже —
трехбусинноес цилиндрическими бусинами,
покрытыми зерныо (Седова 1997: 154.155).
По материалам Суздальского могильника
можно сделать некоторые выводы и о возра-
стной приуроченности головного убора с
трехбусинными височными кольцами. В по-
гребениях девочек 10-12 лет встречаются в
большом количестве перстневидные височ-
ные кольца, расположенные от висков до плеч
(по всей видимости, вплетенные в волосы).
В потребениях молодых женщин количество
перш невидных колец сокращается и появля-
ю I ся трехбусинные кольца. Дтя захоронешш
молодух характерно сочетание перешевид-
ных и трехбусинных височных колец, при-
чем трехбусинные кольца располагаются
ниже перстневидных, под у хом. В захороне-
ниях пожилых женщин, как правило, пред-
ставлено одно перстневидное колечко, рас-
полагавшееся на уровне уха (Седова 1997:
161). Таким образом, трехбусинные кольца,
по всей видимости, в основном были при-
вилегией возрастной группы молодых жен-
щин. Практически аналогичные выводы
были сделаны Б.А. Рыбаковым и на матери-
алах 4epi 1ИЮВСКОГО1 акрополя (Рыбаков 1949;
20).
Иной вариант городского «столичного»
убора с трехбусинными кольцами (близкого
к матер! катам кладов) даю г ма i ериалы из рас-
копок Т.В. Кибальчича. производившихся в
1878 г. на Верхней Юрковице в г. Киеве (Во-
сточные славяне 1999: рис. X. 5). В этом убо-
ре трехбусинные височные кольца с у зелко-
выми бусинами, крепящиеся к расшитому го-
ловному убору, сочетаются с колтами и трех-
бусинными же сережками.
Если сами древнерусские трехбусинные
украшения в оз ечественной ли гературе рас-
сма 1 ривались и типологизировались (Лева-
шова 1969: Жилина 1998). то вопрос об их
происхождении и круге аналогов заслужива-
ет. на наш взгляд, специального рассмотре-
ния. В нашей работе очерчивается география
распространения аналогов древнерусским
трехбусшшым кольцам и предлагаются вари-
анты путей сохранения (или возрождения)
этого античного в своей основе типа укра-
шений и включения его в состав древнерус-
ского ювелирного убора.
IV. 4. 2. География распространения бусинных височных колец
Трехбусинные височные кольца и серьги
были весьма популярны в период средневе-
ковья не только на Руси. Пожалуй. ни один
гш1 ювелирных украшений нс характеризует
с 1 акой отчетливостью включенность древ-
нерусского ювелирного убора в контекст ев-
разийской моды. Аналоги этим украшениям
происходя г с обширной территории, прости-
рающейся от Дунайской Болгарии до Волж-
ской Булгарии, от Причерноморья до Вислы,
от Тюрингии до Ирана (рис. 109).
При рассмотрении anaioi ий для древне-
русских бусинных колец особое внимание
нами уделялось т аким коишрук i ивным дета-
лям. как форма дужки и харак iep оформле-
ния замка, форма, копшрукция и размер бу-
сины. соотношение центральных и боковых
бусин, характер размещения бусин на коль-
це. наличие сканной шли иной обмотки, раз-
деляющей бусины. Эти признаки дают воз-
можное 1 ь выдели I ь харак 1 ерные особенно-
сти региональных ювелирных школ. Харак-
тер декора бусин — зернь, скань, тисненые
колпачки, проволочные тру бочки, каменные,
шеклянныеи пасювыевставки, жемчуг, так-
же яв.1яю1ся хорошими индикаторами для
выделения региональных и хронологических
особенностей украшений.
На Балканах наиболее ранним временем
— IX-X1 веками — датируются бусинные
серьги и височные кольца, происходящие из
Истрии. Далмации. Сербии и Хорватии
216
Глава IV
(June 1993: 167-180: Cremosnik 1951:243, tab.
I, II, IV; Starohrvatski Solin t. XII).
ВIX-XI вв. в этих регионах преоблада-
ют однобусинныс. но встречаются и двухбу-
синные. и трехбусиниые кольца с овальны-
ми продолговатыми бусинами. Застежка (в
крючок и петлю) располагается непосред-
ственно рядом с бусиной. Если застежка от-
сутствует. то разлом кольца все равно распо-
лагается около бусины.
Весьма распространены на этой терри i о-
рии кольца с тиснеными бусинами — глад-
кими ilth декорированными проволочными
колечками, зернью, напаянными колпачками
(June 1993:1.1. II). Скань используется как на-
кладная, так и ажурная (как правило, ею вы-
кладываются композиции в виде розеток, от-
ходящих от отверстия бусины). Характерно
также обведение проволочных колечек и тис-
неных колпачков поясками зерни или разме-
щение полос зерни наподобие сетки в про-
межутках между колечками ilth колпачками
(рис. 111,7-7. рис. 121.72).
В более позднее время (X1I-XIV вв.) на
территории Далмации (June 1993) распрост-
ранены трехбусинныс кольца с тиснеными и
ажурными бусинами, внешне напоминающие
древнерусские «киевские» серьги (рис. 111.
10-12, 14-17). При внешнем сходстве эти
украшения отличаются устройством застеж-
ки, оформлением дужки и бусин. Застежка у
балканских колец шли не офорхьтяется вовсе,
или представляет собой крючок и петлю.
Встречаются в этом peiионе экземпляры с
дужкой кольца, декорированной зернью (ана-
логично оформлялись дужки у более ранних
«волынских» колец). У древнерусских образ-
цов применялась только сканная ilth прово-
лочная обмотка дужки.
В целом для бусинных колец, изготовля-
емых в этот период на Балканах, характерно
выделение средней части бусин (продольно-
го или поперечного диаметра) при помощи
напаянной проволоки или иных декоратив-
ных элементов. Еще одной особенностью бу -
синных украшений этого региона являются
петельки ilth трубочки, припаянные вдоль
продольно! о диаметра. К таким петелькам,
возможно, крспшшсь цепочки, оканчивав-
шиеся различными подвесками. Подобный
способ декорировки бусинных колец извес-
тен. например, на территории Болгарии. У
серег с ажурными бусинами трубочки иног-
да заменяли крупную зернь в местах стыка
проволочных «ячеек». В зернсвом декоре тис-
неных бусин преобладают треугольники мел-
кой зерни ilth крупная зернь, припаянная к
проволочным колечкам и покрывающая бу-
сину целиком.
Бусинные кольца, находшмые на террито-
рии Македонии, датируются, по всей види-
мости. не ранее X-XI вв. (Манева 1992:48.
рис. 58/7.61/24.86,93). Здесь представлены
кольца с ажурными-проволочными. ли гыми.
тиснеными бусинами. Наиболее характерная
форма бусин—овальная, круглая, биконичсс-
кая. Тисненые бусины могут быть как глад-
кими, так и зернеными. Довольно распрост-
ранены простые бронзовые серьги с тисне-
ными бусинами (одной ilth тремя), датируе-
мые XI—XIII вв. (рис. 111. 20). Зачастую
встречается сочетание металлических и стек-
лянных или пастовых бусин, в ряде случаев
на бронзовое кольцо нанизываются только
ластовые бусины (рис. 111.23-25). Дужки, как
правило, выполняли из круглой проволоки.
Разлом кольца ilth застежка в виде простого
крючка располагаются довольно низко (у од-
нобусинных практически над самой буси-
ной). Иногда применяется проволочная об-
мотка дужки кольца (Манева 1992: сл. 21. т.
18.19,20). Для ажурных колец, датируемых
XII-X1II вв. (например, происходящих из
«Цигански-Рид» ilth Варош-Прштепа). харак-
терно выделение рядами проволоки средней
части бусины (рис. 111,21). Серьги «токайс-
кого тина». находимые на территории Маке-
донии. датируются XII (Скопье) — XIV вв.
(Прилеп) (Манева 1992: т.20.101.21).
С XIII-X1V вв. на территории Македо-
нии распространяются поздние варианты
крупных трехбусинных колец с тиснеными
бусинами, типичные для ювелирного убора
этого периода во всем Карпато-Балканском
регионе. Для этих украшений характерны
крупные размеры, разная форма центральной
и боковых бусин, наличие перекрученной
верхней части дужки кольца (Манева 1992: т.
21).
На терриюрии современной Болгарии
найдено довольно большое количество бу-
синных серег и височных колец X XVIII ве-
ков. Серьги носили, как правшто. по одному
экземштяру. в правом ухе и мужчины, и жен-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
217
Рис. 111. Бусинные украшения, характерные для Истрии, Далмации, Сербии, Хорватии, Македонии. LX-XIV вв.
1 —Бискупия.2—Зминий, 3—Колаяне.4-6—Крижище.7-9.12,16,19—Сараево, 10.11,13.—Солин, 14—Цетина,
15 — Придрага. 17 — Скрадин, 20.21 — Прилеп. 22 — Радомиштс, 23 — Скопле, 24 — Охрид. 25 — Македония.
Масштабы разные.
218
Гланд IV
шины, более крупные височные кольца —
голько женщины (Георгиева. Пешсва 1955:
541). По всей видимости, для западных и
южных славян характерно ношение височ-
ный украшений, ccpci и перстней именно с
правой стороны. Такие наблюдения были
сделаны, например, на материалах чешского
могильника XII в., раскопанного вс. Радо-
мышль (Беранова. Сметанка. Станя 1975:
170).
В X-XIV вв. на этой территории пред-
ставлены кольца с крут дыми и овальными бу-
синами. выполненными в технике тиснения
или литья (Георгиева 1956: об. 3-6. 9. 10).
Гладкобусшшые кольца датируются здесь X-
XIV вв..зерненые -XI1-XIV вв. Биконичес-
кие половецкие кольца распространены на
территории Болгарии с середины-конца XI
по XIV век (рис. 112).
В связи с тем. что па Балканах «половец-
кие» серы и с биконическими бусинами да-
тируются XI в. (Гатев 1977: 35). а в южно-
русских степях только XII в. (Степи... 1981:
216). возникает вопрос о том. в каком направ-
лении распространялась мола на эти украше-
ния. Появились ли они на Балканах с прихо-
дом туда половецких орл шли были позаим-
ствованы иоловцами в Подунавье?
Для половецко! о женского головного убо-
ра характерны три вида сережек: с малень-
кой круглой бусиной, расположенной у края
дужки; с биконической бусиной (иногда бу-
сина украшена сканью); с биконической бу-
синой. дополншельно декорированной ко-
нусами (в ряде вариангов присутствуют и
округлые боковые бусины, и сканно-зернсвой
декор).
В предшествующих собственно половец-
ким древностях кимаков и кипчаков на Ирты-
ше и в центральном Казахста! ie протот ш !ы .для
этих типов серег отсутствую!. В захоронени-
ях этих кочевников IX X вв. встречаются
серьги, напоминающие салтовскис. а также
простые перстневидные несомкнутые кольца.
В это же время в Обско-Иртышском междуре-
чье. в материалах сростюшской культуры. на
сложение которой значит единое влияние ока-
зали кимаки. находят, кроме простых перст -
невидных и салтовских. еще и однобусшшые
серьги с бусиной, расположенной у разъема
кольца (Степи... 1981:43-46. рис. 26.27).
Таким образом, происхождение крутлобу-
синных половецких колец, на наш взгляд, не
связало с древнерусским влиянием, тем бо-
лее ч 1 о расположение бусины около разъема
кольца для древнерусских ccpei и височных
колеи не характерно. Определяется оно соб-
ственными половецкими традициями, вос-
ходящими к моде времен Переселения наро-
дов. Поясок скани встречается и на более
поздних образцах с биконической бусиной,
появление которых С.А. Птетнева датирует
по сопутствующему материалу XII веком
(Стен!!... 1981: 216. рис. 84). Прототипов же
для серег с биконической бусиной в сибирс-
ких материалах нет.
Серьги с биконическими бусинами встре-
чаются в Приазовье, па Северском Донце и
Нижнем Допу — в районах расселения по-
ловецких орд. Представлены они в землях
южнорусских княжеств, с 1060 года подвер-
гавшихся набегам этих степняков, а также в
Карпато-Балканских землях. Их находки
встречаются в Румынии. Словакии. Болга-
рии. Сербии. Македонии. В более позднее
время (XIII-XV вв.) аналогичные украшения
находят в древностях других кочевнических
групп — например, черных клобуков (Нарож-
НЫЙ2000: 139. рис. 1.2,4).
Как уже отмечено выше, в Болгарии по-
явление сережек с биконической бусиной ла-
тируется третьей (а предположительно, и
первой) четвертью XI века (Гатев 1977; 35).
В очень усложненном пышном варианте де-
риват ы подобных серег доживают на этой
территории до XVI века. Поздние образцы
этих у крашений крупнее, обильно декориро-
ваны сканью, зернью, вмест о конусов на них
зачастую напаяны зерненые пирамидки.
Возможно, серьги с биконическими буси-
нами появились в костюме степняков имен-
но во время походов половецких воинств на
Болгарию и Византию, а затем распростра-
нились на территорию южнорусских степей.
В начале 90-х годов XI в. византийский им-
ператор Алексей Комшш обратился к поло-
вецким ханам Боняку и Туторкану за помо-
щью в борьбе с печенегами. При заключении
союза император осыпал половецких воена-
чальников подарками (Плетнева 1990: 47).
Можно предположит ь. что среди этих даров
были украшения, повлиявшие на появление
у половцев серег инт ересующего нас т ипа.
Возможен и другой вариант их происхож-
дения — первые образцы серег, ставших из-
любленными украшениями половчанок, мог-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
219
Рис. 112. Бусинные украшения, характерные для Болгарин. Х-ХШ вв. 1-3. —Нановсц. Могильник. 4—Мнишев-
ско. Могильник, 5—Болгария, 6-11 —Ловеч. Могильник, 12-22—Луковит!. Могильник, 23—Куршумлийя. Масштабы
разные.
ли быть изготовлены в балканских ювелир-
ных мастерских. Такими прообразами могли
быть, например, находимые на территории
Истрии и Далмации украшения IX-XI вв. с
продолговатыми бусинами. Бусины на по-
добных кольцах бывают гладкие или декори-
рованные зернью и сканью и, что особенно
интересно, напаянными маленькими конуса-
ми. Дскорировка же бусинных колец конуса-
ми весьма характерна для половецких укра-
шений (рис. 121,12 — кольцо из Солина;
рис. 121,20—кольцо половецкого типа из
Войнештского клада). Существовали, вероят-
но, и своеобразные гибридные варианты «то-
кайских» и «половецких» колец, например,
кольцо из Черновица (р-н Беча) с централь-
ной овальной бусиной, украшешюй конуса-
ми и боковыми—шаровидными покрыты-
ми зернью (Ъоровий-ЗЬубинковий 1954:84,
сл. 4).
Кольца с ажурными сканными бусина-
ми или литыми подражаниями им, выпол-
ненными в виде двух сопоставленных ро-
зеток, датируются в Болгарии началом XI-
XI V веками (рис. 112,9; 113,13). Встреча-
ются в Болгарии и кольца «токайского» типа
(Гатев 1977:35).
Застежки у болгарских бусинных колец
или отсутствуют вовсе, или представляют со-
бой отогнутую наружу петлю, расположен-
ную рядом с бусиной. Для украшений, про-
исходящих из этого региона, характерно вы-
деление средней уплощенной части бусин
гладкой проволокой или рядами сканной
нити. Типичен и розетчатьш сканный декор
бусин.
220
Глава IV
Позчнис болгарские височные кольца и
серьги, датируемые XIV-XV7I вв., отличаю! -
ся крупными размерами и обилием декора.
Как правило, центральная и боковые буси-
ны у этих колец разного размера, причем
средняя зачастую овальная. В этот период,
кроме гладких проволочных дужек колец,
встречаются и крученые, перевитые сканной
нитью. Излюбленными приемами декори-
ровки бусин являются крупная зернь, скань,
напаянные конусы, зерпевые пирамидки,
розетки из крупной зерни или проволочных
колечек, пирамидки из металлических трубо-
чек, каменные или пастовыс вставки в вы-
сок! IX карстах. Боковые бусины зачастую укра-
шают и сквозными отверстиями, оправлен-
ными проволочными колечками (рис. 112).
На территории Румынии и Молдовы бу-
синныс серьги появляются довольно по-
здно— в XII в. и существуют вплоть до
XVII в. Встречаются олнобусинные. грехбу-
синные и многобусинные серьги и височные
кольца, изгот овлявшиеся из бронзы, сереб-
ра. позолоченного серебра и изредка — зо-
лота. Для этого региона характерны кольца с
круглыми или овальными тиснеными буси-
нами. гладкими или покрытыми мелкой зер-
нью. Довольно широко представлены укра-
шения с тиснеными биконическими бусина-
ми (близкими к половецким и 1 окайским об-
разцам). Одним из излюбленных приемов
дскорировки тисненых бусин являются кол-
пачки. а в поздних вариантах — пирамидки
из металлических трубочек. Встречаются в
этом регионе и кольца с ажурными тиснены-
ми и сканными бусинами, выполненными в
виде сопоставленных розеток.
В XII в. дужки бусинных колец, как пра-
вило. гладкие, концы обрублены. Встречают-
ся и кольца с застежками, выполненными в
виде развернутой в горизонтальной плоско-
сти петли, сквозь которую продевался дру-
гой конец дужки. Бусины на кольце зачастую
разделены сканной или проволочной обни-
зью. Встречаются украшения, у которых про-
волочная обмотка кольца не прерывается
возле бусины, а опоясывает ее и переходит
затем на следующий участок дужки.
С ХШ в. специфичными становятся коль-
ца с перекрученной верхней частью дужки.
Образовывавшаяся на конце дужки петель-
ка. вероятно, могла служить застежкой
(рис. 114. 13-18). В это! период подобное
оформление дужки типично и для бусинных
колец, находимых на территории Бол! арии
и бывших Югославских республик.
В XII-XIV вв. довольно широко пред-
ci авлены олнобусинные кольца с круглыми
тиснеными тиш ажурными бусинами. Одним
из излюбленных приемов дскорировки i ис-
нсных бусин является гладкая или рубча гая
проволока, напаянная по центру бусины.
Иногда к этомх' пояску крепятся проволочные
петельки. Основная масса однобусинных ко-
лец с тиснеными бусинами, украшенными
колпачками, датируется ХШ-XIV вв. К это-
му же периоду относятся и кольца с ажурной
бусиной, состоящей из проволочных розеток
или пирамидок зерни (Dumitriu 1996:52-56).
Для ажурных бусин также характерно выде-
ление средней части сканной косичкой или
пояском проволочных колечек (рис. 114.15).
В XI11—XIV вв. довольно популярны од-
нобусинные и трехбусинные серы и с бико-
нической бусиной (клады Войнешть. Оцелснь,
некрополи Баната и Трансильвании—Teodor
1961; Teodor 1964:345. fig 2/6; Tcicu 1993; 267,
fig. 10/2). У трехбусинных колец с централь-
ной бико!шческой бусиной боковые бусины,
как правило, меныпего размера, чем цент-
ральная. н имеют округлую форму. Иногда
цен тральная бусина украшалась поясками и
ipeyi одышками зерни. Дужки колец гладкие
или с крученой верхней частью.
Этим же периодом датируются и другие
разнообразные варианты трехбусинных ко-
лец. с тиснеными или ажурными бусинами.
Тисненые бусины moi \т быть гладкими, лож-
чал ыми. украшенными мелкой зернью, скан-
ными колечками или тиснеными конусами.
Как правило, центральная бусина крупнее бо-
ковых и другой формы. Верхняя часть дужки
зачастую перевита. Встречаются трехбусин-
ные серьги и подвески в комплексах XIII-
XIV вв. — Пэкуюл луй Соарс. некрополях
Худум. Енисала «Паданка». Четэцень. кладах
Войнешть. Шушица. аналогичный набор
1 рехбусинных cepei был найден в кладе в
Черновцах (Dumitriu 1996:57; Spinei 1994: fig.
19. 21.30). Несколько трехбусинных серег с
ажурными и тиснеными бустшами было най-
дено в сосэаве клада, обнаруженного в кре-
пости Пэкуюл луй Соаре совместно с витым
трехдроювым браслетом с раскованными
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
221
Рис. 113. Бусинные
украшения ХШ-XVll вв. из
коллекций Археологичес-
кого и Этнографического
музеев в г. София н музея
г. Старая Загора. Болгария.
Масштабы разные.
наконечниками, украшенными зернью и ска-
нью (Dumitriu 1996: pl. 52) (рис. 114,14,17).
Более поздним временем датируется на-
ходка пары бронзовых трехбусинных височ-
ных колец с тиснеными бусинами и прово-
лочной обмоткой, сделанная на территории
Молдовы в могильнике у села Старые Дубос-
сары. В могильнике найдена молдавская се-
роглиняная и красноглиняная керамика XV-
XVI вв. (Кетрару 1961:124,125, рис. 7).
Традиция ношения бусинных украшений
не исчезает и позднее. На территории Румы-
нии и Бессарабии известны роскошные по-
здние образцы бусинных серег XV-XVn вв.
Они, как правило, декорированы зернеными
пирамидками, металлическими трубочками,
вставочками из полудрагоценных камней, па-
сты и стекла. Таковы серьги, происходящие
из кладов Цифешть-Пугна, Котул Морий, Ол-
тении, Сарата Нова, Балцата, Мусаидского,
Балабанештского, Старосахарнянского, мес-
тонахождения Тринка I, (Popescu 1970:19,
fig. 11; Neamtu 1961: 286-287, fig. 3/1;
Constantinescu, Untaru. 1959:500-501, fig. 2/3;
Бырня, Нудельман, Рябой 1990:240, рис. 1;
Археологические исследования... 1985:239-
240; Tezaure... 1994: tab. XVIII-XXII; Левин-
ский, Рябой 1992:252, рис. 2; Борзияк, Рябой
1985:184, рис. 3, /2), а также из ряда случай-
ных находок. Центральная бусина у этих ко-
222
Глава IV
Рис. 114. Бусинные
украшения. Румыния,
Молдова ХП-XV вв. 1,
2— Портерешть. Мо-
гильник (погр. 4.9). 3 —
5,6.10. Пэкуюл луй Со-
аре. Крспость.4—Трин-
ка 1.7—Енисала «Палан-
ка». 8 — Енисала «Бисе-
рика». 9 — Нуфэру «Чс-
татя», 11-13—Добешть
Турну Северин и Орсо-
ва, коллекция Истратн
Капша. 14.17— Пэкуюл
луй Соаре. Клад, 15 —
Четэцень. Могильник
(погр. 35), 16 — Котул
Мори, 18 — Котнарь,
19 — Сучава. 20—Кол-
лекция Музея Искусств.
Бухарест. 1-3. 5, 6, 10-
20 — серебро, 2, 7-9 —
бронза. Масштабы раз-
ные.
лец шаровидной или биконической формы.
Основными конструктивно-декоративными
элементами, украшающими эти бусы, явля-
ются гладкие конусы или зернение пирамид-
ки, ажурные композиции из полых трубочек,
гнезда с ластовыми вставками. Боковые бу-
сины зачастую заменены пластинками метал-
ла, на которые напаяны металлические тру-
бочки, скань и зернь (рис. 115). В ряде случа-
ев, например, у некоторых подвесок из Бала-
банештского клада (Tezaure... 1994: tab. XVII,
4-6), в нижней части украшения подвешены
к специальным петелькам плоские каплевид-
ные подвески.
Встречаются трехбусинные украшения с
разными по величине средней и боковыми
.бусинами, выполненными из двух тисненых
розеток. Практически одинаковые украшения
этого типа происходят из случайной наход-
ки из села Шаптебань (Молдова) (Кишинев,
Археологический музей инв. 410) или клада
Котул Морий (Румынская Молдова) (Neamju
1961:285, fig. 2) (рис. 115, /).
О способе ношения подобных украшений
может дать представление находка в Старо-
сахарнянском кладе двух серебряных колец,
соединенных длинной цепочкой с застежкой,
украшенной шатоном для вставки (рис. 115,
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.223
3), объединявшей в себе, по-видимому, фун-
кции рясен и налобного украшения (Левин-
ский, Рябой 1992:252, рис. 2).
В целом, как по морфологическим особен-
ностям, так и по декору бусинные украшения
Румынии и Бессарабии тяготеют к Карпато-
Балканской традиции. И дажета группа ви-
сочных украшений из Войнештского клада,
которую Дан Теодор с некоторыми оговор-
ками отнес к изделиям древнерусских юве-
лиров (Teodor 1961: 514-516, рис. 8; 1-4,8),
гораздо ближе к изделиям мастеров Подуна-
вья, чем Руси. В кладе к этой группе принад-
лежат трехбусинные серьги или височные
кольца, выполненные из позолоченного се-
ребра. На первый взгляд они действительно
напоминают древнерусские, однако ряд кон-
структивных и декоративных особенностей
свидетельствуют в пользу карпато-балканс-
кого, а не древнерусского их происхождения.
К этим особенностям можно причислить
яйцевидную форму центральной бусины с
ярко выраженным акцентированием средней
части при помощи сканной обмотки и напа-
янных проволочных петелек и декорировку
боковых бусин меткими сквозными отверсти-
ями, оправленными проволочными колечка-
ми. Все перечисленные детали характерны
именно для бусинных украшений, находимых
в Карпато-Балканском регионе.
Однако для ХШ в. известны и отдельные
находки украшений древнерусского облика.
В кладе Оцелень (Teodor 1964:345, fig 2/5) най-
ден фрагмент серебряного трехбусинного
кольца с тисненой ажурной бусиной совмест-
но с фрагментом серебряного колта с обни-
зью из крупных шариков и гравированным
орнаментом на черненом фоне.
Для территории Венгрии характерен уже
упоминавшийся выше тип «токайских» серег
(Mesterhazy 1994:105-111) (рис. 116). От дру-
гих бусинных серег «токайский» тип отлича-
ет продолговатая форма центральной буси-
ны, явное выделение её уплощенной сред-
ние. 115. Бусинные украшения. Молдова. XV — начало XVII вв. 1 —с. Шаптебапь. Случайная находка. 2—грот
Трннка 1.3—Старая Сахарна. Клал. 4 — Сарата Алба. Клал. 5,6.8—Мусаилский клад. 7.9— Балабансштский клад.
Серебро.
224
Глава IV
ней части, украшенной сканью и обведенной
поясками зерни и металлических шариков.
Аналогичные шарики расположены и ио кра-
ям бусины у перехода к кольцу. Боковые бу-
сины меньшего размера — круглые тисненые,
украшенные мелкими отверстиями, или в
виде сопоставленных ажурных розезок. В
ряде случаев имеем о боковых бусин приме-
НЯЮ1СЯ зерненыеколечки. Верхняя часть дуж-
ки можс! быть гладкая или витая, между бу-
синами располагается проволочная обмозка.
Данный тип трехбусинных серег дазируезся
X-XIV вв.. а в этнографических мазериалах
просуществовал и до XVIII в. Подобные укра-
шения весьма распространены также в Сер-
бии. Болгарии. Румынии. Молдове. На ран-
нем этапе существования этих украшений
представлен классический вариант подоб-
ных колец, известный по Токайскому кладу.
Постепенно, к XIII-X1V вв. в декоре бусин
накапливаются новые элементы — сканныс
нити, тисненые конусы, пирамидки и треу-
гольники зерни. Украшения становятся бо-
лее крутыми, появляются экземпляры с пе-
рекрученной верхней частью дужки (Тюро-
Bnh-JbyoHHKOBiih 1954).
Существует два противоположных мне-
ния об истории распросз ранения этих укра-
шений. Первое — они появились у паннон-
ских славян в X в. на базе аваро-славянских
украшений предшествующей эпохи (типа
серьги из Регсли) и затем в X XI вв. распро-
странились на Балканы (Ъоровий-.Ъубинко-
виЬ 1954: 90.91). Второе на зерриторию
Венгрии (и в Карпатский регион в целом) эти
украшения проникли, по всей видимости, с
Балкан (Манева 1992:48).
Кроме «токайских», встречаются на тер-
риюрии Венгрии и трсхбусинные кольца с
ажурными бусинами древнеру сского облика
(рис. 116. 9).
На территории Чехии и Словакии в по-
здневеликоморавских древностях трехбусин-
ные украшения появляются чуть позже, чем
на Балканах. — в к. IX — н. X вв. и бызуют
в чешских памятниках вплоть до XII в.
(Krumphanzlova 1974: 45-49). Эзо кольца с
ажу рными проволочными бусинами, тесно
сдвинутыми друге другом (входящие в тип
колец с «корзиночками»), происходящие, на-
пример, с городища Будсч(§о11е 1981: 189)
(рис. 121. /б).СХ в. в чешских Maiериалах
появляются трсхбусинные украшения с
S-видным характером застежки. В целом, на
фоне изобилия зерненых украшений, находи-
мых в поздневеликоморавских и чешских ма-
териалах. этот ши украшений представлен
незначительно. Через Чехшо мода на зрехбу-
сипные украшения, вероятно, распрошраня-
стся и в Польшу, где они встречаются в кла-
дах рубленною серебра XI—XII вв.
(Krumphanzlova 1974:45).
Для зерритории Польши в XI-X1I вв. ха-
рактерны несколько типов бусинных колец,
ряд из которых находит довольно близкие
аналоги на Руси. Широко распространены
кольца с ажурными бусинами, выполненны-
ми в виде двух сопоставленных сканных ро-
зеток. в ряде случаев дополнительно укра-
шенных зернью (рис. 117,7, 2). Внешне они
напоминают древнерусские кольца с ажур-
ными проволочными бусинами. Однако от
аналогичных древнерусских украшений их
отличает ряд конструктивных особенностей,
прежде всего в изготовлении дужки. Дужка
древнерусских бусинных серег по форме
близка к кругу. бусины размешены на кольце
равномерно и. как правило, разделены скан-
ной обнизью. У польского варианта дужка
овальная, вытянутая в вертикальном направ-
лении. бусины группируются в центре и не
разъединяются сканью. Отличается ихарак-
I ер застежки: у польских колец один конец
дужки продевался сквозь развернутую в го-
ризонтальную плоскость трубочку', в которуто
был свернут второй конец. На территории
Польши известно 60 местонахождений по-
добных украшений в основном в составе
кладов, но есть и 7 находок в некрополях
(Kocka-Krenz 1993: тара 16). В качестве им-
порта этот тип серег попадает и в Сканди-
навские страны (Kostrzewski 1962:165.map.7;
Andersen 1984: 153. abb. 6).
Реже встречаются на территоршз Польши
кольца с ажурными бусинами, украшенными
по цен 1 ру тремя рядами зерни (рис. 117.5).
Бусины у этих колец разделены сканной об-
мо i кой. один конец дужки слегка загнут, вто-
рой — отогнут в крючок (Kocka-Krenz 1993:
тара 19).
Специфичными д.тя Польши являются бу-
синныс кольца со средней звездчатой «буси-
ной» и тиснеными inn ажурными боковыми
(рис. 117. 10). Й. Костшевский приводит дан-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
225
Рис. 116. Бусин-
ные кольца с терри-
тории Венгрии. 1-5 —
Токайский клал, 6 —
Место находки неизве-
стно. 1897 г.. 7-9 —
Место । гаходки неизве-
стно. 1961 г. Серебро.
ные о 26 местонахождениях подобных колец
(Kostrzevvski 1962:153, map.3). В древнерусских
материалах аналогичных бусинных колец нет.
Однако, как мы уже упоминали выше, вся кон-
струкция подобных звездчатых серег весьма
напоминает звездчатые древнерусские колты
(рис. 105). Возможно, что у этих украшений
были общие прототипы.
На территории Польши известно 31 мес-
тонахождение трехбусинных колец с округ-
лыми бусинами, сплошь покрытыми зернью,
весьма близких и по форме бусин к древне-
русским образцам (рис. 117, б). Польские и
древнерусские образцы сближает то, что на
кольце бусины разделяет сканная обнизь, а
также особенности оформления замка
(Kocka-Krenz 1993: тара 14). Видимо, этот
тип колец был характерен для польского на-
селения: только половина находок приходит-
ся на клады, остальные — на погребения.
Кроме того, здесь встречаются и тйпичные
дтя Древней Руси трехбусинные кольца с тис-
неными бусинами, украшенными вписанны-
ми в круг проволочными розетками (клады
Обра Нова и Боруцин) (Stenberger 1947:
АЬЬ.55)(рис. 117,7).
Наиболее западной известной нам точкой
распространения бусинных колец является
территория Тюрингии (Bach, Dusek 1971;
Brachman 1978:112,208). Ювелирные укра-
шения, встречающиеся в этом регионе, в це-
лом близки к польским. Здесь встречаются
трехбусинные серьги с круглыми, овальны-
ми и бипирамидальными тиснеными буси-
нами, украшенными зернью и сканью
(рис. 117,11-18). Отличительной особенно-
стью данных украшений являются тесно
сдвинутые в центре кольца бусины, обмотан-
ные сверху сканной проволокой. Сканная
обмотка дужки между бусинами у этого ва-
рианта колец не применяется. Сканью обма-
тывается только часть дужки, противополож-
ная застежке. Застежка представляет собой
отогнутый наружу крючок. Зерневой декор,
как правило, в виде треугольников.
Кроме того, встречаются и кольца с до-
вольно крупными овально-яйцевидными бу-
синами. средняя часть которых украшена про-
226
Глава IV
Рис. 117. Бусинные
кольца с территорий
Полыни и Тюрингии.
М-ХПвв. 1.2.9 Рид-
зиков. Клал. 3 — Манн-
ов. 4-6.8—Польша. 7 —
Борунии Клад. 10 —
Майков. Клад. 11-18 —
Тюришия. Масштабы
рашыс.
водочным зигзагом, а боковые—треуголь-
никами зерни. У этого варианта колец буси-
ны разделены сканной обмоткой. Застежка
также в крючок.
Представлены на этой территории и бу-
синные кольца, у которых средняя бусина за-
менена звездовидной подвеской.
Обратимся теперь к территориям к вос-
току от Руси. В Волжском Булгарии в XI-
XII вв. было свое производство подобных
украшений. Знакомство же с древнерусски-
ми образцами документируется находкой
двух серебряных трехбусинных височных ко-
лец древнерусского производства в составе
Болгарского клала (Полубояринова 1993:27.
рис. 6). Булгарские мае 1 ера изготовляли бу-
синные кольца из золота, серебра и бронзы.
Иногда при изготовлении лужки роскошно-
го золотого украшения применялась золотая
обкладка железного стержня. Застежки на
дужке, как правило, отсутствую!, но встре-
чаются и кольца с т ином застежки, близким
к характерному для древнерусских бусинных
колец (однако спираль, как правило, оп иба-
ется не наружу, а вовнутрь). Дужка кольца
иногда украшается сканной шггыо. Наиболее
характерны кольца с тиснеными бусинами
окрут лой. слегка овальной или желудсобраз-
ной формы. Изготовлялись и подвески с
ажурными бусинами, визуально напомина-
ющими древнерусские лопастные бусы, но
отличающимися от них по технике изготов-
ления. Центральная бусина 'зачастую украша-
ется цепочками с бусинками на конце (ГИМ.
Инв.№12545.4248). Излюбленными элемен-
тами декора бусин являются сканиые пояс-
ки. акцентирующие среднюю часть украше-
ния и треугольники крупной зерни.
В целом булгарские образцы и по форме,
и по декору бусин, и по традиции подвеши-
вания к ним цепочек ближе не к древнерус-
ским. а к подунайским образцам. Возможно,
общие прототипы существовали и у роскош-
ных булгарских золотых трехбусинных под-
весок. украшенных припаянной к средней
бусине фигуркой уточки, и у моравских бу-
синных 1 юдвесок с фш урками живо п 1ых (Лс-
вашова 1969: 125-130). Бусинные серьги и
подвески, изготовлявшиеся мастерами Волж-
ской Булгарии, распространялись и среди
населения Поволжья. Прикамья и Приуралья,
где их находят наряду с бусипными украше-
ниями. тяготеющими к древнерусской юве-
лирной традиции (Рябинин 1986: таб.1; Са-
вельева 1987:123-125. рис. 33; Финно-угры
1987: ra6.LXXI.XCI.XCIl) (рис. 118). *
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI—XIII вв.
227
IV. 4. 3. Возрождение или генезис?
Таким образом, можно констатировать
факт, что география распространения анало-
гов древнерусским трехбусинпым кольцам
весьма широка. При этом выделяются терри-
тории, где подобные украшения появляются
уже в конце IX в., а также области, где они
нс известны ранее XI-XII вв. Подобная си-
туация делает правомочной постановку во-
проса о некоей искомой «прародине» данно-
го типа украшений, из которой мода на них
могла распространиться на остальные терри-
тории.
В литературе не раз выдвигалось предпо-
ложение о византийском происхождении
многих типов украшений, распространенных
в западно- и восточнославянской среде
(Niederle 1927, 1930; Com§a 1968: 446-460:
Dekan 1966; Karaman 1956; Кондаков 1896;
Корзухина 1946; Макарова 1975 и т.д). Не
было ли так в случае с бусинными серьгами?
Однозначно на этот вопрос мы пока ответить
не можем, так как нам неизвестны подобные
украшения с территории собственно Визан-
тии. Но вот в древностях Ирана, ювелирное
дело которого несомненно находилось под
влиянием Византии, подобных украшений
довольно много. И если отрешиться от неко-
торых сугубо местных особенностей — вве-
дения в композицию украшения полумесяцев,
многогранных бусин или бусин в форме ко-
ранниц, — читается знакомая форма бусин-
кой серьги (рис. 119). Причем ряд украшений
даст тот вариант колец с ажурной бусиной,
выполненной в виде двух сопоставленных
розеток, что так характерен для древностей
Карпато-Подунавья (Gold and silver auction
1992:219. p.282). Встречаются и височные
кольца с тиснеными бусинами, гладкими или
зернеными. В устройстве дужки кольца зача-
стую используется шарнирное крепление, ха-
рактерное в других регионах только для кол-
тов.
Целая подборка золотых бусшшых украше-
ний иранского производства представлена,
например, в кладе ювелирных украшений, со-
бранном на развалинах Гургана (Иванов. Лу-
конин. Смесова 1984:26,27; Jenkins, Кеппе: 48.
р.48) (рис. 119,9-12). В кладе найдены: трех-
бусинная серьга с полиэдрическими бусина-
ми, трехбусинные серьги с ажурными оваль-
ными бусинами, однобусинные серьги с жем-
чужной бусиной, серы й с овальной каменной
вставочкой в высоком ажурном карсте.
Однако нельзя не учитывал ь тот факт, что
влияние Византии на ювелирное дело Ира-
на небыло односторошшм. Иранисты наста-
ивают на том. что многие формы ювелирных
украшений пришли в Византию с террито-
рии Ирана, а не наоборот. Действительно,
кроме роскошных золотых сканных и зерне-
Рис. 118. Бусии-
ii ые кольца булгар-
ского и древнерус-
ского производства
из Вымских могиль-
ников. 1-9 — сереб-
ро. 10-12 — бронза.
По: Савельева 1987
228
Глава IV
ных бусинных серег XI—XIII веков (Hasson
1987:33) (рис. 119). с территории Ирана про-
исходят и более простые ранние образцы.
Такова золотая серьга 1Х-Х вв.. происходя-
щая предположительно из Нишанура. Серь-
га представляет собой незамкнутое кольцо с
одной золотой бусиной, напаянной возле раз-
лома. и в юрой, выточенной из сардоникса,
надетой на кольцо (рис. 119. 7). Бронзовые
же аналоги подобным серьгам известны на
территории Ирана еще с V-IV веков до н.э.
(Jenkins. Кеппе: 36. р. 15). Таким образом, тер-
ритория Ирана может оказаться искомой пра-
родиной iltji одной из прародин для бусин-
ных украшений.
Надо от метить, что в IX—XIII веках мы
имеем дело со всплеском моды на украше-
ния. хорошо известные еще в античности и
популярные как у греков, так и у варваров. К
подобным украшениям относятся и трсхбу-
синные серьги. Серьги, украшенные ласто-
выми шли керамическими бусинками, нахо-
дят. например, в скифских курганах (КМИД
инв. АЗС-1994; АЗС-2004).'
В римское время (I—III вв.н.э.) были по-
пулярны золотые и серебряные трехбусиниые
серьги с металлическими ажурными прово-
лочными ilih тиснеными бусинами, покры-
тыми зерпыо (рис. 121. 7, 2). Подчас вместо
металлических использовались пастовые. ка-
менные или жемчужные бусины. О способе
ношения подобных серег, при котором буси-
ны располагаются не на нижней, а на боко-
вой стороне кольца, прямо под мочкой уха.
можно судить по египетским портретам
II в.н.э. (Jewelry 1991: 88. р. 194).
В Смолине (Чехия) (Svoboda 1957: obr. 3)
в погребении IV было найдено золот ое укра-
шение. сочетающее в себе дужку, декориро-
ванную двумя тиснеными бусинами, и
овальную пластину, украшенную тиснеными
полусферами, конусами, свернутыми из про-
волочной нити, и треугольниками зерни. В
более позднее время moi ивы шаровидной
бусины и конуса объединятся, например, на
кольцах из Петрин и Далмации (рис. 121.12).
В том же захоронении в Смолине найден и
другой вариант бусинной серьги — с много-
гранной бусиной, расположенной у разлома
кольца (Svoboda 1957: obr. 2). Серьги с ме-
таллическими бусинами в виде полиэдров
весьма распространены в конце IV-V вв. у
дунайского и понтийского населения, в час-
тности, у готов (Казанский 1997:183). Буси-
ны у таких серег могут быть как гладкими, так
и ажурными или украшенными альмандино-
выми вставками, зернью (Germancn... 1988:
Taf. 17-20.23) (рис. 121,4-6). Интересно спо-
радическое появление у этих украшений та-
кого элемента, как крученая дужка серьги
(рис. 121.5, 6). с которым мы сталкиваемся в
более позднее время только с ХШ в. у бусин-
ных украшений Карпато-Балканского pei ио-
на. Полиэдрическая форма бусины гоже не
исчезает бесследно, грехбусинные украшения
с бусинами такой формы представлены в ма-
териалах Ирана XI—XII вв. (рис. 119.6).
Кроме дорогих бусинных украшений, вы-
полненных из серебра или золота, довольно
широко были распространены и бронзовые
колечки с нанизанными на них настовыми
бусинами, характерные для материалов сар-
матских и Черняховских некрополей
(рис. 121, 7).
В популярности мотива бусинного коль-
ца нет ничего удивительного: форма украше-
ния очень проста, а вместе с тем и декора-
тивна. Стоит нанизать на металлическое ко-
лечко несколько бусин (стеклянных или ме-
таллических). и получается уже довольно
нарядное украшение. Имело это украшение,
возможно, и семантическую нагрузку. Напри-
мер. Б.А. Рыбаков связывает расположение
бусин на кольце с движением солнца но ор-
бите (Рыбаков 1987: 572-574).
Мы можем предположить два варианта
решения проблемы происхождения (или воз-
рождения) в IX X вв. типа бусинных серег и
височных колец:
В X веке происходит своеобразный ре-
нессанс античных техник (зернь, скань, пле-
тение цепочек из тонкой проволоки), в изо-
билии применяемых ювелирами разных ре-
гионов на различных типах украшений (идея
ювелирного Ренессанса X века принадлежит
Г.Ф. Корзухиной— 1954: 64). К украшени-
ям. известным еще с периода этичности (а
в ряде случаев и с эпохи энеолита), от-
носятся лунницы. круглые подвески, бусин-
ные серьги, цени и браслеты со змеиными
и драконьими головками на концах. Надо ог-
мет ить. что все перечисленные формы юве-
лирных украшений относятся к наполнен-
ным общечеловеческой ссман i ической и де-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
229
Рис. 119. Бусин-
ные кольца. Иран. 1 —
Нишапур IX в., 2-12 —
Иран. X I-XII в. 1 —зо-
лото, сардоникс, осталь-
ные—золото. Масшта-
бы разные.
коративной ценностью и вполне могли не-
зависимо появляться у разных народов. В
таком случае можно назвать ряд тесно свя-
занных друг с другом и с античной тради-
цией регионов, где такое возрождение мог-
ло произойти — это Византия, ее балканс-
кие провинции и Иран.
Второй вариант решения проблемы не
противоречит первому, но лишь с известной
долей гипотетичности дополняет его. Мож-
но предположить, что перечисленные выше
типы украшений, а вероятно, и некоторые
другие, и не исчезали со времен античнос-
ти. Традиция ношения таких типов украше-
ний могла передаваться из поколения в по-
коление и переживать смену народов. При
построении подобных цепочек неизбежны
хиатусы, но они могут объясняться и неоди-
наковостью изученности материала, и воз-
можным исчезновением на какое-то время и
возрождением вновь перечисленных типов
ювелирных украшений. Возможно, что если
бы ювелирные украшения Ирана и, в еще
большей мере, Византии не стали бы в свое
время объектом переплавки, а потом (и до
сих пор) рьяного частного коллекционирова-
ния, такая более или менее непрерывная це-
почка развития бусинных колец выстроилась
бы на основе материалов, происходящих с
этих территорий.
Необходимо отметить, что цепочки пере-
дачи «бродячих ювелирных сюжетов», к ко-
230
Глава IV
Рис. 120. Бусинные
кольца с нетипичными
для древнерусской тради-
ции формой или декором
бусины. 1. 8.9 — Коллек-
ция КМИДа, 2 — Новго-
род, 3-5 — Стариковский
клад. 6,10 — Луцк, 11 —
Пивиы. Клад. 12—коллек-
ция ГИМ. 13—Подольская
губ., 14—Таврическая губ.
1 —золото, 10—серебро,
позолота, 3-9,11-14 — се-
ребро, 2—мель. Масшта-
бы разные.
торым относятся, на наш взгляд, и бусинные
серьги, могут быть двух видов:
1) Как правило, территория распростра-
нения ювелирных украшений во времени не
остается постоянной, вместе с движением
народов передвигаются и вещи. Такова, на-
пример, цепочка развития серег с биконичес-
кими бусинами, для построения которой не-
обходимо рассмотрение материалов Приир-
тышья, Приазовья, Подонья, Поднепровья и
Подунавья.
2) Есть территории, на которых формы
ювелирных украшений как бы консервируют-
ся. В настоящее время можно выделить, по
крайней мерс, один такой регион, где тради-
ция ношения бусинных серег практически не
прерывалась с античности до современнос-
ти, — это территория Кавказа. Здесь бусин-
ные серьги хорошо известны и в античных и
средневековых памятниках, и в этнографи-
ческих сборах XIX —- начала XX веков. Есте-
ственно, декор этих украшений претерпевал
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
231
Рис. 121. Бу-
сипиые кольца. I-
XIII вв. н.э. 1,2 —
Фивы. 3—Смолин,
4 — Суук-Су, 5 —
место находки неиз-
вестно, 6 — Керчь.
7 — Малаешты.
Могильник (Мол-
дова), 8 — Рсгели
(Венгрия), 9 — Ке-
цель (Венгрия).
10— Сирия (Кол.
Ханенко), 11 —
Жминь, 12, 15 —
Солпн (Хорватия).
13 — Гурган. Клад
(Таджикистан), 14
— Бутасвский клад
(Волжская Булга-
рия), 16 — Будсч.
Городище (Чехия),
17,18—Киев. Клад
из ус. Есикорского.
19-21—Войнешть.
Клад (Румынская
Молдова), 1-5,8,13,
14,17.18—золото,
10-12, 15, 16, 19-
21 — серебро, 7 —
бронза, паста. Мас-
штабы разные.
видоизменения, однако сама идея бусинного
кольца сохранялась. Схожая консерватив-
ность прослеживается и в балканских мате-
риалах.
Можно ли проследить процесс появления
и распространения бусинных колец в славян-
ских древностях? С известной долей гипо-
тетичности, пожалуй, можно. Но здесь надо
сразу оговорить несколько условий. По всей
видимости, мы имеем дело с несколькими
взаимодополняющими друг друга процесса-
ми: 1) знакомство с формой украшения,
2) знакомство с техническими приемами, не-
обходимыми для создания элементов декора,
3) выработка собственных своеобразных
приемов создания конструкции и декора
веши, характерных для определенной юве-
лирной школы.
Н.В. Жилина указывает на отсутствие в
древностях Скандинавии или Великой Мо-
равии «комплекса материала, который мы
могли бы считать прототипами для них (трех-
бусинных колец из древнерусских кладов —
СР.)» (Жилина 1998:313). Но идентичных
232
Глава IV
прототипов нет и для других типов украше-
ний, возникших на базе византийских про-
тотипов, —ни для колтов, ни для створча-
тых браслетов. Однако весь круг аналогов для
этих украшений весьма четко говорит об ан-
тично-византийском происхождении их фор-
мы и о распространении различных местных
вариантов этих украшений на территории от
Балкан до Руси.
Что касается формы бусинных серег, мы
уже упоминали об античных, позднеримских
и раннесредневековых вариантах этих укра-
шений. Наиболее близкими прототипами для
трехбусинных украшений, находимых в сла-
вянских памятниках 1Х-ХП1 вв., являются, на
наш взгляд, одно- и трехбусиниые кольца с
тиснеными круглыми и овальными бусина-
ми, представленные в аварских памятниках
УП-УШ вв. в Венгрии (Hampel 1905: fig. 369,
fig. 379; Krumphanzlova 1974:48; Garam, Kiss
1992:56). Среди них встречаются украшения
как с круглой, так и с овальной яйцевидной
формой бусин. Так, пара золотых серег с круг-
лой тисненой бусиной, украшенной сканны-
ми волютами (вместо двух боковых бусин на
дужку надеты колечки рубчатой проволоки),
была найдена в венгерском могильнике Ке-
цель-Кёртефахедь в погребении 89 А, дати-
руемом второй половиной VII в. (Garam, Kiss
1992:56, abb. 63) (рис. 121,9). Появление по-
добных украшений в аварской среде, по всей
видимости, связывается с византийской или
арабской ювелирными традициями
(Krumphanzlova 1974:47). О близости с иран-
ской традицией свидетельствует, например,
общность декора в виде сканных волют,
представленного на венгерской находке и в
изобилии встречаемого на бусинных украше-
ниях XI-XII вв. иранского происхождения
(рис. 121, 9, 13', рис. 119,8-12). О близости
аварских и провинциально-византийских об-
разцов может свидетельствовать характерная
овальная форма бусин, украшенных по цент-
ру рельефным пояском, представленная па
трехбусинных кольцах, находимых в Венгрии
(рис. 121,8), и на аналогичных украшениях,
хранившихся в коллекции Ханенко и проис-
ходивших, предположительно, из Сирии
(рис. 121,10).
В собственно славянских памятниках наи-
более ранние находки бусинных колец, дати-
руемые IX в., возникшие также, вероятно, под
влиянием византийских образцов, встреча-
ются на территории Истрии и Далмации. В
X в. бусинные украшения с круглыми тисне-
ными бусинами представлены на всем Бал-
канском полуострове от Греции до Болгарии.
В конце IX — начале X в. серьги с тремя
ажурными бусинами появляются и в поздне-
моравских древностях. Вероятно, здесь мы
имеем дело с синтезом моды на ношение трех-
бусинных украшений, возможно, пришедшей
из южного Подунавья, с собственно моравс-
кими, а также арабскими ювелирными тради-
циями (Херман 1986:28,29). Близость морав-
ских украшений к арабским образцам доказы-
вается, например, включением лунниц в кон-
струкцию височных подвесок, подобных най-
денным на городище Старый Коуржим (Solle
1959:413, obr. 57). В поздневеликоморавских
древностях в изобилии представлены серьги
и височные подвески с ажурными или тис-
неными бусинами, количество которых колеб-
лется от 3 до 9 на одном кольце. Причем трех-
бусинные украшения среди них составляют не-
большой процент.
В XI в. мода на подобные трехбусиниые
украшения приходит на территорию Польши,
где они встречены в XI-XII вв., как в мате-
риалах могильников, так и в составе кладов.
Здесь трехбусиниые кольца встречаются в
большем разнообразии вариантов (как с тис-
неными, так и с ажурными бусинами), чем в
Чехии. Среди них выделяются украшения,
как характерные для местной ювелирной
школы (например, со звездовидными буси-
нами), так и близкие чешским и древнерус-
ским образцам. Трехбусиниые украшения,
аналогичные польским, распространены в
этот период и в Восточной Германии.
Близость к древнерусским образцам в
XII в. проявляется не только в материалах
Польши. В этот период подобное сближение
характерно и для балканских образцов. С
XII в. и на территории Болгарии и бывших
Югославских республик появляются различ-
ные варианты трехбусинных серег с круглы-
ми бусинами, украшенными зернью, внешне
похожие на древнерусские, но отличающие-
ся от них как конструктивными, так и деко-
ративными особенностями. Ряд украшений
этого периода из Сербии декорирован буси-
нами, напоминающими ажурные полиэдры
готского времени (рис. 111,12,16).
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.233
Что касается типа токайских серег, рас-
пространенного в X-XIV вв. на всей терри-
тории Карпато-Подунавья, то он, на наш
взгляд, стал одним из первых проявлений
сложения весьма характерного для этого ре-
гиона типа трехбусинных серег с разными по
форме центральной и боковой бусинами. Для
центральной бусины подобных украшений
характерно выделение уплощенной средней
части. С ХШ в. подобные кольца с разными
по форме тиснеными и ажурными бусинами
становятся превалирующими для всего Кар-
пато-Балканского региона.
Еще одной характерной деталью трехбу-
синных украшений этого периода является
витая верхняя часть дужки. С XII в., целиком
в рамках карпато-балканской традиции, раз-
вивается производство подобных украшений
и в Карпато-Поднестровье. Традиция изго-
товления подобных украшений не прерыва-
ется в Карпато-Балканском регионе вплоть
до XVII вв., причем явно читается тенден-
ция к укрупнению украшений, дополнению
декора различными нюансами—каменны-
ми, пастовыми и жемчужными вставками,
тиснеными колпачками, металлическими
трубочками. Форма украшения становится
весьма сложной и причудливой.
В конце X — начале XI в. традиция но-
шения трехбусинных украшений распростра-
няется и на Руси. Возможно, здесь имеет ме-
сто синтез двух традиций—южной и север-
ной, то есть балканской традиции бусинной
серьги с металлическими бусинами и скан-
динавской традиции круглопроволочных за-
вязанноконечных подвесок к ожерельям со
стеклянными бусинами. Такие кольца нахо-
дят, например, в Киевском некрополе в по-
гребениях X в. со скандинавскими скорлупо-
образными фибулами (Каргер 1958: табл.
XXVIII)6.
Причем первоначально тип бусинных се-
рег становится принадлежностью городской
и сельской культуры. К концу XI в. формиру-
ются своеобразные варианты этих украше-
ний, входившие в драгоценный парадный
убор, представленный в четвертой группе
кладов по Г.Ф. Корзухиной (Корзухина 1954:
30). Древнерусские мастера находят не толь-
ко своеобразные решения для технического
° Благодарю за консультацию по поводу этого типа бу-
синныхколсц Ю.М. Лесмана и В.Ю. Соболева.
изготовления и оформления бусин (разнооб-
разные варианты каркасных бусин, литых
подражаний бусинным кольцам, специфичес-
кие варианты розетчатого декора тисненых
бусин), но и используют специфический ва-
риант решения застежки.
В то же время знакомство Руси с балкан-
скими образцами бусинных украшений доку-
ментируется находками на территории Вос-
точной Европы колец, по форме бусин или
характеру декора тяготеющих к балканской
традиции. К подобным предметам балканс-
кого импорта или украшениям, изготовлен-
ным на месте под влиянием привозных об-
разцов, можно, на наш взгляд, отнести, на-
пример, бусинные кольца ХП-ХШ вв. из кла-
да Старкове (ГЭ. инв.№1000/2-4), из слоев
Новгорода (инв. №20-22-424), из находки
неизвестного происхождения, хранящейся в
Киеве в кол. КМИД (рис. 120,7-5).
Так, к балканским импортам, на наш
взгляд, должно быть отнесено единственное
новгородское бусинное кольцо, декорирован-
ное настоящей зернью и сканью, найденное
в слое начала ХИ в. Кольцо это изготовлено
из меди, украшено двумя бусинами разной
формы. По мнению М.В. Седовой, кольцо
первоначально было трехбусинным и изго-
товлено мастерами Волжской Булгарии (ар-
гументация в пользу булгарского происхож-
дения украшения—орнаментация его цент-
ральной бусины крупной зернью) (Седова
1981:14, рис. 3,10). На наш взгляд, кольцо
могло быть изначально двухбусинным и тя-
готеет к изделиям мастеров не Волжской, а
Дунайской Болгарии. На это указывает раз-
ная форма бусин — средняя биконическая,
боковая круглая (бусины у булгарских украше-
ний, как правило, одинаковой формы), нали-
чие центральной выделенной уплощенной
части у этой биконической бусины, волюто-
образный декор боковой бусины. Для При-
дунавья кольца с двумя бусинами (причем,
как правило, разного размера, а часто и фор-
мы) являются довольно частой находкой.
Разнобусинным является и массивное зо-
лотое кольцо из коп. КМИДа, которое, на наш
взгляд, можно датировать ХШ в. (рис. 120,7).
С балканскими образцами его связывает и де-
кор в виде проволочных колечек, и особенно
наличие цепочек-подвесок. Близок к балкан-
ским аналогам и декор в виде пирамидок зер-
234
Глав*IV
ни. представленный на трехбусинных серь-
гах из Суздаля (рис. 110.17}.
Собственное производство бусинных
украшений в XIII—XIV вв. на Руси заканчи-
вайся. но вплоть до XV-XV1 вв. продолжа-
ют спорадически встречаться украшения, из-
готовленные в поздней карт тато-бал канской
традиции (рис. 120. 6. 10, 13. 14}.
В XI в. мода на бусинные украшения рас-
пространяется дальше на восток, i де на тер-
ритории Волжской Бу.п арии создается свой
центр их изготовления, снабжавший и фин-
но-угорское населите вплоть до Урала. При-
чем и по форме, и по декору бусин булгарские
украшения ближе не к древнерусским или
иранским (что можно было бы объяснить как
результат торговых отношений), а к карпато-
балканским образцам, что является, вероятно,
следствием общности подосновы культур. В
го же время булгарские мастера в ряде случа-
ев использовали тин застежки колец, харак-
терный для украшений древнерусского круга.
Таким образом, тип бусинных серег де-
монстрирует обширность территории рас-
пространения европейской ювелирной моды
периода средневековья, в контекст которой
была прочно включена и Древняя Русь
(рис. 109). Причем на примере этого типа
украшений выявляется ешс одна интересная
закономерность. Если в более ранний нери-
од(Х в.(древнерусскиеювелиры практичес-
ки буквально заимствуют и форму, и декор
украшений (например, «волынские» кольца).
товХ! XII вв. заимствованная форма напол-
няется новым декоративным оформлением
(колты. бусинные серьги, диадемы, рясны и
т.л.). Возникает многообразие декоративных
решений при общности исходной формы
украшения.
В случаес бусшшыми серы ами можно вы-
делить ряд крупных территориальных блоков,
совпадающих, по всей видимости, с террито-
риями распространения продукции от дель-
ных ювелирных школ, характеризующихся
общност ыо как конструктивных, так и деко-
ративных черт, присущих различным вариан-
там этого типа украшений. Первый блок (ве-
роятно. исходный для рассматриваемого пе-
риода) византийско-иранский; второй —
карпато-балканский; третий — польско-тю-
рингский (террит орття Чехии являлась связу-
ющим звеном между вторым и третьим реги-
онами): четвертый - древнерусский, в ко-
тором наблюдаются близкие черты и со вто-
рым. и с трет ьим блоком: пятый — булгарс-
кий. сближенный со вторым и четвертым.
IV. 5. ГРИВНЫ И БРАСЛЕТЫ. ДЕКОРИРОВАННЫЕ ЗМЕИНЫМИ И
ДРАКОНЬИМИ ГОЛОВКАМИ
От украшений головного убора перейдем
к у крашениям шеи и корпуса. В данном раз-
деле мы рассмотрим одновременно и шей-
ные цепи, и браслет ы со змеиными и драко-
ньими головками, объединенные, на наш
взгляд, общностью происхождения. Необхо-
димо от овори 1 ься. что наиболее крупные эк-
земпляры плетеных цепей с драконьими го-
ловками были, вероятно. принадлежностью
мужского наряда, тонкие же небольшие це-
почки. а также и браслеты носили, по-види-
мому. и женщины. Тем более чю во мнот их
релит иозно-мифолот ических системах змея
является охранительницей именно женщин
(зачастую беременных). по 1 омства. домашне-
т о очага. Таким обра том. на наш взгляд, пра-
вомерно рассмотреть эти украшения в кон-
тексте именно женского металличсскот о убо-
ра (Вслсцкая 1988:206-211).
На Руси довольно представительная се-
рия цепей и браслетов, окаттчиваюпшхея дра-
коньими т оловками. происходит из кладов,
датируемых XI - цервой половиной XIII вв.
Наконечники на них. как правило, литые, с
односторонним, двусторонним иличетырсх-
ст ороиним изображением драконов. Цепи и
браслеты с драконьими головками происхо-
дят из следующих кладов:
Мироновский фольварк (Каневский у.
Киевской губ.)—серебряная цепь из тодетой
проволоки, головки драконов двусторонние
литые, орнамент подражает скани и зерни
(пртгт. 2. №305);
Киев (усадьба 11. Лескова) —две серебря-
ные цепи, одна плетена из крупной проволо-
ки.сквозь крутлые отверст ия в драконьих го-
ловках продето колечко, завя занное двойным
узлом, вторая цепь небольшая объемного че-
тырехгранного п.те тения. наконечники укра-
шены чернью (прггт. 2..№306) (рис. 128);
Киев (в обрезе Михайловской горы) —
золотой полый плетеный вокруг стержня
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
235
браслет, оканчивающийся литыми головка-
ми драконов (прил. 2, №307).
Киев (усадьба У.Ф. Райковского) — витой
серебряный браслет с наконечниками в виде
стилизованных драконьих головок (прил. 2.
№308);
д. Лески (Орловская губ.) — серебряная
плетеная цепочка, оканчивающаяся стилизо-
ванными звериными головками, держащими
во ртах кольцо, на цепь были нанизаны се-
ребряные звездчатые колты (прил. 2, №310);
Тверь—серебряная цепь, составленная
из рубчатых пластинчатых звеньев с полы-
ми тиснеными наконечниками в виде драко-
ньих головок, украшенных сканью, в глазах—
стеклянные вставки (прил. 2, №311);
Чернигов—тонкая золотая цепь, окан-
чивающаяся золотыми змеиными головками
(кол. Музея Исторических драгоценностей,
г. Киев) (прил. 2, №312);
Москва (Большой Кремлевский клад
1988 г.) — витой браслет со сканной пере-
витыо и литыми позолоченными наконечни-
ками в виде голов драконов. Клад датирует-
ся концом XI — началом ХШ века. Полые
драконьи головки прикреплены к витому
Карта 21. Цепи и браслеты с драконьими головками.
314. Мироновский фольварк, клад 1883г.
315 Киев, клад 1876г.
316. Киев, клад 1841 г.
317. Киев, клал 1889 г.
318. Киев, клал 1914г.
319. д. Лески, клад 1853 г.
320. Т верь, клал 1906 г.
321. Чернигов.
322. Москва, клад 1988 г.
236
ГлдвдIV
браслету ну гем наполнения их расплавлен-
ным свинцом (техника, широко применявша-
яся в Европе). Аналогичные браслеты про-
исходят из кладов Готланда (3 экз. из клада
XI XII в.. найденного в Бурге. 6 экз. из клада
в Бандлунде) (Наследие варяг ов... 1996:68.
117: Новикова 1997: 57) (прил. 2.№313).
Кроме первого комплекса из перечислен-
ных, дат ирусмог о XI в., все остальные—бо-
лее поздние и датируются XII — началом
ХШ вв. Крометого, в ко.глекнии ГИМ храни г-
ся плетеная серебряная цепь неизвестного
происхождения. оканчивающаяся односто-
ронними головками драконов, соединенны-
ми колечками. Отверст не для кольца рты
дракончиков. Орнамент на головках драконов
выложен проволокой. «Шея» дракона выпол-
нена отдельно. ограничена проволочными ко-
лечками. сквозь нес пролет штырь, на кото-
рый нанизано первое звено цепочки ’.
Таким обра том. можно констатировать,
что эти украшения появились на Руси еще в
XI в. (в тот же период они распространяют-
ся и в Северной Европе), но были наиболее
популярны в XII начале ХШ вв.
Однако зверино- и змеиноголовые укра-
шения имеют весьма длительную историю.
Проследим се вкратце. Зарождение их прак-
тически синхронно появлению самих метал-
лических украшений и относится к периоду
энеолита. Весьма были популярны различ-
ные браслеты, гривны и диадемы, украшен-
ные звериными головками, и в период ан-
тичности. Традиция изготовления и ношения
таких украшений нс прервалась с концом ан-
тичной эпохи, а нашла продолжение в юве-
лирном деле средневековья.
Из всего набора звериных образов (г ри-
фоны. львы. змеи, драконы, бараны, кабаны,
птицы), присутствовавших на подобных
украшениях в античный период, только змеи
и драконы были популярны во все последу-
ющие эпохи. Только эти образы антично! о
«бестиария» активно использовались ювели-
рами более позднего времени. Изображения
змей и драконов, по всей видимости. взаим-
но заменяют и дополняют друг друга. Укра-
шения. декорированные ими. встречаются
подчас на одних и тех же памятниках.
' Бал ('ларю за возможное! ь ознакомит ься с украше-
ниями из фонда архсотопш ГИМ Н Г Недошивину и
11.1O Новикову
Популярность образа змеи в дскорировке
ювелирных украшений свя тана, по-видимо-
му. и с ее покровительст венной символикой.
Да и сама форма браслета. гривны или цепи
весьма напоминает свернувшееся змеиное
тело. У мно! их народов бытовало представ-
ление о змее как хранительнице дома, двора,
благоденствия семьи (Власова 1995:158-162).
Змея практически во всех мифологических
системах высгу пает и как «символ. связыва-
емый с плодородием, землей, женской про-
изводящей силой, водой, дождем, с одной
ст ороны. и домашним очагом, огнем, особен-
но небесным, а также с мужским производя-
щим началом, с другой» (Иванов 1980:463.
471).
Украшения, завершенные драконы тми го-
ловками. по сравнению с изделиями со зме-
иными. как правило, отличаются болеестож-
ной и трудоемкой техникой исполнения, тща-
тельной проработкой деталей, большим раз-
нообразием типов самих украшений, на ко-
торых они использовались (эго не только раз-
нообразные браслеты, но и шейные цепи, и
гривны, диадемы). Мордочки драконов от-
личаются от змеиных головок, на которых,
как правило, изображены только круглые глаза
и рот (иногда — ноздри и чешуя), рядом ха-
рак т ерных черт. К ним можно отнсст и часто
встречающуюся миндалевидную форму вы-
пуклых глаз, графическое шш чаше объемное
выделение носа, как правило, переходящего
в брови. У дракончиков зачастую изображе-
ны и ушки (обычно они прижаты к голове),
выделен переход 01 головы к шее животного
(иногда отмечена шерстистость шш чешуй-
чат ость тела), на некоторых образцах видны
и зубы.
Таким образом, головки-наконечники це-
пей и браслетов, на которых переданы и зве-
риные. и змеиные черты. мы будем рассмат-
риват ь как драконьи. На наш взгляд, именно
эти две категории образов - змеи и драконы
- были основополагающими в декорировке
подобных украшений. В наиболее реалистич-
но выполненных образцах, вероятно, можно
говорить о реальном змеином или зверином
прототипе. Но делать это надо весьма и весь-
ма осторожно. Так. золотой браслет времен
Великого переселения народов из Бакодпус-
ты (Венгрия) с драконьими звериноподобны-
ми подквадратными мордами, с явно передан-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI—XIII вв. 237
ними бровями. гривой и ушами (!) фантасти-
ческого животного (рис. 124.5) в интерпре-
тации Ю.Ю. Шевченко и Т.Г. Богомазовой
рассматривается как изображение водяного
ужа с затылочными пятнами за глазами (Шев-
ченко. Богомазова 2003:248).
В период этичности украшения, окан-
чивающиеся звериными головками, разраба-
тывались греческими, фракийскими, скифс-
кими. сарматскими, ахеменидскими и римс-
кими ювелирами. Необходимо от.метить. что
для античного времени более характерны
украшения, заканчивающиеся змеиными го-
ловками. Вещи с драконьими головками
встречаются гораздо реже и. в основном, на
памятниках, связанных с ахсмснидской или
фракийской традицией. Для Греции и При-
черноморья более характерны одно- и мно-
госпиральные браслеты со змеиными голов-
ками.
Пожалуй, особой привязанностью к об-
разу змеи и дракона в античном мире отли-
чались фракийцы. Наибольшее количество
разнообразных браслетов со стилизованны-
ми змеиными головками происходит с тер-
риторий Южной Словакии. Трансильвании.
Восточной Венгрии и Болгарии, где они бы-
туют. начиная с VI в. до н.э. (Susek 1966:34).
У фракийцев образ змеи был чрезвычайно
популярен, его вводили в орнаменгацито не
только браслетов, но и фибул, диадем, перст-
ней и височных колец. О почитании змеи сви-
детельствуют и серебряная бляшка из с. Лет-
чицы (Болгария), на когорой изображена
женщина в длинном одеянии, положившая
руку на шею огромной трехглавой змее (Фра-
кийские золотые сокровища б.г.). Змея изоб-
ражена в драконьем обличии — ясно выде-
лены уши.
Примером работы фракийских мастеров
могут послужить браслеты, найденные на
территории Сербии и Трансильвании. Из
Пека Байя из погребешгя VI-V вв. до н.э. про-
исходит ссрсбряньш дро г овый браслет, укра-
шенный заостренными змеиными головка-
ми. Гравировкой проработаны глаза, рот гг
чешуя змеи. Поверхность браслета украшена
гравированными крестиками (Argintul antic
1996: Cat. 6). СIV в. до н.э. в античном мире
распространяется мода на пластинчатые
браслет ы. Фракийские мастера в их декори-
ровку также зачастую вводили образ змеи.
Таков широкий пластинчатый серебряный
браслет IV в. до н.э.. хранящийся в коллек-
ции Национального музея в Белграде (Argintul
antic 1996: Cat. 15). Концы браслета оформ-
лены в виде отот нугых в противоположные
стороны змеиных головок. Видимо, под вли-
янием греческого ювелирного дела изготов-
лен спиральный браслетIV в. до н.э.. выпол-
ненный в виде свернувшегося змеиного тела,
происходящий из Аптос (Трансильвания)
(Florcscu. Miclea 1979:26. fig. 22).
К кру т у фракийских древностей относят-
ся и украшения, завершающиеся драконы гми
и змеиными головками, обнаруженные в со-
ставе случайных находок и на территории
Молдовы. В 1956 г. ус. Лэргуца Леовского
района в местности «Орлиная гора» был об-
наружен клад античного времени. Известно,
что в состав клала входили фрагменты (кон-
цы) двух золотых дротовых гривен, оканчи-
вавшихся драконыгми головками, держащи-
ми в пасти кольца (Нудельман, Рикман 1957:
250). В 1963 г. в том же месте был обнару-
жен золотой сосуд тг двадца т ь одна античная
монета: 16 ст ат еров Филиппа II (359-336),
четыре Александра III Македонского (336-
323) и один Филиппа III Арридея (323-317)
(Нудельман 1969: 129. рис. 1).
Весьма схожими драконыгми т оловками
украшена и золотая диадема, найденная в
1984 г. во время раскопок па т елеком городи-
ще IV II вв. до н.э. у с. Бунешть(Румыния).
Диадема изт о гов. тет та из золотого дрота, кон-
цы когорог о оформлены в виде драконьих
головок и застегиваю гея при помощи колец,
продетых в пасти животных (Goldhclm
Schwcrt... 1984:168). К сожалению, фрагмен-
ты упоминавшейся гривны из Лэргуцы утра-
чены. но нам удалось ознакомиться с мате-
риалами из другого клада этого же времени,
найденного на т егском поселении у с. Матс-
уны (Музей эгнотрафии и природы, г. Киши-
нев). Клад содержи г серебряную гривну, два
серебряных браслета, золотое и два серебря-
ных височных кольца. Гривна небольшого
диаметра, выполненная из низкопробно! о
серебра, с заходящими слегка у т олшетшыми
концами, оформленными в виде ст шипован-
ных змеиных головок. На т оловках хорошо
читаются глаза, ноздри, пасти. Браслеты вы-
полнены из круглого дрога, концы расплю-
щены и оформлены при помощи травировки
238
Глава IV
Рис. 122. Цепочка с фигурками львов и змеиными головками. Цольдгадампуста (Венгрия). VII в. до н.э. Золото.
По: Feitich 1928. Б.м.
в виде весьма стилизованных змеиных голо-
вок. Украшения из Матеуц были отнесены
Г.В. Петренко к кругу' фракийских древностей
(Петренко 1978:35).
В скифском ювелирном уборе образ
змеи, как правило, применялся для декори-
ровки дротовых браслетов. Их массовое про-
изводство начинается с VI в. до н.э. под вли-
янием фраюшцев Трансильванского очага ме-
таллообработки и сущест вует до позднескиф-
ского времени (Петренко 1978:53). На скиф-
ских памятниках, как правило, находят про-
стые браслеты, выполненные из круглого,
сегментовидного или овального в сечении
дрота, концы которых расклепаны в виде зме-
иных головок. С VI в. до н.э. эти браслеты
встречаются в Правобережной. Ворсклинс-
кой и Посульской группах скифских памятни-
ков. Кроме того, изредка встречаются брас-
леты со скульптурными головками змей, на
которых обозначены глаза и рот; подобный
браслет происходит из одного из курганов
Ромейской группы (Пефенко 1978:62). Брас-
лет из коллекции Львовского исторического
музея украшен головкой дракона или какого-
то реального зверя — ясно выделены ушки
(Рябцева 1999:230, рис. 1,3, 4).
ВIV-III вв. до н.э. браслеты со змеины-
ми головками встречаются и в Степной груп-
пе скифских памятников. На Нижнем Дону в
V—III вв. до н.э. бытуют довольно массивные
бронзовые и железные браслеты, один i гз кон-
цов которых оформлен в виде стилизован-
ной змеиной головки с выделенными глаза-
ми и ртом (Петренко 1978: таб. 39, рис. 15,
21.22). СIV в. до н.э. в скифском ювелир-
ном уборе распространяются спиральные и
пластинчатые браслеты, среди которых так-
же встречаются и орнаментированные зме-
иными головками. Таков, например, браслет
из кургана 4 Елизаветовского могильника, на
котором при помощи гравировки показаны
рот, глаза и чешуя змеи. Кроме браслетов,
змеиными головками ш югда украшали и мно-
говитковыс спиральные перстни. Известна
также и одна находка перстневидной серьги
(происходит из кургана №5 группы «Час-
тых»). один конец которой украшен скульп-
турным изображением змеиной головки
(Петренко 1978:57. табл.27, рис. 16).
Кроме массовых находок дротовых брас-
летов со змеиными головками, на скифских
памятниках встречаются и уникальные изде-
лия, декорированные змеиными головками.
Так, в Цольдгаломпуста (Венгрия) была най-
дена цепочка, плетеная в виде объемного
шнура (Манцевич 1959: рис. 37). На цепочку
нанизаны две обращенные пастями друг к
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII кк.
239
другу змеиные (иди драконьи) головки
(рис. 122). Глаза змеек выложены зерныо. нос
и шея — сканью и гладкой проволокой. На
цепочку нанизаны также две трубочки, увен-
чанные фигурками сидящих львов.
Если верна атрибуция этой цепочки как
фрагмента диадемы, да i ируемой рапнескиф-
ским периодом (предлагаемая А.П. Манцс-
вич), то мы имеем дело с одним из наиболее
ранних, принадлежавших скифам, украше-
ний. декорированных змеиными головками.
Аналогичная цепочка шнурового плетения
была найдена в Кслермесском кургане, а ди-
адема — в Литой могиле и Мельгуновском
кургане (Манцевич 1959:57-79). Подобные
диадемы шнурового плетения были харак-
терны только для paimero периода скифской
культуры и подчеркивали сакральный и со-
словный статус их владельца. Мода на но-
шение этих налобных украшений связана,
очевидно, с восточным влиянием, под кото-
рым находились скифы в VII в. до н.э. Так.
на нозднехеттском изображении царя Тара-
хунази представлена точная аналогия скреп-
ленной розетками шнуровой диадемы из
Мельгуновского кургана (Клочко 1982:38).
Золотой браслете наконечниками в виде
змеиных головок, найденный в четвертом
Семибратнем кургане на Тамани, был пле-
тен в виде толстого объемного шнура
(Goldschatze des Sky then 1970: Abb. 133). Ha
литых наконечниках весьма реалистично пе-
реданы глаза, зубастая пасть и чешуя змеи
(рис. 123). Изготовлялся этот браслет, скорее
всего, мастером-греком.
Своеобразная иконирафия дракона была
создана и персидскими мастерами. Целая
1 юдборка «звериноголовых украшений» пред-
ставлена. например, в кладе, найденном в
1877 г. на Аму-Дарье. В составе клала содер-
жатся украшения, датируемые серединой V-
IV вв. до н.э. (Jewelry 7000 1991:67-69). В со-
ставе этого клала найдена пара массивных зо-
лотых (по всей видимости, церемониальных)
браслетов, украшенных проломами рога гых
грифонов с птичьими клювами. Подобные
скульптурные образы грифонов разрабатыва-
лись персидскими мастерами еще с IX в.
до н.э. Звериными же (козлиными) головка-
ми в составе упомянутою клада украшена зо-
лотая тордироваиная 1ривна. скрученная в три
оборота. В аналогичной манере украшены и
небольшие золотые браслеты: лротовый,
оканчивающийся львиными головками, и уз-
кий пластинчатый — с утиными. В составе
Амударьинского комплекса есть и два золотых
браслета с драконьими мордочками на концах
(ясно выделены миндалевидные глаза и при-
жатые ушки животных). У одного экземпляра
глаза, уши и шерсть животного разработаны в
технике перегородчатой эмали. У второго
браслета орнаментальные завитки шереш вы-
делены рельефно (Руденко 1962: рис. 12: Ряб-
цева 1999:230. рис. 1.2). Выпадение клада свя-
Рис. 123. Брас-
лет со змеиными
головками. Чет-
вертый Семи-
братиый к>ргаи.
V в. до н.э. Золото.
По: Артамонов
1970 Ь м.
240
Глава IV
Рис. 124. Браслеты и цепи со змеиными и драконьими головками. Конец IV-V вв. 1 — Тиса-Бура (Венгрия), 2,
3 — Венгрия, 4—Северное Причерноморье, 5 — Бакодпуста (Венгрия), 6—Сстфорд (Англия). Золото. Масштабы
разные.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII ее.
241
Рис. !25. Украшения с драконьими головками. Конец IV-V вв. 1,3,4—Керчь, 2—станица Сенная (Тамань), 5—
Апакила (Румыния), б—Каряжское городище. Золото. Масштабы разные.
242
Глава IV
зано, вероятно, с военными действиями Алек-
сандра Македонского.
В этот же период предметы ахемснидс-
кого произволе!ва(среди которых и гривны
с наконечниками в виде драконьих головок)
попадают к сарматам. Наход ки подобных гри-
вен из курганов в Курджинсе и 1 Прохоровс-
кого кур! ана да i ируются последней четвер-
тью IV в. до н.э. (Берлизов 1997: 102. рис. 1.
5). Гривна из Курджинса— узкопластинча-
тая слитыми несомкнутыми наконечниками:
прохоровская дротовая. скрученная в
2.5 оборота. Появление предметов ахемснид-
ского происхождения у сарматов связывает -
ся Н.И. Берлизовым с участием последних в
военных действиях в качестве наемников, как
на стороне македонцев, так и персов (Бер-
лизов 1997: 102).
Если мастера материковой Греции из-
готовляли замысловатые змеиноголовые
спиральные браслеты, иногда выполненные
в виде двух змей, затя! иваюших декориро-
ванный кабошоном Гераклов узел (Русанова
1988: рис. 4). то в античных центрах Причер-
номорья с III в. до н.э. до III в.н.э. стойко
бытуют более простые одно- и .многоспи-
ральные браслеты. оканчивающиеся змеи-
ными головками. Так. в Заветнинском мо-
гильнике змеиноголовыс браслеты составля-
ют 30% от всех найденных браслетов (Гуд-
кова. Русова 1980: 129). Аналогичные укра-
шения распространены и у позднескифского
и сарматского населения (Стени европейс-
кой части СССР в скифо-сарматское время
1989: табл. 55. рис. 26.27: табл. 62. рис. 2.4).
Римские ювелиры также использовали
образ змеи для декорировки браслетов. Уз-
кий пластинчатый браслет провинциально-
римской работы был найден, например, в
Испанзш (Кордове) в coci аве богатого клада
серебряных ювелирных украшений и сосу-
дов. датируемого I в. до н.э. (Jewelry 7000.
1991: 177). В литье выделены удлиненные
I лаза, ноздри и уши дракона, затем эти дета-
ли обведены гравировкой. Гравировкой вы-
делен 1 акже и нос, и переход от шеи к т уло-
вишу (полоской косых крестов).
ВI в. до н.э. — I в.н.э. были весьма рас-
пространены цепочки, оканчивающиеся зме-
иными головками. Встречаются такие цепи
и в более по зднее время. Подобная золотая
семигранная цепь шнурового плетения быта
обнаружена в Англии в составе Сетфордско-
го клада позднеримского времени (Johns.
Poller 1983: 101. fig. 35). Змеиные головки
служат на этих цепях своеобразными кара-
бинами для соединения концов цепочек и
крепятся к ним при помоши штырей
(рис. 124.6). Ко ртам змеек были припаяны
колечки, сквозь ко i орыс продета проволоч-
ная восьмерковидная застежка, один конец
которой закручен, а второй оставлен свобод-
ным и согнут в виде крючка. Глаза змеек за-
полнены синим стеклом. В этом кладе содер-
жалось также еще 3 подобные золотые цепи,
но без змеиных головок.
Максимального пика популярности мода
на украшения с драконьими и змеиными го-
ловками достигла, пожалуй, во время Вели-
кого переселения народов у германцев. С
территории Венгрии происходят многочис-
ленные находки дротовых и пластинчатых
браслетов, декорированных стилизованны-
ми драконьими и змеиными головками
(Hampel 1905: Fig. 1181-1185). У некоторых
экземпляров дротовых брасле! ов глаза, нос
и уши животных выделены только с помо-
щью напаянной проволоки, у других глаза
дополншельно украшены гранатовыми
вставками (рис. 124.1-3).
Подобные дротовые браслеты находят и
в ГО1СКИХ захоронениях в Крыму. К первой
половине V в. н.э. оiносится пара серебря-
ных браслетов из Керчи, заканчивающихся
переданными влитье головами животных
(Gennanen. Hunnen und Awaren 1988:99. Abb.3).
Выделены выпуклые круглые глаза. украшен-
ные гранатовыми вставками, нос. нереходя-
ШШ1 в брови, шея обозначена двумя рельеф-
ными валиками. Золотой браслет, заканчи-
вающийся драконьими головками, был най-
ден и в станице Сенной на Тамани (Скалон
1966:43). Так же. как и на керченском экзем-
пляре. глаза и уши фантастического существа
украшены 1 ранатовыми вставками, но пере-
ход к шее не выделен, и «тело» дракона укра-
шено гравировкой. Схож с экземпляром из
Сенной, но выполнен декоративно проще,
литой \ крашенный гравировкой браслет с
драконьими головками, найденный в одном
из керченских склепов (Якобсон 1984: табл.
I). Аналогичными драконьими j оловками за-
канчиваются и концы золотой гривны, про-
исходящей из склепа на Госпитальной улице
Парлдные древнерусские ювелирные укоры конца Х1-ХП1 кв. 243
в Керчи (Скалой 1966:42). В зубастые пасти
чудовищ вставлены петельки, являющиеся
застежками гривны.
Браслеты с подобными драконьими 1 о-
ловками были обнаружены и в «княжеской
moi иле» у деревни Большой Каменец на
р. Су джа (Казанский 1997: 184).
В составе погребального инвентаря ло-
го захоронения были найдены золотая грив-
на с декором клуазонне, два золо тых плете-
ных брасле I а. оканчивающихся драконьими
головками, и золотя цепь. Брасле 1ы выпол-
нены в виде цепочек шнурового плоения.
Подобным образом плелись античные оже-
релья и диадемы. На концах браслета из Боль-
шого Каменца цепочки укреплены полоска-
ми металла, сквозь которые продет штырь,
крепящий головки драконов. Браслет сомк-
нутый. по обе стороны драконьих морд при-
паяны маленькие фигурки свернувшихся в
виде восьмерок двухголовых дракончиков. На
основных больших головках выделены в ре-
льефе и украшены эмалевыми вставками гла-
за, нос и брови, на маленьких — зубастые
пасти, глаза с эмалевыми вставками, грави-
ровкой проработана шкура. Идентичный
браслет был обнаружен в Северном Причер-
номорье (хранится в колл. Оружейной пала-
ты Московского Кремля) (рис. 124.4).
Л.А. Мацулевичдатрует иотребенияиз
Большого Каменца временем ок. 400 i. (Ма-
цулевич 1934). М.М. Казанский связывает
этот комплексе королевством Виншария.
центр которого, по мнению исследователя,
находился в верховьях Воркслы и Пела (Ка-
занский 1997: 184).
К вещам дунайского круга относятся и
шарнирные браслеты, украшенные драконь-
ими головками. Браслеты замкнутые, круглые
в сечении, расширяются к «шеям» драконов.
На месте соединения морд фантастических
животных расположена застежка с винтовой
нарезкой, завершающаяся шатоном с грана-
товой вставкой. Тела драконов украшены на-
сечкой. миндалевидными и прямоугольны-
ми 1ранаговыми вставками. Тыльная сторо-
на браслета, на которой находится шарнир,
гладкая. Подобный браслет происходит из
Киева (Казанский 1997: 193. рис. 8.10). Пара
аналогичных браслетов была найдена в Вен-
грии в могильнике Бакодпуста (Bona 1991)
(рис. 124.5). Три женских захоронения из Ба-
кодпуста И. Бона датирует 430-470 т. и ин-
терпретирует как погребения княгини, княж-
ны и придворной дамы. По мнению иссле-
дователя. женщины принадлежали к племе-
ни скиров и исповедовали арианство (А
magyar regeszet regenyc 1968:115-123).
Возможно, под влиянием готской моды
появляются украшения с драконьими голов-
ками и у гуннов. В т утшекомтютребении V в.,
открытом в 1897 г. в Анахиде (Румыния)
(Gerniancn. Hunncn und Awaren 1988: Taf. 18;
Goldhclm Schwcrt und Silberschatzc 1994: Taf.
102.1). содержатся уникальные золотые под-
вески с драконьими головками. Глаза и уши
животных выполнены в виде гранатовых
вст авок. Ша т оиы для вставок обведены ска-
нью (рис. 125.5) И.П. Засецкая отнесла под-
вески из Апахиды к VI т руиие гуннских ве-
щей с эмалями, отметив при этом западное
происхождение всей этой труппы украшений
(Засецкая 1982: 22. 30).
Были, видимо, среди гуннских украшений
и гривны, оканчивающиеся драконьим!! го-
ловками. Сохранилось три наконечника от
таких гривен. Один был найден на Каряжс-
ко.м городище близ Ставрополя и два в кур-
т аие в урочище Кара-Агач в Центральном
Казахстане (Скалой 1966:40-43) (рис. 125.6).
Наконечники были отнесены И.П. Засецкой
к первой стилистической группе гуннских
украшений, распространенной от Казахста-
на до северо-восточной Румынии и пред-
ст авлятощей собой синтез традиций боспор-
ских ювелиров и вкусов кочевой знати (За-
сецкая 1982: 16.23-24). От изделий готского
периода эти наконечники отличает обильное
использование транаювых вставок, зсрнсвых
грех т олышков и скани. Уши у этих драконов
не прижаты, а подняты кверху и заполнены
перламутром, зубы выполнены в видетреу-
т олышков зерни. Во рт у дракончика с Каряж-
ского т ородиша укреплена петелька, указыва-
ющая па его использование в качестве кара-
бина шейной гривны.
Если конец IV-V вв. характеризуется оби-
лием браслетов и тривен. декорированных
драконьими головками, го следующий
всплеск интереса к этим образам отмечается
уже только в XI-XII вв. Останавливаясь на
происхождении браслетов со змеиными и
драконьими ликами. В.П. Левашова в каче-
С1 ве про т о т т ша для древнерусских украшений
предлагает упомянутый выше золотой брас-
лет V в. из Керчи. Исследовательница от.ме-
244
Глава IV
Рис. 126. Цепь со
змеиными головками.
Вторая половина XI —
начало XII вв. Эланл.
Клад (Швеция). Сереб-
ро Б м. По: Racz 1990.
чает, что данный мотив, восходящий к антич-
ности, был сохранен в византийском юве-
лирном искусстве и в конце I тыс., а оттуда
занесен на территорию Восточной и Цент-
ральной Европы и в Скандинавию (Левашо-
ва 1967:216).
Действительно, разнообразные браслеты
с драконьими головками изготовлялись ви-
зантийскими мастерами и для кочевой знати
в эпоху Великого переселения народов, и в
более позднее время (Hasson 1987, fig. 56). Из-
вестно, что при византийском дворе, где одна
варварская мода сменяла другую, во време-
на императора Константина IX Мономаха
(1042-1054) проживала аланская принцесса,
среди украшений которой современники вы-
деляли золотые браслеты, украшенные зме-
иными головками (Кондаков, Толстой 1897:
43: ЪоровиЬ-ЗЬубинковиЬ 1951:35). Брасле-
ты. завершающиеся змеиными головками,
были найдены в Пилине с венгерскими мо-
нетами X XI вв.. в Биело Брдо с монетами
XI в. (Тюровий-Л>убинковий 1951:35).
С территории Ирана происходит находка
витого серебряного браслета с припаянны-
ми к концам литыми драконьими головками,
фланкирующими круглый позолоченный ме-
дальон с черненым изображением розетки.
Браслет был изготовлен предположительно
в Египте или Сирии в XII—XIII вв. В Иране
существовало и собственное производство
браслетов, завершающихся драконьими го-
ловками. Этот мотив здесь, вероятно, был
очень популярен и, зародившись еще в ахе-
менидскую эпоху, продолжал существовать в
период позднего средневековья. Предполо-
жительно XV в. датируется литой браслет,
украшенный на концах разинувшими пасти
драконьими головами (Hasson 1987, fig. 55;
Рябцева 1999:235, рис. 5).
Находимые же на территории Восточной
Европы плетеные шейные гривны и брасле-
ты, украшенные драконьими головками, ти-
пологически восходят не к византийской, а к
североевропейской ювелирной традиции.
В XI-XII вв. в скандинавских странах были
весьма распространены витые и плетеные
браслеты и шейные цепи, украшенные дра-
коньими головками, выполненными в стиле
Урнес (Stenberger 1947; Racz 1990: fig. 132,114)
(рис. 126.127). Причем браслеты, находимые
в Готланде, весьма близки к экземплярам из
Киева и Москвы (прил. 2. №307. 313)
(Stenberger 1947: Fig. 242.247.250,407.417).
В ряде случаев змеиные головки на концах
плетеных цепей служили карабинами для
крепления колечка с нанизанным на него хри-
стианским крестиком. Так, в погребении 10
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
245
Рис. 127. Браслет с драконьими головками. Вторая
половина XI — начало XII вв. Бурге. Клал. Серебро. По:
Stenberger 1947
Рис. 128. Браслет с драконьими головками. Киев.
Клали в ус. Лескова. ХИ-ХШ вв. Серебро. Б.м. По: Конда-
ков 1896.
финского могильника Таскула. датируемом
XI в., был найден серебряный двусторонний
крестик, нанизанный на завязанноконечное
перстневидное колечко, которое держат в па-
стях два дракончика, фланкирующие концы
плетеной цепочки (Kivikoski 1973:168.169.
Taf. XXXIII. 1). Аналогичная цепочка с дра-
коньими головками, держащими кольцо с на-
детыми на него серебряными бусинами и кре-
стиками с шестиугольными расширениями,
была найдена в погребении 2 могильника
Суотниеми. На нижнем крестике чернью на-
несено изображение мальтийского креста.
Привески-крестики, по-видимому, изготов-
лены византийскими или древнерусскими
мастерами, а цепочка с драконами выполне-
на в Северной Европе (Kivikoski 1973: 141,
Fb. 1150). Наиболее близкие аналоги крести-
кам. найденным в данном погребении, были
обнаружены при раскопках Новгорода (Се-
дов 1984: 36).
В качестве импор та цепи и браслеты с дра-
коньими головками попадали на территорию
Финляндии. Прибалтики. Руси и Польши
(Седов 1984; Duczko 1995; Корзухина 1954;
Rauhut 1955).
На территории Польши цепь и браслет
(ныне утрачен), оканчивающиеся драконьи-
ми головками, были обнаружены в составе
клала XI в. в местечке Боруцин (Rauhut 1955:
55-64. tab. XI). Цепь с односторонними дра-
коньими головками найдена вместе с лунни-
цами, бусинами, украшенными зернью, про-
водочными и сканными кружками и фесто-
нами, скандинавскими круглыми литыми
подвесками и другими славянскими и скан-
динавскими вещами. Головки драконов вы-
полнены из двух частей. Верхняя часть —
выпуклая ли тая, предсгавляетсобой украшен-
ную плетенкой голову дракона. Нижняя —
плоская с припаянным к ней ушком для креп-
ления кольца. Верхняя и нижняя части соеди-
нены штырем, сквозь который продета пер-
вая петелька цепочки (рис. 129).
На территории Прибалтики цепь, окан-
чивающаяся драконьими головками, была
найдена в составе клада XII в. в Валбо
(Duczko 1995:fig. 1). В состав клада также вхо-
дили и другие веши сканшшавской работы —
круглые фибулы, украшенные сканью, сереб-
ряные бусы и круглые полусферические под-
вески, серебряный крестик.
Кроме указанных выше витых и плетеных
браслетов, 'заканчивающихся драконьими го-
ловками. на территории северо-запада и сс-
Рнс. 129. Цепь со змеиными головками. Боруцин
Клад (Полина). XI в. Серебро. По: Rauhut 1955.
246
Глава IV
всро-востока Руси были широко pacnpoci ра-
нены и дроювые. узкопласгинчашс и .юж-
новитые браслеш. заканчивающиеся змеи-
ными и звериными (драконьими) головками
(Левашова 1967; 216), имеющие довольно
широкий крут анало! ий в Прибал тике (Гуре-
вич 1947:68. рис. 39-41). В Прибалтике зве-
рино- и змеиноголовые браслеты появляют-
ся в IX XI вв. в могильниках люцинско! о
типа (Соловьева 1971:124-132). Кроме брас-
летов. подобными змеиными и звериными
головками здесь украшали и подковообраз-
ные пряжки. В более ранних прибалтийских
материалах подобные украшения отсутш ву-
ют. но есть арбалстовилные фибулы, украшав-
шиеся змеиными головками. Наибольшая
концентрация украшений со звериными го-
ловками приходится на территорию Латвии,
встречаются они и в Литве, и в Пруссии (Гу-
ревич 1947: 68).
Литые звериноголовые браслет ы являют-
ся довольно распространенной находкой и на
славянской территории, их находят во Вла-
димирских курганах. Южном Приладожье,
Ярославском и Костромском Поволжье. Вол-
го-Окском междуречье (Левашова 1967:216).
В качестве примера наиболее реалистично
выполненных образцов подобных у краше-
ний В.П. Левашова приводит бронзовый
браслет из кургана у с. Весь (Владимирской
обл.) п аналогичный ему. происходящий из
венгерских древношей X XII вв. (могильник
Халимба). Находимые на славянской терри-
тории подобные браслеш Г.Ф. Соловьева
делит на две i руппы: технологически более
сложные — привозные из Прибалтики, и
более простые — произведенные па месте
(Соловьева 1971: 130).
Остановимся кратко на вопросе о семан-
тической нагрузке образа змеи. Недаром лот
персонаж так часто представлен на украше-
ниях периода анШЧН0С1 и. В балканской тра-
диции змея Bbiciynaei в двух ипосшсях —
космического предка и посредника между
Землей и Космосом, а также покровителя
дома. По древнебалканским нрелсшвлсшы.м.
четыре элемента, основные части космоса,
составляющие источник жизни — месяц,
земля, огонь и змея. Домашняя змея прино-
сит счас1 ье и оберегает от бед. 01 сюда изоб-
ражение змей на порогах домов, ри гуалыюм
печенье, венчальной одежде, паст ушьих по-
ясах. Подчеркивается и фаллическая, и сек-
суальная сущность змеи, часты легенды о
браках женщин и змей, от которых рождают-
ся герои, наделенные сверх ьестсс! венной
силой. Змея оделяет любовными чарами и
сексуальной активностью, покровительству-
ет беременным и младенцам. Поэтому змея
до сих пор считается на Балканах амулетом,
убитую змею ilth носят с собой, или закапы-
вают в доме у очага.
Корни восприятия змея как покровителя
очага, семьи, дома, каждого человека кроют-
ся в древностях эгейских культур. Изображе-
ние богини-змеи было найдено при раскоп-
ках Эванса. Змея — священное животное, по-
шившее тайпы жизни и смерти, одна из се
функций — предвиденье будущего. В этот
период змея считалась владычицей Нижне-
1 о мира и населяющих его предков, но. кро-
ме хтоничсской сущности, выполняла и
функцию покровительницы дома. Афина уна-
следовала змею от минойской богини — по-
кровительницы дома. Со змеями в руках
и юбражали и Артемиду. Гекату. Псрсефону
(Белецкая 1988: 206-216).
В Восточной Европе тоже были популяр-
ны змеиные персонажи. На т ерритории При-
балтики образ змеи воспринимался в основ-
ном как доброжелательный. Письменные ис-
I очники X1V-XVII вв. изобилую г сообщени-
ями о почт алии змеи в Прибалтике, покло-
нении ей наряду с 1 ромом и священными де-
ревьями и кормлении змей возле дома и в
священных рощах. В XVII в. в Латвии выпе-
кали большие хлебы в виде змеи с разинутой
пастью и подносили их богам в священных
рощах. Общее для всех прибалтийских пле-
мен название змеи «I ивота» переводится как
«жизнь», а сама змея воспринималась вечно
обновляющейся (сбрасывающая кожу), спо-
собной умерст ь только насильственной смер-
тью (Гуревич 1947: 68).
Если для Придал 1 ики образ змеи носит
исключшельно покровительственный харак-
тер. то на Руси дело обстои i сложнее. Выде-
ляется 1 юсколько се образов — о г огромной
змеи до фан i астического существа, чудови-
ща. Но и в христианском искусстве наряду с
апокалиптическим образом дракона и змее-
борческими мотивами продолжают жть
древние политсистчсские образы, связан-
ные пли с пережиточными культами, или с
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI—XIII вв.247
фольклором. Драконы представлены на нов-
городской мелкой пластике (Арциховский
1956: 34: Колчин 1956: 75. рис. 17). на капи-
1 е.Iи Борисоглебскот о собора в Чернигове
(XII в.), на рельефах Георгиевскою собора в
Юрьеве-Польском (Вагнер 1964:120). Но вес
же змей-дракон -- противник богатырей и
повелитель мировых стихий — персонаж,
скорее, отрицательный, с принятием христи-
анства его образ сливается с библейским
змеем, проклятым Богом (Гуревич 1947). а вот
дворовая змея, являющаяся одной из ипо-
стасей домового, носи г покровительствен-
ный характер (Власова 1995: 158-162).
Так же как в Прибалтике, на Руси живу-
щих у человеческого жилья змей подкармли-
вали молоком, уход такой змеи со двора, по
поверью, предвещал несчастье, а убийство
змеи расценивалось как грех. Рассматрива-
лись змеи и как всеведущие, вещие существа,
способные исцелять от болезней: как сред-
ство отлихорадки применялось ожерелье из
змеиных головок, либо ужовая или змеиная
шкурка нашее(Власова 1995:158-162). Мож-
но предположить, что аналогичной цели-
тельно-охранной функцией наделялись и
змеииот оловысбраслеты и гривны.
Таким образом, зародившаяся в период
энеолита традиция декорировки украшений
изображениями змеи не утратила своей по-
пулярности и во времена средневековья. Этот
феномен может быть объяснен как стойкос-
тью традиций в ювелирном деле, так и се-
мантической нагрузкой образов змеи и дра-
кона в миросозерцании и фольклоре многих
народов, приводящей к самостоятельному
появлению подобных украшений. Немало-
важна также тт декоративная приспособлен-
ность этих образов для оформления т ривен
и браслетов.
В период античности выделяется не-
сколько основных ювелирных школ, исполь-
зовавших эти образы для украшения ювелир-
ных изделий. Изделия этих школ подчас от-
личаются как формой, т ак и иконографией
и юбражений. Начиная с VI в. до н.э. разно-
образные шейные гривны и браслеты со зме-
иными и драконьими головками изготовля-
лись фракийцами. Скифы также изготовля-
ли браслеты, украшенные змеиными голов-
ками. причем на раннем этапе они ориенти-
ровались. по-видимому, на фракийские об-
разцы. В более позднее время на скифскую и
сарматскую моду оказывают влияние, веро-
ятно. греческие одно- и многоспиралытые
браслеты со змеиными головками, распро-
страненные в Причерноморье в III в.
до н.э. —III в.н.э.
В конце I тыс. до н.э. -- начале I тыс н.э.
т юл учают распрострат зет тт те т тлетеныс шейные
цепи, заканчивающиеся змеиными головками.
Но наибольшее распространение разнообраз-
ные браслеты и гривны с драконьими-змеи-
ными з оловками получают в конце IV-V вв. у
германцев, отдельные изделия встречаются и
у гуннов. В последующее время, влечение не-
скольких столетии, т та территории Восточной
Европы подобные украшения утрачивают
свою популярность. II появляются вновь уже
в Х-Х1 вв.. по всей видимости, в результате
культурных кот п актов со странами Бал гийс-
кого региона и Северной Европой, где подоб-
ные украшения можно отнести к наследию гот -
ской культхры.
IV. 6. ОЖЕРЕЛЬЯ-БАРМЫ
В едином сгиле с коллами и диадемами
оформлялись и роскошные древнерусские
ожерелья, состоявшие из крут лы.х медальо-
нов. перемежавшихся с бусинами. За этими
ожерельямтт в литературе закрепилось назва-
ние «бармы», предложенное еще в первой
че । верти XIX века У.Ф. Калайдовичем т ак
им было названо найденное в 1822 г. в Ста-
рой Рязани ожере. тье. украшенное иерет ород-
чагой эмалью (Калайдович 1823). Тогда же.
в XIX веке, была высказана мысль, что древ-
нерусские бармы являлись церемониальным
убором рхеских князей по аналогии с барма-
ми Московской Руси—п п троким мзт герчатым
оплечием, на который нашивались металли-
ческие медальоны, украшавшиеся жемчугом
и камнями (Кондаков 1906: Макарова 1986:
100).
Однако Г.Ф. Корзухина предложила свя-
зывать термин «бармы» не с церемониаль-
ными великокняжескими украшениями, по-
лученными из Византии, согласно созданной
московскими политиками XV в. легенде о
«Мономаховых регалиях» (бармы и шапка
248
Глава IV
Мономаха), а со шведским словом «Вапп».
обозначающим груды Корзухина 1954: 56).
Исследовательница ука тывает на наличие в
этнографическом свадебном шведском жен-
ском уборе нагрудных блях (такое платье с
бляхами носит название «Barmklade»).
Г.Ф. Корзухина высказала предположение,
что пришедший из Скандинавии, предполо-
жительно в XI в., в период интенсивных кон-
так I ов со скандинавами во время правления
Ярослава Мудрого, термин «бармы» мог от-
носиться к княжеским одеждам, расшитым по
плечам жемчугом, золотыми и серебряными
бляшками. В более позднее время этот тер-
мин мог быть перенесен и на расшитые кам-
нями и металлическими вставками оплечья
русских царей (Корзухина 1954:56). С север-
ной этимологией слова «бармы» соглашает-
ся и М.В. Седова. Она считает, что термин
«бармы» заимствован из германских языков,
но его значение определяет как княжеское
мужское ожерелье (Седова 1981: 7).
Кроме термина «бармы», в археолот ичес-
кой литературе предложено и штос обозна-
чение для древнерусских ожерелий с круглы-
ми медальонами. Г.Ф. Корзухиной подмече-
но, что в древнерусской письменной тради-
ции XII XIV вв. противопоставляется тер-
мин «гривна» (как мужское украшение) тер-
мину «монисто» (как же1 тскому). Так, в II па-
тьсвской летописи под 1289 г. сообщается,
что по заказу князя Владимира Васильевича
Волынского были написаны иконы Св. Ге-
оргия и Богородицы. Причем на икону Геор-
гия была возложена золотая, украшенная жем-
чугом тривна. а на богородичную— золотое
монисто с дорогими камнями (Корзххина
1954:57).
Необычность для представления о т рив-
не как об обруче ( горкве) сообщения о том.
что она была украшена жемчугом, заставля-
ет предположить, что мог быть и иной тип
тривен. Этот тип т ривен связывается иссле-
дователями (Н.П. Кондаков. Г.Ф. Корзухина.
Т.Н. Макарова) с сообщением рукописи
1263 т. «Шестоднева Иоана экзарха Болт арс-
кого». в которой описывается убор князя
«гривну цатаву на выи носяща и обручи на
руку» (Калайдович 1824: 64; цит. по: Корзу-
хина 1954: 57). Цата -дощечка, пластинка,
возможно, и медальон. К этому типу укра-
шений «гривна патова» и относят Г.Ф. Кор-
зухина и Т.Н. Макарова ожерелья с круглыми
медальонами, носившиеся древнерусской
знатью, а также возлагавшиеся на иконы,
подобно гривне из Каменнобродского клала
(Корзухина 1954: 57: Макарова 1986: 100).
Еще один термин, с некоторой долей т и-
потстичпости выявленный Г.Ф. Корзухиной
для ожерелий с металлическими подвеска-
ми. «гривны месяцы», по мнению исслс-
лова гельницы. появился в X в., кот ла в со-
ставе ожерелий чередовались лунничные и
круглые подвески, и был перенесен на более
поздние украшения, в кот орых лунницы вы-
шли из употребления. Появление термина
«монисто» (в значении исключительно жен-
ского украшения) Г.Ф. Корзухина относит к
XI в. (Корзухина 1954:58).
Однако в литературе за интересующими
нас ожерельями исторически закрепилось все
же название «бармы», которого мы и будем
придерживаться во избежание терминологи-
ческой путаницы. Бармы появляются не-
сколько позже, чем колты. и дополняют па-
радный и церемониальный уборы в середи-
не XII — первой трети XIII вв.
На древнерусских золотых бармах, как
правило, встречается изображение Деисуса
или патрональных святых.
В Са.хновском кладе, содержавшем диа-
дему с изображением вознесения Александ-
ра Македонского, было найдено и четыре ме-
дальона от барм (прил. 2. Х»317). По конст-
рукции золот ые медальоны близки к колта.м
со вставными щитками (только без лучей).
Щитки с эмалевыми изображениями, как и у
колтов. окружены жемчужными нитями, ана-
логичная нить укреплена и по краю изделия.
В промежутке между жемчу жными нитями
напаяны тисненые золотые полусферы. По-
верх крайнего ряда жемчуга и полусфер укреп-
лены драгоценные камни в высоких т ране-
ных карстах (рис. 130).
По мнению Т.П. Макаровой, все медальо-
ны выполнены одним и тем же мастером, их
объединяет как несовершенство в иконо-
графии. в креплении пластин в оправы, так и
дефекты обжига. Причем и вставочка, и опра-
ва. близкие ио цветовому решению эмали и
драгоценных камней, были изт отовлены в
одной мастерской (Макарова 1975:56). Иного
мнения придерживается Г.Н. Бочаров. Поего
мнению, эмалевые вставочки и оправы с жем-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
249
Рис. 130. Бармы. 1 — из зарубежных собраний, 2-4—Киев. Клад 1880г. по Б. Житомирской ул., 5-8—Сахиовка. Клад
1900г. Золото. По: Макарова 1975.
250
Глава IV
чутом и драгоценными камнями были изго-
товлены в разное время (Бочаров 1984; 68).
Ав юр предположил, что медальоны были
вставлены в оправу в Рязани (только в э 1 ом
центре для крепления драгоценных камней
применяли ромбовидные и восьмиугольные
каре гы), причем не ранее второй половины
XII в. — времени, которым да труются ран-
ние бармы из Рязанского клада 1822 г.
Близкими к сахновским по цветовой гам-
ме и декору оправы рубчатой проволокой и
тиснеными полушариками являются медаль-
оны из коллекции Пирпонта Mopi ана, к это-
му же кругу изделий относятся, вероятно,
медальоны из Киевских кладов 1825 и 1880 гг.
и два медальона с Княжой торы (прил. 2.
№314). В целом данная группа украшений
датируется второй половиной XII — нача-
лом XIII вв.. то есть временем распростра-
нения на древнерусских ювелирных украше-
ниях рубленой проволоки и траненых карст ов
(Макарова 1975:58).
Этим же периодом датируется и несколь-
ко наборов уникальных барм, найденных в Ря-
занском кладе 1822 г. (прил. 2.№320, рис. 75).
Одно из наиболее полных описаний кла-
да 1822 г. из Старой Рязани принадлежит
Н.П. Кондакову (Кондаков 1896; 83-96. табл.
XVI-XVII). Он разделил клад на 3 набора. В
первый набор, по его классификации. входят
колты со святыми Борисом и Глебом.
Второй набор составляют бармы с меда-
льонами. изображающими Богоматерь и свя-
тых Ирину и Варвару. Медальоны череду-
ются с пятью золотыми ажурными бусина-
ми. украшенными жемчугом. Щитки с эма-
левыми изображениями заключены в ажур-
ные сканные оправы, окруженные нитками
жемчуга. Вокруг на сканном фоне располо-
жены камни в прямоугольных или овальных
гнездах.
Медальон с Богоматерью первоначально
был нашит на ткань, так как он имеет чет ыре
сквозных отверстия по краям (Макарова 1975:
58). По мнению Г.Н. Бочарова, пластина с
изображением Богоматери, имеющая отвер-
стия но краям, как на пластинках с древне-
русских диадем, могла первоначально вхо-
дить в состав Деисчса. украшавшего диадему
(Бочаров 1984:159).
Скань, украшающая оправы этих медаль-
онов. закручена в виде спиральных завитков
и выполнена из двух скрученных проволо-
чек и украшена дополнительно зернью. За-
вершения завитков приподняты над плоско-
стью изделия и создают впечатление объем-
ност и. Необычно оформлена оправа эмале-
вой вставочки — она закрыта ажурной по-
лосой. выполненной из скани.
Данные бармы предст авляют собой син-
тез византийской и древнерусской работы.
Если эмалевое изображение Бот оматсри
было выполнено византийским мастером в
XI в., то изображения святых Ирины и Вар-
вары были изготовлены на Руси (Кондаков
1896:59; Макарова 1975:60-61; Бочаров 1984:
160).
Третий набор барм, по классификации
Н.П. Кондакова, состоит из шести медальо-
нов, богато украшенных сканью и драгоцен-
ными камнями и разделенных шестью ажур-
ными сканными бусинами, украшенных нит-
ками жемчуга (в настоящее время не сохра-
нились) и мелкими гранатами. Медальоны
также украшены по краю жемчужной обни-
зью. в центре расположены крупные встав-
ки (горный хруст аль), вокруг — восемь мел-
ких вставок, за ними следует восемь более
крупных вставок, и, наконец, восемь мелких
вставок по краю изделия. Камни различной
формы расположены в простых и приподня-
тых на сканных арочках карстах. Скань
двухъярусная, нижняя прокована и припаяна
на ребро, поверх нее еще один слой обыч-
ной скани. Рязанские бармы выделяются из
круга древнерусских украшений, на которых
в XII в. скань и драгоценные камни приме-
няются гораздо более сдержанно.
Нам кажутся перспективными построе-
ния Г.Н. Бочарова относительно влияния за-
падноевропейских мастеров на ювелиров Ря-
зани. Однако мы не можем согласиться с
\твсрждением исследователя о т ом. что в XI
XII вв. византийские ювелиры редко исполь-
зуют скань и только накладную и плоско-
стную(Бочаров 1984:166-167). Действитель-
но. хтя византийских мастеров свойственна
более четкая и геометрически правильная
система скани, особенно на вещах церковно-
1 о характера (кресты, оклады икон и т.д.). чем
та. с которой мы сталкиваемся на украшени-
ях из Рязани. Но ажурная скань в Византии
все же использовалась, и именно на издели-
ях светского характера (колты. перстни, под-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
251
Рис. 131. Камен-
нобролская гривна. Зо-
лото, эмаль. По: Мака-
рова 1975.
вески). Примером могут служить золотые
колты, богато декорированные сканью (Кон-
даков 1896: табл. 14; Jewelry 7000 1991:336)
(рис. 98, J; рис. 99). Причем первая пара кол-
тов (из покупки И.П. Балашова, изданная
Н.П. Кондаковым) украшена и вставками с
альмандинами, и перегородчатой эмалью.
Наиболее близкими аналогами украшени-
ям из Рязанского клада Г.Н. Бочаров считает
произведения ювелиров, работавших в при-
рейнеких мастерских в XII-XIII вв. ВIX
XIV вв. прирсйнские мастера развивали мо-
тив сканных завитков, оканчивающихся ша-
риками зерни, характерный для убранства
рязанских барм. В ХПТ в. в западноевропей-
ском ювелирном деле приобретает популяр-
ность и двухъярусная скань (например,
Страсбургский реликварий 1230 г.), и драго-
ценные камни в приподнятых на сканных
столбиках карстах (Бочаров 1984:170).
Знакомство рязанских мастеров с продук-
цией западноевропейских мастерских, как
правило, объясняется исследователями про-
хождением через Рязань в XI -ХИ вв. «янтар-
ного пути» из Прибалтики в Волжские Бул-
гары (Монгайт 1955:154-163). Однако дати-
ровку Рязанского клада началом ХИ в., пред-
ложенную А. Л. Монгайтом (Монгайт 1955:
152), Г. Б. Бочаров отодвинул к рубежу ХП-
XIII вв., т.е. тому времени, когда западноев-
ропейею ie ювелиры стали изготовлять скань,
аналогичную той, которой украшены рязан-
ские бармы (Бочаров 1984:174).
Возможно, бармами, только во вторичном
испол ьзовании, была и «цата» с Деисусом из
Камсннобродского клада (прил. 2, №321;
252
Глава IV
Рис. 132. Бармы. 1.5,
б — Великие Болгары.
Клад 1888г..2—с. Исады.
Клад 1851 г.. 3.4 —Старая
Рязань. Клал 1970г. Сереб-
ро. Масштабы разные. По:
Макарова 1975.
рис. 131). По мнению Г.Ф. Корзухиной, пер-
воначально изделие было прибито к какой-
то твердой основе (вероятно, к иконе), о чем
свидетельствуют дырочки от гвоздей. Затем
«гривна» была снята с иконы и переделана в
шейное украшение. При этом к ней были при-
креплены декорированные эмалью наконеч-
ники, снятые с какого-то другого украшения,
к которому они крепились при помощи шар-
ниров, причем мастер-починщик Каменно-
бродской гривны эти шарниры не использо-
вал, но и не убрал (Корзухина 1954:51). По
мнению И. А. Стерлиговой, эта очень боль-
шая плоская гривна нс могла носиться как
светское украшение, так как у наконечников
нет отверстия, с помощью которого они мог-
ли бы крепиться к гривне (Стерлигова 2001:
156,165).
Так же как и диадемы, золотые бармы
принадлежали к княжеским облачениям и яв-
лялись. вероятно, одновременно и инсигни-
ями власти. Бармы из серебряных черне-
ных медальонов входили в состав другого,
более скромного убора и могли носиться и
менее состоятельными и привилегирован-
ными членами общества. Так, серебряные
«бармы» из Рязанского клада 1937-1950 гг.
были найдены в печи землянки (Корзухина
1954:145).
Как правило, серебряные бармы изготов-
ляли из цельных пластан (как колты первого
варианта). Исключение составляют 8 неболь-
ших серебряных позолоченных медальонов
со вставными щитками, происходящих из
Киевского клада 1901 г. (прил. 2, №331). Се-
ребряные медальоны с позолоченными щит-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
253
ками, украшенными черневыми изображени-
ями кринов, принадлежат, по-видимому, к
одному убору с найденными в этом комплек-
се уникальными золотыми колтами, украшен-
ными чернью и гравировкой.
Серебряные медальоны, выполненные из
цельной пластины, как правило, полусфери-
ческой формы, с трубчатыми или бусинными
ушками (наподобие тех, что использовались
для подвешивания энколпионов), украшались
изображениями святых или процветшими кре-
стами. Медальоны с изображениями святых
были найдены в Киеве, Владимире, Старой
Рязани и Старой Буде. Наибольшее количество
медальонов этого типа происходит из кладов
Старой Рязани (клады 1937-1950 г.; 1968 г.;
1970 г.) (прил. 2, №326-328).
Дтя медальонов и браслетов-наручей, на-
ходимых во Владимирских кладах, отличи-
тельной чертой является сочетание позоло-
ченного фона и черни по гравировке. Тако-
вы медальон с Богоматерью Орантой из Вла-
димирского клада 1837 г., обломки трех-че-
тырех, по сообщению Т.Н. Макаровой (Ма-
карова 1986:102), или четырех-пяти, несо-
общению Г.Ф. Корзухиной (Корзухина 1954:
146), позолоченных серебряных медальонов
(два с изображениями архангелов, один —
Карта 22. Медальоны золотые.
323. Киев, клад 1842 г.
324. Киев, клад 1880 г.
325. Киев, клад 1824 г.
326. городище Девичья Гора, клад 1900г.
327. городище Княжа Гора, клад 1891 г.
328. с. Городище, клад 1970 г.
329. Старая Рязань, клад 1822 г.
330. с. Каменный Брод, клад 1903 г.
254
Глава IV
Карта 23. Медальоны серебряные.
331. Киев, клад 1901 г.
332. Киев, клад 1939г.
333. с. Городище, клад 1970г.,
334. с. Старая Буда, клад 1908 г.
335. Старая Рязань, клад 1868 г.
336. Старая Рязань, клад 1937-1950 г.
неизвестного святого и один — с процвет-
шим крестом) из Владимирского клада 1865
года (прил. 2, №329-330).
Наиболее цельное представление о том,
как выглядели в уборе целые ожерелья с се-
ребряными медальонами, дает так называе-
мое «суздальское оплечье», найденное при
раскопках кургана у деревни Исады, недале-
ко от Суздаля (прил. 2, №331, рис. 132) и со-
стоящее из шести серебряных позолоченных
медальонов, разделенных межцу собой дву-
мя бусинами. Центральный нагрудный меда-
337. Старая Рязань, клад 1970 г.
338. Владимир, клад 1837 г.
339. Владимир, клад 1865 г.
340. с. Исады, клад 1851 г.
341. д. Сельцы, клад 1892 (1890 или 1894.?) г.
342. Москва, клад 1988 г.
льон с черненой вставкой (с изображением
процветшего креста), заключенной в оправу,
декорированную тиснеными полушариками,
крепится при помощи шарнира к многогран-
ному бусишюму ушку. Ушки у всех остальных
медальонов припаяны наглухо и имеют фор-
му овальной бусины с ребром посередине.
Два боковых медальона меньшего размера с
изображением процветших крестов в про-
стой оправе. Следующие два медальона еще
более мелкого размера, один с процветшим
крестом, второй—с изображением св. Гле-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.255
ба. Последний медальон такого же размера,
как и центральный. с изображением малень-
кого креста в круге и шести кринов в полу-
круглых арочках. Бусины, разделяющие ме-
дальоны. типичны лтя Рязанской ювелирной
школы и украшены тиснеными полусферами
или зерневыми i реу гольниками.
Образ св. Бориса и Глеба в облике чу-
десных врачевателей и страстотерпцев был
весьма распространен на женских украше-
ниях. особенно на северо-востоке Древней
Руси (наиболее был популярен Глеб, кня-
живший в Муроме). Ожерелья, сочетавшие
медальоны с изображениями этих святых и
процветших крестов (символ вечной жиз-
ни и обновления), служили, вероятно, и
своеобразными амулетами (Даркевич. Мон-
гайт 1978: 7).
Еще два медальона, исполненные, веро-
ятно. мастером, изготовившим «суздальское
оплечье» (практически идентичны его цент-
ральному медальону), хранятся в коллекции
Государственного Исторического музея в
Москве (Макарова 1975).
Медальоны с шестиконечными процвет-
шими крестами встречены также в Киевском
кладе 1903 г.. в кладе 1970 г., найденном на
Болоховском городище (Хмелышцкая обл.).
в кладе у с. Старая Буда, во Владимирском
кладе 1837 г., вкладах 1968 и 1970 гг. в Ста-
рой Рязани, в кладе 1888 г. в Великих Болга-
рах. Набор из 9 медальонов, найденный в
Великих Болгарах, изготовлялся, вероятно,
тремя разными ювелирами, причем один из
них мог быть мастером «суздальского опле-
чья». Медальоны барм, аналогичные работе
другого мастера из Великих Болгар, были
найдены в Чернигове и под Новгородом (Ма-
карова 1986: 107. рис. 53. №287. 315-317).
Сюжет с процветшим крест ом был поза-
имс т вован древнерусскими ювелирами с ви-
зантийских изделий. На ряде медальонов
крес I и зображен в визаи тийской иконогра-
фии с расширяющимися лопастями, напри-
мер. на медальонах из Великих Булгар
(рис. 132). Появляются процветшие кресты
на византийских серебряных изделиях X-
XI вв. например, на Лимбургской ставро-
теке или реликварии, приобретенном в
1889 г. в Париже (Банк 1978:196-198. рис. 9).
С XI в. процветшие кресты встречаются в
древнерусских граффити и на ак ювых печа-
тях (Макарова 1986: 107). BXII-XIII вв. по-
добный рисунок стали наносить на медаль-
оны и монетовидные подвески.
Практ ически все находки золо т ых барм
происходят и з Киева и близлежащих районов
Поднспровья и Побужья (карта 22). Исключе-
ние составляют т ол ько драгоценные бармы из
Старой Рязани. Дтя серебряных же барм вы-
деляется два центра производст ва: один при-
урочен к Киеву, второй — к северо-востоку
Ру си (карта 23). Изготовление серебряных ме-
дальонов началось в Киеве, продолжилось в
Рязани и стало наиболее популярно на севе-
ро-востоке Руси (Макарова 1986:101).
В качестве единичных находок серебря-
ные медальоны находят и за пределами древ-
нерусской т ерритории. Серебряный медаль-
он с гравированным поясным изображени-
ем Богоматери Оранты был обнаружен в
женском погребении карельского могильни-
ка Кекомяки. Древнерусское происхождение
данного украшения нс вызывает сомнения
(Nordman 1961: 270-272.278-281, kuva 232:
Седов 1984: 36. рис. 4). Польский археолог
В. Антоневич также придерживается мнения
о древнерусском происхождении данного
медальона и сравнивает его с золотыми и
серебряными медальонами рязанских барм
(Antoniew icz 1970:50-56). По мнению данно-
го исследователя, медальон был изготовлен
в одном из городских ювелирных центров
северной части Древней Руси. Знакомство с
подобными древнерусскими медальонами
повлияло, по всей видимости, и на сложе-
ние типа круглых карельских фибул XII-
XIII вв.. украшенных чернью и позолотой,
изображениями процветших крестов и в од-
ном случае— Богоматери (Кочкуркина 1982:
9-97. рис. 16).
Таким образом, к середине XII в. относит-
ся сложение церемониальных и парадных
уборов, включавших в себя ожерелья-бармы.
Золотые бармы украшались изображениями
святых, драгоценными камнями, сканью и
зернью, жемчугом и рубчатой проволокой.
Для серебряных медальонов характерны
изображения святых и процветших крестов.
Данный ши украшений оказал влияние и на
развитие типов украшений повседневного
убора декорировку древнерусских кру т дых
монетовидных подвесок и карельских кру г-
лых фибул.
256
Глава IV
IV. 7. СТВОРЧАТЫЕ БРАО1ЕТЫ-НАРУ ЧИ
Появление на Руси широких ст ворчатых
браслстов-наручсй с шарнирным креплени-
ем створок от носи гея к середине XII века. В
настоящее время известно около полусотни
подобных древнерусских браслетов, а также
формы для их отливки (Макарова 1975: 64-
99). Схожие византийские браслеты датиру-
ются в пределах XI ХШ вв. (Даркевич 1975:
271-273: Бочаров 1984:87).
История же возникновения этого типа
украшений относится к более древнему пе-
риоду. Гривны и браслеты с шарнирными
креплениями зародились в периодэллиниз-
ма. вероятно, под сильным атиянием восточ-
ноиранского очага металлообработки. Наход-
ки широких пластинчатых браслетов встре-
чаются гораздо реже, чем гривен. Можно упо-
мянуть золотой ажурный браслет с изобра-
жением упавшей лошади из находки в мест-
ности Дуздак в низовьях Сыр-Дарьи
(рис. 134. 2). Украшение выполнено в ин-
крустационном стиле (Артамонов 1973:46.
рис. 56). Еще один широкий золотой пластин-
чатый браслет, спаянный из трех ажурных
полос-фризов, происходит из Сибирской кол-
лекции Петра 1. Фризы заполнены изобра-
жениями борющихся животных, на некото-
рых из фигур —ячейки для инкрустаций (Ар-
тамонов 1973:181. рис. 234). Изображения на
браслетах, найденных в Сибири и Средней
Азии, объединяют удлиненные пропорции,
а также специфический прием передачи пе-
ревернутой задней части туловища живот-
ных.
Два браслета с шарнирами, аналогичных
дуздакскому. были найдены в Северо-Запад-
ном Пакистане. Браслеты украшены изобра-
жением сцены борьбы тигра со змеей
(рис. 134. /). Ободки браслетов покрыты узо-
ром из инкрустированных треугольников,
кроме того, инкрустациями украшены фигур-
ки животных (Артамонов 1973: 180.
рис. 232). Таким образом, из сплава эллини-
стических. персидских и скифских традиций
в III—II вв. до н.э. рождается интерссуюший
нас тип украшений, так отличающийся от
широко распрос i раненных в период антич-
ности узкопласт инча гых одно- и многовит-
ковых браслетов.
В эпоху раннего средневековья широкие
створчатые брасле 1ы с шарнирным креплени-
ем изготовляли мастера Византии. Из Фесса-
лоник происходит пара роскошнььх широких
золотых браслетов византийской работы.
Браслеты сост оя г из двух створок, соединен-
ныхшарнирами. Створки разделены катушеч-
ной филигранью на прямоугольные клейма, в
которых содержатся эмалевые изображения
птичек и кринов (Makcdonia 1992:83). Сход-
ная форма наручей, надетых поверх рукава,
обильно представлена в произведениях как
византийского, так и древнерусского монумен-
тального и прикладного искусства.
В VI в. византийские ювелиры изготов-
ляли ажурные створчатые браслеты, укра-
шенные крупными медальонами. Примером
I юдобных украшений могуч служить роскош-
ные браслеты из Варнинского клада 1961 г.
(рис. 135. 7). Браслеты декорированы пыш-
ными расти тельными побегами — виноград-
ной лозой с ягодами-жемчужинами и листь-
ями. украшенными зелеными шлифованны-
ми стеклами (Димитров 1963: 36. рис. 2. 3).
Наружная сторона медальона украшена ро-
зетчатым орнаментом, заполнештым светло-
зеленой и лиловой эмалями, на обороте —
тисненое изображение птицы, заключенное
в пентаграмму (рис. 135,/о. /о). Вероятно,
эти браслеты носили христианскую симво-
лику. связанную с образом Вечнозеленого
Вертограда — Рая. Сходные украшения хра-
нятся в музеях Афин. Нью-Йорка и Лондона
(Димитров 1963:40).
На Руси створчатые пластинчатые брас-
леты носились в составе ювелирного убора
с чернью, ажурные створчатые браслеты дтя
этого региона не характерны, хотя известен,
по крайней мере, один пример ажурною
створчатого браслета, происходящего из Ря-
занского клада 1822 г. (Бочаров 1984: 177)
(рис. 133.2).
Древнерусские мастера не повторяют ви-
зантийские образцы буквально, вместе с тем
часть сюжетов, изображаемых на древнерус-
ских и византийских браслетах, совпадает.
Ряд изображений с древнерусских браслетов
находит себе аналоги в других произведени-
ях византийской торевтики.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.257
Рис. 133. Створчатые браслеты-иаручи. 1 — Киев. Клад 1903 г.. 2—Старая Рязань. Клад 1822 г.. 3 - - Киев. Клад
1872 г.. 4—Юрковеикий клад. 5—коллекция ГИМ (Москва), 6—Луцк. 7—Демидово. Клад. 8—д. Сартакова. 9—
Приуралье. 10.12-14 - Новгород. 11 - Пинск. 15—с. Слободка. Масштабы разные.
258
Глава IV
1
3 4
5
Рис. 134. Створчатые браслеты. I — Северо-Западный Пакистан: 2—Дуздак, 3-6—Виза нтия (3,4—Лувр, 5—
галерея Уолтерс. Балтимор, 6—музей Бенаки. Афины); 7,8 — Прилеп (Македония). 1,2—золото, 3-8—серебро.
Масштабы разные.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.259
На византийских браслетах фигурки лю-
дей, зверей, фантастических животных, вы-
ступающие в довольно высоком рельефе,
представляют собой кавалькаду, величавое
шествие или, чаще, заключены в круглые ме-
дальоны (рис. 134,3-6). В технике черни де-
корируются на византийских образцах бор-
дюры из орнаментальных завитков, распо-
ложенные по краю украшения (Даркевич
1975:271-273). На древнерусских браслетах,
изготовлявшихся в технике ручной выколот-
ки, тиснения или литья, изображения плос-
кие, гравированные. Чернью покрывался
фон, и только в поздних образцах, находи-
мых в кладах XIII-XV вв., чернью заполне-
ны линии гравировки. Изображения на
древнерусских браслетах расположены в
один или два яруса и, как правило, заклю-
чены в прямоугольные рамочки или киото-
образные и полукруглые арочки, выделен-
ные псевдосканью или орнаментально
(рис. 133,1, 3,5, 7). Некоторые из этих аро-
чек имеют ярко выраженную архитектонич-
ность и украшены человеческими и звери-
ными личинами, наподобие капителей хра-
мов Владимиро-Суздальской архитектурной
школы (Макарова 1975:64-96, рис. 25-46;
Древняя Русь... 1997:61-63).
Примером работы византийских мастеров
может послужить створка браслета, украшен-
ного растительными побегами и фигурами
фантастических животных—льва с челове-
ческим лицом и птицы-сирина, из хвоста
которого растет голова грифона (хранится в
галерее Уолтрес в Балтиморе) (рис. 134,5).
На трех браслетах из Лувра изображены впи-
санные в медальоны фигурки всадников и
фантастических животных (рис. 134,3). Брас-
лет из частного Парижского собрания деко-
рирован медальонами с изображениями пти-
цеголовых и львиноголовых грифонов
(рис. 134,4). По краю этот браслет орнамен-
тирован бордюром из черневых завитков. В
Афинском музее Бенаки хранятся серебряные
двустворчатые браслеты, один из которых
украшен гравированными с чернью изобра-
жениями грифонов (рис. 134,6), а другой —
чеканными розетками с четырьмя сердцевид-
ными завитками, размещенными в центре
квадрата. В углах квадратиков вычеканены
рельефные завитки (Даркевич 1975:271-273,
рис. 385-389; Бочаров 1984:87).
Аналогичные сюжеты встречаются и на
древнерусских браслетах. На них также изоб-
ражали кентавров (обруч из Терехова), львов,
например, на браслетах из Старой Рязани и
Твери (прил. 2, №346,351,352). Весьма раз-
нообразна на таких браслетах иконография
изображения птиц, птицеголовых грифонов
и сирен (рис. 133, 7, 3, 5, 7). Изображения
птиц зачастую переплетаются с изображени-
ями растительных побегов, а фигурки зверей
становятся частью орнаментальной плетен-
ки (например, обруч из Киева) (рис. 133,7).
К редким для этого вида украшений можно
причислить фигурку дракона, изображенно-
го на обруче из Терехова, но она имеет ана-
логи в других произведениях мелкой плас-
тики и Галицкой белокаменной резьбе.
Изображались на древнерусских обручах
и антропоморфные фигурки. Женщины на
них простоволосые, волосы спускаются чуть
ниже плеч. Женские фигурки одеты в длин-
ные платья, на которых графически выделе-
на кайма по вороту, подолу, рукавам и в цен-
тре полочки (например, обруч из Твери). В
ряде случаев у женских фигурок изображены
очень длинные нижние рукава рубашки, под-
детой под платье с короткими рукавами. На
обруче из Киева изображен несколько иной
покрой одежды: на женщине надето платье с
поясом или расклешенная юбка, доходящая
только до колен. Из-под коротких верхних
рукавов свисают длинные нижние, достаю-
щие до пола (рис. 133,5). На обруче из Ста-
рой Рязани выделен передник, хорошо вид-
ны и сапожки. Женщины на этих браслетах
или пьют из чаш, кубков или рогов, или бе-
седуют с сидящими напротив мужчинами,
или пляшут, размахивая длинными рукавами.
На браслете из Киевского клада 1903 г.,
найденного на территории Михайловского
монастыря, представлено изображение фан-
тастической девы-птицы-змеи, которое мо-
жет являться средневековой переработкой
античного образа Змееногой богини (Петров,
Макаревич 1962: 43-47; Михайлова 1997:
256). Аналогичный персонаж представлен и
на поливной плитке из Гал ичского Спасско-
го собора (Малевская, Раппопорт 1978:89).
Мужчины иногда изображались просто-
волосыми (например, на обруче из Твери),
но чаще в островерхих колпаках, в аналогич-
ные колпаки одеты и мужские птицы—си-
260
Глд&л IV
Рис. 135. Створчатые браслеты. 1,1а, 16—Варна. Клад (Болгария); 2—Джуке-Тау. Клад; 3—Нсйзац. Клад (Крым);
4-9—Узбекистан. Бухара. 1-3—золото, 4-9—серебро. Масштабы разные.
рины на браслете из Старой Рязани. На не-
которых мужских фигурках надеты рубашки
до пояса с выделенным небольшим ворот-
ничком и прямоугольной вставочкой на гру-
ди, штаны до колен и сапоги (обруч из Тве-
ри). На других браслетах мужчины изобра-
жены в подпоясанных кафтанах длиною до
колен, с короткими рукавами, из-под которых
видны рукава нижней рубахи. На ногах —
сапожки. Мужчины изображаются пирующи-
ми, бегущими, беседующими, играющими на
гуслях. На обручах из Киева и Демидова
(рис. 133,5, 7) изображены фигурки воинов
(Макарова 1986:93, рис. 44).
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII кк.
261
Изображения плясунов, пирующих, музы-
кантов с древнерусских браслетов-наручей
находят аналогии в произведениях византшь
ской торевтики, например, на чаше из села
Березова в Зауралье. Чаша хранится в Госу-
дарственном Эрмитаже и датируется по па-
леографии процарапанной на ней русской
надписи XII веком (Даркевич 1975: 88,92.
рис. 123). На ней изображен танцор в одея-
шш с длинными рукавами (рис. 136. и). Час-
то встречаются на византийских чашах и
изображения музыкантов, играющих на псал-
тири. лютне, флейте, тарелках.
На чаше из собрания А.П. Базилевского
(хранится в Отделе Востока Гос. Эрмитажа)
изображена фигурка танцовщицы, одетой в
платье с очень длинными рукавами (рис. 136,
а). Аналогичное изображение танцовщицы
представлено и на золотой пластинке короны
Константина Мономаха (1042-1050) (Дарке-
вич 1975:66, рис. 88; 178, рис. 270) (рис. 90).
В праздничные рубахи с рукавами до пят
облачались танцоры и танцовщицы в Ира-
не. Византии, Грузии, Армении, Руси. Бол-
гарии. Сербии в XXV вв. «Общность обы-
чаев на огромной этнически пестрой терри-
тории — одно из подтверждений единства
средневековой культуры Востока и Запада»
(Даркевич 1975: 178. 179). По мнению
А.Н. Грабара, костюм с длинными рукавами
имел иранское происхождение. В подтверж-
дение этого исследователь приводит костя-
ные пластинки от ритона II в.н.э. из Ольвии
с рельефными изображениями парфянского
царя и наследника престола (Grabar 1960:
Прим. 59). В отличие от А.Н. Грабара, пола-
гавшего. что «сцены на серебряных нару-
чах —лишь отголосок визанпшекого изобра-
зительного цикла зрелищ на ипподроме»
(Grabar 1960:140). В.П. Даркевич считает, что
«русских художников вдохновляла местная
языческая обрядность. На Руси ригуальныс
пляски “кошунниц бесовских” сопровожда-
ли игрища скоморохов. ‘"Безличные” мимы-
скоморохи участвовали в поминках и свадь-
бах. зимних и весенне-летних празднествах
аграрного календаря. Без них не обходились
и княжеские пиры» (Даркевич 1975: 308.
прим. 334). Аналогичного мнения придержи-
ваются Б.А. Рыбаков, Т.Н. Макарова и
Е.А. Брайчевская (Рыбаков 1987; Макарова
1986:164.165; Брайчевская 1988:191).
Так или иначе, были ли изображения на
древнерусских браслетах калькой с компози-
ций, представленных на византийских ча-
шах. или на Руси они наполнились новым
содержанием, но близость их к византийс-
кому' культурному кругу, па наш взгляд, оче-
видна. В результате интенсивных политичес-
ких и торговых контактов Византии и Древ-
ней Руси на территорию последней попада-
ли не только изделия византийских мастеров
— керамика, стекло, ювелирные изделия, но
и был перенят и прочно вошел в празднич-
ный и повседневный убор ряд ювелирных
украшений. Подражая социально-престиж-
Рнс. 136. Прорисовки изображений танцовщиков.
1 —чаша из собрания А П. Базилевского. 2— чаша из с Бе-
резова XIJ в Ьм
262
Глава IV
ным византийским образцам, изображаю-
щим мифологические сюжеш и сцены из
жизни зна 1 и. древнерусские ювелиры нахо-
дили своеобразные технические и изобрази-
тельные приемы для исполнения украшений,
о I вечаюших вкусам своих современников. На
Русь эти украшения попали уже в сформиро-
вавшемся виде. Византийские (в широком
смысле. общсиндоевропейскис)сюжеты: гри-
фоны. барсы, львы, птицы, сирены, процвет-
шие побеги, крины, разнообразная плетен-
ка. изображение танцующих и пирующих
людей — хорошо привились на русской по-
чве.
Первая типология древнерусских створ-
чатых браслетов была предложена Б.А. Ры-
баковым (Рыбаков 1948: 265-266). Исследо-
ватель поделил все известные к тому време-
ни браслеты-обручи по территориальному
признаку на три группы (Владимирскую.
Киевскую и Галицкую). Т.И. Макарова раз-
работала свою типологию данных украше-
ний. изложенную ею в отдельной главе мо-
нографии «Черневое дело Древней Руси»
(Макарова 1986:64-99). Исследовательница
проанализировала 38 браслетов, происходя-
щих с территории Руси.
Наиболее ранней находкой двухстворча-
того пласт инчатого браслета она считает об-
ломок серебряного брасле га. декорированно-
го проволочными косичками и зигзагами,
происходящего из Юрковецкого клада конца
X начала XI вв. (рис. 133.4). Недавно был
опу бликован еше один фрагмент подобного
браслета (рис. 133.6). происходящий из рас-
копок Друцка и датируемый автором иссле-
дования иа основе наблюдения за страти-
графией памятника XIV в. (Алексеев 2002:84.
рис. 3. 7). Кроме того, аналогичный браслет
был найден в XIX в. на Княжой Горе (древ-
ний город Родня) (Хойловский 1896: табл. IX.
694). Наличие по крайней мере трех створ-
чатых браслетов, украшенных проволочной
косичкой, может свидетельствовать о само-
стоятельном (причем довольно длительном)
существовании этого типа украшений, по-
явившихся несколько раньше и носившихся
параллельно со створчатыми чернеными
браслетами. Еше одной (еще более редкой)
разновидностью были створчатые ажурные
браслеты, предсгаатенныс упомянутой выше
находкой из Старой Рязани (рис. 133,2).
В первой половине — середине XII сто-
летия появляются обручи, выполненные в
технике ручной выколотки (1-й вид по
Т. И. М акаровой). украшет и т ые т тсевдосканыо
и т равированными чернеными изображени-
ями плясуний и музыкантов, птиц и зверей,
растительным орнаментом. Изготовлялись
они в мастерских Киева. Чернигова и Ряза-
ни. Эти обручи Т.И. Макарова, вслед за
Б.А. Рыбаковым, именует «русальными», свя-
зывая изображенные на них сюжеты с ру-
сальными игрищами (Макарова 1986: 164).
Мы уже останавливались выше на проблеме
интерпретации сюжетов этой т руппы брас-
летов. На наш взгляд. они отражают, скорее,
не языческие представления, а стремление
верхушки кттевского населения приблизить-
ся к моде на костюм и увеселения, пришед-
шей из Византии.
В конце XII века появляются браслеты,
выполненные в технике тиснения (2-й вид
по Т.И. Макаровой), декорированные изоб-
ражениями фантастических животных, птиц,
растительных побегов. Изт отовлялись они
как в Киеве в подражание роскошным киев-
ским образцам первого вида, так и в провин-
циальных мастерских, расположенных в Га-
лицкой земле.
«Галицкие» браслеты относятся к наибо-
лее поздней группе древнерусских обручей,
связанной с оттоком на запад мастеров-юве-
лиров. происшедшим вследствие татаро-мон-
гольского нашествия (Макарова 1986:87-90).
В эту группу входят: обруч, найденный в
предмеш ье Каунаса Шанчае в составе клада,
зарыто! о в XIV — начале XV вв.; браслет,
найденный у с. Демидово Львовской облас-
ти (не ранее первой половины XV в.); обруч
из древне! о Галича. Все эти украшения объе-
диняет ряд черт, нс харак1ерных для брасле-
тов. изготовлявшихся киевскими мастерами
в более раннее время. Изображение на брас-
летах этой группы расположено в один ряд.
схематизировано, чернью покрыт не фон. а
линии гравировки, в декорировкс использо-
ваны ж!у гы ложнозерненой проволоки
(рис. 133. 7).
Нами были изучены браслеты такого
1 ина, найденные в Войнсштском кладе в Ру-
мынской Молдове (Рябцева 2001:101-109).
На одном серебряном позолоченном брасле-
те из Войнештскот о клала пространство каж-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI—XIII вв. 263
дой створки поделено при помоши ложно-
сканных и ложнозерненых жгутов на два
подквадратных отсека. В отсеках изображе-
ны чередующиеся растительные побеги и
фигурки птичек. Одна из них. скорее всего.
— орел в геральдической позе с раскинуты-
ми крыльями, по бокам головы изображены
звездочки. Вторая птичка дана в профиль,
смотрит перед собой (черта, не очень харак-
терная для древнерусских брасле т ов. на них
птицы и грифоны чаще изображались обер-
нувшимися назад), с процветшими хвостом
и крыльями, с хохолком (короной?) на голове
(Teodor 1961:508, рис. 4. /). Изображения на
этом браслете сходны с декором плиток пола,
украшавших в XII веке Галицкий храм Спаса
и особенно церковь в Василеве (Spinei 1994:
fig. 7). Другой, более узкий браслет декори-
рован плетенкой и растительным побегом.
Этот узор Дан Теодор связывает с виньетка-
ми рукописных книг того времени (Teodor
1961: 508, 510, рис. 4,2).
Можно ли выясни гь истоки появления на
браслетах этой группы, условно называемой
исследователями (Б.А. Рыбаков, Д. Теодор.
Т.И. Макарова) «галицкой», элементов, ими-
тирующих зернь? Этот прием не был харак-
терен для декорировки ст ворчатых брасле-
тов — обручей на Руси. Известен к настоя-
щему времени один браслет, украшенный не
чернью, а треуг одышками настоящей зерни.
Он происходит из Киевского клала 1986 г.,
найденного на Кудрявской улице (Павлова
1990: 103-110; Мовчан. Боровский. Гончар
2002: 17). Кроме того, в Пинске и Гродно
были найдены литые браслеты с имитацией
зерневых узоров (Древняя Русь... 1997: 306,
1абл.60) (рис. 133.11).
В украшениях из Войнсшть обьединились
киевские, галицкие и какие-1о еще ювелир-
ные традиции. На территории современной
Македонии при раскопках византийской кре-
пости Прилеп были найдены серебряные по-
юлоченные двухстворчатые браслеты — об-
ручи. украшенные зернью и сканью (рис. 134.
7. cS'). Итересно. что на этом же памятнике
были обнаружены и серебряные плегепые
браслеты с наконечниками, декорированны-
ми сканью и зернью, серьги «токайского» и
•половецкого» типов (Манева 1992.194-195.
рис. 58/50.58/46,58/47, 58/48). то ешь как раз
loi набор украшений, который присутст вует
и в Войнештском кладе. Можно предполо-
жить. что появление настоящей зерни на
браслете из Киева и ложной зерни на «га-
лицких» браслетах произошло под влияни-
ем балканских образцов. Возможно, произош-
ло еще одно заимствование, на этот раз не
из самой Византии, а из ее балканских про-
винций, обогатившее декор древнерусских
браслетов этими элементами.
Таким образом, в середине XIII века центр
производства створчатых браслетов переме-
шает ся в западные земли Древней Руси. В
этом регионе, испытывавшем сильное влия-
ние балканских стран, этот тип браслетов
просуществовал до XIV, а возможно, и до
XV века, о чем свидетельствуют поздние даты
обручей из Демидова и Шанчая (Макарова
1986:91).
В подражание дорогим створчатым брас-
летам изготовлялись и литые образцы
(рис. 133.10-15). Литые серебряные брасле-
ты были найдены во Владимирском кладе
1896 года и в слоях Древнего Новгорода (Ма-
карова 1986: 145, №244. 245; Седова 1981).
Формочки для изготоатения таких браслетов
были найдены в Киеве и Серснске (Каргер
1958; Никольская 1981; Никольская 1986:44.
рис. 2,1.6). Кроме литых браслетов, подра-
жавших в орнаментации браслетам, выпол-
ненным в технике выколотки и тиснения
(изображения пирующих, фантастических
животных, плетенки), были и браслеты с гео-
мегрическим орнаментом и ложнозернены-
ми композициями.
Основным местом распространения ли-
тых браслетов был Новгород, находят их и в
Белоруссии — в Гродно, Пинске. Полоцке
(ДревняяРусь... 1997: 306,табл.60). ВСерен-
ске найдены формочки для имитаций брас-
летов с чернью, но нет отливок из них (воз-
можно. мастера работали на экспорт). Но
здесь был распространен тип литых ажурных
с гворчатых браслетов с геометрическим узо-
ром. Аналогичный браслет, снабженный по
краям петельками, был найден в Слободке
(Никольская 1981) (рис. 133.15). Вероятно,
это был какой-то местный вариант, так как
для браслеюв. распространенных в землях
вятичей, петельки были характерной особен-
ностью.
Таким образом, эволюция створчатых
браслез ов шла от сложных образцов к про-
264
Глава IV
стым, со схематизированным изображением.
Производство этих украшений первоначаль-
но было освоено в княжеских мастерских
Киева, а затем распространилось и в другие
центры, причем техника изготовления и де-
кор украшений со временем упрощался. На
формирование декора этих украшений влия-
ли произведения византийской торевтики,
книжные заставки и миниатюры, образы мо-
нументального зодчества. Пластика владими-
ро-суздальской каменной резьбы и узорочье
галицких поливных полов также нашли свое
отражение в декоре этого типа древнерусских
ювелирных украшений. Для изучения связей
древнерусского и романского искусства ин-
тересен факт исполнения псевдокуфической
Карта 24. Створчатые браслеты-наручн.
343. Киев, клал 1872 г.
344. Киев, клад 1893 г.
345. Киев, клад 1889 г.
346. Киев, клад 1939 г.
347. Киев, клад 1903 г.
348. Киев, клад 1906 г.
349. Киев, клад 1986 г.
350. с. Старая Буда, клад 1908 г.
351. с. Городище, клад 1970 г.
352. городишеуд. Вишни, клад 1979 г.
353. Чернигов, клад 1887 г.
354. Любеч. клад 1960 г.
355. д. Терехово, клад 1876 г
356. д. Пискова, клад 1911г.
357. Старая Рязань, клад 1966 г.
358.Старая Рязань, клад 1970 г.
359 Владимир, клад 1865 г.
360. Владимир, клад 1896г.
361. Тверь, клад 1906 г.
362. м. Романово клад, найденный около 1892-1893 гг.
363. Москва, клад 1988 г.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI—XIII вв.265
надписи, вырезанной на серебряном браслете
из Киевского клада 1889 г. В XII—XI11 вв. по-
добные пссвдокуфические надписи были рас-
пространены в романском искусстве Фран-
ции. Германии. Англии (Даркевич 1976).
Своеобразные варианты створчатых
браслетов изготовляли и мастера Волжской
Булгарии, и Золотой Орды. В деревне Сар-
токова Чердынско! о р-на Пермской обл. был
обнаружен серебряный браслет (рис. 133. <S’).
украшенный сканью, зернеными пирамидка-
ми и гравированной плетенкой на черненом
фоне (Макарова 1986: 141). Аналогичный
браслет, происходящий из 4 Сайгатинского
могильника, хранится в коллекции Государ-
ственного Эрмитажа (инв. У АЭ-277) (Восточ-
ный художественный металл... 1991:21. кат.
3). Эти браслеты объединили в себе черты
украшений, производившихся на Руси
(чернь) и в Волжской Булгарии (крупная
зернь). Возможно, изготовлен мастерами
Волжской Булгарии и хранящийся в краевед-
ческом музее г. Салехарда (инв. №ОФ 100/2)
серебряный створчатый браслет с плетеноч-
пым орнаментом, но. правда, без зерни (Со-
кровища Приобья 1996:106, кат. 47).
Если в бузи арских створчатых браслетах
ясно просматривается влияние древнерус-
ской торевтики, то в браслетах XIV в., нахо-
димых в золотоордынских памятниках, ска-
зываются иранские традиции. Два золотых
пластинчатых двустворчатых браслета, деко-
рированных рельефной прочеканенной ими-
тацией арабской надписи, были найдены в
Крыму в Нейзацком кладе 1886 г. (Крамаров-
ский 2001: 295. каг. 252.253). Замки брасле-
тов декорированы круглыми щитками с фи-
лигранью и карстом с голубым камнем (би-
рюзой?) в центре (рис. 135.3). Сама форма
круглого медальона, прикрывавшего замок,
была распространена уже с XI в. па брасле-
тах сирийско-иранского происхождения.
Причем подобным образом декорировались
браслеты различного типа (Hasson 1987: 69.
fig.81). Возможно, в иранском ювелирном
. те. ie форма сi ворчат oi о браслета с медальо-
ном восходит к византийской традиции. В
этой связи стоит вспомнит ьпышные визан-
тийские браслеты VI в. с большими медаль-
онами (рис. 135. /).
Шарнирные створчатые браслеты не-
сколько иного облика были обнаружены в со-
ставе клада Джуке-тау на реке Каме (Крама-
ровский 2001: 260. кат. 111). Это пара мас-
сивных золот ых браслетов с литыми створ-
ками. декорированными полуколонками с
львиными масками на концах и снабженных
персидской благопожелательной надписью
(рис. 135.2). Замки браслетов украшены ме-
дальонами с чеканным узором. Сходный
браслет был найден и в составе Симферо-
польского клада в Крыму (Мальм 1980).
Возникает вопрос, является ли XIV — на-
чало XV вв. верхней хронологической датой
существования широких створчатых брасле-
тов или они носились и позже. В древнерус-
ских материалах они позднее не встречают-
ся. На Балканах верхний хронологический ру-
беж распространения створчат ых браслетов,
вероятно, тот же (Георгиева 1956:34). Но на-
следие византийских ювелирных традиций
не исчезло полностью, они сохранились в
своеобразном «заповеднике» — этнографи-
ческом уборе народов Средней Азии и Кав-
каза. Именно здесь украшения, возникшие на
базе византийских, гт иногда и античных про-
тотипов. представлены в сконцентрирован-
ном виде. Здесь есть луннипевидныс серь-
ги. серьги типа плоских колтов (или штам-
пованных византийских серег), серьги с пи-
рамидками зерни, серьги с проволочными
розетками в верхней части и многочислен-
ными подвесками с бусинами в нижней. Дтя
этнографического костюма населения Сред-
ней Азии в конце XIX — начале XX вв. были
харакл ерны и широкие створчатые браслеты
с шарнирным креплением, декорировавши-
еся сканью или 1равировкой (Чвырь 1977:
табл. 2.4. 13. 16; Ермакова 2001: 196. рис. 9).
Наиболее изящные образцы изготовляли
ювелиры Самарканда и Бухары (рис. 135.
4-9).
266
Гааба IV
IV. 8. ВИТЫЕ И ПЛЕТЕНЫЕ БРАСЛЕТЫ СО ЩИТКАМИ,
УКР АШЕННЫМИ СКАНЬЮ И ЗЕРНЬЮ
Еще одним типом украшений, попавшим
на Русь в сформировавшемся виде из Визан-
тии или Карпато-Балканского региона, явля-
ются витые и плетеные браслеты (как пра-
вило. серебряные) с наконечниками, орна-
ментированными зернью и сканью. Находки
этих украшений не так распространены, как
створчатых браслетов. Не привлекали они и
внимание исследователей Восточной Евро-
пы. видимо, из-за схожее ги с типичными ви-
тыми или плетеными древнерусскими брас-
летами, щитки которых, однако, декорирова-
лись в иной манере. Зарубежные же иссле-
дователи зачастую не склонны включать тер-
риторию Древней Руси в ареал распростра-
нения этих украшений (Teodor 1961: 509-520).
Но нам представляется, что юг Древней
Руси в течение, правда, довольно непродол-
жительного промежутка времени (с конца XII
по первую треть XIII в.) входил в ареал рас-
пространения этого типа браслетов (карта
25). Причем древнерусские ювелиры, воз-
можно, и сами изготовляли эти браслеты по
карпат о-балкаиским ilth византийским об-
разцам. В 1909 г. такой браслет был обнару-
жен в составе клада, найденно! о экспедици-
ей. работавшей под руководст вом Д.В. Ми-
леева. в усадьбе Десятинной церкви в Киеве
(Корзухина 1954: 109. табл.XXXI; Рябцева
2001а: 106. рис. 1, /). Клад датируется вре-
менем, предшествующим монгольскому на-
шествию. Расположение скани и зерни на на-
конечниках этого зерненого браслета доволь-
но хаотично (на щитках ею выложены раз-
ные композиции). Ценгричность компози-
ции, характерная для зернево-сканного
оформления эт ого типа браслетов, отсутству-
ет практически полностью (рис. 137.1).
Два серебряных вт ых браслета с нако-
нечниками. украшенными зернью и сканью,
были найдены в Киеве в кладе, обнаружен-
ном в 1876 1. в ус. И. Лескова на углу Боль-
шой Владимирской улицы и Десятинного
переулка (Кондаков 1896:115).
На I оролише Княжа Гора пол Киевом был
найден витой браслет с мягко очерченными
нодтреугольными шитками. украшенными
крупной зернью и сканью (Ханснко 1902:
табл. XXI. 1060). Из той же коллекции Ха-
ненко происходи г и витой браслет с больши-
ми прямоугольными щитками с зерневым и
сканным узором (место находки неизвестно)
(Ханенко 1907: табл. XXXIV, 1115) (прил. 2.
№367).
Интересная находка происходит из клала
1908 года, найденного у села Старая Буда Зве-
нигородского уезда Киевской губернии
(прил. 2. №366). В этом кладе было два се-
ребряных браслета: один из трех не переви-
тых дротов, .тру той — витой, шарнирный, оба
браслета с наконечниками, украшенными
крупной зернью (ОАК за 1908 г.: рис. 237;
Корзухина 1954:126,№112).
На Руси встречаются и бронзовые анало-
ги серебряным зерненым браслетам. При ра-
боте с коллекцией ювелирных украшений,
происходящих из раскопок древнего Изяслав-
ля (хранится в Государственном Эрмитаже,
коллекция ЭРА-34), мной был обнаружен
бронзовый браслет, подражающий в литье
браслетам со щитками, украшенными зернью
и сканью (прил. 2, №369).
Находят подобные украшения и в Крыму.
В 1973 году при раскопках Баклинского го-
родища в Бахчисарайском районе в Крыму
был найден клал ювелирных изделий (Талис
1990: 84-89). В составе этого комплекса были
найдены две связки перстневидных височ-
ных колец (на одну из этих связок был до-
полнительно нанизан золотой перстень),
обрывок золотой фольги и три серебряных
браслета, вигых из трех дротов (прил. 2.
№368). Подтреугольные наконечники перво-
го браслета были выкованы из самих дротов
и декорированы по краю сканью, а в цент-
ре — столбиками зерни. Миндалевидные на-
конечники второго браслет а были от литы от-
дельно. декорированы зерневыми столбика-
ми и припаяны к дротам браслета. Концы
третьего браслета свернуты в петлю (Талис
1990: 86. рис. II).
Автор публикации считает первый брас-
лет изле.шем древнерусского городско! о ма-
ем ера-ювелира. а в юрой и третий — дере-
венского (Талис 1990: 85). В данном случае,
на наш взгляд, трудно определить, где про-
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
267
живал тот или иной мастер, но зерневой де-
кор наконечников баклинских браслетов сви-
детельствует о его знакомстве с карпато-бал-
канской традицией. Данный комплекс ценен
для нас тем, что датировка вешей по методу
аналогий может быть подкреплена датиров-
кой стоя, в котором был обнаружен этот клад.
Клад датируется Д.Т. Талис второй полови-
ной XII — началом XIII века, а его тезавра-
ция связывается с опасностью, возникавшей
в это время в связи с нападениями половцев
на Крым — Готию русских источников XII
века (Талис 1990:88).
Если для юга Руси середина XIII века, ве-
роятно, является рубежом, после которого
подобные украшения не встречаются, то в
Карпато-Балканском регионе линия развития
этих браслетов прослеживается еще долгое
время.
На территории Карпато-Балканских зе-
мель браслеты интересующего нас типа на-
ходят в Молдове, Румынии, Венгрии, Болга-
рии, Македонии. С территории Молдовы
нам известен пока только один довольно пло-
хо сохранившийся фрагмент подобного брас-
лета (локализация места находки неизвест-
на, более точного места, чем «всегда у бабуш-
ки хранился», хозяин сообщить сотрудникам
музея Археологии и Этнографии не пожелал).
Браслет свит из трех дротов, внутренняя и
Карта 25. Браслеты со щитками, украшенными зерныо и сканью.
364. Киев, клал 1909 г.
365. Киев, клад 1876 г.
366. с. Старая Буда, клад 1908 г.
367. городище Княжа Гора.
368. с. Городище.
369. городище Бактинское, клад 1973 г.
268
Глава IV
Рис. 137. Браслеты со щитками, украшенными зерныо. XIII-XV вв. 1 — Киев. Клал 1909 г. из Десятинной церкви.
2 — клал Войисшть (Румынская Молдова). 3.4—Банат. 5-7—Болгария. Серебро. Масштабы разные.
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.269
внешняя стороны витого жгута уплощены.
Щитки (сохранился только один) раскованы
из этих же дротов. При переходе к щиткам
сохранилась часть сканной обнизи браслета,
также раскованной в щиток. Сохранилась
группа из трех крупных шариков зерни у пе-
рехода от кольца к щитку и в разных местах
три очень затертых—на щитке. Браслет но-
сит на себе следы очень длительного ноше-
ния. Кроме того, украшение подвергалось в
древности доработке. В более позднее время
к оборотной стороне щитков был напаян по-
лукруглый серебряный дрот, раскованный на
концах, чтобы спаять его со щитками. Этот
дрот сделал браслет двойным и был призван,
вероятно, укрепить и «модернизировать»
браслет, ранняя часть которого на основе
многочисленных аналогий может датиро-
ваться серединой ХШ-XTVb.
Для территории Румынии подобные
украшения были характерны в период с ХШ
по XV (XVI) вв. За этот период в облике брас-
летов, безусловно, произошел ряд изменений.
К ранним образцам относятся браслеты из
кладов первой половины ХШ в. Войнешть и
Оцелень (Teodor 1961; Teodor 1964). Это ви-
тые или плетеные браслеты с некрупными
мягко очерченными каплевидными или тре-
угольными щитками. В Войнештском кладе
было найдено 7 целых и 1 фрагмент таких
браслетов (Teodor 1961: 504-505, рис. 2)
(рис. 137,2). Щитки браслетов раскованы из
дротов и украшены сканно-зсрневой компо-
зицией. На щитках округлой формы выложе-
ны крупной зернью крестики, на подтре-
угольных —треугольники. Сканью обрамле-
ны края щитков, сканные колечки подложе-
ны под зернь. В месте перехода от витой ча-
сти браслета к щитку напаяны крупные ша-
рики. Дроты этих браслетов свернуты из ли-
стов серебра. Подобную особенность техни-
ки исполнения можно объяснить, скорее все-
го, не какими-то региональными различия-
ми в ювелирных традициях, а количеством
серебра, имевшимся в распоряжении у мас-
тера. В составе упомянутого выше Киевско-
го клада 1909 г. есть, по крайней мере, одна
трехбусинная серьга, дужка которой тоже по-
лая —свернута из листочка серебра.
К ХШ в. можно отнести и узкий витой
браслет с овальными щитками, украшенными
крупной зернью и сканью, из клада из мест-
ности «Михаил Когэлничану» в румынской
Добрудже (Culture... 1971:146,№160; Dumitriu
2001:64, taf. 16/14). Примером изделий XIV в.
могут служить браслеты из Пэкуюл луй Со-
аре, Гогоши, Шушицы (Popescu 1970:57, №85,
fig.35; Culture... 1971:146,162; Dumitriu 2001:
Taf.20/3,35/20-21,50/8). Браслет из Пэкуюл луй
Соаре — витой двухпроволочный, осталь-
ные — плетеные объемным, довольно рых-
лым плетением. Эти украшения отличает уве-
личившиеся по сравнению с более ранним пе-
риодом щитки и большая четкость и симмет-
ричность композиции их декорирующей.
Дальнейшее развитие этих браслетов идет
как раз по пути укрупнения щитков, стандар-
тизации и большей сухости в исполнении ор-
намента на них. К XV в. исчезают плетеные
браслеты, а у витых экземпляров дрот ста-
новится массивнее и более плотно скручен.
Скань и в обмотке витой части браслета, и в
декоре щитков начинает заменяться рубчатой
проволокой. Образцом наиболее поздних
браслетов являются украшения из Басарабь,
Жяна Маре и СкелаКладовей (Culture... 1971:
146,№161; Dumitriu 2001:65, taf.23/1-3,40/1-
2). Позолоченные браслеты из Кладовей
представляют дальнейшее развитие типа и
начальную стадию трансформации его в
пышные дериваты XVI-XVII вв. Происходит
отход от простых композиций на щитках,
выложенных отдельными шариками зерни и
сканью, появляются бордюры из зигзагооб-
разно сложенной проволоки. В декоре щит-
ков появилась гравировка с криновидными
орнаментами.
Браслеты XIII-XV вв., происходящие из
памятников Венгрии, Болгарии и Македонии
(Jakun 1933:193-199; Манева 1992:194-195,
рис. 58), очень близки к находимым в Румы-
нии. Это свидетельствует, что развитие этих
украшений идет в общем русле (рис. 137,
138). Кроме того, в музеях Софии, Белграда
и Бухареста хранятся браслеты XVI-XVI11
веков, являющиеся дериватами интересую-
щих нас изделий (Jakun 1933:193; Popescu
1970:57). От более ранних образцов их от-
личает объемное, уплощенное со стороны
руки кольцо. Шарик, расположенный при
переходе от кольца к щиткам, превращается
в крупную полусферу, в ряде случаев укра-
шенную розетками. Еще сильнее увеличива-
ются размеры щитков относительно разме-
270
Глава IV
Рис. 138. Браслеты со
щитками, украшенными зер-
ныо. XIV вв. 1,2—место на-
ходки неизвестно. 3—Румы-
ния. 4,5 — крепость Прилеп
(Македония). Серебро. Масш-
табы разные.
ров кольца. Появляются новые варианты
сканно-зерневого орнамента щитков и эма-
левые вставки на них. В ряде случаев эти
браслеты выполнялись в литье (рис. 139).
Кроме Болгарии, Румынии и бывшей
Югославии, поздние образцы подобных
браслетов встречаются в Северной Африке,
Палестине, Турции. В начале XX века подоб-
ный браслет был куплен на Каирском база-
ре. Щитки этого браслета по величине боль-
ше самого кольца, огромные полусферы укра-
шены удлиненными розетками, розетки по-
являются и в центре щитков. Но несмотря на
все эти нововведения, читается знакомая
модель щитка, украшенного шариками (Jakun
1933). Аналогичный браслет хранился и в
коллекции Б.И. Ханенко и происходил, по
всей видимости, из этого же региона (Ханен-
ко 1907: табл. XVI, 1067).
Распространение поздних браслетов в
Средиземноморье наталкивает на мысль, что
и исходной точкой появления этого типа
украшений могла быть Византия, откуда они
распространились и в Подунавье. Увы, брас-
летов X-XI веков с зернсными щитками с тер-
ритории собственно Византии мы пока не
Парадные древнерусские ювелирные укоры конца XI-XIII вв.
271
Рис. 139. Браслеты се-
ребряные. 1 — Кипр, 2-6 —
Болгария. 7—коллекция Ха-
ненко. Масштабы разные.
знаем. Византийские ювелирные украшения
сохранились вообще весьма неполно. Одна-
ко витые браслеты с шариком при переходе к
щитку, но с завязанными или застегивающи-
мися концами, встречаются еще с III века. В
XI-XIII вв. витые браслеты со щитками, де-
корированными зернью и сканью, были рас-
пространены в Сирии и Египте (Hasson 1987:
22, fig..873, fig.90), где они могли появиться
под влиянием Византии. Именно эти брас-
леты с небольшими щитками, оправленны-
ми сканью и украшенными крупной зернью,
вероятно, можно считать отправной точкой
в эволюции этих украшений. Сходен с сирий-
скими образцами и упомянутый браслет из
коллекции Б.И. Ханенко.
Таким образом, происхождение рассмот-
ренных типов браслетов может быть связа-
но с влиянием Византии, ощущаемым как в
ювелирном деле Древней Руси, так и на тер-
ритории Карпато-Балканского региона. Если
пластинчатые браслеты были не только вос-
приняты древнерусскими ювелирами, но и
творчески переработаны, то браслеты с зер-
неными щитками для древнерусского убора
были не столь характерны. Древняя Русь яв-
лялась, вероятно, периферийной зоной рас-
пространения этого типа украшений.
272
Глава IV
* *
Подведем „тоги. Можно констатиро-
вать факт, что в конце XI в. происходит рез-
кое изменение древнерусского парадного
ювелирного убора в целом. Новые типы
украшений начинают появляться уже на про-
тяжении XI в. Но конец XI — первая поло-
вина XII вв. характеризуется, на наш взгляд,
сложением нового убора как единого цело-
го. Парадный ювелирный убор, формирую-
щийся в этот период, весьма четко отража-
ет происшедшие в это время изменения в
ценностных приоритетах знати. Если в бо-
лее ранний период в ювелирном деле про-
исходит ориентация на западнославянские
(подунайские), прибалтийские, скандинав-
ские образцы, то с конца XI в. в древнерус-
ском ювелирном уборе явно заметно преоб-
ладающее влияние как византийских форм,
так и ювелирных техник.
К подобной переработке византийских
образцов относятся колты с эмалью и чер-
нью, роскошные княжеские диадемы — ана-
логи венцов византийских и европейских
владык, дорогие оплечия-бармы, подвески-
рясны, створчатые браслеты и витые и пле-
теные браслеты со щитками, декорированны-
ми сканью и зернью. В контексте общеевра-
зийской моды развивается весьма популяр-
ный тип трехбусинных височных украшений
и серег.
Одним из последних отголосков затуха-
ющего влияния в парадном уборе скандинав-
ских ювелирных традиций можно считать
присутствие в парадном ювелирном уборе
этого периода цепей и браслетов с драконь-
ими головками на концах.
Многолучевые подвески-колты, возмож-
но. имеют общие прототипы со звездообраз-
*
ними серьгами, распространенными на тер-
ритории Польши.
В то же время при кажущейся однород-
ности ювелирный убор конца XI — начала
XIII вв. распадается на ряд типолого-хроно-
логических групп, отличающихся как по вре-
мени бытования, так и по вхождению в бо-
лее мелкие подразделения—«микроуборы».
Типолого-хронологическая схема изменения
основных типов украшений из убора этого
периода—колтов, диадем, барм, створчатых
браслетов, рясен, трехбусинных украше-
ний — к настоящему времени в литературе
уже намечена (работы Г.Ф. Корзухиной,
Т.Н. Макаровой, Н.В. Жилиной и др.). Мы по-
пытались выделить несколько головных
«микроуборов». Разбивка парадного ювелир-
ного убора на подобные группы, на наш
взгляд, дело недалекого будущего.
Рассмотрение соотношения парадных и
территориальных уборов позволило прийти
к заключению, что материалы из кладов IX-
XI вв. находят параллели в погребальных
комплексах сельского населения, материалах
городищенских и ранних городских слоев.
Набор украшений из кладов XII—XIII вв.
гораздо более специфичен и элитарен. Ана-
логии дорогим ювелирным украшениям этого
периода находят, в основном, только в город-
ских елоях.
В связи с этим мы предлагаем считать
клады IX-XI вв., в основном, комплексами
военно-дружинной, княжеской и торговой
аристократии, а также ювелиров, работавших
по их заказам. Клады же ХП-ХП1 вв. принад-
лежали. вероятно, княжеско-боярской арис-
тократии крупных городских центров и кня-
жьих резиденций.
Заключение
273
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процесс формирования древнерусского
ювелирного убора был рассмотрен в работе
в нескольких аспектах:
Изучение исторического контекста фор-
мирования ювелирных уборов восточных
славян VI-IX вв. и выявление в составе этих
уборов типов украшений, продолжавших су-
ществовать и в древнерусское время;
Установление возможных истоков фор-
мирования территориально-«племенных»
уборов, выделение в их составе типов укра-
шений, входивших только в региональные
уборы, а также тех из них, которые могли счи-
таться типичными для древнерусского жен-
ского ювелирного убора в целом;
Рассмотрение смены парадных древне-
русских ювелирных уборов как отражения эт-
нических и культурных контактов Древней
Руси и изменения культурных приоритетов
древнерусского населения;
Выявление в славянском ювелирном убо-
ре основных инородных неславянских со-
ставляющих, оказывавших воздействие на
процесс его становления.
Подведем итоги поданным направлениям:
I. Ювелирные уборы восточных славян в
VI-IX вв. носили сложный синкретичный
характер, обусловленный заимствованиями
и влияниями в славянском ювелирном деле
и отражавший этнокультурную ситуацию за-
вершающего этапа Великого переселения на-
родов.
Один из наиболее ранних и выразитель-
ных комплексов ювелирных украшенш‘1. ха-
рактерных для славянских этнических общ-
ностей, складывается в VI—VII вв. и связы-
вается с древностями колочинской и Пень-
ковской культур. Собственно ювелирный
комплекс, представленный в основном в кла-
дах, традиционно относится к «древностям
антов».
Для первой группы «древностей антов»
сер. VII в. (поО.А.Щегловой— 1990: 162-
203) характерен специфический набор жен-
ских ювелирных украшений, сформировав-
шийся в результате синтеза центральноевро-
пейских. провинциально-византийских,
балтских ювелирных традиций. Украшения
убора первой группы отличаются по проис-
хождению и исторической судьбе.
Так. головные венчики и нашивные б.гяш-
ки получают дальнейшее развитие в древно-
стях Руси. Пришедшая в Поднепровье и По-
бужье из Подунавья мода на подвески и на-
шивки из низкотемпературных сплавов в
VI11—IX вв. распространяется и на террито-
ршг Причудья и Приладожья. Некоторые из
этих изделий (например, круглые подвески с
крестовидным орнаментом) становятся про-
тотипами для популярных украшений древ-
нерусского периода. Распространяется мода
на подобные дешевые серийные украшения,
вероятнее всего, в результате переселения
групп их носителей (Щеглова 2002:142.146).
Продолжают существовать в древнерус-
ское время и металлические ожерелья из круг-
лых и лунничных подвесок. Однако внешний
вид и техника изготовления подвесок у по-
добных ожерелий претерпевают изменения.
Для VI-VII вв. характерны находки как штам-
пованных лунниц и медальонов, так и ли-
тые варианты (Козиевский клад. Бернашев-
ский комплекс). В VIII—IX вв. на вост очнос-
лавянской территории встречаются отдель-
ные находки литых трехрогих подвесок-лун-
ниц, обязанные своим появлением контак-
там с подунайским населением. В X в. наря-
ду с лунниками, выполненными в западно-
славянской традиции (трехрогие, с шарика-
ми на концах рожек). появляются и ставшие
характерными для восточнославянских древ-
ностей двурогие широкорогие лунницы. де-
корированные зернью. Лунницы носились,
по всей видимости, в составе одного ожере-
лья с зернеными бусами и полусферически-
ми подвесками (Екимауцы, Гнездово и т.д.).
Создаются и различные варианты литых лун-
ниц. характерных для восточнославянской
территории.
Украшения же. связанные с декором кос-
тюма (в основном фибулы) первой группы
«древностей антов», возможно, г огского про-
274
Заключение
исхож.’^мия (Щеглова 1999:287-312). исчез-
ли в конце VIII-IX вв. и нс получили даль-
нейшего развития в древнерусское время.
Для второй группы «древностей антов»
первой Iюл. VIII в. (поО.А. Щегловой — 1990:
162-202) характерно появление украшений,
выполненных в технике тиснения и декори-
рованных зерныо. Подобное изменение, как
в технике изготовления украшений, так и в
их наборе, безусловно, связывается с влия-
нием подунайской школы ювелирного дела
(Приходнюк 1998: 96; Щеглова 1999: 299).
Данную группу \ крашений составляют изде-
лия местных ювелиров, хорошо знакомых с
технологическими традициями и особенно-
стями моды подунайского региона и форми-
ровавших моду на ювелирные украшения и
убор в целом в Поднепровье в VIII в. (Горю-
нова. Щеглова 1998:135-136).
Среди украшений второй группы «древ-
ностей антов» выделяется ряд изделий, по-
лучивших дальнейшее развитие в древнерус-
ское время. — серьги с вертикальной тисне-
ной подвеской (проз отипы для серег «волын-
ского» т ина), браслеты с расширяющимися
концами, гривны. В качестве одного из про-
тотипов для круглых подвесок древнерусско-
го времени может быть рассмотрена бляха с
Пастырского городища (клад 1949 г.). Присут-
ствие на Пастырском городище данной бля-
хи с выпуклостью в центре и глазковым ор-
наментом. имеющей аналоги в кладе Чедъя-
вике на Драве (конец VII в.), а также в смо-
ленских длинных курганах и в слое начала
IX в. Старой Ладоги, может служить одним
из свидетельств проникновения группы сла-
вянского населения в глубь территории Се-
веро-Запада в конце VIII — начале IX вв.
(Мачинский. Мачинская 1988: 51).
Наиболее ранние украшения, характерные
для роменской культуры, синхронны укра-
шениям второй группы «древностей антов»,
но существенно от них отличаются. На ран-
нем эз апе роменской культуры на ее памят-
никах преобладают украшения салтовского
происхождения, но позднее количес! во их
сокращается (Юренко 1976; Григорьев 1990).
СIX в. на памятниках роменской культуры
встречаются оз дельные украшения подунай-
ского происхождения — лунницевидные
подвески, серьги с полыми тиснеными под-
весками, лучевые височные кольца, дротовые
гривны, дротовые браслеты с расширяющи-
мися концами. Именно эта группа роменс-
ких украшений послужила прототипами для
украшений древнерусского времени, однако,
не связанных с территорией расселения ле-
тописных северян. Спиралевидные височ-
ные кольца появляются на этой территории
только в первой половине XI в., когда coo-
ci вен но роменская-северя некая культура уже
nepecraei существовать (Грш орьсв. Сарачсв
1999:345).'
Ювелирный комплекс пражско-корчак-
ской культуры сравнительно беден и невы-
разителен. Вдревнерусском ювелирном убо-
ре наследие пражской культуры составляют
перстневидные височные кольца, появивши-
еся в VII -VIII вв. в Среднем Подунавье и рас-
пространившиеся в IX-XI вв. по всей вос-
точнославянской территории. Перстневид-
ные кольца с эсовидным завитком зарожда-
ются в VII в. между Балканами и Средним
Днепром, в VIII в. распространяются на Верх-
ний Днепр (находки в смоленских длинных
курганах) и Волхов (находка в Ладоге в стро-
ительном ярусе 750-760 гг.) вместе с мигри-
рующими на север славянами (Мачинский.
Мачинская 1988: 50: Седов 1999:45).
Кулы ура Лука-Райковецкая унаследова-
ла от своей предшественницы - культуры
Пра! а-Корчак невыразительность ювелирно-
го убора. При переходе к лука-райковецкой
культуре исчезли все типы пальчатых фибул
(на раннем этапе еще сохраняются антропо-
морфные). Продолжают существовать! 1рово-
лочные перстневидные височные кольца,
ставшие впоследствии общеславянскими,
браслеты с расширяющимися концами, полу-
чившие ненадолго развитие уже в древнерус-
ское время. Среди новшеств ювелирного убо-
ра культуры Луки-Райковецкой следует отме-
тить 1 юдковообразные фибулы, серьги-лунни-
цы. украшенные псевдозернью (Канев. Мона-
стырек). подвески-бубенчики и пластинчатые
браслеты. Серьги в виде лунницы с вертикал ь-
ной подвеской (Монастырей) имеют близкие
аналогии в Великой Моравии (Нитра) и в Гнсз-
дове. Однако, в целом, украшения, связанные
с Подунавьем и другими центрами ювелир-
ного ремесла, на памятниках типа Луки-Рай-
ковецкой чрезвычайно редки.
Из набора украшений, характерных для
культуры Луки-Райковецкой. в древнерусский
Заключение
275
ювелирный убор вошли подковообразные
фибулы и подвески-бубенчики.
Таким образом, выявлено, что из всего
многообразия украшений, характерных для
славянских племенных группировок в VI-
IX вв.. и восходящих как к собственно сла-
вянским. так и I ерманским. сарматским, ала-
но-болгарским. хазарским, иранским, балтс-
ким и византийским ювелирным традици-
ям. в состав древнерусского женского убора
вошло только несколько типов. К этим типам
можно отнести круглые и лунничные под-
вески, перстневидные и лучевые височ-
ные кольца, серьги «волынского» типа,
пластинчатые венчики, бляшки-нашивки
для головных уборов, подковообразные
фибулы, некоторые типы гривен, брасле-
ты с расширяющимися концами (послед-
ние довольно быстро изживаются).
II. Изучение так называемых «племен-
ных» украшений позволило сделать следу-
ющие выводы. Во-первых, идея о специфи-
ческих племенных украшениях этнографи-
ческих групп восточных славян, которым со-
ответствуют племена леi описи «Повести
временных лет», уже столетие разделяющая-
ся многими учеными (А.А. Спицын.
А.В. Арциховский. Б. А. Рыбаков. В.В. Седов
и др.), нс столь уж бесспорна, как может по-
казаться. Во-вторых, существует проблема
географической локализации многих упомя-
нутых в neiописях племен (зачастую неизве-
стно. где проходили границы их расселения).
В-третьих, существует проблема археологи-
ческой идентификации, по сути. большин-
ства из восточнославянских племен (Тимо-
феев 1961; и др.). В-четвертых, только для
меньшей части племен можно выделить спе-
цифические именно для них украшения.
В-пятых, в составе одного погребального
убора зачастую встречаются украшения, счи-
тающиеся харак I ерными .для разных племен.
В-шестых, част ь из этих специфических «пле-
менных» украшений появляется в местном
ювелирном уборе уже тогда, когда собствен-
но упоминания об этих племенах исчезаю!
со страниц летописи. Таким образом, мы счи-
таем. что так называемые «племенные» укра-
шения являю ic-я специфическими для терри-
ториально-этнографических областей Древ-
нерусского государства и лишь в какой-то
мере соответ ст вуют племенам, указашшм ле-
тописью.
Выделяется несколько довольно крупных
территориальных регионов, характеризую-
щихся общностью традиции в составе и про-
цессе формирования женских ювелирных
уборов.
Наиболее типичными украшениями .дтя
убора населения юго-запада территории
Древней Руси являются перстневидные ви-
сочные кольца (с заходящими, простыми ilth
отогнут ыми концами и S-конечные), бусин-
ные височные кольца со стеклянными, ме-
стническими гладкими, мелкозернсными
или узелковыми бусинами, простые типы
перстней — проволочные, витые, плетеные,
пластинчатые. Встречаются в погребениях и
в качестве единичных находок зернсные бу-
сины. в том числе и лопастные (у волынян и
древлян), круглые и лунничные подвески.
Серы и «волынского» типа представлены в
области расселения волынян (Пересопница.
Майдан Липный). тиверцев (Екимауцы), ули-
чей (Бранештский мог.) и полян (Киев). На
фоне общей нехарактерности ношения гри-
вен в эюм регионе выделяется находка боль-
шой серебряной дротовой гривны на Алче-
дарском городище и серии бронзовых витых
гривен на Екимауцком городище. Для юве-
лирного убора, представленного на террито-
рии юго-западных племен (в большой мерс
у тиверцев и волынян). характерно включе-
ние украшений западнославянского культур-
ного крут а (S-конечные перстневидные коль-
ца. некоторые типы лунниц и серег «волын-
ского» типа).
По характеру набора ювелирных укра-
шений ареал расселения дреговичей явля-
ется своеобразной переходной зоной от
области расселения племен юго-запада к
северо-западному региону. Для этого убо-
ра характеры крупнозерненые каркасные
бусы, использовавшиеся для декорировки
височных колец и ожерелий. В составе оже-
релий прису к'твовали также ложнозерне-
ные и ш 1ампованныс монетовидные под-
вески. бубенчики. Большим разнообразием
отличаются браслеты и перстни. Северная
часть расселения дреговичей выделяется
более богат ым ювелирным убором, в кото-
рый. наряду с общеславянскими украшени-
ями. входили спиральные пронизки, об-
Заключение
276
шивки одежды, змеиноголовые браслеты,
подковообразные фибулы, коньковые под-
вески. спиральные персти, звездчатые
пряжки и поясные бляшки латгальских ти-
пов (Седов 1968:1982). Довольно широко
представлены в лом регионе и украшения
западнославянского крут а.
Ряд общих черт объединяет ювелирный
убор населения Днепровского Левобере-
жья — обшност ь происхождения ряда височ-
ных колец и гривен, обилие ожерелий и от-
дельных привесок. Среди украшений, харак-
терных для летописной терри т ории расселе-
ния радимичей, выделяется ряд типов, име-
ющих прототипы в древностях байтов: дро-
товые гривны: звездообразные пряжки; брон-
зовые спиральки-пронизки; змсиноголовыс
браслеты (Фехнср 1967: Седов 1982). В аре-
але вятичей также изредка встречаются чу-
жеродные для славянского убора черты, ха-
рактеризующиеся нагрудными украшениями,
состоящими из ажурных цепедержатслей и
цепочек, на которые подвешивались бубен-
чики. npocibie подвески-птички, подвески-
ключи. 1ребсшки.
Ювелирные уборы, представленные на
территории кривичей и словен. объединяет
обилие параллелей с прибалтийско-фински-
ми украшениями, совместное применение в
одном уборе разных «племенных» колец,
обильное использование фибул, браслетов,
подвесок, крепившихся к цепочкам, ремеш-
кам и цеиедержатслям.
Для территории совместного проживают
словен и води — Ижорского плаз о — харак-
терен специфический ювелирный убор, соче-
тающий славянские и прибалтийско-финские
черты. Эт иоопределяющими для води счш а-
ются распространившиеся с XII в. многобу-
синные височные кольца, типичны полые
подвески-уточки, i шгрудные uei ючки ливского
типа, булавки с крестовидным навершием.
спиральные брасчеты, некоторые подковооб-
разные фибулы, пласшнчатыс обоймицы.
Славянские черты ромбошитковые височ-
ные кольца, серебряные венчики, витые и
пласт hi (чатыс браслеты с геометр! !чсским узо-
ром, некоторые I ипы перстней и подковооб-
разных фибул (Рябинин 1983: 1997).
Дтя ювелирного убора славянского насе-
ления Во.ц о-Клязьмепского междуречья ха-
рактерны браслегообраз! 1ые. ромбощитковые
и перстневидные височные кольца, решетча-
тые привески. В этом же регионе вс гречают-
ся и браслстообразные височные кольца за-
паднославянского происхождения с
S-видным изгибом на одном конце (Левашо-
ва 1967; Рябинин 1986). Для Костромского
Поволжья характерны перстневидные кольца
с завитком, замкнутокрещатые лунницы. для
Владимирского и Костромского Поволжья ти-
пичны 1акжс 1рехбусинные височные кольца,
встречающиеся в других регионах, в основ-
ном. в городах. Ювелирный убор славян Вол-
го-Клязьме1 icKoro меж. п ренья уже i ia раннем
этапе несет на себе значительные следы вли-
яний ювелирного ремесла месты.х неславян-
ских на ролов (1 ^которые п шы шум ящих 1 юд-
весок. колокольчиков, фибул).
Такт гм образом, можно koi «датировать. что
в X-XI вв. формируется ряд территориальных
ювелирных уборов, в ко i орые входят как укра-
шения. связанные с предыдущей эпохой, —
перстневидные, лучевые и «волынские» серь-
ги. подвески-бубенчики, лунницы. некоторые
типы фибул и гривен, так и совершенно но-
вые типы украшений — бусинные. спираль-
ные. браслстообразные завязанные, ромбо-
щитковые височные кольца, разнообразные
типы гривен и брасле гов. Уборы юго-запад-
ных племен характеризуются большей скром-
ное! ыо. с продвижением на север количеш во
украшений в наборе увеличивается. Для тер-
риторий северо-запада выделяется довольно
большое количество украшений, возникших на
основе заимствования и т прибалтийско-фин-
ского и балтского уборов (венчики, булавки,
некоторые типы фибул и браслетов), на севе-
ро-востоке выделяются заимствования из
ф1гнно-угорского убора (в основном шумящих
подвесок и фибул). Причем Т!шы украшений,
выделяющиеся как характерные, специфичес-
кие для отдельных юрриториальных групп,
как правило, не входят в состав парадного
юве. шрного убора, наиболее i юлно предш ав-
ленного по материалам кладов и формировав-
шегося под атиянисм несколько иньгх культур-
ных стандартов и приоритетов. Тем не менее
прослеживается сближенное! ь материалов
по! ребатьных комплексов ют о-запада и грут i-
иы кладов с зернеными украшениями середи-
ны X— начата XI вв.. а материалов северо-
западных территорий с группой кладов XI
— начата XII вв.
Заключение
277
III. Для парадных ювелирных уборов,
предиавлепных в древнерусских кладах, за-
рытых в IX и на рубеже IX-X вв.. характер-
ны украшения, уходяшие своими корнями в
древности предшествующего периода: дрото-
вые гривны с замком в двойную петлю, брас-
леты с обрубленными и слегка расширяющи-
мися концами, перстни и серьги салтовских
типов, перстневидные височные кольца, ран-
ние типы пяти- и семилучевых височных
колеи, дериваты антропоморфных фибул
(Корзухина 1954:21.63).
Новшеством является появление вещей
североевропейского круга. В ранних кладах к
ним относятся массивные кованые брасле-
ты ромбического сечения и обрывок цепи из
рубчатой проволоки. В целом для памятни-
ков 1Х-Х вв. характерно довольно большое
количество женских украшений североевро-
пейского облика. В X в. они разнообразны —
фибулы, браслеты, подвески, среди них при-
сутствуют как импорты. так и изготовленные
на месте аналоги. В XI в. число таких укра-
шений заметно сокращается, и преобладают
местные типы, хотя некоторые из них и воз-
никли на базе скандинавских прототипов (Бо-
гуславский 19971 Лесман 1998).
Вещи, представленные в кладах IX — на-
чала X вв.. не составляют единого целостного
убора, отличающегося как техникой изготов-
ления. так и общностью происхождения. О
сложении первого целостного парадного
женского древнерусского убора можно гово-
рить только начиная со времени не ранее се-
редины X в. В этот же период происходит
изменение как в технике изготовления укра-
шений — вновь появляются тисненые укра-
шения. декорированные зернью и сканью
(эти техники не использовались славянски-
ми ювелирами со времени прекращения бы-
тования второго набора украшений «древно-
стей антов»), — так и в наборе украшений.
В этот убор входили: несколько разновид-
ностей серег «волынского типа», ожерелья,
составленные из выпуклых полусферичес-
ких медальонов, зерненых круглых, оваль-
ных и лопастных бусин, лунниц: перстни с
полусферическим зерненым щитком; тисне-
ные пуговицы, украшенные зернью (Корзу-
хина 1946.1954; Рябцева 1997). Как целост-
ный единый убор на территории Восточной
Европы данная подборка украшений встре-
чается только на территориях Поднепровья.
11однестровья и Волыни. Находки «волын-
ских» колец, лопастных бусин и шаровид-
ных п\ говип практически не выходят за гра-
ницы очерченной территории, тогда как
полусферические подвески представлены
шире, а лунницы распространены по всей
восточнославянской территории. Необходи-
мо отметить, что украшения, составляющие
этот убор, встречаются не только в составе
кладов (откуда происходит их основная мас-
са). но и на городищах и в материалах не-
крополей.
Столь популярные в славянском ювелир-
ном уборе подвески-лунницы имеют антич-
ные и раннесредневековые прототипы. Древ-
нерусские мастера восприняли в начале X в.
от западнославянских ювелиров традицию
изготовления штампованно-филигранных
лунниц. К середине X-XI в. лунницы с тер-
ритории Руси начинают, вероятно, обратное
движение в Центральную Европу' и аккуму-
лируются в кладах Польши.
Серьги «волынского» типа возникли, на
наш взгляд, на базе аварских и протоболгар-
ских украшений в VI11-IX вв. Наиболее ран-
ние варианты украшений, которые уже мож-
но считать собственно серьгами «волынско-
го» типа, характерны в IX в. для древностей
Великой Моравии и культуры Биело-Брдо. В
середине X в. подобные украшения распро-
страняются и на Руси. Причем для восточ-
нославянских древностей не характерны ли-
тые подражания этим украшениям, в изоби-
лии представленные в этот период на Бал-
канах. Рассмотрение крута аналогов для этих
украшений с территории Прикамья позволи-
ло выявить ряд технологических особеннос-
тей в изготовлении «волынских» и «прикам-
ских» образцов. Более ранние даты появле-
ния этих украшений в Прикамье, чем в По-
днепровье. дают основание говорить о само-
стоятельной линии развития, возможно, на-
прямую связанной с Подунавьем.
Древнерусские полусферические подвес-
ки могут быть поделены на несколько основ-
ных групп. Подвески с одним колпачком-по-
лусферой в центре характерны в основном
для древностей Поднепровья и Поднестро-
вья X-XI вв. (в качестве единичных находок
представлены во Владимирских Kypianax).
Подвески с тремя полусферами, расположен-
278
Здключенне
ними под ушком. более узко представлены в
Киеве и его округе. Подвески с четырьмя «лу-
чами» из колпачков встречаются в основном
в кладах XII в. ла северо-западе и северо-во-
стоке Руси. В этот же период анало! ичные
украшения начинают изготовлять ювелиры
Готланда, используя при этом сканный де-
кор вместо зерневого.
Шаровидные зерненью пуговицы были
представлены в Повисленье. Подунавье.
Карпато-Подиестровьеи Поднепровье. В ка-
честве прототипов для этих украшений мо-
гут быть рассмотрены зерненые подвески и
пуговицы из великоморавских погребений
Старого Коуржима и Микульчиц.
Таким образом, мы можем констатиро-
вать. что в середине X — начале XI в. на
Руси существовал ювелирный убор, объеди-
ненный общностью техники изготовления:
тиснение, штамповка, зернь, скань. Основ-
ной круг аналогий для данных типов укра-
шений происходит из западнославянских
памят ников, и распространение его на тер-
ритории Руси может быть связано с продви-
жением сюда в X в. западнославянского на-
селения. фиксируемым и на других видах ар-
хеологических источников (керамика, пред-
меты конского снаряжения ит.д.). Вместе с
тем. появление в кладах этого периода дро-
товых и витых браслеэ ов и витых гривен с
завязанными концами, имеющих довольно
широкий круг анало! ий в кладах Готланда,
связано, по всей видимости, с влиянием се-
вероевропейского ювелирного дела (Лесман
1996: 35-37).
В то же время необходимо отметить, что
ряд украшении из этого комплекса уходит сво-
ими корнями в древности более ранних эпох
и является наследием антично! о ювелирно-
го дела (лунницы. подвески-медальоны) или
аваро-болгарских древностей эпохи Велико-
го переселения народов («волынские» серь-
ги). Данный комплекс весьма хорошо прижи-
вается на древнерусской почве. Русь стано-
вится одним из центров производства по-
добных украшений, откуда они в X-XI вв.
начинают распросграня i ься на территорию
Центральной и Северной Европы.
Материалы к. 1адов показывают. ч!о в се-
редине XI в. происходит смена \ бора. В это
время выходят из употребления некоторые
типы вещей, характерные для предыдуще! о
периода. Но зато другие пшы украшений по-
лучают свое развитие именно в это время:
например, появляется большое количест во
витых и плетеных шейных гривен и брасле-
тов. среди которых встречаются и оканчива-
ющиеся змеиными головками (Корзухина
1954). Из вещей с зернью, характерных для
предыдущего периода, в комплексах XI-
XII вв. встречаются лунницы и полусфери-
ческие подвески (в основном третий их тип).
Необычной чертой, отличающей эту группу
кладов, является присутствие в них различ-
ных «племенных» височных колец— перст-
невидных. браслетообразных, ромбощитко-
вых. многобусинных. Характерны для кладов
этого периода и своеобразные «доморощен-
ные» сборные украшения — в основном
серьги.
В середине (конце) XI-XII вв. на Руси по-
является масса новых типов ювелирных укра-
шений (трехбусиниые серьги, колты с рясна-
ми. широкие створчатые браслеты-наручи,
венцы-диадемы), являвшиеся, в основном,
произведениями городских ювелиров и пред-
метом городской моды, подчас доступными
т олько привилегированным слоям. Эти укра-
шения аккумулируются в кладах конца XI —
первой трети XIII вв. Появление предшеству-
ющего убора, на наш взгляд, объясняется при-
ходом западнославянского населения, при-
несшего с собой традиции Подунайского ре-
месла. впитавшего византийские т радиции.
Здесь же мы имеем дело, вероятно, с непос-
редственным вывозом из Византии на Русь
молы на эти типы украшений, отдельных
изделий и мастеров, которые начинали со-
вместно с русскими ювелирами производ-
ство некоторых из этих украшений. Эти типы
у крашений стали весьма популярны на Руси
и изготовлялись местными мастерами во
множестве вариантов, типологически отли-
чающихся от византийских или балканских
аналогов.
О том. что парадные головные уборы —
диадемы были принадлежностью и женско-
го церемониального убора, можно с уверен-
ност ью у 1 верждать. опираясь на свидетель-
ства произведений изобразительного искус-
ства. Кроме диадем, в парадный женский
убор входили золо!ые и серебряные венцы.
Нами было выявлено, ч ю венцы, собранные
из золотых пластин, не встречаются в соста-
Заключение
279
Рис. 140. Ювелирные украшения византийского производства. V'1-ХП вв.
ве одного убора с венцами из бусинных ду-
жек. Очелья их золотых пластинчатыхдужек
характерны для Киева и его округи, венцы
из бусинных дужек представлены более ши-
роко, но наибольшая ихконцентрация отме-
чается на северо-востоке Руси. Причем толь-
ко в этом регионе есть находки золотых бу-
синных дужек.
Древнерусские колты имеют прототипы в
античных, гуннских, хазарских, византийских
древностях. Если на Руси после монгольского
нашествия этот тип украшений выходит из
моды, то в Карпато-Балканском регионе кол-
ты продолжали носить и в XIV-XVII вв. На
древнерусском материале выделяется 10 ва-
риантов головных уборов с колтами и различ-
ными типами рясен. Крометого, существова-
ли колоколовидные рясны, не связанные с
колтами, в качестве прототипов для которых
могут быть рассмотрены височные подвески
византийской работы, аналогичные найден-
ным в болгарском некрополе Луковит-Мушат.
280
Заключение
Рис. 141. Ювелирные украшения. Сербия. Хорватия, Истрия, Далмация. Македония. VIII-X1V вв.
Бусинные серьга и кольца были характер-
ны. в основном, лля ювелирного убора воз-
растной группы молодых женщин. В ареале
распространения бусинных серег выделяют-
ся крупные территориальные блоки, соответ-
ствующие, по всей видимости, территориям
распространения продукции отдельных юве-
лирных школ, характеризующихся общнос-
тью конструктивных и декоративных черт,
присущих различным вариантам этих укра-
шений. Первый блок—византийско-иранс-
кий; второй — карпато-балканский; третий
— польско-тюрингский (территория Чехии
являлась связующим звеном между вторым
и третьим регионами); четвертый — древ-
нерусский, в котором наблюдаются близкие
черты и со вторым, и с третьим блоком; пя-
тый —булга рский. сближающийся со вторым
и четвертым.
Украшения со змеиными и драконьими
головками были весьма популярны в антич-
ное (у греков, скифов, сармат, фракийцев) и
раннссредневековое время (у готов). Появле-
ние же в XI в. на Руси витых и плетеных це-
пей и браслетов со змеиными и драконьими
головками на концах связывается, на наш
взгляд, с влиянием скандинавского ювелир-
ного дела.
Под влияние византийского ювелирного
ремесла появились на Руси створчатые брас-
леты, а также редкие лля этой территории ви-
тые и плетеные браслеты со щитками, укра-
шенными сканью и зернью. Причем весь круг
аналогов для изображений па створчатых
Заключение
281
Рис. 142. Ювелирные украшения. Болгария. V1-X11I вв.
браслетах-наручах также происходит из па-
мятников византийской торевтики.
Таким образом, хотя парадные уборы ХП-
XIII вв. состоят из новых для Руси типов
украшений, однако истоки для большей их ча-
сти (диадемы, колты, створчатые браслеты,
трехбусиниые серьги и височные колты) со-
держатся в древностях античного и ранне-
средневекового периода.
Если материалы из кладов IX-XI вв. нахо-
дят параллели в погребальных комплексах
сельского населения, материалах городищен-
ских и ранних городских слоев, то набор укра-
шений из кладов XI1-X1II вв. гораздо более
специфичен и элитарен. Аналогии дорогим
ювелирным украшениям этого периода нахо-
дят, в основном, только в городских слоях.
В XI в. происходит переход от парадного
ювелирного убора, характеризующего куль-
туру военно-дружинной, княжеской и торго-
вой аристократии к драгоценному убору кня-
жеско-боярской аристократии крупных го-
родских центров. Причем парадный убор
X—начала XI вв. ориентируется в основном
на западнославянские (подунайские) и севе-
роевропейские образцы, а в XI — начале
XII вв. происходит переориентация настав-
ший более престижным византийский дра-
гоценный убор. Активные торговые и дип-
ломатические контакты с Византией, ориен-
тация на византийские образцы в области
светской, церемониальной и духовной жиз-
ни определяют в этот период сложение па-
радного убора на основе византийских про-
тотипов.
В своем целостном виде древнерусский
парадный убор XII—XIII вв. представлен в
виде кладов, в городских слоях обнаружены
только отдельные предметы этого убора, а
также матрицы и формочки для его изготов-
ления и литые подражания. Если детали убо-
ров X-XI вв.. а также литые им подражания
довольно часто находят в сельских захороне-
ниях. то для парадного убора ХП-ХШ вв. та-
кое проникновение в сельскую среду не ха-
рактерно. В курганах иногда встречаются
украшения, отдаленно напоминающие колты
(но плоские, литые), бляшки от венцов, упро-
щенные варианты створчатых браслетов или
медальонов с процветшими крестами, но все
они предельно схематизированы и далеки от
роскошных городских изделий. Находят тог-
да и отдельные экземпляры металлических
бусин. Исключение составляют только бусин-
ные серьги, которые и появились в погребе-
ниях (X-XI вв.) раньше, чем в кладах (XI в.),
282
Заключение
Рис. 143. Ювелир-
ные украшения. Румы-
ния. VTTI-X1V вв.
и в несколько ином варианте, что заставляет
предположить, что могло быть несколько
импульсов проникновения этих украшений
на Русь.
При кажущейся однородности и целост-
ности ювелирный убор конца XI — начала
ХШ вв. распадается на ряд выделяемых в ра-
боте более мелких уборов.
IV. Древнерусский ювелирный убор суще-
ствовал и развивался во взаимосвязи с юве-
лирными уборамидругихтерриторий. Чтобы,
с одной стороны, оценить его самобытность,
а, с другой, выявить его место в процессе фор-
мирования евразийского ювелирного дела,
необходимо сопоставить ювелирный убор
Древней Руси с уборами населения сопре-
дельных территорий, а также регионов, не
граничивших с Русью напрямую, но оказывав-
ших на ее культуру несомненное влияние
(рис.140-170). К таким регионам относятся
Византия, оказывавшая как непосредственное
влияние на развитие культуры Руси, так и че-
рез посредство славян Юго-Восточной и Цен-
тральной Европы, Северная Европа, культур-
ный мир балтских и финских племен, Север-
ный Кавказ, Южнорусская степь.
При рассмотрении процесса формирова-
ния древнерусского женского ювелирного
убора, а также сопоставлении его с уборами
названных территорий прослеживается не-
сколько основных «чужеродных» для восточ-
ных славян составляющих—«импульсов»,
оказывавших в различные периоды разное по
силе воздействие на процесс становления
древнерусского убора.
Наиболее ранний импульс — антич-
ный, пришедший как из Причерноморья,
Заключение
283
Рис. 144. Ювелирные украшения. Венгрия. VIII-XIV вв.
Византии и ее балканских провинций, так и
из варварского мира—от сарматов, готов,
гуннов. Отражением этого античного насле-
дия в славянском ювелирном деле, на наш
взгляд, являются подвески-лунницы, круглые
медальоны, бусинные височные кольца.
Германский импульс, под влиянием ко-
торого находился славянский убор в конце
V—начале VIII вв., к середине VIII в. изжи-
вается практически полностью (выходят из
обихода женские костюмы с пальчатыми фи-
булами и т.д.).
На протяжении всего периода расселения
славян Vl-Х вв. ощущаются нодунайские
импульсы. С Дуная приходят социально пре-
стижные веши как византийского, так и авар-
ского и болгарского происхождения, послу-
жившие прототипами для формирования
древнерусских ювелирных украшений (на-
пример, для серег «волынского» типа). «Во-
лынские» серьга распространяются в Поду-
навье и на Балканах с VIII-IX в. ВIX-X вв.
эти украшения представлены в моравских и
чешских древностях, в X-XI вв.—на терри-
ториях современной Румынии и Венгрии, с
XI в.—в Польше. На Руси находки этих укра-
шений приходятся на середину X—начало
XI в. Таким образом, мы можем говорить о
284
Заключение
Рис. 145. Ювелирные украшения. Моравия, Чехия. V1II-XI вв.
едином стиле этих украшений, мода на кото-
рые охватила обширную территорию от По-
дунавья до Повисленья и Поднепровья. Тер-
ритория распространения штампованно-фи-
лигранных лунниц была несколько иной.
Они почти не представлены на Балканах,
ранние образцы IX в. есть в великоморавс-
ких древностях, формы X-XI в. — на терри-
ториях Венгрии, Румынии, Древней Руси и
Польши. В целом, распространение на Руси
с середины X в. набора зернено-филигран-
ных украшений может быть связано с про- '
движениями групп западнославянского на-
селения. Происхождение же каждого типа
украшений, входивших в этот убор, необхо-
димо рассматривать отдельно.
VIН-Х вв.—время широкого распрост-
ранения на славянских памятниках и вклю-
чения в состав убора салтовских украше-
ний. Салтовские перстни и серьги, столь по-
пулярные в этот период, в дальнейшем не
входят в состав древнерусского ювелирного
убора, но остаются в обиходе кочевого насе-
ления южнорусских степей.
С эпохой викингов в славянские земли
проникают скандинавские ювелирные
украшения. В1Х-Х веках происходит вза-
имное влияние и обогащение славянского и
скандинавского ювелирного дела. От славян
в Скандинавию попадают как некоторые
виды украшений (лунницы, височные коль-
ца, полусферические подвески, металличес-
кие бусы), так и ряд ювелирных приемов.
Происходит и обратное движение украшений
из Скандинавии—некоторые типы гривен,
фибул, цепей, подвесок, браслетов, попадая
Заключение
285
Рис. 146. Ювелирные украшения. Польша. Х1-Х1И вв.
на Русь, или остаются импортом и принад-
лежностью варяжской дружины и прибли-
женной к ней прослойки местных жителей,
или входят в состав древнерусского убора
(например, некоторые типы подковообраз-
ных фибул, браслетов, подвесок и гривен). В
центрах совместного проживания скандина-
вов и славян—Ладоге. Гнездово, Новгоро-
де —создаются вещи-гибриды, объединяю-
щие в себе ювелирные традиции обоих ре-
гионов.
Балто-финский импульс наиболее ощу-
тим в регионах непосредственного контакта
славян с автохтонным балтским и финским
населением. Однако его зона нс ограничи-
вается территорией Северной Руси, а распро-
страняется и на Поднепровьс. Наиболее ран-
ние заимствования в VII в.—в «древностях
антов» (например, украшения головных по-
крывал), аналогичные украшения впослед-
ствии присутствуют и в древнерусском юве-
лирном уборе (Щеглова 1999). Из украшений
балто-финского происхождения, представ-
ленных на роменских памятниках, в состав
более позднего древнерусского убора входят
спиралевидные пронизки и трапециевидные
подвески (Григорьев 2000).
B1X-XI вв. славянское население заим-
ствует и перерабатывает балтские типы гри-
вен, фибул, браслетов, привесок, головных
булавок и т.д. В зоне совместного прожива-
ния славяно-финского населения в Юго-Во-
286
Заключение
Рис. 147. Ювелирные украшения. Скандинавские сдраиы. IX-XI вв.
Заключение
287
Рис. 148. Ювелирные украшения. Литовские племена. VH-ХШ вв.
сточном Приладожье и в Волго-Окском меж-
дуречье создается яркий своеобразный син-
кретичный убор, одной из особенностей ко-
торого является выраженная традиция ноше-
ния зооморфных подвесок-амулетов, в том
числе и полых. Украшения балтского и фин-
но-угорского происхождения (подковообраз-
ные фибулы, булавки и полые шумящие конь-
ки-амулеты) вошли и в состав новгородско-
го городского костюма. Уникальным пред-
ставляется городской костюм обитателей
Новгорода благодаря присутствию в нем та-
кой не типичной для древнерусского убора
категории украшений как булавки. В матери-
алах Новгорода выделяются булавки прибал-
тийских типов и местные типы булавок (с
головками сложных форм, с трехлопастны-
ми головками, с головками в виде крылатого
зверя), не встречающиеся за его пределами.
Еще одной отличительной чертой новгород-
ского убора можно считать присутствие
большого количества полых привесок кот-
ков со сканной гривой, представлены здесь
и птицевидные подвески, в том числе и по-
лые. Балтский компонент представлен в юве-
лирном уборе жителей Новгорода в основ-
ном в X-XI в., финно-угорский — в XIII-
XIV вв. (Покровская 1998).
Явно прослеживается и влияние древне-
русского ювелирного дела на ювелирное ре-
месло соседей. Например, для финно-угорс-
кого населения Волго-Клязьменского между-
речья, Костромского Поволжья и Окско-
Клязьменского междуречья были характерны
288
Заключение
Рис. 149. Ювелирные украшения. Латвийские племена. VII-X111 вв.
специфические наборы ювелирных украше-
ний, отождествляемые с древностями лето-
писной мери, мещеры и муромы. По мере
продвижения славянского населения на эту
территорию и включения се в состав Древ-
нерусского государства и в зону сложения
великорусской народности характер этих убо-
ров меняется. Изменяется и сам характер
ювелирного ремесла, в X в. заканчивается
период «женского ремесленного литья» и
ювелирное дело переходит в руки профессио-
нальных ремесленников-мужчнн (Рябинин
1997:158).
Наибольшее распространение этноопрс-
деляющих украшений мери (втульчатоконеч-
ные проволочные височные кольца, тре-
угольные и коньковые привески, шумящие
перстни) во второй половине X—середине
XI в. совпадает со временем начала ее по-
степенной ассимиляции. В XI—XIII вв. ме-
рянские височные украшения заменяются
славянскими, а также браслетообразными
сомкнутыми кольцами, возникшими, по мне-
нию В.В. Седова, в результате славяно-фин-
ского культурного симбиоза (Седов 1972:138-
144: Рябинин 1997:175). В Костромском По-
волжье выделяется присутствие населения
из Новгородской земли (ромбощитковыс ви-
сочные кольца), а также вошедшего в орбиту'
влияния Новгорода прибалтшкко-фипского
населения Ладожско-Онежского межозерья
(дисковидные разделители цепей, своеобраз-
ные варианты зооморфных подвесок) и пред-
ставителей карельско-ижорских племен
Заключение
289
Рис. 150. Ювелирные украшения. Пруссы. VII-X вв.
(овально-выпуклые фибулы, двуспиральные
разделители). Наряду с новгородскими тала-
ми вещей в погребальных комплексах встре-
чаются и лунничные, витые, ложновитые
серьги 11 кольца, подковообразные фибулы со
слитыми головками, преимущественно бы-
товавшие у финно-угров Заволочья. Населе-
ние из Верхневолжья принесло в этот реги-
он браслстообразные височные кольца, ха-
рактерные для территории кривичей. Локаль-
ной особенностью ювелирного убора насе-
ления Костромского Поволжья стали прово-
лочные височные кольца небольшого диа-
метра с завитком на одном конце (Рябинин
1997:188-194).
Дтя ювелирного убора муромы были ха-
рактерны сложные головные уборы из дуго-
образных жгутов и украшенных спиралька-
ми и бронзовыми обоймами ремней, муром-
ский тип височных колец, украшения кос.
шумящие ажурные перстни, украшения обу-
ви, пояса с боковыми ремнями. Расцвет это-
го убора заканчивается к середине X в. К на-
чалу XI в. на смену муромским височным
кольцам приходят перстневидные и брасле-
тообразные завязанные, распространяются
змеиноголовые браслеты, пластинчатые пер-
стни, подвески-луннипы, монетовидные и
крестики (Рябинин 1997:201). Так же, как и
на территории мери, распространяются и
трехбусинные серьга.
Характерными для населения Мещерско-
го края считаются луновццные пластинчатые
серьги, гривны с завязанными и конусовид-
ными концами, плетеные нагрудные подвес-
ки. В XI в. начинают выборочно использо-
ваться и приспосабляться к местному убору
отдельные славянские элементы. Появляют-
ся браслстообразные завязанные кольца. У
местных браслетов и гривен начинают ис-
290
Заключение
Рис. 151. Ювелирные украшения. Курши. VH-ХШ вв.
Рис. 152. Ювелирные украшения. Ятвяги. Vll-ХП вв.
Заключение
291
Рис. 153. Ювелирные украшения. Эсты. X-X1I1 вв.
Рис. 154. Ювелирные украшения. Ливы. VI-ХШ вв.
292
Заключение
Рис. 155. Ювелирные украшения. Водь. X1-X1V вв.
Рис. 156. Ювелирные украшения. Корела. ХП-ХШ вв.
Заключение
293
Рис. 157. Ювелирные украшения. Весь. X-XIII вв.
Рис. 158. Ювелирные украшения. Меря. VIII-ХП вв.
294
Заключение
Рис. 159. Ювелирные украшения. Мещера. Х1-Х1П вв.
Рис. 160. Ювелирные украшения. Мордва. Vi-Xi вв.
Заключение
295
Рис. 161. Ювелирные украшения. Мурома. Копен VI — начало XI вв.
пользовать аналогичную завязку концов. В
XII в. славянское влияние на мещеру усили-
вается и в уборе поваляются лунницы, бусин-
пые кольца, некоторые разновидности пер-
стней и браслетов, характерные для славя-
но-русской культуры. Происходитзамена чуд-
ских привесок древнерусскими бубенчиками
и пуговицами, в захоронениях появляются
предметы христианского культа (Рябинин
1997:233).
На Руси и в Прикамье прослеживаются
самостоятельные, зачастую параллельные ли-
нии развития таких украшений, как лунни-
цы. гроздевидные (волынские и прикамские)
серьги. Ювелирные украшения, изготовляв-
шиеся мастерами Волжской Булгарии, име-
ют рад общих черт с украшениями Древней
Руси, Прикамья и Зауралья. В данном случае
также речь может идти, скорее всего, о па-
раллельных линиях развития. Здесь получи-
ли распространения украшения, имеющие
аналогии в группе древнерусских кладов се-
редины X — начала XI в. — декорирован-
ные зерпыо подвески и перстни, широкоро-
тое лунницы. Однако датировка булгарских
находок несколько более поздняя—не ранее
XI в. В XI I-Х III вв. мастера Волжской Булга-
рии изготовляли сходные с древнерусскими
витые и плетеные гривны, но с характерным
редким плетением и со своеобразным оформ-
лешгем концов, в ряде случаев декорировав-
шихся тиснеными бусинами с зернью. У пле-
теных браслетов в этом регионе также весь-
ма характерно оформлялись концы — рас-
плющивались или декорировались крупны-
ми шатенами с сердоликовыми вставками. В
296
Заключение
Рис. 162. Ювелирные украшения. Мари. IX — первая половина XI в.
Рис. 163. Ювелирные украшения. Прикамье (ломаватовская, родановская культуры). VI1-X1 вв.
Заключение
297
Рис. 164. Ювелирные украшения. Коми-зыряне (вымские могильники). IX-XIV ня.
Рис. 165. Ювелирные украшения. Булгары. Начало IX — начало XI вв. Волжская Булгария. Х1-Х1П вв.
298
Заключение
Рис. 166. Ювелирные украшения. Салтово-Маяцкая культура. Вторая половина VIII — первая половина X в.
Рис. 167. Ювелирные укра-
шения. Северный Кавказ. VII-
XII вв.
Заключение
299
Рис. 168. Ювелирные > крашения. Печенеги. X-XI вв.
Рис. 169. Ювелирные украшения. Половцы. XII —
начало XIII вв.
Рис. 170. Ювелирные украшения. Иран. Х-ХШ вв.
300
Волжской Булгарии был выработан своеоб-
разный тип бусинных украшений, встреча-
ются здесь и находки трехбусинных колец
древнерусского облика. Древнерусские бу-
синные кольца, а также решетчатые подвес-
ки представлены и в вымских могильниках
(памятники коми-зырян) (Савельева 1987:
103,121).
Еше одним примером переработки древ-
нерусских типов украшений можёт служить
появление в Карелии своеобразных типов
медальонов, созданных под влиянием древ-
нерусских черненых «барм».
Отмечается заимствование древнерус-
ских украшений, в основном подвесок-аму-
летов, и в прибалтийских землях. Основная
масса украшений древнерусского облика (ви-
тые и плетеные браслеты, браслеты-наручи,
подвески крестовидной формы, шейные
гривны, сканные бусы, лунницы), находимых
на территории расселения балтов, является
предметами импорта. В то же время, появ-
ление украшений восточнославянских типов
в ряде памятников жемайтов (перстневид-
ные височные кольца с заходящими конца-
ми, трехбусинные серьги, ряд типов брасле-
тов, перстней и металлических бус) явилось
результатом их тесных контактов со славянс-
ким населением и частичной славянизации
(Финно-угры и байты 1987:397,417).
Примером влияния древнерусского юве-
лирного дела на убор кочевников может слу-
жить появление в костюме половецкого на-
селения крученых гривен и плетеных брас-
летов. В оформлении концов последних ла-
зуритовыми вставками читается дань соб-
Заключение
ственно половецкой традиции (Макарова
1962:132,133).
В конце X1-XII вв. на Русь в результате
дипломатических и торговых акций прони-
кают византийские ювелирные украше-
ния, послужившие основой для сложения
древнерусских парадных украшений (диадем,
колтов, барм, широких створчатых брасле-
тов). Аналогичные типы украшений—диа-
демы, колты, трехбусинные серьги, створча-
тые браслеты и браслеты со щитками, укра-
шенными зернью и сканью, распространяют-
ся и в Карпато-Балканском регионе, где этот
стиль украшений продолжал существовать
практически вплоть до начала XVII в., тогда
как на Руси его развитие было прервано с
нашествием монголов.
Таким образом, в развитии ювелирного
дела восточных славян выделяется несколь-
ко пластов заимствований, а в составе древ-
нерусского убора—несколько групп вещей,
характеризующихся разными истоками фор-
мирования и временем включения в состав
основных уборов. Формирование ювелирно-
го убора отражает этническую историю сла-
вянских племен, процесс их расселения и
интеграции с местным балтским и финским
населением, консолидацию единой древне-
русской народности. В древнерусское время
(X-XIII вв.) можно говорить о ряде терри-
ториально-этнических и парадных уборов,
сформировавшихся как на основе собствен-
но славянских, так и заимствованных укра-
шений и отражающих картину этнокультур-
ного развития и становления Древней Руси.
Приложения
301
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ РАССМАТРИВАЕМЫХ В РАБОТЕ
ПАМЯТНИКОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРЕДМЕГЫПАРАДНОГО
ЮВЕЛИРНОГО УБОРА
Памятники второй половины X — начала XI вв.
1. Киев. Клад 1913 г., найденный в ус. проф.
И. А Сикорского. Клад хранился в медном котелке, за-
литом воском.
В состав клада входили: дирхемы серебряные 709/
10-905/6 гг. (2930 экз.); браслеты золотые кованые завя-
занноконечные(б экз.).
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №635.
Лиг.: Архив ИИМКРАНф. 1 (АК), 1913,ОАКза
1913-1915:198; Корзухина 1954:83,№13,табл. V.
2. Киев. Клад 1863 г., найденный на Подоле, на клад-
бище Иорданскойц. Кладхранилсявкерамическомгор-
шке.
В состав клада входили: дирхемы 892/3-935/6 гг.
(192 экз.); перстни пластинчатыесеребряные завязан-
ноконечные (2 экз.); подвеска серебряная полусфери-
ческая, украшешгая тиснеными колпачками и зерне-
выми треугольниками; кусок серебряной проволоки.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Архив ИИМКф. 1 (АК) 1865,№6; Археологи-
ческий вестник 1867: 138-139,рис.: Антонович 1888:120;
Беляшевский 1888:137; Корзухина 1954:84,№14.
3. Киев. Погр. 124. Характер погребения не извес-
тен, вещи поступили от барона де Бая.
В составе погребального инвентаря найдены: серь-
ги серебряные «волынского» типа «С» (2 экз.); сереб-
ряное проволочное завязанное кольцоснадетой на него
зонной бусиной из светло-зеленого стекла; проволоч-
ное колечко (d=10 мм); золотое колечко (d= 16 мм)сза-
вязанными концами; бусы (стеклянные, сердоликовые,
хрустальные, янтарная); серебряная застежка, украшен-
ная сканью и зернью; две овальные скорлупообраз-
ные фибулы (бронзовые позолоченные); серебряный
крестик, вырезанный из монетного кружка; два мили-
арисиясушками(КонсгангинаУН,СтефанаиКонстап-
тинз.931-944).
Москва. ГИМ. Инв. №33602, хр. 99/176.
Лиг.: Каргер 1958:табл. ПЦРавдина 1988:74(табл. 6,
1-8).
4. С. Юрковцы (Липовецкого у. Киевской губ.).
Клад 1864 г., найденный при пахоте в керамическом
горшке, стянутом серебряной проволокой. Рис. 10,6-16.
В состав клада входили: гривнашейная серебряная
дротовая с обломанными концами; лунницы серебря-
ные штампованно-филигранные болыпие(4 экз.); серь-
ги серебряные «волынского» типа (6 экз. целых и 3 в
семи фрагментах—типы «В», «С» и «D») от трех раз-
ных пар; бусы серебряные лопастные (5 экз. и 4 фр.);
бусина серебряная тисненая удлиненная; фрагмент се-
ребряного пластинчатого браслета, украшенного скан-
ной косичкой и зигзагом; фрагмент сканнойцепочки;
бусы сердоликовые 8 и 14-гранные(3 экз.).
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Толстой, Кондаков 1897:65; Гущин 1936:32,
рис.3 и4; Корзухина 1954:84,№15,табл. VI, УП;Строко-
ва 1997:63.
5. С. Коппевка (Дантевского р-на Винницкого окр.
Киевской обл.). Клад 1928 г., найденный в керамичес-
ком горшке.
В состав клада входили: дирхемы 549-954/55 гг.
(500 экз., из них 416 экз.—896-954/55 гг.); слитки сереб-
ряные (3 экз.); лунница серебряная штампованно-фи-
лигранная широкоротая; бусы серебряные лопастные
(1 целая и 6 фрагментов); бусина серебряная тисненая
овальная с зерневыми треугольниками; браслеты се-
ребряные (5 экз.—2 круглодротовые с обрубленны-
ми концами, 3—из граненого дрота (2 из них с обруб-
ленными концами, al—с завязанными)); перстни се-
ребряные с полусферическими щитками, украшенны-
ми зернью; серьги «волынского» типа (27 экз.—22
серьги типа «С» и 5 — «В»); пуговицы серебряные,
покрытые плотной зернью.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Лшка-Геппенер 1948:182-190,табл. 1-Ш; 1954:
84, №16; Корзухина 1954:84, №16, Строкова 1997:63.
6. Д. Борщевка (Дубенского у. Волынской губ.).
Клад 1883 г., найденный при неизвестных обстоятель-
ствах. (Рис.8).
В состав клада входили: слитки серебряные разно-
го веса(от 25 до 108 г); лунницы большие штампован-
но-филигранные (2 экз.); серьги «волынского» типа
(8 экз., типы «А» и «В»); гривны шейные серебряные
витые (у одной, сохранившейся целиком, завязанные
концы); гривна шейная серебрянаяплетепаяс замком
в крючок и петлю; гривна шейная серебряная тонкого
плетения с завязанными концами.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1017.
Лит.: Архив ИИМКРАНф. 1(АК)1884г.,№3,рис.-
фото;ОАКза 1883: LVI; Толстой, Коцдаков 1897:64-65,
рис.64-67; Гущип 1936:64-66, рис.20-24, табл. XI; Кор-
зухина 1954:85, №17.
7. Городище Екимауцы (Резинского р-на, Молдо-
ва). Раскопки Г.Б. Федорова 1951,1957 гг. Рис. 14.
На городище найдены: серебряныесерьги «волын-
ского» типа (30 экз. типа «С» и 2 фрагмента типа «В»);
два литых бронзовых аналога этому типу украшений;
фрагментированная небольшая широкоротая зернено-
302
филигранная лунница; литая трехрогая лушпща; литая
ажурная д вурогая лушпща, украшенная растительны-
ми побегами; подвески полусферические штампован-
но-филигранные (4 экз.); бусина серебряная продол-
говатая, украшенная зернью; перстень серебряный
тисненый, украшен чернью и фиолетовой вставкой;
перстень серебряный, украшенный объемным изоб-
ражением лягушки; перстни бронзовые салтовского
типа (3 экз.); браслеты бронзовые (7 экз. дротовые и 1
витой из трех дротов); гривны бронзовые—витая из
трех дротов, на концах—петельки, и 2 дротовыесзам-
кпутыми концами; браслеты—8 экз. (1 змеиноголо-
вый, 6 дротовых, 1 витой), бубенчики бронзовые(2 экз.),
фибулы железные подковообразные (3 фрагмента).
Кишинев. Археологический музей, Инв. №77-79,
152,153,411-41277,80-85,1136,1135, №43,250, КП 1183/
345-350,1183/478,479-С. Кишинев, ГИМ. Инв. №0/7485-
223-225,0/7485-227. Одесса. Археологический музей.
Инв.№48694,52660-52671,70834,70983-70995,71003.
Лит.: Федоров 1953:104-126; Федоров 1968.
8. Могильник Стына луй Мокану на окраине
с. Джурджулешты(Кагульсю1Йр-11,Моддова). Рис.46,47.
Погребение 6. Захоронение девочки 6-7 лет. Ори-
ентировка запад-северо-запад (274°). Скелет распола-
гался на спине в вытянутом положении. Погребаль-
ный инвентарь, состоявший из четырех серебряных
тисненых пуговиц и набора бус и подвесок-раковин,
размещался в виде двух скоплений: в районе ключиц (в
основном с правой стороны)—детали ожерелья, и на
уровне бедренных костей—пуговицы и детали ожере-
лья.
В состав погребального инвентаря вход или: пуго-
вицы серебряные тисненые шаровидные с трубчаты-
ми ушками, украшенные зернью (4 экз.—2 целых и
2 фр.). Бусина серебряная ажурная. Бусина овальная,
слегка приплюснутая, выполнена в виде проволочно-
го каркаса. Каркас довольно рыхлый, свободный. По
бокам—проволочные колечки, сквозь которые про-
девалась нитка ожерелья. К колечкам крепятся оваль-
ные проволочные «лепестки», спаянные в центре бу-
сины. На каждый «лепесток» налаяно по два крупных
шара зерни, крепящихся к проволочному колечку, ана-
логичными шариками зерни декорированы и места
спайки «лепестков». Бусины золото-стеклянные (7 экз.)
цилиндрические с небольшим расширением в сред-
ней части. Бусины стеклянные призматические (2 экз.).
Выполнены из желтого стекла, сильно коррозированы.
Бусины сердоликовые (4 экз). Бусины призматические,
три экземпляра—десятигранные и один—четырнад-
цатигранный. Бусина из горного хрусталя овальнаяпод-
граненная(1 экз.). Раковины каури (3 экз.).
Кишинев. Национальный музей истории Моловы
inv. 11773,1178-1182.
Лит.: Левицкий, Хахеу, Рябцева2000:90-96.
9. С. Денис (Переяславского у. Полтавской губ.).
Клад 1912 г.
Клад хранился в керамическом горшке.
В состав клада входили: монеты 805/6-1002/26 гг. —
5325 (целых 402, обломков 4960, брактеатов 21); серьги
«волынского» типа фрагментированные (5 экз. типа
«С»); медальон серебряный, украшенный сканной ко-
сичкой, тиснеными полушариками, зерневыми тре-
угольниками; пуговицы крупные (половинки 6 экз.)
Приложения
украшены зернью; бусы овальные, украшенные тис-
неными колпачками и пояском зерни (2 экз.); бусина
серебряная, подражание лопастной, но не ажурная;
щитки двух перстней (2 фр.); обломки проволоки и се-
ребряных украшений.
С-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1019.
Лит.: Архив ИИМК АН АР№1 (АК) 1912, №295;
ОАКза 1912:85-86, рис.88; Корзухина 1954:85,86, №18,
табл. VIII.
Ю.С.Коробкшю(Льговскогоу. Курской губ.). Клад
1915 г., найденный при вспашке поля.
В состав клада вход или: монета византийская об-
резанная 912-944 гг.; браслеты серебряные (7 экз. —
витой двухпроволочный с завязанными концами, ви-
той из четырехгранного дрота, украшенного пуансон-
ным орнаментом, с завязанными концами, 3 витых из
четырехгранного дрота с обрубленными концами, 2
витых из восьмигранного дрота с обрубленными кон-
цами).
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж.
Лиг.: Архив ИИМКРАНф.№1 (АК) 1915 г.№181,
фотогр.; ОАКза 1913-1915:196,155,рис251;Корзухина
1954:86, №20.
11. С. Гущино (в окрестностях Чернигова). Клад
1930-х г., условия находки, полный состав и место хра-
нения клада неизвестны. (Рис.40,1-5).
Судя по сохранившемуся изображению, в составе
клада были найдены: лунница большая серебряная
штампованно-филигранная; серьга серебряная «во-
лынского» типа «А»; бусина серебряная лопастная.
Лит.: Рыбаков 1949:53; Корзухина 1954:21,22,№21,
табл. VII.
12. Д. Гнездово. Клад 1867 г. (по публикации
Г.Ф.Корзухиной—1968 г.), найденный рабочими же-
лезной дороги в имении Кардо-Сысоева Смоленской
губ. (Рис.11-14,17).
В состав клад а входили: 11 восточных монет, из них
младшая монета953/54 гг. (4превращеныв подвески, 3
половинки и 4 целые); гривны серебряные—4 витые
из трех строенных дротов с завязанными концами и4
кованые; лунницы серебряные широкорогие штампо-
ванно-филигранныеразныхразмеров(10 экз.); подвески
зерненью (13 экз.), из них 2 полусферические, 1 с изоб-
ражением хищной птицы, 2 с вихревым орнаментом,
остальные—со сканным волютообразным орнамен-
том; подвески литые (22 экз.) — из них 2 круглые с
изображением мужского лица и птиц по сторонам, 19
прорезных позолоченных с изображением свернувше-
гося хищника и 1 с изображением бородатого мужско-
го лица; бусы серебряные гладкие (15 экз.), лопастные
(3 экз.) и зерненые(21 экз.); браслетообразные прово-
лочные завязанные кольца с напущенными на них лас-
товыми бусинами (2 экз.); фигурка божка; капторга.
С-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №994/1-107.
Лит.: Толстой, Кондаков 1897:61-64, рис.48,50-63;
Гущин 1936:5337, рис.11-15, табл. I-IV; Корзухина 1954:
87,88№23; Пушкина 1998:370-374.
13. Д. Гнездово. Клад 1870 г.
''В состав клада входили: две серебряные широко-
рбгие лунницы; семь серебряных гладких бусин; на-
бор бронзовых амулетов на колечке; 23 стеклянные
бусины; 53 восточных монеты.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №995/1-10, мес-
Приложения
303
то хранения монет неизвестно.
Лит.: Архив ИИМКРАНф.№1 (АК), 1870г.,№25,
рис.; Корзухина 1954:88,89, №24, табл. VIII; Пушкина
1998:174-176.
14. Д. Гпеадово.Клад 1885 г., найденный при стро-
ительстве железной дороги.
В состав кладавходили:дирхемы902/3-960/61 гг.—
154(90 целых, 63 обломка, 1 подражание);лушощы се-
ребряные широкорогие зернено-филигранные боль-
шая и маленькая; пуговица серебряная гладкая; бусы
серебряные гладкие (6 экз., одна га них поломана); бусы
стеклянные синие (3 экз.).
Москва. ГИМ., 6 монет в Петербурге в Эрмитаже
(отдел нумизматики), потертые и ломаные вещи сплав-
лены.
Лиг.: Архив ИИМКРАНф.№1 (АК), 1885,№13,фо-
тогр.,ОАКза 1885:ХС11-ХСШ; Сизов 1895:179,табл.
11,1,2; Рыбаков 1948: рис.87; Корзухина 1954:89, №25.
15. Д. Гнсздово. Клад 1993 г., найденный археоло-
гической экспедицией МГУ при раскопках комплекса
хозяйственных и жилых сооружений на левом берегу
реки Свинец к востоку от центрального город ища. Клад
был завернут в бересту (сохранились также фрагмен-
ты кожи, возможно, от сумки и текстиля) и пронзен
ножом. Bic. 20,39,44.
В состав клада входили: монеты восточные—дир-
хемы чеканки 899—950/51 гт.(72 экз.,из них 40 превра-
щены в подвески, причем дирхемы из ожерелья не-
сколько более ранние—около 948 г., несколькими го-
дами позже была добавлена партия монет без ушек);
серьги «волынского» типа «А» (6 экз.); широкорогие
штампованно-филиграшпле лунницы (5 экз.); подвес-
ки круглые (9 экз.),изнихштамповашю-филигранныс
полусферические (4 экз.), штампованно-филигранная,
по декору аналогичная выпуклым, но плоская (1 экз.),
штампованно-филиграгшые со спиральным сканпым
орнаментом (2 шт.); подвески с волютообразным и
вихревым сканно-зерневым декором (16 экз.), литые
(1 экз. сзооморфным орнаментом «гнездовского»типа
и 1 экз. гладкая монетовидная с Т-образным граффи-
ти); литой крестик «скандинавского» типа; тисненые
пуговицы в форме бубенца, украшенные скат гью и зер-
нью (8 экз.); серебряные бусы (42), средн них 1 ажур-
ная, составлешгая из сканных колечек, украшеппая в
местах их стыка крупной редкой зернью, 2 бочонкооб-
разные. украшенные зерневыми треугольниками, 3 ло-
пастные, 31 сферическая гладкая, 2 веретенообразные,
3 гладкие тисненые округлые; бусы стеклянные (265
целых и ряд фрагментов)—рубленый и окатанный
бисер (148 экз.), трубочки (2 экз.), бочонковидные(18),
кольцевидные (19 экз.), зонные (16 экз.), «лимонки» зо-
лото- иссребряностеклянные(18 экз.), «лимонки» жел-
тые и полосатые (17 экз.), цилиндрическая мозаичная
(1 экз.), бочонковидные мозаичные (2 экз.), из египетс-
кого фаянса (1 экз.), сиреневые кубические и четыр-
надцатигранные (4 экз.); бусы каменные—сердоли-
ковые (5 экз.), хрустальная шарообразная (1 экз.), ян-
тарная биконическая (1 экз.); серебряное плетеное ко-
лечко позумента; серебряное проволочное кольцо с
завязанными концами; серебряные литые трехчасгные
ременные разделители (2 экз.); набор разновесов из 11
бочонковидных железных омедненных и 3 свинцовых
гирек.
Москва. ГИМ.
Лиг.: Пушкина 1996а: 171-186; Пушкина1996:79-80;
Фомин 1996:189; Епиосова, Пушкина 1997:24-26.
Памятники XI — ХП вв.
16. Мироновский фольварк (Каневского у. Киевс-
кой губ.). Югад 1883 г., найденный в сероглиняном гон-
чарном горшке. (Рис.49).
В состав клада входили: гривны серебряные витые
из трех пар двойных дротов с перевитые из сканной
нити (2 целых, у одной конец в две трубочки, у вто-
рой —в крючок и петлю, и фрагмент третьей); цепь
шейная массивная четырехгранная, выполненная из
звеньев толстой проволоки, наконечники литые в виде
двусторонних головдраконов, держащих во «ртах» коль-
цо; двафрагменга витого браслета с миндалевидными
наконечниками, украшенными чернью; височное коль-
цо серебряное перстневидное несомкнутое; подвески
серебряные позолоченные литые с волютообразным
орнаментом, подражающие сканным; бусы серебря-
ные овальные, типа лопастных; бусина серебряная эер-
пеная; бусина золотостеклянная; бусы сердоликовые
(восьмигранная призматическая, плоская двешгадца-
тигранная).
С-Петербург. Гос. Эрмитаж. 1023/1-16.
Лиг.: Архив ИИМКРАНф.№1 (АК), 1883 г.,№30,
рис.;ОАКза 1113 г.: LV1; Кондаков 1896:121;Толстой,
Кондаков 1897:116,117, рис. 178; Гущин 1936:63,64,
табл. X.; Корзухина 1954:91,№32.
17. Д. Шалахова (Невельского у. Витебской губ.).
Клад 1882 г., найденный при вспашке поля крестьяни-
ном Осипом Титовым. Клад был завернут в бересту.
Рис.51-55.
В состав клада входили: ожерелье, состоящее из
нанизанных на круглый дрот с загнутыми концами 10
полусферических медальонов и 11 металлических бу-
син; маленькое ожерелье (браслет или мпогобусишюе
кольцо?)—(d=l 03 мм), состоящее из круглого дрота, с
нанизашшми на него 15 металлическими бусинами
—две из них удлинегшые с зернью в средней части,
одна с овальными выпуклостями, двенадцать круглых,
украшегпгых треугольниками зерни (первые две буси-
ны такие же, как и на большом ожерелье); фибула под-
ковообразная с концами, загнутыми в трубочки, укра-
шена треугольным пуансонным орнаментом; серьга,
состоящая из утончающейся к концам серебряной про-
волоки и большой овальной, слегка смятой бусины, ук-
рашенной зерневыми треугольниками (имитация ло-
пастной бусины); большая литая шейная гривна (от-
дельно отлито кольцо и две пластинки, украшенные
розетками, гривна проработана пуансонами, местами
сохранились следы позолоты; аналогичная концевая
пластина представлена в Крыжовском кладе, а плас-
тинчатые гривны с заходящими концами, украшенны-
ми подобными, но более крупными и грубыми бляха-
ми в курганных группах Тушино и Волкове под Моск-
вой); гривны шейные серебряные витые (5 экз.), у двух
304 Приложения
гривен наконечники починены в древности; кольца
височные серебряные—браслетообразные завязан-
ные (4 экз.), ромбощитковые (1 целое и второе в трех
фрагментах), многобусинные (пятибусипные с скан-
ной обмоткой дрота) разогнутые (2 экз.) венчик сереб-
ряный пластинчатый, к концамсуживается,скрючком
на конце (в 5 фрагментах); браслет серебряный витой
из четырех дротов с фигурными наконечниками, укра-
шенными чернью; перстни серебряные (4 экз.)—2 с
полусферическими щитками, украшенными зернью
(один дополнительно и синестеклянной вставкой), 1 с
высоким цилиндрическим щитком, украшенным зер-
нью (вставка отсутствует), четвертый сильно фрагмен-
тирован, гнездо утрачено.
С-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №973/1-24.
Лит.: Архив ИИМКРАНф. №1(АК) 1892г.№171,
фотогр.,рис.;ОАК 1892:91-92,156-157,рис.53,54; Тол-
стой, Кондаков 1897:59-60;Гущин 1936:57-59, табл. V-
VIII; Корзухина 1954:97-98,№49; Рябцева 1994:10.
18. Д. Васьково Великолукского у. Псковской губ.
Клад 1923 г.
В состав клада вход или: монеты (младшая—дена-
рий 1011/59), в т.ч. 378 целых и4372 обломка; браслеты
серебряные витые из двух дротов, концы у одного об-
вязаны, у второго—перекручены; браслетообразные
завязанные серебряные височные кольца (7 экз., часть
из них деформирована); височные кольца серебряные
проволочные средних размеров (4 экз.); подковообраз-
ные фибулы серебряные (одна со спиральными кон-
цами, вторая с обрубленными); пластинчатый сереб-
ряный медальон, украшенный пуансонным орнамен-
том (в 5 фрагментах); фрагменты серебряной прово-
локи, согнутые в дужки (5 экз.); фрагмент большой
широкорогой зерненой лунницы; фрагменты сереб-
ряных украшений со сканью и зернью или пуансон-
ным орнаментом (26 экз.); пластинки серебряные глад-
кие различной формы (29 экз.).
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №924/2-20.
Лит.: Корзухина 1954:98,99,№50, табл. XX11I, XXIV.
19. Д. Осадило в районе г. Остров (Псковского окр.
Ленинградской обл.). Клад 1928 г., найденный на доро-
ге гражданином Пискуновым.
В состав клада входили: монеты—дирхемы, ви-
зантийские, западноевропейские (746 целых и 23 об-
ломка) 919-1060/84 гг. (793 целых и 37 обломков); лун-
ница серебряная небольшая, украшенная зернью; лун-
ница с завязанными рожками, украшенная пуансон-
ными колечками; подвеска тисненая полусферическая,
орнаментированная зернью.
С-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1009/1-3.
Лиг.: Корзухина 1954:100, №53, табл. XXV, 10,11.
20. Д. Спанка (Петергофского у. Петербургской
губ.). Клад 1913г., найденный в керамическом горшке.
В состав клада входили: монеты римская, визан-
тийская, западноевропейские—младшая монета 1111/
37(1850 экз. целые и обломки); фибула подковообраз-
ная серебряная с гранеными головками, украшена пу-
ансонным орнаментом; фрагмент лунницы серебря-
ной с зернью; медальоны серебряные круглые с тис-
неным и пуансонным орнаментом (3 целых и 4 фраг-
мента); бусы серебряные гладкие и украшенные зер-
нью и сканью (2 целые и 8 фрагментов); височные коль-
ца ромбощитковые серебряные (1 целое и 4 фрагмен-
та); фрагменты серебряных украшений, проволоки и
пластин (13 экз.); бляшка серебряная литая, украшен-
ная чернью.
С-Петербург. Гос. Эрмитаж.
Лиг.: Архив ИИМК РАН ф. №1 (АК) 1913, №268,
фотогр;ОАК 1915:180; Корзухина 1954:101,№56,табл.
XXVII.
21. Бслогостицкий монастырь на оз. Неро в окре-
стностях Ростова Великого. Клад 1836 г., найденный в
керамическом горшке.
В состав клада входили: дирхемы и подражания им
(несколько сотен, известны сведения о монете 982 или
985 г., и подражаниях 961-976 и 976-997 г., превращен-
ных в под вески); гривны серебряные полые с замками
в виде розеток; лунницы большие широкорогие, укра-
шенные зернью (4 экз.); подвески полусферические,
украшенные тиснеными колпачками и зернью, анало-
гичные шалаховским (3 экз.); бусы серебряные, укра-
шенные зернеными треугольниками, аналогичные ша-
лаховским (3 экз.); бусы серебряные гладкие (4 экз.);
пуговка серебряная гладкая; височные кольца сереб-
ряные проволочные перстне- и браслетообразные
(7 экз.); ромбощитковые серебряные височные кольца
небольшие (2 экз.); маленькое серебряное ромбощит-
ковое кольцо с нанизанной на него крупной овальной
бусиной, украшешюй зернеными треугольниками;
детали украшения пояса арабского происхождения (31
шт.).
Место хранештя неизвестно.
Лит.: Архив ИИМКРАНф. №6.1836,№44;Спицын
1905:154-159, рис. 112-133; Корзухина 1954:103-104.№63.
Памятники ХП-ХП1 вв.
22. Киев. Большой клад, найденный в 1842 г., пред-
положительно в тайнике в районе апсид Десятинной
церкви при постройке новой церкви по проекту архи-
тектора А.С. Анненкова. Клад хранился в амфорном
красноглиняпом сосуде, накрытом крышкой, под ней
поверх вещей была положена шелковая парчовая ма-
терия, расшитая золотыми нитками. Первоначально
клад едва помещался в два больших мешка. Часть ве-
щей была утрачена практически сразу, ими играли д ети,
остальные разошлись по музеям и частным собрани-
ям, частично попали за грашщу.
Г.Ф. Корзухиной удалось выделить следующие
вещи этого комплекса: сосуды церковного назначения
(потир и дискос), гривны монетные серебряные киевс-
кого Tima (2 экз.); колты золотые, декорированные пе-
регородчатой эмалью (12экз.); колты звездчатые золо-
тые—пара; золотые медальоны с эмалевыми изобра-
жениями деисусных фигур и жемчужной обнизью;
рясны золотые из круглых бляшек, украшенные изоб-
ражениями птиц; серьги золотые трехбусиниые; брас-
леты серебряные с наконечниками, украшенными чер-
нью—,
/ Звездчатые колты хранятся в Москве, в Оружей-
ной палате, один из колтов с сиринами—в Киеве в
Музее Исторических драгоценностей (№ДМ АЗ 6481).
Лит.: Кондаков 1892:327, табл. 20; Кондаков 1896:
Приложения
99-105, рис.54-66; Корзухина 1954:105,106, №65; Мака-
рова 1975: №11, №52
23. Киев. Клад, найденный в XIX в. (до 1868 г.) на
территории Десятинной церкви.
В состав клада входили: гривна монетная серебря-
ная киевского типа; браслеты серебряные витые—
пара; серьги трехбусинные золотые—2 пары, одна с
ажурными бусинами, другая—с тиснеными.
Москва. ГИМ.
Лит.: Филимонов 1873:97, №2509-2512; Корзухина
1954:108,№66.
24. Киев. Клад 1898 г., найденный в усадьбе Деся-
тинной церкви.
В состав клада входили: серьги серебряные трех-
бусинпые (8 экз.); браслет серебряный витой со следа-
ми черни па концах; крестик-тельник бронзовый.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лит.: Архив ИИМК АНФРф.№1 (АК), 1898,№40;
Корзухина 1954:109,№70,Табл. XXX.
25. Киев. Клад, найденный до 1899 г. на ус. Деся-
тинной церкви в глиняном горшке с отбитым ушком.
В состав клада входили: полоса серебряная; коло-
дочки от рясны серебряные (36 экз.); серьги серебря-
ные киевского типа (7 экз.).
Место храпения неизвестно.
Лит.: Каталог выставки XI АС 1908:54; Корзухина
1954:109, №71.
26. Киев. Клад, открытый в 1909 г. в усадьбе Деся-
тинной церкви к востоку от апсид при раскопках
Д.В. Милеева.
В состав клада входили: колты серебряные—пара
фрагментарной сохранности с многолучевой каймой
и вставными щитками с изображениями птиц; серьги
золотые трехбусшшые с ажурными бусинами, одна из
них украшена жемчужинами (10 экз.); серьги трехбу-
сипные серебряные (10 экз.); браслеты серебряные ви-
тые (2 экз.); образок-складень бронзовый.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж, кол. ОИРК—колты с
птичками.
Лиг.: ИАК1909:125,126; Корзухина 1954:109, ПО,
№73, табл. XXX; Макарова 1986:173.
27. Киев. Клад, открытый в 1909 г. усадьбе Деся-
тинной церкви к востоку от апсид при раскопках
Д.В. Милеева.
В состав клада входили: колты серебряные парные
со вставными щитками с изображением грифонов и
многолучевой каймой; браслеты витые серебряные, у
одного щитки украшены миндалевидными накладка-
ми, декорированными чернью, у второго щитки рас-
кованы и украшены зернью и сканью; серьги трехбу-
синные серебряные (7 экз.); височные кольца перстне-
видные из толстой серебряной проволоки (18 экз.); кре-
стик с шариками на концах.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Кол. ОИРК
Лиг.: ИАК 1909:127; Корзухина 1954:110,№75, табл.
XXXI
2& Киев. Клад 1911 г.,открыгыйприраскопках,про-
изводившихся Д.В. Милеевым в усадьбе Десятинной
церкви.
В состав клада входили: гривны монетные киевско-
го типа малого веса; колты золотые с изображениями
святых; золотые рясны из рубчатых пластин, сверну-
тых в трубочки (2 экз.); сережки золотые трехбусин-
305
пые (7 экз.); браслет серебряный витой; перстни се-
ребряные (5 экз.).
Клад хранился в Харькове в музее им. Сковороды,
погиб во время войны.
Лиг.: Архив ИИМКРАНф.№1 (АК), 1908 г.,№30:
ОАКза 1991:62,96, рис.100-104; Корзухина 1954:109,
№69,Макарова 1975:105,№29-30, табл. 4,5-7.
29. Киев. Клад, открытый в 1936 г. при работах ар-
хеологической экспедиции Института археологии АН
УССР близ Десятинной церкви в бывшей усадьбе Пет-
ровского.
В состав клада входили: гривна монетная серебря-
ная малого веса; колт золотой с изображением двух
сиринов; золотые колодочки от рясны (23 экземпля-
ра); височное кольцо проволочное перстневидное зо-
лотое; 10 фрагментов нашивных серебряных бляшек.
Киев. Музейисторическихдрагоценпостей.
Лиг.: Корзухина 1954:108,№67,табл.ХХХ1П, 1-3.
30. Киев. Клад, найденный в 1872 г. на углу Б. Вла-
димирской и Десятинного переулка в ус. Я. Масюгина.
Клад хранился в керамическом горшке.
В состав клада входили: браслет серебряный сло-
манный; колодочки серебряные от рясен (32 целые и
12 фр.); серьги трехбусинные ажурные, украшенные
зернью и сканью (8 экз.).
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лит.: Антонович 1895:34; Кондаков 1896:112; Кор-
зухина 1954:111,№79,табл. ХХХШ, 4-12.
31. Киев. Клад, найденный в 1872 г. перед домом
кн. ЕИ. Трубецкой по Владимирскойуп. Клад хранился
в глиняном кувшинчике.
В состав клада входили: колты серебряные со встав-
ными щитками, декорированными изображениями
грифонов и многолучевой каймой (пара); браслет се-
ребряный створчатый со следами позолоты с двухъя-
русным изображением; серьги серебряные трехбусин-
ные с зернеными бусинами; перстень серебряный с
черневым орнаментом; кость игральная.
Москва. ГИМ,№36231,оп. 1683.
Лот.: Архив ИИМКф. №1 (АК) 1885, №59; ОАКза
1896:121,122, рис.434436; Кондаков 1896:142,143,рис.89,
90; Толстой, Кондаков 1897: рис.218; Рыбаков 1948:
рис.59; Корзухина 1954:112,113, №82.
32 Киев. Клад, найденный в 1876 г. вус. И. Лескова
на углу Б. Владимирской и Десятинного пер. Клад хра-
нился в керамическом горшке и медном сосуде в виде
всдеркастфышкой. Часть вещейпропаладля науки сра-
зу после нахождения клада и описана не была.
Известно, что в составе клада были найдены: грив-
ны мопетные серебряные (14 экз., похищены припа-
ходке); золотые колты с эмалевыми изображениями
птиц (2 парыи 1 отдельный); колтзолотой звездчатый с
семью широкими лучами, дужка отсутствует; сереж-
ки золотые трехбусинные разных размеров (3 экз., две
с ажурными бусинами, одна с зернеными); золотые
скобочки от очелья (34 экз., из inix 4 концевые, укра-
шенные вставочками с перегородчатой эмалью и жем-
чужной обнизью); ожерелье из семи лилиевцдных под-
весок и семи реберчатых бус; цепь из рубчатых плас-
тинчатых звеньев в двух фрагментах, па концах замоч-
ные кольца; перстни золотые полые; цепь серебряная
толстая с наконечниками в виде драконьих голов, дер-
жащих во «ртах» кольцо; более тонкая цепочка с нако-
306
Приложения
мечниками в виде драконьих головок; два золотых пер-
стня-печатки, один с изображением крестика, вто-
рой —идущего льва; два серебряных витых браслета с
наконечниками, украшенными зернью и сканью; об-
ломки железных гвоздей, лежавших в сосуде вместе с
вещами.
Киев. Музей Исторических драгоценностей.
Архив ИИМК АН ф.№1 (АК), 1876, №10, рис.; Ан-
тонович 1879:253,254; Кондаков 1892:328,табл. 20и21;
Кондаков 1896:112-116,рис.76-77,табл. XV,3-9; Толстой,
Кондаков 1897:111-113. рис.164-168,200; Ханенко 1902:
47, №998,999, табл. XXVII; Корзухина 1954:112,№80.
33. Киев. Клад, найденный в 1901 г. вус. Б.А. Орло-
ва по Трехсвятительской ул. Завернутый в кусок пар-
чи, клад хранился в керамическом горшке с одним уш-
ком и линейным орнаментом, стоявшем в ямке, выры-
той в материковом слое.
В состав клада входили: золотые колты с гравиро-
ванным черненым изображением птиц (пара); дужки
золотые от очелья (9 экз.); серьги золотые трехбусшт-
ные с ажурными бусинами; ожерелье из восьми ма-
леньких золотыхмедальонов,украшенных гравирован-
ным черненым растительным орнаментом, вокруг
вставных щитков с изображениями—желобокдля жем-
чужной обшпи; ожерелье из девяти серебряных позо-
лоченных криповидных подвесок и девяти серебряных
позолоченных бус; колодочки от рясны серебряные
маленькие(4 экз.); обломки нашивных серебряных бля-
шек.
Киев. Музей исторических драгоценностей (золо-
тые веши) и Национальный музей истории Украины
(серебряные вещи).
Лит.: ИАК1902:26; Ханенко 1907:35; Корзухина
1954:113,№85,табл. XXXV,3-5,9; Макарова 1986:133,
№106-107, рис.17.
34. Киев. Клад, найденный в 1903 г.вус.НА.Ги-
рича по Трехсвятительской ул.
В состав клада входили: колт серебряный звездча-
тый с лучами, украшенными зернью; колт серебряный
звездчатый с лучами, украшенными проволочными
ячейками; перстни серебряные (2 экз.), у одного на
щитке гравированное черненое изображение крести-
ка, на втором—розетка; серьги серебряные трехбу-
синные (8 экз.).
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Ханенко 1907:37;Корзухина 1954:113,№84.
35. Киев. Клад, найденный в 1910 г. при раскопках
Д.В. Милеева в ус. Трубецкого. Клад был найден в хол-
щовом мешочке.
В состав клада входили: колты серебряные (2 экз.);
серьги трехбусинные серебряные (8 экз.); серьга трех-
бусинная алектровая; браслет серебряный; перстни из
сплава серебра и меди (3 экз.).
С.-Петербург. Коп. №637.
Лит.: ИАК 1910:208; Корзухина 1954:112, №81; Пе-
карська 1992:83-85.
36. Киев. Клад, найдеппый в 1904 г. во дворе Со-
фийского собора.
В состав клада входили: серьги трехбусинные се-
ребряные с тиснеными, каркасными и ажурными про-
волочными бусинами (7 экз.); браслет пластинчатый
узкий несомкнутый из низкопробного серебра.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лит.: Архив ИИМК РАН ф.№1 (АК), 1904,№206,
фотогр.; Корзухина 1954:113-114,№86., табл. XXIV.
37. Киев. Клад, найденный в 1854 г. на площади око-
ло б. Присутственных мест.
В состав клада входили: гривны монетные сереб-
ряные киевского типа (2 экз.); серьги трехбусинные зо-
лотые (5 экз.); браслет серебряный витой.
Местонахождение клада неизвестно.
Лит.: Антонович 1895:36; Корзухина 1954:114,№87.
38. Киев. Клад, найденный в 1938 г. напротив зда-
ния б. Присутсгвенныхмествначале м. Житомирской
ул. Клад хранился в глиняном горшке, вставленном в
медную посеребренную чашу (лампаду?).
Всостав клада входили: 17золотыхкруглыхразроз-
ненных бляшек от рясен с изображением орла, птицы
в профиль и растительно-геометрическим орнамен-
том; цепочки золотые из рубчатых звеньев, свернутых
в трубочки, на концах—колечки (2 экз.); сережки зо-
лотые трехбусшшые (7 экз.)—три серьги со сплошь
зерневыми бусинами, две с ажурными и две с тисне-
ными, украшенными зерневыми треугольниками и пи-
рамидками; браслет серебряный витой трехдротовый
с фигурными наконечниками, украшенными чернью;
медальон серебряный литой с погрудным изображе-
нием Богоматери; два фрагмента серебряного литого
перстня, с черневым орнаментом на прямоугольном
щитке.
Киев. Музей Исгорическихдрагоцешюстей.
Лит.:Самойловський 1948:192-198, рис. 1-5; Корзу-
хина 1954:114, №88, рис.16; Макарова 1975:107, №56,
рис.9,1.
39. Киев. Клад, найдешпяй в 1880 г. на Б. Житомир-
ской ул. у дома ген. Кушинова. Рис.66.
В состав клада входили: гривны монетные сереб-
ряные киевского типа малого веса (34 экз.); медальоны
золотые с изображением Деисуса—Христа, Богома-
тери, Предтечи; две золотые парные рясныс круглыми
бляшками с изображением птиц и растительно-геомет-
рическим орнаментом (всего 20 бляшек); колты золо-
тые с изображением сиринов (2 экз.); обгоревшие
бляшки с эмалевыми изображениями (на двух птица,
на третьей—крин), возможно, вставные щитки от укра-
шений; дужки золотые от очелья (3, одна из них конце-
вая с эмалевой вставкой); бусы большие золотые про-
волочные ажурные продолговатые (3 экз.); серьги зо-
лотые трехбусинные (15 экз. —4 пары и семь непар-
ных, по Кондакову 1896, или 4 экз., по Корзухиной 1954);
бронзовый водолей в виде барана.
Клад хранился в Харьковском музее им. Сковоро-
ды, погиб во время войны. Сохранились 5 серебряных
слитков—в Киевском музее исторических драгоцен-
ностей.
Лит.: Архив ИИМК РАН ф.№1 (АК), 1980 г.,№12,
фотогр.; ОАКза 1880 г.:ХХШ; Кондаков 1896:117-120,
рис.78, табл. 1-П; Корзухина 1954:115, №90; Макарова
1975: №53, табл. 8, №78-80, табл. 14,2-4.; Пекарська 1992:
83-85.
-40. Киев. Клад, найденный в 1902 г. на Б. Житомир-
ской ул. Клад хранилеявнеболыпомглиняномгоршке,
прикрытом кольчугой.
В состав клада входили: цепь серебряная позоло-
ченная (рясна?) из рубчатых пластинчатых звеньев с
кольцом на одном конце; колт серебряный со встав-
Приложения
307
ным щитком, декорированным гравированным изоб-
ражением грифона, и многолучевой каймой; брасле-
ты серебряные витые (2 экз.); серьга трехбусиниые се-
ребряные (11 целых экз. и фрагменты); подвеска свин-
цовая; крестик бронзовый, украшенный выемчатой
эмалью; замка железного маленького фрагмент.
Киев. Национальный музей истории Украины (кол-
лекция депаспортизировапа во время войны).
Лит.гХанеико 1902:23-24, табл. ХХУ1П; Корзухина
1954:115,№91,табл. ЬУП, 5; Макарова 1986:137,№180,
рис.23.
41. Киев. Клад, найденный в 1893 г. на углу Сретен-
ской и м. Владимирской ул. Клад хранился в глиняном
горшке с ушком, стоявшем на топоре и прикрытом
сверху железным кружком.
В состав клада входили: колты серебряные без
вставного щитка (пара) с ажурной каймой, с гравиро-
ванным черненым изображением крина (целиком со-
хранился только один); браслет-наруч одноярусный,
украшен гравированными изображениями птиц и гри-
фонов; серьги серебряные трехбусиниые—4 пары и
мелкие фрагменты; фрагменты каймы колта; жемчуг
речной.
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК-2640,2641.
2339,3470,2638,3470,2764-2766,3315-3318.
Лиг.: Архив ИИМКРАН, ф. №1 (АК), 1893 г.,№66;
ОАКза 1893 г.: 41,42,112,113;Кондаков 1896:140,141,
рис.88,120; Корзухина 1954:116, №94,табл. XXV, 1,2,
XXVI, 1-9; Макарова 1986:139, №206, рис.21, №226,
рис. 38.
42. Киев. Клад, найденный в 1827 г. в ус Августи-
новича в медном котелке. Рис.69.
В состав клада входили: 23 квадрифолийные бляш-
ки от золотых рясен с бляшками с изображением птиц
и растительно-геометрическим орнаментом; колты зо-
лотые (пара) со вставным щитком и многолучевой кай-
мой, на лицевых щитках изображение птицы, на обо-
роте—растительно-геометрический орнамент; фраг-
менты второй пары колтов; дужки золотые от очелья
из гладкой и рубчатой проволоки; фрагменты тонкой
золотой цепочки; около 100 жемчужин.
Клад хранилеяв Харькове в музее им. Сковороды,
погиб во время войны.
Лит.: Архив Гос. Эрмитажа 1829 г. №22; Архив
ИИМКРАН ф.№1 (АК) 1885 г.,№2О,л.7,факир.; Анто-
нович 1895:38; Кондаков 1896:107,108, табл. X; Тол-
стой, Кондаков 1897:107, рис.153,154; Корзухина 1954:
116, №95; Макарова 1975:106,108, №39-40. табл. 5.1-2,
№59,табл. 10,2.
43. Киев. Клад, найденный в 1876 г. в ус. Ю. Чай-
ковского. Клад был сложен в серебряную чашу с ла-
тинской надписью «qui reGeis ventrem pauperis + esto
memor» и русским граффити XII в. и прикрыт другой
серебряной чашей.
В состав клада входили: колты золотые без вставно-
го щитка с гравированным черненым узором и кай-
мой из мелких шариков, припаянных к трубочкам; кол-
ты серебряные со вставными щитками и многолуче-
вой каймой с изображештем двух птиц на лицевой сто-
роне одной на обороте; браслеты серебряные витые с
фигурными щитками (2 экз.); серьга трехбусиниые се-
ребряные (11 экз.); «кольца» серебряпые (2 экз.); се-
ребряный и золотой лом.
Клад хранился в Харькове в музее им. Сковороды,
погиб во время войны. Сохранились только две чаши,
оставшиеся в Эрмитаже.
Лит.: ОАКза 1876 г.: XXXIX; Антонович: 1895:38;
Кондаков 1892:116,117; Толстой, Кондаков 1897:113-
115; Корзухина 1954:11 б, 117, №96, рис. 17; Макарова
1986:134,№121,122,рис.17.
44. Киев. Клад, найденный в 1889 г. в ус. У.Ф. Ра-
ковского по Рейтарской ул. Клад хранился в неболь-
шом медном сосуде (котелке?) с остроконечной
крышкой.
В состав клада входили: гривна монетная киевско-
го типа серебряная; гривна шейная серебряная витая;
браслет-наруч двухъярусный, в верхнем ярусе изоб-
ражениесиринов и пальметт, в нижнем—плетенка, на
кайме, разделяющей верхний и нижний ярусы—сти-
лизованная плетенка; браслеты серебряные витые
(2 экз.), у одного наконечники в виде весьма схематич-
ных драконьих голов, у второго—гладкие фигурные;
серьга трехбусиниые (3 экз.) от разных пар; перстни
низкопробного золотасподражанием куфическому на-
писанию слова «Аллах» на одном и узором из арабс-
ких букв на другом.
Местонахождение клада неизвестно.
Лиг.: Архив ИИМКф.№1 (АК) 1889 г.,фотогр.; Коп-
даков 1896:137,138, рис.85; Корзухина 1954:117, №97,
табл.ХХХУП.
45. Киев. Клад, найденный в 1885 г. в ус. Есикорс-
кого. Клад хранился в сероглиняном горшке с ручкой,
прикрытым другим глиняным сосудом—миской с
ручкой. Вещи были уложены па очески пакли, в горш-
ке также присутствовали фрагменты льняной материи
и куски от бронзового сосуда.
В состав клада входили: гривны монетные сереб-
ряные киевского типа малого веса (9 экз.); колты золо-
тые с перегородчатой эмалью, на лицевой стороне
изображения сиринов, на обороте—растительно-гео-
метрический орнамент; колты серебряные (пара) со
вставными щитками и лучевой каймой, на дужках со-
хранились обрывки цепочек от рясен; серьги трехбу-
сипные золотые (30 экз.—практически все от разных
пар) и одна электровая; серьги серебряные трехбусин-
ные с ажурными и тиснеными бусинами (целые и во
фрагментах 23 экз.); височные кольца золотые перст-
невидные сомкнутые (13 экз.); аналогичное электро-
вое кольцо; перстень золотой тонкопроволочный с
яхонтовой вставочкой светлорозового цвета; гривна
шейная серебряная витая трехдротовая с наконечника-
ми, оканчивающимися трубочками; браслеты витые
серебряные с наконечниками, украшенными чернью;
рясны серебряные—53 колодочки (две концевые, одна
из них приржавела к замку); оправа серебряная от че-
ренка ножа (в 4 фрагментах); замки железные трубча-
тые (2 экз.); перстни-печати серебряные со щитками,
украшенными чернью (7 экз., на одном изображение
льва, на остальных—крестики); пряслице шиферное с
граффити: на одной стороне—«твори не прямо», па
обороте—«сьнь» (возможно, в значении—по солн-
цу); волос остатки.
Часть клада храниласьвХарьковевмузее им. Ско-
вороды и погибла во время войны. Сохранилось
15 предметов, оставшихся в Эрмитаже (серебряный
колт, золотой колт с двумя сиринами, витой серебря-
308
ный брас ют, 3 трехбусинных и 2 перстневидных золо-
тых кольца)—кол. №635.
Лит.: Архив ИИМК РАН ф. №1 (АК) 1885 г., №33,
рис.фотогр.; ОАКза 1882—1888 г.: ХСШ, XCIV; Конда-
ков 1992:329,330; Кондаков 1896:124-132,рис.79-82.табл.
111-V; Корзухина 1954:118, №98; Макарова 1975:102,
№506,табл. 1,5-6; Макарова 1986:136,№166,167,рис.22;
Пекарська 1992:83-85.
46. Киев. Клад, найденный в 1889 г. в ус. подпору-
чика Гребновского по Троицкому пер.
В состав клада входили: гривны монетные сереб-
ряные киевского типа малого веса (7 или 9 экз.); моне-
ты — византийские солиды с припаянными ушками
(2 экз. 1081-1118 и 1118-1143 гг., Алексея и Иоанна Ком-
нинов); диадема золотая, состоящая из семи киотооб-
разных пластинок с эмалевыми изображениями Деи-
суса в рост (Христос, Предтеча, Богоматерь, арханге-
лы, апостолы Петр и Павел) и двумя трапециевидными
концевыми пластинками с изображениями женских го-
ловок; шейная гривна золотая из витого четырехгран-
ного дрота; шейная гривна серебряная витая; часть
ажурного ободка от серебряного колта; серьги трехбу-
синные серебряные фрагментированные; браслет зо-
лотой круглодротовый с сужающимися несомкнуты-
ми концами; браслет серебряный витой; перстень-пе-
чатка с гравированным изображением арх. Михаила
на черненом фоне; перстень золотой со вставкой из
черной яшмы; фрагмент серебряного перстня с изоб-
ражением Христа на щитке; рясны из серебряных ко-
лодочек (13 экз., целые и поломанные); парчи золотой
маленький фрагмент; кусочки янтаря (2 экз.).
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК-2653,2705-
2717,2720,2756-2763,2766.
Лиг.: Архив ИИМКРАН,ф.№1 (АК) 1889 г.,№15,
фототр.; ОАКза 1889:90,91,119, рис.31; Кондаков 1896:
138,139, рис.86,87, табл. VIII, IX; Толстой, Кондаков:
1897:123-127, рис.189-191; Корзухина 1954:119,№99;
Толочко 1963:145; Макарова 1975:108,№61,табл. 11,1-
2; Бочаров 1984:63.
47. Киев. Клад, найденный в неизвестное время
(до 1914 г.) при рытье ямыдля фундамента дома №14
по Стрелецкойул.
В состав клада входили: колты золотые (пара) со
вставными щитками и лучевой каймой; 42 колодочки
отзолотой рясны (из них две концевые—однасцепоч-
кой, вторая с колечком); серьги золотые трехбусинные
(две пары—у одной бусины покрыты зернью, у вто-
рой —ажурные); кольца перстневидные золотые не-
замкнутые (4 экз.); браслет серебряный витой с нако-
нечниками, украшенными чернью; гривны шейные се-
ребряные витые из трех дротов (2 экз.); перстень се-
ребряный с шестиугольным щитком, орнаментирован-
ным чернью.
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №ДМ
1916 (золотые вещи); Национальный музей истории Ук-
раины (гривны).
Лит.: Корзухина 1954:119, №100, табл. XXVIII; Ма-
карова 1975:107,№50-51,табл. 5,12-13.
48. Киев. Клад, найдеппыйв 1939 г. в Киеве наСтре-
лецкойул.
В состав клада входили: три медальона—2 круг-
лых серебряных с гравированным, украшенным чер-
нью изображением (на более крупном изображена Бо-
Приложения
гоматерь Знаменье, на медальоне поменьше—архан-
гел в рост), третий медальон овальной формы, позоло-
ченный, украшен в центре крупной овальной вставкой
из горного хрусталя, обрамленной крестообразно че-
тырьмя овальными вставками более мелкого размера;
браслет-наруч с черневым изображением птиц.
Киев. Националыплй музей истории Украины №ср-
369;№ср.-868.
Лит.: Корзухина 1954:119, №101, табл. XL, 1,2; Ры-
баков 1971:39, №42; Василенко 1977:270, рис. 111; Ма-
карова 1986:100-102,147,№270; 144,№234.
49. Киев. Клад, найденный в 1887 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря. Клад хранился в кубышке с
крышкой.
В состав клада входили: рясна из золотых круглых
бляшек с чередующимися изображениями птиц и рас-
тительно-геометрическим орнаментом; золотые кол-
ты (пара) с жемчужной обнизью и изображениями си-
ринов на лицевой стороне и геометрической компози-
цией на обороте; золотые дужки от очелья (22 экз., из
них две концевые с эмалевыми вставками); бусы золо-
тые, украшешше сканью (41 экз.); подвеска-сионец
золотая, украшенная сканью и жемчугом; колечки зо-
лотые штампованные (163 экз.); жемчуг мелкий, ссы-
павшийся с украшений.
С-Петербург. Гос. Русский музей, БК-2369, БК-2761,
БК-2768-2774.
Лиг.: Архив ИИМКРАНф.№1 (АК) 1885 г.,№59,
1887 г.№2,л.95.,фотогр.;ОАКза 1887 г.: CXCIX; Конда-
ков 1892:329,330; Кондаков 1896:134-136,табл. VI, VII;
Толстой, Кондаков 1897:122; Макарова 1975:102,табл.5-
6,1,1-2.
50. Киев. Клад, найденный в 1903 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря. Клад хранился в горшке с од-
ной ручкой.
В состав клада входили: гривны монетные сереб-
ряные киевского типа малого веса (2 экз.); колты се-
ребряные (пара) со вставными щитками, украшенны-
ми изображениями грифоновимноголучевой каймой;
колты серебряные без вставных щитков (пара) с изоб-
ражением животного с цветком во рту и каймой из
мелких шариков, обведенной ложнозерненой прово-
локой; колты звездчатые серебряные (пара) с лучами,
украшенными поставленной на ребро проволокой;
гривна шейная серебряная витая из трех пар дротов с
припаянными наконечниками (концы закручены в тру-
бочки); бусинные дужки от очелья (13 целыхи 1 фраг-
мент); ожерелье, состоявшее из нанизанных на пучок
нескручешшх нитей серебряного позолоченного ме-
дальона, украшенного чернеными изображением про-
цветшего креста, семи крестовидных полых подвесок,
украшенных бессистемно напаянной зернью, сереб-
ряного литого крестика, украшенного стеклянными
вставками, четырех больших овальных металлических
бусин; ожерелье, состоящее из семи серебряных ли-
лиевидных подвесок, серебряного круглого медальона
с гравированным изображением пальметты, двух кор-
сунчиков с серебряными наконечниками, десяти се-
ребряных бусин (две маленьких овальных с валиком по
центру и восемь реберчатых); ожерелье, состоящее из
двух серебряных лилиевидных подвесок и двух бусин;
две рясны, каждая из 48 тисненых серебряных колодо-
чек (с одной стороны рясны оканчиваются цепочка-
Приложения
ми, с другой—колечками); цепь (рясна) из 15 прямо-
угольных серебряных полых бляшек, украшенных гра-
вированным черненым геометрическим орнаментом
(бляшки соединены четырьмя жемчужными нитями,
па концевых бляшках—ушки, к одному из них при-
креплена цепочка); цепь (рясна) из круглых полых се-
ребряных зерненых бляшек, соединенных шарнирами,
на концевых бляшках—замочные колечки (17 целых
бляшек и несколько фр.); браслеты-наручи серебряные
одноярусные (2 экз.), один—украшенный изображе-
ниями животных, заключенными в квадратные клей-
ма, второй—тремя человеческими фигурамиитремя
фигурами фантастических животных, заключенными
в арочки; серебряный позолоченный браслет на шар-
нирах с концами, декорированными львиными голов-
ками; браслеты серебряные витые с наконечниками,
украшенными чернью (6 экз.); перстни серебряные
(10 экз.); кольцо серебряное литое; серьги серебряные
трехбусинные (16 целых и сломанные); серьги золотые
(пара); кольцо височное перстневидное сомкнутое
бронзовое; кольцо бронзовое замочное для подвеши-
вания колтов; бляшки нашивныетисненыекруглыесе-
ребряные позолоченные, украшенные перегородчатой
эмалью (16 экз.); бляшки серебряные нашивные двад-
цати четырех различных видов (ок. 200 экз.), ажурные
бляшки дополнительно декорированы вставкамисцвет-
ными стеклами (у некоторых бляшек сохранились ос-
татки тканной основы); пуговки золотые, пришитые к
ткани; пуговки бронзовые позолоченные (8 экз.), при-
шиты к ткани ворота; замок железный круглый; фраг-
менты позументов, а также шелковой, парчовой и хол-
щовойткани.
Москва. ГИМ №49876, оп.1091; Киев. Нацио-
нальный музей истории Украины, №ср. 867.
Лиг.: Архив ИИМКРАНф.№1 (АК), 1903 г.,№143,
фотогр., 1906 г., №142, лл. 1-2; ОАК за 1903 г.: 184-192,
208, табл. V, рис.342-385; Ханенко 1907:36,37, рис.39;
Гущин 1936:53; Рыбаков 1948: рис.59 (а, б.); Корзухина
1954:121,122,№103,табл.Хи,ХЬП.рис.134;Орлов 1976:
166-173; Василенко 1977:306, рис.131; Макарова 1986:
137, №174-175, рис.24; 142, №222, №225, рис.36,37,38.
51. Киев. Клад, найденный в 1906 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря. Клад хранился в горшке. Часть
вещей разошлась по рукам.
Уцелели следующие вещи: слиток золотой в виде
палочки; гривны монетные серебряные киевские ма-
лого веса (2 экз.); колт золотой(первоначальноих была,
вероятно, пара) с петлями для жемчужной обнизи и
эмалевыми изображениями птиц на лицевой стороне
и растительно-геометрической композиции на оборо-
те; колт золотой со вставным щитком, украшенным ра-
стительно-геометрической композицией и многолуче-
вой каймой; колты серебряные позолоченные со встав-
ными щитками, украшенными изображениями птиц
(на лицевойсторопе), геометрической композицией на
обороте и лучевой каймой; браслет серебряный витой
с фигурными наконечниками; серьга трехбусинная
золотая с ажурными бусинами, украшенными жем-
чужинами; серьга серебряная трехбусинная с бусина-
ми, сплошь покрытыми зернью, и фрагмент аналогич-
ной серьги; перстень золотой витой.
Москва. ГИМ. №49847/111. Арх. Ош. ОДМ 358,339,
Инв. №49877, on. 1092.
309
Лиг.: Архив ИИМКРАНф.№1 (АК), 1906,№142,
фотогр.; ОАК за 1906 г.: 124,147,рис.169-174; Ханенко
1907:38,39; Отчет ГИМ1926:11; Корзухина 1954:122,
№105; Макарова 1975:103,104, №18, табл. 3; Макарова
1986:137,№168,табл.23.
52. Киев. Клад, найденный в 1907 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря. Клад хранился в двух глиня-
ных горшках.
В одном горшке найдены монетные гривны киевс-
кого типа малого веса (53 экз.), гривны монетные нов-
городского типа (3 экз.); в другом низком горшке, при-
крытом донышком разбитого сосуда, были найдены
две парные трехбусинные серьги с ажурными прово-
лочными бусинами.
Москва. ГИМ.
Лиг.: Архив ИИМКРАНф.№1 (АК), 1907,№89,ОАК
за 1907 г.: 114,137;Корзухина 1954:123,№106.,табл. XLV,
13,14.
53. Киев. Клад, найденный в 1824 г. близ Михай-
ловского монастыря. Клад хранился в красноглиняном
сосуде с ручкой, накрытом крышкой, и был завернутв
кусок золототканной парчи.
В состав клада входили: потир серебряный с гре-
ческими надписями; тарель серебряная с изображе-
нием Богоматери в центре и русской литургической
надписью; медальоны золотые с эмалевыми изобра-
жениями Христа и д вух юных мучеников, оправа укра-
шена драгоценными камнями и S-вцдными сканными
завитками; колты золотые (пара) с петлями для жем-
чужной обнизи и эмалевыми изображениями на од-
ной стороне птицы, а на другой—грифона; серьги
трехбусинные (пара) серебряные с крупными зерне-
ными бусинами; корсуичик (два?) с золотыми нако-
нечниками, украшенными перегородчатой эмалью;
перстень (два?) с изображением кентавра на шести-
угольном щитке; сионцы золотые, украшенные жем-
чугом (25); дужки золотые от очелья (8 экз.) украшен-
ные драгоценными камнями в ажурных гнездах, на кон-
цах дужек — шарниры; бляшки нашивные ажурные
серебряные позолоченные (20 экз.); пластинка золотая
трапециевидная с растительным эмалевым орнамен-
том.
Клад разошелся по рукам, часть вещей вывезена
за границу (вг. Берлин, хранился в Королевском худо-
жественно-промышленном музее). Один колт хранит-
ся в Москве в ГИМе №53091/111, Арх. Отд. ОДМ 317-
318.
Лит.: Архив ИИМКАН ФР ф.№1,1885 г.,№59,лл.
223-234,1887 г.,№2,рис.Кондаков 1896:96-105, рис.52-
67; Толстой, Кондаков 1897:105-107; Корзухина 1954:
123, №107; Пекарська 1992:83-85.
54. Киев. Клад, найденный в 1906 г. па Трехсвяти-
тельской ул. напротив ворот гостиницы Михайловско-
го монастыря. Клад хранился в овальном металличес-
ком сосуде.
В состав клада входили: гривны монетные сереб-
ряные киевского типа (2 экз.); монеты золотые древне-
русские (3 экз.); рясны золотые (2 экз.), каждая из двад-
цати круглых бляшек с изображениями птиц и кринов;
колты золотые (пара) с петлями для жемчужной обни-
зи и эмалевыми изображениями птиц и растительно-
геометрических композиций; колты золотые (пара) с
эмалевыми изображениями птиц па одной стороне и
310
женских головок па обороте; колты золотые (пара) с
эмалевыми изображениями святых на одной стороне
и геометрической композиции па обороте; колт сереб-
ряный фрагментированный с остатками гравирован-
ного изображения, кайма из полых шариков, припаян-
ных к трубочкам; колты серебряные со вставными
щитками, украшенными гравированными изображе-
ниями фантастических животных и лучевой каймой
(три пары); браслет-наруч серебряпый, украшенный
изображениями фантастических жшзотных и распггель-
пых побегов; браслет серебряпый витой с наконечни-
ками, украшенными чернью; трехбусиниые серьги
(10 экз. с ажурными и тиснеными бусинами); перстни
серебряные с позолотой и чернью (около 20); корсун-
чик с серебряными наконечниками; колодочки от ря-
сен (около полуфунта); подвески (возможно, лилиевнд-
пые) (около 50); небольшая золотая брошка с цвета-
ми (?).
Клад разошелся по рукам, частично попал в кол-
лекцию Пирпонта Моргана и в Кенсингтонский музей.
Лиг.: Архив ИИМКРАНф. 1 (АК), 1906г.,№116:
Ханенко 1907:38; Корзухина 1954:124-125,№108,табл.
XLV
55. Киев. Клад, найденный в 1949 г. на ул. Жертв
Революции (б. Трехсвятительской), неподалеку от Кре-
щатика.
В состав клада входили: гривны монетные сереб-
ряные киевского типа малого веса (3 экз.); гривны мо-
нетные серебряные в виде трехграшпых палочек(3 экз.);
чаша низкопробного серебра плоская; колты золотые
(пара) с многолучевой каймой и вставными щитками
с изображением женской головки (на лицевой сторо-
не) и крина (на обороте), декорировапны жемчугом
(нити между лучами и вокруг щитка): бусы и под вески
от ожерелья позолоченные и электровые (17 бус и 15
целых и поломанных подвесок), бусы—реберчатые,
подвески —лилиевиедные.
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №ЦМ
1908,1908а.
Лит.:Самойловский 1952:120-125, рис.1-5; Корзу-
хина 1954:125,№109; Макарова 1975:105,№37-38,табл.
5,6-7.
56. Киев. Клад, найденный в 1841 г. при обрезе Ми-
хайловской (Александровской) горы над Александров-
ским спуском с Крещатика.
В состав клада входили: браслет золотой витой во-
круг проволочной основы, на концах—литыедрако-
ньи головки; браслет серебряный витой с фигурными
наконечниками, украшенными чернью; колт серебря-
ный с лучевой каймой и вставным щитком, украшен-
ным гравированным растительным орнаментом: серь-
ги трехбусиниые серебряные (2 пары, одна—с зер] ie-
ными бусинами, другая—с ажурными) у этих серег
необычная дужка с шарнирным креплением, как у кол-
тов; перстень с круглым щитком и камеей (?).
Москва. Оружейная палата.
Лит.: Архив ИИМКРАН. Р-1, Инв. №1920; Корзухи-
на 1954:125,126,№110; Макарова 1986:138,№190.
57. Киев. Клад, найденный в 1914 г. «в Старом го-
роде».
От клада сохранились две золотые трехбусшшые
серьги (стиснеными (?) бусинами, покрытыми зернью
и ажурными проволочными, украшенными зернью) и
Приложения
браслет серебряный, витой, украшенный наконечни-
ками в виде змеиных головок.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лит.: Корзухина 1954:126,№111.
58. Киев. Клад 1986 г., найденный при ремонтных
работах у подвала д. ЮпоКудрявскойул. на террито-
рии летош ichoto Копиривского конца. Клад был завер-
нугвткань.
В состав клада входили: золотое перстневидное
кольцо; серебряные трехбусиниые кольца—ажурные
сканные и проволочные каркасные с зернью (18 фр.);
золотой колт с эмалевым изображением птицы на ли-
цевой стороне и растительно-геометрической компо-
зицией на обороте; золотая рясна, состоящая из 14 ко-
лодочек; дужка от очелья (?) золотая; бусы золотые
(23 экз.) украшенные тиснеными полусферами, сканью
и жемчугом; ожерелье из 8 бронзовых бусин и семи
бронзовых подвесок в форме квадрифолия с позоло-
той и эмалью; браслеты-наручи серебряные (2 экз.) на
одном—изображение двухъярусное: в верхнем ярусе
—борьба воина со львом и две композиции с птицами
по бокам древа, в нижнем ярусе—растительный ор-
намент, на втором браслете—геом етрический зерне-
ный орнамент; 2 фрагмента перстневидного кольца;
пластинчатый браслет.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лит.: Павлова 1990:103-110; Мовчан, Боровский,
Гончар 2002:16-18.
58а. Киев. Клад 1950 г., найденный при проведе-
нии археологических работ на ул. Владимирской, под
полом сгоревшего жилища первой половины XIII в.
Клад хранился в небольшом горшке, накрытом берес-
той.
В состав клада входили: 2 пары золотых колтов со
вставными щитками, украшенными черневыми узо-
рами, вокруг вставок колты декорированы сканью и
жемчугом; золотые трехбусиниые серьги со сканью и
зернью; три серебряных браслета и два перстня с плос-
кими щитками. Серебряные вещи украшены раститель-
ным орнаментом, выполненным чернью.
Лит.: Мовчан, Боровский, Гончар2002:16-18.
586. Киев. Клад 1997 г., найденный вблизи фунда-
мента апсид Михайловского Златоверхого монастыря.
В состав клада входили: 23 серебряные монетные
гривны киевского типа; плетеный серебряный брас-
лет, концы которого украшены головками животных;
два золотых перстня; две золотые височные подвески и
9 звеньев золотого пластинчатого браслета.
Лит.: Мовчан, Боровский, Гончар2002:16-18.
58в. Киев. Клад 1997 г., найденный при раскопках в
строительном котловане на Владимирской улице. Веши
находились в горшке, который был накрыт миской на
трех ушковидных ножках.
В состав клада входили: два разнопарных серебря-
ных колта со вставными щитками и восемь трехбусин-
пых височных колец. Кольца сильно фрагментирова-
ны. у трех экземпляров сохранились бусины цилинд-
рической формы, сплошь покрытые зернью. Кольца
носят следы починки.
КиевгНашюпальный музей истории Украины.
Лит.: Мовчан, Боровский, Гончар 2002:16-18.
59. С. Старая Буда (Звенигородского у. Киевской
губ.). Клад 1908 г., найденный при вспашке поля в кера-
Приложения
311
мическом горшке. Несколько вещей было найдено не-
подалеку отдельно.
В состав клада входили: слитки серебряные вос-
точно-русского(татарского)тапаХ1У-ХУ вв. (2 экз.)—
возможно, не имеют отношения к кладу; колты сереб-
ряные (пара) без вставного щитка с обнизью из круп-
ных полых шариков нагорлышкахипримитивпымгра-
вировапны.м изображением крина; серебряные меда-
льоны (2 экз.) с гравированными изображениями Хри-
ста и Богоматери, возможно, часть разрозненного
Деисуса, а также 2 экз. с изображением процветшего
креста; браслеты-наручи серебряные, украшенные
гравированной плетенкой (2 экз.); браслеты серебря-
ные: один—из трех не перевитых дротов, другой—
витой, шарнирный, все браслеты с наконечниками,
украшешшми крупной зернью; серьги золотые трех-
бусинные (2 пары) с бусинами различной величины и
формы—средние крупные овальные, боковые мел-
кие и круглые, украшены редкой крупной зернью);
перстни серебряные витые (2 экз.); бусы серебряные
овальные ажурные, концы обмотаны проволокой.
Клад хранился в Харьковском музее им. Сковоро-
ды, основная часть вещей пропала во время войны. В
Харькове сохранились колты и створчатый браслет.
Лит.: Архив ИИМК РАН ф.№1 (АК), 1908 г.,№206,
фотогр.; ОАК за 1908 г.: 177,178 и 203, рис.236,237 (о
слитках не упоминается); Прибавление к ИАК в. 32 за
1909 г.: 73: Рыбаков 1948: рис.83; Корзухина 1954:126,
№112; Макарова 1986:136,№153-154,рис.18,102,рис.49,
145, №242-243, рис.40; Минжулин 1991:252-255.
60. Гор. КняжаГора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад, найденный в 1877 г. при раскопках Д.Я. Самоква-
сова. Клад лежал в черепках глиняного сосуда.
В состав клада входили: браслеты серебряные
(2 экз.), остальные вещи—трехбусинные золотые серь-
ги (5 экз.); трехбусинные серебряные серьги (8 экз.);
золотая цепочка—были нашгзаны па одном из брас-
летов.
Москва. ГИМ.
Лит.: Самоквасов 1908:263; Самоквасов 1916:36,
рис.5; Корзухина 1954:126,127,№113.
61. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад, найденный в 1877 г. при раскопках Д-Я. Самоква-
сова.
В состав клада входили: трехбусинные золотые
серьги (2 экз.); кольца (височные?) серебряные (3 экз.).
Москва. ГИМ.
Лит.: Самоквасов 1908:263; Самоквасов 1916:36,
рис.5; Корзухина 1954:127,№114.
62. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевскойгуб.).
Клад, найденный в 1891 г. при раскопках Н.Ф.Беляшев-
ского. Клад хранился в небольшом горшке.
В состав клада входили: гривны монетные сереб-
ряные киевского типа малого веса (5 экз.); колты се-
ребряные со вставными щитками, декорированными
гравированным изображением птицы и многолучевой
каймой (3 экз.); колт серебряный без вставного щитка
(дужка и кайма отсутствуют), на лицевой стороне гра-
вированное изображение птиц, сопоставленных голо-
вами. па обороте—расппельно-геометричсская ком-
позиция (круг, обрамленный трапециями), напомина-
ющая композиции на обороте некоторых золотых кол-
тов: колт серебряный с ажурной каймой, украшенный
гравированной полосой с сетчатым орнаментом; колт
серебряный с каймой из мелких литых шариков, укра-
шенный гравированной черненой плетенкой; серьги
трехбусинные серебряные (19 экз.—с тиснеными бу-
синами, украшеннымипроволочными розетками, тис-
неными зернеными, каркасными зернеными, тисне-
ными ажурными бусинами), золотое перстневидное
несомкнутое висо'июе кольцо.
Клад поступил в кол. В.В. Тарповского. В настоя-
щее время место хранения неизвестно.
Лиг.: Архив ИИМКРАНф.№1 (АК) 1891 г.,№108;
Корзухина 1954:127,№115. табл. XLVIII, 26-36; Макаро-
ва 1986:133, №120, рис.17.
63. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевской туб.).
Клад, пайденый в 1891 г. при раскопках Н.Ф. Беляшевс-
кого. Некоторые вещи носят следы пребывания в огне.
В состав клада входили: гривны шейные серебря-
ные витые из нескольких дротов, наконечники оканчи-
ваются трубочками (2 экз.); гривны шейные серебря-
ные крученые пластинчатые (2 экз.); медальоны золо-
тые (2 экз.) со вставными щитками, украшенными эма-
левыми изображениями Богоматери и Пред течи, во-
круг щитка расположена жемчужная обнизь, оправа
украшена драгоценными камнями и сканными завит-
ками, уплат в виде подквадратной бусины; колт золо-
той маленький без вставного щитка, украшенный эма-
левым изображением птицы; колт серебряный с мно-
голучевой каймой, щитки утрачены; колт серебряный;
серьги трехбусинные золотые (5 экз. с тиснеными бу-
синами, украшештыми проволочными колечками, а
также со вписанными в проволочные колечки тре-
угольниками зертш); браслет серебряный с фигурны-
ми наконечштками, украшенными черпыо; фрагмент
серебряной цепочки, составленной из круглых гладких
полусферических бляшек, соединенных шарнирами
(на среднем двойном шарнире подвешены на цепочке
две биконические бусины, типа характерных для укра-
шений волжских булгар); колодочки от двух рясен се-
ребряные (29 экз.. 11 из них позолоченные, четыре кон-
цевые с цепочками и кольцами); цепочка золотая из
мелких рубчатых колечек, сцепленная за концы коль-
цом, и фрагмент второй цепочки (13,5 см); перстни
золотые (2 экз., один с овальным гнездом для вставки,
второй с прямоугольным щитком); перепш золотые
витые (2 экз.); перстень серебряный с шестиугольным
щитком, украшешым гравированным крестом; лун-
ницы золотые узкорогие, украшешгые сканью (2 экз.);
бусинки золотые продолговатые реберчатые (2 экз.);
бусинка серебряная маленькая; крестик-корсупчик
каменный шестиугольный; сплавившиеся украшения
(бусины, трехбусинные серьги, витая проволока); эн-
колшюн бронзовый; бронзовая чашечка (от лампад-
ки?), декорированная гравировкой, позолотой и сереб-
рением: книжная застежка—«кинжальчик»; кольцо
бронзовое пластинчатое; фрагменты бропзового хо-
роса (7 розеток, свечник, звено цепи). По мнению
Г.Ф. Корзухиной, часть бронзовых вещей не имела от-
ношение к кладу.
Клад поступил в коллекцию В.В. Тарповского.
Лит.: Архив ИИМК РАН ф. 1 (АК), 1891 г.. №108,
лл.4-5; Каталогукраинских древностей коллекции В.В.
Тарновского 1898:7,11-17,20,22.25, табл. 1,21,11,114-
116,277,294,318,323,327-329,336,599,619,626; Ханенко
312
Приложения
1900:8, табл. XX. 239,240; Корзухина 1954:126, №117;
Макарова 1975.
64. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад, найденный в 1892 г. при раскопках Н.Ф. Беляшев-
ского. Клад был завернут в ткань.
В состав клада входили: колт серебряный со встав-
ным щитком, украшенным схематизированным изоб-
ражением грифона, и многолучевой каймой; пластин-
чатый серебряный браслет с сужающимися, заходя-
щими концами; колодочки серебряные от рясны
(21 экз.): серьги трехбусинные серебряные (8 экз.).
Клад поступил в коллекцию Тарновского. В насто-
ящее время место хранашя неизвестно.
Лиг.: Каталог. 1898:13-17; Корзухина 1954:129,№119,
табл.ХЫХ, 14-16; Макарова 1986:137,138,№186.
65. Гор. Кпяжа Гора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад, найденный в 1896 г. крестьянами-кладоискателя-
ми.
В составе клад а известны вещи, первоначально хра-
нившиеся в кол. Б.И. Ханенко: гривна монетная сереб-
ряная киевского типа; колт золотой маленький с эмале-
вым изображением птицы в геральдической позе (пав-
лина?) на лицевой стороне и птицы в профиль на обо-
роте; колты золотые (пара) со вставными щитками, де-
корированнылптрастительно-геометрическиля! компо-
зициями, и многолучевой каймой; рясна серебряная
из 37 колодочек, на концах—цепочки.
Киев. Музей исторических драгоценностей. №ДМ
1777.
Лиг.:Ханепко 1902:19,табл.ХХУ, 1091, XXVIII, 1000-
1002; Корзухина 1954:129, №120; Макарова 1975:104.
№25,табл. 3,8-9.
66. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевской губ.).
В1897 г.крестьянами-кладоискателямибыл найден клад
золотых и серебряных украшений.
В состав клада входили: колты золотые (пара) со
вставными щитками, украшенными эмалевыми изоб-
ражениями птицы па лицевой стороне и геометричес-
кой композицией на обороте: колт звездчатый сереб-
ряный, дужка украшена небольшими бусинами-утол-
щениями, в одном месте обмотана скапью, под дуж-
кой —полая «лунница», украшенная зерпепыми тре-
угольниками, в центре подвески—выпуклый щиток с
проволочными колечками, семь лучей (1 из них фраг-
ментирован) удлиненно-каплевидной формы украше-
ны полосками скани и шариками на концах; серьги
трехбусинные золотые (2 экз., одна с ажурными фи-
лигранными бусинами, украшенными зернью, вто-
рая —с тиснеными бусинами, декорированными про-
волочными колечками и зернью в месте стыка коле-
чек; браслет серебряный витой с фигурными щитка-
ми, украшенными чернью; энколпиоп бронзовый.
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №ДМ
1838,1839.
Лит.: Ханенко 1902:19,20. табл. XXVI, XXV11,
XXVIII; Ханенко 1899: табл. IV, 52,53. Корзухина 1954:
129, №121, табл. L1X, 1-8; Макарова 1975:106, №41-42,
табл. 5,8.
67. Гор. Кпяжа Гора (Каневского у. Киевской туб.).
Клад 1897 г.
В состав клада входили: гривна шейная серебряная
витая с пластинчатыми наконечниками, закрученны-
ми на концах в трубочки; серебряные трехбусшшые
дужки от очелья (8 экз.) стиснеными бусинами, укра-
шенными проволочными розетками, вписанными в
круг; колодочки серебряные позолочештые от рясны
(32 экз.); серьги серебряные половецкого типа (с бико-
нической бусиной); кольца височные серебряные с
расплющенным и отогнутым назад концом (7 экз.);
энколпион бронзовый, украшенный чернью; корсун-
чики каменные без наконечников (2 экз.); пластинки
стеклятшые в виде банта (2 экз.).
Клад поступил в коллекцию Б.И. Ханенко (?).
Лит.: Ханенко 1902:20. табл. XXI1-XXIV; Ханенко
1899: №8,10,88,89, табл. VII; Корзухина 1954:129,130,
№123,табл. L, 11-24.
68. Гор. Ютяжа Гора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад 1898 г.
В состав клада входили: цепь из трех нитей, состав-
ленных из серебряных круглых колечек; две золотые
трехбусинныесерьги (одна стиснеными гладкими, вто-
рая с бусинами в виде поясков, составленных их мел-
ких литых шариков); серьги серебряные трехбусшшые
(4 экз. с бусинами, украшенными проволочными ро-
зетками, вписанными в кружки); рясна из серебряных
колодочек; перстень серебряный с шестиугольным
щитком, украшенным гравированным крестиком; ро-
зетка тс скатшой проволоки (бусипа?); штамп бронзо-
вый с растительным орнаментом.
Поступил в коллекцию Б.И. Ханенко.
Лиг.: Ханенко 1902:20, табл. XV, XXV-XXVII; Кор-
зухина 1954:123, №123, табл. L, 1-9.
69. Гор. Княжа Гора (?) (Каневского района, Чер-
касской обл.). Случайная находка.
Колты серебряные позолоченные (пара) с плохо
сохранившейся обт тизью из тисненых полых шариков,
с тисненым, обведенном резцом схематичным изоб-
ражением двух птиц, сопоставленных возле опрокину-
того крина, изображение дано на черневом фоне (ка-
чество черни плохое).
Киев. Национальный музей истории Украины.
№ср-359,360.
Лит.: Бобриисктш 1887: табл. VI, 8; Макарова 1986:
134,№127-128,рис.19.
70. Гор. Девичья Гора ус. Сахновки (Каневского
района, Черкасской обл.). Клад 1900 г.,найденный в двух
горшках.
В состав клада входили: золотая диадема с эмале-
вым изображением сцены вознесения Александра Ма-
кедонского и растительными орнаментом; фрагмент
золотого слитка; монеты золотые византийские (одна
Мануила Комнина 1143-1180 гг., вторая утеряна); грив-
ны монетные серебряные киевского типа малого веса
(8 шт.); пара золотых рясен с квадрифольпыми бляш-
ками, украшенными изображениями птиц и раститель-
ным орнаментом; бармы золотые с четырьмя медаль-
онами, па вставных щитках которых перегородчатой
эмалью изображен Деисус (Христос, Богоматерь,
Предтеча и архангел, не хватает второго архангсла);пара
золотых колтов с эмалевыми изображениями сиринов;
гривны золотые шейные (3 шт.) —две из перекручен-
ного четырехгранного дрота, третья полая из спираль-
но скручетшой, расширяющейся к центру пластины;
дужки золотые от очелья (18 экз.); две рясны, состав-
ленные из золотых колодочек; ожерелье золотое, со-
стоящее из круглого центрального медальона, украшен-
Приложения
кого камнями, шести криновидных подвесок и девяти
реберчатых бус; серьги золотые киевского типа (12 шт.);
кольца височные золотые (4 экз.); серебряные малень-
кие колты с обнизью из круглых шариков на трубочках
и гравированными изображениями сопоставленных
птиц на черневом фоне; браслеты серебряные плете-
ные, наконечники украшены чернью (2 шт.); пластин-
ки листового золота (3 экз.); бусы круглые из граната,
янтаря и оникса; крестик маленький из перламутра;
жемчуг; обломки перламутра и разных бус; фрагмен-
ты парчи.
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК-2716,2756-
2758,2761; Киев. Музей Исторических драгоценностей,
ледм 1775.№ДМ 1777,1795,1778,1776, №ДМ 1779.
Лит.; Фотоархив ИИМКРАН Q463/45-50; Ханенко
1902:21,22, табл. XXI, XXIX-XXU1; Корзухина 1954:
130-131,№126; Макарова 1975:103,№12-13,табл. 2,5-6;
Макарова 1986:134,№125-126, рис.19.
71. С. Сахновка (Каневского у. Киевской губ.). Слу-
чайная находка.
Колты серебряные (пара) без вставных щитков с
обнизью из мелких литых шариков, обрамленных опра-
вой из рубчатой проволоки, па черневом фоне дано
гравированное изображение двух грифонов, сопостав-
ленных около плетенки.
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Ханенко 1907: табл. XXVIII; Макарова 1986:
133,№108,109.
72. М. Мартыновна (Каневского у. Киевской туб.).
Клад 1886 г., хранившийся в глиняном горшке.
В состав клада входили: колты серебряные (пара)
без вставных щитков с гравированным изображением
на черненом фоне хищной птицы с хвостом, переходя-
щим в узел плетенки и каймой из серебряных тисне-
ных шариков на горлышках; фрагменты серебряной
витой гривны, выполненной из трех парсдвоепных дро-
тов, наконечники окачиваются трубочками; рясны се-
ребряные с коническим верхом (2 экз.); дужки согну-
тые серебряные трехбусиниые от очелья (7 экз.); 58 се-
ребряных колодочек от рясен (две разные низки), сре-
ди них есть две концевые пластинки с колечками, от-
дельное замочноеколечкои фрагменты цепочкисколь-
цом; бляшки нашивные золотые и серебряные (20 экз.
семи разных форм); зеркало круглое серебряное с
остатками ушка; шпоры железные (пара) с серебря-
ной насечкой.
Клад поступил в собрание А. А. Бобринского.
Лит.: Бобринский 1887:150-152, табл. XVH1-XX;
Кондаков 1896:132,133; Толстой, Кондаков 1897:121,
122,рис.177;ЗРАО 1899:272; Гущин 1936:36-38,рис.6и
8; Корзухина 1954:132,№129.
73. С. Городище (Деражнянского района Хмель-
ницкой обл.). Клад 1970 г., найденный на детинце горо-
дища в результате работ археологической экспедиции
подруководством С.М. Бибикова.
В состав клада входили: серебряная кованая шей-
ная гривна, выполненная из перекрученного дрота, за-
мок в две петли; браслет-наруч серебряный с чернью,
выполненный в технике ручной выколотки с гравиро-
ванными изображениями женщин, зверей и птиц, рас-
тительных побегов, заключенных в арочки; браслет-
наруч серебряный позолоченный, выполненный в тех-
нике ручной выколотки, украшенный изображениями
313
птиц и растительных побегов, заключенными в прямо-
угольные клейма; серебряный крученый браслет, из-
готовленный из одного дрота, наконечники раскованы
и украшены гравированной растительной композици-
ей, покрытой чернью; колты серебряные (пара) с рас-
тительным орнаментом, декорированным чернью и
обнизью из 14 тисненых шариков, нанизанных на про-
волоку, шарниры колтов бронзовые, надужках сохра-
нились остатки толстых ниток с маленькими кольцами
цепочек, к которым крепились колодочки серебряных
рясен; аналогичные колты более маленького размера,
на лицевой стороне изображение фантастических птиц,
на оборотной—растительно-геометрический орна-
мент, 122 тисненые колодочки от рясен, на конце остат-
ки полуистлевших ниток; позолоченныетрехбусинные
сережки с гладкими тиснеными бусинами; кольца трех-
бусинные серебряные с ажурными проволочными и
ажурными тиснеными бусинами (18 экз., из них пять
поломанные); рясны серебряные сионцеобразные
(пара), украшенные треугольниками зерни с семью
подвесками-цепочками; медальон-змеевик серебря-
ный позолоченный литой; медальоны золотые с эма-
левыми изображениями святых (3 экз.); медальоны се-
ребряные с гравировашп>1ми изображениями (чернь
по гравировке) (2 экз. с изображениями растительных
побегов и два—с изображениями птиц); ожерелье из
пяти позолоченных прорезных и 13 каменных ромбо-
видных буешц кольцо позолоченное дротовое; перст-
ни-печатки золотые и серебряные со знаками Рюрико-
вичей (6 экз.); серебряные позолоченные тисненые
скобочки от очелья (16 экз.) с шарниром на одном
конце.
Хмельницкий. Областной краеведческий музей.
Инв. №3377,3378,3394,3415,3422.
Лит.: В. 1. Якубовский.1975:87-104, Брайчевская
1988:185-192.
74. С. Ключники (Каневского у. Киевской губ.).
Клад 1887 г.
В состав клада входили: колодочки серебряные от
рясны (2 экз.), соединенные цепочкой, к одной припа-
яно проволочное замочное кольцо; серебряные позо-
лоченные трехбусиниые дужки (2 экз.); гривна сереб-
ряная пластинчатая крученая.
Музей КиевскогоУниверсигега.
Лит.: ЗРАО1899:272; Корзухина 1954:№131,табл.
UV,6,7.
75. Близ г. Обухов (Киевской туб.) в 1905 г.во вре-
мя раскопок В. В. Хвойко был найден клад.
В состав клада входили: колты серебряные (пара)
со вставными щитками (в настоящее время щитки с
изображениями не сохранились) и многолучевой кай-
мой; гривны шейные серебряные витые (2 экз.); брас-
лет серебряный витой с остатками сканной перевита и
фигурными наконечниками, украшенными гравиров-
кой
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Корзухина 1954:133,№135,табл. LV, 1-3.
76. № Мирополь (Житомирской обл. УССР). Клад
1938 г.
В состав клад а входили: гривна монетная серебря-
ная киевского типа малого веса; пластины толстые ко-
ваные серебряные (2 экз.); колты золотые (пара) без
вставных щитков с петлями для жемчужной обнизи. На
314
Приложения
лицевой стороне—два сирина в треугольных голов-
ных уборах по сторонам крина, на обороте—расти-
тельно-геометрическая композиция; фрагмёшы сереб-
ряной рясны с коническим верхом (верхняя часть под-
вески декорирована треугольниками зерни, на цепоч-
ках—круглые бляшки, оканчиваются цепочки лунни-
цами).
Киев. Национальный музей истории Украины, Му-
зей исторических драгоценностей №з.9О7,909.
Лит.: Корзухина 1954:134,№137,табл.ЕУП,1-4; Ма-
карова 1975:103, №9-10, табл. 2,1-2.; Жилина 1994:182-
187.
77. С. Каменный Брод (Радомышльский повет, Ки-
евская губ.), клад 1903 г.
В состав клада входили: диадема в виде узкой вы-
гнутой пластины, украшенной драгоценными камня-
ми и сканью, в нижней части—петельки для крепле-
ния бахромы; гривна монетная серебряная киевского
типа малого веса; слитки серебряные в виде палочек;
гривна или бармы с эмалевым изображением пояс-
ных фигур, составляющих Деисус (Христос, Богома-
терь, Предтеча, Петр, Павел, дваархангела, Борис, Глеб);
гривна золотая плетеная, полая внутри; пара звездча-
тых серебряных колтов; чаша серебряная; образок ма-
стичный разбитый двусторонний с изображением не-
известной мученицы и пророка Аггея.
Клад хранился в Харькове, в музее им. Сковороды,
и пропал во время войны.
Лиг.: Архив ИИМК РАН ф.№1 (АК) 1903 г.№231;
ОАКза 1903 г.: 192-197,208, табл. VI-VII, рис.347; ИАК
1904:40; Хапенко 1907:35,36; Гущин 1936:59-62, табл.
IX, рис.16-19; Корзухина 1954:134-135, №138;Толочко
1963:147-148; Макарова 1975:.
78. С. Городище (Шепетовского р-на Хмельницкой
обл.)—древний город Изяславль. Раскопки М.К. Кар-
гера. На городище было обнаружено 469 серебряных
ювелирных изделия, наибольшее количество которых
происходит из 16 комплексов (кладов?) и 1 фрагмент
золотого щитка, предположительно от колта с гравиро-
ванным геометрическим орнаментом. В 8 кладах со-
держались только перстневидные височные кольца.
Практически все клады (крометрех)происходятиз слоя
пожарища и залегали на глубине 0,4-0,6 м. Только один
клад, состоявший из перстневидных колец, был найден
на детинце, остальные—на посаде.
Клад 1.1957 г. Детинец. Перстневидные височные
кольца (8 экз.).
Клад11.1957 г. Найден неподалеку отрва.
В состав клада входили: колты серебряные (пара)
без вставных щитков с ажурной каймой, с тисненым,
подправленным гравировкой изображением сопостав-
ленных птиц; серьги серебряные трехбусинные (пара)
с тиснеными ажурными бусинами, украшенными
крупной зернью и колечками скани, расположенными
вокруг отверстий; перстни серебряные витые (пара);
перстень серебряный с полым шестигранным щитком,
украшенным гравированным профильным изображе-
нием птицы; подвески овальные из горного хрусталя в
ажурной петельчатой серебряной оправе (3 экз.) (так
как одна из подвесок была нанизана на проволочное
серебряное кольцо с замочком, как у трехбусинных
серег, можно предположить ее использование не толь-
ко как медальона, но и как серьги); кольца дротовые
полутораоборотные с од ним концом раскованным и
загнутым в трубочку (11 экз.).
КладШ. 1957 г. В 4-5 мот предыдущего клада было
найдено 13 серебряных перстнеобразных височных ко-
лец (возможно, это часть третьего или восьмого клада,
также найденного неподалеку).
Клад IV. 1957 г. Примерно в 15 м от третьего клада
было найдено 15 перстневидных височных колец.
КладУ. 1958 г. Найден неподалеку от башни горо-
дища.
В состав клада входили: колт серебряный без
вставного щитка с ажурной каймой и весьма схема-
тичным тисненым, обведенным резцом изображени-
ем птицы в профиль с повернутой назад головой на
одной стороне и двух птиц у крина на другой, данным
па черненом фоне; колодочки серебряные от двух
рясен (32 срединные, четыре треугольные концевые,
украшенные скашгыми петельками, две из них с за-
мочными кольцами); серьги трехбусинные серебря-
ные (2 экз. непарные) одна с тиснеными бусинами с
маленькими отверстиями в центре сканных колечек,
вторая—с проволочными розетками в центре про-
волочных колец.
Клад VI. 1959 г., неподалеку от проездной башни
посада.
В состав клада входили: колты серебряные без
вставных щитков с каймой из крупных полых шариков,
дужки не сохранились, на щитках тисненые схематич-
ные изображения двух птиц, сопоставленных возле
опрокинутого крина, изображения обведены резцом
и даны на черневом фоне; серьга трехбусинные се-
ребряные с тиснеными бусинами, украшенными скан-
ными розетками, вписанными в круг («лепестки» про-
резные ажурные, в центре розеток—крупная зернь)
(1 целая и 2 фрагмента); перстневидные полутораобо-
ротные (5 экз.), замкнутые (2 экз.), загнутоконечные
(6 экз.), обломки (3 экз.).
Клад УП. 1959 г., найденный в южной части посада.
В состав клада входили: колты серебряные без
вставных щитков (пара, один сильно помятый, дужки у
обоих экз. утрачены), кайма ажурная проволочная, об-
веденная рубчатой проволокой, на черневом фоне дано
гравированное схематичное изображение птиц с по-
вернутой назад головой; перстневидные височные коль-
ца (2 экз., одно серебряное и одно бронзовое).
Клад УТЛ. 1959 г., найденный неподалеку от комп-
лексов II, 111,1V.
В состав клада входили: колт серебряный без встав-
ного щитка с ажурной проволочной каймой, обведен-
ной гладким дротом и практически стершемся грави-
рованным изображением на черненом фоне; сережка
трехбусшшая с двумя тиснеными ажурными бусина-
ми, украшенными зернью и сканью (третья бусина
утрачена, с серьгой соединена дужка от колта); крести-
ки янтарные, украшенные циркульным орнаментом
(4 экз.); перстень серебряный пластинчатый с полым
щитком, украшешгым гравированным орнаментом;
щиток от перстня—оправа для камня; каплевидная
вставка из зеленого камня в серебряной оправе; ка-
мень от подвески каплевидной формы; пуговка позо-
лоченная (?); кольца височные серебряные полутора-
обороттпяезап1утокопечные(4 экз.); возможно, к это-
му же кладу относятся позолоченная нашивная бляш-
Приложения
ка; фрагмент серебряного перстня; фрагменты золо-
тотканой парчи.
Клад IX. 1959 г. Найден в центре посада, на той же
площади, гдебылинайдепыклады II, III, IV, VIII.
В состав клада входили: гривна шейная серебряная
витая из трех пар дротов, пласпшчатыс концы оформ-
лены в дветрубочки; колты серебряные (пара) без встав-
ных щитков, дужки не сохрашшись, с обнизью из 13
полых шариков, нанизанных на проволоку и располо-
женных в углублении между пластинами колта: колты
серебряные маленькие без вставного щитка с ажур-
ной проволочной каймой, с гравированным изобра-
жением плетенки на черненом фоне; перстень сереб-
ряный с донцем щитка; бусы 59 стеклянные и 1 янтар-
ная продолговатая неправильной формы; обломки
свинцовых печатей с изображением святого воина и
святого воина и архангела (Михаила или Гавриила) (2
шт.); дрогочинская пломба (?) плохой сохранности;
крестик янтарный, аналогичный крестику из VIII кла-
да; кольца серебряные перстневидные полутораобо-
ротные загнутоконечпые (4 экз.); сережка трехбусип-
ная серебряная стиснеными бусинами (сохранилась
одна бусина и обломок); пуговица бронзовая круглая
с ушком; бусина серебряная тисненая ребрнсто-про-
долговатой формы; фрагмент стеклянного перстня;
фрагмент бронзового предмета.
КладХ. 1960 г. Найден на юго-западной линии кле-
тей посада. Состоит из серебряных и бронзовых посе-
ребренных перстневидных височных колец (10 целых и
4 фрагмента).
Клад XI. 1961 г. Найден в западной части посада,
неподалеку от печи в жилище.
В состав клада входили: серьга трехбусинная; се-
ребряные перстневидные височные кольца (25 экз.).
КладХП. 1961 г. Найден в жилище, расположенном
в центре посада.
В состав клада входили: колты серебряные (пара)
без вставных щитков с ажурной проволочной каймой,
па черненом фоне д ано изображение двух птиц, сопо-
ставленных около крина, линии гравировки прорабо-
таны чернью; серьгисеребряныетрехбусинные (пара)
с тиснеными бусинами, украшенными сканными про-
волочными четырехлепестковыми розетками, обрам-
ленными сканными кружками, в центре «лепестков»
—отверстия; браслет серебряный плетеный с гладки-
ми раскованными концами, украшенными сильно за-
тертым гравированным изображением звериной го-
ловки; кольца височные серебряные перстневидные
полутораоборотные загнутоконечные; обломок желез-
ного ключа.
КладХП!. 1961 г.Наиденнапосаде.Состоялизпер-
сгневидных височных колец (21 экз.).
Клад XIV. 1961 г. Найден на посаде. Состоял из связ-
ки перстневидных височных колец (9 экз. серебряных и
2 экз. бронзовых).
KnaaXV. 1961 г.Найдеппа посаде. Состоялизпер-
стневцдных височных колец(1 экз. серебряное и 5 экз.
бронзовых).
Клад XVI. 1962 г. Найден на посаде. Какие ювелир-
ные украшения в него входили, непонятно. Известно,
что в его составе была каменная иконка с изображени-
ем св. Илии и бронзовый энколпион с эмалевым гео-
метрическим изображением (аналогичный кресту из
315
Звенигорода Галицкого), крест в Эрмитаж не поступал.
Крометого. в Изяславской коллекции хранятся два
депаспоргизованных серебряных колта с ажурной кай-
мой, а также 2 бронзовые матрицы для тиснения кол-
тов с изображением фантастического зверя (одна мат-
рица неоднократно использовалась, вторая недод елан-
ная).
С.-Петербург. ГЭ. ЭРА-34.
Лиг.: Миролюбов 1983:16-19; Макарова 1986:135,
№135-136, рис.20,138-139, №192-203, рис.21; Пескова
1988:16-35.
79. Городишеуд.В1пцин (Рогачевскийр-н Гомель-
ской обл.)—Вишинский замок. Клад 1979 г., найден-
ный при раскопках, проводившихся экспедицией Бел-
госуниверситета.
В состав клада входили: два позолоченных колта
без вставного щитка, украшенные эмалевыми изобра-
жениями птиц; серебряный звездчатый колт с шестью
лучами; колт серебряный со вставным щитком и мно-
голучевой каймой, украшенный изображениями птиц;
пара серебряных колоколовидных рясен; серебряный
браслет витой изтрехдротов с фигурными наконечни-
ками; серебряный позолоченный браслет-наруч с
изображением птиц и орнаментом, обведеш!ыми ар-
ками; серебряные кршювидные подвески (4 экз.); бу-
сины серебряные позолоченные (3 экз.); цепочки се-
ребряные (2 экз.); гривны серебряные (3 экз. новгород-
скоготина,9 экз. литовского типа, 6 экз. киевского типа).
Лиг.: Загорульский 1983:89, рнс.21.
80. С.Вербов (Бережанскогор-па Львовской обл.) в
20-х гг.ХХв. вовремя пахоты крестьянином Ф. Гевко
был найден клад, хранившийся в керамическом горшке.
В состав клада входили: серебряный колт без встав-
ного щитка с тисненым геометрическим орнаментом
и псевдозернью, кайма из тисненых выступов; дужки
от очелья серебряные трехбусинные с ажурными бу-
синами (8 экз., скреплены проволочками в две группы
по 4 экз.); цепь серебряная из пластинчатых рубчатых
звеньев; колодочки серебряные от рясен (40 экз., из шк
три соединены с треугольными тиснеными ажурны-
ми концевыми пластинками с колечками па концах).
Клад хранился в Львовском историческом музее,
откуда пропал во время войны.
Лит.: Корзухина 1954:136,№143,табл. LIX.
81. С. Залесье (Каменецкого у. Подольской губ.,
на границе с Бессарабией). Клад, найденный до 1842 г.
В состав клад а входили: колт серебряный без встав-
ного щитка, обнизь из крупных тисненых шариков (?)
отсутствует, украшен гравированным черненым изоб-
ражением сирина в треугольном головном уборе; кол-
ты серебряные (пара?) с гравированными изображени-
ями грифонов на одной стороне и сопоставленных жи-
вотных на другой; перстень серебряный, украшенный
гравированным черненым крестиком; фрагмент сереб-
ряного витого перстня; подвеска серебряная тисненая
лилиевидная; бусы серебряные овальные ажурные.
Место хранения клада неизвестно.
Лит.: Спицын 1915:242,246, рис.45.46; Рыбаков
1848: рис.83, д.; Корзухина 1954:136. №144; Макарова
1986:135,№144,рис.18.
82. Переяслав (Полтавской губ.). Клад 1884 г., со-
стоявший перво! тчально из 40 предметов, часть из них
утрачена.
316
Сохранились следующие украшения: колт сереб-
ряный со вставным щитком, украшенным гравирован-
ным геометрическим орнаментом и многолучевой
каймой из 1 б лучей; серьги золотые трехбусиниые с
тиснеными бусинами, покрытыми плотными рядами
мелкой зерни (2 экз.); серьги серебряные трехбусин-
ные целые и фрагментированные, с тиснеными, кар-
касными и ажурными бусинами (23 экз.); кольца ви-
сочные золотые перстнеобразные сомкнутые, соеди-
нены друге другом (3 экз.); цепочка серебряная из тис-
неных рубчатых звеньев (в 6 фрагментах); фрагмент
синестеклянного браслета.
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК 2670-2694,
2745.
Лит.: Архив ИИМКРАН ф.№1 (АК), 1985 г.,№20,
рис.;ОАКза 1885 г.: XC1V; Кондаков 1896:133,134,табл.
XII; Корзухина 1954:137, №146, табл. LV11,6; Макарова
1986:138,№189, рис.22.
83. Чернигов. Клад 1887 г.
В состав клада входили: колты золотые с изображе-
ниями святых на лицевой стороне и растительно-гео-
метрической композицией на обороте (пара); золотые
колодочки отрясны(30 экз.); створка серебряного брас-
лета-наруча с гравированным изображением грифо-
на; 4 фрагмента серебряной цепи; шиферные прясли-
ца (8 экз.,одностамгой).
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1021/1 -11.
Лит.: Архив ИИМКРАН ф.№1(АК), 1887 г.,№11;
ОАКза 1887 г.: CXCIX; Кондаков 1892:334; Кондаков
1896:131, табл. XI; Толстой, Кондаков 1897:118; Само-
квасов 1908:266,267; Корзухина 1954:137,138,№147;
Макарова 1975:105, №31-32, табл. 4,3-4; Макарова 1986:
143. №228, рис.36.
84. Чернигов. Клад 1890 г.
В состав клада входили: колт золотой со вставными
щитками (лицевой с эмалевым изображением птички,
оборотный—крина), обведенными жемчужный об-
низью и многолучевой каймой; аналогичный колт со
щитками, украшенными растительно-геометрически-
ми композициями, вокруг щитков—жемчужная искан-
ная обнизи; медальон серебряный с гравированным
изображением процветшего креста; браслет серебря-
ный ложиовитой; браслет серебряный витой; перстень
серебряный поломанный.
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Кондаков 1892:330; Кондаков 1896:108,109,
рис.74,74; Корзухина 1954:137, №147; Макарова 1975:
106,№47,табл.5.9.
85. Чернигов. Клад 1923 г., найденный при раскоп-
ках Н.Е. Макаренко в стене апсиды Спасского собора.
В состав клад а входили: гривна монетная серебря-
ная киевская малого веса; колты серебряные без встав-
ных щитков с гравированным изображением живот-
ных на черненом фоне и с обнизью из крупных тисне-
ных шариков на горлышках; браслеты (пара) серебря-
ные позолоченные шарнирные с львиными мордами
на концах; рясна из серебряных колодочек с колечком
на одном конце и цепочкой на другом; серьги сереб-
ряные трехбусиниые (2 экз.).
Место хранения неизвестно.
Лит.: Макаренко 1929:26,72-76,табл. XIX, 52, XX,
53,54,XXI, 55,56; Корзухина 1954:138,№150; Макарова
1986:135,№147,148,рис.18.
Приложения
86. Чернигов. Клад 1957 г., найденный при раскоп-
ках Борисоглебского собора.
В состав клад а входили: два серебряных витых брас-
лета, продетые в золотой перстень-печатку с изобра-
жением человеческой фигурки и поставленные под
углом друг, к другу; в образовавшемся пространстве
лежали кучкой осгальныеукрашения, обмотанные че-
тырьмя золотыми цепочками—золотой звездчатый
колт с шестью округлыми лучами, украшенными зер-
нью; витой золотой перстень; золотые трехбусиниые
кольца—3 экз. ажурных проволочных, дополнитель-
но украшенных жемчужинами на нитях и 7 экз. с тис-
неными бусинами (из них 3 украшены проволочными
розетками и 4—крупной зернью).
Лиг.’.Холосгенко 1962:235-238,рис.1-5.
87. Д. Льгов (Черниговской губ.). Клад, найден-
ный в 1879 г. в керамическом горшке.
В состав клада входили: колты серебряные без
вставных щитков, украшенные гравированным изоб-
ражением птицы с хвостом в виде плетенки, располо-
женным на черненом фоне, и каймой из крупных по-
лых шариков на горлышках; выпрямленные бусинные
дужки от очелья (10 экз.); колодочки серебряные от
рясен (50 экз.).
Клад хранился вХарьковев музее им. Сковороды и
погиб во время войны.
Лит.: Архив ИИМК РАН ф. №1 (АК), 1879 г. №8,
1885 г.№59;Толстой, Кондаков 1897:115-116, рис.174-
176;Гушин 1936:66, табл. ХП; Корзухина 1954:138,№151;
Макарова 1986:135, №142,143, рис. 19.
88. Любеч (Репкинского р-на Черниговской обл.).
Клады из раскопок БА. Рыбакова 1960 г. Первый клад
был спрятан внишесгены жилища №2. Вещи, по-види-
мому, были завернуты в материю, от которой сохрани-
лись нити и большое количество мелкого жемчуга. Вто-
рой клад был найден в углу жилища №23.
В состав первого клада входили: браслет серебря-
ный витой с миндалевидными наконечниками, укра-
шенными гравировкой; браслет-наруч серебряный
шаршфный двухъярусный ажурный псевдосканный;
браслет-наруч серебряпый двустворчатый одноярус-
ный с растительным орнаментом, заключешгым в 4
прямоугольные клейма; браслет-наруч серебряпый
двустворчатый одноярусный с гравировазшыми изоб-
ражениями птиц, заключенными в клейма; кольцо ви-
сочное серебряное трехбусинное с ажурными скан-
ными бусинами; перстень серебряный витой (3 * 2);
бляшки нашивные серебряные позолоченные круглые
тисненые (6 экз.) с эмалевыми изображениями кринов;
бляшки нашивные серебряные (1 — звездчатая, 5 —
розетчатые, 4—трапециевидные); бусипа золотая с
напаянными решетчатыми ячейками в центре; бусина
хрустальная шарообразная.
В состав второго клада входили: браслет серебря-
ный пластинчатый загнутоконечный, закрученный в
два оборота с прочеканенным пссвдозерпеным орна-
ментом; браслет серебряный пластинчатый
S-конечный, закрученный едва с половиной оборота с
прочеканенным псевдозерненым орнаментом; брас-
лет серебряный шарнирныйсмаскамипа концах,укра-
шенный гравированным орнаментом; браслеты сереб-
ряные витыё с миндалевидными наконечниками, ук-
рашенными чернью по гравировке (2 экз.); аналогии-
317
Приложения
ный браслет—щитки не сохранились; кольцо височ-
ное серебряное трехбусинное с ажурными сканными
бусинами; кольцо височное серебряное перстпеобраз-
ное с обратным поворотом; перстни серебряные ви-
тые (2 экз. 3 * 4 и 2 х 2); перстень серебряный овально-
щитковый, украшенный чернью по гравировке.
Москва. ГИМ. Инв. №100891, оп. 2027.
Лит.: Русанова И.П. Отчет о раскопках Любеча в
1960 г. //Архив ИА РАН. Р-1,№2787; Рыбаков 1964; Ва-
силенко 1977:260; Макарова 1974:161; Макарова 1975:
51,табл. 13,11-15; Макарова 1986:85; Недошивина 1999:
190-197.
89. Любеч (Репкипского р-на Черниговской обл.).
Раскопки Б.А. Рыбакова 1960 г.
Колт серебряный с каймой из полых шариков, изоб-
ражение в центре утрачено.
Москва, ГИМ., №100891, оп. 2027, №37.
Лиг.: Рыбаков 1960:27-34; Рыбаков 1964:21-23; Ры-
баков 1965:33-38; Макарова 1986:134,№130-131,рис.19.
90. Урочище Святое Озеро близ д. Новая Буда и
Низовка (на границе Сосницкого и Черниговского у.).
При вспашке поляв 1908 г. был обнаружен клад, хра-
нившийся в керамическом горшке, накрытом желез-
ной «сковородой».
В состав клада входили: колты серебряные боль-
шие(пара)без вставных щигковс гравированным изоб-
ражением двух грифонов, сопоставленных около пле-
тенки, кайма из крупных полых тисненых шариков, в
замочную петельку продето полутораоборотное коль-
цо; колты серебряные (пара) без вставных щитков с
гравированными изображениями (на обеих сторонах)
на черненом фоне фантастического зверя, соединен-
ным с плетенкой, оканчивающейся растительными
побегами, кайма из мелких литых шариков, припаян-
ных к проволочным колечкам, кайма окружена рубча-
той проволокой; серьги трехбусинные серебряные
(15 экз.); две серебряные рясны по 35 колодочек в каж-
дой. кошевые колодочки оканчиваются 4 петлями и 2
цепочками: две рясны с более крупными колодочка-
ми (по 25 колодочек в каждой), концы оформлены ана-
логично; браслет серебряный витой из четырех дротов
со сканной перевитые, щитки украшены чернью; брас-
леты серебряные пластинчатые утонченноконечные
несомкнутые (2 экз.); перстень серебряный с полым
выступающим щитком, украшенным вставкой; пер-
стень серебряный с шестигранным щитком с гравиро-
ванным узором на черненом фоне: перстень серебря-
ный с гравированным знаком па щитке.
Москва,ГИМ,№46043,оп. 1118.
Лит.: Отчет РИМ 1911:7 табл. И: Самоквасов 1916:
33-40, рис. 1 -4,6-13; Рыбаков 1940:237, рис.24,79; Рыба-
ков 1948: рис.80,83; Корзухина 1954:138, №152; Мака-
рова 1986:133,№112-113,рис.17,134.№132-133,рис.18;
Недошивина 1999:182-186.
91. Д.Лсски(Орловскойгуб.). Клад 1853 ^хранив-
шийся в глиняном горшке.
В состав клада входили: слиток серебряный про-
долговатый; гривны шейные витые (9 экз., одна из них
пластинчатая), концы закручены в трубочки; колты
звездчатые серебряные с лучами, покрытыми зернью,
на концах—пирамидки зерни (пара); цепочка сереб-
ряная плетеная из тонкой проволоки четырехгранная
(длина 104 см), на концах стилизованные драконьи го-
ловки, держащие во ртах кольцо, к кольцу прикрепле-
ны звездчатые колты; корсунчики (4 экз.); бубенчики
серебряные (6 экз.).
Место хранения неизвестно.
Лит.: Архив ИИМКРАН ф. 9,1892 г., №217, лл. 48,
49;Tp.I AC. 1871:XTV;3PAOt.XI 1899:189;Корзухина
1954:139,№153.
92. Д. Терехово (Болоховского у. Орловской губ.).
Клад 1876 г. Рис.80.
В состав клада входили: гривна монетная серебря-
ная киевского типа малого веса; колты серебряные
(пара) без вставных щитков с обнизью in крупных по-
лых тисненых шариков, на лицевой стороне—очень
тонкое гравировашюе изображение птиц с процвет-
шими хвостами, разделенное опрокинутым крином, на
оборотной стороне—узел плетенки; колты серебря-
ные (пара) без вставного щитка с обнизью из полых
тисненых шариков па горлышках, на обеих сторонах
изображение хищной птицы с хвостом, переходящим в
плетенку; колты серебряные маленькие (пара) с обни-
зью из тисненых шариков на горлышках, на обеих сто-
ронах —изображение животного с листиком во рту;
колты серебряные звездчатые крупные (пара), верхний
луч конусовидный, украшенный треугольниками зер-
ни, остальные 5 лучей грушевидной формы, покрыты
плотными рядами зерни; браслет-наруч серебряный
позолоченный двухъярусный на шарнирах с подвиж-
ным стержнем, украшенный гравированными изоб-
ражениями птиц и фантастических животных, разме-
шенными в квадратных клеймах; браслет-паруч сереб-
ряный двухъярусный более узкий на шарнирах с
подвижным стержнем, створки поделены пополам на-
кладной позолоченной полосой, украшенной гравиро-
ванным бордюром, в верхнем ярусе—гравирован-
ные изображения птиц и кринов, заключенные в ароч-
ки, в нижнем—плетенка; гривны шейные серебряные
витые из трех пар дротов, концы—в трубочки (6 экз.,
из них три—со сканной перевитые); трехбусинные
изогнутые дужки от очелья с тиснеными бусинами,
украшенными тремя сканными колечками со вписан-
ными в них сканными звездочками (14 экз.); две сереб-
ряные ряспы из тисненых колодочек (в общей сложно-
сти 119 колодочек); бусина серебряная овальная зер-
пепая; бусы овальные, обмотанные по краям сканью,
в центре напаяны проволочные колечки (6 экз.); пер-
стень литой серебряный позолоченный, щиток укра-
шен скульптурной фигуркой—льва поддерживают два
животных. которыми оканчивается кольцо; сошник
железный.
С.-Петербург. Гос. Русский музей БК-3289,3290, БК-
3276, 3277, БК-2382; БК-3284,3285;БК-3278, БК-3291, БК-
3279, 3280.3281,3292-3294, БК-3308-3314,3295-3301, БК-
3287, БК-3302-3307, БК-3288.
Лет.: Архив ИИМКРАН ф. I (АК), 1878 г.№5,рис.и
фотогр.; Толстой, Кондаков 1897:115, рис. 169-137; Гу-
щин 1936:67.68,табл.Х1У,ХУ;Корзухина 1954:139,140,
№154: Рыбаков 1971:42, рис.45; Смирницкая 1982:136,
рис.9а; Макарова 1986:134,135,№123,124,№137,138,
рис.19,20,140, №212, №213, рис.31,32,35.
93. Д. Пискова (Мещовского у. Калужской губ.).
Клад 1911г.
В состав клада входили: браслет-наруч серебряный
одноярусный с тиснеными рельефными шарнирами,
318
украшен накладными гладкими валиками и гравиро-
ванным черненым побегом лозы; персши серебряные
(3 экз., один целый с гравированным изображением
птицы па круглом щитке и два сломанных).
Москва. ГИМ,№47543,оп. 1494,№1-4.
Лиг.: Отчет РИМ 1912:11,12, рис.2; Корзухшш 1954:
140, №156; Макарова 1086:143, №232. рис.42.
94. С. Кресты (Тульской губ.). Клад 1976 г.
В состав клада входили: колт серебряный без встав-
ного щитка с пятью дужками для обнизи с изображе-
штем двух сопоставленных птиц; рясны серебряные с
коническим верхом (пара), подвески украшены про-
волочными арочками и зерневыми треугольничками,
на цепочках—круглые и концевые каплевидные бляш-
ки; колты серебряные звездчатые с грушевидными лу-
чами, покрытыми плотными рядами зерни, на концах
лучей и на центральном щитке—крупные шарики,
под дужкой—опрокинутая «лунница» (один целый
экз. и один луч от второго); бусы серебряные большие
овальныескопцами,<>бмотаннымисканью, ицеитралъ-
ной частью, украшенной треугольниками зерни
(4 экз.); подвеска серебряная тисненая полая лилиевид-
пая; колодочки серебряные от рясны (6 экз.).
Москва. Оружейная палата, №МР-1012, охр. 10882.
Лит.: Опись Московской Оружейной палаты 1983:
25,№9484-9492,табл. 78;ЗРАО 1889:198; Гущин 1936:
36-38; Корзухина 1954:140,141, №157, табл. LX; Мака-
рова 1986:135, №134, рис.20.
95. С Стариково (Корочанского у. Курской губ.).
Клад 1883 г.
В состав клада вход или: гривны монетные сереб-
ряные новгородского типа (5 целых и 2 половинки);
колты серебряные без вставных щитков (пара) с обни-
зью из шариков на горлышках с грубым гравирован-
ным изображением растительного побега на черне-
вом фоне па обеих сторонах; браслет двухстворчатый
полый тисненый, украшен гравированными розетка-
ми на черненом фоне; браслет серебряный слегка пе-
рекрученный из двух пар дротов, перевитых между
собой, наконечники украшены чернью; гривна шей-
ная серебряная пластинчатая перекрученная с обло-
манными наконечшжами и два фрагмента аналогич-
ной гривны: серьги серебряные трехбусинные (пара)
с бусинами в виде проволочных розеток, между буси-
нами —сканная обмотка; серьги серебряные трехбу-
синные (пара) с тиснеными бусинами, боковые буси-
ны меньше центральной, боковые украшены в центре
скашюй косичкой, центральная—дополнительно и
двумя поясками проволочных колечек, расположен-
ных по бокам скани; аналогичные серьги (пара), буси-
ны украшеныпо центру поясками скани.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. 1001/1-17.
Лиг.: Архив ИИМК РАН ф. ЦАК) 1883г.,№32,фо-
тогр., рис.; ОАКза 1882-1888 гг.: LVI; ЗРАО1899:245;
Гущин 1936:66-67. табл. ХШ; Корзухина 1954:141,№158.
96. Именье Н.Ф. Терещенко (Путивльскнй у. Кур-
ской губ.). Клад 1878 г.
В состав клада входили: колты серебряные без
вставных щитков с каймой из полых шариков на гор-
лышках (пара, 1 целый, второй во фрагментах), с изоб-
ражением животного на черневом фоне; гривна плас-
тинчатая, туго скрученная в трубочку, застежка в тру-
бочки; подвески лилиевндпые серебряные (3 экз., одна
Приложения
из них поломанная); каменная плитка в серебряной
оправе с ушком.
Москва. ГИМ, №78607, оп. 1321.
Лит.: Архив ИИМКРАНф.№1 (АК), 1885 г.,№59,л.
372; ЗРАО 1899:145;Самоквасов 1908:268;Рыбаков 1948:
310; Корзухина 141,№159; Макарова 1986:133,№114-115.
97. Старая Рязань. Клад 1822 г.
В состав клада входили: подвески круглые в виде
больших колтов (по всей видимости, приклад на икону)
со вставными щитками с эмалевыми изображениями
Бориса и Глеба, оправа украшена питями жемчуга,
двойной сканью и крупной зернью и вставками с по-
лудрагоцешыми камнями, на обороте—вставки из
полудрагоце1шых камней и скань; два набора золотых
медальонов (барм), украшенных сканью, зерпыо и по-
лудрагоценными камнями, в одном наборе три меда-
льона с эмалевыми вставками с изображениями Бого-
матери, святой Ирины и Варвары и 5 ажурных бусин,
украшенных жемчугом, во втором наборе—6 меда-
льонов, украшенных альмандинами, и 6 овальных ажур-
ных сканных бусин с альмандинами; отдельный ма-
ленький медальон с эмалевым изображением Богома-
тери; образок с византийским эмалевым изображени-
ем распятия; золотой ажурный створчатый браслет;
два золотых сионна с эмалевыми изображениями свя-
тых; два золотых перстня с полыми щитками, украшен-
ными драгоценными камнями и жемчужной обнизью;
два корсунчика в золотой оправе, украшенной камня-
ми; золотые нашивные бляшки; золотая скобочка.
Москва. Оружейная Палата, шш. № 74.
Лит.: Калайдович 1885; Опись Московской Оружей-
ной палаты 1894:41-43; Кондаков 1896:83-96,рис.42-51,
табл. XVI, XVII; Толстой, Кондаков 1897:168; Рыбаков
1948: рис.109,110;Монгайг1955:141-142;Толочко 1963:
154-160; Корзухина 1954:143,144,№162; Макарова 1975:
61;Бочаров 1984:152-180.
98. Старая Рязань. Клад 1868 г. Рис.67.
В состав клада входили: серебряные медальоны,
украшенные чернью (5 экз.)—два медальона с изоб-
ражениями Христа и молодого святого и три медальо-
на с процветшими крестами; серебряная позолочен-
ная цепь (рясна?), составленная из 17 полых штампо-
ванных бляшек в форме квадрифолия с рельефным
изображением процветшего креста; две серебряные
рясны с коническим верхом; серебряная плетеная цепь
с наконечниками, сквозь которые продето проволоч-
ное кольцо, с нанизанной па него бусиной, украшен-
ной трсуголышками зерни; дужка от очелья трехбу-
синная золотая с тиснеными бусинами, украшенными
проволочными колечками с маленькими отверстиями
в центре; бусы серебряные, большие овальные, укра-
шенные сканыо и зернеными треугольниками (3 экз.);
перстень серебряный с чернью; подвеска серебряная
полая криновидная; бляшки нашивные серебряные
позолочешп>1есэмалью(77 экз.).
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК3321-3335,
3340, БК-2644-2665.
Лит.: Архив ИИМКРАНф. №1 (АК) 1868 г., №10,
1885 г.; №59, лл.40-42,46-48; Кондаков 1896:111; Гущин
1936:77-79,габл.ХХУ1,ХХУП; Корзухина 1954:144; Ма-
карова 1986:147,№274-276, рис.50,149,№289-291,рис.54.
99. Старая Рязань. Клад 1887 г. завернутый, по-ви-
димому. в ткань.
Приложения
319
В состав клада входили: колты серебряные без
вставных щитков (пара) с обнизью из крупных полых
шариков, нанизанных на серебряную проволоку, и с
гравированным изображением двух птиц с перепле-
тенными хвостами и крыльями, переходящими в пле-
тенку, расположешюм на черненом фоне (лоток для
черни оттиснут по матрице); колты серебряные звезд-
чатые (пара) с грушевидными лучами, украшенными
плотными рядами зерни, под дужкой—опрокинутая
плоская полая лунница, лучи (5 шт.) оканчиваются круп-
ными полыми шариками, в цешре колтов—коничес-
кое возвышение украшенное зернью с шариком на вер-
шине, обрамленное шестью выпуклыми полусфера-
ми; серьги серебряные трехбусиниые с тиснеными
бусинами, украшешпдми проволочными «звездочка-
ми», вписанными в проволочный кружок (10 экз.); кор-
сунчики каменные с серебряными наконечниками
(4 экз.); бусы стеклянные овальные (6 экз.), концы
оправлены в серебряные наконечники; бусы серебря-
ные овальные большие (6 экз.), украшенные зерневы-
ми треугольниками, концы обмотаны сканной прово-
локой; бусы пастовые глазчатые (4 экз.); бусина круг-
лая из горного хрусталя; ленточка шелковая, украшен-
ная серебряными квадратными нашивными бляшками
и жемчужной обнизью; ткани парчовой фрагменты.
Рязань. Историко-художественный музей-заповед-
ник, ГОМ, №1205, кол. №1.
Лит.: Кондаков 1896:136,137, рис.84; Толстой, Кон-
даков 1897: рис.224; Гущин 1936:78-80,табл. XXV111,
XXIX; Корзухина 1954:144,145,№165; Монгайт 1955:
144, рис.117; Макарова 1986:134,№130,131,рис.19.
100. Старая Рязань. Клад 1937-1950<т. Часть вещей
была найдена при пахотев 1937 г.Клад,хранившийсяв
печи землянки, по-вцдимому, в матерчатом мешке, был
найден в 1950 г. в результате археологических раско-
пок, производившихся на городище экспедицией под
руководством АЛ Монгайга.
В состав клада входили: серебряныйпозолоченный
медальон с изображением Богоматери Знаменье; се-
ребряные звездчатые колты (3 экз.) с грушевидными
лучами, сплошь покрытыми зернью, на концах лучей—
пирамидка из шариков, в центре—коническое возвы-
шение; рясна серебряная с круглыми, украшенными
зернью бляшками; серебряные овальные бусы (11 экз.
из них 8 экз. украшено зерневыми треугольниками, а
три—овальными колпачками и зерневыми треуголь-
никами; серьги трехбусиниые с тиснеными бусинами,
украшенными треугольниками зерни (6 экз.), четыре
корсунчика с серебряной оправой на концах (3 камен-
иыхи 1 деревянный); фрагмент бронзовой булавки, укра-
шенной выемчатой эмалью, с головкой в виде стилизо-
ванной черепахи; ластовая бусина.
Москва. ГИМ. Инв. №83884, оп. 1200.
Лит.: Монгайт 1952:108,109, рис.32-34; Монгайт
1955:148, рис. 118; Корзухина 1954:145, №165; Макаро-
ва 1986:148, №277, рис.49.
101. Старая Рязань. Клад 1966 г. Найден враскопе
№7 на берегу р. Оки в западной части Южного городи-
ща. Клад был зарыт в 4 м от плинфяной постройки
усадьбы второй половины XII—первой половины ХШ
вв. Клад лежал компактно, слитки внутри браслетов,
был завернут в ткань—лен или коноплю (вероятно, в
одежду, скорее всего, в рубаху).
В состав клада входили: слиток серебряным новго-
родского веса; слиток серебряный киевского типа; брас-
леты серебряные витые2 *3(2 экз., один дополнитель-
но украшен сканной нитью; браслет-наруч серебря-
ный створчатый позолоченный двухъярусный, укра-
шен изображением пьющих мужчины и женщины,
гусляра, птиц, грифона и растительной композицией;
браслет-наруч серебряный створчатый с двухъярус-
ным изображением фантастических животных и птиц,
плетенки и растительных побегов.
Рязань. Историко-архитектурный музей-заповед-
ник, РОМ, №7604.
Лит.: Даркевич, Монгайт 1967:211-223; Вагнер 1971:
11,12,рис.5-7; Рыбаков 1971: ПО, 111,рис.157.
102. Старая Рязань. Клад 1967 г. Найден при про-
должении раскопок большой усадьбы, в которой най-
ден клад 1966 г. Клад, вероятно, хранилсяв деревянном
ларце с железными оковками (найдены железные пла-
стины). Вещи сильно пострадали в огне.
В состав клада входили: рясна серебряная с коло-
коловидным верхом, украшенным зернью и восемью
недлшшыми подвесками с круглыми и трапециевид-
ными бляхами; рясна из серебряных тисненых колодо-
чек (сохранилось 16 экз.); дужки серебряные бусин-
ные от очелья с тиснеными бусинами, украшенными
проволочными катечками с маленькими отверстиями
в центре н с тиснеными-ажурными бусинами (7 экз.,
из них у 2 бусины не сохранились); обломки серебря-
ного звездчатого колта; маленькие серебряные нашив-
ные бляшки (6 экз.); ромбические привески от рясны;
моток серебряных нитей и мелкие кусочки золотой
фольга.
Лит.: Даркевич, Монгайт 1972:206-212.
103. Старая Рязань. Вгоройклад 1967 г. Найден при
продолжении раскопок большой усадьбы, в которой
найдены клад 1966 г. и первый 1967. Вещи сильно обо-
жжены.
Определены 11 серебряных трехбусинных колецс
тиснеными бусинами, украшенными проволочными
колечками, конецсзастежкойзакручен, возможно, oini
передеяанывдужки очелья (?).
Лит.: Даркевич, Монгайт 1972:206-212.
104. Старая Рязань. Клад 1970 г., найденный архео-
логической экспедицией под руководством А. Л. Мон-
гайта (часть вещей была обнаружена случайно во вре-
мя пахоты).
В состав клада входили: ожерелье, в составе кото-
рого были четыре медальона с процветшими креста-
ми, а также небольшой медальон с изображением
св. Глеба; слиток из серебряных украшений (можно раз-
личить трехбусиниые височные кольца, фрагменты лу-
чевого колта и большой бусины); серебряные слит-
ки новгородского типа (5 экз.), колты серебряные тис-
1яеные (пара, один сильно фрагментирован) с обнизью
из крупных круглых шариков, прикрепленных к коль-
цам серебряных рясен, состоящих из 16 тисненых ко-
лодочек; звездчатые серебряные колты (четыре пары),
три серебряных цепочки от колоколовидпой рясны с
круглыми и каплевидными бляшками; трехбусшшые
височные кольца с тиснеными бусинами, декориро-
ванными треугольниками зерни (8 экз.); бусины сереб-
ряные, украшенные зерневыми треугольниками, ром-
бами или тиснеными колпачками (38 экз.); серебряный
320
Приложения
позолоченный створчатый браслет с двухъярусным
изображением (на одной створке в верхнем ярусе в
квадратных клеймах расположены изображения 2 птиц
и узел плетенки, в нижнем — 1 птица и 2 древа, па
другой створке—вверху 2 зверя и плетенка. внизу—
тот же зверь, древо и крут с радианы го расположенны-
ми побегами); два массивных плетеных серебряных
браслета, вероятно, с шарнирными застежками (сохра-
нились петли), с миндалевидными щитками, обрамлен-
ными сканью и зерпыо и ластовыми вставками (плете-
ные браслеты со вставками, по всей видимости, были
изготовлены в Волжской Булгарии).
Рязань. Историко-художественный музей-заповед-
ник, РОМ, №7605, №7606, №7604.
Лит.: Даркевич 1977:166,167, рис. 19; Даркевич,
Монгайт 1978:9-1; Макарова 1986:135. .№141, рис. 18,
147, №276, рис.50,140,141,№29, рис.29.
105. Старая Рязань. Клад 1974 г., часть клада най-
дена В.П. Фроловым со студентами на пашне в при-
брежной части Южного городища. На месте находки
клада проводились раскопки в 1974-1976 гг., во время
которых были обнаружены остальные предметы.
В состав клада входили: колты серебряные звездча-
тые (3 пары и фрагмент седьмого) шестилучевые с дуж-
кой-лушшцей; у двух пар сохранились прикрепленные
к колтам серебряные рясны, составленные из 10-12 тис-
неных колодочек, треугольной концевой (в одном слу-
чае на ней сохранился обрывок кожаного ремешка);
одна колодочка, не входившая в найденные комплек-
ты; серебряные трехбусинные височные кольца
(21 экз.) с тиснеными бусинами, украшенными зерне-
выми треуголышками или сканными «лучами», впи-
санными в окружности (у семи экз. бусины не сохра-
шишсь), у одного кольца сохранилась железная застеж-
ка; две серебряные бусинные дужки от очелья, анало-
гичные височным кольцам, украшенным сканными
«лучами»; три овальные серебряные бусины с рель-
ефным валиком в центре, украшенные в центре тре-
угольниками зерни и сканью по краям; десять полых
тисненых крупных шариков от обнизи колта.
Рязань. Областной краеведческий музей.
Лит.: Даркевич, Фролов 1978:342-352.
106. Старая Рязань. Клады 1979 г., найденные при
раскопках вблизи Спасского собора.
В состав первого клада, спрятанного в подпечной
яме сгоревшего наземного жилиша. входили: бусы не-
скольких ожерелий—серебряные с тиспе! гым узором,
сгекляшгые рыбовидпые в серебряных оправах, укра-
шенных зернью, бусы из халцедона, горного хрусталя,
стеклянные глазчатые; кресты-тельники из яшмы, оник-
са, шифера, оправлегшыевсереброиукрашенныезер-
певым орнаментом.
В состав второго и третьего кладов, найденных в
земляночном жилище, входили: во второй—трехбу-
синные серебряные височные кольца (11 экз. двух ти-
пов) и большой перстень с крестом на щитке; в тре-
тий —шестилучевые колты (2 экз.) и трехбусинные ви-
сочные кольца (14 экз. трех типов).
Лит.: Даркевич 1987:67.
107. Владимир. Клад 1837 г., найденный на терри-
тории Ветчаного города, близ Серебряных ворот.
В состав клала входили: три медальона с орнамен-
том в виде процветших крестов, один с изображением
Богоматери Оранты (все медальоны разных размеров
и происходят, по-видимому, от разных наборов); се-
ребряные звездчатые колты (5 экз.) с лучами груше-
видной формы, покрытыми зернью; дужки от очелья
трехбусинные выпрямленные (6 экз.) и серьги трехбу-
синные, выпрямленные (2 экз.); бусы серебряные
овальные (6 экз. разных размеров), украшены зерне-
выми треугольниками, у более крупных экземпляров
концы обмотаны проволокой; серебряные гладкие пу-
говицы (2 экз.); бляшки серебряные тисненые нашив-
ные (3 экз.).
Москва. ГИМ. Инв. №78605, от. 1088.
Лиг.:ЗРАО 1899:216; Гущин 1936:69-71. табл. XVI,
рис.26-29; Корзухина 1954:145-146, №166; Макарова
1986: №279,№296-298.
108. Владимир. Клад 1865 г., найденный на терри-
тории Ветчаного Города.
В состав клада входили: обломки трех—четырех
(по сообщению Т.И. Макаровой—Макарова 1986:102)
или четырех—пяти (по сообщению Г.Ф.Корзухиной
—Корзухина 1954:146) позолоченных серебряных ме-
дальонов (два с изображениями архангелов, один—
неизвестного святого и один—с процветшим крес-
том); золотые колты (пара) без вставных щитков, на
лицевой сторо! ie—эмалевое изображение юного свя-
того. обрамленное по сторонам кружком и треуголь-
ником с растительными мотивами в центре и расти-
тельно-геометрической композицией на обороте; дуж-
ки от очелья золотые, с большой примесью серебра,
трехбусинные с тиснеными ажурными бусинами; се-
ребряный створчатый браслет (сильно фрагментиро-
ван) с двухъярусным изображением птиц; бусины се-
ребряные позолоченные штампованные в «елочку»
(6 экз.): одна серебряная бусина с узором из зерневых
треугольников и сканной обмоткой по краям; сереб-
ряные позолоченные подвески в виде кринов (3 фраг-
мента); подвески серебряные круглые позолочешгые
маленькие с утраченным изображением (возможно,
от того же ожерелья) (2 экз.); корсунчики из яшмы
(2 экз.); 2 отшлифованных куска горного хрусталя;
фрагменты шелковых тканей (9 экз.).
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Кол. ЭРА-11.
Лит.: Архив ИИМКРАНф.№1 (АК), 1865 г.,№59.
лл. 52,53; ОАКза 1865 г.: XX; Кондаков 1896:110-111;
Толстой, Кондаков 1897:109-110,рис.156-159; ЗРАО1899:
216; Гущин 1936:72-74, табл.Х\Т1-Х1Х; Корзухина 1954:
146,№167: Макарова, Плетнева 1968:107,108; Макаро-
ва 1975:105,№35-36,табл. 4,10,11.; Макарова 1986:148,
№278, рис.50,141, №219.
109. Владимир. Клад 1896 г., найденный на терри-
тории Печерного Города. Клад хранился в керамичес-
ком горшке. Рис.69.
В состав клада входили: колты золотые (пара) без
вставных щитков, на лицевой стороне—эмалевое изоб-
ражепие юного мученика, на обороте—семь круж-
ков: колты серебряные звездчатые (5 экз.) с пятью гру-
шевидными и верхним конусовидным лучом; браслет-
наруч серебряный с гравированными изображения-
ми птиц, зверей и пальметт, заключенными в прямо-
угольные клеймам размещенными в два яруса; брас-
лет-наруч серебряный двухъярусный (в верхнем яру-
се —гравированные изображения птиц и зверей в ки-
левидных арочках, в пижпем—плетенка в квадратных
321
Приложения
клеймах); браслет-наруч серебряный позолоченный
одноярусный, на одной створке изображение двух птиц
по сторонам плетенки, на другом—плетеный расти-
тельный узор; дужки от очелья серебряные с тиснены-
ми ажурными бусинами выпрямлетшые, связанные
двумя скапными нитями, расположенными между
бусинами (12 экз.): серьги золотые трехбусиниые с тис-
неными ажурными бусинами, украшенными зернью,
разогнутые (2 экз.); гривна шейная серебряная витая
из трех дротов со сканной перевитыо; браслет сереб-
ряный витой с фигурными наконечниками, украшен-
ными чернью.
Москва. ГИМ. №36209, оп. 1089.
Лит.: Архив ИИМКРАН ф.№1 (АК), 1896г.№156,
фотогр.;ОАКза 1896 г.: 114-115,232-233;3PAO 1899:217;
Гущин 1936:74,75, табл. XX, XXI; Корзухина 1954:146-
147, №168; Рыбаков 1971:41, рис.44; Макарова 1986:
141, №218, рис.34,145, №244,245, рис.46.
110. С. Исады около Суздаля на берегу р. Нерли.
Клад 1851 г., найденный во время раскопок А.С. Уваро-
ва в кургане под слоем дерна. Рис. 132,2.
В состав клада входили: медальоны серебряные
(6 экз.)—на пяти изображение процветшего креста,
на одном — юного мученика; бусины серебряные
большие овальные(12 экз., из ша две меньшие укра-
шены треугольниками зерни, остальные десять более
крупных—овальными колпачками), в одной из бусин
сохранились остатки шнура.
Москва. ГИМ,№54807, оп.2190,№1-18.
Лит.: Московская Оружейная палата 1860:267; Ог-
четГИМ 1926:46;Гущин 1936:76,77,табл.ХХУ;Корзу-
хина 1954:147,№169; Постникова-Лосева, Платонова,
Ульянова 1972:8, табл. I; Макарова 1986:148,№280-285,
рис.51.
111. Тверь. Клад 1906 г., найденный в большом ке-
рамическом горшке с клеймом в виде трех концентри-
ческих кругов на донце.
В состав клад а входили: гривны серебряные (киев-
ского, новгородского, западно-русского типа, неопре-
делимые,всего 138 экз.) колты звездчатые серебряные
(пара) с шестью лучами, украшашыми по бокам слан-
ными фестонами, а на концах пирамидкой шариков,
под дужкой—опрокинутая лунница; колты звездча-
тые серебряные с грушевидными лучами, покрытыми
зернью и оканчивающимися тиснеными шариками, с
опрокинутой лунницей под дужкой; браслет-наруч,
выполненный в технике ручной выколотки, д вухъярус-
ный на шарнирах с подвижным стержнем, браслет
обрамлен псевдосканным жгутом, аналогичным жгу-
том каждая его створка поделена на три отсека (на од-
ной створке в нижнем ярусе изображена стоящая жен-
щина с рогом и извивающимся фантастическим зве-
рем, бегущий (танцующий?) мужчина, сидящая жен-
щина, пьющая из рога, на второй створке—древо,
кентавр и фантастический зверь, в нижних ярусах—
растительные побеги и плетенка), фон подготовлен
резцом и покрыт чернью; двухъярусный браслет, вы-
полненный в технике ручной выколотки, обрамлен по
краю псевдосканным позолоченным жгутом, анало-
гичным жгутом каждая створка поделена на два отсе-
ка, украшен в верхнем ярус» изображештями птиц и
животных, переходящими в плетенку и растительные
побеги, в нижнем ярусе—плетенка и крины, фон под-
готовлен резцом и покрыт чернью; кольца височные
серебряные трехбусинные с тиснеными ажурными
бусинами (пара); цепь серебряная из рубчатых звепь-
евстиснеными наконечниками в виде драконьих голо-
вок (глаза переданы синестеклянными вставками, мор-
ды украшены сканью); гривны шейные витые из двух
дротов (2 экз.); бусы серебряные овальные (3 экз. раз-
ные), украшены треугольниками зершти напаянными
колпачками, копны обмотаны сканью; бусы серебря-
ные овальные (12 экз.), концы бусин обмотаны сканью,
в центре напаяны колечки из поставленной на ребро
проволоки.
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК-3341-3366.
Лит.: Архив ИИМКРАН ф.№1(АК), 1908 г.№103;
ЗОРСА1915:9-12, табл. I-Ш; Рыбаков 1948:267,268;
Корзухина 1954:147-148, №170; Рыбаков 1971:145-148;
Даркевич 1975:274, рис.390 б.; Макарова 1986:139,
№207, рис.25-27,140, №214, рис.27,28.
112. М. Романово (Горецкогоу. Могилевскойгуб.).
Клад, найденный около 1892-1893 гг.
В состав клада входили: браслет-наруч серебряный
одноярусный, обрамленный псевдосканным жгутом
и ложной зернью, с гравированными позолоченным
изображениями птиц, обрамленными орнаментальны-
ми арочками, оканчивающимися растительными по-
бегами, на подготовленный резцом фон нанесен плот-
ный слой черни; серьги серебряные трехбусинные
(2 экз.).
Москва. ГИМ. №22976, оп. 1414,№1-3.
Лит.: Кондаков 1897:158, рис.219; Корзухина 1954:
149, №173; Макарова 1986: №227, рис.36.
113. Д. Сельцы (Старорусского у. Новгородской
губ.). Клад 1892или1890,или 1894 г.
В состав клад а входили: фрагмент серебряной мо-
нетной гривны новгородского типа; медальоны сереб-
ряные позолоченные с гравированным изображени-
ем процветшего креста (5 экз.); бусы серебряные тис-
неные продолговатые, в середине оформлены в «елоч-
ку» (4 экз.); сетчатые ожерелья из круглых ажурных зер-
неных бляшек и цепочек (2 экз.); перстни серебряные
витые (2 экз.); бляшки серебряные позолоченные от
сеток (4 экз.).
Новгородский историко-архитектурный музей-за-
поведник. №НГМ-7541.
Лиг.: Архив ИИМКРАН ф.№1 (АК), 1894,№218,
фотогр.; Кондаков 1896:156,157; ЗРАО1897:247; Гу-
щин 1936:69,82,83,табл. XV, XXXIV,рис.25; Корзухина
1954:149,150, №174; Макарова 1986:152,№315-317.
114. Москва, Кремль. Клад 1988 г.,хранилсявдере-
вяшюм сундуке с медными ручками.
В состав клада входили: кольца височныесеребря-
ные трехбусинные с тиснеными бусинами, украшен-
ными двойными сканными колечками (крупная зернь
напаяна в центре колечек и в месте их стыков) и с тис-
неными-ажурпыми бусинами, дополнительно укреп-
летшыми скапными нитями и украшенными крупной
зернью, посаженной па проволочные колечки (26 экз.);
колты серебряные шестилучевые с широкими лучами
одинаковые (3 экз.); очелье из 15 серебряных дужек,
украшештых бусинами и соединенных проволочками;
рясны с колоколовцдным верхом серебряные (кольца
для крепления к убору—бронзовые) (2 экз.); медальо-
ны-бармы серебряные позолоченные (четыре с изоб-
322 Приложения
ряжениями процветших крестов и два с изображения-
ми архангелов в рост); гривны серебряные витые, пле-
теные, полые (7 экз.); набор металлических бус—се-
ребряные позолоченные (?) бусы с выделенным дву-
мя поясками скани уплощенным центром, окружен-
ным треугольниками зерни (4 экз., судя по всему, бул-
гарского производства), две ажурные серебряные бу-
сины, выполненные из волютообразных завитков ска-
ни, пять продолговатых бусин, обмотанных по краям
сканной питью, в центре—гладкие, подпрямоуголь-
ные, украшенные 4 тиснеными полусферами, и четы-
ре продолговатые бусины, украшенные розетчатым
орнаментом; серебряная позолоченная подвеска или
нашивка-лунница, круглая с соединенными «рогами»,
украшенными крупными шариками, по краю—двой-
ной ободок скани, в центре—узор из треугольников
крупной зерни, в верхней части—отверстие для креп-
ления (судя по форме и декору подвески, она изготов-
лена мастерами Волжской Булгарии); полые серебря-
ные подвески, украшенные сканью и металлическими
шарикамиизерпыо(10 экз.), типа готландских подве-
сок-масок (например, клад из Хёлхагена), но уже без
изображения мужского лица, а просто с орнаменталь-
ным декором; витой из серебряных дротов с переви-
тые сканной нитью браслет с палыми позолоченными
драконьими головками (аналогичные браслеты проис-
ходят, например, из клада XI—начала XII в., Бурге на
Готланде); пара серебряных браслетов-наручей, раз-
делены ложноскапными жгутами на два яруса, в верх-
нем —в орнаментальных арочках изображения птиц и
фантастических зверей, в нижнем—побег лозы; два
витых бронзовых браслета с суживающимися конца-
ми и два пластинчатых браслета, украшенных в заты-
лочной части гравировкой, с напаянными широкими
округлыми щитками, украшенными крупной сканью,
зернью и большой сердоликовой вставкой (аналогич-
ные браслеты типичны для Волжской Булгарии); се-
ребряные перстни (6 экз.) с круглыми, шестигранны-
ми, квадрифолийными щитками, с гравированными,
чернеными изображениями птиц или со вставками из
цветного стекла, перламутра, жемчуга; золотой пер-
стень с арабской благопожелателыюй надписью «Сла-
ва и успех и власть и счастье и украшение владельцу
сего»; серебряные позолочегшые нашивные бляшки
(около сотни экз.)—мелкие треугольныеикаплсвид-
ные, крупные прорезные; позолоченные серебряные
зерненые пуговицы; гривны монетные серебряные
(3 экз.)—киевская, черниговская и новгородская; ру-
коятка кинжала из моржовой кости с серебряными на-
кладками; ковшик из половинки раковины с железной
ручкой.
Москва. Оружейная палата.
Лит.: Авдусипа, Панова 1989:272-274; Наследие ва-
рягов 1996:107-120.
ПРИЛОЖЕНИЕ!. ПЕРЕЧЕНЬ УКРАШЕНИЙ
Серьги «волынского» типа. Карта 1.
1. Киев. Погр. 124.
Серьги серебряные«волынского» типа «С»(2 экз.).
Москва. ГИМ. Инв. №33602, хр. 99/176.
Лиг.: Каргер 1958:табл. Ш; Равнина 1988:74,табл. 6,1.
2. С. Денис (Переяславского у. Полтавской губ.).
Клад1912г.
Серьги серебряные «волынского» типа фрагмен-
тированные (5 экз. типа «С»).
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1019/1-3,6-8.
Лит.: Корзухина 1954:85,86,№18,табл. УШ,9,15,21,
28,30.
3. С. Копиевка (Дашевского р-на Винницкого окр.
Киевской обл.). Клад 1928 г.
Серьги серебрящие «волынского» типа (27 экз. —
22 серьги типа «С» и 5—«В»).
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лит.: Лшка-Геппенер1948:182-190. табл. 1.8-1,111-
3,7; Ш, 14; IV, 1-18; Корзухина 1954:84, №16; Строкова
1997:63.
4. Городище Червоне (Немировского р-на на
р. Ю. Буг).
Серьги серебрящие «волынского» типа (5 экз.. у
двух сохранились подвески, относящиеся к типу «В»,
от остальных—только дужки, украшенные поясками
из литых шариков). Найдены совместно с монетами
середины X в.
Лит.:Хавлюк 1969:164.
5. С. Юрковцы (Липовецкого у. Киевской губ.).
Клад 1864 г.
Серьги серебряные «волынского» типа (6 экз. иЗв
семи фрагментах—типы «В», «С» h«D») от трех раз-
пых пар.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лит.: Корзухина 1954:85, №14; Строкова 1997:63.
6. Урочище Майдан у с. Берестяне (Киверцивский
р-н. Волынской обл.). Раскопки 1983-1984 г. Курган М-7.
Погребение пожилой женщины. Рис.32.
Серьги «волынского» типа «А» (2 экз.), непарные.
Украшены треугольниками зерни. Кольцо оформлено
в виде лунницы, покрытой рядами зерни, на «рогах»
лунницы—колечки из литых шариков. В погребении
также найдены четыре стеклянные, одна сердоликовая
и две серебряные бусины (одна украшена тиснеными
полушариями и зернью, вторая очень сильно фрагмен-
тирована).
Лит.: Гупало 1996:124, рис. 11.
7. Д. Бортовка (Дубенского у. Волынской губ.).
Клад 1883 г. Рис.8.
Серьга серебряные «волынского» типа: 8 экз. —
6 типа «А» (один из них фрагментирован) и 2 типа «В»
(один целый, второй неполный). Волынские серьги типа
«А», по-видимому, принадлежат к двум разновиднос-
тям (выделяются, по всей видимости, идее пары). Пер-
вая разновидность—серьги с кольцом, выполненным
в нижней части в виде плоской лунницы, украшенной
рядами зерни, а также проволочными зигзагами, по-
крытыми зерневой бахромой. На «рога» лунниц наде-
ты тисненые бусины, покрытые рядами зерни. Эти пять
колец уникальны по изяществу оформления нижпей
части дужки. Еше одно кольцо не имеет подобной зер-
певой «бахромы» в нижпей части, его «лунница» укра-
шена только рядами зерни. На «рога» лунницы надеты
Приложения 323
ажурные проволочные бусины, несколько отличается
и зерневой декор подвески. Близкие по оформлению
(по более мелкие и с подвесками несколько более вы-
тянутых пропорша1)украшения происходят из Тушин-
ского клада. Две серьги типа «В» из Борщевского клада
(представляющие собой пару) тоже имеют в нижней
части кольца раскованные лунницы, украшенные зер-
нью, припаянной к проволочным колечкам. На «рога»
лунниц нанизаны композиции излитых шариков. У со-
хранившегося полностью экземпляра в центре ажур-
ной лунницы напаяна волютообразпо изогнутая про-
волочка, декорированная зернью. Подвески украше-
ны зерневыми треуголышками. Аналогичные подвес-
ки происходят из случайной находки, сделанной в Ека-
тиринославской губ.
С-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1017/8а, б, 9,
10а, б, 11а,б, 12. Высота подвесок колеблется от 7,2 до
8,6 см.
Лиг.: Архив ИИМКРАН ф. 1(АК)1884г.,№3,рис.-
фото; Гущин 1936:64-66,табл. XI; Корзухина 1954:85,
№17.
8. Псресопницкий мог. (Волынская губ.).
Серьги серебряные «волынского» типа «В» и «С»
найдены в курганах№3,8,33.
Лиг.: Мельник 1901:536-543.
9. Городище Екимауцы (Резинскогор-на, Молдо-
ва). Раскопки Г.Б. Федорова 1951 г.Рйс.14.
Среди серег «волынского» типа, найденных на го-
родище, есть как серебряные составные (30 экз. типа
«С» и два фрагмента типа «В»), так и две бронзовые
лигыесерыитипа«С», харакгерпыедля погребальных
памятников Карпато-Балканского региона. Аналог по-
следней серьги происходит, например, из могильника
Брестовик. Среди материалов, хранящихся в Кишинев-
ском археологическом музее, выделяется несколько пар
идентичных серебряных серег типа «С». Между собой
пары различаются размерами, количеством витков
сканной, проволочной или зерненой обмотки. Два
фрагмента серег типа «В» нанизаны на проволочные
перстневидные кольца.
Кишинев. Археологический музей, Инв. №77-79,
152,153,411-421; №43,250. Одесса. Археологический
музей. Инв. №52660-52671.
Лит.: Федоров 1953:104-126; Федоров 1968.
10. Брапеиггский мог. у. с. Бранешты (Оргеевский
район. Молдова). Погребение №35.
Серьга серебряная «волынского» типа «В» распо-
лагалась справа от черепа. Подвеска тисненая, укра-
шенная треугольниками зерни. Головка подвескиввцде
шарика. На дужку нанизано 5 колечек, составленных
из литых шариков. В погребении также найдепы мед-
ные пластинчатый и проволочный перстни и две по-
лые пуговки.
Одесса. Археологический музей. Инв. №83270.
Лит.: Федоров, Чеботаренко, Великанова 1984:16,
рис.7.
11. Екатсринославская губ., Елизаветтрадский у.
Случайная находка.
Серьги «волынского» типа «В» и «С» (3 экз.). У
одной серьги типа «В» дужка оформлена в виде зерне-
ной лушшцы (аналогично дужкам серег из Борщевс-
кого клада), у второй—«головка» подвески представ-
ляет собой ажурную бусину, выполненную из поло-
сок серебра.
Москва. ГИМ.
Лит.:ОгчетРИМ 1915:10, рис.4-6; Корзухина 1946;
Новикова 1990.
12. Д. Гтщино (в окрестностях Чернигова). Клад
1930-х гг. Рис. 10,1,3.
Серьги серебряные «волынского» типа «А» (2 экз.).
Серьги парные, нижняя часть кольца оформлена в виде
лунницы, украшенной зернью, на «рога» нанизаны
ажурные проволочные бусины, подвески украшены
зерневыми ромбами и рядами крупной зерни в ниж-
ней части. Высота украшений 5 см.
Место хранения неизвестно.
Корзухина 1954:21,22, №21,табл. УП, 1,3.
13. Овручский мог.
В подкургашюм захоронении серьга «волынско-
го» типа.
Лиг.: Седов 1982:195.
14. Д.Гнездово. Клад 1993 г. Рис.22.
Серьги «волынского» типа «А» (6 экз.). Серьги с
полыми пятичастными подвесками (дп. подвесок 31-
34 мм) и кольцами (диам. 35-40 мм), раскованными в
нижней части. Нижняя часть кольца оформлена в виде
лунницы, декорированной зернью, на «рога» лунниц
насажены композициииз мелких литых шариков. Одна
из серег была починена в древности (подвеска укреп-
лена тонкой проволокой). Подвески, скорее всего, со-
ставляли пары, но они не идентичны, отличаются как
мелкими деталями строения, так и небольшими осо-
бенностями д екора (размещения и величины зерневых
треугольников). В уборе подобные украшения встре-
чают как совершенно непарные у обоих висков (Бере-
стяне),таки по однойштукеу правого виска (Пересоп-
ница). Форма и размеры височных колец, найденных в
данном Гнездовском кладе, совпадают с двумя из че-
тырех штампов, найденных в Пересопницком могиль-
нике па Волыни.
Лиг.: Пушкина 1996а: 171-186, рис.1; Пушкина1996:
79-80; Ениосова. Пушкина 1997:24-26; Ениосова 1998а:
258-267.
15. Д. Гнездово, культурный слой.
Серебряные серьги «волынского» типа «С» (3 экз.).
Лит.:Пушкипа 1987:55,рис.1,6.
Лунницы штампованно-филигранные. Карта 2.
16. С. Юрковцы (Липовецкого у. Киевской губ.).
Клад 1864. Рис.9,14-16.
Лунницы серебряные штампова1пюч])илигранные
болыпие(4 экз.). Наиболее крупная лунница(П * 4,8 см)
украшена покраюсканнойкосичкой и полосойтиспе-
ных полусфер, обрамленных каймой из зерни (кайма
общая для всего ряда полусфер). В центре лунницы и
по краям у «рогов» расположены строенные компо-
зиции из тисненых полусфер, припаянные к крупным
полусферам, каждая полусфера и вся композиция вме-
сте обведена зерневым кольцом. Центральные полу-
сферы отсутствуют в настоящее время, боковые утра-
чены частично. Поверхность лунницы украшена тре-
уголышками, составленными из тройных полос, тре-
угольников и ромбов зерни, па ушке также зерневые
треугольники. Декор бол ее мелкой лунницы (7,5 х 3,7-
324
Приложения
см) схож с описанным, но у нее пет каймы из полу-
сфер по краю. Такая кайма представлена на обломке
третьей лунницы. Четвертая лунница (5,6 х 2,7см) от-
личается более округлой формой «рожек», отсутстви-
ем каймы из полусфер по бокам и тем, что компози-
ция из трех тисненых колпачков напаяна не на крупную
полусферу, а пепосредствешю на подвеску. Зерневой
декор подчинен той же схеме, что и у предыдущих об-
разце®.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Корзухина 1954:84, №15, табл. VI, VII.
17. С. Кописвка (Дашсвского р-на Винницкого окр.
Киевской обл.). Клад 1928 г., найденный в керамичес-
ком горшке.
Лунница серебряная штампованно-филигранная
широкоротая.
Киев. Национальный музей истории У кранны.
Лит.: .Шпка-Геппенер1948:182-190, табл. 11,10; Кор-
зухина 1954:84, №16.
18. Городище Екимауцы (Резинского р-па, Молдо-
ва). Раскопки Г.Б. Федорова 1951 г. (Рис.14).
Лунница серебряная штампованно-филигранная
широкорогая маленькая. Лунница украшена тремя тис-
неными полушариками, обведенными по краям зер-
нью (в настоящее время они расплющены), оторочена
по краям зерпыо. Полосками зерни и зерневыми крес-
тиками украшепа и лужка. Поверхность подвески так-
же украшена треугольниками, выполненными in по-
лосокзерпи. Верояпю,эта лунница былапочинсна еше
в древности, к оборотной стороне припаяна железная
пластинка.
Кишинев. Археологический музей. Инв. №1131.
Лиг.: Федоров 1953: рис.48.
19. Д. Борщевка (Дубенского у. Волынской губ.).
Клад 1883 г.
Лунницы серебряные большие штампованно-фи-
лигранные широкорогие (2 экз.). Размеры лунниц
7,8 х 10,9см.(инв.№1017/15)и7*9,4см.(ипв.№1017/
16). Лунницы украшеныпо краю пояском из тисненых
полусфер, аналогичные пояски спускаются от краев
трубчатых ушек к центру нижпей части подвески, деля
ее па сектора. В центральном секторе расположены
тисненые полусферы стремя колпачками на верши-
нах, в боковых у №1017/16—ромбы, выложенныезер-
невыми полосами, а у второй лунницы—утлы, выло-
женные рядами зерни.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1017/15,16.
Лит.: Гущин 1936:64-66, табл. XI. Корзухина 1954:
85,№17.
20. Окр. Переяславля Полтавского. Раскопки
Д.Я. Самоквасова.
Лунницысеребряпыеширокоропге маленькие, укра-
шенные треугольниками или полосами зерни (2 экз.).
Москва. ГИМ. Инв. №76990, оп. 785/52.
21. С. Гу щипо (в окрестностях Чернигова). Клад
1930-х гг.Рис.10,2.
Лунница большая серебряная штампованно-фи-
лигранная (8,2 х 4,5 см). Лунница украшепа по краю
пояском изтиснепых колпачков, тремя тиснеными кол-
пачками в центре и по одному у «рожек». 11а верши-
нах полусфер по три колпачка, обведенных зернью.
Вокруг центральных полусфер—композиция из зер-
пеных треугольников. Поверхность лунницы украше-
на подтреугольнымизигзагами, составленными из зер-
певых полос. Особенностью этой лутшицы является то,
что ушко ее украшено тремя расширениями в виде
бусин, покрытых треугольниками зерни.
Место хранения неизвестно.
Корзухина 1954:21,22,№21. табл. VII,2.
22. Д. Гпездово. Клад 1867 г. (по
публикации Г.Ф. Корзухиной 1968 г). Рис.36-38.
Лушшцы серебряные широкорогие штампованно-
филигранные разных размеров (10 экз.). Среди лунниц
клада нет ни одной идентичной. Большая лунница (разм.
9,5 х 4,5). Инв. №994/86 по оформлению близка к лун-
нице из Гущипского клада—у нее такое же ушко с
«бусинами», ободок из тисненью колпачков, незначи-
тельно отличается лишь зерневой декор. Лунница
укреплена проволочными нитями, припаянными по
краям ушка, и двумядополнительпыми, напаянными
между «бусинами». В лупнице пробито два сквозных
отверстия. Композицией из трех колпачков, напаянных
на крупную полусферу, украшена и более миниатюр-
ная (5,7 х 2,5 см) лунница. Инв. №994/82, ободок из тис-
неных колпачков у этой лунницы отсутствует, по краю
орнамент из гладкой проволоки и сканной косички. У
лунницы три креплешю—два боковые и одно цент-
ральное. Поверхность лунницы пробита в нескольких
местах. Близко оформление и маленькой (3,2 х 2,5 см)
лутшицы №994/89, но так как лунница небольших раз-
меров, она имеет только боковые крепления. Кроме
того, имеется две крупные лунницы, украшенные в
центре тремя композициями из четырех колпачков, рас-
положенных в виде треугольников (по аналогичной
композиции расположено и в районе «рогов»), и одна,
у которой в центре—три одиночных колпачка, апо
бокам еще по одному (причем в этом случае колпачки
украшены треугольниками зерни). Остальные лутши-
цы малые и имеют по одному колпачку под дужкой и у
«рожек» (колпачки украшены зерневыми колечками
или розетками), или, в одном случае, вообще без кол-
пачков (лунница Инв. №994/91 украшена только полос-
ками зерни).
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №994/ 82-91.
Лиг.:Гущин 1936: табл. II, 1,6,ГУ. 1.2,6.7; Лесман
2000:52.
23. Д Гнсздово. Клад 1870 г.
Лунницы серебряные широкорогие штампованно-
филигранные (2 экз.). Лунницы украшены композици-
ей из трех колпачков в центре и по одному около «ро-
жек». Колпачки опоясаны зернью, у более крупной
лунницы поясок зертш расположен и в верхней части
колпачка. Лушшцы украшены зерневыми зигзагами и
треугольниками.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №995.
Лит.: Корзухина 1954:88.89, №24, табл. VIII, 32,34.
24. Д. Гпездово. Клад 1885 г.
Лунницы серебряные широкорогие штампованно-
филигранные (2 экз.—большая и маленькая).
Москва. ГИМ. Инв. №17458, оп. 228/1,2.
Лит.: Сизов 1895:179,табл. П,1,2; Рыбаков 1948:
рис.87; Корзухина 1954:89,№25.
25. Д. Гпездово. Клад 1993 г, Рис.39.
Лушшцы широкоропгешгалаюванно-фшшгранпые
(5 экз.). Одла лунница большого размера: длина8 см,
ширина—5 см. По краю подвеска укреплена проволо-
Приложения 325
кой, загибающийся по краям трубчатых ушек на обо-
ротную сторону. В центре ушка расположена еше од на
такая дополнительная проволочка. Ушко украшено по-
лоской зерни в месте стыка с самой лушпщей и тре-
угольниками зерни в центре. В центре подвески распо-
ложены три композишшиз строенных тисненыхколпач-
ков(каждыйколпачокотделыюобведен зернью,вся ком-
позициятакжевзятавзерпевойкруг).Аналоп1Чпыеко.м-
позиции расположены и у «рогов» лунницы. Поверх-
ность лушшцы украшена треугольниками из сдвоешпж
полос зерни и мелких зерневых треугольников. В ниж-
ней части—между' «рогами» — кайма из двух рядов
зерпевых треугольников, обращенных друг к другу. Де-
кор более мелкой лунницы (разм. 4,5 * 2,5 см) близок к
декору крупной, но тисненые полусферы у нее не стро-
енные, а расположены по од ной. Две другие еще более
маленькие лунницы украшены полосами зерни, уже не
складывающимися в треугольники, а самая маленькая
(разм. 2,8 * 1,5 см)лишепа тисненых полусфер, па мес-
те которых расположены в центре треугольники зерни.
Москва. ГИМ.
Лиг.: Пушкина 1996а: 171-186, рис.П.
26. Д. Гнездово. Раскопки С.И. Сергеева 1898-
1901гг.
Лунница серебряная широкорогая средняя штам-
пованно-филигранная, украшенная по краям треуголь-
никами зерни.
Москва. ГИМ. Инв. №42596.
27. Д. Мизнковка (Смоленская губ., Духовицкий
у.). Кург. №3 из раскопок В.И. Сизова.
Лунница серебряная широкорогая маленькая,
украшенная тремя выпуклыми полусферами, распо-
ложенными под дужкой и треугольниками зерни.
Москва. ГИМ.
28. Д. Скадино в районе г. Остров Псковского окр.
Ленинградской обл. Клад 1928 г.
Лунница серебряная небольшая широкорогая
штампованно-филигранная (ширина 4 см). По краю
лунница обведена проволокой, укрепляющей ее по
краям ушек и переходящей на обратную сторону, за
проволокой расположен поясок зерни. В центре лун-
ницы композиция, имитирующая четыре тиа юных кол-
пачка, расположенных рядом, как на больших гнездов-
ских луппицах, около рожек—по одному колпачку.
Зернь выложена в виде наклонных полос.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1009/1.
Лиг.: Корзухина 1954:100,№53,табл. XXV, 10.
29. Д. Васьково Великолукского у. Псковской губ.
Клад 1923 г.
Фрагмент большой широкорогой зерненойлунни-
цы.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №924.
Лит.: Корзухина 1954:98,99,№50,табл.ХХШ,21.
30. Д . Спанка Петергофского у. Петербургской губ.
Клад 1913г.
Фрагмент небольшой серебряной зерненой лун-
ницы.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж.
Лиг.: Корзухина 1954:101,№56,табл. XXVII,3.
31. Владимирская губ. Раскопки А.С. Уварова.
2 фрагмента небольших серебряных лунниц, укра-
шенных зернью.
Москва. ГИМ. Оп. 1068/85.
32. С. Краснова (Владимирской губ., Юрьевского
у.). Собрание А.С. Уварова.
Фрагмент маленькойширокорогой лунницы, укра-
шенной по краям треугольниками зерни.
Москва. ГИМ. Оп.56/14.
33. Владимирская губ. (Переяславский у.). Раскоп-
ки А.С. Уварова.
Лунница серебряная маленькая широкоротая,
украшенная по краям треугольниками зерни.
Москва. ГИМ. Инв. №54746.
34. С. Городище (Владимирская губ.).
Лунница серебряная, украшенная сканью, зерне-
выми треугольниками и тремя тиснеными полушари-
ями в центре.
Москва. ГИМ. Инв. №54746.
Подвески полусферические штампованно-филигранные. Карта 3.
35. Киев. Клад 1863 г., найденный на Подоле, на
кладбище Иорданскойцеркви.
Подвеска серебряная полусферическая, украшен-
ная тремя тиснеными колпачками, расположенными в
верхней части медальона под дужкой, и зерневыми тре-
угольниками.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лит.: Антонович 1888:120; Беляшевский 1888:137;
Корзухина 1954:84. №14.
36. Д. Сахновка. Случайная наход ка.
Подвеска, аналогичная киевской.
КоллекцияХапенко.
Лиг.: Ханенко 1902: табл. ХУЛ.
37. С. Денис (Переяславского у. Полтавской губ.).
Клад 1912 г.
Подвеска серебряная, украшенная по краю скан-
ной косичкой, затем 12 тиснеными полушариками с
колечками скани на вершине и у основания, кольцом
из зерневых треугольников и тремя тиснеными полу-
шариями в центре, обведенными кольцом из зерни.
Ушко трубчатое, украшенное шестью треугольника-
ми зерни.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1019/14.
Лиг.: Корзухина 1954:85,86, №18,табл. УШ, рис.7,8.
38. Чернигов. Клад 1848 г., найденный в ограде
Елецкого монастыря.
Пять медальонов с тисненым колпачком в центре.
На вершине колпачка напаяна крупная зернь. По кра-
ям подвески по четыре треугольника из трех мелких
шариков зерни и идущие радиально к центру полосы
зерни.
Москва. ГИМ. Инв. №54746, оп. 900.
Лит.: Рыбаков 1949:53, рис.21; Корзухина 1954:92,
№35.
39. Гор. Екимауцы (Резинского р-на, Молдова). Рас-
копки Г.Б. Федорова 1951 г.Рис.14.
Четыре небольших медальона, выполненные из
тонких серебряных листочков, и фрагмент ушка от пя-
того. Центральная полусфера, усыпанная крупной зер-
нью, припаяшюй к проволочным колечкам, сохрани-
лась только на одном медальоне (инв. №1135). Инте-
ресно, что этотмедальоп отличается оттрехдругих ха-
рактером сканно-зерневого декора. Схема его оформ-
ления такова: по краю медальона полоска скани, затем
326
Приложения
полоска зерни, затем треугольники, составленные из
двухдвойных полосокзерпи, затем, обрамляющие цен-
тральную полусферу две полоски зерни. Другие меда-
льоны украшены треугольниками, сплошь заполнен-
ными зернью (па одной подвеске на вершине этих тре-
угольников расположены маленькие треугольнички).
Вокруг отсутствующих ныне полусфер—ободки из
двух рядов зерни, разделенных полоской скани.
Кишинев. Археологический музей, Инв. №1135,
1136; Одесса. Археологический музей. Инв. №80-82.
Лит.: Федоров 1953:104-126.
40. Д. Гнездово. Клад 1867 г. (по публикации
Г.Ф. Корзухиной 1968 г.). Рйс.43.
Подвески серебряные штампованно-филигранные
полусферические (2 экз.). Диаметр подвесок 2,7 см. В
центре подвесок выпуклый колпачок, обведенный зер-
нью, поясок зерни расположен и по краю подвесок. У
подвески. Инв. №994/53 по окружности размешен один
ряд зерневых треугольников, у второй —два ряда бо-
лее мелких треугольников. У первой подвески прово-
лочный крепеж, идущий по окружности подвески и
проходящий вдоль отверстия дужки доходит по обо-
ротной стороне до края подвески (в центре изделия с
оборотной стороны пробито отверстие), у второй под-
вески крепеж с оборотной стороны доходит только до
середины подвески, на конце—расплющен. Анало-
гичные под вески происходят, например, с Екимауцко-
го городища в Молдове.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №994/53,54.
Лит.: Гущин 1936: табл. ГУ. 16,18; Корзухина 1954:
№23.
41. Д. Гнездово. Клад 1993 г. Рис.44.
Под вески серебряные штампованно-филигранные
полусферические (4 экз.). Диаметр подвесок 23-24 мм.
В месте стыка полусферической и оборотной гладкой
части напаяна тонкая проволочка, переходящая на кон-
цы цилиндрических ушек и укрепляющая конструкцию
с оборотной стороны. В центре подвесок расположен
тисненый полушарик, окруженный зерневым ободком.
Три подвески идентичны по расположению зерпевого
д екора: они украшены треугольниками, выполненны-
ми in двойных линий зерни, идущих к центру украше-
ний. Одна подвеска украшена семилучевой розеткой,
выложенной такими же линиями зерни и мелкими зер-
невыми треугольниками и ромбами. На ушках подве-
сок сохранились полоски и ромбы зерни. Близка по
декору к данным полусферическим подвескам и штам-
пованно-филигранная плоская подвеска с тиснепым
колпачком в центре, украшенным на вернпше и по ди-
аметру зерныо. В сторону колпачка обращены верши-
ны радиально расположенных треугольников зерни.
Обрамляет эту подвеску поясок зерни и скани.
Москва. ГИМ.
Лит.: Пушкина 1996а: 171-186, рис.1П.
42. Д. Шалахова (Невельского у. Витебской губ.).
Клад 1882 г. (Рис.51).
Ожерелье, состоящее из нанизанных на круглый
дрот 10 полусферических медальонов и 11 металличес-
ких бусин. Концы дрота загнуты в крючки. Основная
часть медальонов выполнена в технике тиснения, но
три из них, вероятно, восстанавливавшиеся в древнос-
ти мастером, не имевшем анок для тиснения. Эти ме-
дальоны свернуты из листков металла (у более новых
медальонов отличается и способ крепления, и зерне-
вой декор ушек). Лицевая сторона медальонов укра-
шена центральным колпачком и расходящимися от него
радиально четырьмя «лучами» подобных колпачков, а
также треугольниками, выложенными из двойных по-
лосок зерни. Аналогичные медальоны представлены в
кладах Белогостиц и Валбо. По краям Шалаховского
ожерелья нанизапы 5 удлиненных бусин, украшенных
в центре полосками зерни, ближе к центру—2 буси-
ны, украшенные проволочными ячейками, и две—
проволочными колечками. Бусины, аналогичные цен-
тральным, встречаются и в памятниках более позднего
времени, например, вТсрсховском иТверском кладах
1906г.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж, Инв. №973.
Лиг.: Гущин 1936:57-59, табл. V-V111; Корзухина 1954:
97-98, №49; Рябцева 1994:10.
43. Д. Скадино в районе г. Остров Псковского окр.
Ленинградской обл. Клад 1928 г.
Подвеска тисненая полусферическая, орнаменти-
рованная зернью. Донышко подвески в настоящее вре-
мя отдельно, лицевая сторона невысокая, центральный
колпачок смят, вокруг него три пояска зерни, к кото-
рым сходятся концентрические полоски и треугольни-
ки зерни, по краю подвески—еще один поясок зерни.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1009/3.
Лиг.: Корзухина 1954:100,№53,табл. XXV, 12.
44. Белогостицкий монастырь на оз. Неро в окре-
стностях Ростова Великого. Клад 1836 г.
Подвески полусферические, украшенные тисне-
ными колпачками и зернью, аналогичные шалаховс-
ким(3экз.).
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Спицын 1905:154-159, рис. 112-133; Корзухина
1954:103-104,№63.
Пуговицы шаровидные. Карта 4.
45. Могильник Стыиа луй Мокану на окраине
с. Д журджулешгы (Молдова). Грунтовое погребение 6.
Захоронение девочки 6-7 лег. Рис.47.
Пуговицы серебряные тисненые шаровидные с
трубчатыми ушками, украшенные зернью (4 экз.—2
целых и 2 фр.). Пуговицы состоят из трех деталей—
тисненого шарика-тулова, верхняя и нижняя части ко-
торого уплощены. К шарикам припаяны, соответствен-
но, сверху—ушко, свернутое из листка металла, а сни-
зу—тисненая гроздевидная подвеска-пирамидка. При
одинаковости оформления всех пуговиц дашюго на-
бора длина ушек у них несколько различается (две под-
вески с более длинными ушками — 1,2 см, две с более
короткими—около 1 емвдлину). Ушки подвесок укреп-
лены по краям одной или двумя рядами серебряной
проволоки. Центральные шарики покрыты десятью
ровными горизонтальными рядамн круппой зерни,
напаянной на проволочные колечки. Нижняя пирамид-
ка оттиснута в виде двух продольных половинок и пред-
ставляет собой четыре полусферы в верхней части и
одну в нижней.
Характерной особенностью работы ювелира, из-
готовившего этот набор пуговиц, можно считать то,
что он прикрывал места ейайки деталей россыпью
Приложения 327
мелкой зерни, которая не выстраивается в опреде-
ленную геометрическую композицию, а предназна-
чена, на наш взгляд, именно для закрытия швов. Ин-
тересно, что на одной из пуговиц линия подобной
мелкой зерни расположена и в центре пуговицы, в
этом же месте читается сбой в размещении рядов
крупной зерни и вставка серебряной пластинки. По-
видимому, при изготовлении пуговицы возникли
какие-то неполадки, мастеру пришлось прибегать к
укреплению изделия вставкой металла, а мелкой зер-
нью он прикрывает брак, возникший во время изго-
товления украшения.
Кишинев. Национальный музей истории Молдо-
вы. Inv. 1178-1182.
Лиг.: Левицкий, Хахеу, Рябцева2000:90-96.
46. С. Копиевка (Дашевского р-на Винницкого окр.
Киевской обл.). Клад 1928 г. Рис.48,8,9.
Маленьких круглые серебряные пуговицы с узки-
ми трубчатыми ушками (9 экз.). Пуговки покрыты плот-
ными рядами мелкой зерни и украшены литым шари-
ком в нижней части. В собрании музея эти пуговки
хранятся нанизанными на дужки серег «волынского»
типа, однако это, по всей видимости, позднейшая ком-
пиляция двух разных видов украшений.
Киев. Национальный музей истории У краины.
Лит.: Лшка-Геппенер 1948:184, табл. П 3,4; Корзу-
хина 1954:84, №16; Строкова 1997:62.
47. С. Денис (Переяславского у. Полтавской губ.).
Клад 1912 г. Рис.48,4-7.
Шесть половинок от крупных шаровидных тисне-
ных пуговице трубчатыми ушками (одна половинка
украшена рядами крупной, остальные—мелкой зер-
ни). В нижней части пуговицы оканчиваются одной
или тремя тиснеными полусферами.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв№1019/14.
Лиг.: Корзухина 1954:85,86, №18, табл. VIII, 1-6.
48. Д. Гнсздово. Клад 1993 г.Рис.48,11-13.
Небольшие округло-каплевидные тисненые пуго-
вицы (d= 14-15 мм) с ушками, выполненными в виде
двойной проволочной петли (8 экз.). В нижпей части
пуговок расположен полукруглый выступ, покрытый
плотными горизонтальными рядами зерни. Среди гнез-
довских пуговиц выделяются два варианта. Первый ва-
риант—пуговицы, состоящие из двух гладких тисне-
ных половинок, верхняя из которых покрыта горизон-
тальными рядами скани, нижняя—различными вари-
антами композиций, составленных из зерпевых тре-
угольников (6 экз.). Второй вариант—пуговицы, со-
стоящие из тисненых половинок со слабовыраженным
продольнымделениемна четыре овальныедольки. Эго
деление акцентируется и вертикальными рядами зер-
ни, зернью обрамлено и основание ушка (2 экз.).
Москва. ГИМ.
Лит.: Ениосова, Пушкина 1996:25; Пушкина 1994:
181,рис.У, 1-3; Ениосова, Пушкина 1997:85.
49. Белогоспщкий монастырь на оз. Неро в окре-
стностях Ростова Великого. Клад 1836 г. Рис.55,15.
Пуговица шаровидная серебряная тисненая глад-
каяспроволочным петельчатым ушком.
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Спицын 1905:154-159, рис.119;Корзухина 1954:
103-104,№63.
Бусы лопастные. Карта 5.
50. С. Юрковцы (Липовецкого у. Киевской губ.).
Клад 1864г.
Бусы серебряные лопастные (5 экз. и 4 фр.).
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лит.: Корзухина 1954:84,№14.
51. Пересопиицкий мог. (Ровенский у., Волынская
губ.). Кург. №8,16,33.
Бусы серебряные лопастные (5 экз.).
Лит.: Мельник 1901:536-543; Корзухина 1946; Се-
дов 1982:101.
52. Белевский мог. (Ровенский у., Волынская губ.)
Кург.№29.
Бусина серебряная лопастная.
Лиг.: Мельник 1901:530-531;Седов 1982:101.
53. Д Поддубцы. (Волынская губ.). Кург. №8.
Бусы серебряные лопастные.
Лит.: Седов 1982:101.
54. Д Крупа (Волынская губ.). Кург. №2.
Бусина серебряная лопастная.
Лиг.: Мельник1901:562; Короухиш1946;Седов 1982:101.
55. Житомирский мог. (Волынская губ.). Погребе-
ния №20, 37 из раскопок В.Б. Антоновича и кург. №20,
37 из раскопок С.С. Гамченко.
Бусы серебряные лопастные (4 экз.).
Лит.: Антонович 1893:68,69; Гамченко 1888: табл.
XLV12, Корзухина 1946; Седов 1982:106.
56. Окр. г. Коростеля. Курганный могильник.
Бусысеребряныелопастные.
Лит.: Седов 1982:106.
57. С. Гущипо (в окрестностях Чернигова). Клад
1930-х гг.
Бусина серебряная лопастная.
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Рыбаков 1949:53; Корзухина 1954:21,22, №21,
табл. VII, 5.
58. Д Гнсздово. Клад 1867 г. (по публикации
Г.Ф. Корзухиной—1968 г.).
Бусы серебряные лопастные (3 экз.).
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №994/15-17.
Лит.: Гущин 1936: табл. П,1.
59. Д Гнездово. Клад 1993 г.
Бусы серебряные лопастные (3 экз).
Москва. ГИМ.
Лит.: Ениосова, Пушкина 1996:25.
328
Приложения
Диадемы и их фрагменты. Карта 6.
60. Киев. Клад 1889 г., найденный в усадьбе Гребе-
новского в Троицком переулке. Рис.74, б.
Диадема золотая из семи килевидных кнотцсв с
изображением Деисусаидвух трапециевидных бляшек
на концах с изображениями женских головок. В верх-
ней части кнотцев—жемчужины наспнях, налобная
часть диадемы украшена квадрифолийными бляшка-
ми с эмалью и полыми каплевидными бусинами.
С.-Петербург. Государственный Русский музей, БК-
2756.
Лит.: Кондаков 1892: табл. 28; Кондаков 1996:138,
УШ: Рыбаков 1951:417-418, рис.2; Корзухина 1954:118-
119,№99; Толочко 1963:145; Макарова. Плетнева 1968:
101-103; Макарова 1975:108, №61,табл. 11,1-2.
61. Киев. Клад 1824 г., найденный в ограде Михай-
ловского монастыря.
Золотая трапециевидная пластинка от диадемы,
украшенная орнаментом из пятилепестковых кринов.
Место хранения неизвестно.
Лит.: Кондаков 1896:104, рис.67; Толстой, Кондаков
1897:105-107;Корзухина 1954:123,№107; Макарова 1975:
109, №65; Бочаров 1984:61.
62. Девичья Гора у с. Сахновки (Каневского райо-
на, Черкасской обл.). Клад 1900 г. Рис.82,2.
Диадема золотая из семи кнотообразных бляшек
(на центральной — изображение сцены вознесения
Александра Македонского, на боковых—геометризи-
рованный растительный орнамент) и двух трапиеце-
видных по краям (с изображением кринов в розетках).
Подвески в налобной части не сохранились.
Киев, Музей исторических драгоценностей УР,
№ЦМ-1938.
Лит.: Ханенко 1902:21,22, таб. 92; Корзухина 1954:
131, №127; Рыбаков 1969:92-103; Макарова, Плетнева
1986:103,104; Рыбаков 1971: рис.46-48; Толочко 1969:
92-103; Даркевич 1972:89; Макарова 1975:109,№69,
табл. 12.: Бочаров 1984:54.
63. С. Сахновка (Каневского у. Киевской губ.).
Бронзовый позолоченный киотец от диадемы с
эмалевым геометризировапным растительным орна-
ментом.
Местонахождение неизвестно.
Лнт.:Ханенко 1907: т.ХШ, №278; Толочко 1963:146;
Макарова 1975:124, №139. табл. 27.5.
64. С. Каменный Брод (Радомышльский повет, Ки-
евская губ.). Клад 1903 г.
Золотая диадема в виде узкой выгнутой пластины,
украшеннойдрагоцениыми камнями исканью. В ниж-
ней части—петельки для крепления бахромы.
Клад хранился в Харьковском музее им. Сковоро-
ды и погиб во время Великой Огечествешюй войны.
Лиг.: ОАКза 1903:192-197.208,табл. VII; Ханенко
1907:35.36; Гущин 1936:59-62. рис.16; Корзухина 1954:
136,№138; Толочко 1963:147-148; Стерлигова2000:156,
157,рис.51.
65. Новогрудок. При раскопках Ф.Д. Гуревич в
1961 г. было найдено две золотые каплевидные подвес-
ки от диадемы, одна из них с эмалевым орнаментом.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж.№1183.
Лит.: Макарова 1975:108, №62,табл. 11,1-3; Боча-
ров 1984:62.
66. С. Мушитино (Дрогобычского р-на Львовской
обл.). раскопки Савипа Н.И. кургана №18. На черепе
погребенной.
Обломок золотой киотообразной пластинки с эма-
льерным изображением архангела в рост.
Лит.: Савш 1932:233; Рыбаков 1948:388; Макарова
1975:52, ПО, №72.
67. Гор. Крылос (с. Крылос Ивано-Франковской
обл.), около 1900 г.
Золотая трапециевидная бляшка с отверстиями на
боковых сторонах и растительно-геометрическим ор-
наментом.
Львов, Исторический музей, №2475/Ш-410.
Лиг.:Ратич 1957:табл.ХП,30;Макарова1975:109,№64.
68. Окрестности г. Ярославля. Отдельная находка
1901г.
Золотая киотообразная пластинка от диадемы. На
пластинке—эмалевоеизображение Богоматери в позе
моления. В нижней части пластинки—петельки для
крепления подвесок.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж, №2033/1.
Лит.:ОАК 1903:122, рис.204; Толочко 1963:146,
рис.3а; Макарова 1975:108,№63.
69. Пустошь Алабуга (Нередтинского у. Костромс-
кой губ.) в 1896 г. при раскопках Нефедова па черепе
погребенной.
Медные позолоченные прямоугольные бляшки,
укреплешшс на берестяную основу; бляшки украше-
ны эмалевыми крестиками, вписанными в кружки.
С.-Петербург, Гос. Эрмитаж, Инв. №1043/58.
Лиг.: Макарова 1975:124,№140,табл. 27,1.
Очелья с пластинчатыми изогнутыми дужками. Карта 7.
70. Киев. Клад, найденный в 1887 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря. Рис.93.
Золотые дужки от очелья (22 экз.) Из них две кон-
цевые сегмешовидныепластннысрастителыю-геомет-
рическим орнаментом. По краям лотка с эмалевым
изображением—петли для жемчужной обнизи. В на-
стоящее время очелье хранится в музее в собранном
виде.
С.-Петербург. Гос. Русский музей.БК-2771.
Лит.: Кондаков 1892:329,330; Кондаков 1896:134-
136, табл. VI, VH Корзухина 1954:119,120, №102; Мака-
рова 1975:109, №66-67.
71. Киев. Клад 1880 г., найденный на Б. Житомирс-
кой ул.
Две золотые дужки и одна золотая сегментовидная
вставка от очелья. В центральном лотке вставки—ра-
сгшедьно-геометрический орнамент, по краям лотка—
петли для жемчужной обнизи.
Клад хранился в Харьковском музее им. Сковоро-
ды и погиб во время Великой Отечественной войны.
Лит.: ОАК1880: ХХШ; Кондаков 1892:328; Конда-
ков 1896: 117-120;Толстой, Кондаков 1897:1891:275-279;
Корзухина 1954:115,№90; Макарова 1975:109, №68.
72. Киев. Клад 1876г, найденный в усадьбе И. Лес-
кова.
Золотые дужки от очелья (34 экз.) и 4 концевых пла-
стины с вставками, украшенными перегородчатой эма-
лью и жемчужной обпизью. \
Приложения 329
Киев. Музей исторических драгоценностей.
Лиг.: ОАКза 1876 г.: XXXIX; Кондаков 1896:112-
116,рис.77;Толстой, Кондаков 1897:111-113;Ханенко
1902:47; Корзухина 1954:112, №80.
73. Киев. Клад 1901 г., найденный в усадьбе Ор-
лова.
Золотые дужки от очелья (9 экз.).
Киев. Музей исторических драгоценностей.
Лит.:Ханенко 1907:35; Корзухина 1954: Г13,№85.
74. Киев. Клад 1827 г., найдениыйвус. Августино-
вича.
Золотые дужки от очелья из гладкой и рубчатой
проволоки (11 экз.).
Клад хранился в Харьковском музее им. Сковоро-
ды и погиб во время Великой Отечественной войны.
Лит.: Кондаков 1896:107,108; Толстой, Кондаков
1897:107; Корзухина 1954:116,№95,рис.9.
75. Киев. Клад 1885 г., найденный в усадьбе Еси-
корского.
Серебряные колодочки от очелья (53 экз.), две из
них концевые, од на с цепочкой.
Клад хранился в Харьковском музее им. Сковоро-
ды и погиб во время Великой Отечественной войны.
Лит.: Кондаков 1896:124-132, табл. V, 15; Корзухина
1954:118,№99.
76. Киев. Клад, найденный в 1824 г. близ Михай-
ловского монастыря.
Золотые дужки с шарнирами, на концах украшен-
ные большими и малыми камнями в высота гнездах
(8 экз.).
Место хранения неизвестно.
Лит.: Кондаков 1896: рис.65; Корзухина 1954:123,
№107.
77. Киев. Клад 1986 г., найденный у д. Юпо Кудряв-
скойул.
Дужка от очелья (?) золотая.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лит.: Павлова 1990:103-110.
78. Гор. Девич-Гора у с. Сахновки (Каневского рай-
она, Черкасской обл.). клад 1900 г.
Дужки золотые от очелья (18 экз.).
Киев. Музей Исторических драгоценностей, УР,
№ДМ-1938.
Лит.: Ханенко 1902: табл. XXIX, 1097; Корзухина
1954:130-131,№126.
79. С Городище (Деражнянского района Хмель-
ницкой обл.). Клад 1970 г., найденный на детинце горо-
дища в результате работ археологической экспедиции
под руководствомС.М. Бибикова.
Серебряные позолоченные тисненые дужки от
очелья(16 экз.) с шарниром на одном конце.
Лит.: В. I. Якубовский 1975:87-104.
Очелья с бусинными дужками. Карта 8.
80. Киев. Клад 1903 г., найденный в ограде Михай-
ловского монастыря.
Серебряные изогнутые бусинные дужки от оче-
лья(13целыхи 1 фрагмент).
Москва, ГИМ. Инв. №49876.
Лит.:ОАКза 1903 г.:табл. У,21;Корзухина 1954:120,
№103.
81. М. Мартыновна (Каневского у. Киевской губ.).
Клад 1886 г.
Дужки серебряные трехбусинные изогнутые
(7 экз.).
Клад поступил в собрание А А. Бобринского.
Лит.: Бобринский 1887:150-153, табл. XX, 1,3,6;
Корзухина 1954: №129.
82. С. Ключники (Каневского у. Киевской губ.).
Клад 1887 г.
Серебряные позолоченные трехбусинные дужки
(2 экз.).
Музей Киевского Университета.
Лиг.: Корзухина 1954:№131,табл. LIV.6.
83. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад 1897 г.
Серебряные трехбусинные дужки от очелья (8 экз.)
с тиснеными бусинами, украшенными проволочны-
ми розетками, вписанными в круг.
Место хранения неизвестно.
Лиг.:Хапепко 1902:20, табл. XXIV, 960-967; Корзу-
хина 1954:130, №123, табл. L, 15-22.
84. С Вербов (Бережанского р-на Львовской обл.).
Клад 20-х гг.ХХв.
Серебряные дужки (8 экз.), связаны по 4 экз. скан-
ной проволочкой в две группы.
Клад хранился в Львовском историческом музее,
откуда пропал во время войны.
Лит.: Корзухина 1954:136,№143,табл. LDC; Дарке-
вич, Борисевич 1995.
85. Д. Льгов (Черниговской туб.). Клад 1879 г.
Выпрямленные бусинные дужки от очелья (10 экз.).
Клад хранился в Харьковском музее им. Сковоро-
ды и погиб во время Великой Отечественной войны.
Лит.: Толстой, Кондаков 1897:115-116;Гущин 1936:
66,табл. XII, 2,4-11,13; Корзухина 1954:№151.
86. Д. Терехово (Болоховского у. Орловской губ.).
Клад 1876 г.
Трехбусинные изогнутые дужки от очелья с тис-
неными бусинами, украшенными тремя сканными ко-
лечками со вписанными в них сканными звездочками
(14 экз.).
С.-Петербург. Гос. Русский музей БК-3308-3314.
Лиг.:Гущин1936:67,68,табл.ХГУ,8,10; Корзухина
1954:140,№154.
87. Старая Рязань. Клад 1868 г.
Дужка от очелья трехбусинная золотая с тиснены-
ми бусинами, украшенными проволочными колечка-
ми с маленькими отверстиями в центре окружности.
С-Петербург. Гос. Русский музей БК3336.
Лит.: Кондаков 1896:111-112; Толстой, Кондаков
1897:110,111;Гущин 1936:77-79, таб. XXVII, 18; Корзу-
хина 1954: №163.
88. Старая Рязань. Клад 1967 г.
Дужки серебряные бусинные от очелья с тисне-
ными бусинами, украшенными проволочными колеч-
ками с маленькими отверстиями в центре и с тиснены-
ми-ажурными бусинами (7 экз., из них у 2 бусины не
сохранились).
Лит.: Даркевич, Монгайт 1972:206-212.
88 а. Старая Рязань. Второй клад 1967 г. найден
при продолжении раскопок большой усад ьбы, в кото-
330 Приложения
ройнайпены клад 1966 г. и первый 1967 г.
Определены 11 серебряных трехбусгапых колец с
тиснеными бусинами, украшенными проволочными
колечками, конец дужки с застежкой закручен, возмож-
но, они переделаны в дужки очелья (?).
Лит.: Даркевич, Монгайг 1972:206-212.
89. Старая Рязань. Клад 1974 г.
Две серебряные бусинные дужки от очелья с тис-
неными бусинами, украшенным сканными «лучами»,
заключенными в круг.
Рязань. Областной краеведческий музей.
Лит.: Даркевич, Фролов 1978:349,рис.6,15,16.
90. Старая Рязань. Клад 1992 г. Рис.93.
Золотые дужки (10 экз.) с частично сохранившей-
ся бронзовой проволочкой, соединявшей дужки (бу-
сины на кольцах тисненые и ажурные-тисненые) идее
концевые пластины с вырезами для вставления бусин,*
украшенные сканью, зернью, вставками с альманди-
нами и стеклами и сегментовидной вставкой семалыо.
Скань двухъярусная, объемная, типичная juft Рязанс-
кой мастерской (ср. клад 1822 г.). Впекоторыхмесгахна
окислах читаются следы матерчатой основы. Вокруг
вставок концевых пластин—отверстия для нашивания
натканы
Лит.: Даркевич, Борисевич1995:78, рис.25-35.
91. Владимир. Клад 1837 г., найденный на террито-
рии Ветчаного города.
Дужки от очелья с тремя тиснеными ажурными
бусинами (6 экз.) и трехбусинные разогнутые серьги
(бусины тисненые разные, средние круглые украше-
ны концентрическими проволочными кружками с зер-
Колты
пью в центре, боковые овальные сплошь покрыты зер-
нью) (2 экз.).
Москва. ГИМ, Инв. №78605.
Лит.: ЗРАОт. XI, вып. 1-2.1899, нов. Сер.: 216; Гу-
щин 1936:69-71, табл. XVI, 6-8; Корзухина 1954:146,
№166.
92. Владимир. Клад 1865 г., найденный на террито-
рии Ветчаного Города.
Дужки от очелья золотые выпрямленные с боль-
шой примесью серебра, трехбусинные с тиснеными
ажурными бусинами (7 экз.).
С-Петербург. Гос. Эрмитаж. Кол. ЭРА-11/3-11.
Лит.: Гущин 1936:72-74, табл. XVII, 2-4; Корзухина
1954:146,№167.
- 93. Владимир. Клад 1896 г., найденный на террито-
рии Печерного Города.
Серебряные дужки с ажурными бусинами, вы-
прямленные, связанные сканными нитями, проходив-
шими между первой и второй, второй и третьей буси-
ной. Золотые трехбусинные сережки с ажурпыми бу-
синами, разогнутые как дужки очелья (2 экз.).
Москва. ГИМ. Инв. №36209, on. 1089.
Лит.: Гущин 1936:74,75, табл. XXI, 5; Корзухина
1954: №168, табл. 1X1
94. Москва, Кремль. Клад, найденный в 1988 г.
Серебряные дужки от очелья (16 экз.), соединен-
ные проволочкой в две группы по 8 шт., кроме двух
экземпляров с тиснеными бусинами, покрытыми зер-
нью, остальные—с тиснеными ажурными бусинами.
Москва. Оружейная палата.
Лит.: Наследие варягов 1996:111.
Колты золотые с жемчужной обнизью. Карта 9.
95. Киев. Клад, найденный в 1842 г. предположи-
тельно в тайнике в районе апсид Десятинной церкви
при постройке новой церкви по проекту архитектора
А.С. Анненкова.
Колт золотой с петлями для жемчужной обнизи, на
лицевой стороне эмалевое изображение двух сиринов,
на оборотной—птиц, раскинувших крылья. Эмаль
практически выкрошилась, перегородки очень пизкие.
Пара золотых колтов с петлями для жемчужной об-
низи, на одной стороне изображение грифона в про-
филь, на другой—профильное изображение идущей
птицы. Фигурки животных украшены изображениями
кринов.
Киев. Музей Исторических драгоценностей. №ДМ
АЗ 6481.
Лит.: Кондаков 1892:327, табл. 20;Коцдаков 1896:
рис.59-60; Корзухина 1954:105,106; Макарова 1975:103,
№11, табл 2,3-4.
96. Киев. Клад, найденный в 1936 г. приработеар-
хеологической экспедиции института археологии АН
УССР близ Десятинной церкви в бывшей усадьбе Пет-
ровского.
Колт золотой с петлями для жемчужной обнизи, с
изображением двух сиринов на лицевой стороне и ро-
зетки с крином в центре, заключенной в круг, и «ро-
гов» па обороте.
Киев. Музей исгорическихдрагоценносгей,№3.909.
Корзухина 1954:108,№67,табл.ХХХШ, 1; Макаро-
ва 1975: 103,табл.1,8.
97. Киев. Клад, найденный в 1876 г. вус. И. Лескова
на углу Б. Владимирской и Десятинного пер. Золотые
колты с эмалевыми изображениями (2 пары).
Колты золотые с петлями для жемчужной обнизи,
у одной пары на лицевой стороне изображение женс-
ких головок, на оборотной—птицы по сторонам дре-
ва, у второй—на лицевой—птицы по сторонам дре-
ва, на обороте—розетка в круге и «рога».
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №3.
905,3.914;К°ДМ 1781-1782.
Лит.: Кондаков 1892:328, табл. 20 и 21; Кондаков
1896:112-116,рис.76-77,табл. XV,3-9; Толстой, Кондаков
1897:111-113,рис.164-168,200; Ханенко 1902:47,№998,
999, табл. XXVII; Корзухина 1954:112, №80; Макарова
1975:104,№21-24,табл. 3,12,13,6,7.
98. Клев. Клад 1911 г., найденный при раскопках,
производившихся Д.В. Милеевым в усадьбе Десятин-
ной церкви.
Колты золотые с петлями для жемчужной обнизи с
изображениями юных мучеников.
Клад хранился в Харькове в музее им. Сковороды,
погиб во время войны.
Лит.: ОАК за 1991:62,96, рис.100-104; Корзухина
1954:109,№69; Макарова 1975:105, №29, №30, табл. 4-7.
99. Киев. Клад,тийденныйв 1901 г.вус.БА.Орло-
Приложения
331
ва по Трехсвятительской ул.
Колты золотые с жемчужной обиизыо и базиро-
ванным черненым изображением птиц, сопоставлен-
ных у крина на лицевой стороне, и птицы в круге на
обороте (пара).
Киев. Музей исторических драгоценностей, Х°ЦМ-
6220,6221.
Лит.: ИАК 1902:26; Ханенко 1907:35; Корзухина
1954:113,№85,табл. XXXV,3-5,9;Макарова 1986:133,
№106-107,рис.17.
100. Киев. Отдельная находка на Трехсвятительс-
кой ул. уд. №4(?).
Колты золотые с петлями для жемчужной обнизи
(пара), на лицевой стороне—изображение идущей
птицы, на обороте—круг в центре, по бокам—трапе-
ции и кружки, заполненные растительно-геометричес-
ким орнаментом.
Киев. Музей Историческихдрагоценностей,№6420-
6421.
Лит.: Макарова 1975:104,№27-28,табл. 3,4-5.
101. Киев. Клад, найденный в 1880 г. на Б. Жито-
мирской ул. удомаген. Кушинова.
Колты золотые с петлями для жемчужной обнизи с
изображением сиринов на лицевой стороне и расти-
тельно-геометрическим орнаментом на обороте
(2 экз.).
Клад хранился в Харьковском музее им. Сковоро-
ды, погиб во время войны.
Лит.: Коццаков 1896: И; Корзухина 1954:115,№90;
Макарова 1975: №34, табл. 1,34.
102. Киев. Клад, найденный в 1876 г. в ус. Ю. Чай-
ковского.
Колты золотые без встав но го щитка с гравирован-
ным черненым узором и каймой из мелких шариков,
припаянных на трубочки; на лицевой стороне—ро-
зетка в круге и «рога» по бокам, на обороте—крин,
окруженный розетками, и кайма с растительно-геомет-
рическим гравированным орнаментом.
Клад хранился в Харькове в музее им. Сковороды,
погиб во время войны.
Лит.: Корзухина 1954: рис.17; Макарова 1986:134,
№121,122, рис.17.
103. Киев. Клад 1887 г., найденный в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Колты золотые с петлями для жемчужной обнизи
(пара). На лицевой стороне два сирина в круглых ша-
почках, на обороте—розетка с четырьмя кринами в
круге и «рога» по сторонам.
С.-Петербург. Гос. РусскиймузейБК 2767,2768.
Лиг.: Макарова 1975:102,табл.5-6,1,1-2.
104. Киев. Клад 1906 г., найденный в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Колт золотой с петлями для жемчужной обнизи, на
лицевой стороне—две птицы по сторонам крина в
круге, на обороте—стандартная растительно-геомет-
рическая композиция.
Москва, ГИМ. №49847/111. Арх. Отд. ОДМ 358.
Лит.: Отчет ГИМ 1926:11; Корзухина 1954: №105;
Макарова 1975:103,104,№18,табл. 3,3.
105. Киев. Клад 1824 г., найденный близ Михайлов-
ского монастыря.
Колты золотые с петлями для жемчужной обнизи,
на лицевой стороне изображение профильного иду-
щего дракона, на обороте—идущая птица с раскину-
тыми крыльями.
Исчезли в 1825 г.
Колты золотые с петлями для жемчужной обнизи,
на лицевой стороне—птицы по сторонам геометри-
зированного дерева, на обороте—в центре розетка с
кринами в круге, по боками—кружки и трапеции с
городчатым геометрическим узором.
Москва. ГИМ. №53091/111, Арх. Огд. ОДМ 317-318.
Лит.: Корзухина 1954: №107; Макарова 1975:103,
№14-15,19-20,табл.2,7-10,14-15.
106. Киев. Клад, найдашый в 1906 г. на Трехсвяти-
тельской ул. напротив ворот гостиницы Михайловско-
го монастыря.
Колты золотые (пара) с петлями для жемчужной
обнизи и эмалевыми изображениями птиц и раститель-
но-геометрических композиций; колты золотые(пара)
с эмалевыми изображениями птиц на одной стороне и
женских головок на обороте; колты золотые (пара) с
эмалевыми изображениями святых на одной стороне
и геометрической композиции на обороте.
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:124-125,№108.
107. Клев. Клад 1885 г., найденный в усадьбе Еси-
корского по Троицкому пер.
Колты золотые с петлями для жемчужной обнизи
(пара), на лицевой стороне—два сирина, на обороте
—стандартная растительно-геометрическая компози-
ция с розеткой и кринами в круге.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж, Инв. №635/7.
Лиг.: Макарова 1975:102, №5-6, табл. 1,5-6.
108. Клев. Время и место находки точно не извес-
тна
Колт золотой с петлями для жемчужной обнизи, на
лицевой стороне—изображение сиринов, на оборо-
те —розетка с четырьмя кринами в круге и «рога».
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №912.
Лит.: Рыбаков 1971:46, рис.49; Макарова 1975:102,
№7,табл. 1,7.
109. Киев. Место находки точно не указано, по-
ступили от Могилевцева в 1971 г.
Колты золотые (пара) с петлями для жемчужной
обнизи, на лицевой стороне—птицы по сторонам кри-
на в круге, на обороте—стандартная растительно-гео-
метрическая композиция.
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №ДМ
6339-6340.
Лит.: Рыбаков 1971:36, рис.37; Макарова 1975:103,
№16-17,табл. 3,1-2.
110. Киев. Клад 1986 г., найденныйд. 10 по Кудряв-
скойул.
Колт золотой с эмалевым изображением птицы на
лицевой стороне и растительно-геометрической ком-
позицией на обороте.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Павлова 1990:103-110.
111. Мирополь (Житомирской обл. УССР). Клад
1938 г.
Колты золотые с петлями для жемчужной обнизи
(пара), на лицевой стороне сирины по сторонам древа,
на обороте—четыре древа в круге.
Киев. Музей Исторических драгоценностей,
№з.907,909.
332
Приложения
Лит.: Макарова 1975:103, №9-10, табл. 2,1-2.
112. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад 1896 г.
Колт золотой с петлями для жемчужной обнизи, на
лицевой стороне изображение птицы в геральдичес-
кой позе, на обороте—идущая в профиль птица.
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №ДМ
1777.
Лиг.: Корзухина 1954:129, №120, табл. XUX,9,10; Ры-
баков 1971:24,25; Макарова 1975:104,№25,табл. 3,8-9.
ПЗ.Гор.КняжаГора(Каневскогоу. Киевской губ.).
Колт золотой маленький с петлями для жемчуж-
ной обнизи, на лицевой стороне—изображение иду-
щей птицы с веткой в клюве, на обороте—крип с «ро-
гами» по бокам.
Киев. МузейИсторическихдрагоценностей,№ДМ
1790.
Лит.: Корзухина 1954:126,№117; Макарова 1975:
104,№26,табл. 3,10-11.
114. Гор. Девичья Гора у с. Сахновка, Каневского
у. Киевской губ., клад 1900 г.
Колты золотые с петлями для жемчужной обнизи
(пара), на лицевой стороне—два сирина в круглых
шапочках, на обороте—стандартная растительно-гео-
метрическая композиция.
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №ДМ
1779.
Лиг.: Макарова 1975:103,№12-13,табл. 2,5-6.
115. Городише у д. Вищип (Рогачевский р-н Го-
мельскойобп.)—Вищинский замок. Клад 1979 г.,най-
денный при раскопках, проводившихся экспедицией
Белгосуниверситета.
Два серебряных позолоченных колта, украшенные
эмалевыми изображениями птиц.
Лит.: Загорульский 1983:89, рис.21.
116. Чернигов. Клад, найденный в 1887 г.наАлек-
сацдровскойпл.
Колты золотые с петлями для жемчужной обнизи с
изображениями юных мучеников (Георгия или Димит-
рия) на лицевой стороне и геометризированного дре-
ва и «рогов» на обороте.
С-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1021/9,10.
Лиг.: Макарова 1975:105, №31-32, табл. 4,3-4.
117. Владимир. Клад 1865 г., найденный на терри-
тории Ветчинного Города.
Kojfibi золотые без петель для обнизи, па лицевой
стороне изображения юных мучеников (Георгия или
Димитрия), наобороте—в центре круг, украшенный
кринами, по бокам растительные побеги.
С-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №ЭРА 11/1,2.
Лит.: Макарова, Плетнева 1968:107,108; Макарова
1975:105, №35-36, табл. 4,10, И.
118. Владимир. Клад 1896 г., найденный на терри-
тории Печернего Города.
Колты золотые с петлями для жемчужной обнизи
(пара), на лицевой стороне изображения юных муче-
ников (Георгия или Димитрия), на обороте—круг в
центре и шесть кружков по краям, украшенные расти-
тельным узором.
Москва. ГИМ. №36209/Ш, Арх. Отд. ОДМ 298.
Лиг.: Макарова, Плетнева 1968:107,108; Макарова
1975:105, №33-34, табл. 4,1-2
Медные колты, украшенные эмалью.
119. Городище «Райки».
Колт медный позолоченный, украшенный эмале-
вым растительно-геометрическим орнаментом (город-
ки и растительные завитки).
Киев. Национальный музей истории Украины. Инв.
№ср. 454(с. 58862).
Лит.: Рыбаков 1971: рис.56; Макарова 1975:123,
№135,табл27,2
120. Коллекция Боткина.
Колты медные позолоченные (пара) с эмалевым
изображением святой на лицевой стороне и геометри-
ческой композицией на обороте.
С.-Петербург. Гос. Русский музей. Инв. №А 812
(4603),А813(4604).
Лит.: Макарова 1975:123, №136, табл. 27,12-13.
121. Место находки неизвестно.
Колт медный, аналогичный, но не парный копту из
кол. Боткина.
Москва. ГИМ. Инв.№66429,66430.
Лиг.: Рыбаков 1948:386; Макарова 1975:124,№137,
табл. 27,14-15.
122 Киев, найден в 1910 г. при раскопках Д.В. Ми-
леева в ус. Трубецкого.
Колт медный позолоченный с изображением про-
фильной идущей птицы на одной стороне и раститель-
но-геометрической композицией на другой.
С-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв.№637/370.
Лит.: Макарова 1975:137,№138,табл. 10-11.
Колты золотые со вставными щитками и лучевой обнизью. Карта 10.
123. Киев. Клад, найденный в 1827 г. в ус. Августи-
новича.
Колты золотые (пара) со вставным щитком, обрам-
ленным тиснеными полусферамиимноголучевой кай-
мой. На лицевых щитках изображение идущей птицы,
на обороте—растительно-геометрический орнамент:
перевернутыйкрин в круге и «рога» по бокам. Вокруг
щитков—петли для жемчужной обнизи и поясок тис-
неных полусфер.
КладхранилсявХарьковев музее им. Сковороды,
погиб во время войны.
Лиг.: Кондаков 1896:107,108,табл. X; Корзухина 1954:
116, №95; Макарова 1975:106,108, №39-40,табл. 5,1-2
124. Киев. Клад 1906 г., найденный в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Колт золотой со вставными щитками и каймой с 24
лучами. На лицевой стороне—изображение древа, на
обороте—крин в круге с «рогами» по бокам.
Москва. ГИМ,№ДМ49877/Ш, Арх. отд. ОДМ 359.
Колт золотой, по-видимому, парный к предыду-
щему.
Киев. Музей Исторических драгоценностей.
Лиг.: Макарова1975:106,№43,табл.5,11,10.
125. Киев. Клад 1949 г., найденный па ул. Жертв
Революции.
Колтызолотые(пара)сбольшимивставными щит-
Приложения
333
ками и оправой с 29 лучами, между которыми кое-где
сохранились нанизанные на проволочку жемчужины.
На лицевой стороне в центре щитка изображена женс-
кая головка в круге, обрамленная распггельно-геомет-
рической композицией. На обороте—растительно-гео-
метрическая композиция.
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №ДМ
1908,1908а.
Лит.: Макарова 1975:105, №37-38, табл. 5,6-7.
126. Киев. Клад, найденный до 1914 г. на Стрелец-
кой ул.
Колты золотые со вставными щитками и оправой с
20 лучами (пара), на лицевой стороне—крин в круге и
«рога» по бокам, на обороте—четыре треугольника с
геометрическим орнаментом.
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №ДМ
1916.
Лиг.: Макарова 1975:107,№50-51,табл. 5,12—13.
127. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевскойгуб.).
Клад1896 г.
Колты золотые небольшого размера, почти круг-
лые по форме, со вставными щитками, занимающими
практически все центральное пространство колта и кай-
мой из 14лучей. На лицевой стороне—эмалевое изоб-
ражение древа, на обороте—крина.
Киев. Музей исторических драгоценностей.
Лиг.: Корзухина 1954:129,№120,табл. XLIX, 11,12;
Макарова 1975:106, №48-49, табл. 5,3.
128. Гор.КняжаГора(Каневскогоу.Киевскойгуб.).
Клад1897г.
Колты золотыесо вставными щитками, обрамлен-
ными тиснеными колпачками и каймой с 24 лучами
(пара). На лицевой стороне—изображение птицы в
профиль, на обороте—крин в круге с «рогами» по
бокам.
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №ДМ
1838,1839.
Лиг.: Корзухина 1954:129, №121, табл. LIX, 2,3.; Ма-
карова 1975:106, №41-42, табл.5,8.
129. Чернигов. Женское погребение, раскопанное
в 1883 г. у алтаря Борисоглебской церкви.
Колты золотые (пара) с маленькими круглыми
вставными щитками, вокруг которых располагаются
петли для жемчужной обнизии тисненые полусферы.
На щитках — эмалевое изображение крина в круге.
Кайма с 24 лучами.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1020/15,16.
Лиг.: Корзухина 1954:52; Макарова 1975:106,№45-
46, табл. 5,4,5.
130. Чернигов. Клад 1850 г.
Колгзолотойсо всгавшшщитком, окруженным лет-
лямидляобнизи,икаймойс24 лучами. Налицевой сто-
роне —изображение двух гпиц, на обороте—крипа.
Местонахождение неизвестно.
Лит.: Макарова 1975:106,№47,табл. 5,9.
131. Старая Рязань. Клад 1822 г.
Подвески круглые в виде больших колтов (пара; по
всей видимости, приклад на икону)со вставными щит-
ками с эмалевыми изображениями Бориса и Глеба,
оправа украшепа нитями жемчуга, двойной сканью и
крупной зерньюивсгавкамисполудрагоценнымикам-
нями, на обороте—вставки из полудрагоценных кам-
ней и скань.
Москва. Оружейная Палата. №74.
Лиг.: Кайладович 1885; Опись Московской Оружей-
ной палаты 1894:41-43; Кондаков 1896:83-96, рис.42-51,
табл. XVI,XVII; Толстой, Кондаков 1897:168; Рыбаков
1948: рис. 109; Мопгайт 1955:141-142; Корзухина 1954:
143,144, №162; Макарова 1975:61; Бочаров 1984:152;
Сгерлигова2000:153, рис.48.
Колты серебряные без вставных щитков. Карта 11.
132. Киев. Клад 1893 г., найденный на углу Сретен-
ской и М Владимирскойул.
Колты серебряные (пара) с ажурной каймой, с гра-
вированным черненым изображением перевернуто-
го крина (целиком сохранился только один экземпляр).
С.-Петербург. Гос. Русский музей, БК-3319,3470,
2638 а, б.
Лит.: Корзухина 1954:116,№94,табл. XXV,2; Мака-
рова 1986:139, №206, рис.21,
133. Кию. Клад, найденный в 1889 г. в ус. подпору-
чика Гребновского по Троицкому пер.
Часть ажурного ободка от серебряного колта.
С.-Петербург. Гос. Ясский музей. БК- 2715.
Лит.: Кондаков 1896: табл. IX, 16; Корзухина 1954:
119,№99.
134. Киев. Клад, найденный в 1903 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Колты серебряные (пара) с гравированным изоб-
ражением животного с цветком во рту и каймой из
мелких шариков, обведенной ложнозерпепой прово-
локой.
Москва. ГИМ№49876,оп.1091,№1.
Лиг.: Корзухина 1954: №103: Макарова 1986:133,
№116-117,рис.17,24.
135. Киев. Клад, найденный в 1906 г. на Трехсвяти-
тельской ул. напротив ворот гостиницы Михайловско-
го монастыря.
Колт серебряный фрагментированный с остатка-
ми гравированного изображения. Кайма из полых ша-
риков, припаянныхктрубочкам.
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:124-125,№108,табл. XLV.
136. М.Мартыновка (Каневского у. Киевскойгуб.).
Клад 1886 г.
Колты серебряные (пара) с гравированным изоб-
ражением па черненом фоне хищной птицы с хвос-
том, переходящим в узел плетенки и каймой из сереб-
ряных тисненых шариков на горлышках.
Клад поступил в собрание А А. Бобринского.
Лит.: Кондаков 1896:132,133; Толстой, Кондаков
1897:121,122,рис.177; ЗРАО 1899:272; Гущин 1936:36-
38, рис.6и 8; Корзухина 1954:132,№129.
137. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад, найденный в 1891 г. при раскопках Н.Ф. Беляшев-
ского.
Колт серебряный (дужка и кайма отсутствуют). На
лицевой стороне гравированное изображение ппщ, со-
поставленных головами, на обороте—растительно-
геометрическая композиция (круг, обрамленный тра-
пециями), напоминающая композиции на обороте не-
которых золотыхкопгов.
Место хранения неизвестно.
334
Приложения
Лит.: Корзухина 1954:127,№115,табя.ХЬУШ,26.
13&Гор.КняжаГора(Каневскогоу. Киевскойгуб).
Клад, найденный в 1891 г. при раскопках Н.Ф. Беяяшев-
ского.
Колт серебряный с ажурной каймой, украшенный
гравированной полосойссетчатым орнаментом.
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:127,№115,табл. XLVHI,27.
139. Гор.КняжаГора(Капевскогоу. Киевской губ.).
Клад, найденный в 1891 г.прираскопкахН.Ф.Беяяшев-
ского.
Колт серебряный с каймой из мелких литых шари-
ков, украшештый гравированной, черненой плетенкой.
Место хранения неизвестно.
Лит.: Корзухина 1954:127,№115,табл. ХЬУШ,25;
Макарова 1986:133, №120, рис. 17.
140. Гор. Княжа Гора (?) (Каневского района, Чер-
касской обл.). Случайная находка.
Колты серебряные позолоченные (пара) с плохо
сохранившейся обнизью из тисненых полых шариков,
с тисненым, обведенным резцом схематичном изоб-
ражением двух птиц, сопоставленных возле опрокину-
того крина, изображение дано на черневом фоне (ка-
чество черни плохое).
Киев. Национальный музей истории Украины.
№ср-359,360.
Лит.: Макарова 1986:134,№127-128,рис.19.
141. Гор. Девичья Гора у с. Сахновки (Каневского
района, Черкасской обл.). Клад 1900 г.
Колты серебряные маленькие с обнизью из круг-
лых шариков на трубочкахигравированными изобра-
жениями сопоставленных птиц на черневом фоне.
Место хранения неизвестно.
Лиг.:Ханенко 1902: XXIX,969,9701; Корзухина 1954:
130-131,№126; Макарова 1986:134,№125-126,рис.19.
142. С Сахновка (Каневского у. Киевской губ.).
Колты серебряные (пара) с обнизью из мелких ли-
тых шариков, обрамленных оправой из рубчатой про-
волоки, на черневом фоне дало гравированное изоб-
ражение двух грифонов, сопоставленных около пле-
тенки.
Место хранения неизвестно.
Лит.:Ханенко 1907: табл. ХХУШ; Макарова 1986:
133,№108,109.
143. С. Старая Буда (Звенигородского у. Киевской
губ.). Клад 1908 г.
Колты серебряные (пара) с обнизью из крупных
полых шариков на горлышках и примитивным грави-
рованным изображением крина.
Харьков. Исторический музей. Инв. №5569-5572.
Лит.: Корзухина 1954:126, №112; Макарова 1986:
136, №153-154, рис.18.; Минжулин 1991:252-255.
144. С. Городище (Деражпянского района Хмель-
ницкой обл.). Клад 1970 г., найденныйпа детинце горо-
дища в результате работ археологической экспедиции
под руководством С.М. Бибикова.
Колты серебряные (пара) с растительным орна-
ментом, декорированным чернью и обнизью из 14тис-
непых шариков, нанизанных на проволоку. Шарниры
колтов бронзовые, на дужках сохранились остатки тол-
стых ниток с маленькими кольцами цепочек, к кото-
рым крепились колодочки серебряных рясен.
Аналогичные колты более маленького размера, на
лицевой стороне изображение фантастических птиц,
на оборотной—растительно-геометрический орна-
мент.
Хмельницкий. Областной краеведческий музей.
Инв. №3377,3378.
Лиг.: Якубовский.975:87-104.
145. С. Залесье (Каменецкого у. Подольской губ.,
на границе с Бессарабией). Клад, найденный до 1842 г.
Колт серебряный, обнизь из крупных тисненых ша-
риков (?) отсутствует, украшен гравированным черне-
ным изображением сирина в треугольном головном
уборе.
Место хранения неизвестно.
Лит.: Спицын 1915:242,246, рис.45,46; Рыбаков
1848: рис.83, д.; Макарова 1986:135,№144,рис.18.
146-152. С. Город ище (Шепетовского р-на Хмель-
ницкой обл.)—древний город Изяславль. Раскопки
М.К. Каргера.
Клад П (по АА. Песковой). 1957 г.
Колты серебряные (пара) с ажурной каймой,
укрепленной нитью из двух перевитых проволок, с тис-
неным, подправленным гравировкой изображением
сопоставленных птиц, д анным на черненом фоне, хво-
сты и крылья птиц переходят в плетенку, оканчиваю-
щуюся крином. Лоток для черни мелкий, она местами
выкрошилась.
КладУ. 1958 г.
Колт серебряный с ажурной каймой, обрамлен-
ной нитью из двух перевитых проволок и весьма схе-
матичным тиспеным, обведенным резцом изображе-
нием птицы в профиль с повернутой назад головой на
одной стороне и двух птиц у крина на другой, данным
на черненом фоне.
КладУ!. 1959 г.
Колты серебряные (пара) с каймой из крупных по-
лых шариков, дужки не сохранились, на щитках тисне-
ные схематичные изображения двух птиц, сопостав-
ленных возле опрокинутого крина, изображения обве-
дены резцом и даны на черневом фоне.
Клад УП 1959 г.
Колты серебряные без вставных щитков (пара,
одинсильно помятый, дужкиу обоих экземпляровутра-
чепы), кайма ажурная проволочная, обведенная руб-
чатой проволокой, на черневом фоне дано гравиро-
ванное схематичное изображение птиц с повернутой
назад головой.
КладУШ.1959г.
Колт серебряный без вставного щитка с ажурной
проволочной каймой, обведенной гладким дротом и
практически стершимся гравированным изображени-
ем на черненом фоне.
КладИ. 1959 г.
Колты серебряные (пара) без вставных щитков,
дужки не сохранились, с обнизью из 13 полых шари-
ков, нанизанных напроволокуирасположешгыхвуглуб-
лении между пластинами колта (пластины были оттис-
нуты на примитивной матрице—изображение двух
фантастических животных, тела которых переходят в
плетенку, выполнено резцом, фон покрыт чернью).
Колты серебряные маленькие без вставного щитка
с ажурной проволочной каймой, с гравированным
изображением плетенки на черненом фоне.
КладХП.1961г.
Приложения
335
Колты серебряные (пара) без вставных щитков с
ажурпойпроволочнойкаймой, на черненом фоне дано
изображение двух птиц, сопоставленных около крипа,
линии гравировки проработаны чернью.
Кроме того, в Изяславской коллекции хранятся два
депаспоргизованных серебряных колта с ажурной кай-
мой, а также 2 бронзовые матрицы для тиснения кол-
тов с изображением фантастического зверя (одна мат-
рица неоднократно использовалась, вторая—недоде-
ланная).
С.-Петербург. ГЭ. ЭРА-34/17,18,117,233,234.270.
271.
Лит.: Миролюбов 1983:16-19; Макарова 1986:135,
№135-136, рис.20,138-139, №192-203, рис.21; Пкжова
1988:16-35.
153. С. Вербов (Бережанского р-на Львовской обл.).
Клад 20-х гг. XX в.
Колт серебряный с тисненым геометрическим ор-
наментом и псевдозернью, кайма из тисненых высту-
пов.
Клад хранился в Львовском историческом музее,
откуда пропал во время войны.
Лиг.: Корзухина 1954:136, №143, табл. LIX.
154. Чернигов. Клад 1923 г.
Колты серебряные с гравированным изображени-
ем животных на черненом фоне и с обнизью из круп-
ных тисненых шариков на горлышках.
Место хранения неизвестно.
Лит. Корзухина 1954:138, №150; Макарова 1986:
135,№147.148,рис.18.
155. Д. Льгов (Черниговской губ.). Клад 1879 г.
Колты серебряные украшенные гравированным
изображением птицы с хвостом в виде плетенки, рас-
положенным на черненом фоне, и каймой из крупных
полых шариков на горлышках.
Клад хранилсявХарысове в музее им. Сковороды и
погиб во время войны.
Лиг.: Гущин 1936:66, табл. ХП, 143; Корзухина 1954:
138, №151; Макарова 1986:135,№142,143,рис.19.
156. Любеч(Репкииского р-на Черниговской обл.).
Раскопки БА. Рыбакова 1960 г.
Колт серебряный с каймой из полых шариков, изоб-
ражение в центре утрачено.
Москва, ГИМ.,№100891, оп. 2027,№37.
Лиг.: Рыбаков 1964:21-23; Макарова 1986:134, №130-
131, рис.19.
157. Урочище Святое Озеро близ д. Новая Буда и
Низовка (на границе Сосницкого и Черниговского у.).
Клад 1908 г.
Колты серебрящие большие (пара) с гравирован-
ным изображением двух грифонов, сопоставленных
около плетенки, кайма из крупных полых тисненых ша-
риков. В замочную петельку продето полугораоборот-
ное кольцо.
Колты серебряные(пара)сгравированными изоб-
ражениями (на обеих сторонах) на черненом фоне фан-
тастического зверя, соединенным с плетенкой, окан-
чивающейся растительными побегами. Кайма из мел-
ких литых шариков,нрипаянныхкпроволочнымколеч-
кам, кайма окружена рубчатой проволокой. Б .А. Ры-
баковым была выявлена матрица, по которой тисни-
лось изображение на этих колтах (Рыбаков 1940:152,
рис.78).
Москва, ГИМ, №46043, on. 1118,14.
Лиг.: Отчет РИМ 1911:7 табл. П; Самоквасов 1916:
33-40, рис. 1-4,6-13; Рыбаков 1940:237, рис.24,79; Рыба-
ков 1948: рис.80,83; Корзухина 1954:138, №152; Мака-
рова 1986:133,№112-113,рис.17,134.№132-133,рис.18;
Недошивина 1999:182-186.
158. Д. Терехово (Болоховского у. Орловской губ.).
Клад1876г.
Колты серебряные (пара) с обнизью из крупных
полых тисненых шариков, укрепленных проволокой,
продетой в петли (шарики расположены в углублении
на боковой стороне колта). На лицевой стороне колтов
нанесено очень тонкое гравированное изображение
птиц с процветшими хвостами, разделенное опроки-
нутым крином. На оборотной стороне—узел плетен-
ки (чернь заполняет линии гравировки).
Колты серебряные (пара) с обнизью из полых тис-
неных шариков на горлышках. На обеих сторонах изоб-
ражение хищной птицы с хвостом, переход ящим в пле-
тенку, фон—углубленный лоток заполненный чер-
нью.
Колты серебряные маленькие (пара) с обнизью из
тисненых шариков на горлышках. На обеих сторонах
—изображение животного с листиком во рту.
С.-Г1етербург. Гос. Русский музей БК-3289,3290, БК-
3276, 3277, БК-2382; БК-3284,3285.
Лиг.: Гущин 1936:67.68, табл. XTV, XV; Корзухина
1954:139,140, №154; Макарова 1986:134,135,№123,124,
№137,138,рис.19,20,№145,146,рис.18.
159. С. Стариково (Корочанского у. Курской губ.).
Клад1883г.
Колты серебряные (пара, один во фрагментах) с
обнизью из тисненых крупных шариков на горлышках
с грубым гравированным изображением растительно-
го побега па черневом фоне на обеих сторонах.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. 1001/1 а, б.
Лит.: Гущин 1936:66-67, табл. ХШ; Корзухина 1954:
141,№158; Макарова 1986:135,136,№149-150.
160. Имение Н.Ф. Терещенко (Путивльскийу. Кур-
скойгуб.). Клад 1878 г.
Колты серебряные: один хорошей сохранности, с
каймой из полых шариков на горлышках, с изображе-
нием животного на черневом фоне; второй колт, пар-
ный к первому, фрагментирован.
Москва. ГИМ, №78607, оп. 1321,1.
Лит.: Архив ИИМКРАН ф.№1 (АК), 1885 г.,№59,
л.372; ЗРАО1899:145; Самоквасов 1908:268; Рыбаков
1948:310; Корзухина 141, №159; Макарова 1986:133,
№114-115.
161. Старая Рязань. Клад 1887 г.
Колты серебряные (пара) с обнизью из крупных
полых шариков, нанизанных на серебряную проволо-
ку, и гравированным изображением двух птиц с пере-
плетенными хвостами и крыльями, переходящими в
плетенку, расположенном на черненом фоне (лоток
для черни оттиснутпо матрице).
Рязань. Историко-художественный музей-заповед-
ник, ЮМ, №1205, кол. №1.
Лит.: Кондаков 1896:136,137, рис.84; Толстой, Кон-
даков 1897: рис.224; Гущин 1936:78-80,табл. XXVIII;
Корзухина 1954:144,145, №165; Монгайт 1955:144,
рис.117; Макарова 1986:134,№130,131,рис. 19.
162. Старая Рязань. Клад 1970 г.
336
Приложения
Колты серебряные тисненые (пара, один силь-
но фрагментирован) с обнизью из крупных круг-
лых шариков (шарики нанизаны на серебряную
проволоку, продетую сквозь петли). Колты были
прикреплены к кольцам серебряных рясен. В цент-
ре колтов тонкое гравированное изображение
фантастического зверя, переходящее в узел плетен-
ки с растительными мотивами, по краю — лоза.
Изображение дано на черненом фоне. Пластины
колта оттиснуты на матрице.
Рязань. Историко-художественный музей-заповед-
ник, ЮМ, №7606-204.
Лит.: Даркевич 1977:164,165, рис.11,12; Даркевич,
Монгайт 1978:20,21, табл. П, III; Макарова 1986:147,
№141,рис.18.
163. Старая Рязань. Клад 1974 г.
Девять серебряных крупных тисненых шариков от
обнизиколта.
Рязань. Областной краеведческий музей.
Лит.: Даркевич, Фролов 1978:350, рис.7,1.
164. С. Кресты (Тульской губ.). Клад 1976 г.
Колт серебряный с пятью дужками для обнизи (тис-
неные шарики обнизи отдельно), изображение двух со-
поставленных птиц весьма примитивно оттиснуто на
матрице и обведено резцом.
Москва. Оружейнаяпалата,№МР-Ю12, охр. 10882
Лит.: Опись Московской оружейной палаты 1983:
25, №9484-9492, табл. 78; ЗРАО 1889:198; Гущин 1936:
36-38; Корзухина 1954:140,141, №157, табл. LX; Мака-
рова 1986:135,№134,рис.20.
Колты серебряные со вставным щитком. Карта 12.
16S. Киев. Клад, найденный в 1909 г. в ус. Десятин-
ной церкви к востоку от апсид при раскопках Д.В. Ми-
леева.
Колты серебряные (пара) весьма фрагментарной
сохранности смноголучевой каймой и вставными щит-
ками с изображениями птичек. На рисунке в публика-
ции Г.Ф.Корзухиной (Корзухина 1954: табл. XXX, 2)
изображен фрагменгтолько одного щитка от этих кол-
тов —с сопоставленными спинами птицами. При ра-
боте с коллекцией среди обломков серебряных укра-
шений нам удалось выделить фрагменты еще трех щит-
ков от колтов клада 1909 года. Один аналогичный опуб-
ликованному у Г.Ф.Корзухиной—с сопоставленны-
ми птичками, только еще более затертый. Надвух дру-
гих были изображены так называемые «рога», обрам-
ляющие крест,вписанныйвкруг. Колте аналогичными
гравированными изображениями был найден в соста-
ве клада 1906года из ограды Михайловского монасты-
ря (Макарова 1986: рис.23, №168)иоколо Андреевско-
го собора в Киеве (Макарова 1986:137, №171-172).
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж, кол. ОИРК.
Лит.: ИАК 1909:125,126; Корзухина 1954:109,110,
№73, таблХХХ, 1; Макарова 1986:173.
166. Киев. Клад, найденный в 1909 г.вусадьбе Де-
сятинной церкви к востоку от апсид при раскопках
Д.В. Милеева.
Колты серебряные парные со вставными щитками
с изображением грифопов и многолучевой каймой.
Колты с аналогичным изображением фантастическо-
го существа на лицевой стороне и плетенки па оборот-
ной были найдены в Киеве на очень компактной тер-
ритории. Они происходят из клада 1906 г., найденного в
усадьбеДесятинной церкви, клада 1902 г. с улицы Боль-
шая Житомирская, клад а 1936 г. из раскопок Десятин-
ной церкви, из клада 1903 г., найденного в ограде Ми-
хайловского монастыря, клада 1872 г. изусадабы Тру-
бецкого и изготовлены, по-видимому, в одной мастер-
ской.
По нашей просьбе было произведено исследова-
ние мастики, укрепляющей щитки колтов из Десятин-
ной церкви. Старшим научным сотрудником химичес-
кой лаборатории Государственного Эрмитажа
Л.С. Гавриленко бьитипроведеныхроматографическое,
спектроскопическое, микрохимическое и микроскопи-
ческое изучите частиц мастики. Мастика представля-
ла собой смесь карбоната свинца и кремния, содержа-
щего прозрачное вещество (стекло?) с примесью же-
латина, масла и незначительного количества мельчай-
ших кусочков обугленного дерева.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Кол. ОИРК.
Лит.:ИАК1909:127; Корзухина 1954: ПО,№75,табл.
XXXI; Рябцева 1996:45-46.
167. Клев. Клад, найденный в 1872 г. перед домом
кн. Е.И. Трубецкой по Владимирской ул.
Колты серебряные со вставными щитками (пара),
декорированными изображениями грифонов и мно-
голучевой каймой. На одном колте есть следы пребы-
взния в огне
Москва. ГИМ,№36231, оп. 1683,№50,51.
Лит.: ОАКза 1896: рис.435; Хойновский 1893:11-13,
табл. IV, 5; Кондаков 1896:90; Корзухина 1954:112,113,
№82 Макарова 1986:137,№176,177,рис.34.
168. Киев. Клад, найденный в 1902 г. на Б. Жито-
мирской ул.
Колт серебряный со вставным щитком, декориро-
ванным гравированным изображением грифона, и
многолучевой каймой из 28 лучей.
Киев. Национальный музей истории Украины (кол-
лекция депаспоргизирована во время войны).
Лит.: Ханенко 1902:23-24, табл. XXV1H; Корзухина
1954:115, №91; Макарова 1986:137, №180, рис.23.
169. Киев. Клад, найденный в 1885 г. в ус. Есикорс-
кого.
Колты серебряные (пара) со вставными щитками
и лучевой каймой с 20 лучами, на дужках сохранились
обрывки цепочек от рясен. Налицевой стороне—гра-
вированное изображение птиц, сопоставленных спи-
нами друг к другу, на оборотной—крин.
С.-Петербург. Гос Эрмитаж. Инв. №635/2.
Лит.: Макарова 1986:136,№166,167,рис.22.
170. Киев. Клад, найденный в 1903 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Колты серебряные (пара) со вставными щитками,
украшенными изображениями грифонов и многолу-
чевой каймой из 24 лучей, обрамленных псевдоскан-
ным жгутом.
Москва. ГИМ №49876,оп.1091,№3,4.
Лит.: Корзухина 1954:121,122,№103. табл. XLI, 1;
Макарова 1986:137, №174-175, рис.24.
171. Киев. Клад, иайдешгый в 1906 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Колты серебряные позолоченные со вставными
Приложения
337
щитками и лучевой каймой из 24 лучей, украшенные
изображениями птиц (на лицевой стороне) и геомет-
рической композицией на обороте (2 экз.).
Москва, ГИМ. №49877, оп. 1092, №1.
Лиг.: Корзухина 1954:122,№105, табл. XLIV,^Рус-
ская эмаль 1962: №1; Макарова 1986:137,№168,табл. 23.
172. Киев. Клад, найденный в 1906 г. наТрехсвяги-
тельской ул. напротив ворот гостиницы Михайловско-
го монастыря.
Колты серебряные со вставными щитками, укра-
шенными гравированными изображениями фантасти-
ческих животных и лучевой каймой (три пары).
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:124-125, №108,табл. XLV.
173. Киев. Клад, найденный в 1841 г. при обрезе
Михайловской (Александровской) горы над Александ-
ровским спуском с Крещатика.
Колт серебряный со вставным щитком, украшен-
ным гравированным растительным орнаментом и лу-
чевой каймой.
Москва. Оружейная палата (?).
Лиг.: Корзухина 1954:125,126,№110, Макарова 1986:
138,№190.
174. Гор.КняжаГора(Каневскогоу. Киевскойгуб.).
Клад, найденный в 1891 г. прирасжопкахН.Ф. Беляшев-
ского.
Колты серебряные со вставными щитками, деко-
рированными гравированным изображением птицы
и многолучевой каймой (3 экз.).
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:127,№115,табл.ХЕУШ,26-36;
Макарова 1986.
175. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад, найденный в 1891 г. при раскопках Н.Ф. Беляшев-
ского.
Колт серебряный с многолучевой каймой, щитки
утрачены; колт серебряный.
Клад поступил в коллекцию В.В. Тарновского. В
настоящее время место хранения неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:126,№117.
176. Гор.КняжаГора (Каневского у. Киевскойгуб.).
Клад, найденный в 1892 г. при раскопках Н.Ф.Беляшев-
ского.
Колт серебряный со вставным щитком, украшен-
ным схематизированным изображением грифона, и
многолучевой каймой.
Клад поступил в коллекцию Тарновского. В насто-
ящее время место хранения неизвестно.
Лиг.: Каталог 1898:13-17;Корзухина 1954:129,№119,
табл. XL1X, 14; Макарова 1986:137,138,№186.
177. Городище уд. Впадин (Рогачевский р-п Го-
мельской обл.)—Вищинский замок. Клад 1979 г.,най-
денный при раскопках, проводившихся экспедицией
Белгосуниверситета.
Колт серебряный со вставным щитком и многолу-
чевой каймой, украшенный изображениями птиц.
Лит.: Загорульский 1983:89, рис.21.
178. Близ г. Обухов (Киевскойгуб.). Клад 1905 г.
Колты серебряные (пара) со вставными щитками
(в настоящее время щитки с изображениями не сохра-
нились) и многолучевой каймой.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лит.: Корзухина 1954:133, №135,табл. LV, 1,2.
179. Переяслав (Полтавской губ.). Клад 1884 г.
Колт серебряный со вставным щитком, украшен-
ным гравированным геометрическим орнаментом и
многолучевой каймой из 16 лучей.
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК 2672.
Лиг.: Архив ИИМК РАН ф.№1 (АК), 1985 г.,№20,
рис.; ОАКза 1885 г.: XCIV; Кондаков 1896:133,134,табл.
Х11;Корзухина 1954:137, №146, табл. LVII, 6; Макарова
1986:138,№189,рис.22.
Колты звездчатые. Карта 13.
180. Киев. Клад, найденный в 1842 г. предположи-
тельно в тайнике в районе апсид Десятишюй церкви
при постройке новой церкви по проекту архитектора
АС. Анненкова.
Колты звездчатыезолотые пара, вдоль луч ей—про-
волочная кайма.
Москва. Оружейная палата.
Лиг.: Опись Московской оружейной палаты 1884:
табл. 78, рис.9; Корзухина 1954:106,№65.
181. Киев. Клад, пайденныйв 1876 г. в ус. И. Леско-
ва па углу Б. Владимирской!! Десятинного пер.
Колт золотой звездчатый с семью широкими луча-
ми, дужка отсутствует. Лучи покрыты плотными ряда-
ми зерни, на выпуклом щитке композита в виде четы-
рехлепестковой розетки со вписанными в «лепестки»
кринами. В месте припая лучей колта расположены
тисненые шарики, на концах лучей—петельки.
Киев. Музей Исторических драгоценностей.
Лит.: Кондаков 1892:328, табл. 20 и 21; Кондаков
1896:112-116,рис.76-77,табл.ХУЗ-9; Толстой, Кондаков
1897:111-113,рис.164-168,200;Ханенко 1902:47,№998,
999, табл. XXVII; Корзухина 1954:112, №80.
182. Киев. Клад, найденный в 1903 г. в ус. НА. Ги-
рича поТрехсвятительскойул.
Колт серебряный звездчатый с лучами, украшен-
ными зернью; колт серебряный звездчатый с лучами,
украшенными проволочными ячейками.
Киев. Национальный музей исторшг Украины.
Лиг.: Ханенко 1907:37; Корзухина 1954:113, №84.
183. Киев. Клад, найденный в 1903 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Колты звездчатые серебряные (пара) с лучами,
украшенными поставленной на ребро проволокой.
Москва. ГИМ №49876, оп.1091.
Лит.: Корзухина 1954:121,122,№103.
184. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевской губ.)
в 1897 г.
Колт звездчатый серебряный, дужка украшена не-
большими бусинами-утолщениями, в одном месте об-
мотана сканью. Поддужкой—полая «лунница», укра-
шенная зернеными треугольниками. В центре подвес-
ки —выпуклый щиток с проволочными колечками.
Семь лучей (1 из них фрагментирован)удпинешю-кап-
левидной формы украшены продольными полосками
скани и шариками на концах.
Киев. Музей Исторических драгоценностей (?).
Лит.: Корзухина 1954:129,№121,табл. LIX, 1.
185. С. Каменный Брод (Радомышльский повет,
Киевская губ.), клад 1903 г.
Звездчатые серебряные колты (пара).
338
Приложения
Клад хранился в Харькове, в музее им. Сковороды
и пропал во время войны.
Лит.: ОАКза 1903 г.: VII, 3; гущин 1936: рис. 17; Кор-
зухина 1954: 134-135,№138.
186. Городище у д. Вшцип (Рогочевский р-н Го-
мельской обл.)—Вищинский замок. Клад 1979 г., най-
денный при раскопках, проводившихся экспедицией
Белгосуниверситета.
Серебряный звездчатый колт с шестью лучами.
Лиг.: Загорульский 1983:89, рис.21.
187. Чернигов. Клад 1957 г., найденный при рас-
копках Борисоглебского собора.
Золотой звездчатый колт с шестью округлыми лу-
чами, украшенными зернью. На верхнем луче и на трех
нижних—пирамидки зерни. Дужка и застежка распо-
лагаются на двух средних лучах.
Лиг.: Холостенко 1962:235-238, рис.З.
188. Д. Лески (Орловской губ.). Клад 1853 г.
Колты звездчатые серебряные с лучами, покрыты-
ми зернью, на концах—пирамидки зерни (пара).
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Архив ИИМКРАН ф.9,1892 г.,№217,лл. 48,
49; Извлечение. 1856:12-15, рис.З; Корзухина 1954:139,
№153.
189. Д Терехово (Болоховского у. Орловской губ.).
Клад 1876 г.
Колты серебряные звездчатые крупные (пара).
Дужки колтов не сохранились, есть только петелька на
конце луча. Верхний луч конусовидный, украшенный
треугольниками зерни. Остальные 5—грушевидной
формы, покрыты плотными рядами зерни. У трех ниж-
них —на концах приплюснутые в нижней части шари-
ки. В центре колта—выступающий щиток, окружен-
ный пояском полусфер. На лицевой стороне—розет-
ка с крупным шариком в центре. На обороте—три
сканных кольца, вся поверхность щитка покрыта ма-
ленькими проволочными колечками.
С.-Петербург. Гос. Русский музей БК-3284,3285.
Лиг.: Гущин 1936:67.68,табл. XIV, 11,13; Корзухи-
на 1954:139,140, №154.
190. С Кресты (Тульской губ.). Клад 1876 г.
Колты серебряные звездчатые с грушевидными лу-
чами, покрытыми плотными рядами зерни. На концах
лучей и на центральном щитке—крупные шарики,
под дужкой—опрокинутая «лунница». Один целый
экз. и один луч от второго.
Москва. Оружейная палата, №МР-1012,
Лит.: Опись Московской оружейной палаты 1883:
25, №9484-9492, табл. 78; ЗРАО1889:198; Гущин 1936:
36-38; Корзухина 1954:140,141,№157,табл. LX.
191. Старая Рязань. Клад 1887 г.
Колты серебряные звездчатые (пара) с грушевид-
ными лучами, украшенными плотными рядами зер-
ни. Под дужкой—опрокинутая плоская полая лунни-
ца,лучи(5 экз.) оканчиваются крупными полыми ша-
риками. В центре колтов—коническое возвышение,
украшенное зернью с шариком на вершине, обрам-
ленное шестью выпуклыми полусферами.
Рязань. Историко-художественный музей-заповед-
ник, РОМ,№1205, кол. №1.
Лит.: Кондаков 1896:136,137, рис.84; Кондаков 1897:
рис.224; Гущин 1936:78-80, табл. XXV1U, XXIX; Корзу-
хина 1954:144,145,№165; Монгайт 1955:144.
192. Старая Рязань. Клад 1937-1950 г.
Серебряные звездчатые колты (3 экз.) с грушевид-
ными лучами,сплошь покрытыми зернью. Наконцах
лучей—пирамидка из шариков, в центре—коничес-
кое возвышение.
Москва. ГИМ. Инв. №83884, оп. 1200.
Лит.: Монгайт 1952:108,109, Монгайт 1955:148; Кор-
зухина 1954:145,№165.
193. Старая Рязань. Клад 1967 г. Найден при про-
должении раскопок большой усадьбы, в которой най-
ден клад 1966 г.
Обломки серебряного звездчатого колта.
Лит.: Даркевич, Монгайт 1972:206-212.
194. Старая Рязань. Клад 1970 г.
Колты серебряные лучевые (4 пары). Колты не-
скольких разновидностей—с лунницей под кольцом
(гладкой или украшенной зернью) и пятью лучами. И
колты с шестью лучами (верхний луч не грушевидный,
аподгреуголы1ый),уэтихколтовдужка непосредствен-
но отходит от лучей. Оформление центра подвески у
всех колтов одинаковое: коническая выпуклость, укра-
шенная проволочной розеткой и треугольниками зер-
ни, с шариком на вершине налицевой стороне. На обо-
роте более низкая выпуклость, украшенная проволоч-
ными колечками. Отличается у пар оформление кон-
цов лучей: у двух пар (с гладкой и зерненой душица-
ми) на koi щах—одиночные крупные шарики. У двух
других пар (с коническим лучом и зерненой лунни-
цей) на конце грушевидных лучей —пирамид ка из трех
мелких и одного большого луча, конический луч окан-
чивается проволочным колечком.
Найдены также фрагменты серебряного лучевого
колта в составе слитка серебряных украшений.
Рязань. Историко-художественный музей-заповед-
ник, РОМ, №7605.
Лиг.: Даркевич 1977:166,167; Даркевич, Монгайт
1978: табл.1 V-VII.
195. Старая Рязань. Клад 1974 г.
Колты серебряные звездчатые (3 пары и фрагмент
седьмого) шестилучевые с дужкой-лунницей. Лучи
сплошь покрыты зернью, напаянной на колечки, на их
концах—пирамидки из шариков. В центре колта—
тисненые полусферы, украшенные стандартными ком-
позициями из литых шариков, розеток и проволочных
колечек.
Рязань. Областной краеведческий музей.
Лит.: Даркевич, Фролов 1978:342-343, рис. 1-5.
196. Старая Рязань. Клад 1979 г., найденный в зем-
ляночном жилище при раскопках вблизи Спасского со-
бора.
Колты серебряные шестилучевые звездчатые
(2 экз.).
Лит.: Даркевич 1987:67.
197. Москва, Кремль. Клад 1988 г.
Колты серебряные шестилучевые с широкими лу-
чами одинаковые (3 экз.)Наконцахлучейкрупныетис-
неные шарики. Лучи украшены плотными рядами зер-
ни. На лицевой стороне в центре тисненая полусфера с
шариком на вершине, украшенная проволочной ро-
зеткой с вписанными в неетреугольниками зерни. Верх
подвески оформлен в виде лунницы, переходящей в
дужку.
Москва. Оружейная палата.
Приложения
339
Лит.: Наследие варягов 1996:107-120.
198. Владимир. Клад 1837 г., найденный на терри-
тории Ветчаного города.
Серебряные звездчатые колты (5 экз.) с 5 лучами
грушевидной формы и верхним коническим, покры-
тыми зернью. Дужка соединяется с верхними груше-
видными лучами. У трех нижних лучей на концах тис-
неные полушарики. Оформление центра подвески
обычное.
Лит.: Строганов 1841:452,453, табл. Ш-V; Гущин
1936:69-71,табл. XVI, 9.10,рис.28.29; Корзухина 1954:
145-146,№164.
199. Владимир. Клад 1896 г., найденный на терри-
тории Печерного Города.
Колты серебряные звездчатые (5 экз.)спятью гру-
шевидными и верхним конусовидным лучом. Дужка
проходит сквозь два верхних грушевидных луча, ниж-
ние лучи оканчиваются тиснеными полушариками.
Лучи плотно усыпаны зернью, оформление центра
подвески стандартное.
Москва. ГИМ. №36209, оп. 1089.
Лит.: Гущин 1936:74,75, табл. XXI, 1-4; Корзухина
1954:146-147,№168.
200. Тверь. Клад 1906 г.
Колты звездчатые серебряные (пара) с шестью лу-
чами миндалевидными, украшенными по бокам скан-
ными фестонами, а на концах пирамидкой шариков,
под дужкой—опрокинутая лунница.
Колты звездчатые серебряные с опрокинутой лун-
ницей под дужкой и шестью грушевидными лучами,
покрытыми зернью и оканчивающимися тиснеными
шарикам!.
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК-3343-
3346.
Лит.: ЗОРСА1915:9-12,табл. 1-Ш; Корзухина 1954:
147-148,№170.
Рясны
Рясны с золотыми бляшками. Карта 14.
201. Киев. Клад, найденный в 1842 г.предположи-
тельно в тайнике в районе апсид Десятинной церкви
при постройке новой церкви по проекту архитектора
А.С. Анненкова.
Рясны золотые из круглых бляшек, украшенные че-
редующимися изображениями идущей птицы и рас-
тительно-геометрическим орнаментом.
Москва, ГИМ №53090/2, фрагмент парной рясны
хранится в коллекции П.Моргана.
Лиг.: Макарова 1975:4042,107, №52, табл. 6,7.
202. Киев. Клад, найденный в 1938 г. против здания
бывших Присутственных мест в начале М. Житомирс-
койул.
Золотые круглые разрозненные бляшки от рясен с
изображением орла, птицы в профиль и растительно-
геометрическим орнаментом (17 экз).
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №Аз.
919.
Лиг.: Самойловський 1948:192-198, рис. 1-5; Корзу-
хина 1954:114,№88; Макарова 1975:107, №56, рис.9,1.
203. Киев. Клад, найденный в 1880 г. на Б. Жито-
мирской ул. у дома ген. Кушинова.
Две золотые парные рясны с круглыми бляшками
с изображением птиц и растительно-геометрическим
орнаментом.
Клад хранился в Харьковском музее им. Сковоро-
ды, погиб во время войны.
Лиг.: Кондаков 1896:1; Корзухина 1954:115,№90;
Макарова 1975:№53,табл. 8.
204. Киев. Клад, найденныйв 1827 г. вус. Августи-
новича.
В состав клада входили: 23 бляшки от двух золотых
рясен с квадрифолийпыми бляшками с изображением
птиц и растительно-геометрическим орнаментом.
Клад хранился в Харькове в музее им. Сковороды,
погиб во время войны.
Лиг.: Кондаков 1896:107,108, табл. X; Корзухина
1954:116, №95; Макарова 1975:108 №59,табл. 10,2.
205. Киев. Клад, найдеппый в 1887 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Две парные золотые рясны, состоящие из десяти
круглых бляшек с чередующимися изображениями
птиц и растительно-геометрическим орнаментом.
С.-Петербург. Гос. Русский Музей. Инв. №БК-2769.
Лиг.: Макарова 1975:107, №54-55, табл. 7,3.
206. Киев. Клад, найденный в 1906 г. наТрехсвяти-
тельскойул. напротив ворот гостиницы Михайловско-
го монастыря.
Рясны золотые (2 экз.), каждая из двадцати круглых
бляшек с изображениями птиц и кринов.
Коллекция Пирпонта Моргана.
Лиг.: Корвухипа 1954:124-125,№108; Макарова 1975.
207. Гор. ДевичьяГораус-Сахповки (Каневского
района, Черкасской обл.). Клад 1900 г.
Пара золотых рясенсквадрифолийными бляшка-
ми, украшенными изображениями птиц и раститель-
ным орнаментом.
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №ДМ
1776,1777.
Лиг.: Ханенко 1902:21,22, табл. XXI, ХХТХ-ХХШ;
Корзухина 1954:130-131, №126;Макарова 1975:103,№12-
13, табл. 2,5-6; Макарова 1986:134,№125-126,рис.19.
208. Гор. ДевпчььяГораус. Сахиовка Каневского
у. Киевской туб. Отдельная находка.
Рясны две парные из десяти квадрифольных бля-
шек каждая, на бляшках эмалевые изображения птиц и
четыре варианта растительно-геометрического орна-
мента.
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №ДМ
1775.
Лит.: Макарова 1975:107, №57, табл. 9,2.
209. Гор. Девичья Гора у с. Сахиовка Каневского у.
Киевскойгуб. Отдельная находка.
Рясны две парные из десяти квадрифолийных бля-
шек каждая, на бляшках эмалевые изображения птиц и
четыре варианта растительно-геометрического орна-
мента.
С-Петербург. Гос. Русский музей. Инв. №БК-3271.
Лиг.: Макарова 1975:107,№58,табл. 10,3.
210. Место и время находки неизвестно.
Бляшка квадрифолийной формы от рясны (?), за-
полненная геометрическим эмалевым орнаментом.
Москва. Музеи Кремля, ГОП №16940.
Лит.: Макарова 1975:108,№60,табл. 10,1.
340
Приложения
Рясны из золотых тисненых колодочек. Карта 15.
21ЬКиев.Кладнайдашьп1в1936г.прирабспвархео-
логической экспедиции институгаархеологии АН УССР
близ Десятинной церкви в бывшей усадьбе Петровского.
Золотые колодочки отрясен (23 экземпляра).
Киев. Музей исторических драгоценностей.
Корзухина 1954:108, №67, табл. ХХХШ, 3.
212. Киев. Клад, найденный в неизвестное время
(до 1914 г.)при рытье ямыдля фундамента дома№14
поСгрелецкойул.
42 колодочки от золотой рясны (из них две конце-
вые —одна с цепочкой, вторая с колечком).
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №ДМ
1916.
Лит.: Корзухина 1954:119,№100,табл.ХХУШ.
213. Киев. Клад 1986 г., найденный уд. ЮпоКуд-
рявскойул.
Рясназолотая, состоящая из 14колодочек.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Павлова 1990:103-110.
214. Гор. Девичья Гора у с. Сахповки (Каневского
района, Черкасской обл.). Клад 1900 г.
Пара золотых рясен из тисненых колодочек.
С-Петербург. Гос. Русский музей. БК-2716.
Лиг.: Фотоархив ИИМК РАН Q463/45-50; Ханенко
1902:21,22, табл. XXI, XXIX-XXIII; Корзухина 1954:
130-131 ,№126; Макарова 1975:103, №12-13, табл. 2,5-6;
Макарова 1986:134, №125-126, рис.19.
215. Чернигов. Клад 1887 г.
Золотые колодочки от рясны (30 экз.).
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1021/11.
Лит.: Архив ИИМКРАН ф.№1(АК), 1887 г.,№11;
ОАКза 1887 г.: CXCIX; Кондаков 1892:334; Кондаков
1896:131,табл.Х1; Кондаков 1897:118; Самоквасов 1908:
266,267; Корзухина 1954:137,138,№147.
Цепи (рясны?) в виде золотых рубчатых цепочек. Карта 16.
216. Киев. Клад 1911 г., найденный при раскопках,
производившихся Д.В. Милеевым в усадьбе Десятин-
ной церкви.
Золотые рясны (?) из рубчатых пластин, сверну-
тых в трубочки (2 экз.).
Клад хранился в Харькове в музее им. Сковороды,
погиб во время войны.
Лит.: Архив ИИМКРАН ф.№1 (АК), 1908 г.,№30:
ОАКза1991:62,96, рис.100-104; Корзухина 1954:109,№69.
217. Киев. Клад, найденный в 1876 г. в ус. И. Леско-
ва на углу Б. Владимирской и Десятинного пер.
Цепь из рубчатых пластинчатых звепьеввдвух фраг-
ментах, на концах замочные кольца.
Киев. Музей Исторических драгоценностей.
Лиг.: Кондаков 1896:112-116,рис.77.
218. Киев. Клад, найденный в 1938 г. против здания
бывших Присутственных мест в начале М. Житомирс-
койул.
Цепочки золотые из рубчатых звеньев, свернутых
в трубочки, на концах—колечки (2 экз.).
Киев. Музей Исторических драгоценностей.
Лиг.: Самойловсысий 1948:192-198, рис.1-5; Корзу-
хина 1954:114,№88.
219. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевской губ.)
найденныйв 1891 г. при раскопках Н.Ф. Беляшевского.
Цепочка золотая из мелких рубчатыхколечек,сцеп-
ленная за концы кольцом и фрагмент второй цепочки
(13,5 см).
Кладпоступилв коллекцию В.В.Тарновского.
Лиг.: Каталог украинских древностей коллекции
В.В. Тарновского 1891:7,11-17,20,22,25,табл.1,21,II,
114-116,277,294,318,323,327-329,336,599,619,626; Ха-
ненко 1900:8,табл. XX, 239,240; Корзухина 1954:126,
№117.
Рясны из серебряных тисненых колодочек. Карта 17.
220. Киев. Клад, найденный до 1899 г. на ус. Деся-
тинной церкви.
Колодочки от рясны серебряные (36 экз.).
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:109,№71.
221. Киев. Клад, найденный в 1872 г. на углу Б. Вла-
димирской и Десятинного переулка в ус. Я. Масготина.
Колодочки серебряные от рясеп (32 целые и
12 фр.).
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Корзухина 1954:111,№79,табл. ХХХШ, 12.
222. Киев. Клад, найденный в 1885 г. в ус. Есикорс-
кого.
Рясны серебряные—53 колодочки (две концевые,
одна из них прержавела к замку.
Клад хранился в Харькове в музее им. Сковороды,
погиб во время войны.
Лиг.: Кондаков 1896:124-132, рис.79-82, табл. Ш-V;
Корзухина 1954:118,№98.
223. Киев. Клад, найденный в 1901 г.вус. БА. Ор-
лова по Трехсвятительской ул.
Колодочки от рясны серебряные маленькие
(4 экз.).
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Корзухина 1954:113,№85.
224. Киев. Клад, найденный в 1889 г. в усадьбе под-
поручика Гребновского по Троицкому перереулку.
Колодочки серебряные от рясен (13 экз., целые и
поломагшые).
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК- 2705.
Лит.: Кондаков 1896: табл. IX, 17; Корзухина 1954:
119,№99.
225. Киев. Клад, найденный в 1903 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Две рясны, каждая из 48 тисненых серебряных ко-
лодочек (с од ной стороны рясны оканчиваются цепоч-
ками, с другой —колечками).
Москва. ГИМ№49876, on. 1091.
Лиг.: Корзухина 1954:121,122,№103.
226. Киев. Клад, найденный в 1906 г. на Трехсвяти-
тельской ул. напротив ворот гостиницы Михайловско-
го монастыря.
Колодочки от рясен (около полуфунта).
Место храпения неизвестно. \
Лиг.: Корзухина 1954:124-125,№108,табл. МУ,7,8.
227. Гор. КняжаГора (Каневского у. Киевскойгуб.).
Клад, найденный в 1891 г.прираскопкахН.Ф. Беляшев-
ского.
Приложения
341
Колодочки от двух рясен серебряные (29 экз., 11 из
них позолоченные, четыре концевые с цепочками и
кольцами).
Клад поступил в коллекцию В.В. Тарновского. В
настоящее время место хранения неизвестно.
Лит.: Корзухина 1954:126,№117.
228ГорКпяжаГора(Каневскогоу.Ю(ева<ойгуб.).Ктад,
найдап1ЫЙв1892г.прираскопкахН.Ф.Беляшеэского.
Колодочки серебряные от рясны (21 экз.).
Кладпоступилв коллекцию Тарновского. В насто-
ящее время место хранения неизвестно.
Лиг.: Каталог. 1898:13-17; Корзухина 1954:129, №119,
табл.ХЫХ, 15.
229. Гор. КняжаГора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад189бг.
Рясна серебряная из 37 колодочек, на концах—
цепочки.
Киев. Музей историческихдрагоценностей.
Лиг.: Корзухина 1954:129,№120,табл. XLIX, 13.
230. Гор. КняжаГора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад 1897 г.
Колодочки серебряные позолоченные от рясны
(32 экз.).
Место хранения неизвестно.
Лит.: Ханенко 1902:20,табл. XXIV, 1092; Корзухина
1954:130,№123,табл. L,24.
231. Гор. КняжаГора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад1898 г.
Рясна из серебряных колодочек.
Поступила в коллекцию Б.И. Ханенко. В настоящее
время место хранения неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:123,№123.
232. М. Маргыновка (Каневского у. Киевской губ.).
Клад1886г.
58 серебряных колодочек от рясен (две разные низ-
ки), среди них есть две концевые пластинки с колечка-
ми, и отдельно—замочное колечко и фрагменты це-
почки с кольцом.
Клад поступил в собрание А.А. Бобринского.
Лиг.: Бобринский 1887:150-152, табл-ХУШ, 3,5,XX,
9; Корзухина 1954:132,№129.
233. С. Ключники (Каневского у. Киевской губ.).
Клад 1887.
Колодочки серебряные от рясны (2 экз.), соединен-
ные цепочкой, к одной припаяно проволочное замоч-
ное кольцо.
Музей Киевского Университета.
Лиг.: Корзухина 1954:132,№131.
234. С. Городище (Шепетовского р-на Хмельниц-
кой обл.) — древний город Изяславль. Раскопки
М.К Каргера.
КладШ. 1958 г. (По АА. Песковой): колодочки се-
ребряные от двух рясен (32 средшпгые, четыре тре-
угольные концевые, украшенные скапными петелька-
ми, две из них с замочными кольцами).
С.-Петербург. ГЭ. ЭРА-34.
Лит.: Миролюбов 1983:16-19; Пскова 1988:16-35,
рис.2,1-4.
235. С. Городище (Деражнянского района Хмель-
ницкой обл.). Клад 1970 г., найденный г га детинце горо-
дища в результате работ археологической экспедиции
подруководствомС.М. Бибикова.
122 тисненые колодочки от рясен, на конце остатки
полуистлевших ниток.
Хмельницкий. Областной краеведческий музей.
Лит.: В. I. Якубовский.975:87-104.
236. С. Вербов (Бережанского р-на Львовской обл.).
Клад20-хгг.ХХв.
Колодочки серебряные от рясен (40 экз., из них три
соединены с треугольными тиснеными ажурными кон-
цевыми пласпппсами с колечками на концах).
Клад хранился в Л ьвовском историческом музее,
откуда пропал во время войны.
Лит.: Корзухина 1954:136,№143.табл. LDC
237. Чернигов. Клад 1923 г.
Рясна из серебряггых колодочек с колечком на од-
ном конце и цепочкой на другом.
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:138,№150.
238. Урочище Святое Озеро близ д. Новая Буда и
Низовка (на границе Сосницкого и Черниговского у.).
Клад 1908 г.
Две серебряные рясны по 35 колодочек в каждой,
концевые колодочки оканчиваются 4 петлями и 2 це-
почками.
Две рясны с более крупными колодочками (по 25
колодочек в каждой), концы оформлены аналогично.
Москва, ГИМ, №46043, оп. 1118.
Лит.: Отчет РИМ 1911:7табл. II; Самоквасов 1916:
33-40, рис. 1-4,6-13;Рыбаков 1940:237, рис.24,79; Кор-
зухина 1954:138,№152.
239. Д. Терехово (Болоховского у. Орловской губ.).
Ювд1876г.
Две серебряные рясны из тисненых колодочек (в
общей сложности 119 колодочек).
С.-Петербург. Гос. Русский музей БК-3287.
Лит.: Гущин 1936:67.68. табл. XIV, 12,14, XV, 12;
Корзухина 1954:139,140,№154.
240. С. Кресты (Тульской губ.). Клад 1976 г.
Колодочки серебряные от рясны (6 экз.).
Москва. Оружейная палата, №МР-1012.
Лиг.: Опись Московской оружейной палаты 1983:
25, №9484-9492, табл. 78;ЗРАО 1889:198;Гущин 1936:
36-38; Корзухина 1954:140,141,№157,табл. LX.
241. Старая Рязань. Клад 1967 г.
Рясна из серебряпых тисненых колодочек (сохра-
нилось 16 экз.).
Лит.: Даркевич, Монгайт 1972:206-212.
242. Старая Рязань. Клад 1970 г.
Рясны серебряные, состоящие из 16тиспепых ко-
лодочек. К их кольцам прикреплены колты серебряные
тиспепые (пара, один сильно фрагментирован) с обни-
зью из крупных круглых шариков.
Рязань. Историко-художесгвенныймузей-заповед-
пик, РОМ,№7605-203.
Лит.:Даркевич 1977:166,167; Даркевич, Монгайт
1978: табл. II.
243. Старая Рязань. Клад 1974 г.
У двух пар звездчатых колтов сохранились рясны,
прикрепленные к ним при помощи колечек, продетых
сквозь кольца, которыми оканчиваются треугольные
концевые пластинки рясен. Серебряные рясны, состав-
лены из 10-12тисненыхколодочекитреугольной кон-
цевой (в одном случае на ней сохранился обрывок ко-
жаного ремешка). Найдена ещеодна колодочка, нс вхо-
дившаявдагшые комплекты.
Рязань. Областной краевед ческий музей.
Лит.: Даркевич, Фролов 1978:343. (Рис.1,2).
342
Приложения
Рясны из серебряных круглых, прямоугольных, квадрифолийных бляшек. Карта 18.
244. Киев. Клад, найденный в 1903 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Цепь(ряспа)из 15 прямоугольных серебряных по-
лых бляшек, украшенных гравированным черненым
геометрическим орнаментом. Бляшки соединены че-
тырьмя жемчужными нитями. На концевых бляшках
—ушки, к одному из пих прикреплена цепочка.
Москва. ГИМ №49876, оп.1091.
Лиг.: ОАК за 1903 г.: табл. V, 2; Корзухина 1954:121,
122,№103.
245. Киев. Клад, найденный в 1903 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Цепь (рясна) из круглых полых серебря] шх зерне-
нья бляшек, соединенных шарнирами. На концевых
бляшках—замочные колечки (17 целых бляшек и не-
сколько фр.).
Москва. ГИМ №49876, оп.1091.
Лит.: ОАКза 1903 г.: табл. V, 6; Корзухина 1954:121,
122,№103.
246. Старая Рязань. Клад 1868 г.
Серебряная позолоченная цепь (рясна?), состав-
ленная из 17 полых штампованных бляшек в форме
квадрифолия с рельефным изображением процветше-
го креста.
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК3321.
Лит.: Кондаков 1896:111; Гущин 1936:77-79, табл.
XXVI,!; Корзухина 1954:144,№163.
247. Старая Рязань. Клад 1937-1950 г.
Рясна серебряная с круглыми полусферическими,
украшенными зернью бляшками, соединенными шар-
нирными креплениями. Сохранилась в двух фрагмен-
тах, в одном—10 бляшек и замочное кольцо. Во вто-
ром —4 бляшки и замочное кольцо. Зерневой орна-
мент трех типов, повторяется на бляшках без видимой
закономерности.
Москва. ГИМ. Инв.№83884, оп. 1200.
Лит.: Монгайт 1952:108,109; Монгайт 1955:148;
Корзухина 1954:145.
Цепи (рясны?) в виде серебряных рубчатых цепочек. Карта 16.
248. Киев. Клад, найденный в 1902 г. на Б. Жито-
мирской ул.
Цепь серебряная позолоченная (рясна?) из рубча-
тых пластинчатых звеньев с кольцом на одном конце.
Киев. Национальный музей истории Украины (кол-
лекция депаспортизирована во время войны).
Лит.: Ханенко 1902:23-24, табл. XXVIII; Корзухина
1954:115,№91.
249. С. Вербов (Бережанского р-на Львовской обл.).
Клад20-хгг.ХХв.
Цепь (рясна?) серебряная из пластинчатых рубча-
Рясны с колоколовидным верхом. Карта 19.
251. М. Мартыновка (Каневского у. Киевской губ.).
Клад 1886 г.
Рясны серебряные с коническим верхом (2 экз.).
Клад поступил в собрание АА. Бобринского.
Лиг.: Бобринский 1887:150-152, табл. XIX, 2,3; Кор-
зухина 1954:132,№129; Жилина 1994:182-187.
252. С. Городище (Деражнянского района Хмель-
ницкой обл.). Клад 1970 г., найденныйпа детинце горо-
дища в результате работ археологической экспедиции
под руководством С.М. Бибикова.
Рясны серебряные сионцеобразные (пара), укра-
шенные треугольниками зерни с семью подвесками-
цепочками.
Лит.: Якубовський 1975:87-104.
253. Городище у д. Вшцип (Рогачевский р-н Го-
мельской обл.)—Вищинский замок. Клад 1979 г.,най-
денный при раскопках, проводившихся экспедицией
Белгосуниверситета.
Пара серебряных колоколовидных рясен.
Лиг.: Загорульский 1983:89, рис.21.
254. м.Мирополь (Житомирской обл. УССР). Клад
1938 г.
Фрагменты серебряной рясны с коническим вер-
хом. Верхняя часть подвески декорирована треуголь-
никами зерни. На цепочках—круглые бляшки, окан-
чиваются цепочки лушпщами.
Киев. Национальный музей истории Украины.
тых звеньев.
Кладкранился в Львовском историческом музее,
откуда пропал во время войны.
Лит.: Корзухина 1954:136,№143,табл. ЫХ.
250. Переяслав (Полтавской губ.). Клад 1884 г.
Цепочка серебряная из тисненых рубчатых звень-
ев (в 6 фрагментах).
Петербург. Гос. Русский музей. БК 2683.
Лиг.: Архив ИИМКРАНф.№1 (АК), 1985 г.,№20,
рис.;ОАКза 1885 г. :XC1V; Кондаков 1896:133,134,табл.
ХП; Корзухина 1954:137,№146.
Лит.: Корзухина 1954:134,№137,табл. LVII,2,3.;
Жилина 1994:182-187.
255. С. Кресты (Тульской губ.). Клад 1976 г.
Рясны серебряные с коническим верхом (пара).
Подвески украшены проволочными арочками и зер-
невыми треугольничками. На цепочках—круглые и
концевые каплевидныебляшки.
Москва. Оружейнаяпалата,№МР-Ю12, охр. 10882
Лиг.: Опись Московской оружейной палаты 1983:
25, №9484-9492, табл. 78; ЗРАО 1889:198;Гущин 1936:
36-38; Корзухина 1954:140,141,№157,табл. ЬХ.;Жили-
на 1994:182-187.
256. Старая Рязань. Клад 1868 г.
Две серебряные рясны с коническим верхом, под-
вески украшены проволочными арочками, треуголь-
никами зерни, выпуклая донная часть—мелкими про-
волочными колечками. На цепочки нанизаны круглые
бляшки, на концах цепочек—трапециевидные бляшки
с крестовидным орнаментом.
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК3322.
Лиг.: Кондаков 1896:111; Гущин 1936:77-79, табл.
XXVI, 5, И; Корзухина 1954:144, №163, Жилина 1994:
182-187.
256а. Старая Рязань. Клад 1967 г.
Рясна серебряная с колоколовиным верхом, укра-
шенным зернью и восемью недлинными подвесками
с круглыми и трапециевидными бляхами.
Приложения
343
Лит.: Даркевич, Монгайт 1972:206-212; Жилина
1994:182-187.
2566. Старая Рязань. Клад 1970 г.
Три серебряных цепочки от колоколовцдной ряс-
ны с круглыми и каплевидными бляшками.
Рязань. Историко-художественньш музей-заповед-
ник, РОМ,№7605-203.
Лит.: Даркевич 1977:166,167, рис. 19; Даркевич,
Монгайт 1978:27, табл. IX; Жилина 1994:182-187.
257. Москва, Кремль. Клад 1988 г.
Рясны с колоколовидным верхом серебряные
(кольца для крепления к головному убору—бронзо-
вые) (2 экз.). В штжней части подвески припаяны пе-
тельки, к которым крепится или колечко, или цепочка с
круглыми подвесками и продолговатыми бусинами.
На конце цепочки—трапециевидные бляшки.
Москва. Оружейная палата.
Лит.: Наследие варягов 1996:107,110.
258. Ярополч Залесский. При раскопках усадьбы
были найдены рясны и женское очелье, составленное
из 15 серебряных позолоченных пластинок, нашивав-
Трехбусинные серьги и височные кольца. Карта 20.
260. Киев. Клад, найденный в 1842 г., предположи-
тельно в тайнике в районе апсид Десятинной церкви
при постройке повой церкви по проекту архитектора
А.С. Анненкова.
Серьги трехбусинные золотые с тиснеными буси-
нами, плотно покрытыми крупной зернью (пара).
Москва. Оружейная палата.
Лиг.: Опись Московской оружейной палаты 1884:
табл. 78, рис. 10; Кондаков 1896: рис.61; Корзухина 1954:
106,№65.
261. Киев. Клад, найденный в XIX в. (до 1868 г.)на
территории Десятинной церкви.
Серьги трехбусинные золотые—2 пары, одна с
ажурными бусинами, другая—с тиснеными.
Москва. ГИМ.
Лит.: Корзухина 1954:108,№66.
262. Киев. Клад 1898 г., найденный в усадьбе Деся-
тинной церкви.
Серьги серебряные трехбусинпые(8 экз.), фрагмен-
тированные: у одной сохранились две ажурные буси-
ны, у другой—две покрытые крупной зернью, выпол-
ненные на проволочном каркасе, от остальных сохра-
нились только дужки с остатками проволочной обмот-
ки
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Корзухина 1954:109, №70, Табл. XXX, 3,5-9.
263. Киев. Клад, найденный в усадьбе Десятинной
церкви к востоку от апсид при раскопках Д. В. Милеева.
Серьги золотые трехбусинные с ажурными буси-
нами (10 экз.). Одна из них украшена жемчужинами.
Серьги трехбусинные серебряные(К) экз.).
Место храпения неизвестно.
Лиг.: ИАК 1909:125,126; Корзухина 1954:109,110,
№73.
264. Киев. Клад 1909 г., найденный в усадьбе Деся-
тинной церкви к востоку от апсид при раскопках
Д.В. Милеева.
Серьги трехбусшшые серебряные (7 экз.). Одна
серьга с бусинами, выполненными из плотного про-
волочного каркаса и покрытыми крупной зернью.
шихся на лету. Десять пластинок плоские с отверстия-
ми по угламдля крепления, четыре—выпуклые, укра-
шенные волютообразным сканным орнаментом и
крупной зернью.
Лит.: Седова 1972:70; Жилина 1994:182-187.
259. Новгород. В Новгороде было найдено 5
фрагментов рясен. Самый ранннй был найден в
Михайловском раскопе в слое 1125-1180 гг. и со-
стоит из обрывка цепочки с круглой промежуточ-
ной и завершающей лунничной бляшкой. Второй,
найденный в слое конца XII в. (1177-1197), состоит
из фрагмента двойной цепочки и каплевидной
ажурной бляшки, украшенной сканью. Третий,
найденный в слое 1210-1230 гг., состоит из двой-
ной цепочки, круглой ажурной промежуточной
бляшки с четырьмя отверстиями и лунницы. Чет-
вертая находка—замкнутая лунница, украшенная
сканью, найдена в слое 1238-1268 гг. В слое второй
половины XII в. было найдено ажурное звено с ра-
стительным орнаментом.
Лиг.: Седова 1981:17;Жилина 1994:182-187.
Другая—с ажурными филиграппымибусинами, укра-
шенными в месте стыка двойных проволочных колец
крупной зернью, припаянной к проволочным колеч-
кам. Ещедве серьги фрагментированныестиснеными
ажурными бусинами. У трех серег бусины не сохра-
нились.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Кол. ОИРК.
Лиг.:ИАК1909:127;Корзухина1954: ПО,№75,табл.
ХХХ1,7-13.
265. Киев. Клад 1911 г., найденный при раскопках,
производившихся Д.В. Милеевым в усадьбе Десятин-
ной церкви.
Сережки золотыетрехбусинные (7 экз.).
Клад хранился в Харькове в музее им. Сковороды,
погиб во время войны.
Лиг.: Архив ИИМКРАН ф.№1 (АК), 1908 г.,№30:
ОАКза 1991:62,96,рис.100-104; Корзухина 1954:109,
№69.
266. Киев. Клад, найденный до 1899 г. па ус. Деся-
тинной церкви.
Серьги серебряные киевского типа (7 экз.).
Место хранения неизвестно.
Лиг.:КВХ1АС1908:54; Корзухина 1954:109,№71.
267. Киев. Клад, найденный в 1872 г. на углу Б. Вла-
димирской и Десятинного переулка в ус. Я. Масюгина.
Серьги серебряные трехбусинные (8 экз.). Из пих
шесть выполнены па плотном проволочном каркасе и
покрыты зернью (несколько экз. сильно затерты). Од ин
экземпляр с тиснеными бусинами, украшенными про-
волочными колечками со вписанными в них треуголь-
никами зертпт, и один—с тиснеными ажурными бу-
синами.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Корзухина 1954:111,№79,табл. ХХХШ, 11-12.
268. Киев. Клад, найденный в 1876 г. в ус. И. Леско-
ва на углу Б. Владимирской и Десятинного пер.
Сережки золотыетрехбусинные (3 экз., две с ажур-
ными бусинами, одна с зернеными).
Киев. Музей Историческихдрагоцепносгей.
Лит.: Антонович 1879:253,254; Кондаков 1892:328,
344
табл.20и21;Кондаков 1896:112-116,рис.76-77,таблХУ,
3-9; Толстой, Кондаков 1897:111-113, рис.164-168,200;
Ханенко 1902:47, №998,999, табл. XXVII; Корзухина
1954:112, №80.
269. Киев. Клад, найденный в 1872 г. перед домом
кн. ЕЛ. Трубецкой по Владимирской ул.
Серьги серебряные трехбусинные с зернеными бу-
синами.
Москва. ГИМ,№36231,оп. 1683.
Лит.: Хойновский 1893: IV.6; Корзухина 1954:112,
ИЗ,№82.
270. Киев. Клад, найденный в 1876 г. в ус. Ю. Чай-
ковского.
Серьги трехбусинные серебряные(11 экз.).
Клад хранился в Харькове в музее им. Сковороды,
погиб во время войны.
Лит.: Кондаков 1896:117.
271. Киев. Клад, найденный в 1903 г. в ус. Н.А. Ги-
рича по Трехсвягительской ул.
Серьги серебряные трехбусинные (8 экз.).
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Ханенко 1907:37; Корзухина 1954:113,№84.
272. Киев. Клад, найденный в 1901 г. в ус. Б. А. Ор-
лова по Трехсвятительской ул.
Серьги золотые трехбусиниые с ажурными буси-
нами (4 экз.).
Киев. Музей исторических драгоценностей.
Лит.: ИАК1902:26; Ханенко 1907:35; Корзухина
1954:113,№85.
273. Киев. Клад, найденный в 1904 г. во дворе Со-
фийского собора.
Серьги трехбусинные серебряные с тиснеными,
каркасными и ажурными проволочными бусинами
(7 экз.). Четыре серьги с бусинами, покрытыми плот-
ными рядами зерни. Из них одна с овальными тисне-
ными бусинами. Три—с бочонковидными каркасны-
ми. Одна—с тиснеными бусинами, украшенными
проволочными колечками с треугольниками зерни
внутри. Одна серьга с ажурными бусинами, выпол-
ненными из двойных проволочных колечек.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Корзухина 1954:113-114, №86., табл. XXIV, 2-8.
274. Киев. Клад, найденный в 1854 г. на площади
около бывших Присутственных мест.
Серьги трехбусинные золотые (5 экз.).
Местонахождение неизвестно.
Лит.: Антонович 1895:36; Корзухина 1954:114,№87.
275. Киев. Клад, найденный в 1938 г. напротив зда-
ния б. Присутственных мествначалеМ. Житомирской
ул.
Сережки золотые трехбусинные (7 экз.)—три серь-
ги с зернеными бусинами, две с ажурными и две с
тиснеными, украшенными зерневыми треугольника-
ми и пирамидками.
Киев. Музей Исторических драгоценностей.
Лиг.: Самойловсысий 1948:192-198, рис.1-5; Корзу-
хина 1954:114, №88.
276. Киев. Клад, найденный в 1902 г. на Б. Жито-
мирской ул.
Серьги трехбусинные серебряные с ажурными бу-
синами (11 целых экз. и фрагменты).
Киев. Национальный музей истории Украины (кол-
лекция депаспортизирована во время войны).
Приложения
Лит.:Ханенко 1902:23-24, табл. XXVIII; Корзухина
1954:115,№91,табл. LVH, 5.
277. Киев. Клад, найденный в 1893 г. на углу Сре-
тенской и М. Владимирской ул.
Серьги серебряные трехбусинные 4 пары и мел-
кие фрагменты. Серьги трех вариантов—тисненые глу-
хие с орнаментом из проволочных колечек с вписан-
ными в них треугольниками мелкой зерни и пирамид-
ками крупной зерни, напаянной между колечками.
Тисненые ажурные, среди которых, кроме типичных
для этого варианта образцов, выделяется фрагмент
серьги (БК-2640), у которой в пространствах между от-
верстиями напаяна на проволочные колечки очень
крупная зернь, как бы дополнительно расплюснутая
сверху.
С.-Петербург. Гос. Русский музей, БК-2640,3470,
2339,2642,3315,3316,3318,3317.
Лиг.: Корзухина 1954:116,№94,табл. XXV, 1,2,XXVI,
1-9.
278. Киев. Клад, найденный в 1889 г. в ус. У.Ф. Ра-
ковского по Рейтарской ул.
Серьги трехбусшшые(3 экз.) от разных пар, одна с
тиснеными бусинами, украшенными проволочными
колечками с вписанными в них треугольниками зерни,
а также пирамидками крупной зерни, расположенны-
ми между колечками. Две других—с ажурными буси-
нами, выполненными из сканных колечек и укреплен-
ными дополнительными сканными перемычками.
Местонахождение неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:117,№97, табл. XXXVII, 1,5,6.
279. Киев. Клад, найденный в 1885 г. в ус. Есикорс-
кого.
Серьги трехбусинные золотые (30 экз. — практи-
чески все от разных пар) и одна элсктровая. Серьги
серебряные трехбусиные с ажурными и тиснеными
бусинами (целые и в фрагментах 23 экз.).
Клад хранился в Харькове в музее им. Сковороды,
погиб во время войны.
Лит.: Кондаков 1896:124-132, табл. Ш.
280. Киев. Клад, найденныйв 1889 г. в ус. подпору-
чика Греб но век о го по Троицкому пер.
Серьги трехбусинные серебряные фрагментиро-
вашше (9 экз., сохранились только кольца и остатки
сканной обнизи).
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК- 2707-2714,
2766.
Лит.: Кондаков 1896: IX, 18-25; Корзухина 1954:119,
№99.
281. Киев. Клад, найденный в неизвестное время
(до 1914 г.) при рытье ямы для фундамента дома №14
поСгрелецкойул.
Серьги золотые трехбусинные (две пары—у од-
ной бусины покрыты зернью, у второй—ажурные).
Киев. Музей Исторических драгоценностей, №ДМ
1916.
Лит.: Корзухина 1954:119,№100.
282. Киев. Клад, найденный в 1903 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Серьги серебряные трехбусинные (16 целых и сло-
манные).
Москва. ГИМ№49876, оп. 1091.
Лиг.: ОАКза 1903 г.: табл. V, 9,19; Корзухина 1954:
121,122,№103.
345
Приложения
283. Киев. Клад, найденный в 1906 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Серьга трехбусинная золотая с ажурными бусина-
ми, украшенными жемчужинами. Серьга серебряная
трехбусинная с бусинами, сплошь покрытыми зернью,
и фрагмент аналогичной серьги.
Москва, ГИМ. №49847/111.
Лит.: Корзухина 1954:122.№105,табл. XLIV,8,9.
284. Киев. Клад, пайденныйв 1907 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Две парные трехбусинные серьги с ажурными про-
волочными бусинами.
Москва. ГИМ.
Лиг.: Корзухина 1954:123,№106.,табл. XLV, 13,14.
285. Киев. Клад, найденный в 1824 г. близ Михай-
ловского монастыря.
Серьги трехбусшшые (пара) серебряные с круп-
ными зерпеными бусинами.
Клад разошелся по рукам.
Лиг.: Кондаков 1896:рис.60-61;Корзухина 1954:123,
№107.
286. Киев. Клад, найденный в 1906 г. на Трехсвяги-
тельской ул. напротив ворот гостиницы Михайл овско-
го монастыря.
Трехбусинные серьги серебряные (10 экз. с ажур-
ными и тиснеными бусинами). Трехбусинные золо-
тые серьги с ажурными буашами, украшенными жем-
чугом (в разных источниках сведения о находке 2,3 или
4 экз.).
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:124-125, №108., табл-XLV.
287. Киев. Клад, найденный в 1841 г. при обрезе
Михайловской(Алексапдровской)горынадАлекса1Щ-
ровским спуском с Крещатика.
Серыитрехбусинныесеребряные(2пары,одна—
с зернеными бусинами, другая—с ажурными); у этих
серег необычная дужка с шарнирным креплением, как
у колтов.
Москва. Оружейная палата (?).
Лиг.: Корзухина 1954:125№110.
288. Киев. Клад, найденный в 1914 г. «в Старом го-
роде».
Две золотые трехбусинные серьги (с тиснеными
бусинами, покрытыми зерныо и ажурными проволоч-
ными, украшенными зернью).
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лит.: Корзухина 1954:126. №111.
289. Киев. Клад 1986 г., найденный уд. ЮпоКуд-
рявскойул.
Серебряные трехбусинные кольца, бусины ажур-
ные сканные и проволочные каркасные с зерныо
(18 фр.).
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Павлова 1990:103-110.
290. С. Старая Буда (Звенигородского у. Киевской
губ.). Клад 1908 г.
Серьги золотые трехбусинные (2 пары) с бусина-
ми различной величины и формы—средние крупные
овальные, боковые мелкие и круглые, украшены ред-
кой крупной зернью.
Клад хранился в Харьковском музее им. Сковоро-
ды и пропал во время войны.
Лиг.:ОАКза 1908г.:рис236; Корзухина 1954:126,№112
291. Гор.КняжаГора(Каневскогоу. Киевской губ.).
Клад 1877 г.
Трехбусинныезолотыесерьги(5 экз.). Трехбусин-
ные серебряные серьги (8 экз.).
Москва. ГИМ.
Лит.: Самоквасов 1908:263; Самоквасов 1916:36,
рис.5; Корзухина 1954:127,№113.
292. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад1877г.
Трехбусшшые золотые серьги (2 экз.).
Москва. ГИМ.
Лит.: Самоквасов 1908:263; Самоквасов 1916:36,
рис.5; Корзухина 1954:127,№114.
293. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад, найденный в 1891 г. при раскопках Н.Ф.Беляшев-
ского.
Серьги трехбусинные серебряные (19 экз.—с тис-
неными бусинами, украшенными проволочными ро-
зетками, тиснеными зернепыми, каркасным изернены-
ми, тиснеными ажурными бусинами).
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:127,№115,табл.Х1ЛШ,28-35.
294. Гор. княжа Гора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад, найденный в 1891 г. при раскопках Н.Ф. Беляшев-
ского.
Серьги трехбусинные золотые (5 экз. с тиснепьпии
бусинами, украшенными проволочными колечками,
а также со вписанными в проволочные колечки треу-
гольниками зерни).
Клад поступил в коллекцию В.В. Тарновского. В
настоящее время место хранештя неизвестно.
Лит.: Корзухина 1954:126,№117,табл.ХШ1,6-8.
295. Гор. Княжа Гора (Каневского у. Киевской губ.).
Клад,найденныйв 1892 г. при раскопках Н.Ф. Беляшев-
ского.
Серьги трехбусшшые серебряные (8 экз.).
Клад поступил вколлекциюТарновского. В насто-
ящее время место хранения неизвестно.
Лиг.: Каталог 1898:13-17; Корзухина 1954:129, №119.
296. Гор.КняжаГора(Каневскогоу. Киевской туб.).
Клад 1897 г.
Серьги трехбусинные золотые (2 экз.). Одна с ажур-
ными филиграштыми бусинами, украшенными зер-
нью. Вторая—стиснеными бусинами, декорирован-
ными проволочными колечками и зерныо в месте стыка
колечек.
Киев. Музей Историческихдрагоцетшостей.
Лиг.: Корзухина 1954:129,№121,табл. L1X, 7-8.
297.Гор.КпяжаГора(Каневскогоу.Киевскойгуб.).
Клад 1898 г.
Две золотые трехбусинные серьги (одна с тисне-
ными гладкими бусинами, вторая с бусинами, в виде
поясков, составленных их мелких литых шариков). Серь-
ги серебряные трехбусинные (4 экз. с бусинами, укра-
шенными проволочными розетками, вписанными в
кружки).
Поступил в коллекцию Б.И. Ханенко. В настоящее
время место хранения неизвестно.
Лит.:Ханенко 1902:20, табл. XXV, 932, XXVI, 933,
934, XXW, 935,983,984; Корзухина 1954:123, №123,
табл. L, 3-8.
298. Гор. Д евичья Гора у с. Сахновкв (Каневского
района, Черкасской обл.). Клад 1900 г.
346
Серьга золотые киевского типа(12 шт.).
Киев. Музей Историческихдрагоценностей.
Лит.: Ханенко 1902: табл.ХХХ, 986.987; Корзухина
1954:130-131.№126.
299. С. Городище—Изяславль (Шепетовского
р-на).
КладУ. 1958 г. (по А. А. Песковой).
Серьги трехбусинные серебряные (2 экз. непар-
ные). Одна с тиснеными бусинами с маленькими от-
верстиямив цеигресканных колечек. Вторая—спро-
волочными розетками в центре проволочных колец.
КладУ!. 1959 г.
Серьги трехбусинные серебряные с тиснеными бу-
синами, украшенными сканными розетками, вписан-
ными в круг: «лепестки» прорезные ажурные, в цент-
ре розеток—крупная зернь (1 целая и 2 фрагмента).
Клад УШ. 1959 г.
Сережка трехбусинная с двумя тиснеными-ажур-
ными бусинами, украшенными зернью и сканью. С
серьгой соединена дужка от колта.
Клад1Х.1959г.
Сережка трехбусинная серебряная с тиснеными
бусинами (сохранилась одна бусина и обломок).
КладХГ 1961 г.
Серьга трехбусинная.
Клад XII. 1961 г.
Серьги серебряные трехбусинные (пара) с тисне-
ными бусинами, украшенными сканными проволоч-
ными четырехлепестковыми розетками, обрамленны-
ми сканными кружками, в центре «лепестков»—от-
верстия.
С.-Петербург. ГЭ. ЭРА-34.
Лиг.: Миролюбов 1983:16-19; (Пскова 1988:16-35.
300. С. Городище (Деражнянского района Хмель-
ницкой обл.). Клад 1970 г., найденный на детинце горо-
дища в результате работ археологической экспедиции
под руководствомС-М. Бибикова.
Позолоченные трехбусинные сережки с гладкими
тиснеными бусинами. Кольца трехбусинные серебря-
ные с ажурными проволочными и ажурными тисне-
ными бусинами (18 экз., из них 5 поломанные).
Хмельницкий. Областной краеведческий музей.
Лиг.: В. I. Якубовский.975:87-104.
301. Переяслав (Полтавскойгуб.). Клад 1884 г.
Серьги золотые трехбусинные с тиснеными буси-
нами, покрытыми плотными рядами мелкой зерни
(2 экз.). Серьги серебряные трехбусинные целые и
фрагментировашпле, стиснеными, каркасными и ажур-
ными бусинами (23 экз.). Серьги с тиснеными оваль-
ными или усеченно-бикошпескими бусинами, укра-
шены плотными рядами зерни, припаянной к прово-
лочным колечкам. В ряде случаев зернь весьма затер-
та или отсутствует вовсе—сохранились только колеч-
ки. Подобных серег 9 экз. Близка к ним по внешнему
виду, но выполнена в иной техшпее серьга Инв. №БК
2694(силыю фрагментирована) с каркасной зерненой
бусиной. Кроме того, в составе клада есть одна серьга,
а также ряд фрагментов (инв. №БК 2669,2680,2678) с
тиснеными бусинами, украшенными проволочными
розетками, заключенными в круг. Фрагмент серьги с
бусиной, украшенной маленькими отверстиями, об-
веденными концентрическими проволочными круж-
ками (инв.№БК 2675). А также ряд фрагментов серсгс
Приложения
тиснеными ажурными бусинами (БК2676,2681,2684,
2685,2690). И одна целая серьга с ажурными прово-
лочными бусинами (БК2674).
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК2670-2693.
Лит.: ОАКза 1885 r.:XCIV;KomraKOB1896:133,134,
табл. XII; Корзухина 1954:137,№146.
302. Чернигов. Клад 1957 г., найденный при рас-
копках Борисоглебского собора.
Золотыетрехбусинные кольца—3 экз. ажурных
проволочных, дополнительно украшенных жемчужи-
нам! 1 ia 1 пгтях, и 7 экз. с тиснеными бусинами (из них 3
украшены проволочными розетками и 4—крупной
зернью).
Лит.: Холостенко 1962:235-238, рис. 1-5.
303. Чернигов. Клад 1923 г.
Серьги серебряные трехбусшшые (2 экз.).
Место хранения неизвестно.
Лит.: Корзухина 1954:138,№150.
304. Любеч (Репкинского р-на Черниговской обл.).
Клады из раскопок БА. Рыбакова I960 г.
В первом кладе—кольцо височное серебряное
трехбусшпюе с ажурными сканными бусинами.
Во втором кладе—кольцо височное серебряное
трехбусинное с ажурными сканными бусинами.
Москва. ГИМ. Ипв.№100891,оп. 2027/36,37.
Лит.: Недошивина 1999:190-197, рис.1,5. рис.З,7.
305. Урочище Святое Озеро близ д. Новая Буда и
Низовка (на границеСосницкого и Черниговского у.).
Клад 1908 г.
Серьги трехбусинные серебряные (15 экз.).
Москва, ГИМ, №46043. оп. 1118.
Лит.: Отчет РИМ 1911:7, табл. И; Самоквасов 1916:
33-40, рис.4; Корзухина 1954:138, №152.
306. С. Стариково (Корочанского у. Курской губ.).
Клад 1883 г.
• Серьги серебряные трехбусинные (пара) с буси-
нами в вцде проволочных розеток. Между бусинами —
сканная обмотка. Серьги серебряные трехбусинные
(пара) с тиснеными бусинами. Боковые бусины (одна
отломана) меньше центральной, украшены в центре
сканной косичкой. Центральная бусинадополнигель-
по декорирована двумя поясками проволочных коле-
чек, расположенных по бокам скани.
Аналогичные серьги (пара), бусины украшены по
центру поясками скани. По виду серьга близки к кар-
пато-балканским образцам.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. 1001/2-9.
Лиг.: Гущшт 1936:66-67, табл. ХШ; Корзухина 1954:
141,№158.
307. Старая Рязань. Клад 1887 г.
Серьга серебряные трехбусшшые стиснеными бу-
синами. украшашыми проволочными «звездочками»,
вписанными в проволочный кружок(10 экз.).
Рязань. Историко-художественный музей-заповед-
ник. РОМ, №1205, кол. №1.
Лиг.: Селиванов 1891:208-212, табл. V; Кондаков
1896:136.137,рис.84; Толстой, Кондаков 1897: рис.224;
Гущин 1936:78-80, табл. XXV111.XXIX; Корзухина 1954:
144,145, №165; Монгайт 1955:144.
308. Старая Рязань. Второй клад 1967 г.
Серебряные трехбусинные кольца с тиснеными бу-
синами, украшешгыми проволочными колечками
(11 экз.), конец с застежкой закручен, возможно, они
Приложения
347
переделаны в дужки очелья (?).
Лиг.: Даркевич, Монгайт 1972:206-212.
309. Старая Рязань. Клад 1970 г.
Серебряные трехбусинные серьги (8 экз.) с тисне-
ными бусинами, украшенными тремя вписанными в
проволочный кружок розетками, состоящими из че-
тырех зерненых треугольничков с шариком крупной
зерни в центре.
Несколько трехбусинных височных колец можно
различить в слитке серебряных украшений, найденном
в составе д анного комплекса.
Рязань. Историко-художественный музей-заповед-
ник. РОМ, №7605.
Лиг.: Даркевич 1977:166,167; Даркевич, Монгайт
1978:9-1.
310. Старая Рязань. Клады 1979 г., найденные при
раскопках вблизи Спасского собора в полуземляноч-
ном жилище.
В одном кладе 11 экз. трехбусинных серебряных
височных колец двух типов.
Во втором—14 экз. трехбусинных височных ко-
лец трех типов.
Лит.: Даркевич 1987:67.
311. Тверь. Клад 1906 г.
Кольца височные серебряные трехбусинные с тис-
неными ажурными бусинами (пара).
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК-3341,3342.
Лиг.: ЗОРСА1915:9-12, табл. 1,6,8; Корзухина 1954:
147-148,№170.
312. Москва, Кремль. Клад 1988 г.
Кольца височные серебряные трехбусинные с тис-
неными бусинами, украшенными двойными сканны-
ми колечками (крупная зернь напаяна в центре коле-
чек и в месте их стыков).
Кольца с тиснеными-ажурными бусинами, допол-
нительно укрепленными скапными нитями и украшен-
ными крупной зернью, посаженной на проволочные
колечки (всего 26 экз.).
Москва. Оружейная палата.
Лит.: Наследие варягов 1996:110.
313. М. Романове (Горецкого у. Могилевской губ.).
Клад, найденный около 1892-1893 гг.
Серьги серебряные трехбусинные (2 экз.).
Москва. ГИМ. №22976, оп. 1414,№1,2.
Лиг.: Кондаков 1897:158,рис.219; Корзухина 1954:
149,№173.
Цепи и браслеты с драконьими головками. Карта 21.
314. Мироновский фольварк (Каневского у. Киев-
ской губ.). Клад 1883 г.
Цепь шейная массивная (длина 60 см) четырехгран-
ная, выполненная из звеньев толстой проволоки, нако-
нечники литые в виде двусторонних головдраконов,
держащих во «ртах» завязанное кольцо. В «шеях» дра-
конов отверстия, сквозь которые продета серебряная
проволока, иа которую надето первое звено цепочки.
Проволока припаяна, вид ны следы припая.
С.-Пегербург. Гос.Эрмитаж.1023/5.
Лиг.: Гущин 1936:63,64, табл. X.
315. Киев. Клад 1876г, найденный в ус. И. Лескова.
Две серебряные цепи, одна плетена из крупной
проволоки, сквозь круглые отверстия в драконьих го-
ловках продето колечко, завязанное двойным узлом.
Вторая цепь небольшая, объемного четырехграгшого
плетения, наконечники украшены чернью.
Киев. Музей исторических драгоценностей.
Лит.: Кондаков 1896: рис.76; Корзухина 1954:112,
№80.
316. Киев. Клад, найденный в 1841 г. при обрезе
Михайловской (Александровской) горы над Александ-
ровским спуском с Крещатика.
Браслет золотой витой вокруг проволочной осно-
вы, на концах—литые драконьи головки.
Москва. ГИМ.
Лит.: Корзухина 1954:125,126, №110.
317. Киев. Клад, найденныйв 1889 г.вус. У.Ф. Ра-
ковского по Рейтарской ул.
Витой браслетснаконечниками в виде весьма схе-
матичных драконьих гопов.
Местонахождение неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:117,№97, табл. XXXVII, 7.
318. Киев. Клад, найденный в 1914г. «в Старом го-
роде».
Браслет серебряный, витой, украшенный наконеч-
никамиввиде змеиных головок.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Корзухина 1954:126,№111.
319. Д. Лески (Орловской губ.). Клад 1853 г.
Цепочка серебряная плетеная изтонкой проволо-
ки четырехгранная (длина 104 см). На концах стилизо-
ванные драконьи головки, держащие во ртах кольцо, к
кольцу прикреплены звездчатые колты.
Место хранения неизвестно.
Лит.: Корзухина 1954:139,№153.
320. Тверь. Клад 1906 г.
Цепь серебряная из рубчатых звеньев с тиснены-
ми наконечниками в виде драконьихголовок (глаза пе-
реданы вставками синего стекла, мордочки украшены
сканью).
С-Петербург. Гос. Русский музей. БК-3351.
Лиг.: ЗОРСА 1915:9-12, табл. П,3; Корзухина 1954:
147-148,№170.
321. Чернигов—тонкая золотая цепь, оканчива-
ющаяся золотыми головками драконов.
Киев. Музей Исторических драгоценностей.
Лит.: Музей исторических... 1984:45.
322. Москва, Кремль. Клад 1988 г.
Браслет витой из серебряных дротов с перевитыо
сканной нитью с полыми позолоченными драконьими
головками, припаянными на оловянистый припай. Ана-
логичные браслеты происходят, например, из клада
XI—начала XII в., Бурге на Готланде.
Москва. Оружейная палата.
Лиг.: Насдедиеварягов 1996:107-120;Новикова 1997:57.
348
Приложения
Бармы
Медальоны золотые. Карта 22.
323. Киев. Клад, найденный в 1842 г. предположи-
тельно в тайнике в районе апсид Десятинной церкви
при постройке новой церкви по проекту архитектора
А.С. Анненкова.
Золотые медальоны с эмалевыми изображениями
деисусных фигур (Христа, св. Георгия и Дмитрия) и
жемчужной обнизью. Оправа украшена S-видными за-
витками рубленной проволоки и вставками для драго-
ценных камней. Ушки медальонов бусинные.
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Кондаков 1896: рис.57,58; Корзухина 1954:106,
№65; Макарова 1975:57, рис.7.
324. Киев. Клад, найденный в 1880 г. на Б. Жито-
мирской ул. у дома ген. Кушипова.
Медальоны золотые с изображением Деисуса—
Христа, Богоматери, Предтечи. Оправы украшены че-
тырьмя вставкамисполудрагоценными камнями и че-
тырьмя розетками с жемчужинами в центре, а также
валютообразными завитками из рубчатой проволоки
Клад хранилсяв Харьковском музее им. Сковоро-
ды, погиб во время войны.
Лит.: Кондаков 1896: табл. I; Корзухина 1954:115,
№90; Макарова 1975: №78-80, табл. 14,2-4.
325. Киев. Клад, найденный в 1824 г. близ Михай-
ловского монастыря.
Медальоны золотые с эмалевыми изображения-
ми Христа и двух юных мучеников, оправа украшена
драгоценными камнями и S-вид ными сканными завит-
ками.
Клад разошелся по рукам.
Лиг.: Кондаков 1896: рис.57-58; Корзухина 1954:123,
№107.
326. Гор.ДевичьяГораус, Сахиовка Каневского у.
Киевской губ. Клад 1900 г.
Золотые медальоны с изображением Деисуса—
Христа, Богоматери, Иоанна Предгечииархангела. Опра-
вы украшены вставками с драгоценными камнями в
овальных карстах с шестиугольными основаниями, вы-
пуклыми полушариями и двум я ряд ами жемчуга.
Киев, Музей Исторических драгоценностей. №ДМ
1777,1795,1778,1776.
Лит.: Корзухина 1954:131, №127; Макарова, Плет-
нева 1968:103; Рыбаков 1971: рис.31-33; Макарова 1975:
105,№35-36,табл.4,10,11.
327. Гор. КняжаГора (Каневскогоу. Киевской губ.).
Клад,найдеппыйв1891 г. при раскопках Н.Ф. Беляшев-
ского.
Медальоны золотые (2 экз.) со вставными щитка-
ми, украшенными эмалевыми изображешшми Бого-
матери и Предтечи. Вокруг щитка расположена жем-
чужная обнизь. Оправа украшена драгоценными кам-
нями и сканными завитками, ушки в виде подквадрат-
ной бусины.
Клад поступил в коллекцию В.В. Тарновского.
Лит.: Ханенко 1900: табл. XX, 239,240; Корзухина
1954:126,№117; Макарова 1975.
328. С. Городище (Деражнянского района Хмель-
ницкой обл.). Клад 1970 г., найденный на детинце горо-
дища в результате работ археологической экспедиции
под руководством С.М. Бибикова.
Медальоны золотые с эмалевыми изображения-
ми святых (3 экз.).
Хмельницкий. Областной краеведческий музей.
Инв. №3394,3422.
Лиг.: Якубовский! 975:87-104.
329. Гор. Старая Рязань. Клад 1822 г.
Два набора золотых медальонов (барм), укра-
шенных сканью, зернью и полудрагоценными кам-
нями. В одном наборе три медальона с эмалевыми
вставками с изображениями Богоматери, святой
Ирины и Варвары и 5 ажурных бусин, украшенных
жемчугом.
Во втором наборе—6 медальонов, украшенных
альмандинами, и бовальныхажурныхеканных бусине
альмандинами.
Золотые большие медальоны с эмалевыми изоб-
ражениями Богоматери, св. Ирины н Варвары. Оправа
медальонов с проволочными фестонами, вокруг щит-
ков и по краю медальонов—жемчужная обнизь, скань
объемная, двухъярусная, на концах завитков—круп-
ная зернь, вставки с драгоценными камнями в карстах
различной формы.
Золотой маленький медальон с петлями для жем-
чужной обнизи, обрамляющими вставной щиток с эма-
левым погрудным изображением Богоматери.
Москва. Оружейная палата, №74.
Лит.: Кайладович 1885; Опись Московской Ору-
жейной палаты 1894:41-43; Кондаков 1896:83-96,
рис.42-51, табл. XVI, XVII; Т олстой, Кондаков 1897:
168; Рыбаков 1948: рис. 110; Монгайт 1955: рис. 115;
Толочко 1963:154-160; Корзухина 1954:143,144, №162;
Вагнер 1971:11; Василенко 1974:269; Макарова, Плет-
нева 1968:106,107; Монгайт 1967:14, рис.13,14; Ры-
баков 1971: №20, рис.38; Макарова 1975:61,111,№85-
87. табл. 15,1 -3.6; Оружейная палата; Бочаров 1984:
158-163.
330. С. Каменный Брод (Радомышльский повет.
Киевская губ.). Клад 1903 г.
Гривна или бармы с эмалевым изображением по-
ясных фигур, составляющих Деисус (Христос, Бого-
матерь, Предтеча, Петр, Павел, два архангела, Борис,
Глеб).
Клад хранился в Харькове, в музее им. Сковороды,
и пропал во время войны.
Лиг.: ОАК за 1903 г.: табл. VI; Гущин 1936:табл. IX;
Корзухина 1954:134-135, №138, рис.7; Макарова 1975.
Медальоны серебряные. Карта 23.
331. Киев. Клад, найденный в 1901 г. в ус. Б.А. Ор-
лова по Трехсвятительской ул.
Ожерелье из восьми маленьких золотых медальо-
нов, украшенных рубчатой проволокой и гравирован-
ным черненым растительным орнаментом. Вокруг
вставных щитков с изображениями—желобок и петли
для жемчужной обнизи.
Киев. Национальный музей истории Украины,
№ср.-445.
Лит.: ИАК 1902:26; Ханенко 1907:35; Корзухина
Приложения
1954:113, №85, табл. XXXV, 3-5,9; Макарова 1986:146,
№256-263, рис.49.
332. Киев. Клад, найденный в 1939 г. в Киеве па
Стрелецкой улице.
Три медальона—2 круглых серебря гых с гравиро-
ванным. украшенным чернью изображением (на более
крупном изображена Богоматерь Знаменье, на медаль-
оне поменьше—архангел в рост). Третий медальон
овальной формы позолоченный. украшен в центре круп-
ной овальной вставкой из горного хрусталя, обрамлен-
ной крестообразно четырьмя овальными вставками бо-
лее мелкого размера. Ушки у всех медальонов бусин-
ные. Т.И. Макарова, исходя из особенностей графичес-
кой проработки изображений, считает, что оба медаль-
она с чернью выполнены одним мастером. На наш
взгляд, можно предположить, что медальон с каменны-
ми вставками делал другой мастер: его отличает асим-
метричная овальная форма, наличие позолоты. Однако
одинаковая высота данного медальона и медальона с
архангелом заставляет считать, что все эти мед альоны
изготовлялись для одного ожерелья.
Киев. Национальный музей истории Украины.
№ср-368,№ср-369.
Корзухина 1954:119,№101,табл. XL,2,3; Макарова
1986:100-102,147,№270,271.
333. С. Городище (Деражпяпского района Хмель-
ницкой обл.). Клад 1970 г., найденный на детинце горо-
дища в результате работ археологической экспедиции
подруководствомС.М. Бибикова.
Медальоны серебряные с гравированными изоб-
ражениями (чернь по гравировке) (2 экз. с изображе-
ниями растительных побегов и два—с изображения-
ми птиц).
Лиг.: Якубовский 1975:87-104.
334. С. Старая Буда (Звенигородского у. Киевской
губ.). Клад 1908 г.
Серебряные медальоны—2 экз. с гравированны-
ми изображениями Христа и Богоматери (возможно,
часть разрозненного Деисуса), а также 2 экз. с изобра-
жением процветшего креста.
Клад хранился в Харьковском музее им. Сковоро-
ды и пропал во время войны.
Лит.: ОАКза 1908 г.: рис.236; Рыбаков 1948: рис.83;
Корзухина 1954:126,№112; Макарова 1986:102, рис.49.
335. Старая Рязань. Клад 1868 г.
Серебряные медальоны, украшенные чернью
(5 экз.) —два медальона с изображениями Христа и
молодого святого и три медальона с процветшими кре-
стами.
С.-Петербург. Гос. Русский музей, Инв.
№БК3325,3327,3328,3324,3326.
Лит.: Кондаков 1896:111: Гущин 1936:77-79, табл.
XXVI, 3,10,XXVll, 10,13,15; Корзухина 1954:144; Ма-
карова 1986:147,№274-276,рис.50,149,№289-291.рис.54.
336. Старая Рязань. Клад 1937-1950 г.
Серебряный позолоченный медальон с изображе-
нием Богоматери Знаменье. Медальон с бусиннымуш-
ком, псевдосканный жгут обрамляет край орнаменталь-
ной зоны и самого медальона.
Москва. ГИМ. Инв. №83884, оп. 1200. №24.
Лиг.: Монгайт 1952:108,109, рис.33; Монгайт 1955:
148, рис.118; Корзухина 1954:145; Макарова 1986:148.
№277, рис.49.
349
337. Старая Рязань. Клад 1970 г.
Четыре серебряных позолочешшх медальона с
процветшими крестами и один небольшой медальон с
изображением св. Глеба. Медальон со святым имеет
бусинпое ушко, обрамленное по краямивцентре глад-
кой проволокой. Сам медальон позолочен, обрамлен
по краю рубчатой проволокой, гладкой проволокой об-
ведено орнаментальное поле и поделена на четыре сек-
тора оправа. Фигура св. Глеба дана поколенно, он изоб-
ражен безбородым, с локонами до плеч, в шапке, пла-
ще, накинутом на левое плечо, с крестом в правой руке.
Медальоны с крестами оформлены аналогично, изоб-
ражение креста заполнено чернью.
Рязань. Историко-художественный музей-заповед-
ник, РОМ,№7605-203/1-5.
Лит.: Даркевич 1977:166,167,рис.18,19; Даркевич.
Монгайт 1978:9-1, табл. XI, ХШ; Макарова 1986:147,
№276, рис.50,150, №292-295, рис.53.
338. Владимир. Клад 1837 г., найденный на терри-
тории Ветчаного города.
Три медальона с орнаментом в виде процветших
крестов, оди н с изображением Богоматери Оранты (все
медальоны разных размеров и происходят, возможно,
от разных наборов).
Медальон с Богоматерью имеет ушко в виде оваль-
ной бусины. Ушко, край медальона и орнаментальной
зоны оформлены псевдосканным жгутом. Изображе-
ние Богоматери дано гравировкой по золоченому фону
(рисупок довольно примитивен), линии гравировки за-
полнены чернью.
Более крупные медальоны с изображением про-
цветшего креста (№296 и 297 по Т.И. Макаровой) бло-
ки по оформлению самой подвески, по различаются
по характеру изображения. Так же как и у медальона с
Богоматерью, у этих медальонов бусинные ушки с псев-
досканным пояском в центре, край медальона и край
орнаментальной зоны обведены псевдосканным жгу-
том, оправа у одного медальона (№296) поделена псев-
досканью на 8 секторов, у другого—на 4. Изображе-
ние дано гравировкой на золоченом фоне, линии гра-
вировки заполнены чернью (у медальона №296 более
жидкой по цвету чернью покрыта и вся поверхность
креста). Изображение процветшего креста па этом ме-
дальоне более сложное и ажурное. Изображение крес-
та на маленьком медальоне №298 практически повто-
ряет то, что представлено на медальоне №297, по за-
полняет практически все поле медальона, обрамлен-
ного псевдоскашгым жгутом. Ушко—трубочка, по-
крытая каннелюрами, фон позолоченный, гравирован-
ное изображение креста покрыто чернью.
Москва. ГИМ. Инв. №78605,ол.1088,1-4.
Лит.: Строганов 1841:452,453,табл. I, II; Гущин
1936:69-71. табл. XVI, рис.26; Корзухина 1954:145-146,
№164; Макарова 1986:148, №279, рис.49,150 №296-298,
рис.55.
339. Владимир. Клад 1865 г., найденный на терри-
тории Ветчаного Города.
Обломки трех—четырех (по сообщению Т.И. Ма-
каровой—Макарова 1986:102)или четырех—пяти(по
сообщению Г.Ф. Корзухиной—Корзухина 1954:146) по-
золоченных серебряных медальонов (два с изображе-
ниями архангелов, один — неизвестного святого и
один —с процветшим крестом). Чернь по гравировке.
350 Приложения
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Кол. ЭРА-11.
Лит.: Гущин 1936:72-74, табл. XVII, 12,14,18,26;
Корзухина 1954:146,№167; Макарова 1986:148,№278,
рис.50.
340. С. Исады около Суздаля. Клад 1851 г.
Медальоны серебряные позолоченные (6 экз.)—
на пяти изображение процветшего креста, на одном—
юного мученика. Медальоны трех размеров—боль-
шие, срещше н малые. Один большой медальон (по-
видимому, центральный) с ушком в виде подквадрат-
ной бусины, соединенной с медальоном шаршгрным
креплением, оправа медальона украшена тиснеными
полусферами и обведена псевдосканным жгутом, в
центре—гравировашюе изображение процветшего
креста па черненом фоне.
Остальные медальоны с бусипными ушками. Вто-
рой большой медальон имеет аналогичную оправу с
тиснеными полусферами, но гравировашюе изобра-
жение отличается: в центре изображена шестиконеч-
ная розетка с крестом в середине и кринами по бокам
(фон покрытчерпью, изображение—позолотой).
Оправа средних и малых медальонов украшена по
краю псевдосканным жгутом, аналогичный жгут де-
лит оправу на четыре отсека. У медальонов среднего
размера фон пе покрыт чернью. На одном из малень-
ких медальонов изображен гравировкой на золоченом
фонесвятой в плаще и шапке, с крестом в руке (Борис
илиГлеб).
Москва. ГИМ,№54807. оп.2190, №1-18.
Лит.: Московская Оружейная палата 1860:267; Ува-
ров 1885:1-18,табл. 11; Отчет ГИМ 1926:46;Гущин 1936:
76,77, табл. XXV; Корзухина 1954:147. №169; Постнико-
ва-Лосева, Платонова, Ульянова 1972:8, табл. I; Мака-
рова 1986:148. №280-285,рис.51.
341. Д. Сельцы (Старорусского у. Новгородской
туб.). Клад 1892,1890, или 1894 г.
Медальоны серебряные позолоченные с гравиро-
ванным изображением процветшего креста (5 экз.). Бу-
синные ушки, а также оправа медальонов украшены
накладными жгутами.
Новгородский историко-архитектурный музей-за-
поведник. №НГМ-7541.
Лит.: Кондаков 1896:156,157; ЗРАО1897:247; Гу-
шин 1936:69,82,83,XXXIV. рис25; Корзухина 1954:149.
150,№174; Макарова 1986:152,№315-317.
342. Москва, Кремль. Клад 1988 г.
Медальоны-бармы серебряные позолоченные с
бусинными ушками (четыре экз. с изображениями
процветших крестов и два с изображениями арханге-
лов в рост).
Москва. Оружейная палата.
Лиг.: Наследие варягов 1996:107,113.
Браслеты
Створчатые браслеты-наручи. Карта 24.
343. Киев. Клад, найденный в 1872 г. переддомом
кн. Е.И. Трубенкой по Владимирской ул.
Браслет серебряный створчатый с рельефными
тиснеными квадрифолийными розетками, следами по-
золоты и двухъярусным гравированным изображени-
ем. На одной створке в верхнем ярусе изображение
птиц, в центре, между розетками, фантастический
зверь; в нижнем ярусе—растительный бордюр. На
другой створке в верхнем ярусе по краям раститель-
ные побеги и птицы, в центре, между розетками —
фантастический зверь, в нижнем ярусе — плетенка.
Фон покрыт чернью.
Москва. ГИМ,№36231, оп. 1683,№55.
Лит.: ОАКза 1896:121,122, рис.434; Хойловский
1893:11-13, табл. IV, 5,6,13-15,17;Кондаков 1896:рис.89;
Толстой, Кондаков 1897: рис.218; Рыбаков 1948: рис.59;
Корзухина 1954:112.113,№82; Макарова 1986:143,№231,
рис.42.
344. Киев. Клад 1893 г., найденный на углу Сретен-
ской и М. Владимирской ул.
Браслет-наруч одноярусный с рифлеными шарни-
рами и подвижным стержнем, украшен гравирован-
ными изображениями птиц и грифонов, помещенны-
ми в окаймлеппые рубчатой проволокой арочки.
С.-Петербург. Гос. Русский музей, БК-3320.
Лиг.: Корзухина 1954:116, №94, табл. XXV, 1; Мака-
рова 1986: №226, рис.38.
345. Киев. Клад, найденный в 1889 г. в ус. У.Ф. Ра-
ковского по Рейтарской ул.
Браслет-наруч двухъярусный па шарнирах с
подвижными стержнем. В верхнем ярусе изображе-
ния енршюв и пальметт заключены в арочки из рубча-
той проволоки. В нижнем—плетенка. На кайме, раз-
деляющей верхгшй и нижний ярусы,—стилизованная
плетенка и растительный орнамент.
Местонахождение неизвестно.
Лит.: Корзухина 1954:117,№97,табл. XXXVII; Дар-
кевич 1976:165, рнс.17.4;Макарова1986:№215, рис.25.
346. Киев. Клад, найденный в 1939 г. в Киеве на
Стрелецкой улице.
Браслеты-наручи (пара) с черневым изображени-
ем птиц, фантастических зверей и криновидной пле-
тенки, заключенных варочки, окруженные ложнойзер-
нью. Фон изображений позолочен. В нижнем ярусе—
плетенка.
Киев. Национальный музей истории Украины №ср-
369;№ср.-868.
Корзухина 1954:119,№101,табл. XL, 1,2; Рыбаков
1971:39, №42; Василенко 1977:270, рис.111; Макарова
1986:144, №233, №234, рис.43.
347. Киев. Клад, найденный в 1903 г. в ограде Ми-
хайловского монастыря.
Браслеты-наручи серебряные одноярусные
(2 экз.), один украшенный изображениями птицы, ло-
вящей рыбу, сирены, птиц и дерев, заключенными в
квадратные клейма, выложенные псевдозерненым жгу-
том. Второй—тремя человеческими фигурами (жен-
щина с распущенными рукавами, гусляр и воин со
змеей у ног) и тремя фигурами фантастических живот-
ных, заключенными в арочки, выложенные рубленым
жгутом.
Москва. ГИМ №49876. оп.1091,№13; Киев. Нацио-
нальный музей истории Украины №ср. 867.
Лиг.: Макарова 1986:142, №225,№222, рис.36,37,38.
348. Клев. Клад, найденный в 1906 г. па Трехсвяти-
тельской ул. напротив ворот гостиницы Михайловско-
Приложения
351
го монастыря.
Браслет-наруч серебряный, украшенный изобра-
жениями фантастических животныхирастительпыхпо-
бегов.
Место хранения неизвестно.
Лиг.: Корзухина 1954:124-125, №108.
349. Киев. Клад 1986 г., найденный уд. 10 по Куд-
рявскойул.
Браслеты-наручи серебряные (2 экз.). На одном
браслете изображение двухъярусное. В верхнем ярусе
—борьба воина со львом и две композиции с птицами
по бокам древа. В нижнем ярусе—растительный ор-
намент. На втором браслете—геометрический орна-
мент.
Киев. Национальный музей истории Украины.
Лиг.: Павлова 1990:103-110.
350. С. Старая Буда (Звенигородского у. Киевской
губ.). Клад 1908 г.
Браслеты-наручи серебряные, украшенные грави-
рованной плетенкой (2 экз.). Обручи тисненые одно-
ярусные на рифленых шарнирах. Обруч №242(по Ма-
каровой 1986) по краям украшен ложной зерныо (это
его сближает с браслетами из Войнешт) и позолотой.
Орнаментальная зона окружена полосами рубчатой
проволоки. Линии гравированной криновидной пле-
тенки заполнены чернью. На каждой створке припая-
но по три колечка. Обруч №243 (по Макаровой) трапе-
циевидной формы. Орнаментальная зона окружена
рубчатым жгутом.
Харьков. Исторический музей. Инв. №5517 АНС-
135.
Лит.: ОАК за 1908 г.: 237; Рыбаков 1948: рис.83; Кор-
зухина 1954:126, №112; Макарова 1986:145,№242-243,
рис.40; Минжулин 1991:252-255.
351. С. Городище (Деражнянского района Хмель-
ницкой обл.). Клад 1970 г., найденный та детинце горо-
дища в результате работ археологической экспедиции
под руководством С.М. Бибикова.
Браслет-наруч серебряный с чернью, выполнен-
ный в технике ручной выколотки с гравированными
изображениями женщин, зверей и птиц, растительных
побегов, заключенных в арочки.
Браслет-наруч серебряный позолоченный, выпол-
нетшый в технике ручной выколотки, украшенный
изображениями птиц и растительных побегов, заклю-
ченными в прямоугольные клейма.
Хмельницкий. Областной краеведческий музей.
Инв.№3414.
Лит.: Якубовский 1975:87-104; Брайчевская 1988:
185-192.
352. Городище у д. Вищин (Рогачевский р-н Го-
мельской обл.)—Вишинский замок. Клад 1979 г., най-
денный при раскопках, проводившихся экспедицией
Белгосунивсрситета.
Серебряный позолоченный браслет-наруч с изоб-
ражением птиц и орнаментом, обведегшыми арками.
Лит.: Загорульский 1983:89, рис.21.
353. Чернигов. Клад 1887 г.
Створка серебряного одноярусного браслета-на-
руча с гравированным изображением грифонов и дре-
ва, заключенными в арочки, выложенные ложнозер-
неными жгутами.
С.-Петербург. Гос. Эрмитаж. Инв. №1021/1.
Лит/.ОАКза 1887г.: СХСЛХ; Кондаков 1892:334;Кон-
даков 1896:131, табл. XI; Толстой, Кондаков 1897:118;
Самоквасов 1908:266,267; Корзухина 1954:137,138,
№147; Макарова 1986:143. №228,рис.36.
354. Любеч (Репкинского р-на Черниговской обл.).
Клад из раскопок Б.А. Рыбакова 1960 г.
Браслет-наруч серебряный шарнирный двухъярус-
ный ажурный пссвдосканный. Браслет-наруч сереб-
ряный двустворчатый одноярусный с растительным
орнаментом, заключенным в 4 прямоугольные клей-
ма. Браслет-наруч серебряный двустворчатый одно-
ярусный с гравированными изображениями птиц, за-
ключенными в клейма.
Москва. ГИМ. Инв. №100891, оп. 2027/33-35.
Лит.: Макарова 1986:85; Недошивина 1999:190-197,
рис.1,1,2,4.
355. Д.Терехово(Болоховского у. Орловской губ.).
Клад 1876г.
Браслет-наруч серебряный позолоченный двухъя-
русный на шарнирах с подвижным стержнем, обве-
дашый по краям позолоченной рубчатой проволокой.
Украшен гравированными изображениями в квадрат-
ных клеймах, обрамленных накладными пластинами,
украшенными гравировкой и позолотой. В верхнем
ряду изображения на черненом фоне птиц, располо-
женных в арочках. В нижнем ряду фантастические зве-
ри или птицы с процветшими хвостами. В центре брас-
лета, в местах пересечения орнаментальных зон, при-
паяны петельки, в которые продеты колечки.
Браслет-наруч серебряный двухъярусный, более
узкий, па шарнирах с подвижным стержнем. Створки
поделены пополам накладной позолоченной полосой,
украшенной гравированным бордюром. В верхнем
ярусе—гравированные изображения птиц и кринов,
заключенные в арочки, в нижнем—плетенка.
С-Петербург. Гос. Русский музей БК-3278, БК-3291.
Лит.: Гущшг 1936:67,68, табл. XV, 13,10; Корзухина
1954:139,140, №154; Рыбаков 1971:42, рис.45; Макаро-
ва 1986: 140,№212,№213,рис.31,32,35.
356. Д. Ппскова (Ментовского у. Калужской губ.).
Клад1911 г.
Браслет-наруч серебряный одноярусный с тисне-
ными рельефными шарнирами, украшен накладными
гладкими валиками и гравированным черненым побе-
гом лозы.
Москва. ГИМ, №47543, оп. 1494, №1.
Лиг.: Отчет РИМ 1912:11,12, рис.2; Корзухина 1954:
140, №156; Макарова 1086:143, №232, рис.42.
357. Старая Рязань. Клад 1966 г.
Браслет-наруч серебряный створчатый па шарни-
рах с подвижным стержнем. Обруч позолоченный
двухъяруо тый. Изображешш заключены в арки, выло-
женные псевдозернеными жгутами. На одной створке
в центре изображение гусляра, над его «аркой» изоб-
ражены две птицы. По бокам от гусляра—изображе-
ния пьющих из чаш мужчины и женщины (женщина
одета в платьес длинными рукавами), под этими арка-
ми —изображения плетенки в прямоугольных клей-
мах. Надругой створке вместо гусляра—грифон, вме-
сто мужчины и женщины—сирины (мужской и жен-
ский), вместо плетенки—растительный побег.
Браслет-наруч серебряный позолоченный створ-
чатый с двухъярусным изображением па черневом
352
Приложения
фоне. Браслет поделен па прямоугольные отсеки псев-
дозернеными жгутами. В отсеках изображения фанта-
стических животных и плщ чередуются с плетенкой и
растительными композициями.
Рязань. Историко-архитектурный музей-заповед-
ник, РОМ, №7604, дм. 201,202.
Лит.: Даркевич, Монгайт 1967:211-223; Вагнер 1971:
11,12, рис.5-7; Рыбаков 1971:110,111, рис.157; Макаро-
ва 1986:139,№210, рис.29-31.
358. Старая Рязань. Клад 1970 г.
Створчатый браслет-наруч серебряный позолочен-
ный с двухъярусным изображением. На одной створке
в верхнем ярусе в квадратных клеймах расположены
изображения 2птициузел плетенки, в нижнем— 1 пти-
ца и 2 древа. На другой створке—вверху 2 зверя и пле-
тенка, внизу—тотжезверь, геометризнрованное древо
в круге, с радиально расположенными побегами.
Рязань. Историко-художественный музей-заповед-
ник,№7604.
Лит.: Даркевич 1977:166,167, рис.19; Даркевич,
Монгайт 1978:9-1; Макарова 1986:140,141, №29, рис.29.
359. Владимир. Клад 1865 г., найденный на терри-
тории Ветчаного Города.
Серебряный створчатый браслет (в 6 обломках,
сильно фрагментирован) с двухъярусным изображе-
нием птиц. Накладным жгутом обрамлены створки и
изобразительные прямоугольные клейма. Черпь по
гравировке, на кайме—следы позолоты.
С-Петербург. Гос. Эрмитаж. Кол. ЭРА-11/13.
Лиг.: Гущин 1936:72-74, табл. XVII,22-28; Корзухи-
на 1954:146,№167; Макарова 1986:141,№219.
360. Владимир. Клад 1896 г., найденный на терри-
тории Печерного Города.
Браслет-наруч серебряный позолоченный двухъя-
русный на шарнирах с подвижным стержнем, с грави-
рованными изображениями птиц, зверей, древ и пле-
тенки, заключенными в прямоугольные клейма, обрам-
ленные псеводосканным жгутом. Чернь покрывала
фон, в настоящее время практически выкрошилась (ло-
ток для черни не сделан).
Браслет-наруч литой серебряный позолоченный
двухъярусный. В верхнем ярусе — гравированные
изображения птиц и зверей в килевидных арочках, в
нижнем—плетенка в квадратных клеймах). Фон вы-
бран резцом и покрыт чернью (в настоящее время ме-
стами выкрошилась).
Браслет-наруч серебряпый позолоченный одно-
ярусный, на одной створке изображение двух птиц по
сторонам плетенки, переходящей в изображение древ,
а затем—птиц, на другом—плетеным растительный
узор, фон покрыт чернью.
Москва. ГИМ. №36209, оп. 1089,23-25.
Лиг.: Гущип 1936:74,75, табл. XX, 1.3-5; Корзухина
1954:146-147.№168; Рыбаков 1971:41, рис.44; Макаро-
ва 1986:141,№218,рис.34.145, №244,245, рис.46.
361. Тверь. Клад 1906 г.
Браслет-наруч, выполненный в технике ручной вы-
колотки. браслет двухъярусный на шарнирах с подвиж-
ным стержнем. Браслет обрамлен псевдосканным жгу-
том, аналогичным жгутом каждая его створка поделе-
на на три отсека. На одной створке в нижнем ярусе
изображена стоящая женщина с рогом и извивающим-
ся фантастическим зверем, бегущий (танцующий?)
мужчина, сидящая женщина, пьющая из рога. На вто-
рой створке—древо, кентавр и фантастический зверь,
в нижних ярусах—растительные побеги и плетенка.
Фон подготовлен резцом и покрыт чернью.
Двухъярусный браслет, выполненный в технике
ручной выколотки, обрамлен по краю псевдосканным
позолоченным жгутом, аналогичным жгутом каждая
створка поделена на д ва отсека. Украшен в верхнем
ярусе изображениями птиц и животных, переходящи-
ми в плетенку и растительные побеги. В нижнем яру-
се —плетенка и крины, фон подготовлен резцом и по-
крыт чернью.
С.-Петербург. Гос. Русский музей. БК-3347,3348.
Лит.: ЗОРСА 1915:9-12, табл. И, 1,2; Рыбаков 1948:
267,268; Корзухина 1954:147-148, №170; Рыбаков 1971:
145-148; Даркевич 1975:274, рис.390 б.; Макарова 1986:
139, №207, рис.25-27,140, №214, рис.27,28.
362. М. Романове (Горецкого у. Могилевской губ.).
Клад, найденный около 1892-1893 гг.
Браслет-наруч серебряный одноярусный, обрам-
ленный псевдосканным жгутом и ложной зернью, с
гравированными позолоченным изображениями птиц,
обрамленными орнаментальными арочками, оканчи-
вающимися растительными побегами. На подготов-
ленный резцом фон нанесен плотный слой черни.
Москва. ГИМ. №22976, оп. 1414, №3.
Лит.: Кондаков 1897:158, рис.219; Корзухина 1954:
149, №173; Макарова 1986: №227, рис.36.
363. Москва, Кремль. Клад 1988 г.
Пара серебряных браслетов-паручей, разделены
ложносканными жгутами на два яруса, в верхнем—в
орнаментальных арочках изображения птиц и фантас-
тических зверей, в нижнем—побег лозы.
Москва. Оружейная палата.
Лот.: Наследие варягов 1996:107-120.
Браслеты со щитками, украшенными зернью и сканью. Карта 25.
364. Киев. Клад, найденныйв 1909 г. в усадьбе Де-
сятинной церкви к востоку от апсид при раскопках
Д.В. Милеева.
Браслет серебряный витой из двух дротов, щитки
раскованы из самого браслета и декорированы зернью
исканью.
С-Петербург. Гос. Эрмитаж. Кол. ОИРК.
Лит.: ИАК1909:127; Корзухина 1954:110, №75,
табл. XXXI.
365. Киев. Клад, найденный в 1876 г. в ус. И. Леско-
ва на углу Б. Владимирской и Десятинного пер.
Два серебряных витых браслета с наконечниками,
украшенными зернью и сканью.
Киев. Музей Исторических драгоценностей.
Лит.: Кондаков 1896:115.
366. С. Старая Буда (Звенигородского у. Киевской
туб.). Клад 1908 г.
Браслеты серебряные: один—из трех не переви-
тых дротов, другой—витой, шарпирный, все брасле-
ты с наконечниками, украшенными крупной зернью.
Клад хранился в Харьковском музее им. Сковоро-
ды и пропал во время войны.
Лит.: ОАКза 1908 г.: рис.237; Корзухина 1954:126,
№112
Приложения
3(>7.Гор.КняжаГора (Каневского у. Киевскойгуб.).
Происходит из коллекции Ханенко.
Браслет серебряный витой смягко очерченными
под треугольными щитками, украшенными крупной
зернью и сканью. Кроме того, в коллекции Ханенко
содержался и витой серебряный браслетсболыпими
прямоугольными щитками, украшенными зерневым
и сканнымузором(место находки не уточняется).
Место хранения неизвестно.
Лит.: Ханенко 1902: табл^ОО, 1060; Ханенко 1907:
табл.ХХХ1¥,1115.
368.СГородище(Шепетовского р-на Хмельниц-
кой обл.)— древний город Изяславль. Раскопки
MX Каргера.
353
Браслетбронзовыйложноюстой со щитками, укра-
шенными имитацией зернин скани.
Государственный Эрмитаж, кол. ЭРА—34.
369. Баклинское городище (Крым, Бахчисарайс-
кий район). Кладизраскопкок1973 г.
Браслеты серебряные витые из трех дротов. Под-
треугольныенаконечники первого браслета быливы-
кованы из самих дротовидекорированы по краю ска-
нью,авцентре—столбиками зерни. Миндалевидные
наконечники второго браслета были отлиты отдельно,
декорированызерневыми столбикамииприпаянык
дрогам браслета;
Москва. ГИМ.
Лит.: Талис1990:86, рис Л.
354
Литература
ЛИТЕРАТУРА
Абрамова ЕЛ. 1975. Катакомбные погребения IV-
V вв. из Северной Осетии// СА.№1. С.213-233.
Авдусина Т.Д., Панова Т.Д. 1989.0находке клада
на территории Московского Кремля // С А №4. С.272-
274.
Агапов АС.,СарачеваТ.Г. 1997,Оспособахноше-
ния височных колец// РА. №1. С.99-108.
Айбабин А.И. 1973. К вопросу о происхождении
сережек пастырского типа // СА №3. С.62-72.
Айбабин А.И. 1979. Погребения второй половины
V—первой половины VI в.вКрыму//КСИА Вып.158.
С22-33.
АйбабинАЛ. 1982. Погребения конца VII—пер-
вой половины VIII вв. в Крыму//Древности эпохи ве-
ликого переселения народов V-VIII вв. М. С.165-192.
Айбабин А. И. 1988. Хронология пальчатых и зоо-
морфных фибул днепровских типов из Крыма // Труды
V Международного Koiirpecca археологов-славистов.
Т. 4. Секция. 1.Древниеспавяпе.К.С.5-9.
Айбабин А. И. 1993. Могильники У1П—начала
X вв.вКрыму// МАИЭТ. Вып. ILL Симферополь. С.121-
133.
Айбабин А. И. 1994. Комплексы с большими дву-
пластинчатыми фибулами из Лучистого // МАИЭТ.
Вып. VI. С.132-172.
Айбабин АЛ,ХайрединоваЭ. А 1998. Ранние ком-
плексымогильникаус. ЛучистоевКрыму// МАИЭТ.
Вып. VI. С.274-311.
Аксенов В.С., Бабенко Л.И. 1998. Погребение VI-
Vn вв. н.э. ус. Мохнач//РА№3. С.111-123.
Аладжов Д. 1971. Средновековни погребения в
ЮгоизточнаБългария.ИБМ.Т. ЕСофия.
Аладжов Д. 1973. Материална культура на югоиз-
точна България пред. IX-X век // Славяните и среди-
земномостиятсвяг V1-X1 век. София. С.135-159.
Алексеев Л.В. 1997. «Менские дреговичи» и по-
лоцкие князья. СА №2. С. 100-110.
Алексеев Л.В. 2002. Друцк вХП-XVl вв. (Общие
вопросы истории памятника) // РА. №2. С.81 -96.
Алексеева Т.И. 1961. Краниология сред невекового
населения верховьев бассейнов Волги и Днепра // Во-
просы антропологии, 8. С.40-143.
АлексееваТ.И. 1961а. Славяне и их соседи (подан-
ным антропологии)// Antropologie. IV-2. Brno. С. 3-37.
Алексеева Т.И. 1964. Антропологические матери-
алы к этногенезу восточных славян// СА. №3. С.88-90.
Амброз А. К. 1968. Дунайский элемент в ранне-
средневековой культуре Крыма (VI-VII вв.) // КСИ А
113. С.10-23.
Амброз А.К. 1970. Южные художественные связи
населения Верхнего Поднепровья в VI в. // Древние сла-
вяне и их соседи. МИА №176. С.70-74.
Амброз АК 1971. Проблемы раннесредневековой
хронологии Восточной Европы// СА. №1,2.
Амброз А.К 1982.0двухпластинчатых фибулах с
накладками—аналогии к статье А.В. Дмитриева //
Древности эпохи великого переселения народов V-
VIII вв.М. С.107-121.
Амброз АК 1993. К происхождению днепровских
антропоморфных фибул//РА №2. С. 179-184.
Андрощук Ф.О. 1999. Нормани i слов’яни у
Подесенш (модшп культурно! взасмодп доби раннього
середньов!ччя). Киш.
Антонович В.Б. 1893. Раскопки в стане древлян //
МАР. №11. СПб.
Антонович В .Б. 1895. Археологическая карта Ки-
евской губ. М.
Антонович В.Б.1901. Археологическая карта Во-
лынской губернии//Труды XI АС в Киеве 1900 г. М.
С.1-134.
Анучин Д.Н. 1920. К вопросу о белорусской тер-
ритории. Курсбелоруссоведения. М.
Артамонов М.И. 1962. История хазар. Л.
Артамонов М.И. 1966. Сокровища скифских кур-
ганов. Прага, Ленинград.
Артамонов М.И. 1970. Болгарская культура Север-
ного и Западного Причерноморья// Этнография№15.
Артамонов М.Й. 1973. Сокровища саков. М.
Артамонов М.И. 1990. Первыестраницы русской
исгориивархеологическом освещении// СА№3. С.271-
290.
Археологические исследования в Молдове.1985.
Кишинев.
Археология Венгрии. М. 1986.
Археология УкраинскойССР 1988. Т. 3. Киев.
Арциховский А.В. 1930. Курганы вятичей. М.
Арциховский А.В. 1938. В защиту летописей и кур-
ганов//САГУ С.54-61.
Арциховский АВ. 1946. Культурное единство сла-
вян в средние века//СЭ№1. С.84-90.
Арциховский А.В. 1956. Археологическое изуче-
ние Новгорода// МИА№55. С.7-43.
Aynix В.В. 1972. Зимшвське городище. Киш.
Афанасьев Т.Е. 1979. Хронология могильника Мок-
рая Балка. КСИА Вып. 158. С.43-50.
Ахмеров Р.Б. 1955. Могильник близ г. Стерлитама-
ка//СА.ХХП. С. 125-137.
БагамольшкауУ.У. 1977. Рддлмпаяскроневне коль-
ца // Помнпа псторьп i культур! Белорус!. №4 (32).
БагауциновР.С., Богачев АВ.,ЗубовСЭ. 1998. Про-
тоболгары на Средней Волге. Самара.
Байон ИА., Каргопольцев С.Ю. 1989. В-образные
рифленые пряжки как хронологический индикаторсин-
хронизации // КСИА. Вып. 198. С.28-35.
Бакуменко К.И. 1999. К вопросу о функциональ-
ном назначении антропоморфных и зооморфных фи-
гурок Мартыновского клада// Проблемы истории и ар-
хеологииУкраины. Харьков. С.50-51.
Банк А.В.1940. Моливдовулс изображением поле-
та Александра Македонского на небо//ТОВЭт. Ш.
Банк А. В. 1966. Византийское искусство в собра-
ниях Советского Союза. М.
Литература
Банк А.В. 1978. Прикладное искусство Византии
IX-XIbb.M. 1978.
Баран ВД. 1972.Раншслов’яним1жДншромШри-
п’ягпо.К.
Баран ВД 1988. Скарби\1-У1П ст. Античи Русь?//
Археология№1. К. С.15-28.
Баран В Д1996. Славянские древности в гуннский
период// Siowianszczyzna w Europie. Wrociaw. Р.39-44.
Барсов Е.В. 1883. Исторический очерк чинов свя-
щенного венчанья на царствие в связи с развитием идеи
царя на Руся// ЧОИДРкн. 1. М. C.I-XXXV.
Белавин А.М. 2000. Камский торговый путь. Сред-
невековое Предуралье в его экономических и этничес-
ких связях. Пермь.
Белавин А.М. 2000а. Экономические и этнокуль-
турные связи средневекового Предуралья. Автореф.
дисс. на соискание уч. степени доктора ист. наук. СПб.
Белецкий С.В. 2001. Введение в русскую допетров-
скую сфрагистику // Исследование и музеефикация
древностей Северо-Запада. СПб.
Беляев Л. А. 1999. К вопросу об исторических про-
тотипах семилучевых височных колец // Славяне и их
соседи. М. С.17-20.
Беранова М., Сметанка 3., Станя Ч. 1975. Археоло-
гические исследования славянской эпохи в Чехии и Мо-
равиив 1966-1974 r.//PALXVI, 1.С.154-243.
Березова СА.КлочкоЛ.С. 1995.Такзвазпсережки
«калачики» з колекцц Музею 1сторичних коштовнос-
тей Укражи // Вщ першовитоюв до сьогодення: з icropu
формування колекшй музею: Тематичний зб1рпик на-
уковихпраць. Кию. С.37-53.
Берлизов Н.И.1997. К интерпретации ахеменидско-
го импортав раннепрохоровских погребениях// Stratum
+Петербургский археологический веепшк. СПб.—Ки-
шинев. С.101-105.
Бешевлиев В. 1968. За славянските племена в севе-
роизточния България от VI до 1Хвек// Преслав. I. С.17-
25.
Блажевска Л. 1998. Потребимте обичаи на средно-
вековните некрополи по долината на Вардар // Труды
VI Международного конгресса славянской археологии.
Том 4. Общество, экономика, культура и искусство сла-
вян. М. С.381-395.
Бобринский А. А. 1897. Курганы и случайные на-
ходки близ местечка Смелы. Т.1. СПб.
БогомольниковВ.В. 1983. Территория радимичей
в свете новых данных // Древнерусское госуд арство и
славяне. Минск. С.32-34.
Богомольников В.В. 1993.0 близости радимичей,
вятичей и северян. (По письменным и археологичес-
ким данным)// Старожипюсп ГЕвденноТРусь Черншв.
С.167-169.
БогуславскийО.И.1997.Юго-ВосточноеПриладо-
жье и Скандинавия (вопросы культурных контактов) //
Культурныевзаимодействиявусловиях контактных зон.
Тезисы конференции молодых ученых С.-Петербурга
и СНГ.СПб. С.46-61.
Борзияк ИА., Рябой Т.Ф. 1985. Средневековые на-
ходки в гроте Тринка I // Археологические исследова-
ния средневековых памятников в Днестровско-Прутс-
ком междуречье. Кишинев. С. 180-188.
Ботов К. 1977.Сгаробьлгарскинекрополкрайс. Хи-
товоТолбухинско// Известия на Народние музей. Вар-
355
на. Кн. 13(28). С.177-183.
БочаровГ.Н. 1969. Прикладное искусство Новго-
рода Великого. М.
Бочаров Г.Н. 1978.Русскиесюжетно-орнаменталь-
ныеизделия с перегородчатой эмалью// Средневеко-
вое искусство. Русь. Грузия. М. С.237-249.
БочаровГ.Н. 1984. Художественный металл Древ-
ней Руси. М.
Брайчевский М.Ю. 1950. Археолопчш матер!али
до вивчашя культури схщнослав’янських племен VI-
УШст.//Археолопя. IV.K.C27-54.
Брайчевский М.Ю. 1951. Работы на Пастырском
городище в 1949г.// КСИИМК. Выл. XXVI. С.155-156.
Брайчевский М. Ю. 1952. К вопросу о генетичес-
ких связях ювелирного ремесла антов и Киевской Руси
// КСИАУССР.№1.С.4349.
Брайчевский М.Ю. 1954. К истории древнего юве-
лирного ремесла // КСИИМК Вьш. 53, С.23-29.
Брайчевский М.Ю., Березовец М.Ю. 1954. К исто-
рии древнеславянского ювелирного ремесла. (По дан-
ным археологии)// КСИИМК Вып. 53. С.23-28.
Брайчевская Е. А. 1988.0 содержании изображе-
ния на браслете из клада ус. Городище Хмельницкой
обл.//СА. №2. С.185-192.
БулкинВА.,МачинскийД.А. 1986. Русь конца VIII
—началах вв. на Балто-Волжском и Балто-Донском
путях // Финно-угры и славяне. Сыктывкар. С. 13-24.
Буров В.А. 1996. К проблеме этнической принад-
лежности носителей культуры длинных курганов (псков-
ско-повгородская группа) // Тверь, Тверская земля и
сопредельные территории в эпоху средневековья.
Тверь. Вьш. 1. С.6-10.
БырняП.П., Нудельман АА, Рябой Т.Ф. 1990. Два
монетно-вещевых кладаXV1-XVII вв. // Археологичес-
кие исследования в Молдавии. Кишинев. С.239-249.
Вагнер Г.К 1964. Декоративное искусство в архи-
тектуре Руси Х-Х11 вв. М.
Вагнер Г.К 1964а. Скульптура Владимиро-Суздаль-
скойРуси.М.
Вагнер Г.К. 1966. Мастера древнерусской скульп-
туры. М.
Вагнер Г.К 1971. Рязань. М.
Вагнер Г.К. 1974. Проблема жанров в древнерус-
ском искусстве. М.
Валиева ДК1983. Искусство волжских булгар. Ка-
зань.
Вареиов АБ. 1995. Древнерусские шумящие брас-
леты//РА №1. С.64-70.
Василев Р. 1979. Проучванията на славянските ар-
хеологически паметницы от Северна България от края
на VI до краяХ в.// Археология. Кн. 3. С.12-23.
Василенко В.М. 1977. Русское прикладное искусст-
во. М.
Велецкая Н.Н. 1988.0 генезисе древнерусских
«змеевиков» // Древности славян и Руси. М. С.206-210.
Великая Моравия, ее историческое и культурное
значение. 1979. М.
Великая Моравия. Тысячелетняя трад иция государ-
ственности и культуры. 1963. М.
Вельтмаи А1860. Царский золотой венец и царс-
кие утвари, присланные греческими императорами Ва-
силием и Константином первовенчанному В.К. Влад и-
миру Киевскому// ЧОИДР кн. 1. М. С.31-99.
356
Литература
Вернер И. 1972. К происхождению и распростра-
нению антов исклавеиов// СА.№1. С. 102-115.
Винокур 1.С. 1994. Перша ливарпа форма для паль-
частих ф1бул // Старожитности Руси-Украши. Киш.
С.23-27.
Винокур 1.С. 1997. Слов’янськ! ювел!ри
Подшстров’я. Каменец-Подольский.
Винокур И.С. 1998. Бернашевский ювелирный ком-
плекс и историко-культурный процесс в Европе V-
VII вв. // Скифы. Хазары. Славяне. Древняя Русь. ТД
Международной научнойконференции. СПб. С.137-141.
Винокур И.С. 1998а. Бернашевский ювелирный
комплекс антско-склавинского порубежья // Труды VI
Международного конгресса славянской археологии.
Том 4. Общество, экономика, культура и искусство сла-
вян. М. С.223-232.
Вишняцкий Л.Б. 2002. Введение в преисторию. Ки-
шинев.
Власова М. 1995. Новая абевега русских суеверий.
СПб.
Войтович Л.2001. Княз1вства карпатських хорватш
// Етногенез та рання icropix слав’ян: нов! пауков!
ко1шепццназлом!тисячол!тп. Льв!в. С.135-210.
Володченко 3. А. 1953. К вопросу о технике черни
на Руси//КСИИМК.Вып. 52. С.10-16.
Волжская Булгария и Русь. 1986. М.
Воробьева Е.В. 1981. Рельефе драконом из Галича
//СА. С.109-117.
Воронин. Н.Н. 1956. Археологические заметки //
КСИА Выл. 62. С.17-32.
Воронин Н.Н. 1965. Памятник смоленского искус-
ствах!! в.//КСИА-Вып. 104. С.18-32.
Восточные славяне. Антропология и этническая
история. 1999. М.
Восточный художественный металл из Среднего
Приобья.1991. Л.
ВъжароваЖ. 1959. Славянскиятнекрополвс. Бу-
ковцы, Врачанско// Археологиякн. 1-2. София. С.21-23.
ВъжароваЖ. Н. 1965. Славянски иславянобългар-
ски селища в българските земли от края на VI-XI вв.
София.
ВъжароваЖ. 1965а. Средновековни объекта по до-
лините на реките Цибрица иОгосга// Известия на ар-
хеологический институт XXV11L София. С.231-246.
Выжарова Ж. Н. 1968. Памятники Болгариик. VI-
XI вв. и их этническая принадлежность// СА№2. С.148-
159.
Выжарова Ж.Н. 1973. Славяне и праболгары в свя-
зи с вопросом средиземноморской культуры // Славя-
ните и средиземномостият свят VI-XI век. София. С.239-
266.
ВъжароваЖ. 1971.Славяпиипрабългари(порко-
българы) в светлината на археологическите датпты //
Археология, кн. I, С. 1 -23.
Въжарова Ж. 1974. Селища и некрополи (края на
VI-XI в.)// Археология №3. С.9-22.
Въжарова Ж. 1976. Славяпи и прабългари. София.
Выжарова Ж. 1980. Богатое погребение женщины
в могильнике возле большой базилики в Плиске //
Slovane Vl-X stoleti. Brno. С. 259-310.
ВыжароваЖН. 1987. Славяне к югу от Дуная. СА.
№4. С.298-308.
Высоцкий СА. 1989. Светские фрески Софийского
собора в Киеве. Киев. «Науковадумка».
Вязьм!тша M.1.1962. Золотая Балка. Киев.
Гаврилова АА. 1965. Могильник Куверге как ис-
точник по истории алтайских племен. М.-Л.
Гавритухин И. О.1991. Пальчатые фибулы пражс-
ких памятников Поднесгровья// Древности Северного
Кавказа и Причерноморья. М. С. 127-142.
ГавритухинИ.0.1997. Хронология пражской куль-
туры // Этногенез и этнокультурные контакты славян.
Труды VI Международного Конгресса славянской ар-
хеологии. Т. 3. М. С.39-52.
Гавритухин И.0.2003. Взаимоотношения славянс-
ких и восточногерманских народов во второй полови-
не V —начале VI веков. // Чтения, посвященные 100-
летию деятельности Василия Алексеевича Городцова
в Государственном Историческом музее. Тезисы кон-
ференции. Часть П. М.С.109-113.
ГавритухинИ.0,Иванов А.Г. 1999. Погребение 552
Варнинского могильника и некоторые вопросы изуче-
ния раннесредневековой культуры Поволжья // Перм-
ский мир в раннем средневековье. Ижевск. С.99-159.
Гавритухин И.О., Обломский AM. 1996. Гапонов-
ский клад и его культурно-исторический контекст. М.
ГагонидэеЮ.М. 1985. Из истории ювелирного дела
в Грузии // Художественные памятники и проблемы
культуры Востока. С.47-60.
ГамзатоваП.Р. 1996.0некоторых особенностях ис-
кусствоведческого изучения ювелирных украшений //
Ювелирное искусство и материальная культура. ТДК
Первого коллоквиума. СПб. Гос. Эрмитаж. С.8-9.
ГамченкоС.С. 1888. Житомирский могильник. Жи-
томир.
Гатев. П. 1977.Накити от погребения от X1-XII в.//
Археология, год. XIX. Кн. 1. София. С.30-46.
Генинг В.Ф. 1955. Серебряный браслет из Верхне-
го Прикамья// КСИА. Вып. 57. С.135-138.
Генинг. В.Ф. 1962. Мыдлапь-Шай—удмурдский
могильник VIII—п л. X вв. // ВАУ 3. Свердловск. С.30-
56.
Генинг В.Ф., Голдина РД. 1970. Поздпеломоватов-
ские могильники в коми-пермяцком округе // Вопро-
сы археологии Урала, 9. Свердловск.
ГеоргиевП. 1986. Находки от«викингского» вре-
мени. София.
Георгиева С. 1956. Общности на накитите у сла-
вянските народи// СлавяниХ11,кп. 1. С.31-34.
Георгиева С. 1961. Археологически проучвания в
Родопитепрез I960// Археология Ш, 3. С.12-17.
Георгиева С., БучинскиД. 1959.Сгаратозлатарство
в Врата. София.
Георгиева С., Пешева Р. 1955. Средневековен
български некропол край гр. Ловеч и накити, намере-
ние него. София.
Гетов Л. 1965. Могилыш погребения при с. Долно
Сахране,Старозагорско// Известия на Археологичес-
кий институт. XXVHI. София. С .202-229.
Голдина РД. 1979.Хронологияпогребальпыхком-
плексов раннего средневековья в Прикамье // КСИА
158. С.79-91. У
ГоддинаР. Д. 1985. Ломоватовская кулыурав Верх-
нем Прикамье. Ижевск.
Голубева Л А. 1949. Киевский некрополь// МИА.
11.С.103-118.
Литература
ГолубеваЛА. 1979. Зооморфные украшения фин-
но-угров// САИ. Вып. Е1-59.
Голубева Л.А., Вареной А.Б. 1978. Полые коньки-
амулеты древней Руси// СА №2. С.228-239.
Гольмстен В.В. 1914. Лушшцы Исторического музея
//Отчет Российского Исторического музея за 1913 г.М.
Гороховский ЕЛ. 1982. Хронология украшенийс
выемчатой эмалью Среднего Поднепровья // Матери-
алы по хронологииархеолопзческих памятниковУкра-
ины. Киев. С.125-139.
Горюнов ЕА. 1981. Ранние этапы истории славян
Днепровского левобережья. Л.
Горюнова Е. И. 1961. Этническая история Волго-
Окского междуречья// МИ А 94. М.
Горюнова В.М. 1987. К вопросу об оловянистых
украшениях «антских» кладов // Археологические па-
мятники эпохи железа Восточноевропейской Лесосте-
пи. Воронеж. С.85-93.
ГорюноваВ.М. 1992. Новый клад антского време-
ни из Среднего Поднепровья // Археологические вес-
та №1. СПб. 126-140.
Горюнова В.М.,ОвсянниковО.В. 2002. Клад конца
X—начала ХШ вв.вустьер. Варзуги (Терский берег
Кольского полуострова) // Ладога и ее соседи в эпоху
средневековья. СПб. С.211-220.
Горюнова В.М., Щеглова ОА 1998. Спор длиною в
четверть века: М.И. Артамонов и П.Н. Третьяково«Па-
стырской культуре»// Скифы. Хазары. Славяне. Древ-
няя Русь. ТД Международной научной конференции.
С.130-136.
ГрибовичР.Т., Петегирич В.М., Павлив Д.Ю. 1977.
Исследования на Волыни// АО. 1976. С.284.
Григорьев АВ. 1988. К вопросу об украшениях ро-
менской культуры// Историко-археологический семи-
нар «Чернигов и его округа в 1Х-ХП1 вв». 26-28 сетггяб-
ря 1988 г. Тезисыдокладов. Чернигов. С.103-106.
Григорьев А.В. 1990. Некоторыезамечания по по-
воду украшений Роменской культуры // Проблемы ар-
хеологии Южной Руси. К. С.50-56.
Григорьев А.В. 2000. Северянскаяземляв VIII—
начале XI вв. по археологическим данным. Тула.
ГринковаН.П. 1956. Височные украшения в рус-
ском народном женском костюме // Сб. МАЭ. Вып.
XV1.T.16.
Гроссу В.И. 1990. Хронология памятниковсармат-
ской культуры Днестре век о-Прутского междуречья.
Кишинев.
Грязнов В.П. 1956. История древних племен верх-
ней Оби// МИА48.
Гудкова А.В., Русова А.В. 1980. Металлические
украшения из могильника римского времени Молота 11
// Исследования по античной археологии юго-запада
УкраинскойССР. Киев. 122-135.
Гупало В. 1996.Дослщжеш1Якурганногомогиль-
никавурочшш Майдан бшя села Берестяне// Materiaiy
i Sparawozdaaia Rzeszowskiego Owodka Archeologicz-
nego. Tom. XVII. Rzeszyw. S.l 13-129.
Гуревич Ф.Д. 1947. Украшения co звериными го-
ловами из прибалтийских могильников (к вопросу о
культе змеи в Прибалтике) // КСИИМК. Вып. XV. М.
С.68-76.
Гуревич Ф.Д. 1956. Археологические памятники
Великолукской области// КСИА Вып. 62. С.95-107.
357
Гуревич ФД. 1972. Ремесленная корпорация древ-
нерусского города по археологическим данным //
КСИА Вып. 129. С.31-36.
ГуревичФ.Д. 1981. Древний Новогрудок. Посад—
окольный город. Л.
Гуревич Ф.Д. 1982. Внешние связи древнерусских
городов Понеманья// КСИА. Вып. 171. С.43-48.
ГуревичФ.Д. 1983. Погребальные памятники жи-
телей Новогрудка. (конец X—70-е годы ХШ вв.) //
КСИА Вып. 175. С.48-54.
ГущинА.С. 1936. Памятники художественного ре-
месла Древней Руси Х-Х111 вв. Л.
ДавидапО.И. 1976.СтратиграфиянижнегослояСга-
роладожского городища и вопросы датировки// АСГЭ.
№17. С.101-118.
ДайгаИ.В. 1960. К вопросу о литейных формах и
литейпомделена территории Латвии (до ХШ в.)// СА
№З.С.78-92.
Даркевич ВЛ. 1966. Произведения западного худо-
жественного ремесла в Восточной Европе (X-XV вв.)
САИ.ВЫП.Е1-57.М.
Даркевич В.П. 1972. Путями средневековых масте-
ров. М.
Даркевич В.П. 1974. К истории торговых связей
Древней Руси//КСИА 138. М. С.93-103.
ДаркевичВЛ. 1975. Свегскоеискусство Византии. М.
Даркевич В.П. 1976.Художественпыйметалл Вос-
тока. М.
ДаркевичВЛ. 1987. Старая Рязань (итоги археоло-
гических исследований 197(М979.)//Труды V Между-
народного конгресса славянской археологии. Киев. 18-
25 сентября 1985 г.Т. Ш. Вып. la,М. С.63-69.
Даркевич В.П. 1994. Золотые сокровища Древней
Руси// Древности. Вып. 13. М. С.145-155.
ДаркевичВЛ. 1996. Узорочье рязанское. (По мате-
риалам клада, найденного в 1992 г.)// ПКНО1994. М.
С.366-372
Даркевич ВЛ., Борисевич Г.В. 1995. Древняя сто-
лица Рязапскойземли. М.
Даркевич В.П., Монгайт А.Л. 1967. Старорязанс-
кий клад 1966 г. // СА. №2. С211-223.
ДаркевичВЛ. Монгайт АЛ. 1972. Старорязанские
клады 1967 г. //СА№2 С.206-212.
Даркевич ВЛ., Монгайт АЛ. 1978. Клад из Старой
Рязани. М.
Даркевич В.П., Фролов ВЛ. 1978. Старорязанский
клад 1966 г.//СА №2. С.342-352.
Дашевская О.Д. 1991. Поздние скифы в Крыму //
САИД 1-7. М.
Декоративно-прикладноеискусство Великого Нов-
города. Художественный металл. 1996. М.
Джамбов И. 1977. Средновековни накит от Хисар
(X—XI) // Археология. София. С.56-59.
Дмитриев А.В. 1979. Могильник эпохи переселе-
ния народов Дюрсо // КСИА Вып. 158.
ДмигровД. 1963. Ранновизантийскозлатносъкро-
вище от Варна// Археология. Ки. 2. София. С.35-40.
Древнее золото. Из собрания Музея исторических
драгоценностей УССР. 1975 М.
Древняя Русь. Бытикультура. 1997. М.
Друмев Д. 1976. Златарскоизкуство. София.
Дучиц Л.В. 1983. Северо-западное порубежье По-
лоцкого княжества// Древнерусское государство и спа-
358
Литература
вяне. Минск. С.4042.
Дучко В. 1987. Славянские ювелирные изделия с
зернью и филигранью в Скандинавии эпохи викингов
// Труды V Международного конгресса славянской ар-
хеологии. Киев. 18-25 сентября 1985 г.Т. Ш. Выл. la. М.
1987. С.77-86.
Дяченко В.Д. 1960. Наслщки работа Украшско!
антрополопчногекспедици// Матер!али антропологи
Украгни. Кию. С. 18-36.
Егорейчепко А. А. 1991. Очковидные привески па
территории СССР// СА, №2. С. 171 -182.
Егорьков А.Н., Щеглова О А. 2001. Металл «антс-
ких» кладов по результатам эмиссионно-спектрально-
го анализа // Древние ремесленники Приуралья. Ма-
териалы Всероссийской научной конференции.
Ижевск, 21-23 ноября 2000 г. Ижевск. С.280—307.
Ениосова Н.В. 1998. Литейные формы Гнездова//
Историческая археология. Традиции и перспективы. М.
С.67-80.
Ениосова Н.В. 1998а. Химический состав и техника
изготовления височных колец из Гнездова // Труды VI
Международного конгресса славянской археологии.
Том 4. Общество, экономика, культура и искусство сла-
вян. М. С.258-267.
ЕшюсоваНД. 1999. Ювелирное производство Гнез-
дова (по материалам курганов и поселения). Автореф.
дисс. на соискание уч. степени канд. ист. наук. М.
ЕниосоваН.В. 1999а. Медная матрица из Гнездова:
функция и контекст // Великий Новгород в истории
средневековой Европы. М. С.65-75.
Епиосова Н.В. Пушкина Т.А. 1997. Скаппые и зер-
ненью украшения из кладов Гнездова// Ювелирное ис-
кусство и материальная культура. Тезисы докладов.
СПб. 024-26.
ЕниосоваН.В., Сарачева Т.Г. 1997. Средневековое
ювелирное ремесло Восточной Европы. Основные ас-
пекты в истории изучения // Древности Евразии. М.
С286-315.
Ермакова Е.С. 2001. Женские украшения Бухары
конца XIX—начала XX в.//Ювелирное искусство и
материальнаякультура. СПб. С.183-196.
Ерцегови1)-Павлови1) С. 1967. Грозделике
византщеке наушницы у Србгуи // Старинар. Кн. 18.
С.83-90.
Ерцегови1)-Павлови1)С. 1970. Осгава наушница са
римско-византи{скогкасгелаизБол>етинанаДунаву//
Старинар. Кн. XX. С.83-94.
Ефименко П.П., Третьяков П.Н. 1948. Древнерус-
ские поселения на Дону // МИА. №8.
Ефимова А.М. 1960. Кладювепирных изделий волж-
ских болгар// СА№3. С.192-202.
Жилина Н.В. 1994. Рясна (с коническим верхом) //
Новгород и Новгородская земля. Материалыпаучной
конференции. Новгород.1994. Вып. 8. С.182-187.
ЖилипаН.В. 1994а. Зернь и скань Древней Руси и
русскаянародная вышивка// Живая старина№3. С.24-28.
Жилина Н.В. 1995. Пластина из Старой Рязани
(«оправа для креста»). Методы изучения древнерус-
ской скаш! изерни//РА№1.С.175-186.
ЖилипаН.В. 1996.Тверскойклад 1903-1906гг. (Укра-
шения со сканью и зернью) // Тверь, Тверская земля и
сопредельные территории в эпоху средневековья.
Выл. LC. 174-180.
Жилина Н. В. 1998. Трехбусинные украшения древ-
нерусских кладов XII—XIII вв. (типология, эволюция,
технология и орнаментика)// Культура славян и Руси.
М. С.297-315.
Жилина Н.В. 1998а. Эволюция металлических бус
славянских типов // Историческая археология. Тради-
ции и перспективы. М. С. 106-113.
Жилина Н.В. 19986. Об одном из источников по
изучению язычества // Археолопя №2. С. 131 -137.
Жилина Н.В. 1998в. Зернь и скань Древней Руси
(Х1-ХШ вв.) // Труды VI Международного конгресса
славянской археологии. Том 4. Общество, экономика,
культура и искусство славян. М. С.290-299.
Жилина Н.В. 1999. Стили и технология древнерус-
ской зерни и скани // РА. С.75-84.
Жилина Н.В. 2001. Шапка Мономаха. М. Наука.
Жилина Н.В.2002. Эволюция височной подвески
славяно-русского металлического убора // КСИА.
Вып. 213. С.49-59.
Жилина Н.В. 2002а. Русский ювелирный убор //
Радина2001,№11-12. С.160-165.
ЖуржалинаН.П. 1961. Древнерусские привески-
амулеты и их датировка// СА№2.122-148.
Забелин И.Е. 1853. Историческое обозрение фи-
нифтяного и ценинного дела в России // ЗРАО т. VI СПб.
Забелин И.Е. 1992. Домашний быт русских цариц.
Новосибирск.
ЗагорульскийЭ.М. 1983. Исследования Вищинско-
го замка //Древнерусское государство и славяне.
Минск. С.86-90.
Зайцева И.Е. 1997. Производственные ювелирные
комплексы Серенского детинца и их место в системе
застройки (ХП-XIV вв.)//Труды VI Международного
Конгресса славянской археологии. Т. 2. М. С. 100-113.
Зализняк АА. 1986. Новгородские берестяные гра-
мотыслингвистическойточкизрепия// Янин В. Л. За-
лизняк АА. Новгородские грамоты на бересте (из рас-
копок 1977-1983 пт.) М. С.89-219.
Зариня АЭ.1960. Билайне латгалов VII-ХШ вв. СА
№3.0203-216.
Зариня А.Э. 1986. Одежда жителей Латвии VII-
XVII вв. // Древняя одежда пародов Восточной Евро-
пы. М. С.172-189.
Засецкая И.П. 1968. Полихромные изделия гулше-
кого времени из погребений Поволжья // Арх. Сб. ГЭ
№10. С.35-53.
Засецкая И.П. 1975. Золотые украшения гупнекой
эпохи. Л.
Засецкая И.П. 1979. Боспорские склепы гуннской
эпохи как хронологический эталон для датировки па-
мятников восточноевропейских степей// КСИА Вьш.
158. С.5-16.
Засецкая И. П. 1982. Классификация полихромных
изделий гуннской эпохи по стилистическим д анным //
Древности эпохи великого переселения народов V-VIII
веков. М. 14-30.
Засецкая И.П. 1986. Некоторые итоги изучения
хронологии памятников гуннской эпохи// АСГЭ№27,
С.79-91.
Засецкая И.П. 1993. МатериальгБоспорскогоне-
крополявторойполовины1У-первойполовины V ввльэ.
// МАИЭТ. Вып. Ш. С. 23-105.
Засецкая ИЛ. 1994. Культура кочевников южнорус-
Литература
359
ских степей в гуннскую эпоху (конец FV-V вв.). СПб.
Засецкая И.П. 1999. Сармато-аланская традиция в
украшениях гуннской эпохи// АСГЭ. №34. С.161-171.
Заяц ЮА.1983. Курганный мопшьник Изяславля//
Древнерусское государство и славяне. Минск. С.36-40.
Зеленин Д. 1927. Жепскиеголовныеуборы восточ-
ных славян // Slavia. Praha.
Зиньковская И.В. 2000. Славяне и германцы в Юго-
Восточной Европе в позднеримское время и раннее
средневековье: проблема этнокультурных контактов//
Евразийская степь и лесостепь в эпоху раннего сред-
невековья. Воронеж. С.34-30.
ЗолотойкладизПанапорица. 1974. София.
Иванов А.А., Луконин В.Г., Смесова Л.С. 1984.
Ювелирные изделия Востока. Древний и средневеко-
вый период. Коллекция Особой кладовой отдела Вос-
тока Государственного Эрмитажа. Л.
Иванов А.Г. 1999. Новые материалы по ранней д ате
псломской культуры: курганная часть Варнинского мо-
гильника // Пермский мир в раннем средневековье.
Ижевск. С.6-65.
Иванов BJ3.1980. Змей// Мифы народов мира. Т.1.
М. С.463-471.
Иванов С А 2000. Константинополь на периферии:
как «варвары» имитировали византийскую культуру//
Византийский мир: искусство Константинополя и на-
циональныетрадиции. ТД. СПб. С. 14-15.
Иванова М.Г. 1982. Маловепежский могильник//
Средневековые памятники бассейна реки Чепцы.
Ижевск.
Изделия из золота. 1976. София.
Изюмова С А. 1978. Ранний тип лучевых височных
колец Супрутского городища // Вестник МГУ. Серия
история. №6. С.101-103.
Ильинская В А. 1968. Скифы Днепровского Лесо-
степного Левобережья. Киев.
Индриков Ю.Ф. 1952. Аланский могильник блш
Стерлитамака// КСИА Вып. ХЕШ, С10-29.
Искусство Византии в собраниях Советского Со-
юза. 1977. Каталогвыставки. М.
ИстринВ. 1896. Александрия русских хроногра-
фов. М.
Ловановий В. 1987. Разматрагьа о средн>овековно)
некрополи Луковит-Мушаткод Ловеча у Бугарско] //
Старинар. XXXVIII. Београд. С. 112-132.
Казанский М.М. 1997. Остготские королевства в
гуннскую эпоху: рассказ Иордана и археологические
данные// Stratum+Петербургскийархеологический ве-
стник. СПб.-Кишипев. 181-193.
Казанский М.М. 1999.0байтах в лесной зоне Рос-
сиивэпоху Великогопереселенияпародов// Археоло-
гические вести. №6. С.404-419.
Калайдович К. 1824. Иоанн, есарх болгарский. М.
Калайдович К. 1825. Письма Алексею Федоровичу
Малиновскому обархеологических исследованиях в Ря-
занской губернии в 1822 г. М.
Калашникова Н.М. 1986. Одежда украинцев XVI-
XVIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Евро-
пы. М. С. 112-145.
Калашникова Н.М. 2002. Металлический убор в
древнерусской одежде (семиотические функции) //
Ювелирное искусство и материальная культура. Тези-
сы докладов участников одиннадцатого коллоквиума.
СПб. С.36-39.
Каменецкая Е.В. 1977. Керамика 1X-XI11 вв. как ис-
точник по истории Смоленского Поднепровья. Авто-
реф. дисс... .кацд. ист. наук. М.
Каминский В.Ч. 1987. Алано-болгарский могиль-
ник близ станицы СтарокорсунсконаКубани//СА №4.
С.187-205.
Калошина С.И. 1950. Золотые серьги из окрестнос-
тей Ольвии// КСИИМК. Вып. ХХХШ. С.103-110.
Капелле Т. 1989. Сяавяпо-скандинавское художе-
ственное ремесло эпохи викингов // Славяне. Этноге-
нез и этническая история. Л. С. 135-140.
КарахпедоваАА. 1974. Об одном типе серег из Кав-
казской Алании// СА№4. С.271-275.
Каргер М.К. 1958. Древний Киев. М.-Л.
Каргопольцев С.Ю., Бажан ИА. 1993. К вопросу
об эволюции трсхрогих пельтовцдных лушшцв Европе
(III—VI вв.) // Петербургский археологический вестник
№7. С.113-122.
Каталогукраинскихдревностей коллекции В.В.Тар-
повского. 1898. Киев.
Кафка Л.В. 1924. Искусство обработки металла. М.
КилиевичС.Р.,ОрловР.С. 1985. Новое о ювелир-
ном ремесле Киева X в. // Археологические исследо-
вания Киева 1978-1983 гг. Киев. С.61-78.
Кириллин Д.С. 1968. Трехбратние кургаш>1 в райо-
не Тобечикского озера // Античная история и культура
Средиземноморья и Причерноморья. Л. С.178-188.
Клад ы Болгарских земель. 1965. София.
Клейн Л.С. 1991. Археологическая типология. Л.
Кпочко Л.С. 1982. Скифские налобные украшения
VII—III в. до н. э // Новые памятники древней исредне-
вековойхудожественной кулыуры. Киев. С.37-53.
Ковалевская В.Б. 1969. К вопросу о «поломской
культуре» // Древности Восточной Европы. М. С.84-
91.
КоваленкоВ-П. 1994. Майстерня ювелира ХШ ст. на
дитинш Любеча// СтарожипюспРуа—У кратки. Киш.
Коваленко В.П. 2002. Клад 1985 г. на черниговском
детинце// Клады, состав, хронология, интерпретация.
Материалы тематическойнаучнойконференции. СПб.
С.105-108.
КовачевиЙ J. 1949. МинЙуше и наушнице са
]агодама, Музе]и2. Београд, С. 114-125.
Козырев А. А. 1905. Раскопки кургана в урочище
Кара-Агач // ИАК. Вып. 16. СПб. С27-36.
Колчин БА. 1956.Топография,стратиграфияихро-
нология Неревского раскопа // МЙА №55. С.37-44.
Колчин БА, Хорошев А.С., Янин В Л. 1981. Усадь-
ба новгородского художника XII в. М.
Кольчатов В.А. 1984. Височные кольца Водской
земли // Новое в археологии СССР и Финляндии. Л.
С.167-176.
Кондаков.Н.П. 1892. Византийские эмали изеобра-
ния А.Зветптгородского. СПб.
Кондаков Н.П. 1896. Русские клады. СПб.
Кондаков Н.П. 1906. Изображения русской княжес-
кой семьи в миниатюрах XI в. СПб.
Конец кий В.Я. 1998.0культурной принадлежнос-
ти древнейших славянских памятников Приильменья//
Ладога и эпоха википгов. Четвертые чтения памяти
АнныМачинской. Старая Ладога, 21-23 декабря 1998 г.
Материалы к чтениям. СПб. С.4-8.
360
КонецкийВЛ, Носов Е.Н., Хвошинская Н.В. 1984.
О финно-угорском и славянском населении централь-
ных районов Новгородской земли // Новое в археоло-
пшСССРиФинляндии. Л. С.161-167.
Коновалов А. А. 1974. Цветные металлы (медь и
сплавы) в изделиях Новгорода X-XV вв. Автореф. дисс.
.. .канд. ист. наук. М.
Константан Багрянородный. 1991. Об управлении
империей. М.
КорзухинаГ.Ф. 1946.0технике тиснения и перего-
родчатой эмалив Древней Руси X-X1I вв. // КСИИМК
Вып. 13. С.45-52.
КорзухинаГ.Ф. 1950. Киевские ювелиры накануне
монгольского завоевания // СА. XIV. С. 217-235.
КорзухинаГ.Ф. 1954.Русскиеклады1Х-ХШвв.М.-Л.
КорзухинаГ.Ф. 1955. Кистории Среднего Поднеп-
ровья в середине 1 тыс. н.э/7 СА. Т. XXII. С.61-82.
Корзухина Г.Ф. 1978. Предметы убора с выемча-
той эмалью V—середины VI в. в Среднем Поднепро-
вье//САИ. Вып. EI-43. Л.
Корзухина Г.Ф. 1970. Среднее Поднепровье в V-
VIII вв. // Рукописный архив ИИМК РАН. Ф. 77.
ДЖЧ34.
Корзухина Г.Ф. Рукописный архив ИИМК РАН
Ф.77.Д.8.
Корзухина Г.Ф. 1972. Русские клады в зарубежных
собраниях// КСИА. Вып. \29. С.24-30.
Корзухина Г.Ф. 1996. Клады ислучайные находки
вещей круга «Древностей антов» в Среднем Поднеп-
ровье. Каталог памятников// МАИЭТ. Вып. V. С.352-
425,525-705.
Королева Э.В. 1997. Ювелирное ремесло Средне-
векового Пскова// Автореф. дисс.... канд. ист. наук. М.
Королева Э.В. 1997а. Ювелирноеремесло Средне-
векового Пскова//Труды VI международного Конгрес-
са славянской археологии. Т.2. М. С.169-179.
КочкуркинаСИ. 1972. Юго-Восточное Приладо-
жье в Х-ХШвв. Л.
КочкуркинаСИ. 1982. Древняя корела. Л.
КочкуркинаСИ. 1989. Памятники Юго-Клеточно-
го Приладожья и Прионежья X-XIII вв. Петрозаводск.
Кошман В.И. 2001. Изделия с перегород чатой эма-
лью на территории Беларуси // Пстарычна-
Археалапчнызборник.№16. Mihck. С.130-137.
Крамаровский М.Г. 2001. Золото Чингизидов: куль-
турное наследие Золотой Орды. СПб.
Кропоткин В.В. 1958. Из истории средневекового
Крыма// СА XXVIII. С.198-218.
Кропоткин В.В. 1962. Клады византийских монет
на территории СССР// САИ. Вып. Е4-4. М.
Кропоткин В.В. 1967. Экономические связи Вос-
точной Европы в I тыс. п.э. М.
Кропоткин В.В.1978. Черняховская кулыураиСе-
верное Причерноморье// Проблемы советской архео-
логии. М. С.147-163.
Крупнов ВЛ. 1971. Средневековая Ингушетия. М.
Крыласова Н.Б. 2000. Костюм средневекового на-
селения Пермского Предуралья (VII-XI вв.). Автореф.
дисс.... канд. ист. наук. Уфа.
Кузнецов В. А. 1962. Аланские племена Северного
Кавказа//МИА106.
Кузнецов В А. 1959. К вопросу о позднеславянской
культуреСеверпого Кавказа// СА№2. С.97-119.
Литература
Кузнецов ВЛ., Пудовин В.К. 1961. Аланы в Запад-
ной Европе в эпоху «Великого переселения народов»
//СА№2. С.79-95.
Кузьмине. Л.1998.0времени,характерен обстоя-
тельствах славянского расселения на Северо-Западе //
Ладога и эпоха викингов. Четвертые чтения памяти
Анны Мачинской. Старая Ладога,21-23 декабря 1998 г.
Материалы к чтениям. СПб. С.8-15.
Кузьмин С.Л. 2000. Городище у д. Надбелье на
р. Оредеж // Археология и история Пскова и Псковс-
кой земли. Материалы научного семинара 1996-1999 г.
Псков. С.95-97.
Кузьмин СЛ. 2000а. Сопки НижнегоПоволховья//
АрхеологияиисторияПсковаиПсковской земли. Ма-
териалы научного семинара 1996-1999 г. Псков. С. 174-
183.
Кузьмин С.Л. 2001. Рождение Северо-Западной
Руси: демогенез и культурогенез // Миграции и осед-
лость от Дуная до Ладоги в первом тысячелетии хрис-
тианской эры. Пятые чтения памяти Анны Мачинской.
Старая Ладога, 21-22 декабря 2000 г. Материалык чте-
ниям. СПб. С.63-73.
Кузьмина Е.Е. 1979. Золотая пластина с птицами из
Амударьинского клада// КСИА. Вып. 159. М. С.16-21.
Культура Востока. Древность и раннее средневе-
ковье.1978. Л.
Куфпш БА. 1926. Материальная культура русской
мещеры. М.
КухаренкоЮ.В. 1957. Раскопки на городище Хото-
мель// КСИИМК. Вып. 68. С.90-97.
Кухаренко Ю.В. 1961. Средневековые памятники
Полесья// САИ. Вып. Е-1-57. М.
Кухарская Е.М.,Терпиловский Р.В. 1981. Некото-
рые типы лунниц III—V вв. в Среднем Поднепровье //
Древности Среднего Поднепровья. Киев. С.69-79.
Кучинко М.М., Орлов Р.С. 1989. Городищенский
клад из Волыни// Археолопя№2. С.96-106.
Лабутина И.К. 2000. Олокализациидеревни Ручьи
—места находки клада 1955 г.// Археология и история
Пскова и Псковской земли. Материалы научногосеми-
нара 1996-1999. Псков. С.91-94.
Лапшин В А., Мухина Т.Ф. 1988.Раннесредцевеко-
вый археологический комплекс у с. Васильковопод Суз-
далем// Проблемы изучения древнерусской культуры.
М.С.132-148.
ЛаулС.К. 1986. Одежда эстонцев I-XVUbb.// Древ-
няя одежда пародов Восточной Европы. М. С.190-207.
Левашова В.П. 1967. Височные кольца // Труды
ГИМ Вып. 43 М. С.7-54.
Левашова В.П. 1967а. Браслеты// Труды ГИМ.
Вып. 43. М. С.207-247.
Левашова В.П. 1968. Венчики женского головного
убора из кургановХ-Х11 вв.//СлавянеиРуси. М. С.91-97.
Левашова В.П. 1969.0 сходстве височных колец
волжских болгар с великоморавскими // Древности Во-
сточной Европы. МИА№169. С.125-130.
Левинский АН., Рябой Т.Ф. 1992.Старосахарнянс-
кий клад XVII в. // АИМ. 1986. Кишинев 1992. С.248-254.
ЛевицкийО.Г.,ХахеуВ.П.,Рябцева С.С. 2000. Джур-
джулештская находка в зеркале ювелирной моды X-
XI вв. // Stratum Plus. №5.2000. СПб. Кишинев. Одесса.
Бухарест. С.90-96.
Леликов0.1974.СкарбикургатвХерсоншипы.К.
361
Литература
Леоиьтьев А.Е. 1983. Поселения мерииславяппа
озере Неро//КСИА. Вып. 179. С.26-32.
Леоныъев А.Е. 1986. Волжско-Балтийский торго-
вый путь в IX в. // КСИА. Вып. С.3-9.
Леоньтьев А.Е., Рябинин Е.А. 1980. Этапы и фор-
мы ассимиляции летописной мери (постановка во-
проса)//СА. 2. С.69-79.
. Лесман Ю.М. 1989. Кдатирующим возможнос-
тям декора новгородских ювелирных изделий XI-
XIV вв. // Новгород и новгородская земля. Вып. 2 Нов-
город. С.82-87.
Лесман Ю.М. 1990. Хронология ювелирных изде-
лий НовгородаХ-XlV вв. // Материалы по археологии
Новгорода. 1988. Часть 1. М. С.29-89.
Лесман Ю.М. 1991. Эпод об украшения// Клейн
Л.С. 1991. Археологическая типология. Л. С.305-314.
Лесман Ю.М. 1996. Композиция декора ювелир-
ныхизделийНовгорадаХ-XV вв.//Новгород и Новго-
родская земля. Вып. 10. С.110-125.
Лесман Ю.М. 1996 а. Двойной узел в средневеко-
выхювапирпых изделиях ВосгочнойЕвропы// Ювелир-
ное искусство и материальная культура. ТД участни-
ков втрого коллоквиума. СПб. Гос. Эрмитаж. С.35-37.
Лесман.Ю.М. 1998. Устойчивость формы новго-
родских подвесок. (Материалы к изучению эволюции
древнерусских украшений)// Археология Петербурга.
1997. Вып.2. С.31-36.
Лесман Ю.М, 1998 а. Эволюция ювелирных изде-
лий Древнего Новгорода// Свояичужаякультура. СПб.
С.106-115.
Лесман 2000. Лунницы из Гнездовского клада
1868 г.: к культурной характеристике последнего вла-
дельца // Ювелирное искусство и материальная куль-
тура. ТДучастниковседьмого коллоквиума. СПб. Гос.
Эрмитаж. С.62-64.
Лшка-Геппенер Н. 1948. Копшвський скарб //
Археолопя. Кив. Т. 2. С.182-190.
Литвинский. Б.А. 1973. Украшения из могильников
Западной Ферганы. М.
ЛихачевДС. !973.РазвитиеруоскойлитературыХ-
XVII вв. Л.
Лихачева В. Д. 1981.Искусство BisaimntlV-XV вв.
Л. «Искусство».
Любичев М.В. 2001. Нов! пам’ятки пеныовсько!
культури у верхнш течн Оверського Дшця //
Археолоппчпий лггопис Л !вобережне! Украши. №2.
С.113-115.
Ляпушкин И.И. 1958. Городище Новотроицкое//
МИА.74.
МавродиновН. 1959.Старобългарскотоизкуство.
Изкуството на пьрвото българско царство. София.
Мавродинов Н. 1966. Староболгарското изкуство
Х1-ХШв.София.
Макаров НА. 1982. Средневековый могильник По-
пово на Каргополье. КСИА. М. Вьш. 171. С.80-86.
Макарова Т.И. 1974. Венецс перегородчатой эма-
лью из Л юбеча // Культура средневековой Руси. М.
С.160-161
Макарова Т.И. 1975. Перегородчатые эмали Древ-
ней Руси. М.
Макарова. Т.И. 1986. Черневое дело Древней
Руси. М.
Макарова Т.И. 1998.0рнаменгХ-ХШ вв. в русской
историографии: проблема подхода // Культура славян
и Русь. М. С.263-289.
Макарова Т.И. 1998а. Древнерусское наследие в
ювелирном деле ранней Москвы. XIV век. М.
Макарова Т.И. 2000. Сгилеобразование в орнамен-
те Древней Руси // Евразийская степь и лесостепь в
эпоху раннего средневековья. Воронеж. С.123-129.
Макарова Т.И., Марковии В.И. 1981. Золотое укра-
шение с перегородчатой эмалью из Сентинского хра-
ма. СА. №3. С.268-273.
Макарова Т.И. Плетнева С А. 1968.0центрах эма-
льерного дела в Древней Руси // Славяне и Русь. М.
С.98-111.
Макарова Т.И.,РаздинаТ.В. 1992. Семилопастные
кольцасорнаментом// РА№4. С.68-82.
Максимов У.В., Петрошенко В.0.1980. Городище
Монастирьок VIII—XIII ст. н.э. Археолопя. Вил 33.
С.3-20.
Максимов Е.В., Петрошенко ВА. 1988. Славянские
памятники у с. Монастырей на Среднем Днепре. К.
МаксимоваМ.И. 1949. Феодосийские серьги из со-
кровищницы Эрмитажа. М.-Л.
МалевскаяМ.В., Раппопорт ПА. 1878. Декоратив-
ные керамические плитки древнего Галича// Slovenska
Archeologia. R.XXVI. Bratislava. S.87-98.
Малевская M.B., Фоняков Д.И. 2000. Древний То-
ропец. Т.2. Торопец.
Мальм В.А 1967.Подковообразныеикольцевид-
ные застежки-фибулы //Труды ГИМ. Вьш. 43. С.149-
190.
Мальм В. А. 1980. Симферопольский клад. М.
Мальм В. А., Фехнер М. В. 1967. Подвески-бубен-
чики// Труды ГИМ Вып. 43. М. С.133-148.
Манева Е. 1992. Средневековен накит од
Македонща. Gconje.
Манцевич А.П. 1948. Шейные уборы скифского пе-
риода// КСИА Вып. XXII. С.68-73.
Манцевич А.П. 1959. Золотой венец из кургана на
р. Калитве// Известия на археолоптческияинститут. Со-
фия. Книга ХХП.С57-79.
Манцевич А.П. 1961. Серьги из станицы Крымс-
кой//АСГЭ №2.
Мартынов М.В. 1973. Драгоценные камни в рус-
ском ювелирном искусстве XII-XVIII вв. М.
Маслинков Л. 1987. Старато златарство в София.
София.
Маслова Г.С. 1987. Одежда//Этнография восточ-
ных славян. Очерки традиционной культуры. М. С.259-
292.
Мастыкова А.В. 2000. Средиземноморские элемен-
ты в женском костюме населения Северного Кавказа
(V-VI вв.)// Евразийская степь илесостепьвэпоху ран-
него средневековья. Воронеж. С.31-47.
Мастыкова АВ., Казанский ИИ2003.0происхож-
дении «княжеского» женского костюма варваров гунн-
ского времени (горизонт Унгерзибенбрунн)// Чтения,
посвященные 100-летию деятельности Василия Алексе-
евича Городцова в Государственном Историческом му-
зее. Тезисы конференции. Часть!!. М. С.75-79.
Матвеев А.С. 1999. «Русы» и славяне в арабских
средневековыхисгочтшках: проблемы восприятия ино-
родной культуры // Труды VI Международного кон-
гресса славянскойархеологии. Т. 5. М. С.186-195.
362
Литература
Матей М. 1960. Славянские поселения в Сучаве //
Dacia IV.C374-394.
Материалы поархеологии Кавказа 1860. Т. VIII.
Материалы по средневековой археологии Северо-
ВосточнойРуси. 1991. М.
Мацулевич Л.А. 1934. Погребение варварского
князя в Восточной Европе. Л.
Мачинская А.Д. 1988. Украшения из оловянистых
сплавов из Старой Ладоги// Новгороди Новгородская
земля. История и археология. Новгород. С.17-19.
Мачинская АД., Мачинский ДА 1988. Северная
Русь, Русский Север и Старая Ладога в VI11—XI вв. //
Культура Русского Севера. Л. С.44-56.
Мачинский ДА 1976. Квопросу о территории оби-
тания славян в 1-V1 вв. // АСГЭ. №17. С.82-100.
Медведев Т.М., Платонова Н.Г. 1987. Русские
ювелирные украшения. ГИМ. М.
Мельник Е.Н. 1901.Раскопкивземлелучан,произ-
веденныев 1897-1898//ТрудыХ1АСвКиеве.М. 1901.TJ.
С.479-576.
МилчевА. 1963. Раннусредновековнибългарски
накитиикръстовеенколпиониотСеверозападна Бълга-
рия // Археология година V. кн. 3. С.22-37.
МилчевА 1973.Формированиестароболгарской
культуры // Славяните и средиземномостият свят VI-
XI век. София. С. 105-133.
Милюгенко Н.И. 1993. Древлянская земля в IX-
XI вв. (По летописным источникам)// Старожитносп
ГКвденноТРуа. Чернптв. С.161-166.
Минасян Р. С. 1994.Оролиизучения археологичес-
ких предметов из меди, серебра и золота трасологи-
ческим методом // ТД. Международной конференции
по применению методов естественных наук в археоло-
гии. СП6.Т.1.С.86.
Минасян Р.С. 1995. Квопросуоназначениикамен-
ных «литейных» формочек древнерусского времени //
Ладога и Северная Русь. СПб. С.47-51.
Минасян Р.С. 1995а. К вопросу о существовании
способа металлического литья «навыплеск» в древне-
русское время // Древности Северо-Западной России.
СПб. С.47-49.
МипжулинАИ. 1990. Технология зерни// СА.№4.
С231-240.
Минжулин А.И. 1991. Браслет-наруч и колты из
клада 1908 г.ус. Старая Буда. СА// №2. С.252-255.
МинийД. 1987. Спирално увидена жицапасреджо-
вековном накиту изСрби)е//Старинар. XXXVIII. Бео-
град. С.74-81.
МиролюбовМА 1983. Древнерусский город Изяс-
лавль. Каталог выставки. Л.
МихайловП.С. 1999.ДревнеруоскаядиадемаизСах-
новки—конструктивный и декоративный анализ// По-
блемы истории и археологии Украины. Харьков. С.56-57.
Михайлова Е.Р. 1995. К проблеме формирования
древнерусского женского убора па западе территории
НовгородскойземлиТ/ЛадогаиСевернаяРусь. Чтения,
посвящённые памяти Анны Мачинской. СПб. С.38-41.
Михайлова ЕР.2000. Рапги-Наволок П и Раита-На-
волок Ш // Археология и история Пскова и Псковской
земли. Материалы научного семинара 1996-1999 г.
Псков. С.98-102.
Михайлова ЕР. 2001. К обоснованию нижнейдаты
псковских длинных курганов // Миграции и оседлость
от Дуная до Ладоги в первом тысячелетии христи-
анской эры. Пятые чтения памяти Анны Мачинской.
Старая Ладога, 21-22 декабря 2000 г. Материалы к
чтениям. СПб. С.35-45.
Михайлова РД. 1994. Художественная культура
Юго-Западной Руси X-X1V вв. (По материалам деко-
ративно-прикладного искусства). Автореф. дисс....
кандидата исторических наук. Киев.
МихайловаР.Д. 1997.ПроЗм1еногубогинютаодин
тип зм!евидно1 композиций // Проблеми походження
та вторичного розвитку слов’ян. Кшв-Льв1в. С.256-260.
Мовчан И., Боровский Я., Гончар В. 2002. Клады
Древнего Киева // Древний мир. История, археология,
нумизматика. №3. Киев. С.16-18.
Могильники V1-VII вв. в черноморской области.
1907//ИАК25,С.190-191.
МодестовФ.Э. 1991. Маркатупшнские курганы под
Смоленском // КСИА. 1991. Вып. 205. С.101-106.
Монгайт АЛ. 1952.Топография Старой Рязани//
КСИИМКВып-XLIV.C. 108-109. М.
Монгайт АЛ. 1955. Старая Рязань И МИА 49. М.
Московская Оружейная палата. 1860. М.
МузейисторическихдрагоценностейУССР. 1984. К
МужухоевМ.Б. 1972.Ободнойкатегориипоздне-
средневековых украшений ингушей // СА. №4. С.266-
272.
Надорожный Е.И. 2000. Юго-восточная граница
Руси накануне монгольского нашествия (история раз-
вития идеи) // Евразийская степь и лесостепь в эпоху
раннего средневековья. Воронеж. С.138-150. *
Надорожный Е.И. 2000 а. Черные клобуки на Се-
верном Кавказе. О времени и условиях переселения //
Евразийская степь и лесостепь в эпоху раннего сред-
невековья. С.138-150.
Назаренко В. А. 1974.0 находке очелья в Ново-
грудке// Культура Сред невековой Р^си. С.170-172.
НакигнатлуСрбщеизсреднювековнихнекропола
од IX-XV веке. 1992. Београд.
Наследие варягов. Диалог культур. 1996. Boras.
Недашковский Л Ф. 2001. Металлические изделия
и литейные формы с Увекского городища // Древние
ремесленники Приуралья. Материалы Всероссийской
научной конференции. Ижевск, 21-23 ноября 2000 г.
Ижевск. С.349-364.
Недошивина Н.Г. I960. Квопросу о связях радими-
чей и вятичей // Труды ГИМ. Вып. 37, С.141-146.
Недошивина Н.Г. 1974. Погребальный обряд вяти-
чей XI-XH1 вв. Автореф. дисс.... канд. ист. наук. М.
Недошивина Н.Г. 1980. К вопросу о генетической
связи радимичских и вятичских височных колец// Тру-
ды ГИМ. В. 51. М. 1980. С.107-111.
Недошивина Н.Г. 1991.0 больших колтах Свягозер-
ского клада//СА №1. С.182-185.
Недошивина Н.Г. 1999. Любечский клад// Археоло-
гический сборник. Труды ГИМ. Вып. 111. М. С.190-197.
Нидерле Л. 1956,2001. Славянские древности. М.
Николеску К. 1973. Искусство драгоценного метал-
ла в Румынии. Бухарест. - '
Никольская Т.Н. 1949. Этнические группы Верхне-
го Поволжья Х1-ХШ вв. КСИИМК, XXX. С. 78-83.
Никольская Т.Н. 1966. Квопросу о феодальных зам-
ках в земле вятичей // Культура древней Руси. М.
Никольская Т.Н. 1968. Кузнецы железу, меди и се-
Литература
ребру от вятич // Славяне и Русь. М. С. 122-132.
Никольская Т. Н.1972. К исторической географии
земли вятичей // СА. №4. С.158-170.
Никольская!. Н. 1981. Земля вятичей. М.
НикольскаяТ.И. 1986. Новые данные к истории Се-
ренска// КСИА. Вьш. 187. М. С.41-51.
Новаковская (Бухман) С.М. 2002. Фрагменты древ-
нерусской чеканки XI—XIII вв. из собрания М.П. Бот-
кина // Ювелирное искусство и материальная культу-
ра. ТД участников XI коллоквиума. СПб. С.67-71.
Новикова ЕЮ. 1990.Осерьгах«екимауцкоготипа»
// Проблемы археологии Евразии (по материалам
ГИМ). Тр. ГИМ. Вьш. 74. С.М. 107-114.
Новикова ЕЮ. 1999.Подвески-маскиюкладовШве-
ции, восточной Прибалтикии Древней Руси// Археоло-
гический сборник. Труды ГИМ. Вьш. 111. М. С.47-53.
Новикова ГЛ. 1998. Щитообразные подвески изСе-
верной и Восточной Европы//Историческая археоло-
гия. Традиции и перспективы. М. С.165-174.
Новосельцев А.П., Пашуто В.Т. 1967. Впешпяятор-
говля Древней Руси (до середины ХШ в.) // История
СОСР№3.
Носов Е.Н., Освянников О.В. 1997. Архангельский
клад// Славяне и Финно-угры. Археология, история,
культура. СПб. С.146-157.
Нудельман А.А., Рикман Э. 1957. Новые археоло-
гические находки в Молдавии// СА. №3. С.248-251.
Нудельман А. 1969. Античный клад из с. Лэргуца//
Труды Кишиневского Историко-краеведческого музея.
Кишинев. Вьш. 2. С.129-134.
Олейнин А.Н. 1831. Рязанские русские древности
или известия о старинных и богатых великокняжеских
или царских убранствах, найденных в 1882 г. близ села
Старая Рязань. СПб.
Онайко Н. А. 1960. Античный импорт на террито-
рии Среднего Приднепровья (VII-V вв. до н. э.) // СА.
№2. С.2441.
Онайко Н.А. 1966. Античный импорт в Преднеп-
ровье и Побужье в V11-V вв. // САИ Ш-27.
ОАКза 1897 г. СПб. 1898.
ОАКза 1911 г. СПб. 1912.
Орлов Р.С. 1976.Символиказображньнакишсько-
му браслеп-наруч! // Археологичш дослщження ста-
родавнього Киева. Китв. С.166-174.
Орлов Р.С. 1983. Южнорусскийцентр художествен-
ной металлообработки// Археолопя. Вып. 44. С.29-47.
ОрловР.С. 1983а.Художественная металлообработ-
ка в Киеве в X в. // Археолопя. Вып. 42. С.28-40.
Орлов. Р.С. 1988. Памятникихудожественной ме-
таллообработки// Е.В. Максимов, В.А. Петрошенко.
Славянские памятники у с. Монастырей на Среднем
Днепре. К С.138-140.
Оружейная палата. 1992. М.
Острогорский Г А. 1973. Эволюция византийского
обряда коронования // Византия, южные славяне и
Древняя Русь. Западная Европа. М. С.33-40.
Отчет ГИМза 1916-1925 гг. 1926. М.
Отчет о раскопках в Киевской губернии в 1901 г.
1902.//ИАК 4. С.41.
Очерки по истории Белоруссии. 1972. Минск.
Павлова В.В. 1990.Скарбдавньоруськихжшочих
прикрас, выявленный 1996 року у Киев1вому книц //
Деяки ocnoBiii напрями в досконаленыя шяльиосп
музею на сучасномуэтат. Киш. С.103-110.
363
Павлова К.В. 1965. Раскопки могильника близ Но-
вогрудка// КСИА. Вып. 104. С.99-105.
Падин В. А. 1976. Кветунский древнерусский мо-
гильник// СА. №1. С. 197-210.
ПановаТД. 1988. Ювелирные изделия из раскопок
Московского Кремля // СА. №2. С.207-218.
Панова Т.Д., Авдусина Т.Д. 1993.0наход ке клада
1991 г. в Московском Кремле// РА№2. С.192-193.
ПархоменкоО.В. 1983. Поховальпый инвентарь Не-
читайловского могильника V111-1X вв. // Археолопя
№43. С.75-86.
Пастернак Я.И. 1944. Старый Галич. Краков.
ПВЛ1950. Повесть временных лет. Т. 1,11. М.; Л.
Пекарська Л. 1992. Слиамизникшихскарбгв// Киш.
Старовина. №2.С.83-85.
ПелещинМ. А.,ЧайкаР.М. 1991. Нов! давньорусыа
ювелгрш вироби в Захцшо! Волиниш. Археолопя. №1.
С.137-141.
ПерегациК. 1982. Венгерское кованое искусство.
Будапешт.
Перхавко В.Б. 1978. Украшения из раннесредневе-
кового памятника междуречья Днепра и Немана // Ве-
стник МГУ. Серия «История». №2. С.59-72.
Перхавко В.Б. 1983. Западнославянское влияние на
раннесредневековую культуру Белоруссии // Древне-
русское государство иславяне. Минск. С.26-28.
Перхавко В.Б. 1986. Западнославянские элементы в
раннесредневековой культуре междуречья Днепра и
Немана// КСИА, 187. С.28-35.
Петрашснко В.0.1998. Лттописшполяни—миф
чи реальность // Археолопя№2. С.53-62.
Петренко В.Г. 1978. Украшения Скифии VII—Ш вв.
до н.э//САИ II4-5.
Петров В.П., Макаревич М.Л. 1962. Об изображе-
нии на древнерусском браслете // КСИА АН УССР.
Выа 12. С.4347.
ТЪскова Г.0.1988. Скарбистародавнього Ьяславля
// Археолопя. 61. С.16-35.
ПлавинскийАН. 1983. Раскопки курганов уд. Юди-
чи // Древнерусское государство и славяне. Минск.
С.34-36.
Плетнева С.А. 1962. Средневековые поселениявБе-
лой Калитве// КСИИМК. Вып. 90. С.3945.
Плетнева С А. 1967. Огкочевий к городам// МИА,
141
Плетнева С А. 1982. Кочевники средневековья. М.
Плетнева С.А. 1989. На славяно-хазарском погра-
ничье. М.
Плетнева С А. 1990. Половцы. М.
Плешин НА., Чайка Р.М. 1991. Новые древнерус-
ские изделия с Западной Волыни // Археология. №1.
С.137-141.
ПобольЛД. 1971. Славянские древности Белорус-
сии. T.I. Минск.
Погребальные памятники Прикамья. Ижевск. 1987.
Погребова Н.Н. 1948. Грифон в искусстве Север-
ного Причерноморьявэпоху архаики. КСИА ВыгьХХП
С.62-67.
Подвигни Н. Л. 1965. Раскопки курганов в Псковс-
кой обл. СА№1. С.293-296.
Покровская Л.В. 1995. Булавки с головками слож-
ных форм // Новгород и Новгородская земля. Вьш. 9.
С.181-191.
Покровская Л.В. 1998. Украшения балтийского и
364
фшшо-угорского происхождения средневекового
Новгорода. Систематизация, хронология, топогра-
фия. Автореф. дисс.... канд. ист. паук. М.
Покровская Л.В. 1998а. Новгородские одежные бу-
лавки (Х-ХИ1 вв.) // Историческая археология. Тради-
ции и перспективы. М. С.175-181.
Покровская Л.В. 1999. Ювелирные украшения Нов-
города X-XI вв. (по материалам Неревского и Троиц-
кого раскопов). Подковообразные фибулы Рюрикова
городища // Великий Новгород в истории средневеко-
вой Европы. М. С.51-63.
Полубояринова МД. 1993. Русь и Волжская Болга-
рия в X-XVBB.M.
Постникова-Лосева М.М. 1981. Русская золотая и
серебряная скань. М.
Постникова-Лосева М.М, Платонова НТ., Ульяно-
ва Б Л. 1972. Русское черневое искусство. М.
ПриходнюкО.М. 1994.Технолопявиробницгвата
вигоки ювелфпого стилю металевих прикрас Пастирсь-
кого городища И Археолопя. №3. С.61-77.
ПриходнюкО.М. 1995.0сиовштдсумкививчеш1я
Пастирського городища// Археологичн! дослшження
наЧеркащшп. Черкаск. С. 101-106.
ПриходнюкО.М. 1998. Пастырський скарб 1992
року!/ Археолопчнийлтгопис Левобережной Украши.
N1-2. С.94-99.
ПриходнюкО.М. 1998 а. Пеньковская культура. Во-
ронеж.
ПриходнюкО.М. 2000. Фибулы пастырского горо-
дища// Евразийская степьилесосгепьв эпоху раннего
средневековья. Воронеж. С.48-73.
ПриходнюкО.М., Падин В.А.,Тихонов НТ. 1996.
Трубчевский клад антского времени// Материали1тис.
н.е.зархеопогиптаёсгорпУкрашийУгорщини. К. С.64-79.
Приходнюк О.М., Шовкопляс А.М., Ольгов-
ская С.Я.,СтруинаТ.А. 1991. Мартыновский клад//
МАИЭТ. ВыпЛ.С.72-92.
Проблемы археологии и древней истории финно-
угров. 1970. М.
Прохоров В. 1880. Русские древности. Материалы
для истории русских одежд. СПб.
ПСРЛ. 1962. Полное собрание русских летописей.
Т. 1. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись
по Академическому списку. М.
Путь из варяг в греки и из грек... 1996. М.
Пушкина Т. А. 1987 Височные кольца Гнездовско-
го комплекса // Труды V Международного конгресса
славянской археологии. Киев. 18-25 сентября 1985 г.
Т.Ш. Вып. la, М. С.50-57.
ПушкинаТА. 1996. Новый Гнсздовский клад//От-
четная сессия ГИМ. М. С.79-80.
Пушкиш Т А' 1996а. Новый Гнездовский клад //
Древнейшие государства Восточной Европы. 1994. М.
С.171-186.
ПушкинаТА. 1998.ПервыеГнеадовские клады: ис-
тория открытия и состав// Историческая археология.
Традиниииперспективы. М. С.370-377.
ПушкинаТА. 1999. Трилистные скандинавские фи-
булы на территории Восточной Европы// Археологи-
ческий сборник. Труды ГИМ. Вып. 111. М. С.35-42.
Пуцко В.Г. 1993. Переяславский клад 1912 г. //
КСИА Вып. 208. С.90-94.
ПятышеваН.В. 195б.ЮвепирныеизделияизХерсо-
Литература
песа к. IV в. до н. э. — IVb. Н. э // Труды ГИМ. Вып.
18.
Рабинович М. Г. 1940. Курганы в Поворовке //
Сборник научных студенческих трудов. Вып. II. Исто-
рия. М.
Рабинович М. Г. 1986. Древнерусская одежда IX-
XIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы.
М. С.40-62.
Рабинович Р А. 1997. Карпато-Днестровские зем-
ли во второй половине IX—первой половине XIII вв.
(Историко-археологическое исследование). Диссерта-
ция ... канд. ист. Наук. СПб.
Рабинович Р.А. 1997. Карпато-Днестровские зем-
ли во второй половине IX—первой половине ХШ вв.
(Историко-археологическое исследование). Автореф.
диссертации... канд. ист. Наук. СПб.
Рабинович РА. 1999. Дирхемы на территории Мол-
довы: культурно-исторический контекст// Stratum phis.
№6. СПб. Кишинев. Одесса. С.263-275.
Рабинович РА. 2003. Огултинзуровкуличам, или
Предыстория одного летописного племени // Stratum
plus. №5.2001-2002. СПб.—Кишинев—Одесса—Бу-
харест. С.282-299.
Рабинович Р А, Рябцева С.С. 1997. Ювелирные
украшения с зерныо из Карпато-Поднестровья в кон-
тексте культурно-исторических процессов Х-Х1 вв. //
Stratum + Петербургский археологический вестник.
СПб.—Кишинев. С.236-245.
Равдина Т.В. 1968.0датировке витых браслетов (по
материалам Серенского городища) // КСИА. Вып. 113.
С.117-118.
Равнина Т.В. 1968а.Типологияихронологиялопа-
сгных височных колец// Славянеи Русь. М. С.136-142.
Равнина Т.В. 1975. Древнейшиесемилопасгные ви-
сочные кольца// СА.№3. С.21-223.
Равдина Т.В. 1978. Семилопастные височные коль-
ца// Проблемы советской археологии. М. С181-187.
Равдина Т.В. 1978 а. Древнерусские литые перстни
с геометрическим орнаментом // Древняя Русь и сла-
вяне. М. С.133-138.
Равдина Т.В. 1988. Погребения X-XI вв. с монета-
ми на территории Древней Руси. Каталог. М.
Равич И.Г., Рыцдипа Н.В. 1989. Методика металло-
графического изучения древпих кованых изделий из
меди // Естественнонаучные методы в археологии. М.
Радо)чиЬ С.1977. Злато у серпCKoj уметностиХШ
века // Зограф. 7. С.28-35.
Распопова В.И. 1969. Бронзовые серьги Пенджи-
кента// КСИА Вып. 120. С.51-56.
Ратич0.1957. Древньорусью археолопчш пам’ят-
ки патерриторп захщних областей УРСР. Кшв.
Рафалович И А. 1972. Славяне VI-IX вв. в Молда-
вии. Кишинев.
РафаловичИА. 1986. Данчены. Могильник Черня-
ховской культуры. Ш-IV вв. Кишинев.
РепниковНЛ. 1906. Некоторые .могильники крым-
ских готов// ИАК. Вып. 19. СПб. С. 1-80.
Родинкова В.Е. 2003. Локальные разновидности
женского металлического убора VII века в Поднепро-
вье //Чтения, посвященные 100-летию деятельности
Василия Алексеевича Городцова в Государственном
Историческом музее. Тезисы конференции. Часть II.
М.С.113-117.
365
Литература
Родинкова В.Е. 2003 а. Подвески-лупшщы Ко-
зиевского клада (К постановке проблемы рашгес-
редневековых лунниц)//КСИА. Вып.215. С.6-19.
Руденко К. А. 2001. Булгарские клады (к вопро-
су о булгарской металлообработке XI-XIV вв.) //
Древние ремесленники Приуралья. Материалы Все-
российской научной конференции. Ижевск, 21-23
ноября 2000 г. Ижевск. С.322-348.
Руденко С.Н. 1962. Сибирская коллекция Петра I //
САИДЗ-9.М.-Л.
Русанова И. П. 1966. Курганы полян Х-Х11 вв.//
САИ. Вып. У1-24. М.
Русанова ИЛ 1973.Славянскиедревности\Т-1Хвв.
между Днепром и Западным Бугом. // САИ. Вып. EI-
25. М.
РусановаИЛ 1976. Славянские древности VI-VII в.
Культура пражского типа. М.
РусановаИЛ 1978.0ранней дате памятников праж-
ского типа// Древняя Русьиславяне. М. С.138-146.
РусановаИЛ.,Тимощук БА. 1998. Религиозное
«двоеверие» на Руси в XI—XIII вв. (по материалам го-
родищ-святилищ)// Культура славян и Русь. М. С.144-
163.
Русанова Л.М. 1998. Историческое сложение ком-
позиции ювелирных украшений. М.
Русская эмаль 1962. Каталог. М.
Русская эмаль XII—начала XX века из собрания
Государственного Эрмитажа. 1987. Л.
РуоскиезолотыеисеребряныеизделияХП-XVII вв.
Оружейная палата. 1980. М.
Русское золотое и серебряное дело VIII—начало
XX вв. Каталог. 1972. М.
Рыбаков БА. 1940. Знаки собственностивкняжес-
ком хозяйстве Киевской Руси// CA.№IV.
Рыбаков Б. А. 1948 а. Ремесло Древней Руси. М.
Рыбаков Б. А. 1949. Древности Чернигова // МИА.
Ж1.М.-Л. С.7-93.
Рыбаков БА. 1951.Прикладноеискусствоискульп-
тура// История материалыюйкультуры Древней Руси.
Т.П.М.-Л.
Рыбаков БА. 1953. Древние русы // СА. Т. XVII.
С23-104.
Рыбаков БА. 1964. Любеч—феодальный двор Мо-
номаха и Ольговичей// КСИИМК Вып. 99. С21 -23.
Рыбаков Б. А 1964а. Русские датированные падпи-
chXI-XTV вв.М.
Рыбаков Б А. 1965. Языческая символика русских
украшений XII вв.)//1 Migdzynarodowy kongressarcheo-
logiislowiariskiej. Warszawa. 14-18. DC 1965. С.352-360.
Рыбаков Б A. 1969. Кшвсю колти i вши-русалки //
Славяно-русыастарожшности. Кив. С.92-103.
Рыбаков Б.А 1971. Русское прикладное искусство
Х-ХШвв.М.
Рыбаков БА. 1987. Язычество Древней Руси. М.
Рыбакоу Б.А. 1932. Радз1мичи // Працы сэкуш
археологи т. Ш. Менск.
Рыбина Е.А. 1992. Западноевропейские связи Нов-
города в X-XV вв. Научный доклад, представленный в
качестве диссертации па соискание ученой степени
доктора исторических паук. М.
Рыбина Е.А. 1997. Новгород в системе Балтийских
связей//Труды VI Международного конгресса славян-
ской археологии. Т 2. М. С.326-333.
Рындина Н.В. 1963. Технология производства
новгородских ювелиров X-XV вв. // МИА 117, М.
С.200-268.
Рябинин Е.А. 1980. Исследования 1975 г. на
Ижорской возвышенности // КСИА. Вып. 160, С.76-
81.
РябишшЕА. 1981. Славяно-финноугорские взаи-
модействия в Вотской земле (по материалам работ
Ижорской экспедиции)// КСИА, Вып. 166. С.28-33.
Рябинин Е А. 1983.0развитии погребального об-
ряда на северо-западе Новгородской земли // КСИА.
Вып. 175. М. С.32-39.
Рябинин Е. А. 1986. Костромское Поволжье в эпоху
средневековья. Л.
Рябинин Е.А. 1988. Языческие привески-амулеты
Древней Руси // Древности славян и Руси. М. С.55-58.
Рябинин ЕА. 1988а. Славяно-мерянские курганные
могильники Владимирскойземли (по материалам рас-
копок 1953-1954 гг.)// Проблемы изучения древнерус-
ской культуры. М. С.33-55.
Рябинин Е.А. 1991. Проблема межэтнического син-
теза (финно-угорские племена в составе Древней Руси)
// Социогепез и культурогенез в историческом аспек-
те. Материалы методологического семинара ИИМК
РАНСССР. СПб. С.38-42.
Рябинин ЕА. 1991а. Характер межэтнических кон-
тактов па Севере Руси. (Современное состояние про-
блемы)// КСИА. Вып. 205. С.3-11.
Рябинин Е.А. 1997. Финно-угорские племенавсо-
сгаве Древней Руси. СПб.
Рябцева 1995. Об одном кладе древнерусских юве-
лирных украшений// Конференция, посвященная памя-
ти Т.М. Соколовой. Тезисыдокладов. СПб. 1995. С. 10-12
Рябцева С.С. 1996. Квопросу о серьгах «волынско-
го типа» // Ювелирное искусство и материальная куль-
тура. ТД участников второго коллоквиума. СПб. Гоа
Эрмитаж. С.62-65.
Рябцева С.С. 1997. Квопросу о происхождении се-
рег «волынского типа» (тип «В») // Ювелирное искус-
ство и материальная культура. ТДучасгников третьего
коллоквиума. СПб. Гос. Эрмитаж. С.62-64.
Рябцева С.С. 1997а. О прототипах древнерусских
колтов // Страницы истории русской художественной
культуры. СПб.
Рябцева С.С. 1999. Змеи и драконы. О продолже-
шш одной античной традиции в ювелирном деле эпо-
хи средневековья // Stratum plus. №3. СПб.—Кишинев
—Одесса. С.228-240.
Рябцева С.С. 1999а. «Близнецы» или «двойники».
О сходстве и отличии «волынских» и «прикамских» се-
рег // Stratum plus. №5. СПб.—Кишинев—Одесса.
С.338-356.
Рябцева С.С. 2000. Круглые полусферические под-
вески // Культуры степей Евразии второй половины
I тыс. н.э. (из истории костюма). ТД III Международ-
ной археологической конференции 14-18 марта 2000.
Самара. С.121-125.
Рябцева С.С. 2000а. О территории распростране-
ния бусинных височных колец// Ювелирное искусст-
во и материальная культура. ТД участников седьмого
коллоквиума. СПб. Гос. Эрмитаж. С.70-74.
Рябцева С.С. 2000 б. Трехбусинные кольца от Вис-
лыдо Волги// Stratum plus.№5. СПб. Кишинев. Одесса.
366
Бухарест. С.161-182.
Рябцева С.С. 2001. Древнерусский женский юве-
лирный убор IX-X1II вв. в контексте евразийских
культурных связей. (Основные тенденции формиро-
вания. Автореф. диссертации ... канд. ист. наук.
СПб.
Рябцева С.С. 2001а. Ювелирныеукрашения из Вой-
нештского клада// Ювелирное искусство и материаль-
ная культура. Тезисы докладов участников восьмого
коллоквиума. СПб. С. 101-109.
Рябцева С.С. 20016.0двух кладах ювелирных укра-
шений из раскопок Д.В. Милеева в усадьбе Десятин-
ной церкви в Киеве // Ювелирное искусство и матери-
альная культура. СПб. Гос. Эрмитаж. С. 103-107.
Рябцева С.С. 2002. Клад Рэдукэнень (Румыния) и
кольцевые городища Карпато-Поднестровья // Юве-
лирное искусство и материальная культура. Тезисы
докпадовучастниководиннадцатогоколлоквиума.СПб.
Гос. Эрмитаж. С.83-86.
Сабурова МА. 1974. Женский головной убор у сла-
вян (по материалам Вологодской экспедиции) // СА.
№1 С.85-97.
Сабурова М. А. 1975.Оженских головных уборах с
жесткой основой в памятниках домонгольской Руси //
КСИА №144. М. С.18-22.
Сабурова МА. 1976. Шерстяные головныеуборы
с бахромой из курганов вятичей. СЭ.№3. С.127-132.
Сабурова М А. 1978.0времени появления одной
из групп корун на Руси. (К вопросу о путях сложения
русского традиционного головного убора) // Древняя
Русь и славяне. М. С. 108-113.
Сабурова М А. 1988. Погребальная древнерусская
одежд а и некоторые вопросы ее типологии И Древнос-
ти славяниРуси. С.266-271.
Сабурова МА. 1988а. Ткани начала ХП—начала
ХШ вв. из Суздаля // Культура славян и Русь. М. С.290-
296.
Савельева Э А. 1987. Вымские могильники XI-
XIV вв. Л.
Савоитов. П. 1896. Описание старинных русских
утварей, оружия, ратных доспехов и конского прибо-
ра. СПб.
Самойловський 1.1948. Скарб чаяв КшвськоТРусь
Археолопя. Т. И. Кий. С.192-198.
Самойловський 1.1952. Новый скарб чаяв Кишсь-
ко! Pyci. Археолопя. Т. VI. Кив. С. 120-125.
Самоквасов ДЯ. 1908. Могилы русской земли. М.
Самоквасов Д.Я. 1916. Раскопки северянских кур-
ганов в Чернигове во время XIV археологического съез-
да. Посмертное издание. М.
Сарачева Т.Г. 1996. Техника изготовления семило-
пастных височных колец. // Отчетная сессия ГИМ. Те-
зисыдокладов. М. С.71-74.
Сарачева Т.Г. 1999. Ювелирные изделия вятичей
второй половины XI—первой половиныХШ вв. (хи-
мико-технологический аспект проблемы). Автореф.
дисс.... кацд. ист. наук. М.
Сарачева Т.Г. 1999а. Инструменты для нанесения
декора на вятичские украшения // Археологический
сборник. Труды ГИМ. Вьш. 111.М.С.74-81.
Сарачева Т.Г. 2001. Новые данные о химическом
составе цветного металла украшений вятичей // Вест-
ник молодыхучепых. СПб. С.80-88.
Литература
Свирин А.Н. 1967. Ювелирное искусство Древ-
ней Руси XI-XVI1 вв. М.
Седов В.В. 1953. Этнический состав населения се-
веро-западных земель Великого Новгорода // СА.
XVIII. С.193 -195.
Седов В.В. 1962. О юго-западной группе вос-
точнославянских племен// Историко-археологичес-
кий сборник А. В. Арциховскому к 60-летию со дня
рождения и 30-летию научной, общественной и пе-
догогической деятельности. М.
Седов В.В. 1963. Дреговичи//СА№3. С.112-123.
Седов В.В. 1965. Из истории восточнославянского
расселения// КСИА. Вып. 104. С.3-11.
Седов В.В. 1966. Финно-угорские элементы в древ-
нерусских курганах // Культура Древней Руси. М.
С.246-251.
Седов В.В. 1968. Амулеты-коньки в древнерусских
курганах// Славяне и Русь М. С.151-157.
Седов В.В. 1970. Славяне верхнего Поднепровья и
Подвинья. МИА.№163.
Седов В.В. 1972. Браслегообразные височные коль-
ца восточных славян // Новое в археологии. М.
Седов В.В. 1974.Длинныекурганы кривичей//САИ.
Вып.Е1-8.М.
Седов В.В. 1979. Происхождениеиранняя история
славян. М.
Седов В.В. 1982. Восточные славяне в VI-ХШ вв.
АрхеолотяСССР. М.
Седов В.В. 1984. Предметы древнерусского про-
исхождения в Финляндии и Карелии// КСИА. 179. М.
С.32-39.
Седов В.В. 1986. Одежда восточных славян в VI-
IX вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы.
М. С.30-39.
Седов В.В. 1987. Формирование восточнославянс-
кой народности// КСИА. Вып. 198. С.10-15.
Седов В.В. 1994. Из этнической истории населения
среднейполосы Восточной Европы во второй полови-
не 1 тысячелетия н.э. // РА №2. С.56-68.
Седов В.В. 1994 а. Женские головные уборы вос-
точных славян (по курганным материалам) // Очерки
поархеологии славян. М. С.115-123.
Седов В.В. 1995. Славяневраннем средневековье. М.
Седов В.В. 1998. Лунничные височныекольца вос-
точнославянского ареала// Культура славян и Русь. М.
С249-262.
Седов В.В. 1999. Древнерусская народность. М.
Седов В.В. 2000. Жальники // РА. №1. С.7-22.
Седов В.В. 2000а. Миграция дунайских славян в Во-
сточную Европу // Археология и история Пскова и
Псковской земли. Материалы научного семинара 1996-
1999 г. Псков. С.95-97.
Седов В.В. 20006. Ранний этап славянского рассе-
ления в лесной зоне Восточной Европы // Археология
и история Пскова и Псковской земли. Материалы науч-
ногосеминара 1996-1999 г. Псков. C2002(£L
Седов В.В. 2002. Славяне. Историко-археологичес-
кое исследование. М. Языки славянской культуры.
Седова М.В. 1959. Ювелирные изделия древнего
Новгорода// МИА 65. С 223-261.
Седова М.В. 1972. Ювелирные украшения из Яро-
полча Залесского // КСИА Вып. 129 М. С.70-76.
Седова М.В. 1978. «Имитационные» украшения
367
Литература
Древнего Новгорода // Древняя Русь и славяне. М.
С.149-159.
Седова М.В. 1981. Ювелирные изделия Древнего
Новгорода (X-XV вв.). М.
Седова М.В. 1997. Суздаль и его округа в X-
XV вв. М.
Селинард Ю. 1983.0 начале взаимоотношений
эстонских и восточнославянских племен // Древне-
русское государство и славяне. Минск. С.28-30.
Семенов А.И. 1991. Византийские монеты Келегей-
ского комплекса//АСГЭ. Вып. 31. С.121-130.
Семенов В А. 1980. Варнинский могильник. Новый
памятник Поломской культуры. Ижевск.
Семенов В.А. 1988. Тольёпский могильник// Но-
вые исследования по древней истории Удмуртии.
Ижевск.
Сергеева З.М. 1986. Деписепские курганы на Ви-
тебщине// КСИА. Вып. 187. М С.75-80.
Сергеева З.М. 1977.0 подковообразных фибулахс
утолщенными концами на территории древней Руси//
КСИА. Вып. 150. С.34-37.
Сергеева З.М. 1983. Курганы у озера Лисино //
КСИА. Вып. 175. М. С.84-88.
Сизов В.И. 1895.0происховденииихарактере кур-
ганных височных колец так называемого московского
типа // Археологические известия и заметки (АИЗ), 6.
М. С.177-188.
Сизов В.М. 1902. Курганы Смоленской губ// МАР
№28. СПб.
Синай, Византия, Русь. 2002. СПб.
Скалой К. 1966. Изображения дракона в искусстве
1V-V вв. // СГЭ. Вып. 27.4043.
Славяне Юго-Восточной Европы в предгосудар-
ственный период. 1990. К.
СмиленкоВА. 1965. Глодоскийскарби. Киев.
Смирницкая Е.В. 1982. К вопросу о стилистичес-
ких принципах средневекового зооморфного орнамен-
та (на материале древнерусских серебряных наручей)
// Художественный язык средневековья. М. 1982.
СмирновАЛ. 1951. Волжские Булгары. М.
Смирнов А.П. 1962. Некоторые спорные вопросы
истории волжских болгар. М.
Собрание MJ*. Боткина. 1911.СПб.
Сокровища Золотой Орды2000. СПб.
Сокровища Приобья 1996. Каталог. СПб.
Соловьева Г.Ф. 1968. К вопросу о приходе радими-
чей и вятичей на Русь // Славяне и Русь. М. С.352-356.
СоловьеваГ.Ф. 1971.0балтскомсубстратевисго-
рии славянских племен Верхнего Поднепровья // СА
№2. С.124-132.
СоловьеваГ.Ф. 1978. Семилучевые височныеколь-
ца//Древняя Русьиславяне. М. С.171-178.
СоловьеваГ.Ф 1982. Славянские курганыус. Ботви-
новкаГомельской области// КСИА Вып. 171. С.75-80.
Соснина Н., Шангина И. 1998. Русскийтрадипион-
ный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. СПб.
Спицын А. А. 1896. Радимичские курганы. Вещи из
раскопок Г.Н. Еременко в курганах Новозыбковского и
Суражского уездов // ЗРАО. Т. УШ. Вып. 1-2. Новая се-
рия. Ки. 1.СПб.
Спицын АА. 1896 а. КурганыС.-Петербургской гу-
берниивраскопках Л.К. Ивановского. МАР №20. СПб.
Спицын АА 1899. Расселсниедревнерусских пле-
мен по археологическим данным // ЖМНП. СПб.
С.301-340.
Спицын А.А. 1903. Гдовские курганы ь раскопках
ВН. Блудова. СПб.
Спицын А.А. 1905. Владимирские курганы //
ИАК. Вып. 15. СПб. С.84-172.
Спицын. А.А. 1905 а. Гнездовские курганы из
раскопок С.И. Сергеева// ИАК. Вып. 15. СПб. С.6-
70.
Спицын А. А. 1905 б. Белогостицкий клад 1836 г. //
ЗОРСАт. VII, в. 1.СП6. С.154-159.
Спицын А А. 1915. Археологический альбом// ЗОР-
САТ.ХГПг.
Спицын А. А. 1921. Бежецкие древности//Бежец-
кий край. Бежецк. С.1-20.
Спицын А А. 1928. Древности антов. Сб. статей в
честь академика И. Соболевского. Л.
Срезневский И.И. 1903. Материалы для словаря
древнерусского языка. СПб. Т. 1.
СтанчеваМ. 1970. Нови данни за средневековнато
златарство в София // Известия на Археологичный Ин-
ститут. Т. XXXII. София. С.310-314.
Станюкович АК 1981. Об одном редком типедрев-
нерусских украшений. (Трефовидные подвески) // СА
№1. С.57-65.
Степи Евразиивэпоху средневековья. 1981. Архео-
логия СССР. М
Степи европейской части СССР в скифо-сарматс-
кое время. 1989. Археология СССР. М
Стерлигова И. А. 2000. Драгоценный убор древне-
русских hkohXI-XIV вв. Происхождение, символика,
художественный образ. М.
СтроковаЛ.В. 1997.Квопросуотехнике изготовле-
ния серег «волынского типа» из Копиевского клада //
Ювелирное искусство и материальная культура. Тези-
сыдокладов участников четвертого коллоквиума. СПб.
Гос. Эрмитаж. С.61-63.
СухобоковО.В. 1975. Славяне Днепровского Лево-
бережья. Киев.
ТалисДЛ. 1990. Кладиз раскопок Баклинского го-
родища// Проблемы археологии Евразии (Труды ГИМ).
М. С.84-88.
Теодор Д.К. 1961. Раннесред невековый клад укра-
шенийнайдепныйвВойнешты(Яссы)// ДакияЖ 1961.
С. 509-520.
Тимофеев Е.И. 1961. Расселение юго-западной
труппы восточнославянских племен по материалам мо-
гильников Х-ХШ вв. // СА. №3. С.56-75.
Тимощук О.Б. 1976. Слав’яни ШвшчноТ Буковини
У-Ксг.Кшв.
ТимощукОБ. 1982. ДавньоруськаБуковина. Кшв.
Тимощук О.Б., Русанова И.П. 1988. ВтороеЗбруч-
ское (Крутиловское) святилище // Древности славян и
руси. М. С.78-91.
Тирацян Г. А. 1964. Некоторые черты материаль-
ной культуры Армении и Закавказья V-IV вв. до н. э. //
СА.№3. С.64-78.
Тиханова М.А. Чернецов Н.Г. 1970. Новая на-
ходка погребения с диадемой // СА №3, С. 117-123.
Толстов С.П. 1948. Хорезм. М.
Толстой И.И., Кондаков Н.П. 1897-1899. Русские
древностивпамягникахискусства. Вып. V-VII. СПб.
Толочко П.П. 1963. Про принадлежшеть i
368
функцюнальне призначення щадем i барм в Древшй
Pya/Z Археолога. Т. XV, К. С.145-164.
ТотевТ. 1983. Преславско знатно ськровище. Со-
фия.
Третьяков П.Н.1938. Расселение древнерусских пле-
мен по археологическим данным // СА. С.54-61.
Третьяков П.Н. 1963. Восточнославянские пле-
мена. М.
ТретьяковП.Н. 1965.Одревпосгяхсередипыитре-
тьей четверти 1 тысячелетия в южных областях Верхне-
го Подпепровья // СА. №4. С.63-77.
Тысячелетиевведенияхристианствана Руси. 1993. М.
Уваров. А.С. 1910. Сборник мелких трудов. Т. I. М.
Украшения Востока из коллекции Пати Колби Берч.
1999. Paris.
Усманова Э.Р., Ткачев А А. 1993. Головной убор и
его статус в погребальном обряде// ВДИ. №2. С.75-83.
Успенская АВ. 1953. Курганы Южной Белоруссии
Х-ХШ вв.//Труды ГИМ. Вып. ХХП М. С.97-124.
Успенская А.В. 1967. Нагрудные и поясные при-
вески// Труды ГИМ 43. М. С.88-132.
Успенская А.В. 1971. Пекуновское селище и курга-
ны в Подмосковье// СА №1. С.254-258.
Уткин П.И. 1970. Русские ювелирные украшения.
М
Фабрищус I. В. 1927// Лггопис музею. Херсон. Вып.
8: Червошроки 1917-1927.
Фасмер М. 1964. Этимологический словарь рус-
ского языка. М.1.
Федоров Г.Б. 1953. Городище Екимауцы// КСИА.
Вьш. 50. С.104-126.
Федоров Г.Б. I960. Население Прутско-Днестровс-
кого междуречья в I тыс. н.э // МИА. №89. М.
Федоров Г.Б. 1968. Работа Пругско-Днестровской
экспедиции в 1963 г. // КСИА Вып. 113. С.85-97.
Федоров Г.Б., Чеботаренко Г.Ф. 1974. Памятники
древних славян// АКМ. Вып.6. Кишинев.
Федоров Г.Б., Чеботаренко Г.Ф., Великанова М.С.
1984. Бранештский могильникХ-Х1 вв. Кишинев.
ФехнерМ.В. 1967. Шейные гривны//Труды ГИМ.
Вьш. 43. М. С.55-75.
Филимонов Г. Д. 1866. Древние украшения вели-
кокняжеских одежд, найденных во Владимиров 1865 г.
// Сборник общества древнего искусства. С. 75.
Филимонов ГД. 1873. Каталог отделения доистори-
ческих древностей Московского публичного музея. М.
Финно-угры и балты вэпоху средневековья. 1987.
Археология СССР.М.
Фомин А.В. 1996. Куфические монеты Гнездовс-
кого клада // Древнейшие государства Восточной Ев-
ропы. 1994 г. М. С.187-203.
ФопяковД.И. 1991. Цветной металл Торопца (ти-
пология и технология) // СА №2.
Фракийские золотые сокровища. б.г., б.м.
Фракийские искусство и культура Болгарских зе-
мель. 1974. М.
Френкель Я.В. 2002. К вопросу о дате Гнездовско-
го клада 1870 г. // Клады, состав, хронология, интерпре-
тация. Материалы тематической научной конференции.
СПб. С.93-94.
Хавлюк П.1.1969. Древньорусыа городища на
Поденному Бул // Словяно-русью старожнтносп. Кшв.
С.156-174.
Литература
Ханенко Б.И. и В.И. 1899. Древности русские.
Т. I. Киев. Т.2 - Киев, 1899; Т.З - Киев, 1900.
Ханенко Б.И. и ВЛ. 1902-1,907. Древности Приднеп-
ровья. Т.2-6. Киев. Т.4-Киев, 1901;Т.5-Киев, 1902.
Хвощинская Н.В. 1977.0 новом типе курганов в
могильнике Залахтовье// КСИА. Вьш. 150. С.62-67.
Хвощинская Н.В. 1977а. Погребения в грунто-
вых ямах в могильнике у д. Залахтовье // Проблемы
истории и культуры северо-запада РСФСР. Л.
Хвощинская Н.В. 1994. Новыед аштые о типологии
широких ленточных браслетов// Памятники средневе-
ковой культуры. СПб. С.250-256.
Хвощинская Н.В. 1999. Подковообразные фибулы
Рюрикова городища // Великий Новгород в истории
средневековой Европы. М. С.39-50.
Хвощинская Н.В.2002. Кольцевидные фибулысРю-
рикова городища// Старая Ладога и проблемы архео-
логии Северной Руси. СПб. С.98-100.
Хвощинская Н.В. 2004. Финнына западе Новгород-
ской земли. СПб.
Херрмап И. 1986. Славяне и норманны в ранней
истории балтийского региона // Славяне и скандина-
вы. М. С.8-122.
Хойловский И.А 1896. Археологические сведения
о предках славян и Руси. Вып. I. Киев.
ХолосгенкоН.В. 1962.КладвещейуБорисоглебс-
кого собора в Чернигове// СА №3. С.235-238.
ХускавцдзеЛ.3.1978. Византийские эмали всобра-
нии Государственного музея искусств Грузии // Сред-
невековое искусство. Русь. Грузия. М. С.212-218.
Хынку И.Г., Рафалович И.А. 1973. Славяне итюр-
ко-болгары в VI-X вв. на территории Молдавии по ар-
хеологическим данным // Славяните и средиземномо-
стиятсвят V1-XI век. София. С.161-182.
ЧалланьД. 1956. Памятники византийского метал-
лообрабатывающего искусства// ActaAntiqua.T.IV. 1-
4. Budapest.
ЧвырьЛА. 1977. Таджикские ювелирные украше-
ния. М.
Чернецов АВ. 1998. Трансформация элементов ан-
тичной культуры в Древней Руси (по материалам при-
кладного искусства и миниатюр) // Труды VI Между-
народного конгресса славянской археологии. Том 4. Об-
щество, экономика, культура и искусство славян. М.
С.85-91.
Черниченко Е.Е.2002.КладысКняжьейГорывфон-
дах Черниговского областного исторического музея
имени В.В. Тарновского: музееведческий и историо-
графический аспекты // Кладах, состав, хронология, ин-
терпретация. Материалы тематической научной кон-
ференции. СПб. С. 109-112.
Чиркович С. 1996. Сербия. Средние века. М.
ЧичуровИ.С. 1980. Византийские исторические со-
чинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Ни-
кифора. Тексты, переводы, коменгарии. М.
Ъоровий-Л>убинковий М. 1951. МеталнинакитБе-
лобрдскогтипа. ГроздоликемиМуше// Старинар. Нова
Серщак. 11. Београд. С.21-55.
ЪоровиЬ-Л>убинковий М. 1954. Наушнице т.з.
TOKajcKor типа//Рад Во]во1)анскихмузда. Нови Сад 1954.
С.81-92.
Шаблавина Е.А. 2001. Визуальное определение
особенности литья металлических украшений по вое-
Литература
369
ковой модели (на материале пальчатых фибул Днеп-
ровского Левобережья VII в.н.э.) // Древние ремеслен-
ники Приуралья. Материалы Всероссийской научной
конференции. Ижевск, 21-23 ноября 2000 г. Ижевск.
G308-321.
Шаблавина Е.А. 2003. Проблема производства
геральдических поясных наборов в Крыму И Чте-
ния, посвященные 100-летию деятельности Василия
Алексеевича Городцова в Государственном Исто-
рическом музее. Тезисы конференции. Часть II. М.
С.105-107.
Шахматов А А. 1919. Древнейшие судьбы русско-
го племени. Пг.
Шахматов АА. 1919а. Повесть временных лет. Пг.
Шевченко Ю.Ю. 1998. К вопросу о хронологии
украшений с Пастырского городища // Ювелирное ис-
кусство и материальная культура. ТД участников пято-
го коллоквиума. СПб. Гос. Эрмитаж. С.83.
Шевченко Ю.Ю. 1998 а. Пастырско-вольпщевские
древности Поднепровья и Великая Болгария Кубрата //
Ювелирное искусство и материальная культура. ТД
участников шестого коллоквиума. СПб. Гос. Эрмитаж.
С.81-85.
Шевченко Ю.Ю. 2000. К хронологии материалов
волынцевского типа в Низовьях Десны // Ювелирное
искусство и материальная культура. ТД участников
седьмого коллоквиума. СПб. Гос. Эрмитаж. С.103-106.
Шевченко Ю.Ю., Богомазова Т.Г. 2003. Образы
<вмей» в предметах древней материальной культуры:
проблемы изучения И Российская наука о человеке:
вчера, сегодня, завтра. Материалы научной конферен-
ции. Вьш. 1.20-23 марта2003 г. СПб. С.244-256.
Шинаков Е. А. 1980. Классификация и культурная
атрибуция лучевых височных колец // СА №3. С. 11 fl-
127.
Шинаков Е.А. 1982. Население верхнего течения
реки Псел в XI-X1I вв. (по материалам Гочевского ар-
хеологического комплекса) // Вестник МГУ. Сер. 8. Ис-
тория. №2. С. 90-95.
Шкорпил В.В. 1903. Отчего раскопках гробниц в
городе Керчииегоокрестносгяхв 1901 Г.//ИАК. Вып.7.
СПб. С.74-93.
ШмвдгЕА. 1968.0смоленских длинных курганах
//Славяне и Русь. М. 1968. С.224-229.
Шмидт Е. А. 1970. К вопросу об этнической при-
надлежности смоленско-полоцких длинных курганов//
Материалы по изучению Смоленской обл. Вьш. 7. Смо-
ленск. 1970. С.219-235.
ШмвдгЕА. 1974. К хронологии кургановХ1-Х1П вв.
в Смоленском Поднепровье// Культура средневековой
Руси. Л. С.75-81.
ШмвдгЕА. 1983. Погребальный обряд смоленс-
ких кривичей VIII—X вв. // Древнерусское государство
и славяне. Минск. С.30-32.
Шутова Н.И. 1999. Женская од ежда средневеково-
го населения бассейна Чепцы (по материалам раско-
пок Варнинского могильника 1990-1999 гг.) // Пермс-
кий мир в раннем средневековье. Ижевск. С.210-231.
Щапова Ю.Л. 1998. Древнерусский эмалевый убор
(к вопросу о происхождении) // Труды VI Междуна-
родного конгресса славянской археологии. Том 4. Об-
щество, экономика, культура и искусство славян. М.
С.284-289.
Щеглова О. А. 1987. Волыицевский горизонт по-
селения Вовки // КСИА. Вып. 190. С.43-48.
Щеглова О.А. 1988. Фативижскийклад как обосно-
вание для датировки памятников Волынцевского типа
//Историко-археологический семинар «Чернигов и его
округа в IX-XII1 вв.». Тезисы докладов. Чернигов.
С.101-103.
ЩегловаОА 1990.0двух группах кладов «древно-
стей антов» в Среднем Поднепровье // Материалы и
исследования по археологии Днепровского Левобере-
жья. Курск. С. 162-203.
ЩегловаОА. 1990а. Вещи дунайского происхож-
дения в поздних кладах «Древностей антов» // Истори-
ко-археологический семинар «Чернигов и его округа в
IX-XIII вв.». Тезисы д окладов. Чфнигов.
ЩегловаОА. 1991. Среднее Поднепровье конца VII
—первой половины VIII вв.: причины смены культур
// Социогенез и культурогенез в историческом аспек-
те. Материалы методического семинара ИИМК АН
СОСР.СПб. С.42-50.
ЩегловаОА. 1999. Мастер Трубчевскогокладаи
егофибулы// Проблемы истории иархеологии Украи-
ны. Харьков. С.59-61.
Щеглова О.А. 1999а. Женский убор из кладов
«древностей антов»: готское влияние или готское
наследие? // Stratum plus. №5. СПб. — Кишинев —
Одесса. С.287-321.
Щеглова ОА. 2001. Квопросу о месте и времени
формирования традиции изготовления свипцово-оло-
вянистых украшений в формочках «типа Камно-Рыу-
ге»// Миграции и оседлость от Дуная до Ладоги в пер-
вом тысячелетии христианской эры. Пятые чтения па-
мяти Анны Мачинской. Старая Ладога, 21-22 декабря
2000 г. Материалыкчтениям. СПб. С.46-55.
Щеглова О.А. 2002. Свипцово-оловянистые ук-
рашения VHI-X вв. на Северо-Западе Восточной
Европы // Ладога и ее соседи в эпоху средневеко-
вья. СПб. С. 134-150.
Щеглова О А, Егорьков АН. 1998.0технологичес-
кой особенности изготовления предметов Трубчевс-
кого клада «древностей антов» // Ювелирное искусст-
во и материальная культура. ТД участников пятого кол-
локвиума. СПб. Гос. Эрмитаж. С.85-87.
Щеглова О А., Егорьков А.Н. 1998а. Серебряные
украшения в Трубчевском кладе // Ювелирное искус-
ство и материальная культура. ТД участников шестого
коллоквиума. СПб. Гос. Эрмитаж. С.85-87.
Щеглова О А Егорьков А.Н. 2000. Литейные фор-
мочки из Бернашовки и свипцово-оловянистые укра-
шения раннесредневековых кладов Днепровского Ле-
вобережья // Ювелирное искусство и материальная
культура. ТДучастниковседьмого коллоквиума. СПб.
Гос. Эрмитаж. С. 110-112.
Щербакова Т А, Щукин М.Б. 1991.0 двух стилях в
ювелирном искусстве Черняховской культуры (по ма-
териалам Днестровско-Прутского междуречья) // Древ-
ности Юго-запада СССР. Кишинев. 1991.С.38-53.
Щукин М.Б. 1998. К проблеме происхождения се-
вероевропейского «филигранного» стиля I-П вв. //
Ювелирное искусство и материальная культура. ТД
участников пятого коллоквиума. СПб. Гос. Эрмитаж.
С.85-86.
Энцыклапедыя. Археалопя i нум!зматыка
370
Беларусь1993. Mihck.
Этнокультурная карта территории УССРв1тысн.
э. 1985. Киев.
Юренко С.П. 1983. Днепровское лесостепное лево-
бережье в VII-VUI вв.н.э.Вальпщевская культура. Ав-
тореферат дисс. ... канд. ист. наук. Киев.
Ювелирное искусство народов Востока. 1974. М.
Ювелирное искусство народов России. 1974. Л.
Якобсон А. Л. 1950. Средневековый Херсонес (XII—
XIV вв.)//МИА,№17.С. 209-212.
Якобсон АЛ. 1962. Средневековый Крым.Т. L М.-Л.
Якубовський В.1.1975. Давньоруський скарб з
с. Городище Хмельницько? области/ Археолопя 16.
С.87-104.
ЯпакиеваЖ. 1977. Стари женски накити в Сливен-
ские край. София.
Янин В.Л. 1956. Денежно-весовые системы рус-
ского средневековья. Домонгольский период. М.
A magyar regeszet regenye. 1968. Budapest.
Abramowicz A. 1959. Periode des migrations des
peuples. Lddz.
Abramowicz A. 1962. Studia nad genezq polskiej
kultury artystyeznej. Lodz-Warszawa.
Albrycht-Rapnicka D. Wczesnosredniowieczny skarb
srebmy z Brzozowa Nowego, pow. Przasnysz // Materialy
Starozytne i Wczesnosredmowieczne, 13. S. 251-320.
Altksova B. 1965. Archeoloski ostatei iz slovenkog
perioda v Makedoniji od 1X-X1V stoleca //I
Mi^dzynarodowy kongress archeologii slowianskiej.
Warazawa 14-18IX. S. 92-103.
Alfoldi A. 1926. Der Untergang der Romerherrschaft
in Pannonien. Berlin-Leipzig.
Alfoldi A. 1932. Funde aus der Hunnenzeit und ihre
ethnische Sendung // Archaeologia hungarica IX.
Budapest.
Andersen M.1984. Westslawischer Import in
Danemark etwa950 bis 1200—Eine Obersicht // Zeitschift
fur Archaologie. 4I8. S. 101-144.
Antike and Mittelalter in Bulgarien. 1969. Berlin.
Antoniewicz J. W. 1955. Niektore dowody kontaktow
slowianiko-pruskich w okresie wczcsnosredniowiecznym
w swietle zrodel archeologicznych П Wiadomosci
Archeologiczne. T. 22. S. 235-277.
Antoniewicz J. 1966. Archaeological research on
northeastern Poland and East Europe. Bialystok.
Antoniewicz W. 1928. ArcheologiaPolski. Warszawa.
Antoniewicz W. 1970. Ein MedailonmitderDarstellung
ger betenden Mutter Gottes (Maria Orans) aus KekomSki
in Karelien // Studia archaeologica in memoriam Harri
Moora. Tallinn. S. 50-56.
Arbman H. 1940/43. Birka I. Die Graber.
Argintariimedievale. 1974. Bucuresti.
Argintul antic din Serbia. 1996. Expozifie a Muzeului
National din Belgrad. Bucuresti.
Ante. T. 1914. La Suede et 1‘Orient. Uppsala.
BachH.,DusekS. 1971. SlaweninThttringen. Weimar.
Baranyne Oberschall M. 1947. Problemak a magyar
szent korona кбгй! // Antiquitas Hungarica. 1. Budapest.
BarkocaL. 1968. A6A Century CemettyfromKesthely-
Fenekpusta И Acta Archeologica Hungarica. 20.
Baye, de J. 1892. La bijouterie des Goths en Russie //
Memories de la Societe des Antiquares de France. Paris.
L.I.P. 1-16.
Литература
Benda К. 1966. Mittelaltericher Schmuch. Praha.
Bialekova D. 1981. Davni slovanske kovacstvo.
Bratislava.
Bona 1.1991. DasHunnen-Reich. Stuttgart.
Brachman H. J. 1978. Slawiche Stamme an Elbe und
Saale I Zu ihrer Geschichte und Kultur im 6 bis 10
Jahrbundert—auf Grund archSologischer Quellen. Berlin.
Budinsky-Kridka V. 1959. Slovanske mohyly v Skalici
// Archaeologica Slovaca. Fontes 11. Bratislava.
Bujak F. 1949. Sk^dprzyszli Radzimicze i Wjatycze na
Rus II Swiatowit, XX. Warszawa.
Burda S. 1979. Tezaur de aur din Romania. Bucuresti.
Byzantine and post-Byzantine art. 1986. Athens.
Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture
from British Collection. The British Museum Press. London.
Byzantium the high in the age of darkness. 1989.New
York,
CilinskaZl. 1963. Slawisch-awarishes Graberfeldin
Nove Zamky. Bratislava.
Cirjan C. 1969. Necropola de epoca feudala timpurie
de la Girli(a-Ostrov. Pontica2. Constanta.
Chropovsky B. 1957. Ein slawisch Graberfeld aus dem
9. Jahrhundert in Vel’ky Grob, Bezirk Senec // Slovenska
archeologia V, 1. Nitra. S. 214-218.
Chropovsky B. 1961. Otarkam historiche postavenia
Nitry VI11-1X storoes // Studijne zveste ausav sv. Nitra.
S. 139-160.
Chropovsky B. 1965. Vcasnostredoveke osidlenie
slovenska //1 Mi^dzynarodowy kongress archeologii
slowianskiej. Warszawa 14-18IX. S. 157-166.
Chropovsky B. 1978. Krasa slovienskeho Sperku.
Bratislava.
Chropovsky B. 1961. К Otazkam historicheho
postavenia Nitry v VIII a IX storoci II Studijne zvesti ausav
cb.Nitra.Str.139-160.
Comsa Ё.1968. L’ influence romaine pro vinciale sur la
civilisation slave a I’epoque de la formation des etats //
Romanoslavica. T. 16, p. 446-460.
ConstantinescuN., Untaru Gh. 1959. Podoabe feudale
descoperite la Olteni IISC1V. 10—N2—P. 499-505.
CremoSnikI.1951.Nalazinakitausrednjekovnojzbirci
Zemaljskog muzeja u Sarajevu // Glasnik zemaljskg muzeja
u Sarajevu. Nova serija. T. VI. Sarajevo. S. 241-270.
Culture BizantinS in Romania. 1971. Bucure$ti.
Daim F. 1992. Awarenforchungen. Band 2. Wien.
Dalton O.M. M.A. 1901. Catalogue ofEarly Christian
antiquities and objects from the Christian East. London.
Danute A.-R. 1975. Wcresnosredniowieczny skarb
srebmy z brozorova nowego pow. Przasnysz // Materialy
starozytne i Wcresnosredniowieczne. T. Ш. S. 251-320.
Deer J. 1966. Die Heling Krone Ungams. Wien.
Dekan J. 1966. Die Bezichungen unserer Lander mit
dem spatantiken und byzantinischen Gebiet in der Zeit
von Cyrill und Method // Das Grossmahrische Reich. Prag.
Dekan J. 1976. Velka Morava. Doba a Umenik.
Bratislawa.
Dekan J. 1979. Wielkie Morawy. Epoka i sztuka.
Bratyslawa-Wroclaw.
Dekan J. 1980. Moravia Magna. Bratyslawa.
Dekowna M., Stattlerowna E. 1961. Wczesnosrednio-
wieczny skarb srebmy z Sejkowic pow. Costunow. Wroc-
law- Warszawa-Krakow.
Dimitrijevic D., Kovic J., Vinski Z. 1962. Seobanaroda.
Литература
Arheoloski nalazi jugoslavenskoj Pounavlja. Zumun.
Dost&l В. 1966. Slovanskd Pohrebiste ze stfedni doby
hradiStni na Morave. Praha.
Dostal В. 1964. Slovanska minulostPohanska. Breslav.
Dostal В. 1985. Breslav-Pohanska. Brno.
Duczko W. 1995. Contacts between Estonia and
Scandinavia in the Light of the 12-th century. Hoard from
Vablo // Archaeology East and West of the Baltic.
Stockholm. P. 98-102.
Duczko W. 1982. En slavisk piizla frin Uppland Nagra
problem kring der vikingatida granulationskonsten // TOR.
VoLXK. 1980-1982. Uppsala. S.189-231.
Duczko W. 1983. Slaviskt och gotlandskt smide i adla
metalder // Cutar och vikingar. Stockholm.
Duczko W. 1985. The Filigree and Granulation Work
ofthe Viking Period. Birka V. Stockholm.
Dumitriu L.M. 1996. Podoabe medievale la Dunarea
inferioara in secolele XI-XV. Bucure$ti.Teza de doctorat.
Dumitriu L. 2001. Der mittelalterliche Schmuck des
unteren Donaugebietes im 11-15. Jahrhundert. Bucure$ti.
DusekM. 1955. Kostrovepohfebii>tezX,aXlstoricia
v Chotina na slovensku // Slovenska Archeologia. Ill, P.
244-263.
Eisner J. 1952. Devinska Nova Ves. Slovanske
pohfebiste. Bratislava.
Eisner J. 1955. Pocatky ceskeho sperku // PA. T. 46. S.
215-226.
Eisner J. 1962.0 vzniki slovanske esovite zausnice //
Swiatowit T. 24. S. 395-403.
Fettich N. 1937. Die Mettallhunstder landnechmenden
Ungam I I Archaeologia Hungarica XXI.
Florescu R., Miclea I. 1979. Tezaure Transilvane.
Bucure$ti.
Garam E., Kiss A. 1992. Goldfundeaus der Volkerwan-
derungszeit im Ungarischen Nationalmuseum. Budapest.
Germanen, Hunnen und Awaren. 1988. Germanisches
Nationalmuseum, Niimberg.
Gieysztor A. 1960. Kultura Slasko. Warszawa.
Gold and silver auction. 1992. New York.
Goldhehn Schwert und Sieberschatze. 1984. Franhfurt
am Main.
Goldmann B. 1996. Nabataen. Syro-Roman Lunate
Earrings// Israel Exploration Journal, v. 46. №1-2.
Goldschmuck der romischen Frau. 1993. Koln.
Goldshatz des Skythen in der Ermitage. 1970.
Leningrad.
Goschew 1.1966. Zur firage der Kronungszeremonien
und die Zeremonielle Gewandung der Byzantinischen und
der Bulgarischen Herrscher im Mittelalter // Byzantino-
Bulgarica. Sofia. P. 145-168.
Grabar A. 1960. Une pyxide en ivoire a Dumbarton
Oaks // Dumbarton Oaks Papers №14 Washington.
Gradowski M. 1975. Technika i technologia w dawnym
zlotnictwie. Warszawa.
Gradowski M. 1980. Dawne zlotnictwo. Technika i
technologia. Warszawa.
Gupienic A. 1955. Skarb i monety odkryte na grodzisku
l?czyckim// StudiaWczesnosredniowieczne,t3. S. 352-354.
Gupieniec A., Kiersnowski T i R. 1965. Wczesno-
sredniowieczne skarby srebme z Polski Srodkowej,
Mazowsza i Podlasia. Wroclaw—Warszawa—Krakow.
Hadacrek K. 1903. Der Schmuck der Griechen und
Etrusken. Wien.
371
Haisg M., Kiersnowski R., Reyman J. 1966.
Wczesnosredniowieczne skarby srebme z Malopolski,
Slaska, Warmii i Mazur. Materialy. Wroclaw - Warszawa
—Krakow.
Hampel J. 1905. Alterhumer des fruhen Mittelalters in
Ungam. Bd. 1-Ш. Braunschweig.
Hasson R. 1987. Early Islamic jewelry. L.A. Mayer.
Memorial Institute For Islamic Art
Hasson R. 1988. Schuck der Islamishen Welt Frankfurt
am Main.
Hejg-Detari A. 1976. Hungarian Jewellery of Past.
Budapest.
Hensel W. 1950. Studia i materialy do osadnictwa
Wielkopolski wczesnohistorycznej. T. 1. Poznan.
Hensel W. 1953. Studia i materialy do osadnictwa
Wielkopolski wczesnohistorycznej. T. 2. Poznan.
Hensel W. 1965. Die Slawen im frOhen Mittelalter. Ihre
materielle Kultur. Berlin.
Higgins R.A. 1981. Greek and Roman jewellery.
London.
Holcik S. 1991. Vel'komoravskepohrebisko v Bini //
Zbomik Slovenskeho narodneho muzea. R. LXXV-1990.
Bratislava. S. 85-105.
Hruby V. 1955. Stare Mesto. Velkomoravske pohrebiSte
«Na Valach». Praha.
Hruby V. 1965. Stare Mesto. Velkomoravsky Velehrad.
Praha.
Hruby V. 1968. Stare Mesto. Bmo.
Igoti. 1994. Milano.
lonija A. 2002. Podoabe aosciate cu monede in tezaure
medievale aflate in colecjiile institutului de arheologie
«Vasile Parvan» // Simpozion de numizmatica. Chi§in3u.
13-15 mai2001.P209-218.
Istra i sjevemojadranski prostor u ranom srednjem
vijeku. 1995. Pula.
Jakimowicz R. 1927. Skarby wczesnosredniowieczne i
znaczenie ich badania dla historii // Wiadomosci
Numizmatyczno-Archeologiczne, t. 9. S. 8-11.
Jakimowicz R. 1934. Szlak wyprawy kijowskicj
Boleslawa Chrobrego w swietle archeologii // Rocznik
wolynski. Rowne, 111. S. 54-59.
Jakun H. 1933. Ein mittelterlier Goldring aus Schlesien
// PrahistorischeZeitschrift. 24. Berlin. S. 175-199.
Jenkins M., Кеппе M. Islamic jewelry in the
Metropolitan museum of Art. New York.
Jewelry and metalwork in the Museum of Georgia.
1986. Leningrad.
Jewelry from Persia. 1978.
Jewelry 7000 years. 1991. New York.
Johns K., Potter T. 1983. The Thetford treasure.
London.
Juric R. 1986. Srednjovjekovni nakit Istre i Dalmacije //
IzdanjaHrvatskogarheoloskogdrustva, 11/2. S. 245 —289.
Juris R. 1987. Srednjovjekovni nakit Istre i Dalmacije
// Arheoloska Istrazivanja u Istri i Hrvatskom Primorju.
Pula, 11/2. S. 245-289.
Juris R. 1993.0 Srednjovjekovnom nakitu kod Crkve
Sv. Nikole u Solinu// Vjesnikzaarheologiju ihistorjudalma-
tinsku. №85. Split S. 167-180.
Kadar Z 1964. Quelques observations sur la
reconstitution de la couronne de 1’empereur Constantin
Monomaque // Folia Archaeologica. XVI. Budapest
Karaman L. 1930. Strohrvatsko groljenanaMajdanu
372
П Vjesnik za hist Dalm. U.
Karaman L.1956. Glossen zu einigen Fragen der
slawischen Archaeologie // Arehaeologia Jugoslavia. T. 2.
Kastelid J., Sherlj B. 1950. Slovanska necropola na
Bledu. Ljubljana.
Kawami T. 1987. Jewels of the Ancient. London.
Kiersnowski T i R. 1959. Wczesnosredniowieczne
skarby srebme z Pomorza. Warszawa—Wroclaw.
Kiersnowski R. 1964. Wczesnosredniowieczne skarby
srebme z Polabia. Wroclaw—Warszawa—Krakow.
KiersnowskiR. 1971.SrebroczysteinajczystszewPolsce
sredniowiecznej // Archeologa Polski, 1.16. S. 667-677.
Kivikoski E. 1973. Die Eisenzeit im Auraflussgebiet //
SMYA (Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakaus-
kirja). Helsinki.
Klanica Z. 1974. Prace Klenotniku na slavanskych
hradiStich. Praha.
Klanica Z. 1985.Mikulcice—Kla5terisko//PALXXI,
2. S.474-539.
Kovacs Ё. 1974. Romanische Goldschmiedekunst in
Ungam. Budapest
Kostrzewski J. 1962.0 pochodzeniu ozddb srebmych
z polskich skarbow wczesnosredniowiecznych // Slavia
Antique. T. IX Poznan. S. 139-211.
Kovrig 1. 1963. Das awarenzeitliche Graberfeld von
Alattyan. Budapest.
Кббка-KrenzH. 1983.ZlotnictwoskandynawskieIX-
XI wieku. Poznan.
Kocka-KrenzH. 1993.BizuteriaP61nocno-Zachodnio
Slowianskawe wczesnymsredniowieczu. Poznan.
Kocka-Krenz H. 1997. Bizuteria sredniowieczna na
ziemiach polskich jako wyznacznik chronologiczny //
Arehaeologia Historica Polona, tom 6. S. 69-75.
Kral J. 1959. Slovansky mohylnik v Vysocanech nad
Dyji// PA. L.I.S. 197-226.
Kralovansky A. 1959. Adatok a Karpat-Medencei X-
XI // Archeologiai ertesito. Budapest T.86. P.76-83.
Krumphanzlova Z. 1963. Prispevek к vyvoji lidoveho
Sperku lOstol vCechah//PA. L1V, 1. S. 87-113.
Krumphanzlova Z.1974. Chronologic pohrebniho
inventare vesnickych hrbitovu IX-XI. veku v Cechach И
PA.LXV.S.34-110.
Kumatowska Z. 1980. Pola strefy Naddunajskiej w
formowaniu si? kultury slowianskiej V1II-1X wieku //
Slovand Vl-X. stoleti. Brno. S. 155-163.
Kuzel V. 1962. Das Buch vom Schmuch. Praha.
L’artbyzantinchez les slaves. 1930.1932. Paris.
Levi|ki O., Haheu V., Rjabceva. S. 2002. Bijuterii din
secolele X—XI de la Giurgiule$ti,jud. Cahul H Memora
Antiqvitatis. Actamusei Petrodavensis. XXII. P. 309-319.
Lewicki T. 1959. Wcresnosredniowecny skarb srebmy
z Maurzyc pod Lowiczem. Wroclaw — Krakow —
Warszawa.
Ljubinckovic M. 1965. Nalasi u Korintu i slovenska
arheologija X-XII veka //1 Miedzynarodowy kongress
archeologii slowianskiej. Warazawa 14-18IX1965. S.454-
463.
LovagZ. 1986. The Hungarian Grow and other Regalia.
Budapest
Malachowska S 1998. Wczesnosredniowieczne
zawieszki polksi?zycowate znalezione na terenie ziem
polskich // Archeologia Polski, t. XLIII, z. 1-2. S. 37-122.
Makedonia. The Historical Profile of Nothen Greece.
1992. Thessaloniki.
Литература
ManuliakM. Zabojnik J. 1982. Pohrebisko zo 7-8 stor. v
Cataji okr. Bratislava-Vidiek// Archaeologicke rozhledy. 34.
Marchall F. 1911. Catalogue of the Jewellery Cheek,
Etruscan and Roman in the Department of Antiquities.
London.
MarusiC G. 1995. Istra i sjeverojadranski prostor u
ranom srednjem vijeku (materijalna kultura od 7 do 11
stoljeca). Pula.
Masov S. 1979. La necropole medievale pres du village
Gradesnica, dep.de Vraca // Culture et art en Bulgarie
medievale (Vlll—XIV s.). Sofia. S. 31-47.
MesteriiazyK. 1991.BizanceisBalcanicredetutargyak
a 10-11 szazdi magyar serlelekben H Folia Arehaeologia.
XXII. Budapest.?. 145-177.
Mesterhazy K. 1994. Az un. Tokaji kincs revizioja//
Folia Archaeologica XLIII. Budapest. S.193-239.
Mediaeval Jewelry. A Picture Book 1944.
Milcev A. 1965. Zur Frage der materiellen Kultur und
der Slawen und Protobulgaren in der Bulgarischen LSndem
wahrend des frOhen Mittelalters (VI-X Jh) //1 Mi?dzy-
narodowy kongress archeologii slowianskiej. Warszawa.
14-18 DC 1965. S. 20-62.
MusianowiczK. 1949. Kabtqczki skroniowe—proba
typologii i chronologii // Swiatowit. T.XX. Warszawa.
S. 115-232.
NeampiE. 1961.Obiecteledepodoabadintezaurulde
la Cotul Morii-Popricani // Arh. Mold. N1. P. 228-294.
Niederle L. 1921. Slovanske’ starozitnosti (iivot
starych slovanu) V. Praha.
Niederle L. 1926. Manuel de 1’antiquito slave. Paris.
Niederle. L. 1927. Byzantske sperky v Cechanh a na
Morave // PA, dil XXXV, са. 3 c 4. Praze. S. 338-352.
Niederle L. 1930. Prispevky к vyvoji Byzantikych
Sperku ze IV-X stoleti. Praha.
Nin. Problemi arheoloskih istrazivanja. Zadar. 1968.
Nordman C.A. 1961. Suomen esihistoria. Porvoo;
Helsinki.
Pastor J. 1955. Belobdrske pohrebiste i Somotote //
Slovenska archeologia. III. P. 276-279.
Poleski J. 1997. Kleinpolen im 8-10 Jahrhundert.
Bemerkungen zu den Beziehungen zwischen Kleinpolen
und Bohmen, Mahren, Slowakei und Ungam // Central
Europe in 8th—10 th Centuries. Bratislava. P. 15-25.
Poulik J. 1948. Staroslowanska Morava. Praga.
Poulik J. 1957. Vysledky vyzkumuna velkomravskenri
hradisti «Valy» u Mukulcic. PA, XLV111,2. S. 241-388.
Poulik J. 1976. Velka Morava. Bratislava.
Popescu. M. 1970. Podoabe medievale in JSrile
Romane. Editura Meridiane. Bucuresti.
Przybyslawski W. 1909. Przyczynekdohistoriibrqzdw
emaliowych // Teka Konserwatorow Galicyi wschodniej.
Lwow.
Racz 1.1990. A vikingek oroksege. Kepzdmuveszeti
kiado.
Rauhut L.1955. Wczesnosredniowieczny skarb ze wsi
Borucin, pow. Aleksandrow Kujawski // Wiadomosci
Archeologiczne. Tom(Vol)XXn,I. Warszawa. S. 55-64.
Reinecke P. 1926. Die Kulturezlassenshaft der Avaren
II Germania. ХП.
Rejholcova M. 1995. Pohrebisko v Cakajovciach (9.-
12. storofiie). Nitra.
Reabfeva S. 2001: Tezaurul RSducineni (Romania) $i
cetafile circulate din spapul Carpato-Nistrean I I Tyragetia
XI. Chi$in3u-Tyragetia. 2002. R 271-276.
373
Литература
AVafctawa — 4Viw*1aw
Spinei V. 1994. Moldova in secolele XI — XIV.
Chi$in2u.
Spink M. 1986. Islamic Jewellery. London.
Starohrvatsi Solin. 1951// Gtasnik zemaljskog muzeja
u Sarajevu. Nova Seria. 1951. Tome VI. Split. Sarajevu.
S242-270.
Stenberger M. 1947. Die Schatzfunde Gotlands der
Wikingerzeit, IL Stockholm.
Strzygowski J. 1929. Das altslavische Kunst.
Augsburg.
Schulze-DOrrlamm M. 1991. Die Kaiserkrone
Konrads II (1024-1039). Sigmaringen.
Susek M. 1966. Thrakisches Graberfeld der Hallstattreit
in Chotin. Bratislava.
Svoboda B. 1953. Pohlad byzantskeho hovotepes v
Zemlanskem Vrobky // PAXLIV.
Svoboda В. 1957. Sperky z XXXII. Hrobu ve Smoline
//PA.XLVI1L2. S.463-348.
SzOke B. 1992. Die Beziehungen zwischen dem
Ostalpenraum und Westungam in der ersten Halfte
9.Jahrhunderts (Frauentracht). // Daim F. Awaren-
forschungen. Band 2. Wien. S.841-968.
SariC A. 1993.Ranosrednjovjekovni isrednjovjekovni
nalazi s podruCja Solina u arheoloSkom muzeju u Splitu //
Vjesnik za arheologiju i histoiju Dalmatinsku. q85. Split
S.139-166.
Solle M. 1959. Knfieci pohfebiSte na Start KouFimi //
PA.S.353-506.
Solle M. 1981. SlavanskA pohFebiSte pod BudCi // PA.
LXXU, 1,S. 183-216.
Stefianovicova T. 1997. Das GroBmahrische Reich
zwischen Ost und West // Central Europe in 8* — 10*
Centuries. Bratislava. P. 133-141.
Tamla 0. 1991. Scandinavian Influences on the
Estonian Silver Ornaments of the 9*-13* Centuries //
Archaeology East and West of the Baltic. Stockholm.
P.91-97.
Teodor Dan Ch. 1961a. Letrtsord’objetsdeparure de
I’Cpoque feodale primitive dCcouvert a Voinesti-Jassy //
ArheologiaMoldovei. 1. P. 348-358.
Teodor Dan CL 1964. Obiectele de podoaba din
tezaurul feudal timpuriu descoperit la O|eleni. Aril Mold.
2-3.1964,348-358.
Teodor D. 1980. Tezaurul de la RSducSneni // SCIVA,
31,3. Ia§i.P. 403-423.
Teodor D. 1981. Romanitatea Carpato-DimSreana si
Bizanful in veakurile V-XI e.n. Ia$L
Teodor D. 1995. Cercei cu pandativ stelat din secolele
Vl-Vin d. Hr. in spapul Carpato-Dunareano-Pontic // Arh.
Mold. XVIH. Bucure$ti. P. 187-206.
Tezaure din muzeele orasului Chijinau secolele XVI-
XVIII. 1994. Chisinau.
ToClkA. 1968. Slawisch — awariches Graberfeld in
Holiare. Bratislava.
ToranovaE. 1975.GoldschmiedkunstinderSlowakei.
Bratislava.
Toranova E. 1983. Zlotictvo na slovensku. Bratislava.
TbnbkG. 1962. Die BewohnervonHalimbaim 10. Und
11. Jahrhundert Budapest.
TurekR. 1948.0ed<ehradi5tnenAleiy,datovanemicemi
// Slavia Antique. T. I. S. 481-535.
Turek R. 1963. Velkomoravsky horizont v ceskych
mohylah. PA. LDC. S. 223-233.
Teicu D. 1993. Necropole medievale (sec. X-XIV) din
sudulBanatului/ZBanatica 12,1.P.229-271.
Urtans V.1997. SenakiedepozitLatvaya(lins 1200 g.).
Riga.
VSfta Z.1954. Madari a slovand ve svete archeo-
logickych nalezfl X-XII stoleti // Slovenska archeologia.
Bratislava. S. 50-95.
Vinski J.1955. Nalozen Velike Kladuse // Glasnik
zemaljske museja u Sarajevo. Aiheologia. Nova serial
Velka Morava. 1964. Nitra.
Velka Morava. Tisileta tradice statu a kultury.
Praha.
Wielkie Morawy. 1979. Epoka i sztuka. Bratyslawa.
Wolters J. 1986. Die Granulation. Geschichte und
Technik einer Goldschmiedekunst Mflnchen.
Zak J. 1965. Skandinavische Importen den
westslawischen LSndem aus dem 9-th Jahrhundert //
I Mi^dzynarodowy kongress archeologii slowianskiej.
Warszawa. 14-18IX1965. S.298-301.
Zak J. 1968. Les pendentifs en forme de croissant
(lunules) sur les territoires slaves occidentaux et en
Scandinavie du X-e au Xll-e siecle // Archaeologia Polona.
X.P.212-216.
Zapotocky M. 1965.Slovansk6osidleninaLitomericku
//PA.LVL2.S. 205-384.
Zoll-AdamikowaH.,DekownaM.,Nosek.E.M. 1999.
The Early Mediaeval Hoard from Zawada LanckoroAska.
Warszawa.
СПИСОК СОКРАЩЕНИИ
АИМ —Археологические исследования в Молдавии
АКМ —Археологическая карта Молдавии
АН — Академия наук
АО —Археологические открытия
АС —Археологический Съезд
АСГЭ —Археологический сборник Государственного Эрмитажа
ВДУ —Вопросы археологии Урала.
ВВ — Византийский времешшк
ВДИ — Вестник древней Истории
ГИМ —Государственный исторический музей
жмнп —Журнал Министерства народного просвещения
ЗОРСА —Записки Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества
ЗРАО —Записки Русского археологического общества
ИАК —Известия Археологической комиссии
КМВД —Киевский музей исторических драгоценностей
КСИА —Краткиесообщения Института археологии АН СССР
КСИИМК —Краткиесообщения Института истории материальной культуры АН СССР
ЛГУ —Ленинградский государственный ушгверситет
МАИЭТ —Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь.
МАР —Материалы по археологии России
МГУ —Московский государствегшый университет
МИА —Материалы и исследования по археологии СССР
САК —Отчет Императорской археологической комиссии
ПАВ —Петербургский археологический вестник
ПВЛ —Повесть временных лет
ПКНО —Памятники культуры. Новые открытия
ПСРЛ —Полное собрание русских летописей
СА —Советская археология
САИ —Свод археологических источников
СГЭ —Сообщения Государственного Эрмитажа
FA —Российская археология
СЭ —Советская этнография
та —Тезисы докладов
Тр.ГИМ —Труды Государсгвешюго исторического музея
ЧОЦДР —Чтения в Обществе любителей истории и древностей Российских
Arh. Mold. —Arheologia Moldovei
РА — Pamatky archeologicke. Praha
SCIV(A) — Studii $i Cercetari de Istorie Veche ($i Arheologie)
375
Summary
SUMMARY
The Old Russian Jewellery Dress. Main Trends of Development.
The book is dedicated to the problem of
formation of Early Russian female full dresses. The
old Slavonicjeweller}' had marked appearance of
some ornaments that developed in later periods. The
process of formation of the Early Russian female
jewellery dresses is studied on a wide range of
analogies from other regions, which helps bringing
to light the historical context of foreign ornaments
included in it. Much attention is given to such
ornaments as diadems and forehead dresses.
"kolts" and "reasenes". temple decorations and
earrings, necklaces, bracelets.
One of the most important ornaments of 10’h-
1 llh centuries is the so cold "earrings ofWolyn"
type". The term "earrings ofWolyn" type" is
understood as a totality of morphologically similar
ornaments found in treasures of the Dnieper an
Wolyn" regions. Yet each of these types differs by
manufacturing method, origin and area of
prevalence. So we distinguished А. В. C and D
types of “Wolyn" earrings". In 9th -1 Iй centuries
the earrings with pendants of similar shape w ere
spread on the Bulgarian territory (version ЗА). In
Russia and Poland, peculiar versions (l.Aand 2A)
of earrings with large embossed pendants decorat ecl
by granules were spread since the middle of 10th
century. "Wolyn" earrings" of В type are derived
from the earrings characteristic for Middle Av ar
period. Analogous ornaments with glass beads
replaced by metal ones evolve in 10lh century'. The
“Wolyn’ earrings" of В type were spread in the
Carpathian and Dnieper region. Bulgaria and
Yugoslavia. “Wolyn" earrings" ofC type, w hose
pendant consists of just small balls, also derived
i"rom Avar and Great Moravian prototypes. were
spread on a vast territory embracing the Carpathian-
Dniestcr region. Wolyn". Dnieper region.
Transylvania. Hungary. Poland and Yugoslavia.
Analogous are the carrings with rolled strings
occupying major part of the pendant. They arc
distinguished as D type and represented, mainly, on
live Serbian and Yugoslavian territories. As individual
findings they are also found in hordes in the Dnieper
region. Earrings and temple rings spread in the
Kama and Volga Bulgaria regions are v ery similar
to “earrings ofWolyn" type’’ but have different
morphological structure and manufacturing methods.
“Wolyn" and "Kama" earrings demonstrate two
different jewellery traditions having, however,
common origins connected with the jew cilery art of
the Danube and Balkan region based on a
compound mixture of nomads' and settled peoples'
tastes and Byzantine jewellers" skills.
The tradition to wear diadems was borrowed
from Byzantium. While the ritual of crowning
knyaz.es to princedom and later to kingdom was
quite a late development in Russia, the first paintings
of early Russian ruler dressed like a Byzantine
Emperor belong to the time of Vladimir the Saint.
Eastern Europe yielded just three finds of w'hole
diadems and eight finds of fragments of diadems.
Close analogies to the early Russian diadems with
the images of a fight of Alexander the Great with
Dejesus are a gold diadem from Prcslav (Bulgaria,
second half of 1 O'11 c.) and the so-called crown of
Constantine Monomach (middle 11л c.). An analy sis
of diverse artistic works like monumental painting,
icon painting and small plastic work revealed that it
was quite a frequent practice to depict women
w earing notched diadcms-crovvns. which is a strong
evidence to the fact that diadems in Russia in 12th -
13Ih cc. could be part not only of male but also of
female full dress.
Along with ceremonial diadems there was
another female headdress - a forehead crown made
of lamellate or three-bead hoops with end plate
decorated vv ith enamels, and several cases with
filigree, globules and precious stones. There are 26
locations of details of such headdresses. Forehead
crowns of gold lamellate hoops are mainly typical
of Kiev and its closest suburbs, while bead-forehead
crow ns. which can be made of gold but. in fact,
silver ones are more frequent, find their biggest
concentration in Russia’s north-east. Forehead
crowns of these tw о types are never found in the
same complex and were probably parts of different
dresses.
In Early Russia, the female full dress of 11 il -
13'“ was the favourite type of temple decoration -
so cold "kolts". Earrings and temple decorations
similar to kolts are know n among v arious peoples
in earlier time. In the 5;:; century the H un aristocracy
Summary
had temple decorations, which were titled in
archaeological literature as kolts. Byzantine
workshops could manufacture ornaments for
Turkish-speaking nomads who replaced the Huns
in steppes in 6"’ -7lh centuries. It is large hollow
kolts. with pick out in relief sheet. Form and
decoration of kolts also was addition by car-rings,
widely distributed in Byzantium in 6"-12lh centuries.
The form of these earrings is close to the form of
thekolts. but they are Hal and open-work. The direct
prototypes for Early Russian kolts are Byzantine
ones of 11,h-12li’ centuries. In Kiev Russia the first
kolts appeared in the end of the 111)1 century'. Some
of the first ornaments were produced by Byzantine
jewellers. Very' soon. Russian jewellers produced
their own system of decoration of kolts with sirens,
birds, griffins, and images of saints. In Kiev Russia,
manufacturing tradition of these centuries was
finished almost at once after the Tatars’ invasion. In
the Carpathian-Balkan region the fashion of similar
headdress pendants persists in 14th-16th centuries.
Three-bead temple-rings and earrings is one
of the few' types of ancient Russian jewellery
decorations, which are found both in hordes of
the late 11 lh-carly 13lh centuries and in urban layers
and barrow antiquities. A large number of analogies
to these centuries are coming from a vast territory'
from the Balkans to the Kama river. There could
be distinguished a number of big territorial blocks
characterised by common constructive and
decorative features typical of various types of
three-bead rings. The first block (probably original
one for the studied period) is Byzantine-Iranian,
the second - Carpathian-Balkan, the third - Polish-
Turingen (actually, the territory of Czech w'as
probably a bridge between the second and the third
376
regions), the fourth - the Early Russian one. w hich
had common features with the second and the third
blocks, the fifth - the Bulgarian one. close to the
second and fourth ones.
The tradition of decoration of torques, chains
and bracelets by snake’s and dragon's heads that
appeared in the ancient period didn’t lose its
popularity in the Middle Ages. Various bracelets and
torques w ith snake's and dragon's heads got the
greatest spreading in the end of 4lh - 5lh centuries
among the Germans, certain articles are found
among the Huns as well. Later, in thecourse of some
centuries on the territory of Eastern Europe this kind
of decorations lost its popularity. And it appeared
again in 10’h -11111 centuries, probably in the result
of cultural contacts with the countries of the Baltic
region and Northern Europe.
Manufacturing of wide folded bracelets with
hinged bracing emerged in the 3rd- 2nd centuries
B.C. on the basis of combination of Hellenistic,
Persian and Scythian traditions. In the Middle Ages
the Byzantine masters manufactured folded
bracelets. From Byzantium the fashion for these
decorations came to Russia, where they w ere
popular from the 12th to the 13th centuries.
Tw isted or intertwined wired rod bracelets
with points decorated with filigree and granulation
penetrated into Russia also from Byzantium or the
Carpathian-Balkan area. In the main area of their
dissemination these decorations existed until the
16“’ century, in the south of Ancient Russia they
were spread during a short period - from the end
of the 121h to the first third of the 13th century.
Change of ornaments and jewellery full dresses
reflected cultural and ethnic contacts of Ancient
Russia and changing preferences of its population.
Ильиной указатель
377
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абрамова Е.П. 354
Абызова Е.Н. 14
Авдусина Т.Д. 13. 322. 354
Агапов А.С. 10, 64, 74, 213. 354
Агнесса, дочь польского князя Болеслава III
Кривоустого 156
Айбабин А.И. 9.16.20,23,24,26-28, 82,354
Аксенов В.С. 19,354
Аладжов Д. 10,102, 354
Алексеев А.Ю. 13
Алексеев Л.В. 86,262.354
Алексеева Т.Н. 62. 69.354
Алексей Комнин, византийский император
308
Амброз А.К. 9. 16, 177. 354
Анастасия, дочь Ярослава Мудрого 166
Андрей I. король Венгрии 166
Андрей Боголюбский. князь 139.156
Андрощук Ф.0.49,354
Анненков А.С. 330. 337, 339. 343, 348
Антонович В.Б. 47. 157, 301. 305-307. 325.
327. 343. 344. 354
Анучин Д.Н. 15, 354
Ариадна, византийская императрица 153
Артамонов М.И. 37, 256. 354
Арциховский А.В. 7.8.37,51,54.63.247,275.
354
Aynix В.В. 33,354
Бабенко Л.И. 19, 354
Багамольшкау У.У. (Богомольников В.В.)
50-52. 354, 355
Баграт, царь Грузии 165
Бажан И.А. 9, 21,114,115, 354,359
Базилевский А.П. 192
Бакуменко К.И. 354
Балашов И.П. 179, 184,251
Банк А.В. 159-161,165,178,195.255,354
Баран В.Д. 9. 16. 19. 33, 355
Барсов Е.В. 141. 144, 152.355
БатарюкП.-В. 14
Башенкин А.Н. 61
Белавин А.М. 355
Белецкий С.В. 14, 152, 165. 355
Беляев Л.А. 31. 355
Беляшевский Н.Ф. 206.301.311,312,325,333.
334.337. 340, 341,345
Беранова М. 218. 355
Березова С.А. 176.355
Берлизов Н.И. 242, 355
Бешевлиев В. 10. 355
Бибиков С.М. 313, 329, 334. 341, 342
Бобринский А.А. 26. 312. 313, 329, 333, 341,
342,355
Богатая Л.К. 14
Богомазова Т.Г. 10.237, 369
Богуславский О.И. 9,1 б, 14,68,102,277.355
Болеслав Ш Кривоустый. польский князь 156
БорзиякИ.А. 41.221.355
Борисевич ГВ. 171,172,191, 329, 330. 357
Боровский Я. 263. 310, 362
Боткин М.П. 332
Ботов К. 10. 355
Бочаров Г.Н. 10.139.152. 153. 157-159. 168.
176. 183-185.187.189,202. 248.250.251.
256. 259. 318. 328. 333. 348, 355
Брайчевский М.Ю. 22. 355
Брайчевская А.Т. 261, 313, 351, 355
Бруяко И.В. 14
Булкин В.А. 14. 355
Буров В.А. 61,355
БуршневаС.В. 13
Бырня П.П. 14. 221,355
Вагнер ГК. 156,184,186,247,319,352,355
Валиева Д.К. 355
Вареное А.Б. 72, 355,357
Василев Р. 10. 355
Василенко В.М 10.16.189,308,309,317,348,
350, 355
Вахтина М.Ю. 14
ВелецкаяН.Н. 234,246.355
Великанова М.С. 42, 43, 323, 368
Вельтман А. 355
Винокур И.С. 9,16.21.115,356
Вишняцкий Л.Б. 5,356
Владимир Васильевич Волынский, князь 248
Владимир Мономах, князь 152
Владимир Святой, князь 152
Власова М. 236. 247. 356
378 Илхенной указатель
Власенко И Г. 14
Войтович JI. 39. 356
Володченко З.А. 356
Воронин Н.Н. 184.185.191.356
ВъжароваЖ. 10,11,27.29, 35,66.67,84, 89,
95,97. 100, 102, 166,356
Высоцкий С.А. 161.356
Вязьмтна M.1.26,356
Гавриленко Л.С. 336
Гаврилова А.А. 178, 356
Гавритухин И.О. 9. 16. 17. 19. 22. 23, 27, 28.
33, 114.356
Гамзатова П.Р. 6. 356
Гамченко С.С. 327, 356
ГарашанинМ. 10
Гатев П. 11,41,90,218,219, 356
Гевко Ф.315
Гёза, король Венгрии 145,148.167-168
Генинг В.Ф. 106, 356
Георгиев П. 11,356
Георгиева С. 11. 207, 218. 265, 356
Голдина Р.Д. 27.105, 106, 177, 356
Голубева Л.А. 9. 72, 100, 106, 356, 357
Гольмстен В.В. 7. 357
Гончар В. 263, 310. 362
Гончарова Ю.В. 14
Городенко А.П. 14
Гороховский Е.Л. 9,112.357
Горюнов Е.А. 27. 357
Горюнова В.М. 9, 14, 17, 274, 357
Горюнова Е.И. 69,70.72, 357
Грибович Р.Т. 45, 357
Григорьев А.В. 9, 27-29, 31-33, 45, 49, 274.
285,357
Гринкова Н.П. 357
ГросуВ.И. 114,357
Гудкова А.В. 243,357
Гукин В.Д. 13
Гупало В. 45.85,95, 322,357
Гуревич Ф. Д. 49,158,159,167,246,247,328,
357
Гущин А.С. 7.78,147,149,151.157,130.132,
135-137, 301-304, 309, 313, 314, 316-321,
323,324.326-330,333,335,336,338,339,
341,342, 346-352, 357
Давид, иудейский царь 167,168
Давидан О.И. 13. 357
Даркевич В.П. 8, 29, 66. 152-156, 163, 164,
166,167.171,172.182,184.185,191,192,
204,205,255,256.259.261.265, 319-321,
328-330.336.338,341.343.347.349,350,
352,357
Дергачев В.А. 14
Десислава 163
Джамбов И. 11, 357
Диоклетиан, римский император 141
Дмитрий Иванович (Донской), князь 152
Димитров Д. 11, 256, 357
Друмев Д. 11. 357
ДучкоВ. (Duczko W.) 12.77.79.104,120.121.
124, 126, 131, 134, 245,358
Дюрер А. 168
Дяченко В.Д. 48. 358
Евдокия, византийская императрица 161,
165
Евфросинья. византийская императрица 160,
165
Егорьков А.Н. 9,16,358,369
Езекия, иудейский царь 168
Ениосова Н.В. 9, 34. 35. 103, 118, 119, 124,
129, 303, 323, 327, 358
Ермакова Е.С. 265.358
ЕрцеговиЬ-ПавловиЙ С. 358
Ефименко П.П. 29,70,358
Ефимова А.М. 358
Жилина Н.В. 9. 45, 157, 160. 165, 189. 199,
207.209.213,215,231,272,314,342.343,
358
Журжалина Н.П. 8, 50, 53, 58,65, 358
Забелин И.Е. 7, 168,172, 173, 199. 358
Загорульский Э.М. 207, 315, 332, 337, 338,
342,358
Зайцева И.Е. 56, 213, 358
ЗалесскаяВ.Н. 13
Зализняк А.А. 62,358
Засецкая И.П. 20,175,177,343,358
Засыпкина Г.В. 14
ЗахароваН. А. 13
Зоя. византийская императрица 157,163.164,
166,167
Зыков П.Л. 13
Иван Грозный, царь 152
Иван Калита, князь 172
Иванов А.А. 13, 227, 359
Иванов А.Г. 356, 359
Иванов В.В. 236, 359
Иванов С.А. 148, 359
Изольда 66
Именной указатель
Изюмова С.А. 8. 359
Ильинская В.А. 112.359
Иоанн II Комнин, византийский император
164
Иоаннисян О.М. 13
Ирина, императрица Византии 158. 163-165
Ирина, жена Ярополка Изяславовича 161
Ловановий В. 11. 209. 359
Казанский М.М. 20. 26. 228. 243. 359. 361
Калайдович К. 157. 247. 318. 333. 348. 359
Калашникова Н.М. 6. 9. 138,359
Каменецкая Е.В. 104,359
Капелле Т. 9.115,121. 359
Каргер М.К. 46. 197. 233. 263. 301, 314. 322,
334, 341.353.359
Каргопольцев С.Ю. 9. 21. 114. 115. 354. 359
Карл Великий, франкский император 168
Карл Лысый, король Франции 148
Каспарова К.В. 13
Кафка Л.В. 209.359
Кашуба М.Т. 14
Кетрару Н.А. 14.221
КетраруО.Н. 14
Кибальчич Т.В. 215
Килиевич С.Р. 9. 46. 359
Кириллин Д.С. 24. 359
Кирпичников А.Н. 14
Кирчо Л.Б. 14
Клочко Л.С. 13. 20. 176, 239, 355. 359
Коваленко В.П. 359
Коваленко С.И. 14
Ковачевий J. 10. 359
Колчин Б.А. 162. 247. 359
Кольчатов В.А. 67. 359
Кондаков Н.П. 7, 8. 54. 139. 141, 143-145,
148,152,154,158.160-165.167,168,175,
176,178,179,187.189,227.244.245,247,
248,250.260, 301-309, 313, 316-321,328-
333, 335-340, 342-352. 359, 376
Конецкий В.Я. 61, 65, 360
Коновалов А.А. 9. 62, 360
Конрад П, германский император 166-168
Конрад IV, германский император 168
Константин Акрополит 164
Константин Багрянородный, византийский
император 38. 49, 145, 148. 166. 301. 360
Константин Мономах, византийский импе-
ратор 152, 163, 164. 166-168
Корзухина Г.Ф. 7-10,16.20.21.24.25.28.32.
39.42,44.68, 75, 77. 79. 80. 82, 84. 89.90,
379
95. 96. 100. 106. 116, 118. 124. 126. 132.
135.136.138.139.152,153,157,158.160.
165,171-173.175.176,189.194. 195.197.
200.201.213.227.228.233.245. 248.252.
253. 272, 277. 301-352, 360
Королева Э.В. 9. 13.62. 360
Короткевич Б.С. 13
Кочкуркина С.И. 9, 68. 72. 255, 360
Кошман В.И. 159.360
Крамаровский М.Г. 13, 265. 360
Кропоткин В.В. 29. 114, 360
Крупнов В.И. 360
Крыласова Н.Б. 360
Кузнецов В.А. 26, 360
Кузнецова М.Д. 13
Кузьмин С.Л. 61,62. 360
Курбатов А.В. 14
Куфтин Б.А. 54, 360
Кухарская Е.М. 360
Кучинко М.М. 360
Лабутина И.К. 360
Лапшин В.А. 14. 360
Лебедев Г.С. 14. 61
Левашова В.П. 8,20.29,35.42.51.52. 54,57.
58. 63. 64. 69. 70-72, 210. 215, 244, 246.
276, 360
Левинский А.Н. 14. 221. 223. 360
Левицкий О.Г. (Levitki О.) 14, 87. 126. 302.
326, 360
Леликов О. 361
Леонтьев А.Е. 69. 75. 361
Лесман Ю.М. 9, 10. 13. 57. 66. 68, 77, 116-
118. 121. 168, 210, 233, 277, 324, 361
Лшка-Геппенер Н. 129, 301, 322, 324, 327,
361
Линниченко И. А. 112
Липатов А.А. 14
Литвинский. Б.А. 25, 361
Лихачев Д.С. 182. 361
Лихачева В.Д. 164-167, 361
Луконин В.Г. 227, 359
Львова З.А. 13
Ляпушкин И.И. 28,29,32,35.51, 84,361
Макаревич М.Л. 259, 363
Мавродинов Н. 11,163, 165,199. 361
Мазуркевич А.Н. 13
Макаренко Н.Е. 207,316
Макаров Н.А. 177,361
Макарова Т.И. 8-10. 138, 141. 152-154. 156-
160,167.175,176,183.184,187-189,191-
380
193. 195. 196.198.201.202.227. 247-252.
255.256.259-263.265.267. 272. 300.305-
321. 328. 330-337. 339. 340. 348-352. 361
Максимов Е.В. 34. 35. 361
Максимова М.И. 361
Малевская М.В. 259.361
Мальм В.А. 32. 35.42. 72. 126, 265. 361
Манева Е. 10. 41.66. 171.198.216.224,263.
361
Мануил Комнин, византийский император
312
Манцевич А.П. 24. 238. 239, 361
Мария Аланка. византийская императрица
162,165
Мария Комнина Акрополитисса 159, 165
Мартынов М.В. 361
Маслинков Л. 361
Маслова Г.С. 361
Мастыкова А.В. 26,361
Матей М. 362
Матиевич Н. 14
Мачинская А. Д. 9,13.43,62.71,112,113.274,
362
Мачинский Д.А. 9, 13. 43. 61, 71. 112, 115,
274, 355, 362
Медведев Т.М. 362
Мельник Е.Н. 44, 45. 82, 84, 102, 323, 327,
362
Милеев Д.В. 194.197,203,210,305,306,330,
332. 336. 340, 343
Милчев А. 11, 29, 89, 362, 372
Милютенко Н.И. 46,115.362
Минасян Р.С. 9. 13.16.61, 362
Минжулин А.И. 9. 311, 334, 351, 362
Миний Д. 10. 362
Миролюбов М.А. 315, 335, 341, 346, 362
Михаил Всеволодович, князь 153
Михаил Комнин, император 157
Михаил VII Дука, византийский император
162,165,168
Михайлов К.А. 14
Михайлов П.С. 11,160, 362
Михайлова Е.Р. 9, 14, 62, 63, 362
Михайлова Р.Д. 259, 362
Мовчан И. 263,310, 362
Модестов Ф.Э. 57, 362
Монгайт А.Л. 8.251,255. 318-320. 329, 330,
333. 335. 336. 338, 341-343. 346-349, 352,
357, 362
Морган П. 201,250,339
Мосионжник Л. А. 14
Мстислав Владимирович, князь 158
Именной указатель
Мстислав Изяславович Храбрый, князь 156
Мусин А.Е. 14
Мужухоев М.Б. 362
Надорожный Е.И. 218,362
Назаренко В.А. 171,172.362
Наслав 158
Недашковский Л.Ф. 362
Недошивина Н.Г. 8. 9,13. 51-56, 71. 72.192,
317,335,346.351,362
Нестор, летописец 37-38
Николай Мистик 148
Николеску К. 362
Никольская Т.Н. 29,56,70,213,263,362
НикулицэА.И. 14
Новаковская С.М. 13, 363
Новикова Е.Ю. 9,13,79.90,96,101,129,236.
323, 347, 363
Новикова Г.Л. 363
Носов Е.Н. 14, 61,65, 104,105, 360, 363
Нудельман А.А. 221,237,355, 363
Обломский А.М. 9. 16.17, 19, 22. 23, 27, 28.
33, 114, 356
Овсянников О.В. 104, 105, 357
Олег, русский князь 61
Олейнин А.Н. 363
Олесий Гречанин 162
Ольга, княгиня 46
Ольговская С.Я. 19,364
Онайко Н.А. 112.363
Орлов Р.С. 9, 34. 46, 309, 359, 360, 363
Острогорский Г.А. 144. 363
ОятьеваЕ.И. 13
Павлив Д.Ю. 45, 357
Павлова В.В. 13,263,310,329,331,340,345,
351,363
Павлова К.В. 14, 363
Падин В.А. 19, 50,363
Панова Т.Д. 13, 322, 354, 363
Пастернак Я.И. 363
Пекарська Л. 306,308,309,363
Пелещин М. А. 363
Перегаци К. 363
Перхавко В.Б. 9,48, 86,89,104,363
Пескова А. А. (П1скова Г.О.) 9,10,14,196,215,
315, 334,335, 341,346, 363
Петегирич В.М. 45,357
Петр! 256
Петрашенко В.О. 34,35.45,100,361,363
Петренко В.Г. 24,176,238,363
Именной указатель
381
Петров В.П. 259. 363
ПешсваР. 11.218,356
Пиотровский IO.IO. 13
Платонова Н.Г. 262. 321.350. 364
Платонова Н.И. 14
Плетнева С.А. 27. 55.152.153.218.320.328.
332. 348. 361.363
Плещин Н.А. 363
Плохое А.В. 14
Погребова Н.Н. 185,363
Покровская Л.В. 10.287,363,364
Полещук Л.Ю. 13
Полубояринова М.Д. 226. 364
Попов И.О. 13
Постникова-Лосева М.М. 321. 350, 364
Приходнюк О.М. 9. 16. 18.19, 22. 23, 26. 27,
274, 364
Прокопий Кесарийский 16
ПрохоровВ. 161.364
Псевдо-Каллисфен 154
Пудовин В.К. 26. 360
Пушкина Т.А. 9.10.27.28.34,35.77.82.100.
102-104. 118. 119, 123. 124. 126.129. 302.
303, 323. 325-327. 358. 364
Пуцко В.Г. 364
ПятышеваН.В. 364
Рабинович М.Г. 126. 213. 364
Рабинович Р.А. 14. 35. 41-43. 82. 84. 86. 90.
95. 100-104. 129. 364
Равдина Т.В. 8-10, 54, 301,322, 361. 364
Равич И.Г. 9. 364
Радим, легендарный князь 51
Радим Гауденций, архиепископ Гнезненский
51
РадсучиЬ С. 364
Раппопорт П.А. 259, 361
Распопова В.И. 27, 364
Ратич О. 45, 158, 328. 364
Рафалович И.А. 19,34,43,114. 115, 364,368
Редина Е.Ф. 14
Репников Н.И. 364
Рикман Э.А. 237. 363
Родинкова В.Е. 9,114, 364
Роман, византийский император 161
Романчук А.А. 14
Руденко К.А. 364
Руденко С.Н. 239.364
Русанова И.П. 32. 34,45-47, 210. 317. 365
Русова А.В. 242, 357, 367
Рыбаков Б.А. 6-8. 15, 19. 37, 50. 51. 54, 55.
58. 152. 153, 156-160, 163, 175. 189, 191.
192.197.199.215.228.261-263.275.302.
303. 305. 308.309.311.315-319. 321.324.
325. 327. 328, 331-335, 341. 348-352, 365
Рыбина Е.А. 62. 364
Рындина Н.В. 8. 9. 35, 63. 67. 77. 198. 213.
365
Рюрик, варяжский князь
Рябинин Е.А. 9. 10. 58, 59. 67-72, 226, 276.
288. 289. 295. 361.365
Рябой Т.Ф. 14, 41,221,223. 355. 360
Сабурова М.А. 6.8.20.52.54.58.64,61.160.
165, 214. 226. 266
Савельев П.С. 213
Савельева Э.А. 300. 366
Савин Н.И. 159. 328
Савоитов П. 168. 199. 366
Самойловський 1.306.310.339.340.344.366
Самоквасов Д.Я. 311.316-318,324.335. 340.
341.345.346.351.366
Сарачева Т.Г. 9. 10. 55. 64. 74. 213, 354. 358.
366
Свирин А.Н. 10. 366
Святополк Ярополчич. князь 152
Седов В.В. 9.10. 27. 29. 34. 36, 38, 39. 44-72.
210, 245. 274-276. 288. 323, 327. 366
Седова М.В. 8.10.41.58.63-67.71,115.118.
173. 198, 199, 209.213-215.233.248. 263,
343. 363
Седых В.Н. 14
Селиванов А.В. 346
Семенов А.И. 367
Семенов В.А. 105-107, НО. 367
Сергеев С.И. 325
Сергеева З.М. 8. 60, 65, 66. 367
Сизов В.И. 51, 53,118, 303, 324, 325, 367
Сикман ибн Дауд, сельджукский эмир 156
Симеон, болгарский царь 148
Симонида, королева 162,165
Скалой К. 242, 243, 367
Сметанка 3. 218, 355
Смесова Л.С. 227. 359
С.миленко А.Т. 367
Смирницкая Е.В. 317, 367
Смирнов А.П. 27, 367
Смирнова Г.И. 13
Соболев В.Ю. 14,233
СоловьеваГ.Ф. 8, 50-52,119. 246. 367
Соловьева Я.В. 13
Соломон, иудейский царь 167,168
Сорокин П.Е. 14
Соснина Н. 367
382
Илхенной указатель
Спицын А.А. 7. 16. 37. 38, 51,63, 64, 67, 69,
70. 118. 124. 129. 275. 304, 315, 326, 327,
334, 367
Срезневский И.И. 173, 367
Станчева М. 11, 367
Станюкович А.К. 367
Станя Ч. 218, 355
Стерлигова И.А. 10, 157, 187, 252, 328, 333,
367
Стефан I, король Сербии 148
Строганов Г.С. 339. 349
Строкова Л.В. 10,13,129, 301, 322,327, 367
Струина Т.А. 19, 364
ТабулькоР.Д. 14
Талис Д.Л. 266, 353. 367
Тарновский В.В. 311,312. 337, 340, 341
Тельнов Н.П. 14
ТентюкИ.С. 14
Тимофеев Е.И. 38,44,275,367
Тимощук Б.0.365,367
Тирацян ГА. 31, 367
Тиханова М.А. 19,367
Толочко П.П. 152.153.156-158,160,314.318.
328, 367
Толстой И.И 7. 158, 244. 301-309, 313. 316-
320,328-330.333,335.337,344,346.348.
350.351.367
Томсинский С.В. 13
Топал Д. А. 14
Торшин Е.Н. 13
Тотев Т. 166,367
Травкин С.Н. 14
Третьяков П.Н. 29,37, 58.358,367
Тристан 66
Уваров А.С. 185,213,321,325, 368
Ульянова Б.Л. 321,350, 364
Усманова Э.Р. 368
Успенская А.В. 43,48,59, 71,119,368
Уткин П.И. 6,368
Фасмер М. 44,368
Федор Михайлович, царь 168
Федоров Г.Б. 41, 42, 100. 102, 115, 129, 301,
302, 323-326, 368
Феодора, византийская императрица 164,166
Феофан (Феофан Исповедник) 49
Фехнер М.В. 35, 42, 43. 53, 54, 77. 126, 276,
361,368
Филимонов Г.Д. 158, 305, 368
Фомин А.В. 303, 368
Фоняков Д.И. 361, 368
Френ Х.М. 124
Френкель Я.В. 13,368
Фролов В.П. 204, 205, 320, 330, 336, 338. 341,
357
Хавлюк П.1. 96,322,368
Хайрединова Э.А. 20, 354
Ханенко Б.И. и Ханенко В.И. 46, 112, 123,
153.157.158.192.207,232,266.270,306,
307, 309-314, 325. 328-331, 334, 336.337,
339-342. 344-346. 348, 353, 368
Хахеу В.П. (Haheu V.) 87,126.302,327,360,372
Хвойко В.В. 313
Хвощинская Н.В. 6,10,14,60,61.64,66,360,
368
Херрман И. 232.368
Хойновский И.А 262, 336, 344, 350, 368
Холостенко Н.В. 189,316,338,346,368
Хорошев А.С. 162
Хускавидзе Л.3.165,368
Хынку И.Г. 43,368
Хэу Ф. 14
Чайка Р.М. 363
Чаллань Д. 368
Чвырь Л.А. 265, 368
Чебану Л. 14
Чеботаренко Г.Ф. 41-43,102, 323, 368
Чиркович С. 162, 165, 368
Чичуров И.С. 49, 368
Ъорови11-Л>убинковиЬ М. 10, 31, 90, 95, 96,
102,219, 224,244, 368
Чукова Т.А. 14
Шаблавина Е.А. 9,368
Шангина И. И. 13,367
Шахматов А.А. 36,369
Шевченко Ю.Ю. 9, 10,21,27,237,369
Шинаков Е.А. 10,29,31,49-52,75, 369
Шкорпил В.В. 26,369
Шмидт Е.А. 56,70,369
Шовкопляс А.М. 19,364
Шувалов П.В. 14
Шутова Н.И. 369
Щапова Ю.Л. 10, 183,369
Щеглова О.А. 9,14,16-23,27,28,33,50, 105,
106,114, 273, 274, 285, 357, 358, 369
Щербакова Т.А. 9,114,369
Щукин М.Б. 9,13,114,369
Ил\енной указатель
383
Юренко С.П. 27,274,369
Юстин I, византийский император 178
Юстин II, византийский император 141
Якобсон А.Л. 185.242,369
Якубовський B.1.205,207,313,329,334,341,
342, 346, 349.351,370
ЯнакиеваЖ. 370
Янин В.Л. 162, 370
Яропол к Изяславич, князь 161,163
Ярослав Мудрый, князь
Andersen М. 224,370
AntoniewiczJ.W. 370
Antoniewicz W. 255,370
ArbmanH. 121,370
Arne. T. 119,370
BachH. 225.370
Barkoczi L. 12,370
Baye, de J. 16.370
Baranyne Oberschall M. 12,168.370
BendaK. 370
BialekovaD. 11,370
Bona I. 26,126,131,243,370
Brachman H. J. 12,225.370
Budinsky-Kricka V. 12,97.370
BujakF. 51,370
BurdaS. 370
CiijanC. 11,370
Chropovsky B. 11.34,82,370
CilinskaZl. 11,96,370
Com§aE. 11,227,370
Constantinescu N. 11,221,3 70
Cremosnik 1.10,216,370
Daim F. 12,370
Dalton O.M., Dalton M.A. 12,370
DanuteA.-R. 12,370
Deer J. 153, 156,158,160,165, 166,168,370
DekanJ. 11,27,35,227,370
DekownaM. 12,370
Dimitrijevic D. 10,370
DostalB. 11,370
DumitriuL.M. 11,220,221,269.371
DusekM. 11,225,370,371
Eisner J. 10,11,371
FettichN. 12,16,238,371
FlorescuR. 11.237.371
Garam E. 232.371
Goldmann B. 31.371
Grabar A. 261.371
Gradowski M. 371
GupienicA. 12.371
Hadacrek K. 371
Hejg-DetariA. 12,371
HaisgM. 131,371
Hampel J. 12, 119.232.242.371
Hasson R. 12.228,244,265.271
Hensel W. 12,371
Higgins R. A. 371
HolcikS. 11,97.371
HrubyV. 11,115,371
Ioni|a A. 41,371
JakimowiczR. 12.44,46,371
JakunHt. 12,269,371
Jenkins M. 12,227,228.371
Johns K. 242.371
Juric R. 10,31,100,129,216,371
Radar Z. 12,167,371
KaramanL. 10,227,371
Kastelic J. 10,371
KawamiT. 371
Кеппе M. 12,227,228,371
Kiersnowski T. 12,52,127,371
Kiersnowski R. 127.131.371
Kiss A. 12,232.370
Kivikoski E. 63.245,371
Klanica Z. 11,371
Kostrzewski J. 12,129,224,225,371
Kovacs E. 12,371
KovicJ. 10.371
Kovrigl. 12,370.371
Kocka-Krenz H. 12.46,86,100, 119,123,127,
224, 225. 371
KralJ.11.371
KralovanskyA. 12,43,112,372
Krumphanzlova Z. 11,77,224,232,372
Kumatowska Z. 11,89,372
KuzelV. 11,372
LewickiT. 12,189,372
LovagZ. 12,372
MalachowskaS. 12,115.116,120-122.129.372
ManuliakM. 11,372
Marchall F. 372
384
Именной указатель
MarusiCG. 10,372
MasovS. 11,90,95,96,372
Mesterhazy К. 12,84,95, 100, 101,223,372
Miclea 1.11,237,371
Musianowicz К. 12,52,372
NeamfuE. 11,221,222,372
Niederle L. (Нидерле JI.) 11, 15, 20, 47, 119,
227,362,372
NordmanC.A. 63,255,372
Nosek E.M. 12
Pastor J. 11,372
PoleskiJ. 372
Popescu M. 11,45, 198,221,269,372
Potter T. 242,371
PoulikJ. 11,29,31,52,71,129,372
Racz 1.12,244,372
RauhutL. 12,245,372
RejholcovaM. 11,372
Reyman J. 131,371
Rice T. 153,161,372
RossM. 12,179,372
Schulze-DorrlammM. 166,168,372
SherljB. 10,371
Slqski J. 12,46,127,372
Spinei V. (Спиней В.) 11, 14,220,263,372
Spink M. 372
Stattlerowna E. 12,370
Stenberger M. 63,75,77,225,244,245,373
Svoboda B. 11,26,228,373
SzokeB. 12,373
SariC A. 10,373
SolleM. 11,129,224,232,373
StefanovicovaT. 11,373
SusekM. 237,373
Tabaczynski S. 12,46,127,372
Teodor Dan Ch. (Теодор Дан) 11, 14, 23, 31,
42,90,95,96,103,115,116,197,198,220,
223,263,266,269, 373
ToCik A. 11,12,373
ToranovaE. 11,373
TdrdkG. 119,122,373
TurekR. 11,373
TeicuD. 220,373
UntaruGh. 11,221
VaiiaZ. 12,90,373
Vinski J. 10,373
Vinski Z. 10,370
Wolters J. 12,373
ZabojnikJ. 11,372
Zak J. 12, 112, 119,129,373
Zoll-AdamikowaH. 12,373
Подписано к печати 24.12.2004. Формат 60x841/8
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Newton
Уч.-иад. л. 48. Тираж 1000 экз. Заказ № 77.
Заказы присылать по адресу:
Издательство СПбИИ РАН «Нестор-История»
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7
тел. 235-1S-86. e-mail: nestor_historia@list.ru
Отпечатано в типографии СПбИИ РАН «Нестор-История
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7
тел. 235-15-86. e-mail: nestor_historia@list.ru