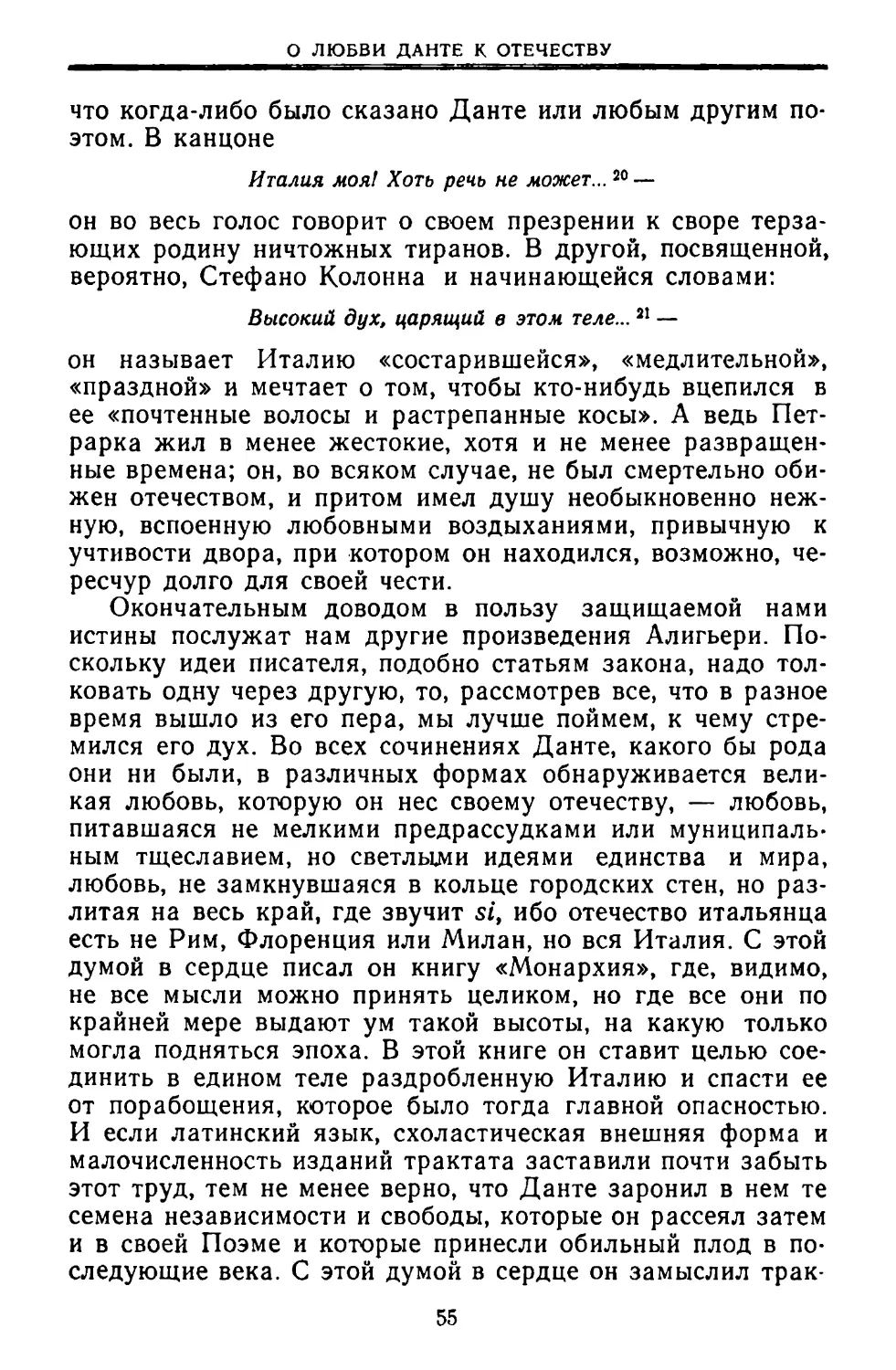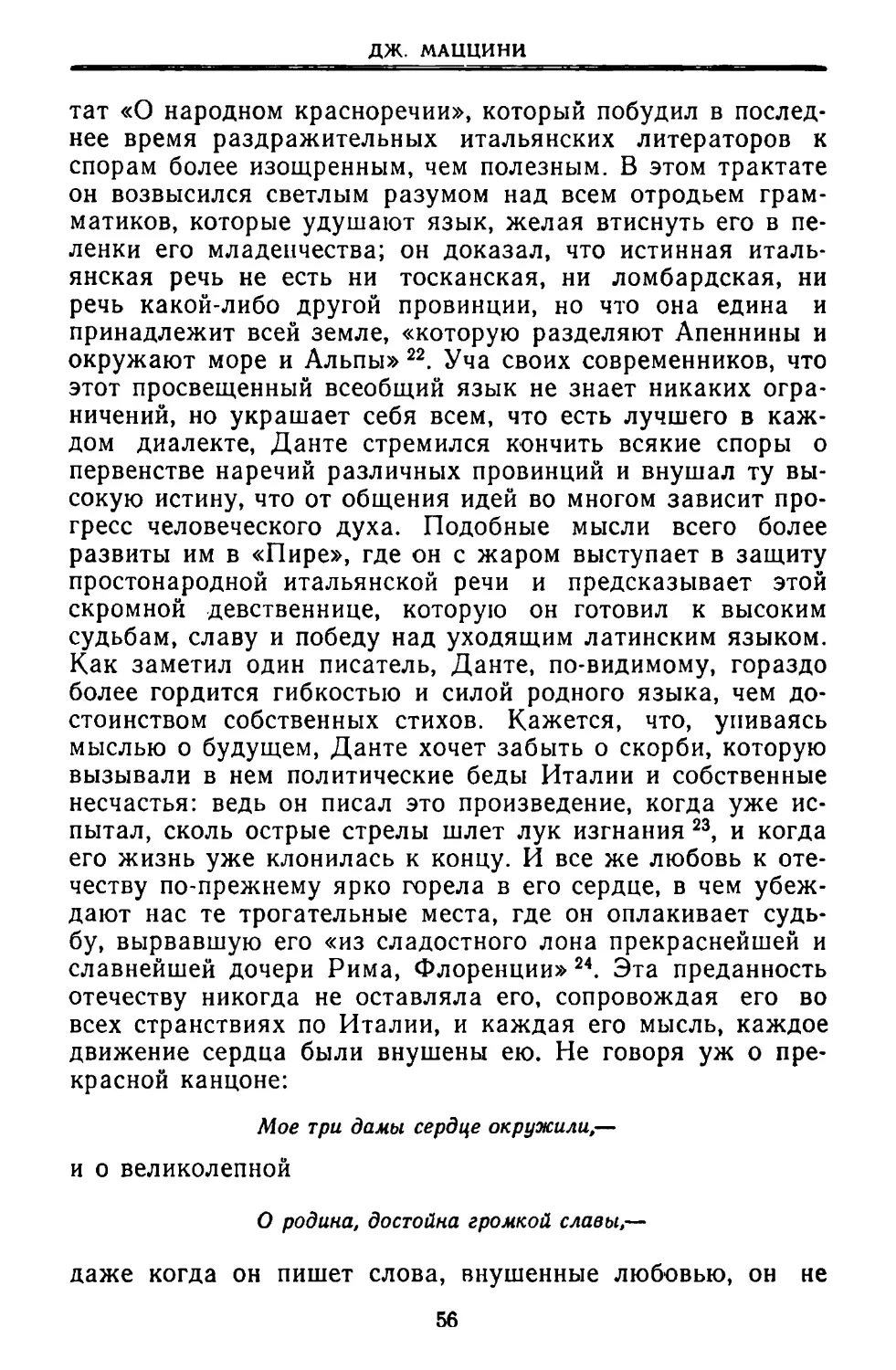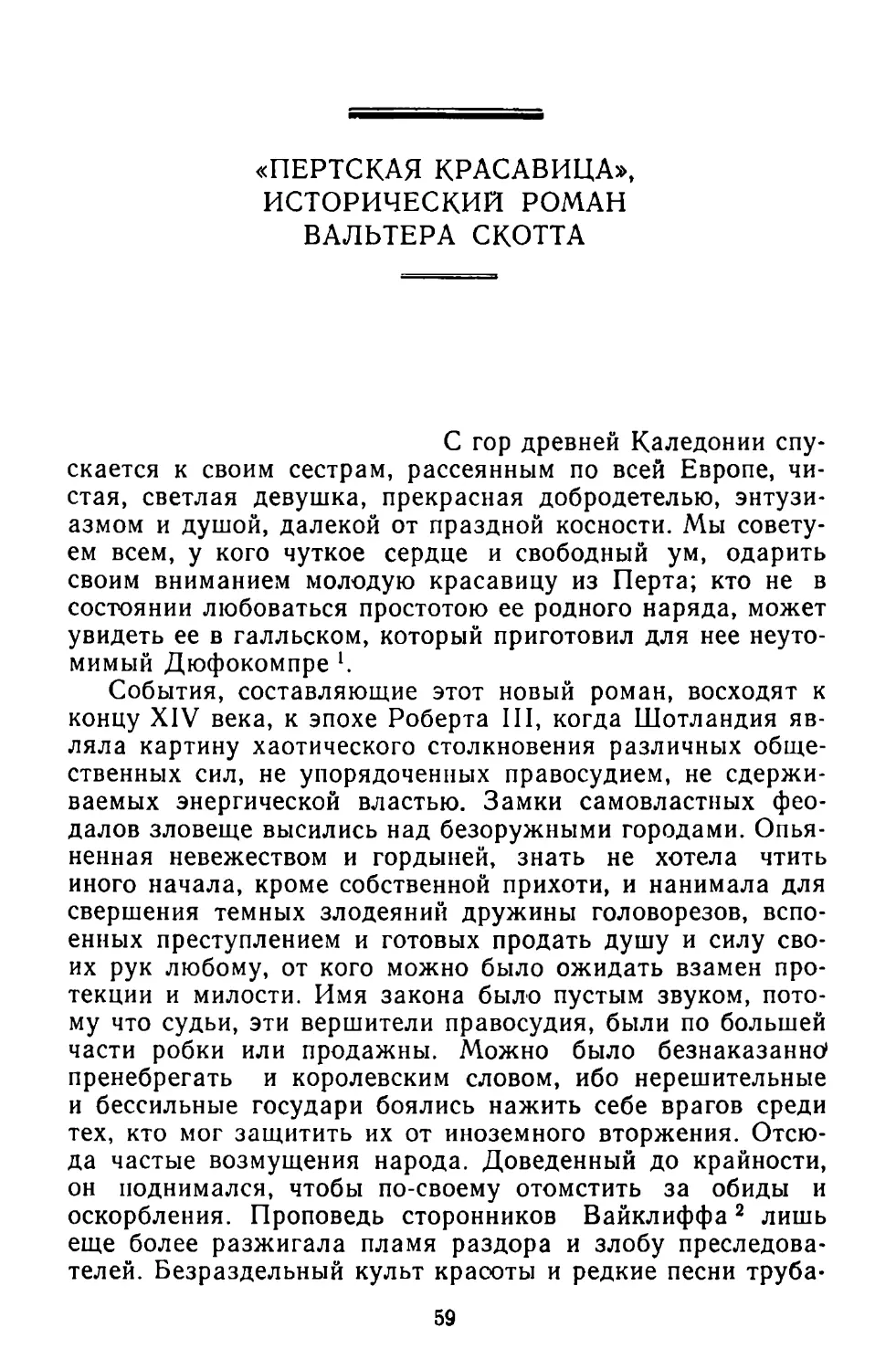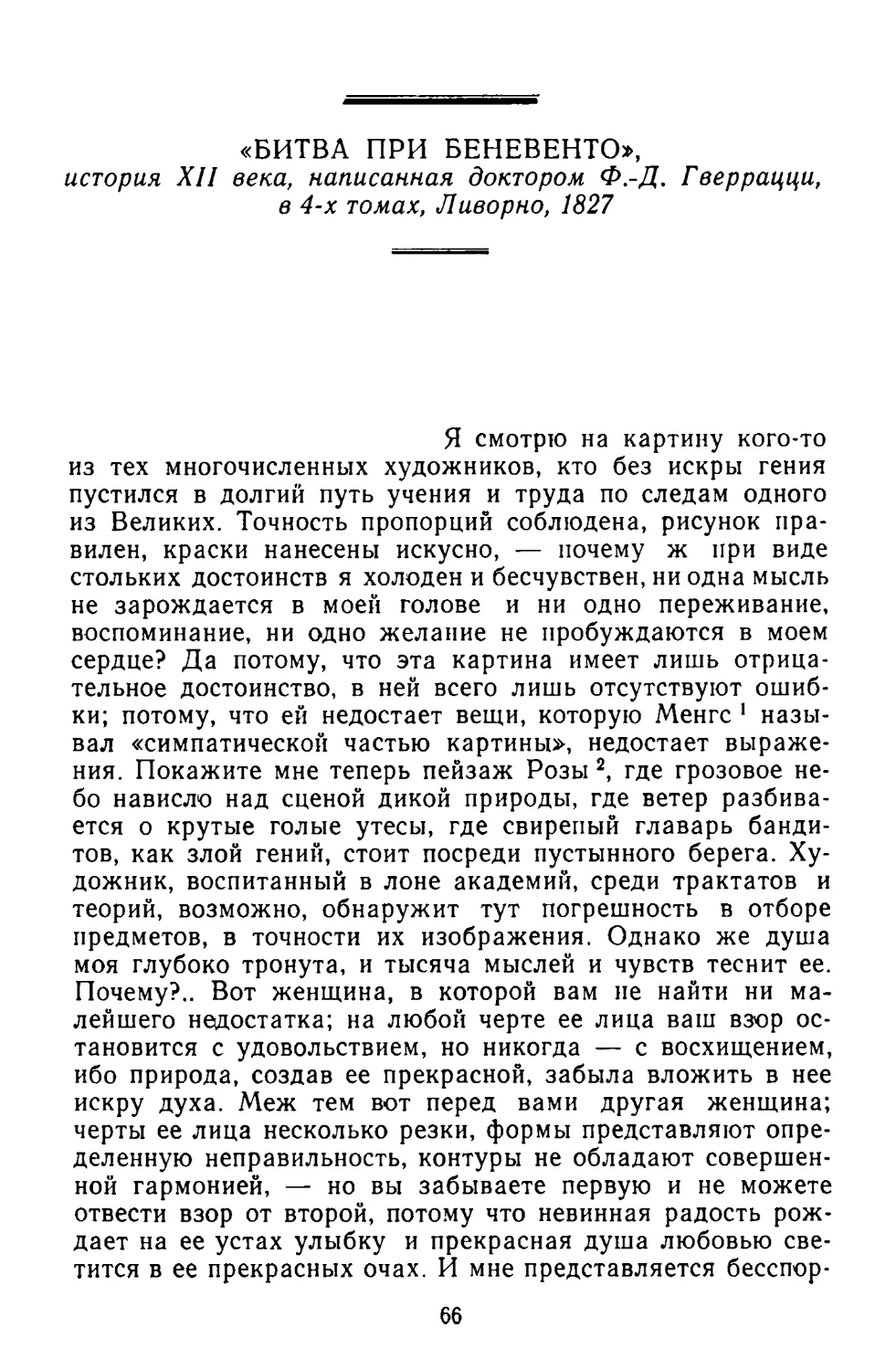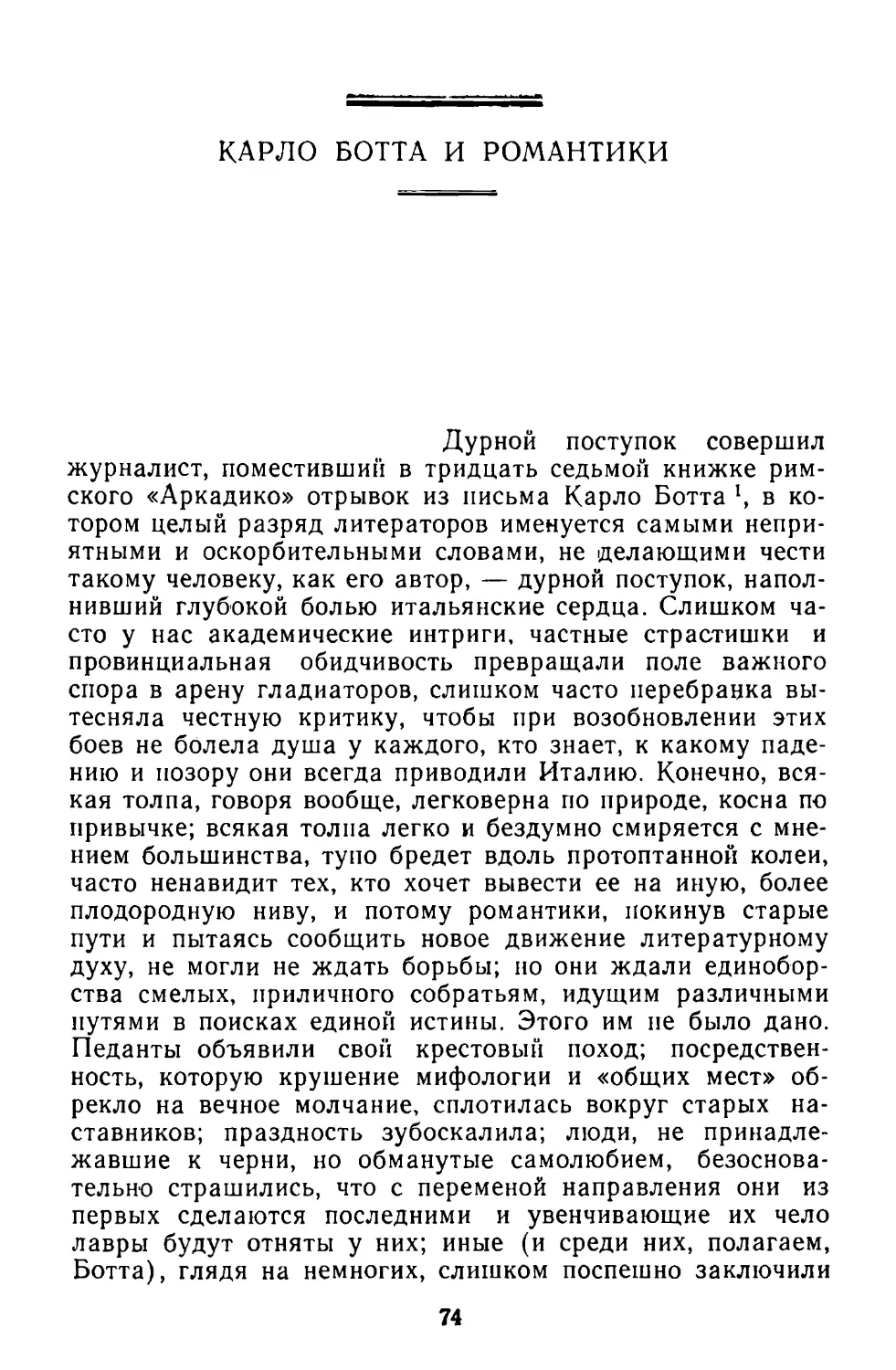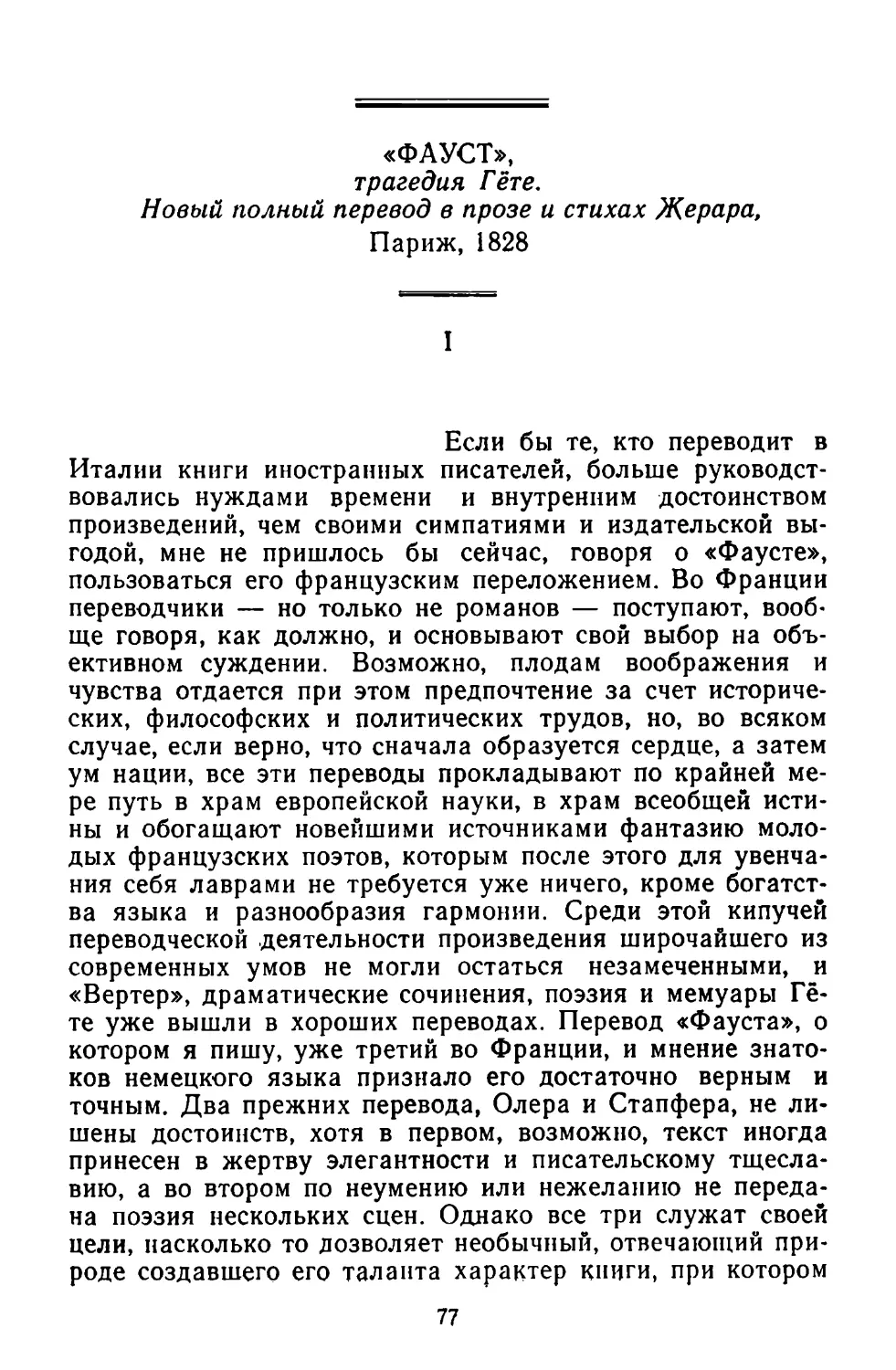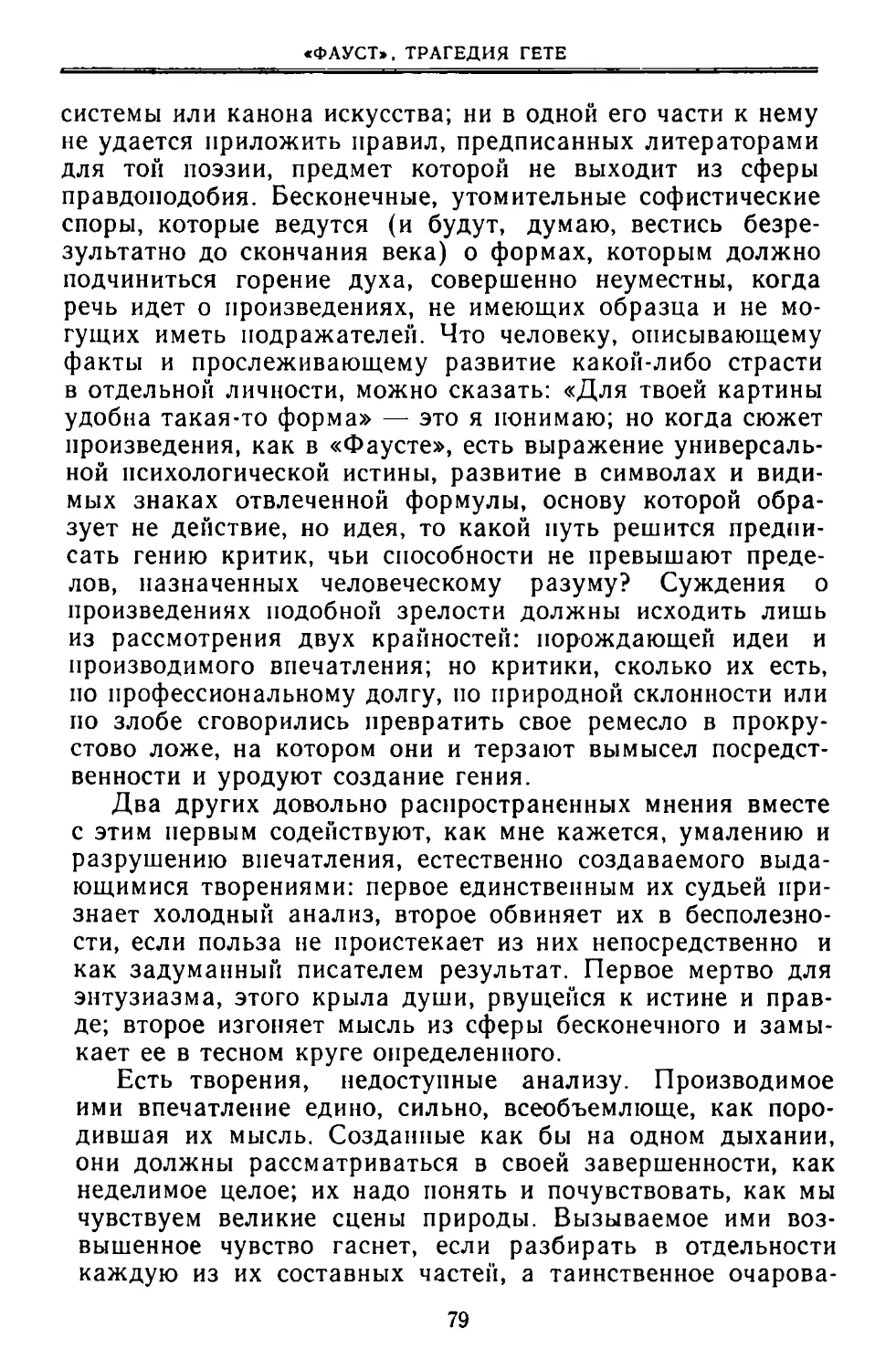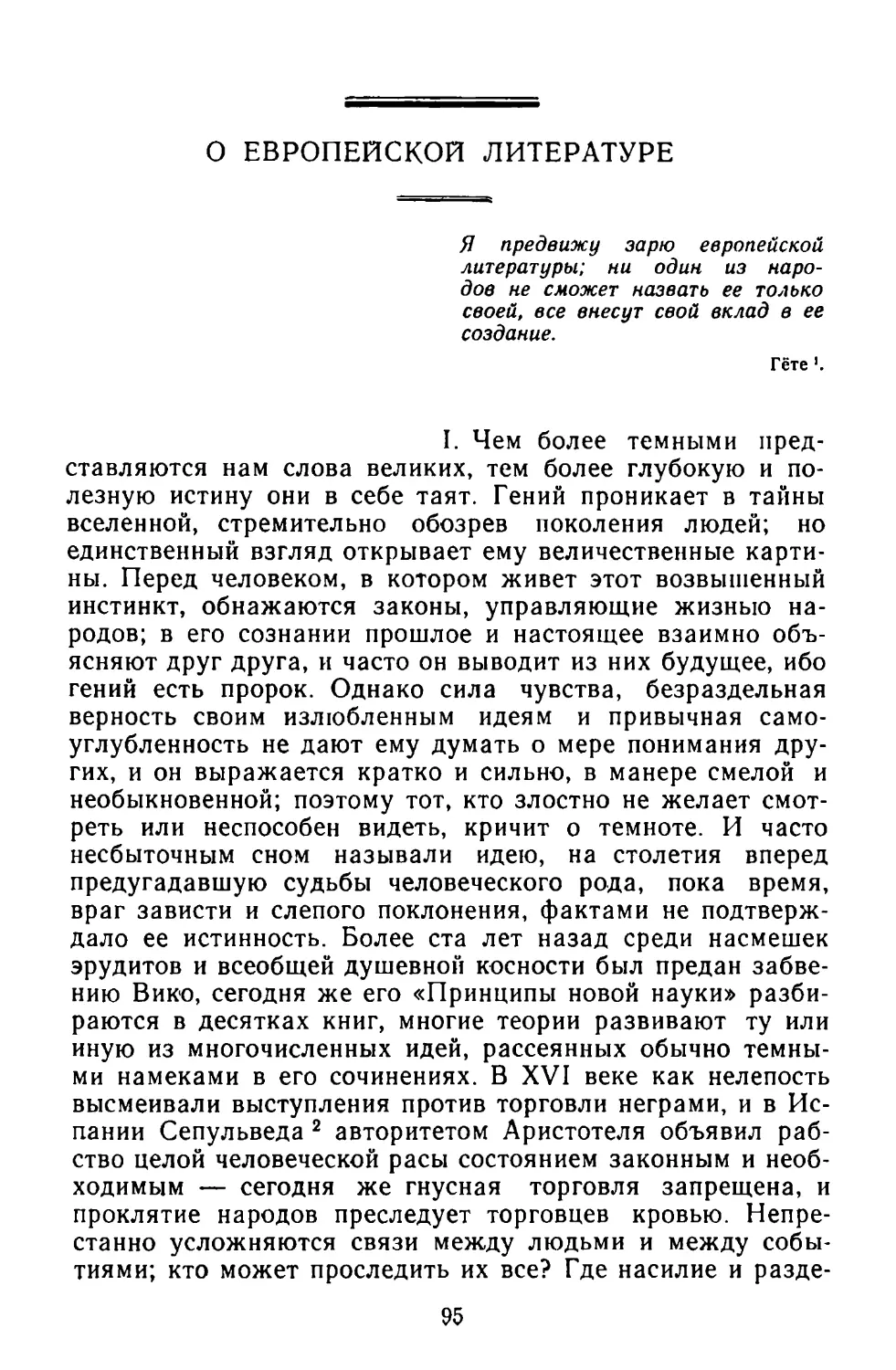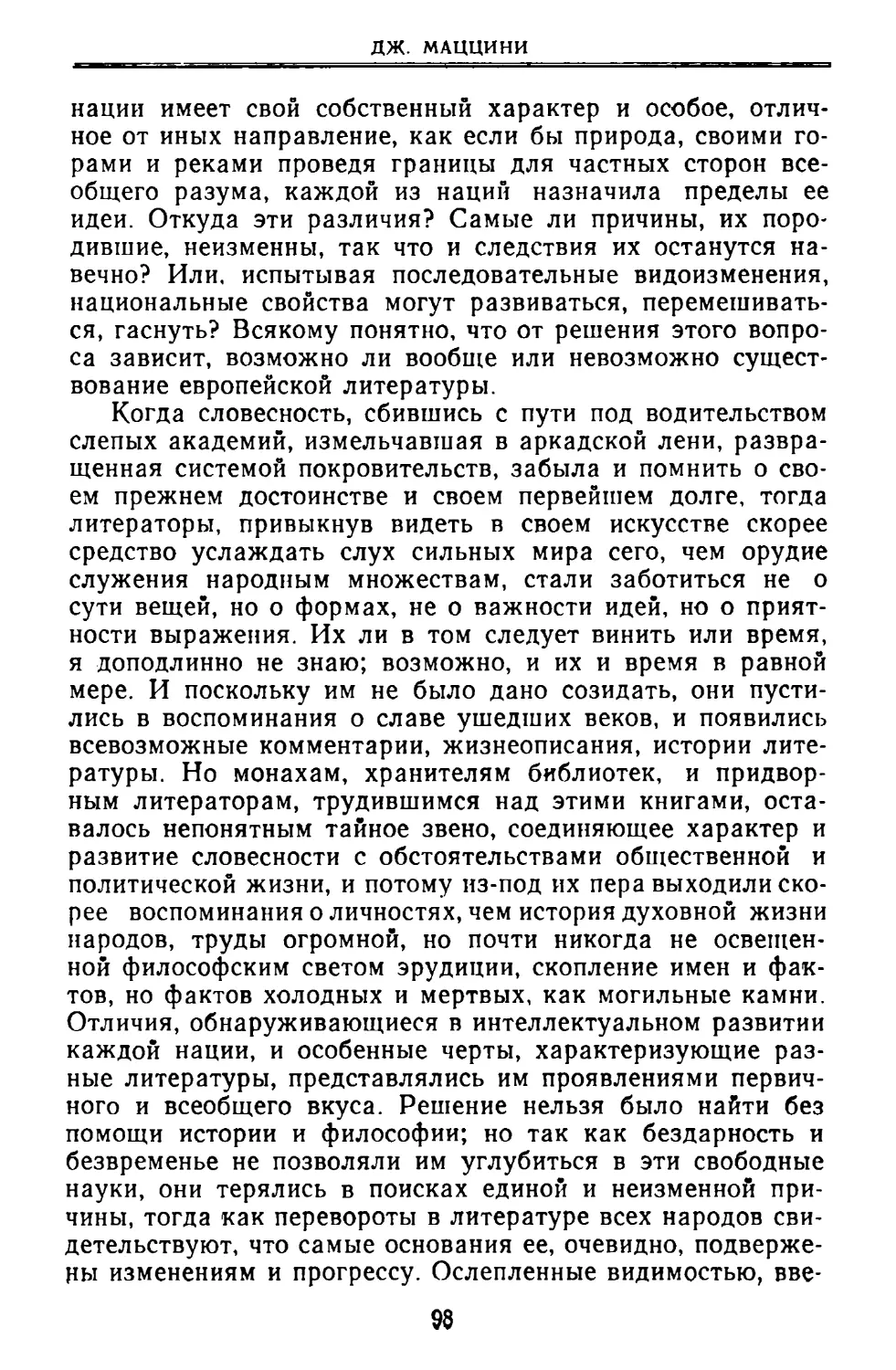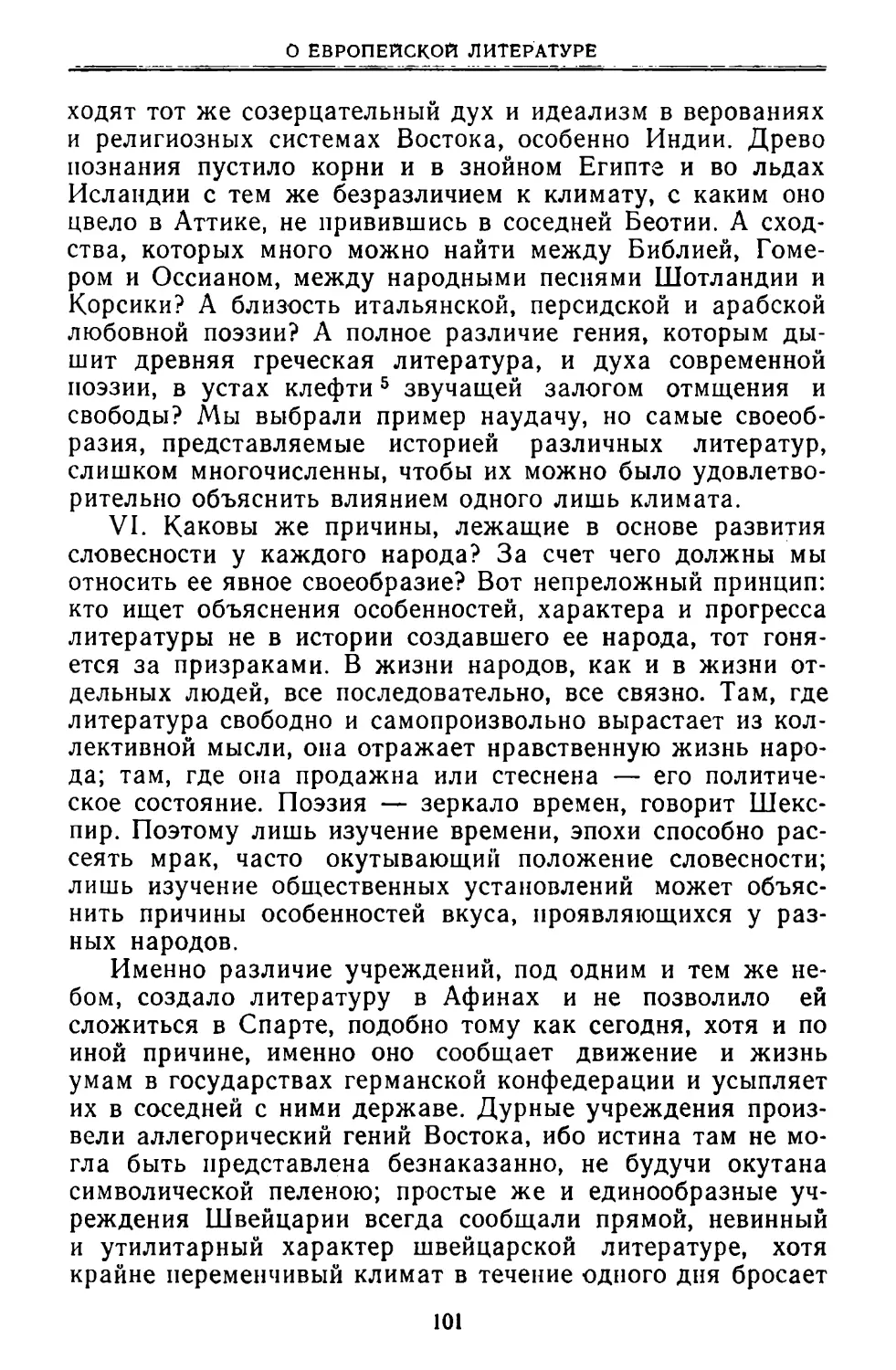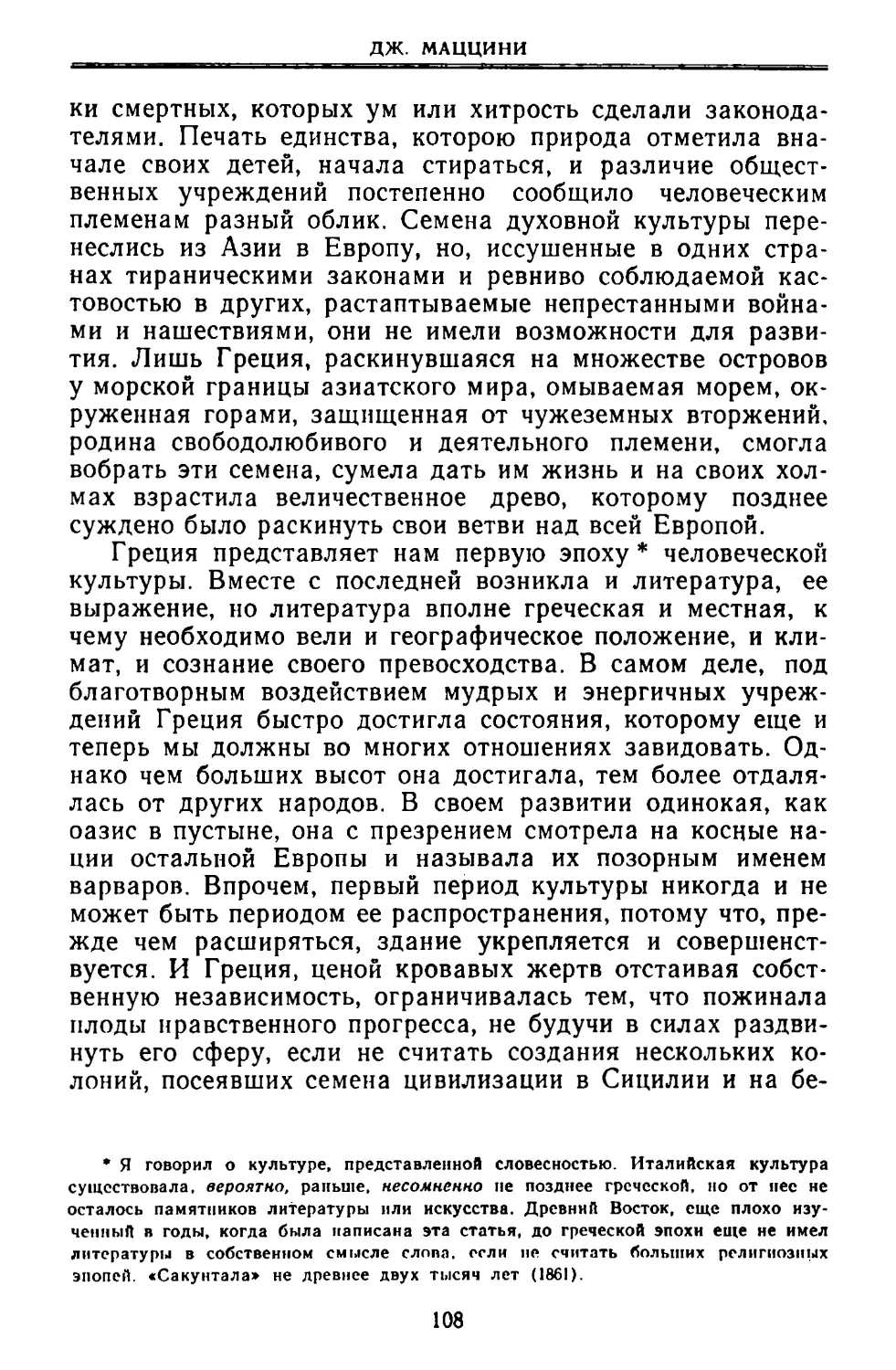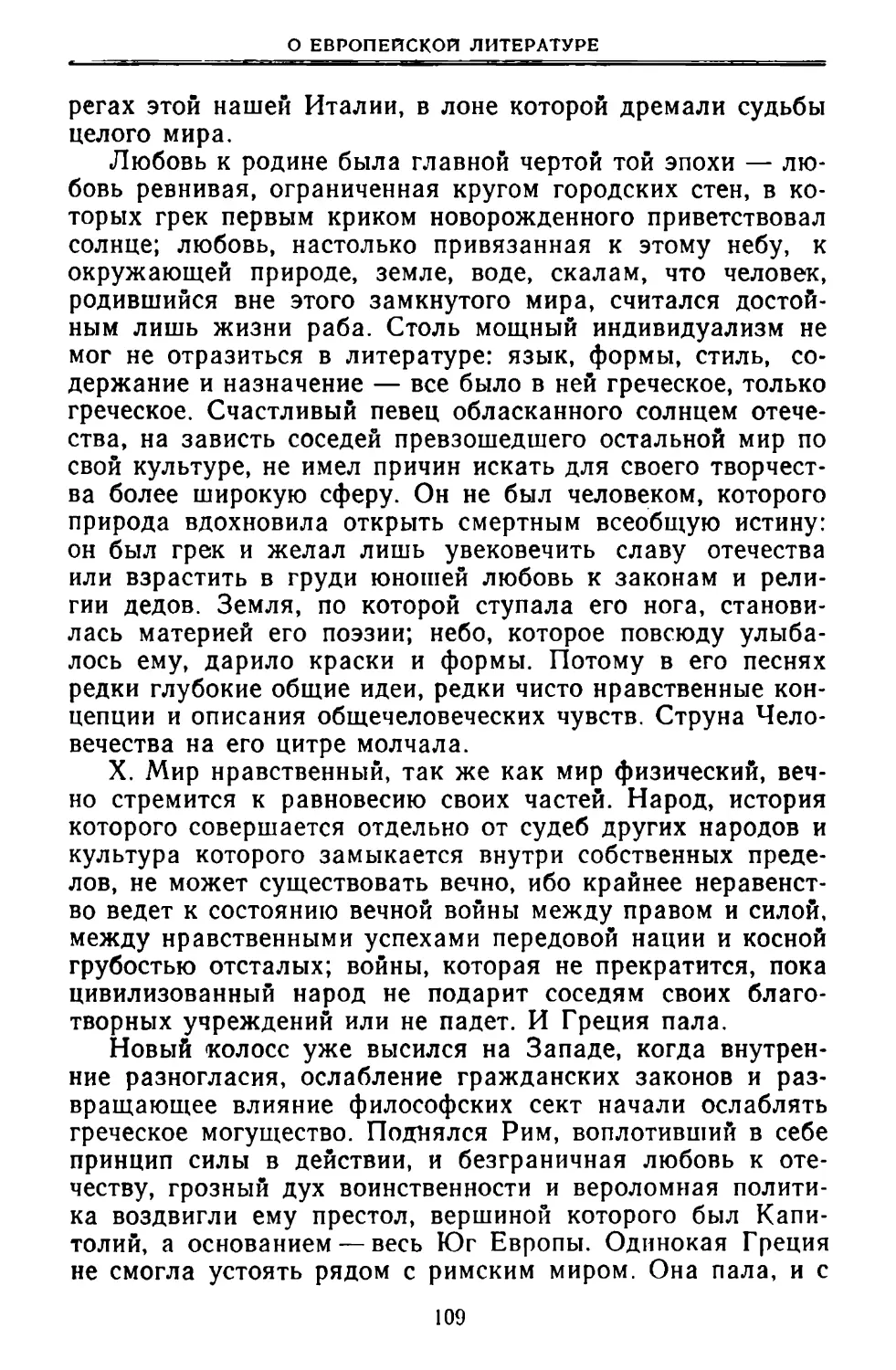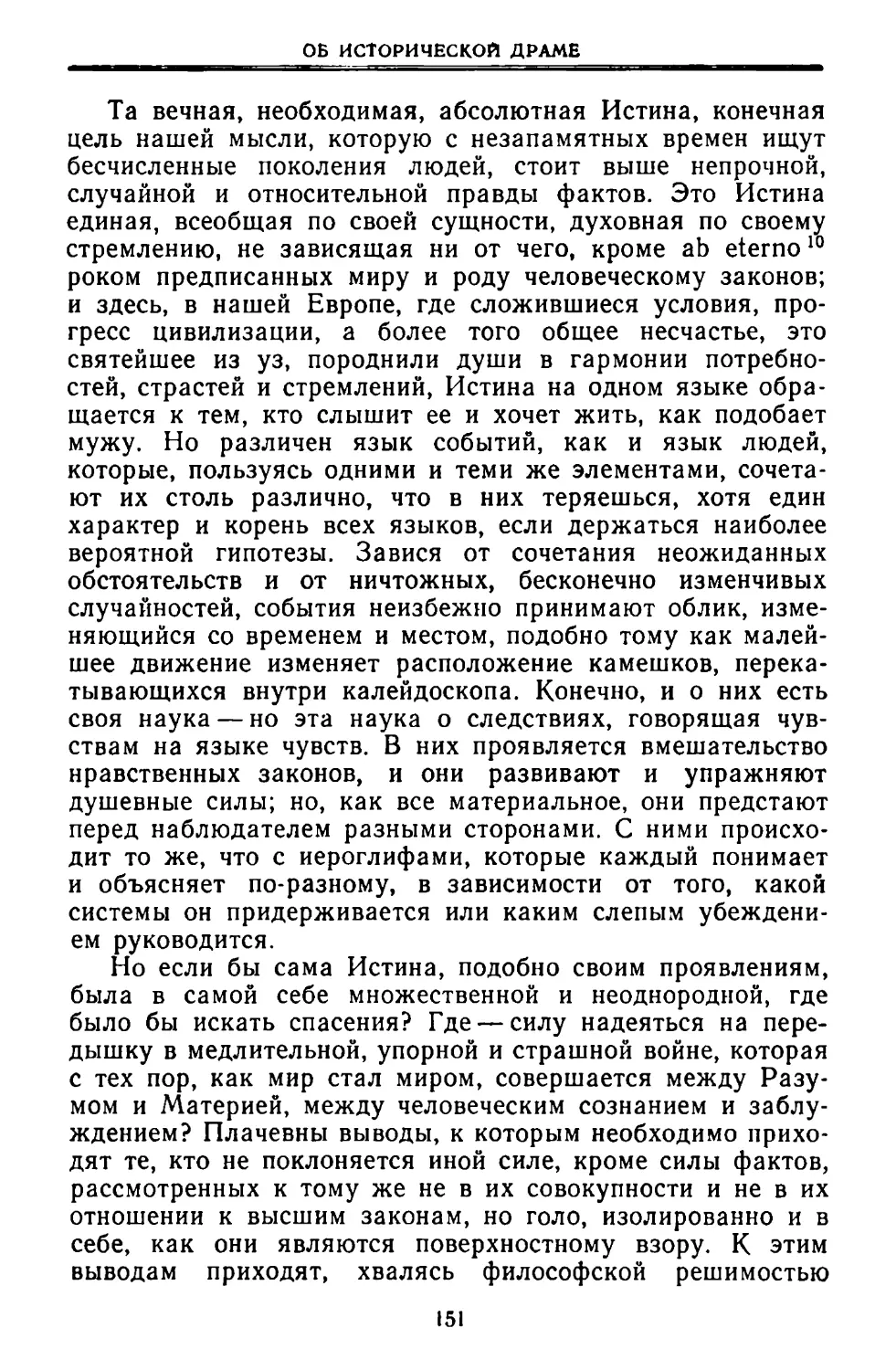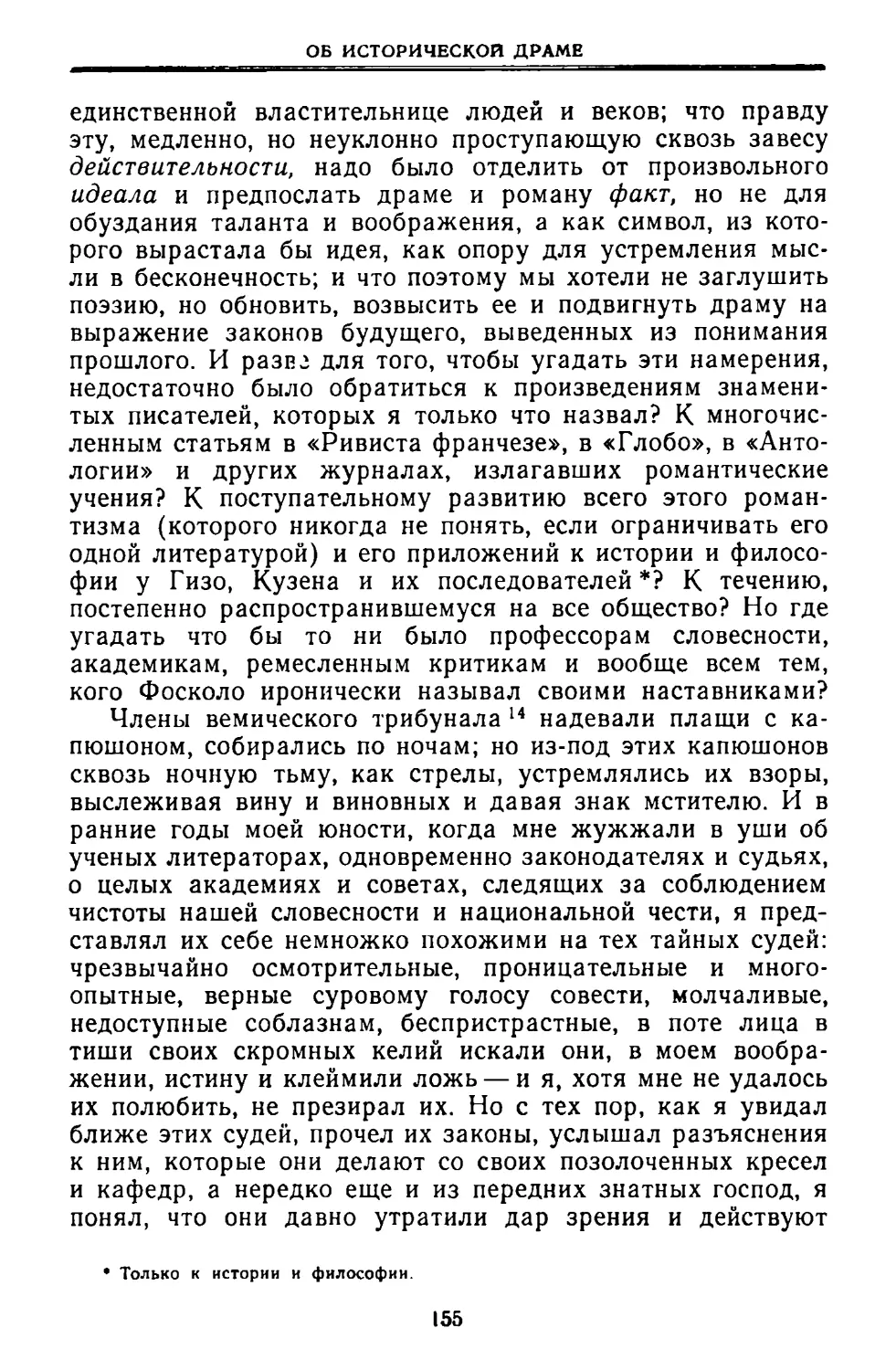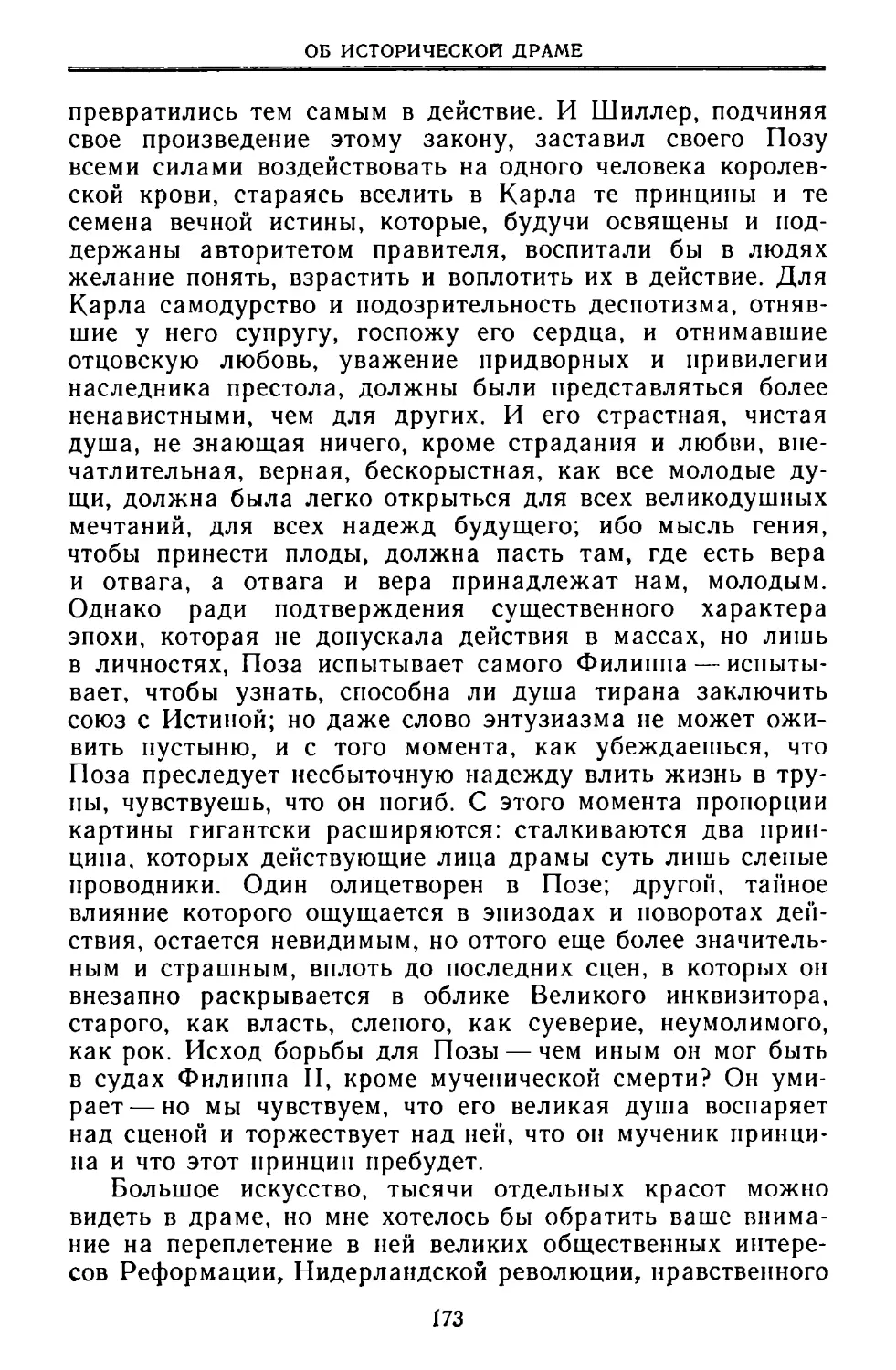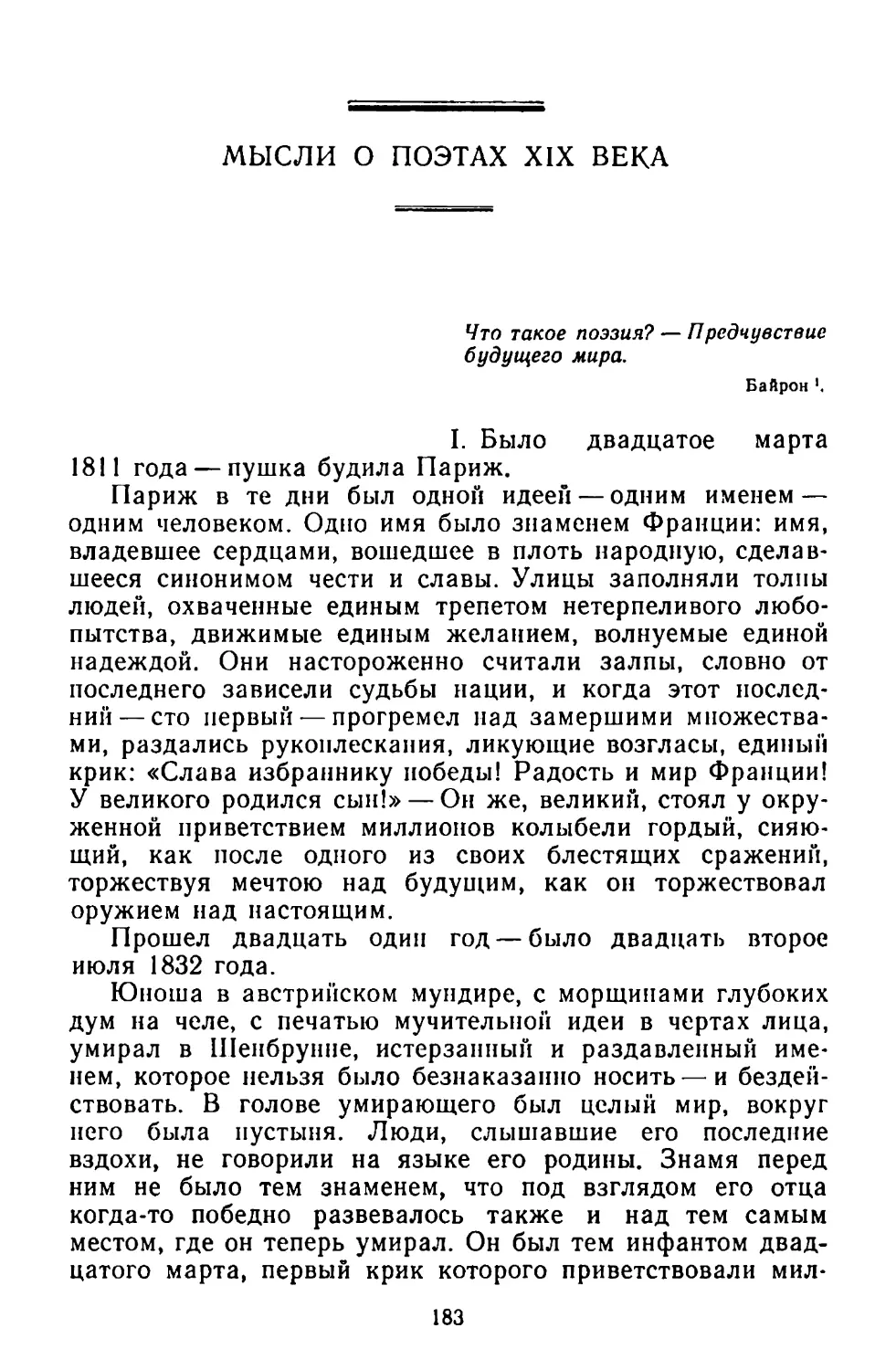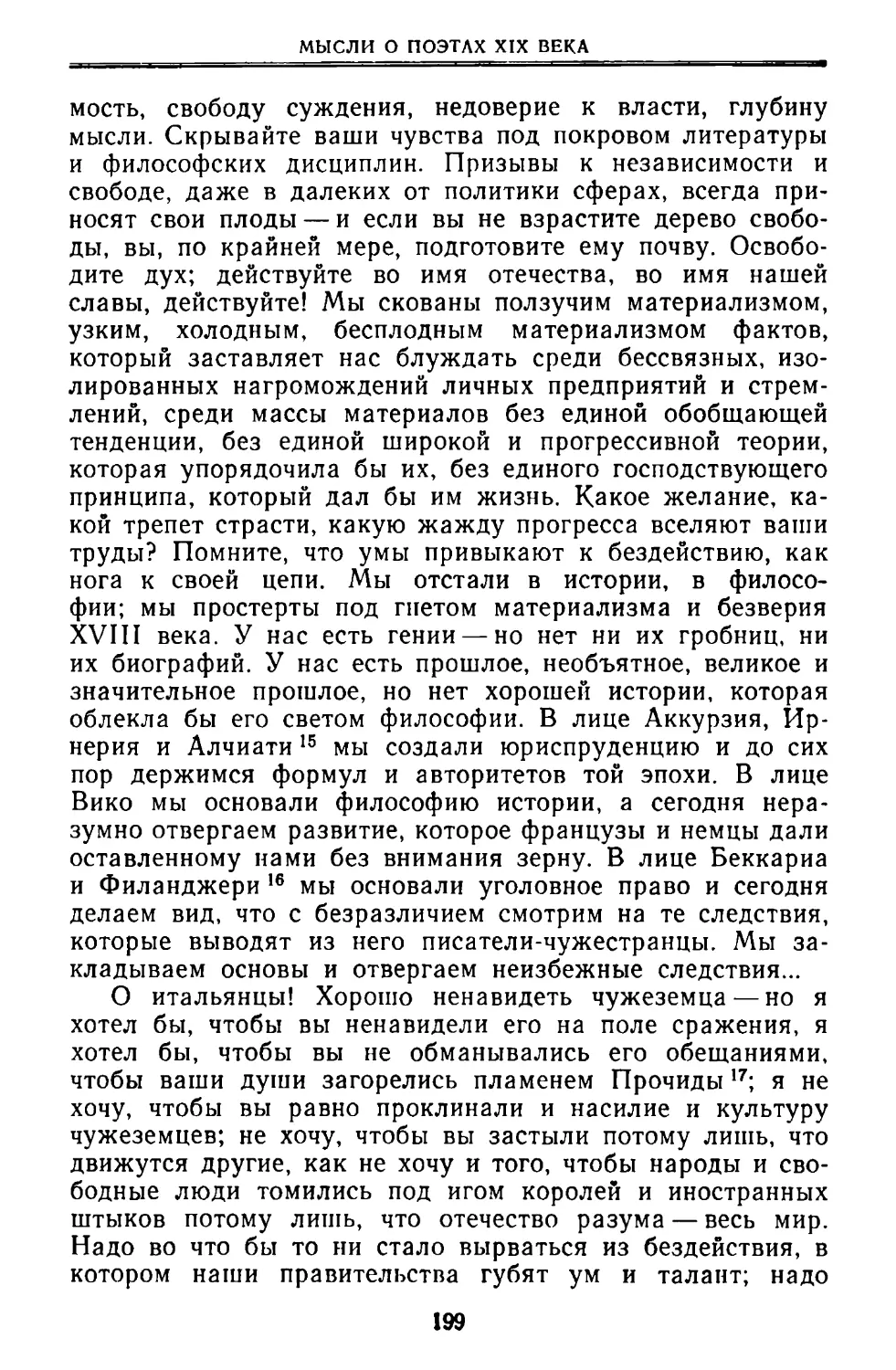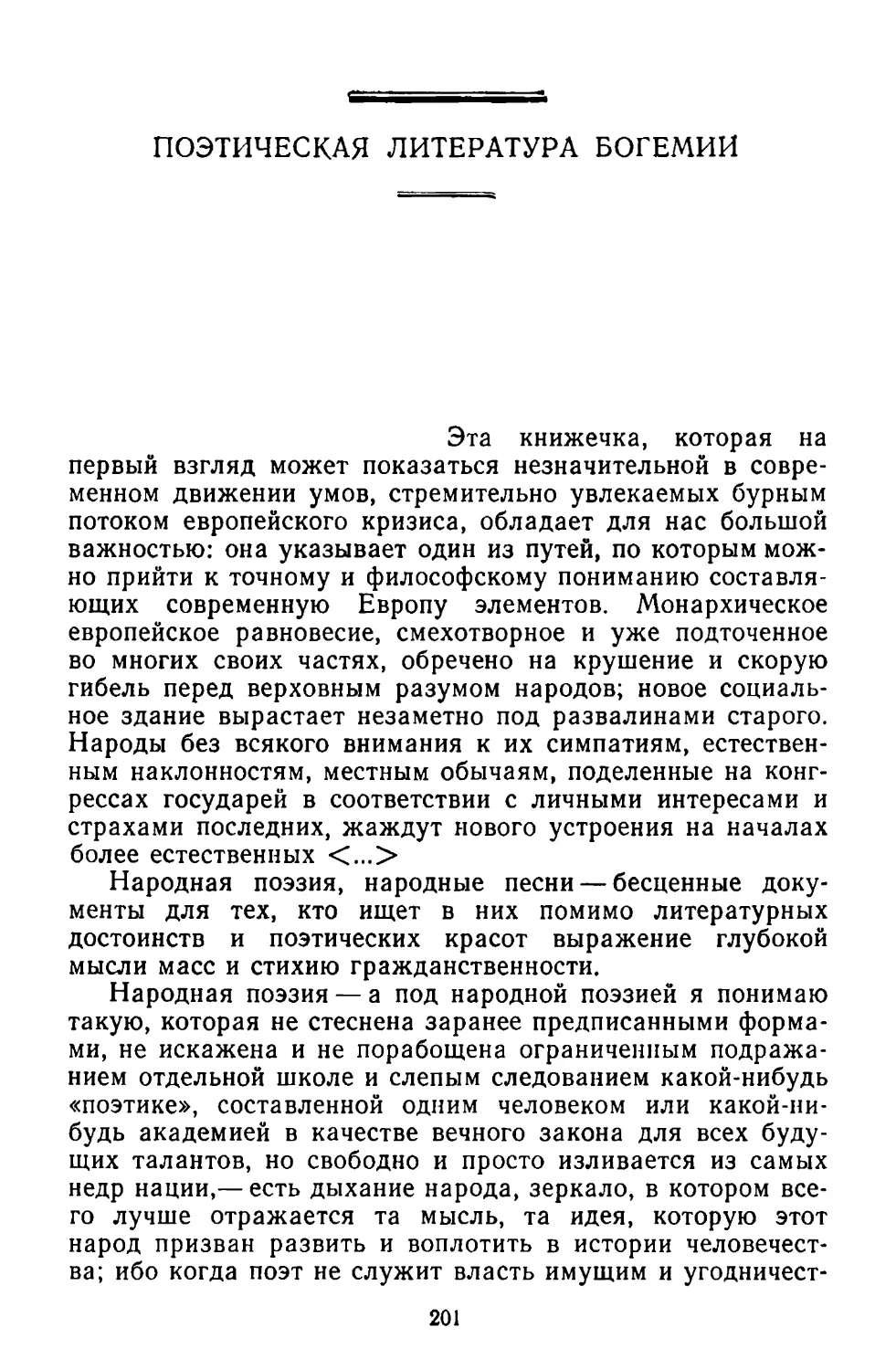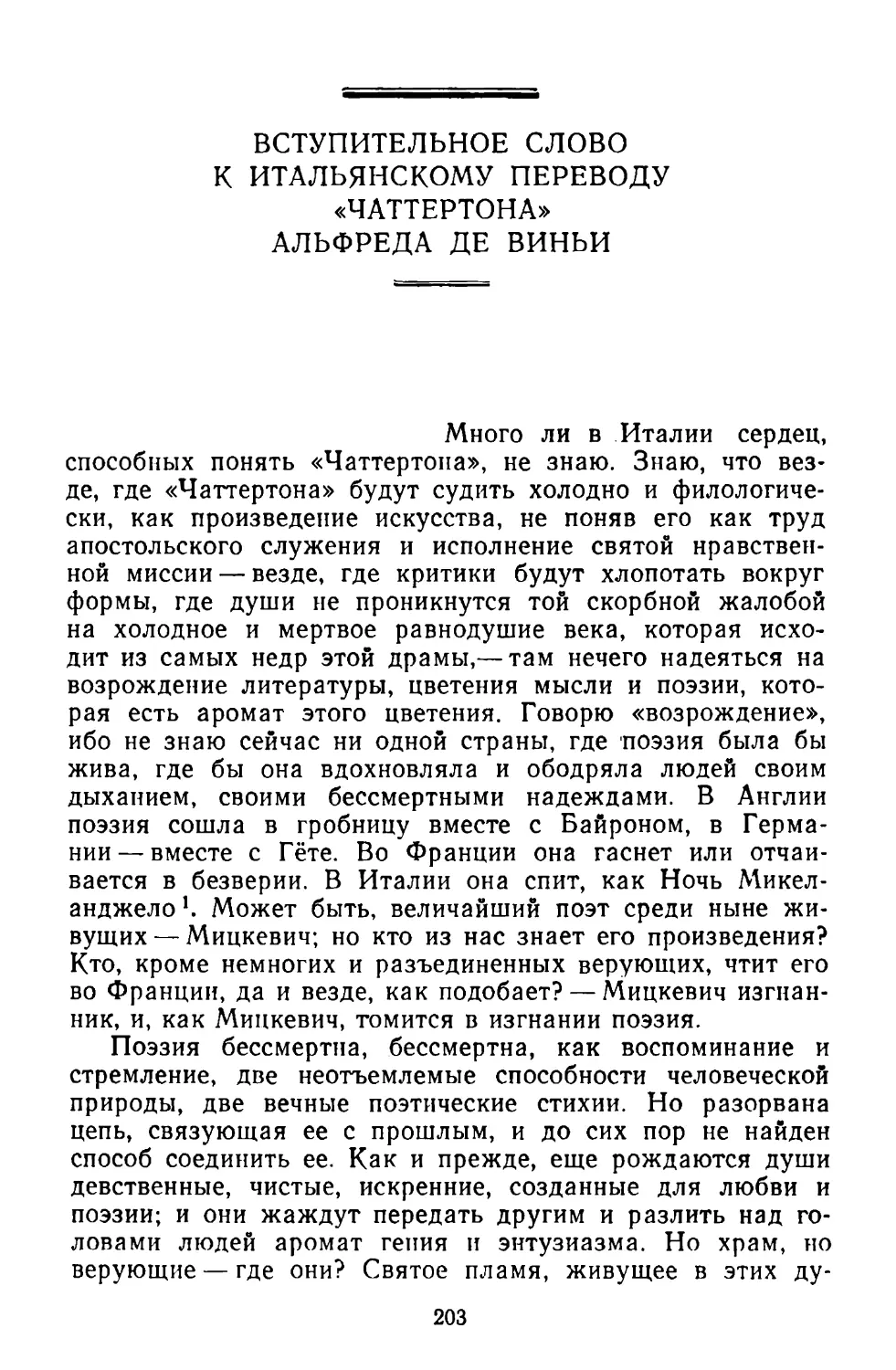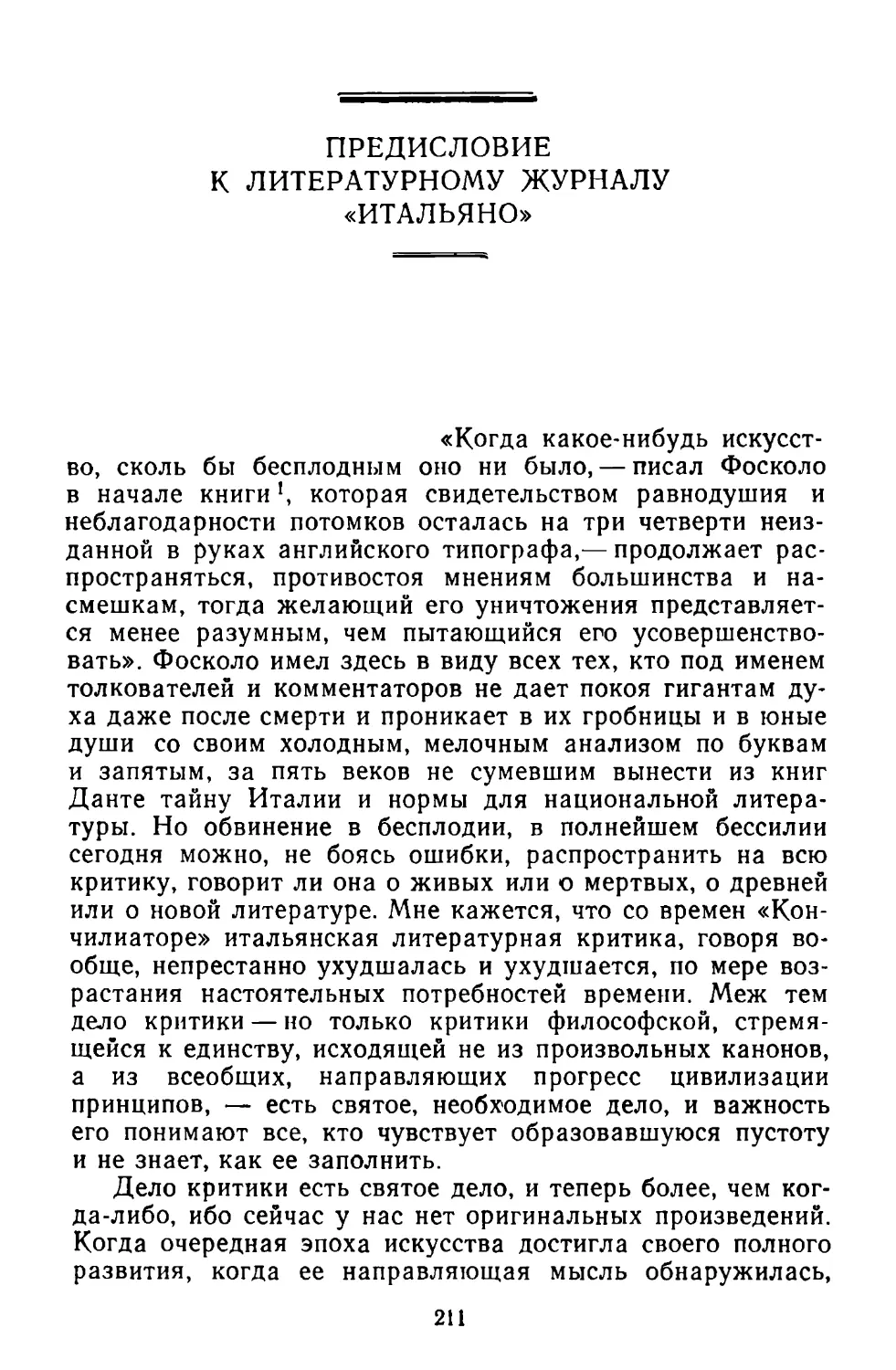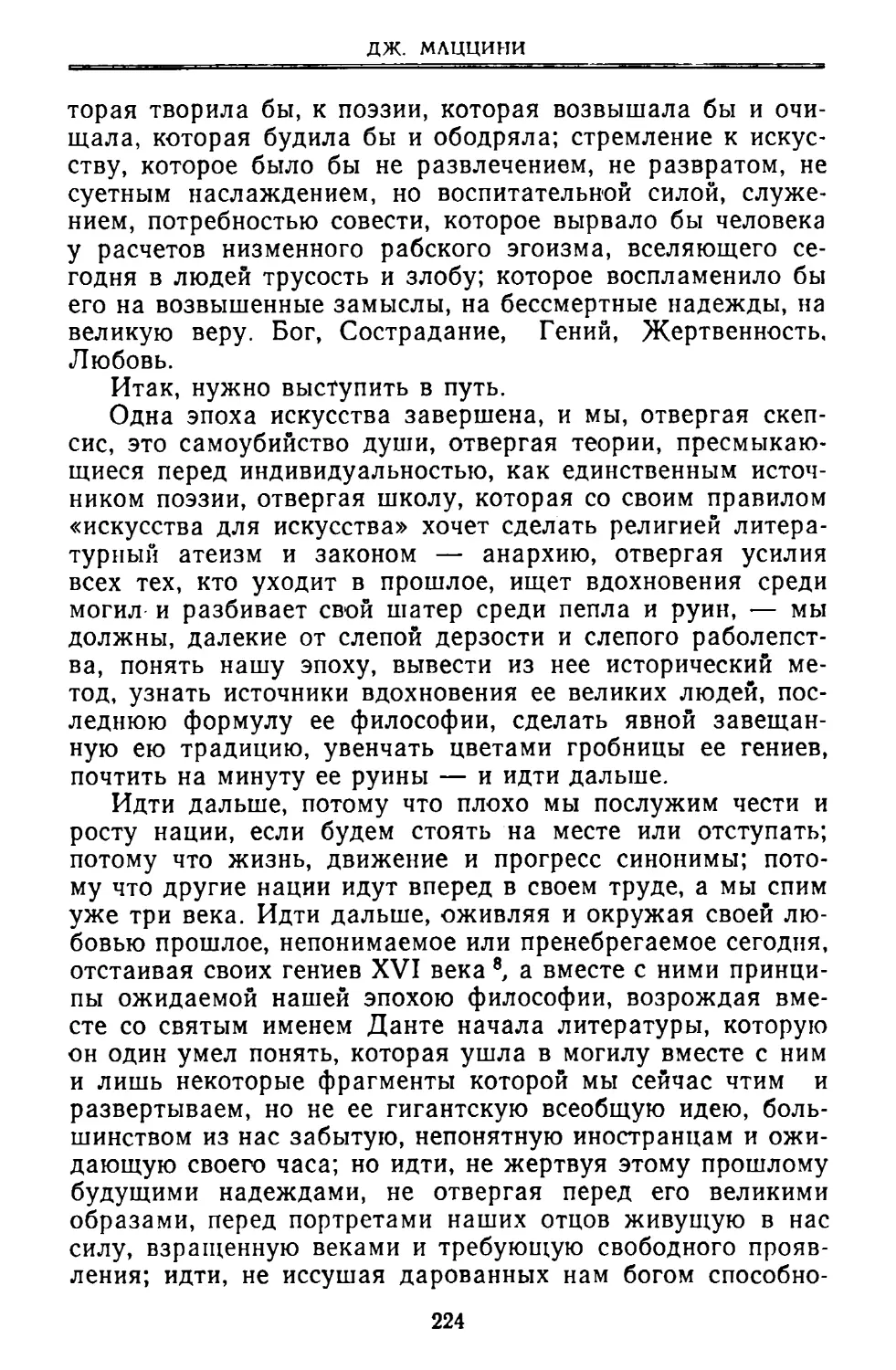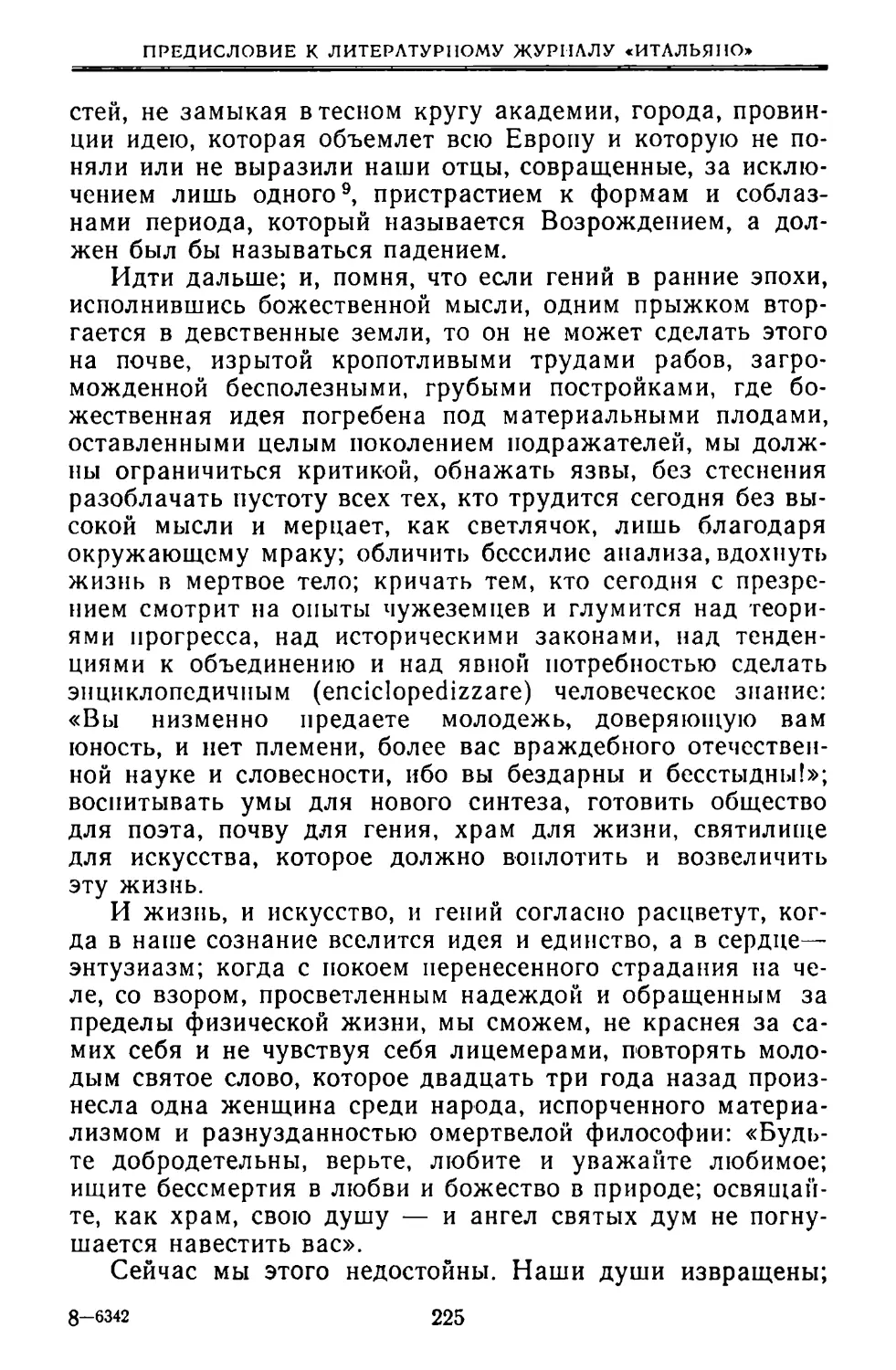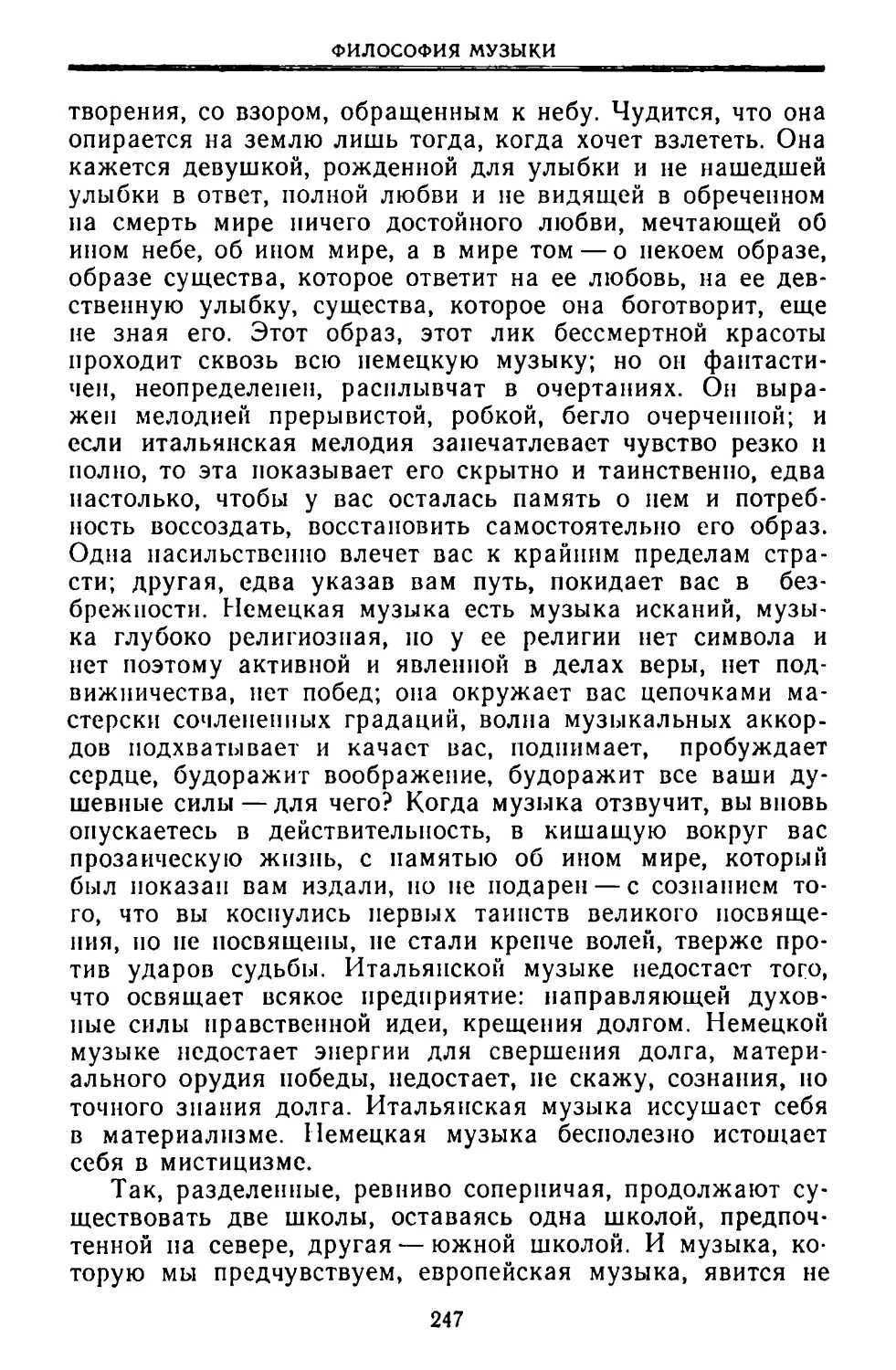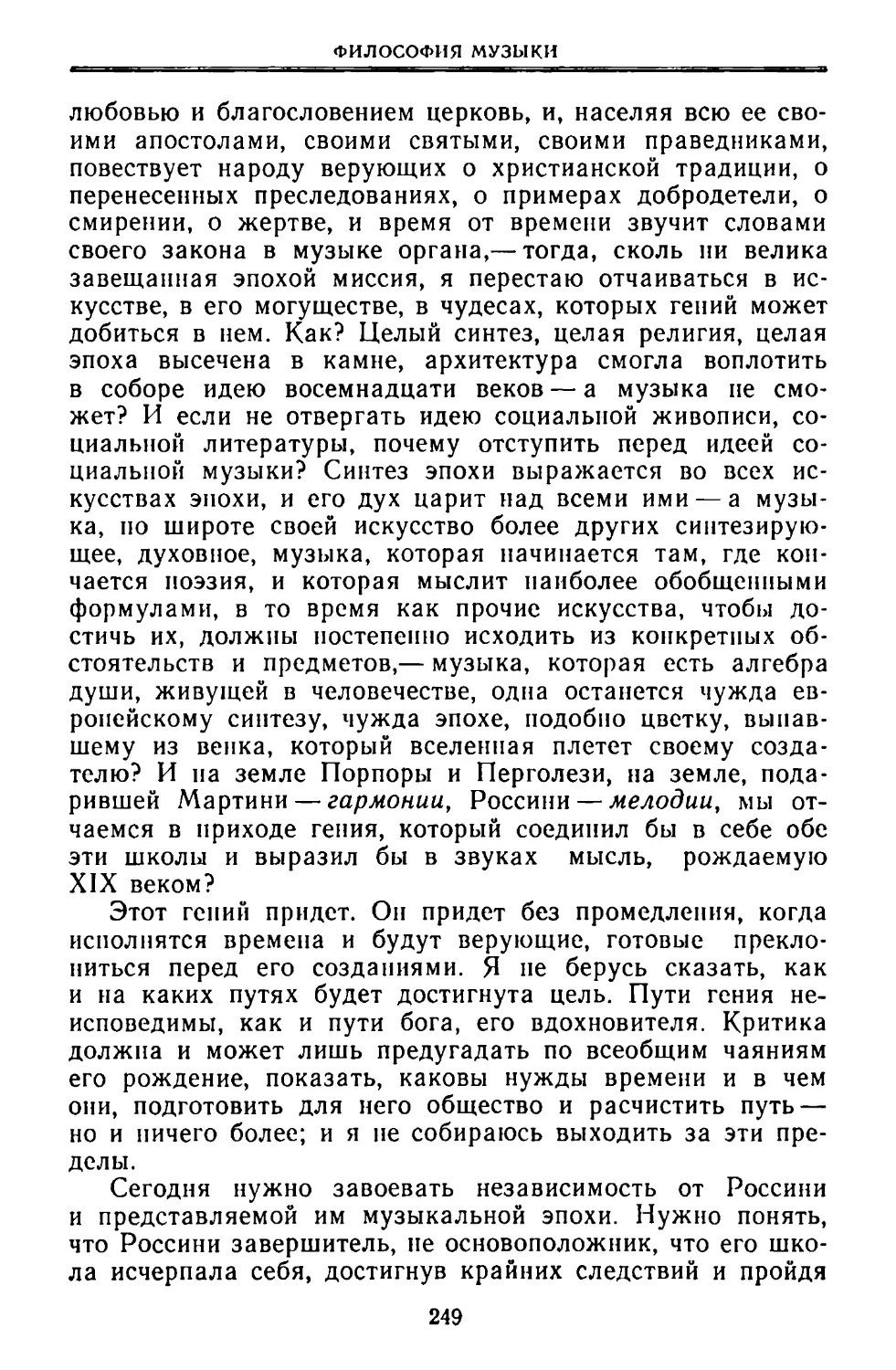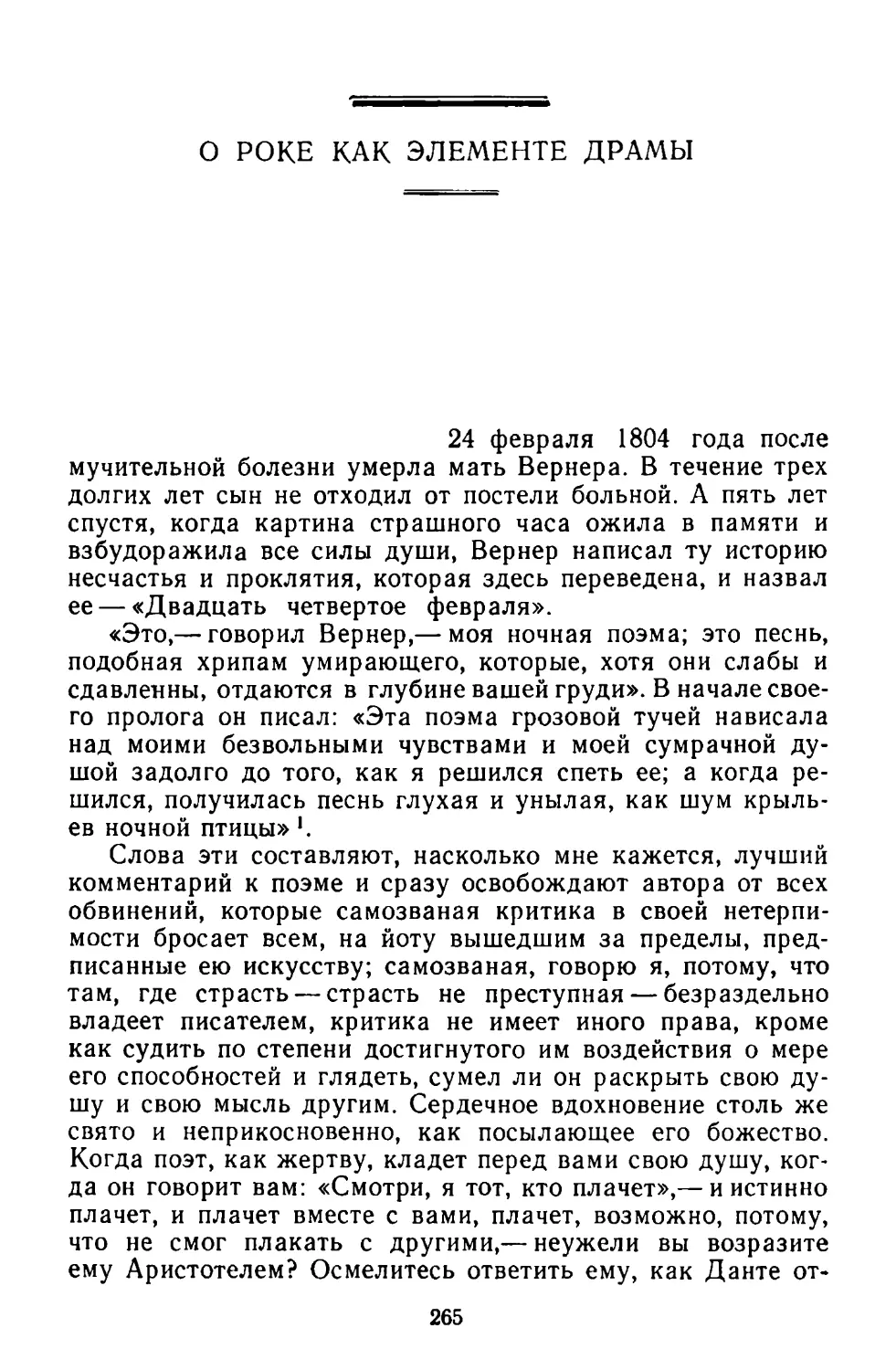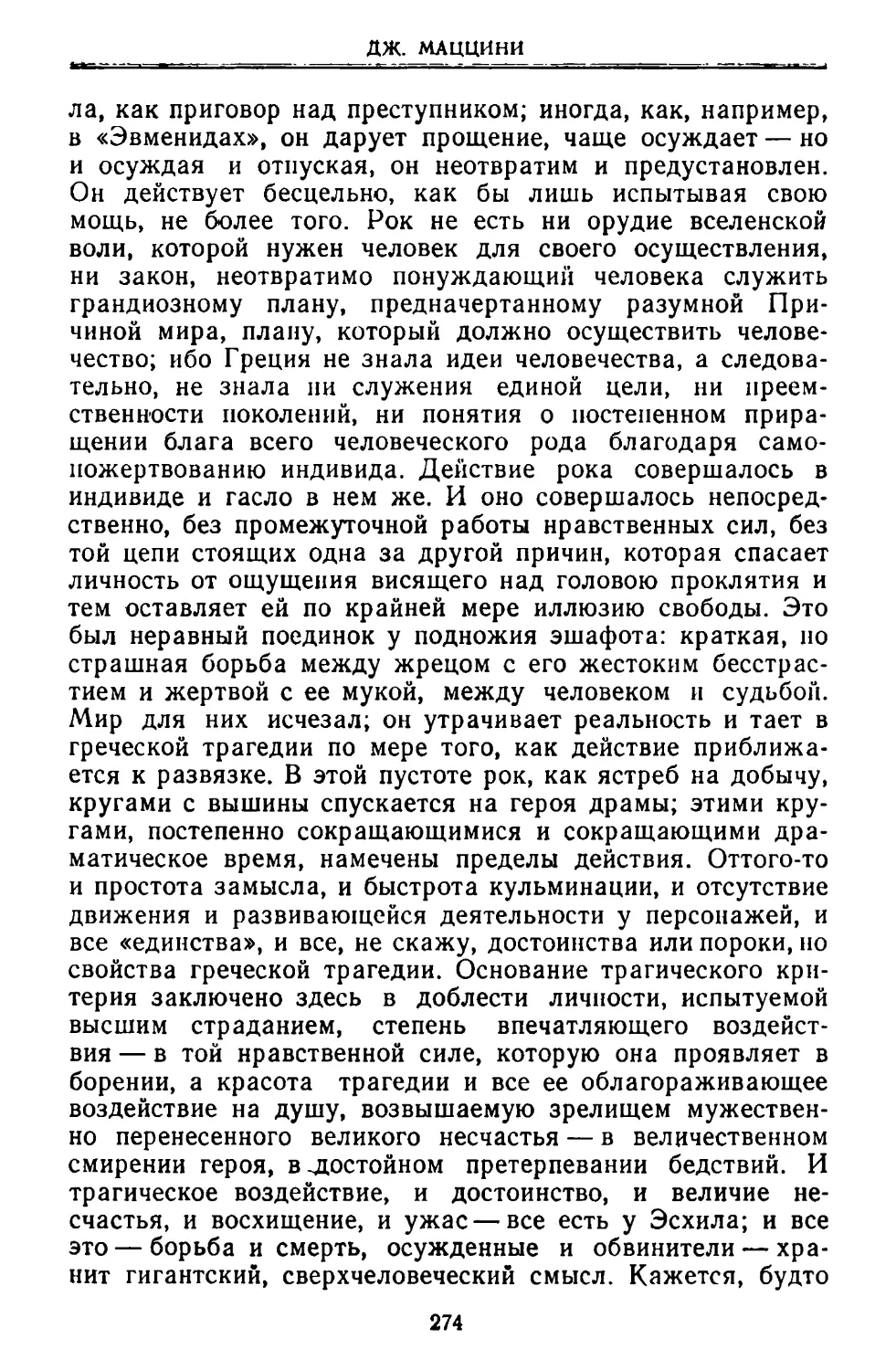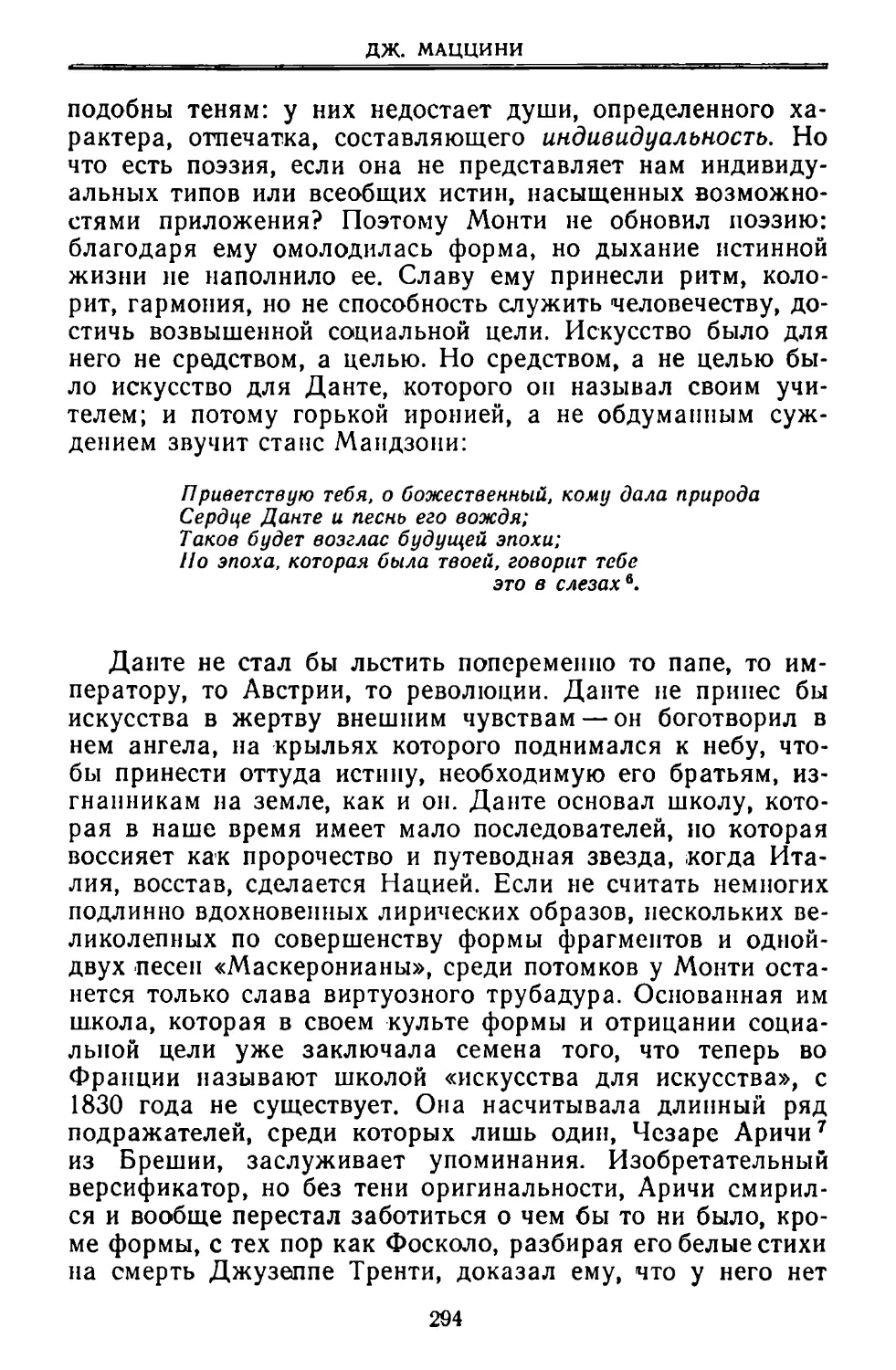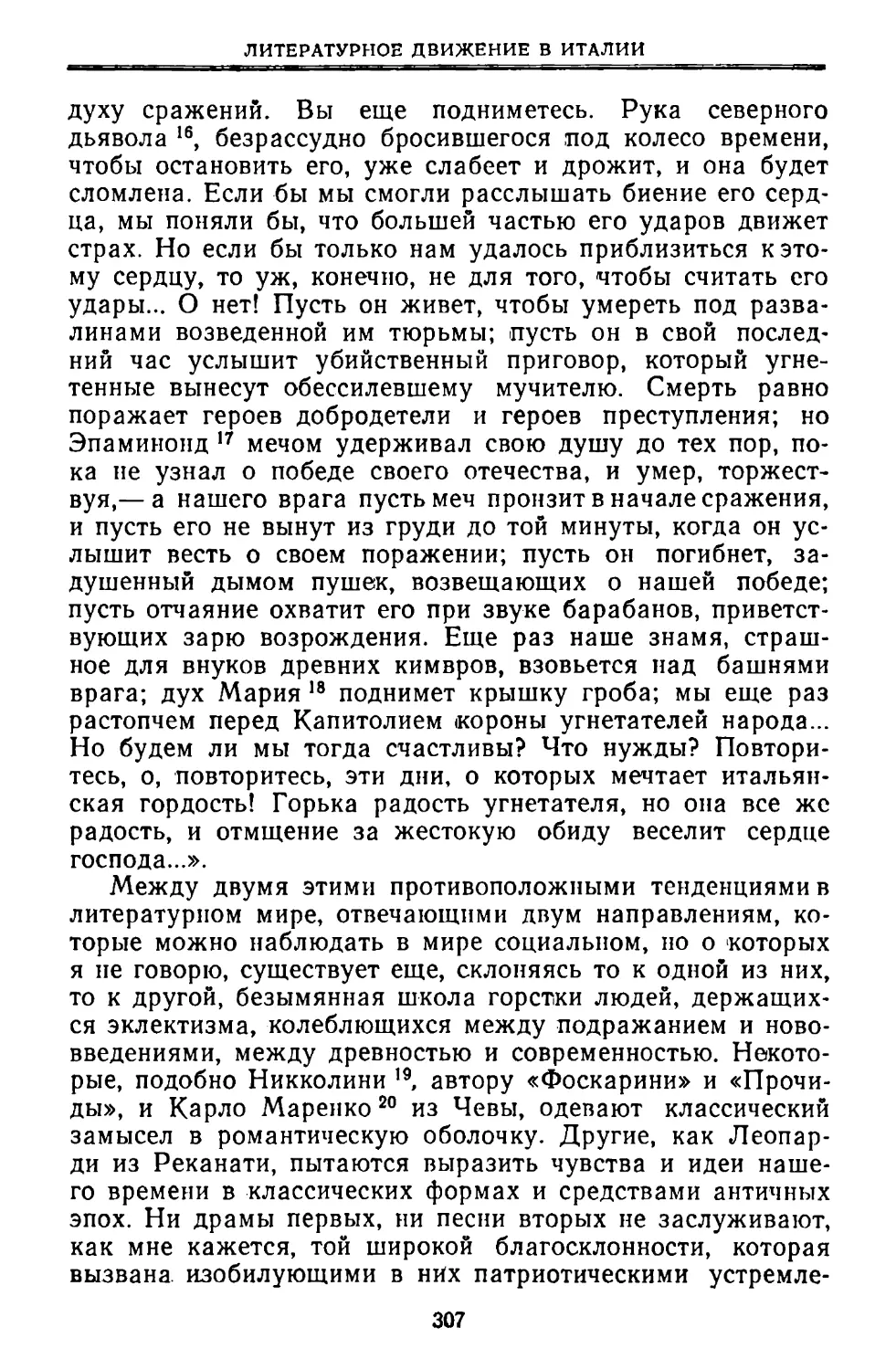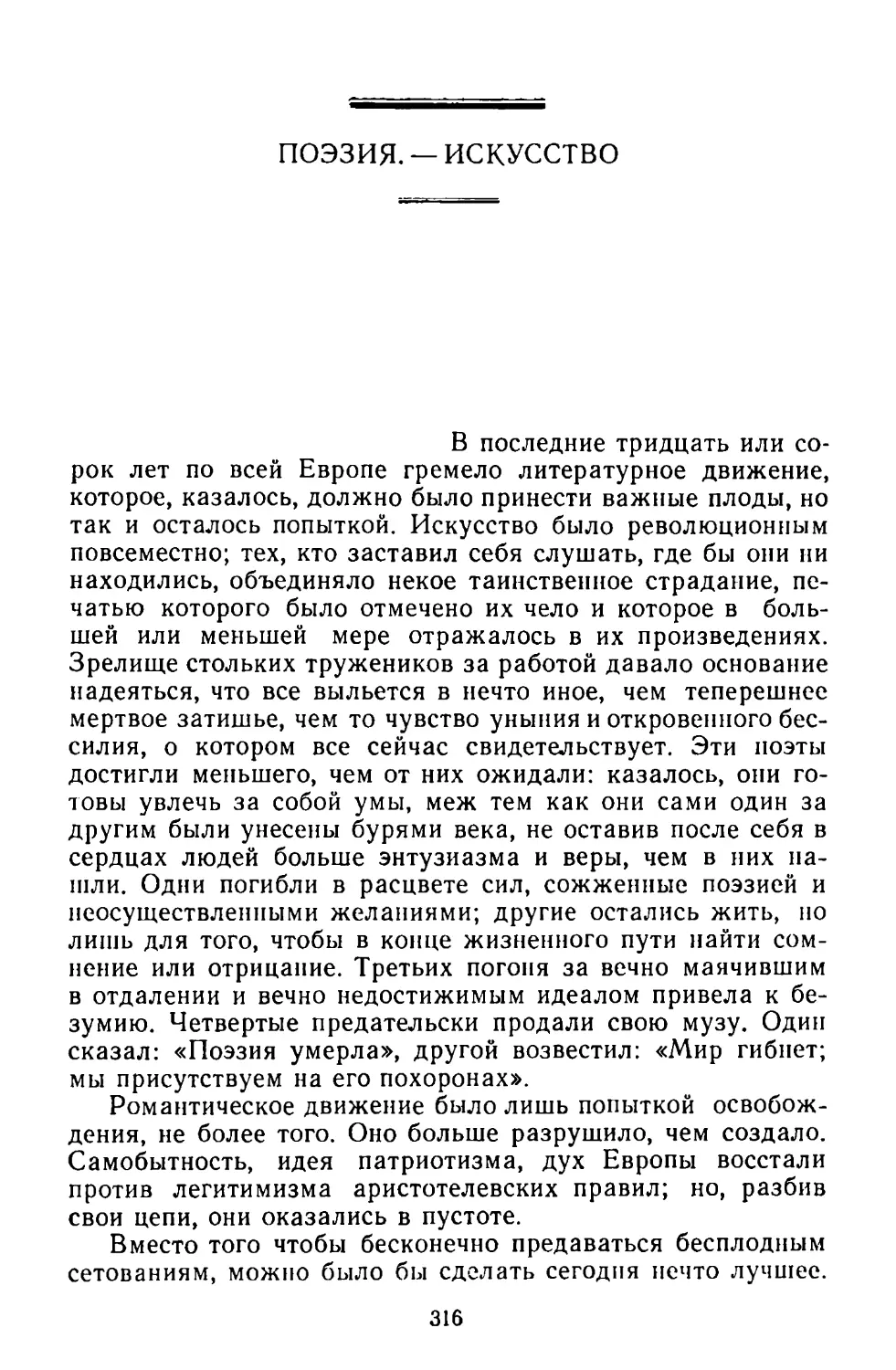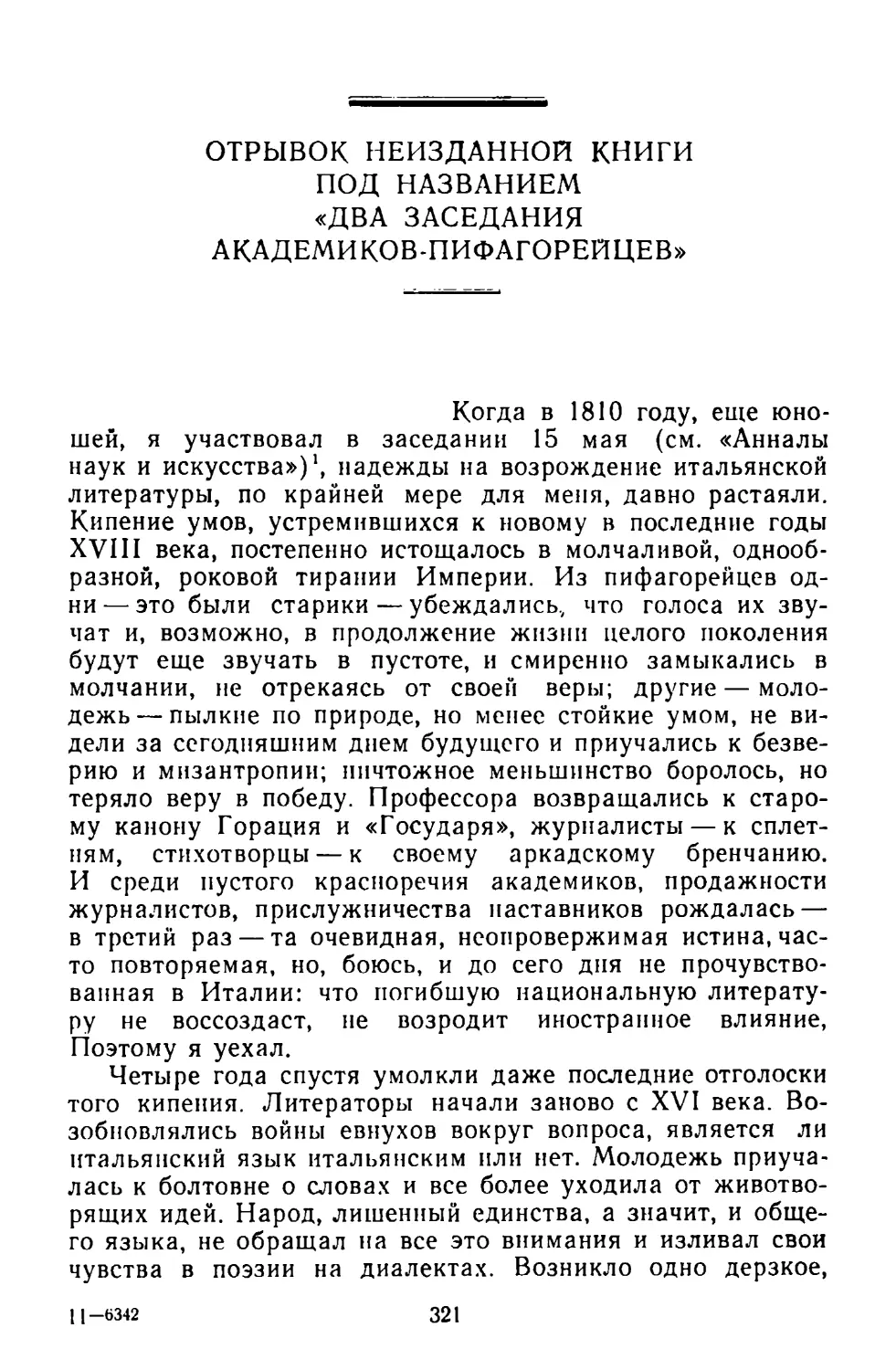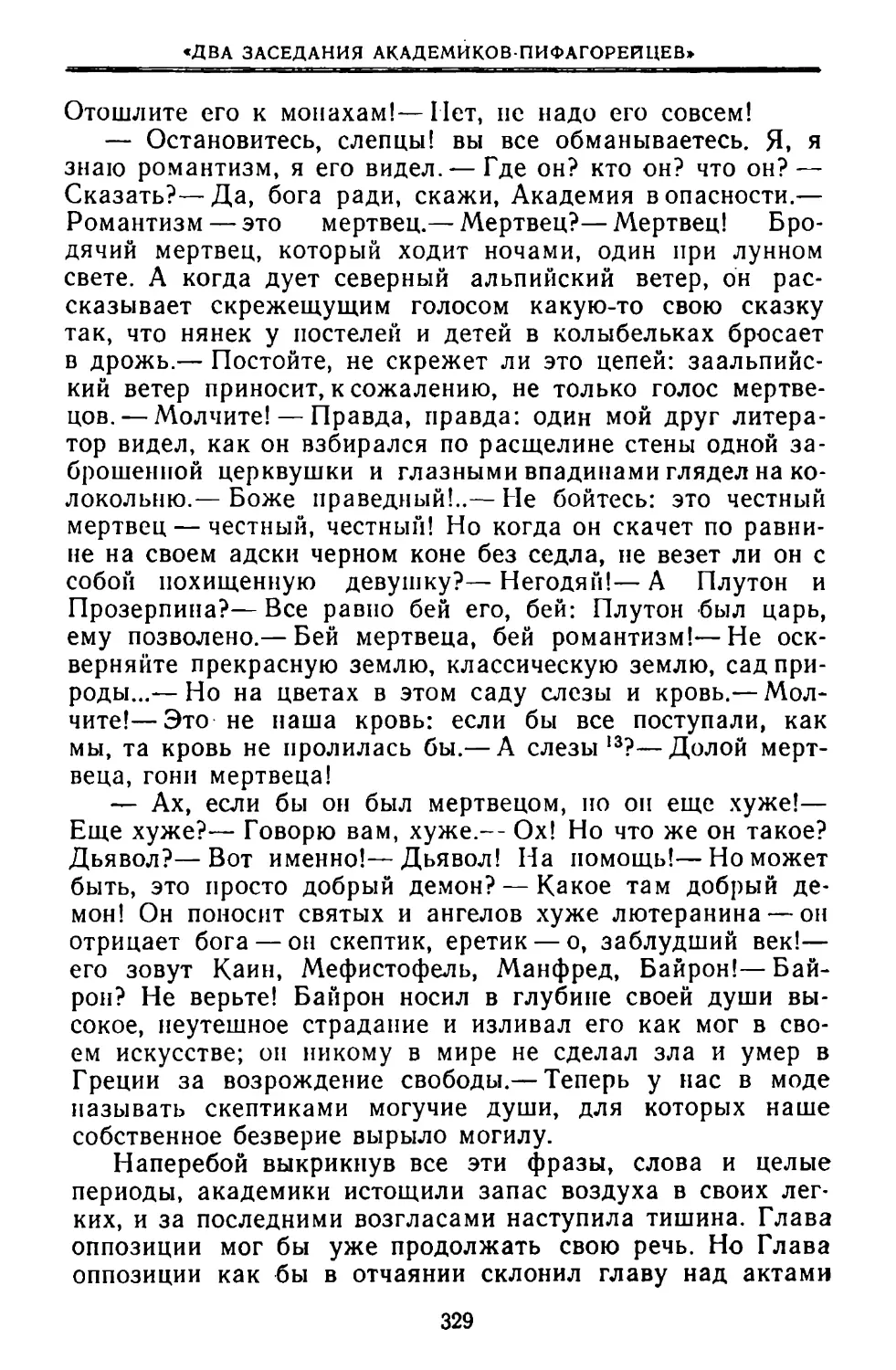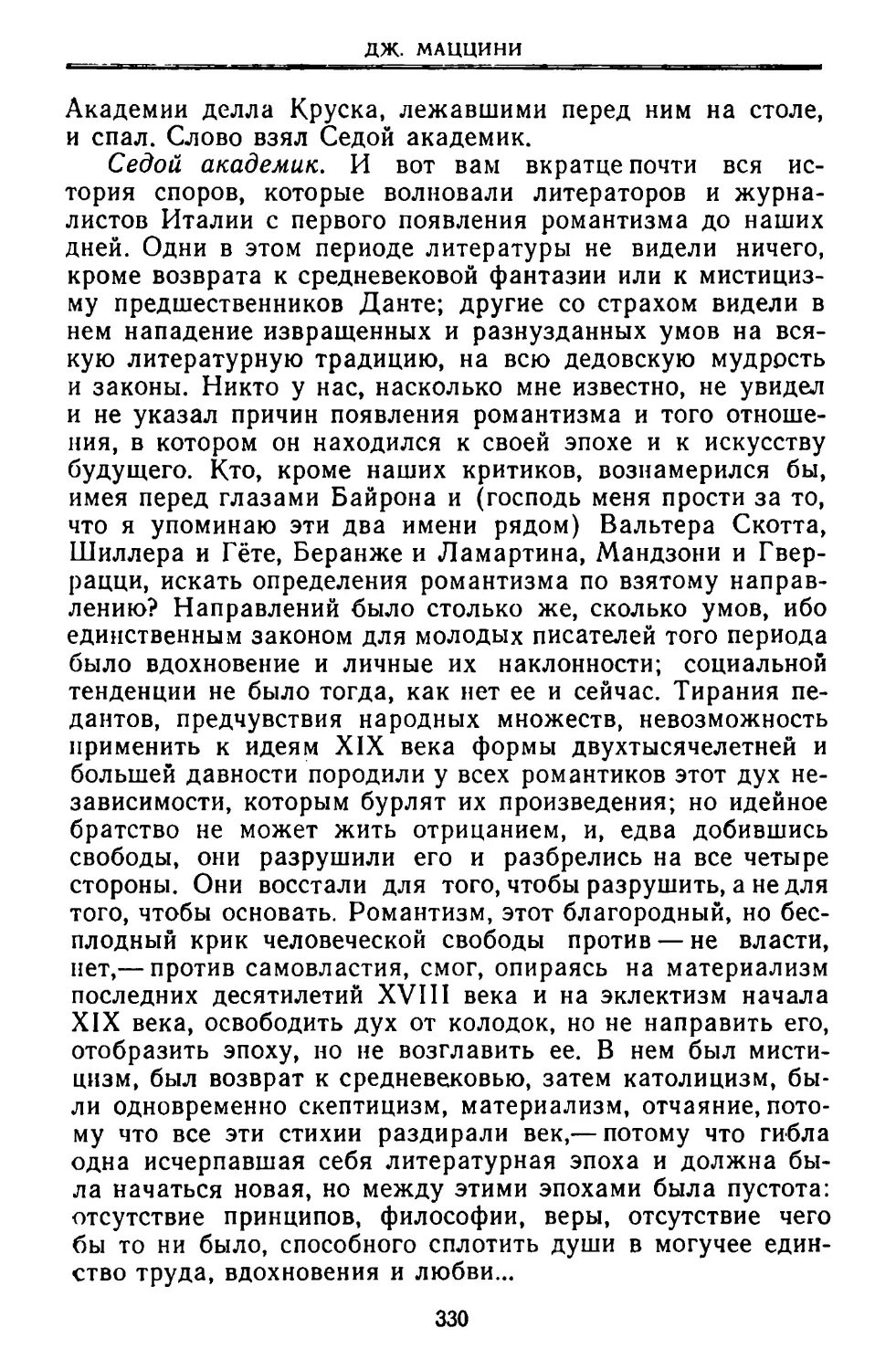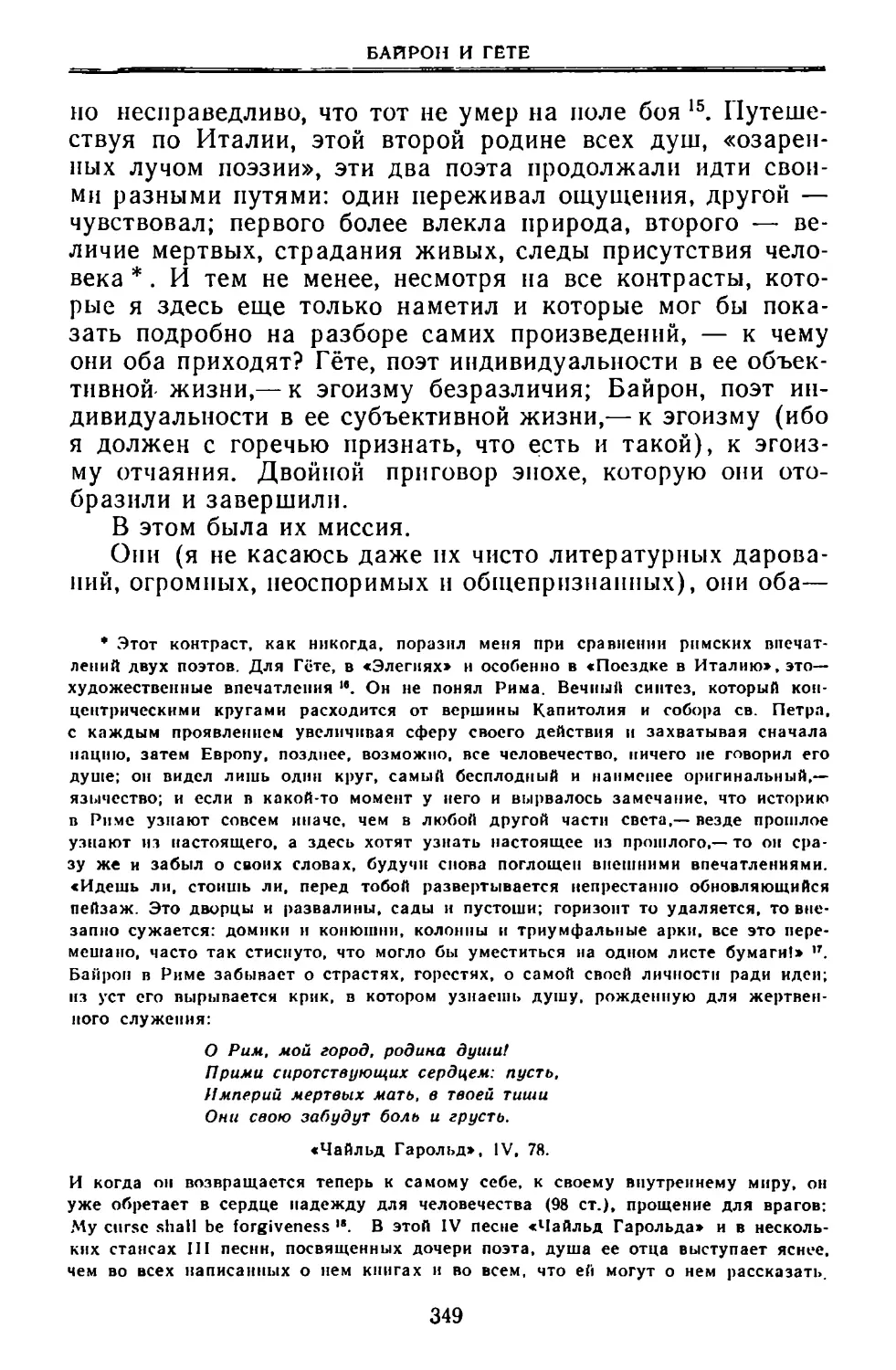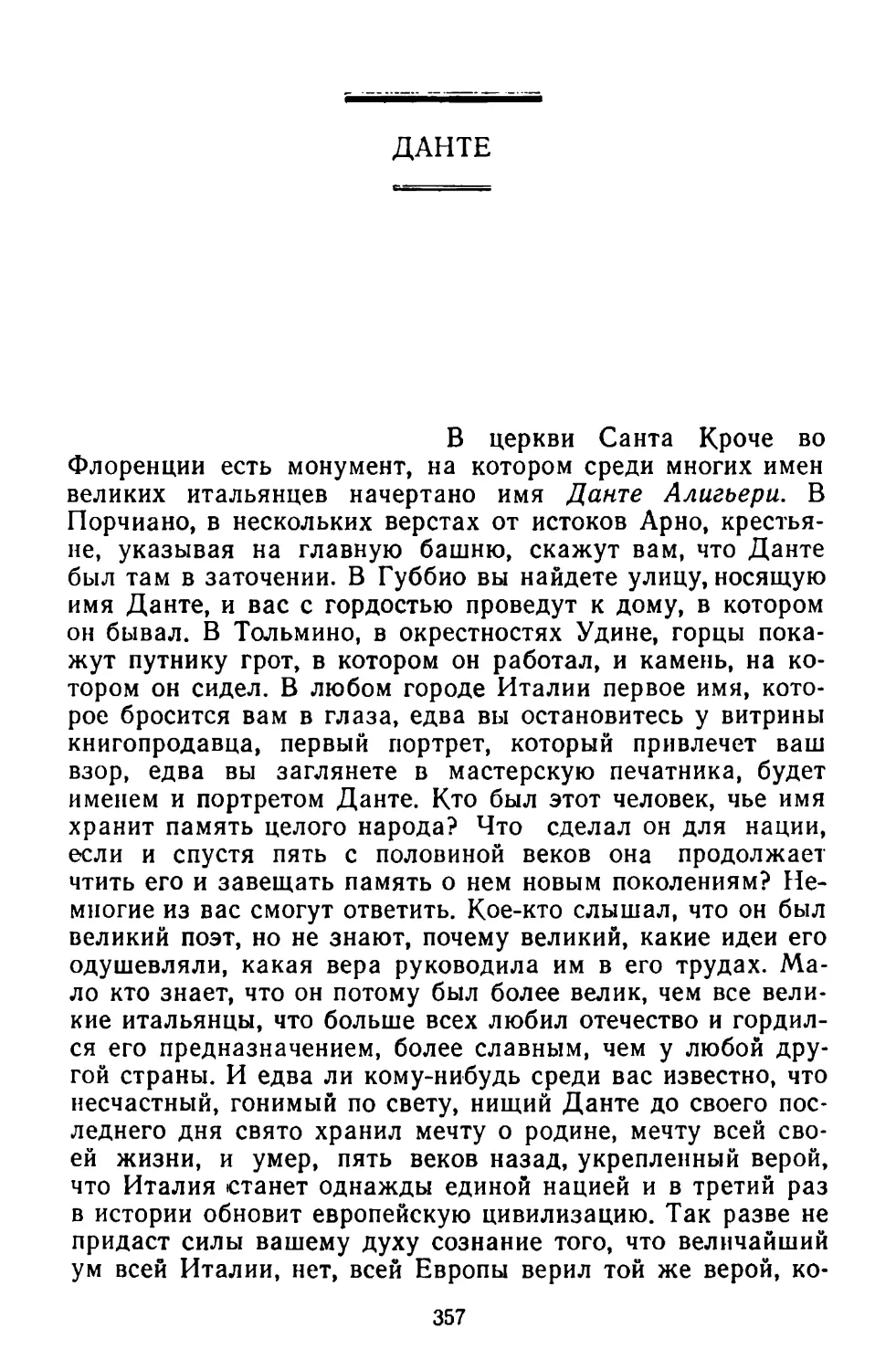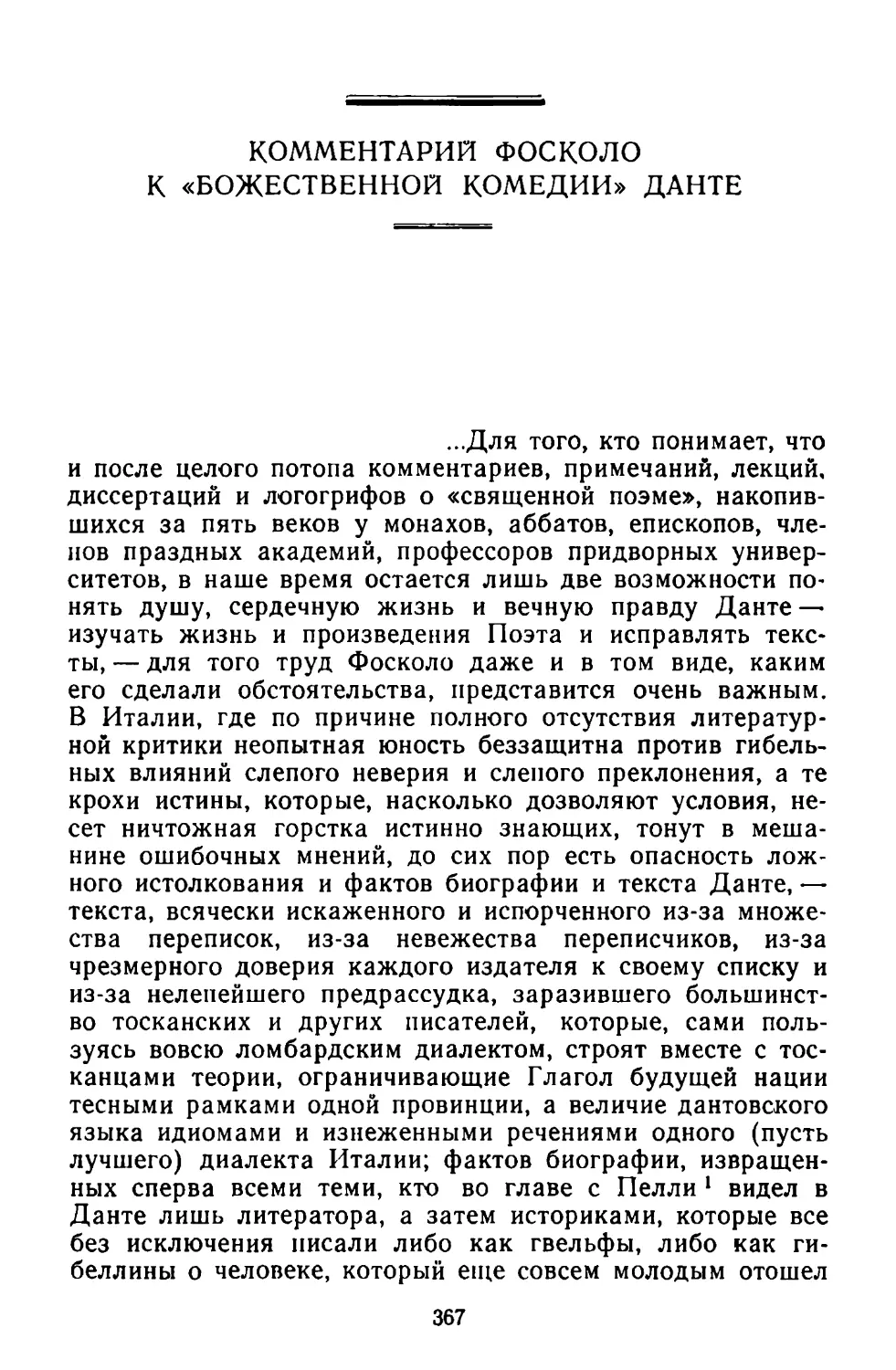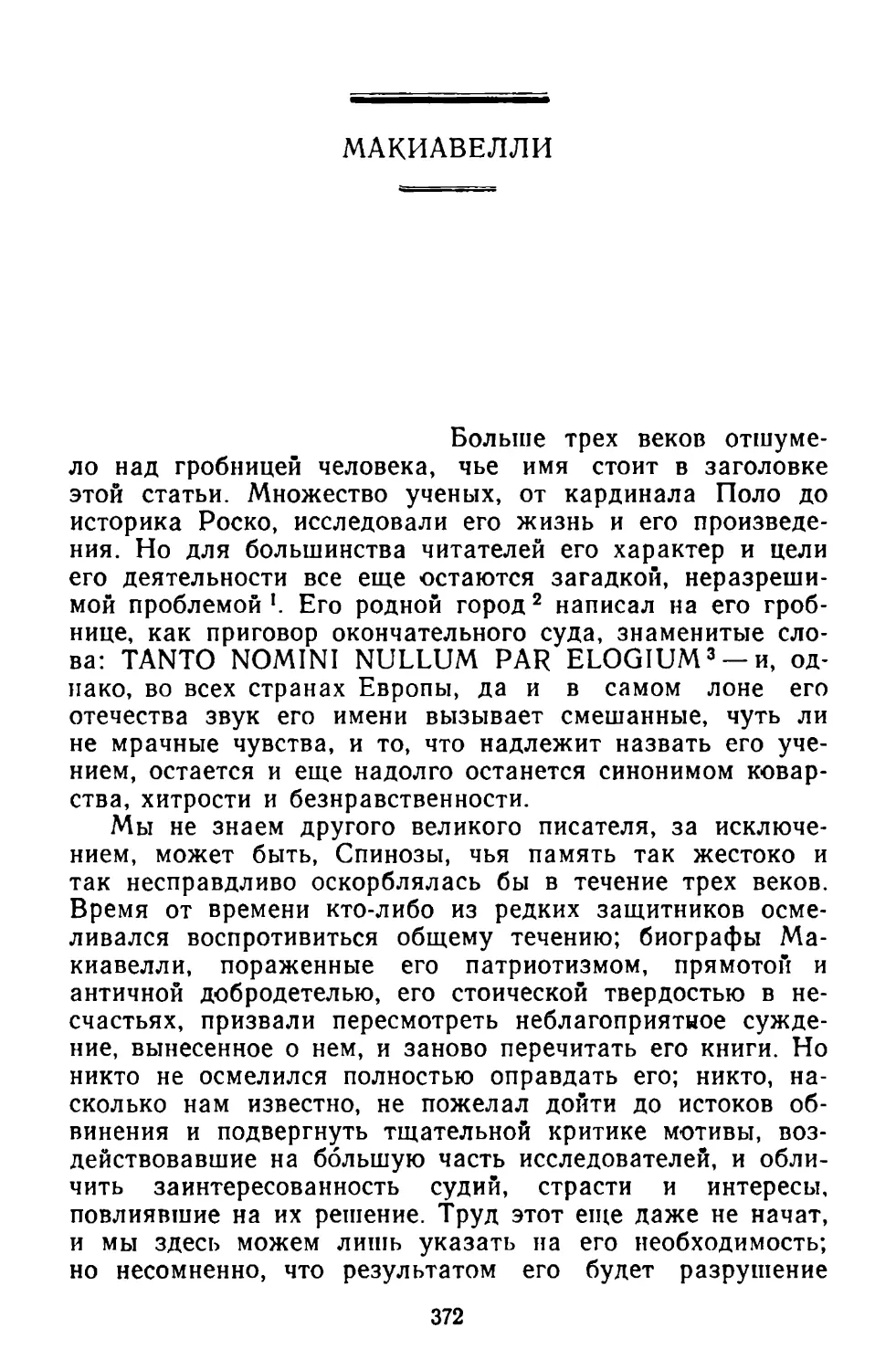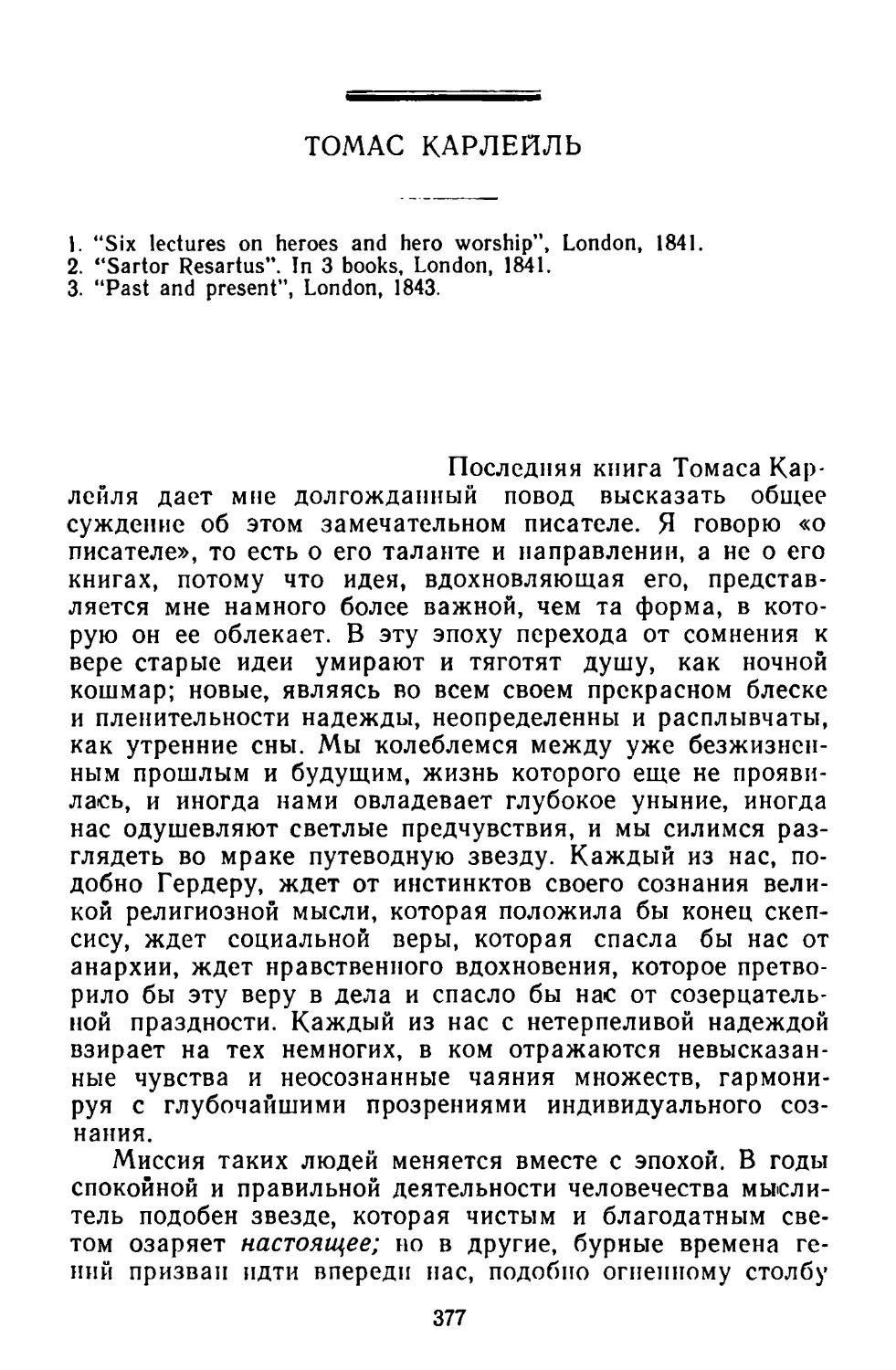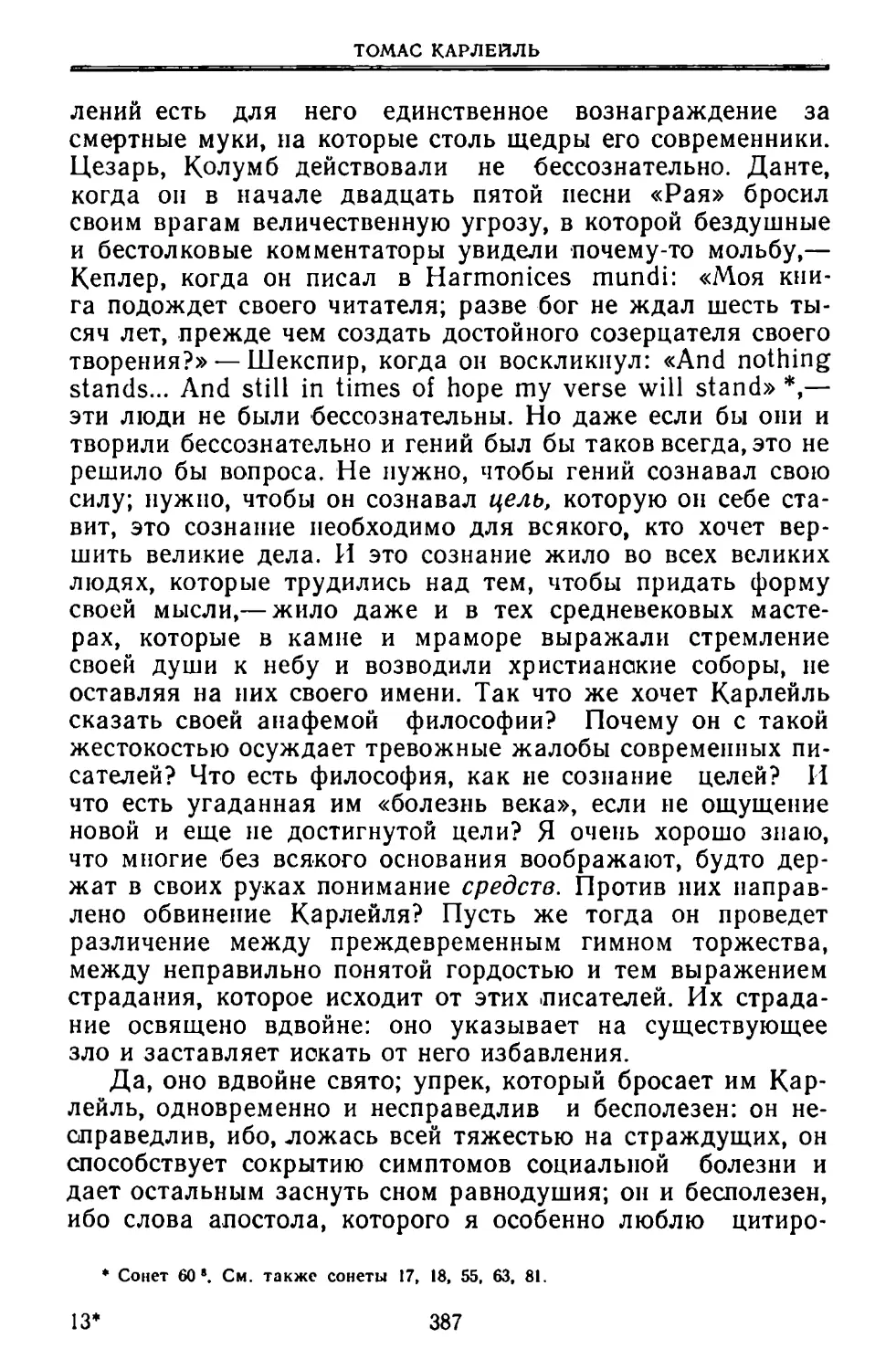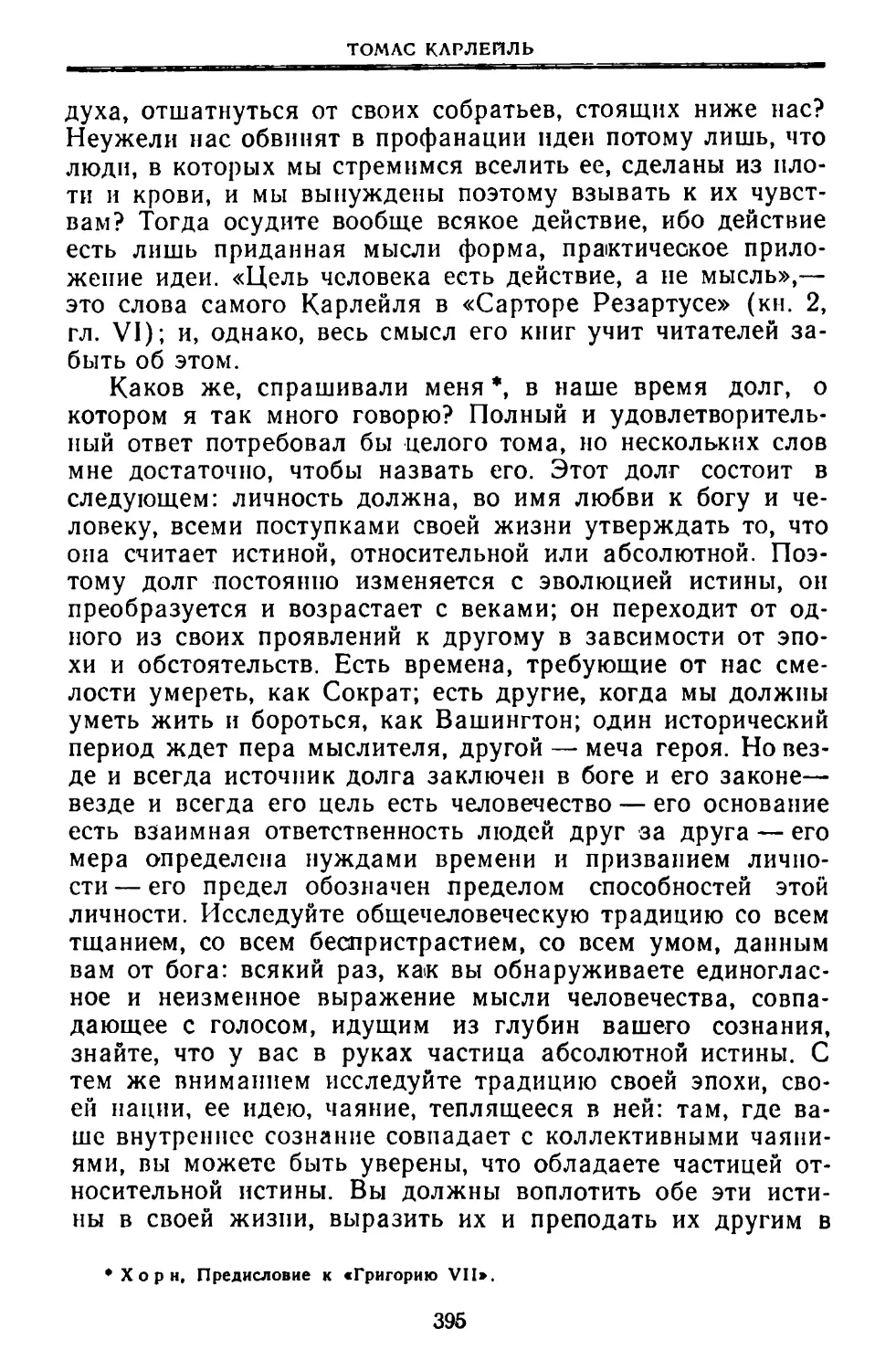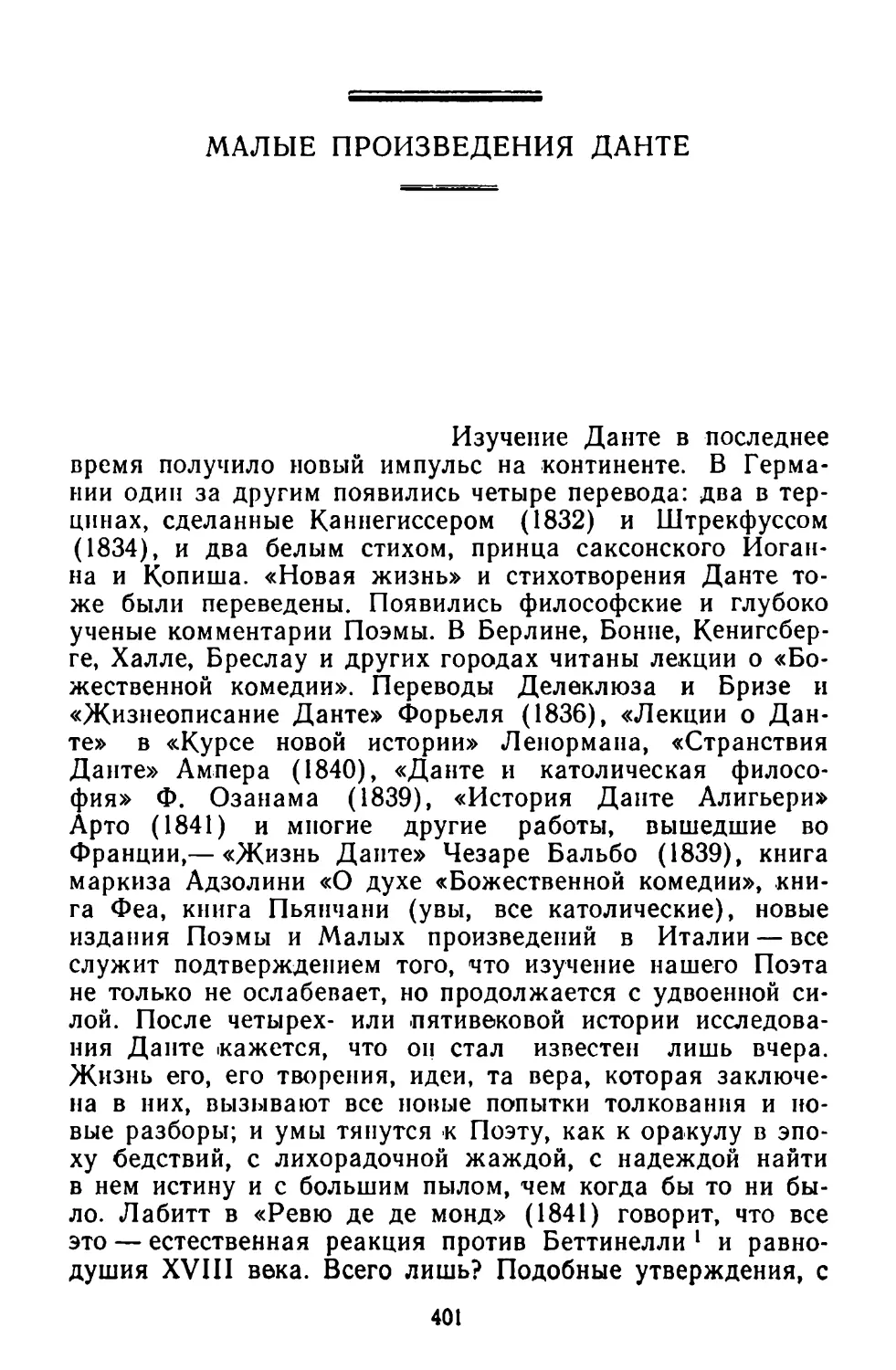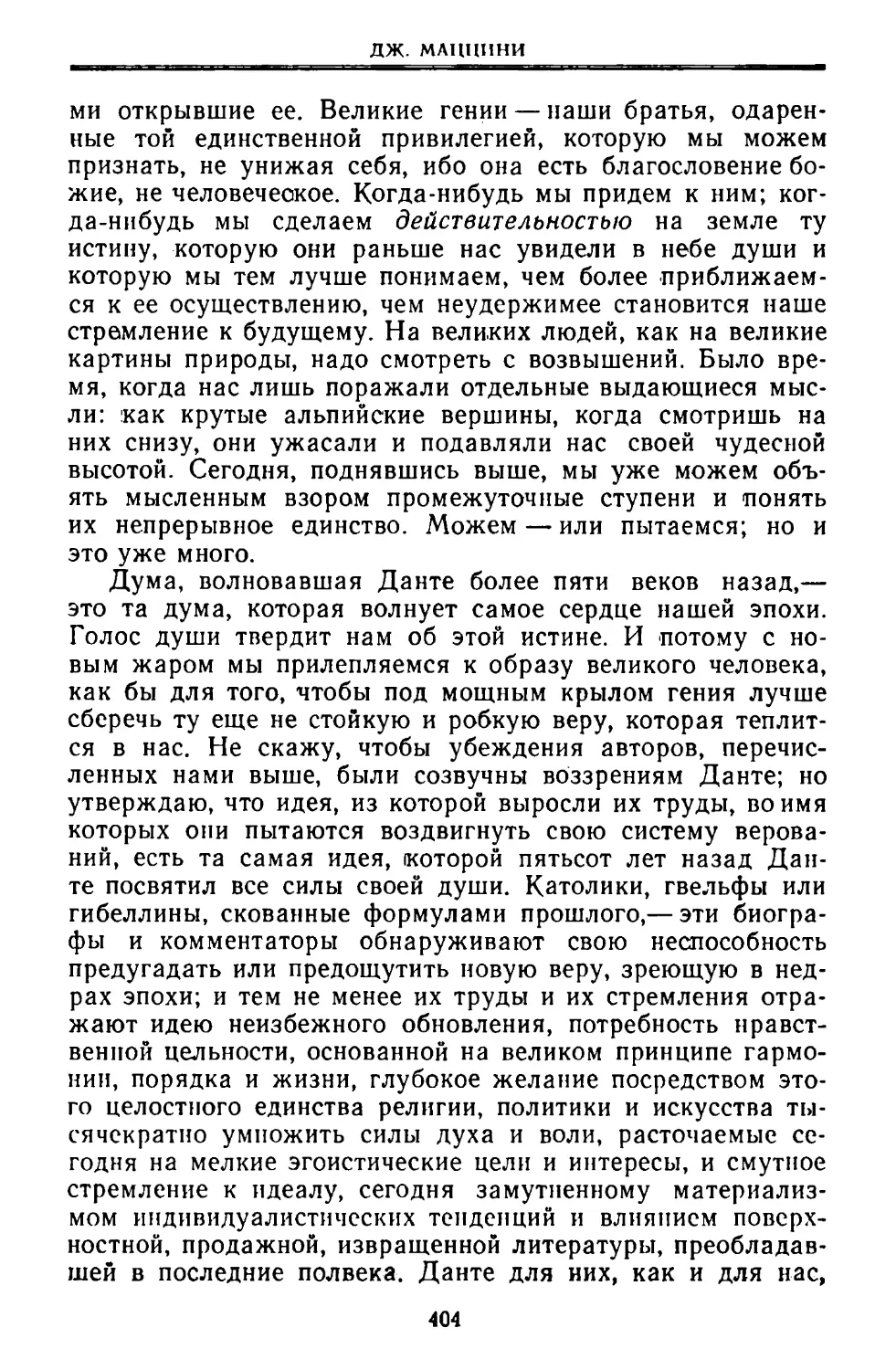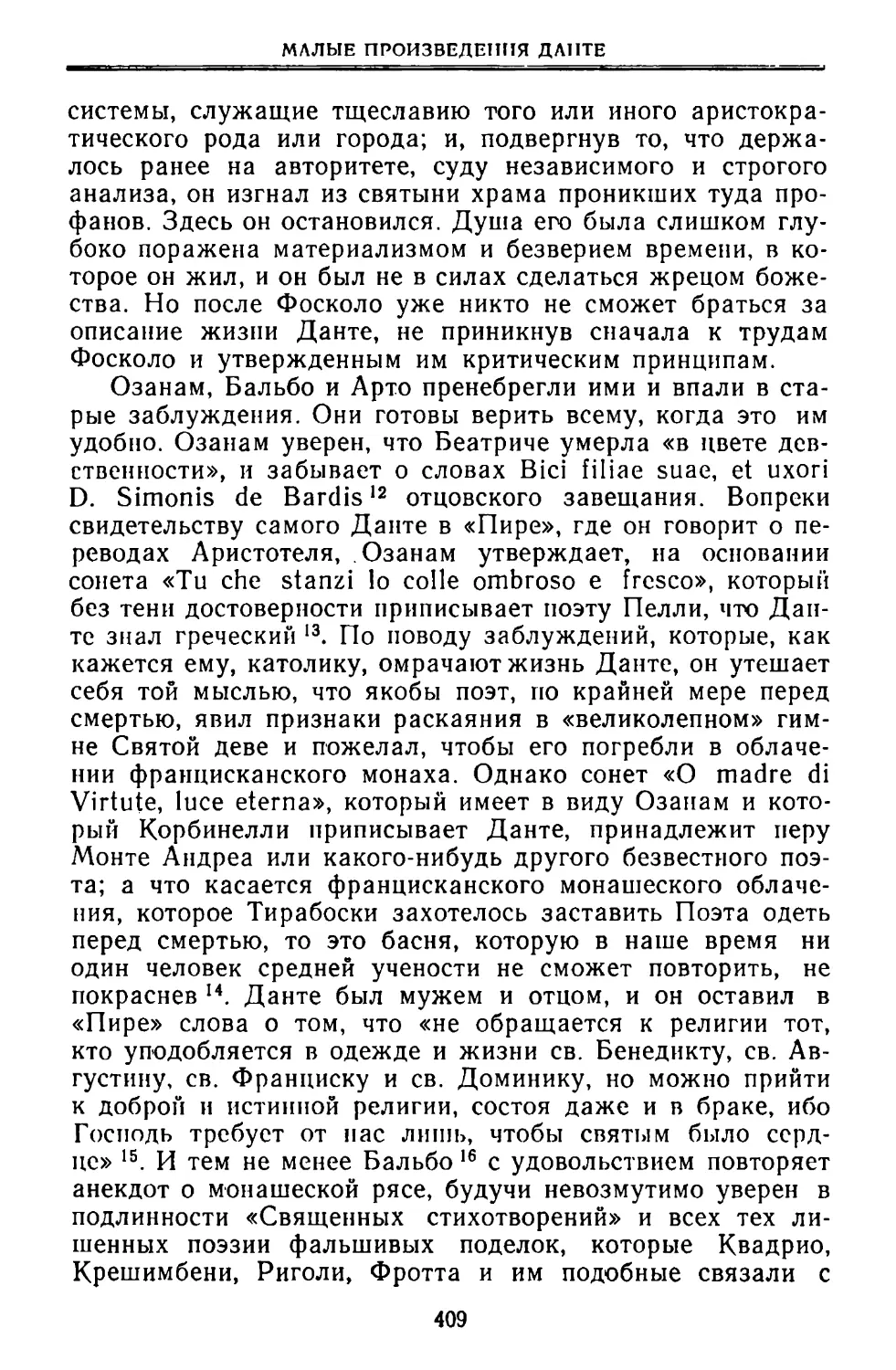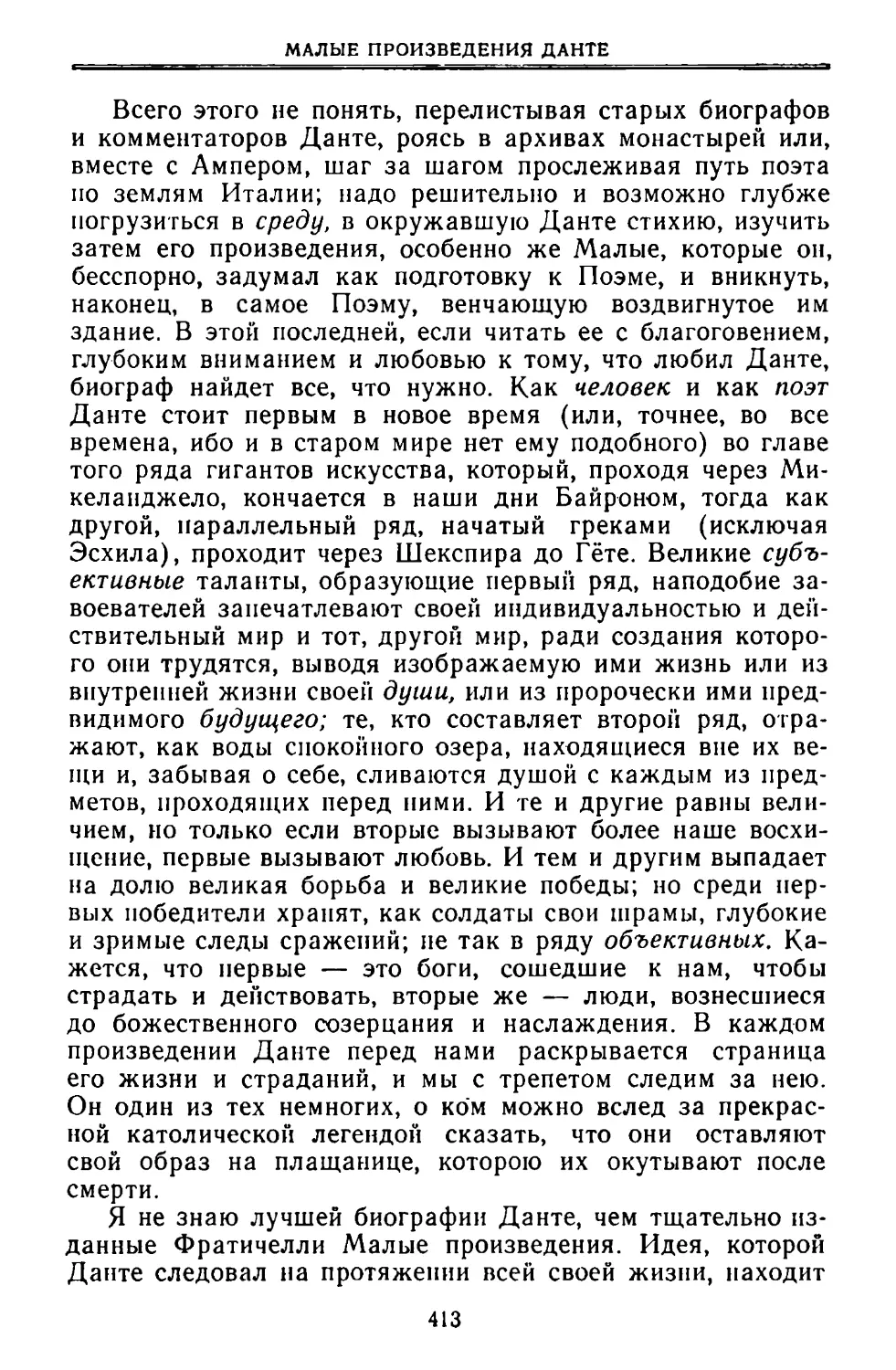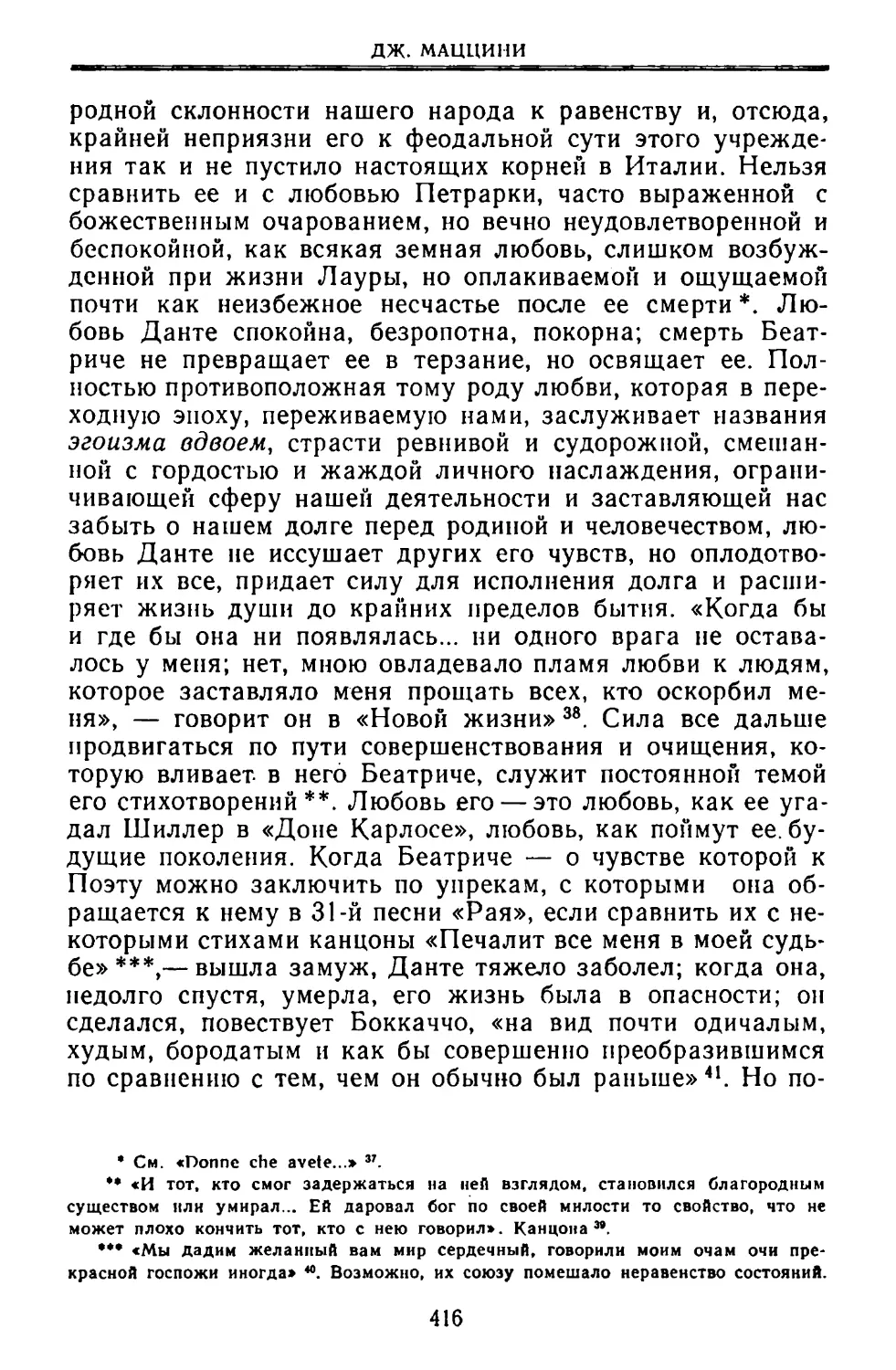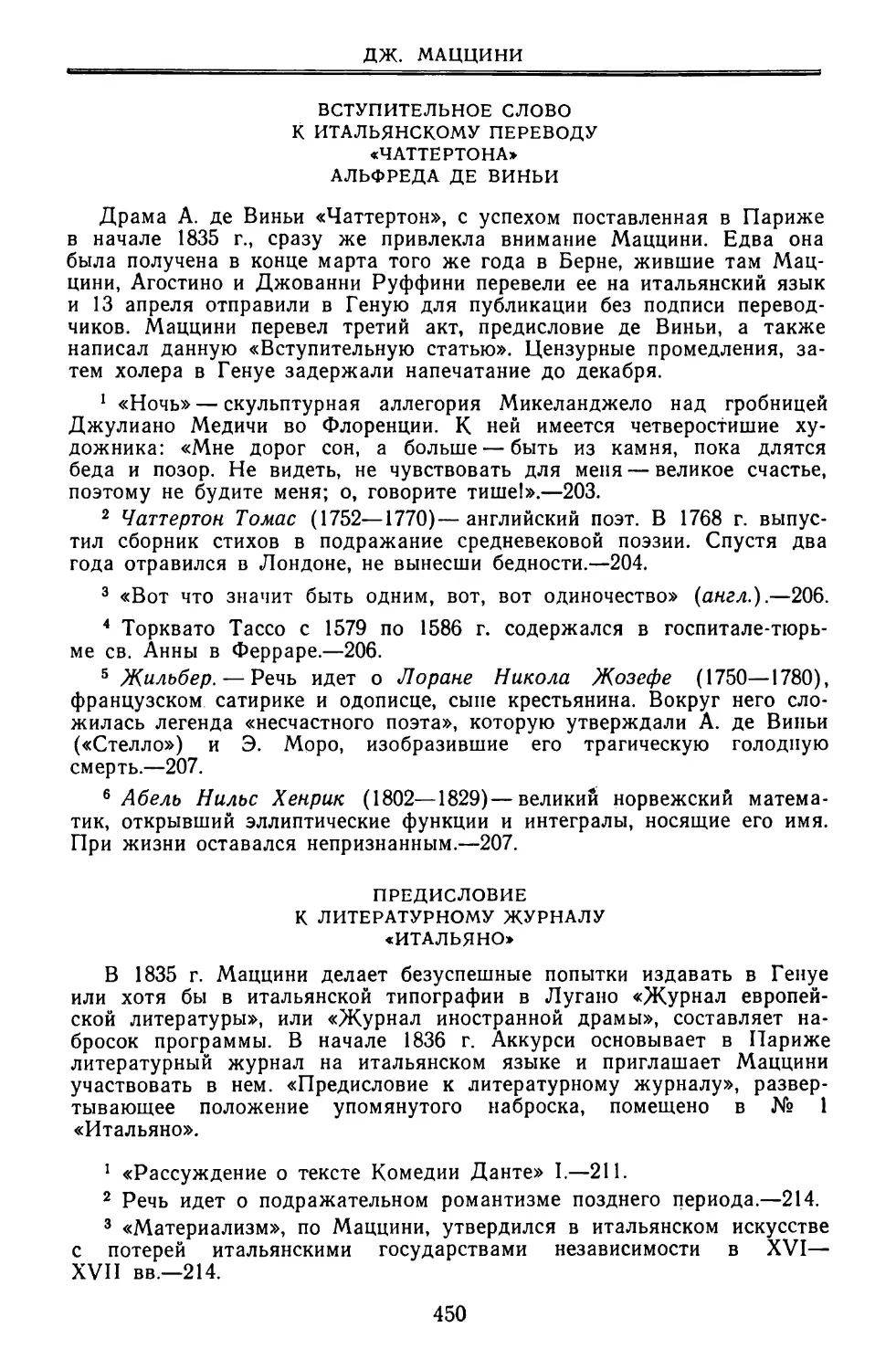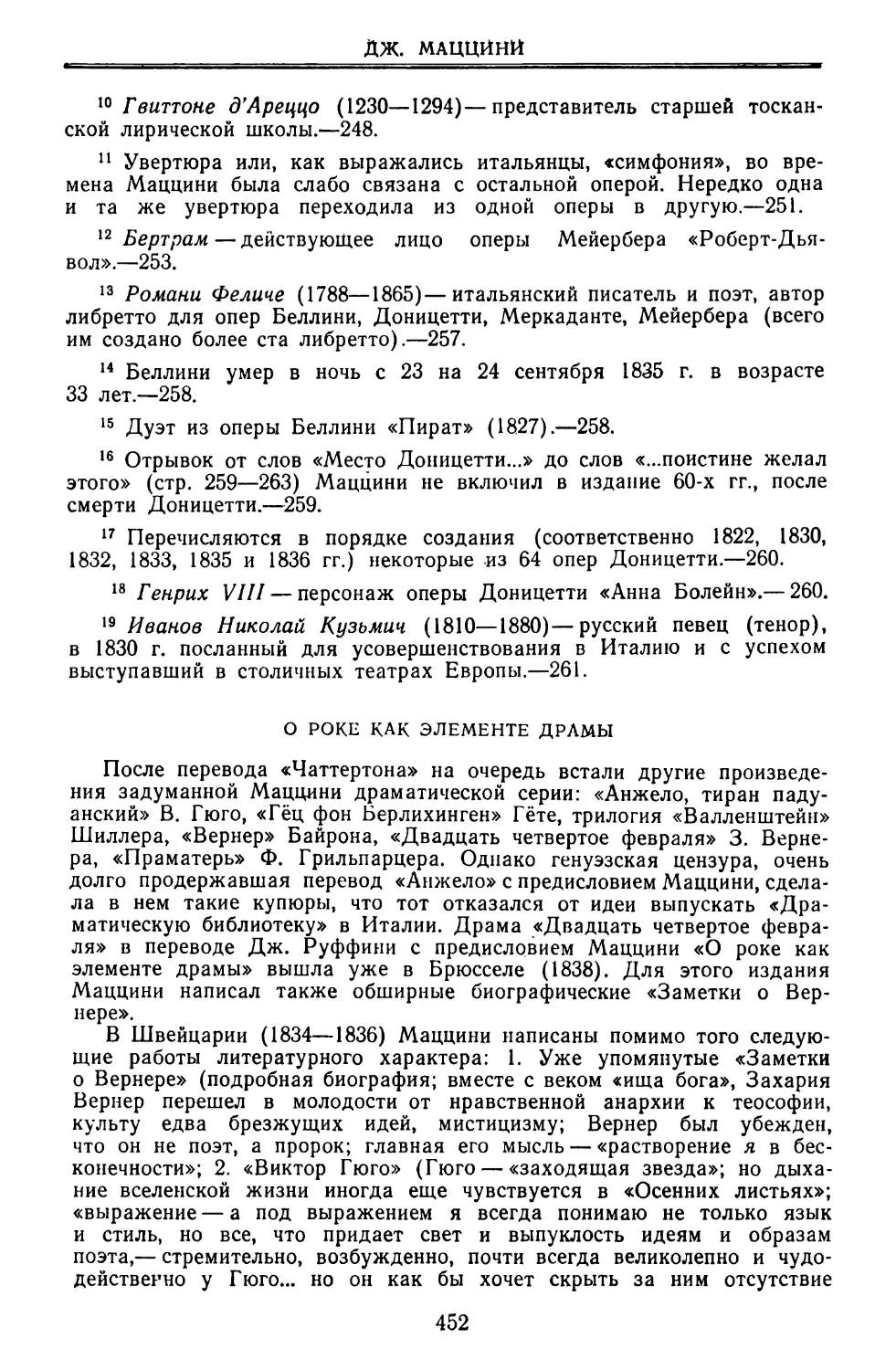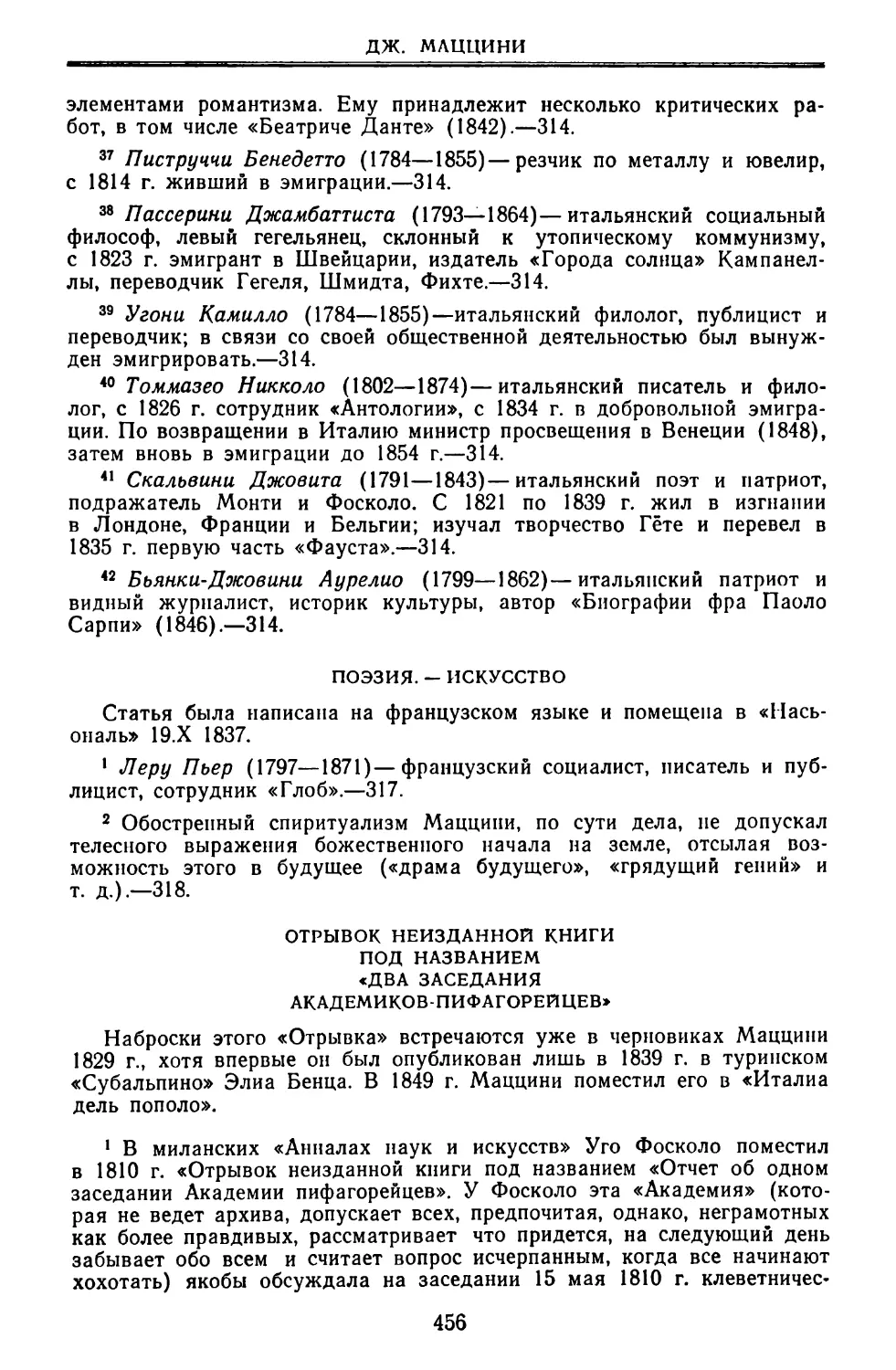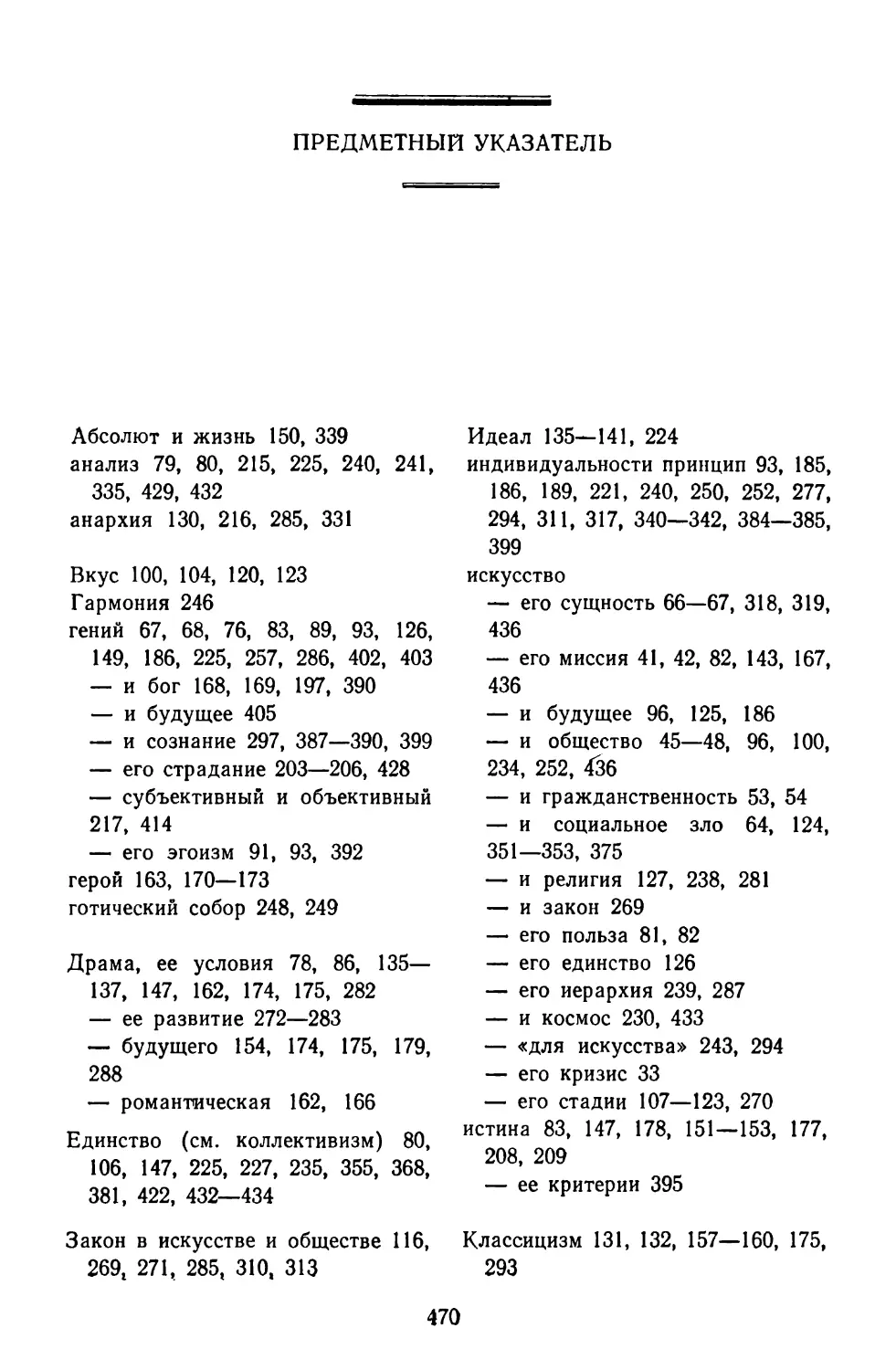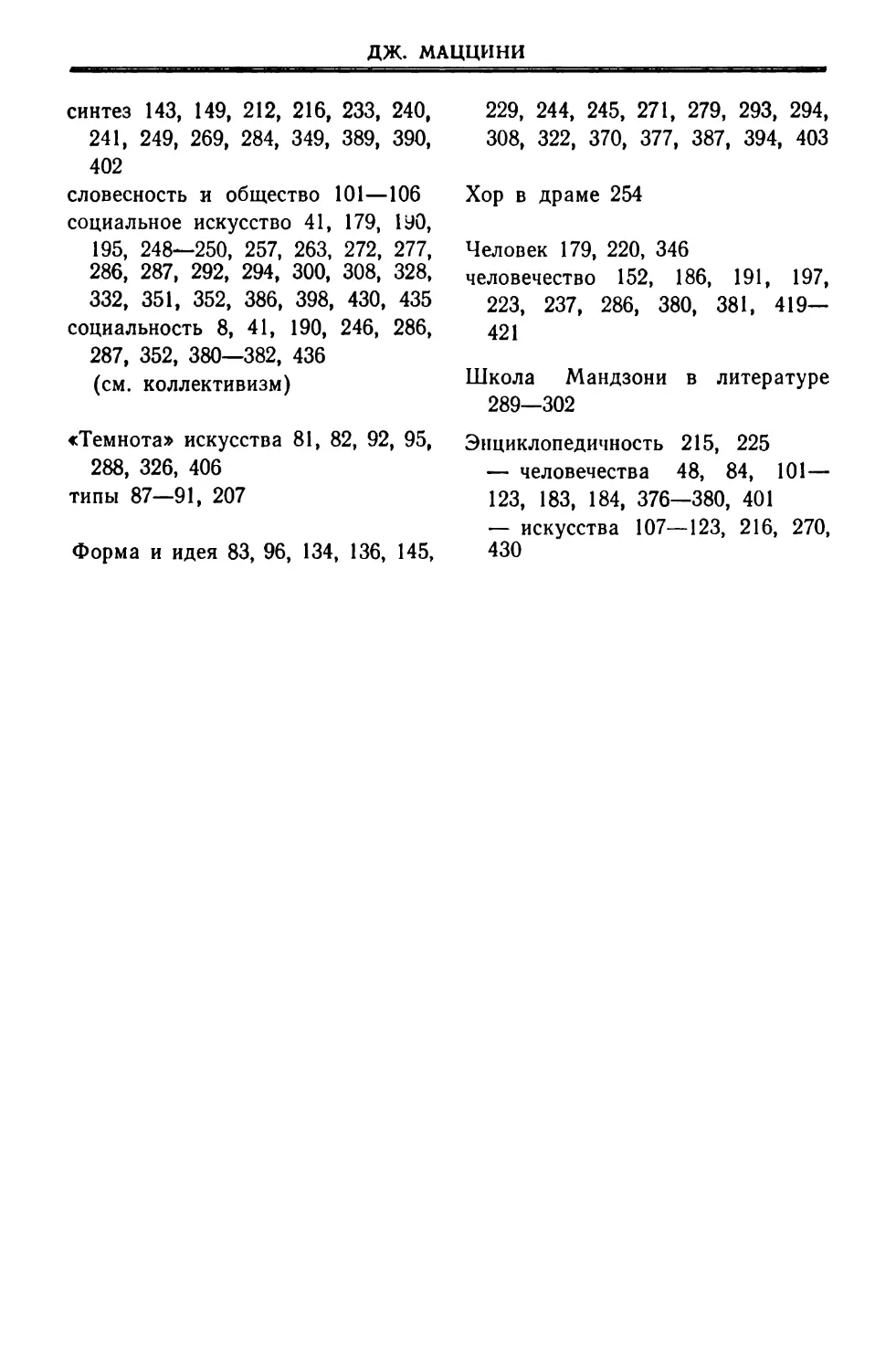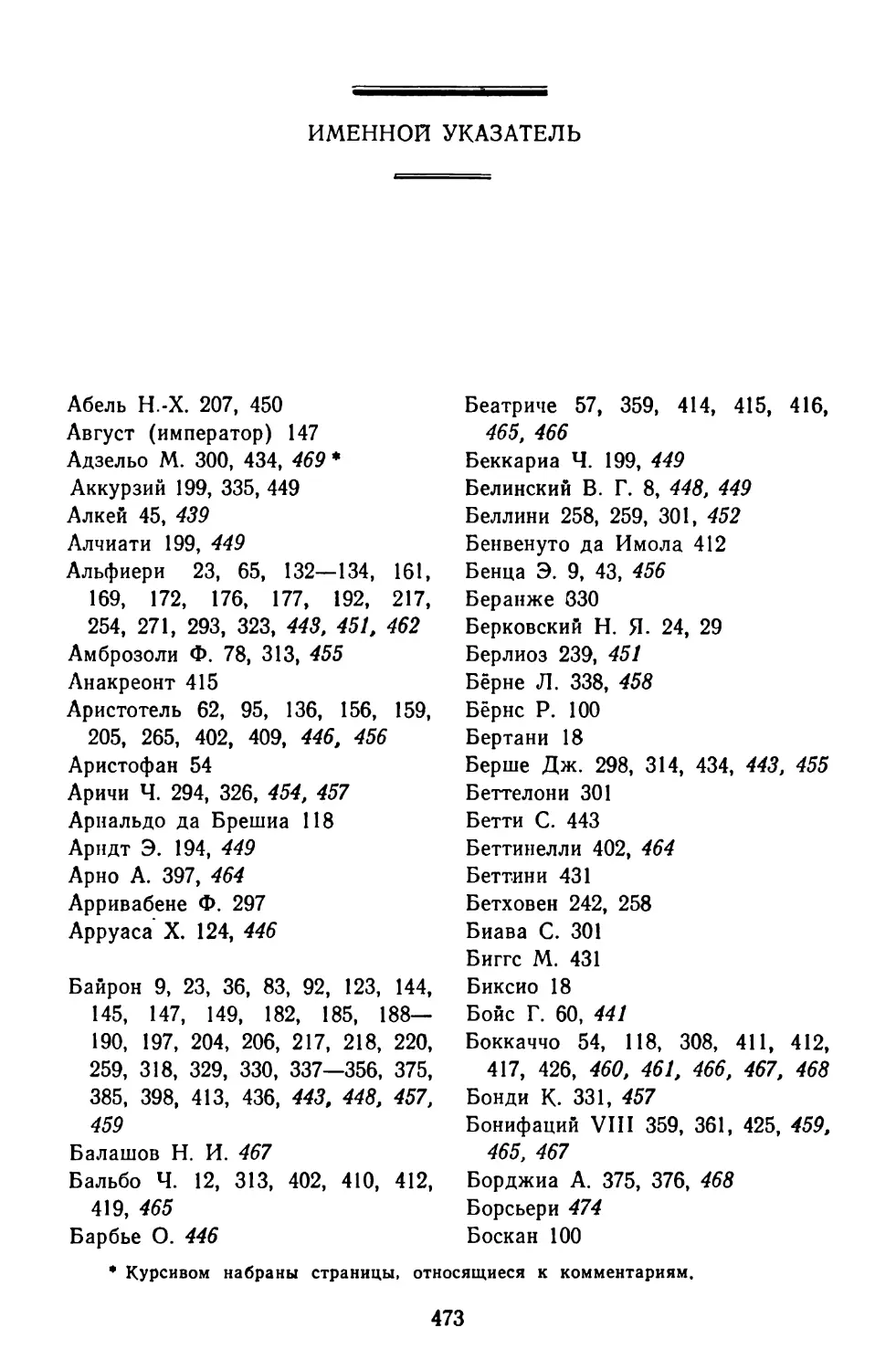Text
ИСТОРИЯ
ЭСТЕТИКИ
В ПАМЯТНИКАХ
И ДОКУМЕНТАХ
ДЖУЗЕППЕ
МАЦЦИНИ
ЭСТЕТИКА
И
КРИТИКА
ИЗБРАННЫЕ
СТАТЬИ
МОСКВА
«ИСКУССТВО»
1976
7
Μ 36
Редакционная
коллегия
Председатель
м. Ф. ОВСЯННИКОВ
А. А. АНИКСТ
В. Ф. АСМУС
к. м. ДОЛГОВ
А. Я. ЗИСЬ
М. А. ЛИФШИЦ
А. Ф. ЛОСЕВ
В. П. ШЕСТАКОВ
Составление,
вступительная статья,
перевод
с итальянского
и комментарии
В. В. БИБИХИНА
10507-028
т 025(01)-76 8’75
© Издательство «Иокусство», 1976 г.
© Скан и обработка: glarus63
СОДЕРЖАНИЕ
В. В. Бибихин
ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
7
ЭСТЕТИКА И КРИТИКА
39
ИЗ «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК»
[ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ]
41
О ЛЮБВИ ДАНТЕ К ОТЕЧЕСТВУ
45
«ПЕРТСКАЯ КРАСАВИЦА»,
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ВАЛЬТЕРА СКОТТА
59
«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, ИЛИ ЖИЗНЬ ИГРОКА»
62
«БИТВА ПРИ БЕНЕВЕНТО»
66
КАРЛО БОТТА И РОМАНТИКИ
74
«ФАУСТ», ТРАГЕДИЯ ГНТЕ
77
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
95
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
129
МЫСЛИ О ПОЭТАХ XIX ВЕКА
183
ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА БОГЕМИИ
201
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К ИТАЛЬЯНСКОМУ ПЕРЕВОДУ
«ЧАТТЕРТОНА» АЛЬФРЕДА ДЕ ВИНЬИ
203
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ЖУРНАЛУ
«ИТАЛЬЯНО»
211
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
229
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
265
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
290
поэзия. — ИСКУССТВО
316
ОТРЫВОК НЕИЗДАННОЙ КНИГИ
ПОД НАЗВАНИЕМ
«ДВА ЗАСЕДАНИЯ АКАДЕМИКОВ-ПИФАГОРЕЙЦЕВ»
321
БАЙРОН И ГЁТЕ
337
ДАНТЕ
357
КОММЕНТАРИЙ ФОСКОЛО
К «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ
367
МАКИАВЕЛЛИ
372
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ
377
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
401
ИЗ ПИСЕМ
429
КОММЕНТАРИИ
438
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
470
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
472
ЗА СОЦИАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
За социальное искусство... Этот ло¬
зунг выражает существо литературно-эстетических работ Джузеппе
Маццини * , великого итальянского революционера и патриота. Историк
эстетики, возможно, остановится перед ними в недоумении. Они плохо
вписываются в линию развития европейской эстетической мысли. За¬
держиваться на их теоретическом содержании трудно уже потому, что
сам их автор сознательно ставил себе отнюдь не теоретические задачи.
От обычных критических работ, даже свободных философствующих
эссе, вращающихся все же всегда в сфере чистой мысли, они очень
далеки. Читатель сразу понимает: это не научные трактаты, это про¬
поведь. Маццини проповедует социальное искусство.
Какое дело нам до проповеди, посвященной почти полтора века
назад злободневным нуждам освободительной борьбы? Живая актуаль¬
ность жарких призывов Маццини для нас, по-видимому, утрачена. Они
вряд ли смогут теперь заражать нас тем энтузиазмом, каким заражали не¬
когда кипевших жаждой свободы и социальных преобразований италь¬
янских патриотов раннего Рисорджименто. Дело даже не только в
разнице эпох. Уже и в Италии конца 20-х и начала 30-х годов про¬
шлого века многих, в первую очередь людей академического склада,
предлагавшиеся Маццини планы «литературной реформы» оставляли
вполне равнодушными. Стоило ли поднимать сейчас эти старые статьи?
Но у Маццини мы находим не только забытую романтическую фра¬
зеологию и кажущиеся нам теперь уже немного наивными воззрения,
в которых много еще от эпохи Просвещения. Маццини — это и непо¬
средственно понятое человеческое чувство, которое помогает осмыс¬
лить линию романтического протеста в европейской культуре XIX века.
Формула «социальное искусство», многократно варьирующаяся на
страницах Маццини и часто им самим подчеркиваемая, кажется вна¬
чале невразумительной. В самом деле, под ней можно понимать и ис-
* Также Мадэини и Иосиф Мадзини. Мы придерживаемся более точной транс¬
литерации, введенной Герценом, Чернышевским, Добролюбовым.
7
ДЖ. МАЦЦИНИ
кусство как социальное служение, и социум как искусство — две со¬
всем разные вещи. Что имеет в виду Маццини: искусство ли должно
проникнуться идеалами общественности или социальное устроение
должно стать само искусством? В текстах Маццини сколько угодно
подтверждений и первому и второму пониманию, что на первый взгляд
только увеличивает наше замешательство. Однако двойственность ис¬
чезает и непонятная расплывчатость формулы превращается в ясную
цельность, если, вчитываясь в Маццини, мы поймем, что ее смысл —
в единстве обоих пониманий. Маццини предвидит и призывает такой
мир, в котором все общество причастно творчеству, и оно творит при
этом само себя как произведение искусства.
«Социальность, социальность — или смерть!» Этот вопль нашего
Белинского, уставшего мириться с «расейскою действительностью»,
невольно приходит здесь на память. Белинский писал эти слова
(В. П. Боткину, 8 сентября 1841 г.) как раз тогда, когда Маццини за¬
канчивал свои последние литературные статьи, решив целиком посвя¬
тить себя революционной борьбе. Русский критик грезил о «золотом
веке», когда осуществится «любимая (и разумная) мечта — возвести до
действительности всю нашу жизнь» *, то есть сознательную жизнь гор¬
стки передовых людей России. Но в силу специфических условий «ра-
сейской действительности» Белинский не имел возможности даже вы¬
сказать в печати свои взгляды. В предреволюционной Италии голос
Маццини громко и широко звучал в многочисленных нелегальных
изданиях. Мало того, идеал единства романтико-поэтического мироощу¬
щения и общественной практики нашел у него не только подробное
литературное выражение; он самоотверженно попытался воплотить его.
Чтобы понять эстетику Маццини не просто как очередную «систе¬
му», пассивный предмет анализа и классификации, чтобы проникнуть в
ее живое содержание, нужно вспомнить о том, как его убеждения пре¬
творялись в «поэзию действия»; точно так же как для того, чтобы
лучше понять пределы и последние выводы воззрений Маццини на
искусство, нужно проследить, к чему он в этом действии пришел.
Джузеппе Маццини родился в Генуе 22 июня 1805 года. Его отец,
профессор анатомии в Генуэзском университете и известный в городе
врач, был умеренным либералом и антиклерикалом — обычное сочета¬
ние для эпохи наполеоновских войн и для Пьемонта, территориально
и культурно близкого к Франции. Огромное влияние на Маццини ока¬
зала мать, Мария Маццини Драго, пылкая религиозная натура, янсе-
нистка. Она рано уверовала в высокое призвание сына и до конца
*В. Г. Белинский, Избранные философские сочинения, т. 1, 1948, стр. 585.
8
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
жизни (умерла она в 1852 г.) оказывала ему беззаветную нравствен¬
ную и материальную поддержку. По признанию Маццини, он воспри¬
нял от родителей культ духовной свободы, неприятие католической
догматики, убеждение в равенстве всех людей, «лишь бы они были
честными и порядочными», идею общественного служения «и, главное,
веру в идеал добра».
Маццини получил юридическое образование в Генуэзском универ¬
ситете. Однако большее значение, чем университетские лекции, имело
для него интенсивное чтение. Судя по сохранившимся (весьма обшир¬
ным) выпискам из книг и библиографическим пометкам, первым увле¬
чением Джузеппе были Руссо, Дидро, Вольтер, Рейналь, Робине, а так¬
же Кондорсе и найденная в библиотеке отца кипа французских газет
1793 года. Позднее, после того незабываемого переживания, каким ста¬
ло для Маццини поражение революции 1821 года в Пьемонте, когда
волна разгромленных повстанцев прокатилась через Геную на пути в
Испанию, он открывает для себя итальянского патриота, страдальца и
изгнанника Уго Фосколо. «Среди бурной и суматошной студенческой
жизни я был мрачным, сосредоточенным, как бы прежде времени по¬
старевшим,— вспоминал Маццини в 1861 году. — «Ортис»* попался мне
тогда в руки и сделал меня фанатиком; я выучил его наизусть» **. Че¬
рез Фосколо Маццини пришел к нравственно-патриотическому понима¬
нию Данте. Впоследствии он испытал сильнейшее влияние Ф. Ламенне
и французской социально-утопической литературы; затем наступило ув¬
лечение Шиллером, В. Скоттом, Байроном и другими романтиками.
В университете вокруг Маццини сложился кружок способных и
деятельных молодых людей: Якопо Руффини, «первый и лучший», му¬
ченически погибший в 1833 году; его брат Джованни Руффини (1807—
1881), впоследствии писатель и общественный деятель; Дж. Э. Бенца
(1802—1890), будущий журналист, политик-демократ, ближайший со¬
ратник Маццини, и другие ***. Энтузиастическая атмосфера прекрасно¬
душия, восторженной гражданственности, сложившаяся среди генуэз¬
ской республиканской молодежи, навсегда определила и литературный и
жизненный стиль Маццини. Он во всем как бы исходит из презумпции
* Роман У. Фосколо «Последние письма Якопо Ортиса» (1802).
** G. Mazzini, Note autobiografiche, Firenze, 1944, p. 5—6.
*** В романе «Лоренцо Бенони» Дж. Руффини под именем Фантазио так опи¬
сал молодого Маццини: «Фантазио прекрасно знал историю и литературу не
только своей страны, но и других народов. Шекспир, Байрон, Гёте, Шиллер бы¬
ли ему столь же близки, как Данте и Альфиери. Слабый и хрупкий телом, он
имел неутомимо деятельный дух, писал много и хорошо как в стихах, так и в
прозе, и не было литературного жанра, в котором он не испытал бы своих сил:
исторические очерки, литературная критика, трагедия... Он был влюблен во вся¬
кую форму свободы, и его гордая натура дышала неукротимым духом бунта про¬
тив тирании и угнетения» (G. R u f f i n i, Lorenzo Benoni, Leipzig, 1861, p. 116).
9
ДЖ. МАЦЦИНИ
чистой непоколебимой юношеской веры в торжество добра, предпола¬
гая эту веру или хотя бы способность к ней в своем читателе *.
В мае 1828 года кружок получил возможность выступать в еже¬
недельной коммерческой газете «Индикаторе дженовезе». Начав с но¬
востей книжной торговли, литературный отдел скоро сделался главным
в газете. В те годы, вспоминал позднее Маццини, «бушевала ожесто¬
ченная война между «классицистами» и романтиками, между старыми
приверженцами литературного деспотизма, опиравшегося на авторитет
двухтысячелетней давности, и теми, кто хотел независимости во имя
свободного вдохновения. Мы, молодые, были все романтиками» **. Ос¬
нованный в 1818 году журнал ранних итальянских романтиков, милан¬
ский «Кончилиаторе», с его девизом «Отечество, совершенствова¬
ние, цивилизация», был закрыт австрийскими властями уже через
год. Флорентийская «Антология», средоточие прогрессивного в италь¬
янской литературе, просуществовала с января 1821-го по март 1833 го¬
да благодаря осторожности и умеренности своей позиции. Во всей
Италии только генуэзский «Индикаторе» открыто проповедовал со¬
циальный прогресс, совершенствование человека, свободу литературы
и искусства от классицистских канонов. Однако уже тогда Маццини
видел в романтической раскованности не самоцель, а лишь начало
грядущего обновления мира. Миссию передовых умов он понимал как
пробуждение народа к новой жизни, литературу — как служение нацио¬
нальному и культурному возрождению.
«Индикаторе дженовезе» был закрыт за «расхождение со взгляда¬
ми правительства» в декабре 1828 года, после того как Маццини объ¬
явил в программе на следующий год, что газета превращается цели¬
ком в литературно-критический орган и начинает выходить вдвое
чаще. Так или иначе были пресечены и другие попытки Маццини вы¬
сказываться в подцензурной прессе. Вскоре в его жизни наступил пе¬
релом.
С марта 1827 года Маццини работал в бесплатной адвокатуре для
бедных. Около того же 1827 года он стал карбонарием. В условиях
монархического произвола карбонаризм казался знаменем всего пере¬
дового и, не в пример беспомощному прекраснодушию либералов, дея¬
тельного в Италии. Однако уже на обряде посвящения Маццини по¬
* «Многие из его произведений (особенно если знакомишься с ними в пере¬
воде) поражают нас сегодня как искусственные, высокопарные и — смею ли ска¬
зать? — немножко странные; но это не вина Маццини, это наша вина. Это наш
недостаток исторического воображения, мешающий нам подняться на ту же вы¬
соту, что и он. Его отправной пункт легко понять: это сотрудничество всех лю¬
дей доброй воли»(Р. W. Pick, Mazzini e il mondo moderno.— In: O. Spinelli,
Mazzini e la cooperazione, Pisa, 1956, p. 42).
** G. Mazzini, Note autobfografiche, p. 6.
10
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
разило, что текст клятвы не содержал ни слова о целях организации,
а был лишь формулой беспрекословного повиновения. Отталкивала
Маццини и сложная символическая обрядность карбонариев. Он полу¬
чил вскоре право посвящения новых членов; в 1829 году им была
организована вендетта карбонариев в Ливорно. Великий магистр Рай-
мондо Дориа, глава генуэзских карбонариев, оказался авантюристом
и шпионом *. В ноябре 1830 года Маццини был арестован как член
запрещенной организации и после двух месяцев тюремного заключе¬
ния поставлен перед выбором: поселиться в деревне без права выезда
или отправиться в эмиграцию.
Меж тем началась революция в Центре Италии. Это повлияло на
выбор Маццини, который надеялся через Францию попасть в восстав¬
шую Романью. Так в феврале 1831 года началось первое, семнадца¬
тилетнее изгнание Маццини. Он отправился сначала в Женеву с ре¬
комендательным письмом к Сисмонди, затем в Лион и Марсель, где
сотни итальянских эмигрантов кипели жаждой дела и строили один
за другим проекты вооруженного вторжения на родину. Однако не¬
слаженность затянула экспедицию до того дня, когда пришло известие
о поражении восставших. Австрийские войска оккупировали Парму,
Модену, Реджо. Вместо того чтобы объединиться, другие города, счи¬
тавшие себя самостоятельными государствами, придерживались «ней¬
тралитета». «События в Модене не касаются нас,— заявило 6 марта
временное правительство Болоньи, — невмешательство есть закон для
нас, равно как и для наших соседей, и никто не должен вмешиваться
в спор между двумя пограничными государствами»** (то есть между
Моденой и Австрией). Семьсот «иностранцев», армия Модены, были
остановлены и разоружены на границе Болоньи. В середине марта ав¬
стрийцы захватили и Болонью; части революционной армии, не поже¬
лавшие сдаться, были разбиты в Римини.
Маццини откликнулся на события в Центре Италии своим первым
политическим произведением, «Ночь в Римини», нарисовав зловещую
картину поля боя, усеянного телами борцов за свободу, преданных
* Сохранилась характеристика Маццини, написанная Р. Дориа для сардин¬
ской тайной полиции. «Я познакомился с ним в 1828 году, и если, отдавая ему
должное, я говорю, с одной стороны, что его нравственный характер безупречен,
следует заявить, с другой, что он — один из опаснейших и влиятельнейших чле¬
нов секты. Когда возбуждены его политические страсти, нет ничего, перед чем он
остановился бы, как это явствует из его планов убить его величество императо¬
ра Австрии и принца Меттерниха. Поскольку он также и весьма замечательный
писатель, его связи с людьми пера в разных странах Европы очень широки, а
его энергия такова, что все близкие к нему подпадают под его влияние»
(E. E. Y. Hales, Mazzini and the secret societies, London, 1956, p. 47).
** G. Mazzini, Note autobiografiche, p. 59.
11
ДЖ. МАЦЦИНИ
дипломатами и нерешительными вождями *. В апреле на трон Сар¬
динского королевства (Пьемонта) вступает Карл Альберт, бывший кар¬
бонарий, участник революции 1821 года, и Маццини пишет свое изве¬
стное «Письмо Карлу Альберту», призывая короля провозгласить «един¬
ство, свободу, независимость» и начать своим правлением «новую эру,
эру будущего» **. Конечно, сам Маццини мало надеялся на успех свое¬
го призыва. Столь же мало надеялся он на успех и впоследствии, об¬
ращаясь к римскому папе, к преемнику Карла Альберта, к Наполео¬
ну III. И все же дело здесь было не только в желании получить ши¬
рокую политическую трибуну. Сказывалась неистребимая утопическая
вера Маццини в преображение человеческого сознания, даже сознания
короля или папы, под воздействием несомненной истины; и он был
уверен, что эта истина открыта всем, кто с доброй волей к ней стре¬
мится.
В том же 1830 году Маццини организует, пока среди итальянских
изгнанников во Франции и Швейцарии, тайное общество «Молодая
Италия». Оно что-то заимствовало от карбонаризма: обряд посвяще¬
ния, трехступенную иерархию членства, условные жесты, пароль («Те¬
перь и навеки»), тайные имена (для чего брались имена героев италь¬
янской истории). Но если у карбонариев не было политической прог¬
раммы, то в уставе «Молодой Италии» было уже записано: исходя из
веры в бесконечный прогресс человечества по пути свободного и гар¬
монического развития всех его способностей и сознавая миссию че¬
ловечества во вселенной, организация ставит целью объединение Ита¬
лии, установление Республики, возрождение страны, а затем всемирное,
во главе с Италией, обновление человечества на началах духовного
братства! Даже простое объединение Италии крупный либеральный
политик и историк Ч. Бальбо называл в начале 1840-х годов «ребя¬
чеством, грезами учеников риторики»***, а граф Кавур в 1856 году —
«глупой шуткой» ****. Маццини оказался единственным безусловным
* «...И тогда невнятный гул пронесся по полю, через рвы, среди павших,—
писал Маццини. — Это были голоса, обессиленные смертной мукой, бессвязные
возгласы боли, крики ярости, судорожные моления. Были видны лица бледные,
как лица привидений; они поднимались здесь и там от земли, чтобы бросить
свое последнее проклятие; были видны окровавленные пальцы, изуродованные ру¬
ки, вздымающиеся в жесте угрозы и вновь упадающие. Умирающие и мертвые
проклинают вас!»
♦♦Guiseppe Mazzini, Scritti editi ed Inediti. Edizione nazionale, vol.
1—101, Imola, 1906—1951, vol. 2, pp. 33—36. Далее сочинения Маццини цитируются
в тексте по этому изданию. Цифры в скобках указывают: первая —том, вто¬
рая — страницу. Исключения оговорены.
*** См.: E. Serra, Italiano prima del tempo.— ”11 messageno", 1972, marzo,
Nr 12, p. 3.
**** Cm.: L. Salvatorelli, Spiriti e figure del Risorgimento, Firenze, 1961,
p. 336. От падения Римской империи в 476 году до 1861 года Италия дроби-
12
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
сторонником, а также активнейшим проповедником итальянского един¬
ства вплоть до его провозглашения в 1860 году, тогда как «умеренные»
почти до этого самого времени колебались и сомневались.
Но как раз отсюда особенно ясно, что максимализм Маццини, ко¬
торый шел даже еще гораздо дальше единства, вытекал не столько
из трезвого учета политических условий, сколько из утопической меч¬
ты, был властным вторжением поэзии и романтизма в социальную прак¬
тику. А. И. Герцен справедливо характеризовал учение Маццини как
«революционный романтизм, идеально-восторженное воззрение на судь¬
бы народов», в котором «бездна поэзии, напоминающей нам нашу
юность» *. Маццини был, по существу, не политиком, а реформатором
идеологии, и его сила была не в реалистической оценке ситуации, а
в проповеди, апеллирующей к идеалам романтического гуманизма.
Для многих современников осталось неясным, что, даже говоря о един¬
стве Италии, Маццини мыслил отнюдь не административное объеди¬
нение, а то возвышенное «единство всех и братство со всеми», которое
он предвидел в статье «О единой европейской литературе».
Годы 1831—1833 были наполнены для Маццини и итальянской ре¬
волюционной хунты в Марселе лихорадочной, тревожной, но и радо¬
стной деятельностью. В 1833 году речь шла уже о 60 тысячах членов
«Молодой Италии», рассыпанных по всей стране. Маццини влекло,
увлекая за ним и окружавших, «инстинктивное предчувствие всеоб¬
щего кризиса, который нарастает с невероятной быстротой» (4, 348);
ему казалось, что он слышит «глухой шум, который производит вре¬
мя, пожирая свою добычу: целая эпоха обрушивается кусками, облом¬
ками, как разлагающийся труп» (6, 117). «Будущее — вот что нужно
изучать, рассчитывая основания организаций,— писал он.— Встать
между настоящим и будущим, раскрыть это будущее, направить к нему
волю и усилия всех и таким путем смягчить резкий и опасный пере¬
ход, который совершился бы по одной логике вещей, если бы умы не
были подготовлены к изменению — вот роль организаций, как мы их
себе представляем» (4, 38). Человечество недаром в течение тысячеле¬
тий накапливало уроки, проходя одну за другой ступени историческо¬
го развития; теперь наконец оно готово было вступить в эпоху зри-
лась на несколько государств. Единства не дал ей и Наполеон. По решению Вен¬
ского конгресса (9/VI 1815 г.) она разделялась на семь государств: Ломбардско-
Венетское королевство (под эгидой Австрии), королевство Сардинии, обеих Сици-
лий (все эти три — абсолютные монархии), Папское государство, герцогство Мо¬
дена, Парма и эрцгерцогство Тосканское. Модена зависела от Австрии, держав¬
шей под своим влиянием и другие государства полуострова и препятствовавшей,
в частности, превращению Сардинского королевства в конституционную монар¬
хию. В Неаполе и Парме правили Бурбоны, Папское государство опиралось на
военную помощь Франции.
* А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 14, стр. 33.
13
ДЖ. МАЦЦИНИ
мого, окончательного воплощения своих нравственно-эстетических
откровений.
«Всеитальянская революция» была назначена на август 1833 года.
Весной этого года в Пьемонте два интендантских сержанта в пьяном
споре проговорились о своей принадлежности к «Молодой Италии»,
были схвачены и допрошены; обнаружилась широкая тайная сеть в
армии и среди населения. Расправа Карла Альберта была неслыханно
жестокой по тем временам: десять военных и двое штатских расстре¬
ляны, многие арестованы. Обманутый следователем, якобы преданный
друзьями, Якопо Руффини вскрыл себе в камере вену выдернутым из
дверного косяка гвоздем. Маццини был заочно приговорен к смертной
казни.
С удвоенной энергией он продолжает готовить восстание. Пресле¬
дования французских властей сделали невозможным его пребывание в
Марселе; он уезжает в Женеву, бросив в гневных статьях обвинение
Луи-Филиппу и его правительству, предавшим революционные прин¬
ципы 1830 года. Летом 1833 года всеитальянское восстание считается
подготовленным; предписания разосланы, приказ дан. Тянутся дни
ожидания, проходят все сроки прибытия итальянской почты в Женеву.
Ни в одном городе никто не двинулся с места.
Маццини наполняет отчаянная решимость: нужно показать, как
умирают за Италию. Он организует в Швейцарии добровольческий от¬
ряд из итальянских, немецких и польских изгнанников, командовать ко¬
торыми приглашен эмигрант генерал Раморино, ветеран русской кам¬
пании Наполеона, сражавшийся в Польше в 1830 году; ему в Париж
посланы последние деньги революционного фонда и обещаны в Женеве
семьсот человек. Выступление назначается на конец декабря; Рамори¬
но прибывает лишь 31 января 1834 года, без денег и без оружия; на
место сбора приходит около двухсот человек. Отряд идет вдоль гра¬
ницы Сардинского государства; Маццини умоляет Раморино немед¬
ленно направиться в глубь страны, развернув знамена, на которых
начертано: «Бог и народ», «Свобода, Равенство, Человечество». С ме¬
фистофелевской улыбкой Раморино советует ему не торопиться. Отряд
захватывает пограничный пост и арестовывает таможенную кассу; по¬
граничники разбегаются без сопротивления. Собравшийся народ очень
настороженно встречает призыв пополнить боевые ряды. У революцио¬
неров нет теплой одежды, ими овладевает сомнение, сам Маццини в
жару и лихорадке, он давно не спал. Задремав на минуту ночью, он
слышит выстрел. Наконец-то! Схватив ружье, он выбегает, чтобы
сразиться в долгожданном бою, но ему говорят, что часовой поднял
ложную тревогу. Маццини падает без чувств и приходит в себя на
руках у друзей, которые сурово спрашивают у него: «Что ты принял?»
Они подозревают ампулу с ядом, приготовленную на случай пленения.
14
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Маццини кажется, будто его спрашивают, что он взял у врагов револю¬
ции, чтобы предать товарищей, и он снова теряет сознание. Меж тем
Раморино спешно объявляет о роспуске отряда и уезжает в Париж.
11 февраля в Генуе молодой военный моряк и поэт Джузеппе Гари¬
бальди, принятый в Марселе в «Молодую Италию», покинув корабль,
приходит на площадь Сарцано, откуда должно начаться нападение на
казармы в целях поддержки экспедиции Маццини, и не встречает в
условленном месте ни души. Чудом избежав ареста, он пробирается за
границу и оттуда в Южную Америку; правительство заочно пригова¬
ривает его к смертной казни.
История этой савойской экспедиции — прообраз всех будущих
больших и малых вооруженных выступлений и «конспираций» Мацци¬
ни, которых уже в 1858 году было на его счету не менее двадцати
(61, 7). Полным нежеланием учитывать реальную обстановку, надеждой
лишь на возвышенный энтузиазм Маццини в конце концов настроил
против себя всех сколько-нибудь «реальных» революционеров, даже
Гарибальди, ссора с которым отравила последние годы его жизни. Но
самого Маццини практический неуспех не мог поколебать; напротив, он
гордился тем, что чистота его идеала не запятнана никаким практи¬
ческим расчетом! После каждого поражения еще более страстными и
убежденными становились его призывы; именно публицистика Мацци¬
ни, разбудив не одно поколение революционеров и демократов, и обус¬
ловила его роль в итальянском Рисорджименто. «Как бы различны ни
были мнения людей о личности римского триумвира,— писал К. Маркс
по поводу опубликования в Италии манифеста Маццини «Война» в
1859 году,— никто не станет отрицать, что в течение почти тридцати¬
летнего периода итальянская революция связана с его именем» *.
В Швейцарии (1833 — конец 1836 г.) Маццини издает журнал, вы¬
ступает в швейцарской и французской печати; вокруг него группиру¬
ются около двадцати немецких, польских эмигрантов и швейцарских
радикалов, и в 1834 году возникают «Молодая Польша», «Молодая
Германия», «Молодая Швейцария», наконец, «Молодая Европа» — ор¬
ганизации, призванные «конституировать» Человечество таким образом,
чтобы оно могло как можно быстрее приблизиться, идя путем непре¬
рывного прогресса, к открытию и осуществлению управляющего им
Закона» (4, 9). В Швейцарии написана книга «Вера и будущее» (1835),
которую Маццини считал своим лучшим произведением. Он вновь об¬
ращается к литературе и искусству, задумывает издание «Библиотеки
мировой драмы», переводит. Под давлением австрийской, русской и
итальянской дипломатии швейцарское правительство высылает его из
страны. С января 1837 года Маццини — в Англии.
* К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 13, стр. 381.
15
ДЖ. МАЦЦИНИ
Нужна была целеустремленность Маццини, чтобы не пасть духом
без средств и без работы в незнакомой стране. Благодаря журналист¬
скому таланту и редкой трудоспособности Маццини становится лон¬
донским корреспондентом парижской «Монд» и уже в конце 1837 года
помещает первые политические и литературные статьи в английских
журналах. Англия вскоре становится его второй родиной. Среди его
друзей и знакомых здесь были Т. Карлейль, позднее А. Герцен, Дж.
Ст. Милль, романистка Элизабет Гэскелл, Р. Браунинг, Ч. Диккенс.
Маццини приобретает здесь также учеников и последователей *.
Большую роль сыграла для Маццини близость к итальянским тру¬
дящимся в Лондоне. «Чтобы доказать Вам, что у неграмотных, у
«бедных духом» больше хорошего, чем у интеллигенции,— писал Мац¬
цини матери в 1840 году,— скажу, что некоторые итальянские рабочие,
присутствовавшие на польском собрании, где я сказал несколько слов,
договорились на следующий день с другими и решили заняться на¬
циональным воспитанием своего класса, здесь, в Англии, довольно зна¬
чительного; поэтому они послали ко мне двоих своих товарищей про¬
сить указаний, советов и проч., предлагая помесячно складываться,
чтобы можно было перепечатывать или печатать что-либо для них»
(19, 25). На эти взносы был основан журнал «Апостолато пополаре»,
выходивший с ноября 1840-го по сентябрь 1843 года. Маццини орга¬
низовал в Лондоне «Союз итальянских рабочих», бесплатную школу
(аналогичные школы для рабочих открылись затем в Нью-Йорке и Бос¬
тоне). «В первый период нашей жизни мы работали для народа, но
не с народом,— пишет Маццини в мае 1840 года.— Нужно сделать
это теперь... Поэтому я пытаюсь обратиться к многочисленному и здесь
классу, которым до сих пор пренебрегали: классу наших рабочих» (19,
119). Это не значит, что Маццини перешел на пролетарские позиции.
Он всегда призывал рабочих уважать частную собственность; в улуч¬
шении их экономического положения он не шел дальше кооперации и
ассоциации **. Установка на сознательность и жертву помимо всяких
экономических факторов и привела его впоследствии к известной по¬
лемике с Марксом по вопросу Интернационала и Парижской коммуны.
В 1837—1843 годах Маццини пишет крупные критические статьи
о Гюго, Ламартине, Ж. Санд, Карлейле, итальянской живописи, статьи
«Байрон и Гёте», «Малые произведения Данте», в 1842—1843-х издает
в Лондоне «Божественную комедию» Данте. Но литературная дея¬
тельность все менее удовлетворяет Маццини. В нем крепнет уверенность,
• Известности Маццини в Англии способствовало, в частности, разоблачение
им в 1844 году министра почт Грехема в связи с перлюстрацией писем на лон¬
донском почтамте (см.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 27, стр. 227).
** К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 17, стр. 396.
16
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
что шествие нации и всего человечества к жизни в идеале не¬
возможно без некоего «сотрясения сознания», которое решительно сме¬
стило бы «ось мышления» людей. «В Италии нужны теперь ружья,
а не стихи. Рабов не перевоспитать, не сделав их прежде свободны¬
ми»,— говорит Маццини в 1843 году (24, 76). От 1844 года он ждет
«великих событий» (там же). Он предпочитает теперь воздействовать
на сознание людей непосредственно, через конспирацию.
Маццини строго отличает конспирацию от заговора. Заговор —
это презренная хитрость рабов. Конспирация, «соустремление» едино¬
мышленников— это решительный прорыв человеческой воли из давя¬
щего мрака косной действительности в светлое и живительное буду¬
щее, реальное начало подлинной истории человечества, создание пер¬
вого очага истины и единства: единства мысли и действия, традиции
и будущего, земли и неба. Так и только так понимает отныне Мац¬
цини «воспитание». Для него остается лишь одно дело на земле: «Ита¬
лия должна восстать; этот долг не подлежит обсуждению, его надо
чувствовать, и жалок итальянец, не понимающий этого» *.
Революционная борьба окончательно вытесняет литературу. «Мац¬
цини, теряя сегодня друзей, деньги, едва ускользая от цепей и виселицы,
становится завтра настойчивее и упорнее, собирает новые деньги, ищет
новых друзей, отказывает себе во всем, даже в сне и пище, обдумы¬
вает целые ночи новые средства и действительно всякий раз создает
их, бросается снова в бой и, снова разбитый, опять принимается за
дело с судорожной горячностью» **. Среди неустанных «конспираций»
и попыток восстания Маццини пишет и выступает, издает газеты и
журналы, выпускает отдельными оттисками обращения и воззвания к
итальянской молодежи, рабочим, солдатам, организует сборы,
подписки, займы, общества, союзы, комитеты, кооперативы, профсоюзы,
и все это вместе образует ту школу идейного республиканства и ради¬
кализма, через которую прошли так или иначе все деятели Рисорджи-
менто.
Революционные бури 1848—1849 годов ожидались Маццини с не¬
терпением. Его влияние на народные настроения было уже весьма ве¬
лико, все политические партии так или иначе стремились использо¬
вать его авторитет. Но чем вернее верх берет буржуазный практи¬
цизм, тем тягостнее предвидит Маццини неосуществимость своей
* Из призыва к национальной подписке на 10 тысяч ружей, которые должны
быть вручены первой восставшей провинции (57, 3).
♦* А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 10, стр. 69. С этим
портретом Маццини у Герцена перекликаются восторженные строки об «упругой
человечьей энергии, неуклонном стремлении к цели», написанные под влиянием
чтения Маццини А. М. Горьким (М. Горький, Собрание сочинений в 30-ти то¬
мах, т. 28, стр. 263—264).
17
ДЖ. МАЦЦИНИ
мечты. Его письма свидетельствуют о тяжелейшей душевной
драме. «Я грустен, расслаблен, разбит, не знаю, что во мне происхо¬
дит,— пишет он Жорж Санд (37, 331).— Надежда, по крайней мере
в том, что касается нас, умерла... Мы мечтали: вы — о народной рево¬
люции для Франции, о днях братства; я для Италии — о приходе На¬
циональности, какою она должна быть, о коллективной личности, вно¬
сящей свой вклад в великое дело Человечества. Мы приняли судороги
за пробуждение. Мы ошиблись. Буржуазия еще не столь прогнила во
Франции, вера еще не имеет достаточных корней в Италии» (37, 42).
Шовинистический антиавстрийский пыл восставших горожан и осмот¬
рительная «умеренность» их революционной программы были чужды
Маццини. «Последнее переживание, испытанное мною,— признавался
он,— было в Альпах среди снегов Сен-Готаррд; источником его было не
отечество, а нечто иное. В Италии, среди знаков симпатии, сопровождав¬
ших мой приезд, я ни на минуту не переставал чувствовать себя из¬
гнанником» (37, 42). Но забота о будущем Италии превозмогает и
нравственную усталость и колебания. «Я действую и буду действо¬
вать,— решает Маццини,— гальванизируя себя самого, как мертвую ля¬
гушку, просто потому, что нет никого, кто энергично взялся бы за де¬
ло» (57, 157)—за дело, которое отвечало бы высоте «итальянской
миссии», а не сводилось к простому политическому лавированию меж¬
ду Австрией, папой, Францией и пьемонтским королем.
В Италии возникло несколько революционных республик. Сбросив¬
ший австрийское владычество Милан обратился за помощью к пье¬
монтской короне, вопреки призывам Маццини к объединению всех ре¬
спубликанских сил страны. Когда после разгрома пьемонтских войск
австрийцами под Новарой в марте 1849 года стала ясна неизбежность
войны с Австрией, а следовательно, отказа от позиции умеренного ли¬
берализма, Римская республика передала исполнительную власть три¬
умвирам Карло Армеллини, Аурелио Саффи и Маццини; последний
стал фактическим главой государства. Цвет революционной Италии со¬
брался тогда в Риме — будущие полководцы Рисорджименто Дж. Ме¬
дичи, Биксио, Бертани, вождь восстания Пяти дней в Милане Л. Ма-
нара, поэт Гоффредо Мамели (умерший от ран в последние дни обо¬
роны города), популярный прогрессивный священник Уго Басси, гене¬
рал Джузеппе Гарибальди.
Казалось, Маццини как никогда близок к осуществлению своей
мечты. Однако все три с небольшим месяца жизни Римской республи¬
ки она была занята вооруженной обороной против неаполитанского
короля, французского экспедиционного корпуса, Австрии. Те немногие
мероприятия триумвира, которые не были продиктованы настоятельны¬
ми нуждами текущего момента, вызвали горькие упреки в непрак¬
тичности, неумелости, в нереальности политической программы. Упреки
18
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
исходили от Гарибальди. Маццини возражал, что Гарибальди, на¬
против, слишком увлекается материальной стороной дела, забывая о
нравственной, думает «больше о теле Италии, чем о ее душе».
В последующие годы крепнущие политические партии Италии по¬
степенно отмежевываются от романтического радикализма Маццини,
хотя почти все их деятели в свое время так или иначе прошли
через его школу. За дело объединения берется министр пьемонтского
короля Виктора-Эммануила граф Камилло Кавур, крутой и расчетливый
дипломат европейского размаха. Кавур ненавидел демократию и респуб¬
лику, обещал Луи-Наполеону «приложить все силы, чтобы национальное
движение не превратилось в революционное» *; его целью было лишь
присоединить остальные государства Италии к пьемонтской короне, и,
конечно, он всего менее был готов вникать в идеи Маццини, в котором
видел лишь злостного заговорщика и агитатора. Маццини объявил
партии Кавура беспощадную ^ойну и тем вызвал новые недоумения
среди своих бывших последователей. Разве Кавур не за то самое един¬
ство Италии, о котором всегда твердил Маццини?
Но Маццини остался непоколебим. Когда в 1859—1860 годах про¬
ходило политическое объединение Италии (кроме Рима и Венеции),
Маццини играл в нем очень оригинальную роль. С одной стороны, все
правительства, партии, группировки, начиная от Наполеона III и кон¬
чая Гарибальди, держались практицизма, имевшего очень мало общего
с романтическими лозунгами Маццини; с другой стороны, немалое
воздействие его проповеди на широкие массы направлялось по мере
возможности этими же правительствами, партиями и группировками
в интересах своего дела. Для нажима на Наполеона III Кавур успешно
применял угрозу «спустить с цепи» республиканца Маццини. Благода¬
ря агитации последнего началось восстание в Сицилии; но когда
Гарибальди, опять-таки с помощью Маццини и по его настоянию,
начал знаменитый сицилийский поход, Маццини намеренно отстранил¬
ся, чтобы не лишать Гарибальди поддержки монархистов, католиков
и федералистов, которых было много в числе гарибальдийской Тысячи.
Маццини жил в Италии в «двойной эмиграции». Его присутствие во
Флоренции терпели, но взяли с него слово, что он не объявит о нем
публично. В Неаполе временное правительство предложило ему поки¬
нуть страну: «Даже не желая того, вы разъединяете нас» (66, 253).
Потребовалось личное вмешательство Гарибальди, чтобы разогнать тол¬
пу возле дома Маццини, требовавшую его смерти.
Объединение страны под эгидой пьемонтского короля при торже¬
стве буржуазной партии «умеренных» Маццини пережил как круше¬
ние лучших надежд. «А где же Италия,— писал он,— моя Италия, ка¬
* L. Salvatorelli, Spiriti e figure del Risorgimento, p. 337,
19
ДЖ. МАЦЦИНИ
кую я проповедовал? Италия нашей мечты? Италия, великая, пре¬
красная, нравственная Италия моей души? Я думал, что зову к жизни
душу Италии, а вижу перед собой лишь труп» *. Он еще всеми силами
пытается «рассеять, если возможно, это наваждение, нависшее над
Италией и сузившее народное движение до герцогств и дипломати¬
ческих миссий» (65, 195). Ненавистен был ему и итальянский нацио¬
нализм, наметившийся в ходе итало-австрийской войны. Как писал
Б. Кроче, «национальная идея сама по себе и в классической форме,
которую она приняла от Маццини, была общечеловечна и космополи¬
тична, а потому противоположна тому национализму, который прев¬
ратился в «активизм» и описал параболическую дугу, уже давно пред¬
сказанную Грильпарцером в его формуле: «Гуманизм, помноженный на
национализм, есть зверство» **.
Маццини не только отказался от места в парламенте, но и не при¬
нял амнистии от короля, оставаясь теоретически под угрозой смертного
приговора, вынесенного ему дважды, в 1833-м и 1857 годах. Он обра¬
щается теперь прямо к «народным множествам»: рабочим, ремеслен¬
никам, изредка — к крестьянам. В апреле 1869-го и в марте 1870-го он
организует неудачные «конспирации» в Милане. В 1871-м при попытке
поднять республиканское восстание в Сицилии его арестовывают и за¬
ключают на два месяца в тюрьму в Гаэта. Снова, как сорок один год
назад, одиночная камера в башне на вершине скалы, над морем...
По-видимому, Маццини перестает уже удовлетворять кого бы то
ни было. «Я стал теперь отступником,— с горечью восклицает он,—
попом, реакционером, подзуживателем версальской клики; наконец, я
весь во власти своей амбиции, у меня старческие предрассудки и так
далее» ***. «Я отчаиваюсь, хотя еще действую по долгу и чувству
борьбы; но это ненадолго»,— признается он в письмах (65, 309). «Эта
жизнь машины, которая пишет и пишет и пишет в течение тридцати
пяти лет, начинает странным образом тяготить меня» ***♦. Чувствуя
приближение конца, он посещает могилу матери в Генуе, гробницу Фос¬
коло во Флоренции, куда незадолго перед тем был перенесен прах пи¬
сателя из Лондона. Маццини умер 12 марта 1872 года в Пизе, где
последние недели жил под чужим именем. Его похороны вылились в
огромную республиканскую демонстрацию. Но это было уже событием
второй жизни Маццини, жизни его образа в сознании современников.
* L. Salvatorelli, Spiriti e figure del Risorgimento, p. 335.
** B. Croce, Storia d’Europa nel secolo XIX, Bari, 1956, p. 299.
*** N. Rosselli, Mazzini e Bakounln, Torino, 1927, p. 332.
·*** Bolton King, The life of Mazzini, London, 1956, p. 220.
20
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
* * *
В чем же существо этико-эстетического идеала, который Маццини
столь безуспешно пытался осуществить в общественной практике? Об¬
ратившись к его прямым формулировкам, мы не обнаруживаем здесь
какой-то исключительной оригинальности идей. Средоточием своей мыс¬
ли Маццини называет бога (понимаемого как вселенский закон), пред¬
ставление о человечестве как едином организме и о его непрерывном прог¬
рессе. Подобные идеи в эпоху Маццини носились в воздухе.
Так, учением о воспитании человека, класса, нации и всего чело¬
вечества как первом требовании прогресса Маццини мог быть обязан
Лессингу, согласно которому человечество непрестанно испытывает не¬
кое божественное воспитующее воздействие, которое хотя не привносит
от себя ничего такого, что не было бы уже заложено в природе самого
человека, но ускоренно и уверенно развертывает скрытые в нем потен¬
ции совершенствования. Кажущийся противоречивым и круговым путь
на деле кратчайшим образом приведет человечество через узкие пред¬
ставления его младенчества (библейская религия) и отрочества (хри¬
стианство) к совершенству возмужания, когда оно поднимется наконец
над всеми частными откровениями и познает «новое вечное евангелие» *.
Определение новой эпохи у Лессинга чисто формально: будет достиг¬
нута цель полного развития человечества. У Маццини все эти воззрения
налицо, хотя религиозно-профитическая окраска стирается.
Подобно тому как Лессинг называет своим идейным предтечей
«средневекового мечтателя» Иоахима Флорского (XII—XIII вв.), Мац¬
цини обращается к итальянцу Данте и у него находит пророчества
новой эпохи, идею прогресса и прозрение в человечестве организма
высшего порядка, а не простой совокупности индивидов, связанных
между собой, например, общественным договором. По Данте, всякий
частный социум (семья, селение, город, страна) есть член единого
тела, лишь в своей полноте развивающего ту качественно высшую
жизнедеятельность, которая доступна «монархии» всего человечества.
Под «монархией» Данте понимает, исходя из этимологии слова, тор¬
жество «единого начала» **. И вот именно XIX век, согласно Мацци¬
ни, есть та угаданная Данте эпоха, когда орудие (то есть человече¬
ство как единый организм) налажено, и «мы ищем закон его действия
и присущее ему назначение» (см. ниже, стр. 379). Однако если Дан¬
те рядом со светским началом сохраняет религиозное, то для Мац¬
цини духовный авторитет должен полностью внедриться в обществен¬
* G. E. Lessfng, Die Erziehung des Menschengeschlechts, § 9!.—Gesam¬
melte Werke, Bd 8, Berlin, 1956, S. 613.
** Д а h T e, О монархии, I, 2, 1; 4, 7—8.
21
ДЖ. МАЦЦИНИ
ную организацию, вследствие чего «прекратится абсурдный раскол меж¬
ду духовной и светской властью» *. Что именно светское начало пре¬
обладает у Маццини над религиозным, сомневаться, по-видимому, не
приходится. В определении религии у Маццини на первом месте не
бог, а человечество, его коллективный труд и идеальное стремление к
прогрессу (см. ниже, стр. 192, 385).
В понимании бога, как и во многом другом, Маццини следует за
Сен-Симоном (отчасти через его учеников П. Леру, Ж. Рейно), по ко¬
торому бог есть «тот, который есть все, что есть; который живет и
ощущается живущим во всем, что есть; который бесконечен как по
своему сознанию, так и по своей сущности» **. Вера в бога неотличима
здесь от непосредственного жизненного чувства. Если это жизненное
чувство ослабло в обществе, если над полнотой ощущения начинают
преобладать разлад, анализ, дисгармония, то это значит, по Сен-Симо¬
ну и Маццини, что прежняя религия обессилела и устарела и необхо¬
димы новые символы новой веры, упование на которую в свою очередь
становится религией, «религией прогресса». Осознание современности
как «критического момента»; идея перехода от «пустоты в душах»,
оставленной прошлым, к «новой вере» (общие выражения Сен-Симона
и Маццини); идея закономерности и стадиального исторического раз¬
вития; различение «критических» и «органических» эпох; требование
единства социальной организации, веры, науки; «позитивность» соци¬
ального творчества (Сен-Симон) или «единство мысли и действия»
(Маццини); ассоциация; равнодушие к конкретной форме правления
при условии осуществления предыдущих принципов; предпочтение «со-
фократии» при равенстве прочих условий и презрение к диплома¬
тии и традиционной политической кухне; проект «энциклопедии XIX ве¬
ка»— все эти ключевые понятия и ориентиры одинаковы у Маццини и
Сен-Симона. Но индустриалистский пафос Сен-Симона, его установка
на материальное процветание общества, техницизм, превознесение пред¬
приимчивости, изобретательства начисто отсутствуют у Маццини, ко¬
торый знает лишь одно общественное благо и одно истинно ценное
«национальное достояние»: осознание нацией своего призвания и ее
жертвенное служение духовному прогрессу.
«Набросок исторической картины прогресса человеческого духа»
Кондорсе Маццини прочел впервые в возрасте семнадцати лет, и его
влияние несомненно сказывается в тех описаниях восхождения чело¬
веческой культуры по ступеням зрелости, которые Маццини дает, на¬
пример, в статье «Об исторической драме», приходя к тем же опти¬
мистическим выводам, что и французский философ. В Джордано Бру¬
* Из письма Маццини к Пию IX, 1847 г.
** Saint-Simon, Oeuvres, 8-me vol., Paris, 1875, p. VI.
22
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
но и Кампанелле Маццини ценил единство мысли и действия; у своего
«духовного отца» Уго Фосколо он учился непримиримости в борьбе за
освобождение родины; призыв Байрона завоевать свободу Италии
(в служении этой цели Байрон видел «истинную поэзию политики» *)
прозвучал для Маццини как программа действий; у Ламенне он ценил
социальную активность при уважении к традиции; Альфиери, Гер-
дер, Мандзони, Мицкевич, Гёте — все эти «лучшие умы человечества»
оставили заметный след в сознании и фразеологии Маццини.
Но если сила Маццини не в теоретической новизне, а, как мы ви¬
дели, она также и не в трезвой опоре на материальную действитель¬
ность, то, спрашивается, в чем жизненность его воззрений? Представ¬
ляется, что если не упираться в терминологические и стилистические
особенности его фразеологии, он раскроется как яркий выразитель в
основном двух тенденций весьма глубоко сказавшихся и до сих пор
продолжающих сказываться в истории западноевропейской культуры.
Это, во-первых, пафос отрицания и протеста. Возвышенное него¬
дование, поднимающееся из глубины души бурное и очистительное
возмущение, беспощадная и бескомпромиссная критика даже не обя¬
зательно направлены у Маццини на конкретные возмутительные яв¬
ления. Протест определяет первое движение его мысли. Ничто в
существующем не должно быть принято так, как оно есть, все за¬
пятнано, несовершенно или обречено. Прислушавшись к Маццини, мы
убедимся, что таких вещей, которые вполне избегали бы его кри¬
тики, пока еще нет и, более того, они вообще плохо представимы
в земной действительности. По сути дела, Маццини отвергает «мир
сей» во имя начал, которые всегда окажутся выше своего вопло¬
щения. Подоплека протеста обнаруживается у него в самых, казалось
бы, позитивных постулатах. Так построено едва ли не центральное
для Маццини учение о долге, обязанности. Оно наполняется смыслом
лишь в качестве отрицания доктрины личного права, развязавшей,
по Маццини, анархический индивидуализм. Эгоистическое утверждение
прав личности, указывает Маццини, ввергло европейские народы в
пучину бедствий; значит, надо обратиться к противоположной идее,
к «религии долга» **. «В войне, которая идет в мире между Добром
и Злом, вы должны отдать свое имя знамени Добра и неослабно
противостоять Злу»,— пишет Маццини в своем знаменитом этическом
кодексе «Об обязанностях человека» ***. Ясно, что здесь отвергается
не столько зло во имя добра, сколько реально существующий, слишком
* Запись Байрона в дневнике 26 января 1821 г.
** И. Маццини, Обязанности человека. Перевод Нины Вейцлер, под ред.
В. Тотомианца, М., 1917. Введение.
*** G. Mazzini, Dei doveri dell’uomo, Milano, 1965, p. 18.
23
ДЖ. МАЦЦИНИ
своевольный человек во имя будущего, идеального. Далее, существо¬
вание бога, по Маццини, столь несомненно, что доказывать его уже
богохульство *. Принудительная, подгоняемая угрозой греха вера пи¬
тается здесь максималистским протестом против колеблющейся и не¬
стойкой человеческой природы самой по себе. Даже всеобщая «ассо¬
циация» Маццини, представляющая личность, вобравшую в себя целый
мир («мессией будет целый народ, свободный, великий и сплоченный
единой любовью»**), наполняется жизненным пафосом прежде всего
за счет энергичного отрицания индивидуализма с его вопиющим не¬
совершенством и невыносимым для Маццини духом особности.
Другой основой Маццини был романтический пафос чувства и
предчувствия. Мы встречаем у него настоящий культ переживания,
когда в неразличенное единство сливаются мысль и порыв к действию,
ощущение и рассудок, этические и эстетические эмоции. Это «святое»,
возвышенное переживание, в котором снимается всякий дуализм, Мац¬
цини именует «чувством единства жизни», «действительной поэзией»,
ощущением гармонии вселенной (59, 39), «поэзией действия» (89, 128).
«Настойчивое, систематическое, как его называют, единство принци¬
пов,— читаем мы в одном письме 1840 года,— обнаруживается помимо
моей воли во всем, что бы я ни писал. В самом деле, ощущение един¬
ства жизни — вот мое постоянное и самое сильное чувство. Это единст¬
во...— для меня главный источник уверенности в своей правоте» (19,
237).
Культ чувства, энтузиастическую углубленность в некую таинствен¬
ную, но дружественную бесконечность надо интерпретировать, безуслов¬
но, в связи с главными чертами европейского романтизма ***. Правда,
Маццини уже в ранних литературных выступлениях 1827—1830 годов
не был вполне романтиком. Он считал, что эпоха романтизма завер¬
шилась, и ожидал новых, более позитивных, откровений. Но, не будучи
романтиком по системе своей мысли, он остается им по ее пафосу ****.
Его построения могут быть классическими, просвещенческими, в какой-
то мере уже позитивистскими, но поэтическое стремление к пережива¬
нию глубин жизни навсегда сохраняет у него романтическую окраску.
Правда сердца противостоит здесь лжи человеческого общества, пере¬
кликаясь с дружественным миром природы.
Попытки анализировать источник «чувства единства жизни» вы¬
зывают у Маццини столь же энергичный протест, как и желание до-
* G. Mazzini, Dei doveri dell'uomo, pp. 32, 34.
** G. Salvemini, Mazzini, London, 1956, p. 37.
*** H. Я. Берковский, О романтизме и его первоосновах.— «Проблемы
романтизма». Сборник статей. Вып. 2, М., 1971, стр. 7 и сл.
**** В. Croce, Problemi di estetica, Bari, 1966, p. 296.
24
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
называть существование бога. Поэтому его мысль во многом остается
нечеткой; завершение ее Маццини оставляет будущему. Он не знает
сейчас, какой облик примет творчество ожидаемого поэта-мессии. О
соответствии искусства своему назначению можно будет говорить, лишь
когда явится великий гений, способный объять разумом все чаяния
человечества, привести к единству и гармонии все нити, из которых не¬
зримо сплетается человеческая история, и в радостной и жизнеутверж¬
дающей поэзии явить людям смысл и цель их борьбы. Общество, ко¬
торое будет в состоянии принять это грядущее откровение, избавится
от анархического брожения, губящего сейчас его лучшие силы, и
сплотится вокруг гения так, что тесный круг наиболее одаренных мы¬
слителей объяснит смысл его пророчеств и сделает доступным более
широкому слою писателей, а те в свою очередь донесут его в дейст¬
венной форме до народа и человечества. Опять-таки, идеал всеобщей
гармонии и упорядоченности отнесен здесь к будущему, а для настоя¬
щего оставлено лишь стремление и упование. Недаром Маццини так
восстает против созерцательности. Грубо говоря, в настоящем для
Маццини просто нечего созерцать: «живо лишь будущее» (см. ниже,
стр. 186), за которое и нужно бороться. «Чувство единства жизни»
подлежит не анализу, а прямому воплощению в жизненном творче¬
стве, по мере того как гений и его предтечи указывают пути бу¬
дущего; и пока будущее не сбылось, чувство остается нераскрытым.
Искусство, поэзия, по Маццини, есть не только выражение чувст¬
ва единства, но и само это чувство. Неотличение широкого понимания
слов «поэзия», «музыка», «вдохновение» (поэзия революции, музыка
души, вдохновение любви) от искусствоведческого может озадачить
историка эстетики, но для Маццини вдохновение поэта и воодушевле¬
ние народа, подвигнутого на социальное созидание,— действительно од¬
но и то же. Больше того, как раз в отделении поэтического творче¬
ства от социального заключался для него главный порок буржу¬
азной современности. Искусство, которое не горит жаждой обновле¬
ния всей жизни, становится «убежищем ничтожной праздности», пре¬
вращается в пустую игру внешних форм. Поэзия в своей сущности
прежде всего «вера, душевный жар, готовность самопожертвования,
словом — жизнь».
Представление о художнике как носителе какого-то особенного
дара — фикция, созданная эгоистическим обществом для того, чтобы
оградить себя от глубоких и потрясающих переживаний (см. ниже,
стр. 205). Препоручив художнику вдохновение, самозабвенное творче¬
ство, любовное участие ко всему в мире, такое общество освободило
себя от труда всерьез волноваться этими составляющими человече¬
скую сущность переживаниями. Именно ввиду такой существенности
искусства Маццини не может отвести ему обособленной сферы. Ведь
25
ДЖ. МАЦЦИНИ
тогда цельность человеческой жизни распадется, «простые люди» ока¬
жутся ущербными, художники — единственными носителями подлинной
человечности. Всякий, кто служит высокой альтруистической любви, для
Маццини тоже поэт, «поэт перед богом, перед своей совестью, перед
совестью любимого существа».
Таким образом, профессиональная поэзия, например писание сти¬
хов, не привносит само по себе ничего существенного в общежизнен¬
ную поэзию. Просто человек, который умеет «видеть, чувствовать,
любить и действовать лучше, чем другие» (см. ниже, стр. 208), на¬
чинает от полноты своего чувства сообщать его другим. Эстетическая
форма — единство, гармония, порядок — создается поэтом не в силу
профессионализма; она привносится в содержание еще на том уровне,
который присущ или по крайней мере доступен всякому человеку.
Если же предметом искусства является природа, то и здесь оно не
вырабатывает красоту и цельность в самом себе, а лишь являет гар¬
монию, существующую во вселенной. Эстетическое оформление содер¬
жания достигается не техническими средствами искусства, а гораздо
глубже, в жизненном творчестве, доступном каждому человеку. На¬
оборот, только когда переживание достигает в самом себе гармонии,
единства и порядка, становится возможным и профессиональное твор¬
чество. Обретаемое в недрах жизненного чувства единство восприятия
мира и есть настоящее искусство. Когда оно достигнуто, обнаруже¬
ние во внешних формах происходит чуть ли не само собой: «И жизнь,
и искусство, и гений согласно расцветут, когда в наше сознание все¬
лится идея и единство, а в сердце — энтузиазм» (см. ниже, стр. 225).
Такую трактовку внешнего выражения мы с полным правом счи¬
таем однобокой. Выковывание цельности, гармоничности, стройности
совершается, по-видимому, во взаимодействии формы и жизненного по¬
рыва. Если Маццини отдает безусловное предпочтение второму, это
объясняется, конечно, реакцией на «аркадскую» поэзию позднего клас¬
сицизма, на увлечение внешними данными в итальянской опере начала
прошлого века, вообще на свойственное искусству несвободной страны
преобладание формы над сутью.Однако причина теоретического невни¬
мания Маццини к форме может лежать и глубже. На практике ему
была присуща отчетливая, хотя, возможно, и не во всем осознанная
установка на внешнюю выраженность. Она сказывается в стиле Мац¬
цини, современников она поражала в его поведении, а главное, о ней
свидетельствует знаменитая формула Маццини «мысль и действие»:
мыслительное содержание должно сразу же и непосредственно вопло¬
щаться в реальности. Не скрывается ли здесь у самого Маццини тот
самый «материализм формы», против засилия которого в современном
ему обществе он с такой страстью восстает? Если это действительно
так, то от Маццини позволительно вести линию к позднейшей пози¬
26
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
тивистской эстетике и критике искусства (например, отчасти у Писа¬
рева), которая принижала художественную форму во имя осязатель¬
ности художественного воздействия, то есть... во имя все той же фор¬
мы, только недостаточно осмысленной.
Однако хотя Маццини призывал к непосредственности жизненного
переживания, искусство вовсе не было для него беспорядочным вы¬
плескиванием эмоционального содержания. Напротив, возможно, ни од¬
но явление в художественном творчестве он не осуждал с большей
убежденностью, чем безвольное отражение душевного произвола. Де
Санктису не случайно в стиле Маццини чудилась лапидарность ран¬
него средневековья; действительно, все у него тяготеет к замкнутому
кругу отстоявшейся и упорядоченной символики. Очень существенно
замечание Маццини, что живущий в глубинах человеческой души источ¬
ник высшей красоты нельзя понять или выразить, если прежде не
переменить свою натуру и не найти способа «выразить бесконечное —
конечным языком» (см. ниже, стр. 81).
Однако подробного развития этой мысли мы у него не находим.
Имеются лишь отдельные замечания о том, что стилю гениального
писателя присущи краткость, сила и некоторая содержательная тем¬
нота (см. ниже, стр. 95), что ключ к пониманию деталей произведе¬
ния — в единой скрепляющей его идее, что существуют законы на¬
родной символики, которым следует истинный поэт. Едва коснувшись
природы художественного выражения, Маццини переходит от этой не
подлежащей для него анализу сферы к социальной роли искусства.
Отсюда его понимание критики как философии.
Если искусство не развлечение, не избыточный и произвольный
элемент цивилизации, а живое дыхание человечества и условие его
существования, то задача критики — не разыскание любыми средства¬
ми секретов и тайн искусства, а сначала его культивирование, береж¬
ное взращивание. Маццини боится, что очарование искусства рассеет¬
ся, если приблизиться к нему с холодным разбором. Наше невольное,
но оттого не менее правомерное чувство при встрече с художествен¬
ным произведением — восхищение, а не попытка в нем разобраться.
Форма талантливого произведения искусства, по Маццини, не забота
критики; форму и норму творчества «давно пора предоставить усмот¬
рению личности и суду гения». Разымать художественную форму, а тем
более предписывать законы искусству — нелепое и ненужное занятие.
Критика должна восходить от формы к мысли, мерить художественное
произведение критерием всеобщих принципов, управляющих прогрессом
цивилизации. В органическую «правильную» эпоху критика сопутствует
свободно развивающемуся искусству как его высокое философское
обобщение. Не так обстоит дело в ущербное время распыленности и
анархии.
27
ДЖ. МАЦЦИНИ
С одной стороны, Маццини как романтик выступает сначала за сво¬
боду и суверенность творчества. Но он видит, что предоставление ис¬
кусства самому себе на практике чревато опасностью. Искусство зави¬
симо от способности людей впечатляться им. Поскольку художествен¬
ное творчество несет истину в чувственной форме, эта истина чувства¬
ми и воспринимается, и если чувства эти искажены, притуплены, ху¬
дожник вынужден заострять выразительную форму в ущерб содержа¬
нию. Маццини печально констатирует, что в истории итальянской ли¬
тературы и искусства почти никому, за редчайшими исключениями, не
удалось вполне избежать чувственного искажения своего искусства
ради остроты непосредственного воздействия. Тем более в буржуазной
Европе XIX века, погрязшей в индивидуализме и материальных инте¬
ресах, степень нравственного падения уже такова, что подлинное твор¬
чество возможно лишь случайными вспышками. Принцип суверенности
и свободы творчества Маццини из-за этого не отвергает, но осущест¬
вление его отодвигается в ожидаемое будущее, а для настоящего «пе¬
реходного времени» вступает в силу совершенно иное соотношение ве¬
щей. Все должно служить борьбе нового со старым, все должно под¬
чиниться «социальной цели, более высокой и полезной, чем искусство
само по себе» (см. ниже, стр. 292).
Так социальное искусство, единое в будущем, не избегает в на¬
стоящем расслоения на социальное действие и служащее его целям
профессиональное искусство. Как мы видели, жизнь, борьба, социаль¬
ное служение для Маццини — тоже поэзия, бессмертная и непреодоли¬
мая, не могущая знать упадка, но она еще не может произнести за¬
вершительного и примиряющего слова. Пока не открыта заветная зем¬
ля преображения, уделом борца остается высокая, но как бы еще
немотствующая и несовершенная поэзия упования и действия. Посвя¬
щая себя делу создания «органического» общества, поэт-борец во из¬
бежание двойственности должен сознательно преодолеть в себе поры¬
вы к художественной игре. «Нам приходится оттеснять поэзию к ее
источникам»,—говорит Маццини, то есть, посвящая все силы борьбе, от¬
казываться от специфических художественных манифестаций и возвра¬
щаться к неразличенному единству жизни, где искусство еще тож¬
дественно с общежизненным творчеством. В мучительно неясный пе¬
риод перехода от старого к новому, от анархии к гармонии Маццини
не может предложить иного пути к жизненной цельности, кроме та¬
кого опрощения.
Соответственно меняется задача критики. Она должна теперь го¬
товить сознание людей к принятию истины, а для этого надо снача¬
ла «сотрясти оцепеневший разум людских множеств». Словом, крити¬
ка тоже должна включиться в социально-революционное действие. А
поскольку в условиях несвободы, экономического и военного принуж¬
28
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
дения воспитание словом невозможно, то единственным способом вос¬
питания остается уже известная нам «конспирация». «Романтики,— пи¬
шет Н. Я. Берковский,— хотели найти историческую реальность, ко¬
торая вмещала бы без оговорок красоту бесконечной жизни, индиви¬
дуальной свободы, вечной новизны» *. Маццини не только искал; оп¬
рокинув казавшееся ему условным разделение искусства и действитель¬
ности, он с безоглядной решимостью шагнул в романтическую мечту...
По достижении своей социальной цели Маццини, конечно, не захо-
чет вернуться к традиционному искусству «символического выражения
идеала». Еще в многообещающем начале «Молодой Италии» он зая¬
вил, что «век символов завершился» (1, 318) и должно начаться реаль¬
ное воплощение идеала. Здесь вспоминаются законодатели Платона,
изгоняющие трагедию из своего идеального государства тоже во имя
прямого социального творчества. «Мы и сами,— говорят они,— творцы
трагедии, наипрекраснейшей, сколь возможно, и наилучшей. Весь наш
государственный строй представляет собой выражение самой прекрас¬
ной и наилучшей жизни» **. Правда, платоновское государство скорее
художественный образ, чем реальная программа общественного уст¬
ройства. Но это не ослабляет параллели с Маццини, и вот почему.
Если искусство у Маццини подчинялось нуждам социальной борь¬
бы, то социальная действительность в свою очередь была оформлена
у него поэтическими и художественными представлениями. Мы виде¬
ли, что всего меньше в своей революционной практике он хотел быть
материалистом. Политическое мышление Маццини совершалось в худо¬
жественных образах. На высшем месте здесь стояло человечество, но
не как совокупность реальных племен и народов земного шара, а как
исполненное благодати, всеобъемлющее, бесконечно благое, разумное и
могучее существо, с которым должен в конечном итоге слиться каж¬
дый народ и, через свой народ, каждый человек. Далее шел образ
Италии, но опять-таки не реальной страны в ее конкретных социально¬
исторических условиях, а некоего живого единства неисчерпаемых воз¬
можностей, бесконечной красоты и великой судьбы — женственной сущ¬
ности, которая призвана сбросить теснящие ее вот уже триста лет
оковы сонного бессилия и, воспрянув, соединиться в обновляющем
слиянии с ожидающим ее человечеством. Человеческие существа, или,
но обычному выражению Маццини, «умы» или «души», занимают роли
в развертывающейся таким образом мировой драме смотря по тому,
принадлежит ли их сознание индивидуалистическому и не знающему
«откровения человечества» прошлому, борющемуся и ищущему настоя¬
щему или предвидимому и угадываемому великому будущему.
* Н. Я. Берковский, указ. соч., стр. 14.
••Платон, Законы VI 817Ь; ср. «Государство» III 395с; 399а; X 595а.
29
ДЖ. МАЦЦИНИ
Такая картина мира обладала для Маццини высшей достоверно¬
стью, которую не только не надо было проверять, но в которой ему
казалось безнравственным даже сомневаться. Совсем напротив, каж¬
дый действительный факт получал осмысление лишь в терминах опи¬
санной вселенской драмы; она делалась тем самым прообразом всякой
реальности. Маццини очень скоро должен был убедиться, что реальное
человечество, реальная нация, реальный человек мало соответствуют
его идеальной картине. Но тогда он поставил под сомнение не идею,
а реальность.
Нотки досады на людей появляются в письмах Маццини уже по¬
сле неудачи 1833 года (9, 278; 67, 137; 80, 335 и мн. др.). Из верности
романтическому образу человека, отвечавшему его собственному внут¬
реннему опыту, Маццини готов был отвергнуть реального человека. Но
действительность, изгнанная в дверь, проникала в окно. На пути осу¬
ществления своих идеалов Маццини пришлось столкнуться с препят¬
ствиями, которые он не мог преодолеть уже просто потому, что не
учитывал их. Так, финансовые потребности революционной печати, не¬
легальных организаций ложились тяжелым бременем на идеалистиче¬
скую проповедь Маццини. Он был лишен возможности продумать до
конца свои идеи, о чем всю жизнь мечтал. Тоска по ученому досугу
выражается в его письмах с навязчивым упорством (27, 305; 59,
94; 70, 60; 74, 264 и др.).
Однако тот факт, что Маццини попытался вполне соединить тео¬
рию и социальную активность в романтико-художественной «поэзии
действия», представляет его эстетическую мысль в совершенно новом
свете. Она становится для нас не столько еще одним теоретическим
построением, сколько весомым человеческим документом, живым сло¬
вом личности, органически неприемлющей роль пассивного созерцания.
Не случайно главная часть наследия Маццини — это десятки томов
его писем, развертывающих сорокалетний захватывающий роман борь¬
бы, любви, веры, отчаяния, а главное, неустанной деятельности в гуще
людей и в самом центре великих общественных движений. Неудача
Маццини, разоблачившая беспочвенность его гуманизма, это одновре¬
менно торжество его непреклонной воли, которая не поддалась соб¬
лазну компромиссного половинчатого осуществления идеала и тем са¬
мым провела четкую разграничительную линию между романтической
утопией, которой в логически завершенном виде суждено было остать¬
ся более или менее красивой отвлеченной мечтой, и социальной дейст¬
вительностью, предъявившей гораздо более высокие требования к по¬
пыткам сознательного овладения ею, чем это оказалось возможным для
Маццини. Мысль его восполняется тем, что она не плод кабинетной
учености, а подкрепленное подвигом жизни утверждение действенности
искусства.
30
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
* * *
В ранних статьях генуэзского периода Маццини еще держится
некоторой условной литературности, хотя уже угадываются его не¬
примиримость к «искусству прошлого» и социальный размах тезиса
«нового искусства». Во все более острой полемике с риторикой и
отвлеченностью позднего классицизма он отвергает здесь представление
об искусстве как развлечении, забаве, отдушине жизни или надмирном
полете чистого ума и вырабатывает свое понимание искусства как ра¬
бочего орудия человечества в труде по претворению в жизнь его высших
идеалов. Маццини весь еще погружен здесь в грандиозные историко-куль¬
турные построения, на первом плане у него, вполне в духе его вре¬
мени, стоит идея стадиальности человеческой истории, с помощью ко¬
торой он обосновывает «фатальную необходимость» прогресса, неиз¬
бежность грядущего преображения общества. Отчетливо прослежива¬
ется желание найти общий язык для всех людей, «верующих в про¬
гресс», приемлемую для всех литературную теорию.
После изгнания стиль Маццини резко меняется. Он бросает вызов
обществу, которое враждебно истинному искусству. Маццини утверж¬
дает, что современное буржуазное общество духовно мертво. Оно мерт¬
во не потому, что в нем иссякли источники поэзии; наоборот, они, воз¬
можно, сильны в нем, как никогда. Но они не могут развиться, пото¬
му что европейская действительность не признает поэзию жизненно
важным делом, ища опору в том, что, по Маццини, уже мертво и
мертвяще: в чувственно осязаемом, низменно ощутимом, опытно фик¬
сируемом. Болезнь Европы в том, что она пока еще не умеет опереть¬
ся во всех сторонах своей жизни на пророческую поэзию. Живитель¬
ному синтезу она предпочитает разлагающий анализ, человеческая лич¬
ность распадается на бездушную механическую силу и бессильный дух.
Избавление Маццини видит в изменении сознательной установки об¬
щества и возвращении искусству ведущей воспитательной и направ¬
ляющей роли.
Та же тема упадка искусства в современной Европе, в первую оче¬
редь во Франции, разрабатывается и в лондонских статьях 1837—
1844 годов. В работах о В. Гюго, А. Ламартине Маццини признает,
что буржуазное общество позволяет художнику любую степень искус¬
ности и эффектности. Казалось бы, перед искусством раскрываются
необъятные возможности, оно может достичь необыкновенной тон¬
кости, богатства и разнообразия,— но для чего все это, спрашивает
Маццини, если те, кому это искусство предназначено, поглотив любую
èro дозу и тут же обратив его в свою собственность, лишь еще боль¬
ше замыкаются в оболочке эгоизма? Проблема не в том, чтобы от¬
крывать в искусстве новые формы, а в том, чтобы вернуть жизненную
31
дж. млцципи
силу источникам искусства в человеческой душе, воспитать в каждом
творческую способность. В последних статьях лондонского периода
можно видеть, как мысль Маццини окончательно выходит за рамки ли¬
тературно-эстетических проблем.
В зарубежных оценках эстетики и литературной критики Маццини
бросается в глаза наличие противоположных точек зрения. Разумеет¬
ся, нравственное величие Маццини при этом не подвергается сомне¬
нию. Иногда можно видеть, как из уважения к патриотическим заслу¬
гам великого демократа некоторые биографы и исследователи проявля¬
ют «снисхождение» к Маццини — фантазеру, «нереальному политику»,
беспочвенному мечтателю. Действительно ли это необходимо?
Ф. Де Санктис не считает Маццини «настоящим философом» *.
Дж. Джентиле приводило в раздражение, что под внешне блестящей
формой у Маццини он не видел ничего, кроме беспочвенности **.
Г. Сальвемини, давший превосходную сводку философских и полити¬
ческих воззрений Маццини, считал его весьма недалеким теоретиком
литературы, который «измеряет ценность произведения искусства сте¬
пенью его соответствия своим собственным социальным, политическим
и религиозным идеалам, совершенно пренебрегая эстетической фор¬
мой» ***.
Напротив, один из лучших биографов Маццини, Болтон Кинг, осо¬
бенно хорошо изучивший его литературную деятельность в Англии,
считает, что «если бы в бурной жизни Маццини осталось больше вре¬
мени для литературных занятий, он стал бы, возможно, одним из
величайших критиков столетия; возможно, он и теперь может числить¬
ся среди таковых» ****. Э. Ненчони, литературовед конца прошлого века,
находил, что по сравнению с произведениями Маццини «немногие про¬
изведения итальянской критики содержат столь же большое количест¬
во идей, замечательных по своей истинности, новизне и разнообразию,
по глубине анализа и плодотворности синтеза» *****. Тот же Г. Сальве¬
мини, отвергая «утилитаризм» теории искусства у Маццини, признает
его «от природы хороший вкус» ******.
Высоко оценивает музыкальную эстетику Маццини А. Луальди,
обстоятельно исследовавший его «Философию музыки» *******. Обоз¬
* F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana nel secolo XIX. III.
Mazzini e la scuola democratica, Milano, 1958, pp. 24—72.
** G. Gentile, Albori della nuova Italia, p. 1, Firenze, 1969, pp. 204—205.
*** G. Salvemini, Mazzini, London, 1956, p. 96.
**** Bolton King, ibid., p. 312.
***** E. Nencioni, Gli scritti letterari di G. Mazzini, Roma, 1884, p. 3.
****** G. Salvemini, ibid., p. 96.
******* G. Mazzini, Filosofia della musica, Roma — Milano, 1954. (Преди¬
словие).
32
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ревая историю итальянской критики гётевского «Фауста», В. Сантоли *
убедился, что посвященная «Фаусту» работа Маццини была не только
первым в Италии, но и, возможно, лучшим во всей Европе эпохи Рес¬
таврации разбором этого произведения.
Наиболее обстоятельным литературоведческим исследованием о
Маццини продолжает считаться курс лекций Ф. Де Санктиса «Мацци¬
ни и демократическая школа», прочитанный в 1874 году. По Де Санк-
тису, Маццини отличает единство и цельность принципов, теорий,
поступков, всей жизни. В литературе, как и в политике, философии,
религии, основой его мышления является «коллективность»: признание
за всяким многообразием единого источника («абсолютная истина»,
«вселенская мысль», бог). Всеобщая истина, раскрываемая свободным
гением, есть основа искусства. В то же время мысль Маццини пред¬
ставляется Де Санктису туманной: она подобна, говорит он, вершине
горы, очертания которой можно лишь угадывать, так как она окруже¬
на облаками. Увлеченность Маццини мешает ему производить фило¬
софские абстракции путем хладнокровной работы разума; а человек,
«сердце которого полно политическими, религиозными и философскими
переживаниями и страстями, неспособен иметь чистого художествен¬
ного чувства». Кроме того, Маццини не был специалистом, тогда как
подлинно культурным человеком, по Де Санктису, может стать лишь
тот, «кто избирает одну область культуры и углубляется в нее». Буду¬
чи умелым «агитатором и изобретателем удачных и действенных фор¬
мул» («нет человечества без родины», «мыслить и действовать», «жизнь
есть долг», «долг есть жертва»), Маццини «сумел встать в центре ши¬
рокого европейского движения без средств, без власти, единственно
благодаря силе своего слова». Маццини следовало бы заняться исклю¬
чительно литературой, но, «поглощенный своими конспирациями, вол¬
нуемый политическими страстями», он не нашел в себе сил отказаться
от политики, что было бы, как считает Де Санктис, более достойным
его. Из-за перевеса чувства над разумом Маццини «начинает гимном
о свободе искусства, а затем, из ненависти к индивидуализму, вновь
порабощает искусство и сводит его к простому отражению идеи». Тео¬
рия Маццини полезна и важна, когда она направлена против форма¬
лизма и пустоты аркадиков и академиков, но она перерестает в ошиб¬
ку, когда требует от искусства политического, религиозного и фило¬
софского содержания; она ведет к «олицетворению, метафизической,
типической, мифической индивидуальности, символическому и мистиче¬
скому искусству средних веков». Со средними веками Маццини сбли¬
жает, по Санктису, еще и форма его изложения: она повторяет «ста-
* V. Santoli, Die italienische Faustkritik von Guiseppe Mazzini bis Bene¬
detto Croce. — Tn: *‘Stoff, Formen, Strukturen”. Mönchen. 1962. SS*. 160. 163.
2—6342
33
ДЖ. МАЦЦИНИ
рую итальянскую форму, когда анализ еще не придал движения во¬
ображению». Со своей героической моралью, со своей торжественной
и пророческой, часто отчуждающей, однообразной манерой Маццини
«подобен турецкому барабану в оркестре», который необходим, но
лишь в определенные моменты. Непреходящее значение Маццини — в
поставленной им задаче духовного и нравственного, а не только поли¬
тического возрождения нации.
Анализ Де Санктиса произведен с позиции тех классов итальян¬
ского общества, для которых политическое объединение Италии в кон¬
ституционную монархию казалось наилучшим возможным на данном
этапе «устроением земли». Маццини, напротив, воспринимал сложив¬
шийся буржуазный порядок как национальное бедствие. Де Санктису
казалось, что Маццини из себялюбия устремляется в прошлое, к поре
своих юношеских мечтаний, и отвергает достигнутые успехи, отдаваясь
чувству личного раздражения. Маццини же видел продолжающееся
угнетение народа, нравственное нездоровье нации, узость позитивистских
теоретиков и хватался за идеалы юности как за то единственное, что
он мог противопоставить катастрофе, приближение которой он ощущал
всем существом.
Оценивая с современной точки зрения место Маццини в истории
итальянской критики, Р. Фраттароло * считает, что, удержав тесную
связь литературы со всеми другими проявлениями человеческого духа,
но отступив при этом от классических схем и смягчив контраст меж¬
ду жизненным идеалом и реальностью исторического развития, Мацци¬
ни явился продолжателем У. Фосколо; а с другой стороны, стараясь
проследить понятийную связь между стадиями развития искусства,
отказавшись от классицистской манеры выносить суждение о разби¬
раемом произведении и опираясь прежде всего на свои личные впечат¬
ления от прочитанного, Маццини был предшественником Де Санктиса.
Произведения Маццини, по мнению Р. Фраттароло, служат не столько
образцом критического разбора текстов, сколько «отправной точкой для
новых культурных перспектив» *·.
Первые русские писатели, у которых мировоззрение и деятель¬
ность Дж. Маццини получили подробное, хотя и разнородное, освеще¬
ние, а именно Н. Г. Чернышевский и А. И. Герцен, не касались его
теории искусства. Н. Г. Чернышевский, много писавший о Маццини
в политических обозрениях «Современника» в бурные для Италии
1859—1860 годы, по-видимому, ничего не знал о ранних произведениях
Маццини. Но в эстетическом учении самого Чернышевского можно ви¬
• R. Frattarolo, Mazzini critico.—“Accademie e biblioteche d'Italia”, anno
XL, N. 3, Maggio - Giugno 1972, p. 213-219.
** I Ы d.. p. 217.
34
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
деть не одну точку соприкосновения с воззрениями Маццини. А. И. Гер¬
цен познакомился с Маццини в 1851 году. Единственный, по-видимо¬
му, раз, когда 1 ерцен имел беседу с Маццини о поэзии, последний
показался ему утилитаристом, неспособным понять природу искусст¬
ва, настолько ограниченным в своем осуждении пессимистического ро¬
мантика Леопарди, что Герцен принужден был вступиться за поэта,
заметив, что Леопарди не мог участвовать в римской революции, как
того, очевидно, хотелось бы Маццини, по уважительной причине: он
умер в 1836 году*. Позднее, в 1861-м, когда в Милане начало изда¬
ваться первое Полное собрание сочинений Маццини, Герцен смог оз¬
накомиться с его юношескими литературными произведениями. Но, как
этого можно было ожидать, он рассма!ривал их уже всецело под впе¬
чатлением развертывавшейся перед его глазами жизненной трагедии
Маццини, социальные идеалы которого оставались неосуществленными.
В «романтических мечтаниях» Маццини Герцен увидел лишь «оезум-
ный протест во имя родины и человеческого достоинства, против шты¬
ков и военной дисциплины» **.
Впервые в России Маццини как собственно мыслитель (хотя и не
как теоретик искусства) получил самостоятельную и притом востор¬
женную оценку у Л. Н. Толстого. Уже при посещении Герцена в Лон¬
доне Толстой хорошо знал о Маццини и выпросил у Герцена только
что принесенную от него записку, которую потом долго хранил. Тол¬
стой перевел известное «Письмо Маццини о бессмертии», широко поль¬
зовался цитатами из его произведений в «Круге чтения»; он умиленно
плакал, когда только что вышедшую в переводе Л. П. Никифорова
книгу Маццини «Об обязанностях человека» читал ему в 1902 году
А. М. Горький, сам увлеченный Маццини***. В определении искусства
Толстой практически сходится с Маццини. Искусство, по Л. Толстому,
есть «необходимое для жизни и для движения к благу отдельного че¬
ловека и человечества средство общения людей, соединяющее их в
одних и тех же чувствах» («Что такое искусство», V). Но и жизне¬
творческая сила искусства, и его нравственная функция, и его обра¬
щенность к будущему, и, главное, его социальный смысл — все это цен¬
тральные положения эстетики Маццини. «Искусство не есть наслажде-
* А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 10, стр. 80. Инте¬
ресно, что Маццини запомнился этот разговор с Герценом. 2/1V 1853 года он пи¬
сал в Лондон Эмилии Хоке: «Все, что вы говорите о Леопарди, есть то самое, что
я сказал Герцену и что я написал бы на эту тему. Сердце Леопарди, его гений
были в его голове; а его голова была затуманена страданием, проистекавшим
от его физического несовершенства. Он был то, что мы называем «классицистом».
Как поэт, он язычник с примесью современного скептицизма».
** А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 16, стр. 116.
*** М. Горький, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 28, стр. 263—264.
2*
35
ДЖ. МАЦЦИНИ
ние, утешение или забава; искусство есть великое дело. Искусство
есть орган жизни человечества, переводящий разумное сознание людей
в чувство». Это слова JI. Толстого («Что такое искусство», XX). «Ис¬
кусство не есть фантазия, каприз личности,— пишет Маццини.— Мис¬
сия искусства — подвигать людей на воплощение мысли в действие».
Первое суждение на русском языке о Маццини как авторе статей
по литературе и искусству мы находим у Н. Г-ской в 1906 году*.
Эстетика Маццини описывается здесь как цельная система; интересно
указание на то, что у Маццини предвосхищаются некоторые музыкаль¬
но-эстетические идеи Р. Вагнера. Но Н. Г-ская, рассматривая учения
Маццини в плане «чистой» эстетики, не видит их общекулыурной про-
блемности. «Много хороших и важных мыслей высказывает Маццини
об искусстве»,— пишет Н. Г-ская, и добавляет: «Маццини не понима¬
ет, что если бы осуществился его идеал искусства, оно пало бы, стало
бы скучно». Ясно, однако, что теорию, которая проповедует скучное ис¬
кусство, не спасут уже никакие «хорошие и важные мысли». В двой¬
ственной оценке Маццини как чуткого ценителя и неудачного теорети¬
ка искусства Н. Г-ская следует за Ф. Де Санктисом. Та же зависи¬
мость от Де Санктиса чувствуется в кратком упоминании о Маццини
у В. Фриче ** и у С. Мокульского в «Литературной энциклопедии»
1932 года. Вслед за Де Санктисом они повторяют, в частности, будто
Маццини «отвергает Гёте и Байрона, потому что находит у них содер¬
жание, противоречащее его концепциям, и превозносит до небес поэму
«Изгнанник» П. Джанноне, теперь всеми забытую, за ее патриотиче¬
ское содержание»,— ошибочное утверждение, которое исправляет Дж.
Борджезе в «Истории романтической критики в Италии» ***, замечая,
что достаточно прочесть соответствующие статьи Маццини, чтобы убе¬
диться в противоположном.
Сочувственный разбор идей Маццини дает А. В. Луначарский в ра¬
боте «Ибсен и мещанство» ****, на материале статьи «Байрон и Гёте».
«Прежде всего, статья поражает искренностью тона, блеском изложе¬
ния, страстью,— начинает А. В. Луначарский.— Теперь так что-то не
пишут. Публицистика либо ругается, либо ходит в перчатках и белом
галстуке. Но главное в статье юноши Маццини — глубина мысли». «За¬
дача новейшего времени... по мнению Маццини, заключается в том,
* Н. Г-с к а я. Джузеппе Маццини.—«Русская мысль», т. 27, 1906, июль, стр.
54—75.
** См.: В. Фриче, Итальянская литература XIX века, М., 1916, стр. 140—
141, 143—144, 164-168, 238-241.
*** G. В о г g е s e, Storia della critica romantica in Italia, Milano, 1965, pp.
315—316.
**** См.; A. В. Луначарский, Собрание сочинений, т. 5, М., 1965, стр.
132—135.
36
В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
чтобы соединить свободу и общественность, индивида и коллектив¬
ность». В устремленности к искусству будущего, в раскрытии проро¬
ческого значения гениев искусства прошлого, продолжает А. В. Луна¬
чарский, Маццини близок нашему времени. «Маццини был в полном
смысле этого слова гениальным человеком». Вместе с тем он «неяс¬
но представлял себе, в чем будет заключаться опора, материальный
базис нового духа, великого коллективизма». «Коллективизм Маццини
был скорее поздним отсветом Великой французской революции, Конвен¬
та, он мечтал о ее продолжении, о законченности демократии, опираю¬
щейся на народ. Народ и государство противопоставлял он личности,
хотя, конечно, не был слепым последователем Руссо и думал о рес¬
публике, в которой громадная солидарность не убьет индивидуально¬
сти, в которой новая «личность» — народ не убьет своей составной ча¬
сти — человека».
Маццини от имени искусства заявил тот бескомпромиссный мак¬
симализм, без мужественной решимости на который творчество и в
самом деле едва ли способно вырваться из круга вечного повторения;
без напряженного порыва к воплощению своих возможностей в пов¬
седневной действительности оно уготовило бы себе участь более или
менее почтенной праздности. Однако, не сойдя с твердыни этой, в сущ¬
ности, отрицательной истины — не мирящейся с косной обыденностью
и с расколом мира на жизнь и искусство, — великий бунтарь остался
на пороге желанной ему подлинной социальности и не услышал слова,
говорящего о превращении силы отрицания в залог созидания. Лишь
в полуосознанной музыке мацциниевской риторики, в движущем ею
волнении мы угадываем голос недвойственного утверждения и необ¬
манчивой надежды.
По-видимому, на этих путях, в широком историко-культурном кон¬
тексте, и должна рассматриваться проблема, поставленная Маццини
в тезисе «социального искусства».
В. В. Бибихин
ЭСТЕТИКА
И
КРИТИКА
ИЗ «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК»
[ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ]
Никто еще до сих пор не го¬
ворил, что романтизм в Италии был борьбой Свободы про¬
тив угнетения, борьбой Независимости против всяческих
форм и норм, которые бы не мы сами избрали, повинуясь
личному вдохновению или коллективной мысли, живущей
в глубинах нации. Мы сказали это. Вот единственное до¬
стоинство статей, которые здесь помещены.
Но, говоря это, мы хотели выразить литературную, а не
просто политическую истину. Истина едина, она господст¬
вует над всеми проявлениями жизни. Каждой ступени вос¬
питания человечества или отдельного народа предпослана
социальная идея, определяющая уровень прогресса, кото¬
рый должен быть на этой ступени достигнут. Религия, ис¬
кусство, политика, промышленность выражают и воплоща¬
ют эту идею различными способами, в соответствии со сво¬
ими особенными задачами и средой. Отдельная редкостно
одаренная личность, гений может стать завершителем про¬
шлого или пророком будущего; но коллективная литера¬
тура, искусство целого народа или многих народов не мо¬
гут не принять облика, отвечающего прямому социально¬
му смыслу настоящей эпохи.
Истинная миссия искусства — подвигать людей на пре¬
творение мысли в действие. Об этом единственно верном
определении искусства будет подробно говориться в каж¬
дой статье, включенной в это издание. В час, когда воз¬
рождение нации обещает скорое пробуждение итальянско¬
го искусства мне остается лишь повторить это и отослать
сомневающихся к Истории.
Различие между искусством и другими дисциплинами,
чисто рассудочными и спекулятивными, есть такого же ро¬
да различие, какое отделяет веру от философии.
41
ДЖ. МАЦЦИНИ
Главная идея эпохи, с тех пор как существует филосо¬
фия, почти всегда заключена в этой последней; но здесь
эта идея остается для личности холодным объектом бес¬
плодного созерцания, будучи сама по себе неспособна из¬
менить социальные условия, воплотиться в человеке, пра¬
вить его поступками. Вера приемлет идею эпохи и, связав
ее с небом, освятив ее печатью божественного рождения и
будущего, делает ее законом и высшей целью человеческо¬
го действия и преобразует ею мир.
Такова и миссия искусства. Оно восприемлет неподвиж¬
ную идею разума, поселяет ее в сердце, окружает ее чувст¬
вом, превращает ее в страсть и делает человека из созер¬
цателя подвижником.
Я не говорю, что искусство, как его понимают сегодня
люди, не имеющие веры, выполняет эту миссию; я хочу
лишь сказать, каким оно должно стать, каким оно было в
свои лучшие эпохи и как оно мельчало, опускалось и де¬
лалось минутной игрушкой пресыщенных людей, пародией
на самое себя всякий раз, когда позволяло отклонить себя
от цели.
Итак, высшее требование к искусству — проникнуться
идеей эпохи, нации и человечества, претворить ее в симво¬
лы и образы и найти для нее такое выражение, которое
побудило бы людей посвятить ей все свои душевные силы,
все мечты и всю любовь и добиться ее торжества.
Идея эпохи для нации требует создания свободной и
великой Италии, которая бы высоко подняла знамя угне¬
тенных и обездоленных народов, призывая их к единой и
самостоятельной жизни и борясь за них своим примером
и делами. Идея же эпохи для человечества есть в послед¬
нем счете религиозное преобразование: надо отслужить
торжественную панихиду старой вере, уже не способной
по причинам, о которых было бы долго говорить, освящать
человеческую жизнь; и надо призвать души, сегодня еще
колеблющиеся, изверившиеся, неудовлетворенные, разде¬
ленные, возродиться для жизни, юности и братства у колы¬
бели веры новой.
Новое небо и новая земля — это ли тесная сфера для
будущего итальянского искусства? Она ли менее поэтична,
чем та пустыня ощущений, переживаний и индивидуальных
капризов, где в середине жизненного пути погибли столь
большие таланты, как Альфред де Мюссе? И неужели ис¬
кусство, ставшее в первую очередь религиозным и поли¬
42
ИЗ «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК*
тическим, уверенно следующее общей цели, осознанному
общему убеждению, должно будет непременно оставить ис¬
точники своей жизни и нарушить отведенные ему пределы?
Неужели оно будет менее возвышенным, если его символом
станет тот столп облачный и огненный, который шел перед
Израилем 2 в его пути через пустыню, а не холодный блу¬
ждающий свет, следуя за которым путник теряется в лесу?
Две опасности грозят искусству: представление, что оно
есть «подражание» природе, и теория, согласно которой
его закон есть служение самому себе, — теория, в недав¬
ние времена породившая формулу «искусство для искус¬
ства». Это представление отнимает у искусства малейший
признак собственной жизни; эта теория разрывает его
связь со вселенной и заставляет блуждать без системы, без
цели, без сознания долга на поводу у ощущений, наподо¬
бие больного бреда.
Искусство не подражает, оно выражает. Оно будит
идею, спящую в символе, и представляет символ таким об¬
разом, что люди видят идею сквозь него. Если это не так,
к чему искусство? Природа есть одеяние вечности, действи¬
тельность есть конечное выражение всеобщей истины,
«формы» суть временные и пространственные пределы еди¬
ной жизненной силы. Искусство должно представить при¬
роду, действительность, внешние формы так, чтобы сквозь
них людям светил луч истины, более глубокий и более об¬
ширный смысл жизни. Думающий иначе низводит служе¬
ние поэта до ремесла фотографа.
Но искусство не есть и фантазия, каприз личности. Это
великий голос мира и бога, услышанный избранной душой
и в гармонии открытый людям. Этот голос, когда он нисхо¬
дит непосредственно от вселенной к смертному, грозит по¬
давить своим величием его деятельную силу, как это сде¬
лал пантеизм с древним восточным миром: искусство же
смягчает его, очеловечивает его и дает нам услышать его
эхо в страданиях, радостях и чаяниях одного из наших
братьев. Искусство не есть изолированное, разъятое, необъ¬
яснимое явление. Оно живет жизнью мира и вместе с ним
из эпохи в эпоху стремится к богу. В этой коллективной
жизни оно черпает свою силу, подобно тому как растения
берут сок из земли, общей матери; обособившись, оно ут¬
ратило бы свою власть над сердцами. «Искусство для ис¬
кусства» есть формула безбожная, подобно политической
формуле «каждый за себя»; такое искусство в период на¬
43
ДЖ. МАЦЦИНИ
родного упадка может овладеть умами на краткий срок,
но оно бессильно, когда народ поднимается к новой жизни,
к великому служению.
Юные ревнители искусства Италии — когда Италия бу¬
дет, ибо до той поры искусство имеет право быть лишь
боевой песнью — избегнут, надеюсь, обеих этих опасно¬
стей.
Они не забудут своих великих людей, от Данте до Фос¬
коло, учивших, что искусство должно быть нравственным
служением.
О ЛЮБВИ ДАНТЕ
К ОТЕЧЕСТВУ
Когда словесность была, как
ей подобает, частью учреждений, управляющих народной
жизнью, и считалась еще не забавой, а служением на об¬
щую пользу, тогда поэтом назывался не сочинитель метри¬
ческих строк, но человек свободный, от богов поставлен¬
ный вещать людям истину под видом аллегории. Древние
воображали себе Муз чистейшими девственницами, обита¬
тельницами гор, чтобы показать, что поэзия, дочь неба, пи¬
тается свободой, и чтобы певцы учились не продавать свои
цитры земным властителям.
В лучшие века Греции поэты, помня о своем высоком
назначении, посвящали свой гений пользе Отечества. Одни,
как Феогнид, сеяли среди сограждан слова мудрости; дру¬
гие, как Солон, говорили в своих стихах о законах, дела¬
ющих приятной общественную жизнь; третьи, как Гесиод,
вверяли своей поэзии религиозные тайны и аллегории. Оте¬
чество поручало своим поэтам столь святое дело, как вос¬
питание в юношестве любви к свободе и уважения к рели¬
гиозным и гражданским законам; и пока гимны Гармо-
дия и песни Алкея1 звучали в устах молодых греков,
можно было не бояться ни своей тирании, ни чужеземного
ига.
Но когда развратившаяся в пороках общественность,
роскошь, падение нравов и время, губитель всего цветуще¬
го, склонили дух людей к рабству, а деспотизм одиночек
вознесся над подобострастным раболепием большинства,
то отступила от своей первородной свободы и поэзия, ра¬
зум стал продажным, и его стали покупать те, кто надеял¬
ся, что звон цитр заглушит стон угнетенного человечества.
Поэзия стала искусством льстить народному легкомыслию
и распущенности толпы, разжигать страсти и сластолюбие
45
ДЖ. МАЦЦИНИ
тиранов, и часто она делалась наставницей порока, почти
всегда — праздного безделья.
У каждого народа, особенно же в нашей Италии, всегда
есть несметное число писателей и, возможно, чрезмерное —
поэтов. Но много ли было таких, кто не продал талант и
перо тирании (ибо даже республика словесности имеет
своих диктаторов)? Придворные нравы, секты, школы, ака¬
демии, лжеучения и суеверия, которые плодит каждый век,
развратили большинство писателей; великих людей, кото¬
рые не шли ни под каким знаменем, кроме знамени исти¬
ны и справедливости, было очень мало. Потомство вынесло
первым суровый приговор забвения, любовь же ко вторым
сберегло в памяти достойнейших, поручив им хранить в
чистоте этот священный дар, чтобы он служил ободрением
в несчастьях и поощрением в лучшие времена. Из таких
гениев, которые остались чисты среди всеобщего рабства,
лишь благу родины посвятив свой труд и свою жизнь, Ита¬
лия, спеша смыть пятно старой несправедливости, дала
первое, никем не оспариваемое место божественному Али¬
гьери; и если провинциальная гордость или дух противоре¬
чия толкал кого-то восстать против всенародного пригово¬
ра, это было легкой дымкой в спокойном солнечном небе.
Человек, чей прах еще не остыл и чей возвышенный об¬
раз будет жив среди нас2, пока рождаются в Италии бла¬
городные души, возвратил Данте славу истинного гражда¬
нина; и, казалось, никто уже не решится оспаривать ее.
И все же в некоторых появившихся недавно книгах под¬
вергается сомнению любовь Данте к отечеству. Голоса эти
не встретили возражений, и их подхватил один итальян¬
ский литератор, который в своем письме, помещенном в од¬
ном из последних номеров «Антологии», обвинил Данте в
нетерпимости, упрямой гордости и неразумном гневе про¬
тив Флоренции. Мы считаем поэтому нужным выставить
некоторые свои соображения против этого вновь возро¬
дившегося мнения; и если даже нам не придется сказать
ничего нового, нас утешит мысль, что наши слова, каковы
бы они ни были, не пройдут совсем бесследно для тепереш¬
него поколения, ибо речь идет о вещах, касающихся италь¬
янской славы.
Чтобы верно судить о произведениях искусства, о моти¬
вах, вызвавших его, о чувствах, под влиянием кото¬
рых оно было создано, а значит, и о смысле его, есть, мне
кажется, лишь единственный путь, которым слишком ча¬
46
О ЛЮБВИ ДАНТЕ К ОТЕЧЕСТВУ
сто пренебрегают: изучение эпохи, в которую писал его ав¬
тор, и изучение жизни писателя.
Любовь к отечеству всегда едина по своей сути и ко¬
нечной цели, но, как всякое человеческое чувство, она ис¬
пытывает различные изменения и принимает разные фор¬
мы, смотря по тому, как меняются обычаи, нравы, вера,
гражданские убеждения и страсти людей, составляющих то
отечество, к пользе которого стремится любящий. Поэтому
с изменением нужд отечества должны измениться и сред¬
ства, которыми добиваются их удовлетворения или ограни¬
чения; а следовательно, направление, которое примет лю¬
бовь к отечеству в одном веке, будет совершенно иным,
чем в другом. В лучшие годы римской республики истин¬
ная любовь к отечеству была любовь Цинцинната; Брут
показал, какова она при зарождении тирании; Кокцей Нер¬
ва 3 научил сограждан, какое высокое доказательство люб¬
ви к родине остается принести, когда рабство утвердилось
бесповоротно. Вот как видоизменяла эпоха одну и ту же
страсть, пылавшую в душе этих трех великих людей. Так
же влияет эпоха и на писателей, отчего возникает многооб¬
разие форм, отмечающих разные периоды любой литера¬
туры. Пока историю литературы путали с историей писа¬
телей, оставались незамеченными теснейшие связи, прохо¬
дящие между учреждениями, нравами народа и его лите¬
ратурой; они обнаружились лишь когда историко-литера-
турные исследования приняли более философское направ¬
ление. Тенденции писателя немало зависят от окружающих
его обстоятельств. Поэтому любовь к отечеству, живущая
в его груди, будет проявляться в тысяче форм в зависимо¬
сти от состояния общественных стихий, которое он так или
иначе выражает. В одну эпоху он явится, дыша благород¬
ным гневом, тогда как в другую голос его польется напе¬
вами ласки и покоя. Заставьте историка, одаренного всеми
достоинствами великого человека, быть в век Августа сви¬
детелем мира, детища усталости, современником государя,
сообщавшего новое направление деятельности римского
ума, среди видимости благоденствия, созданной прогрессом
цивилизации и литературы, и вы получите Ливия. Теперь
перенесите того же самого человека в эпоху после импе¬
раторства Нерона, в начало правления Домициана, когда
погибла вся древняя доблесть, когда человек пресмыкался,
утратив благородство и честь, под пятой жесточайшей ти¬
рании, среди унизительной подлости, — и вы получите Та¬
47
ДЖ. МАЦЦИНИ
цита. Оба питали горячую любовь к отечеству; но первый,
соблазненный зрелищем покоя, уверовал, что Рим счаст¬
лив, и потому представил историю его древнего величия
скорее наподобие гимна, услаждающего слух сильных мира
сего, чем в виде горького упрека, брошенного застывшему
в вялом оцепенении обществу, — меж тем как Тацит, жив¬
ший в эпоху, утратившую остатки иллюзий, сделал свое
повествование последним отзвуком былой свободы, безжа¬
лостно открыв своим современникам картину их чудовищ¬
ного падения.
Итак, следует рассмотреть эпоху, прежде чем судить по
языку писателя, любовь ли к родине вдохновляет его, то
есть служит ли он тому отечеству, каким оно стало в его
время. Каковы же были времена Алигьери? В каком соот¬
ношении находились тогда общественные стихии? Краткое
описание особенного облика той эпохи, черт, характеризу¬
ющих ее и отличающих ее от последующих эпох, не ока¬
жется, думаю, бесполезным для тех, кому не приходилось
погружаться в историю средних веков.
Италия тринадцатого века одновременно являла взору
все то, что история земного шара лишь постепенно раз¬
вертывает в своем течении. Разнообразнейшие формы гра¬
жданских и политических учреждений делали непохожими
друг на друга ее города. Все те начала, на которых осно¬
вывается несчастье или благосостояние народов, таились в
ее лоне. Неистовая энергия, неустрашимая доблесть, не¬
терпеливое свободолюбие, неистощимая плодовитость в
создании проектов общественного устройства, мужествен¬
ное постоянство в преодолении любых препятствий — все
это уживалось рядом с манией господства, со страстью раз¬
рушения, с необузданной дерзостью, с яростным духом ме¬
сти, с немилосердной жестокостью. Высокие добродетели и
гнусные преступления, люди благороднейших чувств и низ¬
кие негодяи соседствуют в этом веке, подобно тому как в
странах, где природа всего более плодовита, противо¬
положности прекрасного и отвратительного особенно ог¬
ромны.
При такой энергии, при таком избытке сил Италия мог¬
ла бы уже в том столетии заложить основу своей нацио¬
нальной независимости, если бы в ней нашелся правитель,
обладающий трудным искусством подчинять все страсти
единой цели. Но помешал врожденный разброд итальян¬
ских умов, и буйное племя, для которого покой был смер¬
48
О ЛЮБВИ ДАНТЕ К ОТЕЧЕСТВУ
ти подобен, никем не руководимое, необузданное, ежечасно
подстрекаемое тщеславием тех, кто на чужом раздоре хо¬
тел построить свое господство, необходимо должно было,
заражаясь захватническим пылом от чужеземцев, обратить
во вред своей общей матери безудержную потребность дей¬
ствия. В причинах для смуты не было недостатка. Почти
на всем пространстве нашей несчастной земли предвестием
зла для итальянского уха звучали названия гвельфов и ги¬
беллинов 4, ибо партии обычно долговечнее повода, из-за
которого они возникли. И эти две тем более расходились
между собой, что часто не имели никакой определенной це¬
ли. Ни попытка реформы, предпринятой Джованни да Ви¬
ченца 5, ни республиканское правительство, благодаря ко¬
торому во Флоренции возродились словесность и искусст¬
ва, не помешали раздору все более разгораться на лом¬
бардской земле и в Тоскане. От границы до границы
итальянские мечи обагрялись итальянской кровью. Неапо¬
литанские государства, раздираемые долгой войной Ман¬
фредов с узурпатором Карлом Анжуйским, стонали под
кровавым игом; Сицилия мстила своей вечерей за молодо¬
го Конрадино — месть бессмысленная, временно отдавшая
ее под власть арагонского короля 6. В Ломбардии Делла-
Торре пытались утвердиться на развалинах тирании Эцце-
лино 7. Сиена, Ареццо, Флоренция вели между собой оже¬
сточенную войну. Владычица морей вызывала на смертный
бой Геную и Пизу, и на горе Пизе соединили свое оружие
Флоренция, Лукка, Прато, Пистойя, Вольтерра и другие
города, которые сами были заклятыми врагами между со¬
бой до тех пор, пока ярость гвельфов не сблизила их ин¬
тересы в общей вражде против единственного гибеллинско-
го города в Тоскане 8. Это были войны, не упорядоченные
теми нормами, которые совесть предписала нациям, заста¬
вив их признать то, что называется международным пра¬
вом. Они велись со всей жестокостью эпохи и той цели, ра¬
ди которой их начинали, а целью этой чаще было полное
истребление противника, чем перемена у него способа
правления и изменение границ. Хватались за каждую слу¬
чайность, лишь бы она вредила врагу; любое средство ка¬
залось хорошим, лишь бы оно вело к победе. Перемирия
превращались в ловушки, любое коварство, любое преда¬
тельство представлялось законным приемом войны. И у
всякого, кто вспомнит, из событий одной лишь войны меж¬
ду Генуей и Пизой, о клятве разрушить стены Пизы и рас¬
49
ДЖ. МАЦЦИНИ
сеять ее жителей по окрестным землям, которой связали
себя союзные с генуэзцами города, или о бегстве графа
Уголино в битве под Мелорией 9, или о том, как обошлись
лигуры с одиннадцатью тысячами пизанских пленных, взя¬
тых после победы, когда десять тысяч из них погибли на
плахе, — душа содрогнется в груди, для которой наши
слова не пустой звук.
Если мы теперь окинем взором внутреннее состояние
городов, то откроется такая картина, что можно лишь
скорбеть о нашей родной Италии, показавшей миру столь
плачевный пример. Повсеместно граждане сбегались на
бунты и резню с тем же неистовством, с каким беснующий¬
ся раздирает собственные язвы. Повсеместно насилия, из¬
биения, убийства оскверняли прекрасную землю, как бы
самой природой предназначенную для безмятежного и веч¬
ного покоя, ибо одни поднимали смертоносный меч, снедае¬
мые жаждой тиранической власти, другие — из страха
перед порабощением или из слишком далеко зашедшей
любви к независимости. Почти все знатнейшие аристокра¬
тические роды были в открытой вражде между собой; ме¬
нее знатные разделялись, вставая на сторону то тех, то
других. Поэтому города были вечно тревожимы кровными
распрями, исход которых решался обычно оружием; тут
каждый дворец был бастионом, каждая площадь могла
стать местом боя. Меж тем люди приучались презирать
порядок и закон; подчинение судебным решениям почита¬
лось низостью среди знати; когда один привлекался к су¬
дебному разбирательству, все его родственники стремились
силой вырвать его из рук стражей — так преступление од¬
ного делалось преступлением многих. Существовали зако¬
ны, но правительства были бессильны добиться их строгого
исполнения; поэтому когда ничто уже не могло сдержать
неуемную дерзость аристократов, народ, уставший от не¬
мого страдания, поднимался с оружием на обидчиков. Та¬
кие народные революции, не направляемые мудростью пра¬
вительств, побуждаемые чувством личной обиды, разжига¬
емые свежей памятью о прошлых несправедливостях, при
подстрекательстве какого-нибудь льстивого демагога почти
всегда переходили границу поставленной цели, чему ярким
примером (о других умолчим) служит нам восстание, ко¬
торое поднял во Флоренции Джано делла Белла 10. Тогда
бич анархии поражал все окрест, и на смену тирании знати
приходил не менее тиранический разгул народа. Так ста¬
50
О ЛЮБВИ ДАНТЕ К ОТЕЧЕСТВУ
рая смута продолжалась в новом виде, пока власть не за¬
хватывал какой-нибудь более осторожный и расчетливый
аристократический род.
Такова была эпоха, в которую протекала горестная
жизнь Данте, эпоха, служащая глубоким уроком для каж¬
дого, кто способен вглядеться в нее философским взором,
эпоха, от изучения которой Италия может получить только
пользу. И если найдется хоть один, кто, прочтя историю тех
времен, лишь усмехнется усмешкой безучастного сожале¬
ния, то это будет более либо менее чем человек, ибо не¬
счастье полного дерзаний и сил народа, который с неисто¬
вой яростью обращается против собственных сыновей и го¬
товит приход чужеземцу, бессмысленно расточая свою
энергию, всегда будет повестью скорби и слез для чувству¬
ющего сердца. Скорби и слез, говорим мы, ибо большинст¬
во всегда довольствуется лишь тем, что молча стенает о
бедах, которым не могут помочь. Но всегда есть и пламен¬
ные души, неспособные ни смириться со всеобщим падени¬
ем, ни онеметь от бесплодной скорби. Вознесенные приро¬
дой на огромную высоту, они единым взором схватывают
положение и нужды своих братьев; их чувства тем более
живы, чем более они чужды порокам века; их объемлет
святой гнев, волнует властное желание сделать своих со¬
братьев лучшими; они поднимают голос мощный и суро¬
вый, как голос пророка, бросающего укор народам. Их
слушают обычно с недовольством; так дети принимают
горькое лекарство. Но кто осмелится сказать, что похвалу
переменчивой лести надо предпочесть запоздалой призна¬
тельности потомков? Лишь об этой признательности думал
Данте, как говорит он в строках, которые не должен забы¬
вать никто из берущих в руки перо:
А если с правдой побоюсь дружить,
То средь людей, которые бы звали
Наш век старинным, вряд ли буду жить.
«Рай» 17 й
Нам кажется, что Данте скорбел о суровой необходи¬
мости, вынуждавшей его обнажать язвы родной земли;
нам кажется, что каждый стих, в котором он клеймил за¬
пятнавшие ее пороки, стоил ему слезы, и он страдал, что
речи его суждено быть «вначале горькой», но утешался
мыслью, что «она составит жизненную пищу, когда ее усво¬
ят» 12,— утешение, поистине достойное высокой души. Ибо
51
ДЖ. МАЦЦИНИ
чудная похвала ожидает того, кто слагает гимн славе оте¬
чества, но более прекрасная — того, кто предпринимает
трудную и опасную попытку вернуть своих сограждан древ¬
ней доблести. Благотворно ласкали слух юных греков пат¬
риотические оды Пиндара, когда доблесть олимпийских по¬
бедителей блистала незапятнанной славой на площади
народных собраний и на поле боя; но те же самые оды
прозвучали бы горькой насмешкой или трусливой лестью
после того дня, когда греческая свобода погибла на Херо-
нейской равнине. Ясно поэтому, что в народе, который
страдает множеством пороков или сделался бесчувственно¬
праздным, высшим и святейшим из всех будет дело, ис¬
полняемое сатирой, если только его делают не с шутовст¬
вом Сеттано или слепой злобой Розы 13, но с той суровой
добродетелью, с какой Персий клеймит ничтожество свое¬
го века, или с целомудренной сдержанностью нашего Па-
рини. Но для итальянцев XVII века, для людей, опьянен¬
ных яростью междоусобных и внешних воин, мечтавших
о мести, как о небесном блаженстве, для людей, воображе¬
ние которых могла потрясти лишь картина страданий греш¬
ников и вечных мук *, и строгий стиль Персия и изящная
ирония Парини прозвучали бы всуе, как робкий голос сре¬
ди рева бури. Им нужны были слова пламенные, как сам
их нрав, слова величественного презрения, гневного состра¬
дания, горького упрека, слова, которые смогли бы пора¬
зить их ожесточенный ум; ведь зефир, от которого прячет¬
ся нежная красотка, незамеченным касается огрубелой ко¬
жи крестьянина. Писатели должны говорить языком, кото¬
рого требует эпоха, если только они мечтают о пользе оте¬
чества, а не о пустой и кратковременной славе. И эти сло¬
ва нашел Алигьери. Их внушило ему зрелище великих не¬
счастий родины, преступлений и пороков, грозивших эти
несчастья увековечить; их внушила ему кипучая душа, от
природы печальная и суровая, вскормленная горем, не
знавшая иных друзей, кроме истины. Облекшись в непре¬
клонность судии, он бичевал вину и виновных, кто бы они
ни были, невзирая на партии, союзы, старую дружбу.
Страх перед сильными мира сего не сделал его рабом, он
не обманулся видимостью свободы; но, беспристрастно ра¬
зоблачая преступные души, он стремился изображением
злодейства отвратить соотечественников с пути заблужде¬
• Джованни Виллан и, История Флоренции, кн. VITI, гл 70
52
О ЛЮБВИ ДАНТЕ К ОТЕЧЕСТВУ
ния, на который они встали, подобно тому как спартан¬
ские старейшины показывали юношам, которые вышли из
границ умеренности и тем унизили себя, отвратительное
зрелище пьяного илота. Если подобная цель недостойна
звания хорошего гражданина, то, признаемся, мы не пони¬
маем смысла этого выражения. Но если кто-нибудь станет
отрицать, что именно такой цели подчинена вся поэма, мы
возразим ему словами самого Алигьери, который в Треть¬
ей Песне обнаруживает такую убежденность в святости
своего творения, что заблуждается насчет благодарности
современников и тешит себя надеждой, что его поэма смо¬
жет открыть ему двери любимой Флоренции *. Это свиде¬
тельство чистой совести не кажется нам легковесным до¬
водом, ибо подобное желание, подобная надежда не посе¬
щают человека, который горит гневом к родному городу и
хочет лишь оскорбить его в своих писаниях. А ведь Данте
выразил эту свою мечту в двадцать пятой песне «Рая», то
есть уже на закате своих дней, когда он испил всю горечь
изгнания, когда, казалось, его должны были уже ожесто¬
чить несчастья, всегда преследующие человека бедного с
душою гордой.
Впрочем, мы не станем утомлять читателя, выстраивая
перед ним в ряд все места божественной Поэмы, явствую¬
щие о той глубокой любви к отечеству, которою пылал
славный изгнанник; да это было бы и ненужным после под¬
робного разбора Пертикари !5. Мы скажем лишь, что если
бы даже не было великолепной песни, в которой выступает
Сорделло 1б, и прочих подобных ей, и тогда те самые ме¬
ста, которые обычно выставляются доказательством мсти¬
тельности Алигьери, полностью оправдали бы Данте перед
человеком, умеющим проникнуть в мысль писателя. Да, он
сурово клеймил пороки, бесчестившие итальянскую землю,
но это не было взрывом безрассудной ярости или оскорб¬
ленной гордости. Это был голос благородной печали чело¬
века, который пишет, обливаясь слезами,— это говорил
* Коль в некий день поэмою священной.
Отмеченной и небом и землей,
Так что я долго чах, в трудах согбенный,
Смирится гнев, пресекший доступ мой
К родной овчарне, где я спал ягненком,
Не мил волкам, смутившим в ней покой...
и т. д.
«Рай» 25, 1—6
53
ДЖ. МАЦЦИНИ
дух свободы, скорбящий о разоренном алтаре отечества и
восстающий против его осквернителей. В стихах, где, каза¬
лось бы, всего более ожесточения, слышишь как бы стон,
плач о суровой необходимости, заставившей поэта бичевать
безрассудных соотечественников; и узнаешь как бы чув¬
ство отца, который наперекор собственному сердцу стара¬
ется быть жестоким 17, чтобы пресечь гнездящуюся в груди
сына гибельную страсть. Слова «отечество», «родная сто¬
рона», «моя земля» появляются то и дело, напоминая нам,
что поэт любит Флоренцию с тем же пылом, с каким бичу¬
ет волков, не дающих ей покоя 18. Он часто черпает груст¬
ное утешение в воспоминаниях о былых днях и, останавли¬
ваясь усталым взором на прошлом величии родного горо¬
да, с благородной гордостью вспоминает, чем было когда-
то его отечество, рисуя несказанно сладостными красками
мир, безмятежный покой и простую добродетель, делавшие
эту землю небесной обителью, пока мерзость «мужика из
Агульоне» и «негодяя из Синьи» не запятнала чистоту ее
нравов 19.
Нет, мы не отрицаем: горькими были упреки Данте. Но
того требовали эпоха, нравы, обстоятельства времени; и
верно понятая любовь к отечеству велит поступать так ка¬
ждому, кто талантом или добродетелью превосходит ос¬
тальных *. Пертикари указал обвинителям Данте не менее
ядовитые и колкие места из Боккаччо, из Виллани, напом¬
нил им, что столь же суровыми словами клеймили пороки
своей земли Демосфен, Аристофан, Платон, Туллий, Сене¬
ка, Тацит и многие подобные им, и посетовал на неблаго¬
дарность потомков, которые за одно и то же хвалят одних
и обвиняют других. Поэтому мы не будем останавливаться
на этом вопросе и вспомним только, что Петрарка, о кото¬
ром Пертикари не сказал ни слова, заходил в выражении
своего гнева еще дальше Алигьери всякий раз, как от веч¬
ного предмета своей любви он обращал взор к Италии.
Три сонета, в которых он призывает на Рим страшные ка¬
ры, превосходят по выраженному в них негодованию все,
* Если верно, как это следует из «Жизнеописания Данте» Боккаччо, из двух
новелл Франко Саккетти и других свидетельств, что по крайней мере шесть пер¬
вых песен были уже написаны и разошлись по Флоренции еще до того, как Дан¬
те был изгнан, то по тону этих песен и но их стилю каждый увидит, что жесто¬
кие слова и упреки, которым он дает место в своей Поэме, надо приписать не гне¬
ву оскорбленного человека, но благородному и непреклоннейшему намерению пи¬
сателя .
54
О ЛЮБВИ ДАНТЕ К ОТЕЧЕСТВУ
что когда-либо было сказано Данте или любым другим по¬
этом. В канцоне
Италия мояÌ Хоть речь не может...20 —
он во весь голос говорит о своем презрении к своре терза¬
ющих родину ничтожных тиранов. В другой, посвященной,
вероятно, Стефано Колонна и начинающейся словами:
Высокий дух, царящий в этом теле...21 —
он называет Италию «состарившейся», «медлительной»,
«праздной» и мечтает о том, чтобы кто-нибудь вцепился в
ее «почтенные волосы и растрепанные косы». А ведь Пет¬
рарка жил в менее жестокие, хотя и не менее развращен¬
ные времена; он, во всяком случае, не был смертельно оби¬
жен отечеством, и притом имел душу необыкновенно неж¬
ную, вспоенную любовными воздыханиями, привычную к
учтивости двора, при котором он находился, возможно, че¬
ресчур долго для своей чести.
Окончательным доводом в пользу защищаемой нами
истины послужат нам другие произведения Алигьери. По¬
скольку идеи писателя, подобно статьям закона, надо тол¬
ковать одну через другую, то, рассмотрев все, что в разное
время вышло из его пера, мы лучше поймем, к чему стре¬
мился его дух. Во всех сочинениях Данте, какого бы рода
они ни были, в различных формах обнаруживается вели¬
кая любовь, которую он нес своему отечеству, — любовь,
питавшаяся не мелкими предрассудками или муниципаль¬
ным тщеславием, но светлыми идеями единства и мира,
любовь, не замкнувшаяся в кольце городских стен, но раз¬
литая на весь край, где звучит si, ибо отечество итальянца
есть не Рим, Флоренция или Милан, но вся Италия. С этой
думой в сердце писал он книгу «Монархия», где, видимо,
не все мысли можно принять целиком, но где все они по
крайней мере выдают ум такой высоты, на какую только
могла подняться эпоха. В этой книге он ставит целью сое¬
динить в едином теле раздробленную Италию и спасти ее
от порабощения, которое было тогда главной опасностью.
И если латинский язык, схоластическая внешняя форма и
малочисленность изданий трактата заставили почти забыть
этот труд, тем не менее верно, что Данте заронил в нем те
семена независимости и свободы, которые он рассеял затем
и в своей Поэме и которые принесли обильный плод в по¬
следующие века. С этой думой в сердце он замыслил трак¬
55
ДЖ. МАЦЦИНИ
тат «О народном красноречии», который побудил в послед¬
нее время раздражительных итальянских литераторов к
спорам более изощренным, чем полезным. В этом трактате
он возвысился светлым разумом над всем отродьем грам¬
матиков, которые удушают язык, желая втиснуть его в пе¬
ленки его младенчества; он доказал, что истинная италь-
янская речь не есть ни тосканская, ни ломбардская, ни
речь какой-либо другой провинции, но что она едина и
принадлежит всей земле, «которую разделяют Апеннины и
окружают море и Альпы» 22. Уча своих современников, что
этот просвещенный всеобщий язык не знает никаких огра¬
ничений, но украшает себя всем, что есть лучшего в каж¬
дом диалекте, Данте стремился кончить всякие споры о
первенстве наречий различных провинций и внушал ту вы¬
сокую истину, что от общения идей во многом зависит про¬
гресс человеческого духа. Подобные мысли всего более
развиты им в «Пире», где он с жаром выступает в защиту
простонародной итальянской речи и предсказывает этой
скромной девственнице, которую он готовил к высоким
судьбам, славу и победу над уходящим латинским языком.
Как заметил один писатель, Данте, по-видимому, гораздо
более гордится гибкостью и силой родного языка, чем до¬
стоинством собственных стихов. Кажется, что, упиваясь
мыслью о будущем, Данте хочет забыть о скорби, которую
вызывали в нем политические беды Италии и собственные
несчастья: ведь он писал это произведение, когда уже ис¬
пытал, сколь острые стрелы шлет лук изгнания 23, и когда
его жизнь уже клонилась к концу. И все же любовь к оте¬
честву по-прежнему ярко горела в его сердце, в чем убеж¬
дают нас те трогательные места, где он оплакивает судь¬
бу, вырвавшую его «из сладостного лона прекраснейшей и
славнейшей дочери Рима, Флоренции» 24. Эта преданность
отечеству никогда не оставляла его, сопровождая его во
всех странствиях по Италии, и каждая его мысль, каждое
движение сердца были внушены ею. Не говоря уж о пре¬
красной канцоне:
Мое три дамы сердце окружили,—
и о великолепной
О родина, достойна громкой славы,—
даже когда он пишет слова, внушенные любовью, он не
56
О ЛЮБВИ ДАНТЕ К ОТЕЧЕСТВУ
столько думает о своей Беатриче, сколько говорит о городе,
где родился. Так, в канцоне:
Когда меня Амор обрек печали,—
жалоба на жестокость донны служит Данте поводом
вспомнить о жестокости Флоренции, которая заперлась от
него в своих стенах,
Сложив любовь, отбросив состраданье,—
а в другой канцоне:
Безжалостная память вновь и вновь,—
полный любви, он вспоминает оставленный им сладост¬
ный край.
Наконец, если даже некоторые места поэмы могут оста¬
вить в душе противоречивое чувство, у нас есть одно неоп¬
ровержимое свидетельство, не оставляющее никакого сом¬
нения в характере идеи, вдохнувшей жизнь в песни поэта.
Это свидетельство — жизнь Данте. Самое важное в ней
уже достаточно известно, хотя Италия, несмотря на целый
потоп комментариев, примечаний, историй и очерков, еще
не имеет достойного жизнеописания этого великого челове¬
ка и голос нашего доброго Пелли до сих пор еще не услы¬
шан... 25.
О итальянцы! Изучайте Данте; но ищите его не в ком¬
ментариях и не в примечаниях, а в истории его века, в его
жизни и в его произведениях. И смотрите! В его Поэме со¬
крыто нечто большее, чем стихи, а потому не доверяйте
грамматикам и толкователям. Они подобны анатомам, рас¬
секающим труп: вы видите составлявшие тело кости, мус¬
кулы, вены, — но где одушевлявшая его искра жизни?
Вспомните слова Сократа, что лучший истолкователь Го¬
мера — гений, одержимый божественным наитием 26. Име¬
ете ли вы пламенную душу? Испытывали вы хоть раз свя¬
щенный трепет, слушая древние предания? Молились ли у
гробниц немногих гигантов, которые отдали жизнь и та¬
лант отечеству? Случалось ли вам пролить слезу о прекра¬
сной земле, которую довели до края падения ненависть,
партии, раздоры и чужеземное насилие? Если да, изучайте
Данте, впитывайте с его полных глубокой энергии страниц
благородный гнев, которым славный изгнанник напоял
свою душу; ибо гнев, вызванный пороками и развратом,
есть добродетель. Учитесь у него, как служат родной земле,
57
ДЖ. МАЦЦИНИ
когда служить возможно, и как живут среди бедствий. Си¬
ла обстоятельств лишила итальянцев многого, но ничто не
отнимет у нас великого прошлого. Славу наших гениев,
память о них не смогли затмить ни злоба завистников, ни
рабское равнодушие; и сегодня они возвышаются, как те
колонны, которые предстают перед странником в немых
пустынях Египта и указывают ему, что в этих местах был
когда-то великий город. Окружим же их образ сыновней
любовью. Каждая ветвь бессмертного лавра, который века
возложили на их гробницы, есть залог нашей славы, и
нельзя прикоснуться к этому венцу кощунственной рукою,
не нанеся глубокой раны чести той земли, которая дала
им жизнь. О итальянцы! Никогда не забывайте, что первое
условие рождения новых гениев есть почитание уже ушед¬
ших из этого мира.
«ПЕРТСКАЯ КРАСАВИЦА»,
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН
ВАЛЬТЕРА СКОТТА
С гор древней Каледонии спу¬
скается к своим сестрам, рассеянным по всей Европе, чи¬
стая, светлая девушка, прекрасная добродетелью, энтузи¬
азмом и душой, далекой от праздной косности. Мы совету¬
ем всем, у кого чуткое сердце и свободный ум, одарить
своим вниманием молодую красавицу из Перта; кто не в
состоянии любоваться простотою ее родного наряда, может
увидеть ее в галльском, который приготовил для нее неуто¬
мимый Дюфокомпре 1.
События, составляющие этот новый роман, восходят к
концу XIV века, к эпохе Роберта III, когда Шотландия яв¬
ляла картину хаотического столкновения различных обще¬
ственных сил, не упорядоченных правосудием, не сдержи¬
ваемых энергической властью. Замки самовластных фео¬
далов зловеще высились над безоружными городами. Опья¬
ненная невежеством и гордыней, знать не хотела чтить
иного начала, кроме собственной прихоти, и нанимала для
свершения темных злодеяний дружины головорезов, вспо¬
енных преступлением и готовых продать душу и силу сво¬
их рук любому, от кого можно было ожидать взамен про¬
текции и милости. Имя закона было пустым звуком, пото¬
му что судьи, эти вершители правосудия, были по большей
части робки или продажны. Можно было безнаказанно^
пренебрегать и королевским словом, ибо нерешительные
и бессильные государи боялись нажить себе врагов среди
тех, кто мог защитить их от иноземного вторжения. Отсю¬
да частые возмущения народа. Доведенный до крайности,
он поднимался, чтобы по-своему отомстить за обиды и
оскорбления. Проповедь сторонников Вайклиффа2 лишь
еще более разжигала пламя раздора и злобу преследова¬
телей. Безраздельный культ красоты и редкие песни труба¬
59
ДЖ. МАЦЦИНИ
дуров были единственным лучом, светившим в этом мраке
грубости и жестокости, ибо в нашем мире любовь и поэзия
имеют жизнь вечную. Но и благоухания розы недостаточ¬
но, чтобы защитить ее от мерзкого червя, и часто лучший
цвет красоты становился жертвой высокомерной распу¬
щенности молодых феодалов.
Поистине грустная картина! Но общая в определенную
эпоху всем народам и потому представляющая поучитель¬
ный источник наблюдений для тех, кто на опыте прошед¬
ших времен изучает, как изменилось к лучшему человече¬
ство. Романист сделал, таким образом, хороший выбор, хо¬
тя и трудный из-за запутанности событий и скудости исто¬
рических памятников. В Шотландии поздно появились соб¬
ственные хронисты; Мэр, Бойс и немногие другие писали
уже в XVI столетии; составленные ими истории, не исклю¬
чая и «Истории» Бьюкенена3, надежнейшей среди всех,
заражены легковерием, пороком всех первых летописцев.
Эти препятствия Скотт преодолел, как нам кажется, до¬
стойным своего таланта образом: основательно зная про¬
шлое свое родины, умея в самом незначительном памят¬
нике былых времен найти глубокий и неожиданный смысл,
он оживляет перед нашим взором облик давней эпохи. Буд¬
ни, темная ярость простого люда, суровое великодушие
горцев, традиции, обычаи народа, двор, феодалы и их на¬
емные головорезы проходят перед нами, как по мановению
волшебника, восстав из праха, в котором они покоились
много веков; и порой романист рисует их красками, столь
живыми и яркими, что заслуживает имени «пророка про¬
шлого», как назвал историков один острый ум.
Что же касается художественного вымысла — честь и
слава человеку, когда, несмотря на пятьдесят семь лет и
сто сорок томов за плечами, так свежо улыбается ему
вдохновение, так живо бьется его сердце, что он способен
создать характеры, подобные Праудфуту, оружейнику,
Дуайнингу, и образы таких милых и обаятельных женщин,
как Катерина и Луиза!
При всем восхищении романом мы, однако же, не на¬
столько ослеплены энтузиазмом, чтобы не заметить несо¬
вершенств, кое-где омрачающих красоту книги, каких-то
маленьких неправдоподобностей, нескольких, может быть,
слишком растянутых диалогов, чрезмерного увлечения де¬
талями, некоторого разрыва между историческими событи¬
ями и художественным вымыслом в романе, что в совокуп¬
60
«ПЕРТСКАЯ КРАСАВИЦА*
ности утомляет читателя и притупляет его интерес. Но об
этих родимых пятнах всех почти романов Вальтера Скотта
у нас, возможно, еще будет случай поговорить в другом
месте. Тесные рамки газетной статьи не позволяют нам
задерживаться на подробном анализе. Можно дать в не¬
скольких строках разбор драмы (особенно классической),
греческого романа, критической работы, опирающейся на
аристотелевские нормы, какой-нибудь «Кармен», даже если
много отвлекаться, — но из исторического романа Вальте¬
ра Скотта, четырех томов, наполненных переплетениями
множества событий, где тысячами и тысячами встают пе¬
ред нами разнообразнейшие чувства и картины, не имеет
права сделать схему тот, кто знает, каким уродливым ка¬
жется самое прекрасное человеческое тело, когда в нем га¬
снет огонь одухотворяющей его пламенной жизни.
«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ,
ИЛИ ЖИЗНЬ ИГРОКА»
Вечером 23 июля Комической
труппой была представлена (правду сказать, довольно пло¬
хо) комедия, или драма, или мелодрама, или трагическое
представление — я не хочу спорить о словах, и мне нра¬
вится прекрасное, какое бы имя ни дать ему, — в переводе
(еще более плохом) с французского, под названием «Три¬
дцать лет, или Жизнь игрока». Автор ее, уже известный
несколькими хорошими романами, Виктор Дюканж *, по¬
ставив себе целью убедительно изобразить порочную и ги¬
бельную страсть игрока, понял, что классические двадцать
четыре часа не смогут вместить сколько-нибудь впечатля¬
ющую картину ее, ибо для этого требуются широкие сроки,
как обычно бывает в жизни у питающих подобную страсть,
и многие особого рода события, которые, возможно, вооб¬
ще нельзя представить в театре. Дюканж понял, что, под¬
чинившись системе драматических единств, немыслимо по¬
казать, как разнузданная страсть понемногу завладевает
человеческой душой, пока не опутает всю ее, как змеи —
Лаокоона; как эта страсть, дошедшая до крайности, толка¬
ет к греху; как один проступок ведет к длинному ряду дру¬
гих, проступки — к преступлению, преступление — к не¬
счастью и мучительным укорам совести. Поэтому он от¬
рекся от Аристотеля и задумал в трех больших картинах
представить всю жизнь игрока.
В первом акте это пылкий двадцатипятилетний юноша,
молодой и нежно любимый супруг. Но ему неведомо чувст¬
во дружбы, если не считать развращающего влияния его
злого гения Варнера; он жаден до денег и один раз уже
обвинен в краже. Будучи проклят умирающей матерью, он
на краю разорения, хотя еще не лишен средств.
Проходят пятнадцать лет, и чудовищным плодом взра¬
62
«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, ИЛИ ЖИЗНЬ ИГРОКА*
стает в сердце Жоржа страсть к игре, страсть тем более
преступная, что он уже не только муж, но и отец. Проиг¬
рав все свое состояние, он силой отнимает у жены остатки
ее приданого. Он подделывает векселя; вечно обеспокоен¬
ный, преследуемый страхом наказания, снедаемый раская¬
нием, он в ослеплении ревности поддается искусной интри¬
ге Варнера, тайно влюбленного в его жену, и обагряет ру¬
ки в крови родственника.
Проходят еще пятнадцать лет. Дядей жены взят на вос¬
питание сын Жоржа; сам он, преступный подделыватель
бумаг и убийца, бежав из Франции, блуждает в горах Бо¬
гемии. Бесприютный странник, он вынужден выпрашивать
кусок черствого хлеба для себя, жены и маленькой дочери.
Непрестанные, хотя бесплодные и безнадежные, упреки со¬
вести душат его; жители деревни, где он нашел пристани¬
ще, ненавидят и боятся его; ему ничего не стоит совершить
новое преступление. Сделавшись грабителем на большой
дороге, он нападает на прохожего офицера, заносит уже
нож над его головой... «Это твой сын!» Этот крик матери
возвещает Жоржу, что его жизненный путь окончен; он
убивает себя.
Эта драма — глубокий урок, и публика выслушала его
в тишине и глубоком волнении, несмотря на все тридцать
лет, — ибо публике, которой нет дела до Аристотеля, до¬
статочно простого упоминания об условностях, которые на¬
мерен ввести автор, лишь бы они служили занимательно¬
сти и действенности представления. Спор о «единствах»
для всех мыслящих людей уже бессмыслен. Кто читал
Шлегеля, Висконти, Мандзони 2, кто внял доводам здраво¬
го смысла, тот знает, что соблюдение подобных правил,
первоначально вызванное потребностями античного театра,
стало опираться затем на ложную теорию иллюзии, кото¬
рая невозможна и которой никто никогда на театре и не
мог достичь. Допустим даже — хотя в действительности
это не так, — что быстрый переход действия из одного ме¬
ста в другое и увеличенный сверх обыкновения промежу¬
ток времени, которое представляется протекшим, создает
легкое впечатление неправдоподобности; я все ж сочту бла¬
гом, если ценою такого легкого неправдоподобия будет
куплен важный урок. Жалок тот, кто судит о внутреннем
достоинстве драмы с хронометром в руках!
Есть другой разряд критиков, сетующих, что итальян¬
цам представляют картины ужаса, отвратительные для
63
ДЖ. МАЦЦИНИ
итальянского ума. Такие критики утверждают, что бандит,
убийца, фальшивомонетчик выходят за пределы, назначен¬
ные подражательным искусствам. Но мне неприятен чело¬
век, который отворачивается от покрытого струпьями ни¬
щего и избегает смотреть на него под предлогом, что серд¬
це его не вынесет зрелища такого убожества. Потому и в
области литературы я не верю людям, которые кричат, что
у них разрывается сердце, когда им показывают вызываю¬
щий содрогание предмет, — не верю тем, кто бежит от
зрелища злодейства, нарисованного приличествующими ему
красками, порока, изображенного в непригляднейшем ви¬
де, — и не верю тем, кто хочет изгнать из сферы подража¬
ния все страшные сами по себе или по своим последствиям
пороки, для которых не может стать достаточным лекар¬
ством смех. Пусть эти люди, если могут, вечно созерцают
цветистые луга, улыбаются зрелищу скупца, гасящего из
бережливости последнюю свечу, и услаждают свою празд¬
ность аркадскими сонетами. Но и пусть же они не обрека¬
ют на ленивое бездействие — удел недорослей — итальян¬
ский ум. Ведь перед теми же итальянцами Данте нарисо¬
вал однажды картину человека, вгрызающегося в череп
другого, и показал отца, в муках голода вынужденного по¬
жирать тела своих детей, в надежде отнять их у жестокого
страдания 3, — а небо Италии было тогда столь же безмя¬
тежным, как и в наши дни. Я знаю, что чудная улыбка ла¬
зурного неба, безмятежная летняя ночь прекрасны и на¬
полняют влюбленную душу невыразимой сладостью. Но я
знаю также, как величествен рев бури или волнующегося
моря и как он поднимает человека над холодным расчетом
и узким эгоизмом. Я знаю, что на земле, где нам суждено
влачить свою жизнь, на долю страдания приходится глав¬
ная часть жизненного пути, что в этом мире высокие доб¬
родетели перемежаются с великими злодеяниями и что по¬
этому изучать гибельные последствия порока есть необхо¬
димость, да грустная, но необходимость. Я знаю, что посто¬
янно удалять от нашего взора глубоко поучительную
картину страдающего преступника и сглаживать ужас не¬
счастного положения — значит жестоко обманываться, зна¬
чит неосторожно и безрассудно отправляться в путь, усеян¬
ный терниями и шипами, как если бы это была аллея
вечноцветущих роз. Конечно, душа ученого педанта способ¬
на старательно удалить от себя все то, что может властно
нарушить ее сон. Но умы Италии не уступят никому по
64
«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, ПЛИ ЖИЗНЬ ИГРОКА*
своей энергии, и «человеческое растение», по словам Аль-
фиери, рождается в Италии более крепким, чем где бы то
ни было. Поэтому я призываю и всегда буду призы¬
вать писателей: не изгоняйте из сферы подражания це¬
лую половину природы; ведь природа равно являет нам
и достоинства и пороки, и великодушные подвиги и
низкие преступления. Рисуйте же людей правдиво. Не
льстите себя надеждой, что вам удастся искоренить силь¬
ные страсти оружием смеха. В тот день, когда зрелище
отца, приносящего дочь в жертву своему сребролюбию, зре¬
лище эгоиста, ради своих интересов влекущего к гибели
семью, вызовет в партере лишь улыбку, театр станет шко¬
лой порока. Разве способны излечить застарелую азартную
страсть игроки Гольдони или Реньяра? Глубокие уроки
почти невозможны без сильных потрясений. Всего дальше
от порока человек, бледнеющий и содрогающийся перед его
изображением. Не страшитесь глубоко поразить воображе¬
ние и чувствительность своих собратьев; лишь бы ваша
картина явила их взорам нравственную истину. Истинные
границы искусства определены пользой и бесполезностью.
Опишите добродетель во всем ее прекрасном блеске, ибо
вы тем вызовете наибольшую любовь к ней. Но опишите и
преступление в его отвратительной и низменной крайности,
ибо тогда вы вызовете к нему наибольшую ненависть...
3-6342
«БИТВА ПРИ БЕНЕВЕНТО»,
история XII века, написанная доктором Ф-Д. Гверрацци,
в 4-х томах, Ливорно, 1827
Я смотрю на картину кого-то
из тех многочисленных художников, кто без искры гения
пустился в долгий путь учения и труда по следам одного
из Великих. Точность пропорций соблюдена, рисунок пра¬
вилен, краски нанесены искусно, — почему ж при виде
стольких достоинств я холоден и бесчувствен, ни одна мысль
не зарождается в моей голове и ни одно переживание,
воспоминание, ни одно желание не пробуждаются в моем
сердце? Да потому, что эта картина имеет лишь отрица¬
тельное достоинство, в ней всего лишь отсутствуют ошиб¬
ки; потому, что ей недостает вещи, которую Менгс 1 назы¬
вал «симпатической частью картины», недостает выраже¬
ния. Покажите мне теперь пейзаж Розы 2, где грозовое не¬
бо нависло над сценой дикой природы, где ветер разбива¬
ется о крутые голые утесы, где свирепый главарь банди¬
тов, как злой гений, стоит посреди пустынного берега. Ху¬
дожник, воспитанный в лоне академий, среди трактатов и
теорий, возможно, обнаружит тут погрешность в отборе
предметов, в точности их изображения. Однако же душа
моя глубоко тронута, и тысяча мыслей и чувств теснит ее.
Почему?.. Вот женщина, в которой вам не найти ни ма¬
лейшего недостатка; на любой черте ее лица ваш взор ос¬
тановится с удовольствием, но никогда — с восхищением,
ибо природа, создав ее прекрасной, забыла вложить в нее
искру духа. Меж тем вот перед вами другая женщина;
черты ее лица несколько резки, формы представляют опре¬
деленную неправильность, контуры не обладают совершен¬
ной гармонией, — но вы забываете первую и не можете
отвести взор от второй, потому что невинная радость рож¬
дает на ее устах улыбку и прекрасная душа любовью све¬
тится в ее прекрасных очах. И мне представляется бесспор¬
66
«БИТВА ПРИ БЕНЕВЕНТО»
ной истиной, что как отсутствие порока еще не есть красо¬
та, так наличие какого-то недостатка еще не исключает ее.
Тысячи музыкальных сочинений не содержат ни одной по¬
грешности против контрапункта, ни одной модуляции, ко¬
торая не вытекала бы естественным образом из предшест¬
вующих ей аккордов, но исполнение еще не дошло до сере¬
дины, как на язык вам просятся слова Фонтенеля: «Mu¬
sique, que me veux-tu?»3. Тысячи книг могут гордиться
ясностью и порядком изложения и не содержат ни единого
слова, которое не было бы одобрено целой академией, но
они способны вызвать в душе лишь чувство скуки. Чего
недостает им? Недостает глубокой мысли, которая обогати¬
ла бы ваш разум, слова, которое тронуло бы душу; недо¬
стает движения и жизни, чего не даст никакое образова¬
ние, но дарует лишь сердечное чувство и гений.
И движение, и жизнь, и ум есть в этой истории битвы
при Беневенто, которую молодой автор «Белых и черных»4
подарил недавно Италии. Кого не ослепил предрассудок и
не иссушила низкая зависть, непременно воскликнет вме¬
сте с нами: «Этот человек рожден для величия», — ибо на
каждой странице обнаруживается здесь пламенная душа,
переплетениями судеб правит здесь безграничная способ¬
ность фантазии, прошедший школу жизненных испытаний
разум проникает здесь в глубочайшие тайники человече¬
ского сердца.
Вспоенный великодушной гордостью, этой музой силь¬
ных, пылая благородными чувствами, очищающими душу,
оскорбленную зрелищем мелких страстишек, в которых пре¬
смыкается человеческий род, автор черпает вдохновение в
вечном великолепии красоты природы, в воспоминаниях о
древнем величии, о страданиях, постоянно преследовавших
край, достойный быть безмятежной страной вечного сча¬
стья. Печаль раскрыла ему свои сокровища, печаль, кото¬
рая не унижает, но облагораживает душу, болеющую о
других. Стиль его всегда несет неповторимый отпечаток су¬
ровости, часто глубокой энергии; у него есть целые стра¬
ницы, где каждое слово таит идею, и идею из тех, которые,
как было кем-то сказано, «обжигают бумагу». Словом, это
стиль человека, стремящегося нарушить дремоту падших
братьев.
Однако нет ли в этой книге недостатков? Есть, и, воз¬
можно, немалые, как тому и надлежит быть всегда рядом
с большими красотами, ибо гений, стремительно воспаряя
3*
67
ДЖ. МАЦЦИНИ
на крыльях вдохновения, часто не замечает ловушек, кото¬
рые видит и обходит более умеренный ум. Кратко и отры¬
вочно, как велят нам стеснительные рамки газеты, мы ска-
жем о некоторых из этих недостатков, чтобы искренняя по¬
хвала, только что вырвавшаяся у нас, не показалась про¬
явлением лести или слепого восторга.
Действие происходит на неаполитанской земле. Вре¬
мя— XIII век, начиная с 1264 года, когда узурпатор Карл
Анжуйский, призванный Климентом IV и неапольскими
предателями, пришел в Италию, чтобы изгнать с трона
Манфреда, короля Сицилии, сына Фридриха II. Образ от¬
цеубийцы и братоубийцы Манфреда, его преступления, ве¬
личие его натуры, опасность, в которой он находится, его
отчаянное упорство, его мечты, его раскаяние, интриги ба-
ронов-заговорщиков, поход Карла, предательства, сраже¬
ния, продолжавшиеся до 1266 года, когда побежденный в
битве Манфред пал «там, за мостом, вблизи от Беневен-
то», — все это составляет историческую часть книги 5. Ее
вымышленная часть — любовь Иолы, дочери Манфреда, и
Роджеро, который оказывается впоследствии родным сы¬
ном Манфреда, интриги двух баронов против Роджеро,
картины похода Карла и военные действия Манфреда.
Каждый может видеть, сколь сильно историческая часть
преобладает здесь над вымыслом. Отсюда вытекает недо¬
статок, во многом усиливающий позицию тех, кто осуждает
жанр исторического романа как противоестественный и не¬
избежно искажающий подлинную историю. Метод Скотта
лишает основания это обвинение; но оно сохраняет силу в
отношении авторов, у которых исторические личности ста¬
новятся главными героями, вместо того чтобы время от
времени появляться в глубине сцены; меж тем именно этот,
последний подход принят нашим автором, почему у него и
получился, скорее, не роман, которому история сообщила
бы значительность и достоверность, но история, вокруг ко¬
торой местами вьется узор романтических происшествий.
Оттого неясна у него разделительная линия между собы¬
тиями истинными и воображаемыми; оттого теряется неис¬
кушенный читатель, когда он без специального изучения
желает отличить в книге достоверную историю от вымыс¬
ла. Упрек, брошенный «Ревю энсиклопедик»6 нашему
Мандзони по поводу того, что последний назвал свой ро¬
ман историей, не столь уж мелочен, как может показать¬
ся. История и исторический роман — два совершенно раз¬
68
«БИТВА ПРИ БЕНЕВЕНТО»
личных жанра, хотя они поддерживают и подкрепляют
друг друга. И если мы знаем, что многие события родились
в пылком воображении автора, а не пришли с бесстраст¬
ных страниц старой хроники, то уже по одной этой причи¬
не название истории не приличествует такому повествова¬
нию. Все ж наилучшим представляется нам способ, при¬
нятый в романах Скотта.
Размышляя над всем этим, автор «Битвы при Беневен¬
то» сделает, конечно, свой вывод. Мы же заметим лишь,
что даже и при той системе, которая была им принята, сле¬
довало бы избежать досадного перерыва в событиях после
V главы. Прочитав следующие три главы, читателю при¬
ходится потом снова возвращаться к этой V главе, чтобы
перейти затем к главе IX, а это дурно в любой книге, тем
более в романе, где первое впечатление всегда самое силь¬
ное. Описание жизни народа свевов в XII и XIII веках мо¬
жно было бы, вероятно, поместить в самом начале в виде
вступления.
Хотя писатель часто очень ярко рисует общие черты
изображаемой эпохи, все же иногда эти общие черты сти¬
раются и на их место слишком открыто выступают собст¬
венные черты писателя. Мысль кипит в его голове. Когда
какая-нибудь мелочь коснется одного из его заветных прин¬
ципов или убеждений, идеи набегают, как волны в бурном
море; но поскольку он не может удержаться от их выраже¬
ния в романе, то люди XIII века невольно приобретают у
него облик, приличный скорее XIX веку. Они слишком ча¬
сто дают волю философским размышлениям, отвлеченным
рассуждениям, идеям трансцендентального порядка. Уста¬
лость от жизни, сомнения в конечной судьбе человечества,
возвышенное презрение к людям, неверие, отчаяние — вот
обычные черты, составляющие характер действующих лиц
романа. Здесь столько качеств, общих для всякой личности
вообще, что от этого страдает необходимое разнообразие
типов.
Когда нити рассказа многочисленны и переплетены, а
события громоздятся одно на другое, редко удается свести
все к одной связующей точке без видимого усилия. Не
вполне лишен здесь недостатка и роман, о котором мы
говорим. Большая часть X главы кажется нам мало прав¬
доподобной. Козни, которые Джисфредо строит Роджеро,
беспрепятственность, с которой он, сделавшись шпионом,
разгуливает ночыо по дворцу Манфреда, проникая до са¬
69
ДЖ. МАЦЦИНИ
мых королевских покоев, сцена, в которой Иола, слабая
свевская девушка, застигнув его врасплох, выхватывает у
него кинжал и, угрожая этим кинжалом, понуждает его
пройти через весь дворец и привести ее в темницу возлюб¬
ленного, причем ни одна служанка, ни один страж не заме¬
чают их; далее, способ, каким Роджеро обнаруживает за¬
говор баронов против короля, равно как и бегство его с
Иолой, грешит, как нам кажется, все тем же пороком.
Пороком представляется нам и чрезмерная растяну¬
тость монологов. Всякий раз, когда перед нами выступает
действующее лицо, глубоко пораженное каким-либо горем,
мы слышим его длинную речь, в которой описаны все чув¬
ства, волнующие его грудь; это утомляет внимание и впо¬
ловину ослабляет интерес и любопытство читателя. Когда
страсть подлинно сильна, человек не жалуется и не плачет,
но молча вперяет перед собою взор и стонет стоном, не
слышным для внешнего слуха.
Как нам кажется, следовало подробнее изобразить
нравственное состояние неаполитанского народа. Можно
было более яркими красками обрисовать господствующее
в нем суеверие; тогдашнюю моду на схоластические учения
автору удалось бы, возможно, изобразить столь же удачно,
как в фигуре Дренготто он изобразил манеру преподава¬
ния jus 7. Описание хитростей, к которым прибегли тогда
францисканские монахи, чтобы восстановить против Ман¬
фреда крестьян, могло бы подкрепить описание глубокой
ненависти римского двора к правящему роду свевов.
Наконец, критики не преминут отыскать в этих четырех
томах несколько исторических ошибок, некоторую темноту
стиля, словом, разные мелочи, которые всегда приятно об¬
наружить людям, измеряющим с циркулем в руке создание
чувства и воображения, — и я предоставляю эту задачу им,
потому что сам при чтении измеряю лишь удары своего
сердца и за одну искру вдохновения прощаю автору мно¬
гие и многие мелкие погрешности; когда же мне случается
уронить слезу на лежащие передо мной страницы, то одна
эта слеза заставляет меня забыть все суровые замечания,
которые успел мне выставить холодный рассудок. Но «Ис¬
тория битвы при Беневенто» изобилует этими искрами
вдохновения, и слезы часто текут из глаз читателя. Стес¬
ненные рамками статьи, мы не можем сделать всех выпи¬
сок, какие нам хотелось бы, и потому решаем не делать ни
одной, отсылая всех, кто хочет узнать, на что способен
70
«ЬИТВЛ ПРИ БЕНЕВЕНТО»
Гверрацци, к XXII главе. Картина, которую он здесь рису¬
ет, глубоко нравственна; она величественна, она достойна
Шекспира. Тихая, полная веры в помощь свыше печаль,
объявшая пораженных горем, но черпающих силы в созна¬
нии своей невиновности родных Манфреда, составляет чуд¬
ный контраст с волнением снедаемого честолюбием пре¬
ступника, которого мучит тень убитых им брата и отца и
который бродит по залам дворца, ища покоя, но, мучимый
сознанием вины, не находит его. Эта ночь обнажает всю
преступную жизнь, всю бездну раскаяния, пожирающего
венчанного и порфироносного злодея.
Но что сказать об общем характере книги, о ее нравст¬
венном назначении? Поставленная автором цель (жалок
не заметивший ее!) уж во всяком случае не такова, чтобы
можно было обойтись стершимися словами и поблекшими
красками. Когда имя добродетели звучит тщеславным
чванством на устах самодовольной толпы, когда души од¬
них томятся в плену холодного расчета и эгоизма, меж
тем как другие живут бездумной, бездеятельной жизнью
малодушных, преступник тот, кто одевает в мантию лести
бесчестные деяния первых или ласкает слащавой аркади-
кой и лицемерными похвалами сонный слух вторых! Чтобы
пробудить в такое время умы к новой жизни, нужно сна¬
чала глубоко поразить их; и не следует бояться слишком
сильного потрясения, ибо в подобном состоянии каждое
потрясение есть шаг на пути к добродетели. Поэтому я не
бегу от тягостного переживания, если могу ждать от него
нравственного блага, как не отвергаю лекарства за его го¬
речь. И все же боюсь, что наш автор в излишней горячно¬
сти переступил назначенный себе предел; боюсь, что, же¬
лая выпрямить согнувшееся растение равносильным изги¬
бом в противоположную сторону, он незаметно для себя
перешел тот предел, когда можно сломать его. Мнится, что
он прочел лишь одну страницу жизненной книги, мрачную
страницу ужаса и порока. Весь роман служит комментари¬
ем к ней, он прямо-таки сочится кровыо. Я знаю, что силь¬
ный дух возрастает и крепнет в бурях. Но тут уж не осен¬
няя непогода, скрашенная лучом солнца, который пробива¬
ется время от времени сквозь тучи, давая надежду вскоре
увидеть небо еще более чистым; нет, перед нами долгая,
глухая зимняя буря, когда нас мучит горькое чувство че¬
ловеческого бессилия перед всевластием стихий: ничего не
видать во мраке, кроме крови, и нечего ждать от завтраш¬
71
ДЖ. МАЦЦИНИ
него дня, кроме сумрачного, холодного и дождливого рас¬
света. От монолога отчаяния Роджеро (гл. I) до последней
страницы романа мы влекомы от измены к измене, от не¬
счастья к несчастью, и душе ни на миг не дано отдохнуть
пред картиной возвышенной добродетели или спокойного
чувства. Но ведь непрестанные потрясения не обостряют
горестного переживания, а лишь превращают его в чувст¬
во мрачной усталости. Человеческой душе ведомо, что та¬
кое боль; однако и способность страдать в ней ограниче¬
на— особенно во времени — пределами, переступив кото¬
рые человек, тая в себе мощный инстинкт самосохранения,
восстает против безжалостно влекущей его силы или же
вместо нового возбуждения надламывается и тупеет от не¬
померного страдания. Впрочем, сильные и полные потрясе¬
ния чрезвычайно редки, и обычно душа познает все в
сравнении; поэтому теория контраста, как мне кажется, на¬
всегда останется основанием подражательных искусств в
том, что касается их воздействия. Безгласный труп девуш¬
ки поразит вас всего сильнее, если незадолго перед тем
вы видели ее цветущей, веселой и резвой. Но в этой книге
почти нет контрастов, и уж, конечно, не потому, чтобы ав¬
тору гимна к Солнцу и закату (гл. X), автору страниц,
рисующих Роджеро у постели спящей Иолы (гл. XXVII),
были недоступны краски Рафаэля или Гвидо. Почему же
нельзя было подробнее очертить едва намеченный характер
Иолы, этого нежного и страстного создания, которое в
первых главах кажется ангелом, спустившимся с неба в
глубины ада? Или вспомнить о зарождавшейся тогда поэ¬
зии провансальских трубадуров, об итальянской поэзии?
Хочу, чтобы меня правильно поняли. Я хвалю автора
«Битвы при Беневенто» за то, что он нарисовал преступле¬
ние черным, как оно того заслуживает, а последовавшую
за ним месть — достойными ее адскими красками. Но мне
жаль, что он изобразил лишь злодейство и бедствия, при¬
чем так, будто только эти две стихии составляют всю
жизнь народов; мне больно, что многие страницы отравле¬
ны равнодушием и мизантропией, чуждыми сердцу самого
писателя, и больно, что эта мизантропия, возведенная в
систему в XIII и в XXVI главах, может стать для иных
читателей оправданием их отчаяния в людях и в жизни.
Прекрасен энергический упрек, брошенный праздности; пре¬
красен гнев в благородной груди, когда за ним стоит
стремление к нравственному совершенствованию. Но цели
72
«БИТВА ПРИ БЕНЕВЕНТО»
не достичь, если кричать падшему человеческому роду:
«Вечно пресмыкайся в грязи; для тебя нет надежды воз¬
рождения». Я ненавижу того, кто способен запеть гимн ра¬
дости над руинами отечества; но кроме радости и отчая¬
ния природа дала нам гнев и печаль — гнев, который не
обессиливает, но бодрит, и печаль, которая не только пла¬
чет и скорбит, но порой с упованием вперяет взор в буду¬
щее, ибо и в стане побежденных расцветают розы на¬
дежды.
О юноша! Ты обладаешь силой воображения, чувства
и ума. Тебе природа дала душу, которая в пылком вдох¬
новении обнимает все творение и которой достаточно со¬
средоточиться в себе, чтобы открыть источник жизни и
энергии. Не забудь же теперь о своих братьях; не омрачай
свой талант тьмою отчаяния, ибо оно превращает вселен¬
ную в пустыню. Ты рожден чувствовать и прекрасно живо¬
писать любовь, природу, сострадание; твой гений способен
будить благородные мысли, но ведь и сострадание, и при¬
рода, и любовь покажутся пустой тенью для человека, ска¬
завшего: «Для меня нет более надежды». Ты еще не испил
всю чашу жизни до дна и не можешь с уверенностью ска¬
зать, что для тебя не осталось в ней еще капельки бальза¬
ма; и не все люди злы и несправедливы, хотя многие по¬
рочны и все — несчастны. Италия вправе ждать от тебя
многого; так пиши, вселяй жизнь в бездушную персть, об¬
нажай низость преступления, потрясай картинами ужаса
косность и праздность, когда мало простого упрека. Но
помни, что цель писателя — волнуя чувства, просвещать;
что потрясение излишне, когда оно не служит раскрытию
глубокой истины; что картина бесполезна, если из глуби¬
ны ее не светит луч надежды.
КАРЛО БОТТА И РОМАНТИКИ
Дурной поступок совершил
журналист, поместивший в тридцать седьмой книжке рим¬
ского «Аркадико» отрывок из иисьма Карло Ботта 1, в ко¬
тором целый разряд литераторов именуется самыми непри¬
ятными и оскорбительными словами, не делающими чести
такому человеку, как его автор, — дурной поступок, напол¬
нивший глубокой болью итальянские сердца. Слишком ча¬
сто у нас академические интриги, частные страстишки и
провинциальная обидчивость превращали поле важного
спора в арену гладиаторов, слишком часто перебранка вы¬
тесняла честную критику, чтобы при возобновлении этих
боев не болела душа у каждого, кто знает, к какому паде¬
нию и позору они всегда приводили Италию. Конечно, вся¬
кая толпа, говоря вообще, легковерна по природе, косна по
привычке; всякая толпа легко и бездумно смиряется с мне¬
нием большинства, тупо бредет вдоль протоптанной колеи,
часто ненавидит тех, кто хочет вывести ее на иную, более
плодородную ниву, и потому романтики, покинув старые
пути и пытаясь сообщить новое движение литературному
духу, не могли не ждать борьбы; но они ждали единобор¬
ства смелых, приличного собратьям, идущим различными
путями в поисках единой истины. Этого им не было дано.
Педанты объявили свой крестовый поход; посредствен¬
ность, которую крушение мифологии и «общих мест» об¬
рекло на вечное молчание, сплотилась вокруг старых на¬
ставников; праздность зубоскалила; люди, не принадле¬
жавшие к черни, но обманутые самолюбием, безоснова¬
тельно страшились, что с переменой направления они из
первых сделаются последними и увенчивающие их чело
лавры будут отняты у них; иные (и среди них, полагаем,
Ботта), глядя на немногих, слишком поспешно заключили
74
КАРЛО BOTTA И РОМАНТИКИ
о цели большинства и не поняли тайного душевного поры¬
ва романтиков.
В письме Ботта говорится так... «Тем большее удовлет¬
ворение я получил от почетного мнения, составленного Ва¬
ми обо мне, что мне хуже ядовитых змей ненавистна та
чума, которую некоторые юнцы, жалкие рабы чужезем¬
ных идей, постепенно распространяют в итальянской лите¬
ратуре. Я называю их предателями отечества, и таковыми
они являются. Правда, виной тому частью их чрезмерное
самомнение, частью извращенность суждений — самомне¬
ние в рабстве у Каледонии и Эрцинии,—и суждения, извра¬
щенные дерзостью и бесстыдством. Я верю, что... эта не¬
годная зараза рассеется и мы еще увидим в должном по¬
читании Вергилия, Тассо, Альфиери...»
Предатели Италии! Нет, предатели Италии те, кто про¬
дал свой талант и душу силе, которая повелевает, или
роскоши, которая платит, — те, кто увековечивает раздор
между братьями нелепой провинциальной спесью или веч¬
ными спорами о языке — те, кто унижает Италию грамма¬
тическими безделками и ничтожными учеными спорами и
лелеет ее сон на лаврах давно умерших великих людей.
Это те, кто в XIX веке упрямо хочет заключить пылкие
итальянские умы в колодки их детства и как только мо¬
жет борется против всеобщего порыва человеческого разу¬
ма, обрекая его на вечную неподвижность и на суеверную
преданность басням, чуждым нации, ее традициям и нуж¬
дам — это те, кто пишет не из любви к истине, но из за¬
висти или тщеславия, или партийной горячности, это, нако¬
нец, те, кто лишает отечество хорошего гражданина, чтобы
дать ему взамен плохого и бесполезного писателя. Но лю¬
ди, которые все, что пишут, пишут ради совершенствования
сограждан, которые загораются всем, что есть прекрасного
и славного на нашей земле, у которых найдутся слезы для
каждого несчастья, поражающего их родину, улыбка для
каждой радости, веселящей ее, — люди, для которых ис¬
тина есть цель, а природа и сердце суть средства; которые
направляют свой гений по путям, не испорченным подра¬
жанием, не извращенным деспотией произвольных норм;
которые на место сказок, для всех нас уже бессмысленных,
утверждают веру, увлекая дух на просторы бесконечно¬
сти,— люди, которые лелеют память о прежнем величии
и выносят на свет, в пример и в ободрение потомкам, ка¬
ждую реликвию ушедших времен; которые, не страшась
75
ДЖ. МАЦЦИНИ
судьбы Прометея, готовы похитить любую искру, чтобы
одушевить мертвую глину, — эти люди не предают отечест¬
во и не раболепствуют перед чужеземными идеями. Они
хотят дать Италии оригинальную, национальную литерату¬
ру, литературу, которая была бы не летучим звуком ще¬
кочущей слух мелодии, но красноречивым выражением ее
чувств, ее дум, ее потребностей и социальных движений.
Каждый век властно преобразует людей и жизнь; каждый
век сообщает новое направление человеческому разуму;
каждый век увеличивает запас познаний — а литература
должна остаться косной, неизменной, чуждой миру, в кото¬
ром все есть движение и прогресс? Средства, при помощи
которых писатели воздействовали на человека прошлого,
не могут уже более воздействовать на людей, чьи права,
обычаи, культура существенно переменились. Литература,
являя одно и то же содержание и одинаковую форму раз¬
личным поколениям, уподобилась бы тем статуям древно¬
сти, которые прекрасны, если хотите, но у которых нет глаз
и рук. Да и странно теперь уже слышать, как романтиков
обвиняют в том, что они рабы «чужеземных идей, уродств
Каледонии и Эрцинии». Истинные романтики — не северя¬
не и не шотландцы: они итальянцы, как Данте, который
только по имени не был романтиком; но они знают, что ве¬
ликие люди не принадлежат никакой стране, что гений —
всеевропеец и что гениальные писатели суть благодетели
всего человеческого рода, под каким бы градусом широты
ни блеснула искра, одушевившая их.
Мы решили этими краткими и слабыми словами отве¬
тить на непродуманное обвинение, которое бросил Ботта
плохо понятому им литературному направлению, потому что
мы хотим, чтобы все города Италии откликнулись на бла¬
городное возмущение, выраженное флорентийской «Анто¬
логией» устами одного из своих лучших сотрудников. Об¬
винение исходило от Ботта, и нельзя было оставить его
без ответа. Посредственности же, которая, прикрываясь
знаменитым именем, осыпает стрелами тех, кому нет до нее
дела, романтики отвечают молчанием, молчанием благород¬
ных борцов, продолжающих свой труд среди криков и изде¬
вательств. Время, поглощающее педантов вместе с их бра¬
нью, увенчает короной бессмертия тех немногих, кого не
заставит отступить страх и не смягчит лесть и кто не жерт¬
вует возвышенной целью ради недолговечных славословий.
«ФАУСТ»,
трагедия Гёте.
Новый полный перевод в прозе и стихах Жерара,
Париж, 1828
I
Если бы те, кто переводит в
Италии книги иностранных писателей, больше руководст¬
вовались нуждами времени и внутренним достоинством
произведений, чем своими симпатиями и издательской вы¬
годой, мне не пришлось бы сейчас, говоря о «Фаусте»,
пользоваться его французским переложением. Во Франции
переводчики — но только не романов — поступают, вооб«
ще говоря, как должно, и основывают свой выбор на объ¬
ективном суждении. Возможно, плодам воображения и
чувства отдается при этом предпочтение за счет историче¬
ских, философских и политических трудов, но, во всяком
случае, если верно, что сначала образуется сердце, а затем
ум нации, все эти переводы прокладывают по крайней ме¬
ре путь в храм европейской науки, в храм всеобщей исти¬
ны и обогащают новейшими источниками фантазию моло¬
дых французских поэтов, которым после этого для увенча¬
ния себя лаврами не требуется уже ничего, кроме богатст¬
ва языка и разнообразия гармонии. Среди этой кипучей
переводческой деятельности произведения широчайшего из
современных умов не могли остаться незамеченными, и
«Вертер», драматические сочинения, поэзия и мемуары Гё¬
те уже вышли в хороших переводах. Перевод «Фауста», о
котором я пишу, уже третий во Франции, и мнение знато¬
ков немецкого языка признало его достаточно верным и
точным. Два прежних перевода, Олера и Стапфера, не ли¬
шены достоинств, хотя в первом, возможно, текст иногда
принесен в жертву элегантности и писательскому тщесла¬
вию, а во втором по неумению или нежеланию не переда¬
на поэзия нескольких сцен. Однако все три служат своей
цели, насколько то дозволяет необычный, отвечающий при¬
роде создавшего его таланта характер книги, при котором
77
ДЖ. МАЦЦИНИ
несовершенным останется любой перевод, если только —
вещь труднодостижимая — переводческое терпение не со¬
единится в нем с творческим гением.
У нас в Италии имя Гёте произносят с благоговением;
но причиной тому, думаю, больше магическая притяга¬
тельность всего иностранного и престиж авторитета, чем
основательное углубление в его труды, ибо немногие знают
язык, на котором они написаны, а переводов у нас либо
нет, либо они из рук вон плохи — из-за небрежности или
засилия старых доктрин, не знаю; может быть, по обеим
причинам. Будем, однако, надеяться, что пример горстки
достойных, Маффеи, Беллати, Амброзоли, найдет подража¬
телей. Пока же все написанное в Италии о Гёте — ибо в
силу застарелой привычки дерзкая заносчивость и безосно¬
вательность суждений сделались чуть ли не правом крити¬
ки * — продиктовано партийными интересами и предрас¬
судками. «Фауста» у нас то сумасбродно ругали, то бездар¬
но восхваляли, и при этом никто, насколько мне известно,
не показал ни связи идей в нем, ни его основной мысли.
Одни, не желая знать никакой нечистой силы, кроме гре¬
ческой или римской, признали «Фауст» колдовским сочи¬
нением; они заставили бы его автора принести повинную,
если бы у литераторов были тюрьмы и «альгвасилы» для
исиолнения их повелений. Другие, анархические умы, пре¬
возносили его до небес, усмотрев в нем идеал своей разнуз¬
данности. Все обращали внимание более на форму, чем на
существо, более на мертвую букву, чем на животворящий
дух; все выносили суждение о «Фаусте» на основании ста¬
рых систем, приложимых к целому роду произведений.
Между тем «Фауст» — произведение, не относящееся
ни к какому определенному поэтическому роду, а потому
о нем нельзя судить с помощью законов и теорий, выве¬
денных по большей части из условий жизни одного народа
или одного века. Главные условия драмы — а это единство
замысла, нарастание интереса и центральная важность
одного возвышающегося над всеми остальными характе¬
ра — в «Фаусте» соблюдены, и не столько вследствие уси¬
лий или намерений писателя, сколько потому, что изобра¬
женная им человеческая натура сама по себе глубоко
драматична. Но в выборе средств это произведение зани¬
мает особое положение, вне зависимости от какой-либо
* См. сАркадико», «Лигустико» и т. д. н т. д.
78
«ФАУСТ». ТРАГЕДИЯ ГЕТЕ
системы или канона искусства; ни в одной его части к нему
не удается приложить правил, предписанных литераторами
для той поэзии, предмет которой не выходит из сферы
правдоподобия. Бесконечные, утомительные софистические
споры, которые ведутся (и будут, думаю, вестись безре¬
зультатно до скончания века) о формах, которым должно
подчиниться горение духа, совершенно неуместны, когда
речь идет о произведениях, не имеющих образца и не мо¬
гущих иметь подражателей. Что человеку, описывающему
факты и прослеживающему развитие какой-либо страсти
в отдельной личности, можно сказать: «Для твоей картины
удобна такая-то форма» — это я понимаю; но когда сюжет
произведения, как в «Фаусте», есть выражение универсаль¬
ной психологической истины, развитие в символах и види¬
мых знаках отвлеченной формулы, основу которой обра¬
зует не действие, но идея, то какой путь решится предпи¬
сать гению критик, чьи способности не превышают преде¬
лов, назначенных человеческому разуму? Суждения о
произведениях подобной зрелости должны исходить лишь
из рассмотрения двух крайностей: порождающей идеи и
производимого впечатления; но критики, сколько их есть,
по профессиональному долгу, но природной склонности или
по злобе сговорились превратить свое ремесло в прокру¬
стово ложе, на котором они и терзают вымысел посредст¬
венности и уродуют создание гения.
Два других довольно распространенных мнения вместе
с этим первым содействуют, как мне кажется, умалению и
разрушению впечатления, естественно создаваемого выда¬
ющимися творениями: первое единственным их судьей ири-
знает холодный анализ, второе обвиняет их в бесполезно¬
сти, если польза не проистекает из них непосредственно и
как задуманный писателем результат. Первое мертво для
энтузиазма, этого крыла души, рвущейся к истине и прав¬
де; второе изгоняет мысль из сферы бесконечного и замы¬
кает ее в тесном круге определенного.
Есть творения, недоступные анализу. Производимое
ими впечатление едино, сильно, всеобъемлюще, как поро¬
дившая их мысль. Созданные как бы на одном дыхании,
они должны рассматриваться в своей завершенности, как
неделимое целое; их надо понять и почувствовать, как мы
чувствуем великие сцены природы. Вызываемое ими воз¬
вышенное чувство гаснет, если разбирать в отдельности
каждую из их составных частей, а таинственное очарова¬
79
ДЖ. МАЦЦИПИ
ние, охватывающее душу под воздействием красоты, исче¬
зает и гибнет под анатомическим ножом. Картина вселен¬
ной, охваченной единым взором, который со скоростью
мысли переносится с вершин неба в бездны океана, вели¬
чественна и способна поднять смертного до возвышенных
мыслей; но стоит войти в подробности и заблудиться в раз¬
боре отдельных элементов, потеряв из виду великое це¬
лое,—и сколько представится пищи для иронии, для холод¬
ного сарказма в духе Вольтера и тех, кто смеется, отчаяв¬
шись во всем! Разбей одно звено цепи, связующей творе¬
ние, и все творение рухнет, распавшись в хаос. Но таковы
все гениальные произведения: части их сплетены столь тес¬
но, что покажутся бесполезными и странными, будучи взя¬
ты в отдельности: изначальная, придавшая им форму идея
настолько едина и объемлюща, что нельзя забыть ее на ми¬
нуту, не впадая в замешательство и сомнение. И гордыня,
которая, как гиена, пожирает посредственность, находя се¬
бе пищу в разрушении того, что так ее ранит, ликует, уви¬
дев безжизненными и разъединенными элементы создания,
которое полно силы в цельном и упорядоченном состоянии.
Пусть себе ликует. Но если исследование источников и
движущих мною скрытых сил даст лишь тот результат, что
выведет меня из сферы их действия или разрушит высо¬
кую мечту,— то я торжественно отрекаюсь от низкой по¬
хвальбы, что своим собственным трудом смешал себя с
грязью.
Я говорю о литературе, говорю о произведении гения и
о том роде анализа, от которого нет основания ожидать
настоящей пользы; и мне будет больно, если читатель за¬
ключит, что я не поступаю по логике собственных слов.
Анализ есть ступенька к истине, и придирчивость разбора
никогда не излишня, если относится к вещам, в которых
сознательный расчет занимает главное место: но есть впе¬
чатления, которые не подлежат человеческому расчету,
есть произведения искусства, которые обращены прямо к
сердцу и которым сердце единственный судья — сердце,
источник всех откровений о глубинах души и тайне бытия.
Часто за благородным словом «анализ» прячутся желчные
старания того, кто, не будучи в состоянии постичь величие
какой-либо вещи, пытается опошлить, уничтожить ее; это
месть ребенка, ломающего механическую игрушку, устрой¬
ство которой он не в силах понять. Систематический и ме¬
лочный анализ никогда не сможет раскрыть тайн гения;
80
«ФАУСТ», ТРАГЕДИЯ ГЕТЕ
для разгадки их всегда необходимо сосредоточенное само¬
углубление свободной души.
И нельзя обвинять поэтические произведения в беспо¬
лезности потому лишь, что назначение их темно для нас.
Пользу и нравственность книги надо оценивать шире, чем
это делалось до сих пор. Не большее ли благо проистекает
от сильного потрясения всей души, чем от внедрения в нее
одной определенной истины? Цель культуры и цивилиза¬
ции — в гармоничном развитии всех способностей челове¬
ка. Наш разум — после того как блага первоначального
образования смягчили его природную грубость — подобен
не пьянице или слабоумному, который не может сделать
шагу без поддержки вожатого, но ленивцу, чья сила и во¬
ля усыплены бездействием и привычкой, Поэтому книгу,
поднимающую нас из летаргического сна, окрыляющую ра¬
зум и приводящую в движение всю энергию, на какую мы
способны, не назовет бесполезной тот, кто знает, что силы
ума и духа в нас скорее должны быть разбужены, чем
привнесены извне. В человеческом сердце есть струны, ко¬
торых редко касаются, тайные чувства, которым редко
суждено развиться; в глубинах души каждого из нас живет
желание, идея, эхо высшей Красоты, которую не понять и
не определить, если прежде не переменить свою натуру или
не найти способа выразить бесконечное — конечным язы¬
ком. Но это не значит, что ее не существует. Где человек
настолько несчастный, что ни разу в своей жизни не испы¬
тал воздействия этой таинственной силы, не чувствовал,
как душа его отделяется от праха, из которого мы сотво¬
рены, как сердце его нетерпеливо волнуется в глубине,
подобно рабу, пытающемуся вырваться из своей темницы?
Где человек, в котором не блеснуло молнией это глубокое
чувство, когда в безмятежном великолепии ночи, среди
гармонии одинокой природы он поднимал взор к небесной
лазури, пытаясь измерить мыслью бесконечное, или когда
перед ним развертывалась поистине божественная картина
благодеяния, вознагражденного слезами признательного
несчастья? И общественные установления до сих пор, ка¬
жется, стремились не развить, но подавить это чувство, из¬
вратить его ложью построенного на предрассудках воспи¬
тания или удушить его насильственными запретами. Меж¬
ду тем несомненно — и подтверждение тому мы видим по¬
всюду, — что из источника этого чувства продолжает воз¬
никать все, что только есть возвышенного и великого в че¬
81
ДЖ. МАЦЦИНЙ
ловеческой расе, что его скрытая сила тысячелика в своих
проявлениях и его дыханием полны как стихи Данте и ме¬
лодии Россини, так и мученичество защитников Псары и
Миссолунгов *, что это чувство, когда оно переходит в дей¬
ствие, когда оно переживается чаще и острее, чем это до¬
ступно большинству людей, складывается в способность,
которую мы боготворим под именем Гения, и что его су¬
щество или, может быть, его первое проявление в том, что¬
бы все шире и шире раздвигать сферу нашей мысли, на¬
ших стремлений, наших страстей, чтобы, насколько воз¬
можно, поднимать нас над холодным расчетом индивиду¬
альной жизни и над всеми порождениями эгоизма, чтобы
воодушевлять нас для дум и порывов высшего, вселен¬
ского порядка.
Книга, способная разбудить в своих читателях эту та¬
инственную силу, это неопределенное чувство, источник
прекрасных и достойных дел, уже отвечает, как мне кажет¬
ся, замыслу цивилизации и достигает цели, к которой дол¬
жен стремиться иисатель. С этой стороны, по крайней мере,
я считаю «Фауст» высоконравственным произведением и
обращаюсь к тем самым людям, которые нападали на Гё¬
те: при первом чтении, когда душа их еще не была утом¬
лена темнотами книги, когда их суждение еще не искази¬
лось под гнетом укоренившихся и ревнивых мнений, не до¬
велось ли им пережить глубокого впечатления, минуты вол¬
нующей праздничности, трепетного напора неизведанных
страстей? Не пришлось ли им испытать ощущений возвы¬
шенных и плодотворных, подобных тем, что будит в нас
зрелище бушующего моря или ночи, которую мы наблюда¬
ем с высоты горной вершины? Не теснились ли в их голове
глубокие, всеобщие, громадные мысли? «Фауст» открывает
необозримое иоле для раздумий пылкой души, увлекая ее
через все повороты человеческих судеб и все видения
сверхъестественного мира к поискам неведомого блага, не¬
познанной правды. Чувствуешь, что эти страницы начерта¬
ла мощная рука и что где-то на них, должно быть, легла
тень будущего человечества. Возможно, твои поиски оста¬
нутся тщетными; возможно, тебе не удастся рассеять мрак,
облекающий изначальную идею, — но кто сочтет, сколько
истин встретится тебе в этом психологическом путешест¬
вии! Кто знает, сколько тайн раскроют тебе «микрокосм»
и «макрокосм», когда, взволнованный, увлеченный самими
трудностями книги, ты будешь жить чистой жизнью духа!
82
«ФАУСТ», ТРАГЕДИЯ ГЁТЕ
Но если разум читателя затемнен учеными предрассудка¬
ми, если его душа измельчала в душном плену жалких
теорий и сердце бьется вяло и глухо — то нет надежды.
Литераторы — я говорю о большинстве — цепко держатся
за свои старые, бог знает откуда взятые поэтические нор¬
мы и правила для произведений всевозможных жанров и,
не моргнув глазом, распространяют их на все века и на
писателей любого характера, подобно сапожнику — сми¬
ренно прошу прощения, если мое сравнение оскорбляет
правила приличия, — который захотел бы надеть на все
ноги сапоги одного и того же размера. Между тем гений
поставлен природой настолько же выше посредственности,
насколько творчество превосходит подражание; и гениаль¬
ный смертный гигантски возвышается над миром и людь¬
ми. Иным всей работы веков едва достаточно, чтобы су¬
меть вывести какие-то следствия — ему же иногда с пер-
вого взгляда раскрывается вся вселенная, ибо те силятся
заключить о причинах по их результатам, тогда как гений
парит над творением и лицом к лицу беседует с Истиной.
Когда его осеняет вдохновение, покров, окутывающий
судьбы поколении, приоткрывается для него, и перед ним
обнажаются колеса, приводящие в движение мир. Тогда
законом для него становится — писать. Его труд не пре¬
следует никакой определенной цели, никакая предвзятая
идея не привязывает его к старым привычкам, и как бы
некий громовой голос властно зовет его: «Внемли, и пи¬
ши». Он пишет. Проникает ли его взор в крайние сферы
неба или измеряет бездну — неважно. Неважно, в какую
форму выльются его видения — в драматическую, лириче¬
скую, эпическую или иную, более свободную. В любой фор¬
ме, в любом обдике его слово будет глубоко нравственным,
потому что оно есть тень Истины, потому что оно будит
заложенные в нас нравственные силы, потому что оно учит
глубокой мысли. Но откровений гениальности не постичь
ни ленивой праздности, ни мелочному рассудку, ни злопы¬
хательству цензора, ни холодной арифметике. Ваш дух го¬
рячо сочувствует всему великому и могучему? Ваши чувст¬
ва способны воспринять все прекрасное и возвышенное?
Вы искренне порываетесь к Истине? Так поднимитесь выше
личных страстей, презрите системы и рабские доктрины,
очистите душу созерцанием вселенной. И тогда принимай¬
тесь за эти сочинения с тем же благоговением, с каким в
старину раскрывали священные книги. Данте, Шекспир,
83
ДЖ. МАЦЦИНИ
Байрон, Гёте принадлежат к тому же племени пророков.
Многим сказанное здесь покажется, возможно, далеким
от моей цели. Я позволяю себе такое отступление потому,
что в Италии более, чем где-либо, укоренился дурной обы¬
чай судить о творении гения, как судят о рукоделии ре¬
месленника, и критики обычно выносят свой приговор, ру¬
ководясь обветшалыми кодексами и законами, ненавистны¬
ми для всякого, кто знает, насколько след, оставленный
карликом, отличается от следа гиганта. Теперь более под¬
робно о «Фаусте».
II
Жизнь человеческого рода прошла несколько различ¬
ных периодов, в течение которых общественные стихии,
всевозможным образом сочетаясь под действием скрытых
сил, развивающих сознание, изменили как бы самый лик
вселенной. Эпохи не проходят бесследно; ошибки, доброде¬
тели и страсти одного поколения служат уроком, приме¬
ром, побуждением для последующего, и невидимая рево¬
люция совершается в характере и тенденциях бесконечного
движения по тому пути, на который природа поставила че¬
ловеческую расу. В каждый из этих периодов появляется
человек, которого природа вдохновила быть как бы посред¬
ником между собою и человечеством, между вечными судь¬
бами, предписанными смертным, и стремлением живущих
поколений свершить их. Всякий раз, как века после завер¬
шения одной эпохи цивилизации вступали на порог новой,
возвышался гений, чтобы охватить в одном целом нити,
скрепляющие социальный организм, и представить в за¬
вершенном выражении характер и черты прошедшей эпохи.
Из этих периодов первый — первый в том, что касается
Европы, — рисует нам человека прямодушным, своенрав¬
ным, от природы грубым и воинственным, свободным ско¬
рее по жизненной необходимости, чем вследствие осозна¬
ния своих прав, почитающим, как божество, физическую
силу на поле боя и старческий опыт в собраниях. Челове¬
ческая мысль погружалась в ту эпоху в гущу явлений
внешнего мира и из него заимствовала средства для выра¬
жения своих представлений. В созданиях своей фантазии
человек превращал в символы природные силы, перенося
их в другую сферу, наделяя их всеми страстями, доброде¬
тельными и порочными, которые играют сердцами детей
84
«ФАУСТ*. ТРАГЕДИЯ ГЁТЕ
земли. Душа его была разделена между пылким стремле¬
нием к славе и жаждой богатства; он обращал взор вож¬
деления к женщине — ибо когда не проявлялась вечная
власть женщины? — но любил ее как отдохновение от рат¬
ных трудов и состязаний, любил любовью материальной,
редко выходившей за порог брачного чертога. Словом, по¬
ловина его существа сонно бездействовала, о ней не подо¬
зревали. Истолкователя этой эпохи люди назвали Гомером.
Его гений перечел нити, из которых сплеталась жизнь то¬
гдашних поколений, увидел, что областью, в которой мож¬
но было их все развернуть, была война, торжество физиче¬
ской силы, сумел упорядочить их и завещал векам бес¬
смертную эпопею.
Шли века, и с ними проходили по земле поколения лю¬
дей, каждое со своей жизнью. Идеи умножились; общест¬
венный прогресс, переменившиеся верования вызвали к
жизни новые отношения между людьми и добавили новые
струны к арфе души. Человеческие страсти приняли иные
формы и направления; круг жизни постепенно расширялся,
и каждый век делал еще один шаг к цели бытия — прав¬
да, лишь в силу внешних обстоятельств и более под влия¬
нием тайных судеб, чем по согласному желанию людей.
Данте, Шекспир и горстка других были в своем творчестве
представителями этого периода.
Прошли века — и колесо свершений вступило в ту
эпоху, последние дни которой видели еще наши отцы и
которая, если не обманывают надежды, ушла теперь уже
навсегда. Разум достиг господства над материей и увидел
бытие с новой стороны. Человек почувствовал, что в нем
бурлит множество ранее бездействовавших способностей,
осознал собственное достоинство, собственные силы, дога¬
дался о высоком предназначении, к которому зовет его го¬
лос природы. Тогда разум, сосредоточившись в самом се¬
бе, назвал священными умозрения внутренней жизни и
приучился считать себя центром вселенной; тогда научное
исследование встало на место слепой веры, чувство — на
место воображения. Страсти приобрели духовную окраску:
любовь стала уже не чувственностью, но чаянием, пищей
и высшим наслаждением сердца. Однако все это было по¬
ка у немногих, одиноких людей, преследуемых насилием,
которое в любую эпоху готово встать между усилием че¬
ловека и плодом, который должен дать ему счастье. Массы
колебались между неясными чувствами, закипавшими в
85
ДЖ. МАЦЦИНИ
груди, и предрассудками, и старыми страхами. Были вели¬
кие, они говорили слова мудрости и истины, но в их труде
не было единства и согласия. Меж тем препятствия, оста¬
навливающие движение цивилизации, можно преодолеть
лишь напряжением всех способностей, которыми природа
наделила человеческую расу; поскольку же единства не
было, борьба между действием, или свободой, и кос¬
ностью, или рабством, которая должна была позднее охва¬
тить все общество, оказывалась лишь борьбой внутри от¬
дельной личности между противостоявшими друг другу
нравственными и физическими силами. Гений, не будучи
способен в одиночку бороться с врагами Человечества, за¬
мыкался в себе, часто в поисках замены устремлялся в
отвлеченную бесконечность и создавал мир воображения,
чтобы дать пищу пожиравшему его пламени. Отсюда иде¬
ализм, магические опыты, кабалистические системы, мно¬
гочисленные предрассудки, более благородные в великих
умах, чем в пошлых, но все же предрассудки; отсюда лю¬
бовь к славе, язва возвышенных душ, последняя и бесплод¬
ная цель каждого, кому удавалось приподняться над все¬
общим ничтожеством. Словом, жизнь души родилась, но
жизнь душ еще даже не начиналась. Пришел человек, ко¬
торый орлиным взором охватил образы этой эпохи, раз-
мышляя о них, понял, какой глубокой нравственностью
может обладать картина, включившая бы их все, взял кан¬
вой старую легенду времен, которые хотел описать, и с
дерзновением и энергией Микеланджело потрудился над
ней. Вот вам «Фауст».
С литературной стороны, как форму, «Фауст» необходи¬
мо признать драмой, ибо столкновение между одиноким
Гением и враждебно окружающими его силами внешнего
мира в высшей степени драматично. Здесь есть элементы
сверхъестественного и чудесного, ибо предрассудки магии
были в свое время частью народной символики, сущест¬
венной чертой верований и нравов эпохи, они пронизывали
всю жизнь, утешая иллюзорной мечтой честных людей и
пугая негодяев, подобно Паркам и Эвменидам древности.
Здесь множество красот, способных глубоко тронуть всех,
чья душа открыта для любви и веры. В возрасте, когда
молчаливое до того желание начинает убыстрять ток кро¬
ви и биение сердца, когда, кажется, вся природа шепчет
нам о любви и воображение рисует влюбленной душе ты¬
сячи форм воздушной, неопределенной красоты, чарующей,
86
«ФАУСТ*, ТРАГЕДИЯ ГЁТЕ
как видения иного мира, — кому из юношей не являлся
топда порою ангельский образ Маргариты, чистой и впе¬
чатляющей, как девы Рафаэля и Гвидо? И в экстазах
первого чувства, когда целый мир становится единой
мыслью, когда каждая мелочь делается священной благо¬
даря тайной связи с любимым существом, какая девушка,
срывая лепестки розы, не повторяла невинного гадания, с
помощью которого Маргарита хочет вырвать у природы
тайну Фауста? Возвышенную печать гения несет мольба
бедной покинутой женщины к Скорбящей богоматери, по¬
трясающая сцена в храме, безумный бред Маргариты в
последней сцене; а перед лицом гения никакая теория не в
силах помешать восторгу.
С точки зрения философской, как идея, Фауст выступа¬
ет представителем эпохи перехода от периода, простираю¬
щегося с момента падения Римской империи до одиннадца¬
того века, к новому времени, настоящим началом которого
была Французская революция, хотя великие умы подготов¬
ляли ее уже с Реформации, — это промежуточное звено
между немотствующими, слепыми и косными поколениями
первого и лихорадочно деятельным, пылким, кипучим и
единодушным поколением последнего.
Среди людей есть существа, которым лишь дерзости и
власти недостает, чтобы превратить творение в алтарь по¬
зора, воздвигнутый гению зла. Чуждые всякому возвышен¬
ному переживанию, не способные к тем порывам велико¬
душия и бескорыстного энтузиазма, которые украшают
жизненный путь добрых, они низменны и душою и телом,
и если какая-то искра способна иногда зажечь их, то это
искра ада. Для них великолепная природа нема, сострада¬
ние и добродетель — пустое слово, бессмысленный звук.
Для них понятен лишь низкий язык чувственности; холод¬
ные, не знающие энтузиазма, они проходят по вселенной,
как по кладбищу, ибо у них «в сердцах ледяная зима», и
природа начертала у каждого из них на челе: «Ты не мо¬
жешь любить!» Они рождены от женщины — но не знают
ни слез, ни улыбки; им неведомы ни утешения надежды, ни
глубины отчаяния. Каменно-бесчуственные или злобно ус¬
мехающиеся, они видят в ближнем лишь орудие для собст¬
венного удовольствия или врага. Они движутся зигзагами,
как змеи, и, как змеи, брызжут ядом на все, что попада¬
ется им навстречу. Будем наслаждаться! — вот цель и круг
их существования; что им за дело, если наслаждение это
87
ДЖ. МАЦЦИНИ
покоится на преступлении, на гибели невинности? Каждый
век насчитывает большее или меньшее число подобных из¬
вергов, но всего больше было их, возможно, в описанную
Гёте эпоху — следствие распавшейся гармонии душ и ти¬
ранического феодального самоуправства, приучавшего че¬
ловека к эгоизму как закону жизни. Их в нашей драме
олицетворяет Мефистофель. Сам дьявол был избран Гёте
прообразом эгоизма.
Другую крайность жизненной цепи составляет род су¬
ществ простодушных, чистых, доверчивых, безыскусных в
жизни, чуждых всякого лукавства в отношениях с людьми.
Невинность, нравственный покой, чистые семейные привя¬
занности украшают их жизнь, от природы мирную, как сон
младенца. Не ведая трудов, утомляющих человека в пого¬
не за обманчивым знанием, они владеют наукой чувстви¬
тельности, наукой, которой не учат книги и которую не
развивает медитация. Мягкая улыбка часто чередуется у
них со светлой слезой, пока жаркое дыхание страсти не
возмутит их девственного покоя. Маргарита представляет
эту сторону человечества. Маргарита есть человеческая ду¬
ша, только что вышедшая из рук Природы, открытая для
добра и всего, что похоже на него, склонная к любви и
нежности, слабая, хрупкая, неосторожная: это Психея
древних, увенчанная лучами новой любви.
Между этими двумя крайностями, между изощрен¬
ностью эгоизма и невинностью природы, толпятся люди,
равно лишенные и чувствительности одной, и преступного
искусства другого. Грубые нравом и желаниями, суевер¬
ные, они не знают ни высшей радости добродетели, ни
преступной бездны порока. В силу общественного разделе¬
ния обреченные вечно вращаться внутри одной тесной сфе¬
ры, они не жаждут переступить за ее порог и рады брести
по колее, проведенной до них прежними поколениями. Не
для них мечты славы, стремление увековечить себя в ве¬
ках, самолюбивая жажда власти и известности; на науку,
как на запретный плод, они смотрят с почтением или подо¬
зрением, но редко с завистью и вожделением. Словом, они
прозябают в нравственной косности или хлопочут о дипло¬
ме, о деньгах как о высшем счастье жизни. Если они по¬
гружаются в разврат или порок, то скорее для того, чтобы
утопить в нем горечь нищеты или найти забвение, чем от
душевной испорченности; если они идут тропою добродете¬
ли, то более по природному инстинкту или религиозной
88
«ФАУСТ», ТРАГЕДИЯ ГЕТЕ
привычке, чем под влиянием глубокого чувства. Таких лю¬
дей олицетворяют в «Фаусте» персонажи четвертой сцены,
простонародье Лейпцига, Марта, Валентин и другие.
Но среди этих классов людей гигантами высятся немно¬
гие, кому дано больше чувствовать и страдать — две ве¬
щи, по-видимому, нераздельные, — чем прочим смертным.
Создавая их, природа вложила в них лишь одну четверть
глины и три четверти огня — блистательного и всепогло¬
щающего огня. Они живут всецело в нравственном мире;
их чувство красоты и справедливости кажется врожден¬
ным, и душа их готова объять все возвышенное и великое
во Вселенной. Познание для них — необходимость, покой-
смерть. Неутолимая жажда исследования непрестанно то¬
мит их; беспокойные, вечно деятельные, они стремятся к
свершениям, о которых и не снится посредственности, жаж¬
дут открыть первопричину вещей, найти за кругом чувст¬
венных объектов тайное и невыразимое; и часто их взор
простирается за пределы обычного горизонта и страстный
дух погружается в мысли о бесконечном. Они готовы спу¬
ститься в бездну или подняться до трона всевышнего, что¬
бы вырвать тайну у Вселенной, даже если потом их будут
ждать муки Прометея. В их груди живет неутомимый ин¬
стинкт страдания, но не того страдания, что губит или ло¬
мает души слабых; это плодотворное, энергическое, дея¬
тельное страдание, в котором человек парит между буду¬
щим и прошлым, ни на минуту не погружаясь в настоящее.
Словом, в них сосредоточены силы, способные прославить
их как благодетелей или злодеев человечества. В наши дни
обстоятельства, весь ход жизни и надежды на прекрасное
будущее открывают душам такого свойства возможность
достойно применить избыток своих сил, свою страстную
энергию, достичь истинного величия; но два века назад ус¬
ловия времени обрекали их на мертвое бездействие или то¬
мительное одиночество. Итак, жизнь, искушения и судьба
одинокого гения — вот то, что хотел описать Гёте; таков
его Фауст.
Фауст прошел все ступени человеческой мудрости, боль¬
шими глотками пил из чаши разумного знания, до устали
купался в океане науки. Все знание людей и все их заб¬
луждение вобрал он в себя. Взор его охватил все, от низ-
меннейшей реальности до полетов фантазии, от юриспру¬
денции до теологии и магии. Но душа Фауста не нашла
удовлетворения: где та наука, что может утолить силу же¬
89
ДЖ. МАЦЦИНИ
лания? Жажда истины у людей породы Фауста ненасыт¬
на, как волчица Данте, а границы сферы познания кажутся
расширяющимися с каждым шагом, сделанным для их до¬
стижения. Кто раскроет смертному тайну могилы? Кто
укажет ему источники жизни? При малейшей попытке шаг¬
нуть из царства следствий в царство причин мрак вокруг
него сгущается. Он сосчитал рычаги, держащие в равнове¬
сии вселенную, но тайная сила, вызвавшая движение и его
поддерживающая, не открылась ему. Он созерцал драму
природы во всем ее величии, душа его уже готова познать
движение, вечность и вселенную — но ужасом веет от них,
и он еще острее переживает горечь собственного бессилия
и ничтожества. Существо, способное мыслью воспарить ту¬
да, куда не проникал человеческий взор, способное лицом
к лицу бесстрашно увидеть тайну смерти и бытия, находит¬
ся в рабстве у презренной части самого себя: физические
ощущения владеют им помимо воли и грубая, косная ма¬
терия сковывает его способности и неодолимо гнетет его к
той самой земле, над которой он хочет подняться.
Утомленный безрадостным существованием, но и вол¬
нуемый тысячью бурных страстей, Фауст вспоминает утек¬
шие годы, затем мысленно измеряет дни, оставшиеся ему
в будущем. Что дали ему долгие раздумья, бессонные но¬
чи, борьба, которую он должен был вести с кричащими о
своих правах чувствами? Добытые науками истины, эта
гордость рода человеческого, для того, кто не видит в них
пользы и связи, выстраиваются в ряд формул, которые за¬
мыкают человеческое сознание в загадочном круге, выра¬
жая лишь громадный разрыв между способностями и же¬
ланиями человека. Приобретенные знания кажутся Фаусту
в одиночестве его кабинета сухими, бесплодными и хлад¬
ными, как мумии. Какой радостью наполнят они его
жизнь? Как увеличат его силы? Человек рожден разру¬
шать, не творить. Вокруг него, как бы в насмешку над его
бессилием, развернула свои силы природа, а он стоит по¬
среди ее великолепия, как голодный на пиру, и не может
ничем воспользоваться. Отчаяние прокрадывается в душу
Фауста, он проклинает мнимое величие разума, проклинает
иллюзии славы и бессмертия, проклинает энтузиазм и на¬
дежду, терпение. С этого момента судьба его решена. Мир
духовный рушится и исчезает, мир материальный — вот
единственное, что остается для его жажды деятельности; и
он отчаянно устремляется к нему в поисках тех радостей,
90
«ФАУСТ», ТРАГЕДИЯ ГЁТЕ
которые нанрасно сулила ему наука. Он решает наслаж¬
даться любой ценой — и вот союз с Мефистофелем: гений
в союзе с эгоизмом.
В человеческом сердце скрыта неиссякаемая способ¬
ность страдания: одно-единственное горе может омрачить
целую жизнь, одного наслаждения недостаточно, чтобы
сделать ее радостной. Почему так, не знаю; но знаю, что
мучительность страдания заключается более в длительно¬
сти, чем в силе его, меж тем как наслаждение от удоволь¬
ствия, особенно физического, измеряется противоположным
образом. И Фауст бросается от одного наслаждения к дру¬
гому, погружаясь то в бездны чувственности, то в лабирин¬
ты магии. Но в глубине его сердца горечь, яд, отравляю¬
щий все радости; он пробует отдаться любви, быть может,
единственной страсти, способной вернуть душу добродете¬
ли, но поздно. Эгоизм, неотступный спутник, которого он
не может, как ни желает того, отшвырнуть от себя, иссу¬
шает источник небесного наслаждения, оставляя Фауста
во власти обманчивого земного. Что любовь для отрекше¬
гося от духовных радостей и чистой совести? Первый шаг
на путях зла часто как бы невольно влечет человека к но¬
вым порокам, пока он не скатится на дно; а Фауст сделал
уже столько зла, что едва ли может остановиться.
Правда, какой-то свет еще проникает в его сознание;
но это светоч смерти, освещающий его преступления и все
дальше уводящий его от истины. И если он вопрошает ино¬
гда природу и пытается найти в ней очищение, то природа
нема для него, ибо ее откровения посещают лишь того, кто
ждет их с чистым умиротворенным сердцем, со святым эн¬
тузиазмом, в самозабвенном созерцании вселенской гармо¬
нии, но прячется во мраке от всякого, кто хочет вырвать у
нее секреты силой. От прежней гениальности у Фауста ос¬
талось лишь чувство превосходства над прочими смертны¬
ми, все более похожее на высокомерие; он — падший ар¬
хангел, отныне способный творить лишь зло. Невинность
сдается пороку. Маргарита встает на путь преступления.
Смерть матери и брата, детоубийство и мучительное нака¬
зание — вот последствия. Фауст в тоске отчаяния озирает
плоды своих дел; мрачный рок ведет его, преследует его,
душит; он подобен человеку, летящему вниз с обрыва и
увлекающему с собой схваченные им в падении ветви, стеб¬
ли, травы, камни.
Драма показалась некоторым незавершенной, но это не
91
ДЖ. МАЦЦИНИ
так. Раскаяние искупает вину Маргариты; ангел прощения
простер над ней свое крыло. Фауст бежит, мучимый угры¬
зениями совести, он хочет обмануть себя, ища забвения, ко¬
торое не дано виновному на путях порока; но печать Каина
лежит на его челе, червь отчаяния точит его душу и серд¬
це. Как кончится его жизнь? То, что Гёте не говорит об
этом *, кажется кое-кому нарушением всех норм — я вижу
в этом молчании величие. Кто сорвет завесу, скрывающую
судьбы гения? Кто измерит искупительную силу слезы,
пролитой в одиночестве над греховным прошлым? Единст¬
венный миг раскаяния может увенчать его голову венцом
добредетели — и никто не посмеет произнести приговор,
зная, сколько заблуждений может перевесить смерть, по¬
добная смерти Байрона.
Мне кажется, что «Фауст», рассмотренный таким обра¬
зом, не покажется столь непреодолимо темен, как пред¬
ставляется большинству читателей. Участие многих дейст¬
вующих лиц, необоснованных с точки зрения драматическо¬
го смысла, становится необходимостью, если каждое из этих
лиц символизирует целый человеческий тип; и многие на
первый взгляд излишние сцены великолепным образом до¬
полняют великую картину человечества в одну из его
эпох. Впрочем, подробное прослеживание этой идеи в каж¬
дой части драмы — слишком большая задача для жур¬
нальной статьи, и я оставляю ее тому, кто с чуткой душой,
отбросив предрассудки и системы, захочет читать и пере¬
читывать «Фауста». Возможно, какие-то сцены все же ос¬
танутся непонятными, и среди них та, что происходит на
кухне ведьмы. Однако и она, хотя объяснить ее невозмож¬
но, что-то говорит сердцу: пусть непонятен ее основной
смысл, но зато тысячи других идей возникают при чтении;
кажется, что душа блуждает по лабиринтам низменных
материальных страстей и созерцает гнусную часть челове¬
чества во всей ее наготе и отвратительности. Есть творе¬
ния, для высшего совершенства которых необходимо, что¬
бы часть их осталась в темноте. Так, освещенная часть го¬
ры, ласкаемая первым лучом солнца, всего прекраснее то¬
гда, когда она контрастирует с черной тенью, омрачающей
* Гёте опубликовал впоследствии вторую часть «Фауста», о которой я скажу
в одном из следующих томов. Она подтверждает, как мне кажется, идею, очер¬
ченную в этой юношеской статье. И все же лучше было бы, если бы «Фауст»
остался незавершенным (186!) 3.
92
«ФАУСТ*, ТРАГЕДИЯ ГЁТЕ
ее склоны; и лицо красавицы, возможно, всего милее, ког¬
да часть его скрыта вуалью.
Для того, кто видит в Фаусте образ гения вообще, идея
драмы покажется ужасной: «Горе человеку, вкусившему
плод древа познания! Горе человеку, осмелившемуся за¬
глянуть в бездну, открываемую вселенной пред очами ра¬
зума!» Но для того, кто понимает, что Гёте выбрал своего
Фауста символом не совершенного гения, а, как я сказал,
одинокого гения, символом разума во всей его мощи, но
без определенной и постоянной цели, драма сияет прекрас¬
нейшим светом нравственности. В Фаусте все индивидуаль¬
но: гордость и сознание своих сил привели его к убежде¬
нию, что судьба его единственна, что цель, к которой он
должен идти, отлична от цели других существ. Его раз¬
думья, его поиски, подвиги его разума служат лишь удов¬
летворению личной воли; в горе, радости, сомнении он не
оглядывается на братьев, которых дала ему природа, и ес¬
ли взор его и падает временами на человеческий род, то
лишь с гневом или презрением, ибо Фауст «среди людей,
но не из людей», и, окруженный ими, он блуждает в одино¬
честве и бесцельно, как иностранец среди толпы, не пони¬
мающей его языка. «Горе одному!» — вот пророческий
ириговор всякому, кто хочет довлеть самому себе, ибо че¬
ловек рожден для человека и потребность породниться с
человечеством есть главная движущая сила всякой души.
Гений, лишенный всепоглощающего чувства, которое охва¬
тывало бы все способности его сердца и разума и побуж¬
дало бы их к общей цели, всегда будет несчастен, и в пер¬
вый же миг моральной усталости тяжко ляжет на него бре¬
мя жизни и одиночества. Его душа оглядится тогда вокруг
и увидит лишь пустоту: пустое небо, пустую землю. И от¬
чаяние просочится в его сердце, и ему останется выбирать
между жизнью в грехе и смертью.
Но есть чувство чистое, как сыновняя любовь, огром¬
ное, как вселенная, высокое, как божий промысел, подчи¬
няющее себе каждый шаг, трогающее каждую струну ду¬
ши, освящающее каждую мысль существа, в котором оно
живо, — чувство, покоящееся на вечных законах природы
и проявляющееся в тысяче форм, а потому способное на¬
полнить собой все существование человека или измучить и
сломить его, оставшись неудовлетворенным; чувство, спо¬
собное ввергнуть предавшегося сладким снам надежды че¬
ловека в агонию страдания, из эдема совлечь его в ад, но
93
ДЖ. МАЦЦИНИ
так, что и в самом страдании пребудет мысль, укрепляю-
щая душу против ударов судьбы, и ощущение благородной
гордости заставит поражение казаться менее жестоким.
Это чувство одно может спасти душу, подобную душе Фа¬
уста, от власти Мефистофеля. Нужно ли мне называть его,
обращаясь к моим братьям итальянцам?
Для моего утешения и ободрения достаточно сейчас со¬
знания, что этим чувством жарко дышат тысячи сердец,
что оно станет главной силой начинающейся эпохи и что
оно породит ту гармонию стремлений и усилий, которой не
хватало прошедшей, отраженной в «Фаусте» эпохе. Таким
образом, описывая заблуждения и печальную судьбу оди¬
нокого гения, Гёте невольно воспел необходимость чувства,
которое связало бы его с людьми, и отслужил, если можно
так выразиться, последнюю погребальную мессу исчерпав¬
шему себя периоду истории. Возможно, у него достало бы
энтузиазма и сил нарисовать нашу эпоху и показать нам
Фауста, горящего новой верой, примиренного с человечест¬
вом и с самим собою. О! Если бы с почтенных уст поэта,
старческих вещих уст знатока веков и человека, слетело
слово Возрождения, песнь новой жизни! С какой предан¬
ностью приняли бы мы его, с каким жаром устремились
бы мы тогда по прекрасному пути и каким священным да¬
ром передали бы это слово новому поколению!
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Я предвижу зарю европейской
литературы; ни один из наро¬
дов не сможет назвать ее только
своей, все внесут свой вклад в ее
создание.
Гёте >.
I. Чем более темными пред¬
ставляются нам слова великих, тем более глубокую и по¬
лезную истину они в себе таят. Гений проникает в тайны
вселенной, стремительно обозрев поколения людей; но
единственный взгляд открывает ему величественные карти¬
ны. Перед человеком, в котором живет этот возвышенный
инстинкт, обнажаются законы, управляющие жизнью на¬
родов; в его сознании прошлое и настоящее взаимно объ¬
ясняют друг друга, и часто он выводит из них будущее, ибо
гений есть пророк. Однако сила чувства, безраздельная
верность своим излюбленным идеям и привычная само¬
углубленность не дают ему думать о мере понимания дру¬
гих, и он выражается кратко и сильно, в манере смелой и
необыкновенной; поэтому тот, кто злостно не желает смот¬
реть или неспособен видеть, кричит о темноте. И часто
несбыточным сном называли идею, на столетия вперед
предугадавшую судьбы человеческого рода, пока время,
враг зависти и слепого поклонения, фактами не подтверж¬
дало ее истинность. Более ста лет назад среди насмешек
эрудитов и всеобщей душевной косности был предан забве¬
нию Вико, сегодня же его «Принципы новой науки» разби¬
раются в десятках книг, многие теории развивают ту или
иную из многочисленных идей, рассеянных обычно темны¬
ми намеками в его сочинениях. В XVI веке как нелепость
высмеивали выступления против торговли неграми, и в Ис¬
пании Сепульведа 2 авторитетом Аристотеля объявил раб¬
ство целой человеческой расы состоянием законным и необ¬
ходимым — сегодня же гнусная торговля запрещена, и
проклятие народов преследует торговцев кровью. Непре¬
станно усложняются связи между людьми и между собы¬
тиями; кто может проследить их все? Где насилие и разде¬
95
дж. млццини
ление тому не препятствуют, цивилизованное человечество
движется вперед по закону равномерно ускоренного движе¬
ния. Кто скажет ему: там остановишься ты в своем движе¬
нии, там конец твоему пути?
II. Необходимость перемен в литературе народов стала
уже слишком очевидной, чтобы об этом нужно было особо
говорить. Ход событий, общественное развитие, обновление
веры, изменение нравов и обычаев, иное направление стра¬
стей создали потребность в новой литературе, которая смо¬
гла бы выразить движение и идею современного общест¬
ва, — ибо литература, когда она не коренится в нравствен¬
ной и политической жизни народов, есть праздная и рас¬
слабляющая души забава. И это потребность не одного
лишь XIX века; она стала ощущаться с тех пор, как на¬
чал редеть, рассеиваться средневековый мрак. Но если в
прошедшие века эта потребность осознавалась лишь не¬
многими и была удушаема невежеством и тиранией, то
теперь разум и согласное волеизъявление народов говорят
о ней во весь голос. По всей Европе какое-то веяние новой
жизни будоражит умы и влечет их на не испытанные дото¬
ле пути. По всей Европе кипит дух, бурлит жажда литера¬
турных преобразований, обличая бесплодность старых
норм и недостаточность древних образцов. И поскольку ни
давление обстоятельств, ни нетерпимость предрассудков не
могут заглушить голос народов, литература, о которой мы
мечтаем, возникнет; когда, как — кто может это знать до¬
стоверно? Если всеми ощущаемой потребности и беззавет¬
ного служения немногих подвижников достаточно для соз¬
дания новой литературы, время это близко; но для полно¬
го ее развития нужны многие и важные условия, и желан¬
ный исход скрыт в туманах будущего. Еще неясны формы,
в которые эта литература облечет свои идеи, ибо сделан¬
ное до сих пор было скорее лишь первым опытом, чем ре¬
зультатом решительного и продуманного замысла. Да и
вряд ли эти формы можно угадать заранее, потому что ис¬
тинно великие таланты выводят их из глубин своего пред¬
мета, а не из искусственных правил. Между тем уместно
уже теперь рассмотреть все, что имеет отношение к про¬
грессу и к современной точке развития цивилизации; уме¬
стно задуматься над нуждами, отношениями, идеалами и
стремлениями народов XIX века, насколько все это воз¬
можно охватить в единой картине. Исследования подобно¬
го рода, сколь бы неокончательными они ни казались при
96
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
изолирующем рассмотрении, никогда не останутся беспо¬
лезными. Рано или поздно, сведя их все к одному средото¬
чию, работу завершит высокий философский ум, и тогда
обнаружатся основы той литературы, которая составит,
возможно, славу XX века.
III. В словах Гёте, взятых эпиграфом к нашей статье,
выражена, на мой взгляд, одна из основных черт этой ли¬
тературы. Мне кажется, что в их темноте заключена вели¬
кая истина, плод глубоких размышлений над молчаливой
созидательной работой веков; мне кажется, что в них най¬
дено коренное различие между старой и современной сло¬
весностью. Я знаю, что для многих выражение «европей¬
ская литература» означает разрушение всякого националь¬
ного духа, всякого индивидуального характера народов;
для других оно представляется причудой, утопической меч¬
той. Первые путают независимость народа с его духовной
изоляцией — и это ошибка ума; вторые не верят в людей
и в жизнь — и это сердечный изъян. Тщеславная патрио¬
тическая гордость не настолько укрепилась в моей душе,
чтобы настроить меня против литературы, которая объеди¬
нила бы все племена земли святым союзом идеи; и обна¬
женная реальность жизни не настолько очаровывает меня,
чтобы я заранее отверг все, что может показаться скорее
улыбкой воображения, чем детищем холодного рассудка.
Предоставленное своим собственным движениям сердце
без содействия разума не всегда ведет к истине; но не ве¬
дет к ней и холодный расчет ума, не оплодотворенного
сердечным движением. Предвидение Гёте не мечта, а если
мечта, то возвышенная; а разве не возвышенная мечта, хо¬
тя бы потому, что она пробуждает все нравственные силы
человека, должна считаться подлинной причиной успеха
трех четвертей великих предприятий, изгоняющих безнрав¬
ственность на земле? Итак, некоторые соображения отно¬
сительно этого вопроса не окажутся, надеюсь, при тепе¬
решнем состоянии умов бесполезными для читателей «Ан¬
тологии»; если же окажутся, то надо винить автора, а не
его предмет. Я пишу, как велит мне сердце — сердце доб¬
рое и пылкое, но часто обманывающееся в отношении соб¬
ственных сил.
IV. Если беглым взором окинуть исторические пути ли¬
тературы разных народов, составляющих человеческую ра¬
су, то обнаружится такое различие методов, идей и стилей,
что на первый взгляд может показаться, что дух каждой
4-6342
97
ДЖ. МАЦЦИНИ
нации имеет свой собственный характер и особое, отлич¬
ное от иных направление, как если бы природа, своими го¬
рами и реками проведя границы для частных сторон все¬
общего разума, каждой из наций назначила пределы ее
идеи. Откуда эти различия? Самые ли причины, их поро¬
дившие, неизменны, так что и следствия их останутся на¬
вечно? Или, испытывая последовательные видоизменения,
национальные свойства могут развиваться, перемешивать¬
ся, гаснуть? Всякому понятно, что от решения этого вопро¬
са зависит, возможно ли вообще или невозможно сущест¬
вование европейской литературы.
Когда словесность, сбившись с пути под водительством
слепых академий, измельчавшая в аркадской лени, развра¬
щенная системой покровительств, забыла и помнить о сво¬
ем прежнем достоинстве и своем первейшем долге, тогда
литераторы, привыкнув видеть в своем искусстве скорее
средство услаждать слух сильных мира сего, чем орудие
служения народным множествам, стали заботиться не о
сути вещей, но о формах, не о важности идей, но о прият¬
ности выражения. Их ли в том следует винить или время,
я доподлинно не знаю; возможно, и их и время в равной
мере. И поскольку им не было дано созидать, они пусти¬
лись в воспоминания о славе ушедших веков, и появились
всевозможные комментарии, жизнеописания, истории лите¬
ратуры. Но монахам, хранителям библиотек, и придвор¬
ным литераторам, трудившимся над этими книгами, оста¬
валось непонятным тайное звено, соединяющее характер и
развитие словесности с обстоятельствами общественной и
политической жизни, и потому из-под их пера выходили ско¬
рее воспоминания о личностях, чем история духовной жизни
народов, труды огромной, но почти никогда не освещен¬
ной философским светом эрудиции, скопление имен и фак¬
тов, но фактов холодных и мертвых, как могильные камни.
Отличия, обнаруживающиеся в интеллектуальном развитии
каждой нации, и особенные черты, характеризующие раз¬
ные литературы, представлялись им проявлениями первич¬
ного и всеобщего вкуса. Решение нельзя было найти без
помощи истории и философии; но так как бездарность и
безвременье не позволяли им углубиться в эти свободные
науки, они терялись в поисках единой и неизменной при¬
чины, тогда как перевороты в литературе всех народов сви¬
детельствуют, что самые основания ее, очевидно, подверже¬
ны изменениям и прогрессу. Ослепленные видимостью, вве-
о европейской литературе
денные в заблуждение античными авторитетами и предвзя¬
тыми системами политиков, которые в зависимости от ка¬
кого-то природного предрасположения нации вменяли ей
то врожденное свободолюбие, то потребность в рабском
подчинении, они изрекли: природа предустановила разуму
очерченные пределы, соответствующие географическому ме¬
стоположению, причем первое и главное воздействие на
вкус нации оказывает климат. Значит, литературы разных
народов различны но самой своей сущности; значит, каж¬
дая из них неизменна в своем характере! Мнение едва ли
не вреднейшее из тех, что всегда сковывали и часто при¬
тупляли гениальность, полную кипучих и возвышенных
творческих сил.
Но дух совершенствования, направляющий род челове¬
ческий, всколыхнул наконец умы, сознание независимости
изгнало фантом авторитета, равенство прав и способностей
было признано за людьми всех широт. Однако единство их
идей и устремлений еще не было признано. Законы одного
государства исправляли с помощью норм и образцов, за¬
имствованных у другого; изучали нравы и обычаи всех на¬
родов; многие мнения канули в Лету, многие предрассуд¬
ки рассеялись, но предрассудок о непреодолимом влиянии
климата на дух литературы остался, утвердившись во мне¬
нии посредственности, по природе косной, в восторгах сле¬
пого национального тщеславия, в суждениях бессмертного
отродья педантов. Мы все еще слышим, как во имя его
кричат анафему каждому, кто стремится расширить сферу
вкуса, и при каждой попытке открыть новые иути, ири ка¬
ждом призыве к итальянцам изучать шедевры других на¬
родов раздаются сакраментальные фразы: «земля класси¬
ки», «прекрасное небо Италии», — слова, слыша которые
сразу узнаешь, кто в любви к отечеству довольствуется од¬
ними словами.
V. Но факты упрямы; они одни при столкновении мне¬
ний составляют главный аргумент, факты — тот непрере¬
каемый авторитет, против которого бессильны и риториче¬
ское хитроумие и упорство догматика. И вот, когда я
открываю Историю литературы, она рассказывает мне о
чередованиях расцвета и упадка, о взаимовлиянии, о посто¬
янных метаморфозах и о вечной неустойчивости вкуса,
который то истинно национален, то извращен, то рабски
изменчив. Ни один народ не имел литературу столь глубо¬
ко оригинальную, что в нее не вошли бы снача-па с древ¬
4*
99
ДЖ. МАЦЦИНИ
ними преданиями, а затем в результате покорения других
племен те или другие чужеземные черты; ни один народ
не обладал вкусом столь укоренившимся и стойким, чтобы
он не менялся с течением веков, ибо вкус, который некото¬
рым представляется вечным и абсолютным, есть следствие
воспитания * и отражает степень социального развития на¬
рода. Так, итальянская литература в своих истоках носила
печать вкуса, привитого арабами Югу Европы; в одни века
она была платонической, мистической, склонной к идеа¬
лизму, в другие — она повернулась к материализму; в од¬
ну эпоху, суровая и патриотическая, она говорила на язы¬
ке свободы и благородного гнева, в другую — стала раб¬
ски подражательной, низменной, похотливой, усыпляя сла¬
бых и льстя сильным—а небо Италии разливало очарова¬
ние вечной улыбки в эпоху трубадуров, как и во времена
Гвиничелли, в эпоху Данте так же, как в эпоху «чика-
лат» 3. Подобно тому Испания, в продолжение пятисот лет
отличавшаяся пышностью образов и восточным стилем, за¬
тем, начиная с эпохи Хуана II, долгое время подражала
итальянцам благодаря изучению Данте, чему немало по¬
служили Вильена, Сантильяна и Мена, и благодаря «пет-
раркизму», пришедшему позднее через Гарсиласо и Бос-
кана,— а над Испанией Карла V светило то же самое солн¬
це, которое играло на кровлях Альгамбры, когда Гранада
была центром арабского владычества 4. Мрачный, холод¬
ный, сырой климат Англии не знает ни улыбки весны, ни
роскоши осени; а между тем в этом краю, среди шотланд¬
ских туманов, возникла поэзия, непревзойденная по ярко¬
сти описания, и никакой иной край за последние тридцать
лет не дал поэтов, умеющих, как Бёрнс, Кребб и Вордсворт,
угадать язык одиночества и излить в своих стихах самую
душу природы. Возвышенную метафоричность, запечатлев¬
шую создания восточных поэтов, приписывали знойному
климату их стран — но той же печатью отмечены поэтиче¬
ские творения Шотландии, изданные Макферсоном, и
Скандинавии, собранные и выпущенные в свет Малле. Объ¬
ясняли холодным климатом глубокую созерцательность,
склонность к абстракции у северных европейцев — и вот
теперь исследователи, обратившиеся к изучению Азии, на-
* Нет надобности напоминать, что слово своспитание» взято здесь в самом
широком смысле и включает всё гражданские, политические и религиозные ус¬
тановления, способные и сковать нации в их движении вперед и породнить их.
100
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ходят тот же созерцательный дух и идеализм в верованиях
и религиозных системах Востока, особенно Индии. Древо
познания пустило корни и в знойном Египте и во льдах
Исландии с тем же безразличием к климату, с каким оно
цвело в Аттике, не привившись в соседней Беотии. А сход¬
ства, которых много можно найти между Библией, Гоме¬
ром и Оссианом, между народными песнями Шотландии и
Корсики? А близость итальянской, персидской и арабской
любовной поэзии? А полное различие гения, которым ды¬
шит древняя греческая литература, и духа современной
поэзии, в устах клефти5 звучащей залогом отмщения и
свободы? Мы выбрали пример наудачу, но самые своеоб¬
разия, представляемые историей различных литератур,
слишком многочисленны, чтобы их можно было удовлетво¬
рительно объяснить влиянием одного лишь климата.
VI. Каковы же причины, лежащие в основе развития
словесности у каждого народа? За счет чего должны мы
относить ее явное своеобразие? Вот непреложный принцип:
кто ищет объяснения особенностей, характера и прогресса
литературы не в истории создавшего ее народа, тот гоня¬
ется за призраками. В жизни народов, как и в жизни от¬
дельных людей, все последовательно, все связно. Там, где
литература свободно и самопроизвольно вырастает из кол¬
лективной мысли, она отражает нравственную жизнь наро¬
да; там, где она продажна или стеснена — его политиче¬
ское состояние. Поэзия — зеркало времен, говорит Шекс¬
пир. Поэтому лишь изучение времени, эпохи способно рас¬
сеять мрак, часто окутывающий положение словесности;
лишь изучение общественных установлений может объяс¬
нить причины особенностей вкуса, проявляющихся у раз¬
ных народов.
Именно различие учреждений, под одним и тем же не¬
бом, создало литературу в Афинах и не позволило ей
сложиться в Спарте, подобно тому как сегодня, хотя и по
иной причине, именно оно сообщает движение и жизнь
умам в государствах германской конфедерации и усыпляет
их в соседней с ними державе. Дурные учреждения произ¬
вели аллегорический гений Востока, ибо истина там не мо¬
гла быть представлена безнаказанно, не будучи окутана
символической пеленою; простые же и единообразные уч¬
реждения Швейцарии всегда сообщали прямой, невинный
и утилитарный характер швейцарской литературе, хотя
крайне переменчивый климат в течение одного дня бросает
101
ДЖ. МАЦЦИНИ
здесь путешественника из сенегальской жары в шпицбер¬
генские льды. Может быть, только любовь, эта божествен¬
ная страсть, не испытывает влияния общественных уста¬
новлений, ибо она возносит своего избранника выше вся¬
кого человеческого расчета, увлекая его в мир, где бьются
лишь два сердца. Оттого выражение этого чувства в чем-то
всегда неповторимо и в то же время универсально; и отто-
го-то иногда кажется, что один и тот же гений под одним
и тем же небом вдохновляет и итальянскую, и персид¬
скую, и арабскую любовную лирику. Но поскольку дейст¬
вие учреждений всемогуще, мы видим, как в Италии это
чувство, чистое, святое и гармоничное в XIII и XIV веках,
иод мертвящим дыханием тирании вырождается позднее в
заумную аффектацию или похоть сатира, ибо любовь не
вырастает в рабской душе.
Различия между литературой северных и полуденных
стран кажутся глубокими и очерченными навечно; кажет¬
ся, что самой природой людям Севера даны проникновен¬
ный ум и способность к анализу прекрасного, подобно то¬
му как живое чувство прекрасного, по-видимому, врождено
южным народам. В произведениях, приходящих к нам с
Севера, отчетливее отпечаток оригинальности, ярче стрем¬
ление к идеалу и абстракции. Но не говоря уж о том, что
время ежечасно сглаживает эти различия, мне представ¬
ляется, что большую часть их можно объяснить ходом ис¬
тории и характером учреждений. Связи Востока с Севе¬
ром были немногочисленны и кратки, и обстоятельства, не
давшие северным народам войти в тесное соприкосновение
с древней литературой, столь гармоничной и совершенной
по форме, заставили их, хотя и значительно позднее, со¬
здать более оригинальную литературу из родных начал.
Реформация, развив привычку к тщательному анализу,
вызвав необходимость серьезных и терпеливых исследова¬
ний и утвердив наконец право свободной критики, породи¬
ла у жителей Севера эту их наклонность разбирать много¬
различные стороны предмета и этот дух созерцания, кото¬
рый, будучи сначала долгое время направлен исключитель¬
но на религиозные контроверзы, распространился затем на
литературные вопросы и на искусство. Столь высокая спо¬
собность рефлексии должна· была дать прекрасные ре¬
зультаты; но так как политические установления препятст¬
вовали ее приложению к важным национальным задачам
и к действительности, то разум, замкнувшись в себе, из¬
102
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
лился в отвлеченные системы. Не будучи в состоянии тво¬
рить в положительной сфере, умы устремились в иной мир
и стали созерцать идеальные предметы и отношения, обо¬
готворив плоды собственной фантазии. Так явилась лите¬
ратура, причудливая по формам и внешне хаотичная, но по
внутреннему содержанию обширная и глубокая; возникла
психологическая или, как ее называют, субъективная поэ¬
зия, говорящая скорее о будущем, чем о настоящем, блу¬
ждающая у пределов неведомого мира, меланхолическая и
трогательная, как неопределенная надежда. Напротив, Ан¬
глия есть страна, где, возможно, всего более служат куль¬
ту положительного; общественный строй открывает здесь
широкое поле деятельности, и ни одна из сфер, служащих
национальному процветанию, не запретна для разума.
Промышленность, торговля и сельское хозяйство — три ос¬
нования, на которых покоится здание британской мощи,
требуют от умов пристального наблюдения действительно¬
сти; и поскольку настоящий момент сохраняет заслужен¬
ную ценность в глазах англичан, они не ощущают столь
острой потребности устремляться в вихри будущего. Поэ¬
тому литература англичан вся положительна, исторична и
фактична, поэзия — описательна и чувствительна. Черпая
силу в воспоминаниях о славном прошлом, наслаждаясь
почти неограниченной свободой мысли, английская литера¬
тура часто глядится в прошлое, чтобы затем вернуться к
настоящему. Исключительная любовь к отечеству, для ко¬
торой родные места священны, и повсеместное увлечение
сельским хозяйством обостряют наблюдательность, и опи¬
сательная поэзия похищает у природы тайны, которые
иным народам небо дарит само.
Так общественное устройство определяет характер каж¬
дой литературы. Отличия, разделяющие их, суть естест¬
венные следствия нравственных и политических обстоя¬
тельств, которые будят или усыпляют, развивают или сте¬
сняют мысль и воображение. Кратко, насколько позволяют
мне размер статьи и мои способности, я говорю о вещах,
которые нуждаются в более подробном изложении, но если
в намеченном здесь направлении будут проведены истори¬
ко-литературные исследования, то мы лишь яснее увидим
ту истину, что общественный строй и литература народа
развиваются параллельными путями. И у нас, итальянцев,
то строгие, то порочные, то бессильные, то чаще тираниче¬
ские, но никогда не отвечающие всеобщему волеизъявле¬
103
ДЖ. МАЦЦИНИ
нию порядки дали поэзию, прекрасную своими гармониче¬
скими формами, великолепную по колориту и образам, но
почти всегда пустую, изнеженную, ничего не говорящую
уму, и наша литература, то эрудитская, то академичная,
то льстивая, умела быть и ученой, и изящной, и приятной,
но полезной и национальной — никогда, если не считать
исторических писателей, нескольких философов и немногих
поэтических гениев, парящих над веками. Между тем мы
с упорством, достойным лучшего применения, толпимся
вокруг пенатов, не сумевших уберечь нас от падения; мы
безвольно кричим о любви к отечеству всякому, кто пыта¬
ется разбудить в нас прежнюю энергию ума. О итальянцы!
Хорошо защищать честь нации и древнюю славу, но для
чести нации полезнее избавиться от порока, чем похвалять¬
ся своими достоинствами, а древнюю славу всего лучше
хранит слава новая. Отцы наши много сделали; но пока
мы не сумеем понять, что время, даруя новые права, по¬
стоянно умножает обязанности, пока мы будем довольство¬
ваться почитанием великих гробниц, наша Италия, некогда
первая среди наций, окажется последней, потому что ни
небо, ни солнце не обеспечат первенства уму.
VII. Итак, нет неизменной, вечной причины, чтобы ме¬
жду одним народом и другим встало непреодолимое раз¬
личие нравов, страстей и интересов; нет освященного при¬
родой закона, который тиранически предписывал бы осо¬
бенный вкус, некий неповторимый характер каждому из
племен, на которые разделен человеческий род. Общест¬
венные порядки, почти всегда определяемые единичной во¬
лей, а не голосом нации, способны лишь сообщить разные
направления нравственным силам, по-разному развить за¬
датки совершенствования, заложенные в каждой нации.
Один народ бодро шествует по пути прогресса и культуры,
другой — отстает или сбивается с пути. Отсюда различие
обычаев, которые по большей части суть пережитки зако¬
нов; отсюда различие верований, ибо потребность движе¬
ния, вечно зовущая людей вперед, находит выход в нацио¬
нальном творчестве, когда допущена свобода исповедания
прогресса 6, и истощается в суевериях там, где другие пути
закрыты. Между тем неравенство порождает гордость и за¬
висть; у одних сознание культурного превосходства легко
вызывает улыбку презрения, других ярость невежества за¬
ставляет тянуться к кинжалу. Так возникает взаимная не¬
нависть и войны, в которых победители учатся презирать
104
Ó ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЁ
li
культуру побежденных, а побежденные мстят отказом поде¬
литься с победителями сокровищами своего разума. Циви¬
лизация тем не менее распространяется и, разливая свой
свет народам, прежде лишенным ее, стремится сблизить
одних с другими. Но каждый шаг соседа по пути прогрес¬
са ущемляет гордость тех, кто первым встал на этот путь,
равно как и всякий совет, подсказанный опытом и знанием,
кажется неприемлемым тому, кто сознает свою силу и
энергию, — и люди продолжают яростно отстаивать мно¬
гие предрассудки, уже подточенные временем, из боязни
уступить, и многие прекрасные примеры отвергаются из
подозрения, что они служат укреплению ига. Так возника¬
ют и укореняются претензии на литературный вкус, пре¬
восходство которого якобы объясняется климатом; так
народы, наученные горьким опытом не доверять чужезем¬
цам и подстрекаемые врагами их единства, привыкают в
любой попытке сближения видеть ущемление своих прав и
отказывают в гражданстве гению потому лишь, что он ро¬
дился под другим градусом широты.
Итак, повторяю я, общественный строй и политические
порядки, разные в разных странах, произвели различия,
отделяющие одну литературу от другой. Поскольку обще¬
ственное устройство разных народов в наше время различ¬
но по своему характеру и основам, расхождения литера¬
турного вкуса могут все еще казаться неизбежными; но
основанное на фактах рассуждение устранит сомнение. По¬
ка культура народа лишь зарождается или делает первые
шаги, ее прогресс вверен горстке людей, сочетающих в себе
талант и энергию, а невежественная и бездеятельная мас¬
са довольствуется тем, что молчаливо пользуется дарами
их труда. Литература, ограниченная узким кругом, не
скрепленная коллективной мыслью, скорее отображает
фактическое и материальное состояние общества, чем его
внутренние нравственные тенденции; она скорее описыва¬
ет, чем творит, скорее следует за прогрессом цивилизации
и регистрирует его успехи, чем опережает его, взращивая
его семена. В таком случае силой и властью обладают
лишь государственные порядки; они-то и сообщают сло¬
весности те особенные черты, тот местный отпечаток, о ко¬
тором мы до сих пор говорили. Но когда культура настоль¬
ко развилась, что время ее первых шагов представляется
древностью, власть учреждений уже более и не всесильна
и не слепа. Возросший опыт и распространившееся обра-
105
ДЖ. МАЦЦИНИ
ь -I I ми У ч -d ■, , у ■■ . · ч-иы
зование, преодолевая предрассудки и нелепые догмы, уве¬
личивают число желающих мыслить и судить самостоя¬
тельно; и тогда из согласия наблюдений и суждений на
обломках слепой веры постепенно возрастает могучее об¬
щественное мнение. Благодаря ему ход цивилизации ста¬
новится более быстрым и решительным, оно начинает пе¬
ревешивать влияние государственных институтов. Возникая
с благоразумной медлительностью, располагая бесчислен¬
ными средствами воздействия на умы, чистое в своих наме¬
рениях, опирающееся на потребности времени и социаль¬
ную справедливость, общественное мнение может звучать
приглушенно, быть презираемо, преследуемо, но его нельзя
уничтожить. Гонения и насилия лишь увеличивают его
энергию, и рано или поздно его приговор становится реша¬
ющим. В этот период развития общества меняется само
назначение литературы. Если раньше она подражала и
наблюдала, то теперь она ведет и пророчествует; писатели
изучают нужды народа, пытаясь постичь сердца своих со¬
братьев, и выражают их заветные чаяния, очищенные от
всего низкого, что затемняет их в человеческом обиходе.
Сделавшись выразителями общей мысли, писатели преду¬
гадывают глубокие социальные изменения и помогают им
совершиться, так что иногда кажется, что они творят исто¬
рию, хотя на деле они лишь помогают новому созреть и по¬
степенно преодолеть все препятствия.
Поэтому если движение умов обнаруживает теперь еди¬
ный характер во всех странах Европы, если нельзя сомне¬
ваться в тенденции человечества к постоянному сближению,
если мнение большинства постепенно восстает против на¬
циональной неприязни, разделения и изоляции, отделяющих
одну нацию от другой, если, наконец, народы жаждут
единства всех и братства со всеми — что нужды, если при¬
хоть или корысть горстки людей и различие политических
законов продолжает разъединять их? Цель литературы ос¬
тается определенной: она должна стать во главе этой тен¬
денции, направлять и совершенствовать ее, чтобы работа
веков не пропала даром. Государственные же порядки, ог¬
раниченные поверхностью общественной жизни, неспособ¬
ные создать условия для человеческого счастья, противные
общественному мнению, за которым будущее мира, надол¬
го еще останутся некими окаменелостями среди прогресса
цивилизации, пока время и логика вещей не лишат их пос¬
ледних остатков угасающей жизни.
106
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
VIII. Теперь, действительно ли мы, люди XIX века, ис¬
пытываем действие причин, толкающих нас по сходным пу¬
тям к одной цели? Находимся ли мы в таких нравственных
условиях, подлинное выражение которых должно оказаться
одинаковым для всей Европы, так что народная литерату¬
ра должна повсюду приобрести единый характер? Краткий
очерк европейской цивилизации приводит нас именно к
этому заключению.
Долгий период, который мы назовем героическим вре¬
менем, в темных аллегориях и смутных легендах говорит
нам о первых шагах человеческого рода к общественной
жизни. Колеблясь между грубой дикостью, в которой они
прежде пребывали, и новыми отношениями, люди жили об¬
щинами, имели вождей, имели зачатки религии; но культу¬
ры, цивилизации не было. В ту эпоху господствовала физи¬
ческая сила; за эту силу или по жребию выбирали вождей,
и судьба хранила или опрокидывала их. О великой борьбе
между добром и злом, между зародышами духовного раз¬
вития и движениями слепой, неупорядоченной физической
природы свидетельствовали признаваемые большинством,
но часто неразумные законы, простые, но грубые нравы,
несправедливые и жестокие войны; и символами этой
борьбы для последующих поколений стал Гор и Тифон, Ор-
музд и Ариман, Зевс и титаны. Меж тем ранняя лирика, не¬
многие боевые песни выражали первые устремления духа
к более прекрасному будущему. Конечно, литература в
собственном смысле не существовала. Однако древнейшие
поэты, представляющие этот период, и исторические ана¬
логии позволяют заключить, что все нации начинались оди¬
наково и что человеческая душа являет почти одну и ту же
картину, в сколь бы различных климатах она ни боролась
с первобытным варварством. Полное отсутствие культуры
и ее высшая степень совпадают в том, что не знают наци¬
ональной замкнутости; оттого-то в основе всех древнейших
мифологий мы видим одни и те же немногие идеи; й оттого
столь схожи первые формы литературного творчества у
различных народов (например, афоризмы и двустишия
гномических7 поэтов Греции и метрические пословицы ин¬
дусов) .
IX. Борьба завершилась. Стихии социального мира
улеглись8; у людей теперь были города, законы, религия,
обычаи — но повсеместно царили неравенство и неспра¬
ведливость, и все подчинялось прихотям и страстям горст¬
107
ДЖ. МАЦЦИНИ
ки смертных, которых ум или хитрость сделали законода¬
телями. Печать единства, которою природа отметила вна¬
чале своих детей, начала стираться, и различие общест¬
венных учреждений постепенно сообщило человеческим
племенам разный облик. Семена духовной культуры пере¬
неслись из Азии в Европу, но, иссушенные в одних стра¬
нах тираническими законами и ревниво соблюдаемой кас¬
товостью в других, растаптываемые непрестанными война¬
ми и нашествиями, они не имели возможности для разви¬
тия. Лишь Греция, раскинувшаяся на множестве островов
у морской границы азиатского мира, омываемая морем, ок¬
руженная горами, защищенная от чужеземных вторжений,
родина свободолюбивого и деятельного племени, смогла
вобрать эти семена, сумела дать им жизнь и на своих хол¬
мах взрастила величественное древо, которому позднее
суждено было раскинуть свои ветви над всей Европой.
Греция представляет нам первую эпоху* человеческой
культуры. Вместе с последней возникла и литература, ее
выражение, но литература вполне греческая и местная, к
чему необходимо вели и географическое положение, и кли¬
мат, и сознание своего превосходства. В самом деле, под
благотворным воздействием мудрых и энергичных учреж¬
дений Греция быстро достигла состояния, которому еще и
теперь мы должны во многих отношениях завидовать. Од¬
нако чем больших высот она достигала, тем более отдаля¬
лась от других народов. В своем развитии одинокая, как
оазис в пустыне, она с презрением смотрела на косные на¬
ции остальной Европы и называла их позорным именем
варваров. Впрочем, первый период культуры никогда и не
может быть периодом ее распространения, потому что, пре¬
жде чем расширяться, здание укрепляется и совершенст¬
вуется. И Греция, ценой кровавых жертв отстаивая собст¬
венную независимость, ограничивалась тем, что пожинала
плоды нравственного прогресса, не будучи в силах раздви¬
нуть его сферу, если не считать создания нескольких ко¬
лоний, посеявших семена цивилизации в Сицилии и на бе-
* Я говорил о культуре, представленной словесностью. Италийская культура
существовала, вероятно, раньше, несомненно не позднее греческой, но от нес не
осталось памятников литературы пли искусства. Древний Восток, еще плохо изу¬
ченный в годы, когда была написана эта статья, до греческой эпохи еще не имел
литературы в собственном смысле слопп. если не считать больших религиозных
эпопей. «Сакунтала» не древнее двух тысяч лет (1861).
108
о европейской литературе
регах этой нашей Италии, в лоне которой дремали судьбы
целого мира.
Любовь к родине была главной чертой той эпохи — лю¬
бовь ревнивая, ограниченная кругом городских стен, в ко¬
торых грек первым криком новорожденного приветствовал
солнце; любовь, настолько привязанная к этому небу, к
окружающей природе, земле, воде, скалам, что человек,
родившийся вне этого замкнутого мира, считался достой¬
ным лишь жизни раба. Столь мощный индивидуализм не
мог не отразиться в литературе: язык, формы, стиль, со¬
держание и назначение — все было в ней греческое, только
греческое. Счастливый певец обласканного солнцем отече¬
ства, на зависть соседей превзошедшего остальной мир по
свой культуре, не имел причин искать для своего творчест¬
ва более широкую сферу. Он не был человеком, которого
природа вдохновила открыть смертным всеобщую истину:
он был грек и желал лишь увековечить славу отечества
или взрастить в груди юношей любовь к законам и рели¬
гии дедов. Земля, по которой ступала его нога, станови¬
лась материей его поэзии; небо, которое повсюду улыба¬
лось ему, дарило краски и формы. Потому в его песнях
редки глубокие общие идеи, редки чисто нравственные кон¬
цепции и описания общечеловеческих чувств. Струна Чело¬
вечества на его цитре молчала.
X. Мир нравственный, так же как мир физический, веч¬
но стремится к равновесию своих частей. Народ, история
которого совершается отдельно от судеб других народов и
культура которого замыкается внутри собственных преде¬
лов, не может существовать вечно, ибо крайнее неравенст¬
во ведет к состоянию вечной войны между правом и силой,
между нравственными успехами передовой нации и косной
грубостью отсталых; войны, которая не прекратится, пока
цивилизованный народ не подарит соседям своих благо¬
творных учреждений или не падет. И Греция пала.
Новый колосс уже высился на Западе, когда внутрен¬
ние разногласия, ослабление гражданских законов и раз¬
вращающее влияние философских сект начали ослаблять
греческое могущество. Поднялся Рим, воплотивший в себе
принцип силы в действии, и безграничная любовь к оте¬
честву, грозный дух воинственности и вероломная полити¬
ка воздвигли ему престол, вершиной которого был Капи¬
толий, а основанием — весь Юг Европы. Одинокая Греция
не смогла устоять рядом с римским миром. Она пала, и с
109
ДЖ. МАЦЦИНИ
потерей независимости увял цветок греческого гения; но
его плоды остались. Народы, подобно отдельным людям,
живут и умирают; но культура бессмертна, и она лишь вы¬
играла в широте то, что потеряла в высоте и блеске. Как
вино из разбитого бокала растекается во все стороны, так
греческое знание, лишившись центра, распространилось по
периферии. Благодаря жадности победителей шедевры ис¬
кусства разошлись по всей Италии, а греческие философ¬
ские, эстетические и политические учения нашли себе про¬
поведников в лице тех, кого ненависть к рабскому состо¬
янию, насилие или интриги вынудили покинуть отечество.
Восток смешался с Западом; железный скипетр Рима за¬
ставил под одним игом склониться разные народности, и
они, подчинившись одному влиянию, получив в удел одну
участь, переживая одни чувства, сближались и уподобля¬
лись друг другу по крайней мере в несчастье, условиях
жизни и стремлениях. Начало стираться самое различие
религий. Многие из них и без того уже имели важные чер¬
ты сходства в своих основных принципах — это были те,
которые ограничивались одним вероисповеданием, служили
политике, но не руководили ею. Другие, создавшие в Гал¬
лии и других странах теократические государства, в кото¬
рых жрецы соединяли в себе священную и мирскую власть,
Рим преследовал и искоренял огнем и мечом. И в то время
как народные множества волей-неволей готовились к при¬
нятию единой веры, широкое распространение философ¬
ских сект, которые при всех своих различиях неизменно
имели сходные черты, посеяло среди выдающихся умов се¬
мена того эклектизма9, который должен был стать одной
из черт европейского мира. Литература тех веков могла бы
стать выразителем этого общего движения, этого прогрес¬
са южных народов, если бы сначала гражданские раздо¬
ры, неуемная жажда завоеваний, непрестанные тревоги и
войны, а затем подозрительная тирания и военное иго не
закрыли для римского гения путь к свободной националь¬
ной словесности. Величие нравов, язык, который можно
назвать совершенным, деятельный и предприимчивый дух—
все, казалось, вело к ней; но если можно так выразиться,
не хватило времени, чтобы взрастить эту литературу из
самих стихий эпохи, а когда наступил долгожданный по¬
кой, положение угнетателей уже не позволило мыслящим
умам проникнуться нуждами и чаяниями народов, входив¬
ших в огромную империю.
110
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Тогда литература, не сумев стать народной, устреми¬
лась по пути рабского подражания. Она заимствовала у
греков формы, мифологию, законы прекрасного, часто
самые темы, — все, кроме языка; при этом она перенимала
скорее достоинства простоты и естественности, чем драма¬
тическое разнообразие, скорее красоту выражения, чем глу¬
бину чувства. Чужеродная, изолированная, она сияет отра¬
женным светом. Подобно перенесенному в чуждый климат
растению, которое после пышного первого цветения оста¬
навливается в росте и не дает плодов, она вызывала восхи¬
щение, но была бесполезной и быстро выродилась. Иногда
покровительство государей, казалось, возвышало ее; но это
были объятия Геркулеса, поднявшего Антея над землей,
чтобы задушить его: вспышка была великолепной, но не¬
долгой. Несколько одиноких гениев коснулись неба; но дух,
животворивший их, угас вместе с великой душой Тацита.
И все же, сравнивая латинскую литературу с греческой,
чувствуешь, что сфера поэзии в ней хотя и немного, но
расширилась. Религиозные воззрения приходят в ней к
большему единству, некоторые страсти изображаются уже
в аспекте более нравственном, чем физическом. Любовь,
как ее описывает Вергилий, представляется скорее власт¬
ной потребностью души, чем чувственным влечением; от¬
тенок меланхолии, разлитый во всей его поэзии, кажется
плодом глубоких раздумий о человеческих судьбах. Сло¬
вом, струна сердца звенит уже чаще, и понимаешь, что
здесь сделан один шаг к открытию внутреннего человека.
Первый опыт этого величественного откровения осуще¬
ствило христианство. Римские владения невероятно расши¬
рились при императорах, но порочная политика, упрямо
называвшая Римом лишь то, что находилось в пределах
семи холмов, не допускала равенства собранных в единую
империю народов, что привело к бедствиям национальной
розни. Поиски выхода оказались запоздалыми и безуспеш¬
ными; в покоренных народах проснулось чувство собствен¬
ного достоинства. Росли духовные богатства, от немногих
и простых идей люди переходили к сложным, универсаль¬
ным и отвлеченным. Расширялось общение, и люди учи¬
лись узнавать и любить друг друга. С развитием граждан¬
ственности все ярче вырисовывалась нравственная сторона
человеческого существования, и становилось ясным, что все
люди от природы имеют священные и неотъемлемые права,
не зависящие от происхождения и обстоятельств жизни,—
111
ДЖ. МАЦЦИНИ
словом, уже угадывалось призвание человека. Между тем
все прежние религии, возникшие еще на заре цивилизации,
уже не отвечали ускорявшемуся прогрессу. Будучи боль¬
шей частью порождениями страха или обмана, символизи¬
руя материальные обстоятельства, оставаясь причудливы¬
ми и темными в своих обрядах, они взывали к чувству на
языке, форма которого была определена внешними усло¬
виями, и учитывали по большей части лишь физические
потребности. Была необходима религия, которая, обраща¬
ясь к людям из более возвышенной сферы, заполняла бы
создавшуюся пустоту, соответствовала бы новому направ¬
лению нравственных сил. Скепсис, безверие, распущен¬
ность, о которых свидетельствуют произведения той эпохи,
разрушали старые религии, и мыслящие умы уже предви¬
дели великую революцию. — И пришло христианство. —
Голос глубоких народных чаяний, выражение духовного
прогресса, откровение таинств души — христианство, если
рассмотреть его существо, а не внешние формы, завершило
второй период цивилизации, отразив его обширные резуль¬
таты в немногих величественных принципах. Христианство
увидело людей сверху, не в искаженном учреждениями и
обстоятельствами образе, но в самой их первичной сути;
поэтому все они предстали перед ним братьями, оно обра¬
тилось ко всем со словом мира и любви и повсюду провоз¬
гласило нравственное равенство. Братство и любовь было
начертано на знамени, которое христианство подняло сре¬
ди человеческих племен. Его первые шаги ознаменовались
отменой рабства; оно положило начало эпохе, когда все
народы должны были постепенно сплотиться в единой вере
и согласно вступить на путь бесконечного совершенствова¬
ния. Смягчив исключительность языческой любви к отече¬
ству, христианство заложило основы всеобщего права; оно
породило ту жажду познания, ту преданность истине, тот
апостольский дух, который позднее дал стольких борцов
за святое дело правды и человечности.
XI. Но целая половина Европы оставалась чуждой дви¬
жению южных народов. Бродившие по своим лесам племе¬
на Севера, не имея определенных законов, поклоняясь гру¬
бой силе, оставались в стороне от всякого прогресса. Но¬
вое слово культуры было сказано на Юге; но триумф ве¬
ры как бы истощил силы, их не хватило для упрочения до¬
стигнутого. Если бы сознание своих прав оказалось тогда
равным решимости отстоять их — между судьбами двух
112
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
половин Европы могла навечно встать стена, ибо разрыв
между ними был, по-видимому, непреодолим. Но любопыт¬
ство и неудовлетворенность, неразлучные спутники челове¬
ка, позаботились о том, чтобы изменить такое положение.
Народы северных стран, подстегиваемые жаждой новизны
и мечтой о лучших землях, бесчисленными ордами высту¬
пали из своих пределов и устремлялись в полуденные стра¬
ны. Борьба, столкнувшая когда-то Восток с Западом, раз¬
горелась теперь между Севером и Югом, — но борьба еще
более разрушительная, ибо различия между народами,
вступившими в нее, были теперь глубже. И Юг должен
был сдаться. Христианство посеяло здесь семена великих
благодеяний, но поскольку языческие воззрения слишком
укоренились в привычках, убеждениях и нравах людей, ре¬
шительная смена религии не могла не пошатнуть общест¬
венного здания, создав неравновесие между силами нации.
Оттого первые материальные последствия новой религии
оказались гибельны для государства. Ее распространение
было подобно наводнению, орошающему окраинные поля,
но затопляющему то место, откуда оно разлилось. Рим
лишился древней веры, которая столько раз вела к победе
его героев, и был неспособен почерпнуть силы в новой.
Старая вера была кроной на сгнившем стволе, а новая не
пустила еще корней в сердцах. Дух измельчал в атмосфе¬
ре рабства, был развращен роскошью, истощился в бесчис¬
ленных сектах, расплодившихся на развалинах погибших
религий; ребяческие споры, теологические тонкости стали
пищей для умов. А меж тем эти люди называли захват¬
чиков варварами! Но варвары были по крайней мере му¬
жественны и воинственны, эти же не обладали ни энергией
гражданственности, ни силой варварства. И, подорванная
в самом своем внутреннем нерве, империя не могла проти¬
востоять вторжениям, которые накатывались, как волны
морского прибоя. Колосс рухнул. Орды готов, гуннов, вест¬
готов, вандалов затопляли одна за другой Италию, Гал¬
лию, Испанию. Язык, учреждения, обычаи — все тонуло в
разрушительном потоке; десятки различных рас сталкива¬
лись, смешивались, сметали друг друга, тысячи различных
элементов цивилизации и варварства переплетались во
всевозможных сочетаниях. Все было в смятении, нравст¬
венный мир являл картину хаоса; казалось, солнце циви¬
лизации закатилось и европейский мир навечно погрузил¬
ся во мрак.
113
ДЖ. МАЦЦИНИ
Но нет, не навечно. Неслышно вызревали ростки жизни
и движения; казавшаяся разрушенной культура стреми¬
лась к равновесию. Разбитая и ослабленная на Юге, она
неприметно крепла на Севере и мстила попиравшим ее ди¬
карям, смягчая их буйные нравы и грубые обычаи. В то
время как люди Севера, заражая побежденных суевериями
и невежеством варварства, вновь замыкали разум южан в
тесной физической сфере, из которой он незадолго до того
вышел, многие варвары, вернувшись в родные земли, а с
ними уведенные в рабство римляне провинций распростра¬
няли на Севере нравы и религию Юга; и христианство, в
которое захватчики обратились уже в завоеванных странах,
вскоре расцвело на берегах Британии и узами единой веры
скрепило народы на Эльбе, у Балтийского моря, на Висле.
В то время как памятники наук и словесности в самой
империи истреблялись или попадали в монастыри, где их
искажала и уродовала чрезмерная набожность монахов,
искорка южной культуры залетела в северные льды, и
вслед за готским переводом Евангелия Ульфилы повсюду,
от Альп до Ледовитого океана, стали появляться поэмы,
летописи и гимны. Начался период, который не был ни
вполне варварством, ни вполне цивилизацией, но переме¬
шал и привел к некоторому равновесию те и другие эле¬
менты, — период, который нам, потомкам, кажется сплош¬
ным мраком и падением, ибо обреченный на бездействие
разум остался бесплодным, а варварство произвело плоды,
горечь которых чувствуется до сих пор. Детище герман¬
ских нравов, возникла феодальная система, вызванная пот¬
ребностью утвердиться в достигнутом. Вначале она была
военным установлением, затем сделалась гражданским за¬
коном и, вырождаясь, создала дерзкую аристократию, за¬
полонившую всю Европу. Анархия стала законом, насилие
властью; крепостное право поставило на одну ступень че¬
ловека и вола. Из тысяч замков, воздвигнутых страхом за
совершенные преступления, на униженные народные мно¬
жества обрушилась тирания сеньоров, искажая и извращая
работу созидания.
Италии, тоже истерзанной, досталась, однако, среди
всеобщих бедствий менее злая судьба. Здесь все было раз¬
валины, но на этих развалинах еще лежала тень гигант¬
ской державы; величие древних воспоминаний делало их
прекрасными, и последний луч угасшей эпохи еще проре¬
зал сгустевший над ними мрак. Гений, вдохновляющий
114
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
смертных на великие дела, не мог покинуть землю, где
еще звучало эхо римских побед и греческой науки; а по¬
скольку благодатная земля и природа непрестанно при¬
влекали все новых завоевателей, благодаря постоянной
смене исторических обстоятельств не погасла та искорка
разума, которую, возможно, затушил бы долгий и однооб¬
разный гнет. Впрочем, лангобарды основали в Италии ис¬
ключительное по тем временам государство, в котором уже
содержался зародыш представительного правительства, и
создали систему законов, заслужившую похвалу Мон¬
тескье. Пали в свой черед и лангобарды, не устояв перед
Карлом Великим и папскими интригами; но следы их
правления остались. Все эти причины сообщили итальян¬
скому характеру энергию и те черты, которым суждено бы¬
ло позднее возродить Италию и доставить ей первенство в
Европе. И, увидев в следующий период Италию во главе
великого европейского движения, мы припишем это дейст¬
вию описанных причин, а не климата, подобно тому как
необычный отпечаток и яркая красота испанской и порту¬
гальской поэзии объясняются долгим пребыванием на ибе¬
рийском полуострове арабов, народа великодушного, ода¬
ренного живейшим гением и высоким поэтическим вообра¬
жением.
Однако еще слишком многочисленные цепи отягчали че¬
ловеческий дух, чтобы он мог подняться к возвышенным
идеям. Кроме народного эпоса и немногих латинских под¬
ражаний литературы в Европе не было. Карл Великий и
Альфред искали новых путей, но оказались бессильны про¬
тив абсурдной феодальной системы, а немногочисленные
достижения не закрепились. Единственным признаком
стремления духа к цивилизации было учреждение рыцар¬
ства. В его первоначальном замысле светится луч благо¬
родства и доблести. Чувство личной независимости — ибо
о народной свободе еще нельзя было и мечтать — состав¬
ляло душу рыцарства; и культ любви, которым оно окру¬
жило красоту, до тех пор беззащитную жертву грязной на¬
глости сеньоров, стал первым союзом доблести с состра¬
данием, первым алтарем, который сила воздвигла оскорб¬
ленной невинности. Но рыцарство было одиноким и скоро
увядшим цветком среди поля терниев. Страшившееся его
последствий духовенство применило все хитрости, чтобы
извратить его, взяв под свое руководство, что ему и уда¬
лось. Сделавшись из социального установления религиоз¬
115
ДЖ. МАЦЦИНИ
ным, рыцарство усвоило фанатизм, нетерпимость, жесто¬
кость, неотъемлемые свойства того, что именовалось тогда
религией и что было на деле лишь опорой беззакония вла¬
стителей. Таким был третий период цивилизации. Он за¬
вершился в XI веке первым крестовым походом — пред¬
приятием, в котором достиг наибольшего развития и
высшей степени проявления царивший в Европе дух суе¬
верия, аристократизма и рыцарства. По призыву одного
отшельника 10 весь Запад взялся за оружие и обрушился
на Восток.
XII. Но тайный закон, сплетающий цепь человеческой
истории, часто делает началом падения того или иного об¬
щественного устройства те самые события, которые свиде¬
тельствуют, казалось бы, о его мощи и крепости. Силы,
враждебные прогрессу цивилизации, уже достигли своего
апогея, и им оставалось теперь лишь истощиться. Два ве¬
ка длились крестовые походы, и два века движения и сму¬
ты разбудили Европу ото сна. Пошатнулась власть сеньо¬
ров, воевавших в дальних странах и вынужденных из-за
трудности экспедиций продавать свои земли. Расширилось
общение между народами, и суеверия, вражда и взаимная
подозрительность стали терять опору, ибо, когда народы
сближаются, на них нисходит дух согласия. Люди разных
стран, направляясь в Святую Землю, сходились в Италии—
в Италии, где пламя цивилизации никогда полностью не
угасало, где Крещенцо11 уже сделал первую попытку
объединения, где торговые республики Венеция, Генуя и
Пиза распространяли дух свободы по всей Адриатике и
Средиземноморью. Из Италии крестоносцы шли в Констан¬
тинополь, где хотя и слабо, но еще мерцал свет науки и
литературы; они подолгу оставались на Востоке и завязы¬
вали отношения с арабами, заимствуя у них образ жизни,
книги, открытия, а возвращаясь в родные земли, насажда¬
ли у себя далеко не однообразные тенденции и обычаи.
Вот плоды, которые принесло Европе это безумное пред¬
приятие; и, уж конечно, Петр Отшельник не мог предви¬
деть, бросая клич «войны против неверных», что его слово
заронит семя всеобщего подъема. Но момент настал — ра¬
зум воспрянул и ощутил цепи, окутавшие его; казалось,
электрическая искра пробежала по всей обитаемой земле
от Северного полюса до Средиземного моря, и началась
величественная работа. Тогда-то пробудился в Европе дух
свободы—душа и жизнь современной цивилизации,—более
116
о европейской литературе
великий и возвышенный, чем чувство независимости, кото¬
рое есть черта античности, потому что основа первого —
человеческая природа, тогда как второе покоилось на граж¬
данстве. И тогда между разумом и силой, между законом
движения и косностью, между стремлением к лучшему и
вставшими на его пути препятствиями разгорелась война,
которая длится вот уже восемь веков. Все народы пере¬
жили одну и ту же судьбу рабства и унижения; все наро¬
ды поднялись, чтобы отстоять свои права. Италия дала
сигнал незабвенной в веках Ломбардской лигой, и все ее
города наперебой поспешили завоевать себе привилегии,
права, лучшие законы. Города Франции и Испании после¬
довали этому примеру. В Германии горожане сплотились,
чтобы оружием отстоять свои свободы против злоупотреб¬
лений императоров и аристократии. На Рейне образовалась
конфедерация, объединившая шестьдесят городов. У Север¬
ного моря и на берегах Балтийского поднялся Ганзейский
союз, открывший свои гавани торговле с Италией. Неза¬
долго до того Великая хартия определила основы упоря¬
доченного правления в Англии; а малое время спустя стре¬
ла Телля положила начало швейцарской независимости, и
над вершинами Ури, Швица и Ундервальда взвилось знамя
Свободы. Феодализм рушился повсюду, повсюду народ до¬
бивался участия в управлении и в составлении законов.
Одновременно с политическим возрождением наций
возобновилось прерванное духовное развитие. И первые
шаги поэзии имели везде почти один и тот же характер.
Арабы завещали Европе свой вкус, свою способность к
описанию, свою наклонность к мистическому, воздушному;
развитию этой наклонности способствовали платонические
учения, заимствованные христианством. Нашествия нор¬
маннов, народа чрезвычайно склонного к отважному рис¬
ку, оживили элементы рыцарства. Следствие всех этих
причин, живая, полная любви, «веселая наука» распрост¬
ранилась повсеместно, как если бы всеобщий гимн радости
приветствовал зарю новой жизни. Принесенная норманна¬
ми в Сицилию, в Англию, она стала достоянием всех, и
рожденные ею рыцарские и любовные песни, казалось, ли¬
лись из одного и того же источника. На Севере и на Юге,
на цитрах трубадуров и арфах менестрелей и миннезинге¬
ров, она блистала одинаковыми красками, облекалась в
сходные формы, имела даже почти одинаковые достоинст¬
ва и пороки. Рыцарский дух, наклонность к чудесному, от¬
117
ДЖ. МАЦЦИНИ
тенок идеализма» пышный, богатый сравнениями и обра¬
зами стиль — таковы были черты этой литературы, рож¬
денной общими условиями жизни, общими чаяниями, об¬
щими воспоминаниями и носившей повсюду единую печать.
По причине этой общности итальянская поэзия была тогда
более духовной и созерцательной, чем она стала позднее;
и, напротив, немецкая еще не отличалась отвлеченностью,
туманностью и мечтательностью, ибо, подражая южной
словесности, питаясь идеями, которые германцы заимство¬
вали при своих частых посещениях Италии, она еще не
испытала мощного воздействия Реформации. Но умы Ита¬
лии, побуждаемые указанными выше причинами, столь бы¬
стро устремились вперед, что оставили позади остальную
Европу. Всемогущество природы и гения воплотилось в од¬
ном человеке, и этим человеком был Данте. Любовь, это
чувство, связующее небо и землю, раскрыла свои тайны
Петрарке. Боккаччо показал, какою должна быть италь¬
янская проза. Другие народы следовали в отдалении и
подражали; однако ничто из того, что в Италии открывал
разум или подсказывал случай, не прошло для них бес¬
следно. С изобретением бумаги умножилось число рукопи¬
сей, а торговля пролагала все новые пути сообщения.
В 1137 году в Амальфи были найдены пандекты12, и спу¬
стя десять лет римское право стало предметом серьезного
изучения почти во всей Европе, а в Париже и в Оксфорде
возникли кафедры юриспруденции.
И пока совершалось таким путем изменение в законах,
в отправлении правосудия и в политическом устройстве
наций, многие нетерпеливые умы двинулись ожесточенной
войной против другого врага цивилизации, тем более мо¬
гущественного, что в нем соединились сила и коварство.
Пьер де Брюи 13 во Франции и Арнальдо да Брешиа 14 в
Италии смело возвысили голос против злоупотреблений и
безрассудных притязаний отошедшего от старых установ¬
лений духовенства, призывая народы к первоначальной чи¬
стоте евангельской религии. В Пьемонте и Ломбардии
Петр Вальдеец15 выступил против испорченности нравов
и суетности Рима, и Боккаччо вместе со многими другими
сатирой и насмешкой бичевал предрассудки и пороки, пре¬
вратившие падший культ в дело купли и продажи. Учения
этих первых реформаторов быстро распространились в
Швейцарии и во Франции, в Испании и в Германии. Горе¬
ние человеческого духа было так сильно, что захватило да¬
118
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
же далекую ледяную Россию, где Новгород и Псков заво¬
евали для себя государственную и религиозную независи¬
мость. Не обходилось без противодействия, ибо от интриг
до открытого насилия, от анафем и отлучений до кинжа¬
лов и костров все было пущено в ход, чтобы сдержать
этот порыв. Когда после крестовых походов были учреж¬
дены тамплиерский и иерусалимский ордены, рыцарст¬
во еще более слилось с религией, и ужасным плодом этого
союза были войны против вальдейцев, резня альбигойцев
и огромное число других позорных дел, о которых лучше
умолчать, чтобы тень их позора не легла на наши страни¬
цы; да и слов не хватит описать их все. Но Истину не за¬
душить насилием и кострами. Мученичество освящало де¬
ло борцов, и человеческий дух восставал из страданий,
огня и казней, как из очистительного испытания, еще бо¬
лее мощным и непобедимым.
Так в тревожной, славной и плодотворной борьбе про¬
тив многочисленных сил, препятствующих счастью народов,
в чередовании побед и поражений, успехов и бедствий, ко¬
гда нельзя было заранее предвидеть исхода, прошел чет¬
вертый период цивилизации. С одной стороны стояли сила,
единство, могущество и террор, с другой — мужество, по¬
стоянство и добродетель. Недоставало скорого, всеобщего,
непреодолимого средства общения, которое несло бы от
края до края земли мысль гения, слово истины, которое
показало бы народам их силу и изобличило опутывавший
их прежде искусный обман, которое выразило бы их общие
чаяния и единство их стремлений, уничтожив тем самым
вражду и раздор, это следствие различия исторических су¬
деб, умело использованное правителями, чтобы сделать их
навсегда чуждыми друг другу. И это средство было найде¬
но. Соединились случай, гений и терпение. Был изобретен
печатный станок — и разделение было преодолено, разли¬
чия сглажены, миллионы людей соединились в нерушимом,
святом союзе, и разрозненные усилия слились воедино,
пришли в согласие, многократно возросли. Науки и искус¬
ства воспрянули. Не было полезного открытия, которое
мгновенно не разнеслось бы по всей Европе; если в одной
стране новые пути раскрывались перед разумом, они сразу
же становились достоянием всех других.
Между тем пробуждение нравственных сил, вызванное
изобретением книгопечатания, должно было коснуться сна¬
чала религиозных идей, ибо именно они по большей части
119
ДЖ. МАЦЦИНИ
лежат в основе гражданских и политических. Реформация,
начавшаяся во многих частях Европы, пустила прочные
корни на Севере, но не удалась в других странах. Герма¬
ния показала пример, за ней последовали Швеция, Дания,
половина Швейцарии, Нидерланды и Англия. Первый важ¬
ный результат бурной четырехсотлетней активности — за¬
вершение четвертого европейского периода, когда Рефор¬
мация создала, казалось, непреодолимую пропасть между
Севером и Югом. Однако, рассматривая литературную
сторону дела, мы находим, что это не остановило неотвра¬
тимого прогресса цивилизации.
XIII. Духовное развитие Юга Европы достигло уже вы¬
сокой точки, Север оставался еще позади; но Реформация
сообщила здесь умам более быстрое движение. Повсемест¬
ное изучение древних языков, а следовательно, и античных
учений, возросшая независимость мнений, жажда деятель¬
ности, неутомимость в исследовании, дух размышления и
анализа, наклонность к серьезности и основательности бы¬
ли следствием Реформации в культурной сфере. Следствия
эти проявлялись в разных странах по-разному, смотря по
ожесточенности противодействия. На Севере, где находился
очаг Реформации, они ощущались сильнее и в сочетании с
другими причинами придали быстро развивавшимся лите¬
ратурам Германии, Швеции, Дании тот своеобразный ха¬
рактер, о котором говорилось выше. В Южной Европе и
преследования и покровительство властителей душили или
развращали талант, и обреченные на гибельную празд¬
ность писатели обратили все душевные силы на достиже¬
ние того блеска форм и изящества слога, которым вызы¬
вают восхищение, возможно чрезмерное, века Карла V,
Леона X, Луи XIV16, или же увлекались причудливостью
идей и напыщенностью выражения, подобно гонгористам в
Испании, Дюбарта во Франции, Марино в Италии 17. Те
немногие, кто не хотел быть рабом иллюзий или страха,
были вынуждены облекать свои мысли в покров аллего¬
рии или философии, делавший их темными и чуждыми для
большинства. Потому-то значение и величие словесности
пало на Юге, тогда как на Севере оно возрастало: потому-
то возникли различия (скорее мнимые, чем существенные)
между вкусом Юга и Севера Европы — различия, которые
будут сметены временем и ходом событий.
Но все больше совершалось сближение в существе, раз¬
рушавшее старую национальную неприязнь. Религиозная
120
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
и политическая нетерпимость вынудила покинуть южные
страны многие тысячи людей, которые по своим убежде¬
ниям склонялись к Реформации; они нашли прибежище на
Севере. Там — ибо мысль о родине никогда не покидает из¬
гнанника — они насаждали свои старые обычаи и родные
привычки; там они смягчали страдания скитальческой
жизни песнями об утраченной родине и там скрепили с
иностранцами освященный страданием союз любви. Под¬
талкиваемые нуждой и одушевленные чувством призна¬
тельности, они старались любым путем сделаться полез¬
ными своим новым согражданам, и тысячи новых промыс¬
лов, тысячи усовершенствований искусства увеличили эле¬
менты процветания и возможности общения между наро¬
дами. Торговля распространялась на более широких осно¬
ваниях или более равномерно распределялась между на¬
циями. Тем временем книгопечатание расширяло свои воз¬
можности, из конца в конец Европы разнося открытия Га¬
лилея, идеи Томаса Мора и имевшие огромную важность
этюды Макиавелли. Гроций проповедовал необходимость
всеобщего гражданского права. Декарт упразднял автори¬
тет. Десятки писателей устремились по их следам, и все
они говорили о Европе в целом, все, казалось, решили осу¬
ществить на деле памятные слова: «Познание всего благо¬
го и достойного познания никогда не будет делом одного
человека, одной нации, одного века: сокровища универ¬
сального знания можно добыть лишь согласным усилием
всех человеческих способностей» !8. Итак, борьба между ис¬
тиной и заблуждением, начатая духом свободы в предше¬
ствующую эпоху, развернулась в этот пятый период в бес¬
численных формах. Успех ее в различных частях Европы
был различен. В то время как творческий гений Петра при¬
соединил Россию к цивилизованному миру, в то время как
Нидерланды кровью скрепляли свою независимость, а Ан¬
глия возвышалась на тройственном основании религиозной,
гражданской и политической свободы, Испания утрачивала
славу, богатство и силу под гнетом власти, безрассудство
которой можно сравнить разве что с ее беззаконием, раз¬
деленная Польша была вычеркнута из числа наций, Ита¬
лия же, которая дала культуру, знание и образцы для
подражания погруженному в варварство миру, Италия,
где каждая провинция обласкана природой и солнцем, где
каждый город хранит разнообразнейшие творения гения,
где под каждым камнем покоятся останки доблестных
121
ДЖ. МАЦЦИНИ
предков,— раздираемая гражданскими войнами, обесче¬
щенная чужеземцами, втоптанная в грязь собственными
детьми Италия теряла единство, политическое существо¬
вание, мужество и добродетель: все, кроме великих воспо¬
минаний и надежды. Но разве надежда — не залог воз¬
рождения, посылаемый от бога лежащим во прахе?
Я миную более близкие к нам времена, принужденный
к тому пределами моей статьи и другими причинами. Но
кто не видит, какой проделан путь и сколь прочными ста¬
ли основы согласия между народами, у того затуманен ра¬
зум или сердце ослеплено ненавистью. В последние сорок
лет одинаковая судьба через все катастрофы, несчастья и
перевороты привела европейцев к такому положению, ког¬
да они уже не могут жить разъединенно. Французская ре¬
волюция связала их энтузиазмом и согласием принципов.
Появился гигант, который простер одну руку к Северу, опи¬
раясь второю о полудень, и, казалось, готов был удушить
европейское движение — но цивилизация развивается по
спирали, и всякое отступление ее лишь видимость. Побеж¬
денный объединившимися государями, а более того, на¬
родным единством, колосс пал; а между тем две трети Ев¬
ропы уже имели за плечами десять лет жизни в одинако¬
вых условиях, в подчинении одинаковым законам и пра¬
вительствам. Разделявшие нации отличия уже стирались
в ходе взаимных столкновений, превратностей войны, ча¬
стых вторжений; люди Севера, снова покинувшие свои
фьорды, уже припали жадными устами к чаше южноевро¬
пейской цивилизации; и пока государи заключали свои
пакты и соглашения, народы скрепляли между собой иной,
вечный и нерушимый союз у алтаря свободы. Они окинули
взором протекшие века: повсюду взаимное истребление на¬
ций друг другом, повсюду нескончаемые реки крови омы¬
вают землю, их общую мать. Почему? Они рассмотрели
причины: почти всегда источником пагубной розни оказы¬
вались предрассудок, каприз, случайное слово — а в ре¬
зультате? Они истощали собственные силы, бессознательно
служили пустому тщеславию и коварным планам тех, кто
хотел тем вернее властвовать над ними. Они обратили взор
к будущему и воскликнули: зачем ненавидеть друг друга?
Что дала нам эта ненависть? Разве у нас не общее проис¬
хождение, не общие потребности и мечты, не одинаковые
способности? Разве не начертано на нашем челе, что все
мы братья? Разве не одно стремление вселила природа в
122
о европейской литературе
наше сердце, зовущее нас к высоким судьбам? Будем же
любить друг друга: человек создан для любви; объединим¬
ся: мы станем сильнее. И единодушный приговор предал
позору работорговлю, и, как на призыв к священному кре¬
стовому походу, тысячи защитников откликнулись на голос
греческой свободы; и чудный энтузиазм и согласие проя¬
вились в деятельности и прогрессе европейской культуры.
Между народами все еще есть различия, но они меньше,
чем думают: есть нации, над которыми позднее взошла за¬
ря цивилизации, но, пользуясь сокровищами, которые ве¬
ками накапливали их соседи, они с энергией молодости
стремительно взойдут на ступень, занимаемую другими.
Есть страны, где дурное государственное устройство пре¬
пятствует распространению благодеяний века; но рано или
поздно все препятствия исчезнут, ибо суд общественного
мнения уже вынес свой приговор и воля человечества пе¬
ревесит на чаше весов.
XIV. Итак, в Европе существует согласие потребностей
и стремлений, единство мысли, общность духа, ведущего
нации по одним путям к одинаковой цели, — словом, су¬
ществует европейское движение. Поэтому литература, ес¬
ли она не хочет стать праздной безделкой, должна слиться
с этим движением, отразить его, помочь ему, возглавить
его — словом, должна сделаться европейской.
XV. И дело уже начато. Литературные произведения
различных народов уже не имеют той печати частного,
исключительного вкуса, из-за которого они не могли полу¬
чить прав гражданства у других наций, разве что в испор¬
ченном или, как говорят, подправленном виде. Страсти сде¬
лались более духовными, идеи всеобщего порядка встре¬
чаются все чаще: перед разумом раскрылась неизмеримо
более обширная сфера. Несколько великих людей много
сделали для этого. Независимость мнений, глубина мысли,
чуткость сердца и величие души, воспитанной в долгих
странствиях и освященной страданием, могли бы сделать
Байрона примером европейского поэта, если бы клевета,
зависть и непонимание людей не повергли его в одиночест¬
во отчаяния, под влиянием которого он чаще изображал
сам себя, чем был выразителем человечества; но великая
душа всегда отражает образ вселенной и природы, и поэ¬
тому современники увенчали его лаврами и в родной стра¬
не и во всем мире, а плоды его вдохновения глубоко взвол¬
новали всю Европу. Энергия философского раздумья, не¬
123
ДЖ. МАЦЦИНИ
вероятная подвижность воображения и широта взглядов
делают Гёте величайшим умом эпохи, хотя борьба между
добром и злом, которую символизируют его создания, име¬
ет скорее идеологический, чем реальный характер, принад¬
лежит более прошлому, чем нынешнему периоду. И наш
Монти мог бы встать третьим рядом с этими двумя, если
бы глубина идей и постоянство души сравнялись в нем с
силою выражения и живостью образов. Но эти трое луч¬
ших поэтов равно вдохновлялись шедеврами всех наций,
равно улавливали прекрасное, где бы оно ни сияло, равно
наполняли свою поэзию вселенской гармонией.
Их воздействие было громадным. С небывалым усерди¬
ем началось изучение иностранных языков и литературы.
Этому помогают газеты, и во Франции и Англии сущест¬
вуют журналы, посвященные исключительно обозрению
иностранных событий. Переводы, путешествия сблизили
культуры, и в какой бы отдаленной части Европы ни раз¬
дался сегодня голос благородного чувства, он отзовется в
сердцах миллионов. Здание, воздвигнутое педантами на
античных воззрениях и мифах, распалось навсегда; попи¬
рая его развалины, кииящая жизнью и надеждами моло¬
дежь устремилась на поиски более великого и возвышен¬
ного идеала. На всем пространстве от Невы до Эбро это
стремление просвечивает в сочинениях многочисленных пи¬
сателей, которым отказано в праве говорить на языке ду¬
ши, и оно ярким светом сияет в песнях Делавиня, в мело¬
диях Томаса Мура, в драматических произведениях Мар¬
тинеса де ла Роса, в поэзии Никколини 19, подобно тому
как о потребности новой чистой веры и любви говорит по¬
эзия Ламартина, Гюго, Мандзони, Вордсворта, Уленшле-
гера и других. Даже в Испании, стране ныне отсталой,
свойственный ее народу вкус отступает перед вкусом более
всеобщим, чему свидетельство поэтические произведения
Мелендеса, Арруасы и Кинтаны20. Даже в России, стране,
недавно вышедшей из варварства, в поэзии Козлова, По¬
жарского и Пушкина слышится отзвук европейского дви¬
жения.
XVI. Почему же в Италии злобная нетерпимость и
праздная посредственность упорно продолжают преследо¬
вать всякого, кто хочет сделаться выразителем европейских
чаяний? И почему нам бросают убийственый упрек 2I, об¬
винение в том, что мы продаем отечество? — Отечество?
О, если бы в груди тех, кто бросает это нелепое обвинение,
124
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРЛТУРЁ
горело италийское пламя, снедающее нас, мы, возможно,
не сделались бы теперь праздными песнопевцами древней
славы, которую не умеем вернуть; возможно, имя итальян¬
ца не вызывало бы презрения или обидного сострадания в
песнях чужеземца 22. Нет, мы не хотим принизить Италию,
не стремимся обратить в рабство гений, внушивший Кано-
ве его «Граций», Россини — его бессмертные мелодии. Мы
хотим открыть ему простор для полета, показать чужой
прогресс и наше падение, направить его по новым тропам
к высокой и полезной цели. Уже давно Италия утратила
древнюю доблесть, давно лишена национального вкуса и
истинной литературы; мы пишем это с болью. Но когда
все так, зачем обманываться и жить прошлым? Нет, нико¬
гда славословия не вернут отечеству его величия, и мы не
станем менее ничтожными, если будем твердить слова са¬
модовольной гордости. Взглянем на вещи трезво! В погоне
за обманчивой тенью легко забыть о реальности. Возмож¬
но, в душе вы правы — но против вас многовековой опыт;
частная история наций кончается, начинается европейская
история, и Италии не пристало стоять в стороне от всеоб¬
щего движения. Италии нужно закалить свой вкус, а это
возможно лишь в раздумьях о сущности прекрасного — и
сущности этой не постичь, не сравнив всех многообразных
форм, которые принимало прекрасное в истории, и воздей¬
ствия, которое каждая из них оказывала на развитие духа.
Италии необходимо создать новую литературу, отражаю¬
щую во всех своих проявлениях единое, всеобщее и гармо¬
ническое начало, следуя которому человеческий род смо¬
жет шествовать к равновесию права и долга, способностей
и потребностей, а для создания такой литературы необхо¬
димо изучать все другие литературы, но не с тем, чтобы
подражать им, а чтобы со всеми ими сравниться; чтобы
изучить все формы, в которых природа открывает себя сво¬
им детям; чтобы узнать, сколько движений у сердца,
сколько источников у страсти, сколько созвучий в душе.
Так рука музыканта, перебирая струны арфы, пробует в
прелюдии разные тональности, проходит через все модуля¬
ции, пока не угадает ту, которая всего более способна вы¬
разить тайное чувство, волнующееся в груди. И мы чтим
волшебное имя Родины, и наше сердце улыбка итальян¬
ского неба наполняет тайной сладостью, и для нас свя¬
щенна память дедов — будь проклят, кто отречется от нее.
Но должны ли мы поэтому презирать все, что есть прекра¬
125
ДЖ. МАЦЦИНИ
сного и высокого за нашими пределами? Должно ли слово
истины стать для нас пустым звуком потому лишь, что эта
истина открыта под другим небом гением чужестранца?
Нет! Отбросим национальные предрассудки и скажем ве¬
ликим писателям всех народов и всех времен: «Придите!
Мы братски приветствуем вас; мы отдадим вам дань при¬
знательности и любви, ибо вы служили Вселенной. Ваш
гений переступил грань, которую физическая природа по¬
ставила племени людей. Ваша любовь к человеку переки¬
нула мост через пропасть, которую нетерпимость, обида и
ненависть, ее следствие, вырыли между детьми одной зем¬
ли. Вы сострадали всем: ваше сердце скорбело о несчасть¬
ях народов Юга не меньше, чем о страданиях Севера; не
было климата ни настолько холодного, чтобы он смог осту¬
дить в вашей груди жаркую любовь к человечеству, ни
настолько знойного, чтобы он мог усыпить вас сладостной
ленью. Вы обладали постоянством добродетели и энергией
свободы, ибо ваша душа не была запятнана мелкой за¬
вистью, эгоизмом, низкими страстями; вы стали граждана¬
ми земного шара. Поэтому мы приветствуем вас как
братьев. Придите! И у нас есть гении, дух свободы и люб¬
ви вдохновлял и нас на великие дела. Мы будем чтить
вас, как чтим своих дедов, ибо один и тот же луч божест¬
венной силы озаряет вас». Вот что мы говорим и всегда
будем говорить. Политическая независимость и нравствен¬
ное единство — вот что считаем мы вершиной цивилиза¬
ции. Окажется ли наш выбор благодетельным или гибель¬
ным для Италии, покажет время — время, которое спустя
три века устами иностранца оправдало нашего Макиавел¬
ли23, время, которое являет в следствиях достоинство при¬
чин.
XVII. Но каковы будут формы европейской литерату¬
ры? Каковы законы, нормы и принципы, которыми дол¬
жен направляться желающий возвыситься до нее талант?—
Не знаю. Там, где успех измеряется достигнутым воздей¬
ствием, принципы нельзя отделять от их воплощения. Нор¬
мы удушают гений. Самое большое, что вообще возможно
для него сделать, — это очистить, глубоко тронуть, зажечь
душу и предоставить ее затем свободному полету. Поэтому
я не знаю, какими и сколькими путями можно прийти к
духовному обновлению, но я знаю, что мир, в котором вра¬
щается литература, должны составить отныне явления
нравственной природы и внутренней жизни человека, фи¬
126
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
зическая же природа и внешний человек должны занять в
нем свое место символов и образов первых. Я знаю, что
предметом литературы должен стать социальный человек
в действии, то есть развитие его сил и способностей, на¬
правленное к единой цели; что развитие это определяется
силою и тенденцией немногих главных страстей, которые
переживаются ныне всеми, но по-разному; что задача ли¬
тературы — воспитывать эти страсти и указывать их цель.
Я знаю, что раскол между разумом и вдохновением не мо¬
жет более продолжаться; что мир раскроет свою тайну
лишь тому, в ком всего теснее соединятся обе эти силы; что
истинным европейским писателем будет философ, но с ли¬
рой поэта в руках. Я знаю, что вселенская гармония и
внутренняя сила, источник всякой жизни и движения, про¬
являются во всем, подобно тому как солнце отражается
целиком в каждой капле росы; что единый прообраз кра¬
соты действует во всем, повсюду одинаково трогая чело¬
веческое сердце, но что элементы его рассеяны во всей
природе и в душе каждого человека, где под действием ма¬
териальных интересов, пороков, привычек они придавлены,
задушены или причудливо преображены. И я знаю, что
лучшее средство уловить эту красоту — постоянное и вдум¬
чивое наблюдение природы, как она есть; вернейший путь
к ее действенному изображению — глубокое психологиче¬
ское и историческое изучение живых людей; а совершен¬
нейший храм для восприятия откровений истины — чистая,
искренняя, пылкая и неутомимая душа. Вот, как мне ка¬
жется, принципы, которые критика должна предложить
писателям; остальное гений довершит по своему разуме¬
нию.
XVIII. Юноши, жаждущие прогресса своих собратьев!
Человечество доверило вам важную миссию. Было время,
когда отечество передавало поэту все законы, всю религию
предков, говоря ему: «Храни это богатство в сердцах со¬
граждан; твой святой долг — любить лишь то, что заклю¬
чено в черте моих стен». Но сейчас поприщем вашей сла¬
вы является целый мир. — И к целому миру вы должны
обращаться. Каждый звук вашей цитры стал достоянием
человеческого рода, и стоит вам коснуться струны, как эхо
разнесется до последних пределов океана. Единый дух люб¬
ви говорит всем жителям этой нашей Европы, но неясно и
с неравной силой. Заблуждения долгих веков стерли пе¬
чать единства, но небесный голос Поэзии способен воссо¬
127
ДЖ. МАЦЦИНИ
единить разделенных братьев. Вы должны пробуждать и
повсюду распространять этот дух любви, должны разру¬
шить преграды, еще препятствующие согласию; вы долж¬
ны воспевать всеобщие чувства, вечные истины. Изучайте
же творения всех наций; кто знаком только с одной лите¬
ратурой, тот прочел лишь одну страницу книги, скрыва¬
ющей тайны гения. Сплотитесь в молчаливом союзе
со всеми, кто стонет под тяжестью тех же несчастий, кто
радуется тем же радостям, кто стремится к той же цели,
что и вы. Что нужды, если одним солнце посылает свои
лучи сквозь облака, а другим ярко сияет в небесной лазу¬
ри? У всех людей есть сердце, которое бьется чаще при
веянии красоты; у всех есть слезы сострадания и слова
утешения; и где человек, у кого не всколыхнется грудь при
слове «Свобода»? Вдохновляйтесь этими источниками; ва¬
ша поэзия станет голосом вселенной.
Пальма бессмертия высится в конце пути, простерше¬
гося перед вами: народы с любовью придут возложить ее
на гробницу человека, который первым сорвет ее, и Веч¬
ность напишет на мраморе надгробья: «Здесь покоится по¬
эт природы, благодетель человечества».
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
Статья I
I. Когда долгие и ожесточен¬
ные споры вокруг какой-либо идеи затихают и умолкают
в области ее первых начал и переходят на выводы и след¬
ствия, можно с уверенностью сказать, что день соглашения
близок и что триумф оспариваемой идеи неизбежен. Новая
идея не приходит в мир, не восстановив против себя всех,
кто состарился в прежних убеждениях или не обладает
врожденным мужеством, способным сломить предрассудки
порочного воспитания. Черпая силу по крайней мере в пра¬
ве давности владения, эти люди нападают на основания
новой идеи, пытаются задушить ее в главной сути, под¬
вергая первому и опаснейшему испытанию ее общий смысл.
Понеся в этих попытках поражение, противники берутся за
частности. Как войско, отброшенное от столицы, они остав¬
ляют главную идею, порождающий принцип, чтобы напасть
на второстепенные детали и следствия; правильная война
превращается в партизанские стычки, засады и облавы;
стараются извлечь выгоду из ошибок и преувеличений не¬
умелых сторонников нового или по крайней мере навязать
выгодное себе направление потоку, течение которого не
удается остановить. Это второе, более тягостное испыта¬
ние неослабно тянется до тех пор, пока наконец опыт,
многочисленные пробы и совершенные ошибки, закалив за¬
щитников новой идеи, научат их согласию и единству мы¬
сли.
II. В стране, где свои мнения скрывают или замалчи¬
вают и где подсчитать голоса невозможно, я не осмелюсь
утверждать, что спор о романтизме прошел первую ступень
испытания и что теперь для него началась вторая. Ясно
лишь, что те самые, кто всего несколько лет назад оспа¬
ривал способность века к действию и право писателей на
5-6342
129
ДЖ. МАЦЦИНИ
проведение всеми желанной реформы, сегодня ограничи¬
ваются уже критикой результатов этой реформы. Раньше
бились, чтобы доказать, что в литературе надо держаться
только античных образцов и канонов искусства, установ¬
ленных две тысячи лет назад греками, теперь бьются, ста¬
раясь показать вред подражания иностранцам или неудач-
ность отдельных попыток. Раньше подпирали здание лите¬
ратурного деспотизма, теперь оплакивают вреднейшие по¬
следствия анархии — как если бы рядом с анархией и ти¬
ранией не высилось спокойно и непоколебимо свободное
цапство разума. Говорят —и бесполезно — об уступках,
союзах, условиях, но никто уже не отрицает жгучей необ¬
ходимости омолодить обветшавшую литературу или, ско¬
рее, создать из старинных преданий и общих надежд но¬
вую; кто отвергает ее, вопиет в пустыне. Итак, война явно
перешла на новые рубежи. Какими путями осуществится
и достигнет цели своих усилий литературная реформа?
Сколь далеко распространятся ее результаты? Вот о чем
идет теперь спор. Если таково уже отношение к романтиз¬
му, то его успех более чем наполовину обеспечен. Свобода
и веротерпимость — его девиз, и потому надо не останав¬
ливаться на том или ином исключительном способе совер¬
шенствования, но умножать труды и с жаром братства ис¬
пытывать каждый новый путь. Впрочем, допущение основ¬
ной идеи только и было нужным, остальное придет со вре¬
менем. Споры не длятся вечно, и необходимость единения
так чувствуется всеми, что души не замедлят породниться.
III. Драма, существенная часть всякой литературы и,
возможно, прообраз литературы новой, самым ясным обра¬
зом отражает сказанное развитие воззрений. Кто теперь
хочет отнять у романтиков главную опору их веры? Спор
об аристотелевских единствах — ибо так они называются—
исчерпан письмом Мандзони к Шове *, и суд общественно¬
го мнения уже вынес свой окончательный приговор. За
малым исключением все согласно отвергают правило, пред¬
писывающее определенные и однообразные границы для
бесконечно различных по роду и обстоятельствам событий
и тем разрывающее или искажающее связь причин со сво¬
ими следствиями, нарушающее соответствие средств цели,
отвергающее историю и неизменные законы природы; все,
с необходимыми оговорками, согласны, что рамки времени
и места должны определяться характером предмета, что
единственно стоящее трудов правдоподобие есть та внут¬
130
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
ренняя, существенная правда, которая зависит от связи
частей события и от умения философски наблюдать дей¬
ствительность, и что воздействие картины в большой мере
заключено в ее цельности. Но до сих пор еще бушуют спо¬
ры о приложении всех этих принципов, о том, должен ли
поэт творить или лишь изображать, должен ли он перено¬
сить событие из истории в драму так, как оно есть, со
всеми особенностями, каковы бы они ни были, или же, от¬
бирая лишь те, что выходят из круга обыкновенной жиз¬
ни, всегда держаться определенного уровня возвышенно¬
сти и достоинства — словом, должны ли быть стержнем
драмы чувства или голая историческая реальность. Вопрос
этот связан с принципами высокой и всеобщей важности.
IV. Нет нужды доказывать, что так называемая «клас¬
сическая» драма XV ii и XVIII веков не имеет ничего исто¬
рического, кроме имен действующих лиц. Кто определит ее
как изображение крайней ступени какой-либо страсти в
идеальном существе, имеющем подобие исторического ли¬
ца, не удалится от истины. Никакого местного колорита,
никакого намека на нравы и обычаи реальной эпохи и
страны, никакой картины страстей, верований, пороков и
добродетелей людей этой страны; вместо всего этого —
общие изображения по большей части поддельных чувств
и переживаний, изысканная, напыщенная, очень часто пу¬
стая, изредка величественная иоэзия. Но поэт и не вдох¬
новлялся тогда историей, не ставил себе целью всеобщую
пользу; в одиночестве кабинета он придумывал сюжет, за¬
вязку, тот или иной план, а затем смотрел, не найдется ли
в истории народов факта, подходящего к его замыслу. По¬
тому почти все такие драмы приобретали привкус одно¬
образия, часто вырождавшегося в монотонность. Это бы¬
ли, если хотите, вариации, написанные на разные темы, но
одинаковые по модуляциям и стилю и заключенные в рав¬
ное число тактов.
V. Ход времени и рост цивилизации обнажили нищету
этого метода. Угасшее было пламя разума внезапно вновь
разгорелось; драматическая литература не могла одна ос¬
таться косной среди общего брожения. Ей надлежало быть
высоко национальной, свободной и народной, чтобы всей
своей силой неотразимо воздействовать на человеческие
множества,— она же была служанкой аристократического
барства, дипломатически обученной для развлечения силь¬
ных и знатных. Ей надлежало показывать жизнь челове¬
5*
131
ДЖ. МАЦЦИНИ
ческой души и тайны сердца во всем их бесконечном раз¬
нообразии и захватывающем величии — она же создавала
абстракции в лицах, а если решалась нарисовать дейст¬
вительного человека, то, удушаемая произвольными прави¬
лами и донельзя жалкой и ничтожной идеей единства, ри¬
совала его по частям и неполно, отражая всегда лишь одну
сторону человеческого многогранника. Все внимание со¬
средоточивалось на политических пороках. Пришел Аль-
фиери и возродил трагедию, заставив ее кричать и кор¬
читься в муках. Но это была разорвавшая тьму молния, а
не свет новой зари, обещающей прекрасный день; блеск ее
скорее явил нам глубину нашего падения, чем указал нам
путь к величию. Альфиери, родившийся аристократом и в
несвободной стране, двадцать шесть лет проведший в
праздности среди педагогов, умерщвлявших его дух, вы¬
нужденный затем подавлять все вольные силы своей души
в школьных филологических и грамматических занятиях,—
Альфиери, скажем это смело, ибо такова истина, неопро¬
вержимо встающая с каждой страницы его мемуаров, был
трагик более благодаря энергическому упорству воли, чем
в силу свободного вдохновения, и он не мог совершить у
нас полностью той реформы, которую ждала эпоха. Кто хо¬
чет сделаться преобразователем, нуждается в полном и
глубоком знании всех элементов, всех духовных богатств
и всех сил, из которых складывается культура его века и
его отечества. Альфиери, неутомимо изучавший книги и пи¬
сателей, принадлежавших к одной исключительной системе
литературы и цивилизации 2, смог угадать лишь ее нужды,
смог увидеть лишь внешнее. Родившись в эпоху, когда сти¬
хии итальянской культуры среди неблагоприятных обсто¬
ятельств находились еще в скрытом движении, возмущен¬
ный бездарностью и бессилием трусливых, ничтожных и
продажных литераторов, нетерпеливый по природе, мизант¬
роп из гордости, он шел по Италии, как по кладбищу, не
слыша тайного голоса, поднимавшегося среди кладбищен¬
ской тишины, не подозревая о существовании целой циви¬
лизации, которой недоставало лишь путей развития, не до¬
гадываясь об особых чертах нравственной жизни человече¬
ства в своем веке. И, однако же, увиденного и познанного
оказалось ему достаточно, чтобы убедиться, что вся скорбь
и вся надежда Италии сливаются в единое чувство; драма¬
тическая поэзия более, чем всякая другая, должна была
взывать к этому чувству, должна была будить его там, где
132
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
оно уснуло. Сильная и упорная работа одной-единствен-
ной мысли в сознании делает человека или безумцем, или
великим. Одной-единственной мыслью питался разум и би¬
лось сердце Альфиери — но это была благородная, вели¬
кодушная, возвышенная мысль, и она смогла доставить ему
славу гения. Пока над землею Италии будет сиять луч
солнца, она будет чтить в Альфиери человека, который
первым дал трагедии высокое предназначение, подняв ее из
ничтожества и сделав ее наставницей народа и вдохнови¬
тельницей великих дел. Но неужели нам суждено вечно
оскорблять память наших великих людей то безразличием
и забвением, то слепым и суеверным поклонением? Сего¬
дня слава Альфиери слишком прочно утвердилась, чтобы
внукам приходилось унижаться, поддерживая ее ложью.
Люди, живущие обманом и подозрением, обвинят нас, воз¬
можно, в недостаточной преданности родине за то, что мы
не считаем долгом любящего сына лесть, но от этого не
станет менее верным, что Альфиери, утвердив принцип ре¬
формы, не смог приложить его. Ступень развития цивили¬
зации, на которой стояла Италия в его эпоху, осталась им
незамеченной; век казался ему от природы изверившимся,
и он задумал возродить его страхом, не любовью. Не эдем
свободного человека рисует он нам, но ад раба, и из ужаса
перед тиранией мы поневоле бросаемся в объятия свобо¬
ды. Альфиери стремится к своей цели, не обогащая ум и
сердце красноречивой картиной вселенной, не возбуждая
в нашей душе представления о достоинстве и предназна¬
чении человека — нет, он иссушает в нас все источники
чувства и действия, чтобы оставить нам лишь одну страсть,
неутомимую, бурную, жгучую ненависть к угнетателям.
Пренебрегая народными множествами из сознания своего
превосходства, из недостатка наблюдательности, возмож¬
но, также и в силу своего происхождения, он совершенно
изгнал народ из своих драм и сосредоточил все внимание
и весь интерес на немногих героях, символах своей мысли.
Побочный сюжет, наперсники, аксессуар, словом, все внеш¬
ние украшения и завитушки, которыми французская школа
наполнила трагедию, исчезают в его произведениях без ма¬
лейшего намека на замену. Оттого какая-то тяжесть гне¬
тет душу зрителя, как если бы он слышал призыв к свобо¬
де, томясь в тесной темнице. И отсюда гнев, верный и
единственный результат его драм; а гнев, когда он не зна¬
ет цели и путей ее достижения, в большинстве случаев
133
ДЖ. МАЦЦИНИ
способен лишь на страшную, но бессмысленную месть.
Альфиери воздвиг монумент из кинжалов, колодок и кост¬
ров, веками мучивших человеческий род, и его мощная ру¬
ка начертала на нем огненными знаками «СВОБОДА» —
как писали на тюрьмах генуэзцы. Но это слово, простое и
точное в своем первоначальном значении, получает у лю¬
дей разные толкования, разные формы и разный почет,
смотря по духовным и нравственным условиям эпохи. Аль¬
фиери думал вернуть нас к дням, возможно, и лучшим, но
безвозвратно ушедшим. Кажется, что все эти сцены напи¬
саны для представления на форуме или во дворце первых
римских императоров, и лишь некоторые штрихи напоми¬
нают вам, что дело идет о менее строгой и суровой свобо¬
де, о тирании пусть не менее мучительной, но более низкой
и хитрой в сравнении с древней, великодушно-жестокой.
Современная цивилизация, разноликая, бурная, полная
жизни, но верная себе, многоразличная в средствах, но по¬
стоянная в выборе пути, богатая противоречивыми идеями,
но единая в основной концепции и в цели своих стремле¬
ний, не была или лишь изредка и случайно была пред¬
ставлена в его драмах. И эта неистовая страсть независи¬
мости, это обнаженное, неопределенное, вневременное, не
имеющее характерных черт, в любую эпоху, в любых об¬
стоятельствах неизменное пламя свободы являлось поэтому
у Альфиери все же в виде фантастического идеала, в виде
отвлеченной теории, приобретало видимость декламации и
открывало себя для нападок людей низких и злобных.
VI. Начатое им дело замерло; почему — поняли те, кто
увидел, что, как в любом другом роде литературы, в тра¬
гедии содержание и форма должны прийти в согласие и
равновесие. Эти люди поняли, что когда расширяется со¬
держание, необходимо раздвинуть пределы и формы, чтобы
не вызвать противоречия, от которого страдает по крайней
мере действенность драмы. Они поняли, что идеал — пусть
даже великолепно выраженный — успешно воздействует
лишь тогда, когда в нем превозносятся стойкие и уже проч¬
но укоренившиеся страсти, но сила страстей дана немно¬
гим, и множества охотнее следуют логике фактов и живому
красноречию примера. Поэтому следовало ближе держать¬
ся истории, тем более что в годы, когда к истории обра¬
тился всеобщий интерес, сеять противоречия между раз¬
личными ветвями литературы неизбежно значило вызы¬
вать промедление и нерешительность. К тому же дело ис¬
134
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
тины слишком прекрасно, свято и верно, чтобы защитники
его должны были ограничиться отвлеченными типами: оно
постоянно подтверждалось фактами, а не одними лишь
идеями. Каждый народ хранил в своей памяти целый курс
исторических лекций, стоило лишь раскрыть его страни¬
цы. — Родился Мандзони, и с ним итальянская историче¬
ская драма. Конечно, этот жанр сочинений не был нов в
Европе. Шекспир и Шиллер обеспечили ему права граж¬
данства в Англии и Германии, но этим великим поэтам тре¬
бовалось лишь преодолеть присущие самому жанру пре¬
пятствия, тогда как против начинания Мандзони стояли
литераторы, академии, журналы, прочно внедрившиеся
предрассудки, вполне оправданные обстоятельствами стра¬
хи, высокомерие, зависть и интриги, ни в одной земле — я
краснею от стыда, говоря об этом, — не распускавшиеся
таким цветом, как в несчастнейшей нашей стране, более
всех других испытывающей настоятельную потребность в
братстве и верности.
VII. Человеческой природе свойственно, по-видимому,
чтобы идеи доводились сперва до крайности, а затем воз¬
вращались в свою истинную меру. Путать крайность прин¬
ципа с самим принципом — безрассудство, часто столь же
обычное среди его противников, сколь среди защитни¬
ков. Одни опасаются, что первое же следствие увлечет их,
куда они не желают, и потому упрямо отвергают весь
принцип, или же, для удобства спора поставив вместо
принципа его крайнее следствие, убеждают себя затем, что
сам принцип и это его крайнее следствие — одно и то же.
Другие, возможно, в раздражении от необходимости в бес¬
численных стычках отвоевывать каждую строку в сути сво¬
ей верного положения, спешат без долгих слов потребо¬
вать принятия крайнего вывода, ибо, как только им это
удастся, все промежуточные условия будут тем самым от¬
воеваны. Так сомнение одних и нетерпение других ежечас¬
но запутывают дело и отрезают пути к примирению.
VIII. И противники и защитники исторической драмы,
за малым исключением, безнадежно потерялись в этом бес¬
смысленном споре — с каким ущербом для литературы,
для Италии, бредущей от сомнения к сомнению, так и не
достигая твердости в вере, ясно без слов.
Одни неустанно твердят: «Чувство — душа драмы; во¬
ображение царит в ней, окрашивая в свои краски дейст¬
вительный мир. Мы ждем от театра не показа личности или
135
ДЖ. МАЦЦИНИ
события со всеми их случайностями и противоречиями, но
картины одной возвышенной страсти, черты которой все¬
общи. Ищите трагические образы в своей душе; приведите
свой замысел в соответствие с нормой великого, единооб¬
разного, неизменного, превосходящего сферу человеческой
действительности идеала, завещанного вам древними.
Жизнь, как она есть, не заслуживает подражания; и при¬
рода дана поэту, чтобы он исправлял, перестраивал, до¬
вершал ее по своей воле. Пусть ваш язык, ваш стих, ваши
образы помогут вам подняться над действительностью и
над частностью к идеалу * и абстракции. Никогда не от¬
ступайте от того стиля и порядка идей, который был вами
первоначально избран — иначе мы осудим вас за оскорб¬
ление драматического достоинства. Не ставьте перед собою
прямой нравственной цели: всякая определенная цель уби¬
вает поэзию и свободный гений писателя. Пытайтесь за¬
тронуть чувства; удастся ли вам этого достичь за счет ис¬
тины и в ущерб истории, неважно; оставайтесь лишь в пре¬
делах, завещанных отцом Аристотелем и его последовате¬
лями, и мы провозгласим вас поэтами». Другие отважно
отвечают: «Неправда, что чувство и переживание — осно¬
ва драматического искусства; неверно, что вся задача по¬
эта — разбудить чувство. Жизнь драмы покоится в истине;
дело писателя — в целом и чистом виде представить эту
истину внимающим народам. «Идеал» есть нелепость; это
попытка найти замену истине, когда не хватает знания лю¬
дей и природы, чтобы найти истину в них. Истина в дейст¬
вительном: то, что есть, и то, что было,— вот ваша об¬
ласть. Воображение — смертельный враг нравственности и
действенности, отрекитесь от него. Вот вам летописи и то¬
ма истории; истина на их страницах. Отыщите ее и пере-
* Несколько лет спустя, сделавшись разборчивее в своих выражениях, я бы
уже не уступил «классицистам», с которыми хотел тогда спорить, этого слова
«идеал»: я бы отказал им в каком бы то ни было праве употреблять его. В их
драмах либо не было идеала, либо он был скопирован с идеала иной, отжившей
эпохи. Идеал есть высшее и священное назначение искусства, как и всякого дру¬
гого проявления жизни, и наша общая задача — разглядеть все, что есть в фак¬
тической реальности от идеала, и помочь другим узнать его и преклониться пе¬
ред ним. Но этот идеал, который мы ищем, есть истина, вечная, верховная ис¬
тина, закон, управляющий судьбами человечества, идея бога, который есть душа
вселенной; а в таком значении это слово было совершенно неизвестно «класси¬
цистам»: то, что они называли идеальным в противоположность действительно>
му, было отвлеченной, произвольной идеей одной личности или одной школы,
отрицавшей всякий прогресс (1861).
136
ОБ ИСТОРИЧЕСКОИ ДРАМЕ
несите в свои драмы, украсив чувством и поэзией. История
широкими мазками запечатлевает следы страстей, она со¬
держит их материальное выражение; вы же дайте их поэти¬
ческое выражение, опишите нам их тайную сущность, пи¬
тающую их внутреннюю жизнь, выпукло нарисуйте исто¬
ки событий, сокрытые в человеческих чувствах,— но ни ша¬
гу более. Все связано отношениями причины и следствия;
событие, которое вы избираете для представления, есть
гармоническое целое, где ничего нельзя прибавить или уба¬
вить, не изменив при этом его природы. Следствия строго
определены причинами; каждая случайность в событии
изменяет результат, каждое обстоятельство толкает колесо
главного события. Вы не можете поэтому ничего отсечь
или изменить в истории, не нарушив этим связь результа¬
тов со своими причинами, не можете ничего привнести от
себя, не оказавшись перед необходимостью изменить всю
сумму следствий или дать ложное представление о дейст¬
вии сил и законов природы. Итак, не выходите из границ
действительного, чтобы не впасть в ложь; заполните своим
словом молчание истории, но преданно и тщательно сохра¬
ните в целости область фактов».
Так они спорят — на мой взгляд, равно плохо, огра¬
ниченно, нетерпимо и упрямо и те и другие; разве что, ес¬
ли одни впадают в ошибку добровольно и прямо, другие
опираются на бесспорнейший принцип, чтобы извлечь из
него опрометчивые выводы.
IX. Первым тысячи раз говорилось, что век устал блуж¬
дать во лжи и жаждет истины — что в реальном человеке
больше поэзии и драматизма, чем в абстрактных типах,
что движения сердца, не направленные на действие, не
идущие от доброго чувства, но вызванные внезапно и бес¬
цельно представлением персонажей, у которых нет и не
может быть действительной жизни, проходят бесследно,
как молнии летней ночью в песчаной пустыне. Им говори¬
лось: к чему «идеал», когда со всех сторон нас давит, тес¬
нит и волнует действительность? Печать божественного
единства лежит на собрании различных страстей и способ¬
ностей, составляющих человека; природа являет свои тай¬
ны и свои истины в откровении событий — а вы, почему
вы хотите показать себя мудрее бога и природы? Вы на¬
деетесь украсить ее и разбиваете ее на осколки; вы бере¬
тесь объяснить загадку человека и рассекаете его на гра¬
ни, как кристалл; вы устремляете весь поток света на одну
137
ДЖ. МАЦЦИНИ
точку огромной поверхности и оставляете во мраке все ос¬
тальное. Но природа — ревнивое и своевластное божество.
Всегда прекрасная, богатая и красноречивая в своих диссо¬
нансах и контрастах, она умолкает и прячется от того, кто
хочет осквернить ее своим вмешательством. Каким бы ни
представлялся нам человек, он целостен: единый принцип,
одна идея господствует обычно во всем его существе, на¬
правляя бег его жизни; но тысячи несообразностей, тысячи
несоответствий, тысячи кажущихся противоречий встают
перед тем, кто глядит на него поверхностно. Шекспиров¬
ский Гамлет есть, говоря вообще, человеческий тип в аб¬
стракции. Составленный из тысячи различных и противо¬
борствующих чувств, непоследовательный и странный в по¬
ступках, колеблющийся между двумя идеями, одной вели¬
кой и другой низкой, он неверным шагом идет к своему
несчастному концу. Но каким полным и правдивым выхо¬
дит из-под пера мастера этот характер, за который не решил¬
ся бы взяться ни один из наших классицистов! Нравствен¬
ность и сила описания в том и заключаются, чтобы тайна
человеческого существа, показанного во всей его широте,
обнаруживала цельность в различии: ту цельность, благо¬
даря которой вся жизнь личности становится проявлением
скрытой и всемогущей идеи, — ту цельность, благодаря
которой каждый жест, каждое слово, каждый поступок
выдает частицу человеческой души, ту цельность, кото¬
рая есть в Кромвеле и Бонапарте, равно как в Франклине
и Вашингтоне. Необходимо найти общий источник, средо¬
точие, к которому сходятся все разрозненные или внешне
противоречивые страсти; необходимо — употребим подхо¬
дящее для нашей цели выражение — привести дроби к об¬
щему знаменателю. Но кто, оставив правду жизни, пуска¬
ется в «идеальное» и отвлеченное, тот рубит, а не развя¬
зывает гордиев узел; кто упрямо рисует человека в одной
лишь его страсти, в одном из его ликов, подобен тем рас-
капывателям древностей, что упиваются зрелищем своих
обломков. Утверждают, что классическая трагедия труднее
исторической; даже если это так, я не вижу здесь причины
для предпочтения. Да еще и неизвестно, тяжелее ли труд
ритора, чем труд историка, сложнее ли для ума создать
произвольный образец, чем истолковать исторические со¬
бытия и объяснить таящийся в них скрытый смысл; не бо¬
лее ли редкостна, наконец, способность сочетать трагиче¬
ское с комическим и не сбиться с пути, странствуя по бес-
138
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
конечности, чем умение держаться внутри заданного тона
и в ограниченных пределах. Впрочем, всеобщее чаяние ве¬
ка, требующее единства от литературы, претендующей на
жизненность, стало теперь уже достаточным ответом на
доводы «идеалистов».
X. Иное дело вторые. Откликаясь на это чаяние и вы¬
ступая решительными последователями бесспорнейших
принципов, они заслуживают более тщательного и строгого
внимания критика. Несомненно: историческая школа, как
понимают ее сегодня все в Италии, — лучшая из двух. Не
говоря о нравственной стороне и об отличающей эту шко¬
лу близости к тенденциям века, она по крайней мере нова
и уже поэтому более способна разбудить мысль и чувство
в душе, омертвевшей от долгого и однообразного воздей¬
ствия старых стимулов. Но в то же время, как всякая
новая система, пришедшая сменить прежнюю, она нетерпи¬
ма и неумеренна в своих выводах. Если для того, чтобы
стать подлинно романтической, драма должна опасливо
плестись в хвосте у истории, если поэт из страха исказить
истину обязан во всем отречься от самого себя и своего
гения, то новая драма станет одной нескончаемой и смер¬
тельной войной между исторической правдой, действитель¬
ными фактами, и вдохновением поэта. Меж тем только от
гармонии, от совершенного равновесия этих двух источни¬
ков поэзии можем мы ожидать великих результатов. В ли¬
тературе, как везде и во всем, ограниченность есть ошиб¬
ка, эклектизм * — истина.
XI. Что факт есть единство, в котором взаимно перепле¬
тается исходное и случайное, причины и следствия, — не¬
возможно отрицать. Что исторически реальные обстоятель¬
ства заключают в себе необходимость события, другими
словами, что основание факта скрыто в способе существо¬
вания самого факта, есть также бесспорная истина. Одна¬
ко сколь далеко пойдем мы с выводами из этого принципа?
Если до последней крайности, то вопрос решится сам со¬
бою: поскольку связь между сторонами явления и воздей¬
ствие одной из них на другую универсальны, непреложны
и теряются в бесконечности, то ни одно самое ничтожное
обстоятельство не уступает по важности любому другому:
* Не употребил бы я несколько лет спустя, лучше поняв его значение, и это¬
го слова «эклектизм». Тогда оно означало для меня лишь широту и терпимость
воззрений (1861).
139
ДЖ. МАЦЦИНИ
все они, каким бы ни было их внешнее значение, оказыва¬
ются тончайшими кольцами, из которых нельзя убрать ни
одного, не разорвав цепи; и каждое событие становится
тогда подобием машины, в которой изъятие мельчайшей
части или добавление ничтожной детали нарушает ход и
работу. Однако скажем ли мы, что драма должна удов¬
летвориться ролью летописи в форме диалога, и не при¬
знаем ли, скорее, что принцип, выводы которого душат та¬
лант и иссушают вдохновение, едва ли может служить ос¬
нованием искусства столь поэтического? Драма, не надо
забывать об этом, есть в первую очередь поэзия, а поэзия
и не отвергает необходимого сцепления событий, но и не
живет одной голой реальностью: с высоты взирая на дела
земли, она делает их своим предметом, но питается в пер¬
вую очередь свободным вдохновением и присущим одной
ей изначальным, неповторимым и вечным огнем. Это ры¬
чаг, который, обходя предмет за предметом весь круг дей¬
ствительности, всегда твердо и неизменно покоится в своей
точке опоры — в сердце; это озеро, зеркало которого от¬
ражает окружающие холмы и леса тем вернее и отчетли¬
вее, чем чище и спокойнее его гладь. Дочь неба и гения,
поэзия касается земли так же, как, не смешиваясь и не ра¬
створяясь, касаются друг друга на горизонте земля и небо.
Прекрасное более живо в ней, чем во внешней природе3;
человеческая душа — вот сияющее в каждом ее стихе
солнце, от которого повсюду разливается, обнимая вселен¬
ную и оживляя ее прекрасными цветами, свет, раскрываю¬
щий тот элемент поэзии, что прячется в каждом предмете
действительности. Но отнимите точку опоры у этого рыча¬
га, нарушьте покой этого озера, ежеминутно бросая в него
материальные предметы, погасите свет души и сдержите
разум в его порыве, силой заставив его вечно влачиться в
пределах темной, немой, бессвязной действительности —
чего вы добьетесь? Гармония, сила, жизнь растают дымом
под гнетом рабства, возможно, менее дикого и несправед¬
ливого, чем старое, но ведь всякое рабство — смерть ге¬
ния. Поэт, задушенный фактами, леденящим правдоподо¬
биемвынужденный биться в конечных и ограниченных
пределах, оставит свой трон ради механического ремесла
переводчика, и мы получим холодную и ничтожную копию,
которой суждено будет к тому же остаться неоконченной,
ибо история никогда не являет цельного и совершенного
драматического действия и нельзя, не нарушив поэтично-
140
ОБ ИСТОРИЧЕСКОП ДРАМЕ
сти, ввести все стороны исторического события в пропор¬
ции, приличествующие поэзии и театральному искусству.
Чтобы заставить действительно ожить исторические персо¬
нажи, надо воссоздать их; надо, чтобы поэт, как ангел воз¬
рождения, вызвал их из праха и вдохнул в них новую ду¬
шу — душу гения, который вместе с ними возрождает те
силы и страсти, что тайно кипели в их груди, и начертыва-
ет на их челе их тайну. Где этого нет, там фигуры будут
подобны трупам, вызванным к движению силой гальваниз¬
ма, но хранящим запах могилы; они придут на пир жизни
холодные, бледные, немые, как тень Банко за столом Мак¬
бета 4. Неужели это все, что мы вправе ждать от первенца
природы?
XII. Или я обманываюсь, или воззрение, обрекающее
драматического поэта на пользование одним лишь истори¬
ческим реквизитом, если только оно удержится надолго,
повергнет умы в растерянность. Беспредельное и педанти¬
ческое почитание часто превращается в скепсис, ибо у лю¬
дей, слепо и неосторожно уверовавших в какое-либо мне¬
ние, при малейшем сомнении происходит полная смена
убеждений. Это случится и со сторонниками строгой исто¬
ричности, когда они, рано или поздно, увидят, что история
не дает полной и верной картины событий. События про¬
исходили, бесконечно переплетаясь друг с другом, допуская
тысячи различных толкований, следуя тысячам тайных при¬
чин, но кто из историков знает или скажет, как и по ка¬
кому закону? Летописцы всего лишь люди: описывая со¬
временные им события, они подвержены ослепляющему или
искажающему влиянию предрассудков и партийных инте¬
ресов; описывая прошедшие, они вынуждены пользоваться
отрывочными воспоминаниями или неверными отголосками
преданий, а всякое предание есть не что иное, как перевод
с перевода. Наконец, и в том и в другом случае они не
знают множества подробностей; у них нет философского
подхода к фактам, они неопытны в заключении об истин¬
ных элементах событий по их следствиям. Они описывают
события изо дня в день, из месяца в месяц в календарном
порядке, смешивая частные дела с общественными, преры¬
вая рассказ о государственных переменах обстоятельства¬
ми, касающимися своих монастырей, ремесленных цехов,
наконец, домашнего круга, даже не подозревая, что факты
определенного порядка подтверждают и изъясняют друг
друга и что, замалчивая или разъединяя их, они сгущают
141
ДЖ. МАЦЦИНИ
мрак для своих правнуков. Дети и воспитанники эпох гру¬
бых, простых и бурных, они были подвержены всем энту¬
зиастическим увлечениям, всем страхам и фантазиям во¬
шедшей в их плоть суеверной религии, и потому они не от¬
вергали чудесного и часто, как античные трагики, призы¬
вали вмешательство сверхъестественной силы, чтобы раз¬
рубить гордиев узел событий. Если к этим источникам
ошибок прибавить еще и бушевавшие в те века сектант¬
ские страсти, под влиянием которых каждый писатель де¬
лался в большей или меньшей степени рабом какого-либо
одного знамени, приниженное положение большинства хро¬
нистов, редкие, ненадежные и чреватые опасностями сно¬
шения между городами — то кому придет в голову, кто
сможет, бездумно копируя эти записки, воскликнуть: «Вот
в точности, как они были, события, природой назначенные
служить нам глубоким уроком!» Не мне проповедовать тот
исторический скептицизм, который некоторые умы XVIII ве¬
ка вывели из разрозненных наблюдений, тщеславно гор¬
дясь своей философской системой 5. Но если мы посмотрим,
как трудно добиться ясности даже в отношении самых не¬
давних и значительных событий, сколь сильное влияние
оказывают темные, простонародные верования на истори¬
ков, как увековечивает ошибки безумное низкопоклонни¬
чество, а с другой стороны, как часто противоречивы в ис¬
торических книгах свидетельства об одном и том же фак¬
те, когда расхождения встречаются иногда на одной и той
же странице, — то придем к одному непоколебимому убеж¬
дению: всякая история суха и ненадежна, если она не ис¬
толкована и не воссоздана философией. Даже при макси¬
мальной точности хронистов кто может, не прибегая к до¬
гадкам, описать слова, жесты, поведение, намерения исто¬
рических лиц, что составляет столь важную долю событий?
Кто отгадает, не овладев методом заключений и анало¬
гий? И кто овладеет им, не применив к самой истории об¬
щих правил и закономерностей, выведенных с помощью
философии из отвлеченного исследования человека и его
души?
XIII. Узость и ограниченность в рассмотрении истори¬
ческих явлений есть остаток слепого поклонения, с каким
мы относились и до сих пор относимся к прошлому. Умом
мы долго были рабы, и одного призыва к свободе недоста¬
точно, чтобы искупить вину веков. Рабские привычки въе¬
лись в нас и заставляют нас кадить то одному, то другому
142
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
идолу, лепеча слова о независимости. Потому-то на место
подражаний древним пришло подражание современникам,
и новые ограниченные системы пришли на смену старым.
Потому-то средства драматического искусства продолжают
втискивать в узкие рамки заранее определенной сферы: от¬
бросив идеальное, ставят на его место действительное и
делают оракулом истины хрониста.
Пришла пора подняться к более широким и возвышен¬
ным взглядам. Суеверная и мелочная вера в исторический
факт изжила себя; мы созрели для веры в принципы. До
сих пор мы бродили, как антикварии, среди развалин про¬
шлых веков, откапывая редкие камни и разрозненные па¬
мятники. Теперь находок и открытий накопилось достаточ¬
но, чтобы посреди них возжечь светильник философии. Не
для того рождаются новые поколения, чтобы повторять ра¬
боту старых. Мысль, нравственный закон вселенной — про¬
гресс; поколение, прошедшее по лицу земли без трудов, не
продвинув на шаг вперед работу совершенствования, не
найдет себе места в анналах человечества: новые поколе¬
ния растопчут его, как путник попирает прах под ногами.
У каждой эпохи есть свое служение — теперешняя откры¬
ла перед нами путь к всеобщности (al generale), к единст¬
венно важной, однородной европейской всеобщности. До
сих пор шел сбор фактов; они выстраивались во времен¬
ном порядке или упорядочивались в группы согласно раз¬
розненным наблюдениям эпохи, периода, народа. Просле¬
живалась действительная связь между естественно группи¬
рующимися фактами, но никто не смотрел, связана ли выс¬
шей связью одна их группа с другой. Делались лишь част¬
ные заключения, словом, изучались арифметика, геометрия
науки. Теперь пришло время основать всеобщую алгебру
ее. Установить последовательность общих формул движе¬
ния разума, найти способ проверять их историей, прило¬
жить их к различным областям науки — вот работа, вот
миссия XIX и последующих веков.
XIV. Но можем ли мы выполнить эту миссию, представ¬
ляя лишь голую историческую реальность? Исповедуя ма¬
териализм фактов? Что такое факт, если он взят изолиро¬
ванно и сам по себе? Это цветок в поле истины; мы можем
насладиться им, опьяниться на момент его ароматом,
вплести его в косы красавицы. Но этот аромат недолгове¬
чен; сегодня цветок встречает солнце во всем великолепии
своих красок, солнце следующего дня освещает лишь го-
143
ДЖ. МАЦЦИНИ
лый поблеклый стебель. Факты были, факты есть, факты
будут — но мы должны использовать их, как геометр ис¬
пользует три точки, строя по ним полную окружность. Со¬
ставленные из двух сторон, одной внутренней, разумной
(razionale), непреложной, другой внешней, материальной,
случайной, факты суть порождения единых законов, но
они лишены очевидной связи; они подобны костям окаме¬
нелостей, сохранившимся от потопа веков, по которым гео¬
лог восстанавливает и очерчивает целый скелет; это кирпичи
здания, которое мы должны отстроить, рассеянные обрыв¬
ки пророчества, которое природа, подобно Сивилле, раз¬
брасывает перед нами, чтобы мы смогли, складывая их,
вывести вечные управляющие ею законы. Вот в чем истин¬
ная польза фактов, вот возвышенная точка, с которой мы
должны их рассматривать.
XV. Но возможно, это труд, который надо целиком оста¬
вить философии; возможно, природа и форма поэтического
языка не могут служить глубоким философским раздумь¬
ям, выражению высоких всеобщих истин?
Так мы впадаем в старое заблуждение, предписываю¬
щее поэзии развлекать, не просвещая, и изгоняющее ее
из вселенной (universo), ее царства. К чему тогда громкие
слова о поэтической реформе? И зачем обманываться пыш¬
ной видимостью свободы, когда произошла всего лишь сме¬
на тирании? Как! Вы возмущаетесь тем, как профанирует
искусство Гомера и Данте толпа аркадцев и классицистов,
превращающих его в музыку без мысли и отзвука — а сами
заточаете его в плен действительности, низводите его до
положения бездушной копии, тени простых чувственных
фактов. Вы напыщенно именуете свою деятельность воз¬
рождением, но поэзия в наше время может возродиться,
лишь поднявшись до высот философии, жизни, средоточия
и тайны современной цивилизации. Я слышу, как те, что
видят существо поэзии в мечтах воображения и в фантази¬
ях чуждой положительного мира души, жалуются, что раз¬
витие науки и промышленности лишает век поэзии, иссу¬
шая ее источники, и, ставя на первое место расчет, обруба¬
ет ветви великого дерева, которое античность, менее иску¬
шенная в законах природы, населила иллюзиями и мечта¬
ми. Пусть имя Байрона будет для них ответом. Пока в не¬
бе еще останется солнце, в глазах слезы и в женщине кра¬
сота, пока надежда внушает человеку, что он рожден для
лучшего, пока эта надежда рождает подвижников, поэзия
144
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
будет законом человечества. Природа сделала наше серд¬
це поэтом, и заставить его умолкнуть не сможет ничто,
кроме религии бессилия и душевного рабства; но век Бо¬
напарта и греческой свободы — конечно уж, не век бесси¬
лия и немого рабства. В этих трех именах — Байрон, Бо¬
напарт, Греция — достанет поэзии на десять поколений,
ибо великие сердца, мощные умы, сильные души суть обе¬
щания новых талантов, новых героев, новых благородных
борцов. Поэтому у нас будут поэты. Возможно, они будут
являться реже; возможно, прогресс цивилизации откроет
другие пути самовыражения для посредственности — зато
поэты будут тем возвышеннее, что один лишь гений смо¬
жет вступать на это беспредельное и действеннейшее по¬
прище мысли. Но если мы возмутим источник поэзии, из¬
гнав ее из высоких областей философии, ограничив ее дейст¬
вительным, отняв у нее независимость; если мы, признавая в
поэте вдохновенного избранника небес, дитя гения, законо¬
дателя душ, все же скажем ему: «Стой, даже если природа
бесчисленными своими голосами повелит тебе: <гЛети, ты
царь мира»,— стой и не отступай от фактов»,— то погибла
надежда на воскресение, и итальянский мир никогда не бу¬
дет иметь поэзии. Вопросите гробницы тех немногих поэти¬
ческих гениев, что парят над эпохами, почему они велики
в веках и народах? — они ответят из своих могил: «Мы
были великими, потому что мы творили; философия есть
творчество человечества, и мы углубились в ее тайны; но
философия говорит загадочно и сурово в аксиомах и прин¬
ципах, которые питают разум немногих, рожденных мыс¬
лить, и отталкивают массу, рожденную чувствовать, и по¬
тому мы облекли ее в притягательные и прекрасные фор¬
мы, чтобы смертные с любовью приняли ее. Мы изучали
людей, характеры, события, ибо в действительном всегда
сокрыта истина и самый высший довод для человека —
пример; но мы глядели на них с вышины, лия на них свет
гения, и были как бы толкователями вселенских законов,
движущих событиями человечества. Народные множества
познают сердцем; изучайте же ведущие к этому пути, изу¬
чайте чувственный мир, чтобы вывести из него нравствен¬
ный; найдите среди явного тайное, затем откройте на поль¬
зу людям найденное вами; только тогда вы сделаетесь ве¬
ликими, как мы».
XVI. И только тогда будет у нас драма, равно как и
всякая поэзия. Вся литература, по существу, едина в своих
145
ДЖ. МАЦЦИНИ
основаниях и в своем назначении; разделение жанров соз¬
дано разнообразием средств искусства и разносторон¬
ностью души, все свойства которой ищут применения, раз¬
вития, внимания. Верное само по себе, это разделение сде¬
лалось вредным, когда дробление дошло до бесконечности,
и педанты приписали каждому жанру особые законы и не¬
преодолимые пределы. В литературе, как в государстве, ча¬
сти соприкасаются, поскольку сходятся все к одному цент¬
ру, хотя обязанности их различны, более или менее важны,
более или менее непосредственны, более или менее обще¬
доступны. Есть части, работа которых почти материальна,
тогда как другим доверен духовный труд; одни заняты со¬
биранием элементов картины, другие показывают их раз¬
деление, третьи из бесчисленных наблюдений над всеми
веками выводят общие и непреложные законы, четвертые
должны представлять их на суд нации, ради которой —
все науки и всякое законодательство; и здесь должно дей¬
ствовать, по-видимому, лишь то чисто экономическое пра¬
вило, которое предписывает не умножать служб без нужды
и не вменять различным литературным жанрам одни и те
же задачи. Есть история; она накопляет сведения, запо¬
минает имена и поступки людей, затем предоставляет весь
этот материал работе человеческого разума. Драма, соз¬
дание глубоко философское, тем сильнее впечатляет души,
чем выше действенность театрального представления по
сравнению с описанием, а честь прямого общения с наро¬
дом драма разделяет разве лишь с ораторским искусством.
Отсюда неотделимая от нее идея совершенствования, опро¬
щения, высокого жизненного долга. Понимаешь, что драма
выше, чем история, воспаряет над человеческими судьба¬
ми и над загадкой существования; понимаешь, что драма¬
тическому поэту дано обнажить скрытую стихию явлений,
преподать сокровенный урок, заключенный в каждом ря¬
де событий; понимаешь, наконец, что если история по-
казывает нам в первую очередь внешнее лицо чувственно¬
го мира, то дело драмы — явить идеал в его символе и ос¬
ветить нас отблеском нравственного мира.
XVII. Таким образом, система, кладущая в основу дра¬
мы историческую реальность, узка, недейственна, неполна.
Основанием этой важной части литературы может быть
лишь принцип; история же не есть принцип, но, скорее, вы¬
ражение, приложение принципа, комментарий к нему: это
ряд опытов, подтверждающих истинность принципа, это
146
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
собрание судебных приговоров, сделанных во исполнение
закона, и уже потому это не сам закон, да и не может та¬
ковым быть. Итак, следует подняться выше, чтобы найти
этот закон, этот руководящий драмою принцип.
Куда же?
Статья II
...# искушаю
Лишь истиной.— Люцифер.
«Каин», Байрон*
XVIII. Вселенная концентрич-
на. В области физического, как и в области нравственного,
Единство есть необходимый, непреложный, первый закон.
Несколько общих начал правят гармонией чувственного ми¬
ра, одно солнце его освещает; но свет, посылаемый им пла¬
нетам и всему в мире, преломляется в атмосфере более или
менее плотной и расцвечивается по-разному. Несколько об¬
щих начал управляют нравственным миром, внутренним
ликом вселенной; происходящие в нем события кажутся
разнообразными, сложными, их сочетания не поддающи¬
мися исследованию, неисчислимыми в своих переплетени¬
ях, но Истина, солнце души, царит в вершине пирамиды,
разливая повсюду чистое, прекрасное, вечное и неизменное
сияние, и разве что зеркало веков и река событий отража¬
ют ее то более, то менее ярко. Вот стержень драматиче¬
ского искусства, как я мыслю его в эпоху, начинающуюся
сейчас в Европе.
XIX. Если вы окинете взором мир, народы и события,
кипящие вокуг вас, вы увидите тысячи чувственных явле¬
ний, тысячи материальных сочетаний, которые сталкивают¬
ся, переплетаются, разбиваются друг о друга в беспорядке,
как попало. События толкают друг друга, как атомы Лев¬
киппа, без метода и видимости строгого закона; поколения
поднимаются, толпятся и поглощают друг друга, как мор¬
ские волны в бурю. Куда они идут, чего хотят? — Вы не
знаете этого; среди прочих загадок вы сами загадка, зате¬
рявшаяся в хаосе фактов; каждый из них имеет свое на¬
звание, свое средоточие, свою независимую, отдельную точ¬
ку притяжения, но всеобщий закон молчит, единый прин¬
цип сокрыт, общая цель погребена во мраке. На этой сту¬
147
ДЖ. МАЦЦИНИ
пени философия есть лишь собрание разрозненных на¬
блюдений, история — кладбище с расположенными в хроно¬
логическом порядке могильными камнями, поэзия — без¬
делушка или рифмованный рассказ. Иначе сказать, вы
философствуете, отстав на три века, как сенсуалисты; пи¬
шете гражданскую, политическую или литературную исто¬
рию, как Тирабоски, Коппи или, что хуже, Споторно7*,
сочиняете стихи, как метрические средневековые хронисты
или аркадцы,— словом, вы томитесь в жалкой сфере голых
фактов.
XX. Но тайный инстинкт шепчет вам, что не это еще
вершина человеческой мысли. Вы чувствуете необходимость
охватить умом нечто такое, что может находиться лишь
вне чувственного,— вы понимаете, что какой-то общий
план, главная идея, закон стоит во главе этого сложного
готического строения, этого громадного и запутанного
лабиринта сталкивающихся друг с другом фактов, ибо
единство неотделимо от бытия. Так смелее ступайте вперед
твердым шагом, поднимитесь от следствий к причинам.
Сцена сразу меняется. Вы замечаете множество нитей,
готовых вести вас по лабиринту; вначале они связаны,
переплетены, почти безнадежно перепутаны, но рассмотри¬
те, разберите их, и вы увидите, что многие из этих нитей
продолжают, обвивают одна другую. Многие явления име¬
ют сходство, общую печать, родственное подобие. Сосредо¬
точьте, сведите вместе все те из них, что, выйдя из схо¬
жих точек, шли параллельными путями и вели к однород¬
ным результатам; старательно разграничьте те два элемен¬
та, что кроются в каждом факте, один прочный, твердый,
неизменный, другой непостоянный, изменчивый и случай¬
ный; словом, отыщите неизвестное, как это делают мате¬
матики; а потом, когда факты встанут перед вами в ряды,
• Привожу имена этих писателей не потому, что считаю их равными по до¬
стоинству н по долготерпению в трудах; всех троих объединяет то, что в своих
сочинениях они не поднимаются над фактами и не пользуются светом филосо¬
фии. Первый из них — как все знают, монах, книгохранитель князя, рожденный
в эпоху, когда литература была приживалкой двора и академии, приверженец
секты, еще недавно порочившей у нас Данте,— не был способен ни на что луч¬
шее, оставаясь всего лишь человеком. О втором знаю лишь то, что дают его
книги, а это немного. В третьем, наименее известном, сошлись все описанные
черты, с прибавлением совершенной бездарности и подлости. В подтверждение
бездарности смотри, если можешь и хочешь, его «Историю литературы в Лигу¬
рии», подлости — «Джорнале Лигустико» в каждом номере, на каждой странице
и в каждой строке.
148
ОБ ИСТОРИЧЕСКОИ ДРАМЕ
как дисциплинированное войско, разделятся на семейства,
как растения, на роды, как люди, одним словом, когда вы
расклассифицируете их, тогда взгляните за них — и они
уже не будут казаться вам подобием мертвой буквы, они
получат душу и жизнь, как хаос получил ее от божьего
слова.— Тогда видимый мир и составляющие его явления
покажутся вам лишь первой страницей великой книги все¬
ленной; тогда вам будет подвластна сфера порождающих
и направляющих события принципов. Тогда вы захотите,
чтобы история писалась по Гизо, философия по Кузену8,
а поэзия была, как у Данте, Фосколо, Мандзони, Гёте и
Байрона.
Факты и принципы, форма и сущность, тело и душа
вселенной — вот два главных подразделения всего сущест¬
вующего.
XXI. Между этими двумя порядками есть глубокая,
коренная, нерушимая связь. Никакой факт не может
явиться случайно, изолированно, без предшествования и
последования, без побуждения и главенства принципа.
Никакой принцип не может обнаружиться без факта или
фактов, которые его проявляют. Бытие как всеобщее явле¬
ние есть условие, предшествующее каждой вещи; но по¬
скольку нельзя представить себе бытия вне определенного
способа существования, поскольку тем самым между всем
существующим имеются определенные и неизбежные соот¬
ношения, поскольку связь следствия и причины обладает
роковой неизбежностью (fatale) и не может никогда быть
нарушена — то законы, равновеликие (coeve) самому
всеобщему факту бытия, возвышаются над вытекающими
из них вторичными и производными явлениями. Поэтому
всякое событие, происшедшее в силу непреложных и необ¬
ходимо направленных к одной цели причин, более или
менее ярко обнаруживает действие того или иного из этих
законов; оно есть строка великой страницы, открывающая
умеющему прочесть ее какую-то истину или часть истины.
Иначе говоря, за каждым фактом стоит идея, и каждая
идея, сочетаясь с бесчисленными другими, ведет к одному
из всеобщих законов, управляющих событиями. Поэтому
для всех необходимо восходить при изучении явлений к
принципам — для всех, кроме, возможно, гения, который
улавливает их как бы во вдохновении или открывает их
в себе, ибо сознание гения есть малое подобие вселенной.
Наоборот, изложение фактов, когда они по своей темноте
149
ДЖ. МАЦЦИНИ
или по вине описателя не поддаются истолкованию, ока¬
зывается всегда бесплодным, часто вредным: бесплодным,
ибо в своем бесполезном избытке они загромождают и отя¬
гощают память; вредным, ибо видимость различия или
противоположности неразгаданных фактов поселяет в ду¬
ше скептицизм и склоняет ее к плоскому материализму,
чуме всякого литературного учения. Устраните факты и
сохраните, если это возможно, разум: что-то останется, но
не вселенная, а пустота, пустыня, немая и бесконечная
бездна, где во мраке будут блуждать абстракции и где
неприложимые, неспособные претвориться в действие
принципы вечно будут грызть друг друга на своем одино¬
ком троне. Устраните принципы: останутся факты, но они
будут подобны скелетам неведомых существ, беспорядочно
и бессистемно разбросанным в тесном музее; останется
жизнь, но бесцельная, бессмысленная, подобная tread-mill9
английских тюрем; останется мир, но как вырванная стра¬
ница, на которой судьба написала несколько странных,
бессвязных, непонятных слов. Свяжите факты с принципа¬
ми — и вот перед вами Вселенная, прекрасная, плодотвор¬
ная, гармоническая Вселенная, чудо взаимосвязи и про¬
мысла, где ничто из свершаемого не бывает потеряно для
человечества, где свет надежды влечет человека к дейст¬
вию, где каждая капля мученической крови, каждое слово
философа ложится на весы будущего, где каждый век
поднимается на ступень к храму Истины.
XXII. Но истинно все! Факты, принципы, все вообще
сущее в мире истинно, ибо ложь имеет лишь отрицатель¬
ное существование, есть лишь заблуждение человеческого
ума, часто видящего только одну сторону явлений. И тем
не менее не все истинно одинаковым образом в одной и
той же мере. Истина, как я сказал, едина; но как солнеч¬
ный луч в призме, она преломляется и распадается во
времени и событиях, приобретая различный облик и ок¬
раску.
XXIII. Факты, события свершаются; они символизируют
разные стороны загадки человека, воплощают его страсти,
раскрывают действующие в нас силы по их результатам.
Поэтому для того, кто захочет пренебречь великим опытом
событий, человек, жизнь и воля мировой необходимости
навсегда останутся плохо познанными. Но составляют ли
факты и события Истину? Не есть ли они, скорее, путь к
постижению ее?
150
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
Та вечная, необходимая, абсолютная Истина, конечная
цель нашей мысли, которую с незапамятных времен ищут
бесчисленные поколения людей, стоит выше непрочной,
случайной и относительной правды фактов. Это Истина
единая, всеобщая по своей сущности, духовная по своему
стремлению, не зависящая ни от чего, кроме ab eterno10
роком предписанных миру и роду человеческому законов;
и здесь, в нашей Европе, где сложившиеся условия, про¬
гресс цивилизации, а более того общее несчастье, это
святейшее из уз, породнили души в гармонии потребно¬
стей, страстей и стремлений, Истина на одном языке обра¬
щается к тем, кто слышит ее и хочет жить, как подобает
мужу. Но различен язык событий, как и язык людей,
которые, пользуясь одними и теми же элементами, сочета¬
ют их столь различно, что в них теряешься, хотя един
характер и корень всех языков, если держаться наиболее
вероятной гипотезы. Завися от сочетания неожиданных
обстоятельств и от ничтожных, бесконечно изменчивых
случайностей, события неизбежно принимают облик, изме¬
няющийся со временем и местом, подобно тому как малей¬
шее движение изменяет расположение камешков, перека¬
тывающихся внутри калейдоскопа. Конечно, и о них есть
своя наука — но эта наука о следствиях, говорящая чув¬
ствам на языке чувств. В них проявляется вмешательство
нравственных законов, и они развивают и упражняют
душевные силы; но, как все материальное, они предстают
перед наблюдателем разными сторонами. С ними происхо¬
дит то же, что с иероглифами, которые каждый понимает
и объясняет по-разному, в зависимости от того, какой
системы он придерживается или каким слепым убеждени¬
ем руководится.
Но если бы сама Истина, подобно своим проявлениям,
была в самой себе множественной и неоднородной, где
было бы искать спасения? Где — силу надеяться на пере¬
дышку в медлительной, упорной и страшной войне, которая
с тех пор, как мир стал миром, совершается между Разу¬
мом и Материей, между человеческим сознанием и заблу¬
ждением? Плачевны выводы, к которым необходимо прихо¬
дят те, кто не поклоняется иной силе, кроме силы фактов,
рассмотренных к тому же не в их совокупности и не в их
отношении к высшим законам, но голо, изолированно и в
себе, как они являются поверхностному взору. К этим
выводам приходят, хвалясь философской решимостью
151
ДЖ. МАЦЦИНИ
никогда не отступать перед выводами, каковы бы они ни
были; и вот мы слышим, как торжественно и, что хуже,
холодно произносят они свой приговор, осуждая челове¬
ческий род вечно пресмыкаться в пыли, ставя над миром
два поочередно и временно царящих принципа добра и зла
(хотя опыт истории, начиная с двоих под Фивами 11 и до
наших дней, учит нас, что двух братьев слишком много для
одного трона) и оставляя народам лишь какую-то
игру в политические качели, когда они то взлетают к небу,
то низвергаются в ад. Но совесть и знание отвергают этот
приговор, и для всех, кто не легко отдается бесплодному
стону отчаяния, кто получил от природы в удел могучую
в страдании и действии душу, звучит гимн надежды: «Не
отчаивайтесь в людях и в жизни. Теряют веру слабые и
трусливые — но вы не слабы, ибо единство идеи свидетель¬
ствует о вашей силе, и вы не должны бояться, ибо на вас
глядят потомки, готовые увенчать вас лаврами бессмертия
или осудить вас на бесславие в веках. В войне цивилиза¬
ции против заблуждения несчастье всегда перед глазами,
ибо оно всей тяжестью ложится на индивидов, благодея¬
ния же проникают в людские массы медленно и неслышно.
Поэтому поверхностный ум, ощущая лишь ярмо несчастий
и ставя себя в центр вселенной, кончает проклятием или
насмешкой. Но неужели он должен отрицать весну лишь
потому, что родился зимой? Разве позже пробьют, разве
никогда не пробьют часы, если стрелка их движется неза¬
метно для человеческого глаза? Будьте постоянны. Посто¬
янство есть завершение всех человеческих добродетелей.
Личности страдают и умирают — но человеческий род,
цивилизация и культура не умирают. Сильные души и мо¬
гучие умы вызывают к жизни других сильных и могучих.
Народы учатся в несчастьях, страдание очищает массы.
Будьте постоянны; трудности — от людей и их временных
ошибок, всемогущество — от века. Вера в существование
истины, несущей счастье человеческому роду, и в способ¬
ность разума постичь ее при любых условиях —эта вера
пришла к нам из глубин сознания, о ней сказали нам
страстные порывы сердца, ее развернула затем сила рас¬
судка, доказала история, ее освятили тысячи мучеников от
Сократа до Галилея. Но ее пытаются опровергнуть или
унизить, называя мечтой, словом, которое профессора
словесности и философии узурпировали, чтобы крестить им
любую сильную и благотворную идею, природой взращен-
152
ОБ ИСТОРИЧЕСКОИ ДРАМЕ
ную в гении. Если это делается ради показной стройности
философской системы и «научного беспристрастия», то
заслуживает лишь проклятия; если от усталости долго и
тяжко страдавших людей — то сожаления; последних укре¬
пи господь на жизненном пути, ибо их суждение влечет
прямо к смерти. Сам же я, рассматривая условия времени
и состояние словесности, нахожу, что учение о бесконечном
совершенствовании есть философское выражение народной
идеи, рожденной настоятельной потребностью и внутрен¬
ним сознанием своих сил; я вижу, что оно есть вера душ
сильных и великих, и, как только могу, я проповедую это
учение и зову проповедовать его своих братьев итальянцев,
ибо оно представляется мне религией, чудесным образом
способной направить (far cospirare) все человеческие чув¬
ства и страсти к возвышенной цели.
XXIV. Итак, та первая истина, о которой я говорил,
существует и управляет течением жизни; она покоится
в менее спорной области, среди более чистой атмосферы,
чем факты действительности; она заключена в принципах,
которых факты суть лишь символы, материальные и част¬
ные отражения. Это вселенская душа, срединный очаг, из
которого эманируют бесчисленные искры, начиная жить в
фактах; но, как алмазы в горной породе, они светят только
тому, кто их добудет и очистит от обволакивающей их
пелены. Словом, факты составляют лишь первую ступень
среди загадок человеческого знания; это индивиды мира,
в котором истина есть вид.
Таким образом, есть правда историческая, истина фак¬
тов, и есть правда нравственная, правда принципов. Эта
последняя относится к первой, как целое к части, как при¬
чина к следствию, как оригинал к переводу: одна исходна,
вторая развертывает ее приложения. Коротко говоря, пер¬
вая выражается в действительности, вторая — в истине;
обе они связаны между собой, но действительность есть
тень той или иной правды, истина же есть тень бога на
земле.
XXV. Какой же из этих двух указанных мною правд
должна служить драма, провозглашенная итальянским
романтизмом?
Многим покажется невероятным, всем — очень стран¬
ным, что проблема встала так перед всеми критиками,
касавшимися этого предмета, и что никому не пришло в
голову, что драме присущи обе правды и разрывать их —
153
ДЖ. МАЦЦИНИ
значит отделять душу от тела в одном и том же существе.
Я не знаю никого, кто указал бы на это в Италии. На¬
сколько мне известно, автор «Двух рассуждений о рома¬
не» 12 первый у нас обратил внимание на это разделение
между исторической правдой и нравственной правдой, но,
сводя вторую к чувствам, он ничего не сказал о принци¬
пах, которые одни можно соотнести с фактами. Но и в
столь ограниченном виде он предписывал его писателям
как непреложный закон и, отрицая всякую возможность
соглашения между двумя этими правдами, приходил ка¬
ким-то образом к анафеме историческим романам и безу¬
словному одобрению романов бытописательных. С тех пор
повелось каждый раз, когда романтики говорят о правде
как основании новых теорий, понимать под ней фактиче¬
скую действительность. Вероятно, привычка рассматривать
литературу как чисто развлекательное искусство не допу¬
скала и подозрения, что драма когда-либо может стать
народной трибуной, кафедрой философии человечества.
Может быть, втайне противники уже признаются в бесси¬
лии устоять перед лицом подлинного романтизма; но,
ревнуя о своем авторитете, они стараются отвлечь от него
внимание юности, придумывая призраки и натравливая на
них толпу, чтобы никто не смог понять сущности и цели
начатой реформы,— уловка старая, как сам фанатизм, и
на какое-то время всегда удающаяся, но надолго ли? Как
бы то ни было, так повелось; и все критики, сколько их
есть, крупные, посредственные и пигмеи, без устали твер¬
дят, что для романтиков поэзия сводится к холодной
стихотворной хронике, а то и хуже, ибо есть человек, ко¬
торый боится, что новые теории исторической трагедии
исключают искусство, стихотворную форму и сам язык и
дают взамен «бесконечные, написанные на диалектах
диалоги»*. Где он откопал все эти пугающие его теории,
узнать мне не удалось. Во всяком случае, ему противоре¬
чит история литературы от Шекспира до Шиллера и Гёте,
от Мериме и Гюго до Мандзони. И история и теории —
хотя пока еще и фрагментарные — кричат ему и всем, кто
не понимает слова «романтизм», что молодая Европа
имеет совсем иную цель, чем голое копирование ушедших
эпох и событий; что когда мы начертали слово «Правда» на
наших знаменах, мы думали о высокой правде принципов,
* «Очерк о характере итальянской литературы в XIX веке»
154
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
единственной властительнице людей и веков; что правду
эту, медленно, но неуклонно проступающую сквозь завесу
действительности, надо было отделить от произвольного
идеала и предпослать драме и роману факт, но не для
обуздания таланта и воображения, а как символ, из кото¬
рого вырастала бы идея, как опору для устремления мыс¬
ли в бесконечность; и что поэтому мы хотели не заглушить
поэзию, но обновить, возвысить ее и подвигнуть драму на
выражение законов будущего, выведенных из понимания
прошлого. И разкг для того, чтобы угадать эти намерения,
недостаточно было обратиться к произведениям знамени¬
тых писателей, которых я только что назвал? К многочис¬
ленным статьям в «Ривиста франчезе», в «Глобо», в «Анто¬
логии» и других журналах, излагавших романтические
учения? К поступательному развитию всего этого роман¬
тизма (которого никогда не понять, если ограничивать его
одной литературой) и его приложений к истории и филосо¬
фии у Гизо, Кузена и их последователей*? К течению,
постепенно распространившемуся на все общество? Но где
угадать что бы то ни было профессорам словесности,
академикам, ремесленным критикам и вообще всем тем,
кого Фосколо иронически называл своими наставниками?
Члены вемического трибунала 14 надевали плащи с ка¬
пюшоном, собирались по ночам; но из-под этих капюшонов
сквозь ночную тьму, как стрелы, устремлялись их взоры,
выслеживая вину и виновных и давая знак мстителю. И в
ранние годы моей юности, когда мне жужжали в уши об
ученых литераторах, одновременно законодателях и судьях,
о целых академиях и советах, следящих за соблюдением
чистоты нашей словесности и национальной чести, я пред¬
ставлял их себе немножко похожими на тех тайных судей:
чрезвычайно осмотрительные, проницательные и много¬
опытные, верные суровому голосу совести, молчаливые,
недоступные соблазнам, беспристрастные, в поте лица в
тиши своих скромных келий искали они, в моем вообра¬
жении, истину и клеймили ложь — и я, хотя мне не удалось
их полюбить, не презирал их. Но с тех пор, как я увидал
ближе этих судей, прочел их законы, услышал разъяснения
к ним, которые они делают со своих позолоченных кресел
и кафедр, а нередко еще и из передних знатных господ, я
понял, что они давно утратили дар зрения и действуют
* Только к истории и философии.
155
ДЖ. МАЦЦИНИ
наподобие слепцов, которые ходят всегда одним путем,
чтобы не заблудиться, и кричат и громко стучат своей
палкой по мостовой, потому что если кто-нибудь, встретив¬
шись им на пути, вынудит их свернуть, они заблудятся и
уже не смогут сделать ни шагу. Двадцать лет они перепе¬
вают нам все ту же нелепицу; и можешь кричать, надры¬
ваясь, соотечественникам: «Послушайте! Мы хотим искать,
а не подражать иностранцам; мы хотим свободы, а не
анархии, возрождения низко падшей словесности, ее слу¬
жения нуждам эпохи, независимости от педантских кано¬
нов, а не безудержного нарушения вечных законов
природы»,— все равно ученый литератор, прервав тебя на
полуслове, невозмутимо начнет сначала все ту же сказку:
«Вы хотите подражать иностранцам, вы хотите безумной
анархии, нарушения вечных законов природы; послушайте
Аристотеля, Горация и Буало». А еще один остроумный
молодой человек и неутомимый писатель диктаторским
тоном заявляет, что романтики сделали «исключительным
украшением своих повестей вампиров, леших, домовых и
прочую нечисть», так что у них возникли самые ужасные
призраки, какие только может нарисовать воображение
больного, и «картины таких вещей и событий, что дрожь
берет от одного упоминания о них»*. И это в 1831 году,
в Италии, где Гросси и Мандзони, Торти16 и Гверрацци
стоят во главе романтизма — где ничто, если не считать
нескольких юношеских вольностей Тебальди-Фореса и не¬
многих лирических мелодий одного анонима, и не пахло
ведьмами или колдовством, где всеми и в первую очередь
• «Очерк о характере... и т. д.» Дефенденте Сакки, напечатанный в 1830 го¬
ду и рекомендованный всем молодым итальянцам, занимающимся изящной сло¬
весностью, для постижения следующих первоистин: что никакая литература не
может существовать без идеальных образов — что вся миссия XIX века заклю¬
чается в довершении работы, начатой веком Леона X 15 — что высшая задача ли¬
тературы в том, чтобы ласкать слух и будить приятные ощущения, а все другие
задачи случайны — что романтики издеваются над всем, что создали великого Го¬
мер, Вергилий и Тассо, преклоняются перед варварством, заставляют плясать мерт¬
вых, а то и хуже. Это книга человека, который называет себя — и я верю, что
искренне — страстно любящим свою родину, желающим для нации лучшего бу¬
дущего и чувствующим потребность времени. Поразительно то заблуждение —
у других его надо было бы назвать недобросовестностью,— в котором он, лишая
романтизм всех составляющих его и уже много лет провозглашаемых принци¬
пов, смело объявляет их своими и противопоставляет их романтизму, а потом
обрушивает на него разом все нелепости, странности и фантазмы, обременяющие
его собственное сознание, подобно тому как евреи сваливали на козла отпуще¬
ния всю тяжесть грехов Израиля.
156
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
самими романтиками признано настоятельной необходи¬
мостью очищение религии от оскверняющих ее суеверий!!!
Можно ли над этим не смеяться?
XXVI. Мне больно, что некоторые из романтиков в ви¬
димом раздражении от непрестанной бессмысленной брани
в адрес теории, которой следуют немногие из иностранцев
и никто, насколько мне известно, в Италии, но которая
способна все же лучше ответить нуждам времени и более
действенна, чем классическая, разгорячились в споре и
дали отчасти повод подозревать, что они выставляют эту
теорию голой фактической действительности единственным
основанием и высшим достижением обновленной драмы.
У ожидаемой веком реформы, если я правильно ее пони¬
маю, совсем другая цель. Это всеобщая, глубокая, полная,
решительная и энергическая реформа, переворот во мне¬
ниях, нравах и чувствах, определяющих события; она
созрела за долгие века несчастия и бессилия; XVIII век
расчистил для нее место, и XIX веку суждено начать
постройку. Должна идти тем же путем и следовать тем же
законам и литература. Ее нужно создать заново, ибо по¬
требность литературы от природы присуща человеку, а
старая литература безвозвратно погибла. Нужно, чтобы
составляющие ее различные жанры все пришли к позна¬
нию истины,, ибо нынешнее поколение жаждет истины, как
никогда ранее. Поэтому здание драматического искусства,
до наших дней стоявшее отдельно от других, должно быть
перестроено сверху донизу. Пока целая ветвь литературы
не достигла высшей ступени своего полезного воздействия,
реформа остается наполовину незавершенной. Бессмыслен¬
ные для большинства и эфемерные вопросы формы, един¬
ства времени и места надо оставить любителям, и пусть
они щебечут, сколько богу будет угодно. Романтизм выше
этого и ближе к жизни; он не подчиняется никакой форме
и никакому правилу, если они не вытекают из природы
вещей. Речь идет о внутренней жизни, об идее, из которой
рождается сущность драмы. Речь идет о поисках выраже¬
ния современной цивилизации в драме, как оно уже най¬
дено в истории, философии и лирике.
XXVII. Яркое выражение последней ступени, на какую
поднялась цивилизация, было всегда, как мы говорили —
и никто не сможет этого отрицать,— чуждо той драме,
которая все еще присваивает себе в разных школах назва¬
ние классической. Она расцвела в эпоху, когда литература
157
ДЖ. МАЦЦИНИ
была рабой, и это рабство просочилось в души, и талант
смирялся перед долгой привычкой к нему; политическая
тирания порождала гражданскую, и писатели, в особенно¬
сти драматические, не могли добиться славы, известности,
богатства, не льстя двору и аристократии, которая одна
после двора имела имя и влияние; к гражданской присо¬
единялась литературная тирания академий и законодателей
моды, требовавшая подражания подражателям, громившая
Корнеля оракулами Скюдери и предпочитавшая Нрадона
Расину. Что могли сделать писатели, отягощенные этой
тройной цепью? Какой нормы, какого всеобъемлющего и
высокого образца им было придерживаться, когда среди
знати и при дворах все было узость, педантство, фальшь;
когда отважная независимость почиталась оскорблением
литературного достоинства; когда народ немотствовал и не
давал надежды на отклик, ободривший бы гения в одино¬
честве, на которое обрекали его времена? Они писали — но
душа их была надломлена рабством, разум затуманен
безраздельно господствовавшими суевериями, сердце полно
сомнений, а каждый шаг совершался в боязни навлечь на
себя анафему академий. Они писали — но не ради народа
и не для народа, а ради личностей и для личностей. Они
искажали, уродовали и смиряли свою мысль в согласии с
этикетом или рисовали своих современников в античных
одеждах и окружении — словом, они составляли свое про¬
изведение как мозаику; историческая истина извращалась,
чтобы оставить место для обязательных льстивых намеков,
истина нравственная приносилась в жертву общепринятому
вкусу и моде; гений блистал временами, как молния, но
не разливал ровного света по всему зданию драматической
поэзии: он порождал элегические красоты у Расина, эпи¬
ческие— у Корнеля, но драматические красоты не были
созданы.
XXVIII. Шла работа цивилизации. Условия жизни оста¬
вались прежними, но слепое почитание доживало свой век
и души тянулись к независимости. Было неясное, неопре¬
деленное, поверхностное желание, подобное первому жела¬
нию любви в юношеском сердце. Была жажда новизны,
нетерпимость ко всякому ограничению, ропот души, пред¬
чувствовавшей свое освобождение, но не имевшей еще ни
глубины суждения, ни ясности цели, ни упорства в дости¬
жении ее. И все же дух реформы так силен, а здание,
построенное наставниками на легковерии учеников, так
158
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
шатко, что при первом дуновении ветра оно наполовину
развалилось, подобно ночным призракам, которые рассеи¬
ваются, едва мы захотим внимательно разглядеть их. Умы
смутно чувствовали, что нельзя сковать разум в одной и
неизменной форме — но глубже формы взглянуть не могли,
не думали о сущности драмы и блуждали, подобно рабам,
влачащим за собой свою цепь и воображающим себя сво¬
бодными потому лишь, что оторвали ее от колоды, к кото¬
рой она была прикреплена. Понимали, что нельзя учить
людей всех эпох плачу и смеху по предписаниям Аристо¬
теля и рецептам Горация, но не могли догадаться, что
составные черты этих двух ликов человеческого существа
надо черпать в поступательном развитии душевных сил,
в нравственном и политическом состоянии народов, в изу¬
чении эпохи. Читали Шекспира, но не изучали его; пере¬
нимали у него смешение жанров, использование иносказа¬
тельного стиля, внешний беспорядок, добросовестно копи¬
ровали его гигантские пропорции — к чему, если никто не
знал, чем надлежит их заполнить, если то бесконечное
искусство, с каким шекспировский гений сливался со своим
предметом, а его драмы делались миниатюрой эпохи,
ускользало от подражателей? И они разрушали капище по
частям, не решаясь опрокинуть жертвенник, ибо все еще
нуждались в идоле и не знали, каким новым заменить
старый. На семь замков запирали, как Лопе де Вега 17,
свои правила, придерживаясь все же идеального, созна¬
тельно нарушали классические единства — словом, вводи¬
ли новое ради новизны, не ради улучшения или исправле¬
ния. Не получалось ни глубины чувства, ни выражения
идеи цивилизации, ни настоящей исторической правды, ни
правды нравственной, разве лишь случайно и скорее ин¬
туитивно, чем по сознательному убеждению. Было ли это
романтизмом? Нет. Это был первый порыв школьника,
бунтующего против ферулы педагога.
XXIX. Шла работа цивилизации. Условия оставались
все прежними, но слепое почитание умерло, и души созре¬
вали для независимости. Прошел первый порыв нетерпе¬
ливого гнева, сокрушающий внешние символы рабства, но
бессильный вырвать его корни; сознание подняло теперь
свой голос, увидев в литературе могучее средство возрож¬
дения, и глубоким чувством затрепетала душа, узнавшая
своего гения, понявшая высоту своего служения и скор¬
бевшая о потерянных в бездействии и пороке днях. Может
159
ДЖ. МАЦЦИНИ
быть, если бы Италия была чиста от школьной учености и
традиций педантизма, у нас внезапно родилась бы роман¬
тическая драма, которой Данте, глядевший на пять веков
вперед и пророчески наметивший целую эру цивилизации,
начертал первые и важнейшие строки. Но авторитет гос¬
подствовавшей в течение веков системы сковал плодотвор¬
нейшие поэтические умы. Всем казалось, что эта система
столь же стара, как сама европейская литература, что она
хранит верность тем грекам, в которых все чтили отцов
цивилизации, что она наследница их теорий. Смирившись,
ей следовали Корнель, Расин, Вольтер, эти великие умы —
а сколько литераторов, профессоров, академиков, эрудитов
брались воспитывать на ней поколения, поясняли, толко¬
вали и вымучивали ее в бесчисленных работах на всевоз¬
можных языках и во всевозможных манерах. Кто же
захотел и смог бы сделаться внезапно Наполеоном драма¬
тического искусства? Опрокинуть целую систему, высту¬
пить в одиночку против всей литературной аристократии,
когда раздражительное племя литераторов грозило не то
что насмешками и оскорблениями — преследованиями*?
Подобные таланты появляются обычно, когда народ уже
готов принять и понять их; а люди лишь с большим тру¬
дом, медленно и постепенно отвыкают от глубоко укоре¬
нившихся систем. Появилась необходимость решительной
перемены, хотя не было точного знания средств к ней.
Поэтому едва лишь пробившийся сквозь развалины тюрь¬
мы луч раскрыл бескрайний цветущий простор, умы устре¬
мились по различным путям. Люди могучего сердца, но
слишком привязанные к старым предрассудкам и не при¬
ученные выводить драматическую форму из исследования
своей эпохи, чувствовали, что всякая драма должна иметь
высокий замысел и возвещать истину — но не смея отре¬
шиться от узости старой системы, будучи вынуждены поэ¬
тому искажать или умалять до жалких пропорций избран¬
ные для представления великие исторические картины, они
пренебрегли той нравственной аксиомой, что истина оказы¬
вается более убедительной для человечества, когда выте¬
кает из полного и точного изображения его истории, чем
* Вольтер побуждал своих друзей добиваться, чтобы шекспировские драмы —
которым он тем не менее подражал — были отданы палачу и сожжены публично
иа костре и чтобы Турнёр, который их в то время кое-как переводил, получил
в награду каторжные работы.
160
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
когда за нею скрываются лишь страсти самого писателя, и
той литературной аксиомой, которая гласит, что для про¬
буждения чувства прекрасного нужны согласие и гармония
между содержанием и формой. Другие, в ком рассудок,
проницательность и ум говорили громче, чем сердце, уви¬
дели, что классическая система обветшала, и учредили
новую. Старая драма покоилась на идеальном — следова¬
тельно, новая должна была опираться на противоположное
основание; и они погнались за одним лишь действитель¬
ным и погрузились в него, переписывая его из истории так,
как оно есть, во всей внешней неупорядоченности, непо¬
стоянстве, не одушевив его, не вложив в него символиче¬
ского толкования, не заботясь, вырастает ли из него ясный
принцип или, что случалось чаще, лишь выставляется
напоказ еще одна загадка. Первые, которых представите¬
лем раньше был Альфиери, а теперь стал Никколини*,
изменяли содержание, оставляя нетронутой или почти
нетронутой форму. Вторые, во главе которых сейчас Ви¬
те19 и другие, создавшие во Франции жанр «исторических
сцен», изменили и форму и содержание, но не отметили
последнее печатью главной идеи, которая создала бы и
форму. Это был романтизм первой ступени, первый шаг
человека, в душе которого окрепла воля к свободе.
XXX. Шла работа цивилизации. Условия жизни не по¬
спевали за нею, они ухудшались, но мнения превратились
в силу, и души жаждали независимости. Долгое, хотя бы
даже поверхностное и догматическое изучение какой-либо
части науки рождает в конце концов философию самой
этой науки. Просматривая летописи, роясь в архивах в
поисках документов о фактах, еще и еще раз копируя
историю, писатели приучались понимать, оценивать ее,
замечать в ней многочисленные пустоты, которые она
неизбежно оставляет, и заполнять их, угадывая среди
достоверного неизвестное. Как выражение такого направ¬
ления возникала драма, новая по содержанию и но форме,
тем более близкая драме будущего, что в ней уже скры¬
валась вся реформа, хотя и в зародыше, хотя и не дове¬
* Я не хотел бы, чтобы это мое мнение о системе, которой придерживается
Никколини, было истолковано шире, чем я ставлю здесь целью. Как писатель он
заслуживает особого исследования, что я и попытаюсь когда-либо сделать. Имя,
стоящее здесь рядом с его именем, достаточно свидетельствует о моем уважении
к одному из крупнейших талантов Италии ,§.
6-6342
161
ДЖ. МАЦЦИНИ
денная до своего максимально возможного развития. Это
еще не подлинно романтическая драма, тысячеликая и
многоязычная, с ее гигантским размахом, с ее единой,
великой, плодотворной идеей, подобной могучей душе в
могучем теле, драма, начертанная по дерзновенному за¬
мыслу и смелыми красками энергической рукой гения; но
уже ясно, что она найдена и что для ее осуществления
нужна лишь решимость.—Такова драма Алессандро Манд-
зони; это идея эпохи, но в зачатке или, если хотите, в со¬
кращении; не развернутая так, как хотелось и как желалось
бы. Избави бог, чтобы наши слова прозвучали с меньшим
уважением, чем велит нам душа. Слишком дороги Италии
лавры, увенчивающие эту священную главу, чтобы сердце
наше не восстало против желания, если бы такое когда-
либо пришло на ум, простереть к ним дерзновенную руку.
Мандзони — любовь наша, и имя его неотделимо от всего
прекрасного и великого, что освящает в Италии молодую
школу; и если бы слова юноши, безвестного и не способ¬
ного выразить чувства, вздымающиеся иногда в его груди,
смогли прибавить хотя бы крупицу к дани уважения, кото¬
рую платит поэту целое поколение, он устремился бы к
автору знаменитых хоров и, запечатлев на его челе поце¬
луй восторга и восхищения, проговорил бы ему: «Мандзо¬
ни! Ты велик и любим! Но только если поклонение других
слепо, то наша любовь зряча и больше гения мы любим
свободную силу истины; любовь же к истине велит нам
высказать такое свое убеждение: драма Мандзони не есть,
как это кажется иным, романтическая драма на своей
высшей ступени, но, скорее, подобна одной из тех увертюр,
где слышишь наброски напевов, развертывающихся затем
в ходе оперы». Мандзони творит как бы среди колебаний
и раздумий, подобно человеку, которому уже ясна идея,
но страшны ее возможные последствия. Народная драма
должна показывать не одну идеальную личность, но собы¬
тие, эпоху, в которую оно произошло, и черты этой эпохи
и нации. Правда просвечивает в трагедиях Мандзони; и
все же народная стихия нарисована в них так скупо и
робко, что часто ускользает от внимания. Контрасты —
жизнь драмы; прекрасное и безобразное, поэзия и проза
сочетаются в природе и человеке, и душа никогда не бы¬
вает поражена столь глубоко, как переходя от одной из
этих крайностей к другой. Но нигде или почти нигде в
«Адельки» и «Карньоле» мы не видим широкого воплоще¬
162
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
ния этих принципов, которые необходимо связаны с симво¬
лом Мандзони, но которые сам он всегда проявляет лишь
в одной определенной сфере, не связанной с самим явле¬
нием, не написанной подлинными красками эпохи. Он
знает, что надо показать в драме высокую и непреложную
правду принципов, чтобы люди не сбивались с пути, увле¬
каемые образом отдельного и необъясненного явления, но
извлекали из этого явления великое и благотворное поуче¬
ние, узнавая, в каком отношении стоит оно к нравственной
истине; а между тем, где выразил Мандзони это торжест¬
венное величие принципов, которые должны были царить
в драме, как солнце в безбрежной вселенной? Все его
проявление ограничено хорами, где оно блещет божествен¬
ной лиричностью, но не драматичностью, и тем самым то,
что должно было вытекать непременным следствием всей
картины, сделалось частностью, чуждой развитию действия
и но существу не связанной с ним. Может быть, Мандзони
боялся, что, пытаясь символизировать эту истину в герое
драмы, он впадает в фальшь идеального, но даже если он
не хотел обновлять старый классический прием, нарушать
всякое правдоподобие изображения и ломать единство
замысла, он должен был выразить ее каким-либо иным
способом — и это удалось бы ему, если бы он остался на¬
едине со своим свободным гением. Однако ни писательская
зависть, ни злопыхательство журналов не смогут в этих и
подобных им недостатках обвинить целиком Мандзони.
Это уступки, которые он делал рассудку против голоса
сердца, понуждаемый условиями времени. Он писал и вы¬
ступал как романтик, когда итальянский романтизм, про¬
клятый тем проклятьем, что всегда выпадает на долю
нового, почти целиком заключался в нем одном, когда
литература колебалась между трусостью и праздностью, а
единственный могучий голос, который мог бы беспощадно
обличить вздорность всех этих ученых литераторов, жур¬
налистов и аркадских поэтов, унижавших литературу,
независимость, сердце и талант, был лишь отголоском
дальнего эха, пугавшим продажных и бездарных. Это был
голос Фосколо — а Фосколо, чтобы не видеть перед глаза¬
ми зрелище великого позора, странствовал тогда по
чужим землям, где должен был скоро оставить свой прах.
Несчастный Фосколо! — Но кто из других поэтов смог бы
сделать больше, чем сделал Мандзони? Возможно, и он,
родившись на десять лет позже, свершил бы все, о чем мы
6*
163
ДЖ. МАЦЦИНИ
мечтаем, подобно тому как Корнель и Расин, родись онй
во времена Фронды, могли дать Франции романтическую
драму. Возможно также, что он сам отказался в пользу
других от славы решительного реформатора, опасаясь, что
преждевременная попытка не приведет к благополучному
исходу. Сейчас еще нет и, конечно, в эпоху Мандзони не
было еще общества, способного вдохновить писателя. И я
убеждаюсь, разбирая историю духа *, что из всех талантов,
представляющих эпоху и ее цельную систему, но меньшей
мере три четверти появляются на закате этой эпохи как бы
для того, чтобы подвести ей итог и оставить ее главную
идею для будущего. Так или иначе, читая произведения
Мандзони, чувствуешь, что этому человеку больше по
сердцу готовить перемены, чем осуществлять их. Чувству¬
ешь, что у него нет недостатка в необходимых для дела
силах, догадываешься, что ему препятствовали внешние
причины, и плачешь вместе с ним о суровой необходимо¬
сти, которая вынудила его остановиться на полпути. Чув¬
ствуешь, что втайне весь путь свершения был намечен им;
но это был путь, усеянный шипами и терниями, и он, по
натуре склонный к смирению, с душою нежной и полной
любви, он отшатнулся, он не захотел взять на себя больше,
чем мог вынести, и склонил голову, прошептав: «Я не
рожден для борьбы». Но и в то же время понимаешь, что
благородная надежда утешала его в горечи отречения и
что он с любовью глядел на молодое поколение, как бы
говоря: вы завершите мой труд, вы взрастите семена,
оставленные мною, вы развернете то, что я лишь набросал.
Но есть наброски Рафаэля и Микеланджело, в которых
заключены целые эпохи будущей живописи.
Так драма Алессандро Мандзони стала подобием того
дневника, в котором Байрон энергическими, но сжатыми
и краткими штрихами записывал свои впечатления во вре¬
мя путешествия по ледникам и вечным скалам Швейца¬
рии, и все те наброски, из которых родились впоследствии
его великие «Странствия». Это был романтизм на второй
ступени, и это была первая победа, решавшая успех всей
борьбы.
XXXI. Работа духа продолжается. Он идет вперед
смело, ибо наш век есть век действия и славных начина¬
ний; он должен завершить реформу, основание которой
* Geistesgeschichte.
164
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
положил Мандзони, и привести драму к ее высшему слу¬
жению— проповеди истины народам. Голое изображение
событий прошлого, выставленных без ключа толкования
и без поддержки философии, уже не отвечает потребностям
времени и прогрессу мнений. С другой стороны, представ-
ление принципов через посредство символов, целиком
созданных воображением писателя, остается — и, возмож¬
но, еще надолго останется — выше понимания народных
множеств, крайне недоверчивых в отношении всего, что
оказывается или кажется лишь личным мнением одного
человека, привыкших слепо верить фактам и безраздельно
чтить непререкаемый авторитет преданий. И пока поэты,
повинуясь одной ограниченной концепции, будут вступать
то на один, то на другой из этих путей, мы не получим
романтической драмы. Поэтому она должна стать соеди¬
нительным звеном, связующим истину фактов с истиной
принципов. Ее обычной сферой должна быть фактическая
действительность, ее постоянной целью — правда. Пусть,
сколько может и пока может, она вращается в первой, но
и пусть она постоянно взирает на вторую. Пусть она вызы¬
вает тени прошлого, но с тем, чтобы, подобно ендорской
волшебнице, заставить их раскрыть будущее или, лучше,
законы, породившие то, что было, управляющие тем, что
есть, и уготовляющие то, что будет: вот задача драматиче¬
ского писателя. Пусть из гущи событий он выберет одно,
великое, важное и плодотворное. Пусть он развернет его,
продумает его, рассмотрит его со всех сторон и в отдель¬
ных деталях, чтобы точнейшим образом схватить его про¬
порции. Пусть тщательное исследование истории раскроет
ему существенные обстоятельства, причины события и его
следствия. Общее изучение эпохи и ее характера поможет
ему воскресить действовавших в ней героев. Взяв в помощ¬
ники своему разуму индукцию — которая тоже есть исто¬
рия, если только подчиняется правилам философской кри¬
тики,— он сможет восполнить то, о чем история не говорит.
Затем, когда событие встанет перед ним в целости, пусть
он всиомнит, что за каждым событием кроется идея, пусть
он выразит, разовьет эту идею и углубится в нравствен¬
ный мир.
Два закона возвышаются над каждым явлением.
Один — крайнее выражение присущих данному веку граж¬
данских, религиозных и политических условий, совокуп¬
ность всех черт, отличающих его от всякого другого Βρε¬
ι 65
fi
ДЖ. МАЦЦИНИ
мени,— воплощает ступень духовного развития, систему
века (или нескольких веков): это общий закон эпохи,
которой принадлежит данное явление, и каждая идея,
вытекающая из отдельного явления, связана с ним какой-
то своей стороной. Другой закон — выражение высшей
точки духовного развития, какой дано достичь человече¬
ской расе,— есть принцип, господствующий над всеми явле¬
ниями одного порядка, всеобщий закон человечества, с
которым более или менее созвучны законы отдельных эпох,
в зависимости от того, идет ли цивилизация и культура в
данную эпоху вперед, временно отступает или покоится
в бездействии. В этих двух законах вся суть романтиче¬
ской драмы. В какой мере выбранное ее предметом явле¬
ние и выражаемая им идея представляют закон эпохи?
В каком соотношении стоит этот закон к всеобщему закону
человечества? Вот два вопроса, которые нужно разрешить
прежде всякого изображения.
Романтическая драма есть истолкование частицы все¬
ленной. Вселенную составляют действительные факты и
принципы — драма должна обнимать и те и другие: раз¬
вертывать факт, проповедовать принцип, представлять
историческую картину, извлекая из нее приложимый к че¬
ловечеству урок. Цель искусства — в достижении наиболь¬
шей действенности; но драматический писатель никогда не
сможет достичь ее вполне, если изображение события не
будет осуществлено таким образом, чтобы можно было
увидеть градус, отмеченный этим событием на термометре
цивилизации, и отношение, в котором он находится к нрав¬
ственной истине. Принцип, изъясненный через фактическое
событие, нравственная истина, преподанная посредством
действительного,— вот романтическая драма, лишь пред¬
вестия которой мы до сих пор имели и которую мы будем
непременно иметь, невзирая на болтовню наставников,
прежде чем XIX век закончит свое течение. Словом, нрав¬
ственный мир, явленный через мир физический,— небо,
открытое земле.
XXXII. Теперь, если кто-то—а критика под видом воп¬
росов не редка в наши дни—спросит, как может поэт соеди¬
нить эти две стороны в одной драме и избежать искусст¬
венности, которая портит впечатление, заставляя заранее
догадываться о намерении автора, и не иссушить свою
поэтическую душу служением определенной цели, не иска¬
зить явно или не извратить молчаливо историю, не разру¬
166
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
шить представленную в событии иллюзию драматического
действия непрестанным и настойчивым выставлением нрав¬
ственного принципа в виде аксиоматической сентенции —
на этот и на тысячу других вопросов того же рода я чи¬
стосердечно отвечу: не знаю; да и не стал бы писать
статью, если бы мне казалось, что знаю. Это тайна гения,
и она раскроется, когда богу будет угодно; но не прежде,
вероятно, чем изменятся существующие условия, и, повто¬
ряю, не позже, чем завершится XIX век. Мне ясно лишь,
что иначе драма будет по прихоти писателей менять
сколь угодно форму, но не продвинется ни на шаг вперед,
не придет в гармонию с ходом просвещения и тенденцией
века, что высокая миссия быть апостолом истины для
людей не есть рабство и никогда не презиралась гением,
но как некое посвящение всегда возвлеличивала, зажигала
возвышенной надеждой, иногда даже создавала гения, что
истолковывать историю не значит искажать или извра¬
щать ее, что необходимость сделать очевидной заключен¬
ную в событии идею, ввести драматический символ чело¬
вечества и управляющих им принципов заставит писателя,
возможно, что-то прибавить к фактической действительно¬
сти или вычесть из нее, но что такая операция, для всяко¬
го драматурга необходимая (поскольку ведь ни сколь
угодно добросовестная история не передает всех граней
факта, ни драма, сколь бы свято она ни следовала исто¬
рии, не может вместить ее всю целиком), оказывается
преимуществом искусства, если оно стремится при этом к
философской и полезной цели, а не служит прихоти
писательского воображения, что соблюдение подобной цели
потребует менее произвольных изменений, чем иные дума¬
ют, ибо, поскольку нравственная истина всегда воплощает¬
ся в фактической действительности, соблюдение одной
часто обнаруживает другую, так что драматический поэт,
даже доверяясь работе воображения, легко попадет в точ¬
ку, угадав историю. И я с внутренней убежденностью
ощущаю возможность новой драмы и верю в нашу моло¬
дую Италию, которая сейчас немотствует и колеблется
между различными учениями, но скрывает в себе, если я
не обманываюсь, столько крепости, энергии, силы духа и
сердечного пыла, что самое дерзновенное и трудное начина¬
ние окажется ей по плечу. И мне верится, что призываемая
мною драма одна отвечает, хоть я и не могу изложить
всю ее теорию, величию судеб нашей страны. Пусть пока
167
ДЖ. МАЦЦИНИ
будет достаточно сказанного; впоследствии же я попыта¬
юсь показать неизбежность, необходимость этой драмы
и ее соответствие теперешней ступени итальянской куль¬
туры,
В этом и ни в чем ином задача критики, до сих пор не
понятая или забытая среди филологического, эстетического
и грамматического педантства комментаторов, журнали¬
стов и буквоедов, которые обкрадывают мертвецов, и снеси
ученых сочинителей, академиков и наставников, которые
повелевают живыми. Критик — не судья гению, и никакая
критика со времен Аристарха вплоть до наших лет не
могла создать таланта там, где его нет. Но критика стоит
между великими людьми и народными множествами, по¬
добно соединяющему звену; из состояния эпохи она заклю¬
чает о литературных потребностях и возвещает о них
нациям, чтобы они приучились предчувствовать их, жаж¬
дать их, взывать к ним. Словом, пророчествуя о писателях,
она готовит для них народ — дело более важное, чем
думают, ибо писатели по большей части появляются, лишь
когда созреют условия и лишь в редчайших случаях
прежде своего времени. Пусть же критика пытается обра¬
зовать этот народ. Когда он будет подготовлен и соединен
как бы в ожидании духа божия, дух божий придет. Из
гущи толпы гигантом восстанет гений, сила которого будет
в общем согласии, и рассечет своей могучей рукой узел,
остающийся сейчас гордиевым узлом для всех нас. Тогда
все мы, критики, если в нас останется хоть крупица здра¬
вого смысла, умолкнем и преклонимся перед ним. Он
восстанет, проповедуя ту правду, о которой я говорил, и
вводя ее в драму не путем составления мозаики из правил,
как Вольтер, и не каким-либо другим путем, когда выстав¬
ленная напоказ нравственная цель нарушает интерес дра¬
матической напряженности, но он разольет ее дыхание
изнутри по всему составу драмы и запечатлеет в нашем
сознании ее светлую идею неведомо каким приемом или
чудом искусства. Ведь и бог проявляется и вещает, не
показываясь; он распростер над нами величественную
страницу небес, явил свою силу и свой закон во вселенной,
зажег солнце, рассыпал звезды, эти огни, освещающие
смертному книгу природы. Кто же требует более явного
откровения? Хотите ли вы, чтобы в этой безбрежной лазу¬
ри протянулась его рука, чтобы начертать свои повеления
и принципы для человечества? Гений есть тень бога: он
168
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
действует так же, он достигает своей цели, не объявляя ее
непосредственно. У воздвигаемого им здания нет имени,
но при едином взгляде на него в твоем сердце звучит
струна, отвечающая его замыслу, и с представления его
драмы ты выйдешь всецело охваченный идеей, которую он
пожелает вселить в тебя, подобно тому как тебя делает
более добродетельным и сильным чтение Данте, музыка
Россини, созерцание Альп.
XXXIII. Однако — ибо цветок гения редко взрастает
среди людей и иных могут устрашить кажущиеся непрео¬
долимыми трудности — я все же воспользуюсь примером,
показывающим возможность такой драмы, где изображе¬
ние фактического события сочеталось бы с представлением
нравственного принципа, соответствующего вытекающей из
самого события идеи. Он послужит мне сейчас для истол¬
кования одной мысли, в себе ясной, но потребовавшей бы
долгого развития, невозможного по характеру моей статьи.
Этим примером будет мне «Дон Карлос» Шиллера *.
Чтобы подойти к теме указанным выше путем, поэт
должен был рассмотреть три вещи:
действительный факт;
общий закон эпохи, делавший этот факт возможным и
объяснявший его существование;
♦ Среди всех драматических сочинений Шиллера я говорю именно об этом
не потому, что считал бы его лучше других или предлагал его моделью для всех
драматургов, но потому, что поэт работал над ним с любовью в годы пылкой
юности, когда не знал еще иных влияний, кроме влияния своего сердца и гения,
всего полнее излил в нем свою душу, этот источник прекрасных и благородных
страстей, и всего ярче выразил ту идею, которой он поклонялся и которая всегда
останется священной для будущего. Позднее годы и знания не угасили этот
огонь, но научили поэта владеть нм, и он писал уже драмы, более приемлемые
для тех, кто в произведениях литературы ищет скорее искусство и мастерство,
чем дыхание души и человека. Я знаю, что против «Дона Карлоса* литератора¬
ми выдвинуты многочисленные обвинения — впрочем, в большинстве ребяческие
и исходящие от людей, которые свои похвалы и порицания основывают на сис¬
теме, целиком и полностью отвергаемой мною. Действительный — и реже всего
упоминаемый — недостаток этой драмы в том, что Шиллер изобразил в ней бо¬
лее козни придворных Филиппа и всевластие суеверий, чем деспотизм самого
Филиппа. Филипп Шиллера — это, конечно, не испанский Тиберий, начертанный
Альфиери. Возможно, Шиллер не решился показать тирана во всей его низости
потому, что был увлечен чертами величия, которыми наделяет его история, а бо¬
лее того своею ангельской душой. Как бы то ни было, этот легко исправимый
недостаток, не меняя порядка и системы драмы, не мешает моему замыслу.—
Исторические ошибки в драме были ошибками своего времени и точно так же
имеются в «Филиппе» Альфиери и всех других драмах, писавшихся тогда на эту
тему (1861).
169
ДЖ. МАЦЦИНИ
всеобщий закон человечества или нравственный прин¬
цип, на основании которого следовало судить о факте.
Борьба этих двух законов в сфере фактической действи¬
тельности составляла сюжет драмы, частное и временное
торжество закона эпохи над законом человечества — ее
трагизм.
Поэтому драма должна была включить три разряда
символов или действующих лиц.
Первые, герои действительного события, Филипп, Карл,
Изабелла и другие, были даны самой историей, и их над¬
лежало списать с нее.
Вторые, которые должны были представлять Испанию
XVI века и бурлившие в ней страсти суеверия, феодальной
гордости, монархического фанатизма, похоти,— Лльба, До¬
минго, Эболи — выведены из размышления над эпохой.
Здесь, вероятно, остановился бы любой писатель, строя¬
щий свою драму в соответствии с системой историзма, как
ее понимали первые романтики. Но Шиллер не остановил¬
ся. Для него поэт был — как это и есть в действительно¬
сти— посредником между прошлым и будущим, не ремес¬
ленником, но гражданином эпохи, в которую он родился
и судьбы которой стремился предугадать. Шиллер писал
для молодого мира, стоявшего на заре своего развития и
ожидавшего раскрытия своей идеи; и в то время как умы
трудились повсюду над тем, чтобы возродить «идеал»,
отринуть все человеческое, что роднило их со своим веком,
и все божественное, что толкало их вперед, и превраща¬
лись, пятясь назад, в людей XIV или XV века, Шиллер
чувствовал, что гений зовет его посвятить себя священной
задаче низведения на землю, в людские массы плодотвор¬
ных и светлых принципов и возвышенных надежд, чтобы
эпоха, завершив свою разрушительную работу, не погру¬
зилась в сомнение и скептицизм. Ум глубоко философский,
он знал, что фактическое событие есть луч, идущий от
людей к богу, и потому переступал тесные пределы факта,
следуя за этим лучом туда, где он сливался с вселенским
очагом, с вечной истиной мира. Так ему явился величест¬
венный образ маркиза де Позы. Поза есть тип; он пред¬
ставляет принцип правды, принцип свободного разума,
прогресса, этой души вселенной. Чувствуешь, как при пер¬
вом появлении на сцене этого ангела, сошедшего в середи¬
170
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
ну ада, разливается какая-то священная аура сверхчелове¬
ческой добродетели, дыхание торжественной надежды,
покой откровения — ибо Поза любит, но так, что сердце
его бьется для всего мира, и любовь его обнимает челове¬
чество, со всеми будущими поколениями. Великий своей
верой и жертвенностью, венцом всех человеческих добро¬
детелей, сильный своей чистой совестью и постоянством во
всех испытаниях, он идет по пути, указанному ему той
силой, которая создает Гения и облекает его высокой
миссией, идет спокойно, уверенно, отрешенно, идет как
человек, отвергнувший надежды и наслаждения жизни,
недолговечную похвалу, радость триумфа, все — кроме
принципа и мученического подвижничества. Могло бы
показаться, что от человека в нем лишь речь и облик, что
это тип, вырванный у тайны поэтического вдохновения
лишь затем, чтобы люди отчаялись в его достижении —
если бы только чувство глубокой печали, которым полны
его движения, его жесты, его речи и которое распростра¬
няется на все его отношения с людьми, не открывало нам,
что и он рожден от женщины; и если бы его слезы, его
почти материнская нежность к другу своих ранних лет,
минутные возвращения к потребностям сердца, объятие с
Карлом, каким он знал его в своей первой молодости, не
убеждали нас, что он, как и его братья по несчастью,
рожден страдать и умереть, что душа его была очаг пре¬
красных страстей, благородных чувств и любви, но что он
смял, убил, задушил радости, мечты и надежды ради
одной великой идеи и по собственной воле превратил в
пустыню эту пылкую душу, чтобы воздвигнуть в ней
алтарь человечеству, с того момента, как ему было откры¬
то, что человек не рожден для себя самого. Но эта сила
любви, которая живет в подобных сердцах, и есть не что
иное, как устремление души к бесконечной красоте, это
пламя, которое хотело бы разлиться на весь мир и объять
вселенную, должно, чтобы не рассеяться, обратиться на
определенный и действительный предмет. Это поток лу¬
чей—к сожалению, я должен изъясняться материально,
чтобы по возможности выразить свою мысль,— которые,
отправляясь из глубины сердца, встречают на пути удоб¬
ный предмет, окружают его по касательным и, разодев,
раззолотив его ярчайшими своими цветами, чистейшими
идеальными красками, продолжают свой путь, чтобы раз¬
литься во всем творении. И Шиллер чудно воспользовался
171
ДЖ. МАЦЦИНИ
этой прекрасной дружбой — которая в то же время сама
есть откровение нашей эры, насколько я знаю, лишь им
угаданное,— чтобы связать свой тип с человечеством, за¬
ставив Позу любить молодого Карла как символ своей
религии, как посредника между идеей и человечеством, ибо
в молодом Карле Поза любит весь мир *. Знаю, что про¬
фессора словесности и преданные им журналисты бросили
обвинение Шиллеру в том, что он без уважения к колориту
эпохи и к исторической истине наделил страстями своей
души и своего времени персонаж XVI века. На это пусть
ответит за меня сила, воспитавшая великую душу Пета
Фрасея20 среди низостей римского патрициата и плебса
в императорство Нерона, а при Оттоне III внушившая Кре-
щенцо идею итальянского единства на девять веков рань¬
ше всякой возможности ее осуществления21. Гений и Лю¬
бовь одинаковы во все времена; души, согретые этими
двумя огнями, сияют в любую эпоху. Они глубоко несчаст¬
ны, если век препятствует им, но нет безвременья столь
мрачного, чтобы совсем отнять их у человечества; и пусть
профессора вспомнят, что когда Филипп II начинал свое
царствование, еще не остыл пепел Падильи, жива была
память о войне коммун и о героической защите Толедо под
предводительством женщины, Марии Пачеко22. Вместе с
тем общий закон эпохи не позволял еще, чтобы принципы,
символом которых был Поза, овладели множествами и
* О Карле мы знаем, что также и он был поэтическим созданием, поскольку
исторические воспоминания и документы, собранные Льоренте, показывают его
диким, суровым и близким к какому-то безумию. Но вокруг его имени во вре¬
мена Альфиери и Шиллера царила крайняя неопределенность, которая оправды¬
вает поэтов перед судом молодцов, изощряющихся в доказательствах несуще¬
ствования Вильгельма Телля и внушающих юности, что самолюбие, а не любовь
к родине, внушило Данте его священную Поэму. Какая высшая польза должна
произойти от опрокидывания алтаря, на котором юность курила благовония пе¬
ред образом добродетели, знать мне не дано. К сожалению, людям нужно —
и еще долго будет нужно — преклоняться перед иконами, чтобы утвердиться в
любви к богу. Поэтому я благодарен Шиллеру за то, что он дал мне новый
символ добродетели, и у меня нет ничего, кроме презрения к людям, которые
пытаются опровергнуть его на основании недавно откопанной хроники, хотя ведь
то важное преимущество, которое дает историческая точность, состоит в опреде¬
лении века, его особенностей и социальных, политических и религиозных усло¬
вий, а вовсе не в возможности скопировать незначительный персонаж — хотя выс¬
шее искусство заключается в умении раскрыть лежащий в основе события прин¬
цип и осветить его по возможности ярчайшим светом — хотя, наконец, не тира¬
нию Карла, а тиранию Филиппа II хотим мы увидеть воочию, и контраст помо¬
гает сделать ее потрясающе убедительной.
172
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
превратились тем самым в действие. И Шиллер, подчиняя
свое произведение этому закону, заставил своего Позу
всеми силами воздействовать на одного человека королев¬
ской крови, стараясь вселить в Карла те принципы и те
семена вечной истины, которые, будучи освящены и под¬
держаны авторитетом правителя, воспитали бы в людях
желание понять, взрастить и воплотить их в действие. Для
Карла самодурство и подозрительность деспотизма, отняв¬
шие у него супругу, госпожу его сердца, и отнимавшие
отцовскую любовь, уважение придворных и привилегии
наследника престола, должны были представляться более
ненавистными, чем для других. И его страстная, чистая
душа, не знающая ничего, кроме страдания и любви, впе¬
чатлительная, верная, бескорыстная, как все молодые ду-
щи, должна была легко открыться для всех великодушных
мечтаний, для всех надежд будущего; ибо мысль гения,
чтобы принести плоды, должна пасть там, где есть вера
и отвага, а отвага и вера принадлежат нам, молодым.
Однако ради подтверждения существенного характера
эпохи, которая не допускала действия в массах, но лишь
в личностях, Поза испытывает самого Филиппа — испыты¬
вает, чтобы узнать, способна ли душа тирана заключить
союз с Истиной; но даже слово энтузиазма не может ожи¬
вить пустыню, и с того момента, как убеждаешься, что
Поза преследует несбыточную надежду влить жизнь в тру¬
пы, чувствуешь, что он погиб. С этого момента пропорции
картины гигантски расширяются: сталкиваются два прин¬
ципа, которых действующие лица драмы суть лишь слепые
проводники. Один олицетворен в Позе; другой, тайное
влияние которого ощущается в эпизодах и поворотах дей¬
ствия, остается невидимым, но оттого еще более значитель¬
ным и страшным, вплоть до последних сцен, в которых он
внезапно раскрывается в облике Великого инквизитора,
старого, как власть, слепого, как суеверие, неумолимого,
как рок. Исход борьбы для Позы — чем иным он мог быть
в судах Филиппа II, кроме мученической смерти? Он уми¬
рает— но мы чувствуем, что его великая душа воспаряет
над сценой и торжествует над ней, что он мученик принци¬
па и что этот принцип пребудет.
Большое искусство, тысячи отдельных красот можно
видеть в драме, но мне хотелось бы обратить ваше внима¬
ние на переплетение в ней великих общественных интере¬
сов Реформации, Нидерландской революции, нравственного
173
ДЖ. МАЦЦИНИ
прогресса с личными интересами, вращающимися вокруг
Изабеллы и Карла, на дыхание всеобщности, которая, воз¬
водя каждое отдельное событие на уровень борьбы, разго¬
рающейся в каждом веке между законом эпохи и законом
человечества, трогает струну, звучащую долго после того,
как утихнет вызванное самим фактом волнение, и остав¬
ляет в вас общую идею, приложимую ко всем явлениям
того же порядка, на то, как вы оказываетесь брошены
внутрь события и можете видеть, какими нитями оно
связано с законами нравственной природы, на то, как
пьеса неудержимо влечет вас мимо и дальше своих обсто¬
ятельств в бесконечное поле чистого разума. Драме клас¬
сической свойственно так привязывать зрителя к героям,
движущимся на сцене, что весь его интерес поглощается
самим кругом действия. Представление отдельного собы¬
тия, вымышленного или исторического, порождает разроз¬
ненные и столь тесно привязанные к перипетиям действую¬
щих лиц ощущения, что они появляются и исчезают вместе
с действием на сцене, а композиция, построенная без
философского замысла, ничего не оставляет для работы
ума тех, кто присутствует на представлении. Это называют
драматическим интересом! Но драма, как мы ее понимаем,
драма, построенная на высокой правде принципов, превра¬
щает весь зал в огромный трибунал, который поверяет
факт законом, унося со спектакля глубокую убежденность
в вечности одной из нравственных максим, наряду с тем
важным и стойким впечатлением, которое оставляет в душе
выполнение торжественного обряда нравственного служе¬
ния. Есть закон Канта, прекрасно определяющий нравст¬
венный долг молодой Европы: поступайте так, как если
бы каждая максима вашей воли должна была стать одним
из положений всеобщего законодательства. Я же скажу
драматургам: представляйте избранный вами в качестве
сюжета факт таким образом, чтобы частное следствие вело
к одному из великих нравственных или исторических зако¬
нов, управляющих вселенной. Борьба между силой инди¬
видуальной воли и высшим законом человечества состав*
ляет всю историю мира; согласие между этими двумя
принципами, слияние одного с другим составляет его тайну.
Вот вся проблема цивилизации, и одному богу известно,
когда она разрешится,— может быть, через две тысячи
лет; но так или иначе она разрешится, и тогда драма и,
возможно, всякая другая литература станут ненужными
174
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
или вредными. Пока же драма как любой литературный
жанр, если она хочет жить нашими нуждами, должна
изображать эту борьбу, должна быть излучением челове¬
чества, отражением, выразителем того всеобщего духа,
который религия воплощает в совести, философия в идее,
история в фактах, искусство в представлениях и образах.
Как —я не знаю; но среди многих других указываю путь,
который нашел и своим примером сделал возможным
Шиллер. Я считаю, что конечная цель искусства сводится
к тому, чтобы способствовать развитию просвещения в
народных множествах; считаю, что у множеств, как у де¬
тей, как у любого человека, душевные способности успеш¬
нее развиваются упражнением, привычкой выводить необ¬
ходимые следствия из факта и, анатомируя, определять
черты идеи, чем отвлеченным, ограниченным, односторон¬
ним обучением. Я нахожу, что большая часть драм клас¬
сических оставляет народ слишком в стороне и обрекает
его на бездеятельное созерцание, не более того, — частью,
возможно, из-за ложно понятой и ложно примененной
системы драматической иллюзии, а более из-за несчастней¬
ших условий, которые еще недавно делали из литературы
аристократическое учреждение, а народ оттесняли в сферу
бездействия, против чего вопиет историческая действитель^
ность. Но нельзя приговорить целую нацию к нравствен¬
ному остракизму, и плохо мы ей послужим, устраивая
театр на манер чувственной забавы. Если бы в театре
упрямо продолжали видеть новое подобие цирковых зре¬
лищ, не стремящихся к серьезному воспитанию, я выска¬
зался бы за их отмену. Нет сомнения: характер нашей
эпохи* и тем самым новой литературы, в высшей степени
народен. Народ томится жаждой прогресса, ждет помощи
гения; когда ее нет, идет вперед сам, в лучшем случае
угадывая дорогу, чаще ошибаясь и сбиваясь с пути. Новее
теперешние (и будущие) драмы, опирающиеся на старый
метод, состряпанный теми, кто украл у греков все, кроме
той жизненной сути, благодаря которой театр становился
у них дополнением общественных учреждений, — на метод,
приспособленный затем французами для развлечения
«юных маркизов» и двора,— только щекочут чувства наро¬
да, удерживают его живое внимание, лишь пока это по¬
зволяют перипетии действия, и с развязкой кладут конец
драматизму и возбуждению одновременно, или же, если
пытаются пробудить длительную страсть и взбороздить
175
ДЖ- МАЦЦИНИ
душу впечатлением, выходящим за пределы театра, то это
страсть отрицания, мания разрушения, а не побуждение к
созиданию; и кажется, что они учат ненависти, как если
бы ненависть, чувство, к несчастью, врожденное людям,
изредка принимая характер благородной страсти, не ока¬
зывалась чаще, без водительства рассудка или лучше —
веры, пагубной и бесполезной. Таковы многие драмы
Вольтера, точно отражающие суть XVIII века,века разру¬
шительного отрицания. Таковы почти все драмы Альфиери,
изливающие бурное чувство энергичной и мощной ненави¬
сти, которая достигает пределов неудовлетворенности и
одевает душу в траур. Слушая или читая их, ощущаешь
бушевание глухого гнева, неустанной и необузданной яро¬
сти. Но многим ли придаст силу на великие дела ярость,
бешеная властительница Альфиери, если склад их души
иной? А много ли среди целого народа таких, кто срав¬
нится но душевному закалу с Альфиери? Народы лишь
тогда смело идут по путям прогресса, когда видят вдали
озаряющий их путь свет надежды. Альфиери же как бы
писал в заглавии всех своих трагедий слова, которые
Виктор Гюго прочел над порталом собора Парижской
богоматери: ΑΝΑΓΚΕ. И все же Альфиери, мы уже гово¬
рили об этом (см. 1-ю статью), был великим преобразова¬
телем: он изменил если не формы и систему, то помень¬
ше« мере содержание и цель драмы; он не стал романти¬
ком. но не был и классицистом. Он понял властную необ¬
ходимость для драматического поэта изобличить во лжи
«фактическую действительность» и отвергнуть — вернемся
к нашей теме — повествующие о ней страницы истории.
И он изобличил ее с безумной яростью, заставив угнетен¬
ного унизить угнетателя23. Тем не менее закон контраста
заставил его посреди ужасов свирепой тирании и подлого
рабства вывести героя, который воплощает вечный разум
мира и протестует во имя попранного человечества против
могущественного злодея. Но его Перес в недостаточной
степени олицетворяет этот принцип: идея бессмертной
правды мелькает во мраке, как в темнице луч солнца,
затем этот луч гаснет, и ты остаешься в одиночестве, чтобы
проклинать в отчаянии, скрипеть зубами и рвать на себе
волосы, ибо в краткости и бесполезности протеста видишь
страшный приговор, ужасающий вывод о судьбах челове¬
чества. Иное дело Шиллер; здесь чувствуешь, как среди
ужасов развязки, подобно цветку над могилой, вырастает
176
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
откровение, рисующее картины любви, сладостных воспо¬
минаний и светлых надежд, убеждаешься, что такие люди,
как Поза, не станут мучениками ложного иринцииа—и от
немого, лежащего, подобно искупительной жертве, трупа,
перед которым властитель половины мира бледнеет, как
преступник перед лицом своего судьи, исходит могучее
осуждение века тирании. Все это, и не только это, чувство¬
вал я, читая и перечитывая страницы «Дона Карлоса»,
и, обливаясь слезами, я отчетливо слышал голос величест¬
венного утешения, ощущал трепет победы, веру, торжест¬
вующую на руинах, глубокую правду высшего закона
прогресса, обещающего мученикам прекрасное воскресение.
Может быть, все это мои личные переживания — и тогда
я не имею права навязывать их другим; но я прошу моих
юных собратьев еще раз без недоверия к собственному
сердцу, без суеверия системы прочесть эти драмы Аль¬
фиери и Шиллера; и я убежден, что две трети молодых
сердец моей родины почувствуют то же, что я. К остав¬
шейся трети я не обращаюсь.
XXXIV. Я мог бы на других образцах показать, какими
и сколькими путями гений способен воплотить идею, кото¬
рую я хотел бы видеть в основе современной драмы, соче¬
тая с философски точным изображением истории и эпохи
другое и более важное изображение истины принципов,
истины, которая всегда оказывала свое влияние на лич¬
ность и на поколения, то оставаясь непознанной и незаме¬
ченной, то открываясь познанию, углубленному размыш¬
лению или но меньшей мере предчувствию. Мне кажется,
что «Гётц фон Берлихинген» обнаруживает стремление к
той же драматической основе, без введения единого сим¬
вола всеобщего закона, высшей истины. И я думаю, что
разбор драмы Гёте дал бы пример того, как в одном от¬
дельном характере писатель может сосредоточить выраже¬
ние двух законов: Гётц, человек XVI века, храня, с одной
стороны, колорит своего времени, отражает, с другой, свет
той истины, которая есть закон для человечества: он — как
бы образ умирающего феодализма, освещенный солнцем
новой цивилизации, символ, стоящий между двумя мирами.
Но и «Дон Карлос» достаточно свидетельствует о том, что
истинный талант всегда найдет себе путь; у посредствен¬
ности же, будь я судьей в литературе, я оспоривал бы
право не только на драму, но и на любой вид поэзии.
В ùàui век бессмертие не достигается подражанием, или
177
ДЖ. МАЦЦИНИ
порчей. Не знаю, кто стал бы в здравом уме утверждать,
что драма, с безрассудством привычки называемая «клас¬
сической», не погибла окончательно и бесповоротно. Но ни
так называемые «исторические сцены»24, в которых исто¬
рия, как старые картинки, берется из томов исторических
сочинений и без всякого изменения переносится в театр, ни
безумствующие сочинения, порождения фантазии порочной
или мятущейся без точки опоры в бездне нравственного
падения, которые затопили все сейчас, особенно во Фран¬
ции, и которые присваивают себе название «романтических
сочинений»25, не отвечают цели цивилизации. Первые,
сегодня знакомя вас с нравами и обычаями одного века,
завтра с нравами и обычаями другого, оставляют народ¬
ные множества среди сомнений и заставляют их блуждать
меж развалин прошлого. Вторые, упрямо распространяя
нравственную агонию, которую должны были бы стараться
прекратить, учат скепсису и отчаянию. Одни замедляют
приход нового поколения, другие рискуют сбить его с пути.
И те и другие — проявляй они сколько угодно ума и талан¬
та— умрут вместе с веком, если не раньше; они умрут,
ибо борьба между двумя принципами, в исходе которой
они сомневаются, все еще длится, но так, что заключает
в себе пророчество победы лучшего из них; они умрут, ибо
последние звуки гимна прошлому сменяются уже мощными
звуками гимна веры в будущее, отвратить которое не смо¬
жет никакая сила. История не может сегодня остановиться
на материализме фактов. Три тысячи лет, наполненных
событиями, свидетельствами, исследованием истины отно¬
сительной, как ее являет каждый век и каждый народ в
своих святынях, памятниках искусства, в летописях, в ре¬
лигиях, дают нам право, мне кажется, приподнять край
завесы, скрывающей истину абсолютную. Мы живем во
времена, когда возврат к младенческим методам противо¬
речит зрелости мира. Человеческая раса претерпела за
века бесчисленные преобразования; человек начинает исче¬
зать под причудливой пеленой, в которую его облекают
условия жизни, предрассудки и установления. Но где могу¬
чая рука, способная снять с него эту пеструю пелену, и в
тот момент, когда он, свободный от всех препятствий,
сможет лучше ответить на призыв собственной природы,
поставить его перед нами, сказав нам: «Приветствуйте
избранника вселенной»? — Раскройте историю: вот языче¬
ский человек, вот человек феодализма, человек XVII века;
178
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
вот человек Севера, человек Юга; но выше всех их, предста¬
вителей какой-либо одной ступеньки духовного развития,
созданной совокупностью физических и нравственных при¬
чин, присущих этой нации и этому времени, стоит человек
всех времен, всех стран: человек — первородный сын приро¬
ды, образ божий, созданный для бесконечного прогресса
и совершенствования; человек — средоточие вселенной, ес¬
ли рассмотреть его бессмертную часть, полноту его нрав¬
ственных сил; словом, не англичанин, не француз, не
итальянец, но гражданин огромной земли, миниатюра всех
вечных вселенских непреложных законов—ЧЕЛОВЕК.
Вот стержень современной социальной драмы, которую
до сих пор мы называли «романтической», чтобы нас луч¬
ше поняли люди, привыкшие видеть в поле словесности
лишь два знамени! Вот чего должен достичь гений, кото¬
рый захочет дать нам ожидаемую эпохой Драму! Диаметр
новой драматической сферы должен коснуться одной око¬
нечностью прошлого, другой — будущего: вот признак, по
которому молодая Европа узнает своего поэта,— поэта,
которому «романтики» расчистили и подготовили путь.
Статья III
А пока?
Что нам делать все это время между сегодняшними
робкими попытками и тем днем, когда Европа будет при¬
ветствовать драматического Гения, истолкователя предчув¬
ствий эпохи? Взывать к неверной судьбе? Ждать, что он
взметнется вдруг, как метеор, без постепенного возраста¬
ния света, без первых красок зари?
Я уже сказал раньше, что когда будет собран и подго¬
товлен полный веры народ, как бы ожидая духа божия,
дух божий сойдет к нему. В ранние эпохи, когда разум
нации погружен во мрак или мерцающий свет и подража¬
тельная литература не существует, вдохновленный родны¬
ми преданиями и своими врожденными наклонностями
гений самопроизвольно и своевластно делается основате¬
лем национальной литературы и законодателем будущего
искусства. Данте и итальянское искусство созданы богом
одновременно. Но когда после тысячекратного приложения,
испытания и воплощения оживлявшей ее идеи литература
стареет, истощается и исчерпывается, оригинальность ее
179
ДЖ. МАЦЦИНИ
притупляется за века подражания, богатство превращается
в бессилие, поэзия великих умов — в молчание, народное
уважение к искусству и художнику — в безразличие, тогда
лишь одна критика способна начать работу обновления.
Критике, правильно понятой и должным образом ведомой,
предстает тогда двойная задача перевоспитания народа
для гения и гения для веры — два условия, без которых
литература невозможна. Сначала Лессинг, затем Шиллер.
Мне кажется, что наша литература находится несом¬
ненно в этом втором периоде.
Итак, необходима критика; необходима работа воспи¬
тания, которая обновила бы дух впавшей в рабство и бес¬
силие нации, необходима итальянская школа.
Но — и это, по-моему, тоже теперь уже ясно — в
XIX веке итальянская школа не может стоять в стороне
от европейского духовного движения, и точно так же
литература не может возродиться, возвращаясь к своим
источникам без связи с определившей ее эпохой. У лите¬
ратуры, какую требует время, будут, вероятно, националь¬
ные формы и европейская идея. И если первые могут стать
доступными поэту лишь через изучение начал нашей лите¬
ратуры или национальной традиции, то вторая требует
долгого и глубокого исследования различных направлений,
намеченных писателями всех веков и всех стран. Следова¬
тельно, необходимы переводы.
И в переводах недостатка нет. Но так как их выбором
не руководит единый замысел и нет критики, которая из¬
влекала бы из каждого произведения главную мысль и
подвергала ее разбору, то эти переводы в своем большин¬
стве служат развлечению, но не воспитанию, собирают
беспорядочный материал, уводят молодых по ложным
путям бездумного подражания тому или иному образцу, но
не помогают развитию итальянской школы, не передают
ей, после обсуждения и оценки, наследие прошедших и
уходящих литературных эпох и школ. Не редкость теперь,
что итальянским переводам иностранных шедевров пред¬
посылаются замечания и критические суждения, вышедшие
тоже из-под пера иностранца.
Мне хотелось бы — и то, что я предлагаю теперь в отно¬
шении драмы, следовало бы сделать в отношении всех
областей духовного развития человечества от словесности
до религии,—чтобы трудами тех, кто молод талантом,
сердцем и верой в будущее, было основано Собрание всех
1Ö0
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
итальянских и иностранных драматических произведений,
наиболее явно обнаруживающих особое направление, осо¬
бую форму драмы, идею одной из эпох, наций, верований,
в сопровождении критико-теоретических работ, призванных
показать ее проявление и в жизни и в сочинениях писате¬
лей. Так возникнет Курс драматической литературы, где
принципы переплетались бы с фактами, теории — с приме¬
рами: документированная История драмы. Это Собрание,
предваренное исследованием о происхождении драмы и об
ее до сих пор не замеченной или отрицаемой связи с рели¬
гией в примитивные эпохи, началось бы с индийской или
персидской драмы, чтобы перейти затем через греческий
театр, немногие примеры римского театра и несколько
средневековых мистерий к английским, испанским, фран¬
цузским, итальянским, немецким произведениям вплоть до
некоторых современных поэм, особенно написанных изгнан-
никами-поляками *; стоя между лирикой и драмой, они,
как призраки, блуждающие на грани двух миров, предве¬
щают одновременно и разрушение одной формы драмы и
стремление к другой. Но среди многих авторов, которые
войдут в Собрание, возможно, только троих, Эсхила, Шек¬
спира и Шиллера, нужно будет перевести полностью, все
остальные потребуют отбора. Следуя за ходом истории,
Собрание могло бы выходить отдельными выпусками по
эпохам. Очерки, предшествующие каждому тому, а иногда
каждой драме, должны были бы показывать ее жизненную
стихию** и определять ее значение, пороки и достоинства;
в примечаниях делалась бы попытка установить путем
психологического анализа, в какой степени преобладание
этой стихии обязано влиянию времени и в какой — наклон¬
ностям или обстоятельствам личной жизни писателей.
Переводы, предельно верные и без тени искажений, следо¬
вало бы делать, за исключением, возможно, переводов с
греческого, все в прозе, ибо лишь истинным гигантам
оригинальной поэзии дано слиться с поэзией других; по¬
средственность всегда заменяет ее собственной***, среди
нас же великие редки и не привычны, как кажется, к пере¬
* «Дзяды» Мицкевича, «Комедия смерти» Краснньского и т. д.
*ф Судьба у Вернера и Мюлльнера, религиозный материализм у Кальдерона,
личность у Шекспира и т. д.
*** См. для примера переводы кавалера Маффеи, которые объявили прекрас»
ыыми те, кто не хочет или не может сравнить их с оригиналами.
181
ДЖ. МАЦЦИНИ
водам *. Критика должна быть — за исключением одного
тома, в который войдет «Драматургия» Лессинга и неко¬
торые новые немецкие исследования о Шекспире,— вся
итальянская.
От такого Собрания, начатого и поддержанного терпе¬
ливой энергией группы талантов, сплоченных единой верой,
единым литературным синтезом, собравшихся не для того,
чтобы, как в коллегиях и на литературных и научных
конгрессах наших дней, представлять без единства направ¬
ления собственную личность, собственный метод, собст¬
венную систему наблюдений, несомненно распространится
познание тех двух стихий, без которых человеческий дух
не может сделать и шага на путях прогресса: традиции
прошлого и личного вдохновения, а значит, познание той
идеи, которую наш век предписывает драме и всей новой
литературе.
Что еще предложить, не знаю. Мы лишены сейчас дра¬
мы по тем же причинам, по каким лишены истории; и
пока эти причины удержатся, боюсь, нам придется доволь¬
ствоваться более или менее талантливой, более или менее
плодотворной работой критики.
•Не так в других странах: Кольридж перевел «Валленштейна», Шиллер —
«Макбета» и какую-то сказку Гоцци; Шелли, если бы ему хватило на это жизни,
перевел бы «Фауста».
МЫСЛИ О ПОЭТАХ XIX ВЕКА
Что такое поэзия? — Предчувствие
будущего мира.
Байрон *,
I. Было двадцатое марта
1811 года — пушка будила Париж.
Париж в те дни был одной идеен — одним именем —
одним человеком. Одно имя было знаменем Франции: имя,
владевшее сердцами, вошедшее в плоть народную, сделав¬
шееся синонимом чести и славы. Улицы заполняли толпы
людей, охваченные единым трепетом нетерпеливого любо¬
пытства, движимые единым желанием, волнуемые единой
надеждой. Они настороженно считали залпы, словно от
последнего зависели судьбы нации, и когда этот послед¬
ний— сто первый — прогремел над замершими множества¬
ми, раздались рукоплескания, ликующие возгласы, единый
крик: «Слава избраннику победы! Радость и мир Франции!
У великого родился сын!» — Он же, великий, стоял у окру¬
женной приветствием миллионов колыбели гордый, сияю¬
щий, как после одного из своих блестящих сражений,
торжествуя мечтою над будущим, как он торжествовал
оружием над настоящим.
Прошел двадцать один год — было двадцать второе
июля 1832 года.
Юноша в австрийском мундире, с морщинами глубоких
дум на челе, с печатью мучительной идеи в чертах лица,
умирал в Шенбрунне, истерзанный и раздавленный име¬
нем, которое нельзя было безнаказанно носить — и бездей¬
ствовать. В голове умирающего был целый мир, вокруг
него была пустыня. Люди, слышавшие его последние
вздохи, не говорили на языке его родины. Знамя перед
ним не было тем знаменем, что под взглядом его отца
когда-то победно развевалось также и над тем самым
местом, где он теперь умирал. Он был тем инфантом двад¬
цатого марта, первый крик которого приветствовали мил¬
183
ДЖ. МАЦЦИНИ
лионы людей, ребенком, родившимся на царствие, а теперь
томившимся в плену и одиночестве. Тень незабвенной сла¬
вы еще простиралась над ним, но уже печальная, немая
и поблекшая, как память о невозвратно ушедших днях;
умирающий боялся этой тени. Все мысли о будущем, о
славе, о власти, все картины битв, побед, утраченных и
вновь обретенных корон, являвшиеся ему в этот послед¬
ний миг, бурно вздымались и бились в его больной голо¬
ве, тяжко и горько падая на сердце. Ничего вокруг, что
могло бы утешить его; ни отклика на боевой клич, в бре¬
ду срывавшийся с его уст. Сын могучего императора уми¬
рал в безвестности, и последний луч эпохи, поглощенной
его отцом, угасал вместе с ним.
Это были два момента возвышенной мысли, два мо¬
мента, равносильные и равнозначные целым двум эпохам
Поэзии. Первая — высокая, блестящая, сияющая силой и
жизнью, как полуденное солнце, поэзия славы, радости
и чувства; вторая — печальная, глубокая, суровая и молча¬
ливая, как солнце на закате, поэзия сосредоточения и раз¬
думья; поэзия победы и уверенности — и поэзия развалин;
поэзия мира настоящего — и мира ушедшего; слава Марен¬
го, иирамид, Аустерлица, Ваграма —и воспоминания о
Москве, Ватерлоо, Св. Елене; гимн —и элегия; поэзия
жизни — и поэзия смерти.
И, однако, один и тот же человек был причиной этих
двух столь различных моментов; один образ, одна мысль
была душой этих двух поэзий, ибо в глазах людей, про¬
стертых перед символом славы, Наполеон I и Наполеон II
были единой идеей: один был продолжением другого, и тот
миллион голосов, который эхом откликнулся на первый
крик младенца, не делал различия между ними. Для тех,
чьим идолом была империя, Наполеон II должен был оли¬
цетворять ту же самую систему. Слава, сила, абсолютная
централизация, позолоченные цепи, военная аристократия,
поощрение наук, пренебрежение к философии, пенсии и по¬
четные кресты, внешнее величие и низкое раболепство
внутри страны, первое место военным способностям, пре¬
следование политических мыслителей в стране, разруше¬
ние и затем воссоздание прошлого, полная смена имен и
названий, великодушие к царственным соперникам и при¬
теснение народов, введение материальных улучшений и
одновременно подавление побежденных народов, француз¬
ский орел в Кремле, но и деспотическая воля Кремля в
184
МЫСЛИ О ПОЭТАХ XIX ВЕКЛ
Сен-Клу — все это, вся эта драма контрастов, крайней
подвижности, с одной стороны, и крайнего бездействия,
с другой, разыгравшаяся благодаря Наполеону во Фран¬
ции и в Европе, все сошлось в Наполеоне II. Верните
юного шенбруннского узника во дворец отца, набросьте на
его плечи серый плащ победителя, и вернете все. Так поче¬
му ж народы столь равнодушны к смерти того, кто один
воплощал в себе целую систему, увлекавшую всю Европу
за своим знаменем? Почему ж молчат поэты о гаснущей
звезде, об идее, навсегда покидающей мир реальности,
о примере личного величия, перед которым на миг склони¬
лись два поколения? Весть о смерти сына этого человека
вызвала не больше горя, чем какое-нибудь известие о
смерти войскового полковника. Кто-то попытался вдохно¬
виться этим событием — и не смог. Первому французскому
поэту не удалось связать по этому поводу двух по-настоя¬
щему поэтических слов. Журналисты попробовали соста¬
вить на этой смерти политическую партию, хотели стонать,
проклинать — и остались холодными и вялыми; писали, но
без признака страсти, без следа сильной мысли, воодушев¬
ления, подлинного горя; и, может быть, единственным
чувством, светившимся в их статьях, было недоумение от
своей неспособности чувствовать подлинное волнение.
А между тем всего двадцать один год отделяет ту
колыбель от этой могилы! Но в столь короткий промежу¬
ток вместились события, для которых когда-то едва доста¬
ло бы веков: год, шедший за тем первым, видел бегство из
России, год спустя началось движение народной стихии
в Германии, еще год спустя Эльба принимала Наполеона;
затем чудесное возвращение и трон, возвращенный лю¬
бовью верного народа, при первом разочаровании вновь
оставленный им; потом Ватерлоо, потом Св. Елена, народы,
поднявшиеся на борьбу, испанская революция, поднявшая¬
ся Греция, восстания в Италии, июльские дни, брюссель¬
ские дни, варшавские дни; сброшенные с тронов династии,
кочующие по всей Европе короли, смертельный удар анг¬
лийской аристократии, начало революционного брожения
в Германии!
И поэты молчат над гробницей молодого Наполеона,
ибо чувствуют потребность в новых звуках,— молчат, ибо
в событиях этих двадцати с небольшим лет потонули име¬
на, потонули индивидуальная слава и идея завоеваний и
силы и эпоху имен, личностей и силы сменила другая
185
дж. млцципи
эпоха, эпоха народов, век принципов, царство права. Они
молчат, ибо когда на арену вступают целые поколения,
отдельные люди исчезают — ибо перед лицом бурлящих
миллионов гимн, славящий одного, звучит жалко, как му¬
зыка на берегу грохочущего океана,— ибо сегодня и прош¬
лое и настоящее ничто: живо лишь будущее — грозное,
упрямое, возвышенное будущее, цель всех помыслов, стра¬
стное стремление души, близкое, бесконечное, могучее в
разрушении и созидании; будущее, которое с каждой
минутой надвигается лавиной, возвращая жизнь ослабев¬
шим нациям, роднит враждебные расы, движет вперед
народные массы и делает из личностей ступени для их
восхождения.
Будущее — это ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.
С миром индивидуальности, средневековым миром по¬
кончено. Начинает свое развитие новая эра, социальный
мир.
И гений объят предчувствием этого мира.
Потому-то умирает Гёте — и Германия, которая всего
несколько лет назад чтила в нем властителя умов, над его
могилой бросила ему политическое обвинение в аристокра¬
тизме; потому-то молодой Наполеон, несколько лет назад
средоточие подозрений, страха, энтузиазма и богатых
надежд, гибнет, и никто даже на момент не отвлекается
от своих будничных дел; потому-то Вальтер Скотт, кото¬
рым всего несколько лет назад восхищалась вся Европа,
медленно угасает, и его агония, о которой регулярно сооб¬
щают газеты, не побуждает озабоченных людей наблюдать
за последними минутами умирающего гения.
II. Наполеон и Байрон!
Вот два имени, в которых воплотилась, достигла по¬
следнего выражения и завершилась эпоха индивидуально¬
сти. Один — властелин армий; другой — властелин образов.
Поэзию дела, поэзию мысли — все сосредоточила и исчер¬
пала в этих двух людях эпоха, о завершении которой мы
говорим.
Первый, придя в годы, когда дух свободы иссяк, когда
изнемогший, изверившийся в будущем, усталый от прошло¬
го народ был развращен частыми переменами и дурным
примером вождей, когда добрые и сильные были уничто¬
жены, а правительством завладели люди в лучшем случае
бездарные, послушные воле повсюду торжествовавшей
реакции,— будучи природой создан для власти и гордости,
186
МЫСЛИ О ПОЭТАХ XIX ВЕКА
снедаемый непомерным самолюбием, воспитанный и вырос¬
ший на полях сражений, привыкший побеждать одним
мановением руки, подогреваемый растущей известностью,
постоянным успехом, а более покорностью нации, ослеп¬
ленной его славой,— начал видеть в народе лишь муска-
дини, золотую молодежь Фрерона2, толпы «йеху»3, мошен¬
ников и слабоумных. Народа, истинного народа, который
томился в нетерпеливом ожидании, ибо видел, что десять
лет кровавой борьбы не привели его никуда, но который
мог бы еще под твердым и энергическим руководством
совершить чудо и вернуть завоеванную и снова утерянную
свободу,— этого народа он не знал или не хотел знать.
Могучий характер, презирающий людей без страха перед
ними, станет тираном или мизантропом — и Наполеон, гений
действия, не могший сделаться мизантропом, сделался
тираном. Зная, подобно всем великим, о законе, который
требует единства, будучи убежден, что Франция может
стать рычагом Европы, но полагая себя больше Франции,
он воскликнул: «Франция — это я!» — и действовал, как
требовали эти гордые слова. Люди были для него лишь
исполнительными орудиями, и он не дал им места в своей
идее. Сосредоточив в себе всю волю и всю власть, он обя¬
зался думать за тридцать миллионов граждан, и все, от
покорения половины Европы до выбора драматических
представлений на сценах парижских театров, исходило от
него. В его действиях просвечивает идея цивилизации, ибо
гений даже против своей воли несет культуру; она про¬
свечивает явственно в первой части его земного пути.
Проходя по всей Европе с кодексом законов в одной руке
и шпагой в другой, ломая или ставя ни во что различия
между народами, навязывая всем одни и те же реформы и
одинаковые цепи, разрушая старые обычаи, изменяя поли¬
тические условия и переливая их в новое единство, он ка¬
зался вдохновенным орудием цивилизации, апостолом
европейского равенства, Аттилой прошлого, подготовителем
будущего. Казалось, чтобы создать действительную основу
социального единства, надо было сначала принудить людей
к единой тирании, к насильственному союзу, что, прежде
чем укрепить свободу, надо ее разрушить; казалось, гений
прогресса благословил этого человека вести людей к новой
ступени цивилизации, научив их на опыте общего рабства,
что у них есть также общий путь к воле и освобождению.
Потом, когда насильственное действие принесло свои пло¬
187
ДЖ. МАЦЦИНИ
ды, когда народы почувствовали свою силу, когда Европа
увидела, что пришло время идти вперед самостоятельно,
был момент, который мог бы, воспользуйся им Наполеон,
сделать его Вашингтоном Европы; но он привык смотреть
на нее свысока, привык заменять своей волей медленную
работу культуры и мечтал, что сможет идти своим путем
вопреки ей: он не понял, что его миссия закончена в день,
когда начинается миссия народов, и стал презирать как
бунтовщиков всех, кто пытался положить ей начало словом
или примером. И наступило время поражений; началось
быстрое и страшное падение; с той же скоростью, с боль¬
шей скоростью, чем шло восхождение, он пролетал теперь
наклонную кривую своего пути, словно должен был исчез¬
нуть как можно быстрее, чтобы не быть препятствием
движению новых поколений. Он ушел кончить свою жизнь
на далеком острове посреди океана, как если бы воплощен¬
ное им индивидуальное начало должно было покинуть
Европу перед овладевшим ею народным началом.
Второй, Наполеон поэзии, пришел в те же годы. При¬
родой созданный для глубоких чувств и для восприятия
первой же возвышенной мысли, которую предложит ему
мир, он окинул взором окружавший его мир и не увидел
этой мысли. В мире не было веры; был разрушенный,
оскверненный алтарь, был храм, превращенный в тверды¬
ню деспотизма, был чуждый прекрасным и плодотворным
чувствам покинутый крест. В мире царил материализм,
опустившийся из разряда философских мнений в грязь
деляческого эгоизма или суеверия, безобразного и смешно¬
го лишь потому, что бессилие не давало ему быть жесто¬
ким. В этом мире не было чувства: тридцать лет войн и
непрестанной борьбы иссушили его. Любовь, эта высшая
добродетель, умерла; были английский cant4, французское
легкомыслие, итальянская лень — но не было ни велико¬
душной привязанности, ни восторга девственной души.
Свобода была запретным божеством, тайно чтимым нес¬
колькими великими душами, но не религией, не явным
стремлением, не страстью народной. Где было бушевавшей
в сердце Байрона поэзии взять вдохновение, форму, сим¬
вол? Изверившись в мире, поэт бежал в свое сердце, сошел
в самые тайные уголки своей души; там, внутри, был це¬
лый мир, был водоворот, был хаос бурных страстей, был
вызов созданному тиранией общественному порядку, соз¬
данной папством и жадностью церковников религии, урод¬
188
МЫСЛИ О ПОЭТАХ XIX ВЕКА
ливым, злым, разделенным детям века. Он внял голосу
своей души — и бросил этот вызов, свое на тысячи ладов,
но с неизменной силой повторенное проклятие миру. Так
родилась целиком индивидуальная, вся составленная из
личных ощущений и образов поэзия, основание которой не
в человечестве и не в какой-либо всеобщей вере,— поэзия,
где среди бесконечных образов, подаренных природой и
физическим миром, гигантски высится один-единственный
образ, образ прикованного к земле и проклинающего зем¬
лю Прометея, образ могучей индивидуальной воли, которая
силится поставить себя на место права и воли вселенской.
Нравственная вселенная, великие идеи, движущие ее судь¬
бами, великие надежды расы на будущее не звучат в его
песнях — и как он мог постичь все это, когда в Фермопи¬
лах не было ничего, кроме рабства, когда марафонское
поле продавалось за несколько тысяч пиастров, когда Ев¬
ропа знала лишь один вид величия и, немотствуя, прости¬
ралась ниц перед ним? Его мир был мир Наполеона.
В душе Наполеона и в своей душе Байрон нашел те чер¬
ты, которые, облекшись в причудливость поэзии своеволь¬
ной, порывистой, часто судорожной, повторяются на разный
лад во всех его песнях, принимая различные формы в за¬
висимости от климата, условий жизни, от служивших
предметом его изображения людей. Байрон чувствовал в
Наполеоне своего брата, своего соперника но силе и жадно
и внимательно следил за его полетом, отмечая его малей¬
шие действия; затем он отчаялся, когда в привязанности
к жизни, которая чудилась ему в последних поступках
великого человека, он увидел низость5; он отчаялся в кра¬
соте и величии, когда увидел, как растаял единственный
поэтический образ, единственное в Европе воплощение
широкого, гигантского идеала,— и выражением его скорби
полны строки, которые он заносил в свой дневник, строки,
которые сами по себе уже характеризуют Байрона и сти¬
хию его поэзии. Но Байрон пережил падение Наполеона;
в великом зрелище его падения Байрон угадал тайну жиз¬
ни человечества, увидел, что оно действует и движется,
как бы повинуясь мощному глаголу, который велит ему
тронуться в путь. Байрон был человеком мысли, и эта
свободная, независимая, чистая в действии, не связанная
вещественными интересами мысль отражала лучи буду¬
щего.
Как статуя Мемнона, которая в безлюдной пустыне
189
Дж. МАЦЦЙНЙ
издает мелодичные звуки при восходе солнца6, так Бай¬
рон, почти невольно, приветствовал в некоторых своих
строках солнце будущих дней. Он спел гимн его первым
лучам, скользнувшим в Испании, взволновавшим Италию;
но гений его был воспитан бедами, привык блуждать среди
развалин и возрос до появления тех первых лучей — и
гимн этот, как аккорд Мемнона, был лишь стоном; он зву¬
чал нечисто и слабо.
Наполеон пал; пал Байрон. С Наполеоном исчез поли¬
тический индивидуализм; с Байроном исчез индивидуализм
поэтический. Св. Елена и Миссолунги хранят две гробницы,
в которых покоятся останки целой эпохи. Кто после Напо¬
леона сможет стремиться к европейскому господству, поко¬
рять народы завоеванием, заменять своей мыслью мысль
цивилизации? Кто после Байрона, после его Корсара, его
Лары, его Манфреда сможет создавать образы одинокие,
оторванные от социального мира, кто сможет развернуть
их, не будучи вынужден рабски копировать? Пролейте
слезу над этими двумя гигантами, которых увели от чело¬
вечества их гордость и их эпоха; исследуйте их, как сви¬
детельства прошлого, как памятники истории мира,— но не
пытайтесь продолжить их. И вспомните, что Наполеон
ушел из жизни с пророчеством: «В течение сорока лет
Европа станет республиканской или казацкой»,— вспомни¬
те, что Байрон оставил на одной из своих страниц слова:
«Всеобщая республика необходима, и всеобщая республи¬
ка будет!» — вспомните, что когда он услышал голос новой
эры над Грецией, он отрекся от своей поэзии, которую
этот голос заглушал, умолк, устремился на этот зов и,
скрепивши союз между гением и свободой, умер, шепча на
смертной постели слова Ада и Греция, программу зарож¬
давшегося тогда мира, двойной символ воскресавших
чувств — Любви и Свободы7.
III. А теперь прощай, Наполеон! прощай, мощная и еди¬
ная воля, властвовавшая над народами! прощай, сила
сосредоточения, власть жеста, способного, подобно взору
древнего Юпитера, приводить в движение миллионы лю¬
дей, военный деспотизм, воинская слава, не освященная
гражданской пользой! прощай, религия имен! Народы
живут по собственной воле; единственной благотворной и
властной идеей стало возрастание народной свободы; ро¬
дилась религия принципов.— Прощай, Байрон! прощай,
титаническое воображение, герои, в одиночку схватившиеся
190
МЫСЛИ О ПОЭТАХ XIX ВЕКА
с преследующим их роком! прощай, возвышенный стон,
возвышенное проклятье, провозгласившее: «Мир осиротел;
человечество осуждено влачиться в пороке; скорбь есть
закон вселенной!» Мир не осиротел; клич свободы населил
его борцами; новая эпоха возрастает медленно, но в своем
развитии торжествует над поэтом; скорбь еще надолго —
навсегда — останется стихией, средой личности, но она не
должна более истощаться в одиноком и бессильном про¬
клятии: личность, жизнь которой есть лишь несчастье, смо¬
жет теперь по крайней мере истратить ее в боях за оте¬
чество и свободу, и Человечество в вящем торжестве
восстанет над гробницами людей, которые полвека назад
сделались бы самоубийцами, сегодня же станут мученика¬
ми идеи!
Жизнь народов и слава мучеников — вот две стихии той
поэзии, которая захочет пережить наше время. Здесь источ¬
ник новых образов, новых идей! Здесь то солнце, которым
должен жить и вдохновляться гений любви и поэзии! Все
те, кто пытается найти вдохновение на обломках падшего
культа, кто возвращается к переживаниям феодализма, кто
заставляет музу бродить среди развалин готических зам¬
ков, среди памятников угасших империй, не говорят с
веком, и век отвергнет их.
Стихи их будут, возможно, блестящи, но подобны
последнему свету лампы, которая вспыхивает перед тем,
как погаснуть. Они не властны возродить, вновь открыть
иссохший поэтический источник, и поэзия имен, поэзия
Наполеона II, Гёте, Вальтера Скотта, герцога Бордо, к
которой во Франции некоторые пытаются возвратиться,
есть поэзия прошлого; жива и сильна лишь поэзия буду¬
щего, поэзия народов.
IV. Во Франции недавно раздался голос, возгласивший
миру, что поэзия угасла; что фантазия, воображение, вдох¬
новение — все мертво; что проза, политический расчет,
вопросы материальной выгоды захлестывают все в мире.
Целое умственное направление эхом откликнулось на этот
голос — и скорбный вопль разнесся, отвергая будущее, на¬
дежды, принципы и нравственность в поэзии, которая опла¬
кивает вселенную, заводит песнь агонии над руинами и
зовет живых «к небу, к небу!» — как если бы и нравствен¬
ная и материальная красота покинули землю, как если бы
у людей не осталось иного долга, кроме уготовления к
смерти. Когда перелистываешь их страницы, чувство опу¬
191
ДЖ. МАЦЦИНИ
стошенности просачивается в сердце; в них могильный холод,
веющий сквозь нелюбовь к миру, в них столь глубокое разо¬
чарование, что оно истощает душу и погружает ее в без¬
действие. Шекспировское despair and die8 кажется девизом
этого направления, созданного и поддерживаемого десятью
стихами Байрона; когда-то романтическое, то есть новое и
потому полезное, оно сделалось сегодня отсталым и вред¬
ным для литературы и гражданственности. Оно хватается
за прошлое, словно желая разжечь в нем луч поэзии, оно
отшатывается как бы в ужасе перед мраком будущего.
Это ли религия? Нет, религия есть вера в правящие Чело¬
вечеством всеобщие принципы; религия есть утверждение
связи, роднящей живых в сознании общего происхождения,
общей миссии, общей цели — у них же нет веры, нет созна¬
ния Человечества, нет убеждения во всеобщей связи.
Кажущиеся наиболее религиозными, их страницы сочатся
безверием, опустошающим сомнением, и кажется, что шеп¬
чущие тебе молитву губы кривятся в проклятии. Это не
религия — это нравственная анархия, сомнение, отчаяние;
это блуждание в пустоте, которую они сами создали вокруг
себя.
Для нас, имеющих веру в судьбы человечества, для нас,
убежденных в благородном назначении, в жертвенном
долге человека, исповедующих веру, средоточие которой —
отечество, а окружность охватывает целую землю, и три
звена которой — Свобода, Равенство, Человечество,— для
нас поэзия жива в любую эпоху, в любом краю, где под¬
нимается голос за попранные права, где стон угнетенного
не гаснет бесследно среди всеобщей немоты, где мучени¬
чество имеет апостолов, а свобода — борцов. Поэзия дейст¬
вует во всем, это луч солнца, внедрившийся во все предме¬
ты, это возможность аккорда, спящая в арфе, пока рука
виртуоза не разбудит ее. В сердце всегда отыщется сти¬
хия поэзии, если его тронет дыхание благородных страстей,
а эпоха кризиса, период борьбы, уж конечно, не бывают
бедны ими. Нет, иоэзия идет в ногу с веком и событиями:
поэзия есть жизнь, движение, очаг действия, звезда, осве¬
щающая дорогу будущего, столп светящийся, указывающий
путь народам, как евреям в пустыне; поэзия есть огненные
крылья энтузиазма, ангел сильной мысли, она есть то, что
возвышает вас до самопожертвования, что поглощает вас,
будит в вас вулкан идей, кладет вам в руки шпагу, перо,
кинжал,— это Шиллер, Данте, Альфиери. Люди же, веща¬
192
МЫСЛИ О ПОЭТАХ XIX ВЕКА
ющие сегодня о смерти поэзии, стоят в стороне от борьбы,
не помогают сражающимся в битвах народных, хотят
превратить поэзию в привилегию горстки людей, сделать
ее неведомым божеством, мистикой, чуждой великому
движению человечества. Поэты, оплакивающие сейчас
увядший цветок гения и энтузиазма, еще совсем недавно
срывали его, чтобы бросить под ноги или на могилу лич¬
ности; они пели хвалу силе, славе, счастью и страданиям
индивида, презирали народ, не признавали этой стихии
современной социальности, этой истинной силы века.—
И век в своем движении опередил их, поэзия распростра¬
нилась от личностей к массам. На арену вышел народ; в
три дня он создал и разыграл драмы, которых не могла
себе представить никакая фантазия. Народная поэзия
завладела всем, поэзия, эпопея которой — революция,
сатира — мятеж. Что могло устоять перед жарким дыха¬
нием поэзии народной, этой крепкой амазонки с мужест¬
венными формами, которая идет во главе миллионов, гре¬
мя могучее marchons! marchons!9. Уж не поэзия ли, взра¬
щенная этими изверившимися умами, недужная дева с невер¬
ной походкой, с речью робкой и покорной. Она отшатнулась
перед этим смерчем, не смея отдаться ему, объятая стра¬
хом, и с дрожью вернулась к своему источнику, не думая
о том, иссох этот источник, или нет. Приверженцы ее огля¬
нулись— и увидели себя одинокими, забытыми и оплака¬
ли судьбу, оставившую их позади тех народных множеств,
которые они привыкли не принимать в расчет; и частью от
бессилия, частью от гордости они погрузились в прошлое,
заключили в свои объятия сломанный крест на заброшен¬
ном алтаре, как если бы объятия могли когда-либо дать
жизнь трупам. Они попытались поставить на место всеоб¬
щей верховной идеи руины старого монастыря, падший
трон, избитый символ; и они не выходят из пределов этого
символа, обманывая себя надеждой, что он еще может
стать символом человечества, символом жизни и движения.
Но жизнь ушла от них — ушла, ибо всякая религия есть
итог одной из великих эпох человечества, и когда эпоха
завершилась и является первый луч новой, тогда ни власть
тирании, ни сила гения не в состоянии дать старой форме
религии вечное существование и поклонение; жизнь ушла
от них, ибо религия есть лишь символическое выражение
одного из великих принципов, и когда дух, трудясь над
этим символом, отыщет в нем его идею, его абстрактный
7-6342
193
дж. МАЦЦИНИ
принцип и поселит его в сердцах людей как ясную и при¬
вычную истину, тогда религия того первого символа усту¬
пает место другой; жизнь ушла от них, ибо папа блудил
с королями и, опустившись до роли королей, подверг себя
судьбе королей — ибо век символа завершился, ибо древ¬
нее здание, державшееся на папе, троне и палаче, разва¬
ливается на глазах. И люди, о которых мы говорим и ко¬
торых выразителя «Ревю де де монд» нашла недавно
в лице Жанена 10 (т. 2 и августовский выпуск о смерти
герцога Рейхштадтского), кричат сегодня: «Поэзия умерла!
Поэзия покинула старую Европу! Плачьте о поэзии!
Плачьте о прекрасных образах, о блестящих фантазиях,
красках, священных для наших отцов, ибо все погибло:
мир опустел; нет ничего, кроме пустоты, в которой мятут¬
ся страдание, безверие, анархия!»
Нет, поэзия не умерла; поэзия бессмертна, как любовь,
как свобода, как вечные источники, которыми она вдох¬
новляется; поэзия есть драгоценное украшение вселенной,
а вселенная не покоится на троне или монастырском алта¬
ре. Да, поэзия покинула старую Европу, но лишь чтобы
оживить молодую, новую, прекрасную народную Европу.
Как ласточка, она бросила старое гнездо, оставила руша¬
щееся здание, но лишь затем, чтобы лететь на поиски неба
более чистого, мира более цветущего. От одинокого трона
королей она ушла на широкую арену народов, в ряды
мучеников за отечество, на чердак горожанина, в тюрьму,
где жертвою предательства томится сильный дух. Поэзия
новой эры уже сияла среди республиканских войск времен
Конвента, когда, несмотря на внутренние войны, террор,
нужду, четырнадцать армий устремились к границе, босые,
в рваных мундирах, с криком свободы на устах, не имея
в мире ничего, кроме знамени, на котором было начертано
имя родины, штыка и непобедимой веры. Поэзия новой
эры сделалась партизанкой в Испании, она вдохнула свой
энтузиазм в тех горцев, чьим упорством был побежден
цвет наполеоновской армии, она звучала из селения в се¬
ление в песнях, поднимавших народ против чужеземного
угнетателя. Поэзия новой эры распространилась по немец¬
кой земле и приняла святой облик веры в тех отрядах мо¬
лодых студентов, что оставили родной дом и университет
для поля сражения и ушли добровольцами освобождать
отечество от французского нашествия, распевая песни Кер¬
нера и Арндта11. И вы думаете, что поэзия, о рождении
194
МЫСЛИ О ПОЭТАХ XIX ВЕКА
которой возвестили такие события, может угаснуть, не
расцветши? Вы хотите противопоставить узкую, тесную,
бледную личную поэзию, поэзию формы, поэзию, которая
рождается и умирает в душных стенах королевского двор¬
ца, монастыря, старого замка — великой, торжественной,
спокойной, полной веры социальной иоэзии, которая не
признает никого, кроме бога в небесах и народа на земле?
V. Поэзия идеи, идеи свободы, родины, человечества,
прогресса, идеи великой, возвышенной и бескорыстной,
которая однажды — при стоне узника, при плаче матери
над иогибшим сыном, при крике страдания, вырвавшемся
из уст крестьянина; или, может быть, в прекрасную лет¬
нюю ночь, среди безбрежного моря, среди исполненного
порядком мира, среди могучей гармонии вселенной, перед
возвышенной картиной небес; или когда вы с одной из
альпийских вершин с горечью в душе, с проклятием на
устах смотрели на свою прекрасную, славную землю,
превращенную в страну преступления и позора, обитель
слез, тюрьму, гробницу,— выросла в вашем сердце, мол¬
нией сверкнула в вашем мозгу, затем забылась, затем
вновь возникла, еще более сильная, настойчивая, мучи¬
тельная, представилась вам с тысячи сторон, под тысячью
ликов, наконец, овладела вами, слилась в одно, сроднилась
с вами, провела складку на юношеском челе, преследовала
вас везде, среди общества, в наслаждениях, в несчастье, в
сосредоточении одиночества, как память об оскорблении,
как упрек совести,— эта поэзия, волнующая столько моло¬
дых сердец, никем не будет воспета? Эта жизнь, судорож¬
ная, лишенная радости и утешения нервная жизнь раба,
ощущающего на себе свои цени, жизнь жертвенная, в пре¬
следованиях, в изгнании, жизнь, освященная и управляе¬
мая одной-единственной идеей, подобной источнику в пу¬
стыне, жизнь, вдохновляемая благородным замыслом
освобождения родины, войны с тиранией, блага для брать-
ев, идеей, которая вначале, кажется, готова раздавить вас,
настолько она необъятна и так ограниченны ваши средст¬
ва, но йотом развертывается, упорядочивается, упрощает¬
ся, становится достижимой в усилии, в постоянстве твердой
и сознательной воли — эта поэзия личности, которая,
добровольно отдав себя в жертву, берет на себя все стра¬
дание, все несчастье, ошибки и вину отечества и бросает
свое существование на чашу весов ради его возрождения,—
поэзия человека, восставшего среди всеобщего молчания
7*
195
ДЖ. МАЦЦИНИ
и высоко поднявшего знамя освобождения, права, незави¬
симости разума, не найдет себе выразителей, не подвигнет
гения на творчество? Как? У поэтов XIX века нашлись
песни для Рейхштадта или для мальчика из Бордо12 и не
найдется для Польши, для святой и величественной Поль¬
ши, последний стон которой гаснет сейчас на просторах
Сибири? Ни одного гимна для Германии, держащей в
своих руках урну со жребием Севера? Ни одного гимна
для Италии? Ни одного гимна для тысяч ее изгнанников,
которые, как бы побуждаемые самим ходом истории, соби¬
раются на Европейский конгресс, приходят пожать друг
другу руки во Францию, закладывают над общим несчасть¬
ем основы союза народов? — Как? Это движение душ к
бесконечному прогрессу, эта сила, заставляющая поколения
устремиться в будущее, это всеобщее требование ассоциа¬
ции, это знамя молодости, развевающееся над Европой,
эта переменчивая, разнообразная, бесконечная война, кото¬
рая вспыхивает повсюду против тирании, этот клич наро¬
дов, поднимающихся из грязи, в которой они лежали,
и требующих ныне у своих правителей отчета в многовеко¬
вой несправедливости и угнетении, эти рушащиеся при
одном дуновении народной стихии старые династии, это
проклятие старой вере и эта беспокойная жажда новой, эта
молодая Европа, встающая из лона старой, как бабочка из
своей куколки, эта мощная жизнь, кипящая в недрах жиз¬
ни умирающей, это здание социальности на земле, возрож¬
дающаяся вселенная — не поэзия? И эти два героя, два
великих образа старого общества, папство и империя,
заклятые враги между собою в течение десяти веков, кото¬
рые перед своей неминуемой гибелью обнялись лишь
затем, чтобы вместе умереть,— не поэзия? А эта европей¬
ская цивилизация, которая одной рукой воздвигает себе
трон в Европе, а другой начинает испытывать Африку и
Азию, насаждая в Алжире европейский принцип и стано¬
вясь перед лицом двух символов Востока, двух великанов
магометанства 13, которые оба одержимы, не понимая того,
идеей просвещения и борются друг против друга за пер¬
венство в развитии,—не поэзия? Говорю вам: в этой Евро¬
пе, которая кажется старой и умирающей, столько жизни,
столько поэзии в зародыше — поэзии на века, поэзии всех
будущих поколений,— что сам гений еще не решается
взять на себя ее раскрытие. Но разве оттого, что грозовые
облака заслонили от смертных солнце, угас его луч? Если
196
МЫСЛИ О ПОЭТАХ XIX ВЕКА
кризис, неизбежная эпоха разрушения, незнание судеб
будущего заставляют гения молчать сегодня, умер ли
гений? Разве нет больше солнца души? Нет света красоты,
нет очага величия во вселенной? — Нет, поэзия не умерла;
народ вернет ей жизнь; поэзия таит в себе нового Байрона,
чтобы создать заново стихотворный мир; она смотрит в
раздумии на Европу; она собирает в себе силы для новой
религии человечества; она ищет символа для будущего;
она напрягает слух, чтобы понять ропот грядущих веков.
Возможно, в эту самую минуту он вдохновляется на разва¬
линах Варшавы или в том Риме, который, возможно, таит
в своих стенах третий мир. Может быть, завтра, когда
новая цивилизация поднимется еще на одну ступень, гений
придет, сияя надеждой и верой, неизбежный, как будущее,
ожидающее человеческий род, страстный, как пламя дейст¬
вия, движущее поколения но пути этого будущего. Он
поднимется и запоет песнь Человечества, песнь восстания,
восславит прекрасное имя Родины, Любви, Свободы и
Прогресса. Тогда поэзия, которая есть предчувствие буду¬
щего мира, вступит в свой третий период — прекраснейший
и обширнейший из ее периодов, ибо в нем сольются три
принципа, властвующие над всем в мире и запечатлеваю¬
щие собой историю духа: Бог — Человек — Человечество.
Поэты! Братья орлов! Избранники природы! К этим
вершинам должны вы обратить отныне свои взоры. Там
найдете вы источник своего вдохновения. Зачем искать
бесполезных восторгов на берегах Иордана 14 и обращать
лицо к восточному ветру? И на Востоке есть поэзия; толь¬
ко одинокая, исчерпанная, безответная. Здесь же, вокруг
вас, перед вами поэзия истинная, движение, ожидающий
вас народ европейский. Посмотрите вперед — там поэзия.
Обратитесь ropé, будьте пророками будущего — в нем поэ¬
зия. Будьте первыми в создании нового мира, мира Сво¬
боды. Громко провозгласите высокие принципы права,
равенства и неподкупной справедливости. Не отчаивай¬
тесь— о, не отчаивайтесь! Что бы вы ни встретили на
земле — есть святость в нравственном мире, есть красота
в мире физическом, есть великие чувства в душе; и есть
обещание лучшего будущего, сознание права, дыхание по¬
беды! Пусть это вдохновит вас; взрастите эти семена. Не
блуждайте среди развалин прошлого, не расточайте святой
жар энтузиазма на личности потому лишь, что они были
сильными или сильны сейчас. Разве обделены богом вы
197
ДЖ. МАЦЦИНИ
сами? Пойте гимн уходящему солнцу, ибо прекрасно солн¬
це на закате — но, отдав ему эту дань, встряхните свою
арфу и настройте ее для гимна будущего, для гимна,
приветствующего и возвещающего новую зарю. Мы, моло¬
дые, нуждаемся в вас, нуждаемся в том, чтобы вы услы¬
шали, украсили, убрали вашими цветами ту поэзию, кото¬
рая трепещет в наших сердцах, не в силах найти выра¬
жения. Нам нужно услышать ваш голос, ваш гимн среди
жаркого боя, в который мы вступили. Нам нужно знать,
что ваша песнь будет нам утешением, когда мы будем
отдавать за родину свое последнее дыхание, и что луч ва¬
шего света ляжет на наши могилы.
О итальянцы! — ибо даже среди дум о Европе к вам
обращается мой взор,— о итальянцы, братья мои, сильные
духом и разумом, услышьте слово суровое, может быть, но
слово человека, любящего вас. Что сделали вы для нашего
отечества? Что делаете вы для исполнения высокого долга,
который природа, вдохнувшая в вас силу, доверила вам
в час вашего рождения? Я знаю, что тирания зорко следит
за вами и окружает вас своим террором, но если тирания
в состоянии лишить вас свободного и открытого слова,
сделайте так, чтобы она не измельчила ваши души. Я не
сетую на ваше молчание, но я смотрю на вас и плачу о
гибельном для Италии ребяческом тщеславии вашем, пла¬
чу о еще не угасшей словесной войне, плачу о мелкой
зависти, которой еще дышит многое из написанного вами,
плачу о легкомыслии ваших сочинений, о том, сколь
ничтожные причины способны утвердить вас в духе бездей¬
ствия, и содрогаюсь при виде лести, в которой вы часто
делаетесь виновны, лести перед сильными мира сего, лести
перед угнетателями нашей земли. О, если у вас отнято
право бросить анафему в лицо им и покрыть их позором,
почему вы по крайней мере не молчите? Зачем вы не мол¬
чите, чтобы итальянцы поняли вас? Ведь есть молчание,
оставляющее на отмеченных им страницах тень благород¬
ной суровости, молчание, возвышающее дух, как величест¬
венный пример. В день, когда римские сенаторы хотели
воздать почести отцеубийце Нерону, Фрасей Пет не проро¬
нил ни слова: он закутался в тогу и молча вышел из
сената. Будьте молчаливы молчанием Фрасея. Но в то же
время, доколе можете и насколько можете, напоминайте
об отечестве, внушайте сознание обязанностей юношам,
соотечественникам вашим, воспитывайте в них независи¬
198
МЫСЛИ О ПОЭТАХ XIX ВЕКА
мость, свободу суждения, недоверие к власти, глубину
мысли. Скрывайте ваши чувства под покровом литературы
и философских дисциплин. Призывы к независимости и
свободе, даже в далеких от политики сферах, всегда при¬
носят свои плоды — и если вы не взрастите дерево свобо¬
ды, вы, по крайней мере, подготовите ему почву. Освобо¬
дите дух; действуйте во имя отечества, во имя нашей
славы, действуйте! Мы скованы ползучим материализмом,
узким, холодным, бесплодным материализмом фактов,
который заставляет нас блуждать среди бессвязных, изо¬
лированных нагромождений личных предприятий и стрем¬
лений, среди массы материалов без единой обобщающей
тенденции, без единой широкой и прогрессивной теории,
которая упорядочила бы их, без единого господствующего
принципа, который дал бы им жизнь. Какое желание, ка¬
кой трепет страсти, какую жажду прогресса вселяют ваши
труды? Помните, что умы привыкают к бездействию, как
нога к своей цепи. Мы отстали в истории, в филосо¬
фии; мы простерты под гнетом материализма и безверия
XVIII века. У нас есть гении — но нет ни их гробниц, ни
их биографий. У нас есть прошлое, необъятное, великое и
значительное прошлое, но нет хорошей истории, которая
облекла бы его светом философии. В лице Аккурзия, Ир-
нерия и Алчиати 15 мы создали юриспруденцию и до сих
пор держимся формул и авторитетов той эпохи. В лице
Вико мы основали философию истории, а сегодня нера¬
зумно отвергаем развитие, которое французы и немцы дали
оставленному нами без внимания зерну. В лице Беккариа
и Филанджери 16 мы основали уголовное право и сегодня
делаем вид, что с безразличием смотрим на те следствия,
которые выводят из него писатели-чужестранцы. Мы за¬
кладываем основы и отвергаем неизбежные следствия...
О итальянцы! Хорошо ненавидеть чужеземца — но я
хотел бы, чтобы вы ненавидели его на поле сражения, я
хотел бы, чтобы вы не обманывались его обещаниями,
чтобы ваши души загорелись пламенем Прочиды17; я не
хочу, чтобы вы равно проклинали и насилие и культуру
чужеземцев; не хочу, чтобы вы застыли потому лишь, что
движутся другие, как не хочу и того, чтобы народы и сво¬
бодные люди томились под игом королей и иностранных
штыков потому лишь, что отечество разума — весь мир.
Надо во что бы то ни стало вырваться из бездействия, в
котором наши правительства губят ум и талант; надо
199
ДЖ. МАЦЦИНИ
прервать этот кошмарный сон. Желайте этого, желайте
обновить своими трудами здание разума, если не можете
обновить здание политическое; волнуйте умы, пытаясь
сдвинуть отправную точку, основную линию мысли; пиши¬
те историю, романы, философские книги, литературные
журналы, но всегда с сознанием долга, стремлением к еди¬
ной цели и с думой об отечестве. Пишите, но так, чтобы
своими намеками, своим уважением к людям великого и
свободного духа, своей любовью к родине, к идее ее неза¬
висимости зажечь ваших читателей. Публикуйте свидетель¬
ства нашей славы и нашей доблести, которая спит сегодня
в гробницах наших гениев, будите картинами давних сра¬
жений и жертвенных подвигов древнюю доблесть. Помните
всегда, что отечеству не помочь, льстиво восторгаясь им и
покоясь на лаврах отцов или памяти знаменитостей, оста¬
вивших вам наследие, теперь уже, к несчастью, опороченное
и ставшее для нас упреком, ибо мы не умеем увеличить
его. Помните, что родина, имя которой вы слишком часто
произносите, томится в рабстве, в рабстве у чужеземца;
что австрийские штыки сверкают среди полей на равнинах
Ломбардии — на тех равнинах, которые поглотили однаж¬
ды чужеземных угнетателей18; что, разделенные на тысячи
группок, униженные, боязливые, дрожащие, бессловесные,
бесправные, лишенные национальной славы, гражданского
и политического существования, мы бродим среди тюрем
и монументов прошлого величия, не смея ответить тем, кто
спрашивает нас о нашем отечестве, что мы итальянцы!
VI. Думайте более всего о будущем и о народе.
Во Флориде растет мак с алыми цветами, свисающими
с бледно-зеленого стебля. В нем все полезно; цветы,
стебель и корень. Из корня индейцы изготовляют сладкий
напиток; из стебля добывают краску; аромат цветка сохра¬
няется долго после того, как он сорван. Цветок гения
подобен этому маку Флориды; и аромат, источаемый им,
переживает его.
Поэты, сограждане наши, готовьте нам боевую песнь —
и пусть она переживет тех юношей, которые запоют ее
в лицо австрийцам!
ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА БОГЕМИИ
Эта книжечка, которая на
первый взгляд может показаться незначительной в совре¬
менном движении умов, стремительно увлекаемых бурным
потоком европейского кризиса, обладает для нас большой
важностью: она указывает один из путей, по которым мож¬
но прийти к точному и философскому пониманию составля¬
ющих современную Европу элементов. Монархическое
европейское равновесие, смехотворное и уже подточенное
во многих своих частях, обречено на крушение и скорую
гибель перед верховным разумом народов; новое социаль¬
ное здание вырастает незаметно под развалинами старого.
Народы без всякого внимания к их симпатиям, естествен¬
ным наклонностям, местным обычаям, поделенные на конг¬
рессах государей в соответствии с личными интересами и
страхами последних, жаждут нового устроения на началах
более естественных <...>
Народная поэзия, народные песни — бесценные доку¬
менты для тех, кто ищет в них помимо литературных
достоинств и поэтических красот выражение глубокой
мысли масс и стихию гражданственности.
Народная поэзия — а под народной поэзией я понимаю
такую, которая не стеснена заранее предписанными форма¬
ми, не искажена и не порабощена ограниченным подража¬
нием отдельной школе и слепым следованием какой-нибудь
«поэтике», составленной одним человеком или какой-ни¬
будь академией в качестве вечного закона для всех буду¬
щих талантов, но свободно и просто изливается из самых
недр нации,—есть дыхание народа, зеркало, в котором все¬
го лучше отражается та мысль, та идея, которую этот
народ призван развить и воплотить в истории человечест¬
ва; ибо когда поэт не служит власть имущим и угодничест-
201
ДЖ. МАЦЦИНИ
во не оскверняет его музу, тогда он избранник народа, сын
народа, и в его душе находится отклик для радостей,
страданий и любви миллионов; тогда он человек, призван¬
ный выражать чаяния, переживания, верования, которые
живут в сердце поколений и остаются незамеченными по¬
тому лишь, что у иных нет дарованной ему силы выраже¬
ния и воображения. Кому песни, собранные Форьелем, не
раскроют внутреннюю жизнь и тайну будущего греков
лучше, чем бесчисленные путевые записки, поводом для
которых послужила праздность и мелкое тщеславие? —
А разве жалобные песни «зеленого Эйре», душу которых
перенес в свои мелодии Мур, меньше какого-нибудь исто¬
рического документа обнаруживают религиозный, мелан¬
холический, упорный нрав ирландского народа и тайну
настойчивой, неустанной национальной борьбы, которую он
веками ведет против англичан? Кажется преувеличением,
но это так: чтобы история народа была полной, ее нельзя
отделять от национальной поэзии. Часто в простом повто¬
ре, в поэтической интонации, в коротеньком выражении
старой баллады находишь примету, свидетельство народ¬
ного чувства, не замеченного самыми серьезными писате¬
лями,— а оно бросает свет на характер целой эпохи. Часто
в какой-нибудь легенде, фантазии неизвестного, но народ¬
ного поэта просвечивает национальная неприязнь или бли¬
зость между двумя народами, ключ ко многим событиям.
Так проявляется тайная связь, сочетающая в одном неру¬
шимом единстве словесность, политическую историю, все
проявления разума или воображения народа...
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
К ИТАЛЬЯНСКОМУ ПЕРЕВОДУ
«ЧАТТЕРТОНА»
АЛЬФРЕДА ДЕ ВИНЬИ
Много ли в Италии сердец,
способных понять «Чаттертона», не знаю. Знаю, что вез¬
де, где «Чаттертона» будут судить холодно и филологиче¬
ски, как произведение искусства, не поняв его как труд
апостольского служения и исполнение святой нравствен¬
ной миссии — везде, где критики будут хлопотать вокруг
формы, где души не проникнутся той скорбной жалобой
на холодное и мертвое равнодушие века, которая исхо¬
дит из самых недр этой драмы,— там нечего надеяться на
возрождение литературы, цветения мысли и поэзии, кото¬
рая есть аромат этого цветения. Говорю «возрождение»,
ибо не знаю сейчас ни одной страны, где поэзия была бы
жива, где бы она вдохновляла и ободряла людей своим
дыханием, своими бессмертными надеждами. В Англии
поэзия сошла в гробницу вместе с Байроном, в Герма¬
нии— вместе с Гёте. Во Франции она гаснет или отчаи¬
вается в безверии. В Италии она спит, как Ночь Микел¬
анджело Может быть, величайший поэт среди ныне жи¬
вущих — Мицкевич; но кто из нас знает его произведения?
Кто, кроме немногих и разъединенных верующих, чтит его
во Франции, да и везде, как подобает? — Мицкевич изгнан¬
ник, и, как Мицкевич, томится в изгнании поэзия.
Поэзия бессмертна, бессмертна, как воспоминание и
стремление, две неотъемлемые способности человеческой
природы, две вечные поэтические стихии. Но разорвана
цепь, связующая ее с прошлым, и до сих пор не найден
способ соединить ее. Как и прежде, еще рождаются души
девственные, чистые, искренние, созданные для любви и
поэзии; и они жаждут передать другим и разлить над го¬
ловами людей аромат гения и энтузиазма. Но храм, но
верующие — где они? Святое пламя, живущее в этих ду¬
203
ДЖ. МАЦЦИНИ
шах, тлеет тайно и безвестно, как благовония на алтаре
изгнанного бога, или сияет бесполезно и одиноко, ибо ма¬
териализм создал вокруг них пустыню. Поэзии не хватает
общества, поэтам недостает любви и почитания; гений ли¬
шен веры, лишен цели, которая, сосредоточив и согласив
все душевные силы поэта, освятила бы его вдохновение
и вознесла бы его на высоту религиозного служения. И
до тех пор, пока поэту не будет возвращено святое досто¬
инство жреца и пророка, не будет поэзии. Существа, на¬
деленные от природы даром чувствовать и страдать за
всех, не могут жить, пока перед ними лишь два пути: по¬
рок или отчаяние, необходимость продаваться тому, кто
платит, или избавление от нищеты и духовного унижения
в смерти.
И даже если судьба даст им кусок хлеба, не выпро¬
шенный у чужого крыльца, и оградит их от падения, они
все равно погибнут: погибнут, как п.ери, у которой отре¬
зали крылья,— погибнут, ибо материальной жизни недос¬
таточно для человека, в груди которого бурлит стихия по¬
этической жизни, погибнут, ибо нерастраченная сила, как
могильный камень, гнетет душу всякого, кому она доста¬
лась на долю, и мысль, которая хочет и не может выр¬
ваться на волю, раскалывает череп взрастившего ее. Они
погибнут, ибо равнодушие, расчет, эгоизм большинства от¬
вергнут эту мысль при первом ее появлении или смешают
ее с грязью, если она найдет выражение; а поэт не может
жить в одиночестве, одним внутренним созерцанием, и он
не умеет отомстить за себя, отвратившись от людей с не¬
навистью— они погибнут до времени в лихорадке гения,
унеся с собою в могилу свою тайну, которой дано было
обнаружиться лишь проблесками молнии, свою безответ¬
ную любовь, свое непонятое страдание и свои обманутые
надежды. И люди не заметят этого разбитого ими суще¬
ствования, как не замечают растоптанного на ходу цветка;
а может быть — прости им бог безрассудную ярость,— мо¬
жет быть, они еще недоверием и презрением оскорбят па¬
мять ушедшего, как это случилось над прахом Чаттерто-
на2, Байрона, Фосколо.
Самоубийство души или самоубийство тела, жизнь
Фауста или последнее решение Чаттертона—вот два сим¬
вола, между которыми колеблется сегодня поэзия, вот два
предела, между которыми общество дает выбирать поэту.
Идет война между поэтом и обществом; война эта на¬
204
К ИТАЛЬЯНСКОМУ ПЕРЕВОДУ «ЧАТТЕРТОНА» А. ДЕ ВИНЬИ
чалась в тот день, когда поэзия была названа человече¬
ским искусством. В тот день возникли два лагеря, и один
из них не имел знамени. В нем расположился дробящий,
разделяющий, расчленяющий материализм, принявший
название анализа, но анализ, когда кроме него нет ни¬
чего, убивает, а не обнаруживает жизнь. От его прикосно¬
вения общество превратилось в труп. Биение сердец замед¬
лилось; люди назвали сердце бесполезным и опасным да¬
ром и на его место поставили цифру. Пусть кто-нибудь
разберется, выиграли ли от такой замены гражданская
жизнь и движущие обществом силы.
Литература же нечувствительно сделалась занятием
педантов, анатомией эрудитов, убожеством риторов и грам¬
матиков или же умерла, потому что источник всякой ли¬
тературы— сердце, и где оно не бьется, там никакие тео¬
рии от самого Аристотеля до наших дней не смогут заста¬
вить ее расцвести. И поэзия, загнанная в один тесный уго¬
лок мира, задушенная расчетом, униженная недоверием
или чрезмерной доверчивостью, сделалась утехой празд¬
ных богачей, вместо того чтобы быть провозвестницей су¬
деб растущих поколений; сделалась звуком, вместо того
чтобы быть идеей; сделалась ремеслом с условными и ис¬
кусственными приемами, вместо того чтобы быть чувством
и излиянием могучего вдохновенеия. И поэт, никем не оп¬
лаканный и бесполезный мученик, идет от бедствия к бед¬
ствию, от одного сражения к другому, ранимый везде, раз¬
битый всегда, даже когда он кажется победителем, иног¬
да увенчанный — но ведь и жертвоприношения увенчива¬
ют цветами; иногда возвышенный в глазах людей — но
ведь и эшафот возвышает. Его дни, даже если он сам не
укорачивает их, кратки: вот его единственное счастье; но
зато среди них есть такие дни, такие часы, которые стоят
целой жизни, долгой жизни мучений, безутешного плача,
неискупленной муки,— есть часы, в которые чувствитель¬
ность, помноженная, так сказать, на самое себя, сосредото¬
чивается в сердце и сообщает ему силу глубокого и мощ¬
ного прозрения, когда прошлое, настоящее, будущее, сжав¬
шись в одну точку, представляют как бы в насмешку над
поэтом надежды, разочарования, мечты, действительность,
видения детства, представления зрелого возраста, силу и
бессилие; есть часы, когда он оглядывается назад и видит,
что древо юношеских иллюзий иссохло и листья его опали,
что цвет души увял, что аромат ее развеян ветром, что
205
ДЖ. МАЦЦИНИ
сердца его никто не знает и что любовь, согревавшая
его жизнь, встретилась с предательством или непонима¬
нием, потому что он поэт, потому что люди, желая ос¬
вободить себя от обязанности любить поэта, придума¬
ли ремесленного художника, решив, по-видимому, раз
навсегда, что поэзия должна обладать собственной
жизнью, тогда как поэзия для носящего ее в душе есть
лишь желание любви и необъятная способность глубоко
переживать редчайшие радости и многочисленные беды
земной жизни; и есть безымянные часы, когда он следит
за приближением смерти и чувствует, как холод проникает
в его душу, слушает, как в этой пустыне безответно бьется
его сердце, подобно голосу, на который не отвечает ника¬
кой другой голос, и в растущей вокруг него пустоте он
слышит возглас Байрона: «This is to be alone; this, this is
solitude»3. Люди не знают таких часов, а когда им рисуют
их, они называют картину фантазией и бредом и обвиняют
художника в преувеличении; обвинят в преувеличении
и драму Альфреда де Виньи. Но преувеличивал ли Торк¬
вато, когда в Ферраре терял от нравственных страданий
свет разума? Преувеличивал ли Джон Ките, когда умирал
от журнальной статьи? Прочитайте «Чаттертона» в тюрьме
св. Анны4— в Равенне над гробницей, в которую сошел
Данте, чтобы найти покой, которого он напрасно просил у
живых в последние годы своей жизни,— у пирамиды Кая
Цестия, где покоятся останки Китса; может быть, тогда
«Чаттертон» не покажется вам преувеличением. О! Разбу¬
женная лучом божественной поэзии душа обладает такой
способностью страдать, такой живучестью муки, какую
не измерить вашими расчетами.
И «Чаттертон» есть жалоба этих душ, которые несчаст¬
ны свято, потому что они сострадают всем, и несчастны
безнадежно, потому что, хотя и нет такого горя в мире,
которое они не разделили бы и не взяли на себя, никто не
делит и не берет на себя их горя. «Чаттертон» есть про¬
тест всех этих энтузиастических сердец, известных или
безвестных поэтов, которых расчетливое и насмешливое об¬
щество обрекло на изнурительное и горькое одиночество;
которых обвиняют в трусости, когда они сдаются, в равно¬
душии, когда они заключают союз со своим несчастьем и
решают без колебаний испить всю чашу до дна, в низости,
когда они отстраняют ее, — всех этих вдохновенных пев¬
цов, которым люди могут поаплодировать, как умирающим
206
К ИТАЛЬЯНСКОМУ ПЕРЕВОДУ «ЧАТТЕРТОНА* А. ДЕ ВИНЬИ
гладиаторам, когда они гармонично выразят свою мысль
на отведенной им малой сцене, но зато отплачивают им
преследованиями и издевательствами, когда они хотят
вступить в действительную жизнь и перенести в нее симпа¬
тии и порывы своей души. «Чаттертон» есть символ поэзии,
этого ангела, который сошел с неба, чтобы страдать и пла¬
кать вместе с нами, и которого мы отталкиваем, оттесняя
его на грань существования, наряжая его в костюм скомо¬
роха, начертывая на его челе: «Ангел лжи». Один фран¬
цузский критик, Гюстав Планш, попытался в «Ревю де де
монд» опорочить память юноши и потревожил его прах,
чтобы предъявить ему обвинения, заимствованные из ка¬
ких-то анонимных пасквилей, в которых враги Чаттертона
клеветали на него вокруг его гроба. И, оскверняя гробницу
восемнадцатиле'Гнего мученика, он, этот критик, надеялся
опровергнуть драму Альфреда де Виньи, как если бы не
было тысяч Чаттертонов, как если бы Чаттертон не был
тип, как если бы с разрушением этого символа переставала
существовать и идея, живая, кровоточащая, неотступно
зовущая к борьбе всех тех, кто знает, что преступную за¬
бывчивость, неблагодарность и эгоизм искупают раская¬
нием и скорбью, если мы не хотим, чтобы наши дети и де¬
ти наших детей долго и мучительно искупали их стыдом
и бессилием.
И Альфред де Виньи, целомудренная душа, оставшаяся
чистой среди потока уже много лет подряд наводняющих
Францию цинических и грязных произведений, проникся
этой скорбью и сделал ее священной, ибо он помнил о Ка¬
моэнсе, умершем в богадельне, не имея рядом с собой ни¬
кого, кроме слуги-негра, о Жильбере5, которого нищета
толкнула на преступление и самоубийство, о Виталисе,
умершем от нужды и лишений, потому что он не хотел по¬
святить книгу стихов гордому богачу, предлагавшему ему
протекцию, об Абеле6, который несколько лет назад умер
в Париже от горя и голода, после того как долго и без¬
результатно просил у секретаря академии разрешить ему
держать экзамен и упомянуть о своих работах, сделавших
его после смерти одним из знаменитейших математиков
нашего времени, и о многих других невинных мучениках,
которые из своих могил бросают тяжкое обвинение обще¬
ству, не нашедшему для них хлеба при жизни и слез в
день их смерти. Он проникся этой скорбью, ибо он знает,
что Поэзия — святой дар и что там, где она задушена,
207
ДЖ. МАЦЦИНИ
обессилена, изгнана, там общество, потеряв связующее зве¬
но любви, коснеет в индивидуализме и погибает. Он про¬
никся ею и воплотил ее в своей драме в виде физического
голода, ибо знал, что если несчастье есть часто родная сти¬
хия гения, то голод повергает и убивает его, и что картина
душевного голода оказалась бы слабой и неспособной тро¬
нуть большинство читателей. Я же, вспоминая о Леонардо,
о Галилее, о всех наших великих людях, которым не дава¬
ли покоя спесивое невежество, издевательство завистников,
преследования и нищета, я добавлю от себя, что, говоря о
литературе, с тех пор как перестали признавать природные
права гения, с тех пор как позволили материализму завла¬
деть всей жизнью, скрыли низменный расчет под маской
философии, назвали мудростью равнодушие и изгнали по¬
эзию из жизни, сделав из нее забаву на час, возникла не¬
способность к великим деяниям, бесплодие умов, разобщен¬
ность в науке, упадок серьезных исследований и смертель¬
ная усталость. Добавлю, что с тех пор как поэзию превра¬
тили в поэтическое искусство, отведя для нее особое место
в мире, лишив ее влияния, поклонения и любви и оставив
ей взамен лишь скудную и случайную дань восхищения,
поэзия переродилась, литература покинула свой путь, свя¬
тое вдохновение осквернено, творческая способность исто¬
щилась, фантазия иссякла, родились косность, лицемерие,
рабское подражательство и очистилось место для вторже¬
ния правил, поэтик, дидактических сочинений, школ, арка-
дик и армии наставников, педантов, законодателей, риф¬
моплетов, бездушных критиков, бессердечных писак, людей
одинаково развратных, пришедших в мир на муку немно¬
гим истинным талантам, задушивших итальянскую словес¬
ность и промотавших наследие Данте, нашего отца, и един¬
ственного отца. И еще добавлю, что общество, в теории и
на деле определившее поэзию как способность упоенно
заблуждаться и жить в ином, неземном мире, вместо того
чтобы понять ее как способность видеть, чувствовать, лю¬
бить и действовать лучше, чем другие, — это общество
опустошило сердце, умертвило ум, унизило жизнь, приту¬
пило всякую тонкость чувства, опечалило бессмертный дух,
скрыло Красоту, исказило и осквернило творение.
Красота есть лицо Истины, ибо творение едино и все в
нем есть символ, воплощение, выражение единой идеи, ко¬
торая сообщает ему жизнь и которая буква за буквой,
строка за строкой раскрывает себя из года в год, из века в
208
К ИТАЛЬЯНСКОМУ ПЕРЕВОДУ «ЧАТТЕРТОНА» А. ДЕ ВИНЬИ
век. И поэзия, которая есть стремление души к этой Кра¬
соте, служит более могучим рычагом истины, чем обычно
думают. Поэт же, который объемлет тем большую долю
разлитой в природе красоты, чем выше и гибче его способ¬
ности, чем быстрее он схватывает скрытые для большинст¬
ва связи, чем более он разбужен верой и энтузиазмом, эти¬
ми двумя ангелами божьими, стоявшими у его младенче¬
ской колыбели, — этот поэт свят, как красота, как истина,
как творение, выразителем которого он родился. Но люди
рано нарушают сон младенца и гонят ангелов от его колы¬
бели, а когда он начинает смутно припоминать видения,
которые ангелы показывали ему в пророческих снах, лю¬
ди высмеивают и называют фантазиями эти воспомина¬
ния.
Красота есть лицо истины — и пока этот принцип не
будет продуман, определен, развит в своих приложениях,
превращен в аксиому и положен в основу всех суждений,
всего литературного труда, как критического, так и твор¬
ческого, до тех пор приниженная, извращенная, скованная
произвольными нормами словесность будет брести, куда ей
укажут случай и время, но не встанет впереди эпохи, не
будет иметь ни прогрессивного развития, ни определенных
законов, ни своей миссии, и все попытки реформы, обнов¬
ления, освобождения от власти школы, от рабства норм
обратятся в ничто или сведутся к рабскому подражанию
другой школе, и вечно будут идти споры о форме, которую
давно пора предоставить усмотрению личности и суду ге¬
ния, и мы никогда не сможем углубиться в суть вопроса,
в исследование цели, в изучение идеи и общих черт, при¬
водящих в гармонию различные тенденции: словом, у нас
будут блестки литературы и поэзии, но Поэзии, но Лите¬
ратуры не будет никогда.
И до тех пор, пока из этого принципа, возведенного в
аксиому, люди не выведут оправдания поэзии, сохранится
пропасть между поэтом и обществом, останется непонятой
или презираемой высокая миссия поэта, который ищет в
небе путь, предначертанный человеческому роду перстом
божьим, и многие могучие таланты и любящие души будут
принесены в жертву слепой посредственности, и многие
Чаттертоны умрут от холода, от голода, от оскорблений.
О, верните поэзию на ее трон! Преклонитесь перед эн¬
тузиазмом! Разлейте его на все вокруг! Примирите поэта
с жизнью! Примирите поэтический мир с земным! Разве не
209
ДЖ. МАЦЦИНИ
всюду проникает солнце своими лучами? Так верните солн¬
це нравственному миру. Поэзия свята. Поэзия — не бес¬
связные видения, замкнутые в душе поэта, поэзия, как воз¬
дух, присутствует повсюду; это мысль мира, это душа тво¬
рения, и вы не можете изгнать ее, не превратив мир в ог¬
ромную мертвую машину, творение — в безжизненный
остов. Подумайте об этом.
Подумайте также о том, что самоубийство Чаттертона
есть убийство, совершенное обществом, и неважно, что при¬
чинило смерть — оружие, голод или издевательства; поду¬
майте о том, что жизнь тяжела, что многие души нужда¬
ются по меньшей мере в утешении и находят его иногда у
поэзии, этой сестры музыки, которая есть отзвук или пред¬
чувствие душевной гармонии,— и подумайте, что, потушив
этот единственный луч, вы ничем уже не сможете помочь
этим душам, ибо сами вы умеете лишь разрушать, но не
создавать.
ПРЕДИСЛОВИЕ
К ЛИТЕРАТУРНОМУ ЖУРНАЛУ
«ИТАЛЬЯНО»
«Когда какое-нибудь искусст¬
во, сколь бы бесплодным оно ни было, — писал Фосколо
в начале книги1, которая свидетельством равнодушия и
неблагодарности потомков осталась на три четверти неиз¬
данной в руках английского типографа,— продолжает рас¬
пространяться, противостоя мнениям большинства и на¬
смешкам, тогда желающий его уничтожения представляет¬
ся менее разумным, чем пытающийся его усовершенство¬
вать». Фосколо имел здесь в виду всех тех, кто под именем
толкователей и комментаторов не дает покоя гигантам ду¬
ха даже после смерти и проникает в их гробницы и в юные
души со своим холодным, мелочным анализом по буквам
и запятым, за пять веков не сумевшим вынести из книг
Данте тайну Италии и нормы для национальной литера¬
туры. Но обвинение в бесплодии, в полнейшем бессилии
сегодня можно, не боясь ошибки, распространить на всю
критику, говорит ли она о живых или о мертвых, о древней
или о новой литературе. Мне кажется, что со времен «Кон-
чилиаторе» итальянская литературная критика, говоря во¬
обще, непрестанно ухудшалась и ухудшается, по мере воз¬
растания настоятельных потребностей времени. Меж тем
дело критики — но только критики философской, стремя¬
щейся к единству, исходящей не из произвольных канонов,
а из всеобщих, направляющих прогресс цивилизации
принципов, — есть святое, необходимое дело, и важность
его понимают все, кто чувствует образовавшуюся пустоту
и не знает, как ее заполнить.
Дело критики есть святое дело, и теперь более, чем ког¬
да-либо, ибо сейчас у нас нет оригинальных произведений.
Когда очередная эпоха искусства достигла своего полного
развития, когда ее направляющая мысль обнаружилась,
211
ДЖ. МАЦЦИНИ
когда пути движения ясны, когда Гений явил миссию ли¬
тературы, а многочисленных последователей поощряет и
ободряет похвала и любовь большинства, критика почти
бездействует: она следит за полетом гения, отмечает после¬
довательные завоевания разума, хранит имена, чтобы за¬
вещать их признательному потомству; в остальном она
молчит. Где беспрепятственно и властно царит дух синте¬
за, анализ неуместен или губителен, ибо он почти всегда
вредит нравственному единству, основанию всякой процве¬
тающей литературы. Но когда перед вами не эпоха, а труп
эпохи, не литература, но развалины и слабые ростки лите¬
ратуры; когда этим трупом завладевает материализм и над
руинами нет луча восходящего солнца, но лишь мертвен¬
ный свет разливается в тяжелом и застойном воздухе; ког¬
да разум повержен отчаянием, писатели предались празд¬
ности безверия и все вокруг них немо; когда у словесности
нет цели, у ревнителей искусства нет нормы, у искусства
нет веры и душевные силы терзаются без приложения или
истощаются в одиночных опытах, нерешительных и не до¬
водимых до конца предприятиях — тогда дело критики
приобретает характер и важность священного служения.
Определить прочные завоевания ушедшей эпохи; заклю¬
чить из усилий отдельных личностей об общих стремлени¬
ях, предчувствиях и предвестиях будущего; извлечь даже
из внешне ущербных и бессвязных произведений свиде¬
тельства самых общих тенденций и самых глубоких чая¬
ний; найти за формами мысль, за тем, что принадлежит
всегда изменчивой индивидуальности писателя — всеоб¬
щую идею, незамеченное связующее мир звено, услышать
дыхание века; словом, обнаружить неизвестное новой эпо¬
хи, наступающей в словесности, и потом выразить это неиз¬
вестное и помочь ему утвердиться — все это труд жизнен¬
но необходимый, труд, помогающий родиться новому син¬
тезу.
Именно на этой ступени находимся мы сегодня; не ну¬
жно обманываться. Когда праздность плодит свои иллю¬
зии, возрастает позор, а не сила. К чему гордиться даро¬
ванными небом талантами, если силами, которыми приро¬
да наделила нас больше, чем других, мы не можем вос¬
пользоваться во славу отечества, нашей родины? К чему
твердить имена прошлых знаменитостей иностранцу, кото¬
рый спрашивает о живых? Да, мы не ушли далеко. У нас
нет литературы, нет ни общей идеи, ни общей цели, поэто¬
212
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ЖУРНАЛУ «ИТАЛЬЯНО»
му истинные писатели у нас редки и еще более редки чи¬
татели. У нас есть пигмеи, помогающие друг другу вска¬
рабкаться на ходули; есть рабские подражатели или сле¬
пые хулители чужеземных литератур; есть немногие и роб¬
кие умы, бредущие вслед за школой, которая изменила
своим обещаниям и теперь скорее препятствует движению,
чем торопит и побуждает его; есть бессильное желание вер¬
нуть себе историю и ничего другого. Кто не верит, пусть
заглянет в один из библиографических указателей, кото¬
рые время от времени отважно публикуют итальянские из¬
датели.
И, однако, критики либо не замечают жалкого состоя¬
ния нашей словесности, либо не решаются взяться за дело.
После трехвекового сна, перед необходимостью ускоренно
двигаться, чтобы догнать на пути духовного прогресса
другие страны, между молчанием косного народа и горе¬
нием умов, волнующихся по всей Европе в поисках ново¬
го, в эпоху, когда изжиты все старые формы искусства и
разум поставлен перед категорической необходимостью
выбора между движением вспять и прогрессом, наши кри¬
тики с ледяным бесстрастием воссели на руинах, как если
бы руины были престолом славы, как если бы итальянская
литература, столь богатая жизнью и творчеством, должна
была отныне навеки оставаться такою, какова она есть.
Кажется, что у них не хватает духа ни на великие надеж¬
ды, ни на великие воспоминания. Перед лицом грядущей
эпохи, перед открывшимся поприщем новой литературы,
которую народные множества предчувствуют и ожидают,
еще не зная способов ее выражения, как стараются лите¬
раторы исполнить завещание Данте и обеспечить Италии
первенство в этом начинании? Кто будит умы провозгла¬
шением необходимости нового синтеза, новой упорядочи¬
вающей идеи, которая послужит основанием энциклопедии
XIX века? Кто пытается восстановить единство мысли? Кто
исследует литературы других стран, понимая, что каждая
из них составляет один луч этой единой мысли, одну сто¬
рону загадки вселенной, одно слово в законе прогрессивно¬
го и непрерывного развития, которым движимо человечест¬
во? Кто говорит хотя бы о необходимости подобной рабо¬
ты, когда уже нет никакого сомнения, что тайну индиви¬
дуума надо искать в роде и что немыслима национальная
литература, пока не определена ее миссия и ее особенные
черты внутри общей миссии европейской литературы, внут¬
213
ДЖ. МАЦЦИНИ
ри всемирной гармонии, которая одна лишь способна ука¬
зать место и значение отдельных литератур, подобно тому
как аккорд определяет место составляющих его звуков?
Безрассудный материализм умертвил в нас сознание един¬
ства, узурпировал место высокой философии, раздробил
на осколки творение, иссушил историю, задушил вдохно¬
вение, изгнал энтузиазм, заменил поэзией форм, звука и
цвета поэзию мысли, развратил сердце, притупил деятель¬
ность ума — но кто извлек из гробниц наших гениев зна¬
мя, знамя Алигьери, Бруно, Вико, кто отряхнул его от пра¬
ха, покрывающего останки этих наших отцов, которых
всегда цитируют и никогда не умеют понять, кто высоко
поднял его в сиянии нового света и итальянской веры? Кто
беспощадно бичует косное и ретроградное учение, обвива¬
ющее душу, как лиана дерево, истощающее ее, возводя¬
щее скепсис в формулу философии, разрушающее всякую
веру в достижение цели и отнимающее у разума надежду,
залог великих свершений, и утешение, дающее силу пре¬
одолеть великие несчастья? Кто взывает к молодым, твер¬
дит, настаивает, думая не о похвале или осуждении для
себя как писателя, но о долге совести и пользе отечества:
«Смотрите! Эта школа2 — не наша школа. Итальянская
школа была высоко духовной; Европа переняла ее от вас;
вы же растеряли ее, как растеряли славу и силу; и слава
и сила придут к вам не ранее, чем вы вепнетесь к филосо¬
фии ваших отцов, усовершенствовав ее. Не давайте обма¬
нуть себя видимостью борьбы, которая привлекает вас в
этой школе, как если бы она провозглашала независимость
разума. Здесь всего лишь бессильный бунт, бунт, порыва¬
ющий с порядком и гармонией вселенной и приковываю¬
щий вас к произволу случайности; бунт, который умерщ¬
вляет, а не освобождает вашу душу. Сорвите маску с этой
философии: под нею рабство. Сам материализм пришел к
вам с рабством, и он же увековечил его3. А теперь вы в
рабстве у чужеземных литератур, вы слуги другого мерт¬
веца, рабы французской школы, которую отвергла сама
Франция. Поэтому вам не дано творить. Поэтому ваша ли¬
тература изо дня в день мельчает, ваше искусство гибнет и
гений отвращает стопы свои от ваших краев, а европей¬
ские умы называют Италию землею мертвых!»
Земля мертвых! О нет. Наше небо светится вечной
улыбкой жизни, и жизнь эта вечно кипит в наших душах.
Но там, где нет ни высоты, ни единства идеи и нет закона,
214
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ЖУРНАЛУ сИТАЛЬЯНО*
который управлял бы и упорядочивал все ее проявления,
как вы можете ждать, чтобы она, эта жизнь, изливалась
мощным и непрерывным потоком? К чему требовать, чтобы
литература отображала ее, если вы сами вырыли пропасть
между литературой и жизнью, если, разорвав вот уже не¬
сколько веков назад звено, связующее словесность с соци¬
альной мыслью, оттеснив поэта на задворки жизни, вместо
того чтобы дать ему, пророку всеобщей гармонии, место в
ее средоточии, вы отделили литературную проблему от со¬
стояния цивилизации и обрекли поэзию на одинокое суще¬
ствование некоей ветви, оторванной от энциклопедического
древа?
В наших душах волнуется вечная жизнь. Но сегодня,
когда работа голого анализа расчленила великое единство
мысли и ее традиций, когда лучи истины отклонились от
общего центра, когда искусство продалось золоту, чувст¬
венности и тщеславию, его храм покинут и разбрелись посе¬
щавшие его, жизнь эта может обнаружиться лишь редкими
проблесками. Она непроизвольно, нежданно, часто бессо¬
знательно изливается у немногих редких талантов, которых
природа вдохновила на великие дела и которые с любовью
и верой в душе обращаются к чаяниям и надеждам Искус¬
ства — ив ужасе отшатываются от пустоты и мрака, сомк¬
нувшихся вокруг кратких мерцаний робкого света, подоб¬
ного затухающим кострам разгромленного лагеря или ис¬
чезающим и неверным иадающим звездам. И мы, видя,
как быстро гаснет то один, то другой из этих огней, гово¬
рим: «То была лишь падающая звезда»; но если бы энтузи¬
азм, подвигнувший на дерзание эти умы, не угас до време¬
ни в разочаровании и скепсисе, если бы ласкавшая их не¬
винные души идея не покинула их и не приобрела окаме¬
нелую и фальшивую форму под леденящим взором обще¬
ства, не признающего воспитательной силы искусства, то,
возможно, тот самый огонек, который, не видя себе при¬
станища, столь быстро вернулся к своему источнику, еще
и сейчас сиял бы над горизонтом благодатным и священ¬
ным светом. Допускаю, что гений способен жить и в одино¬
честве, в пустыне, наедине со своим богом, жить по край¬
ней мере жизнью жертвы и страдания; но народ писателей
на это неспособен. А где нет народа писателей, там нет и
не может быть литературы.
И для того, чтобы был народ писателей, нужен народ
читателей; для того, чтобы искусство возрастало в цвете¬
215
ДЖ. МАЦЦИНИ
нии и силе, нужен народ верующих в это искусство. Но
этого нет там, где словесности не хватает веры, а вера не
существует там, где, как у нас и по всей Европе, побуж¬
дения к творчеству у каждого различны, где нет связи, нет
гармонии, нет взаимного влияния; где каждый писатель
живет одной-единственной идеей, нет, осколком идеи, най¬
денным среди развалин старого святилища, и углубляется
в него, сосредоточивается на нем, трудится и корпит над
ним, будто ему удалось разглядеть в нем всю вселенную;
где на место старых, обветшалых правил, установленных
самозванными законодателями, не приходят взамен вечные
нормы, которых требует природа, движение общества и
подлинная миссия литературы; где, наконец, на поприще
искусства встречаешь лишь отрицание и анархию.
Но анархия не может длиться вечно. И когда литера¬
тура являет подобное зрелище, то можно сказать, что в
это же самое время дух совершает великую работу преоб¬
разования, что искусство ожидает новой формулы и что
оно получит ее. Когда утихнет первая лихорадка умов,
сбившихся с пути на исходе большой литературной эпохи
и предавшихся анархии и разброду, когда умолкнут, дока¬
зав свою беспомощность, различные оторванные от жизни
и ограниченные школки, которые во множестве плодятся
на развалинах веры, растаскивая ее остатки, когда на их
место придет усталость разочарования — тогда явится ге¬
ний, соберет воедино все разрозненные части, наметит но¬
вые пути, свяжет одной направляющей мыслью все част¬
ные, изолированные, брошенные на середине начинания и
начертает новый Синтез. Благодаря ему искусство возро¬
дится.
Нашу литературную веру составляет убеждение, что
все свершения и усилия последних лет в области искусства
есть единая работа переходного времени: работа людей,
которые сознательно или бессознательно предчувствуют
новые судьбы и, исчерпывая последние формулы старого
синтеза, готовят пути для будущего. Искусство прошло од¬
ну стадию. Восемнадцать веков позволили найти одно из
неизвестных задачи. Сегодня целью всех стремлений дол¬
жно стать другое неизвестное. Искусство должно преобра¬
зиться или погибнуть. И из всего этого зрелища анархии,
неопределенности, бесплодия, которое угнетает менее му¬
жественные умы, для нас вырастает следующий и единст¬
венный вывод: мы достигли в своем исследовании пределов
216
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ЖУРНАЛУ «ИТАЛЬЯНО*
одной эпохи и подошли ко второй, к кануну нового синтеза
и, следовательно, новой литературы.
Это убеждение послужит отправной точкой для всей
нашей работы. И, прослеживая его подтверждение во всех
областях приложения, мы попытаемся довести его до на¬
ших читателей, как оно есть для нас, до очевидности исто¬
рико-философского закона. Краткий обзор последних лите¬
ратурных направлений и их результатов лучше пояснит на¬
шу идею.
В последние годы XVIII века и в первые годы XIX века
среди последних формул французского материализма и
первых возвещенных Европе одною женщиной4 формул не¬
мецкой духовности на развалинах целого мира, целой эпо¬
хи искусства, после того как мы, итальянцы, первые, по
крайней мере интуитивно, уже выразили в лице Альфиери,
Чезаротти и Парини необходимость новой литературы, вне¬
запно и неожиданно возникло целое поколение талантов,
которых мы приветствовали как открывателей интуитивно
угаданной эпохи, отцов и начинателей новой жизни для по¬
верженных умов, для порабощенной словесности, для пад¬
шего искусства. Гофман, Кернер, Новалис, Вернер, Улен-
шлегер, Ките, Кольридж, Вордсворт, Шатобриан, Сент-Бёв,
Пеллико, Гросси и многие другие пришли одновременно
или с небольшими промежутками, более или менее смело,
более или менее удачно вводя что-то новое; выше их по
дерзанию начинателей или по возвышенности ума и вдох¬
новения стояли Ламартин, Гюго, Рихтер, Мандзони, Мур,
Шелли, Вальтер Скотт; наконец, над всеми ими поднима¬
лись, как образ жизни в ее двух проявлениях, субъектив¬
ном и объективном, как та загадочная двоица, которая
была душою восемнадцати веков Б, тайною угасавшей тог¬
да эпохи, два гиганта, Байрон и Гёте, а с ними два тече¬
ния поэзии небывалой, чарующей, дотоле неслыханной,
призыв к литературному обновлению, боевой клич против
тирании поэтик, академий и старых норм, пыл новых
устремлений, некий небывалый гул как бы ветра, как бы
бурных волн. Открыватели начали войну, которую подхва¬
тили молодые умы, войну юных поколений против старых,
которые все еще хотели властвовать из своей могилы, —
войну движения против косности, возведенной в закон ве¬
ков. Из страны в страну, от одного конца Европы до дру¬
гого распространилась романтическая революция, опираясь
на журналы и газеты, завладевая сценой, помогая себе пе¬
217
ДЖ. МАЦЦИНИ
реводами, сражаясь эпиграммами, выступая с торжествен¬
ным вызовом в книгах своих кондотьеров. Но перчатка не
была поднята, или же ее подняли руки слабые, дрожащие,
способные удержать разве президентский жезл на собра¬
нии академиков, но не боевое знамя. Сторонники старых
теорий рассеялись. Новооткрыватели остались хозяевами
поля сражения.
Они принадлежали к могучему роду, и на их челе сия¬
ла печать бога и гения. Но был здесь и след тайного, глу¬
бокого страдания, появлявшийся подобно знаку на челе Ред-
гонтлета б, часто даже у тех, чья вера была всех жарче и
воображение всех смелее; и в их чертах была печаль веч¬
ных изгнанников, что-то роковое, подобное предчувствию
преждевременной смерти, подобное знаку, оставленному
ангелом последнего часа. Они улыбались улыбкой, носив*
шей оттенок иронии. Когда их украшали цветами, они ка¬
зались священными жертвами, предназначенными на за¬
клание, и некоторые из них, туманные поэтические явле¬
ния, создания любви и желания, подобно Китсу и Новали-
су, умерли юными, истерзанные этим тайным страданием.
Йз тех же, кто остался, одни, подобно Вернеру и Гофма¬
ну, встретили на середине своего пути безумие, другие сре¬
ди триумфа и восторгов издавали страдальческий стон; и
как если бы освобожденный разум не имел иного выбора,
Гёте свел жизнь к формуле равнодушия, Байрон — к ве¬
личественному гимну отчаяния. Лишь один из всех этих ги¬
гантов, Шиллер, жил с верою и умер в надежде; поэтому
мы будем с каждым годом более ценить его, и когда слава
других уже угаснет, поколения будут чтить в нем одного
из избранников поэзии. Но сейчас, когда писательская
чернь все еще пытается идти вслед за Байроном и Гёте,
много ли есть подражателей у Шиллера?
И где сейчас, когда умолкли гиганты, когда Байрон,
Гёте и Скотт сошли в могилу, плоды победы? Где весь
этот гром сражения? Сторонники старых теорий уже не
осмеливаются вновь начать свой неуместный лепет. Рабо¬
лепная литература «классицистов» погибла, погибла без¬
возвратно и повсеместно. Но где же новая? Где обетован¬
ная литература? Где творческая энергия, которая должна
была пережить тех великих людей и разлиться из их гроб¬
ниц, благословляя на вдохновение и любовь растущее по¬
коление?
Разочарование и позор. Среди славных могил кишит
218
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ЖУРНАЛУ «ИТАЛЬЯНО*
племя пигмеев, бесславное, безымянное племя без веры,
без знамени, бессильное сердцем и разумом, не признающее
святости совести, чуждое гению и добродетели. По арене,
еще хранящей следы могучих, впервые вступивших на нее
борцов, прохаживается толпа писак-плебеев, оскверняя ее
и расшвыривая прах погибших, чтобы найти какое-нибудь
иолустишие, мысль, имя, реминисценцию, которые можно
было бы вставить в свои сочинения и тем заслужить изве¬
стность и похвалу на короткий час. Среди них есть умы,
которые менее вульгарны, но более извращены, потому что,
обладая талантом писателя, они торгуют им; потому что,
понимая добродетель, которая редка, но все же существует,
они отрицают ее полностью или насмехаются над нею; по¬
тому что, чувствуя искусство, они продают его книготоргов¬
цам, порочным и пресыщенным читателям, расчетам обо¬
гащения или самого мелкого тщеславия. Осквернители свя¬
той мысли, они низвели ее до ремесленного орудия, кото¬
рое служит даже извращенной эпохе, потворствует стра¬
стям даже в самых низких их проявлениях, играет на слу¬
чайных капризах общественного мнения, проповедует по¬
литику без принципов, мистицизм без внутреннего убежде¬
ния, религию без настоящей, глубокой веры, которая выра¬
стала бы в душе и становилась одним целым с жизнью и
действием. Осквернители святого гения, они бессовестно
приписывают себе страдание, которого не чувствуют, воз¬
мущаются пороком, не ободряя добрых, и говорят о своем
разочаровании, ничем не жертвуя. Развращенные, они раз¬
вращают других; скептики, они сеют скептицизм в юных
душах. У них, по-видимому, нет иной миссии, кроме разло¬
жения.
Ниже их — прозаическая, расчетливая материалистиче¬
ская, насмешливая, бездумная толпа, которая, потешаясь,
следит за работой разложения, ждет от искусства минут¬
ного развлечения, от писателя — поверхностных впечатле¬
ний, торгует сенсациями, аплодирует поэту на сцене с
условием, что замучит его, если он посмеет сойти с нее и
смешаться с обществом, убивает Чаттертона и преследует
его ложью после смерти, втайне сознает могущество гения
и мстит ему за это тем, что жестоко и трусливо издевается
над его привычками, его стремлениями, его нравственны¬
ми страданиями.
И поэты — я говорю о немногих настоящих — среди
этого распада взывают, отчаиваясь в спасении, к природе
219
ДЖ. МАЦЦИНИ
и к небу; а когда после гармонии, царящей в природе и кос¬
мосе, они вновь обращаются к человеку, то исполняются
презрения. Не понимая, что бог не затем поставил челове¬
ка царем земли, чтобы он звучал диссонансом среди все¬
ленской гармонии, не догадываясь, что физический мир в
конечном счете есть лишь рамка картины, в которой долж¬
но выступить человечество, они втаптывают человека в
грязь и, как могильный камень, обрушивают на его голову
этот небесный свод, где перстом господа для него начер¬
тана строка гармонической красоты, до которой он должен
рано или поздно подняться. Почему вместо того они еди¬
нодушно не крикнут ему: «Восстань, творение бога, создан¬
ное по подобию его, и иди!» Из тех первых, кто с такой
силой обетования провозгласил крестовый поход против
старой литературы, остались немногие, и среди этих немно¬
гих заметна растерянность. Блуждая с опущенным взором,
со словами неуверенности на устах по пустыне, оставлен¬
ной уходом Байрона и Гёте, они, кажется, молят — и на¬
прасно — у их монументов о вдохновении, слабеющем день
ото дня. Так последние язычники, разрушив империю, бла¬
гоговейно разыскивали статуи своих богов, прося их о
вере, которая умерла навсегда. Между кличем, который
Гюго бросил молодежи в предисловии к «Эрнани», и жа¬
лобой, звучащей в его «Песнях сумерек», пролегла целая
жизнь разочарований, гаснущая в бессильном стоне.
В XXXVIII песне7 кондотьер романтического похода во
Франции обнажает тайну своей души и одновременно тай¬
ну целой школы: сомнение — сомнение после стольких на¬
дежд, сомнение после стольких трудов, сомнение после
стольких лет борьбы, начатой со смелостью поистине тита¬
нической во имя поисков нового мира!
Это ли, во второй раз спрашиваю я у моих читателей,
обетованная литература? Почему, если мы победили, мы
не идем вперед? Почему не творим? Для того ли мы сра¬
жались, чтобы упиваться теперь сомнением? Неужели при¬
зыв к прогрессивной жизни, к вечному движению, который
все мы бросили в свои молодые годы, будет иметь своим
плодом лишь право на бездействие, завоеванное в иной об¬
ласти, не похожей на старую, и ничего больше?
Эти гиганты не были начинателями новой поэзии, но¬
вой литературы, зарождающейся эпохи искусства: они бы¬
ли лишь завершителями эпохи уходящей, изжитой, исчер¬
панной. Смелость, которой дышали их речи, была смелость
220
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ЖУРНАЛУ «ИТАЛЬЯНО*
отчаяния: смелость гладиаторов, которые приветствуют
зрителей, идя умирать; трепет, всколыхнувший Европу,
был трепетом, который сотрясает тело умирающего, и свет,
озарявший лица воителей, был последним лучом заходя¬
щего солнца, а не первым лучом зари. Вся их литература
была лишь завершающей формулой, господствующим чле¬
ном которой была индивидуальность. Все эти замыслы, все
эти восторги, которые изливались столь мощно и проноси¬
лись столь быстро, были, если присмотреться, лишь после¬
довательными проявлениями личности, различными излу¬
чениями принципа, который вырастал из трудной истории
двадцати веков, чтобы перейти в состояние чистой идеи,
раз и навсегда завоеванной человечеством. Мы приняли
работу завершения за деятельность начинания, прощаль¬
ную песнь за гимн обещания, гробницу за колыбель. И те¬
перь мы ожидаем от тех первых, кто повел нас в бой, при¬
зыва к бою, законов будущего, идеи новой литературы, но
от них уже нельзя ждать ничего, кроме молчания.
Здесь, если только я не ошибаюсь, заключается тайна
бездеятельности, на время овладевший умами.
Романтическая доктрина есть доктрина индивидуально-
сти, и поэтому она способна разрушить старую литератур¬
ную тиранию и не в силах основать новую литературу.
Придя в годы, когда раболепство умов перед традицион¬
ным авторитетом учителей было таково, что они не осме¬
ливались даже свободно подражать и подражали подража¬
телям, когда разум был в плену у формальных норм,
выведенных из опыта древних греков, а малодушная без¬
дарность в слепом повиновении этим нормам находила
предлог для того, чтобы невозмутимо копировать друг дру¬
га, романтизм объявил войну первым, лишь презрением
удостоил вторых и пробудил к действию всех тех, кто не¬
навидел иго, но отчаивался в освобождении, молча негодо¬
вал и предпочитал изнурять свои способности в бездейст¬
вии, лишь бы не запятнать их грязью школ и академий.
Романтизм воскликнул: «Творите; как — неважно». Он вы¬
ступил против всех, кто отказывал Гению в праве устре¬
миться по новым путям, но сам не указал этих путей, не
открыл их; он увидел колодки и разбил их, увидел само¬
званую тиранию — и опрокинул ее, но его не занимал воп¬
рос, достаточно ли открыть для пленных двери их темницы,
чтобы они нашли путь к свободе, и он не заметил, что по¬
мимо свободы и анархии есть еще закон, закон эпохи,
221
ДЖ. МАЦЦИНИ
единственно вечный, единственно важный для всех литера¬
тур, которые не хотят стать провинциальными и бесполез¬
ными, сделаться предметом бесплодного удивления, вместо
того чтобы быть орудием совершенствования живых душ.
Это был клич протеста, война за независимость, не более
того. Она освободила разум, но не указала ему выхода.
Она восстановила попранную классицизмом индивидуаль¬
ность, но не благословила ее на новое служение. Между
тем без всеобщего закона и служения, без единства перво¬
начального замысла и стоящей перед умами цели нет и не
может быть, повторяем мы, литературы. Восстановление
угнетенной индивидуальности означало отвоевание прине¬
сенных веками плодов, возвращение к принципам, возвра¬
щение жизни и движения для идеи литературной эпохи,
уже расцветавшей в прошлом, но извращенной и прерван¬
ной в своем развитии господством чужеродной школы; оно
означало исчерпание этой мысли, завершение этой эпохи,
а не преодоление ее и не начало новой. Но именно в этом
и состоит задача. Романтизму, родившемуся на руинах
старой литературы, не дано было разрешить ее и задать
новую задачу. Но, разрушая, добиваясь независимости, он
готовил для творчества поле, свободное от предвзятых си¬
стем, воздух, очищенный от рабства. И на этом поле дол¬
жны будут разбить лагерь новые таланты. Но сам роман¬
тизм не мог сделать этого. Он пришел для борьбы и чер¬
пал в борьбе силу. Победа должна была погубить его, и
она его погубила. Победивший романтизм ушел со сцены.
Он ушел со сцены, потому что, истощив себя в той стре¬
мительности, с какой он рванулся в бой, он устрашился и
изверился в своих силах перед лицом выросшей в конце
его пути бесконечности; он ушел со сцены потому, что вос¬
стал для разрушения, и когда дело разрушения было сде¬
лано, у него не осталось сил для постройки. Но сегодня
благодаря романтизму эпоха господства индивидуальности
завершена; Гёте написал ее историю; Байрон написал ее
эпитафию, и, тревожимый предчувствием эиохи новой, он
ушел умереть среди народа, возродившегося из мертвых,
как бы для того, чтобы видеть те преобразования европей¬
ского мира, первое предчувствие которых ему было довере¬
но выразить.
Так что же, надо остановиться? Отчаяться? Из-за того,
что один источник вдохновения оказался бессилен возро¬
дить поэтическую жизнь, утолить души, тревожимые бли¬
222
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ЖУРНАЛУ «ИТАЛЬЯНО»
зостью неведомого мира, мы лишены иного и лучшего пу¬
ти? Все ли источники поэзии сосредоточились в этом одном
настолько, что поиски других должны остаться бесплодны¬
ми? И потому лишь, что направление, которому мы, не¬
опытные юноши, вверили когда-то все свои молодые наде¬
жды, оказалось неспособным воплотить в действии питав¬
шую эти надежды идею, мы должны похоронить теперь
вместе с нею будущее, встать над могилой и возвестить
поколениям, которые ищут поэзию: «Вся поэзия погребе¬
на здесь, и мир, возможно, никогда уже более ее не увидит;
занимайтесь расчетами и цифрами, потому что поэзия
умерла и вы лишены ее наследства»? *
Нет. Да не потерпят этого люди, бог же этого не захо¬
чет. Бог не захочет лишить аромата цветок, который дол¬
жен раскрыться в нем и который века воспитывают для
него иод именем Человечества. Бог дал нам поэзию, подоб¬
но тому как он дал нам женщину и музыку, приметою
неба, обещанием, ангелом-утешителем, чтобы там, где мир
и люди повергают душу в сомнение или удушают ее в без¬
действии, она могла спрятаться под крыло этого ангела и
не отчаяться; и бог не захочет отнять ее у нас сегодня, ког¬
да для неспособного видеть более, чем поверхность явле¬
ний, есть столько поводов к отчаянию.
Слишком велика в людях XIX века сила страдания, что¬
бы смириться с вялым покоем всех душевных сил и тупой
косностью, которую расчетливые люди зовут сегодня фило¬
софией; слишком велика сила их стремления, чтобы они
рано или поздно не достигли цели. Стремление целого по¬
коления есть будущее в зародыше. И из усилий, хотя бы
и безрезультатных, хотя бы и противных прогрессу; из пе¬
реводов, которые накопляются как бы лишь для того, что¬
бы скрыть недостаток оригинальных талантов; из заблуж¬
дений, которые увлекают поэтов искать на Востоке новые
образы и стимулы для увядшего воображения; из смеха, из
стона века, из проклятия и молитвы вырастает явное, не¬
отвратимое, определенное стремление, которое должно
быть и будет удовлетворено: стремление к литературе, ко¬
• Литературные журналы и обозрения passim; затем во Франции четыре
пятых всех романистов, новеллистов и стихотворцев; в Италии те, кто, не умея
творить н думать самостоятельно, подражает, придавая оттенок положитель¬
ной философии тому, что во Франции есть лишь излияние скептицизма или при¬
чуда.
223
ДЖ. МАЦЦИНИ
торая творила бы, к поэзии, которая возвышала бы и очи¬
щала, которая будила бы и ободряла; стремление к искус¬
ству, которое было бы не развлечением, не развратом, не
суетным наслаждением, но воспитательной силой, служе¬
нием, потребностью совести, которое вырвало бы человека
у расчетов низменного рабского эгоизма, вселяющего се¬
годня в людей трусость и злобу; которое воспламенило бы
его на возвышенные замыслы, на бессмертные надежды, на
великую веру. Бог, Сострадание, Гений, Жертвенность,
Любовь.
Итак, нужно выступить в путь.
Одна эпоха искусства завершена, и мы, отвергая скеп¬
сис, это самоубийство души, отвергая теории, пресмыкаю¬
щиеся перед индивидуальностью, как единственным источ¬
ником поэзии, отвергая школу, которая со своим правилом
«искусства для искусства» хочет сделать религией литера¬
турный атеизм и законом — анархию, отвергая усилия
всех тех, кто уходит в прошлое, ищет вдохновения среди
могил и разбивает свой шатер среди пепла и руин, — мы
должны, далекие от слепой дерзости и слепого раболепст¬
ва, понять нашу эпоху, вывести из нее исторический ме¬
тод, узнать источники вдохновения ее великих людей, пос¬
леднюю формулу ее философии, сделать явной завещан¬
ную ею традицию, увенчать цветами гробницы ее гениев,
почтить на минуту ее руины — и идти дальше.
Идти дальше, потому что плохо мы послужим чести и
росту нации, если будем стоять на месте или отступать;
потому что жизнь, движение и прогресс синонимы; пото¬
му что другие нации идут вперед в своем труде, а мы спим
уже три века. Идти дальше, оживляя и окружая своей лю¬
бовью прошлое, непонимаемое или пренебрегаемое сегодня,
отстаивая своих гениев XVI века 8, а вместе с ними принци¬
пы ожидаемой нашей эпохою философии, возрождая вме¬
сте со святым именем Данте начала литературы, которую
он один умел понять, которая ушла в могилу вместе с ним
и лишь некоторые фрагменты которой мы сейчас чтим и
развертываем, но не ее гигантскую всеобщую идею, боль¬
шинством из нас забытую, непонятную иностранцам и ожи¬
дающую своего часа; но идти, не жертвуя этому прошлому
будущими надеждами, не отвергая перед его великими
образами, перед портретами наших отцов живущую в нас
силу, взращенную веками и требующую свободного прояв¬
ления; идти, не иссушая дарованных нам богом способно¬
224
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ЖУРНАЛУ «ИТАЛЬЯНО»
стей, не замыкая в тесном кругу академии, города, провин¬
ции идею, которая объемлет всю Европу и которую не по¬
няли или не выразили наши отцы, совращенные, за исклю¬
чением лишь одного9, пристрастием к формам и соблаз¬
нами периода, который называется Возрождением, а дол¬
жен был бы называться падением.
Идти дальше; и, помня, что если гений в ранние эпохи,
исполнившись божественной мысли, одним прыжком втор¬
гается в девственные земли, то он не может сделать этого
на почве, изрытой кропотливыми трудами рабов, загро¬
можденной бесполезными, грубыми постройками, где бо¬
жественная идея погребена под материальными плодами,
оставленными целым поколением подражателей, мы долж¬
ны ограничиться критикой, обнажать язвы, без стеснения
разоблачать пустоту всех тех, кто трудится сегодня без вы¬
сокой мысли и мерцает, как светлячок, лишь благодаря
окружающему мраку; обличить бессилие анализа, вдохнуть
жизнь в мертвое тело; кричать тем, кто сегодня с презре¬
нием смотрит на опыты чужеземцев и глумится над теори¬
ями прогресса, над историческими законами, над тенден¬
циями к объединению и над явной потребностью сделать
энциклопедичным (enciclopedizzare) человеческое знание:
«Вы низменно предаете молодежь, доверяющую вам
юность, и нет племени, более вас враждебного отечествен¬
ной науке и словесности, ибо вы бездарны и бесстыдны!»;
воспитывать умы для нового синтеза, готовить общество
для поэта, почву для гения, храм для жизни, святилище
для искусства, которое должно воплотить и возвеличить
эту жизнь.
И жизнь, и искусство, и гений согласно расцветут, ког¬
да в наше сознание вселится идея и единство, а в сердце-
энтузиазм; когда с покоем перенесенного страдания на че¬
ле, со взором, просветленным надеждой и обращенным за
пределы физической жизни, мы сможем, не краснея за са¬
мих себя и не чувствуя себя лицемерами, повторять моло¬
дым святое слово, которое двадцать три года назад произ¬
несла одна женщина среди народа, испорченного материа¬
лизмом и разнузданностью омертвелой философии: «Будь¬
те добродетельны, верьте, любите и уважайте любимое;
ищите бессмертия в любви и божество в природе; освящай¬
те, как храм, свою душу — и ангел святых дум не погну¬
шается навестить вас».
Сейчас мы этого недостойны. Наши души извращены;
8-6342
225
ДЖ. МАЦЦИНИ
извращены эгоистическими расчетами или заражены низ¬
менными страхами. Мы стыдимся плакать, стыдимся дове¬
риться любви, которую сами же втайне призываем. Мы
гнушаемся склонить чело перед прахом наших знаменитых
людей. Мы гнушаемся склонить его с чувством призна¬
тельности перед сиянием, которое пророчески излучает
взор гения и которое мягко озаряет чувством и любовью
лицо женщины; нет, своей сатирой, сумасбродными обви¬
нениями и преследованиями мы навлекли на первого все¬
общее подозрение и пренебрежение, и благодаря своему
коварству, иронии, беззаконному порабощению окружили
недоверием, равнодушием и лицемерием вторую; наконец,
когда и на одном и на другом сказывается наше влияние,
мы проклинаем их. Мы сделались холодными и расчетли¬
выми мизантропами, насмешниками из страха стать посме¬
шищем, равнодушными к страданию скептиками из неже¬
лания растрачивать свое сочувствие без выгоды для себя.
Поэзия и энтузиазм живы и будут жить вечно; но мы, не
придумав ничего лучшего, заточили поэзию на мертвых
книжных страницах и в театре, отвели энтузиазму краткие
годы безрассудной молодости, когда он, блуждая от пред¬
мета к предмету, не руководимый серьезными исследова¬
ниями или глубоким раздумьем, теряется в обширном ми¬
ре и не сосредоточивается на одной цели. Земля сделалась
немой, мрачной пустыней без любви и теплоты, формой
без души, громадной фабрикой, где все низведено до ме¬
ханизма, все высчитано числом; минута за минутой ею
правят часы, и мы блуждаем по ней какими-то тенями лю¬
дей, с измельчавшими душевными силами, со страстями ев¬
нухов, полузадушенные с детства, живем без религии под¬
вига и жертвенности, умираем без веры в неложные на¬
дежды. Поэтому в нашем смехе и нашем плаче нет поэзии,
и первый стал всего лишь сокращением диафрагмы, а вто¬
рой — секрецией желез. Поэтому наши попытки бессиль¬
ны и смехотворны. Поэтому мы предаемся трусливому от¬
чаянию.
Но я обращаюсь к тем, кто еще чужд суетности и лож¬
ной науки, в ком разлад — если он есть — еще не пустил
корней. Не приходилось ли им ощущать пустоту в своих
душах? Внятно ли им напоминание, исходящее от бессмерт¬
ных страниц и могил великих писателей? И, видя, что ник¬
то не слышит этого напоминания, замечая, что наш разум
влачится по кругу, не двигается вперед ни на шаг, чувству-
226
Предисловие к литературному журналу «итальяно*
lfc.,.,1 „Ii ί^==.-. ■ и. - ·Γ
ют ли они, как их щеки обжигает пламя благородной мыс¬
ли, как сознание неириложенных сил, дух высокой веры
внезапно вырастает в них, наполняет их и делает гиган¬
тами? Так пусть во имя итальянской чести они взрастят и
преданно сохранят эту мысль надежды и поэзии, и пусть
она будет для них залогом возрождения искусства. Про¬
заическая толпа назовет пустым сном эту святую мысль;
но подобные сны есть аромат, которым полна душа, выхо¬
дя из рук своего создателя, и этот аромат, собранный и
разлитый над головами смертных, есть то, что люди назы¬
вают поэзией.
Возродить любовь к этим пророческим снам, благодати
душ, хранящих среди грязи дряхлого общества белоснеж¬
ное одеяние невинности, вернуть упование утратившим спо¬
собность мечты, восстановить поэзию на ее троне, благо¬
словить поэта на высокое социальное служение — вот за¬
дача критики, какою она должна быть в наши дни, какою
мы ее понимаем и какою мы хотим ее сделать. Для нас
критика есть прелюдия к искусству. Из этой прелюдии вы¬
росла в начале второй половины прошлого века немецкая
литература. И из такой прелюдии возникнет, возможно, в
середине века, в который мы живем, литература итальян¬
ская.
Однако — и здесь предмет, который требует длинного
рассуждения, но упомянуть о нем полезно уже сейчас, —
люди, которые решатся и сумеют взяться за такое пред¬
приятие, должны помнить, что, если их родина дважды бы¬
ла очагом цивилизации, она была им для одной Европы,
тогда как в XIX веке литература не может быть ни исклю¬
чительно итальянской, ни исключительно европейской.
Вселенная едина. Едина одухотворяющая ее мысль, и к
ее воплощению должны стремиться все средства выраже¬
ния, которыми бог наделил человека при его сотворении.
Люди раздробили эту мысль на осколки. И мы должны се¬
годня собрать их все, но не для того, чтобы поклоняться
им поодиночке и основать литературный политеизм, не для
того, чтобы забыть среди идеальных обобщений о миссии
своего отечества, а для того, чтобы у поэта сложилось пло¬
дотворное и могучее понятие жизни и чтобы всеобъемлю¬
щий культ искусства царственно возвысился над всеми
формулами национальной литературы, присущей одному
народу или одному периоду. Сегодня робкая догадка о ев¬
ропейской литературе, которая десять лет назад встречала
8*
227
ДЖ. МАЦЦИНИ
недоверие или противодействие, стала распространенным
убеждением, и общие несчастья и общие надежды подкре¬
пили ее двойным рядом доказательств. Однако националь¬
ные литературы должны преобразиться и развиваться гар¬
монично, а не полностью слиться и уничтожиться: задача,
возможно, и трудная, но разрешение ее, которое мы считаем
вполне возможным, уладит все споры. Меж тем — и этот
призыв исходит от тех самых, кого литераторы винили в
отрицании национальной литературы, — по этому единст¬
венному пути должны направиться все усилия умов и все
изыскания; прочие пути бессмысленны или преждевремен¬
ны и насильственны.
Как в федерации греческих государств, один храм ста¬
нет душою союза, один храм, в котором все литературы
будут воскурять благовония общей мысли, идее. И посколь¬
ку все литературы живут лучом этой идеи, поскольку ка¬
ждая из них выражает одну строку, одно слово, один слог
этой мысли и каждая имеет славные имена и великие и
святые предания, этот храм примет их все, дав каждой свое
место. Бесчисленные таланты, создающие и питающие от¬
дельные литературы, узнают идею эпохи у гения, природ¬
ного служителя этого пантеона; потом они отправятся в
путь, чтобы взять формы и выражение этой идеи у неба, у
своего края, у земли, у прошлого, у настоящего, из иреда-
ний, из народных несен, у своих матерей и у простолюди¬
нов родной страны.
Догмат европейской литературы может быть написан
лишь вокруг Пантеона всех литератур.
Закон каждой из национальных литератур может быть
написан лишь в своде, заглавием которого будет этот
догмат.
Солнце, поставленное богом на небе души, красота —
едина, как солнце, сияющее в небе нашей вселенной. И как
солнце, сияющее в небе нашей вселенной, красота вечно
излучает свой свет на весь мир, но ее лучи расцвечиваются
по-разному, в зависимости от того, через какую среду они
проходят на своем пути и на какую поверхность падают.
Будущее искусство отразит этот закон единства, или оно не
будет искусством эпохи.
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
Неизвестному Богу.
Пишущий знает о музыке
лишь то, чему научило его сердце, или немногим более, но,
будучи рожден в Италии, в этом отечестве музыки, где са¬
ма природа есть концерт и где гармония проникает в душу
с первой песней, спетой матерью у колыбели ребенка, он
чувствует свое право и в простоте, как велит ему сердце,
пишет о том, что представляется ему истинным, еще никем
не высказанным и, однако, необходимым для того, чтобы
музыка и музыкальная драма поднялись к новой жизни из
подражательного круга, по которому в колодках, надетых
наставниками и дельцами от музыки, ходит в наши дни
пленный гений.
И пусть наставники и дельцы пройдут мимо этих стра¬
ниц. Они не для них. Они для тех немногих, кто чувству¬
ет, что музыкальное искусство есть служение, и понимает,
какое огромное влияние оказало бы оно на общество, если
бы педантизм и продажность не сделали из него послуш¬
ного механизма, игрушки томных богачей, — для тех, кто
видит в нем не одни лишь бесплодные сочетания звуков
без цели, без единства, без нравственной идеи, — для сер¬
дец, если есть еще такие, не отвергнувших мысли ради ма¬
териализма, идеи ради формы и знающих, что есть фило¬
софия и у музыки, как у всех других выражений внутрен¬
ней жизни и правящих ею страстей, — для незапятнанных
душ, которые верят и любят, с благоговением приникают к
творчеству истинных талантов, скорбят вместе с Вебером в
его последних раздумьях, трепещут, слушая дуэт Фальеро
и Израэло Бертуччи *, и ищут в гармонии убежища, когда
душа плачет, и веры и утешения, когда сомнение теснит
ее, — для того неизвестного юноши, который, может быть,
сейчас, когда я пишу эти строки, в каком-то уголке нашей
229
ДЖ. МАЦЦИНИ
земли, волнуемый вдохновением, вынашивает в себе тайну
новой музыкальной эпохи.
Возможно, для души подобного склада эти страницы не
окажутся бесполезными. Они приведут ее к идее возрож¬
дения музыки или, по крайней мере, еще больше убедят
ее, что без идеи возрождения музыка способна стать до¬
ставляющим большее или меньшее удовольствие ремеслом,
но никогда не достигнет высоты своего предназначения;
они побудят такую душу дерзать или послужат, по край¬
ней мере, утешением в долгих бедствиях, всегда сопровож¬
дающих на жизненном пути тех немногих, что рождены
для творчества. Кто чувствует всю святость искусства, ко¬
торому он призван служить, тому в наши дни продажности
и безверия нужно, чтобы чей-то голос поднялся в его за¬
щиту и звал его к вере и надежде. У нас нет недостатка в
творческой силе. Но в гнетущей молодые души атмосфере
материализма и прозы недостает луча надежды и поэзии,
который осветил бы пути грядущего. Недостает того, кто
неустанно повторял бы новым талантам напоминание, ко¬
торое один философ просил будившего его говорить ему
каждое утро: «Вставайте, ибо вас ждут великие дела». Не¬
достает того, кто звал бы: «Там, на той вершине,—слава;
воспряньте же и идите; на пути вы встретите насмешников
и завистников, но ваша совесть при жизни и потомки пос¬
ле смерти оправдают вас перед вашими современниками».
Когда образующее начало какого-либо искусства, гос¬
подствующая в нем живая идея достигают высшей степени
возможного развития, получают ярчайшее выражение, до
которого им дано подняться, так что попытки превзойти его
оказываются тщетными даже у истинных талантов, тогда
это начало безвозвратно превзойдено, эта идея исчерпана
и сам гений не сможет оживить ее, сам гений не сможет
возродить завершившийся или близкий к завершению пе¬
риод. Тогда упорствовать в попытках удержать эту идею
единственным основанием искусства, найти в одном этом
элементе источник всей жизни — значит безумствовать,
значит не понимать закона, управляющего судьбами ис¬
кусства, значит сковывать и опустошать самого себя, об¬
рекать себя на блуждание среди трупов, когда повсюду ки¬
пит жизнь, движение и сила. Искусство бессмертно; но
искусство, симпатическое выражение той мысли, воплоще¬
нием которой бог создал мир, развивается, как и сам этот
мир. Оно не движется кругами, не вступает на пройденные
230
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
пути, но идет вперед из эпохи в эпоху, расширяя свою сфе¬
ру, поднимаясь к более высокой идее, когда предыдущая
раскрыта во всех своих аспектах, возрождаясь к жизни с
появлением нового принципа, когда исчерпаны и доведе¬
ны до логического завершения все следствия прежнего.
Это неумолимый, как судьба, и действительный для каж¬
дого явления закон. Когда умирает одна эпоха, на ее ме¬
сто вступает другая. Дело гения угадать и раскрыть ее се¬
крет.
Мне кажется, что этой точки достигла в наши дни му¬
зыка. Идея, которая до сих пор сообщала ей жизнь, исчер¬
пана. Новая еще не явлена. И пока она остается скрытой,
пока молодые композиторы упрямо пытаются работать по-
старому, пока иное, еще неведомое небо не послало им свое¬
го вдохновения, музыка останется сиротой творческого духа,
школы будут спорить без конца и без результата, «музы¬
канты» будут неверным шагом брести по кривым путям
разных систем, среди разных направлений, без сознатель¬
ного намерения и цели, без надежды на лучшее, вечными
подражателями, нося венок, которым увенчивают подража¬
телей,— яркий и цветистый, но вянущий и опадающий в
один день. Метод, красоты и тонкость отделки будут совер¬
шенствоваться, возрастания творческой способности не бу¬
дет. Будут изменения в стиле, не будет новых идей; будут
проблески музыки, не будет самой музыки; будут востор¬
женные, если хотите, страстные поклонники из моды; не
будет верующих, не будет веры.
Разум стоит сегодня между двумя мирами; он в прост¬
ранстве, отделяющем прошлое от будущего, между исчер¬
павшим себя синтезом и другим, рождающимся. Это исти¬
на, которая просвечивает всюду, живет в каждом луче че¬
ловеческого знания. Поэзия, литература, история, филосо¬
фия — все служит выражением одного явления, все гово¬
рит тому, кто может и хочет понять: «Мы живем в пере¬
ходные времена, между последним гаснущим светом солн¬
ца на закате и первым неверным светом солнца восходя¬
щего». Вся поэзия состоит сейчас из предчувствий и воспо¬
минаний, из плача и молитвы. Литература блуждает в по¬
исках потерянного слова и бредит надеждой новых судеб.
История колеблется между двумя системами, между голым
анализом фактов и синтезирующим изложением, между
простым рассказом и убеждением. Философия гнется к
земле, сосредоточенно анатомирует индивидуум, идя по
231
ДЖ. МАЦЦИНИ
следам XVIII века, и отвергает действительность, а с нею
способность своего последовательного приложения в жизни,
устремляясь к созерцаниям абсолютного идеала, еще никем
не достигнутого и, возможно, вообще недостижимого. По¬
всюду пылкие начинания, в отчаянии и бессилии оставляе¬
мые затем на полпути, угаданные решения, которые потом
забываются. Повсюду волнение сил, ищущих и не находя¬
щих применения, утомительный и безрезультатный порыв
в неизвестность. Дух жаждет цельности во всем, но либо не
знает пути ее достижения, либо не решается вступить на
этот путь. Романтизм, как мы уже сказали, умел разру¬
шать, но не строить: это было, в сущности, переходное ми¬
ровоззрение, оно не имело и не могло иметь органической
идеи. Чтобы направить дух но путям социального искусст¬
ва, требовалось освободить его от всякой тирании теорий
и школ; вот миссия романтизма. И надо снова и снова го¬
ворить об этом, ибо сегодня опасность для развития лите¬
ратуры и искусств исходит не от окончательно разбитых
врагов прогресса, а от беспомощных его сторонников, от
робких и неопытных преобразователей, от тех безумцев,
которые высшее достижение полагают в литературной
анархии, и от тех слепцов, что преклоняются перед проро¬
ком как перед богом. Когда романтизм бросил яблоко раз¬
дора на столы литераторов, эти литераторы были выродив¬
шиеся греки и римляне, а не итальянцы, не европейцы
XIX века. Деспотически царила античность. Стихия со¬
временного мира была под запретом. Искусство христиан¬
ское, искусство свободное, искусство человеческое задыха¬
лось под развалинами языческого мира. Романтизм, подоб¬
но северным завоевателям на закате империи, пришел рас¬
правиться с этими мертвыми реликвиями и разметал их;
выведя на свет попранную индивидуальность и сказав ду¬
ху в сфере искусства слово, забытое почти пять веков на¬
зад, он возвратил ему священную свободу и промолвил:
«Иди вперед, вселенная принадлежит тебе»,— но не более
того. И тогда умы разбрелись по всем открывшимся путям.
Они поднимались до небес и утопали в облаках мистициз¬
ма, они спускались на землю и низвергались в ад, вынося
оттуда сатанинский смех и ту бесконечную неудовлетворен¬
ность, которая охватила во Франции большую часть лите¬
ратуры; они простирались ниц перед памятью средних ве¬
ков, искали вдохновения на развалинах старых замков и
монастырей. Из всех этих попыток, иногда робких или ог¬
232
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
раниченных, иногда толкающих вспять, предвестием гря¬
дущих достижений и знаком возродившейся силы выраста¬
ла идея я, вернувшегося к своему предназначению. Всем,
кто спрашивал: «В кого веруете?» — идущие могли теперь
ответить по крайней мере ответом варвара: «В себя». Но
когда они увидели, что пустота грозит увековечиться, а им
не удается заполнить ее, и что открывшиеся пути не утоля¬
ют духовной жажды нового поколения, они остановились в
нерешительности...
Искусства, науки, теории ждут, когда им будет возвра¬
щена связь. Ждут мысли, которая сосредоточит их все во¬
круг единой цели и сроднит в единой идее цивилизации.
Ждут, и она придет. Тогда кончится анархия, истомившая
сегодня души, и искусства, заняв присущие им места, могу¬
чие не только своей собственной силой, но и силой целого,
освященные исполнением единого волеизъявления, гармо¬
ничные, согласные, расцветут среди всеобщей любви для
жизни вечной. Пока же надо готовить почву для этого и
всеми возможными способами указывать путь избавления
всем, кто не утратил веру в искусство.
Даже и в том, что касается словесности, надо повторять
и это и тысячи других вещей, чтобы они не остались неиз¬
вестны или, скорее, чтобы они не были забыты; ибо многие
уже говорили о них в Италии, как и вне ее, и многие в от¬
вет рукоплескали, потому что в Италии разум от природы
силен и легко узнает истину; но потом все предавалось
забвению, потому что в Италии сила забвения превышает
силу разума. Но кто говорил подобное среди пишущих и
рассуждающих о музыке? Кто хотя бы приближался к это¬
му? Кто когда-либо пытался подняться к философским на¬
чалам музыки? Кто заметил связь, соединяющую музыку
с братскими искусствами? Кто, когда высказывал мысль,
что основная идея музыки совпадает, возможно, с прогрес¬
сивной идеей человечества, что тайну ее развития надо ис¬
кать в развитии всеобщего синтеза эпохи; и что главная
причина ее современного падения ■— в господстве материа¬
лизма, в отсутствии социальной веры, а путь к ее возрож¬
дению — в оживлении этой веры, в слиянии судеб музыки
с судьбами словесности и философии? Кто возвысил голос,
чтобы сказать не «наставникам», которых могила испра¬
вит, но молодым, которые хотели бы вырваться на простор
и не знают как: «Искусство, которому вы учитесь, свято, и
вы должны быть святыми, как и оно, если хотите стать его
233
ДЖ. МАЦЦИНИ
жрецами. Искусство, которое доверено вам, теснейшим об¬
разом связано с движением цивилизации, и оно может
стать ее душой, сердцем, священным ароматом, если вы
будете черпать вдохновение в прогрессе развивающейся
цивилизации, а не в мертвых канонах, не имеющих ничего
общего с законом, который управляет всем в мире. Музыка
есть гармония вселенной, эхо незримого мира, звук боже¬
ственного аккорда, выражением которого должно однажды
стать все человечество; как же вы хотите отдаться ей, не
поднявшись к созерцанию этой вселенной, не приоткрыв
своею верой незримое, не объяв своей мыслью, своей ду¬
шой и своей любовью все творение? И можно ли оставать¬
ся сочинителями нот, трубадурами на день, если не чем-
нибудь хуже, когда от вас зависит посвятить свою земную
жизнь служению, которое, но народному поверью, дано ис¬
полнить лишь ангелам в небесах?»
Никто еще, насколько я знаю, не говорил так. Никто
еще не пытался вывести музыку из теперешней позорной
изоляции, чтобы вернуть ей место, на которое ее поставила
великая не знанием, но инстинктом древность: рядом с за¬
конодателем и с религией. Возможно, кто-то и хотел и мог
бы сделать это, но не решился и отступил перед тиранией
наставников, извечных гонителей гения и совести, или пе¬
ред нищетой, которая страшнее всего, которая притупляет
душу, не обладающую поистине железной твердостью Дан¬
те. А музыка меж тем все более отчуждалась от социаль¬
ной жизни (del viver civile), она замкнулась в эксцентриче¬
ской, индивидуальной сфере действия и привыкла отвер¬
гать всякую цель, кроме минутного ощущения и мимолет¬
ного чувственного наслаждения. Это божественное искус¬
ство, которое древний миф символически отождествляет с
идеей зарождающейся цивилизации, искусство, которое при
всем своем младенческом несовершенстве уже почиталось
в Греции всеобщим языком нации и священным орудием
истории, философии, общественного устроения и нравствен¬
ного воспитания, превратилось сегодня в простое развле¬
чение! Извращенное, чувственное и безвольное поколение
нашло в музыканте импровизатора; оно сказало: «Разгони
мою скуку»,— и музыкант повиновался: он создал формы
без души, звуки без мысли, нагромождая нотные потопы,
удушая мелодию под невероятной мешаниной оркестровки,
перескакивая от одной музыкальной идеи к другой, ника¬
кую не развивши, разрушая едва родившееся чувство ме¬
234
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
ханизмом трелей, переливов и каденций, которые вместо
переживания музыки заставляют вас холодно восхищаться
редкостным устройством горла певца; в конце концов он
научился вызывать смех и плач так, что ни тот, ни другой
не успевают проникнуть в глубину души. Это нервический
смех, это бессильный, не очищающий душу плач; первый
искажает черты лица наших женщин, но не снимает ни
одной складки со лба, ни одной печали с сердца, второй,
вырванный насильно, начинается неожиданно, бессозна¬
тельно, как бы в напоминание о том, что в вашей груди
лежат семена любви и сострадания, которые музыка долж¬
на была бы взрастить, если бы люди не изолировали ее и
тем не умертвили. Искусство высшее, байроновское, глубо¬
кое, искусство бороздящее и взрывающее, искусство ут¬
верждать идею с возрастающей силой, пока она не завла¬
деет вами, не внедрится, не воплотится в вас, это искусство
забыто и погублено. Нынче хотят не взбороздить, а едва
коснуться, не исчерпать чувство, а лишь намекнуть на не¬
го. Гонятся за впечатлениями; о впечатлении, о едином,
цельном, господствующем впечатлении, которое должно не¬
отразимо вырастать из всего произведения, питаясь ты¬
сячью рассыпанных внутри него второстепенных ощуще¬
ний, — кто о нем думает? Кто ищет у музыкальной дра¬
мы единую идею? Кто выходит из круга различных сцен,
составляющих одну оперу, чтобы найти общую связь, об¬
щее средоточие? Только не пресыщенная, расслабленная,
фривольная публика, которая не то что не просит, бежит
глубоких впечатлений и требует от музыки лишь развле¬
чения на час, которая спрашивает сначала о певцах и лишь
потом о произведении. Только не униженный, опустивший¬
ся сочинитель, поглупевший от безвременья, от публики,
от жадности к наживе, от невежества во всем, что не нота
и не аккорд, от пустоты вокруг него, от давящего мрака
в собственной душе. И публика и композитор наперебой
спешат обесчестить музыку, отвергнуть ее святую миссию,
лишить ее единства. Последствия не замедливают проя¬
виться. «Опера» есть нечто невыразимое: вертеп ведьм в
«Макбете», Вальпургиева ночь Гёте. Определить «оперу»
возможно лишь перечислением ее частей: это набор кава¬
тин, хоров, дуэтов, терцетов и финалов, перебиваемых —
не связанных — каким-нибудь речитативом, которого ни¬
кто не слушает; это мозаика, витрина, смесь, чаще меша*
нина разнородных, независимых, разорванных мыслей, ме¬
235
ДЖ. МАЦЦИНИ
чущихся, подобно духам, в магическом круге внутри опре¬
деленных рамок; это вихрь, водоворот музыкальных «мо¬
тивов», фраз и идей, напоминающий строки Данте о душах
умерших, о «страдания словах» и «злобных криках», о «го¬
лосах то воющих, то слабых» и о «плеске рук»2: все это
можно услышать в наших театрах, так же как и у врат
ада. Это какой-то шабаш — какая-то фантастическая скач¬
ка по степям и полям, описанная в одной балладе Бюрге¬
ра 3; на адском коне сидят Ленора и мертвец — музыка и
публика, — и он бешено несет их с горы на гору под мер¬
ный такт однообразного припева: «Гладка дорога мертве¬
цам!» Ура! Ура! Куда скачем? Что значит эта музыка?
К какой цели зовет? Где синтез? Почему не остановиться
здесь? Зачем разрушать одно впечатление вот этим дру¬
гим? Ради чего? Ради какой главной идеи? Ура! Ура! Час
близится. Уж за полночь. Публика хочет того, что ей по¬
ложено по праву: своей ежедневной порции мотивов. Дайте
же ее — вперед. Недостает каватины, не хватает рондо
«примадонны». Ура! Час пробил; публика аплодирует и
выходит4. Юноша, мечтавший найти в музыке утешение,
юноша, надеявшийся вернуться домой с новым впечатлени¬
ем, с новым чувством, идет медленно и молча, с тяжелой,
больной головой, со звоном в ушах, с пустотой в сердце,
с фонтенелевским «Musique, que me veux-tu»5 на устах.
Вот чем стала музыка 6 в наши дни; о поэзии, которая со¬
провождает ее, говорить не хватает духа *. Не знаю, пока¬
жется ли это преувеличением, но когда в вечера больших
спектаклей, в вечера музыкальных бенефисов объединяют
первый акт одной оперы со вторым актом другой, стано¬
вится понятным, зачем люди ходят в театр. И когда теат¬
ральные директора в своей профанации искусства доходят
до того, что ставят под аплодисменты публики оперы, скле¬
* Знаю, что есть Романи, но прекрасные стихи, приятные образы и иногда
несколько патетических ситуаций еще не делают драмы. Знаю о других в Италии
и вне ее, кто смог бы писать, как он; но когда крылья вдохновения подрезаны
необходимостью угождать певцам, неизбежными условностями, безразличием рав¬
нодушной публики и тысячью других причин, когда поэзия служанка, а не
сестра музыки — в свою очередь служанки, нет, продажной рабыни прихотей зала,
который хочет развлекаться, и духа наживы, которым одержимы директора, —
кто захочет писать или, захотев, сможет? Возрождение музыкальной поэзии может
произойти лишь одновременно с музыкальным возрождением, о котором мы гово¬
рим. Сегодня либретто, как я его понимаю, не нашло бы, возможно, ни одного
композитора и театра, которые приняли бы его.
236
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
енные из сотни кусков, взятых из десяти различных произ¬
ведений десяти разных авторов, то вот вам пример того,
как идут поиски единства замысла, без которого нет дра¬
мы, нет музыки, нет длительного впечатления, нет восии-
тующей силы, нет святости искусства, нет веры. Недаром в
Париже, мнимом средоточии всего, что касается вкуса, по¬
являются драмы и водевили, задуманные и составленные
пятью авторами!!!
Нет, музыка, единственный язык, общий всем нациям,
единственная речь, способная явственно передать предчув¬
ствие Человечества, призвана, конечно, к более высокому
предназначению, чем служить потехой в часы досуга для
горстки бездельников. Та самая музыка, которая сегодня
пала столь низко, приобретала всемогущую власть над
личностью и народными множествами всякий раз, когда
люди принимали ее как вдохновительницу на великие де¬
ла, как ангела святых дум — всякий раз, когда ее избран¬
ники умели найти в ней наиболее чистое, наиболее общее,
наиболее симпатическое выражение социальной веры. Не¬
сколько тактов гимна в недавнее от нас время давали по¬
беду целой армии. Мы знаем примеры, когда песни хри¬
стиан неожиданно превращали варваров из недругов в ве¬
рующих. Священной музыке, религиозным мелодиям кон¬
стантинопольской церкви обязаны своим обращением неко¬
торые из славянских народов. А чудеса греческой музыки?
Кто из нас не слышал о ней рассказы хотя бы от завла¬
девших школами педантов, поражающие всех, необъясни¬
мые для тех, кто не углубляется в причины?
Древние народы — да будет это походя сказано тем,
кто из слепого поклонения перед античностью искажает ис¬
торию, признавая факты, но не заботясь объяснить их, —
древние народы в искусстве были столь же далеки от нас,
сколь рассвет далек от полудня. Музыка — воздух совре¬
менного мира. Музыка родилась в Италии в XVI веке с
Палестриной. Древние знали ее лишь в зародыше, в мело¬
дии; инструменты, и их было множество, не выходили за
пределы аккомпанемента или, вернее, подражания голосу.
Не было никакой или почти никакой творческой способно¬
сти. Тайны души оставались почти все неисследованными.
Древние жили лишь половиной жизни, и музыка принадле¬
жала как раз той половине, которой их эпоха не дала раз¬
виться. Поэтому она была у них лишь тенью, эхом, пред¬
чувствием.
237
ДЖ. МАЦЦИНИ
Но в этих народах жила вера, какая бы то ни было, но
вера, а с нею — инстинкт единства, цельности, секрет ге¬
ния, душа всех великих дел. И благодаря этому неясному
инстинкту искусства были едины, а так как бессилие ма¬
стеров не могло дать музыке единства, непосредственно
сливающегося с великим социальным единством, то ей да¬
ли в постоянные спутники поэзию *, и из этого союза дол¬
жны были возникнуть будущие чудеса. Музыка и такой,
какой она была, составляла все же часть религиозного и
патриотического воспитания народных множеств, которые
тянулись к ней, как к своим торжественным жертвоприно¬
шениям. А мы — у нас нет уже больше веры, нет ни силь¬
ных убеждений, ни света синтеза, ни гармонии творческих
усилий, ни религии искусства, мужественных чувств и ве¬
ликих надежд: ничего...
...Наши отцы, наши великие люди имели веру, боготво¬
рили энтузиазм и окружали себя поэзией; они черпали в
сердце, пылавшем сильными и бурными страстями, вдох¬
новение истины и тайну постоянства. Потому-то они подня¬
лись гигантами, когда другие народы прозябали. Потому-
то возрожденные народы почитали в них наставников.
А вы, вспомните, что вот уже три века вы пресмыкаетесь,
что на вас тяготит трехвековое унижение, что от тех са¬
мых, кому вы стремитесь подражать, вы получаете лишь
упреки, унизительные эпиграммы и еще более унизитель¬
ную жалость **.
• Стихи у древних пелись; отсюда — «я пою» их поэтов. Теперь, кроме как
в музыкальной драме, стихи не поют — их читают, и обычно плохо. Но среди
наших стихотворцев нет недостатка в таких, которые бестрепетно копируют древ-
них, начиная «петь» в первых строках своих сочинений.
** Не говорю уж о литературе, о грубых оскорблениях в отношении нравов и
характера итальянцев, которыми осыпает Италию большинство французских фель¬
етонистов, и о многом другом, имея на то свои причины. Но теперь даже в му¬
зыке среди некоторых журналистов пошла мода выступать во имя уж не знаю
какой-то неведомой французской музыки против итальянского театра. Скорбят о
плачевном состоянии, в которое пришла итальянская музыка. Плачут о том, что
увял и этот последний цветок в венке, которым народы увенчали Италию за ее
искусство. И я, пишущий эти строки, скорблю о падении музыки; но я пишу со
взором, обращенным к Италии, думая о том, сколько смогла и сможет еще сде¬
лать Италия — одна Италия — для музыкального развития Европы. Но вот если
бы я был вынужден думать о французском театре, о французской школе — если
такая существует, — то не писал бы совсем. Есть разница между «ничто» и
«меньше», между полным отрицанием и врбменным падением. Мы научили фран¬
цузов музыке или, лучше, тому, чему можно научить в музыке, во времена Хлод-
вига; их историки должны были бы помнить о просьбах, с которыми этот осно·
238
ФИЛОСОФИЯ музыки
Вернемся к музыке, утешимся среди дурного направле¬
ния умов надеждой, которая исходит от этого божествен¬
ного искусства, пусть даже и падшего. Музыка, как жен¬
щина, настолько свята будущим и чистотою, что люди, да-
же осквернив ее проституцией, не могут затмить целиком
венчающий ее радужный свет обетования; и в осуждаемой
нами музыке наших дней явственно все же какое-то дви¬
жение жизни, предвестие новых судеб, новых путей, нового
и более величественного служения. Образ красоты и вечной
гармонии распался в ней на осколки, но мы все же видим
его. Кажется, что это падший ангел из бездны, куда его
увлекли, продолжает петь земле голосом рая. Возможно,
женщине и музыке принадлежит в будущем более великая
миссия возрождения, чем думают иные; возможно, музыке,
которая обращается ко всему человечеству на одном язы¬
ке, суждено первой выразить идею, воплотить и развить
которую придут затем другие искусства. Музыка есть вера
будущего мира, которого поэзия есть лишь высокая фило¬
софия. Но великие эпохи начинаются с веры. Как бы то ни
было, если я не заблуждаюсь, первый шаг к новому музы¬
кальному синтезу будет сделан в Италии. Одна Германия
могла бы оспаривать у нее пальму первенства. Но Герма¬
ния, поглощенная сейчас практическим приложением сво¬
их теорий и уставшая от долгого, векового полета в умо¬
зрительной сфере чистой абстракции, охвачена теперь есте¬
ственной реакцией, пусть кратковременной, но зато тем
ватель французской национальности обращался к Теодориху, правившему тогда
в Италии 7, и о певцах, которых три века спустя Карл Великий привоз из Италии
для обучения своих. Затем ни у Мазарино, ни у Люлли, приехавшего из Флорен¬
ции, чтобы основать французский театр, пи в реформе, начатой женевцем Руссо
и завершенной, насколько это допускали национальные условия и требования вре¬
мени, итальянцем Пиччиини, и вплоть до наших дней мне не удается найти ни
следа этой самой французской музыки, которою кому-то хотелось бы заменить
итальянскую во французских театрах. Есть музыка во Франции, как и во всех
странах, ибо во всех странах есть в большей или меньшей степени стихия любви
и поэзии, а значит, и музыки, страстного и идеального выражения этих трех лучей
бога, слившихся в один. Но по причинам, которые надо искать в языке, в проис¬
хождении и нраве нации, она сводится там к нескольким народным, воинствен¬
ным песням и мелодиям романсов, робким, немного монотонным и почти всегда
приглушенным, хотя трогательным и задушевным в своей грусти и наивности: до
размаха драматического она пока еще не поднялась, и сделать это ей будет не¬
легко. Французская музыка, если исключить итальянские мотивы, которые повсю¬
ду в нее вплетаются, и невыполнимый, хотя и прекрасный своей смелостью и глу¬
биной замысла опыт, задуманный Берлиозом во время путешествия по Италии в,
французская музыка сейчас ничтожна и не обещает в близкое время прогресса.
239
ДЖ. МАЦЦИНИ
более сильной, против мистической наклонности, которая
исключительно владела ею до сих пор. Начать же новую
эпоху в искусстве более духовном, чем все остальные, не
дано тому, кто не то что предается материализму, но хотя
бы на один шаг приближается к нему. У нас в Италии раз¬
витие теперь может идти лишь в противоположном на¬
правлении, и поэтому мы в более благоприятных условиях
для творчества. Наконец, что бы ни говорили иные и как
бы сами итальянцы, по крайней мере большинство их, еще
и сейчас ни отрицали это, суждено, чтобы все или почти все
великие начинания исходили от Италии.
Возродим веру, изгоним материализм и ограничим все¬
властный теперь анализ пределами отведенной ему задачи:
последовательного подтверждения какого-либо синтеза;
отвлечем разум от завершенной миссии XVIII века и обра¬
тим его к последнему пределу XIX; положим, что энтузи¬
азм свят и — условие, без которого нет надежды, — что
общество подготовлено для искусства. На какой путь дол¬
жен тогда встать гений? Какую решать проблему? Каковы
будут тенденции музыкальной эпохи, ожидающей своего
открытия? Другими словами, к чему мы придем? Каких
пределов достигнем? Только знание современных направ¬
лений, достигнутой ступени философских идей, к которым
сводится искусство, может открыть нам цель движения,
тайну музыки будущего.
Этих направлений столько же, сколько умов, но все они,
если приглядеться, вторичны и определены вопросами фор¬
мы или обращены скорее на аксессуары, чем на внутрен¬
нюю жизнь, суть, идею, душу музыки. Вглядываясь же в
эту последнюю, мы обнаруживаем, что все направления
сводятся к двум, все выстраиваются, занимая свои места,
в два больших ряда и сосредоточиваются вокруг двух ос¬
новных начал.
Это вечные начала всех вещей, два неизменно действу¬
ющих принципа, которые обнаруживаются поочередно как
основа всех проблем, в течение тысячелетий волнующих
человеческий дух; это две стихии, которые сталкиваются
в каждом вопросе и прогрессивное развитие которых по
двум линиям, из века в век сходящимся, составляет со¬
держание истории. Человек и человечество; мысль индиви¬
дуальная и мысль социальная.
Между этими двумя принципами колеблется сегодня,
как и всегда, самосознание или мировоззрение разума и
240
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
искусства, его проявления. Из двух направлений, порож¬
денных этими началами, одно ставит в центр мира инди¬
видуум и кругами вращается вокруг него, другое забы¬
вает о частном и дает ему затеряться среди обширных
очертаний всеобъемлющей идеи всеобщего единства. Од¬
но питается анализом, другое синтезом; оба ограничен¬
ные, нетерпимые, они вплоть до наших дней ведут вечную
борьбу, которая дробит человеческие силы и мешает про¬
грессу, ибо одно направление, не ставя перед индивидуаль¬
ным трудом всеобщей цели, впадает благодаря анализу в
гибельный материализм, а второе, теряясь на путях не
находящего воплощения синтеза, растворяется в туман¬
ности, в неопределенности, в сфере мистицизма, не веду¬
щего к действительным победам. Кто прекратит борьбу,
согласив в одном стремлении эти два направления, но
не отвергая порождающих их начал, тот разрешит про¬
блему. Эклектизм, в последние годы казавшийся столь
заманчивым для лучших умов, всего лишь обнажил ее.
Подтверждение этих двух направлений в философии, в
истории, в литературе, в естественных науках, во всех от¬
раслях духовного развития не отвечает задаче настоящей
статьи. Читатель может сделать это сам, потому что ни¬
когда раскол не был столь явен, как сегодня.
Нов музыке, где, как я уже говорил, действие всеобщего
закона еще никем не указано, не рассмотрено и не пре¬
дугадано, оба направления оказываются еще более оче¬
видными, чем где бы то ни было. Мелодия и гармония —
вот два их порождающих начала. Первая представляет
индивидуальность, вторая — социальную идею. И в совер¬
шенном созвучии этих двух основных элементов всякой му¬
зыки, а затем в посвящении этого созвучия величественной
цели, святому служению заключается секрет нашего ис¬
кусства, понятие истинной европейской музыки, которую
все мы, сознательно или бессознательно, призываем.
Сейчас обоим противоположным направлениям, на ко¬
торые опираются тот и другой из этих элементов, соответ¬
ствуют две школы, два лагеря, можно даже сказать, два
различных пояса: Север и Юг, музыка германская и музы¬
ка итальянская. О какой-либо другой музыке, существую¬
щей самостоятельно и независимой в своей главной идее
от этих двух, мне ничего не известно — и я не думаю, что¬
бы кто-то, как бы он ни был ослеплен национальным
тщеславием, смог утверждать, что она существует.
241
ДЖ. МАЦЦИНИ
Итальянская музыка в высшей степени мелодична *. С
тех пор как Палестрина переложил христианство на ноты
и своими мелодиями положил начало итальянской музы¬
ке, она приняла этот свой характер и сохранила его до
сих пор. Душа средних веков живет в ней и ею движет.
Индивидуальность, тема и стихия средневековья, прояви¬
вшаяся повсюду в Италии с большей глубиной и энерги¬
ей, чем где бы то ни было, всегда вдохновляла нашу му¬
зыку и до сих пор господствует в ней. Здесь царит я, ца¬
рит в деспотическом одиночестве. Оно отдается всем сво¬
им капризам, следует безудержному произволу; оно
своевольно идет туда, куда толкают его желания. Разум¬
ной и вечной нормы, единой жизни в целеустремленном
прогрессе в этой музыке нет. Здесь всевластное чувство,
стремительное и бурное излияние. Итальянская музыка
проникает в самую гущу предметов, вбирает идущие от
них ощущения и дает затем их украшенное, обоготворен¬
ное выражение. Лиричная до безумного восторга, страст¬
ная до упоения, вулканическая, как родившая ее земля,
яркая, как солнце, над этой землей сверкающее, она стре¬
мительна в модуляциях, не заботится — или очень мало
заботится — о промежутках и переходах, перескакивает от
одного к другому, от чувства к чувству, от идеи к идее,
от экстатической радости к безутешному горю, от смеха к
плачу, от гнева к любви, от неба к аду — и всегда бур¬
ная, всегда взволнованная, всегда одинаково приподня¬
тая, она живет удвоенной жизнью; это лихорадочно бью¬
щееся сердце. Ее стихия — вдохновение: вдохновение ве¬
щее, вдохновение возвышенно художественное, не религи¬
озное. Иногда она молится — а она великолепна, когда
улавливает луч неба, души, когда чувствует дыхание ве¬
• В кратких чертах обрисовывая итальянскую и немецкую музыку, я говорю
о их преобладающем характере. Никакая школа не может настолько опереться
на одно начало, чтобы полностью исключить или подчинить и сделать как бы слу¬
чайным второе. В итальянской музыке, особенно у современных композиторов,
гармония часто охватывает все произведение и господствует над соперничающим
элементом, точно так же как в немецкой музыке и особенно у Бетховена часто
мелодия поднимается в чудной выразительности над характерной для немецкой
школы гармонией. Но это — достижения ненадежные и недолговечные, они вре¬
менно прерывают, а не исключают господство противоположного принципа.
Считаю излишним предупреждение, что тот не понял бы сказанного здесь, кто
спутал бы мелодию с человеческим пением, а гармонию с инструментовкой. Ясно,
что и инструментовка может быть мелодической, какою она и является в боль¬
шинстве случаев у Россини.
242
ФИЛОСОФИЯ музыки
ликой вселенной и коленопреклоненно боготворит ее,— и
ее молитва свята и восторженна, но кратка: понимаешь,
что если она склоняет чело, то, возможно, мгновение спу¬
стя она вновь воспрянет в порыве к освобождению и не¬
зависимости; понимаешь, что она склонилась, подчинив¬
шись благоговейному порыву, а не из привычки глубоко¬
го религиозного чувства. Религиозные убеждения пита¬
ются верой в запредельное, стремлением к бесконечности,
черпают силу в сознании цели, в служении, которое долж¬
но наполнить собою всю жизнь и придать смысл мель¬
чайшим поступкам. Она же верит лишь в себя и лишь се¬
бя имеет целью. Искусство для искусства есть высшая
формула итальянской музыки. Потому-то в ней нет един¬
ства, потому-то ее развитие так бессвязно, противоречиво,
порывисто. В ней таятся силы, которые, будь они направ¬
лены к единой цели, перевернули бы ради ее достижения
весь мир. Но где эта цель? У рычага нет точки опоры,
между тысячами эмоций, выраженных в ее мелодиях, нет
связующего звена. Она может сказать, подобно Фаусту:
«Я видела в своем полете всю вселенную, но по частям,
раздробленно, каждый предмет в отдельности — и где же
душа, где бог этой вселенной?»
У такой музыки, как и у каждой эпохи, у каждого на¬
рода или в каждой науке, которая в своем развитии пред¬
ставляет и обоготворяет индивидуальность, должен был
появиться человек, который, объяв собою всю ее, сделал¬
ся бы ее символом и завершением.
И пришел Россини.
Россини — титан, титан по мощи и дерзновению. Рос¬
сини— Наполеон целой музыкальной эпохи; Россини, ес¬
ли вдуматься, совершил в музыке то, что романтизм со¬
вершил в литературе. Он освятил музыкальную независи¬
мость, отверг принцип авторитета, который сонмы бездар¬
ностей хотели навязать таланту, и провозгласил всемогу¬
щество гения. Когда он пришел, над сознанием музыкан¬
тов тяготели старые нормы, точно так же как теории под¬
ражания и ветхие аристотелевские единства классицизма
связывали по рукам всякого, кто брался писать драмы или
стихи. И он сделался мстителем за всех тех, кто стонал от
этой тирании, не смея сбросить ее ига; он дерзко призвал
к восстанию. Здесь высшая похвала ему. Может быть, ес¬
ли бы он не дерзнул — если бы старикам, каркавшим «не
смейте», он не нашел в себе духа ответить «смею»,— то
243
ДЖ. МАЦЦИНИ
сейчас для музыки уже не оставалось бы надежды под¬
няться из того томного изнеможения, которое грозило за¬
хватить и обесплодить ее. Россини, черпая вдохновение в
прекрасном опыте Майера и в гении, который бурлил в
его душе, сломил сонное очарование. Музыка спасена им.
Благодаря ему мы говорим сейчас о европейской музы¬
кальной инициативе. Благодаря ему можем с уверенно¬
стью надеяться, что эта инициатива придет из Италии, а
не откуда бы то ни было. Но не надо оттого преувеличи¬
вать или заблуждаться в отношении роли, принадлежа¬
щей Россини в прогрессе нашего искусства; миссия, испол¬
няемая им, не выходит за пределы эпохи, конец или уми¬
рание которой мы провозглашаем сегодня. Это миссия ге-
ния-завершителя, не гения-инициатора. Он не изменил, не
разрушил старого характера итальянской школы; он его
утвердил. Он не ввел нового элемента, который перечерк¬
нул бы или решительно видоизменил старый элемент; он
довел все тот же главный элемент до высшей степени
возможного развития, превратил его в формулу и вновь
восставил его на троне, с которого его изгнали педанты,
не подумавшие о том, что ниспровергатель власти должен
поставить на ее место иную и лучшую. И все, кто про¬
должает смотреть на Россини как на создателя музыкаль¬
ной школы и музыкальной эпохи, как на вождя радикаль¬
ной революции в направлениях и назначении этого искус¬
ства, не понимают, забывают, в каком положении находи¬
лась музыка незадолго до Россини, совершают ту же
ошибку, которую сделали в отношении литературного ро¬
мантизма люди, захотевшие найти в нем веру, органиче¬
скую теорию, новый литературный синтез; что хуже, они
увековечивают прошлое, крича о будущем. Россини не по¬
строил, он реставрировал. Он объявил войну, но не против
порождающего элемента, не против исходной и основной
идеи итальянской музыки, а в защиту этой по слабодушию
нашему забытой идеи, против диктатуры наставников,
против раболепства учеников, против пустоты, возникав¬
шей вокруг тех и других. Он вводил новшества, но более
в форме, чем в сути, более в способах развития и при¬
менения, чем в принципе. Он нашел новое выражение для
идеи эпохи, он передал ее тысячью разных способов, он
увенчал ее такой тонкостью узоров, таким богатством
деталей, такой яркостью орнамента, что если кто-то и
сравнится с ним, но превзойти уже не сможет; он явил,
244
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
развернул, взял от нее все возможное и невозможное, на¬
конец, исчерпал ее. Но не преодолел ее*. Более сильный в
игре воображения, чем в глубокой мысли или глубоком
чувстве, гений свободы, но не синтеза, он, возможно, пред¬
видел будущее, но не отдался ему. По-видимому, лишен¬
ный также и того твердого и возвышенного духа, который
объят лишь думою о будущей жизни, о тысячах гряду¬
щих поколений, а не об одном, которое умрет вместе с
нами, он искал известности, а не славы; он принес бога в
жертву идолу, обоготворил эффект, а не цель, не служе¬
ние— и потому у него достало лишь силы основать секту,
но не утвердить веру. Где у Россини новое начало? Где
основание новой школы? Где единый замысел, который
подчинил бы себе всю его творческую жизнь, превратил
бы в гармоничную эпопею последовательность его сочине¬
ний? Ищите его в отдельных сценах или, лучше, в отдель¬
ных отрывках, в отдельных «мотивах» его музыкальных про¬
изведений,— но только не в их совокупности, не в его опе¬
рах, ни даже в одной целой опере. Возведенное им здание,
подобно вавилонской башне, касается неба; но внутри него,
как в вавилонской башне, смешение языков. Наверху вос¬
седает свободная, безудержная, прихотливая индивидуаль¬
ность, представленная блестящей, четкой мелодией, яркой,
как подсказавшее ее чувство. В Россини все откровенно,
определенно, выпукло; неопределенность, туманность, воз¬
душность, казалось бы, более свойственные природе музы¬
ки, отступают у него как бы в бегстве перед вторжением
решительного, резкого стиля, положительного, яркого, ма¬
териалистического музыкального выражения. Россиниев-
ские мелодии кажутся вылепленными в барельефе. Кажет¬
ся, что все они рождены фантазией музыканта под лет¬
ним небом Неаполя, в полдень, когда все залито солнцем,
• Местами ему удалось преодолеть ее, да, удалось; возможно, в «Моисее». Не¬
сомненно — в третьем акте «Отелло», божественной оперы, которая своей возвы¬
шенной драматической выразительностью, веющим от нее дыханием рока, чудес¬
ной цельностью вдохновения вся принадлежит новой эпохе. Но я говорю о всем
его стиле, о принципе, который господствует не в отдельной сцене, не в отдель¬
ном акте, а во всех произведениях Россини. Несомненно, он предчувствовал соци¬
альную музыку, музыкальную драму будущего. Какой гений, стоящий у последних
пределов одной эпохи, не озарен временами лучами эпохи зарождающейся, не уга¬
дывает в какой-то момент ее идею? Но между предчувствием и чувством, между
инстинктивной догадкой и открытием новой эпохи лежит то же отличие, которое
отделяет реальность от неверной надежды.
245
ДЖ. МАЦЦИНИ
когда лучи его падают вертикально и не бросают тени.
Это музыка без теней, без тайн, без сумерек. Она выража¬
ет яркие, сильные, глубокие страсти, гнев, горе, любовь,
месть, ликование, отчаяние — все настолько завершенные,
что душа слушателя совершенно пассивна, покорена, увле¬
чена, бездеятельна: промежуточных, смешанных ступеней
чувств почти нет; веяний окружающего нас невидимого ми¬
ра— никаких. Часто в инструментовке слышится отдален¬
ное эхо этого мира, чудится дыхание бесконечности, но она
почти всегда отступает, индивидуализируется и сама прев¬
ращается в мелодию. Россини и вся итальянская школа,
различные направления и различные системы которой он
продолжил и слил воедино, представляют человека без бо¬
га, с разрозненными духовными силами, которые не привел
еще в гармонию единый высший закон, не направила еди¬
ная цель, не освятила вечная вера.
Другим путем идет немецкая музыка. В ней — бог без
человека, своего образа и подобия на земле, деятельного
и совершенствующегося создания, призванного воплотить
ту идею, символом которой является земной мир. В ней
есть все — храм, религия, алтарь и благовония; недостает
молящегося, нет жреца этой веры. В высшей степени гар¬
моничная, она представляет социальную идею, всеобщий
принцип, мысль, но без индивидуальности, которая пре¬
вратила бы мысль в действие, развила бы и осуществила
принцип, раскрыла и воплотила идею. Я растаяло в ней.
Душа ее жива, но жизнью неземной. Как сновидение, в
котором чувства молчат и душе открывается иной мир, где
вещи воздушнее, где движение быстрее, а все образы пла¬
вают в безбрежности, немецкая музыка чарующе усыпля¬
ет природные силы и инстинкты и уносит душу все выше
и выше, в области обширные и неизведанные, но чем-то
смутно напоминающие первые детские видения и первые
материнские ласки, пока наконец не рассеются волнения,
радости и горести земли, которую мы попираем. Это музы¬
ка возвышенно-элегическая, музыка воспоминаний, жела¬
ний, меланхолических надежд и грусти, которой на чело¬
веческом языке нет утешения,— музыка ангелов, утратив¬
ших небо и блуждающих среди вас. Ее отечество — беско¬
нечность, и туда она стремится. Как северная поэзия, ког¬
да она еще не тронута иностранным влиянием и хранит
свой первозданный характер, немецкая музыка невесомо
легкой поступью проходит над полями земли, едва касаясь
246
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
творения, со взором, обращенным к небу. Чудится, что она
опирается на землю лишь тогда, когда хочет взлететь. Она
кажется девушкой, рожденной для улыбки и не нашедшей
улыбки в ответ, полной любви и не видящей в обреченном
на смерть мире ничего достойного любви, мечтающей об
ином небе, об ином мире, а в мире том — о некоем образе,
образе существа, которое ответит на ее любовь, на ее дев*
ственную улыбку, существа, которое она боготворит, еще
не зная его. Этот образ, этот лик бессмертной красоты
проходит сквозь всю немецкую музыку; но он фантасти¬
чен, неопределенен, расплывчат в очертаниях. Он выра¬
жен мелодией прерывистой, робкой, бегло очерченной; и
если итальянская мелодия запечатлевает чувство резко и
полно, то эта показывает его скрытно и таинственно, едва
настолько, чтобы у вас осталась память о нем и потреб¬
ность воссоздать, восстановить самостоятельно его образ.
Одна насильственно влечет вас к крайним пределам стра¬
сти; другая, едва указав вам путь, покидает вас в без¬
брежности. Немецкая музыка есть музыка исканий, музы¬
ка глубоко религиозная, но у ее религии нет символа и
нет поэтому активной и явленной в делах веры, нет под¬
вижничества, нет побед; она окружает вас цепочками ма¬
стерски сочлененных градаций, волна музыкальных аккор¬
дов подхватывает и качает вас, поднимает, пробуждает
сердце, будоражит воображение, будоражит все ваши ду¬
шевные силы — для чего? Когда музыка отзвучит, вы вновь
опускаетесь в действительность, в кишащую вокруг вас
прозаическую жизнь, с памятью об ином мире, который
был показан вам издали, но не подарен — с сознанием то¬
го, что вы коснулись первых таинств великого посвяще¬
ния, но не посвящены, не стали крепче волей, тверже про¬
тив ударов судьбы. Итальянской музыке недостает того,
что освящает всякое предприятие: направляющей духов¬
ные силы нравственной идеи, крещения долгом. Немецкой
музыке недостает энергии для свершения долга, матери¬
ального орудия победы, недостает, не скажу, сознания, ио
точного знания долга. Итальянская музыка иссушает себя
в материализме. Немецкая музыка бесполезно истощает
себя в мистицизме.
Так, разделенные, ревниво соперничая, продолжают су¬
ществовать две школы, оставаясь одна школой, предпоч¬
тенной на севере, другая — южной школой. И музыка, ко¬
торую мы предчувствуем, европейская музыка, явится не
247
ДЖ. МАЦЦИНИ
раньше, чем когда обе они, слившись в одно, устремятся
к единой социальной цели — когда две стихии, ставшие в
наше время двумя мирами, сроднившись в сознании своей
общности, сольются, чтобы одушевить собою единый мир,
и святость веры, отличающая музыку Германии, благосло¬
вит деятельную силу, бушующую в итальянской, и музы¬
ка станет выражением двух основных начал: индивидуаль¬
ности и вселенской идеи, бога и человека.
Утопия ли это?
И музыка Россини была утопией во времена Гульель-
ми и Пиччинни9. И гигантский синтез поэзии Алигьери
был утопией во времена, когда поэтическое искусство сво¬
дилось к балладам провансальских трубадуров и грубо¬
стям Гвиттоне10. В самом деле, что, доверие или насмешку,
встретил бы в Италии тот, кто предсказал бы тогда:
«Придет поэт, который обнимет в своих стихах небо и
землю, который все, язык, форму, силу создаст из ничего
одной мощью своего гения, который сосредоточит в своей
поэзии всю душу средневековья и сверх того идею буду¬
щей эры; который воздвигнет своей песнью национальный
и священный монумент, зримый для самых отдаленных по¬
томков; который за пять веков до первых осуществлений,
до первых робких опытов угадает в своих книгах, вопло¬
тит в своей жизни принцип итальянской миссии в Евро¬
пе»? И, однако, Данте явился, заложил основания будуще¬
го, и сегодня в его произведениях черпают принципы, спо¬
собные возродить нашу литературу; а позднее, когда кни¬
ги Данте найдут более достойных читателей, в них будут
находить начала уже совсем иных идей, пророчества об
итальянских судьбах.
И когда на закате я останавливаюсь с душою, устав¬
шей от настоящего и изверившейся в будущем, перед од¬
ним из тех храмов, которым традиционное невежество да¬
ло имя готических, разглядываю его и вижу, как душа
христианства исходит от всего здания, как молитва скло¬
няется под аркой, поднимается извилистым путем но спи¬
ралям колонн, устремляется в небо со шпилей и кровь
мучеников, смешанная с цветами надежды, предстает бо¬
гу, подобно печати веры, в продолговатых витражах, а
под просторными и таинственными сводами собора дух
верующего воспаряет в своем стремлении к бесконечности;
как из-под громадного купола Христос спускается к свя¬
тилищу, и вырастает на широких стенах, и объемлет своей
248
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
любовью и благословением церковь, и, населяя всю ее сво¬
ими апостолами, своими святыми, своими праведниками,
повествует народу верующих о христианской традиции, о
перенесенных преследованиях, о примерах добродетели, о
смирении, о жертве, и время от времени звучит словами
своего закона в музыке органа,— тогда, сколь ни велика
завещанная эпохой миссия, я перестаю отчаиваться в ис¬
кусстве, в его могуществе, в чудесах, которых гений может
добиться в нем. Как? Целый синтез, целая религия, целая
эпоха высечена в камне, архитектура смогла воплотить
в соборе идею восемнадцати веков — а музыка не смо¬
жет? И если не отвергать идею социальной живописи, со¬
циальной литературы, почему отступить перед идеей со¬
циальной музыки? Синтез эпохи выражается во всех ис¬
кусствах эпохи, и его дух царит над всеми ими — а музы¬
ка, ио широте своей искусство более других синтезирую¬
щее, духовное, музыка, которая начинается там, где кон¬
чается поэзия, и которая мыслит наиболее обобщенными
формулами, в то время как прочие искусства, чтобы до¬
стичь их, должны постепенно исходить из конкретных об¬
стоятельств и предметов,— музыка, которая есть алгебра
души, живущей в человечестве, одна останется чужда ев¬
ропейскому синтезу, чужда эпохе, подобно цветку, выпав¬
шему из венка, который вселенная плетет своему созда¬
телю? И на земле Порпоры и Перголези, на земле, пода¬
рившей Мартини — гармонии, Россини — мелодии, мы от¬
чаемся в приходе гения, который соединил бы в себе обе
эти школы и выразил бы в звуках мысль, рождаемую
XIX веком?
Этот гений придет. Ои придет без промедления, когда
исполнятся времена и будут верующие, готовые прекло¬
ниться перед его созданиями. Я не берусь сказать, как
и на каких путях будет достигнута цель. Пути гения не¬
исповедимы, как и пути бога, его вдохновителя. Критика
должна и может лишь предугадать по всеобщим чаяниям
его рождение, показать, каковы нужды времени и в чем
они, подготовить для него общество и расчистить путь —
но и ничего более; и я не собираюсь выходить за эти пре¬
делы.
Сегодня нужно завоевать независимость от Россини
и представляемой им музыкальной эпохи. Нужно понять,
что Россини завершитель, не основоположник, что его шко¬
ла исчерпала себя, достигнув крайних следствий и пройдя
249
ДЖ. МАЦЦИНИ
всю стадию отведенной ей жизни, что упрямо продолжать
его путь — значит обрекать себя на подражание, более или
менее блестящее, но все же подражание. Нужно понять,
что музыка не может возродиться, не сделавшись духов¬
ной, что для возвращения ей жизни и силы надо благо¬
словить ее на новое служение, что если мы не хотим ви¬
деть ее вырождения в бесполезную и прихотливую заба¬
ву, следует связать, соединить ее миссию с общей миссией
искусства в нашу эпоху и в самой эпохе найти ее черты:
словом, сделать ее социальной, сделать ее одним целым с
прогрессивным движением вселенной. И нужно понять,
что сегодня речь идет не о том, чтобы увековечить или вос¬
становить итальянскую школу, но о том чтобы в Италии
создать основы европейской школы музыки.
И европейской школой музыки может стать лишь та,
которая примет во внимание все музыкальные элементы,
развитые отдельными школами прошлого, и, не отвергая
ни одного из них, сможет привести их к согласию и напра¬
вить к единой цели. Поэтому, говоря, что сейчас нужно до¬
биться независимости от Россини и вполне представленной
им школы, я имею в виду лишь ограниченность духа этой
школы, лишь исключительное господство в ней мелодии,
лишь узкое изображение индивидуальности, которая в ней
только и представлена и которая делает ее раздробленной,
изменчивой, расчлененной, обрекает ее на материализм, ги¬
бельный для всякого предприятия. Я имею в виду разрыв,
к которому окончательно пришла эта школа, разрыв меж¬
ду музыкой и развитием общества — порок, делающий из
нее развлечение для ничтожного меньшинства; я имею в
виду продажность и распущенность, готовые овладеть свя¬
тым искусством; но я нисколько не требую освобождения
от этой индивидуальности, которая всегда должна будет
представлять точку опоры для всякой музыки и отсутствие
которой создает в немецкой музыке пустоту, крадущую у
нее половину жизненной силы.
Личность священна. И музыка будущего должна не из¬
гнать, а расширить, распространить ее на области, которы¬
ми пренебрегают сегодня оперные композиторы, придать
ей характер философской значительности, тогда как теперь
она есть лишь порыв бунта и протеста во имя бесплодной
свободы. В драме, какую мы имеем в эти времена упадка,
индивидуальность, как я сказал, замкнута в каждой из со¬
ставляющих ее мелодий, ограничена впечатлениями разроз¬
250
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
ненных волнующихся в ней чувств. Но индивидуальность
истории, индивидуальность представленной в драме эпохи,
индивидуальность действующих лиц, каждое из которых
представляет идею,— где они? Какое из высших драмати¬
ческих условий осуществляется сейчас в драме средствами
музыки? Где в ней исторический элемент? Где формула
эпохи, колорит времени, в которое совершается изобража¬
емое событие? Где местные черты той страны, в которой
происходит действие? Кто сможет указать мне в наши дни
музыкальное различие между римской драмой и драмой,
взятой из истории средних веков, между мелодиями языче¬
ских действующих лиц и теми, что звучат на устах хри¬
стианских героев? Кто сможет мне сказать, почему этого
актера называют Поллион, а того — Ромео? Кто способен
в операх современных композиторов отличить республикан¬
ский Рим, облаченный в тогу, суровый, строгий, воинствен¬
ный, победоносный Рим, где каждый гражданин был велик
всем величием своей родины, где слово звучало полновес¬
но, достойно, решительно, выражая гордость земли, назы¬
вавшей чужеземцев не иначе как варварами, выражая ве¬
ру в судьбы республики, которую не могли бы сломить и
двадцать разгромов, от средневековой Венеции, от сладост¬
растной, безрассудной, неосторожной, но таинственной и
страшной Венеции, где жизнь исходила в любви и страхе,
где рядом с дворцом стояла тюрьма, а вслед за вздохом
молодой красотки, гуляющей вечером по набережной под
веющим с лагуны легким бризом, слышался глухой хрип
утопляемого в канале? А ведь, подобно архитектуре, подоб¬
но живописи, в музыке тоже есть выражение для каждой
эпохи, для каждой страны. Почему не найти его? Почему
не вывести его, изучая реликвии прошлых веков, покрытые
в архивах и библиотеках пылью, потому что никто не пе¬
релистывает их с любовью и упорством,— изучая нацио¬
нальные напевы, которые предания и матери столь долго хра¬
пят для народа, но которые постепенно гибнут и иска¬
жаются, ибо никто не думает о том, чтобы собрать их,—
более того, прилежно и основательно исследуя природу,
черты, события и искусство каждой эпохи в различных стра¬
нах? И почему, однажды постигнув мысль эпохи, идею
времени, не выразить ее в звуках и не дать ей сначала ши¬
рокое и завершенное выражение в увертюре11, которой
всегда следовало бы служить прологом, вступлением в дра¬
му, а затем не разлить ее, как волну, как музыкальную ау¬
251
ДЖ. МАЦЦИНИ
ру, по всему произведению *? Несомненно одно: историче¬
ское начало должно быть не только новым и бесконечно
разнообразным источником музыкального вдохновения, но
и существенной основой всякого опыта перестройки драмы.
И несомненно, что если музыкальная драма должна прийти
в гармонию с движением цивилизации, следовать за ним,
открывать ему новые пути и выполнять социальную функ¬
цию, то она должна прежде всего отражать собою истори¬
ческие эпохи, которые она обязуется описывать, когда бе¬
рет у них своих героев. Здесь еще ничего не сделано; и
если в последнее время словесность шагнула вперед и со¬
чинители драм (только не музыкальных) поняли необхо¬
димость если не углубиться в историю и уловить ее дух,
ее истину, то по крайней мере скопировать ее материаль¬
ную сторону, действительность, то музыкальная драма
все еще томится в плену у ложного идеала классицистов,
она отвергает не только истину, но и историческую дейст¬
вительность, и композиторы — за исключением немногих —
не умеют и не хотят научиться сочетать мелодию с мыслью,
когда это не касается непосредственно их материала.
Индивидуальность священна. Но если даже видеть в
ней, как это обычно и бывает, единственное и исключи¬
тельное начало всего в мире, всех потенций и всех сверше¬
ний, если, как это и делается в Италии и других странах,
доводить уважение к этому истинному, но недостаточному
принципу до такой крайности, когда он вырождается в
узкий и отвратительный индивидуализм,— почему по край¬
ней мере не объявить сочинителям музыкальных драм, что
из всех индивидуальностей лишь человеческая личность
неприкосновенна и что, уничтожая ее произвольностью сво¬
их мелодий, выражающих разрозненные ощущения, но не
* Мне кажется, что среди предвосхищений музыки будущего, которые можно
найти у Россини, надо поставить несколько навеянных историей музыкальных мо¬
тивов, особенно в «Семирамиде» и «Вильгельме Телле». В первой — ннтродукцня,
первый такт дуэта «Прекрасный образ» и несколько других отрывков хранят в
своем важном, величественном, даже слегка напыщенном стиле восточный коло¬
рит. В «Телле», не говоря уж о многих местных реминисценциях, о нескольких
хорах и знаменитом вальсе, достаточно вспомнить об увертюре, источником высо¬
кого вдохновения которой была историческая истина. И есть места в первой
сцене «Роберта-Дьявола» Мейербера, которые своим национальным колоритом
выгодно выделяются среди современной музыки. Я мог бы найти нечто подобное
и в произведениях Доницетти и особенно в «Марино Фальеро». Но и сказанного
достаточно, чтобы показать возможность осуществления идеи, которую я
излагаю.
252
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
человека, они дерзко преступают закон всякого существо¬
вания, попирают единство характера, закрывают высший
источник поэтического воздействия? Почему не провозгла¬
сить крестовый поход против варваров, которые превра¬
щают своих героев в монеты, выбитые по одному чекану,
в единицы, имеющие лишь ту действительность, что один
из них «тенор», а другой «бас», и приписывают им исто¬
рические имена, за которыми в великом театре мира стоит
какое-то направление, какая-то мысль, какая-то идея, а
на оперных сценах — лишь голоса и ничего более? У каж¬
дого человека — и, конечно, также у того, который избран
действующим лицом драмы,— есть свои наклонности, свой
характер, свой особенный стиль, словом, есть идея, разви¬
тию которой посвящен весь труд его жизни. Почему не сде¬
лать музыкальное выражение принадлежащим именно од¬
ной этой личности, символом именно этой идеи? И почему,
приписывая личности определенный стиль речи, не удосто¬
ить ее определенной манеры пения? Почему нельзя чаще
и с большим умением пользоваться инструментовкой, что¬
бы в аккомпанементах, сопровождающих каждое действу¬
ющее лицо, выразить всю бурю страстей, настроений, же¬
ланий, материальных и нравственных наклонностей, кото¬
рые всего чаще воздействуют на его душу, властно движут
им и играют столь важную роль в его судьбе, в его послед¬
нем решении, приводящем к развязке изображаемое собы¬
тие? Почему не ввести многие виды таких мелодий там,
где введено много действующих лиц? Почему в нужный
момент не повторить какую-то характерную музыкальную
фразу, несколько основных и запоминающихся нот, выра¬
жающих чувство, всего чаще владеющее героем, влияние
силы, которая всего чаще движет им? — Два великих ком¬
позитора уже наметили путь; два великих композитора соз¬
дали две индивидуальности настолько яркие, что высокая
драматическая поэзия потеснится и уступит им место среди
прекраснейших образов, очерченных когда бы то ни было
гением. Дон Жуан Моцарта и Бертрам 12 Мейербера оста¬
нутся навсегда двумя типами глубокой индивидуальности,
нарисованными с мастерством равным, всегда ярким, оди¬
наково блестящим от первой до последней ноты. Первому
я не знаю равных; со вторым, по крайней мере в постоян¬
стве развития, может сравниться лишь Мефистофель Гёте.
Но многие ли идут ио этому пути? Многие ли понимают,
что без подобной выдержанности характера невозможна
253
ДЖ. МАЦЦИНИ
музыкальная драма? Один Доницетти, притом почти всег¬
да, ярко очерчивает свои образы — временами с божест¬
венным искусством. Но стало ли это каноном для других?
Законом их искусства? Явным намерением? Не вернее ли
сказать, что когда временами они схватывают природу
изображенного характера, то делают это по вдохновению
могучему, но порывистому и шаткому, потому что оно не
опирается на принцип?
И почему — если музыкальная драма должна идти па¬
раллельно развитию начал, все более овладевающих об¬
ществом,— почему хор, который в греческой драме пред¬
ставлял единство впечатления и нравственного суждения,
озаряющее душу поэта сознание большинства, не получит
в современной музыкальной драме более широкого разви¬
тия и не поднимется из второстепенной пассивной сферы,
отведенной ему сегодня, до торжественного и полного вы¬
ражения народной стихии? В наши дни хор, говоря вооб¬
ще, подобно народу в трагедиях Альфиери, осужден на то,
чтобы оставаться представителем одной-единственной идеи,
одного-единственного чувства, однои-единственной мело¬
дии, которая согласно звучит на десяти, на двадцати устах.
Он вступает время от времени более как предлог для от¬
дыха первых певцов, чем как особое и самостоятельное фи¬
лософское и музыкальное начало: он предваряет и усили¬
вает проявление чувства или мысли, которую призвано вы¬
разить то или иное из главных действующих лиц, и только.
Но почему же хор, коллективная индивидуальность, не мо¬
жет иметь, как и народ, которого он есть природный выра¬
зитель, своей собственной независимой, самобытной сути?
Почему рядом с главным героем или героями он не соста¬
вит того элемента контраста, который столь важен во вся¬
ком драматическом произведении; почему в самом себе, в
оркестровке, в смене и переплетении разных мелодий, раз¬
ных музыкальных фраз, которые пересекались бы, сочета¬
лись, сливались одна с другой в вопросах, в ответах, он не
изобразит многоразличные чувства, мнения, страсти и же¬
лания, волнующие обычно народные множества? Почему
гению должно не хватить средств для музыкального вос¬
хождения от этого вечного многообразия к не менее вечно¬
му единству, которое всегда и непременно вырастает из
широкого столкновения наклонностей и мнений? Почему
ему оказалось бы трудно, выражая достигнутое постепен¬
но и путем убеждения согласие, подняться к общей гармо¬
254
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
нии, соединив в цепи восходящих тонов сначала два голо¬
са, затем три, потом четыре и так далее, приемом, подоб¬
ным тому, которым воспользовался Гайдн, если я правиль¬
но помню, чтобы передать в «Сотворении мира» момент,
когда свет из ока божьего разливается на все в мире? Или по¬
чему он не смог бы стремительно перейти от одного голоса
сразу к общей гармонии, когда согласие рождается внезап¬
но, неудержимо, как крик «Mora, mora!» палермской тол¬
пы, в порыве энтузиазма, при воспоминании о прошлой
славе или в ответ на нанесенное оскорбление? Способов
народного выражения и музыкальной передачи его тысячи,
и я не знаю их все, но их знает гений или узнает, когда
захочет углубиться в них и когда, выполнив другие более
важные условия музыкального совершенствования, «сможет
свободно заняться этим. Однако тогда окажутся необхо¬
димы некоторые материальные изменения в хорах и со
стороны обучения и в прочих отношениях. Сегодня, если
не считать Милана, где по крайней мере исполнение пре¬
восходно, хоры почти повсюду ведутся безобразно.
Далее — и я выбираю наугад один из многих вопросов,
которые зрелище музыкальной драмы, как она ставится
сегодня, должно вызвать у всякого, кто присутствует на
нем не одним слухом,— почему мелодический речитатив,
бывший когда-то главной частью оперы, а в наши дни став¬
ший редкостью, возможно, потому, что он труднее для
певцов, чем иные думают, не получит в будущих сочинени¬
ях большего значения и не проявит всего того воздейст¬
вия, на какое он способен? Почему этот прием музыкаль¬
ной разработки, допускающий — и тому есть примеры у
Тартини — наиболее высокое драматическое воздействие,
достигнутое до сих пор,— прием, который благодаря сво¬
ей бесконечной гамме, недоступной «ариям», может свобод¬
но привести слушателя к пониманию самых тонких элемен¬
тов чувства; который может развернуть мельчайшие, едва
заметные движения сердца и раскрыть их, не разрушая их
тайны; который обнажает не один лишь главный элемент,
но один за другим все элементы страсти,— прием, который
анатомирует борение чувства, когда «ария» едва способна
с большим трудом показать его последний исход, и кото¬
рый, не отвлекая, как в «ариях», внимание от музыки к
технике исполнения, оставляет первой всю ее власть над
душой,— почему этот прием навсегда должен остаться на
задворках драмы, вместо того чтобы усовершенствоваться
255
ДЖ. МАЦЦИНИ
и расшириться за счет часто нелепых «каватин» и неизбеж¬
ных da capo? Почему не покончить с монотонностью бес¬
конечных и пошлых каденций, которые нам всем уже ка¬
жутся теперь чем-то вроде роковой необходимости в музы¬
ке? Почему не запретить оперным певцам — по крайней ме¬
ре до тех пор, пока эти певцы не станут философами в
большей степени, чем они есть теперь,— произвольные фио¬
ритуры, вычурные, выводимые голосом узоры, против кото¬
рых давно уже ведется война жестокая, но еще не настоль¬
ко решительная, чтобы все это не повторялось снова и сно¬
ва, разрушая впечатление и сменяя его холодным и неуме¬
стным удивлением? Почему, сберегая на всем бесполезном,
которого так много, не расширить пропорции времени там,
где этого требует изображаемое событие и эстетика идеи,
составляющей замысел драмы? — Я знаю, что большинству
зрителей опера и без того кажется чересчур длинной; да и
не может быть иначе, когда у нее нет нравственной цели.
Но я говорю о той эпохе, когда и общество и драма, вза¬
имно действуя друг на друга, достаточно усовершенству¬
ются,— о том времени, когда драмы божественного Шилле¬
ра будут поняты и признаны и их будут играть без пошлых
переделок, без позорных искажений, а публика будет вни¬
мать им с уважением,— о том времени, когда музыкальная
драма будет нести высокий нравственный урок народу, не
погрязшему в материальных интересах, не распущенному,
не праздному, но возрожденному сознанием утверждаемой
в труде и борьбе истины,— о том времени, когда сила му¬
зыки будет помножаться на всю заключенную в представ¬
лении силу драматического воздействия. Я знаю, что вос¬
питать общество для восприятия музыки дело для критики
более медленное и трудное, чем для природы создать ге¬
ния— инициатора новой эпохи. Но я знаю также, что имен¬
но поэтому надо начать работу воспитания, прежде чем при¬
дет этот гений; и я не понимаю, как в -стране, где акаде¬
мии всегда кишели и кишат тысячами, и все деспотичные,
все без гражданской идеи, все бесполезные, все шаткие,
люди, любящие искусство истинной любовью и угадываю¬
щие, сколь громадна его будущая миссия, могут не чувст¬
вовать духовной пустоты, не трудиться над ее заполнением,
не стремиться к святому согласию усилий во ободрение
юным душам, предпринимая ряд необходимых начинаний,
которые сперва будут предметом насмешки для многих, по¬
том заставят людей задуматься, потом создадут действи¬
256
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
тельное улучшение. Так будет подготовлена почва; гений
довершит остальное.
И когда поэзия, сегодня служанка, сделается, как я
говорил, сестрой музыки и будет гармонировать с ней в
том же соотношении, которое имеется между частным слу¬
чаем и алгебраической формулой, когда поэты будут соз¬
давать драмы, а не слагать стихи, и плохие стихи *, когда
поэт и музыкант не будут поочередно то перебивать, то
искажать друг друга, но преданно и единодушно примутся
за дело, как за священное служение, влияя друг на друга и
делая свое вдохновение общим достоянием, когда все воз¬
можности поэзии и музыки смогут быть посвящены соци¬
альной цели — тогда гений, возвеличенный сознанием этой
цели, обширностью своих средств, верой в такое бессмер¬
тие, на какое никому сегодня не дано надеяться, поднимет¬
ся в неведомые небеса, вырвет у музыки неслыханные се¬
креты, разольет в рафаэлевских мелодиях, в беспредельной
гармонии аромат бесконечности, к которой стремятся наши
души и которая одним из тысячи своих лучей является нам
в женщине и в звездном небе, в прекрасном и величествен¬
ном, в любви и в сострадании, в воспоминании об умерших
любимых и в надежде встретиться с ними. Гений разрешит
загадку той тысячелетней борьбы между добром и злом,
между человеческим разумом и материей, между небом и
адом, которую Мейербер с силой, заставляющей вспом¬
нить Микеланджело, символически выразил в своих опе¬
рах. И, поставив перед собой социальную идею, гений под¬
нимет ее — ибо это миссия, присущая лишь музыке,— до
высоты сердечной веры, превратит холодные и бездеятель¬
ные убеждения в энтузиазм, а энтузиазм — в способность
самопожертвования, главную добродетель. И, ободряя и
вознаграждая эту добродетель, гений поведет за собой до¬
верившийся ему дух из одного круга в другой, через музы¬
кальное выражение всех страстей, по ступеням возвышен¬
ной гармонии, где каждый инструмент будет страстью,
каждая мелодия — действием, каждый аккорд — синтезом
души, из бездны слепых ощущений, из буйства материаль¬
* Пели миновать некоторые эпизоды «Отелло» и, в других отношениях, «Виль¬
гельма Телля», то где либретто, переложенное на музыку Россини, которое можно
было бы назвать сносным? Мы дошли до такой причудливости и извращенности,
что глава направления Россини, сам Россини, намеренно предпочитает нелепости
какого-нибудь стихоплета истинной поэзии Романи ,3.
9-6342
267
ДЖ. МАЦЦИНИ
ных инстинктов устремляющейся в небо ангелов, в небо,
угаданное Вебером, Моцартом, Бетховеном, небо чистого
мира, безмятежной совести, где душа учится любить, где
добродетель не превратна, но безусловна, где подвиг му¬
ченика превращается в бессмертие, материнский плач — в
жемчужины, которые бог рассыпает над головами своих
сыновей, вздох влюбленной женщины — в святой и вечный
поцелуй. Мне, пишущему эти строки, как и всему моему по¬
колению, живущему в эпоху предчувствия, а не созерцания
гения и возрожденного им искусства, это небо не дано.
Наш удел — горечь, а не сладость утешений идеальной
жизни; но достаточно уже провидеть их в будущем для
потомков, чтобы сознавать необходимость торопить их при¬
ход всеми средствами и всеми силами, на какие мы спо¬
собны.
Возможно, мы имеем право на большее, чем отдален¬
ные предчувствия и надежды; возможно — о, если бы для
возрождения музыки была нужна лишь гениальность, а не
сверхчеловеческое постоянство и энергия в отчаянной борь¬
бе против предрассудков, тирании корыстных директоров,
толпы наставников и холода времени! — у нас и среди ны¬
не живущих есть человек, способный при желании поднять¬
ся до положения основателя итало-европейской школы му¬
зыки и сделаться преобразователем, в то время как сейчас
он лишь первый из тех, кто борется под знаменами италь¬
янской школы Россини. Я говорю о Доницетти, единствен¬
ном, чей высокопрогрессивный талант обнаруживает тен¬
денции возрождения,— единственном из известных мне, на
ком может с доверием остановиться взор, уставший от
тошнотворного зрелища кишащей в нашей Италии толпы
рабских подражателей*.
* Беллини — мы оплакиваем его безвременную кончину 14 — не был, как мне
кажется, прогрессивным талантом и не смог бы, если бы жил, выйти из того кру¬
га. в котором вращалась его музыка. Прекраснейшие из его идей нужно искать
в «Пирате», «Норме». Дуэт «Беги, о ты, несчастный», другой дуэт «Ты рану в
сердце мне открыл» ,5, так редко поющийся в Италии, и в первую очередь его
стретта, затем почти весь последний акт «Нормы», рафаэлевский по замыслу
и рисунку, — вот и весь Беллини. Музыкальная драма «Пуритане» не была, как
мне кажется, шагом вперед на его пути. Эта драма — несмотря на великолепный
полонез в первом действии, молитву при восходе солнца, последний полуроманс
тенора и знаменитую стретту в дуэте двух басов — вызвала в Париже больше
шума, чем в действительности заслуживала; возможно, к тому же, что большую
долю доставшейся композитору славы надо разделить с Лаблашем, Тамбурини,
Рубини и Гризи. чудесными исполнителями. Испытание, которое прошла эта драма
258
ФИЛОСОФИЯ музыки
Место Доницетти 16 — место, которого у него никто не
оспаривает,— еще и сегодня по правую руку Россини. Ста¬
рательность, с какой он следует основным принципам по¬
следнего, очевидно плохое знакомство с немецкой школой
и чрезмерная быстрота, с какой он завершает свои произ¬
ведения, быстрота, граничащая иногда с небрежностью, за¬
ставляют думать, что он уже более не раздвинет пределов
своей музыкальной деятельности. И все же надо заметить,
что он совсем не тот подражатель, каковы бесчисленные
авторы музыкальных драм в Италии; или, лучше сказать,
он скорее последователь, чем подражатель. Он принял си¬
стему Россини и следует ей не по нелюбви к самостоятель¬
ному исследованию, не по недостатку вдохновения, но по
внутреннему убеждению, как апостол, который, избирая
свой путь, не отвергает собственной индивидуальности. Воз¬
можно, придя в эпоху, когда в низах, у подножия отвое¬
ванного Россини трона, еще раздавалось эхо старого педант¬
ства, он решил, что победа ненадежна, и посвятил себя
поддержке этого трона; возможно, освобождение еще не
казалось ему полным. И, вспоминая о косности и беспло¬
дии, которые еще царили в музыке перед самым приходом
Россини и ежечасно грозили вернуться, он тоже ошибся в
природе движения, сообщенного этим последним итальян¬
ской школе, и увидел жизнь, созидание и начало новой эпо¬
хи там, где было лишь возвращение к прерванной в про-
II итальянских театрах, полностью подтверждает мое мнение. Беллини недоставало
подлинного вневременного творческого гения, силы, разнообразия. Стоя неизме¬
римо выше жалких подражателей, Беллини был все же талантом переходной эпо¬
хи, звеном между итальянской школой, какова она сегодня, и школой будущего:
печальным голосом, раздающимся между двумя мирами и поющим о воспомина¬
ниях и желаниях. Как изгнанная пери, он блуждал у дверей рая, куда ему не
было дано войти. Его музыка, когда она непохожа на вялую и слащавую поэ¬
зию Метастазио, напоминает поэзию Ламартина — поэзию, которая чувствует ды¬
хание бесконечности и мечтает о ней, но лишь мечтает, коленопреклоненно и мо¬
литвенно: поэзию сладостную, нежную, страстную, но смиренную, покорную и
более способную размягчить, расслабить н обесплодить способности человеческого
духа, чем возбудить, укрепить, увеличить его мощь. У нас пример той же самой
тенденции, которая тем более гибельна, чем более она покоряет мягкие души
всеми достоинствами таланта и сердечности, дает в литературе направление, кото¬
рое от Мандзони идет к Гросси и Пеллико и от них далее к другим. Но сегЬдии
для истинного возрождения в литературе, как и в музыке, нужно, чтобы в вожде
нового движения соединились сила Байрона и деятельная вера Шиллера. В музы¬
ке Беллини нет ни того, ни другого. Кажется, будто он невольно напитал ее пред¬
чувствием своей преждевременной кончины; и это же предчувствие помешало ему,
за редким исключением, подняться до смелых дерзаний.
9*
259
ДЖ. МАЦЦИНИ
шлом жизни и полное проявление эпохи, остановившейся бы¬
ло в своем развитии еще прежде, чем отзвучали ее послед¬
ние голоса. Как бы то ни было, энергия, с какой Доницет¬
ти идет по пути Россини, есть залог иной энергии, которая
еще не проявилась и которую могли бы вызвать к жизни
иные побудительные причины. Наконец — и это главная
надежда — гений Доницетти все время был и до самого по¬
следнего времени остается растущим, и никто не может
сказать, на какой ступени он остановится.
От «Зораиды» до «Анны Болейн», от «Эликсира любви»
до «Паризины» и, наконец, до «Марино Фальеро», «Лючии
ди Ламермур» и «Белизарио» 17 проходит восходящий путь,
как термометр, отмечающий ступени, достигнутые Дони¬
цетти в своем развитии; и, возможно, при внимательном
рассмотрении почти всех этих драм в каждой из них ока¬
жется какой-то прогресс, какое-то совершенствование одно¬
го из музыкальных начал. Кто в «Зораиде» смог бы не то
что угадать, но хотя бы предчувствовать «Марино Фаль¬
еро»? Кто после «Анны Болейн» и «Паризины» осмелится
пророчествовать о последней точке этого восходящего пути,
который до сих пор свидетельствовал о возрастании силы?
Кто сможет сказать, что человеку, который, подобно Рос¬
сини, с равным успехом берется за оба жанра, серьезный
и комический, человеку, который, достигнув возвышенного
трагизма в «Анне Болейн», смог столь щедро рассыпать
цветы безудержного веселья в «Эликсире любви», следую¬
щий шаг вперед, который, возможно, уже сделан им в эту
самую минуту, не откроет новых и более обширных горизон¬
тов? И кто способен сейчас решить, заставит ли его гений
устремиться в эти дали или же в нем пересилят привычки
школы, в пределах которой уже почти все испытано? Несом¬
ненно одно: многие из тех принципов обновления, о кото¬
рых мы говорили выше и которые по необходимости про¬
гресса будут присущи грядущему музыкальному возрож¬
дению, часто проявляются в операх Доницетти. Намеренно
вводятся они или навеяны бессознательным инстинктом ге¬
ния, не знаю. Несомненно — приведем по крайней мере
один пример,— что индивидуальность характеров, которою
столь варварски пренебрегают подражатели россиниевской
лирики, во многих произведениях Доницетти старательно
соблюдена и очерчена с редкостной силой. Кто не услы¬
шал в музыкальном изображении Генриха VIII18 жесто¬
кую, одновременно тираническую и неестественную его ма¬
260
ФИЛОСОФИЯ музыки
неру, о которой повествует история? И когда Лаблаш бро¬
сает эти слова:
На трон йнглийский сядет другая,
Кто любви будет боле достойна,
и т. д.,—
кто не чувствует, как у него содрогается душа, кто не по¬
стигает в эту минуту тайну тирана, кто не обводит взором
этот двор, обрекший на смерть Болейн? Сама Анна не
только смиренная жертва, которую рисует либретто, но
также и история, что бы ни говорили иные; и ее песня
есть песня лебедя, ощущающего приближение смерти, пе¬
сня усталой женщины, слегка окрашенная сладостным во¬
споминанием любви. «Анна Болейн» приближается к музы¬
кальной эпопее. Романс Сметона, дуэт двух соперников,
ария Перси «Живи», божественное «Мне радость укажи и
т. д.» Анны и все вообще оркестрованные места безуслов¬
но ставят эту оперу во главе репертуара. Инструментовка
в ней, хотя она еще и не достигает высокой мелодичности,
по крайней мере везде ровна, непрерывна, величаво тор¬
жественна. Хоры сообщают этому произведению завершен¬
ность, которая при современном положении не оставляет
желать лучшего.
Предощущение нового еще яснее в «Марино Фальеро»*.
Призрак старой Венеции (по крайней мере, насколько то
допускает либретто) таинственно и величественно навис
над всей драмой. Романс гондольера, намеченный в увер:
тюре и с удивительной нежностью поющийся Ивановым 19,—
подлинный бал тех времен в первом действии, в который
с таким умением вплетен декламируемый диалог Фалье¬
ро и Бертуччи,— великолепный гимн Фальеро, поющийся
хорами,— каватина «О, моей родины прекрасный край»,
которую может понять только изгнанник, и аллегро, где
несказанной сладостью дышит утешение любви среди том¬
ления разлуки,— затем новый величественный, поистине
вдохновенный и непревзойденный дуэт Марино Фальеро и
Израэле Бертуччи, из которых первый с глубокой истиной
воплощает могучую народную стихию, другой аристократи¬
ческое начало, задетое в самой больной части своего су¬
щества— чести; потом эта гневная, прерывистая, возбуж¬
денная смена музыкальных фраз, уже и не пение даже,
потому что поет теперь оркестр, но настоящий, явный за-
* Эта опера пользуется сейчас в Италии необыкновенным успехом.
261
ДЖ. МАЦЦИНИ
говор вставших из праха Фальеро и Израэле — это удиви¬
тельное владение музыкальной наукой и одновременно на¬
укой человеческой психологии, это мастерство, с каким по¬
казано возрастание настойчивости Израэле, разгорающееся
пламя Фальеро, когда кажется, что лезвие Израэле погру¬
жается, погружается в грудь дожа, а затем, когда крика
угнетенного народа оказывается недостаточно и Израэле
внезапно бросает на чашу весов свое «Позор дожу», прон¬
зает его сердце; и эта скорая весть о победе—«Венеция
возьмет Фальеро меч»,—которая достигает Бертуччи и ле¬
тит дальше, к звездам, и освобождает душу от бремени
тяготившей ее мучительной неизвестности; и это прекраще¬
ние всякой розни в предвестии действия—«Собратья были
и друзья»,— настоящая перчатка вызова, брошенная венеци¬
анской тирании двумя началами, заключавшими союз мести
и крови; и тогда это дуновение немой, тайной, неведомой,
ио все растущей печали, мало-помалу сменяющей энергию
воли и отдающей одного за другим героев др.амы во власть
рока, который отныне один должен разрешить узел,— пе¬
чали, которая завладевает музыкой, прорывается в двух
хорах второго акта, ползет змеей, окружает вас, обвивает
вас своими кольцами в этой пророческой прелюдии виолон¬
челей к «Тебя я вижу, плачь и трепещи», льется в каждом
звуке музыкальной волны адажио, воплощается в новом
плавном и связном движении, навевает, как кажется мне,
предчувствие смерти Фернандо, нависает в вышине, непро¬
глядная, как ночь, неподвижная, как озеро, при появлении
дожа среди заговорщиков в полновесном, тяжком, торжест¬
венном звучании «Этот раб, что взял корону», возвещает
о своем близком торжестве в раздающемся звоне доспе¬
хов и мечей и, наконец, побеждает в последнем прощании
Фернандо с жизнью, целиком заключившись в этом ми-бе¬
моль, на котором построена вся его ария; потом еще по¬
следнее усилие, последняя титаническая попытка человече¬
ской воли, которая в яростном стремлении собирает все
свои силы на борьбу и выражает свое отчаянное стремле¬
ние в стретте «Нет, ни дня теперь, ни часа», завершающей
сцену; наконец, когда все уже кончено, ария Елены, рас¬
ставание Бертуччо с сыновьями, это красноречивое, про¬
петое с силой «Были храбры, стали трусы», которое долж¬
но было бы заставить краснеть слушателей, и дуэт, кото¬
рый поют Гризи и Лаблаш в финале,— все это в большей
или меньшей мере, как мне кажется, суть свидетельства ге¬
262
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
ния, который еще не весь развернулся, который полон жи¬
вого предчувствия нового музыкального мира, который и
желал бы устремиться в него, но, возможно, скованный,
сдавленный тысячью препятствий, стоящих сегодня перед
всяким гением, не сделает этого; однако гения, во всяком
случае обнаружившего себя в таких прелюдиях, которые
дадут будущему поколению основание сказать: «Он мог
победить, если бы поистине желал этого».
Так или иначе, благодаря ему или другим, музыкальная
реформа совершится. Когда исчерпана старая школа, тен¬
денция, эпоха — когда путь пройден полностью и вновь
пойти им можно, лишь отступая вспять,— тогда реформа
неминуема, неизбежна, обязательна, ибо человеческий ра¬
зум вспять идти не может. И пусть молодые музыканты
преданно готовят себя, как к религиозному таинству, к по¬
священию в новую школу музыки. Мы переживаем ночь
перед боем, и будущие члены нового братства, как кавале¬
ристы, сосредоточенно готовятся к сражению в тиши, η
одиночестве, в мыслях о том, что они должны совершить,
в полном сознании долга, которому должны посвятить се¬
бя на следующий день, в благородном и пылком ожидании
новой зари. И пусть молодые музыканты, изучая нацио¬
нальные песни, отечественную историю, тайны поэзии, тай¬
ны природы, поднимутся к более широкому горизонту, чем
представляют им книжки музыкальных правил и ветхие
каноны искусства. Музыка есть аромат вселенной, и чтобы
служить ей, как должно, музыканту нужно исполниться
любовью, верой, пониманием гармоний, плывущих на зем¬
ле и в небесах, исполниться вселенской мыслью. Пусть он
припадет к творениям музыкальных гениев, гениев не од¬
ной только страны, одной школы, одной эпохи, а всех
стран, всех школ и всех эпох, но не для того, чтобы ана¬
томировать и дробить их с помощью холодных и старых
учений музыкальных профессоров, а чтобы впитать в себя
исходящий от этих творений дух созидания и единства,
и не для того, чтобы ограниченно и рабски подражать им,
но чтобы соревноваться с ними, как достойно свободным, и
к их труду присовокупить свой. Пусть он освятит душу эн¬
тузиазмом, дыханием вечной поэзии, которую материализм
лишь затмил, но не изгнал с нашей земли; пусть он покло¬
нится Музыке как чему-то святому, как связующему звену
между людьми и небом. Пусть он служит этому Искусст¬
ву, ставя перед ним высокую социальную цель, делая его
263
ДЖ. МАЦЦИНИ
жрецом нравственного возрождения и храня его в своей
груди и своей жизни чистым, светлым, недоступным купле
и продаже, суете и всей той грязи, которая оскверняет пре¬
красный мир творчества. Как ангел жизни и гармонии,
сойдет на него вдохновение, и он удостоится того, что над
его гробницей воссияет благословение усовершенствован¬
ных им и признательных поколений, в тысячу крат прек¬
раснейшее славы и превосходящее ее настолько, насколько
добродетель превышает богатства, посланные фортуной,
чистая совесть — хвалу людей, а любовь — всякую земную
власть.
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
24 февраля 1804 года после
мучительной болезни умерла мать Вернера. В течение трех
долгих лет сын не отходил от постели больной. А пять лет
спустя, когда картина страшного часа ожила в памяти и
взбудоражила все силы души, Вернер написал ту историю
несчастья и проклятия, которая здесь переведена, и назвал
ее — «Двадцать четвертое февраля».
«Это,— говорил Вернер,— моя ночная поэма; это песнь,
подобная хрипам умирающего, которые, хотя они слабы и
сдавленны, отдаются в глубине вашей груди». В начале свое¬
го пролога он писал: «Эта поэма грозовой тучей нависала
над моими безвольными чувствами и моей сумрачной ду¬
шой задолго до того, как я решился спеть ее; а когда ре¬
шился, получилась песнь глухая и унылая, как шум крыль¬
ев ночной птицы» К
Слова эти составляют, насколько мне кажется, лучший
комментарий к поэме и сразу освобождают автора от всех
обвинений, которые самозваная критика в своей нетерпи¬
мости бросает всем, на йоту вышедшим за пределы, пред¬
писанные ею искусству; самозваная, говорю я, потому, что
там, где страсть — страсть не преступная — безраздельно
владеет писателем, критика не имеет иного права, кроме
как судить по степени достигнутого им воздействия о мере
его способностей и глядеть, сумел ли он раскрыть свою ду¬
шу и свою мысль другим. Сердечное вдохновение столь же
свято и неприкосновенно, как посылающее его божество.
Когда поэт, как жертву, кладет перед вами свою душу, ког¬
да он говорит вам: «Смотри, я тот, кто плачет»,— и истинно
плачет, и плачет вместе с вами, плачет, возможно, потому,
что не смог плакать с другими,— неужели вы возразите
ему Аристотелем? Осмелитесь ответить ему, как Данте от¬
265
ДЖ. МАЦЦИНИ
ветил грешникам2? Нет, вы будете проливать слезы вместе
с ним. Перед сильным выражением мучительного горя или
глубокого ужаса всякая критика нема. Мы сначала люди,
потом критики. Бог сначала дал нам плач, потом анализ,
разлагающий его.
«Двадцать четвертое февраля» — порыв долго сдержи¬
вавшейся страсти, движение души уязвленной, лихорадоч¬
ной, судорожной, ищущей убежища в покое отчаяния; это
сжатое выражение одной из тех минут нравственного бо¬
рения, когда дух стремится овладеть мучащими его пред¬
ставлениями, воплощая их во внешней форме. Вернеру бы¬
ли ведомы такие минуты; и те краткие сведения о его жиз¬
ни, которые мы приводим ниже, доказывают это3. Вернер
был человеком больших и беспокойных душевных сил, во¬
ображения живого и пылкого до исступления, до энтузиаз¬
ма, впечатлительности глубокой, часто неизгладимой. Он
любил мать любовью, которая дается редким сыновьям и
не всем матерям, любовью святой, вечной, слившейся в од¬
но целое со всею жизнью и всеми сердечными движениями.
Он верил во власть тайных сил, незримых влияний в мире.
Его поразило однажды то наблюдение, что некоторые дни
оказывались роковыми для него; и из одного его письма
явствует, что тоже 24 февраля, но другого года, он потерял
в Варшаве еще одного любимого им человека. Он ощущал
бога во всей вселенной; но когда он искал его выражение
на земле, то находил либо скепсис, либо насилие: с одной
стороны, умершую религию, заброшенные алтари и вопло¬
щение силы в одном человеке, гигантом вознесшемся над
развалинами веры,— с другой стороны, народные множе¬
ства, поднимавшиеся во святое божье имя и за религию
отцов, но с оружием в руках, ради жестокой мести, ради
кровавых жертв. Он жил в роковое время. И, несмотря на
жившее в нем предощущение грядущего культа любви, ду¬
ша его подчинилась времени, и он колебался в своей вере —
или не верил. Его душа была ареной спора между небом
и землей. Жизнь его была непрестанной борьбой. Единст¬
венный его друг был почти всегда вдали от него4. И «Два¬
дцать четвертое февраля» есть эпизод этой борьбы, кото¬
рую он за неимением сферы приложения излил в свои со¬
чинения. В них правит бог, но правит страхом. Как воин,
ожесточенный долгой битвой, этот бог в гневе тяжкой дес¬
ницей обрушивается на побежденных. Это deus ultionum5,
повергающий тяжестью преступления того, кто в преступ¬
266
О РОКЕ КЛК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
лении поднялся против него, и отмщающий вину отцов на
сыновьях. Человек здесь одинок, не имея защиты ни в чем,
даже в молитве.
Над Кунцем тяготит проклятие неискупленной вины,
всегда готовое встать между угрызениями совести и про¬
щением, между человеком и небом. Рядом с ним Труда,
женщина, но не такая, какою она запечатлена христиан¬
ством, не ангел-заступник, а напоминание, живое свиде¬
тельство преступления Кунца и силы, роковым образом по¬
влекшей к его совершению. Неизвестный, которому сужде¬
но разрубить гордиев узел, появляется нежданно, из мра¬
ка, по нехоженой тропе, как бы ведомый невидимой рукой;
и когда он стучится в дверь одинокой, заброшенной хижи¬
ны, чувствуешь, как дрожь пробегает по телу: вместе с ним
в комнату, где сидят те двое, входит судьба. Каждое его
слово, каждое движение загадочны; луч печальной ра¬
дости, как у возвратившегося домой изгнанника, освещает
его лицо, но за этой радостью стоит раскаяние, стоит пред¬
вестие бед. Вокруг этой несчастной троицы — ни движения,
ни живого голоса, только крики ночных птиц. За окном ве¬
тер воет о божьей каре. Сцена действия — Джемми, одна
из альпийских вершин. Сверху беспредельность; у ног про¬
пасть; вокруг пустыня. Действие разворачивается, как того
требуют место и замысел: скоро, бурно, фатально. Все спо¬
собствует эффекту. Внезапным ужасом веет от мельчайше¬
го обстоятельства; ужас постепенно возрастает к развязке.
С этой стороны и как произведение индивидуальное, не при¬
надлежащее определенной школе, «Двадцать четвертое
февраля», мне кажется, не имеет себе равных и почти не¬
повторимо. Попытка возродить в современной драме ста¬
рый догмат о роке нашла в Вернере, насколько я знаю,
свое лучшее воплощение; и если бы последние слова поэмы
и характер персонажей не указывали на то, что автор ее
христианин и живет в близкие нам времена *, можно бы¬
• Сталь, Ремюза и все критики, писавшие о «Двадцать четвертом февраля»,
почти в одних и тех же выражениях повторяют одно и то же обвинение: когда
рок переносится в среду простонародья, судьба Атридов — в хижину альпийских
пастухов, ужас чрезмерен, ибо слишком близок к нам. Возможно, он чрезмерен;
но, заставив мистерию рока развертываться среди коронованных особ, Вернер
дал бы переделку греческой трагедии, а не создание подлинного вдохновения.
Вернер не думал вернуть нам греческую трагедию, ио хотел лишь через пережи-
ванне религиозного ужаса выразить в современной драме идею рока, лушу антич¬
ной трагедии. «Вечный род» Атридов потерял для нас, людей XIX века, всякую.
267
ДЖ. МАЦЦИНИ
ло бы подумать, что перед нами случайно найденный фраг¬
мент Эсхила.
Я сказал: «как произведение индивидуальное, не шко¬
лы», ибо если перед излиянием души поэта, перед искрен¬
ним вдохновением, самопроизвольно исшедшим из глубин
сознания, перед произведением, в своем своеобразии не
стремящимся стать образцом, критика должна умолкнуть,
то перед подражаниями — не должна. Там, где начинается
искусство, критика имеет право, даже обязанность произ¬
вести свой разбор. Там, где, движимые надеждой добыть
славу, равную славе вождей, толпой собираются эпигоны,
холодно рассчитывая, какими условиями можно достичь
того же результата, какого добился первый, но как бы
между прочим, не заботясь о цели,— там выступает крити¬
ка и говорит юношам: восхищайтесь, но не подражайте;
уважайте страдание, вдохновившее эти песни или эту дра¬
му, но не возводите в канон литературной школы, в теорию
искусства выражение индивидуальной мысли, которая не
принадлежит, не должна принадлежать большинству. По¬
ловодье орошает поля — но хотите ли вы, чтобы вода ни¬
когда не сходила с них? Если человек исключительных на¬
клонностей и страстей замыслил и прекрасно осуществил
попытку возродить ушедший и ветхий мир, должны ли все
остальные, увлекшись заключенной в этой попытке искор¬
кой поэзии, вернуться в прошлое и, позвав за собой целые
поколения, истощить среди его руин силы, данные богом
для неустанного стремления вперед по путям будущего?
«Двадцать четвертое февраля» создало или по крайней
мере оживило целое литературное направление. Мюлль-
нер, Грильпарцер6 и другие писатели, немцы по большей
части, построили на роке здание своих трагедий. Они вновь
сделали судьбу царицей сцены. Человеческая свобода при¬
несена на их страницах в жертву всесокрушающей силе
проклятия, исходящего от небес, проклятия, тяготеющего
над человеком, предопределяющего его поступки, влекуще¬
го его помимо вины, помимо раскаяния в бездну гибели,—
проклятия, фатально сбывающегося с боем часов, со зво¬
ном колокола, в предопределенный час. Такому направле-
впсчатляющую силу: века » бесчисленные трагики навсегда истощили ее. Кроме
того, критика, оправданная в отношении автора, ставящего перед собою цель в
искусстве, не относится к Вернеру, который ставил себе целью утвердить религи¬
озное верование.
268
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
нию критика должна противостоять, и не просто отрицая
его или пренебрегая им, как водится, но рассматривая са¬
мые основания его идеи и последствия этой идеи. Система
рока в драме, хотя теперь она уже расшатана и оставлена
низкопробным подражателям, все ж не случайное явление
и не причуда нескольких воспаленных голов: это поэтиче¬
ская формула принципа, провозглашенного автором
«Санкт-Петербургских вечеров»7 и его последователями*.
Это отзвук представления, родившегося вместе с первым
человеком, возведенного в догму в восточном мире и видо-
измененно сохранившегося в мире европейском; оно суро¬
вее и решительнее заявляет о своей власти над умами вся¬
кий раз, когда рушится вера, при всяком нравственном
кризисе, когда религиозное единство сменяется сомнением
или произволом. Такие времена способствуют возрождению
идеи рока. Поэтому несколько мыслей о происхождении
этого представления как элемента драмы не окажутся,
возможно — особенно сейчас, когда почти вся литература
вращается вокруг драмы и заражается ее тенденциями,—
бесполезными для юношей, вступающих на пути искусства.
Каждым искусством правит какой-либо синтез, каждой
формой искусства — закон. Время от времени гений откры¬
вает новую черту этого синтеза и намечает новую эпоху
данного искусства, новый путь развития данной формы.
Искусство едино; едина идея, к которой оно стремится и
которую оно достигает; но в своем пути оно проходит че¬
рез восходящую последовательность формул, определяю¬
щих различные его системы, о которых мы знаем в исто¬
рии. Каждая из этих формул включает, помимо одного
только ей присущего члена, все члены, открытые предыду¬
щими. Каждая отмечает новую и высшую ступень разви¬
тия идеи, которую призвано выразить искусство. Затем ра¬
но или поздно из всего этого ряда последовательных фор¬
мул вырастает всеобъемлющий синтез. Тогда ученичество
кончилось; путь намечен —и искусство идет по нему твер¬
до и уверенно, живя замыслом, который уже ничто не мо¬
жет отнять у него, не зная внезапных изменений или дол¬
гих колебаний, одинаково далекое и от своевольной раз¬
* Роковой приговор и роковая жертва — стержень обеих систем; проклятие
переходит с отца на сына, пока искупление, ужасное, как сама вина, не снимет
его. Первую строку драматического действия вписывает убийца, последнюю —
палач; виновный отдается своему природному сунье.
269
ДЖ. МАЦЦИНИ
нузданности, отклоняющей его с исторического пути, и от
мертвящего рабства.
Возможно, когда-нибудь мы с тщанием и пространнее,
чем допускают пределы данной статьи, изложим этот закон
искусства — закон непрерывного прогресса, действующий в
литературе, как и везде. Здесь мы указываем иа него
лишь, чтобы сделать выводы, необходимые для развития
нашей мысли, а именно: что нетерпимая, ограниченная
критика какого-либо периода или системы бесполезна для
искусства, не изъясняет его и не совершенствует его; что
вокруг тех, кто захочет сковать разум неограниченным, аб¬
солютным культом главной идеи какой-либо одной литера¬
турной эпохи, может сложиться школа, система, но никогда
не сложится настоящая литературная вера; что, с другой
стороны, умы, пытающиеся вместе с завершающейся эпо¬
хой похоронить и навсегда перечеркнуть идею, которой та
жила, не понимают законов искусства и срывают один из
драгоценных камней с диадемы, долженствующей украсить
однажды человечество; что, если есть средство направить
критику на путь истинной пользы, оно заключается в том,
чтобы хранить все те формулы, к которым приходило ис¬
кусство в своем последовательном развитии, и заключать
по ним о той, к которой оно придет в будущем; что, изу¬
чая эпохи, исследуя различные формулы, которые вырабо¬
тала литература в течение веков, мы всякий раз во всех
них находим одну идею, одну мысль, одну цель, какие бы
различные виды она ни принимала, и эта идея есть часть
общего закона, эта мысль — часть общего синтеза, к кото¬
рому придет грядущее искусство. Критика и пример вели¬
ких писателей укажут пути осуществления ее.
В нашу эпоху, как всегда, современная критика колеб¬
лется в нерешительности между толпой подражателей, ко¬
торые, принимая одну строку закона за весь закон, именем
угасшего гения осуждают на бездействие живых в настоя¬
щем и будущем, и небольшим числом разнузданных писа¬
телей, которые, не желая быть рабами и не умея быть сво¬
бодными, отвергают также и эту одну строку истины из не¬
нависти к тирании, которую им угодно в ней видеть, и по¬
гружаются в анархию. И те и другие заблуждаются. Ибо
если время подготовило крушение эпохи, никто не может
сказать ей: «Здравствуй в цветении и силе»; если какая-
либо норма искусства отжила свой век, сделалась помехой
для разума, неспособна выразить и направить его вдохно¬
270
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
вений, то это знак, что должна быть открыта новая,— и ге¬
ний, восставши, диктует ее. Но тем не перечеркиваются
прежние откровения. Века уходят, формы ветшают; искус¬
ство пользуется каждой из них в свое время, и когда время
это прошло, разбивает их — но дух живет, он выпрасты¬
вается из-под обломков и возносится ввысь, как новая звез¬
да, чтобы чистейшим светом сиять на небосводе разума.
Идея, взращенная очередной эпохой, живет вечно: это
истина, раз и навсегда завоеванная разумом человечества.
Язычество пало, греческие формы разбиты на осколки — но
искусство Гомера, искусство, индивидуализирующее жизнь
и уединяющее ее в божественно изваянном символе, не па¬
ло вместе с гибелью греческого мира; один из этих оскол¬
ков родил поэзию «Энеиды», другой через промежуток в
пятнадцать веков — поэзию Торквато.
И когда с таким мерилом мы рассматриваем историю
драматической литературы, мы видим, что драма, как и
весь исторически сложившийся европейский мир, отраже¬
нием которого она выступает, с первых своих дней до на¬
шего времени подчинялась трем главным формулам и соз¬
дала три системы, три школы; что этим трем формулам со¬
ответствуют три гения, три властителя искусства; и что в
этих трех формулах, через этих трех гениев, их представи¬
телей, среди всего различия проявляется одна тенденция,
одна идея: рок.
Эти три гения — Эсхил, Шекспир и Шиллер, три поэти¬
ческих мира. Лишь они в своих произведениях смогли от¬
разить каждый идею одного из периодов цивилизации,
лишь они воплощают в драме целую эпоху литературы.
В Эсхиле — душа греческой поэзии, в Шекспире — душа
средневековой. Это два закатившихся мира, две безвоз¬
вратно исчерпавшие себя эпохи. Наступает заря новой; и
среди драматургов один Шиллер предугадал и начал ее.
Кроме них, я не знаю никого, кто, сделавшись в своих дра¬
мах пророком или завершителем целой эпохи, обнаружил
бы заключенную в ней мысль с такой силой, что предоста¬
вил бы твердую норму для рассмотрения вечных элементов
драмы *.
* Альфиери, родившийся на десять лет раньше Шиллера, предчувствовал новые
судьбы искусства; но он не угадал ни основных черт будущей эпохи, ни ее целей,
ни путей их достижения, ничего. Он понимал, что искусство гибнет, и для того,
чтобы оживить его, он вложил средневековую идею в греческую форму, про-
271
ДЖ. МАЦЦИНИ
Эсхил велик* — велик тем торжественным и таинствен¬
ным величием, которое окутывает колыбель народов. У не¬
го не драмы: это мистерии, это мифы. Аромат, которым
дышут его образы, есть аромат святыни. Его страхи и его
надежды суть страхи и надежды глубокой веры. Времена¬
ми его стиль — это стиль оракула. Кажется, что, стоя меж¬
ду восточным миром и Грецией, между Азией и рождаю¬
щейся Европой, он предвидел их столкновение, различие их
судеб, ту кровавую борьбу, которая с переменным успехом
длится вот уже более двадцати веков между двумя прин¬
ципами, воплотившимися в этих двух мирах, и оплакивал
с возвышенным благородством, как человек, плачущий о
прекрасном, и жертвы, на которые история обрекала его
родину, положившую начало этой войне, и долгие века
рабства, которые должны были вычеркнуть ее из числа на¬
ций, и страдания, которыми она должна была однажды за¬
платить за свое возрождение. Да, в произведениях Эсхила
заключена вся печаль великих предчувствий: при чтении
их смутная грусть окутывает душу; и даже когда он поет
явив в этой попытке титанические силы и волю. Он был велик, но не как драма¬
тург; он расчистил путь социальному искусству, но не заложил его основ. Кроме
того, основная черта литературной эпохи, которую предвидел Шиллер, есть выра¬
жение в отдельных явлениях сознания всего человечества, искусство будущего
должно стать по существу своему одновременно европейским и национальным, а
драма Альфиери, как ее ни понимать и ни судить о ней, всего лишь и исклю¬
чительно национальна.
• Сравнения между тремя греческими трагиками, которые часто проводят
критики, допустимы с эстетической точки зрения, но бессмысленны, если говорить
о первенствующей идее: Софокл и Еврипид — подражатели, Эсхил — отец. У пер¬
вых выражение мысли более тщательно и искусно, форма более тонка и граци¬
озна. Они явились позднее, когда греческая цивилизация уже во многом смягчи¬
лась и положение женщины, слегка изменившись, оказывало большее влияние на
общество. Напротив, у Эсхила часто сама идея выступает в своей первоначальной
чистоте и сияет сквозь мрак времен мощно и пророчески, как бог из неопалимой
купины; форма у него неотделанна, но всегда грандиозна, всегда широка и мо¬
нументальна. Софокл — поэт чувства: братская нежность, материнская любовь на¬
ходят в нем выразителя, не знающего себе равных во всей греческой литературе,
и, чтобы найти соперника ему, надо дойти до самого Вергилия. Но в Эсхиле все
природные дарования, отмечающие гения в эпоху полуварварскую,— игра вооб¬
ражения, сила, порыв, простота, глубокая и важная вера, — появляются впервые
и с неподражаемой силой. Софокл рисует, Эсхил — ваяет. Всего несколько штри¬
хов, но кажется, что они обнажают остов мира. Софокл — поэт величественного
искусства; но Искусство, искусство-мать, святое боговдохновенное искусство, вос¬
седает на троне перед жрецом — Эсхилом в великолепии своего первого открове¬
ния и царственно кладет начало целому ряду своих последовательных проявле¬
ний. О Еврипиде я не говорю; сколько бы красот ни было рассыпано η его про¬
изведениях, его манерное, подражательное искусство явно клонится к упадку.
272
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
гимн победы над варварами, чувствуешь во всем веяние того
затаенного страдания, которое исходит от каждого слова
гениев чувства и предвидения, когда умеешь понять их.
Борьба между свободной волей и роком, иными слова¬
ми, между человеком и порабощающим его миром, была
программой Европы; а Греции дано было взрастить семе¬
на европейского мира. Неизбежная победа была предна¬
чертана им, но во времена Эсхила исход спора был еще
отдален. Греческому разуму предстояло наметить первые
шаги к его разрешению; но он мог сделать это лишь позд¬
нее, и притом в философии, а не в драме. Жизнь греческо¬
го мира — не в его поэзии*. Греческая поэзия была мифо¬
логической, религиозной, а начала греческой мифологии
все восточного происхождения: первые религиозные фор¬
мулы младенческой Греции пришли с Востока. Когда люди
иссушили этот источник, поэзия умолкла. Поэтический пе¬
риод Греции, как я сказал, лишь выявил суть спора, не ре¬
шил его. Отсюда господство повествовательного стиля,
весьма редкое обнаружение собственного сознания поэта,
объективность всей сферы образов и такой мир, такой по¬
кой во всей поэзии, что трудно различить, чего здесь боль¬
ше: уверенности в победе или покорности судьбе. Бунт про¬
тив влияния Востока с каждым днем сильнее обнаружи¬
вался в привычках гражданской жизни, но Азия все еще
высилась над Европой постольку, поскольку религия воз¬
вышалась над всеми гражданскими учреждениями. Лич¬
ность была свободна в своих поступках, но не в своем
сознании. Обоготворенные и недоступные анализу силы
природы подавляли ее. Повсюду мистерия преграждала
доступ жаждущему уму, окутывая вселенную своей пеленой.
Возможно, именно потому, что Эсхил попытался сорвать
эту нелену, ему пришлось, если верить преданиям, спасать¬
ся от проклятия и гнева жрецов8. Словом, в период, о ко¬
тором мы говорим, свобода бурлила в основании пирамиды,
рок неподвижно и тиранически восседал на ее вершине.
Эсхил стал выразителем этого периода и олицетворил
рок в созданной им драме. Рок тяготеет над героями Эсхи¬
* Жизнь, оригинальность, миссия Греции заключаются в ее философии; разли¬
чение между двумя периодами, которые прошла Греция в своем развитии, поэти¬
ческим и философским, нужно для всех, кто хочет углубиться в изучение антично¬
сти и определить се черты. Первый период, говоря вообще, есть период заим¬
ствованной цивилизации; греческая самобытность проявляется лишь во втором.
273
ДЖ. МАЦЦИНИ
ла, как приговор над преступником; иногда, как, например,
в «Эвменидах», он дарует прощение, чаще осуждает — но
и осуждая и отпуская, он неотвратим и предустановлен.
Он действует бесцельно, как бы лишь испытывая свою
мощь, не более того. Рок не есть ни орудие вселенской
воли, которой нужен человек для своего осуществления,
ни закон, неотвратимо понуждающий человека служить
грандиозному плану, предначертанному разумной При¬
чиной мира, плану, который должно осуществить челове¬
чество; ибо Греция не знала идеи человечества, а следова¬
тельно, не знала ни служения единой цели, ни преем¬
ственности поколений, ни понятия о постепенном прира¬
щении блага всего человеческого рода благодаря само¬
пожертвованию индивида. Действие рока совершалось в
индивиде и гасло в нем же. И оно совершалось непосред¬
ственно, без промежуточной работы нравственных сил, без
той цепи стоящих одна за другой причин, которая спасает
личность от ощущения висящего над головою проклятия и
тем оставляет ей по крайней мере иллюзию свободы. Это
был неравный поединок у подножия эшафота: краткая, но
страшная борьба между жрецом с его жестоким бесстрас¬
тием и жертвой с ее мукой, между человеком и судьбой.
Мир для них исчезал; он утрачивает реальность и тает в
греческой трагедии по мере того, как действие приближа¬
ется к развязке. В этой пустоте рок, как ястреб на добычу,
кругами с вышины спускается на героя драмы; этими кру¬
гами, постепенно сокращающимися и сокращающими дра¬
матическое время, намечены пределы действия. Оттого-то
и простота замысла, и быстрота кульминации, и отсутствие
движения и развивающейся деятельности у персонажей, и
все «единства», и все, не скажу, достоинства или пороки, но
свойства греческой трагедии. Основание трагического кри¬
терия заключено здесь в доблести личности, испытуемой
высшим страданием, степень впечатляющего воздейст¬
вия — в той нравственной силе, которую она проявляет в
борении, а красота трагедии и все ее облагораживающее
воздействие на душу, возвышаемую зрелищем мужествен¬
но перенесенного великого несчастья — в величественном
смирении героя, в-достойном претерпевании бедствий. И
трагическое воздействие, и достоинство, и величие не¬
счастья, и восхищение, и ужас — все есть у Эсхила; и все
это — борьба и смерть, осужденные и обвинители — хра¬
нит гигантский, сверхчеловеческий смысл. Кажется, будто
274
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
его герои были из рода титанов и что обуздать их мог
лишь железный, всемогущий, неумолимый Рок.
Рок. Но когда в своей душе поэт слышал голос души
греческого мира, свободы, когда он вспоминал, что сражал¬
ся под Саламином против Востока и проливал свою кровь
за европейский принцип действия против инертности и раб¬
ства, к которым понуждала Азия,— тогда он восставал и
отвергал господство рока, с высоты мистерий и теогоний
еще правившего его отечеством. И в один из таких момен¬
тов он провидчески создал своего «Прометея». «Прометей»,
насколько я знаю, есть наиболее полная формула Греции
ее первого периода: рок еще устрашающе высится здесь,
его власть запечатлена кровавыми знаками, но, одиако,
уже брошен взор в грядущее, предвидящий отдаленную
победу. Понимаешь, что долгие муки титана не пройдут
бесследно для грядущих поколений. Уже возникло нечто,
чему имя — мученическое подвижничество, которое рано
или поздно принесет с собой освобождение. Положение
сторон переменилось: непоколебимость рока обернулась в
жестокость; суд, свершающийся над человеком мысли, об¬
ладает теперь всеми чертами простого мщения; а торжест¬
вующий покой, признак мощи уверенной и не знающей
противодействия» который ранее сопутствовал всем дейст¬
виям рока, перешел отныне от мучителя к жертве. Власть
и Сила9 приковывают к скале Прометея, но они не могут
вырвать у него тайну, которую он скрывает в сердце. Мол¬
чание титана есть первый триумф духа над материей, нрав¬
ственной энергии и свободного разума — над произволом
неумолимой власти. И если раньше читатель покорялся
вместе с героем драмы и повергался ниц перед судьбой, то
в «Прометее» он вместе с ним восстает; и из груди челове¬
ка, способного понять молчание Прометея, прорывается
крик: «Я взойду на твою скалу, я разделю твои муки и
твой подвиг — ибо твои надежды бессмертны, и потомки
поднимут перчатку вызова, которую мы, принося себя в
жертву, сегодня бросаем!»
И потомки подняли ее. Греческая философия сделала
то, чего не могла поэзия*. Предчувствия Эсхила оправдал
• Эсхил написал сОсвобожденного Прометея», но это произведение утеряно.
Немногие оставшиеся фрагменты недостаточны для заключения о его замысле: как
бы сама судьба не дала греческой поэзии оставить нам законченное выражение
незрелой идеи, которую должна была развить лишь философия.
275
ДЖ. МАЦЦИНИ
Эпикур. Когда примерно за три века до Христа он заявил,
что нет закона необходимости для мысли10, то он подвел
итог всей той работе эмансипации, которую вели греческие
философские школы. Восток был преодолен; нравственная
свобода отвоевана; дух изъят из всевластия природы; дви¬
жение, свободное движение, каково бы оно ни было, сме¬
няло отныне бездеятельность слепого подчинения; боги еще
правили, но уже лишь у себя на небе; на земле правил
человек, и между ним и богами не было связующего зве¬
на: разум, добившись независимости, решительно разорвал
свою пуповину. Земля и небо разошлись. Рок был покорен.
Воцарилась личность, а с нею случай.
Однако это была победа отрицания, а всякая реакция
недолговечна. Власть случая отвергла сразу и религиоз¬
ную мысль, и закон, и порядок, и науку, и философский ме¬
тод, и опыт, и точное знание, и — будучи доведена до сво¬
их крайних следствий — связь причин и следствий. Но фи¬
лософия не может жить отрицанием, и, достигнув своей це¬
ли, греческая философия погибла. После того как закати¬
лась Греция, а затем Рим претворил в жизнь ее идею*
и внедрил ее на половине Европы, разум почувствовал не¬
преодолимое влечение к небу. Последний политеизм, как
бы отмщая себя за древнее угнетение, совлек божества с
небес, приковал их к земле. Неприступное единство было
расчленено на части. Почитались тысячи символов, но не
было единого бога. Поэтому разум вскоре устрашился сво¬
его одиночества и возмечтал вновь соединить землю с не¬
бом. Тогда вернулась религиозная мысль; вернулась вера
в активную, влияющую на дела людей высшую силу.
Но царило я. Это я, гордясь своими победами, гордясь за¬
воеванной свободой и сознавая, что развернуты еще не все
аспекты личности, не могло сойти с воздвигнутого самим
собою трона. Битва за нравственную свободу была выиг¬
рана, сражение за нравственное равенство еще и не начи¬
налось. Великая человеческая эпоха вступала в свой вто¬
рой период. Я оставалось центром сферы, направляя свою
* Рим не имел драмы и не мог иметь ее. У Рима не было своей собственной
оригинальной, самобытной идеи: он не открыл ии одного элемента вселенского
синтеза: он лишь развил открытое греками, усовершенствовал, приложил, распро¬
странил, исчерпал идею, которая была программой для Греции. Поэтому Рим имел
свои учреждения, национальную политику, но не имел собственной религии, фило¬
софии, литературы или драмы. Подражания Сенеки не заслуживают названия
драм. И драматические сочинения Энния — тоже подражания грекам.
276
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
деятельность на самого себя. Оно преклонилось перед су¬
дией мира, но само осталось одиноким и разделенным.
Личность признала единство на небесах, но не создала его
на земле. Человек и Бог: таковы были два члена нового
синтеза. Это был синтез средних веков * .
И тогда возродилась драма. Тогда же вместе с драмой,
более кроткий и менее деспотичный, под именем необходи¬
мости вновь явился и рок. Почему среди столь благопри¬
ятных условий средневековая драма возникла так позд¬
но — не очень существенный вопрос. Как из принципа
индивидуальности, который был душой средних веков, с
неизбежностью вытекала необходимость; как личность, уви¬
дев себя наедине с бесконечностью, должна была посте¬
пенно и нечувствительно впасть в неудовлетворенность,
отчаяние достичь одними своими силами цели намеченно¬
го совершенствования; как внедрилась идея необходимо¬
сти, сглаживая неудовлетворенность, оправдывая некото¬
рым образом личность в ее бессилии,— все это стало бы
содержанием слишком долгого рассуждения, да и не важ¬
но для нашей цели. Но важно, что необходимость появи¬
лась в драме как действительный элемент, внедренный в
эпоху, неотделимый от внутренней жизни и мысли своего
времени. Кажется, что все в драме настолько полно ею,
что сам писатель не понимает и не замечает ее.
Шекспир объял в своих драмах период, о котором мы
говорим, как не смог бы лучший из историков. Он писал
в XVI веке, и чудится, что он подстерег и уловил отлетаю¬
щую душу средних веков, чтобы вселить ее в своих геро¬
ев. Драма Шекспира есть драма личности. Личность для
него все, и в искусстве изваять несколькими штрихами
цельный характер, возможно, только Данте, Тацит и Ми¬
келанджело соперничают с ним. Он не вырисовывает, а как
бы отливает свои создания в готовую форму; не вызывает
• Средние века не обладали сознанием человечества. Личность была альфой
и омегой этого периода. Обычаи, законы, политика, все перипетии войны и мира
в ту эпоху свидетельствуют о верховенстве я. Религиозная мысль, хотя она была
очень сильна, особенно в раннем средневековье, не преодолевала индивидуальной
ограниченности, была направлена лишь на личное совершенствование. Подвиг со¬
циальный оказался преждевременным и не удался. Осталось высокое предчувствие,
которому суждено было осуществиться в иную эпоху. И это предчувствие, как
почти все великие предчувствия эпохи, стоящей сейчас на пороге, выразил чело¬
век, душа которого, до сих пор непознанная, была храмом будущего. С Данте
начинается ряд немногих гениев-пророков нашей эпохи; и у Данте почерпнем мы
однажды поэтику и идеи социальной религиозной Драмы будущего.
277
ДЖ. МАЦЦИНИ
в воображении, а творит. Персонажи Шекспира живут и
движутся так, словно вышли из рук бога — жизнью еди¬
ной и разной, сложной и гармоничной. Они не символы аб¬
страктного идеального типа; они не представляют оскол¬
ки творения, опошляя тем божественное создание, не оп¬
ределяют человеческое существо лишь по основной из его
черт, жизнь — лишь по одному главному ее проявлению,
но переносят на сцену жизнь и человека в наиболее дей¬
ствительном, наиболее истинном, наиболее совершенном
образе, какой только дано достигнуть таланту. Ни оттенка,
ни краски не забыто; таинство жизни, существо характе¬
ра проявляются иногда для внимательного взгляда в ма¬
лейшем указании, слове, обороте речи, ничего не говоря¬
щем большинству читателей. В драмах Шекспира царит я
со всеми его видоизменениями, со всеми загадками, со
всеми кажущимися несообразностями, на которые способ¬
но человеческое сердце. Но оно царит не безусловно. Как
и вообще в средние века, в драмах Шекспира тайная сила
правит жизнью личности, идет за ней по пятам и толкает
ее по избираемому самой личностью пути к катастрофе,
которую таит последняя точка этого пути. Нет всеобщего
закона, действующего в коллективном человечестве, нет
социальной религиозной мысли; Шекспир не знает ни за¬
кона, ни человечества в своих драмах; будущее немо на
его страницах, энтузиазм великих принципов ему неизвес¬
тен. Его гений был завершителем, не зачинателем; он вы¬
разил свою эпоху, не возвестил о новой.
И необходимость, которую он нашел в самых недрах
своего времени, незримо присутствует в его драмах, про¬
никнув в них по какому-то волшебству, благодаря искус¬
ству или инстинкту, не знаю. Знаю лишь, что она запе-
чатляет своим отражением равно чело Отелло и Макбета,
горькое безверие Гамлета, точно так же как легкую иро¬
ническую насмешливость Меркуцио; ею светятся лица
шекспировских женщин, божественных созданий, святых
своей любовью, невинностью и смирением, увенчанных
ореолом скорбного предчувствия; она внушает героям Ше¬
кспира рассуждения о человеческом ничтожестве и тще¬
те жизни, столь частое повторение которых оставляет го¬
речь разочарования в юных душах, заглядывающих в про¬
изведения гения как в святилище, чтобы почерпнуть в них
вдохновение и мудрость для зрелых лет. Герои Шекспира,
как и герои Эсхила, — жертвы. Необходимость тайно пре¬
278
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
следует их и отравляет их души, их надежды и саму их
радость неопределенным, необъяснимым чувством неудо¬
влетворенности; так мучит душу воспоминание о непрощен¬
ной вине. Но у Эсхила личность принесена в жертву от
рождения: рок начертывает свое веление еще в материн¬
ском лоне, проклятие отцов тяготеет на сыновьях, человеку
остается лишь свобода более или менее благородно встре¬
тить смерть. У Шекспира — ив этом подлинный прогресс—
свобода жива: какой-то день, возможно, какой-то час от¬
дает жизнь человека во власть необходимости — но в день
этот, в этот час человек выступает свободным хозяином
своего будущего. У Эсхила, как я говорил, рок встает пе¬
ред самой личностью, воздействует непосредственно, без
промежуточных ступеней: существуют лишь он и жертва,
между ним и ею пустота. Иное в драмах Шекспира. Не¬
обходимость царит здесь скрытно, невидимо, действует
лишь опосредствованно, властвует лишь через промежуточ¬
ные ступени, через людей и представления, которые нахо¬
дятся вне личности или, чаще, в ней самой. Орудиями не¬
обходимости выступают страсти; один первый шаг, один
поступок, к которому вынудил человека порыв или расчет
страсти, влечет за собою следующие, и личность подпадает
действию неумолимого психологического закона, того за¬
кона, который Гоббс начертал позднее в начале своей фи¬
лософии 11 . «Нож в сознании», как сам Шекспир говорит
в «Макбете» 12, нудит человека, околдовывает его, сверкая
перед его взором во мраке. Власть небесных сил почти ни¬
когда не выступает непосредственно в шекспировских дра¬
мах. Частые у него фантастические образы, как показы¬
вает внимательное рассмотрение, не выходят из сферы ин¬
дивидуального. Все эти сверхъестественные видения суть
либо простые олицетворения народных предрассудков, ли¬
бо, как Калибан и Ариэль, символы человеческой двойст¬
венности, либо как ведьмы в «Макбете», воплощения че¬
ловеческих страстей. Напротив, у Эсхила Сила, Гермес,
Эвмениды суть прямые, непосредственные представители
Рока, который через них вершит казнь и повелевает. По¬
добные различия значительны; они обозначают два великих
исторических периода и в то же время выдают тайну не¬
сходства драматической формы, выбранной этими двумя
талантами. Как из системы, представляющей идею у Эсхи¬
ла, можно вывести характерные качества его драмы, так
из системы, которая у Шекспира представляет действующие
279
ДЖ. МАЦЦИНИ
силы идеи, вытекают многие необходимые следствия для
драмы, которую критики назвали романтической.
Кратко скажу лишь об одном: рок и необходимость
суть два разных мира. Рассмотрение этих двух фор¬
мул отношения между небом и землей, выраженных
в драме Эсхила и шекспировской драме, потребовало
бы совсем другого хода рассуждения, которым мы не
можем теперь заняться; достаточно будет пока отметить,
что рок и необходимость, во многих отношениях столь
различные, сближаются, однако, в том, что оба равно не ви¬
дят или не выражают человечества, оба направлены исклю¬
чительно на личность и оба поэтому с необходимостью
убеждают в бесполезности отдельного деяния для вселен¬
ских судеб, в бесполезности жертвенности, бесполезности
жизни, которая, не будучи жертвенным подвигом, делается
пустой или хуже, чем пустой. По теории, вытекающей из шек¬
спировской драмы, человек в силу того, что он знал по
меньшей мере миг свободы, становится заложником соб¬
ственных поступков — но лишь перед богом, не перед бра¬
тьями, которыми бог окружил его; и никакое искупление
никогда не приносит пользы никому, кроме самой лично¬
сти, и не может возвыситься до величия подвига. И жизнь
и смерть совершаются внутри круга, который каждая лич¬
ность и каждое поколение в свою чреду проходит в тру¬
дах и заботах, исчезая подобно призраку, так что никто не
имеет права в свой смертный час завещать другому слово
утешения и совета: «Поднимись на шаг к богу живых и мер¬
твых; моя гробница станет тебе ступенью лестницы, веду¬
щей к небу». Нет, могила, в которую уходят люди и по¬
коления, у Шекспира вечно нема. Традиция человеческого
рода — одно, что сообщило бы ценность поступкам личнос¬
ти, одно, что могло бы связать небо и землю без приниже¬
ния человеческих сил, без уничтожения свободы,— не про¬
тягивается цепочкой от гробницы к гробнице. Нет общей
цели, нет прогресса. Одиночество при жизни, одиночество
после смерти. Шекспир понимал пустоту одинокой души,
понимал бесполезность жизни там, где вера в прогресс
не связывает ее с другими жизнями, — и выразил это во
многих местах, подобных тому, где он с горечью восклица¬
ет, «Жизнь есть лишь шальная тень»:
Жизнь — лишь шальная тень; игрок негодный,
Что час на сцене свой кричит, толчется
И вот — не слышен боле; это басня
280
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
бессмысленная, с бешенством и жаром
рассказанная дурнем...
«Макбет» 13
Нет, человек создан не для того, чтобы сыграть роль
безумца, который в тягость себе и бесполезен другим; а
если жизнь есть тень, то, когда она озарена самопожертво¬
ванием, это тень бога.
Ушел Шекспир, а вместе с ним драма — говорю о дра¬
ме на ее высшей ступени, о драме органической, создающей
школу, отражающей в себе очертания эпохи, воплощаю¬
щей в театре господствующий характер, жизненную сти¬
хию целого периода цивилизации. Подобная драма суще¬
ствует лишь там, где есть религиозная идея, а религиозная
идея после Шекспира все более слабела и сходила на нет.
Я восстало против необходимости, как некогда оно восста¬
ло против рока. Оно повторило ради нравственного равен¬
ства тот долгий труд, который совершил греческий гений
ради свободы. И когда оно почувствовало себя в силах до¬
вести этот труд до конца, оно вернулось к идее безгранич¬
ного и безусловного освобождения и произнесло формулу
не менее величественную, чем формула Эпикура, по дер¬
зости отрицания: «Лишь права личности составляют закон
человеческого существования». Эта формула прав была вто¬
рой, которую человек бросил всепожирающему сфинксу,
возродившейся тайне вселенной. Первая была лишь про¬
возглашением независимости, вторая предвещала победу.
Первая отделила Землю от Неба, со второй человек в оди¬
ночку возжелал овладеть тайной неба, разгадать собствен¬
ными силами цель, для которой его призвал бог. И он вос¬
торжествовал везде, где это только было возможно. Он раз¬
рушил царство необходимости, отвоевал в промежуток вре¬
мени, обнимающий XVI, XVII и XVIII века, нравственное
равенство. Идея личности одержала полную победу. —
Здесь человек остановился. Далее начинался бог, беско¬
нечность, к которой стремятся души, вселенная, дольнее
отражение божества, социальная мысль, средоточие этой
вселенной. Разум блуждал у этих пределов в ярости и
ожесточении, не будучи в силах их перейти. Формула
прав, возведенная в единственный закон, уничтожала долг.
Но идея долга неотделима от социальной идеи, как эта по¬
следняя — от вселенского разума. Бог, Долг, Социальная
идея — вот три необходимо связанные величины, три поня¬
тия, остающиеся загадкой, если неизвестно хотя бы одно
281
ДЖ. МАЦЦИНИ
из них. И они остались непознанными; мятеж разума не
удался или оказался бесполезным. Философия собрала всю
смелость дерзания и провозгласила с Фихте: «Я равно
Богу». Тщетно. На этот бессильный вызов вселенная отве¬
тила ироническим смехом; она продолжала стоять недвиж¬
но, нерушимо и неизменно между двумя членами этой
формулы. Человеческое я встало лицом к лицу перед бо¬
гом, но не слилось с ним, не смогло воплотить свой иде¬
ал в реальности. И тогда возвратилось безверие, возвра¬
тилась неудовлетворенность и бездеятельность. Раздирае¬
мый своими стремлениями, для осуществления которых
ему недостает средств, идеей непосильной миссии и не¬
удовлетворенной тоской по небу, разум распят в наше вре¬
мя в тревоге и муке, то с мольбою устремляя взоры к бу¬
дущему, которого ему не удается достичь, то стеная, при¬
чем в стоне этом слышатся страдание и угроза скованно¬
го цепями льва; ветры рассеивают и стон и слова моль¬
бы. И драма, повторяющая историю разума, безуспешно
испробовав все пути избавления, превратившись в мозаику
античных и современных форм на французских сценах *,
измельчала в подражательстве всевозможных школ, на¬
правлений и манер, почти всегда оставаясь рабыней пред¬
взятых и деспотических правил, никогда не выходя из пре¬
делов ограниченной философии индивидуализма,— дра¬
ма безмолвствует, когда я пишу эти строки, и ждет гения,
который возродит ее. Среди немногих писателей, прида¬
ющих драматическую форму своим произведениям, иные
намеренно или незаметно для самих себя тонут в материа¬
лизме замысла, средства и выражения, отнимающем у ис¬
кусства всякое воспитательное воздействие; другие, под
влиянием врожденной потребности в вере, которая обра¬
* «Аталия», «Сид* 14 и очень небольшое количество других пьес — прекрас¬
ные драматические произведения, но они еще не составляют оригинальной драма¬
тической системы или школы. Вообще говоря, французская драма есть почти
всегда подражание, причем подражание античности; если даже, что случается
весьма редко, ее замысел оригинален, его удушает форма, отставшая вот уже на
две тысячи лет. Критика Августа Шлегеля («Лекции о драматической литерату¬
ре») при всей своей суровости кажется мне почти всегда верной и обоснованной;
суди, читатель. Не могу сказать того же по поводу фанатического восхищения,
расточаемого его братом (Фридрихом Шлегелем) перед испанским театром и
Кальдероном. Дух испанского театра национален, Кальдерон великий талант; но
ни он, ни этот театр не есть полное выражение жизни народа, эпохи или идеи.
Правда, в Испании, как и в Италии, драма была подвержена давлению совсем
иной силы, чем французские школы и академические традиции.
282
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
щается к прошлому, когда бывает обманута настоящим,
пытаются вернуть жизнь року древних. Весь крестовый по¬
ход романтиков породил лишь несколько исторических
сцен, несколько драматических красот и находок, но не
желанную драму. Возможно, единственный, кто проклады¬
вает во Франции новые пути, — это Виньи со своим «Чат-
тертоном»; и единственный известный мне итальянец, по¬
дающий признаки подлинного драматического таланта и
обещающий многое в будущем,— лишь бы сердце его, ко¬
торое всегда жило единством, прониклось идеей надвигаю¬
щейся эпохи и он не дал бы своему вдохновению соблаз¬
ниться слишком объективной поэзией эпохи уходящей —
это молодой автор «Алессандро де Медичи» из Генуи*.
Я упоминаю о нем потому, что итальянская критика, кото¬
рая так мало говорила о «Чаттертоне», не уделила ему
вообще ни слова.
И вот сегодня нет драмы, ибо нет Неба. Рок бессилен;
бессильна необходимость. Теогоническая драма забыта со
времен Эсхила; драма индивидуальности исчерпана Шек¬
спиром. Распалась цепь, связующая конечное с бесконеч¬
ным, мысль драматических писателей блуждает в пустоте
без центра притяжения, без единого и высокого замысла,
который дал бы меру и ценность изображаемым человече¬
ским поступкам. Поэтому нет цели; поэтому нет ни увле¬
кательности, ни борьбы, ни драматического критерия. И
пока эта растерянность длится, ждать чего-либо от драмы
нелепо. Долго ли продлится она? Надо верить: недолго.
Наступило время вновь подняться к небу. Старое поко¬
ление, возможно, умрет в анархии — но новое взрастает
для веры и не покинет сцену ранее, чем вернет ее себе.
Наступило время вновь подняться к небу — но не с тем,
чтобы, как в эпоху рока, сложить человеческую свободу у
ног бесконечной силы, и не с тем, чтобы истощить ее, как
в эпоху необходимости, в кругу бесцельных и бесследных
индивидуальных усилий. Ни та, ни другая система возро¬
* Дж. В. Гнльонс. Когда я писал, это был юноша редкого таланта, подавав¬
ший прекрасные надежды, которые рассыпались прахом из-за ложного понимания
нм обязанностей словесности и раннего необъяснимого отклонения от устремлений,
которым он следовал в первые годы нашего изгнания. Он написал в тот первый
период для «Итальянца», нашего литературного издания в Париже, драматиче¬
скую легенду под заглавием «Не властен ум над сердцем», которая заслуживает
переиздания; затем он умолк. Он остался верен в своих поступках юношеским
мечтам; в 1848 году он сражался в Ломбардии; я встретил его раненым в Риме.
283
ДЖ. МАЦЦИНИ
дить драму уже не способна. Первая может создать тра¬
гический момент, но не трагическое действие, вторая ли¬
шает искусство какой бы то ни было благородной цели и
обрекает его на материализм; первая перечеркивает чело¬
века, вторая искажает его природу, отвергая его социаль¬
ное призвание, единственное, что возвышает человека над
другими живыми существами; первая разрушает всякую
идею добра и зла, вторая превращает добро и зло в вечный
дуализм, вечную борьбу с переменным успехом — но и та
и другая, отрицая традицию человеческого рода и всякую
преемственность опыта, обнимает лишь один из элементов
развертывающегося в эпохах вселенского синтеза и нару¬
шает тот вечный закон искусства, о котором мы говорили
в начале нашей статьи. Наступило время породнить зем¬
лю и небо, воссоединить конечного человека и бесконеч¬
ную мысль, посвятить человеческую свободу богу, пожа¬
ловать, если можно так выразиться, человеку до сих пор
оспариваемый у него вселенский сан,— словом, соединить
в единой формуле веры оба члена синтеза, которые до
сих пор раздельно противостояли друг другу. Зарождается
эпоха разума, и эта эпоха охватит обе предыдущие, чтобы,
опершись на них, решительно шагнуть вперед к познанию
бога, высшего элемента всякого человеческого синтеза. На
развалинах двух миров, о которых мы говорили до сих
пор, разум воздвигнет третий мир, который разрешит за¬
гадку Прометея 15 и примирит великий спор. Немногие из¬
бранники начали предчувствовать его уже полвека назад;
выражениями этого предчувствия вдохновляются сегодня
наиболее сильные умы, утешаются страждущие души, в
них черпают веру сердца, мучимые любовью и религиоз¬
ной страстью. Ангел жертвы благословит их безмолвные и
неоцененные страдания, и над могилой, куда они сойдут
ранее других, взойдет, улыбаясь поколениям, звезда бес¬
смертных надежд.
«Возможно, — подумали они, — все труды оказывают¬
ся бесполезными потому лишь, что проистекают из наме¬
рения отвергнуть или преодолеть некую остающуюся не¬
понятой высшую силу, которая проявляется в каждый пе¬
риод истории и от которой человек не может уйти, не впа¬
дая в безверие и пустоту; возможно, упрямое соперничест¬
во личности с силами вселенной, когда сама свобода лич¬
ности есть, по-видимому, лишь добытая в борьбе свобода
гармонически слиться с этими силами, есть безумие; воз¬
284
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
можно, соглашение между двумя этими началами, свободой
и необходимостью, которые через ряд преобразований, по¬
следовательно упрощаясь, превратились теперь в начало
индивидуальное и начало социальное, есть единственный
путь, который мирно приведет к открытию смысла нашей
жизни и к сознательному осуществлению наших судеб. Сво¬
бода вечно жива в личности, и ею нельзя пожертвовать,
не убивая вместе с нею нравственность и ответственность
за свои поступки. Но свобода не есть анархия. Душа все¬
ленной есть божественная идея; она тоже бессмертна, и
она выше всякой личности; свобода, нравственность, от¬
ветственность суть лишь пустые слова, если нет нормы, за¬
дающей им меру и служащей критерием, основой для оцен¬
ки действий. Итак, существует закон — цель — миссия —
долг. Задача в том, чтобы согласовать эти идеи со свободой.
Эпикур и Гоббс ошиблись оба; оба виновны в том, что,
исказив человеческую природу, они сказали ложь о ней.
Над двумя их системами возвысится третья, третья форму¬
ла обнимет две предыдущие и сочетает их в гармонии!»
Уже известно, и нет смысла здесь говорить, как от этих
первых догадок разум поднялся к идее человечества, а от
нее к закону непрерывного прогресса, которого человечест¬
во есть исполнитель. Десять лет исторических исследова¬
ний, построенных на этой основе, труды многих философ¬
ских школ, ученых, которые во всех почти отраслях эн¬
циклопедического дерева искали подтверждения этой идеи,
вдохновенное единодушие молодого поколения, особенно
же многочисленные свидетельства бессилия всех других
средств, которыми пытались излечить нравственную немочь
и бесплодие современного ума,— все это придало роб¬
ким догадкам характер твердого убеждения. Пусть смутно
и неполно, мир уже осознает сегодня новую формулу, над
которой трудится век, и этого достаточно, чтобы вся лите¬
ратурная деятельность приняла единое направление; мир
осознает закон прогресса, правящий делами человеческими,
и этого достаточно, чтобы драма стремилась отразить его;
третья идея, идея провидения, высится над идеями рока
и необходимости, и этого достаточно, чтобы люди, желаю¬
щие истинного возрождения драматического искусства,
сделали эту идею целью своих усилий и привели в согла¬
сие с нею все свои мысли.
Драма Провидения — драма, отразившая бы сознание
человеческого рода, сохранившая бы верность и силу в
285
ДЖ. МАЦЦИНИ
изображении индивидуальности и в то же время нашедшая
бы способ вернуть индивиду связь со вселенским замыс¬
лом, которого личность является лишь свободным исполни¬
телем, нашедшая бы и преподавшая в исторической дей¬
ствительности истину, в реальном событии — принцип, в
отдельном поступке проследившая бы всеобщий закон эпо¬
хи, и над ним закон человечества, и над ним Бога, движи¬
теля всех эпох и отца человечества, драма, которая поста¬
вила бы на место гнетущего и порабощающего рока воз¬
вышающую и облагораживающую миссию, а искупление,
лишь снимающее вину, заменило бы достойным награды
подвигом самопожертвования,— такая глубоко религиозная,
высоко воспитательная социальная драма, настолько же
более широкая по своему размаху и замыслу, чем шекспи¬
ровская драма, насколько идея человечества громаднее
идеи индивидуальности, возникнет вместе с предчувствуе¬
мой новой эпохой и станет путеводной звездой для всех
юных талантов, вступающих с надеждой новых достиже¬
ний на пути искусства.
И пусть образ Шиллера, предвестника этой драмы, сто¬
ит перед ними, вдохновляя их на труд; пусть его драмы,
слава которых будет расти ио мере того, как век будет
становиться более достойным его великой души, читаются
и перечитываются ими с благоговением, и не как образец
для рабского подражания — ибо даже и перед гением мы
не должны быть рабами, — но как призыв к дерзанию и
бодрости и как свидетельство того, что нужно иметь силь¬
ную душу, бога в своем сердце и человечество в своих ду¬
мах, чтобы возвеличить родную землю и высоко поднять¬
ся на поэтическом небосклоне. Ибо Шиллер, даже видя
наше иадение, сберег святость души, веру в бога и надеж¬
ду на будущие судьбы человечества. Ему от бога был дан
гений, вознесший его на такую высоту, где он до сих пор
остается одиноким, и открывший ему небо провидения.
Шиллер есть поэт провидения и надежды. Его небо без¬
брежно, безмятежно, солнечно, как небо Италии, и если
даже его омрачают несчастье и страдание, в нем остает¬
ся звезда, светящая среди бури и побеждающая страдание
и несчастье: ибо в драмах Шиллера первое очищает, вто¬
рое возвышает. Если зрелище, развернутое перед вами Эс¬
хилом, вызывает желание сопротивляться, благородно
встретить гибель, если произведения Шекспира учат с
презрением смотреть в глаза и жизни и смерти, то LIIил-
286
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
лер вдохновляет на великие дела и на самопожертвова¬
ние. Вся религия самопожертвования уже содержится в
нем. Эта великая социальная идея, которая составляет
таинство нашей эпохи, есть душа его драм. В них — благо¬
говейное предчувствие поэзии будущего, поэзии — воспи¬
тательницу человеческого рода. Отдав в своих «Разбой¬
никах» и «Коварстве и любви» дань эпохе, которая была
еще в полной силе, Шиллер сделал решительный шаг впе¬
ред, вступил в новый мир, посвятил себя поэзии зарожда¬
ющейся веры, стал жрецом искусства, призванного однаж¬
ды освободить Прометея от его цепей и увенчать его неувя¬
дающим венцом, который провидение готовит для мучени¬
ков мысли, но сплести который по силам лишь всему че¬
ловечеству, не отдельной личности. Предугадывая и обни¬
мая своей любовью человечество — столь мало еще поня¬
той сегодня любовью, которая когда-то освятит всякую дру¬
гую любовь, возвышая душу горящего ею до забытой теперь
религиозной идеи, — он предугадал союз между индиви¬
дуальностью и социальной мыслью, между свободой и за¬
коном вселенной. Человек у Шиллера свободен: свободен
и могуч той мощью, о которой не могли и подозревать ни
древние, ни Шекспир. «Звезды его судеб, — как говорит
поэт, — светят в его сердце». Но вместе с тем мы чувству¬
ем, что, если человек и способен обмануться и отвратить
от звезды свой взор, он не может ни погасить ее, ни унести
с собой в могилу ее луч; мы чувствуем, что если в нем
было величие и он посвятил свою жизнь служению святой
идее, он может пасть в борьбе, но смерть для него есть
лишь смерть тела, распадение одной из форм жизни, ду¬
ша же будет вечно жить в идее, и что если он был дурен
и запятнал себя грязью индивидуальных страстей, восста¬
ющих в эгоистическом бунте против социальной мысли и
закона вселенной, он умрет, но не умрет идея, ибо прови¬
дение следит с высоты за исполнением своего закона, и
даже направленные против него деяния, преступно исполь¬
зованную силу и временную победу зла оно превратит в
элемент общего прогресса, служащий воплощению того
замысла, который бог доверил своему творению.
В этом дыхании провидения, незримо веющем от шедев¬
ров Шиллера, заключен главный секрет того влияния, ко¬
торое он оказывает и долго будет оказывать на души своих
читателей. Здесь и покой, но не покой бездействия или
бесплодного смирения, а покой уверенности, поднявшейся
287
ДЖ. МАЦЦИНИ
выше всех превратностей судьбы; здесь и религиозное на¬
строение, которое очищает и возвышает мысль, возвращая
ее к своему источнику, оживляя ее энтузиазмом и поэзией;
здесь и благоговение перед всем великим и обещающим
стать великим во вселенной, но не восточное, не чисто со¬
зерцательное благоговение, а деятельное, европейское —
словом, здесь чувство мужественной и открытой любви,
культ великих дел, а не пустых молитв. Поэзия Шиллера
закаляет и бодрит. Чтение его молодит и удесятеряет жиз¬
ненные силы. Не это ли аромат земли обетованной? Не
звуки ли отдаленного ангельского пения проносятся над го¬
ловой его драматических созданий, жертвенно отдающихся
страданиям и несчастью,— звуки, подобные музыке небес¬
ных арф, среди казней достигшей слуха первых мучеников
христианства?
Возможно — если эта наша попытка драматического
перевода и драматической критики будет благосклонно при¬
нята в Италии, — в одном из других изданий, подобных
этому, нам вновь случится говорить о Шиллере и о драме
провидения, первые строки которой он начертал. Пока же
пусть то немногое, что здесь было сказано, поможет по
крайней мере привлечь внимание наших критиков и, что
важнее, нашей молодежи к элементу веры, который должен
сделаться основанием драмы будущего, заставив их на¬
сторожиться против всякой попытки оживить умерший дог¬
мат греческого рока и перестроить на его основе театр.
Однажды отброшенные верования не могут ожить; не мо¬
гут они и оживить. Жизнь для нас в будущем, не в прош¬
лом. Я знаю, что высказанные мною здесь догадки об искус¬
стве и драме будущего одним покажутся несвоевременными
и неосуществимыми, другим не ясными, темными, недоста¬
точно определенными и трудно приложимыми. Скажем по¬
ка и тем и другим, во-первых, что драма, о которой до сих
пор здесь говорилось, есть и на самом деле удел лишь
подлинных гениев искусства, и, хотя мы не оспариваем у
менее сильных умов права испытывать на пользу и к удо¬
вольствию читателей менее дерзновенные тропы, Шек¬
спир новой эпохи пойдет по этому, и только по этому пу¬
ти, и, во-вторых, что задача критика в том, чтобы указы¬
вать драматическим писателям общие нормы и единую
цель, а задача драматических писателей в том, чтобы дер¬
зать и на деле показывать, как применять такие нормы и
достигать этой цели; я же пишу не драмы, а критику.
288
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
В том, что касается писателей, критика ведет, но не
руководит; она предваряет, а не исполняет. Но критика в
наше время имеет и другую важнейшую задачу: готовить
общество, среду, народ для понимания поэта; а это невоз¬
можно без исследования наклонностей, страстей и скрытой,
неизвестной или мало осознанной веры этого народа. По¬
этому неизбежна здесь неопределенность, неокончатель-
ность: ведь критика говорит о мире, еще не покинувшем
субъективную сферу. Воспитующая критика должна выве¬
сти из развалин старой идеи новую и предложить ее по¬
следнюю формулу — а там будь что будет. Возможно, вре¬
мя этой последней формулы придет не скоро, но если толь¬
ко она истинно выражает мысль эпохи, неважно, когда и
кто поймет или примет ее. Меж тем нужно, чтобы к ней
были направлены все стремления, чтобы к ней былм при¬
кованы взоры и чтобы души были готовы приветствием
встретить свет восходящей звезды. Гений, как звезда, взой¬
дет лишь над подготовленными множествами, не ранее.
В жизни эпох, как в библейском бытии, бог сначала раз¬
ливает свет над бездной, затем водружает солнце, сияю¬
щее с высоты небес.
10-6342
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
В последние годы в Англии
как бы забыли о существовании Италии. И в политике и в
литературе англичане сейчас заняты другим; и заметив все¬
общее молчание печати об этой несчастной стране, можно
подумать, что всякий след духовной и социальной мысли
растаял в ней вместе с неисполнившимися надеждами 1831
года *. С тех пор в Италии были сделаны смелые и значи¬
тельные попытки восстания, и газеты кратко упоминали об
эшафотах, снова воздвигнутых в Генуе, в Шамбери, в
Алессандрии 2. Но, не затрудняя себя рассмотрением источ¬
ника этих попыток, их сочли новым доказательством не¬
способности Италии к возрождению, вместо того чтобы в
их постоянном возобновлении и значительно изменившейся
цели3 увидеть признак жизнеспособности и прогресса.
Меж тем важные работы, опубликованные в Италии о
различных предметах за последние десять-двадцать лет, рав¬
но как многочисленные свидетельства иного рода, обнаружи¬
вают здесь если не положительный прогресс, то по край¬
ней мере перемены к лучшему. Правда, и свидетельства
эти и книги прошли незамеченными. Критика молчит о на¬
шей современной литературе, и слово «Италия» вызывает
у нее разве несколько вспоминаний о великом прошлом.
Немногие имена оказались достаточно громкими, чтобы
преодолеть это равнодушие. Мандзони, Пёллико, реже
Гросси и Никколини, среди историков Ботта, среди филосо¬
фов истории и права Романьози удостаиваются, не скажу,
заслуженного внимания, но по крайней мере почтительно¬
го упоминания со стороны тех, кто говорит о нас; они ока¬
зались >как бы единственными представителями нашей ли¬
тературной жизни в XIX веке. Вне их — словно пустыня.
Франция с легкой руки своих поэтов считает, что Италия
290
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
мертва. Что касается англичан, то кажется, будто жизнь и
смерть Италии для них равно безразличны.
Нет, пять или шесть перечисленных здесь имен ни в ко¬
ем случае не составляют всей нашей интеллектуальной
жизни; Италия не столь безнадежно закоснела, как пред¬
ставляется критике. Признав же, что у нас существует дви¬
жение таланта и мысли, пусть скованное, нужно изучить
его черты, его тенденции, его направление. Подобное ис¬
следование не сочтут бесполезным умы, способные состра¬
дать угнетенному, но не погибшему народу, который насчи¬
тывает двадцать шесть миллионов человеческих существ и
который дважды в истории дал Европе единство, сперва в
лице Римской империи, затем — в лице католического и
папского Рима. В этом исследовании нас недалеко уведут
те несколько имен, в лучшем случае они покажут нам, что
в Италии, как и везде, знание есть сила, но они не откро¬
ют нам тайны итальянского духа. И, не колеблясь, я сразу
окажу, что они скорее принадлежат прошлому, чем сегод¬
няшним чаяниям и будущему. В такой стране, как наша,
где благодаря двойной тирании Австрии и папы не сущест¬
вует прямого влияния народа на писателей, слава немно¬
гих личностей, каким бы талантом они ни обладали, не мо¬
жет раскрыть нам думы и сокровенные желания большин¬
ства. Об этом нам лучше поведают более многочисленные
и разнообразные книги менее крупных талантов, не столь
отошедших от масс, равно как и прямые проявления кол¬
лективного духа, когда их возможно обнаружить. О движе¬
нии нации нельзя судить по исключениям.
Я не -берусь заполнять указанного пробела. Чтобы сде¬
лать это, мне пришлось бы вернуться к нашим забытым
или непонятым мыслителям XVI века, к их теориям возво¬
дя традицию, которую теперь, по моему убеждению, про¬
должает духовное движение Италии. Не будучи, однако, в
состоянии сделать этого, я ограничусь тем, что прослежу
события, происшедшие в литературе начиная примерно с
1830 года, надеясь лишь подготовить почву для того иссле¬
дователя, который и захочет и сможет взяться за более
основательный труд. Поэтому нижеследующие страницы —
лишь заключение еще не написанной книги.
Взяв своей отправной точкой 1830 год, я не хочу ска¬
зать, что именно в этом году духовная жизнь Италии пе¬
режила новый мощный литературный подъем. События
внешние и внутренние, кризис 1833 года и другие причины
291
ДЖ. МАЦЦИНИ
отвлекли в то время внимание от литературы. Не изменил¬
ся со своей стороны и основной характер прежнего лите¬
ратурного движения. И то, что французская революция
1830 года не оказала большого воздействия на судьбы
Италии, было удачей для страны. В этом политическом со¬
бытии не было ничего нового, оно следовало давно приз¬
нанным принципам, истинам, .которые победили еще в 1789
году, хотя позднее монархия отняла их у народа. Итальян¬
ский ум не мог поэтому почерпнуть здесь для себя новой
жизни.
Во Франции события 1830 года не произвели в области
литературы ничего, кроме гибели романтизма. Однако в
Италии романтизм, эта, возможно, чересчур резкая реак¬
ция против литературного символа XVIII века, поднял свое
знамя в «Кончилиаторе» еще за несколько лет до появле¬
ния парижской «Глоб» и даже — если не считать элемен¬
тов романтизма в книгах мадам де Сталь — вообще до
появления во Франции романтической литературы. К
1830 году эта переходная литературная форма уже не су¬
ществовала в Италии. Пустота, оставленная ушедшим ро¬
мантизмом во французской словесности, уже давно ощуща¬
лась в нашей. Литература этих двух стран проходила оди¬
наковые ступени развития, но не в силу взаимного влия¬
ния, а по логике вещей. И там и здесь жила потребность
литературы органической, положительной, трудящейся во
имя социальной щели, более высокой и полезной, чем ис¬
кусство само по себе. Разве что потребность эта, будучи
открыто выражаема во Франции, создала здесь литературу
промежуточную, колеблющуюся между надеждой и отчая¬
нием, тогда как в Италии подобное выражение оказалось
невозможным ввиду политического угнетения; впрочем, да¬
же и в этих условиях немногие наблюдаемые нами призна¬
ки жизни свидетельствуют о тенденциях, из которых сло¬
жится будущее.
Итак, если я избираю начальной точкой своих ретро¬
спективных заметок 1830 год, то это потому, что тогда со¬
вершенно явственно обозначилась пустота, о которой я го¬
ворю, и начался переход от завершившегося периода лите¬
ратуры к другому, зарождавшемуся.
В 1828 году умер Монти4, а в 1830 году уже казалось,
что над его могилой протекли десятилетия. У него не на¬
шлось преемника. Возглавлявшаяся им поэтическая школа
стремительно лала без борьбы и протеста, словно осознав,
292
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
что дело ее завершено. В своем падении, словно в свиде¬
тельство собственной жизненности, она увлекла за собой
последние остатки пустой, бесплодной, раболепствующей
Академии, против которой яростно боролся Монти и 'кото¬
рую опрокинул при своем первом появлении романтизм.
Родившись в эпоху, когда Чезаротти, Альфиери и Парини
вдохнули новую жизнь в каждую из ветвей литературы,
возросши как поэт среди тех революционных движений, ко¬
торые вырвали несколько реформ у королей Италии, дали
свободу Америке, а во Франции постепенно расширялись,
чтобы позднее проявиться во всем своем разрушительном
величии, Монти вышел на поэтическую арену со всем дер¬
зновением преобразователя. Он много сделал для литера¬
турной эмансипации; он потряс тиранию академий и так
называемой классической школы, школы рабского подра¬
жания, которая не понимала классиков, не смея следовать
им, подражала подражателям и предписывала произволь¬
ные и педантские каноны для каждого поэта и каждой
мыслимой темы. Монти владел ясным, великолепным, сво¬
бодным от аффектации стилем, и он на своем примере по¬
казал, что язык поэзии может быть высок своей силой, ие
взбираясь на ходули. Кроме того, приводя стиль в согла¬
сие с темой, он научил нас, что каждой мысли отвечает оп¬
ределенная форма. Если Манфреди, Ролли, Лаццарини и
Дзанотти5 искали вдохновения для обновления поэтиче¬
ской выразительности у Петрарки, Монти с той же целью
обратился к Данте и нашел у него энергию, силу, чувство
художественного образа и жизнь. Но для идеи, для духа,
для поэтической сути он сделал очень мало. Служа скорее
чувствам, чем подлинной чувствительности, сильный более
воображением, чем сердечным знанием, мягкий и нереши¬
тельный но натуре, лишенный и глубоких идей и чистой и
святой веры, он охватил лишь одну сторону жизни, сторо¬
ну объективную. Он предал искусство во власть чувства
и фантазии и превратил его в зеркало, в котором предме¬
ты, поставленные перед ним жизнью, отражались один за
другим, облекаясь в волшебные краски, но не приобретая
единства и взаимосвязи. Он послушно впитывал все влия¬
ния, шедшие к нему из внешнего мира, каковы бы ни были
их природа и источник. Он живописал действительность,
никогда не преобразуя ее и не возвышая ее до идеала; он
изображал лишь формы, будучи уверен, что создает жи¬
вые человеческие существа. Герои его стихотворений все
293
ДЖ. МАЦЦИНИ
подобны теням: у них недостает души, определенного ха¬
рактера, отпечатка, составляющего индивидуальность. Но
что есть поэзия, если она не представляет нам индивиду¬
альных типов или всеобщих истин, насыщенных возможно¬
стями приложения? Поэтому Монти не обновил поэзию:
благодаря ему омолодилась форма, но дыхание истинной
жизни не наполнило ее. Славу ему принесли ритм, коло¬
рит, гармония, но не способность служить человечеству, до¬
стичь возвышенной социальной цели. Искусство было для
него не средством, а целью. Но средством, а не целью бы¬
ло искусство для Данте, которого он называл своим учи¬
телем; и потому горькой иронией, а не обдуманным суж¬
дением звучит станс Мандзони:
Приветствую тебя, о божественный, кому дала природа
Сердце Данте и песнь его вождя;
Таков будет возглас будущей эпохи;
Но эпоха, которая была твоей, говорит тебе
это в слезах 6.
Данте не стал бы льстить попеременно то папе, то им¬
ператору, то Австрии, то революции. Данте не принес бы
искусства в жертву внешним чувствам — он боготворил в
нем ангела, на крыльях которого поднимался к небу, что¬
бы принести оттуда истину, необходимую его братьям, из¬
гнанникам на земле, как и он. Данте основал школу, кото¬
рая в наше время имеет мало последователей, но которая
воссияет как пророчество и путеводная звезда, когда Ита¬
лия, восстав, сделается Нацией. Если не считать немногих
подлинно вдохновенных лирических образов, нескольких ве¬
ликолепных по совершенству формы фрагментов и одной-
двух песен «Маскеронианы», среди потомков у Монти оста¬
нется только слава виртуозного трубадура. Основанная им
школа, которая в своем культе формы и отрицании социа¬
льной цели уже заключала семена того, что теперь во
Франции называют школой «искусства для искусства», с
1830 года не существует. Она насчитывала длинный ряд
подражателей, среди которых лишь один, Чезаре Аричи7
из Брешии, заслуживает упоминания. Изобретательный
версификатор, но без тени оригинальности, Аричи смирил¬
ся и вообще перестал заботиться о чем бы то ни было, кро¬
ме формы, с тех пор как Фосколо, разбирая его белые стихи
на смерть Джузеппе Тренти, доказал ему, что у него нет
294
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
ни одной мысли. Уже известный в Италии своей «Пастора¬
лью», мозаикой из подражаний древним, написанной на
превосходном итальянском языке, он в 1833 году напечатал
«Ключи», поэму, предназначенную для читателей, которые,
не ища ни мысли, ни оригинальности, способны восхищать¬
ся холодной простотой и правильностью стиля. За послед¬
ние шесть лет не появилось ни одного писателя, который
представлял бы школу Монти.
В последние годы жизни Монти был свидетелем зарож¬
дения романтизма. Пробудив стремление к нововведениям,
он сам подготовил ему путь, даже не подозревая, однако,
что всякое изменение формы должно рано или поздно вы¬
звать изменение и содержания. Но молодое поколение
уже начинало понимать то, что осталось неведомым Мон¬
ти. Юность увидела, что, хотя отдельные звенья цепи раз¬
биты, разум еще не завоевал всей свободы, на какую имел
право. Он лишь взбунтовался в своей тюрьме, за пределы
которой поэзия еще не смела распространять свое дейст¬
вие. Она видела небо — но сквозь зарешеченные окна, при¬
роду—но как бы в зеркальном отражении, вселенную —
но скрытую завесой, лишь краешек которой то тут, то там
она имела право приподнять. Школа Монти, основываю¬
щаяся на той мысли, что поэзия есть подобие живописи,
обрекала искусство на материализм: она передавала об¬
разы образами и не шла далее; она блуждала в мире сим¬
волов, не улавливая их смысла. Новое поколение хотело
иного. Вступив на путь свободы, оно решило достичь ее
целиком и с истинно революционным духом поднялось на
завоевание своей независимости. Юность вела бой со всеми,
повсюду, где только появлялись препятствия для свободы.
Она .провозгласила, что все существующее —красота, буд¬
ничная жизнь, прошлое, настоящее, идеальное, реальное,—
все принадлежит к области искусства; что поэзия имеет
право не только описывать -природу, но и толковать ее;
что отныне и навсегда ее главными предметами должны
стать человек и природа, а ее единственными законодателя¬
ми— гений и вкус эпохи. Тогда пришел конец всем огра¬
ниченным системам, которые строились на непререкаемом
авторитете прошлого. Монти увидел, что его перегнали, и
частью из гнева, частью из-за непонимания неотвратимых
тенденций времени он возвысил слабый и дрожащий голос
против реформаторов, которые казались ему сеятелями
анархии и варварства. Он писал жалкие стихи в защиту
295
ДЖ. МЛЦЦШП!
той самой мифологии, которую в свои юные поэтические
годы осуждал,— например, в своем посвящении «Барду
Черного леса» 8. Но никто не слушал его, и работа разру¬
шения не остановилась. Он завернулся в плащ и молча
умер.
Сделавшись хозяином положения, романтизм мог быть
уверен в своей победе. И победа была достигнута, но побе¬
да бесплодная и бессмысленная. Сражение закончилось
отрицанием всех и вся; тирания прошлого была разруше¬
на безвозвратно — но будущее, будущее, без -предчувствия
которого невозможна истинная поэзия, осталось непонят¬
ным для романтиков. Не имея определенной теории, гла¬
венствующего принципа, словом, не имея веры, нельзя по¬
строить ничего ни в литературе, ни в политике. Романтизм
разорвал пелену, которой заволокло мир педантство, но в
ужасе отшатнулся перед бесконечностью, внезапно открыв¬
шейся перед ним. Его вдохновение не имело до тех пор ни¬
какого другого источника, другой области, другой цели,
кроме человека, одинокой, изолированной индивидуальной
личности. TaiK как же он мог теперь подняться от индиви¬
дуальности к идее, способной гармонически обнять те три
предела, к которым вечно стремится искусство,— Человека,
Вселенную, Бога? В поисках веры, способной примирить
человека с Бесконечностью, романтизм ушел в прошлое,
которое незадолго перед тем отверг, и бросился с закрыты¬
ми глазами в пропасть; он обратился к средним векам, за-
затем к мистицизму и наконец остановился на усталой без¬
деятельности уныния. Таково было положение литературы
в 1830 году.
Романтизм восторжествовал постольку, поскольку со¬
держал в себе нечто разумное. Умы научились верить в
литературную свободу. Вставал вопрос, как использовать
ее. На каком фундаменте, на каких принципах будет дер¬
жаться новая обетованная литература? К какому центру
должны сходиться все усилия искусства? Само собой в ду¬
шах родилось национальное чувство и сделалось в них
главным. Вся литература стала говорить об одной цели.
Итальянцы быстро убедились, что безрассудно спорить о
вопросах формы, когда нарушены и замутнены самые ис¬
точники литературы. К чему рассуждения о народной и на¬
циональной поэзии, когда нет ни народа, ни нации? И мо¬
лодежь устыдилась утерянного времени, ухищрений ума и
силы, растраченной итальянцами в течение долгих веков
296
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
на литературу условностей, на поделки, на литературу
для аристократии, которая ничего общего не имела с про¬
грессом нации и воспитанием народа.
С этого момента Разум стал нести на себе печать про¬
бужденного Сознания, и все, что отныне делалось и пред¬
принималось, имело целью нравственное совершенствова¬
ние. Все то, что писалось после 1830 года, обнаруживает
единую цель — и эта цель вовсе не в том, чтобы услаж¬
дать слух или развлекать изнеженных читателей. Искусст¬
во видимым образом поднялось до великой проблемы Вос¬
питания, которое есть сокровенная идея эпохи, и академи¬
ческие побрякушки оказались навсегда обречены. Витторел-
ли, Метастазио, Фругони9 со всем их влиянием исчезли;
если какой-нибудь незадачливый поэт еще отваживался
подражать нм, он пел в пустыне. Говорить так, чтобы это
принесло пользу, или молчать — вот закон, который был
принят почти повсеместно. Тень Данте, поэта возрожден¬
ной нации, встала над всем, что говорилось и о чем молча-
лось в Италии. Итальянцы вернулись к изучению своего
гения теперь уже не для того, чтобы искать в его книгах
формы, образы или метры, но для того, чтобы крестить
свою музу в волнах его могучей, мужественной мыс¬
ли, проникаясь так духом нации и человечества. Издания
«Божественной комедии» множились; появились новые
комментарии, среди которых заслуживает особого упомина¬
ния исторический комментарий в двух томах Фернандо Ар-
ривабене 10 «Век Данте». Участились статьи о Данте в пе¬
риодических изданиях, особенно во флорентийской «Анто¬
логии», теперь закрытой по правительственному распоря¬
жению. Многие новые работы были объявлены, и с нетер¬
пением ожидались, среди них, например, «Историческое
исследование», которое Карло Тройя из Неаполя, уже из¬
вестный своей работой «Аллегорическая борзая» и, наме¬
ревался сделать особого рода введением в (поэму.
Этот горячий интерес к Данте, это желание видеть в
Данте предтечу нового направления итальянской культу¬
ры возникло в большой мере иод влиянием человека — о
нем то ли из осторожности, то ли из неблагодарности ита¬
льянские литераторы сейчас мало вспоминают,—которому
обязана своими успехами критика последних сорока лет.
Я говорю о Фосколо. Бесчисленные тома были написаны
до него о Данте грамматистами, филологами, любителями
древности и эстетиками, но Фосколо первый увидел в нем
297
ДЖ. МАЦЦИНИ
патриота и реформатора. Ему не удалось сделать всего,
что он мог, на что он был способен; виной тому его бед¬
ность, изгнание, скитания, личные страдания, несчастья
Италии, философия, не отвечавшая поставленной цели, на¬
поенная горечью и скепсисом; и все же это он открыл для
нас в Данте не только поэта, создателя языка, но и вели¬
кого гражданина, глубокого мыслителя, Пророка веры,
провозвестника национальности Италии. Там, где другие
превращались в книжных червей, буквоедов и педантов, он
искал идеи; где другие .приглашали итальянцев восхитить¬
ся поэтическим образом, он углублялся в чувство, его по¬
родившее. Он повел критику по путям истории. Он опро¬
верг загромождавшие ее бесчисленные ошибки. Его анафе¬
ма навсегда легла на бездушных комментаторов, профани¬
ровавших храм Данте. Он не дал Италии идеального ком¬
ментария, но сделал его возможным. И более того: всей
своей жизнью, своим представлением о миссии поэта, не¬
ослабной борьбой против тех, кто осквернял ее продажно¬
стью или ложью, он поднял падшую литературу и вернул
в лоно нравственности искусство и художника. Сегодня
его стараются забыть. Многие его произведения остаются
неизданными. Две трети его трудов о Данте * лежат в пы¬
ли на полках книготорговца Пикеринга 12. Написанные о
нем биографии более всего напоминают доносы. Но моло¬
дая Италия вспоминает его с любовью, и с 1827 года, го¬
да его смерти, до самого дня, в который пишу, все увели¬
чивается слава его среди людей, преданных своему оте¬
честву.
Вернемся к нашей теме: явления, на которые я указал,
свидетельствуют о живом стремлении к национальной ли¬
тературе. Но подобная литература не может существовать в
Италии, пока не решен политический вопрос. После 1830 го¬
да искусство, более чем когда-либо, стало нежелатель¬
ным элементом для угнетателей страны; и как только поэ¬
зия поставила себе важную и жизненную цель, ее принуди¬
ли замолчать. Стихи, подобные стихам Берше, нельзя чи¬
тать публично внутри страны. Многие национальные поэ¬
ты— и я мог бы перечислить немало значительных имен —
остаются неизданными и неизвестными большинству италь¬
янцев. Встречая непреодолимые препятствия, искусство от¬
• Читатель должен вспомнить, когда это писалось. Ср. также статью о ком¬
ментарии Фосколо (1862).
298
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
ступает на незаметные пути и тропы; но, как бы то ни бы¬
ло, каждый сделанный шаг чуточку приближает лучшее бу¬
дущее.
Сейчас, когда я пишу эти строки, 'преобладает школа
Мандзони,— возможно, правда, более в силу воспоминаний
о ее первом периоде, чем в меру ее действительной жиз¬
ненной силы. Эмансипация народа — вот ее цель, ее вера,
ее всегдашняя тенденция. Она обнаруживается сквозь все
покровы, которые накладывают обстоятельства на ее идеи
и с которыми робкие вожди школы смиряются в покорно¬
сти, можно сказать, чрезмерной. Однако знамя христиан¬
ского равенства, во всяком случае, поднимается более или
менее заметно во всех произведениях последователей Ман-
дзони. Выбор темы, способ ее развития, стиль, вообще все
в них свидетельствует, что высшая цель этих писателей —
разрушить незаконную власть аристократии. Насилие, про¬
извол, распущенность, эгоизм, против которых они борют¬
ся, почти всегда представлены у них знатным богачом, на¬
следником феодализма; невинность, доброта души, способ¬
ность к самопожертвованию — юношей или девушкой из на¬
рода. И между этими двумя крайностями, между угнетате¬
лем и жертвой, встает божий человек, священник — утеши¬
тель, а иногда и энергичный защитник права, который, как
в первые века христианства, несет любовь страдающему
правдолюбцу и укор—злодею и угнетателю. Несправедли¬
вость обычно бывает наказана, раскаяние очищает душу
гордеца или же на середине жизненного пути его постига¬
ет смерть; если гибнет невинный, то спокойствие веры и
сознание лучшего будущего освящают его последний час.
По этой сцене, почти всегда одинаковые в своих основных
чертах, проходят нежные девушки, смиренные, религиоз¬
ные, любящие чистой любовью, созданные природой для
страдания, молитвы и ангельской смерти, освященные са¬
моотверженной преданностью и любовью, проходят ласко¬
вые, любящие, верные матери, проходят люди со шпагой
или в тоге, и все они рассказывают вам историю своей
жизни в стиле простом и народном, слепка, может быть,
расслабленном, пересыпанном просторечными выражени¬
ями и слишком склонном к анализу. Да, все это хорошо, и
полезно, и написано с умом и любовью — но это не совсем
то, чего требует эпоха и чего ждут итальянцы. В Италии
аристократия не настолько сильна, чтобы нужно было на¬
стойчиво и энергично бороться с нею. То, в чем мы дейст
299
дж. млцципи
вительно нуждаемся,— это вера в самих себя, единодушие,
деятельность, постоянство, воспитание способности к само¬
пожертвованию на благо всех. И уроков этих добродетелей
не хватает в книгах школы Мандзони. Средством эманси¬
пации народа здесь выставляется внимание к личности,
как если бы возможно было в рабской стране проделать
работу воспитания, совершенствуя одного за другим всех,
кто ее населяет. Здесь всегда недопонимается и часто вы¬
смеивается сила коллективного действия. И тем не менее
по какому-то противоречию их авторы проповедуют необ¬
ходимость религиозной веры, как если бы самой сутью вся¬
кой религии не было единение в вере, как если бы ослаб¬
ленное религиозное чувство могло возродиться иначе, как
через единую великую национальную идею, как если бы
для того, чтобы поднять из праха падшего, не нужно было
сначала влить в него сознание собственной силы и долга,
который он призван исполнить. Социальные судьбы челове¬
ка на земле не входят в ту нравственную цель, какую рису¬
ют себе последователи разбираемой нами школы. Они ни¬
когда не говорят своим собратьям: «Идите вперед, дейст¬
вуйте, боритесь, подрубайте корень зла; отечество, которое
дал вам бог, должно быть вашей высшей заботой, его бес¬
честие есть ваше бесчестие; так будьте для вашей земли
тем, чем должна быть ваша земля для всего человечества,—
орудием всеобщего совершенствования». Нет, они говорят:
«Смиряйтесь, молитесь, покоритесь; ваше отечество — небо,
земное недостойно ваших забот; наука—лишь суетное
тщеславие, справедливость — мечта, если ее ищут здесь,
на земле».
Наше обвинение не относится равным образом ко всей
школе, да и виновны скорее принятая ею система и выбор
средств, чем сознательная воля писателей. Но тем не ме¬
нее нужно настойчиво напоминать об этом противоречии
между средствами и поставленной целью. Слава таких
имен, как Мандзони, Гросси, Пеллико, грозит завлечь
юные души на путь рабского подражания, которе окажет¬
ся гибельным для страны. Достаточно Италия смирялась.
Нравственное возрождение угнетенного народа начнется
лишь в тот день, когда он разорвет свои цепи.
Мы не будем разбирать здесь «Мои тюрьмы» Сильвио
Пеллико, «Марко Висконти» Гросси, «Этторе Фиерамоска»
Массимо д’Адзельо и другие книги школы Мандзони, вы¬
шедшие после 1830 года. Почти все они переведены на ан¬
300
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
глийский язык, и их достоинства и недостатки известны чи¬
тателям.
«Мои тюрьмы», — бесспорно, лучшая работа Пелли-
ко, менее значительны его «Песни», еще менее — трагедии.
Моменты патетической простоты и сладостной поэтической
гармонии сами по себе еще не составят драмы или поэмы.
В «Марко Висконти», особенно во второй его части, есть
прекрасные страницы, но элемент подражания здесь слиш¬
ком очевиден, вся картина исторически недостоверна, стиль
часто вял. Гросси, рожденный поэтом — поэтом любви,
утонченных чувств и благочестиво переносимых страда¬
ний,— не способен на живые и сложные сцены историчес¬
кого романа. Беллини в поэзии, одаренный, как и он, эле¬
гическим гением, Гросси должен бы был вернуться к источ¬
нику того вдохновения, которое внушило ему «Ильдегонду»
и от которого его заставила отойти несправедливо жесто¬
кая критика, обрушившаяся на его «Ломбардцев». Пос¬
ледние сцены «Этторе Фиерамоска» обладают истинным
достоинством, они кипят патриотическим чувством, но Лд-
зельо почти всегда холодно правилен и ему недостает поэ¬
тического жара. Под тем же знаменем встали и другие
менее известные авторы: Луиджи Каррер из Падуи, автор
сборника баллад в духе народной поэзии и нескольких
гимнов, обнаруживающих глубокое чувство природы,
Дж. Б. Джорджини, чьи «Поэтические прелюдии», напеча¬
танные в Лукке в 1836 году, обладают тем достоинством,
что обещают много в будущем, Джулио Каркано, который
еще юношей двадцати трех лет сумел сочетать в своей «Иде
делла Toppe», исторической новелле в пяти песнях, вышед¬
шей в Милане в 1834 году, стихию истинной поэзии и вдох¬
новенную любовь к родине, Беттелони, чьи стансы к «Свя¬
той деве» и поэма «Озеро Гарда» замечательны чистотой
рисунка и гармонией стиха, Самуэле Биава из Ломбардии,
автор «Лирических мелодий» и «Св. Рокко». Издающееся
ежемесячное обозрение—«Рикольиторе» можно считать ли¬
тературным журналом школы Мандзони.
И пороки и достоинства этой школы можно видеть в от¬
рывке неизданной оды, написанной одним из тех многих
молодых итальянцев, которых политическое положение в
стране заставляет сгорать в молчании и безвестности: те¬
ма ее — смерть сына Наполеона. Не знаю, откуда взял ее
Никколо Томмазео, но мне кажется, что она заслуживает
упоминания 13 :
301
ДЖ. МАЦЦИНИ
Прочь от него, сверканье солнц и голоса войны!
Умолкните, предания родной его земли/
Вы колыбель ему — и гроб хотите показать?
Не знал бы сын, как над отцом светило солнц сиянье,
Не ведал об империи, о подвигах, изгнанье
Того, что море и гроза боялись задержать!
Скажи, о сын изгнанника, что сердце испытало:
Судьба Европы, Азии в очах внезапно встала,
Все ожило, когда пришла минута умирать!
Владычество над Западом, народов покоренье,
Победы, отступление и страшное паденье,
И всеми брошенный дворец тебе представил мир!
О, сколькие подумали, беседуя с тобой,
Что слышат тот приказ они, тот голос громовой,
Что океан перелетал и землю заполнял.
Как благородного птенец украденный орла
Вперяет в солнце скорбный взор, могучего крыла
Не в силах в клетке распрямить, чтоб в небо улететь,
Так об опасностях, трудах, где б он великим стал,
Свершеньях, доблестных делах, о жизни тот мечтал,
Кто должен был в тюрьме-дворце под стражею сидеть.
И так как по земле, где был оставлен след глубок
Отечеством его в боях, пройти уж он не мог,
То захотел он прахом стать, чтоб так в нее сойти,
И силою всечасного страданья своего,
Что оболочку плотскую огнем незримым жгло,
Навек он смог желанную свободу обрести.
Ты в непробудном сне глаза, о юноша, смежил.
Колеблющийся войска лес ты в бит&у не водил
И в миг победный не смирял горячего коня.
Но лишь своей торжественной и славной высотой
Колонна триумфальная встает передо мной —
Воспоминаньем о тебе душа поражена.
Рядом с этой школой стоит другая, эманация Фосколо
и, в более широком смысле, Байрона. Энергия, сила — вот
302
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
ее преобладающие черты. Ее писатели не скрывают своей
цели, они не прячутся на окольных тропах: они смело идут
по прямому пути* Девиз «НАЦИЯ» начертан на их знаме¬
ни, и приказ, которому они повинуются — «ВЕЧНАЯ
БОРЬБА». Но их патриотизм —это подозрительный, враж¬
дебный, мстительный патриотизм средних веков. Борьба,
которую они провозглашают и -которою дышит каждое их
слово, есть борьба против угнетения в своей стране и про¬
тив иностранного влияния, против всего мира и даже про¬
тив самого бога, »когда им кажется, что, терпя торжеству¬
ющее вокруг них зло, бог защищает его. Сильные своим
энтузиазмом, а более того, страстью, они разливают нена¬
висть щедрее, чем любовь; и даже когда их рука поднима¬
ется для благословения, кажется, что она вздымает меч,
настолько суров и угрожающ их вид. Они обожествляют
силу и потому стремятся к ней, они стремятся укрепить
расслабленные души своих современников, показывая им,
на что способна воля, когда она направлена на достиже¬
ние определенной цели. В их сочинениях все стоит на сту¬
пеньку выше реальности. Их герои, будь они добры или
злы,— люди железного характера, гиганты преступления
или великаны добродетели; их упреки—проклятия, их лю¬
бовь— бешеный водоворот, их усмешка —сарказм. Их
перо развертывает великолепные картины, когда им случа¬
ется рисовать пылкие, разнузданные, бурные страсти,— но
все становится иначе, когда они делают своим предметом
невинность, любовь, самопожертвование; их муза тогда
охладевает, словно оказавшись внезапно вне своей стихии.
В их мечтах вырастает образ могучего, грозного отечества,
перед которым равно трепещут враги и друзья. Их бог —
это бог Израиля, бог битв. О судьбах отдаленного будуще¬
го они не думают. Живите или умрите, восклицают они,—
что нужды? Жизнь и смерть сами по себе ничто; но умей¬
те жить и умирать благородно: величие есть сила. В сво¬
ей теории эта школа склоняется к скептицизму — но ин¬
стинкт сердца, часто более сильный, чем воображение, ос¬
танавливает ее на краю пропасти. Она не верит ни во что,
кроме борьбы, умом ее последователи не признают беско¬
нечности; но их сердце почти невольно исповедует ее.
«Битва при Беневенто» и «Осада Флоренции» представ¬
ляют эту школу. Политические обстоятельства стесняют
ее свободное проявление, и эти два исторических романа —
два дерзновенных поступка, достойных похвалы.
303
ДЖ. МАЦЦИНИ
Я не знаю среди живущих писателей никого, кто мог
бы сравниться с Гверрацци по энергии, по силе воображе¬
ния и святого гнева. Одаренный глубоко лирическим та¬
лантом, открытым для всех высоких вдохновений прошлого
и настоящего, идеального и действительного, он сосредото¬
чивает в себе все описанные нами черты школы, к которой
он принадлежит и которой он положил начало в Италии.
«Осада Флоренции» мало известна в Англии, и зря. Пролог,
глава, в которой Микеланджело принимает тайное посоль¬
ство, зачины многих глав и последние страницы романа
свидетельствуют о редкостной силе писателя. Агония Фло·
ренции, заговор Франческо Ферруччи, его роковая неудача—
все это описано, изваяно искусной рукой мастера. Исто¬
рия здесь возвышается иногда до величия эпопеи. Тень
старой флорентийской свободы встает над страницами,
посвященными этим славным воспоминаниям, которые
должны острым укором совести отзываться в душах пад¬
ших сыновей. Писатель стоит перед благородным памятни¬
ком старины, освещенным лучами нашего солнца. Но эти
лучи — и здесь, по-моему, недостаток книги—золотят его
поверхность, не проникая в глубину. Прошлое встает перед
нами во всей полноте своей славы, но в картине недостает
народного духа, духа будущего. Горем и отчаянием запе¬
чатлены страницы, на которых должна была бы сиять ве¬
ра. При их чтении нас гораздо больше мучит желание
пасть иод развалинами отечества, чем желание жить, до¬
биваясь его возрождения. И если писатель способен, про¬
кляв человеческий род, сохранить в своей душе нетронутой
энергию действия, то многим это не по силам. Весьма ред¬
ки люди, готовые на самопожертвование из чистого чувства
долга, без всякой надежды. И эту надежду писатель слиш¬
ком часто убивает. Настроение, господствующее в его по¬
литических романах, побуждает душу скорее к мизантро¬
пии, чем к мученическому подвижничеству.
Отрывок, который я выписываю из «Осады Флоренции»,
может дать представление не о силе писателя — она еще
ярче проявляется на других страницах,— но о тенденциях,
отличающих его школу.
«...Но страдание заставляло меня забыть все; и сколь¬
ко раз долг совести звал меня, говоря перед народом, об¬
ращаться к одним юношам, ибо годы научили меня, что
седые волосы не становятся ореолом мудрости для старых
голов, что каждый год крадет по одной добродетели и что
304
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
задолго еще до смерти человек становится трупом; обра¬
щаться, говорю я, к одним юношам и увещевать их:
«Братья! Я призываю вас быть великими; да, я трепещу,
произнося это слово, но да не потерпит господь, чтобы из
слабости я удержался от изъявления высоких чувств. В ми¬
ре существует закон, (который гласит: будь великим и нес¬
частным; и есть другой, более всеобщий закон, который ве¬
лит: будь человеком и умри. Но если никакая сила не мо¬
жет отнять у вас прекрасную смерть, что можете вы ждать
от жизни, сохранив ее ценою позора? Позавидуете ли вы
капле, которая безвестно падает с неба и незаметно теря¬
ется в море? Кто из вас не захочет лучше прожить один
день жизнью птицы, жизнью песни и полета? Кто не по¬
завидует скорее молнии, одному мгновению грома и света,
чем кладбищенскому веку червя? Вас ждут тяжкие беды,
ваше измученное сердце разорвется, вы умрете; но перед
смертью вы вспомните об изгнании Данте, о цепях Колум¬
ба, о веревке Макиавелли, о темнице Галилея, о безумст¬
вах Тассо... и эти воспоминания напоят вас силою бороть¬
ся в условиях, в которые повергло вас племя мучителей.
Тогда вы заметите, что человеческая тирания, которая ка¬
залась вам медным колоссом, стоит на глиняных ногах, и
вы опрокинете ее с той же легкостью, с какой ангел Данте
рассеял дым ада перед своим челом»14.
Так говорили уста, но душа иссыхала в горечи.
И вот из глубин сознания поднялся голос, который ска¬
зал мне: «Не всегда бог раокаивается в том, что создал
человека. Ты живешь в век, который своей горечью рас¬
топил весь неблагородный металл. Ищи в истории, и най¬
дешь эпоху, которая придется тебе по сердцу. Окунись в
ее воспоминания. В добродетели умерших найди основа¬
ние, чтобы бичевать позор живых. Славные дела прошлых
поколений дадут тебе силу надеяться на величие будущих,
ибо ничто не вечно под солнцем, и добро и зло попеременно
торжествуют друг над другом во всей истории этой земли.
Живи видениями прошедших и грядущих лет».
Я раскрыл историю, ища эту эпоху человеческого сча¬
стья, и начал читать ее со страстью умирающего, который
мечтает дождаться зари. О, сколько дней, потраченных
впустую! О, сколько раз голова опускалась в тооке на ро¬
ковые страницы, и я с болью, но еще не отчаиваясь, воск¬
лицал: «Завтра мне повезет больше». Приходило завтра, и
послезавтра, и новые дни, но ничуть не рассеивался мрак.
305
ДЖ. МАЦЦИНИ
Нет, но ведь это же история диких зверей в лесу! Я отбро¬
сил -книгу, однако не мог отбросить приобретенное позна¬
ние зла. Бессонные ночи, проведенные над книгами людей,
живших на этой земле раньше меня, неотвратимая агония
знания, какой плод (Принесли вы моей душе? Из уныния и
горя я соткал погребальный саван надежде.
Я обратился к Италии. Вот возвышается одно из ее
племен, растекается по всему миру, неся цепи созданиям
божиим; вот терпение угнетенных перерастает в ярость, ру¬
шится древняя неправда, приходят дни гнева; вот варвар¬
ские народы, как гонимые пастухами стада, разом затоп¬
ляют наш край; их поток наводняет все от Альп до Ред-
жио, трон поднимается, чтобы опрокинуть другой трон; нес¬
частные побежденные, мы несем позор падения их всех.
После священных войн начинаются гражданские. Гвельфы
и гибеллины, белые и черные, Монтекки и Капулетти,
Мальтраверси и Скаккези, Берголини и Распанти 15; кровь
орошает каждый камень в полях, каждую башню в горо¬
дах; разрозненные жалкие республики, вечно воюющие меж¬
ду собой; свои и чужие тираны, сластолюбивые, жадные,
боящиеся даже темноты, но в то же время безмерно жесто¬
кие; предатели и преданные, закабаленные, проданные
итальянские души; благороднейшие города, вступающие в
соглашение с мерзкими бандитами; высокие умы, склонив¬
шиеся перед яростным невежеством священников. Наконец,
как буря, поднимающаяся из бездны моря, приходит ти¬
рания, отравляет небо и землю, превращает все вокруг в
пустыню, развращает души и утверждается навсегда... Не
доверяйте надежде, она — продажная женщина.
Так, стало быть, неумолимая судьба обрекает нас, как
древнего змия, вечно пресмыкаться во прахе, вступать в
будущее, не пробуждая его иным звуком, кроме ударов
палок о спину и звона кандалов?
Кто это сказал? Сила не заключила вечного союза ни
с одним народом в мире. Чья рука оторвала крылья побе¬
де? В Риме их отсекла молния, но они вновь отросли с ве¬
ками, и она улетела прочь. Пока, воздевая руки к небу, вы
чувствуете на них тяжесть вражеских цепей, не молитесь...
Бог с сильными! Ваша мера падения уже исполнена, пасть
ниже вы не можете; жизнь есть движение, поэтому вы еще
подниметесь. Но тем временем пусть в вашем сердце жи¬
вет гнев, с уст не сходит угроза, в деснице таится смерть;
разметав всех своих богов, поклоняйтесь одному Саваофу,
306
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
духу сражений. Вы еще подниметесь. Рука северного
дьявола 16, безрассудно бросившегося под колесо времени,
чтобы остановить его, уже слабеет и дрожит, и она будет
сломлена. Если бы мы смогли расслышать биение его серд¬
ца, мы поняли бы, что большей частью его ударов движет
страх. Но если бы только нам удалось приблизиться к это¬
му сердцу, то уж, конечно, не для того, чтобы считать его
удары... О нет! Пусть он живет, чтобы умереть под разва¬
линами возведенной им тюрьмы; пусть он в свой послед¬
ний час услышит убийственный приговор, который угне¬
тенные вынесут обессилевшему мучителю. Смерть равно
поражает героев добродетели и героев преступления; но
Эпаминонд 17 мечом удерживал свою душу до тех пор, по¬
ка не узнал о победе своего отечества, и умер, торжест¬
вуя,— а нашего врага пусть меч пронзит в начале сражения,
и пусть его не вынут из груди до той минуты, когда он ус¬
лышит весть о своем поражении; пусть он погибнет, за¬
душенный дымом пушек, возвещающих о нашей победе;
пусть отчаяние охватит его при звуке барабанов, приветст¬
вующих зарю возрождения. Еще раз наше знамя, страш¬
ное для внуков древних кимвров, взовьется над башнями
врага; дух Мария 18 поднимет крышку гроба; мы еще раз
растопчем перед Капитолием короны угнетателей народа...
Но будем ли мы тогда счастливы? Что нужды? Повтори¬
тесь, о, повторитесь, эти дни, о которых мечтает итальян¬
ская гордость! Горька радость угнетателя, но она все же
радость, и отмщение за жестокую обиду веселит сердце
господа...».
Между двумя этими противоположными тенденциями в
литературном мире, отвечающими двум направлениям, ко¬
торые можно наблюдать в мире социальном, но о которых
я не говорю, существует еще, склоняясь то к одной из них,
то к другой, безымянная школа горстки людей, держащих¬
ся эклектизма, колеблющихся между подражанием и ново¬
введениями, между древностью и современностью. Некото¬
рые, подобно Никколини 19, автору «Фоскарини» и «Прочи-
ды», и Карло Маренко20 из Чевы, одевают классический
замысел в романтическую оболочку. Другие, как Леопар¬
ди из Реканати, пытаются выразить чувства и идеи наше¬
го времени в классических формах и средствами античных
эпох. Ни драмы первых, ни песни вторых не заслуживают,
как мне кажется, той широкой благосклонности, которая
вызвана изобилующими в них патриотическими устремле¬
307
ДЖ. МАЦЦИНИ
ниями. В этих драмах есть отрывки изысканной поэзии, эти
песни наполнены дыханием глубокой печали, столь свойст¬
венной нашему веку,— но все это лишь потуги переходного
периода, которые будущее перечеркнет. Значительно мень¬
шим достинством обладают произведения Розини21 и по¬
добных, не восполняющих свою посредственность в искус¬
стве социальной целью. Нескольких прекрасных сцен, раз¬
бросанных там и здесь в романах Варезе22, Фальконетти
и нескольких других писателей, принадлежащих к этому
отряду, еще недостаточно, чтобы преодолеть ожидающее
их забвение.
Таково итальянское литературное движение в его основ¬
ных направлениях. Результаты его кажутся пока еще ма¬
лозначительными, но почти все писатели в большей или
меньшей мере и различным образом выражают националь¬
ную тенденцию, идею свободы и равенства, негодование
против искусственного и не имеющего корней в социальной
жизни разделения. Та же самая тенденция еще ярче обна¬
руживается в другой области литературы, еще более важ¬
ной для народа, стремящегося к своему возрождению: в ис¬
тории. К этой области принадлежит множество книг, совер¬
шенно неизвестных английским читателям, но заслужива¬
ющих тем не менее внимания; их число поражает, если
вспомнить всевозможные трудности, встающие перед писа¬
телями в угнетенной и разделенной стране. После 1830 го¬
да начался расцвет исторических исследований в Италии.
Истории, подобные книге Милано дель Верри 23, которая
не нашла при своем первом появлении ни одного читателя,
насчитывают сейчас несколько переизданий. Увлеченный
этим течением, Никколини, хотя он считаатся — ошибочно,
по-моему,— большим поэтическим талантом, оставил музу
и обрек себя на молчание, которое длится уже семь лет*,
* Я не могу пожалеть о принятом им решении. Несмотря на рассеянные в его
драмах красоты и многие великолепные стихи, полные патриотического чувства,
которые его читатели запоминают наизусть, Никколини, по-моему, рожден прозаи¬
ком; после Фосколо и с тех пор, как умерли Ботта и Гросси, Италия не может
назвать лучшего прозаического писателя. К· нему перешло многое от стиля Фос¬
коло, а стиль Фосколо — и я должен сказать это, вопреки всем педантам и бук¬
воедам, которые, вечно смешивая стиль с языком, не согласятся со мной, — один
лишь приближается, особенно в его работах о Данте и Боккаччо. к тому трезво¬
му, ясному, мужественному, энергическому стилю, равно далекому и от обиняков,
плеоназмов, сложности построения, и от тосканской изнеженности, который будет
стилем возродившейся к жизни Италии. Чудесны страницы, написанные Никко¬
лини об изящных искусствах, Орканье и Микеланджело. Мысль и форма- находятся
308
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
отдавши все силы составлению истории свевского дома —
истории, которая, надеюсь, прольет больше света истины,
чем история гибеллина Роймера. Итальянцы постепенно
осознают, что главные начала нации — история и язык, и
своими трудами помогают ее основанию *. Несмотря на ко¬
личество историков, которых в Италии больше, чем где бы
то ни было, несмотря на последние труды Сисмонди, исто¬
рия нашего народа еще так и не написана. Наши писате¬
ли с истинным талантом рисовали жизнь различных госу¬
дарств, на которые разделена Италия, с большой тонко¬
стью описывали частные цели действий отдельных лично¬
стей, последствия этих действий и влияние, оказанное ими
на свои города и свою эпоху; но никто из них не показал,
как постоянно и неуклонно развивается народное начало,
которое крепнет, когда все другое гибнет, и осознание кото¬
рого одно способно придать единство нашей истории. Те¬
перь этот недостаток почувствовали в Италии все, кто тру¬
дится над историческими исследованиями; и если обстоя¬
тельства пока не позволяют писателям достичь цели, их
работы в более или менее явной форме служат именно
ей и, утверждая народное начало, подготовляют слияние
всех провинций в одно национальное единство. Большой
вред итальянской историографии причиняет несчастная сис¬
тема, которую ввел умерший в августе этого года в Па¬
риже Карло Ботта и против которой итальянцы, если толь¬
ко они хотят иметь способную принести пользу историче¬
скую литературу, должны непримиримо бороться.
Своим глубоким знанием языка, стилем, наломинаю-
в удивительном согласии, и на память приходит древнее pectus est quod disertum
facit
Я не упомянул в своих кратких заметках имени Пьетро Джорданн и, потому
что не знаю, к какому направлению отнести его. Я прослеживаю ход мысли, а у
Джорданн, за исключением нескольких страниц, нет ничего, кроме слов; слова
эти великолепно отобраны, приведены в прекрасную гармонию — но когда же
и где одних слов хватало, чтобы создать большого писателя. Хотя язык Джордани
удивительно чист, этот писатель не обладает стилем; лишь глубокая мысль соз¬
дает стиль, а се у него нет. Итальянцам нужен сегодня голос, способный пробу¬
дить их; но все произведения Джордани, начиная с «Трактата о посольствах»,
чистые, музыкальные но выражению, прозрачные, но лишенные души и энергии
жизни, расслабляют ум и усыпляют сердце.
* Пределы моей статьи не позволяют мне рассмотреть современное положение
языка и труды, сюда относящиеся; но я буду чувствовать себя виноватым, если
не упомяну по крайней мере Джузеппе Грасси м. Своим изданием Монтекукколн
и вышедшим в Турине «Военным итальянским словарем» в четырех томах он за¬
служил уважение страны.
309
ДЖ. МАЦЦИНИ
щим иногда страницы Тацита, мужественной, суровой си¬
лой в начертании своих картин, иногда нарочитым, чаще
искренним чувством независимости, своей бурной и несча¬
стной жизнью, наконец, чисто итальянским подходом к
сравнению Италии прошлого с другими нациями Ботта
завоевал симпатию огромного числа своих соотечественни¬
ков.
Почти все исторические сочинения наших дней обнару¬
живают его влияние. Ему следуют, подражают; большинст¬
во, неспособное решительно устремиться по новому пути,
принимает его систему, видя в ней продолжение многих
старых итальянских традиций. Я говорю «систему», хотя
знаю, что отличительный признак его школы есть как раз
очевидное отсутствие всякой системы и утверждение, будто
всякая предвзятая общая идея искажает историю. Но эго
либо недобросовестность, либо странное заблуждение. Все
на земле подчиняется системе; всему дает жизнь и прогресс
действие определенного закона. Существует не только по¬
следовательность, но и связь событий, совершающихся в
этом мире. Человечество, если только мы не хотим считать,
что оно ступенью ниже растительного мира или что оно об¬
речено на аномальное существование во вселенной, тоже
послушно следует закону прогресса.. Итория есть воплоще¬
ние этого прогресса, историк — его истолкователь. Разли¬
чия между scribitur ad narrandum и scribitur ad probandum27
в действительности не существует. Сознавая это или нет,
повествователь мыслит, верит и доказывает одновременно.
Правда, существуют две системы, два различных способа
понимания закона развития, который царит в мире. Для
одних—это закон непрерывного прогресса в том или ином
направлении, закон, рождающий веру во всемогущество
воспитания (как человеческого коллектива, так и личности.
Для других — это закон попеременного и частичного кру«
гового развития, следуя которому каждая нация идет впе¬
ред, отступает, возвышается и гибнет, проходя через опре¬
деленный ряд ступеней, чтобы утратить наконец всякое
значение внутри человечества, исполнив свою задачу, или
же снова начать тот же самый ряд. Ботта принадлежит к
сторонникам этого последнего взгляда. Когда он разража¬
ется анафемой против нового исторического метода или об¬
виняет его в чрезмерной любви к системе, он отвергает
любую систему, кроме своей. К ней должны прийти все и
вся. Совершенно лишенный философской способности, из¬
310
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
гнавший из своей души идею и веру в историчеокие выво¬
ды, он отстал на пятьдесят лет от своей эпохи. Ботта —
аристократический писатель, временами влюбленный в свою
землю, то есть если не в свое благо, то в свою честь и свою
независимость. Он гшсатель-«тори», для которого народ, ор¬
ганические начала, объединение, ассоциация, великие идеи
нашего времени есть непонятная или смешная мечта. На¬
род, как начинаем его понимать мы, для него не сущест¬
вует.
Работа сплочения, которую непрерывно совершает
народ Италии, осталась для него незамеченной, и в его
продолжении Гвиччардини, которое выходит после 1830 го¬
да28, нет и намека на нее. Теория власти, как она всюду
просвечивает на его страницах, плачевна. Его суждение о
роли личности заимствовано у Гвиччардини и Макиавелли
и ведет « разочарованию, безверию, мизантропии. Но ведь
все это вместе есть доктрина индивидуализма, которая не:
способна пробудить падшую нацию. Впрочем, он вовсе и
не ставит себе такой цели; напротив, он называет фантазе¬
рами и утопистами тех, кто задается ею. Его история об¬
нажает все наши язвы и в то же время вселяет в душу от¬
чаяние и неверие в возможность их излечить. Порок вы¬
ставлен на суд потомков; но между тем от каждого его
произведения исходит один и тот же призыв: «Завернись в
свой плащ и останься чистым»,— как будто видеть, что на
нашей земле нагло хозяйничает порок, и стоять при этом в
стороне, скрестив руки на груди, не значит уже сделаться
его соучастником. Среди всех этих старательно отточенных
периодов, среди этого бессильного гнева, неопределенных
надежд на какую-то независимость, возможность и орудия
достижения которой сам же историк и разрушает, юная
Италия не научится ничему, кроме бездействия, безверия
и преждевременного охлаждения. Такого же мнения был,
наверное, и Карл Альберт, когда он вручал Ботта Орден
почета. Правительства Италии, хоть они и показывают
свое недовольство тенденциями историка, всегда позволя¬
ли свободное переиздание и продажу его книг [...].
Философские труды не обнаруживают той же степени
активности, и как раз этому обстоятельству нужно припи¬
сать отсутствие определенного направления в исторических
трудах: достичь исторической истины можно, лишь отправ¬
ляясь от философской идеи. Насколько философские заня¬
тия все еще отстают в Италии, ясно уже по тому преуве¬
311
ДЖ. МАЦЦИНИ
личенному значению, которое придается людям, безуслов¬
но талантливым и ученым, но не истинным философам,—
таким, как Галуппи, Розмини и сам Романьози, в чьих
идеях о философии и истории по крайней мере не видно
подлинного философа. У меня нет здесь необходимого мес¬
та для разбора этих писателей и положения философии в
Италии; но скажу, что итальянский разум еще недостаточно
освободился от влияния французских философов XVIII ве¬
ка. В принципах, как и в методе, у нас еще безраздельно
царит метафизика ижолы Вольтера, более или менее видо¬
измененная философия сенсуализма. И если даже отверга¬
ется ее основной принцип, то практические методы, дух ис¬
ключительного анализа, привычка видеть часть, а не целое,
индивидуализм, наклонность к скепсису, надменность, иро¬
ния и прочие традиционные черты этой школы еще остают¬
ся наследием всех тех, кто занимается в Италии филосо¬
фией. Романьози, не моргнув глазом, осуждает философию
Гегеля и всех других немецких мыслителей, судя о них по
первым двум попавшимся под руку страницам краткого
французского изложения *.
Итальянская философия до сих пор пребывает в бездей¬
ствии, слепо преклоняясь перед Романьози, и влияние
последнего грозит сделаться столь же пагубным для юнос¬
ти, как влияние Ботта. Италии необходимо расширить сфе¬
ру своих наблюдений и исследовать философские достиже¬
ния эпохи. Она должна, окрепнув в изучении проделанных
в других странах попыток синтеза, вернуться затем к соб¬
ственной философской школе Бруно, Телсзио30 и Кампа-
неллы. В этой цжоле она найдет зародыш слияния филосо¬
фии с верой, и на ее основаниях возникнут учреждения, ко¬
торые одни только смогут вернуть ей величие.
• См. в девятом томе ого «Сочинений* (Флоренция, ]834) «Некоторые рассуж¬
дения об ультраметафизической философии истории*. Французское изложение,
о котором мы говорим, — сводка Лерминье 99 в его «Введении в историю права».
Опираясь на краткие заметки последнего, Романьози судит, осуждает и высмеи¬
вает всю историко-философскую систему Гегеля. Я не гегельянец и считаю, что
эта система ошибочна по своим основным идеям, но мысль Гегеля, обширная и
великая, требует к себе уважения, а его историческая философия, всегда яркая
и часто истинная и полезная, заслуживает глубокого и строгого анализа. Уже одна
попытка гармонически соединить критицизм Канта, идеализм Фихте и натура¬
лизм Шлегеля обнаруживает правильное представление о единстве науки. Ро¬
маньози, насколько мне кажется, не понимает не то что идею, но даже саму
терминологию Гегеля.
312
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
Пустота, наблюдающаяся в философии, производит, ес¬
тественно, подобную же пустоту в литературной критике:
ведь критика есть философия литературы. Если исключить
небольшой труд Бальбо «Литература первых одиннадцати
веков христианской эры», вышедший в Турине в 1835 году,
лишь немногие статьи в периодических изданиях можно от¬
нести у нас к первым попыткам на этом поприще. Сама ра¬
бота Бальбо основана на ошибочном разделении истории
искусства на две эпохи, первая из которых управляется
якобы законом кругообразного периодического изменения,
вторая — законом непрерывного прогресса31. У нас есть
несколько хороших переводов иностранных авторов; но ча¬
ще вссго, в переводах Маффеи и подобных ему, смысл и
дух оригинала приносится в жертву искусственным и услов¬
ным оборотам. Эти переводы, лишенные наставницы в ли¬
це философской критики, часто влекут юность к слепому,
бессмысленному подражанию. В Италии существует сто во¬
семьдесят литературных периодических изданий, и однако
же несколько статей Амброзоли32 в «Итальянской библио¬
теке»*, в которых развивается теория литературной «золо¬
той середины», и отдельные плодотворные мысли, высказан¬
ные неутомимым Чезаре Канту и некоторыми его друзьями
в миланском «Рикольиторе»,— вот все, что можно найти
полезного в этой гигантской мешанине. Академии, начиная
с Академии делла Круска33, влачат жалкое существование,
совершенно бесполезное для прогресса итальянской культу¬
ры. Прислужничество сделало их всех бесполезными, кро¬
ме одной. Эта одна — Туринская академия. Хотя она скова¬
на королевским покровительством, она явно стремится дать
что-то нужное и важное.
Однако если мы подумаем о несчастной и тягостной
итальянской действительности, о преследованиях, которые
неизбежно вовбуждает всякое слишком горячее проявление
энтузиазма, о подозрительной слежке за всеми, кто обнару¬
живает особенную потребность действовать, если вспомним,
что из каждых десяти истинно талантливых и пылких лю¬
дей пятеро непременно встречают на жизненном пути тюрь¬
му или ссылку, то мы вдвойне и втройне оценим результа¬
ты, которые в других странах показались бы посредствен¬
* Периодическое издание, выходящее под эгидой Австрии. Его литературное
кредо: «Наша нация должна довольствоваться своей старой литературой и своими
великими писателями, уважать их наследство и подражать им, не ища новизны».
313
ДЖ. МАЦЦИНИ
ными. Комментарием к каждой статье о культурном движе¬
нии в Италии должен был бы служить список итальянских
изгнанников. А того, что сделали эти последние в тисках
бедности, в мучениях ссылки, достаточно, чтобы прославить
наше отечество и свидетельствовать об устремлениях и дея¬
тельности Италии. Гульельмо Либри, изгнанник, знамени¬
тый математик и член Парижского института, начал «Исто¬
рию математических и физических наук в Италии», которая
заполняет пустоту, слишком долго существовавшую по ви¬
не неблагодарности и забывчивости. Другой изгнанник,
Ориоли, сейчас профессор в Корфу, успешно и упорно ра¬
ботает над тем, чтобы проследить начало итальянской куль¬
туры в этрусской цивилизации. Изгнанник и Берше34, пер¬
вым поднявший знамя итальянского романтизма, а теперь
своими переводами с испанского привлекающий внимание
к национальной народной лирике. Был выслан из Италии
Пьетро Джанноне35, автор «Изгнанника»; был выслан и
Анджелони, известный своими политическими произведе¬
ниями, стилем и идеями которых мы можем не восхищать¬
ся, но которые обнаруживают примерное постоянство пат¬
риота и преданность народному делу. Изгнанники также
Россетти36 и Пиструччи 37, превратившие обычно бесполез¬
ное искусство импровизации в высокое служение свободе.
Изгнанниками были люди, которые первыми подняли на
чужой земле религиозное и социальное знамя «Молодой
Италии»; изгнанниками были и те, кто попытался прило¬
жить принципы этой ассоциации к литературе в журнале
«Итальяно», вышедшем в прошлом году в Париже. Другие,
стремясь содействовать итальянской культуре, переводят
лучшие труды германской философии, как Дж.-Б. Пассе-
рини38 или, как Угони39, Томмазео40 и другие, выступают
с исторической и литературной критикой. Одному из изгнан¬
ников, Джовита Скальвини41, мы обязаны лучшим италь¬
янским переводом «Фауста»; другому, если не ошибаюсь,
Бьянки-Джовини42 — лучшей итальянской биографией Сар-
пи.
Так в тюрьмах и гонениях зреет итальянский разум. Так
через тысячу препятствий, воздвигнутых угнетением, по¬
рожденных рабством, пороками, жалким образованием, ту¬
пыми предрассудками, разрушить которые сможет лишь
свобода, юность Италии медленно, но уверенно движется
вперед, к школе возрождения, в которую она решительно
вступит, как только освободится от первоначально, повто¬
314
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
ряю, благотворного, но сейчас уже вредного влияния Манд¬
зони в литературе, Ботта в истории, Романьози в филосо¬
фии истории и права. И будет небесполезным время от вре¬
мени отмечать ее успехи и говорить о них иностранцам, не
понимающим нас по простому незнанию фактов.
поэзия. — ИСКУССТВО
В последние тридцать или со¬
рок лет по всей Европе гремело литературное движение,
которое, казалось, должно было принести важные плоды, но
так и осталось попыткой. Искусство было революционным
повсеместно; тех, кто заставил себя слушать, где бы они ни
находились, объединяло некое таинственное страдание, пе¬
чатью которого было отмечено их чело и которое в боль¬
шей или меньшей мере отражалось в их произведениях.
Зрелище стольких тружеников за работой давало основание
надеяться, что все выльется в нечто иное, чем теперешнее
мертвое затишье, чем то чувство уныния и откровенного бес¬
силия, о котором все сейчас свидетельствует. Эти поэты
достигли меньшего, чем от них ожидали: казалось, они го¬
товы увлечь за собой умы, меж тем как они сами один за
другим были унесены бурями века, не оставив после себя в
сердцах людей больше энтузиазма и веры, чем в них на¬
шли. Одни погибли в расцвете сил, сожженные поэзией и
неосуществленными желаниями; другие остались жить, но
лишь для того, чтобы в конце жизненного пути найти сом¬
нение или отрицание. Третьих погоня за вечно маячившим
в отдалении и вечно недостижимым идеалом привела к бе¬
зумию. Четвертые предательски продали свою музу. Один
сказал: «Поэзия умерла», другой возвестил: «Мир гибнет;
мы присутствуем на его похоронах».
Романтическое движение было лишь попыткой освобож¬
дения, не более того. Оно больше разрушило, чем создало.
Самобытность, идея патриотизма, дух Европы восстали
против легитимизма аристотелевских правил; но, разбив
свои цепи, они оказались в пустоте.
Вместо того чтобы бесконечно предаваться бесплодным
сетованиям, можно было бы сделать сегодня нечто лучшее.
316
поэзия. - ИСКУССТВО
Кто сделает это?.. Раскрыть тайну молчания и колебаний —
вот дело, за которое должна взяться критика. Литература
сможет подняться и смело двинуться в путь, лишь когда
она осознает, что с нею произошло и что ее сковывает.
Пьер Леру1 сказал где-то о Викторе Гюго, что его поэ¬
зия индивидуализирует жизнь. Не вправе ли мы сказать
нечто подобное и о многих других? Поэты романтического
поколения мало развили в своем творчестве мысль, выра¬
ботанную прошедшими веками. Жизнь индивида — вот их
вечная тема, вот все, что можно найти в основе их воззре¬
ний, если попытаться определить их философское содержа¬
ние. Нет, они пришли в мир не для того, чтобы открыть,
начать новую эпоху, как нам какое-то время верилось, ио
для того, чтобы завершить, исчерпать старую. Человек ца¬
рит в их песнях, человечество — никогда.
Сколь бы усердно ни доискиваться до сокровенной мыс¬
ли поэтов, о которых мы говорим, во всех их идеях мы не
обнаружим ничего, кроме изображения явлений человечес¬
кой жизни и материального мира в бессвязно сопоставлен¬
ных рядах картин. В лучшем случае они соответствуют ве¬
ликому христианскому дуализму добра и зла, духа и ма¬
терии, но всегда без гармоничности, единства, без какого
бы то ни было отражения вселенской жизни. Пассивны они
или активны, черпают ли свою поэзию из глубин души,
отблеском ее освещая внешние предметы и события, или
отдаются внешним впечатлениям и вдохновляются миром
ио мере того, как он разворачивается перед их взо¬
ром,— результат в конечном счете один и тот же. В пер¬
вом случае это их одинокая индивидуальность, оторван¬
ная от целого, во втором — явления и факты жизни,
которые в их стихах глядятся, если можно так ска¬
зать, на самих себя, будучи, однако, лишены связи, це¬
лостной мысли, которая упорядочила бы и объединила
разнородные образы. Эти поэты почти никогда не обобща¬
ют, почти никогда не восходят от следствия к причине, от
явления к закону; все дробится в их руках. Их путь ока¬
зался бы усеян несметными сокровищами, если бы только
удалось склеить осколки.
Они обегают весь круг творения, проникаясь каждым
из его элементов. Они разглядывают каждый оттенок —
и не видят картины; они задерживаются на каждой но¬
те— но от них ускользает аккорд. Вот их воодушевляет
идея реабилитации, они задумывают силой поэзии возвы¬
317
Дж. МАЦЦИНЙ
сить падшие существа, их выбор падает на одно из них —
но, вместо того чтобы раскрыть в нем символ общей идеи,
они так изолируют и отъединяют его от целого, они поме¬
щают его в такой специфической среде, что когда труд за¬
вершен, эта идея исчезает и теряется в своем символе,
вместо того чтобы засветиться живым блеском. То, что
поэт хотел сделать средством, становится вдруг целью.
Образ превращается в идола, затмевая бога2.
Если они принимаются наблюдать природу, их взор так
любовно, так артистично ласкает бесчисленные формы, они
знают и так хорошо по памяти объяснят нам строение
каждого цветка, мелодию каждого ветерка, сверкание каж¬
дой капельки дождя или росы, что от них ускользает смысл
и гармония целого. Неспособные показать нам этот смысл,
они даже не направляют нас на путь, ведущий к его от¬
крытию. Когда все завершено, какой-нибудь очарователь¬
ный пейзаж вызовет ваше восхищение, но ваша душа вновь
впадет в бездействие; ее деятельные и творческие способ¬
ности окажутся не более возбуждены, чем до того. Бог,
человек, природа прошли перед вами, но как три разроз¬
ненные стороны треугольника, которые надо соединить.
Говорили, что путь к возрождению ведет через прошлое.
Говорили, что для возвращения поэзии первозданной силы
нужно вернуть ее к ее источнику. Оживляли обломки ста¬
рых школ и ушедших веков и определяли искусство то как
подражание природе, то как воплощение прекрасного, то
как изображение внутреннего человека. Ничто из этого не
есть искусство, говорим мы; или, скорее, искусство есть
все это, но также и еще нечто. Все эти определения по
меньшей мере неполны: они имеют в виду лишь искусство
одного народа или одной эпохи, принимают средство за
цель, не учитывают основного условия искусства, его обра¬
щенности вперед. Байрон назвал поэзию предчувствием бу¬
дущего мира. Авторы «Ревю энсиклопедик» сказали, что
искусство есть выражение жизни человечества. Самая пло¬
дотворная и богатая мысль не сможет пойти дальше этих
двух идей, соединенных в одном определении. Да, пищей
для искусства служит в равной мере и прошлое и буду¬
щее; традиция и воспитание — вот две его основные сторо¬
ны. Поэт есть средоточие памяти и предчувствия; он дол¬
жен быть одновременно истолкователем и пророком.
Искусство должно пророчески выражать жизнь челове¬
чества — его жизнь, говорим мы, а не итоги его жизни, что
318
поэзия. - ИСКУССТВО
является делом истории, и не законы его жизни, что явля¬
ется делом философии. И для этой цели искусство обраща¬
ется прежде всего к сердцу, тогда как история и философия
обращаются в первую очередь к разуму; оно пробуждает
волю к действию, оно рождает веру там, где другие сред¬
ства выражения вызывают лишь холодные и пассивные
представления; от внешней природы оно просит образы,
звуки — от разлитой во вселенной гармонии, откровения —
от личности, от души человеческой, этой капельки боже¬
ственной идеи, выразителем которой является человече¬
ство. Поэт берет то, что находит вокруг себя; он ищет
язык, до сих пор неведомый во всей его полноте, язык,
символические и звуковые знаки которого рассеяны по¬
всюду; он встает, если можно так сказать, посреди земли и
неба, чтобы соединить их, возвысив первую до второго.
Итак, в общем труде человечества, который склады¬
вается из двух составных частей, из двух усилий — осоз¬
нания и свершения, мысли и действия, — иоэзия занимает
свое особое место. То, что научно формулирует философия,
что выводит из опыта история, поэзия должна превратить
в привычку, в потребность человеческого сердца, поднять
посредством культа красоты выше всех эгоистических инте¬
ресов, окружить могучим энтузиазмом, закрепить в бес¬
смертном слове, сопроводить тем утешением, которое в на¬
ших неизбежных испытаниях и разочарованиях может дать
нам лишь поэт. Поэтом должен быть тот, кто умеет больше
всех любить, поэзией — то, что более всего способно заста¬
вить любить.
Ее исходной точкой должен быть человек, каков он есть;
но целью ее должен стать человек, каким он будет, социаль¬
ный человек, человечество. Так поэзия возвысится от
настоящего к будущему; так поэт будет идти не в рядах, а
во главе поколений, ведя их через пустыню. Он выступит
на защиту угнетенных народов; в сердцах людей он угада¬
ет ту мысль, которая способна разорвать как можно боль¬
ше цепей, и оденет ее всем блеском поэзии; под нанесенной
насилием и пороком грязыо он отыщет задушенный заро¬
дыш национального чувства и вернет ему жизнь, вспоит
его своим дыханием. У него найдутся цветы для гробниц
и пальмовые ветви для мучеников; он встанет в средоточии
природы, и слух его уловит все ее звучания, взор — все
формы, душа — все впечатления. В каждом создании он
обнаружит частицу всего творения, в каждом живом суще¬
319
ДЖ. МАЦЦИНИ
стве увидит искру жизни вселенной. Его труд уже не будет
трудом копииста: он преобразит и одушевит все, о чем бу¬
дет петь.
Поэзия не мертва; сегодня она спит. Как от соприкос¬
новения облаков вспыхивает электрическое пламя, так она
вспыхнет, когда жизнь человечества коснется умеющего
понять ее поэта. В сфере идей человечество уже сделало
шаг вперед; теперь очередь за поэтами, и над подготовкой
этого нового шага должна неустанно трудиться критика.
ОТРЫВОК НЕИЗДАННОЙ КНИГИ
ПОД НАЗВАНИЕМ
«ДВА ЗАСЕДАНИЯ
академиков-пифагорейцев»
Когда в 1810 году, еще юно¬
шей, я участвовал в заседании 15 мая (см. «Анналы
наук и искусства»)1, надежды на возрождение итальянской
литературы, по крайней мере для меня, давно растаяли.
Кипение умов, устремившихся к новому в последние годы
XVIII века, постепенно истощалось в молчаливой, однооб¬
разной, роковой тирании Империи. Из пифагорейцев од¬
ни— это были старики—убеждались, что голоса их зву¬
чат и, возможно, в продолжение жизни целого поколения
будут еще звучать в пустоте, и смиренно замыкались в
молчании, не отрекаясь от своей веры; другие — моло¬
дежь— пылкие по природе, но менее стойкие умом, не ви¬
дели за сегодняшним днем будущего и приучались к безве¬
рию и мизантропии; ничтожное меньшинство боролось, но
теряло веру в победу. Профессора возвращались к старо¬
му канону Горация и «Государя», журналисты — к сплет¬
ням, стихотворцы — к своему аркадскому бренчанию.
И среди пустого красноречия академиков, продажности
журналистов, прислужничества наставников рождалась —
в третий раз — та очевидная, неопровержимая истина, час¬
то повторяемая, но, боюсь, и до сего дня не прочувство¬
ванная в Италии: что погибшую национальную литерату¬
ру не воссоздаст, не возродит иностранное влияние,
Поэтому я уехал.
Четыре года спустя умолкли даже последние отголоски
того кипения. Литераторы начали заново с XVI века. Во¬
зобновлялись войны евнухов вокруг вопроса, является ли
итальянский язык итальянским или нет. Молодежь приуча¬
лась к болтовне о словах и все более уходила от животво¬
рящих идей. Народ, лишенный единства, а значит, и обще¬
го языка, не обращал на все это внимания и изливал свои
чувства в поэзии на диалектах. Возникло одно дерзкое,
1 1 -6342
321
ДЖ. МАЦЦИНИ
фантастическое, необузданное, многообещающее направле¬
ние2 — однако, не имея прочных историко-философских
убеждений, под руководством вождей, возможно, сильных
духом, но, уж конечно, не умом, оно истощилось в бесплод¬
ных спорах о форме и угасло, оставив в наследство лишь
один гимн, два хора, повесть, сотни две октав и пятьдесят
страниц3 романа.
Все это происходило, пока я странствовал в чужих
краях.
Когда я вернулся на родину, молчание стало всеобщим
законом. Уважение к формам умерло; уважение к идеям
еще не родилось. Литературной сценой завладела посредст¬
венность, пробавлявшаяся переводами, компиляциями и
гимнами святой деве. Журналисты взяли верх; но библио¬
графические списки, которые они время от времени неразум¬
но печатали в своих сочинениях, выдавали для тех, кто их
просматривал, наше убожество. Святое слово прогресс не
сходило с уст молодых литераторов; но большинство повто¬
ряло его бессмысленно, по обезьяньей привычке,— другие
же, к несчастью, узурпировали его для оправдания своей
возведенной в принцип бездеятельности, вверив медлен¬
ной работе веков и божественному провидению благо оте¬
чества и торжество Истины. Времена были мрачные; но,
не знаю почему,— возможно, обманутый собственным же¬
ланием— я чувствовал себя необычайно укрепленным од¬
ной надеждой. Мне казалось, что бледные и прежде
времени осунувшиеся лица нелитературных юношей осве¬
щались время от времени глубоким чувством и сожале¬
нием; я бы поклялся, что многие из них выше писателей,
и чтобы убедиться в этом самим и превзойти их, им нуж¬
на лишь вера в уместность дерзновенных опытов и в
народ читателей. Потом, особенно в Турине и Милане, по¬
явились признаки возвращения к работе более серьезной,
к национальным тенденциям и к попыткам совершенство¬
вания. Тогда я стал искать академиков-пифагорейцев.
Вскоре после моего отъезда академики-пифагорейцы
рассеялись; думаю, за все эти двадцать лет они ни разу не
пытались собраться, должно быть, из верности статье X сво¬
его устава, обязывающей Академию «заседать публично».
Но и самая эта статья, по общеизвестным причинам невы¬
полнимая, и теория Президента, по которой «всякая ком¬
пания незанятых людей, желающих жить в святой свободе
322
«ДВА ЗАСЕДАНИЯ АКАДЕМИКОВ-ПИФАГОРЕЙЦЕВ»
законов, должна беседовать, смеяться, жаловаться, рассуж¬
дать и молиться богу всегда публично, чтобы не вызвать
подозрений у правительства, не дать повода плутам лгать
и шпионить и не сеять надежды среди недовольных»4, про¬
тиворечили уже апостольскому литературно-нравственному
служению, первой и единственной непреложной цели Ака¬
демии. Поэтому после того, как умер Президент и двадцать
лет молчания расшатали уважение к традициям Акаде¬
мии, некоторые из пифагорейцев незадолго до моего возв¬
ращения в Италию начали время от времени собираться
частным порядком в доме Главы оппозиции. И вокруг этих
первых стали понемногу сплачиваться остальные академи¬
ки, хотя и без переизбрания Президента, без должности
Герольда, без соблюдения форм, принимая кое-кого по ре¬
комендации старейших членов, но не так, как раньше, всех
без различия. Это не было даже собственно Академией:
были просто собрания друзей в определенные дни и с оп¬
ределенными намерениями, ни публичные, ни тайные. Уж
конечно, не тайные, потому что, как тому надлежит быть в
любой компании людей ученых, при благоприятном ветре
шум споров слышался почти на милю вокруг.
Я снова встретил седого академика5; степенный, блед¬
ный, он внушал почтение, как и в золотые дни Академии,
когда его окружала пылкая молодежь, которая родилась в
эпоху Альфиери, выросла в бурях и надеялась, умирая, ос¬
тавить отечество закаленным ее трудами для мужествен¬
ных замыслов и великих дел. Двадцать три года прошло с
тех пор, как я приветствовал его в последний раз, и все то по¬
коление омертвело в праздности или погрязло в пороке, а
он, пережив непоправимое горе и тягчайшее разочарование,
вступал теперь в свой восьмидесятый год; но такой жизнью
сверкали его глаза, такой мир был написан на его челе,
что, видя его впервые, я подумал бы, что он едва перешаг¬
нул за пятьдесят пятый и что ему все еще улыбается преж¬
няя надежда. У него было одно из тех лиц, что не меняется
с течением лет: время ложится на них как бы с уважением
и увенчивает их священным и торжественным величием,
подобным тому, какое столетия дарят памятникам, воздвиг¬
нутым гением богу и добродетели, тени бога на земле. И
гений и добродетель сочетались на этом челе. Длинные го¬
ризонтальные складки, бороздившие это лицо покойными
линиями, свидетельствовали о силах могучих, о глубоких,
упорных и, можно было бы сказать, безмятежных раздумь¬
11
323
ДЖ. МАЦЦИНИ
ях, если бы еще другие, короткие и прерывистые морщины,
опускавшиеся под углом между бровей, не выдавали тайну
многих мужественно перенесенных испытаний и многих свя¬
то выстраданных мук — словом, всю историю борения ду¬
ши добродетельной и пылкой, которая часто враждует с
людьми и миром. И он победил, но победой трудной и
оплаченной живой кровью сердца. Он сохранил незапят¬
нанной веру в бога и в конечную судьбу своего отечества;
но в настоящем у него уже не было никаких иллюзий, и он
был уверен, что заря нового дня взойдет лишь над его мо¬
гилой. Он был худ, но еще крепок и держался прямо, как
солдат, отвечающий на пароль. Слегка склоненными были
лишь голова и шея, но не столько от возраста, сколько от
постоянных ударов судьбы. Когда он был неподвижен, он
казался изваянием Смирения.
О других академиках мне нечего сказать; мой отчет о
собрании достаточно обозначит их душевный склад. Кажет¬
ся,— судя по девизу, который я прочел в начале списков,—
они чувствовали, что времена переменились и что с ними
изменилась их миссия. Слова апостола Иоанна: «О том, что
было от начала, что мы слышали, что видели своими оча¬
ми, что рассматривали и осязали руки наши... свидетельст¬
вуем и возвещаем вам»6, они заменили другими, более ре¬
шительными и ясными словами Бэкона: «Omnia instauran¬
da sunt ab imis fundamentis»7, и считали — по крайней ме¬
ре прямые инициаторы этого изменения,— что уже недо¬
статочно обличать пороки литературы и суетность и пред¬
рассудки литераторов, но посредством положительных тео¬
рий и всеобщих и безусловных воззрений нужно внушить
молодежи необходимость сверху донизу сотрясти старое зда¬
ние и воздвигнуть другое на совершенно иных основаниях;
сошлись ли они на том, какими должны быть эти основа¬
ния, не умею сказать. К старым академикам присоедини¬
лись многие новые, и эти новые горели беспокойством, же¬
лали творить благо и споспешествовать национальной чес¬
ти, желали искрение — ибо таково нерушимое и единствен¬
ное условие допущения в число пифигорейцев,— но не зна¬
ли, как осуществить свое желание; они скептически от¬
носились к большинству средств, отчаиваясь от сознания,
что почти все они бесполезны. Из-за этого собрания быва¬
ли часто бурными и кончались ничем. Я выпишу в точности
не только речи, но и малейшие реплики и возгласы — в ко¬
торых я всегда весьма ценил красноречивые излияния иро-
324
«ДВА ЗАСЕДАНИЯ АКАДЕМИКОВ-ПИФАГОРЕЙЦЕВ»
должительных и сосредоточенных страстей,— чтобы можно
было по крайней мере видеть, что происходит в стенах Ака¬
демии, даже если она составлена из людей добрых, когда
недостает единого принципа, единой веры, которая господ¬
ствовала бы над всеми мнениями.
Собрание 28 ноября
День был пасмурный, холодный, дождливый. Земля бы¬
ла — грязь, небо — лондонское. Академиков было сорок,
как я увидел с порога. И по моей давней антипатии к чис¬
лу 40, особенно когда дело касается академий, я остановил¬
ся в нерешительности, не зная, уйти или остаться; но два
академика, один — молодой, живой, с густыми черными во¬
лосами, с каким-то волнением предчувствия в черных очах,
другой — пожилой, лысый, угловатый, с сурово-ирониче¬
ским взором и деревянной ногой, вовремя подоспели, чтобы
успокоить меня. Я вошел и сел на скамье стенографа меж¬
ду молчаливым академиком и осторожным академиком.
Говорил глава оппозиции.
Г лава оппозиции. Короче, у вас уже несколько
веков нет литературы; вам остается довольствоваться кри¬
тикой. Молодым, полуварварским, но охваченным глубокой
верой и сильными страстями народам бог может послать
иногда непрошеного, незаслуженного гения — пророка. А
вы — народ состарившийся, развращенный, охладевший
сердцем, измельчавший от безделья, словопрений и вечно¬
го унизительного страха. Бог с презрением отвращает от вас
лицо свое и обрекает вас на софизмы, тщеславие и бесси¬
лие византийских греков до тех пор, пока своим словом и
своим трудом вы не воспитаете в республике читателей
культ поэзии, любовь к писателям, сознание важности и
достоинства литературы. Лишь философия искусства спо¬
собна теперь вернуть вам цветущее искусство.
При словах «у вас нет литературы» академик — храни¬
тель книг медленно повернулся и указал взглядом на пол¬
ку справа от него, уставленную множеством книг, изданных
за последние пятьдесят лет, словно говоря: «Посмотри!»
Глава оппозиции. А на самом видном месте сре¬
ди изданий, которые ты мне показываешь, не стоят ли де-
сять-двенадцать томов поэта8, блещущего богатством вооб¬
ражения и абсолютным владением тысячью ладов италь¬
325
ДЖ. МАЦЦИНИ
янского стиха, но виновного в возвращении престижа стиху,
который звучит, не созидая,— виновного в развращении
юности поклонением перед бездушными формами, в низве¬
дении искусства до ремесла наемного трубадура,— винов¬
ного в том, что освященное Данте одеяние он измарал в
грязи прихожих всех сильных мира сего? А за ним — не тол¬
пы ли подражателей подражателям, всю жизнь корпевших
над тем, чтобы посредством одной лишь техники стиха пе¬
ренести в свои пасторали, георгики и эпистолы образы и
полустишия латинских поэтов9? А за этими — не тесные ли
ряды новых наследников Метастазио, подражателей Пет¬
рарки, тех, кто бренчит на двухструнной гитаре Витторел-
ли10 и компании? Так сократи эти десять-двенадцать
томов до одного, до нескольких страниц, из уважения к
затраченному труду и стилистическим опытам — осталь¬
ные; до нескольких сцен — все эти земноводные тра¬
гедии, результат темных сделок между вечным прог¬
рессом, законом искусства и самозваной диктатурой
литературных законодателей; до нескольких строк, что¬
бы почтить благие намерения их авторов — все пять
или шесть эпопей; совершенно отбрось всю массу ис¬
торических романов, в которых нет ни романа, ни ис*
тории; ты увидишь, что останется от этих книг. Впро¬
чем, я говорил о литературе, ты же мне ответил, как отве¬
чают все историки литературы: именами литераторов; но
разве там, где нет единства веры, всеобщих законов и цели,
могут двадцать, пятьдесят, сто литературных имен заме¬
нить народу Национальную Литературу? Литература наро¬
да, как и само отечество, иитается высокой и плодотворной
идеей, истолковывающей прошлое и возвещающей будущее;
этой идеей проникнута горстка Великих, людей возвышен¬
ных душой и разумом, которые возвещают ее во всем пер¬
воначальном, часто загадочном величии, — ее с любовью
перенимают таланты низшей сферы и своими трудами раз¬
вертывают, распространяют, воплощают в тысячах форм
и видов искусства — ее с верой и признательностью впи¬
тывает большинство читающих и слушающих. А у нас —
кто укажет мне сегодня великую идею, царящую во
всех умах? Где согласие и единство усилий? Где взаимное
влияние, вдохновение, роднящее поэта с народом, пере¬
дающееся от народа творцам, поднимающееся от основа¬
ния к вершине пирамиды, чтобы затем, пройдя очищение
гением, вновь, подобно животворящей росе, вернуться к
326
«ДВА ЗАСЕДАНИЯ АКАДЕМИКОВ-ПИФАГОРЕЙЦЕВ*
нации? 01 если бы эта святая гармония не была вот уже
много веков назад нарушена, неужели ты думаешь, что
Парини одной лишь сатире доверил бы свою славу среди
потомков? Неужели Фосколо до последнего своего дня
метался бы тогда между новыми предчувствиями и стары¬
ми воспоминаниями искусства? Неужели так редко слыша¬
лись бы и такой грустью звучали бы арфы наших поэтов
в эту эпоху, даже надгробия кладбищ украсившую роза¬
ми? И когда я думаю о всех молодых и горящих поэзией
душах, которые хотели бы подняться в полет, но не могут
оторваться от земли, потому что предугадывают пустыню
на желанной высоте, потому что предчувствуют (даже если
их минуют другие, пошлые страхи) неизбежное мучениче¬
ство гения, пророка ненаступившей эпохи, глагола еще не
родившейся нации, не могущей утешить своего поэта одоб¬
рением и любовью, — тогда я начинаю понимать, что эпохе
созидания у нас должен предшествовать труд воспитания
верующего в искусство народа; начинаю понимать, что все
мы должны не взывать праздно к гению, но готовить ему
путь, материал, поклонников своими философскими и
историческими трудами о вечных принципах искусства,
жизнеописаниями великих людей, переводами, газетами и
журналами...
Один академик. В Италии их сто восемьдесят.
Другой академик. Только не говори об этом иностран¬
цам, а то они захотят взглянуть в них.
Третий. Если ты сможешь извлечь хотя бы одну идею
из ста восьмидесяти номеров ста семидесяти восьми из
этих газет и журналов, я обязуюсь читать все их в течение
всей своей жизни.
Четвертый. К чему теории? К чему критика? Теории
подобны законам: сильный нарушает их, слабый гибнет,
раздавленный ими. У нас был «Кончилиаторе»; у нас около
десяти лет была романтическая критика — но это не зна¬
чит, что была литература. Во все века гений возникал и рос
без учителей.
Глава оппозиции. Если бы сейчас среди вас возник
гений, он умер бы от голода или от мучений. Ты упомянул
«Кончилиаторе». Я храню к этому журналу такое же бла¬
гоговение, с каким отношусь к старому экземпляру «Дека¬
мерона», отпечатанному во Флоренции в 1527 году, но
той воспитующей критики, о которой я мечтаю для Италии,
я в нем не нахожу, а из всех споров вокруг романтизма,
327
ДЖ. МАЦЦИНИ
которые десять лет бушевали среди критиков, ты едва ли
сможешь извлечь хотя бы одно верное и полезное опре¬
деление романтизма. Романтизм...
Он продолжал но академики заговорили все разом.
Академики. Хотите знать, что такое романтизм?—
Да, хотим. — Романтизм — это закованный с головы до ног
в сталь рыцарь в черных латах, с опущенным забралом,
длинным острым мечом — из тех, что ржавели в гробницах
крестоносцев в Святой земле.— Да, да, конечно; я сам
видел этого рыцаря — и я — и я — он бродит под сводами
старых монастырей — временами он является среди шпи¬
лей готических храмов — христианских, во имя Господа! —
или между башнями развалившихся феодальных замков —
он из Шотландии — он ходит, глядя вспять,— когда он не
поет любовную балладу своей госпоже, его речь грустна
и сурова — на турнирах он бьет вслепую — он скачет в
дремучих лесах.— А его имя?.. Но мы не хотим лесов, мы
не хотим турниров.— Обеды Мецената лучше, а?— Неза¬
чем возвращаться к прошлым временам.— Мы сторонники
прогресса.— Смерть Романтизму! Долой средние века!
Бей, бей романтиков!
— Стойте — подождите — успокойтесь — вы тратите
время впустую — вы гонитесь за тенью.— Романтизм не
рыцарь в черных доспехах.— Романтик — это отшельник,
аскет, созерцатель.— Он смотрит в небо и презирает зем¬
лю.— Презирает? Разве земля не творение божие?— Это
неважно, в боге он чтит только незримое, а человеку остав¬
ляет одну лишь молитву, потому что она приближает его к
богу — день-деньской он дремлет в лесах у источников —
или на пуховых перинах, или под расписным шатром —
а ночами смотрит на звезды и молится — за себя или за
других?—И отцы наши молились в Леньяно11; и божьи
голуби спускались и садились над карроччо12, когда шел
бой.— Но разве может признавать молитву тот, кто прези¬
рает землю и видит в человеке только тлен?— Неважно: он
молится; и если кто-нибудь крикнет ему на пути: «Гля¬
ди, как притесняет меня сильный! Гляди, от плодов моего
труда мне не оставляют даже столько, чтобы прокормить
моих детей!»—он пропоет тому гимн деве Марии и укажет
на небо.— Этого недостаточно: ведь если несчастный ум¬
рет с проклятием на устах от издевательств и непосильно¬
го труда, разве последнее его проклятие не ляжет также на
душу бездеятельного созерцателя?—Долой романтизм!—
328
«ДВА ЗАСЕДАНИЯ АКАДЕМИКОВ-ПИФАГОРЕИЦЕВ*
Отошлите его к монахам!—Нет, не надо его совсем!
— Остановитесь, слепцы! вы все обманываетесь. Я, я
знаю романтизм, я его видел. — Где он? кто он? что он? —
Сказать?—Да, бога ради, скажи, Академия в опасности.—
Романтизм — это мертвец.— Мертвец?— Мертвец! Бро¬
дячий мертвец, который ходит ночами, один при лунном
свете. А когда дует северный альпийский ветер, он рас¬
сказывает скрежещущим голосом какую-то свою сказку
так, что нянек у постелей и детей в колыбельках бросает
в дрожь.— Постойте, не скрежет ли это цепей: заальпийс¬
кий ветер приносит, к сожалению, не только голос мертве¬
цов.— Молчите! — Правда, правда: один мой друг литера¬
тор видел, как он взбирался по расщелине стены одной за¬
брошенной церквушки и глазными впадинами глядел на ко¬
локольню.— Боже праведный!..— Не бойтесь: это честный
мертвец — честный, честный! Но когда он скачет по равни¬
не на своем адски черном коне без седла, не везет ли он с
собой похищенную девушку?—Негодяй!—А Плутон и
Прозерпина?— Все равно бей его, бей: Плутон был царь,
ему позволено.— Бей мертвеца, бей романтизм!—Не оск¬
верняйте прекрасную землю, классическую землю, сад при¬
роды...— Но на цветах в этом саду слезы и кровь.— Мол¬
чите!— Это не наша кровь: если бы все поступали, как
мы, та кровь не пролилась бы.— А слезы13?—Долой мерт¬
веца, гони мертвеца!
— Ах, если бы он был мертвецом, но он еще хуже!—
Еще хуже?— Говорю вам, хуже.— Ох! Но что же он такое?
Дьявол?—Вот именно!—Дьявол! На помощь!—Но может
быть, это просто добрый демон? — Какое там добрый де¬
мон! Он поносит святых и ангелов хуже лютеранина — он
отрицает бога — он скептик, еретик — о, заблудший век!—
его зовут Каин, Мефистофель, Манфред, Байрон!—Бай¬
рон? Не верьте! Байрон носил в глубине своей души вы¬
сокое, неутешное страдание и изливал его как мог в сво¬
ем искусстве; он никому в мире не сделал зла и умер в
Греции за возрождение свободы.— Теперь у нас в моде
называть скептиками могучие души, для которых наше
собственное безверие вырыло могилу.
Наперебой выкрикнув все эти фразы, слова и целые
периоды, академики истощили запас воздуха в своих лег*
ких, и за последними возгласами наступила тишина. Глава
оппозиции мог бы уже продолжать свою речь. Но Глава
оппозиции как бы в отчаянии склонил главу над актами
329
ДЖ. МАЦЦИНИ
Академии делла Круска, лежавшими перед ним на столе,
и спал. Слово взял Седой академик.
Седой академик. И вот вам вкратце почти вся ис¬
тория споров, которые волновали литераторов и журна¬
листов Италии с первого появления романтизма до наших
дней. Одни в этом периоде литературы не видели ничего,
кроме возврата к средневековой фантазии или к мистициз¬
му предшественников Данте; другие со страхом видели в
нем нападение извращенных и разнузданных умов на вся¬
кую литературную традицию, на всю дедовскую мудрость
и законы. Никто у нас, насколько мне известно, не увидел
и не указал причин появления романтизма и того отноше¬
ния, в котором он находился к своей эпохе и к искусству
будущего. Кто, кроме наших критиков, вознамерился бы,
имея перед глазами Байрона и (господь меня прости за то,
что я упоминаю эти два имени рядом) Вальтера Скотта,
Шиллера и Гёте, Беранже и Ламартина, Мандзони и Гвер-
рацци, искать определения романтизма по взятому направ¬
лению? Направлений было столько же, сколько умов, ибо
единственным законом для молодых писателей того периода
было вдохновение и личные их наклонности; социальной
тенденции не было тогда, как нет ее и сейчас. Тирания пе¬
дантов, предчувствия народных множеств, невозможность
применить к идеям XIX века формы двухтысячелетней и
большей давности породили у всех романтиков этот дух не¬
зависимости, которым бурлят их произведения; но идейное
братство не может жить отрицанием, и, едва добившись
свободы, они разрушили его и разбрелись на все четыре
стороны. Они восстали для того, чтобы разрушить, а не для
того, чтобы основать. Романтизм, этот благородный, но бес¬
плодный крик человеческой свободы против — не власти,
нет,— против самовластия, смог, опираясь на материализм
последних десятилетий XVIII века и на эклектизм начала
XIX века, освободить дух от колодок, но не направить его,
отобразить эпоху, но не возглавить ее. В нем был мисти¬
цизм, был возврат к средневековью, затем католицизм, бы¬
ли одновременно скептицизм, материализм, отчаяние, пото¬
му что все эти стихии раздирали век,— потому что гибла
одна исчерпавшая себя литературная эпоха и должна бы¬
ла начаться новая, но между этими эпохами была пустота:
отсутствие принципов, философии, веры, отсутствие чего
бы то ни было, способного сплотить души в могучее един¬
ство труда, вдохновения и любви...
330
«ДВА ЗАСЕДАНИЯ АКЛДЕМИКОВ-ПИФАГОРЕИЦЕВ»
(Я выпускаю многое из того, что говорил этот академик
о романтизме, потому что собираюсь поместить его речь
в книжечку о литературе последних пятидесяти лет, кото¬
рую готовлю к печати; предупреждаю о ней читателей за¬
ранее, чтобы они воздержались, блюдя экономию, от по¬
купки, если мнения Седого академика не совпадают с их
взглядом на вещи.)
Седой академик. Для возникновения новой литературы
нужны усилия чистосердечных, но не разнузданных людей.
И, может быть, именно сейчас времена благоприятствуют
тем, кто хочет заложить ее основы. Романтизм ушел, но
плоды его побед остались, и остались навсегда. Старый
классицизм угас: умерла аркадская литература; изнежен¬
ная, насурмленная, праздная литература последних иезуи¬
тов спит с аббатиком Бонди 14 в немецкой церквушке рядом
с прахом аббатика Метастазио. У нас есть тупые критики и
невежественные литераторы, но гибельного влияния акаде¬
мий и школ нет. И может быть, кто-нибудь из юношей,
вступающих сегодня в свой семнадцатый год, родившихся,
когда литературная свобода была уже завоевана, воспитан¬
ных вне какой бы то ни было доктрины, выросших в жела¬
нии деятельности, жадно воспримет голос, который без за¬
висти или страха провозгласит Истину, и эти единицы
вверят ее как священный дар другим, а те новым множест¬
вам, пока, наконец, признанная большинством мыслящей
Италии, Истина поднимется во всем своем блеске, чтобы
дарить жизнь и тепло массам, закосневшим в течение трех
веков бездействия и...
Осторожный академик. Молчите!
Академик с деревянной ногой. Молчите? Почему «молчи¬
те»? Да если бы это твое «молчите» не повторялось как эхо
устами стольких итальянцев, если бы профессора со своих
кафедр не твердили его на все лады молодым, а множест¬
во людей, для которых осторожность служит прикрытием
порока или равнодушия, не находили бы в этом проклятом
слове вершину мудрости, вместо того чтобы видеть в нем
средоточие низости и подлости,— то у нас не было бы сей¬
час ни такого количества литераторов — ловцов легкой сла¬
вы и продажных писателей, наслаждающихся незаслужен¬
ной безнаказанностью, ни такого множества блаженных
бездарностей, убежденных, что литература расцветает в
Италии, как и везде, ни стольких малодушных, которые,
едва вступив на дорогу истины, вновь прячутся при первом
331
ДЖ. МАЦЦИНИ
дуновении северного ветра. К несчастью, порода академи¬
ков, осторожных по привычке, а не по необходимости, по¬
явилась у нас давно; и пока она многочисленна и влия¬
тельна, словесность останется там, где она обретается сей¬
час, между лакейской и библиотекой, не вдохновляя обще¬
ство к социальной добродетели, не воспитывая народ. На
другом пути ждут клевета и преследования — но также
душевный мир от сознания выполненного долга и народная
польза.
Осторожный академик. Сможешь ли ты один перебороть
клевету и отвратить северный ветер?
Академик с деревянной ногой. Один — один! А кто ска¬
зал тебе, что, если у меня хватит таланта положить начало
делу, я останусь один? Ты можешь, при всеобщем молча¬
нии, перечесть души, истосковавшиеся по истине и ждущие
только зова?
Осторожный академик. Я? Нет; но я перечел, сколько
было бесполезных попыток со времен Данте до наших дней;
я сосчитал мучеников мысли, во все времена и во всех зем¬
лях, наказанных костром и плахой или равнодушием и
презрением за то, что они поверили в своих современни¬
ков,— и что-то я не вижу, чтобы их слезы и их кровь по¬
шли на пользу внукам. Память об этих великодушных бе¬
зумцах забыта или теплится светом кладбищенской лам¬
падки. К несчастью, наш сон так глубок, что даже мука не
может его превозмочь. Сегодня проза и расчет правят у
нас жизнью, и когда ты восстанешь, общество будет ви¬
деть в тебе не честного противника, а бунтовщика.
Академик с деревянной ногой. Мы низко пали сегодня —
вот единственная истина; злые сильны лишь нашим неве¬
рием в свои силы. Будь у нас в кулаке истина, но угрожай
нам опасность злой насмешки, мы не осмелились бы встре¬
тить эту насмешку и раскрыть кулак. Мы страшимся на¬
смешки, страшимся черни, которую в глубине души прези¬
раем; страшимся остывшей души, злоречия, эгоизма, всех и
вся, только не бога, который глядит на нас с вышины, и
не человечества, перед судом которого мы должны будем
когда-нибудь предстать. Стыд и позор! Трусливыми сделка¬
ми между заблуждением и истиной, между совестью и чу¬
жим мнением мы ежечасно оскверняем свою бессмертную
душу. Мы служим миру, проклиная его, а небу — держа
под рукой Макиавелли. Но если люди таланта, писатели,
те немногие, что сберегли вдохновенную способность к
332
«ДВА ЗАСЕДАНИЯ АКАДЕМИКОВ-ПИФАГОРЕИЦЕВ»
поэзии, не спешат наперебой восстановить ее честь — то кто
же это сделает? И к чему оплакивать потерю крепкой веры,
если сами вы не трудитесь над ее возрождением, если не
решаетесь публично поклониться своему божеству? Во имя
бога — поднимите забрало! Кого и чего вы страшитесь? Уж
не кажется ли вам столь сладкой ваша жизнь, что вы на¬
мерены, ради сохранения ее в покое и достатке, принести
в жертву и свою душу? Наши литераторы занимались дип¬
ломатией десять лет назад, изощряясь в попытках при
помощи протоколов и приемлемых для всех партий консти¬
туционных уловок добиться какой-то литературной свобо¬
ды,— они занимаются ею и сейчас, стараясь микроскопиче¬
скими дозами ввести теорию прогресса — единую, абсолют¬
ную, неделимую. Тогда они великодушно уступали своим
противникам и соглашались, что формы должны остаться
классическими до скончания века в обмен на то, что будет
открыт доступ элементам романтизма в содержании; теперь
они уступают старым теориям случайности или преврат¬
ности судьбы более трехсот веков жизни человечества,
лишь бы какие-то восемнадцать смогли мирно встать под
сень новых формул прогресса 15. Но всякое содержание не¬
сет в себе собственную форму; с того самого первого дня,
когда бог вдохнул жизнь в свое творение, с необходимостью
начал действовать закон жизни. Мы знаем это, но сказать
об этом нельзя. У нас слишком много врагов. Один лите¬
ратор, в парике, кричит мне в лицо: ты предаешь отечест¬
венную литературу! Другой, в капюшоне, шепчет на ухо:
смотри, ты заигрываешь с ересью!—Так пожертвуй капю¬
шону треть истины, напудренному парику другую треть;
разлей то, что тебе осталось, по тайным ручейкам и жело¬
бам так, чтобы твой народ ничего не увидел,— потом выйди
на трибуну и крикни своим согражданам: «Придите ко
мне, и воздадим хвалу бессмертным богам, ибо я спас оте¬
чество». Но не обессудь, если вместо того, чтобы торжест¬
венным шествием проследовать за тобой к желанному Ка¬
питолию, сограждане покажут за твоей спиной длинный
нос и отправятся по своим делам, не проклинай свой век,
если он отвечает гомеопатическим прогрессом на гомеопа¬
тические дозы твоей помощи, не говори: «Злых много, и они
затмили светом своих потайных фонарей предрассветные
сумерки, которые я принес»; ибо если бы ты разлил свет
истины заревом, а не сумерками, кто пошел бы за их фона¬
рями? О, сколько вас, осторожных литераторов! Мирно жи¬
333
ДЖ. МАЦЦИНИ
рейте в своих подбитых ватой халатах, смакуйте, грея ноги
на каминных решетках, присланный покровителем кофе
мокка и пишите, предусмотрительно надев нарукавники,
канцоны и остроумные изречения для непифагорейских ака¬
демиков: уважая ваши блаженные досуги, мы все лишь по¬
смеемся про себя. Но не вздумайте говорить о Прогрессе —
не забывайте о quid valeant humeri16 вашего наставника,
не берите на себя опасных предприятий, не укрепляйте мо¬
лодых в заблуждении, будто бы они идут по правильному
пути, когда они бредут по вашим следам вдоль кривых
дорожек и троп. Лучше молчать, чем так обманывать, по¬
тому что в день разочарования любовь к истине часто гиб¬
нет вместе с верой в лжеапостолов, которые, обещая цель¬
ную и чистую правду, давали ее по частям и вперемежку
с ложью, потому что литературные привычки отражаются
и на всем образе жизни и из литературных дипломатов
получаются наихудшие граждане, потому что тысячекратно
обманутая молодежь привыкает верить в бесполезность
всяких усилий и насмехается над святой миссией писателя,
потому что, на наше горе, многие не удавшиеся по вине
осторожных академиков предприятия породили в нас мало¬
верие, из-за которого мы холодным равнодушием встречаем
бунтарство гения, если не обвиняем его, тайно завидуя его
дерзанию, в лицемерии и самомнении.
В продолжение всех первых речей нестриженый юноша,
о котором я упомянул в начале отчета, пребывал, казалось,
в задумчивости и производил впечатление человека, кото¬
рый слушает, но не слышит. Суровый и печальный голос
Седого академика вернул его к спорам, бушевавшим во¬
круг, и с последними словами старика он привстал со своей
скамьи, как бы желая говорить; затем, то ли из-за резкого
«молчите» осторожного академика, то ли по природной ро¬
бости, которую выдавало каждое его движение, он в нере¬
шительности сел и в продолжение всей гневной речи Ака¬
демика с деревянной ногой боролся сам с собою, стараясь
преодолеть неуместную стеснительность, но наконец ре¬
шился.
Поднявшись и обратившись к Седому академику, он
сказал, краснея, что он один из тех молодых людей (он не
мог сказать «немногих» и не решался сказать «многих»),
которые воспитаны вне какой бы то ни было доктрины, вы¬
росли в желании деятельности, тревожимы предчувствием
неизвестного будущего и скованы жалкой реальностью на¬
334
«ДВА ЗАСЕДАНИЯ АКАДЕМИКОВ-ПИФАГОРЕПЦЕВ»
стоящего; обладают ли они талантом, он не может знать,
но добрыми намерениями они обладают несомненно, хотя
они и нуждаются в ободрении, в твердой надежде и в идеа¬
ле; что он ощущает в груди волнение благородных страс¬
тей, которые горячат кровь справедливой гордостью, когда
он молится, коленопреклоненный, в Санта-Кроче и ему ка¬
жется, что фигуры великих людей, покоящихся там, вста¬
ют из мрамора и он слышит их громовой голос: «Будь
великим и ты!»; но что люди как бы соединились для по¬
давления этих порывов и для усыпления сил его души: в
гимназии его учили, бог знает как, мертвому языку и бед¬
ному перечню пустых, холодных, разрозненных имен и дат,
относящихся к давно погибшим людям и народам; в уни¬
верситете— метафизике, наполовину локковской, наполови¬
ну церковной, нескольким теоремам математики и изощре¬
ниям римских адвокатов, причем об отечестве даже не упо¬
миналось, словно его не существовало; что, оставив универ¬
ситетскую скамью, он пристрастился беседовать с литера¬
торами, читать их книги и посещать образованные кружки,
но везде нашел холод, запустение, философию, погрязшую
в бесцельных психологических изысканиях, в мелочном, бес¬
смысленном анализе, историю, отравленную скептицизмом,
тем более гибельным, чем более завуалированным; нашел
литературу, допускаемую лишь в качестве развлечения для
праздных читателей, общество, аплодирующее иногда поэту
на сцене или в салоне, но всегда враждебное поэзии в об¬
щественной и семейной жизни, бездумно преклоняющееся
перед несколькими именами и предвзято осуждающее ина¬
комыслящих; что среди лучших людей одни проповедуют
смирение, другие мизантропию, так что он, не будучи в со¬
стоянии и не желая выбирать между рабской бездеятель¬
ностью и беспомощным стоном первых и презрительным и
бессильным проклятием вторых, вернулся к своим занятиям
юриспруденцией, но уже с холодным сердцем, часто вспоми¬
ная над фрагментом из Ульпиана или глоссемой Аккур-
зия 17 стихи любимого и почитаемого поэта:
...велит мне сердце
Дела творить великие, судьба же
На злые обрекла меня, и в жизни
Влачит меня путем чужим и темным,
Бесцельным; и черствеет мое сердце,
Как семя, что по каменистой почве
Гонимо ветром...—
335
ДЖ. МАЦЦИНИ
что он, хотя и угнетенный и разочарованный, все же
пришел в Академию, потому что девиз: «Omnia instau¬
randa sunt...» и пр. разбудил в нем надежду найти здесь
какое-то тайное учение, способное возродить в его груди
надежду и веру его ранних лет и одновременно указать
ему единственно верный путь между теми двумя, но что
теперь он просит, заклинает Седого академика или кого-
либо иного из них снять с него обязательство, молчаливо
содержащееся в таком поступке, ибо за все это время он
так и не услышал ничего, кроме проклятий настоящему,
а это он умеет делать — и делает это каждодневно — сам.
Седой академик...
БАЙРОН И ГЁТЕ
Однажды в швейцарской де¬
ревне у подножия Юры я был свидетелем начала грозы.
Черные тяжкие тучи, багровые по краям от лучей заходя¬
щего солнца, быстро надвигались на лазурь неба, самого
прекрасного в Европе после итальянского. Вдали угрожаю¬
ще гремел гром, и резкие порывы ветра приносили круп¬
ные капли дождя на жаждущие поля. Малые птицы прята¬
лись в густых деревьях. Я взглянул вверх и увидел боль¬
шого альпийского сокола, который опускался, поднимал¬
ся, смело реял среди грозовых туч: казалось, он хочет всту¬
пить в единоборство с ними. С каждым раскатом грома
гордая птица резко взмывала ввысь, словно хотела отве¬
тить ему своим криком. Я долго следил за ней, пока она
не растаяла в восточном небе. Внизу, на земле, в пятидеся¬
ти шагах от меня стоял аист — белый, спокойный, невоз¬
мутимый среди бушующих стихий. Два-три раза он по¬
вернул голову в сторону, откуда дул ветер, глядя вперед
с непередаваемо беспечным любопытством, затем поджал
к телу одну из своих деревянных лапок, спрятал длинную
шею под крыло и задремал. Мне подумалось о Байроне
и о Гёте, о грозовом небе, которое нависало над ними и все
еще нависает над нами,— о схватках одного, о спокойствии
другого и о двух источниках великой поэзии, которые от¬
крылись, излились и, как мне представляется, иссякли
вместе с ними.
Байрон и Гёте: два имени, которые властвуют и будут
властвовать, что бы ни произошло, над всей нашей памятью
об истекшей половине века. Они возвышаются, как вожди,
едва ли не как тираны над этим периодом поэзии, столь
блестящим и одновременно столь печальным, столь слав¬
ным молодостью и дерзанием и одновременно таящим в
337
ДЖ. МАЦЦИНИ
своем лоне отчаяние, «как червь в цветке». Они очерчива¬
ют собою две главные школы, к той или иной из которых
принадлежали почти все блиставшие в их эпоху умы. До¬
стоинства, украшающие их произведения, встречаются —
правда, в рассеянном виде — и у других современных им
поэтов; и все же именно эти двое невольно вспоминаются
всякий раз, когда мы хотим обозначить поэтические тенден¬
ции века. Их поэзия следует различными, часто противопо¬
ложными путями, и все же нельзя подумать об одном,
чтобы сразу же не возник, словно необходимое дополне¬
ние, образ второго. Взор Европы был прикован к ним, как
к двум борцам, выступающим на одном и том же попри¬
ще, и, как два честных и смелых борца, они сами протя¬
гивали друг другу руки с уважением, с одобрением1. За
ними пришли другие поэты; но ни один из них не был столь
популярен, ни один не заставил биться столько сердец, не
зажег столько умов. Другие нашли спокойных и бесприст¬
растных судей и ценителей — эти нет; для них не существо¬
вало никого, кроме энтузиастических сторонников и вра¬
гов, ничего, кроме венцов и клеветы. Когда они исчезли в
великой ночи, поглощающей и преобразующей людей и
события, над их гробницами установилась глубокая тиши¬
на. Поэзия мало-помалу ушла из мира: казалось, их по¬
следний вздох затушил ее священное пламя.
Теперь начинается реакция — полезная тем, что она
свидетельствует о каком-то движении, несет обещание но¬
вой жизни, дурная в том, что обнаруживает узость мнений,
склонность к несправедливости по отношению к гению и
отсутствие надежного мерила при оценке прошлого: чело¬
веческий рассудок, как лютеровский пьяный крестьянин
на лошади, слишком часто, едва поднявшись с одной сто¬
роны, сваливается на другую. Реакция против Гёте, сме¬
ло и справедливо начатая при его жизни Менцелем, бы¬
ла после его смерти доведена до крайности: социальные
убеждения, священные в своих принципах, разделяемых,
к моей чести, и мною, но не имеющие права вредить бес¬
пристрастию наших суждений о людях прошлого, всей сво¬
ей тяжестью легли на чашу весов, и пылкая юность (да
сможет ее пыл устоять среди временных разочарований!)
повторяла за Бёрне, что Гёте есть худший из деспотов,
раковая опухоль на немецком теле2. Реакция против Бай¬
рона — мы не говорим о той, которая, не отличаясь от ли¬
цемерия и глупости, отказывала поэту в его месте в Вест¬
338
БАПРОН И ГЁТЕ
минстере, но о реакции литературной, — оказалась еще
менее разумной. Я встречал поклонников Шелли, отрицав¬
ших за Байроном поэтический талант, встречал людей, ко¬
торые вполне серьезно сравнивали его поэзию с поэзией
Вальтера Скотта; читал критика, по-моему, чересчур ува¬
жаемого здесь, Хэзлитта, который мог написать, не крас¬
нея: «Байрон создает мужчину по своему подобию, жен¬
щину— по своей прихоти: один — капризный тиран, дру¬
гая— податливая перчатка». Первые забыли о стихах, в
которых их мэтр приветствовал «Пилигрима вечности, чья
слава, как небо, сконилась при жизни над его головой»
(«Адонаи», 30), вторые — о том, что после «Чайльд Га¬
рольда» и «Гяура» сэр Вальтер Скотт решил оставить по¬
эзию (Локхарт, Жизнь Скотта). Хэзлитт не пожелал вспо¬
мнить, что примерно в те годы, когда он писал свои кри¬
тические статьи, Байрон умирал в Греции за возрождаю¬
щуюся свободу. Все судили и судят двух поэтов, о кото¬
рых я говорю, по справедливой или нет, но абсолютной
схеме Прекрасного, которую они составили в своих голо¬
вах безотносительно к состоянию общества, каким оно бы¬
ло, каково оно есть,— без истинного представления о на¬
значении Поэзии, о ее миссии на земле, о законе, управ¬
ляющем ее жизнью.
На земле нет абсолютных схем: абсолютное существует
лишь в божественной мысли, мудрость которой человек
постигает, постепенно приближаясь к ней, но не будучи в
состоянии совершенно постичь ее в этой жизни. Есть веч¬
ная эволюция жизни, проявляющаяся в идее и в действии,
подкрепляемая всем, что накопило прошлое, развивающая¬
ся из века в век через ряд последовательных преобразо¬
ваний ко все более и более совершенному выражению этой
мысли. Есть вечное стремление души к прогрессу — ее За¬
кону, — в котором она, становясь все чище и могущест¬
веннее, устремляется от конечного к бесконечному, от не¬
бес к Идеалу, от того, что есть, к тому, что будет. Именно
здесь — в этих грандиозных отложениях прошлого опыта,
составляющих всеобщую традицию, и в этом предвосхи¬
щении будущего, таящемся в глубине человеческой души,
в этой живой Жизни, в этом, если можно так сказать, не¬
скончаемом ее приливе — материал для Поэзии. Поэзия
изменяется с эпохой, ибо отражает ее; она преобразуется
вместе с обществом; сознавая это или нет, она воспевает
жизнь Человечества. Но только в зависимости от индивиду¬
339
ДЖ. МАЦЦИНИ
альных наклонностей и обстоятельств она выражает то
преимущественно современную жизнь, то жизнь, которая
только еще зарождается, готовясь прийти на смену, жизнь,
которую открывает ей гениальное прозрение; она поет ли¬
бо колыбельную, либо погребальную песнь, она либо за¬
чинает, либо подводит итог. Байрон и Гёте подвели итог;
ничего более. Была ли в том их вина? Нет: таков был
закон эпохи. Сегодняшнее общество спустя двадцать лет
после того, как умолкли их песни, намеревается казнить
их за то, что они родились слишком рано. Счастливы поэ¬
ты, которым бог дает расцвести при зарождении новой
эпохи, под лучами восходящего солнца! Вереница поколе¬
ний будет^ повторять с любовью их песни; их назовут ис¬
точником той жизни, которую они лишь угадали и для ко¬
торой нашли имя.
Байрон и Гёте подвели итог; в этом философский смысл
их творчества, и в этом причины их известности. Целая
эпоха европейского мира воплотилась в них перед тем,
как умереть, подобно тому как в сфере политики Рим и
Греция перед своей гибелью нашли воплощение одна в
Александре, другой в Цезаре. Они выразили в поэзии то,
что Англия выразила в экономии, Франция — в политике,
Германия — в философии: последнюю формулу, последний
результат, последний вывод общества, основанного на
принципе индивидуальности. В них, как в Фихте, в Адаме
Смите и во французской школе права, эпоха, получившая
вначале от греческой философии, а затем от христианства
задание реабилитировать, развить, освободить индивиду¬
ум, пожелала собрать, если можно так выразиться, все
свои силы и показать, на что она отважилась, что завоева¬
ла. Завоевала она многое, но не все, и это вынесло ей не¬
отвратимый смертный приговор. Она уже надеялась бы¬
ло достичь своей цели, как вдруг новые, бескрайние гори¬
зонты открылись перед нею: девственные, неизведанные
земли, которые она уже не чувствовала себя в состоянии
обежать, опираясь на единственный имеющийся в ее ру¬
ках принцип. Великое человеческое неизвестное долгим и
тяжелым трудом высвободилось из-под всех окружавших
его величин иной природы, но, слабое и изолированное,
оно как бы страшилось своего одиночества. Политика эпо¬
хи провозгласила единственной основой общественной ор¬
ганизации великое право свободы и равенства (свободы
для всех), утверждающее человеческую индивидуальность
340
БАЙРОН И ГЕТЕ
и представляющее ее самой себе, и внезапно столкнулась
с социальной анархией. Ее философия утвердила верхов¬
ное я во всей его мощи и кончила немым преклонением
перед фактом, гегельянской неподвижностью. Ее экономия
думала, что ей удалось организовать свободную конкурен¬
цию, — оказалось же, что она организовала подавление
слабого сильным, труда капиталом, нищеты богатством.
Ее поэзия, в течение веков трудившаяся над тем, чтобы
выявить индивидуальность во всех ее гранях, синтетически
выразить то, что установила холодная созерцательность
науки, встретила пустоту: подобно тому как общество вне¬
запно обнаружило, что назначение человеческого рода не
сводится к решению простой проблемы свободы, но тре¬
бует гармонического сочетания свободы и коллективизма,
поэзия почувствовала, что ее жизненная сила, которую она
черпала до сих пор, погружаясь в индивидуальность, го¬
това иссякнуть от недостатка пищи, и что для возрожде¬
ния ей необходимо расширить свою сферу и преобразить¬
ся. Общество и поэзия испустили скорбный крик. Крик
общества произвел то волнение, нарастание которого мы
видим в Европе с 1815 года. Криком поэзии были Гёте и
Байрон. Я не знаю, нова ли такая точка зрения, но я счи¬
таю ее верной и единственно способной привести нас к бес¬
пристрастной и полезной оценке этих двух гениев духа.
Индивидуальность имеет две грани, две жизни: внутреннюю
и внешнюю, субъективную и объективную, как говорят
немцы. Эти две жизни, эти две грани поделены поэтами
между собой. Байрон был поэтом субъективной жизни,
Гёте — объективной.
В Байроне во всей полноте своих способностей выступа¬
ет великое и гордое, могучее в своей свободной воле, дер¬
зкое и деятельное я, каждой своей порой стремясь к су¬
ществованию, стараясь захватить the life of life3. Внешний
мир бессилен понудить его к чему бы то ни было; мир для
него ничто, если не лежит у его ног; байроновская лич¬
ность стремится властвовать над ним даже и не для того,
чтобы наслаждаться, а единственно, чтобы властвовать,
чтобы испытывать титаническую силу своей воли. Собст¬
венно говоря, Байрон не заимствует у мира красок, зву¬
ков, образов, ибо его я поет, его я дает краски, образ его
я отражается и воспроизводится повсюду. Поэзия исхо¬
дит от него к внешним предметам. Я поэта стоит в центре
вселенной и оттуда бросает жгучий, как луч солнца в уве¬
341
ДЖ. МАЦЦИНИ
личительном стекле, свет, излучаемый очагом души. Здесь
причина той поразительной цельности, которую лишь пре¬
сыщенные и поверхностные читатели могут принять за од¬
нообразие. Герои Байрона, какую бы форму поэт ни при¬
давал им, все схожи, ибо все они братья, все — поэтичес¬
кие создания его могущественной мысли, все исходят из
глубин его мироощущения, никогда извне. Они рождены
свободными, рождены для борьбы, а не для покорности.
Они верят в себя. Они бросают вызов миру, построенному
на условностях,- окружающему обществу, началу добра и
началу зла: они will bend to neither4. В жизни, как и в
смерти, они stand upon their strength 5; они противостоят
любой силе, ибо их собственная принадлежит им вполне;
власть над ней добыла им
Высокая наука — труд — дерзанье —
Терпенье мысли — сила духа — опыт
В искусстве предковб.
Они не служат любви: они ее не ищут, они ее волят и по
какой-то магии воли они ее находят. Они не боятся ни
страдания, ни опасности; они бесстрашно обращаются к
ним лицом и ни на шаг не отклоняются со своего пути,
чтобы их избежать. Каждый из них есть олицетворение
одного и того же слегка видоизмененного типа, одной и той
же идеи: царственный человек, но царствующий в одино¬
честве,—свободная личность, но не более чем свободная;
такая, какой ее сделала завершившаяся эпоха. Это Фа¬
уст, но без договора, отдающего его врагу. Ибо герои Бай¬
рона не заключают договоров: Каин отказывается встать
на колени перед Ариманом7, а Манфред перед смертью
провозглашает:
Бессмертен дух, и сам в себе расчет
Свершает добрым помыслам и злым —
Сам для себя готовит смерть и ад —
Сам себе время и пространство — свой
Отбросив смертный облик, в вечный мир
Земли не унесет он пестрый хлам.
Он погружен в страданье иль покой,
Рожденные своих сознаньем дел8.
Счастливы ли они? Я хочу сказать, счастливы ли не
пошлым счастьем успеха — ибо можно погубить себя и
наслаждаться,— но счастьем, проистекающим из сознания
собственной силы, счастливы ли радостью, сопровождаю¬
342
БАЙРОН И ГЁТЕ
щей чувство жизни в ее независимой полноте? Нет, они
не знают этого счастья (и здесь звено, связующее поэзию
Байрона с будущим); они не могут быть счастливы этим
счастьем, ибо молча, не отдавая себе в том отчета, они
несут в своей груди идеал иного мира, предощущение иной
жизни, которую не может им дать пустая свобода. Свобо¬
да — это у них есть; стальные души в стальном теле, они
покоряют Альпы мира физического, так же как и Альпы
мысли; но все равно их чело отмечено тяжкой, непреходя¬
щей печалью; и все равно их мысль, погружается ли она,
как у Каина и Манфреда, intoxicated with eternity9, в без¬
дны бесконечного или объемлет, как в «Корсаре» или «Гя¬
уре», обширную равнину или безбрежное море, всегда
преследуема неким тайным ужасом. Чудится, что они всю¬
ду влекут за собой цепь, разбитую, но не снятую ими цепь.
Их душе тесно не только среди мелочного света, против
которого они борются, но и в мире духа. И не под ударами
этого света изнемогают они, но под тяжестью своего безы¬
мянного страдания, под разъедающим действием могучих
способностей, которые «все ж ниже желаний их и замыс¬
лов», под грузом внутреннего разочарования: они — their
own destroyers I0. На что применить им столькими трудами
добытую свободу? На кого, ради кого изольют они эту
обильную жизнь, кипящую в их жилах? Они одиноки: вот
источник их печали и их бессилия. «They thirst, — говорит
Каин за них всех,— they thirst for good»11,— и они не мо¬
гут творить добра: они не знают ни жертвенного подвижни¬
чества, ни веры, ни понимания мира, который они хотели
бы преобразить. Они ни разу не вспомнили о человечестве,
которое живет вокруг них, жило и будет жить после них.
Они ни разу не вспомнили о месте, занимаемом ими меж¬
ду прошлым и будущим, — о преемственности труда, свя¬
зующего поколения,— о великой цели всеобщего совер¬
шенствования, достижимой лишь общим усилием, — о
жизни их духа после смерти в той мысли, какую они, воз¬
можно, оставят после себя на земле, если они боролись,
посвятив себя Идее, и умерли с надеждой, и в том благот¬
ворном воздействии, которое этому духу дано невидимо
оказывать на собратьев в земном рождении. В одиночестве
предстают герои Байрона перед богом и отшатываются,
пораженные ужасом; в одиночестве — перед Вселенной,
и она подавляет их своим величием; и вместо того, чтобы
черпать новые силы в этом океане жизни, который они так
343
ДЖ. МАЦЦИНИ
хорошо понимают — свидетельством прекрасная третья
песнь «Чайльд Гарольда»,— они тонут в нем, они погру¬
жают в него свою собственную жизнь: индивидуум так
ничтожен рядом с богом и Вселенной! И вот, наделенные
свободой, с которой они не знают, что делать, деятельной
силой, которой они не могут найти применения, жизнью,
назначения которой они не знают,— непризнанные, уязв¬
ленные, они влачат судорожное и бесполезное существова¬
ние. Они умирают одинокими, как и жили. Безвестные, ни¬
кому не нужные, они падают, как осенние листья, в стре¬
мительный поток веков. Природа, которую они так любили,
равнодушно смыкается над их гробницами:
Не капнут небо иль земля слезой,
Не грянет гром, листок не упадет
И не застонет ветр о нас с тобой.
Нет, я не знаю, где еще так энергически, так глубоко вы¬
ражена жизнь и смерть одинокой личности, как у Байрона.
Почему те, кто упрекает поэта за вечную меланхоличность
и судорожную порывистость его героев, не заметили, что
именно эта судорожность, эта их меланхоличность делает
творчество Байрона нравственным, социальным, пророчес¬
ким? У Гёте много покоя. Но больше ли это дает нам?
Гёте, который представляет индивидуальность в ее объ¬
ективной жизни, живя в одно время с Байроном и, подоб¬
но ему, обладая чувством современности, пошел по прямо
противоположному пути. После того как и он испустил свой
крик страдания в «Вертере», после того как в «Фаусте» он
поставил проблему эпохи во всей ужасающей наготе, он
подумал, что этого достаточно, и отказался от попыток ре¬
шить ее. Возможно, слишком быстро пришло отчаяние в
пользе своих усилий; возможно, протест против социаль¬
ного зла, который вдруг хлынул через край в «Вертере»,
еще долго потом глухо будоражил его душу — недаром он
сам заметил как-то в старости по поводу наблюдения од¬
ного француза, сказавшего при виде его: «Вот лицо чело¬
века, который много страдал», что следовало бы сказать:
«Вот лицо человека, который умел энергично бороться».
Но в его книгах всего этого нет и следа. В то время как
Байрон, обливаясь кровью, бился, окруженный силами
зла, Гёте стремился к покою — но не к покою победителя,
а к безмятежному покою равнодушия; в Байроне человек
всегда брал верх над художником, в Гёте он перед худож¬
344
БАЙРОН И ГЕТЕ
ником бледнел. В первом больше субъективности, больше
цельности, идущей от разума или от сердца, Гёте же есть
воспринимающий, перерабатывающий и воспроизводящий
дух. Поэзия течет к нему из внешнего мира, из всех точек
окружности к центру. В центре творения в позе наблюда¬
теля возвышается его одинокая фигура. Его любознатель¬
ный взор с глубиной и с равным интересом проникает и в
чашечку цветка и в морскую пучину. Роза ли шлет к небу
свой экзотический аромат, море ли прибивает к берегам
обломки сетей потерпевших крушение кораблей — чело
поэта остается спокойным; он видит здесь лишь две фор¬
мы прекрасного, два предмета для своего искусства.
Гёте называли пантеистом. Я не знаю, какой смысл
вкладывают в это двусмысленное и обычно плохо понятое
слово произнесшие его критики; ведь есть пантеизм мате¬
риалистический и пантеизм спиритуалистический, есть пан¬
теизм Спинозы, пантеизм Джордано Бруно, пантеизм
св. Павла и многих других, и все разные; но поэтический
пантеизм возможен лишь тогда, когда весь мир явлений
охватывается единой концепцией, когда поэт чувствует
жизнь вселенной в ее божественном единстве и живет ею.
Ничего этого нет у Гёте. Пантеизм есть в нескольких от¬
рывках Вордстворта, в третьей песне «Чайльд Гарольда»,
в поэзии Шелли; но его нет в самых блестящих произведе¬
ниях Гёте, ибо жизнь великолепно схвачена и изображена
у него в каждом из ее последовательных проявлений, ио
никогда в целом. Гёте — поэт деталей, не целого, поэт ана¬
лиза, не синтеза. Никто, как он, не умеет погрузиться в
подробности, обнаружить малое, никто — столь прекрас¬
ным светом осветить части; но связь их ускользает от не¬
го. Его произведения — великолепная, но бесполезная эн¬
циклопедия. Он все понял, но он не понял всего, целого.
Умея уловить луч прекрасного в малейшей былинке, ук¬
рашенной каплей росы, умея извлечь элемент поэзии из
самого прозаического на дервый взгляд происшествия,—
он не смог подняться до очага вселенной и восставить ве¬
ликую восходящую шкалу, где, если воспользоваться пре¬
красным выражением Гердера, «каждое существо есть чис¬
литель великого знаменателя, который есть природа». Да
и как мог это сделать тот, в творчестве и в поэтических
симпатиях которого не было места для Человечества, вен¬
ца пирамиды, единственного мерила ценности земных соз¬
даний? «Религия и политика, — говорил он, — неудобова¬
345
ДЖ. МАЦЦИНИ
римая пища для искусства: я старался держаться от них
как можно дальше» 12. А вокруг него все кипело: решались
вопросы жизни и смерти миллионов. Гремели воинствен¬
ные песни Кернера, — Фихте, закончив одну из своих лек¬
ций, с ружьем на плече шел в ряды добровольцев, которые
рвались (увы! во что превратили короли этот великолеп¬
ный порыв?) на поля сражений за родину, древняя зем¬
ля Германии дрожала в предчувствии будущего под их ша¬
гами, — а он, художник, он бесстрастно наблюдал; его по¬
старевшая раньше времени душа не волновалась страстя¬
ми его народа; его гений, достигнув полной недвижности,
сторонился потока событий, захватившего целые нации.
Он видел Французскую революцию во всем ее потрясающем
величии, и в то время, как целый мир рушился под ее уда¬
рами, — в то время, как добрые и наивные германские
души, верившие, что рождение нового мира может совер¬
шиться без страдания, переживали муки отчаяния перед
лицом кризиса,— он не нашел в ней ничего, кроме насилия.
Он видел Наполеона, его славу и его падение. Он видел
движение новых безымянных наций, возвышенный пролог
величественной эпопеи, которую готовит грядущее. И он
остался холодным. Он не научился ни ценить людей, ни
делать их лучшими, ни страдать вместе с ними. Кроме пре¬
красного образа Берлихингена, созданного им в молодости
под впечатлением реального исторического события, цели¬
ком принадлежащего прошлому, человек действенной мы¬
сли, работник будущего, столь чудно очерченный Шиллером
в своих драмах, у Гёте не находит выражения: он перенес
что-то от собственного равнодушия даже в понимание его
героями любви. Его вселенная прекрасна, но недвижна.
На воздвигнутом им алтаре — прекраснейшие цветы, изыс¬
каннейшие благовония, подношения первых плодов приро¬
ды; но где же служитель? Второй творец мира — ибо, это¬
го нельзя отрицать, Гёте действительно создал целый
мир, — он объял огромный круг зримых явлений; но он
остановился, так и не дойдя до седьмого дня. Бог ушел из
его мира раньше времени, и существа, вызванные поэтом
к жизни, немо, без жалобы, без молитвы движутся по кру¬
гу, ожидая, когда придет Человек, чтобы дать им имена и
сообщить смысл их существованию.
Нет, Гёте как поэт вовсе не пантеист; он политеист; в
своей жизни он язычник современной эпохи. Его мир —
это в первую очередь формы, его небо — многоликий
346
БАЙРОН И ГЕТЕ
Олимп; небо Моисея и Христа закрыто для него. Как все
язычники, он разъемлет Природу и обожествляет ее ча¬
сти; как они, он поглощен более переживанием, чем идеей:
он намного более видит, осязает, слышит, чем чувствует.
А сколько забот о пластической стороне искусства! Какая
значимость придана, не скажу, даже предмету, но умению
представить предмет извне! Да и разве не он сказал где-
то (кажется, в «Kunst und Altertum»)13, что красота —
следствие удачной расстановки? За этим определением
кроется целая теория поэтического материализма, предпоч¬
тенного культу Идеала: из него неумолимо следует весь
тот ряд выводов, который толкнул Гёте к равнодушию, к
этому самоубийству, лишающему гений его благороднейших
сил. Полное сосредоточение всех способностей восприятия
на каждом из отражаемых предметов без отношения к
целому, без размышления о высшей цели этого предмета,
полное отсутствие всего, что способно подтолкнуть к пони¬
манию этой цели, —вот что стало двумя основными пра¬
вилами искусства у Гёте. И с тех пор поэт сделался уже
не быстрой рекой, которая, разделяясь на бесчисленные
протоки, разливается по полям, орошая их, и не пламенем,
которое неустанно стремится к небу, освещая все вокруг;
нет, он стал спокойным озером, в котором отражаются то
берега, то облака-странники, но ни малейшая рябь не
пробежит по его поверхности. Пассивный покой, полная
погруженность в каждое из разрозненных впечатлений —
вот две главные черты Гёте. «Я даю предметам, которые
хочу познать, — говорил он, — свободно воздействовать
на меня; затем я наблюдаю впечатление, оставленное ими
во мне, и после стараюсь верно передать его». В этих
словах, которые так любят цитировать, — точный портрет
Гёте. Он был при жизни таков, каким госпожа фон Арним
предлагала изобразить его на посмертном портрете: бла¬
городный старец с безмятежным, почти светящимся челом,
окутанный в античное одеяние, держащий лиру на своих
коленях и прислушивающийся к аккордам, которые извле¬
кает из нее то ли рука Гения, то ли дуновение ветра. С
последним аккордом его душа отлетела на Восток, на ро¬
дину бездеятельного созерцания. И вовремя: Европа ста¬
новилась уже слишком беспокойной для него.
Такими в своих самых общих чертах были Байрон и
Гёте, оба — великие поэты, столь разные и столь близкие
друг другу благодаря, да простят мне это выражение, по¬
347
ДЖ. МАЦЦИНИ
разительному совпадению противоположностей: они шли
своими — и противоположными — путями, но сошлись
под конец в одной точке, завершили единую постройку.
Жизнь и смерть, темперамент и поэтический дар — все у
них разное, и тем не менее они дополняют друг друга. Они
оба дети рока — ибо на закате исторических эпох закон
прогресса человечества принимает в сознании отдельной
личности видимость рока — и, влекомые роком, оба они,
сами того не зная, трудились над исполнением единой ве¬
ликой миссии. Гёте созерцает мир в его частях и одно за
другим отражает пережитые впечатления по мере того, как
случай представляет их ему; Байрон видит мир из единого
средоточия и преображает в своей душе идущие от мира
впечатления. Личность Гёте растворяется поочередно в
каждом из отражаемых им предметов; Байрон оставляет
на всех этих предметах печать своей индивидуальности.
Природа для Гёте — симфония, для Байрона — прелюдия:
первому она дает все содержание песни, второму — лишь
повод к ней; первый—исполнитель концерта природы, вто¬
рой — вдохновленный ею композитор. Гёте лучше выра¬
жает жизни, Байрон — жизнь. Один обширнее, другой глу¬
бже. Первый летит, едва касаясь предметов: он не любит
углубляться в них, он купает свою грудь в пене Океана,
он играет на его поверхности со штормом, но никогда не
дает себя поглотить; второй роет, пока не дойдет до кор¬
ней, смело погружается в глубину, как птица-ныряль¬
щик в морскую бездну, мало заботясь, что он там найдет:
то, что ищет, или прожорливую акулу. Один всюду отыс¬
кивает Прекрасное, любит гармонию и покой, другой ищет
Великое и обожествляет действие, силу. Характеры типа
Лютера, типа Кориолана смущали Гёте; я не знаю, гово¬
рил ли он в своих многочисленных критических отрывках
о Данте14, но, конечно, он должен был испытывать к нему
нечто подобное антипатии Вальтера Скотта; и если
из уважения к искусству он включал его в свой Пантеон,
то, наверное, таил от очей собственной души величествен¬
ный и печальный образ этого изгнанника, мечтавшего о
мировом владычестве для своей страны и о гармоничес¬
ком развитии всего мира под ее эгидой. Байрон вдохновлял¬
ся Данте; он любил Франклина и Вашингтона; он со всем
сочувствием пылкой поэтической души следил за полетом
этой кометы, за судьбой величайшего гения действия, жив¬
шего в наше время,— Наполеона; он негодовал, возмож¬
348
БАЙРОН И ГЁТЕ
но несправедливо, что тот не умер на поле боя 15. Путеше¬
ствуя по Италии, этой второй родине всех душ, «озарен¬
ных лучом поэзии», эти два поэта продолжали идти свои¬
ми разными путями: один переживал ощущения, другой —
чувствовал; первого более влекла природа, второго — ве¬
личие мертвых, страдания живых, следы присутствия чело¬
века * . И тем не менее, несмотря на все контрасты, кото¬
рые я здесь еще только наметил и которые мог бы пока¬
зать подробно на разборе самих произведений, — к чему
они оба приходят? Гёте, поэт индивидуальности в ее объек¬
тивной жизни,— к эгоизму безразличия; Байрон, поэт ин¬
дивидуальности в ее субъективной жизни,— к эгоизму (ибо
я должен с горечью признать, что есть и такой), к эгоиз¬
му отчаяния. Двойной приговор эпохе, которую они ото¬
бразили и завершили.
В этом была их миссия.
Они (я не касаюсь даже их чисто литературных дарова¬
ний, огромных, неоспоримых и общепризнанных), они оба—
* Этот контраст, как никогда, поразил меня при сравнении римских впечат¬
лений двух поэтов. Для Гёте, в «Элегиях* и особенно в «Поездке в Италию», это—
художественные впечатления ,в. Он не понял Рима. Вечный синтез, который кон¬
центрическими кругами расходится от вершины Капитолия и собора св. Петра,
с каждым проявлением увеличивая сферу своего действия и захватывая сначала
нацию, затем Европу, позднее, возможно, все человечество, ничего не говорил его
душе; он видел лишь один круг, самый бесплодный и наименее оригинальный,—
язычество; и если в какой-то момент у него и вырвалось замечание, что историю
в Риме узнают совсем иначе, чем в любой другой части света,— везде прошлое
узнают из настоящего, а здесь хотят узнать настоящее из прошлого,— то он сра¬
зу же и забыл о своих словах, будучи снова поглощен внешними впечатлениями.
«Идешь ли, стоишь ли, перед тобой развертывается непрестанно обновляющийся
пейзаж. Это дворцы и развалины, сады и пустоши; горизонт то удаляется, то вне¬
запно сужается: домики и конюшни, колонны и триумфальные арки, все это пере¬
мешано, часто так стиснуто, что могло бы уместиться на одном листе бумаги!» ,т.
Байрон в Риме забывает о страстях, горестях, о самой своей личности ради идеи;
из уст его вырывается крик, в котором узнаешь душу, рожденную для жертвен¬
ного служения:
О Рим, мой город, родина душиÌ
Прими сиротствующих сердцем: пусть,
Империй мертвых мать, в твоей тиши
Они свою забудут боль и грусть.
«Чайльд Гарольд», IV, 78.
И когда он возвращается теперь к самому себе, к своему внутреннему миру, он
уже обретает в сердце надежду для человечества (98 ст.), прощение для врагов:
My curse shall be forgiveness ,e. В этой IV песне «Чайльд Гарольда» и в несколь¬
ких стансах III песни, посвященных дочери поэта, душа ее отца выступает яснее,
чем во всех написанных о нем книгах и во всем, что ей могут о нем рассказать.
349
ДЖ. МАЦЦИНИ
один тем духом борьбы, которым полны все его произве¬
дения, другой духом ироничного скепсиса, пронизываю¬
щим все его описания, и превознесением суверенного и не¬
зависимого искусства над всякой социальной действитель¬
ностью — мощно способствовали освобождению разума и
пробуждению в душах чувства свободы. Они оба — один
непосредственно своей непримиримой борьбой против по¬
роков и предрассудков привилегированных классов и опо¬
средствованно характером своих героев, которых он обле¬
кает всеми блестящими качествами прирожденных повели¬
телей, а затем сокрушает в каком-то неистовстве; другой
тем, что вернул значение частностям, восстановил досто¬
инство поэтического изображения и тем облагородил самые
малозначащие образы, самые скромные формы,— оба они
боролись против аристократических воззрений и трудились
над пробуждением чувства общественного равенства. В
своем величии исчерпав обе стороны поэзии индивиду¬
альности, они замкнули собою круг этой поэзии, раз на¬
всегда отвели всем, кто пожелал бы и впредь оставаться
в ее сфере, подчиненную роль подражателей, создали не¬
обходимость новой поэзии, сделали потребностью то, что
было лишь мечтой. Они проводили в гробницу целую эпо¬
ху, закутали ее в саван, который никто и ничто не сможет
уже отныне снять, и, как бы для того, чтобы засвидетель¬
ствовать ее смерть перед поднимающимся юным поколе¬
нием, в своей поэзии Гёте написал ее историю, а Байрон
выгравировал ее эпитафию.
И теперь прощай, Гёте, прощай, Байрон! Прощайте,
страдания, которые подавляют, не облагораживая, — по¬
этические вспышки, которые сияют, не грея, — ироническая
философия, которая разъедает, не укрепляя, — поэзия, ко¬
торая хотела научить нас созерцанию в мире, где столь¬
ко дела,— поэзия, которая могла привить нам отчаяние в
эпоху, в которой столько места для жертвенного подвига.
Прощайте, герои, чья сила не находит приложения — во¬
площения личности, которая ищет и не видит смысла свое¬
го существования, ощущает кипение жизни в груди и не
знает, что с ней делать, — прощайте, эгоистические печали
и радости...
...пасынки души,
Побеги буйной праздности; трава,
Что лезет здесь и там из-под земли,
Потоки похоти того Ума,
Чей истый плод и подлинная цель,
350
БАПРОН И ГЕТЕ
Когда он слит с любовью к божеству,
Есть счастье, мир и радостный покой.
«гЭрнест».
Прости, вечное прости прошлому! Уже будущее оза¬
ряет человека, умеющего читать его знаки, и будущему мы
должны посвятить себя. Средневековый дуализм, вылив¬
шись сначала в вековую борьбу двух начал, имя кото¬
рым папа и император, — оставивши свой след и принеся
свои плоды во всех областях духовного развития, — те¬
перь в двойном языке поэтического пламени, имя которо¬
му БАЙРОН и ГЁТЕ, достиг неба, и его миссия завер¬
шена. Две формулы жизни, до сих пор разъединенные, во¬
плотились напоследок в этих двух гигантах. Байрон — ин¬
дивидуальность, живущая лишь своей внутренней жизнью;
Гёте — это тоже индивидуальность, но живущая исключи¬
тельно внешней жизнью. Выше Байрона и Гёте, выше этих
двух половинчатых существований, там, где пересекаются
стремления этих двух поэзий, рвущихся к небу и не могу¬
щих его достичь, — там я вижу иную Поэзию. Это Поэзия
будущего, поэзия Человечества и в ней будет Гармония,
Жизнь, Цельность, Единство.
Но потому лишь, что мы уже предвидим сегодня, хотя
и очень отдаленно, новую социальную поэзию, призванную
воспеть назначение человека и дать мир страждущей ду¬
ше, научив ее восхождению к Богу через Человечество,
должны ли мы на пороге эпохи, к которой без этих поэ¬
тов мы не смогли бы подойти, осуждать их за то, что, при¬
дя в мир намного раньше нас, они успели лишь запол¬
нить своими гигантскими телами пропасть, перед которой
мы медлили в страхе и нерешительности? Во все века со¬
временники старались сделать гениальную личность козлом
отпущения. Во все эпохи находились люди, спешившие об¬
винить Чаттертонов общества за то, что те не показали
пример жертвенного служения и покончили жизнь само¬
убийством,— неважно, физическим или духовным: люди, за¬
бывшие спросить себя, чем кроме голода и холодного не¬
верия окружали они своих гениев при жизни. Но я не из
их числа, и я ощущаю потребность громко возразить про¬
тив тех нападок, с которыми иные разгоряченные умы по
недомыслию обращаются к гигантам духа и которые очень
скоро начинают служить прикрытием для мстительной по¬
средственности. Есть что-то жестокое, что-то отталкиваю¬
щее, как неблагодарность, в этом инстинкте разрушения,
351
дж. млццппи
который столь часто заставляет нас забывать о том, что
сделали жившие до нас великие люди, и требовать у них
отчета в том, что они должны были сделать. Неужели кри¬
тики думают, будто подушка безверия столь мягка для ве¬
ликой души, что эти поэты из эгоизма склонились на нее
своей пылающей головой? И настолько ли мы излечились
от зла, отображенного ими в своих стихах, чтобы чувство¬
вать за собой право окончательного осуждения?
Зло пришло в мир не с этими поэтами; оно царило по¬
всюду, оно было разлито в воздухе, жило в обществе, ко¬
торое теперь хочет свалить его на них. Они видели это
зло перед собой, ощущали его, дышали им, они сами бы¬
ли его первыми жертвами — как же оно могло не отразить¬
ся в их песнях? Разве способность более других слиться с
жизнью своей эпохи — не первая черта гения? Чтобы пре¬
одолеть в себе остаток скептического безразличия и анар¬
хического отчаяния, не надо, как призывают иные, ниспро¬
вергать Байрона и Гёте; надо исполниться созидательной
веры. Стяжайте веру и отбросьте страх. Каково общество,
таков и поэт. Поклоняйтесь энтузиазму, жертвенности, бес¬
смертным надеждам, добродетели, родине и человечеству.
Пусть будут ваши сердца чистыми, ваш дух терпеливым и
стойким — и гений, который должен выразить вашу ве¬
ру в будущее и донести до неба на крыльях священной ме¬
лодии ваши чаяния, ваши думы, ваши страдания, не замед¬
лит явиться. Не трогайте монументов. Чего вы страши¬
тесь? Разве прекрасные памятники феодальной эпохи рож¬
дают желание вернуться вспять к рабству? Есть подража¬
тели, говорите вы! Я это прекрасно знаю; но какое влияние
на общественную жизнь могут оказать те, кто не имеет соб¬
ственной жизни? Они будут метаться в пустоте, пока со¬
хранится эта пустота. В день, когда повое вступит на ме¬
сто умершего, они исчезнут, как исчезают привидения с
пением птицы, возвещающей утреннюю зарю. Неужели мы
никогда не утвердимся в своих убеждениях настолько, что¬
бы питать уважение к великим историческим личностям,
принадлежащим пройденному периоду? Поистине, беспо¬
лезно говорить о социальном искусстве, о широте воззре¬
ний, о понимании духа человечества, если мы не можем
поднять на наш алтарь новых богов, не попирая старых,
если мы не в состоянии увидеть и понять одухотворявший
их вечный принцип без того, чтобы увязнуть в их пороках
и несовершенствах. Пусть лишь те осмеливаются произ¬
352
БАПРОН И ГЕТЕ
носить священное слово Прогресс, кто находит в своей го¬
лове достаточно разума для понимания прошлого, а в сво¬
ем сердце — достаточно поэтической веры, чтобы уважать
это прошлое за то величие, которое в нем было. Наш храм,
храм верующих в искусство, — не маленькая сектантская
церковь; это громадный пантеон, и в нем спустя много вре¬
мени после того, как смолкнут разговоры о гётевском ми¬
роощущении и о байронизме, сохранят свое место и наше
уважение светлые образы Гёте и Байрона.
И в этом священном культе великих предков, который
вырастет в наших очищенных от всякого смятения и стра¬
ха душах, большая доля нашего восхищения будет, воз¬
можно, принадлежать Гёте как художнику — не знаю; но
я знаю и, не колеблясь, говорю, что Байрону как человеку
и поэту будет принадлежать большая доля нашей любви.
Настолько большая, насколько больше наша прошлая и
нынешняя неправота перед ним. Если Гёте отдалялся от
нас и с высоты своего олимпийского спокойствия, казалось,
с презрительной улыбкой смотрел на наши страдания, наши
стремления, нашу борьбу, то печальный, сумрачный, мяту¬
щийся Байрон скитался по свету, нося в своей ране стре¬
лу — поражавшую всех стрелу — и не пытаясь даже ее
вырвать, словно желая все, и тоску, и страдания, и борь¬
бу, взять на себя, чтобы избавить нас от них, нас, своих
братьев. Он ни разу не изменил своему делу, не предал
ни одну из человеческих привязанностей. Одинокий и нес¬
частный с детства, жестоко оскорбленный в своей первой
любви и еще более жестоко — в своей женитьбе, пресле¬
дуемый, обвиняемый без суда и защиты за свою жизнь и
свои мысли, испытывающий денежные трудности, вынуж¬
денный покинуть родину, свой дом, своего ребенка, не
имеющий друзей — мы смогли убедиться в этом после его
смерти,— преследуемый на континенте сотнями нелепых
сплетен и злобной холодностью света, в самом страдании
поэта видевшего преступление, он сберег среди всей нако¬
пившейся горечи любовь к сестре и к своей Аде, сочув¬
ствие к несчастию, верность привязанности детских и
школьных лет — от доброй кормилицы Мэри Грей и старо¬
го Меррея до лорда Клера 19; он щедро помогал нуждав¬
шимся— от своих друзей по литературе до пасквилянта
Томаса Аша. Хотя склад его гения, эпоха, в которую он
жил, самый его рок толкнули его к такой поэзии, которая
должна сегодня смениться иной, к той несовершенной тен¬
12-6342
353
ДЖ. МАЦЦИНИ
денции, которую я попытался выше охарактеризовать, он
не возвел ее по крайней мере в норму: он предчувствовал
будущее, он дал предчувствию Гения доныне еще не поня¬
тое определение, лучше которого я ничего не знаю: Poetry is
the feeling of a former world and future20,— он неизмен¬
но предпочитал практическое действие ради торжества
добра всему, что могло сделать его искусство. Окруженный
тиранами и рабами, путешествуя по странам, где задуше¬
на была, казалось, сама память, видя успехи Реставрации
и трумф принципов Священного союза, он не отрекся от
своей отважной позиции протеста — он открыто выражал
свою веру в права народов, в конечное торжество свободы,
в наш долг посвятить себя всецело борьбе за нее; он начер¬
тал следующие строки, которые выражают суть наших се¬
годняшних усилий: «Вперед! Наступило время действовать.
Что значит личность, когда можно завещать будущему не¬
гасимую искру того, что было достойного в прошлом? Ва¬
жен не один человек, не миллион, но дух свободы, который
должен быть распространен. Волны, бьющие о берег, ис¬
чезают одна за другой, но все равно океан побеждает. Он
поглощает Армаду, точит скалы и, если верить в сущест¬
вование морских жителей, он не только разрушил, но и
создал мир»21. В Неаполе, в Романье, везде, где поэт видел
искру жизни, он был готов действовать, бороться22 за то,
чтобы она разгорелась пожаром; он воспевал великое про¬
шлое, великие мысли, великие действия, он клеймил низость,
лицемерие и несправедливость, от кого бы они ни исходи¬
ли. Так, беспрестанно колеблясь между сегодняшним злом
и завтрашними надеждами, часто срываясь, иногда впадая
в скепсис, но всегда, даже среди видимого смеха, страдая,
всегда, даже в своем проклятии, любя, жил Байрон. Eternal
spirit of the chainless mind23 не являлся еще среди лю¬
дей в таком блеске. Воплощение бессмертного Прометея,
чей страдальческий и в то же время пророческий крик раз¬
дался у колыбели европейского мира, чья великая и зага¬
дочная фигура переходила, преображаясь со временем, из
века в век, чтобы между эпохой гибнущей и эпохой под¬
нимающейся излить жалобу гения, мучимого предчувстви¬
ем, осуществление которого на земле он не увидит при
жизни, Байрон тоже обладал firm will и deep sense и тоже
из своей смерти сделал a victory *. Когда он услышал клич
* «Прометей», последние пять стихов84.
354
БАЙРОН И ГЕТЕ
отечества и свободы, разнесшийся над страной, которую он
так любил и которую воспел в годы первой молодости, он
разбил свою арфу и отправился в путь. В то время как
христианские державы изощрялись в дипломатии, а хрис¬
тианские нации иодносили Кресту, борющемуся против По¬
лумесяца, милостыню сборов с благотворительных балов,—
он, поэт и в общем мнении скептик, бросил свое состояние,
свой гений и свою жизнь к ногам первого народа, подняв¬
шегося на борьбу, и вступил в ряды его бойцов. Я не знаю
более прекрасного символа судеб Искусства в современную
эпоху, чем смерть Байрона в Греции. Священный союз
между Поэзией и делом народов — столь редкостное еще
сегодня единство Мысли и Действия, единство, в котором
только и приобретает полноту человеческое слово, которое
одно лишь способно освободить мир,— великая солидар¬
ность людей всех наций в борьбе за права, дарованные Бо-
гом всем своим детям, и в свершении миссии, ради которой
они дарованы,— словом, все то, из чего складываются наша
вера и наша надежда, сияет славой в этом образе, который
мы, культурные варвары, уже чуть не предали забвению.
Когда-нибудь мы еще вспомним о нем. Вспомнит, я
верю, и Англия о той чисто английской и еще мало осоз¬
нанной миссии, которую Байрон выполнил на континенте.
Она вспомнит, что в его лице британский гений обошел всю
Европу — что с него, и только с него европейская моло¬
дежь потянулась к изучению английской литературы26,
что благодаря ему во многих сердцах проснулась симпатия
к этой земле свободы, заветы которой он с таким достоин¬
ством нес угнетенным всех стран. Она поймет тогда, что
не для памяти Байрона, а для нее самой дурно, что иност¬
ранец, вступающий на ее берега, напрасно в храме, приз¬
ванном быть Пантеоном нации и вместившем всех, даже
педанта Казобона26, ищет сегодня памятник поэту, кото¬
рым восхищается Европа и смерть которого две страны,
Греция и Италия, оплакивали как смерть одного из луч¬
ших своих сынов.
Что до меня, то в этих своих беглых, но продиктован¬
ных сердечным убеждением заметках о Байроне и Гёте я
хотел лишь направить критику на более широкий, более
беспристрастный и полезный путь, чем тот, по которому,
как мне «ажется, она по большей части идет сегодня. Пу¬
тешественники XIV века рассказывали, что видели в Те¬
нерифе дерево чудесной высоты, широко раскинувшаяся
12*
355
ДЖ. МАЦЦИНИ
листва которого вбирала все губительные испарения ат¬
мосферы и с ветвей которого, когда их трясли, стекала
чистая и благодатная влага. Гений подобен такому дере¬
ву. Задача критики — встряхивать время от времени его
густые ветви. Сегодня же, подобно дикарю, она пытается
подрубить это дерево под корень.
ДАНТЕ
В церкви Санта Кроче во
Флоренции есть монумент, на котором среди многих имен
великих итальянцев начертано имя Данте Алигьери. В
Порчиано, в нескольких верстах от истоков Арно, крестья¬
не, указывая на главную башню, скажут вам, что Данте
был там в заточении. В Губбио вы найдете улицу, носящую
имя Данте, и вас с гордостью проведут к дому, в котором
он бывал. В Тольмино, в окрестностях Удине, горцы пока¬
жут путнику грот, в котором он работал, и камень, на ко¬
тором он сидел. В любом городе Италии первое имя, кото¬
рое бросится вам в глаза, едва вы остановитесь у витрины
книгопродавца, первый портрет, который привлечет ваш
взор, едва вы заглянете в мастерскую печатника, будет
именем и портретом Данте. Кто был этот человек, чье имя
хранит память целого народа? Что сделал он для нации,
если и спустя пять с половиной веков она продолжает
чтить его и завещать память о нем новым поколениям? Не¬
многие из вас смогут ответить. Кое-кто слышал, что он был
великий поэт, но не знают, почему великий, какие идеи его
одушевляли, какая вера руководила им в его трудах. Ма¬
ло кто знает, что он потому был более велик, чем все вели¬
кие итальянцы, что больше всех любил отечество и гордил¬
ся его предназначением, более славным, чем у любой дру¬
гой страны. И едва ли кому-нибудь среди вас известно, что
несчастный, гонимый по свету, нищий Данте до своего пос¬
леднего дня свято хранил мечту о родине, мечту всей сво¬
ей жизни, и умер, пять веков назад, укрепленный верой,
что Италия станет однажды единой нацией и в третий раз
в истории обновит европейскую цивилизацию. Так разве не
придаст силы вашему духу сознание того, что величайший
ум всей Италии, нет, всей Европы верил той же верой, ко¬
357
ДЖ. МАЦЦИНИ
торую мы исповедуем, и стремился к той же цели, которую
мы сегодня пытаемся достичь?
Данте был человек, о славе которого, о заслугах кото¬
рого, о страданиях и думах которого стыдно не знать
итальянцу, кто бы он ни был, как бы он ни был малообразо¬
ван. Для Италии, для славы и для будущего нашего наро¬
да Данте сделал больше, чем десять поколений других пи¬
сателей и государственных людей. Иностранцы, даже те из
них, кто наиболее склонен поносить нас и объявлять нас
ни на что не способными, отступают с каким-то трепетом
перед этим именем, которое ни века, ни бесславие неволи,
ни тирания иностранных и наших собственных правителей,
ни интриги иезуитов не смогли и никогда не смогут пре¬
дать забвению: земля, давшая жизнь столь могучей душе,
есть необыкновенная земля, в которой теплится неугаси¬
мая жизнь. Данте вдохновлялись все мужественные умы
Италии, служившие прогрессу национальной идеи. Данте
можно считать отцом нашего языка: он нашел его бедным,
неустоявшимся, ребяческим и оставил зрелым, свободным,
поэтическим; он собрал цвет слов и речений всех диалек¬
тов и сделал из всего этого общий язык, который когда-ни¬
будь станет для всех нас выразителем национального един¬
ства, подобно тому как он был его выразителем перед ли¬
цом других наций в продолжение веков раздробленности.
Данте был великим поэтом, великим мыслителем и великим
для своего времени политиком; величайшим среди всех, по¬
тому что, как никто другой зная долг итальянца, он объ¬
единил теорию и практику, возможность и стремление:
Мысль и Действие. Он творил во имя отечества, во имя
отечества стал заговорщиком, взял в руки перо и меч. По¬
стоянный в любви, он до последнего дня берег память о
женщине, которая научила его любить. Непоколебимый в
вере, он перенес нищету, изгнание, преследования, но ни
разу не изменил своей преданности родине, достоинству
своей души, убежденности в своих принципах. Когда-нибудь
итальянские матери будут, как сказку, рассказывать исто¬
рию его жизни итальянским детям. А пока полезно в не¬
скольких словах рассказать о ней народу, который он лю¬
бил, народу, который однажды претворит его мысль в дела.
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ родился во Флоренции в месяце
мае 1265 года, неизвестно какого числа, в семье, ведшей
свое происхождение из древнего Рима; отец его был юрис¬
том, мать звали Беллой, ее девичье имя не сохранилось;
358
ДАНТЕ
их сыну, крещенному в церкви Сан-Джованни, было дано
имя Дуранте, позднее сократившееся до Данте. Мать и
отец умерли, когда он был еще мальчиком лет девяти с не¬
большим.
Первый известный нам факт жизни Данте — его первая
любовь. Приведенный в первый день мая 1274 года в дом
Фолько Портинари, богатого горожанина, основателя гос¬
питаля Санта Мария Нова, он влюбился в Беатриче, дочь
Фолько, девочку около восьми лет. Эта любовь, начавшаяся
в девять лет, одухотворила и подчинила себе всю жизнь
Данте: она стала душой его души. История его влюблен¬
ности запечатлена в книжечке, которая называется «Новая
жизнь» и была написана им самим в юности; среди людей
не рождалось еще любви более чистой, более горячей, бо¬
лее нежной и поэтической. Первые стихи, которые он сочи¬
нил, через девять лет после начала любви, говорят о Беат¬
риче, а немного позже он решил сделать бессмертным это
имя1, и сделал. Была ответная любовь, но целомудренная,
спокойная, несомненно менее пылкая. Они не стали супру¬
гами, возможно, из-за разницы материального положения.
Беатриче была отдана в жены некоему Симоне де Барди и
вскоре затем в 1290 году умерла. Данте всегда любил ее
сердечной любовью, верил, что она с вершин лучшей жиз¬
ни хранит его и ведет к добродетели, и увековечил ее па¬
мять в своей Поэме. Некоторые из его любовных стихов,
включенных в «Новую жизнь», выше любовных стихов
Петрарки, в чувстве которого часто угадываешь более уче¬
ного, чем влюбленного.
В то же время он думал об отечестве и, как надлежит
каждому, кто родился свободным, участвовал в общест¬
венных делах. В возрасте двадцати четырех лет он уже
храбро бился в первых рядах флорентийской кавалерии в
Кампальдино против гибеллинов Ареццо2, а в следующем
году участвовал в войне флорентийцев против пизанцев.
Но в 1300 году, тридцати пяти лет, он был избран одним
из приоров, или «первых», Флоренции, как раз когда в го¬
роде свирепствовала война между так называемыми Белы¬
ми и Черными3. Данте добился, чтобы главари обеих пар¬
тий были отправлены в ссылку. Слышались голоса, пред¬
лагавшие пригласить посредником иностранца, Карла Ва¬
луа4, которого поддерживал папа Бонифаций VIII5, и вве¬
рить ему оборону и казну города,— Данте воспротивился.
Кажется, его коллеги по управлению не любили его; во
359
ДЖ. МАЦЦИНИ
всяком случае, его удалили под предлогом посольства в
Рим, и, пока он пытался достичь соглашения с папой Бони-
фациемУШ, а папа БонифацийУШ тянул дело, стало из¬
вестно, что составленный из Черных трибунал приговорил
его во Флоренции к штрафу в восемьсот лир и к двум годам
ссылки и что сторонники осудившей его партии разграби¬
ли его имущество и его жилище6. Суд был неправедным
и жестоким7: обвиняли отсутствующего за несовершенные
проступки по фальшивым документам; осудили за дейст¬
вия, совершенные в его бытность приором, которые никто не
имел уже права расследовать. Данте не признал решения
суда, не заплатил штрафа и сам не явился. Его враги, на¬
полнившись злобой, разразились новым приговором и в
марте 1302 года постановили, что он, коль скоро будет
схвачен, должен быть сожжен живым8. С этого времени
Данте, считавшийся ранее гвельфом, сделался и остался
навсегда гибеллином. Смена партии — единственная вина,
которую мало расположенные к нему писатели нашли воз¬
можным приписать ему, и единственная, для которой рас¬
положенные к нему считают необходимым искать извине¬
ния. И поскольку перемена партии, вызванная не зрелым
убеждением, а ненавистью и личной враждой или перене¬
сенными гонениями,—одно из самых тяжких преступлений,
тем более тяжкое, если совершено сильным духом, необ¬
ходимо показать вам, насколько это возможно в краткой
статье, истинную подоплеку этого обвинения, чтобы вы не
думали, что, ослепленные блеском гения, мы требуем от
вас уважения к порочному человеку.
Истина заключается в том, что Данте не был ни гвель¬
фом, ни гибеллином, а, как он говорит в одном стихе своей
Поэмы, «создал партию самим собою»9. Идеи Данте были
иными или шли дальше, чем идеи гвельфов или гибелли¬
нов. И он был то с одними, то с другими, когда они каза¬
лись ему полезными как средство для достижения цели,
которую он видел впереди. Да и партии тех времен из-за
характера эпохи и из-за постоянного влияния внешних со¬
бытий часто меняли названия, вождей, союзников, так что
человек, твердо остававшийся при своих первых убежде¬
ниях, казалось, переменялся в отношении к своей собст¬
венной партии. Не Данте изменился, а гвельфизм.
Гвельфы были сторонниками папы, гибеллины — импе¬
рии. Империя была организацией феодальной, аристокра¬
тической; поэтому знатные были гибеллинами. Городское
360
ДАНТЕ
самоуправление, Коммуна, народ в целом были гвельфист-
скими. Гвельфизм восторжествовал. Коммуна укрепилась.
Феодализм стал невозможен. Какая-то часть знати сохра¬
нила свое влияние, а в некоторых случаях и власть, но знать
как единый социальный организм исчезла в Италии с тех
пор и навсегда.
И все же победоносный народ не сумел извлечь из
своей победы всех тех плодов, которые мог бы. Времена
для нации еще не созрели. Между несвязанными Комму¬
нами витал призрак анархии, который породил новые
партии, разжег новую борьбу, борьбу уже не принципов,
а страстей, самолюбия, корыстных устремлений. Папы,
призывавшие в Италию одного иностранца за другим, все
больше разжигали эту борьбу. При Урбане IV 1<5, который
пригласил в Италию Карла Анжуйского11, партии уже из¬
менили свой первоначальный характер. При Бонифации
VIII, который призвал Карла Валуа, они преобразились
до неузнаваемости. Гвельфы и гибеллины уступили место
Белым и Черным: первые — народ, вторые — патриции.
Черные были сторонниками Карла Валуа, и поскольку тот
был призван Бонифацием VIII, они назвались гвельфами.
Белые выступали против французов, и поскольку гибел¬
лины показали себя надоброжелателями французов в
годы, когда был приглашен Карл Анжуйский, изгнанные
Карлом Валуа из Флоренции Белые причислили себя к
гибеллинам. В годы своей ранней молодости Данте был
гвельфом, затем — Белым: всегда с народом, то есть с оп¬
лотом будущей нации.
Но, как мы уже сказали, времена для нации тогда еще
не наступили. Народ не шел дальше идеи Коммуны. Па¬
пы не могли и не желали создать единую Италию, но
именно мысль об итальянском единстве царила в душе
Данте. Ища средств для его создания, он остановился
между Францией и Германией. И та и другая стремились
управлять Италией, но Франция была сильна своим един-
ством и опасна симпатиями, которыми на нашу беду она
пользовалась среди итальянцев. Германия же, не способ¬
ная тогда к объединению, не могла из-за языковой пре¬
грады, противодействия папы и по иным причинам рассчи¬
тывать на популярность в нашей стране. Вместе с тем вся
Европа видела в императоре номинальное средоточие мир¬
ской власти. Данте, не умея ничего изменить в таком об¬
стоятельстве, хотел им воспользоваться; но как?
361
ДЖ. МАЦЦИНИ
Для Данте было маловажным, будет ли человек, оли¬
цетворяющий империю, пока жив он сам, итальянцем или
германцем: важным для него был не император, а импе¬
раторская власть; важным для него было вырвать ее у
Германии и возродить в Италии; важным для него было,
чтобы вновь, как всегда, слово Закона, руководство всем
европейским движением стало исходить от Италии. В своей
груди Данте чувствовал гордое биение итальянской жиз¬
ни, чувствовал сильнее, чем лучшие из его сограждан
вплоть до нашего времени. Отечество было его Верой. Он
почитал в нем не просто прекрасную страну, где он впер¬
вые узнал материнскую ласку или радовался первой улыб¬
ке любви на устах Беатриче, но и землю, которой бог на¬
значил великую миссию нравственного объединения Евро¬
пы и посредством Европы — всего человечества. Он считал
бесспорным, что римский народ «по праву» и «по божест¬
венному предначертанию» взял на себя власть над всеми
смертными, что само Провидение назначило Риму быть
средоточием империи. Он утверждал, что ни один народ
по самой своей природе не умеет так мягко повелевать,
так верно союзничать и так легко завоевывать, как лати¬
няне, и особенно священный римский народ 12. Он считал,
что достойны поклонения те камни, из которых сложены
стены святого и славнейшего Рима, и земля, на которой
он стоит, достойна поклонения большего, чем то, которое
оказывают ей люди13. Итак Рим, столица Италии, был
единственным центром всей власти; в Риме должен был
находиться тот, кто воплощает эту власть, и из Рима
должно было исходить веяние новой жизни для всего че¬
ловечества. Ясно, что при таких убеждениях (они изложе¬
ны в книгах, которые очень немногие итальянцы читают,
это книги «Пир» и «О монархии») Данте настолько же
отдалялся от гибеллинов, насколько от гвельфов. Гибелли¬
ны хотели отдать Италию в подданство Священной Гер¬
манской имиерии — Данте хотел перенести ее в Рим и до¬
биться, чтобы никому, будь то итальянец или иностранец,
нельзя было по праву осуществлять власть в этой импе¬
рии иначе, как из Италии и из Рима.
Такова была мысль Данте, человека самого возвышен¬
ного ума, когда-либо рожденного Италией.
И он ни разу не изменил этой мысли. Всю свою жизнь,
несчастную и горестную жизнь, он прожил как человек,
сознающий высоту своей веры и не желающий опорочить
362
ДАНТЕ
ее. В изгнании он пытался действовать, как велели ему
убеждения. Эмигранты избрали его в 1302 году членом
Совета Двенадцати, который должен был заняться веде¬
нием их дел; но, видя, что его коллеги совершают безрас¬
судные поступки, Данте оставил их 14. Он сделал еще од¬
ну попытку осуществить свою мечту в 1307 году, но безу¬
спешно 15. Странником пошел он по всей Италии из города
в город, из дворца во дворец, мучимый благородным гне¬
вом, сменявшимся в нем любовыо, горькой печалью, тос¬
кой, этой неразлучной спутницей изгнания, и настойчивой,
изнурительной думой, — но не унизил себя, не прогнал от
себя эту думу и не предал ее молчанием или недостойны¬
ми поступками. Третируемый с подозрением или с грубым
высокомерием вождями партий, то гвельфами, то гибелли¬
нами, дававшими ему приют, он узнал:
...как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням1в,—
он научился не верить славе, признательности, дружбе, ни¬
чему, кроме как своей душе, будущему своего отечества и
богу; он познал то желание смерти, которое по капельке
просачивается в сердце изгнанника, пока не заполнит все
его существо, и которое он выразил в этих своих стихах:
Не знаю, сколько буду жив;
Пусть даже берег близок, но желанье
К нему летит, меня опередив 17,—
и, изучая людей, политику самолюбивых кондотьеров и
маленьких итальянских тиранов, которым он все время
пытался внушить величественную мысль об объединении
Италии, он понял, что надежды нет, и изведал горечь чув¬
ства, говорившего ему: «Ты умрешь, не увидев осуществ¬
ления самого священного замысла твоей души». И все же
он не сдавался. Не склонял гордой головы перед бурей
неудач, а если и склонял ее иногда втайне, то это было
подобно тому,
Как сень ветвей, когда ее придавит
Идущий ветер, никнет, тяжела,
Потом, вознесшись, вновь листву расправит ,в.
Он терпел, не проронив ни слова; он писал, изо дня в день
вверяя вечной Поэме, над которой трудился, впечатления
363
ДЖ. МАЦЦИНИ
своей души, свои проклятия злодеям, свои благословения
тем редчайшим людям, в чьей доблести он мог убедиться;
он сберегал все это, чтобы оставить потомкам, сойдя в
могилу, — и в то же время, как только события складыва¬
лись для этого благоприятно, он не пропускал ни единой
возможности проповедовать свою веру и призывать к един¬
ству свое отечество. Около 1316 года, когда ему был уже
пятьдесят один год, тогдашние правители Флоренции пред¬
ложили ему вернуться на родину и получить обратно свое
имущество в обмен на то, чтобы он объявил себя прощен¬
ным и, следовательно, виноватым. Другой поспешил бы
схватиться за это приглашение; Данте его отверг, и мы хо¬
тим перевести для вас то, что сохранилось от написанного
на латинском языке письма, которым он ответил другу,
сообщившему об этом предложении, потому, что в этом
письме — вся душа Данте как на ладони, и потому, что
всем изгнанникам нашего времени следовало бы задумать¬
ся над ним:
«Из ваших писем, с должным почтением и чувством
мною принятых, я с удовольствием, душевной благодар¬
ностью и прилежным вниманием узнал, как вы заботитесь
о том, чтобы я вернулся на родину; и тем более я обязан
вам за них, что изгнанники так редко встречают друзей.
Но отвечу на означенное в них; и если я сделаю это не
так, как, возможно, хотелось бы малодушию некоторых,
то сердечно прошу, чтобы ваше благоразумное рассмотре¬
ние шло впереди вашего суда.
Письма от вас, и моего племянника, и от многих иных
друзей извещают меня, что в силу декрета о прощении
изгнанных, вновь изданного во Флоренции, я, если только
соглашусь уплатить определенную сумму и подвергнуться
позору публичного помилования, мог бы, получив таким
образом прощение, немедленно вернуться на родину. В
этом, о святой отец, есть, если сказать правду, две вещи
достойные смеха и плохо обдуманные; говорю: плохо
обдуманные, имея в виду тех, кому они пришли в голову,
поскольку ваши письма, более сдержанно и благоразумно
составленные, не содержат подобных предложений.
Так вот каков славный способ, которым Данте Алигье¬
ри призывают вернуться, после пятнадцати почти лет из¬
гнания, на родину? Так вот что заслужила невиновность,
для каждого очевидная? Вот чего заслужили труды в ноте
лица и непрестанные упорные занятия? Не пристало чело¬
364
ДАНТЕ
веку, с философией знакомому, это безрассудное униже¬
ние земных сердец — согласиться, наподобие какого-ни¬
будь Чоло или другого негодяя 19, чтобы ему, как побеж¬
денному, предлагали выкуп! Не пристало человеку, пропо¬
ведующему справедливость, чтобы он, обиженный неспра¬
ведливостью, дарил обидчикам, как если бы они его обла¬
годетельствовали, часть своего добра!
Таким путем, отец мой, не возвращаются на родину;
но если вами или же другими будет найден иной путь, не
предающий славы и чести Данте, я вступлю на него неле-
ностным шагом; если же подобным путем нельзя вступить
во Флоренцию, то я не вступлю в нее никогда. Как? Разве
не отовсюду смогу я увидеть зрелище солнца и звезд?
Разве не повсюду смогу я под Небом размышлять о слад¬
чайшей истине, не лишив себя сперва всякого достоинства,
больше того, не покрыв себя бесславием в лице народа и
в лице города Флоренции? Уж без хлеба я не останусь».
За такой ответ флорентийцы разразились против него
новым приговором. Все же Данте нашел в последние годы
своей жизни более радушный прием и больше дружеской
заботы у Гвидо, Синьора Равенны, и на короткое время в
Вероне при дворе Кангранде делла Скала, знаменитого в
ту эпоху капитана лиги гибеллинов.
У Данте была жена, Джемма Донати, которую он взял
после смерти Беатриче, но ее не было с ним во все время
изгнания; у него были дети, но неизвестно, жил ли с ним
кто-либо из них. Он написал, кроме своей поэмы, другие
книги на латинском и итальянском языках, о которых мы
не будем сейчас говорить. Он страстно любил музыку и
умел рисовать. На первой странице этой статьи вы видели
его лицо: смуглое, сурово-грустное и задумчивое. Он был
среднего роста, несколько сутул. Говорил мало, но когда
увлекался, то речь его была необыкновенно хороша. Он
умер в 1321 году, 21 сентября, в возрасте пятидесяти шес¬
ти лет, после возвращения из порученного ему Гвидо Но-
велло, Синьором Равенны, посольства в Венецию, неуда¬
чей которого он был глубоко удручен. Гвидо устроил ему
похороны, а вскоре затем родня Гвидо заставила его бе¬
жать из Равенны в Болонью. Мы не знаем даже места,
где покоятся останки величайшего мыслителя Италии20,
потому что вскоре после бегства Гвидо кардинал Под-
жетто отправился в Равенну с приказом папы Иоанна под¬
нять останки Данте, проклясть их и расссять21.
365
ДЖ. МАЦЦИНИ
Однажды в своих странствиях Данте пришел в мона¬
стырь Дель Корво на Монте Каприоне в Луниджиане;
один из братии спросил его, чего он хочет, и поэт ответил:
«МИРА» 22. На земле никто, ни монах, ни кто-либо иной,
мира дать ему не мог. Но мир для усопших, если они, как
мы верим, смотрят еще с любовью на наши дела, — это
исполнение МЫСЛИ, которою они жили здесь на земле.
Хотите ли вы, итальянские труженики, делами почтить па¬
мять великого человека Италии и дать мир душе Данте
Алигьери? Осуществите замысел, над которым он трудился
в продолжение своей земной жизни. Сделайте ЕДИНОИ,
мощной и свободной вашу страну. Покончите с тем пре¬
ступным раздором в вашей собственной среде, против ко¬
торого столько боролся Данте, раздором, обрекшим его,
глубже всех предчувствовавшего и любившего ваше буду¬
щее, на несчастия и изгнание, а вас — на вековое бесси¬
лие, продолжающееся и теперь. Освободите гробницы ва¬
ших гениев, возложивших венец славы на ваше отечество,
от позорного сапога иностранного солдата. И когда в своей
любви и ненависти вы станете достойными Данте — когда
ваша земля станет вашей, а не чужой — когда душа Дан¬
те сможет взирать на вас не с болью, а с радостью и чув¬
ством священной гордости итальянца — мы воздвигнем па¬
мятник нашему поэту на самой высокой площади Рима и
напишем на пьедестале: ПРОРОКУ ИТАЛЬЯНСКОГО
ЕДИНСТВА — ДОСТОЙНЫЕ ЕГО ИТАЛЬЯНЦЫ.
КОММЕНТАРИЙ ФОСКОЛО
К «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ
...Для того, кто понимает, что
и после целого потопа комментариев, примечаний, лекций,
диссертаций и логогрифов о «священной поэме», накопив¬
шихся за пять веков у монахов, аббатов, епископов, чле¬
нов праздных академий, профессоров придворных универ¬
ситетов, в наше время остается лишь две возможности по¬
нять душу, сердечную жизнь и вечную правду Данте —
изучать жизнь и произведения Поэта и исправлять текс¬
ты, — для того труд Фосколо даже и в том виде, каким
его сделали обстоятельства, представится очень важным.
В Италии, где по причине полного отсутствия литератур¬
ной критики неопытная юность беззащитна против гибель¬
ных влияний слепого неверия и слепого преклонения, а те
крохи истины, которые, насколько дозволяют условия, не¬
сет ничтожная горстка истинно знающих, тонут в меша¬
нине ошибочных мнений, до сих пор есть опасность лож¬
ного истолкования и фактов биографии и текста Данте, —
текста, всячески искаженного и испорченного из-за множе¬
ства переписок, из-за невежества переписчиков, из-за
чрезмерного доверия каждого издателя к своему списку и
из-за нелепейшего предрассудка, заразившего большинст¬
во тосканских и других писателей, которые, сами поль¬
зуясь вовсю ломбардским диалектом, строят вместе с тос¬
канцами теории, ограничивающие Глагол будущей нации
тесными рамками одной провинции, а величие дантовского
языка идиомами и изнеженными речениями одного (пусть
лучшего) диалекта Италии; фактов биографии, извращен¬
ных сперва всеми теми, кто во главе с Пелли 1 видел в
Данте лишь литератора, а затем историками, которые все
без исключения писали либо как гвельфы, либо как ги¬
беллины о человеке, который еще совсем молодым отошел
367
ДЖ. МАЦЦИНИ
от обеих партий и с гордостью говорил в Поэме, что он
Создал партию самим собою2.
Данте — человек, изучение книг и жизни которого
смогло бы возродить к жизни целое поколение, укрепив
его против нравственной расслабленности, которую поро¬
дили и поддерживают три века праздности и рабства. Но
изучение это должно быть строгим, беспристрастным, без
всякого поклонения перед авторитетами; браться за него
надо не для того, чтобы запомнить некое количество вели¬
колепных по своей гармонии и образам терцин и стихов,
которые делают Поэму столь приятной для слуха и вооб¬
ражения, но для того, чтобы с мечтой о будущем, со свя¬
тым презрением ко всей своре ученых евнухов и с любовью
к миллионам сыновей Италии, вынашивающим мысль
Данте, искать и развивать эту мысль с благоговением сы¬
на, пришедшего на могилу отца для того, чтобы воспри¬
нять тайну идеи, в которую верил Данте, которая поста¬
вила его выше всех великих людей Италии и дала ему
силу перенести бедность, одиночество и изгнание. И начи¬
нать изучение надо с жизни Поэта, с той традиции италь¬
янизма, выразителем и гениальным продолжателем кото¬
рой он был, с его «Малых произведений», задуманных им
как подготовка к Поэме, и лишь затем уже переходить к
«Божественной комедии», завершению здания, поэтическо¬
му выражению идеи, политическая сторона которой раз¬
вита в «Монархии», философская — в «Пире», литератур¬
ная — в книге «О народном красноречии». Ибо Данте есть
могучая Цельность: личность, которая, как в зародыше,
заключает в себе суть и лицо нации; его дела, его слова,
его книги скреплены единой идеей, и весь Данте есть еди¬
ная мысль, которую он на протяжении пятидесяти шести
лет своей жизни лелеял, развивал и проповедовал с таким
недоступным страху и мирскому соблазну постоянством,
что мы должны были бы назвать его гением, даже если бы
мысль эта была неосуществимой мечтой; так каким же
именем почтить его, если она и на самом деле незримо на¬
полняла жизнь десятков поколений, если она всегда была
и есть мера прогресса, цель и смысл нашего служения?
А это именно так. Отечество воплотилось в Данте. Этот
великий дух более пяти веков назад, когда вся националь¬
ная жизнь выражалась в жалкой розни гвельфов и гибел¬
линов, предвидел Италию, Италию как вечное начало ев¬
368
КОММЕНТАРИЙ ФОСКОЛО К «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ
ропейского религиозного и социального единства, Италию
как глашатая цивилизации для всех народов, Италию,
какой она однажды станет. Этим предчувствием дышат
все произведения Данте, и учение о нем изложено в книге
«О монархии», которую один туринский автор, гвельф, еще
сегодня называет «сплетением несбыточных мечтаний», а
один ломбардский писатель, колеблющийся между гвель-
физмом и гибеллинизмом — «ничтожнейшей книгой». Пиг¬
меи, мы можем понять пока лишь музыку стиха Данте и
великолепную игру его воображения; но когда-нибудь,
когда мы сделаемся более достойными его, мы все, взирая
на гигантские следы, оставленные им на путях социальной
мысли, придем паломниками в Равенну, чтобы в краю, где
покоится его прах, почерпнуть пророчество о грядущих
судьбах и силы, необходимые, чтобы удержаться на той
высоте, которую он еще в четырнадцатом веке указал для
своих собратьев ио отечеству.
И когда мы сделаемся достойными Данте, то помимо
всего этого в оставленных им книгах мы найдем язык, о
котором и не подозревают завладевшие сейчас итальян¬
ской словесностью дряблые писатели, офранцузившиеся,
онемечившиеся, испорченные всеми влияниями, но кричащие
о своей независимости, — мы найдем истинно националь¬
ную философию, связующее звено между итальянской
школой Пифагора3 и итальянскими мыслителями XVII ве¬
ка 4, — мы найдем основы Поэзии, этой посредницы между
действительным и идеальным, между землею и небом, по¬
средницы, которую утратила омертвевшая от безверия и
эгоизма Европа, — мы найдем семена той веры, к которой
тянется каждая душа, не будучи в силах достичь ее. Тогда-
то найдут достойную оценку исследования Фосколо о Дан¬
те, исследования, о которых сегодня литераторы не гово¬
рят или говорят совсем невнятно. И когда люди, в долгих
занятиях проникнувшиеся итальянской традицией, освя¬
щенные любовью, страданиями и постоянством, жрецы
Данте предпримут издание его произведений как монумент
в честь духа нации, они начнут это издание с тома крити¬
ки, который станет как бы преддверием храма, где будут
поклоняться Данте; и в этот том войдут работы Фосколо.
Фосколо не был жрецом Данте; он не мог воскурить
благовоний у его алтаря. Слишком много устаревших мне¬
ний о человеческой природе и законах, управляющих судь¬
бами наций, боролись в его душе с новыми предчувствия¬
369
ДЖ. МАЦЦИНИ
ми. Слишком много веками накопившихся ошибок стояло
между ним и Данте, чтобы он мог увидеть своего бога во
всем блеске его изначальной идеи. Живя в эпоху, когда
духовная жизнь в Италии шла более под влиянием иност¬
ранных идей, чем благодаря собственной энергии, он не
имел необходимой веры в национальную поэзию и, тру¬
дясь на путях современной мысли, упрямо продолжал, хо¬
тя бы ради воспоминаний детства, придерживаться грече¬
ских форм. Кипя гневом к окружавшей его рабской толпе
литераторов, огорченный разочарованиями, омрачившими
последние годы его жизни в Италии, он научился у Данте
энергии страстей, независимости в труде, сознанию свя¬
тости миссии писателя, благородной ненависти к тем, кто
ее принижает, — но только не вере, которая возвышалась
бы над современностью с ее делами и поднималась бы к
тому идеалу, который большинство из нас называет меч¬
той, в то время как он есть не что иное, как пророчество.
И все же, если даже он не видел всего, что есть у Данте,
он видел по крайней мере, чего у него нет и что ему при¬
писывает, искажая черты его облика и историю его жизни,
порочность или легковерие комментаторов. Он поднял бич
на осквернителей храма. Он выступил разрушителем — и
разрушил.
Он разрушил уважение к произвольным догадкам, к
научной лжи, к ученым анахронизмам, к тысяче бездумно
повторяемых ошибок, которые держатся авторитетом ка¬
кого-нибудь имени или какой-нибудь академии. Он разру¬
шил слепую веру в манускрипты, возникшие после смерти
поэта и ожидающие исправления путем сличения, восста¬
новления логической связи идей и сопоставления с тем,
что известно о жизни и мысли Данте. Он разрушил порож¬
денные мелочным тщеславием городов и льстивым прекло¬
нением перед потомками знатных фамилий теории, в ко¬
торых извращалась история странствий Данте, и выдумки, в
которых эта благородная, гордая душа, равной которой еще
не рождалось, подозревалась то в расчете, то в низкой
злопамятности, он разрушил вредный для правильного
понимания текста предрассудок о предпочтении тоскан¬
ского диалекта, разрушил привычку отдавать предпочтение
эстетике — над мыслью, форме—над идеей, средству—над
целью. Он вывел критику на пути истории. В Данте он
искал не только поэта, не только создателя нашего языка,
но гражданина, реформатора, апостола веры, пророка на-
370
КОММЕНТАРИИ ФОСКОЛО К «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ
ции. Он открыл перед всеми нами путь, который не дали
пройти до конца ему самому его эпоха, его образование,
его несчастнейшая жизнь и некоторые ошибки мысли, от
которых он не смог избавиться. И если сегодня изучение
Данте стало более серьезным, более философским и, уж
конечно, более полезным для молодой Италии, чем все
корпение буквоедов, то, что бы ни говорили иные, этим
мы на две трети обязаны «Рассуждению о тексте» и дру¬
гим исследования Фосколо о Данте; если когда-либо мы бу¬
дем иметь настоящее издание Поэмы, то лишь благодаря
правилам, по которым Фосколо в публикуемой здесь ра¬
боте провел исправление текста и выбор вариантов.
И это была его последняя работа. Он начинал среди
поощрений и похвал лучших умов Италии, в надежде на
спокойную старость и желанную славу — а окончил в тис¬
ках бедности, которую мало кто смог бы перенести, не па¬
дая духом, когда кредиторы его преследовали, когда к
несчастьям и болезни, погубившей его, примешивалась го¬
речь от сознания, что у него нет средств, времени и хлеба,
чтобы завершить огромный труд так, как того требовало
уважение к Данте и любовь к Италии. Не знаю, может
быть, люди ученые думают в Италии иначе, но я сердцем
чувствую, что публикация этой рукописи, пятнадцать лет
пылившейся на книжной полке английского издателя, есть
долг, священный долг итальянцев. Мне представляется,
что прах Фосколо, покоящийся на чужеземном кладбище
под камнем, поставленным рукой чужеземца, — достаточ¬
ная дань нашей несчастной эпохе, чтобы мы могли еще
предавать забвению последние свидетельства любви к ис¬
тине и к нам человека, который, возможно, один среди
всех знаменитых людей своего бурного времени свято со¬
хранил перед лицом насилия, в счастье и несчастье, в из¬
гнании и нищете независимость мысли и духа и вернул в
Италии священное достоинство искусству, низведенному
теперь, за редкими исключениями, до положения ремес¬
ла. [...]
МАКИАВЕЛЛИ
Больше трех веков отшуме¬
ло над гробницей человека, чье имя стоит в заголовке
этой статьи. Множество ученых, от кардинала Поло до
историка Роско, исследовали его жизнь и его произведе¬
ния. Но для большинства читателей его характер и цели
его деятельности все еще остаются загадкой, неразреши¬
мой проблемой1. Его родной город2 написал на его гроб¬
нице, как приговор окончательного суда, знаменитые сло¬
ва: TANTO NOMINI NULLUM PAR ELOGIUM3 —и, од¬
нако, во всех странах Европы, да и в самом лоне его
отечества звук его имени вызывает смешанные, чуть ли
не мрачные чувства, и то, что надлежит назвать его уче¬
нием, остается и еще надолго останется синонимом ковар¬
ства, хитрости и безнравственности.
Мы не знаем другого великого писателя, за исключе¬
нием, может быть, Спинозы, чья память так жестоко и
так несправдливо оскорблялась бы в течение трех веков.
Время от времени кто-либо из редких защитников осме¬
ливался воспротивиться общему течению; биографы Ма¬
киавелли, пораженные его патриотизмом, прямотой и
античной добродетелью, его стоической твердостью в не¬
счастьях, призвали пересмотреть неблагоприятное сужде¬
ние, вынесенное о нем, и заново перечитать его книги. Но
никто не осмелился полностью оправдать его; никто, на¬
сколько нам известно, не пожелал дойти до истоков об¬
винения и подвергнуть тщательной критике мотивы, воз¬
действовавшие на большую часть исследователей, и обли¬
чить заинтересованность судий, страсти и интересы,
повлиявшие на их решение. Труд этот еще даже не начат,
и мы здесь можем лишь указать на его необходимость;
но несомненно, что результатом его будет разрушение
372
МАКИАВЕЛЛИ
всего нагромождения пристрастных свидетельств, кото¬
рые стоят сейчас между нами и предметом нашего иссле¬
дования и которые влияют даже против нашей воли на
приговор, который выносим в свою очередь и мы.
Тот, кто возьмется за этот труд, заметит, что секрет
всей ярой ненависти к Макиавелли заключается (в пер¬
вую очередь в том, что касается итальянских и француз¬
ских писателей) вовсе не в политических максимах, со¬
держащихся в «Государе», — максимах, которые, впрочем,
как показало одно малоизвестное латинское сочинение
Гаспара Шоппиуса 4, можно найти в книгах Фомы Аквин¬
ского, — но в неустанном, упорном противодействии мир¬
ской власти Римской курии, явствующем во всех произ¬
ведениях Макиавелли, в его стараниях показать совре¬
менной ему молодежи необоснованность этой власти и в
смелости, с которой он в своих комедиях5 нападал на
лицемерие и разврат монахов своего времени. Системати¬
ческое преследование, начатое против Макиавелли во
второй половине XVI века, было в самом начале не чем
иным, как происками католического священства, которое
позднее еще более ожесточили и успехи Реформации, и
пошатнувшееся положение Римской курии, и ее тяжбы с
некоторыми светскими правителями. Первое нападение
было сделано кардиналом Поло в 1535 году; поводом к
нему послужило использование английским правительст¬
вом цитаты из книги Макиавелли против мирской власти
духовенства. Впрочем, кардинал Поло сам слышал из уст
людей, близких Макиавелли, будто тот «желал ускорить
крушение того, кому была предназначена его книга, да¬
вая ему советы, выполнение которых привело бы его к
гибели». Это единственное толкование, которое никогда,
насколько нам известно, никем более не повторялось6;
оно доказывает, какова бы ни была его собственная цен¬
ность, что еще несколько лет после смерти Макиавелли
во Флоренции никто даже и не думал обвинять этого ве¬
ликого итальянца в том, что он добивается повсеместного
распространения своего учения7.
Позднее, в 1564 году, после того как доминиканский
монах Каттарино написал вторую книгу с очередными
нападками, Макиавелли был осужден одним из церков¬
ных советов, и его произведения, которые до 1559 года
печатались с одобрения Римской курии и пользовались
ее привилегией, имели честь попасть в «Индекс»8. Тог¬
373
Дж. МАЦЦИНИ
да рухнула последняя преграда, и не было ни одного
самого жалкого католического писаки, который не выпус¬
тил бы новой книжонки, стараясь превзойти в ругани
своих предшественников. Одни обвиняли Макиавелли в
безбожии, другие объявляли, что он умер, богохульст¬
вуя, и, как всегда, всех превосходили бесстыдством и
лживостью иезуиты. Начиная с иезуита Поссевино, нагло¬
го фальсификатора, который сам придумывал цитаты,
чтобы было удобнее их опровергать, до иезуита Тирабос-
ки, оспаривавшего у Макиавелли то единственное досто¬
инство, в котором ему не могли отказать даже самые
злобные его враги, достоинство глубокого и правдивого
историка, начиная с того испанского иезуита, который,
обвиняя Макиавелли в безнравственности, выставлял об¬
разцом для государей некоего святого Фердинанда, кото¬
рый на собственных плечах таскал поленья для костров
инквизиции, и до иезуитов Ингольштадта, которые с боль¬
шой торжественностью сожгли статую «помощника дьяво¬
ла»,— все это общество свято выполнило свой долг. Никог¬
да еще столь старательно не выполнялось правило: «Лги¬
те, лгите, от лжи всегда что-нибудь остается»; трудами
бараньего стада литераторов, шедших по следам иезуи¬
тов, оно произвело свое действие.
Странным образом совершенно иные страсти и иные
предрассудки привели к тому же самому обвинению про¬
тестантских писателей. «Государь» был посвящен Лорен¬
цо Медичи, герцогу Урбино; Катерина, мать Карла IX,
была женой Лоренцо 9; этого оказалось достаточно, чтобы
кальвинисты стали говорить, что «в книге Макиавелли
она нашла оправдание для чудовищного плана Варфоло¬
меевской ночи». Другие уверяли, что Генрих IV носил с
собой «Государя», когда пал, пронзенный кинжалом Ра-
вайяка. Все охотно слушали, и казалось, что достаточно
обвинить Макиавелли, чтобы тебе поверили. Бейль, вели¬
кий скептик, повторил придуманные иезуитами анекдоты,
и слово «макиавеллизм», одинаково ругательное для обе¬
их партий, стало употребляться для обозначения самого
презренного и недостойного обмана, самого жестокого и
холодного лицемерия. После этого приходилось ли спраши¬
вать, кто был вдохновителем Луи XI10. И, несмотря на
все это, Бэкон, величайший мыслитель новой эры, уверен¬
но начертал в своей книге «De augmentu scientiarum» сле¬
дующие слова: Gratias agamus Machiavello et hujusmodi
374
МАКИАВЕЛЛИ
scriptoribus qui aperte et indissimulanter proferunt quid
homines facere soleant, non quid debeant п. Позднее Жан-
Жак Руссо назвал Макиавелли «великим республикан¬
цем»12. Так дважды гений был понят гением. Суждение
Руссо и Бэкона, по нашему разумению, весит больше, не¬
жели голоса тысяч иезуитов и кальвинистских сектантов,
и оно есть наилучшее толкование книг Макиавелли и его
намерений.
Да, Макиавелли был республиканцем. Человек, кото-
рый стойко перенес пытку за заговор против Медичи 13,
человек, который всю свою жизнь твердил итальянцам:
«Будьте сильными; вверяйтесь не иностранным солдатам,
но своей силе и своей смелости»,— этот человек не думал
обучать тирании жалких, презираемых им государейи.
Когда он испробовал все пути воспитания нации, он напи¬
сал своего «Государя» и бросил его современникам, чтобы
сказать им: «Вот что сделают ваши слабые и порочные
правители, чтобы владеть вами; подумайте об этом».
Да, Бэкон прав: Макиавелли был великим историком.
Он правдиво описал нравы своей эпохи, против которых
выступал всю свою жизнь. И его ли мы обвиним, если сама
эпоха была низменной и «макиавеллической»? Те, кто в
наше время обвиняет его, подобны критикам, упрекаю¬
щим Байрона и Гёте за то, что они посеяли семена без¬
верия, которого сами же они были первыми жертвами.
Есть гении с пророческим даром, и есть гении завер¬
шения; Макиавелли в числе этих последних. Не ищите у
него идеи закона прогресса или понимания коллективной
жизни человечества, которой он совершенно чужд; он вы¬
разитель индивидуальной личности, человек своей эпохи,
эпохи, которая начинается Луи XI и кончается Борджиа;
и не ставьте ему в вину характер его картин 15 и их воз¬
действие. Он не творит, но копирует; он рисует то, что ви¬
дит перед глазами.
Эти мысли пришли нам в голову на лекции г-на Гонса¬
леса * об итальянских историках. Мы с удовольствием слы¬
шали из уст итальянца, возможно, еще слишком робкую,
но заслуживающую высшей похвалы за справедливость
своих идей реабилитацию человека, так плохо понятого в
• Г-н Гонсалес из Мантуи, лекция которого послужила поводом для этой
статьи,— один из итальянских изгнанников, преподающих в Лондоне итальянский
язык и литературу,
375
ДЖ. МАЦЦИНИ
своей стране. «Антимакиавеллизм» Луи XI, Фердинанда
Католика, Александра VI, герцога Валентино, Людовика
Мавра 16 (а сколько еще имен можно было бы прибавить!),
тогдашнее положение Италии и несчастные наклонности ее
правителей, другие произведения Макиавелли, и в первую
очередь его жизнь, столь славная, столь самоотверженная
в служении родине, — все это послужило г-ну Гонсалесу
материалом для правильного понимания «Государя».
Эта книга — анатомия тирана, сказал он. Макиавелли
решил раскрыть его секреты, чтобы подданные почувство¬
вали отвращение, а государи устыдились.
Г-н Гонсалес уже пользуется доброй известностью у
наших читателей, и еще большей — у наших читательниц.
Лекция, о которой мы говорим, лишь укрепляет наши к не¬
му симпатии и уважение к его добросовестным занятиям и
способностям.
ТОМАС КАРЛЕИЛЬ
1. “Six lectures on heroes and hero worship”, London, 1841.
2. "Sartor Resartus”. In 3 books, London, 1841.
3. “Past and present”, London, 1843.
Последняя книга Томаса Кар-
лейля дает мне долгожданный повод высказать общее
суждение об этом замечательном писателе. Я говорю «о
писателе», то есть о его таланте и направлении, а не о его
книгах, потому что идея, вдохновляющая его, представ¬
ляется мне намного более важной, чем та форма, в кото¬
рую он ее облекает. В эту эпоху перехода от сомнения к
вере старые идеи умирают и тяготят душу, как ночной
кошмар; новые, являясь во всем своем прекрасном блеске
и пленительности надежды, неопределенны и расплывчаты,
как утренние сны. Мы колеблемся между уже безжизнен¬
ным прошлым и будущим, жизнь которого еще не прояви¬
лась, и иногда нами овладевает глубокое уныние, иногда
нас одушевляют светлые предчувствия, и мы силимся раз¬
глядеть во мраке путеводную звезду. Каждый из нас, по¬
добно Гердеру, ждет от инстинктов своего сознания вели¬
кой религиозной мысли, которая положила бы конец скеп¬
сису, ждет социальной веры, которая спасла бы нас от
анархии, ждет нравственного вдохновения, которое претво¬
рило бы эту веру в дела и спасло бы нас от созерцатель¬
ной праздности. Каждый из нас с нетерпеливой надеждой
взирает на тех немногих, в ком отражаются невысказан¬
ные чувства и неосознанные чаяния множеств, гармони¬
руя с глубочайшими прозрениями индивидуального соз¬
нания.
Миссия таких людей меняется вместе с эпохой. В годы
спокойной и правильной деятельности человечества мысли¬
тель подобен звезде, которая чистым и благодатным све¬
том озаряет настоящее; но в другие, бурные времена ге¬
ний призван идти впереди нас, подобно огненному столбу
377
ДЖ. МАЦЦИНИ
в пустыне1, разведуя нехоженые просторы будущего.
Именно в такие времена мы живем. Мы уже не можем
пробавляться культом искусства ради искусства, играть
звуками и формами и услаждать свое зрение и слух, но
чувствуем потребность обрести идею, которая смогла бы
сделать нас лучше и спасти нас. Терпеливое смирение, с
которым одно описанное Геродотом племя обмануло во¬
семнадцать голодных лет игрой в кости 2, не есть доброде¬
тель— если вообще заслуживает такого имени — девятна¬
дцатого века.
По характеру своих сочинений и по особому складу сво¬
его ума Томас Карлейль заслуживает исследования, за
которое я берусь. Он опечален, и он серьезен; с первых лет
своих раздумий он увидел зло, терзающее наш мир, и об¬
личил его громким и бесстрашным словом. «Назвать ли
обществом, — восклицает он в одной из своих первых
книг *, — то, в чем не сохранилось ни одной социальной
идеи, не только идеи простого дома, но идеи простой пере¬
населенной ночлежки, где каждый в отдельности, не ду¬
мая о своем ближнем, грабя своего ближнего, хватает, что
может, и кричит: «Мое!»—и твердит о мире и благоденст¬
вии, потому что в драке новых бандитов и головорезов уже
нельзя применить железных ножей, но требуется другое,
более изощренное оружие, где дружба, общественность
стали забытым преданием и самая святая тайная вечеря
превратилась в обед в дымной харчевне с поваром вместо
евангелиста; где язык дан священнику лишь для облизы¬
вания тарелок, где вожди и правители не умеют руково¬
дить, и со всех сторон только и слышится упоенное: «Lais-
sez-faire!»3? Освободите нас от этого вашего руководст¬
ва— ваш свет темнее мрака: поглощайте свое жалованье
и спите».
Записывая эти строки, Карлейль сознавал, что он обя¬
зуется тем самым искать лекарства против зла, и он не
отступил от своего обязательства. Высокая цель светится
во всем, что им написано с тех пор. В своем «Чартизме»
он намеренно перешел к социальному вопросу; во всех
других сочинениях разбирал какую-либо его сторону. Ис¬
кусство для него есть лишь средство. Мы всегда видим в
писателе апостола, и как об апостоле я хочу о нем гово¬
рить. [...]
* “Sartor Resartus", book 3, Ch. 6.
378
ТОМАС КАРЛЕИЛЬ
Порок, о котором я нишу, всего лишь один — но он ва¬
жен, он оказывает влияние на все, что пишет Карлейль,
и определяет каждую его идею. Логика неумолима, и она
властвует над умами, даже когда им кажется, что они вос¬
стают против ее господства.
Этот порок заключается в способе рассмотрения кол¬
лективного разума нашего времени.
Сила, запечатлевающая все проявления нашей эпохи,
заставляющая каждого из нас скорбеть о теперешнем по¬
ложении и искать избавления, в политике сменяющая ос¬
нованные на привилегии способы правления демократией,
в религии ставящая на место одинокого откровения личной
совести дух общечеловеческой традиции, — это сила идеи,
изменяющей отправную точку и назначение человеческой
деятельности; это коллективная мысль, которая стремится
заменить в качестве основы социального устроения мысль
индивидуальную, это дух Человечества, открыто готовый
(ибо в прошлом его действие было хотя и непрерывным,
но тайным и незаметным) заменить собою принцип чело¬
века. Мы одну за другой изучали в прошлом складки ча¬
шечки, лепестки венчика; сегодня мы изучаем единство
жизни и строения цветка. Две тысячи лет от зарождения
Греции до последних веков языческого Рима развернули
личность в одном из ее аспектов; восемнадцать веков хрис¬
тианства обнажили второй ее аспект. И вот сегодня наш
взор обнимает более обширный горизонт — мы от рассмот¬
рения личности и индивидуальности переходим ко всему
человеческому роду. Инструмент налажен, и мы ищем за¬
кон его действия и присущее ему назначение 4. Рассмотре¬
ние индивидуальной личности дало нам идею права; мы
достигли — пусть не всегда на деле — двух великих усло¬
вий жизни я, свободы и равенства; теперь мы идем даль¬
ше: наши уста уже лепечут слово «Долг», а это есть нечто
такое, что может вытекать лишь из закона общества и что
ведет к ассоциации, к установлению общей цели, общей
веры. Протяжный страдальческий крик миллионов, раздав¬
ленных колесами конкуренции, открыл нам, что одной сво¬
боды труда недостаточно, чтобы сделать промышленность
источником материальной жизни государства и всех его
членов, а царящая повсюду идейная анархия научила нас,
что простой свободы совести мало, чтобы сделать веру ис¬
точником нравственной жизни государства и всех его
граждан. Мы начинаем догадываться не только о сущест¬
379
ДЖ. МАЦЦИНИ
вовании на земле чего-то такого, что выше, священнее и
прекраснее индивидуальной личности, о коллективном Че¬
ловечестве, которое живет, учится, идет вперед, продол¬
жает себя на пути к идеалу и для которого личность слу¬
жит орудием, но также о необходимости именно в этом
коллективном существе, в идее вселенского разума, малым
воплощением которого, как говорит Эмерсон, является
каждый человек, искать смысл и назначение жизни, цель,
стоящую перед человеческим обществом. Вот наше служе¬
ние. Неважно, если наши первые опыты будут лишь за¬
блуждением, неважно, что ошибки, содержащиеся в уче¬
ниях Сен-Симона, Оуэна, Фурье и подобных, заслуживают
насмешки и строгого осуждения: важна идея, общая всем
этим учениям, цель, которую они все себе ставили и кото¬
рая при всех заблуждениях сделала их полезными для
прогресса. Полвека назад теории самых смелых преобра¬
зователей искали в общественном устройстве защиты и по¬
мощи для свободной деятельности личности: государство
было для них лишь силой всех, поддерживающей права
каждого; сегодня самые осторожные реформаторы уже
стремятся определить роль каждой личности с высоты со¬
циального принципа и признают существование всеобщего
верховного закона, для которого они ищут наилучшего вы¬
разителя и наилучшее приложение. Что такое в мире поли¬
тическом эти повсюду распространившиеся тенденции
централизации, всеобщего права голоса, уничтожения вся¬
ких сословных привилегий? Откуда в мире религиозном все
эти признаки неудовлетворенности, внезапные возвраще¬
ния к прошлому, частые порывы к смутному, неопределен¬
ному, но бескрайнему и всеобъемлющему будущему, спо¬
собному привести в согласие верования, сегодня еще про¬
тивоположные? Почему история, когда-то довольствовав¬
шаяся записью деяний государей и правительств, сегодня
обратилась к народным маосам и решительно спускается
от вершины к основанию социальной пирамиды? И каков
смысл этого слова «прогресс», которое понимается тысячью
разных способов, но звучит у всех на устах, с каждым
днем все более становясь какой-то программой всякого со¬
циального действия? Мы жаждем Единства, и мы ищем
его в новом и более широком выражении связи, скрепляю¬
щей одного человека с другим, нерушимой ассоциации
всех поколений и всех индивидуумов человеческой расы.
Мы начинаем понимать прекрасные слова св. Павла к Рим¬
380
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ
лянам (XII 5): «Так мы, многие, составляем одно тело во
Христе, а порознь один для другого члены», и мы стремим¬
ся привести действия личности в гармонию с коллективным
разумом человеческих множеств. Такова тенденция на¬
шего времени, и кто не замечает ее, обречен плестись в
хвосте всеобщего движения.
Карлейлю понятна лишь индивидуальная личность; ис¬
тинное значение единства человеческой расы ускользает
от него. Он испытывает симпатию ко всем людям, но к лю¬
дям в отдельности, взятым индивидуально, а не в их кол¬
лективной жизни. Он согласен с тем воззрением, что каж¬
дый человек представляет идею и воплощает ее в себе; но
он неспособен принять высшую Идею, прогрессивно вопло¬
щающуюся в совокупной истории человеческого рода. Он
скорбит — более но инстинкту души, возмущенной порока¬
ми мира, чем от ясного представления об условиях, из ко¬
торых складывается жизнь, — об отсутствии связи между
людьми, которые его окружают; но он не понимает долж¬
ным образом наличия такой же связи между прошлыми,
теперешними и будущими поколениями. Великая религиоз¬
ная мысль, непрерывное развитие человечества через его
коллективное усилие в соответствии с воспитательным за¬
мыслом Провидения, мысль, которую в разные века преду¬
гадывали отдельные редкие гении и которую в последние
полвека провозглашают величайшие мыслители Европы, не
находит отклика в душе Карлейля. Будучи сторонником
прогресса по первому безотчетному движению души, он по¬
дозрительно останавливается перед его идеей, едва встре¬
тив ее ясное и систематическое выражение, и фразы «про¬
гресс человеческого рода», «способность к совершенствова¬
нию» и им подобные не сходят с его пера без примеси ка¬
кой-то необъяснимой иронии. Человеческая раса для него
есть скорее собрание однородных индивидов, различных
сил, пришедших в соприкосновение друг с другом, чем ас¬
социация тружеников, разделенных на группы и разными
путями стремящихся к общей цели. Даже нация, отечест¬
во — коллектив менее широкий, чем Человечество, но еще
на долгие века призванный исполнять священную мис¬
сию,— исчезают или поразительным образом видоизме¬
няются под его пером: нация становится для него уже не
символом доли труда в общей работе, не страной, где бог
дал нам орудия деятельности, удобные для выполнения
определенной цели, не знаком единой идеи, особого при¬
381
ДЖ. МАЦЦИНИ
звания, на которое ясно указывает и традиция этой одной
части человеческого рода, и особая общность наклонно¬
стей, и единство языка, и географические черты; нет, Кар¬
лейль сводит ее, насколько это возможно, к пропорциям
все той же индивидуальной личности. Национальность
Италии для Карлейля есть гордость быть родиной Данте
и Христофора Колумба, национальность Германии заклю¬
чена в Лютере, Гёте и немногих других великих людях.
Тень этих гигантов заслоняет от него всякий след сокро¬
венной национальной мысли, которой они были лишь ис¬
толкователями или пророками и которую, как некое сокро¬
вище, вечно хранит народ. Всякое общее суждение на¬
столько чуждо уму нашего писателя, что в желании отре¬
шиться от него раз и навсегда он признает историей мира
лишь биографии великих людей (см. «Шесть лекций»).
Это — полное отрицание идеи, направляющей все движе¬
ние нашего времени *.
Во имя демократических тенденций нашей эпохи я про¬
тестую против подобных идей. История не есть биография
наиболее редкостных и великих личностей: история челове¬
чества есть история последовательных вероисповеданий че¬
ловечества и их выражения в зримых символах и дейст¬
виях. Великие умы суть лишь верстовые столбы на том
пути, по которому идет человечество: они суть жрецы его
веры. Но, спрашиваю, где тот жрец, который сравнялся бы
на весах истории с верой, служителем которой он являет¬
ся? Всегда есть нечто такое, что более величественно, не¬
постижимо и загадочно, чем все великие личности,— и это
земля, которая носит их, человеческий род, который за¬
ключает их в себе, идея бога, которая живет в них и кото¬
рую лишь всеобщий коллективный труд может воплотить
в практические дела и сделать жизненным принципом. За¬
чем вы отвергаете нашу общую мать в пользу некоторых
из ее сынов, какими бы баловнями ее они ни казались?
Отвергая ее, вы подрываете в то же время и смысл суще¬
ствования тех самых выдающихся личностей, которых
* Я вывожу, насколько могу беспристрастно, суть идей Карлейля из всей со¬
вокупности его сочинений, из общего настроения их. Конечно, кое-где у него ветре*
чаются строки, говорящие, по-видимому, об ином и свидетельствующие о пони¬
мании тенденций времени. Но такие строки редки, они не связаны с системой
представлений, господствующих в произведениях писателя, и их диктует Карлейлю
некий неистребимый инстинкт души, а не сознательные убеждения, которые та¬
ковы, как я их описываю.
382
ТОМАС карлейль
окружаете восхищением. Гений подобен цветку, который
берет половину жизненной силы с соками земли, а другую
половину — из атмосферы, его окружающей. Своим вдох¬
новением гений обязан наполовину небу, наполовину — тем
людским множествам, над которыми он возвышается. Ни¬
кому не дано постичь его дух непосредственно, без глубо¬
кого изучения среды, в которой этот дух проявляется.
Я не могу на этих страницах развертывать идеи о при¬
звании нашей эпохи и о доктрине коллективного прогресса,
которая отличает ее от предыдущих. Возможно, когда-ни-
будь я смогу проследить историю этой доктрины, которой
иные могут пренебрегать, но которая имеет среди своих
приверженцев людей, чьи имена — Данте, Бэкон, Лейб¬
ниц.
Сейчас мне нужно лишь указать на существование
противоположного ей учения в трудах Карлейля и на
последствия, которые отсюда вытекают.
Ясно, что из двух критериев всякой достоверности, лич¬
ного откровения и общечеловеческой традиции, между ко¬
торыми до сих пор колебалось человечество и примирение
которых приведет, верю, рано или поздно к открытию Ис¬
тины, Карлейль избирает лишь один, первый. Он сознатель¬
но отвергает или не желает замечать второго. Такое пред¬
почтение с логической неумолимостью определяет все ос¬
тальное в его учении. Поскольку личность есть все, она
должна бессознательно достигать истины. Бог открывается
в интуиции, в инстинктах души. Отделить я от всякого вне¬
шнего воздействия других людей и предоставить его в пер¬
воначальной чистоте вдохновению, нисходящему с высот,—
вот то, что Карлейль называет приготовлением храма для
вечности. В мире он видит лишь бога и личность. А как мо¬
жет одинокая личность приблизиться к богу, если не в по¬
рыве энтузиазма, в мгновенном сосредоточении мысли, в
стремительном бессознательном полете духа, не скованно¬
го методом или расчетом? И Карлейль с недоверием, час¬
то с презрительной усмешкой смотрит на все труды фило¬
софов, на эти великие предприятия, начатые силами пиг¬
меев, говорит он. Смогут ли когда-либо жалкие экспери¬
ментаторские и аналитические способности индивидуально¬
го разума разрешить необъятную загадку бесконечности?
И он бросает разнообразные и горькие упреки всем, кто хо¬
чет изменить современные социальные условия. За ними
Карлейль признает лишь одно оправдание — их победу, в
383
ДЖ. МАЦЦИНИ
которой он готов видеть несомненный признак могучего
божественного вмешательства. Их победу и ничто иное; а
кто сможет заранее рассчитать или определить, кому она
выпадет? Так зачем же, подобно Филоктету, изливать жа¬
лобы и укоры раненого калеки? К чему бесполезно метать¬
ся, подобно человеку, сведенному неизлечимой судорогой?
Что будет, то будет. Все наши усилия ничего не переменят,
пока не пробьет час, а его определяет один бог. Возможно,
бог низведет будущее из таких далей, в которые мы, бед¬
ные однодневки, не можем заглянуть. Спокойно и мудро
укажите, где зло, затем смиритесь, верьте и ждите, говорит
Карлейль. Глубокая неудовлетворенность, достигающая
грани отчаяния, змеей прокрадывается на самые пылкие
страницы его. Кажется, что он ищет бога скорее как при¬
бежище для безнадежного страдания, чем как источник
права и силы. С его уст часто срываются смелые речи, и
тем не менее чудится, что ежеминутно из его груди готов
раздаться испуганный крик бретонского моряка: «Госпо¬
ди, охрани меня: моя лодка так мала, а твой океан так ог¬
ромен!»
Все это отчасти верно и в то же время отчасти совер¬
шенно ложно: верно постольку, поскольку вытекает зако¬
номерным следствием из основных идей Карлейля; ложно,
если мы не захотим подняться затем в более высокую и
значительную сферу. Если мы будем строить свои пред¬
ставления о людях, о мире и о нашем деле в нем только
на понятии личности и в социальной жизни будем видеть
лишь совокупность индивидуальных жизней, а в истории —
только квинтэссенцию бесчисленных биографий, если упря-
мо будем ставить одинокого и изолированного человека пе¬
ред лицом вселенной и бога, тогда слова Карлейля обосно¬
ванны. Если философия, как это было в прошлом веке,
есть не более чем физиологическое исследование индиви¬
дуальной личности, более или менее несовершенный анализ
его душевных сил, то какую пользу она нам доставит, кро¬
ме гимнастического упражнения умственных способностей?
И если пределы наших возможностей очерчены двумя мо¬
ментами, неотвратимо предписанными каждому из нас и
носящими имя смерти и рождения, то наших сил, возмож¬
но, станет еще на то, чтобы угадать и выразить ничтож¬
ную крупицу истины —но кто, когда усттеет в краткий про¬
межуток между этими двумя пределами раскрыть всю ис¬
тину па земле?
384
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ
Все так. Но если мы обозрим мир с высоты коллектив¬
ной жизни человечества — если в социальной действитель¬
ности мы увидим постоянное развитие единой идеи трудом
всех индивидуумов, сознательно или бессознательно обра¬
зующих единую ассоциацию,— если в истории мы будем
искать свидетельства этого развития в пространстве и вре¬
мени— если будем считать следующие друг за другом по¬
коления участниками этого труда, ответственными за свои
дела перед своими предками и потомками, если не забудем
того, что жизнь личности протекает в среде, подготовлен¬
ной трудом всех предшествовавших людей, и что усилие
личности есть действие, помноженное на усилия всего че¬
ловечества во все прошлые века,— тогда наши представле¬
ния изменятся. Философия станет тогда для нас познани¬
ем законов жизни, душой — Карлейль сам использует этот
образ, хотя он противоречит всей связи его идей,—для ко¬
торой религия является телом. Горькое проклятие, которое
все таланты от Байрона до Жорж Санд бросают тепереш¬
нему поколению и которое представляется кому-то напрас¬
ным и неуместным, примет тогда для нас характер дейст¬
венного протеста духа, волнуемого предчувствием будуще¬
го, против больного и умирающего настоящего. И мы пой¬
мем, что воплотить мысль в действие — не только наше
право, но и долг. Ибо мало что значит, если наши личные
силы ничтожны и недостаточны, мало что значит, если ре¬
зультаты наших действий затеряются в неизвестности буду¬
щего: мы знаем, что сила миллионов людей, наших брать¬
ев, продолжит вслед за нами начатый труд и что цель бу¬
дет поздно или рано достигнута коллективным трудом всех
нас.
Эта цель, этот идеал, который, насколько возможно
здесь, на земле, нужно претворить в действительность, объ¬
единив все наши силы и способности — operatio humanae
universitatis 5, как говорит Данте в одной малоизвестной и
непонятной книге, где пять веков назад он высказал многие
из тех принципов, над которыми трудится сегодня всеоб¬
щий разум, ad quam ipsa universitas hominum in tanta mul¬
titudine ordinatur; ad quam quidem operationem nec homo
unus, nec domus una, nec una vicinia, nec una civitas, ncc
regnum particulare pertingere potest6,— эта цель, говорю я,
одна лишь придает значение и смысл жизни и действиям
личности. Карлейль почти всегда забывает об этом. Не имея
поэтому истинного критерия для оценки поступков инди¬
13-6342
385
ДЖ. МАЦЦИНИ
видуума, он определяет их не столько по цели, к которой
они направлены, и по их соответствию этой цели, сколько
по усилию, затраченному на них, и по энергическому упор¬
ству, которое в них обнаруживается. Отсюда какое-то его
равнодушие, когда он с одинаковым уважением смотрит на
людей, посвятивших жизнь совершенно различным целям,
например на Кромвеля и Самуэля Джонсона. Отсюда дух
фатализма — ибо я должен называть вещи своими имена¬
ми,— который царит в его «Истории Французской револю¬
ции», который побуждает его с восхищением откликаться
на каждый подвиг отваги, каждое проявление силы ума,
какую бы форму они ни приняли, и который часто застав¬
ляет его, даже с риском, встать на сторону деспотизма, не
делать различия между силой и правом. Нет сомнения, во
всем и всегда он искренне желает добра; но он готов с
радостью встретить его, откуда бы оно ни шло — с вершин
или из бездны, как ллод свободного волеизъявления народ¬
ных множеств или как благодеяние власти: он забывает,
что добро есть в первую очередь вопрос нравственности,
забывает, что нет добра там, где нет его сознания, где оно
нисходит на человека как некий дар, как милостивое пода¬
яние, вместо того чтобы вырасти в нем самом как дело и
завоевание его собственных рук; он забывает, что мы не
фабричные машины, из которых надо взять все, на что они
способны, но свободные деятели, призванные подняться
благодаря своему собственному труду или пасть. Теория,
следуя которой Карлейль утверждает, что гений должен
быть бессознательным (теория, в зародыше имеющаяся у
него уже в «Жизни Шиллера» и отчетливо изложенная в
очерке «Характеристики»), хотя она и кажется на первый
взгляд данью уважения глубине человеческого гения, ведет,
если рассмотреть ее глубже, к его отрицанию, а в своем
жизненном приложении — к жертве социальной целью во
имя культа личности.
Нет, гений обычно сознает свои переживания и свои
способности. Он не арфа, открытая ветру и звучащая, как
статуя Мемнона в пустыне на рассвете7, смотря по тому,
какой зефир прихотливо коснется ее струн. Сознательна си¬
ла человека, который встает среди своих собратьев, назы¬
вая себя излюбленным сыном божиим, апостолом красоты
и вечной истины на земле, в одиночестве поклоняясь идеа¬
лу, который еще не известен большинству; именно эта вера
в себя и в единство своей жизни с жизнью грядущих поко¬
386
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ
лений есть для него единственное вознаграждение за
смертные муки, на которые столь щедры его современники.
Цезарь, Колумб действовали не бессознательно. Данте,
когда он в начале двадцать пятой несни «Рая» бросил
своим врагам величественную угрозу, в которой бездушные
и бестолковые комментаторы увидели почему-то мольбу,—
Кеплер, когда он писал в Harmonices mundi: «Моя кни¬
га подождет своего читателя; разве бог не ждал шесть ты¬
сяч лет, прежде чем создать достойного созерцателя своего
творения?» — Шекспир, когда он воскликнул: «And nothing
stands... And still in times of hope my verse will stand» *,—
эти люди не были бессознательны. Но даже если бы они и
творили бессознательно и гений был бы таков всегда, это не
решило бы вопроса. Не нужно, чтобы гений сознавал свою
силу; нужно, чтобы он сознавал цель, которую он себе ста¬
вит, это сознание необходимо для всякого, кто хочет вер¬
шить великие дела. И это сознание жило во всех великих
людях, которые трудились над тем, чтобы придать форму
своей мысли,— жило даже и в тех средневековых масте¬
рах, которые в камне и мраморе выражали стремление
своей души к небу и возводили христианские соборы, не
оставляя на них своего имени. Так что же хочет Карлейль
сказать своей анафемой философии? Почему он с такой
жестокостью осуждает тревожные жалобы современных пи¬
сателей? Что есть философия, как не сознание целей? И
что есть угаданная им «болезнь века», если не ощущение
новой и еще не достигнутой цели? Я очень хорошо знаю,
что многие без всякого основания воображают, будто дер¬
жат в своих руках понимание средств. Против них направ¬
лено обвинение Карлейля? Пусть же тогда он проведет
различение между преждевременным гимном торжества,
между неправильно понятой гордостью и тем выражением
страдания, которое исходит от этих .писателей. Их страда¬
ние освящено вдвойне: оно указывает на существующее
зло и заставляет искать от него избавления.
Да, оно вдвойне свято; упрек, который бросает им Кар¬
лейль, одновременно и несправедлив и бесполезен: он не¬
справедлив, ибо, ложась всей тяжестью на страждущих, он
способствует сокрытию симптомов социальной болезни и
дает остальным заснуть сном равнодушия; он и бесполезен,
ибо слова апостола, которого я особенно люблю цитиро¬
* Сонет 60 е. См. также сонеты 17, 18, 55, 63, 81.
13*
387
ДЖ. МАЦЦИНИ
вать, «вся тварь совокупно стенает»9 все равно так или
иначе вырвутся у избранных и благородных умов, когда
окажется исчерпан весь круг событий и идей эпохи, когда
исчезнет всякая социальная вера. Молча терпите, говорите
вы. Нет, громко кричите с крыш своих домов, бейте в на¬
бат, всеми способами возвещайте об опасности, ибо дело
идет не только о вас, но о ваших ближних и о всех людях.
Молчание есть часто долг, когда приходится терпеть нам
одним; оно есть тяжелейшая вина, когда страдают мил¬
лионы людей. Можно ли подумать, что эта вечная мольба
и эти выражения беспокойной неудовлетворенности, столь
обычные сегодня на устах у всех, есть лишь следствие лич¬
ного заблуждения, вспоенного мелким писательским эгоиз¬
мом? Или мы поверим, что обнажать перед обществом
свои мучительные язвы — высшее наслаждение для талан¬
та? Пишущему всегда приятнее вызвать в читателе легкую
и простодушную улыбку, чем сострадание. Но есть време¬
на, когда каждый оракул произносит слова дурного пред¬
знаменования, когда небо в тучах и зло торжествующе рас¬
пространяется повсюду; неужели останутся в стороне лю¬
ди, сердца которых — более чуткие, чем у остальных,— сос¬
редоточивают в себе биение всеобщей жизни? Как! Можно
ли твердить на страницах своих книг о существующем зле,
показывать, как охваченное анархией и лишенное веры об¬
щество катится к распаду и гибели, и не содрогнуться сер¬
дцем, не измениться в лице? Тревожное беспокойство, по¬
стоянное обращение к своей совести, самоанализ не есть
нормальное состояние разума, это верно,— но должны ли
мы оттого упразднить мысль, отнять у разума право, нет,
долг исследовать самого себя и свои слабости? Очерк Кар¬
лейля «Характеристики» склоняется .к тому, что должны.
Первая его часть великолепна, она красноречиво описыва¬
ет зло в каждом его проявлении; вторая поразительным
образом ущербна и недейственна. Карлейль предписывает
в ней людям покончить (не сказано, каким образом) с бес¬
покойством, самоанализом, разбором своих несчастий. Не
лучше ли было исследовать пути излечения болезни, про¬
изводящей эти ненормальные состояния?
«Разве мы не знаем уже,— привожу я одну из блестя¬
щих страниц этого очерка,— что имя бесконечности есть
благо, бог? Здесь, на земле, мы подобны солдатам, бью¬
щимся во вражеском лагере, которые не понимают плана
сражения и не нуждаются в понимании его и без того хо¬
388
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ
рошо видя, что им нужно делать в каждую минуту. Давай¬
те же биться, как солдаты, преданно, смело, в упоении ге¬
роизма. За нашей спиной, за каждым из нас стоят шесть
тысяч лет человеческих усилий, человеческих побед; перед
нами — беспредельное Время со всеми его песозданными и
непокоренными континентами и Эльдорадо, которые мы,
да, мы, должны покорить, создать; и из лона Вечности нам
сияют небесные путевые огни». Среди многих других я вы¬
брал эти строки потому, что, приближаясь к истине в кон¬
це и противореча ей, как мне кажется, в начале, они слу¬
жат прообразом всей определенности и всей неразрешимо¬
сти «вечного да» и «вечного нет», между которыми колеб¬
лется разум писателя. Бог и долг — поистине это те два
священных слова, которые человечество твердит в каждый
из своих тяжелых периодов и которые и сегодня указыва¬
ют путь избавления. Но жизненный вопрос заключается
для нас в том, как понимать их.
Мы все ищем бога — но где, как, с какой целью? В
этом все дело. Ищите его, скажет Карлейль, в звездном не¬
бе, в бескрайнем океане, на чистом и спокойном челе уми¬
рающего героя, более же всего в слове гения и в глубине
своего собственного сердца, очищенного от эгоизма. Бог
повсюду; научитесь находить его. Его чудеса окружают
вас; вы плаваете в Бесконечности, и Бесконечность сокры¬
та в вас. Имейте веру —вы сделаетесь лучшими или ста¬
нете тем, чем должен быть человек. Все это истинно — но
как создать веру? Во все великие исторические эпохи че¬
ловечества возвышались люди, которые, возбуждая в ду¬
шах высокие, благородные, божественные порывы, объяв¬
ляли войну материальным интересам и эгоистическим ин¬
стинктам. И их слушали. Человечество верило и во имя
этой своей веры в течение нескольких веков шло на благие
и великие дела. Затем оно останавливалось и прекращало
свой труд. Почему? Вера ли оказывалась ложной? Нет; но
она была несовершенной, неполной, она была, как все че¬
ловеческое, осколком абсолютной истины, отягченным част¬
ными правдами, принадлежащими времени, отдельной
стране, правдами, которым суждено поблекнуть по дости¬
жении определенной ступени, после того как человеческий
разум достигнет момента более высокого посвящения.
Когда приходит этот момент, всякий призыв к прежней ве¬
ре оказывается бесплодным, недейственным. Проповедь
может быть мудрой и нравственной, она может достигать
389
ДЖ. МАЦЦИНИ
временами высоты индивидуальной философской системы,
но только не создать веру. Она может получать холодное
теоретическое подтверждение, но подтверждение практиче¬
ское, сфера действия останется для нее недоступной. Чело¬
веческая жизнь в единстве своих проявлений будет упрямо
ускользать от влияния всякого индивидуального апостоль¬
ства. Если бы было иначе, любая религия смогла бы бла¬
годаря нравственности, которую она провозглашает или
молчаливо предполагает, установить вечную гармонию зем¬
ного мира. Но есть времена, когда всеобщая апатия пере¬
силивает любое усилие, и для того, чтобы преодолеть ее,
необходимо изменить,— развивая новые отношения между
людьми или приводя в движение стихии, обреченные преж¬
де коснеть в бездействии,— точку приложения социаль¬
ной энергии и мощно сотрясти оцепеневший разум людских
множеств.
Все мы ищем бога; но мы знаем, что найти его, или по¬
нять его, или созерцать его здесь, на земле, мы не можем:
проникновение в бога брахманских религий, Платона или
современных аскетов есть обольщение и таковым оно ос¬
танется. Стадия, представляемая земной жизнью, слишком
низменна рядом с божественной идеей. Наша цель — насту-
пеньку приблизиться к богу, а сделать это мы можем лишь
собственным усилием. Воплотить, насколько это возможно,
его слово, превратить в дела, насколько это дозволяют на¬
ши силы, его мысль — вот наше дело, дело людей. Здесь
мало бесплодного созерцания божественного творения;
нужно неустанным трудом раскрывать замысел бога. Зем¬
лю и человека отовсюду окружает бесконечность, мы знаем
это; но достаточно ли одного знания? К чему оно, если мы не
движемся вперед, проникая в бесконечность? Скажите же
теперь, может ли индивидуальная личность, конечное соз¬
дание, однодневка, преуспеть в этом, не объединив свои
усилия с усилиями других людей? Откуда исходят веяния,
повергающие в безверие и отчаяние многих лучших людей
нашего времени, как не от сознания, что наедине со свои¬
ми индивидуальными силами они беспомощны перед загад¬
кой вечности? Поверженные, раздавленные несоразмерно¬
стью между целью и средствами, они кончат тем, что уви¬
дят повсюду смерть и уничтожение. Идеал представится им
чудовищной насмешкой.
Поистине, жизнь, если видеть в ней лишь жизнь лично¬
сти, есть необыкновенно жалкое зрелище, не более того.
390
ТОМЛС КАРЛЕЙЛЬ
Слава, могущество, величие — все гибнет: игрушки на день,
они разбиваются вдребезги с неизбежным наступлением
ночи. Мы теряем матерей, которых любили и которые лю¬
били нас, умирает дружба, а мы продолжаем жить. При¬
зрак смерти навис над изголовьем дорогих нам людей;
самая чистая и пылкая любовь стала бы горькой иронией,
если бы не была обещанием будущего, но даже и это обе¬
щание мы, в несовершенстве нашего существа, ощущаем
вяло и неопределенно 10. Созерцательное преклонение пе¬
ред истиной без надежды воплотить ее в делах бесплодно:
той доли правды, которую мы можем постичь и выразить
за краткий срок нашего земного существования, недоста¬
точно, чтобы заполнить душевную пустоту. Разбейте зве¬
но преемственности между нами и поколениями, которые
жили до нас и будут жить после нас на земле,— и предан¬
ность идеям покажется высочайшим безумием. Разрушьте
связь между жизнью всех и жизнью каждого, забудьте о
непреложности, с какой совершается прогресс коллективно¬
го человечества, и скажите мне, не превратится ли тогда
мученичество подвижника в бессмысленное, бесцельное са¬
моубийство. Кто, когда решился бы пожертвовать не то
что жизнью, которая тоже мало что значит, но одним днем
своей жизни, привязанностью и пакоем любимого существа
ради отечества, ради человеческой свободы, ради осущест¬
вления великой нравственной идеи, если нескольких лет,
нескольких дней достаточно, чтобы разрушить завоеван¬
ное? Печаль, бесконечная печаль, несоразмерность между
силами и желанием, разочарование, уныние — вот нераз¬
лучные спутники жизни, если смотреть на нее с точки зре¬
ния индивидуума. Немногие и редкостные люди избегают
действия всеобщего закона и достигают душевного мира;
но это мир бездействия, созерцательности, а созерцатель¬
ность в земной действительности есть эгоизм гения.
Повторяю: инстинктивно Карлейль обладает всеми пре¬
дощущениями новой эпохи; но, следуя рассудку более, чем
сердцу, и не понимая, отвергая идею коллективной жизни,
он заранее оставляет всякую возможность когда-либо прак¬
тически осуществить их. В каждом его произведении выра¬
стает вечный антагонизм: инстинкты зовут его >к действию,
теория обрекает его на праздное созерцание. Вера и уны¬
ние чередуются в его книгах и, несомненно, также в его
душе. Он ткет и распускает, как Пенелопа, свою ткань; он
проповедует то жизнь, то пустоту; он утомляет и истощает
391
дж. млццпии
душевные силы своих читателей, безжалостно увлекая их
с неба в ад, из ада на небо. Дерзкий и воинственный в
области идей, он становится робким и скептическим, едва
доходит до их приложения. Мы не можем согласиться с
ним в отношении цели, не можем — в отношении средств:
он все их отвергает одно за другим, не предлагая ничего
взамен. Он страстно жаждет прогресса, но враждебно
смотрит на всех, кто называет себя сторонниками послед¬
него; он предвидит, он объявляет неизбежными великие
преобразования и революции в социальном, политическом,
религиозном мире, но с условием исключения всех борцов,
открыто выступающих за дело революции, так что, воз¬
можно, его прекрасные страницы о Ноксе и Кромвеле во¬
все не были бы написаны, если бы эти два великих челове¬
ка были его современниками. Покажите ему прошлое, по¬
кажите ему силу, идею, принцип, которые преодолели пре¬
пятствия и произвели практические результаты, чтобы он
мог издали изучить их спокойно, всесторонне и понять их
без опасения, что он сам окажется вовлечен в действие,—
и он разглядит в них все, что можно разглядеть, и больше,
чем может разглядеть любой другой. Перенесите теперь
его предмет в современность — и, как у дантовоких греш¬
ников в аду, его взор затуманится, проницательность ос¬
лабнет. Если, как это мне представляется, его суждения о
Французской революции часто ошибочны и несовершенны,
отнесите это на счет того, что они касаются процесса, ко¬
торый еще не завершился, полон жизни и чреват для авто¬
ра возможностью треволнений. Прошлое может ждать от
Карлейля правосудия и беспристрастия, настоящее — нет.
«Будьте терпеливы,— говорит он тем, кто сетует,— то, к
чему вы призываете, придет, но не оттуда, откуда вы ждете;
предоставьте будущее воле бога». Но через кого действу¬
ет бог, если не через людей? Разве все мы — не работни¬
ки его на земле? Наши судьбы дремлют в нас; чтобы по¬
нять их, нужен разум, чтобы осуществить — сила. Почему
же, допуская для нас одно, Карлейль упорно отказывает
нам во втором? Зачем он говорит нам прекрасные, полные
надежды и веры слова о действующем в нас божествен¬
ном начале и о нашем долге действовать, если в следую¬
щую минуту он презрительной усмешкой встречает вся¬
кую нашу попытку к действию и твердит о неминуемой но¬
чи, вечной ночи, которая поглотит все наши труды?
Есть, как нам кажется, нечто очень несовершенное,
392
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ
очень ограниченное в тех насмешках, которыми Карлейль
неизменно преследует всех тех, кто трудится над осущест¬
влением политической реформы. Формы правления ему со¬
вершенно безразличны; всякий интерес к всеобщему из¬
бирательному праву, к любому другому политическому пра¬
ву для него недостоин сочувствия, будучи, ио его словам,
более или менее замаскированным материализмом. Он тре¬
бует нравственного совершенства: еще один праведник,
еще один святой на этой земле значит для него больше,
чем десять революций. Так это было бы и для нас, если
бы только мы могли, подобно Вагнеру, который создает
своего гомункулуса, раздувая горнило11, создать этого бе¬
зупречного мудреца,— если бы изменение в политическом
порядке не было именно тем условием, которое необходимо
для его появления.
Я знаю, что многие теряют бога, заблудившись среди
его символов, останавливаются на вопросе формы и, увле¬
каясь ею, делаются сторонниками либерализма из любви
к либерализму без всякой иной цели. Уже того, что мог
понять читатель из сказанного нами ранее, достаточно,
чтобы оставить в стороне такое заблуждение. Для меня
подлинная задача, стоящая перед каждым политическим
действием, есть задача воспитательная. Я считаю, что пос¬
тоянное нравственное совершенствование человека есть
единственно важная цель всех наших усилий, единствен¬
ный долг, верность которому мы обязаны хранить; все ос¬
тальное есть вопрос средства. Но там, где нет свободы
средств, разве не должны мы прежде всего добиваться
этой свободы? Вот порабощенная страна, например Ита*
лия *; здесь нет ни воспитания, ни печати, пи права полити¬
ческих собраний, но есть множество цензоров, которые год
из года калечат какой-нибудь литературный журнал, а по¬
том запрещают его, видя, что он упорно продолжает
жить**,— есть архиепископы, которые произносят пропове¬
ди против народного образования и объявляют безнравст¬
венным делом устройство детских школ***,— есть прави¬
тели, которые клеймят особым штампом все книги, принад¬
лежащие их подданным ***** Что же можно сделать для
* Читатель должен вспомнить, в каком году это писалось (1862).
·· «Субальпино», «Народные чтения» в Пьемонте, «Антология* во Флорен¬
ции и т. д.
··· Архиепископ Франдзони в Турине в своем пастырском послании.
·*·♦ Герцог Модены.
393
ДЖ. МАЦЦИНИ
улучшения нравственного и культурного состояния народа
в подобной стране? Вот страна, в которой почти повсеме¬
стно сохранилось рабство, Польша, Россия — как здесь
можно уничтожить калечащее общество гнусное разделе¬
ние, если не через революцию, которая разрушила бы его?
Вот, наконец, человек, .которому тяжелая четырнадцатича¬
совая или шестнадцатичасовая работа в сутки едва достав¬
ляет необходимое для существования; он ест свою кар¬
тошку с салом в помещении, которое назовешь скорее пе¬
щерой, чем домом; потом, весь разбитый, он валится на
постель и засыпает. Его нравственная и физическая жизнь
есть жизнь зверя; вместо идей у него одни лишь желания,
вместо веры — одни лишь инстинкты; он не читает, пото¬
му что его никто никогда не учил, и он не имеет никакой
возможности учиться, а его отношение к стоящему над
ним классу есть отношение раба и машины. Что пользы в
книгах для такого человека? Как разбудить в нем изму¬
ченную душу, разжечь в его груди божественную искру,
внушить ему понимание жизни, священной жизни? Жизнь?
Она известна ему лишь по тяготам физического труда
и по унизительной заработной плате. Теперь оглянитесь:
имя этому человеку Миллион, вы встречаете его на
каждом шагу, он составляет почти три четверти на¬
селения Европы. Как же дать ему время и силы для
развития своих способностей, если не через уменьше¬
ние часов его труда и увеличение заработка? Как превра¬
тить его отношения с привилегированными классами в
союз любви, не изменив самой природы этого отношения?
И, главное, как возвысить его падшую душу, если не до¬
казать ему, доказать делами, а не рассуждениями, которых
он не понимает: «Ты тоже человек; в тебе тоже живет дух
божий, ты призван развить каждую сторону своего суще¬
ства; твое тело есть храм, твоя бессмертная душа — жрец,
который должен приносить в этом храме жертву во имя
всех»? И какая помощь более способна возвысить его,
чем указание ему на то служение, которое он должен ис¬
полнить на этой земле и которое приведет его к осознанию
своих прав и обязанностей, сделав его, при условии изби¬
рательного права, гражданином? Что значит «реорганиза¬
ция труда», как не возвращение труду его достоинства?
Что есть новая форма, если не символ новой идеи? Пото¬
му лишь, что сами мы видим идеал во всей его чистоте и
ощущаем себя в силах подняться в невидимые области
394
ТОМЛС КЛРЛЕПЛЬ
духа, отшатнуться от своих собратьев, стоящих ниже нас?
Неужели нас обвинят в профанации идеи потому лишь, что
люди, в которых мы стремимся вселить ее, сделаны из пло¬
ти и крови, и мы вынуждены поэтому взывать к их чувст¬
вам? Тогда осудите вообще всякое действие, ибо действие
есть лишь приданная мысли форма, практическое прило¬
жение идеи. «Цель человека есть действие, а не мысль»,—
это слова самого Карлейля в «Сарторе Резартусе» (кн. 2,
гл. VI); и, однако, весь смысл его книг учит читателей за¬
быть об этом.
Каков же, спрашивали меня *, в наше время долг, о
котором я так много говорю? Полный и удовлетворитель¬
ный ответ потребовал бы целого тома, но нескольких слов
мне достаточно, чтобы назвать его. Этот долг состоит в
следующем: личность должна, во имя любви к богу и че¬
ловеку, всеми поступками своей жизни утверждать то, что
она считает истиной, относительной или абсолютной. Поэ¬
тому долг постоянно изменяется с эволюцией истины, он
преобразуется и возрастает с веками; он переходит от од¬
ного из своих проявлений к другому в завсимости от эпо¬
хи и обстоятельств. Есть времена, требующие от нас сме¬
лости умереть, как Сократ; есть другие, когда мы должны
уметь жить и бороться, как Вашингтон; один исторический
период ждет пера мыслителя, другой — меча героя. Но вез¬
де и всегда источник долга заключен в боге и его законе—
везде и всегда его цель есть человечество — его основание
есть взаимная ответственность людей друг за друга — его
мера определена нуждами времени и призванием лично¬
сти — его предел обозначен пределом способностей этой
личности. Исследуйте общечеловеческую традицию со всем
тщанием, со всем беспристрастием, со всем умом, данным
вам от бога: всякий раз, ка« вы обнаруживаете единоглас¬
ное и неизменное выражение мысли человечества, совпа¬
дающее с голосом, идущим из глубин вашего сознания,
знайте, что у вас в руках частица абсолютной истины. С
тем же вниманием исследуйте традицию своей эпохи, сво¬
ей нации, ее идею, чаяние, теплящееся в ней: там, где ва¬
ше внутреннее сознание совпадает с коллективными чаяни¬
ями, вы можете быть уверены, что обладаете частицей от¬
носительной истины. Вы должны воплотить обе эти исти¬
ны в своей жизни, выразить их и преподать их другим в
• Хорн, Предисловие к «Григорию VII».
395
ДЖ. МАЦЦИНИ
меру вашего разумения и ваших сил. Вы должны быть не
просто людьми, но людьми своей эпохи; вы должны дейст¬
вовать так, как вы говорите; вы должны прийти к концу
своей жизни так, чтобы совесть не укоряла вас: «Ты знал
долю истины; ты мог помочь ее осуществлению, но не сде¬
лал этого». Таково для меня самое общее выражение дол¬
га. Что касается путей его практического осуществления
в современных условиях, то о них можно легко заключить
из того, что сказано о различии мнений Карлейля с моими.
В наши дни дело заключается в том, чтобы совершенство¬
вать принцип ассоциации и преображать среду, в которой
действует человечество; следовательно, в наши дни воз¬
можно лишь коллективное выполнение долга: каждый дол¬
жен рассчитывать собственные силы и решить, какую до¬
лю общего труда он может взять на себя. Чем выше ра¬
зум человека, чем шире оказываемое им влияние, тем боль¬
ше его долг перед людьми; но, уж конечно, для исполнения
его ни в iKooM случае недостаточно одного созерцания.
Иначе понимает долг Карлейль. Думая лишь об инди¬
видуальной личности, полагаясь лишь на ее собственные
силы, он в конце концов оказывается вынужден скорее ог¬
раничить, чем раздвинуть ее сферу. Правило, которым он
руководится, есть правило Гёте: выполняй тот долг, кото¬
рый встает перед тобой наиболее близким и непосредст¬
венным образом. Правило это хорошо постольку, посколь¬
ку оно, как и всякое другое, допускает широкое толкова¬
ние; оно дурно, когда его понимают и применяют ограничи¬
тельно люди, мало способные к самопожертвованию, оно
способно тогда укрепить эгоизм и представить под видом
долга то, что на самом деле есть лишь награда за его испол¬
нение. Все знают, как Гёте, верховный жрец этого учения,
пользуясь своей максимой, замыкался в том, что он назы¬
вал искусством, отстраняя от себя перед лицом страдающих
народов политику и религию как стихии, враждебные его
искусству, и всецело предаваясь созерцанию внешних форм
и культу я. К несчастью, теперь слишком много людей, ко¬
торым кажется, что они выполнили свой долг, когда они
любезны с друзьями, добродетельны в семье, не притесня¬
ют ближнего. И правило Гёте и Карлейля всегда приго¬
дится для таких людей, чтобы назвать своим долгом лич¬
ные и семейные привязанности, то есть утешения человече¬
ской жизни. Верно говорит Карлейль: «Здесь, на земле, мы
солдаты»; но если он тут же спешит добавить, что «мы не
396
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ
понимаем и не должны понимать стратегического плана
сражения», то какому же закону, какой цели мы можем
подчинить свою деятельность, кроме закона и цели, про¬
диктованных нашими собственными индивидуальными ин¬
стинктами? Религия, продолжает он, стоит первой среди
наших потребностей; но в то время как для нас религия
есть общность веры и культа, в то время как нам она ука¬
зывает на идеал, который можно достичь лишь коллектив¬
ным трудом, и на небо, символом которого должна сде¬
латься в результате нашего общего усилия земля, для Кар¬
лейля это лишь простое общение личности с богом. Рели¬
гия, как ее понимаю я, должна управлять развитием кол¬
лективной жизни; для Карлейля у нее нет иной задачи,
кроме задачи давать утешение и покой скорбящей душе.
Религия выполняет эту задачу: но сам Карлейль (я го¬
ворю лишь о писателе), достиг ли с нею покоя? Нет. Веч¬
но колеблясь между титаническими стремлениями и созна¬
нием ничтожества своих сил, между ощущением жизни и
пустотой, он блуждает сам и приводит в смятение своих
читателей. С его уст срываются порой унылые вздохи, ко¬
торые он не в силах скрыть от внимательных и предан¬
ных слушателей. Его книги — в особенности «Сартор Ре-
зартус»— свидетельствуют о потребности, о жажде покоя,
малопонятной в человеке, который не считает целью жиз¬
ни счастье, и заставляющей меня вспомнить то, что Арно 12
сказал Николю: «Разве перед нами не целая вечность для
отдыха?». «Дайте мне отдохнуть здесь,— пишет Карлейль,—
потому что я устал от пути, устал от жизни; я отдохну
здесь, пусть даже отдых будет смертью: жизнь и смерть
безразличны для меня, одинаково незначительны... И вот
теперь, когда я лежу в ЦЕНТРЕ БЕССТРАСТИЯ... тяжкие
сны постепенно откатываются прочь» *.
О нет, несчастная беспокойная душа; увы, здесь на
земле не жди покоя. Что нужды, если твое тело изранено,
твои силы истощены. Жизнь есть бой. «Тяжкие сны» все
равно возвратятся: мы еще слишком глубоко внизу, и воз¬
дух еще слишком плотен вокруг нас, чтобы мы могли про¬
гнать их. Сила не в том, чтобы рассеять их, но в том,
чтобы идти вперед в их гуще и им наперекор. Они раста¬
ют, когда, поднявшись выше, мы будем жить среди более
чистой стихии. Так цветок зарождается и растет в земле, а
• «Sartor Resartus», book 2, Ch. 9.
397
ДЖ. МАЦЦИНИ
распускается в воздухе под божьим небом. Пока эта ми¬
нута не пришла, страдай и действуй: страдай в себе, дей¬
ствуй ради своих братьев и вместе с ними. Не восставай
против науки, против философии, против духа анализа: все
это суть орудия, которые даны тебе от бога для исполне¬
ния твоего труда; они хороши или дурны смотря по тому,
попользуют ли их для добра или для зла. Не повторяй нам
что «жизнь сама по себе есть болезнь, самосознание — сим¬
птом расстройства»; не говори более о «первичном состоя¬
нии свободы и райской бессознательности» *. В подобных
выражениях больше байронизма, чем во всем Байроне.
Свобода и рай впереди, а не в далеком прошлом. Не жизнь,
но извращение жизни есть расстройство, сама жизнь свя¬
та. Жизнь есть наше стремление к идеалу; наша любовь,
наша привязанность — это обещание, которое когда-то сбу¬
дется, а наша добродетель — это первый шаг на пути к
более высокой добродетели. Говорить о жизни с гневом
или подозрением — святотатство.
Язва современности — не чрезмерно высокая, а слиш¬
ком низкая оценка жизни. Жизнь потеряла ценность пото¬
му, что, как в молодую эпоху кризиса, распада и безверия,
порвалась цепь, во всякую эпоху веры связующая человека
с небом. Земная жизнь обесценилась потому, что вместе
с верой утрачено сознание взаимной ответственности, ко¬
торое одно лишь составляет достоинство и силу жизни, а
поле жизнедеятельности ограничено и стеснено материаль¬
ными интересами, ничтожными целями и мелкими страстя¬
ми. Она обесценилась потому, что стала индивидуальной,
и спасение заключается в том, чтобы воссоединить жизнь
и небо, вернуть человеку сознание своей чистоты и своей
силы; и путь к этому в том, чтобы обновить жизнь лич¬
ности, поставив ее в связь со всеобщей жизнью, возродить
в каждом из нас то, что я в самом начале назвал чувством
общности, открыть каждому его задачу в совокупном дви¬
жении человеческого рода, пробудить ощущение братского
единства во всех людях. Уединяясь, мы начинаем чувство¬
вать себя малыми и слабыми, даем презрению к своим
собственным усилиями усилиям наших собратьев просочить¬
ся в душу, и отчаиваемся, и привыкаем повторять и под¬
тверждать своим примером carpe diem 13 языческого поэта.
Ассоциация вернет нам величие и силу. Всякий, кто упря¬
• Очерки «Характеристики».
398
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ
мо ищет тайну и закон индивидуальной личности в самой
личности, может прийти лишь к эгоизму, если ум его изв¬
ращен, к безверию, фатализму или созерцанию, если он
добродетелен. Карлейль колеблется между тремя послед¬
ними тенденциями
Дело, выполняемое сегодня в Англии Карлейлем, пред¬
ставляется мне важным, но недостаточным. Он не подни¬
мается до уровня, которого требуют нужды времени; в то
же время он приближается к нему больше, чем любой дру¬
гой писатель в Англии. То, против чего он борется, поисти-
не ложно, и до него никто не боролся против этой лжи с
большей энергией; то, чему он учит, не вполне истинно.
Его предвосхищения принадлежат будущему, склад его ха¬
рактера и все привычки — прошлому. Наполовину он с на¬
ми, наполовину остается непонятен нам. Мы считаем важ¬
ными одни и те же вещи, и предчувствия нашей души сов¬
падают; но мы расходимся в выборе пути. Мы служим од¬
ному и тому же богу, но служение наше различно. В то
время как мы окунаемся в настоящее, чтобы почерпнуть в
нем вдохновение, и идем в гущу людей, чтобы стать силь¬
нее, он отступает в сторону и созерцает. Возможно, мы бо¬
лее, чем он, обращаемся к традиции; он более, чем мы,
взывает к сознанию и совести личности. Возможно, нас
подстерегает опасность в увлечении средствами пожертво¬
вать чистотой идеи; он рискует, не желая того, покинуть
своих братьев по общему делу.
И все же пусть каждый из нас идет своим путем. Для
благородных душ всегда есть возможность родственного
союза, даже если они расходятся в понимании современ¬
ной жизни. Если внешиее'выражение их мысли различно,
это подобно преломлению солнечных лучей в атмосфере.
Проходя через различную среду или падая на предметы с
неодинаковой поверхностью, луч приобретает большую или
меньшую яркость; но куда бы он ни проникал, он греет и
живит, и все лучи его исходят из одной точки. Подобно
солнцу, источнику земного света, в небе души есть нечто
общее для всякого человеческого сердца, если это сердце
глубоко и преданно верит. В святилище души Карлейль
всегда найдет любовь и уважение наравне со всеми дру¬
гими избранниками, которые поклоняются богу и истине,
страдают, не проклиная, и приносят себя в жертву без гор¬
дости и отчаяния.
Лишь очень кратко мы можем упомянуть о последней
399
ДЖ. МАЦЦИНИ
работе Карлейля, вышедшей недавно под заглавием «Про¬
шедшее и настоящее». Мы прочли ее внимательно, с ис¬
кренним желанием отыскать в ней основания для пересмо¬
тра своих прежних мнений о писателе, но книга, как нам
кажется, лишь подтверждает их.
«Прошедшее и настоящее» — сильное произведение, и
оно принесет неоценимое добро. Закрыв его последнюю
страницу, читатель ощутит, что в нем разбужены ду¬
мы и чувства, которые иначе оцепенело лежали бы на дне
сердца. Но только если он захочет затем снова открыть
ее, чтобы узнать, какое же место должны занять эти чув¬
ства и думы в его жизни, в действительном мире, то ему
не раз придется остановиться в замешательстве среди са¬
мых красноречивых рассуждений и глубоких истин. «Про¬
шедшее и настоящее», на мой взгляд, характерно более об¬
наруженными здесь тенденциями и направлениями, чем
указанием путей их осуществления. Это шаг вперед к буду¬
щему, но не шаг в будущее. Может ли Карлейль сделать
такой шаг? Не знаем, но имеем все основания надеяться,
что может.
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
Изучение Данте в последнее
время получило новый импульс на континенте. В Герма¬
нии один за другим появились четыре перевода: два в тер¬
цинах, сделанные Каннегиссером (1832) и Штрекфуссом
(1834), и два белым стихом, принца саксонского Иоган¬
на и Копиша. «Новая жизнь» и стихотворения Данте то¬
же были переведены. Появились философские и глубоко
ученые комментарии Поэмы. В Берлине, Бонне, Кенигсбер¬
ге, Халле, Бреслау и других городах читаны лекции о «Бо¬
жественной комедии». Переводы Делеклюза и Бризе и
«Жизнеописание Данте» Форьеля (1836), «Лекции о Дан¬
те» в «Курсе новой истории» Ленормана, «Странствия
Данте» Ампера (1840), «Данте и католическая филосо¬
фия» Ф. Озанама (1839), «История Дайте Алигьери»
Арто (1841) и многие другие работы, вышедшие во
Франции,— «Жизнь Данте» Чезаре Бальбо (1839), книга
маркиза Адзолини «О духе «Божественной комедии», кни¬
га Феа, книга Пьянчани (увы, все католические), новые
издания Поэмы и Малых произведений в Италии — все
служит подтверждением того, что изучение нашего Поэта
не только не ослабевает, но продолжается с удвоенной си¬
лой. После четырех- или пятивековой истории исследова¬
ния Данте «ажется, что он стал известен лишь вчера.
Жизнь его, его творения, идеи, та вера, которая заключе¬
на в них, вызывают все новые попытки толкования и но¬
вые разборы; и умы тянутся к Поэту, как к оракулу в эпо¬
ху бедствий, с лихорадочной жаждой, с надеждой найти
в нем истину и с большим пылом, чем когда бы то ни бы¬
ло. Лабитт в «Ревю де де монд» (1841) говорит, что все
это — естественная реакция против Беттинелли 1 и равно¬
душия XVIII века. Всего лишь? Подобные утверждения, с
401
ДЖ. МАЦЦИНИ
чрезмерной опрометчивостью ниспровергающие культ, ко¬
торым человечество окружает своих гениев, слишком час¬
то встречаются в этом французском журнале,— но их не
может бездумно принимать на веру ни пищущий эти стро¬
ки, ни тот, кто посвящает в наши дни серьезные усилия
изучению Поэта. В переходные эпохи, когда предчувствие
нового тревожит умы, мы часто видим, что люди с тоской
и упорством вглядываются в прошлое и с удвоенным жа¬
ром любви приникают душою к образу того или иного ге¬
ния прошлого,— в прошедшие века Платона или Аристоте¬
ля, теперь Бэкона или Данте. Это — отчаянное усилие уло¬
вить нить традиции, как бы для того, чтобы руководство¬
ваться ею, пускаясь в неизведанные дали грядущего. У ги¬
гантов мысли и верховных жрецов идеала люди хотят
узнать смысл того, что было, и вдохновиться тем, что долж¬
но быть, и их надежда не остается обманутой. Великие
люди суть верстовые столбы человечества: они отмеряют
его путь в прошлом и указывают путь будущего, они в од¬
но и то же время летописцы и пророки. Бог наделил их
чудным даром шире и глубже, чем их братья, чувствовать
наполняющую и пронизывающую все в мире вселенскую
жизнь — и эта жизнь сквозит в каждом их слове. Обладая
могучей цельностью, они схватывают предметы, которые
посредственость подвергает дробящему анализу, в их син¬
тезе; они связуют в едином гармоническом замысле впе¬
чатления, воспоминания и предчувствия; они восходят к
созидающему мировому началу и стремительно минуют
следствия, постигая причины. Их мысль — часто бессозна¬
тельная мысль всего народа, которому понадобились бы
долгие века, чтобы развить ее; слово их есть либо итог ис¬
тории, либо предвидение будущего. Они не творят — тво¬
рит лишь один бог, но там, где мы видим расплывчатое
пятно Млечного Пути, они умеют разглядеть звезды. То,
что говорят они, остается в большей части непонятным для
современников, и кажется, будто голос их тонет в волнах
времени, но сам бог невредимо проводит их над бездной,
пока, сияя светом, они не предстанут во славе перед вос¬
хищенным потомством.
Только теперь мы начинаем понимать их. Когда в про¬
шлые века в истории словесности мы усматривали лишь
историю отдельных личностей, этих цветов, вырванных из
взрастившей их почвы, мы видели в гении нечто непости¬
жимо таинственное и странное, не связанное с окружаю¬
402
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
щими его стихиями, не имеющее корней в бытии, prolem
sine matre creatam 2, нечто бесцельное и бесполезное для
будущих поколений; гений устрашал и настораживал нас
как нечто чуждое и деспотически возвысившееся над на¬
ми, и в зависимости от наших добрых или злых, возвышен¬
ных или низких наклонностей мы либо рабски преклоня¬
лись перед ним, либо кричали ему анафему и варварские
оскорбления. В более близкие к нам времена мы начали
изучать его, но не перестали видеть в нем явление, ото¬
рванное от среды, от эпохи, от страны, принявшей его, и,
вместо того чтобы постичь его существо во всей цельности,
мы с анатомическим ножом приближались к его форме:
к трупу. Какую пользу извлекали мы из мысли гения? Не
прошлым ли в конечном счете была она для нас? Не с
прошлым ли умирала? Когда люди, изучавшие эту мысль,
заключали, что она была «прекрасной мечтой», нам ничего
более и не требовалось; привыкнув видеть в ней нечто
принадлежащее далеким от обыденной жизни сферам, мы
и не воображали себе, что общими трудами мечта эта смо¬
жет когда-то претвориться в жизнь. Мы называли крити¬
кой мелочную и педантскую возню с формой, выражением
этой мысли — труд бесплодный и неблагодарный, сизифов
труд, который приходилось начинать сызнова всякий раз,
как новое воплощение гения, приходившего возвестить
нам, что законы формы коренятся в идее и что каждая
идея имеет собственные законы, опрокидывало и делало
бесполезными все прежние опыты. Мы, однако же, шли
вперед. И вот однажды, проходя путями прогресса по вер¬
шинам, которых, казалось, еще не касалась нога человека,
мы в изумлении натолкнулись на глубокие следы опере¬
дивших нас путешественников и обнаружили, что следы
эти оставлены теми удивительными людьми, которыми мы
восхищались когда-то, но которых считали стоящими вда¬
ли от нашего пути, летучими видениями, быстро тающими
на дорогах вечности.
С этого момента изменился способ изучения великих
людей и началась истинная критика. Мы уже не прекло¬
няемся теперь слепо перед гением и не оскорбляем его, как
варвары; мы стремимся понять и учимся любить его. Мы
смотрим на форму как на малозначащее явление, которо¬
му суждено прейти; лишь идея, созданная для жизни веч¬
ной, священна для нас, и мы делаем все, чтобы припод¬
нять скрывающую ее завесу. Она — наша, как едины с на¬
403
ДЖ. МАЦЦИНИ
ми открывшие ее, Великие гении — наши братья, одарен¬
ные той единственной привилегией, которую мы можем
признать, не унижая себя, ибо она есть благословение бо-
жие, не человеческое. Когда-нибудь мы придем к ним; ког¬
да-нибудь мы сделаем действительностью на земле ту
истину, которую они раньше нас увидели в небе души и
которую мы тем лучше понимаем, чем более приближаем¬
ся к ее осуществлению, чем неудержимее становится наше
стремление к будущему. На великих людей, как на великие
картины природы, надо смотреть с возвышений. Было вре¬
мя, когда нас лишь поражали отдельные выдающиеся мыс¬
ли: как крутые альпийские вершины, когда смотришь на
них снизу, они ужасали и подавляли нас своей чудесной
высотой. Сегодня, поднявшись выше, мы уже можем объ¬
ять мысленным взором промежуточные ступени и понять
их непрерывное единство. Можем — или пытаемся; но и
это уже много.
Дума, волновавшая Данте более пяти веков назад,—
это та дума, которая волнует самое сердце нашей эпохи.
Голос души твердит нам об этой истине. И потому с но¬
вым жаром мы прилепляемся к образу великого человека,
как бы для того, чтобы под мощным крылом гения лучше
сберечь ту еще не стойкую и робкую веру, которая теплит¬
ся в нас. Не скажу, чтобы убеждения авторов, перечис¬
ленных нами выше, были созвучны воззрениям Данте; но
утверждаю, что идея, из которой выросли их труды, во имя
которых они пытаются воздвигнуть свою систему верова¬
ний, есть та самая идея, которой пятьсот лет назад Дан¬
те посвятил все силы своей души. Католики, гвельфы или
гибеллины, скованные формулами прошлого,— эти биогра¬
фы и комментаторы обнаруживают свою неспособность
предугадать или предощутить новую веру, зреющую в нед¬
рах эпохи; и тем не менее их труды и их стремления отра¬
жают идею неизбежного обновления, потребность нравст¬
венной цельности, основанной на великом принципе гармо¬
нии, порядка и жизни, глубокое желание посредством это¬
го целостного единства религии, политики и искусства ты¬
сячекратно умножить силы духа и воли, расточаемые се¬
годня на мелкие эгоистические цели и интересы, и смутное
стремление к идеалу, сегодня замутненному материализ¬
мом индивидуалистических тенденций и влиянием поверх¬
ностной, продажной, извращенной литературы, преобладав¬
шей в последние полвека. Данте для них, как и для нас,
404
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛИТЕ
есть один из самых чистых поклонников идеала, которые
когда-либо жили среди людей, и один из редчайших и уди¬
вительных по внутренней силе и широте умов, действовав¬
ших в этом нашем мире между эпохами Карла Великого и
Наполеона. Поэтому они пишут с энтузиазмом, и мы чита¬
ем их с терпением и иногда с признательностью. Тайна Дан¬
те есть тайна нашей эпохи, и это роднит нас с ними.
Разгадана ли ими эта тайна? Всесторонне ли познали
они эту душу, столь глубоко любящую и в то же время
столь суровую, открытую всем чувствам * и тем не менее
всегда полную высокой печали, попеременно отражающую в
себе небо, землю, ад, вещи конечные и бесконечные? Нет.
Представляется, что каждый из них смог увидеть лишь
часть ее. Для одного из этих писателей Данте гвельф, для
другого — гибеллин, для всех или почти для всех — право¬
верный католик. Нет, Данте не был ни католик, ни гибел¬
лин или гвельф: он был христианин и итальянец. И, однако,
все наши авторы улавливают какую-то одну черту его ду¬
ши; все трудятся над той или иной частностью владевшей
им главной идеи; все подвергают более или менее беспри¬
страстному исследованию эпоху, в которую он жил, людей,
его окружавших, исторические события его времени, его
до сих пор предававшиеся забвению Малые произведе¬
ния— и тем самым их работы открывают тот единствен¬
ный путь, идя по которому можно надеяться восстановить
индивидуальность поэта и человека, до наших дней опошля¬
емую и искажаемую жалкими сектантами мертвой буквы.
В течение пятидесяти лет итальянские литераторы писали
диссертации о Papè Satàn3, спорили между собой о двух
одинаково нелепых разночтениях в тексте** или до пресы¬
щения рассуждали о том, больше или меньше благозвучия
заключено в том или ином стихе Поэмы, от начала и до
конца льющейся могучим потоком гармонии. В наши дни
* ...я, кто по своей природе
На все лады изменчив...
«Рай» 5, 98—99.
·* Об accuja. например, флорентийского издания 1841 года и atiuja остальных
изданий («Чистилище», гл. 33, ст. 48). Accuja, attuja—слова бессмысленные и на
итальянском, и па английском, и на каком бы то ни было другом языке; совер¬
шенно очевидно, что это ошибка невежественных переписчиков. Слово, которое
здесь написал Данте, было несомненно «abbuja», «омрачает», — однако ни один из
тысячи комментаторов не догадался об этом. Лишь издание Фосколо4 (Роландиг
Лондон, 1842—1843) исправило этот варваризм.
405
ДЖ. МАЦЦИНИ
романтизм на континенте навсегда заставил умолкнуть это
племя книжных червей; и пусть прах меньшей тяжестью
ляжет на могилы, в которых они погребены, чем на их
тома. Упомянутые нами авторы по крайней мере больше
заняты сутью, чем формой, больше целым, чем деталями,
больше мыслью, чем облекающим ее выражением. Вместо
того чтобы добавить еще один комментарий к тысяче су¬
ществующих, они пишут биографию Поэта. Еще немного
усилий, и великая фигура христианской эры, загадочной
тенью склонившаяся над нашей колыбелью, откроется на¬
конец нашему взору в ярком сиянии славы, и мы заплатим
ей дань не одного лишь восхищения — Данте пожинает ее
в течение пяти веков,— но той любви, жаждой которой он
жил, которую в его дни никто не мог подарить ему и с ко¬
торой даже и сегодня, слишком еще мало зная, мы пока
только неуверенно и нерешительно идем к нему.
Несчастный Данте! Педантическое восхищение потомков
нанесло ему не меньший вред, чем ненависть современни¬
ков: оно забыло об идее в недалеких восторгах перед блес¬
ком формы, преклонилось перед поэтическим огнем, не за¬
метив алтаря, на котором он возжжен, потеряв мыслителя и
видя лишь поэта. Но, спросим мы, Поэзия не есть ли дар
символического выражения, поставленный на службу ве¬
ликой мысли? Подобно тому, как это произошло с Миль¬
тоном, могучий свет, исходящий от божественной Поэмы,
отодвинул в тень Малые произведения Данте. Великолепие
свода помешало созерцающим его увидеть нижние части
храма. Не принятые всерьез современниками *, эти сочине¬
ния не нашли себе более сродственной стихии и тогда,
когда печать сделала их более доступными. Эпоха патрио¬
тов кончилась, эпоха мыслителей еще даже и не начина¬
лась **. Среди потока педантской, иезуитской, академиче¬
• Забывшими, что Данте в «Пире», написанном в более поздние годы своей
жизни, подтверждает важность «Новой жизни» в: «Если настоящий труд, кото¬
рый «Пиром» называется, с большей силою исполнен, чем «Новая жизнь», я не
хочу этим последнюю ни в чем принизить, но послужить ей первым как мож¬
но более». Боккаччо в своей «Жизни Данте» говорит, что Поэта якобы заставля¬
ла краснеть эта его первая работа. Другие лишь случайно касаются «Стихотво¬
рений», которые Данте в Поэме заставляет Казеллу, друга своих юных лет, с
любовью читать ему ".
** Первое издание «Пира» — Буонаккорси, 1490 года, во Флоренции. Тита¬
ническая национальная итальянская идея Данте не могла еще быть в то время
не то что понята„ но даже угадана. Весьма далекая от того, чтобы распростра-
406
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
ской литературы, которая затопила в те годы Италию,
«Божественной комедии» продолжали оказывать традици¬
онное уважение — в ней было столько вечного и могучего
духа поэзии, что она могла преодолеть всякое препятствие,
воздвигнутое людьми,— но Малые произведения оказались
почти в полном забвении. Редко когда их переиздавали.
Впрочем, благодаря рабской привычке доверяться лишь
одному списку без сличения они были обезображены та¬
кими ошибками, что текст «Пира», например, до трудов
Монти и других был почти совершенно невразумителен.
Добавьте к этому варварскую латынь у некоторых и уто¬
мительную схоластическую форму у всех.
Одновременно отсутствие всякой настоящей критики
привело к тому, что ученые литераторы, вместо того чтобы
посвящать свои работы тем из Малых произведений, при¬
надлежность которых Данте была бесспорно доказана, со¬
стязались, опираясь на какие-то поддельные списки, кто
больше припишет ему других, и еще до сих пор биографы
продолжают невозмутимо упоминать их как подлинные.
Я не говорю здесь о «Вопросе о воде и земле», о «Диссер¬
тации касательно естества рыб», о «Житии и чудесах свя¬
того Торелло» и подобных нелепостях, приписываемых
Данте такими ничтожествами, как О. Негри, О. Сольдани
или Вальвассори, и всеми отвергаемых, как наглые фаль¬
сификации. Я имею в виду произведения, принимаемые за
подлинные людьми учеными, упоминаемые биографами,
имена которых перечислены у нас выше, произведения, в ко¬
торых искажаются жизнь и теории Данте, стряпню Марио
Филельфо8, бессовестного шарлатана и спекулянта: «Cre¬
do», «Magnificat», «Шесть покаянных псалмов» и другие
религиозные стихи, включаемые почти во все издания
Данте9, целую массу сонетов и других произведений, при¬
надлежащих его современнику, Данте да Майано, еще од-
ииться по всему миру, итальянская цивилизация, сосредоточившись, как жизнь
в сердце, во Флоренции, уже тогда предчувствовала неминуемое приближение
бедствий. «Монархия», хотя она и была дважды переведена, в 1461 году
Якопо дель Россо и в 1467 году Марсилио Фичино, была впервые опубликована
лишь в 1559 году в Базеле Дж. Оппоррино, двадцать девять лет спустя после
того, как последний луч итальянской свободы был погашен Карлом V и Кли¬
ментом VII7. Книга «О народном красноречии» имела одно издание в 1529 году
в Виченце, но в переводе на итальянский, латинский текст вышел в 1577 году
в Париже.
407
ДЖ. МАЦЦИНИ
ному Данте, малоизвестному поэту XV века, и, возможно,
также двум сыновьям Алигьери и помещаемых, однако,
среди его стихотворений *.
И если к этим источникам ошибок мы прибавим ту бес¬
стыдную ложь, которою наполняют биографии Данте Фи-
лельфо и ему подобные, анекдоты, придуманные Франко
Саккетти 11 и другими для украшения своих повестей и
повторяемые остальными под видом фактов, обвинения,
измышленные против Данте папскими и иезуитскими
писателями, голословнейшие утверждения относительно
странствий и друзей поэта, какие только могли прийти в
голову несчастной толпе литераторов, прислуживающих
той или иной аристократической фамилии и ищущих спо¬
соб польстить их тщеславию,— то для всех станет ясным,
почему биография Данте ждет еще своего написания и по¬
чему его подлинный облик все еще неуловимо теряется
среди тумана и мрака, сгустившихся вокруг его имени в
течение веков.
Человек, высоко чтимый здесь, среди англичан, имя
которого, синоним литературной независимости и незапят¬
нанной политической чести, с благоговением произносит
юность Италии, хотя оно и редко упоминается ее писателя¬
ми, — Уго Фосколо — неутомимо трудился в изгнании, пы¬
таясь рассеять эти сонмы ошибок. Наделенный нравом
благородным, суровым и мужественным, вспоив и укрепив
свой разум в упорных и серьезных занятиях, мало склон¬
ный к созиданию, но мощный в разрушении, он опрокинул
(для тех rio крайней мере, кто не склоняется в слепом по¬
читании перед обычаем) все то здание ошибок, которое вы¬
росло между нами и изучением Данте. Многими своими
трудами, осбенно своим «Рассуждением о тексте Поэмы»,
он подготовил почву для лучшего понимания поэта и его
«Комедии»; он опроверг многочисленные исторические ана¬
хронизмы, положения, принимавшиеся до него без доказа¬
тельства, по слову какой-нибудь академии или эрудита,
• Из ста пятидесяти приписываемых Данте поэтических сочннснлА ему при¬
надлежит не более семидесяти. Заслугой очищения от остальных мы обязаны
отчасти Дионизи, а в еще большей мере Фратичелли, последнему издателю и
комментатору Малых произведений|0. Его критика почти всегда эрудирована и
основательна. Очень сожалею, что он неблагоразумно поместил в своем издании
кроме подлинных стихов и подделки. Многие читатели не обращают внимания на
примечания, указывающие, что надо выбирать, тем более что эти примечания
запрятаны в конце тома.
408
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
системы, служащие тщеславию того или иного аристокра¬
тического рода или города; и, подвергнув то, что держа¬
лось ранее на авторитете, суду независимого и строгого
анализа, он изгнал из святыни храма проникших туда про¬
фанов. Здесь он остановился. Душа его была слишком глу¬
боко поражена материализмом и безверием времени, в ко¬
торое он жил, и он был не в силах сделаться жрецом боже¬
ства. Но после Фосколо уже никто не сможет браться за
описание жизни Данте, не приникнув сначала к трудам
Фосколо и утвержденным им критическим принципам.
Озанам, Бальбо и Арто пренебрегли ими и впали в ста¬
рые заблуждения. Они готовы верить всему, когда это им
удобно. Озанам уверен, что Беатриче умерла «в цвете дев¬
ственности», и забывает о словах Bici filiae suae, et uxori
D. Simonis de Bardis12 отцовского завещания. Вопреки
свидетельству самого Данте в «Пире», где он говорит о пе¬
реводах Аристотеля, .Озанам утверждает, на основании
сонета «Tu che stanzi lo colle ombroso e fresco», который
без тени достоверности приписывает поэту Пелли, что Дан¬
те знал греческий 13. По поводу заблуждений, которые, как
кажется ему, католику, омрачают жизнь Данте, он утешает
себя той мыслью, что якобы поэт, по крайней мере перед
смертью, явил признаки раскаяния в «великолепном» гим¬
не Святой деве и пожелал, чтобы его погребли в облаче¬
нии францисканского монаха. Однако сонет «О madre di
Virtute, luce eterna», который имеет в виду Озанам и кото¬
рый Корбинелли приписывает Данте, принадлежит перу
Монте Андреа или какого-нибудь другого безвестного поэ¬
та; а что касается францисканского монашеского облаче¬
ния, которое Тирабоски захотелось заставить Поэта одеть
перед смертью, то это басня, которую в наше время ни
один человек средней учености не сможет повторить, не
покраснев 14. Данте был мужем и отцом, и он оставил в
«Пире» слова о том, что «не обращается к религии тот,
кто уподобляется в одежде и жизни св. Бенедикту, св. Ав¬
густину, св. Франциску и св. Доминику, но можно прийти
к доброй и истинной религии, состоя даже и в браке, ибо
Господь требует от пас лишь, чтобы святым было серд¬
це» 15. И тем не менее Бальбо 16 с удовольствием повторяет
анекдот о монашеской рясе, будучи невозмутимо уверен в
подлинности «Священных стихотворений» и всех тех ли¬
шенных поэзии фальшивых поделок, которые Квадрио,
Крешимбени, Риголи, Фротта и им подобные связали с
409
ДЖ. МАЦЦИНИ
памятью Данте; он усматривает в них стиль, манеру и лич¬
ные воспоминания поэта, ручается за анекдоты, вставлен¬
ные в его биографию Франко Саккетти и Чинцио Джи-
ральди, принимает, как если бы тому имелись исторические
подтверждения, и «четыре посольства», и историю о гвель¬
фах и гибеллинах, и все остальные фальшивки Марио Фи-
лельфо, даже не вспомнив о том, что этот Филельфо цели¬
ком выдумывал прозаические цитаты из Данте, которых,
сколько ни ищи, нигде у него не найдешь.
Однако впереди всех по силе слепой веры стоит кавалер
Арто ди Монтор, член Академии надписей и изящной сло¬
весности, Академии делла Круска, Геттингенской Акаде¬
мии и многих других, с удовольствием перечисляемых им
в примечаниях. Покоясь на авторитете все того же Фи¬
лельфо, он приводит начало одного письма: «Beatitudinis
tuae sanctitas nihil potest cogitare pollutum, quae, vices in
terris gerens Christi, totius est misericordiae sedes, verae
pietatis exemplum, и т. д.17, написанного, как он уверяет,
самим Данте, и кому же? — тому самому Бонифацию VIII,
на которого поэт не менее девяти раз с горечью нападает
в «Комедии» 18. Со всем ревнивым пылом французского ка¬
толика и монархиста он чуть ли не готов считать, что не
только Брунетто Латини, но и сам Данте помогал этому
папе составлять буллу о канонизации Людовика IX 19. Он
поражается, как Данте смог написать сонет «Влюбленным
душам посвящу сказанье...»20, когда ему было всего девять
лет*, а ведь достаточно было лишь более внимательно
прочесть «Новую жизнь», чтобы удостовериться, что он
написал его в восемнадцать лет. Он, не задумываясь, при¬
писывает Данте четыре стиха L’amor che mosse già l’eterno
Padre, написанные на картину работы Гварьенто21 в Зале
большого совета в Венеции, которая создана сорок четыре
года спустя после смерти Данте. Филельфо и Тирабоски,
Муратори22 и Фра Якопо да Серравалле, европейски изве¬
стные ученые и бездарные компиляторы без всякого раз¬
личия служат кавалеру Арто своим авторитетом, цитатами
и доказательствами. Он совершенно лишен всякой разбор¬
чивости и способности суждения. Книги с таким отсутстви¬
ем всякой подлинной теории, такой растянутой, такой за¬
путанной и усеянной столькими ошибками я уже давно не
* Дизраэли, автор «Литературных достопримечательностей», впал в ту же
ошибку.
410
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
видал. И тем не менее во Франции ее приветствовали как
полезный, глубокий и эрудированный труд; кажется, она
даже имела честь быть переведенной в Италии.
Все это не слишком трогало бы меня, если бы ошибки
касались лишь отдельных фактов и не искажали нашего
представления о человеке, о внутренней жизни души и о
вере Данте. Данте представлялся бы нам более необыкно¬
венным, но не более великим, если бы действительно напи¬
сал сонет в девятилетием возрасте, и он не стал бы менее
гениальным, если бы в минуту слабости действительно на¬
писал одно из тех бездарных произведений, что вкладыва¬
ют в его уста вульгарные компиляторы. Но ошибки эти
задевают характер человека. Из-за общих большинству пе¬
речисленных писателей гвельфистских предрассудков чело¬
век встает перед нами несовершенным, исполненным про¬
тиворечий, гневливым, неуравновешенным, более внешним,
чем углубленным, скорее поддающимся давлению внешних
обстоятельств, чем стремящимся изменить и преодолеть их,
и лишенным той могучей цельности, печатью которой всег¬
да бывают отмечены гениально одаренные люди, Данте
же — в особенности. С часто неразумным восхищением,
которое разбираемые мною авторы питают к поэту, смеша¬
но у них какое-то плохо скрытое чувство соболезнования
и снисхождения к ошибкам человека, и мы видим здесь
грубое насилие над историей и нравственностью. Они за¬
ботливо, в тоне родительского всепрощения спешат объяс¬
нить нам, как Данте пришлось превратиться из гвельфа в
гибеллина, как действие кратких и пылких страстей и неиз¬
бежные слабости человеческой натуры толкали его то на
тот, то на другой путь23. Приводят из Боккаччо, в котором
рассказчик иногда преобладает над историком, анекдот о
том, что Данте якобы бросал камни в людей, которые бы¬
ли противниками гибеллинов 24. Все, от автора параллели
между Данте и Мильтоном в «Эдинбургском обозрении»
(№ 84) * и до Чезаре Бальбо**, утверждают, что он был
по характеру вспыльчив, резок, тщеславен и упрям. И по¬
добные общие утверждения и лживые анекдоты из жизни
Данте, стремящиеся представить его изменчивым без до¬
* «В каждой строке «Божественной комедии» мы являемся свидетелями борь¬
бы Гордости с Величием».
** «Он сделался гибеллином из гордости и гневливости. Гневливость была
большим грехом Данте («Жизнь Данте», т. II, гл. I).
411
ДЖ. МАЦЦИНИ
статочных оснований в своих мнениях и политическом по¬
ведении, разрушают, с одной стороны, как я уже сказал,
цельность гениальной личности, служащей примером для
целой нации, личности великой и священной в своем го¬
ре, а с другой стороны, склоняют целый разряд читате¬
лей из тех, что в изучении поэта не идут обычно далее
«Ада», согласиться с обвинениями в жестокости и скрытой
ненависти, которые один писатель, имя которого нам не хо¬
чется здесь упоминать25, в несомненном расстройстве ума,
много раз за последние шесть лет бросал человеку, душа
которого была столь полна любви, что он ставил нравст¬
венность выше всякой науки 26, который говорил, что Фило¬
софия и Красота заключаются в гармонии добродетелей 27,
провозглашал, что гений неспособен достичь определенной
ступени знания, если ему не помогает Любовь28, и опре¬
делил в «Пире» философию как «любовное пользование
мудростью» 29.
Благодарение богу, все эти обвинения ложны. Без опа¬
сения и недоверия можем мы чтить гения в Данте. Жизнь
его еще будет кем-нибудь описана; наши авторы лишь при¬
готовили материалы для этого.
Достоверные факты жизни Данте, на которых я не могу
здесь останавливаться, не отнимут много времени у буду¬
щего биографа. Боюсь, что многие данные, послужившие
предметом бесконечных ученых споров, должны будут на¬
всегда остаться сомнительными, неподтвержденными; не¬
достоверными (что бы ни говорил Бенвенуто да Имола 30)
останутся места его первых учений, имена его учителей, из
которых нам известен лишь Брунетто Латини31, его люби¬
мых друзей, если исключить Гвидо Кавальканти, Джотто,
Казеллу, Карло Мартелло, брата Корсо Донати Форезе,
его сестру Пиккарду и, может быть, еще двоих или троих,
память о которых Данте вверил своей Поэме. Трудно будет
установить места и даты его долгих странствий по Италии
с начала изгнания в 1302 году до смерти в 1321 году, фак¬
ты здесь лишь еще более запутаны тысячами предположе¬
ний, выставленных эрудитами. Ио жизнь, настоящая жизнь
Данте — не в серии материальных фактов его существова¬
ния. Для нас жизнь Данте —■ это страдания и стремления
его души, его главные сердечные движения, настойчивое
развитие идеи, которая была ему спутницей, источником
вдохновения и утешения; наконец, его вера человека и
итальянца.
412
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
Всего этого не понять, перелистывая старых биографов
и комментаторов Данте, роясь в архивах монастырей или,
вместе с Ампером, шаг за шагом прослеживая путь поэта
по землям Италии; надо решительно и возможно глубже
погрузиться в среду, в окружавшую Данте стихию, изучить
затем его произведения, особенно же Малые, которые он,
бесспорно, задумал как подготовку к Поэме, и вникнуть,
наконец, в самое Поэму, венчающую воздвигнутое им
здание. В этой последней, если читать ее с благоговением,
глубоким вниманием и любовью к тому, что любил Данте,
биограф найдет все, что нужно. Как человек и как поэт
Данте стоит первым в новое время (или, точнее, во все
времена, ибо и в старом мире нет ему подобного) во главе
того ряда гигантов искусства, который, проходя через Ми¬
келанджело, кончается в наши дни Байроном, тогда как
другой, параллельный ряд, начатый греками (исключая
Эсхила), проходит через Шекспира до Гёте. Великие субъ¬
ективные таланты, образующие первый ряд, наподобие за¬
воевателей запечатлевают своей индивидуальностью и дей¬
ствительный мир и тот, другой мир, ради создания которо¬
го они трудятся, выводя изображаемую ими жизнь или из
внутренней жизни своей души, или из пророчески ими пред¬
видимого будущего; те, кто составляет второй ряд, отра¬
жают, как воды спокойного озера, находящиеся вне их ве¬
щи и, забывая о себе, сливаются душой с каждым из пред¬
метов, проходящих перед ними. И те и другие равны вели¬
чием, но только если вторые вызывают более наше восхи¬
щение, первые вызывают любовь. И тем и другим выпадает
на долю великая борьба и великие победы; но среди пер¬
вых победители хранят, как солдаты свои шрамы, глубокие
и зримые следы сражений; не так в ряду объективных. Ка¬
жется, что первые — это боги, сошедшие к нам, чтобы
страдать и действовать, вторые же — люди, вознесшиеся
до божественного созерцания и наслаждения. В каждом
произведении Данте перед нами раскрывается страница
его жизни и страданий, и мы с трепетом следим за нею.
Он один из тех немногих, о ком можно вслед за прекрас¬
ной католической легендой сказать, что они оставляют
свой образ на плащанице, которою их окутывают после
смерти.
Я не знаю лучшей биографии Данте, чем тщательно из¬
данные Фратичелли Малые произведения. Идея, которой
Данте следовал на протяжении всей своей жизни, находит
413
ДЖ. МАЦЦИНИ
свое философское выражение в «Пире», политическое — в
«Монархии», литературное — в трактате «О народном
красноречии», поэтическое и религиозное — в «Комедии» *.
«Новая жизнь» стоит особняком; в ней — благоухание
первой юности Данте, видение той любви, которую бог по¬
сылает своим избранникам, чтобы они никогда не отчаива¬
лись в жизни и не забывали, что бы ни случилось, о своей
бессмертной душе. Она написана, вероятно, в возрасте два¬
дцати восьми лет; в прозе и стихах Поэт рассказывает в
ней историю своей любви к Беатриче. Это неповторимая
книга о благородных, чистых, нежных, сладостных и груст¬
ных чувствах и думах, полная любви, как воркование го¬
лубя, легкая, как благоухание цветов; и то самое перо, ко¬
торое в более поздние годы Алигьери отточил, как шпагу,
рисует в ней облик любящего и любимой с мягкостью Ра¬
фаэлевой кисти. В «Новой жизни» есть страницы прозы, —
например, те, где описан сон о смерти Беатриче,— намного
превосходящие по языку и стилю лучшие страницы Бок¬
каччо, и есть сонеты, которые, по-моему, надо предпочесть
самым известным сонетам Петрарки; они почти неперево¬
димы, настолько изящно их строение и настолько они по-
итальянски гармоничны. Может быть, только Шелли удал¬
ся бы этот подвиг.
Теперь, думаю, перевод их можно было бы доверить
лишь женскому сердцу и женскому перу.
Многие эрудиты со времен каноника Бишиони до Габ¬
риэля Россетти 33 состязались в спорах, существовала или
не существовала Беатриче в действительности. Не пони¬
маю, как могут люди, не тронутые помешательством, на ос¬
новании мистического стиля книги и нескольких двусмыс¬
ленных выражений, помещенных в виде прелюдии в начале
Поэмы, перед лицом бесспорнейших документов сомневать¬
* К этим произведениям надо прибавить как источник для изучения еще и
семь сохранившихся писем поэта. Два из них, одно сПравителям и народам Ита¬
лии», второе, сомнительное,— письмо к Гвидо да Полента, были переведены лишь
в XV веке. Другие — к Чино да Пистойя, императору Генриху VII, итальянским
кардиналам, флорентийскому другу и Кангранде делла Скала — остались в ла¬
тинском оригинале. Профессор Карло Витте, первым собравший все письма в па-
дуанском издании 1827 года, объявил в 1838 году в одном немецком журнале об
открытии еще семи писем в рукописи, подаренной Максимилианом Баварским
Григорию XV в 1622 году. Однако рукопись, по его словам, исчезла; я думаю, она
вообще никогда не существовала. Другие письма, о которых упоминают старые
биографы Данте, безвозвратно утеряны 32.
414
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
ся в реальности Биче или говорить о двух различных суще¬
ствах: Беатриче поэта и Беатриче теолога, разрушая, та¬
ким образом, последовательное единство, ярко запечатлев¬
шее гений и любовь Данте. Ведь именно стремление одним
звеном соединить реальное и идеальное, символическое и
незримое, небо и землю преображает любовь Данте в неч¬
то такое, чему нет равного среди смертных, в подвиг очи¬
щения и идеализации, дающий неповторимый пример того,
какова миссия любви и женщины здесь, в этом мире34. Та,
которая вдохновляла Данте на земле, стала его ангелом-
заступником на небе. Перед силой любви, которая жила в
поэте, отступила самая смерть. Гроб, как говорит Рихтер,
есть колыбель неба. Утрите слезы, о плачущие: души, лю¬
бившие вас и любимые вами до последнего мига их земно¬
го существования будут в награду за вашу любовь охра¬
нять, беречь и поднимать вас на ступень выше к богу в ря¬
ду ваших последовательных превращений. Посещало ли
вас когда-либо, в один из возвышенных моментов, внезап¬
ное и неожиданное прозрение, мысль, отсвет гения, более
яркий луч вечной истины? Возможно, в этот момент вашего
чела коснулось дыхание существа, всего более вами лю¬
бимого и всего более любившего вас. Чувствовали вы хотя
бы раз в часы, когда душа, усталая от разочарований,
блуждает и трепещет, словно от холода, под леденящим
дыханием Сомнения, как внезапный прилив любви и веры
согревает ваше сердце для новой жизни? Возможно, это
был поцелуй вашей матери, смерть которой вы оплакивали
и которая улыбнулась, заметив вашу ошибку. Любовь Дан¬
те была прелюдией подобных переживаний у людей нашего
времени. Это не языческая любовь, веселая, бездумная,
похотливая любовь Тибулла или Анакреона: это печальная
любовь, волнуемая вечным чувством стремления к недости¬
жимому идеалу. В возрасте, когда людям снятся обычно
лишь надежды и наслаждения, почти первым сном Данте
был сон о смерти, смерти Беатриче. Он не говорит о ее
прелести, разве что один раз о белых локонах, да о выра¬
жении лица, «на которое», спешит он добавить35, «при¬
стально смотреть никто не смеет» *. И любовь Данте не
есть любовь рыцарской эпохи: рыцарство благодаря при¬
* Подлинность канцоны “Io miro I blondi’и т. д., из которой госпожа Джейм¬
сон в книге «Любовь поэтов», если я правильно помню, выводит портрет Беатри¬
че, более чем сомнительна
415
ДЖ. МАЦЦИНИ
родной склонности нашего народа к равенству и, отсюда,
крайней неприязни его к феодальной сути этого учрежде¬
ния так и не пустило настоящих корней в Италии. Нельзя
сравнить ее и с любовью Петрарки, часто выраженной с
божественным очарованием, но вечно неудовлетворенной и
беспокойной, как всякая земная любовь, слишком возбуж¬
денной при жизни Лауры, но оплакиваемой и ощущаемой
почти как неизбежное несчастье после ее смерти *. Лю¬
бовь Данте спокойна, безропотна, покорна; смерть Беат¬
риче не превращает ее в терзание, но освящает ее. Пол¬
ностью противоположная тому роду любви, которая в пере¬
ходную эпоху, переживаемую нами, заслуживает названия
эгоизма вдвоем, страсти ревнивой и судорожной, смешан¬
ной с гордостью и жаждой личного наслаждения, ограни¬
чивающей сферу нашей деятельности и заставляющей нас
забыть о нашем долге перед родиной и человечеством, лю¬
бовь Данте не иссушает других его чувств, но оплодотво¬
ряет их все, придает силу для исполнения долга и расши¬
ряет жизнь души до крайних пределов бытия. «Когда бы
и где бы она ни появлялась... ни одного врага не остава¬
лось у меня; нет, мною овладевало пламя любви к людям,
которое заставляло меня прощать всех, кто оскорбил ме¬
ня», — говорит он в «Новой жизни» 38. Сила все дальше
продвигаться по пути совершенствования и очищения, ко¬
торую вливает в него Беатриче, служит постоянной темой
его стихотворений**. Любовь его — это любовь, как ее уга¬
дал Шиллер в «Доне Карлосе», любовь, как поймут ее. бу¬
дущие поколения. Когда Беатриче — о чувстве которой к
Поэту можно заключить по упрекам, с которыми она об¬
ращается к нему в 31-й песни «Рая», если сравнить их с не¬
которыми стихами канцоны «Печалит все меня в моей судь¬
бе»***,— вышла замуж, Данте тяжело заболел; когда она,
недолго спустя, умерла, его жизнь была в опасности; он
сделался, повествует Боккаччо, «на вид почти одичалым,
худым, бородатым и как бы совершенно преобразившимся
по сравнению с тем, чем он обычно был раньше»41. Но по¬
• См. «Donne che avete...» зт.
** «И тот, кто смог задержаться на ней взглядом, становился благородным
существом или умирал... Ей даровал бог по своей милости то свойство, что не
может плохо кончить тот, кто с нею говорил». Канцона3·.
··· «Мы дадим желанный вам мир сердечный, говорили моим очам очи пре-
красной госпожи иногда» Возможно, их союзу помешало неравенство состояний.
416
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
эт чувствовал, что смерть Беатриче накладывает на него
новые и возвышенные обязанности и что он должен отны¬
не стремиться стать все более и более достойным ее; он
решился в душе любить ее до конца своей жизни и пода¬
рить ей бессмертие на земле» *, и он выполнил этот обет.
Его союз с Джеммой Донати был, кажется, не то что не¬
счастлив, как некоторые утверждают **, но холодно бес¬
страстен, более походя на выполнение долга человека в об¬
ществе, чем на неудержимую потребность сердца. Его ко¬
роткие увлечения Джентуккой и Мадонной Пьетрой прош¬
ли над его душой, как облака; над ними было ясное небо,
и в этом небе неизменно сиял образ Беатриче, как солнце
внутренней жизни. Ее именем он назвал одну из своих
дочерей, которую Боккаччо видел в монастыре в Равенне45.
Воспоминание о ней не только вдохновило его на те вели¬
колепные страницы, которые он посвятил ей в конце Поэ¬
мы, но и жило в культе женщины, которым вся она дышит.
В его любви ко всему прекрасному, в его постоянном
стремлении к душевной чистоте Беатриче была музой его
разума, ангелом его души, духом утешения, поддерживав¬
шим его в изгнании, в бедности, во все безрадостные, ски¬
тальческие дни самой тревожной человеческой жизни, ка¬
кую я только знаю.
И другая идея поддерживала его. Идея эта была той
целью, к которой он направил всю энергию, рожденную в
нем любовью; и я настаиваю на этом, потому что, странно
сказать, об этой цели до сих пор забывали или неправиль¬
но понимали ее все исследователи Данте. Цель эта — на-
циональная цель 46, то самое желание, которым безотчетно
* «Явилось мне дивное видение, в котором я увидел нечто, заставившее меня
решиться молчать об этой благословенной, пока не найду слов, более достой¬
ных ее. И чтобы достичь этого, я прилагаю все усилия, что она поистине знает.
Итак, если соблаговолит тот, кем все живо, чтобы моя жизнь продлилась не¬
сколько лет, я надеюсь сказать о ней то, что еще ни об одной не было сказано*.
«Новая жизнь» Ч
·* Часто упоминаемый стих из Поэмы:
*...виня
В моих злосчастьях нрав моей супруги» w,—
ни в малейшей степени не относится к жене Данте. Другой довод, который иные
усматривают в молчании о ней, также несостоятелен. По какой-то деликатности
Данте никогда не упоминает ни жену, ни сыновей, которых он тем не менее го¬
рячо любил и звал к себе, когда только мог. Во всей Поэме нет ни строки, ко¬
торая относилась бы к его семейным чувствам, если не считать воспоминания о
матери; «Блаженна несшая тебя в утробе» 44.
14-6342
417
ДЖ. МАЦЦИНИ
полны сердца двадцати пяти миллионов людей между
Альпами и морем и в котором надо искать секрет огром¬
ной власти имени Данте над итальянцами. Благодаря этой
идее и благодаря почти сверхчеловеческому постоянству,
с которым поэт стремился доставить ей победу, Данте стал
наиболее совершенным индивидуальным воплощением на¬
родной жизни; и, однако, именно здесь его биографы ока¬
зываются наиболее туманными. Так, Бальбо на одной стра¬
нице называет Данте величайшим итальянцем среди всех
итальянцев, потом, желая объясниться, впадает как бы в
сомнение и, сбитый с толку преобладающей у него гвель-
фистской тенденцией, пишет в начале своей книги, что Дан¬
те оставил партию, к которой принадлежали его предки,
партию народа и итальянской независимости ради партии
чужеземного владычества, придумывая в его оправдание
бог весть какие смягчающие обстоятельства. Так, кавалер
Арто, не моргнув глазом, рассекает надвое человеческую
цельность, направляет по двум разным путям политику и
поэзию и заключает в порыве академического красноре¬
чия: «Нет, Гомер италийского полуострова, вернись к по¬
эзии, отрекись от политики, науки, в которой ты оказался
переменчивым, нерешительным, не по низости, но по не¬
сдержанности». Так, Ленорман доходит до того — прости
ему бог, а мы не можем,— что ставит Данте в вину вели¬
колепное письмо, где Поэт отказывается от прощения, ко¬
торое ему предлагали враги на унизительных условиях *.
Другие не хотят замечать национальной идеи Данте, как
если бы она в чем-то принижала его как поэта. Очевид¬
но, подобным писателям Моисей, восходящий средь бури
и молний на гору Синай, чтобы услышать там от бога за¬
коны для народа израильского, показался бы совершенно
чуждым поэзии.
Меня эта идея национального величия поражает в каж¬
дой строке, в каждой фразе Данте как господствующая в
его гении созидательная сила. Никто не любил отечество
более возвышенной и пламенной любовью; никто не меч¬
тал для него о судьбах столь великих и славных. Все, кто
видит в Данте гвельфа или гибеллина, касаются лишь
подножия того монумента, который он хотел воздвигнуть
• Привожу здесь это письмо полностью, хотя оно хорошо известно; думается
мне, что этот документ должны постоянно перечитывать итальянцы в наше вре-
мя, когда нравственная язва точит* гражданскую доблесть47.
418
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
Италии. Здесь не место выносить суждения о том, на¬
сколько итальянские идеи Данте могли быть осуществимы;
будущее даст решительный ответ. Я должен здесь выяс¬
нить, какова была цель, к которой он стремился, чтобы
тот, кто возьмется написать его биографию, мог верно су¬
дить о ней. Это я и сделаю по возможности кратко, опи¬
раясь на свидетельство «Пира» и трактата «О Монархии».
Вера, которую Данте — в тринадцатом веке— питал в ду¬
ше, такова.
Бог един. Вселенная есть мысль бога *; следовательно,
как и бог, она едина **. Все исходит от бога; и все в боль¬
шей или меньшей мере причастно божественной природе в
соответствии с целью, для которой создано. По великому
океану бытия все плывет к разным точкам ***, но одна и
та же воля движет всем. Цветник божий, мир в каждой
своей части заслуживает нашей любви, в соответствии с
той мерой совершенства которою бог наделил каждую
вещь в нем ♦***.
Среди всего выделяется человек. Бог вложил в него
большую часть своей природы, чем во все другие созда-
ния *****. На непрерывной лестнице существ тот человек,
природа которого наиболее испорчена, соприкасается с жи¬
вотным, человек же, природа которого сохранила наиболь¬
• «Вся вселенная есть не что иное, как некое воплощение божественной
благости». «Монархия» 1.
Все, что умрет, и все, что не умрет
Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий
Своей Любовью бытие дает».
«Рай» 13, 52—54.
** Все в мире неизменный
связует строй; своим обличьем он
Подобье бога придает вселенной».
«Рай» 1, 103-105.
··· «Пир» III 2.
Они плывут к различным берегам
Великим морем бытия, стремимы
Своим позывом, чю ведет их сам.
«Рай» 1. 112—114.
···· И все те листья, что в саду взросли
У вечного садовника, люблю я,
Поскольку к ним его дары сошли».
«Рай» 26, 66—68.
·*♦·* «Человеческая душа, которая есть самая благородная форма из всех со¬
творенных под этим Небом, более получает от божественной природы, чем лкь
бая другая»,
«Пир» III 2.
14*
419
ДЖ. МАЦЦИНИ
шее благородство, приближается к ангелу *. Исходя из рук
бога, все стремится к возможному совершенству **, и чело¬
век— с большей страстью и энергией, чем все остальное.
Между ним и другими созданиями та разница, что его спо¬
собность совершенствования названа Данте «возможност-
ной»—словом, которое на его языке значит «неограничен¬
ной»***. Выйдя из лона бога, человеческая душа непре¬
станно стремится к нему и пытается путем чистоты и
мудрости вновь вернуться к своему источнику. И вот жизнь
индивидуального человека оказывается слишком бессиль¬
ной и краткой, чтобы суметь здесь, на земле, удовлетворить
это стремление; но вокруг него и перед ним находится кол¬
лективный человек, весь род человеческий, с которым лич¬
ность связана по своей общительной природе и который
живет бессмертно, накопляя из поколения в поколение пло¬
ды трудов на пути к вечной Истине. Человечество еди-
но****. Бог ничего не сотворил всуе; и если существует
коллективная сущность, человеческое множество, необходи¬
мо существует также и цель, общая для всего этого множе¬
ства, труд, который оно совокупно должно выпол¬
нять*****. Какова бы ни была эта цель, она, несомненно,
* «И поскольку в разумном порядке вселенной существует восхождение и
нисхождение почти непрерывными ступенями от низшей формы к высшей и от
высшей к низшей... и между ангельской природой» которая состоит из одного
разума, и человеческой душой не найтн промежуточной ступени, но они как бы
продолжают одна другую... и между человеческой душой и наиболее совершенной
душой некоторых животных не найти разрыва, и мы видим, что многие люди на¬
столько ничтожны и настолько опустились, что кажутся не чем иным, как зве¬
рями,— точно так же надо полагать и твердо верить, что возможны люди на¬
столько благородные и настолько возвысившиеся, что они являются не чем иным,
как ангелами. Иначе не существовало бы непрерывности перехода человеческого
рода с обеих сторон, что невозможно».
«Пир» III 7.
** «Каждое творение, движимое предначертанием своей первоначальной
природы, имеет склонность к собственному совершенству».
«Пир» I 1.
*** «Nam etsi aliae sunt essentiae intellectum participantes, non tamen intellec¬
tus earum est possibilis ut hominis».
«Монархия» I 3 4β.
**** «Пир» IV 15.
***** «Бог и природа ничего не делают напрасно, но все, что получает бытие,
предназначено к какому-нибудь действию... Есть, следовательно, какое-то осо¬
бенное дело у всего человечества в целом, на которое во всем своем множестве
направлено это целое человечество и которое поэтому не может совершить ни
отдельный человек, ни одна семья, ни селение, ни город, ни то или иное коро¬
левство... Итак, ясно, что крайняя ступень способности человечества в целом есть
способность или сила разумная. И поскольку эта способность не может вся це-
420
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
существует, и мы должны трудиться над тем, чтобы узнать
и достичь ее. Поэтому Человечество должно в единстве и
согласии стремиться к тому, чтобы вся живущая в нем ра¬
зумная сила получила наивысшее возможное развитие в
двоякой сфере — мысли и действия *. Единственное средст¬
во осуществить эту идею — гармоническое устроение, то
есть ассоциация. Человечество должно быть единым, как
бог един: единым в своем устроении и единым в своей ос¬
нове. Единству учат божий замысел, явленный во внешнем
мире **, и необходимость общей цели. Но единство стре¬
мится к своему воплощению; поэтому необходимо единство
правления. Необходимо должно быть некое средоточие, к
которому вечно восходило бы коллективное вдохновение
человечества, чтобы принять в нем форму закона — некая
власть, сильная единством и советом наиболее возвышен¬
ных умов, природой назначенных управлять, власть, кото¬
рая, со спокойной мудростью выполняя встающие перед
ней задачи, играла бы роль кормчего, высшего вождя, ве¬
дущего к достижению высочайшего совершенства. Данте
называет ее «всеобщей религией»50 человеческого рода***,
другими словами, властью: империей. Ей надлежит под-
ликом и одновременно осуществиться в одном человеке или в той или иной из
вышеуказанных общностей, то необходимо, чтобы эта способность осуществля¬
лась во всей совокупности человеческого рода».
«Монархия» I 3.
* «Первое дело человеческого рода, взятого в целом, есть осуществление
всегда и всей способности своего возможностного разума49, во-первых, для по¬
знания и, во-вторых, для действия ради его распространения.
«Монархия» I 4.
** «И как все небо во всех своих частях, движениях и двигателях регулиру¬
ется единым движением, то есть движением перводвигателя, и единым движи¬
телем, который есть бог... так и человеческий род находится в наилучшем по¬
ложении, когда в своих движущих частях и движениях регулируется единым
правителем как единым движителем и единым законом как единым движением.
Поэтому представляется, что для блага мира ему необходимо быть монархией,
то есть единым правлением, которое называется империей».
«Монархия» I 9.
«В хорошем и превосходном состоянии пребывает все то, что находится в
соответствии с намерением перводвигателя, который есть бог... Соответствует же
намерению бога, чтобы всякое творение представляло божественное подобно,
насколько это способна принять его природа... Но род человеческий наиболее
уподобляется богу, когда он наиболее един, когда он весь объединяется в одно».
«Монархия» I 8.
*** «Для совершенства всеобщей религии человеческого рода должен быть
как бы единый кормчий, который, рассматривая разнообразные состояния в мире
и направляя различные и необходимые действия, выполнял бы всеобщую и не¬
оспоримую обязанность управления».
«Пир» IV 4.
421
ДЖ. МАЦЦИНИ
держивать согласие между правителями различных госу¬
дарств, и согласие это распространится от сказанного выс¬
шего средоточия к городам, от городов к родам, от родов
к каждой семье, от семьи к индивидуальным личностям,
ее составляющим *.
Но где будет средоточие этой империи?
На этот вопрос, оставив всякие последовательные дока¬
зательства, Данте отвечает в форме абсолютного и безу¬
словного утверждения как человек, для которого всякое
выражение сомнения стало бы предметом удивления.
Он теперь не выступает уже как философ и предстает
верующим. Он указывает на Рим, «святой город», как он
называет его,— город, в котором каждый камень для него
достоин благоговения. Здесь средоточие империи. Не было
и никогда не будет народа, более способного завоевывать
власть, более энергичного в сохранении ее, более мягкого
в ее осуществлении, чем тот, что называется италийским
народом, и в первую очередь Святой римский народ**.
Рим избран богом быть проводником его замысла среди
наций. Дважды он дал миру единство; даст в третий раз,
и навсегда. Уж не думаете ли вы, что Рим, один город,
горстка людей, покорил столькие народы благодаря одной
лишь физической силе? Данте ответит вам, что и ему яв¬
лялась временами эта мысль, и душа его была готова воз¬
мутиться против города-узурпатора. Потом раскрылись
очи его разума: на страницах истории этого народа он уви¬
дел следы деятельного присутствия Провидения — praedes¬
tinationem divinam 51. Было предустановлено, что мир дол¬
жен быть подготовлен в равенстве подчинения одной власти,
прежде чем проповедь Иисуса сможет разбудить повсюду
новую жизнь. Бог благословил Рим на служение этой це¬
ли; здесь заключается тайна его силы. Рим не имел своих
собственных стремлений; не для того он боролся со все¬
ленной, чтобы обеспечить себе благоденствие: он взял на
себя это служение ради других. Populus ille sanctus, pius
et gloriosus, propria commoda neglexisse videtur, ut publica
pro salute humani generis procuraret52. И когда служение
это было исполнено, Рим утих в мире и покое, пока необхо¬
* «Пир» IV 4.
♦♦ «И так как не было и не может быть натуры более мягкой в господстве,
более твердой в защите и более изощренной в приобретении, чем... этот
Рим, бог избрал его для этой цели».
«Монархия», в разных местах; «Пир» IV 4.
422
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
димость второго благовеста Единства вновь не призвала
его трудиться во имя всего человечества.
Поскольку выписки заняли бы слишком много места,
развитие этой мысли надо искать в самих произведениях
Данте; он использует в них многие свидетельства, от по¬
этов, постоянно и с почтением им вопрошаемых, до Иисуса
Христа, который, как говорит Данте, самой своей смертью
пожелал признать законность осуществляемого Римом над
всем человеческим родом правосудия 53. Вторая книга «Мо¬
нархии» и четвертая и пятая главы четвертого трактата
«Пира» звучат как гимн той идее, которая сделалась верой
Данте. Выписки, приведенные нами, даже столь немногочи¬
сленные и краткие, должны послужить достаточным дока¬
зательством того, что в произведениях Данте итальянцы
найдут, помимо национальной идеи, освященной величай¬
шим гением Италии, еще и богатое и неожиданное сокро¬
вище истин, позднее подтвержденных многими иностран¬
ными писателями. На этих страницах, написанных пять
веков назад, итальянская философская традиция обретает
связующее звено между системами Пифагора и Телезия,
Кампанеллы и Джордано Бруно. Благодаря Данте священ¬
ная доктрина Прогресса встает на свое место как италь¬
янское открытие, никем еще не признанное, насколько мне
известно, но тем не менее более раннее, чем все осталь¬
ные. Коллективная жизнь человеческого рода, правящий
ею закон непрерывного развития, все большее расширение
ассоциации, в силу которой этот закон осуществляется,
пророческое предвидение общественного устройства, осно¬
ванного на разделении .обязанностей и единстве стремле¬
ния, теория долга — все черты и лучшие идеи учения, при¬
шедшего к нам, как думает большинство, из Франции, уже
имеются в этих книжках итальянца XIII века, на которые
до нашего времени не обращали внимания, вероятно, из-
за малопривлекательной формы, в которую они там обле¬
чены. Итак, необходима вселенская власть, и необходимо,
чтобы средоточием этой власти—«империи»—была Ита¬
лия, Рим54. Дойдя до такого заключения, Данте должен
был остановиться и оглянуться вокруг в поисках средств
для претворения в жизнь своего замысла [...]55.
Мы не можем здесь подробно говорить о религиозной
вере Данте. Пусть читатели обратятся к «Рассуждению»
Фосколо о его Поэме56. Кроме того, изучение «Пира» и
одиннадцатой песни «Рая» окажется, по-моему, достаточ¬
423
ДЖ. МАЦЦИНИ
ным, чтобы положить конец католической свистопляске над
его гробом. Христианство Данте непосредственно шло от
отцов церкви, широта воззрений которых была предана в
XIII веке римским папством. Его кратко намеченные идеи
о прогрессивном совершенствовании человеческой природы
в будущем и о причастии всех людей божественному разу¬
му открывают путь дальнейшему развитию христианской
Истины [...]
Данте был рожден скорее властвовать, чем подчинять¬
ся 57: он был одарен мощной волей, упорным терпением, не¬
сгибаемой верой и спокойной и твердой решимостью. Когда
я думаю о его жизни, на память мне приходит не сам Лю¬
тер, обладающий совершенно иной натурой, но его пре¬
красные слова: «Weil weder sicher noch gerathen ist, etwas
wider Gewissen zu thun, hier stehe ich; ich kann nicht
anders. Gott helfe mir. Amen»58. Нрав Данте был таков,
что не позволял ему подчиняться иному закону, кроме за¬
кона своей совести, и принимать помощь от кого бы то ни
было, кроме как от бога. Он имел любящую душу, но, как
он это знал и как это было в действительности, современ¬
ники оказались недостойны ее, и он изливал свою любовь
на род человеческий, на Человека, каким он еще только
когда-то станет; с людьми, которые суетились вокруг него
и которых, за малым исключением, он не мог уважать, его
не связывала сердечная общность. Когда в «Чистилище»
(11, 61 слл.) Омберто, граф Сантафьора, говорит ему:
Рожден от мощных предков, в древнем блеске
Их славных дел, и, позабыв, что мать
У всех одна, заносчивый и резкий,
Я стал людей так дерзко презирать,
Что сам погиб,—
Данте «чело склоняет» — и кажется, что он исповедуется
в той же самой тайной вине. Он любил известность и не
скрывал этого — но любил не столько знаменитость, кото¬
рую он сравнивает с травой, что и зеленеет и сохнет под
солнцем *, сколько славу торжества над преодоленными в
конце концов препятствиями и признательность тех, кто
назовет древним время, в которое он жил59. Он страстно
желал жить в будущем, жить второю жизнью, желал,
чтобы его мысль могла возродиться новым вдохнове¬
нием в сердцах потомков. В его душе неизменно жила
• «Чистилище» II. 115. См. также II, 100 и сл.
424
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
идея взаимной ответственности людей друг за друга, от¬
ветственности, которой надлежало связать весь человече¬
ский род. Повсюду в его Поэме присутствует сознание
единства мира дольнего и мира иного, каждого периода
жизни с тем, который должен последовать за ним. Тре¬
петное чувство, порожденное этой верой, пронизывает все
«Чистилище» и сопровождает Данте даже в его странстви¬
ях по кругам ада, где грешники с жадностью хотят слы¬
шать новости с утраченной ими Земли и страстно желают
остаться в памяти живущих *. Он любил Флоренцию, ме¬
сто своего рождения, любил храм, который он называет
«своим прекрасным Сан Джованни» и в котором он разбил
однажды купель для крещения, чтобы спасти ребенка, ко¬
торый в ней тонул; он не любил флорентийцев и написал
в начале Поэмы слова, опущенные во всех изданиях, кро¬
ме издания Фосколо:
FLORENTINUS NATIONE,
NON MORIBUS61.
Человек средних веков, пылавший всеми страстями сво¬
его времени, он знал, что такое Месть., Когда Джери дель
Белло, его родственник, проходит мимо, не взглянув на
него, поэт говорит с болью:
...насильная кончина,
Которой не отмстили за него
Те, кто понес бесчестье,— вот причина
Его негодованья; оттого
Без слов ушел он...
€Ад» 29 f 31 с ал.
Но он хранил слишком много величия, — возможно, и
слишком много гордости — в своей душе, чтобы опуститься
до мести за личные обиды: он не испытывал ничего, кроме
презрения, к своим врагам, и, кроме Бонифация VIII, ко¬
торого нужно было наказать во имя Италии и религии,
он не поместил в аду никого из своих преследователей —
даже Канте Габриэлли62. Это «Они не стоят слов: взгля¬
ни— и мимо!»63, сказанное в начале Поэмы о душах, не
заслуживших ни ада, ни неба, казалось, было всегда его
законом в отношении к личным врагам. Он был способен
• «Ад* и «Чистилище* во многих местах. Прекрасное чувство, выраженное
в словах «Любовь к родным светлеет здесь моя», которые произносит Куррадо
Маласпина в гл. VIII «Чистилища», осталось почти всеми непонятым60.
425
ДЖ. МАЦЦИНИ
к могучей любви, но только не к самолюбию, к могучей не¬
нависти, но не к ненавистничеству; жизнь не настолько
была ему дорога и сладка, чтобы придавать значение лич¬
ным обстоятельствам. Но зато он любил правду и нена¬
видел зло. Он смотрел в лицо смерти без тех эгоистических
страхов и надежд, которые поминутно выступают в поэзии
и письмах Петрарки, в произведениях Боккаччо. Для него
было важнее успеть выполнить свое дело на земле, чем с
боязнью или вожделением думать о том неизбежном часе,
который ознаменует для каждого из нас вступление в иной
мир. И если иногда он заставляет догадываться о своей
усталости от жизни («Чистилище» 20, 10. 14), то мы пони¬
маем, что причина этого — в неотвратимом распростране¬
нии зла как раз там, где он призван был выполнить свой
долг. Его заботила не длительность жизни, отпущенной на
его долю, но цель, назначенная ей. Ибо он чувствовал бога
в мире и творческую силу в своей душе; он писал то, что
готов был делать; перо, сказали мы, напоминает шпагу в
его руках — и не случайно он вкладывает меч в десницу
Гомера, величайшего поэта («Ад» 4, 86 слл.). Он боролся
если не с чем-то внешним, то с самим собою — с заблуж¬
дениями собственного разума («Ад» 26, 21) 64 — с излиш¬
ним жаром поэзии, волновавшей его («Чистилище» 33,
141) 65 — с бурей стастей, кипевшей в его груди. Очищение
души, благодаря которому он поднялся из ада борьбы к
небу торжества, к покою человека, принесшего в жертву
земные надежды:
In violenta e disperata pace M,—
великолепно показано в священной Поэме. Обладая, как я
попытался здесь обрисовать, нравом величественным, гор¬
дым, непокорным (о чем свидетельствуют воспоминания
современников, пусть даже основанные на баснях и нена¬
дежных анекдотах), сознавая свою принадлежность к нич¬
тожному меньшинству людей, одаренных необычайной си¬
лой разума и способностью общения с божественным ду¬
хом, нетерпимо относясь к придуманным людьми законам,
от природы будучи склонен скорее давать их*, чем им под¬
чиняться,— Данте несомненно был одним из тех людей,
которые твердо и непорочно проходят через самые тяжкие
и опасные испытания и не склоняют колени перед иной
* См. Письмо к Кангранде делла Скала
426
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
властью, кроме власти вдохновения. Но эту последнюю он
почитал с религиозным трепетом и жаром — Deus fortîor67.
Он прошел все ступени на пути идеи от той минуты, когда
впервые увидел ее, неясную и туманную, на горизонте
своей души, и до той, когда идея воплощается в человеке,
завладевает всеми его способностями и говорит ему: «Гы
мой».
«Пыль в алмазе», тайное и загадочное страдание гения,
отвергнутого и непонятого большинством,— мучительное
чувство неспособности воплотить в действительность до¬
стигнутый в сознании идеал, грандиозная мечта об Италии
как о светлом ангеле, ведущем за собою человечество,—
и наряду с этим зрелище раздробления страны, ничтоже¬
ства светской власти и предательства власти духовной в
Италии, на которую направлены алчные взоры всех чуже¬
земцев и которая готова рабски продаться им, сознание в
себе силы, способной вести за собой других, и неблагопри¬
ятных обстоятельств, вынуждающих истощаться в томи¬
тельном бездействии, постоянная внутренняя борьба меж¬
ду сомнением и верой — вот что превратило создателя «Но¬
вой жизни» в человека, написавшего «Ад», юного ангела
безмятежной поэзии, облик которого сохранил нам Джотто,
в того Данте, о котором рассказывают нам более поздние
современники, в Данте, вернувшегося из ада68 [...]
Я попытался показать здесь Данте с тех его сторон, ко¬
торые еще недостаточно известны, но которые тем не ме¬
нее для нас, возможно, наиболее важны. В то же время я,
как мне кажется, удовлетворительно ответил на то удивле¬
ние, с каким француз Лабитт и сотни современных Лабит-
тов видят новое пламя энтузиазма, с которым юное поко¬
ление обращается к жизни и трудам старого Алигьери. По¬
мимо того, что люди с умом и сердцем из века в век ищут
в гении,— Поэта, могучее откровение Идеала, его душу,
дух его времени,— Италия ищет в нем разгадку своей на¬
циональной идеи, Европа — разгадку Италии и истоки со¬
временной мысли. Данте обрел покой и славу — терновый
венец давно упал с его головы* — идея, зерно которой он
посеял, росла, и развивалась из века в век, изо дня в день —
• «Но могила неглубока; это светлый след ангела, отыскивающего нас. Когда
неизвестная рука посылает последнюю стрелу в голову человека, он уже склоня¬
ет ее, и стрела лишь снимает терновый венец с его израненного чела*. Жан-
Поль Ряхтер
427
ДЖ. МАЦЦИНИ
душа его, которая не нашла отклика в своей земной жизни,
соединилась теперь с миллионами других душ на его родине.
Более пятисот лет протекло над отечеством Данте с тех пор,
как тело его взяла земля: годы славы и позора, бурной
свободы и гибельного рабства, гениальности и невыноси¬
мой посредственности. Но имя Данте не забыто, и суровый
образ Поэта продолжает возвышаться то в ободрение, то в
упрек над новыми поколениями итальянцев. Культа его не
смог затмить блеск иных гениев, явившихся после него; ни
мрак веков, ни скверна деспотов и иезуитов, ни иностран¬
ное владычество не стерли память о нем: sanctum Poetae
nomen quod nunquam barbaries violavit69. Его Поэму долго
уродовали и коверкали вульгарные комментаторы; Малые
произведения, в которых национальная мысль выражена
всего яснее, были забыты, ревнивая тирания прятала их от
глаз соотечественников Данте — и тем не менее как бы не¬
кое глубокое согласие, тайное единство жизни соединило
поэта с народом, и даже многие неграмотные итальянцы
знают и с благоговением повторяют его имя. Еще не¬
сколько лет — и страна напишет на подножии памятника
Алигьери: Итальянская Нация — памяти своего ПРО¬
РОКА.
ИЗ ПИСЕМ
С. Сисмонди, 1830 г.
Что мешает Италии сооб¬
щить новый смысл истории, утвердив единое всеобщее
начало, которое пролило бы свет на судьбы итальянцев в
отношении самой Италии, в отношении всего человечества?
Почему критика, увязшая сегодня в мелочах, не откроет
нам истинного лика великих гениев всех народов? Почему
общедоступные библиотеки предлагают Гомера и прозу
Чезари1 — две крайние точки цепи — народу, которому ни
тот, ни другой не понятен, вместо того чтобы предлагать
книги по истории отечества, уроки гражданской добродете¬
ли, жизнеописания великих людей и практические хозяй¬
ственные советы? Почему пятьдесят диссертаций об ал¬
легорической борзой2—и ни одной биографии Данте?
Почему это?—Потому, что все пишут, чтобы писать, а
не чтобы учить; потому, что сердцу каждого близка слава
писателя, но не апостола истины; потому, что литература
стала полем праздных домыслов, а не нравственным слу¬
жением, чем должна быть; что эгоизм просочился в души;
потому, что иссушающий скепсис, оформившийся у наших
историков в учение о превратности судеб, о неизбежности
чередования взлетов и падений в истории каждого народа
и всего человечества, завладел умами, сеет бессилие и
разубеждает посвящать жизнь единой цели, раз сегодня
она верна, а завтра растает перед глазами.
Регистрируют факты и не хотят думать об их причинах;
наука топчется на месте. Все разъято, разделено, раздроб¬
лено. Связь, существующая между всеми ветвями челове¬
ческого знания, забыта или затемнена. Каждое учение,
429
ДЖ. МАЦЦИНИ
каждая область науки управляется своими особыми нор¬
мами... Словом, нет Единства, а потому нет никакой воз¬
можности истинного прогресса...
Матери, S. XI 1834 г.
Погода переменилась и стала великолепной — ясная,
без тени облаков. Тепло весеннее, даже слишком весеннее,
чтобы так могло долго продолжаться. Я вчера взошла3 на
откос посмотреть закат. Прекрасный вид: впереди Альпы,
позади Юрские горы, посреди равнина — тишина и торже¬
ственный покой: ни звука, кроме позванивания бубенцов,
подвешенных коровам на шею, да песни пастуха, швейцар¬
ской песни, которая вся состоит из непрестанных переходов
от басовых к верхним нотам в серии октав. В ней есть что-
то печальное, но сладостно печальное. Не умею передать
вам представления об этой песни, которую распевают все
здесь, в Швейцарии, и к которой итальянское горло неспо¬
собно; возможно, в ней есть нечто общее с той тирольской,
которую вы знаете...4.
Матери, 2. II 1835 г.
Третья эпоха искусств5, музыки, архитектуры, живопи¬
си, а также и скульптуры, хотя последняя, по моему убеж¬
дению, продвинется менее остальных, еще не началась.
Она начнется, когда восторжествует откровение великого
социального принципа, когда решительное сотрясение умов
позволит по-новому взглянуть на творчество; когда, нако¬
нец, у народа, у так называемой публики, будет вера, бу¬
дет идеал.
Ф. Беттини, декабрь 1835 г.
Можешь быть уверен, что мы не пожалеем трудов6: бу¬
дем переводить немецкие и английские драмы, состав¬
лять биографии; я буду писать предисловия, которые по¬
немногу заронят идею литературного, а отсюда и нравст¬
венного единства в Италии, где, боюсь, все надо начинать
сначала.
430
ИЗ ПИСЕМ
Матери, 4. II1836 г.
У меня наклонность к северным языкам и литерату¬
рам, которые представляются мне более свежими, менее
извращенными и изнеженными и более глубокими, чем на¬
ша... Продвигаюсь понемногу в немецком. Чтобы мои заня¬
тия не проходили без пользы и поскольку для учебы надо
что-то переводить, переведу одну книжечку Лессинга7.
Матери, 1. VII1840 г.
Я хохотал вчера как безумный над своей статьей об
итальянской живописи, думая о том, сколь диким пока¬
жется англичанам то, что я в ней пишу. Они живописцы в
высшей степени материалистические: краски ослепитель¬
ные, сгущенные донельзя; фигуры крупные и массивные;
старательно выписанная одежда, драпировка, аксессуары;
что до главного, выражения, мысли, идеи, цели, об этом
они даже и не задумываются. Идол их художников Ру¬
бенс, с упоением писавший плоть, плоть, плоть. Христос,
который кажется грузчиком, прекрасные булочницы вмес¬
то мадонн и так далее... Я пишу эту статью без особого
удовольствия, потому что когда говоришь хорошо или пло¬
хо о писателе, всегда можешь в доказательство выписы¬
вать целые куски; но когда говоришь о достоинстве худож¬
ника, нет никакой возможности это доказать, и приходится
ограничиваться лишь советом пойти и посмотреть своими
глазами.
Э. Бенца, 28. VIII1840 г.
Ты найдешь в этой статье8 настойчивое, систематичес¬
кое, как его называют, единство принципов, которое обна¬
руживается помимо моей воли во всем, что бы я ни писал,
В самом деле, ощущение единства Жизни — вот мое посто¬
янное и самое сильное чувство. Стоит мне обратиться к
какой-нибудь области духовного развития или нравствен¬
ной деятельности в нашу или в любую другую эпоху, как
в разных формах и в разных символах предо мной вста¬
ет единая мысль, единая определенная идея, составляющая
душу этой эпохи и в то же время — высшую формулу жиз¬
ни Человечества, насколько она раскрылась на данной сту¬
431
ДЖ. МАЦЦИНИ
пени того восходящего пути к Просвещению, по которому
ведет его бог. Должен тебе сказать, что для меня это
единство, которое иным кажется подозрительным, потому
что они считают его результатом подготовительной рабо¬
ты, предшествующей наблюдению,— главный источник
уверенности в своей правоте, потому что в вещах, идущих,
казалось бы, из разных сфер, я нахожу подтверждение
своим религиозным, социальным и политическим идеям.
Мы ио горло в анализе, в расчлененности, во фрагментар¬
ном; поэтому мы и бессильны — бессильны, заметь, не
только мыслить, но и действовать. Вера, которой нам сей¬
час так не хватает для действия,— это глубочайшее чувст¬
во, которое поднимается в душе от сознания Единства че¬
ловеческой жизни. Нашей целью должно быть возрожде¬
ние этой веры через обнаружение этого Единства — вот та
воспитательная работа, которую я называю Критикой и
которая совершенно не ведется в Италии. Но и как ее вес¬
ти? Один человек здесь бессилен, а я, возможно, еще бо¬
лее, чем кто-нибудь другой. Если бы я даже смог выразить
все свои литературные идеи в книге, одна книга еще не
есть апостольство; идеи, выраженные передовыми умами,
нужно еще разъяснить, развернуть, распространить тыся¬
чью способов и в тысяче видов. Кто смог бы сделать это в
Италии, где и «Субальпино» запрещен? Кроме того, я
боюсь, и не без основания, что сознание итальянцев не
пробудится, пока какое-нибудь потрясение не сместит, так
сказать, ось мышления, не перенесет нас под другое небо,
на другой градус духовной широты, где воспрянут к жизни
все дремлющие в нас силы.
/(. М. Маджотти, 18. IV1841 г.
Данте9 сдан в набор, и я начинаю корректуру. Это ра¬
дость для меня, как, надеюсь, и для вас. Значение этого
труда я не преувеличиваю ни перед собой, ни перед други¬
ми; он — дань памяти Фосколо, и об этом я всегда в пер¬
вую очередь помню.
Матери, апрель 1841 г.
Мандзони, единственный среди них [католических писа¬
телей], которого я люблю и чту, думает о спасении своей
души и ни в малейшей степени —о других душах.
432
ИЗ ПИСЕМ
К. Стэнсфилд, 11.V 1853 г.
Я рад что Карлейль взял мою сторону против Адзе-
льо10. Адзельо очень умен, или, вернее, был очень умен;
он хороший романист и намного лучше — художник-пей¬
зажист, но он узок в своих представлениях о политике,
узок в своем патриотизме, в котором нет ничего, кроме
легкого чувства гордости; он презирает народ, чувствен в
своей жизни, скептик во всем, от женщин до религии, как
верный ученик XVIII века.
М. Биггс, 24. VIII 1856 г.
Вы когда-нибудь глядите на звезды, Матильда? Не чув¬
ствуете ли вы — когда вы прислушиваетесь к голосу ва¬
шего существа, а не к голосу жалкой фрагментарной и не¬
полной философии, разрушающей это существо,— что меж¬
ду вами и ими есть священная, таинственная связь? Не
ощущаете ли вы, что чувство красоты, охватывающее вас
в такие минуты, есть дыхание любви, залог Единства все¬
ленной, доказательство, что между ним и вашей жизнью
есть согласие, гармония, которую мы слышим сейчас смут¬
но, как гул эоловой арфы, но которую будем слышать все
яснее и яснее по мере того, как будем подниматься все вы¬
ше? Звезды всего лишь блестящие точки перед нашими
глазами: ничего особенного, ничего особо прекрасного в
них нет; и все же они наполняют нас странными чувства¬
ми, стремлениями, печалью, тоской; они говорят нам о бес¬
конечно многом; они заставляют нас блуждать по лаби¬
ринту божественной, таинственной, невыразимой и в то же
время могущественной действительной Поэзии. Они напол¬
няют нас думами, идеями, очень часто покоем. Есть что-то
общее между ними и нами. И в какие-то моменты я вижу
в них — боже, как я был бы рад, если бы вы могли видеть
в них то же,— путевые столбы Жизни, маяки дальних
стран, которые должны стать нашим жилищем в восходя¬
щем развитии жизни. Да, нам доступно сознание единства
мира; мы не можем не переживать его в наши самые свет¬
лые и самые духовные моменты. Тогда это единство стано¬
вится действительностью — иначе откуда же пережива¬
ние, откуда сама эта идея? Идеи ведь только тени той ре¬
альности, которая вне нашего досягания. Но как единство
433
ДЖ. МАЦЦИНИ
вселенной может быть действительностью, стать действи¬
тельностью, если мы не стремимся достичь его в своей дея¬
тельности, если мы постепенно не овладеваем им?
Э. Хоке, 17. XI 1857 г.11
Джованни Берше, ломбардский поэт, родился в Мила-
не. Он был одним из горстки благородных, начавших
борьбу, тогда еще мирную, за итальянскую свободу под
знаком итальянского литературного освобождения, назы¬
вавшегося романтизмом. Он сотрудничал в «Кончилиато-
ре» (1818) вместе с Пеллико, Конфалоньери, маркизом
де Бремом, Борсьери, Романьози и другими. После запре¬
щения «Кончилиаторе» он включился в политическую дея¬
тельность, которая привела к восстанию 1821 г., поддер¬
жанному, а потом преданному Карлом Альбертом, тогда
еще принцем. Будучи приговорен к смертной казни авст¬
рийцами, Берше жил в изгнании, в основном в Бельгии.
Там он написал книгу переводов испанских баллад в на¬
родном стиле и некоторые другие произведения; но поис-
тине громким и дорогим для каждого молодого итальянца
сделала его имя книга патриотических стихов: поражая но¬
вой оригинальной формой, эти стихи дышали энергической
ненавистью к Австрии, священным возмущением против
итальянского эгоизма и трусливой апатии и глубоким не¬
доверием к правителям и королям.
/О Стэнсфилд, 11. VIII 1859 г.
Флоренция прекрасна — Арно при лунном свете чару¬
ет. И все древние памятники, статуи, церкви, разбросанные
по городу, кажутся мне торжественным и немым уроком
поистине великого прошлого поверхностному, легкомыслен¬
ному поколению, разгуливающему в кринолинах или празд¬
но проводящему время у дверей кафе, которые здесь через
каждые три дома.
Джулио Уберти, 30. V 1870 г.
Я слышал, что вы готовите издание своих стихотворе¬
ний... Я искренне рад этому. Ваши стихи, когда их станут
434
ИЗ ПИСЕМ
больше читать, сослужат хорошую службу нашей молоде¬
жи. Будучи профаном в поэзии, я не говорю ни об их му¬
жественной форме, одинаково далекой и от старого педант¬
ского классицизма и от тривиального прозаизма многих
современников, ни о мелодичности их ритма, ни о строгом
отборе образов, нагромождение которых у некоторых но¬
вейших поэтов мешает разглядеть идею. Говорю о мысли,
о душе вашей поэзии, о понимании миссии искусства, кото¬
рое руководит всей вашей работой. В наши дни это пони¬
мание ослабло, и нужно оживить его. В мире, оставленном
верой, где большинство людей бредет на ощупь от колыбе¬
ли к могиле, не видя, какой урок преподает последняя и
каким святым пророчеством будущего дышит первая, раз¬
лагающий анализ заменил ясное чувство жизни и, расчле¬
нив, умертвил его. Погасло пламя идеала, и на время за¬
тмился образ абсолютного, неизменного, необходимого, ис¬
тинного, и человек, если не говорить о немногих избранни¬
ках, ощупывает во мраке то, что расположено вокруг него,
подобно слепому, изучая материальные покровы мира и из¬
рекая, что помимо этого нет ничего. Как животное, он жи¬
вет в действительном, называет наукой эксперимент, при¬
званный лишь подтвердить полет мысли, ищет истину в
исследовании случайных, разрозненных явлений, как если
бы явление можно было понять и само по себе, а не толь¬
ко с высоты всеобщей идеи вселенной и закона, который
ею правит; он изгоняет из своего сознания, объявляя его
недоступным, целый мир, мир идей, мир предчувствий,
стремлений, прозрений, которые впервые только и делают
человека человеком; он отрицает бога, возводя на трон сле¬
пые, бессознательные, идущие по кругу материальные силы,
а за ними безнравственность, потому что они ограничивают
благом отдельной личности результат его самопожертвен-
ного подвига и отвергают как неподтверждаемое чувством
бессмертие любви, оставляя ей жалкую роль преходящей
чувственности и тем ограничивая «я» и жизнь тесным ла¬
биринтом временных, обманчивых, бесплодных фактов.
Перед этой оргией аппетитов, инстинктов, страстей, минут¬
ных фантазмов поэзия, истинная, святая воспитательни¬
ца — поэзия скрылась. Поэт сделался всего лишь пассив¬
ным созерцателем или бунтарем на час... Поэзия описыва¬
ет, рисует, вспоминает — не пророчествует, не зажигает,
не посвящает личность социальной цели. Во всей Европе
мне известно только одно исключение: это польская поэзия,
435
ДЖ. МАЦЦИНИ
единственная, заслуживающая этого названия. Не помню
теперь, кто из польских поэтов сказал, что поэзия есть
«боевой марш будущего»; но в отношении к ним самим это
истина. Вера в то, из чего складывается вечная религия
души, сделала Мицкевича, Красиньского, Залеского, этих
жрецов действия, лучшими поэтами, которых Европа име¬
ла от Байрона до наших лет; они — залог того, что поль¬
ская народность не погибнет. Мы в Италии их не знаем.
Либо искусство не имеет собственной жизни и утратило
всякий смысл — либо оно должно сделаться звеном между
Мыслью и Действием и подвигать душу на претворение в
действительность идей разума. Поэзия, дочь веры, имеет
ту же цель, что и она; но там, где одна сурово повелевает,
там другая трогает, радует, воодушевляет и увлекает; если
вера указывает на жертвенное служение как на долг, то
поэзия окружает его ореолом Красоты и увенчивает алтарь
цветами любви и надежды. Благодаря поэзии нравствен-
ный закон превращается во вдохновенное чувство. Приро¬
да, этот внешний покров божественной идеи, полна симво¬
лами, которые отражают эту идею, как капля росы —
Солнце; весь свой аромат, всю свою гармонию она вруча¬
ет поэзии, чтобы та отдала их человеку, идущему по пути
истинной жизни и боготворящему действие. Поэзия цар¬
ственно парит в бесконечности, дарованной ей богом; но
лучом ее она должна осветить душу творения: гробницы,
великие руины, предания о жертвенных подвигах и побе¬
дах, старые народные легенды; щедрая улыбка равнины,
вечные снега Альп, звезды в небе, безмятежный покой озер,
волнение безбрежного океана, столетние леса и маленький
полевой цветок, рассвет и вечерняя заря, чистая лазурь
небосвода и рассеченный молниями мрак — все полно для
нее смысла, все урок и пророчество, лишь бы она не изме¬
нила своему долгу, предавшись культу чувственности и
ползучему скепсису, лишь бы она понимала, что вселенная
есть алтарь Идеала, лишь бы чтила Будущее и пробуждала
в человеческой душе гкпамя сильной мысли и волю к свер¬
шению больших дел.
Из €Автобиографических заметок» (1861)
Я понимаю под эпосом не эпические поэмы, произведе¬
ния чистого искусства, такие, как «Энеида», «Иерусалим»,
«Лузиады», «Потерянный рай», которые внушали поэтам,
436
ИЗ ПИСЕМ
обычно в начале падения одной из эпох, какое-то бессозна¬
тельное желание увековечить в памяти уходящую великую
идею, поместив ее как бы в величественный саркофаг.
Я имею в виду поэмы, которые мне хотелось бы назвать
национальными библиями. Как некие храмы поэзии, они
созданы коллективным гением народов в первые эпохи их
жизни, более или менее полно рисуя их традиции и, в за¬
родыше, их будущий путь и природой назначенную им мис¬
сию: это «Рамаяна» и «Махабхарата», отражение двух ве¬
ликих исторических циклов Индии; это персидский «Шах-
наме», отголосок древних иранских преданий; «Илиада»;
германская «Песнь о Нибелунгах»; фрагменты скандинав¬
ской «Эдды»; «Божественная комедия». Имена авторов
здесь обычно неизвестны или недостоверны, за исключени¬
ем Данте, кому дарованная итальянской нации привилегия
второго рождения позволила стать пророком на рубеже
двух цивилизаций, данных нашей страной миру.
КОММЕНТАРИИ
Впервые работы Маццини были
собраны его друзьями в трехтомнике под названием «Литературные
сочинения одного ныне живущего итальянца», вышедшем в 1847 г. в
швейцарском городе Лугано. Это издание было подготовлено почти
без участия автора и изобиловало ошибками, особенно в переводах
английских статей. В 1861 г. миланский издатель Даэлли вошел в не¬
посредственный контакт с Маццини, взявшись за Полное собрание его
сочинений (оставшееся незавершенным). Теперь Маццини сам готовил
материалы и переводил статьи, опубликованные в Англии и Франции.
Стиль этих переводов — поздний стиль Маццини, строгий, ясный, почти
лапидарный стиль усталого, но не сдающегося борца. При наличии и
«оригинала» и такого перевода за основу для данного сборника брался
второй. Наконец, в столетнюю годовщину рождения Маццини итальян¬
ское правительство постановило издать Полное собрание его сочинений.
С 1906 по 1943 г. вышел сто один том, из них шесть томов литератур¬
ных произведений, тридцать — политических сочинений и пятьдесят де¬
вять томов переписки.
ИЗ «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК»
[ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ]
В «Автобиографических заметках» (1861) Маццини возвращается к
проблемам искусства. Очертания его эстетики остаются прежними.
Вместе с тем интерес к специфике прекрасного здесь уже явно туск¬
неет: в борьбе за социальную действенность искусства Маццини утра¬
тил понимание его самоценности. Так в эстетической системе Маццини
осталась нереализованной та художественно-критическая интуиция, ко¬
торая определяла главное достоинство его ранних статей.
1 Имеется в виду общественный подъем 1859—1861 гг. — 41*.
2 Книга «Исход» (13, 21—22).— 43.
о ЛЮБВИ ДАНТЕ К ОТЕЧЕСТВУ
Эта первая работа Маццини (1826—1827) была направлена во фло¬
рентийскую «Антологию», где ее Отвергли из-за слишком яркой патрио¬
тической направленности. Н. Томмазео, один из редакторов журнала,
* Здесь и далее в комментариях последняя цифра обозначает страницу, к
которой относится данное примечание.
438
КОММЕНТАРИИ
сохранил рукопись и в 1837 г. поместил ее в туринском «Субальпино»
за подписью XXX. Тема Данте была не случайна для Маццини, кото¬
рый утверждал, что свое учение о прогрессе он почерпнул не у совре¬
менных европейских мыслителей, а у великого итальянского поэта.
1 Гармодий — тираноубийца, вместе с Аристогитоном заколовший в
514 г. до н. э. в Афинах Писистратида Гиппарха. Под «гимнами»
Гармодия Маццини иносказательно подразумевает его героическое дея¬
ние. Алкей (ок. 600 до н. э.)—греческий лирик из Митилены; в своей
поэзии выступал как борец против тирании; некоторое время был в
изгнании.— 45.
2 Человек, чей прах еще не остыл и чей возвышенный образ будет
жив среди нас... — Речь идет об Уго Фосколо, умершем 10.VI 1827 г.—
46.
3 Кощей Нерва (35—98)— римский император с 96 г., который, пос¬
ле насилия и произвола Домициана, восстановил права сената, забо¬
тился о благосостоянии населения, возможно, участвовал в убийстве
Домициана.— 47.
4 Гибеллины (от названия замка Гогенштауфенов «Вайблинген»)—
первоначально сторонники свевского дома и противники государей Ба¬
варии. В XII в. это сторонники императора против папы, с XIII в.—
аристократическая партия в итальянских коммунах. Гвельфы (от Вель-
фа I Баварского)—партия защиты коммунальных свобод, тяготевшая
к папской власти.—49.
6 Джованни да Виченца (ум. 1260)—монах-доминиканец, получив¬
ший в Вероне и Виченце полномочия на проведение социальных ре¬
форм.—49.
6 Манфред из династии Гогенштауфенов (1232—1266)—король Си¬
цилии. Отлученный от церкви, отразил нападение папской армии, но
погиб в бою при Беневенто против Карла I Анжуйского (1226—1285),
которого папа Урбан IV короновал как сицилийского короля. Наслед¬
ник Манфреда Конрад V (1252—1268), герцог Швабии и Франконии
(«Конрадино»), был разбит при Тальякоццо в 1268 г. 30 марта 1282 г.
сицилийцы при поддержке арагонского короля перебили сторонников
Карла («Сицилийская вечеря»).—49.
7 Эццелино да Романо Свирепый (1194—1259)—государь в Север¬
ной Италии, гибеллин и противник папы, расчетливый и жестокий
«собиратель» земель.—49.
8 В конце XIII в. Пиза, где во главе коммуны стояли гибеллины,
потерпела ряд поражений от гвельфского союза Генуи, Флоренции и
Лукки, после чего ее политическое значение быстро пало.—49.
9 Уголино делла Герардеска, граф Доноратико, в качестве пизан¬
ского подесты после битвы под Мелорией в 1284 г. вел мирные пере¬
говоры с флорентийцами. Сдав им пограничные сторожевые башни,
он был заподозрен в измене. Пять лет спустя епископ Руджери уморил
его голодной смертью (см. Данте, Божественная комедия I 33).—50
10 Джано делла Белла — флорентийский политический деятель
XIII в., выступавший против аристократов-гибеллинов.— 50.
439
ДЖ. МАЦЦИНИ
11 «Божественная комедия» III 17, 118—120*.—51.
12 Там же, 130—132.—51.
13 ...если только его делают не с шутовством Сеттано или слепой
злобой Розы...— Речь идет о Сергарди Лодовико (1660—1726), италь¬
янском поэте-сатирике, обличавшем лицемерие общества, духовенства,
суеверие монахов. В 1694 г. он опубликовал «Сатиры» под псевдони¬
мом Квинта Сеттано. Роза Сальваторе (1615—1673)—живописец и
поэт, в подражание Ювеналу и Ариосто создавший сатиры в терци¬
нах («Музыка», «Поэзия», «Живопись», «Война», «Зависть», «Вави¬
лон»).—52.
14 Далее у Данте:
«В ином руне, в ином величье звонком
Вернусь, поэт, и осенюсь венцом
Там, где крещенье принимал ребенком», — 53
15 Пертикари Джулио (1779—1822)—поэт и филолог, исследова¬
тель Данте.—53.
16 «Божественная комедия» II 6, 76—151, Данте обращается здесь
с упреком ко всей Италии, «кораблю без рулевого», «лошади, не знаю¬
щей узды», стране, «одичавшей в беззаконии», природная столица ко¬
торой, Рим, скорбит, «как вдова, потерявшая супруга».—53.
17 Представление о том, что Данте преодолел свою природную мяг¬
кость, чтобы исполнить высокий гражданский долг, мало популярно
среди исследователей. «Нигде, кроме... Карлейля, не нашел я ни од¬
ного слова и ни одной мысли о том, какой ужасный переворот должен
был совершиться в душе человека, перешедшего от такой нежной,
детски-чистой идиллии невинной любви, как «Новая жизнь», к такой
поэме негодования и гнева, как «Божественная комедия», — пишет
К. Федерн («Данте и его время», М., 1911, стр. 164).—54.
18 См. «Божественную комедию» III 25, 6.—54.
19 См. «Божественную комедию» III 16, 55—57. Мужик из Агуль-
оне». — Речь идет о Бальдо д’Агульоне, флорентийском политике, дея¬
теле «черного» переворота 1301 г. В 1311 г. он отменил амнистию
группы гибеллинов, в том числе Данте. «Негодяй из Синьш>— подра¬
зумевается Фацио да Синья, также важная фигура переворота 1301 г.,
юрист, гонфалоньер правосудия во Флоренции в 1316 г., неоднократный
приор.—54.
20 Обращаясь в XVI канцоне к «князьям земли», Петрарка говорит:
«Корысть, в безумье ослепленном, несет проказу вместо исцеленья...
И кто ж нас мучит? Племя насильников без чести и стыда, кому
был чужд всегда закон... Виною — вы! Погублены мы — вами! Усобны-
ми боями мертвите вы прекрасную страну!» (Пер. Эфроса).—55.
21 В этой знаменитой VI канцоне, адресат которой не уточнен (Кола
ди Риенцо?), Петрарка обращается к политическому деятелю с при¬
зывом вернуть древнее величие Риму. «Позор сейчас царит во всей
моей земле: уже нркто пороков не стыдится; по лучшим дням не
* Здесь и далее стихи из «Божественной комедии» Данте даются в переводе
М. Лозинского.
440
КОММЕНТАРИИ
страждет, не томится Италия, погрязшая во зле, в дремоте, в дряхло¬
сти, во мгле; ужель навек? Ужель не пробудится? О, если б мог я
в космы ей вцепиться!» — 55.
22 Из сонета Петрарки, в котором поэт хочет воспеть Лауру на
языке, понятном всему миру. Но поскольку, говорит поэт, «не могу
это разнести по всем четырем частям света, пусть меня услышит
прекрасный край, который разделяют Апеннины и окружают море и
Альпы!»—56.
23 См. «Божественную комедию» III 17, 57.—56.
24 «Пир» I 3, 4. Далее у Данте: «...в которой я был рожден и
вскормлен, вплоть до вершины моего жизненного пути, и в которой
я от всего сердца мечтаю, по-хорошему с ней примирившись, успо¬
коить усталый дух и завершить дарованный мне век». Ср. «Божествен¬
ная комедия» I 15, 74—78.—56.
25 Далее у Маццини следует краткий очерк жизни поэта, более
подробно изложенный в статье «Данте» (см. стр. 357—366).—57.
26 Платон, Ион 533а—534е, 536 с.—57.
«ПЕРТСКАЯ КРАСАВИЦА»,
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН
ВАЛЬТЕРА СКОТТА
Это четвертая работа, помещенная Маццини в «Индикаторе Дже¬
новезе» (12.VII 1828 г.). Перечислим остальные: 10.V 1828 г.—краткий
отзыв о романе «Лигурийская невеста» («...это — посредственный ро¬
ман, отсутствует новизна, стремление к нравственной пользе», герой
списан с «Прерий» Купера, героиня — с Клары из «Вод Сен-Ронана»
В. Скотта, в стиле заметны «реминисценции из Стерна»); 7.VI 1828 г.—
разбор брошюры Дзайотти об «Обрученных» Мандзони; 14.VI 1828 г.—
сообщение о вечере поэтической импровизации.
1 Дюфокомпре — автор рецензируемого Маццини французского пере¬
вода романа В. Скотта.— 59.
2 Вайклифф Джон (ок. 1320—1384)— английский религиозный рефор¬
матор.—59.
3 Мэр Джон (1470—1550)—богослов и историк. Бойс Гектор (ок.
1465—1536)—историк. Бьюкенен Джордж (1506—1582)—гуманист, цер¬
ковный реформатор, поэт (писал на латыни), автор «Истории Шот¬
ландии с древнейших времен до 1580 г.».—60.
«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ,
или жизнь ИГРОКА»
В полемических настроениях этого отчета о театральном представ¬
лении («Индикаторе Дженовезе», 2.VIII 1828 г.) сказывается смертель¬
ная война, объявленная газете Маццини университетскими профессора¬
ми и журналом «Лигустико» во главе с Дж. Споторно.
1 Дюканж Виктор Анри Браэн (1783—1833) —французский романист
и драматург.—62.
441
ДЖ. МАЦЦИНИ
2 См. прим. 1, стр. 446.—63.
3 Слова «но злей, чем горе, голод был недугом» («Божественная
комедия» I 33, 75) толкуются теперь обычно в том смысле, что голод¬
ная смерть убила в графе Уголино горе по детям, с которыми вместе
он был брошен в каменный мешок (см., например, «Dante nella critica
d’oggi», Firenze, 1965, p. 526). Однако в Тоскане существовала ле¬
генда, что Уголино не смог устоять против голода и коснулся тел
умерших.—64.
«БИТВА ПРИ БЕНЕВЕНТО»,
история XIII века, написанная доктором Ф.-Д. Гверрацци,
в 4-х томах, Ливорно, 1827
Отзыв Маццини («Индикаторе Дженовезе», лето 1828 г.) послужил
поводом для его встречи с Гверрацци. Маццини рассказывает в «Авто¬
биографических заметках»: «Мы поехали в Монт^пульчано, куда был
тогда сослан Гверрацци за то, что прочел несколько восторженных
страниц в честь доблестного итальянского солдата Козимо Дельфанте.
Гверрацци писал тогда «Осаду Флоренции» и ознакомил нас с всту¬
пительной главой. Кровь бросилась ему в лицо, когда он читал. Он был
высокого мнения о себе... Но он был высокого мнения и о своем оте¬
честве, которое видел в памятниках прошлого величия и в предчув¬
ствиях будущих судеб... У него не было веры. Буйное воображение
звало его к великим делам; нестойкий ум, воспитанный на Макиавелли
и изучении людей прошлого, а не на думах о будущем, поверг его
в раздробленность анализа, который хорош разве что для того, чтобы
засвидетельствовать смерть и ее причины, но бессилен создать и ус¬
троить жизнь... Ему недоставало связи с людьми, недоставало гармо¬
нии, которую дают лишь глубокая религиозная вера или сильные дви¬
жения сердца. Он мало что уважал, он слабо любил».
1 Менгс Рафаэль Антон (1728—1779) — немецкий художник.—66.
2 См. прим. 13, стр. 440.—66.
3 «Музыка, чего ты хочешь от меня?» (франц.). Фонтенель Бернар
(1657—1757)—французский писатель, племянник Корнеля, знаменитый
острослов.—67.
4 Речь идет о Гверрацци Франческо (1804—1873), авторе драмы «Бе¬
лые и черные» (1825).—67.
5 См. прим. 6, стр. 439.-68.
6 «Ревю энсиклопедик»— французское литературно-политическое
обозрение, основанное в 1818 г.—68.
7 «Право» (латин.).—70.
КАРЛО БОТТА И РОМАНТИКИ
Помещенная в «Индикаторе Дженовезе» (9.VIII 1828 г.), статья
была в том же году с похвальным отзывом перепечатана флорентий¬
ской «Антологией».
В «Индикаторе Дженовезе» до закрытия его в ноябре 1828 г. Мац¬
цини писал еще: 1) о математическом и естественнонаучном обо¬
зрении, которое начал издавать редактор «Антологии» Вьессе в 1828 г.
442
КОММЕНТАРИИ
(«...системы опираются на гипотезы, а гипотез столько, сколько суще¬
ствует различий в устройстве мозга»); 2) о прозе С. Бетти, «души
наполовину греческой, наполовину римской, прочитавшей и изучившей
классиков и вынесшей из этого лишь ту пользу, что теперь она не мо¬
жет составить ни одной идеи, которую те не предвосхитили бы»;
3) об издании всеитальянского библиографического сборника («...из
этого статистического обзора интеллектуальных сил Италии можно ви¬
деть, спит она или идет вперед...»); 4) о смерти В. Монти (она напо¬
минает Маццини о другой недавней утрате, смерти Уго Фосколо, «ко¬
торый никому не уступал по остроте ума, философичности мысли и
силе выражения, и был первым по благородству сердца и свободо¬
любию»); 5) об «Истории древней и новой литературы» Ф. Шлегеля
(Вико, Гердер, А. Шлегель, Сталь, Сисмонди—«звенья одной цепи»,
сила которой во всеобщей связи, «слепой энтузиазм» Ф. Шлегеля по
отношению к средним векам ошибочен).
1 Ботта Карло Джузеппе (1766—1837)—итальянский поэт, историк,
музыкальный критик и политический деятель.—74.
«ФАУСТ»,
трагедия Гёте.
Новый полный перевод в прозе и стихах Жерара,
Париж, 1828
Это первая работа Маццини, помещенная в газете Гверрацци
«Индикаторе Ливорнезе» (май 1829), и первое в итальянской критике
исследование о «Фаусте». По мнению В. Сантоли («Stoff, Formen, Struk¬
turen», München, 1962, S. 163), критика Маццини — лучшая не только
в Италии, но и во всей Европе эпохи Реставрации.
В «Индикаторе Ливорнезе» Маццини поместил также следующие
статьи: 29.VI 1829 г.— критику на роман Дж. Берше «Фантазии» о
Ломбардской лиге («...буду считать себя последним в племени журна¬
листов, которых бичевал Витторио Альфиери, если смогу холодно по
канонам школ разбирать каждую строфу произведения, подобного
«Фантазиям»); 12.Х 1829 г.— отклик на публикацию в Лугано «Речи
к Наполеону» Уго Фосколо (Уго Фосколо «не склонился из страха
перед сильными мира сего, не соблазнился видимостью свободы; окру¬
женный людьми, которым он бросал свое обвинение, он на собствен¬
ном примере доказал, что в свободном и великом человеке есть сила
добродетели, покоряющая даже злодеев»); 25.1 1830 г.— рецензия на
поэму П. Джанноне «Изгнанник» («Религия отечества, любовь к ближ¬
ним, душевная преданность женщине выражены в его стихах... подобно
тому, как море по очереди отражает то ночной мрак, то лазурь неба...
и его поэма — зеркало его души... Намерениям нашего «Индикаторе»,
обращенного исключительно к содержанию, противны критические раз¬
бирательства в том, что касается формы»).
1 Псара — остров в Эгейском море. Миссолунги — греческий город,
в котором во время турецкой осады умер Байрон.— 82.
2 Подстрочные примечания, помеченные годом, вносились Маццини
во время подготовки Собрания его произведений. Обещание написать
о второй части «Фауста» осталось невыполненным.—92.
443
ДЖ. МАЦЦИНИ
О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Работа была помещена «Антологией» в ноябре — декабре 1829 г.
за подписью «Итальянец». Генуэзский «Лигустико» назвал статью Мац¬
цини «чудовищной»; Дж. Никколини увидел в ней «сумасбродство».
Гверрацци писал, что Маццини сделал честь «Антологии»; М. Леони
назвал его «одним из наиболее блестящих современных талантов».
Идея европейской культурной интеграции непосредственно восходит
у Маццини к учениям Данте о единстве человечества. Говоря о Евро¬
пе, Маццини, как и Гёте, имеет в виду весь мир, так как, помимо
Европы, он нигде не находит в XIX в. «деятельного жизненного начала».
1 По-видимому, Маццини передает здесь смысл нескольких извест¬
ных высказываний Гёте о европейской литературе (под которой по¬
следний подразумевал мировую литературу. «Я убежден,— писал
Гёте,— что образуется всеобщая мировая литература, в которой и не¬
мецкой литературе отведена почетная роль» («Duvals Tasse», 1827);
«Национальная литература теперь мало что значит, пришло время все¬
мирной литературы, и каждый должен теперь работать для того, чтобы
ускорить эту эпоху» (письмо к Эккерману 31.1 1827 г.). «Обетованная
всеобщая мировая литература» должна, по Гёте, выразить духовное
единство народов всей земли (см.: F. Strich, Goethe und die Welt¬
literatur, Bern, 1957,1 S. 25.). «Когда мы отваживаемся провозгласить
европейскую, да и вообще мировую литературу», это не значит, что раз¬
личные народы должны познакомиться с произведениями друг друга:
в таком смысле она существует уже давно и более или менее расши¬
ряется и обновляется. Нет! Речь, скорее, о том, чтобы живущие и
действующие литераторы узнали друг друга и благодаря симпатии
и солидарности пришли к совместной деятельности» (Werke, Abt. 2Bd
13, Weimar, 1904, S. 449). Интересно, что темы Маццини повторяются в
опубликованных лишь недавно тезисах Гёте «Эпохи общественного
образования» (1831). «I. Из более или менее грубой массы,— говорит
здесь Гёте,— выступает круг образованных людей; отношения между
ними самые интимные, доверяют только другу, поют только возлюб¬
ленной, все носит невыносимый привкус семейственности. Этот круг
замкнут в себе, что для него необходимо, так как он должен обеспе¬
чить себе существование среди грубой стихии. Он придерживается
исключительно родного языка. Эту эпоху можно назвать идиллической.
II. Тесные круги умножаются и распространяются, внутреннее общение
становится оживленнее, чужим языкам не отказано во влиянии, круги
остаются обособленными, но сближаются и предоставляют друг другу
свободу действия. Я назвал бы эту эпоху социальной или граждан¬
ской. III. Наконец, круги умножаются и расширяются до соприкосно¬
вения и слияния. Начинают понимать, что желания, намерения у всех
одни, но не могут уничтожить разделительных границ. Эту эпоху мож¬
но назвать более общей. IV. Чтобы она стала наконец всеобщей,
необходимо... объединение всех образованных кругов, которые до сих
пор лишь соприкасались, признание единой цели, убеждение в том,
как необходимо быть осведомленным о современном движении мира
в реальной и идеальной сферах. Все иностранные литературы встают
наравне с отечественной, и мы не отстаем в мировом развитии».
(F. Strich, op cit., S. 65). — 95.
2 Хуан Хинес де Сепульведа (1490?—1573)—придворный историк
Карла I и Филиппа II, пытавшийся научно обосновать право испан¬
ских королей на захват и покорение Вест-Индии.—95.
444
КОММЕНТАРИИ
3 <rЧикалаты»— распространившиеся в итальянских академиях в
XVII—XVIII вв. пестрые и нередко шутливые диспуты в порядке лите¬
ратурного упражнения.—100.
4 Арабы находились в Испании с 711 по 1492 г., с центром сначала
в Кордове, затем в Гранаде.—100.
5 Клефти — скрывавшиеся от турецких властей греческие горцы.—101.
6 Маццини говорит об «исповедании прогресса», как если бы прог¬
ресс был его религией (ср. выше, стр. 153 настоящего издания). Он не
считал себя христианином (10, 79; 12, 369) и расценивал христианст¬
во лишь как одно из откровений, «откровение индивидуальности».—104.
7 Гномы — афористические изречения у Гесиода, Фокидида, Феогни-
да, Еврипида.—107.
8 То обстоятельство, что общество есть устоявшийся продукт дол¬
гого развития, в стадиально-прогрессивистском воззрении Маццини не
только допускало, но и предполагало возможность новой перестройки
его.—107.
9 Эклектизм как систему развивал французский философ Виктор
Кузен (1792—1867), учивший о стадиальном развитии общественной
мысли. Ср. стр. 149.—110.
10 Речь идет о Петре Амьенском «Пустыннике» (ок. 1050—1115)—
французском монахе, который начиная с 1093 г. проповедовал кресто¬
вый поход на Иерусалим и сам участвовал в неудачном народном
ополчении 1096 г.—116.
11 Крещенцо Джованни — римский политический деятель конца X в.,
добивавшийся независимости Италии от германских императоров и
сосредоточивший одно время в своих руках всю власть в Риме. Был
обезглавлен Оттоном III в 998 г.—116.
12 Пандекты — составная часть римского гражданского законода¬
тельства.— 118.
13 Пьер де Брюи (сожжен ок. 1140)—ересиарх, проповедовавший
на юге Франции неподчинение церковным властям.—118.
14 Арнальдо да Брешиа (конец XI—начало XII в.)—итальянский
религиозный реформатор и политик, ученик Абеляра.—118.
15 Петр Вальдеец (Вальд)—основатель вальденской ереси (вальден-
сы), отделившейся от церкви в 1179 г. Он проповедовал отказ от
имущества, отвергал культ святых, мессу, исповедь, пост, подчинение
церковным властям, военную службу.—118.
16 Карл V (1500—1558)—император «Священной германской рим¬
ской империи», испанский король. В 1527 г. его ландскнехты разгра¬
били Рим. По Барселонскому соглашению с папой Климентом VII
Карл V получил Неаполитанское королевство и право прохода по
Папской области, за что обязался восстановить во Флоренции Меди¬
чи, неоднократно изгонявшихся оттуда республиканцами; в 1530 г.,
несмотря на долгое отчаянное сопротивление, Флоренция была взята.
Леон X— римский папа с 1513 по 1521 г., щедрый меценат и покро¬
витель гуманистов; по его инициативе Рафаэлем были расписаны
помещения Ватикана, была основана коллегия для изучения греческих
445
ДЖ. МАЦЦИНИ
древностей. Луи XIV «Великий»—король Франции с 1643 по 1715 г.—
120.
17 Луис де Гонгора (1561—1627)—виднейший поэт испанского ба¬
рокко. Гийом Дюбарта (1544—1590)—французский поэт. Джамбаттиста
Марино, или Марини (1569—1625)—итальянский поэт, писавший в
изящном и вычурном стиле.—120.
18 Фр. Бэкон.—121.
19 Делавинь Казимир-Жан-Франсуа (1793—1843)—французский поэт
и драматург, автор «Мессинских элегий» (1818), посвященных освобо¬
дительной борьбе Греции, антиклерикал. Мартинес de ла Роса (1787—
1862)—испанский политический деятель, историк и поэт, автор роман¬
тических драм на исторические сюжеты. Никколини Джованни Баттиста.
(1782—18Ы)—итальянский историк и поэт, драматург и переводчик,
сотрудник «Антологии», с подчеркнутой злободневностью писавший на
патриотические, либеральные и антиклерикальные темы.—124.
20 Хуан Мелендес Вальдес (1754—1817)—испанский поэт. Хуан Бау¬
тиста де Арруаса (1770—1837)—испанский поэт, стремившийся к идеа¬
лу естественности, гармонии и изящества. Мануэль Хосе Кинтана
(1772—1857)—видный испанский поэт.—124.
21 См. «Карло Ботта и романтики», стр. 74—76.—124.
22 Маццини говорит о цикле элегий и сонетов Огюста Барбье
(1833)—поэтическом дневнике путешествия по «увядающей» Италии.—
125.
23 По-видимому, Ж.-Ж. Руссо, который считал Макиавелли убеж¬
денным республиканцем, желавшим привлечь внимание народа к по¬
литической коррупции правителей.—126.
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
Опасение, что его идеи прозвучат слишком отвлеченно, побудило
Маццини оставить в основном повествовательный тон ранних статей,
рассчитанный на читателей из академических и литературных кругов.
После эссе «Об исторической драме» он будет уже писать в тоне про¬
поведника, отказавшегося от диалога с официальной литературой.
Статьи первая и вторая были напечатаны в «Антологии» (июль 1830
и октябрь 1831 г.) за подписью «Итальянец». Статья третья дописана
в 1847 г.
1 В письме к Шове, опубликованном в Париже (1823), Мандзони
отвергает вопрос о трех единствах в драме как несущественный в
сравнении с проблемой «истины» и отношения поэтического вымысла
к исторической действительности.—130.
2 На Альфиери большое влияние оказало изучение древнегреческого
языка и литературы.—132.
3 Здесь и ниже суждения Маццини перекликаются с аристотелев¬
ским учением (всесторонне развитым в эпоху Возрождения) о пре¬
восходстве поэтического обобщения над «историческим» описательством
(«Поэтика» IX, 23; ср. Probi. XV 9, 917 и сл.). Вместе с тем поэзия
для романтика Маццини есть уже и нечто большее, чем очищенный
446
КОММЕНТАРИИ
и идеальный образ природы; она — выражение трансцендентной жизни
личности.—140.
4 «Макбет» III 4, 13 сл.—141.
6 Маццини имеет в виду прежде всего Вольтера.—142.
6 «Каин» I 1.—147.
7 Тирабоски Джироламо (1731—1794)—литератор, историк итальян¬
ской литературы. Коппи Антонио (1783—1870)—итальянский ученый,
историк, написавший продолжение «Исторических анналов» Муратори.
Споторно Дж. (1788—1844)—генуэзский литератор, историк лигурий¬
ской литературы, профессор латинского красноречия, редактор журнала
«Лигустико».—148.
8 «Это было время,— писал Маццини в 1861 г.,— когда к нам при¬
шли из Франции долгожданные исторические лекции Гизо и философ¬
ские — Кузена, основанные на теории прогресса, которая заключает
в себе веру будущего... Позднее первый изменил своей миссии исто¬
рика, сведя историю к прославлению буржуазии, второй изменил своей
миссии философа, сведя философию к мозаике из фактов прошлого».—
149.
9 Tread-mill (англ.)—топчак, род «беличьего колеса», в котором хо¬
дили заключенные, приводя в движение машины на фабриках. Был вве¬
ден в английских тюрьмах в 1820 г.—150.
10 «От века» (латин.)—150.
11 ...начиная с двоих под Фивами...— В трагедии Эсхила «Семеро
против Фив» Этеокл и Полиник, сыновья фиванского царя Эдипа, уби¬
вают друг друга в сражении.—152.
12 Речь идет о Париде Дзайотти (1793—1843), итальянском лите¬
раторе, авторе брошюры «О романе вообще, а также об «Обрученных»
Алессандро Мандзони. Два рассуждения» (Милан, 1828). Дзайотти
находясь на государственной службе, одно время был следователем
по делу «Молодой Италии» в Милане.—154.
13 См. о нем ниже, в тексте статьи. Автор этого «Очерка» Сакки
Дефенденте (1796—1840)—итальянский романист и публицист, лите¬
ратурный и художественный критик.—154.
14 Некий «неистовый» трибунал, приводимый в пример непримири¬
мой суровости также А. Герценом.—155.
15 См. прим. 16 стр. 445.—156.
16 Торти Джованни (1774—1852)—итальянский поэт, ученик Парини,
автор «Гимна о пяти днях» на тему миланского восстания 1848 г.—
156.
17 В «Новом руководстве к сочинению комедий», утверждая право
поэта творить, как велит ему природный вкус и обычай народа, Лопе
де Вега писал: «На семь ключей законы запираю, бросаю прочь Те¬
ренция и Плавта...»—159.
18 См. прим. 19, стр. 446.—161.
19 Вите Луи (1802—1873)—французский писатель, эссеист и политик,
представитель школы «видимого» во французской литературе, один из
создателей жанра «исторических сцен».—161.
447
ДЖ. МАЦЦИНИ
20 Пет Фрасей (ум. 66)—римский государственный деятель, стоик
по философским убеждениям. Он отказался участвовать в заседании
нероновского сената и был принужден покончить жизнь самоубийст¬
вом.—172.
21 См. прим. 11, стр. 445—172.
22 После казни руководителя восстания комунеросов Хуана де Па¬
дильи в 1521 г. в обороне Толедо от королевских войск активно уча¬
ствовала его жена Мария Пачеко.—172.
23 «Ценю я честь, — бросает Перес в лицо Филиппу («Филипп»
III 5).— Но уж не жизнь. Что не омыл я руки в крови невинных —
пусть все знают это. Останься здесь кто хочет. Я же к небу взнесу
молитву: небо правду видит».—176.
24 См. прим. 19, стр. 447.—178.
25 О «неистовстве» и «безумствах» французской литературы этого
периода неоднократно писал и Белинский.—178.
МЫСЛИ О ПОЭТАХ XIX века
Опубликовано в третьем выпуске журнала Маццини «Молодая Ита¬
лия» за его подписью. Другие небольшие статьи литературного харак¬
тера, написанные Маццини в период активной деятельности организа¬
ции «Молодая Италия» (1831—1834), помимо рецензии на «Чешскую
антологию» Боуринга: 1) предисловие к «Речи о Козимо Дельфанте»
Гверрацци; 2) предисловие к речи о современной истории Греции ген.
Коллетты; 3) рецензия (1834) на книгу Ш. Дидье «Подпольный Рим».
1 Запись в дневнике Байрона 28.1 1821 г.—183.
2 Луи Фрерон, французский политик; во главе парижской «золотой
молодежи» разогнал в ноябре 1794 г. клуб якобинцев. Эти молодые
люди назывались мускадини (от названия употреблявшихся ими мус¬
кусных духов), они носили длинные напудренные волосы, огромный
лорнет, большой зеленый галстук, облегающие панталоны и имели при
себе дубинку, которую называли «исполнительной властью».—187.
3 «Иеху»—слово, придуманное Свифтом (1726) и с середины XVIII в.
вошедшее в литературный обиход в значении человека-зверя.—187.
4 Чопорное лицемерие (англ.).—188.
5 Байрон с детства восхищался Наполеоном, сожалел о его пора¬
жении, не мог понять, почему тот сдался, а не погиб на поле боя
(«Ода Наполеону Бонапарту», 1814). Современники отмечали харак¬
терное сходство между Байроном и Наполеоном. Рассказывали, что
Байрон ездил в точной копии кареты Наполеона, пытался приобрести
платье, в котором последний был коронован.—189.
6 Мемнон — сын Тифона и Авроры, которому его отец, царь Египта
и Эфиопии, воздвиг статую близ египетских Фив. Когда статуи каса¬
лись первые лучи зари, она начинала издавать гармоничные звуки, как
если бы Мемнон приветствовал свою мать.—190.
7 Последние слова Байрона перед смертью были: «Ваши старания
спасти мне жизнь напрасны. Умереть я должен: я чувствую это. Как
потерю я это не ощущаю: я и приехал в Грецию, чтобы закончить
свое тягостное существование. Свое состояние, свои способности я от¬
448
КОММЕНТАРИИ
дал ее делу. Ну вот, отдаю и жизнь». Затем, после нескольких часов
забытья: «О, мой бедный милый ребенок! Моя милая Ада!.. Моя же¬
на! Мой ребенок! Моя сестра!., вы (другу, сидевшему у постели) все
знаете... вы должны все сказать... вы знаете, чего я хочу...». В 1869 г.
Маццини писал: «Женское имя, которое я всего больше люблю — Ада;
это имя дочери Байрона» (88, 231).—190.
8 Точная цитата: — «Despair therefore and die» — «Отчайся ж и
умри («Ричард III», V 3, 120).—192.
9 Из припева «Марсельезы».—193.
10 Жанен Жюль Габриэль (1804—1874)—французский писатель,
критик и журналист, «Аретин современной французской критики» (Б е-
л и некий, Собрание сочинений в 3-х томах, т. 3, М., 1948, стр. 241).
В конце 20-х гг. примыкал к «физиологическим» романтикам «сенак-
ля»; с 1830 г. Жанен — бессменный фельетонист «Журпаль де деба».—
194.
11 Кернер Теодор (1791—1813)—немецкий поэт, погибший в сраже¬
нии с французами. Арндт Эрнст Мориц (1769—1860)—автор популяр¬
ных аитинаполеоиовских -«Песен для немцев».— 194.
12 У поэтов XIX века нашлись песни для... мальчика из Бордо...—
Речь идет об Анри де Бурбоне, герцоге Бордо (1820—1883), претен¬
денте па французский престол, вокруг личности которого сложился
культ старой монархии. Гюго посвятил ему две оды.—196.
13 Два великана магометанства — Алжир, оккупацию которого фран¬
цузы начали в 1830 г., и Турция, выступившая на стороне Алжира.—
196.
14 Речь идет о поездке Ламартина на Ближний Восток.— 197.
15 Ирнерий (1060 — ок. 1130) и Франциск Аккурзий (ок. 1180—
ок. 1260)—итальянские ученые-законоведы. Алчиати Андреа (1492—
1550)—итальянский юрист, введший научные методы разработки юри¬
дических вопросов.—199.
16 Беккариа Чезаре (1738—1794)—итальянский просветитель, теоре¬
тик уголовного права, сотрудник журнала «Кафе». Филанджери Гаэ¬
тано (1752—1788)—итальянский ученый, юрист и мыслитель, автор из¬
вестной в свое время книги «Наука законодательства».—199.
17 Джованни Прочида (ок. 1215—1298)—сторонник Манфредов в
Сицилии; согласно легенде, организатор Сицилийской вечерни.—199.
18 7 апреля 1167 г. в Понтиде представители коммун Бергамо, Бре¬
шии, Кремоны, Мантуи и Милана поклялись в союзе, заключив так
называемую Ломбардскую лигу против императора Священной Римской
империи Фридриха Барбароссы. Объединенными силами итальягских
городов император был разбит при Леньяно 29 мая 1176 г.—200.
ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА БОГЕМИИ
Рецензия на «Чешскую антологию» видного фольклориста Боурии-
га была опубликована без подписи в IV выпуске (1833) «Молодой Ита¬
лии» в разделе «Разное». У нас переведено около половины этой
статьи, кончающейся призывом к борьбе славянских народов против
Австрийской империи.
15-6342
449
ДЖ. МАЦЦИНИ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
К ИТАЛЬЯНСКОМУ ПЕРЕВОДУ
«ЧАТТЕРТОНА»
АЛЬФРЕДА ДЕ ВИНЬИ
Драма А. де Виньи «Чаттертон», с успехом поставленная в Париже
в начале 1835 г., сразу же привлекла внимание Маццини. Едва она
была получена в конце марта того же года в Берне, жившие там Мац¬
цини, Агостино и Джованни Руффини перевели ее на итальянский язык
и 13 апреля отправили в Геную для публикации без подписи перевод¬
чиков. Маццини перевел третий акт, предисловие де Виньи, а также
написал данную «Вступительную статью». Цензурные промедления, за¬
тем холера в Генуе задержали напечатание до декабря.
1 «Ночь» — скульптурная аллегория Микеланджело над гробницей
Джулиано Медичи во Флоренции. К ней имеется четверостишие ху¬
дожника: «Мне дорог сон, а больше — быть из камня, пока длятся
беда и позор. Не видеть, не чувствовать для меня — великое счастье,
поэтому не будите меня; о, говорите тише!».—203.
2 Чаттертон Томас (1752—1770)—английский поэт. В 1768 г. выпус¬
тил сборник стихов в подражание средневековой поэзии. Спустя два
года отравился в Лондоне, не вынесши бедности.—204.
3 «Вот что значит быть одним, вот, вот одиночество» (англ.).—206.
4 Торквато Тассо с 1579 по 1586 г. содержался в госпитале-тюрь¬
ме св. Анны в Ферраре.—206.
5 Жильбер. — Речь идет о Лоране Никола Жозефе (1750—1780),
французском сатирике и одописце, сыне крестьянина. Вокруг него сло¬
жилась легенда «несчастного поэта», которую утверждали А. де Виньи
(«Стелло») и Э. Моро, изобразившие его трагическую голодную
смерть.—207.
6 Абель Нильс Хенрик (1802—1829)—великий норвежский матема¬
тик, открывший эллиптические функции и интегралы, носящие его имя.
При жизни оставался непризнанным.—207.
ПРЕДИСЛОВИЕ
К ЛИТЕРАТУРНОМУ ЖУРНАЛУ
«ИТАЛЬЯНО»
В 1835 г. Маццини делает безуспешные попытки издавать в Генуе
или хотя бы в итальянской типографии в Лугано «Журнал европей¬
ской литературы», или «Журнал иностранной драмы», составляет на¬
бросок программы. В начале 1836 г. Аккурси основывает в Париже
литературный журнал на итальянском языке и приглашает Маццини
участвовать в нем. «Предисловие к литературному журналу», развер¬
тывающее положение упомянутого наброска, помещено в № 1
«Итальяно».
1 «Рассуждение о тексте Комедии Данте» I.—211.
2 Речь идет о подражательном романтизме позднего периода.—214.
3 «Материализм», по Маццини, утвердился в итальянском искусстве
с потерей итальянскими государствами независимости в XVI—
XVII вв.—214.
450
КОММЕНТАРИЙ
4 Речь идет о мадам де Сталь и ее книге «О Германии» (1810).—
217.
5 По Маццини, христианство внесло в мир напряженный дуализм
добра и зла, внутреннего и внешнего, бога и личности, рода и инди¬
вида, тайну борьбы между которыми надлежит разгадать человечест¬
ву.—217.
6 Редгонтлет — герой одноименной истории в письмах В. Скотта. —
218.
7 Маццини разбирает это стихотворение Гюго в большой рецензии
на книгу его стихов «Внутренние голоса». «Сами небеса,— пишет он,—
погружались для поэта в темноту, бог тускнел перед его измученной
сомнениями душой».—220.
8 См. об итальянских мыслителях XVI в. стр. 312.—224.
9 В своем убеждении, что из всех великих итальянцев «не был со¬
вращен» корыстью и политическим расчетом лишь Данте, Маццини
следует за Альфиери и Фосколо.—225.
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ
Как можно судить по письмам, Маццини подготовил эту работу
в конце 1835 г. по заказу для напечатания в Италии. Очевидно, послед¬
нее оказалось невозможным, и статья была помещена во 2—4 выпусках
«Итальяно» (1836).
1 Дуэт из оперы Доницетти «Марино Фальеро».—229.
2 «Божественная комедия», I 3, 21—26.—236.
3 Речь идет о балладе Г. А. Бюргера «Ленора».—236.
4 Итальянская опера конца XVIII — начала XIX в. страдала от за-
силия певцов, демонстрировавших свои вокальные данные в ущерб дра¬
матической цельности. Дело доходило до того, что в конце арий акте¬
рам оставляли двадцать тактов для импровизированных фиоритур.
Некоторые музыкальные критики, например Б. Марчелло, боролись про¬
тив этой «тирании певцов».—236.
5 См. прим. 3, стр. 442.—236.
6 То, что под «музыкой» Маццини понимает здесь прежде всего
оперу, объясняется безусловным преобладанием последней в итальян¬
ской музыкальной жизни конца XVIII и первых десятилетий XIX в.—
236.
7 Исторические хроники сообщают, что Хлодвиг обращался к коро¬
лю Теодориху в Италию с просьбой о присылке специалистов игры
на цитре.—239.
8 Берлиоз написал в Риме сценическую кантату «Лелио, или Возвра¬
щение к жизни» (1832), продолжение «Фантастической симфонии».—
239.
9 Гулъелъми Пьетро Алессандро (1728—1804)—весьма известный в
конце XVIII в. итальянский композитор. Пиччинни Никола ( 1728— 1800) —
итальянский композитор, с 1776 г. жил в Париже, где создал пятнад¬
цать опер.—248.
15* 451
ДЖ. МАЦЦИНИ
10 Гвиттоне д’Ареццо (1230—1294)—представитель старшей тоскан¬
ской лирической школы.—248.
11 Увертюра или, как выражались итальянцы, «симфония», во вре¬
мена Маццини была слабо связана с остальной оперой. Нередко одна
и та же увертюра переходила из одной оперы в другую.—251.
12 Бертрам — действующее лицо оперы Мейербера «Роберт-Дья-
вол».—253.
13 Романы Фелине (1788—1865)—итальянский писатель и поэт, автор
либретто для опер Беллини, Доницетти, Меркаданте, Мейербера (всего
им создано более ста либретто).—257.
14 Беллини умер в ночь с 23 на 24 сентября 1835 г. в возрасте
33 лет.—258.
15 Дуэт из оперы Беллини «Пират» (1827).—258.
16 Отрывок от слов «Место Доницетти...» до слов «...поистине желал
этого» (стр. 259—263) Маццини не включил в издание 60-х гг., после
смерти Доницетти.—259.
17 Перечисляются в порядке создания (соответственно 1822, 1830,
1832, 1833, 1835 и 1836 гг.) некоторые из 64 опер Доницетти.—260.
18 Генрих VIII — персонаж оперы Доницетти «Анна Болейн».— 260.
19 Иванов Николай Кузьмич (1810—1880)—русский певец (тенор),
в 1830 г. посланный для усовершенствования в Италию и с успехом
выступавший в столичных театрах Европы.—261.
О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ
После перевода «Чаттертона» на очередь встали другие произведе¬
ния задуманной Маццини драматической серии: «Анжело, тиран паду-
анский» В. Гюго, «Гёц фон Берлихинген» Гёте, трилогия «Валленштейн»
Шиллера, «Вернер» Байрона, «Двадцать четвертое февраля» 3. Верне¬
ра, «Праматерь» Ф. Грильпарцера. Однако генуэзская цензура, очень
долго продержавшая перевод «Анжело» с предисловием Маццини, сдела¬
ла в нем такие купюры, что тот отказался от идеи выпускать «Дра¬
матическую библиотеку» в Италии. Драма «Двадцать четвертое февра¬
ля» в переводе Дж. Руффини с предисловием Маццини «О роке как
элементе драмы» вышла уже в Брюсселе (1838). Для этого издания
Маццини написал также обширные биографические «Заметки о Вер¬
нере».
В Швейцарии (1834—1836) Маццини написаны помимо того следую¬
щие работы литературного характера: 1. Уже упомянутые «Заметки
о Вернере» (подробная биография; вместе с веком «ища бога», Захария
Вернер перешел в молодости от нравственной анархии к теософии,
культу едва брезжущих идей, мистицизму; Вернер был убежден,
что он не поэт, а пророк; главная его мысль — «растворение я в бес¬
конечности»; 2. «Виктор Гюго» (Гюго — «заходящая звезда»; но дыха¬
ние вселенской жизни иногда еще чувствуется в «Осенних листьях»;
«выражение — а под выражением я всегда понимаю не только язык
и стиль, но все, что придает свет и выпуклость идеям и образам
поэта,— стремительно, возбужденно, почти всегда великолепно и чудо¬
действенно у Гюго... но он как бы хочет скрыть за ним отсутствие
452
КОММЕНТАРИИ
социальной мысли»); 3. Критический разбор пьесы Гюго «Анжело, ти¬
ран падуанский» (подзаголовок—«Долг и задачи критики»: «Почему
истинно великие художники, Эсхил, Шекспир, Шиллер, Гёте, до сих
пор не стали предметом глубокого эстетического анализа, освещенного
единым основополагающим синтезом? Почему на нашей земле, колы¬
бели драмы, молодежь все еще обречена воспитываться на нелепых
теориях французов — Д’Обиньяка, Баттё и Лагарпа или на чисто ху¬
дожественном, не имеющем социальной цели романтизме немца А. Шле-
геля»?).
1 Из предисловия 3.. Вернера к немецкому изданию драмы «Двад¬
цать четвертое февраля».—265.
2 Ср. «Божественная комедия», I 28, 109; 33, 149.—266.
3 В «Заметках о Вернере».—266.
4 Имеется в виду Хитциг, как и Вернер, близкий к Гофману.—266.
5 «Бог отмщений» (Псалтирь 93, I).—266.
6 Мюлльнер Адольф (1774—1829)—немецкий писатель, драматург и
критик, в подражание 3. Вернеру написавший по канонам «трагедии
рока» одноактную пьесу «Двадцать девятое февраля» (1816). Франц
Грильпарцер (1791—1872)—австрийский драматург.—268.
7 Де Местр Жозеф (1753—1821)—французский философ-католик и
писатель, с 1802 по 1817 г. посланник Сардинии в Петербурге; в своей
книге «Санкт-Петербургские вечера, или Беседы о мирской власти
Провидения» (1821) он рассматривает историю человечества как тво¬
римую на земле жертву богу.—269.
8 Гнев жрецов против Эсхила, по Аристотелю, был вызван тем, что
Эсхил разгласил элевсинские тайны («Никомахова этика», III 2, 1111а
7—11).—273.
9 Власть и Сила — действующие лица трагедии Эсхила «Прикован¬
ный Прометей».—275.
10 В отличие от Демокрита, учившего о прямолинейном движении
атомов, Эпикур ввел понятие их «склонения», что привносило в кар¬
тину мира элемент произвола.—276.
11 Маццини имеет в виду детерминизм Гоббса. «В желающем уже
присутствует причина желания,— пишет Гоббс,— так что желание не
может не последовать, то есть оно следует по необходимости. Свободы,
которая была бы свободна от необходимости, не может быть ни у лю¬
дей, ни у зверей» (De согр. IV 25, 13).—279.
12 «Макбет» II, 1, 38.—279.
?3 «Макбет» V, 5, 24 сл.—280.
14 <гАталия»—трагедия Расина. «Сид»—трагикомедия Корнеля.—282.
15 Прометей, по Эсхилу, хранит тайну богов и не выдает ее.—284.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
Это — первая литературная работа Маццини, опубликованная в
Англии (1838).
453
ДЖ. МАЦЦИНИ
1 О революции 1831 г. в Центральной Италии см. стр. 11.—290.
2 Маццини говорит о казнях членов «Молодой Италии» в 1833 г.—
290.
3 Если движение 1831 г. довольствовалось неопределенной либе¬
ральной программой, то «Молодая Италия» ставила перед собой конк¬
ретные цели объединения, требовала провозглашения республики, на¬
родной власти.—290.
4 Монти Винченцо (1754—1828)—итальянский поэт, филолог и поли¬
тический деятель. В 1817—1826 гг. вел полемику против пуризма Ака¬
демии делла Круска в защиту общелитературного языка.—292.
5 Ролли Паоло (1687—1765)—итальянский поэт-аркадик, филолог,
издавший в Англии Ариосто, Боккаччо, Гварини. Переводил на италь¬
янский язык Мильтона. Лаццарини Доменико ( 166&—1734)—итальян¬
ский ученый — юрист, филолог, поэт и драматург. Дзанотти Франческо
Мария (1692—1777)—итальянский философ, литературовед и- поэт.—
293.
6 Этот станс Мандзони был надписью на портрете Монти, распро¬
страненном в Милане по смерти последнего.—294.
7 Аричи Чезаре (1782—1836)—итальянский поэт, в творчестве кото¬
рого преобладали идиллические и дидактические мотивы.—294.
8 «Бард Черного леса»—полиметр В. Монти, посвященный Напо¬
леону (1806).—296.
9 Витторелли Якопо (1749—1835)—итальянский поэт, последний пе¬
вец аркадской школы. Метастазио Пьетро (1698—1782)—итальянский
поэт и драматург, верный настроениям аркадики и просветительства.
Фругони Карло (1692—1768)—поэт-аркадик, имя которого стало сим¬
волом помпезности и пустоты.—297.
10 См.: F. Arrivabene, Le secolo di Dante, Firenze, 1830.— 297
11 Тройя Карло (1784—1858)—неаполитанский историк, либерал, вы¬
сланный после неаполитанской революции 1820 г., автор «Истории Ита¬
лии в средние века», исследований «Аллегорическая борзая Данте»
(1825), «Аллегорическая борзая гибеллинов». Образ «борзой», которая
прогонит «ненасытную волчицу», Тройя связывал с освободительными
мечтами поэта.—297.
12 См. стр. 461.—298.
13 Эта ода неизвестного автора перекликается с картиной смерти
Наполеона II у Маццини («Мысли о поэтах XIX в.»).—301.
14 «Божественная комедия» I 9, 82.—305.
15 Боровшиеся между собой в XIV—XV вв. аристократические фа¬
милии. — 306.
16 Северный дьявол — Австрия.—307.
17 Эпаминонд (IV в. до н. э.)—фиванский полководец и государст¬
венный деятель, погибший в 362 г. в сражении с лакедемонянами-
307.
18 Кай Марий (157—86 до н. э.)—римский полководец, прославив¬
шийся победой над вторгшимися в Италию тевтонами и кимврами в
102 г.—307.
454
КОММЕНТАРИИ
19 См. прим. 19, стр. 446.—307.
20 Маренко Карло (1800—1846)—итальянский драматург, близкий к
С. Пеллико, писавший в романтическом стиле на средневековые те¬
мы.—307.
21 Розини Джованни (1776—1855)—тосканский романист и поэт,
профессор красноречия Пизанского университета.—308.
22 Варезе Карло (1792—1866)—итальянский историк и романист.—
308.
23 Дель Верри Милано — малоизвестный итальянский литератор.—
308.
24 «Красноречие идет от сердца» (латин.).—309.
25 Джордани Пьетро (1774—1848)—итальянский литератор — 309.
26 Г рас си Джузеппе (1779—1831)—итальянский критик, филолог,
лексикограф, издатель «Военного словаря» (1817).—309.
27 «Пишется для повествования» и «пишется для доказательства».
(латин.).—310.
28 «История Италии, продолжающая Историю Гвиччардини до
1789 г.» Карло Ботта вышла в 1832 г.—311.
29 Лерминье Жан-Луи-Эжен (1803—1857)—французский публицист,
в 1820-х гг. сотрудник «Глоб», автор книг по истории философии и
права.—312.
30 Телезио Бернардино (ок. 1509—1588)—итальянский философ и ес¬
тествоиспытатель, автор девятитомного труда «О природе вещей сооб¬
разно их естественным принципам», где он отвергает априоризм, дедук¬
цию, авторитет, традицию и взывает к «непосредственному» чувствен¬
ному опыту. Вместе с тем Телезио исповедовал тождество ощущения
и разума, материи и души (гилозоизм), нравственных норм и
жизненной практики, в чем оказал значительное влияние на Кампанел-
лу.—312.
31 Если католические историки не признавали за язычеством осмыс¬
ленной,· «светлой» истории, то для Маццини человечество прогрессиру¬
ет непрерывно со времени его возникновения, и христианство — лишь
ступень этого развития (10, 79).—313.
32 Амброзоли Франческо (1797—1868)—итальянский литератор и фи¬
лолог, выступал в «Итальянской библиотеке» против романтизма, од¬
нако позднее сам примкнул к нему.— 313.
33 Академия делла Круска — возникшее в XVI в. во Флоренции ли¬
тературно-лингвистическое общество, цель которого, в соответствии с
уставом 1819 г.,—«занятия, относящиеся к тосканскому языку».—313.
34 Берше Джованни (1783—1851)—итальянский романтик, поэт и ре¬
волюционер, с 1821 по 1848 г. эмигрант.—314.
35 Джанноне Пьетро (1792—1872)—итальянский поэт-романтик и
патриот.—314.
36 Россетти Габриэль (1783—1854)—итальянский поэт и импровиза¬
тор; в 1821 г. был вынужден эмигрировать на Мальту, а затем в
Англию, где преподавал итальянский. В поэзии Россетти — аркадик с
455
ДЖ. МАЦЦИНИ
элементами романтизма. Ему принадлежит несколько критических ра¬
бот, в том числе «Беатриче Данте» (1842).—314.
37 Пиструччи Бенедетто (1784—1855)—резчик по металлу и ювелир,
с 1814 г. живший в эмиграции.—314.
38 Пассерини Джамбаттиста (1793—1864)—итальянский социальный
философ, левый гегельянец, склонный к утопическому коммунизму,
с 1823 г. эмигрант в Швейцарии, издатель «Города солнца» Кампанел-
лы, переводчик Гегеля, Шмидта, Фихте.—314.
39 Угони Камилло (1784—1855)—итальянский филолог, публицист и
переводчик; в связи со своей общественной деятельностью был вынуж¬
ден эмигрировать.—314.
40 Томмазео Никколо (1802—1874)—итальянский писатель и фило¬
лог, с 1826 г. сотрудник «Антологии», с 1834 г. в добровольной эмигра¬
ции. По возвращении в Италию министр просвещения в Венеции (1848),
затем вновь в эмиграции до 1854 г.—314.
41 Скальвини Джовита (1791—1843)—итальянский поэт и патриот,
подражатель Монти и Фосколо. С 1821 по 1839 г. жил в изгнании
в Лондоне, Франции и Бельгии; изучал творчество Гёте и перевел в
1835 г. первую часть «Фауста».—314.
42 Бьянки-Доковини Аурелио (1799—1862)—итальянский патриот и
видный журналист, историк культуры, автор «Биографии фра Паоло
Сарпи» (1846).—314.
поэзия. — искусство
Статья была написана на французском языке и помещена в «Нась-
ональ» 19.Х 1837.
1 Леру Пьер (1797—1871)—французский социалист, писатель и пуб¬
лицист, сотрудник «Глоб».—317.
2 Обостренный спиритуализм Маццини, по сути дела, не допускал
телесного выражения божественного начала на земле, отсылая воз¬
можность этого в будущее («драма будущего», «грядущий гений» и
т. д.).—318.
ОТРЫВОК НЕИЗДАННОЙ КНИГИ
ПОД НАЗВАНИЕМ
«ДВА ЗАСЕДАНИЯ
АКАДЕМИКОВ-ПИФАГОРЕЙЦЕВ»
Наброски этого «Отрывка» встречаются уже в черновиках Маццини
1829 г., хотя впервые он был опубликован лишь в 1839 г. в туринском
«Субальпино» Элиа Бенца. В 1849 г. Маццини поместил его в «Италиа
дель пополо».
1 В миланских «Анналах наук и искусств» Уго Фосколо поместил
в 1810 г. «Отрывок неизданной книги под названием «Отчет об одном
заседании Академии пифагорейцев». У Фосколо эта «Академия» (кото¬
рая не ведет архива, допускает всех, предпочитая, однако, неграмотных
как более правдивых, рассматривает что придется, на следующий день
забывает обо всем и считает вопрос исчерпанным, когда все начинают
хохотать) якобы обсуждала на заседании 15 мая 1810 г. клеветничес¬
456
КОММЕНТАРИИ
кую статью одного миланского литератора. Таким образом, «Отрывок»
Маццини задуман как продолжение «Отчета» Фосколо. — 321.
2 Речь идет о романтизме.—322.
3 Посылая свою рукопись Элиа Бенца, Маццини писал: «Говоря о
пятидесяти страницах романа и т. д., я имел в виду не все то, что
есть прекрасного в «Обрученных» и других романах Маидзони, но то,
что написано им в романтическом духе и не заимствовано у старой
школы» (16, X).—322.
4 Эта и другие воображаемые «теории» воображаемого Президента
Академии пифагорейцев приводятся в «Отчете» Фосколо.—323.
5 «Некоторые свои теоретические идеи,— писал Маццини Элиа Бен¬
ца,— я заставляю излагать «седого»; возможно, благодаря форме их
станут читать».—323.
6 «Первое послание Иоанна» I, 1—2. У Фосколо это эпиграф его
«Отчета».—324.
7 «Все подлежит восстановлению от первых оснований» (латин.).—
324.
8 По-видимому, Маццини говорит о В. Монти.—325.
9 Маццини вспоминает здесь, в частности, Ч. Аричи, дидактического
поэта, автора стихотворных сборников «Пасторали» (1814) и «Обра¬
ботка олив» (1805).—326.
10 См. прим. 9, стр. 454.—326.
11 См. прим. 18, стр. 449.—328.
12 Карроччо — применявшаяся в средневековых армиях тяжелая ко¬
лесница со знаменами и крестом, запряженная несколькими парами
волов.—328.
13 Это место, как и миогие подобные, было изъято пьемонтской цен¬
зурой в публикации 1839 г.—329.
14 Бонди Клементе (1742—1821)—итальянский поэт и филолог, ие¬
зуит.—331.
15 См. прим. 31, стр. 455.—333.
16 «Что смогут вынести плечи» (Гораций, Наука поэзии, 3&—
40).—334.
17 Ульпиан (170—228)—римский ученый-юрист, теоретик естествен¬
ного права. См. также прим. 15, стр. 449—335.
БАПРОН И ГЕТЕ
Написано по-французски (с английскими цитатами) между 3 и 18
июля 1839 г. для августовского номера «Мансли кроникл». Тема Бай¬
рона, «безнравственного поэта», была встречена редакцией неохотно.
Рукопись оставалась на руках у Маццини до февраля 1840 г., когда
он послал ее Э. Бенца, чтобы тот поместил ее в туринском «Субаль-
пино». Маццини не знал, что «Субальпино» находился под угрозой
закрытия за публикацию «Отрывка неизданной книги». Э. Бенца сохра¬
нил рукопись Маццини и после его смерти сдал ее в Гражданский му¬
зей в Генуе.
457
ДЖ. МАЦЦИНИ
1 Байрон и Гёте обменялись в 1820-х годах несколькими дружест¬
венными письмами.—338.
2 Бёрне Людвиг (1786—1837)—немецкий публицист; проповедовал
подчинение литературы политическим целям и с этих позиций осуждал
Гёте.—338.
3 Жизнь жизни (англ.).—341.
4 Не склонятся ни перед одним (англ.).—342.
5 Опираются на свою силу (англ.).—342.
6 «Манфред» III, 4.—342.
7 У Байрона Манфред отказывается встать на колени перед Ари-
маном («Манфред» II, 4) и Каин отказывается поклониться Люциферу
(«Каин» I, 1).—342.
8 «Манфред» III, 4.—342.
9 Опьяненная вечность (англ.).—343.
10 Разрушители самих себя (англ.).—343.
11 Они жаждут, они жаждут добра (англ.).—343.
12 Хотя некоторые из высказываний Гёте (само по себе религиоз¬
ное настроение даст несовершенное произведение искусства; чистая ре¬
лигиозность идет вразрез с истинным изобразительным искусством; по¬
литика напоминает ворочанье больного на постели в поисках удобного
положения; «коль скоро поэт захочет иметь политическое влияние, он
должен пристать к какой-нибудь политической партии, а только он это
сделает, то и погибнет как поэт») можно истолковать в смысле при¬
водимой у Маццини мысли Гёте, взгляд последнего на религию был
более сложен: «Люди лишь постольку способны творить в поэзии и
искусстве, поскольку они еще религиозны» (письмо Римеру, июль
1810 г.); «Искусство покоится на своего рода религиозном чувстве,
на глубокой и непоколебимой серьезности; поэтому оно и соединяется
так легко с религией» («Максимы и рефлексии», 1807).—346.
13 «Искусство и старина». Понимание красоты у Гёте было, однако,
более глубоким: «Прекрасное есть проявление тайных законов природы,
которые без него навсегда остались бы для нас скрытыми» («Максимы
и рефлексии», 1803).—347.
14 Гёте относился к Данте «с похвалой и одобрением» («Путешест¬
вие в Италию», 17.V 1787), хотя пространственное расположение дан-
товского Ада оскорбляло его эстетическое чувство, а в образе Чисти¬
лища он видел более риторики, чем поэзии («Данте», 1826). Гёте го¬
ворил об «отвратительном, часто ужасном величии» Дайте («Анналы»,
1821).—348.
15 Ср. прим. 5, стр. 448.—349.
16 «Да, я могу сказать,—записал Эккерман слова Гёте 9.Х 1828 г.,—
что я только в Риме ощутил, что такое, собственно, человек. Такой
высоты, такого блаженства переживания я уже больше никогда не
достигал».—349.
17 «Путешествие в Италию», октябрь 1787 г.—349.
458
КОММЕНТАРИИ
18 «Мое проклятье прощеньем будет» («Странствия Чайльд Гароль¬
да» IV, 135).—349.
19 «Я не могу слышать слова «Клер» без сердцебиения даже те¬
перь»,— писал Байрон в «Разрозненных мыслях» уже в Равенне. Клер
был другом Байрона по колледжу Харроу.—353.
20 См. прим. 1, стр. 448.—354.
21 Запись в дневнике 2.1 1821 г. по поводу революционного движе¬
ния в Италии.—354.
22 В Италии Байрон сблизился с карбонариями; однажды он пред¬
ложил свой дом для обороны повстанцев. «Если бы только Италия
могла быть освобождена! Чем не пожертвуешь, чтобы осуществуть эту
мечту, покончить с этой вековой скорбью!» (Дневник, 26.1 1821 г.). «Не
важно, кто и что будет принесено в жертву, лишь бы Италия была
свободна. Это великая цель — истинная поэзия политики» (Дневник,
18.11 1821 г.).—354.
23 Вечный дух раскованного разума (англ.).—354.
24 В переводе В. Луговского: «Но не изменится душа, бессмертной
твердостью дыша, и чувство, что умеет вдруг в глубинах самых горь¬
ких мук себе награду обретать, торжествовать, и презирать, и Смерть
в Победу обращать». — 354.
25 Сам Маццини выучил в молодости английский, чтобы читать
Байрона в оригинале.—355.
26 Казобон Исаак (1559—1614)—кальвинистский гуманист и тео¬
лог.—355.
ДАНТЕ
Маццини читал лекции о Данте в организованной им вечерней шко¬
ле для итальянских рабочих в Лондоне. Статья, включающая, по-види¬
мому, материал одной из лекций, была помещена Маццини в «Апосто-
лато пополаре» (1841, сентябрь).
1 «Новая жизнь», 42.—359.
2 «Божественная комедия» II 5, 91 сл., ср. I 22, 4—5.—359.
3 Принципиальная разница между «белыми» и «черными» гвельфами
трудноуловима. Можно считать, что «белые» тяготели к аристокра¬
тическому самоуправлению и независимости, а «черные» были склонны
держаться папы и французского короля.—359.
4 Карл I Французский, граф Валуа (1270—1325),— приглашенный па¬
пой Бонифацием VIII, в 1301—1303 гг. совершил военную экспедицию
в Италию, сыграв важную роль в «черном» перевороте во Флоренции.—
359.
5 Бонифаций VIII (Бенедетто Каэтани)—римский папа с 1294 по
1303 г.—359.
6 Канте Габриэлли из Агоббио, назначенный подестой Флоренции
в смутный 1301 г., подписал 27 января 1302 г. приговор, в котором
Данте и несколько других лиц без доказательств обвинялись в прода¬
же должностей, обмане, вымогательстве, взяточничестве, возмущении
против папы и т. д., причем «чтобы они пожали плоды посеянной
459
ДЖ. МАЦЦИНИ
жатвы сообразно качеству семени», их присуждали к штрафу в 5 ты¬
сяч малых флоринов, «возмещению причиненного ущерба», а в случае
неповиновения — к конфискации и «разграблению» имущества; их име¬
на на вечный позор записывались в статуты города, и им категорически
запрещалось занимать какие-либо общественные должности.—360.
7 В 1967 г. во Флоренции состоялся пересмотр решения суда над
Данте 1302 г. Данте был полностью оправдан («Il processo di Dante»,
Firenze, 1967, pp. 16, 18).— 360.
8 10.111 1302 г. последовал второй приговор за подписью того же
Канте Габриэлли. Данте, в числе других, изгонялся из коммуны Фло¬
ренции, а за неявку в суд приговаривался в случае поимки к сож¬
жению.—360.
9 «Божественная комедия» III 17, 69. В переводе Лозинского: «ос¬
тался сам себе клевретом». См. также ниже, прим. 14.—360.
10 См. прим. 6, стр. 439.—361.
11 См. там же.—361.
12 «Пир» IV 4.—362.
13 «Пир» IV 5.—362.
14 «Божественная комедия» III 17, 61—69. Главная горечь жизни
в эмиграции, по Данте,— от глупости и злобы эмигрантского обще¬
ства.—363.
15 Вероятно, Маццини имеет в виду 1310—1311 гг., когда вступле¬
ние Генриха VII в Италию заронило у Данте надежду на установле¬
ние единства и мира.—363.
16 «Божественная комедия» III 17, 58—60.—363.
17 Там же, II 24, 76—78.—363.
18 Там же, III 26, 85—87.—363.
19 Это место письма Данте, переведенного у нас с латинского ори¬
гинала, в переводе Маццини на итальянский звучит так: «...чтобы он,
наподобие какого-нибудь жалкого бумагомараки или другого бесслав¬
ного и пустого человека». Кто в точности был Чоло, о котором говорит
здесь Данте, неизвестно. Некоторые считают, что это — Чоло Абати,
эмигрант, упоминаемый в так называемой «Реформе мессера Бальдо
д’Агульоне» 1313 г. вместе с Данте как лицо, не подпавшее амнистии.
По другим мнениям, Чоло был знаменитый во Флоренции преступник,
заслуживший прощение публичным покаянием.—365.
20 Возможно, Маццини было известно, что гробница Данте в Равен¬
не пуста. Этот факт был обнародован лишь в 1865 г., но тогда же
были обнаружены и останки Данте в другом месте того же кладби¬
ща.—365.
21 Боккаччо пишет («Жизнь Данте», 26), что кардинал Поджетто
(Бертран дю Пуже, которого назначил кардиналом его дядя, папа
Иоанн XXII в 1316 г.) публично приговорил к сожжению «Монархию»
Данте как еретическое произведение и готов был сделать то же самое
с останками Данте, если бы ему не помешали (Ср. У. Фосколо,
Рассуждение о тексте «Божественной комедии» Данте, 13).—365.
4Ш
КОММЕНТАРИИ
22 Эпизод рассказан Боккаччо. Пребывание Данте в Луниджиане,
по крайней мере осенью 1306 г., документально подтверждено. Но и
здесь нашлись исследователи, объявившие весь эпизод риторической
выдумкой Боккаччо (G. В i 11 а η о v i с h, La leggenda dantesca del Boc¬
caccio, «Studi Danteschi», XXVIII, 1949)—366.
КОММЕНТАРИИ ФОСКОЛО
К «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ
Еще из Генуи (до 1830 г.) Маццини писал английскому издателю
и книготорговцу Пикерингу с просьбой продать купленные тем в свое
время у У. Фосколо рукописи комментария к «Божественной коме¬
дии». В Лондоне Маццини посетил Пикеринга, который запросил
400 фунтов стерлингов. Мысль о бумагах Фосколо, «пылящихся на
полках английского книготорцовца по нерадивости итальянцев», не да¬
вала покоя Маццини. Объявленная Маццини в октябре 1840 г. под¬
писка дала возможность выкупить рукопись, и в 1842—1843 гг. в италь¬
янской типографии Роланди в Лондоне вышла «Комедия Данте
Алигьери, объясненная Уго Фосколо» в виде четырех аккуратных то¬
мов среднего формата, прекрасной печати. Материально издание было
с самого начала убыточным для Маццини, который, впрочем, и не думал
о выгоде. Первый том, помимо данного предисловия (стр. III—XXX,
за подписью «Итальянец»), содержал «Рассуждение о тексте поэмы
Данте» Фосколо; второй том включал «Ад» с комментариями Фосколо
и два письма Данте. В третий том вошли «Чистилище» и «Рай» без
комментариев с сопоставлением вариантов, выполненным в значитель¬
ной степени самим Маццини (комментарии Фосколо покрывали пол¬
ностью лишь весь «Ад»). В четвертый том вошли «Хронология собы¬
тий» с цитатами из произведений Данте, «Замечания» о 200 различ¬
ных списках «Комедии» и ее изданиях, указателях и словарях.
1 Пелли — малоизвестный итальянский литератор.—367.
2 См. прим. 9, стр. 460.—368.
3 Причисляя Пифагора к «итальянской школе», Маццини имеет в
виду прежде всего черты пифагорейства, свойственные ему самому:
нравственно-эстетический ригоризм, представление о живом космосе,
требование единства, идея центрального очага в физическом и нрав¬
ственном мире.—369.
4 Ср. стр. 312.—369.
МАКИАВЕЛЛИ
Поводом для этой статьи, которая была помещена в «Европейском
вестнике» (французском бюллетене, издававшемся в Лондоне), послу¬
жила прочитанная в Лондоне в октябре 1842 г. лекция Гонсалеса, по¬
литического эмигранта из Мантуи и близкого знакомого Маццини.
1 Современные исследователи склоняются к положительной нравст¬
венной оценке Макиавелли и его учений. По мнению Б. Кроче, перед
лицом «столь явных свидетельств суровой и скорбной совести вызы¬
вает удивление, как можно было столько болтать о безнравственности
Макиавелли» (ср.: А. Р a s е г i n d’E n t г è v е s, Dante politico e altri
saggi, Torino, 1955, pp. 129, 139).— 372.
461
ДЖ. МАЦЦИНИ
2 Флоренция.—372.
3 «Величию такого имени недостаточна никакая похвала» (латин.).—
372.
4 Шоппиус (Шопп) Гаспар (1576—1649) —немецкий ученый-грамма¬
тик и филолог-классик.—373.
5 Макиавелли написаны три комедии, из них известнейшая — «Манд¬
рагора» (1520).—373.
6 Нечто подобное сказал, уже в наши дни, Дж. Уокер в предисло¬
вии к своему переводу «Трактатов» Макиавелли на английский язык:
«Если я, иезуит, перевел «Трактаты», то может показаться, будтб
я одобряю все, сказанное в них Макиавелли, включая знаменитый
принцип, что цель оправдывает средства, принцип, в котором часто
обвиняют орден, к которому я принадлежу, но с которым на самом
деле этот орден всегда боролся... Я отвергаю целиком это учение...
как крайне гибельное» («The Discourses of Machiavelli, translated from
the Italian by L. Y. Walker», London, 1950).— 373.
7 To, что «Государь» прошел во Флоренции почти незамеченным,
объяснялось репутацией Макиавелли как эксцентрического человека, от
которого можно ожидать неожиданных поступков и заявлений.— 373.
8 «Индекс запрещенных книг».—373.
9 В действительности Катерина Медичи была дочерью Лоренцо II
Медичи. Ей принадлежит главная роль в организации Варфоломеев¬
ской ночи.—374.
10 Луи XI, король Франции с 1461 по 1483 г., отличался политиче¬
ской хитростью, беспринципностью, лицемерной дипломатией.—374.
11 «Благодарность приносим Макиавелли и подобным ему писате¬
лям, которые открыто и непритворно говорят о том, что люди имеют
обыкновение делать, а не то, что они должны делать» (латин.).—374—
375.
12 Положительная оценка Макиавелли характерна для романтиче¬
ского движения. Макиавелли высоко ценили также «предромантики»
Альфиери и Фосколо. Последний писал о нем в «Гробницах» как о
«пророке», который, «укрепляя скипетр правителям, срывает с них
лавры и показывает народам, отчего льются слезы и течет кровь».—
375.
13 При восстановлении Медичи во Флоренции в 1512 г. Макиавелли
в связи с заговором Босколи был допрошен и подвергнут пытке, после
чего на него был наложен домашний арест.—375.
14 В «Государе» Макиавелли писал, что «еще нельзя назвать добро¬
детелью убийство своих соотечественников, предательство друзей, жизнь
без веры, без жалости, без религии... и следует человеку бежать этого
и скорее желать частной жизни, чем быть государем к столькому вреду
для людей».—375.
15 Маццини неизменно называет политическую прозу Макиавелли
«картинами», то есть зарисовками неприкрытой действительности.—375.
16 Луи XI—см. прим. 10. Фердинанд V Католик (1452—1516)—ко¬
роль Кастилии и Арагона, хитрый политик, гордившийся тем, что он
якобы «обманул 12 раз» Людовика XII Французского, Александр VI
462
КОММЕНТАРИИ
Борджиа — римский папа с 1492 г. по 1503 г., Чезаре Борджиа (герцог
Валентино), Людовик Мария Сфорца «Мавр» (1452—1508)—все эти
правители отличались жестокостью и вероломством.
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ
Поводом для этой работы Маццини послужили не столько книги
Т. Карлейля, сколько личные беседы с ним. Маццини познакомился с
Карлейлем в Лондоне в конце 1837 г. (14, 144). Отношение Карлейля
к «лирическому поэтику с невероятными мнениями, который выводит
из терпения своим республиканством, своим прогрессом и другими фа¬
натическими фантазиями а ля Руссо» (А. Еггега, Vita di Mazzini,
Milano, 1932, pp. 146—147), было поначалу критическим, и все же он
с интересом изучал «эту квадратную голову, эти блестящие глаза, эту
красивую фигуру лигура, гибкую, живую; чистоту и твердость этого че¬
ловека, любящего, сурового, правдивого, как сталь, с речью и мыслью
прозрачной, как вода» (ук. соч., стр. 148). Когда в 1844 г., обнаружив,
что на лондонском почтамте вскрывают его письма, Маццини подал
жалобу в английский парламент, Карлейль был одним из тех, кто
выступил в его защиту. «Что бы я ни думал о его практической смет¬
ке и искусстве в мирских делах,— писал он в лондонской «Таймс» в
июне 1844 г.,— я могу свободно удостоверить, что если я когда-либо
видел человека с талантом и добродетелью, то это Маццини — человек
кристальной честности, гуманный, с благородным умом, один из тех
редких людей, исчисляемых, к сожалению, единицами в этом мире, ко¬
торые заслуживают названия мученических душ и которые незаметно,
преданно в каждодневной жизни совершают свой подвиг» (Цит. по кн.:
В. King, The life of Mazzini, London, 1914, p. 85). Завершенная к
30.VI 1841 г. работа была напечатана лишь в октябре 1843 г. («Бри¬
тиш энд форин ревю») после выхода в свет книги Карлейля «Прошед¬
шее и настоящее», к которой относится приписка в конце статьи
(ср. 26, 127). В первой (не переведенной у нас) половине статьи
Маццини говорит об искренности Карлейля, который «не только думает,
но и чувствует, как пишет». «Я не знаю,— говорит Маццини,— другого
английского писателя, кто за последние 10 лет с такой же энер¬
гией нападал бы на полуготическое, полуварварское здание, в котором
томятся сейчас все свободные силы разума». Промышленному капи¬
тализму, оглушившему весь мир шумом своих машин и кричащему:
«Во имя Производства, будьте животными», Карлейль с несокруши¬
мой силой воли противопоставил «спокойный, мягкий, божественный
голос души, освященной добродетелью». Карлейль — большой худож¬
ник, обладающий могучим воображением. Как всякий писатель, искрен¬
не выражающий определенное направление общества, «он не может
быть бесполезен».
1 Книга «Исход», 13, 21.—377.
2 Геродот, 1, 94.—377.
3 «Предоставьте свободу действия» (франц.)—лозунг экономической
политики свободной конкуренции.—378.
4 См. развитие этой мысли в статье «Малые произведения Данте»,
стр. 418 сл.—379.
5 «Действие совокупного человечества» (латинЛ.—385.
463
ДЖ. МАЦЦИНИ
6 «Для коего и предназначена совокупность людей в ее великой
множественности; причем для выполнения этого действия недостаточно
ни отдельного человека, ни отдельной семьи, ни отдельного селения,
ни отдельного города, ни того или иного отдельного государства»
(«Монархия», I, 3, 4).—385.
7 См. прим. 6, стр. 448.—386.
8 «Ничто не пребывает... И все ж во времена надежды мой стих
пребудет».—387.
9 Послание апостола Павла к римлянам, 8, 22.—387.
10 «В людях, какими их сделали сегодня общество и мнения,— писал
Маццини матери 4. VI 1842 г. (23, 180),— есть какая-то неспособность
к любви, как я ее понимаю; виноват я сам, желая, чтобы здесь на
земле и особенно сейчас было такое, чего не может быть... К несчастью,
в любви обычно столько эгоизма, столько желания наслаждения, удо¬
вольствия, которое испытываешь, когда любишь и когда тебя любят,
причем удовольствия, которое с чистой совестью принимают за любовь,
что в один прекрасный день, когда приходит разочарование и чувство
удовольствия становится уже не столь живо, любовь улетучивается.
Если у меня есть какое-то постоянство в привязанностях, если я чув¬
ствую себя способным любить, даже когда другие уменьшают свою
любовь ко мне,— то это потому, что я давно уже убежден в одной
вещи: жизнь и любовь не имеют никакого отношения к счастью».—391.
11 В «Фаусте» (вторая часть, второе действие, «Лаборатория») уче¬
ный Вагнер создает искусственного человека, «гомункулуса».—393.
12 Арно Антуан (1612—1692)—религиозный писатель и философ,
янсенист; сотрудничал и переписывался с Пьером Николем (1625—
1695), публицистом и моралистом школы Пор-Ройяля.—397.
13 «Лови минуту» (Гораций, Оды I И, 8).—398.
МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ
Статья написана в августе 1842 г. по заказу английского «Форин
квортерли ревю». Работе сопутствовало изучение примечаний Фосколо
к «Божественной комедии».
1 Беттинелли Саверио (1718—1808)—поэт, историк культуры и эссе¬
ист, автор скандально известных «Вергилиевых писем» (1757), в кото¬
рых Вергилий с того света бранит Данте и его поклонников и подра¬
жателей.—401.
2 «Дитя, созданное без матери» (латин.).—403.
3 Стих Данте Papè Satàn, papè Satàn, aleppe (эти слова выкрики¬
вает Плутос; «Божественная комедия» I, 7, I) всегда интриговал ком¬
ментаторов, предлагавших различные толкования в зависимости от
того, на каком языке, по их мнению, он написан.—405.
4 Конъектура Фосколо современными издателями не принята.—405.
5 «Пир» I 1—406.
6 «Божественная комедия» III 2, 91. 106—114. Как считают неко¬
торые исследователи, ранние стихотворения Данте были Казеллой пе¬
реложены на музыку.—406.
464
КОММЕНТАРИИ
7 См. прим. 16, стр. 445.—407.
8 «Жизнь Данте» Дж. Марио Филельфа (1426—1480) на латинском
языке была впервые опубликована в 1828 г., то есть была относитель¬
ной новинкой, когда Маццини писал свою статью. У Филельфа столько
недостоверного, что современное литературоведение не принимает его
во внимание.—407.
9 Из перечисляемых Маццини произведений теперь только «Вопрос
о воде и земле» с оговорками включается в собрания Данте.—407.
10 Фратичелли предпослал своему изданию «Малых произведений»
(1834) образцовое «Филолого-критическое рассуждение о лирических
стихотворениях, печатающихся под именем Данте Алигьери».—408.
11 Ф. Саккетти, флорентийский писатель, принадлежал к семье,
враждовавшей с родом Данте. Он сообщает в своих «Новеллах» не¬
сколько анекдотических историй, рисующих поэта крайне гордым, су¬
хим, раздражительным человеком. Так, услышав однажды свои стихи
в искаженном исполнении рыночного кузнеца, Данте якобы молча во¬
шел в кузницу и стал выбрасывать из нее на улицу инструменты.—408.
12 «Бичи, дочери своей и жене господина Симоне ди Барди» (латин.)
Беатриче умерла в июне 1290 г. в возрасте 24 лет. Завещание ее отца,
в котором имеются эти строки, датируется 1288 г.—409.
13 В настоящее время считается, что Данте знал по-гречески лишь
буквы и некоторые слова.—409.
14 Теперь признается маловероятным, чтобы Данте велел похоро¬
нить себя в одежде монаха.—409.
15 «Пир» IV 28.—409.
16 О. Ч. Бальбо см.: H. Reuchlin, Kraf Cäsar Balbo, Nördlingen,
1861.— 409.
17 «Святость твоего преосвященства ничто не может счесть грехов¬
ным, ибо, являясь на земле местоблюстителем Христа, ты служишь
местилищем всей милости, истинным примером благочестия...» (латин).—
410.
18 Данте говорит в «Комедии» о Бонифации VIII (иногда не на¬
зывая его по имени) не менее одиннадцати раз, то есть чаще, чем
о любом другом своем современнике, за исключением Беатриче.—410.
19 Людовик IX (1214—1270)—король Франции с 1226 по 1270 г.—
410.
20 «Новая жизнь» 3.—410.
21 Гварьенто (между 1338 и 1370) —падуанский художник.—410.
22 Маццини противопоставляет «бессовестным компиляторам» Филель¬
фо и Тирабоски замечательного итальянского филолога J1. Мура-
тори.—410.
23 Принижение политической деятельности и историософии Данте
встречается и у современных исследователей. Так, П. Тойнби рисует
причину, по которой Данте приветствовал итальянский поход импера¬
465
ДЖ. МАЦЦИНИ
тора Генриха VII как «желание восстановиться во Флоренции»
(P. Toynbee, Dante Alighieri, New York, 1965, p. 93). Имея в виду
подобные толкования, Дж. Скартаццини пишет, что «еще слишком мно¬
гие, собираясь нарисовать портрет Данте, сами садятся перед зерка¬
лом» (G. A. Scartazzini, Dante-Handbuch, s. a., S. 289.) — 412.
24 Боккаччо, «Жизнь Данте», 25.—411.
25 В примечании к итальянскому переводу своей статьи Маццини
называет это имя: У. Ландор (1775—1864), английский поэт и эссе¬
ист.—412.
26 «Пир» III 15.—412.
27 Т а м ж е.—412.
28 «Божественная комедия» III 7, 58—60; «Пир» II 2, и др.—412.
29 «Пир» III П.—412.
30 Бенвенуто Рамбальди да Имола (между 1336 и 1390)—итальян¬
ский филолог, автор подробнейшего комментария к «Божественной ко¬
медии».—412.
31 Непонятно, в каком смысле Данте называет Латини своим учи¬
телем («Ад», 15, 79—84). Мало вероятно, чтобы Брунетто Латини,
канцлер и приор республики, был домашним учителем Данте.—412.
32 В последнее время в Собрания сочинений Данте включают 13 пи¬
сем, не все из которых достоверно ему принадлежат. Из перечислен¬
ных Маццини писем не включается теперь то, которое он называет
сомнительным.—414.
33 Первым назвал Беатриче «аллегорией» Филельф. А. Бишиони
в начале XVIII века писал, что и Беатриче «Новой жизни» — тоже
аллегория. Книга Г. Россетти («La Beatrice di Dante. Ragionamenti
critici») вышла в Лондоне в 1842 г., то есть в то самое время, когда
Маццини работал над своей статьей. Для Россетти Беатриче—«олицет¬
ворение германско-римской империи». После Россетти и до нашего
времени регулярно повторяются попытки доказать, что Беатриче — со¬
здание воображения поэта.—414.
34 О реальности Беатриче свидетельствует не только Боккаччо (от¬
даленный родственник Портинари), но и независимо от него сын Данте
Пьетро (Р. Toynbee, op. cit., p. 43).—415.
35 «Новая жизнь» 19.—415.
36 Эта канцона не включается в современные издания Данте.—415.
37 «Новая жизнь», 19.—416.
38 Далее у Данте: «...и тому, кто меня спросил бы тогда о чем-либо,
я со взором, облеченным в смирение, ответил бы только: «Любовь...»
(«Новая жизнь», 11).— 416.
39 «Новая жизнь», 19.—416.
40 Таково толкование Фратичелли в его издании «Малых произве¬
дений Данте» 1834 г.—416.
41 «Жизнь Данте», 6.—416.
42 Заключительные строки «Новой жизни».—417.
466
КОММЕНТАРИИ
43 «Божественная комедия» I, 16, 45. Эти слова произносит Якопо
Рустикуччи, живший в первой половине XIII в., богатый флорентиец,
жена которого отличалась сварливостью.—417.
44 «Божественная комедия» I 8, 45.—417.
45 Дочь Данте Беатриче жила с отцом в Равенне, и после его
смерти ушла в монастырь. Боккаччо передал ей посланные правитель¬
ством Флоренции 10 золотых гульденов.—417.
46 «Национальная цель» — то есть цель создания итальянской на¬
ции.—417.
47 Это письмо «Флорентийскому другу», которое здесь Маццини дает
на латинском языке, он перевел на итальянский в статье «Данте»,
стр. 364 ел—418.
48 «Ибо хотя есть другие существа, причастные разуму, но разум их
не есть возможностный разум, каков разум человека». См. также сле¬
дующее прим.—420.
49 «Возможностный разум» у Данте (термин восходит к Фоме Ак¬
винскому) есть нечто свойственное лишь человеку. С одной стороны,
растения и животные, разделяя с человеком способность к жизнедея¬
тельности и к ощущениям, еще не имеют разума. С другой стороны,
бог, духовные силы космоса уже не нуждаются в «вынесении вовне»,
«распространении» (interpolatio, extensio) своего разума («Монархия» I
3, 4). «Распространение» возможностного разума Данте понимает как
его потенциальное воплощение в любых конкретных вещах, например
в искусстве, в политической жизни («Монархия», там же).—421.
50 Маццини, вслед за Данте, понимает религию как «связь» (между
людьми), поскольку они разумные существа, этимологически возводя
religione к лат. religo «связываю», «соединяю», «скрепляю».— 421.
51 «Божественное предопределение» («Монархия» II 1.).—422.
52 «Этот святой, доблестный и славный народ пренебрег собственным
благополучием, дабы послужить всеобщему благу человеческого рода»
(«Монархия» II 5).—422.
53 «Монархия» II—423.
54 О том, что эти взгляды не имеют ничего общего с «империализ¬
мом», см. в кн.: Данте Алигьери, Малые произведения, М., 1968,
стр. 603.—423.
65 Следующее далее описание эпохи Данте и событий его жизни
в основном повторяет соответствующие места статьи Маццини «Данте»,
стр. 357—366.—423.
56 В «Рассуждении о тексте Поэмы Данте» Фосколо утверждает,
что в образе Волчицы («Ад» I, 48—53) Данте выразил свою ненависть
к римскому католичеству вообще, а не только к папе Бонифа¬
цию VIII.—423.
57 Н. И. Балашов в статье «Данте и Возрождение» («Данте и
всемирная литература», М., 1967, стр. 44—45) указывает на «недоста¬
точно оцененное» замечание Боккаччо, что Данте с его «силой гения
467
ДЖ. МАЦЦИНИ
и последовательной настойчивостью», если бы не встретил упорных
врагов, «на земле стал бы Богом» («Жизнь Данте» 5).—424.
58 «Так как и не надежно, и не похвально делать что-либо против
совести, я на этом стою; иначе я не могу. Помоги мне Бог. Аминь»
(нем.).—424.
59 «Божественная комедия» III 17, 120.—424.
60 «Божественная комедия» II 8, 120. Обычно комментаторы толку¬
ют это место так: «Я слишком любил на земле своих родных, так что
забыл о душе; здесь я очищаюсь от этого греха».—425.
61 «Флорентиец рождением, не нравами» (латин.).—425.
62 См. прим. 6, стр.459.—425.
63 Слова Вергилия («Божественная комедия» I 3, 35—42) о тех
«жалких душах», которые «прожили, не зная ни славы, ни позора
смертных дел, и с ними ангелов дурная стая, что, не восстав, была
и не верна всевышнему, средину соблюдая. Их свергло небо, не терпя
пятна; и пропасть Ада их не принимает, иначе возгордилась бы
вина».—425.
64 «И взнуздываю ум сильней былого».—426.
65 «Узда искусства здесь меня сдержала».—426.
66 «На превратный и несбыточный покой» (итал.).—426.
67 «Господь крепчайший» (латин.).—427.
68 Маццини имеет в виду портрет Данте у Боккаччо («Жизнь Дан¬
те» 20): «Был наш поэт среднего роста, и когда достиг зрелых лет,
то ходил несколько сутуло; имел он поступь важную и спокойную,
будучи всегда одет весьма скромно и как подобает его достоинству.
Лицо его было длинным, с орлиным носом, с глазами скорее большими,
чем маленькими; он был широкоскул, а верхняя губа выступала над
нижней; лицом был смугл, волосы и бороду имел густую, черную и
курчавую, и всегда был грустен и задумчив. Поэтому случилось однаж¬
ды в Вероне (когда уже повсюду распространилась слава его трудов,
а всего более той части его «Комедии», которую он назвал «Ад»,
и ее знали многие и мужчины и женщины), что когда он проходил
мимо крыльца, где сидели несколько дам, одна из них тихонько, но
не настолько, чтобы им и сопровождающими его не быть хорошо услы¬
шанной, сказала другим дамам: «Видите того, кто сходит в ад и воз¬
вращается когда хочет и приносит сюда новости от тех, кто там?»
На что ей другая в простоте души ответила: «Поистине ты, должно
быть, говоришь правду: видишь, какая у него завивающаяся борода
и темное лицо от жара и дыма, которые там внизу?».—427.
69 «Священно это имя — «поэт», которое даже в варварских странах
никогда не подвергалось оскорблениям» (Цицерон, Речь в защиту поэта
Авла Лициния Архия VIII, 19).—428.
ИЗ ПИСЕМ
Мы приводим лишь очень немногие тексты из огромной переписки
Маццини, которая дает весьма полное, почти ежедневное освещение
как деловых и общественных, так и интимных аспектов его жизни.
468
КОММЕНТАРИИ
1 Чезари Антонио (1760—1828)—поэт и грамматик-пурист, автор но¬
велл в подражание Боккаччо.—429.
2 См. прим. И, стр. 454.—429.
3 В письмах на родину Маццини в целях конспирации иногда писал
от женского имени.—430.
4 К письму приложена нотная запись.—430.
5 Первой эпохой искусств, по Маццини, было язычество, второй —
христианство.—430.
6 Речь идет о «Собрании мировой драмы».—430.
7 Маццини переводил «Воспитание человеческого рода» Лессинга.—
431.
8 «Современная итальянская живопись».—431.
9 См. стр. 461.—432.
10 Адзельо Массимо Тапарелли, маркиз д' (1798—1866)—итальян¬
ский государственный деятель (одно время министр Карла Альберта),
писатель и журналист. В юности учился живописи в Риме и в 1835—
1843 гг. выставил несколько пейзажей с историческим сюжетом.—433.
11 Эмилия Хоке просила Маццини дать справку о Дж. Берше для
издания его переводов в Англии.—434.
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абсолют и жизнь 150, 339
анализ 79, 80, 215, 225, 240, 241,
335, 429, 432
анархия 130, 216, 285, 331
Вкус 100, 104, 120, 123
Гармония 246
гений 67, 68, 76, 83, 89, 93, 126,
149, 186, 225, 257, 286, 402, 403
— и бог 168, 169, 197, 390
— и будущее 405
— и сознание 297, 387—390, 399
— его страдание 203—206, 428
— субъективный и объективный
217, 414
— его эгоизм 91, 93, 392
герой 163, 170—173
готический собор 248, 249
Драма, ее условия 78, 86, 135—
137, 147, 162, 174, 175, 282
— ее развитие 272—283
— будущего 154, 174, 175, 179,
288
— романтическая 162, 166
Единство (см. коллективизм) 80,
106, 147, 225, 227, 235, 355, 368,
381, 422, 432—434
Закон в искусстве и обществе 116,
269, 271, 285, 310, 313
Идеал 135—141, 224
индивидуальности принцип 93, 185,
186, 189, 221, 240, 250, 252, 277,
294, 311, 317, 340—342, 384—385,
399
искусство
— его сущность 66—67, 318, 319,
436
— его миссия 41, 42, 82, 143, 167,
436
— и будущее 96, 125, 186
— и общество 45—48, 96, 100,
234, 252, 436
— и гражданственность 53, 54
— и социальное зло 64, 124,
351—353, 375
— и религия 127, 238, 281
— и закон 269
— его польза 81, 82
— его единство 126
— его иерархия 239, 287
— и космос 230, 433
— «для искусства» 243, 294
— его кризис 33
— его стадии 107—123, 270
истина 83, 147, 178, 151—153, 177,
208, 209
— ее критерии 395
Классицизм 131, 132, 157—160, 175,
293
470
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
коллективности принцип 379—382,
385, 386, 398, 420, 423, 437
конспирация 15, 17
красота 127, 140
— лицо истины 208
— и выражение 81
критика, ее задачи 27, 28, 168,
211—213, 227, 256, 257, 265, 288,
289, 313, 356, 403
Литература
— ее структура 146
— и общество 326
— коллективная 41
— национальная 228
любовь 93, 94, 112, 127, 170, 190,
239, 287, 319, 342, 415—417
Материализм 199, 205, 214, 235—
237, 435
мелодия 241
мечта 152, 227, 403
— и пророчество 370
музыка 233, 234, 257, 263
— как всеобщий язык 234, 237,
239
— будущего 63
— и поэзия 210, 234, 239
Народ
— писателей 215
— читателей 215, 322, 325, 326
национальная идея и искусство
97, 100, 227, 228, 298, 326, 360—
362, 418—420
необходимость как принцип драмы
279
Опрощение 28, 146
Переводы 77, 78, 140, 141, 180—
182, 313
правда в искусстве 285
поэзия
— и жизнь, 203, 339
— и общество 204—207, 209,
210
— и человечество 223
— и религия 226
— и философия 319
— и будущее 190—198, 205—
209, 223, 318, 350, 351, 407
— действительная 140, 184—186,
195, 206, 318, 434
— народная 193, 201
— и поэтическое искусство 208
поэт в мире 145, 203—207, 412—
416
провидение как принцип драмы
285, 286
прогресс 224
пророчество 227, 318, 319, 357,
366, 405
Реализм в искусстве 141—145, 375,
376
религия 42, 111—113, 192—194, 197,
243, 369, 378, 390, 398, 433
рок как принцип драмы 274, 280,
283
романтизм 24, 74—76, 129, 130,
217—221, 232, 296, 322, 328—
330, 333
— его зарождение 129, 130, 295,
316
— его миссия 222, 232, 296
— его гибель 218, 219, 220, 280—
283, 316
— итальянский 156, 163
— музыкальный 243
— дурной 178
Сатира 52
символ 79, 127, 133, 146, 161, 165,
193, 194, 278, 295, 319, 382, 393,
394
471
ДЖ. МАЦЦИНИ
синтез 143, 149, 212, 216, 233, 240,
241, 249, 269, 284, 349, 389, 390,
402
словесность и общество 101—106
социальное искусство 41, 179, 1У0,
195, 248—250, 257, 263, 272, 277,
286, 287, 292, 294, 300, 308, 328,
332, 351, 352, 386, 398, 430, 435
социальность 8, 41, 190, 246, 286,
287, 352, 380—382, 436
(см. коллективизм)
«Темнота» искусства 81, 82, 92, 95,
288, 326, 406
типы 87—91, 207
Форма и идея 83, 96, 134, 136, 145,
229, 244, 245, 271, 279, 293, 294,
308, 322, 370, 377, 387, 394, 403
Хор в драме 254
Человек 179, 220, 346
человечество 152, 186, 191, 197,
223, 237, 286, 380, 381, 419—
421
Школа Мандзони в литературе
289—302
Энциклопедичность 215, 225
— человечества 48, 84, 101—
123, 183, 184, 376—380, 401
— искусства 107—123, 216, 270,
430
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абель Н.-Х. 207, 450
Август (император) 147
Адзельо М. 300, 434, 469 *
Аккурзий 199, 335, 449
Алкей 45, 439
Алчиати 199, 449
Альфиери 23, 65, 132—134, 161,
169, 172, 176, 177, 192, 217,
254, 271, 293, 323, 443, 451, 462
Амброзоли Ф. 78, 313, 455
Анакреонт 415
Аристотель 62, 95, 136, 156, 159,
205, 265, 402, 409, 446, 456
Аристофан 54
Аричи Ч. 294, 326, 454, 457
Арнальдо да Брешиа 118
Арндт Э. 194, 449
Арно А. 397, 464
Арривабене Ф. 297
Арруаса X. 124, 446
Байрон 9, 23, 36, 83, 92, 123, 144,
145, 147, 149, 182, 185, 188—
190, 197, 204, 206, 217, 218, 220,
259, 318, 329, 330, 337—356, 375,
385, 398, 413, 436, 443, 448, 457,
459
Балашов Н. И. 467
Бальбо Ч. 12, 313, 402, 410, 412,
419, 465
Барбье О. 446
Беатриче 57, 359, 414, 415, 416,
465, 466
Беккариа Ч. 199, 449
Белинский В. Г. 8, 448, 449
Беллини 258, 259, 301, 452
Бенвенуто да Имола 412
Бенца Э. 9, 43, 456
Беранже 830
Берковский Н. Я. 24, 29
Берлиоз 239, 451
Бёрне Л. 338, 458
Бёрнс Р. 100
Бертани 18
Берше Дж. 298, 314, 434, 443, 455
Беттелони 301
Бетти С. 443
Беттинелли 402, 464
Беттини 431
Бетховен 242, 258
Биава С. 301
Биггс М. 431
Биксио 18
Бойс Г. 60, 441
Боккаччо 54, 118, 308, 411, 412,
417, 426, 460, 461, 466, 467, 468
Бонди К. 331, 457
Бонифаций VIII 359, 361, 425, 459,
465, 467
Борджиа А. 375, 376, 468
Борсьери 474
Боскан 100
* Курсивом набраны страницы, относящиеся к комментариям.
473
ДЖ.'МАЦЦИНИ
Ботта К. 74—76, 290, 308—312,
315, 443, 446, 455
Браунинг Р. 16
Бруно Джордано 22, 214, 312, 423
Брут 47
Буало 156
Бьюкенен Дж. 60, 441
Бьянки-Джовини 314, 456
Бэкон Ф. 324, 374, 375, 384, 403,
446
Бюргер Г. Ф. 236, 451
Вагнер Р. 36
Вайклифф 59, 441
Вальдес X. 124, 446
Варезе К. 308, 455
Вашингтон Дж. 138, 188, 348, 395
Вебер 329, 358
Вергилий 75, 156
Вернер 3. 181, 217, 218, 265—267,
452, 453
Вико Дж. 95, 214, 443
Виллани Джованни 52, 54
Вильена 100
Виньи А. де 203, 206, 207, 450
Виталис 207
Вите Л. 161, 447
Витторелли Я. 297, 326, 454
Виченца Дж. 49, 439
Вольтер 9, 80, 160, 176, 312, 447
Вордсворт 100, 124, 217, 345
Вьессе 442
Габриэлли Канте 360, 459, 460
Гайдн 255
Галилей 121, 152, 208, 305
Гарибальди 15, 18, 19
Гармодий 45, 439
Гарсиласо 100
Гверрацци Ф. 66—73, 156, 304, 330,
442, 444
Гвиттоне д’Ареццо 248
Гвиччардини 311, 455
Гегель 312
Генрих IV 374
Генрих VIII 363, 460
Гердер 23, 345, 377, 443
Герцен 13, 16, 17, 34, 35
Гесиод 45, 445
Гёте 9, 23, 33, 36, 77—97, 149,
154, 177, 186, 191, 217, 218, 220,
235, 253, 330, 337—356, 375, 382,
396, 413, 443, 444, 458
Гизо 149, 155, 447
Гильоне 283
Гоббс 279, 285
Гольдони 65
Гомер 57, 101, 156, 211, 418, 429
Гонгора 120, 446
Горький М. 17, 35
Гофман 217, 218
Гоцци 182
Грасси Дж. 309
Грильпарцер Ф. 20, 268
Гросси 156, 217, 259, 290, 300, 301,
308
Гроций Г. 121
Гульельми П. 248
Гюго 16, 31, 124, 154, 176
Данте 9, 16, 21, 44, 45, 58, 64, 82,
83, 100, 118, 149, 160, 192, 206,
208, 214, 236, 248, 265, 277, 293,
294, 297, 298, 305, 308, 326, 330,
348, 357—371, 381, 383, 387, 401,
429, 432, 437, 442, 444, 458, 460,
464, 465, 467, 468
Декарт 121
Делавинь 124, 446
Дельфанте К. 442
Демокрит 453
Демосфен 54
Де Санктис Ф. 32, 33, 36
Джанноне П. 36, 314, 443, 455
Джано делла Белла 50
Джентиле Дж. 32
474
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Джиральди Ч. 410
Джонсон С. 386
Джордани П. 309, 455
Джорджини Б. 301
Джотто 412
Дзайотти П. 154, 447
Дзанотти Ф. 299, 454
Дидро 9
Домициан 47, 439
Доницетти 254, 258, 260, 451, 452
Дюбарта 120, 446
Дюканж В. 62, 441
Дюфокомпре 59, 441
Еврипид 272, 445
Жанен Ж- 194, 449
Жильбер 207, 450
Залеский 436
Иванов Н. К. 261, 452
Имола Бенвенуто 412
Иоахим Флорский 21
Ирнерий 199, 449
Кавальканти Гвидо 412
Кавур К. 12, 19
Казобон И. 354, 459
Кальдерон 181, 282
Камоэнс 207
Кампанелла 23, 312, 421
Канова 125
Кант 174, 311
Канту Ч. 312
Карано Дж. 301
Карл Альберт 12, 311, 434
Карл Анжуйский 49, 68, 360, 439
Карл Валуа 354, 361
Карл Великий 115, 239
Карл V 120, 407, 445
Карл IX 374
Карлейль 16, 377—400, 433, 440,
463
Каррел Л. 301
Кеплер 387
Кернер 194, 217, 344, 449
Кинг Б. 32
Кинтана 124, 446
Ките Дж. 206, 217, 218
Климент IV 68
Климент VII 407, 445
Кокцей Нерва 47, 439
Колумб 305, 382
Кольридж 182, 217
Кондорсе 9, 22
Конрадино 49
Корнель 158, 160, 281
Красиньский 436
Крешенцо 116, 172, 445
Кромвель 138, 386, 392
Кроче Б. 20, 24, 462
Кузен В. 149, 155, 445, 447
Купер Ф. 441
Лаблаш 258, 261, 262
Ламартин А. 16, 31, 124, 217, 259,
330, 449
Ламенне Ф. 9, 23
Ландор У. 412, 466
Лаокоон 62
Латини Брунетто 410, 415, 466
Лейбниц 383
Леонардо да Винчи 208
Леопарди 35, 307
Лерминье Ж. 312, 455
Леру П. 22, 317, 456
Лессинг 21, 180, 182, 431, 469
Либри Г. 314
Лозинский М. 460
Лопе де Вега 159
Луначарский А. В. 36
Людовик IX 410, 465
Людовик XI 374, 375, 462
Людовик XIV 120
475
Люлли 239
Лютер 348, 382, 424, 467
Маджотти К.-М. 432
Майер 243
Макиавелли 121, 305, 310, 332,
372—376, 442, 446, 461, 462
Макферсон 100
Мамели Г. 18
Манара Л. 18
Мандзони А. 23, 63, 68, 124, 130,
135, 149, 154, 156, 162, 217, 259,
290, 294, 299—301, 314, 330, 432,
440, 446, 447, 454, 457
Манфред 68, 71, 329, 439
Марий Кай 307
Марино Дж. 120, 446
Маркс К. 15, 16
Марчелло Б. 451
Маффеи 78, 181, 313
Медичи Дж. 18
Мейербер 252, 253, 257, 452
Мелендес 124
Мена 100
Менгс 66, 442
Мендель 338
Мерииме 154
Местр Ж. де 269, 453
Метастазио П. 259, 297, 326, 454
Меценат 328
Микеланджело 203, 257, 277, 308,
413, 450
Милль 16
Мильтон 406, 411
Мицкевич 23, 180, 203, 436
Мокульский С. 36
Монти В. 292—295, 325, 443, 454
Мор Томас 121
Моро Э. 450
Моцарт 258
Мур Т. 124, 202, 217
Муратори 411, 465
Мэр Дж. 60, 441
Мюлльнер 181, 268, 453
Наполеон Бонапарт 138, 145, 160,
184—190, 243, 348, 448
Наполеон II 184—186, 191, 301,
454
Наполеон III 12, 19
Нерон 47, 172, 198
Никколини Дж. 124, 161, 290, 307,
308, 444, 446
Николь П. 397, 464
Новалис 217, 218
Новелло Гвидо 365
Ориоли 314
Орканья 308
Оссиан 101
Оттон III 172, 445
Оуэн 380
Палестрина 237, 242
Парини 52, 293, 327, 447
Пассерини Дж. 314, 455
Пачеко М. 172, 448
Пелли 57, 367
Пеллико 217, 259, 290, 431
Перголези 249
Персий 52
Пертикари Дж. 58, 440
Пет Фрасей 172, 198
Петр Амьенский 116, 445
Петр Вальд 118, 445
Петрарка 55, 154, 293, 326, 414,
416, 426, 440, 441
Пикеринг 298, 461
Пиндар 52
Пиструччи Б. 314, 456
Пифагор 369, 423
Пиччинни Н. 239, 248, 451
Плавт 447
Планш Г. 207
Платон 29, 54, 402, 44Q
Порпора 249
476
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Портинари Фолько 359
Прадон 158
Прометей 76, 89, 284, 453
Прочида Дж. 199, 449
Пуже Бертран дю 365, 460
Пушкин А. С. 124
Пьер де Брюи 118, 445
Расин 158, 160, 282
Рафаэль 158, 160, 282, 445
Рейналь 9
Рейно Ж. 22
Ремюза 267
Реньяр 65
Рихтер Ж--П. 217, 415, 427
Роберт III 59
Робине 9
Роза С. 52, 66, 440
Розина Дж. 308, 455
Розмини 312
Ролли П. 293, 454
Романи Ф. 236, 257, 452
Романьози 290, 312, 315, 434
Россетти Г. 314, 414, 455, 466
Россини 82, 125, 242, 243—245, 248,
249, 252, 257, 258
Рубенс 431
Рубиии 258
Руссо Ж.-Ж. 9, 239, 375
Руффини А. 450
Руффини Дж. 9, 450, 452
Руффини Я. 9, 14
Саккетти Ф. 54, 408, 410, 465
Сакки Д. 156
Сальвемини Г. 32
Санд Ж. 16, 18, 385
Сантильяна 100
Сантоли В. 33, 443
Сарпи П. 314
Саффи А. 18
Сенека 52, 276
Сен-Симон 22, 380
Сент-Бёв 217
Сепульведа X. 95, 444
Сергарди JI. 52, 440
Серравалле Я. 410
Сеттано — см. Сергарди Л.
Сисмонди С. 429, 443
Скальвини Дж. 314, 456
Скотт В. 9, 59, 61, 68, 69, 186,
191, 217, 218, 330, 339, 441, 451
Скюдери 158
Смит А. 340
Сократ 57, 152, 395
Солон 45
Сорделло 53
Софокл 272
Спиноза 372
Споторно 148, 441, 447
Сталь 267, 292, 443, 451
Стэнсфилд К. 432, 434
Тамбурини 258
Тартини 255
Тассо Т. 75, 156, 206, 271, 305, 450
Тацит 48, 111, 277, 310
Тебальди-Форес 156
Телезий 312, 423, 455
Теодорих 239, 451
Теренций 447
Тибулл 415
Тирабоски Дж. 148, 374, 447, 465
Тит Ливий 47
Тойнби П. 465
Толстой Л. Н. 35, 36
Томмазео Н. 301, 314, 438, 456
Торти Дж. 156, 447
Тотомианц В. 23
Тренти Дж. 294
Тройя К. 297, 454
Турнёр 158
Уберти Дж. 434
Уголино 50, 439, 442
Угони К. 314, 450
477
Уленшлегер 124, 217
Ульпиан 335, 457
Ульфила 114, 499
Урбан IV 361
Федерн К. 440
Феогнид 45, 445
Ферруччи Фр. 304
Филанджери Г. 199, 449
Филельф М. 407, 408, 410, 465
Филипп II 172, 173, 444
Фихте 281, 312, 340, 346
Фокидид 445
Фома Аквинский 373, 467
Фонтенель Б. 67, 442
Форьель 199
Фосколо 9, 20, 23, 33, 44, 149, 155,
163, 204, 211, 294, 297, 298, 302,
308, 327, 367—371, 405, 408, 423,
425, 443, 451, 456, 457, 461, 462,
464, 467
Франклин 138, 348
Фратичелли 409, 414, 465, 466
Фраттароло Р. 34
Фрерон Л. 187
Фридрих Барбаросса 449
Фридрих II 68
Фриче В. 36
Фругони К. 297, 454
Фурье 379
Хлодвиг 238, 451
Хоке Э. 35, 435, 469
Хуан II 100
Хэзлитт 339
Цезарь 340, 388
Цинциннат 47
Цицерон 54, 468
Чаттертон Т. 204, 207, 209, 210,
450
Чезари А. 423, 468
Чезаротти 293
Чернышевский Н. Г. 34, 35
Шатобриан 217
Шекспир 9, 83, 101, 135, 138, 154,
159, 181, 182, 192, 271, 277—281,
286, 287, 387, 413
Шелли 182, 217, 339, 345, 414
Шиллер 9, 135, 154, 169—177,
180—182, 192, 218, 256, 259, 271,
286—288, 330, 346, 416
Шлегель А. 63, 282, 312, 443
Шлегель Фр. 282, 443
Шове 130, 446
Шопи Г. 373, 462
Эккерман 444, 458
Энгельс Ф. 15, 16
Энний 276
Эпаминонд 307
Эпикур 276, 285, 453
Эсхил 181, 268, 270, 272—275,
276—280, 281, 413, 447, 453
Эфрос 440
Эццелино да Романо 49, 439
Маццини Джузеппе
М36 Эстетика и критика. Избранные статьи. Сост.
вступит, статья, пер. и коммент. В. В. Бибихина. М.
«Искусство», 1975.
479 с. портр. (История эстетики в памятниках и документах).
Джузеппе Маццини (1805—1872) — знаменитый итальянский рево¬
люционер, представитель домарксистского социализма, выдающийся
политический публицист и критик, один из главных деятелей итальян¬
ского Рисорджименто. В сборник включены произведения Маццини
раннего периода его творчества, посвященные искусству, среди них —
«Байрон и Гёте», «Философия музыки», «Об исторической драме*
и др. Статьи Маццини на русском языке публикуются впервые.
м 10507-028 7
М 025(01 )-76 8"75
ДЖУЗЕППЕ МАЦЦИНИ
ЭСТЕТИКА
И
КРИТИКА
История
эстетики
в памятниках
и документах
Редактор
В. С. ПОХОДАЕВ
Художник
А. Т. ТРОЯНКЕР
Художественный редактор
э. э. РИНЧИНО
Технический редактор
Н. Г. КАРПУШКИНА
Корректор
А. А. ПАРАНЮШКИНА
Сдано в набор 24/1 1975 г. Подписано к печати 19/11 1976 г. Формат
издания 84Х Юв'/зг. Бумага типографская № 1. Уел. печ. л. 25,2.
Уч.-изд. л. 27,572. Изд. № 17381. Тираж 20 000 экз. Заказ 6342.
Цена 2 р. 17 к. Издательство «Искусство», 103051 Москва,
Цветной бульвар, 25.
Московская типография № 5 «Союзполиграфпрома» при Госу¬
дарственном комитете Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Мало-
Московская, 21.



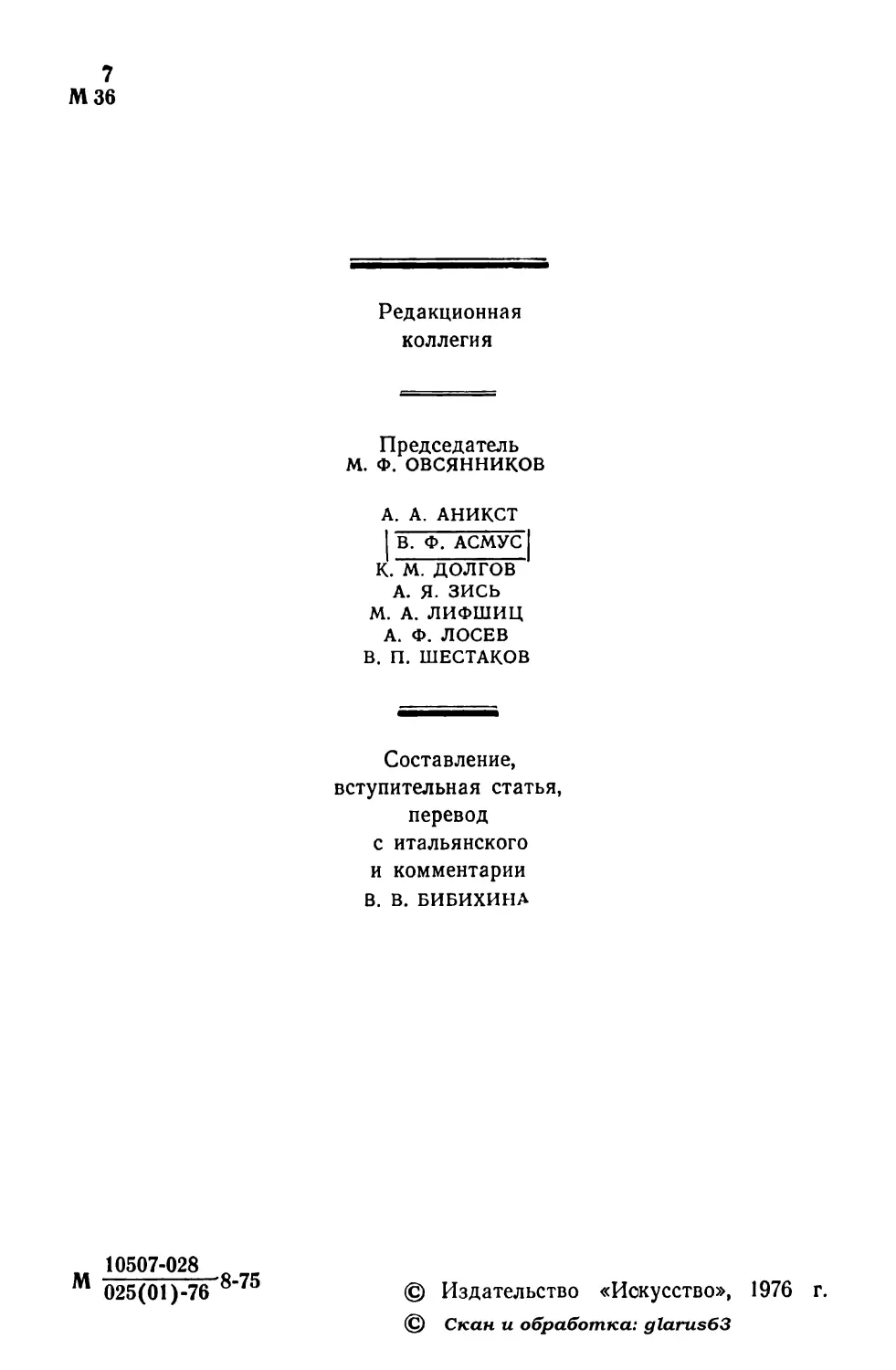


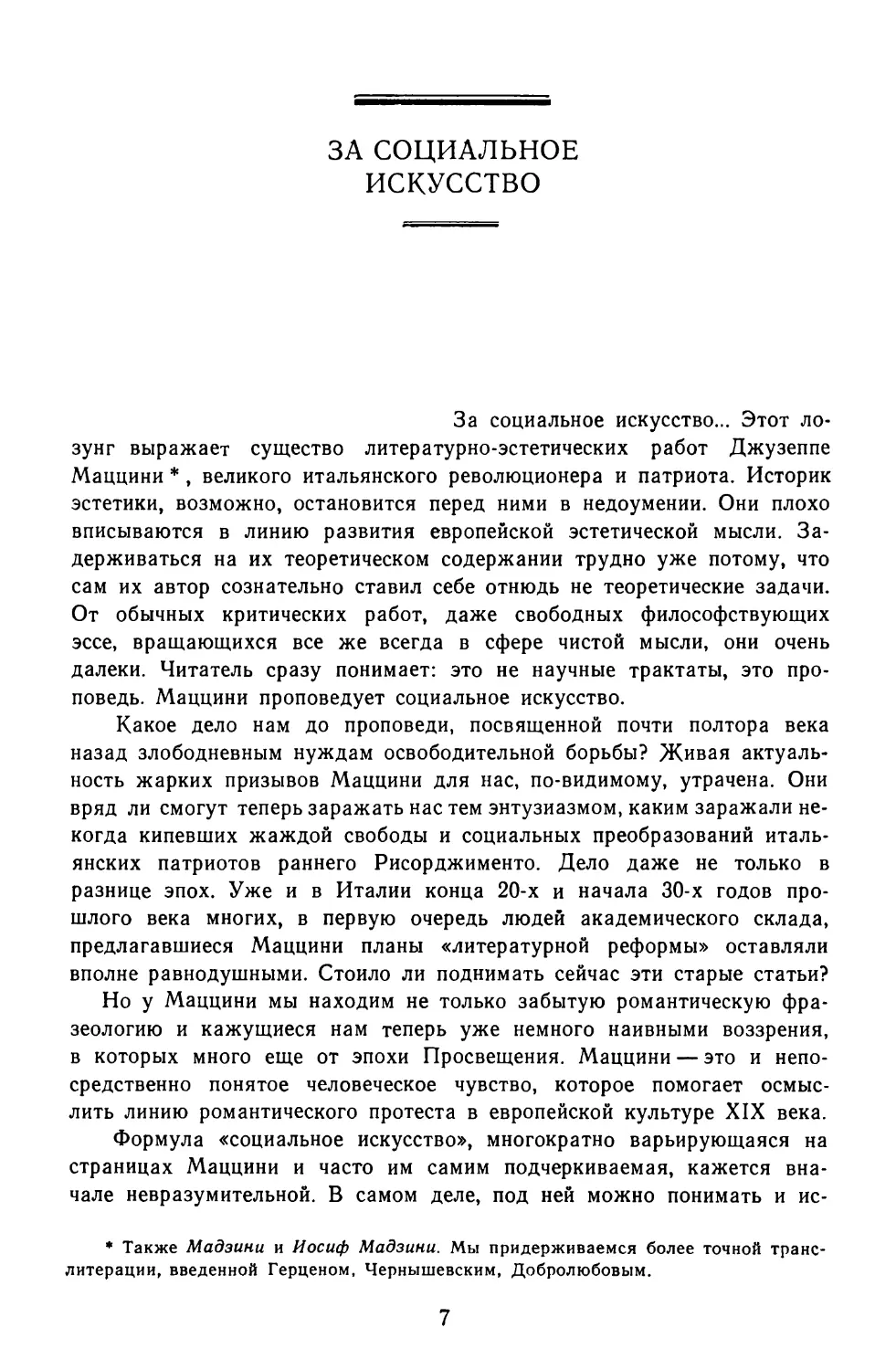




























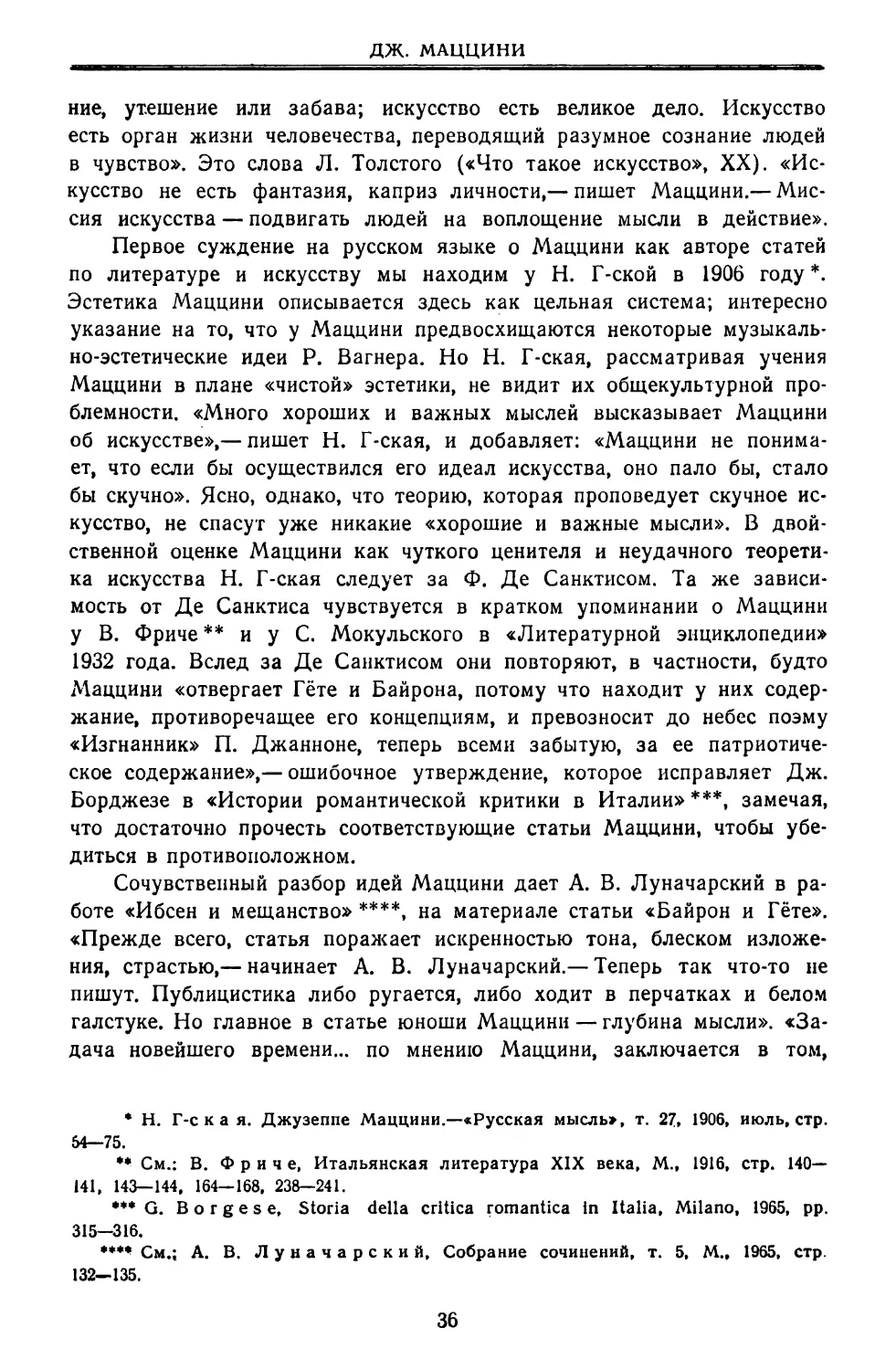



![Из «Автобиографических заметок» [Вместо предисловия]](https://djvu.online/jpg/Y/E/8/YE8DFaalkQP20/040.webp)