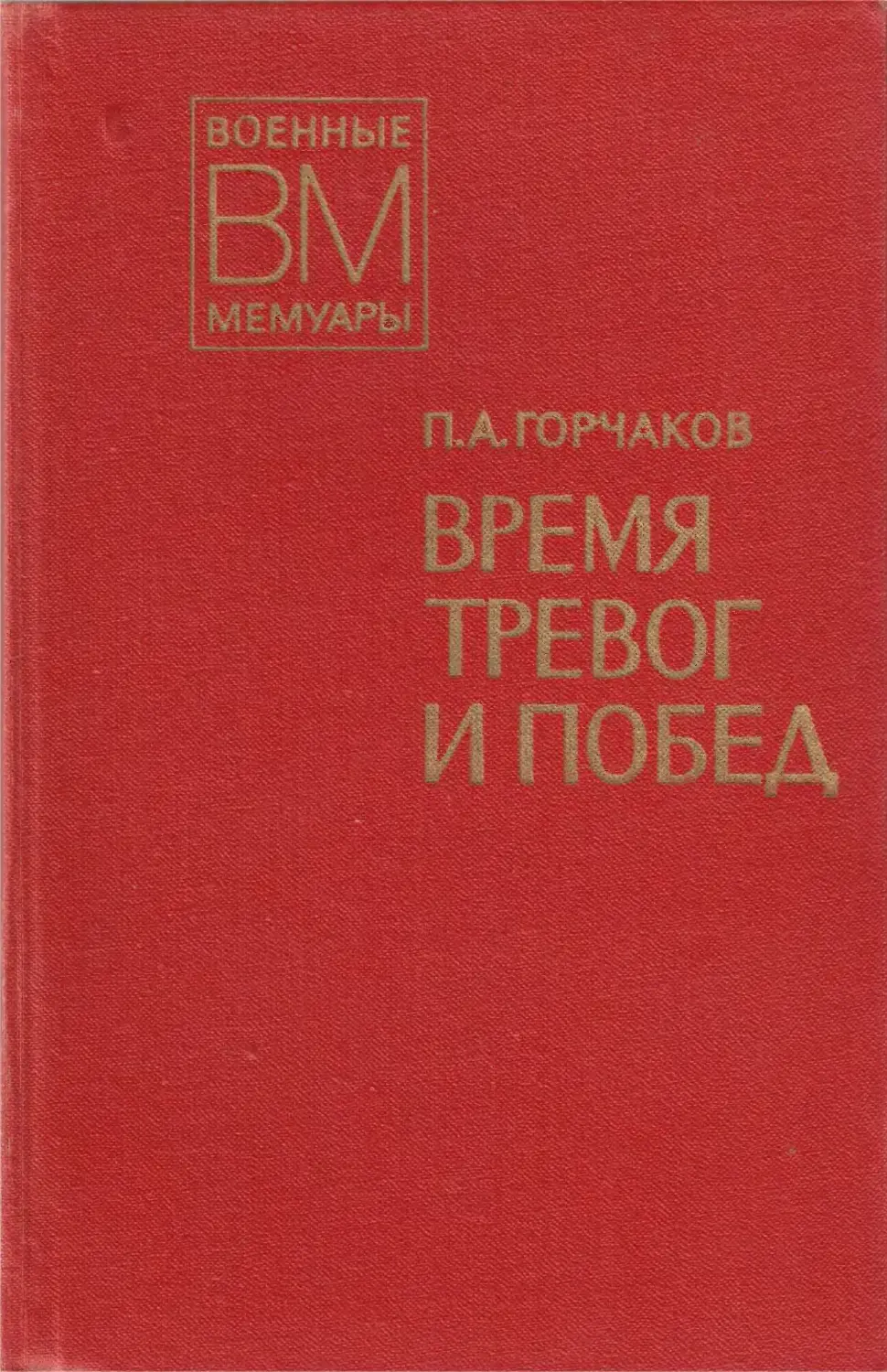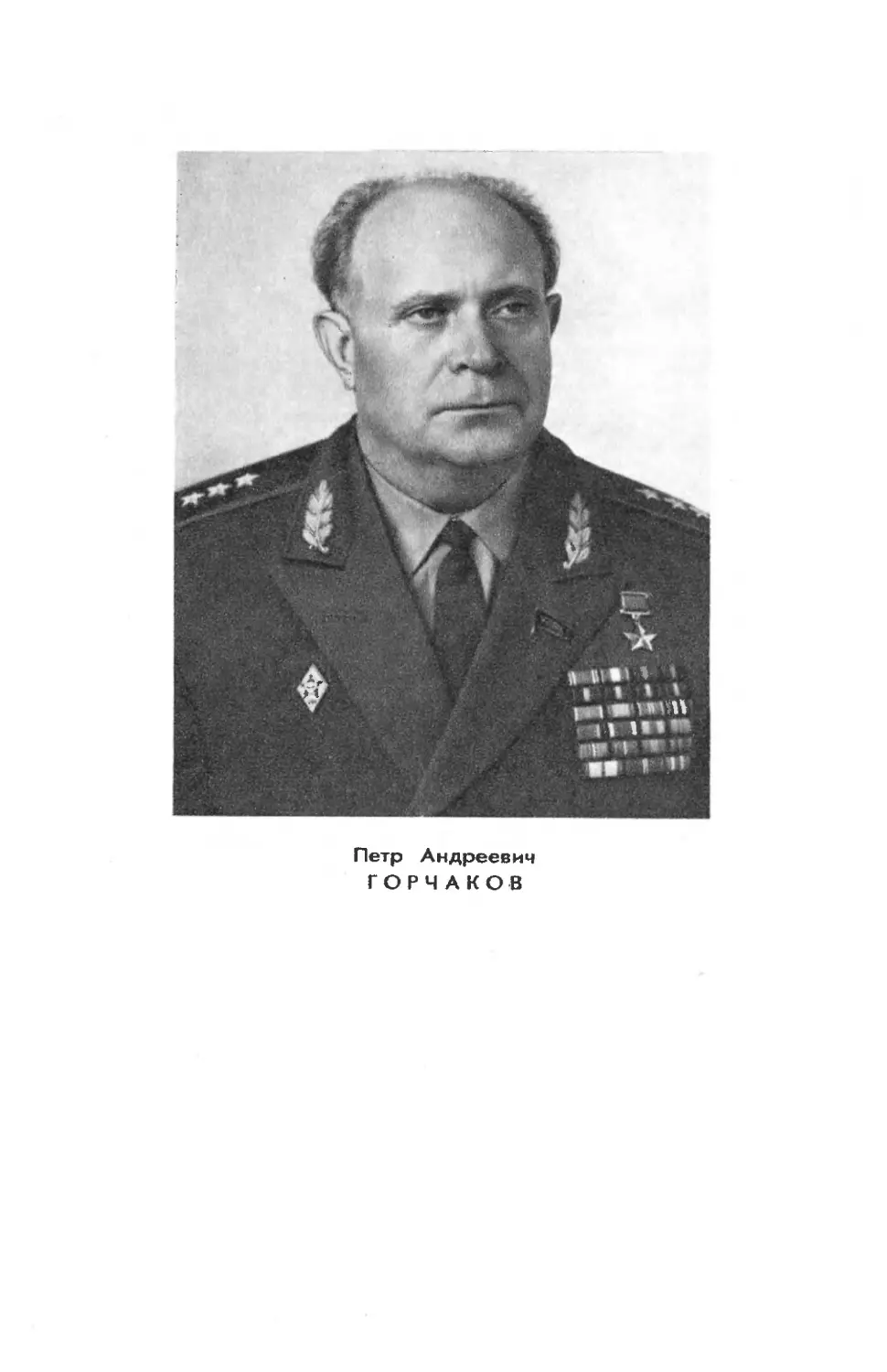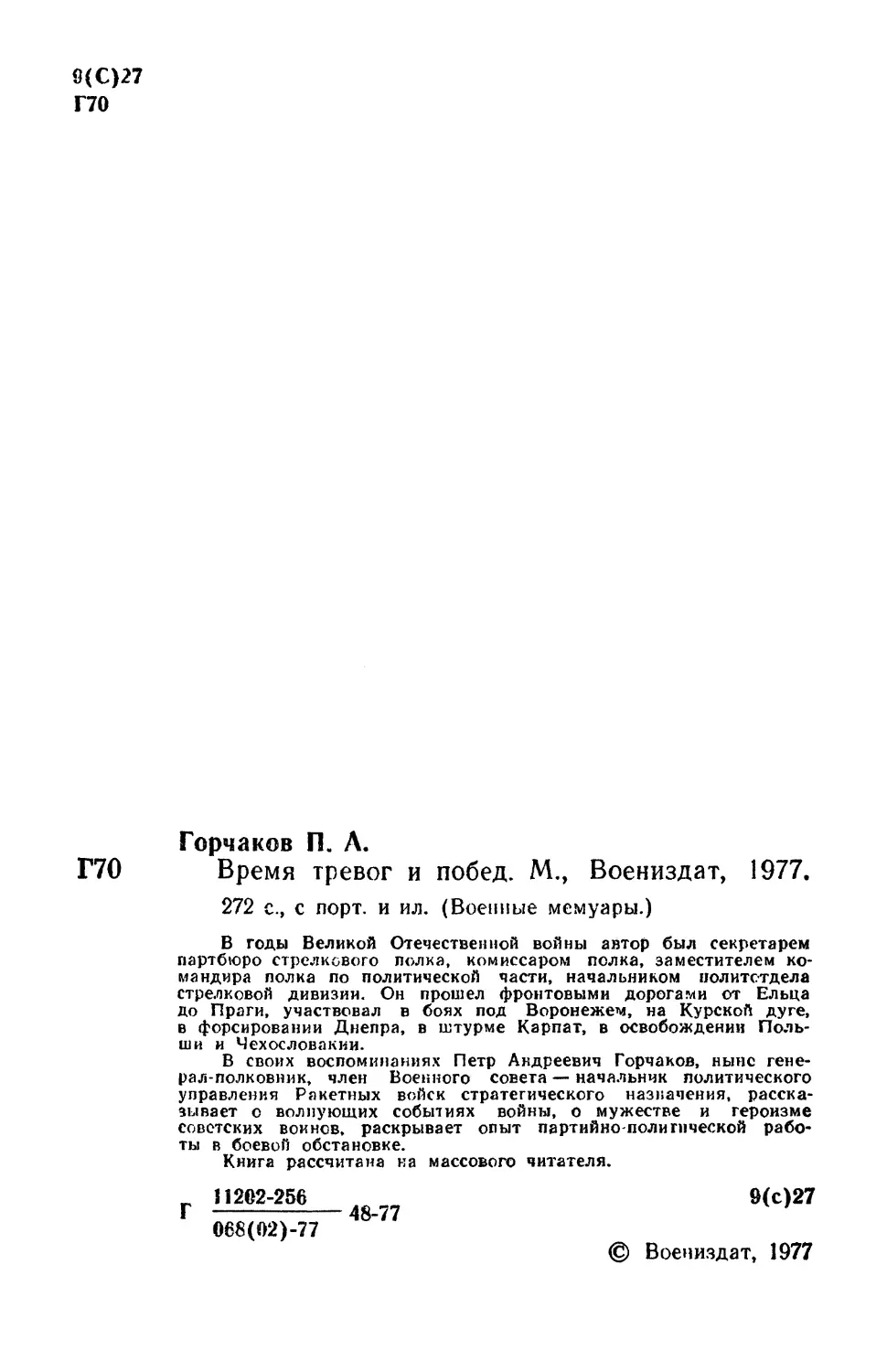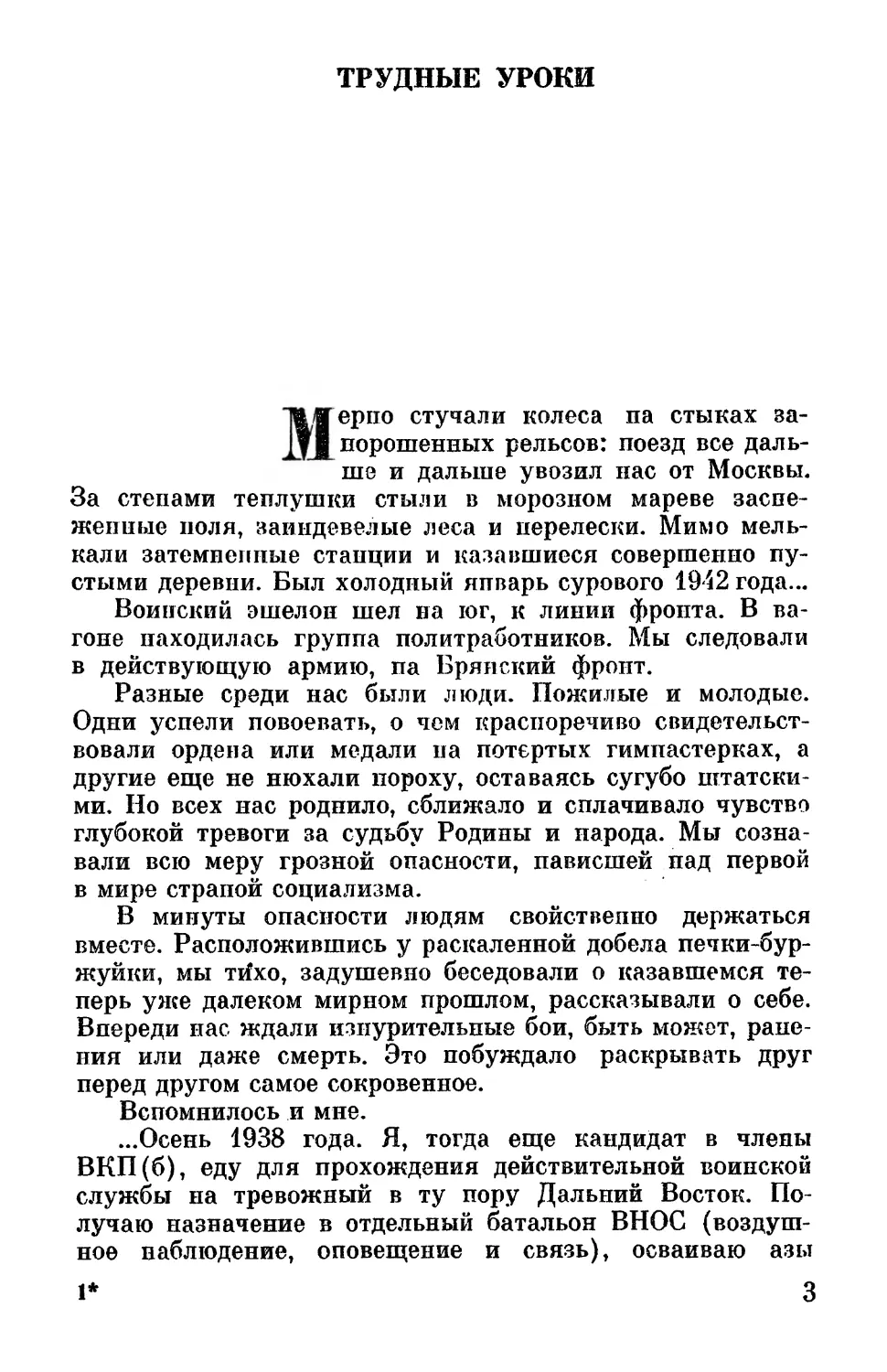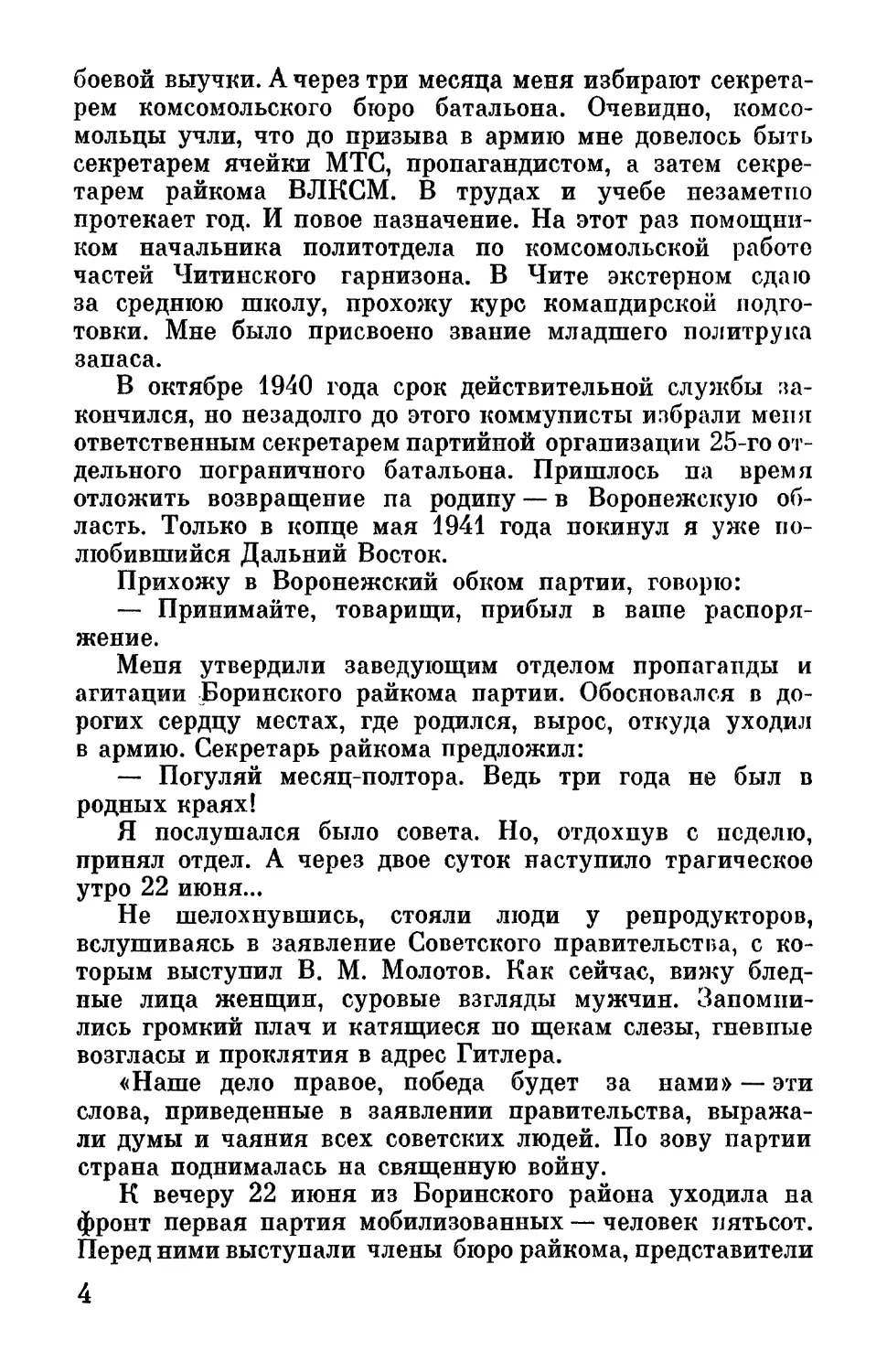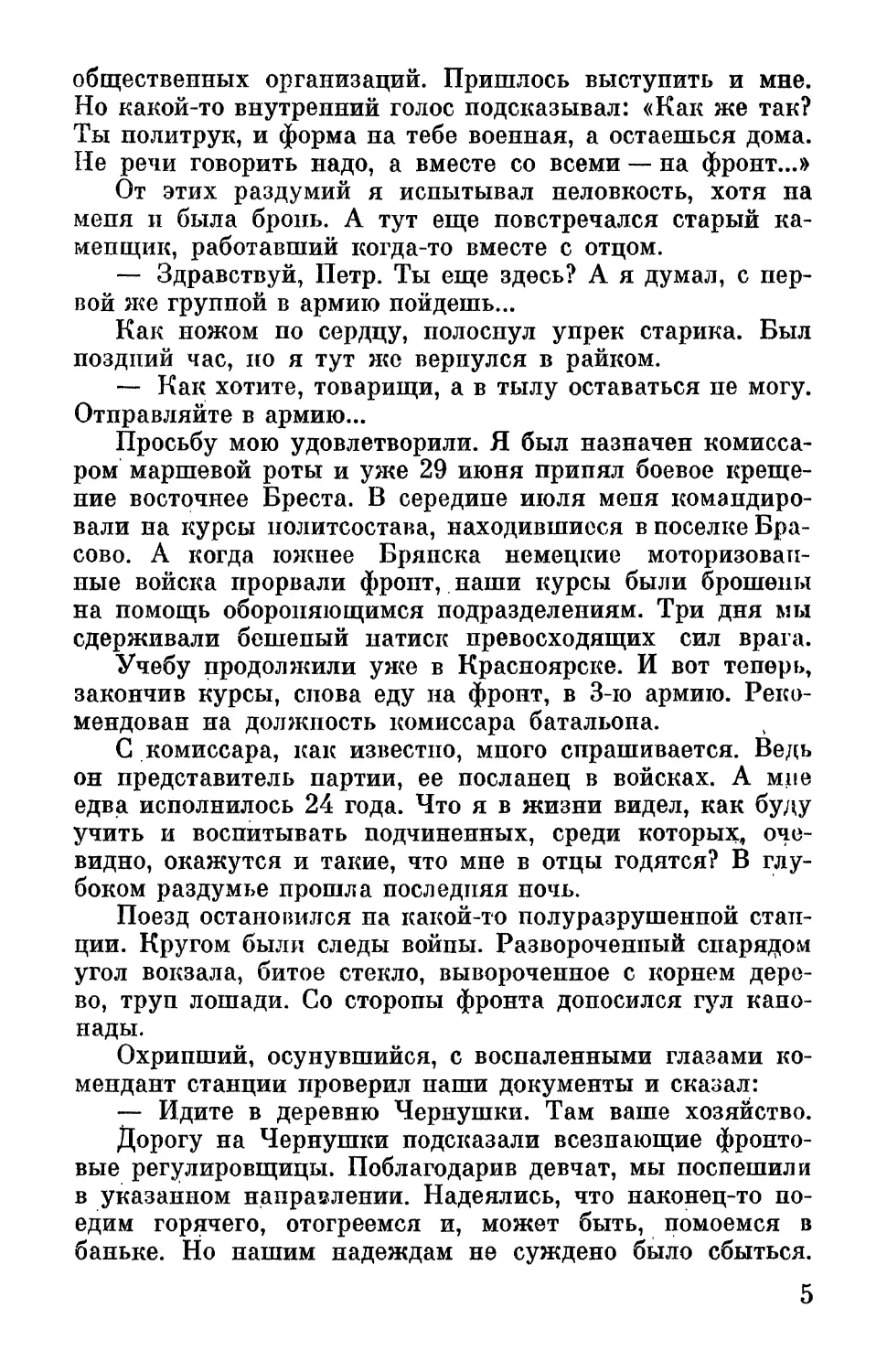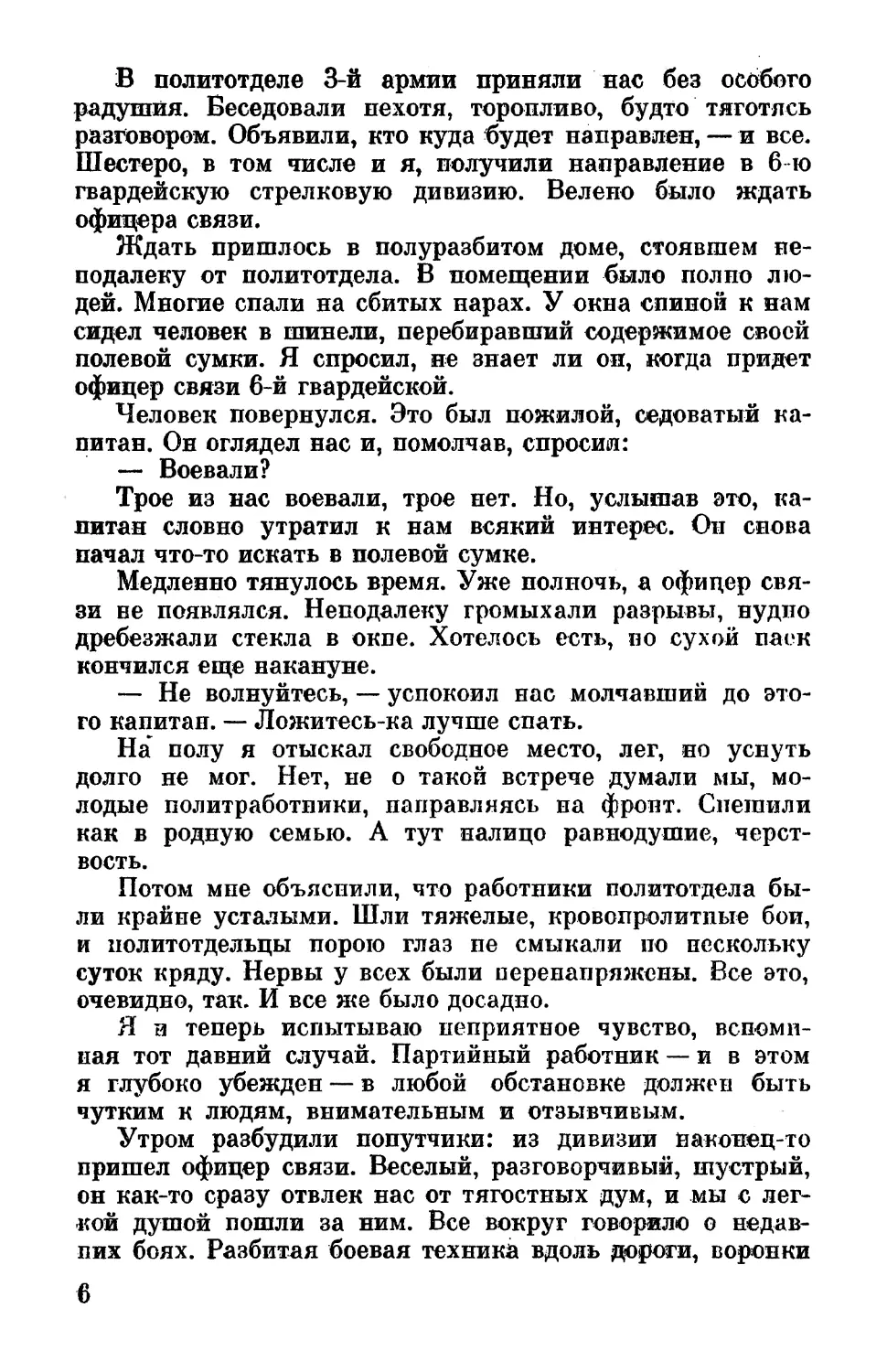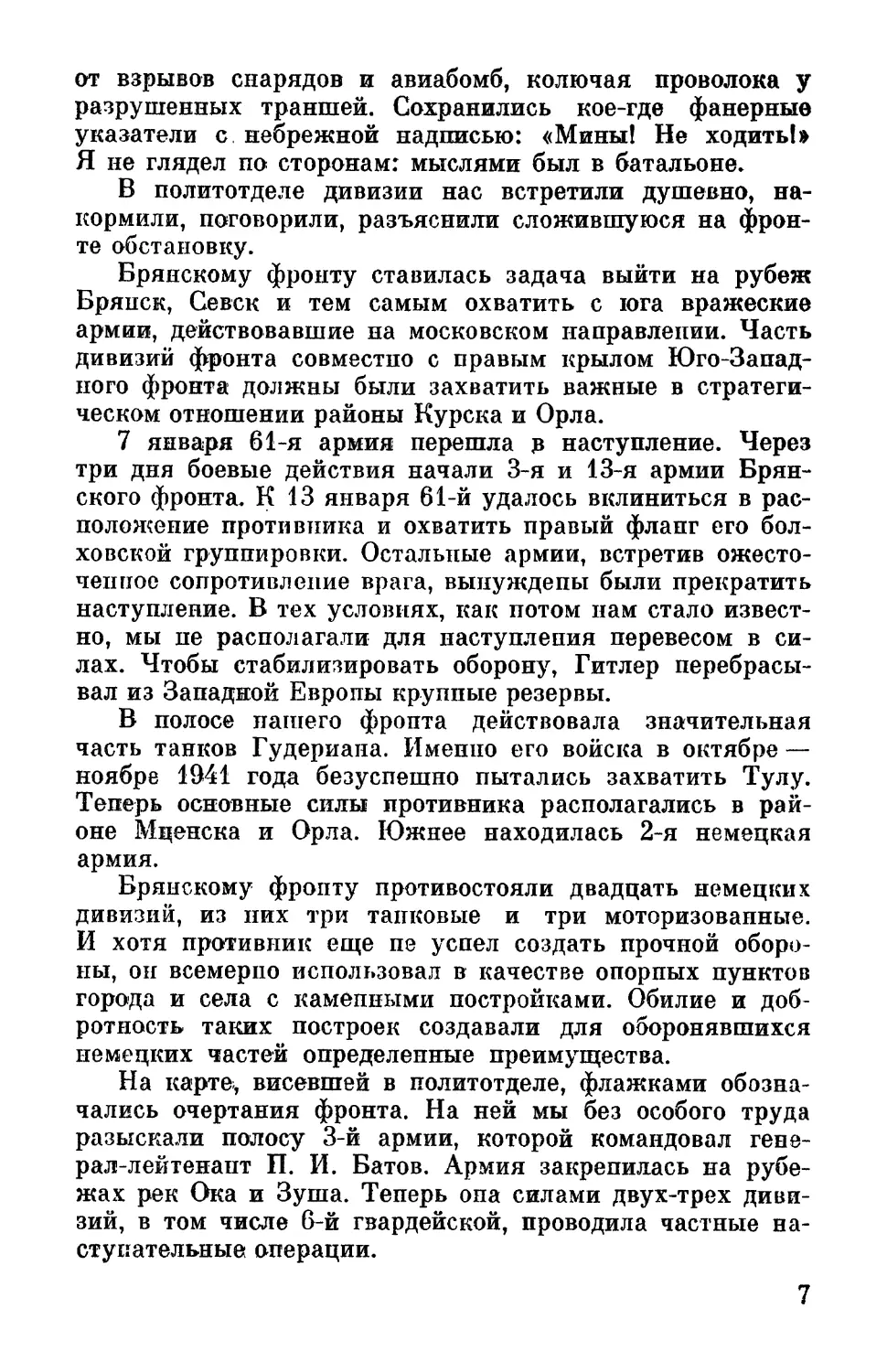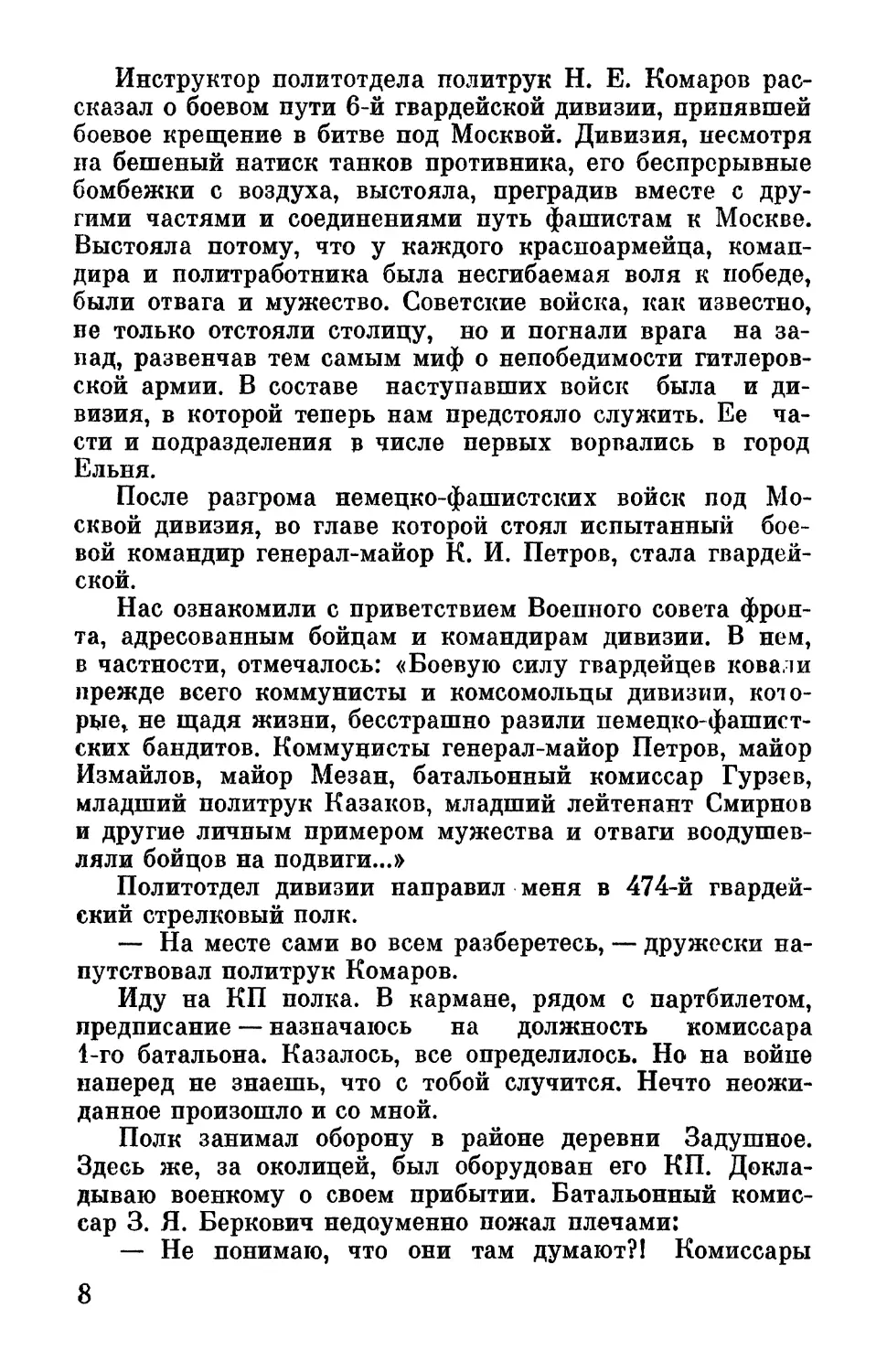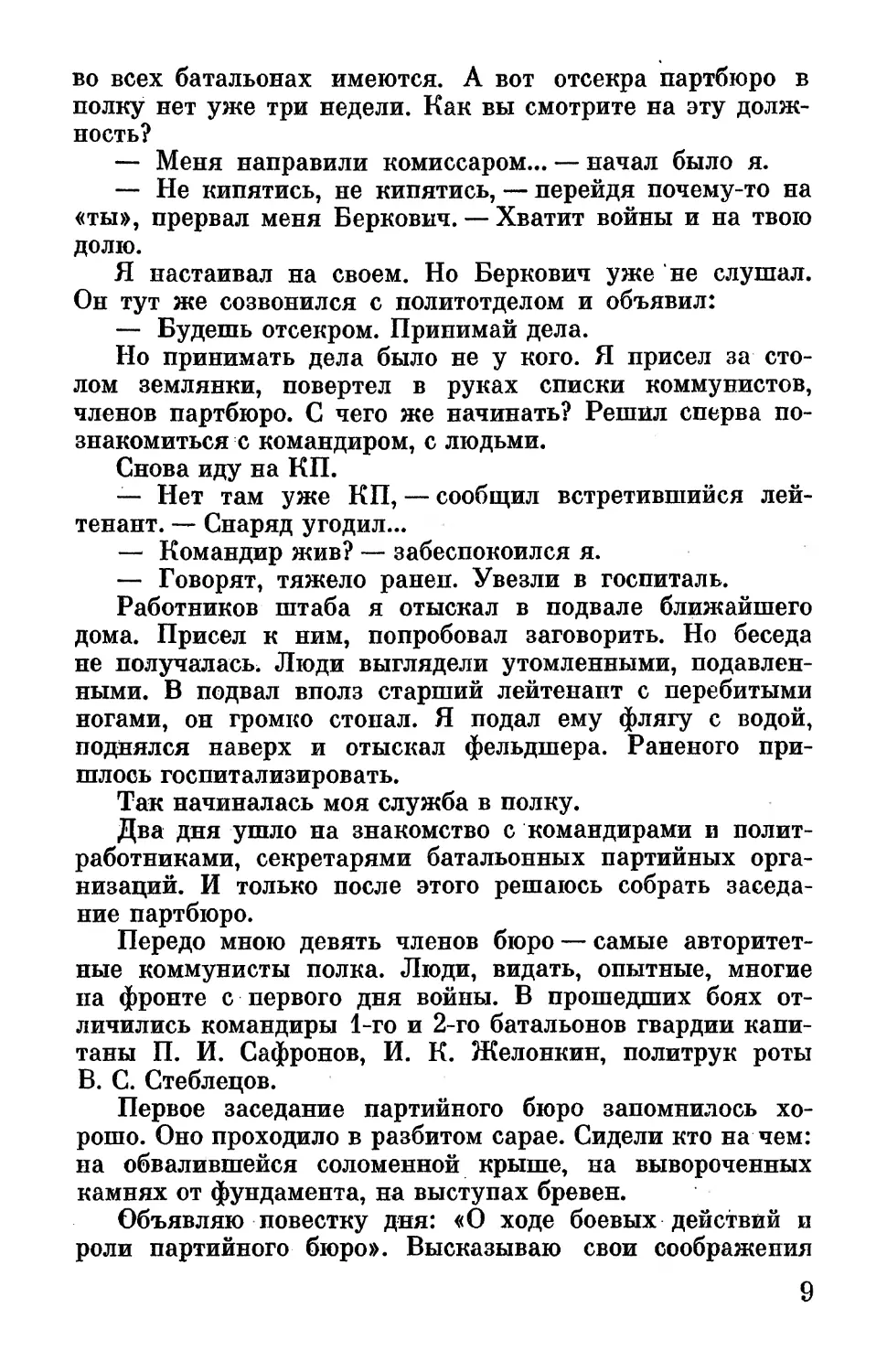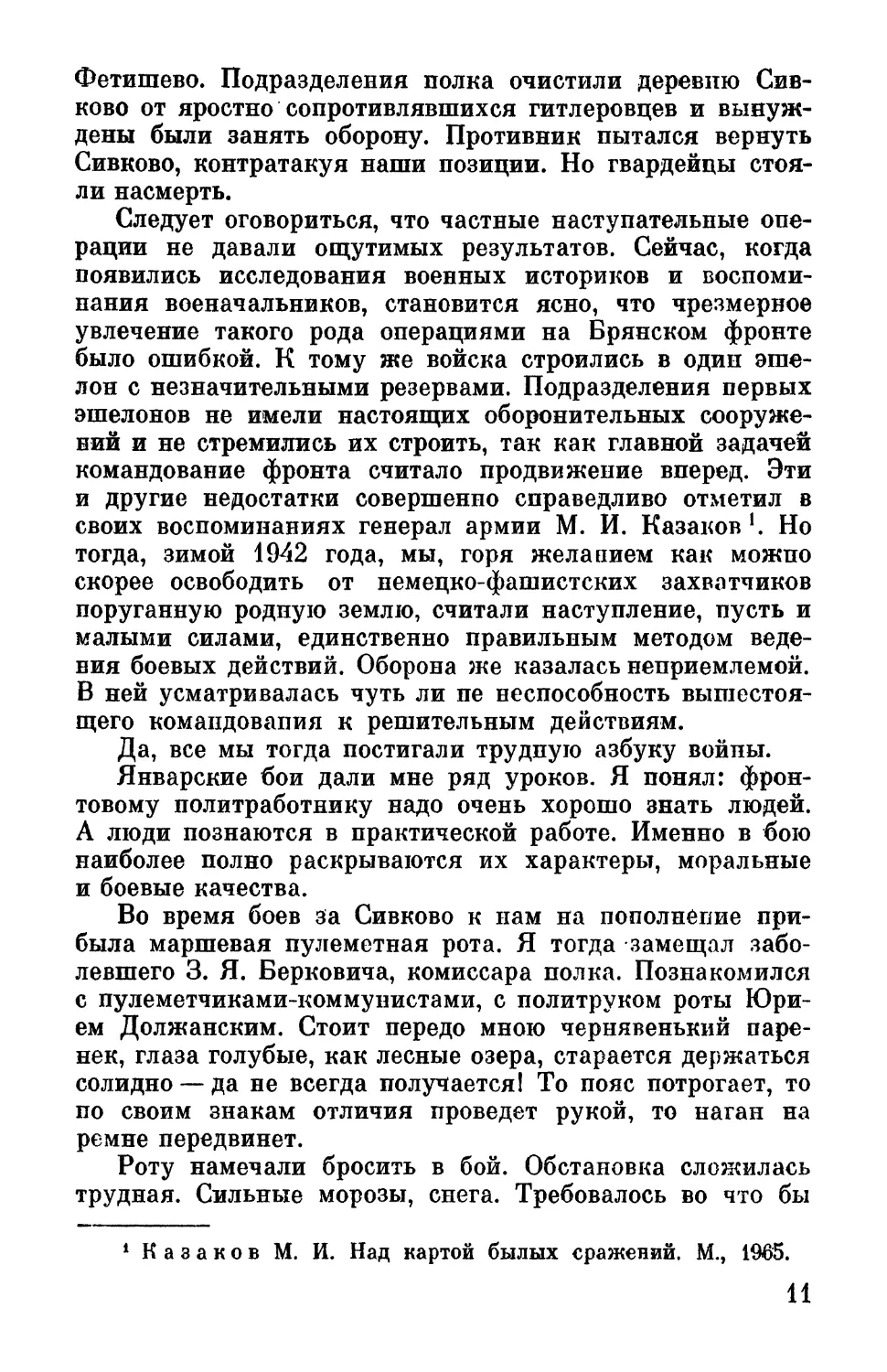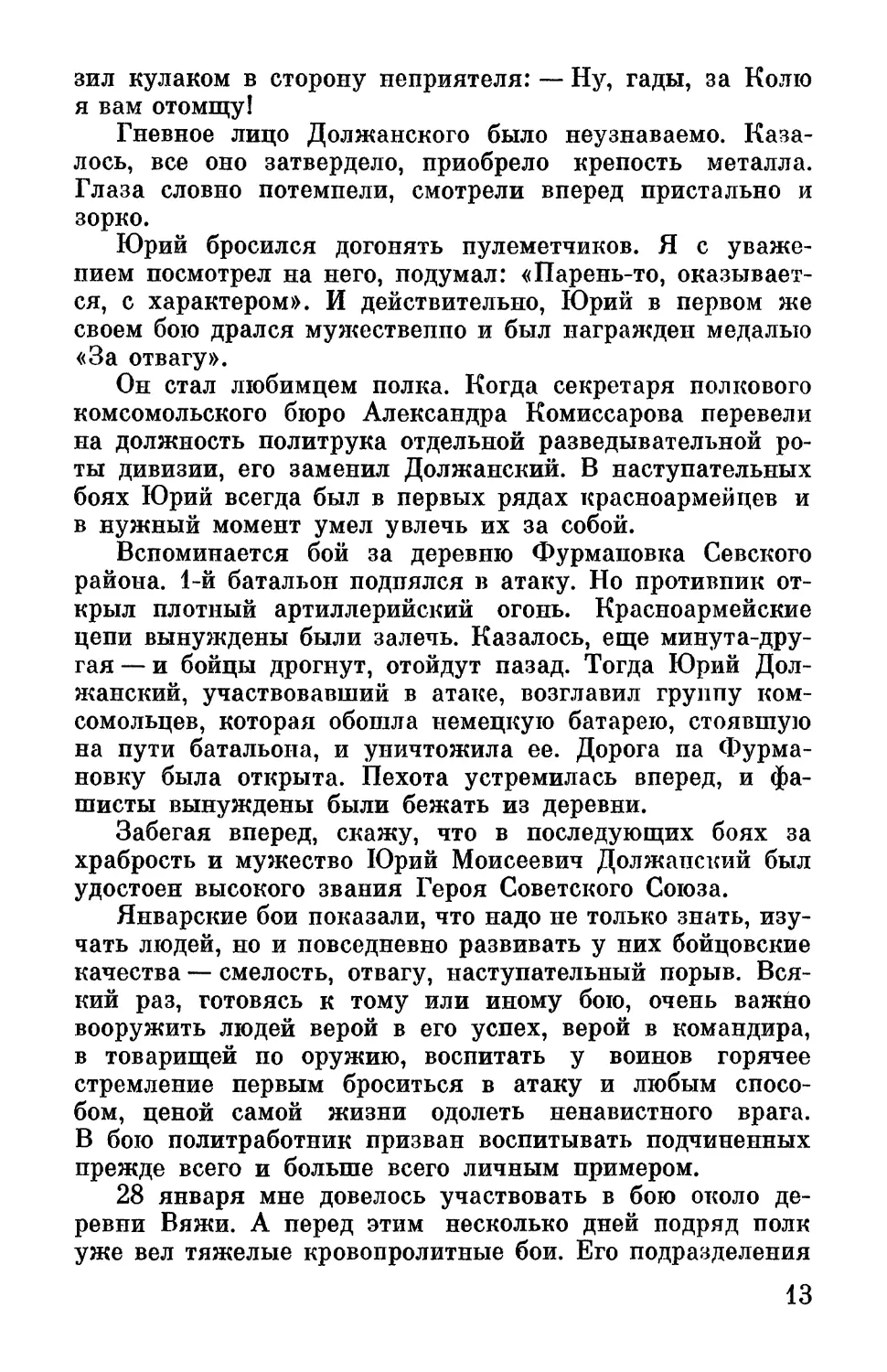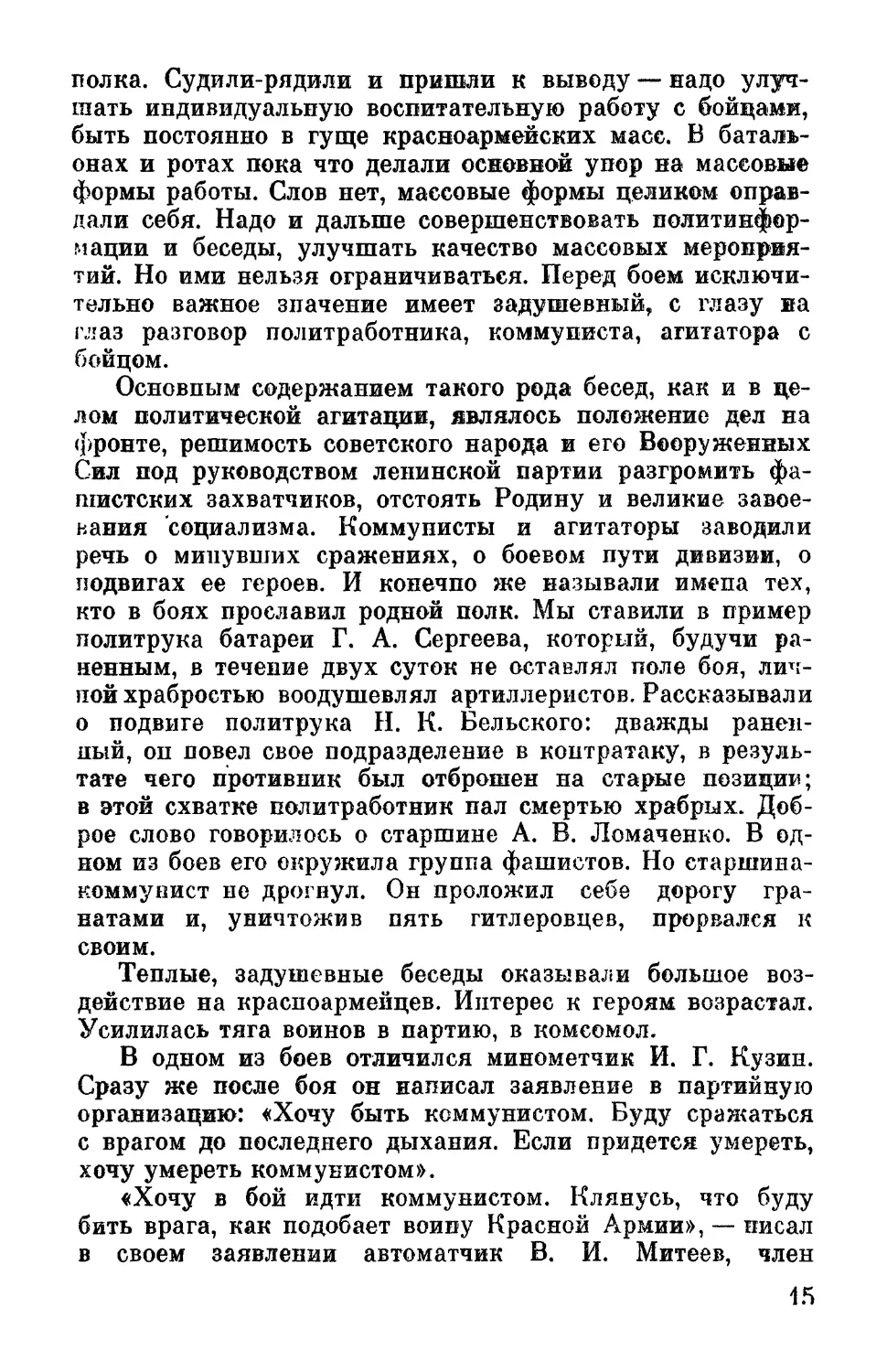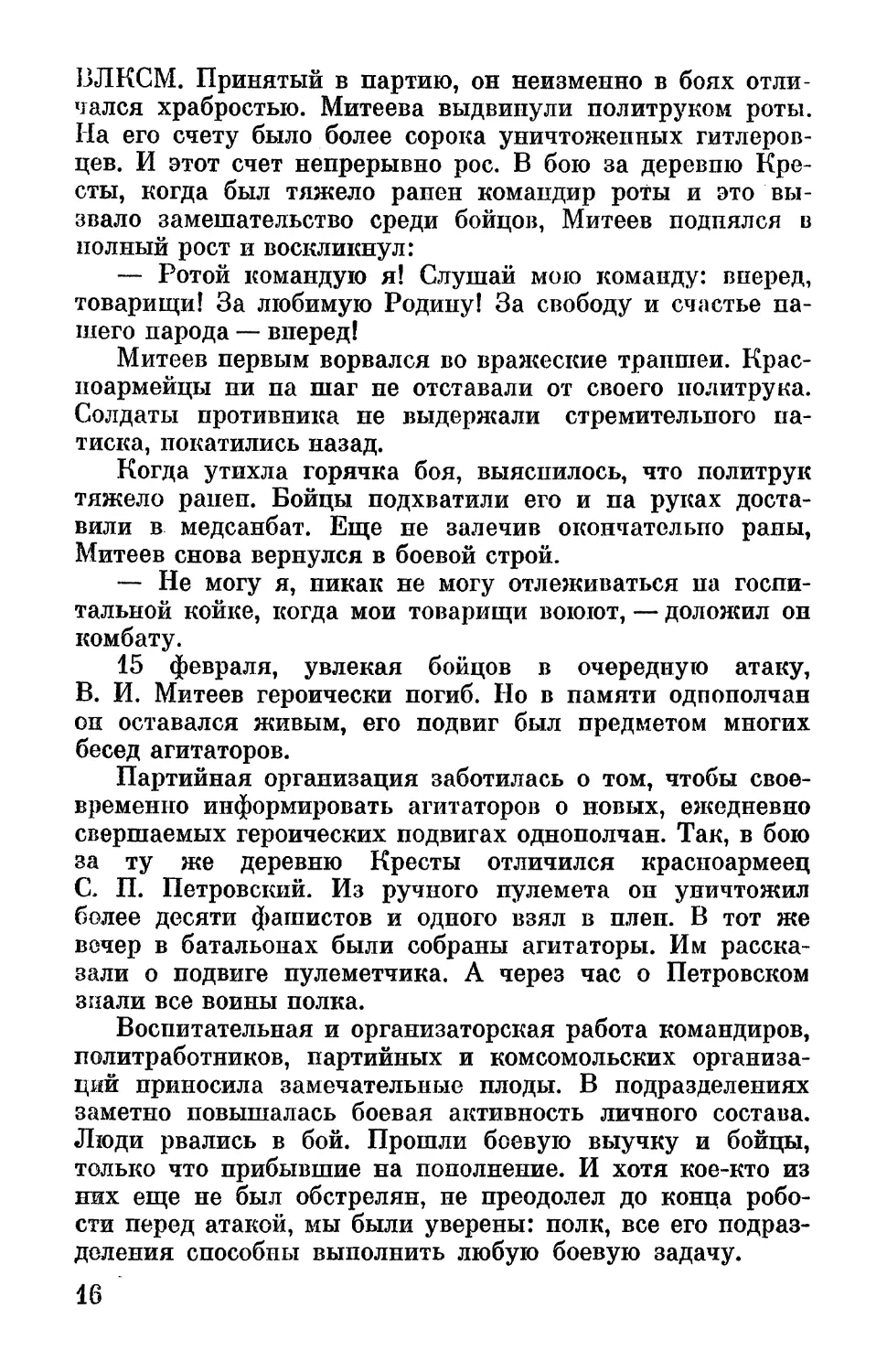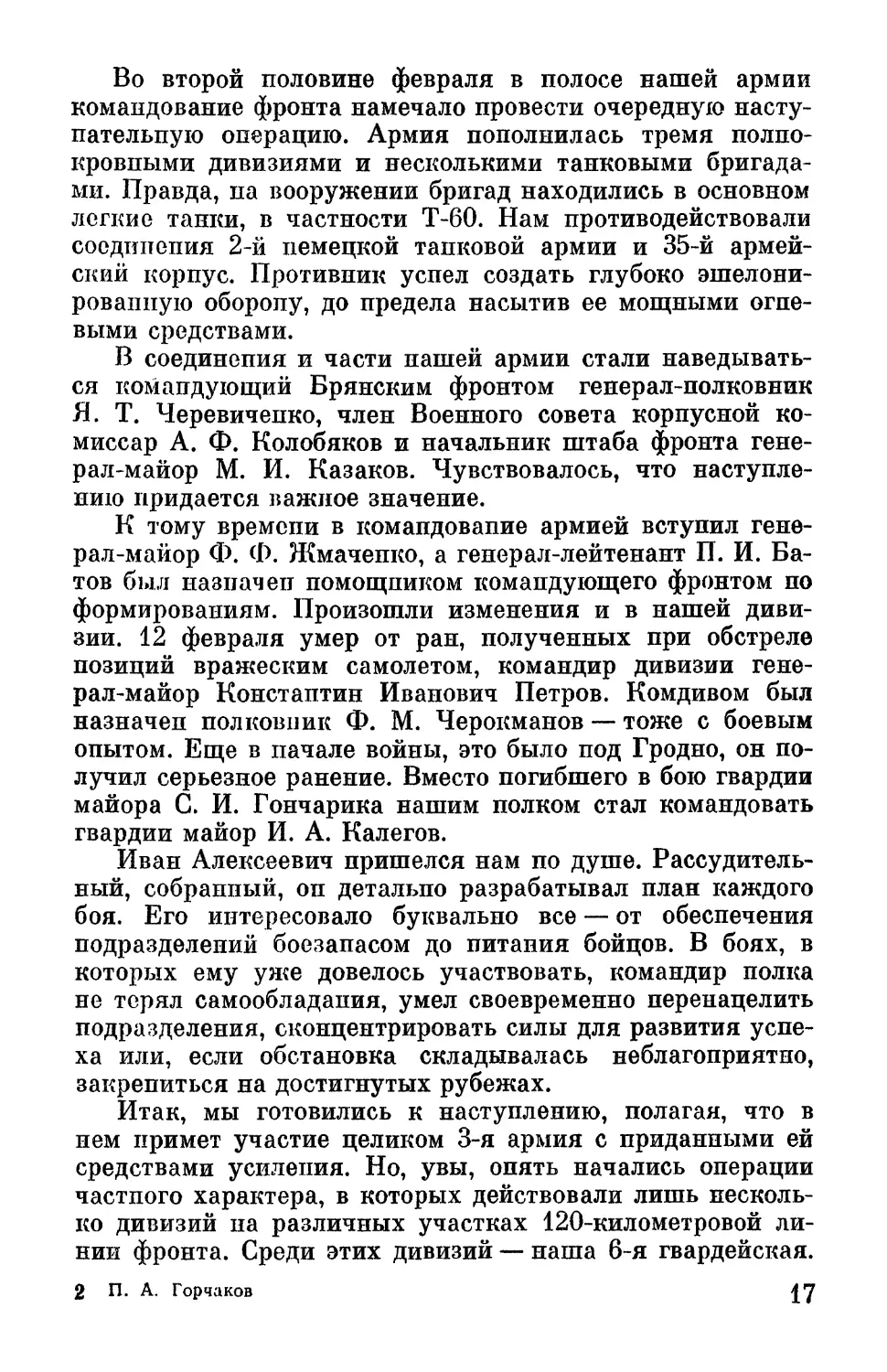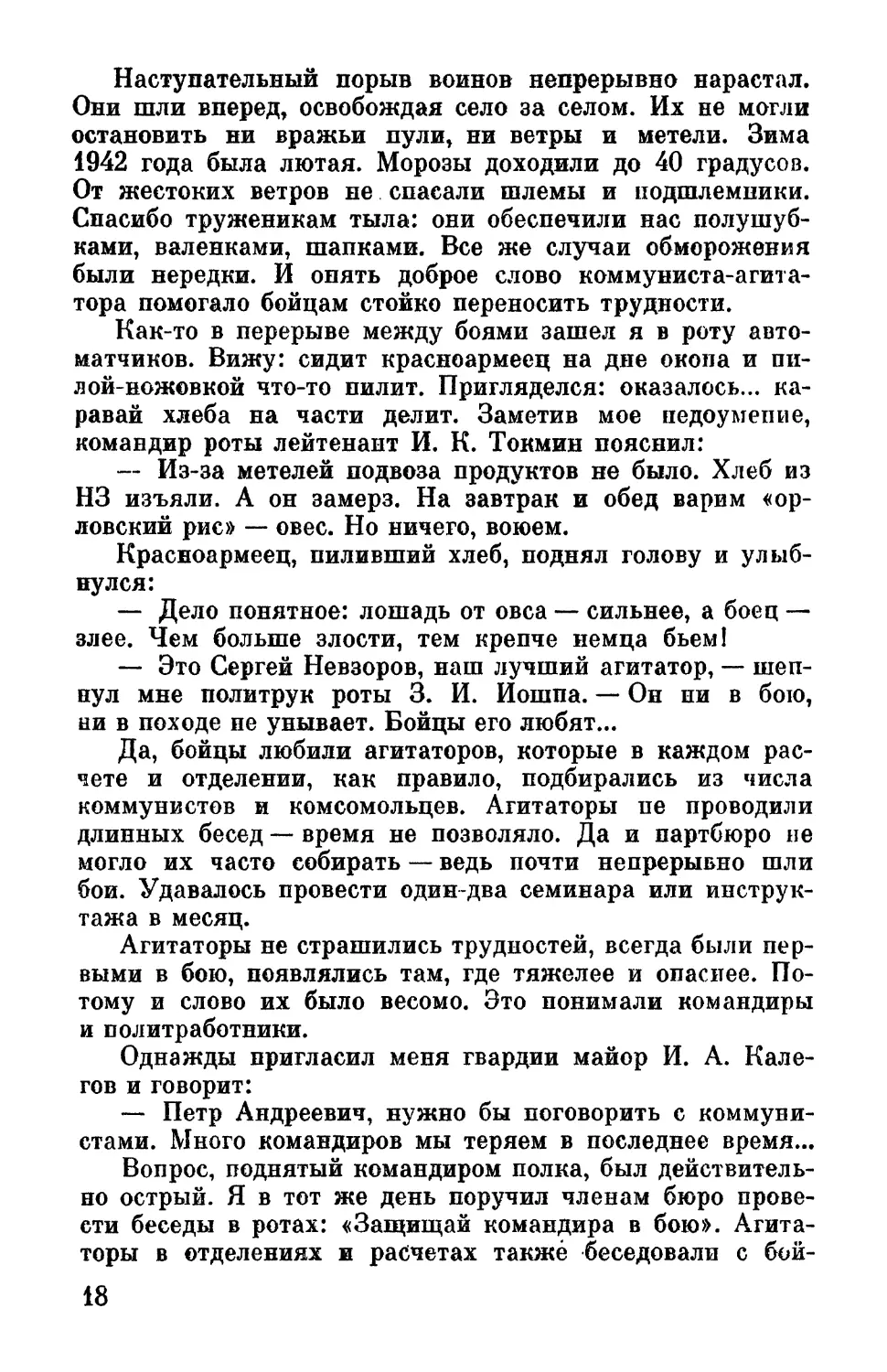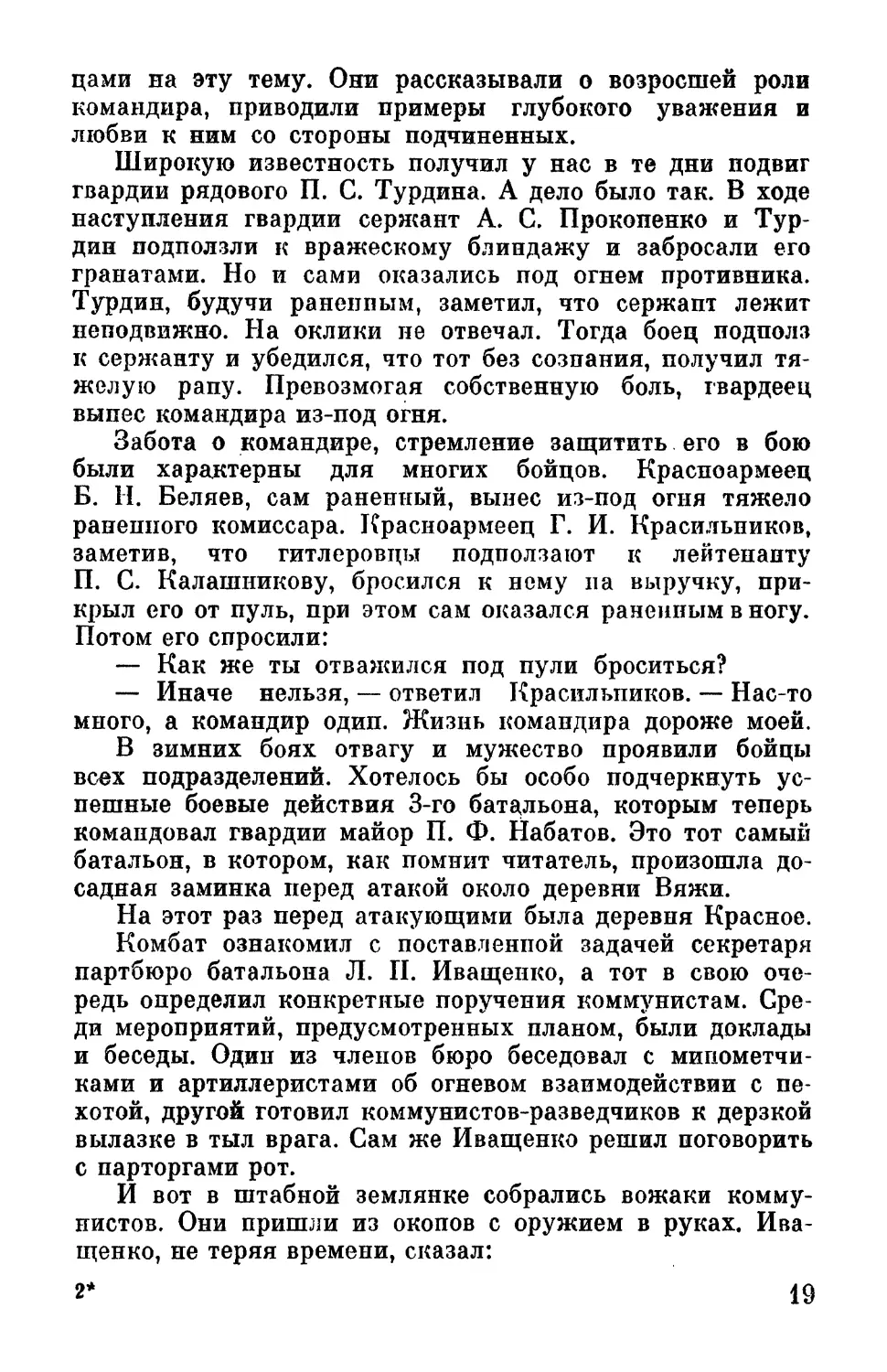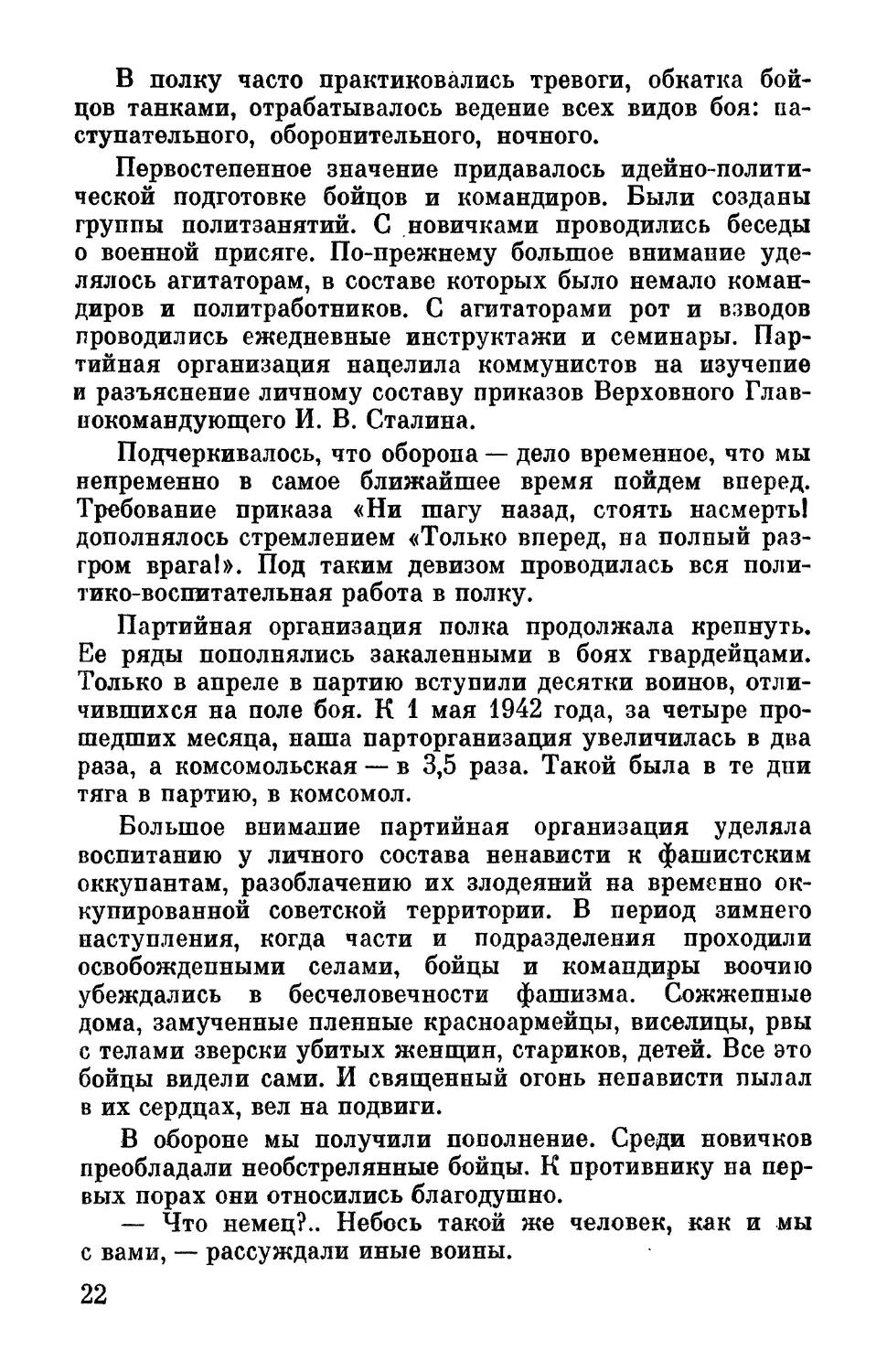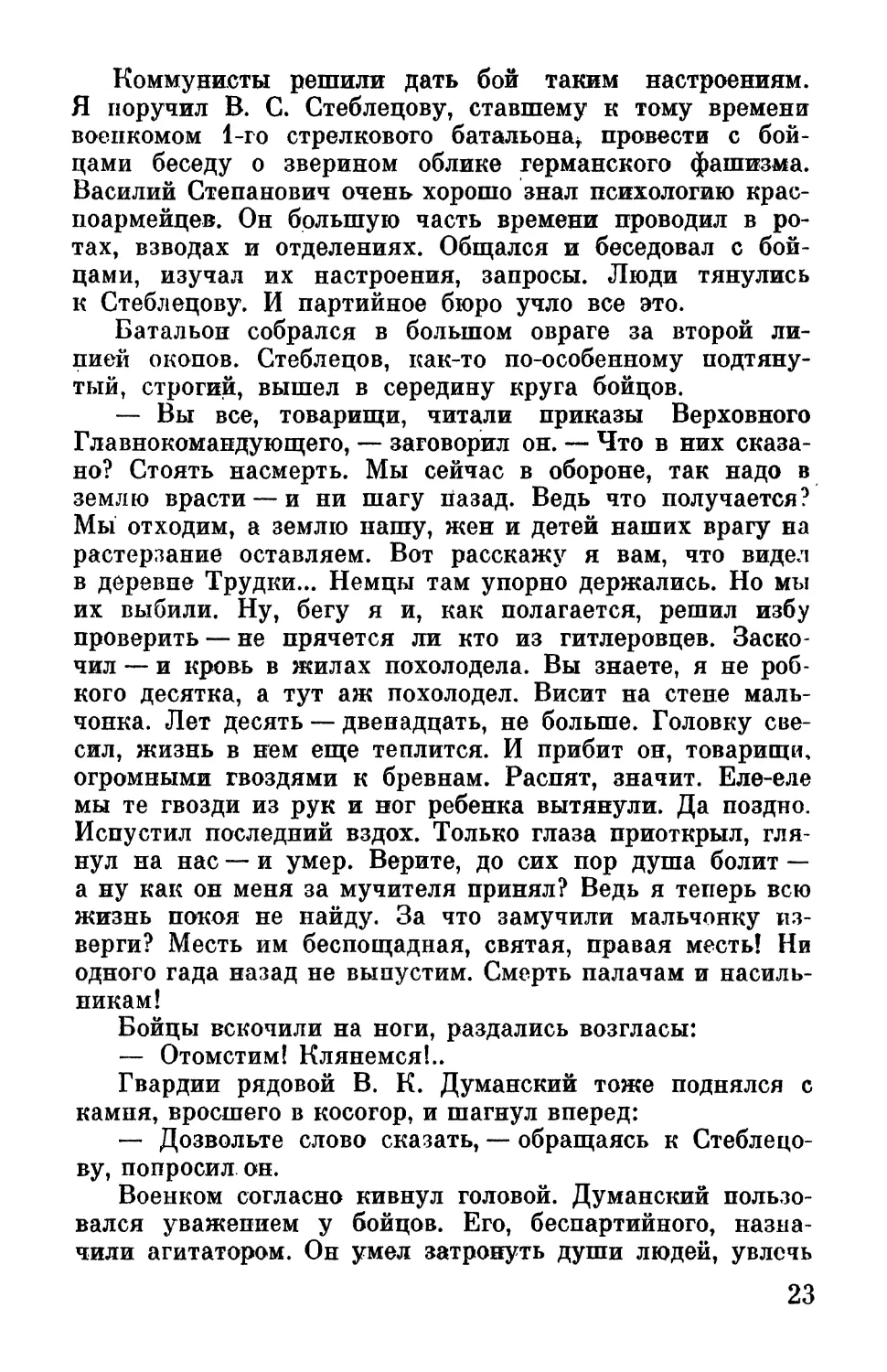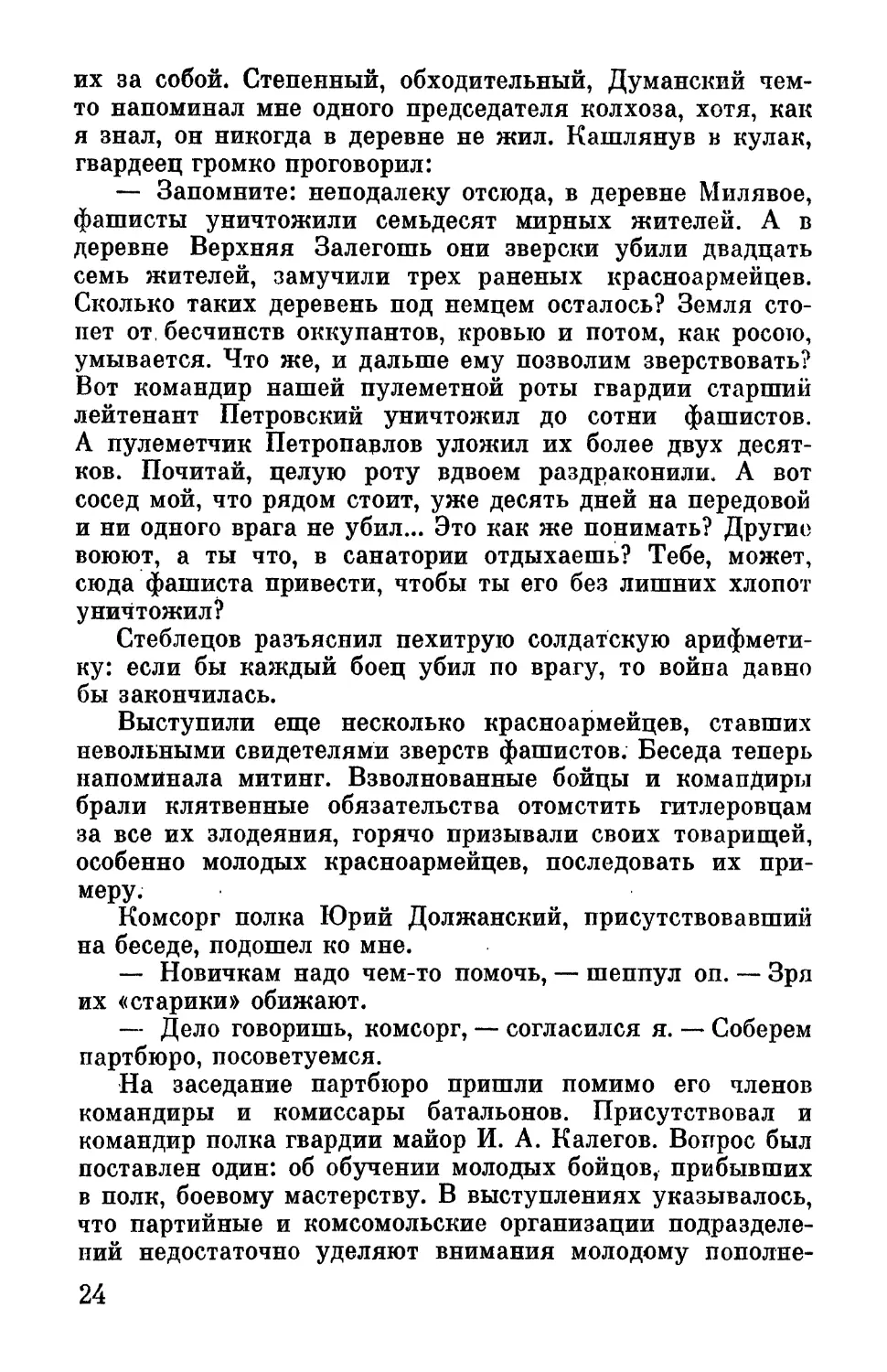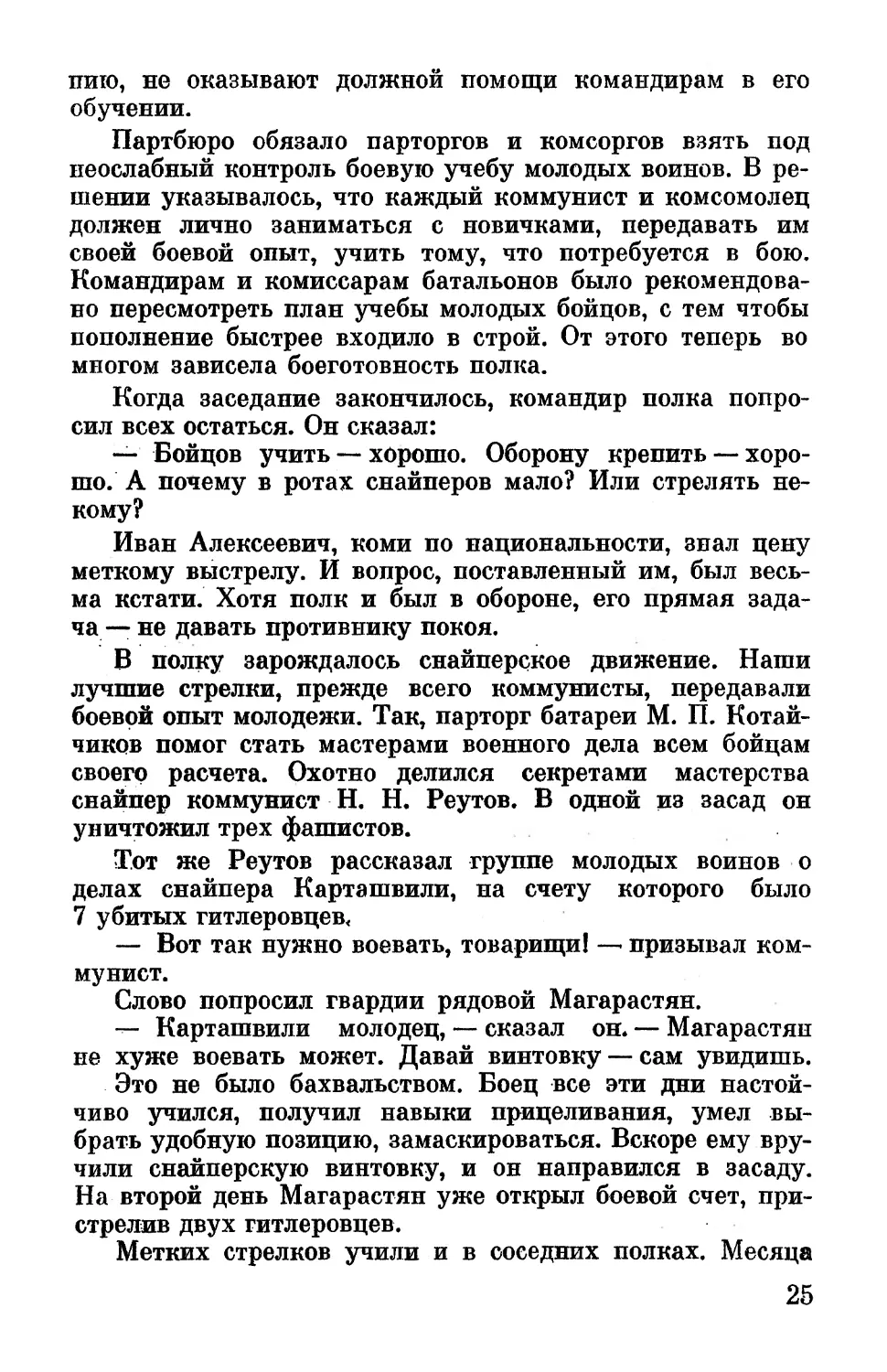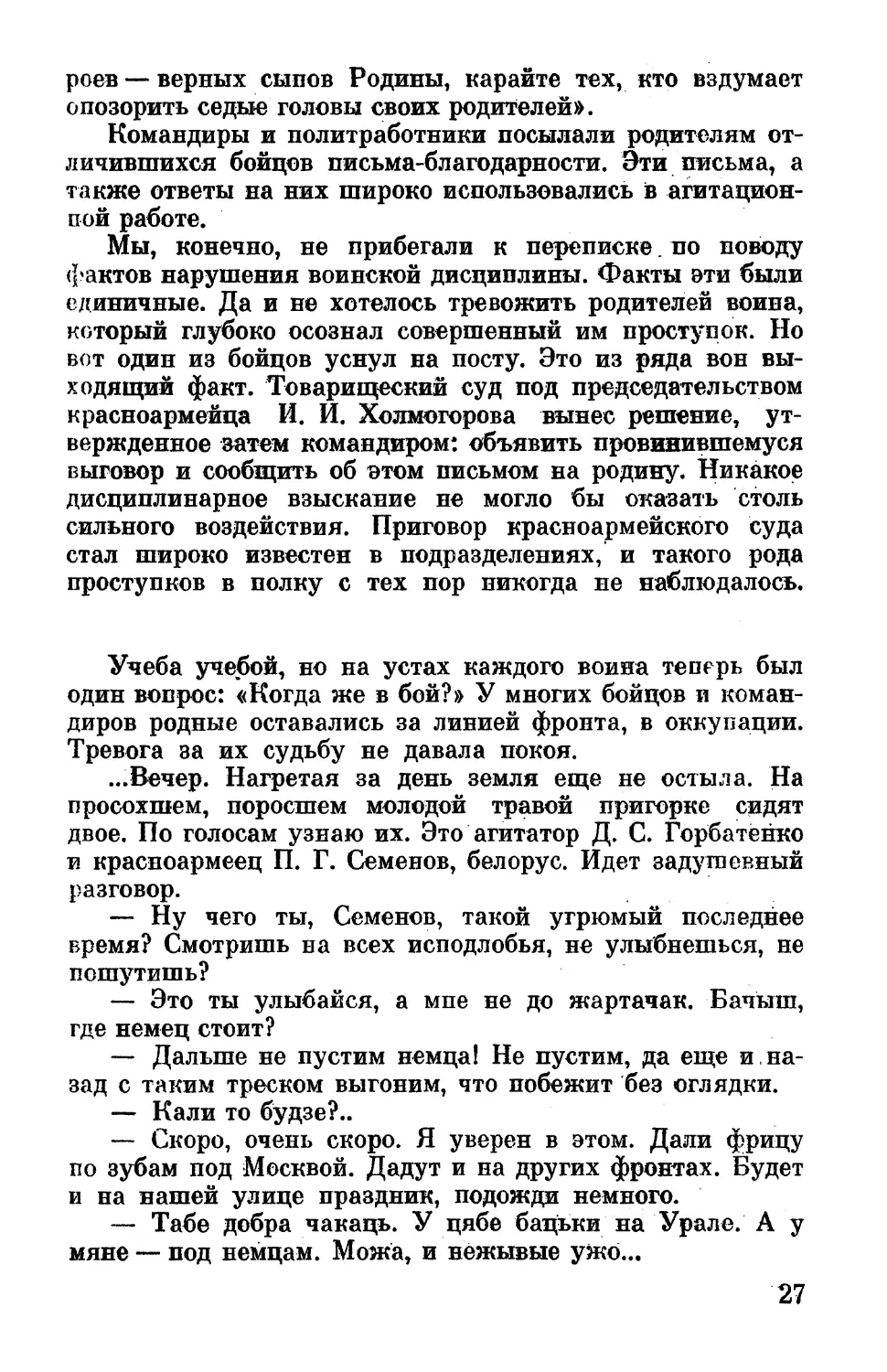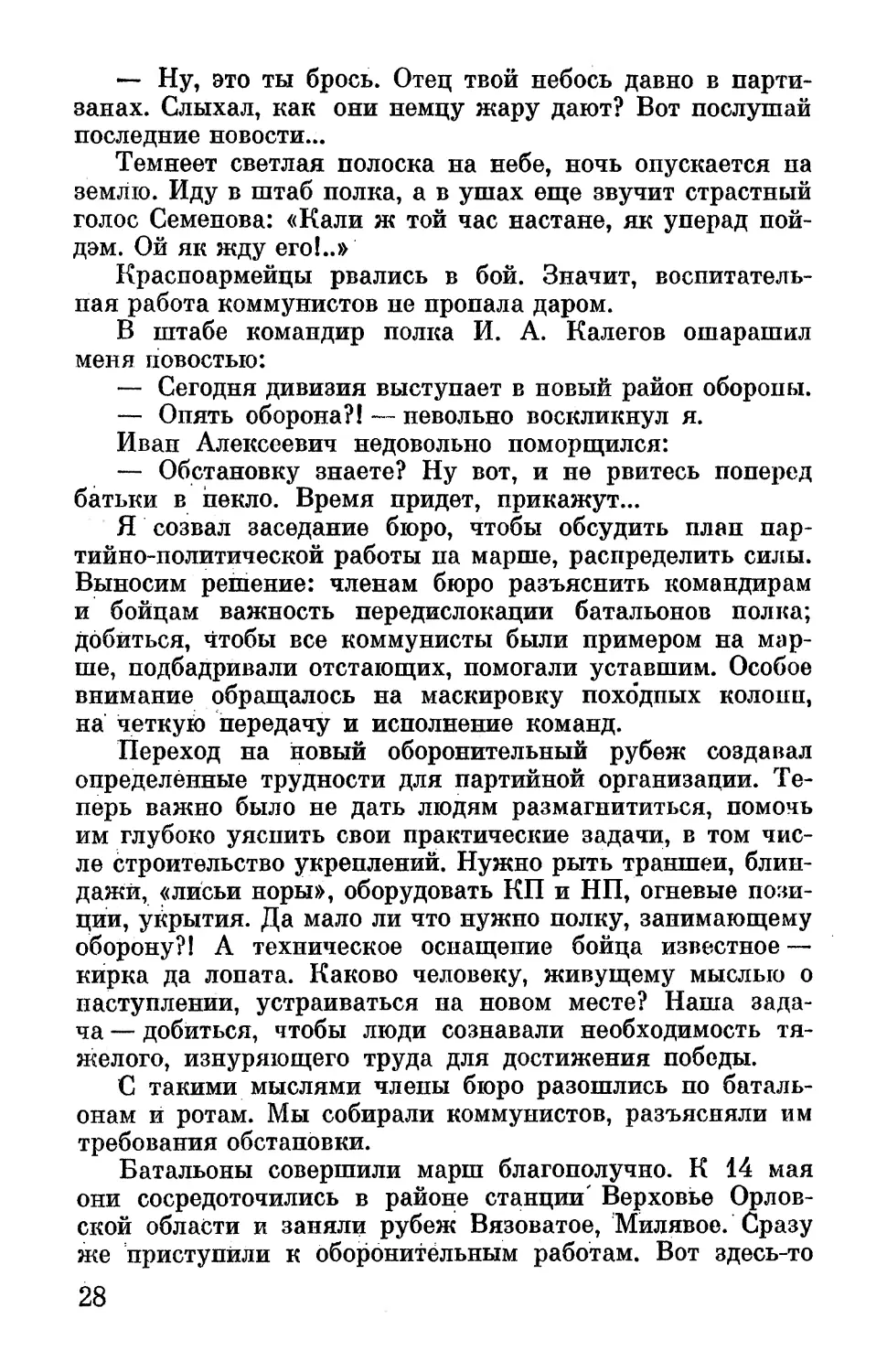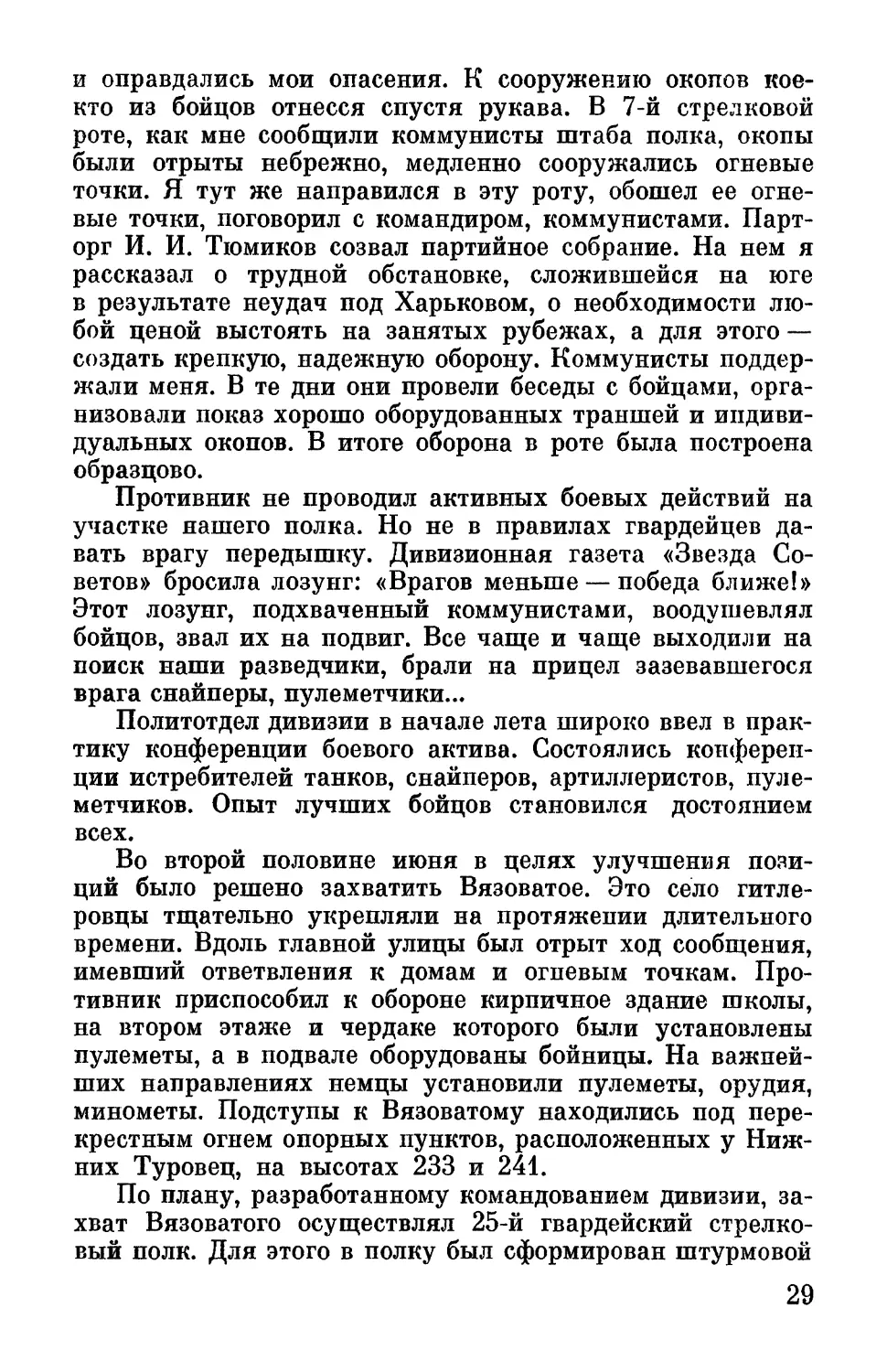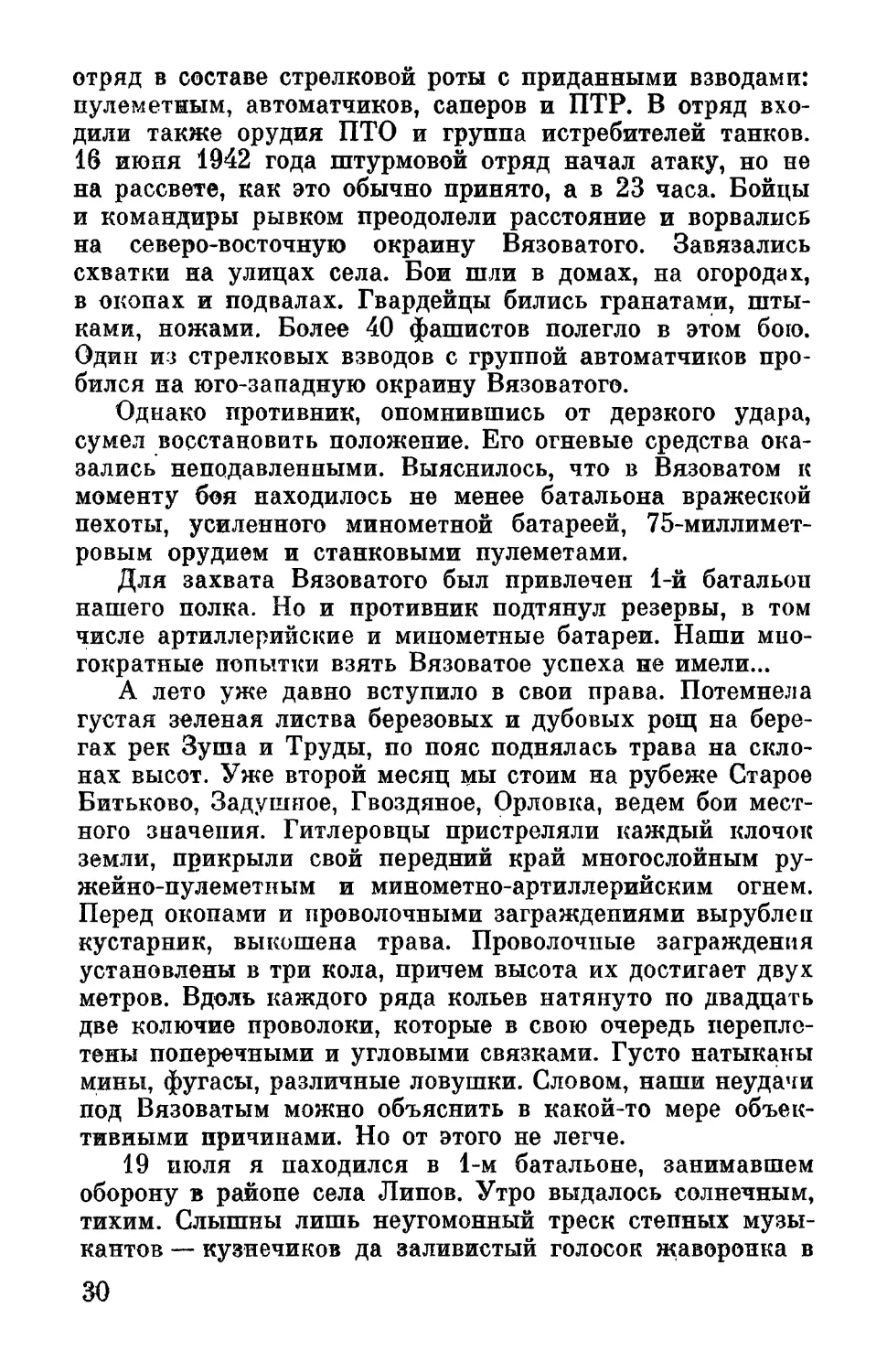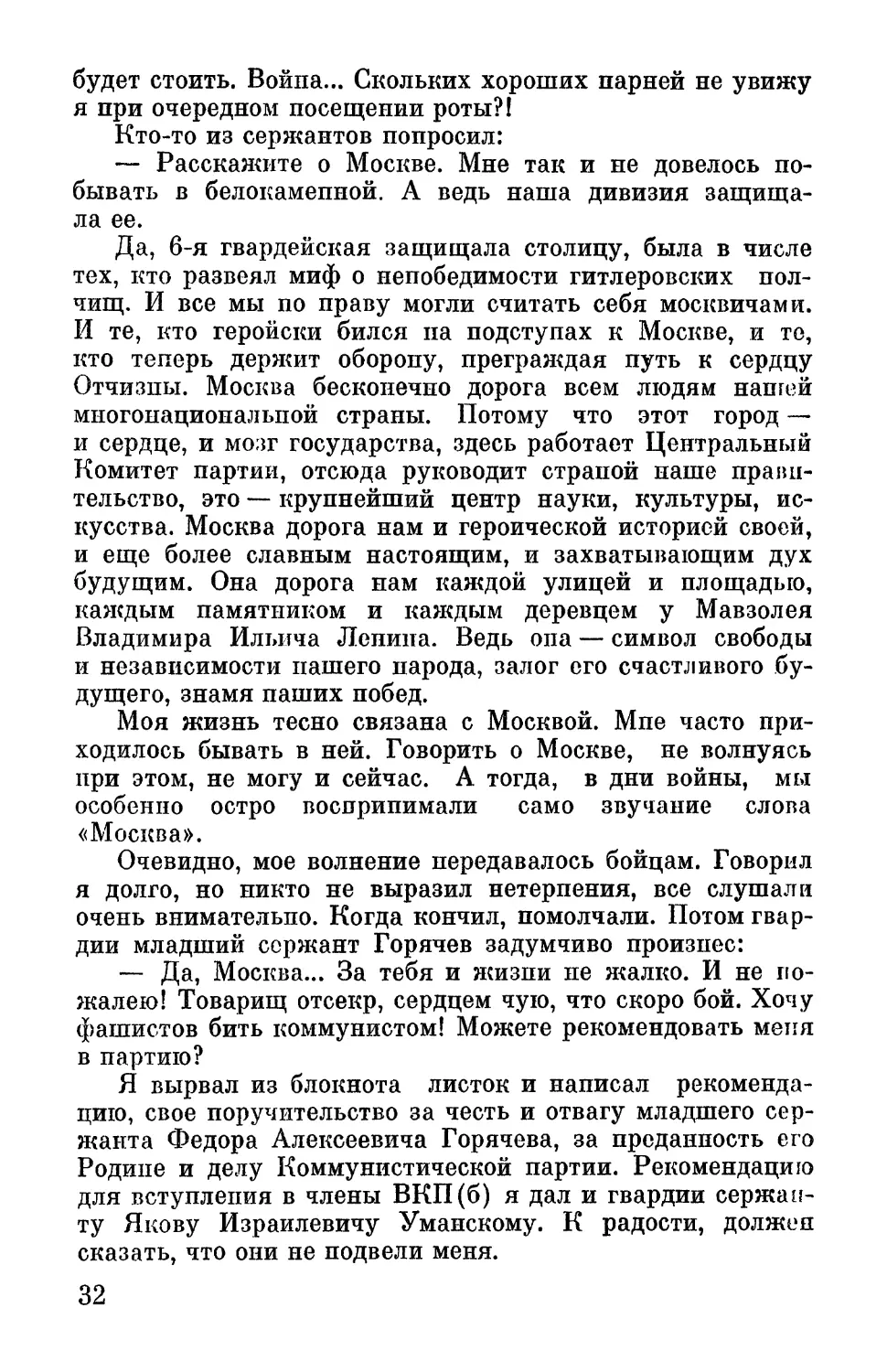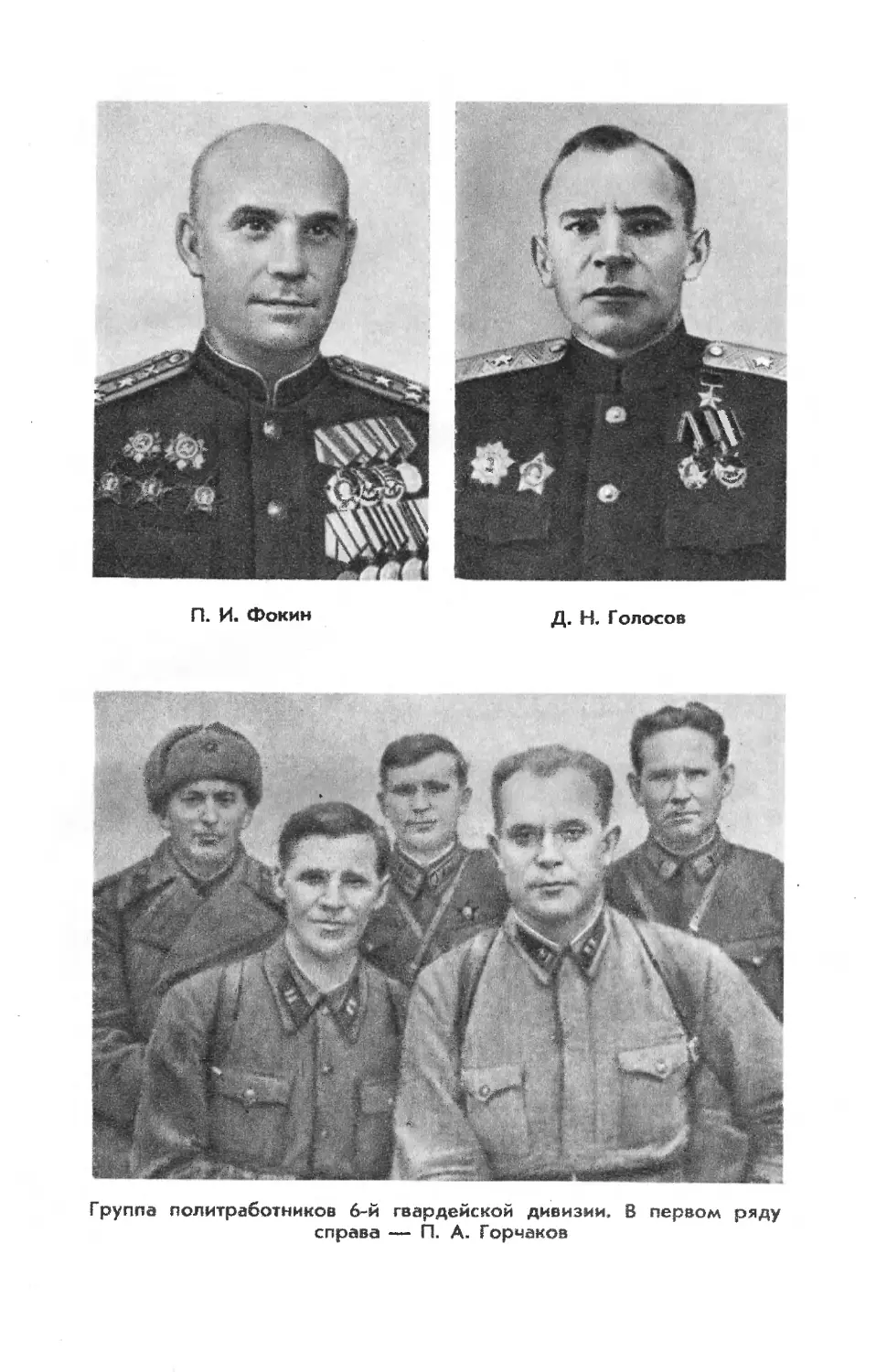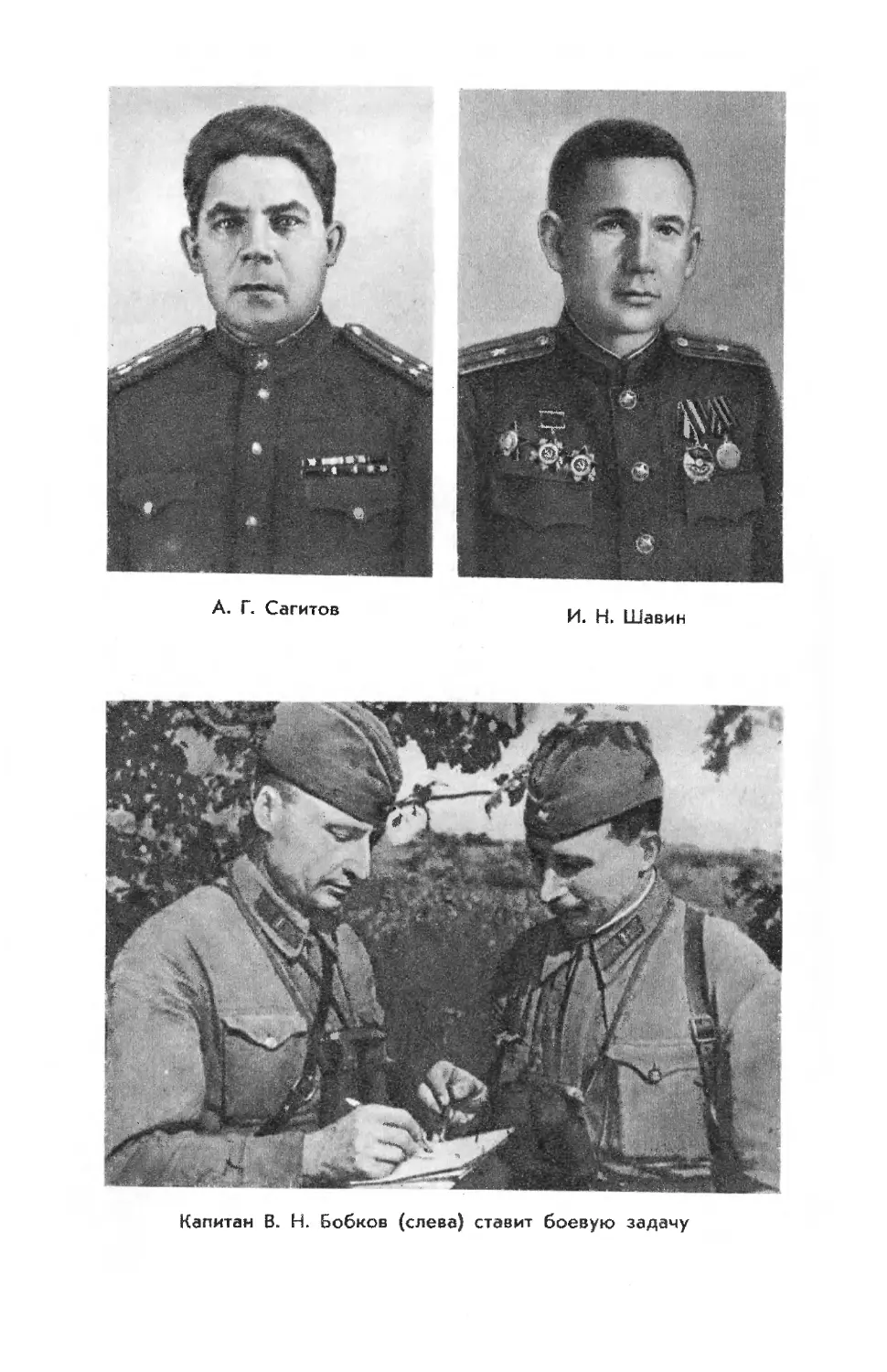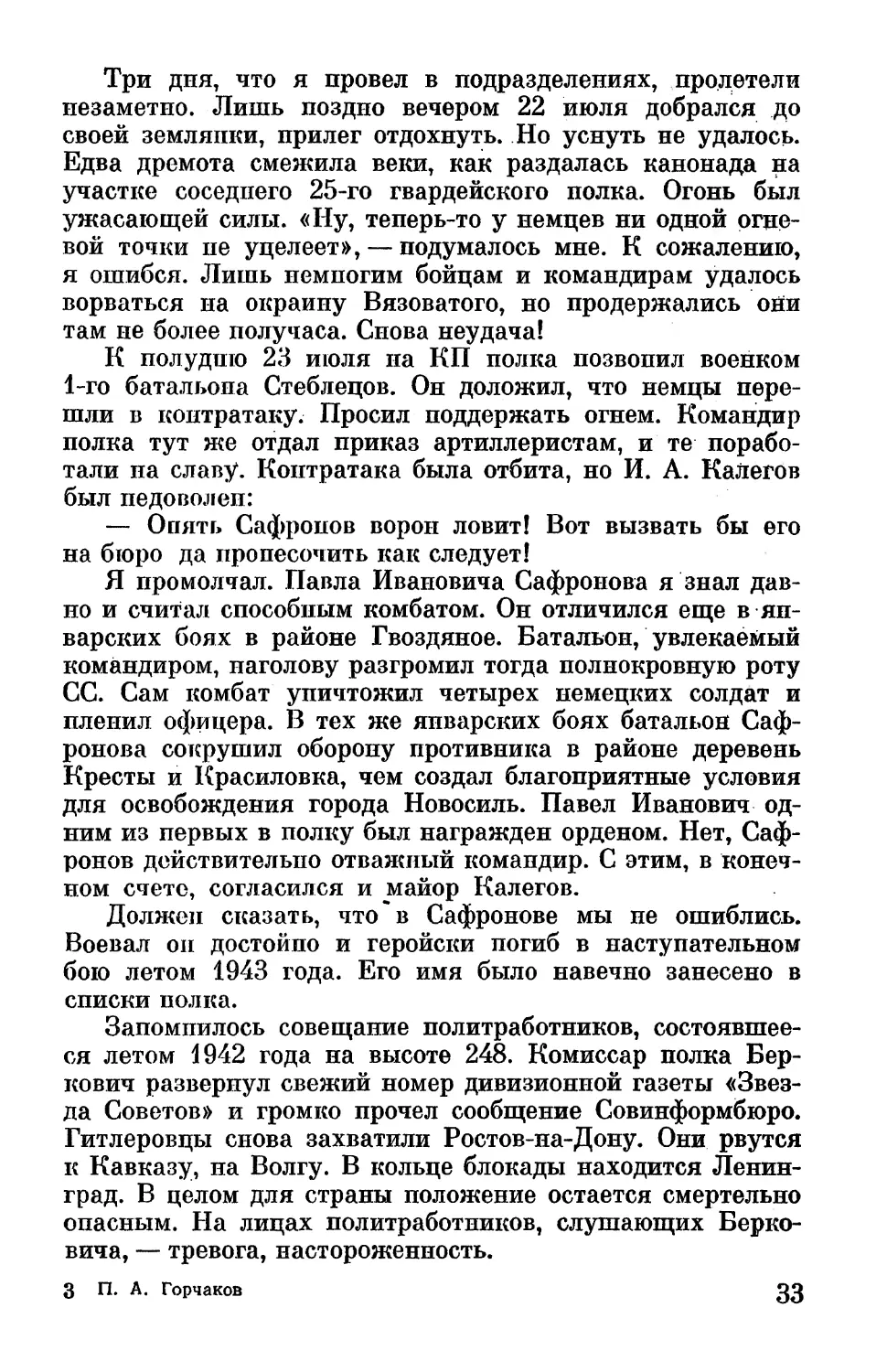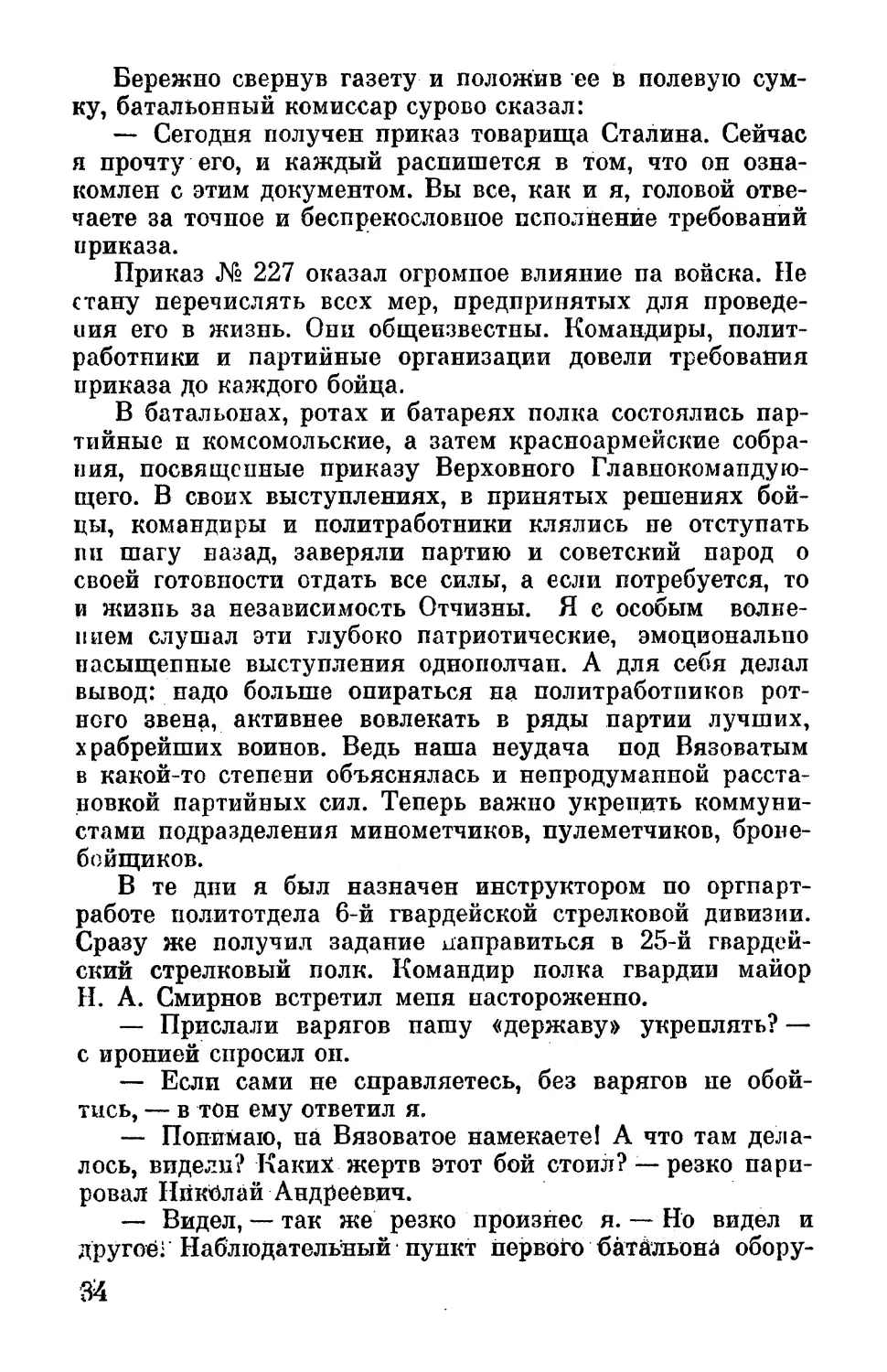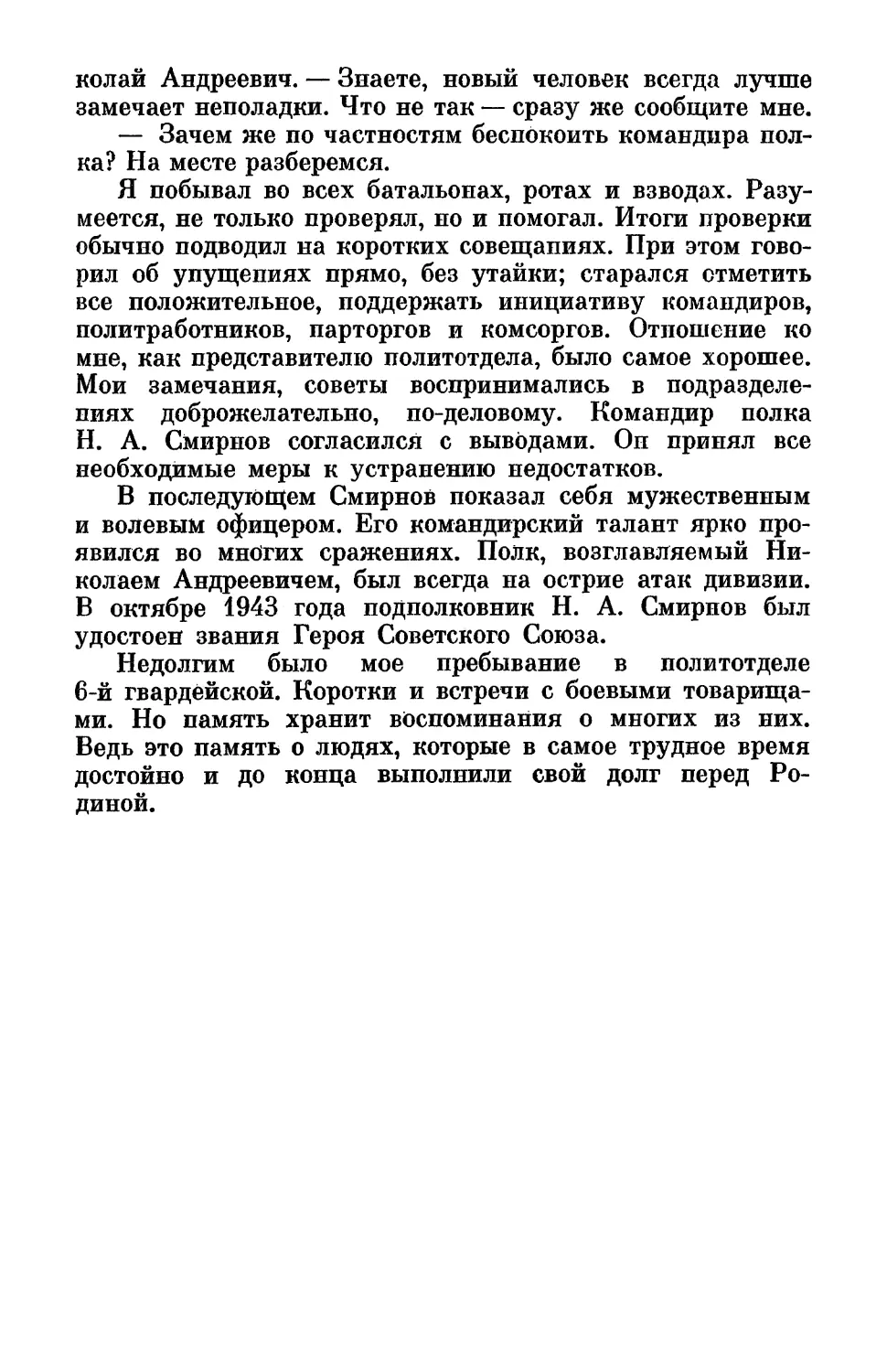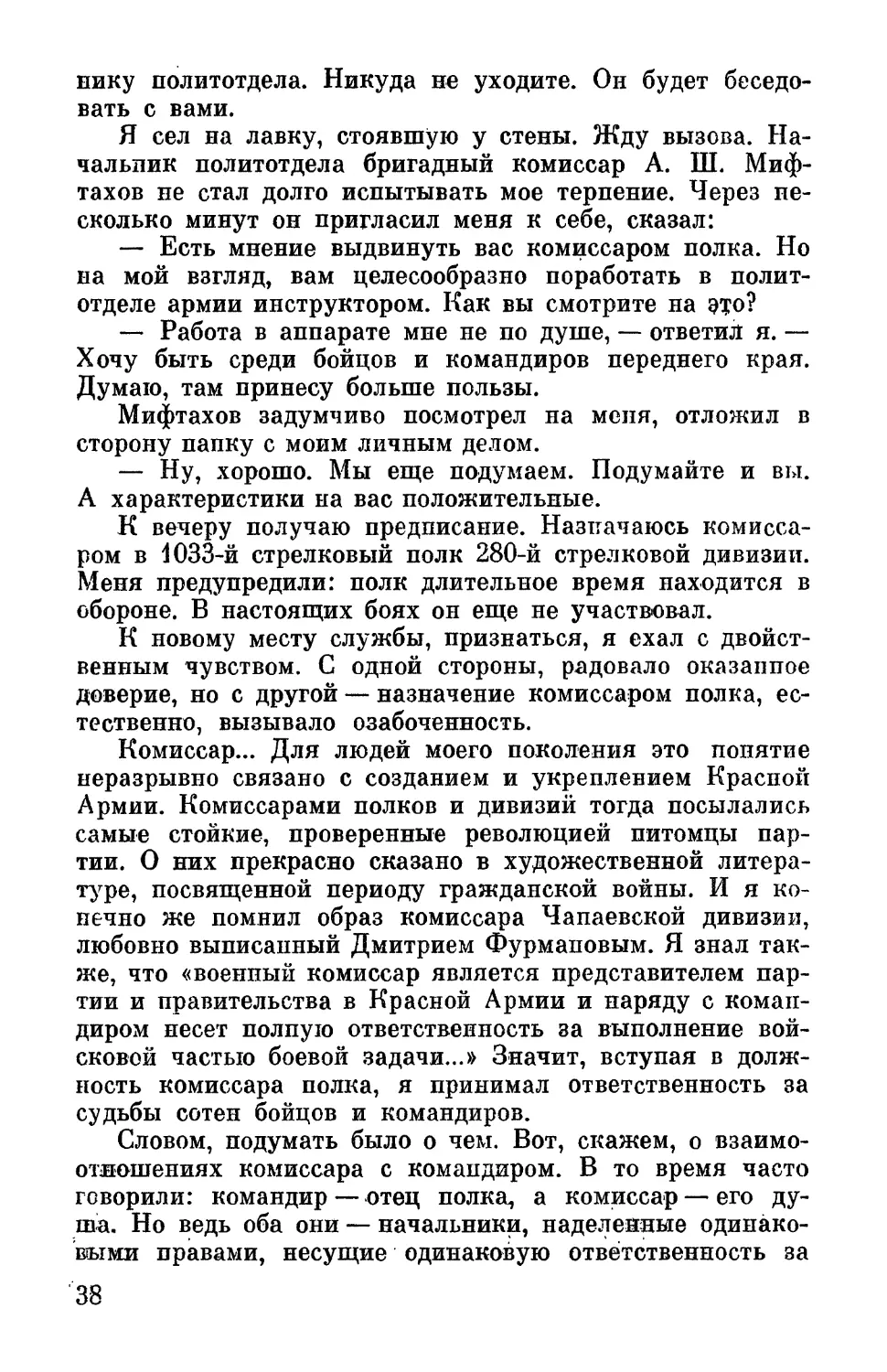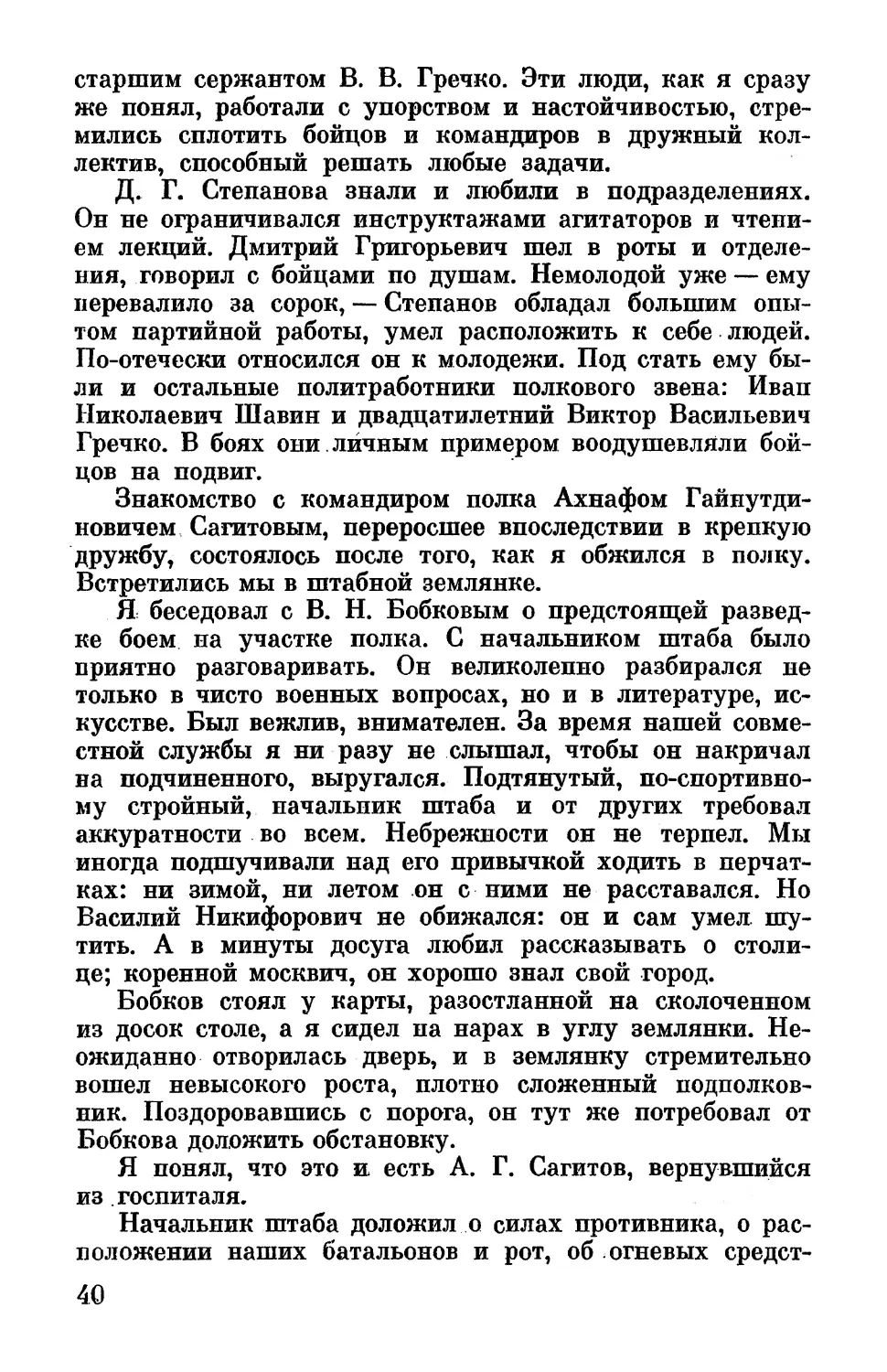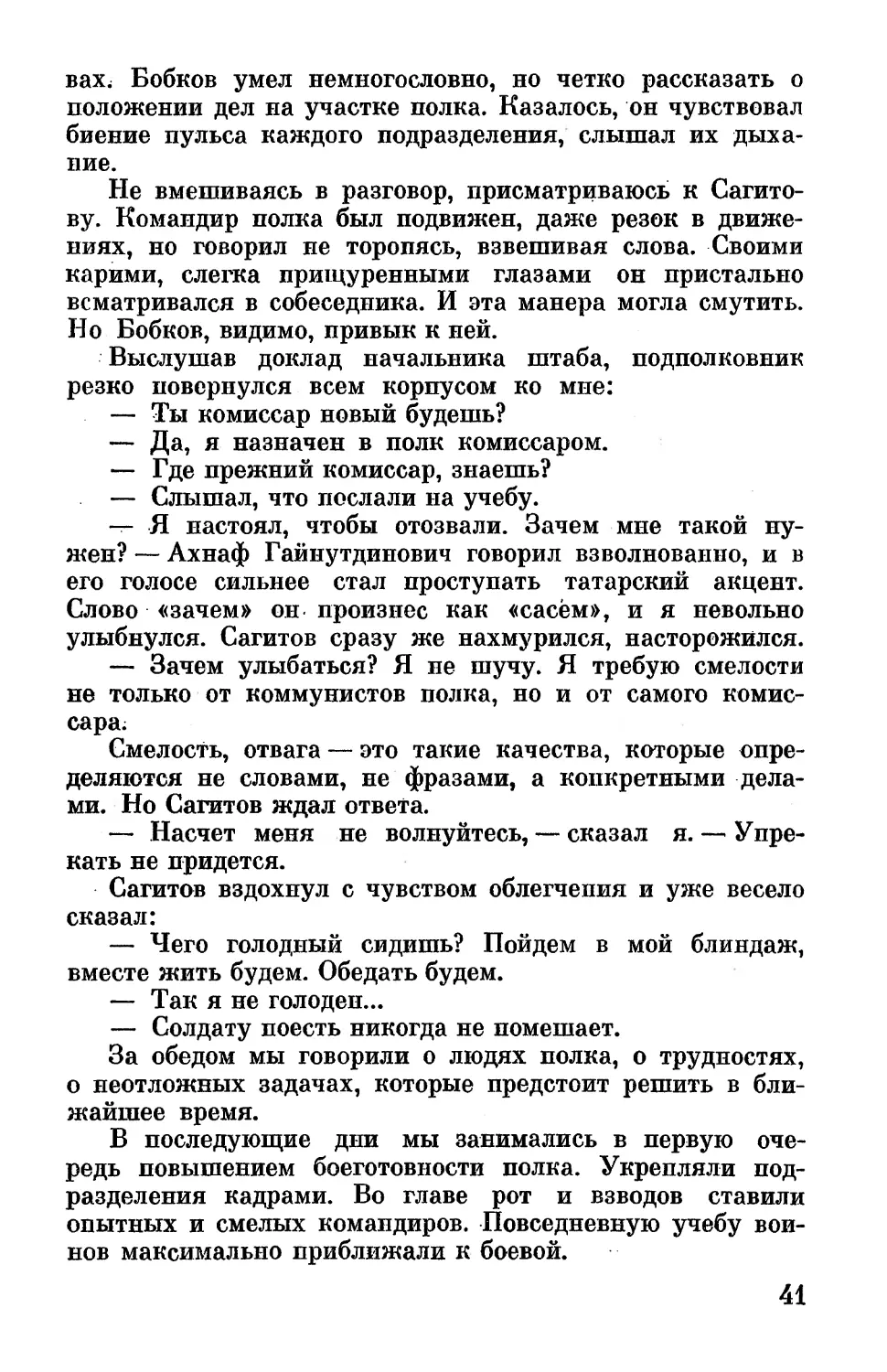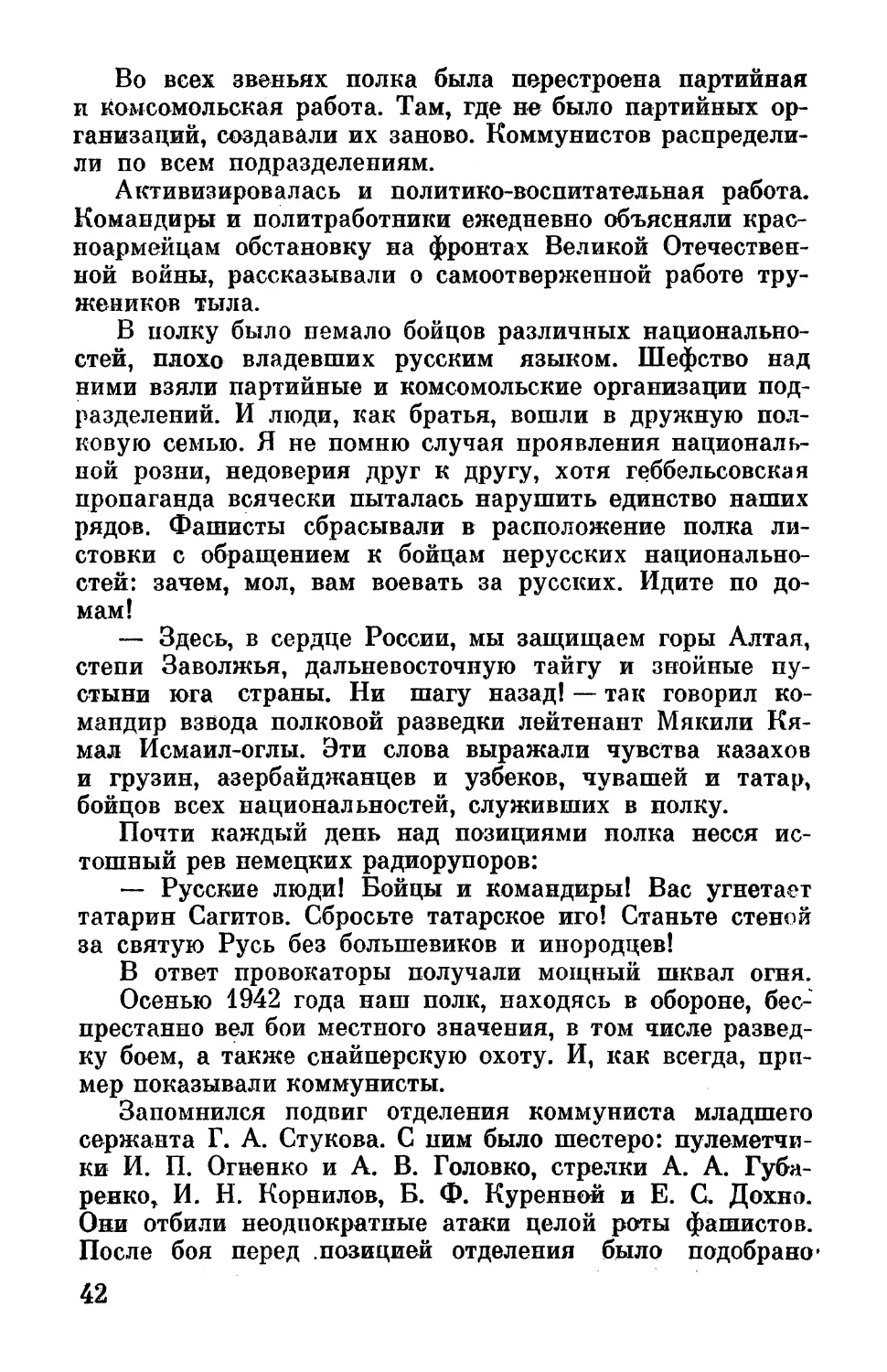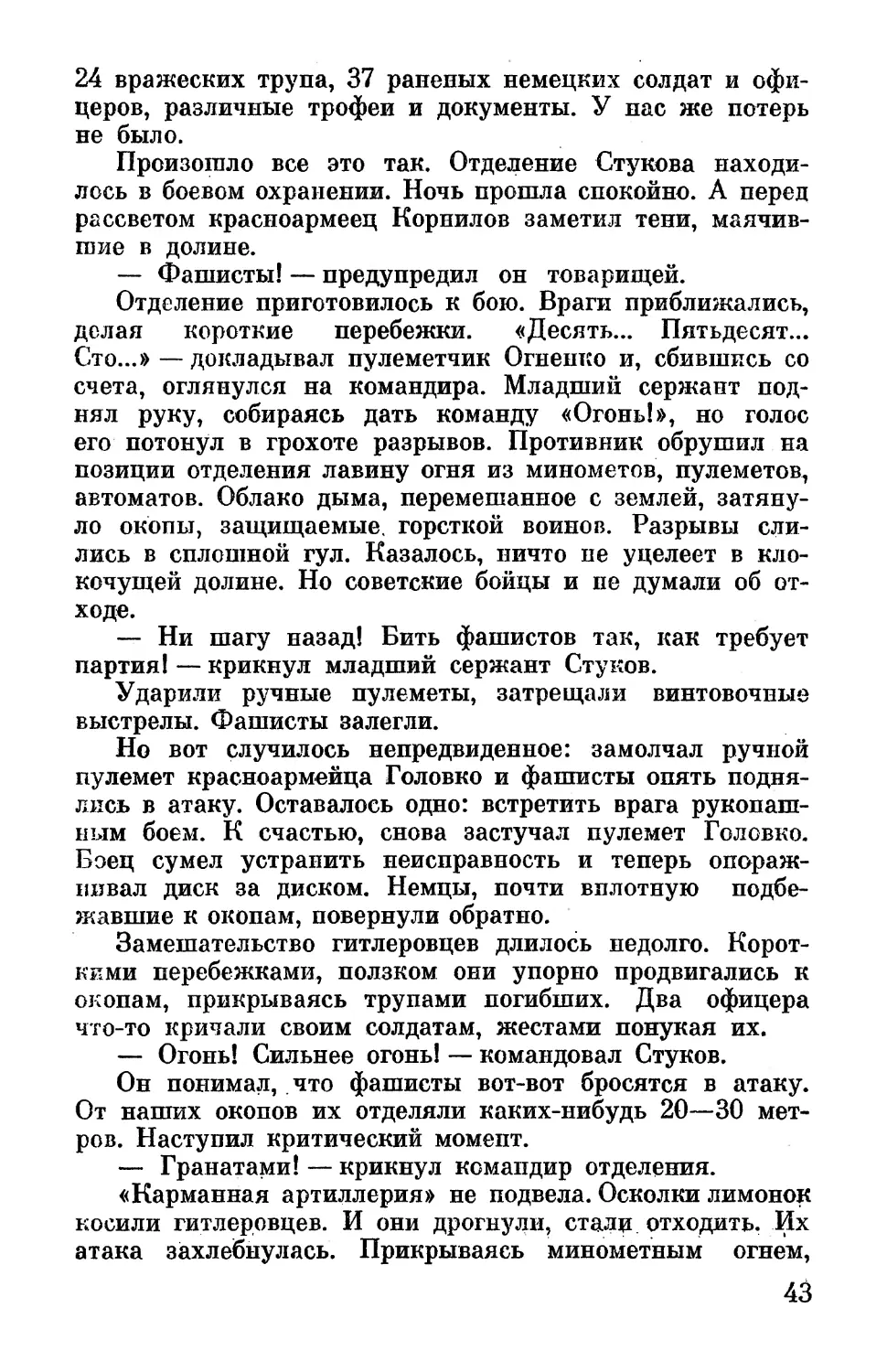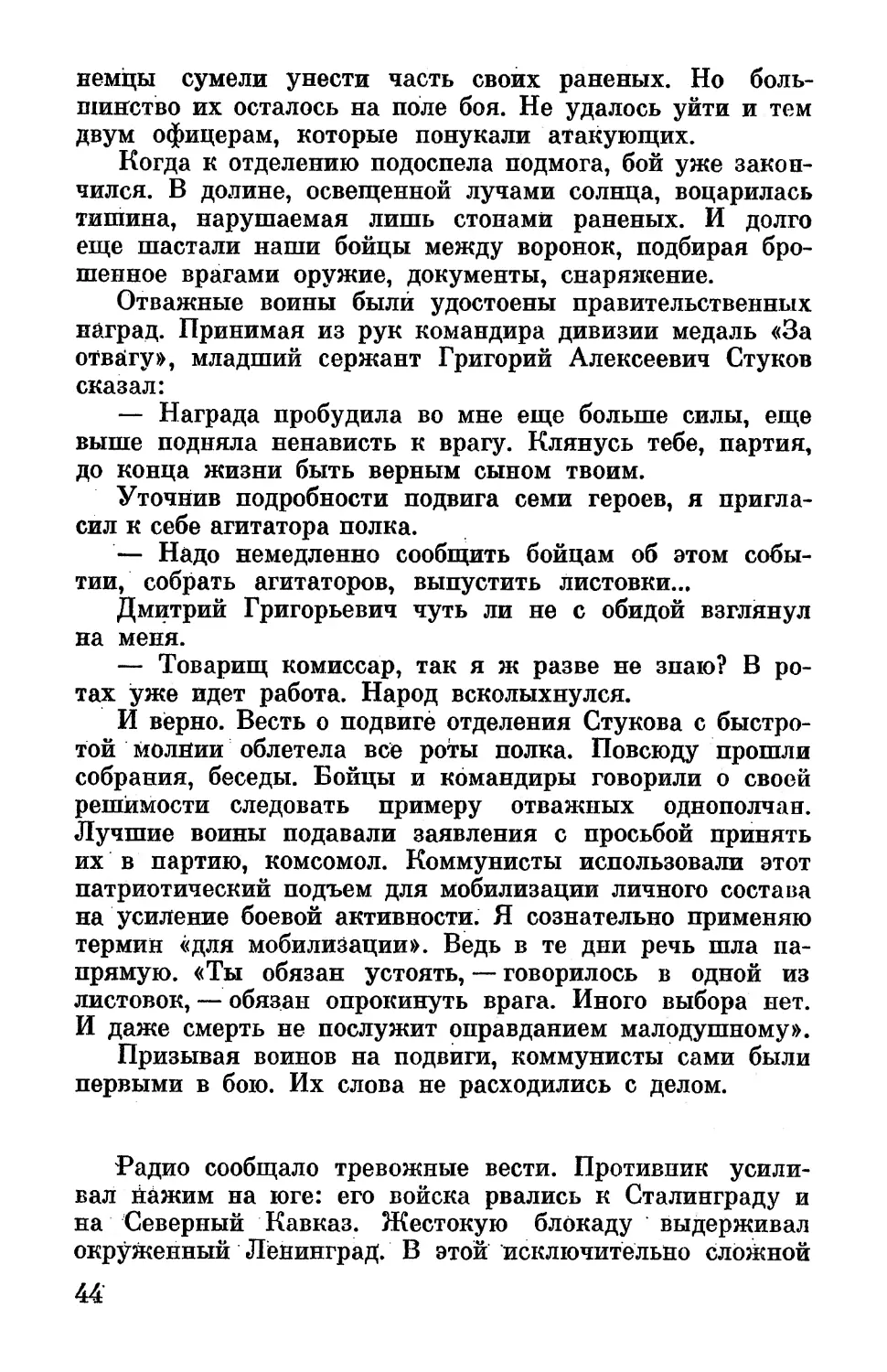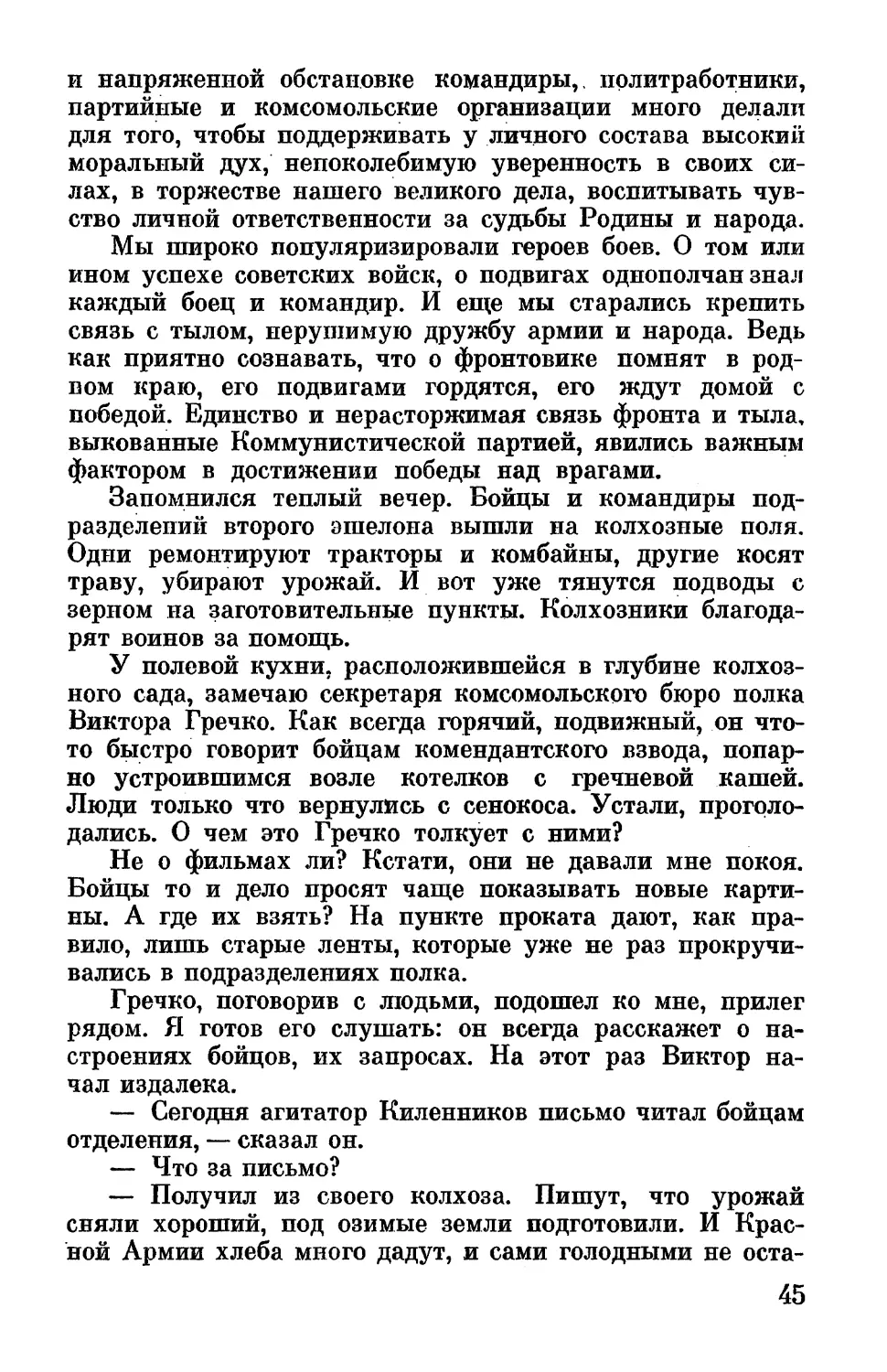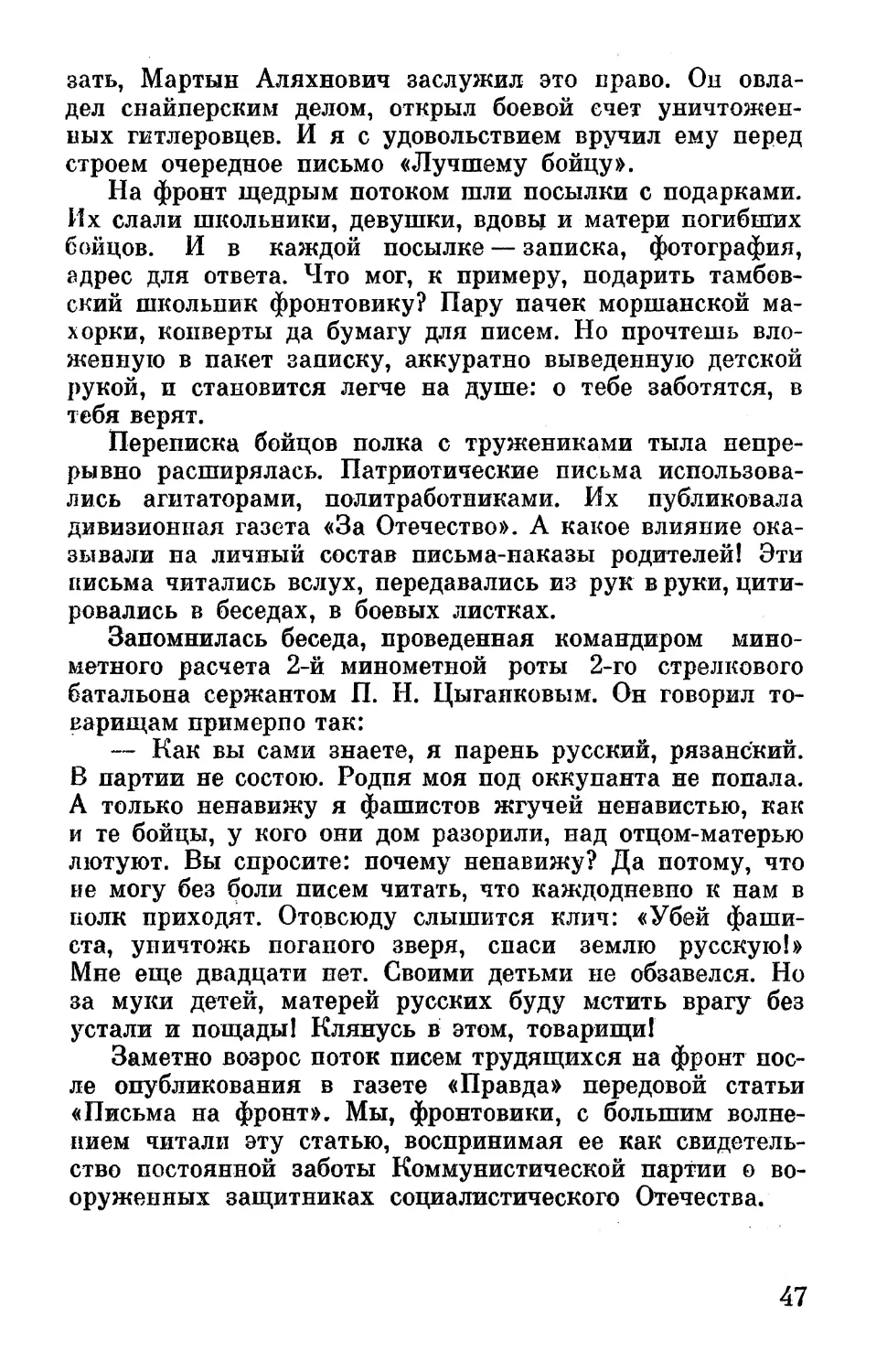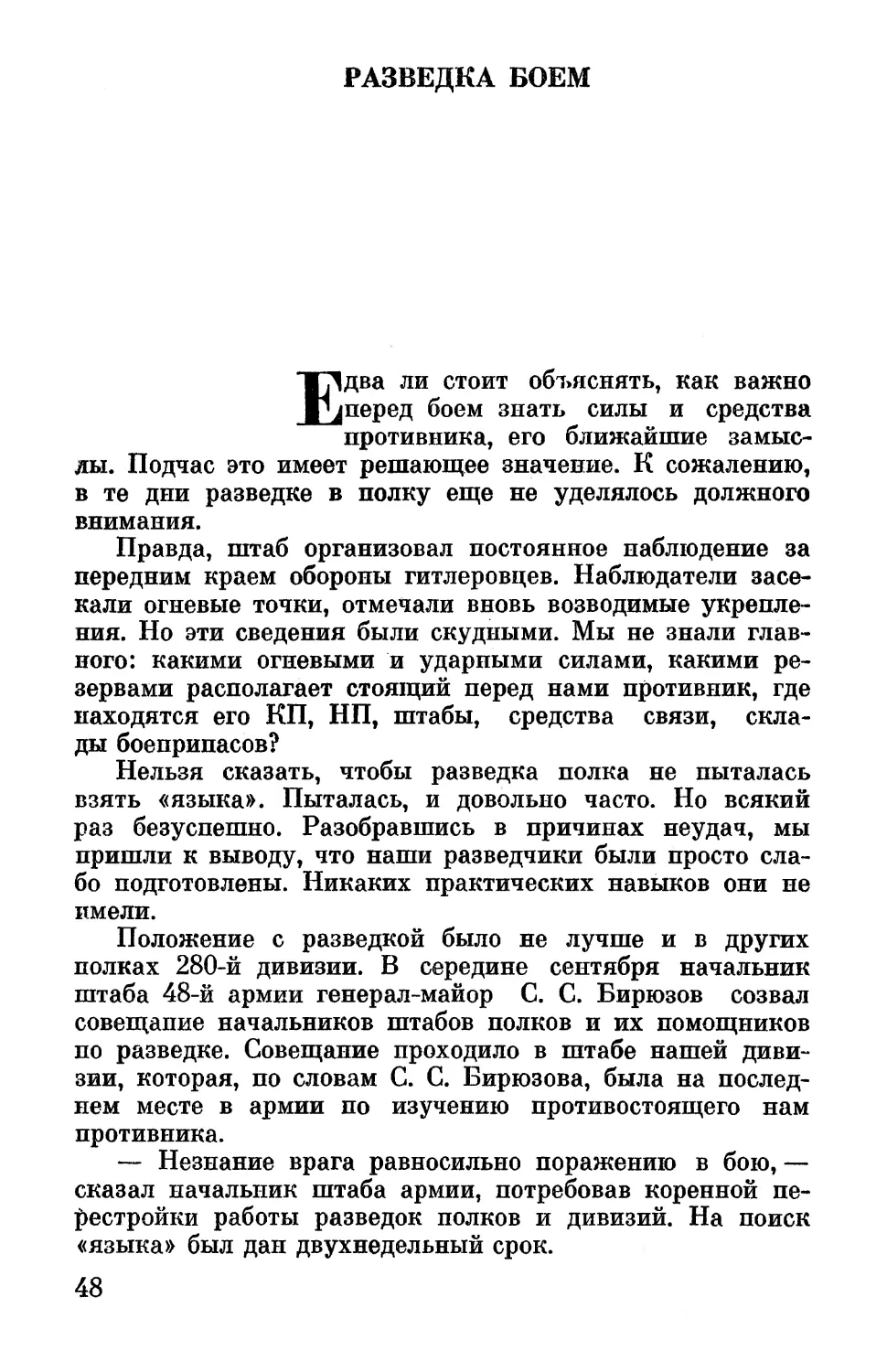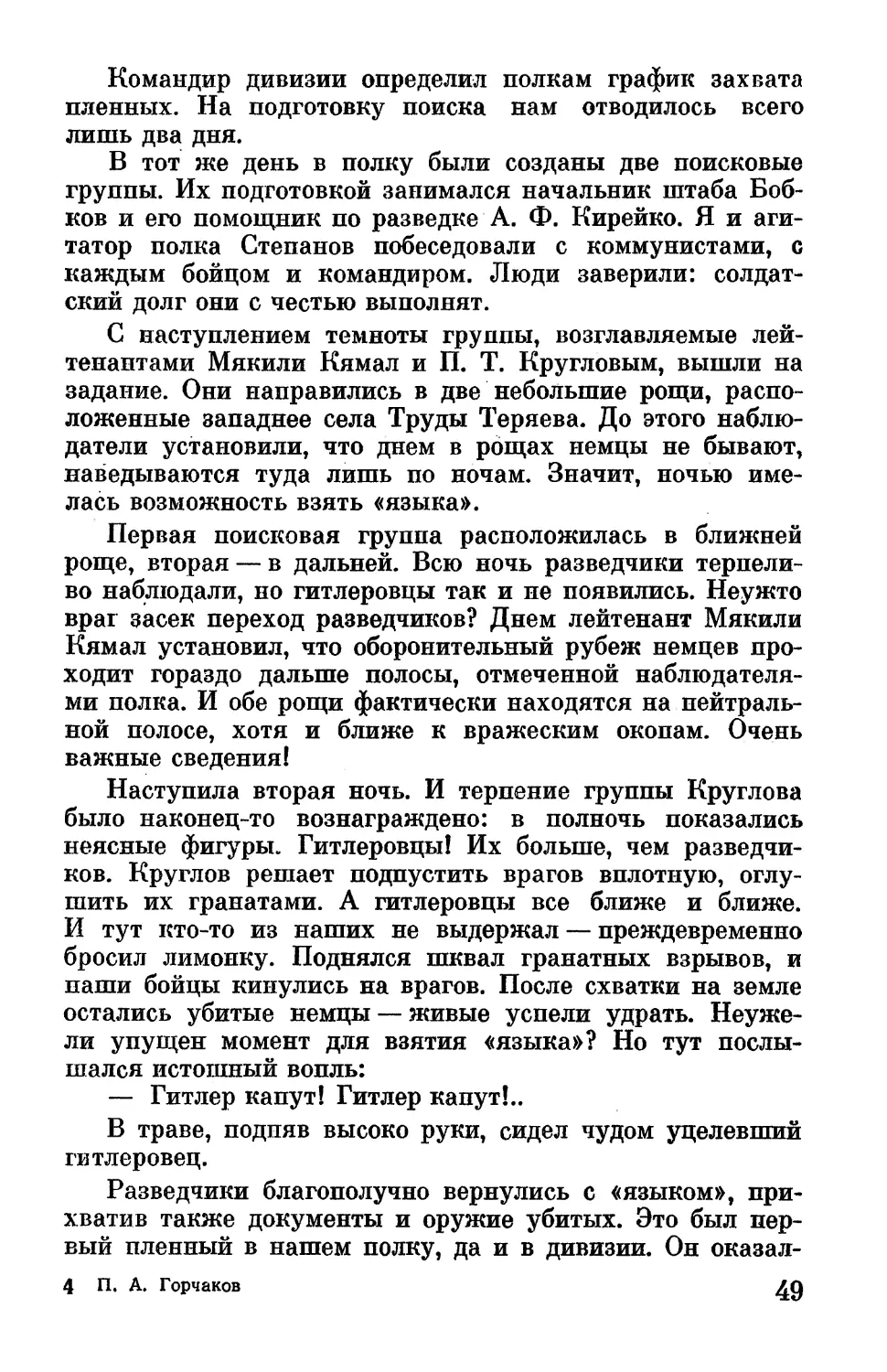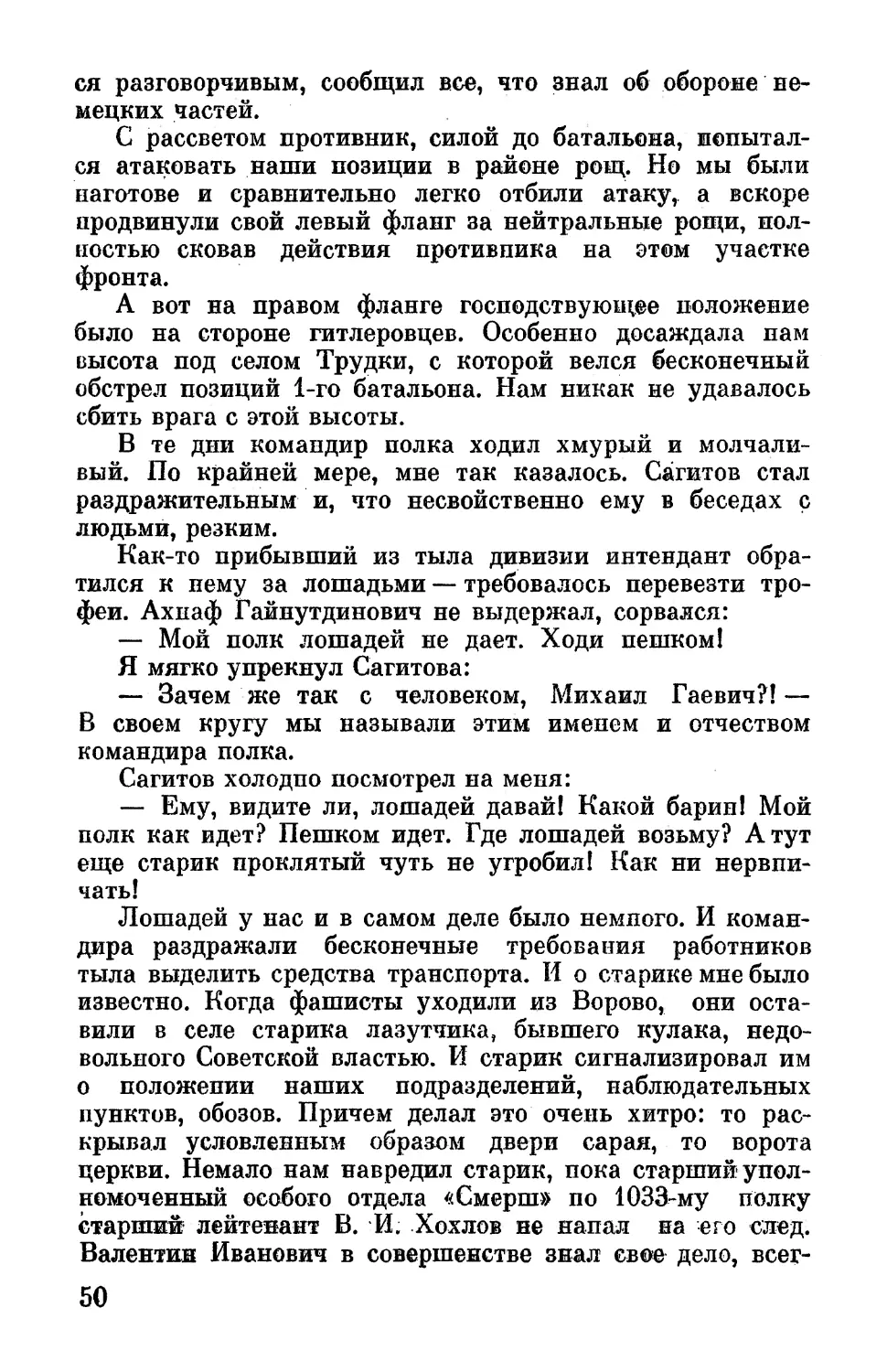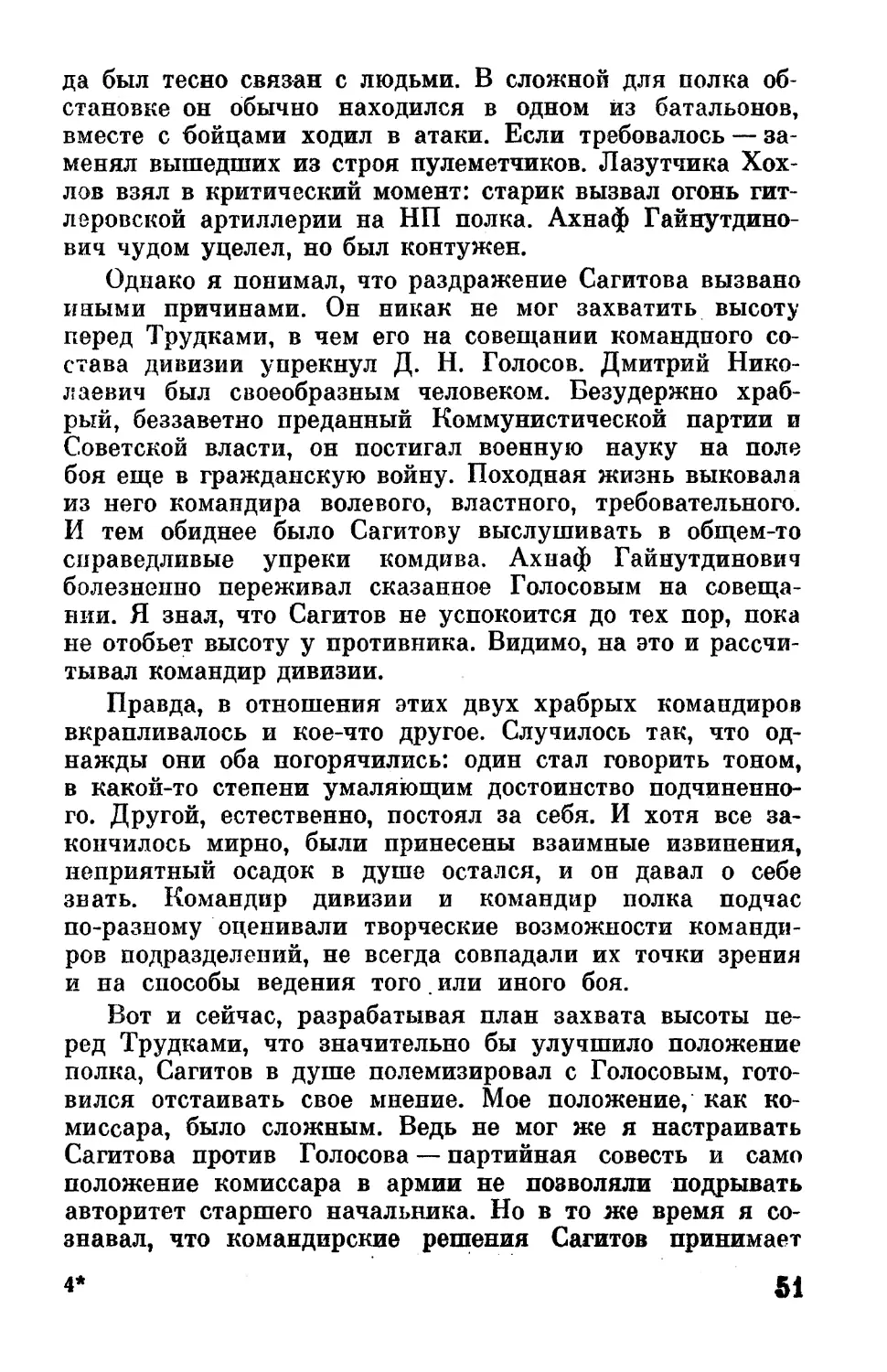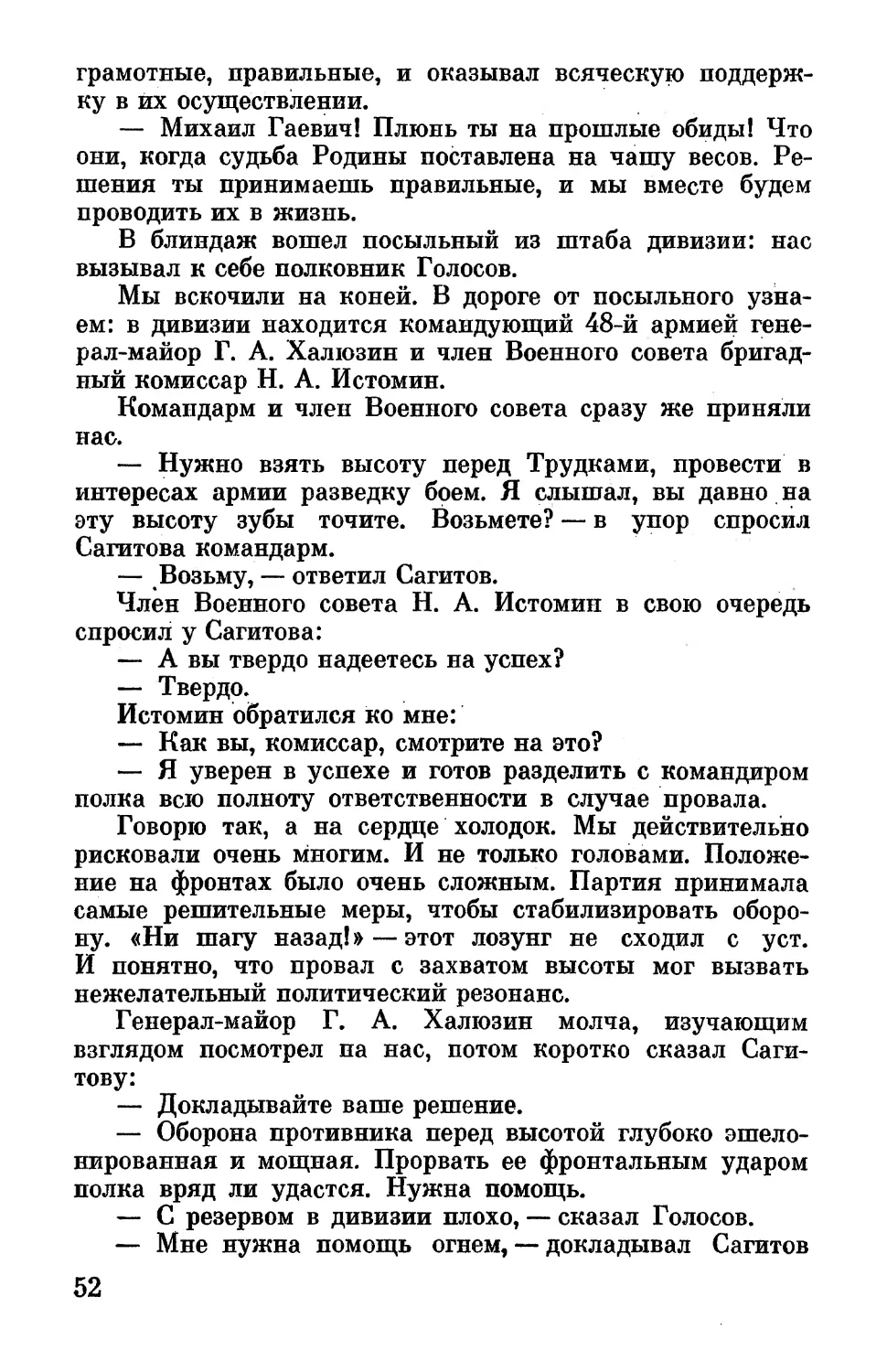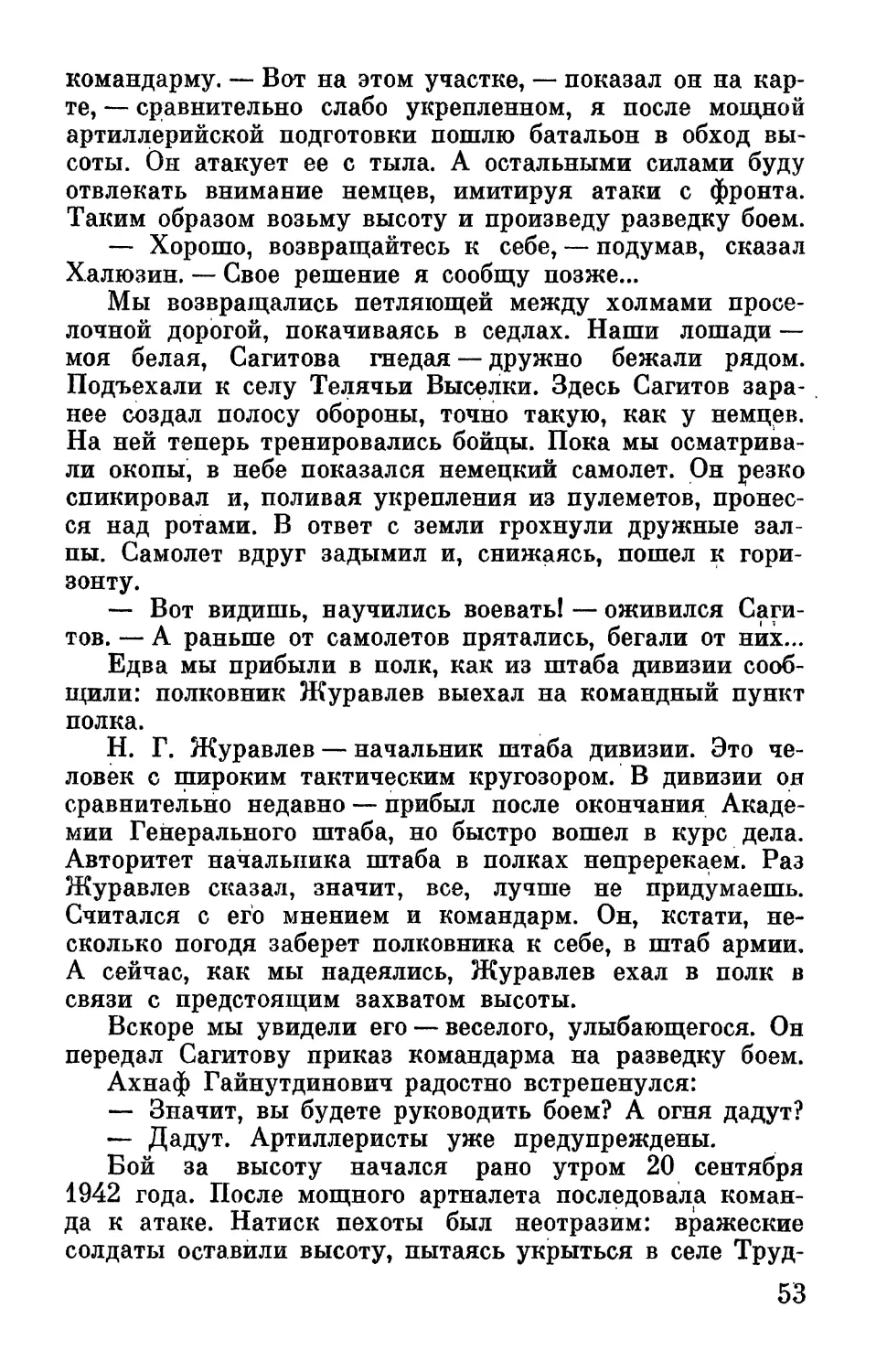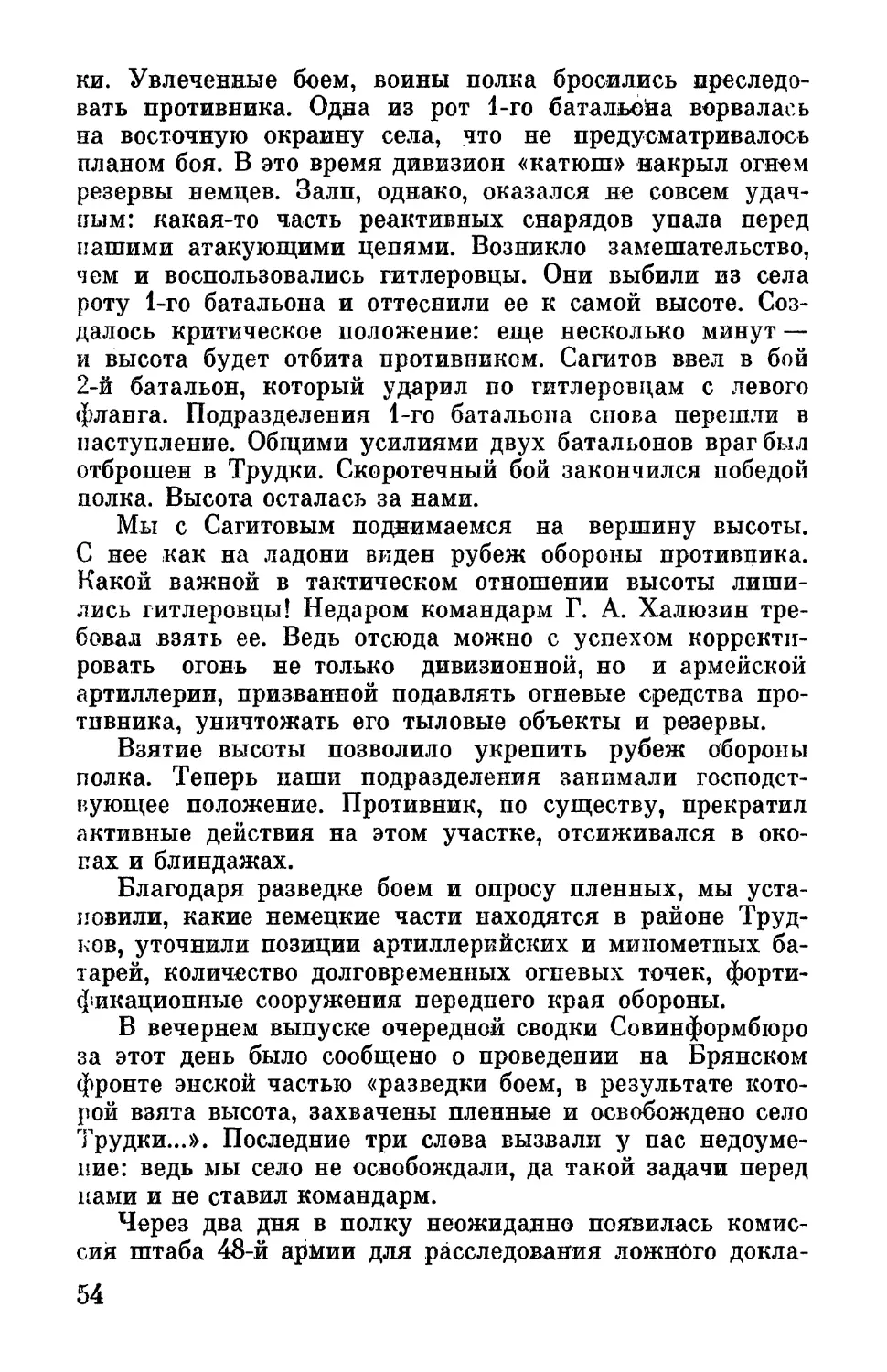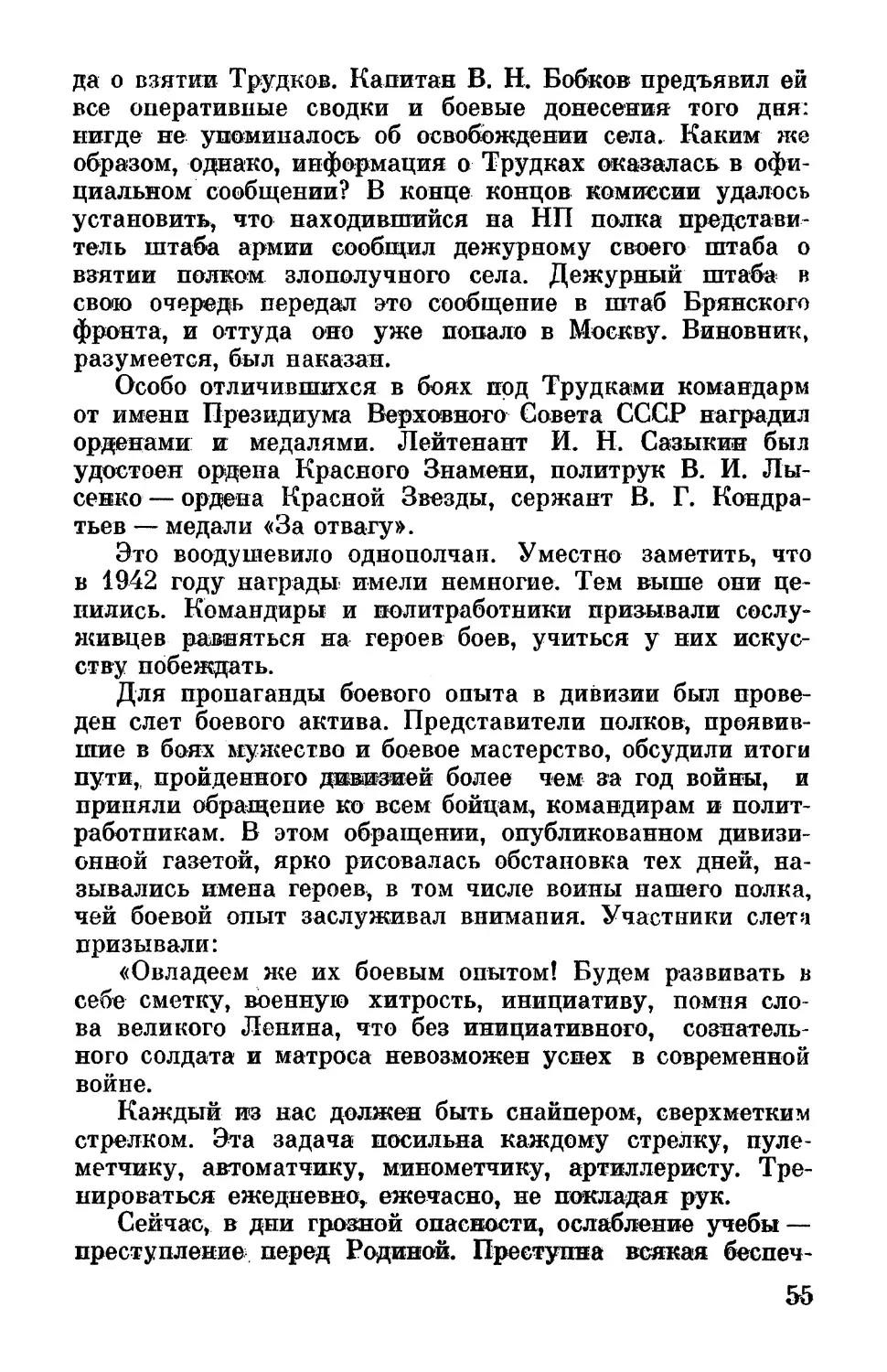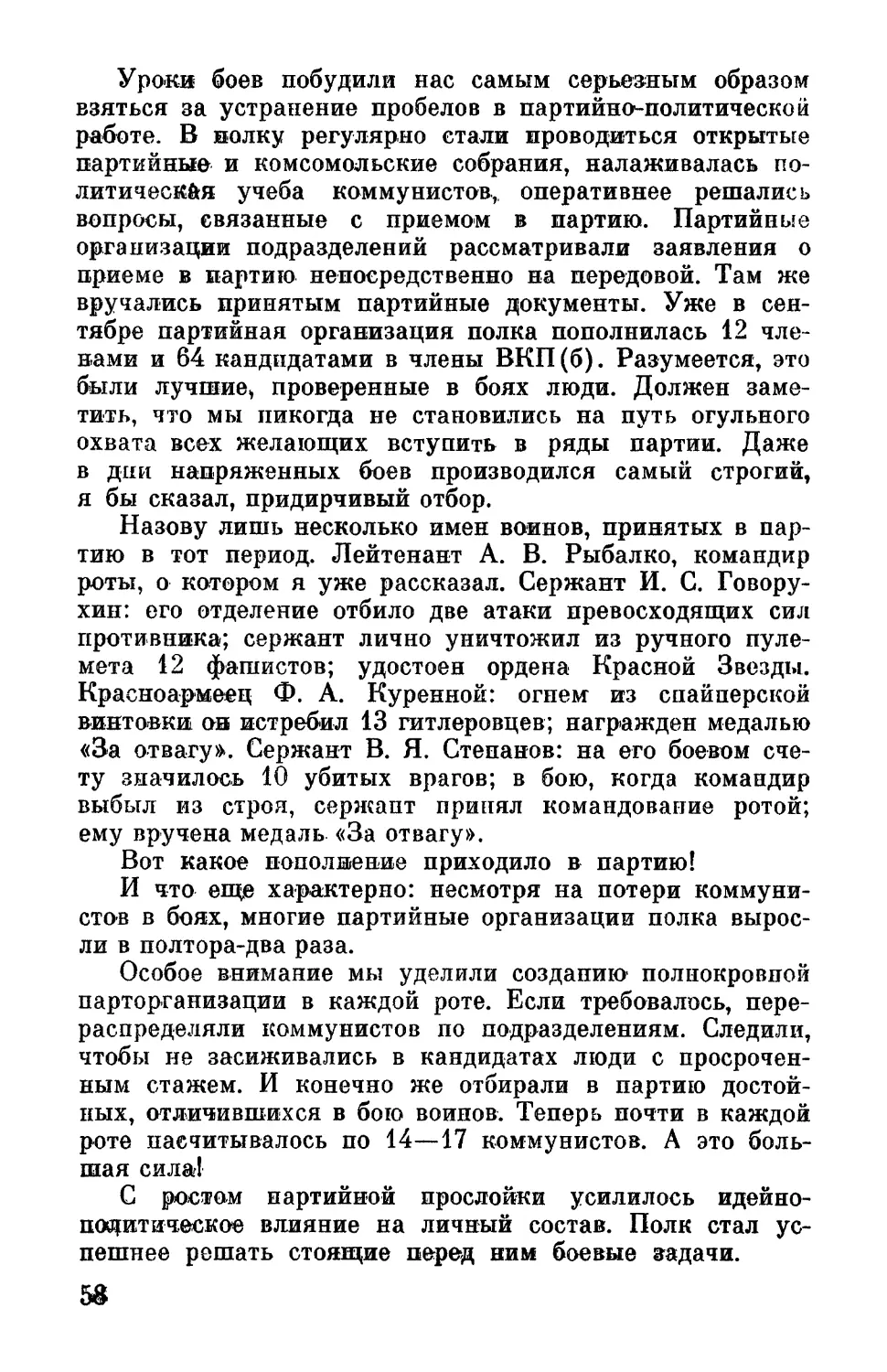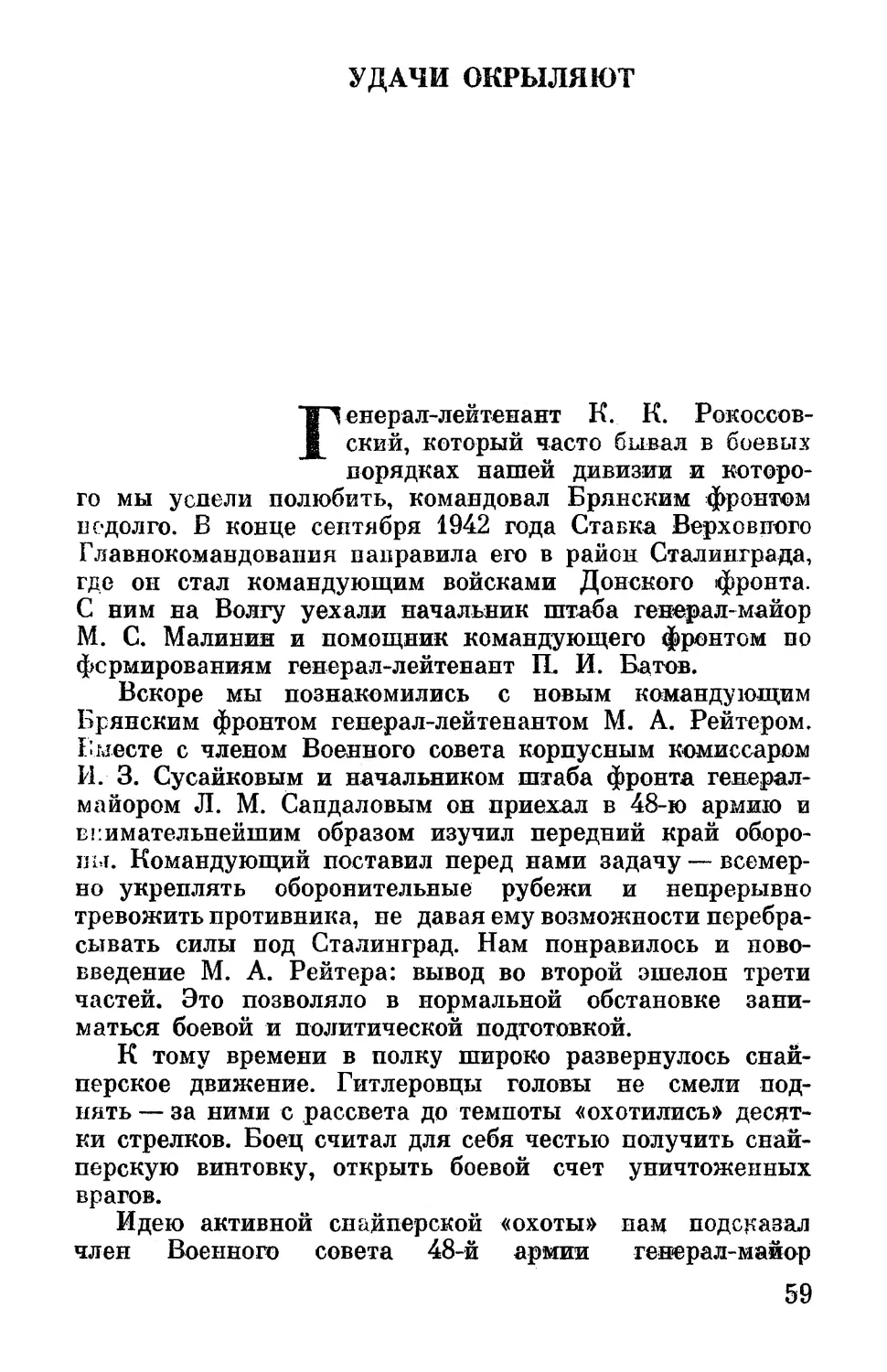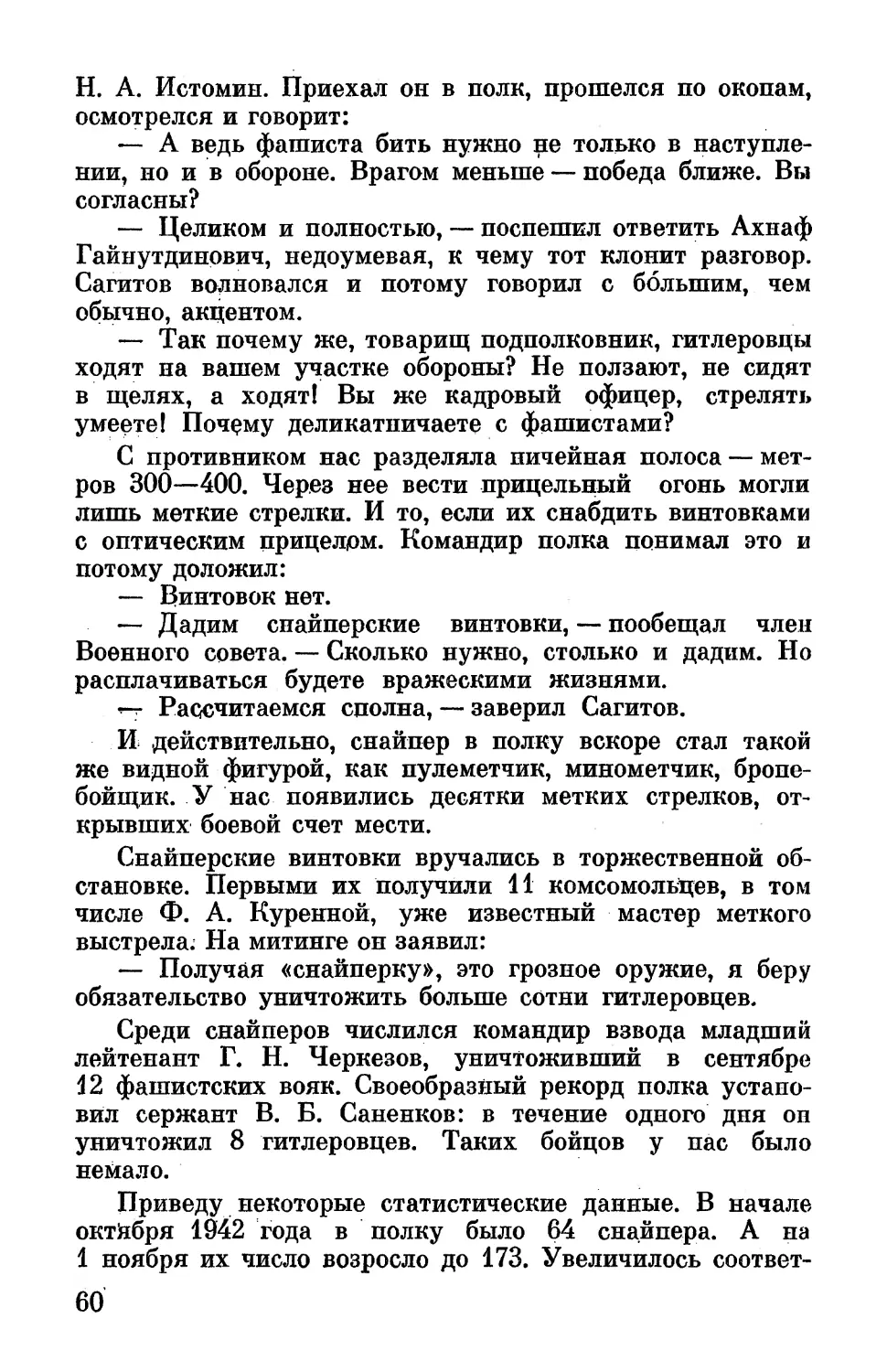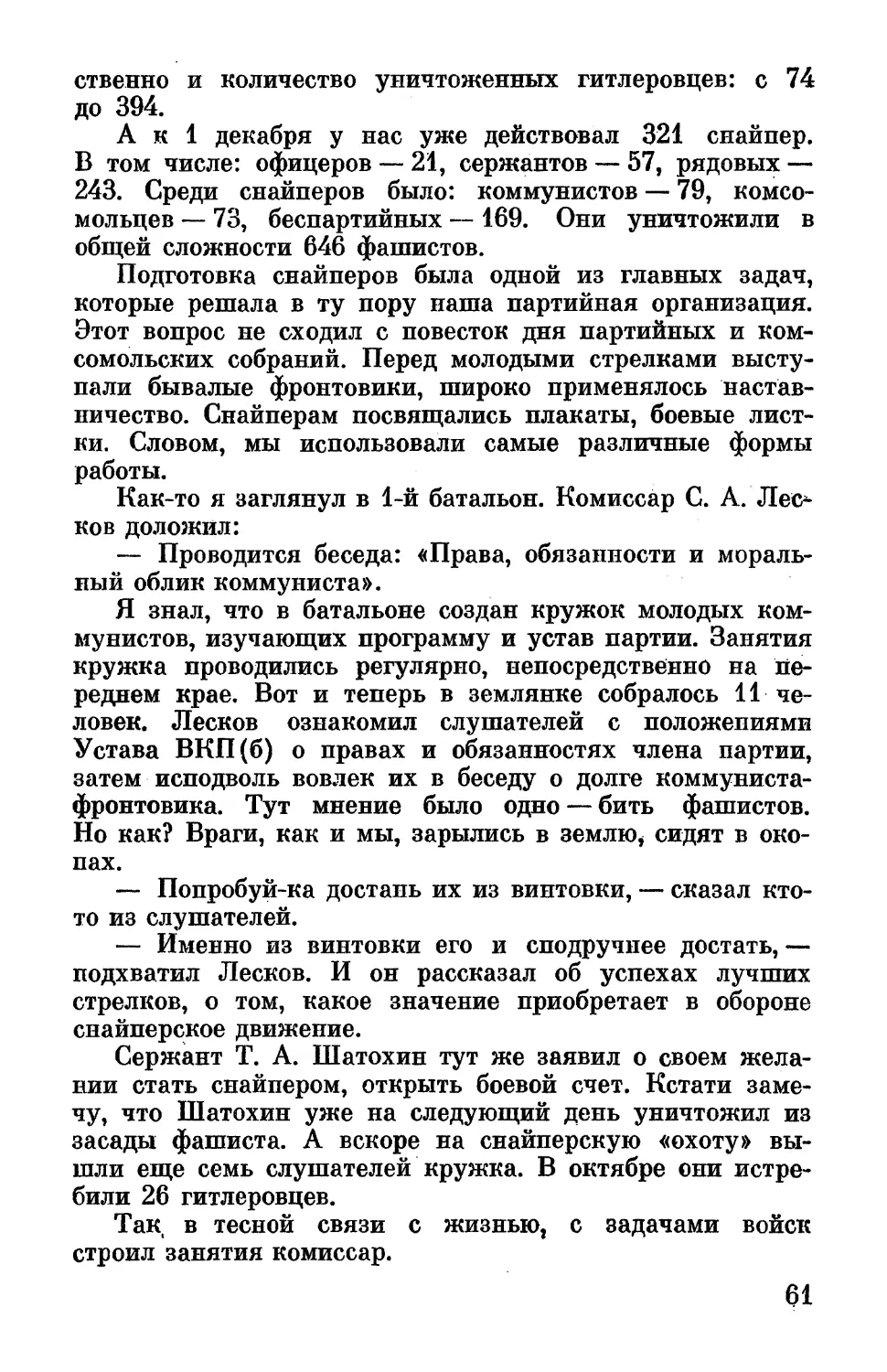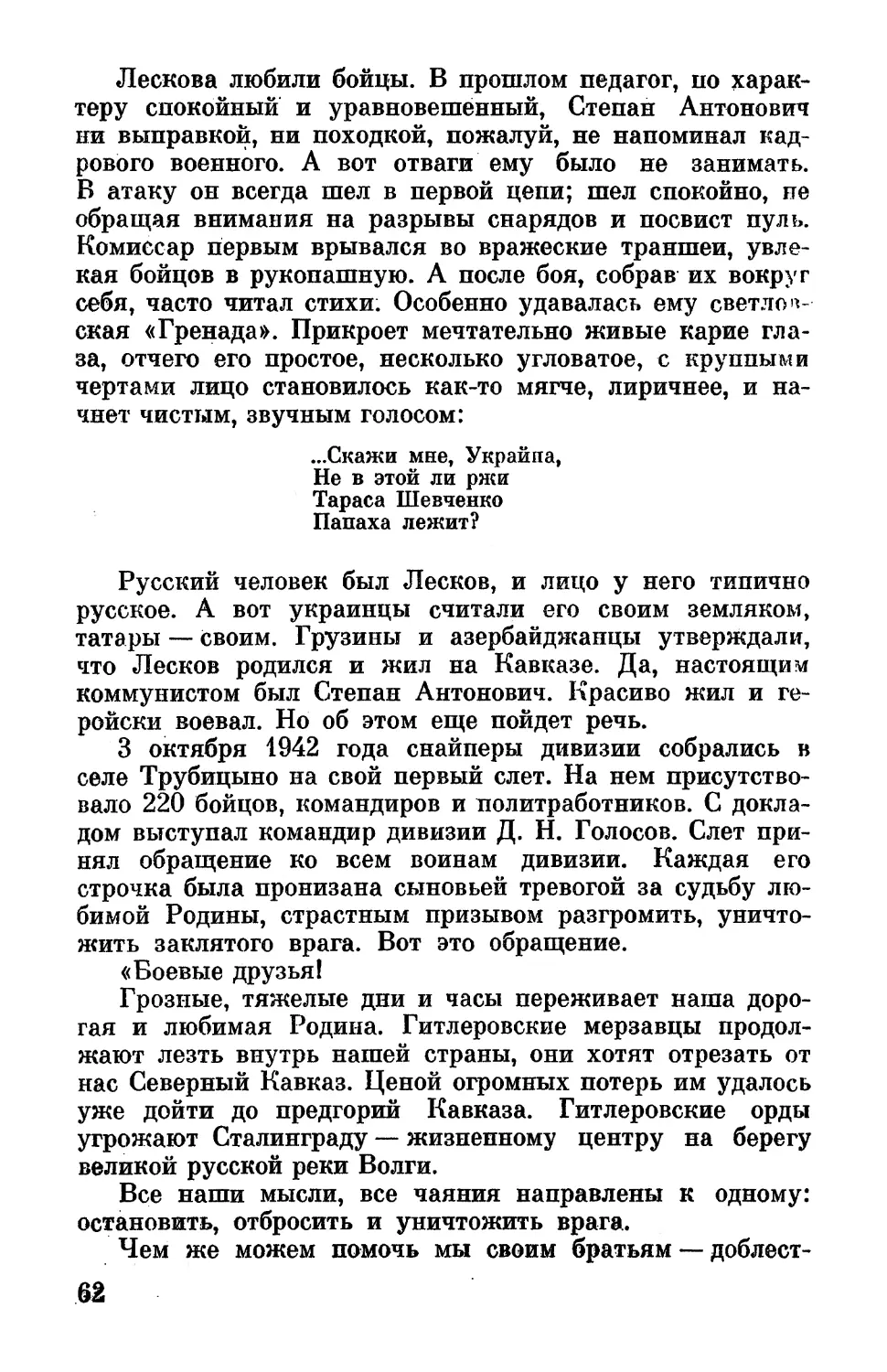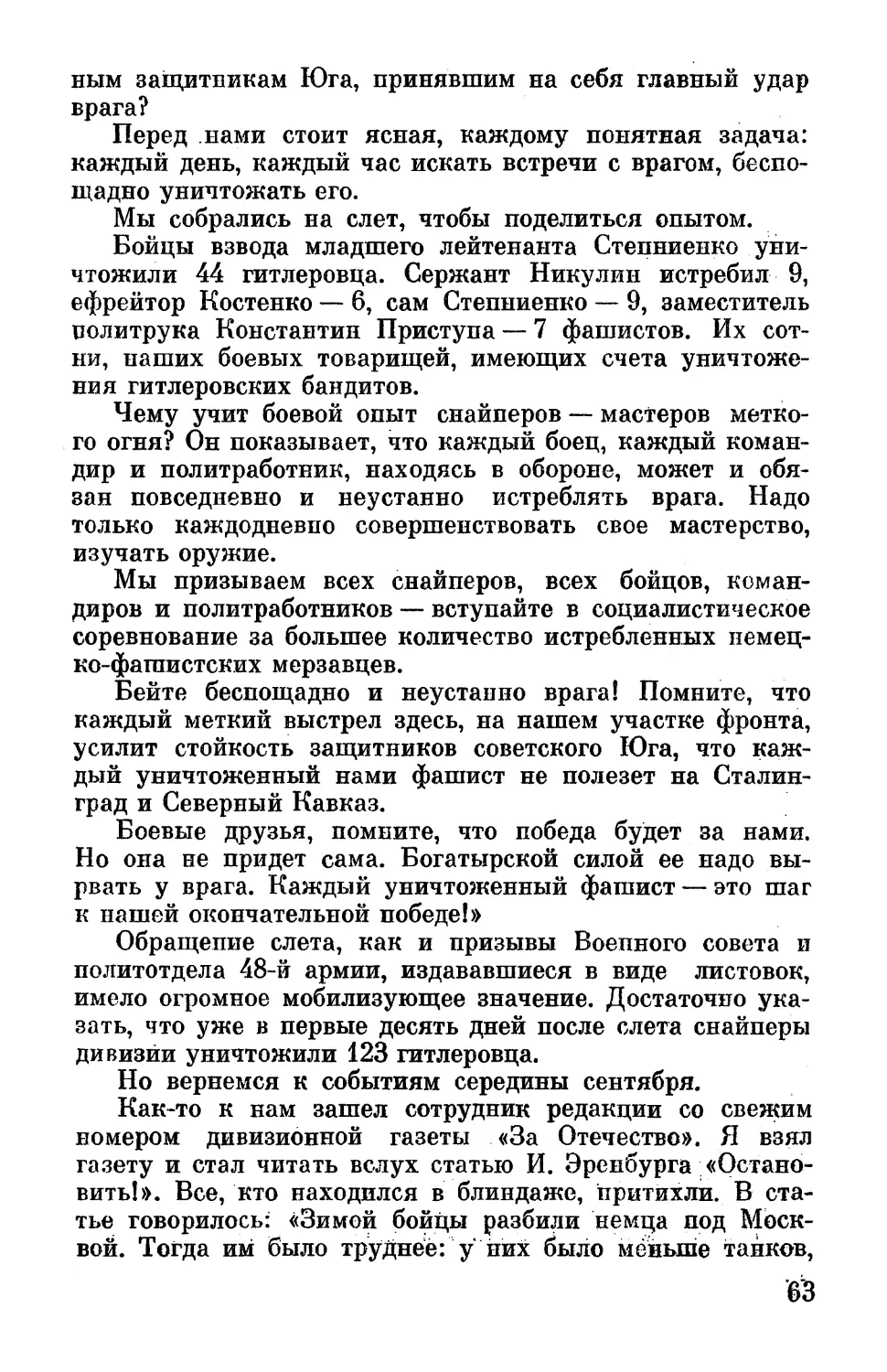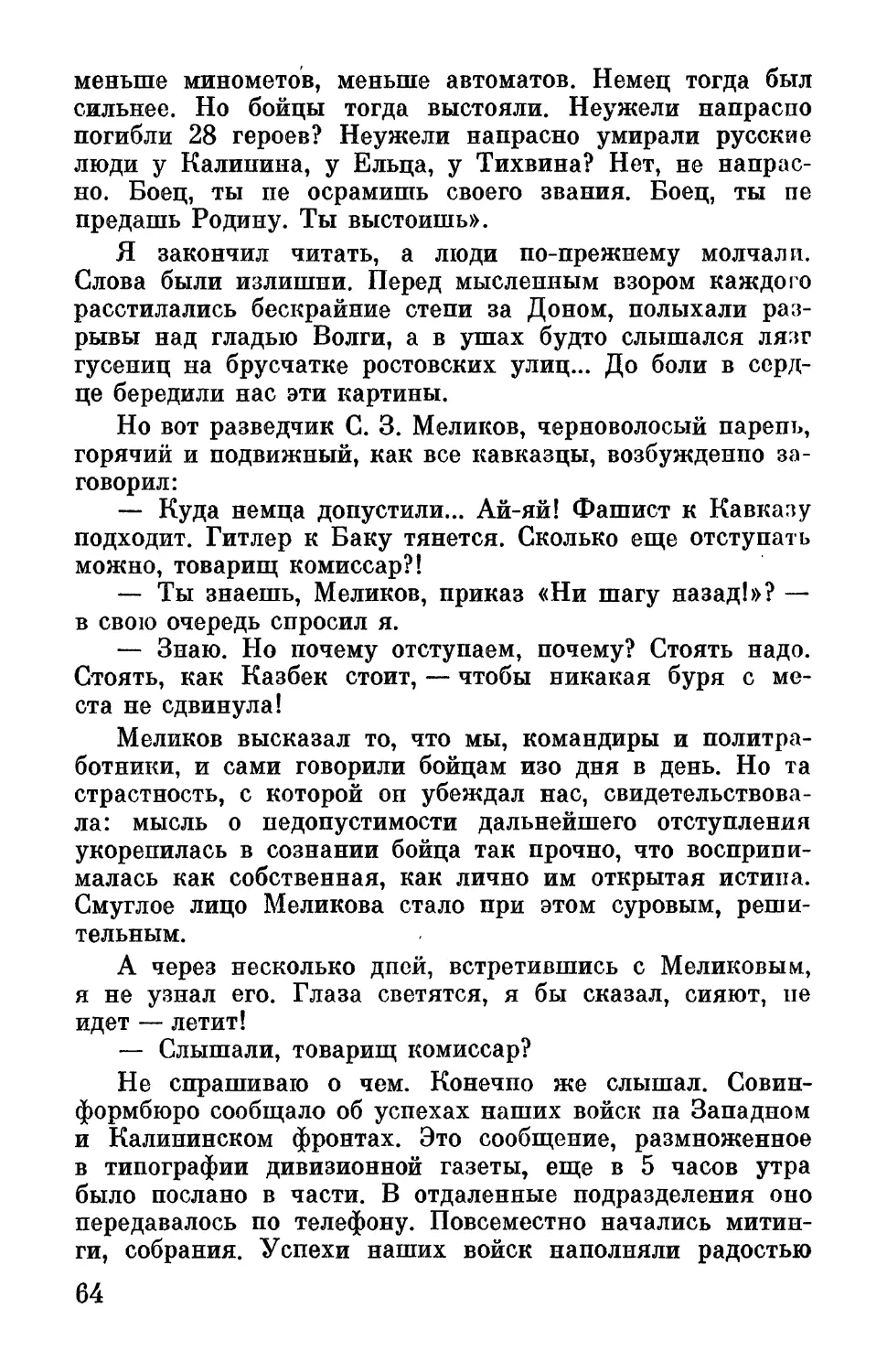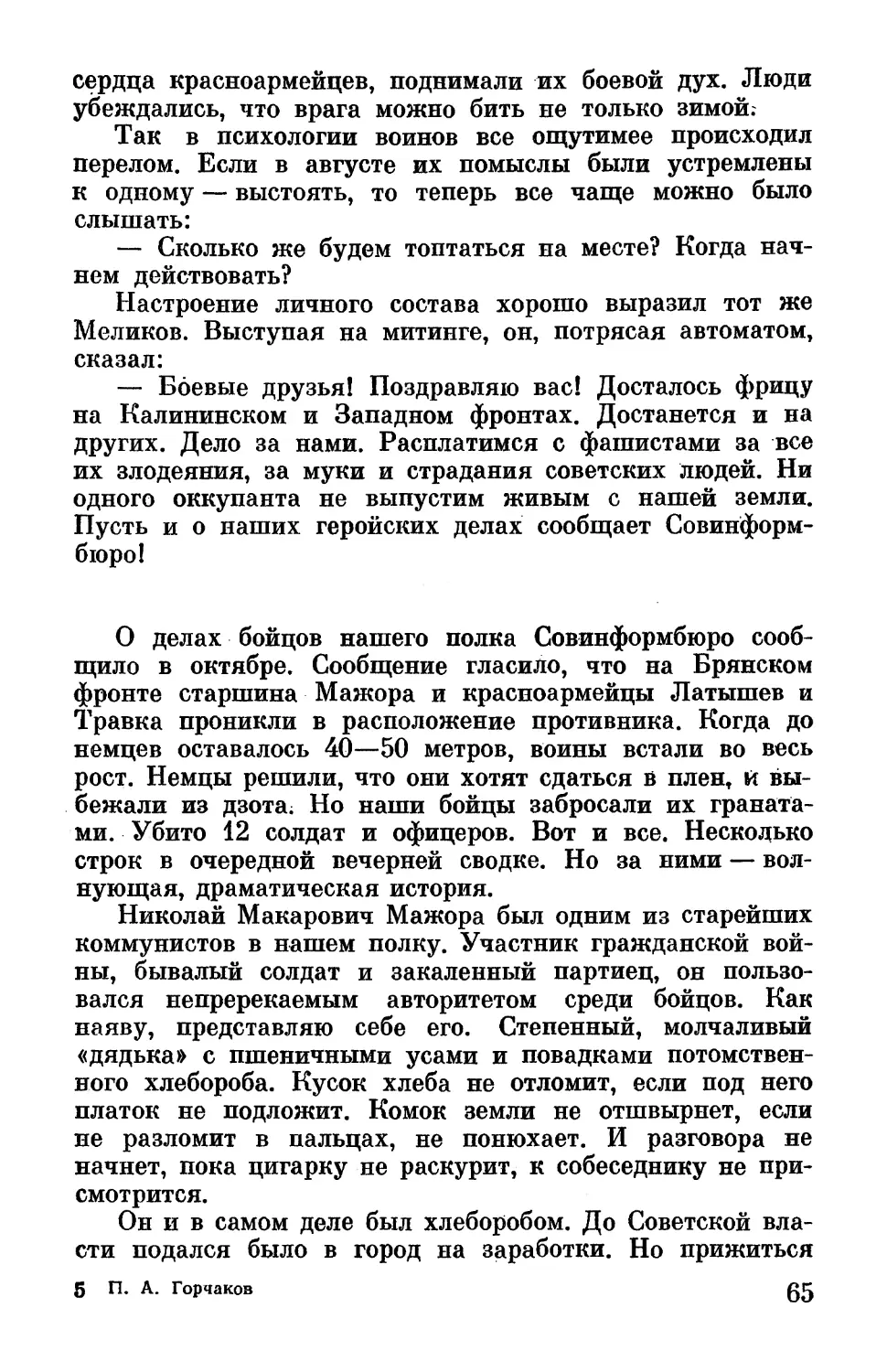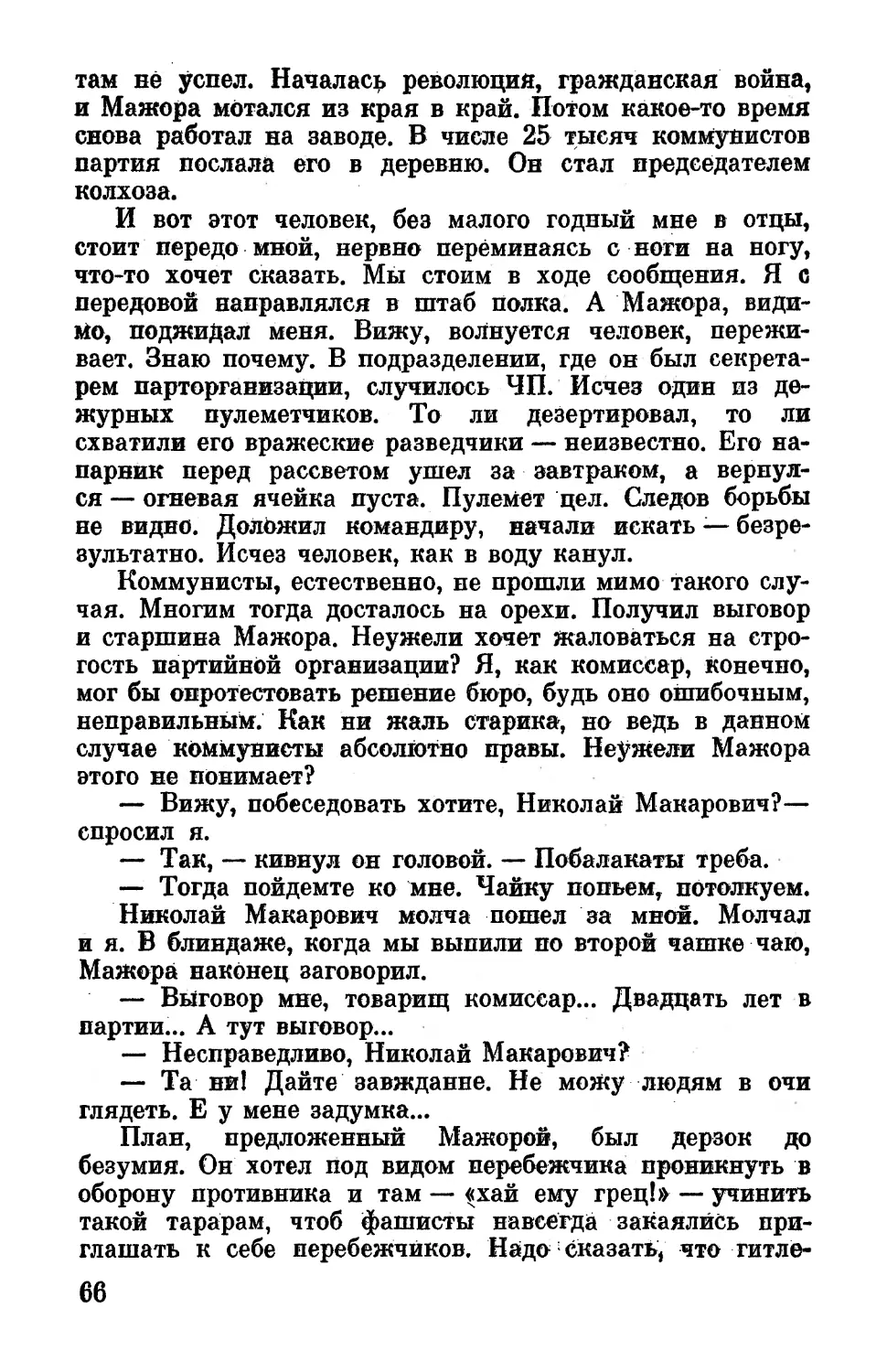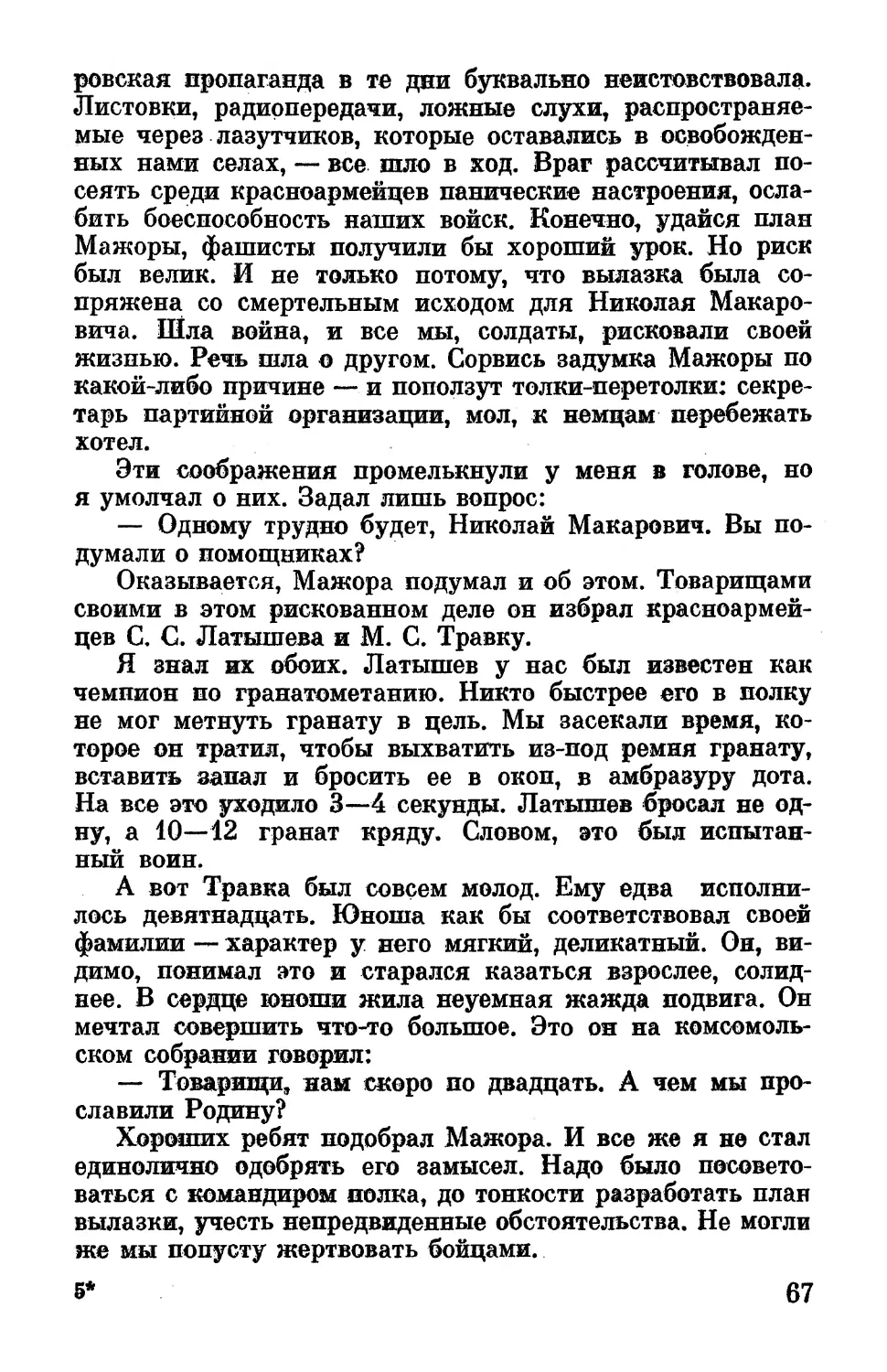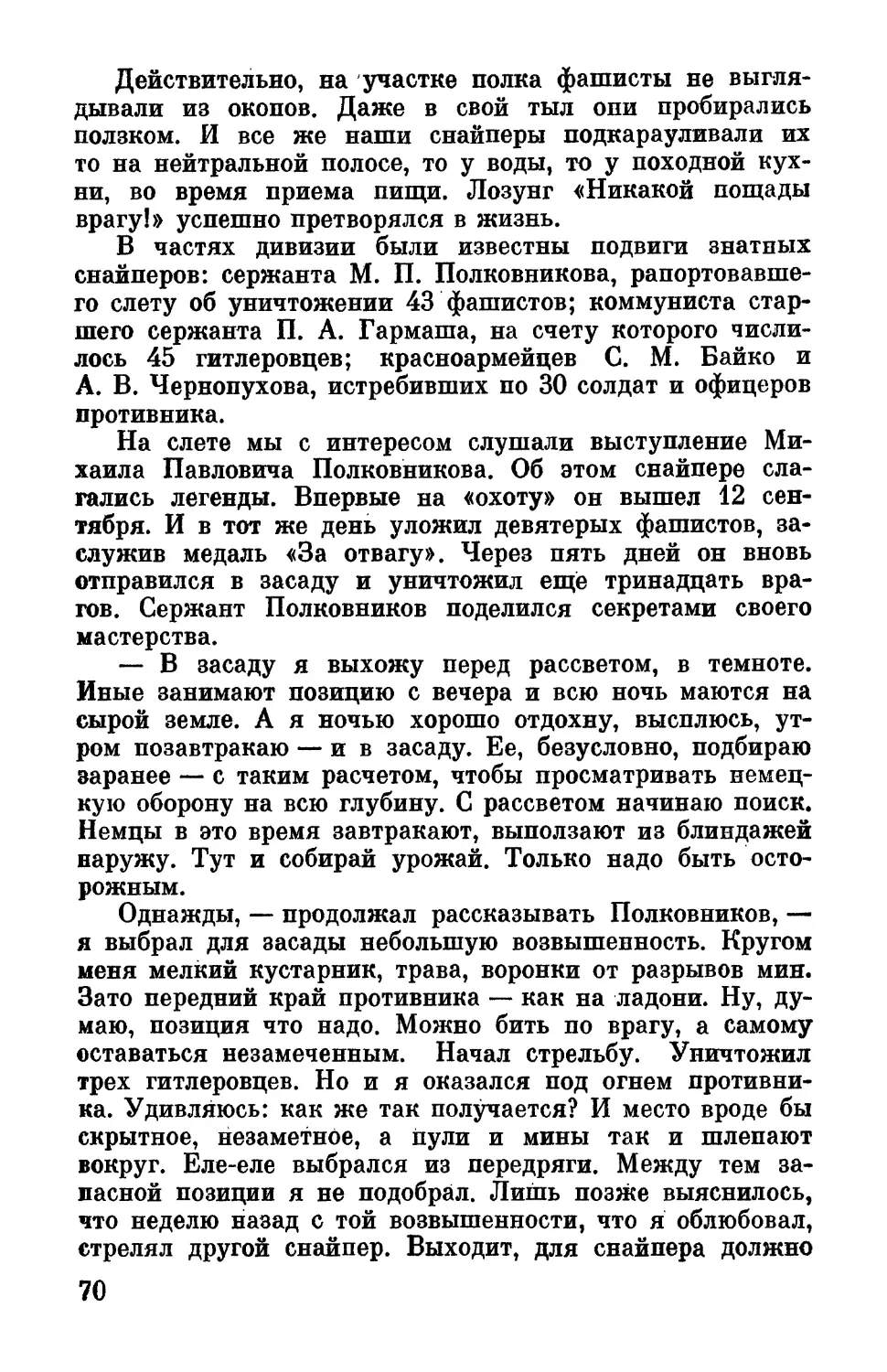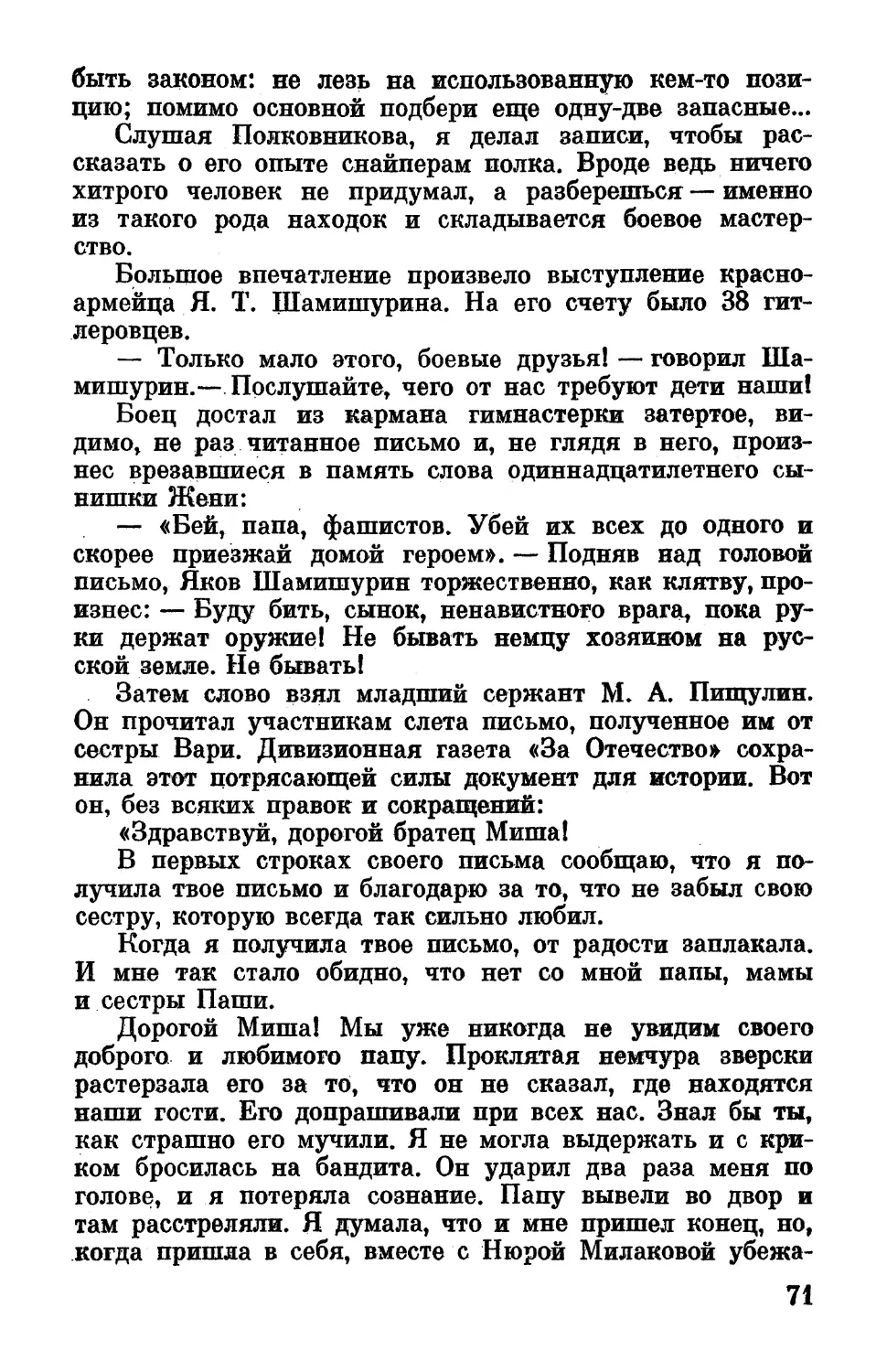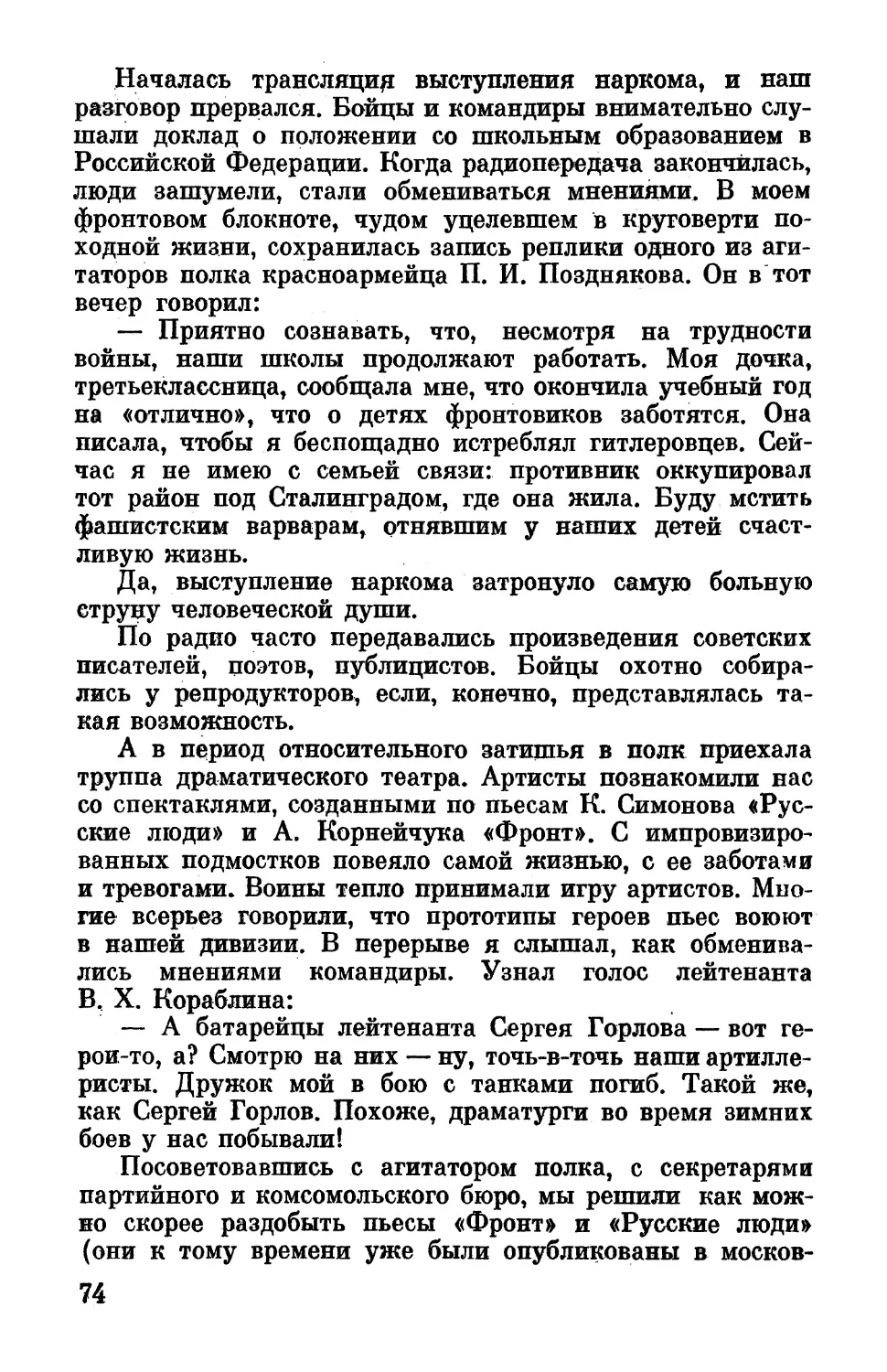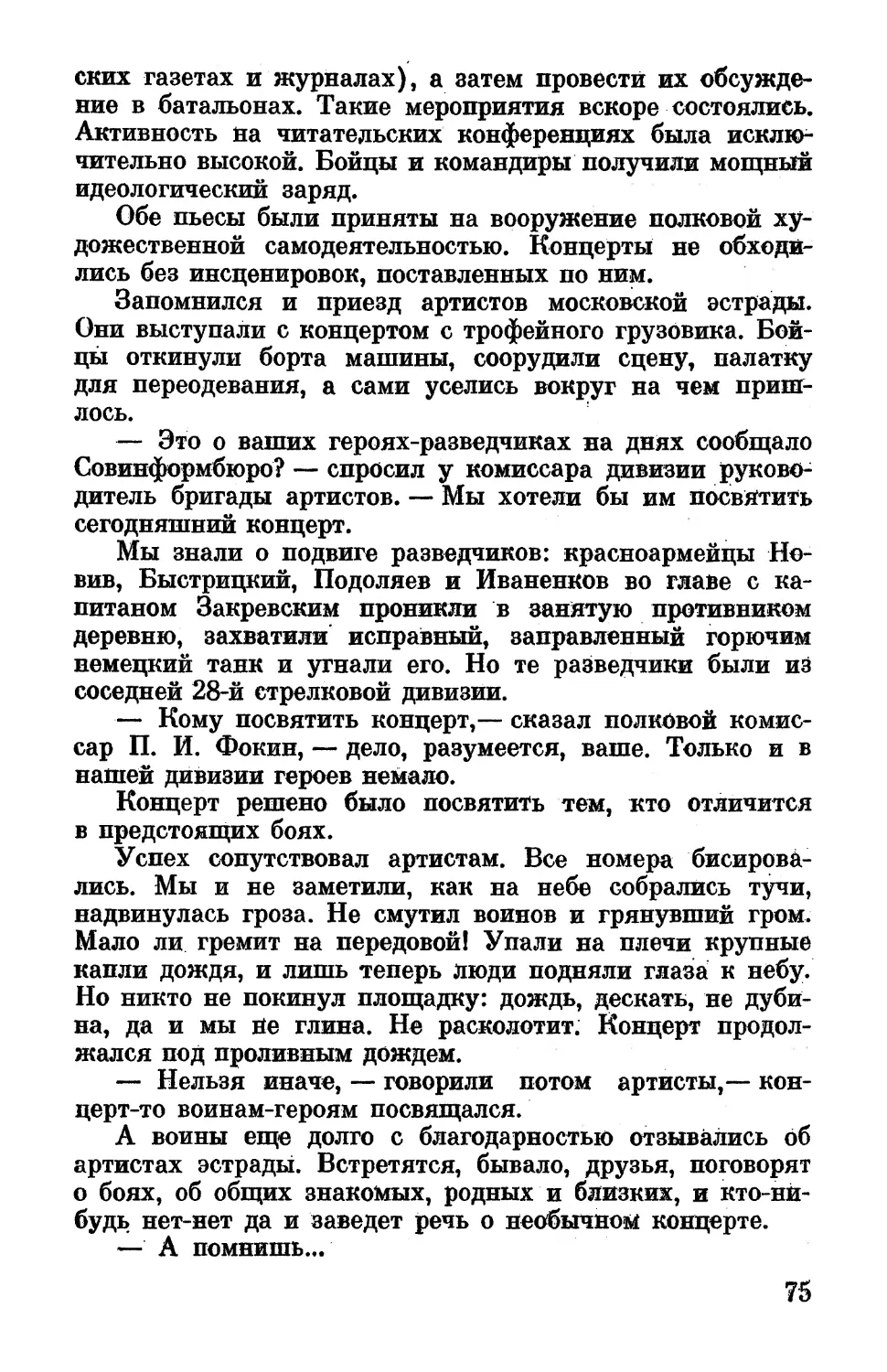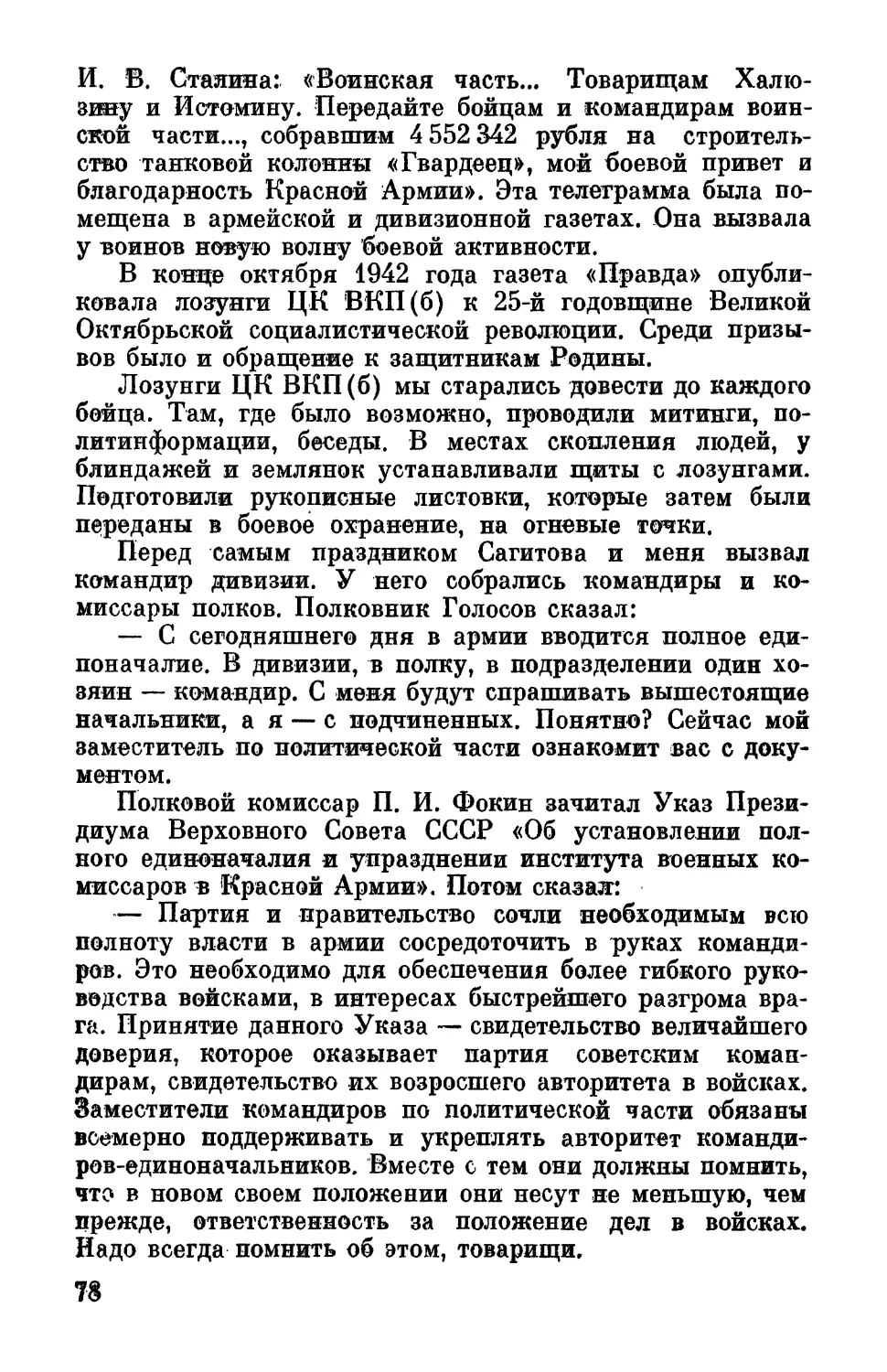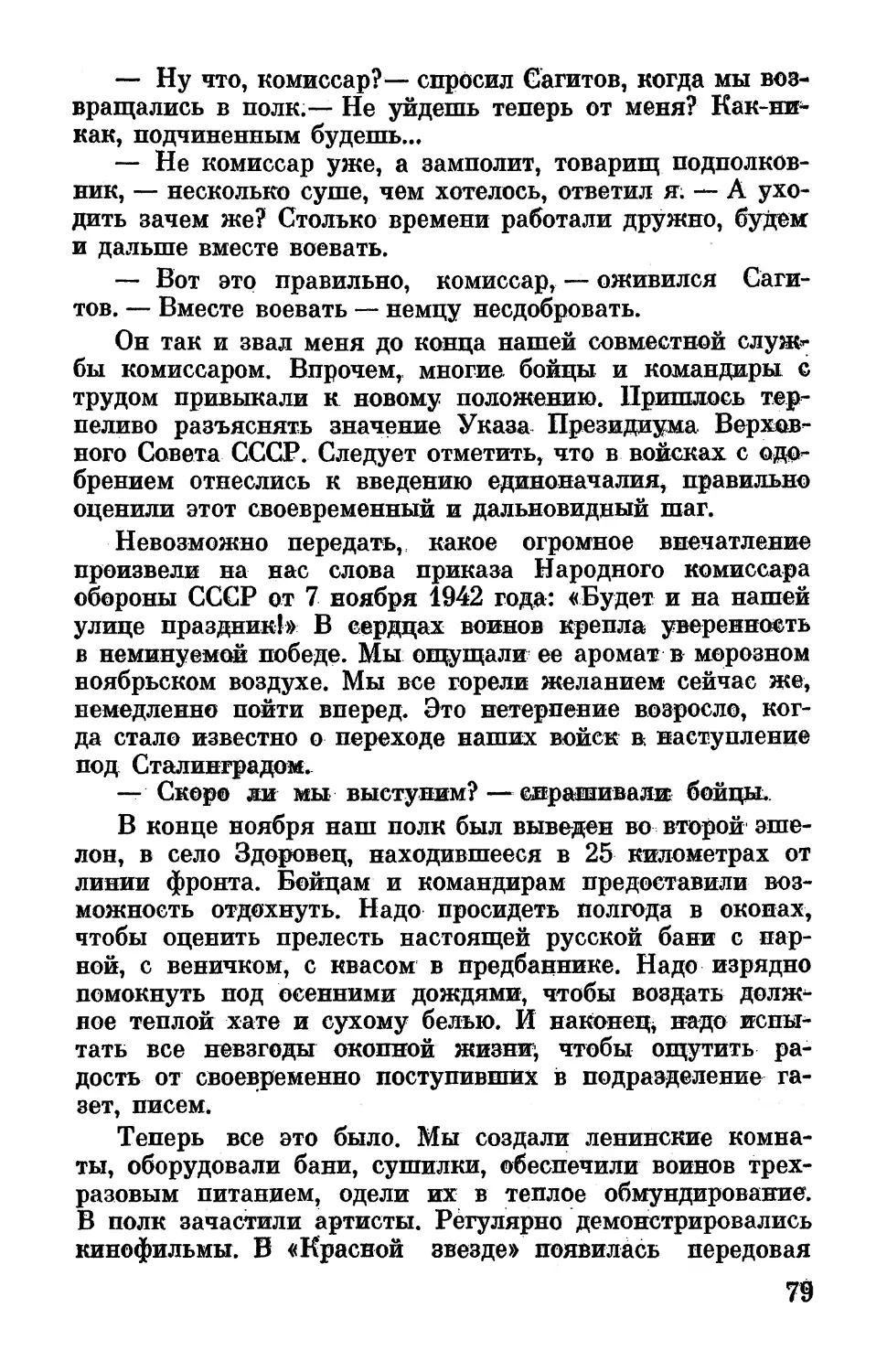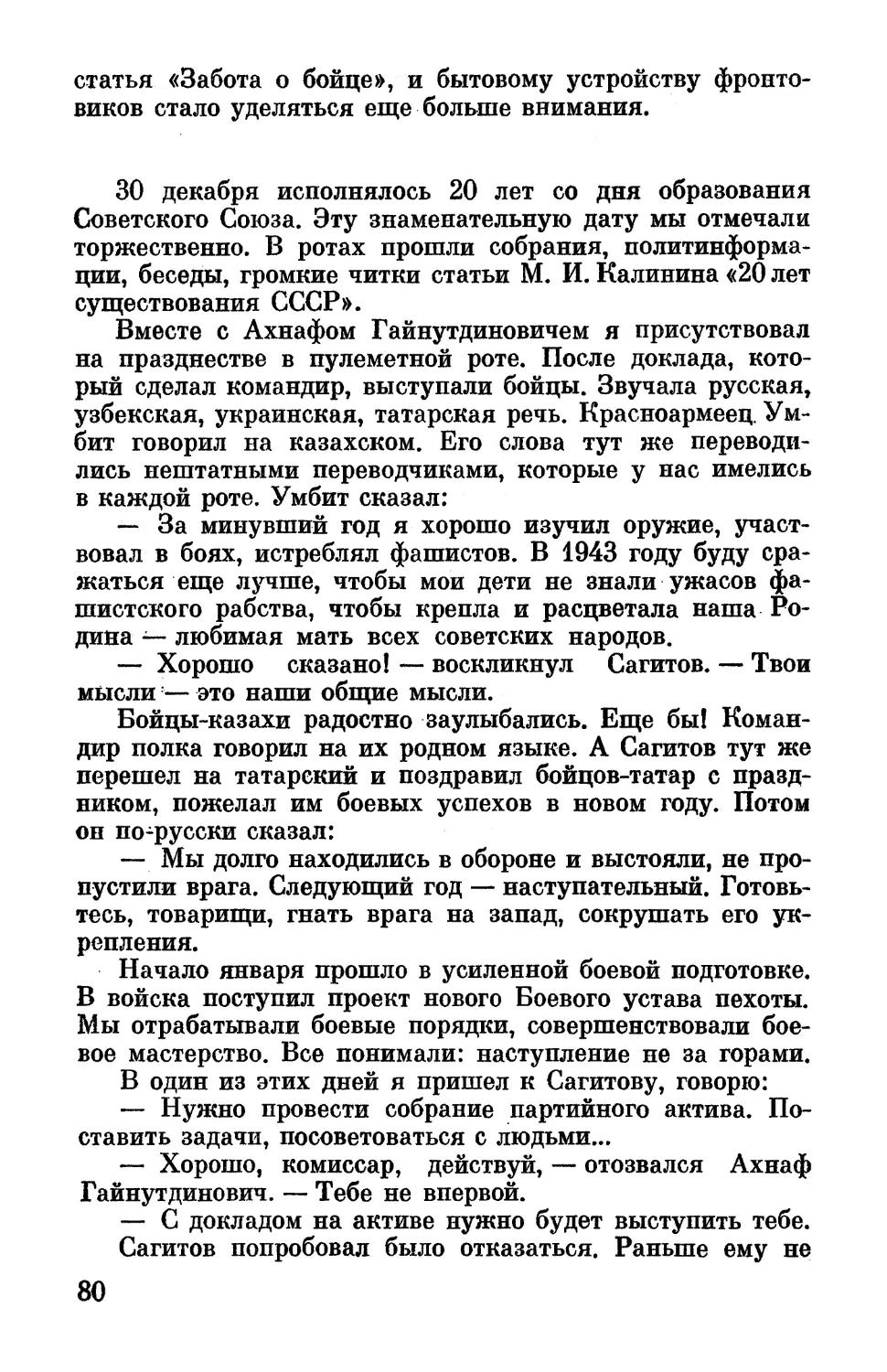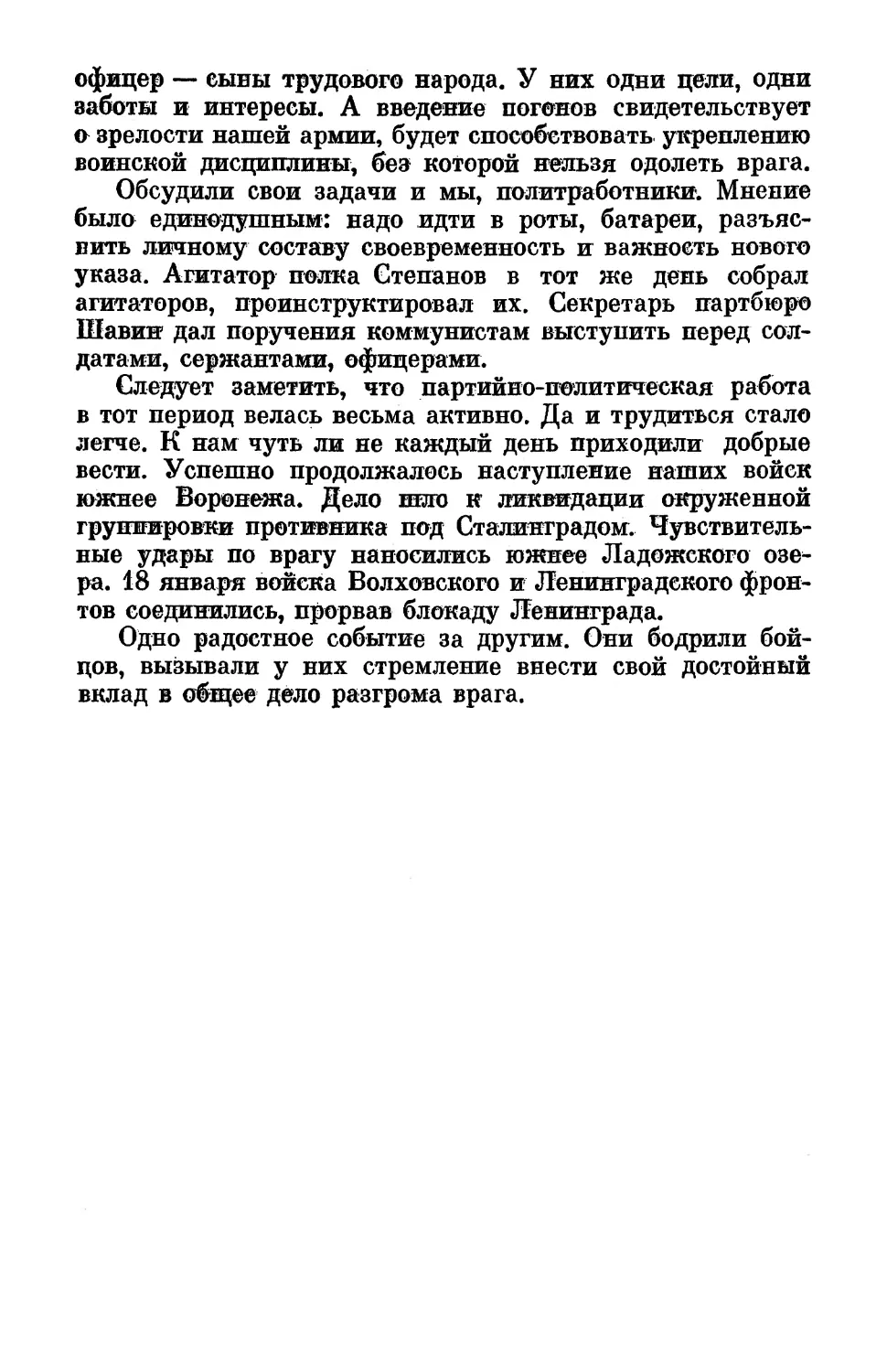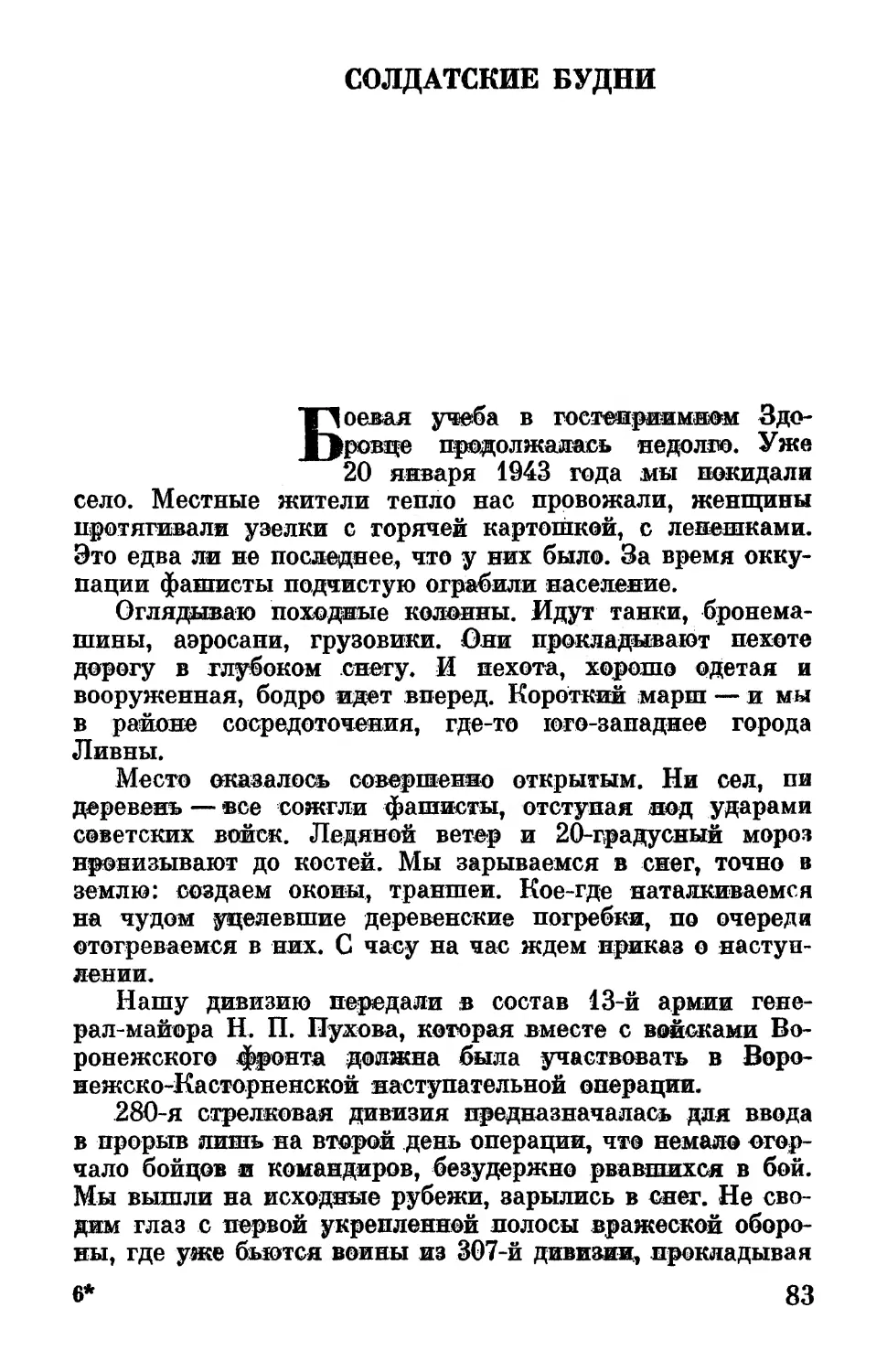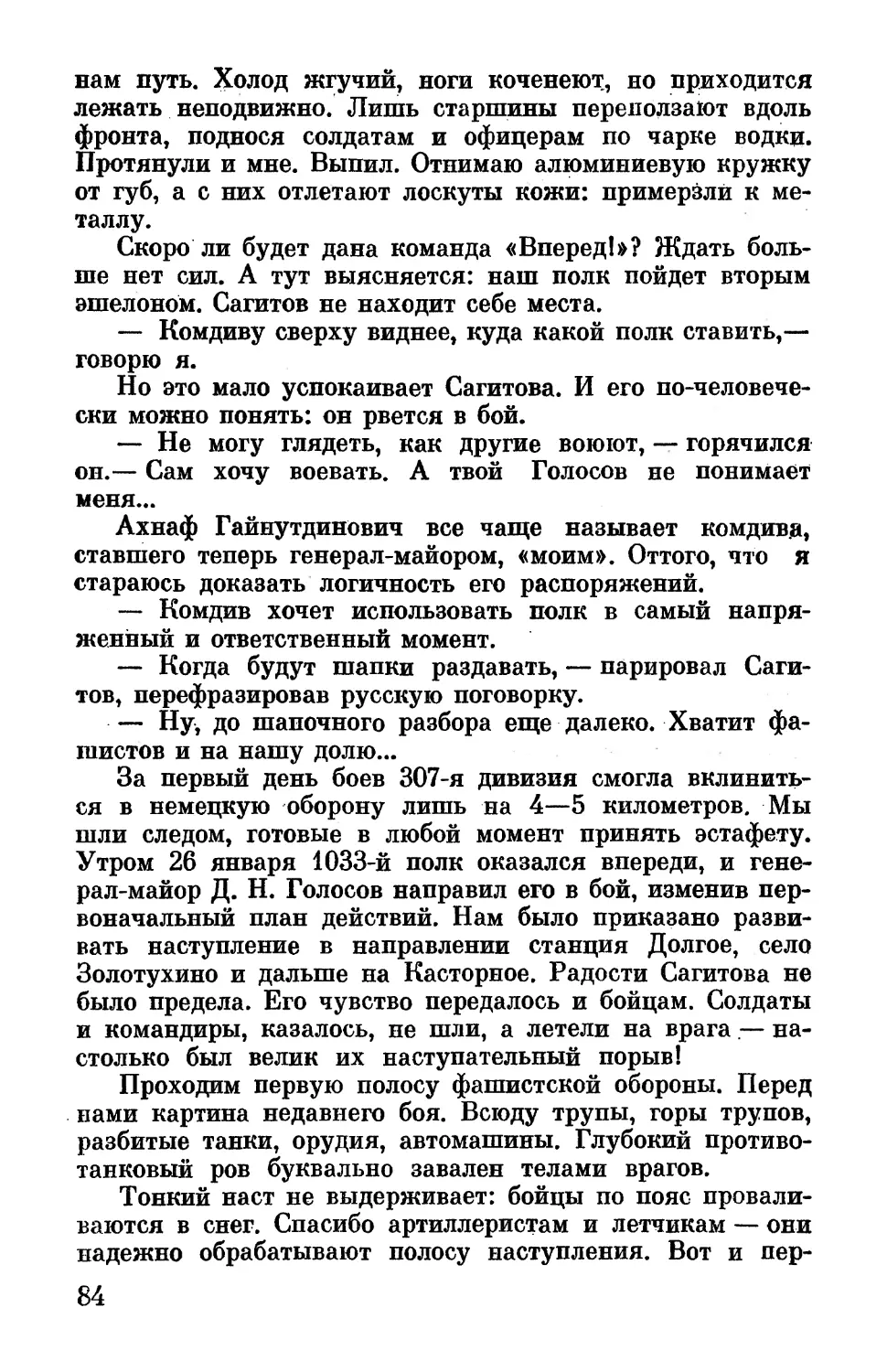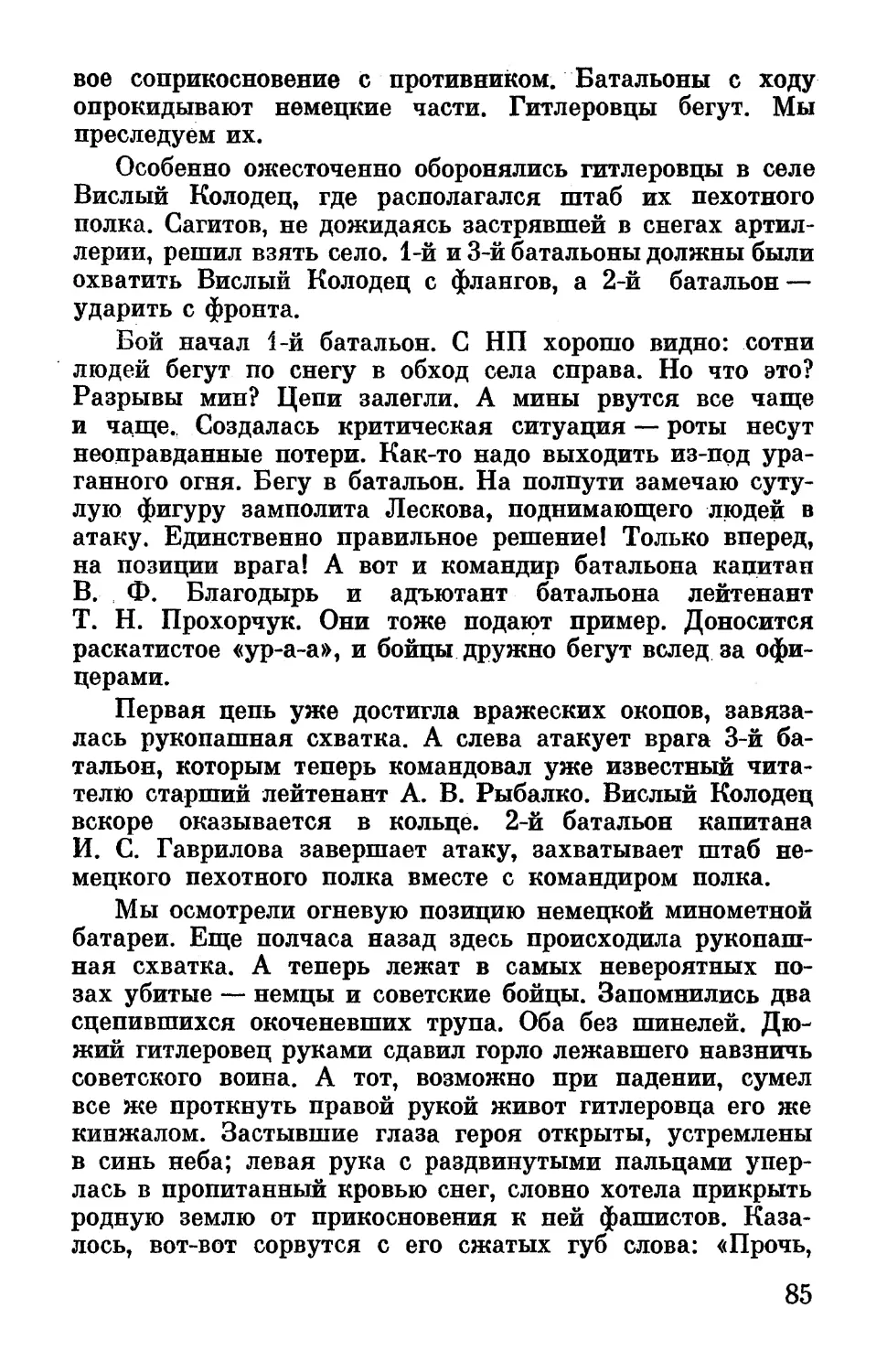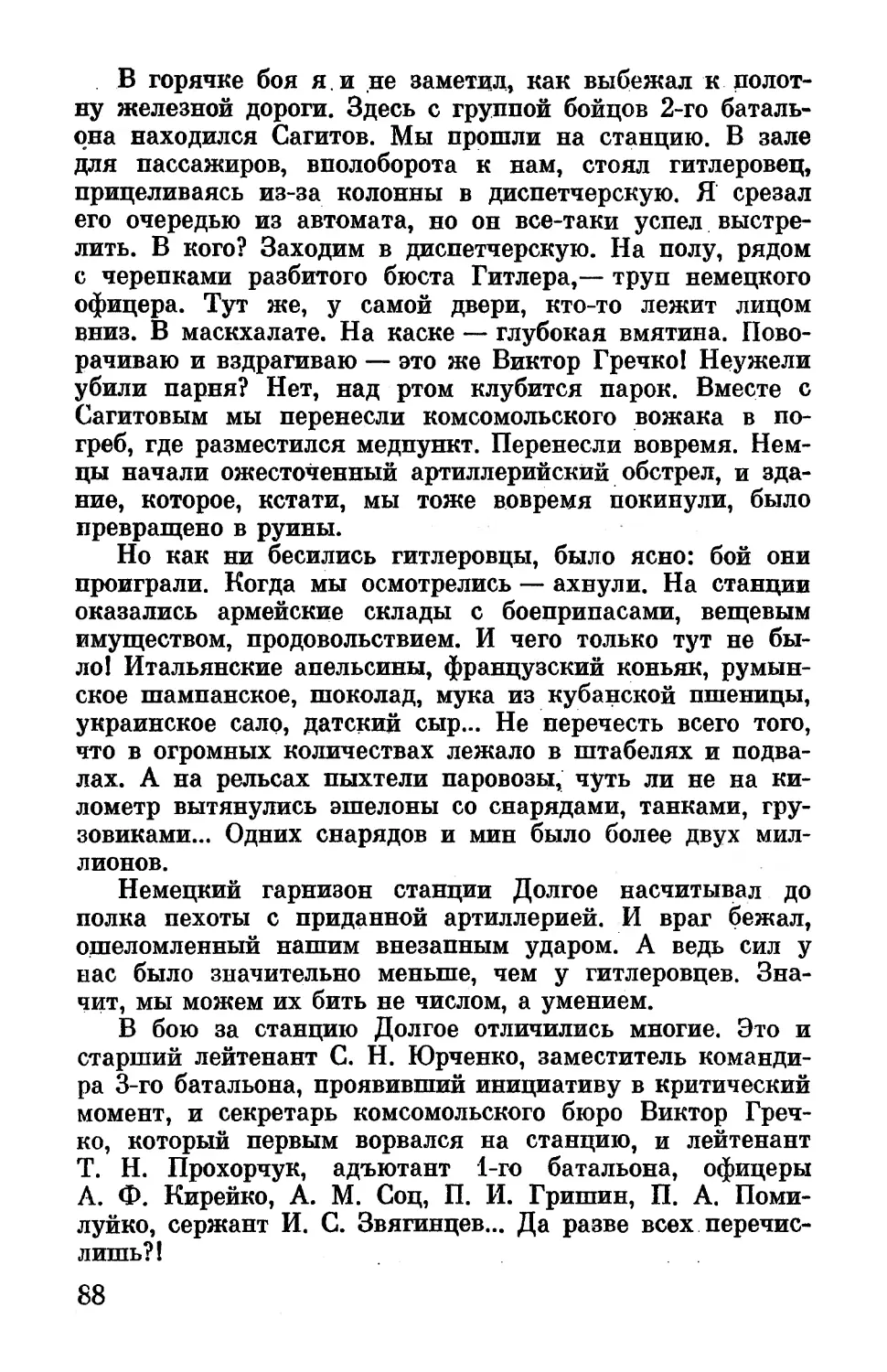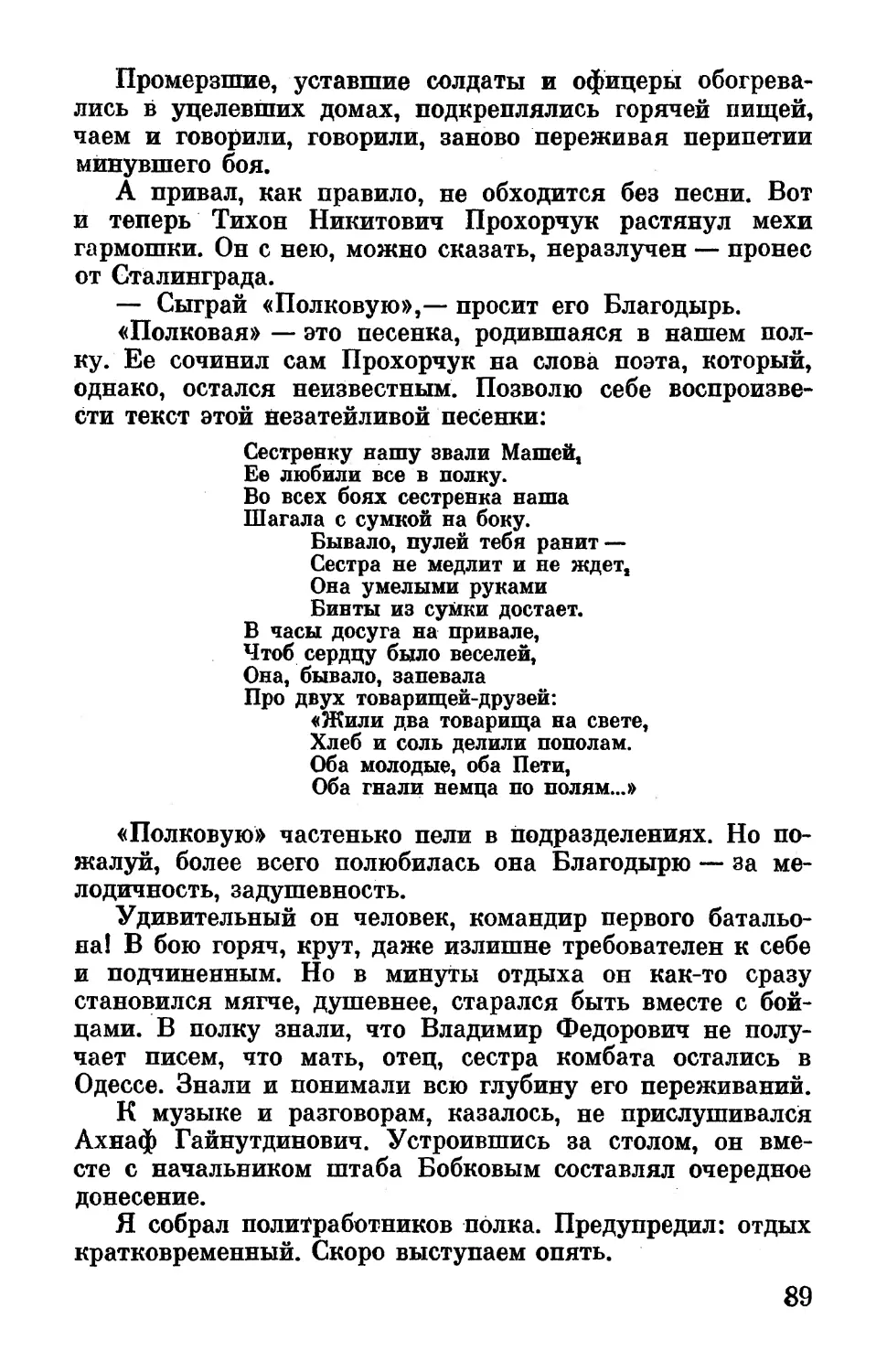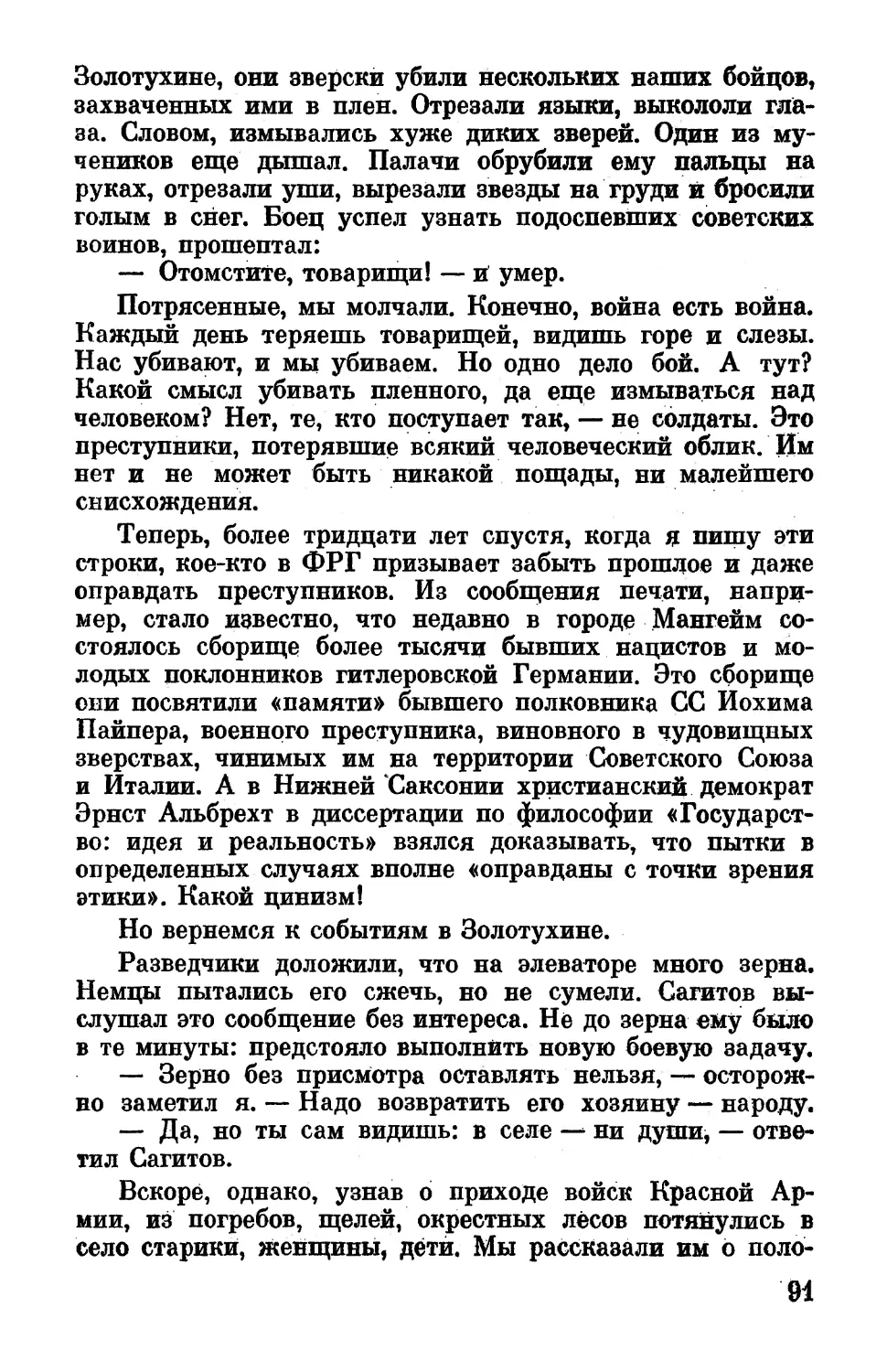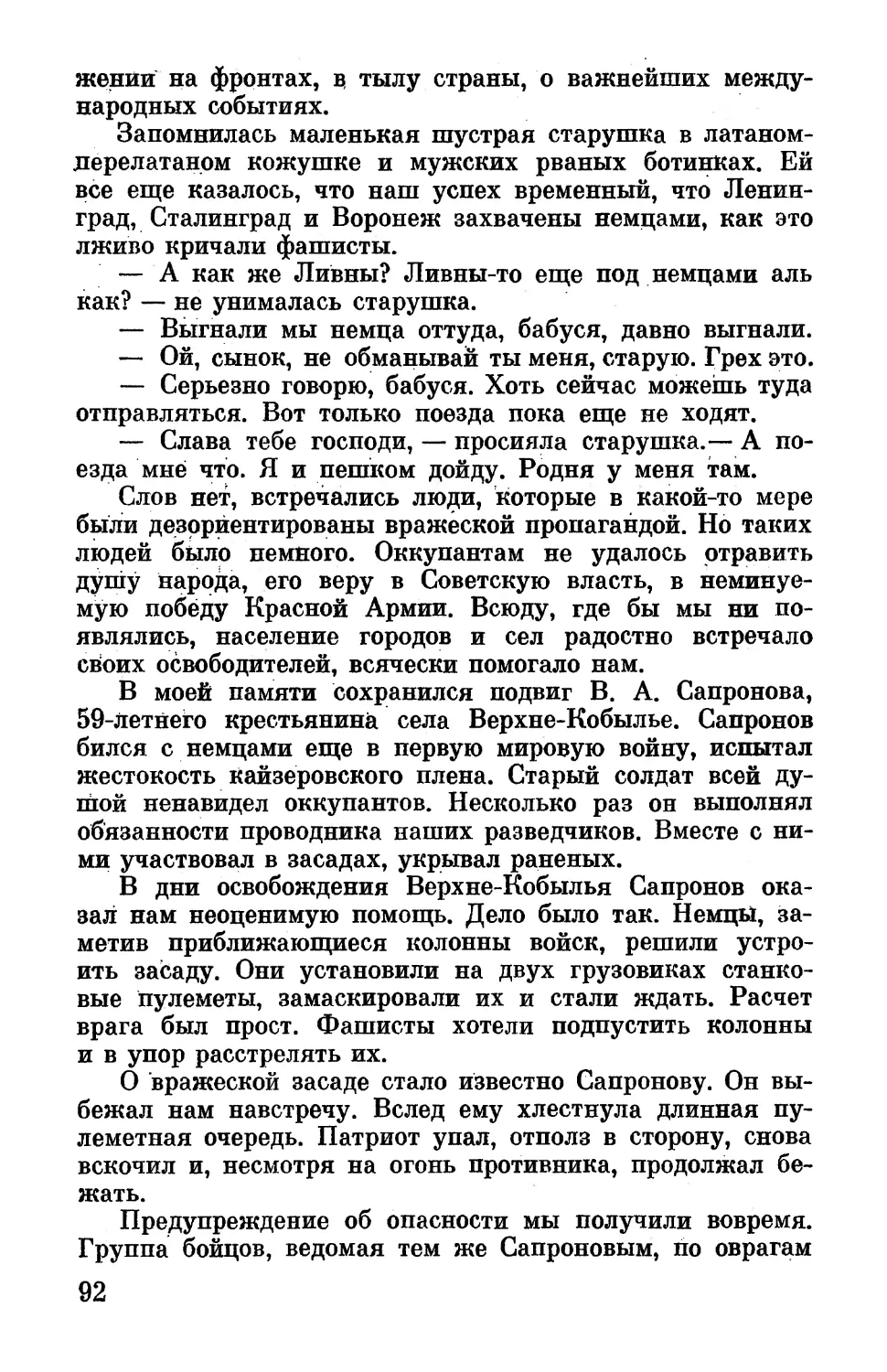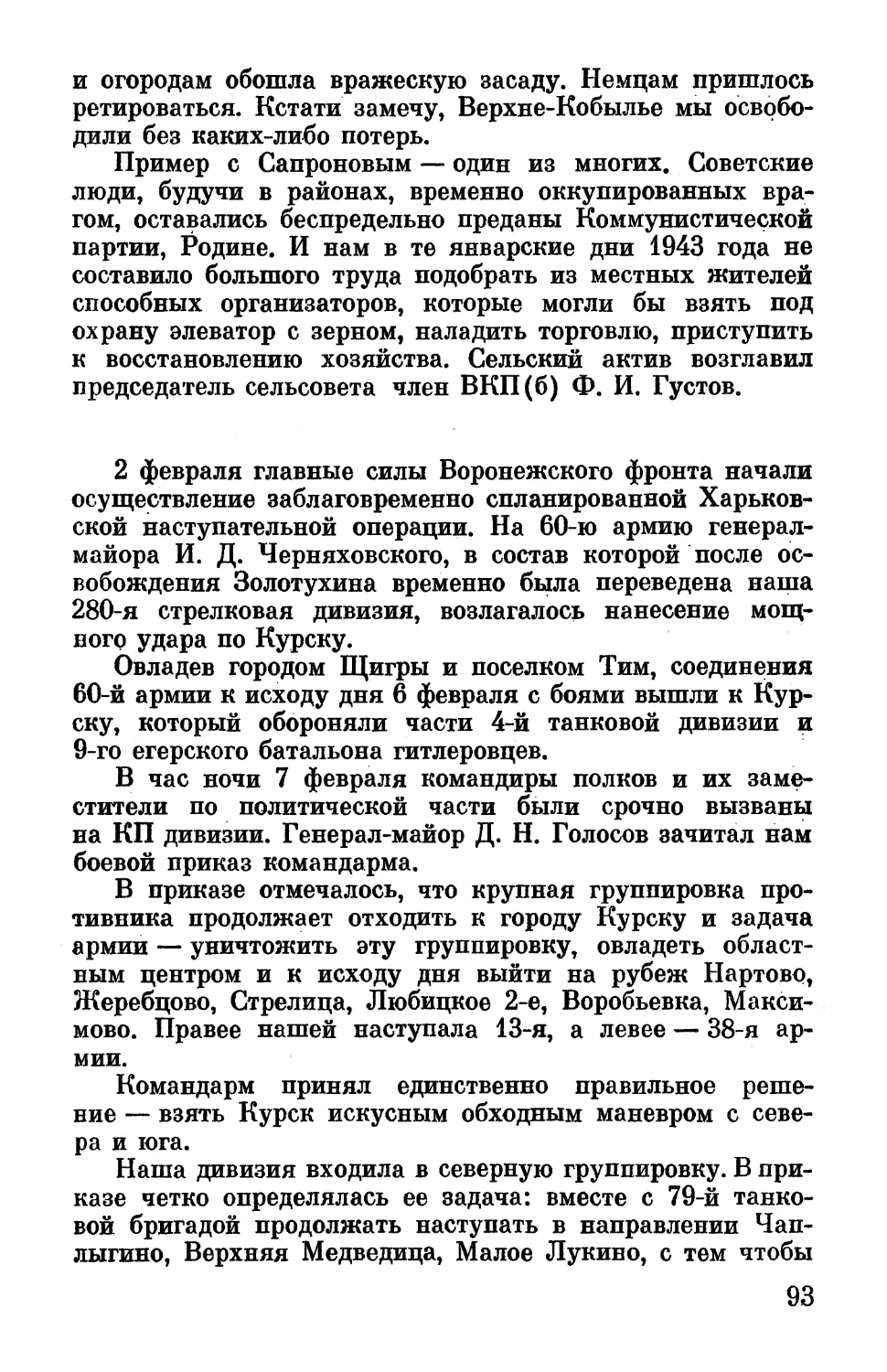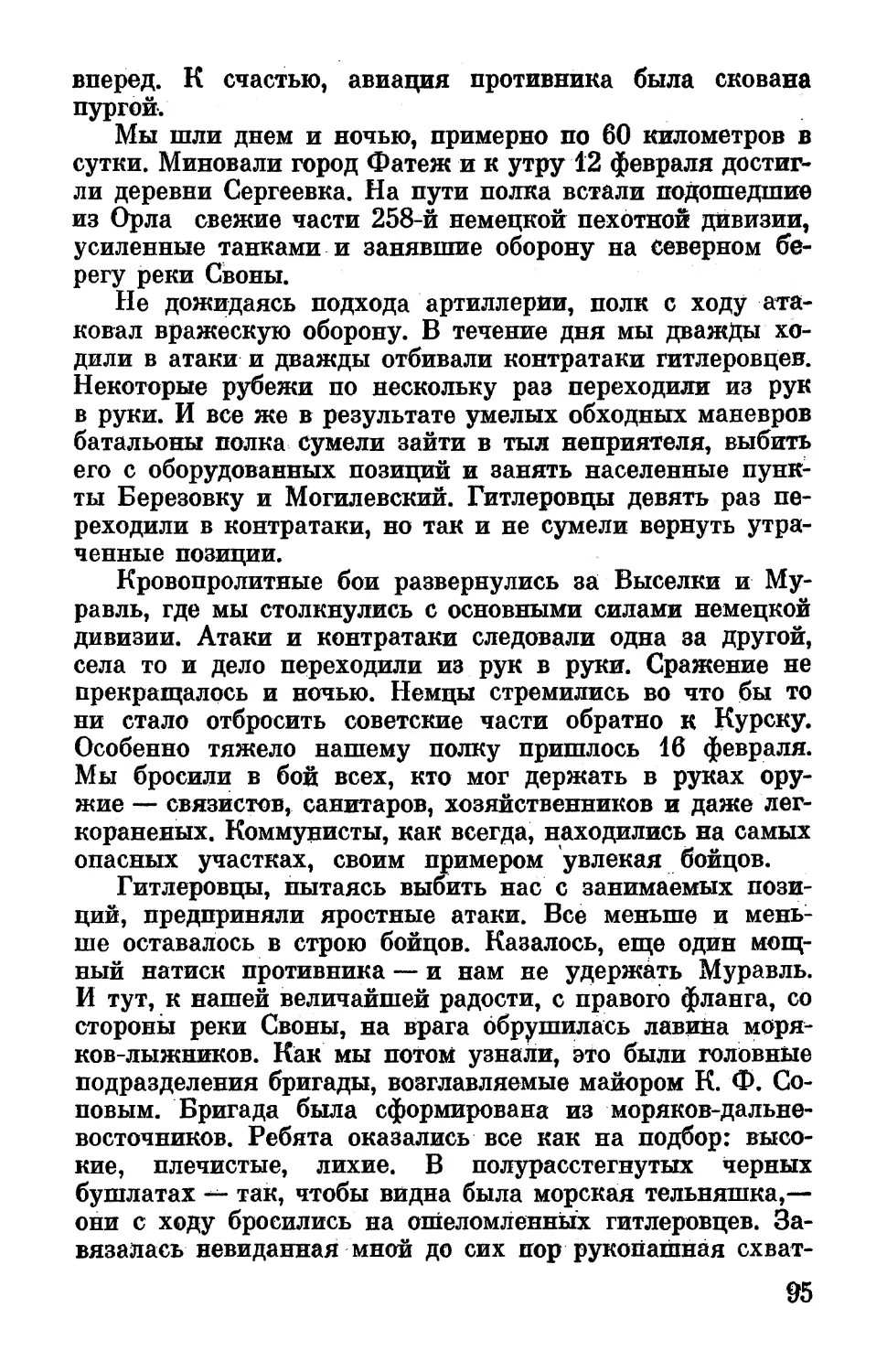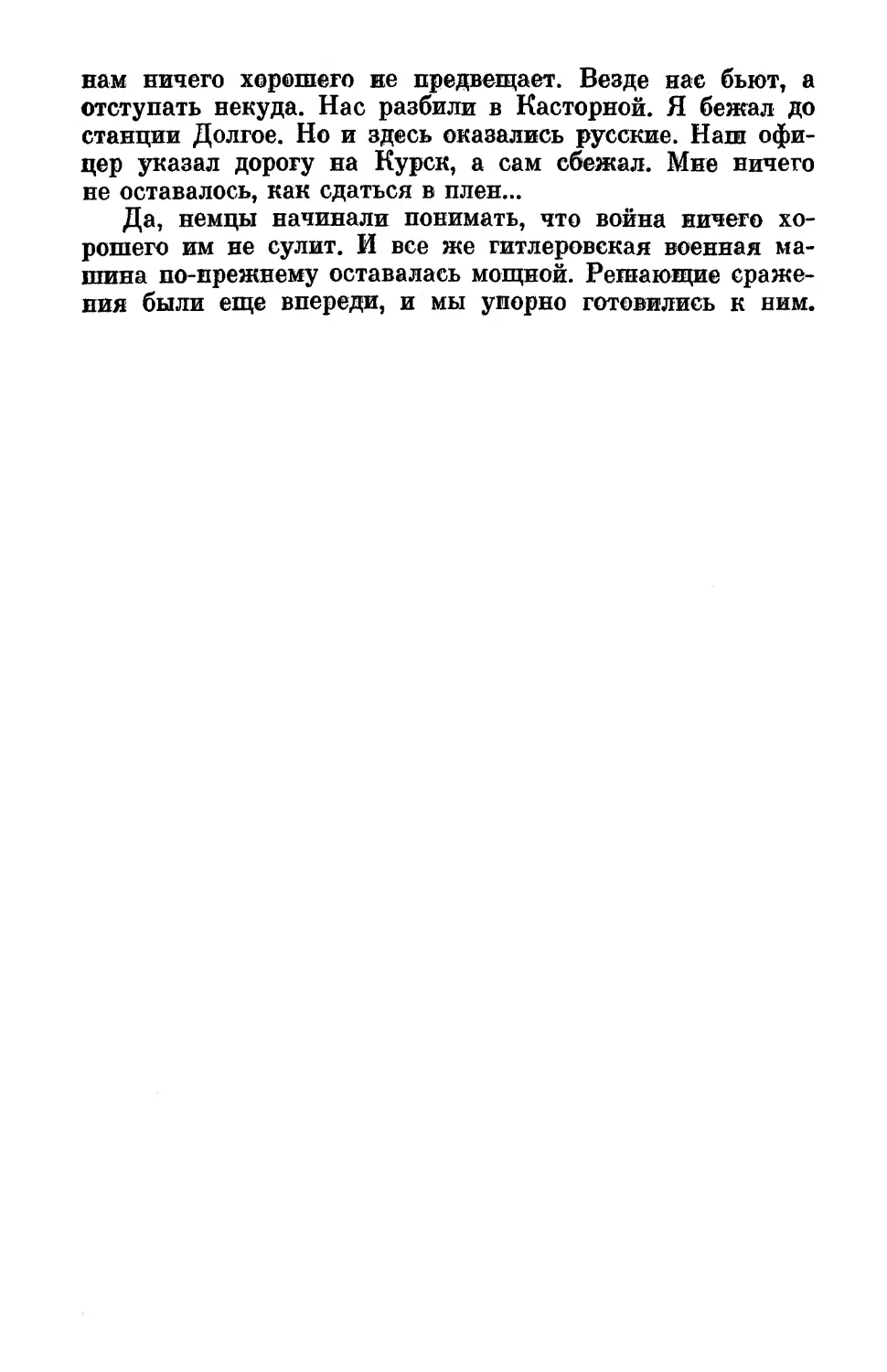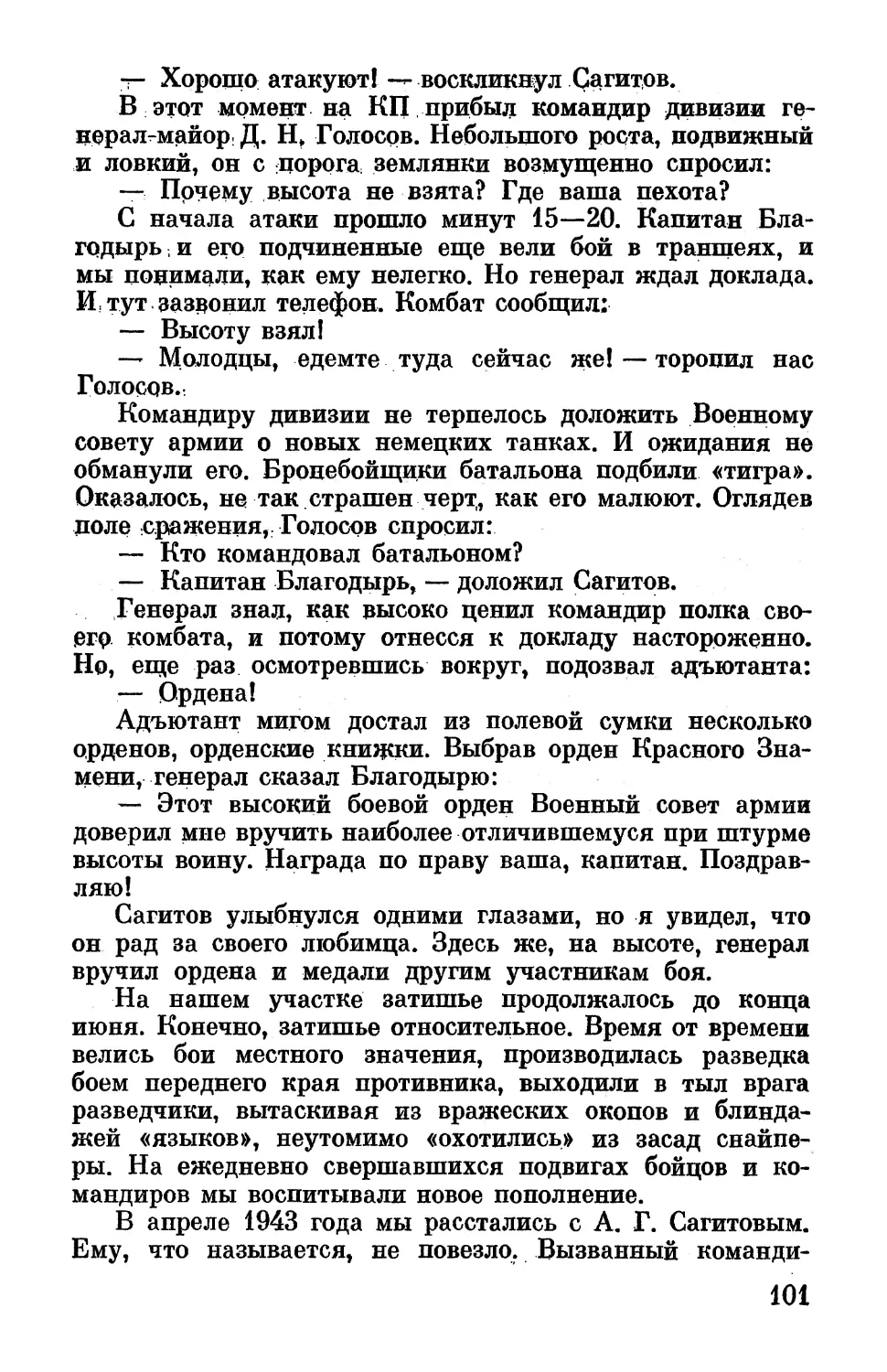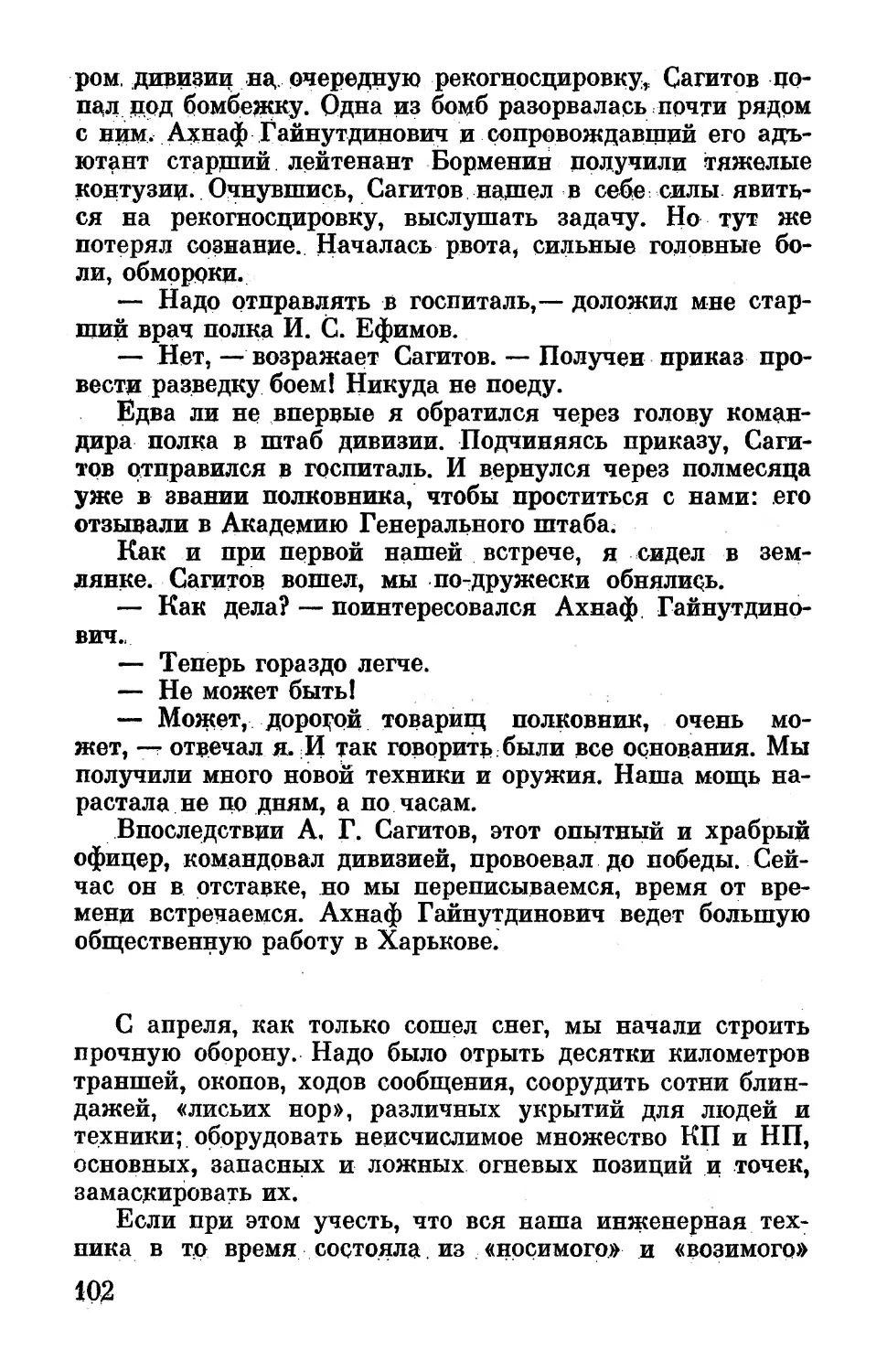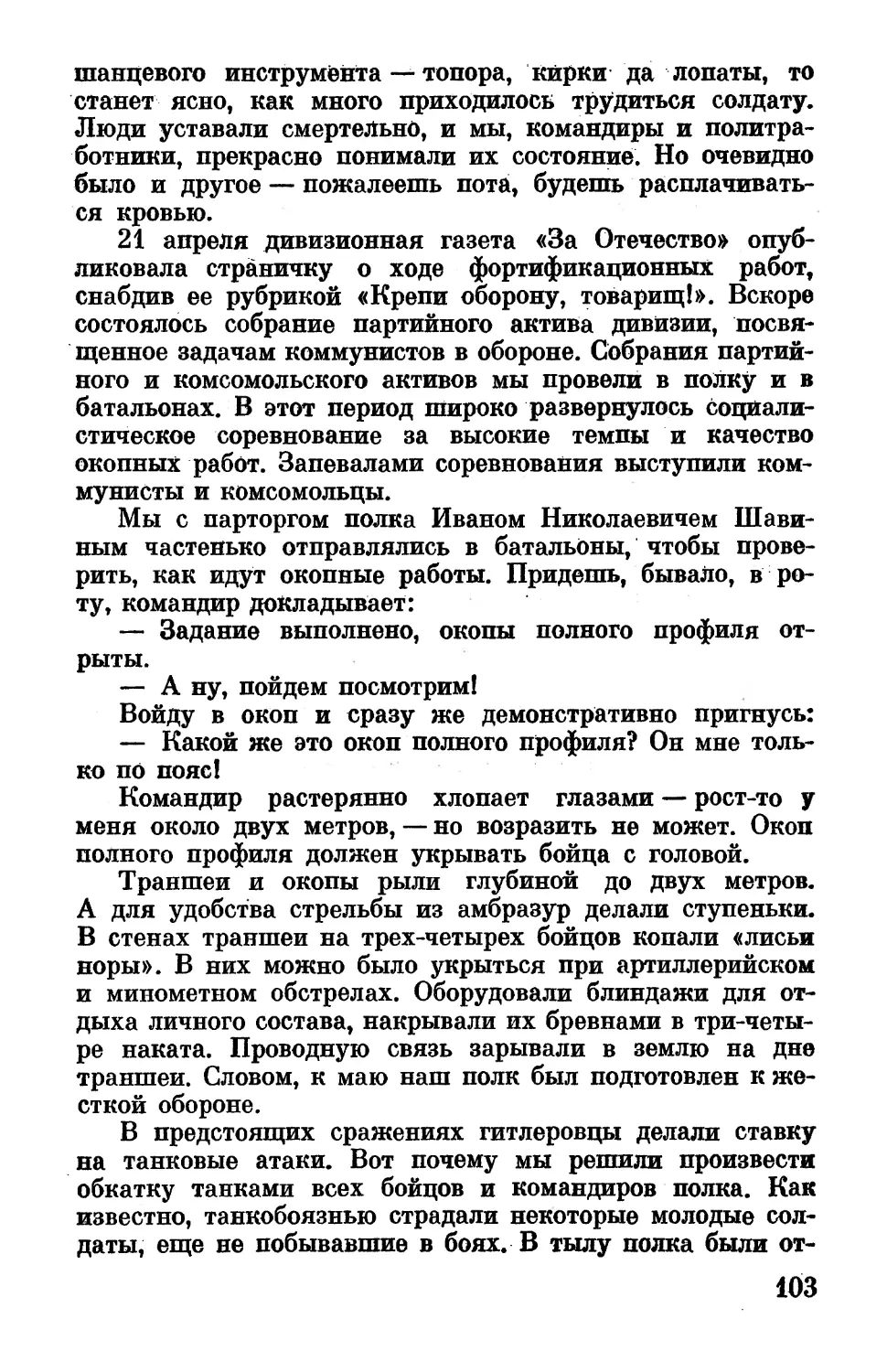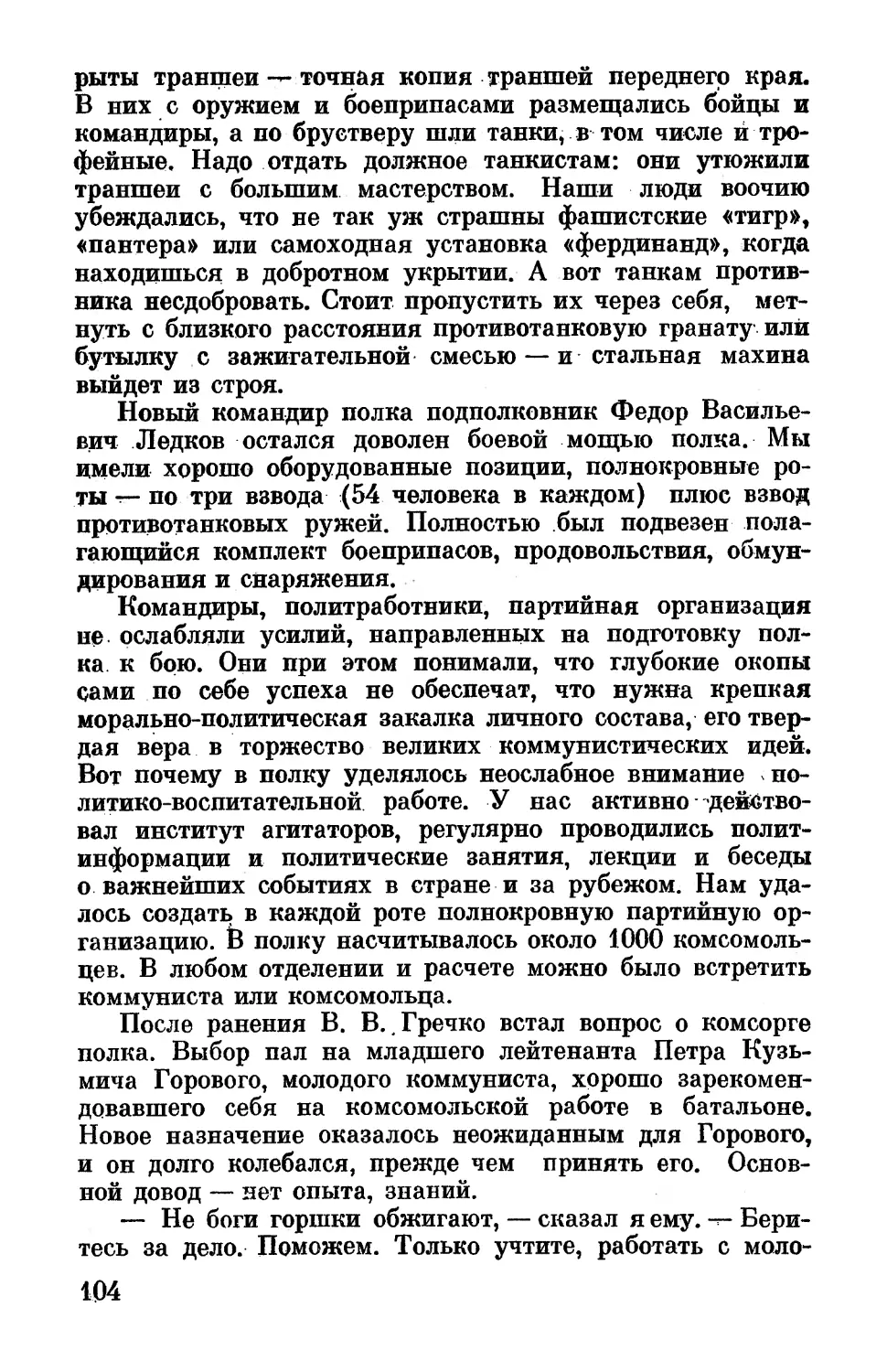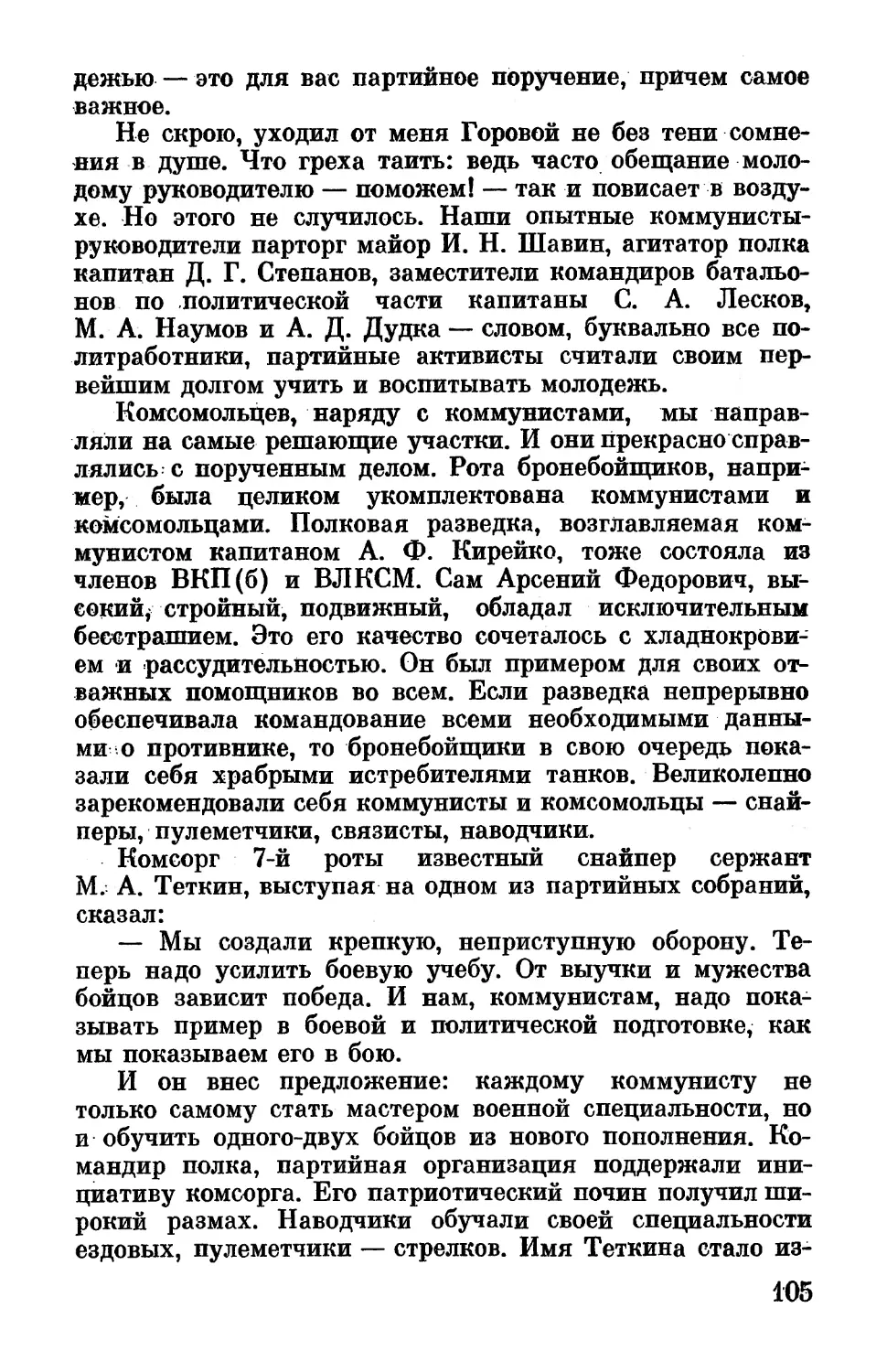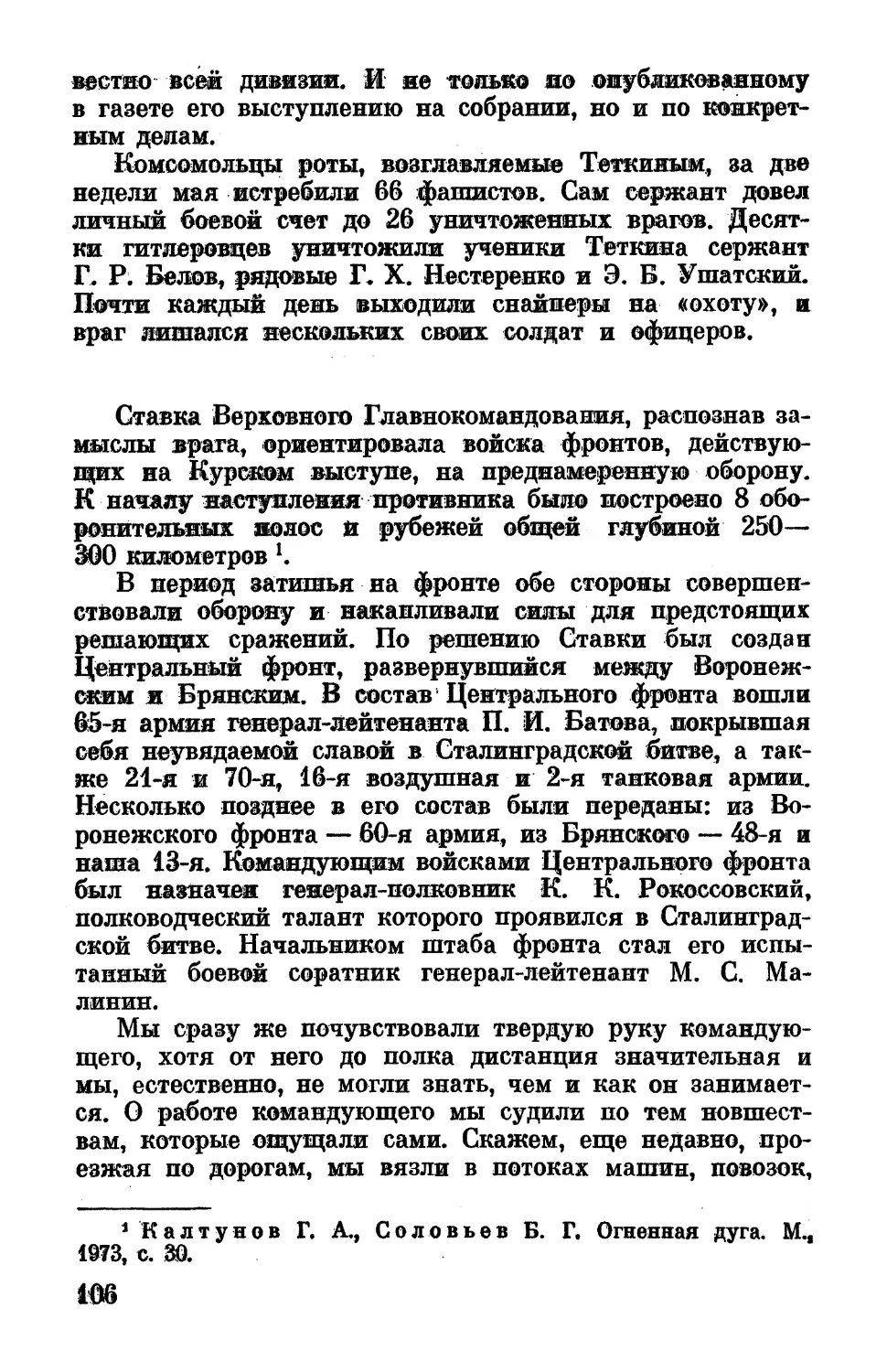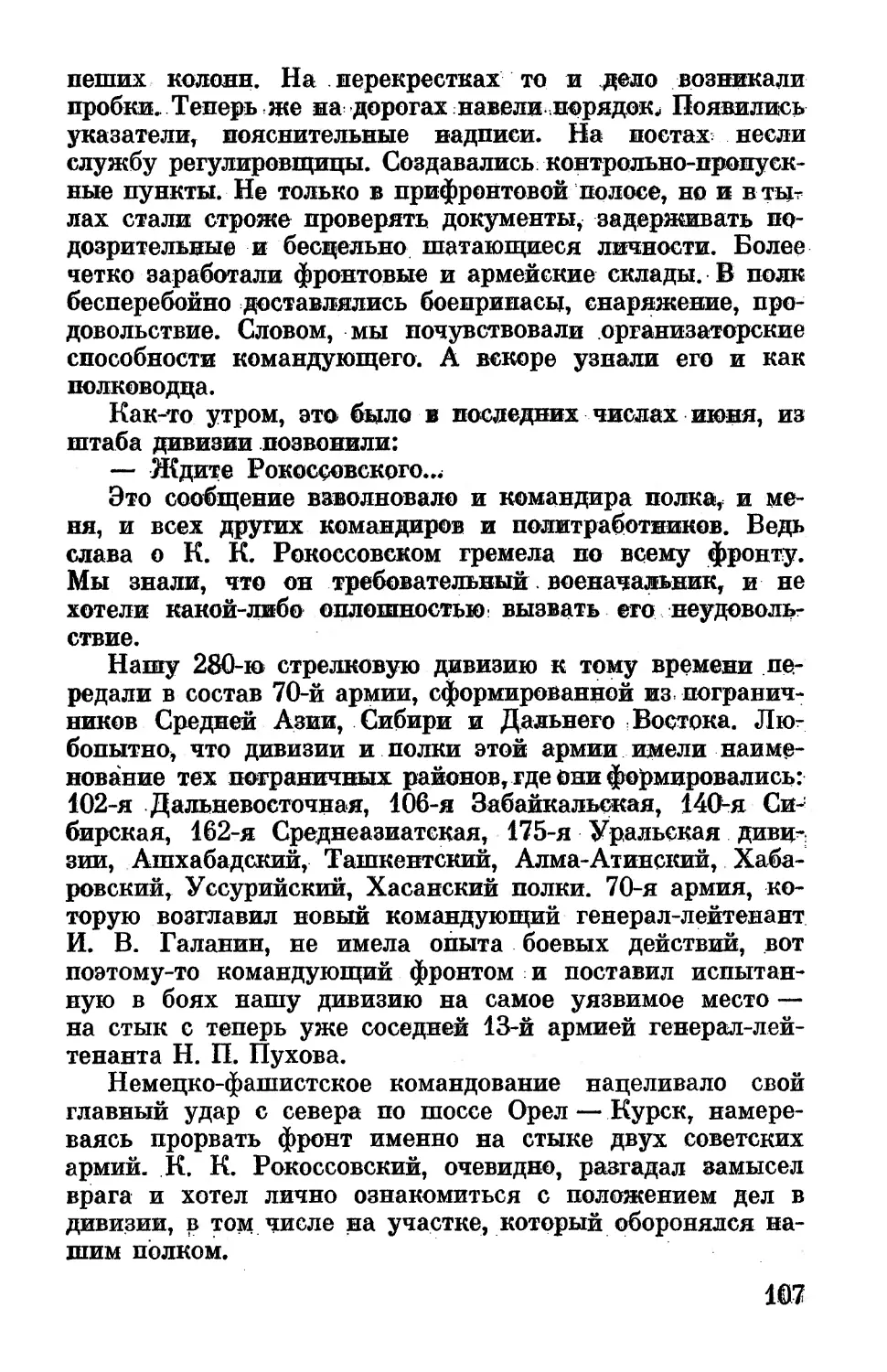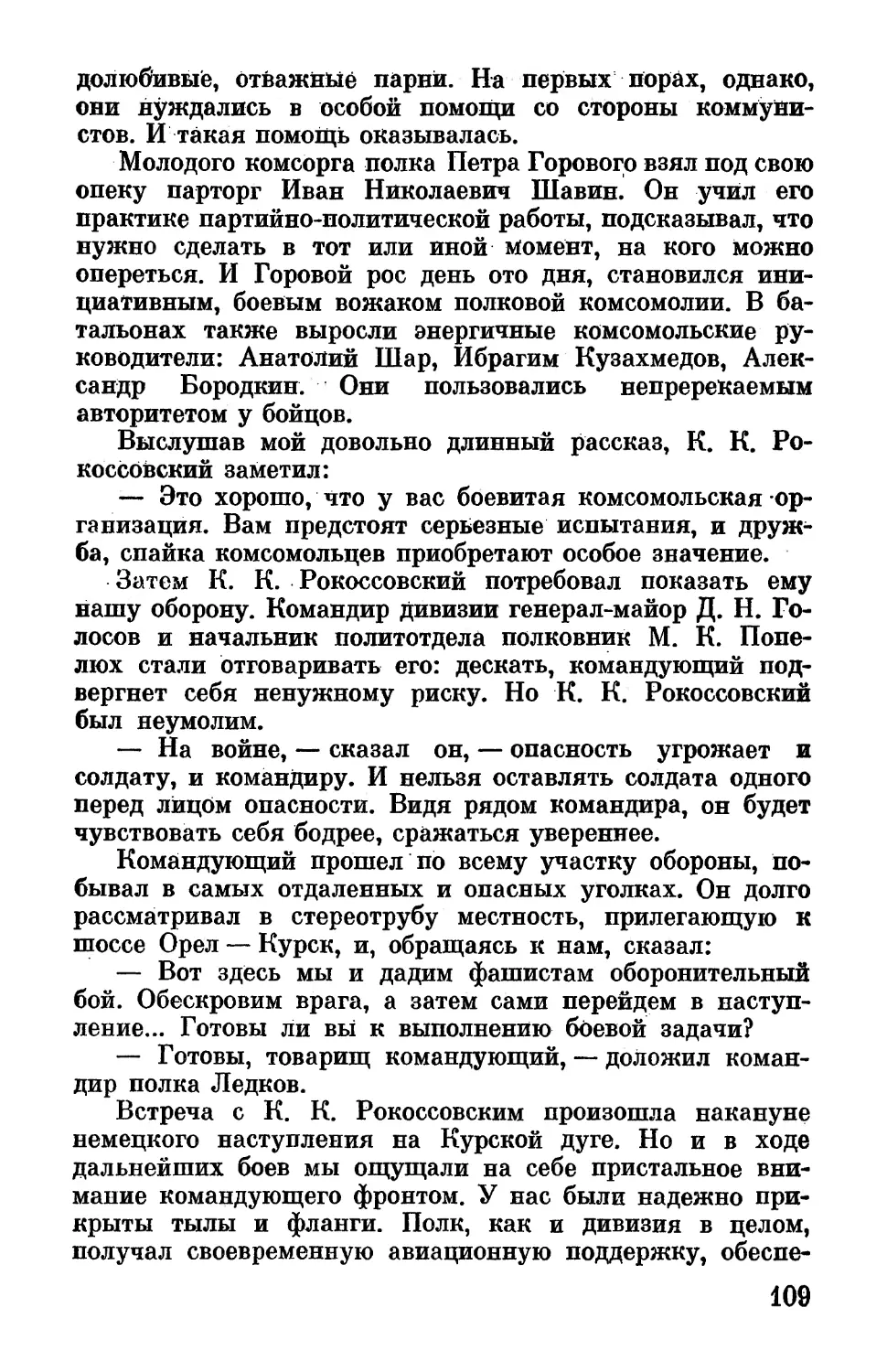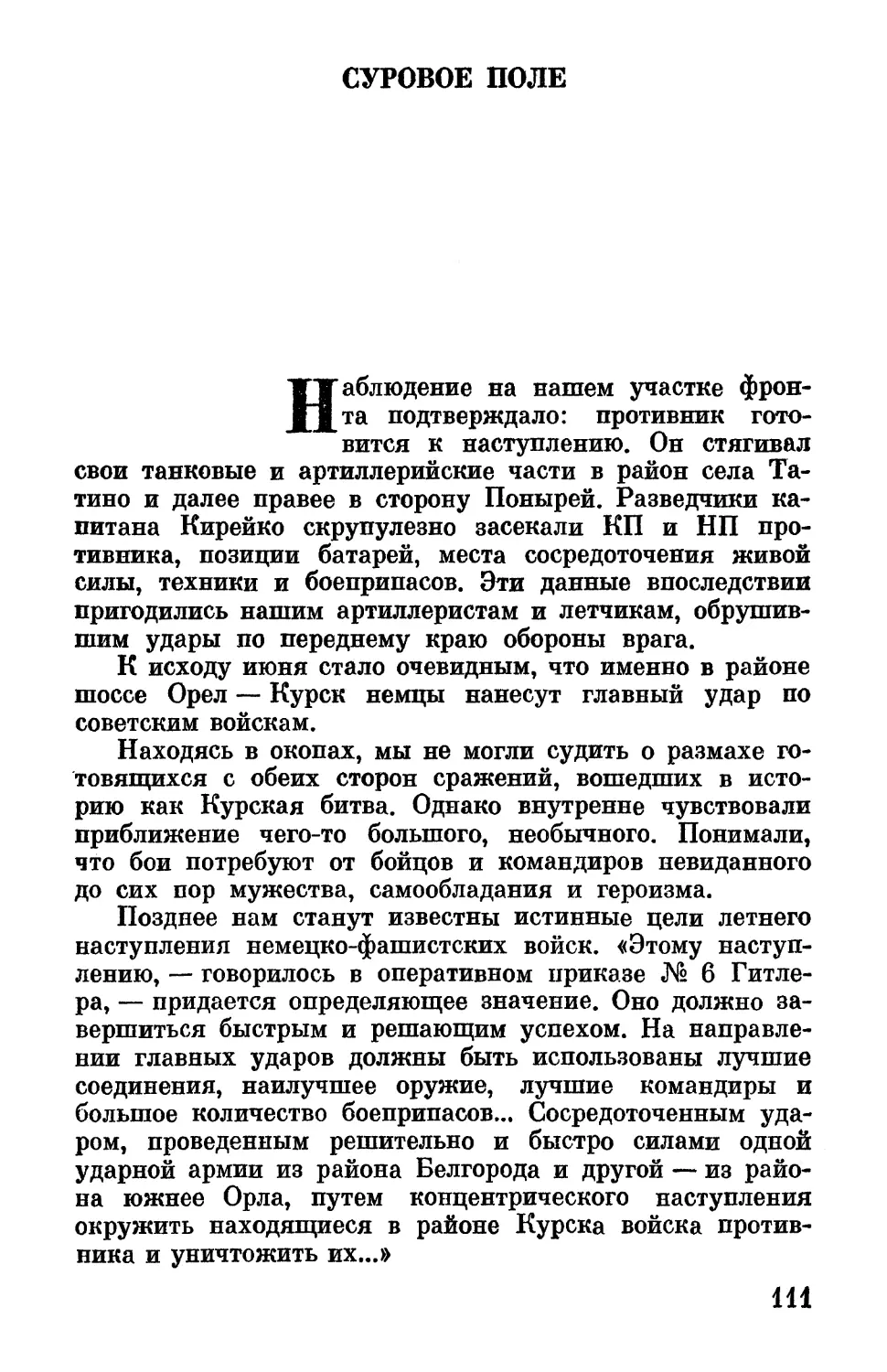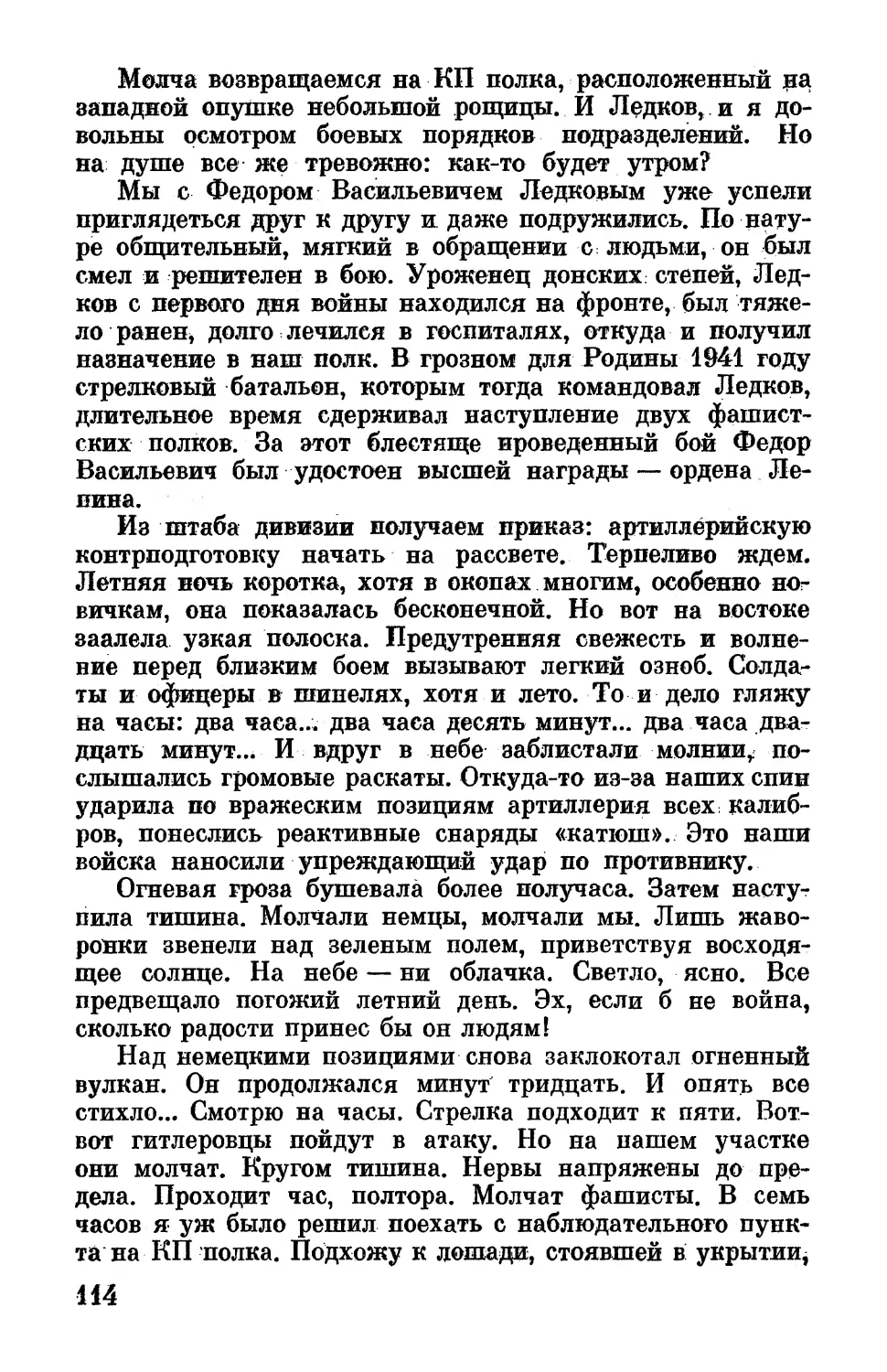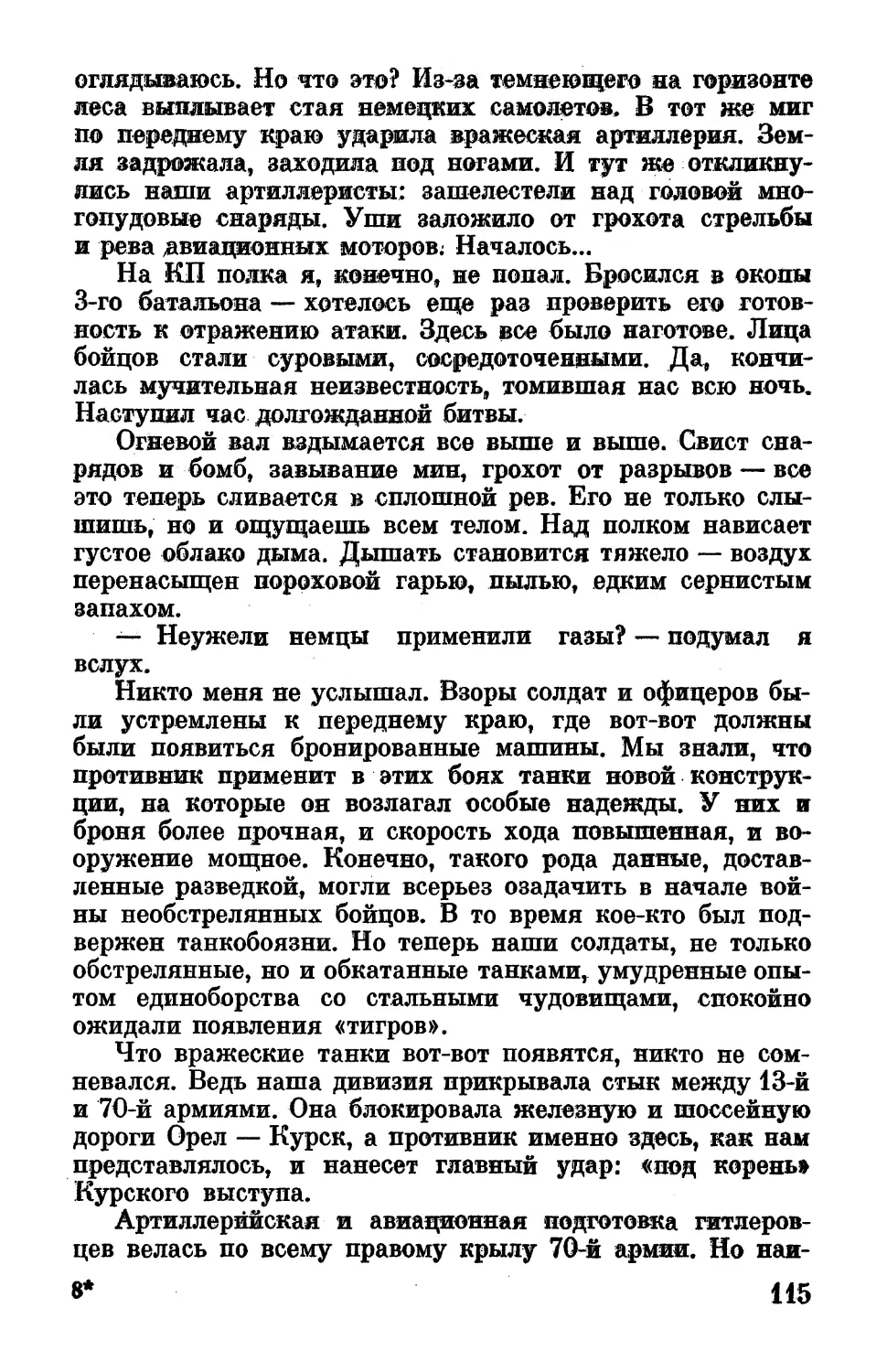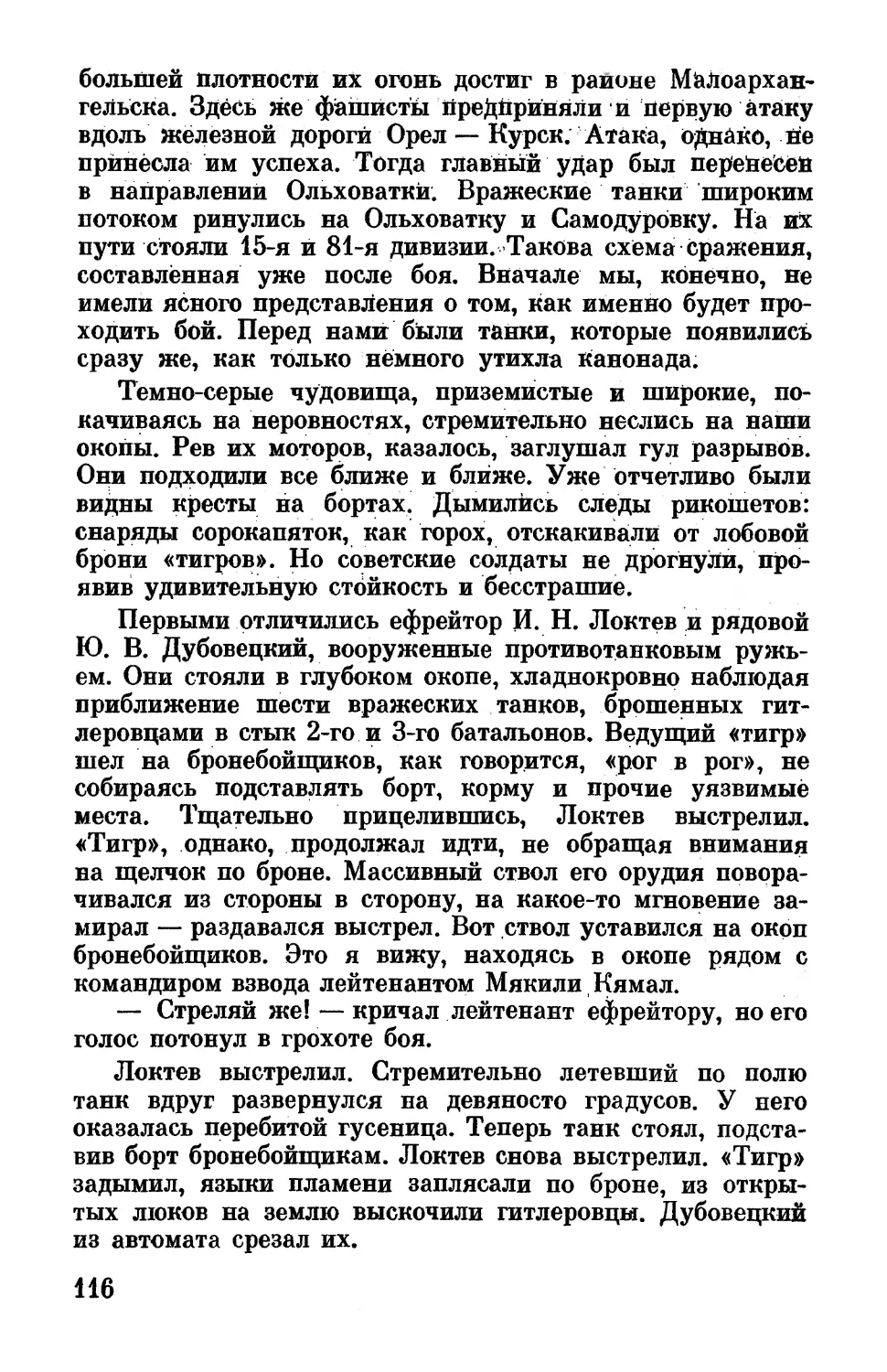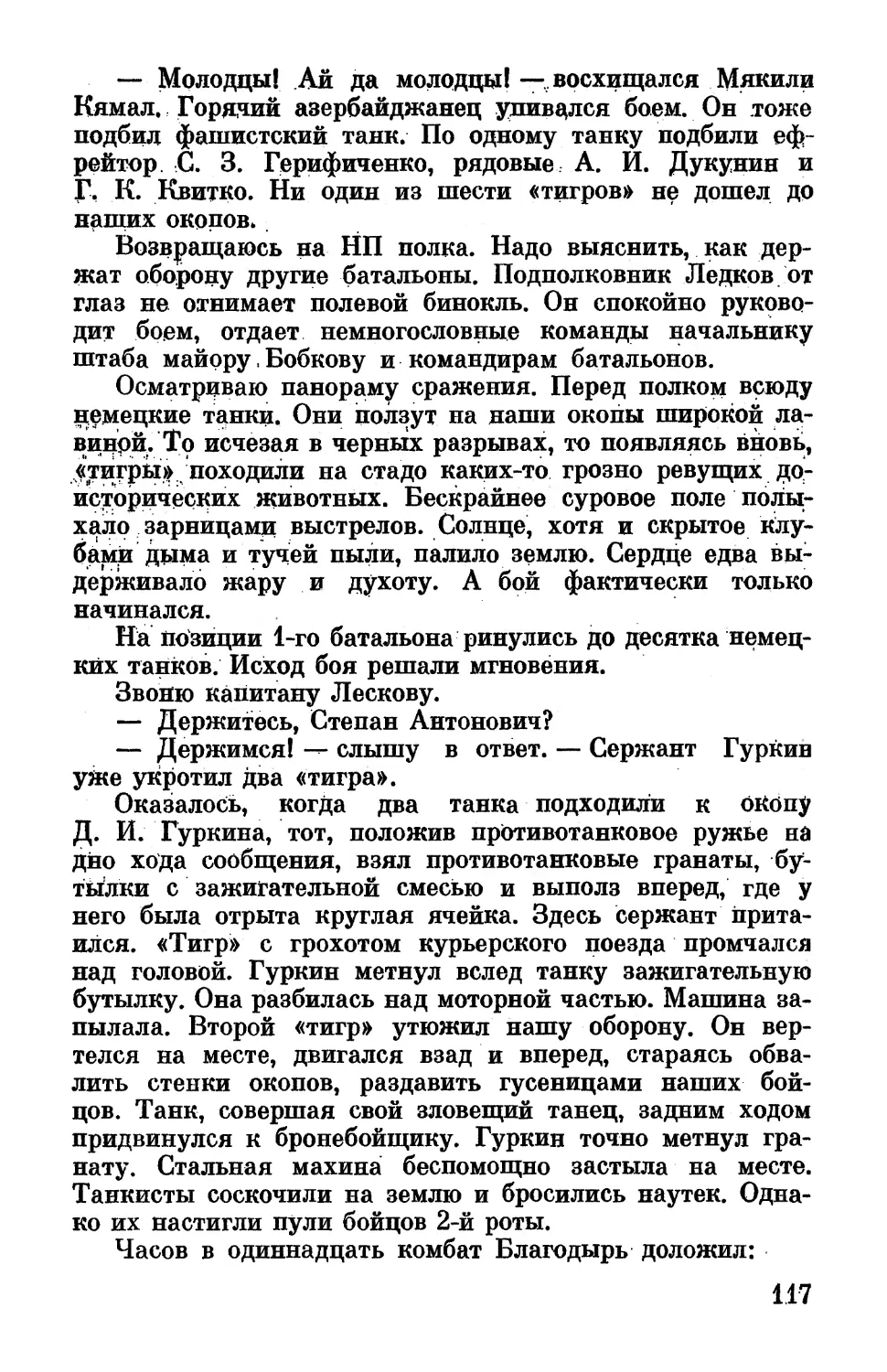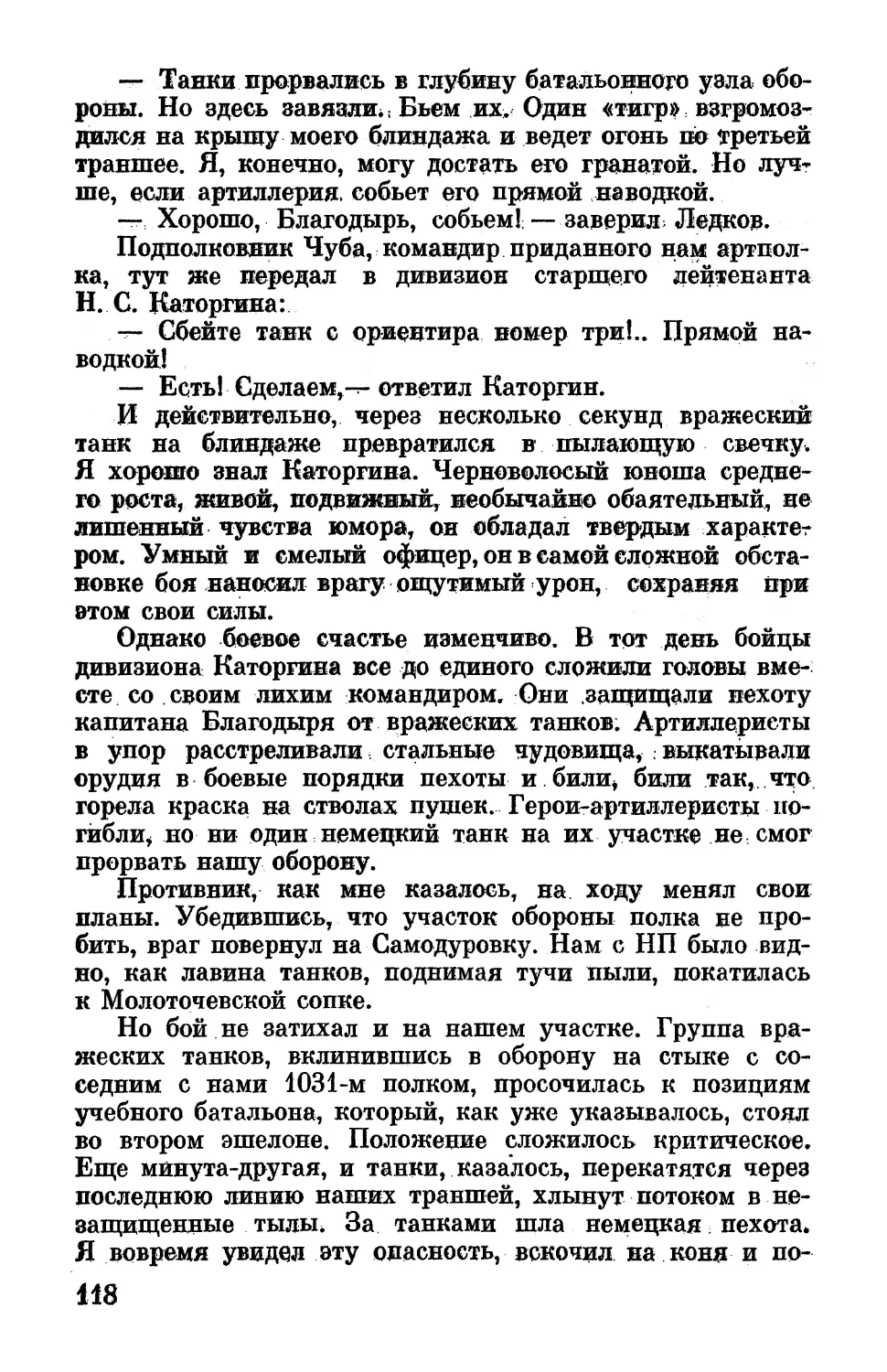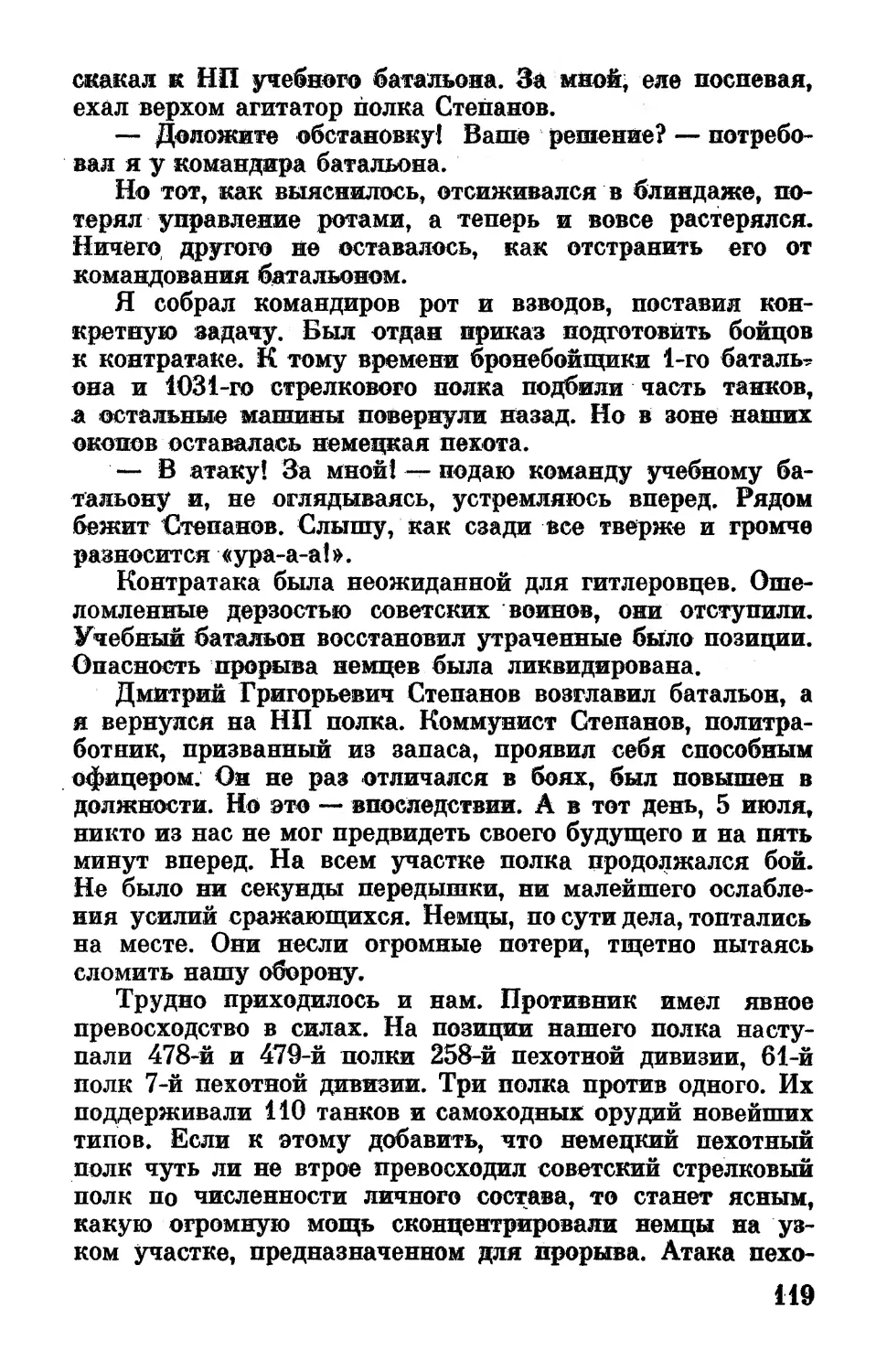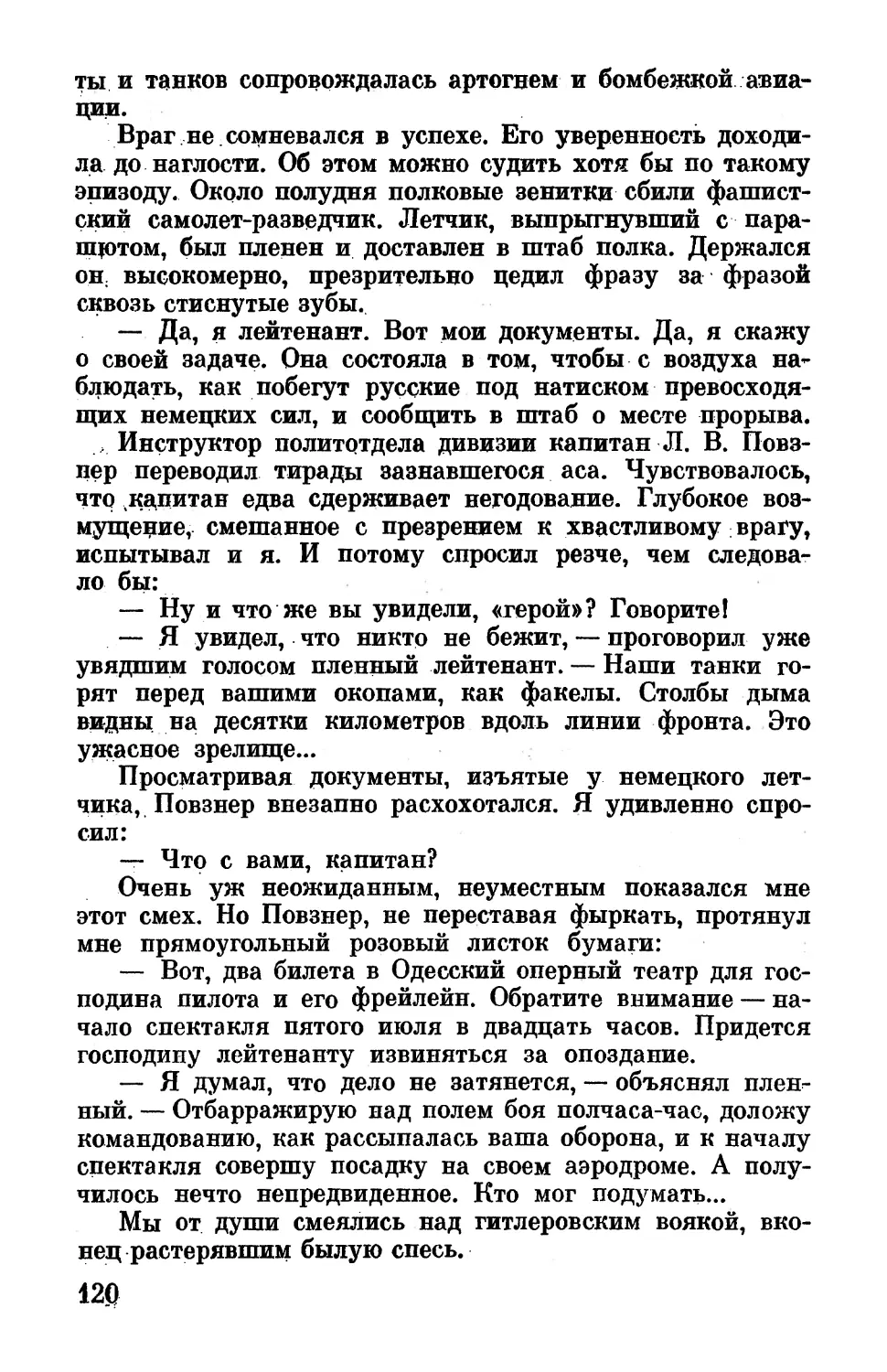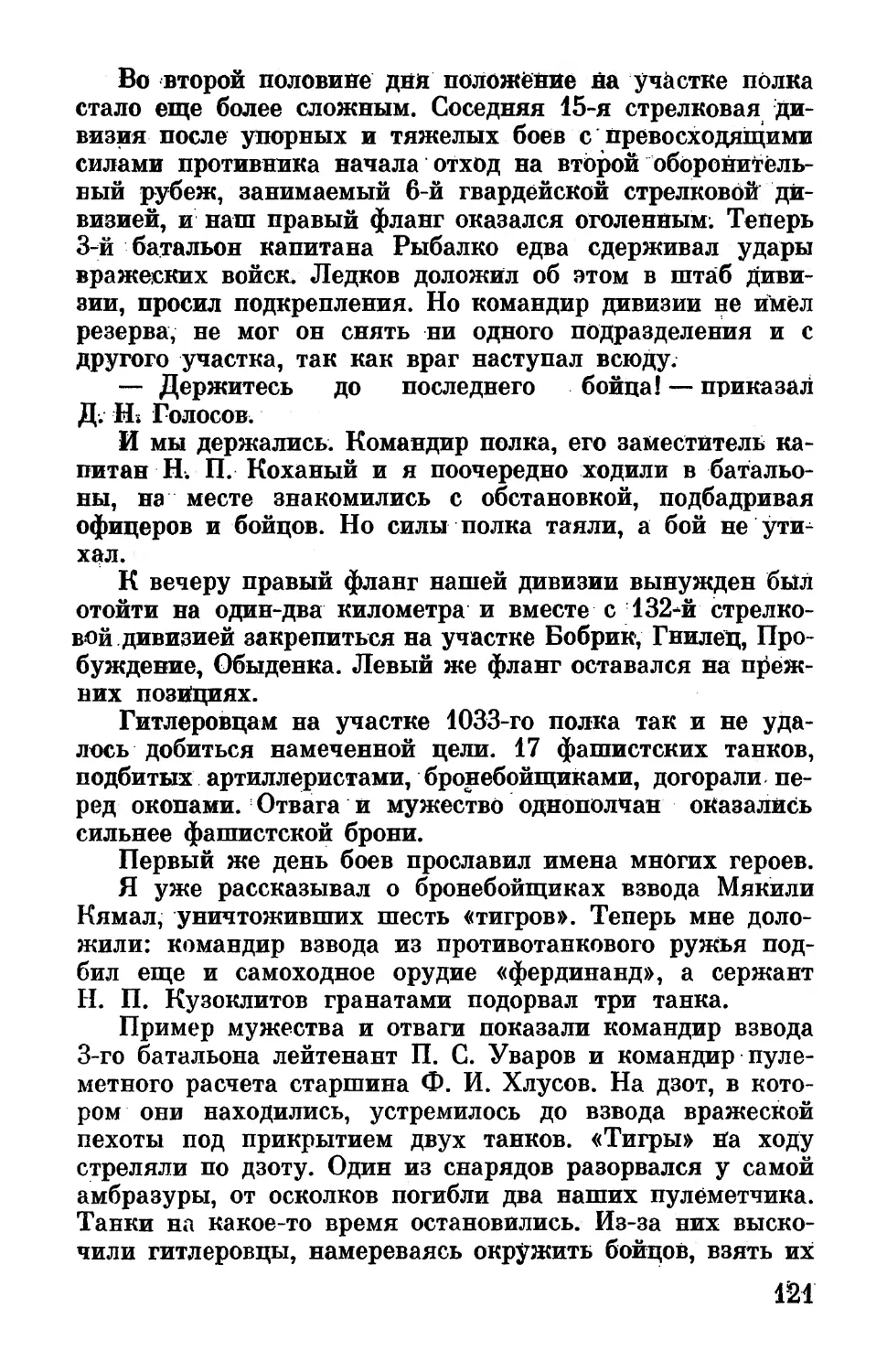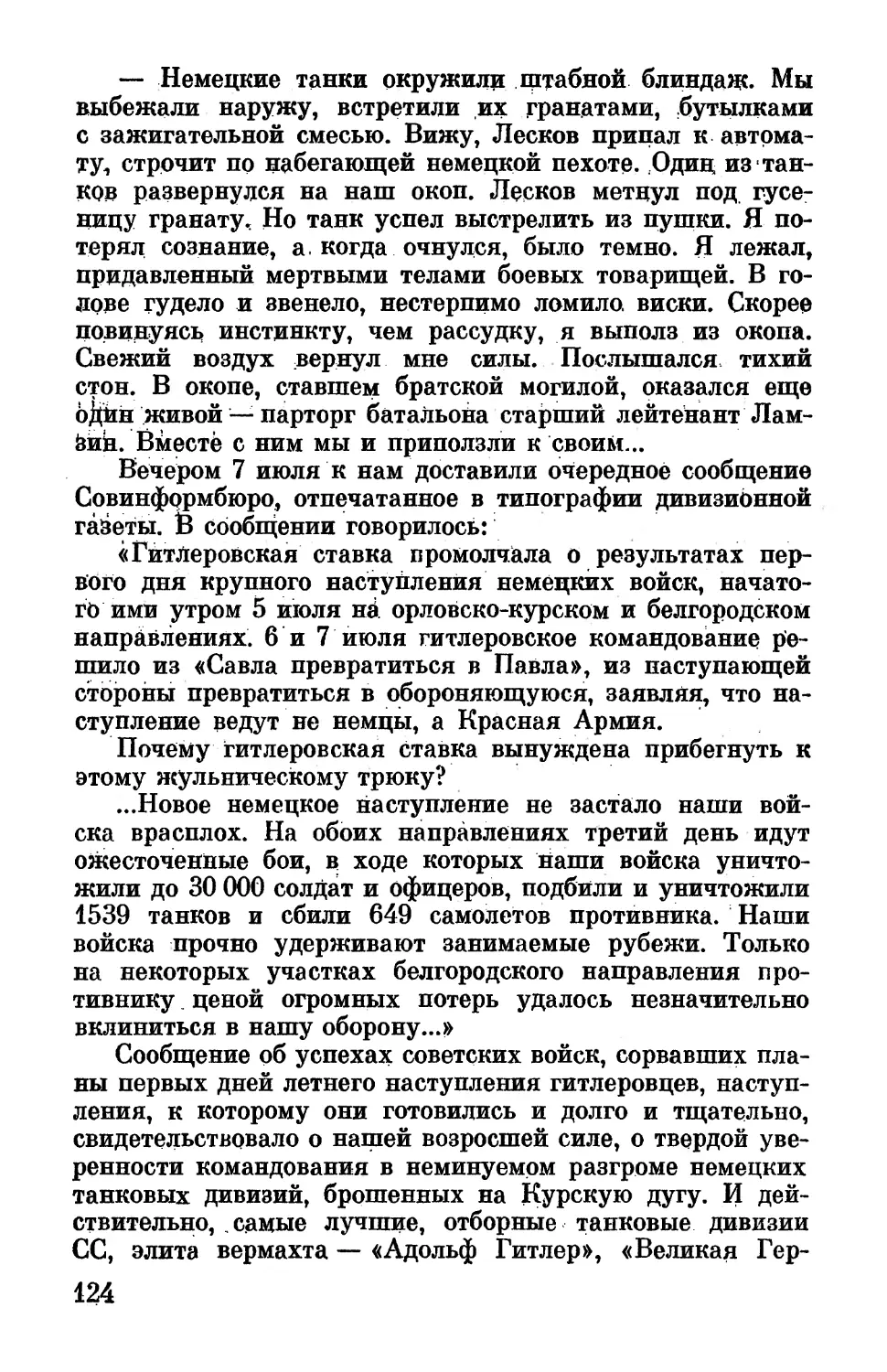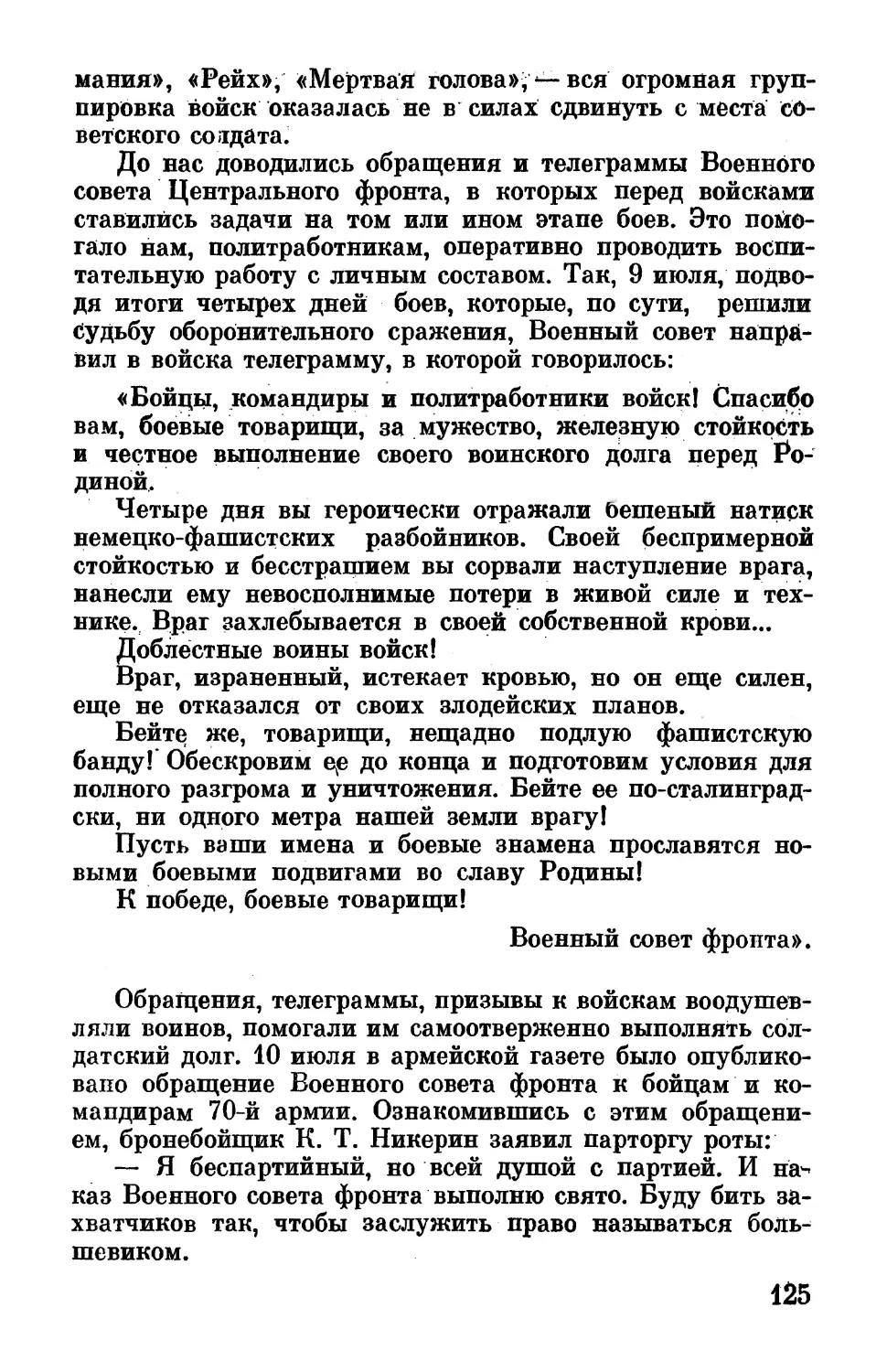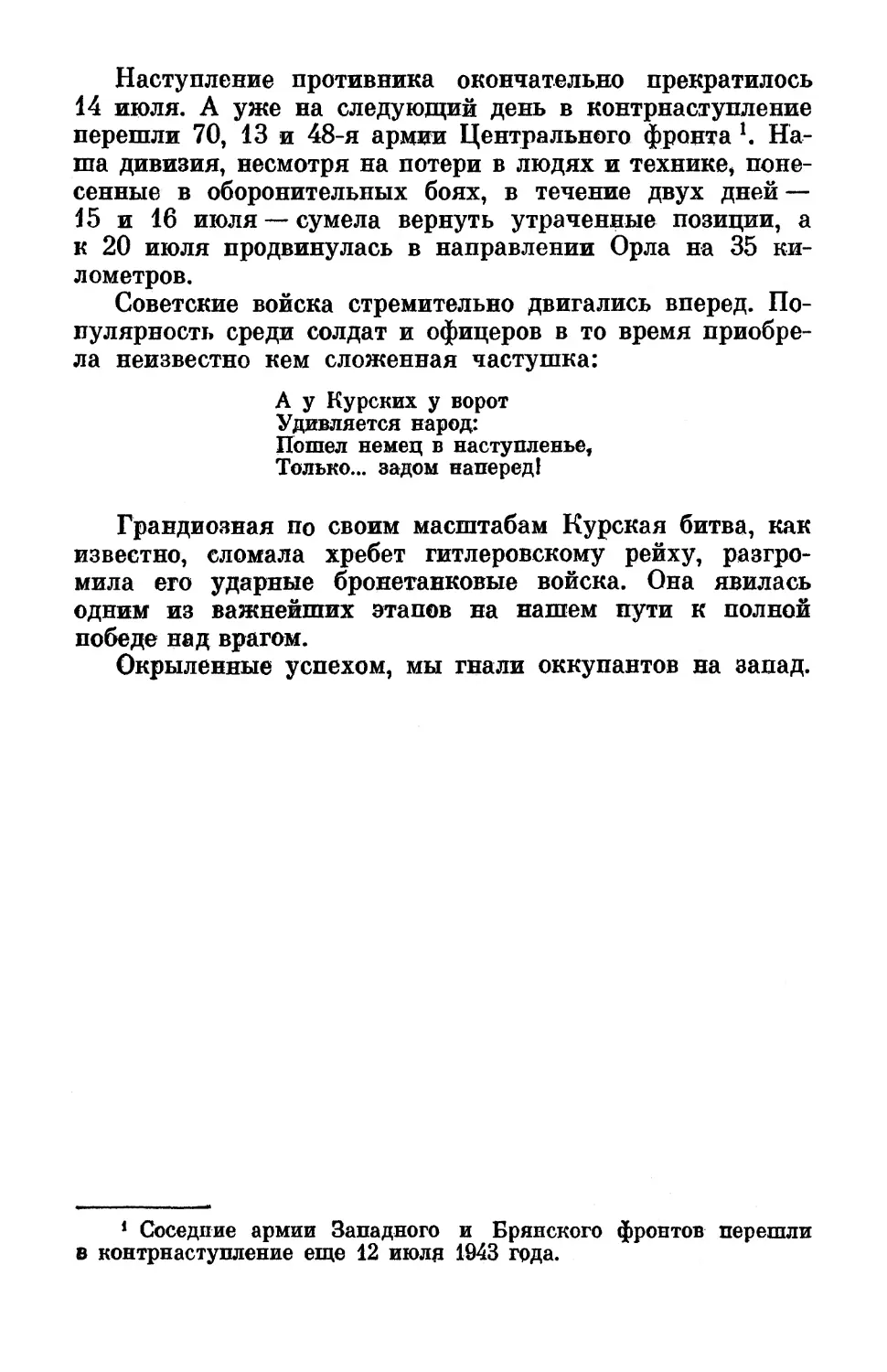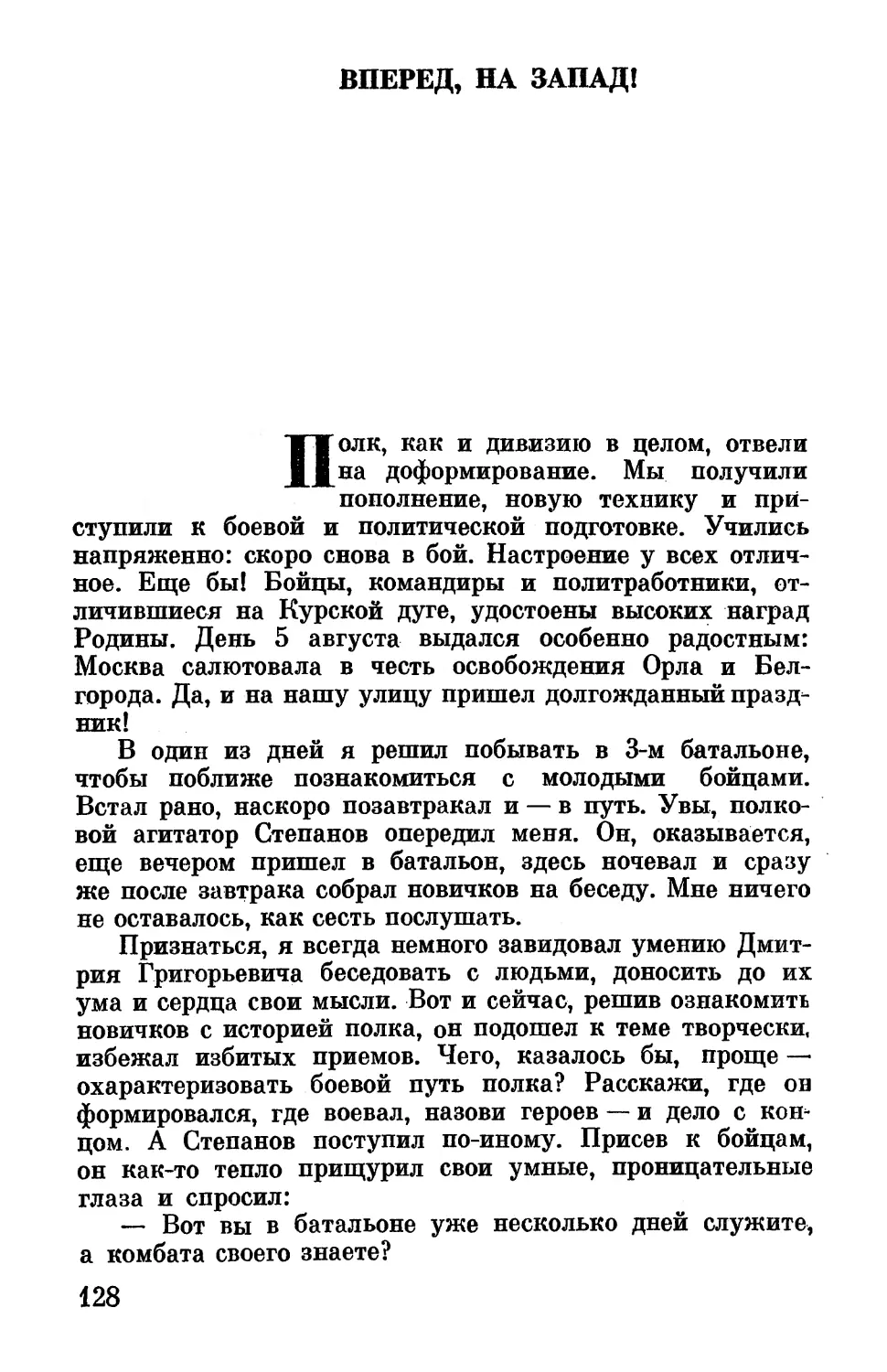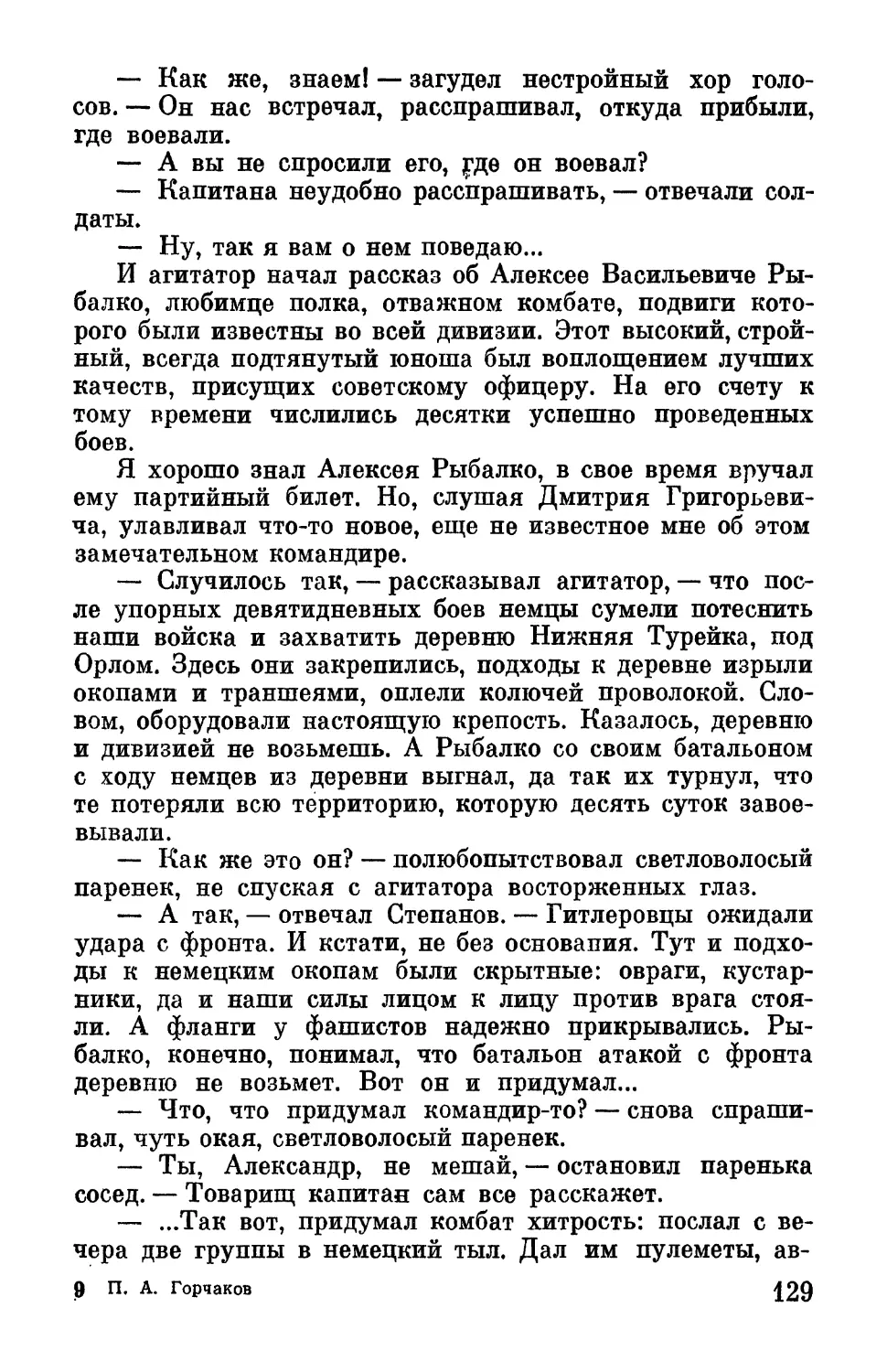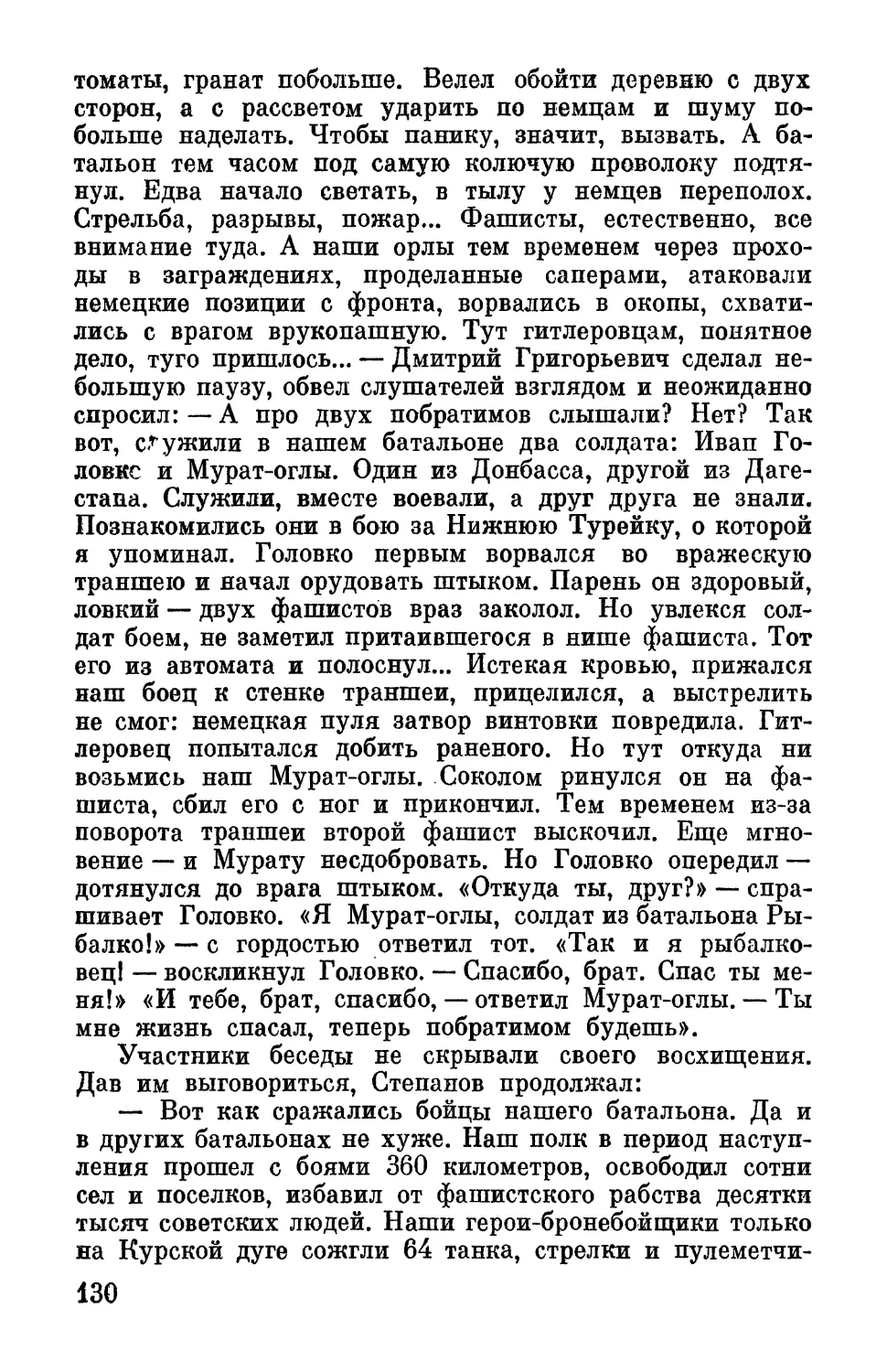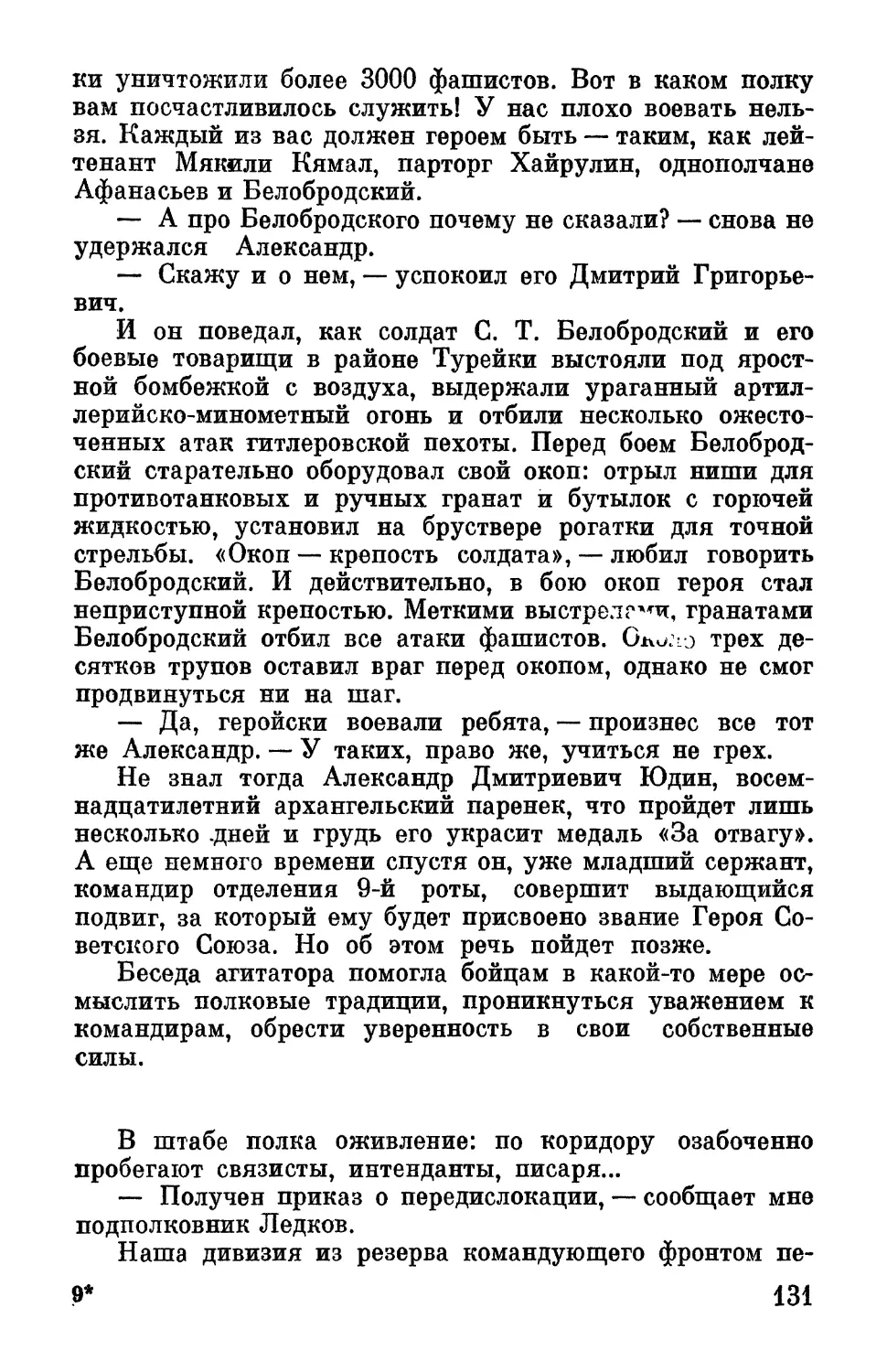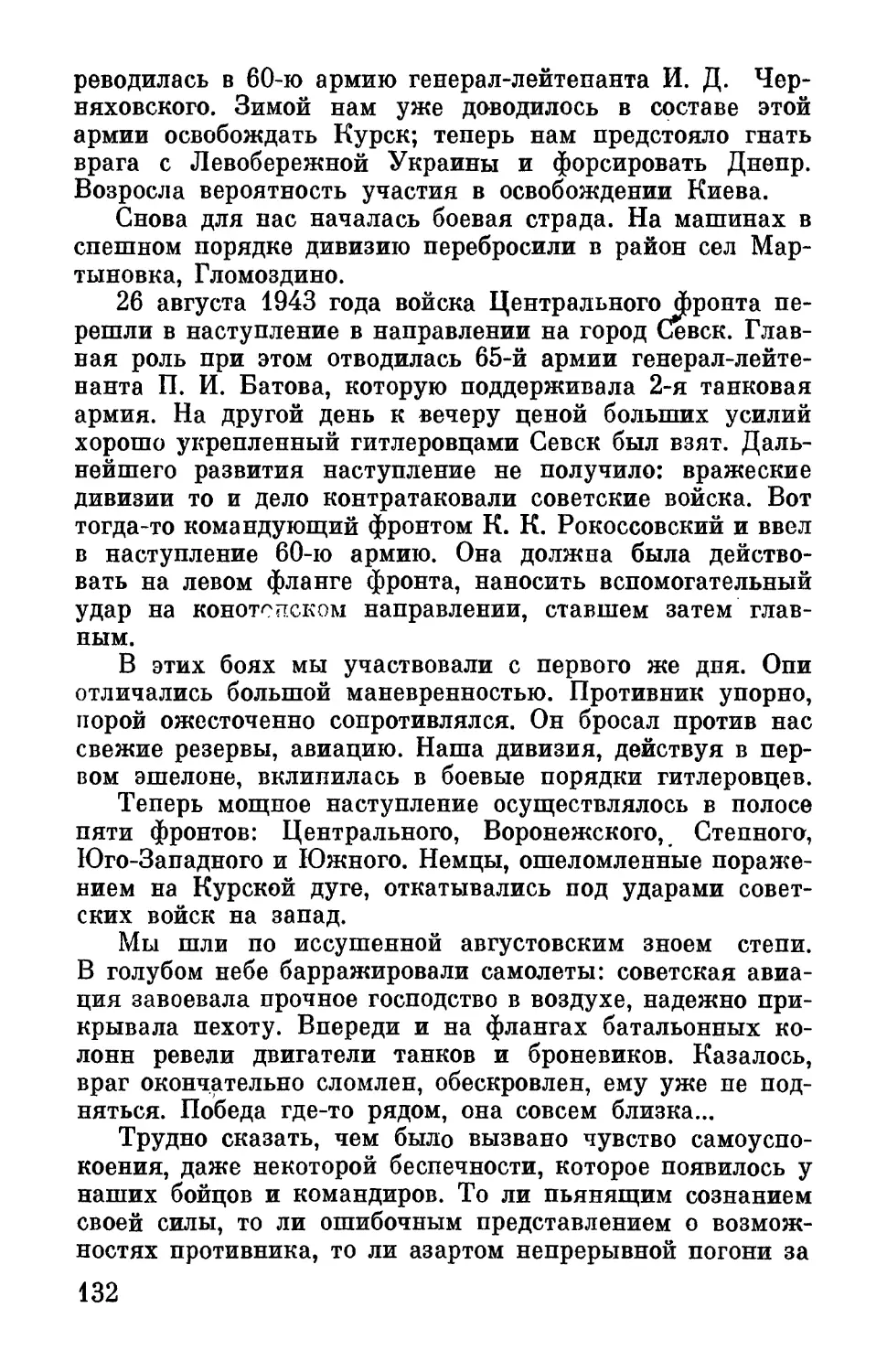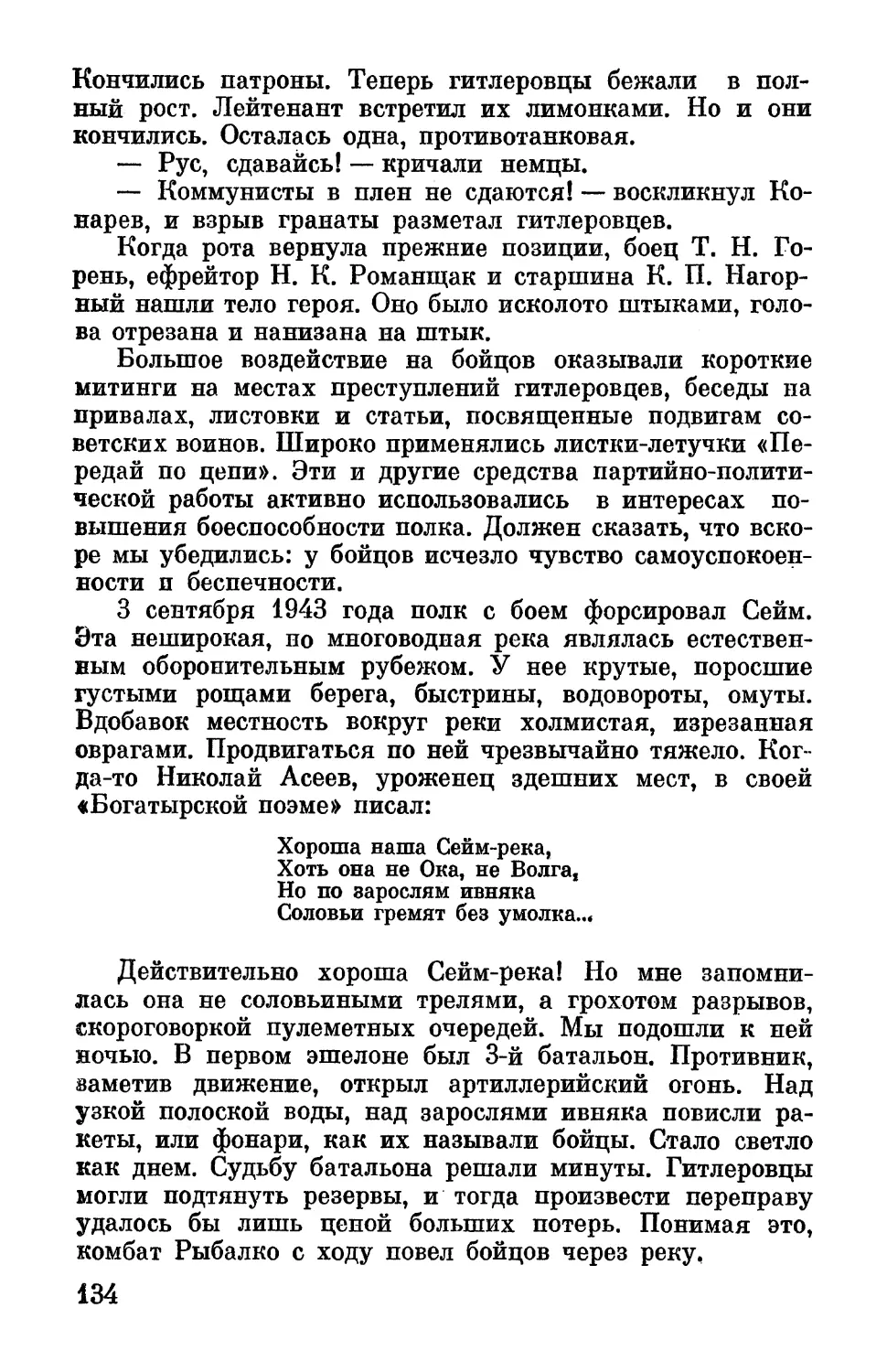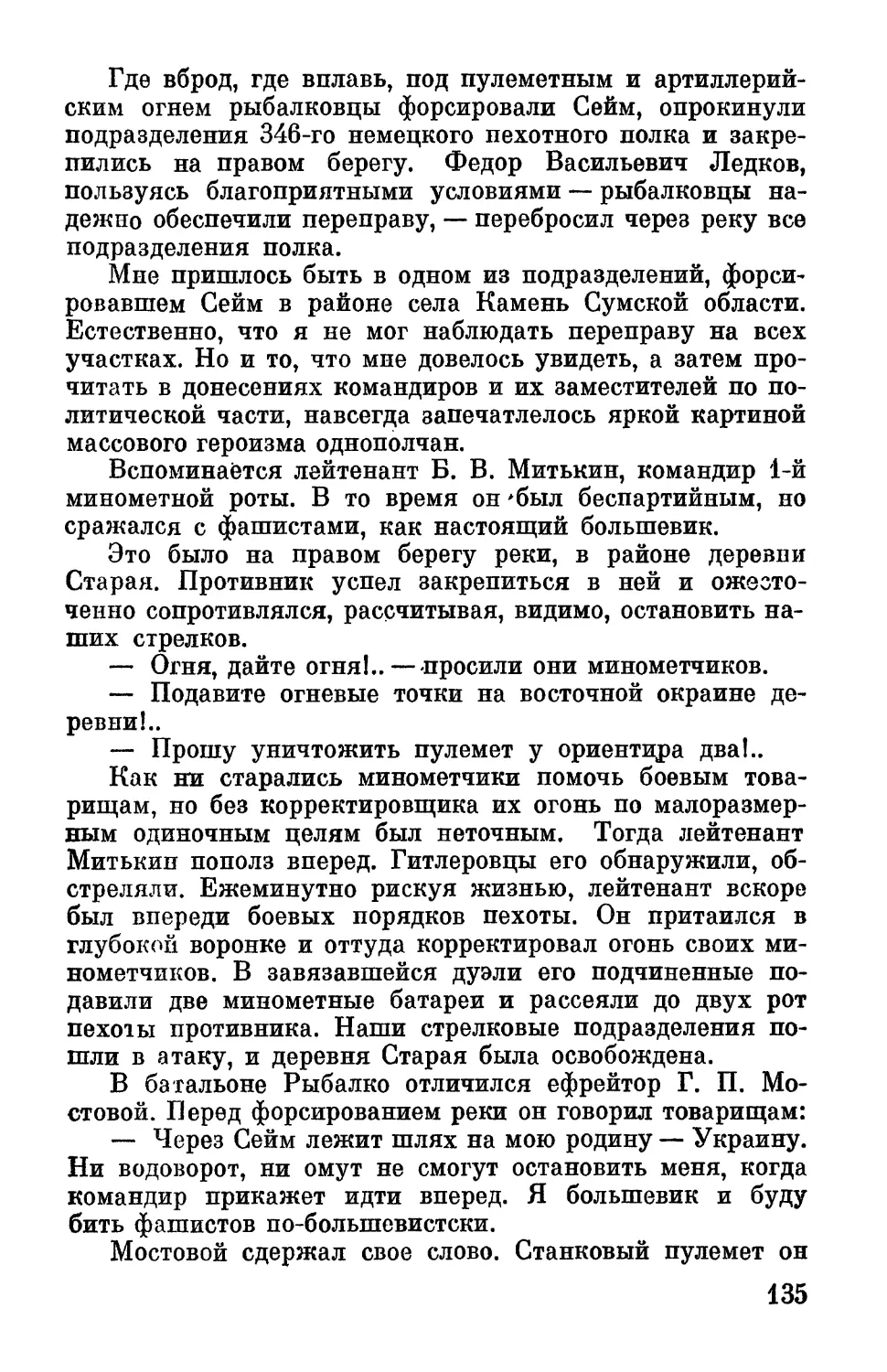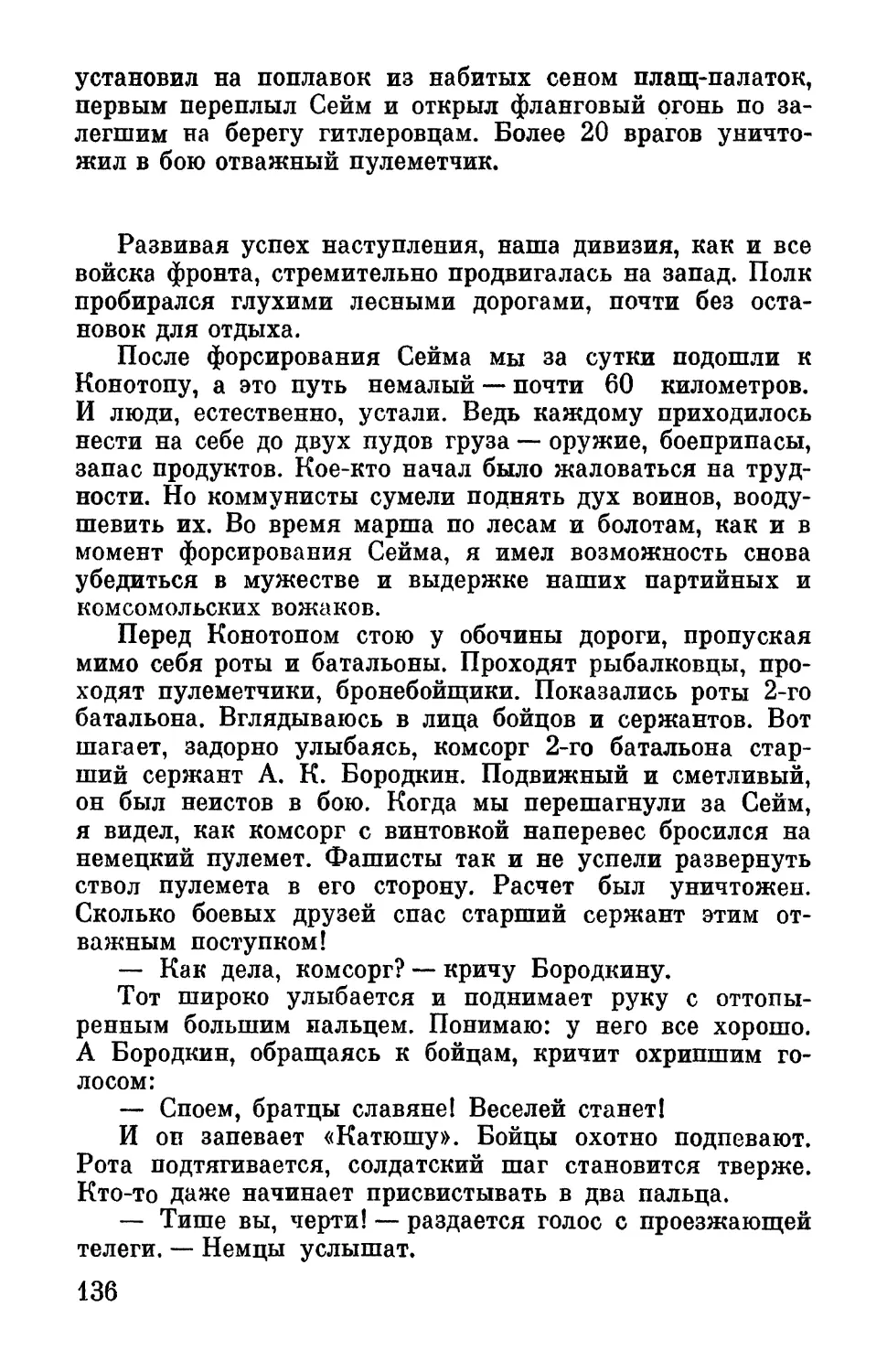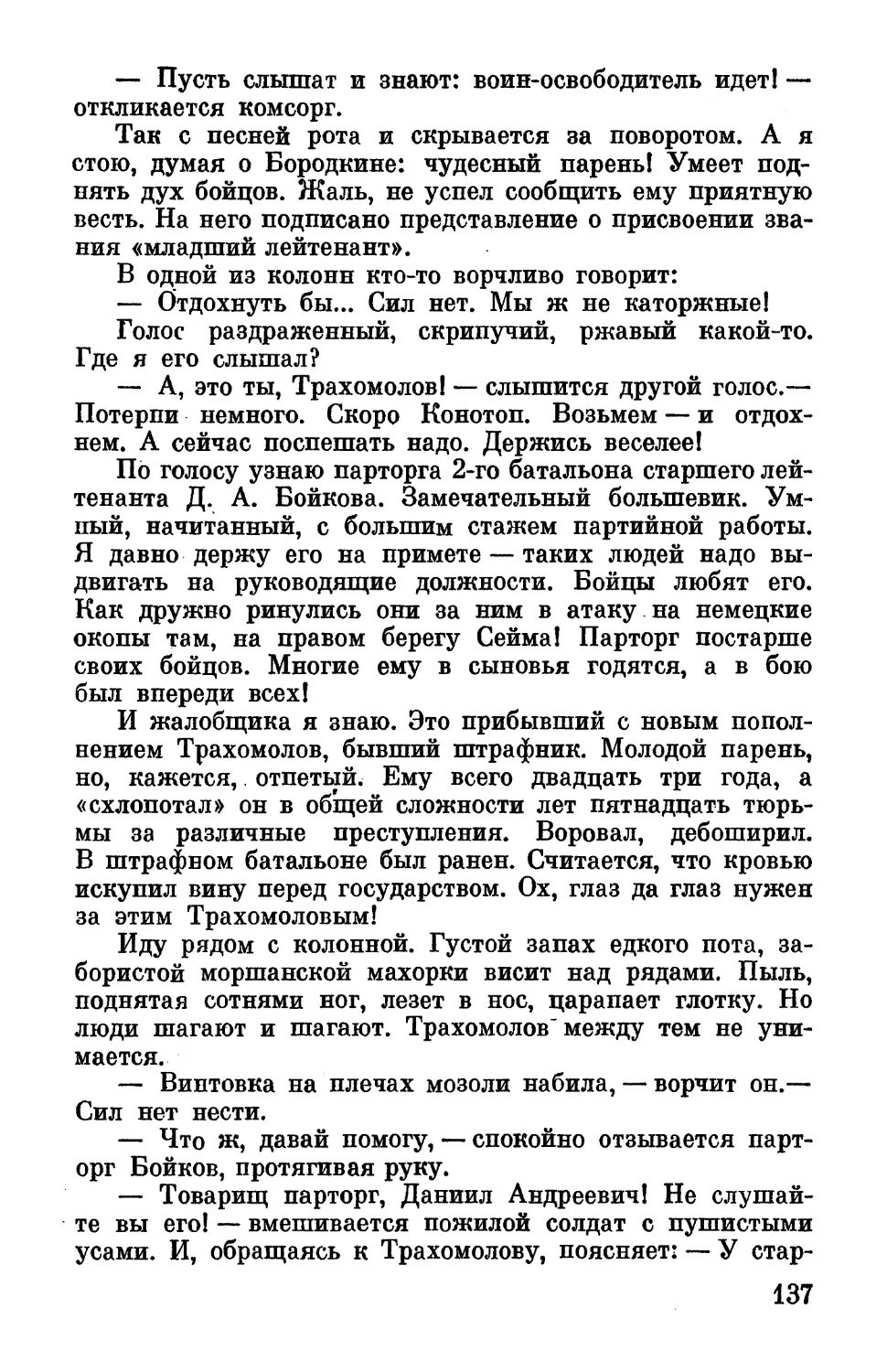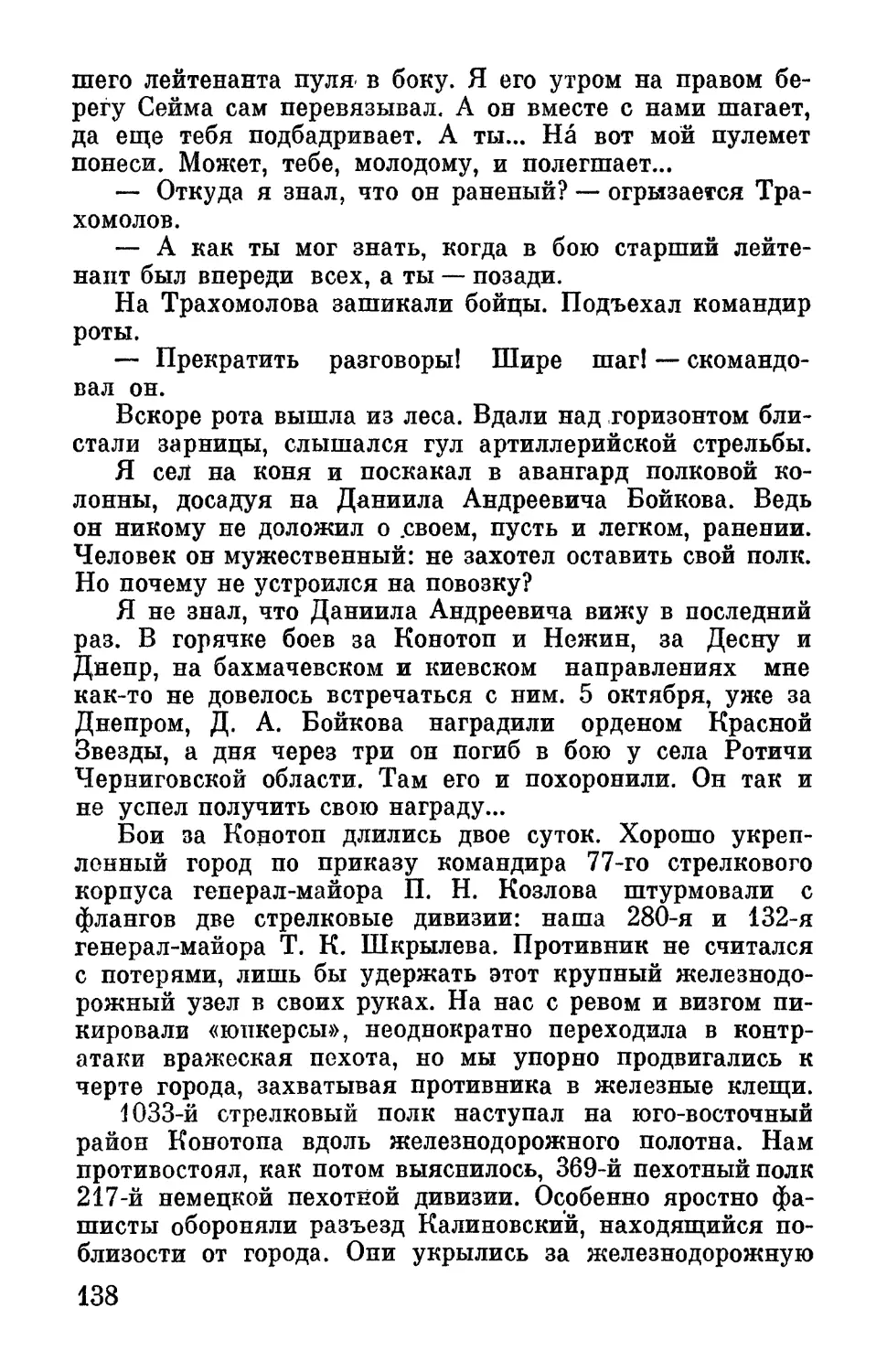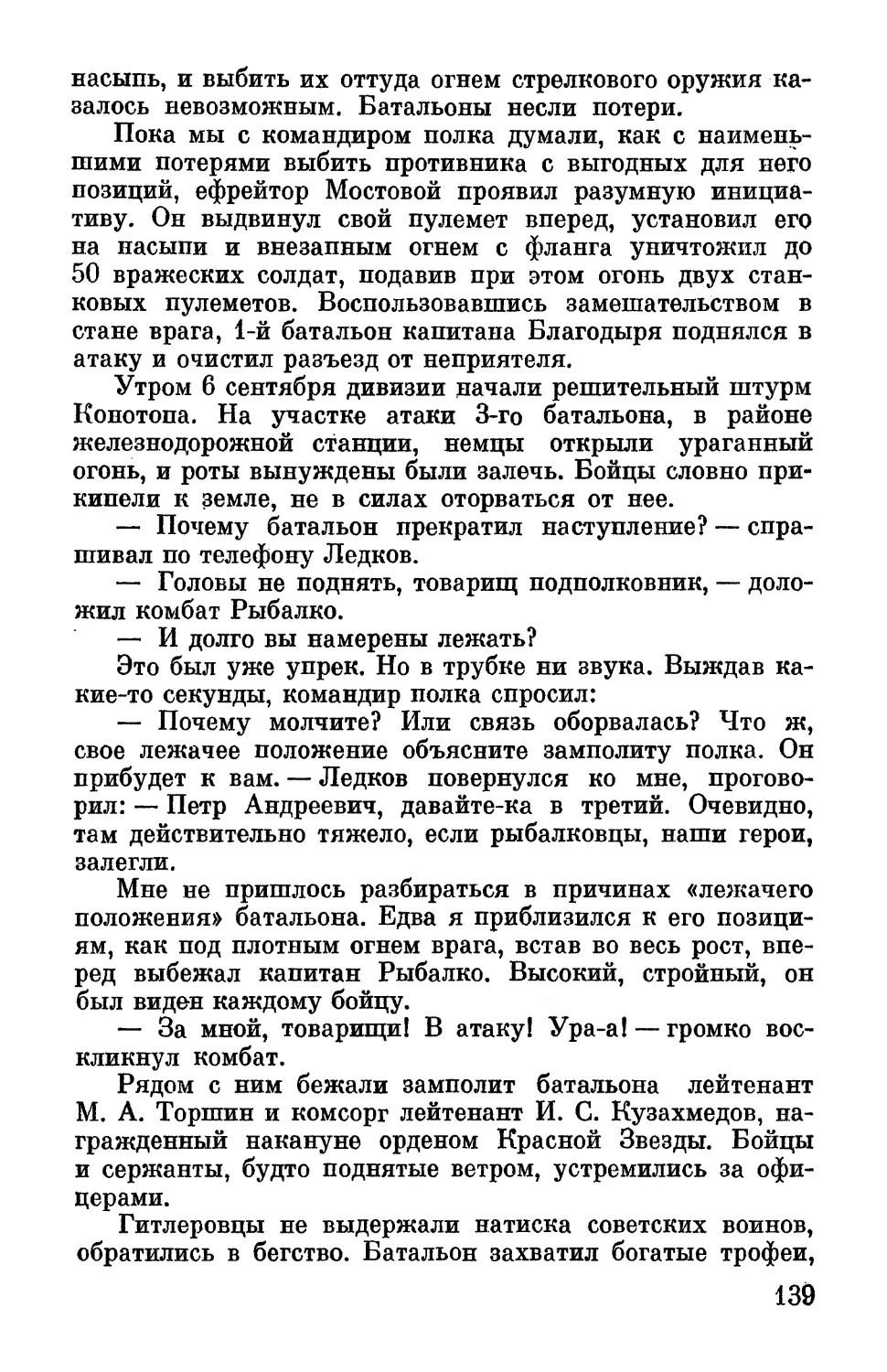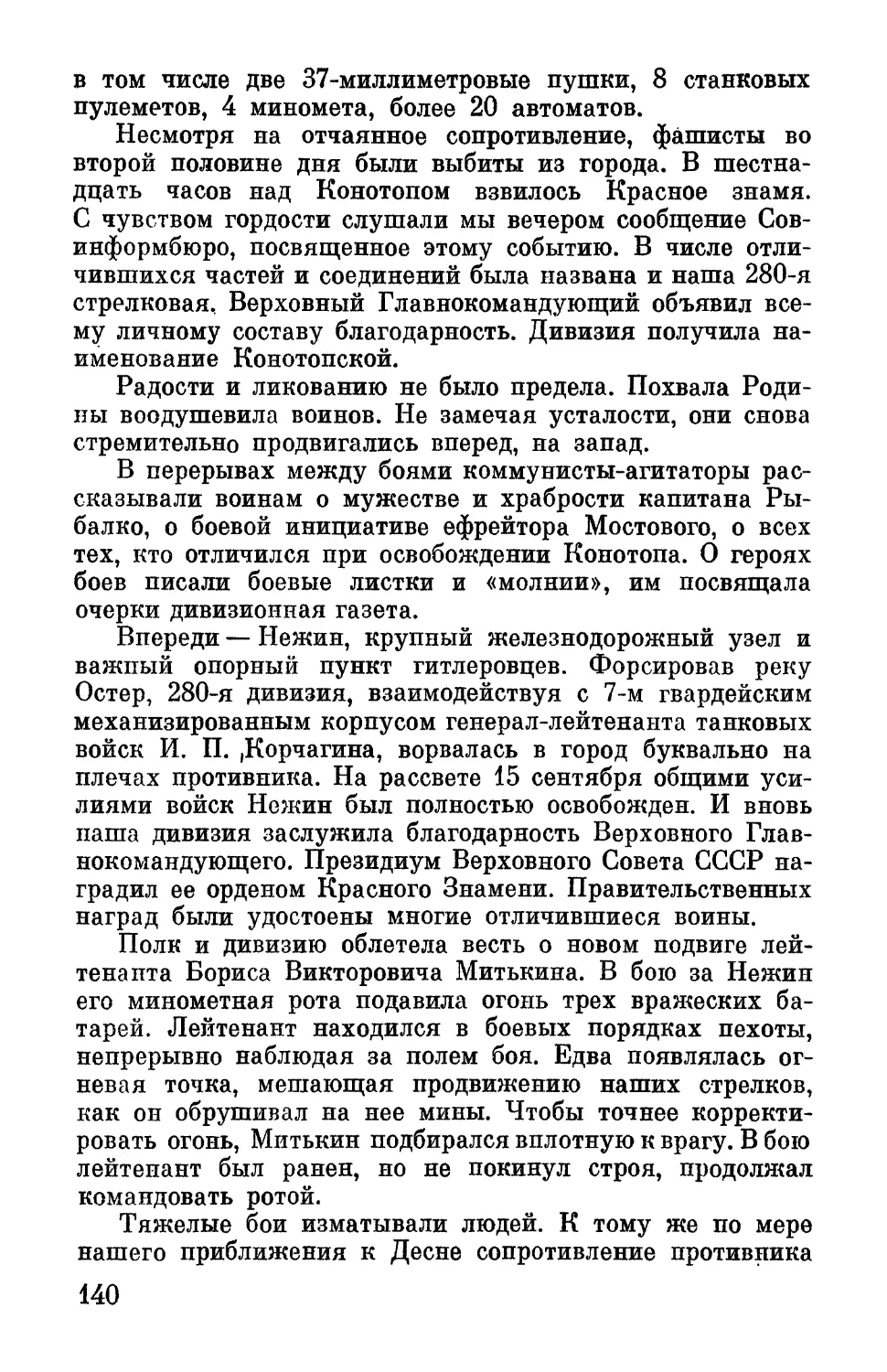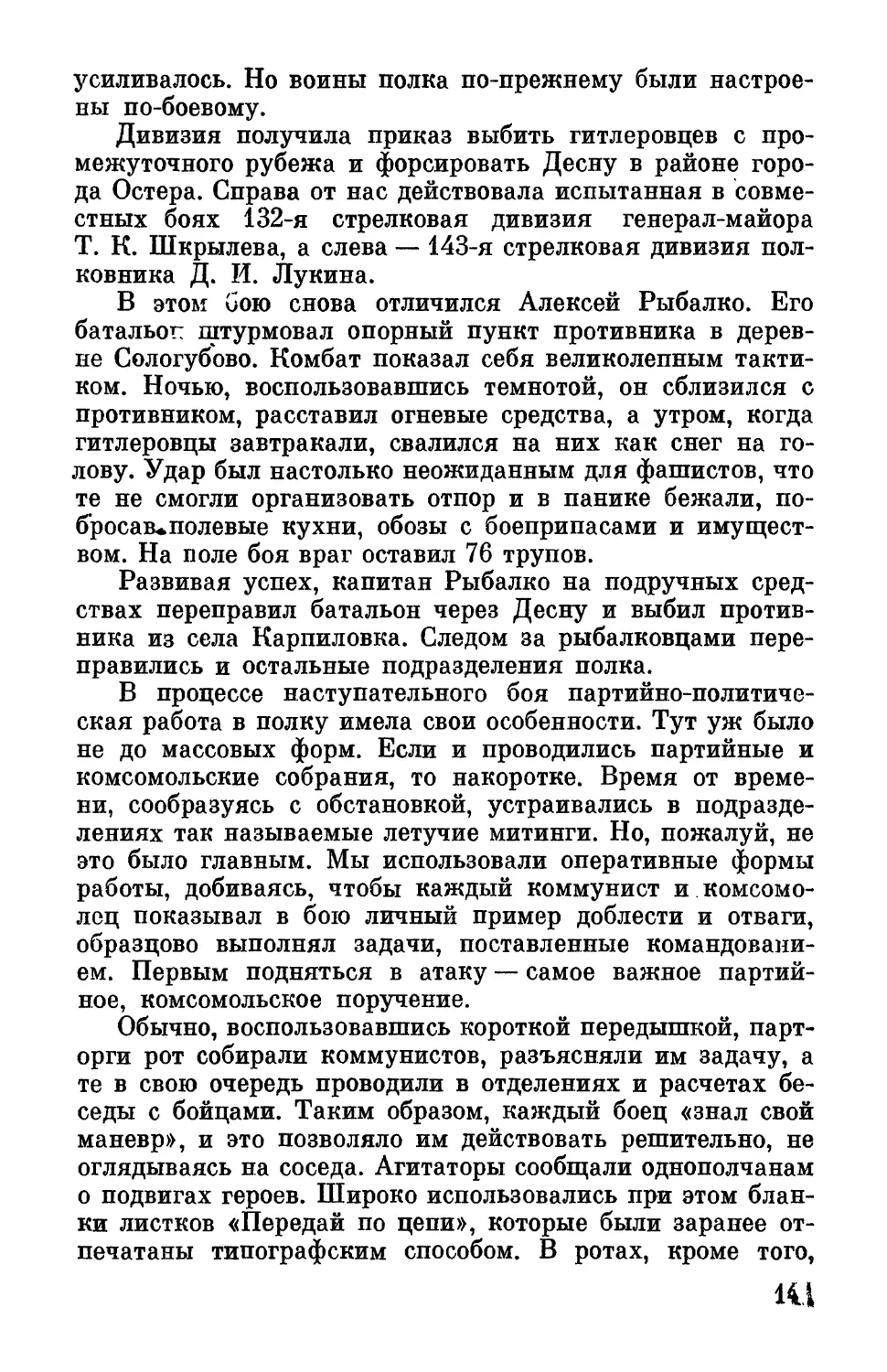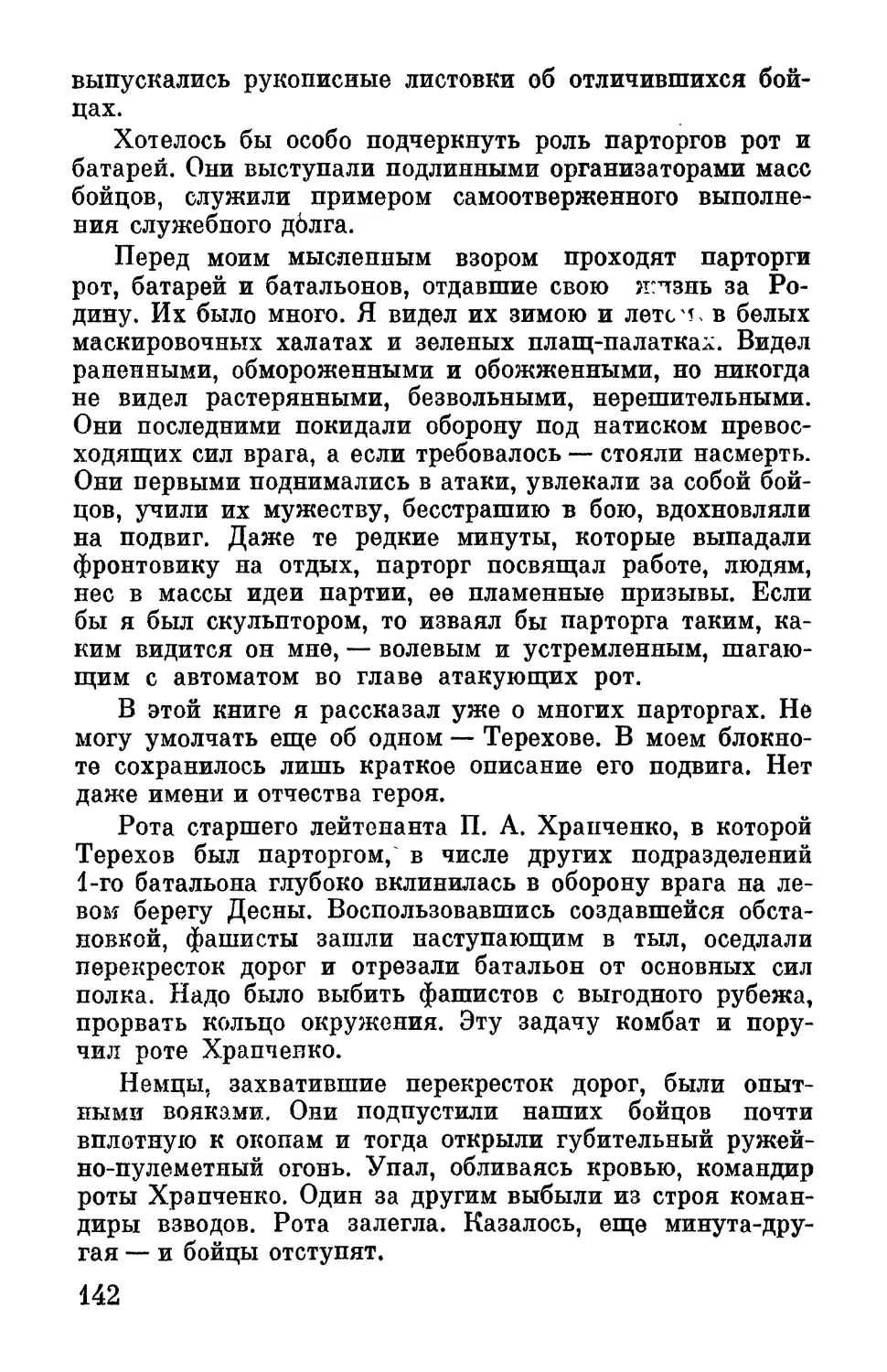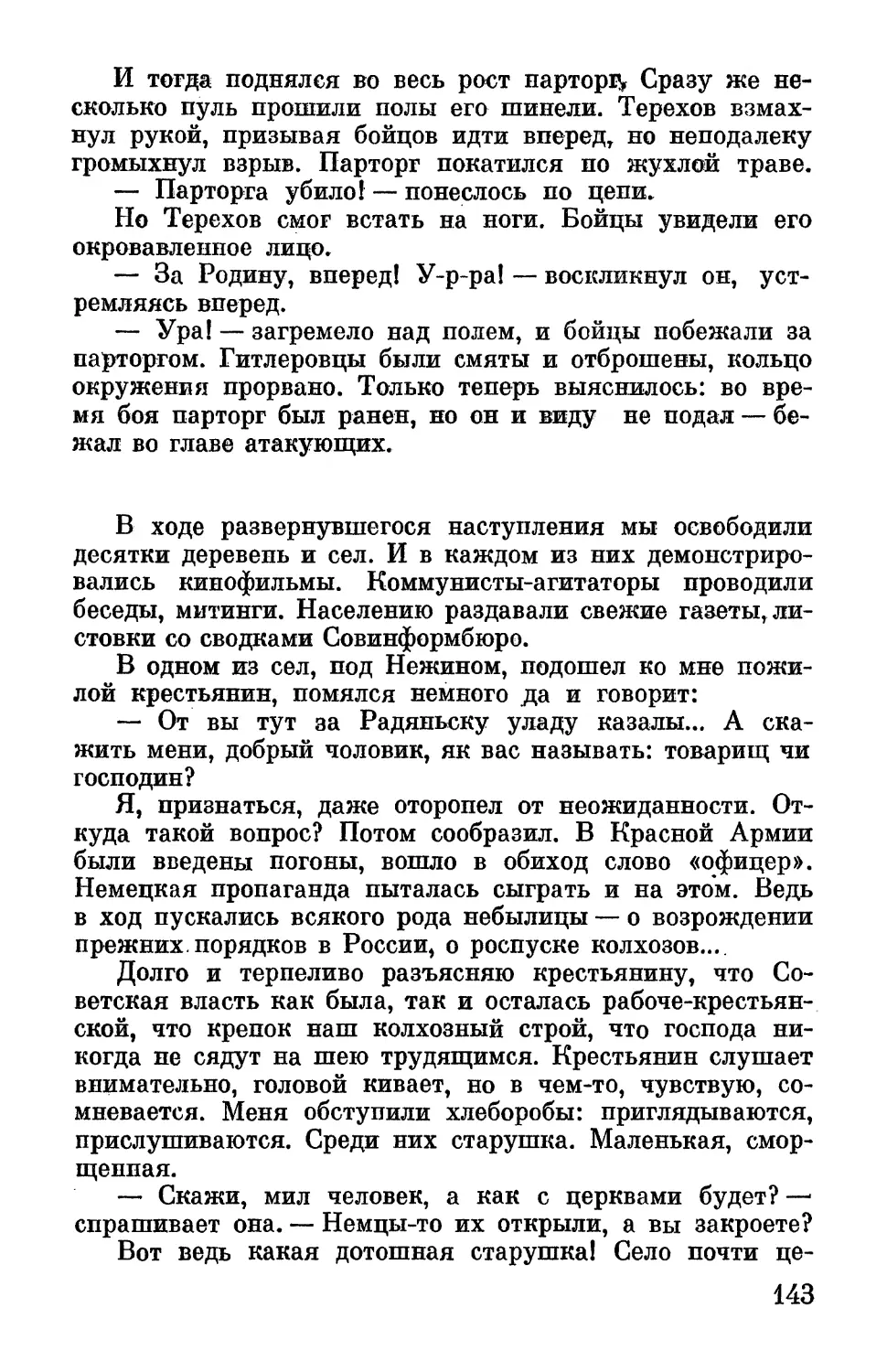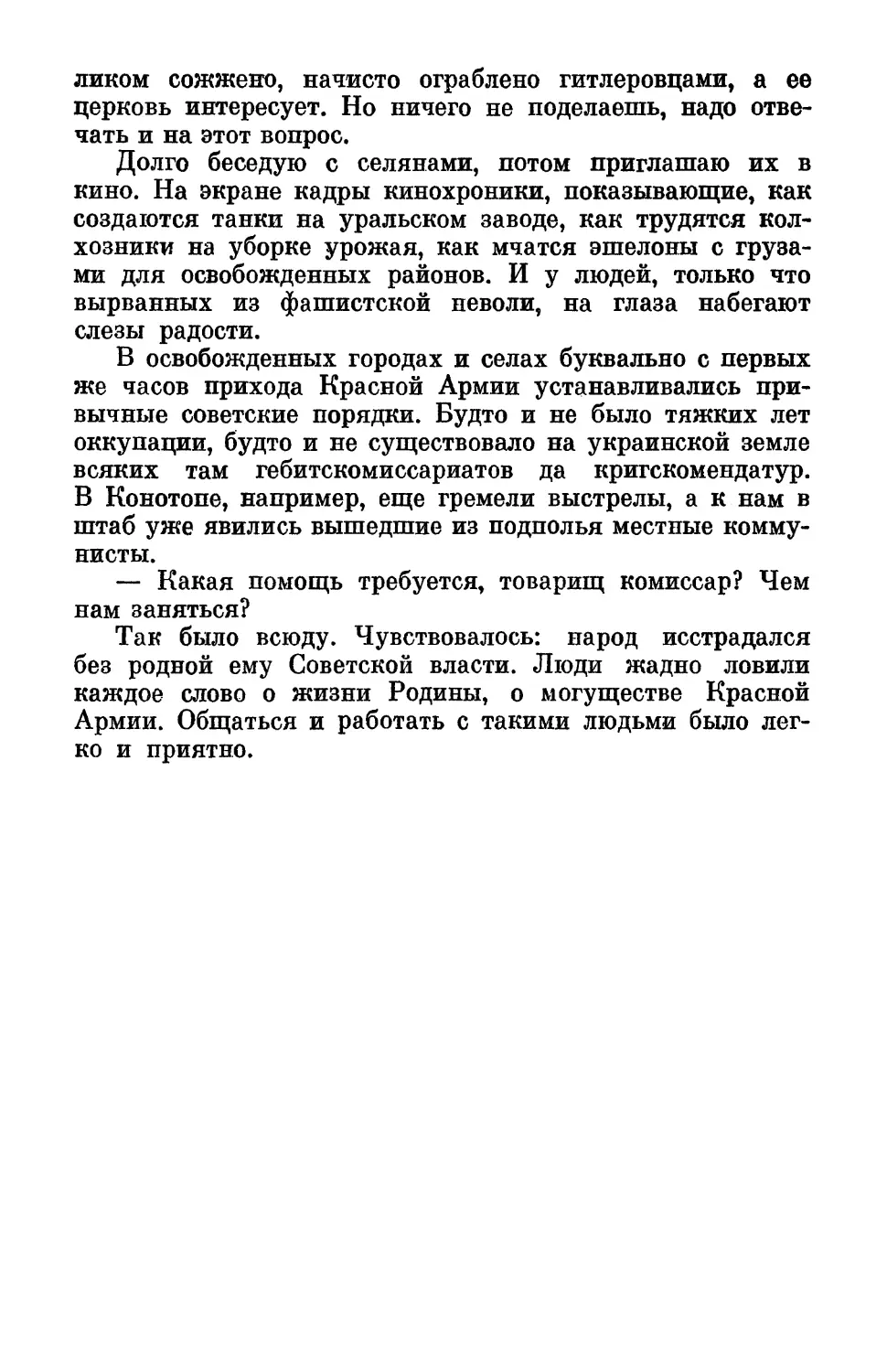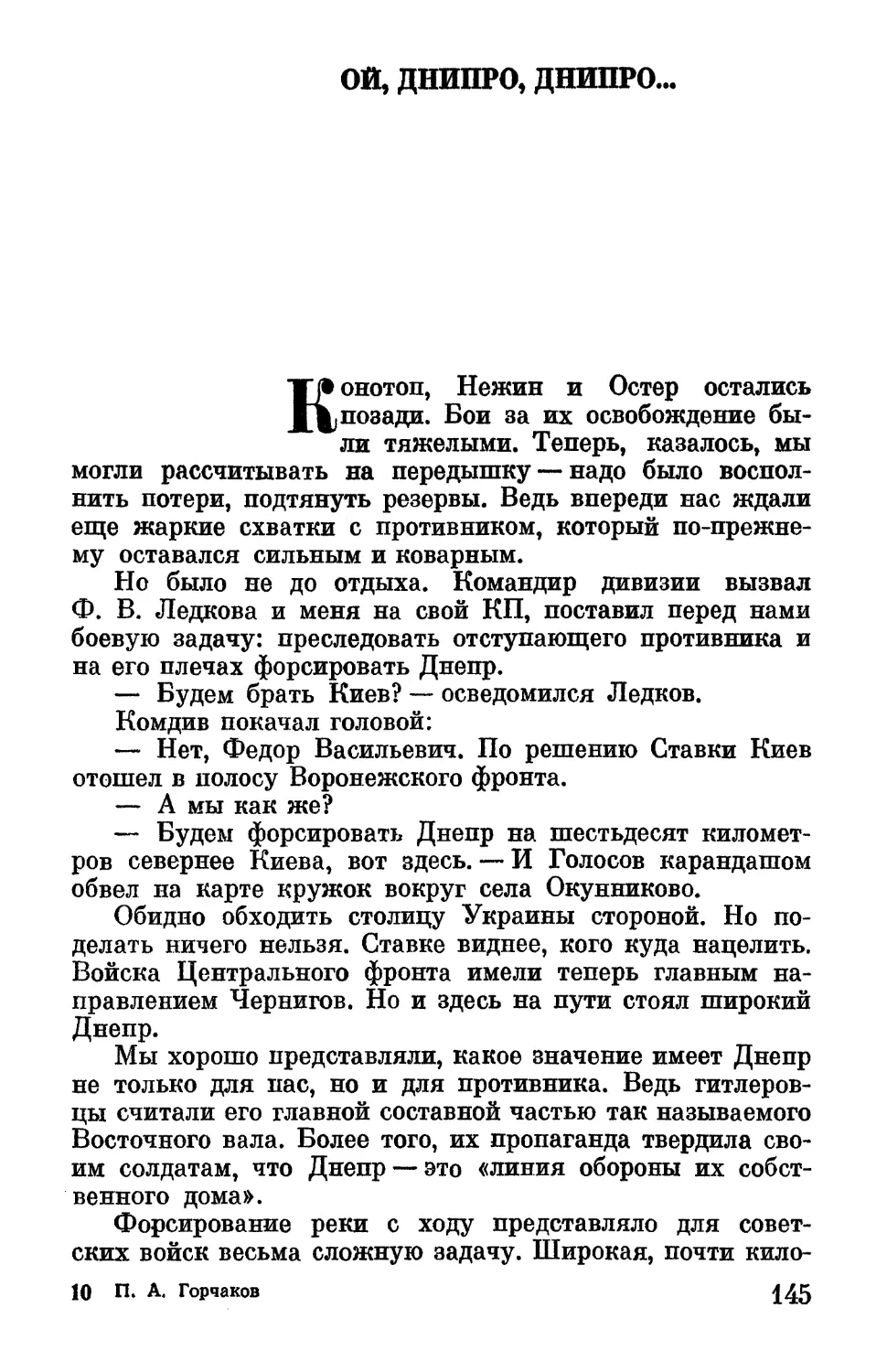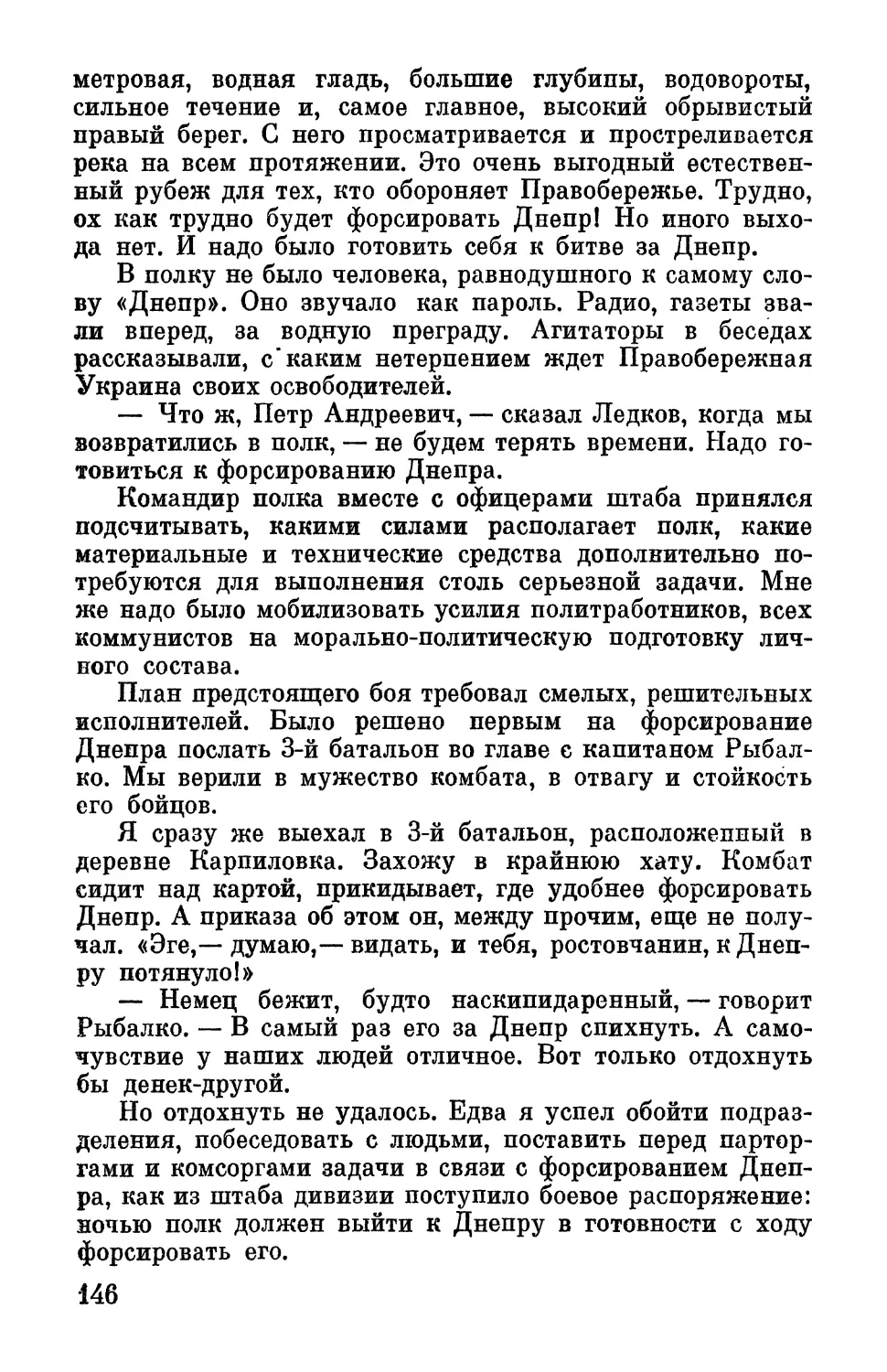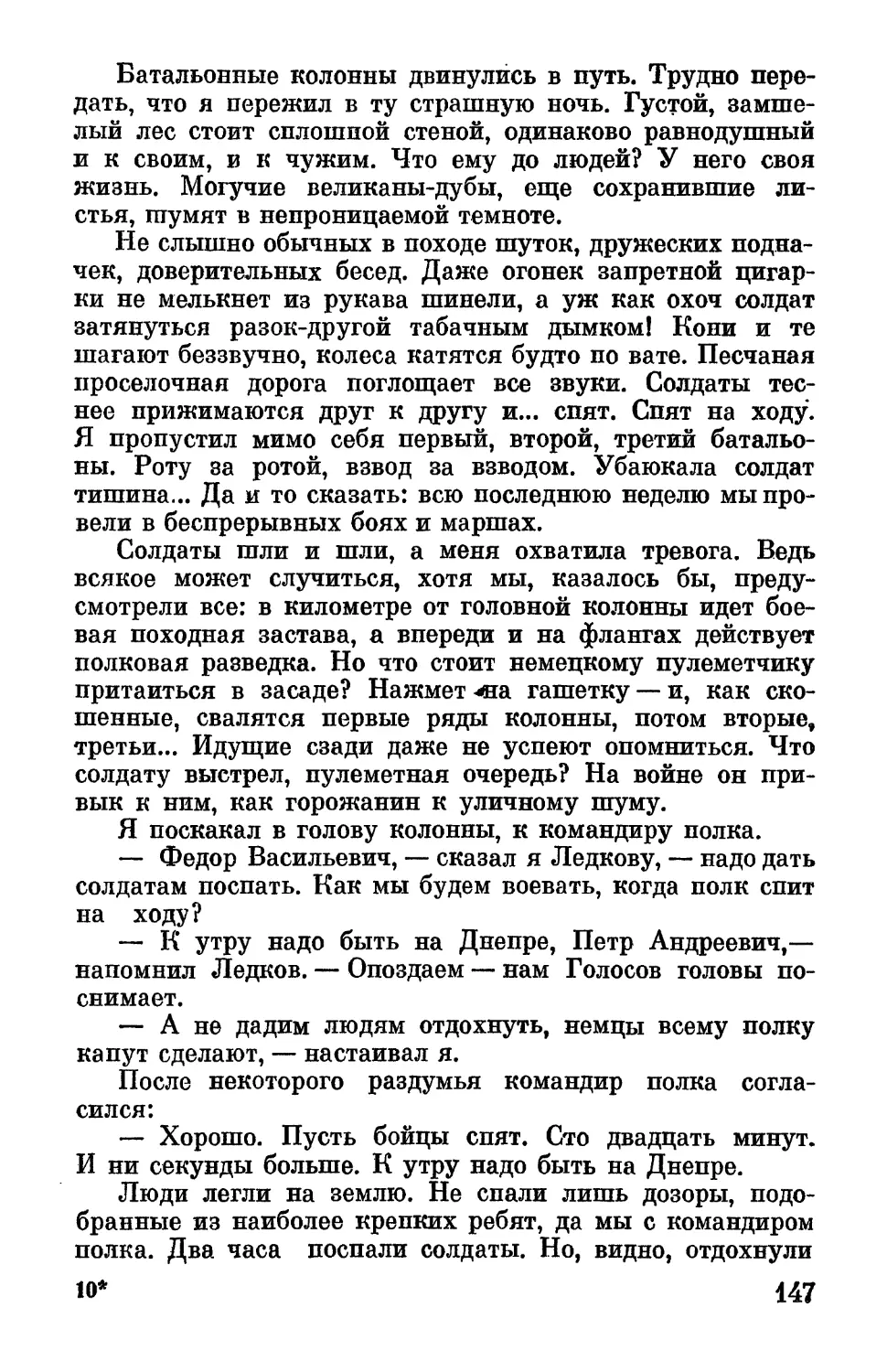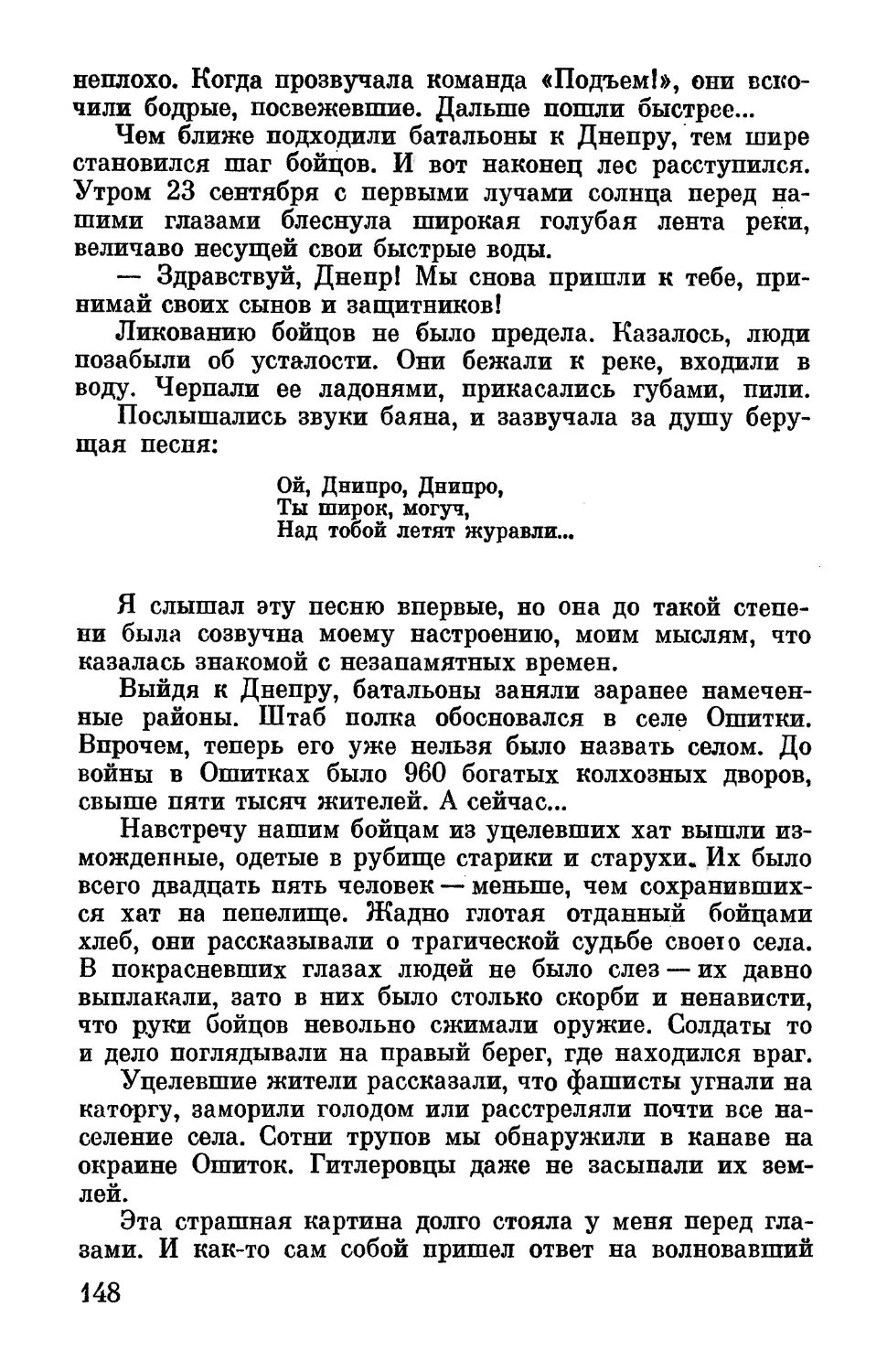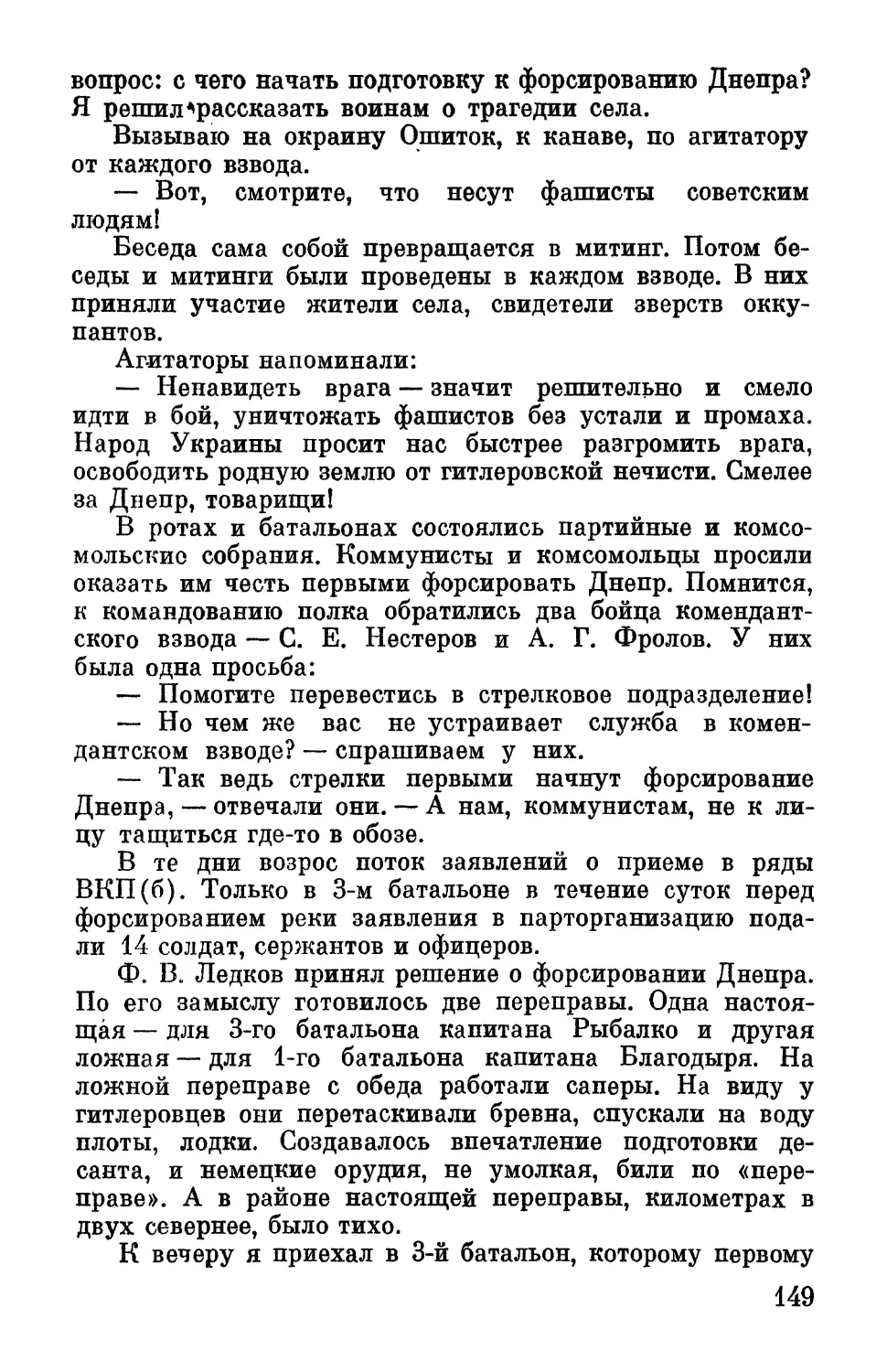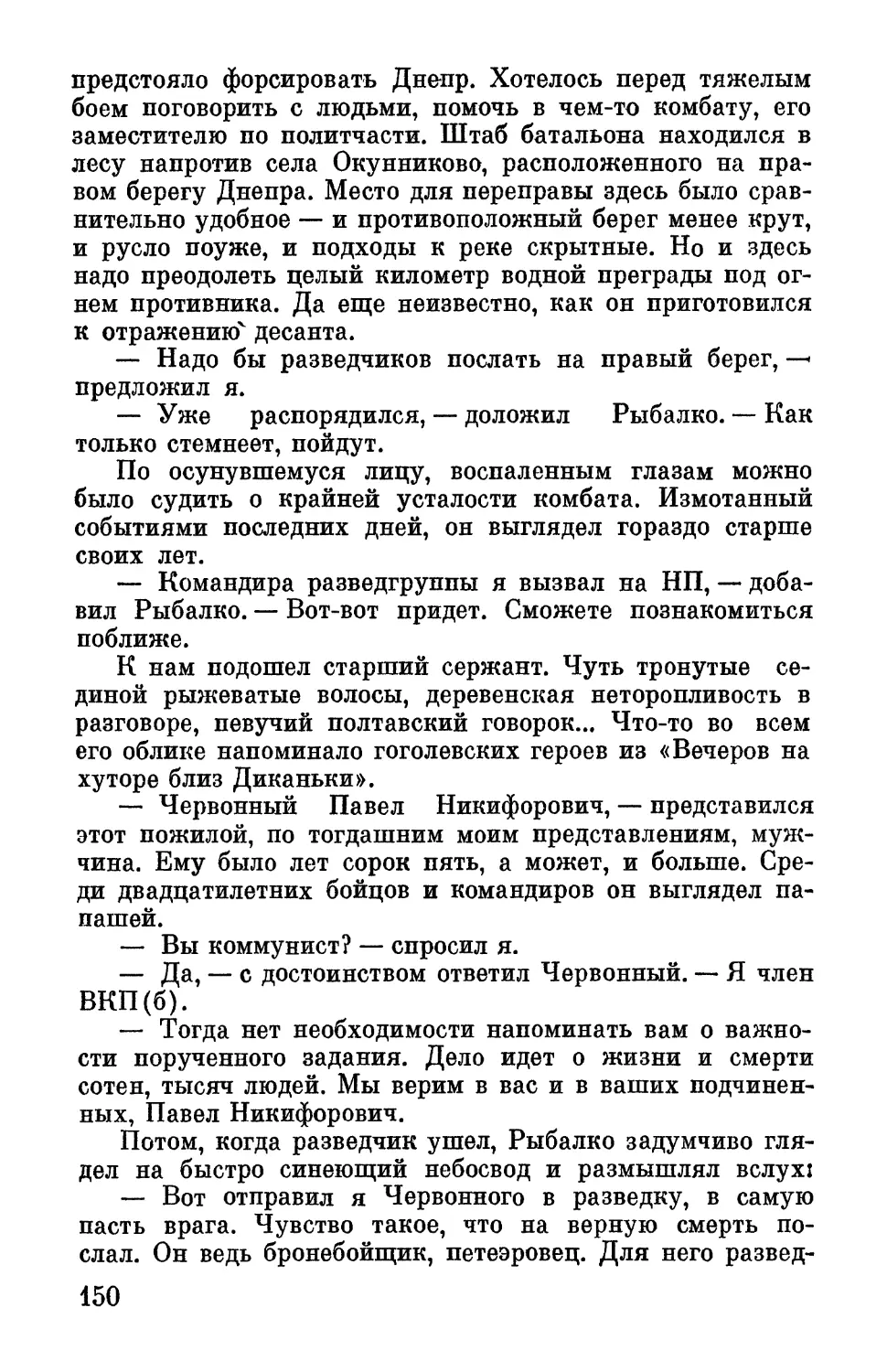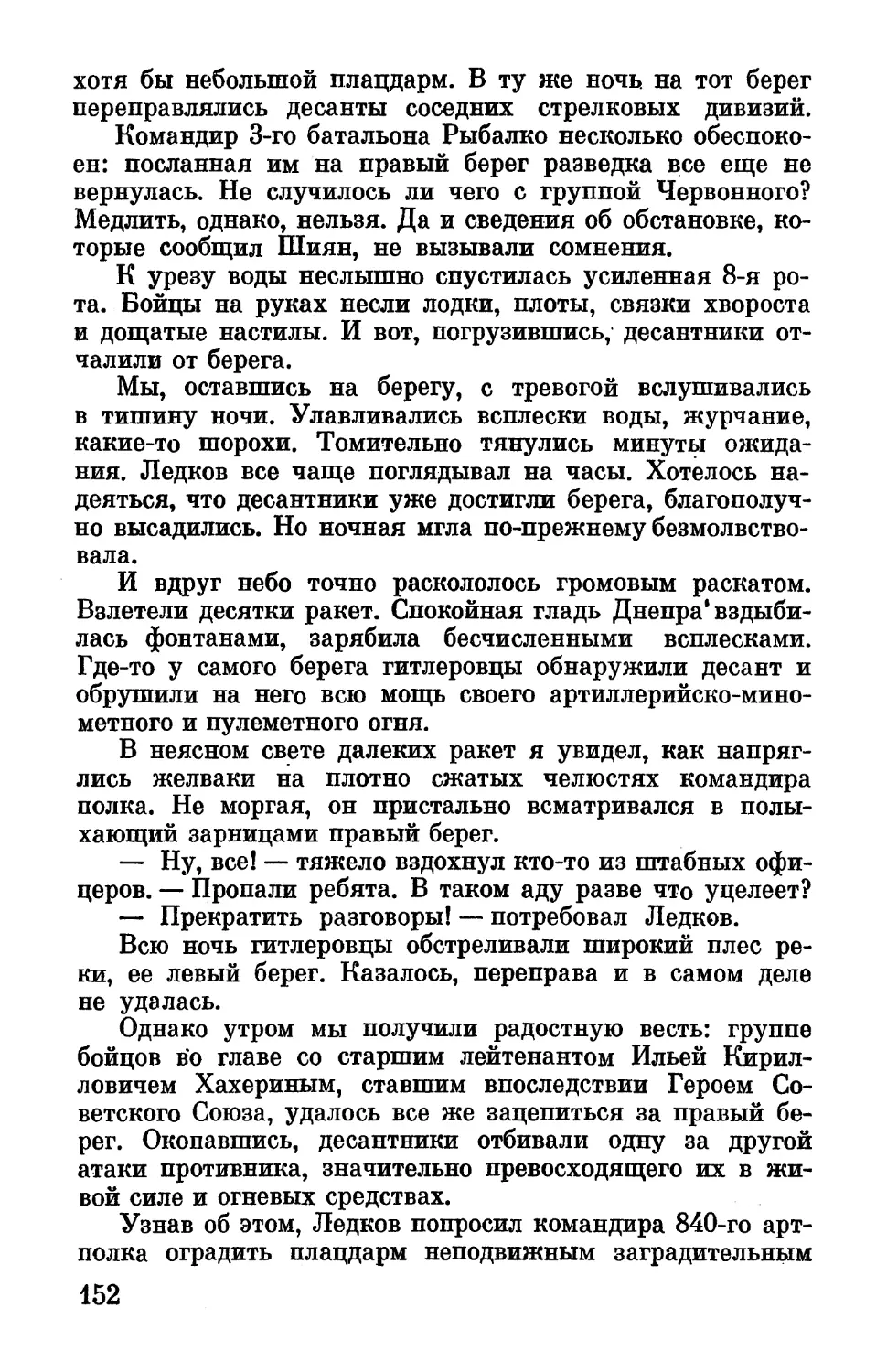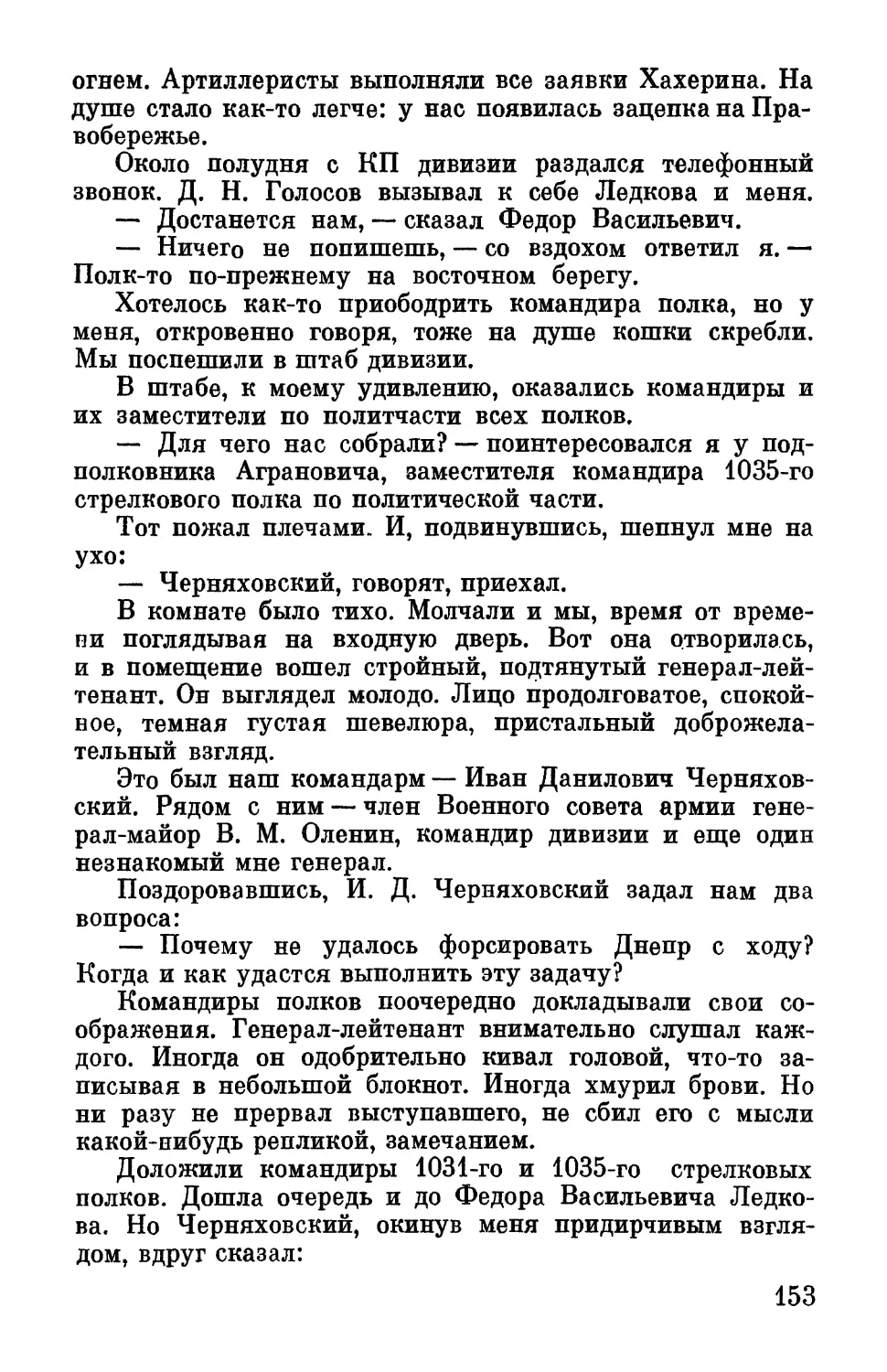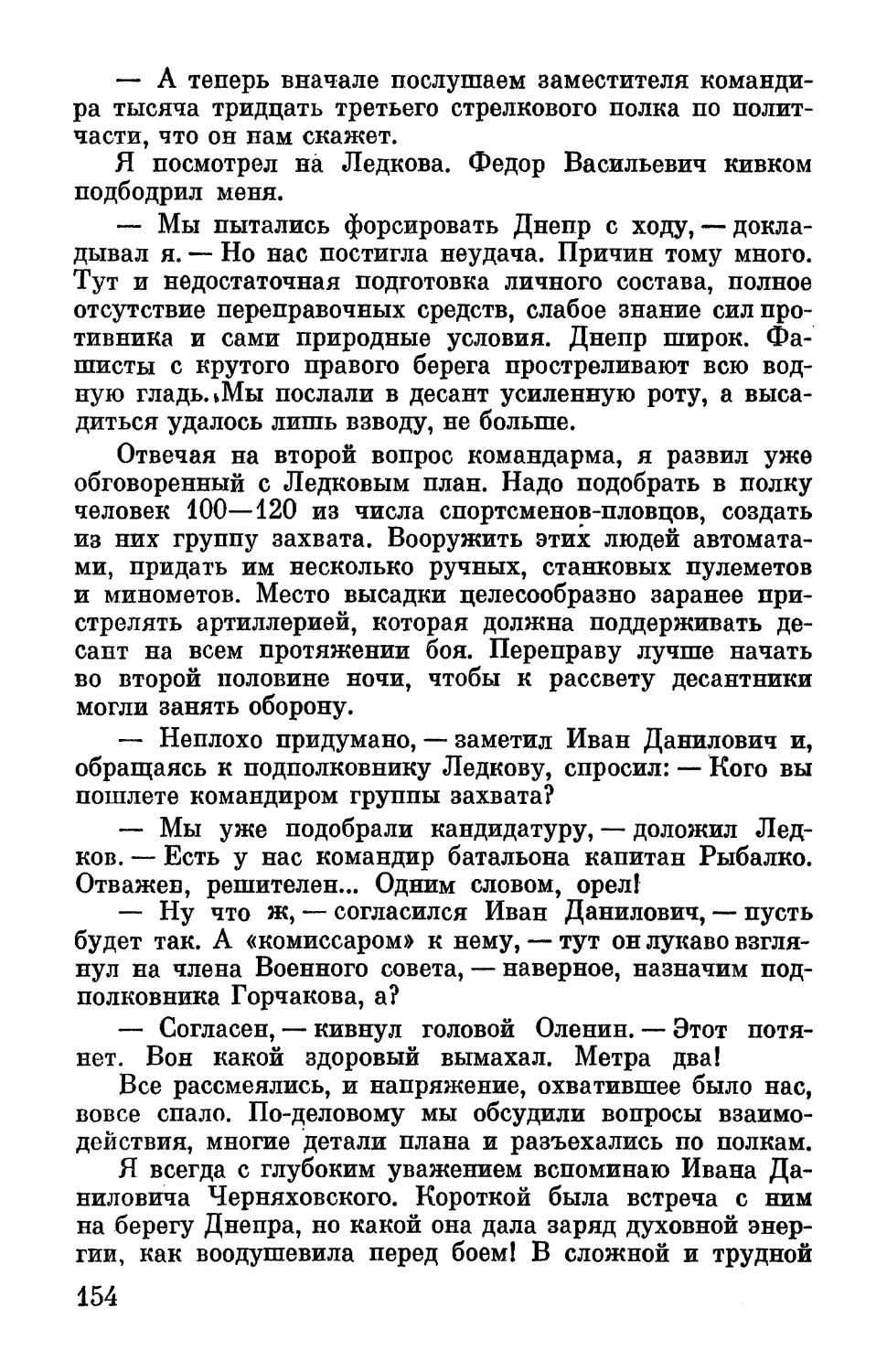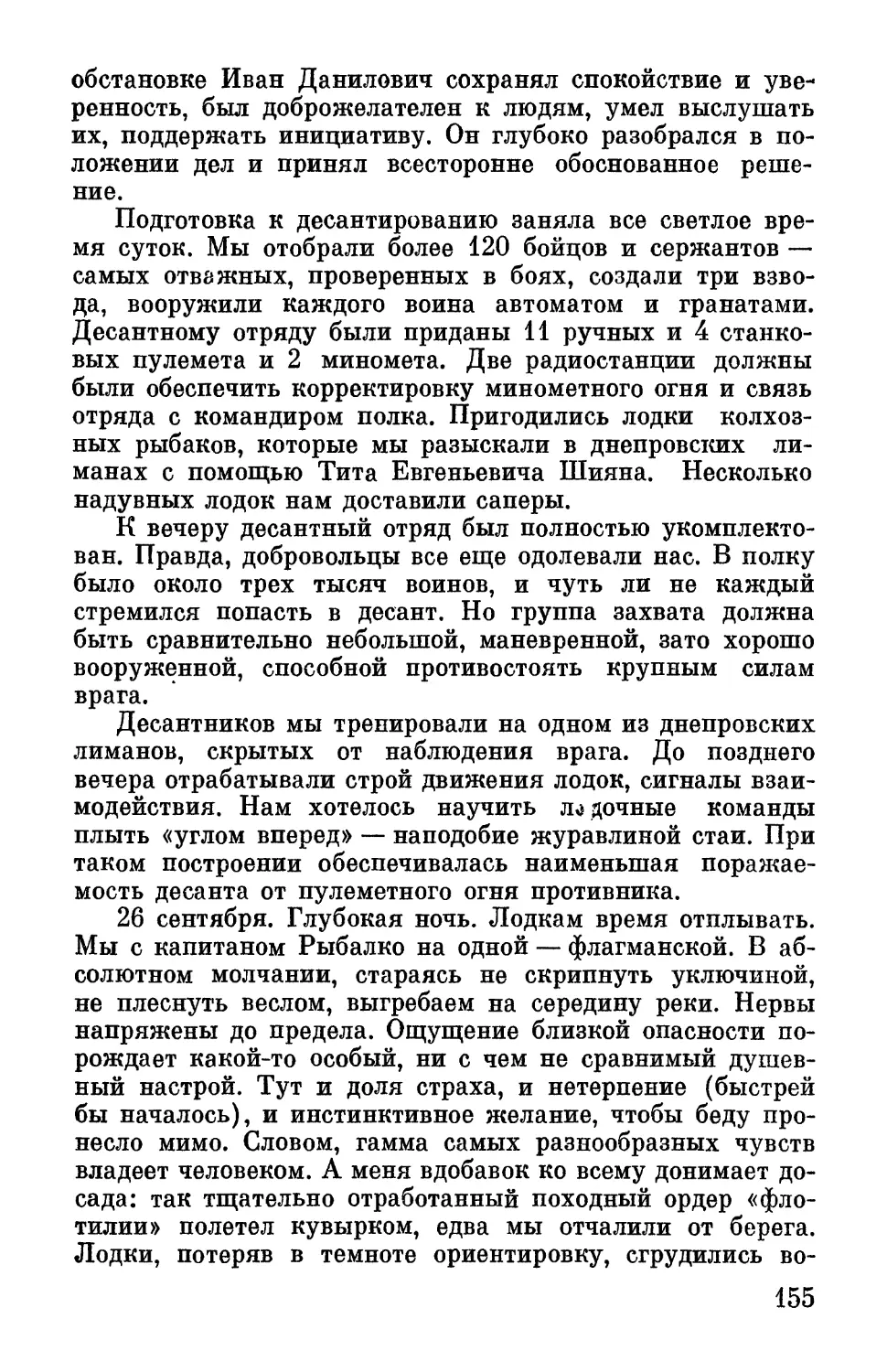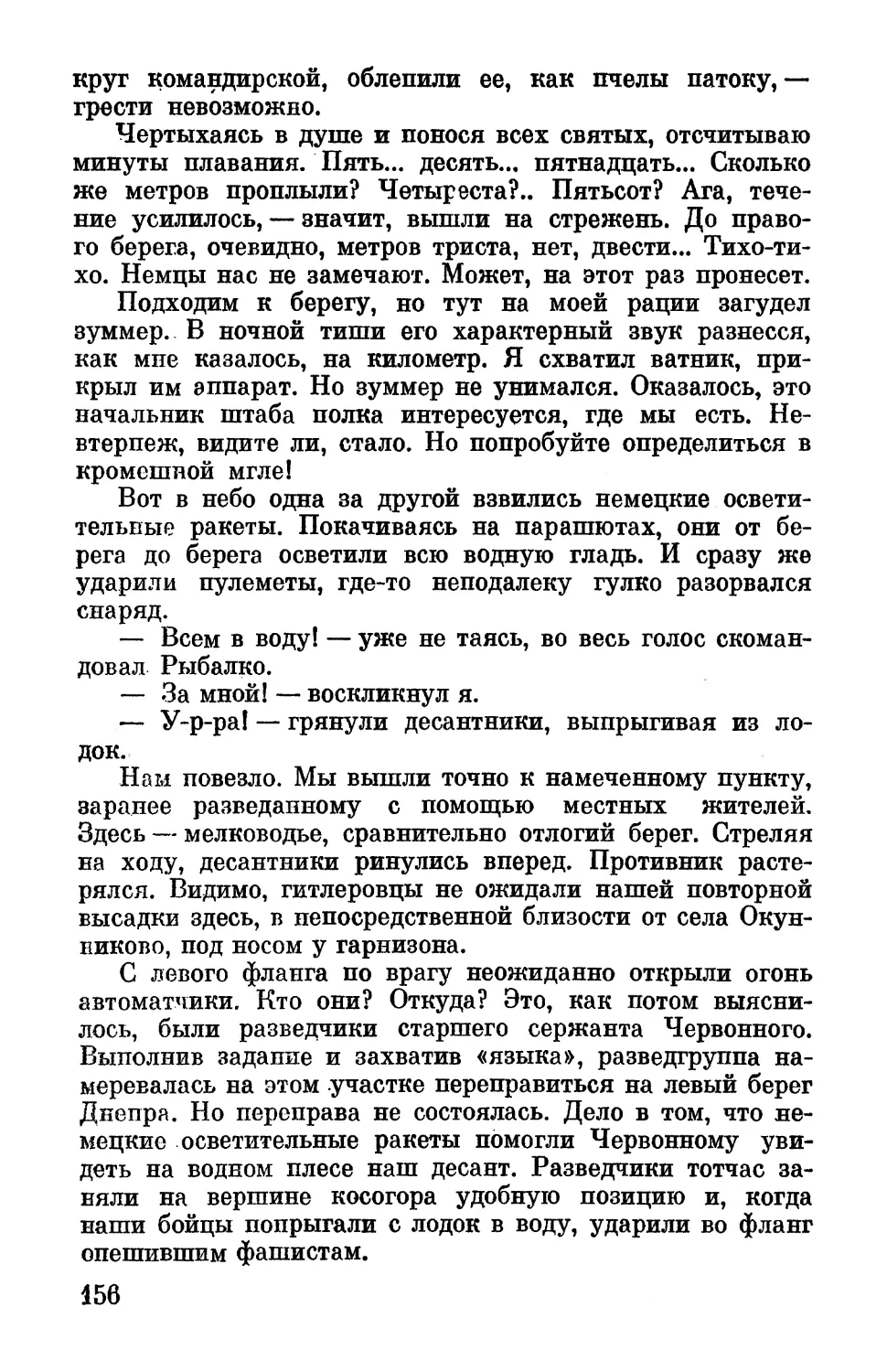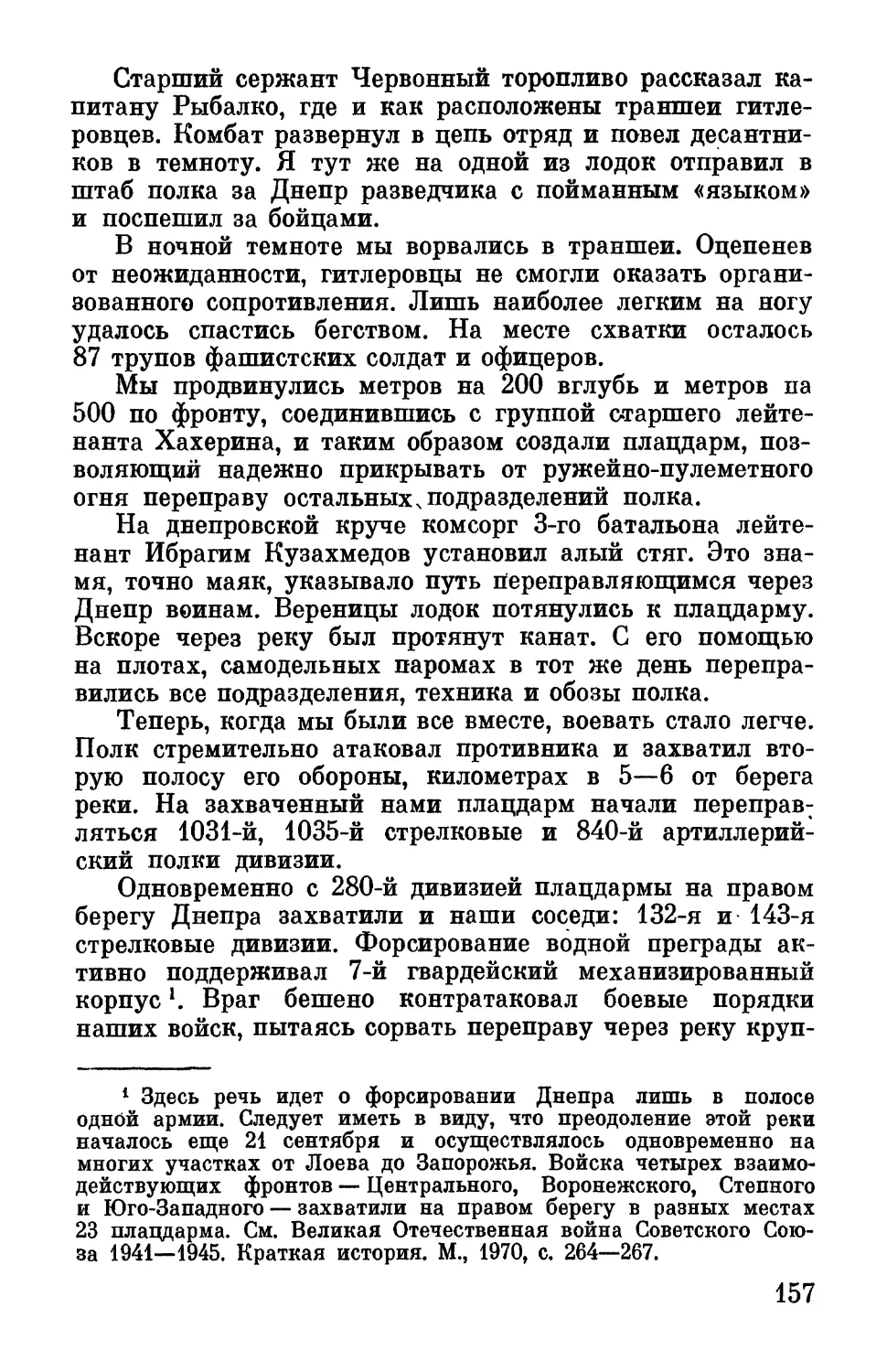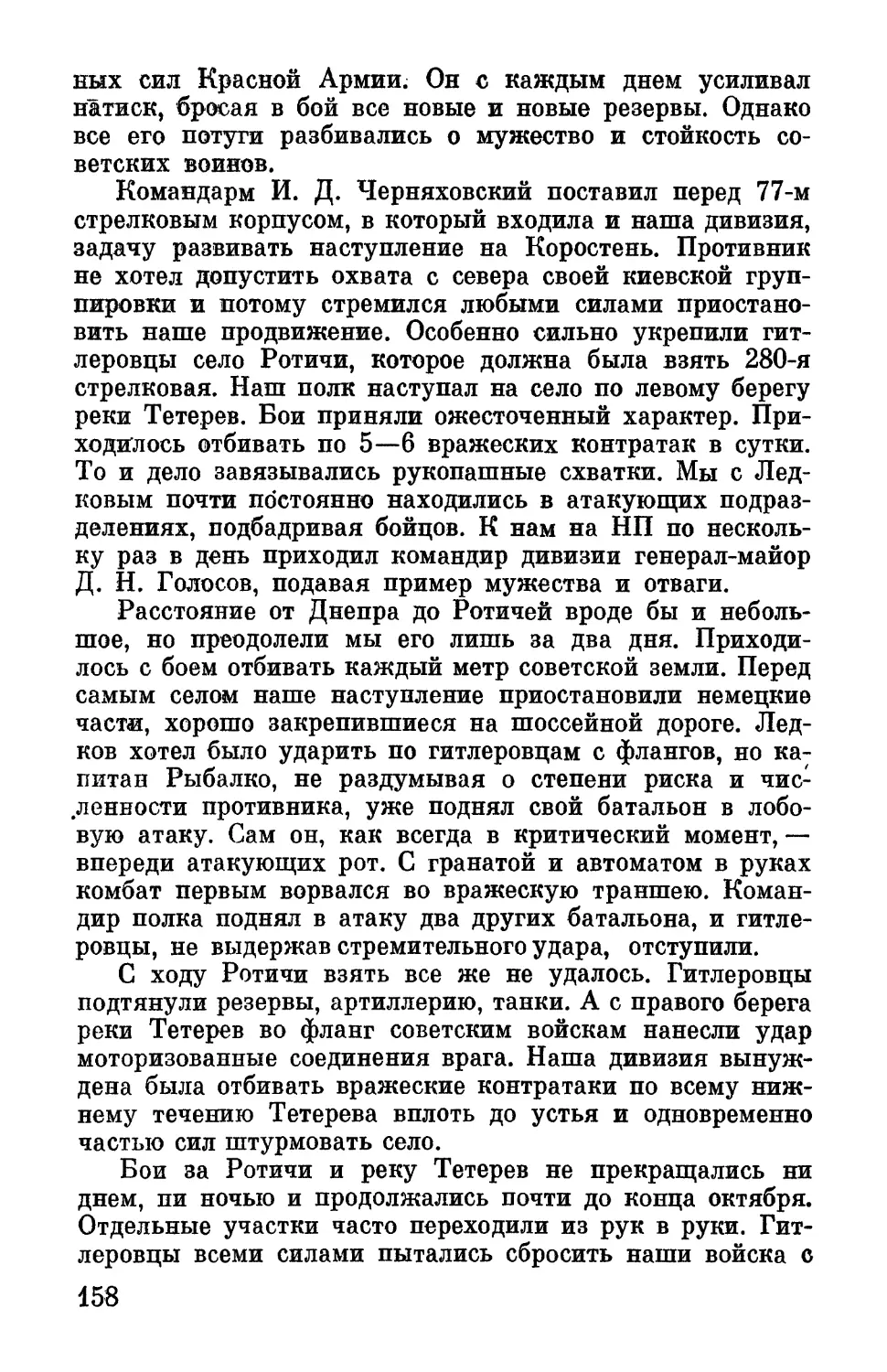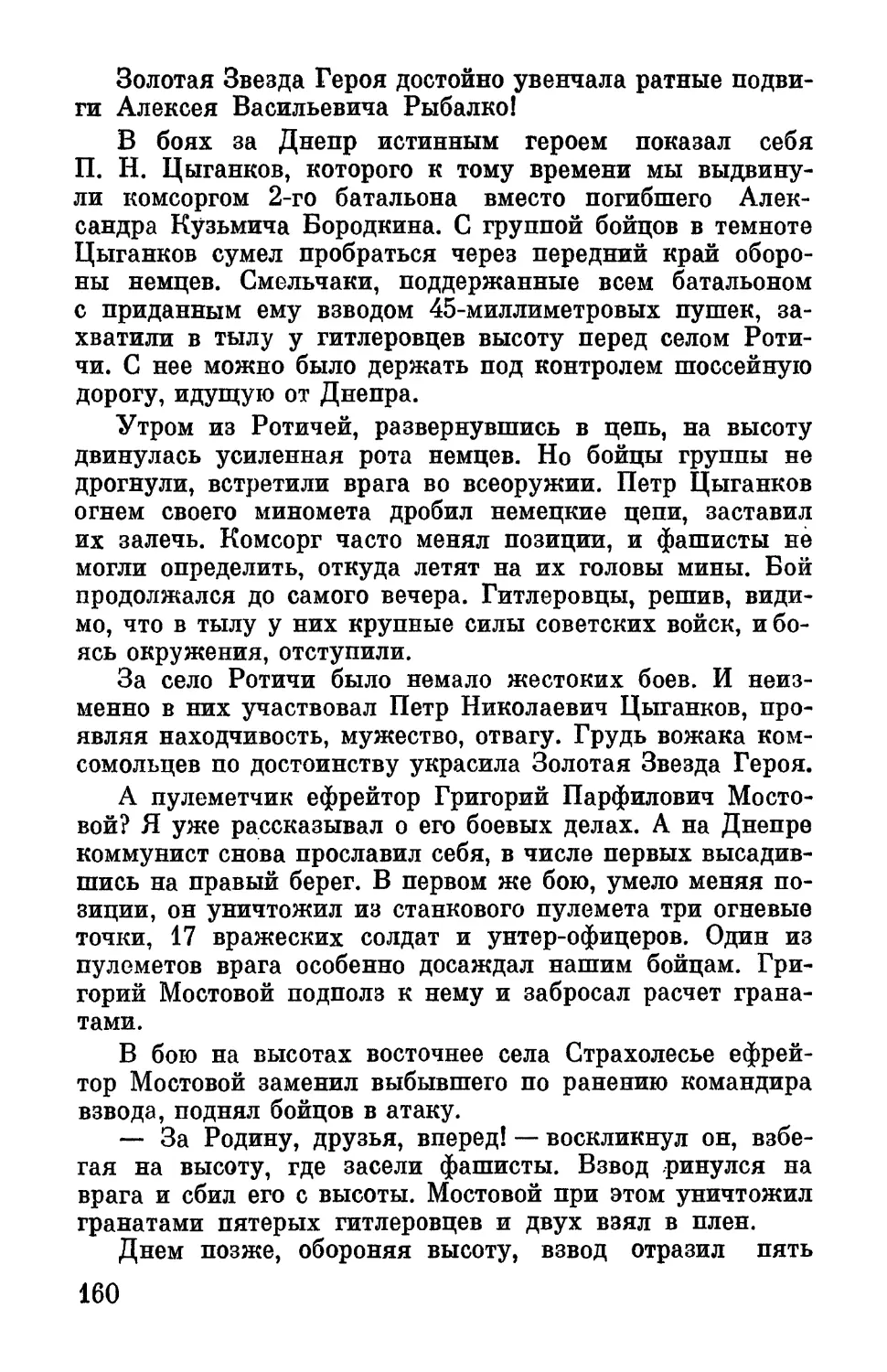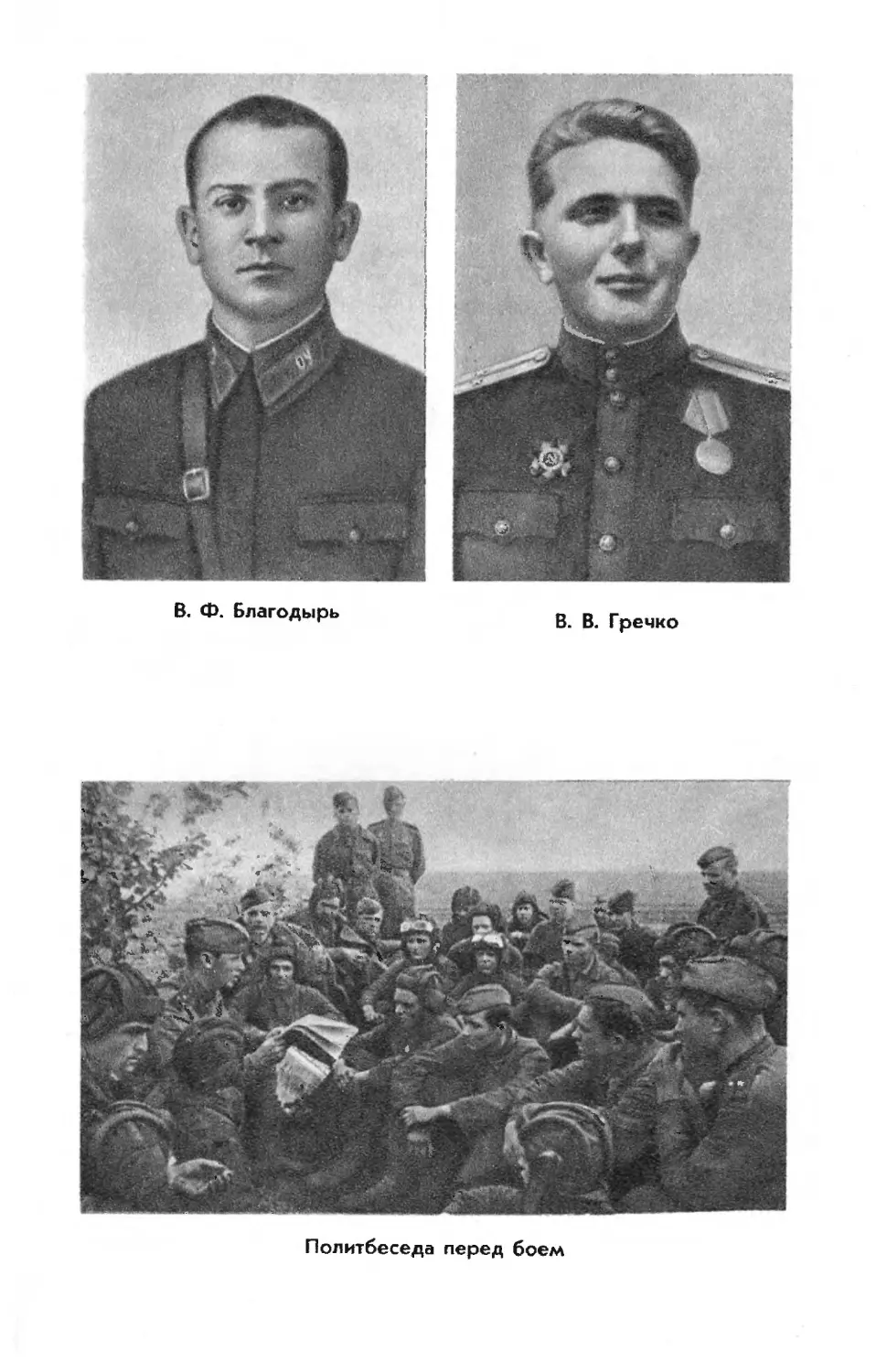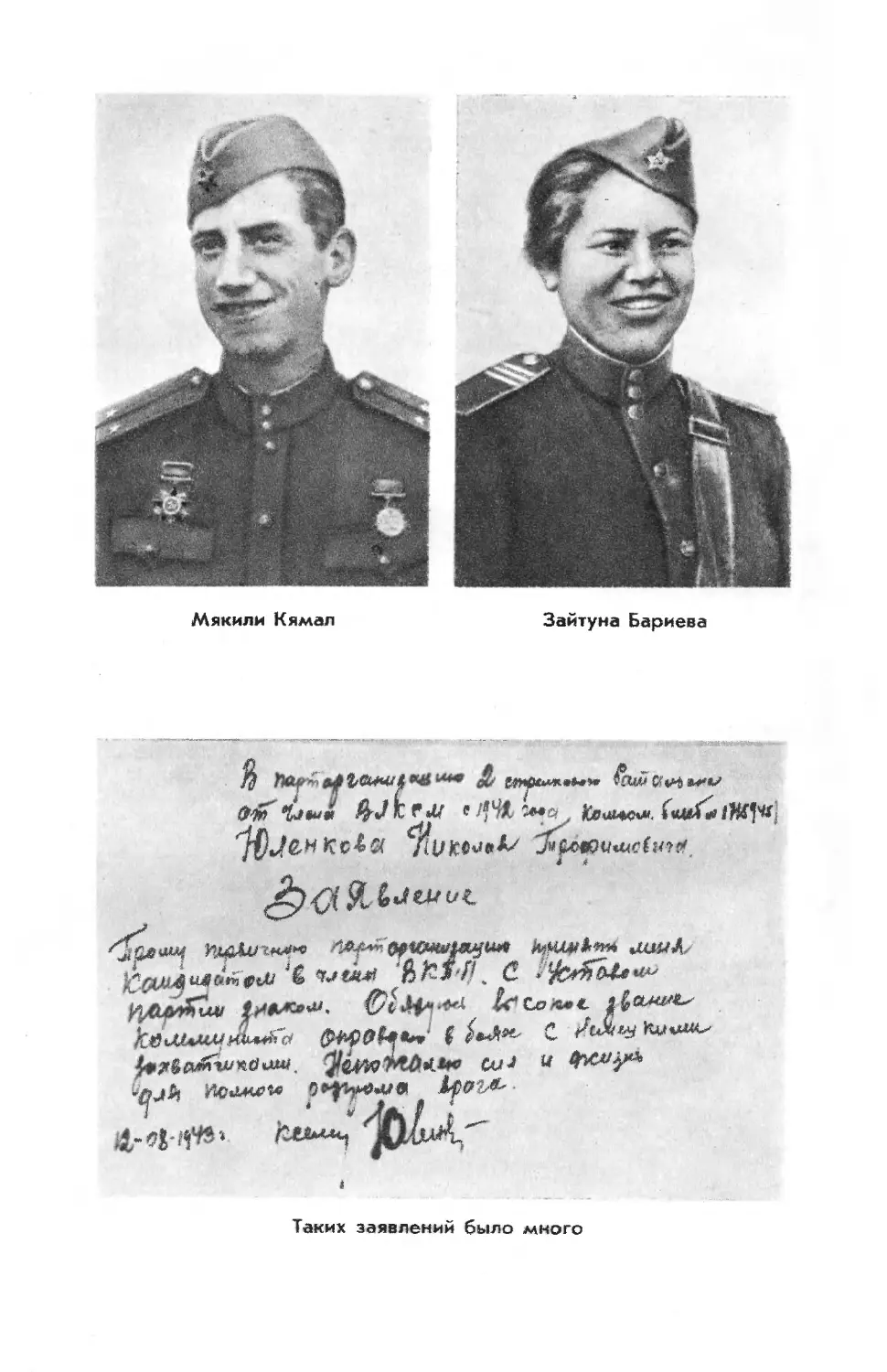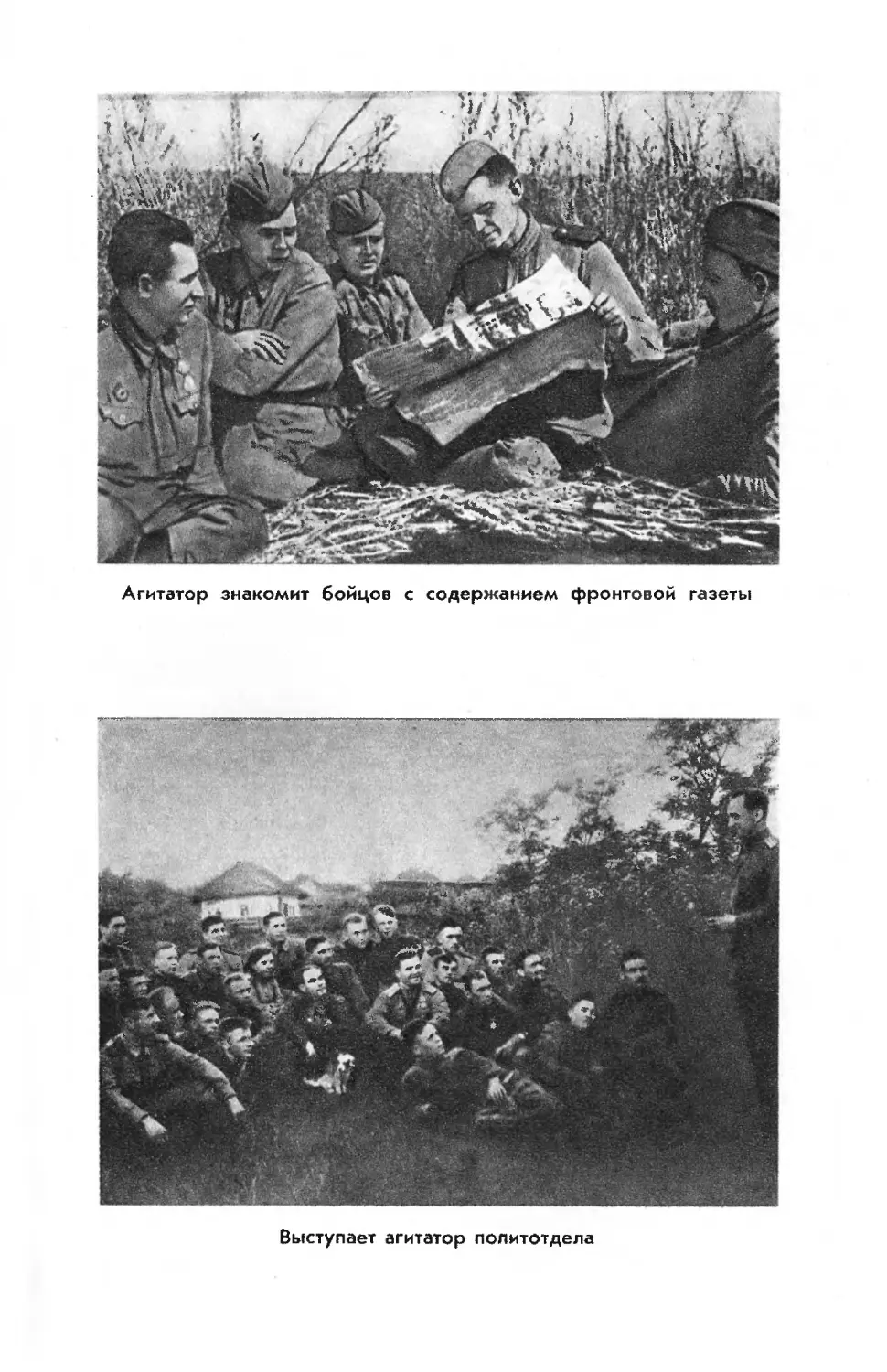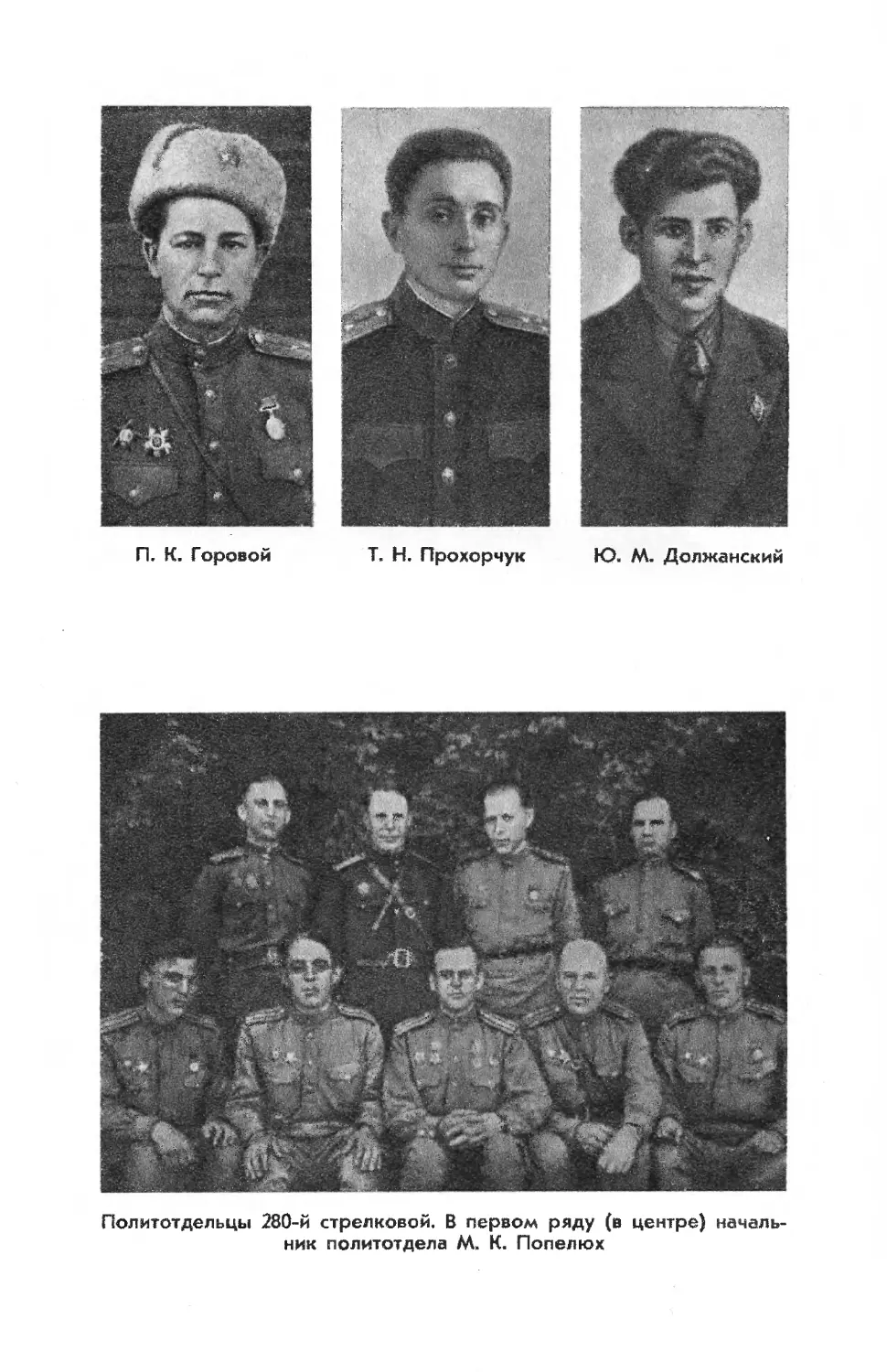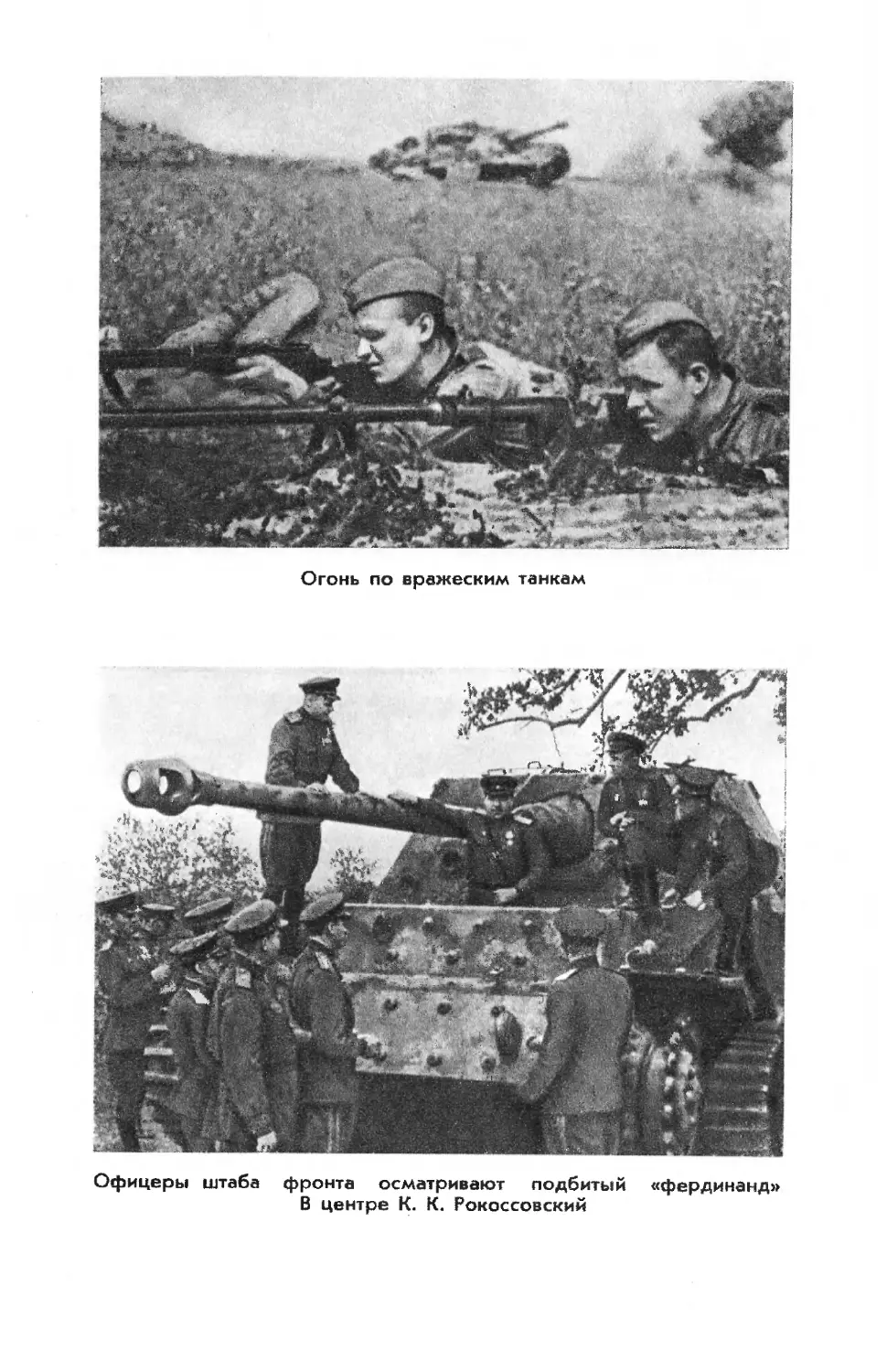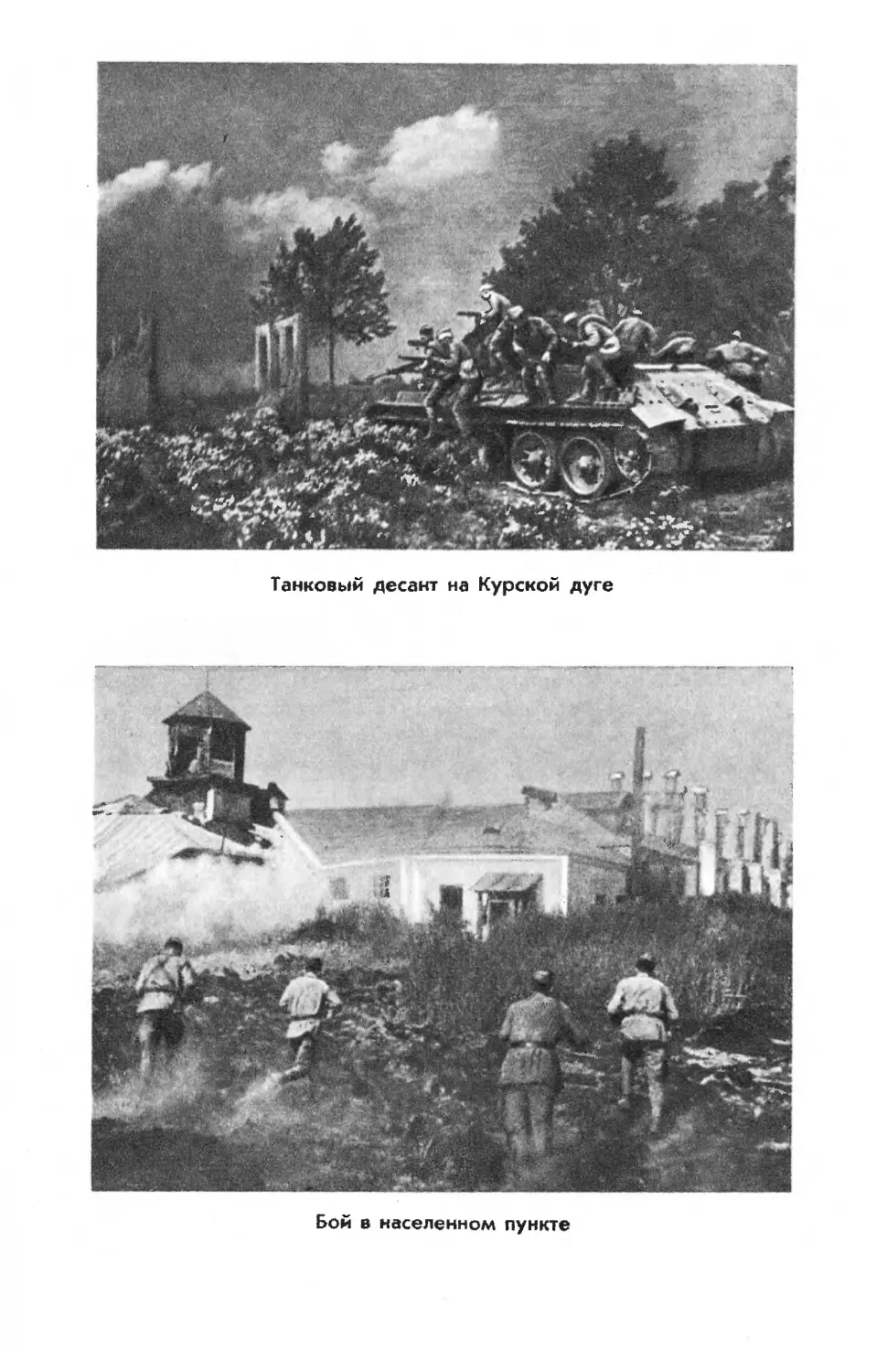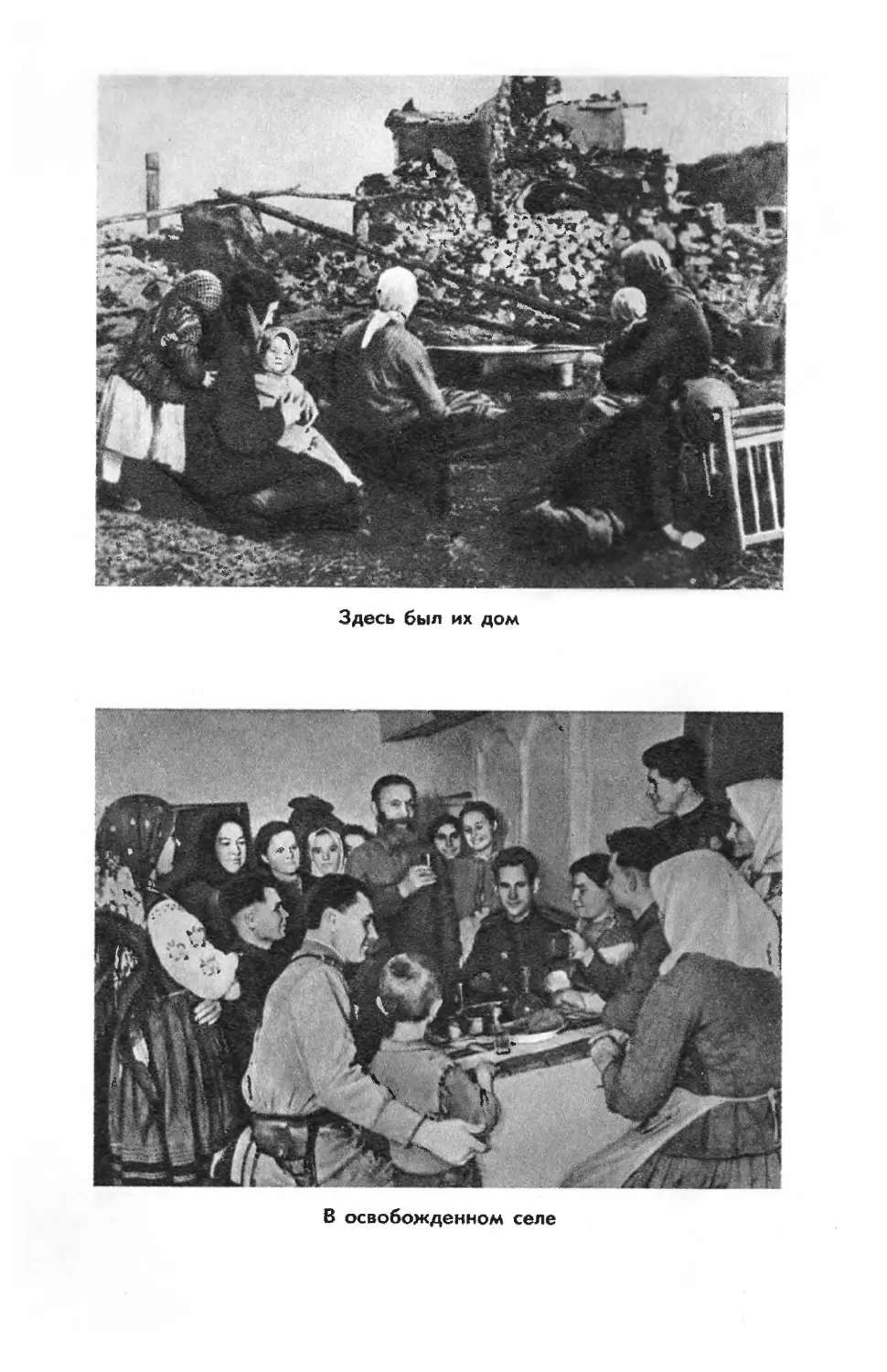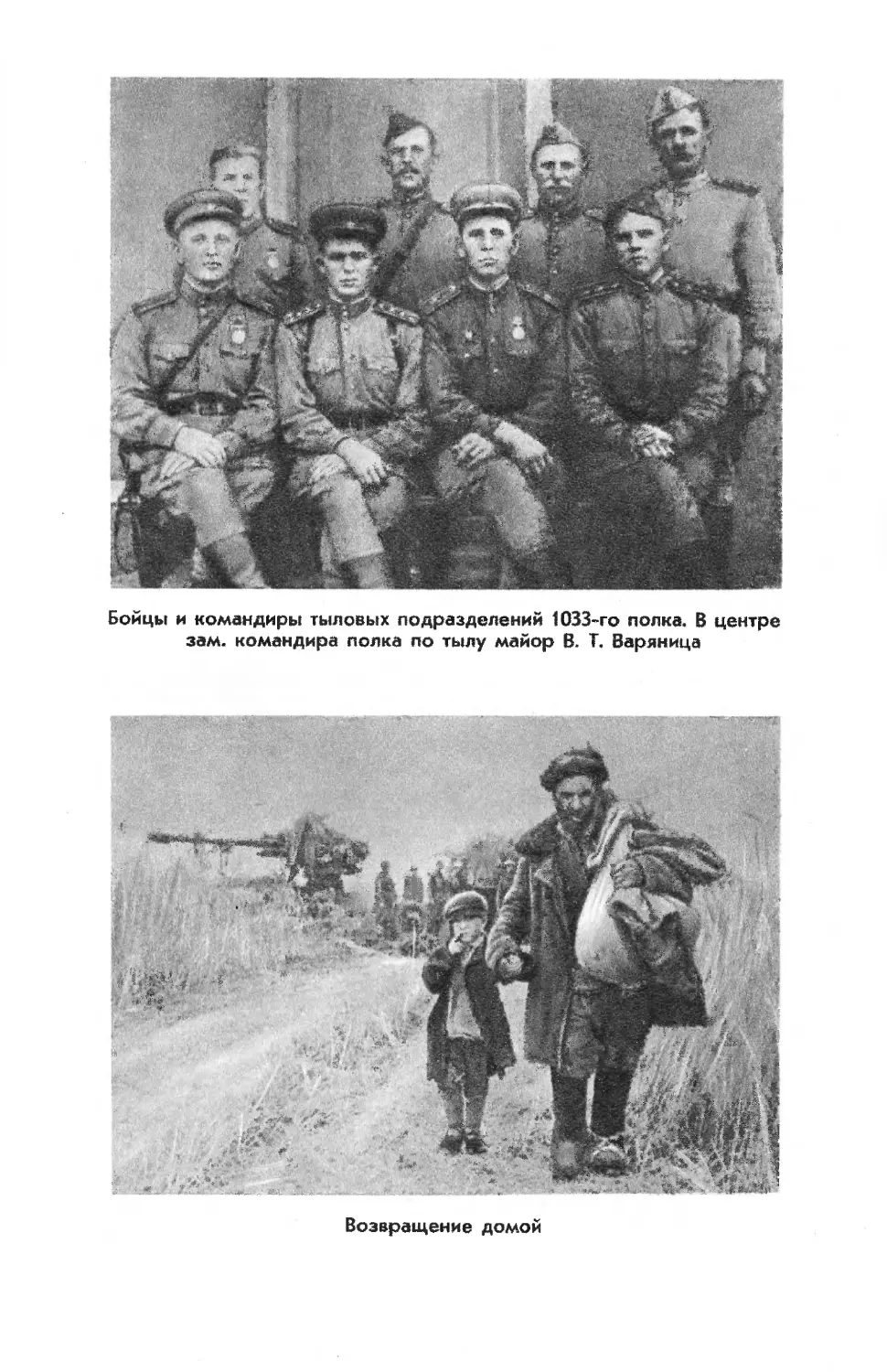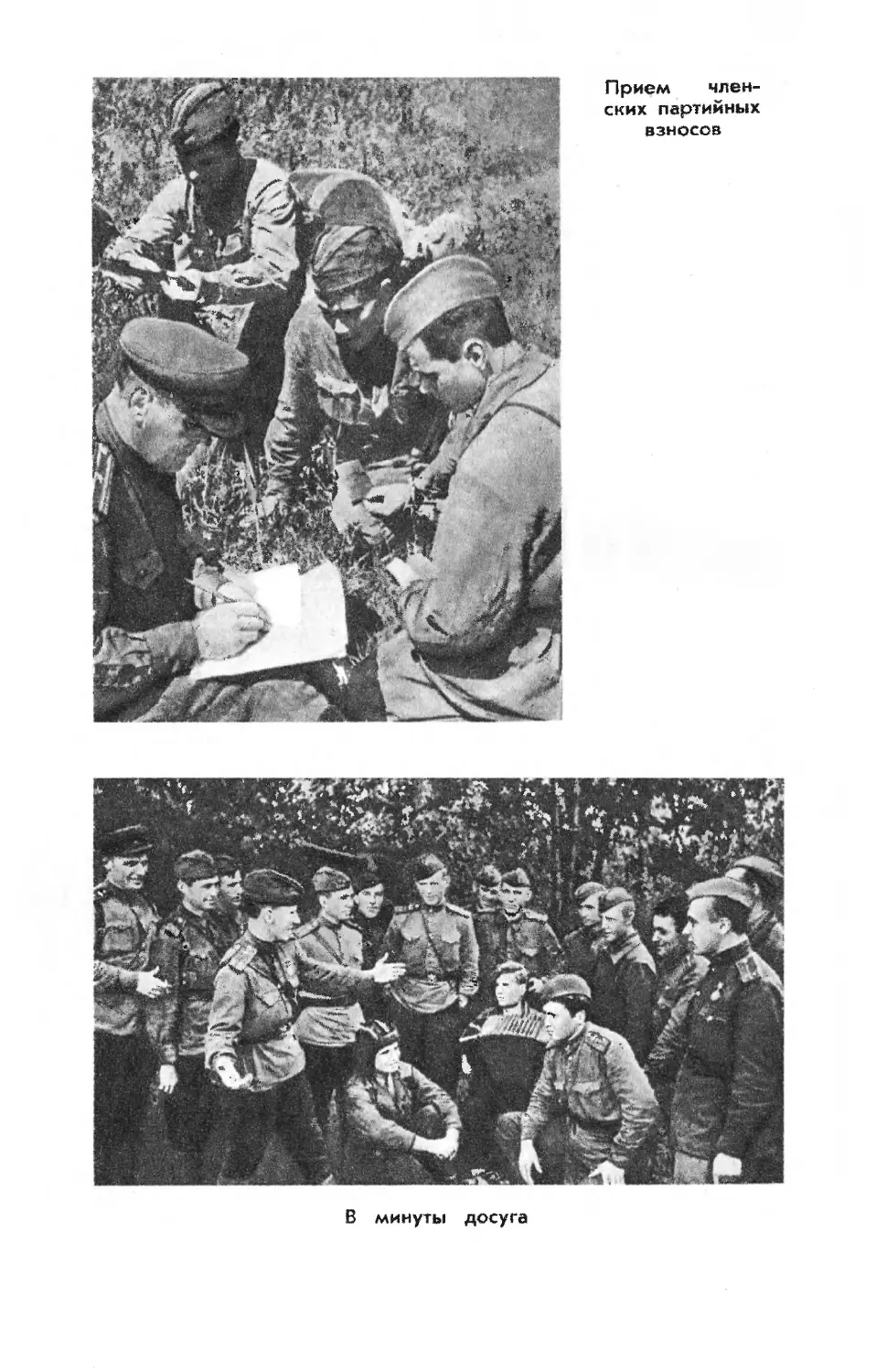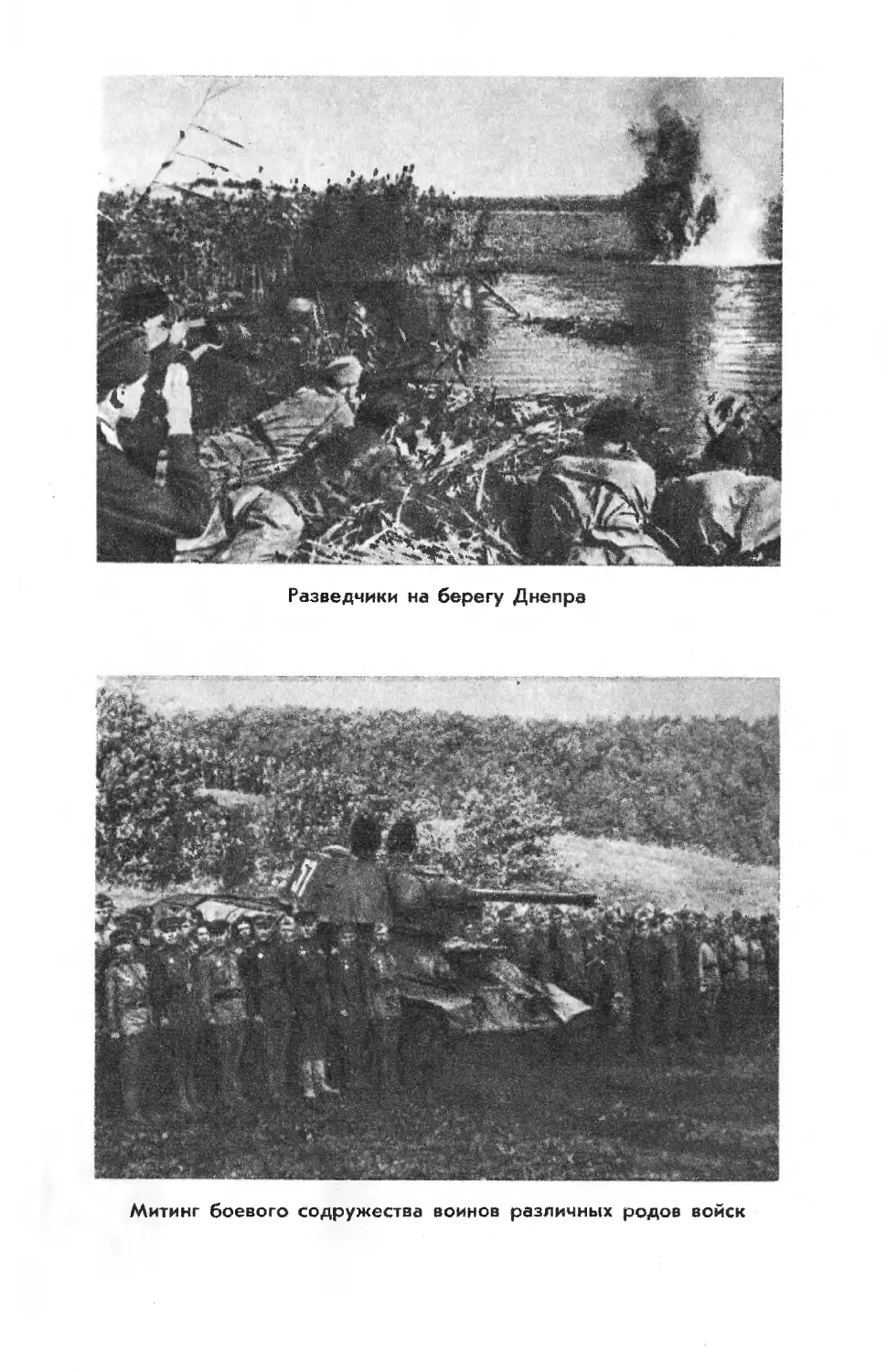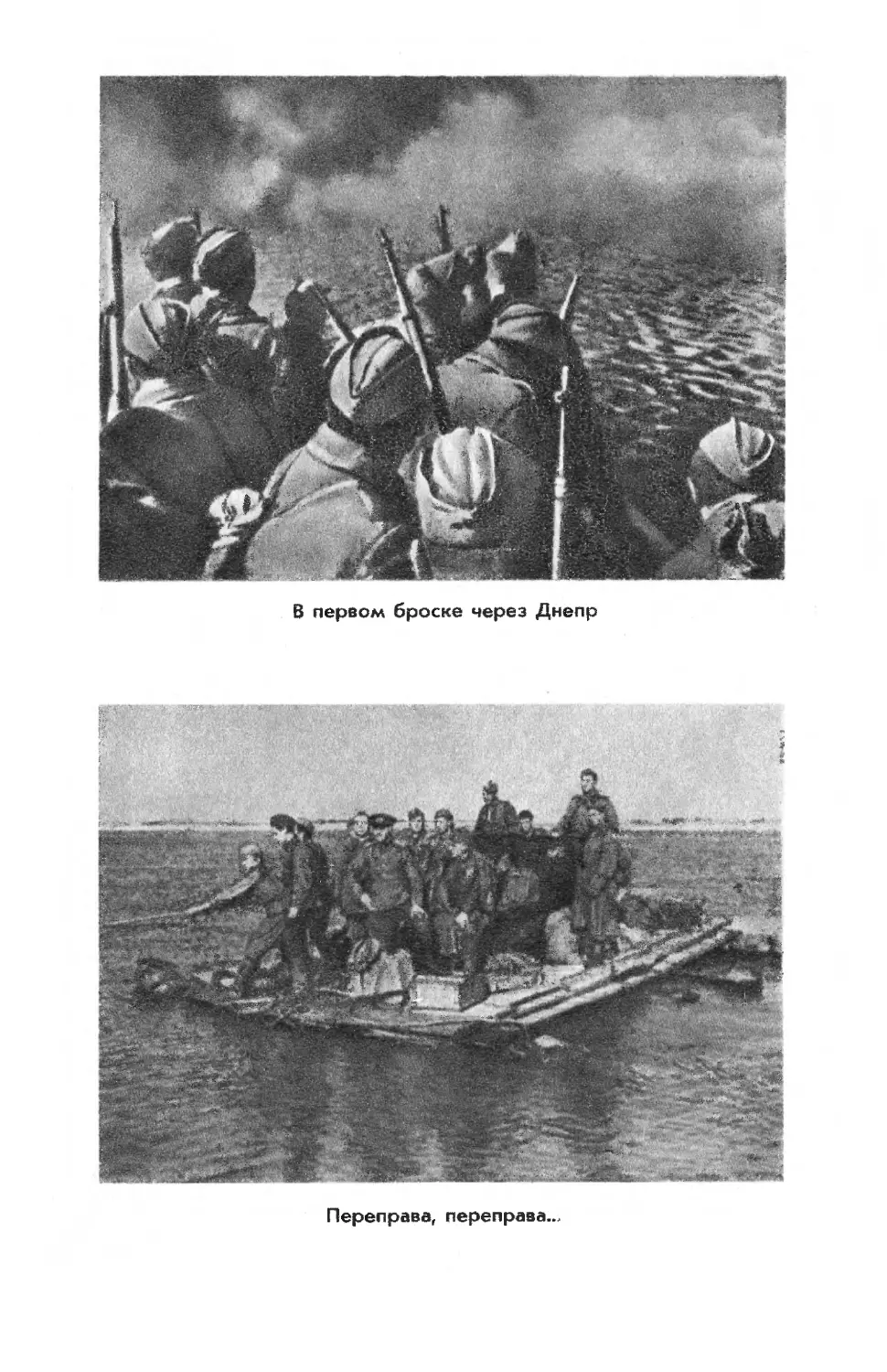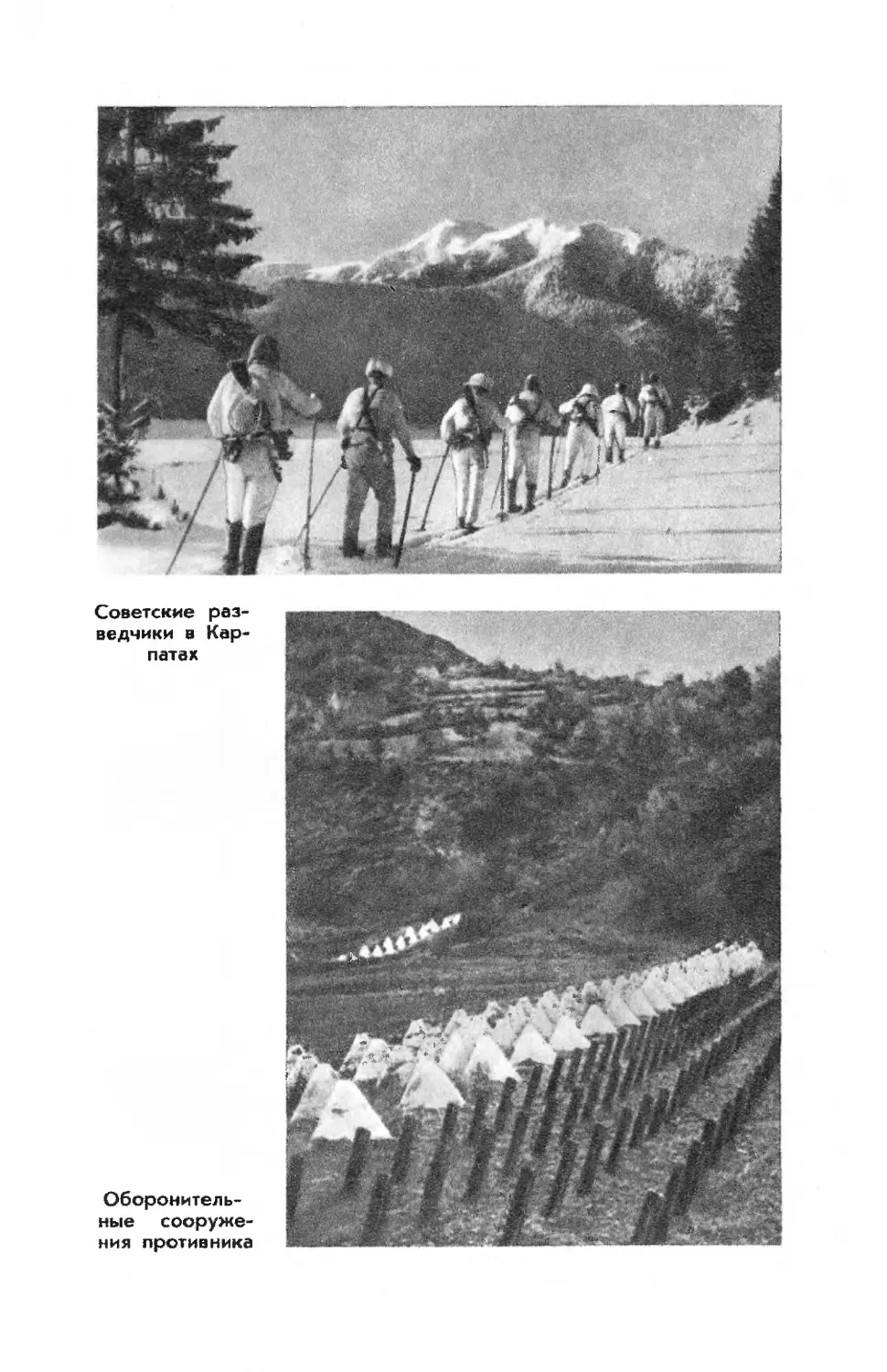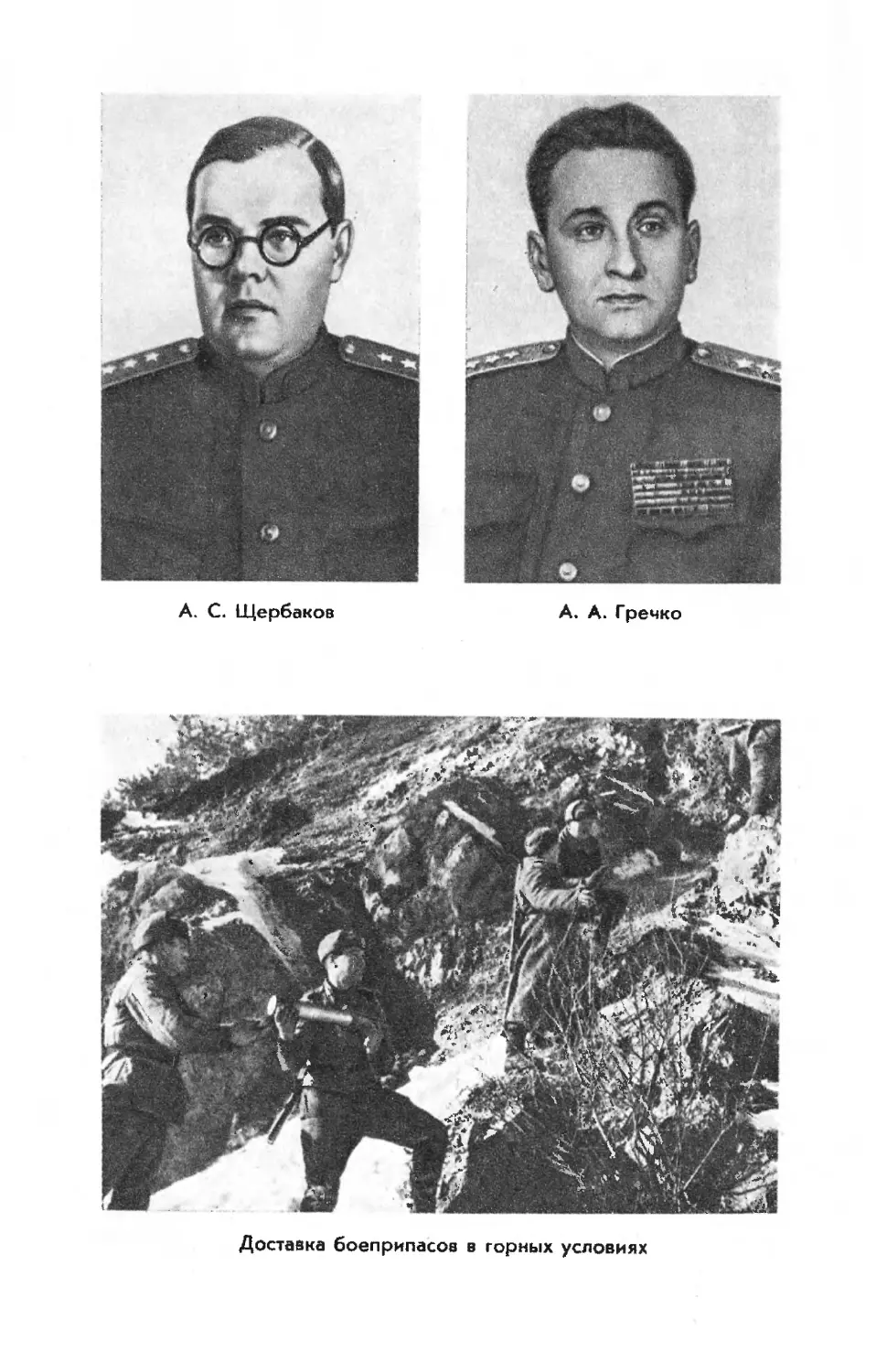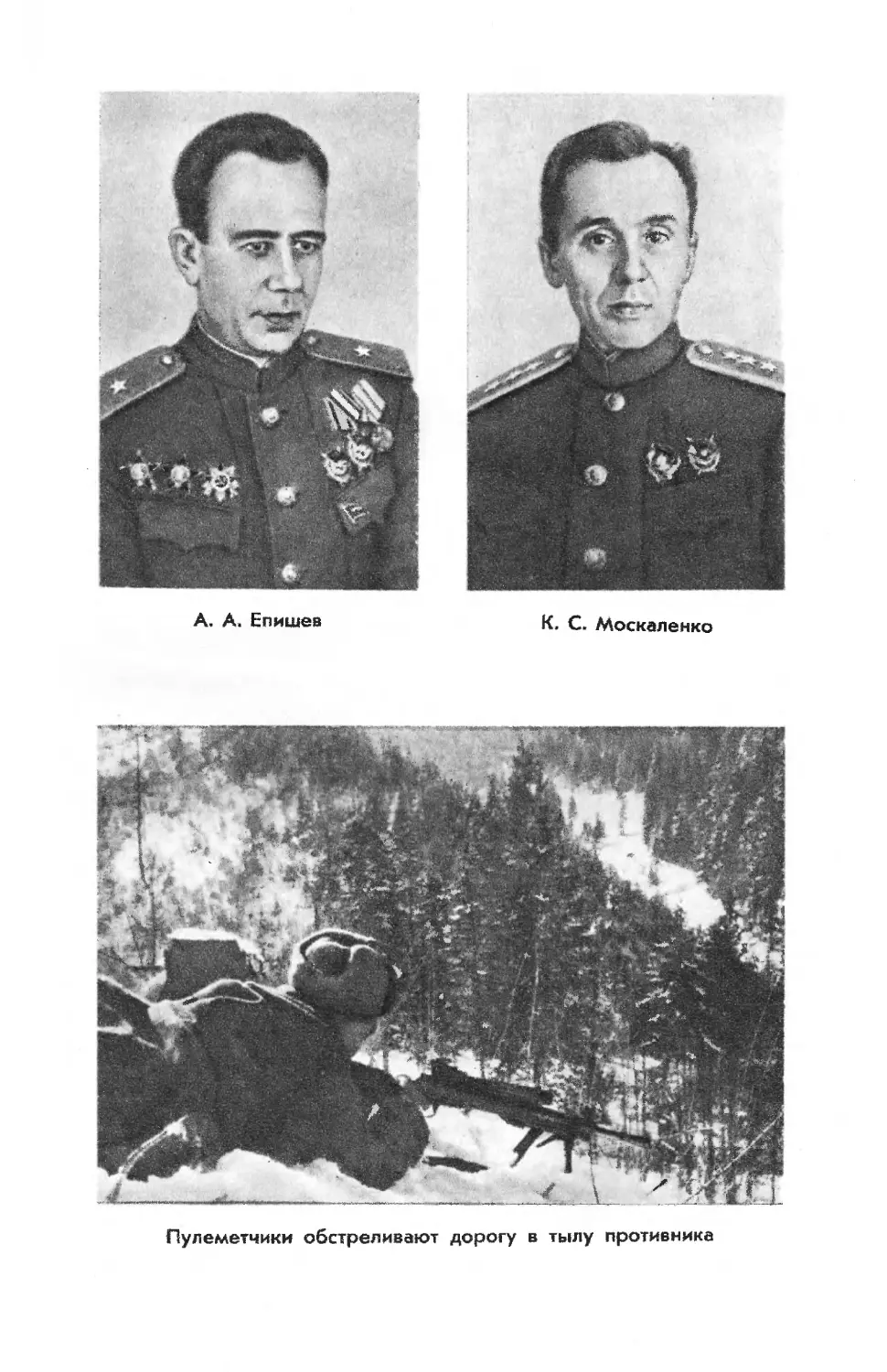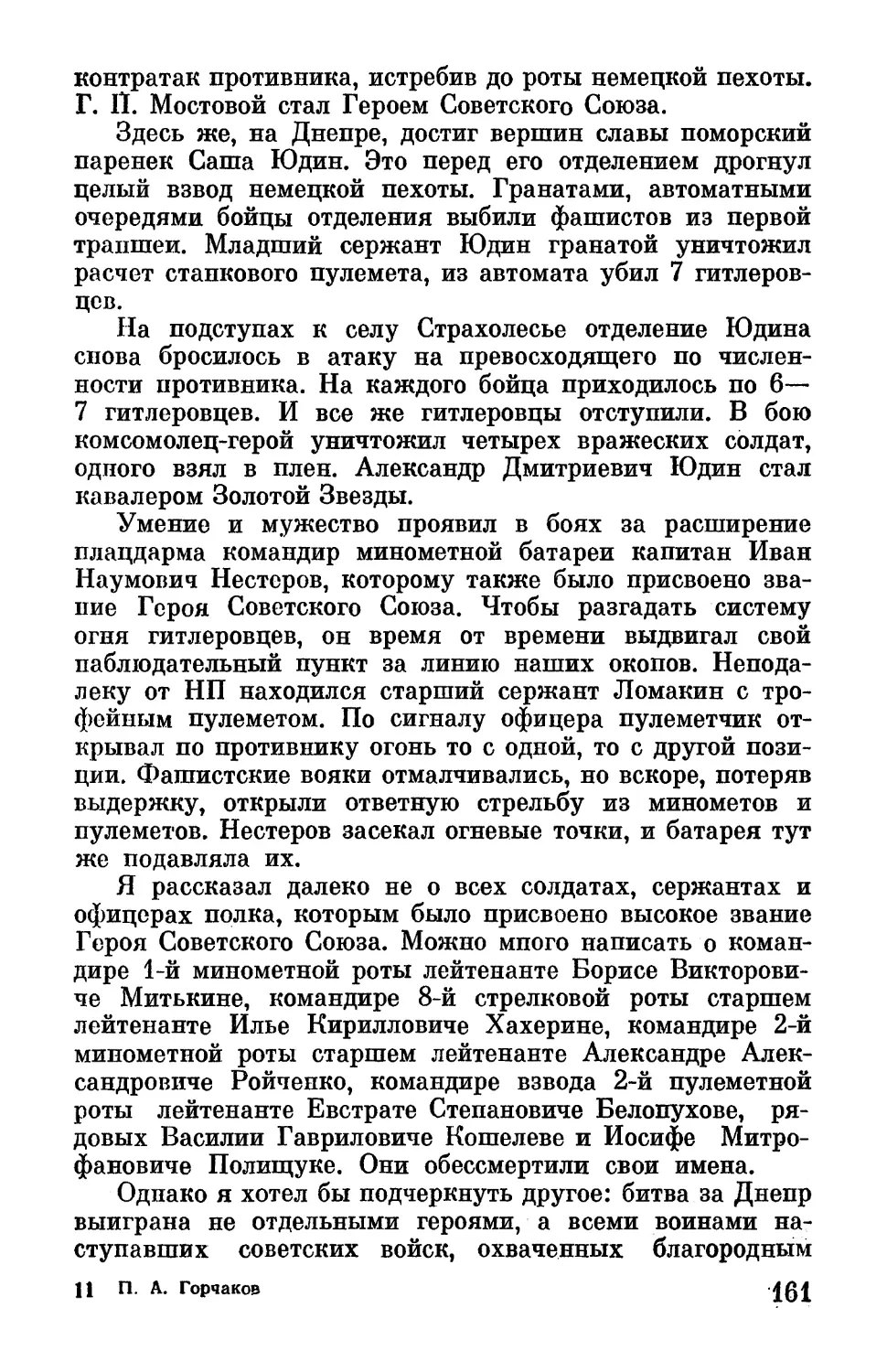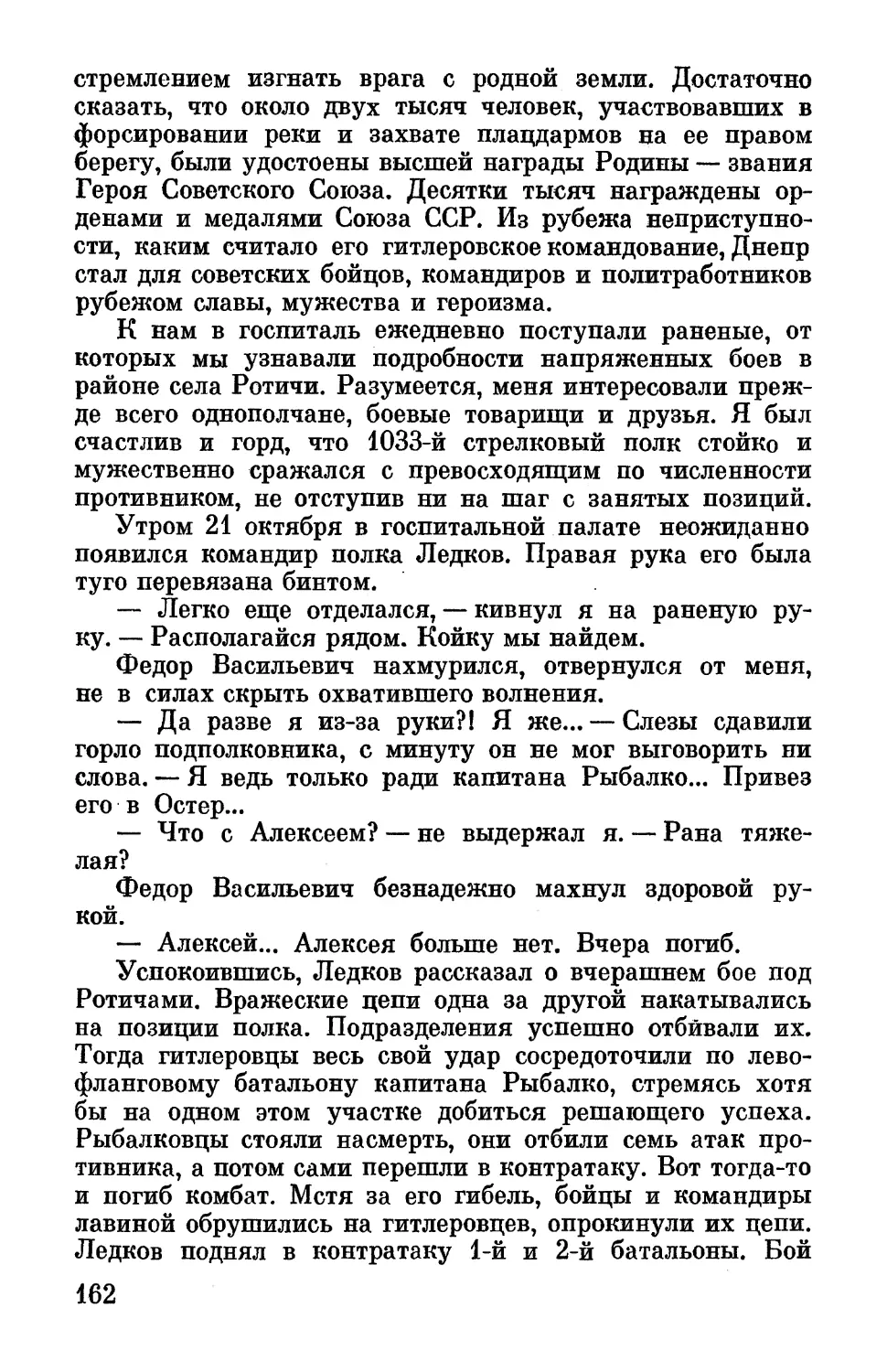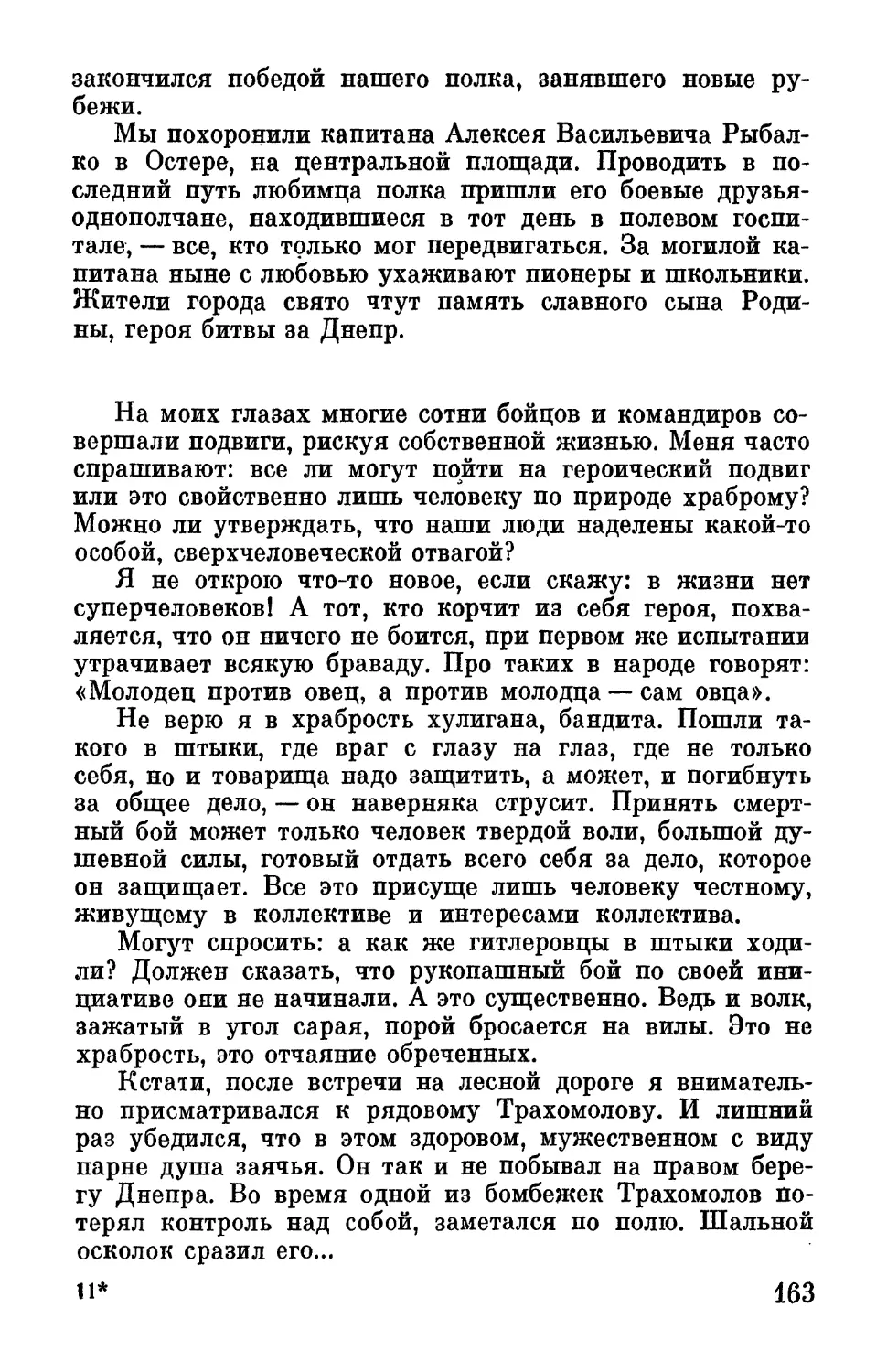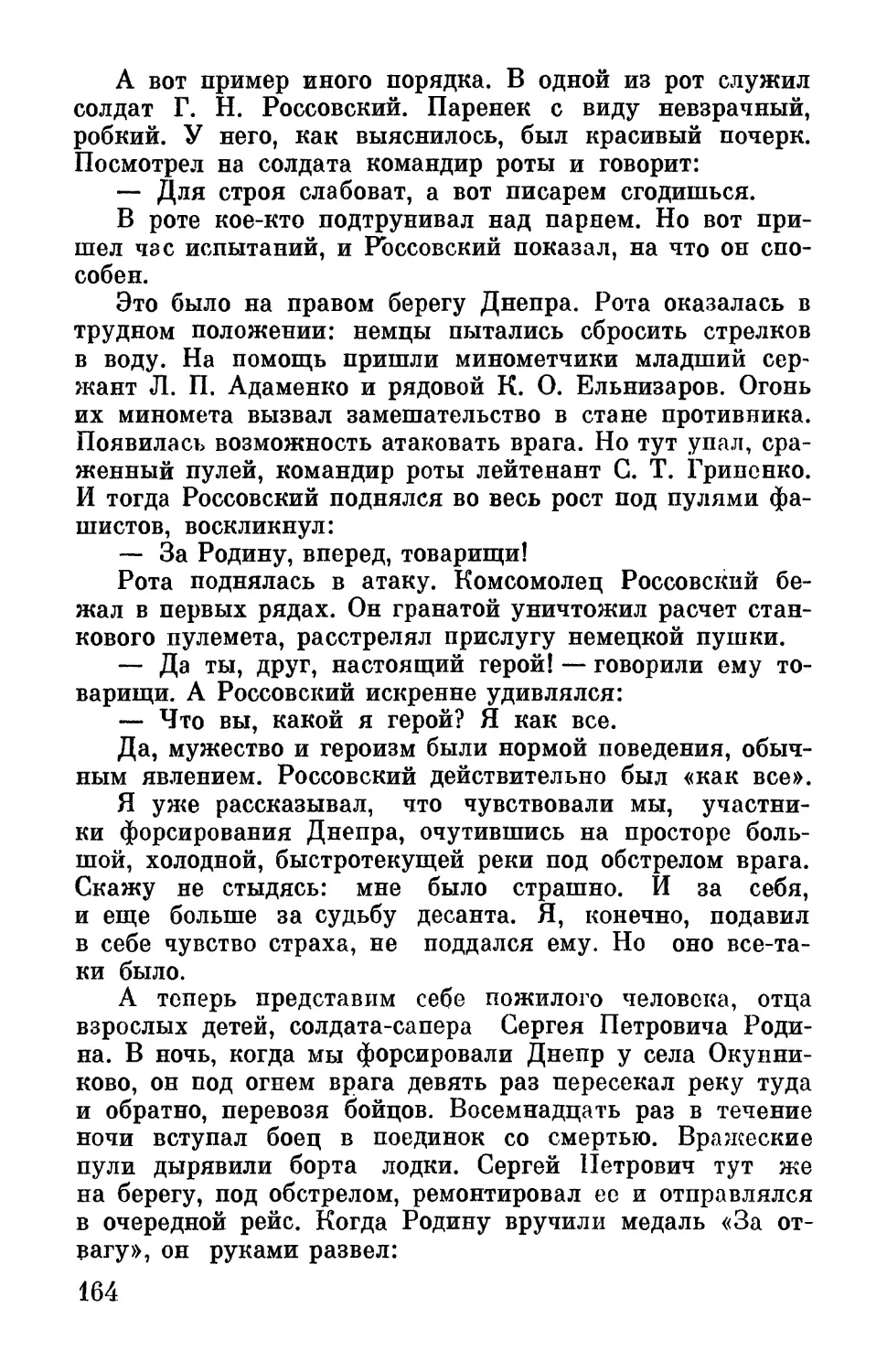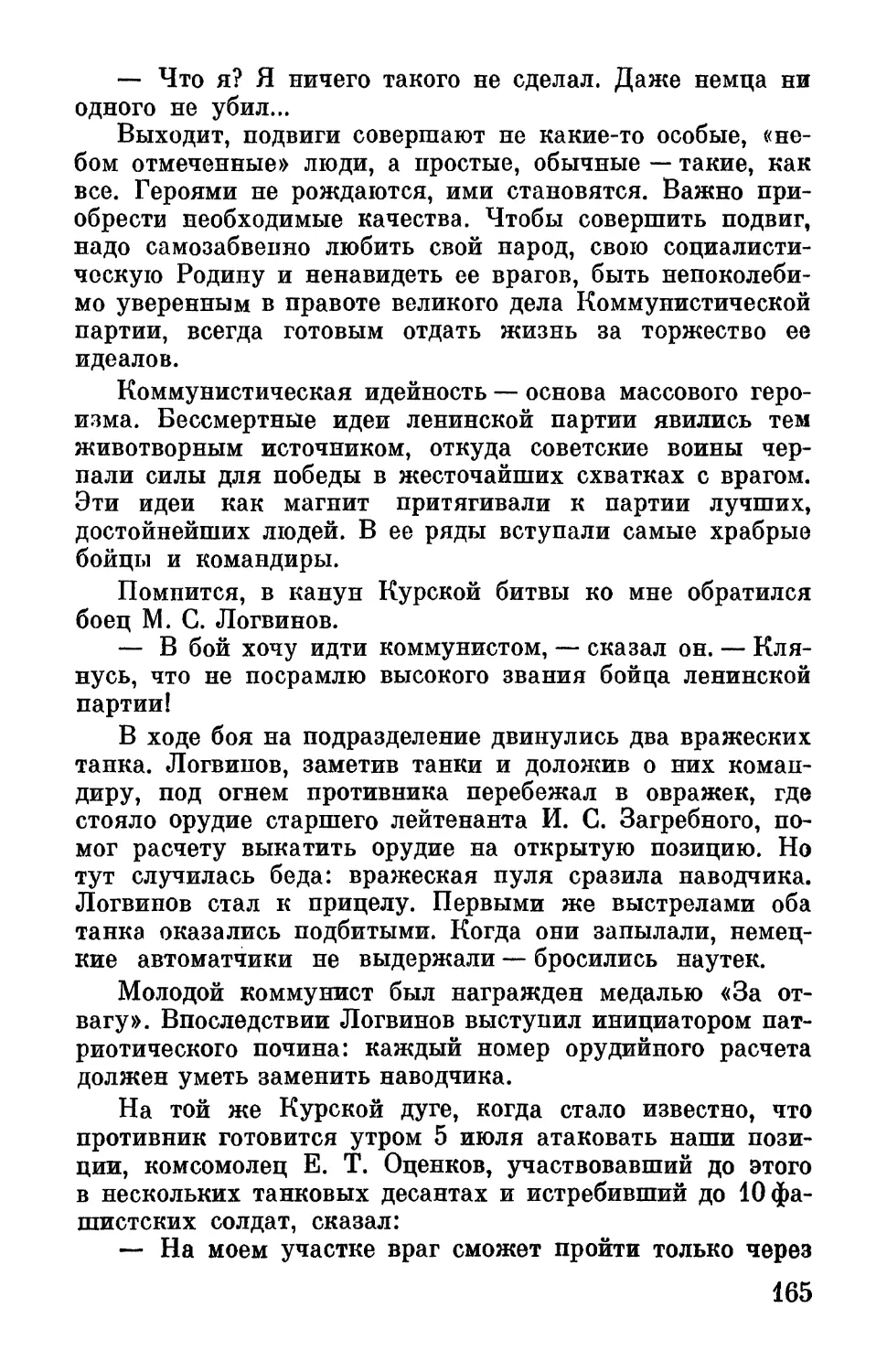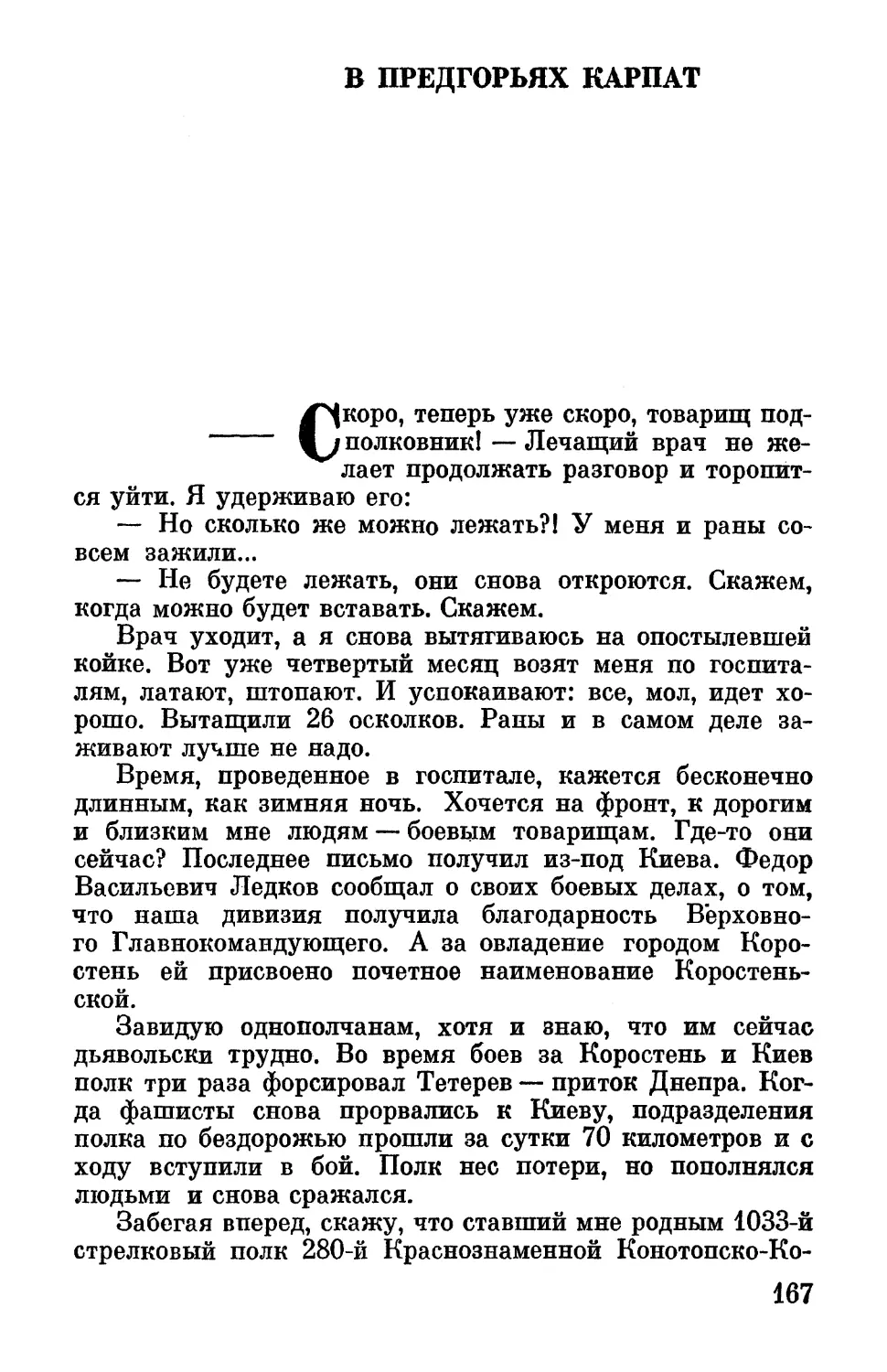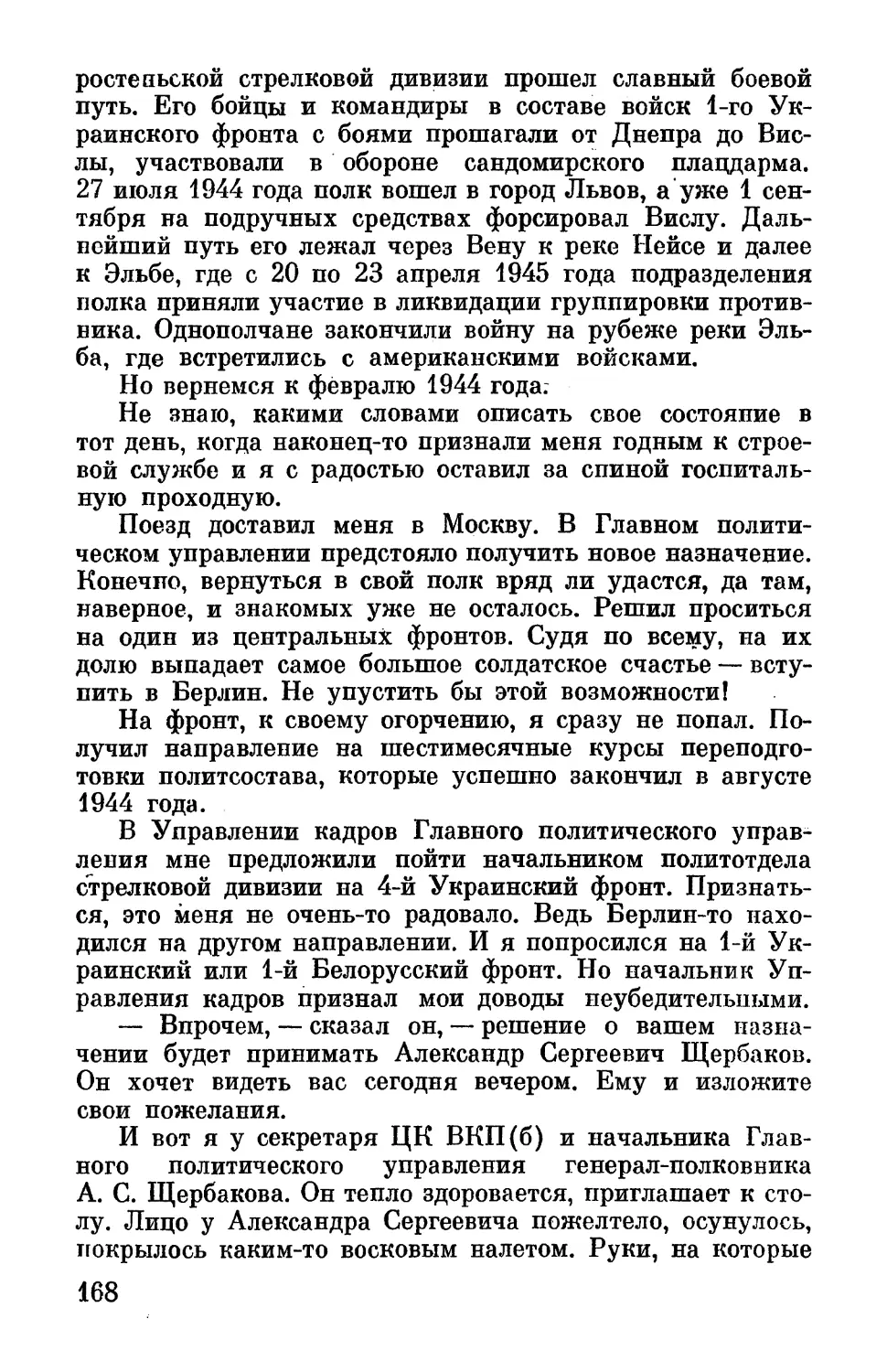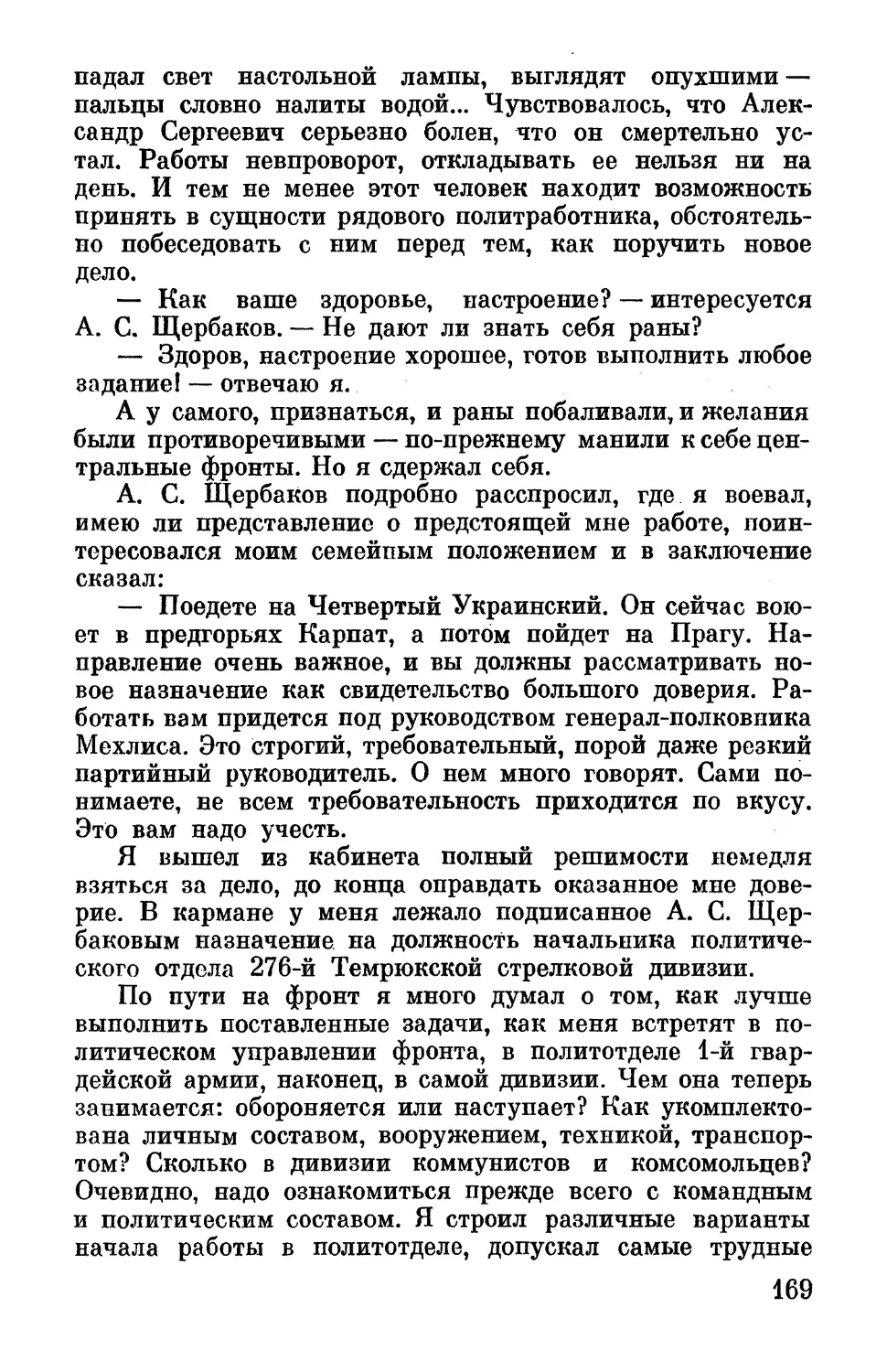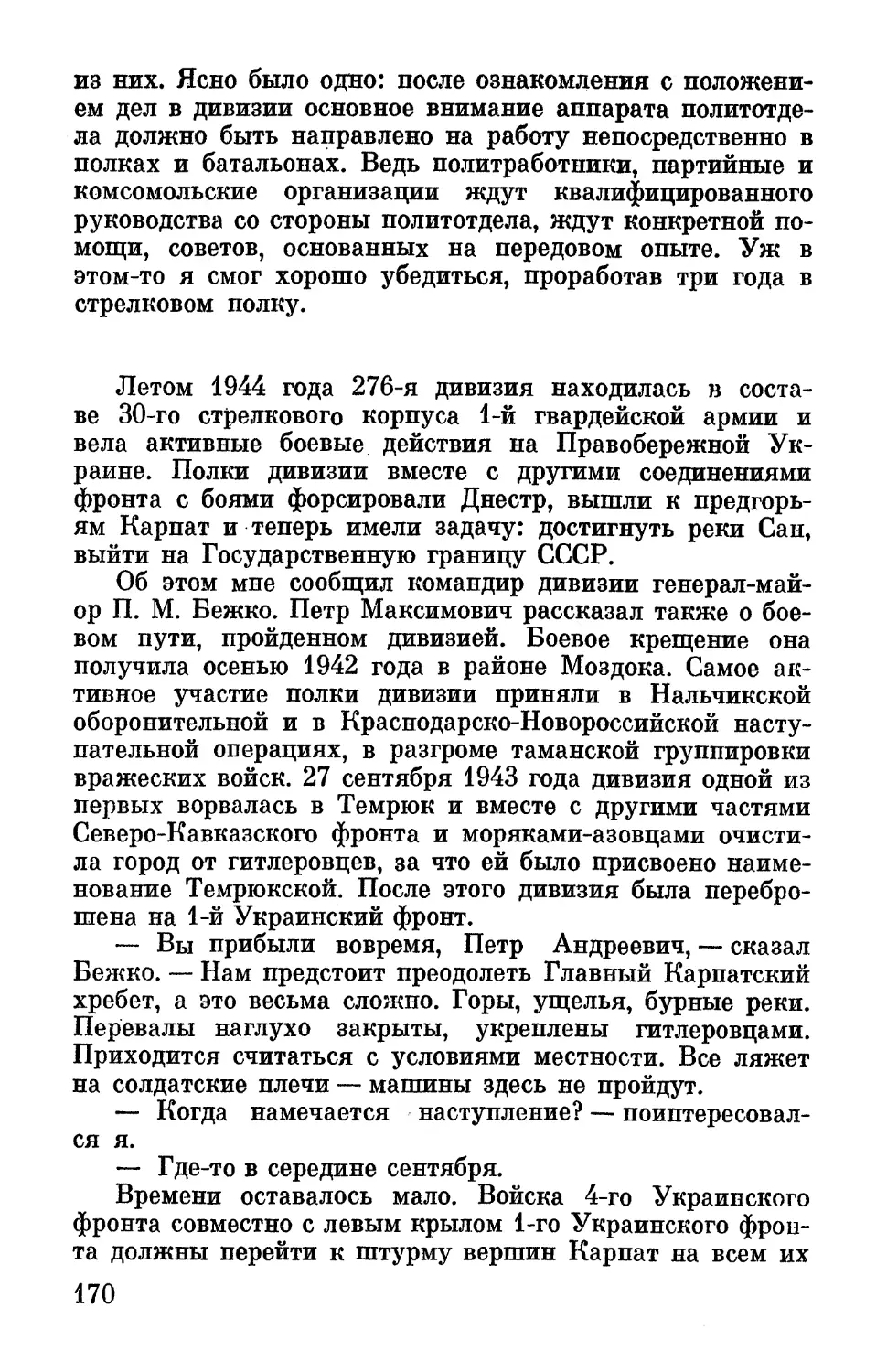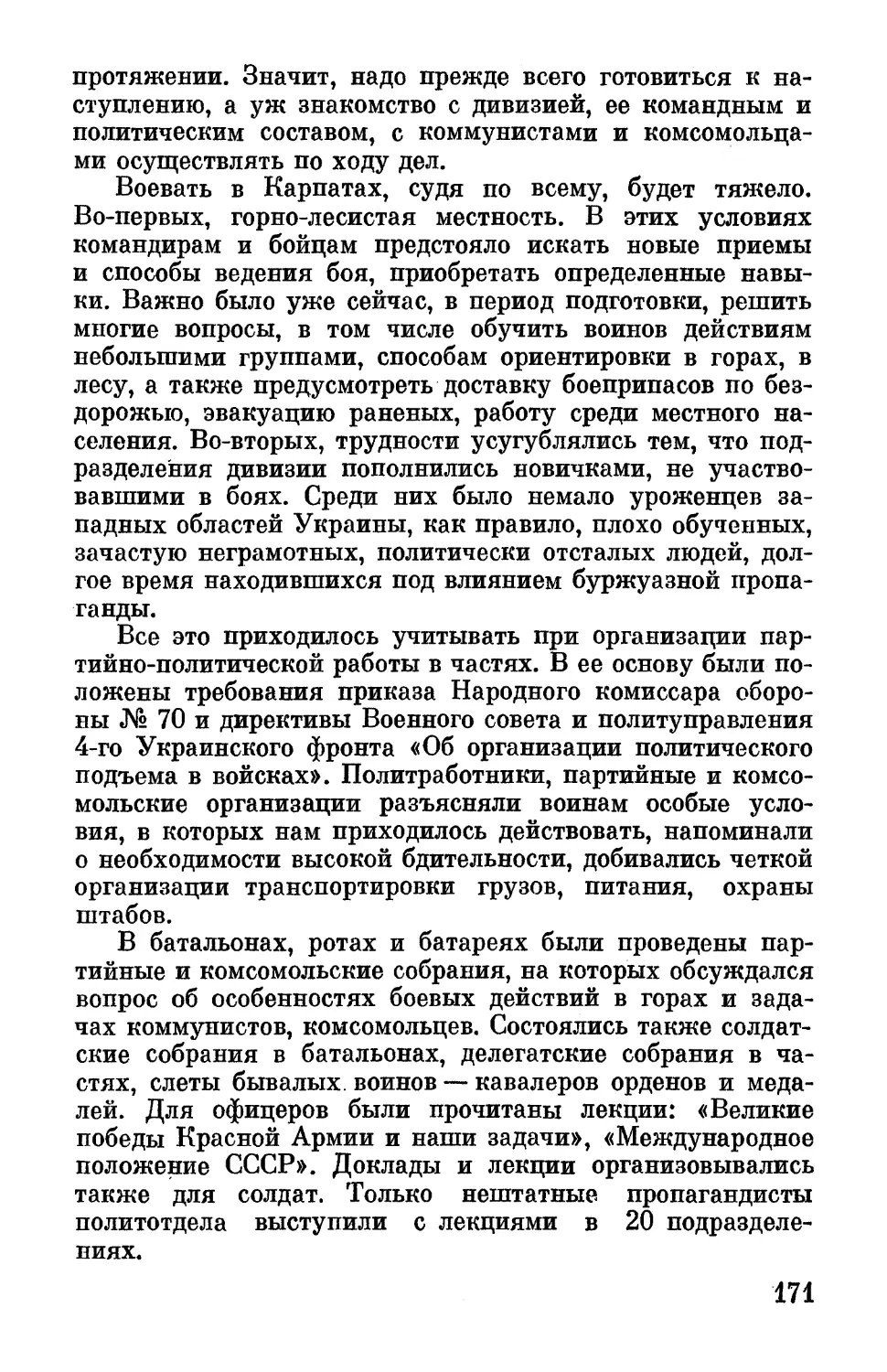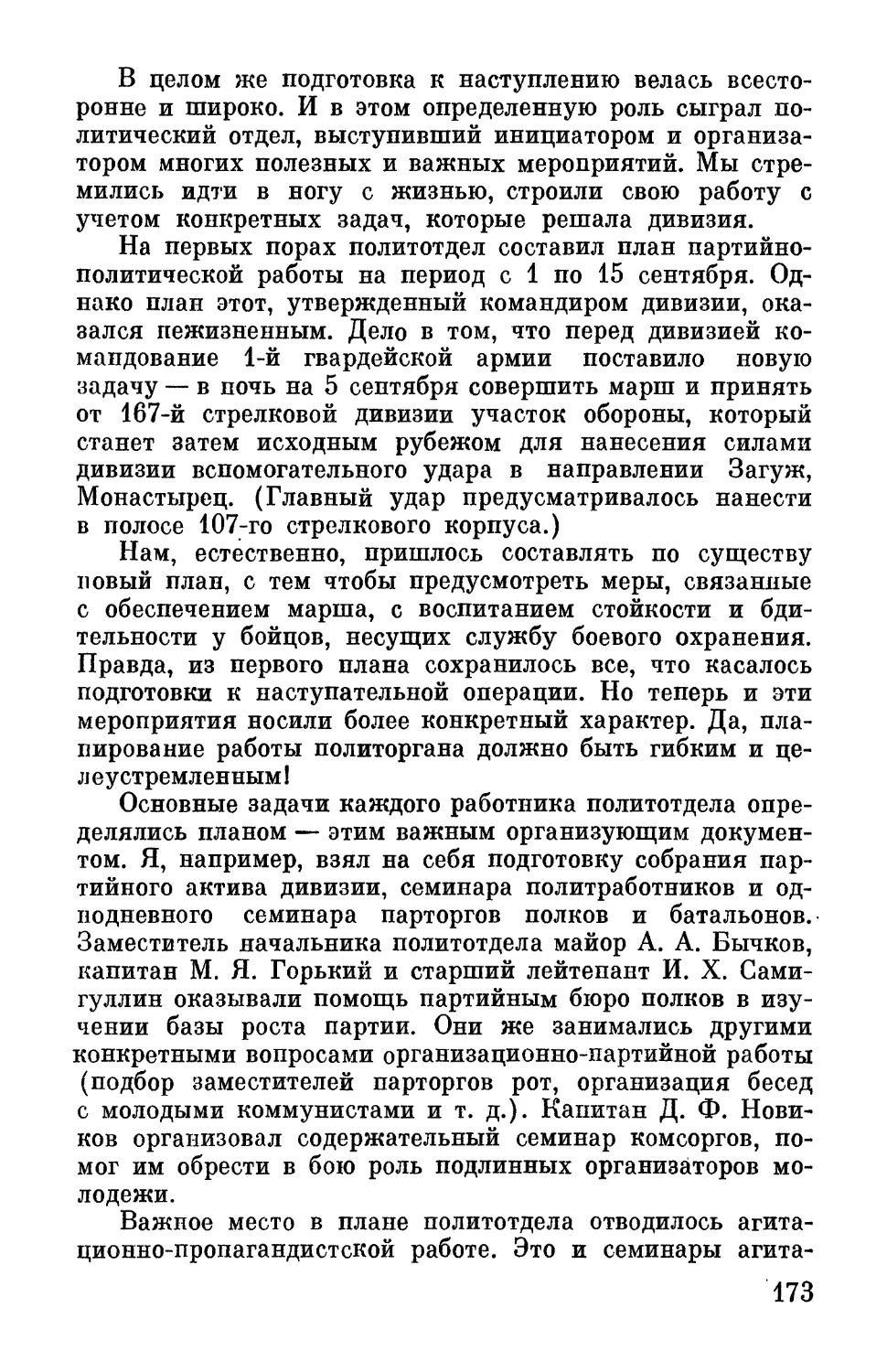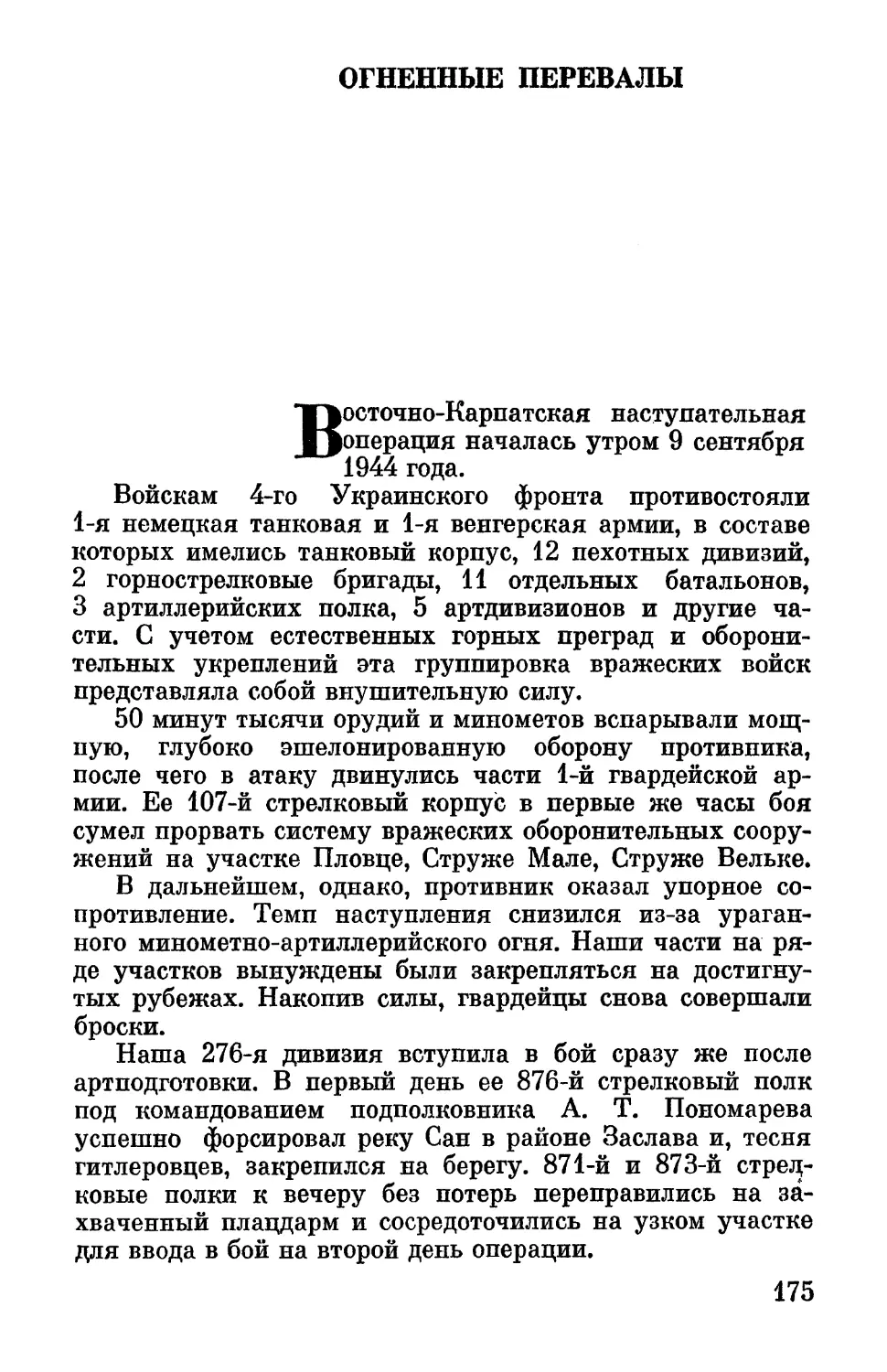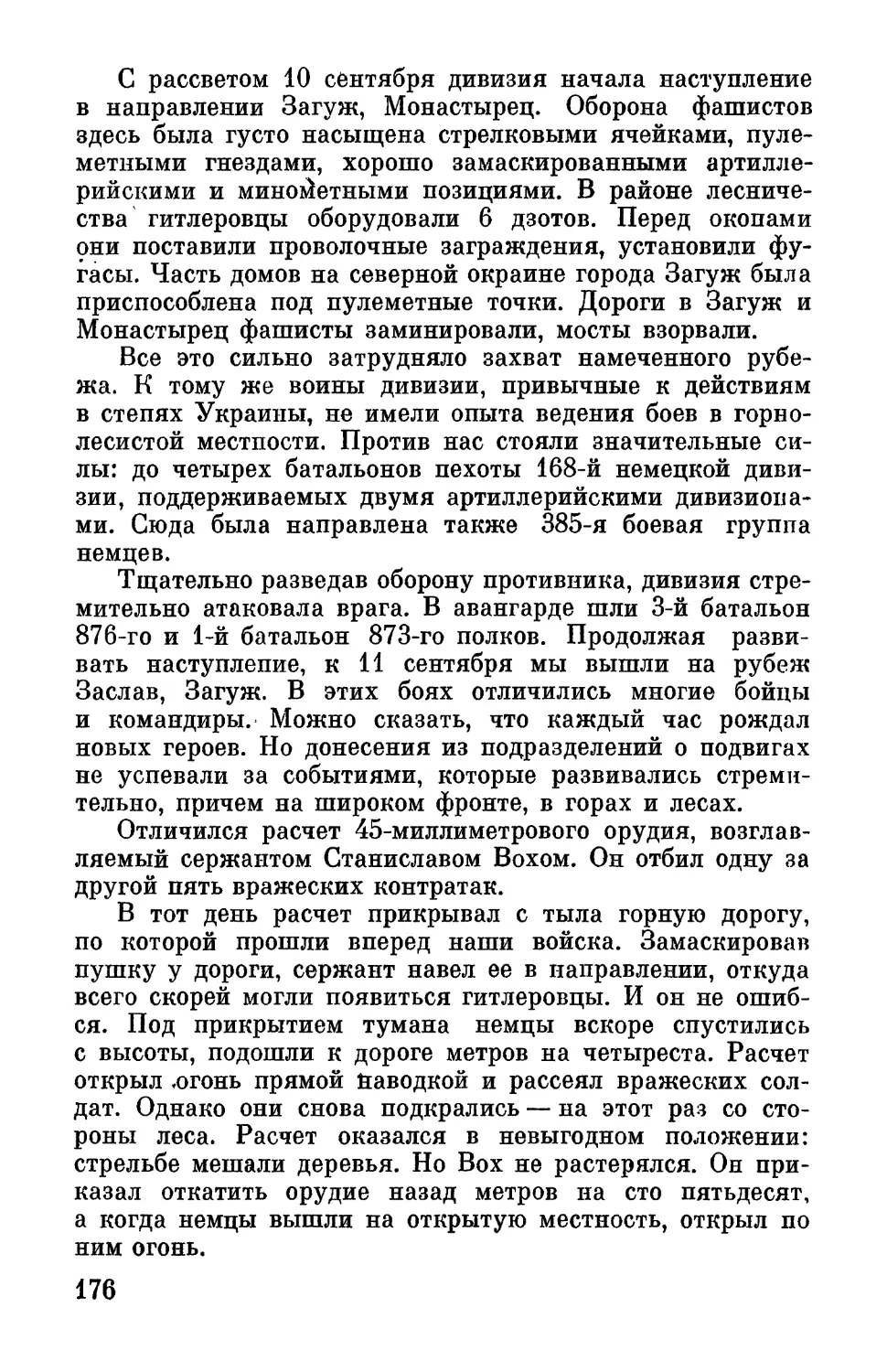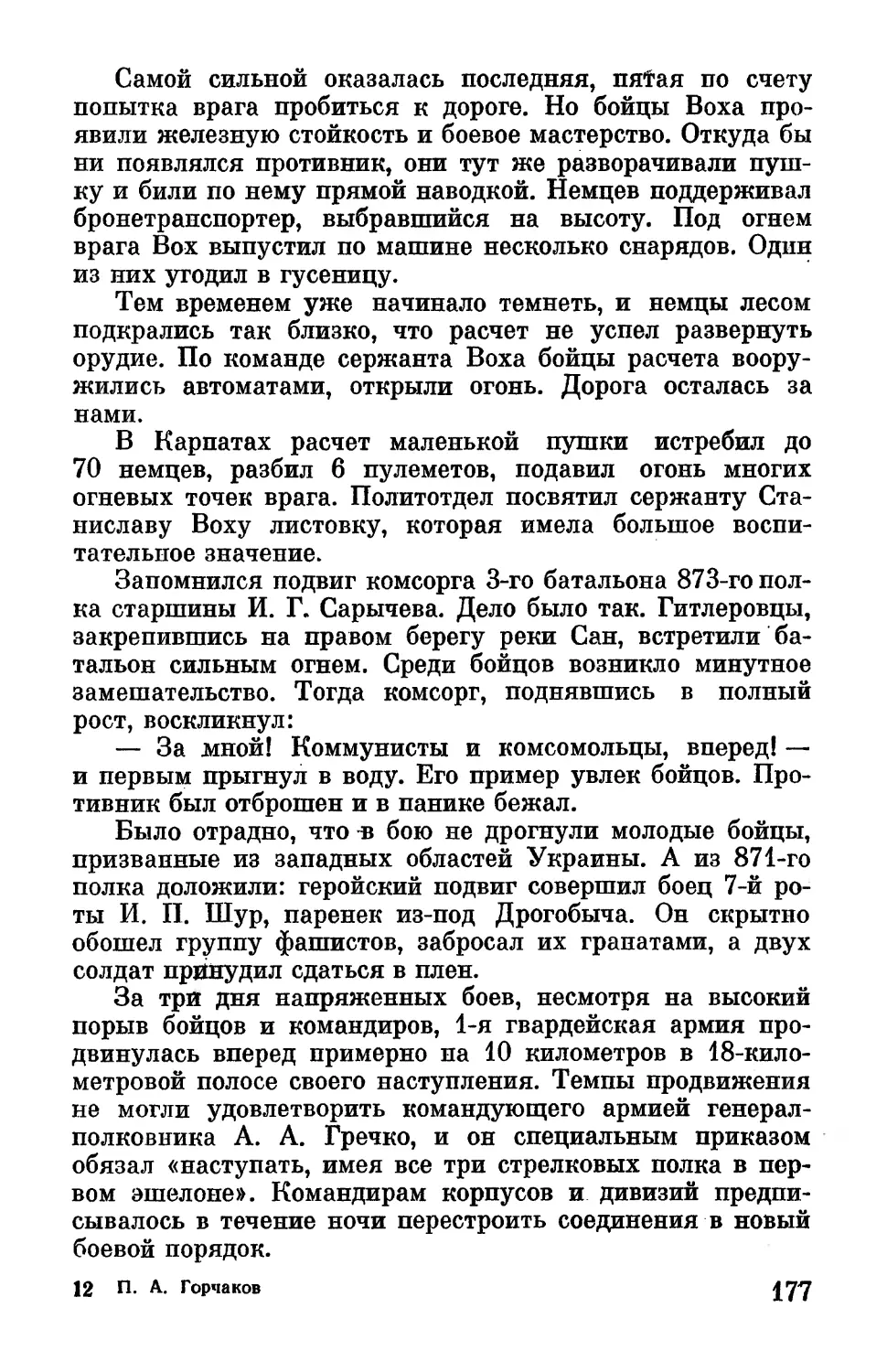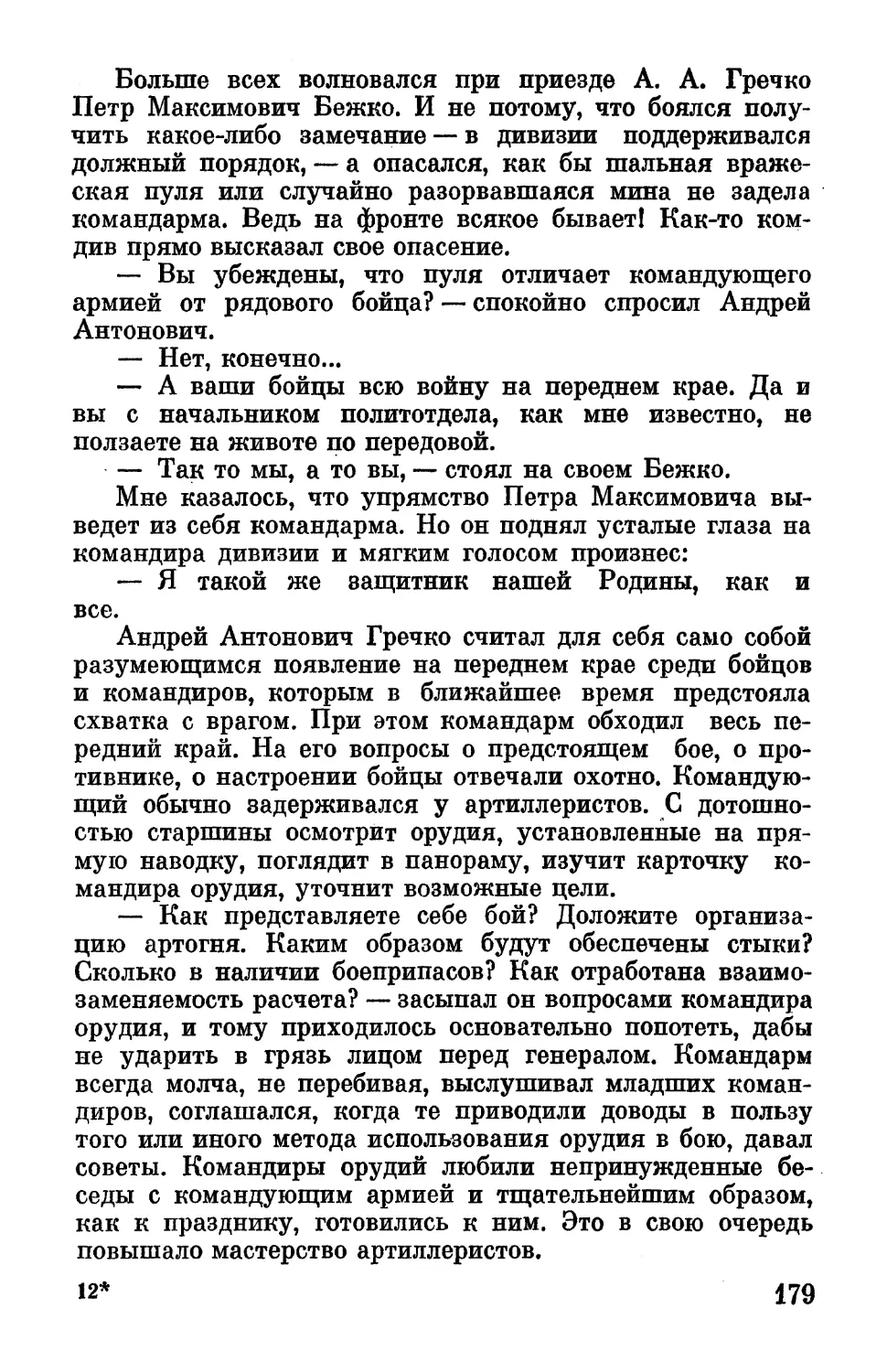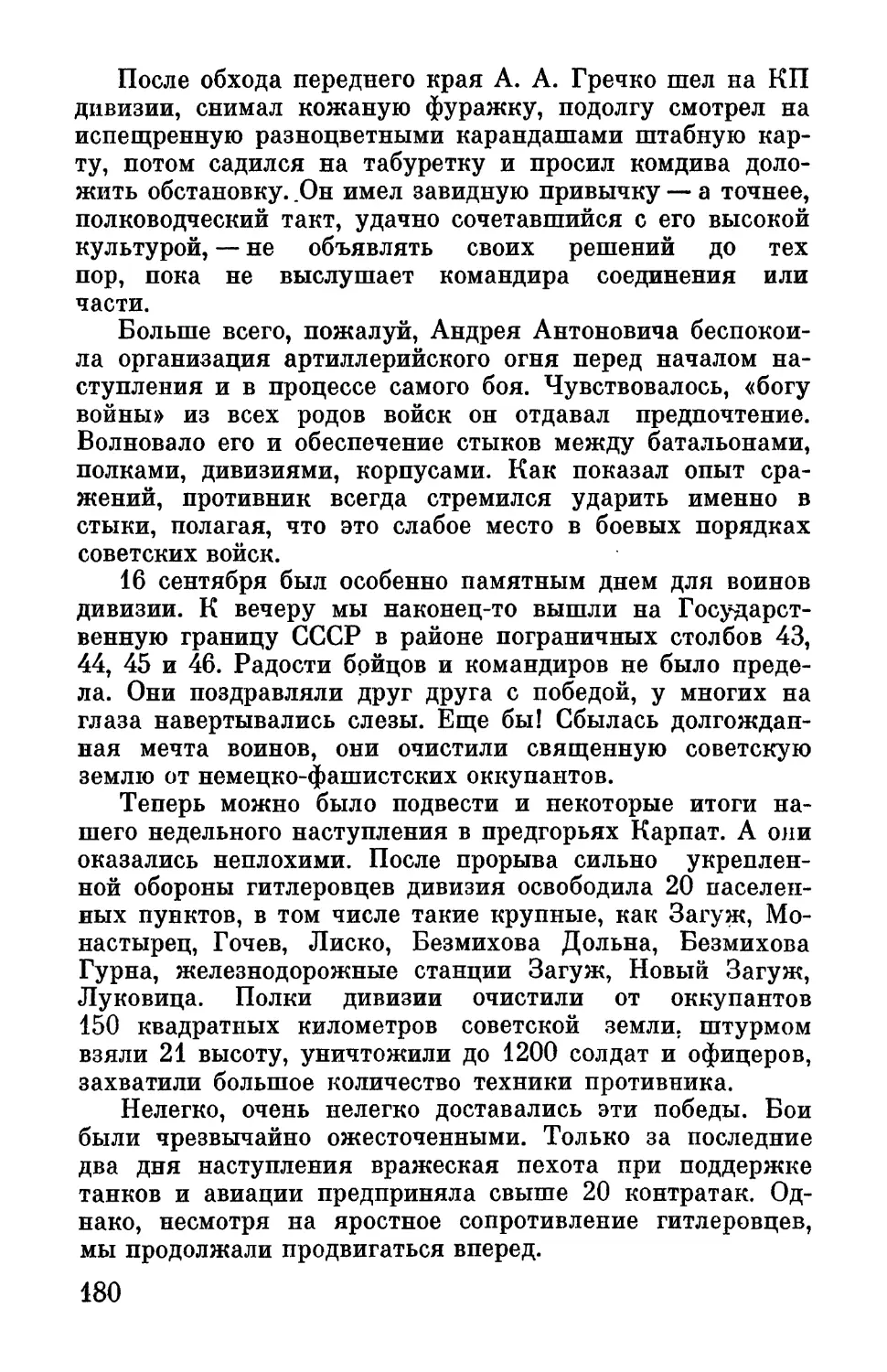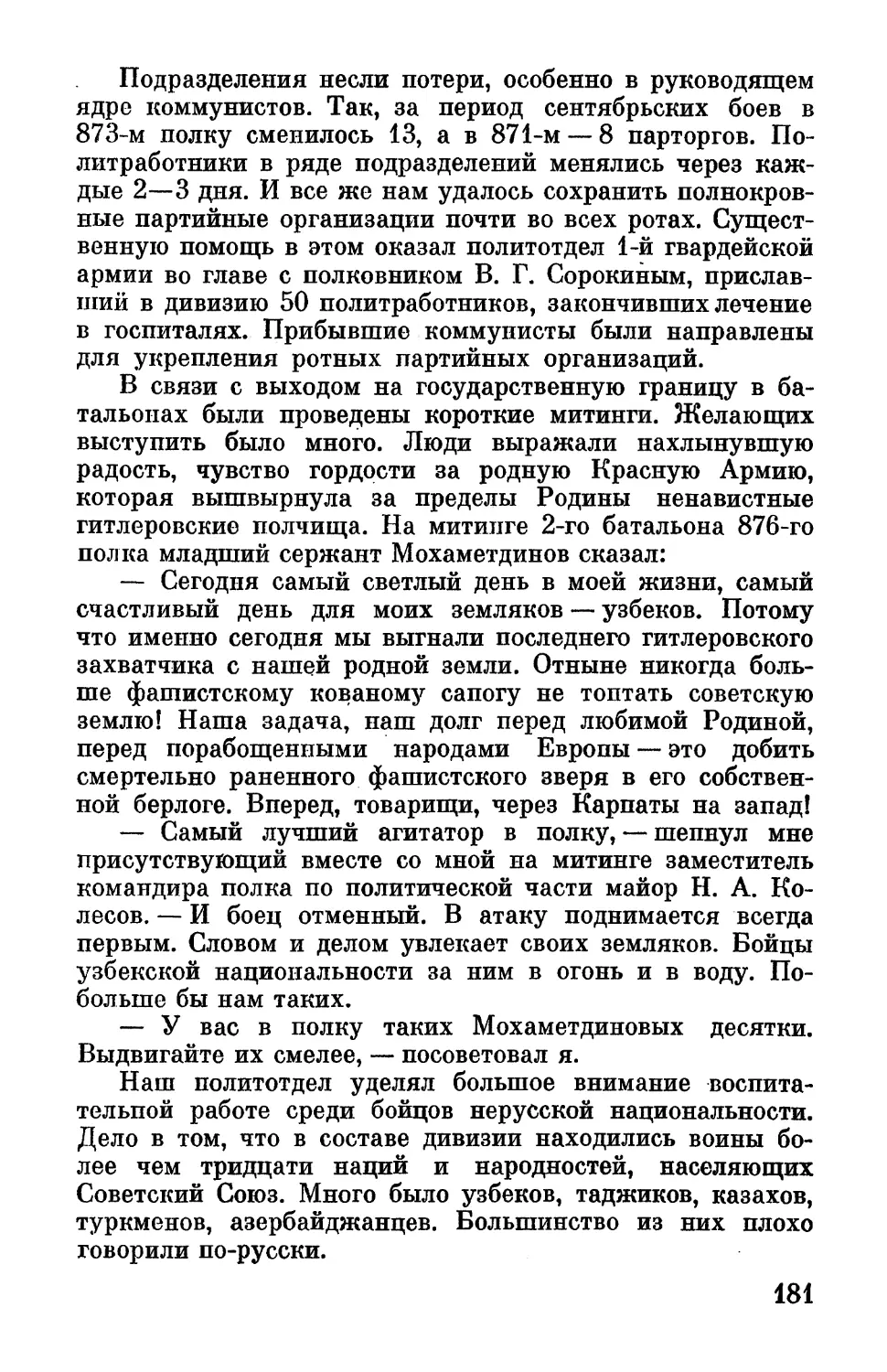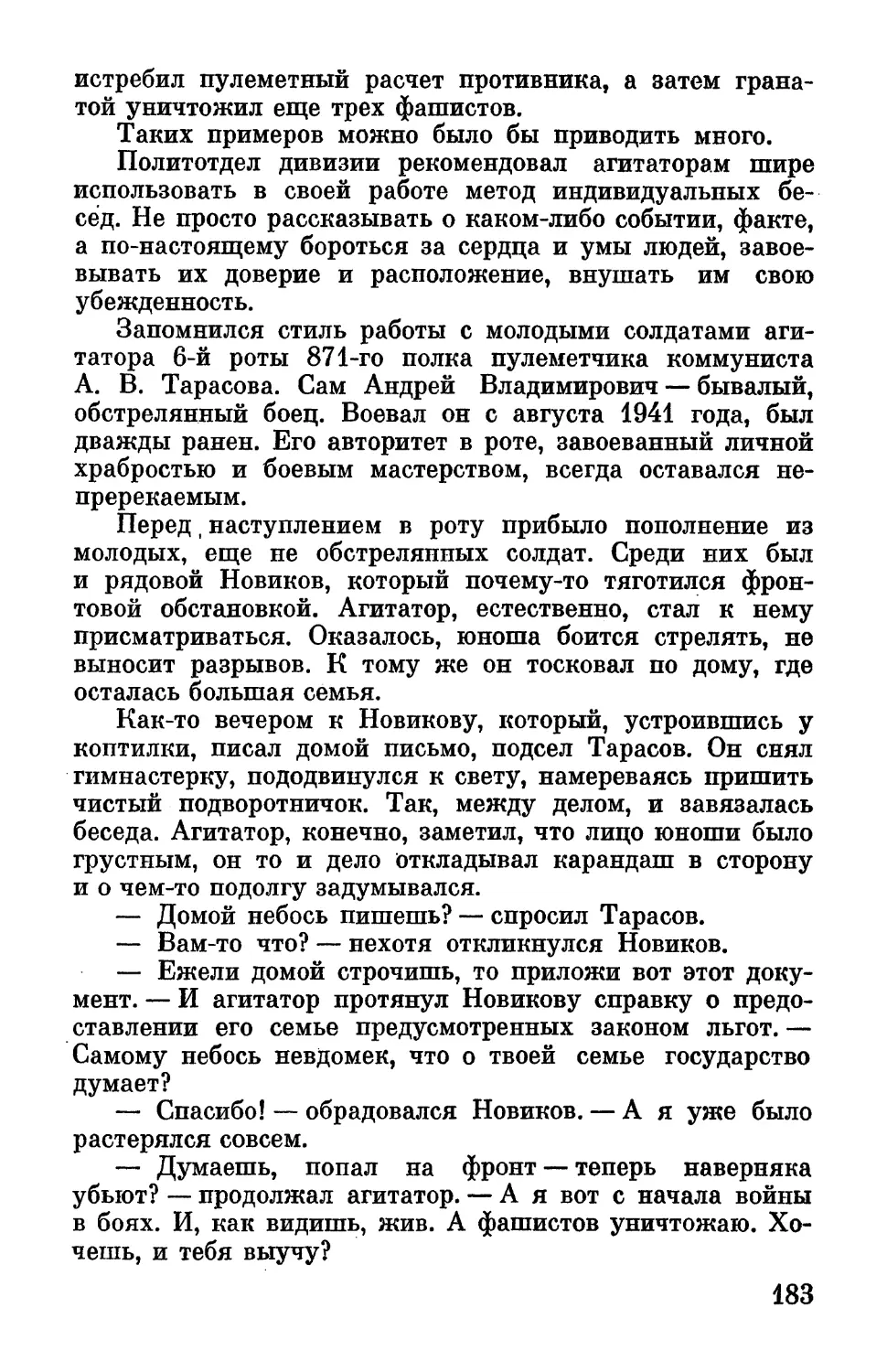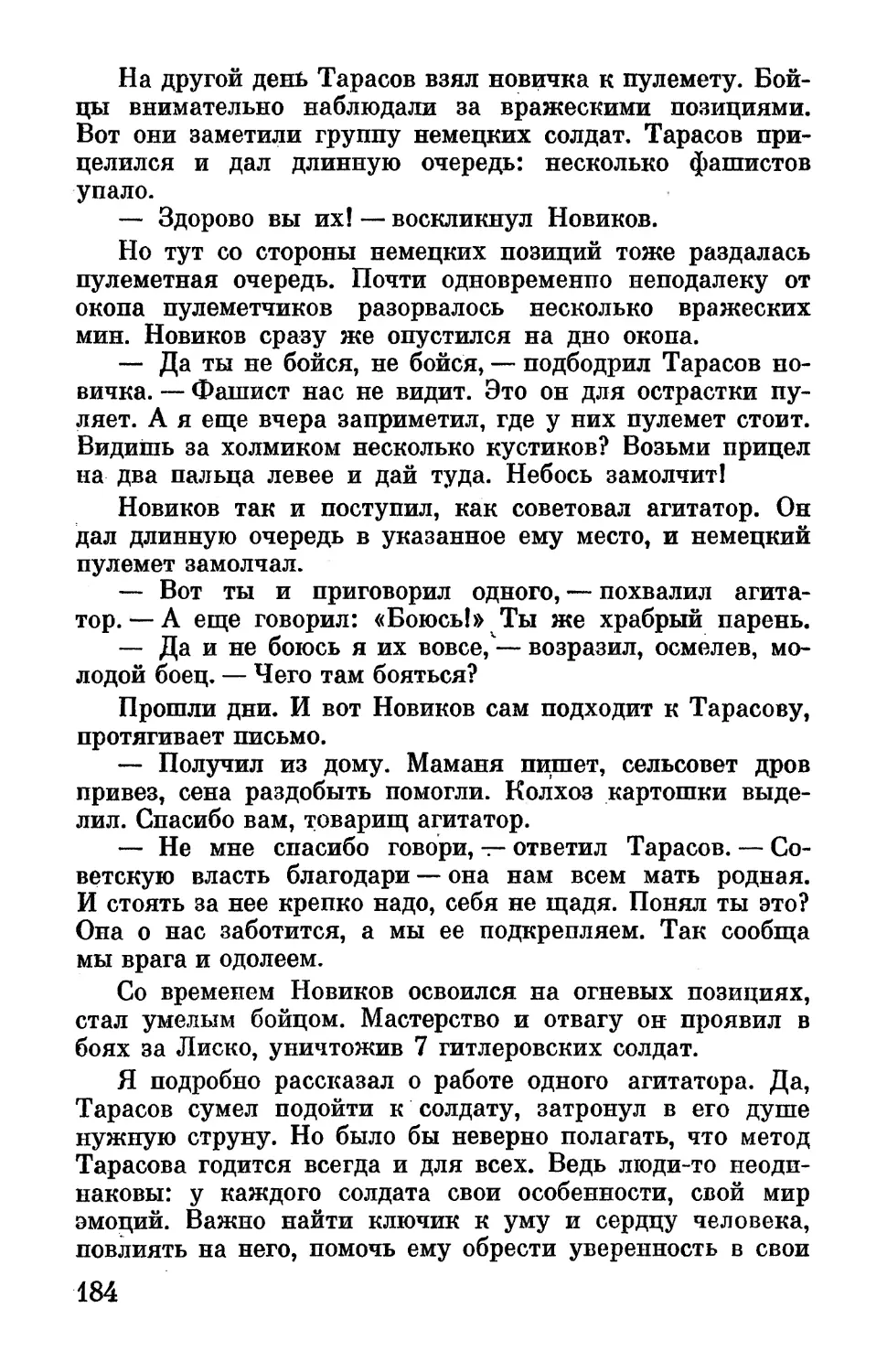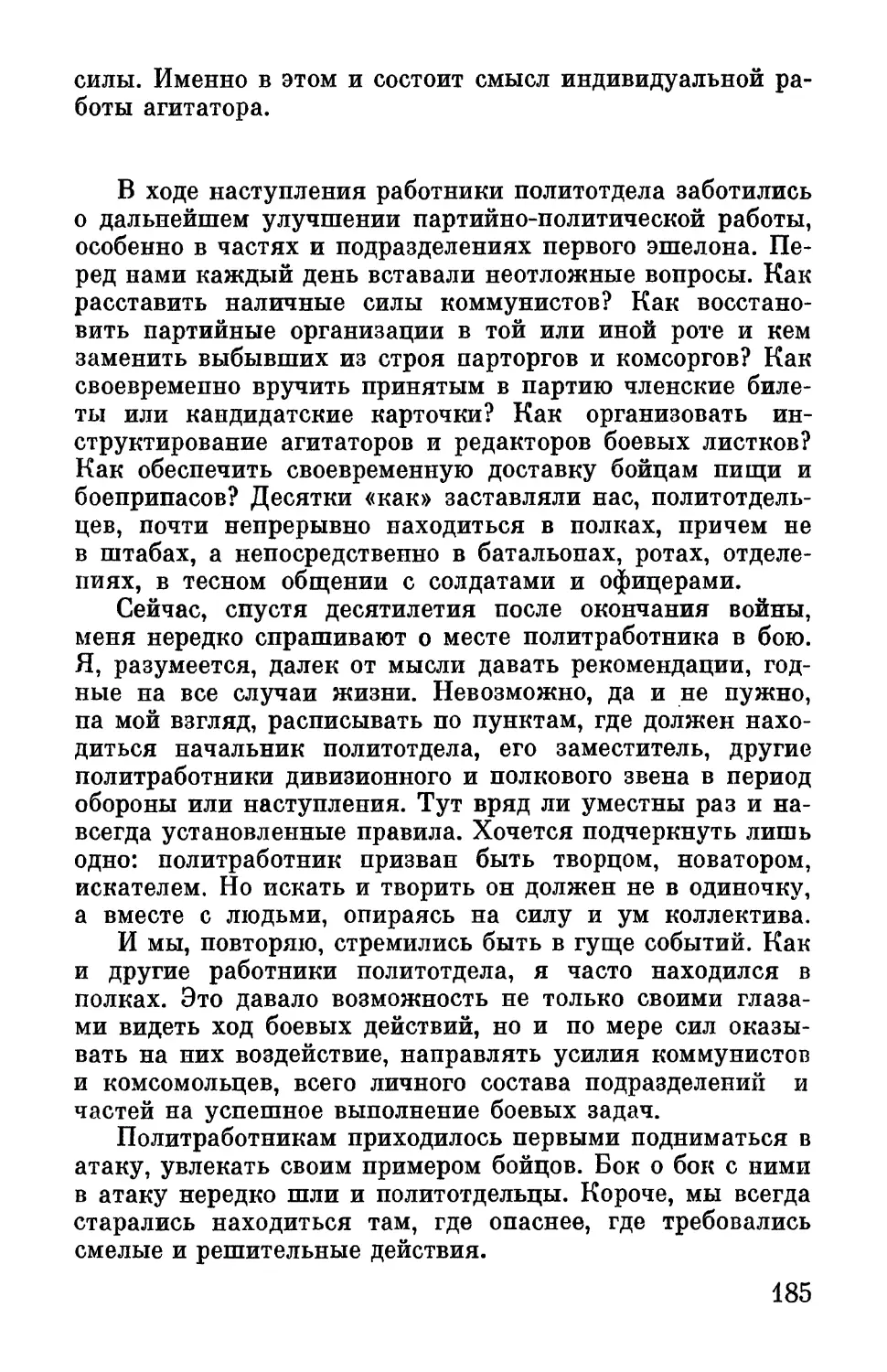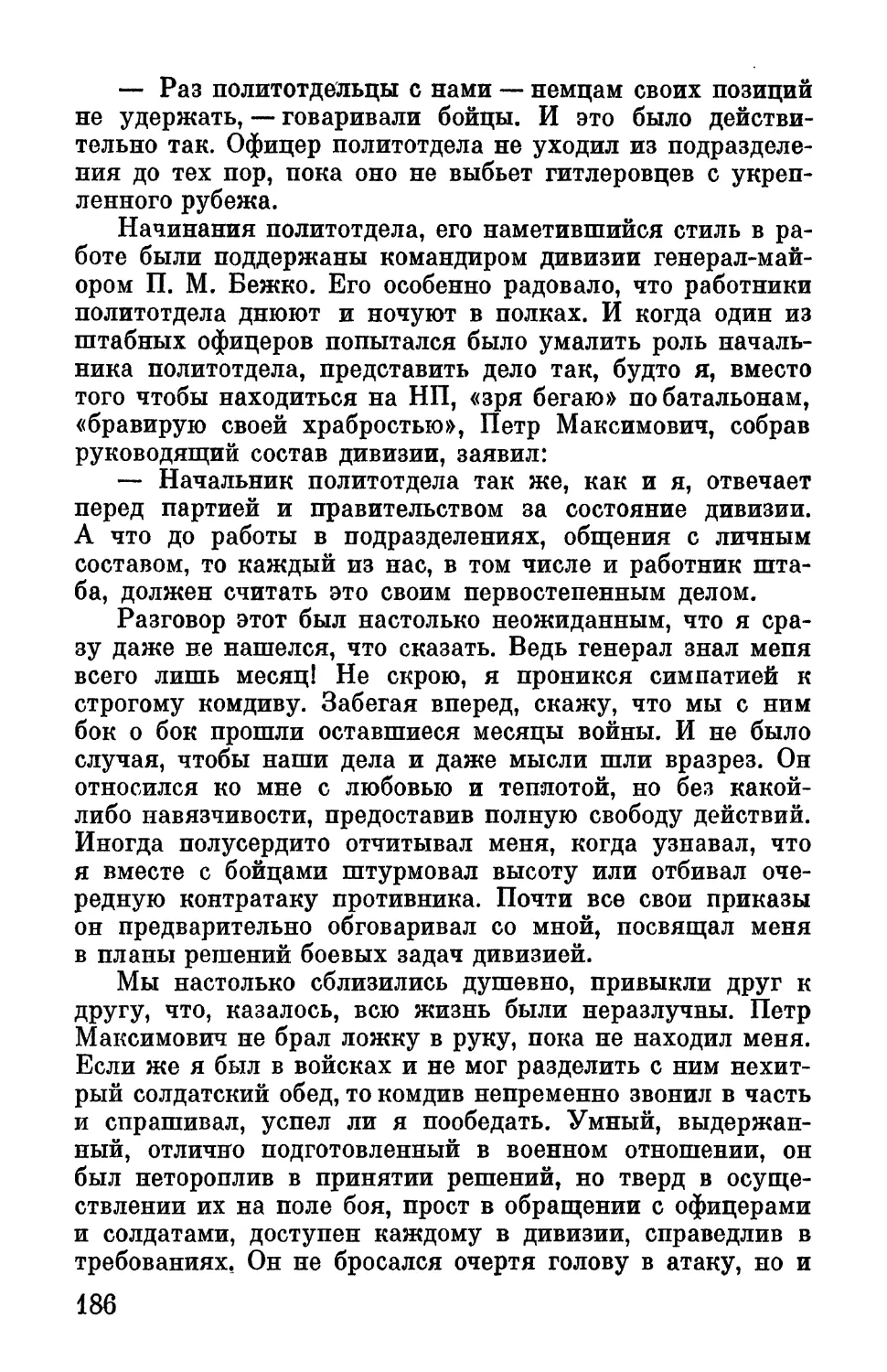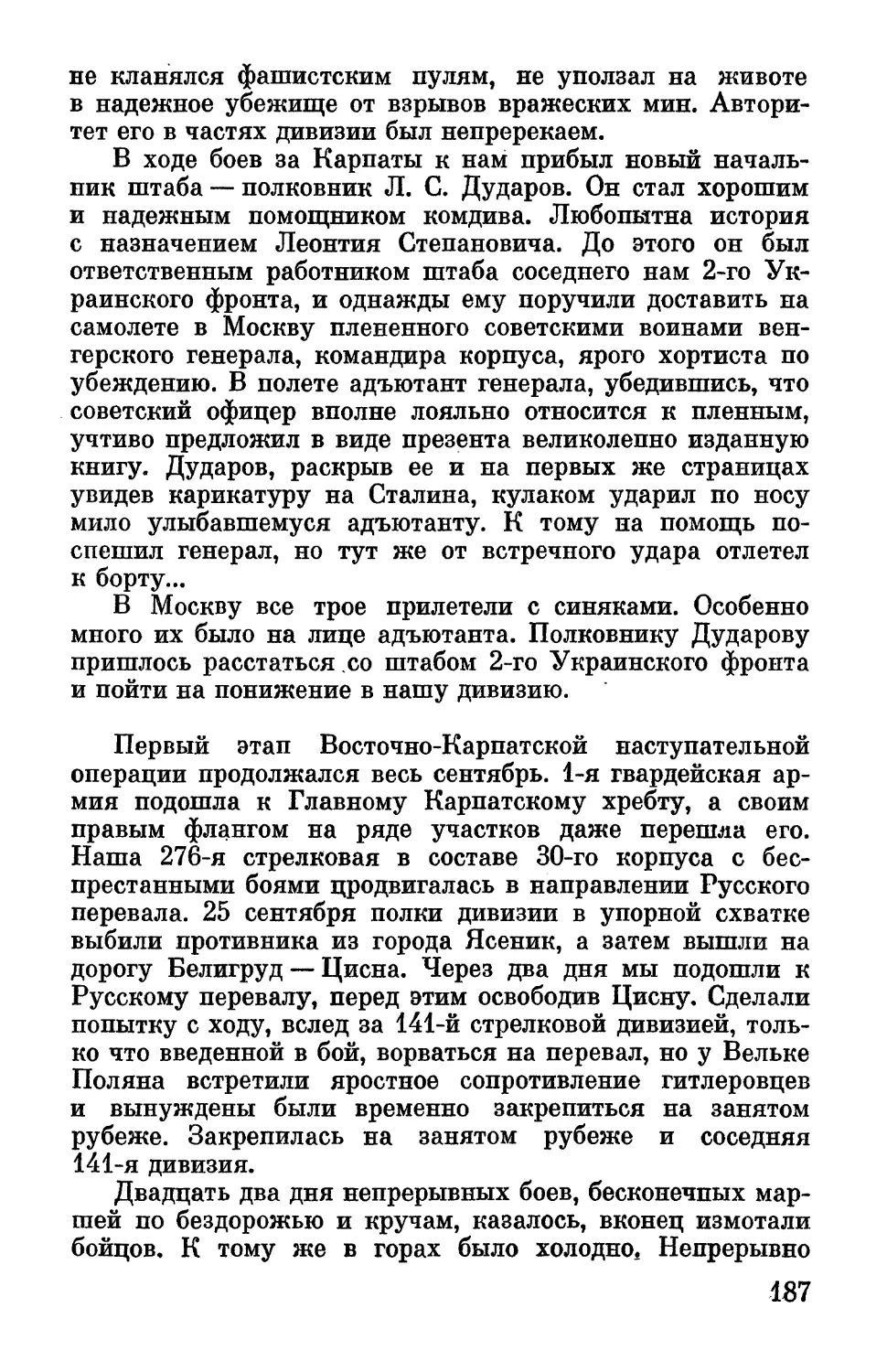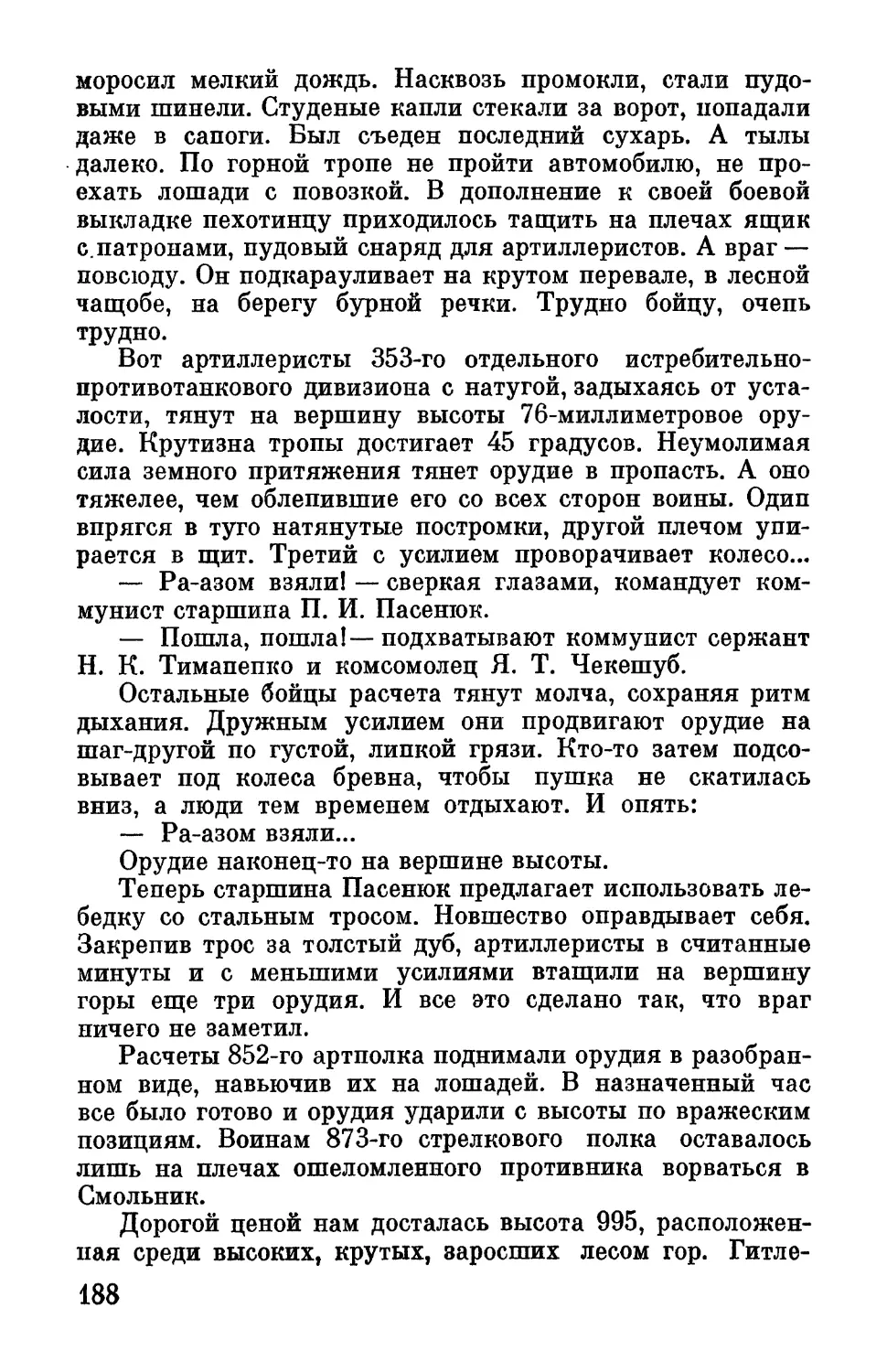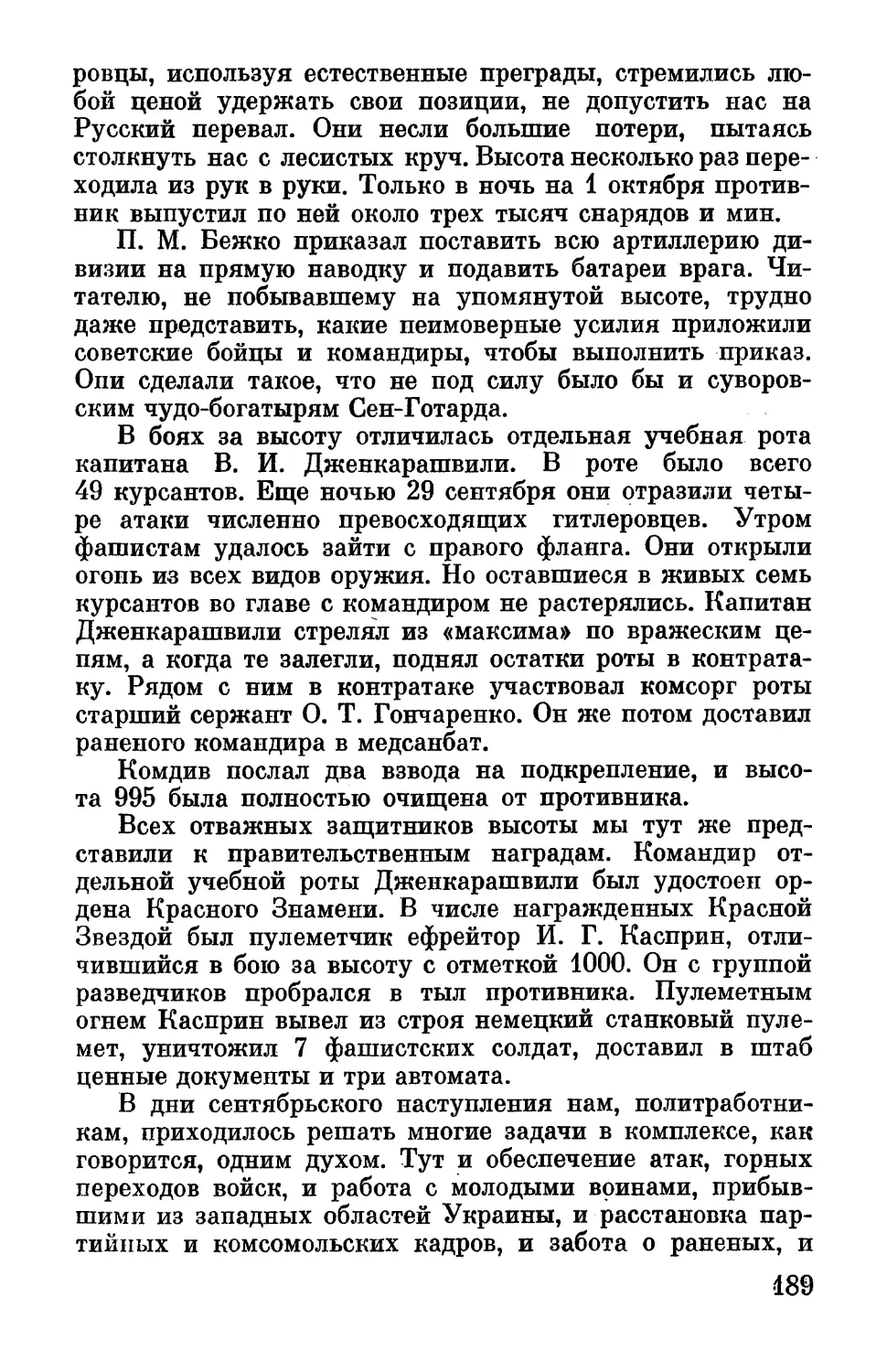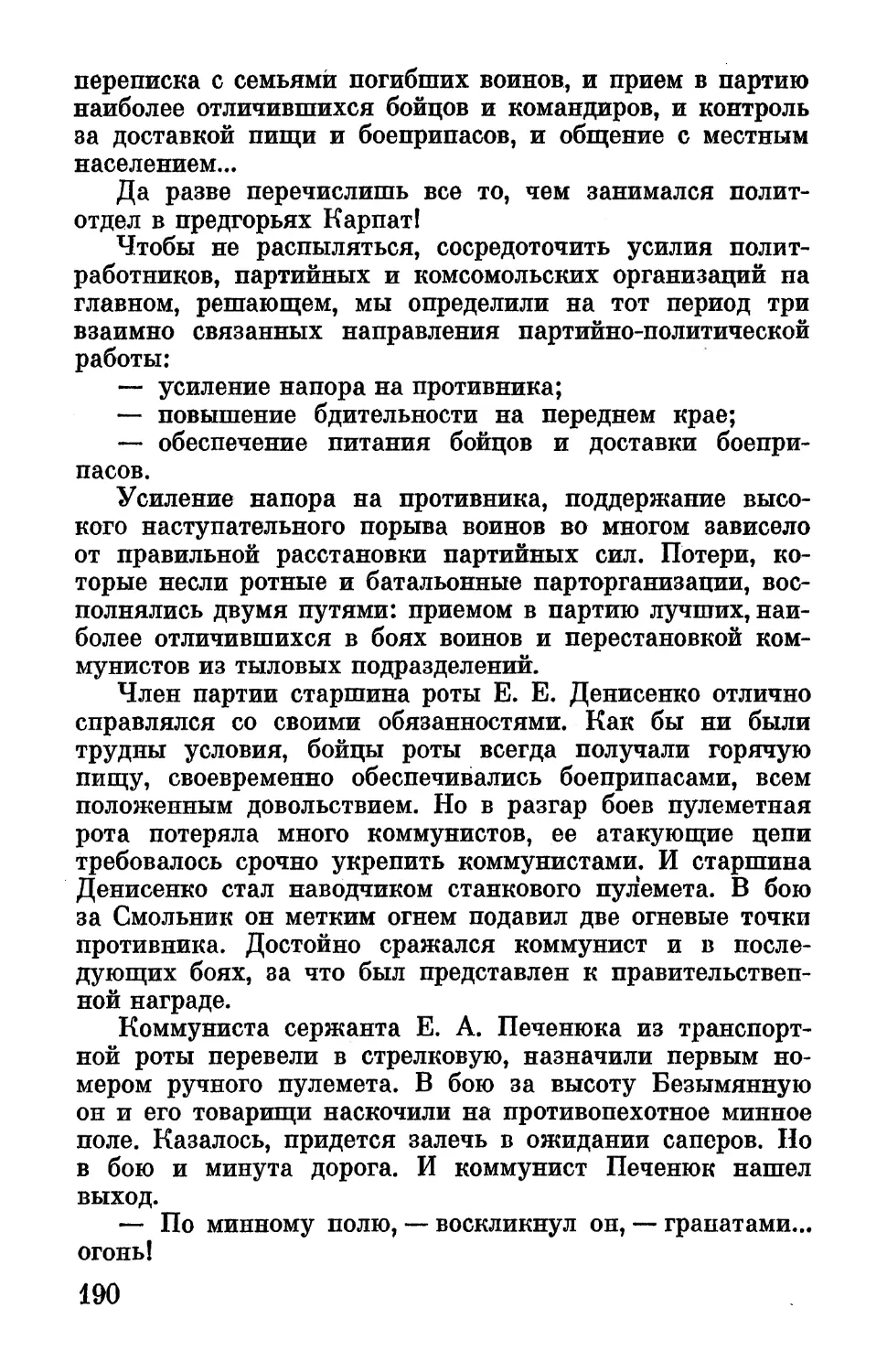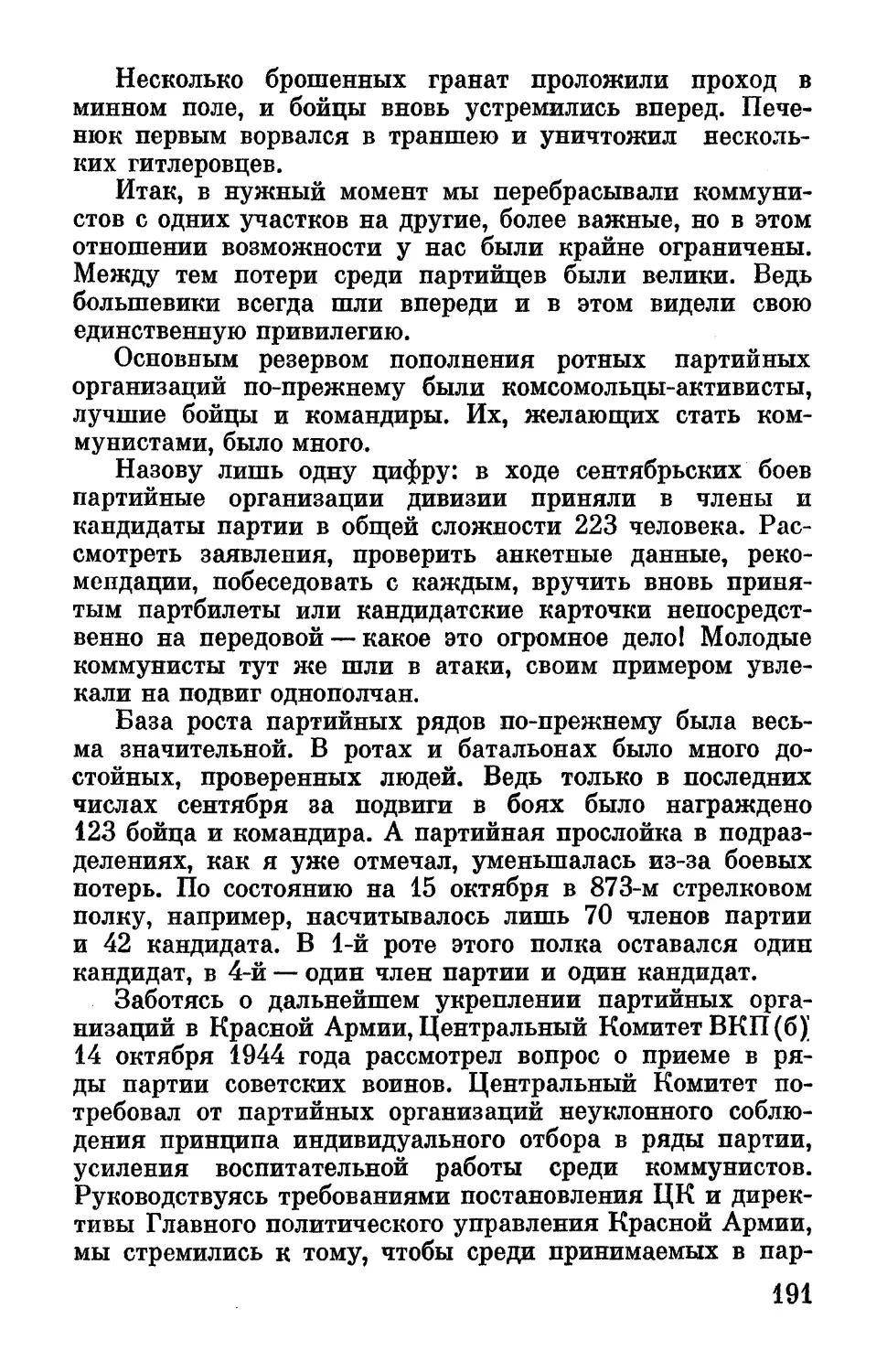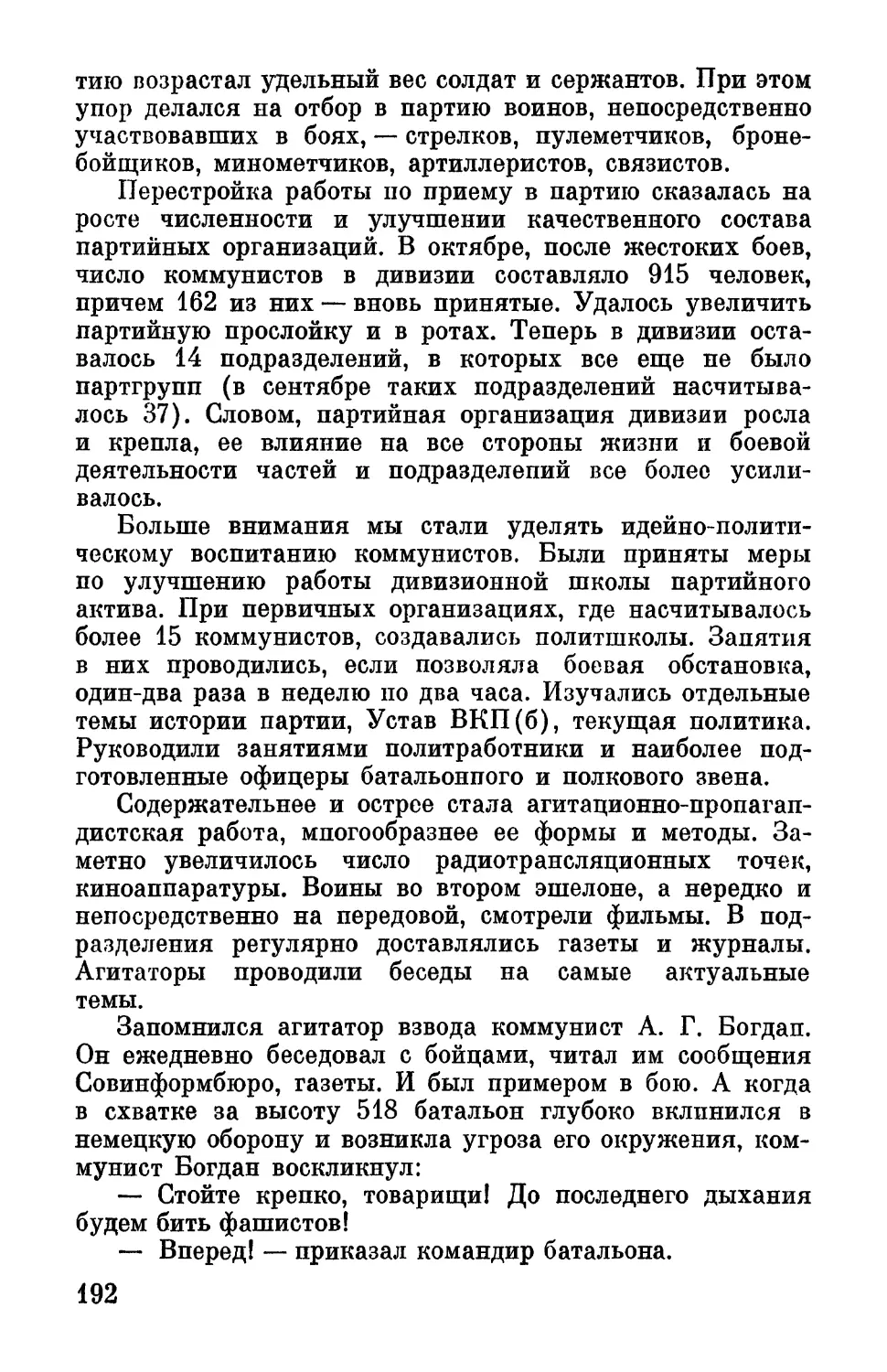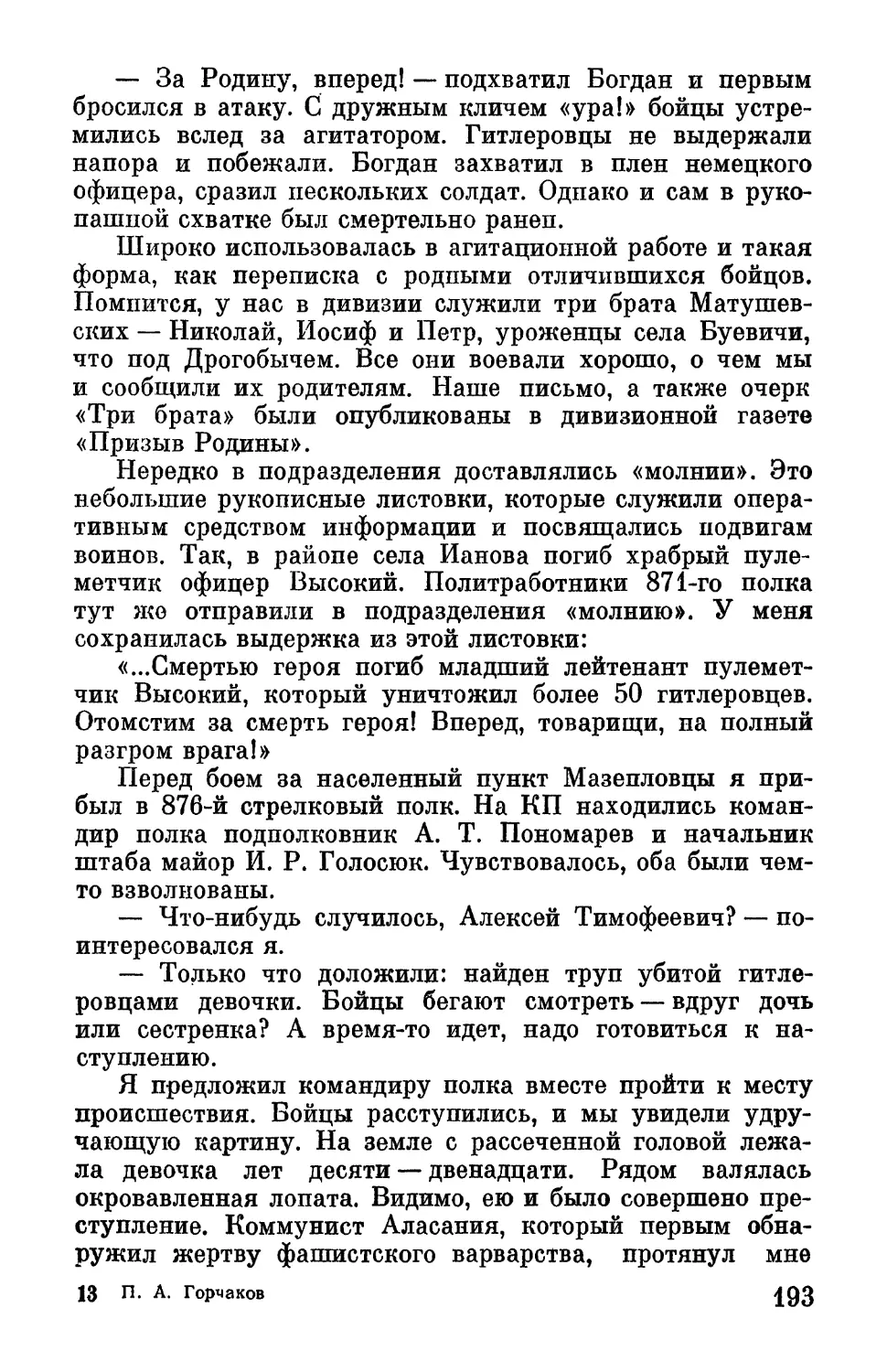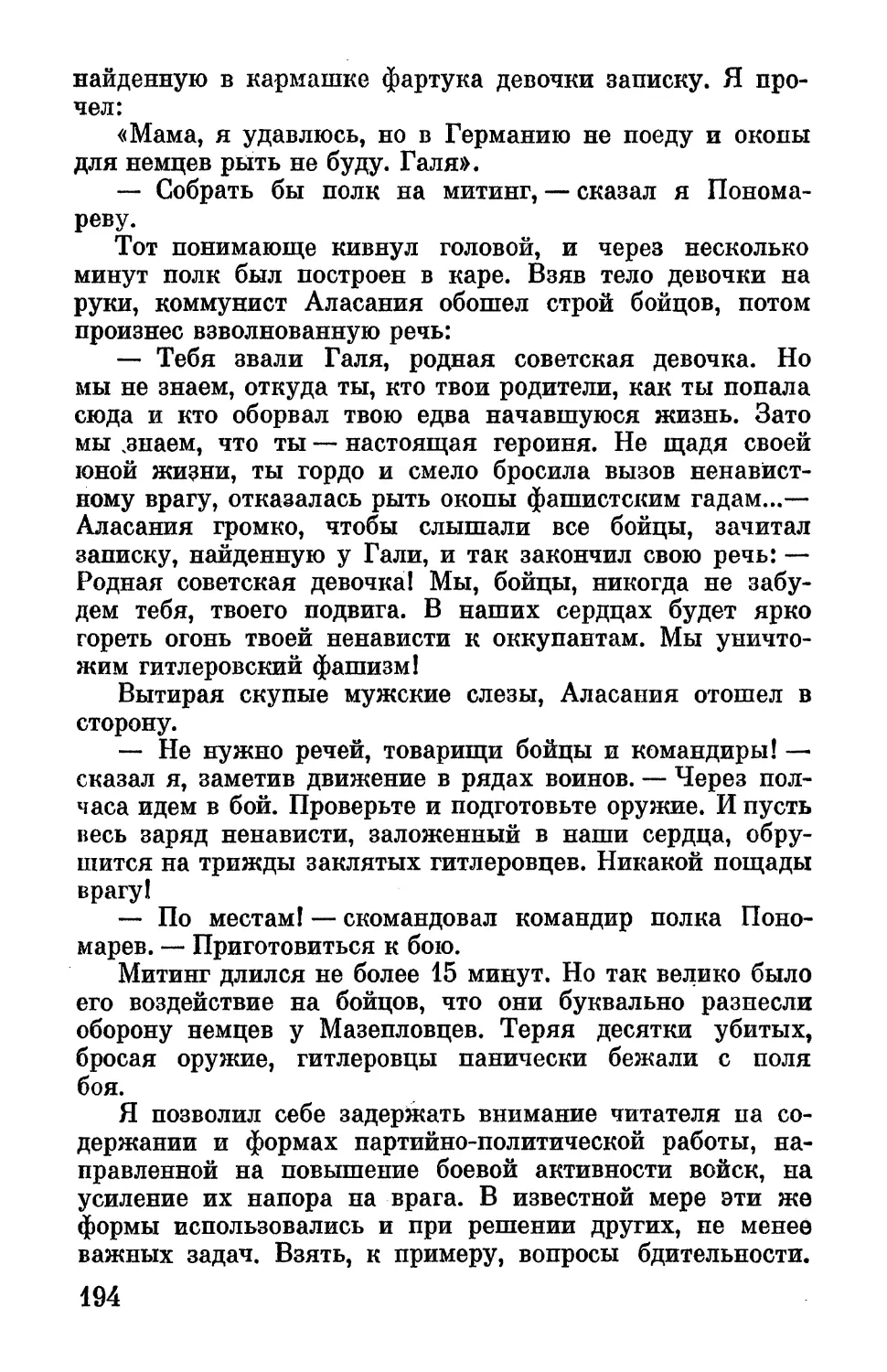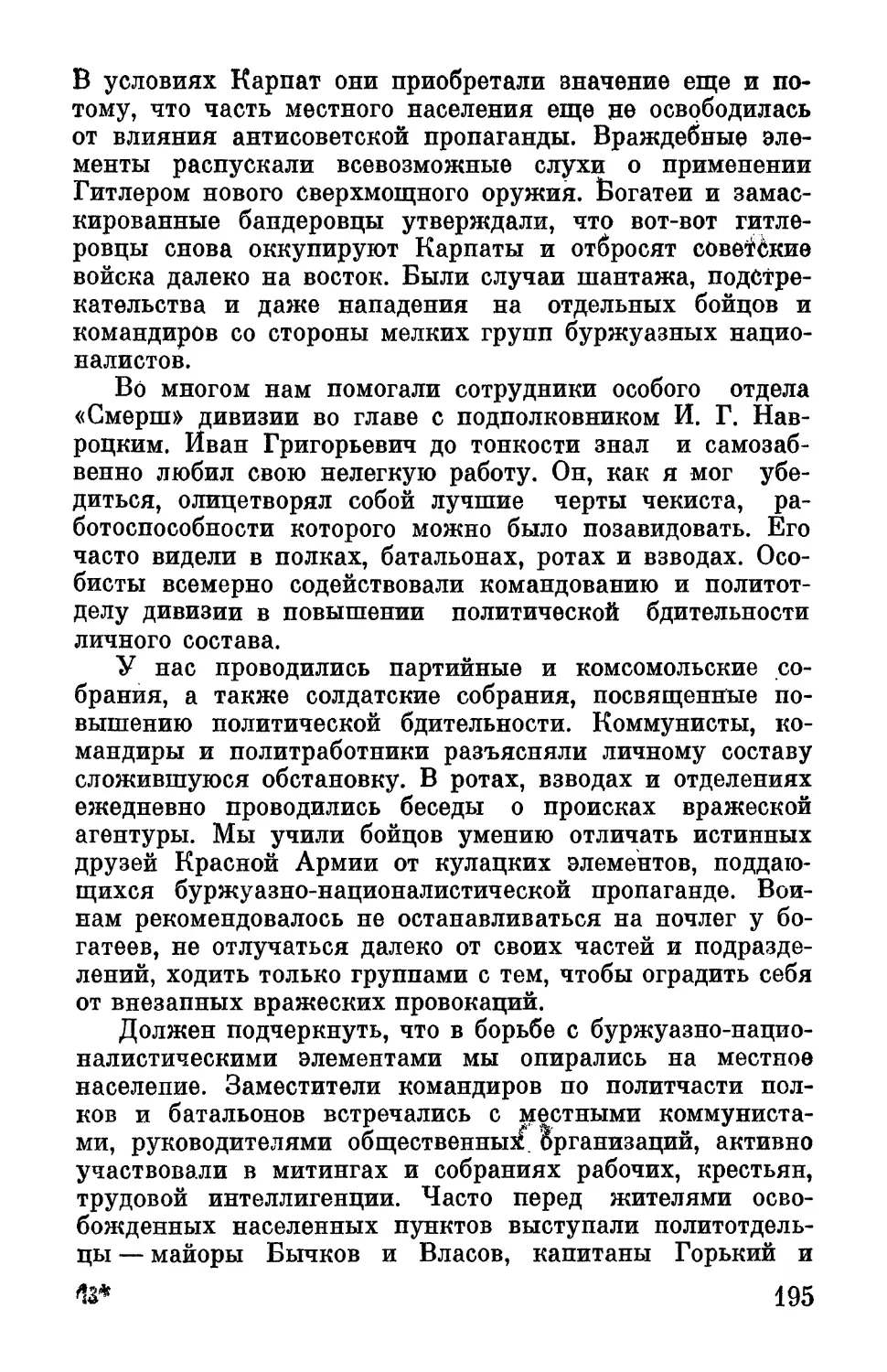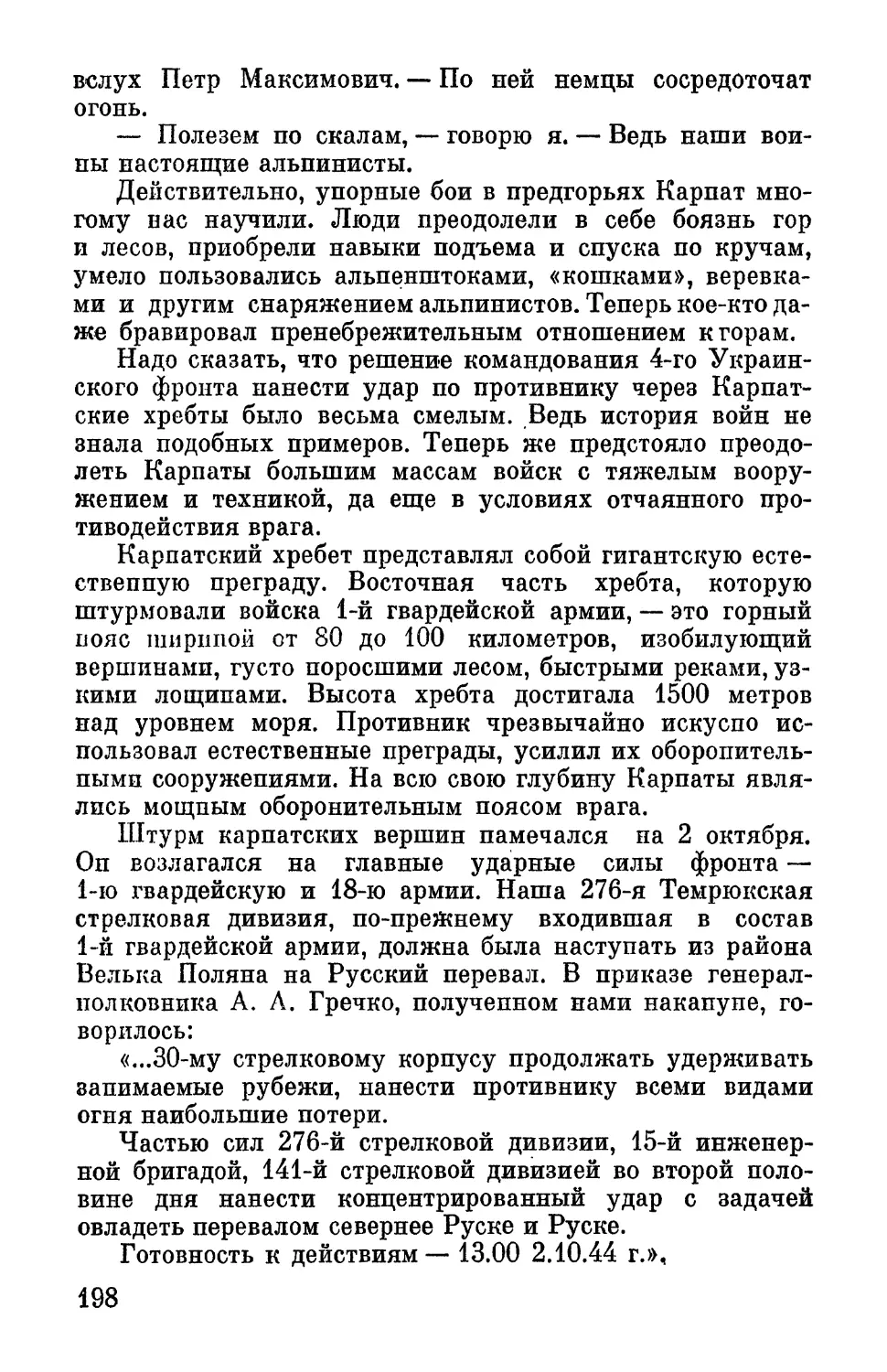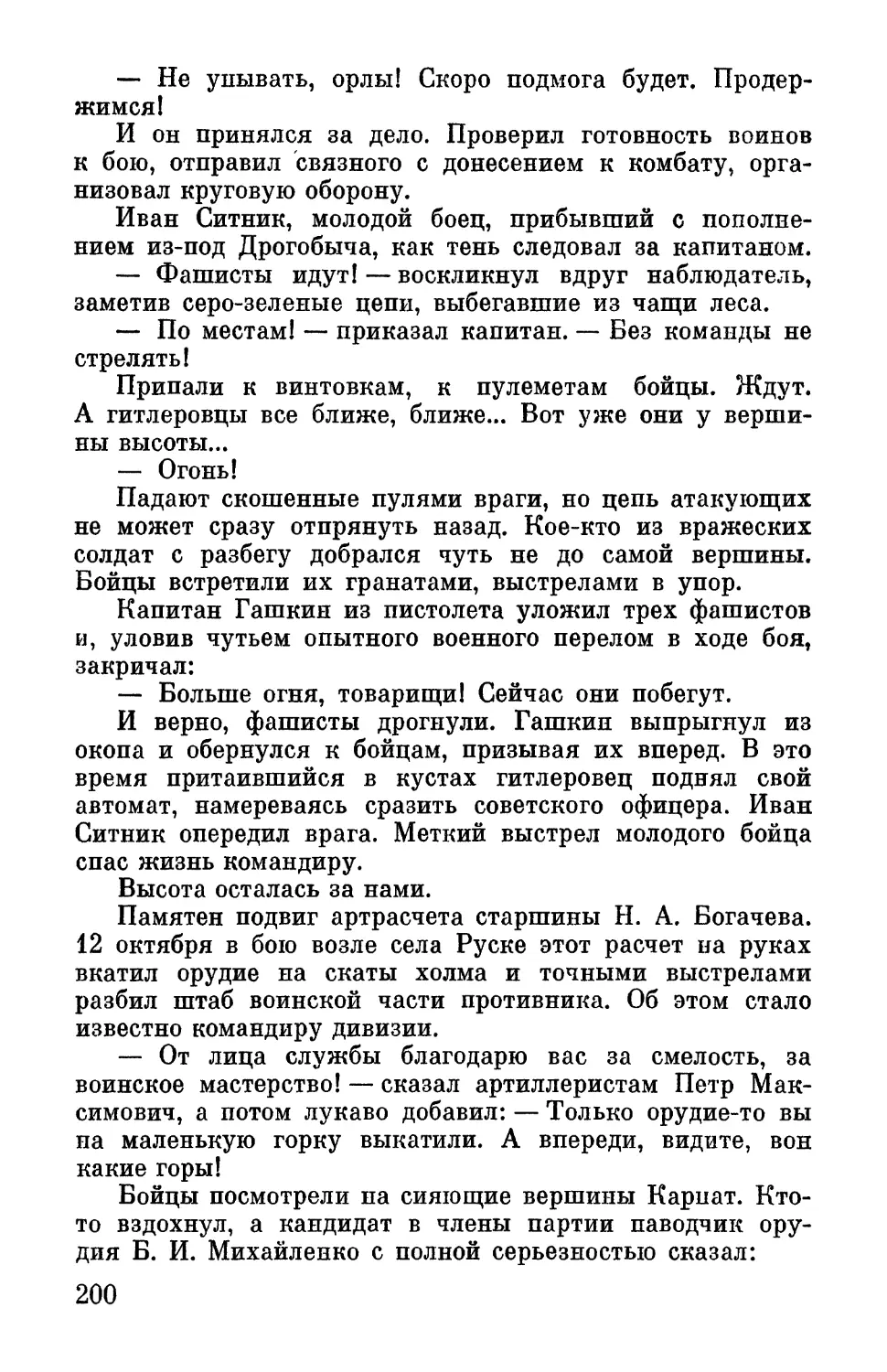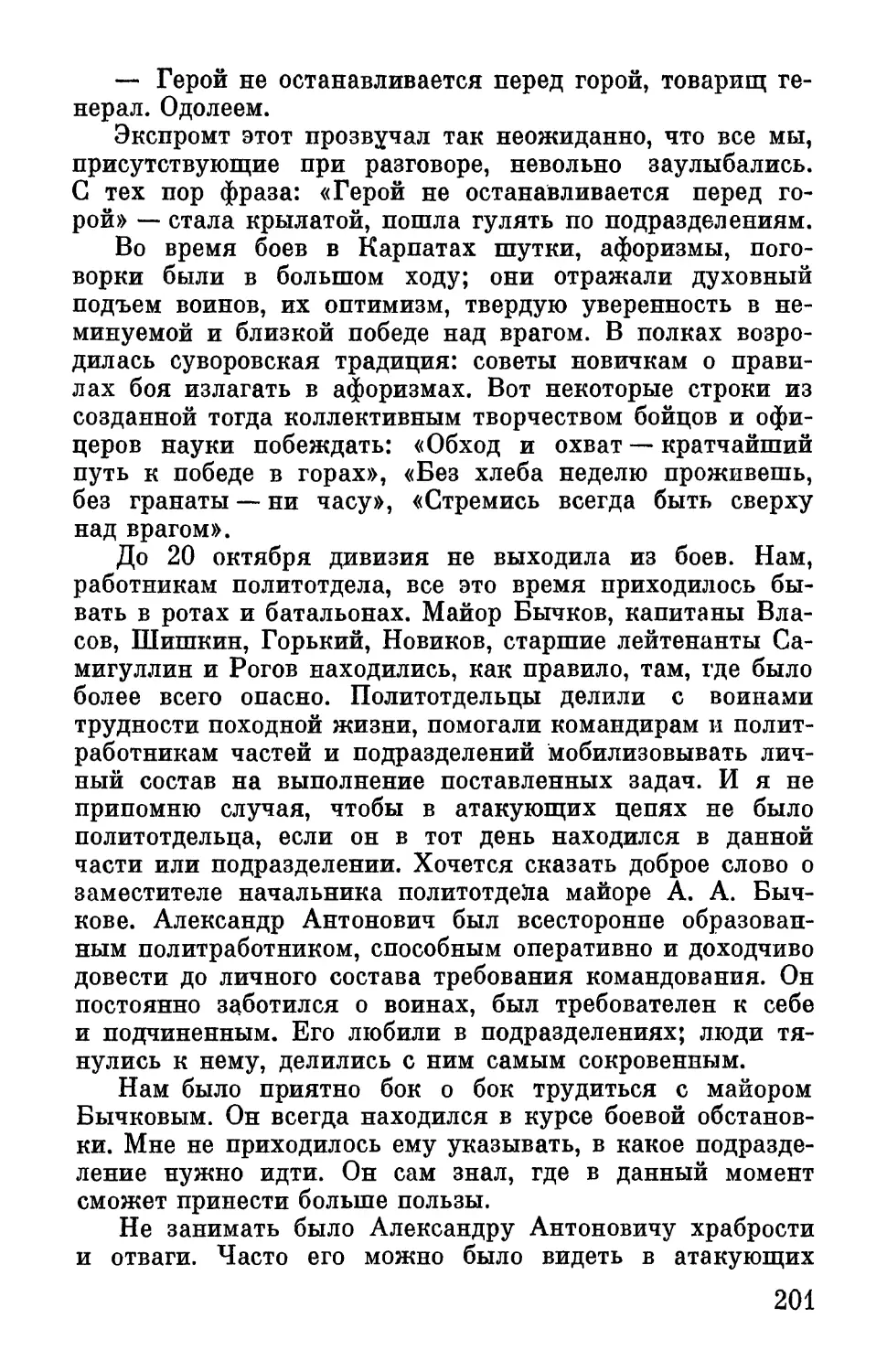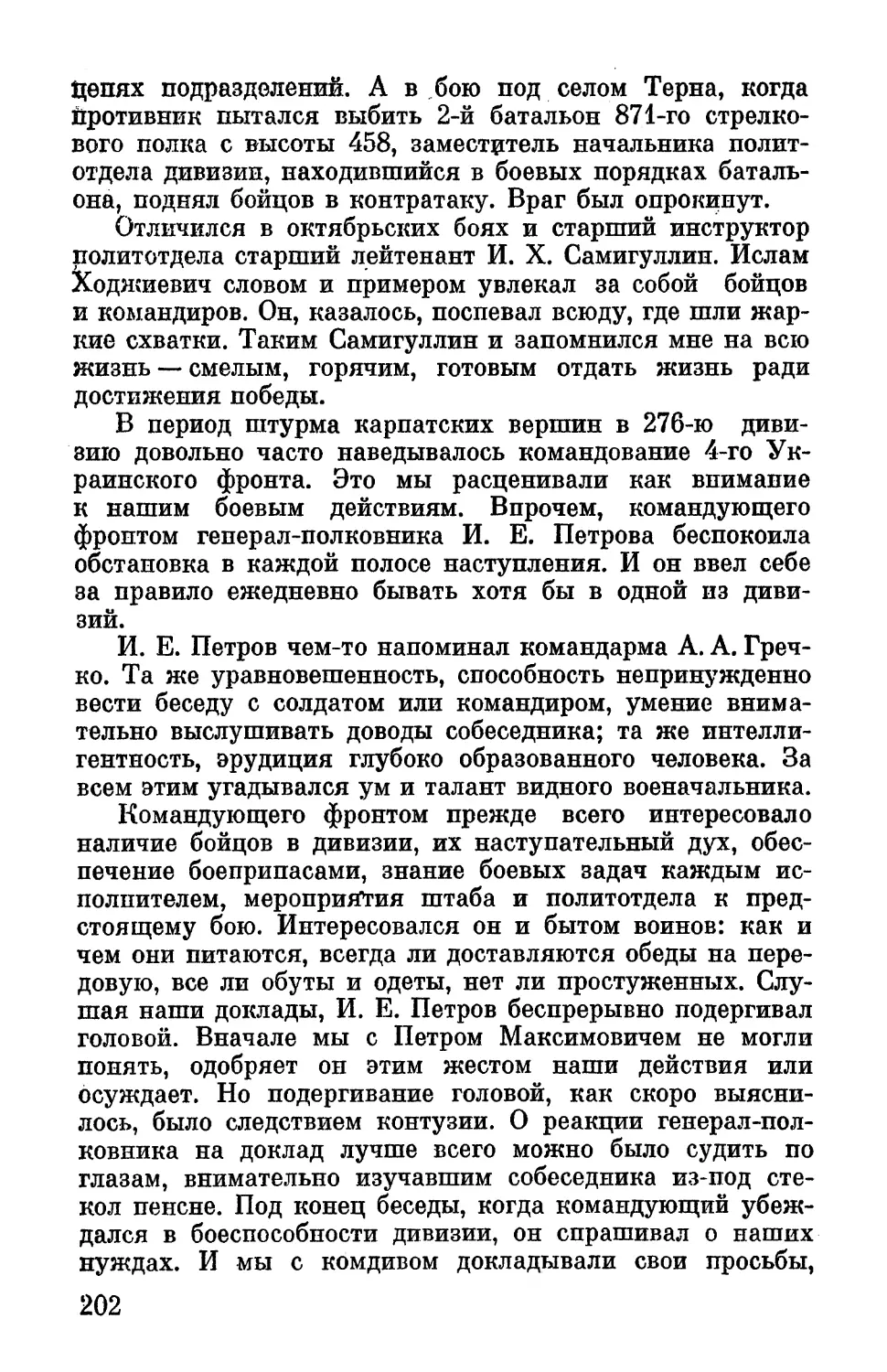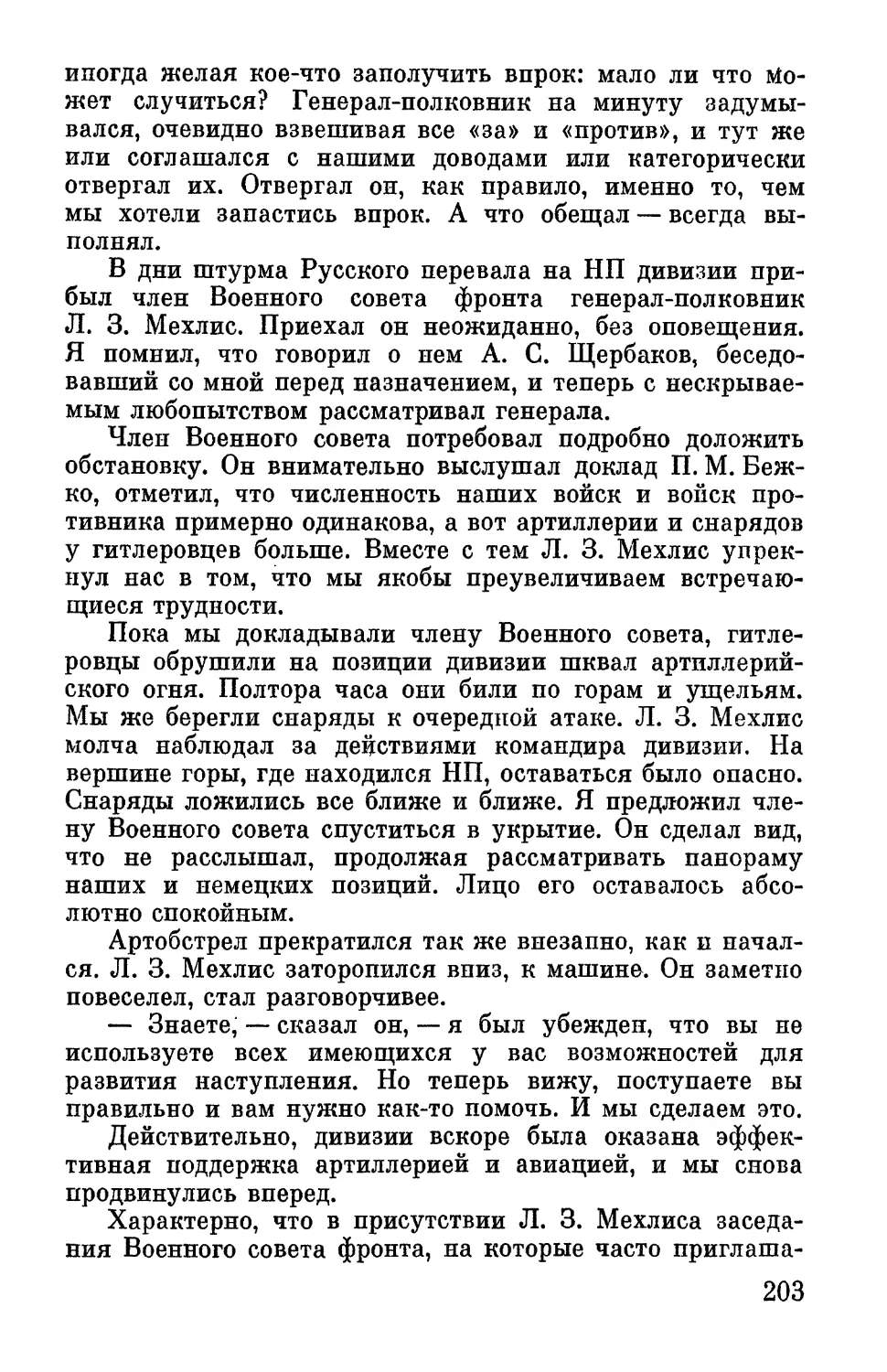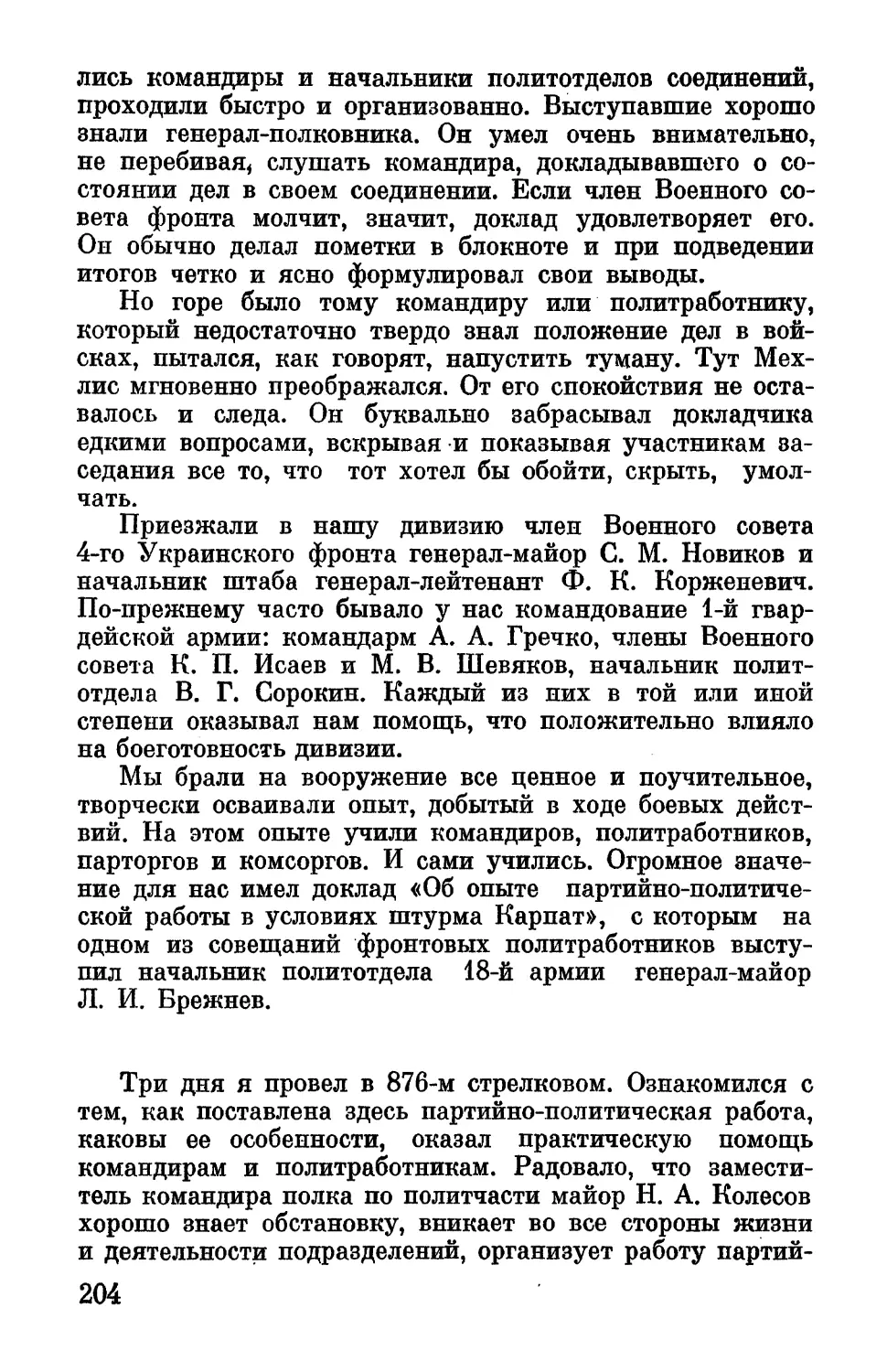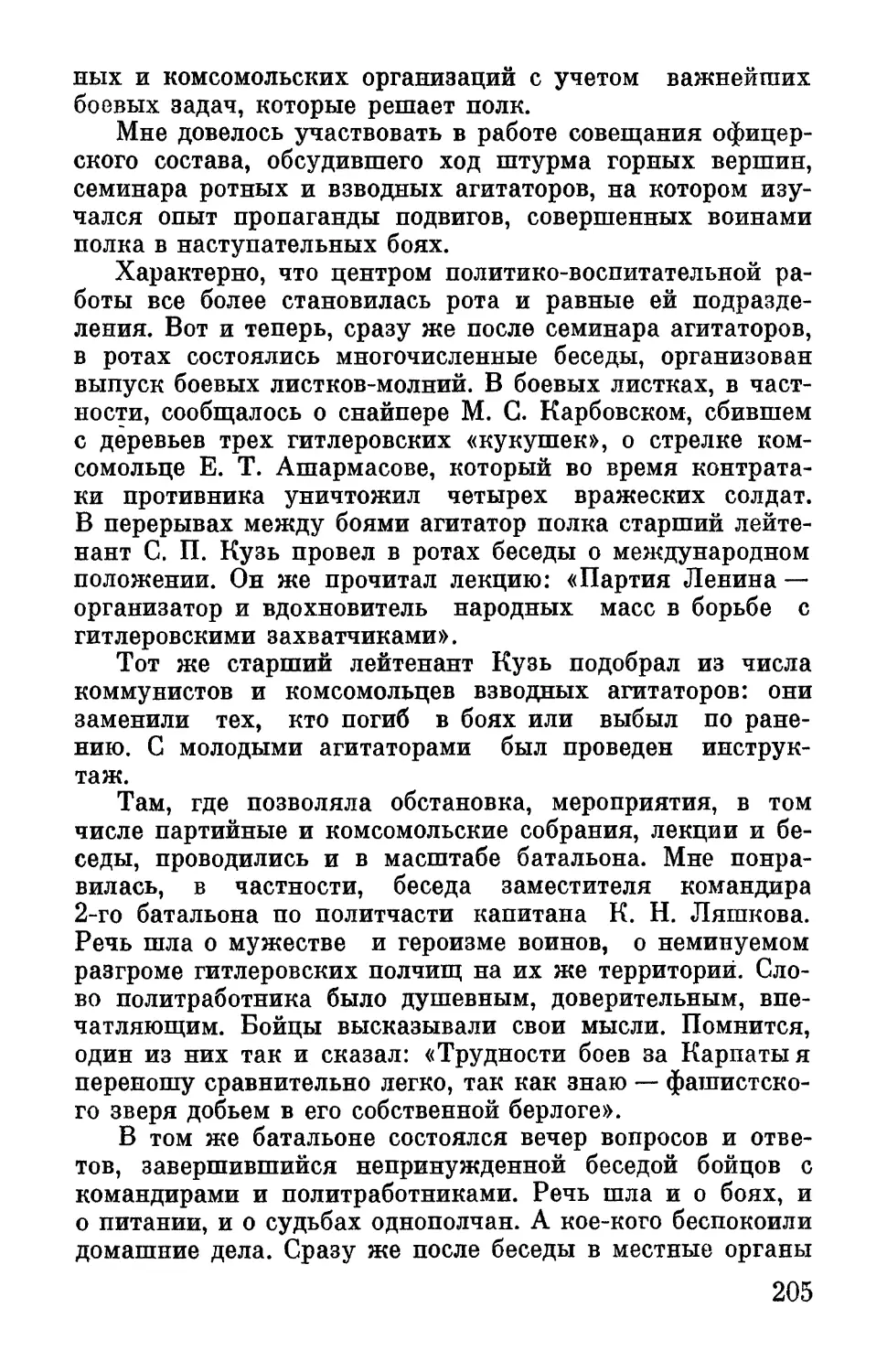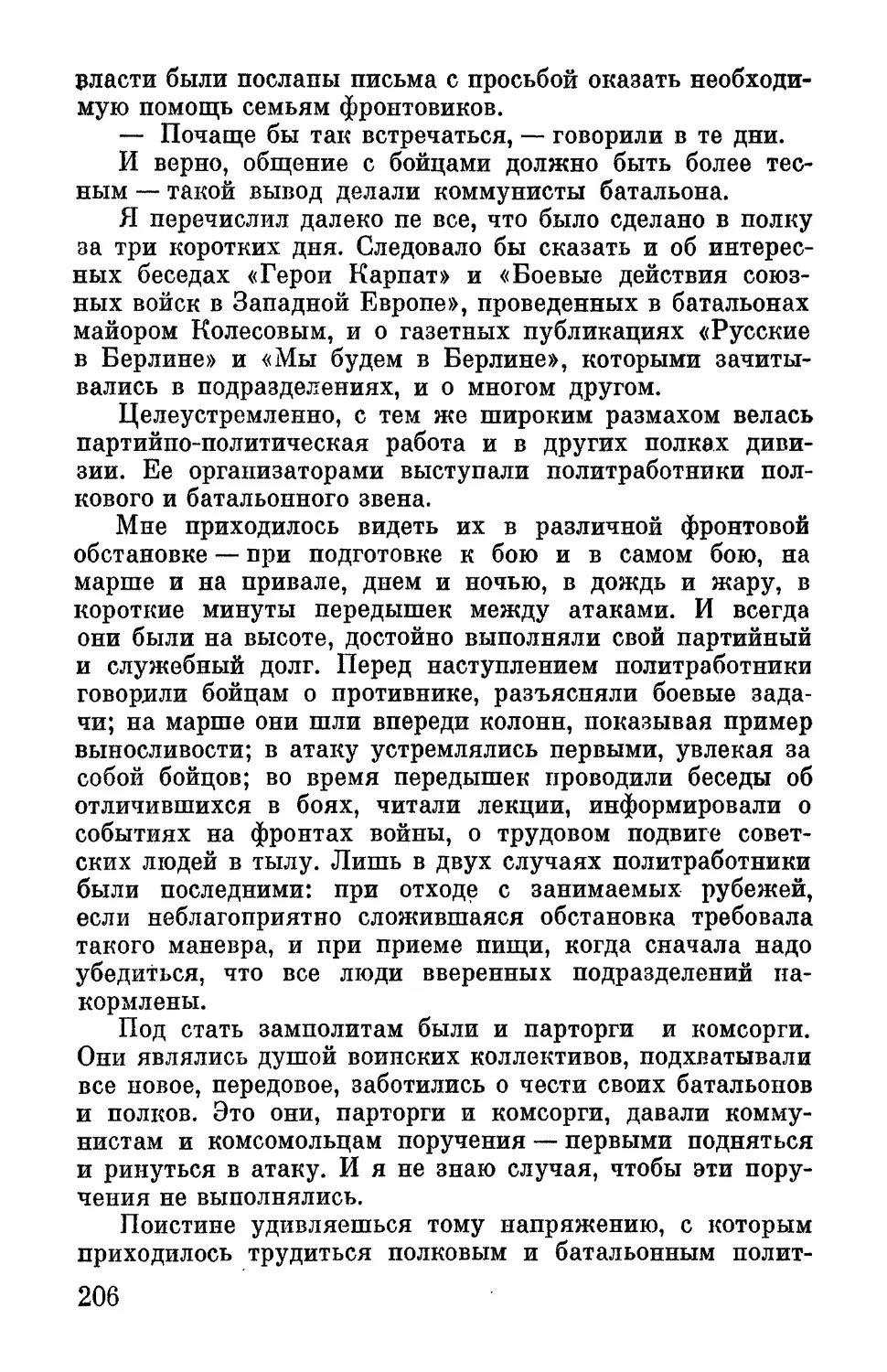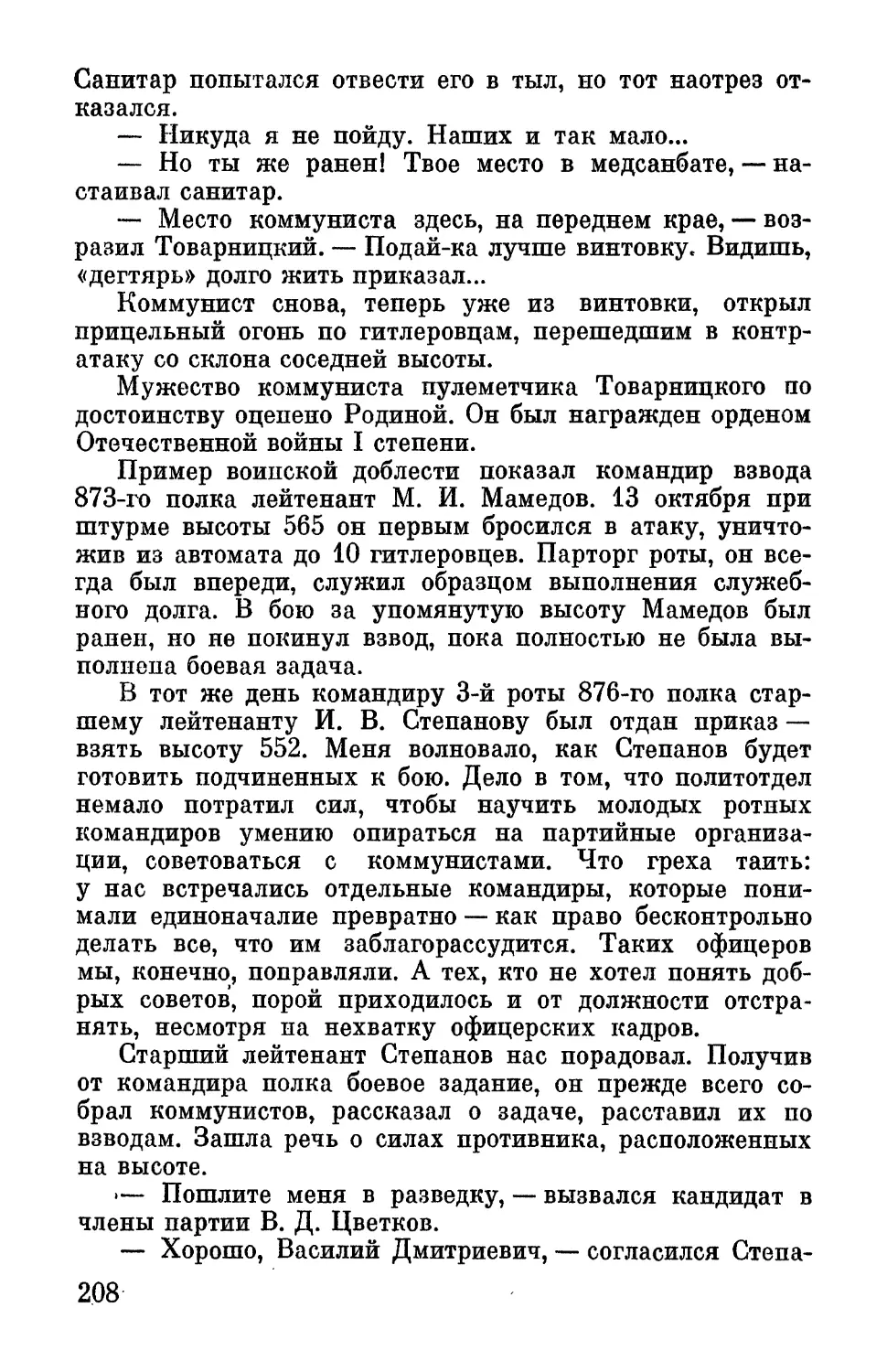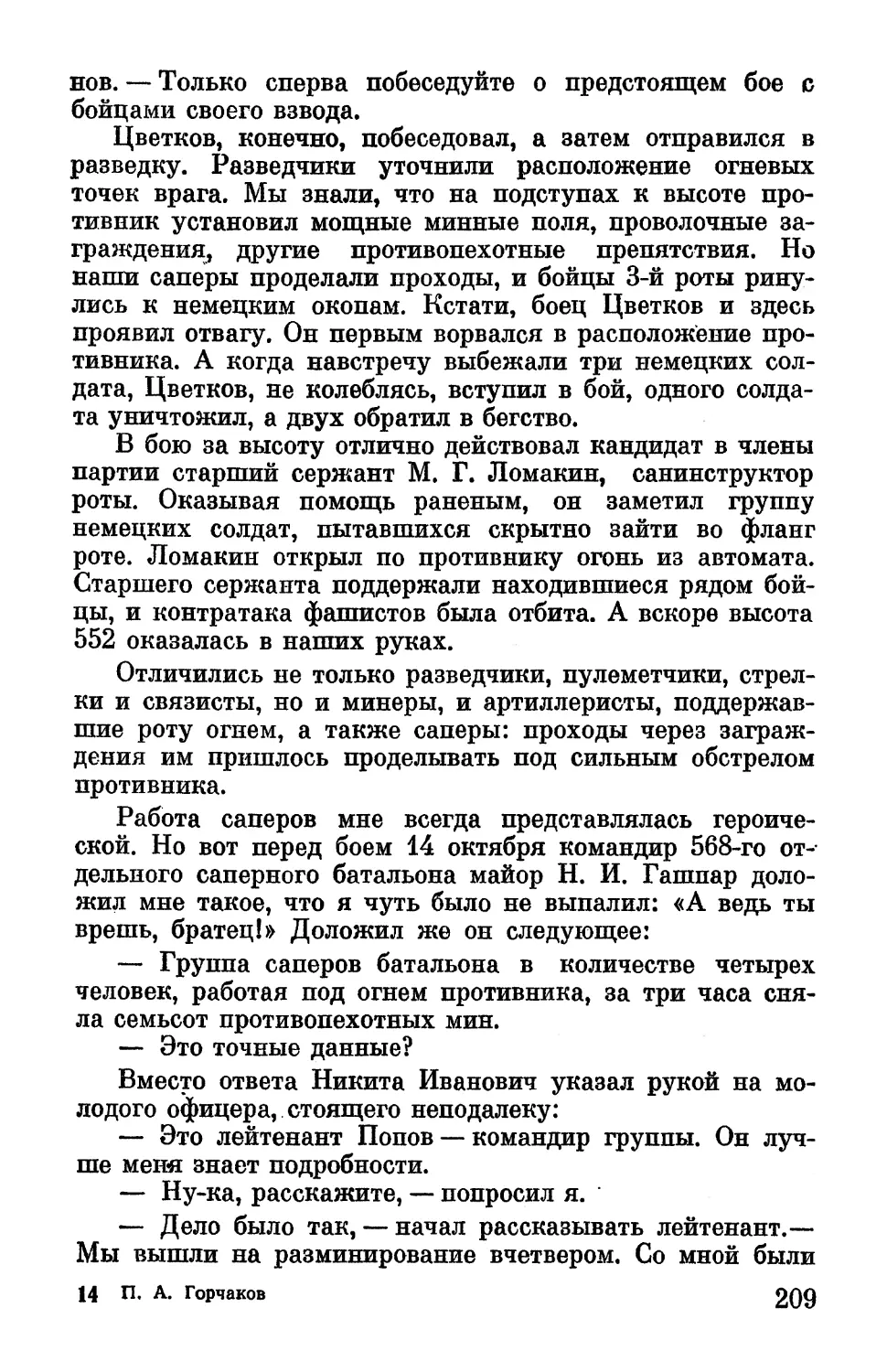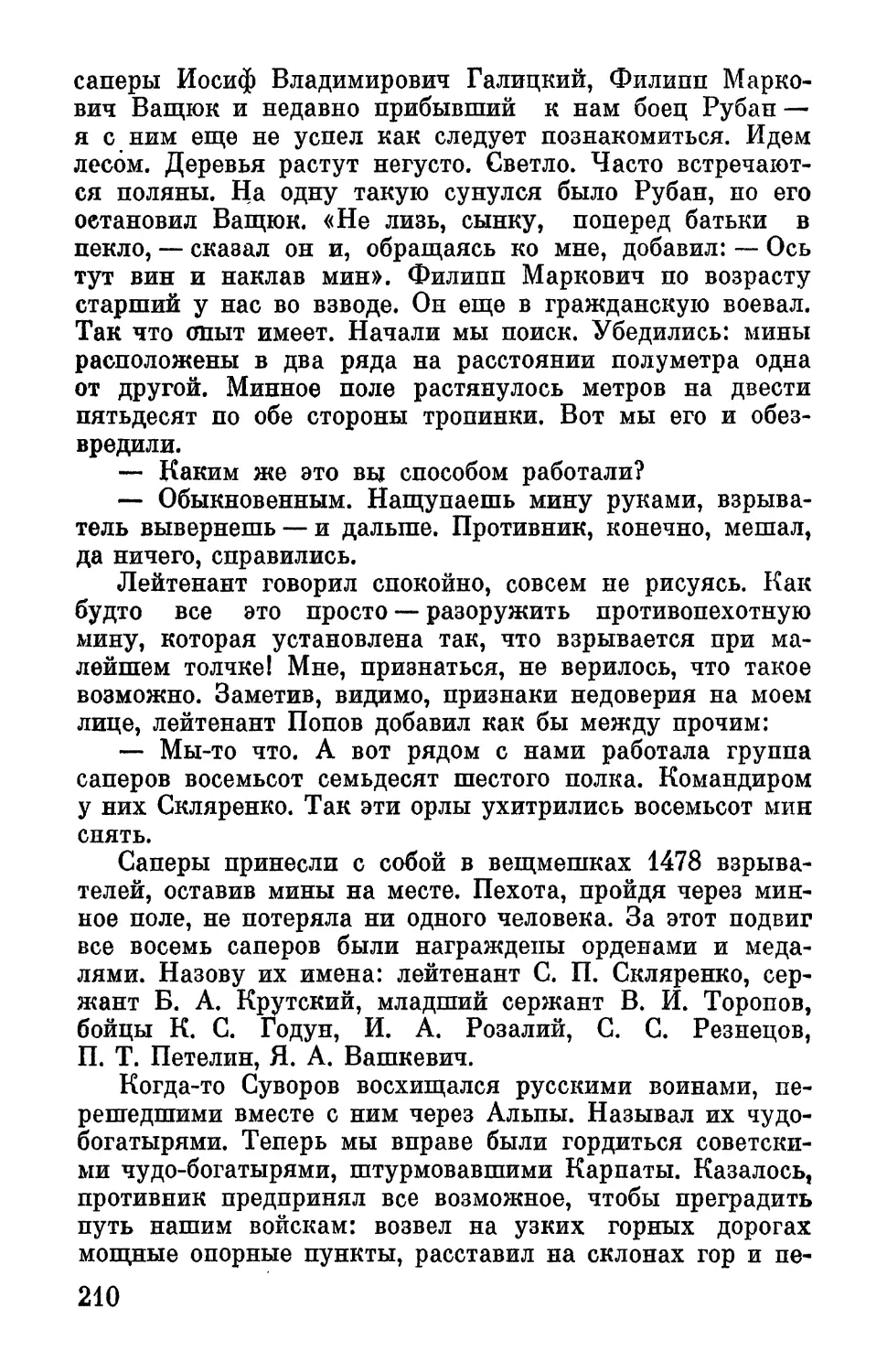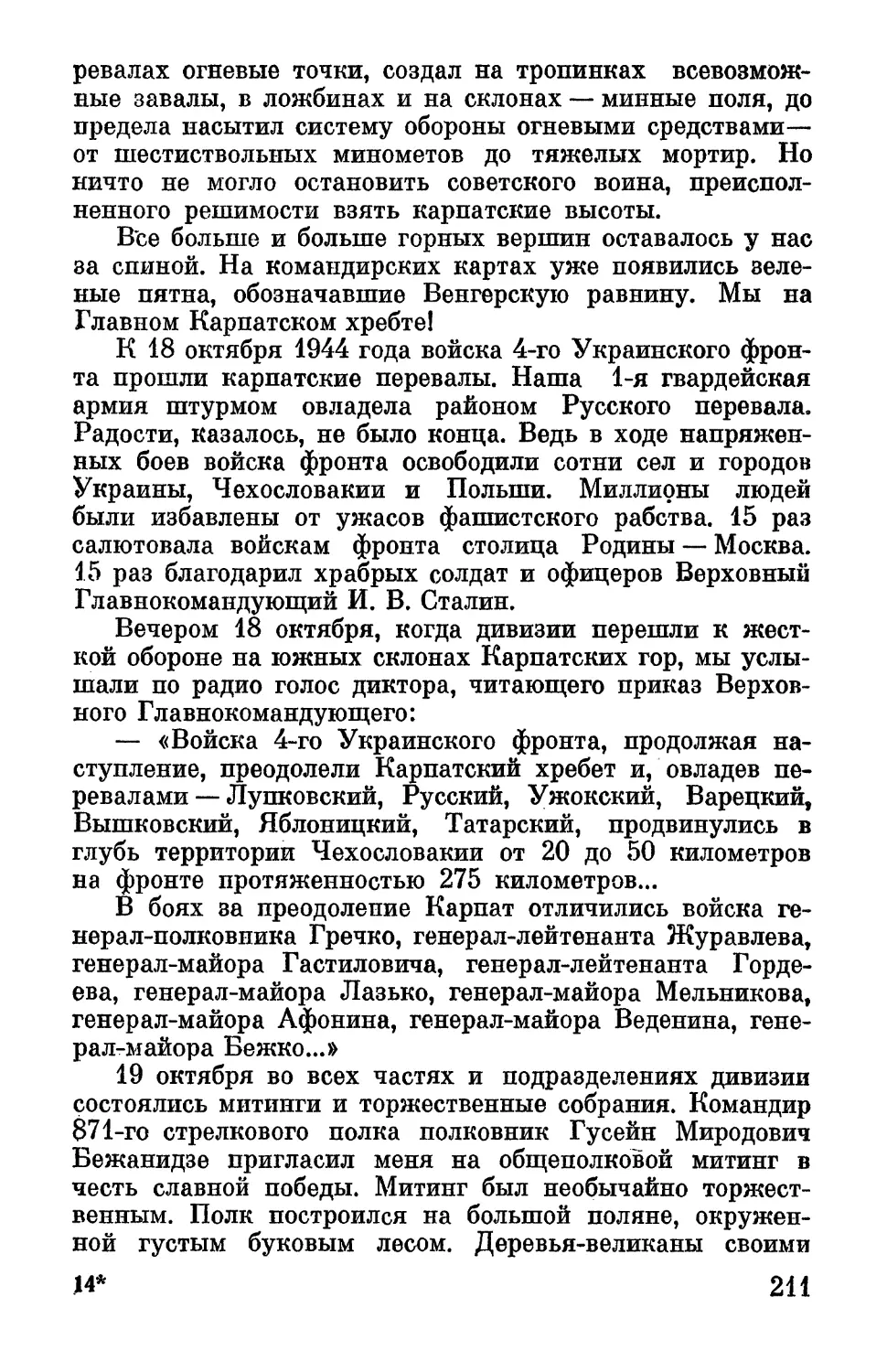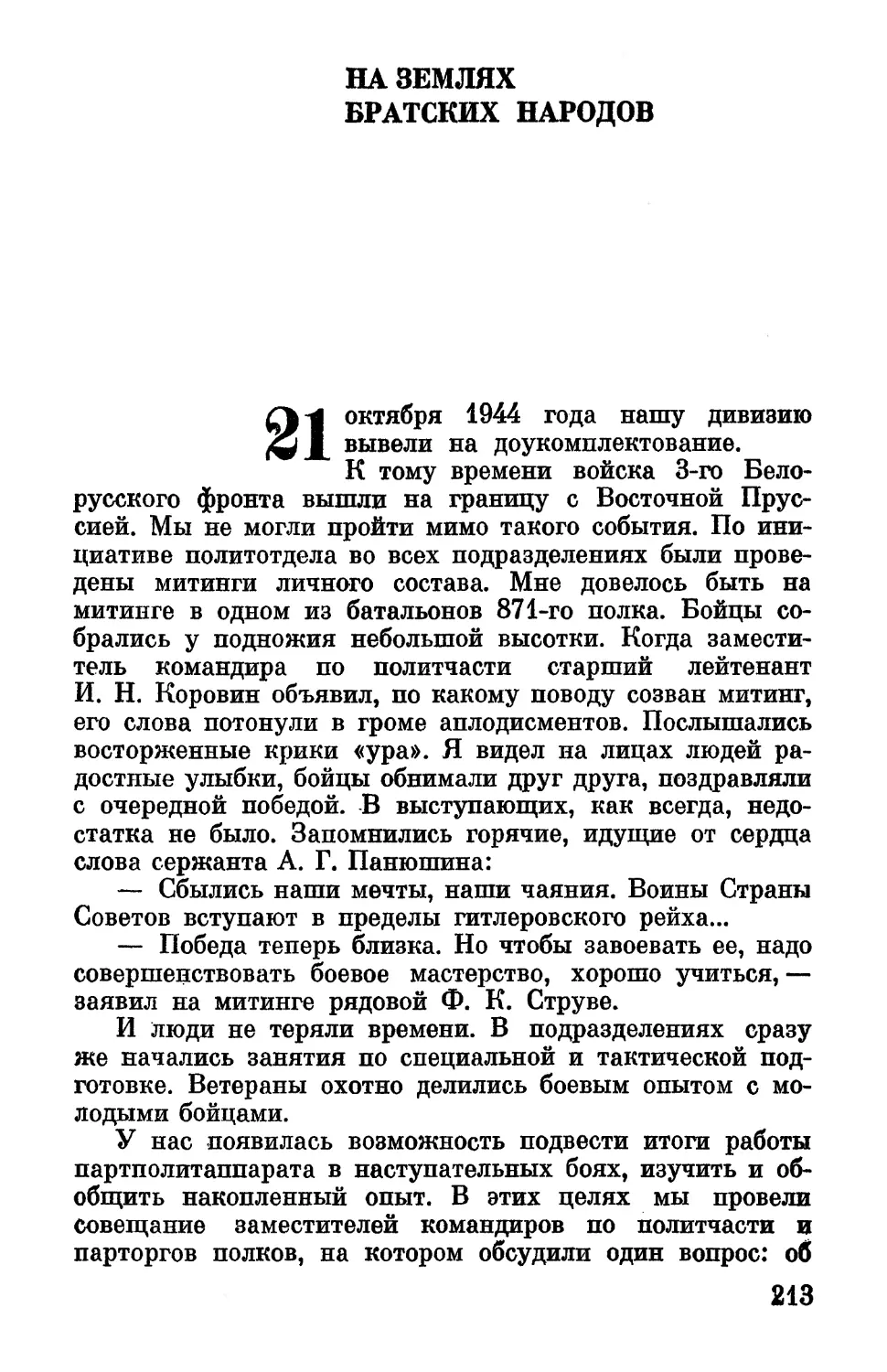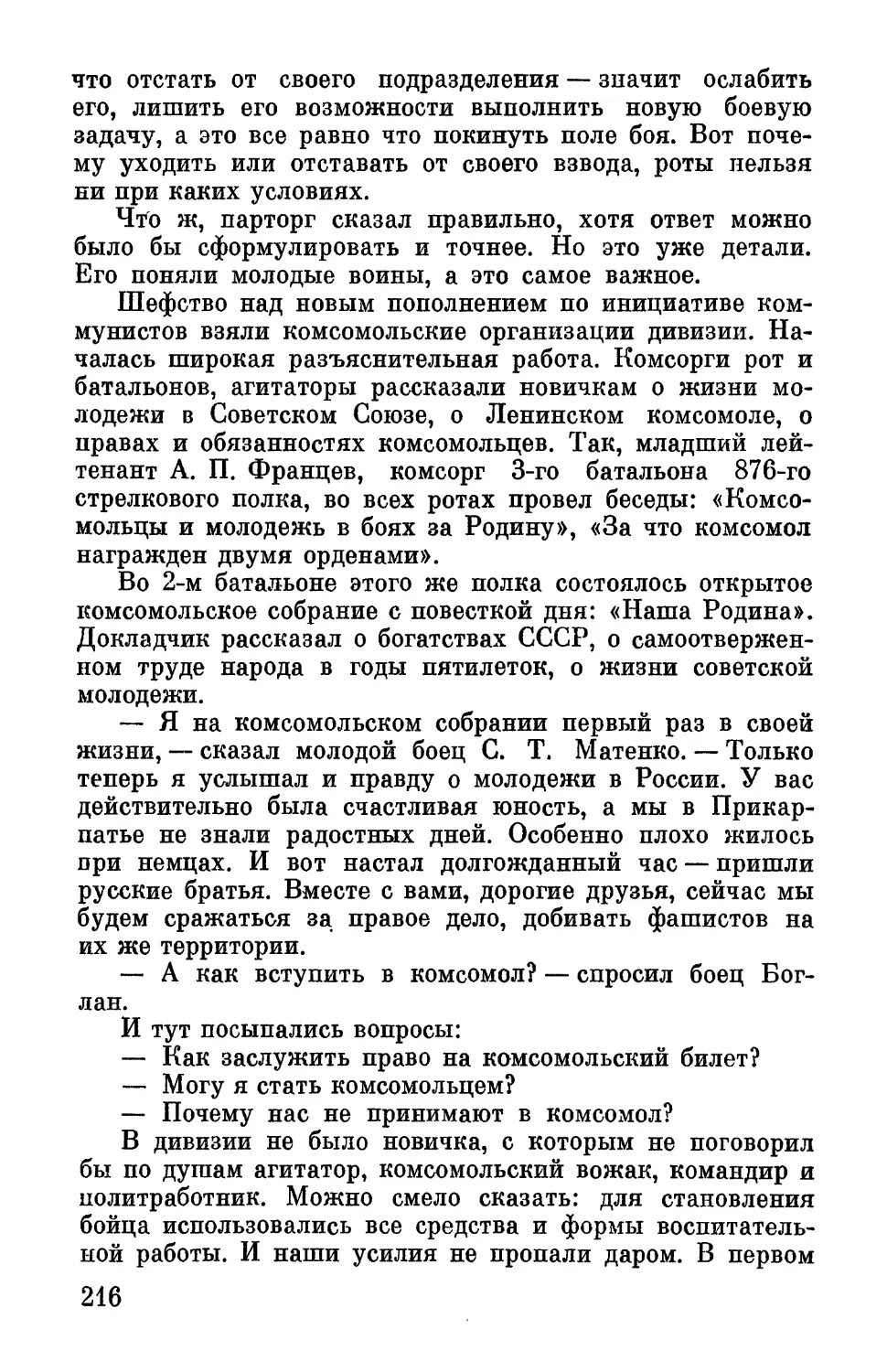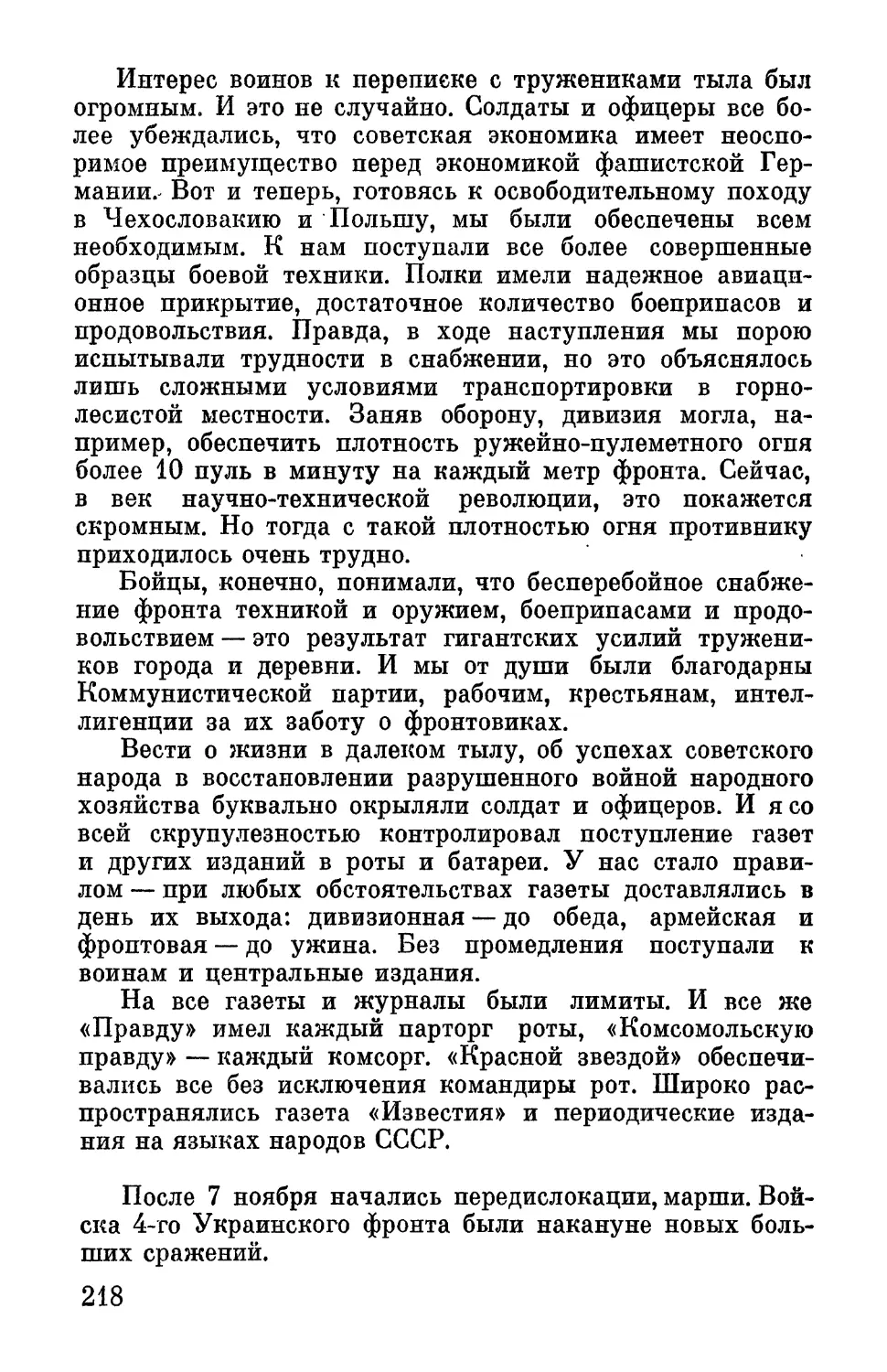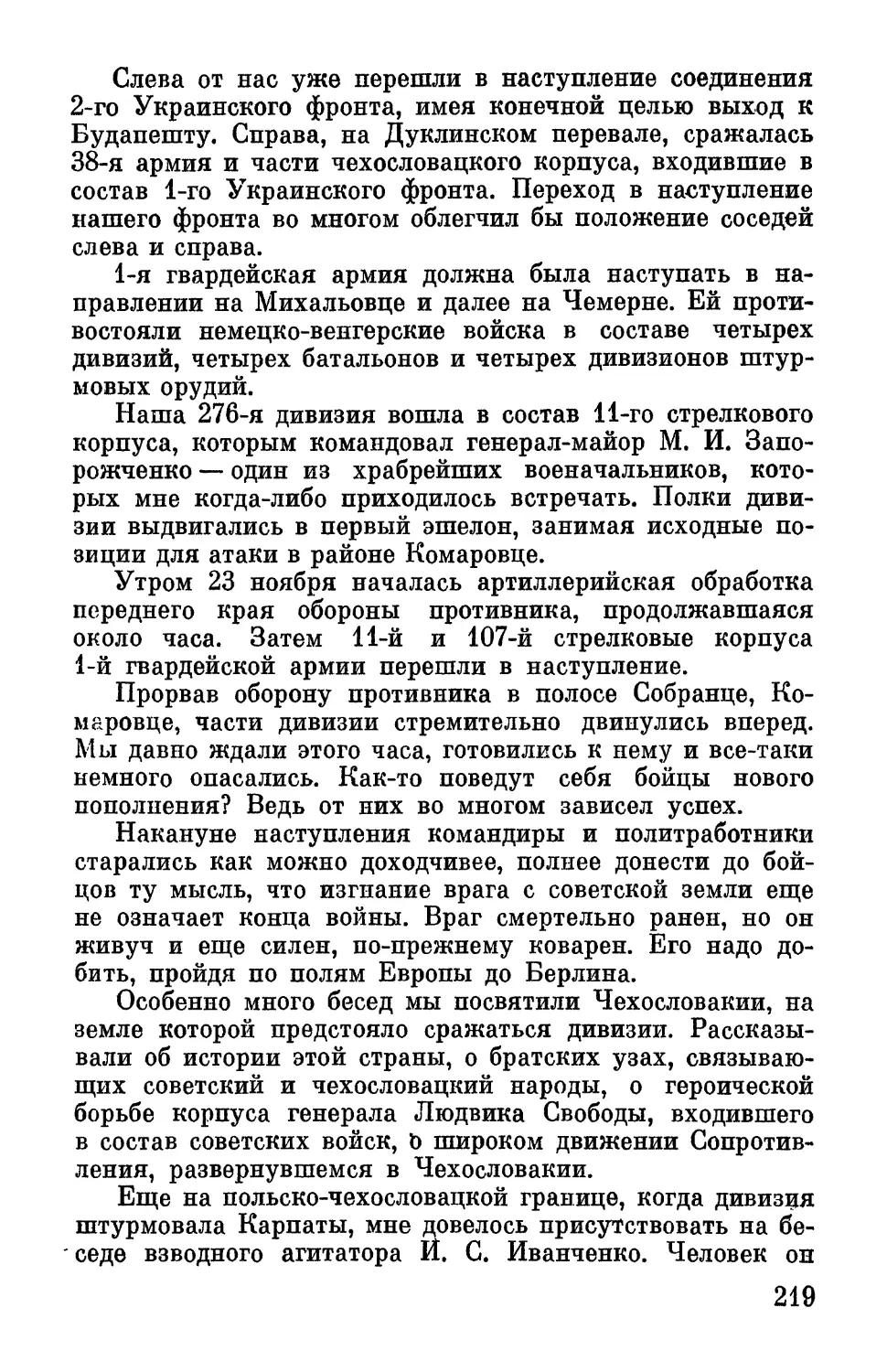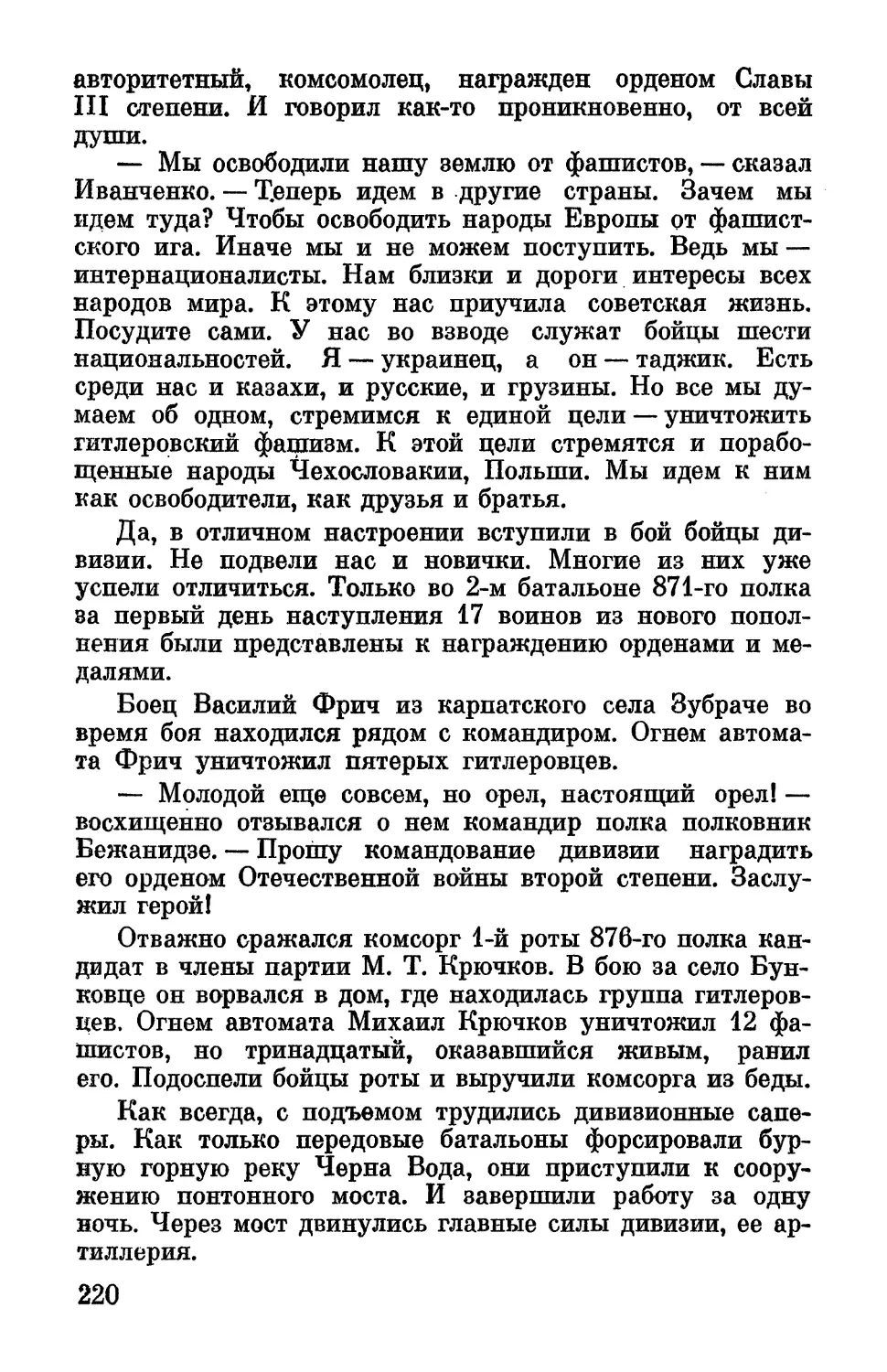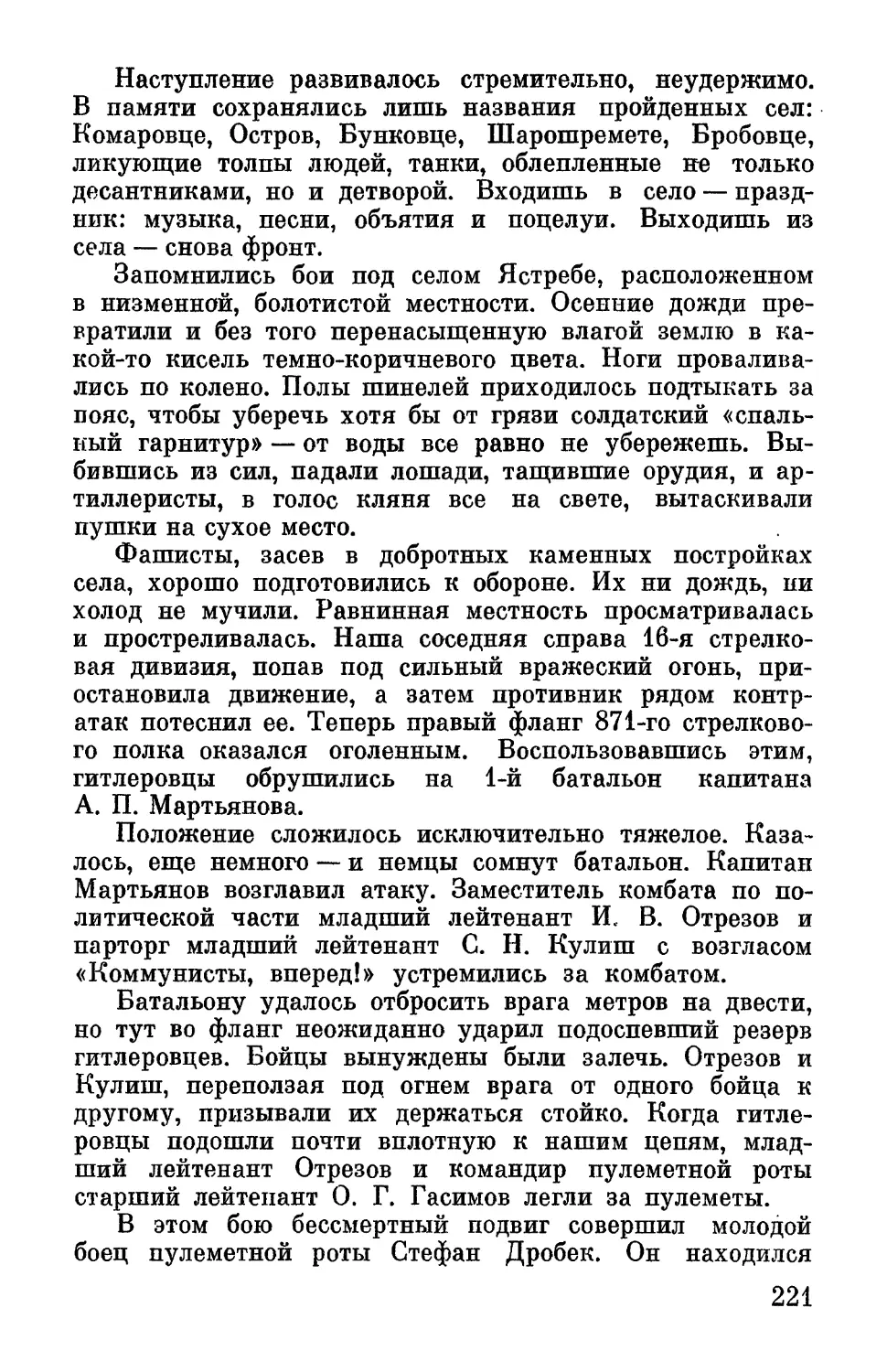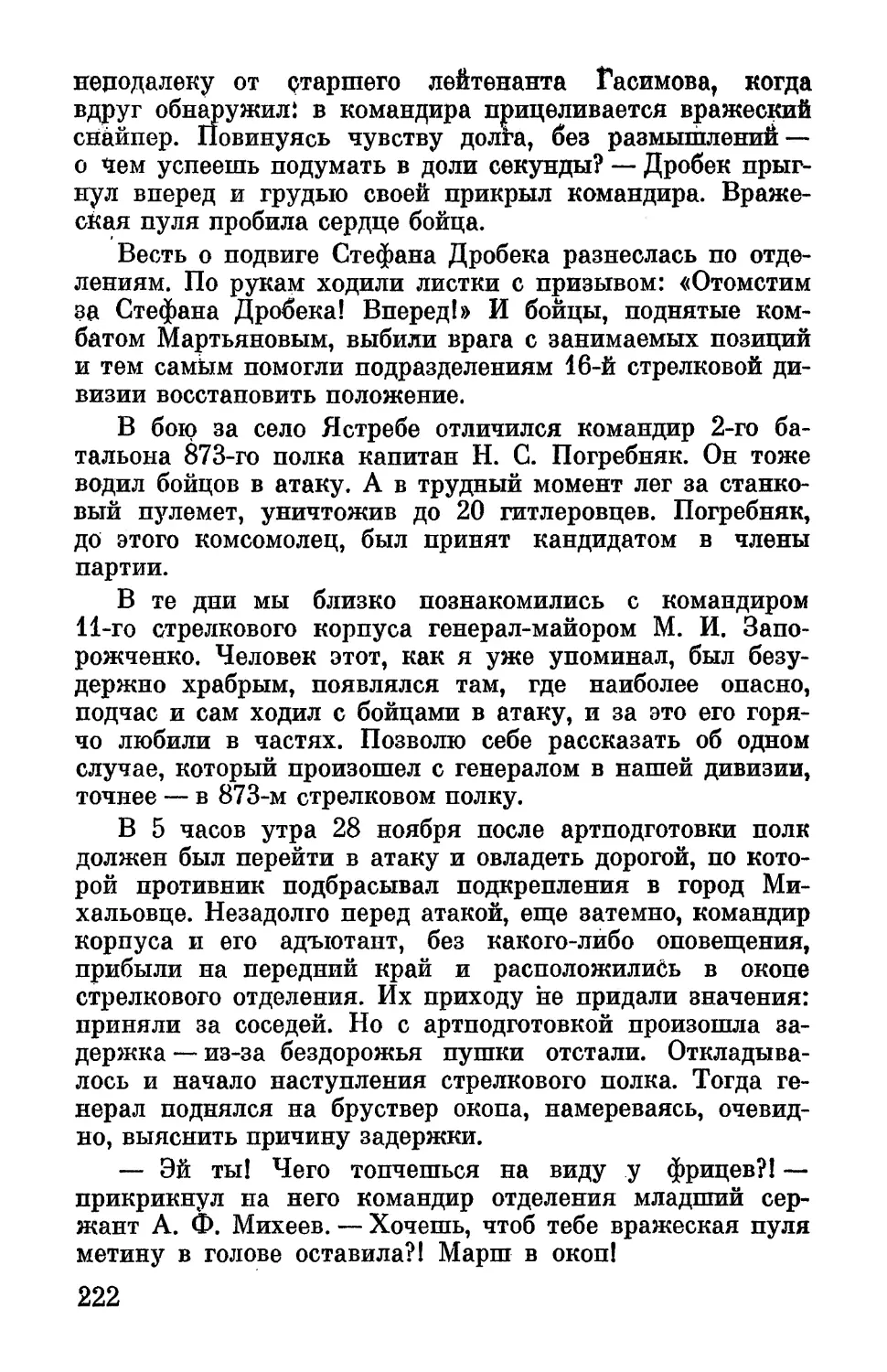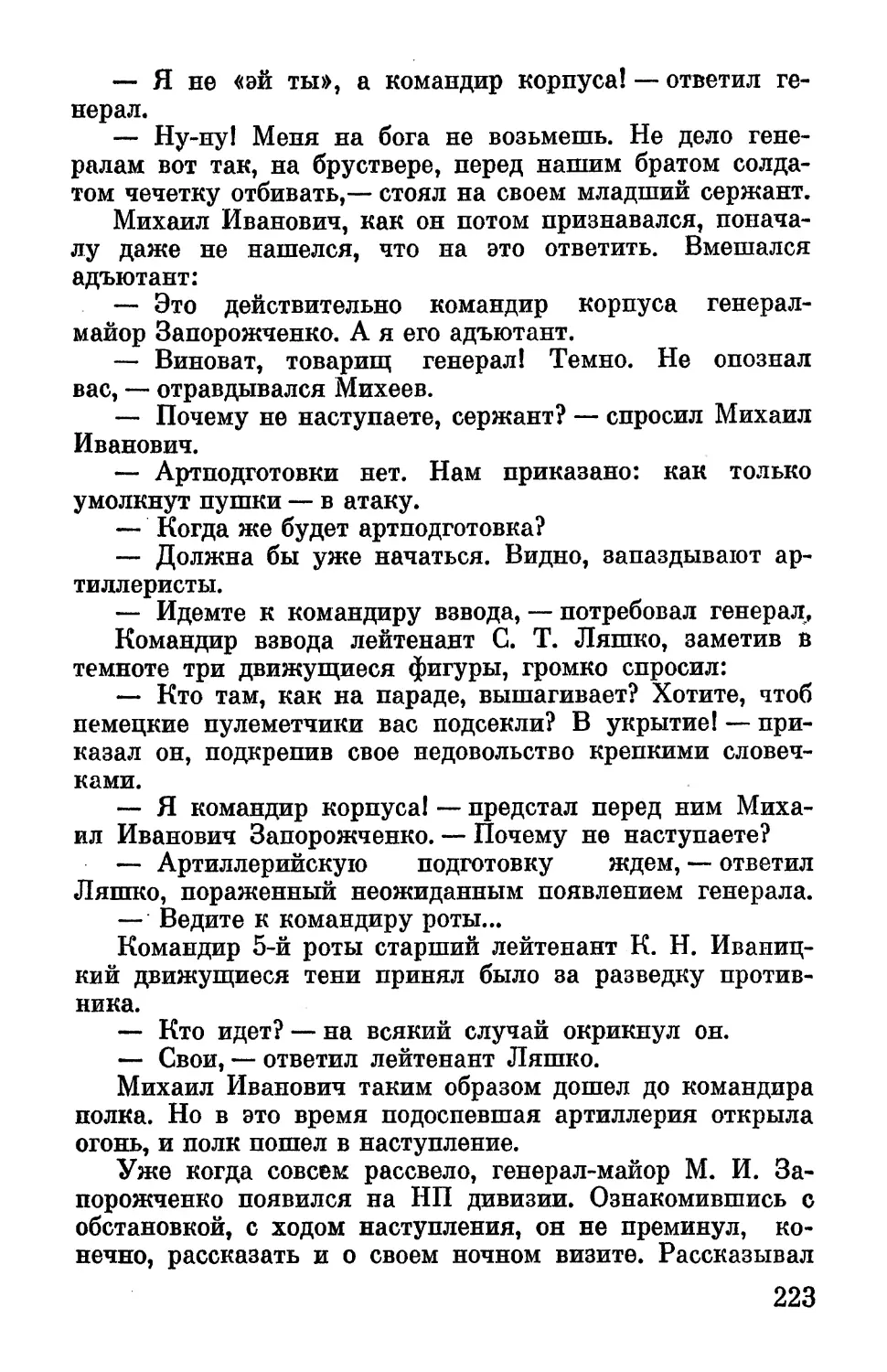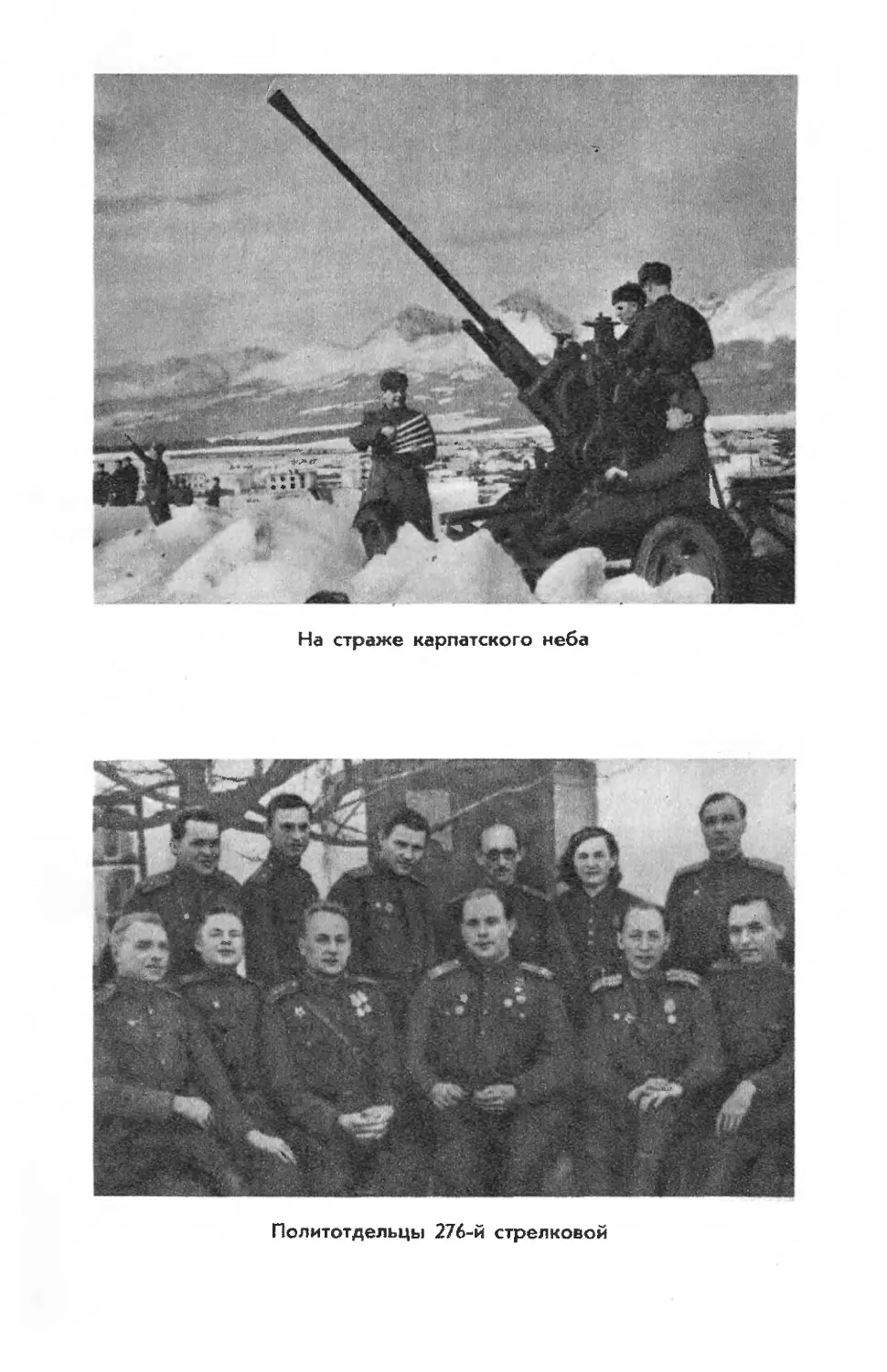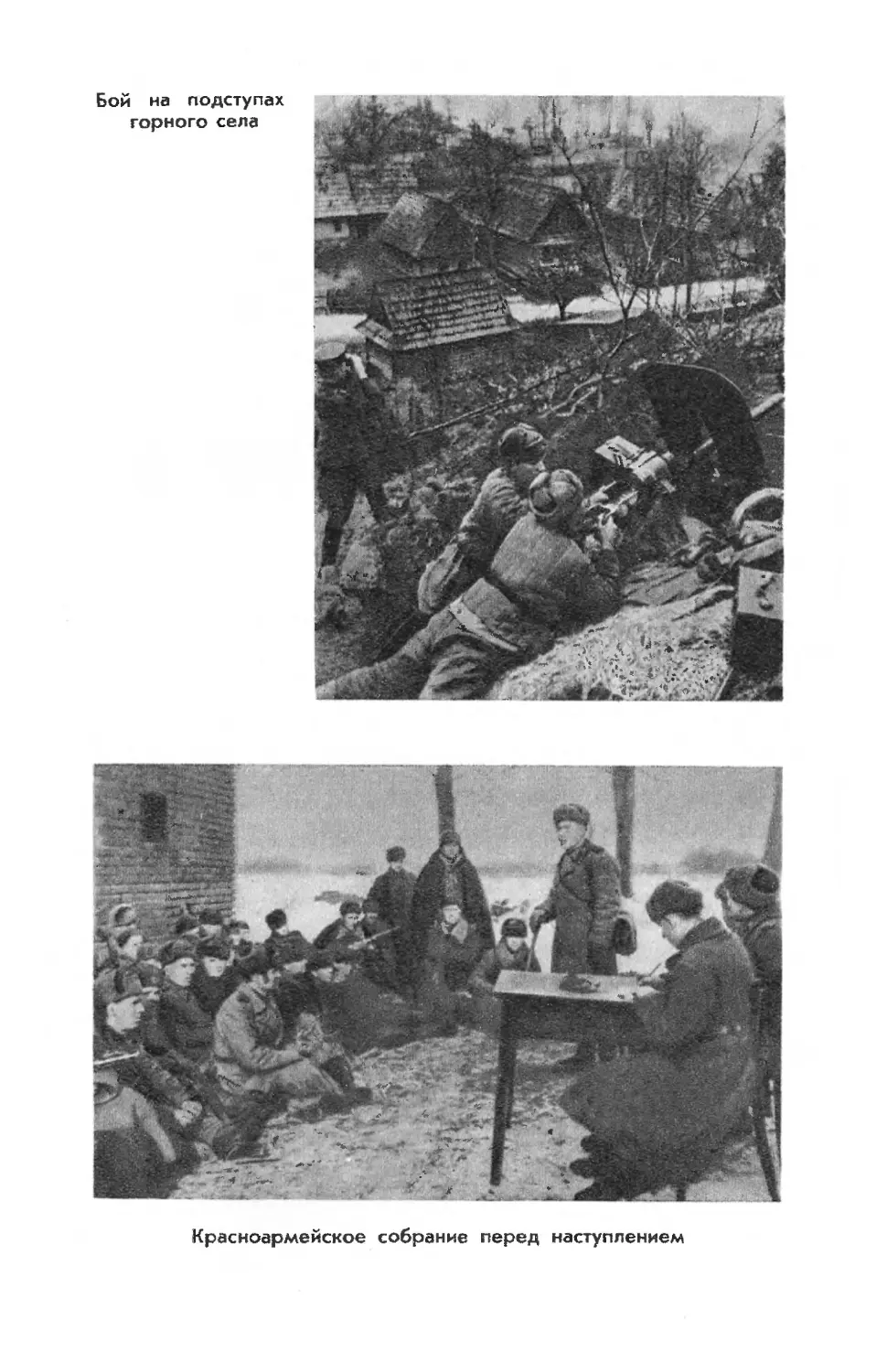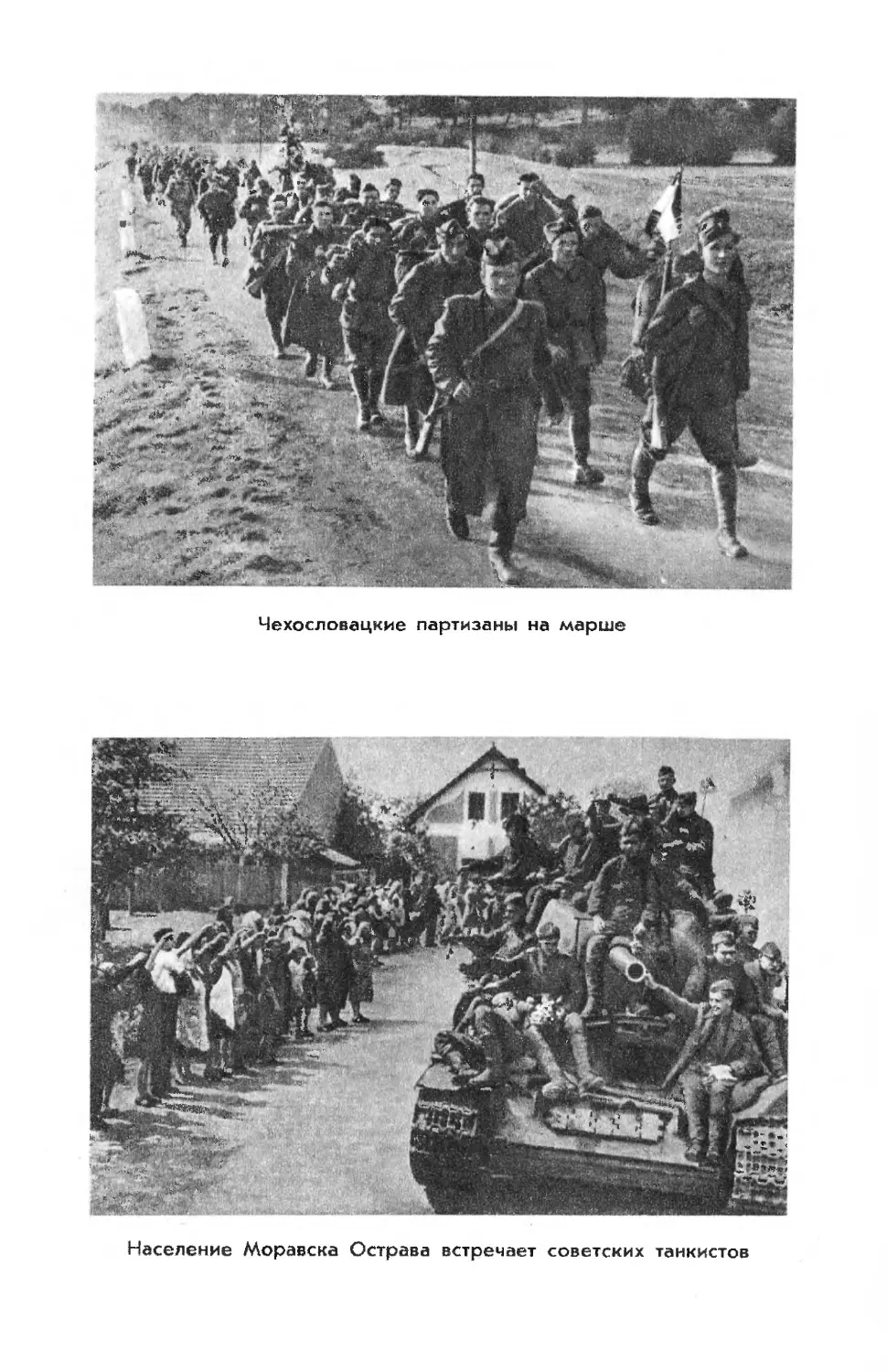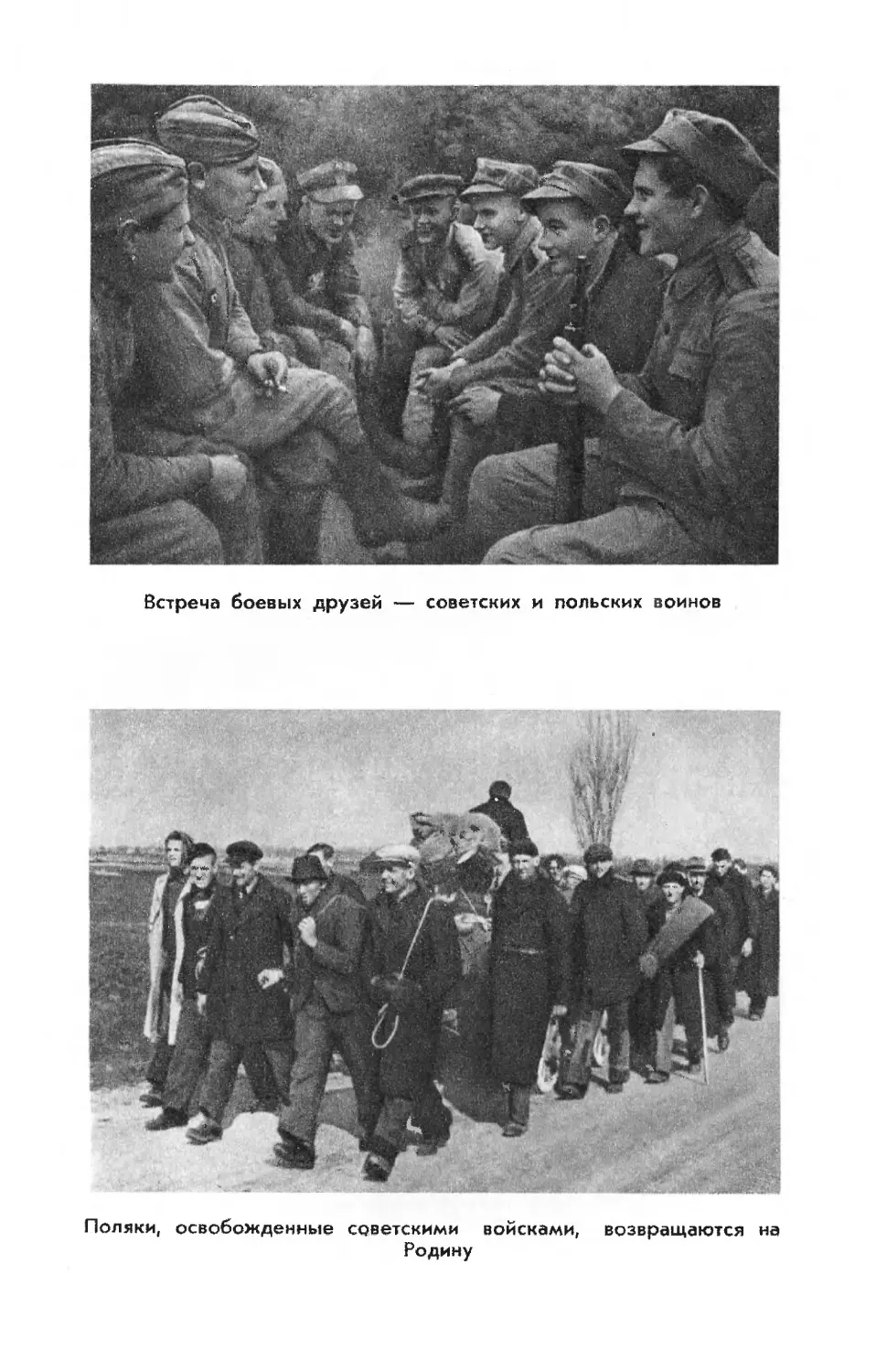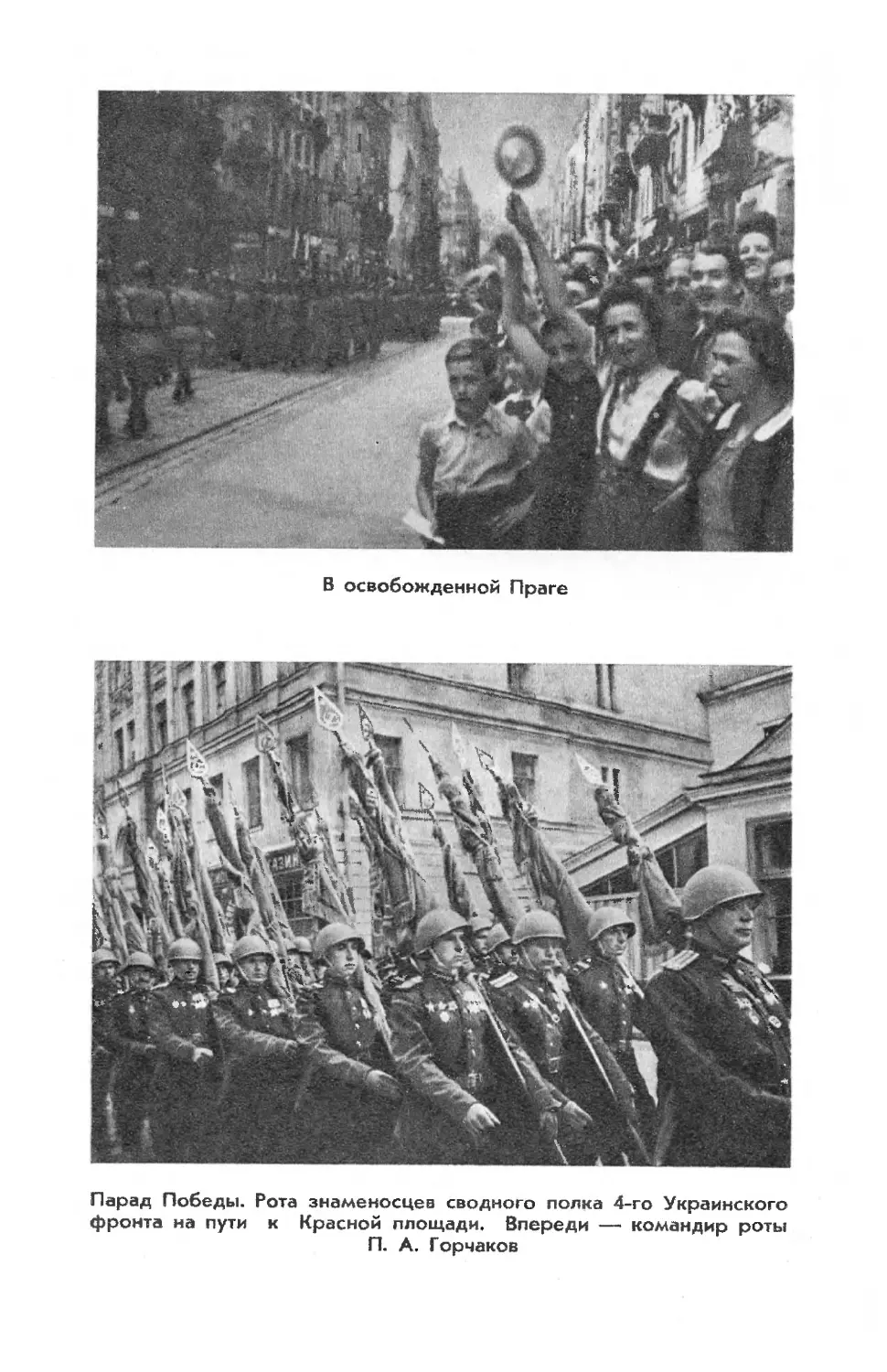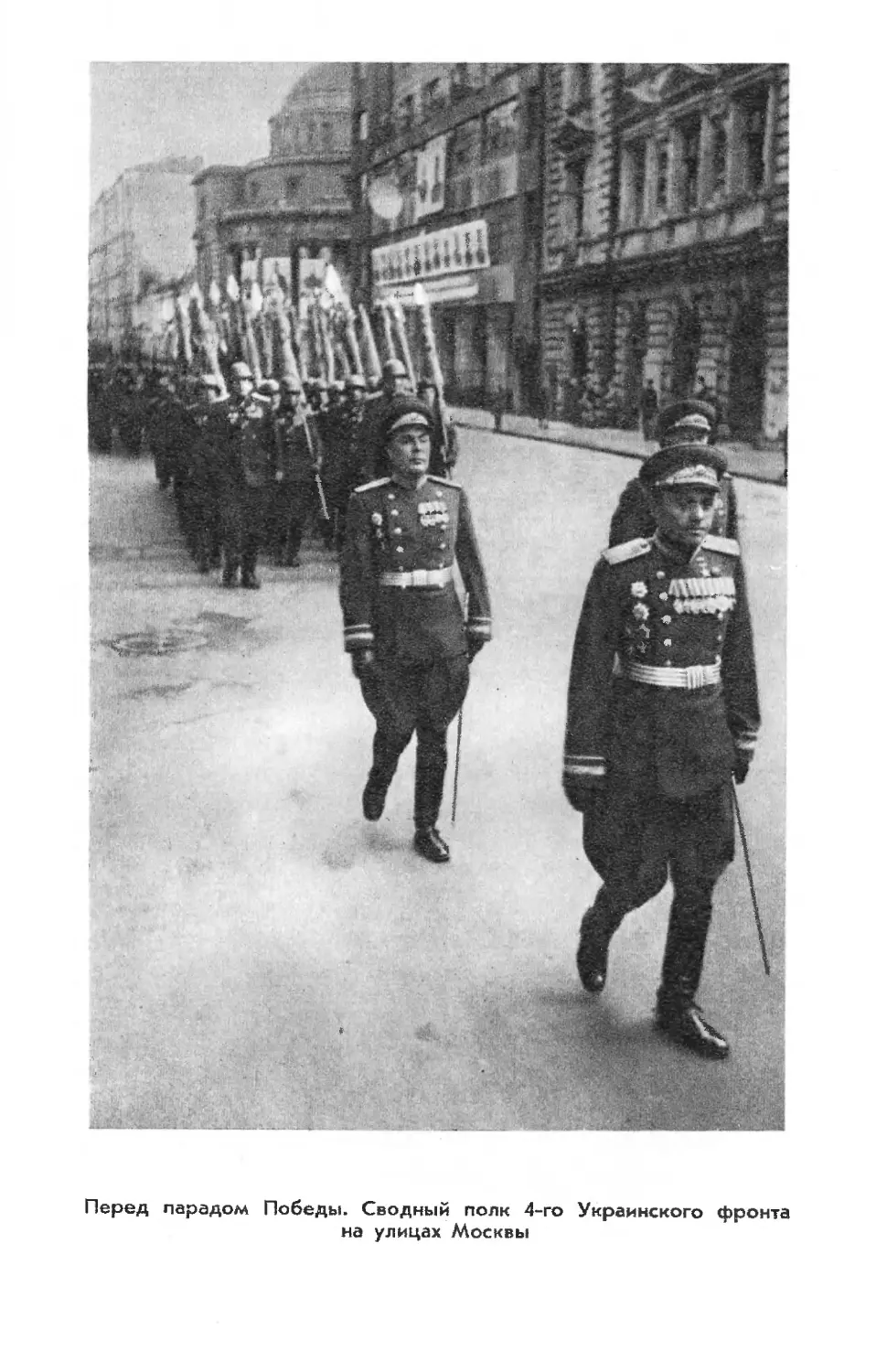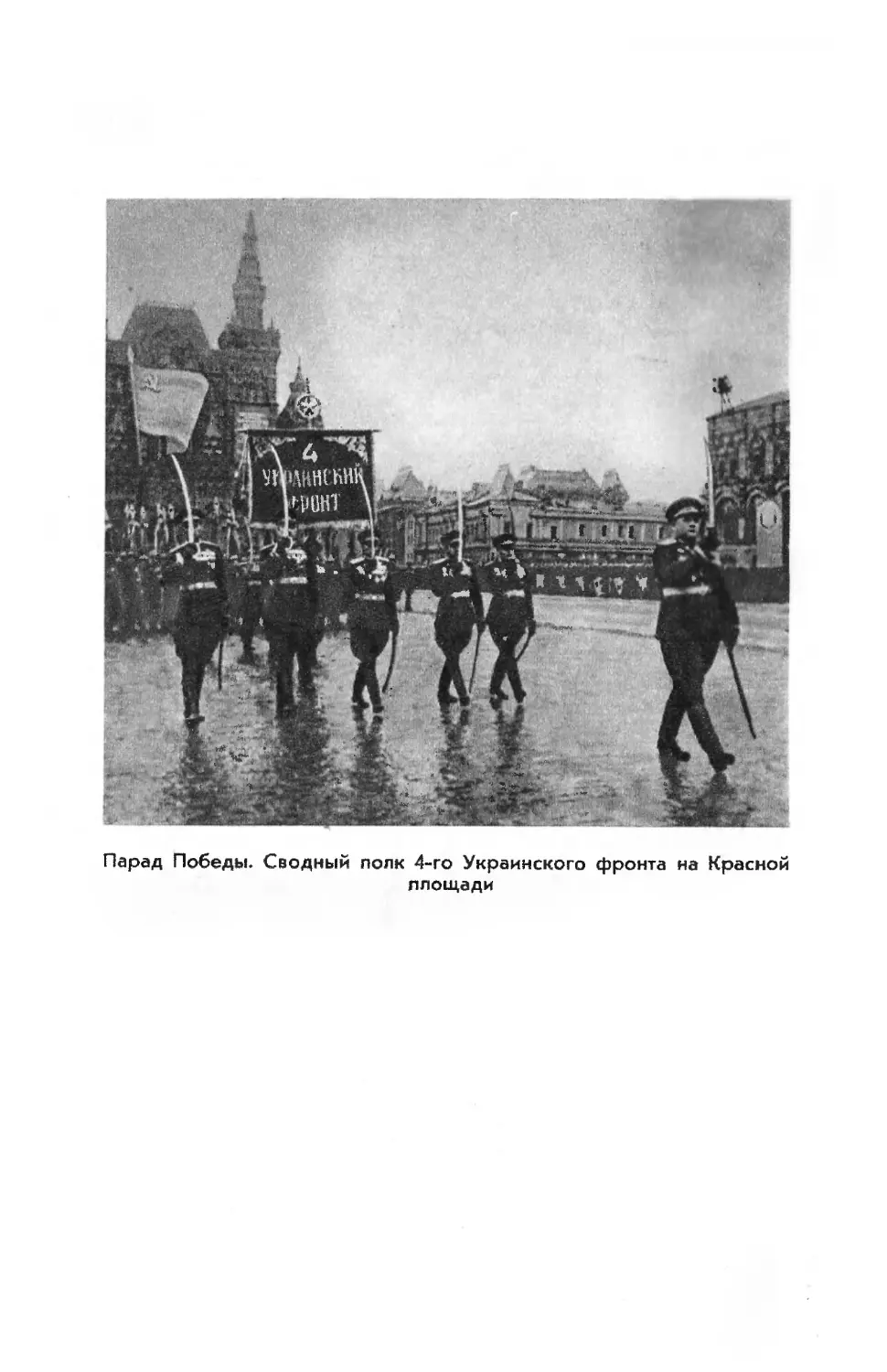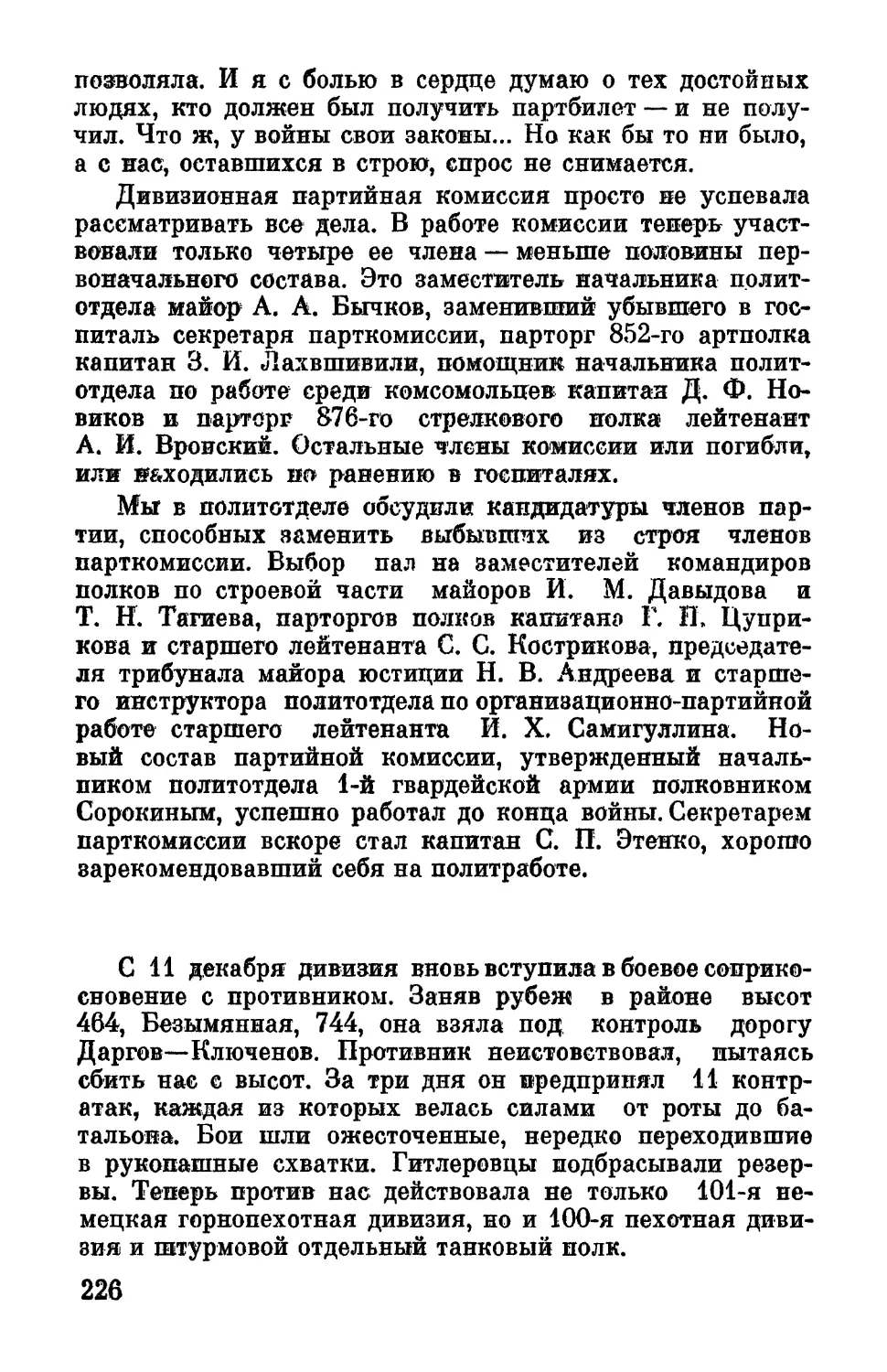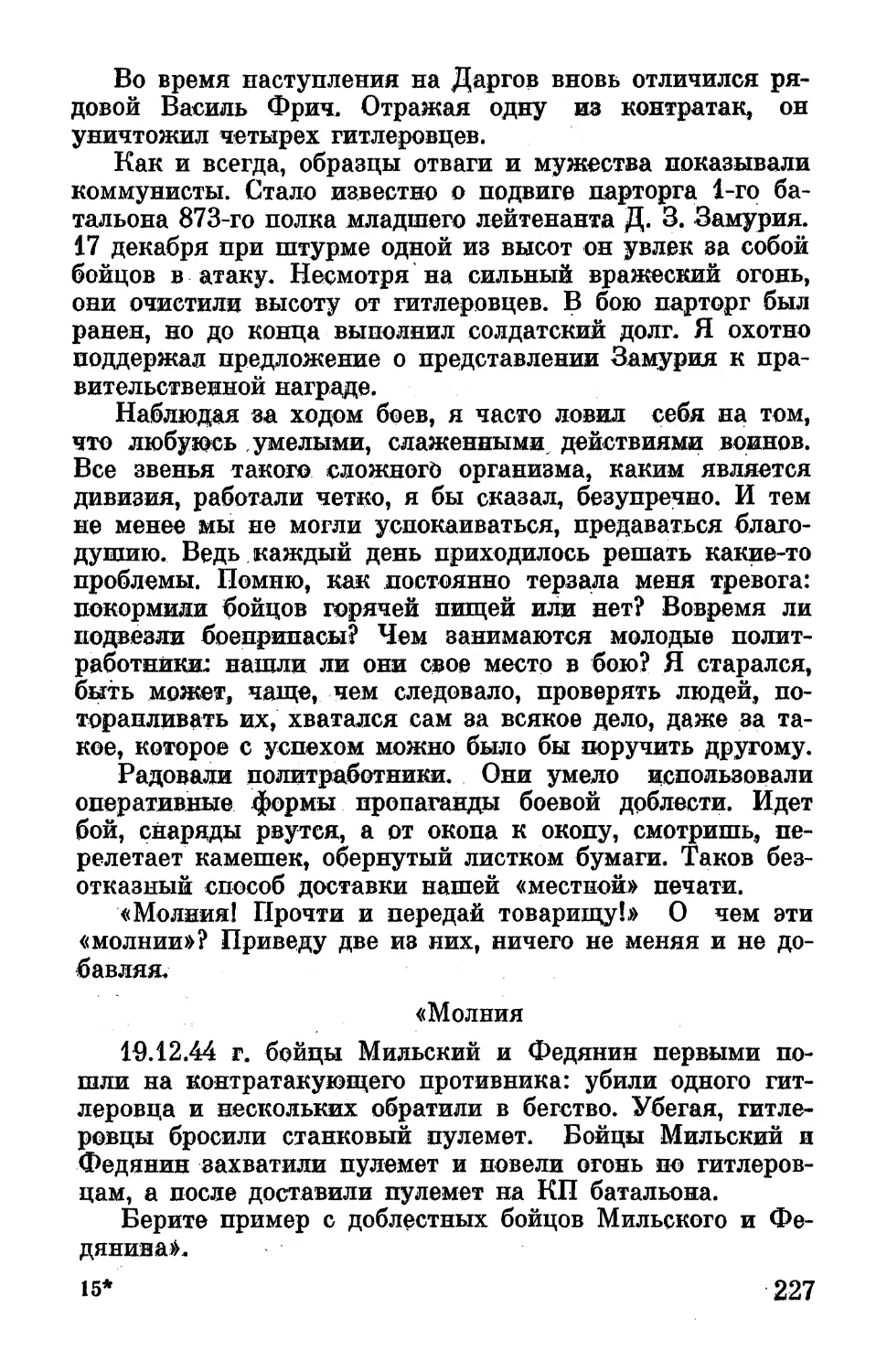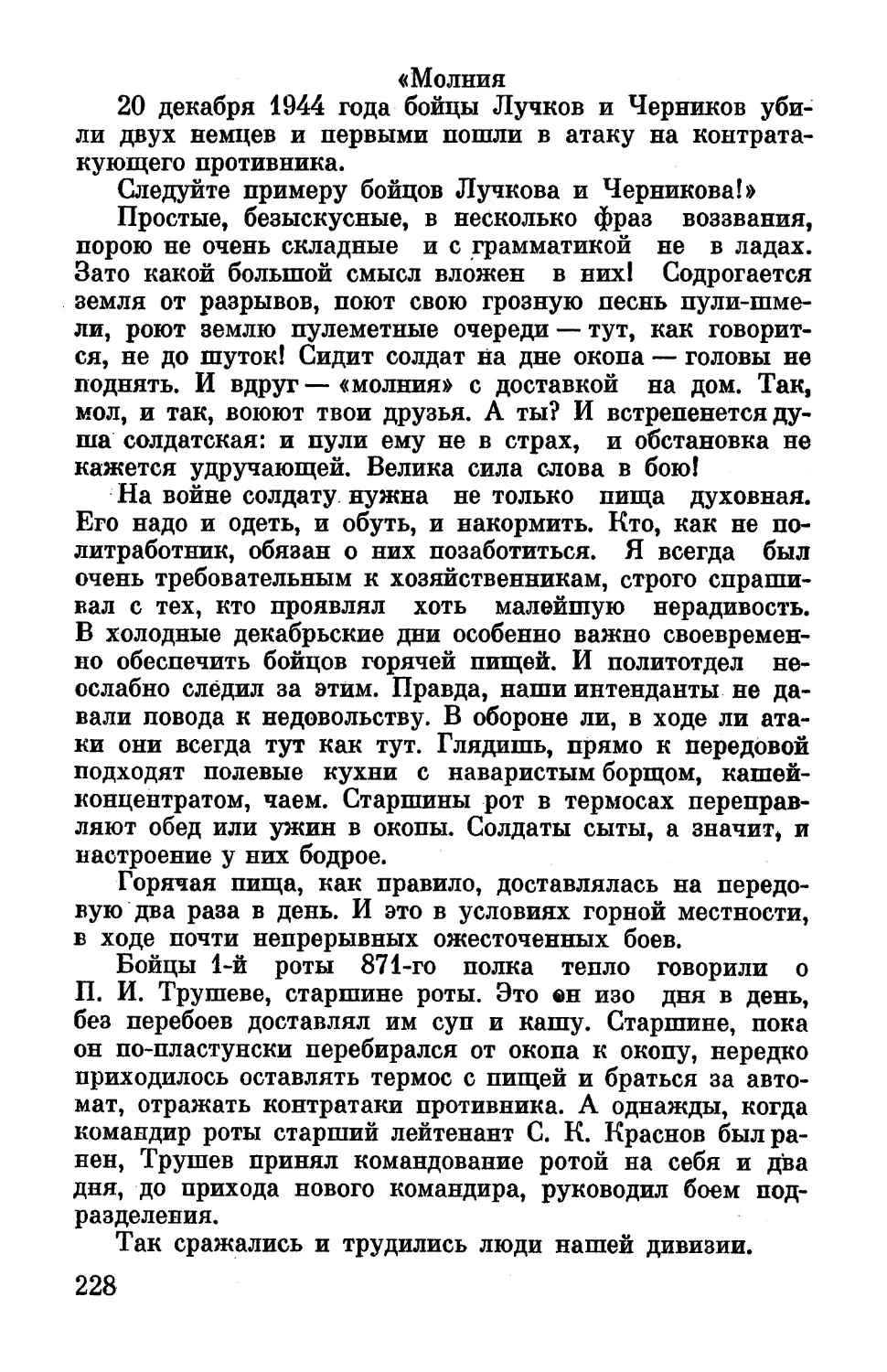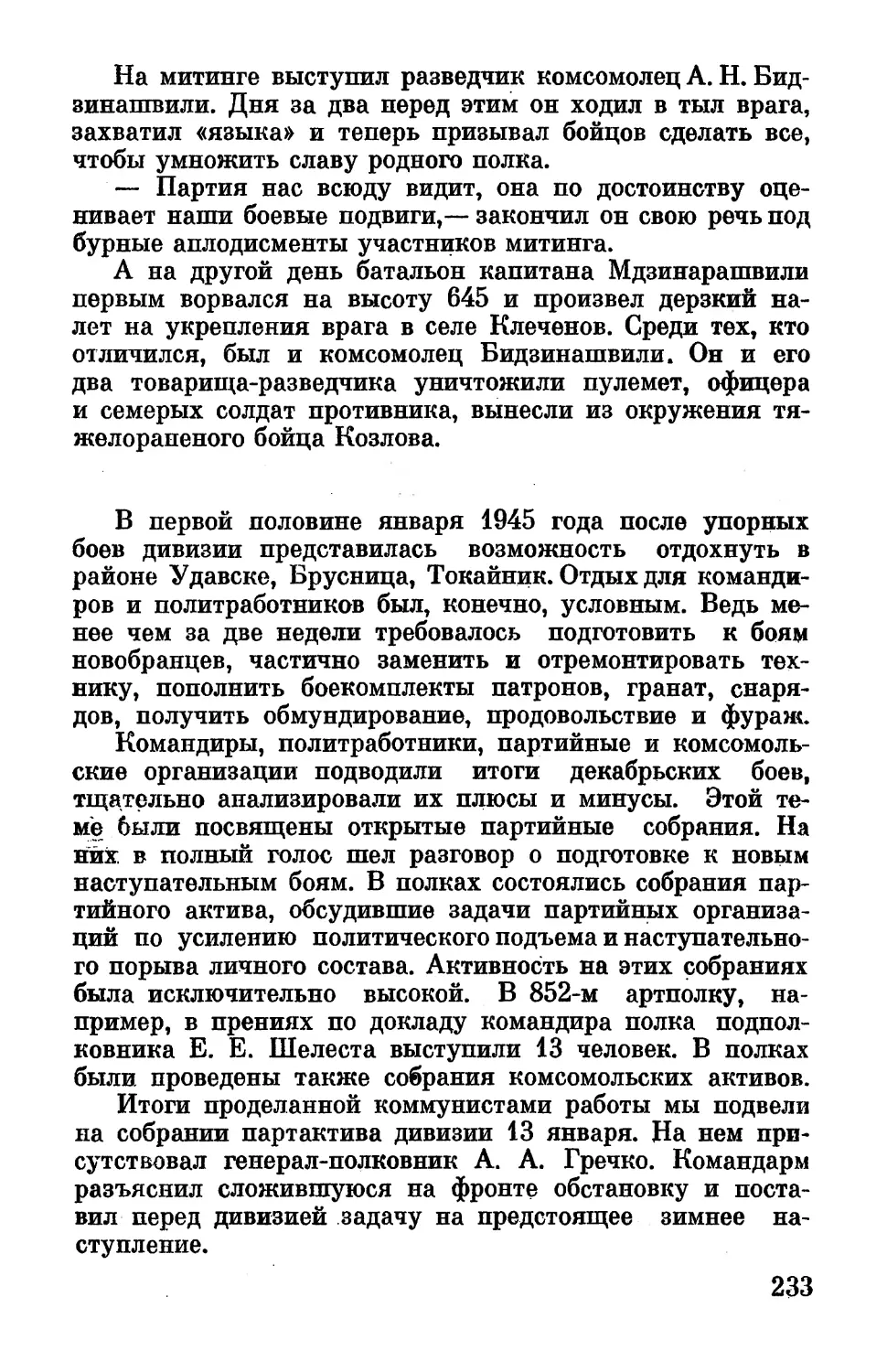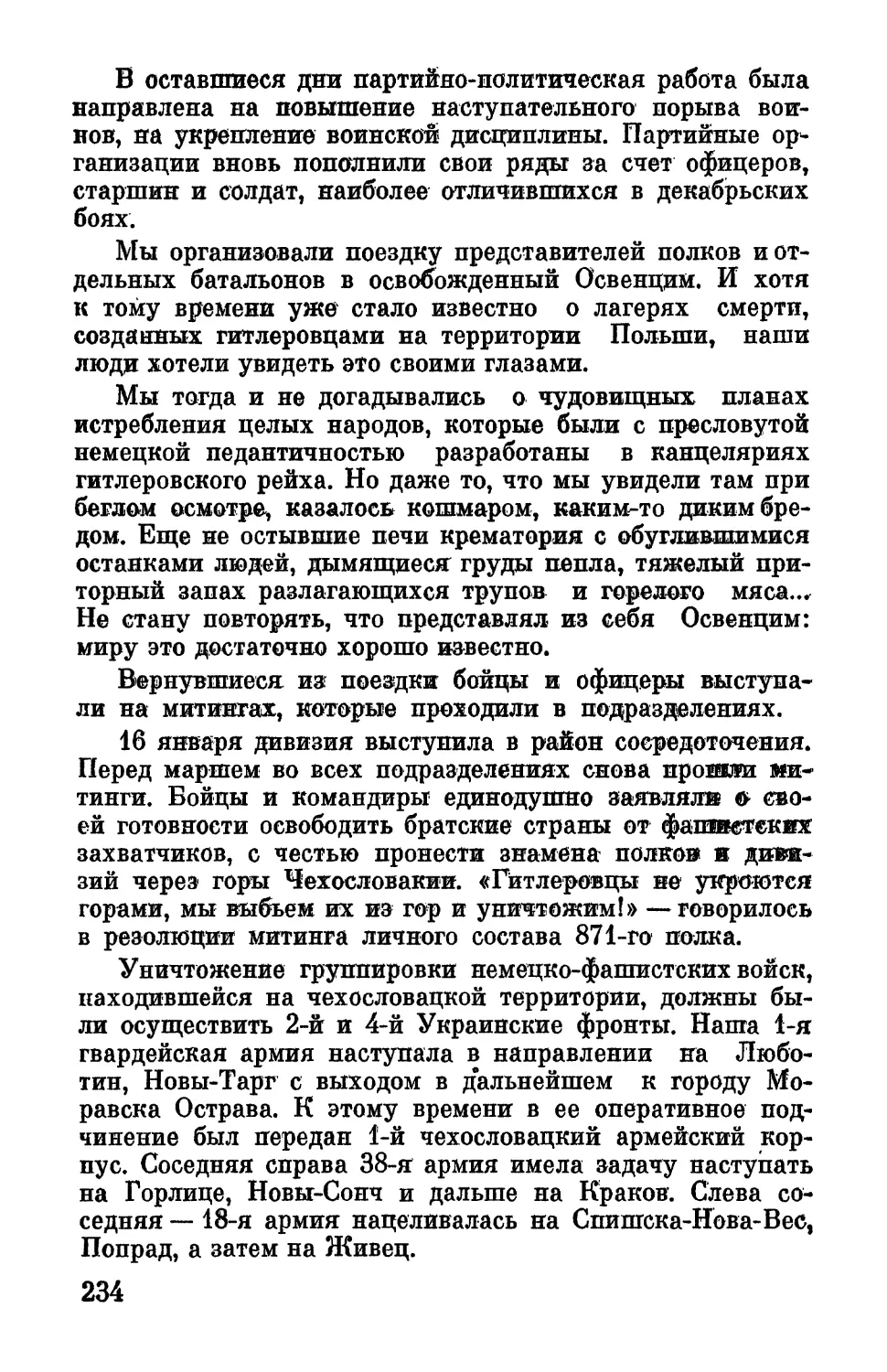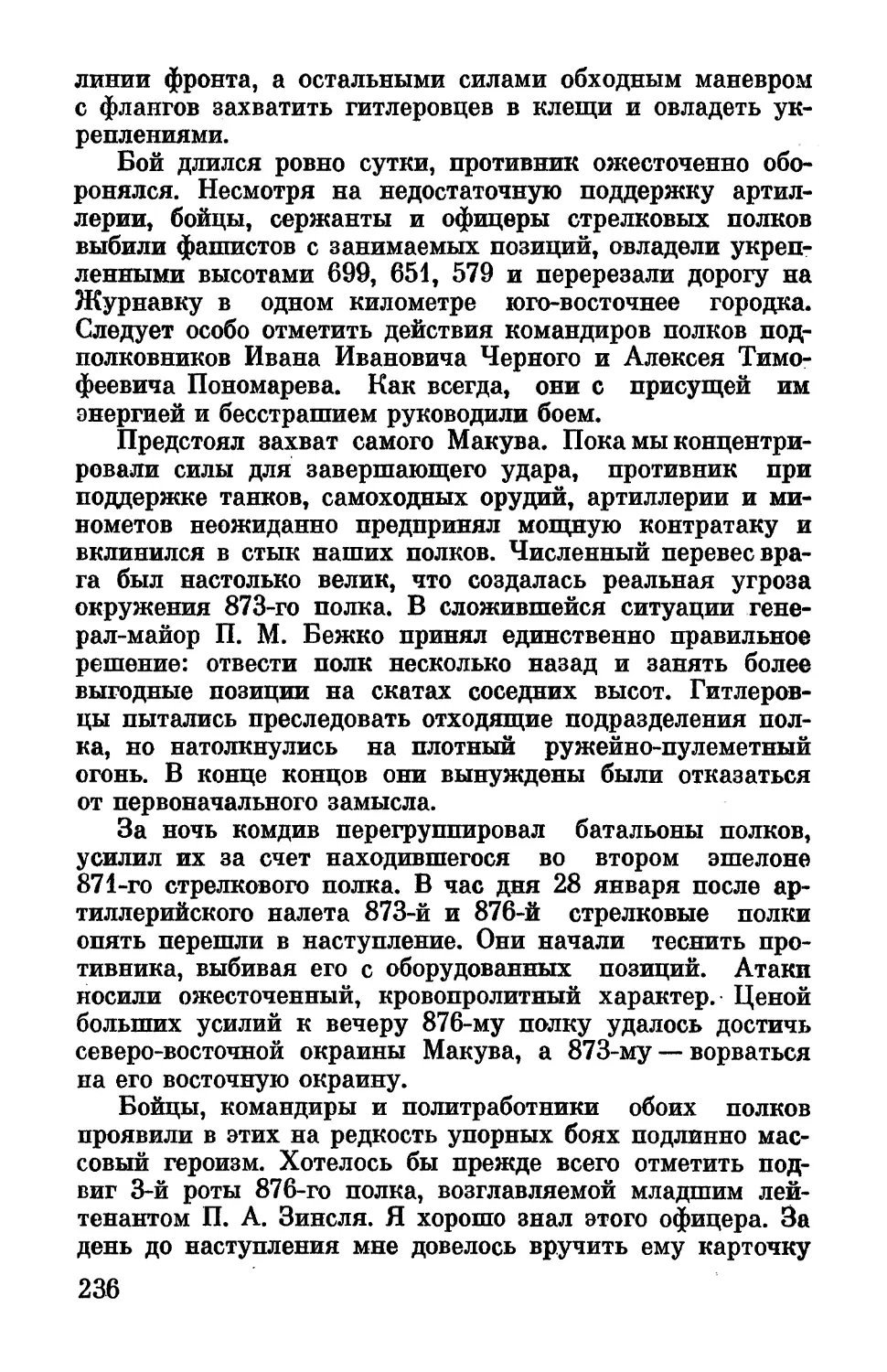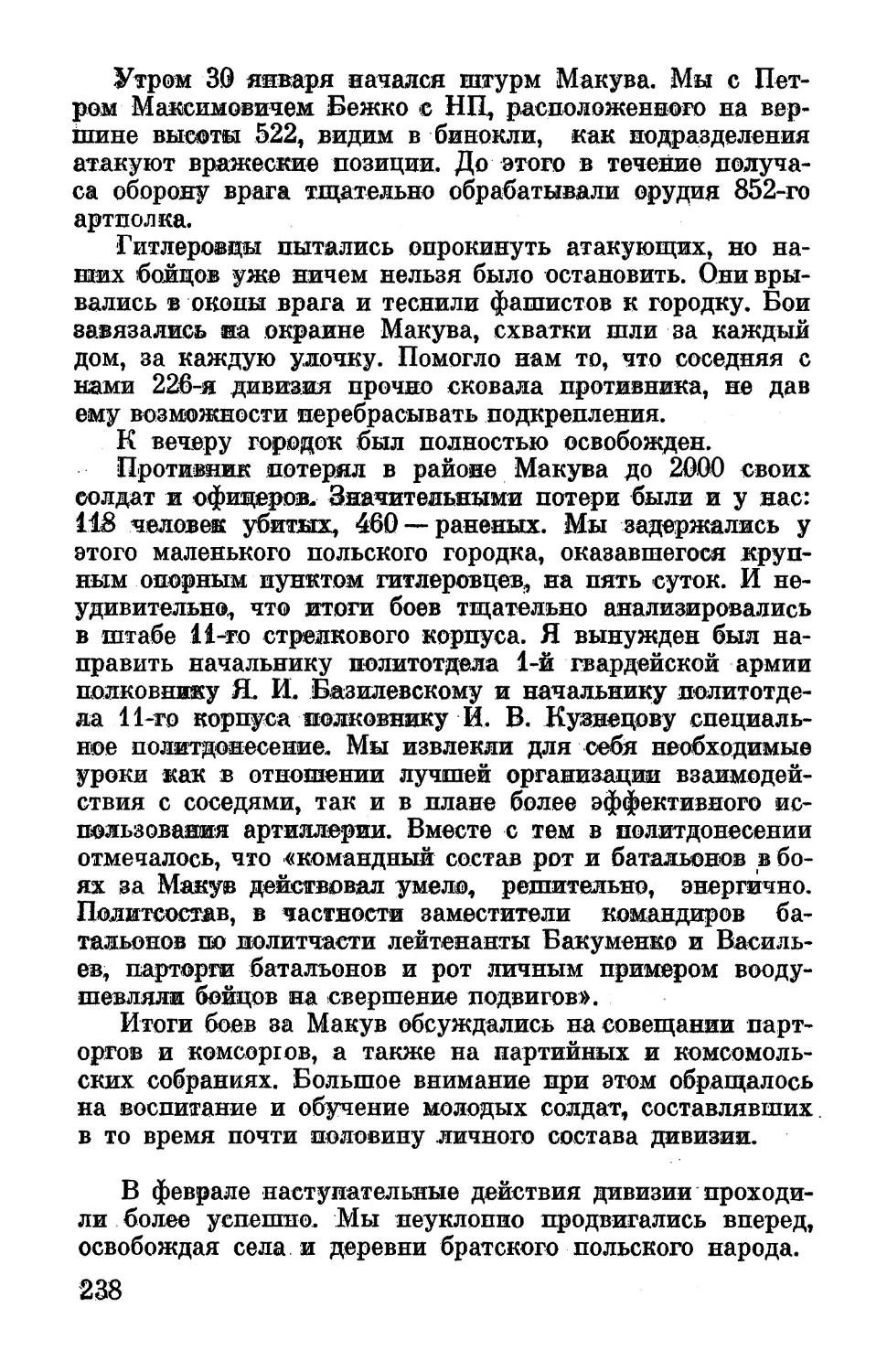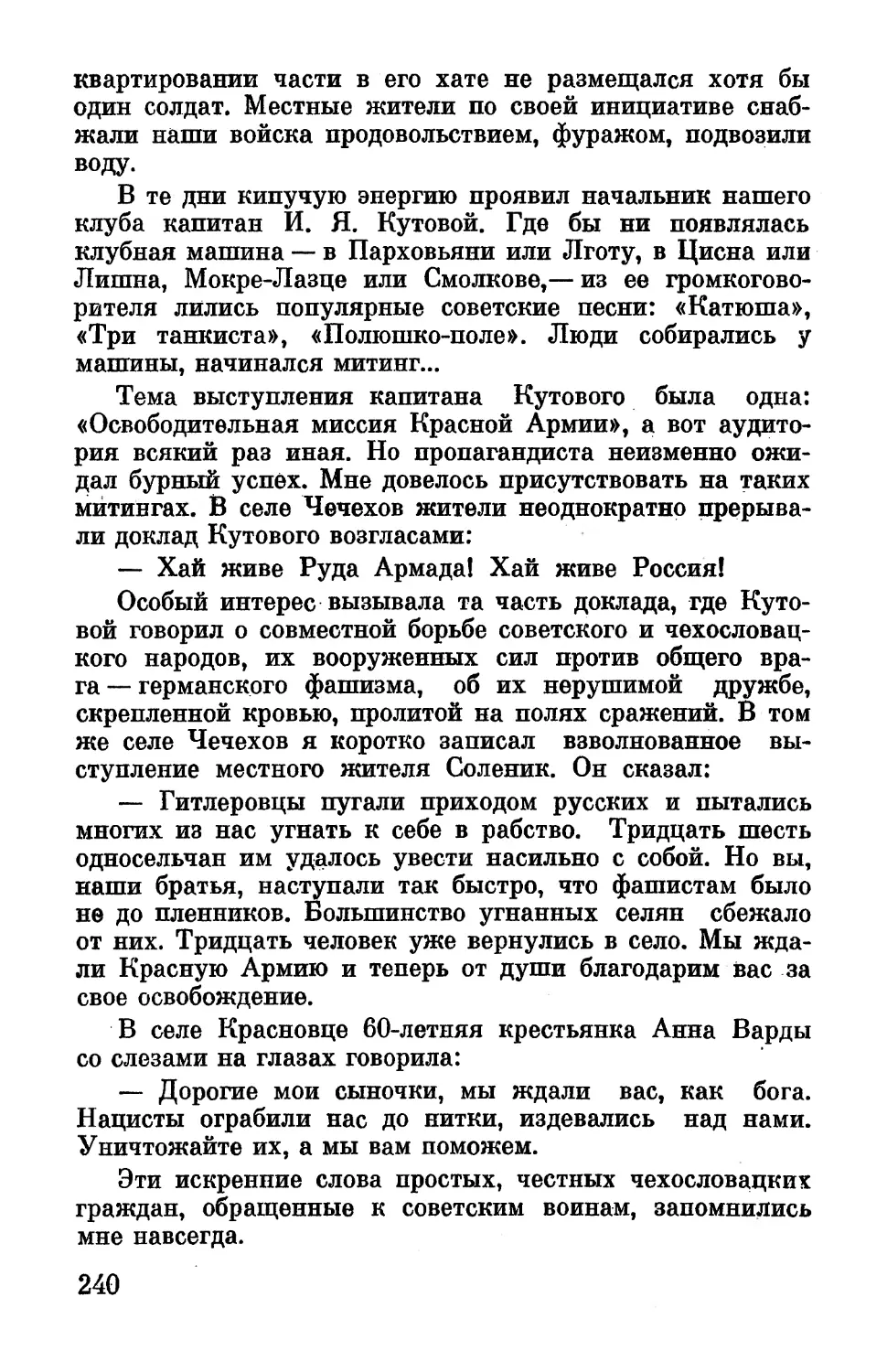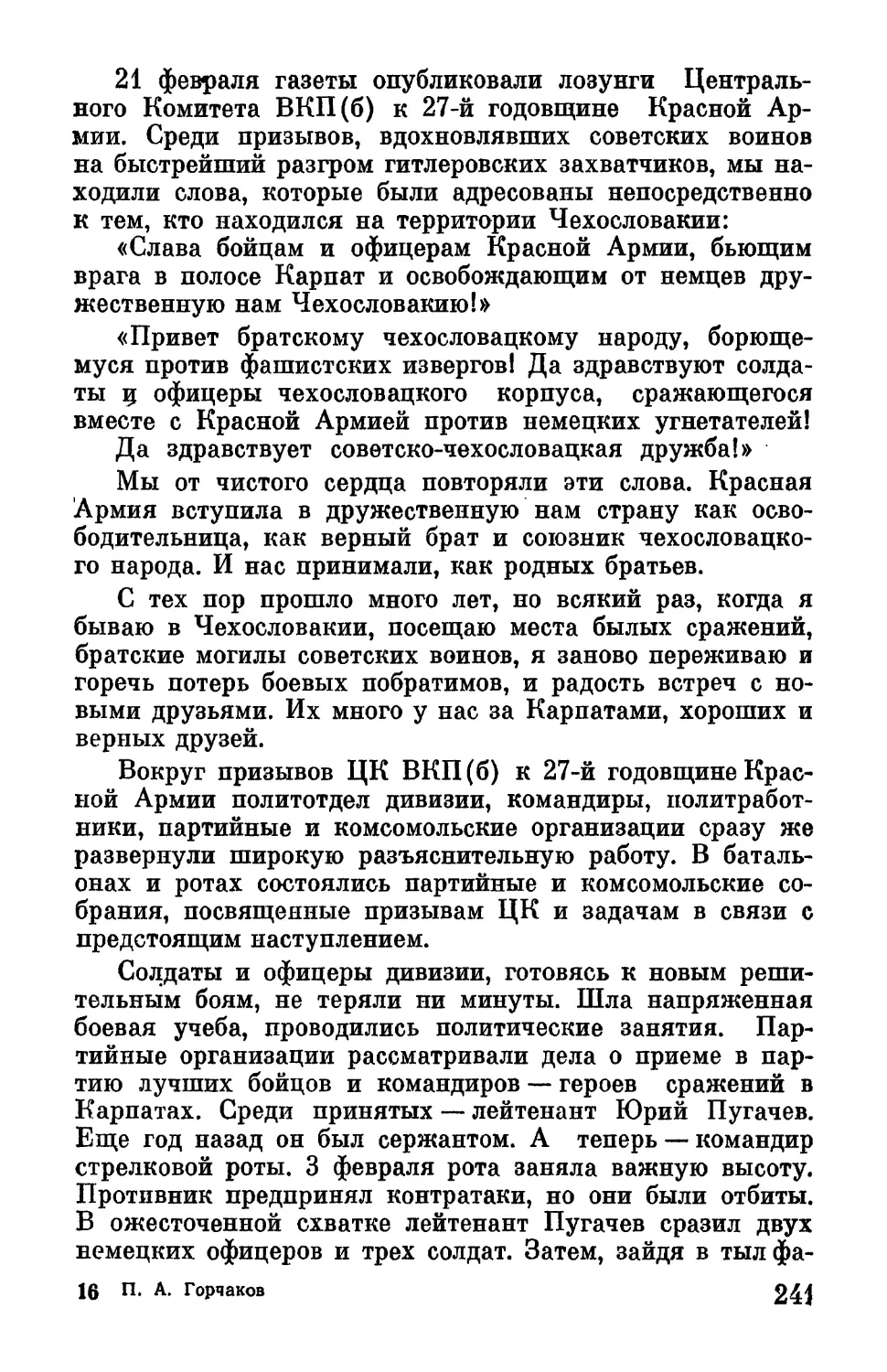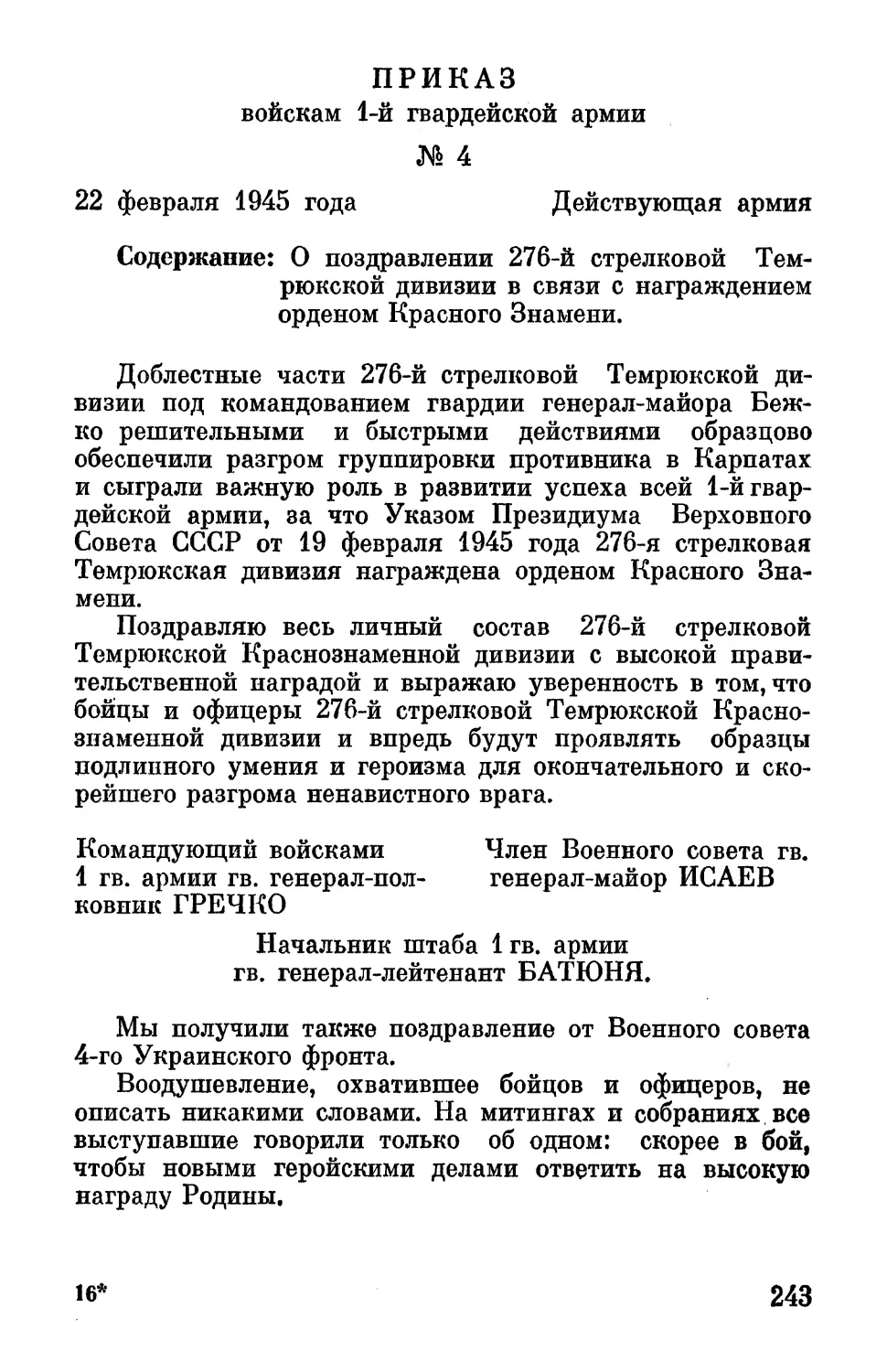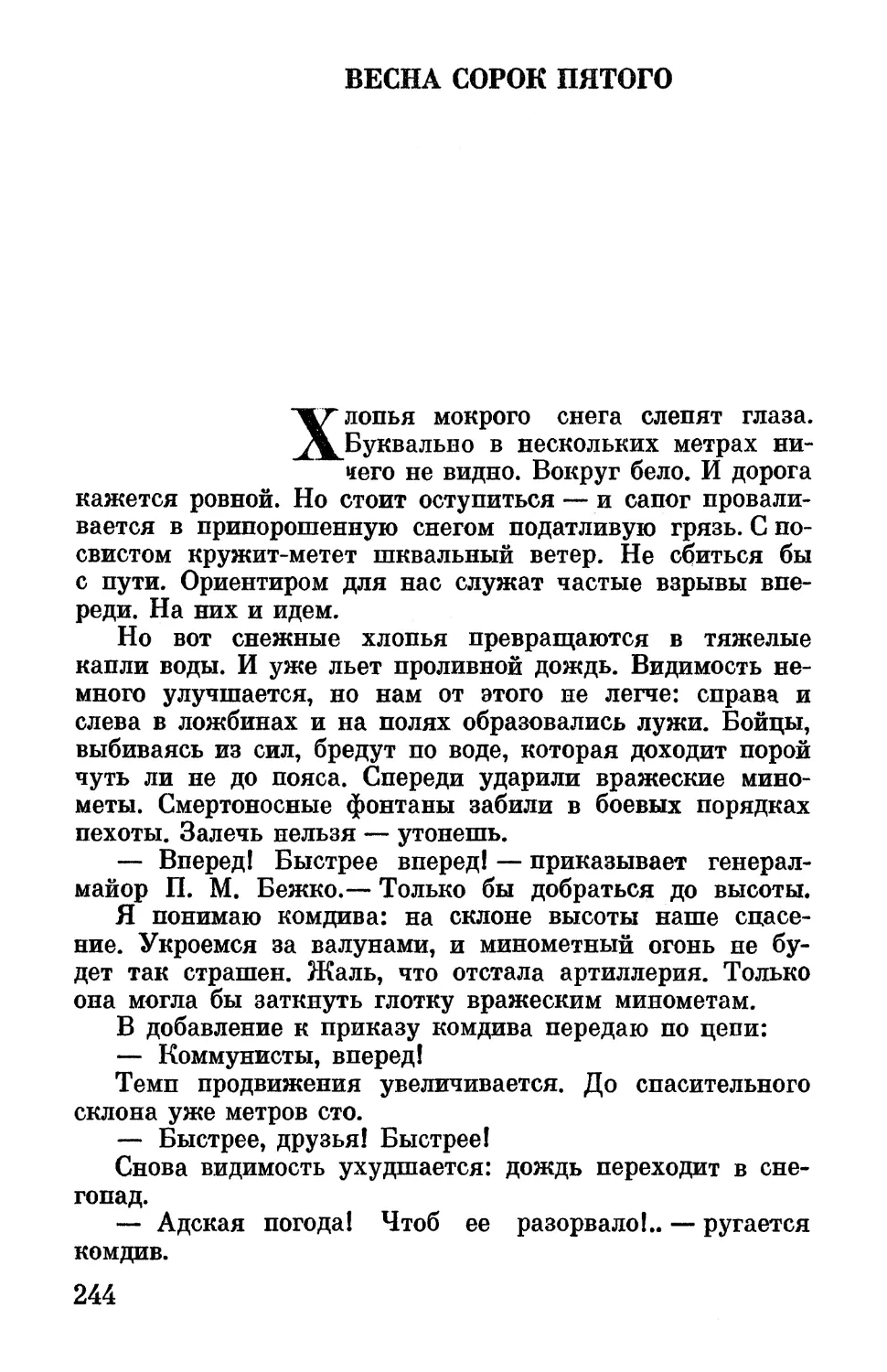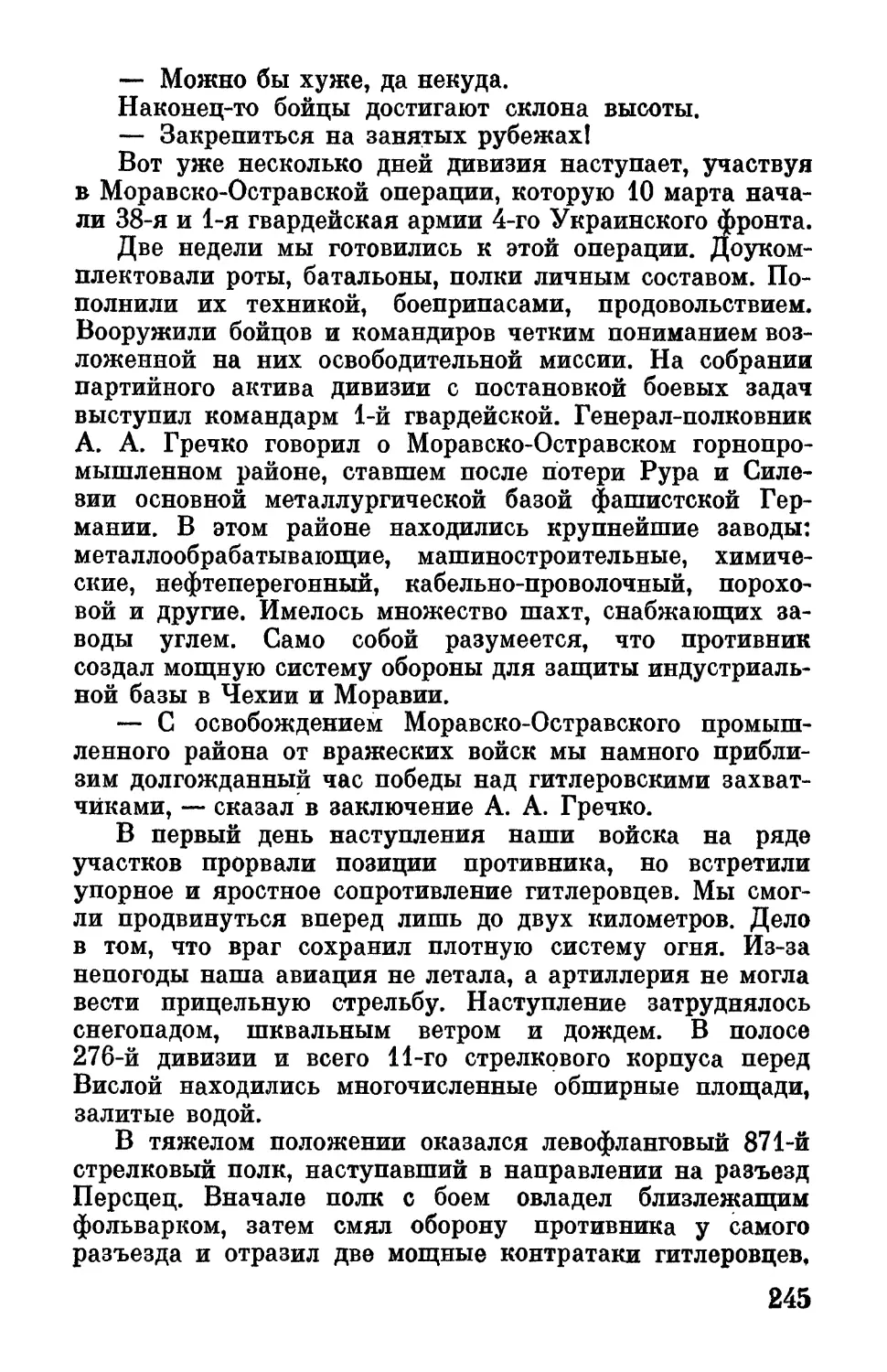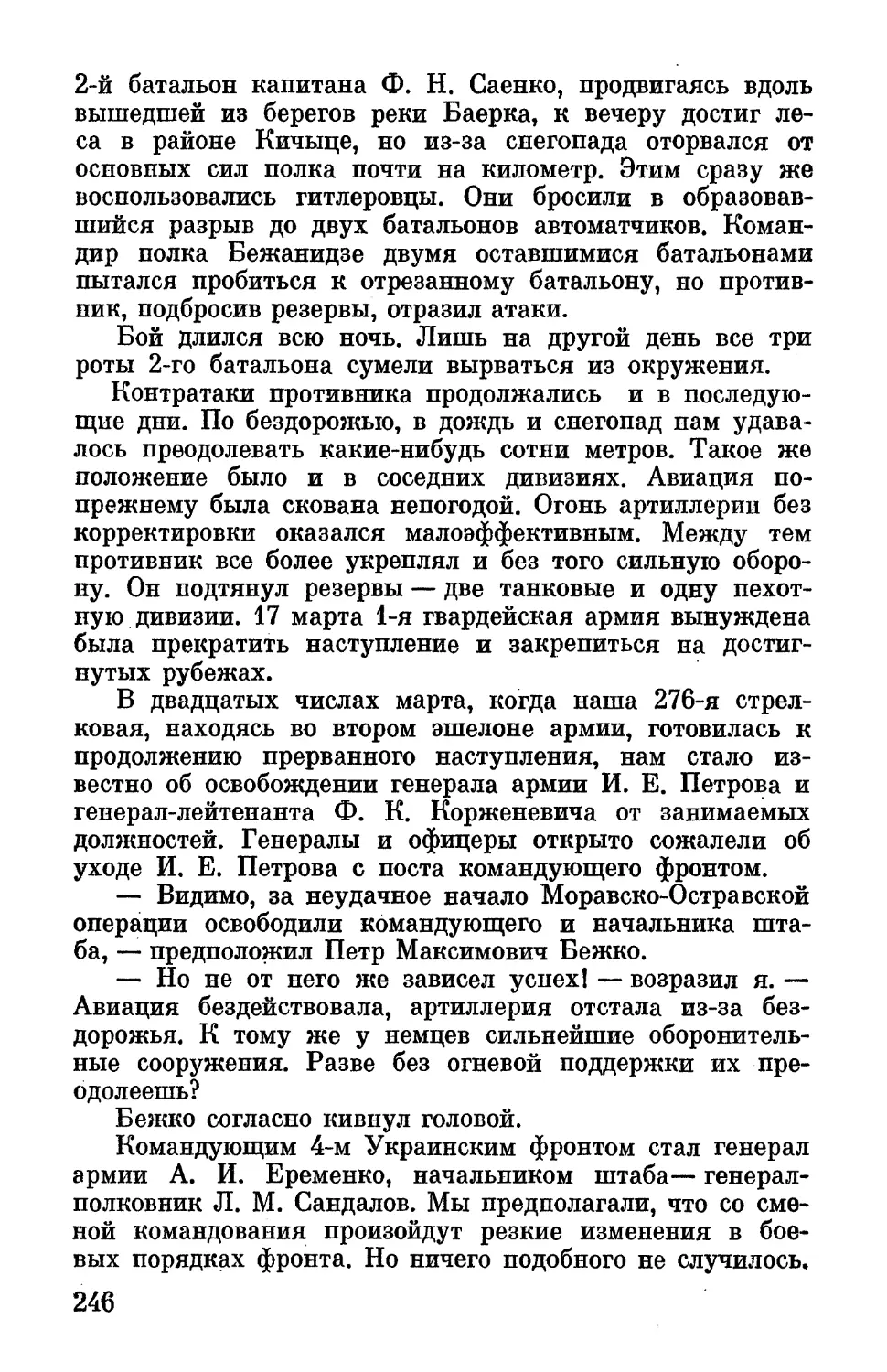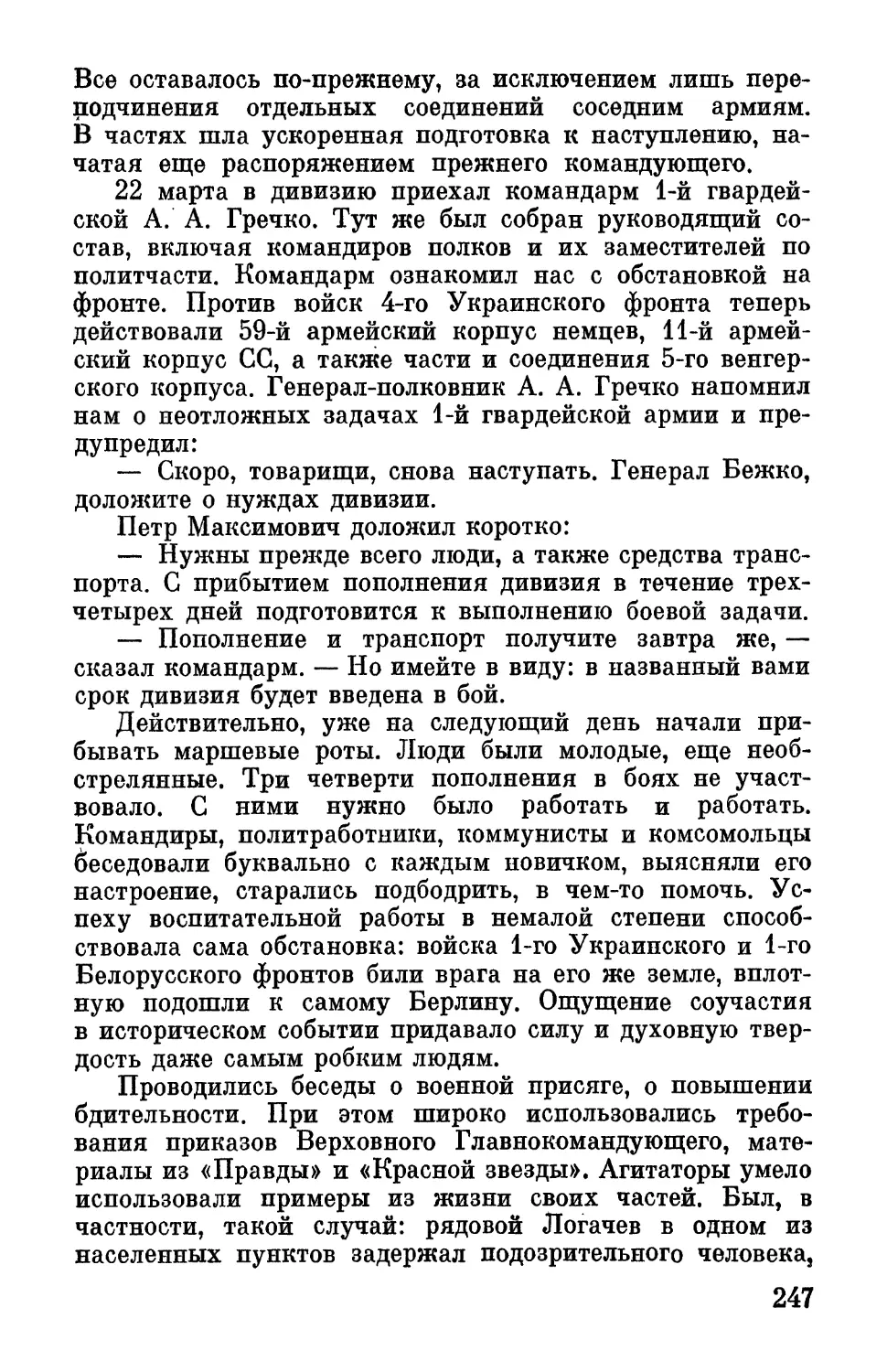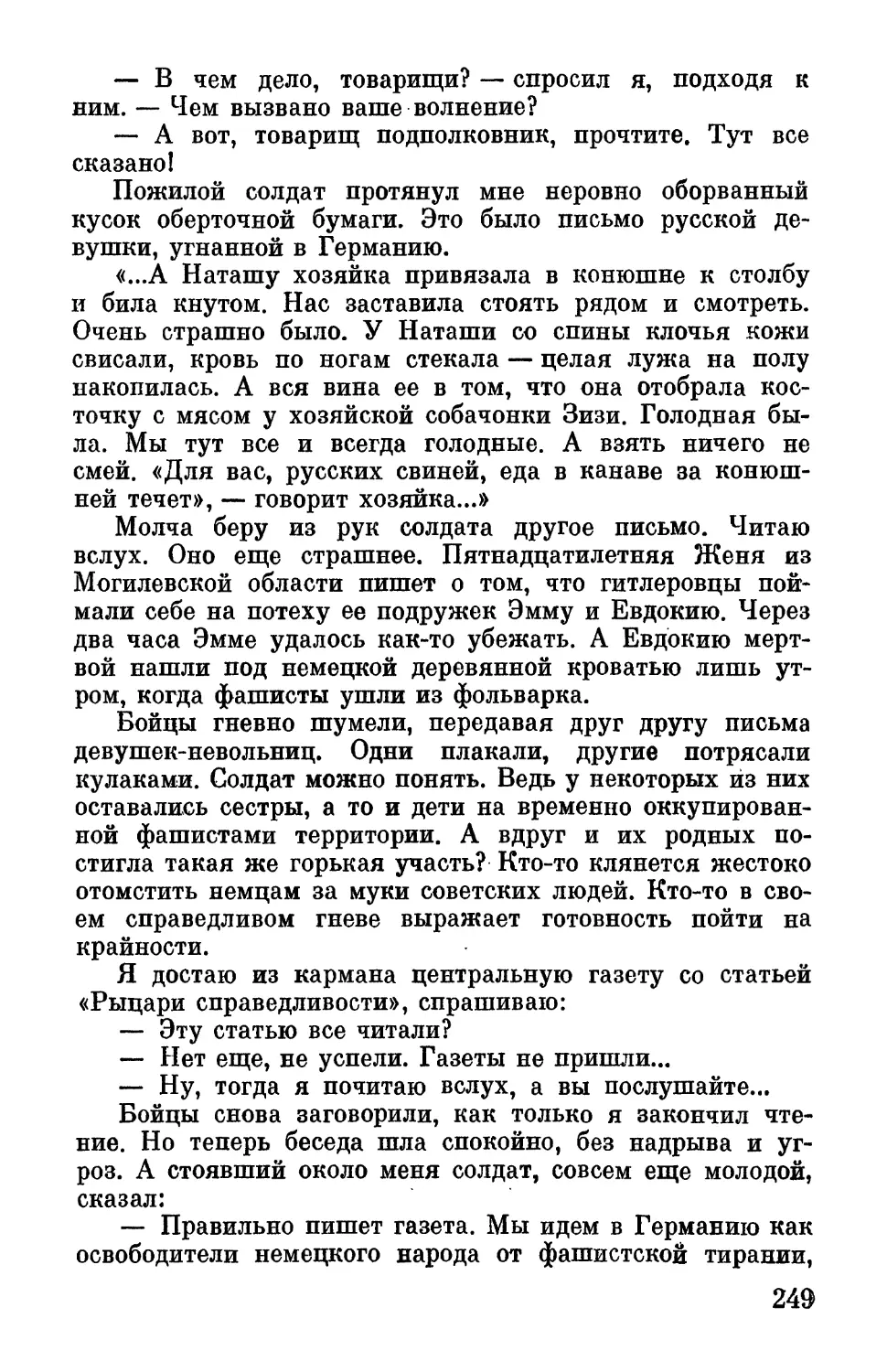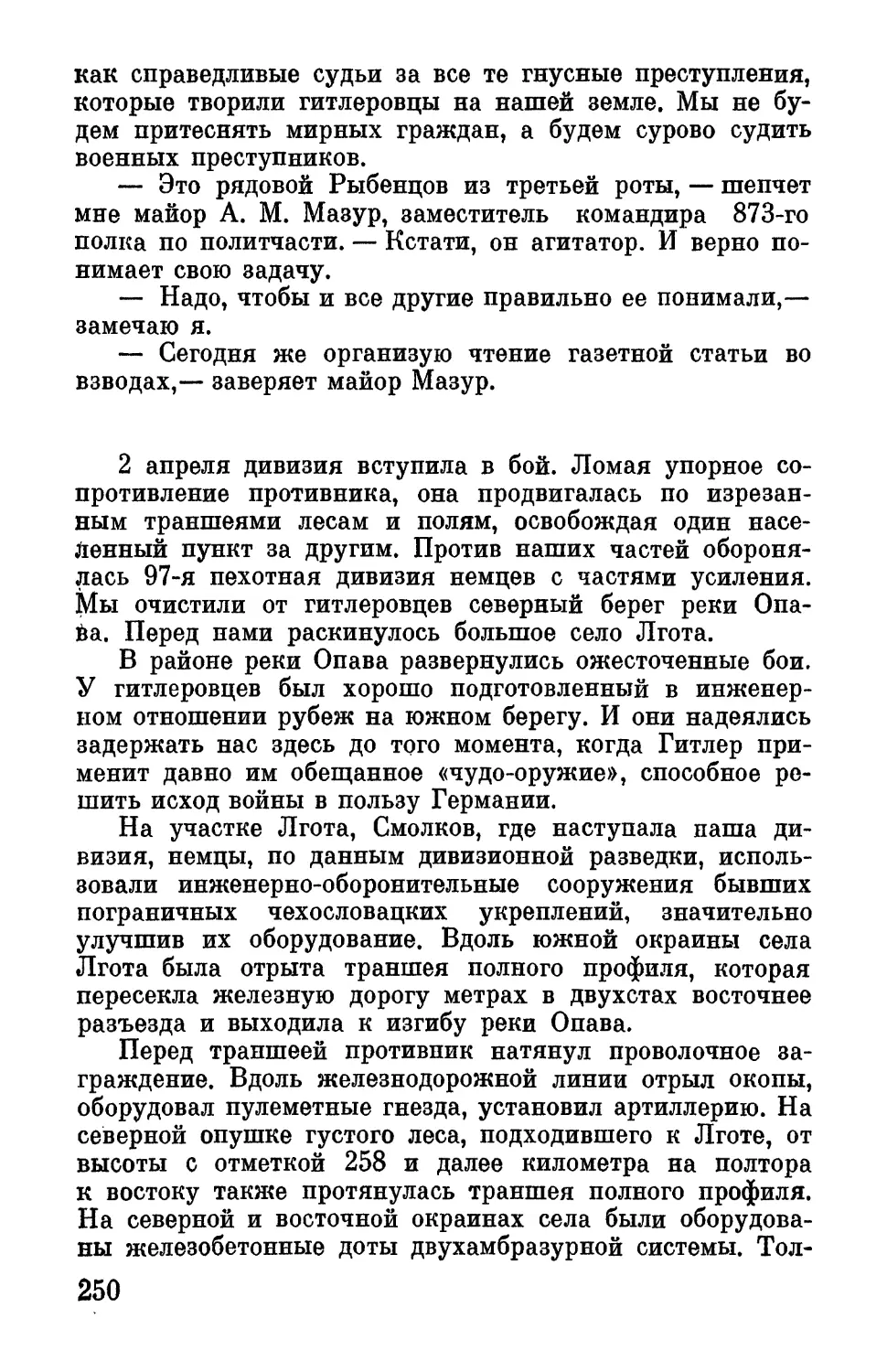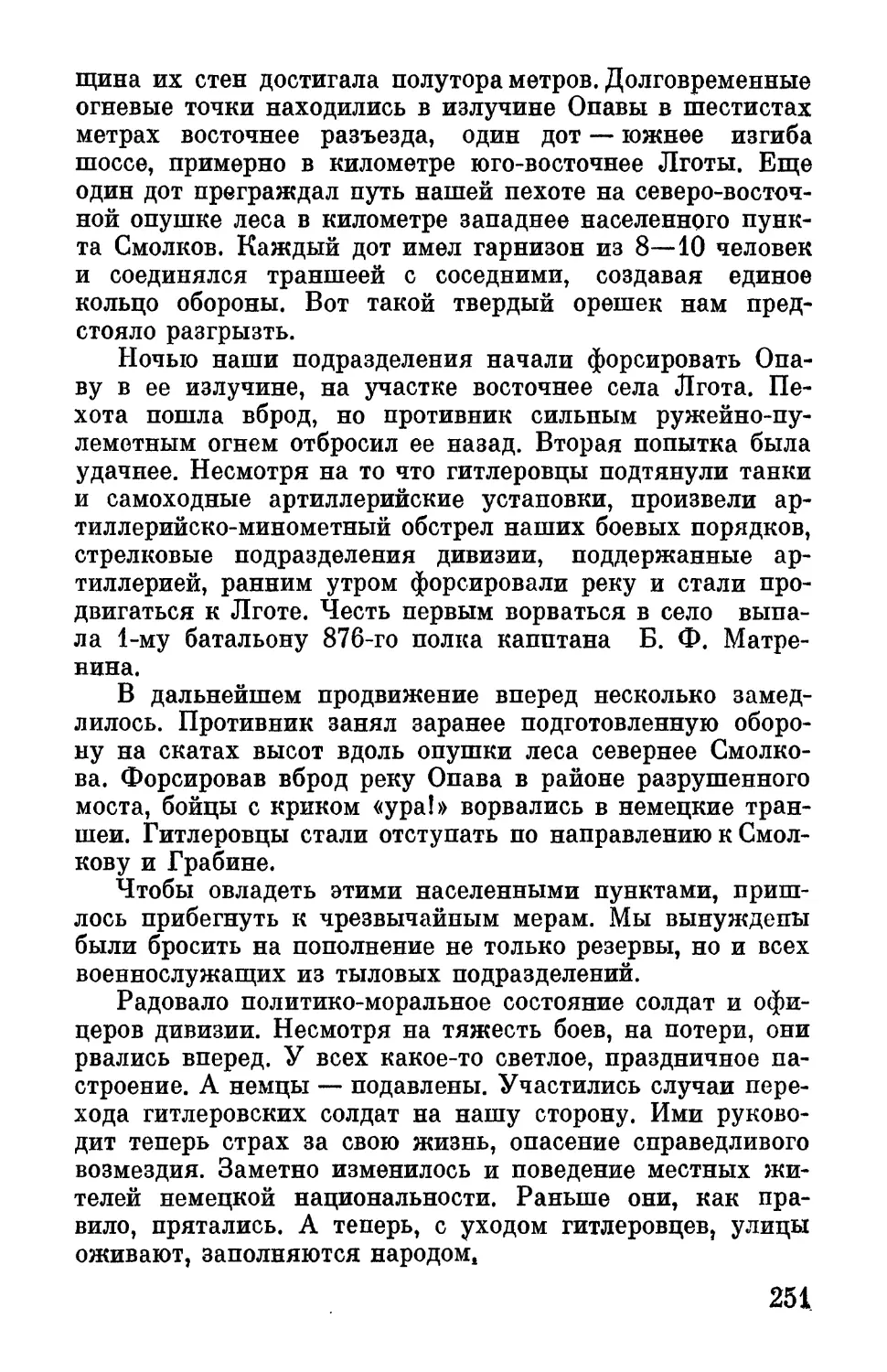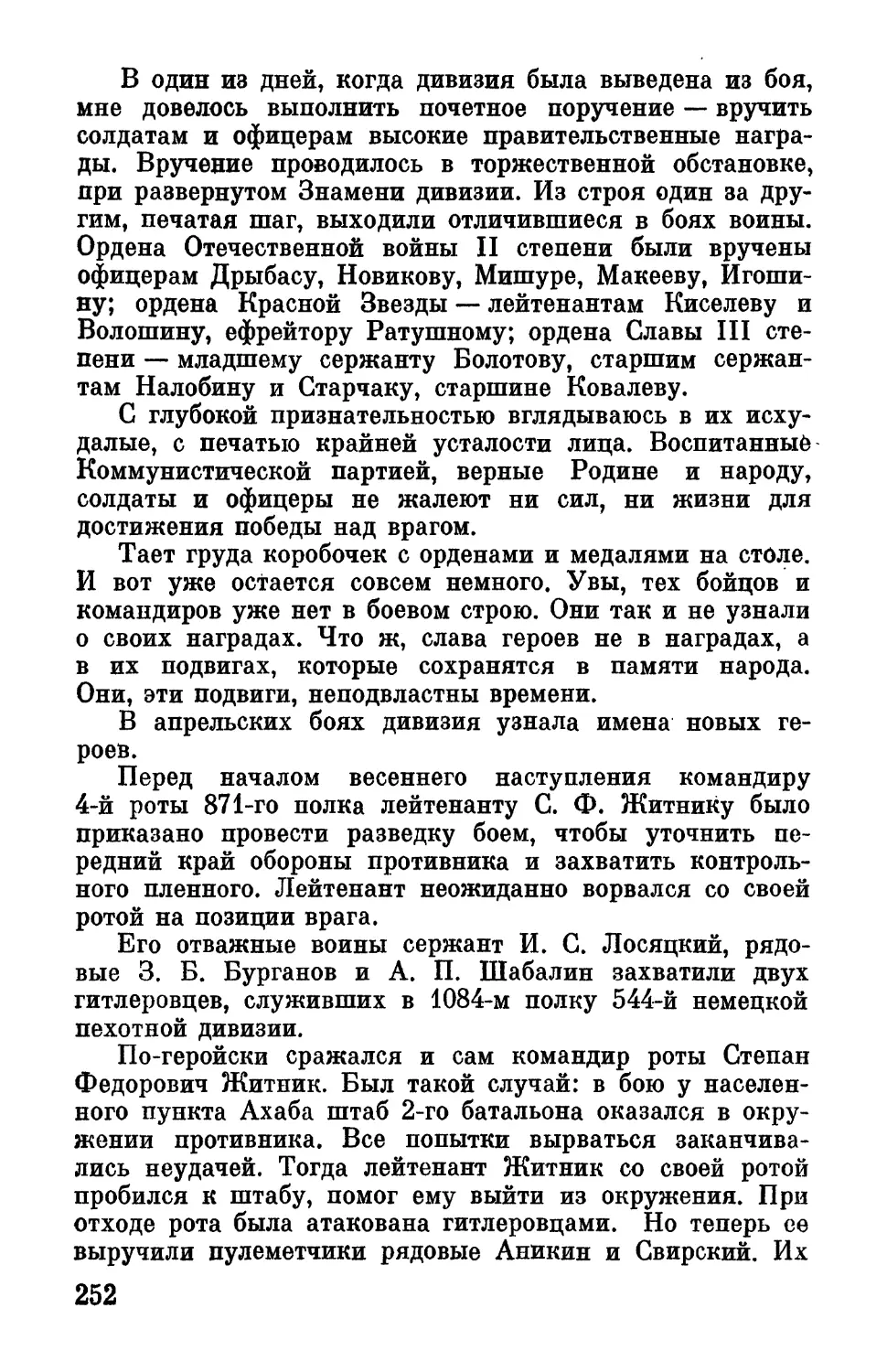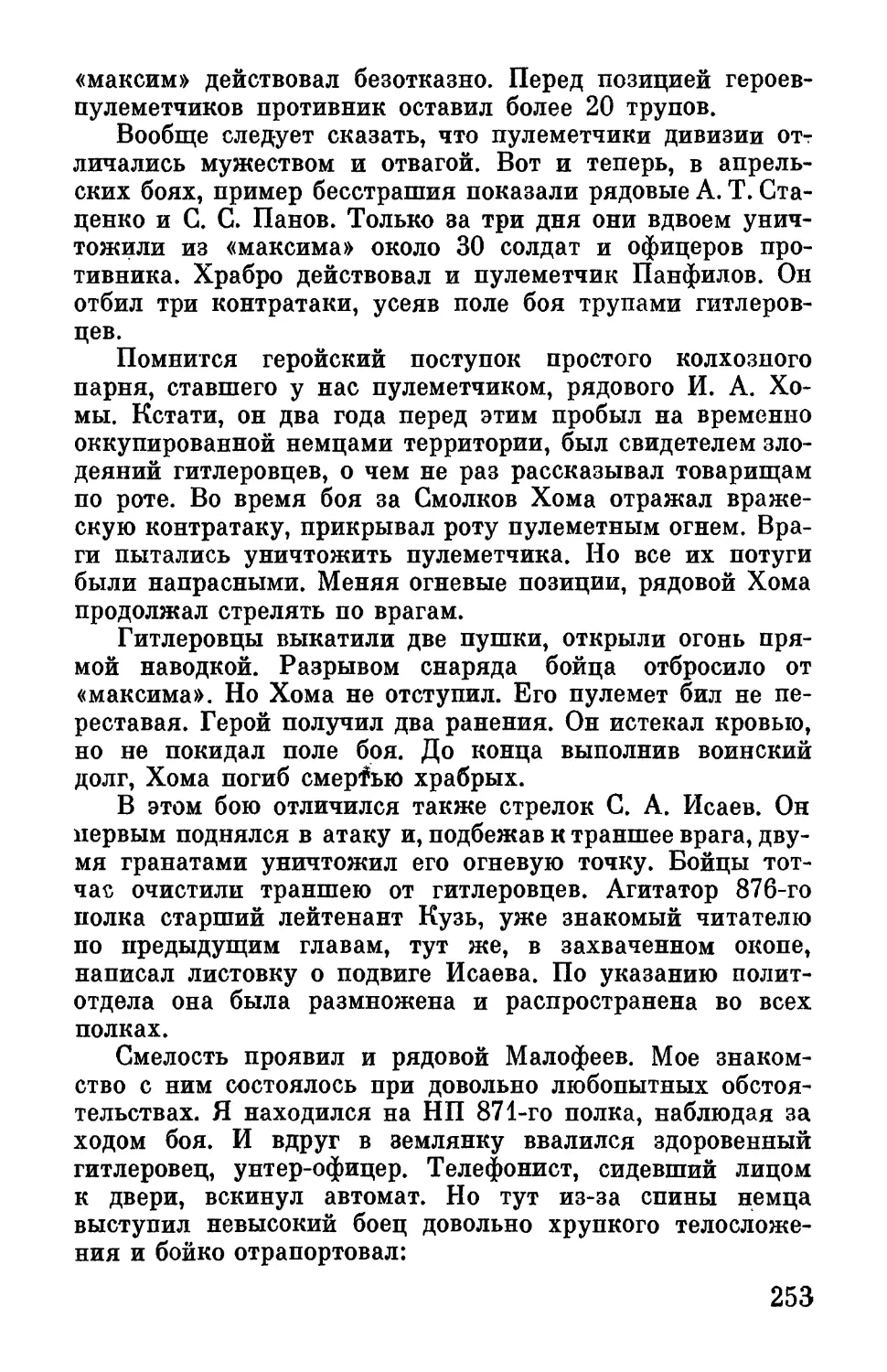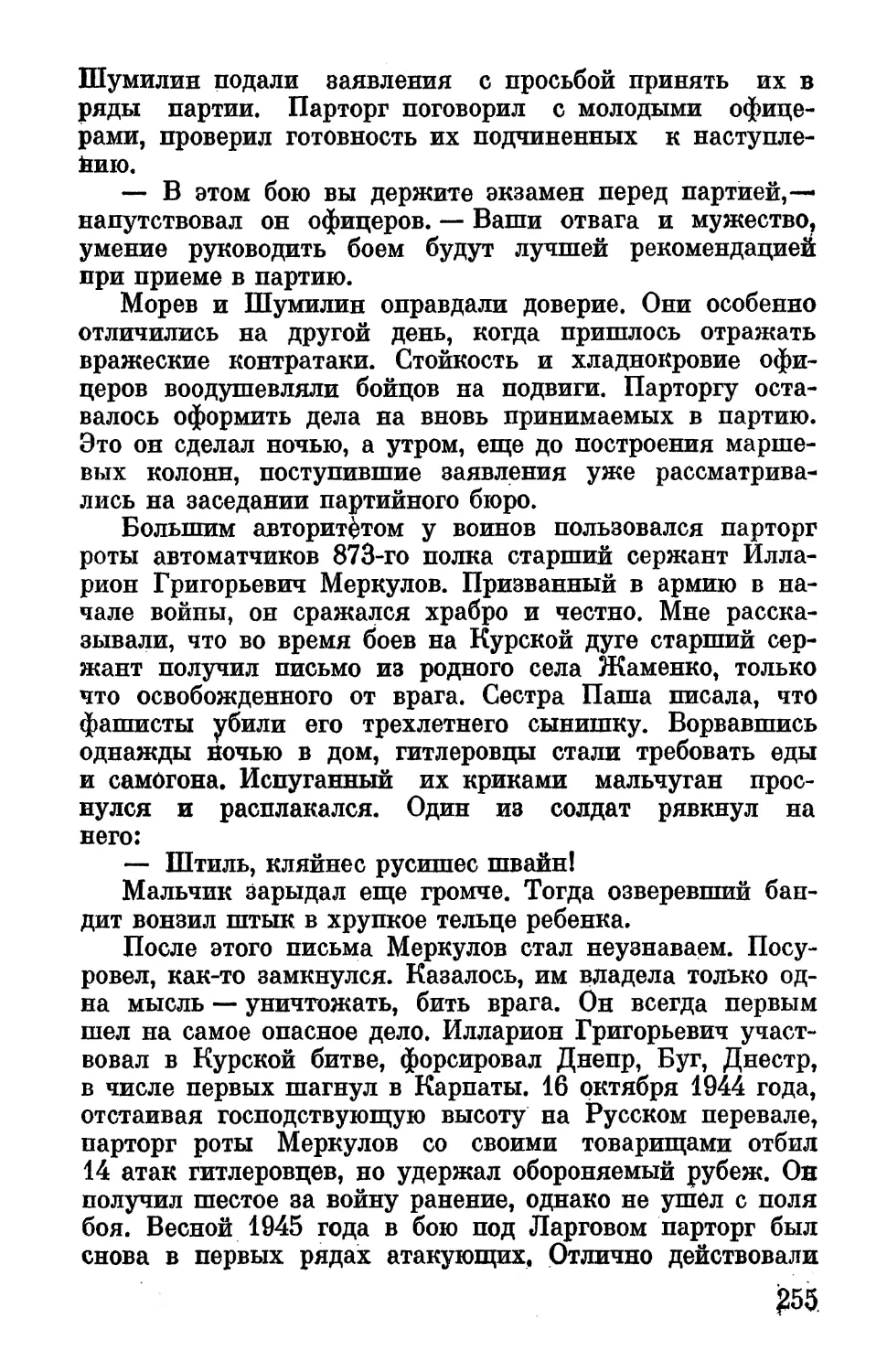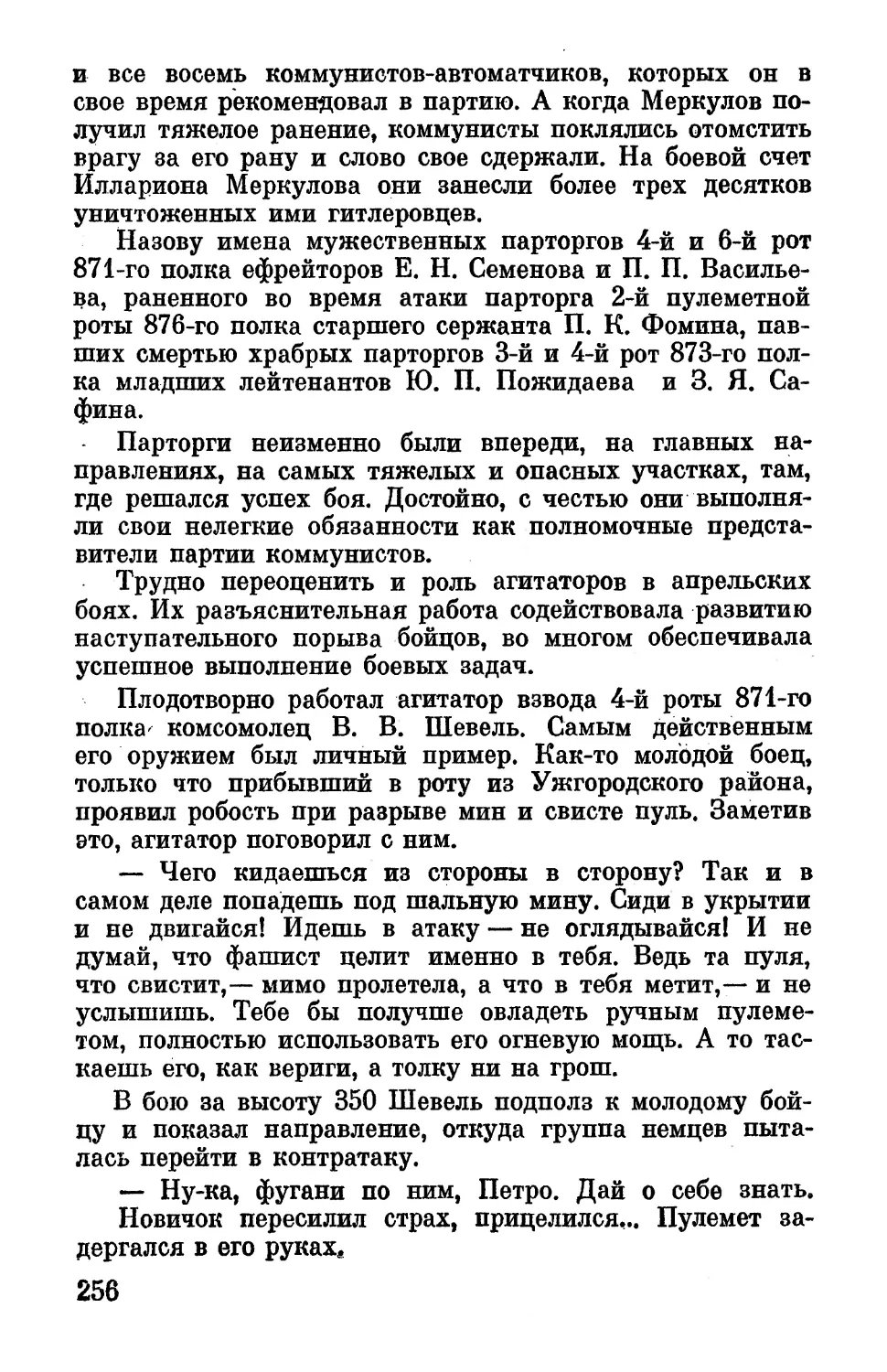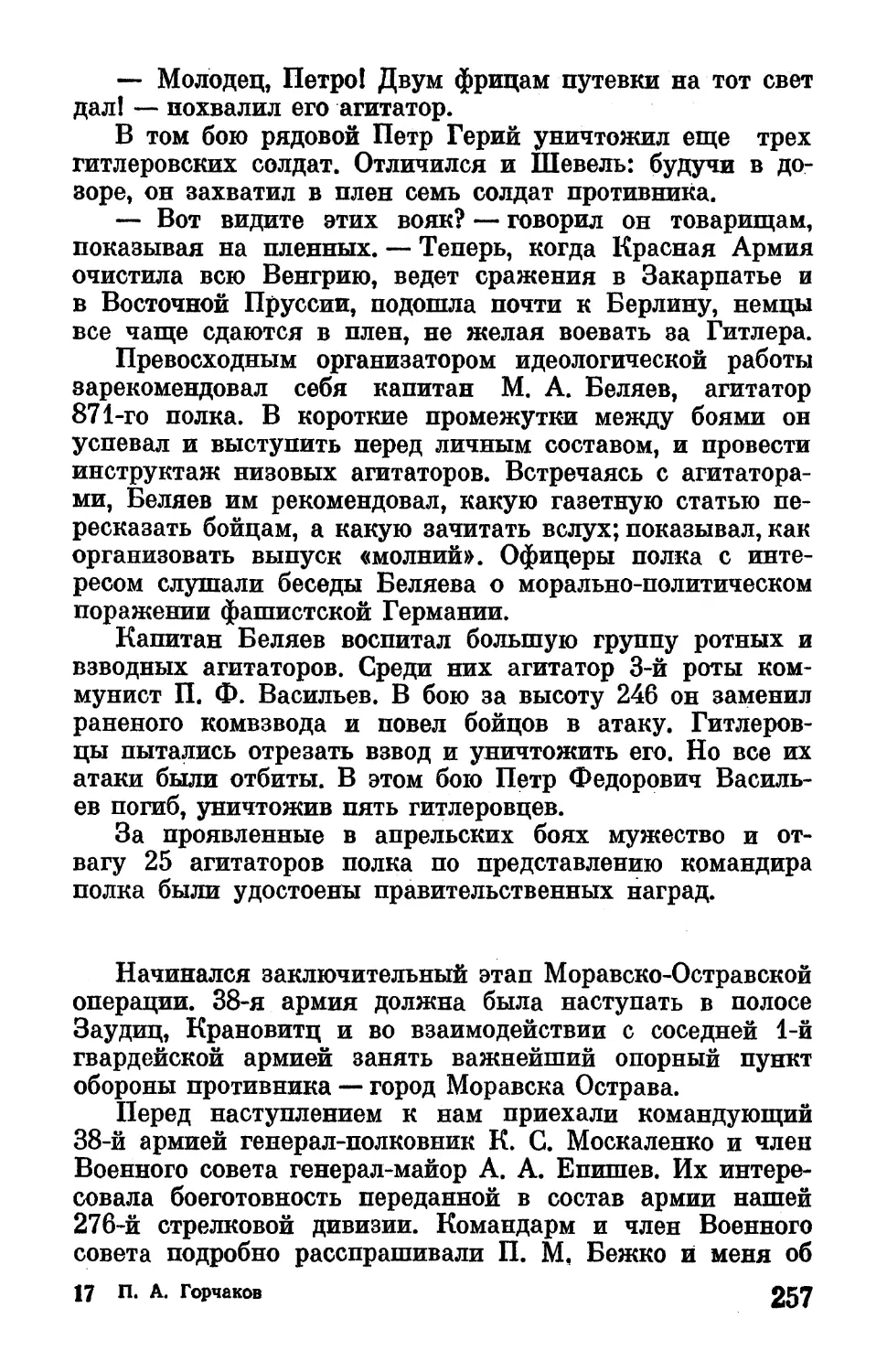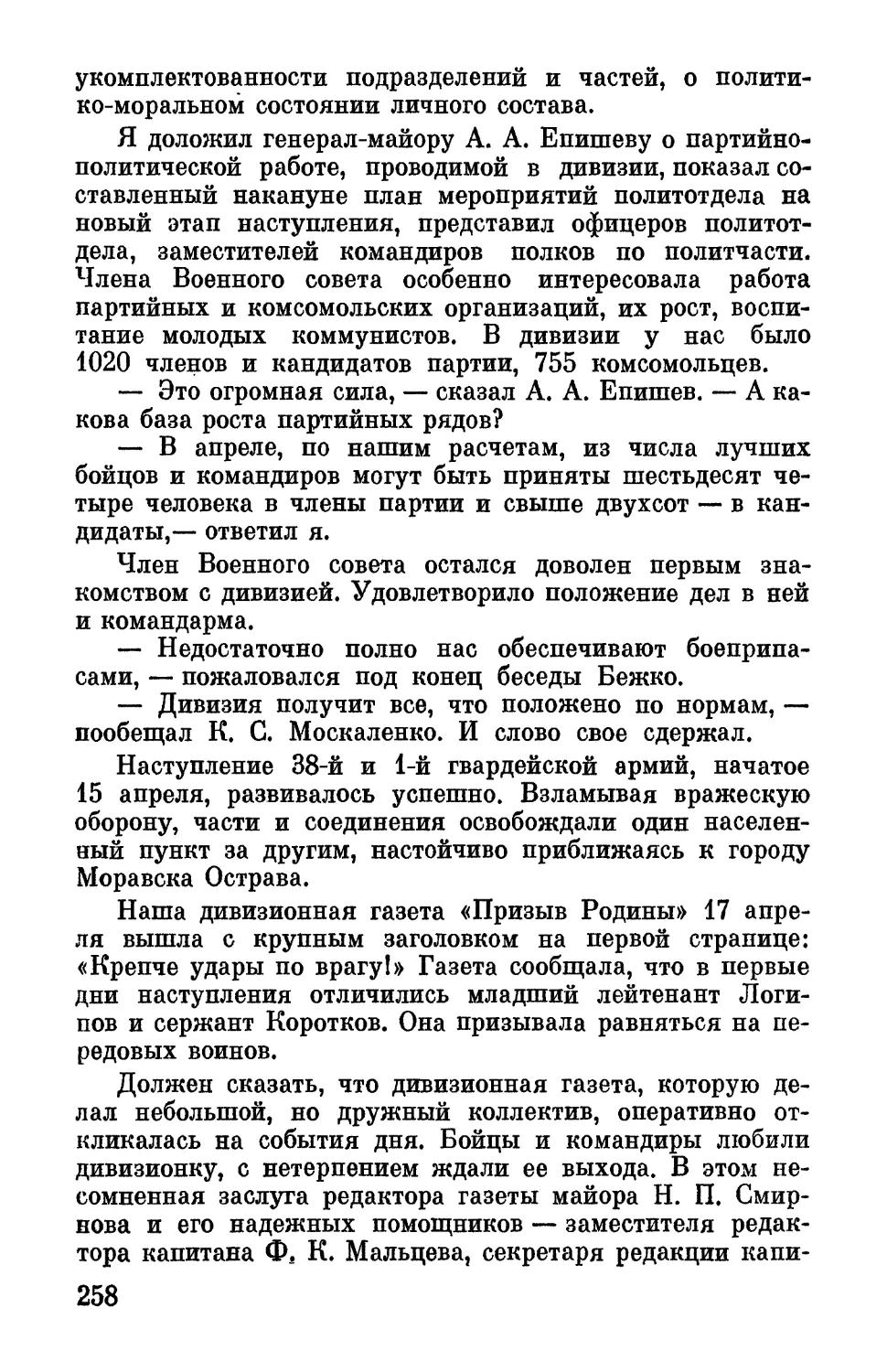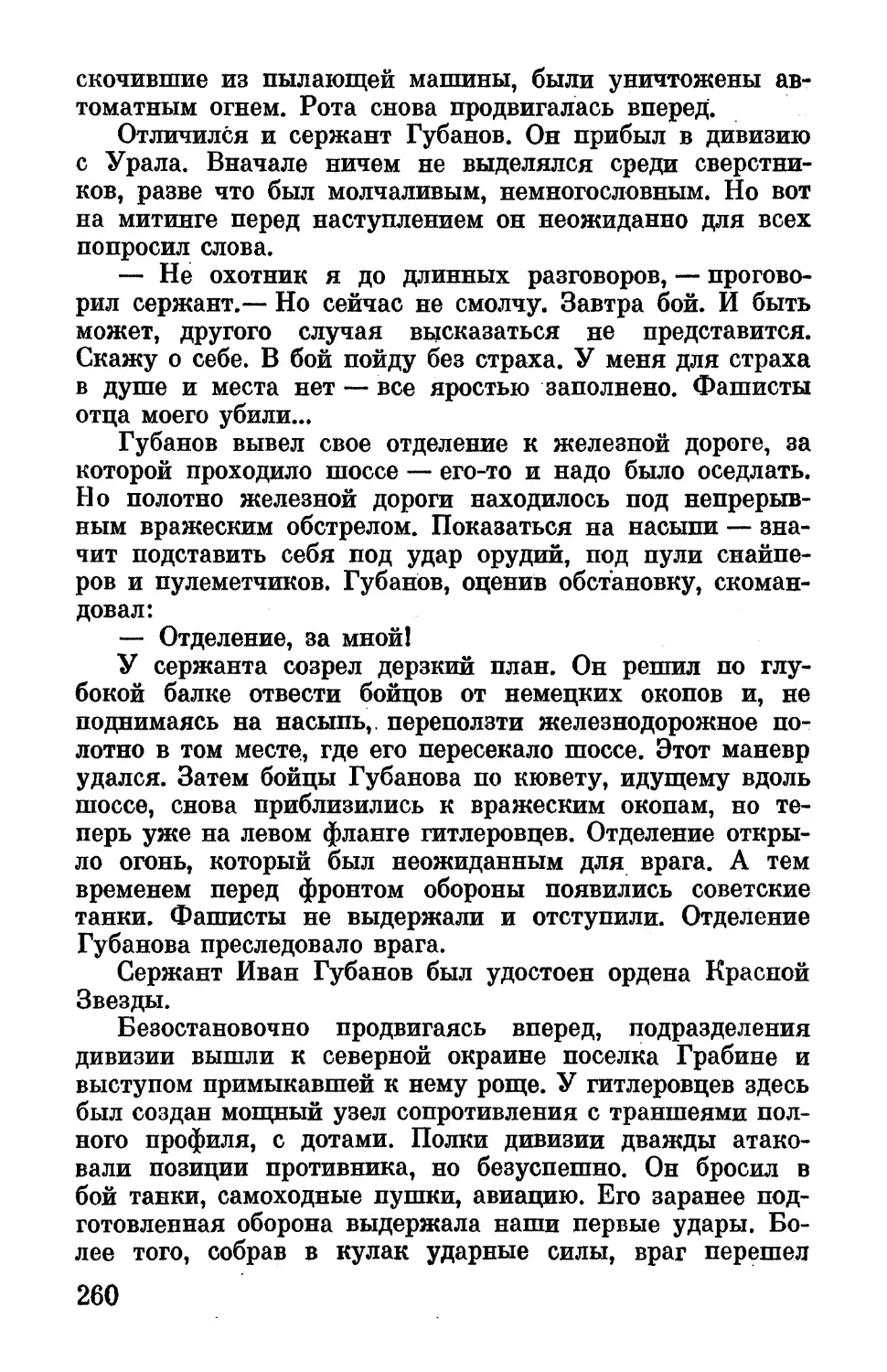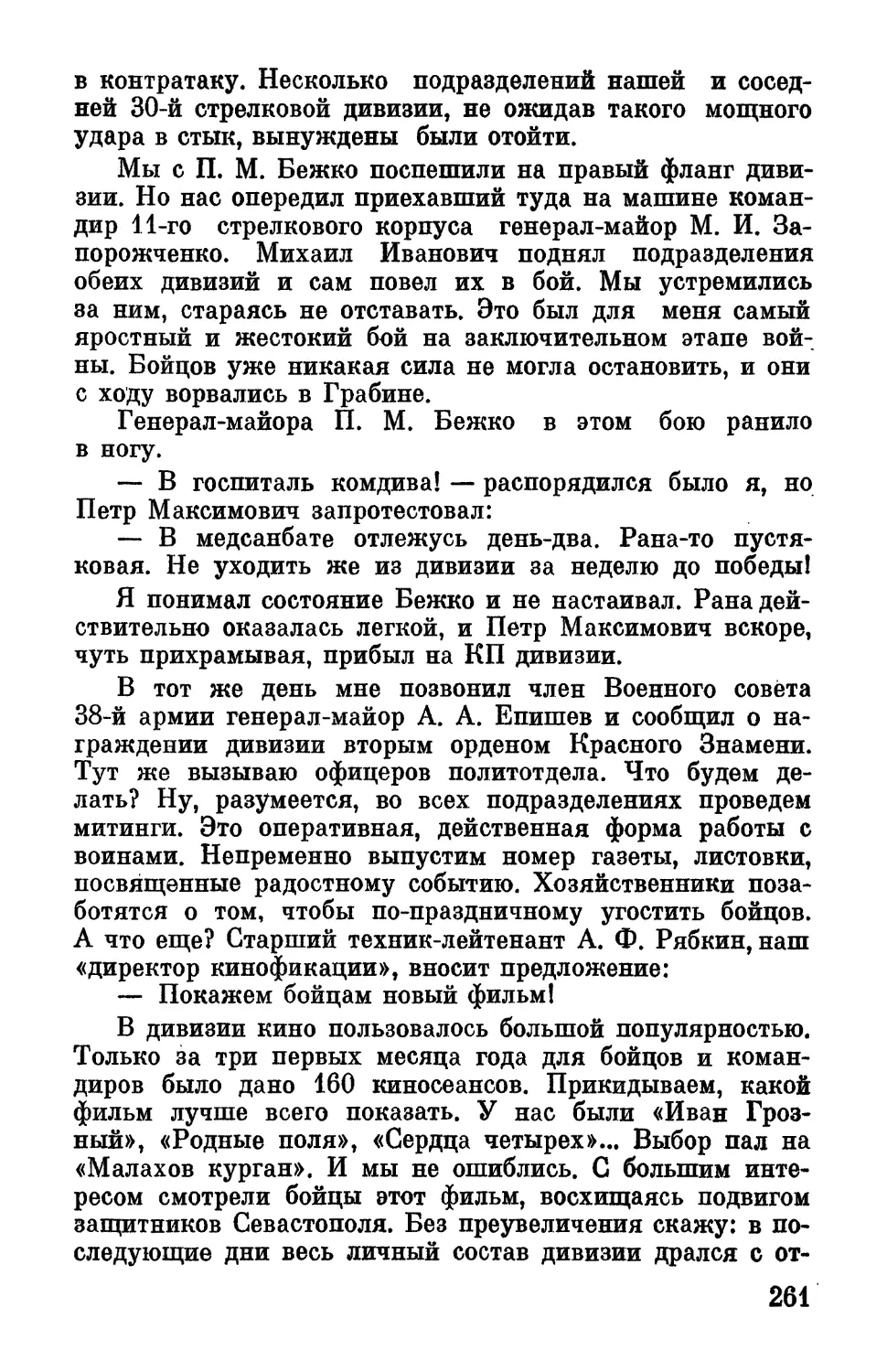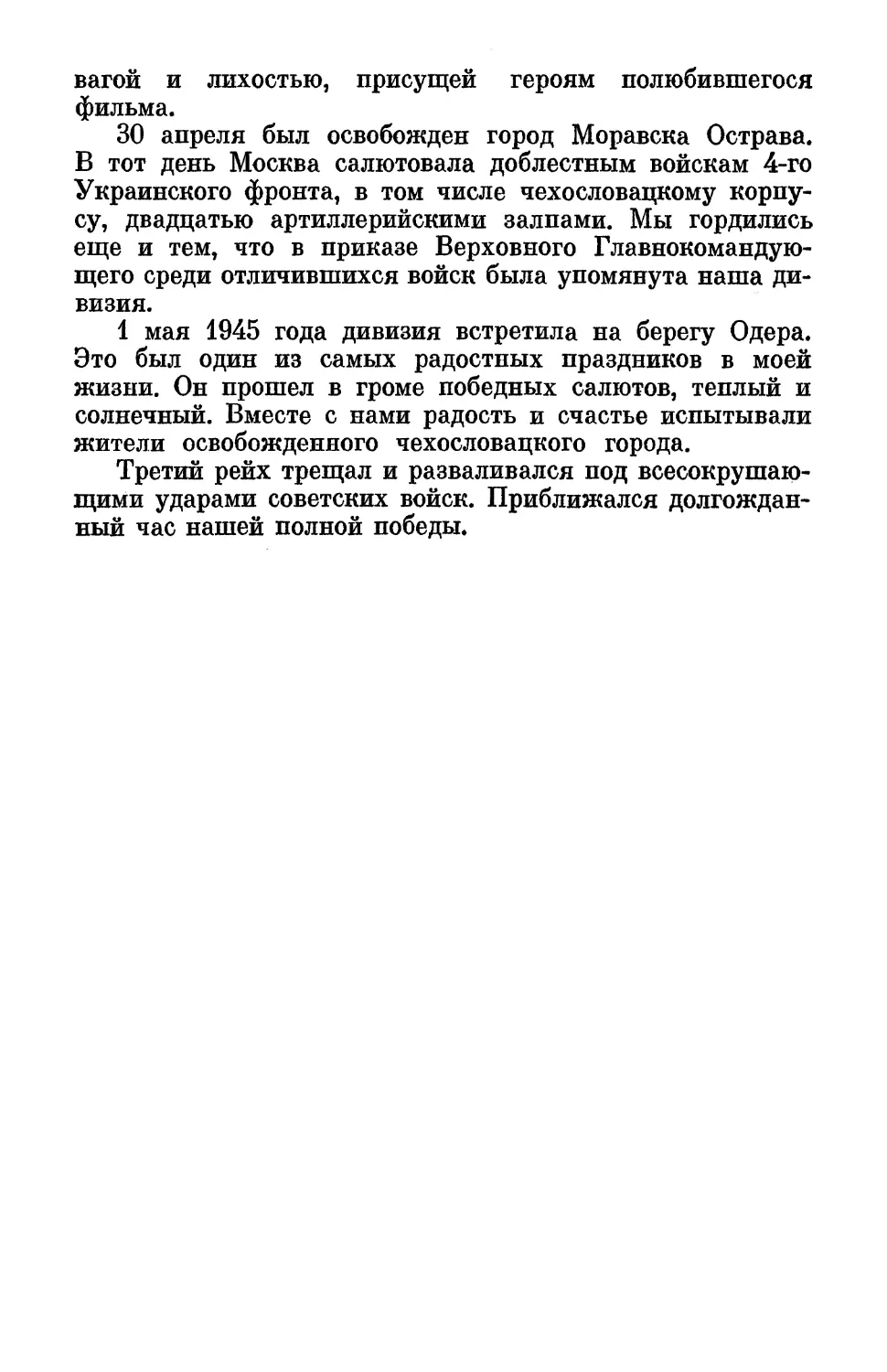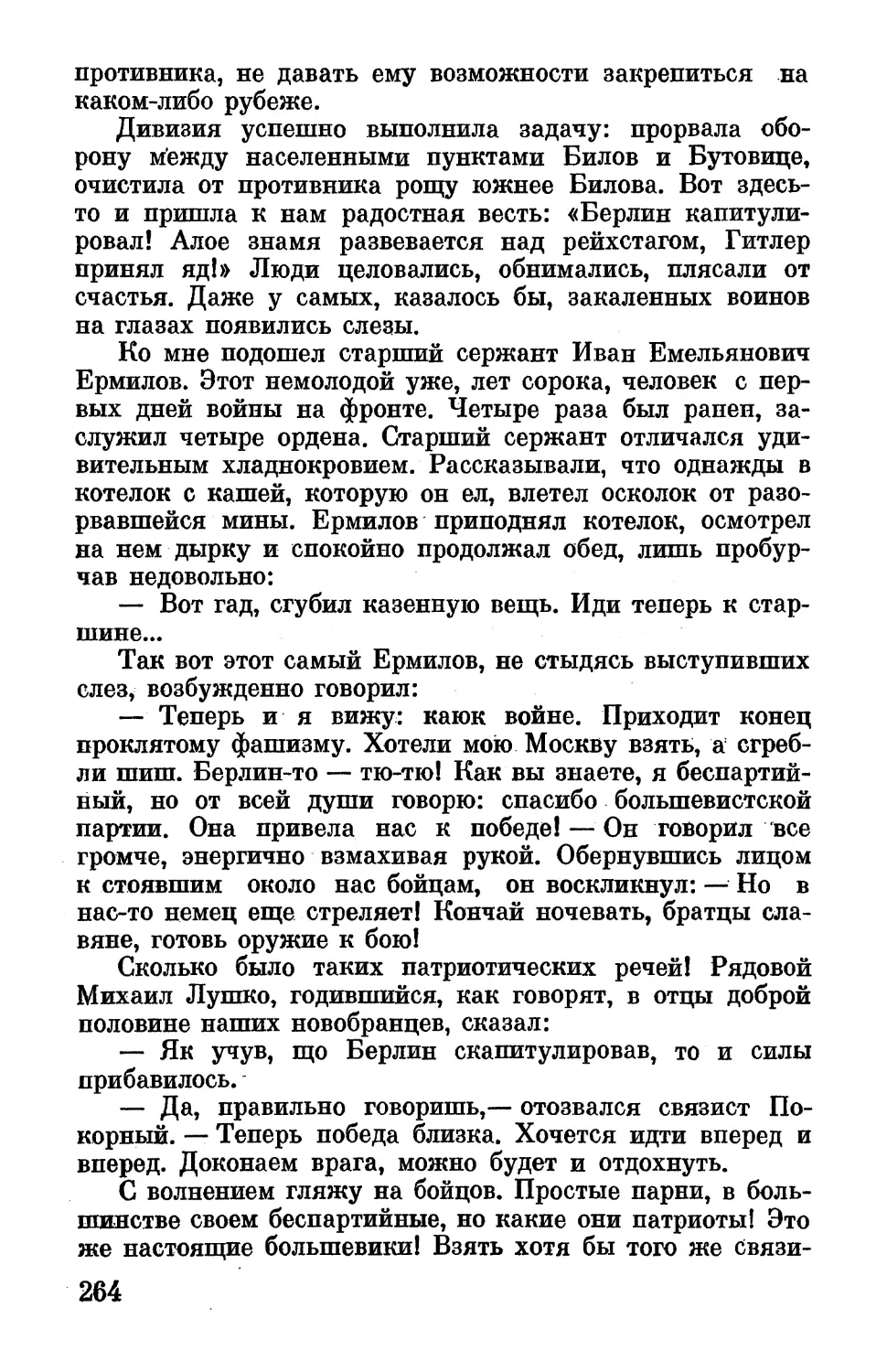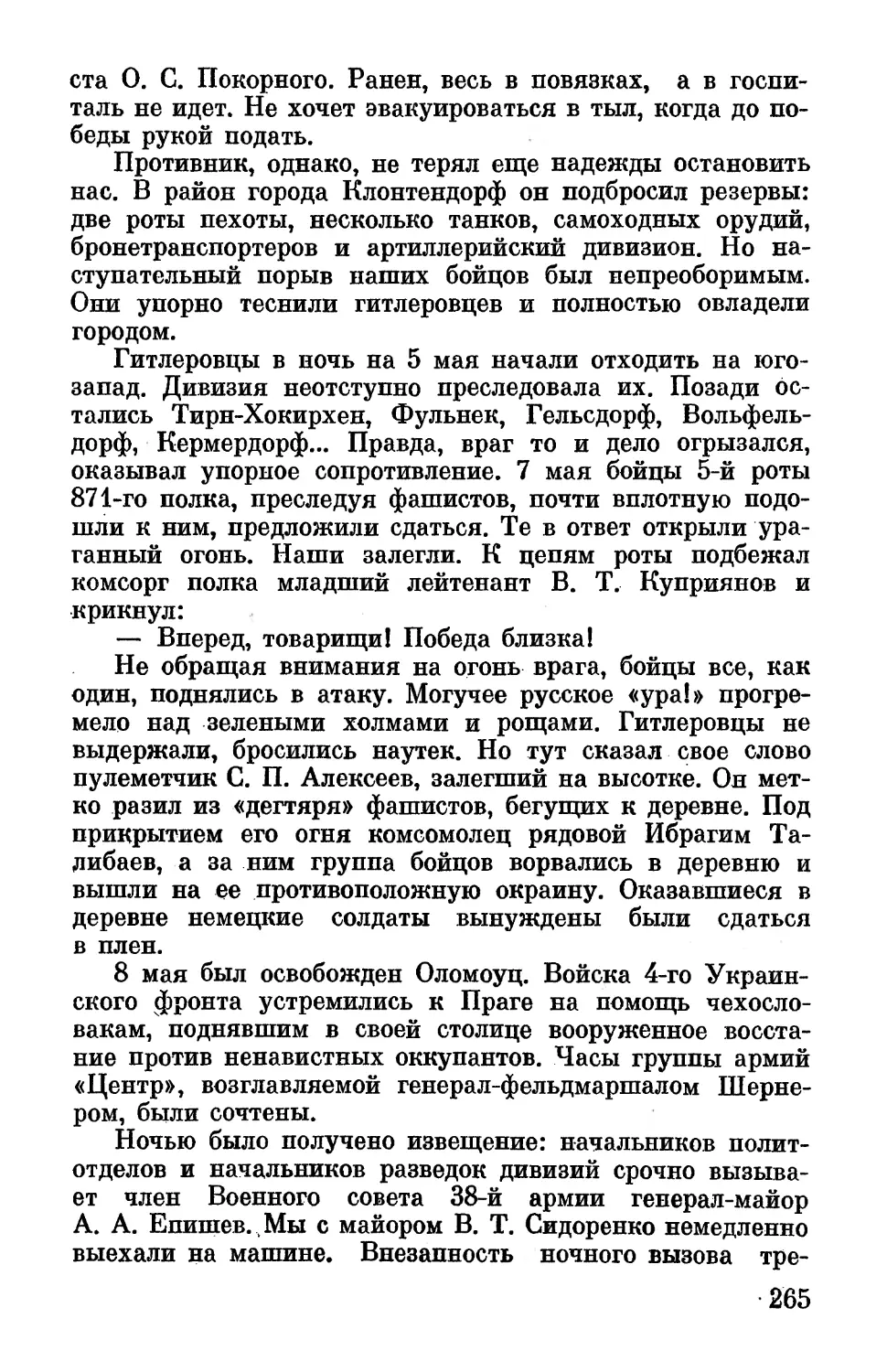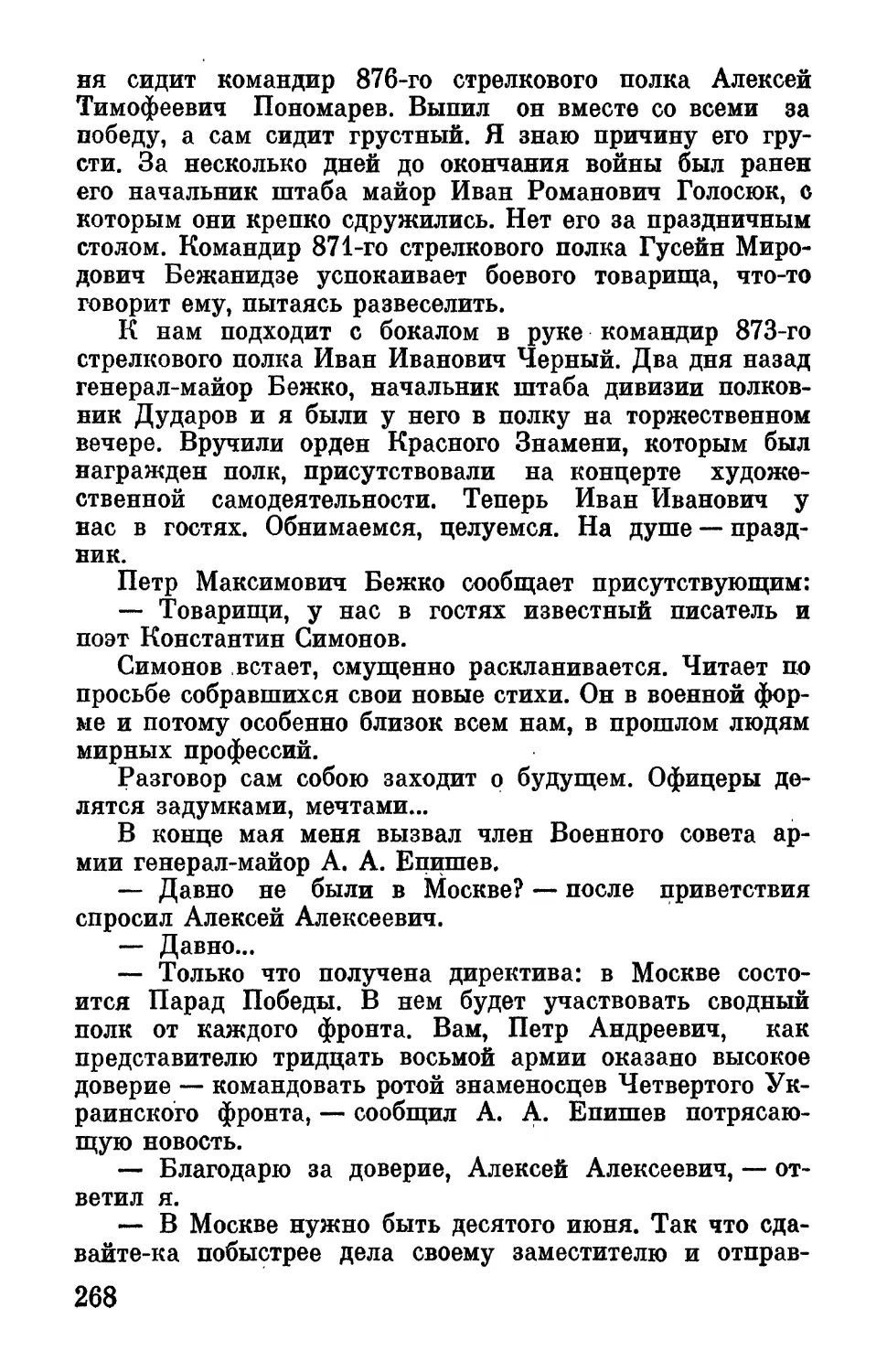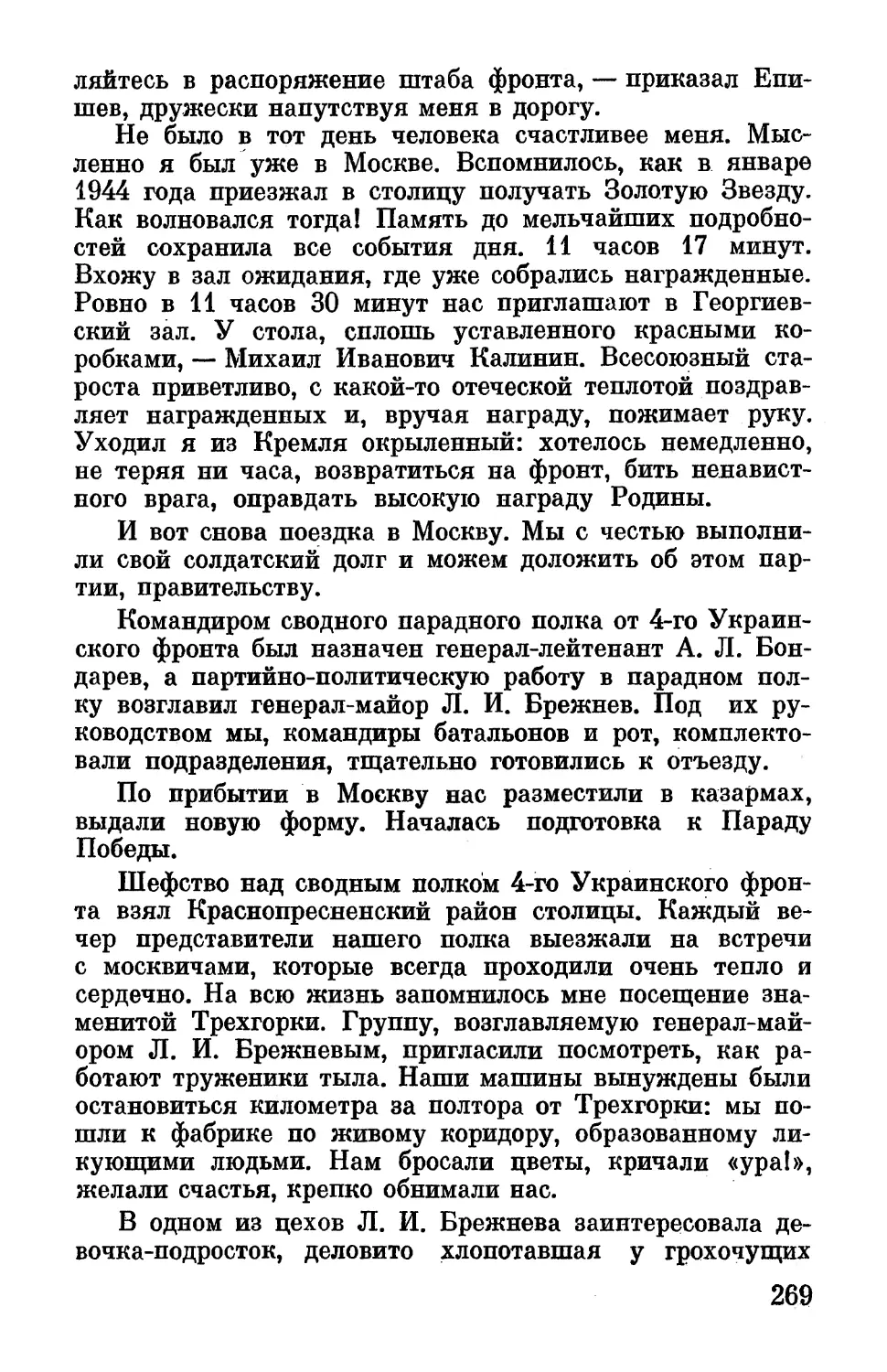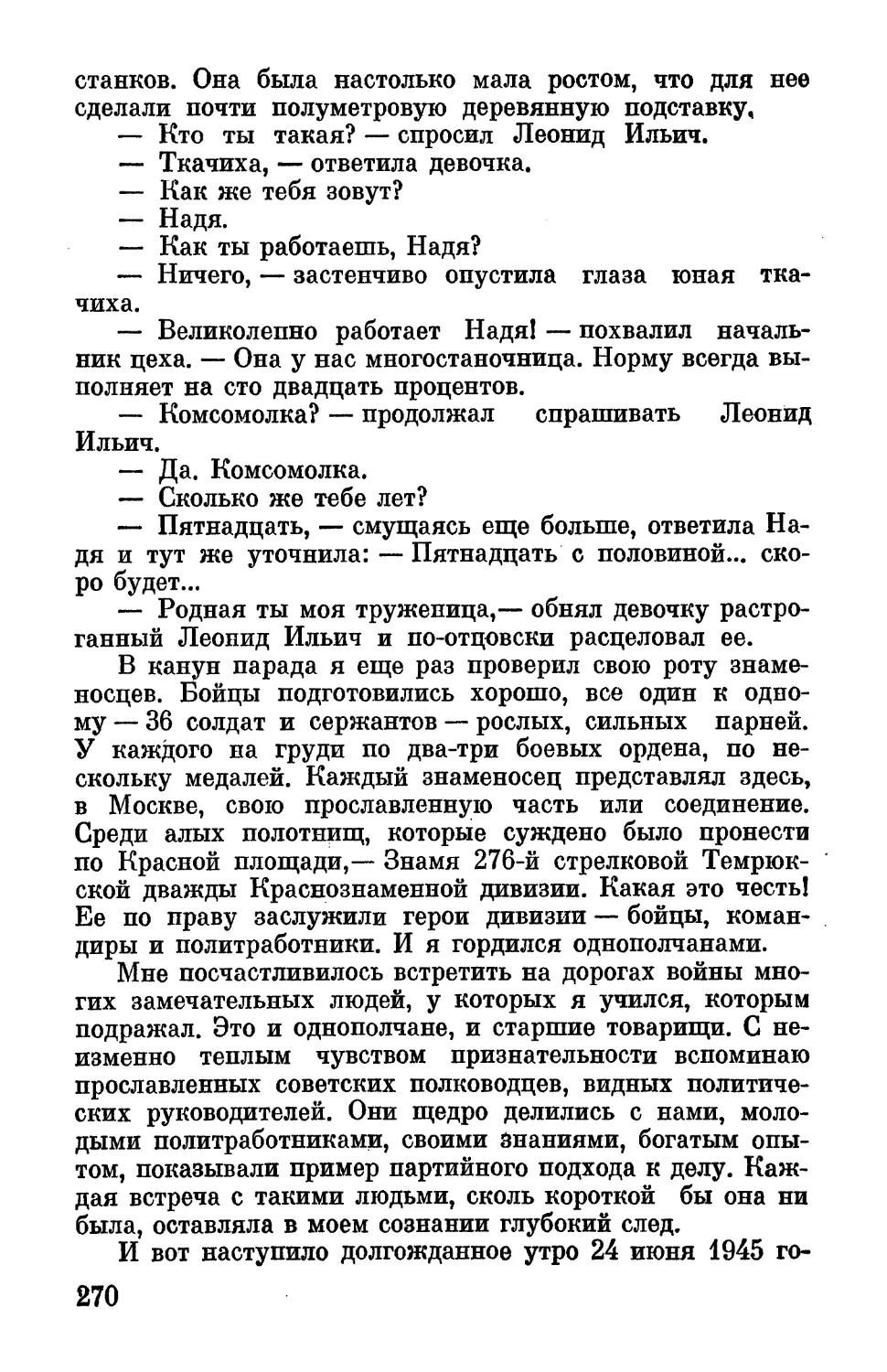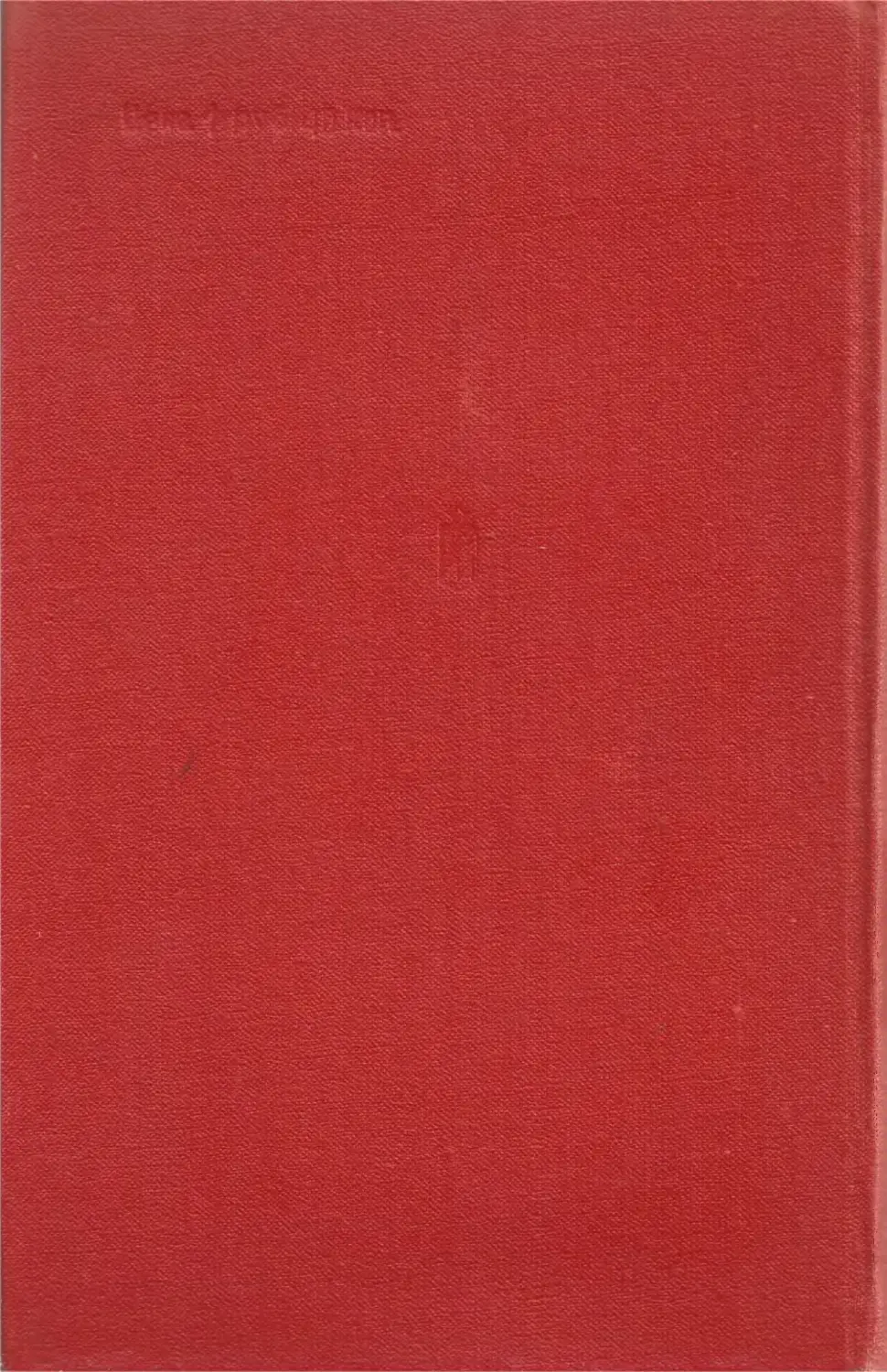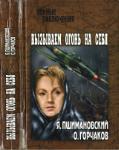Text
Scan Kreyder - 04.08.2016 STERLITAMAK
Петр Андреевич ГОРЧАКОВ
ВОЕННЫЕ
МЕМУАРЫ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
П. А. ГОРЧАКОВ
ВРЕМЯ ТРЕВОГ
И ПОБЕД
Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
М О С К В А—1 9 7 7
9(С)27
Г70
Горчаков П. А.
Г70 Время тревог и побед. М., Воениздат, 1977.
272 с., с порт, и ил. (Военные мемуары.)
В годы Великой Отечественной войны автор был секретарем партбюро стрелкового полка, комиссаром полка, заместителем командира полка по политической части, начальником политотдела стрелковой дивизии. Он прошел фронтовыми дорогами от Ельца до Праги, участвовал в боях под Воронежем, на Курской дуге, в форсировании Днепра, в штурме Карпат, в освобождении Польши и Чехословакии.
В своих воспоминаниях Петр Андреевич Горчаков, ныне генерал-полковник, член Военного совета — начальник политического управления Ракетных войск стратегического назначения, рассказывает о волнующих событиях войны, о мужестве и героизме советских воинов, раскрывает опыт партийно-политической работы в боевой обстановке.
Книга рассчитана на массового читателя.
И 202-256 ------------48-77 068(02)-77
9(с)27
© Воениздат, 1977
ТРУДНЫЕ УРОКИ
ЭЖерпо стучали колеса па стыках за-Ff порошенных рельсов: поезд все дальше и дальше увозил нас от Москвы. За степами теплушки стыли в морозном мареве заснеженные поля, заиндевелые леса и перелески. Мимо мелькали затемненные станции и казавшиеся совершенно пустыми деревни. Был холодный январь сурового 1942 года... Воинский эшелон шел на юг, к линии фронта. В вагоне находилась группа политработников. Мы следовали в действующую армию, па Брянский фронт.
Разные среди нас были люди. Пожилые и молодые. Одни успели повоевать, о чем красноречиво свидетельствовали ордена или медали па потертых гимнастерках, а другие еще не нюхали пороху, оставаясь сугубо штатскими. Но всех нас роднило, сближало и сплачивало чувство глубокой тревоги за судьбу Родины и народа. Мы сознавали всю меру грозной опасности, пависшей над первой в мире страной социализма.
В минуты опасности людям свойственно держаться вместе. Расположившись у раскаленной добела печки-буржуйки, мы тйхо, задушевно беседовали о казавшемся теперь уже далеком мирном прошлом, рассказывали о себе. Впереди нас ждали изнурительные бои, быть может, ранения или даже смерть. Это побуждало раскрывать друг перед другом самое сокровенное.
Вспомнилось и мне.
...Осень 1938 года. Я, тогда еще кандидат в члены ВКП(б), еду для прохождения действительной воинской службы на тревожный в ту пору Дальний Восток. Получаю назначение в отдельный батальон ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь), осваиваю азы
1* 3
боевой выучки. А через три месяца меня избирают секретарем комсомольского бюро батальона. Очевидно, комсомольцы учли, что до призыва в армию мне довелось быть секретарем ячейки МТС, пропагандистом, а затем секретарем райкома ВЛКСМ. В трудах и учебе незаметно протекает год. И повое назначение. На этот раз помощником начальника политотдела по комсомольской работе частей Читинского гарнизона. В Чите экстерном сдаю за среднюю школу, прохожу курс командирской подготовки. Мне было присвоено звание младшего политрука запаса.
В октябре 1940 года срок действительной службы закончился, но незадолго до этого коммунисты избрали меня ответственным секретарем партийной организации 25-го отдельного пограничного батальона. Пришлось па время отложить возвращение па родипу — в Воронежскую область. Только в конце мая 1941 года покинул я уже полюбившийся Дальний Восток.
Прихожу в Воронежский обком партии, говорю:
— Принимайте, товарищи, прибыл в ваше распоряжение.
Меня утвердили заведующим отделом пропаганды и агитации Боринского райкома партии. Обосновался в дорогих сердцу местах, где родился, вырос, откуда уходил в армию. Секретарь райкома предложил:
— Погуляй месяц-полтора. Ведь три года не был в родных краях!
Я послушался было совета. Но, отдохнув с педелю, принял отдел. А через двое суток наступило трагическое утро 22 июня...
Не шелохнувшись, стояли люди у репродукторов, вслушиваясь в заявление Советского правительства, с которым выступил В. М. Молотов. Как сейчас, вижу бледные лица женщин, суровые взгляды мужчин. Запомнились громкий плач и катящиеся по щекам слезы, гневные возгласы и проклятия в адрес Гитлера.
«Наше дело правое, победа будет за нами» — эти слова, приведенные в заявлении правительства, выражали думы и чаяния всех советских людей. По зову партии страна поднималась на священную войну.
К вечеру 22 июня из Боринского района уходила на фронт первая партия мобилизованных — человек пятьсот. Перед ними выступали члены бюро райкома, представители
4
общественных организаций. Пришлось выступить и мне. Но какой-то внутренний голос подсказывал: «Как же так? Ты политрук, и форма на тебе военная, а остаешься дома. Не речи говорить надо, а вместе со всеми — на фронт...»
От этих раздумий я испытывал неловкость, хотя на меня и была бронь. А тут еще повстречался старый каменщик, работавший когда-то вместе с отцом.
— Здравствуй, Петр. Ты еще здесь? А я думал, с первой же группой в армию пойдешь...
Как ножом по сердцу, полоснул упрек старика. Был поздний час, но я тут же вернулся в райком.
— Как хотите, товарищи, а в тылу оставаться пе могу. Отправляйте в армию...
Просьбу мою удовлетворили. Я был назначен комиссаром маршевой роты и уже 29 июня принял боевое крещение восточнее Бреста. В середине июля меня командировали на курсы политсостава, находившиеся в поселке Бра-сово. А когда южнее Брянска немецкие моторизованные войска прорвали фронт, наши курсы были брошены на помощь обороняющимся подразделениям. Три дня мы сдерживали бешеный натиск превосходящих сил врага.
Учебу продолжили уже в Красноярске. И вот теперь, закончив курсы, слова еду на фронт, в 3-ю армию. Рекомендован на должность комиссара батальона.
С комиссара, как известно, много спрашивается. Ведь он представитель партии, ее посланец в войсках. А мне едва исполнилось 24 года. Что я в жизни видел, как буду учить и воспитывать подчиненных, среди которых, очевидно, окажутся и такие, что мне в отцы годятся? В глубоком раздумье прошла последняя ночь.
Поезд остановился на какой-то полуразрушенной станции. Кругом были следы войны. Развороченный снарядом угол вокзала, битое стекло, вывороченное с корнем дерево, труп лошади. Со сторопы фронта доносился гул канонады.
Охрипший, осунувшийся, с воспаленными глазами комендант станции проверил наши документы и сказал:
— Идите в деревню Чернушки. Там ваше хозяйство.
Дорогу на Чернушки подсказали всезнающие фронтовые регулировщицы. Поблагодарив девчат, мы поспешили в указанном направлении. Надеялись, что наконец-то поедим горячего, отогреемся и, может быть, помоемся в баньке. Но нашим надеждам не суждено было сбыться.
5
В политотделе 3-й армии приняли нас без особого радушия. Беседовали нехотя, торопливо, будто тяготясь разговором. Объявили, кто куда будет направлен, — и все. Шестеро, в том числе и я, получили направление в 6 ю гвардейскую стрелковую дивизию. Велено было ждать офицера связи.
Ждать пришлось в полуразбитом доме, стоявшем неподалеку от политотдела. В помещении было полно людей. Многие спали на сбитых нарах. У окна спиной к нам сидел человек в шинели, перебиравший содержимое своей полевой сумки. Я спросил, не знает ли он, когда придет офицер связи 6-й гвардейской.
Человек повернулся. Это был пожилой, седоватый капитан. Он оглядел нас и, помолчав, спросил:
— Воевали?
Трое из нас воевали, трое нет. Но, услышав это, капитан словно утратил к нам всякий интерес. Он снова начал что-то искать в полевой сумке.
Медленно тянулось время. Уже полночь, а офицер связи не появлялся. Неподалеку громыхали разрывы, нудно дребезжали стекла в окне. Хотелось есть, но сухой паек кончился еще накануне.
— Не волнуйтесь, — успокоил нас молчавший до этого капитан. — Ложитесь-ка лучше спать.
На полу я отыскал свободное место, лег, но уснуть долго не мог. Нет, не о такой встрече думали мы, молодые политработники, направляясь на фронт. Спешили как в родную семью. А тут налицо равнодушие, черствость.
Потом мне объяснили, что работники политотдела были крайне усталыми. Шли тяжелые, кровопролитные бои, и политотдельцы порою глаз не смыкали по нескольку суток кряду. Нервы у всех были перенапряжены. Все это, очевидно, так. И все же было досадно.
Я и теперь испытываю неприятное чувство, вспоминая тот давний случай. Партийный работник — ив этом я глубоко убежден — в любой обстановке должен быть чутким к людям, внимательным и отзывчивым.
Утром разбудили попутчики: из дивизии наконец-то пришел офицер связи. Веселый, разговорчивый, шустрый, он как-то сразу отвлек нас от тягостных дум, и мы с легкой душой пошли за ним. Все вокруг говорило о недавних боях. Разбитая боевая техника вдоль дороги, воронки 6
от взрывов снарядов и авиабомб, колючая проволока у разрушенных траншей. Сохранились кое-где фанерные указатели с небрежной надписью: «Мины! Не ходить!» Я не глядел по сторонам: мыслями был в батальоне.
В политотделе дивизии нас встретили душевно, накормили, поговорили, разъяснили сложившуюся на фронте обстановку.
Брянскому фронту ставилась задача выйти на рубеж Брянск, Севск и тем самым охватить с юга вражеские армии, действовавшие на московском направлении. Часть дивизий фронта совместно с правым крылом Юго-Западного фронта должны были захватить важные в стратегическом отношении районы Курска и Орла.
7 января 61-я армия перешла р наступление. Через три дня боевые действия начали 3-я и 13-я армии Брянского фронта. К 13 января 61-й удалось вклиниться в расположение противника и охватить правый фланг его бол-ховской группировки. Остальные армии, встретив ожесточенное сопротивление врага, вынуждены были прекратить наступление. В тех условиях, как потом нам стало известно, мы не располагали для наступления перевесом в силах. Чтобы стабилизировать оборону, Гитлер перебрасывал из Западной Европы крупные резервы.
В полосе нашего фронта действовала значительная часть танков Гудериана. Именно его войска в октябре — ноябре 1941 года безуспешно пытались захватить Тулу. Теперь основные силы противника располагались в районе Мценска и Орла. Южнее находилась 2-я немецкая армия.
Брянскому фронту противостояли двадцать немецких дивизий, из них три танковые и три моторизованные. И хотя противник еще пе успел создать прочной обороны, он всемерно использовал в качестве опорных пунктов города и села с каменными постройками. Обилие и добротность таких построек создавали для оборонявшихся немецких частей определенные преимущества.
На карте, висевшей в политотделе, флажками обозначались очертания фронта. На ней мы без особого труда разыскали полосу 3-й армии, которой командовал генерал-лейтенант П. И. Батов. Армия закрепилась на рубежах рек Ока и Зуша. Теперь опа силами двух-трех дивизий, в том числе 6-й гвардейской, проводила частные наступательные операции.
7
Инструктор политотдела политрук Н. Е. Комаров рассказал о боевом пути 6-й гвардейской дивизии, принявшей боевое крещение в битве под Москвой. Дивизия, несмотря на бешеный натиск танков противника, его беспрерывные бомбежки с воздуха, выстояла, преградив вместе с другими частями и соединениями путь фашистам к Москве. Выстояла потому, что у каждого красноармейца, командира и политработника была несгибаемая воля к победе, были отвага и мужество. Советские войска, как известно, не только отстояли столицу, но и погнали врага на запад, развенчав тем самым миф о непобедимости гитлеровской армии. В составе наступавших войск была и дивизия, в которой теперь нам предстояло служить. Ее части и подразделения в числе первых ворвались в город Ельня.
После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой дивизия, во главе которой стоял испытанный боевой командир генерал-майор К. И. Петров, стала гвардейской.
Нас ознакомили с приветствием Военного совета фронта, адресованным бойцам и командирам дивизии. В нем, в частности, отмечалось: «Боевую силу гвардейцев ковали прежде всего коммунисты и комсомольцы дивизии, которые, не щадя жизни, бесстрашно разили немецко-фашистских бандитов. Коммунисты генерал-майор Петров, майор Измайлов, майор Мезан, батальонный комиссар Гурзев, младший политрук Казаков, младший лейтенант Смирнов и другие личным примером мужества и отваги воодушевляли бойцов на подвиги...»
Политотдел дивизии направил меня в 474-й гвардейский стрелковый полк.
— На месте сами во всем разберетесь, — дружески напутствовал политрук Комаров.
Иду на КП полка. В кармане, рядом с партбилетом, предписание — назначаюсь на должность комиссара 1-го батальона. Казалось, все определилось. Но на войне наперед не знаешь, что с тобой случится. Нечто неожиданное произошло и со мной.
Полк занимал оборону в районе деревни Задушное. Здесь же, за околицей, был оборудован его КП. Докладываю военкому о своем прибытии. Батальонный комиссар 3. Я. Беркович недоуменно пожал плечами:
— Не понимаю, что они там думают?! Комиссары
8
во всех батальонах имеются. А вот отсекра партбюро в полку нет уже три недели. Как вы смотрите на эту должность?
— Меня направили комиссаром... — начал было я.
— Не кипятись, не кипятись, — перейдя почему-то на «ты», прервал меня Беркович. — Хватит войны и на твою долю.
Я настаивал на своем. Но Беркович уже не слушал. Он тут же созвонился с политотделом и объявил:
— Будешь отсекром. Принимай дела.
Но принимать дела было не у кого. Я присел за столом землянки, повертел в руках списки коммунистов, членов партбюро. С чего же начинать? Решил сперва познакомиться с командиром, с людьми.
Снова иду на КП.
— Нет там уже КП, — сообщил встретившийся лейтенант. — Снаряд угодил...
— Командир жив? — забеспокоился я.
— Говорят, тяжело ранен. Увезли в госпиталь.
Работников штаба я отыскал в подвале ближайшего дома. Присел к ним, попробовал заговорить. Но беседа не получалась. Люди выглядели утомленными, подавленными. В подвал вполз старший лейтенант с перебитыми ногами, он громко стонал. Я подал ему флягу с водой, поднялся наверх и отыскал фельдшера. Раненого пришлось госпитализировать.
Так начиналась моя служба в полку.
Два дня ушло на знакомство с командирами и политработниками, секретарями батальонных партийных организаций. И только после этого решаюсь собрать заседание партбюро.
Передо мною девять членов бюро — самые авторитетные коммунисты полка. Люди, видать, опытные, многие на фронте с первого дня войны. В прошедших боях отличились командиры 1-го и 2-го батальонов гвардии капитаны П. И. Сафронов, И. К. Желонкин, политрук роты В. С. Стеблецов.
Первое заседание партийного бюро запомнилось хорошо. Оно проходило в разбитом сарае. Сидели кто на чем: на обвалившейся соломенной крыше, на вывороченных камнях от фундамента, на выступах бревен.
Объявляю повестку дня: «О ходе боевых действий и роли партийного бюро». Высказываю свои соображения
9
о там, как обеспечить примерность коммунистов в предстоящем бою, о воспитании у личного состава мужества, боевой активности. К моей радости, выступают все — один за другим. Едва успеваю записывать предложения, направленные на улучшение партийной работы. Было решено осуществить ряд мер, связанных с усилением агитационной работы, с расстановкой коммунистов по ротам, взводам и отделениям.
В дальнейшем мы намеревались проводить заседания партбюро три-четыре раза в месяц. Но обстановка па участке полка менялась резко, и мы собирались чаще. Обсуждали вопросы: задачи коммунистов в предстоящем бою; итоги прошедшего боя; об авангардной роли коммунистов; доклады коммунистов — командиров подразделений — о выполнении боевых задач; прием в партию особо отличившихся в боях бойцов и командиров.
Партбюро являлось авторитетнейшим органом, решения которого неукоснительно выполнялись. Нас поддерживали командир, комиссар и штаб полка. Уж если кого из коммунистов-командиров и политработников подразделений мы приглашали с докладом, то он понимал: за допущенные в бою просчеты с него спросят сполна.
Как-то на заседании партбюро делал доклад коммунист И. К. Желонкин, командир 2-го батальона. В бою его батальон замешкался, поднялся в атаку на несколько минут позже других, из-за чего соседи понесли излишние потери. После заседания комбат сказал:
— Теперь я первым подниму свой батальон в атаку. Легче идти под неприятельские пули, чем выслушивать упреки боевых друзей.
— Вы обвиняете членов партбюро в предвзятости? — спросил я.
— В том-то и дело, что они во всем правы! — ответил Желонкин и, глубоко вздохнув, добавил: — Я бы тоже пропесочил комбата один или комбата три, окажись они на моем месте...
Нам не пришлось еще раз заслушивать гвардии капитана И. К. Желонкина: его батальон был неизменно на острие атаки.
6-я гвардейская дивизия опять была брошена в наступательную операцию частного характера, цель которой — дезориентация войск противника. Наш полк с боями продвигался по правому берегу Оки в направлении села 10
Фетишево. Подразделения полка очистили деревню Сив-ново от яростно сопротивлявшихся гитлеровцев и вынуждены были занять оборону. Противник пытался вернуть Сивково, контратакуя наши позиции. Но гвардейцы стояли насмерть.
Следует оговориться, что частные наступательные операции не давали ощутимых результатов. Сейчас, когда появились исследования военных историков и воспоминания военачальников, становится ясно, что чрезмерное увлечение такого рода операциями на Брянском фронте было ошибкой. К тому же войска строились в один эшелон с незначительными резервами. Подразделения первых эшелонов не имели настоящих оборонительных сооружений и не стремились их строить, так как главной задачей командование фронта считало продвижение вперед. Эти и другие недостатки совершенно справедливо отметил в своих воспоминаниях генерал армии М. И. Казаков1. Но тогда, зимой 1942 года, мы, горя желанием как можно скорее освободить от немецко-фашистских захватчиков поруганную родную землю, считали наступление, пусть и малыми силами, единственно правильным методом ведения боевых действий. Оборона же казалась неприемлемой. В ней усматривалась чуть ли пе неспособность вышестоящего командования к решительным действиям.
Да, все мы тогда постигали трудную азбуку войпы.
Январские бои дали мне ряд уроков. Я понял: фронтовому политработнику надо очень хорошо знать людей. А люди познаются в практической работе. Именно в бою наиболее полно раскрываются их характеры, моральные и боевые качества.
Во время боев за Сивково к нам на пополнение прибыла маршевая пулеметная рота. Я тогда замещал заболевшего 3. Я. Берковича, комиссара полка. Познакомился с пулеметчиками-коммунистами, с политруком роты Юрием Должанским. Стоит передо мною чернявенький паренек, глаза голубые, как лесные озера, старается держаться солидно — да не всегда получается! То пояс потрогает, то по своим знакам отличия проведет рукой, то наган на ремне передвинет.
Роту намечали бросить в бой. Обстановка сложилась трудная. Сильные морозы, снега. Требовалось во что бы
1 Казаков М. И. Над картой былых сражений. М., 1965.
И
то ни стало выбить фашистов из деревни. А они сопротивлялись упорно. У пулеметчиков работы хватало. В расчетах нужны люди волевые, упорные. И политрук, чтобы увлечь их в бой, должен иметь характер огневой, кремневый. А у Должанского таких черт я тогда разглядеть не мог. «Этот, — думаю, — слабоват будет. Придется за ним присматривать».
Рано утром, когда над окопами еще дымилось холодное марево, пулеметчики двинулись вперед. Их подшлемники покрылись инеем. Толкая перед собой «максимы», расчеты приблизились к ровному полю. Им предстояло теперь преодолеть этот открытый участок и спуститься в неглубокий овраг, на противоположном скате которого окопался в снегу стрелковый батальон гвардии капитана Сафронова. К нему на помощь и спешили пулеметчики. Поле хорошо пристреляно гитлеровцами. Важно перебежать к укрытиям, пока алая полоска зари, чуть занявшаяся на горизонте, не охватит все небо. Иначе будешь у фашиста весь на виду.
— Вперед! — приказал командир роты старший лейтенант Н. А. Коноплев первому расчету, после того как объяснил задачу.
Подхватив пулемет на руки, красноармейцы побежали по полю. Снег, к счастью, здесь был не слишком глубоким. Но людям все-таки нелегко. Расчет перебежал благополучно. Затем второй, третий... Тем временем противник, почуяв, видно, неладное, открыл ружейно-пулеметный огонь. И все же четвертый расчет перебежал без потерь. Вслед за ним двинулись Коноплев и Должанский. И вот тут-то случилось непоправимое: во время одной из перебежек фашистская пуля смертельно ранила старшего лейтенанта. Заметив па поле движение, гитлеровцы открыли артиллерийский огонь. Смотрю, Должанский метнулся к упавшему командиру роты, присел па корточки и положил его голову к себе на колени, не обращая внимания на рвущиеся вокруг снаряды.
— Ложись! — кричу я ему, а он словно и не слышит. Пришлось подбежать. Встряхиваю Должанского за плечо. Он медленно поворачивает ко мне зареванное лицо и тихо говорит:
— Товарищ комиссар, Колю убили... Неужели на войне так скоро убивают?! — Потом он бережно опустил командира роты на снег и, смахнув слезы со щек, погро-12
зил кулаком в сторону неприятеля: — Ну, гады, за Колю я вам отомщу!
Гневное лицо Должанского было неузнаваемо. Казалось, все оно затвердело, приобрело крепость металла. Глаза словно потемнели, смотрели вперед пристально и зорко.
Юрий бросился догонять пулеметчиков. Я с уважением посмотрел на него, подумал: «Парень-то, оказывается, с характером». И действительно, Юрий в первом же своем бою дрался мужественно и был награжден медалью «За отвагу».
Он стал любимцем полка. Когда секретаря полкового комсомольского бюро Александра Комиссарова перевели на должность политрука отдельной разведывательной роты дивизии, его заменил Должанский. В наступательных боях Юрий всегда был в первых рядах красноармейцев и в нужный момент умел увлечь их за собой.
Вспоминается бой за деревню Фурмаповка Севского района. 1-й батальон поднялся в атаку. Но противник открыл плотный артиллерийский огонь. Красноармейские цепи вынуждены были залечь. Казалось, еще минута-другая — и бойцы дрогнут, отойдут пазад. Тогда Юрий Должанский, участвовавший в атаке, возглавил группу комсомольцев, которая обошла немецкую батарею, стоявшую на пути батальона, и уничтожила ее. Дорога па Фурма-новку была открыта. Пехота устремилась вперед, и фашисты вынуждены были бежать из деревни.
Забегая вперед, скажу, что в последующих боях за храбрость и мужество Юрий Моисеевич Должанский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Январские бои показали, что надо не только знать, изучать людей, но и повседневно развивать у них бойцовские качества — смелость, отвагу, наступательный порыв. Всякий раз, готовясь к тому или иному бою, очень важно вооружить людей верой в его успех, верой в командира, в товарищей по оружию, воспитать у воинов горячее стремление первым броситься в атаку и любым способом, ценой самой жизни одолеть ненавистного врага. В бою политработник призван воспитывать подчиненных прежде всего и больше всего личным примером.
28 января мне довелось участвовать в бою около деревни Вяжи. А перед этим несколько дней подряд полк уже вел тяжелые кровопролитные бои. Его подразделения
13
имели потери, Особенно они были значительными в 3-м батальоне. Пополнение мы получили лишь в полночь, а утром предстояло выступать. К двум часам ночи распределили новичков по ротам и тут же начали готовить их к атаке. Коммунисты побеседовали с людьми, подбодрили их. Но мы были в цейтноте: серьезной воспитательной работы в тех условиях провести не удалось.
После артподготовки был дан сигнал о начале атаки. Противник сразу же открыл пулеметный огонь. Погибли командир и комиссар 3-го батальона. Среди бойцов произошла заминка, и атака по сути дела не состоялась. Это пас, конечно, встревожило. Я пополз оврагом в левофланговую роту батальона. Артиллеристы снова произвели десятиминутпый огневой палет. Жду сигнала. А на душе неспокойно. Голову сверлит одна мысль: поднимутся бойцы или нет? Ведь в большинстве это новички, впервые участвующие.в бою.
И вот сигнал. Поднимаюсь во весь рост, призываю бойцов и, не оглядываясь, бегу к вражеским окопам. Прислушиваюсь: за спиной не слышится дружного топота. Зато под ногами — снежные всплески. Будто градом сечет. «Фюить... Фюить...» — свистят пули. Тарахтит, захлебываясь, вражеский пулемет.
Камнем падаю в снег, откатываюсь в сторону, затем ползу к залегшей цепи, обливаясь потом, хотя мороз: палец приложи к стволу автомата — прилипнет.
Не могу передать, что творилось тогда у меня па душе. Горько упрекал сам себя: вот плоды твоей воспитательной работы, отсекр. Твоя вина, что не поднялись бойцы. Конечно, условия для наступления не назовешь благоприятными. У пас мало танков, над нашим участком наступления ле было авиации. Недостаточно и артиллерии: первая траншея противника, его огневые средства оказались не подавленными. Время не позволило по-пастоящему подготовить новичков. Но разве все это оправдывает нас, политработников?
Пройдет совсем немного времени, и положепие дел в 3-м батальоне изменится к лучшему. В очередном бою бойцы батальона проявят образцы мужества и самоотверженности — об этом я расскажу чуть ниже. Но в тот день нам пришлось испытать горечь неудачи и о многом всерьез подумать.
Поздно вечером в землянке собрались члены партбюро
14
полка. Судили-рядили и пришли к выводу — надо улучшать индивидуальную воспитательную работу с бойцами, быть постоянно в гуще красноармейских масс. В батальонах и ротах пока что делали основной упор на массовые формы работы. Слов нет, массовые формы целиком оправдали себя. Надо и дальше совершенствовать политинформации и беседы, улучшать качество массовых мероприятий. Но ими нельзя ограничиваться. Перед боем исключительно важное значение имеет задушевный, с глазу на глаз разговор политработника, коммуниста, агитатора с бойцом.
Основным содержанием такого рода бесед, как и в целом политической агитации, являлось положение дел на фронте, решимость советского народа и его Вооруженных Сил под руководством ленинской партии разгромить фашистских захватчиков, отстоять Родину и великие завоевания социализма. Коммунисты и агитаторы заводили речь о минувших сражениях, о боевом пути дивизии, о подвигах ее героев. И конечно же называли имена тех, кто в боях прославил родной полк. Мы ставили в пример политрука батареи Г. А. Сергеева, который, будучи раненным, в течение двух суток не оставлял поле боя, личной храбростью воодушевлял артиллеристов. Рассказывали о подвиге политрука Н. К. Бельского: дважды раненный, оп повел свое подразделение в контратаку, в результате чего противник был отброшен на старые позиции; в этой схватке политработник пал смертью храбрых. Доброе слово говорилось о старшине А. В. Ломаченко. В одном из боев его окружила группа фашистов. Но старшина-коммунист не дрогнул. Он проложил себе дорогу гранатами и, уничтожив пять гитлеровцев, прорвался к своим.
Теплые, задушевные беседы оказывали большое воздействие на красноармейцев. Интерес к героям возрастал. Усилилась тяга воинов в партию, в комсомол.
В одном из боев отличился минометчик И. Г. Кузин. Сразу же после боя он написал заявление в партийную организацию: «Хочу быть коммунистом. Буду сражаться с врагом до последнего дыхания. Если придется умереть, хочу умереть коммунистом».
«Хочу в бой идти коммунистом. Клянусь, что буду бить врага, как подобает воину Красной Армии», — писал в своем заявлении автоматчик В. И. Митеев, член
15
ВЛКСМ. Принятый в партию, он неизменно в боях отличался храбростью. Митеева выдвинули политруком роты. На его счету было более сорока уничтоженных гитлеровцев. И этот счет непрерывно рос. В бою за деревню Кресты, когда был тяжело ранен командир роты и это вызвало замешательство среди бойцов, Митеев поднялся в полный рост и воскликнул:
— Ротой командую я! Слушай мою команду: вперед, товарищи! За любимую Родину! За свободу и счастье нашего парода — вперед!
Митеев первым ворвался во вражеские траншей. Красноармейцы пи па шаг не отставали от своего политрука. Солдаты противника не выдержали стремительного натиска, покатились назад.
Когда утихла горячка боя, выяснилось, что политрук тяжело ранен. Бойцы подхватили его и па руках доставили в медсанбат. Еще не залечив окончательно раны, Митеев снова вернулся в боевой строй.
— Не могу я, никак не могу отлеживаться па госпитальной койке, когда мои товарищи воюют, — доложил он комбату.
15 февраля, увлекая бойцов в очередную атаку, В. И. Митеев героически погиб. Но в памяти однополчан он оставался живым, его подвиг был предметом многих бесед агитаторов.
Партийная организация заботилась о том, чтобы своевременно информировать агитаторов о новых, ежедневно свершаемых героических подвигах однополчан. Так, в бою за ту же деревню Кресты отличился красноармеец С. П. Петровский. Из ручного пулемета он уничтожил более десяти фашистов и одного взял в плен. В тот же вечер в батальонах были собраны агитаторы. Им рассказали о подвиге пулеметчика. А через час о Петровском знали все воины полка.
Воспитательная и организаторская работа командиров, политработников, партийных и комсомольских организаций приносила замечательные плоды. В подразделениях заметно повышалась боевая активность личного состава. Люди рвались в бой. Прошли боевую выучку и бойцы, только что прибывшие на пополнение. И хотя кое-кто из них еще не был обстрелян, не преодолел до конца робости перед атакой, мы были уверены: полк, все его подразделения способны выполнить любую боевую задачу.
16
Во второй половине февраля в полосе нашей армии командование фронта намечало провести очередную наступательную операцию. Армия пополнилась тремя полнокровными дивизиями и несколькими танковыми бригадами. Правда, па вооружении бригад находились в основном легкие танки, в частности Т-60. Нам противодействовали соединения 2-й немецкой танковой армии и 35-й армейский корпус. Противник успел создать глубоко эшелонированную оборону, до предела насытив ее мощными огневыми средствами.
В соединения и части пашей армии стали наведываться командующий Брянским фронтом генерал-полковник Я. Т. Черевиченко, член Военного совета корпусной комиссар А. Ф. Колобяков и начальник штаба фронта генерал-майор М. И. Казаков. Чувствовалось, что наступлению придается важное значение.
К тому времени в командование армией вступил генерал-майор Ф. Ф. Жмачепко, а генерал-лейтенант П. И. Батов был назначен помощником командующего фронтом по формированиям. Произошли изменения и в нашей дивизии. 12 февраля умер от ран, полученных при обстреле позиций вражеским самолетом, командир дивизии генерал-майор Константин Иванович Петров. Комдивом был назначен полковник Ф. М. Черокманов — тоже с боевым опытом. Еще в начале войны, это было под Гродно, он получил серьезное ранение. Вместо погибшего в бою гвардии майора С. И. Гончарика нашим полком стал командовать гвардии майор И. А. Калегов.
Иван Алексеевич пришелся нам по душе. Рассудительный, собранный, оп детально разрабатывал план каждого боя. Его интересовало буквально все — от обеспечения подразделений боезапасом до питания бойцов. В боях, в которых ему уже довелось участвовать, командир полка не терял самообладания, умел своевременно перенацелить подразделения, сконцентрировать силы для развития успеха или, если обстановка складывалась неблагоприятно, закрепиться на достигнутых рубежах.
Итак, мы готовились к наступлению, полагая, что в нем примет участие целиком 3-я армия с приданными ей средствами усиления. Но, увы, опять начались операции частного характера, в которых действовали лишь несколько дивизий на различных участках 120-километровой линии фронта. Среди этих дивизий — наша 6-я гвардейская.
2 П. А. Горчаков 17
Наступательный порыв воинов непрерывно нарастал. Они шли вперед, освобождая село за селом. Их не могли остановить ни вражьи пули, ни ветры и метели. Зима 1942 года была лютая. Морозы доходили до 40 градусов. От жестоких ветров не спасали шлемы и подшлемники. Спасибо труженикам тыла: они обеспечили нас полушубками, валенками, шапками. Все же случаи обморожения были нередки. И опять доброе слово коммуниста-агитатора помогало бойцам стойко переносить трудности.
Как-то в перерыве между боями зашел я в роту автоматчиков. Вижу: сидит красноармеец на дне окопа и пилой-ножовкой что-то пилит. Пригляделся: оказалось... каравай хлеба на части делит. Заметив мое недоумение, командир роты лейтенант И. К. Токмин пояснил:
— Из-за метелей подвоза продуктов не было. Хлеб из НЗ изъяли. А он замерз. На завтрак и обед варим «орловский рис» — овес. Но ничего, воюем.
Красноармеец, пиливший хлеб, поднял голову и улыбнулся:
— Дело понятное: лошадь от овса — сильнее, а боец — злее. Чем больше злости, тем крепче немца бьем!
— Это Сергей Невзоров, наш лучший агитатор, — шепнул мне политрук роты 3. И. Иошпа. — Он ни в бою, ни в походе не унывает. Бойцы его любят...
Да, бойцы любили агитаторов, которые в каждом расчете и отделении, как правило, подбирались из числа коммунистов и комсомольцев. Агитаторы не проводили длинных бесед — время не позволяло. Да и партбюро не могло их часто собирать — ведь почти непрерывно шли бои. Удавалось провести один-два семинара или инструктажа в месяц.
Агитаторы не страшились трудностей, всегда были первыми в бою, появлялись там, где тяжелее и опаснее. Потому и слово их было весомо. Это понимали командиры и политработники.
Однажды пригласил меня гвардии майор И. А. Кале-гов и говорит:
— Петр Андреевич, нужно бы поговорить с коммунистами. Много командиров мы теряем в последнее время...
Вопрос, поднятый командиром полка, был действительно острый. Я в тот же день поручил членам бюро провести беседы в ротах: «Защищай командира в бою». Агитаторы в отделениях и расчетах также беседовали с бой-18
цами на эту тему. Они рассказывали о возросшей роли командира, приводили примеры глубокого уважения и любви к ним со стороны подчиненных.
Широкую известность получил у нас в те дни подвиг гвардии рядового П. С. Турдина. А дело было так. В ходе наступления гвардии сержант А. С. Прокопенко и Тур-дин подползли к вражескому блиндажу и забросали его гранатами. Но и сами оказались под огнем противника. Турдин, будучи раненным, заметил, что сержапт лежит неподвижно. На оклики не отвечал. Тогда боец подполз к сержанту и убедился, что тот без сознания, получил тяжелую рапу. Превозмогая собственную боль, гвардеец выпес командира из-под огня.
Забота о командире, стремление защитить его в бою были характерны для многих бойцов. Красноармеец Б. И. Беляев, сам раненный, вынес из-под огня тяжело раненного комиссара. Красноармеец Г. И. Красильников, заметив, что гитлеровцы подползают к лейтенанту П. С. Калашникову, бросился к нему па выручку, прикрыл его от пуль, при этом сам оказался раненным в ногу. Потом его спросили:
— Как же ты отважился под пули броситься?
— Иначе нельзя, — ответил Красильников. — Нас-то много, а командир один. Жизнь командира дороже моей.
В зимних боях отвагу и мужество проявили бойцы всех подразделений. Хотелось бы особо подчеркнуть успешные боевые действия 3-го батальона, которым теперь командовал гвардии майор П. Ф. Набатов. Это тот самый батальон, в котором, как помнит читатель, произошла досадная заминка перед атакой около деревни Вяжи.
На этот раз перед атакующими была деревня Красное.
Комбат ознакомил с поставленной задачей секретаря партбюро батальона Л. П. Иващенко, а тот в свою очередь определил конкретные поручения коммунистам. Среди мероприятий, предусмотренных планом, были доклады и беседы. Один из членов бюро беседовал с минометчиками и артиллеристами об огневом взаимодействии с пехотой, другой готовил коммунистов-разведчиков к дерзкой вылазке в тыл врага. Сам же Иващенко решил поговорить с парторгами рот.
И вот в штабной землянке собрались вожаки коммунистов. Они пришли из окопов с оружием в руках. Иващенко, не теряя времени, сказал:
2* 19
— Вы все, наверное, знаете о подвиге коммуниста-пулеметчика Казеиова. В последнем бою он истребил более двадцати фашистов. А коммунист Петрогазин метким огнем уничтожил до десятка врагов. Вот так и должны действовать все члены партии и комсомола. Нам предстоит освободить деревню Красное. Вы, товарищи парторги, в атаку поднимаетесь первыми. Только первыми! И коммунисты — тоже.
Парторги, посоветовавшись с командирами, расставили членов и кандидатов партии по отделениям и расчетам. Бывалые воины рассказали молодым, как нужно действовать на том или ином этапе боя.
Хорошо подготовленные бойцы сражались мужественно. Разведчики с южной стороны скрытно подошли к оврагу, по обеим сторонам которого раскинулась деревня Красное, и проникли в самый ее центр. Они в упор расстреливали фашистов, выскакивавших из домов. По гитлеровцам ударили пушки и пулеметы. Группа немецких солдат пыталась было скрыться за деревню Бордуково, по их встретил огнем 2-й стрелковый батальон, заранее выставленный на путях отступления.
Разгром противника был полный. На поле боя остались десятки трупов фашистов, три противотанковых орудия, шесть пулеметов, много винтовок и автоматов.
В тот день комбат Набатов сказал:
— Успех в этом бою на девяносто процентов я отношу па боевой счет коммунистов. Они дрались геройски, большевистским словом и личным примером вели за собой бойцов.
Характерно, что сразу же после боя в партийную организацию 3-го батальона поступило 15 заявлений от бойцов и сержантов с просьбой принять их в партию.
Большую помощь в воспитании бойцов оказывал нам политический отдел дивизии. Политотдельцы почти все свое время проводили в полках и подразделениях, на месте организуя политико-воспитательную работу. К нам поступали листовки, обращения. Их зачитывали во взводах и ротах. Пламенные призывы воодушевляли красноармейцев, закаляли их волю к победе.
В ОБОРОНЕ
К весне 1942 года на переднем крае наступило относительное затишье.
Своим правым крылом Брянский фронт по-прежнему прикрывал Тулу и Москву, а левым — Воронеж. Силы фронта теперь возросли: в его состав вошли 40-я и сформированная из резервов 48-я армии. По указанию нового командующего фронтом генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова войска активно готовились к наступлению. Готовились к наступлению и дивизии 3-й армии, которую с 5 мая возглавил генерал-лейтенант П. П. Корзун. Правда, время от времени происходили бои местного значения, но они велись преимущественно в разведывательных целях.
24 мая, как я узнал позднее, Брянский фронт получил указание Ставки о переходе к обороне с глубоким эшелонированием войск. Предстояло создать мощный оборонительный рубеж на всей 350-километровой полосе от Белева до верхнего течения реки Сейм.
Части и соединения упорно занимались боевой подготовкой, совершенствовали свое мастерство. В нашей дивизии проводились методические сборы командиров батальонов и дивизионов. Участники сборов приобретали навыки управления боем, учились использовать пехотные противотанковые средства, овладевали техникой преодоления участков заграждения, минных полей, противотанковых рвов. Занятия проводили представители штаба фронта. Общее руководство методической подготовкой командных кадров осуществлял помощник командующего фронтом по формированиям генерал-лейтенант П. И. Батов, который, кстати сказать, питал особую симпатию к гвардейцам.
21
В полку часто практиковались тревоги, обкатка бойцов танками, отрабатывалось ведение всех видов боя: наступательного, оборонительного, ночного.
Первостепенное значение придавалось идейно-политической подготовке бойцов и командиров. Были созданы группы политзанятий. С новичками проводились беседы о военной присяге. По-прежнему большое внимание уделялось агитаторам, в составе которых было немало командиров и политработников. С агитаторами рот и взводов проводились ежедневные инструктажи и семинары. Партийная организация нацелила коммунистов на изучение и разъяснение личному составу приказов Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.
Подчеркивалось, что оборопа — дело временное, что мы непременно в самое ближайшее время пойдем вперед. Требование приказа «Ни шагу назад, стоять насмерть! дополнялось стремлением «Только вперед, на полный разгром врага!». Под таким девизом проводилась вся политико-воспитательная работа в полку.
Партийная организация полка продолжала крепнуть. Ее ряды пополнялись закаленными в боях гвардейцами. Только в апреле в партию вступили десятки воинов, отличившихся на поле боя. К 1 мая 1942 года, за четыре прошедших месяца, наша парторганизация увеличилась в два раза, а комсомольская — в 3,5 раза. Такой была в те дни тяга в партию, в комсомол.
Большое виимапие партийная организация уделяла воспитанию у личного состава ненависти к фашистским оккупантам, разоблачению их злодеяний на временно оккупированной советской территории. В период зимнего наступления, когда части и подразделения проходили освобожденными селами, бойцы и командиры воочию убеждались в бесчеловечности фашизма. Сожженные дома, замученные пленные красноармейцы, виселицы, рвы с телами зверски убитых женщин, стариков, детей. Все это бойцы видели сами. И священный огонь ненависти пылал в их сердцах, вел на подвиги.
В обороне мы получили пополнение. Среди новичков преобладали необстрелянные бойцы. К противнику на первых порах они относились благодушно.
— Что немец?.. Небось такой же человек, как и мы с вами, — рассуждали иные воины.
22
Коммунисты решили дать бой таким настроениям. Я поручил В. С. Стеблецову, ставшему к тому времени военкомом 1-го стрелкового батальона* провести с бойцами беседу о зверином облике германского фашизма. Василий Степанович очень хорошо знал психологию красноармейцев. Он большую часть времени проводил в ротах, взводах и отделениях. Общался и беседовал с бойцами, изучал их настроения, запросы. Люди тянулись к Стеблецову. И партийное бюро учло все это.
Батальон собрался в большом овраге за второй линией окопов. Стеблецов, как-то по-особенному подтянутый, строгий, вышел в середину круга бойцов.
— Вы все, товарищи, читали приказы Верховного Главнокомандующего, — заговорил он. — Что в них сказано? Стоять насмерть. Мы сейчас в обороне, так надо в землю врасти — и ни шагу назад. Ведь что получается? Мы отходим, а землю нашу, жен и детей наших врагу на растерзание оставляем. Вот расскажу я вам, что видел в деревне Трудки... Немцы там упорно держались. Но мы их выбили. Ну, бегу я и, как полагается, решил избу проверить — не прячется ли кто из гитлеровцев. Заскочил — и кровь в жилах похолодела. Вы знаете, я не робкого десятка, а тут аж похолодел. Висит на стене мальчонка. Лет десять — двенадцать, не больше. Головку свесил, жизнь в нем еще теплится. И прибит он, товарищи, огромными гвоздями к бревнам. Распят, значит. Еле-еле мы те гвозди из рук и ног ребенка вытянули. Да поздно. Испустил последний вздох. Только глаза приоткрыл, глянул на нас — и умер. Верите, до сих пор душа болит — а ну как он меня за мучителя принял? Ведь я теперь всю жизнь покоя не найду. За что замучили мальчонку изверги? Месть им беспощадная, святая, правая месть! Ни одного гада назад не выпустим. Смерть палачам и насильникам!
Бойцы вскочили на ноги, раздались возгласы:
— Отомстим! Клянемся!..
Гвардии рядовой В. К. Думанский тоже поднялся с камня, вросшего в косогор, и шагнул вперед:
— Дозвольте слово сказать, — обращаясь к Стеблецову, попросил он.
Военком согласно кивнул головой. Думанский пользовался уважением у бойцов. Его, беспартийного, назначили агитатором. Он умел затронуть души людей, увлечь
23
их за собой. Степенный, обходительный, Думанский чем-то напоминал мне одного председателя колхоза, хотя, как я знал, он никогда в деревне не жил. Кашлянув в кулак, гвардеец громко проговорил:
— Запомните: неподалеку отсюда, в деревне Милявое, фашисты уничтожили семьдесят мирных жителей. А в деревне Верхняя Залегошь они зверски убили двадцать семь жителей, замучили трех раненых красноармейцев. Сколько таких деревень под немцем осталось? Земля стонет от бесчинств оккупантов, кровыо и потом, как росою, умывается. Что же, и дальше ему позволим зверствовать? Вот командир нашей пулеметной роты гвардии старший лейтенант Петровский уничтожил до сотни фашистов. А пулеметчик Петропарлов уложил их более двух десятков. Почитай, целую роту вдвоем раздраконили. А вот сосед мой, что рядом стоит, уже десять дней на передовой и ни одного врага не убил... Это как же понимать? Другие воюют, а ты что, в санатории отдыхаешь? Тебе, может, сюда фашиста привести, чтобы ты его без лишних хлопот уничтожил?
Стеблецов разъяснил пехитрую солдатскую арифметику: если бы каждый боец убил по врагу, то война давно бы закончилась.
Выступили еще несколько красноармейцев, ставших невольными свидетелями зверств фашистов. Беседа теперь напоминала митинг. Взволнованные бойцы и командиры брали клятвенные обязательства отомстить гитлеровцам за все их злодеяния, горячо призывали своих товарищей, особенно молодых красноармейцев, последовать их примеру.
Комсорг полка Юрий Должанский, присутствовавший на беседе, подошел ко мне.
— Новичкам надо чем-то помочь, — шеппул оп. — Зря их «старики» обижают.
— Дело говоришь, комсорг, — согласился я. — Соберем партбюро, посоветуемся.
На заседание партбюро пришли помимо его членов командиры и комиссары батальонов. Присутствовал и командир полка гвардии майор И. А. Калегов. Вопрос был поставлен один: об обучении молодых бойцов, прибывших в полк, боевому мастерству. В выступлениях указывалось, что партийные и комсомольские организации подразделений недостаточно уделяют внимания молодому пополне-24
пию, не оказывают должной помощи командирам в его обучении.
Партбюро обязало парторгов и комсоргов взять под неослабный контроль боевую учебу молодых воинов. В решении указывалось, что каждый коммунист и комсомолец должен лично заниматься с новичками, передавать им своей боевой опыт, учить тому, что потребуется в бою. Командирам и комиссарам батальонов было рекомендовано пересмотреть план учебы молодых бойцов, с тем чтобы пополнение быстрее входило в строй. От этого теперь во многом зависела боеготовность полка.
Когда заседание закончилось, командир полка попросил всех остаться. Он сказал:
— Бойцов учить — хорошо. Оборону крепить — хорошо. А почему в ротах снайперов мало? Или стрелять некому?
Иван Алексеевич, коми по национальности, знал цену меткому выстрелу. И вопрос, поставленный им, был весьма кстати. Хотя полк и был в обороне, его прямая задача —- не давать противнику покоя.
В полку зарождалось снайперское движение. Наши лучшие стрелки, прежде всего коммунисты, передавали боевой опыт молодежи. Так, парторг батареи М. П. Котай-чиков помог стать мастерами военного дела всем бойцам своего расчета. Охотно делился секретами мастерства снайпер коммунист Н. Н. Реутов. В одной из засад он уничтожил трех фашистов.
Тот же Реутов рассказал группе молодых воинов о делах снайпера Карташвили, на счету которого было 7 убитых гитлеровцев,
— Вот так нужно воевать, товарищи! — призывал коммунист.
Слово попросил гвардии рядовой Магарастян.
Карташвили молодец, — сказал он. — Магарастян не хуже воевать может. Давай винтовку — сам увидишь.
Это не было бахвальством. Боец все эти дни настойчиво учился, получил навыки прицеливания, умел выбрать удобную позицию, замаскироваться. Вскоре ему вручили снайперскую винтовку, и он направился в засаду. На второй день Магарастян уже открыл боевой счет, пристрелив двух гитлеровцев.
Метких стрелков учили и в соседних полках. Месяца
25
через два в дивизии уже насчитывалось 336 снайперов. На каждого из них был открыт боевой счет.
Пройдет немного времени, и те, кто пополнил ряды подразделений, станут отважными пулеметчиками, артиллеристами, минерами, разведчиками и связистами. Но это потом. А весной 1942 года с новичками пришлось много возиться, настойчиво их учить и воспитывать.
Новое пополнение, полученное полком, было многонациональным. Преобладали казахи, татары, башкиры, азербайджанцы, грузины. Многие из них слабо владели русским языком. Поэтому учебные занятия велись через переводчиков. Мы и агитаторов подбирали из тех командиров и бойцов, которые владели двумя или несколькими языками. Они переводили и разъясняли требования военной присяги и уставов. К нам поступали газеты на языках народов СССР. Это давало возможность улучшить воспитание бойцов.
Оказавшись как-то в приданной нам 5-й батарее 34-го гвардейского артиллерийского полка, я порадовался инициативе политрука батареи И. С. Калака. Он создал плакаты с текстом присяги на пяти языках: русском, украинском, грузинском, казахском, азербайджанском. Слова присяги на родном языке всегда были перед глазами воинов. У плакатов нередко проводили беседы агитаторы.
В воспитательной работе широко использовались письма, поступавшие в полк со всех концов страны. Писали родные однополчан, знакомые и незнакомые. Многое из писем мы зачитывали перед строем. Я позволю себе привести некоторые из них.
«Продолжай бить проклятых гадов беспощадно, — наказывал сыну отец красноармейца Абдурахманова. — Бей, сынок, немцев, чтобы они не поганили советскую землю. Если понадобится, то и я, 60-летний старик, возьму в руки оружие и буду вместе с тобой бить врага».
«В твоей колхозной книжке на лицевом счету значится 400 трудодней, — писали колхозники-казахи своему земляку бойцу Исамбаеву. —- Желаем тебе и на боевом счету иметь не менее истребленных немцев. Мы же будем работать так, чтобы обеспечить нашу Красную Армию всем необходимым».
«Большое спасибо за поздравление, — откликнулись родители снайпера Карташвили. — Мы всем даем один наказ: бейте проклятого врага беспощадно. Отмечайте ге-26
роев — верных сынов Родины, карайте тех, кто вздумает опозорить седые головы своих родителей».
Командиры и политработники посылали родителям отличившихся бойцов письма-благодарности. Эти письма, а также ответы на них широко использовались в агитационной работе.
Мы, конечно, не прибегали к переписке. по поводу фактов нарушения воинской дисциплины. Факты эти были единичные. Да и не хотелось тревожить родителей воина, который глубоко осознал совершенный им проступок. Но вот один из бойцов уснул на посту. Это из ряда вон выходящий факт. Товарищеский суд под председательством красноармейца И. И. Холмогорова вынес решение, утвержденное затем командиром: объявить провинившемуся выговор и сообщить об этом письмом на родину. Никакое дисциплинарное взыскание не могло бы оказать столь сильного воздействия. Приговор красноармейского суда стал широко известен в подразделениях, и такого рода проступков в полку с тех пор никогда не наблюдалось.
Учеба учебой, но на устах каждого воина теперь был один вопрос: «Когда же в бой?» У многих бойцов и командиров родные оставались за линией фронта, в оккупации. Тревога за их судьбу не давала покоя.
...Вечер. Нагретая за день земля еще не остыла. На просохшем, поросшем молодой травой пригорке сидят двое. По голосам узнаю их. Это агитатор Д. С. Горбатенко и красноармеец П. Г. Семенов, белорус. Идет задушевный разговор.
— Ну чего ты, Семенов, такой угрюмый последнее время? Смотришь на всех исподлобья, не улыбнешься, не пошутишь?
— Это ты улыбайся, а мне не до жартачак. Бачыш, где немец стоит?
— Дальше не пустим немца! Не пустим, да еще и , назад с таким треском выгоним, что побежит без оглядки.
— Кали то будзе?..
— Скоро, очень скоро. Я уверен в этом. Дали фрицу по зубам под Москвой. Дадут и на других фронтах. Будет и на нашей улице праздник, подожди немного.
— Табе добра чакацъ. У цябе бацьки на Урале. А у мяне — под немцам. Можа, и нёжывые ужо...
27
— Ну, это ты брось. Отец твой небось давно в партизанах. Слыхал, как они немцу жару дают? Вот послушай последние новости...
Темнеет светлая полоска на небе, ночь опускается па землю. Иду в штаб полка, а в ушах еще звучит страстный голос Семенова: «Кали ж той час настане, як уперад пойдем. Ой як жду его!..»
Красноармейцы рвались в бой. Значит, воспитательная работа коммунистов не пропала даром.
В штабе командир полка И. А. Калегов ошарашил меня новостью:
— Сегодня дивизия выступает в новый район обороны.
— Опять оборона?! — невольно воскликнул я.
Иван Алексеевич недовольно поморщился:
— Обстановку знаете? Ну вот, и не рвитесь поперед батьки в пекло. Время придет, прикажут...
Я созвал заседание бюро, чтобы обсудить план партийно-политической работы па марше, распределить силы. Выносим решение: членам бюро разъяснить командирам и бойцам важность передислокации батальонов полка; добиться, чтобы все коммунисты были примером на марше, подбадривали отстающих, помогали уставшим. Особое внимание обращалось на маскировку походных колонн, на четкую передачу и исполнение команд.
Переход на новый оборонительный рубеж создавал определенные трудности для партийной организации. Теперь важно было не дать людям размагнититься, помочь им глубоко уяснить свои практические задачи, в том числе строительство укреплений. Нужно рыть траншеи, блиндажи, «лисьи норы», оборудовать КП и НП, огневые позиции, укрытия. Да мало ли что нужно полку, занимающему оборону?! А техническое оснащение бойца известное — кирка да лопата. Каково человеку, живущему мыслью о наступлении, устраиваться на новом месте? Наша задача — добиться, чтобы люди сознавали необходимость тяжелого, изнуряющего труда для достижения победы.
С такими мыслями члены бюро разошлись по батальонам и ротам. Мы собирали коммунистов, разъясняли им требования обстановки.
Батальоны совершили марш благополучно. К 14 мая они сосредоточились в районе станции' Верховье Орловской области и заняли рубеж Вязоватое, Милявое. Сразу же приступили к оборонительным работам. Вот здесь-то 28
и оправдались мои опасения. К сооружению окопов кое-кто из бойцов отнесся спустя рукава. В 7-й стрелковой роте, как мне сообщили коммунисты штаба полка, окопы были отрыты небрежно, медленно сооружались огневые точки. Я тут же направился в эту роту, обошел ее огневые точки, поговорил с командиром, коммунистами. Парторг И. И. Тюмиков созвал партийное собрание. На нем я рассказал о трудной обстановке, сложившейся на юге в результате неудач под Харьковом, о необходимости любой ценой выстоять на занятых рубежах, а для этого создать крепкую, надежную оборону. Коммунисты поддержали меня. В те дни они провели беседы с бойцами, организовали показ хорошо оборудованных траншей и индивидуальных окопов. В итоге оборона в роте была построена образцово.
Противник не проводил активных боевых действий на участке нашего полка. Но не в правилах гвардейцев давать врагу передышку. Дивизионная газета «Звезда Советов» бросила лозунг: «Врагов меньше — победа ближе!» Этот лозунг, подхваченный коммунистами, воодушевлял бойцов, звал их на подвиг. Все чаще и чаще выходили на поиск наши разведчики, брали на прицел зазевавшегося врага снайперы, пулеметчики...
Политотдел дивизии в начале лета широко ввел в практику конференции боевого актива. Состоялись конференции истребителей танков, снайперов, артиллеристов, пулеметчиков. Опыт лучших бойцов становился достоянием всех.
Во второй половине июня в целях улучшения позиций было решено захватить Вязоватое. Это село гитлеровцы тщательно укрепляли на протяжении длительного времени. Вдоль главной улицы был отрыт ход сообщения, имевший ответвления к домам и огневым точкам. Противник приспособил к обороне кирпичное здание школы, на втором этаже и чердаке которого были установлены пулеметы, а в подвале оборудованы бойницы. На важнейших направлениях немцы установили пулеметы, орудия, минометы. Подступы к Вязоватому находились под перекрестным огнем опорных пунктов, расположенных у Нижних Туровец, на высотах 233 и 241.
По плану, разработанному командованием дивизии, захват Вязоватого осуществлял 25-й гвардейский стрелковый полк. Для этого в полку был сформирован штурмовой
29
отряд в составе стрелковой роты с приданными взводами: пулеметным, автоматчиков, саперов и ПТР. В отряд входили также орудия ПТО и группа истребителей танков. 16 июня 1942 года штурмовой отряд начал атаку, но не на рассвете, как это обычно принято, а в 23 часа. Бойцы и командиры рывком преодолели расстояние и ворвались на северо-восточную окраину Вязоватого. Завязались схватки на улицах села. Бои шли в домах, на огородах, в окопах и подвалах. Гвардейцы бились гранатами, штыками, ножами. Более 40 фашистов полегло в этом бою. Один из стрелковых взводов с группой автоматчиков пробился на юго-западную окраину Вязоватого.
Однако противник, опомнившись от дерзкого удара, сумел восстановить положение. Его огневые средства оказались неподавленными. Выяснилось, что в Вязоватом к моменту боя находилось не менее батальона вражеской пехоты, усиленного минометной батареей, 75-миллимет-ровым орудием и станковыми пулеметами.
Для захвата Вязоватого был привлечен 1-й батальон нашего полка. Но и противник подтянул резервы, в том числе артиллерийские и минометные батареи. Наши многократные попытки взять Вязоватое успеха не имели...
А лето уже давно вступило в свои права. Потемнела густая зеленая листва березовых и дубовых рощ на берегах рек Зуша и Труды, по пояс поднялась трава на склонах высот. Уже второй месяц мы стоим на рубеже Старое Битьково, Задушяое, Гвоздяное, Орловка, ведем бои местного значения. Гитлеровцы пристреляли каждый клочок земли, прикрыли свой передний край многослойным ружейно-пулеметным и минометно-артиллерийским огнем. Перед окопами и проволочными заграждениями вырублен кустарник, выкошена трава. Проволочные заграждения установлены в три кола, причем высота их достигает двух метров. Вдоль каждого ряда кольев натянуто по двадцать две колючие проволоки, которые в свою очередь переплетены поперечными и угловыми связками. Густо натыканы мины, фугасы, различные ловушки. Словом, наши неудачи под Вязоватым можно объяснить в какой-то мере объективными причинами. Но от этого не легче.
19 июля я находился в 1-м батальоне, занимавшем оборону в районе села Липов. Утро выдалось солнечным, тихим. Слышны лишь неугомонный треск степных музыкантов — кузнечиков да заливистый голосок жаворонка в 30
небе. Изредка хлопнет выстрел, протарахтит пулеметная очередь — и снова все тихо, спокойно. Будто и войны нет.
День, как обычно, был хлопотливым. Я провел в роте младшего лейтенанта А. А. Хачатуряна встречу с агитаторами, затем с сержантами. Все, словно договорившись, задавали один и тот же вопрос: «Что сообщает Москва?»
— Каково положение на фронте? — интересуется гвардии сержант Я. И. Уманский — живой, по-одесски говорливый, любящий и пошутить, и поспорить. Я помолчал, собираясь с мыслями. Мои собеседники терпеливо ждали.
Очепь тяжело было говорить о событиях войны. Но люди должны знать правду, как бы ни была она горька. В последнее время Москва сообщала: войска Крымского фронта вынуждены были оставить Керченский полуостров; пал героический Севастополь: его защитники 250 дней упорно отстаивали свой город; войска Юго-Западного фронта после неудачи под Харьковом еще дважды отступили и отошли за реку Оскол. По-прежнему стране грозила смертельная опасность. Родина, народ наш, партия большевиков требуют от воинов стоять насмерть, ни па шаг не отступая, не отдавая врагу ни клочка земли.
— Ну, ще ты скажешь за этих наглецов фашистов! — огорченно всплеснул руками Уманский. — Не может па нашем участке фронта продвинуться, так ему на юг понадобилось!
— Ты-то под Вязоватым далеко продвинулся? Молчал бы лучше! — заметил гвардии младший сержант Ф. А. Горячев.
— Почему молчал?! — возразил гвардии сержант Кавтарадзе, отличившийся в последних боях. — Я видел, как дрался Уманский. Хорошо дрался, смело, как орел! Как настоящий коммунист дрался.
И. И. Тюмиков, выдвинутый недавно политруком роты, наклонился ко мне и вполголоса сказал:
— Хорошие ребята. И настроение у них боевое. Уманский и в самом деле храбрец. Думаем к награде представить.
Хотелось верить, что в бою ребята не подведут. А он был не за горами. Я знал, что через 3—4 дня 1-му батальону, в состав которого входила рота Хачатуряна, предстоит совместно с подразделениями 25-го гвардейского вновь штурмовать Вязоватое. И знал, конечно, чего это
31
будет стоить. Войпа... Скольких хороших парней не увижу я при очередном посещении роты?!
Кто-то из сержантов попросил:
— Расскажите о Москве. Мне так и не довелось побывать в белокаменной. А ведь наша дивизия защищала ее.
Да, 6-я гвардейская защищала столицу, была в числе тех, кто развеял миф о непобедимости гитлеровских полчищ. И все мы по праву могли считать себя москвичами. И те, кто геройски бился па подступах к Москве, и те, кто теперь держит оборопу, преграждая путь к сердцу Отчизны. Москва бесконечно дорога всем людям нашей многонациональной страны. Потому что этот город — и сердце, и мозг государства, здесь работает Центральный Комитет партии, отсюда руководит страной наше правительство, это — крупнейший центр науки, культуры, искусства. Москва дорога нам и героической историей своей, и еще более славным настоящим, и захватывающим дух будущим. Она дорога нам каждой улицей и площадью, каждым памятником и каждым деревцем у Мавзолея Владимира Ильича Лепина. Ведь опа — символ свободы и независимости нашего парода, залог его счастливого будущего, знамя наших побед.
Моя жизнь тесно связана с Москвой. Мпе часто приходилось бывать в ней. Говорить о Москве, не волнуясь при этом, не могу и сейчас. А тогда, в дни войны, мы особенно остро воспринимали само звучание слова «Москва».
Очевидно, мое волнение передавалось бойцам. Говорил я долго, но никто не выразил нетерпения, все слушали очень внимательно. Когда кончил, помолчали. Потом гвардии младший сержант Горячев задумчиво произнес:
— Да, Москва... За тебя и жизни не жалко. И не пожалею! Товарищ отсекр, сердцем чую, что скоро бой. Хочу фашистов бить коммунистом! Можете рекомендовать меня в партию?
Я вырвал из блокнота листок и написал рекомендацию, свое поручительство за честь и отвагу младшего сержанта Федора Алексеевича Горячева, за преданность его Родине и делу Коммунистической партии. Рекомендацию для вступления в члены ВКП(б) я дал и гвардии сержанту Якову Израилевичу Уманскому. К радости, должен сказать, что они не подвели меня.
32
П. И. Фокин
Д. Н. Голосов
Группа политработников 6-й гвардейской дивизии. В первом ряду справа — П. А. Горнаков
А. Г. Сагитов и. н> Шавин
Капитан В. Н. Бобков (слева) ставит боевую задачу
Три дня, что я провел в подразделениях, пролетели незаметно. Лишь поздно вечером 22 июля добрался до своей земляпки, прилег отдохнуть. Но уснуть не удалось. Едва дремота смежила веки, как раздалась канонада на участке соседнего 25-го гвардейского полка. Огонь был ужасающей силы. «Ну, теперь-то у немцев ни одной огневой точки пе уцелеет», — подумалось мне. К сожалению, я ошибся. Лишь немногим бойцам и командирам удалось ворваться на окраину Вязоватого, но продержались они там не более получаса. Снова неудача!
К полудню 23 июля на КП полка позвонил военком 1-го батальона Стеблецов. Он доложил, что немцы перешли в контратаку. Просил поддержать огнем. Командир полка тут же отдал приказ артиллеристам, и те поработали па славу. Контратака была отбита, но И. А. Калегов был недоволен:
— Опять Сафронов ворон ловит! Вот вызвать бы его на бюро да пропесочить как следует!
Я промолчал. Павла Ивановича Сафронова я знал давно и считал способным комбатом. Он отличился еще в январских боях в районе Гвоздяное. Батальон, увлекаемый командиром, наголову разгромил тогда полнокровную роту СС. Сам комбат уничтожил четырех немецких солдат и пленил офицера. В тех же январских боях батальон Сафронова сокрушил оборопу противника в районе деревень Кресты и Красиловка, чем создал благоприятные условия для освобождения города Новосиль. Павел Иванович одним из первых в полку был награжден орденом. Нет, Сафронов действительно отважный командир. С этим, в конечном счете, согласился и майор Калегов.
Должен сказать, что в Сафронове мы пе ошиблись. Воевал он достойно и геройски погиб в наступательном бою летом 1943 года. Его имя было навечно занесено в списки полка.
Запомнилось совещание политработников, состоявшееся летом 1942 года на высоте 248. Комиссар полка Беркович развернул свежий номер дивизионной газеты «Звезда Советов» и громко прочел сообщение Совинформбюро. Гитлеровцы снова захватили Ростов-на-Дону. Они рвутся к Кавказу, на Волгу. В кольце блокады находится Ленинград. В целом для страны положение остается смертельно опасным. На лицах политработников, слушающих Берковича, — тревога, настороженность.
3 П. А. Горчаков
33
Бережно свернув газету и положив ее в полевую сумку, батальонный комиссар сурово сказал:
— Сегодня получен приказ товарища Сталина. Сейчас я прочту его, и каждый распишется в том, что он ознакомлен с этим документом. Вы все, как и я, головой отвечаете за точное и беспрекословное исполнение требований приказа.
Приказ № 227 оказал огромное влияние па войска. Не стану перечислять всех мер, предпринятых для проведения его в жизнь. Они общеизвестны. Командиры, политработники и партийные организации довели требования приказа до каждого бойца.
В батальонах, ротах и батареях полка состоялись партийные и комсомольские, а затем красноармейские собрания, посвященные приказу Верховного Главнокомандующего. В своих выступлениях, в принятых решениях бойцы, командиры и политработники клялись не отступать пи шагу назад, заверяли партию и советский парод о своей готовности отдать все силы, а если потребуется, то и жизнь за независимость Отчизны. Я с особым волнением слушал эти глубоко патриотические, эмоционально насыщенные выступления однополчан. А для себя делал вывод: надо больше опираться на политработников ротного звена, активнее вовлекать в ряды партии лучших, храбрейших воинов. Ведь наша неудача под Вязоватым в какой-то степени объяснялась и непродуманной расстановкой партийных сил. Теперь важно укрепить коммунистами подразделения минометчиков, пулеметчиков, бронебойщиков.
В те дни я был назначен инструктором по оргпарт-работе политотдела 6-й гвардейской стрелковой дивизии. Сразу же получил задание направиться в 25-й гвардейский стрелковый полк. Командир полка гвардии майор Н. А. Смирнов встретил меня настороженно.
— Прислали варягов пашу «державу» укреплять? — с иронией спросил он.
— Если сами не справляетесь, без варягов пе обойтись, — в тон ему ответил я.
— Понимаю, на Вязоватое намекаете! А что там делалось, видели? Каких жертв этот бой стоил? — резко парировал Николай Андреевич.
— Видел, — так же резко произнес я. — Но видел и другое; Наблюдательный пункт первого батальона обору-34
дован плохо. Ведь там в кучу сбились КП, НП, перевязочный пункт, службы батальона.' Разве может комбат в этих условиях нормально управлять боем рот?
Крупно мы тогда поговорили с командиром полка. Признаться, па некоторое время наши отношения испортились. Но я не боялся этого, знал, что поступаю по-партийному.
Действительно, под Вязоватым подразделения полка действовали далеко не лучшим образом. Артиллеристы так и не смогли подавить вражеские огневые точки. А не смогли потому, что не имели соответствующих средств наблюдения и корректировки огня. Командиры рот не придавали должного значения орудиям сопровождения. И это в бою, в котором совершенно не использовались танки. Радиосвязь хотя и работала без перерыва, ио ее мало загружали: командиры не привыкли ею пользоваться. А проводные линии связи рвало снарядами и минами противника по 50—60 раз в сутки.
Слов пет, наступательный порыв бойцов, да еще в условиях внезапности для противника, принес нам успех в первый день боя. Однако в последующие дни мы не сумели использовать все имеющиеся возможности, чтобы развить этот успех. Сказались при этом и недостатки в управлении боем. Чего же тут командиру полка обижаться на критические замечания?
На другой день после того разговора иду на НП 1-го батальона: хотелось побеседовать с командирами и политработниками, с коммунистами. Но здесь было не до беседы. Наблюдательный пункт по приказанию командира полка освобождался от всех служб. Рассредоточивались КП, пункт боепитания, перевязочный пункт... Лишь поздно вечером удается мне поговорить с людьми. Мнение у всех едино: НП был так перегружен, что комбату повернуться негде.
Утром прихожу во 2-й батальон. И здесь приводится в порядок НП.
Командир полка разыскивает меня по телефону, приглашает на свой КП. Оказывается, при утреннем артобстреле снаряд противника угодил прямо в НП 1-го батальона. Там уже находились только наблюдатели, так что потери оказались незначительными.
— Обойдите подразделения полка, — просит меня Ни-3* 35
колай Андреевич. — Знаете, новый человек всегда лучше замечает неполадки. Что не так — сразу же сообщите мне.
— Зачем же по частностям беспокоить командира полка? На месте разберемся.
Я побывал во всех батальонах, ротах и взводах. Разумеется, не только проверял, но и помогал. Итоги проверки обычно подводил на коротких совещаниях. При этом говорил об упущениях прямо, без утайки; старался отметить все положительное, поддержать инициативу командиров, политработников, парторгов и комсоргов. Отношение ко мне, как представителю политотдела, было самое хорошее. Мои замечания, советы воспринимались в подразделениях доброжелательно, по-деловому. Командир полка Н. А. Смирнов согласился с выводами. Он принял все необходимые меры к устранению недостатков.
В последующем Смирнов показал себя мужественным и волевым офицером. Его командирский талант ярко проявился во многих сражениях. Полк, возглавляемый Николаем Андреевичем, был всегда на острие атак дивизии. В октябре 1943 года подполковник Н. А. Смирнов был удостоен звания Героя Советского Союза.
Недолгим было мое пребывание в политотделе 6-й гвардейской. Коротки и встречи с боевыми товарищами. Но память хранит воспоминания о многих из них. Ведь это память о людях, которые в самое трудное время достойно и до конца выполнили свой долг перед Родиной.
ВЕДУЩАЯ СИЛА — КОММУНИСТЫ
Бои местного значения, которые велись нашей дивизией, как и другими соединениями Брянского фронта, в какой-то мере сковывали противника, не позволяли ему перебрасывать свои войска под Воронеж и южнее его, где в то время развернулись решающие сражения. Bpai\ захватив стратегическую инициативу, рвался на юг, рассчитывая в последующем выйти на Кавказ и к Сталинграду.
7 июля 1942 года по решению Ставки наш фронт разделился на Брянский и Воронежский. Командующим Брянским фронтом, в составе которого оставалась наша дивизия, стал генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский, членом Военного совета — бригадный комиссар С. И. Шабалин и начальником штаба — генерал-майор М. С. Малинин. С приходом нового командующего мы почувствовали заметные перемены. Было покончено с чрезмерно частыми боями местного значения, в которых мы несли неоправданно большие потери в людях и технике.
Лето прошло в напряженной боевой и политической учебе.
В конце августа меня неожиданно вызвали в политотдел 48-й армии, в состав которой была передана теперь паша дивизия. Зачем вызвали, я точно не знал. Мог лишь догадываться, что это связано с перемещением по службе. Очень не хотелось покидать 6-ю гвардейскую, боевых товарищей, с которыми успел крепко подружиться.
В политотделе, находившемся в селе Малиново, обращаюсь к начальнику отдела кадров.
— Могу поздравить вас, Горчаков, — сказал тот. — На вас подготовлено представление: несу на подпись началь-
87
нику политотдела. Никуда не уходите. Он будет беседовать с вами.
Я сел на лавку, стоявшую у стены. Жду вызова. Начальник политотдела бригадный комиссар А. IIL Миф-тахов не стал долго испытывать мое терпение. Через несколько минут он пригласил меня к себе, сказал:
— Есть мнение выдвинуть вас комиссаром полка. Но на мой взгляд, вам целесообразно поработать в политотделе армии инструктором. Как вы смотрите на это?
— Работа в аппарате мне не по душе, — ответил я. — Хочу быть среди бойцов и командиров переднего края. Думаю, там принесу больше пользы.
Мифтахов задумчиво посмотрел на меня, отложил в сторону папку с моим личным делом.
— Ну, хорошо. Мы еще подумаем. Подумайте и вы. А характеристики на вас положительные.
К вечеру получаю предписание. Назначаюсь комиссаром в 1033-й стрелковый полк 280-й стрелковой дивизии. Меня предупредили: полк длительное время находится в обороне. В настоящих боях он еще не участвовал.
К новому месту службы, признаться, я ехал с двойственным чувством. С одной стороны, радовало оказанное доверие, но с другой — назначение комиссаром полка, естественно, вызывало озабоченность.
Комиссар... Для людей моего поколения это понятие неразрывно связано с созданием и укреплением Красной Армии. Комиссарами полков и дивизий тогда посылались самые стойкие, проверенные революцией питомцы партии. О них прекрасно сказано в художественной литературе, посвященной периоду гражданской войны. И я конечно же помнил образ комиссара Чапаевской дивизии, любовно выписанный Дмитрием Фурмановым. Я знал также, что «военный комиссар является представителем партии и правительства в Красной Армии и наряду с командиром несет полную ответственность за выполнение войсковой частью боевой задачи...» Значит, вступая в должность комиссара полка, я принимал ответственность за судьбы сотен бойцов и командиров.
Словом, подумать было о чем. Вот, скажем, о взаимоотношениях комиссара с командиром. В то время часто говорили: командир — отец полка, а комиссар — его душа. Но ведь оба они — начальники, наделенные одинаковыми правами, несущие одинаковую ответственность за 38
все стороны деятельности части. Тут имелась почва и для разногласий, и даже для конфликтов. Комиссар, которого я должен был сменить, не сумел сработаться с командиром. Удастся ли мне?
280-я стрелковая дивизия начала формироваться Сталинградским военным округом в конце декабря 1941 года. Ее комплектовали полковник Д. Н. Голосов и старший батальонный комиссар П. И. Фокин. Оба они — участники гражданской войны. Командиром 1033-го полка, входившего в состав дивизии, был полковник Г. Я. Юргелас, латыш по национальности. В феврале 1942 года его сменил прибывший с фронта подполковник А. Г. Сагитов. Начальником штаба полка стал капитан В. Н. Бобков, выпускник Военной академии имени М. В. Фрунзе.
Формирование дивизии велось ускоренными темпами. 1 апреля 1942 года она прибыла в Липецк, поступив в распоряжение командующего Брянским фронтом. 4 мая полки дивизии заняли оборону в районе города Ливны Орловской области, сменив отошедшие на пополнение участвующие в зимних боях части.
1033-й полк принял участок фронта в районе сел Те-ляжье, Ворово, Труды Теряева. Сплошной оборонительный рубеж здесь, по существу, отсутствовал. Подразделениям пришлось в короткий срок отрывать траншеи, соединять их между собой ходами сообщения, оборудовать укрытия для людей и техники. Одновременно отрабатывалась тактика ближнего боя. Бойцы учились метко стрелять, передвигаться по ровному полю, окапываться, маскироваться, вести борьбу с танками. Полк силами от взвода до батальона провел несколько разведок боем, приобретя тем самым некоторый опыт боевых действий.
Обо всем этом мне рассказал начальник штаба капитан Василий Никифорович Бобков. (Командир полка подполковник А. Г. Сагитов после контузии находился в госпитале.)
В первую очередь я познакомился с коммунистами штаба полка, с командирами и комиссарами батальонов. И конечно же, со своими ближайшими помощниками в работе: агитатором полка старшим политруком Д. Г. Степановым, секретарем партийного бюро старшим политруком И. Н. Шавиным и секретарем комсомольского бюро
39
старшим сержантом В. В. Гречко. Эти люди, как я сразу же понял, работали с упорством и настойчивостью, стремились сплотить бойцов и командиров в дружный коллектив, способный решать любые задачи.
Д. Г. Степанова знали и любили в подразделениях. Он не ограничивался инструктажами агитаторов и чтением лекций. Дмитрий Григорьевич шел в роты и отделения, говорил с бойцами по душам. Немолодой уже — ему перевалило за сорок, — Степанов обладал большим опытом партийной работы, умел расположить к себе людей. По-отечески относился он к молодежи. Под стать ему были и остальные политработники полкового звена: Иван Николаевич Шавин и двадцатилетний Виктор Васильевич Гречко. В боях они личным примером воодушевляли бойцов на подвиг.
Знакомство с командиром полка Ахнафом Гайнутди-новичем Сагитовым, переросшее впоследствии в крепкую дружбу, состоялось после того, как я обжился в полку. Встретились мы в штабной землянке.
Я беседовал с В. Н. Бобковым о предстоящей разведке боем на участке полка. С начальником штаба было приятно разговаривать. Он великолепно разбирался не только в чисто военных вопросах, но и в литературе, искусстве. Был вежлив, внимателен. За время нашей совместной службы я ни разу не слышал, чтобы он накричал на подчиненного, выругался. Подтянутый, по-спортивно-му стройный, начальник штаба и от других требовал аккуратности во всем. Небрежности он не терпел. Мы иногда подшучивали над его привычкой ходить в перчатках: ни зимой, ни летом он с ними не расставался. Но Василий Никифорович не обижался: он и сам умел шутить. А в минуты досуга любил рассказывать о столице; коренной москвич, он хорошо знал свой город.
Бобков стоял у карты, разостланной на сколоченном из досок столе, а я сидел на нарах в углу землянки. Неожиданно отворилась дверь, и в землянку стремительно вошел невысокого роста, плотно сложенный подполковник. Поздоровавшись с порога, он тут же потребовал от Бобкова доложить обстановку.
Я понял, что это и есть А. Г. Сагитов, вернувшийся из госпиталя.
Начальник штаба доложил о силах противника, о расположении наших батальонов и рот, об огневых средст-40
ваХё Бобков умел немногословно, но четко рассказать о положении дел на участке полка. Казалось, он чувствовал биение пульса каждого подразделения, слышал их дыхание.
Не вмешиваясь в разговор, присматриваюсь к Сагитову. Командир полка был подвижен, даже резок в движениях, но говорил не торопясь, взвешивая слова. Своими карими, слегка прищуренными глазами он пристально всматривался в собеседника. И эта манера могла смутить. Но Бобков, видимо, привык к ней.
Выслушав доклад начальника штаба, подполковник резко повернулся всем корпусом ко мне:
— Ты комиссар новый будешь?
— Да, я назначен в полк комиссаром.
— Где прежний комиссар, знаешь?
— Слышал, что послали на учебу.
— Я настоял, чтобы отозвали. Зачем мне такой нужен? — Ахнаф Гайнутдинович говорил взволнованно, и в его голосе сильнее стал проступать татарский акцент. Слово «зачем» он произнес как «сасём», и я невольно улыбнулся. Сагитов сразу же нахмурился, насторожился.
— Зачем улыбаться? Я не шучу. Я требую смелости не только от коммунистов полка, но и от самого комиссара.
Смелость, отвага — это такие качества, которые определяются не словами, не фразами, а конкретными делами. Но Сагитов ждал ответа.
— Насчет меня не волнуйтесь, — сказал я. — Упрекать не придется.
Сагитов вздохнул с чувством облегчения и уже весело сказал:
— Чего голодный сидишь? Пойдем в мой блиндаж, вместе жить будем. Обедать будем.
— Так я не голоден...
— Солдату поесть никогда не помешает.
За обедом мы говорили о людях полка, о трудностях, о неотложных задачах, которые предстоит решить в ближайшее время.
В последующие дни мы занимались в первую очередь повышением боеготовности полка. Укрепляли подразделения кадрами. Во главе рот и взводов ставили опытных и смелых командиров. Повседневную учебу воинов максимально приближали к боевой.
41
Во всех звеньях полка была перестроена партийная и комсомольская работа. Там, где не было партийных организаций, создавали их заново. Коммунистов распределили по всем подразделениям.
Активизировалась и политико-воспитательная работа. Командиры и политработники ежедневно объясняли красноармейцам обстановку на фронтах Великой Отечественной войны, рассказывали о самоотверженной работе тружеников тыла.
В полку было немало бойцов различных национальностей, плохо владевших русским языком. Шефство над ними взяли партийные и комсомольские организации подразделений. И люди, как братья, вошли в дружную полковую семью. Я не помню случая проявления национальной розни, недоверия друг к другу, хотя геббельсовская пропаганда всячески пыталась нарушить единство наших рядов. Фашисты сбрасывали в расположение полка листовки с обращением к бойцам нерусских национальностей: зачем, мол, вам воевать за русских. Идите по домам!
— Здесь, в сердце России, мы защищаем горы Алтая, степи Заволжья, дальневосточную тайгу и знойные пустыни юга страны. Ни шагу назад! — так говорил командир взвода полковой разведки лейтенант Мякили Кя-мал Исмаил-оглы. Эти слова выражали чувства казахов и грузин, азербайджанцев и узбеков, чувашей и татар, бойцов всех национальностей, служивших в полку.
Почти каждый день над позициями полка несся истошный рев немецких радиорупоров:
— Русские люди! Бойцы и командиры! Вас угнетает татарин Сагитов. Сбросьте татарское иго! Станьте стеной за святую Русь без большевиков и инородцев!
В ответ провокаторы получали мощный шквал огня.
Осенью 1942 года наш полк, находясь в обороне, беспрестанно вел бои местного значения, в том числе разведку боем, а также снайперскую охоту. И, как всегда, пример показывали коммунисты.
Запомнился подвиг отделения коммуниста младшего сержанта Г. А. Стукова. С ним было шестеро: пулеметчики И. П. Огненко и А. В. Головко, стрелки А. А. Губа-ренко, И. Н. Корнилов, Б. Ф. Куренной и Е. С. Дохно. Они отбили неоднократные атаки целой роты фашистов. После боя перед позицией отделения было подобрано» 42
24 вражеских трупа, 37 раненых немецких солдат и офицеров, различные трофеи и документы. У нас же потерь не было.
Произошло все это так. Отделение Стукова находилось в боевом охранении. Ночь прошла спокойно. А перед рассветом красноармеец Корнилов заметил тени, маячившие в долине.
— Фашисты! — предупредил он товарищей.
Отделение приготовилось к бою. Враги приближались, делая короткие перебежки. «Десять... Пятьдесят... Сто...»—докладывал пулеметчик Огненко и, сбившись со счета, оглянулся на командира. Младший сержант поднял руку, собираясь дать команду «Огонь!», но голос его потонул в грохоте разрывов. Противник обрушил на позиции отделения лавину огня из минометов, пулеметов, автоматов. Облако дыма, перемешанное с землей, затянуло окопы, защищаемые, горсткой воинов. Разрывы слились в сплошной гул. Казалось, ничто пе уцелеет в клокочущей долине. Но советские бойцы и пе думали об отходе.
— Ни шагу назад! Бить фашистов так, как требует партия! — крикнул младший сержант Стуков.
Ударили ручные пулеметы, затрещали винтовочные выстрелы. Фашисты залегли.
Но вот случилось непредвиденное: замолчал ручной пулемет красноармейца Головко и фашисты опять поднялись в атаку. Оставалось одно: встретить врага рукопашным боем. К счастью, снова застучал пулемет Головко. Боец сумел устранить неисправность и теперь опоражнивал диск за диском. Немцы, почти вплотную подбежавшие к окопам, повернули обратно.
Замешательство гитлеровцев длилось недолго. Короткими перебежками, ползком они упорно продвигались к окопам, прикрываясь трупами погибших. Два офицера что-то кричали своим солдатам, жестами понукая их.
— Огонь! Сильнее огонь! — командовал Стуков.
Он понимал, что фашисты вот-вот бросятся в атаку. От наших окопов их отделяли каких-нибудь 20—30 метров. Наступил критический момент.
— Гранатами! — крикнул командир отделения.
«Карманная артиллерия» не подвела. Осколки лимонок косили гитлеровцев. И они дрогнули, стали отходить. Их атака захлебнулась. Прикрываясь минометным огнем,
43
немцы сумели унести часть своих раненых. Но большинство их осталось на поле боя. Не удалось уйти и тем двум офицерам, которые понукали атакующих.
Когда к отделению подоспела подмога, бой уже закончился. В долине, освещенной лучами солнца, воцарилась тишина, нарушаемая лишь стонами раненых. И долго еще шастали наши бойцы между воронок, подбирая брошенное врагами оружие, документы, снаряжение.
Отважные воины были удостоены правительственных наград. Принимая из рук командира дивизии медаль «За отвагу», младший сержант Григорий Алексеевич Стуков сказал:
— Награда пробудила во мне еще больше силы, еще выше подняла ненависть к врагу. Клянусь тебе, партия, до конца жизни быть верным сыном твоим.
Уточнив подробности подвига семи героев, я пригласил к себе агитатора полка.
— Надо немедленно сообщить бойцам об этом событии, собрать агитаторов, выпустить листовки...
Дмитрий Григорьевич чуть ли не с обидой взглянул на меня.
— Товарищ комиссар, так я ж разве не знаю? В ротах уже идет работа. Народ всколыхнулся.
И верно. Весть о подвиге отделения Стукова с быстротой молнии облетела все роты полка. Повсюду прошли собрания, беседы. Бойцы и командиры говорили о своей решимости следовать примеру отважных однополчан. Лучшие воины подавали заявления с просьбой принять их в партию, комсомол. Коммунисты использовали этот патриотический подъем для мобилизации личного состава на усиление боевой активности. Я сознательно применяю термин «для мобилизации». Ведь в те дни речь шла напрямую. «Ты обязан устоять, — говорилось в одной из листовок, — обязан опрокинуть врага. Иного выбора пет. И даже смерть не послужит оправданием малодушному».
Призывая воинов на подвиги, коммунисты сами были первыми в бою. Их слова не расходились с делом.
Радио сообщало тревожные вести. Противник усиливал йажим на юге: его войска рвались к Сталинграду и на Северный Кавказ. Жестокую блокаду выдерживал окруженный Ленинград. В этой исключительно сложной 44
и напряженной обстановке командиры,, политработники, партийные и комсомольские организации много делали для того, чтобы поддерживать у личного состава высокий моральный дух, непоколебимую уверенность в своих силах, в торжестве нашего великого дела, воспитывать чувство личной ответственности за судьбы Родины и народа.
Мы широко популяризировали героев боев. О том или ином успехе советских войск, о подвигах однополчан знал каждый боец и командир. И еще мы старались крепить связь с тылом, нерушимую дружбу армии и народа. Ведь как приятно сознавать, что о фронтовике помнят в род-пом краю, его подвигами гордятся, его ждут домой с победой. Единство и нерасторжимая связь фронта и тыла, выкованные Коммунистической партией, явились важным фактором в достижении победы над врагами.
Запомнился теплый вечер. Бойцы и командиры подразделений второго эшелона вышли на колхозные поля. Одни ремонтируют тракторы и комбайны, другие косят траву, убирают урожай. И вот уже тянутся подводы с зерном на заготовительные пункты. Колхозники благодарят воинов за помощь.
У полевой кухни, расположившейся в глубине колхозного сада, замечаю секретаря комсомольского бюро полка Виктора Гречко. Как всегда горячий, подвижный, он что-то быстро говорит бойцам комендантского взвода, попарно устроившимся возле котелков с гречневой кашей. Люди только что вернулись с сенокоса. Устали, проголодались. О чем это Гречко толкует с ними?
Не о фильмах ли? Кстати, они не давали мне покоя. Бойцы то и дело просят чаще показывать новые картины. А где их взять? На пункте проката дают, как правило, лишь старые ленты, которые уже не раз прокручивались в подразделениях полка.
Гречко, поговорив с людьми, подошел ко мне, прилег рядом. Я готов его слушать: он всегда расскажет о настроениях бойцов, их запросах. На этот раз Виктор начал издалека.
— Сегодня агитатор Киленников письмо читал бойцам отделения, — сказал он.
— Что за письмо?
— Получил из своего колхоза. Пишут, что урожай сняли хороший, под озимые земли подготовили. И Красной Армии хлеба много дадут, и сами голодными не оста
45
нутся. Интересуются, как старший сержант Киленников и его друзья гитлеровцев бьют, скоро ли домой думают возвращаться. Ждет, дескать, колхозное поле хозяйских РУ-к...
— Иу что ж, хорошее письмо.
— Так-то оно так. Недаром красноармейцы всем отделением ответ писали. Спасибо, мол, за труды ваши, а насчет фашистов не сомневайтесь — разобьем. С ответом, как видите, все в порядке. Меня другое заботит. У нас есть бойцы, у которых семьи в оккупации остались. Им письма получать неоткуда. Скучают...
Я, признаться, не понял толком, чего хочет Виктор. Попросил объяснить. И он рассказал о возникшей у него идее.
— Вы, конечно, помните красноармейский суд, на котором Мартына Аляхновича за грубость с командиром разбирали?
Я подтверждающе кивнул головой. В последнее время у нас довольно широко практиковались красноармейские суды, на которых рассматривались проступки отдельных бойцов. Эти суды имели большое воспитательное значение. Но при чем здесь письмо агитатора Киленникова?
А Гречко между тем продолжал:
— Аляхнович родом из Белоруссии. Писем не получает с начала войны. Ну а что фашисты в Белоруссии вытворяют, вы знаете не хуже меня. Вот Мартын и не находит себе места. Принесут во взвод почту, он в лес убегает. В такие минуты его не тронь!
— Что же ты предлагаешь?
— Обратиться бы в райкомы, горкомы комсомола. Пусть молодежь пишет нам коллективные письма, а мы будем отвечать. Смотришь, кто-то подружится через переписку. Советские же люди!
Идея комсомольского вожака мне понравилась. Вскоре он и руководители батальонных организаций ВЛКСМ послали больше сотни писем во все концы страны. Приходили ответы — коллективные и индивидуальные. Особенно часто поступали письма из индустриальных городов: Москвы, Горького, Куйбышева, Саратова. На конвертах значились самые разнообразные адреса: «Лучшему бойцу Николаю», «Бойцу, не получающему писем», «Храброму бойцу подразделения». Получить такое письмо из рук командира было равносильно поощрению. К слову ска
46
зать, Мартын Аляхнович заслужил это право. Он овладел снайперским делом, открыл боевой счет уничтоженных гитлеровцев. И я с удовольствием вручил ему перед строем очередное письмо «Лучшему бойцу».
На фронт щедрым потоком шли посылки с подарками. Их слали школьники, девушки, вдовы и матери погибших бойцов. И в каждой посылке — записка, фотография, адрес для ответа. Что мог, к примеру, подарить тамбовский школьник фронтовику? Пару пачек моршанской махорки, конверты да бумагу для писем. Но прочтешь вложенную в пакет записку, аккуратно выведенную детской рукой, и становится легче на душе: о тебе заботятся, в тебя верят.
Переписка бойцов полка с тружениками тыла непрерывно расширялась. Патриотические письма использовались агитаторами, политработниками. Их публиковала дивизионная газета «За Отечество». А какое влияние оказывали на личный состав письма-наказы родителей! Эти письма читались вслух, передавались из рук в руки, цитировались в беседах, в боевых листках.
Запомнилась беседа, проведенная командиром минометного расчета 2-й минометной роты 2-го стрелкового батальона сержантом П. Н. Цыганковым. Он говорил товарищам примерло так:
— Как вы сами знаете, я парень русский, рязанский. В партии не состою. Родня моя под оккупанта не попала. А только ненавижу я фашистов жгучей ненавистью, как и те бойцы, у кого они дом разорили, над отцом-матерью лютуют. Вы спросите: почему ненавижу? Да потому, что не могу без боли писем читать, что каждодневно к нам в полк приходят. Отовсюду слышится клич: «Убей фашиста, уничтожь поганого зверя, спаси землю русскую!» Мне еще двадцати пет. Своими детьми не обзавелся. Но за муки детей, матерей русских буду мстить врагу без устали и пощады! Клянусь в этом, товарищи!
Заметно возрос поток писем трудящихся на фронт после опубликования в газете «Правда» передовой статьи «Письма на фронт». Мы, фронтовики, с большим волнением читали эту статью, воспринимая ее как свидетельство постоянной заботы Коммунистической партии о вооруженных защитниках социалистического Отечества.
47
РАЗВЕДКА БОЕМ
Едва ли стоит объяснять, как важно перед боем знать силы и средства противника, его ближайшие замыслы. Подчас это имеет решающее значение. К сожалению, в те дни разведке в полку еще не уделялось должного внимания.
Правда, штаб организовал постоянное наблюдение за передним краем обороны гитлеровцев. Наблюдатели засекали огневые точки, отмечали вновь возводимые укрепления. Но эти сведения были скудными. Мы не знали главного: какими огневыми и ударными силами, какими резервами располагает стоящий перед нами противник, где находятся его КП, НП, штабы, средства связи, склады боеприпасов?
Нельзя сказать, чтобы разведка полка не пыталась взять «языка». Пыталась, и довольно часто. Но всякий раз безуспешно. Разобравшись в причинах неудач, мы пришли к выводу, что наши разведчики были просто слабо подготовлены. Никаких практических навыков они не имели.
Положение с разведкой было не лучше и в других полках 280-й дивизии. В середине сентября начальник штаба 48-й армии генерал-майор С. С. Бирюзов созвал совещание начальников штабов полков и их помощников по разведке. Совещание проходило в штабе нашей дивизии, которая, по словам С. С. Бирюзова, была на последнем месте в армии по изучению противостоящего нам противника.
— Незнание врага равносильно поражению в бою, — сказал начальник штаба армии, потребовав коренной перестройки работы разведок полков и дивизий. На поиск «языка» был дан двухнедельный срок.
48
Командир дивизии определил полкам график захвата пленных. На подготовку поиска нам отводилось всего лишь два дня.
В тот же день в полку были созданы две поисковые группы. Их подготовкой занимался начальник штаба Бобков и его помощник по разведке А. Ф. Кирейко. Я и агитатор полка Степанов побеседовали с коммунистами, с каждым бойцом и командиром. Люди заверили: солдатский долг они с честью выполнят.
С наступлением темноты группы, возглавляемые лейтенантами Мякили Кямал и П. Т. Кругловым, вышли на задание. Они направились в две небольшие рощи, расположенные западнее села Труды Теряева. До этого наблюдатели установили, что днем в рдщах немцы не бывают, наведываются туда лишь по ночам. Значит, ночью имелась возможность взять «языка».
Первая поисковая группа расположилась в ближней роще, вторая — в дальней. Всю ночь разведчики терпеливо наблюдали, но гитлеровцы так и не появились. Неужто враг засек переход разведчиков? Днем лейтенант Мякили Кямал установил, что оборонительный рубеж немцев проходит гораздо дальше полосы, отмеченной наблюдателями полка. И обе рощи фактически находятся на нейтральной полосе, хотя и ближе к вражеским окопам. Очень важные сведения!
Наступила вторая ночь. И терпение группы Круглова было наконец-то вознаграждено: в полночь показались неясные фигуры. Гитлеровцы! Их больше, чем разведчиков. Круглов решает подпустить врагов вплотную, оглушить их гранатами. А гитлеровцы все ближе и ближе. И тут кто-то из наших не выдержал — преждевременно бросил лимонку. Поднялся шквал гранатных взрывов, и паши бойцы кинулись на врагов. После схватки на земле остались убитые немцы — живые успели удрать. Неужели упущен момент для взятия «языка»? Но тут послышался истошный вопль:
— Гитлер капут! Гитлер капут!..
В траве, подняв высоко руки, сидел чудом уцелевший гитлеровец.
Разведчики благополучно вернулись с «языком», прихватив также документы и оружие убитых. Это был первый пленный в нашем полку, да и в дивизии. Он оказал-
4 П. А. Горчаков ZQ
ся разговорчивым, сообщил все, что знал об обороне немецких частей.
С рассветом противник, силой до батальона, попытался атаковать наши позиции в районе рощ. Но мы были наготове и сравнительно легко отбили атаку, а вскоре продвинули свой левый фланг за нейтральные рощи, полностью сковав действия противника на этом участке фронта.
А вот на правом фланге господствующее положение было на стороне гитлеровцев. Особенно досаждала нам высота под селом Трудки, с которой велся бесконечный обстрел позиций 1-го батальона. Нам никак не удавалось сбить врага с этой высоты.
В те дни командир полка ходил хмурый и молчаливый. По крайней мере, мне так казалось. Сагитов стал раздражительным и, что несвойственно ему в беседах с людьми, резким.
Как-то прибывший из тыла дивизии интендант обратился к нему за лошадьми — требовалось перевезти трофеи. Ахнаф Гайнутдинович не выдержал, сорвался:
— Мой полк лошадей не дает. Ходи пешком!
Я мягко упрекнул Сагитова:
— Зачем же так с человеком, Михаил Гаевич?! — В своем кругу мы называли этим именем и отчеством командира полка.
Сагитов холодно посмотрел на меня:
— Ему, видите ли, лошадей давай! Какой барин! Мой полк как идет? Пешком идет. Где лошадей возьму? А тут еще старик проклятый чуть не угробил! Как ни нервничать!
Лошадей у нас и в самом деле было немного. И командира раздражали бесконечные требования работников тыла выделить средства транспорта. И о старике мне было известно. Когда фашисты уходили из Ворово, они оставили в селе старика лазутчика, бывшего кулака, недовольного Советской властью. И старик сигнализировал им о положении наших подразделений, наблюдательных пунктов, обозов. Причем делал это очень хитро: то раскрывал условленным образом двери сарая, то ворота церкви. Немало нам навредил старик, пока старший уполномоченный особого отдела «Смерш» по 1033-му полку старший лейтенант В. И. Хохлов не напал на его след. Валентин Иванович в совершенстве знал свое дело, всег
50
да был тесно связан с людьми. В сложной для полка обстановке он обычно находился в одном из батальонов, вместе с бойцами ходил в атаки. Если требовалось — заменял вышедших из строя пулеметчиков. Лазутчика Хохлов взял в критический момент: старик вызвал огонь гитлеровской артиллерии на НП полка. Ахнаф Гайнутдино-вич чудом уцелел, но был контужен.
Однако я понимал, что раздражение Сагитова вызвано иными причинами. Он никак не мог захватить высоту перед Трудками, в чем его на совещании командного состава дивизии упрекнул Д. Н. Голосов. Дмитрий Николаевич был своеобразным человеком. Безудержно храбрый, беззаветно преданный Коммунистической партии и Советской власти, он постигал военную науку на поле боя еще в гражданскую войну. Походная жизнь выковала из него командира волевого, властного, требовательного. И тем обиднее было Сагитову выслушивать в общем-то справедливые упреки комдива. Ахиаф Гайнутдинович болезненно переживал сказанное Голосовым на совещании. Я знал, что Сагитов не успокоится до тех пор, пока не отобьет высоту у противника. Видимо, на это и рассчитывал командир дивизии.
Правда, в отношения этих двух храбрых командиров вкрапливалось и кое-что другое. Случилось так, что однажды они оба погорячились: один стал говорить тоном, в какой-то степени умаляющим достоинство подчиненного. Другой, естественно, постоял за себя. И хотя все закончилось мирно, были принесены взаимные извинения, неприятный осадок в душе остался, и он давал о себе знать. Командир дивизии и командир полка подчас по-разному оценивали творческие возможности командиров подразделений, не всегда совпадали их точки зрения и на способы ведения того. или иного боя.
Вот и сейчас, разрабатывая план захвата высоты перед Трудками, что значительно бы улучшило положение полка, Сагитов в душе полемизировал с Голосовым, готовился отстаивать свое мнение. Мое положение, как комиссара, было сложным. Ведь не мог же я настраивать Сагитова против Голосова — партийная совесть и само положение комиссара в армии не позволяли подрывать авторитет старшего начальника. Но в то же время я сознавал, что командирские решения Сагитов принимает
4*
51
грамотные, правильные, и оказывал всяческую поддержку в их осуществлении.
— Михаил Гаевич! Плюнь ты на прошлые обиды! Что они, когда судьба Родины поставлена на чашу весов. Решения ты принимаешь правильные, и мы вместе будем проводить их в жизнь.
В блиндаж вошел посыльный из штаба дивизии: нас вызывал к себе полковник Голосов.
Мы вскочили на коней. В дороге от посыльного узнаем: в дивизии находится командующий 48-й армией генерал-майор Г. А. Халюзин и член Военного совета бригадный комиссар Н. А. Истомин.
Командарм и член Военного совета сразу же приняли нас.
— Нужно взять высоту перед Трудками, провести в интересах армии разведку боем. Я слышал, вы давно на эту высоту зубы точите. Возьмете? — в упор спросил Сагитова командарм.
— Возьму, — ответил Сагитов.
Член Военного совета Н. А. Истомин в свою очередь спросил у Сагитова:
— А вы твердо надеетесь на успех?
— Твердо.
Истомин обратился ко мне:
— Как вы, комиссар, смотрите на это?
— Я уверен в успехе и готов разделить с командиром полка всю полноту ответственности в случае провала.
Говорю так, а на сердце холодок. Мы действительно рисковали очень многим. И не только головами. Положение на фронтах было очень сложным. Партия принимала самые решительные меры, чтобы стабилизировать оборону. «Ни шагу назад!» — этот лозунг не сходил с уст. И понятно, что провал с захватом высоты мог вызвать нежелательный политический резонанс.
Генерал-майор Г. А. Халюзин молча, изучающим взглядом посмотрел па нас, потом коротко сказал Сагитову:
— Докладывайте ваше решение.
— Оборона противника перед высотой глубоко эшелонированная и мощная. Прорвать ее фронтальным ударом полка вряд ли удастся. Нужна помощь.
— С резервом в дивизии плохо, — сказал Голосов.
— Мне нужна помощь огнем, — докладывал Сагитов
52
командарму. — Вот на этом участке, — показал он на карте, — сравнительно слабо укрепленном, я после мощной артиллерийской подготовки пошлю батальон в обход высоты. Он атакует ее с тыла. А остальными силами буду отвлекать внимание немцев, имитируя атаки с фронта. Таким образом возьму высоту и произведу разведку боем.
— Хорошо, возвращайтесь к себе, — подумав, сказал Халюзин. — Свое решение я сообщу позже...
Мы возвращались петляющей между холмами проселочной дорогой, покачиваясь в седлах. Наши лошади — моя белая, Сагитова гнедая — дружно бежали рядом. Подъехали к селу Телячьи Выселки. Здесь Сагитов заранее создал полосу обороны, точно такую, как у немцев. На ней теперь тренировались бойцы. Пока мы осматривали окопы, в небе показался немецкий самолет. Он резко спикировал и, поливая укрепления из пулеметов, пронесся над ротами. В ответ с земли грохнули дружные залпы. Самолет вдруг задымил и, снижаясь, пошел к горизонту.
— Вот видишь, научились воевать! — оживился Сагитов. — А раньше от самолетов прятались, бегали от них...
Едва мы прибыли в полк, как из штаба дивизии сообщили: полковник Журавлев выехал на командный пункт полка.
Н. Г. Журавлев — начальник штаба дивизии. Это человек с широким тактическим кругозором. В дивизии он сравнительно недавно — прибыл после окончания Академии Генерального штаба, но быстро вошел в курс дела. Авторитет начальника штаба в полках непререкаем. Раз Журавлев сказал, значит, все, лучше не придумаешь. Считался с его мнением и командарм. Он, кстати, несколько погодя заберет полковника к себе, в штаб армии. А сейчас, как мы надеялись, Журавлев ехал в полк в связи с предстоящим захватом высоты.
Вскоре мы увидели его — веселого, улыбающегося. Он передал Сагитову приказ командарма на разведку боем.
Ахнаф Гайнутдинович радостно встрепенулся:
— Значит, вы будете руководить боем? А огня дадут?
— Дадут. Артиллеристы уже предупреждены.
Бой за высоту начался рано утром 20 сентября 1942 года. После мощного артналета последовала команда к атаке. Натиск пехоты был неотразим: вражеские солдаты оставили высоту, пытаясь укрыться в селе Труд-
53
ки. Увлеченные боем, воины полка бросились преследовать противника. Одна из рот 1-го батальона ворвалась на восточную окраину села, что не предусматривалось планом боя. В это время дивизион «катюш» накрыл огнем резервы немцев. Залп, однако, оказался не совсем удачным: какая-то часть реактивных снарядов упала перед нашими атакующими цепями. Возникло замешательство, чем и воспользовались гитлеровцы. Они выбили из села роту 1-го батальона и оттеснили ее к самой высоте. Создалось критическое положение: еще несколько минут — и высота будет отбита противником. Сагитов ввел в бой 2-й батальон, который ударил по гитлеровцам с левого фланга. Подразделения 1-го батальона снова перешли в наступление. Общими усилиями двух батальонов враг был отброшен в Трудки. Скоротечный бой закончился победой полка. Высота осталась за нами.
Мы с Сагитовым поднимаемся на вершину высоты. С нее как на ладони виден рубеж обороны противника. Какой важной в тактическом отношении высоты лишились гитлеровцы! Недаром командарм Г. А. Халюзин требовал взять ее. Ведь отсюда можно с успехом корректировать огонь не только дивизионной, но и армейской артиллерии, призванной подавлять огневые средства противника, уничтожать его тыловые объекты и резервы.
Взятие высоты позволило укрепить рубеж обороны полка. Теперь наши подразделения занимали господствующее положение. Противник, по существу, прекратил активные действия на этом участке, отсиживался в окопах и блиндажах.
Благодаря разведке боем и опросу пленных, мы установили, какие немецкие части находятся в районе Труд-ков, уточнили позиции артиллерийских и минометных батарей, количество долговременных огневых точек, фортификационные сооружения переднего края обороны.
В вечернем выпуске очередной сводки Совинформбюро за этот день было сообщено о проведении на Брянском фронте энской частью «разведки боем, в результате которой взята высота, захвачены пленные и освобождено село Трудки...». Последние три слова вызвали у пас недоумение: ведь мы село не освобождали, да такой задачи перед нами и не ставил командарм.
Через два дня в полку неожиданно появилась комиссия штаба 48-й армии для расследования ложного докла-54
да о взятии Трудков. Капитан В. Н. Бобков предъявил ей все оперативные сводки и боевые донесения того дня: нигде не упоминалось об освобождении села. Каким же образом, однако, информация о Трудках оказалась в официальном сообщении? В конце концов комиссии удалось установить, что находившийся на НП полка представитель штаба армии сообщил дежурному своего штаба о взятии полком злополучного села. Дежурный штаба в свою очередь передал ото сообщение в штаб Брянского фронта, и оттуда оно уже попало в Москву. Виновник, разумеется, был наказан.
Особо отличившихся в боях под Трудками командарм от имени Президиума Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями. Лейтенант И. Н. Сазыкин был удостоен ордена Красного Знамени, политрук В. И. Лысенко — ордена Красной Звезды, сержант В. Г. Кондратьев — медали «За отвагу».
Это воодушевило однополчан. Уместно заметить, что в 1942 году награды имели немногие. Тем выше они ценились. Командиры и политработники призывали сослуживцев равняться на героев боев, учиться у них искусству побеждать.
Для пропаганды боевого опыта в дивизии был проведен слет боевого актива. Представители полков, проявившие в боях мужество и боевое мастерство, обсудили итоги пути,, пройденного дивизией более чем за год войны, и приняли обращение ко всем бойцам, командирам и политработникам. В этом обрахцении, опубликованном дивизионной газетой, ярко рисовалась обстановка тех дней, назывались имена героев, в том числе воины нашего полна, чей боевой опыт заслуживал внимания. Участники слета призывали:
«Овладеем же их боевым опытом! Будем развивать в себе сметку, военную хитрость, инициативу, помня слова великого Ленина, что без инициативного, сознательного солдата и матроса невозможен успех в современной войне.
Каждый из нас должен быть снайпером, сверхметким стрелком. Эта задача посильна каждому стрелку, пулеметчику, автоматчику, минометчику, артиллеристу. Тренироваться ежедневно, ежечасно, не покладая рук.
Сейчас, в дни грозной опасности, ослабление учебы — преступление перед Родиной. Преступна всякая беспеч-
55
ность и благодушие. Учиться упорно, настойчиво, по-большевистски!
Сражаясь с врагом, будем помнить: нас ждут как своих освободителей советские люди — наши братья и сестры; на нас глядят с надеждой и верой... Грудью своей преградим путь врагу, измотаем, уничтожим его!
Только вперед, боевые друзья! За нами победа, но мы знаем, что она не придет сама. Мы ее вырвем богатырской силой испепеляющего удара по врагу. Победа зависит от каждого из нас. Пусть же каждый из нас будет кузнецом этой победы, кузнецом счастья Родины!..»
Обращение слета боевого актива мы довели до бойцов и командиров накануне получения новой боевой задачи. 24 сентября полк начал наступление на важный опорный пункт противника — село Трудки. Фашисты оказывали бешеное сопротивление. Ожесточенные схватки, порою переходящие в рукопашные, кипели почти беспрерывно. Особенно отличились бойцы лейтенанта А. В. Рыбалко. Этот двадцатилетний командир роты, казалось, рожден быть военным. Отвага его не имела предела. Уже в первый год войны он стал кавалером ордена Красного Знамени. Впоследствии Родина увенчала его Золотой Звездой Героя. Его подчиненные с гордостью говорили: «Мы — рыбалковцы!»
Рыбалковцы выбили врага с укрепленного им рубежа на подходе к селу. Противник неоднократно переходил в контратаки, пытаясь отбросить роту. Но тщетно. Во время одной из контратак наводчик «максима» сержант К. 3. Владимиров точным огнем сдерживал более двух взводов автоматчиков. Одна за другой накатывались на огневую позицию сержанта волны ревущих, строчащих из автоматов фашистов. И всякий раз, теряя убитых и раненых, откатывались назад.
Третью контратаку Владимиров отражал уже будучи раненным. Был поврежден и его верный друг «максим». Вражеские пули продырявили кожух пулемета. Сержант заткнул пробоины тряпкой, долил воды и продолжал бой. Он уничтожил более двадцати вражеских солдат.
В целом же рота Рыбалко уничтожила под Трудками равное ей по численности подразделение гитлеровцев.
Отважно дрались с врагом и другие наши бойцы и командиры. И все же: полк не сумел выполнить поставленной задачи. Трудки оставались в руках у немцев. Мы 56
вынуждены были перейти к обороне на захваченных у врага рубежах.
Слов нет, противник здесь хорошо окопался, имел много сил и резервов; у нас же не было для наступления перевеса в людях, не хватало артиллерии, самолетов. Все это так. Но были и другие причины. Одна из них: мы еще не сумели до конца зажечься ненавистью к врагу. Дело в том, что бойцы, только что призванные в армию, еще не видели зверств гитлеровцев. А мы, коммунисты, не учли, что работа по воспитанию ненависти к фашизму должна проводиться целеустремленно, с неослабевающей силой. Чтобы победить, недостаточно любить Отчизну. Надо уметь ненавидеть ее врагов. Удивительно точно подметил это Николай Островский, написав, что только любовь к Родине, помноженная на ненависть к врагу, принесет нам победу.
Посоветовавшись с агитатором полка Степановым и секретарем партбюро Шавииым, я разработал план политико-воспитательной работы на третью декаду сентября. Главный упор был сделан на привитие воинам чувства ненависти к врагу, к человеконенавистнической идеологии фашизма. Нам помог политотдел дивизии, который прислал материалы, характеризовавшие поведение гитлеровских оккупантов на советской земле. Воспользовались мы и находкой командира взвода связи 1-го батальона младшего лейтенанта П. А. Фетилова. В районе поселка Трудки он обнаружил в чемодане убитого немецкого офицера фотографии, на которых были засняты сожженные и разрушенные села, оборванные и разутые советские люди, эпизоды расстрела детей и женщин. Агитаторы демонстрировали эти снимки в качестве наглядных пособий во время бесед.
В период боев за Трудки партийная организация полка, на мой взгляд, еще не сумела довести до сознания каждого бойца и командира ту простую истину, что исход войны, судьба Родины зависят и от него лично, от того, как он выполняет свой долг. Мы еще не изжили среди некоторой части бойцов чуждую советскому человеку психологию, которую можно выразить формулой: «А что я? Я человек маленький». Эта принижающая человека психология обрекала его на пассивность, мешала проявлению инициативы в бою. Теперь мы старались как можно быстрее изжить такого рода недостатки.
57
Уроки боев побудили нас самым серьезным образом взяться за устранение пробелов в партийном-политической работе. В полку регулярно стали проводиться открытые партийные и комсомольские собрания, налаживалась политическая учеба коммунистов, оперативнее решались вопросы, связанные с приемом в партию. Партийные организации подразделений рассматривали заявления о приеме в партию непосредственно на передовой. Там же вручались принятым партийные документы. Уже в сентябре партийная организация полка пополнилась 12 членами и 64 кандидатами в члены ВКП (б). Разумеется, это были лучшие* проверенные в боях люди. Должен заметить, что мы никогда не становились на путь огульного охвата всех желающих вступить в ряды партии. Даже в дни напряженных боев производился самый строгий, я бы сказал, придирчивый отбор.
Назову лишь несколько имен воинов, принятых в партию в тот период. Лейтенант А. В. Рыбалко, командир роты, о котором я уже рассказал. Сержант И. С. Говорухин: его отделение отбило две атаки превосходящих сил противника; сержант лично уничтожил из ручного пулемета 12 фашистов; удостоен ордена Красной Звезды. Красноармеец Ф. А. Куренной: огнем из снайперской винтовки он истребил 13 гитлеровцев; награжден медалью «За отвагу». Сержант В. Я. Степанов: на его боевом счету значилось 10 убитых врагов; в бою, когда командир выбыл из строя, сержант принял командование ротой; ему вручена медаль «За отвагу».
Вот какое пополнение приходило в партию!
И что еще характерно: несмотря на потери коммунистов в боях, многие партийные организации полка выросли в полтора-два раза.
Особое внимание мы уделили созданию полнокровной парторганизации в каждой роте. Если требовалось, перераспределяли коммунистов по подразделениям. Следили, чтобы не засиживались в кандидатах люди с просроченным стажем. И конечно же отбирали в партию достойных, отличившихся в бою воинов. Теперь почти в каждой роте насчитывалось по 14—17 коммунистов. А это большая сила!
С ростам партийной прослойки усилилось идейно-подитическое влияние на личный состав. Полк стал успешнее решать стоящие перед ним боевые задачи.
5S
УДАЧИ ОКРЫЛЯЮТ
Генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский, который часто бывал в боевых порядках нашей дивизии и которого мы успели полюбить, командовал Брянским фронтом недолго. В конце сентября 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования направила его в район Сталинграда, где он стал командующим войсками Донского фронта. С ним на Волгу уехали начальник штаба генерал-майор М. С. Малинин и помощник командующего фронтом по формированиям генерал-лейтенант П. И. Батов.
Вскоре мы познакомились с новым командующим Брянским фронтом генерал-лейтенантом М. А. Рейтером. Вместе с членом Военного совета корпусным комиссаром И. 3. Сусайковым и начальником штаба фронта генерал-майором Л. М. Сандаловым он приехал в 48-ю армию и внимательнейшим образом изучил передний край обороны. Командующий поставил перед нами задачу — всемерно укреплять оборонительные рубежи и непрерывно тревожить противника, не давая ему возможности перебрасывать силы под Сталинград. Нам понравилось и нововведение М. А. Рейтера: вывод во второй эшелон трети частей. Это позволяло в нормальной обстановке заниматься боевой и политической подготовкой.
К тому времени в полку широко развернулось снайперское движение. Гитлеровцы головы не смели поднять — за ними с рассвета до темноты «охотились» десятки стрелков. Боец считал для себя честью получить снайперскую винтовку, открыть боевой счет уничтоженных врагов.
Идею активной снайперской «охоты» нам подсказал член Военного совета 48-й армии генерал-майор
Н. А. Истомин. Приехал он в полк, прошелся по окопам, осмотрелся и говорит:
— А ведь фашиста бить нужно не только в наступлении, но и в обороне. Врагом меньше — победа ближе. Вы согласны?
— Целиком и полностью, — поспешил ответить Ахнаф Гайнутдинович, недоумевая, к чему тот клонит разговор. Сагитов волновался и потому говорил с большим, чем обычно, акцентом.
— Так почему же, товарищ подполковник, гитлеровцы ходят на вашем участке обороны? Не ползают, не сидят в щелях, а ходят! Вы же кадровый офицер, стрелять умеете! Почему деликатничаете с фашистами?
С противником нас разделяла ничейная полоса — метров 300—400. Через нее вести прицельный огонь могли лишь меткие стрелки. И то, если их снабдить винтовками с оптическим прицелом. Командир полка понимал это и потому доложил:
— Винтовок нет.
— Дадим снайперские винтовки, — пообещал член Военного совета. — Сколько нужно, столько и дадим. Но расплачиваться будете вражескими жизнями.
’-г Рассчитаемся сполна, — заверил Сагитов.
И действительно, снайпер в полку вскоре стал такой же видной фигурой, как пулеметчик, минометчик, бронебойщик. У нас появились десятки метких стрелков, открывших боевой счет мести.
Снайперские винтовки вручались в торжественной обстановке. Первыми их Получили 11 комсомольцев, в том числе Ф. А. Куренной, уже известный мастер меткого выстрела. На митинге он заявил:
— Получая «снайперку», это грозное оружие, я беру обязательство уничтожить больше сотни гитлеровцев.
Среди снайперов числился командир взвода младший лейтенант Г. Н. Черкезов, уничтоживший в сентябре 12 фашистских вояк. Своеобразный рекорд полка установил сержант В. Б. Саненков: в течение одного дня он уничтожил 8 гитлеровцев. Таких бойцов у пас было немало.
Приведу некоторые статистические данные. В начале октября 1942 года в полку было 64 снайпера. А на 1 ноября их число возросло до 173. Увеличилось соответ-60
ственно и количество уничтоженных гитлеровцев: с 74 до 394.
А к 1 декабря у нас уже действовал 321 снайпер. В том числе: офицеров — 21, сержантов — 57, рядовых — 243. Среди снайперов было: коммунистов — 79, комсомольцев — 73, беспартийных — 169. Они уничтожили в общей сложности 646 фашистов.
Подготовка снайперов была одной из главных задач, которые решала в ту пору наша партийная организация. Этот вопрос не сходил с повесток дня партийных и комсомольских собраний. Перед молодыми стрелками выступали бывалые фронтовики, широко применялось наставничество. Снайперам посвящались плакаты, боевые листки. Словом, мы использовали самые различные формы работы.
Как-то я заглянул в 1-й батальон. Комиссар С. А. Лесков доложил:
— Проводится беседа: «Права, обязанности и моральный облик коммуниста».
Я знал, что в батальоне создан кружок молодых коммунистов, изучающих программу и устав партии. Занятия кружка проводились регулярно, непосредственно на переднем крае. Вот и теперь в землянке собралось 11 человек. Лесков ознакомил слушателей с положениями Устава ВКП(б) о правах и обязанностях члена партии, затем исподволь вовлек их в беседу о долге коммуниста-фронтовика. Тут мнение было одно — бить фашистов. Йо как? Враги, как и мы, зарылись в землю* сидят в окопах.
— Попробуй-ка достань их из винтовки, — сказал кто-то из слушателей.
— Именно из винтовки его и сподручнее достать, — подхватил Лесков. И он рассказал об успехах лучших стрелков, о том, какое значение приобретает в обороне снайперское движение.
Сержант Т. А. Шатохин тут же заявил о своем желании стать снайпером, открыть боевой счет. Кстати замечу, что Шатохин уже на следующий день уничтожил из засады фашиста. А вскоре на снайперскую «охоту» вышли еще семь слушателей кружка. В октябре они истребили 26 гитлеровцев.
Так в тесной связи с жизнью, с задачами войск строил занятия комиссар.
61
Лескова любили бойцы. В прошлом педагог, по характеру спокойный и уравновешенный, Степан Антонович ни выправкой, ни походкой, пожалуй, не напоминал кадрового военного. А вот отваги ему было не занимать. В атаку он всегда шел в первой цепи; шел спокойно, не обращая внимания на разрывы снарядов и посвист пуль. Комиссар первым врывался во вражеские траншеи, увлекая бойцов в рукопашную. А после боя, собрав их вокруг себя, часто читал стихи; Особенно удавалась ему светловская «Гренада». Прикроет мечтательно живые карие глаза, отчего его простое, несколько угловатое, с крупными чертами лицо становилось как-то мягче, лиричнее, и начнет чистым, звучным голосом:
...Скажи мне, Украина, Не в этой ли ржи Тараса Шевченко Папаха лежит?
Русский человек был Лесков, и лицо у него типично русское. А вот украинцы считали его своим земляком, татары — своим. Грузины и азербайджанцы утверждали, что Лесков родился и жил на Кавказе. Да, настоящим коммунистом был Степан Антонович. Красиво жил и геройски воевал. Но об этом еще пойдет речь.
3 октября 1942 года снайперы дивизии собрались в селе Трубицыно на свой первый слет. На нем присутствовало 220 бойцов, командиров и политработников. С докладом выступал командир дивизии Д. Н. Голосов. Слет принял обращение ко всем воинам дивизии. Каждая его строчка была пронизана сыновьей тревогой за судьбу любимой Родины, страстным призывом разгромить, уничтожить заклятого врага. Вот это обращение.
«Боевые друзья!
Грозные, тяжелые дни и часы переживает наша дорогая и любимая Родина. Гитлеровские мерзавцы продолжают лезть внутрь нашей страны, они хотят отрезать от нас Северный Кавказ. Ценой огромных потерь им удалось уже дойти до предгорий Кавказа. Гитлеровские орды угрожают Сталинграду — жизненному центру на берегу великой русской реки Волги.
Все наши мысли, все чаяния направлены к одному: остановить, отбросить и уничтожить врага.
Чем же можем помочь мы своим братьям — доблест-62
ним защитникам Юга, принявшим на себя главный удар врага?
Перед нами стоит ясная, каждому понятная задача: каждый день, каждый час искать встречи с врагом, беспощадно уничтожать его.
Мы собрались на слет, чтобы поделиться опытом.
Бойцы взвода младшего лейтенанта Степниенко уничтожили 44 гитлеровца. Сержант Никулин истребил 9, ефрейтор Костенко — 6, сам Степниенко — 9, заместитель политрука Константин Приступа — 7 фашистов. Их сотни, наших боевых товарищей, имеющих счета уничтожения гитлеровских бандитов.
Чему учит боевой опыт снайперов — мастеров меткого огня? Он показывает, что каждый боец, каждый командир и политработник, находясь в обороне, может и обязан повседневно и неустанно истреблять врага. Надо только каждодневно совершенствовать свое мастерство, изучать оружие.
Мы призываем всех снайперов, всех бойцов, командиров и политработников — вступайте в социалистическое соревнование за большее количество истребленных немецко-фашистских мерзавцев.
Бейте беспощадно и неустанно врага! Помните, что каждый меткий выстрел здесь, на нашем участке фронта, усилит стойкость защитников советского Юга, что каждый уничтоженный нами фашист не полезет на Сталинград и Северный Кавказ.
Боевые друзья, помните, что победа будет за нами. Но она не придет сама. Богатырской силой ее надо вырвать у врага. Каждый уничтоженный фашист — это шаг к нашей окончательной победе!»
Обращение слета, как и призывы Военного совета и политотдела 48-й армии, издававшиеся в виде листовок, имело огромное мобилизующее значение. Достаточно указать, что уже в первые десять дней после слета снайперы дивизии уничтожили 123 гитлеровца.
Но вернемся к событиям середины сентября.
Как-то к нам зашел сотрудник редакции со свежим номером дивизионной газеты «За Отечество». Я взял газету и стал читать вслух статью И. Эренбурга «Остановить!». Все, кто находился в блиндаже, притихли. В статье говорилось: «Зимой бойцы разбили немца под Москвой. Тогда им было труднее: у них было меньше танков,
'63
меньше минометов, меньше автоматов. Немец тогда был сильнее. Но бойцы тогда выстояли. Неужели напрасно погибли 28 героев? Неужели напрасно умирали русские люди у Калинина, у Ельца, у Тихвина? Нет, не напрасно. Боец, ты пе осрамишь своего звания. Боец, ты пе предашь Родину. Ты выстоишь».
Я закончил читать, а люди по-прежнему молчали. Слова были излишни. Перед мысленным взором каждого расстилались бескрайние степи за Доном, полыхали разрывы над гладью Волги, а в ушах будто слышался лязг гусениц на брусчатке ростовских улиц... До боли в сердце бередили нас эти картины.
Но вот разведчик С. 3. Меликов, черноволосый парепь, горячий и подвижный, как все кавказцы, возбужденно заговорил:
— Куда немца допустили... Ай-яй! Фашист к Кавказу подходит. Гитлер к Баку тянется. Сколько еще отступать можно, товарищ комиссар?!
— Ты знаешь, Меликов, приказ «Ни шагу назад!»? — в свою очередь спросил я.
— Знаю. Но почему отступаем, почему? Стоять надо. Стоять, как Казбек стоит, — чтобы никакая буря с места не сдвинула!
Меликов высказал то, что мы, командиры и политработники, и сами говорили бойцам изо дня в день. Но та страстность, с которой он убеждал нас, свидетельствовала: мысль о недопустимости дальнейшего отступления укоренилась в сознании бойца так прочно, что воспринималась как собственная, как лично им открытая истина. Смуглое лицо Меликова стало при этом суровым, решительным.
А через несколько дней, встретившись с Меликовым, я не узнал его. Глаза светятся, я бы сказал, сияют, пе идет — летит!
— Слышали, товарищ комиссар?
Не спрашиваю о чем. Конечно же слышал. Совинформбюро сообщало об успехах наших войск па Западном и Калининском фронтах. Это сообщение, размноженное в типографии дивизионной газеты, еще в 5 часов утра было послано в части. В отдаленные подразделения оно передавалось по телефону. Повсеместно начались митинги, собрания. Успехи наших войск наполняли радостью 64
сердца красноармейцев, поднимали их боевой дух. Люди убеждались, что врага можно бить не только зимой.
Так в психологии воинов все ощутимее происходил перелом. Если в августе их помыслы были устремлены к одному — выстоять, то теперь все чаще можно было слышать:
— Сколько же будем топтаться на месте? Когда начнем действовать?
Настроение личного состава хорошо выразил тот же Меликов. Выступая на митинге, он, потрясая автоматом, сказал:
— Бдевые друзья! Поздравляю вас! Досталось фрицу на Калининском и Западном фронтах. Достанется и на других. Дело за нами. Расплатимся с фашистами за все их злодеяния, за муки и страдания советских людей. Ни одного оккупанта не выпустим живым с нашей земли. Пусть и о наших геройских делах сообщает Совинформбюро!
О делах бойцов нашего полка Совинформбюро сообщило в октябре. Сообщение гласило, что на Брянском фронте старшина Мажора и красноармейцы Латышев и Травка проникли в расположение противника. Когда до немцев оставалось 40—50 метров, воины встали во весь рост. Немцы решили, что они хотят сдаться в плен, и выбежали из дзота; Но наши бойцы забросали их гранатами. Убито 12 солдат и офицеров. Вот и все. Несколько строк в очередной вечерней сводке. Но за ними — волнующая, драматическая история.
Николай Макарович Мажора был одним из старейших коммунистов в нашем полку. Участник гражданской войны, бывалый солдат и закаленный партиец, он пользовался непререкаемым авторитетом среди бойцов. Как наяву, представляю себе его. Степенный, молчаливый «дядька» с пшеничными усами и повадками потомственного хлебороба. Кусок хлеба не отломит, если под него платок не подложит. Комок земли не отшвырнет, если не разломит в пальцах, не понюхает. И разговора не начнет, пока цигарку не раскурит, к собеседнику не присмотрится.
Он и в самом деле был хлеборобом. До Советской власти подался было в город на заработки. Но прижиться
S П. А. Горчаков ft5
там не успел. Началась революция, гражданская война, и Мажора мотался из края в край. Потом какое-то время снова работал на заводе. В числе 25 тысяч коммунистов партия послала его в деревню. Он стал председателем колхоза.
И вот этот человек, без малого годный мне в отцы, стоит передо мной, нервно переминаясь с ноги на ногу, что-то хочет сказать. Мы стоим в ходе сообщения. Я с передовой направлялся в штаб полка. А Мажора, видимо, поджидал меня. Вижу, волнуется человек, переживает. Знаю почему. В подразделении, где он был секретарем парторганизации, случилось ЧП. Исчез один из дежурных пулеметчиков. То ли дезертировал, то ли схватили его вражеские разведчики — неизвестно. Его напарник перед рассветом ушел за завтраком, а вернулся — огневая ячейка пуста. Пулемет цел. Следов борьбы не видно. Доложил командиру, начали искать — безрезультатно. Исчез человек, как в воду канул.
Коммунисты, естественно, не прошли мимо такого случая. Многим тогда досталось на орехи. Получил выговор и старшина Мажора. Неужели хочет жаловаться на строгость партийной организации? Я, как комиссар, конечно, мог бы опротестовать решение бюро, будь оно ошибочным, неправильным. Как ни жаль старика, но ведь в данном случае коммунисты абсолютно правы. Неужели Мажора этого не понимает?
— Вижу, побеседовать хотите, Николай Макарович?— спросил я.
— Так, — кивнул он головой. — Побалакаты треба.
— Тогда пойдемте ко мне. Чайку попьем, потолкуем.
Николай Макарович молча пошел за мной. Молчал и я. В блиндаже, когда мы выпили по второй чашке чаю, Мажора наконец заговорил.
— Выговор мне, товарищ комиссар... Двадцать лет в партии... А тут выговор...
— Несправедливо, Николай Макарович?
— Та ни! Дайте завжданне. Не можу людям в очи глядеть. Е у мене задумка...
План, предложенный Мажорой, был дерзок до безумия. Он хотел под видом перебежчика проникнуть в оборону противника и там — <<хай ему грец!» — учинить такой тарарам, чтоб фашисты навсегда закаялись приглашать к себе перебежчиков. Надо: сказать, что гитле-66
ровская пропаганда в те дни буквально неистовствовала. Листовки, радиопередачи, ложные слухи, распространяемые через лазутчиков, которые оставались в освобожденных нами селах, — все шло в ход. Враг рассчитывал посеять среди красноармейцев панические настроения, ослабить боеспособность наших войск. Конечно, удайся план Мажоры, фашисты получили бы хороший урок. Но риск был велик. И не только потому, что вылазка была сопряжена со смертельным исходом для Николая Макаровича. Шла война, и все мы, солдаты, рисковали своей жизнью. Речь шла о другом. Сорвись задумка Мажоры по какой-либо причине — и поползут толки-перетолки: секретарь партийной организации, мол, к немцам перебежать хотел.
Эти соображения промелькнули у меня в голове, но я умолчал о них. Задал лишь вопрос:
— Одному трудно будет, Николай Макарович. Вы подумали о помощниках?
Оказывается, Мажора подумал и об этом. Товарищами своими в этом рискованном деле он избрал красноармейцев С. С. Латышева и М. С. Травку.
Я знал их обоих. Латышев у нас был известен как чемпион по гранатометанию. Никто быстрее его в полку не мог метнуть гранату в цель. Мы засекали время, которое он тратил, чтобы выхватить из-под ремня гранату, вставить запал и бросить ее в окоп, в амбразуру дота. На все это уходило 3—4 секунды. Латышев бросал не одну, а 10—12 гранат кряду. Словом, это был испытанный воин.
А вот Травка был совсем молод. Ему едва исполнилось девятнадцать. Юноша как бы соответствовал своей фамилии — характер у него мягкий, деликатный. Он, видимо, понимал это и старался казаться взрослее, солиднее. В сердце юноши жила неуемная жажда подвига. Он мечтал совершить что-то большое. Это он на комсомольском собрании говорил:
— Товарищи, нам скоро по двадцать. А чем мы прославили Родину?
Хороших ребят подобрал Мажора. И все же я не стал единолично одобрять его замысел. Надо было посоветоваться с командиром полка, до тонкости разработать план вылазки, учесть непредвиденные обстоятельства. Не могли же мы попусту жертвовать бойцами.
5* 67
Сагитов сразу же по достоинству оценил предложение Мажоры и, потирая ладони, спросил:
— А как с огнем?
Огнем нас, как правило, поддерживал 840-й артиллерийский полк. Его командир подполковник М. П. Чуба часто навещал нас. И теперь он оказался на КП, участвовал в разговоре.
— Огоньком обеспечим,— откликнулся Чуба.— Обижены не будете.
Мы долго судили-рядили, пока не отшлифовали все детали задуманной вылазки. Были предусмотрены заградительные и отсечные огни — на случай, если немцы бросятся преследовать смельчаков. Несколько орудий артполк выделил для подавления огневых точек, которые могли появиться на поле боя. Словом, все, что можно было предусмотреть, мы предусмотрели.
Стояло тихое осеннее утро. Легкий туман окутывал кустарник, стлался по траве. Было зябко и сыро. Трое воинов осторожно выбрались из траншеи и побежали к вражеским позициям. Вокруг все молчало. С НП, откуда мы с Сагитовым следили за бегущими, едва просматривались немецкие окопы и дзоты, но ближний окоп, к которому теперь устремилась группа Мажоры, был виден отчетливо.
Пробежав метров 150, воины перешли на спокойный шаг: перед схваткой надо отдышаться. Немцы их заметили, повысовывали головы из окопа. Продолжая шагать, Мажора и его товарищи приблизились к окопу метров на 40—50.
— Рус Иван! Ком, ком, — кричали немецкие солдаты, жестами подзывая наших бойцов. Но вот из окопа выглянул офицер, что-то сказал солдатам, и те замолчали. Офицер потребовал, чтобы «перебежчики» сняли вещмешки и шли к нему. И тут началось: Мажора и его хлопцы выхватили оружие. Как всегда, мгновенно швырнул гранату Латышев, и она взорвалась в окопе. Исчез офицер, раздались крики, а в окоп и в амбразуру соседнего дзота одна за другой летели лимонки.
Вслед за гранатами Мажора, Латышев и Травка ворвались в окоп, разбили пулемет, сорвали погоны с убитого офицера и тут же начали отходить. Немцы, видимо, растерялись, их пулеметы ударили, когда группа Мажоры была в 80—100 метрах от нашей позиции. С фланга 68
выбежали гитлеровские солдаты, пытаясь отрезать смельчаков от своих. Но тут вмешался подполковник Чуба. Он снял телефонную трубку и скомандовал:
— Огонь!
Перед окопами, перед бегущими наперехват вражескими солдатами встали частоколы разрывов, прикрывшие отход группы.
Вскоре участники вылазки были у пас на НП. Мокрые от пота, едва переводя дыхание, но безмерно счастливые, они доложили о выполнении задания, предъявили прихваченные ими офицерские погоны, замок от пулемета, а также личные документы солдат и офицера, позволившие уточнить, какая часть противника находится перед нами.
Мы от души поздравили героев и тут же написали представления к наградам. 3 ноября 1942 года в полку стало известно: старшина Николай Макарович Мажора награжден орденом Красного Знамени, красноармейцы Степан Степанович Латышев и Михаил Сергеевич Травка были удостоены ордена Красной Звезды.
Еще в октябре полковые разведчики установили, что командир противостоящей нам немецкой дивизии отдал приказ — стрелять во всякого русского, приближающегося к окопам, если он идет даже с поднятыми руками. Характерно, что гитлеровцы перестали сбрасывать листовки с приглашением в плен. Зато теперь посыпались листовки, содержащие угрозу. Но на угрозы врага бойцы не обращали внимания.
29 октября 1942 года состоялся второй слет снайперов дивизии. Мы с командиром полка отправились на слет, как говорится, с чистой душой и легким сердцем. В подразделениях выросло немало снайперов, которые изо дня в день увеличивали боевой счет мести. Красноармейцы Д. М. Едеев, 3. К. Шиянов, Б. А. Шаталов, награжденные медалью «За отвагу», красноармеец В. Т. Аносов... Да разве перечислишь всех, кто действовал умело, инициативно! Ахнаф Гайнутдинович не без некоторого самодовольства приговаривал:
— Вот как у нас, вот как у нас! Теперь Сагитову никто не скажет: почему немец ходит? Сидит немец, как мышь в щели!
69
Действительно, на участке полка фашисты не выглядывали из окопов. Даже в свой тыл они пробирались ползком. И все же наши снайперы подкарауливали их то на нейтральной полосе, то у воды, то у походной кухни, во время приема пищи. Лозунг «Никакой пощады врагу!» успешно претворялся в жизнь.
В частях дивизии были известны подвиги знатных снайперов: сержанта М. П. Полковникова, рапортовавшего слету об уничтожении 43 фашистов; коммуниста старшего сержанта П. А. Гармаша, на счету которого числилось 45 гитлеровцев; красноармейцев С. М. Байко и А. В. Чернопухова, истребивших по 30 солдат и офицеров противника.
На слете мы с интересом слушали выступление Михаила Павловича Полковникова. Об этом снайпере слагались легенды. Впервые на «охоту» он вышел 12 сентября. И в тот же день уложил девятерых фашистов, заслужив медаль «За отвагу». Через пять дней он вновь отправился в засаду и уничтожил ещё тринадцать врагов. Сержант Полковников поделился секретами своего мастерства.
— В засаду я выхожу перед рассветом, в темноте. Иные занимают позицию с вечера и всю ночь маются на сырой земле. А я ночью хорошо отдохну, высплюсь, утром позавтракаю — ив засаду. Ее, безусловно, подбираю заранее — с таким расчетом, чтобы просматривать немецкую оборону на всю глубину. С рассветом начинаю поиск. Немцы в это время завтракают, выползают из блиндажей наружу. Тут и собирай урожай. Только надо быть осторожным.
Однажды, — продолжал рассказывать Полковников, — я выбрал для засады небольшую возвышенность. Кругом меня мелкий кустарник, трава, воронки от разрывов мин. Зато передний край противника — как на ладони. Ну, думаю, позиция что надо. Можно бить по врагу, а самому оставаться незамеченным. Начал стрельбу. Уничтожил трех гитлеровцев. Но и я оказался под огнем противника. Удивляюсь: как же так получается? И место вроде бы скрытное, незаметное, а пули и мины так и шлепают вокруг. Еле-еле выбрался из передряги. Между тем запасной позиции я не подобрал. Лишь позже выяснилось, что неделю назад с той возвышенности, что я облюбовал, стрелял другой снайпер. Выходит, для снайпера должно 70
быть законом: не лезь на использованную кем-то позицию; помимо основной подбери еще одну-две запасные...
Слушая Полковникова, я делал записи, чтобы рассказать о его опыте снайперам полка. Вроде ведь ничего хитрого человек не придумал, а разберешься — именно из такого рода находок и складывается боевое мастерство.
Большое впечатление произвело выступление красноармейца Я. Т. Щамишурина. На его счету было 38 гитлеровцев.
— Только мало этого, боевые друзья! — говорил Ша-мишурин.— Послушайте, чего от нас требуют дети наши!
Боец достал из кармана гимнастерки затертое, видимо, не раз читанное письмо и, не глядя в него, произнес врезавшиеся в память слова одиннадцатилетнего сынишки Жени:
— «Бей, папа, фашистов. Убей их всех до одного и скорее приезжай домой героем». — Подняв над головой письмо, Яков Шамишурин торжественно, как клятву, произнес: — Буду бить, сынок, ненавистного врага, пока руки держат оружие! Не бывать немцу хозяином на русской земле. Не бывать!
Затем слово взял младший сержант М. А. Пищулин. Он прочитал участникам слета письмо, полученное им от сестры Вари. Дивизионная газета «За Отечество» сохранила этот потрясающей силы документ для истории. Вот он, без всяких правок и сокращений:
«Здравствуй, дорогой братец Миша!
В первых строках своего письма сообщаю, что я получила твое письмо и благодарю за то, что не забыл свою сестру, которую всегда так сильно любил.
Когда я получила твое письмо, от радости заплакала. И мне так стало обидно, что нет со мной папы, мамы и сестры Паши.
Дорогой Миша! Мы уже никогда не увидим своего доброго и любимого папу. Проклятая немчура зверски растерзала его за то, что он не сказал, где находятся наши гости. Его допрашивали при всех нас. Знал бы ты, как страшно его мучили. Я не могла выдержать и с криком бросилась на бандита. Он ударил два раза меня по голове, и я потеряла сознание. Папу вывели во двор и там расстреляли. Я думала, что и мне пришел конец, но, когда пришла в себя, вместе с Нюрой Милаковой убежа-
71
ла. С нами шла и мама, но в дороге где-то затерялась. Страшно вспомнить, какие мы муки перенесли, когда у нас хозяйничал идиот проклятый. Ты, конечно, помнишь Лену Кондратову. Ее немцы изнасиловали, а потом повесили вместе с матерью.
И такое изверги творят во всех наших деревнях, которые они захватили. Я не могу тебе много писать. Мне очень больно даже вспомнить об этом. Прошу тебя только об одном, дорогой братец, — мсти извергам, мсти за папу, за Лену, за всех замученных наших советских людей, гони проклятого немца с нашей любимой земли.
И не забывай о своей сестрице. Пиши чаще.
До свидания. Крепко целую тебя.
Твоя сестра Варя».
Когда Михаил Пищулин читал письмо, голос его дрожал от сдерживаемых рыданий. На глазах навертывались слезы. И все мы испытывали какое-то особое волнение. Снайпер Полковников поднялся с места и снова попросил слова. Он предложил открыть счет мести за муки Вари Пищулиной. Его горячо поддержали участники слета. Этот призыв прозвучал и в принятом на слете обращении ко всем бойцам, командирам и политработникам дивизии.
Чувство ненависти к врагу, охватившее участников слета, хорошо выразил пожилой красноармеец Амоян Ми-ликиятян. Он обнял Михаила и сказал:
— Брат Пищулин! Твое горе — это наше общее горе, это горе многих тысяч наших сограждан. Клянусь тебе, что этим взбесившимся собакам мы отомстим сполна за смерть отца твоего, за горе матери и сестры.
Командование дивизии послало Варе Пищулиной письмо, в котором сообщило о решении слета открыть счет мести ее имени.
Снайперы не остались безучастными к горю простой русской девушки с хутора Калинино Курской области. Они сдержали свое обещание. Боевой счет каждого из них пополнился новыми десятками уничтоженных гитлеровцев.
Большое воздействие на красноармейцев оказывали выступления по радио видных пропагандистов, писателей, 72
деятелей культуры и искусства. Их яркие, впечатляющие речи и доклады помогали нам воспитывать у бойцов стойкость, наступательный порыв.
Мы организовали коллективное слушание доклада Ем. Ярославского «В руках Красной Армии судьба Родины». Как передать впечатляющую силу мудрых, рассудительных, немного грустных и в то же время душевных слов одного из старейших деятелей нашей партии?! Он призывал нас, воинов, остановить и отбросить врага. И этот призыв находил живейший отклик в сердцах бойцов и командиров.
Наблюдая за воинами, сгрудившимися у громкоговорителя, установленного на лесной поляне, я видел на их лицах сложную гамму переживаний — чувство неловкости за временные неудачи, выражение гнева и презрения к врагу.
Должен сказать, что с той поры я остаюсь горячим поклонником технических средств пропаганды.
Мы слушали доклад секретаря ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлова о 28-й годовщине Международного юношеского дня. У громкоговорителя собралось свыше 200 молодых воинов. В тот же день на эту тему в подразделениях прошли митинги. Комсомольцы остро реагировали на призыв Центрального Комитета ВЛКСМ крепить дисциплину в армейских рядах, отдавать все силы па разгром врага.
Запомнилось выступление по радио Наркома просвещения РСФСР В. П. Потемкина. Было это ранней осенью: с деревьев начали падать пожухлые листья. Бойцы расположились на пригорке.
— Нарком просвещения будет выступать. О школах, значит, пойдет речь, — тяжело вздохнул красноармеец И. 3. Голодынь. — Сентябрь... Детки за Волгой в школу пошли. А за Днепром...
У Ивана Захаровича, пожилого бойца, в прошлом колхозного бригадира, за Днепром осталось пятеро детей школьного возраста. Тяжело думать о муках семьи в фашистской неволе. И я поспешил подбодрить солдата.
— Дай срок, Иван Захарович. И за Днепр шагнем, до самого Берлина дотянемся!
— Срок-то не я даю, товарищ комиссар. Сроком тем немец пока распоряжается. А он не спешит.
— Вот ты и поторопи его, турни покрепче. Тогда и твои дети в школу пойдут!
73
Началась трансляции выступления наркома, и наш разговор прервался. Бойцы и командиры внимательно слушали доклад о положении со школьным образованием в Российской Федерации. Когда радиопередача закончилась, люди зашумели, стали обмениваться мнениями. В моем фронтовом блокноте, чудом уцелевшем в круговерти походной жизни, сохранилась запись реплики одного из агитаторов полка красноармейца П. И. Позднякова. Он в тот вечер говорил:
— Приятно сознавать, что, несмотря на трудности войны, наши школы продолжают работать. Моя дочка, третьеклассница, сообщала мне, что окончила учебный год на «отлично», что о детях фронтовиков заботятся. Она писала, чтобы я беспощадно истреблял гитлеровцев. Сейчас я не имею с семьей связи: противник оккупировал тот район под Сталинградом, где она жила. Буду мстить фашистским варварам, отнявшим у наших детей счастливую жизнь.
Да, выступление наркома затронуло самую больную струну человеческой души.
По радио часто передавались произведения советских писателей, поэтов, публицистов. Бойцы охотно собирались у репродукторов, если, конечно, представлялась такая возможность.
А в период относительного затишья в полк приехала труппа драматического театра» Артисты познакомили нас со спектаклями, созданными по пьесам К. Симонова «Русские люди» и А. Корнейчука «Фронт». С импровизированных подмостков повеяло самой жизнью, с ее заботами и тревогами» Воины тепло принимали игру артистов. Многие всерьез говорили, что прототипы героев пьес воюют в нашей дивизии. В перерыве я слышал, как обменивались мнениями командиры. Узнал голос лейтенанта В. X. Кораблина:
— А батарейцы лейтенанта Сергея Горлова — вот ге-рои-то, а? Смотрю на них — ну, точь-в-точь наши артиллеристы. Дружок мой в бою с танками погиб. Такой же, как Сергей Горлов. Похоже, драматурги во время зимних боев у нас побывали!
Посоветовавшись с агитатором полка, с секретарями партийного и комсомольского бюро, мы решили как можно скорее раздобыть пьесы «Фронт» и «Русские люди» (они к тому времени уже были опубликованы в москов-74
ских газетах и журналах), а затем провести их обсуждение в батальонах. Такие мероприятия вскоре состоялись. Активность на читательских конференциях была исключительно высокой. Бойцы и командиры получили мощный идеологический заряд.
Обе пьесы были приняты на вооружение полковой художественной самодеятельностью. Концерты не обходились без инсценировок, поставленных по ним.
Запомнился и приезд артистов московской эстрады. Они выступали с концертом с трофейного грузовика. Бойцы откинули борта машины, соорудили сцену, палатку для переодевания, а сами уселись вокруг на чем пришлось.
— Это о ваших героях-разведчиках на днях сообщало Совинформбюро? — спросил у комиссара дивизии руководитель бригады артистов. — Мы хотели бы им посвятить сегодняшний концерт.
Мы знали о подвиге разведчиков: красноармейцы Но-вив, Быстрицкий, Подоляев и Иваненков во главе с капитаном Закревским проникли в занятую противником деревню, захватили исправный, заправленный горючим немецкий танк и угнали его. Но те разведчики были из соседней 28-й стрелковой дивизии.
— Кому посвятить концерт,— сказал полковой комиссар П. И. Фокин, — дело, разумеется, ваше. Только и в нашей дивизии героев немало.
Концерт решено было посвятить тем, кто отличится в предстоящих боях.
Успех сопутствовал артистам. Все номера бисировались. Мы и не заметили, как на небе собрались тучи, надвинулась гроза. Не смутил воинов и грянувший гром. Мало ли гремит на передовой! Упали на плечи крупные капли дождя, и лишь теперь люди подняли глаза к небу. Но никто не покинул площадку: дождь, дескать, не дубина, да и мы не глина. Не расколотит. Концерт продолжался под проливным дождем.
— Нельзя иначе, — говорили потом артисты,— кон-церт-то воинам-героям посвящался.
А воины еще долго с благодарностью отзывались об артистах эстрады. Встретятся, бывало, друзья, поговорят о боях, об общих знакомых, родных и близких, и кто-нибудь нет-нет да и заведет речь о необычном концерте.
— А помнишь...
75
Да, трудно переоценить значение советской культуры и искусства в жизни армии. Политработники, естественно, стараются полнее использовать эту могучую силу для воспитания личного состава. Концерты художественной самодеятельности, кинофильмы, радиопередачи — все это мы делали достоянием не только воинов, но и жителей освобожденных районов. Популярностью, помнится, пользовались кинофильмы «Чапаев», «Щорс», «Суворов», «Кутузов», «Радуга», «Она защищает Родину», «Человек с ружьем», «Выборгская сторона», «Профессор Мамлок», «Партизаны в степях Украины», «Фронт», «Непокоренные» и многие другие киноленты тех лет, вошедшие в золотой фонд нашей кинематографии.
Нынешней армейской молодежи многие из этих фильмов мало знакомы. А жаль. Их роль в воспитании советского патриотизма неоспорима.
Добрым другом солдата была газета — будь-то центральная, фронтовая или дивизионная. Ее всегда ждали, с интересом читали и бойцы, и командиры. А мы, политработники, без периодической печати и дня не могли прожить. В ней — и новости, и опыт, и материал для бесед и докладов.
...Это было уже глубокой осенью. Дождь, сырость, холод. Вода донимает всюду: просачивается сквозь крышу блиндажа или землянки, течет по стенам и дну траншей, проступает между досок настилов, капает в котелок с едой. Придет боец с поста в землянку промокший, продрогший, посидит у железной печурки, согреется малость, а просушить обмундирование так и не удается.
Захожу в одну из землянок 2-го батальона. Здороваюсь с бойцами, осматриваюсь. Вижу: настроение у людей неважное. Не слышно смеха, шуток. Спрашиваю у парторга Мурата Шуканова:
— Почему люди грустные, Мурат?
— Дождик замучил, юлдаш. Казах к солнцу привык, простор любит. У нас в степи солнце, небо голубое, куда хочешь скачи. А здесь темно, сидим в норе, как тараканы. Скучно.
— А ты беседовал с бойцами, парторг, разъяснил им обстановку?
— Да. Но ведь я ничего нового не скажу.
— Тогда почитай и переведи на казахский вот эту статью. Пусть бойцы послушают Всесоюзного старосту.
76
И я протянул фронтовую газету, в которой была опубликована статья М. И. Калинина «Слово к бойцам». Шу-канов взял газету, пробежал глазами заголовок и что-то крикнул по-казахски. Бойцы придвинулись к нему. Парторг начал раздельно читать строку за строкой. Он тут же переводил текст на казахский язык.
Когда чтение закончилось, с места поднялся молодой боец. Он взволнованно произнес несколько фраз и, получив разрешение, вышел из землянки. Бойцы заулыбались, одобрительно кивая головами.
— Что он сказал? — поинтересовался я.
Шуканов пояснил:
— Это Есен Курманов — новенький, необстрелянный еще. А сказал он так: «Я уже много дней на фронте, а ни одного врага не убил. Дождя боялся. Передай аксакалу, что его слова мне душу зажгли. Теперь дождь не страшен. Сейчас иду и не вернусь в тепло, пока не убью фашиста!» — От себя Мурат добавил: — Горячий он. Но слово дал — умрет, а сдержит. У нас, казахов, такой закон.
Однополчане проявляли интерес к статьям видных советских писателей и публицистов: Алексея Толстого, Михаила Шолохова, Бориса Горбатова, Петра Павленко, Бориса Полевого, Елены Кононенко. Кстати замечу, что громкие читки и последующие обсуждения публицистических и художественных произведений советских писателей мы рассматривали как одну из действенных форм идеологической работы.
В печати сообщалось о патриотическом движении, которое развернулось в стране по почину колхозника Фе-ропонта Годоватого, отдавшего свои сбережения — 100 тысяч рублей — на строительство самолета для Красной Армии. Бойцы и командиры подразделений начали сбор средств в фонд обороны. Не только пулей и штыком, но и рублем хотели они бить ненавистного врага. После митинга в батарее 76-миллиметровых пушек красноармейцы в течение получаса собрали 15 тысяч рублей. Митинги, посвященные этой кампании, проходили в каждой роте и батарее. В итоге личный состав нашей 48-й армии собрал денежные средства на строительство танковой колонны «Гвардеец».
О сборе средств Военный совет армии доложил в ЦК ВКП(б). В ответ пришла телеграмма за подписью
77
И. В. Сталина: «Воинская часть... Товарищам Халю-зину и Истомину. Передайте бойцам и командирам воинской части..., собравшим 4 552 342 рубля на строительство танковой колонны «Гвардеец», мой боевой привет и благодарность Красной Армии». Эта телеграмма была помещена в армейской и дивизионной газетах. Она вызвала у воинов новую волну боевой активности.
В конце октября 1942 года газета «Правда» опубликовала лозунги ЦК ВКП(б) к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Среди призывов было и обращение к защитникам Родины.
Лозунги ЦК ВКП(б) мы старались довести до каждого бойца. Там, где было возможно, проводили митинги, политинформации, беседы. В местах скопления людей, у блиндажей и землянок устанавливали щиты с лозунгами. Подготовили рукописные листовки, которые затем были переданы в боевое охранение, на огневые точки.
Перед самым праздником Сагитова и меня вызвал командир дивизии. У него собрались командиры и комиссары полков. Полковник Голосов сказал:
— С сегодняшнего дня в армии вводится полное единоначалие. В дивизии, в полку, в подразделении один хозяин — командир. С меня будут спрашивать вышестоящие начальники, а я — с подчиненных. Понятно? Сейчас мой заместитель по политической части ознакомит вас с документом.
Полковой комиссар П. И. Фокин зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии». Потом сказал:
— Партия и правительство сочли необходимым всю полноту власти в армии сосредоточить в руках командиров. Это необходимо для обеспечения более гибкого руководства войсками, в интересах быстрейшего разгрома врага. Принятие данного Указа — свидетельство величайшего доверия, которое оказывает партия советским командирам, свидетельство их возросшего авторитета в войсках. Заместители командиров по политической части обязаны всемерно поддерживать и укреплять авторитет командиров-единоначальников. Вместе с тем они должны помнить, что в новом своем положении они несут не меньшую, чем прежде, ответственность за положение дел в войсках. Надо всегда помнить об этом, товарищи.
78
— Ну что, комиссар?— спросил Сагитов, когда мы возвращались в полк.— Не уйдешь теперь от меня? Как-никак, подчиненным будешь...
— Не комиссар уже, а замполит, товарищ подполковник, — несколько суше, чем хотелось, ответил я. — А уходить зачем же? Столько времени работали дружно, будем и дальше вместе воевать.
— Вот это правильно, комиссар, — оживился Сагитов. — Вместе воевать — немцу несдобровать.
Он так и звал меня до конца нашей совместной служг бы комиссаром. Впрочем, многие бойцы и командиры с трудом привыкали к новому положению. Пришлось терпеливо разъяснять значение Указа Президиума Верховного Совета СССР. Следует отметить, что в войсках с одобрением отнеслись к введению единоначалия, правильно оценили этот своевременный и дальновидный шаг.
Невозможно передать, какое огромное впечатление произвели на нас слова приказа Народного комиссара обороны СССР от 7 ноября 1942 года: «Будет и на нашей улице праздник!» В сердцах воинов крепла уверенность в неминуемой победе. Мы ощущали ее аромат в морозном ноябрьском воздухе. Мы все горели желанием сейчас же, немедленно пойти вперед. Это нетерпение возросло, когда стало известно о переходе наших войск в наступление под Сталинградом.
— Скоро ли мы выступим? — спрашивали бойцы.
В конце ноября наш полк был выведен во второй эшелон, в село Здоровец, находившееся в 25 километрах от линии фронта. Бойцам и командирам предоставили возможность отдохнуть. Надо просидеть полгода в окопах, чтобы оценить прелесть настоящей русской бани с парной, с веничком, с квасом в предбаннике. Надо изрядно помокнуть под осенними дождями, чтобы воздать должное теплой хате и сухому белью. И наконещ надо испытать все невзгоды окопной жизни; чтобы ощутить радость от своевременно поступивших в подразделение газет, писем.
Теперь все это было. Мы создали ленинские комнаты, оборудовали бани, сушилки, обеспечили воинов трехразовым питанием, одели их в теплое обмундирование. В полк зачастили артисты. Регулярно демонстрировались кинофильмы. В «Красной звезде» появилась передовая
79
статья «Забота о бойце», и бытовому устройству фронтовиков стало уделяться еще больше внимания.
30 декабря исполнялось 20 лет со дня образования Советского Союза. Эту знаменательную дату мы отмечали торжественно. В ротах прошли собрания, политинформации, беседы, громкие читки статьи М. И. Калинина «20 лет существования СССР».
Вместе с Ахнафом Гайнутдиновичем я присутствовал на празднестве в пулеметной роте. После доклада, который сделал командир, выступали бойцы. Звучала русская, узбекская, украинская, татарская речь. Красноармеец. Ум-бит говорил на казахском. Его слова тут же переводились нештатными переводчиками, которые у нас имелись в каждой роте. Умбит сказал:
— За минувший год я хорошо изучил оружие, участвовал в боях, истреблял фашистов. В 1943 году буду сражаться еще лучше, чтобы мои дети не знали ужасов фашистского рабства, чтобы крепла и расцветала наша Родина — любимая мать всех советских народов.
— Хорошо сказано! — воскликнул Сагитов. — Твои мысли — это наши общие мысли.
Бойцы-казахи радостно заулыбались. Еще бы! Командир полка говорил на их родном языке. А Сагитов тут же перешел на татарский и поздравил бойцов-татар с праздником, пожелал им боевых успехов в новом году. Потом он по-русски сказал:
— Мы долго находились в обороне и выстояли, не пропустили врага. Следующий год — наступательный. Готовьтесь, товарищи, гнать врага на запад, сокрушать его укрепления.
Начало января прошло в усиленной боевой подготовке. В войска поступил проект нового Боевого устава пехоты. Мы отрабатывали боевые порядки, совершенствовали боевое мастерство. Все понимали: наступление не за горами.
В один из этих дней я пришел к Сагитову, говорю:
— Нужно провести собрание партийного актива. Поставить задачи, посоветоваться с людьми...
— Хорошо, комиссар, действуй, — отозвался Ахнаф Гайнутдинович. — Тебе не впервой.
— С докладом на активе нужно будет выступить тебе.
Сагитов попробовал было отказаться. Раньше ему не
80
приходилось выступать с докладами на активах, к тому же он стеснялся своего акцента, который особенно проявлялся в минуты волнения.
— Ты бы сам выступил, комиссар, — умоляюще сказал Ахнаф Гайнутдинович.
— Э, нет,— настаивал я. — Так дело не пойдет. Ты — командир, я — заместитель по политической части. Негоже мне вместо тебя анализировать положение дел в полку, ставить личному составу боевые задачи, отмечать, кто лучше, кто хуже, кто впереди идет, а кто отстает. Это право и обязанность прежде всего командира-единоначальника. Зачем же я буду тебя подменять, авторитет твой подрывать?
— Хорошо, — согласился наконец Сагитов.— Буду выступать. Только помочь нужно.
Разумеется, я оказал командиру помощь в подготовке доклада. Собрание партийного актива прошло хорошо. Коммунисты с необычайной активностью обсуждали задачи, выдвинутые командиром. Мы, конечно, не знали, когда и где введут нас в бой. Но уже само сообщение о предстоящем наступлении вызывало у людей боевой подъем.
Ахнаф Гайнутдинович выступил с докладом и в батальонах, определил их первоочередные задачи в боевой и политической подготовке.
С раннего утра и до позднего вечера в полку не прекращалась учеба. Люди напряженно, до устали трудились, понимая, что к схватке с врагом надо быть всесторонне подготовленными.
Тем временем в полк поступило сообщение о введении новых знаков различия — погон для личного состава Красной Армии. Бойцы и командиры внимательно читали Указ Президиума Верховного Совета СССР, делились своими мыслями.
Один из бойцов нового пополнения, беседуя с Виктором Гречко, недоумевал:
— Это как же понимать прикажете, товарищ секретарь? Мой отец в гражданскую у Буденного конником был, золотопогонников под корень рубал. А теперь снова погоны, снова офицеры? Как же так?
Вопрос, что и говорить, острый. Я с интересом ждал, что ответит Гречко. И он, надо сказать, нашел нужные доводы. Подчеркнул, что в Красной в Армии и солдат и
6 П. А. Горчаков
81
офицер — сыны трудового народа. У них одни цели, одни заботы и интересы. А введение погонов свидетельствует о зрелости нашей армии, будет способствовать укреплению воинской дисциплины, без которой нельзя одолеть врага.
Обсудили свои задачи и мы, политработники. Мнение было единодушным: надо идти в роты, батареи, разъяснить личному составу своевременность и важность нового указа. Агитатор полка Степанов в тот же день собрал агитаторов, проинструктировал их. Секретарь партбюро Шавин дал поручения коммунистам выступить перед солдатами, сержантами, офицерами.
Следует заметить, что партийно-политическая работа в тот период велась весьма активно. Да и трудиться стало легче. К нам чуть ли не каждый день приходили добрые вести. Успешно продолжалось наступление наших войск южнее Воронежа. Дело шло к ликвидации окруженной группировки противника под Сталинградом. Чувствительные удары по врагу наносились южнее Ладожского озера. 18 января войска Волховского и Ленинградского фронтов соединились, прорвав блокаду Ленинграда.
Одно радостное событие за другим. Они бодрили бойцов, вызывали у них стремление внести свой достойный вклад в общее дело разгрома врага.
СОЛДАТСКИЕ БУДНИ
Боевая учеба в гостеприимном Здоровье продолжалась недолго. Уже 20 января 1943 года мы покидали село. Местные жители тепло нас провожали, женщины протягивали узелки с горячей картошкой, с лепешками. Это едва ли не последнее, что у них было. За время оккупации фашисты подчистую ограбили население.
Оглядываю походные колонны. Идут танки, бронемашины, аэросани, грузовики. Они прокладывают пехоте дорогу в глубоком снегу. И пехота, хорошо одетая и вооруженная, бодро идет вперед. Короткий марш — и мы в районе сосредоточения, где-то юго-западнее города Ливны.
Место оказалось совершенно открытым. Ни сел, пи деревень — все сожгли фашисты, отступая под ударами советских войск. Ледяной ветер и 20-градусный мороз пронизывают до костей. Мы зарываемся в снег, точно в землю: создаем окопы, траншеи. Кое-где наталкиваемся на чудом уцелевшие деревенские погребки, по очереди отогреваемся в них. С часу на час ждем приказ о наступлении.
Нашу дивизию передали в состав 13-й армии генерал-майора Н. П. Пухова, которая вместе с войсками Воронежского фронта должна была участвовать в Воро-нежско-Касторненской наступательной операции.
280-я стрелковая дивизия предназначалась для ввода в прорыв лишь на второй день операции, что немало огорчало бойцов и командиров, безудержно рвавшихся в бой. Мы вышли на исходные рубежи, зарылись в снег. Не сводим глаз с первой укрепленной полосы вражеской обороны, где уже бьются воины из 307-й дивизии, прокладывая
6* 83
нам путь. Холод жгучий, ноги коченеют, но приходится лежать неподвижно. Лишь старшины переползают вдоль фронта, поднося солдатам и офицерам по чарке водки. Протянули и мне. Выпил. Отнимаю алюминиевую кружку от губ, а с них отлетают лоскуты кожи: примерзли к металлу.
Скоро ли будет дана команда «Вперед!»? Ждать больше нет сил. А тут выясняется: наш полк пойдет вторым эшелоном. Сагитов не находит себе места.
— Комдиву сверху виднее, куда какой полк ставить,— говорю я.
Но это мало успокаивает Сагитова. И его по-человечески можно понять: он рвется в бой.
— Не могу глядеть, как другие воюют, — горячился он.— Сам хочу воевать. А твой Голосов не понимает меня...
Ахнаф Гайнутдинович все чаще называет комдива, ставшего теперь генерал-майором, «моим». Оттого, что я стараюсь доказать логичность его распоряжений.
— Комдив хочет использовать полк в самый напряженный и ответственный момент.
— Когда будут шапки раздавать, — парировал Сагитов, перефразировав русскую поговорку.
— Ну, до шапочного разбора еще далеко. Хватит фашистов и на нашу долю...
За первый день боев 307-я дивизия смогла вклиниться в немецкую оборону лишь на 4—5 километров. Мы шли следом, готовые в любой момент принять эстафету. Утром 26 января 1033-й полк оказался впереди, и генерал-майор Д. Н. Голосов направил его в бой, изменив первоначальный план действий. Нам было приказано развивать наступление в направлении станция Долгое, село Золотухино и дальше на Касторное. Радости Сагитова не было предела. Его чувство передалось и бойцам. Солдаты и командиры, казалось, не шли, а летели на врага.— настолько был велик их наступательный порыв!
Проходим первую полосу фашистской обороны. Перед нами картина недавнего боя. Всюду трупы, горы трупов, разбитые танки, орудия, автомашины. Глубокий противотанковый ров буквально завален телами врагов.
Тонкий наст не выдерживает: бойцы по пояс проваливаются в снег. Спасибо артиллеристам и летчикам — они надежно обрабатывают полосу наступления. Вот и пер-84
bog соприкосновение с противником. Батальоны с ходу опрокидывают немецкие части. Гитлеровцы бегут. Мы преследуем их.
Особенно ожесточенно оборонялись гитлеровцы в селе Вислый Колодец, где располагался штаб их пехотного полка. Сагитов, не дожидаясь застрявшей в снегах артиллерии, решил взять село. 1-й и 3-й батальоны должны были охватить Вислый Колодец с флангов, а 2-й батальон — ударить с фронта.
Бой начал 1-й батальон. С НП хорошо видно: сотни людей бегут по снегу в обход села справа. Но что это? Разрывы мин? Цепи залегли. А мины рвутся все чаще и чаще. Создалась критическая ситуация — роты несут неоправданные потери. Как-то надо выходить из-под ураганного огня. Бегу в батальон. На полпути замечаю сутулую фигуру замполита Лескова, поднимающего людей в атаку. Единственно правильное решение! Только вперед, на позиции врага! А вот и командир батальона капитан В. Ф. Благодырь и адъютант батальона лейтенант Т. Н. Прохорчук. Они тоже подают пример. Доносится раскатистое «ур-а-а», и бойцы дружно бегут вслед за офицерами.
Первая цепь уже достигла вражеских окопов, завязалась рукопашная схватка. А слева атакует врага 3-й батальон, которым теперь командовал уже известный читателю старший лейтенант А. В. Рыбалко. Вислый Колодец вскоре оказывается в кольце. 2-й батальон капитана И. С. Гаврилова завершает атаку, захватывает штаб немецкого пехотного полка вместе с командиром полка.
Мы осмотрели огневую позицию немецкой минометной батареи. Еще полчаса назад здесь происходила рукопашная схватка. А теперь лежат в самых невероятных позах убитые — немцы и советские бойцы. Запомнились два сцепившихся окоченевших трупа. Оба без шинелей. Дюжий гитлеровец руками сдавил горло лежавшего навзничь советского воина. А тот, возможно при падении, сумел все же проткнуть правой рукой живот гитлеровца его же кинжалом. Застывшие глаза героя открыты, устремлены в синь неба; левая рука с раздвинутыми пальцами уперлась в пропитанный кровью снег, словно хотела прикрыть родную землю от прикосновения к ней фашистов. Казалось, вот-вот сорвутся с его сжатых губ слова: «Прочь,
85
фашистские захватчики, с нашей земли! Не отдадим мы ее!»
Мы переглянулись с Лесковым, сердцем чувствуя, что ДРУГ у друга на душе. Степан Антонович подал мне красноармейскую книжку, и я узнал имя героя: Скляренко Петр Игнатьевич.
— Руку Петра Скляренко, прикрывшую священную землю, я запомню навсегда, — произнес Лесков. — Сегодня же обо всем расскажу бойцам...
Полк продвигался вперед, сметая вражеские заслоны. Мы освободили еще несколько населенных пунктов, самым крупным из которых было село Алексеевка.
К исходу дня батальоны на 18 километров вклинились в оборону противника. Они могли наступать и дальше — гитлеровцы поспешно отступали. Но теперь надо было закрепиться: полк оторвался от основных сил дивизии.
С согласия командира полка я дал указание провести в батальонах и ротах беседы об итогах первых боев. На этих беседах командиры и политработники рассказывали о подвигах бойцов, о тех, кто геройски погиб в рукопашной схватке.
Поздно вечером в полк приехал командир дивизии д. Н. Голосов. Ой поздравил нас с первым успехом и поставил перед полком новую задачу — овладеть железнодорожной станцией Долгое.
Стремительный 25-километровый марш — и мы приблизились к станции, расположенной неподалеку от Ка-сторной. Это — места былых сражений. В такую же, как сейчас, вьюжную ночь шли когда-то на врага конники Буденного. Ну что ж, сыновья не посрамят боевой славы отцов!
Командир полка решил 2-м и 3-м батальонами обойти станцию Долгое с флангов. 1-й же батальон должен наступать с фронта.
—• Пойду в первый батальон,— доложил я подполковнику Сагитову. — Ему труднее всех придется. К тому же там овраги, лощины.
— Давай, - согласился Ахнаф Гайнутдинович. — Потом и я подскочу.
Медленно наступал рассвет. Станционные постройки еще скрыты предутренней мглой, метёт позёмка. 1-й ба-86
тальон идет по степи. Рядом со мной — Виктор Гренко. Над головой с воем пролетают снаряды — наши и немецкие. Рвутся впереди и позади. Потерь, к счастью, нет. Гитлеровцы не обнаружили нас. Значит, удар может быть внезапным.
Но вот на горизонте что-то сверкнуло, заискрилось. Небо тотчас озарилось тысячами разноцветных огней. В честь чего фейерверк? Это, как потом выяснилось, наш снаряд угодил в немецкий склад с сигнальными и осветительными ракетами. Фейерверк осветил окрестность, и я увидел Долгое.
На карте станция обозначена лишь несколькими домиками, а тут целый город. Десятки построек, широкие улицы... Как же так? Но разбираться некогда. 1-й батальон делает стремительный рывок. В ото время слева загремело «ура!». Сомнения нет — это 3-й батальон. Молодец Рыбалко! Успел-таки к сроку ударить фашистам во фланг.
Мы врываемся в пристанционный поселок. Только теперь, пробегая улицами, я понял: постройки-то без окон, без дверей. Это штабеля ящиков с боеприпасами, крытые брезентом. Скорей бы оставить их позади! Не то ударит снаряд — все на воздух взлетим.
Неудержим натиск советских воинов. Фашисты, застигнутые врасплох, в панике мечутся между домами, зияющими пустыми глазницами выбитых окон.
А бой уже переместился на окраину поселка. Нет, гитлеровцам не удастся уйти. Их косят пули наших солдат, атакующих и с фронта, и с тыла. Неподалеку от меня командир 1-го батальона Благодырь. Он стреляет из пистолета: немецкий офицер падает замертво.
На одной из улиц — пушки, брошенные немцами. На крайней пушке, нацеленной на запад, торчит снаряд, наполовину засланный в казенник. Будто само приглашение: «Стреляйте, пожалуйста!» Капитан П. И. Гришин, командир артиллерийской батареи, бросился было к пушке, но тут же попятился назад, вытирая рукой выступивший на лбу пот.
— Хитрят, гады! Не мытьем, так катаньем хотят взять!
Под снарядом, полузадвинутым в ствол пушки, висела мина. Достаточно лишь толкнуть снаряд — и раздался бы взрыв. Да, хитер и коварен враг!
87
В горячке боя я. и не заметил, как выбежал к полотну железной дороги. Здесь с группой бойцов 2-го батальона находился Сагитов. Мы прошли на станцию. В зале для пассажиров, вполоборота к нам, стоял гитлеровец, прицеливаясь из-за колонны в диспетчерскую. Я срезал его очередью из автомата, но он все-таки успел выстрелить. В кого? Заходим в диспетчерскую. На полу, рядом с черепками разбитого бюста Гитлера,— труп немецкого офицера. Тут же, у самой двери, кто-то лежит лицом вниз. В маскхалате. На каске — глубокая вмятина. Поворачиваю и вздрагиваю — это же Виктор Гречко! Неужели убили парня? Нет, над ртом клубится парок. Вместе с Сагитовым мы перенесли комсомольского вожака в погреб, где разместился медпункт. Перенесли вовремя. Немцы начали ожесточенный артиллерийский обстрел, и здание, которое, кстати, мы тоже вовремя покинули, было превращено в руины.
Но как ни бесились гитлеровцы, было ясно: бой они проиграли. Когда мы осмотрелись — ахнули. На станции оказались армейские склады с боеприпасами, вещевым имуществом, продовольствием. И чего только тут не было! Итальянские апельсины, французский коньяк, румынское шампанское, шоколад, мука из кубанской пшеницы, украинское сало, датский сыр... Не перечесть всего того, что в огромных количествах лежало в штабелях и подвалах. А на рельсах пыхтели паровозы, чуть ли не на километр вытянулись эшелоны со снарядами, танками, грузовиками... Одних снарядов и мин было более двух миллионов.
Немецкий гарнизон станции Долгое насчитывал до полка пехоты с приданной артиллерией. И враг бежал, ошеломленный нашим внезапным ударом. А ведь сил у нас было значительно меньше, чем у гитлеровцев. Значит, мы можем их бить не числом, а умением.
В бою за станцию Долгое отличились многие. Это и старший лейтенант С. Н. Юрченко, заместитель командира 3-го батальона, проявивший инициативу в критический момент, и секретарь комсомольского бюро Виктор Гречко, который первым ворвался на станцию, и лейтенант Т. Н. Прохорчук, адъютант 1-го батальона, офицеры А. Ф. Кирейко, А. М. Соц, П. И. Гришин, П. А. Поми-луйко, сержант И. С. Звягинцев... Да разве всех перечислишь?!
88
Промерзшие, уставшие солдаты и офицеры обогревались в уцелевших домах, подкреплялись горячей пищей, чаем и говорили, говорили, заново переживая перипетии минувшего боя.
А привал, как правило, не обходится без песни. Вот и теперь Тихон Никитович Прохорчук растянул мехи гармошки. Он с нею, можно сказать, неразлучен — пронес от Сталинграда.
— Сыграй «Полковую»,— просит его Благодырь. «Полковая» — это песенка, родившаяся в нашем полку. Ее сочинил сам Прохорчук на слова поэта, который, однако, остался неизвестным. Позволю себе воспроизвести текст этой незатейливой песенки:
Сестренку нашу звали Машей, Ее любили все в полку.
Во всех боях сестренка наша Шагала с сумкой на боку. Бывало, пулей тебя ранит — Сестра не медлит и не ждет, Она умелыми руками Бинты из сумки достает.
В часы досуга на привале, Чтоб сердцу было веселей, Она, бывало, запевала Про двух товарищей-друзей: «Жили два товарища на свете, Хлеб и соль делили пополам. Оба молодые, оба Пети, Оба гнали немца по полям...»
«Полковую» частенько пели в подразделениях. Но пожалуй, более всего полюбилась она Благодырю — за мелодичность, задушевность.
Удивительный он человек, командир первого батальона! В бою горяч, крут, даже излишне требователен к себе и подчиненным. Но в минуты отдыха он как-то сразу становился мягче, душевнее, старался быть вместе с бойцами. В полку знали, что Владимир Федорович не получает писем, что мать, отец, сестра комбата остались в Одессе. Знали и понимали всю глубину его переживаний.
К музыке и разговорам, казалось, не прислушивался Ахнаф Гайнутдинович. Устроившись за столом, он вместе с начальником штаба Бобковым составлял очередное донесение.
Я собрал политработников полка. Предупредил: отдых кратковременный. Скоро выступаем опять.
89
К вечеру полк был уже на марше. Отдохнув, люди шагали бодро. Глаз радовала чарующая красота родного края. Вдоль дороги выстроились заснеженные тополя, березки, липы. Мимолетный порыв ветра стряхивал с ветвей снежинки, и они, искрясь, опускались на плечи бойцов. Вокруг расстилались поросшие кустарником лощины. На косогорах то здесь, то там виднелись деревни: панически отступавшие немцы не успели их сжечь или разрушить.
Выбив противника из двух старинных сел Верхне-Долгое и Верхне-Кобылье, наш полк утром 28 января вышел к реке Тим, на противоположном берегу которой, в селе Урынок, закрепились гитлеровцы. У них было два саперных батальона, несколько жандармских рот и карательных отрядов, а также остатки разбитых нами в предыдущих боях подразделений.
Дорогу полку проложили танкисты. Не дожидаясь, когда будут уложены настилы, они на большой скорости прямо по льду перескочили реку, ведя огонь на ходу. За танками ринулись и мы. Сагитов искусным маневром батальонов захватил Урынок в клещи, отрезав врагу путь к отступлению.
На очереди была новая боевая задача. Приказ командира дивизии требовал от полков перерезать шоссе Москва — Симферополь, ворваться на плечах противника на железнодорожные станции Коссоржа, Золотухине, Свобода и захватить их. Это лишило бы противника возможности подбрасывать резервы к Курску, за освобождение которого уже начались бои.
Задачу удалось выполнить сравнительно легко. Фашистские гарнизоны, хотя и пытались удержать станции, действовали разрозненно, чем и воспользовался наш комдив. Решительными ночными атаками полки дивизии выбили противника с занимаемых рубежей.
...Солнечное утро в освобожденном Золотухине. Мы с Ахнафом Гайнутдиновичем стоим у элеватора, оглядываем село. Его улицы безлюдны. Торчат, словно могильные памятники, трубы сожженных домов.
На душе горько. Меня трясет от ненависти к фашистам. Лицо у Сагитова тоже мрачное, суровое. Нам только что стало известно о злодеяниях гитлеровцев. Здесь, в 90
Золотухине, они зверски убили нескольких наших бойцов, захваченных ими в плен. Отрезали языки, выкололи глаза. Словом, измывались хуже диких зверей. Один из мучеников еще дышал. Палачи обрубили ему пальцы на руках, отрезали уши, вырезали звезды на груди й бросили голым в снег. Боец успел узнать подоспевших советских воинов, прошептал:
— Отомстите, товарищи! — и умер.
Потрясенные, мы молчали. Конечно, война есть война. Каждый день теряешь товарищей, видишь горе и слезы. Нас убивают, и мы убиваем. Но одно дело бой. А тут? Какой смысл убивать пленного, да еще измываться над человеком? Нет, те, кто поступает так, — не солдаты. Это преступники, потерявшие всякий человеческий облик. Им нет и не может быть никакой пощады, ни малейшего снисхождения.
Теперь, более тридцати лет спустя, когда я пишу эти строки, кое-кто в ФРГ призывает забыть прошлое и даже оправдать преступников. Из сообщения печати, например, стало известно, что недавно в городе Мангейм состоялось сборище более тысячи бывших нацистов и молодых поклонников гитлеровской Германии. Это сборище они посвятили «памяти» бывшего полковника СС Иохима Пайпера, военного преступника, виновного в чудовищных зверствах, чинимых им на территории Советского Союза и Италии. А в Нижней Саксонии христианский демократ Эрнст Альбрехт в диссертации по философии «Государство: идея и реальность» взялся доказывать, что пытки в определенных случаях вполне «оправданы с точки зрения этики». Какой цинизм!
Но вернемся к событиям в Золотухине.
Разведчики доложили, что на элеваторе много зерна. Немцы пытались его сжечь, но не сумели. Сагитов выслушал это сообщение без интереса. Не до зерна ему было в те минуты: предстояло выполнить новую боевую задачу.
— Зерно без присмотра оставлять нельзя, — осторожно заметил я. — Надо возвратить его хозяину — народу.
— Да, но ты сам видишь: в селе — ни души, — ответил Сагитов.
Вскоре, однако, узнав о приходе войск Красной Армии, из погребов, щелей, окрестных лесов потянулись в село старики, женщины, дети. Мы рассказали им о поло-
91
женин на фронтах, в, тылу страны, о важнейших международных событиях.
Запомнилась маленькая шустрая старушка в латаном-лерелатаном кожушке и мужских рваных ботинках. Ей все еще казалось, что наш успех временный, что Ленинград, Сталинград и Воронеж захвачены немцами, как это лживо кричали фашисты.
— А как же Ливны? Ливны-то еще под немцами аль как? — не унималась старушка.
— Выгнали мы немца оттуда, бабуся, давно выгнали.
— Ой, сынок, не обманывай ты меня, старую. Грех это.
— Серьезно говорю, бабуся. Хоть сейчас можешь туда отправляться. Вот только поезда пока еще не ходят.
— Слава тебе господи, — просияла старушка.— А поезда мне что. Я и пешком дойду. Родня у меня там.
Слов нет, встречались люди, которые в какой-то мере были дезориентированы вражеской пропагандой. Но таких людей было немного. Оккупантам не удалось отравить душу народа, его веру в Советскую власть, в неминуемую победу Красной Армии. Всюду, где бы мы ни появлялись, население городов и сел радостно встречало своих освободителей, всячески помогало нам.
В моей памяти сохранился подвиг В. А. Сапронова, 59-летнего крестьянина села Верхне-Кобылье. Сапронов бился с немцами еще в первую мировую войну, испытал жестокость кайзеровского плена. Старый солдат всей душой ненавидел оккупантов. Несколько раз он выполнял обязанности проводника наших разведчиков. Вместе с ними участвовал в засадах, укрывал раненых.
В дни освобождения Верхне-Кобылья Сапронов оказал нам неоценимую помощь. Дело было так. Немцы, заметив приближающиеся колонны войск, решили устроить засаду. Они установили на двух грузовиках станковые пулеметы, замаскировали их и стали ждать. Расчет врага был прост. Фашисты хотели подпустить колонны и в упор расстрелять их.
О вражеской засаде стало известно Сапронову. Он выбежал нам навстречу. Вслед ему хлестнула длинная пулеметная очередь. Патриот упал, отполз в сторону, снова вскочил и, несмотря на огонь противника, продолжал бежать.
Предупреждение об опасности мы получили вовремя. Группа бойцов, ведомая тем же Сапроновым, по оврагам 92
и огородам обошла вражескую засаду. Немцам пришлось ретироваться. Кстати замечу, Верхне-Кобылье мы освободили без каких-либо потерь.
Пример с Сапроновым — один из многих. Советские люди, будучи в районах, временно оккупированных врагом, оставались беспредельно преданы Коммунистической партии, Родине. И нам в те январские дни 1943 года не составило большого труда подобрать из местных жителей способных организаторов, которые могли бы взять под охрану элеватор с зерном, наладить торговлю, приступить к восстановлению хозяйства. Сельский актив возглавил председатель сельсовета член ВКП(б) Ф. И. Густов.
2 февраля главные силы Воронежского фронта начали осуществление заблаговременно спланированной Харьковской наступательной операции. На 60-ю армию генерал-майора И. Д. Черняховского, в состав которой после освобождения Золотухина временно была переведена наша 280-я стрелковая дивизия, возлагалось нанесение мощного удара по Курску.
Овладев городом Щигры и поселком Тим, соединения 60-й армии к исходу дня 6 февраля с боями вышли к Курску, который обороняли части 4-й танковой дивизии и 9-го егерского батальона гитлеровцев.
В час ночи 7 февраля командиры полков и их заместители по политической части были срочно вызваны на КП дивизии. Генерал-майор Д. Н. Голосов зачитал нам боевой приказ командарма.
В приказе отмечалось, что крупная группировка противника продолжает отходить к городу Курску и задача армии — уничтожить эту группировку, овладеть областным центром и к исходу дня выйти на рубеж Нартово, Жеребцово, Стрелица, Любицкое 2-е, Воробьевка, Максимово. Правее нашей наступала 13-я, а левее — 38-я армии.
Командарм принял единственно правильное решение — взять Курск искусным обходным маневром с севера и юга.
Наша дивизия входила в северную группировку. В приказе четко определялась ее задача: вместе с 79-й танковой бригадой продолжать наступать в направлении Чап-лыгино, Верхняя Медведица, Малое Лукино, с тем чтобы
93
пересечь шоссе Фатеж — Курск и, обеспечивая правый фланг армии, к исходу 7 февраля овладеть Шумейко, Жердево, Малое Лукино...
Разъясняя требования приказа командарма, командир дивизии перед каждым полком поставил конкретные задачи, подчеркнув при этом, что эти задачи необходимо выполнить любой ценой.
1033-й полк находился ближе других к Курску. Поэтому нам было приказано выделить 1-й стрелковый батальон для прикрытия правого фланга 322-й дивизии, наступавшей на город с востока. Остальные батальоны решали задачу, поставленную в целом перед 280-й дивизией.
Ночью 1-й батальон вышел в район села Верхняя Медведица, а утром он вступил в бой вместе с частями 322-й дивизии полковника С. Н. Перекальского. Бой длился весь день, лишь к вечеру войска прорвались к северо-восточным окраинам города. 1-й батальон действовал на железнодорожной станции, где гитлеровцы, цепляясь за каждый вагон, оказывали отчаянное сопротивление.
Наша дивизия, взаимодействуя с 79-й танковой бригадой, охватила Курск с севера. Схватки не прекращались ни днем, ни ночью. В 5 часов утра наконец-то нам удалось ворваться в город.
ВИ часов 8 февраля общими усилиями войск фронта, в том числе 322-й стрелковой дивизии и 248-й отдельной стрелковой бригады, Курск был взят. Полковник С. Н. Перекальский, чьи действия по управлению полками дивизии отличались высоким мастерством и бесстрашием, погиб в уличном бою.
После освобождения Курска 60-я армия, преследуя отступавшего противника, продолжала продвигаться в направлении Льгова, а 13-я армия Брянского фронта, в которую вновь вошла наша 280-я стрелковая, повернула на Орел. Мы шли по шоссе Курск — Орел.
В первый же час марша повалил густой снег, затем поднялась метель. Снегу намело по колено. Солдаты выбивались из сил, еле передвигая ноги. Из-за сильных заносов артиллерия, а также машины с боеприпасами, продовольствием остались где-то позади. На дороге встречались завалы, минные поля, фугасы, взорванные мосты. Но бойцы и командиры, преодолевая преграды, упорно двигались 94
вперед. К счастью, авиация противника была скована пургой.
Мы шли днем и ночью, примерно по 60 километров в сутки. Миновали город Фатеж и к утру 12 февраля достигли деревни Сергеевка. На пути полка встали подошедшие из Орла свежие части 258-й немецкой пехотной дивизии, усиленные танками и занявшие оборону на северном берегу реки Своны.
Не дожидаясь подхода артиллерии, полк с ходу атаковал вражескую оборону. В течение дня мы дважды ходили в атаки и дважды отбивали контратаки гитлеровцев. Некоторые рубежи по нескольку раз переходили из рук в руки. И все же в результате умелых обходных маневров батальоны полка сумели зайти в тыл неприятеля, выбить его с оборудованных позиций и занять населенные пункты Березовку и Могилевский. Гитлеровцы девять раз переходили в контратаки, но так и не сумели вернуть утраченные позиции.
Кровопролитные бои развернулись за Выселки и Му-равль, где мы столкнулись с основными силами немецкой дивизии. Атаки и контратаки следовали одна за другой, села то и дело переходили из рук в руки. Сражение не прекращалось и ночью. Немцы стремились во что бы то ни стало отбросить советские части обратно к Курску. Особенно тяжело нашему полку пришлось 16 февраля. Мы бросили в бой всех, кто мог держать в руках оружие — связистов, санитаров, хозяйственников и даже легкораненых. Коммунисты, как всегда, находились на самых опасных участках, своим примером увлекая бойцов.
Гитлеровцы, пытаясь выбить нас с занимаемых позиций, предприняли яростные атаки. Все меньше и меньше оставалось в строю бойцов. Казалось, еще один мощный натиск противника — и нам не удержать Муравль. И тут, к нашей величайшей радости, с правого фланга, со стороны реки Своны, на врага обрушилась лавина моряков-лыжников. Как мы потом узнали, это были головные подразделения бригады, возглавляемые майором К. Ф. Со-повым. Бригада была сформирована из моряков-дальневосточников. Ребята оказались все как на подбор: высокие, плечистые, лихие. В полурасстегнутых черных бушлатах — так, чтобы видна была морская тельняшка,— они с ходу бросились на ошеломленных гитлеровцев. Завязалась невиданная мной до сих пор рукопашная схват-
95
ка. Мы подняли своих бойцов и, воодушевленные дерзостью моряков, тбже вступили в рукопашную. Картина жуткая. Рев, крики, стоны, редкая стрельба. В ход шли приклады винтовок и автоматов, гранаты, ножи. Матросы и солдаты даже руками душили фашистов.
Гитлеровцы, несмотря на то что их было гораздо больше, не выдержали и стали отходить в сторону Троены. Разгоряченные боем наши воины — за ними. Однако немцы так быстро удирали, что догнать их не хватало сил. К тому же слева появились вражеские танки, прикрывшие поспешное отступление своих солдат.
На другой день мы получили приказ закрепиться па занятом рубеже, обороняя отвоеванные полком населенные пункты Троекуровский, Муравль, Обыденки-Буров, Обыденки-Измайлово, Александровка, Рудовой.
За три недели наступательных боев — с 26 января по 17 февраля — 1033-й стрелковый полк прошел свыше 350 километров и освободил 55 населенных пунктов. Эти бои показали не только отвагу и мужество, но и возросшее мастерство бойцов и командиров. Они били врага в самых сложных условиях не числом, а умением.
Вот несколько примеров.
Группа разведчиков подошла к деревне Салажонки, в которой находился немецкий гарнизон. Силы были неравными. Но командир группы сержант П. Н. Приходько, автоматчики А. И. Семиков, Т. К. Семениченко и другие бойцы не растерялись. Они уселись в брошенную немцами исправную автомашину и на полном ходу ворвались в деревню. Гитлеровцы, принявшие разведчиков поначалу за своих, поняли свою ошибку, когда из машины застрочили автоматы и полетели лимонки. Но было уже поздно. Поддавшись панике, оккупанты бежали из деревни.
У деревни Остреши подразделение старшего лейтенанта В. В. Сухотеплого было атаковано двумя фашистскими бомбардировщиками. Один из них сбросил бомбу, но промахнулся. Второй начал пикировать. Но подразделение по сигналу офицера успело рассредоточиться. Старший лейтенант открыл из карабина огонь по пикировщику. Бронебойно-зажигательная пуля попала в бензобак. Самолет вспыхнул и подорвался на собственных бомбах.
В поселке Ново-Головинка Фатежского района младший сержант из взвода ПВО полка С. Т. Бандурко сбил бомбардировщик Ю-88. В тот же день его сослуживец 96
Г. А. Серебряков сбил Хе-111, а другой такой же самолет повредил.
Отвагу и мужество в бою проявил командир взвода младший лейтенант П. А. Помилуйко. Его взвод первым ворвался в населенный пункт Турганово, обратив противника в бегство. Сам Помилуйко из ручного пулемета уничтожил 11 гитлеровцев. А на железнодорожной станции Долгое он истребил 9 фашистов, во время уличных боев в райцентре Свобода — 6. Бойцы взвода за время наступления уничтожили 4 пулеметных, 2 минометных расчета, десятки гитлеровских солдат и офицеров. Командир взвода комсомолец Помилуйко был награжден орденом Красной Звезды.
В бою за станцию Долгое командир роты лейтенант О. В. Дедуков с группой бойцов (Я. С. Гребенюк, В. К. Лозытченко, М. И. Богданович, И. А. Свистун и другие) неожиданно атаковал гитлеровцев с тыла. Те было бросились к эшелону. Паровоз стоял под парами. Еще немного — и они оказались бы в безопасности. Но Дедуков вовремя принял меры. Его автоматчики и пулеметчики ударили по паровозу, стрелки — по вагонам. Немцы, в панике выскакивая на рельсы, падали, сраженные пулями. Кто уцелел — покорно поднял руки.
Перечень примеров мужества и героизма бойцов и командиров можно было бы продолжить. Одно очевидно: каждый солдат и офицер полка с честью выполнил свой воинский долг.
В боях мы потеряли немало коммунистов, отдавших свою жизнь за Родину. Тем не менее партийная организация полка в ходе зимней кампании выросла и еще более окрепла. Только за период с 27 января по 8 марта в члены и кандидаты партии было принято свыше 120 воинов. Во всех ротах по-прежнему функционировали многочисленные и боеспособные партийные организации. Так, в 3-й минометной роте насчитывалось 20 коммунистов, во 2-й и 3-й стрелковых ротах соответственно 18 и 19. Опираясь на эту силу, командование полка успешно решало боевые задачи.
Наши нарастающие удары отрезвляюще действовали на немецких солдат. В этой связи хочется привести показания одного пленного ефрейтора.
— Мы были заинтересованы в войне, — заявил он на допросе,— когда были уверены в победе. А теперь война
7 П. А. Горчаков 97
нам ничего хорошего не предвещает. Везде нас бьют, а отступать некуда. Нас разбили в Касторной. Я бежал до станции Долгое. Но и здесь оказались русские. Наш офицер указал дорогу на Курск, а сам сбежал. Мне ничего не оставалось, как сдаться в плен...
Да, немцы начинали понимать, что война ничего хорошего им не сулит. И все же гитлеровская военная машина по-ирежнему оставалась мощной. Решающие сражения были еще впереди, и мы упорно готовились к ним.
НАКАНУНЕ БИТВЫ
В двадцатых числах февраля 1943 года наш полк занял оборону в районе Пробуждение, Турейка, Троено на стыке с соседней 15-й стрелковой дивизией. Мы постоянно держали два батальона в первом эшелоне и один во втором, периодически меняя их.
Подразделения полка пополнялись людьми, а также оружием и техникой. К нам поступила молодежь, мобилизованная в освобожденных районах Курской и Орловской областей. Влились в полк Михайловский партизанский отряд и моряки-лыжники.
Теперь важно было в кратчайший срок сколотить отделения, взводы, роты, батальоны, обучить воинов мастерски владеть оружием. Особое внимание мы обращали на политико-воспитательную работу с новичками. Коммунисты, комсомольцы, агитаторы рассказывали им о боевом пути полка и дивизии, о воинах-героях, отдавших свою жизнь на полях сражений, широко информировали личный состав о положении на фронте, об успехах тружеников тыла.
Большую помощь оказывали нам литераторы. Их повести и очерки широко использовались в воспитательной работе; Запомнился, в частности, литературный диспут по книге Ванды Василевской «Радуга», Инициатива в проведении этого диспута принадлежала комсомольской организации полка и редакции дивизионной газеты «За Отечество».
Творчество Ванды Василевской было близко и понятно фронтовикам. Она, как никто иной, умела воспеть верность Отчизне, солдатскому долгу, прославить героя, заклеймить предателя.
7* 99
Диспут пи книге был проведен fe 1-м батальоне, находившемся в то время во втором эшелоне. Вступительное слово произнес влюбленный в литературу капитан Степан Антонович Лесков. Бойцы всесторонне обсудили книгу и тут же решили послать писательнице благодарственное письмо.
Сразу же после диспута прошел слух, будто в дивизию приедет Ванда Василевская. Кто-то из бойцов, увидев в журнале «Огонек» портрет писательницы в военной форме, воскликнул:
—' Ого, да она военная! Может, и к нам приедет!
— Кто приедет? Писательница приедет? — не расслышал сосед.
Так и пошло:
— Едет! К нам Ванда Василевская едет!
А в 3-й роте даже резолюцию приняли: «Ознамейо-вать приезд любимой писательницы геройскими боевыми делами».
Впрочем, случай не заставил долго ждать. От разведчиков стало известно, что на одной из высоток, неподалеку от большака Троена — Нижне-Тагино, у гитлеровцев появились танки новой конструкции. Это и были неизвестные еще тогда «тигры». Командир полка приказал 1-му батальону взять эту высотку. Дело, прямо скажем, трудное. Гитлеровцы основательно укрепились, располагали не только танками, но и артиллерией, минометами. Правда, и мы посылали капитана Владимира Федоровича Благодыря и его отважных бойцов не с голыми руками. Боевой техники и у нас хватало — и артиллерии, и танков, и «катюш», и авиации. Но все-таки батальоном таранить сильно укрепленную оборону — это не шутка!
Немцы — народ пунктуальный. Что ни случись — прием пищи строго в назначенный час. Обедали они на нашем участке в 16.00. И мы это знали. Едва стрелка часов придвинулась к этой цифре, над полем пронеслись штурмовики, ударили «катюши», пушки всех калибров. Высота окуталась дымом и пылью. Впечатляющая картина! Когда-то я считал, что после такой огневой подготовки на высоте ничего уцелеть не может. Теперь же не спешил с выводами. Война кое-чему научила. Ждал, когда пойдет пехота.
И она пошла. Дружно, неотступно, почти вплотную прижимаясь к огневому валу.
100
-г- Хорошо атакуют! — воскликнул Сагитов.
В этот момент на КП прибыл командир дивизии генерал-майор Д. Н, Голосов. Небольшого роста, подвижный и ловкий, он с порога; землянки возмущенно спросил:
• Почему высота не взята? Где ваша пехота?
С начала атаки прошло минут 15—20. Капитан Бла-годырь и его подчиненные еще вели бой в траншеях, и мы понимали, как ему нелегко. Но генерал ждал доклада. Итутзазвонил телефон. Комбат сообщил:
— Высоту взял!
— Молодцы, едемте туда сейчас же!—торопил нас Голосов.:
Командиру дивизии не терпелось доложить Военному совету армии о новых немецких танках. И ожидания не обманули его. Бронебойщики батальона подбили «тигра». Оказалось, не так страшен черт,, как его малюют. Оглядев поле сражения, Голосов спросил:
— Кто командовал батальоном?
— Капитан Благодырь, — доложил Сагитов.
Генерал знал, как высоко ценил командир полка своего комбата, и потому отнесся к докладу настороженно. Но, еще раз осмотревшись вокруг, подозвал адъютанта:
— Ордена!
Адъютант мигом достал из полевой сумки несколько орденов, орденские книжки. Выбрав орден Красного Знамени, генерал сказал Благодырю:
— Этот высокий боевой орден Военный совет армии доверил мне вручить наиболее отличившемуся при штурме высоты воину. Награда по праву ваша, капитан. Поздравляю!
Сагитов улыбнулся одними глазами, но я увидел, что он рад за своего любимца. Здесь же, на высоте, генерал вручил ордена и медали другим участникам боя.
На нашем участке затишье продолжалось до конца июня. Конечно, затишье относительное. Время от времени велись бои местного значения, производилась разведка боем переднего края противника, выходили в тыл врага разведчики, вытаскивая из вражеских окопов и блиндажей «языков», неутомимо «охотились» из засад снайперы. На ежедневно свершавшихся подвигах бойцов и командиров мы воспитывали новое пополнение.
В апреле 1943 года мы расстались с А. Г. Сагитовым. Ему, что называется, не повезло. Вызванный команди-
101
ром. дивизии нд. очередную рекогносцировку,: Сагитов цопал цод бомбежку. Одна из бомб разорвалась почти рядом с ним. Ахнаф Гайнутдинович и сопровождавший его адъютант старший лейтенант Борменин получили тяжелые контузиц. Очнувшись, Сагитов нашел в себе силы явиться на рекогносцировку, выслушать задачу. Но тут же потерял сознание. Началась рвота, сильные головные боли, обмороки.
— Надо отправлять в госпиталь,— доложил мне старший врач полка И. С. Ефимов.
— Нет, — возражает Сагитов. — Получен приказ провести разведку боем! Никуда не поеду.
Едва ли не впервые я обратился через голову командира полка в штаб дивизии. Подчиняясь приказу, Сагитов отправился в госпиталь. И вернулся через полмесяца уже в звании полковника, чтобы проститься с нами: его отзывали в Академию Генерального штаба.
Как и при первой нашей встрече, я сидел в землянке. Сагитов вошел, мы по-дружески обнялись.
— Как дела? — поинтересовался Ахнаф, Гайнутдино-вич..
— Теперь гораздо легче.
— Не может быть!
— Может, дорогой товарищ полковник, очень может, —• отвечал я. И так говорить были все основания. Мы получили много новой техники и оружия. Наша мощь нарастала не по дням, а по часам.
Впоследствии А. Г. Сагитов, этот опытный и храбрый офицер, командовал дивизией, провоевал до победы. Сейчас он в отставке, но мы переписываемся, время от времени встречаемся. Ахнаф Гайнутдинович ведет большую общественную работу в Харькове.
С апреля, как только сошел снег, мы начали строить прочную оборону. Надо было отрыть десятки километров траншей, окопов, ходов сообщения, соорудить сотни блиндажей, «лисьих нор», различных укрытий для людей и техники; оборудовать неисчислимое множество КП и НП, основных, запасных и ложных огневых позиций и точек, замаскировать их.
Если при этом учесть, что вся наша инженерная техника в то время состояла. из «носимого» и «возимого» 102
шанцевого инструмента — топора, кирки да лопаты, то станет ясно, как много приходилось трудиться солдату. Люди уставали смертельно, и мы, командиры и политработники, прекрасно понимали их состояние. Но очевидно было и другое — пожалеешь пота, будешь расплачиваться кровью.
21 апреля дивизионная газета «За Отечество» опубликовала страничку о ходе фортификационных работ, снабдив ее рубрикой «Крепи оборону, товарищ!». Вскоре состоялось собрание партийного актива дивизии, посвященное задачам коммунистов в обороне. Собрания партийного и комсомольского активов мы провели в полку и в батальонах. В этот период широко развернулось социалистическое соревнование за высокие темпы и качество окопных работ. Запевалами соревнования выступили коммунисты и комсомольцы.
Мы с парторгом полка Иваном Николаевичем Шавиным частенько отправлялись в батальоны, чтобы проверить, как идут окопные работы. Придешь, бывало, в роту, командир докладывает:
— Задание выполнено, окопы полного профиля отрыты.
— А ну, пойдем посмотрим!
Войду в окоп и сразу же демонстративно пригнусь:
— Какой же это окоп полного профиля? Он мне только по пояс!
Командир растерянно хлопает глазами — рост-то у меня около двух метров, — но возразить не может. Окоп полного профиля должен укрывать бойца с головой.
Траншеи и окопы рыли глубиной до двух метров. А для удобства стрельбы из амбразур делали ступеньки. В стенах траншеи на трех-четырех бойцов копали «лисьи норы». В них можно было укрыться при артиллерийском и минометном обстрелах. Оборудовали блиндажи для отдыха личного состава, накрывали их бревнами в три-четыре наката. Проводную связь зарывали в землю на дне траншеи. Словом, к маю наш полк был подготовлен к жесткой обороне.
В предстоящих сражениях гитлеровцы делали ставку на танковые атаки. Вот почему мы решили произвести обкатку танками всех бойцов и командиров полка. Как известно, танкобоязнью страдали некоторые молодые солдаты, еще не побывавшие в боях. В тылу полка были от-
103
рыты траншеи — точная копия траншей переднего края. В них с оружием и боеприпасами размещались бойцы и командиры, а по брустверу шли танки, в том числе и трофейные. Надо отдать должное танкистам: они утюжили траншеи с большим мастерством. Наши люди воочию убеждались, что не так уж страшны фашистские «тигр», «пантера» или самоходная установка «фердинанд», когда находишься в добротном укрытии. А вот танкам противника несдобровать. Стоит пропустить их через себя, метнуть с близкого расстояния противотанковую гранату или бутылку с зажигательной смесью — и стальная махина выйдет из строя.
Новый командир полка подполковник Федор Васильевич Ледков остался доволен боевой мощью полка. Мы имели хорошо оборудованные позиции, полнокровные роты — по три взвода (54 человека в каждом) плюс взвод противотанковых ружей. Полностью был подвезен полагающийся комплект боеприпасов, продовольствия, обмундирования и снаряжения.
Командиры, политработники, партийная организация не ослабляли усилий, направленных на подготовку полка к бою. Они при этом понимали, что глубокие окопы сами по себе успеха не обеспечат, что нужна крепкая морально-политическая закалка личного состава, его твердая вера в торжество великих коммунистических идей. Вот почему в полку уделялось неослабное внимание политико-воспитательной работе. У нас активно действовал институт агитаторов, регулярно проводились политинформации и политические занятия, лекции и беседы о важнейших событиях в стране и за рубежом. Нам удалось создать в каждой роте полнокровную партийную организацию. В полку насчитывалось около 1000 комсомольцев. В любом отделении и расчете можно было встретить коммуниста или комсомольца.
После ранения В. В. Гречко встал вопрос о комсорге полка. Выбор пал на младшего лейтенанта Петра Кузьмича Горового, молодого коммуниста, хорошо зарекомендовавшего себя на комсомольской работе в батальоне. Новое назначение оказалось неожиданным для Горового, и он долго колебался, прежде чем принять его. Основной довод — нет опыта, знаний.
— Не боги горшки обжигают, — сказал я ему. — Беритесь за дело. Поможем. Только учтите, работать с моло-104
дежью — это для вас партийное поручение, причем самое важное.
Не скрою, уходил от меня Горовой не без тени сомнения в душе. Что греха таить: ведь часто обещание молодому руководителю — поможем! — так и повисает в воздухе. Но этого не случилось. Наши опытные коммунисты-руководители парторг майор И. Н. Шавин, агитатор полка капитан Д. Г. Степанов, заместители командиров батальонов по политической части капитаны С. А. Лесков, М. А. Наумов и А. Д. Дудка — словом, буквально все политработники, партийные активисты считали своим первейшим долгом учить и воспитывать молодежь.
Комсомольцев, наряду с коммунистами, мы направляли на самые решающие участки. И они прекрасно справлялись с порученным делом. Рота бронебойщиков, например, была целиком укомплектована коммунистами и комсомольцами. Полковая разведка, возглавляемая коммунистом капитаном А. Ф. Кирейко, тоже состояла из членов ВКП(б) и ВЛКСМ. Сам Арсений Федорович, высокий, стройный, подвижный, обладал исключительным бесстрашием. Это его качество сочеталось с хладнокровием и рассудительностью. Он был примером для своих отважных помощников во всем. Если разведка непрерывно обеспечивала командование всеми необходимыми данными о противнике, то бронебойщики в свою очередь показали себя храбрыми истребителями танков. Великолепно зарекомендовали себя коммунисты и комсомольцы — снайперы, пулеметчики, связисты, наводчики.
Комсорг 7-й роты известный снайпер сержант М. А. Теткин, выступая на одном из партийных собраний, сказал:
— Мы создали крепкую, неприступную оборону. Теперь надо усилить боевую учебу. От выучки и мужества бойцов зависит победа. И нам, коммунистам, надо показывать пример в боевой и политической подготовке, как мы показываем его в бою.
И он внес предложение: каждому коммунисту не только самому стать мастером военной специальности, но и обучить одного-двух бойцов из нового пополнения. Командир полка, партийная организация поддержали инициативу комсорга. Его патриотический почин получил широкий размах. Наводчики обучали своей специальности ездовых, пулеметчики — стрелков. Имя Теткина стало из-
105
вестно всей дивизии. И не только по опубликованному в газете его выступлению на собрании, но и по конкрет-
ным делам.
Комсомольцы роты, возглавляемые Теткиным, за две
недели мая истребили 66 фа:
иг,
личный боевой счет до 26 уничтожен
стов. Сам сержант довел
is is в:
: врагов. Десят-
ки гитлеровцев уничтожили ученики Теткина сержант Г. Р. Белов, рядовые Г. X. Нестеренко и Э. Б. Ушатский. Почти каждый день выходили снайперы на «охоту», и
враг лишался нескольких своих солдат и офицеров.
ши
нш
Ставка Верховного Главнокомандования, распознав замыслы врага, ориентировала войска фронтов, действующих на Курском выступе, на преднамеренную оборону. К началу наступления противника было построено 8 оборонительных полос я рубежей общей глубиной 250— 300 километров Ч
В период затишья на фронте обе стороны совершенствовали оборону и накапливали силы для предстоящих решающих сражений. По решению Ставки был создан Центральный фронт, развернувшийся между Воронежским и Брянским. В состав Центрального фронта вошли 65-я армия генерал-лейтенанта П. И. Батова, покрывшая себя неувядаемой славой в Сталинградской битве, а также 21-я и 70-я, 16-я воздушная и 2-я танковая армии. Несколько позднее в его состав были переданы: из Воронежского фронта — 60-я армия, из Брянского — 48-я и наша 13-я. Командующим войсками Центрального фронта был назначен генерал-полковник К. К. Рокоссовский, полководческий талант которого проявился в Сталинградской битве. Начальником штаба фронта стал его испытанный боевой соратник генерал-лейтенант М. С. Ма
линин.
Мы сразу же почувствовали твердую руку командующего, хотя от него до полка дистанция значительная и мы, естественно, не могли знать, чем и как он занимается. О работе командующего мы судили по тем новшествам, которые ощущали сами. Скажем, еще недавно, проезжая по дорогам, мы вязли в потоках машин, повозок,
1 Калту нов Г. А., Соловьев Б. Г. Огненная дуга. М., 1973, с. 30.
106
пеших колонн. На перекрестках то и дело возникали пробки. Теперь же на дорогах навели порядок. Появились указатели, пояснительные надписи. На постах несли службу регулировщицы. Создавались контрольно-пропускные пункты. Не только в прифронтовой полосе, но и в ты-лах стали строже проверять документы, задерживать подозрительные и бесцельно шатающиеся личности. Более четко заработали фронтовые и армейские склады. В полк бесперебойно доставлялись боеприпасы, снаряжение, продовольствие. Словом, мы почувствовали организаторские способности командующего. А вскоре узнали его и как полководца.
Как-то утром, это было в последних числах июня, из штаба дивизии позвонили:
— Ждите Рокоссовского..^
Это сообщение взволновало и командира полка, и меня, и всех других командиров и политработников. Ведь слава о К. К. Рокоссовском гремела но всему фронту. Мы знали, что он требовательный. военачальник, и не хотели какой-либо оплошностью! вызвать его неудовольствие.
Нашу 280-ю стрелковую дивизию к тому времени передали в состав 70-й армии, сформированной из пограничников Средней Азии, Сибири и Дальнего •Востока. Любопытно, что дивизии и полки этой армии имели наименование тех пограничных районов, где они формировались: 102-я Дальневосточная, 106-я Забайкальская, 140-я Си-: бирская, 162-я Среднеазиатская, 175-я Уральская дивизии, Ашхабадский, Ташкентский, Алма-Атинский, Хабаровский, Уссурийский, Хасанский полки. 70-я армия, которую возглавил новый командующий генерал-лейтенант И. В. Галанин, не имела опыта боевых действий, вот поэтому-то командующий фронтом и поставил испытанную в боях нашу дивизию на самое уязвимое место — на стык с теперь уже соседней 13-й армией генерал-лейтенанта Н. П. Пухова.
Немецко-фашистское командование нацеливало свой главный удар с севера по шоссе Орел — Курск, намереваясь прорвать фронт именно на стыке двух советских армий. К. К. Рокоссовский, очевидно, разгадал замысел врага и хотел лично ознакомиться с положением дел в дивизии, в том числе на участке, который оборонялся нашим полком.
107
Командующий прибыл в полк сразу же вслед за телефонным звонком.. Подтянутый, собранный, он производил впечатление человека высокой культуры, вызывал к себе невольную симпатию. Признаться, при взгляде на него я почувствовал некоторую неловкость и за свою запыленную гимнастерку, и за побитые на фронтовых дорогах сапоги. Однако это первое ощущение незаметно рассеялось. Константин Константинович держался чрезвычайно просто, приветливо, умел вызвать собеседника на чистосердечный разговор.
— Здравствуйте, товарищи, сказал командующий, протягивая каждому из присутствующих руку. — Давайте знакомиться... Доложите о своих делах...
: В завязавшейся беседе К. К. Рокоссовский пытливо вникал в жизнь полка. Его интересовало и оборудование позиций, и степень обученности личного составам и снабжение подразделений продуктами, боеприпасами, и знание офицерами штаба обстановки перед обороной полка.
— Скажите, пожалуйста, — спросил у меня командующий,— а как обстоят у вас дела с приемом в партию? Растут ли ряды большевиков?
Я начал лаконично докладывать, но К. К. Рокоссовский мягко остановил меня:
— Пожалуйста, не спешите. Расскажите обо всем подробно. Это очень важно.
Накануне решающих боев командующий хотел с предельной ясностью представить себе политико-моральное состояние личного состава полка, стоящего на важнейшем участке обороны. И я доложил о состоянии партполитра-боты, о партийной организации, которая, несмотря на понесенные потери, численно выросла, пополнилась за счет лучших, проверенных в боях бойцов и командиров, о решимости коммунистов, комсомольцев, всего личного состава во что бы то ни стало одолеть врага.
К. К. Рокоссовский продолжал расспрашивать:
— У вас ведь много комсомольцев в полку? Как руководите ими?
Читатель уже знает, что партийному руководству комсомолом мы уделяли самое пристальное внимание. Правда, обстановка складывалась так, что в составе комсоргов, членов комсомольского бюро происходили непрерывные изменения: шли тяжелые бои, актив нес потери. Но вместо убывших становились другие. Это были молодые, тру-
1Q8
долюбивыё, отважные парни. На первых порах, однако, они нуждались в особой помощи со стороны коммунистов. И такая помощь оказывалась.
Молодого комсорга полка Петра Горового взял под свою опеку парторг Иван Николаевич Шавин. Он учил его практике партийно-политической работы, подсказывал, что нужно сделать в тот или иной момент, на кого можно опереться. И Горовой рос день ото дня, становился инициативным, боевым вожаком полковой комсомолии. В батальонах также выросли энергичные комсомольские руководители: Анатолий Шар, Ибрагим Кузахмедов, Александр Бородкин. Они пользовались непререкаемым авторитетом у бойцов.
Выслушав мой довольно длинный рассказ, К. К. Рокоссовский заметил:
— Это хорошо, что у вас боевитая комсомольская организация. Вам предстоят серьезные испытания, и дружба, спайка комсомольцев приобретают особое значение.
Затем К. К. Рокоссовский потребовал показать ему нашу оборону. Командир дивизии генерал-майор Д. Н. Голосов и начальник политотдела полковник М. К. Попе-люх стали отговаривать его: дескать, командующий подвергнет себя ненужному риску. Но К. К. Рокоссовский был неумолим.
— На войне, — сказал он, — опасность угрожает и солдату, и командиру. И нельзя оставлять солдата одного перед лицом опасности. Видя рядом командира, он будет чувствовать себя бодрее, сражаться увереннее.
Командующий прошел по всему участку обороны, побывал в самых отдаленных и опасных уголках. Он долго рассматривал в стереотрубу местность, прилегающую к шоссе Орел — Курск, и, обращаясь к нам, сказал:
— Вот здесь мы и дадим фашистам оборонительный бой. Обескровим врага, а затем сами перейдем в наступление... Готовы ли вы к выполнению боевой задачи?
— Готовы, товарищ командующий, — доложил командир полка Ледков.
Встреча с К. К. Рокоссовским произошла накануне немецкого наступления на Курской дуге. Но и в ходе дальнейших боев мы ощущали на себе пристальное внимание командующего фронтом. У нас были надежно прикрыты тылы и фланги. Полк, как и дивизия в целом, получал своевременную авиационную поддержку, обеспе
109
чивался всем необходимым для успешных боевых действий.
Умение глубоко вникать в обстановку, учитывать все, что может повлиять на ход и исход боя, высокая требовательность и в то же время чуткость, внимание к людям — эти присущие генерал-полковнику К. К. Рокоссовскому качества оставили у нас неизгладимое впечатление.
СУРОВОЕ ПОЛЕ
Наблюдение на нашем участке фронта подтверждало: противник готовится к наступлению. Он стягивал свои танковые и артиллерийские части в район села Та-тино и далее правее в сторону Понырей. Разведчики капитана Кирейко скрупулезно засекали КП и НП противника, позиции батарей, места сосредоточения живой силы, техники и боеприпасов. Эти данные впоследствии пригодились нашим артиллеристам и летчикам, обрушившим удары по переднему краю обороны врага.
К исходу июня стало очевидным, что именно в районе шоссе Орел — Курск немцы нанесут главный удар по советским войскам.
Находясь в окопах, мы не могли судить о размахе готовящихся с обеих сторон сражений, вошедших в историю как Курская битва. Однако внутренне чувствовали приближение чего-то большого, необычного. Понимали, что бои потребуют от бойцов и командиров невиданного до сих пор мужества, самообладания и героизма.
Позднее нам станут известны истинные цели летнего наступления немецко-фашистских войск. «Этому наступлению, — говорилось в оперативном приказе № 6 Гитлера, — придается определяющее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов... Сосредоточенным ударом, проведенным решительно и быстро силами одной ударной армии из района Белгорода и другой — из района южнее Орла, путем концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска войска противника и уничтожить их...»
111
Для осуществления своих замыслов по плану операции. «Цитадель» Гитлер выделил 7 пехотных и 5 танковых корпусов, в которые входили 34 пехотные, 14 танковых, 2 моторизованные дивизии, 3 батальона тяжелых танков и 8 дивизионов штурмовых орудий. Их поддерживали 4-й и 6-й воздушные флоты. Учитывая, что советские войска втянуты в Курскую дугу глубиной до 200 километров, гитлеровское командование двумя сходящимися ударами у основания дуги рассчитывало полностью окружить эти войска.
На северном фасе Курской дуги против Центрального фронта действовали 28 дивизий 9-й и 2-й немецких армий, до 6 тысяч орудий и минометов и 1200 танков. Против одной лишь 280-й стрелковой дивизии выступали части 257-й и 7-й пехотных дивизий, поддерживаемые танковым полком 20-й танковой дивизии.
Из штаба 70-й армии нас предупредили: противник перейдет в наступление в начале июля, числа 3—6, а утром 4 июля нам уже было известно точное время — атака состоится ранним утром 5 июля.
Мы провели в подразделениях партийные и комсомольские собрания. Обсуждался один-единственный вопрос: стоять на своем рубеже насмерть, не отдать фашистам ни одной пяди советской земли.
Следует подчеркнуть, что партийная работа в войсках к началу Курской битвы значительно улучшилась, стала предметнее, эффективнее. Этому в огромной мере способствовало постановление ЦК ВКП(б) от 24 мая 1943 года «О реорганизации структуры партийных и комсомольских организаций в Красной Армии и усилении роли фронтовых, армейских и дивизионных газет». Мы создали первичные партийные и комсомольские организации в батальонах и дивизионах. Теперь партийные и комсомольские бюро стали ближе к коммунистам и комсомольцам, а это позволяло более конкретно осуществлять политиковоспитательную работу. На должности парторгов и комсоргов подбирались молодые, способные и волевые товарищи, хорошо зарекомендовавшие себя в зимних наступательных боях. Возросло влияние коммунистов на беспартийных бойцов. Многие воины подавали заявления о приеме в партию, желая идти в бой коммунистами.
...Теплый день медленно угасал. Яркий солнечный диск зацепился краем за единственную у линии фронта кудря-112
вую рощицу, четко вычерчивая контуры высоких деревьев. На фоне залитого его лучами горизонта застыли одинокие шапки темно-зеленых кустов, окаймлявших ржаное поле. Воздух был напоен разноцветьем трав. Чарующая тишина! Если, конечно, не считать ставших уже привычными вечерних многоголосых птичьих концертов, доносившихся из рощи. Но и они вскоре смолкли.
В ночь на 5 июля никто не спал. Солдаты сидели в окопах, готовясь к ожесточенной схватке. Боевые действия вели лишь разведчики, возглавляемые капитаном Кирейко. Им удалось взять двух немецких саперов, проделывавших проход в минном поле. Саперы подтвердили, что с рассветом немецкие войска переходят в общее наступление. У нас, кажется, все готово: подвезены боеприпасы, каждый боец получил по 300—400 патронов, по 3—4 противотанковые гранаты. Где-то в полночь командир полка распорядился покормить бойцов — во время боя это едва ли удастся.
С командиром полка обходим боевые порядки. Начинаем с правого фланга, где оборону держит 3-й батальон. Это самый ответственный участок — стык двух армий, 70-й и 13-й. Сосед справа — 15-я стрелковая дивизия полковника В. Н. Джанджагавы. В ней тоже не спят, ждут атаки неприятеля. Да, участок 3-го батальона опасный. Но комбат Алексей Васильевич Рыбалко, несмотря на свою молодость, обладает боевым опытом.
— Как настроение бойцов? — тихо спрашивает его Ледков.
— Отличное! Готовы встретить гитлеровцев огоньком!— чеканит Рыбалко и, помедлив, добавляет: — Скорее бы уж. Правду говорят, что ждать да догонять — нет хуже...
Идем во 2-й батальон капитана И. С. Гаврилова. И тут все в порядке. Люди напряжены, ждут утра.
А вот и левофланговый 1-й батальон капитана В. Ф. Благодыря. Проверяем стык с соседним 1031-м полком, перерезавшим шоссейную дорогу Орел — Курск. Тут, видимо, тоже будет очень жарко: место удобное для движения танков, самоходок и автомашин. По приказу командира дивизии на стык дополнительно поставлен учебный батальон, переданный в наше подчинение. Он занимает оборону во втором эшелоне — метрах в 400 от переднего края.
8 П. А. Горчаков 143
Молча возвращаемся на КП полка, расположенный да западной опушке небольшой рощицы. И Дедков, и я довольны осмотром боевых порядков подразделений. Но на душе все же тревожно: как-то будет утром?
Мы с Федором Васильевичем Ледковым уже успели приглядеться друг к другу и даже подружились. По натуре общительный, мягкий в обращении с людьми, он был смел и решителен в бою. Уроженец донских степей, Дедков с первого дня войны находился на фронте, был тяжело ранен^ долго лечился в госпиталях, откуда и получил назначение в наш полк. В грозном для Родины 1941 году стрелковый батальон, которым тогда командовал Дедков, длительное время сдерживал наступление двух фашистских полков. За этот блестяще проведенный бой Федор Васильевич был удостоен высшей награды — ордена Лепина.
Из штаба дивизии получаем приказ: артиллерийскую контрподготовку начать на рассвете. Терпеливо ждем. Летняя ночь коротка, хотя в окопах многим, особенно новичкам, она показалась бесконечной. Но вот на востоке заалела узкая полоска. Предутренняя свежесть и волнение перед близким боем вызывают легкий озноб. Солдаты и офицеры в шинелях, хотя и лето. То и дело гляжу на часы: два часа... два часа десять минут... два часа двадцать минут... И вдруг в небе заблистали молнии,: послышались громовые раскаты. Откуда-то из-за наших спин ударила по вражеским позициям артиллерия всех; калибров, понеслись реактивные снаряды «катюш». Это наши войска наносили упреждающий удар по противнику.
Огневая гроза бушевала более получаса. Затем наступила тишина. Молчали немцы, молчали мы. Лишь жаворонки звенели над зеленым полем, приветствуя восходящее солнце. На небе — ни облачка. Светло, ясно. Все предвещало погожий летний день. Эх, если б не война, сколько радости принес бы он людям!
Над немецкими позициями снова заклокотал огненный вулкан. Он продолжался минут тридцать. И опять все стихло... Смотрю на часы. Стрелка подходит к пяти. Вот-вот гитлеровцы пойдут в атаку. Но на нашем участке они молчат. Кругом тишина. Нервы напряжены до предела. Проходит час, полтора. Молчат фашисты. В семь часов я уж было решил поехать с наблюдательного пункта на КП полка. Подхожу к лошади, стоявшей в укрытии, 114
оглядываюсь. Но что это? Из-за темнеющего на горизонте леса выплывает стая немецких самолетов. В тот же миг по переднему краю ударила вражеская артиллерия. Земля задрожала, заходила под ногами. И тут же откликнулись наши артиллеристы: зашелестели над головой многопудовые снаряды. Уши заложило от грохота стрельбы и рева авиационных моторов. Началось...
На КП полка я, конечно, не попал. Бросился в окопы 3-го батальона — хотелось еще раз проверить его готовность к отражению атаки. Здесь все было наготове. Лица бойцов стали суровыми, сосредоточенными. Да, кончилась мучительная неизвестность, томившая нас всю ночь. Наступил час долгожданной битвы.
Огневой вал вздымается все выше и выше. Свист снарядов и бомб, завывание мин, грохот от разрывов — все это теперь сливается в сплошной рев. Его не только слышишь, но и ощущаешь всем телом. Над полком нависает густое облако дыма. Дышать становится тяжело — воздух перенасыщен пороховой гарью, пылью, едким сернистым запахом.
— Неужели немцы применили газы? — подумал я вслух.
Никто меня не услышал. Взоры солдат и офицеров были устремлены к переднему краю, где вот-вот должны были появиться бронированные машины. Мы знали, что противник применит в этих боях танки новой конструкции, на которые он возлагал особые надежды. У них и броня более прочная, и скорость хода повышенная, и вооружение мощное. Конечно, такого рода данные, доставленные разведкой, могли всерьез озадачить в начале войны необстрелянных бойцов. В то время кое-кто был подвержен танкобоязни. Но теперь наши солдаты, не только обстрелянные, но и обкатанные танками, умудренные опытом единоборства со стальными чудовищами, спокойно ожидали появления «тигров».
Что вражеские танки вот-вот появятся, никто не сомневался. Ведь наша дивизия прикрывала стык между 13-й и 70-й армиями. Она блокировала железную и шоссейную дороги Орел — Курск, а противник именно здесь, как нам представлялось, и нанесет главный удар: «под корень» Курского выступа.
Артиллерийская и авиационная подготовка гитлеровцев велась по всему правому крылу 70-й армии. Но наи-8* 115
большей плотности их огонь достиг в районе МаЛоархан-гельска. Здесь же фашисты предприняли и первую атаку вдоль железной дороги Орел — Курск. Атака, однАко, tie принесла им успеха. Тогда главный удар был перёйесен в направлений Ольховаткй. Вражеские танки широким потоком ринулись на Ольховатку и Самодуровку. На их пути стояли 15-я й 81-я дивизии. Такова схема сражения, составленная уже после боя. Вначале мы, конечно, не имели ясного представления о том, как именно будет проходить бой. Перед нами были танки, которые появились сразу же, как только немного утихла канонада.
Темно-серые чудовища, приземистые и широкие, покачиваясь на неровностях, стремительно неслись на наши окопы. Рев их моторов, казалось, заглушал гул разрывов. Они подходили все ближе и ближе. Уже отчетливо были видны кресты на бортах. Дымились следы рикошетов: снаряды сорокапяток, как горох, отскакивали от лобовой брони «тигров». Но советские солдаты не дрогнули, проявив удивительную стойкость и бесстрашие.
Первыми отличились ефрейтор И. Н. Локтев и рядовой Ю. В. Дубовецкий, вооруженные противотанковым ружьем. Они стояли в глубоком окопе, хладнокровно наблюдая приближение шести вражеских танков, брошенных гитлеровцами в стык 2-го и 3-го батальонов. Ведущий «тигр» шел на бронебойщиков, как говорится, «рог в рог», не собираясь подставлять борт, корму и прочие уязвимые места. Тщательно прицелившись, Локтев выстрелил. «Тигр», однако, продолжал идти, не обращая внимания на щелчок по броне. Массивный ствол его орудия поворачивался из стороны в сторону, на какое-то мгновение замирал — раздавался выстрел. Вот ствол уставился на окоп бронебойщиков. Это я вижу, находясь в окопе рядом с командиром взвода лейтенантом Мякили Кямал.
— Стреляй же! — кричал лейтенант ефрейтору, но его голос потонул в грохоте боя.
Локтев выстрелил. Стремительно летевший по полю танк вдруг развернулся на девяносто градусов. У него оказалась перебитой гусеница. Теперь танк стоял, подставив борт бронебойщикам. Локтев снова выстрелил. «Тигр» задымил, языки пламени заплясали по броне, из открытых люков на землю выскочили гитлеровцы. Дубовецкий из автомата срезал их.
116
— Молодцы! Ай да молодцы! — восхищался Мякили Кямал. Горячий азербайджанец упивался боем. Он тоже подбил фашистский танк. По одному танку подбили ефрейтор. С. 3. Герифиченко, рядовые А. И. Дукунин и Г, К. Квитко. Ни один из шести «тигров» не дошел до наших окопов.
Возвращаюсь на НП полка. Надо выяснить, как держат оборону другие батальоны. Подполковник Ледков от глаз не отнимает полевой бинокль. Он спокойно руководит боем, отдает немногословные команды начальнику штаба майору, Бобкову и командирам батальонов.
Осматриваю панораму сражения. Перед полком всюду немецкие танки. Они ползут на наши окопы широкой да-виной. То исчезая в черных разрывах, то появляясь вновь, «тигры» походили на стадо каких-то грозно ревущих доисторических животных. Бескрайнее суровое поле полыхало зарницами выстрелов. Солнце, хотя и скрытое клубами дыма и тучей пыли, палило землю. Сердце едва выдерживало жару и духоту. А бой фактически только начинался.
На позиции 1-го батальона ринулись до десятка немецких танков. Исход боя решали мгновения.
Звоню капитану Лескову.
— Держитесь, Степан Антонович?
— Держимся! — слышу в ответ. — Сержант Гуркин уже укротил два «тигра».
Оказалось, когда два танка подходили к окопу Д. И. Гуркина, тот, положив противотанковое ружье на дно хода сообщения, взял противотанковые гранаты, бутылки с зажигательной смесью и выполз вперед, где у него была отрыта круглая ячейка. Здесь сержант притаился. «Тигр» с грохотом курьерского поезда промчался над головой. Гуркин метнул вслед танку зажигательную бутылку. Она разбилась над моторной частью. Машина запылала. Второй «тигр» утюжил нашу оборону. Он вертелся на месте, двигался взад и вперед, стараясь обвалить стенки окопов, раздавить гусеницами наших бойцов. Танк, совершая свой зловещий танец, задним ходом придвинулся к бронебойщику. Гуркин точно метнул гранату. Стальная махина беспомощно застыла на месте. Танкисты соскочили на землю и бросились наутек. Однако их настигли пули бойцов 2-й роты.
Часов в одиннадцать комбат Благодырь доложил:
117
— Танки прорвались в глубину батальонного узла обороны. Но здесь завязли.; Бьем их. Один «тигр»: взгромоздился на крышу моего блиндажа и ведет огонь по третьей траншее. Я, конечно, могу достать его гранатой. Но лучше, если артиллерия, собьет его прямой наводкой.
—Хорошо, Благодырь, собьем! — заверил Ледков.
Подполковник Чуба, командир приданного нам артполка, тут же передал в дивизион старшего лейтенанта Н. С. Каторгина:
— Сбейте танк с ориентира номер три!.. Прямой наводкой!
— Есть! Сделаем,-т-ответил Каторгин.
И действительно, через несколько секунд вражеский танк на блиндаже превратился в пылающую свечку. Я хорошо знал Каторгина. Черноволосый юноша среднего роста, живой, подвижный, необычайно обаятельный, не лишенный чувства юмора, он обладал твердым характером. Умный и смелый офицер, он в самой сложной обстановке боя наносил врагу ощутимый урон, сохраняя при этом свои силы.
Однако боевое счастье изменчиво. В тот день бойцы дивизиона Каторгина все до единого сложили головы вместе со своим лихим командиром. Они защищали пехоту капитана Благодыря от вражеских танков. Артиллеристы в упор расстреливали стальные чудовища, . выкатывали орудия в боевые порядки пехоты и били, били так, что горела краска на стволах пушек. Герои-артиллеристы погибли, но ни один немецкий танк на их участке не смог прорвать нашу оборону.
Противник, как мне казалось, на ходу менял свои планы. Убедившись, что участок обороны полка не пробить, враг повернул на Самодуровку. Нам с НП было видно, как лавина танков, поднимая тучи пыли, покатилась к Молоточевской сопке.
Но бой не затихал и на нашем участке. Группа вражеских танков, вклинившись в оборону на стыке с соседним с нами 1031-м полком, просочилась к позициям учебного батальона, который, как уже указывалось, стоял во втором эшелоне. Положение сложилось критическое. Еще минута-другая, и танки, казалось, перекатятся через последнюю линию наших траншей, хлынут потоком в незащищенные тылы. За танками шла немецкая пехота. Я вовремя увидел эту опасность, вскочил на коня и по
118
скакал к НП учебного батальона. За мной, еле поспевая, ехал верхом агитатор полка Степанов.
— Доложите обстановку! Ваше решение? — потребовал я у командира батальона.
Но тот, как выяснилось, отсиживался в блиндаже, по-
терял управление ротами, а теперь и вовсе растерялся. Ничего другого не оставалось, как отстранить его от командования батальоном.
Я собрал командиров рот и взводов, поставил кон-
кретную задачу. Был отдан приказ подготовить бойцов к контратаке. К тому времени бронебойщики 1-го баталь^ она и 1031-го стрелкового полка подбили часть танков,
ны повернули назад. Но в зоне наших
а остальные ма
вш
окопов оставалась немецкая пехота.
— В атаку! За мной! — подаю команду учебному батальону и, не оглядываясь, устремляюсь вперед. Рядом бежит Степанов. Слышу, как сзади все тверже и громче разносится «ура-а-а!».
Контратака была неожиданной для гитлеровцев. Оше
ломленные дерзостью советских воинов, они отступили. Учебный батальон восстановил утраченные было позиции. Опасность прорыва немцев была ликвидирована.
Дмитрий Григорьевич Степанов возглавил батальон, а я вернулся на НП полка. Коммунист Степанов, политработник, призванный из запаса, проявил себя способным офицером. Он не раз отличался в боях, был повышен в должности. Но это — впоследствии. А в тот день, 5 июля, никто из нас не мог предвидеть своего будущего и на пять минут вперед. На всем участке полка продолжался бой. Не было ни секунды передышки, ни малейшего ослабления усилий сражающихся. Немцы, по сути дела, топтались на месте. Они несли огромные потери, тщетно пытаясь сломить нашу оборону.
Трудно приходилось и нам. Противник имел явное превосходство в силах. На позиции нашего полка наступали 478-й и 479-й полки 258-й пехотной дивизии, 61-й полк 7-й пехотной дивизии. Три полка против одного. Их поддерживали НО танков и самоходных орудий новейших типов. Бели к этому добавить, что немецкий пехотный полк чуть ли не втрое превосходил советский стрелковый полк по численности личного состава, то станет ясным, какую огромную мощь сконцентрировали немцы на узком участке, предназначенном для прорыва. Атака пехо
119
ты и танков сопровождалась артогнем и бомбежкой авиации.
Враг не . сомневался в успехе. Его уверенность доходила до наглости. Об этом можно судить хотя бы по такому эпизоду. Около полудня полковые зенитки сбили фашистский самолет-разведчик. Летчик, выпрыгнувший с парашютом, был пленен и доставлен в штаб полка. Держался он; высокомерно, презрительно цедил фразу за фразой сквозь стиснутые зубы.
— Да, я лейтенант. Вот мои документы. Да, я скажу о своей задаче. Она состояла в том, чтобы с воздуха наблюдать, как побегут русские под натиском превосходящих немецких сил, и сообщить в штаб о месте прорыва.
.... Инструктор политотдела дивизии капитан Л. В. Повз-пер переводил тирады зазнавшегося аса. Чувствовалось, что капитан едва сдерживает негодование. Глубокое возмущение, смешанное с презрением к хвастливому врагу, испытывал и я. И потому спросил резче, чем следовало бы:
— Ну и что же вы увидели, «герой»? Говорите!
— Я увидел, что никто не бежит, — проговорил уже увядшим голосом пленный лейтенант. — Наши танки горят перед вашими окопами, как факелы. Столбы дыма видны на десятки километров вдоль линии фронта. Это ужасное зрелище...
Просматривая документы, изъятые у немецкого летчика, Повзнер внезапно расхохотался. Я удивленно спросил:
— Что с вами, капитан?
Очень уж неожиданным, неуместным показался мне этот смех. Но Повзнер, не переставая фыркать, протянул мне прямоугольный розовый листок бумаги:
— Вот, два билета в Одесский оперный театр для господина пилота и его фрейлейн. Обратите внимание — начало спектакля пятого июля в двадцать часов. Придется господину лейтенанту извиняться за опоздание.
— Я думал, что дело не затянется, — объяснял пленный. — Отбарражирую над полем боя полчаса-час, доложу командованию, как рассыпалась ваша оборона, и к началу спектакля совершу посадку на своем аэродроме. А получилось нечто непредвиденное. Кто мог подумать...
Мы от души смеялись над гитлеровским воякой, вконец растерявшим былую спесь.
120
Во второй половине днп положение на участке полка стало еще более сложным. Соседняя 15-я стрелковая дивизия после упорных и тяжелых боев с превосходящими силами противника начала отход на второй оборонительный рубеж, занимаемый 6-й гвардейской стрелковой дивизией, и наш правый фланг оказался оголенным. Теперь 3-й батальон капитана Рыбалко едва сдерживал удары вражеских войск. Ледков доложил об этом в штаб Дивизии, просил подкрепления. Но командир дивизии не имел резерва, не мог он снять ни одного подразделения и с другого участка, так как враг наступал всюду.
— Держитесь до последнего бойца! — приказал Д. Н* Голосов.
И мы держались. Командир полка, его заместитель капитан Н. П. Коханый и я поочередно ходили в батальоны, на месте знакомились с обстановкой, подбадривая офицеров и бойцов. Но силы полка таяли, а бой не ути-хал.
К вечеру правый фланг нашей дивизии вынужден был отойти на один-два километра и вместе с 132-й стрелковой дивизией закрепиться на участке Бобрик, Гнилец, Пробуждение, Обыденка. Левый же фланг оставался на прежних позициях.
Гитлеровцам на участке 1033-го полка так и не удалось добиться намеченной цели. 17 фашистских танков, подбитых артиллеристами, бронебойщиками, догорали перед окопами. Отвага и мужество однополчан оказались сильнее фашистской брони.
Первый же день боев прославил имена многих героев.
Я уже рассказывал о бронебойщиках взвода Мякили Кямал, уничтоживших шесть «тигров». Теперь мне доложили: командир взвода из противотанкового ружья подбил еще и самоходное орудие «фердинанд», а сержант Н. П. Кузоклитов гранатами подорвал три танка.
Пример мужества и отваги показали командир взвода 3-го батальона лейтенант П. С. Уваров и командир пулеметного расчета старшина Ф. И. Хлусов. На дзот, в котором они находились, устремилось до взвода вражеской пехоты под прикрытием двух танков. «Тигры» Па ходу стреляли по дзоту. Один из снарядов разорвался у самой амбразуры, от осколков погибли два наших пулеметчика. Танки на какое-то время остановились. Из-за них выскочили гитлеровцы, намереваясь окружить бойцов, взять их
121
в плен. Уваров и Хлусов вытащили из полуразбитого дзота станковый пулемет, поставили его на бруствер окопа и открыли огонь. Фашисты вынуждены были отступить, спрятались за броню танков. Теперь «тигры» опять двинулись вперед, начали утюжить окопы и ходы сообщения. Лейтенант Уваров пропустил над собой танк, а затем бросил под его гусеницу гранату. «Тигр» завертелся на месте. Оставалось кинуть бутылку с горючей смесью. Так и поступил лейтенант. Башня танка вспыхнула факелом. Со вторым танком успешно справился старшина Хлусов. Гитлеровская пехота, не имея поддержки, вынуждена была отступить.
Бронебойщики, пулеметчики и автоматчики — коммунисты и комсомольцы — сражались самозабвенно, выше всякой похвалы. Они истребили десятки врагов, не отошли ни на шаг назад без приказа командира.
Отличились и санитары. Хотелось бы отметить санинструктора 1-го батальона 3. Б. Бариеву. Зайтуна, или Зоя, как любовно называли ее бойцы, под ураганным огнем выносила раненых с поля боя.
И конечно же, героем дня был капитан Степанов. До поздней ночи он продолжал командовать учебным батальоном, отбивавшим многочисленные атаки гитлеровцев. Только под утро, сдав батальон присланному командиром полка капитану П. С. Никееву, Дмитрий Григорьевич вернулся в расположение штаба, чтобы приступить к исполнению обязанностей агитатора.
В боях на Курской дуге воины сражались самоотверженно, не зная страха и презирая смерть. О их духовном настрое можно судить по письму коммуниста Александра Самойленко, бойца 1-го батальона. Самойленко, прикрывая огнем группу товарищей, выходивших из окружения, уничтожил 13 фашистов, но и сам был тяжело ранен. Гитлеровцы решили захватить его в плен.
— Рус, сдавайсь! — кричали враги, подползая к неподвижно лежавшему бойцу. Оставалось шагов десять... пять. Гитлеровцы бросились на Самойленко. Но в этот момент громыхнул взрыв. Не желая сдаваться в плен, коммунист подорвал противотанковой гранатой себя и наседавших врагов.
Однополчане нашли в кармане гимнастерки бойца письмо, адресованное подруге, которая жила в деревне Морозовка Фатежского района Курской области.
122
«Моя любимая! Через несколько минут начнется бой. Мы знаем, что за русскую землю, за людей наших, за тебя будем бороться до последнего и не сделаем ни шагу назад. Помни, что твой друг Саша высоко несет честь советского воина. Лучше принять геройскую смерть, чем дать возможность врагу осквернить нашу землю, Наш отчий край...»
6 и 7 июля сражение на Курском выступе продолжалось с прежней силой, ни на минуту не ослабевая. Противник делал одну попытку за другой, чтобы прорваться и на нашем участке — на стыке 70-й и 13-й армий: На боевые порядки войск, в том числе и 1033-го полка, обрушивался шквал артиллерийского и минометного огня, сыпались бомбы с самолетов; по земле шли танки, цепи гитлеровских солдат. Сейчас, когда минуло более трех десятилетий со дня Курской битвы, кажется невероятным, как воины полка смогли выдержать этот беспримерный за всю войну натиск, устоять на месте, отбить наседавшего противника. А ведь смогли!
Мы с Федором Васильевичем Ледковым поочередно ходили по батальонам, производили перегруппировки поредевших подразделений, затыкали бреши, в которые устремлялся противник. Но бреши образовывались все чаще и чаще, а сил, чтобы «залатать» эти бреши, оставалось все меньше и меньше. Однако у нас и мысли не было об отступлении. Бойцы, командиры и политработники думали только об одном: «Устоять во что бы то ни стало! Победить или умереть!»
В невероятно трудных условиях сражался 1-й батальон. В конце концов противнику удалось его окружить. Но бойцы и командиры выполнили свой долг: они дрались геройски, до последнего патрона, до последнего вздоха. 2-я рота погибла целиком. Из окружения поздно вечером 6 июля штыками пробились лишь остатки 1-й роты.
С горечью я узнал о гибели любимца полка — капитана Степана Антоновича Лескова. Просто не верилось, что этот жизнерадостный, всегда добрый человек уже не придет на «чаек», не прочитает своим проникновенным, задушевным голосом светловской «Гренады».
Командир батальона Благодырь, который ночью 7 июля вырвался из окружения,: рассказывал:
123
— Немецкие танки окружили щтабной блиндаж. Мы выбежали наружу, встретили их гранатами, бутылками с зажигательной смесью. Вижу, Лесков припал к автомату, строчит по набегающей немецкой пехоте. Одиц из танков развернулся на наш окоп. Лесков метцул под гусеницу гранату. Но танк успел выстрелить из пушки. Я потерял сознание, а. когда очнулся, было темно. Я лежал, придавленный мертвыми телами боевых товарищей. В голове гудело и звенело, нестерпимо ломило, виски. Скорее повинуясь инстинкту, чем рассудку, я выполз из окопа. Свежий воздух вернул мне силы. Послышался тихий стон. В окопе, ставшем братской могилой, оказался еще д^йн живой — парторг батальона старший лейтенант Ламбин. Вместе с ним мы и приползли к своим...
Вечером 7 июля к нам доставили очередное сообщение Совинформбюро, отпечатанное в типографии дивизионной газеты. В сообщении говорилось:
«Гитлеровская ставка промолчала о результатах первого дня крупного наступления немецких войск, начатого ими утром 5 июля на орловско-курском и белгородском направлениях, б и 7 июля гитлеровское командование решило из «Савла превратиться в Павла», из наступающей стороны превратиться в обороняющуюся, заявляя, что наступление ведут не немцы, а Красная Армия.
Почему гитлеровская ставка вынуждена прибегнуть к этому жульническому трюку?
...Новое немецкое наступление не застало наши войска врасплох. На обоих направлениях третий день идут ожесточенные бои, в ходе которых наши войска уничтожили до 30 000 солдат и офицеров, подбили и уничтожили 1539 танков и сбили 649 самолетов противника. Наши войска прочно удерживают занимаемые рубежи. Только на некоторых участках белгородского направления противнику ценой огромных потерь удалось незначительно вклиниться в нашу оборону...»
Сообщение об успехах советских войск, сорвавших планы первых дней летнего наступления гитлеровцев, наступления, к которому они готовились и долго и тщательно, свидетельствовало о нашей возросшей силе, о твердой уверенности командования в неминуемом разгроме немецких танковых дивизий, брошенных на Курскую дугу. И действительно, самые лучшие, отборные танковые дивизии СС, элита вермахта — «Адольф Гитлер», «Великая Гер-124
мания», «Рейх», «Мертвая голова», —вся огромная группировка войск оказалась не в силах сдвинуть с места советского солдата.
До нас доводились обращения и телеграммы Военного совета Центрального фронта, в которых перед войсками ставились задачи на том или ином этапе боев. Это помогало нам, политработникам, оперативно проводить воспитательную работу с личным составом. Так, 9 июля, подводя итоги четырех дней боев, которые, по сути, решили Судьбу оборонительного сражения, Военный совет направил в войска телеграмму, в которой говорилось:
«Бойцы, командиры и политработники войск! Спасибо вам, боевые товарищи, за мужество, железную стойкость и честное выполнение своего воинского долга перед Родиной.
Четыре дня вы героически отражали бешеный натиск немецко-фашистских разбойников. Своей беспримерной стойкостью и бесстрашием вы сорвали наступление врага, нанесли ему невосполнимые потери в живой силе и технике. Враг захлебывается в своей собственной крови...
Доблестные воины войск!
Враг, израненный, истекает кровью, но он еще силен, еще не отказался от своих злодейских планов.
Бейте же, товарищи, нещадно подлую фашистскую банду! Обескровим ер до конца и подготовим условия для полного разгрома и уничтожения. Бейте ее по-сталинградски, ни одного метра нашей земли врагу!
Пусть ваши имена и боевые знамена прославятся новыми боевыми подвигами во славу Родины!
К победе, боевые товарищи!
Военный совет фронта».
Обращения, телеграммы, призывы к войскам воодушевляли воинов, помогали им самоотверженно выполнять солдатский долг. 10 июля в армейской газете было опубликовано обращение Военного совета фронта к бойцам и командирам 70-й армии. Ознакомившись с этим обращением, бронебойщик К. Т. Никерин заявил парторгу роты:
— Я беспартийный, но всей душой с партией. И на^ каз Военного совета фронта выполню свято. Буду бить захватчиков так, чтобы заслужить право называться большевиком.
125
Слово бронебойщика не разошлось с делом. Уже на другой день, когда противник снова пытался прорвать нашу оборону, Никерин подбил танк. Вот как это произошло.
Никерин находился в окопе, вел наблюдение. В двухстах метрах от него из оврага неожиданно появился «тигр». Боец выстрелил из противотанкового ружья. Пуля чиркнула по башне танка, не причинив ему вреда. Танк ответил снарядом, разорвавшимся рядом с окопом. Завязалась дуэль. На каждый выстрел танковой пушки Никерин отвечал двумя. Одной из пуль ему удалось заклинить башню «тигра». Тогда танк, подойдя к окопу, круто развернулся, чтобы раздавить бронебойщика. Советский воин не растерялся. Он успел выстрелить в борт танка, и машина запылала.
Тем временем из леса выскочил другой танк. Никерин выбрал позицию, позволяющую стрелять в борт машины. И опять завязалась дуэль. На этот раз счастье изменило бронебойщику: Никерин погиб, до конца выполнив свой воинский долг.
За семь дней кровопролитных боев противник, несмотря на численное превосходство, сумел продвинуться на участке нашего полка лишь на 4—5 километров. Теперь удары гитлеровцев стали заметно слабее. Их боевые порядки поредели, авиация потеряла господство в воздухе.
Наша же оборона была исключительно крепкой. Танки противника подрывались на минах, истреблялись артиллерией и авиацией. Его пехота отсекалась от танков и уничтожалась ружейно-пулеметным огнем, а также залпами «катюш», недостатка в которых фронт не испытывал. Дивизионы и полки гвардейских минометов своевременно удовлетворяли любые наши заявки. Можно сказать, что командование фронта руководило сражением, как дирижер слаженным оркестром. В оборонительных боях на Курской дуге советские войска добились полного успеха.
Уже 12 июля стало ясно, что наступление фашистов вот-вот захлебнется. Правда, гитлеровцы еще поднимались в атаки, еще пытались прорваться сквозь наши боевые порядки. Но по всему чувствовалось, что их силы слабеют. Отхлынула танковая волна, доплеснувшаяся до подножия Молоточевской сопки, улеглась поднятая гусеницами едкая степная пыль.
126
Наступление противника окончательно прекратилось 14 июля. А уже на следующий день в контрнаступление перешли 70, 13 и 48-я армии Центрального фронта Ч Наша дивизия, несмотря на потери в людях и технике, понесенные в оборонительных боях, в течение двух дней — 15 и 16 июля — сумела вернуть утраченные позиции, а к 20 июля продвинулась в направлении Орла на 35 километров.
Советские войска стремительно двигались вперед. Популярность среди солдат и офицеров в то время приобрела неизвестно кем сложенная частушка:
А у Курских у ворот
Удивляется народ:
Пошел немец в наступленье, Только... задом наперед!
Грандиозная по своим масштабам Курская битва, как известно, сломала хребет гитлеровскому рейху, разгромила его ударные бронетанковые войска. Она явилась одним из важнейших этапов на нашем пути к полной победе над врагом.
Окрыленные успехом, мы гнали оккупантов на запад.
1 Соседние армии Западного и Брянского фронтов перешли в контрнаступление еще 12 июля 1943 года.
ВПЕРЕД, НА ЗАПАД!
Полк, как и дивизию в целом, отвели на доформирование. Мы получили пополнение, новую технику и приступили к боевой и политической подготовке. Учились напряженно: скоро снова в бой. Настроение у всех отличное. Еще бы! Бойцы, командиры и политработники, отличившиеся на Курской дуге, удостоены высоких наград Родины. День 5 августа выдался особенно радостным: Москва салютовала в честь освобождения Орла и Белгорода. Да, и на нашу улицу пришел долгожданный праздник!
В один из дней я решил побывать в 3-м батальоне, чтобы поближе познакомиться с молодыми бойцами. Встал рано, наскоро позавтракал и — в путь. Увы, полковой агитатор Степанов опередил меня. Он, оказывается, еще вечером пришел в батальон, здесь ночевал и сразу же после завтрака собрал новичков на беседу. Мне ничего не оставалось, как сесть послушать.
Признаться, я всегда немного завидовал умению Дмитрия Григорьевича беседовать с людьми, доносить до их ума и сердца свои мысли. Вот и сейчас, решив ознакомить новичков с историей полка, он подошел к теме творчески, избежал избитых приемов. Чего, казалось бы, проще —• охарактеризовать боевой путь полка? Расскажи, где он формировался, где воевал, назови героев — и дело с концом. А Степанов поступил по-иному. Присев к бойцам, он как-то тепло прищурил свои умные, проницательные глаза и спросил:
— Вот вы в батальоне уже несколько дней служите, а комбата своего знаете?
128
— Как же, знаем! — загудел нестройный хор голосов. — Он нас встречал, расспрашивал, откуда прибыли, где воевали.
— А вы не спросили его, уде он воевал?
— Капитана неудобно расспрашивать, — отвечали солдаты.
— Ну, так я вам о нем поведаю...
И агитатор начал рассказ об Алексее Васильевиче Рыбалко, любимце полка, отважном комбате, подвиги которого были известны во всей дивизии. Этот высокий, стройный, всегда подтянутый юноша был воплощением лучших качеств, присущих советскому офицеру. На его счету к тому времени числились десятки успешно проведенных боев.
Я хорошо знал Алексея Рыбалко, в свое время вручал ему партийный билет. Но, слушая Дмитрия Григорьевича, улавливал что-то новое, еще не известное мне об этом замечательном командире.
— Случилось так, — рассказывал агитатор, — что после упорных девятидневных боев немцы сумели потеснить наши войска и захватить деревню Нижняя Турейка, иод Орлом. Здесь они закрепились, подходы к деревне изрыли окопами и траншеями, оплели колючей проволокой. Словом, оборудовали настоящую крепость. Казалось, деревню и дивизией не возьмешь. А Рыбалко со своим батальоном с ходу немцев из деревни выгнал, да так их турнул, что те потеряли всю территорию, которую десять суток завоевывали.
— Как же это он? — полюбопытствовал светловолосый паренек, не спуская с агитатора восторженных глаз.
— А так, — отвечал Степанов. — Гитлеровцы ожидали удара с фронта. И кстати, не без основания. Тут и подходы к немецким окопам были скрытные: овраги, кустарники, да и наши силы лицом к лицу против врага стояли. А фланги у фашистов надежно прикрывались. Рыбалко, конечно, понимал, что батальон атакой с фронта деревню не возьмет. Вот он и придумал...
— Что, что придумал командир-то? — снова спрашивал, чуть окая, светловолосый паренек.
— Ты, Александр, не мешай, — остановил паренька сосед. — Товарищ капитан сам все расскажет.
— ...Так вот, придумал комбат хитрость: послал с вечера две группы в немецкий тыл. Дал им пулеметы, ав-
9 П. А. Горчаков J29
томаты, гранат побольше. Велел обойти деревню с двух сторон, а с рассветом ударить по немцам и шуму побольше наделать. Чтобы панику, значит, вызвать. А батальон тем часом под самую колючую проволоку подтянул. Едва начало светать, в тылу у немцев переполох. Стрельба, разрывы, пожар... Фашисты, естественно, все внимание туда. А наши орлы тем временем через проходы в заграждениях, проделанные саперами, атаковали немецкие позиции с фронта, ворвались в окопы, схватились с врагом врукопашную. Тут гитлеровцам, понятное дело, туго пришлось... — Дмитрий Григорьевич сделал небольшую паузу, обвел слушателей взглядом и неожиданно спросил: — А про двух побратимов слышали? Нет? Так вот, служили в нашем батальоне два солдата: Иван Головке и Мурат-оглы. Один из Донбасса, другой из Дагестана. Служили, вместе воевали, а друг друга не знали. Познакомились они в бою за Нижнюю Турейку, о которой я упоминал. Головко первым ворвался во вражескую траншею и начал орудовать штыком. Парень он здоровый, ловкий — двух фашистов враз заколол. Но увлекся солдат боем, не заметил притаившегося в нише фашиста. Тот его из автомата и полоснул... Истекая кровью, прижался наш боец к стенке траншеи, прицелился, а выстрелить не смог: немецкая пуля затвор винтовки повредила. Гитлеровец попытался добить раненого. Но тут откуда ни возьмись наш Мурат-оглы. Соколом ринулся он на фашиста, сбил его с ног и прикончил. Тем временем из-за поворота траншеи второй фашист выскочил. Еще мгновение — и Мурату несдобровать. Но Головко опередил — дотянулся до врага штыком. «Откуда ты, друг?» — спрашивает Головко. «Я Мурат-оглы, солдат из батальона Рыбалко!» — с гордостью ответил тот. «Так и я рыбалко-вец! — воскликнул Головко. — Спасибо, брат. Спас ты меня!» «И тебе, брат, спасибо, — ответил Мурат-оглы. — Ты мне жизнь спасал, теперь побратимом будешь».
Участники беседы не скрывали своего восхищения. Дав им выговориться, Степанов продолжал:
— Вот как сражались бойцы нашего батальона. Да и в других батальонах не хуже. Наш полк в период наступления прошел с боями 360 километров, освободил сотни сел и поселков, избавил от фашистского рабства десятки тысяч советских людей. Наши герои-бронебойщики только на Курской дуге сожгли 64 танка, стрелки и пулеметчи-130
ки уничтожили более 3000 фашистов. Вот в каком полку вам посчастливилось служить! У нас плохо воевать нельзя. Каждый из вас должен героем быть — таким, как лейтенант Мякили Кямал, парторг Хайрулин, однополчане Афанасьев и Белобродский.
— А про Белобродского почему не сказали? — снова не удержался Александр.
— Скажу и о нем, — успокоил его Дмитрий Григорьевич.
И он поведал, как солдат С. Т. Белобродский и его боевые товарищи в районе Турейки выстояли под яростной бомбежкой с воздуха, выдержали ураганный артиллерийско-минометный огонь и отбили несколько ожесточенных атак гитлеровской пехоты. Перед боем Белобродский старательно оборудовал свой окоп: отрыл ниши для противотанковых и ручных гранат и бутылок с горючей жидкостью, установил на бруствере рогатки для точной стрельбы. «Окоп — крепость солдата», — любил говорить Белобродский. И действительно, в бою окоп героя стал неприступной крепостью. Меткими выстрелен, гранатами Белобродский отбил все атаки фашистов. Окило трех десятков трупов оставил враг перед окопом, однако не смог продвинуться ни на шаг.
— Да, геройски воевали ребята, — произнес все тот же Александр. — У таких, право же, учиться не грех.
Не знал тогда Александр Дмитриевич Юдин, восемнадцатилетний архангельский паренек, что пройдет лишь несколько .дней и грудь его украсит медаль «За отвагу». А еще немного времени спустя он, уже младший сержант, командир отделения 9-й роты, совершит выдающийся подвиг, за который ему будет присвоено звание Героя Советского Союза. Но об этом речь пойдет позже.
Беседа агитатора помогла бойцам в какой-то мере осмыслить полковые традиции, проникнуться уважением к командирам, обрести уверенность в свои собственные силы.
В штабе полка оживление: по коридору озабоченно пробегают связисты, интенданты, писаря...
— Получен приказ о передислокации, — сообщает мне подполковник Ледков.
Наша дивизия из резерва командующего фронтом пе-
9* 131
реводилась в 60-ю армию генерал-лейтенанта И. Д. Черняховского. Зимой нам уже доводилось в составе этой армии освобождать Курск; теперь нам предстояло гнать врага с Левобережной Украины и форсировать Днепр. Возросла вероятность участия в освобождении Киева.
Снова для нас началась боевая страда. На машинах в спешном порядке дивизию перебросили в район сел Мартыновна, Гломоздино.
26 августа 1943 года войска Центрального фронта перешли в наступление в направлении на город Севск. Главная роль при этом отводилась 65-й армии генерал-лейтенанта П. И. Батова, которую поддерживала 2-я танковая армия. На другой день к вечеру ценой больших усилий хорошо укрепленный гитлеровцами Севск был взят. Дальнейшего развития наступление не получило: вражеские дивизии то и дело контратаковали советские войска. Вот тогда-то командующий фронтом К. К. Рокоссовский и ввел в наступление 60-ю армию. Она должна была действовать на левом фланге фронта, наносить вспомогательный удар на конотопском направлении, ставшем затем главным.
В этих боях мы участвовали с первого же дня. Опи отличались большой маневренностью. Противник упорно, порой ожесточенно сопротивлялся. Он бросал против нас свежие резервы, авиацию. Наша дивизия, действуя в первом эшелоне, вклинилась в боевые порядки гитлеровцев.
Теперь мощное наступление осуществлялось в полосе пяти фронтов: Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного. Немцы, ошеломленные поражением на Курской дуге, откатывались под ударами советских войск на запад.
Мы шли по иссушенной августовским зноем степи. В голубом небе барражировали самолеты: советская авиация завоевала прочное господство в воздухе, надежно прикрывала пехоту. Впереди и на флангах батальонных колонн ревели двигатели танков и броневиков. Казалось, враг окончательно сломлен, обескровлен, ему уже пе подняться. Победа где-то рядом, она совсем близка...
Трудно сказать, чем было вызвано чувство самоуспокоения, даже некоторой беспечности, которое появилось у наших бойцов и командиров. То ли пьянящим сознанием своей силы, то ли ошибочным представлением о возможностях противника, то ли азартом непрерывной погони за 132
отступающим врагом. А может, и мы, политработники, виноваты. 'Не учли, что подразделения пополнились молодежью, не испытавшей коварства и злобы фашистов, не выносившей в своем сердце чувства жгучей ненависти к врагу.
Так или иначе, но беспечность была проявлена, и мы жестоко поплатились за это. Передовые подразделения полка, как только вышли на подступы к реке Сейм, попали под массированный пулеметно-минометный огонь противника. Они понесли потери и вынуждены были остановиться, занять оборону. А враг, имея превосходство в силах, на ряде участков сумел нас потеснить.
8-я рота лейтенанта И. С. Букреева заняла оборону на высоте, господствовавшей на подступах к Сейму. Бойцы сражались мужественно, отбивая многочисленные атаки гитлеровцев, подтянувших резервы. Душой роты был парторг младший лейтенант 3. 3. Кунеев. Он воодушевлял бойцов, показывал пример точного ведения огня. Но вот кончились патроны. Купеев гранатами бил врага. Кончились и гранаты. Тогда коммунист кинулся вперед со штыком наперевес. Он погиб, до конца выполнив воинский долг.
Фашистам удалось оттеснить нашу роту с высоты. Но ненадолго. Пополнив боеприпасы, получив подкрепление, 8-я и 9-я роты стремительной контратакой выбили противника с занимаемых позиций. Бойцы нашли на поле боя тело парторга; Оно оказалось изуродованным: отрублена голова, на щеках вырезаны пятиконечные звезды... Какую надо иметь жестокость, чтобы так издеваться над телом павшего в бою солдата?! Нет, это могли сделать лишь садисты, кровавые маньяки.
— Гитлеровцы и не люди вовсе, а взбесившиеся звери в человеческом облике, — говорили бойцы. Над прахом героя они еще раз поклялись освободить родную землю, уничтожить фашизм.
Расскажу еще об одной истории, до глубины души взволновавшей бойцов. Это было во 2-й роте. Она отбивала атаки противника, который пытался оттеснить нас от реки. Лейтенант И. П. Конарев, парторг роты, находился в пулеметном взводе, когда один из расчетов вышел из строя. Парторг лег за пулемет. Его меткие очереди косили гитлеровцев. Перед огневой позицией громоздились кучи трупов, а враг все лез и лез. И вдруг «максим» замолчал.
133
Кончились патроны. Теперь гитлеровцы бежали в полный рост. Лейтенант встретил их лимонками. Но и они кончились. Осталась одна, противотанковая.
— Рус, сдавайсь! — кричали немцы.
— Коммунисты в плен не сдаются! — воскликнул Ко-нарев, и взрыв гранаты разметал гитлеровцев.
Когда рота вернула прежние позиции, боец Т. Н. Го-рень, ефрейтор Н. К. Романщак и старшина К. П. Нагорный нашли тело героя. Оно было исколото штыками, голова отрезана и нанизана на штык.
Большое воздействие на бойцов оказывали короткие митинги на местах преступлений гитлеровцев, беседы на привалах, листовки и статьи, посвященные подвигам советских воинов. Широко применялись листки-летучки «Передай по цепи». Эти и другие средства партийно-политической работы активно использовались в интересах повышения боеспособности полка. Должен сказать, что вскоре мы убедились: у бойцов исчезло чувство самоуспокоенности п беспечности.
3 сентября 1943 года полк с боем форсировал Сейм. Эта неширокая, по многоводная река являлась естественным оборонительным рубежом. У нее крутые, поросшие густыми рощами берега, быстрины, водовороты, омуты. Вдобавок местность вокруг реки холмистая, изрезанная оврагами. Продвигаться по ней чрезвычайно тяжело. Когда-то Николай Асеев, уроженец здешних мест, в своей «Богатырской поэме» писал:
Хороша наша Сейм-река, Хоть она не Ока, не Волга, Но по зарослям ивняка Соловьи гремят без умолка..*
Действительно хороша Сейм-река! Но мне запомнилась она не соловьиными трелями, а грохотом разрывов, скороговоркой пулеметных очередей. Мы подошли к ней ночью. В первом эшелоне был 3-й батальон. Противник, заметив движение, открыл артиллерийский огонь. Над узкой полоской воды, над зарослями ивняка повисли ракеты, или фонари, как их называли бойцы. Стало светло как днем. Судьбу батальона решали минуты. Гитлеровцы могли подтянуть резервы, и тогда произвести переправу удалось бы лишь ценой больших потерь. Понимая это, комбат Рыбалко с ходу повел бойцов через реку.
134
Где вброд, где вплавь, под пулеметным и артиллерийским огнем рыбалковцы форсировали Сейм, опрокинули подразделения 346-го немецкого пехотного полка и закрепились на правом берегу. Федор Васильевич Ледков, пользуясь благоприятными условиями — рыбалковцы надежно обеспечили переправу, — перебросил через реку все подразделения полка.
Мне пришлось быть в одном из подразделений, форсировавшем Сейм в районе села Камень Сумской области. Естественно, что я не мог наблюдать переправу на всех участках. Но и то, что мне довелось увидеть, а затем прочитать в донесениях командиров и их заместителей по политической части, навсегда запечатлелось яркой картиной массового героизма однополчан.
Вспоминается лейтенант Б. В. Митькин, командир 1-й минометной роты. В то время он 'был беспартийным, но сражался с фашистами, как настоящий большевик.
Это было на правом берегу реки, в районе деревни Старая. Противник успел закрепиться в ней и ожесточенно сопротивлялся, рассчитывая, видимо, остановить наших стрелков.
— Огня, дайте огня!..—просили они минометчиков.
— Подавите огневые точки на восточной окраине деревни!..
— Прошу уничтожить пулемет у ориентира два!..
Как ни старались минометчики помочь боевым товарищам, но без корректировщика их огонь по малоразмерным одиночным целям был неточным. Тогда лейтенант Митькин пополз вперед. Гитлеровцы его обнаружили, обстреляли. Ежеминутно рискуя жизнью, лейтенант вскоре был впереди боевых порядков пехоты. Он притаился в глубокой воронке и оттуда корректировал огонь своих минометчиков. В завязавшейся дуэли его подчиненные подавили две минометные батареи и рассеяли до двух рот пехоты противника. Наши стрелковые подразделения пошли в атаку, и деревня Старая была освобождена.
В батальоне Рыбалко отличился ефрейтор Г. П. Мостовой. Перед форсированием реки он говорил товарищам:
— Через Сейм лежит шлях на мою родину — Украину. Ни водоворот, ни омут не смогут остановить меня, когда командир прикажет идти вперед. Я большевик и буду бить фашистов по-большевистски.
Мостовой сдержал свое слово. Станковый пулемет он
135
установил на поплавок из набитых сеном плащ-палаток, первым переплыл Сейм и открыл фланговый огонь по залегшим на берегу гитлеровцам. Более 20 врагов уничтожил в бою отважный пулеметчик.
Развивая успех наступления, наша дивизия, как и все войска фронта, стремительно продвигалась на запад. Полк пробирался глухими лесными дорогами, почти без остановок для отдыха.
После форсирования Сейма мы за сутки подошли к Конотопу, а это путь немалый — почти 60 километров. И люди, естественно, устали. Ведь каждому приходилось нести на себе до двух пудов груза — оружие, боеприпасы, запас продуктов. Кое-кто начал было жаловаться на трудности. Но коммунисты сумели поднять дух воинов, воодушевить их. Во время марша по лесам и болотам, как и в момент форсирования Сейма, я имел возможность снова убедиться в мужестве и выдержке наших партийных и комсомольских вожаков.
Перед Конотопом стою у обочины дороги, пропуская мимо себя роты и батальоны. Проходят рыбалковцы, проходят пулеметчики, бронебойщики. Показались роты 2-го батальона. Вглядываюсь в лица бойцов и сержантов. Вот шагает, задорно улыбаясь, комсорг 2-го батальона старший сержант А. К. Бородкин. Подвижный и сметливый, он был неистов в бою. Когда мы перешагнули за Сейм, я видел, как комсорг с винтовкой наперевес бросился на немецкий пулемет. Фашисты так и не успели развернуть ствол пулемета в его сторону. Расчет был уничтожен. Сколько боевых друзей спас старший сержант этим отважным поступком!
— Как дела, комсорг? — кричу Бородкину.
Тот широко улыбается и поднимает руку с оттопыренным большим пальцем. Понимаю: у него все хорошо. А Бородкин, обращаясь к бойцам, кричит охрипшим голосом:
— Споем, братцы славяне! Веселей станет!
И он запевает «Катюшу». Бойцы охотно подпевают. Рота подтягивается, солдатский шаг становится тверже. Кто-то даже начинает присвистывать в два пальца.
— Тише вы, черти! — раздается голос с проезжающей телеги. — Немцы услышат.
136
— Пусть слышат и знают: воин-освободитель идет! — откликается комсорг.
Так с песней рота и скрывается за поворотом. А я стою, думая о Бородкине: чудесный парень! Умеет поднять дух бойцов. Жаль, не успел сообщить ему приятную весть. На него подписано представление о присвоении звания «младший лейтенант».
В одной из колонн кто-то ворчливо говорит:
— Отдохнуть бы... Сил нет. Мы ж не каторжные!
Голос раздраженный, скрипучий, ржавый какой-то. Где я его слышал?
— А, это ты, Трахомолов! — слышится другой голос.— Потерпи немного. Скоро Конотоп. Возьмем — и отдохнем. А сейчас поспешать надо. Держись веселее!
По голосу узнаю парторга 2-го батальона старшего лейтенанта Д. А. Бойкова. Замечательный большевик. Умный, начитанный, с большим стажем партийной работы. Я давно держу его на примете — таких людей надо выдвигать на руководящие должности. Бойцы любят его. Как дружно ринулись они за ним в атаку на немецкие окопы там, на правом берегу Сейма! Парторг постарше своих бойцов. Многие ему в сыновья годятся, а в бою был впереди всех!
И жалобщика я знаю. Это прибывший с новым пополнением Трахомолов, бывший штрафник. Молодой парень, но, кажется, отпетый. Ему всего двадцать три года, а «схлопотал» он в общей сложности лет пятнадцать тюрьмы за различные преступления. Воровал, дебоширил. В штрафном батальоне был ранен. Считается, что кровью искупил вину перед государством. Ох, глаз да глаз нужен за этим Трахомоловым!
Иду рядом с колонной. Густой запах едкого пота, забористой моршанской махорки висит над рядами. Пыль, поднятая сотнями ног, лезет в нос, царапает глотку. Но люди шагают и шагают. Трахомолов" между тем не унимается.
— Винтовка на плечах мозоли набила, — ворчит он.— Сил нет нести.
— Что ж, давай помогу, — спокойно отзывается парторг Бойков, протягивая руку.
— Товарищ парторг, Даниил Андреевич! Не слушайте вы его! — вмешивается пожилой солдат с пушистыми усами. И, обращаясь к Трахомолову, поясняет: — У стар-
137
шего лейтенанта пуля в боку. Я его утром на правом берегу Сейма сам перевязывал. А он вместе с нами шагает, да еще тебя подбадривает. А ты... На вот мой пулемет понеси. Может, тебе, молодому, и полегшает...
—- Откуда я знал, что он раненый? — огрызается Тра-хомолов.
— А как ты мог знать, когда в бою старший лейтенант был впереди всех, а ты — позади.
На Трахомолова зашикали бойцы. Подъехал командир роты.
— Прекратить разговоры! Шире шаг! — скомандовал он.
Вскоре рота вышла из леса. Вдали над горизонтом блистали зарницы, слышался гул артиллерийской стрельбы.
Я сел на коня и поскакал в авангард полковой колонны, досадуя на Даниила Андреевича Бойкова. Ведь он никому не доложил о .своем, пусть и легком, ранении. Человек он мужественный: не захотел оставить свой полк. Но почему не устроился на повозку?
Я не знал, что Даниила Андреевича вижу в последний раз. В горячке боев за Конотоп и Нежин, за Десну и Днепр, на бахмачевском и киевском направлениях мне как-то не довелось встречаться с ним. 5 октября, уже за Днепром, Д. А. Бойкова наградили орденом Красной Звезды, а дня через три он погиб в бою у села Ротичи Черниговской области. Там его и похоронили. Он так и не успел получить свою награду...
Бои за Кодотоп длились двое суток. Хорошо укрепленный город по приказу командира 77-го стрелкового корпуса генерал-майора П. Н. Козлова штурмовали с флангов две стрелковые дивизии: наша 280-я и 132-я генерал-майора Т. К. Шкрылева. Противник не считался с потерями, лишь бы удержать этот крупный железнодорожный узел в своих руках. На нас с ревом и визгом пикировали «юпкерсы», неоднократно переходила в контратаки вражеская пехота, но мы упорно продвигались к черте города, захватывая противника в железные клещи.
1033-й стрелковый полк наступал на юго-восточный район Конотопа вдоль железнодорожного полотна. Нам противостоял, как потом выяснилось, 369-й пехотный полк 217-й немецкой пехотной дивизии. Особенно яростно фашисты обороняли разъезд Калиновский, находящийся поблизости от города. Они укрылись за железнодорожную 138
насыпь, и выбить их оттуда огнем стрелкового оружия казалось невозможным. Батальоны несли потери.
Пока мы с командиром полка думали, как с наименьшими потерями выбить противника с выгодных для него позиций, ефрейтор Мостовой проявил разумную инициативу. Он выдвинул свой пулемет вперед, установил его на насыпи и внезапным огнем с фланга уничтожил до 50 вражеских солдат, подавив при этом огонь двух станковых пулеметов. Воспользовавшись замешательством в стане врага, 1-й батальон капитана Благодыря поднялся в атаку и очистил разъезд от неприятеля.
Утром 6 сентября дивизии начали решительный штурм Конотопа. На участке атаки 3-го батальона, в районе железнодорожной станции, немцы открыли ураганный огонь, и роты вынуждены были залечь. Бойцы словно прикипели к земле, не в силах оторваться от нее.
— Почему батальон прекратил наступление? — спрашивал по телефону Ледков.
— Головы не поднять, товарищ подполковник, — доложил комбат Рыбалко.
— И долго вы намерены лежать?
Это был уже упрек. Но в трубке ни звука. Выждав какие-то секунды, командир полка спросил:
— Почему молчите? Или связь оборвалась? Что ж, свое лежачее положение объясните замполиту полка. Он прибудет к вам. — Ледков повернулся ко мне, проговорил: — Петр Андреевич, давайте-ка в третий. Очевидно, там действительно тяжело, если рыбалковцы, наши герои, залегли.
Мне не пришлось разбираться в причинах «лежачего положения» батальона. Едва я приблизился к его позициям, как под плотным огнем врага, встав во весь рост, вперед выбежал капитан Рыбалко. Высокий, стройный, он был виден каждому бойцу.
— За мной, товарищи! В атаку! Ура-а! — громко воскликнул комбат.
Рядом с ним бежали замполит батальона лейтенант М. А. Торшин и комсорг лейтенант И. С. Кузахмедов, награжденный накануне орденом Красной Звезды. Бойцы и сержанты, будто поднятые ветром, устремились за офицерами.
Гитлеровцы не выдержали натиска советских воинов, обратились в бегство. Батальон захватил богатые трофеи,
139
в том числе две 37-миллиметровые пушки, 8 станковых пулеметов, 4 миномета, более 20 автоматов.
Несмотря на отчаянное сопротивление, фашисты во второй половине дня были выбиты из города. В шестнадцать часов над Конотопом взвилось Красное знамя. С чувством гордости слушали мы вечером сообщение Совинформбюро, посвященное этому событию. В числе отличившихся частей и соединений была названа и наша 280-я стрелковая. Верховный Главнокомандующий объявил всему личному составу благодарность. Дивизия получила наименование Конотопской.
Радости и ликованию не было предела. Похвала Родины воодушевила воинов. Не замечая усталости, они снова стремительно продвигались вперед, на запад.
В перерывах между боями коммунисты-агитаторы рассказывали воинам о мужестве и храбрости капитана Рыбалко, о боевой инициативе ефрейтора Мостового, о всех тех, кто отличился при освобождении Конотопа. О героях боев писали боевые листки и «молнии», им посвящала очерки дивизионная газета.
Впереди — Нежин, крупный железнодорожный узел и важный опорный пункт гитлеровцев. Форсировав реку Остер, 280-я дивизия, взаимодействуя с 7-м гвардейским механизированным корпусом генерал-лейтенанта танковых войск И. П. Корчагина, ворвалась в город буквально на плечах противника. На рассвете 15 сентября общими усилиями войск Нежин был полностью освобожден. И вновь паша дивизия заслужила благодарность Верховного Главнокомандующего. Президиум Верховного Совета СССР наградил ее орденом Красного Знамени. Правительственных наград были удостоены многие отличившиеся воины.
Полк и дивизию облетела весть о новом подвиге лейтенанта Бориса Викторовича Митькина. В бою за Нежин его минометная рота подавила огонь трех вражеских батарей. Лейтенант находился в боевых порядках пехоты, непрерывно наблюдая за полем боя. Едва появлялась огневая точка, мешающая продвижению наших стрелков, как он обрушивал на нее мины. Чтобы точнее корректировать огонь, Митькин подбирался вплотную к врагу. В бою лейтенант был ранен, но не покинул строя, продолжал командовать ротой.
Тяжелые бои изматывали людей. К тому же по мере нашего приближения к Десне сопротивление противника 140
усиливалось. Но воины полка по-прежнему были настроены по-боевому.
Дивизия получила приказ выбить гитлеровцев с промежуточного рубежа и форсировать Десну в районе города Остера. Справа от нас действовала испытанная в совместных боях 132-я стрелковая дивизия генерал-майора Т. К. Шкрылева, а слева — 143-я стрелковая дивизия полковника Д. И. Лукина.
В этом бою снова отличился Алексей Рыбалко. Его батальог штурмовал опорный пункт противника в деревне Сологубово. Комбат показал себя великолепным тактиком. Ночью, воспользовавшись темнотой, он сблизился с противником, расставил огневые средства, а утром, когда гитлеровцы завтракали, свалился на них как снег на голову. Удар был настолько неожиданным для фашистов, что те не смогли организовать отпор и в панике бежали, по-б’росав*полевые кухни, обозы с боеприпасами и имуществом. На поле боя враг оставил 76 трупов.
Развивая успех, капитан Рыбалко на подручных средствах переправил батальон через Десну и выбил противника из села Карпиловка. Следом за рыбалковцами переправились и остальные подразделения полка.
В процессе наступательного боя партийно-политическая работа в полку имела свои особенности. Тут уж было не до массовых форм. Если и проводились партийные и комсомольские собрания, то накоротке. Время от времени, сообразуясь с обстановкой, устраивались в подразделениях так называемые летучие митинги. Но, пожалуй, не это было главным. Мы использовали оперативные формы работы, добиваясь, чтобы каждый коммунист и комсомолец показывал в бою личный пример доблести и отваги, образцово выполнял задачи, поставленные командованием. Первым подняться в атаку — самое важное партийное, комсомольское поручение.
Обычно, воспользовавшись короткой передышкой, парторги рот собирали коммунистов, разъясняли им задачу, а те в свою очередь проводили в отделениях и расчетах беседы с бойцами. Таким образом, каждый боец «знал свой маневр», и это позволяло им действовать решительно, не оглядываясь на соседа. Агитаторы сообщали однополчанам о подвигах героев. Широко использовались при этом бланки листков «Передай по цепи», которые были заранее отпечатаны типографским способом. В ротах, кроме того,
выпускались рукописные листовки об отличившихся бойцах.
Хотелось бы особо подчеркнуть роль парторгов рот и батарей. Они выступали подлинными организаторами масс бойцов, служили примером самоотверженного выполнения служебного дблга.
Перед моим мысленным взором проходят парторги рот, батарей и батальонов, отдавшие свою жизнь за Родину. Их было много. Я видел их зимою и лете и > в белых маскировочных халатах и зеленых плащ-палатках. Видел раненными, обмороженными и обожженными, но никогда не видел растерянными, безвольными, нерешительными. Они последними покидали оборону под натиском превосходящих сил врага, а если требовалось — стояли насмерть. Они первыми поднимались в атаки, увлекали за собой бойцов, учили их мужеству, бесстрашию в бою, вдохновляли на подвиг. Даже те редкие минуты, которые выпадали фронтовику на отдых, парторг посвящал работе, людям, нес в массы идеи партии, ее пламенные призывы. Если бы я был скульптором, то изваял бы парторга таким, каким видится он мне, — волевым и устремленным, шагающим с автоматом во главе атакующих рот.
В этой книге я рассказал уже о многих парторгах. Не могу умолчать еще об одном — Терехове. В моем блокноте сохранилось лишь краткое описание его подвига. Нет даже имени и отчества героя.
Рота старшего лейтенанта П. А. Храпченко, в которой Терехов был парторгом, в числе других подразделений 1-го батальона глубоко вклинилась в оборону врага на левом берегу Десны. Воспользовавшись создавшейся обстановкой, фашисты зашли наступающим в тыл, оседлали перекресток дорог и отрезали батальон от основных сил полка. Надо было выбить фашистов с выгодного рубежа, прорвать кольцо окружения. Эту задачу комбат и поручил роте Храпченко.
Немцы, захватившие перекресток дорог, были опытными вояками. Они подпустили наших бойцов почти вплотную к окопам и тогда открыли губительный ружейно-пулеметный огонь. Упал, обливаясь кровью, командир роты Храпченко. Один за другим выбыли из строя командиры взводов. Рота залегла. Казалось, еще минута-другая — и бойцы отступят.
142
И тогда поднялся во весь рост парторг Сразу же несколько пуль прошили полы его шинели. Терехов взмахнул рукой, призывая бойцов идти вперед, но неподалеку громыхнул взрыв. Парторг покатился по жухлой траве.
— Парторга убило! — понеслось по цепи.
Но Терехов смог встать на ноги. Бойцы увидели его окровавленное лицо.
— За Родину, вперед! У-р-ра! — воскликнул он, устремляясь вперед.
— Ура! — загремело над полем, и бойцы побежали за парторгом. Гитлеровцы были смяты и отброшены, кольцо окружения прорвано. Только теперь выяснилось: во время боя парторг был ранен, но он и виду не подал — бежал во главе атакующих.
В ходе развернувшегося наступления мы освободили десятки деревень и сел. И в каждом из них демонстрировались кинофильмы. Коммунисты-агитаторы проводили беседы, митинги. Населению раздавали свежие газеты, листовки со сводками Совинформбюро.
В одном из сел, под Нежином, подошел ко мне пожилой крестьянин, помялся немного да и говорит:
— От вы тут за Радяньску уладу казалы... А ска-жить мени, добрый чоловик, як вас называть: товарищ чи господин?
Я, признаться, даже оторопел от неожиданности. Откуда такой вопрос? Потом сообразил. В Красной Армии были введены погоны, вошло в обиход слово «офицер». Немецкая пропаганда пыталась сыграть и на этом. Ведь в ход пускались всякого рода небылицы — о возрождении прежних, порядков в России, о роспуске колхозов...
Долго и терпеливо разъясняю крестьянину, что Советская власть как была, так и осталась рабоче-крестьянской, что крепок наш колхозный строй, что господа никогда не сядут на шею трудящимся. Крестьянин слушает внимательно, головой кивает, но в чем-то, чувствую, сомневается. Меня обступили хлеборобы: приглядываются, прислушиваются. Среди них старушка. Маленькая, сморщенная.
— Скажи, мил человек, а как с церквами будет? — спрашивает она. — Немцы-то их открыли, а вы закроете?
Вот ведь какая дотошная старушка! Село почти це
143
ликом сожжено, начисто ограблено гитлеровцами, а ее церковь интересует. Но ничего не поделаешь, надо отвечать и на этот вопрос.
Долго беседую с селянами, потом приглашаю их в кино. На экране кадры кинохроники, показывающие, как создаются танки на уральском заводе, как трудятся колхозники на уборке урожая, как мчатся эшелоны с грузами для освобожденных районов. И у людей, только что вырванных из фашистской неволи, на глаза набегают слезы радости.
В освобожденных городах и селах буквально с первых же часов прихода Красной Армии устанавливались привычные советские порядки. Будто и не было тяжких лет оккупации, будто и не существовало на украинской земле всяких там гебитскомиссариатов да кригскомендатур. В Конотопе, например, еще гремели выстрелы, а к нам в штаб уже явились вышедшие из подполья местные коммунисты.
— Какая помощь требуется, товарищ комиссар? Чем нам заняться?
Так было всюду. Чувствовалось: народ исстрадался без родной ему Советской власти. Люди жадно ловили каждое слово о жизни Родины, о могуществе Красной Армии. Общаться и работать с такими людьми было легко и приятно.
ОЙ, ДНИПРО, ДНИПРО
Конотоп, Нежин и Остер остались позади. Бои за их освобождение были тяжелыми. Теперь, казалось, мы могли рассчитывать на передышку — надо было восполнить потери, подтянуть резервы. Ведь впереди нас ждали еще жаркие схватки с противником, который по-прежнему оставался сильным и коварным.
Но было не до отдыха. Командир дивизии вызвал Ф. В. Ледкова и меня на свой КП, поставил перед нами боевую задачу: преследовать отступающего противника и на его плечах форсировать Днепр.
— Будем брать Киев? — осведомился Ледков.
Комдив покачал головой:
— Нет, Федор Васильевич. По решению Ставки Киев отошел в полосу Воронежского фронта.
— А мы как же?
— Будем форсировать Днепр на шестьдесят километров севернее Киева, вот здесь. — И Голосов карандашом обвел на карте кружок вокруг села Окунниково.
Обидно обходить столицу Украины стороной. Но поделать ничего нельзя. Ставке виднее, кого куда нацелить. Войска Центрального фронта имели теперь главным направлением Чернигов. Но и здесь на пути стоял широкий Днепр.
Мы хорошо представляли, какое значение имеет Днепр не только для пас, но и для противника. Ведь гитлеровцы считали его главной составной частью так называемого Восточного вала. Более того, их пропаганда твердила своим солдатам, что Днепр —это «линия обороны их собственного дома».
Форсирование реки с ходу представляло для советских войск весьма сложную задачу. Широкая, почти кило-
10 П. А. Горчаков |45
метровая, водная гладь, большие глубины, водовороты, сильное течение и, самое главное, высокий обрывистый правый берег. С него просматривается и простреливается река на всем протяжении. Это очень выгодный естественный рубеж для тех, кто обороняет Правобережье. Трудно, ох как трудно будет форсировать Днепр! Но иного выхода нет. И надо было готовить себя к битве за Днепр.
В полку не было человека, равнодушного к самому слову «Днепр». Оно звучало как пароль. Радио, газеты звали вперед, за водную преграду. Агитаторы в беседах рассказывали, с* каким нетерпением ждет Правобережная Украина своих освободителей.
— Что ж, Петр Андреевич, — сказал Ледков, когда мы возвратились в полк, — не будем терять времени. Надо готовиться к форсированию Днепра.
Командир полка вместе с офицерами штаба принялся подсчитывать, какими силами располагает полк, какие материальные и технические средства дополнительно потребуются для выполнения столь серьезной задачи. Мне же надо было мобилизовать усилия политработников, всех коммунистов на морально-политическую подготовку личного состава.
План предстоящего боя требовал смелых, решительных исполнителей. Было решено первым на форсирование Днепра послать 3-й батальон во главе е капитаном Рыбалко. Мы верили в мужество комбата, в отвагу и стойкость его бойцов.
Я сразу же выехал в 3-й батальон, расположенный в деревне Карпиловка. Захожу в крайнюю хату. Комбат сидит над картой, прикидывает, где удобнее форсировать Днепр. А приказа об этом он, между прочим, еще не получал. «Эге,—думаю,—видать, и тебя, ростовчанин, к Днепру потянуло!»
— Немец бежит, будто наскипидаренный, — говорит Рыбалко. — В самый раз его за Днепр спихнуть. А самочувствие у наших людей отличное. Вот только отдохнуть бы денек-другой.
Но отдохнуть не удалось. Едва я успел обойти подразделения, побеседовать с людьми, поставить перед парторгами и комсоргами задачи в связи с форсированием Днепра, как из штаба дивизии поступило боевое распоряжение: ночью полк должен выйти к Днепру в готовности с ходу форсировать его.
146
Батальонные колонны двинулись в путь. Трудно передать, что я пережил в ту страшную ночь. Густой, замшелый лес стоит сплошной стеной, одинаково равнодушный и к своим, в к чужим. Что ему до людей? У него своя жизнь. Могучие великаны-дубы, еще сохранившие листья, шумят в непроницаемой темноте.
Не слышно обычных в походе шуток, дружеских подначек, доверительных бесед. Даже огонек запретной цигарки не мелькнет из рукава шинели, а уж как охоч солдат затянуться разок-другой табачным дымком! Кони и те шагают беззвучно, колеса катятся будто по вате. Песчаная проселочная дорога поглощает все звуки. Солдаты теснее прижимаются друг к другу и... спят. Спят на ходу. Я пропустил мимо себя первый, второй, третий батальоны. Роту за ротой, взвод за взводом. Убаюкала солдат тишина... Да и то сказать: всю последнюю неделю мы провели в беспрерывных боях и маршах.
Солдаты шли и шли, а меня охватила тревога. Ведь всякое может случиться, хотя мы, казалось бы, предусмотрели все: в километре от головной колонны идет боевая походная застава, а впереди и на флангах действует полковая разведка. Но что стоит немецкому пулеметчику притаиться в засаде? Нажмет <а гашетку — и, как скошенные, свалятся первые ряды колонны, потом вторые, третьи... Идущие сзади даже не успеют опомниться. Что солдату выстрел, пулеметная очередь? На войне он привык к ним, как горожанин к уличному шуму.
Я поскакал в голову колонны, к командиру полка.
—- Федор Васильевич, — сказал я Ледкову, — надо дать солдатам поспать. Как мы будем воевать, когда полк спит на ходу?
— К утру надо быть на Днепре, Петр Андреевич,— напомнил Ледков. — Опоздаем — нам Голосов головы поснимает.
— А не дадим людям отдохнуть, немцы всему полку капут сделают, — настаивал я.
После некоторого раздумья командир полка согласился:
— Хорошо. Пусть бойцы спят. Сто двадцать минут. И ни секунды больше. К утру надо быть на Днепре.
Люди легли на землю. Не спали лишь дозоры, подобранные из наиболее крепких ребят, да мы с командиром полка. Два часа поспали солдаты. Но, видно, отдохнули
Ю* 147
неплохо. Когда прозвучала команда «Подъем!», они вскочили бодрые, посвежевшие. Дальше пошли быстрее...
Чем ближе подходили батальоны к Днепру, тем шире становился шаг бойцов. И вот наконец лес расступился. Утром 23 сентября с первыми лучами солнца перед нашими глазами блеснула широкая голубая лента реки, величаво несущей свои быстрые воды.
— Здравствуй, Днепр! Мы снова пришли к тебе, принимай своих сынов и защитников!
Ликованию бойцов не было предела. Казалось, люди позабыли об усталости. Они бежали к реке, входили в воду. Черпали ее ладонями, прикасались губами, пили.
Послышались звуки баяна, и зазвучала за душу берущая песня:
Ой, Днипро, Днипро, Ты широк, могуч, Над тобой летят журавли...
Я слышал эту песню впервые, но она до такой степени была созвучна моему настроению, моим мыслям, что казалась знакомой с незапамятных времен.
Выйдя к Днепру, батальоны заняли заранее намеченные районы. Штаб полка обосновался в селе Ошитки. Впрочем, теперь его уже нельзя было назвать селом. До войны в Ошитках было 960 богатых колхозных дворов, свыше пяти тысяч жителей. А сейчас...
Навстречу нашим бойцам из уцелевших хат вышли изможденные, одетые в рубище старики и старухи* Их было всего двадцать пять человек — меньше, чем сохранившихся хат на пепелище. Жадно глотая отданный бойцами хлеб, они рассказывали о трагической судьбе своею села. В покрасневших глазах людей не было слез — их давно выплакали, зато в них было столько скорби и ненависти, что руки бойцов невольно сжимали оружие. Солдаты то и дело поглядывали на правый берег, где находился враг.
Уцелевшие жители рассказали, что фашисты угнали на каторгу, заморили голодом или расстреляли почти все население села. Сотни трупов мы обнаружили в канаве на окраине Ошиток. Гитлеровцы даже не засыпали их землей.
Эта страшная картина долго стояла у меня перед глазами. И как-то сам собой пришел ответ на волновавший 148
вопрос: с чего начать подготовку к форсированию Днепра? Я решил ^рассказать воинам о трагедии села.
Вызываю на окраину Ошиток, к канаве, по агитатору от каждого взвода.
— Вот, смотрите, что несут фашисты советским людям!
Беседа сама собой превращается в митинг. Потом беседы и митинги были проведены в каждом взводе. В них приняли участие жители села, свидетели зверств оккупантов.
Агитаторы напоминали:
— Ненавидеть врага — значит решительно и смело идти в бой, уничтожать фашистов без устали и промаха. Народ Украины просит нас быстрее разгромить врага, освободить родную землю от гитлеровской нечисти. Смелее за Днепр, товарищи!
В ротах и батальонах состоялись партийные и комсомольские собрания. Коммунисты и комсомольцы просили оказать им честь первыми форсировать Днепр. Помнится, к командованию полка обратились два бойца комендантского взвода — С. Е. Нестеров и А. Г. Фролов. У них была одна просьба:
— Помогите перевестись в стрелковое подразделение!
— Но чем же вас не устраивает служба в комендантском взводе? — спрашиваем у них.
Так ведь стрелки первыми начнут форсирование Днепра, — отвечали они.— А нам, коммунистам, не к лицу тащиться где-то в обозе.
В те дни возрос поток заявлений о приеме в ряды ВКП(б). Только в 3-м батальоне в течение суток перед форсированием реки заявления в парторганизацию подали 14 солдат, сержантов и офицеров.
Ф. В. Ледков принял решение о форсировании Днепра. По его замыслу готовилось две переправы. Одна настоящая — для 3-го батальона капитана Рыбалко и другая ложная — для 1-го батальона капитана Благодыря. На ложной переправе с обеда работали саперы. На виду у гитлеровцев они перетаскивали бревна, спускали на воду плоты, лодки. Создавалось впечатление подготовки десанта, и немецкие орудия, не умолкая, били по «переправе». А в районе настоящей переправы, километрах в двух севернее, было тихо.
К вечеру я приехал в 3-й батальон, которому первому
149
предстояло форсировать Днепр. Хотелось перед тяжелым боем поговорить с людьми, помочь в чем-то комбату, его заместителю по политчасти. Штаб батальона находился в лесу напротив села Окунниково, расположенного на правом берегу Днепра. Место для переправы здесь было сравнительно удобное — и противоположный берег менее крут, и русло поуже, и подходы к реке скрытные. Но и здесь надо преодолеть целый километр водной преграды под огнем противника. Да еще неизвестно, как он приготовился к отражению' десанта.
— Надо бы разведчиков послать на правый берег, — предложил я.
— Уже распорядился, — доложил Рыбалко. — Как только стемнеет, пойдут.
По осунувшемуся лицу, воспаленным глазам можно было судить о крайней усталости комбата. Измотанный событиями последних дней, он выглядел гораздо старше своих лет.
— Командира разведгруппы я вызвал на НП, — добавил Рыбалко. — Вот-вот придет. Сможете познакомиться поближе.
К нам подошел старший сержант. Чуть тронутые сединой рыжеватые волосы, деревенская неторопливость в разговоре, певучий полтавский говорок... Что-то во всем его облике напоминало гоголевских героев из «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
— Червонный Павел Никифорович, — представился этот пожилой, по тогдашним моим представлениям, мужчина. Ему было лет сорок пять, а может, и больше. Среди двадцатилетних бойцов и командиров он выглядел папашей.
— Вы коммунист? — спросил я.
— Да, — с достоинством ответил Червонный. — Я член ВКП(б).
— Тогда нет необходимости напоминать вам о важности порученного задания. Дело идет о жизни и смерти сотен, тысяч людей. Мы верим в вас и в ваших подчиненных, Павел Никифорович.
Потом, когда разведчик ушел, Рыбалко задумчиво глядел на быстро синеющий небосвод и размышлял вслух:
— Вот отправил я Червонного в разведку, в самую пасть врага. Чувство такое, что на верную смерть послал. Он ведь бронебойщик, петеэровец. Для него развед
150
ка — дело новое. А идти надо. И идет. Любой из нас пойдет и, не задумываясь, отдаст жизнь свою за освобождение родной земли. Но ведь Родина от нас не смерти требует, а победы. Помереть — дело нехитрое. А вот как победить?
Я с интересом слушал комбата. Как вырос, возмужал, посерьезнел этот лихой ростовский парень! Давно ли он высшей доблестью командира считал умение увлечь бойцов в огонь, на вражескую проволоку, на пулеметы? А теперь вон как рассуждает — как зрелый, опытный военачальник. Такой солдата будет беречь, зря рисковать не станет.
С КП полка позвонил Ледков: просит прибыть к нему.
В комнате у командира полка застаю мужчину средних лет в изрядно потрепанной гражданской одежде. Сильно исхудавший, с обветренным морщинистым лицом, он теребил картуз в руках, выжидательно поглядывал на Ледкова.
— Знакомьтесь, это человек с правого берега, — сказал мне Федор Васильевич, указывая на гостя. — Товарищ Шиян. Он предлагает нам помощь в форсировании Днепра.
— Зовут меня Тит Евгеньевич, — с достоинством представился Шиян, протягивая мне руку. — Я местный житель, колхозник из села Окунниково. Берег, можно сказать, как свои пять пальцев знаю. И лодку в случае чего найти могу.
Тит Евгеньевич действительно нам помог. Он указал скрытные подходы к Днепру, наиболее удобные места для высадки десантов, поднял со дна реки затопленные колхозниками лодки. Родина по достоинству оценила подвиг патриота: впоследствии он был награжден орденом Красного Знамени.
25 сентября... Час ночи. Над рекой густая темнота. Чуть дымится студеная вода. В небе ярко мерцают звезды. Стоит звенящая тишина, такая, что слышится стук собственного сердца. Не шелохнется зеркальная гладь. Молчит правый берег. Ой, Днипро, Днипро! Как-то ты примешь наших бойцов?
Наш полк в соответствии с приказом командира дивизии должен переправить на правый берег головной отряд в составе усиленной роты. Задача отряда — захватить
151
хотя бы небольшой плацдарм. В ту же ночь, на тот берег переправлялись десанты соседних стрелковых дивизий.
Командир 3-го батальона Рыбалко несколько обеспокоен: посланная им на правый берег разведка все еще не вернулась. Не случилось ли чего с группой Червонного? Медлить, однако, нельзя. Да и сведения об обстановке, которые сообщил Шиян, не вызывали сомнения.
К урезу воды неслышно спустилась усиленная 8-я рота. Бойцы на руках несли лодки, плоты, связки хвороста и дощатые настилы. И вот, погрузившись, десантники отчалили от берега.
Мы, оставшись на берегу, с тревогой вслушивались в тишину ночи. Улавливались всплески воды, журчание, какие-то шорохи. Томительно тянулись минуты ожидания. Ледков все чаще поглядывал на часы. Хотелось надеяться, что десантники уже достигли берега, благополучно высадились. Но ночная мгла по-прежнему безмолвствовала.
И вдруг небо точно раскололось громовым раскатом. Взлетели десятки ракет. Спокойная гладь Днепра* вздыбилась фонтанами, зарябила бесчисленными всплесками. Где-то у самого берега гитлеровцы обнаружили десант и обрушили на него всю мощь своего артиллерийско-минометного и пулеметного огня.
В неясном свете далеких ракет я увидел, как напряглись желваки на плотно сжатых челюстях командира полка. Не моргая, он пристально всматривался в полыхающий зарницами правый берег.
— Ну, все! — тяжело вздохнул кто-то из штабных офицеров. — Пропали ребята. В таком аду разве что уцелеет?
— Прекратить разговоры! — потребовал Ледков.
Всю ночь гитлеровцы обстреливали широкий плес реки, ее левый берег. Казалось, переправа и в самом деле не удалась.
Однако утром мы получили радостную весть: группе бойцов во главе со старшим лейтенантом Ильей Кирилловичем Хахериным, ставшим впоследствии Героем Советского Союза, удалось все же зацепиться за правый берег. Окопавшись, десантники отбивали одну за другой атаки противника, значительно превосходящего их в живой силе и огневых средствах.
Узнав об этом, Ледков попросил командира 840-го артполка оградить плацдарм неподвижным заградительным 152
огнем. Артиллеристы выполняли все заявки Хахерина. На душе стало как-то легче: у нас появилась зацепка на Правобережье.
Около полудня с КП дивизии раздался телефонный звонок. Д. Н. Голосов вызывал к себе Ледкова и меня.
— Достанется нам, — сказал Федор Васильевич.
— Ничего не попишешь, — со вздохом ответил я. — Полк-то по-прежнему на восточном берегу.
Хотелось как-то приободрить командира полка, но у меня, откровенно говоря, тоже на душе кошки скребли. Мы поспешили в штаб дивизии.
В штабе, к моему удивлению, оказались командиры и их заместители по политчасти всех полков.
— Для чего нас собрали? — поинтересовался я у подполковника Аграновича, заместителя командира 1035-го стрелкового полка по политической части.
Тот пожал плечами. И, подвинувшись, шепнул мне на ухо:
— Черняховский, говорят, приехал.
В комнате было тихо. Молчали и мы, время от времени поглядывая на входную дверь. Вот она отворилась, и в помещение вошел стройный, подтянутый генерал-лейтенант. Он выглядел молодо. Лицо продолговатое, спокойное, темная густая шевелюра, пристальный доброжелательный взгляд.
Это был наш командарм — Иван Данилович Черняховский. Рядом с ним — член Военного совета армии генерал-майор В. М. Оленин, командир дивизии и еще один незнакомый мне генерал.
Поздоровавшись, И. Д. Черняховский задал нам два вопроса:
— Почему не удалось форсировать Днепр с ходу? Когда и как удастся выполнить эту задачу?
Командиры полков поочередно докладывали свои соображения. Генерал-лейтенант внимательно слушал каждого. Иногда он одобрительно кивал головой, что-то записывая в небольшой блокнот. Иногда хмурил брови. Но ни разу не прервал выступавшего, не сбил его с мысли какой-нибудь репликой, замечанием.
Доложили командиры 1031-го и 1035-го стрелковых полков. Дошла очередь и до Федора Васильевича Ледкова. Но Черняховский, окинув меня придирчивым взглядом, вдруг сказал:
153
— А теперь вначале послушаем заместителя командира тысяча тридцать третьего стрелкового полка по политчасти, что он нам скажет.
Я посмотрел на Ледкова. Федор Васильевич кивком подбодрил меня.
— Мы пытались форсировать Днепр с ходу, — докладывал я. — Но нас постигла неудача. Причин тому много. Тут и недостаточная подготовка личного состава, полное отсутствие переправочных средств, слабое знание сил противника и сами природные условия. Днепр широк. Фашисты с крутого правого берега простреливают всю водную гладь. ьМы послали в десант усиленную роту, а высадиться удалось лишь взводу, не больше.
Отвечая на второй вопрос командарма, я развил уже обговоренный с Ледковым план. Надо подобрать в полку человек 100—120 из числа спортсменов-пловцов, создать из них группу захвата. Вооружить этих людей автоматами, придать им несколько ручных, станковых пулеметов и минометов. Место высадки целесообразно заранее пристрелять артиллерией, которая должна поддерживать десант на всем протяжении боя. Переправу лучше начать во второй половине ночи, чтобы к рассвету десантники могли занять оборону.
— Неплохо придумано, — заметил Иван Данилович и, обращаясь к подполковнику Ледкову, спросил: — Кого вы пошлете командиром группы захвата?
— Мы уже подобрали кандидатуру, — доложил Лед-ков. — Есть у нас командир батальона капитан Рыбалко. Отважен, решителен... Одним словом, орел!
— Ну что ж, — согласился Иван Данилович, — пусть будет так. А «комиссаром» к нему, — тут он лукаво взглянул на члена Военного совета, — наверное, назначим подполковника Горчакова, а?
— Согласен, — кивнул головой Оленин. — Этот потянет. Вон какой здоровый вымахал. Метра два!
Все рассмеялись, и напряжение, охватившее было нас, вовсе спало. По-деловому мы обсудили вопросы взаимодействия, многие детали плана и разъехались по полкам.
Я всегда с глубоким уважением вспоминаю Ивана Даниловича Черняховского. Короткой была встреча с ним на берегу Днепра, но какой она дала заряд духовной энергии, как воодушевила перед боем! В сложной и трудной 154
обстановке Иван Данилович сохранял спокойствие и уверенность, был доброжелателен к людям, умел выслушать их, поддержать инициативу. Он глубоко разобрался в положении дел и принял всесторонне обоснованное решение.
Подготовка к десантированию заняла все светлое время суток. Мы отобрали более 120 бойцов и сержантов — самых отважных, проверенных в боях, создали три взвода, вооружили каждого воина автоматом и гранатами. Десантному отряду были приданы 11 ручных и 4 станковых пулемета и 2 миномета. Две радиостанции должны были обеспечить корректировку минометного огня и связь отряда с командиром полка. Пригодились лодки колхозных рыбаков, которые мы разыскали в днепровских лиманах с помощью Тита Евгеньевича Шияна. Несколько надувных лодок нам доставили саперы.
К вечеру десантный отряд был полностью укомплектован. Правда, добровольцы все еще одолевали нас. В полку было около трех тысяч воинов, и чуть ли не каждый стремился попасть в десант. Но группа захвата должна быть сравнительно небольшой, маневренной, зато хорошо вооруженной, способной противостоять крупным силам врага.
Десантников мы тренировали на одном из днепровских лиманов, скрытых от наблюдения врага. До позднего вечера отрабатывали строй движения лодок, сигналы взаимодействия. Нам хотелось научить ло дочные команды плыть «углом вперед» — наподобие журавлиной стаи. При таком построении обеспечивалась наименьшая поражае-мость десанта от пулеметного огня противника.
26 сентября. Глубокая ночь. Лодкам время отплывать. Мы с капитаном Рыбалко на одной — флагманской. В абсолютном молчании, стараясь не скрипнуть уключиной, не плеснуть веслом, выгребаем на середину реки. Нервы напряжены до предела. Ощущение близкой опасности порождает какой-то особый, ни с чем не сравнимый душевный настрой. Тут и доля страха, и нетерпение (быстрей бы началось), и инстинктивное желание, чтобы беду пронесло мимо. Словом, гамма самых разнообразных чувств владеет человеком. А меня вдобавок ко всему донимает досада: так тщательно отработанный походный ордер «флотилии» полетел кувырком, едва мы отчалили от берега. Лодки, потеряв в темноте ориентировку, сгрудились во-
155
круг командирской, облепили ее, как пчелы патоку,— грести невозможно.
Чертыхаясь в душе и понося всех святых, отсчитываю минуты плавания. Пять... десять... пятнадцать... Сколько же метров проплыли? Четыреста?.. Пятьсот? Ага, течение усилилось, — значит, вышли на стрежень. До правого берега, очевидно, метров триста, нет, двести... Тихо-тихо. Немцы нас не замечают. Может, на этот раз пронесет.
Подходим к берегу, но тут на моей рации загудел зуммер. В ночной тиши его характерный звук разнесся, как мне казалось, на километр. Я схватил ватник, прикрыл им аппарат. Но зуммер не унимался. Оказалось, это начальник штаба полка интересуется, где мы есть. Невтерпеж, видите ли, стало. Но попробуйте определиться в кромешной мгле!
Вот в небо одна за другой взвились немецкие осветительные ракеты. Покачиваясь на парашютах, они от берега до берега осветили всю водную гладь. И сразу же ударили пулеметы, где-то неподалеку гулко разорвался снаряд.
— Всем в воду! — уже не таясь, во весь голос скомандовал Рыбалко.
— За мной! — воскликнул я.
— У-р-ра! — грянули десантники, выпрыгивая из лодок.
Нам повезло. Мы вышли точно к намеченному пункту, заранее разведанному с помощью местных жителей. Здесь — мелководье, сравнительно отлогий берег. Стреляя на ходу, десантники ринулись вперед. Противник растерялся. Видимо, гитлеровцы не ожидали нашей повторной высадки здесь, в непосредственной близости от села Окун-никово, под носом у гарнизона.
С левого фланга по врагу неожиданно открыли огонь автоматчики. Кто они? Откуда? Это, как потом выяснилось, были разведчики старшего сержанта Червонного. Выполнив задание и захватив «языка», разведгруппа намеревалась на этом участке переправиться на левый берег Днепра. Но переправа не состоялась. Дело в том, что немецкие осветительные ракеты помогли Червонному увидеть на водном плесе наш десант. Разведчики тотчас заняли на вершине косогора удобную позицию и, когда наши бойцы попрыгали с лодок в воду, ударили во фланг опешившим фашистам.
156
Старший сержант Червонный торопливо рассказал капитану Рыбалко, где и как расположены траншеи гитлеровцев. Комбат развернул в цепь отряд и повел десантников в темноту. Я тут же на одной из лодок отправил в штаб полка за Днепр разведчика с пойманным «языком» и поспешил за бойцами.
В ночной темноте мы ворвались в траншеи. Оцепенев от неожиданности, гитлеровцы не смогли оказать организованного сопротивления. Лишь наиболее легким на ногу удалось спастись бегством. На месте схватки осталось 87 трупов фашистских солдат и офицеров.
Мы продвинулись метров на 200 вглубь и метров па 500 по фронту, соединившись с группой старшего лейтенанта Хахерина, и таким образом создали плацдарм, позволяющий надежно прикрывать от ружейно-пулеметного огня переправу остальныхч подразделений полка.
На днепровской круче комсорг 3-го батальона лейтенант Ибрагим Кузахмедов установил алый стяг. Это знамя, точно маяк, указывало путь переправляющимся через Днепр воинам. Вереницы лодок потянулись к плацдарму. Вскоре через реку был протянут канат. С его помощью на плотах, самодельных паромах в тот же день переправились все подразделения, техника и обозы полка.
Теперь, когда мы были все вместе, воевать стало легче. Полк стремительно атаковал противника и захватил вторую полосу его обороны, километрах в 5—6 от берега реки. На захваченный нами плацдарм начали переправ: ляться 1031-й, 1035-й стрелковые и 840-й артиллерийский полки дивизии.
Одновременно с 280-й дивизией плацдармы на правом берегу Днепра захватили и наши соседи: 132-я и 143-я стрелковые дивизии. Форсирование водной преграды активно поддерживал 7-й гвардейский механизированный корпус Ч Враг бешено контратаковал боевые порядки наших войск, пытаясь сорвать переправу через реку круп-
1 Здесь речь идет о форсировании Днепра лишь в полосе одной армии. Следует иметь в виду, что преодоление этой реки началось еще 21 сентября и осуществлялось одновременно на многих участках от Лоева до Запорожья. Войска четырех взаимодействующих фронтов — Центрального, Воронежского, Степного и Юго-Западного — захватили на правом берегу в разных местах 23 плацдарма. См. Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945. Краткая история. М., 1970, с. 264—267.
157
ных сил Красной Армии. Он с каждым днем усиливал натиск, бросая в бой все новые и новые резервы. Однако все его потуги разбивались о мужество и стойкость советских воинов.
Командарм И. Д. Черняховский поставил перед 77-м стрелковым корпусом, в который входила и наша дивизия, задачу развивать наступление на Коростень. Противник не хотел допустить охвата с севера своей киевской группировки и потому стремился любыми силами приостановить наше продвижение. Особенно сильно укрепили гитлеровцы село Ротичи, которое должна была взять 280-я стрелковая. Наш полк наступал на село по левому берегу реки Тетерев. Бои приняли ожесточенный характер. Приходилось отбивать по 5—6 вражеских контратак в сутки. То и дело завязывались рукопашные схватки. Мы с Лед-ковым почти постоянно находились в атакующих подразделениях, подбадривая бойцов. К нам на НП по нескольку раз в день приходил командир дивизии генерал-майор Д. Н. Голосов, подавая пример мужества и отваги.
Расстояние от Днепра до Ротичей вроде бы и небольшое, но преодолели мы его лишь за два дня. Приходилось с боем отбивать каждый метр советской земли. Перед самым селом наше наступление приостановили немецкие часта, хорошо закрепившиеся на шоссейной дороге. Лед-ков хотел было ударить по гитлеровцам с флангов, но капитан Рыбалко, не раздумывая о степени риска и численности противника, уже поднял свой батальон в лобовую атаку. Сам он, как всегда в критический момент, — впереди атакующих рот. С гранатой и автоматом в руках комбат первым ворвался во вражескую траншею. Командир полка поднял в атаку два других батальона, и гитлеровцы, не выдержав стремительного удара, отступили.
С ходу Ротичи взять все же не удалось. Гитлеровцы подтянули резервы, артиллерию, танки. А с правого берега реки Тетерев во фланг советским войскам нанесли удар моторизованные соединения врага. Наша дивизия вынуждена была отбивать вражеские контратаки по всему нижнему течению Тетерева вплоть до устья и одновременно частью сил штурмовать село.
Бои за Ротичи и реку Тетерев не прекращались ни днем, пи ночью и продолжались почти до конца октября. Отдельные участки часто переходили из рук в руки. Гитлеровцы всеми силами пытались сбросить наши войска с 158
Правобережья в Днепр, но советские воины стояли насмерть.
Запомнился бой на берегу Тетерева утром 10 октября. Немецкие части яростно атаковали подразделения полка, стремясь во что бы то ни стало выбить их с занимаемых высот. Но, несмотря на потери, бойцы и командиры держались стойко. А потом, выждав момент, Ледков поднял батальоны в контратаку. Наш бросок был настолько неожиданным для фашистов, что те явно растерялись и в панике отступили. Правда, через какое-то время они открыли ураганный минометно-артиллерийский огонь. Возле меня полыхнул взрыв. Я был тяжело ранен — четвертый раз с начала войны. Осколки вражеской мины или снаряда — не успел заметить — перебили мне руку, ногу, ребра и испещрили тело. Оказавшийся поблизости комбат Рыбалко оттащил меня в канаву, ножом разрезал наполненный кровью сапог, сделал перевязку. Меня тут же отправили в полевой госпиталь, расположенный в городе Остер. Там уже я узнал, что 12 воинам 1033-го стрелкового полка за мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра, было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них стояло и мое имя.
Не перечесть солдат и офицеров, отличившихся в боях за Днепр. Подвиг здесь был поистине массовым, всенародным. И совершали его десятки тысяч героев. Я расскажу лишь о тех, кого знал лично.
Прежде всего назову командира десантного отряда, в составе которого я форсировал Днепр, капитана А. В. Рыбалко. Вот только один пример его мужества и отваги.
29 сентября Рыбалко получил приказ командира полка оседлать шоссе у села Страхолесье, занять безымянные высоты и отрезать противнику путь отхода на запад. Бойцы ночью заняли высоты, окопались. Утром, обнаружив у себя в тылу советский батальон, фашисты яростно атаковали его. Четыре часа в полном окружении бились бойцы во главе с комбатом. Они отбили пять атак противника и не отступили ни на шаг, удержали высоты до подхода подкрепления. Гитлеровцы потеряли здесь убитыми около 100 солдат и 12 офицеров, оставили на поле боя 8 пулеметов и минометов. Комбат был в гуще самых яростных схваток, показывая подчиненным пример бесстрашия.
159
Золотая Звезда Героя достойно увенчала ратные подвиги Алексея Васильевича Рыбалко!
В боях за Днепр истинным героем показал себя П. Н. Цыганков, которого к тому времени мы выдвинули комсоргом 2-го батальона вместо погибшего Александра Кузьмича Бородкина. С группой бойцов в темноте Цыганков сумел пробраться через передний край обороны немцев. Смельчаки, поддержанные всем батальоном с приданным ему взводом 45-миллиметровых пушек, захватили в тылу у гитлеровцев высоту перед селом Роти-чи. С нее можно было держать под контролем шоссейную дорогу, идущую от Днепра.
Утром из Ротичей, развернувшись в цепь, на высоту двинулась усиленная рота немцев. Но бойцы группы не дрогнули, встретили врага во всеоружии. Петр Цыганков огнем своего миномета дробил немецкие цепи, заставил их залечь. Комсорг часто менял позиции, и фашисты не могли определить, откуда летят на их головы мины. Бой продолжался до самого вечера. Гитлеровцы, решив, видимо, что в тылу у них крупные силы советских войск, и боясь окружения, отступили.
За село Ротичи было немало жестоких боев. И неизменно в них участвовал Петр Николаевич Цыганков, проявляя находчивость, мужество, отвагу. Грудь вожака комсомольцев по достоинству украсила Золотая Звезда Героя.
А пулеметчик ефрейтор Григорий Парфилович Мостовой? Я уже рассказывал о его боевых делах. А на Днепре коммунист снова прославил себя, в числе первых высадившись на правый берег. В первом же бою, умело меняя позиции, он уничтожил из станкового пулемета три огневые точки, 17 вражеских солдат и унтер-офицеров. Один из пулеметов врага особенно досаждал нашим бойцам. Григорий Мостовой подполз к нему и забросал расчет гранатами.
В бою на высотах восточнее села Страхолесье ефрейтор Мостовой заменил выбывшего по ранению командира взвода, поднял бойцов в атаку.
—• За Родину, друзья, вперед! — воскликнул он, взбегая на высоту, где засели фашисты. Взвод ринулся на врага и сбил его с высоты. Мостовой при этом уничтожил гранатами пятерых гитлеровцев и двух взял в плен.
Днем позже, обороняя высоту, взвод отразил пять
160
В. Ф. Благодырь
В. В. Гречко
Политбеседа перед боем
Мякили К Ямал
Зайтуна Бариева
^Н^ИИ№«^$* ^CW
*LjW# fc ? *U « rfHf, ЙШ40*#. t«ufi
fata fan* мяА/
f6 W^L с
&$<№*** &£&**€
$№$&&*** ( С /^АЫ
^^Ит^чс#аи#. C&J ф£М$№
^Cd4«>t4?
Таких заявлений было много
Агитатор знакомит бойцов с содержанием фронтовой газеты
Выступает агитатор политотдела
П. К. Горовой
Т. Н. Прохорчук
Ю. М. Должанский
Политотдельцы 280-й стрелковой. В первом ряду (в центре) начальник политотдела М. К. Попелюх
И. Д. Черняховский
Г. А. Халюзин
Члены партийной комиссии. В первом ряду (слева направо): Я. А. Бродский, Д. Н. Голосов, С. Г. Баканов; во втором ряду: В. Н. Чичкань, В, С. Махалов, А. Д. Дудко, С. Ф. Кашин
Огонь по вражеским танкам
Офицеры штаба фронта осматривают подбитый «фердинанд» В центре К. К. Рокоссовский
Танковый десант на Курской дуге
Бой в населенном пункте
Здесь был их дом
В освобожденном селе
Бойцы и командиры тыловых подразделений 1033-го полка. В центре зам. командира полка по тылу майор В. Т. Варяница
Возвращение домой
Прием членских партийных взносов
В минуты досуга
Разведчики на берегу Днепра
Митинг боевого содружества воинов различных родов войск
В первом броске через Днепр
Переправа, переправа...
Советские разведчики в Карпатах
Оборонительные сооружения противника
А. А. Гречко
А. С. Щербаков
Доставка боеприпасов в горных условиях
А. А. Епишев
К. С. Москаленко
Пулеметчики обстреливают дорогу в тылу противника
И. Е. Петров
К. П. Исаев
В обход противника
контратак противника, истребив до роты немецкой пехоты. Г. П. Мостовой стал Героем Советского Союза.
Здесь же, на Днепре, достиг вершин славы поморский паренек Саша Юдин. Это перед его отделением дрогнул целый взвод немецкой пехоты. Гранатами, автоматными очередями бойцы отделения выбили фашистов из первой траншеи. Младший сержант Юдин гранатой уничтожил расчет станкового пулемета, из автомата убил 7 гитлеровцев.
На подступах к селу Страхолесье отделение Юдина снова бросилось в атаку на превосходящего по численности противника. На каждого бойца приходилось по 6— 7 гитлеровцев. И все же гитлеровцы отступили. В бою комсомолец-герой уничтожил четырех вражеских солдат, одного взял в плен. Александр Дмитриевич Юдин стал кавалером Золотой Звезды.
Умение и мужество проявил в боях за расширение плацдарма командир минометной батареи капитан Иван Наумович Нестеров, которому также было присвоено звание Героя Советского Союза. Чтобы разгадать систему огня гитлеровцев, он время от времени выдвигал свой наблюдательный пункт за линию наших окопов. Неподалеку от НП находился старший сержант Ломакин с трофейным пулеметом. По сигналу офицера пулеметчик открывал по противнику огонь то с одной, то с другой позиции. Фашистские вояки отмалчивались, но вскоре, потеряв выдержку, открыли ответную стрельбу из минометов и пулеметов. Нестеров засекал огневые точки, и батарея тут же подавляла их.
Я рассказал далеко не о всех солдатах, сержантах и офицерах полка, которым было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Можно много написать о командире 1-й минометной роты лейтенанте Борисе Викторовиче Митькине, командире 8-й стрелковой роты старшем лейтенанте Илье Кирилловиче Хахерине, командире 2-й минометной роты старшем лейтенанте Александре Александровиче Ройченко, командире взвода 2-й пулеметной роты лейтенанте Евстрате Степановиче Белопухове, рядовых Василии Гавриловиче Кошелеве и Иосифе Митрофановиче Полищуке. Они обессмертили свои имена.
Однако я хотел бы подчеркнуть другое: битва за Днепр выиграна не отдельными героями, а всеми воинами наступавших советских войск, охваченных благородным
И П. А. Горчаков 161
стремлением изгнать врага с родной земли. Достаточно сказать, что около двух тысяч человек, участвовавших в форсировании реки и захвате плацдармов на ее правом берегу, были удостоены высшей награды Родины — звания Героя Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями Союза ССР. Из рубежа неприступности, каким считало его гитлеровское командование, Днепр стал для советских бойцов, командиров и политработников рубежом славы, мужества и героизма.
К нам в госпиталь ежедневно поступали раненые, от которых мы узнавали подробности напряженных боев в районе села Ротичи. Разумеется, меня интересовали прежде всего однополчане, боевые товарищи и друзья. Я был счастлив и горд, что 1033-й стрелковый полк стойко и мужественно сражался с превосходящим по численности противником, не отступив ни на шаг с занятых позиций.
Утром 21 октября в госпитальной палате неожиданно появился командир полка Ледков. Правая рука его была туго перевязана бинтом.
— Легко еще отделался, — кивнул я на раненую руку. — Располагайся рядом. Койку мы найдем.
Федор Васильевич нахмурился, отвернулся от меня, не в силах скрыть охватившего волнения.
— Да разве я из-за руки?! Я же... — Слезы сдавили горло подполковника, с минуту он не мог выговорить ни слова. — Я ведь только ради капитана Рыбалко... Привез его в Остер...
— Что с Алексеем? — не выдержал я. — Рана тяжелая?
Федор Васильевич безнадежно махнул здоровой рукой.
— Алексей... Алексея больше нет. Вчера погиб.
Успокоившись, Ледков рассказал о вчерашнем бое под Ротичами. Вражеские цепи одна за другой накатывались на позиции полка. Подразделения успешно отбивали их. Тогда гитлеровцы весь свой удар сосредоточили по левофланговому батальону капитана Рыбалко, стремясь хотя бы на одном этом участке добиться решающего успеха. Рыбалковцы стояли насмерть, они отбили семь атак противника, а потом сами перешли в контратаку. Вот тогда-то и погиб комбат. Мстя за его гибель, бойцы и командиры лавиной обрушились на гитлеровцев, опрокинули их цепи. Ледков поднял в контратаку 1-й и 2-й батальоны. Бой 162
закончился победой нашего полка, занявшего новые рубежи.
Мы похоронили капитана Алексея Васильевича Рыбалко в Остере, на центральной площади. Проводить в последний путь любимца полка пришли его боевые друзья-однополчане, находившиеся в тот день в полевом госпитале, — все, кто только мог передвигаться. За могилой капитана ныне с любовью ухаживают пионеры и школьники. Жители города свято чтут память славного сына Родины, героя битвы за Днепр.
На моих глазах многие сотни бойцов и командиров совершали подвиги, рискуя собственной жизнью. Меня часто спрашивают: все ли могут пойти на героический подвиг или это свойственно лишь человеку по природе храброму? Можно ли утверждать, что наши люди наделены какой-то особой, сверхчеловеческой отвагой?
Я не открою что-то новое, если скажу: в жизни нет суперчеловеков! А тот, кто корчит из себя героя, похваляется, что он ничего не боится, при первом же испытании утрачивает всякую браваду. Про таких в народе говорят: «Молодец против овец, а против молодца — сам овца».
Не верю я в храбрость хулигана, бандита. Пошли такого в штыки, где враг с глазу на глаз, где не только себя, но и товарища надо защитить, а может, и погибнуть за общее дело, — он наверняка струсит. Принять смертный бой может только человек твердой воли, большой душевной силы, готовый отдать всего себя за дело, которое он защищает. Все это присуще лишь человеку честному, живущему в коллективе и интересами коллектива.
Могут спросить: а как же гитлеровцы в штыки ходили? Должен сказать, что рукопашный бой по своей инициативе они не начинали. А это существенно. Ведь и волк, зажатый в угол сарая, порой бросается на вилы. Это не храбрость, это отчаяние обреченных.
Кстати, после встречи на лесной дороге я внимательно присматривался к рядовому Трахомолову. И лишний раз убедился, что в этом здоровом, мужественном с виду парне душа заячья. Он так и не побывал на правом берегу Днепра. Во время одной из бомбежек Трахомолов потерял контроль над собой, заметался по полю. Шальной осколок сразил его...
11* 163
А вот пример иного порядка. В одной из рот служил солдат Г. Н. Россовский. Паренек с виду невзрачный, робкий. У него, как выяснилось, был красивый почерк. Посмотрел на солдата командир роты и говорит:
— Для строя слабоват, а вот писарем сгодишься.
В роте кое-кто подтрунивал над парнем. Но вот пришел час испытаний, и Россовский показал, на что он способен.
Это было на правом берегу Днепра. Рота оказалась в трудном положении: немцы пытались сбросить стрелков в воду. На помощь пришли минометчики младший сер-жант Л. П. Адаменко и рядовой К. О. Ельнизаров. Огонь их миномета вызвал замешательство в стане противника. Появилась возможность атаковать врага. Но тут упал, сраженный пулей, командир роты лейтенант С. Т. Гриненко. И тогда Россовский поднялся во весь рост под пулями фашистов, воскликнул:
— За Родину, вперед, товарищи!
Рота поднялась в атаку. Комсомолец Россовский бежал в первых рядах. Он гранатой уничтожил расчет станкового пулемета, расстрелял прислугу немецкой пушки.
— Да ты, друг, настоящий герой! — говорили ему товарищи. А Россовский искренне удивлялся:
— Что вы, какой я герой? Я как все.
Да, мужество и героизм были нормой поведения, обычным явлением. Россовский действительно был «как все».
Я уже рассказывал, что чувствовали мы, участники форсирования Днепра, очутившись на просторе большой, холодной, быстротекущей реки под обстрелом врага. Скажу не стыдясь: мне было страшно. И за себя, и еще больше за судьбу десанта. Я, конечно, подавил в себе чувство страха, не поддался ему. Но оно все-таки было.
А теперь представим себе пожилого человека, отца взрослых детей, солдата-сапера Сергея Петровича Родина. В ночь, когда мы форсировали Днепр у села Окунни-ково, он под огнем врага девять раз пересекал реку туда и обратно, перевозя бойцов. Восемнадцать раз в течение ночи вступал боец в поединок со смертью. Вражеские пули дырявили борта лодки. Сергей Петрович тут же на берегу, под обстрелом, ремонтировал ее и отправлялся в очередной рейс. Когда Родину вручили медаль «За отвагу», он руками развел:
164
— Что я? Я ничего такого не сделал. Даже немца ни одного не убил...
Выходит, подвиги совершают не какие-то особые, «небом отмеченные» люди, а простые, обычные — такие, как все. Героями не рождаются, ими становятся. Важно приобрести необходимые качества. Чтобы совершить подвиг, надо самозабвенно любить свой народ, свою социалистическую Родину и ненавидеть ее врагов, быть непоколебимо уверенным в правоте великого дела Коммунистической партии, всегда готовым отдать жизнь за торжество ее идеалов.
Коммунистическая идейность — основа массового героизма. Бессмертные идеи ленинской партии явились тем животворным источником, откуда советские воины черпали силы для победы в жесточайших схватках с врагом. Эти идеи как магнит притягивали к партии лучших, достойнейших людей. В ее ряды вступали самые храбрые бойцы и командиры.
Помнится, в канун Курской битвы ко мне обратился боец М. С. Логвинов.
— В бой хочу идти коммунистом, — сказал он. — Клянусь, что не посрамлю высокого звания бойца ленинской партии!
В ходе боя на подразделение двинулись два вражеских танка. Логвипов, заметив танки и доложив о них командиру, под огнем противника перебежал в овражек, где стояло орудие старшего лейтенанта И. С. Загребного, помог расчету выкатить орудие на открытую позицию. Но тут случилась беда: вражеская пуля сразила наводчика. Логвипов стал к прицелу. Первыми же выстрелами оба танка оказались подбитыми. Когда они запылали, немецкие автоматчики не выдержали — бросились наутек.
Молодой коммунист был награжден медалью «За отвагу». Впоследствии Логвинов выступил инициатором патриотического почина: каждый номер орудийного расчета должен уметь заменить наводчика.
На той же Курской дуге, когда стало известно, что противник готовится утром 5 июля атаковать наши позиции, комсомолец Е. Т. Оценков, участвовавший до этого в нескольких танковых десантах и истребивший до 10 фашистских солдат, сказал:
— На моем участке враг сможет пройти только через
165
мой труп. Я подаю заявление о приеме в партию. Если погибну, считайте меня коммунистом.
Вместе с ним в ротную партийную организацию заявления подали еще девять человек. Все они сражались в бою геройски. Бойцы роты совершили поистине коллективный подвиг: не уступили врагу ни одного метра родной земли.
Для совершения подвига человек должен приобрести многие боевые качества. Это и мастерское владение оружием, и физическая закалка, и внутренняя собранность, дисциплинированность, воля к победе. Но главное, без чего невозможно стать героем, это любовь к Родине, преданность коммунистическим идеалам. Они окрыляют воина, помогают ему преодолеть любые трудности, ведут его на благородное дело.
В ПРЕДГОРЬЯХ КАРПАТ
Скоро, теперь уже скоро, товарищ подполковник! — Лечащий врач не желает продолжать разговор и торопится уйти. Я удерживаю его:
— Но сколько же можно лежать?! У меня и раны совсем зажили...
— Не будете лежать, они снова откроются. Скажем, когда можно будет вставать. Скажем.
Врач уходит, а я снова вытягиваюсь на опостылевшей койке. Вот уже четвертый месяц возят меня по госпиталям, латают, штопают. И успокаивают: все, мол, идет хорошо. Вытащили 26 осколков. Раны и в самом деле заживают лучше не надо.
Время, проведенное в госпитале, кажется бесконечно длинным, как зимняя ночь. Хочется на фронт, к дорогим и близким мне людям — боевым товарищам. Где-то они сейчас? Последнее письмо получил из-под Киева. Федор Васильевич Ледков сообщал о своих боевых делах, о том, что наша дивизия получила благодарность Верховного Главнокомандующего. А за овладение городом Коро-стень ей присвоено почетное наименование Коростень-ской.
Завидую однополчанам, хотя и знаю, что им сейчас дьявольски трудно. Во время боев за Коростень и Киев полк три раза форсировал Тетерев — приток Днепра. Когда фашисты снова прорвались к Киеву, подразделения полка по бездорожью прошли за сутки 70 километров и с ходу вступили в бой. Полк нес потери, но пополнялся людьми и снова сражался.
Забегая вперед, скажу, что ставший мне родным 1033-й стрелковый полк 280-й Краснознаменной Конотопско-Ко-
167
ростеаьской стрелковой дивизии прошел славный боевой путь. Его бойцы и командиры в составе войск 1-го Украинского фронта с боями прошагали от Днепра до Вислы, участвовали в обороне сандомирского плацдарма. 27 июля 1944 года полк вошел в город Львов, а уже 1 сентября на подручных средствах форсировал Вислу. Дальнейший путь его лежал через Вену к реке Нейсе и далее к Эльбе, где с 20 по 23 апреля 1945 года подразделения полка приняли участие в ликвидации группировки противника. Однополчане закончили войну на рубеже реки Эльба, где встретились с американскими войсками.
Но вернемся к февралю 1944 года.
Не знаю, какими словами описать свое состояние в тот день, когда наконец-то признали меня годным к строевой службе и я с радостью оставил за спиной госпитальную проходную.
Поезд доставил меня в Москву. В Главном политическом управлении предстояло получить новое назначение. Конечно, вернуться в свой полк вряд ли удастся, да там, наверное, и знакомых уже не осталось. Решил проситься на один из центральных фронтов. Судя по всему, на их долю выпадает самое большое солдатское счастье — вступить в Берлин. Не упустить бы этой возможности!
На фронт, к своему огорчению, я сразу не попал. Получил направление на шестимесячные курсы переподготовки политсостава, которые успешно закончил в августе 1944 года.
В Управлении кадров Главного политического управления мне предложили пойти начальником политотдела стрелковой дивизии на 4-й Украинский фронт. Признаться, это меня не очень-то радовало. Ведь Берлин-то находился на другом направлении. И я попросился на 1-й Украинский или 1-й Белорусский фронт. Но начальник Управления кадров признал мои доводы неубедительными.
— Впрочем, — сказал он, — решение о вашем назначении будет принимать Александр Сергеевич Щербаков. Он хочет видеть вас сегодня вечером. Ему и изложите свои пожелания.
И вот я у секретаря ЦК ВКП(б) и начальника Главного политического управления генерал-полковника А. С. Щербакова. Он тепло здоровается, приглашает к столу. Лицо у Александра Сергеевича пожелтело, осунулось, покрылось каким-то восковым налетом. Руки, на которые 168
падал свет настольной лампы, выглядят опухшими — пальцы словно налиты водой... Чувствовалось, что Александр Сергеевич серьезно болен, что он смертельно устал. Работы невпроворот, откладывать ее нельзя ни на день. И тем не менее этот человек находит возможность принять в сущности рядового политработника, обстоятельно побеседовать с ним перед тем, как поручить новое дело.
— Как ваше здоровье, настроение? — интересуется А. С. Щербаков. — Не дают ли знать себя раны?
— Здоров, настроение хорошее, готов выполнить любое задание! — отвечаю я.
А у самого, признаться, и раны побаливали, и желания были противоречивыми — по-прежнему манили к себе центральные фронты. Но я сдержал себя.
А. С. Щербаков подробно расспросил, где я воевал, имею ли представление о предстоящей мне работе, поинтересовался моим семейным положением и в заключение сказал:
— Поедете на Четвертый Украинский. Он сейчас воюет в предгорьях Карпат, а потом пойдет на Прагу. Направление очень важное, и вы должны рассматривать новое назначение как свидетельство большого доверия. Работать вам придется под руководством генерал-полковника Мехлиса. Это строгий, требовательный, порой даже резкий партийный руководитель. О нем много говорят. Сами понимаете, не всем требовательность приходится по вкусу. Это вам надо учесть.
Я вышел из кабинета полный решимости немедля взяться за дело, до конца оправдать оказанное мне доверие. В кармане у меня лежало подписанное А. С. Щербаковым назначение на должность начальника политического отдела 276-й Темрюкской стрелковой дивизии.
По пути на фронт я много думал о том, как лучше выполнить поставленные задачи, как меня встретят в политическом управлении фронта, в политотделе 1-й гвардейской армии, наконец, в самой дивизии. Чем она теперь занимается: обороняется или наступает? Как укомплектована личным составом, вооружением, техникой, транспортом? Сколько в дивизии коммунистов и комсомольцев? Очевидно, надо ознакомиться прежде всего с командным и политическим составом. Я строил различные варианты начала работы в политотделе, допускал самые трудные
169
из них. Ясно было одно: после ознакомления с положением дел в дивизии основное внимание аппарата политотдела должно быть направлено на работу непосредственно в полках и батальонах. Ведь политработники, партийные и комсомольские организации ждут квалифицированного руководства со стороны политотдела, ждут конкретной помощи, советов, основанных на передовом опыте. Уж в этом-то я смог хорошо убедиться, проработав три года в стрелковом полку.
Летом 1944 года 276-я дивизия находилась в составе 30-го стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии и вела активные боевые действия на Правобережной Украине. Полки дивизии вместе с другими соединениями фронта с боями форсировали Днестр, вышли к предгорьям Карпат и теперь имели задачу: достигнуть реки Сан, выйти на Государственную границу СССР.
Об этом мне сообщил командир дивизии генерал-май-ор П. М. Бежко. Петр Максимович рассказал также о боевом пути, пройденном дивизией. Боевое крещение она получила осенью 1942 года в районе Моздока. Самое активное участие полки дивизии приняли в Нальчикской оборонительной и в Краснодарско-Новороссийской наступательной операциях, в разгроме таманской группировки вражеских войск. 27 сентября 1943 года дивизия одной из первых ворвалась в Темрюк и вместе с другими частями Северо-Кавказского фронта и моряками-азовцами очистила город от гитлеровцев, за что ей было присвоено наименование Темрюкской. После этого дивизия была переброшена на 1-й Украинский фронт.
— Вы прибыли вовремя, Петр Андреевич, — сказал Бежко. — Нам предстоит преодолеть Главный Карпатский хребет, а это весьма сложно. Горы, ущелья, бурные реки. Перевалы наглухо закрыты, укреплены гитлеровцами. Приходится считаться с условиями местности. Все ляжет на солдатские плечи — машины здесь не пройдут.
— Когда намечается наступление? — поинтересовался я.
— Где-то в середине сентября.
Времени оставалось мало. Войска 4-го Украинского фронта совместно с левым крылом 1-го Украинского фронта должны перейти к штурму вершин Карпат на всем их 170
протяжении. Значит, надо прежде всего готовиться к наступлению, а уж знакомство с дивизией, ее командным и политическим составом, с коммунистами и комсомольцами осуществлять по ходу дел.
Воевать в Карпатах, судя по всему, будет тяжело. Во-первых, горно-лесистая местность. В этих условиях командирам и бойцам предстояло искать новые приемы и способы ведения боя, приобретать определенные навыки. Важно было уже сейчас, в период подготовки, решить многие вопросы, в том числе обучить воинов действиям небольшими группами, способам ориентировки в горах, в лесу, а также предусмотреть доставку боеприпасов по бездорожью, эвакуацию раненых, работу среди местного населения. Во-вторых, трудности усугублялись тем, что подразделения дивизии пополнились новичками, не участвовавшими в боях. Среди них было немало уроженцев западных областей Украины, как правило, плохо обученных, зачастую неграмотных, политически отсталых людей, долгое время находившихся под влиянием буржуазной пропаганды.
Все это приходилось учитывать при организации партийно-политической работы в частях. В ее основу были положены требования приказа Народного комиссара обороны № 70 и директивы Военного совета и политуправления 4-го Украинского фронта «Об организации политического подъема в войсках». Политработники, партийные и комсомольские организации разъясняли воинам особые условия, в которых нам приходилось действовать, напоминали о необходимости высокой бдительности, добивались четкой организации транспортировки грузов, питания, охраны штабов.
В батальонах, ротах и батареях были проведены партийные и комсомольские собрания, на которых обсуждался вопрос об особенностях боевых действий в горах и задачах коммунистов, комсомольцев. Состоялись также солдатские собрания в батальонах, делегатские собрания в частях, слеты бывалых, воинов — кавалеров орденов и медалей. Для офицеров были прочитаны лекции: «Великие победы Красной Армии и наши задачи», «Международное положение СССР». Доклады и лекции организовывались также для солдат. Только нештатные пропагандисты политотдела выступили с лекциями в 20 подразделениях.
171
Проводились многие другие мероприятия: подобраны материалы для подразделений об отличившихся в боях воинах; в приказах командиров полков и батальонов отмечены инициативные и храбрые бойцы; посланы благодарственные письма родителям героев; присвоены очередные звания достойным офицерам и сержантам; дивизионная газета «Призыв Родины» опубликовала серию очерков о ветеранах дивизии, методические статьи и памятки о действиях в горно-лесистой местности; в подразделениях проведены беседы, посвященные 27-й годовщине Великого Октября, коллективные прослушивания радиопередач; в клубе оформлена фотовитрина «Наши герои»; проведен семинар ротных запевал; перед личпым составом выступили с концертами коллективы художественной самодеятельности.
Это далеко не полный перечень того, что было сделано политотделом, командирами, политработниками и партийными организациями частей в течение очень короткого времени. И что особенно важно, нам удалось до начала наступления восстановить и укрепить партийные организации в ротах и батареях. Только в августе — сентябре в дивизии было принято в партию почти 200 бойцов и командиров.
На собраниях партийного актива полков, а затем и дивизии, посвященных задачам коммунистов в политическом обеспечении боевых действий в горных условиях, значительное внимание уделялось хозяйственным вопросам. Особенно нас волновала доставка в горы боезапаса и продуктов. И выход был найден. По инициативе коммунистов-хозяйственников весь гужевой транспорт частей был переведен на вьюки. Санитарные роты были обеспечены волокушами. Автомашины оборудовали дополнительными тормозными устройствами, снабжали канатами, лопатами. Многие виды горного снаряжения и имущества, упрощенные конструкции вьюков, седла, приспособленные для навьючивания мин, специальные вьюки для перевозки мин, «кошки» упрощенного типа — все это изготовлялось в войсковых мастерских и инженерно-саперных частях.
В дивизии проводились совещания хозяйственников. В одном из них участвовал член Военного совета 1-й гвардейской армии полковник М. В. Шевяков, который на месте помог нам организовать бесперебойное снабжение и питание воинов.
172
В целом же подготовка к наступлению велась всесторонне и широко. И в этом определенную роль сыграл политический отдел, выступивший инициатором и организатором многих полезных и важных мероприятий. Мы стремились идти в ногу с жизнью, строили свою работу с учетом конкретных задач, которые решала дивизия.
На первых порах политотдел составил план партийнополитической работы на период с 1 по 15 сентября. Однако план этот, утвержденный командиром дивизии, оказался нежизненным. Дело в том, что перед дивизией командование 1-й гвардейской армии поставило новую задачу — в ночь на 5 сентября совершить марш и принять от 167-й стрелковой дивизии участок обороны, который станет затем исходным рубежом для нанесения силами дивизии вспомогательного удара в направлении Загуж, Монастырец. (Главный удар предусматривалось нанести в полосе 107-го стрелкового корпуса.)
Нам, естественно, пришлось составлять по существу новый план, с тем чтобы предусмотреть меры, связанные с обеспечением марша, с воспитанием стойкости и бдительности у бойцов, несущих службу боевого охранения. Правда, из первого плана сохранилось все, что касалось подготовки к наступательной операции. Но теперь и эти мероприятия носили более конкретный характер. Да, планирование работы политоргана должно быть гибким и целеустремленным !
Основные задачи каждого работника политотдела определялись планом — этим важным организующим документом. Я, например, взял на себя подготовку собрания партийного актива дивизии, семинара политработников и однодневного семинара парторгов полков и батальонов. Заместитель начальника политотдела майор А. А. Бычков, капитан М. Я. Горький и старший лейтенант И. X. Самигуллин оказывали помощь партийным бюро полков в изучении базы роста партии. Они же занимались другими конкретными вопросами организационно-партийной работы (подбор заместителей парторгов рот, организация бесед с молодыми коммунистами и т. д.). Капитан Д. Ф. Новиков организовал содержательный семинар комсоргов, помог им обрести в бою роль подлинных организаторов молодежи.
Важное место в плане политотдела отводилось агитационно-пропагандистской работе. Это и семинары агита
173
торов, редакторов боевых листков и организация докладов, лекций и бесед о международной обстановке, об освободительной миссии Красной Армии, особенностях боевых действий в условиях горно-лесистой местности, о роли офицера (сержанта) в укреплении воинской дисциплины. Всем этим у нас занимался капитан Ф. П. Шишкин. Впрочем, только ли он? С беседами и докладами выступали все работники политотдела. Каждый из нас был и пропагандистом и агитатором. К чтению лекций привлекались также нештатные пропагандисты. Часто выступали с политическими докладами командир дивизии генерал-майор П. М. Бежко, его помощник по тылу полковник Д. Ф. Ры-даных.
Большую часть времени работники политотдела проводили в частях и подразделениях. Они вскрывали недостатки, помогали их устранять, объективно оценивая положение дел в ротах и батальонах.
Стиль работы политотдельцев — живое общение с бойцами, командирами и политработниками, готовность в любое время прийти к ним на помощь. Работников политотдела отличали самокритичность, я бы сказал, неудовлетворенность сделанным, беспокойство за порученное дело. Не жалуясь на трудности, не страшась опасности, они выполняли свои нелегкие обязанности с большим энтузиазмом, с полным напряжением духовных и физических сил.
С чувством глубокой признательности я называю имена своих боевых помощников и соратников — заместителя начальника политотдела дивизии майора Александра Антоновича Бычкова, старшего инструктора по оргпартрабо-те старшего лейтенанта Ислама Ходжиевича Самигуллина, секретаря партийной комиссии капитана Михаила Яковлевича Горького, пропагандиста политотдела капитана Филиппа Петровича Шишкина, инструктора по парт-учету капитана Сергея Ивановича Власова, инструктора по информации старшего лейтенанта Александра Ивановича Рогова, помощника начальника политотдела по комсомолу капитана Дмитрия Федоровича Новикова, начальника клуба дивизии капитана Ивана Яковлевича Кутового. Все они показали себя отличными организаторами.
Дружная совместная работа офицеров политотдела во многом способствовала хорошей подготовке дивизии к наступательным боям.
ОГНЕННЫЕ ПЕРЕВАЛЫ
Восточно-Карпатская наступательная операция началась утром 9 сентября 1944 года.
Войскам 4-го Украинского фронта противостояли 1-я немецкая танковая и 1-я венгерская армии, в составе которых имелись танковый корпус, 12 пехотных дивизий, 2 горнострелковые бригады, 11 отдельных батальонов, 3 артиллерийских полка, 5 артдивизионов и другие части. С учетом естественных горных преград и оборонительных укреплений эта группировка вражеских войск представляла собой внушительную силу.
50 минут тысячи орудий и минометов вспарывали мощную, глубоко эшелонированную оборону противника, после чего в атаку двинулись части 1-й гвардейской армии. Ее 107-й стрелковый корпус в первые же часы боя сумел прорвать систему вражеских оборонительных сооружений на участке Пловце, Струже Мале, Струже Вельке.
В дальнейшем, однако, противник оказал упорное сопротивление. Темп наступления снизился из-за ураганного минометно-артиллерийского огня. Наши части на ряде участков вынуждены были закрепляться на достигнутых рубежах. Накопив силы, гвардейцы снова совершали броски.
Наша 276-я дивизия вступила в бой сразу же после артподготовки. В первый день ее 876-й стрелковый полк под командованием подполковника А. Т. Пономарева успешно форсировал реку Сан в районе Заслава и, тесня гитлеровцев, закрепился на берегу. 871-й и 873-й стрелковые полки к вечеру без потерь переправились на захваченный плацдарм и сосредоточились на узком участке для ввода в бой на второй день операции.
175
С рассветом 10 сентября дивизия начала наступление в направлении Загуж, Монастырец. Оборона фашистов здесь была густо насыщена стрелковыми ячейками, пулеметными гнездами, хорошо замаскированными артиллерийскими и минометными позициями. В районе лесничества гитлеровцы оборудовали 6 дзотов. Перед окопами они поставили проволочные заграждения, установили фугасы. Часть домов на северной окраине города Загуж была приспособлена под пулеметные точки. Дороги в Загуж и Монастырец фашисты заминировали, мосты взорвали.
Все это сильно затрудняло захват намеченного рубежа. К тому же воины дивизии, привычные к действиям в степях Украины, не имели опыта ведения боев в горнолесистой местности. Против нас стояли значительные силы: до четырех батальонов пехоты 168-й немецкой дивизии, поддерживаемых двумя артиллерийскими дивизионами. Сюда была направлена также 385-я боевая группа немцев.
Тщательно разведав оборону противника, дивизия стремительно атаковала врага. В авангарде шли 3-й батальон 876-го и 1-й батальон 873-го полков. Продолжая развивать наступление, к 11 сентября мы вышли на рубеж Заслав, Загуж. В этих боях отличились многие бойцы и командиры. Можно сказать, что каждый час рождал новых героев. Но донесения из подразделений о подвигах не успевали за событиями, которые развивались стремительно, причем на широком фронте, в горах и лесах.
Отличился расчет 45-миллиметрового орудия, возглавляемый сержантом Станиславом Вохом. Он отбил одну за другой пять вражеских контратак.
В тот день расчет прикрывал с тыла горную дорогу, по которой прошли вперед наши войска. Замаскировав пушку у дороги, сержант навел ее в направлении, откуда всего скорей могли появиться гитлеровцы. И он не ошибся. Под прикрытием тумана немцы вскоре спустились с высоты, подошли к дороге метров на четыреста. Расчет открыл югонь прямой йаводкой и рассеял вражеских солдат. Однако они снова подкрались — на этот раз со стороны леса. Расчет оказался в невыгодном положении: стрельбе мешали деревья. Но Box не растерялся. Он приказал откатить орудие назад метров на сто пятьдесят, а когда немцы вышли на открытую местность, открыл по ним огонь.
176
Самой сильной оказалась последняя, пя1*ая по счету попытка врага пробиться к дороге. Но бойцы Воха проявили железную стойкость и боевое мастерство. Откуда бы ни появлялся противник, они тут же разворачивали пушку и били по нему прямой наводкой. Немцев поддерживал бронетранспортер, выбравшийся на высоту. Под огнем врага Box выпустил по машине несколько снарядов. Один из них угодил в гусеницу.
Тем временем уже начинало темнеть, и немцы лесом подкрались так близко, что расчет не успел развернуть орудие. По команде сержанта Воха бойцы расчета вооружились автоматами, открыли огонь. Дорога осталась за нами.
В Карпатах расчет маленькой пушки истребил до 70 немцев, разбил 6 пулеметов, подавил огонь многих огневых точек врага. Политотдел посвятил сержанту Станиславу Boxy листовку, которая имела большое воспитательное значение.
Запомнился подвиг комсорга 3-го батальона 873-го полка старшины И. Г. Сарычева. Дело было так. Гитлеровцы, закрепившись на правом берегу реки Сан, встретили батальон сильным огнем. Среди бойцов возникло минутное замешательство. Тогда комсорг, поднявшись в полный рост, воскликнул:
— За мной! Коммунисты и комсомольцы, вперед! — и первым прыгнул в воду. Его пример увлек бойцов. Противник был отброшен и в панике бежал.
Было отрадно, что б бою не дрогнули молодые бойцы, призванные из западных областей Украины. А из 871-го полка доложили: геройский подвиг совершил боец 7-й роты И. П. Шур, паренек из-под Дрогобыча. Он скрытно обошел группу фашистов, забросал их гранатами, а двух солдат принудил сдаться в плен.
За три дня напряженных боев, несмотря на высокий порыв бойцов и командиров, 1-я гвардейская армия продвинулась вперед примерно на 10 километров в 18-километровой полосе своего наступления. Темпы продвижения не могли удовлетворить командующего армией генерал-полковника А. А. Гречко, и он специальным приказом обязал «наступать, имея все три стрелковых полка в первом эшелоне». Командирам корпусов и дивизий предписывалось в течение ночи перестроить соединения в новый боевой порядок.
12 П. А. Горчаков 177
Мы с Петром Максимовичем Бежко всю ночь разъезжали по узким, не приспособленным к маневру горным дорогам, выводя в первый эшелон стрелковые полки дивизии, занимавшей двухкилометровую полосу по фронту, В темноте и по бездорожью это оказалось делом далеко не легким. И все же ценой большого напряжения нам удалось перестроить боевой порядок.
Ровно в 9 часов утра 12 сентября начался короткий артиллерийский налет, и бойцы, так и не отдохнувшие за ночь, ринулись в атаку. Они вгрызались в насыщенную до предела огневыми средствами оборону гитлеровцев и теснили их к Главному Карпатскому хребту. К исходу дня дивизии удалось пробиться к западному берегу реки Сан в район Лиско. А на другой день мы штурмом взяли важный опорный пункт гитлеровцев — Монастырец. Перед этим славно поработали расчеты 852-го артполка, сокрушив своим точным огнем вражеские оборонительные укрепления.
Историки отдадут должное полководческому таланту командующего 1-й гвардейской армией генерал-полковника Андрея Антоновича Гречко. В самый напряженный момент, когда резко снизились темпы наступления, он решительно, за одну ночь, изменил боевые порядки войск, сконцентрировав ударную силу соединений в первом эшелоне. Мы на опыте убедились в своевременности такого решения. Имея все три стрелковых полка в первом эшелоне, наша дивизия таранным ударом взламывала оборону врага и выбивала гитлеровцев с хорошо оборудованных позиций. 14 сентября мы овладели Гочевом, расположенным на западном берегу Сана, потом с ходу взяли Лиско —- важный в тактическом отношении узел дорог, а к исходу дня зашли в тыл 168-й немецкой пехотной дивизии, которая, избегая окружения, вынуждена была отойти в горы. Кстати сказать, эта дивизия нами была полностью разгромлена в сентябрьских боях.
Генерал-полковник А. А. Гречко довольно часто бывал в нашей дивизии. Приезжал он обычно с утра. Высокий, стройный, по-кавалерийски подтянутый, он неторопливо шагал по переднему краю, внимательно осматривая расположение подразделений на местности. Его тонкую гибкую фигуру в черном кожаном пальто бойцы и командиры замечали издалека, понимая, что, коль командарм здесь, значит, дивизии скоро снова идти в наступление.
178
Больше всех волновался при приезде А. А. Гречко Петр Максимович Бежко. И не потому, что боялся получить какое-либо замечание — в дивизии поддерживался должный порядок, — а опасался, как бы шальная вражеская пуля или случайно разорвавшаяся мина не задела командарма. Ведь на фронте всякое бывает! Как-то комдив прямо высказал свое опасение.
— Вы убеждены, что пуля отличает командующего армией от рядового бойца? — спокойно спросил Андрей Антонович.
— Нет, конечно...
— А ваши бойцы всю войну на переднем крае. Да и вы с начальником политотдела, как мне известно, не ползаете на животе по передовой.
— Так то мы, а то вы, — стоял на своем Бежко.
Мне казалось, что упрямство Петра Максимовича выведет из себя командарма. Но он поднял усталые глаза на командира дивизии и мягким голосом произнес:
— Я такой же защитник нашей Родины, как и все.
Андрей Антонович Гречко считал для себя само собой разумеющимся появление на переднем крае среди бойцов и командиров, которым в ближайшее время предстояла схватка с врагом. При этом командарм обходил весь передний край. На его вопросы о предстоящем бое, о противнике, о настроении бойцы отвечали охотно. Командующий обычно задерживался у артиллеристов. С дотошностью старшины осмотрит орудия, установленные на прямую наводку, поглядит в панораму, изучит карточку командира орудия, уточнит возможные цели.
— Как представляете себе бой? Доложите организацию артогня. Каким образом будут обеспечены стыки? Сколько в наличии боеприпасов? Как отработана взаимозаменяемость расчета? — засыпал он вопросами командира орудия, и тому приходилось основательно попотеть, дабы не ударить в грязь лицом перед генералом. Командарм всегда молча, не перебивая, выслушивал младших командиров, соглашался, когда те приводили доводы в пользу того или иного метода использования орудия в бою, давал советы. Командиры орудий любили непринужденные беседы с командующим армией и тщательнейшим образом, как к празднику, готовились к ним. Это в свою очередь повышало мастерство артиллеристов.
12* 179
После обхода переднего края А. А. Гречко шел на КП дивизии, снимал кожаную фуражку, подолгу смотрел на испещренную разноцветными карандашами штабную карту, потом садился на табуретку и просил комдива доложить обстановку. .Он имел завидную привычку — а точнее, полководческий такт, удачно сочетавшийся с его высокой культурой, — не объявлять своих решений до тех пор, пока не выслушает командира соединения или части.
Больше всего, пожалуй, Андрея Антоновича беспокоила организация артиллерийского огня перед началом наступления и в процессе самого боя. Чувствовалось, «богу войны» из всех родов войск он отдавал предпочтение. Волновало его и обеспечение стыков между батальонами, полками, дивизиями, корпусами. Как показал опыт сражений, противник всегда стремился ударить именно в стыки, полагая, что это слабое место в боевых порядках советских войск.
16 сентября был особенно памятным днем для воинов дивизии. К вечеру мы наконец-то вышли на Государственную границу СССР в районе пограничных столбов 43, 44, 45 и 46. Радости бойцов и командиров не было предела. Они поздравляли друг друга с победой, у многих на глаза навертывались слезы. Еще бы! Сбылась долгожданная мечта воинов, они очистили священную советскую землю от немецко-фашистских оккупантов.
Теперь можно было подвести и некоторые итоги нашего недельного наступления в предгорьях Карпат. А они оказались неплохими. После прорыва сильно укрепленной обороны гитлеровцев дивизия освободила 20 населенных пунктов, в том числе такие крупные, как Загуж, Мо-настырец, Гочев, Лиско, Безмихова Дольна, Безмихова Гурна, железнодорожные станции Загуж, Новый Загуж, Луковица. Полки дивизии очистили от оккупантов 150 квадратных километров советской земли, штурмом взяли 21 высоту, уничтожили до 1200 солдат и офицеров, захватили большое количество техники противника.
Нелегко, очень нелегко доставались эти победы. Бои были чрезвычайно ожесточенными. Только за последние два дня наступления вражеская пехота при поддержке танков и авиации предприняла свыше 20 контратак. Однако, несмотря на яростное сопротивление гитлеровцев, мы продолжали продвигаться вперед.
180
Подразделения несли потери, особенно в руководящем ядре коммунистов. Так, за период сентябрьских боев в 873-м полку сменилось 13, а в 871-м — 8 парторгов. Политработники в ряде подразделений менялись через каждые 2—3 дня. И все же нам удалось сохранить полнокровные партийные организации почти во всех ротах. Существенную помощь в этом оказал политотдел 1-й гвардейской армии во главе с полковником В. Г. Сорокиным, приславший в дивизию 50 политработников, закончивших лечение в госпиталях. Прибывшие коммунисты были направлены для укрепления ротных партийных организаций.
В связи с выходом на государственную границу в батальонах были проведены короткие митинги. Желающих выступить было много. Люди выражали нахлынувшую радость, чувство гордости за родную Красную Армию, которая вышвырнула за пределы Родины ненавистные гитлеровские полчища. На митинге 2-го батальона 876-го полка младший сержант Мохаметдинов сказал:
— Сегодня самый светлый день в моей жизни, самый счастливый день для моих земляков — узбеков. Потому что именно сегодня мы выгнали последнего гитлеровского захватчика с нашей родной земли. Отныне никогда больше фашистскому кованому сапогу не топтать советскую землю! Наша задача, наш долг перед любимой Родиной, перед порабощенными народами Европы — это добить смертельно раненного фашистского зверя в его собственной берлоге. Вперед, товарищи, через Карпаты на запад!
— Самый лучший агитатор в полку, — шепнул мне присутствующий вместе со мной на митинге заместитель командира полка по политической части майор Н. А. Колесов. — И боец отменный. В атаку поднимается всегда первым. Словом и делом увлекает своих земляков. Бойцы узбекской национальности за ним в огонь и в воду. Побольше бы нам таких.
— У вас в полку таких Мохаметдиновых десятки. Выдвигайте их смелее, — посоветовал я.
Наш политотдел уделял большое внимание воспитательной работе среди бойцов нерусской национальности. Дело в том, что в составе дивизии находились воины более чем тридцати наций и народностей, населяющих Советский Союз. Много было узбеков, таджиков, казахов, туркменов, азербайджанцев. Большинство из них плохо говорили по-русски.
181
В батальонах были подобраны переводчики и агитаторы из числа коммунистов и комсомольцев — уроженцев среднеазиатских или закавказских республик. Эти люди проводили беседы с земляками, помогали им овладеть русским языком, сообщали о последних новостях с фронтов Великой Отечественной войны. Работать агитатором было сложно: ведь его подопечные не формировались в отдельные национальные подразделения, а находились в общем строю. В условиях наступления, на марше собрать для беседы бойцов нерусской национальности удавалось редко. И тогда можно было наблюдать такую картину: идет взводная или ротная колонна, а вслед за ней бежит агитатор. Вот он, запыленный и разгоряченный, догоняет колонну, пристраивается к ней сбоку и, кое-как отдышавшись, что-то говорит товарищам на их родном языке. Каких-нибудь 10—15 минут, но как они дороги для бойцов нерусской национальности: агитатор успевает рассказать о сообщении Совинформбюро, передать призывы, с которыми политотдел, военные советы армии и фронта обратились к воинам.
Авторитет агитаторов был очень высоким. И в немалой степени потому, что все они, начиная от агитатора политотдела дивизии до агитатора взвода, не только призывали воинов на подвиг, но и увлекали их личным примером. Они служили образцом отваги и мужества, воинского умения и большевистского упорства.
Агитатор 8-й роты 873-го полка коммунист Хошальян по поручению партийного бюро проводил работу среди воинов-узбеков. Об ее эффективности говорит хотя бы такой факт: в роте за 20 дней наступления 12 молодых солдат-узбеков подали заявление о вступлении в члены ВЛКСМ. В бою за Гочев, увлекая бойцов в атаку, Хошальян пал смертью героя. Воины-узбеки поклялись отомстить врагу за смерть агитатора. Во главе с сержантом М. П. Шанаевым они ворвались на высоту и полностью истребили оборонявших ее гитлеровцев.
Во 2-й роте этого же полка среди бойцов-таджиков неотлучно находился агитатор комсомолец Ахмедов. Его беседы всегда пользовались успехом. А перед штурмом Монастырца Ахмедов подал заявление в парторганизацию, в котором писал: «Хочу сражаться с ненавистными гитлеровскими захватчиками коммунистом». Слово не разошлось с делом. Огнем ручного пулемета агитатор
182
истребил пулеметный расчет противника, а затем гранатой уничтожил еще трех фашистов.
Таких примеров можно было бы приводить много.
Политотдел дивизии рекомендовал агитаторам шире использовать в своей работе метод индивидуальных бесед. Не просто рассказывать о каком-либо событии, факте, а по-настоящему бороться за сердца и умы людей, завоевывать их доверие и расположение, внушать им свою убежденность.
Запомнился стиль работы с молодыми солдатами агитатора 6-й роты 871-го полка пулеметчика коммуниста А. В. Тарасова. Сам Андрей Владимирович — бывалый, обстрелянный боец. Воевал он с августа 1941 года, был дважды ранен. Его авторитет в роте, завоеванный личной храбростью и боевым мастерством, всегда оставался непререкаемым.
Перед, наступлением в роту прибыло пополнение из молодых, еще не обстрелянных солдат. Среди них был и рядовой Новиков, который почему-то тяготился фронтовой обстановкой. Агитатор, естественно, стал к нему присматриваться. Оказалось, юноша боится стрелять, не выносит разрывов. К тому же он тосковал по дому, где осталась большая семья.
Как-то вечером к Новикову, который, устроившись у коптилки, писал домой письмо, подсел Тарасов. Он снял гимнастерку, пододвинулся к свету, намереваясь пришить чистый подворотничок. Так, между делом, и завязалась беседа. Агитатор, конечно, заметил, что лицо юноши было грустным, он то и дело откладывал карандаш в сторону и о чем-то подолгу задумывался.
— Домой небось пишешь? — спросил Тарасов.
— Вам-то что? — нехотя откликнулся Новиков.
— Ежели домой строчишь, то приложи вот этот документ. — И агитатор протянул Новикову справку о предоставлении его семье предусмотренных законом льгот. — Самому небось невдомек, что о твоей семье государство думает?
— Спасибо! — обрадовался Новиков. — А я уже было растерялся совсем.
— Думаешь, попал на фронт — теперь наверняка убыот? — продолжал агитатор. — А я вот с начала войны в боях. И, как видишь, жив. А фашистов уничтожаю. Хочешь, и тебя выучу?
183
На другой день Тарасов взял новичка к пулемету. Бойцы внимательно наблюдали за вражескими позициями. Вот они заметили группу немецких солдат. Тарасов прицелился и дал длинную очередь: несколько фашистов упало.
— Здорово вы их! — воскликнул Новиков.
Но тут со стороны немецких позиций тоже раздалась пулеметная очередь. Почти одновременно неподалеку от окопа пулеметчиков разорвалось несколько вражеских мин. Новиков сразу же опустился на дно окопа.
— Да ты не бойся, не бойся, — подбодрил Тарасов новичка. — Фашист нас не видит. Это он для острастки пуляет. А я еще вчера заприметил, где у них пулемет стоит. Видишь за холмиком несколько кустиков? Возьми прицел на два пальца левее и дай туда. Небось замолчит!
Новиков так и поступил, как советовал агитатор. Он дал длинную очередь в указанное ему место, и немецкий пулемет замолчал.
— Вот ты и приговорил одного, — похвалил агитатор.— А еще говорил: «Боюсь!» Ты же храбрый парень.
— Да и не боюсь я их вовсе/— возразил, осмелев, молодой боец. — Чего там бояться?
Прошли дни. И вот Новиков сам подходит к Тарасову, протягивает письмо.
— Получил из дому. Маманя пишет, сельсовет дров привез, сена раздобыть помогли. Колхоз картошки выделил. Спасибо вам, товарищ агитатор.
— Не мне спасибо говори, -г- ответил Тарасов. — Советскую власть благодари — она нам всем мать родная. И стоять за нее крепко надо, себя не щадя. Понял ты это? Она о нас заботится, а мы ее подкрепляем. Так сообща мы врага и одолеем.
Со временем Новиков освоился на огневых позициях, стал умелым бойцом. Мастерство и отвагу он проявил в боях за Лиско, уничтожив 7 гитлеровских солдат.
Я подробно рассказал о работе одного агитатора. Да, Тарасов сумел подойти к солдату, затронул в его душе нужную струну. Но было бы неверно полагать, что метод Тарасова годится всегда и для всех. Ведь люди-то неодинаковы: у каждого солдата свои особенности, свой мир эмоций. Важно найти ключик к уму и сердцу человека, повлиять на него, помочь ему обрести уверенность в свои
184
силы. Именно в этом и состоит смысл индивидуальной работы агитатора.
В ходе наступления работники политотдела заботились о дальнейшем улучшении партийно-политической работы, особенно в частях и подразделениях первого эшелона. Перед нами каждый день вставали неотложные вопросы. Как расставить наличные силы коммунистов? Как восстановить партийные организации в той или иной роте и кем заменить выбывших из строя парторгов и комсоргов? Как своевременно вручить принятым в партию членские билеты или кандидатские карточки? Как организовать инструктирование агитаторов и редакторов боевых листков? Как обеспечить своевременную доставку бойцам пищи и боеприпасов? Десятки «как» заставляли нас, политотдельцев, почти непрерывно находиться в полках, причем не в штабах, а непосредственно в батальонах, ротах, отделениях, в тесном общении с солдатами и офицерами.
Сейчас, спустя десятилетия после окончания войны, меня нередко спрашивают о месте политработника в бою. Я, разумеется, далек от мысли давать рекомендации, годные на все случаи жизни. Невозможно, да и не нужно, па мой взгляд, расписывать по пунктам, где должен находиться начальник политотдела, его заместитель, другие политработники дивизионного и полкового звена в период обороны или наступления. Тут вряд ли уместны раз и навсегда установленные правила. Хочется подчеркнуть лишь одно: политработник призван быть творцом, новатором, искателем. Но искать и творить он должен не в одиночку, а вместе с людьми, опираясь на силу и ум коллектива.
И мы, повторяю, стремились быть в гуще событий. Как и другие работники политотдела, я часто находился в полках. Это давало возможность не только своими глазами видеть ход боевых действий, но и по мере сил оказывать на них воздействие, направлять усилия коммунистов и комсомольцев, всего личного состава подразделений и частей на успешное выполнение боевых задач.
Политработникам приходилось первыми подниматься в атаку, увлекать своим примером бойцов. Бок о бок с ними в атаку нередко шли и политотдельцы. Короче, мы всегда старались находиться там, где опаснее, где требовались смелые и решительные действия.
185
— Раз политотдельцы с нами — немцам своих позиций не удержать, — говаривали бойцы. И это было действительно так. Офицер политотдела не уходил из подразделения до тех пор, пока оно не выбьет гитлеровцев с укрепленного рубежа.
Начинания политотдела, его наметившийся стиль в работе были поддержаны командиром дивизии генерал-майором П. М. Бежко. Его особенно радовало, что работники политотдела днюют и ночуют в полках. И когда один из штабных офицеров попытался было умалить роль начальника политотдела, представить дело так, будто я, вместо того чтобы находиться на НП, «зря бегаю» по батальонам, «бравирую своей храбростью», Петр Максимович, собрав руководящий состав дивизии, заявил:
— Начальник политотдела так же, как и я, отвечает перед партией и правительством за состояние дивизии. А что до работы в подразделениях, общения с личным составом, то каждый из нас, в том числе и работник штаба, должен считать это своим первостепенным делом.
Разговор этот был настолько неожиданным, что я сразу даже не нашелся, что сказать. Ведь генерал знал меня всего лишь месяц! Не скрою, я проникся симпатией к строгому комдиву. Забегая вперед, скажу, что мы с ним бок о бок прошли оставшиеся месяцы войны. И не было случая, чтобы наши дела и даже мысли шли вразрез. Он относился ко мне с любовью и теплотой, но без какой-либо навязчивости, предоставив полную свободу действий. Иногда полусердито отчитывал меня, когда узнавал, что я вместе с бойцами штурмовал высоту или отбивал очередную контратаку противника. Почти все свои приказы он предварительно обговаривал со мной, посвящал меня в планы решений боевых задач дивизией.
Мы настолько сблизились душевно, привыкли друг к другу, что, казалось, всю жизнь были неразлучны. Петр Максимович не брал ложку в руку, пока не находил меня. Если же я был в войсках и не мог разделить с ним нехитрый солдатский обед, то комдив непременно звонил в часть и спрашивал, успел ли я пообедать. Умный, выдержанный, отлично подготовленный в военном отношении, он был нетороплив в принятии решений, но тверд в осуществлении их на поле боя, прост в обращении с офицерами и солдатами, доступен каждому в дивизии, справедлив в требованиях. Он не бросался очертя голову в атаку, но и
186
не кланялся фашистским пулям, не уползал на животе в надежное убежище от взрывов вражеских мин. Авторитет его в частях дивизии был непререкаем.
В ходе боев за Карпаты к нам прибыл новый начальник штаба — полковник Л. С. Дударов. Он стал хорошим и надежным помощником комдива. Любопытна история с назначением Леонтия Степановича. До этого он был ответственным работником штаба соседнего нам 2-го Украинского фронта, и однажды ему поручили доставить на самолете в Москву плененного советскими воинами венгерского генерала, командира корпуса, ярого хортиста по убеждению. В полете адъютант генерала, убедившись, что советский офицер вполне лояльно относится к пленным, учтиво предложил в виде презента великолепно изданную книгу. Дударов, раскрыв ее и на первых же страницах увидев карикатуру на Сталина, кулаком ударил по носу мило улыбавшемуся адъютанту. К тому на помощь поспешил генерал, но тут же от встречного удара отлетел к борту...
В Москву все трое прилетели с синяками. Особенно много их было на лице адъютанта. Полковнику Дударову пришлось расстаться со штабом 2-го Украинского фронта и пойти на понижение в нашу дивизию.
Первый этап Восточно-Карпатской наступательной операции продолжался весь сентябрь. 1-я гвардейская армия подошла к Главному Карпатскому хребту, а своим правым флангом на ряде участков даже перешла его. Наша 276-я стрелковая в составе 30-го корпуса с беспрестанными боями цродвигалась в направлении Русского перевала. 25 сентября полки дивизии в упорной схватке выбили противника из города Ясеник, а затем вышли на дорогу Белигруд — Циена. Через два дня мы подошли к Русскому перевалу, перед этим освободив Циену. Сделали попытку с ходу, вслед за 141-й стрелковой дивизией, только что введенной в бой, ворваться на перевал, но у Вельке Поляна встретили яростное сопротивление гитлеровцев и вынуждены были временно закрепиться на занятом рубеже. Закрепилась на занятом рубеже и соседняя 141-я дивизия.
Двадцать два дня непрерывных боев, бесконечных маршей по бездорожью и кручам, казалось, вконец измотали бойцов. К тому же в горах было холодно. Непрерывно
137
моросил мелкий дождь. Насквозь промокли, стали пудовыми шинели. Студеные капли стекали за ворот, попадали даже в сапоги. Был съеден последний сухарь. А тылы далеко. По горной тропе не пройти автомобилю, не проехать лошади с повозкой. В дополнение к своей боевой выкладке пехотинцу приходилось тащить на плечах ящик с. патронами, пудовый снаряд для артиллеристов. А враг — повсюду. Он подкарауливает на крутом перевале, в лесной чащобе, на берегу бурной речки. Трудно бойцу, очень трудно.
Вот артиллеристы 353-го отдельного истребительнопротивотанкового дивизиона с натугой, задыхаясь от усталости, тянут на вершину высоты 76-миллиметровое орудие. Крутизна тропы достигает 45 градусов. Неумолимая сила земного притяжения тянет орудие в пропасть. А оно тяжелее, чем облепившие его со всех сторон воины. Один впрягся в туго натянутые постромки, другой плечом упирается в щит. Третий с усилием проворачивает колесо...
— Ра-азом взяли! — сверкая глазами, командует коммунист старшина П. И. Пасенюк.
— Пошла, пошла!—подхватывают коммунист сержант Н. К. Тимапепко и комсомолец Я. Т. Чекешуб.
Остальные бойцы расчета тянут молча, сохраняя ритм дыхания. Дружным усилием они продвигают орудие на шаг-другой по густой, липкой грязи. Кто-то затем подсовывает под колеса бревна, чтобы пушка не скатилась вниз, а люди тем временем отдыхают. И опять:
— Ра-азом взяли...
Орудие наконец-то на вершине высоты.
Теперь старшина Пасенюк предлагает использовать лебедку со стальным тросом. Новшество оправдывает себя. Закрепив трос за толстый дуб, артиллеристы в считанные минуты и с меньшими усилиями втащили на вершину горы еще три орудия. И все это сделано так, что враг ничего не заметил.
Расчеты 852-го артполка поднимали орудия в разобранном виде, навьючив их на лошадей. В назначенный час все было готово и орудия ударили с высоты по вражеским позициям. Воинам 873-го стрелкового полка оставалось лишь на плечах ошеломленного противника ворваться в Смольник.
Дорогой ценой нам досталась высота 995, расположенная среди высоких, крутых, заросших лесом гор. Гитле-188
ровцы, используя естественные преграды, стремились любой ценой удержать свои позиции, не допустить нас на Русский перевал. Они несли большие потери, пытаясь столкнуть нас с лесистых круч. Высота несколько раз переходила из рук в руки. Только в ночь на 1 октября противник выпустил по ней около трех тысяч снарядов и мин.
П. М. Бежко приказал поставить всю артиллерию дивизии на прямую наводку и подавить батареи врага. Читателю, не побывавшему на упомянутой высоте, трудно даже представить, какие неимоверные усилия приложили советские бойцы и командиры, чтобы выполнить приказ. Они сделали такое, что не под силу было бы и суворовским чудо-богатырям Сен-Готарда.
В боях за высоту отличилась отдельная учебная рота капитана В. И. Дженкарашвили. В роте было всего 49 курсантов. Еще ночью 29 сентября они отразили четыре атаки численно превосходящих гитлеровцев. Утром фашистам удалось зайти с правого фланга. Они открыли огонь из всех видов оружия. Но оставшиеся в живых семь курсантов во главе с командиром не растерялись. Капитан Дженкарашвили стрелял из «максима» по вражеским цепям, а когда те залегли, поднял остатки роты в контратаку. Рядом с ним в контратаке участвовал комсорг роты старший сержант О. Т. Гончаренко. Он же потом доставил раненого командира в медсанбат.
Комдив послал два взвода на подкрепление, и высота 995 была полностью очищена от противника.
Всех отважных защитников высоты мы тут же представили к правительственным наградам. Командир отдельной учебной роты Дженкарашвили был удостоен ордена Красного Знамени. В числе награжденных Красной Звездой был пулеметчик ефрейтор И. Г. Касприн, отличившийся в бою за высоту с отметкой 1000. Он с группой разведчиков пробрался в тыл противника. Пулеметным огнем Касприн вывел из строя немецкий станковый пулемет, уничтожил 7 фашистских солдат, доставил в штаб ценные документы и три автомата.
В дни сентябрьского наступления нам, политработникам, приходилось решать многие задачи в комплексе, как говорится, одним духом. Тут и обеспечение атак, горных переходов войск, и работа с молодыми воинами, прибывшими из западных областей Украины, и расстановка партийных и комсомольских кадров, и забота о раненых, и
189
переписка с семьями погибших воинов, и прием в партию наиболее отличившихся бойцов и командиров, и контроль за доставкой пищи и боеприпасов, и общение с местным населением...
Да разве перечислишь все то, чем занимался политотдел в предгорьях Карпат!
Чтобы не распыляться, сосредоточить усилия политработников, партийных и комсомольских организаций па главном, решающем, мы определили на тот период три взаимно связанных направления партийно-политической работы:
— усиление напора на противника;
— повышение бдительности на переднем крае;
— обеспечение питания бойцов и доставки боеприпасов.
Усиление напора на противника, поддержание высокого наступательного порыва воинов во многом зависело от правильной расстановки партийных сил. Потери, которые несли ротные и батальонные парторганизации, восполнялись двумя путями: приемом в партию лучших, наиболее отличившихся в боях воинов и перестановкой коммунистов из тыловых подразделений.
Член партии старшина роты Е. Е. Денисенко отлично справлялся со своими обязанностями. Как бы ни были трудны условия, бойцы роты всегда получали горячую пищу, своевременно обеспечивались боеприпасами, всем положенным довольствием. Но в разгар боев пулеметная рота потеряла много коммунистов, ее атакующие цепи требовалось срочно укрепить коммунистами. И старшина Денисенко стал наводчиком станкового пулемета. В бою за Смольник он метким огнем подавил две огневые точки противника. Достойно сражался коммунист и в последующих боях, за что был представлен к правительственной награде.
Коммуниста сержанта Е. А. Печенюка из транспортной роты перевели в стрелковую, назначили первым номером ручного пулемета. В бою за высоту Безымянную он и его товарищи наскочили на противопехотное минное поле. Казалось, придется залечь в ожидании саперов. Но в бою и минута дорога. И коммунист Печенюк нашел выход.
— По минному полю, — воскликнул он, — гранатами... огонь!
190
Несколько брошенных гранат проложили проход в минном поле, и бойцы вновь устремились вперед. Пече-нюк первым ворвался в траншею и уничтожил нескольких гитлеровцев.
Итак, в нужный момент мы перебрасывали коммунистов с одних участков на другие, более важные, но в этом отношении возможности у нас были крайне ограничены. Между тем потери среди партийцев были велики. Ведь большевики всегда шли впереди и в этом видели свою единственную привилегию.
Основным резервом пополнения ротных партийных организаций по-прежнему были комсомольцы-активисты, лучшие бойцы и командиры. Их, желающих стать коммунистами, было много.
Назову лишь одну цифру: в ходе сентябрьских боев партийные организации дивизии приняли в члены и кандидаты партии в общей сложности 223 человека. Рассмотреть заявления, проверить анкетные данные, рекомендации, побеседовать с каждым, вручить вновь принятым партбилеты или кандидатские карточки непосредственно на передовой — какое это огромное дело! Молодые коммунисты тут же шли в атаки, своим примером увлекали на подвиг однополчан.
База роста партийных рядов по-прежнему была весьма значительной. В ротах и батальонах было много достойных, проверенных людей. Ведь только в последних числах сентября за подвиги в боях было награждено 123 бойца и командира. А партийная прослойка в подразделениях, как я уже отмечал, уменьшалась из-за боевых потерь. По состоянию на 15 октября в 873-м стрелковом полку, например, насчитывалось лишь 70 членов партии и 42 кандидата. В 1-й роте этого полка оставался один кандидат, в 4-й — один член партии и один кандидат.
Заботясь о дальнейшем укреплении партийных организаций в Красной Армии, Центральный Комитет ВКП(б)’ 14 октября 1944 года рассмотрел вопрос о приеме в ряды партии советских воинов. Центральный Комитет потребовал от партийных организаций неуклонного соблюдения принципа индивидуального отбора в ряды партии, усиления воспитательной работы среди коммунистов. Руководствуясь требованиями постановления ЦК и директивы Главного политического управления Красной Армии, мы стремились к тому, чтобы среди принимаемых в пар
191
тию возрастал удельный вес солдат и сержантов. При этом упор делался на отбор в партию воинов, непосредственно участвовавших в боях, — стрелков, пулеметчиков, бронебойщиков, минометчиков, артиллеристов, связистов.
Перестройка работы по приему в партию сказалась на росте численности и улучшении качественного состава партийных организаций. В октябре, после жестоких боев, число коммунистов в дивизии составляло 915 человек, причем 162 из них — вновь принятые. Удалось увеличить партийную прослойку и в ротах. Теперь в дивизии оставалось 14 подразделений, в которых все еще не было партгрупп (в сентябре таких подразделений насчитывалось 37). Словом, партийная организация дивизии росла и крепла, ее влияние на все стороны жизни и боевой деятельности частей и подразделений все более усиливалось.
Больше внимания мы стали уделять идейно-политическому воспитанию коммунистов. Были приняты меры по улучшению работы дивизионной школы партийного актива. При первичных организациях, где насчитывалось более 15 коммунистов, создавались политшколы. Занятия в них проводились, если позволяла боевая обстановка, один-два раза в неделю по два часа. Изучались отдельные темы истории партии, Устав ВКП(б), текущая политика. Руководили занятиями политработники и наиболее подготовленные офицеры батальонного и полкового звена.
Содержательнее и острее стала агитационно-пропагап-дистская работа, многообразнее ее формы и методы. Заметно увеличилось число радиотрансляционных точек, киноаппаратуры. Воины во втором эшелоне, а нередко и непосредственно на передовой, смотрели фильмы. В подразделения регулярно доставлялись газеты и журналы. Агитаторы проводили беседы на самые актуальные темы.
Запомнился агитатор взвода коммунист А. Г. Богдан. Он ежедневно беседовал с бойцами, читал им сообщения Совинформбюро, газеты. И был примером в бою. А когда в схватке за высоту 518 батальон глубоко вклинился в немецкую оборону и возникла угроза его окружения, коммунист Богдан воскликнул:
— Стойте крепко, товарищи! До последнего дыхания будем бить фашистов!
— Вперед! — приказал командир батальона.
192
— За Родину, вперед! — подхватил Богдан и первым бросился в атаку. С дружным кличем «ура!» бойцы устремились вслед за агитатором. Гитлеровцы не выдержали напора и побежали. Богдан захватил в плен немецкого офицера, сразил нескольких солдат. Однако и сам в рукопашной схватке был смертельно ранен.
Широко использовалась в агитационной работе и такая форма, как переписка с родными отличившихся бойцов. Помнится, у нас в дивизии служили три брата Матушев-ских — Николай, Иосиф и Петр, уроженцы села Буевичи, что под Дрогобычем. Все они воевали хорошо, о чем мы и сообщили их родителям. Наше письмо, а также очерк «Три брата» были опубликованы в дивизионной газете «Призыв Родины».
Нередко в подразделения доставлялись «молнии». Это небольшие рукописные листовки, которые служили оперативным средством информации и посвящались подвигам воинов. Так, в районе села Ианова погиб храбрый пулеметчик офицер Высокий. Политработники 871-го полка тут же отправили в подразделения «молнию». У меня сохранилась выдержка из этой листовки:
«...Смертью героя погиб младший лейтенант пулеметчик Высокий, который уничтожил более 50 гитлеровцев. Отомстим за смерть героя! Вперед, товарищи, на полный разгром врага!»
Перед боем за населенный пункт Мазепловцы я прибыл в 876-й стрелковый полк. На КП находились командир полка подполковник А. Т. Пономарев и начальник штаба майор И. Р. Голосюк. Чувствовалось, оба были чем-то взволнованы.
— Что-нибудь случилось, Алексей Тимофеевич? — поинтересовался я.
— Только что доложили: найден труп убитой гитлеровцами девочки. Бойцы бегают смотреть — вдруг дочь или сестренка? А время-то идет, надо готовиться к наступлению.
Я предложил командиру полка вместе пройти к месту происшествия. Бойцы расступились, и мы увидели удручающую картину. На земле с рассеченной головой лежала девочка лет десяти — двенадцати. Рядом валялась окровавленная лопата. Видимо, ею и было совершено преступление. Коммунист Аласания, который первым обнаружил жертву фашистского варварства, протянул мне
13 П. А. Горчаков 193
найденную в кармашке фартука девочки записку. Я прочел:
«Мама, я удавлюсь, но в Германию не поеду и окопы для немцев рыть не буду. Галя».
— Собрать бы полк на митинг, — сказал я Пономареву.
Тот понимающе кивнул головой, и через несколько минут полк был построен в каре. Взяв тело девочки на руки, коммунист Аласания обошел строй бойцов, потом произнес взволнованную речь:
— Тебя звали Галя, родная советская девочка. Но мы не знаем, откуда ты, кто твои родители, как ты попала сюда и кто оборвал твою едва начавшуюся жизнь. Зато мы .знаем, что ты — настоящая героиня. Не щадя своей юной жизни, ты гордо и смело бросила вызов ненавистному врагу, отказалась рыть окопы фашистским гадам...— Аласания громко, чтобы слышали все бойцы, зачитал записку, найденную у Гали, и так закончил свою речь: — Родная советская девочка! Мы, бойцы, никогда не забудем тебя, твоего подвига. В наших сердцах будет ярко гореть огонь твоей ненависти к оккупантам. Мы уничтожим гитлеровский фашизм!
Вытирая скупые мужские слезы, Аласания отошел в сторону.
— Не нужно речей, товарищи бойцы и командиры! — сказал я, заметив движение в рядах воинов. — Через полчаса идем в бой. Проверьте и подготовьте оружие. И пусть весь заряд ненависти, заложенный в наши сердца, обрушится на трижды заклятых гитлеровцев. Никакой пощады врагу!
— По местам! — скомандовал командир полка Пономарев. — Приготовиться к бою.
Митинг длился не более 15 минут. Но так велико было его воздействие на бойцов, что они буквально разнесли оборону немцев у Мазепловцев. Теряя десятки убитых, бросая оружие, гитлеровцы панически бежали с поля боя.
Я позволил себе задержать внимание читателя на содержании и формах партийно-политической работы, направленной на повышение боевой активности войск, на усиление их напора на врага. В известной мере эти же формы использовались и при решении других, не менее важных задач. Взять, к примеру, вопросы бдительности.
194
В условиях Карпат они приобретали значение еще и потому, что часть местного населения еще не освободилась от влияния антисоветской пропаганды. Враждебные элементы распускали всевозможные слухи о применении Гитлером нового сверхмощного оружия. Ёогатеи и замаскированные бандеровцы утверждали, что вот-вот гитлеровцы снова оккупируют Карпаты и отбросят советские войска далеко на восток. Были случаи шантажа, подстрекательства и даже нападения на отдельных бойцов и командиров со стороны мелких групп буржуазных националистов.
Во многом нам помогали сотрудники особого отдела «Смерш» дивизии во главе с подполковником И. Г. Навроцким. Иван Григорьевич до тонкости знал и самозабвенно любил свою нелегкую работу. Он, как я мог убедиться, олицетворял собой лучшие черты чекиста, работоспособности которого можно было позавидовать. Его часто видели в полках, батальонах, ротах и взводах. Особисты всемерно содействовали командованию и политотделу дивизии в повышении политической бдительности личного состава.
У нас проводились партийные и комсомольские собрания, а также солдатские собрания, посвященные повышению политической бдительности. Коммунисты, командиры и политработники разъясняли личному составу сложившуюся обстановку. В ротах, взводах и отделениях ежедневно проводились беседы о происках вражеской агентуры. Мы учили бойцов умению отличать истинных друзей Красной Армии от кулацких элементов, поддающихся буржуазно-националистической пропаганде. Воинам рекомендовалось не останавливаться на ночлег у богатеев, не отлучаться далеко от своих частей и подразделений, ходить только группами с тем, чтобы оградить себя от внезапных вражеских провокаций.
Должен подчеркнуть, что в борьбе с буржуазно-националистическими элементами мы опирались на местное население. Заместители командиров по политчасти полков и батальонов встречались с местными коммунистами, руководителями общественны/ Организаций, активно участвовали в митингах и собраниях рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции. Часто перед жителями освобожденных населенных пунктов выступали политотдельцы — майоры Бычков и Власов, капитаны Горький и
195
Шишкин, старшие лейтенанты Самигуллин и Рогов. Доводилось выступать и нам с комдивом П. М. Бежко.
Запомнился митинг в селе Терка. Жители села с большим интересом выслушали доклад об успехах Красной Армии, а потом наперебой стали рассказывать о грабежах и насилиях, которые чинили гитлеровцы. Село сильно пострадало от обстрела немецкой артиллерии. Половина домов выгорела. Многие жители погибли.
— Отомстите фашистским извергам за все наши муки, — просит пожилая женщина с заплаканными глазами.
Слезы вдов и сирот до глубины души трогают каждого из нас.
В селе Циена на митинг пришли жители со всей округи. Не было недостатка в выступающих. Затем демонстрировались фильмы «Возвращение Максима», «Выборгская сторона». Впечатление, прямо скажем, потрясающее. И так всюду — население освобожденных районов, как пересохшая земля росу, впитывало правдивую информацию о советской стране, о Красной Армии.
Мне остается сказать еще об одном направлении партийно-политической работы — об обеспечении питания и снабжении боеприпасами. Это участок, которым политотдел дивизии, политработники частей и подразделений занимались изо дня в день. Генерал-майор П. М. Бежко и я, как начальник политотдела, требовали, чтобы командиры и их заместители по политической части, парторги и комсорги знали, чем накормлены бойцы, как обеспечены обмундированием, какое имеется количество оружия и боезапаса в отделениях, взводах, ротах, пути и время их доставки со складов. Начальник тыла дивизии полковник Д. Ф. Рыданых ежедневно докладывал комдиву и мне о наличии в дивизии продуктов питания и боезапаса, об организации их подвоза из армейских складов, о состоянии транспорта, минимальном сроке доставки боезапаса в боевые порядки подразделений.
При посещении подразделений и частей работники политотдела прежде всего интересовались, как накормлены и обеспечены боезапасом бойцы. И тому командиру, который не мог внятно ответить, не позавидуешь: о недостатках сразу же докладывалось командиру дивизии, и Петр Максимович Бежко, как говорится, снимал стружку.
Вопросы питания и снабжения войск обсуждались на заседаниях партбюро батальонов и полков. В этих 196
заседаниях, как правило, участвовали представители командования и политотдела дивизии.
Трудностей у нас было много. Но, несмотря на сложные условия Карпат, бойцы и командиры были всегда обеспечены всем необходимым. В этом прежде всего заслуга работников тыла дивизии, возглавляемых полковником Рыданых.
В целом же партийно-политическая работа в период сентябрьского наступления отвечала сложившейся обстановке. Боевой порыв воинов оставался неиссякаемым. Бойцы и командиры готовы были начать второй этап Восточно-Карпатской операции.
Впереди высится Главный Карпатский хребет. Его горные вершины сплошной стеной отделяют нас от Венгерской равнины, куда предстоит войти советским войскам, Кажется, не одолеть их, не перешагнуть. Но настроение у воинов бодрое.
— Даешь Карпаты! — то и дело слышатся возгласы солдат и офицеров.
Мы с Петром Максимовичем стоим на гребне высоты и в бинокли рассматриваем обросшие лесом зубчатые горы. Где-то среди них проходит Русский перевал, на который нацелена паша дивизия.
— Узка дорожка... И крута, — вздыхает Петр Максимович. Артиллерия по ней не пройдет. А без огневой поддержки...
— Пустим в ход «карманную артиллерию», — в тон комдиву говорю я, имея в виду самый испытанный вид оружия — гранаты. Неоднократно они выручали нас, когда требовалось пробиться сквозь вражеские заслоны. Правда, то было на равнинной местности, а здесь горный массив. Даже метать гранаты не сподручно.
— Без артиллерии жертв много будет, — стоит на своем Бежко. — А нам люди на равнине нужны. Впереди бои за Будапешт, Вену, Прагу.
Комдив конечно же прав. Надо постараться избежать потерь. Ведь новички, которые к нам поступят, несмотря на их старание, нескоро заменят в строю опытных, закаленных в огненных схватках бойцов. А пока молодежь успеет освоиться, возможны дополнительные потери.
— По дороге не пойдешь, — продолжает размышлять
197
вслух Петр Максимович. — По ией немцы сосредоточат огонь.
— Полезем по скалам, — говорю я. — Ведь наши воины настоящие альпинисты.
Действительно, упорные бои в предгорьях Карпат многому вас научили. Люди преодолели в себе боязнь гор и лесов, приобрели навыки подъема и спуска по кручам, умело пользовались альпенштоками, «кошками», веревками и другим снаряжением альпинистов. Теперь кое-кто даже бравировал пренебрежительным отношением к горам.
Надо сказать, что решение командования 4-го Украинского фронта нанести удар по противнику через Карпатские хребты было весьма смелым. Ведь история войн не знала подобных примеров. Теперь же предстояло преодолеть Карпаты большим массам войск с тяжелым вооружением и техникой, да еще в условиях отчаянного противодействия врага.
Карпатский хребет представлял собой гигантскую естественную преграду. Восточная часть хребта, которую штурмовали войска 1-й гвардейской армии, — это горный иояс шириной от 80 до 100 километров, изобилующий вершинами, густо поросшими лесом, быстрыми реками, узкими лощинами. Высота хребта достигала 1500 метров над уровнем моря. Противник чрезвычайно искусно использовал естественные преграды, усилил их оборонительными сооружениями. На всю свою глубину Карпаты являлись мощпым оборонительным поясом врага.
Штурм карпатских вершин намечался на 2 октября. Оп возлагался на главные ударные силы фронта — 1-ю гвардейскую и 18-ю армии. Наша 276-я Темрюкская стрелковая дивизия, по-прежнему входившая в состав 1-й гвардейской армии, должна была наступать из района Велька Поляна на Русский перевал. В приказе генерал-полковника А. А. Гречко, полученном нами накануне, говорилось:
«...30-му стрелковому корпусу продолжать удерживать занимаемые рубежи, нанести противнику всеми видами огня наибольшие потери.
Частью сил 276-й стрелковой дивизии, 15-й инженерной бригадой, 141-й стрелковой дивизией во второй половине дня нанести концентрированный удар с задачей овладеть перевалом севернее Руске и Руске.
Готовность к действиям— 13.00 2.10.44 г.».
198
Из резерва фронта 1-й гвардейской армии был передан 107-й стрелковый корпус генерал-лейтенанта Д. В. Гордеева для действий на главном направлении. Этому корпусу теперь придавались наша 276-я и 30-я стрелковые дивизии, выведенные из 30-го стрелкового корпуса.
Штурм Русского перевала успеха не имел. Немцы встретили пас сильнейшим, хорошо организованным огнем. Пришлось остановиться, перегруппировать силы, подтянуть артиллерию. Утром 5 октября мы вновь пошли на штурм Русского перевала.
В труднейших условиях высоких гор, бездорожья, беспрерывных проливных дождей наши войска взламывали вражескую оборону. Каждый солдат и командир в этом штурме по праву был истинным героем.
Хорошо помню бой за высоту 645. Ее 8 октября взяла 5-я рота 871-го стрелкового полка, а затем несколько часов подряд отбивала контратаки гитлеровцев, пытавшихся вернуть утраченные позиции. Защитников высоты осталось мало, у них уже были на исходе патроны. Между тем фашисты усиливали натиск.
За ходом боя мы с командиром 2-го батальона наблюдали в бинокли. Вот комбат нахмурил брови и, подозвав старшего адъютанта батальона Гашкина, сказал:
— Не пойму, что делается на высоте. И связи нет. Иди-ка туда, разберись на месте. Да помни, высота для нас дороже золота.
Капитан Гашкин то перебежками, то ползком добрался до высоты. А что произошло дальше, я узнал со слов самого Гашкина и других участников события.
— Хто идэ? — окликнул его из-за куста невидимый часовой.
— Капитан Гашкин, — ответил офицер. — А ты кто?
— Рядовой Иван Григорьевич Ситник.
— Ну, веди меня, Иван Григорьевич, к командиру.
— Нема командира, — горестно вздохнул Ситник, выступая из-за кустов. — Убили командира.
— В армии командир всегда должен быть, — сказал Гашкин. — А раз его у вас нет, командовать буду я. Иди за мной!
Капитан поднялся на вершину высоты, осмотрел группу бойцов, сидящих в неглубоком окопчике.
199
— Не унывать, орлы! Скоро подмога будет. Продержимся!
И он принялся за дело. Проверил готовность воинов к бою, отправил связного с донесением к комбату, организовал круговую оборону.
Иван Ситник, молодой боец, прибывший с пополнением из-под Дрогобыча, как тень следовал за капитаном.
— Фашисты идут! — воскликнул вдруг наблюдатель, заметив серо-зеленые цепи, выбегавшие из чащи леса.
— По местам! — приказал капитан. — Без команды не стрелять!
Припали к винтовкам, к пулеметам бойцы. Ждут. А гитлеровцы все ближе, ближе... Вот уже они у вершины высоты...
— Огонь!
Падают скошенные пулями враги, но цепь атакующих не может сразу отпрянуть назад. Кое-кто из вражеских солдат с разбегу добрался чуть не до самой вершины. Бойцы встретили их гранатами, выстрелами в упор.
Капитан Гашкин из пистолета уложил трех фашистов и, уловив чутьем опытного военного перелом в ходе боя, закричал:
— Больше огня, товарищи! Сейчас они побегут.
И верно, фашисты дрогнули. Гашкин выпрыгнул из окопа и обернулся к бойцам, призывая их вперед. В это время притаившийся в кустах гитлеровец поднял свой автомат, намереваясь сразить советского офицера. Иван Ситник опередил врага. Меткий выстрел молодого бойца спас жизнь командиру.
Высота осталась за нами.
Памятен подвиг артрасчета старшины Н. А. Богачева. 12 октября в бою возле села Руске этот расчет на руках вкатил орудие на скаты холма и точными выстрелами разбил штаб воинской части противника. Об этом стало известно командиру дивизии.
— От лица службы благодарю вас за смелость, за воинское мастерство! — сказал артиллеристам Петр Максимович, а потом лукаво добавил: — Только орудие-то вы па маленькую горку выкатили. А впереди, видите, вон какие горы!
Бойцы посмотрели па сияющие вершины Карпат. Кто-то вздохнул, а кандидат в члены партии наводчик орудия Б. И. Михайленко с полной серьезностью сказал:
200
— Герой не останавливается перед горой, товарищ генерал. Одолеем.
Экспромт этот прозвучал так неожиданно, что все мы, присутствующие при разговоре, невольно заулыбались. С тех пор фраза: «Герой не останавливается перед горой» — стала крылатой, пошла гулять по подразделениям.
Во время боев в Карпатах шутки, афоризмы, поговорки были в большом ходу; они отражали духовный подъем воинов, их оптимизм, твердую уверенность в неминуемой и близкой победе над врагом. В полках возродилась суворовская традиция: советы новичкам о правилах боя излагать в афоризмах. Вот некоторые строки из созданной тогда коллективным творчеством бойцов и офицеров науки побеждать: «Обход и охват — кратчайший путь к победе в горах», «Без хлеба неделю проживешь, без гранаты — ни часу», «Стремись всегда быть сверху над врагом».
До 20 октября дивизия не выходила из боев. Нам, работникам политотдела, все это время приходилось бывать в ротах и батальонах. Майор Бычков, капитаны Власов, Шишкин, Горький, Новиков, старшие лейтенанты Самигуллин и Рогов находились, как правило, там, где было более всего опасно. Политотдельцы делили с воинами трудности походной жизни, помогали командирам и политработникам частей и подразделений мобилизовывать личный состав на выполнение поставленных задач. И я не припомню случая, чтобы в атакующих цепях не было политотдельца, если он в тот день находился в данной части или подразделении. Хочется сказать доброе слово о заместителе начальника политотдела майоре А. А. Бычкове. Александр Антонович был всесторонне образованным политработником, способным оперативно и доходчиво довести до личного состава требования командования. Он постоянно заботился о воинах, был требователен к себе и подчиненным. Его любили в подразделениях; люди тянулись к нему, делились с ним самым сокровенным.
Нам было приятно бок о бок трудиться с майором Бычковым. Он всегда находился в курсе боевой обстановки. Мне не приходилось ему указывать, в какое подразделение нужно идти. Он сам знал, где в данный момент сможет принести больше пользы.
Не занимать было Александру Антоновичу храбрости и отваги. Часто его можно было видеть в атакующих
201
цепях подразделений. А в бою под селом Терна, когда Противник пытался выбить 2-й батальон 871-го стрелкового полка с высоты 458, заместитель начальника политотдела дивизии, находившийся в боевых порядках батальона, поднял бойцов в контратаку. Враг был опрокинут.
Отличился в октябрьских боях и старший инструктор политотдела старший лейтенант И. X. Самигуллин. Ислам Ходяшевич словом и примером увлекал за собой бойцов и командиров. Он, казалось, поспевал всюду, где шли жаркие схватки. Таким Самигуллин и запомнился мне на всю жизнь — смелым, горячим, готовым отдать жизнь ради достижения победы.
В период штурма карпатских вершин в 276-ю дивизию довольно часто наведывалось командование 4-го Украинского фронта. Это мы расценивали как внимание к нашим боевым действиям. Впрочем, командующего фронтом генерал-полковника И. Е. Петрова беспокоила обстановка в каждой полосе наступления. И он ввел себе за правило ежедневно бывать хотя бы в одной из дивизий.
И. Е. Петров чем-то напоминал командарма А. А. Гречко. Та же уравновешенность, способность непринужденно вести беседу с солдатом или командиром, умение внимательно выслушивать доводы собеседника; та же интеллигентность, эрудиция глубоко образованного человека. За всем этим угадывался ум и талант видного военачальника.
Командующего фронтом прежде всего интересовало наличие бойцов в дивизии, их наступательный дух, обеспечение боеприпасами, знание боевых задач каждым исполнителем, мероприятия штаба и политотдела к предстоящему бою. Интересовался он и бытом воинов: как и чем они питаются, всегда ли доставляются обеды на передовую, все ли обуты и одеты, нет ли простуженных. Слушая наши доклады, И. Е. Петров беспрерывно подергивал головой. Вначале мы с Петром Максимовичем не могли понять, одобряет он этим жестом наши действия или осуждает. Но подергивание головой, как скоро выяснилось, было следствием контузии. О реакции генерал-полковника на доклад лучше всего можно было судить по глазам, внимательно изучавшим собеседника из-под стекол пенсне. Под конец беседы, когда командующий убеждался в боеспособности дивизии, он спрашивал о наших нуждах. И мы с комдивом докладывали свои просьбы, 202
иногда желая кое-что заполучить впрок: мало ли что Может случиться? Генерал-полковник на минуту задумывался, очевидно взвешивая все «за» и «против», и тут же или соглашался с нашими доводами или категорически отвергал их. Отвергал он, как правило, именно то, чем мы хотели запастись впрок. А что обещал — всегда выполнял.
В дни штурма Русского перевала на НП дивизии прибыл член Военного совета фронта генерал-полковник Л. 3. Мехлис. Приехал он неожиданно, без оповещения. Я помнил, что говорил о нем А. С. Щербаков, беседовавший со мной перед назначением, и теперь с нескрываемым любопытством рассматривал генерала.
Член Военного совета потребовал подробно доложить обстановку. Он внимательно выслушал доклад П. М. Бежко, отметил, что численность наших войск и войск противника примерно одинакова, а вот артиллерии и снарядов у гитлеровцев больше. Вместе с тем Л. 3. Мехлис упрекнул нас в том, что мы якобы преувеличиваем встречающиеся трудности.
Пока мы докладывали члену Военного совета, гитлеровцы обрушили на позиции дивизии шквал артиллерийского огня. Полтора часа они били по горам и ущельям. Мы же берегли снаряды к очередной атаке. Л. 3. Мехлис молча наблюдал за действиями командира дивизии. На вершине горы, где находился НП, оставаться было опасно. Снаряды ложились все ближе и ближе. Я предложил члену Военного совета спуститься в укрытие. Он сделал вид, что не расслышал, продолжая рассматривать панораму наших и немецких позиций. Лицо его оставалось абсолютно спокойным.
Артобстрел прекратился так же внезапно, как и начался. Л. 3. Мехлис заторопился вниз, к машине. Он заметно повеселел, стал разговорчивее.
— Знаете, — сказал он, — я был убежден, что вы не используете всех имеющихся у вас возможностей для развития наступления. Но теперь вижу, поступаете вы правильно и вам нужно как-то помочь. И мы сделаем это.
Действительно, дивизии вскоре была оказана эффективная поддержка артиллерией и авиацией, и мы снова продвинулись вперед.
Характерно, что в присутствии Л. 3. Мехлиса заседания Военного совета фронта, на которые часто приглаша-
203
лись командиры и начальники политотделов соединении, проходили быстро и организованно. Выступавшие хорошо знали генерал-полковника. Он умел очень внимательно, не перебивая, слушать командира, докладывавшего о состоянии дел в своем соединении. Если член Военного совета фронта молчит, значит, доклад удовлетворяет его. Он обычно делал пометки в блокноте и при подведении итогов четко и ясно формулировал свои выводы.
Но горе было тому командиру или политработнику, который недостаточно твердо знал положение дел в войсках, пытался, как говорят, напустить туману. Тут Мех-лис мгновенно преображался. От его спокойствия не оставалось и следа. Он буквально забрасывал докладчика едкими вопросами, вскрывая и показывая участникам заседания все то, что тот хотел бы обойти, скрыть, умолчать.
Приезжали в нашу дивизию член Военного совета 4-го Украинского фронта генерал-майор С. М. Новиков и начальник штаба генерал-лейтенант Ф. К. Корженевич. По-прежнему часто бывало у нас командование 1-й гвардейской армии: командарм А. А. Гречко, члены Военного совета К. П. Исаев и М. В. Шевяков, начальник политотдела В. Г. Сорокин. Каждый из них в той или иной степени оказывал нам помощь, что положительно влияло на боеготовность дивизии.
Мы брали на вооружение все ценное и поучительное, творчески осваивали опыт, добытый в ходе боевых действий. На этом опыте учили командиров, политработников, парторгов и комсоргов. И сами учились. Огромное значение для нас имел доклад «Об опыте партийно-политической работы в условиях штурма Карпат», с которым на одном из совещаний фронтовых политработников выступил начальник политотдела 18-й армии генерал-майор Л. И. Брежнев.
Три дня я провел в 876-м стрелковом. Ознакомился с тем, как поставлена здесь партийно-политическая работа, каковы ее особенности, оказал практическую помощь командирам и политработникам. Радовало, что заместитель командира полка по политчасти майор Н. А. Колесов хорошо знает обстановку, вникает во все стороны жизни и деятельности подразделений, организует работу партий-204
ных и комсомольских организаций с учетом важнейших боевых задач, которые решает полк.
Мне довелось участвовать в работе совещания офицерского состава, обсудившего ход штурма горных вершин, семинара ротных и взводных агитаторов, на котором изучался опыт пропаганды подвигов, совершенных воинами полка в наступательных боях.
Характерно, что центром политико-воспитательной работы все более становилась рота и равные ей подразделения. Вот и теперь, сразу же после семинара агитаторов, в ротах состоялись многочисленные беседы, организован выпуск боевых листков-молний. В боевых листках, в частности, сообщалось о снайпере М. С. Карбовском, сбившем с деревьев трех гитлеровских «кукушек», о стрелке комсомольце Е. Т. Ашармасове, который во время контратаки противника уничтожил четырех вражеских солдат. В перерывах между боями агитатор полка старший лейтенант С. П. Кузь провел в ротах беседы о международном положении. Он же прочитал лекцию: «Партия Ленина — организатор и вдохновитель народных масс в борьбе с гитлеровскими захватчиками».
Тот же старший лейтенант Кузь подобрал из числа коммунистов и комсомольцев взводных агитаторов: они заменили тех, кто погиб в боях или выбыл по ранению. С молодыми агитаторами был проведен инструктаж.
Там, где позволяла обстановка, мероприятия, в том числе партийные и комсомольские собрания, лекции и беседы, проводились и в масштабе батальона. Мне понравилась, в частности, беседа заместителя командира 2-го батальона по политчасти капитана К. Н. Ляшкова. Речь шла о мужестве и героизме воинов, о неминуемом разгроме гитлеровских полчищ на их же территорий. Слово политработника было душевным, доверительным, впечатляющим. Бойцы высказывали свои мысли. Помнится, один из них так и сказал: «Трудности боев за Карпаты я переношу сравнительно легко, так как знаю —- фашистского зверя добьем в его собственной берлоге».
В том же батальоне состоялся вечер вопросов и ответов, завершившийся непринужденной беседой бойцов с командирами и политработниками. Речь шла и о боях, и о питании, и о судьбах однополчан. А кое-кого беспокоили домашние дела. Сразу же после беседы в местные органы
205
власти были посланы письма с просьбой оказать необходимую помощь семьям фронтовиков.
— Почаще бы так встречаться, — говорили в те дни.
И верно, общение с бойцами должно быть более тесным — такой вывод делали коммунисты батальона.
Я перечислил далеко пе все, что было сделано в полку за три коротких дня. Следовало бы сказать и об интересных беседах «Герои Карпат» и «Боевые действия союзных войск в Западной Европе», проведенных в батальонах майором Колесовым, и о газетных публикациях «Русские в Берлине» и «Мы будем в Берлине», которыми зачитывались в подразделениях, и о многом другом.
Целеустремленно, с тем же широким размахом велась партийно-политическая работа и в других полках дивизии. Ее организаторами выступали политработники полкового и батальонного звена.
Мне приходилось видеть их в различной фронтовой обстановке — при подготовке к бою и в самом бою, на марше и на привале, днем и ночью, в дождь и жару, в короткие минуты передышек между атаками. И всегда они были на высоте, достойно выполняли свой партийный и служебный долг. Перед наступлением политработники говорили бойцам о противнике, разъясняли боевые задачи; на марше они шли впереди колонн, показывая пример выносливости; в атаку устремлялись первыми, увлекая за собой бойцов; во время передышек проводили беседы об отличившихся в боях, читали лекции, информировали о событиях на фронтах войны, о трудовом подвиге советских людей в тылу. Лишь в двух случаях политработники были последними: при отходе с занимаемых рубежей, если неблагоприятно сложившаяся обстановка требовала такого маневра, и при приеме пищи, когда сначала надо убедиться, что все люди вверенных подразделений накормлены.
Под стать замполитам были и парторги и комсорги. Они являлись душой воинских коллективов, подхватывали все новое, передовое, заботились о чести своих батальонов и полков. Это они, парторги и комсорги, давали коммунистам и комсомольцам поручения — первыми подняться и ринуться в атаку. И я не знаю случая, чтобы эти поручения не выполнялись.
Поистине удивляешься тому напряжению, с которым приходилось трудиться полковым и батальонным полит-206
работникам. Я никогда не видел, чтобы они отдыхали, хотя нередко приезжал в полк или батальон далеко за полночь. Доставалось, разумеется, и командирам. И все же в короткие промежутки между боями им как-то удавалось соснуть часок-другой. Но кто из заместителей командиров по политчасти, парторгов, комсоргов и агитаторов упустит открывшуюся в затишье возможность провести собрание или беседу?!
— После войны отдохнем, — говорит старший лейтенант Кузь. — Отоспимся потом...
Это выражение мне до боли знакомо. И не только мне — любому фронтовику. Оно было на устах каждого бойца и командира еще в тяжелом сорок первом. Но в то время было уж очень далеко до окончания войны, а сейчас заветная мечта советских людей, всех свободолюбивых народов планеты вот-вот сбудется. Пройдет всего лишь несколько месяцев, наши войска ворвутся в гитлеровскую Германию — и с фашизмом будет покончено. А пока еще враг силен, вон как он яростно сопротивляется на перевалах Главного Карпатского хребта. И конечно же, всем нам отдыхать не придется, пока не перемахнем через Карпаты и не спустимся по западным склонам на Венгерскую равнину. Да и там не до отдыха. Братская Чехословакия ждет нас, своих освободителей.
Полки дивизии, как и в целом войска фронта, то взбирались на кручи, то спускались вниз почти по отвесным склонам, упорно и методично, метр за метром преодолевая Главный Карпатский хребет. Враг по-прежнему имел преимущество в численности войск. Но он вынужден был отходить — отступал перед нашей силой, мужеством и боевым мастерством.
Впереди, как всегда, были коммунисты. Словом и примером они увлекали бойцов вперед — к вершинам хребта. Я расскажу лишь о подвигах тех, кого видел в бою сам или с кем беседовал по горячим следам боя.
Пулеметчик 2-го батальона 871-го полка В. И. Товар-ницкий, уроженец села Городовичи Дрогобычской области, 12 октября в бою за село Руске уничтожил восемь фашистских солдат. Он умело менял позиции и был недосягаем для врага. Но вот поблизости разорвалась мина, она искорежила пулемет, ее осколки впились в тело бойца.
207
Санитар попытался отвести его в тыл, но тот наотрез отказался.
— Никуда я не пойду. Наших и так мало...
— Но ты же ранен! Твое место в медсанбате, — настаивал санитар.
— Место коммуниста здесь, на переднем крае, — возразил Товарницкий. — Подай-ка лучше винтовку. Видишь, «дегтярь» долго жить приказал...
Коммунист снова, теперь уже из винтовки, открыл прицельный огонь по гитлеровцам, перешедшим в контратаку со склона соседней высоты.
Мужество коммуниста пулеметчика Товарницкого по достоинству оценено Родиной. Он был награжден орденом Отечественной войны I степени.
Пример воинской доблести показал командир взвода 873-го полка лейтенант М. И. Мамедов. 13 октября при штурме высоты 565 он первым бросился в атаку, уничтожив из автомата до 10 гитлеровцев. Парторг роты, он всегда был впереди, служил образцом выполнения служебного долга. В бою за упомянутую высоту Мамедов был ранен, но не покинул взвод, пока полностью не была выполнена боевая задача.
В тот же день командиру 3-й роты 876-го полка старшему лейтенанту И. В. Степанову был отдан приказ — взять высоту 552. Меня волновало, как Степанов будет готовить подчиненных к бою. Дело в том, что политотдел немало потратил сил, чтобы научить молодых ротных командиров умению опираться на партийные организации, советоваться с коммунистами. Что греха таить: у нас встречались отдельные командиры, которые понимали единоначалие превратно — как право бесконтрольно делать все, что им заблагорассудится. Таких офицеров мы, конечно, поправляли. А тех, кто не хотел понять добрых советов’, порой приходилось и от должности отстранять, несмотря па нехватку офицерских кадров.
Старший лейтенант Степанов нас порадовал. Получив от командира полка боевое задание, он прежде всего собрал коммунистов, рассказал о задаче, расставил их по взводам. Зашла речь о силах противника, расположенных на высоте.
»— Пошлите меня в разведку, — вызвался кандидат в члены партии В. Д. Цветков.
—• Хорошо, Василий Дмитриевич, — согласился Степа
208
нов. — Только сперва побеседуйте о предстоящем бое с бойцами своего взвода.
Цветков, конечно, побеседовал, а затем отправился в разведку. Разведчики уточнили расположение огневых точек врага. Мы знали, что на подступах к высоте противник установил мощные минные поля, проволочные заграждения, другие противопехотные препятствия. Но наши саперы проделали проходы, и бойцы 3-й роты ринулись к немецким окопам. Кстати, боец Цветков и здесь проявил отвагу. Он первым ворвался в расположение противника. А когда навстречу выбежали три немецких солдата, Цветков, не колеблясь, вступил в бой, одного солдата уничтожил, а двух обратил в бегство.
В бою за высоту отлично действовал кандидат в члены партии старший сержант М. Г. Ломакин, санинструктор роты. Оказывая помощь раненым, он заметил группу немецких солдат, пытавшихся скрытно зайти во фланг роте. Ломакин открыл по противнику огонь из автомата. Старшего сержанта поддержали находившиеся рядом бойцы, и контратака фашистов была отбита. А вскоре высота 552 оказалась в наших руках.
Отличились не только разведчики, пулеметчики, стрелки и связисты, но и минеры, и артиллеристы, поддержавшие роту огнем, а также саперы: проходы через заграждения им пришлось проделывать под сильным обстрелом противника.
Работа саперов мне всегда представлялась героической. Но вот перед боем 14 октября командир 568-го отдельного саперного батальона майор Н. И. Гашпар доложил мне такое, что я чуть было не выпалил: «А ведь ты врешь, братец!» Доложил же он следующее:
— Группа саперов батальона в количестве четырех человек, работая под огнем противника, за три часа сняла семьсот противопехотных мин.
— Это точные данные?
Вместо ответа Никита Иванович указал рукой на молодого офицера, стоящего неподалеку:
— Это лейтенант Попов — командир группы. Он лучше меня знает подробности.
— Ну-ка, расскажите, — попросил я.
— Дело было так, — начал рассказывать лейтенант.— Мы вышли на разминирование вчетвером. Со мной были
14 П. А. Горчаков ОЛП
саперы Иосиф Владимирович Галицкий, Филипп Маркович Вагцюк и недавно прибывший к нам боец Рубан — я с ним еще не успел как следует познакомиться. Идем лесом. Деревья растут негусто. Светло. Часто встречаются поляны. На одну такую сунулся было Рубан, по его остановил Ващюк. «Не лизь, сынку, поперед батьки в пекло, — сказал он и, обращаясь ко мне, добавил: — Ось тут вин и наклав мин». Филипп Маркович по возрасту старший у нас во взводе. Он еще в гражданскую воевал. Так что опыт имеет. Начали мы поиск. Убедились: мины расположены в два ряда на расстоянии полуметра одна от другой. Минное поле растянулось метров на двести пятьдесят по обе стороны тропинки. Вот мы его и обезвредили.
— Каким же это вы способом работали?
— Обыкновенным. Нащупаешь мину руками, взрыватель вывернешь — и дальше. Противник, конечно, мешал, да ничего, справились.
Лейтенант говорил спокойно, совсем не рисуясь. Как будто все это просто — разоружить противопехотную мину, которая установлена так, что взрывается при малейшем толчке! Мне, признаться, не верилось, что такое возможно. Заметив, видимо, признаки недоверия на моем лице, лейтенант Попов добавил как бы между прочим:
— Мы-то что. А вот рядом с нами работала группа саперов восемьсот семьдесят шестого полка. Командиром у них Скляренко. Так эти орлы ухитрились восемьсот мин снять.
Саперы принесли с собой в вещмешках 1478 взрывателей, оставив мины на месте. Пехота, пройдя через минное поле, не потеряла ни одного человека. За этот подвиг все восемь саперов были награждены орденами и медалями. Назову их имена: лейтенант С. П. Скляренко, сержант Б. А. Крутский, младший сержант В. И. Торопов, бойцы К. С. Годун, И. А. Розалий, С. С. Резнецов, П. Т. Петелин, Я. А. Вашкевич.
Когда-то Суворов восхищался русскими воинами, перешедшими вместе с ним через Альпы. Называл их чудо-богатырями. Теперь мы вправе были гордиться советскими чудо-богатырями, штурмовавшими Карпаты. Казалось, противник предпринял все возможное, чтобы преградить путь нашим войскам: возвел на узких горных дорогах мощные опорные пункты, расставил на склонах гор и пе
210
ревалах огневые точки, создал на тропинках всевозможные завалы, в ложбинах и на склонах — минные поля, до предела насытил систему обороны огневыми средствами— от шестиствольных минометов до тяжелых мортир. Но ничто не могло остановить советского воина, преисполненного решимости взять карпатские высоты.
Все больше и больше горных вершин оставалось у нас за спиной. На командирских картах уже появились зеленые пятна, обозначавшие Венгерскую равнину. Мы на Главном Карпатском хребте!
К 18 октября 1944 года войска 4-го Украинского фронта прошли карпатские перевалы. Наша 1-я гвардейская армия штурмом овладела районом Русского перевала. Радости, казалось, не было конца. Ведь в ходе напряженных боев войска фронта освободили сотни сел и городов Украины, Чехословакии и Польши. Миллионы людей были избавлены от ужасов фашистского рабства. 15 раз салютовала войскам фронта столица Родины — Москва. 15 раз благодарил храбрых солдат и офицеров Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин.
Вечером 18 октября, когда дивизии перешли к жесткой обороне на южных склонах Карпатских гор, мы услышали по радио голос диктора, читающего приказ Верховного Главнокомандующего:
— «Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами — Лупковский, Русский, Ужокский, Варецкий, Вышковский, Яблоницкий, Татарский, продвинулись в глубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяженностью 275 километров...
В боях за преодоление Карпат отличились войска генерал-полковника Гречко, генерал-лейтенанта Журавлева, генерал-майора Гастиловича, генерал-лейтенанта Гордеева, генерал-майора Лазько, генерал-майора Мельникова, генерал-майора Афонина, генерал-майора Веденина, генерал-майора Бежко...»
19 октября во всех частях и подразделениях дивизии состоялись митинги и торжественные собрания. Командир 871-го стрелкового полка полковник Гусейн Миродович Бежанидзе пригласил меня на общеполковой митинг в честь славной победы. Митинг был необычайно торжественным. Полк построился на большой поляне, окруженной густым буковым лесом. Деревья-великаны своими 14* 211
кронами надежно укрывали шеренги бойцов, одетых и снаряженных по-походному. Подразделения готовились к торжественному маршу. По команде Бежанидзе знаменосцы, печатая шаг, пронесли вдоль строя алое Знамя полка. Заместитель командира по политической части майор Н. А. Варфоломеев зачитал приказ Верховного Главнокомандующего, а затем открыл митинг. Выступали многие воины. Они говорили о своей решимости нанести окончательные, сокрушающие удары по врагу. Полк стоял в готовности к новым походам и боям, и потому слова выступавших звучали особенно весомо, значительно.
Запомнилась короткая, но темпераментная речь полковника Бежанидзе. Не берусь дословно передать ее, но прозвучала она примерно так:
— Дорогие товарищи! Мы вместе прошли большой и славный путь. Мы воевали на Кавказе. Как горные орлы, бросались на врага и жестоко били его. Мы воевали на Кубани. И опять били фашистов беспощадно, без какой-либо передышки. Верховный Главнокомандующий объявил нам тогда благодарность. Теперь мы снова воюем в горах. В Карпатских горах. Они, конечно, не такие, как на Кавказе. Но и здесь бойцы нашего полка приумножили славу советского оружия, заслужили благодарность Родины. Это большая честь, дорогие товарищи! Будем же готовы к решающим боям по уничтожению фашистского зверя в его собственной берлоге! И пусть не дрогнет рука, когда наступит наш час!
Тут же, на митинге, каждому воину полка — участнику боев в Карпатах — вручалась отпечатанная типографским способом выписка из приказа Верховного Главнокомандующего. Именная надпись гласила: «За отличные боевые действия в Карпатских горах товарищ Сталин объявил Вам благодарность».
НА ЗЕМЛЯХ
БРАТСКИХ НАРОДОВ
ЛЪ J октября 1944 года нашу дивизию JL вывели на доукомплектование.
К тому времени войска 3-го Белорусского фронта вышли на границу с Восточной Пруссией. Мы не могли пройти мимо такого события. По инициативе политотдела во всех подразделениях были проведены митинги личного состава. Мне довелось быть на митинге в одном из батальонов 871-го полка. Бойцы собрались у подножия небольшой высотки. Когда заместитель командира по политчасти старший лейтенант И. Н. Коровин объявил, по какому поводу созван митинг, его слова потонули в громе аплодисментов. Послышались восторженные крики «ура». Я видел на лицах людей радостные улыбки, бойцы обнимали друг друга, поздравляли с очередной победой. В выступающих, как всегда, недостатка не было. Запомнились горячие, идущие от сердца слова сержанта А. Г. Панюшина:
— Сбылись наши мечты, наши чаяния. Воины Страны Советов вступают в пределы гитлеровского рейха...
— Победа теперь близка. Но чтобы завоевать ее, надо совершенствовать боевое мастерство, хорошо учиться, — заявил на митинге рядовой Ф. К. Струве.
И люди не теряли времени. В подразделениях сразу же начались занятия по специальной и тактической подготовке. Ветераны охотно делились боевым опытом с молодыми бойцами.
У нас появилась возможность подвести итоги работы партполитаппарата в наступательных боях, изучить и обобщить накопленный опыт. В этих целях мы провели совещание заместителей командиров по политчасти и парторгов полков, на котором обсудили один вопрос: об
213
организации партийно-политической работы во время наступательных боев в условиях горно-лесистой местности. На совещании отмечалось все положительное, анализировались недостатки и просчеты, были поставлены задачи на период подготовки к новым боям. На эту же тему в полках состоялись совещания парторгов и комсоргов батальонов и рот.
Офицеры политотдела большую часть времени находились в ротах и батальонах: инструктировали парторгов, комсоргов, агитаторов, изучали базу роста рядов партии, оказывали помощь в планировании работы, ведении партийного и комсомольского хозяйства. Первейшей нашей заботой по-прежнему был подбор кандидатур, достойных выдвижения в качестве парторгов и комсоргов подразделений.
Политотдел и партийные организации развернули большую агитационно-пропагандистскую работу в связи с 27-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Лекции и доклады читались не только для воинов, но и среди местного населения. Командиры и политработники выезжали в карпатские села, проводили собрания и митинги трудящихся, разъясняли им политику нашей партии, значение Октября для исторических судеб народов, роль Красной Армии, призванной избавить народы Европы от гитлеровской тирании. Местные жители встречали советских офицеров тепло и приветливо, по-братски. Это было для нас уже привычным.
В те дни нам много пришлось поработать с новым пополнением. На доукомплектование дивизии прибыло 400 человек бывалых воинов, выписанных из госпиталей, и 500 украинцев, призванных в армию из освобожденных районов Прикарпатья. Если первой партией мы не могли нарадоваться, то новобранцы доставляли нам немало хлопот. Дело в том, что семьи, в которых они росли и воспитывались, были неоднородны по социальному положению. Одно дело — бедняки, другое — кулаки. Во время фашистской оккупации, как известно, больше всего страдала бедняцкая часть населения Прикарпатья, а кулаки, как правило, оставались нетронутыми. Правда, среди молодых бойцов преобладали выходцы из бедняков и середняков. Но они имели лишь общее представление о Советской власти, плохо разбирались в том, что их ждет в будущем. Особую озабоченность вызывала общеобразова-214
тельная подготовка новобранцев: 110 человек оказались вовсе неграмотными, остальные кончили от одного до четырех классов сельской школы.
Командирам и политработникам пришлось приложить максимум усилий, чтобы в короткий срок ввести в строй новое пополнение. Штаб и политотдел разработали ускоренную программу боевой и политической подготовки и неукоснительно проводили ее в жизнь. Мы объясняли новичкам освободительную миссию Красной Армии, знакомили их с боевыми традициями полков. К этой работе широко привлекались бывалые воины, сержанты и старшины. Они проводили беседы о военной присяге, о требованиях воинской дисциплины. С интересом проходили беседы о работе советского тыла. На политических занятиях с новичками изучались темы: «Об ответственности военнослужащих за воинские преступления»; «Без твердой воинской дисциплины нельзя победить врага»; «Германия в тисках двух фронтов»; «Добьем немецко-фашистского зверя в его логове и водрузим Знамя Победы над Берлином».
Как-то мне пришлось присутствовать на политзанятии, которое вел парторг 2-го батальона 871-го полка К. А. Безгрешный. Он живо и интересно говорил о долге советских воинов, их обязанностях, об ответственности за воинские преступления.
— Разрешите вопрос, пан младший лейтенант? — поднимает руку молодой солдат.
— В Красной Армии панов и господ нет. Все мы друг другу товарищи, — объясняет парторг. — Понятно?
— Понятно, пан... товарищ младший лейтенант.
— Теперь, пожалуйста, ваш вопрос.
— Вот если взвод по каким-то причинам отошел, а боец продолжает сражаться в другом подразделении, то можно ли это рассматривать, как уход с поля боя?
Вопрос задан явно с подвохом: справится ли младший лейтенант с ответом? С интересом жду ответа и я. Ведь от того, что скажет парторг, во многом будет зависеть его авторитет. Солдаты не прощают руководителю нетвердое знание предмета.
— Чем меньше солдат в подразделении, тем труднее вести бой, ведь так?
— Так, — загудели голоса.
— Отсюда следует,— оживился младший лейтенант,—
215
что отстать от своего подразделения — значит ослабить его, лишить его возможности выполнить новую боевую задачу, а это все равно что покинуть поле боя. Вот почему уходить или отставать от своего взвода, роты нельзя ни при каких условиях.
Что ж, парторг сказал правильно, хотя ответ можно было бы сформулировать и точнее. Но это уже детали. Его поняли молодые воины, а это самое важное.
Шефство над новым пополнением по инициативе коммунистов взяли комсомольские организации дивизии. Началась широкая разъяснительная работа. Комсорги рот и батальонов, агитаторы рассказали новичкам о жизни молодежи в Советском Союзе, о Ленинском комсомоле, о правах и обязанностях комсомольцев. Так, младший лейтенант А. П. Францев, комсорг 3-го батальона 876-го стрелкового полка, во всех ротах провел беседы: «Комсомольцы и молодежь в боях за Родину», «За что комсомол награжден двумя орденами».
Во 2-м батальоне этого же полка состоялось открытое комсомольское собрание с повесткой дня: «Наша Родина». Докладчик рассказал о богатствах СССР, о самоотверженном труде народа в годы пятилеток, о жизни советской молодежи.
— Я на комсомольском собрании первый раз в своей жизни, — сказал молодой боец С. Т. Матенко. — Только теперь я услышал и правду о молодежи в России. У вас действительно была счастливая юность, а мы в Прикарпатье не знали радостных дней. Особенно плохо жилось при немцах. И вот настал долгожданный час — пришли русские братья. Вместе с вами, дорогие друзья, сейчас мы будем сражаться за правое дело, добивать фашистов на их же территории.
— А как вступить в комсомол? — спросил боец Богдан.
И тут посыпались вопросы:
— Как заслужить право на комсомольский билет?
— Могу я стать комсомольцем?
— Почему нас не принимают в комсомол?
В дивизии не было новичка, с которым не поговорил бы по душам агитатор, комсомольский вожак, командир и политработник. Можно смело сказать: для становления бойца использовались все средства и формы воспитательной работы. И наши усилия не пропали даром. В первом 216
же бою молодые парни плечом к плечу с бывалыми солдатами шли на штурм вражеских укреплений.
Большое значение мы придавали переписке с трудящимися. В этом отношении я опирался на опыт, приобретенный еще в 1033-м стрелковом полку, и едва ли не с первых дней работы в дивизии условился с капитаном Новиковым — помощником начальника политотдела и комсоргами полков: организацию этой переписки они возьмут на себя. С поставленной задачей комсомольские вожаки справились. О размахе переписки говорит хотя бы такой факт. Только в последней декаде октября комсомольское бюро 871-го полка, возглавляемое старшим лейтенантом Т. А. Фомичевым, отправило в тыл 130 писем.
Переписку с тружениками тыла систематически вели командиры и политработники. Становилось правилом: о наиболее отличившихся в боях солдатах и сержантах сообщать их родным, а также в трудовые коллективы, в которых те работали до призыва в армию.
Вот письмо, направленное жене санинструктора 873-го полка А. И. Шевчука:
«Уважаемая Ольга Ефимовна!
Великая Отечественная война выковала и закалила в боях с проклятыми оккупантами воинов-героев, которыми гордится наша социалистическая Родина, наш народ. К числу таких героев мы причисляем и Вашего мужа, отца семерых детей, Петра Антоновича. Десятки раненых бойцов и офицеров вынес с поля боя Ваш муж, Петр Антонович, невзирая ни на свист пуль, ни на разрывы вражеских снарядов.
Родина высоко оценила самоотверженную работу Вашего мужа, наградив его орденом Красной Звезды. Командование части за выдающиеся боевые дела в последнее время вторично представило его к правительственной награде.
Поздравляем Вас, Ольга Ефимовна, с праздником 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции! Желаем Вам плодотворной работы в деле воспитания детей. Растите из них таких же героев, как Ваш муж Петр Антонович! Пишите нам, как живете и какие успехи в работе».
Это письмо было размножено на пишущей машинке, его зачитывали перед строем во всех подразделениях полка.
217
Интерес воинов к переписке с тружениками тыла был огромным. И это не случайно. Солдаты и офицеры все более убеждались, что советская экономика имеет неоспоримое преимущество перед экономикой фашистской Германии. Вот и теперь, готовясь к освободительному походу в Чехословакию и Польшу, мы были обеспечены всем необходимым. К нам поступали все более совершенные образцы боевой техники. Полки имели надежное авиационное прикрытие, достаточное количество боеприпасов и продовольствия. Правда, в ходе наступления мы порою испытывали трудности в снабжении, но это объяснялось лишь сложными условиями транспортировки в горнолесистой местности. Заняв оборону, дивизия могла, например, обеспечить плотность ружейно-пулеметного огня более 10 пуль в минуту на каждый метр фронта. Сейчас, в век научно-технической революции, это покажется скромным. Но тогда с такой плотностью огня противнику приходилось очень трудно.
Бойцы, конечно, понимали, что бесперебойное снабжение фронта техникой и оружием, боеприпасами и продовольствием — это результат гигантских усилий тружеников города и деревни. И мы от души были благодарны Коммунистической партии, рабочим, крестьянам, интеллигенции за их заботу о фронтовиках.
Вести о жизни в далеком тылу, об успехах советского народа в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства буквально окрыляли солдат и офицеров. И я со всей скрупулезностью контролировал поступление газет и других изданий в роты и батареи. У нас стало правилом — при любых обстоятельствах газеты доставлялись в день их выхода: дивизионная — до обеда, армейская и фронтовая — до ужина. Без промедления поступали к воинам и центральные издания.
На все газеты и журналы были лимиты. И все же «Правду» имел каждый парторг роты, «Комсомольскую правду» — каждый комсорг. «Красной звездой» обеспечивались все без исключения командиры рот. Широко распространялись газета «Известия» и периодические издания на языках народов СССР.
После 7 ноября начались передислокации, марши. Войска 4-го Украинского фронта были накануне новых больших сражений.
218
Слева от нас уже перешли в наступление соединения 2-го Украинского фронта, имея конечной целью выход к Будапешту. Справа, на Дуклинском перевале, сражалась 38-я армия и части чехословацкого корпуса, входившие в состав 1-го Украинского фронта. Переход в наступление нашего фронта во многом облегчил бы положение соседей слева и справа.
1-я гвардейская армия должна была наступать в направлении на Михальовце и далее на Чемерне. Ей противостояли немецко-венгерские войска в составе четырех дивизий, четырех батальонов и четырех дивизионов штурмовых орудий.
Наша 276-я дивизия вошла в состав 11-го стрелкового корпуса, которым командовал генерал-майор М. И. Запо-рожченко — один из храбрейших военачальников, которых мне когда-либо приходилось встречать. Полки дивизии выдвигались в первый эшелон, занимая исходные позиции для атаки в районе Комаровце.
Утром 23 ноября началась артиллерийская обработка переднего края обороны противника, продолжавшаяся около часа. Затем 11-й и 107-й стрелковые корпуса 1-й гвардейской армии перешли в наступление.
Прорвав оборону противника в полосе Собранце, Комаровце, части дивизии стремительно двинулись вперед. Мы давно ждали этого часа, готовились к нему и все-таки немного опасались. Как-то поведут себя бойцы нового пополнения? Ведь от них во многом зависел успех.
Накануне наступления командиры и политработники старались как можно доходчивее, полнее донести до бойцов ту мысль, что изгнание врага с советской земли еще не означает конца войны. Враг смертельно ранен, но он живуч и еще силен, по-прежнему коварен. Его надо добить, пройдя по полям Европы до Берлина.
Особенно много бесед мы посвятили Чехословакии, на земле которой предстояло сражаться дивизии. Рассказывали об истории этой страны, о братских узах, связывающих советский и чехословацкий народы, о героической борьбе корпуса генерала Людвика Свободы, входившего в состав советских войск, О широком движении Сопротивления, развернувшемся в Чехословакии.
Еще на польско-чехословацкой границе, когда дивизця штурмовала Карпаты, мне довелось присутствовать па беседе взводного агитатора И. С. Иванченко. Человек он
219
авторитетный, комсомолец, награжден орденом Славы III степени. И говорил как-то проникновенно, от всей души.
— Мы освободили нашу землю от фашистов, — сказал Иванченко. — Теперь идем в другие страны. Зачем мы идем туда? Чтобы освободить народы Европы от фашистского ига. Иначе мы и не можем поступить. Ведь мы — интернационалисты. Нам близки и дороги интересы всех народов мира. К этому нас приучила советская жизнь. Посудите сами. У нас во взводе служат бойцы шести национальностей. Я — украинец, а он — таджик. Есть среди нас и казахи, и русские, и грузины. Но все мы думаем об одном, стремимся к единой цели — уничтожить гитлеровский фашизм. К этой цели стремятся и порабощенные народы Чехословакии, Польши. Мы идем к ним как освободители, как друзья и братья.
Да, в отличном настроении вступили в бой бойцы дивизии. Не подвели нас и новички. Многие из них уже успели отличиться. Только во 2-м батальоне 871-го полка за первый день наступления 17 воинов из нового пополнения были представлены к награждению орденами и медалями.
Боец Василий Фрич из карпатского села Зубраче во время боя находился рядом с командиром. Огнем автомата Фрич уничтожил пятерых гитлеровцев.
— Молодой еще совсем, но орел, настоящий орел! — восхищенно отзывался о нем командир полка полковник Бежанидзе. — Прошу командование дивизии наградить его орденом Отечественной войны второй степени. Заслужил герой!
Отважно сражался комсорг 1-й роты 876-го полка кандидат в члены партии М. Т. Крючков. В бою за село Бун-ковце он ворвался в дом, где находилась группа гитлеровцев. Огнем автомата Михаил Крючков уничтожил 12 фашистов, но тринадцатый, оказавшийся живым, ранил его. Подоспели бойцы роты и выручили комсорга из беды.
Как всегда, с подъемом трудились дивизионные саперы. Как только передовые батальоны форсировали бурную горную реку Черна Вода, они приступили к сооружению понтонного моста. И завершили работу за одну ночь. Через мост двинулись главные силы дивизии, ее артиллерия.
220
Наступление развивалось стремительно, неудержимо. В памяти сохранялись лишь названия пройденных сел: Комаровце, Остров, Бунковце, Шарошремете, Бробовце, ликующие толпы людей, танки, облепленные не только десантниками, но и детворой. Входишь в село — праздник: музыка, песни, объятия и поцелуи. Выходишь из села — снова фронт.
Запомнились бои под селом Ястребе, расположенном в низменной, болотистой местности. Осенние дожди превратили и без того перенасыщенную влагой землю в какой-то кисель темно-коричневого цвета. Ноги проваливались по колено. Полы шинелей приходилось подтыкать за пояс, чтобы уберечь хотя бы от грязи солдатский «спальный гарнитур» — от воды все равно не убережешь. Выбившись из сил, падали лошади, тащившие орудия, и артиллеристы, в голос кляня все на свете, вытаскивали пушки на сухое место.
Фашисты, засев в добротных каменных постройках села, хорошо подготовились к обороне. Их ни дождь, ни холод не мучили. Равнинная местность просматривалась и простреливалась. Наша соседняя справа 16-я стрелковая дивизия, попав под сильный вражеский огонь, приостановила движение, а затем противник рядом контратак потеснил ее. Теперь правый фланг 871-го стрелкового полка оказался оголенным. Воспользовавшись этим, гитлеровцы обрушились на 1-й батальон капитана А. П. Мартьянова.
Положение сложилось исключительно тяжелое. Казалось, еще немного — и немцы сомнут батальон. Капитан Мартьянов возглавил атаку. Заместитель комбата по политической части младший лейтенант И. В. Отрезов и парторг младший лейтенант С. Н. Кулиш с возгласом «Коммунисты, вперед!» устремились за комбатом.
Батальону удалось отбросить врага метров на двести, но тут во фланг неожиданно ударил подоспевший резерв гитлеровцев. Бойцы вынуждены были залечь. Отрезов и Кулиш, переползая под огнем врага от одного бойца к другому, призывали их держаться стойко. Когда гитлеровцы подошли почти вплотную к нашим цепям, младший лейтенант Отрезов и командир пулеметной роты старший лейтенант О. Г. Гасимов легли за пулеметы.
В этом бою бессмертный подвиг совершил молодой боец пулеметной роты Стефан Дробек. Он находился
221
неподалеку от старшего лейтенанта Гасимова, когда вдруг обнаружил: в командира прицеливается вражеский снайпер. Повинуясь чувству дол!?а, без размышлений — о Чем успеешь подумать в доли секунды? — Дробек прыгнул вперед и грудью своей прикрыл командира. Вражеская пуля пробила сердце бойца.
Весть о подвиге Стефана Дробека разнеслась по отделениям. По рукам ходили листки с призывом: «Отомстим за Стефана Дробека! Вперед!» И бойцы, поднятые комбатом Мартьяновым, выбили врага с занимаемых позиций и тем самЬхм помогли подразделениям 16-й стрелковой дивизии восстановить положение.
В бою за село Ястребе отличился командир 2-го батальона 873-го полка капитан Н. С. Погребняк. Он тоже водил бойцов в атаку. А в трудный момент лег за станковый пулемет, уничтожив до 20 гитлеровцев. Погребняк, до этого комсомолец, был принят кандидатом в члены партии.
В те дни мы близко познакомились с командиром 11-го стрелкового корпуса генерал-майором М. И. Запо-рожченко. Человек этот, как я уже упоминал, был безудержно храбрым, появлялся там, где наиболее опасно, подчас и сам ходил с бойцами в атаку, и за это его горячо любили в частях. Позволю себе рассказать об одном случае, который произошел с генералом в нашей дивизии, точнее — в 873-м стрелковом полку.
В 5 часов утра 28 ноября после артподготовки полк должен был перейти в атаку и овладеть дорогой, по которой противник подбрасывал подкрепления в город Ми-хальовце. Незадолго перед атакой, еще затемно, командир корпуса и его адъютант, без какого-либо оповещения, прибыли на передний край и расположились в окопе стрелкового отделения. Их приходу не придали значения: приняли за соседей. Но с артподготовкой произошла задержка — из-за бездорожья пушки отстали. Откладывалось и начало наступления стрелкового полка. Тогда генерал поднялся на бруствер окопа, намереваясь, очевидно, выяснить причину задержки.
— Эй ты! Чего топчешься на виду у фрицев?! — прикрикнул на него командир отделения младший сержант А. Ф. Михеев. — Хочешь, чтоб тебе вражеская пуля метину в голове оставила?! Марш в окоп!
222
— Я не «эй ты», а командир корпуса! — ответил генерал.
— Ну-ну! Меня на бога не возьмешь. Не дело генералам вот так, на бруствере, перед нашим братом солдатом чечетку отбивать,— стоял на своем младший сержант.
Михаил Иванович, как он потом признавался, поначалу даже не нашелся, что на это ответить. Вмешался адъютант:
— Это действительно командир корпуса генерал-майор Запорожченко. А я его адъютант.
— Виноват, товарищ генерал! Темно. Не опознал вас, — отравдывался Михеев.
— Почему не наступаете, сержант? — спросил Михаил Иванович.
— Артподготовки нет. Нам приказано: как только умолкнут пушки — в атаку.
— Когда же будет артподготовка?
— Должна бы уже начаться. Видно, запаздывают артиллеристы.
— Идемте к командиру взвода, — потребовал генерал, Командир взвода лейтенант С. Т. Ляшко, заметив в темноте три движущиеся фигуры, громко спросил:
— Кто там, как на параде, вышагивает? Хотите, чтоб немецкие пулеметчики вас подсекли? В укрытие! — приказал он, подкрепив свое недовольство крепкими словечками.
— Я командир корпуса! — предстал перед ним Михаил Иванович Запорожченко. — Почему не наступаете?
— Артиллерийскую подготовку ждем, — ответил Ляшко, пораженный неожиданным появлением генерала.
— Ведите к командиру роты...
Командир 5-й роты старший лейтенант К. Н. Иваницкий движущиеся тени принял было за разведку противника.
— Кто идет? — на всякий случай окрикнул он.
— Свои, — ответил лейтенант Ляшко.
Михаил Иванович таким образом дошел до командира полка. Но в это время подоспевшая артиллерия открыла огонь, и полк пошел в наступление.
Уже когда совсем рассвело, генерал-майор М. И. Запорожченко появился на НП дивизии. Ознакомившись с обстановкой, с ходом наступления, он не преминул, конечно, рассказать и о своем ночном визите. Рассказывал
223
с чувством юмора, и мы еле-еле сдерживались, чтоб не расхохотаться. А вскоре позвонил командир полка Черный, доложил о выполнении боевой задачи. Среди воинов, проявивших умение и храбрость, он назвал уже знакомые читателю имена — младшего сержанта Михеева, лейтенанта Ляшко и старшего лейтенанта Иваницкого.
Войска успешпо продвигались вперед. Прорвав хорошо оборудованную оборону противника у Собранце и Ко-маровце, наша 276-я стрелковая с боями прошла более 50 километров, участвовала в освобождении города Ми-хальовце, форсировала реки Душа и Ондава.
Ондаву дивизия форсировала 1 декабря. Уже стояли морозы, но быстрая горная речка не замерзала. Она то бешено скакала меж покрытых ледяной коркой валунов, обдавая их брызгами, то вертелась в водоворотах. Войти в такую реку опасно — собьет с ног, закрутит, измочалит о камни. А сравнительно спокойных участков, годных для брода, мало, к тому же их немцы стерегут пуще глаза. Чуть что шевельнется на нашем берегу — открывают огонь. Днем форсировать Ондаву было немыслимо.
Решили форсировать ночью. Головным двигался 1-й батальон 876-го полка. Переходить реку вброд в лютую стужу лучше раздевшись: хотя и холодно, но выйдешь на берег, наденешь все сухое — душа радуется. Впрочем, тем, кто шел вброд, было не до радости. Где-нибудь в тылу человека, попавшего в ледяную купель, и спиртом ототрут, и чаем горячим напоят, и на печь уложат. Теперь же об этом и мечтать не приходилось...
На противоположном берегу было тихо. Командир батальона капитан Ш. К. Ниорадзе подошел к урезу воды, дотронулся до нее носком сапога.
— Кипит, как нарзан, кипит...
— Да, — согласился заместитель по политчасти младший лейтенант Б. А. Клименко, напряженно вглядываясь в темноту. — Для купания речушка мало оборудована.
К берегу неслышно подходили бойцы. Первые группы уже вошли в воду, когда их озарила зеленым светом взлетевшая ракета. Враг открыл огонь из пулеметов и минометов. Между тем люди шли по горло в воде.
— Вперед, быстрее вперед! — призывал капитан Ниорадзе. Сам он одним из первых выскочил на противоположный берег и возглавил атаку. Смельчакам удалось потеснить гитлеровцев и захватить небольшой плацдарм, 224
П. М. Бежко
М. И. Запорожченко
А. Л. Бондарев
Огневая поддержка наступающей пехоты
На страже карпатского неба
Политотдельцы 276-й стрелковой
Бой на подступах горного села
Красноармейское собрание перед наступлением
Чехословацкие партизаны на марше
Население Моравска Острава встречает советских танкистов
Встреча боевых друзей — советских и польских воинов
Поляки, освобожденные советскими войсками, возвращаются на Родину
В освобожденной Праге
Парад Победы. Рота знаменосцев сводного полка 4-го Украинского фронта на пути к Красной площади. Впереди — командир роты П. А. Горчаков
Перед парадом Победы. Сводный полк 4-го Украинского фронта на улицах Москвы
Парад Победы. Сводный полк 4-го Украинского фронта на Красной площади
куда стали переправляться другие батальоны. Позднее бойцы и командиры, которые первыми форсировали Онда-ву, были удостоены правительственных наград.
Но и те, кто переправлялся через реку во втором я третьем эшелонах, вели себя мужественно. Был, например, такой факт. На группу бойцов, только что вышедших из воды, внезапно напали гитлеровцы. Тогда парторг 3-й роты 871-го полка рядовой В. П. Мшевинирадзе выбежал вперед и, выбрав удобную позицию, крикнул товарищам:
— Встретим гадов ливнем огня!
Он почти в упор стрелял из ручного пулемета по фашистам. Разрядил один диск, второй. И вот уже вступили в бой бойцы роты. Гитлеровцы не выдержали, повернули вспять. Командир роты лейтенант Ф. Н. Сорокин вскочил на ноги, воскликнул: «За мной!» —и увлек бойцов вдогонку. Враг был отброшен в горы.
В ночь на 3 декабря дивизию вывели из первого эшелона. К утру ее полки заняли отведенные для доукомплектования пункты в районе Тушице, Горовце, Пар-ховьяни. Начались новые заботы: приводили в порядок боевую технику. К нам поступило новое пополнение — 825 человек.
Знакомлюсь с новичками: впечатление самое отрадное. Они прибыли из госпиталей. Это обстрелянные, видавшие виды бойцы и сержанты. Как правило, уроженцы центральных областей РСФСР.
Теперь важно воссоздать партийные организации или партгруппы в ротах, правильно расставить коммунистов, помочь командирам подготовить людей к боям. На это я и нацелил политотдельцев, заместителей командиров по политчасти полков и батальонов.
Мы отбирали в партию самых лучших, проверенных бойцов и командиров. А возможности в этом отношении были исключительные. За последние дни только в двух полках — в 876-м и 871-м — к награждению орденами и медалями представлено 324 солдата, сержанта и офицера. Какой это замечательный резерв для роста партийных организаций! За 10 дней, с 1 по 10 декабря, дивизиониая партийная комиссия приняла в члены ВКП(б) 22 человека, в кандидаты—19. Могли бы и больше: база роста
15 П. А. Горчаков 225
позволяла. И я с болью в сердце думаю о тех достойных людях, кто должен был получить партбилет — и не получил. Что ж, у войны свои законы... Но как бы то ни было, а с нас, оставшихся в строю, спрос не снимается.
Дивизионная партийная комиссия просто не успевала рассматривать все дела. В работе комиссии теперь участвовали только четыре ее члена — меньше половины первоначального состава. Это заместитель начальника политотдела майор А. А. Бычков, заменивший убывшего в госпиталь секретаря парткомиссии, парторг 852-го артполка капитан 3. И. Лахвшивили, помощник начальника политотдела по работе среди комсомольцев капитан Д. Ф. Новиков и парторг 876-го стрелкового полка лейтенант А. И. Вронский. Остальные члены комиссии или погибли, или находились но ранению в госпиталях.
Мы в политотделе обсудили кандидатуры членов партии, способных заменить выбывших из строя членов парткомиссии. Выбор пал на заместителей командиров полков по строевой части майоров И. М. Давыдова и Т. Н. Тагиева, парторгов полков капитана Г. II; Цупри-кова и старшего лейтенанта С. С. Кострикова, председателя трибунала майора юстиции Н. В. Андреева и старшего инструктора политотдела по организационно-партийной работе старшего лейтенанта И. X. Самигуллина. Новый состав партийной комиссии, утвержденный начальником политотдела 1-й гвардейской армии полковником Сорокиным, успешно работал до конца войны. Секретарем парткомиссии вскоре стал капитан С. П. Этенко, хорошо зарекомендовавший себя на политработе.
С 11 декабря дивизия вновь вступила в боевое соприкосновение с противником. Заняв рубеж в районе высот 464, Безымянная, 744, она взяла под контроль дорогу Даргов—Ключенов. Противник неистовствовал, пытаясь сбить нас с высот. За три дня он предпринял 11 контратак, каждая из которых велась силами от роты до батальона. Бои шли ожесточенные, нередко переходившие в рукопашные схватки. Гитлеровцы подбрасывали резервы. Теперь против нас действовала не только 101-я немецкая горнопехотная дивизия, но и 100-я пехотная дивизия и штурмовой отдельный танковый полк.
226
Во время наступления на Даргов вновь отличился рядовой Василь Фрич. Отражая одну из контратак, он уничтожил четырех гитлеровцев.
Как и всегда, образцы отваги и мужества показывали коммунисты. Стало известно о подвиге парторга 1-го батальона 873-го полка младшего лейтенанта Д. 3. Замурия. 17 декабря при штурме одной из высот он увлек за собой бойцов в атаку. Несмотря на сильный вражеский огонь, они очистили высоту от гитлеровцев. В бою парторг был ранен, но до конца выполнил солдатский долг. Я охотно поддержал предложение о представлении Замурия к правительственной награде.
Наблюдая за ходом боев, я часто ловил себя на том, что любуюсь умелыми, слаженными действиями воинов. Все звенья такого сложного организма, каким является дивизия, работали четко, я бы сказал, безупречно. И тем не менее мы не могли успокаиваться, предаваться благодушию. Ведь каждый день приходилось решать какие-то проблемы. Помню, как постоянно терзала меня тревога: покормили бойцов горячей пищей или нет? Вовремя ли подвезли боеприпасы? Чем занимаются молодые политработники: нашли ли они свое место в бою? Я старался, быть может, чаще, чем следовало, проверять людей, поторапливать их, хватался сам за всякое дело, даже за такое, которое с успехом можно было бы поручить другому.
Радовали политработники. Они умело использовали оперативные формы пропаганды боевой доблести. Идет бой, снаряды рвутся, а от окопа к окопу, смотришь, перелетает камешек, обернутый листком бумаги. Таков безотказный способ доставки нашей «местной» печати.
«Молния! Прочти и передай товарищу!» О чем эти «молнии»? Приведу две из них, ничего не меняя и не добавляя.
«Молния
19.12.44 г. бойцы Мильский и Федянин первыми пошли на контратакующего противника: убили одного гитлеровца и нескольких обратили в бегство. Убегая, гитлеровцы бросили станковый пулемет. Бойцы Мильский и Федянин захватили пулемет и повели огонь по гитлеровцам, а после доставили пулемет на КП батальона.
Берите пример с доблестных бойцов Мильского и Федянина».
15* 227
«Молния
20 декабря 1944 года бойцы Лучков и Черников убили двух немцев и первыми пошли в атаку на контратакующего противника.
Следуйте примеру бойцов Лучкова и Черникова!»
Простые, безыскусные, в несколько фраз воззвания, порою не очень складные и с грамматикой не в ладах. Зато какой большой смысл вложен в них! Содрогается земля от разрывов, поют свою грозную песнь пули-шмели, роют землю пулеметные очереди — тут, как говорится, не до шуток! Сидит солдат на дне окопа — головы не поднять. И вдруг — «молния» с доставкой на дом. Так, мол, и так, воюют твои друзья. А ты? И встрепенется душа солдатская: и пули ему не в страх, и обстановка не кажется удручающей. Велика сила слова в бою!
На войне солдату нужна не только пища духовная. Его надо и одеть, и обуть, и накормить. Кто, как не политработник, обязан о них позаботиться. Я всегда был очень требовательным к хозяйственникам, строго спрашивал с тех, кто проявлял хоть малейшую нерадивость. В холодные декабрьские дни особенно важно своевременно обеспечить бойцов горячей пищей. И политотдел неослабно следил за этим. Правда, наши интенданты не давали повода к недовольству. В обороне ли, в ходе ли атаки они всегда тут как тут. Глядишь, прямо к передовой подходят полевые кухни с наваристым борщом, кашей-концентратом, чаем. Старшины рот в термосах переправляют обед или ужин в окопы. Солдаты сыты, а значит, и настроение у них бодрое.
Горячая пища, как правило, доставлялась на передовую два раза в день. И это в условиях горной местности, в ходе почти непрерывных ожесточенных боев.
Бойцы 1-й роты 871-го полка тепло говорили о П. И. Трушеве, старшине роты. Это ©н изо дня в день, без перебоев доставлял им суп и кашу. Старшине, пока он по-пластунски перебирался от окопа к окопу, нередко приходилось оставлять термос с пищей и браться за автомат, отражать контратаки противника. А однажды, когда командир роты старший лейтенант С. К. Краснов был ранен, Трушев принял командование ротой на себя и два дня, до прихода нового командира, руководил боем подразделения.
Так сражались и трудились люди нашей дивизии.
228
Конец декабря прошел в непрерывных кровопролитных боях. К тому времени в состав нашего фронта были переданы из 1-го Украинского фронта 38-я армия генерал-полковника К. С. Москаленко и 1-й чехословацкий армейский корпус под командованием генерала Людвика Свободы. Они предназначались для боевых действий по освобождению от фашистских оккупантов Чехословакии^ в то время как главные силы 1-го Украинского фронта нацеливались на столицу гитлеровской Германии — Берлин.
Нашей дивизии теперь были приданы подразделения 1-й чехословацкой танковой бригады, которой командовал майор Владимир Янко.
Интересна судьба этого отважного командира, словака по национальности. До второй мировой войны он окончил военное училище, получил офицерское звание. В 1939 году после оккупации Чехословакии гитлеровскими войсками Янко переправился в Москву, где работал на автозаводе слесарем. Здесь он был принят в ряды Коммунистической партии. Летом и осенью 1941 года Владимир Янко вместе с московскими рабочими создавал оборонительные сооружения перед столицей. А когда Люд-вик Свобода стал формировать национальные чехословацкие части, он одним из первых встал в их боевой строй. Вначале Янко командовал взводом, потом ротой, батальоном и, наконец, возглавил танковую бригаду. В боях он неизменно проявлял отвагу и героизм, был примером для соотечественников.
Наша дивизия во взаимодействии с 1-й чехословацкой танковой бригадой наступала в направлении на город Кошице, нанося противнику ощутимые потери. Только с 11 по 20 декабря нами было уничтожено более 1300 гитлеровских солдат и офицеров. 22 декабря мы захватили высоту 659, имевшую важное значение в обороне противника на подступах к Кошице. В боях за овладение высотой мужество и героизм проявил личный состав 876-го стрелкового полка под командованием подполковника Пономарева. Командир дивизии объявил воинам полка благодарность.
В эти дни несколько изменилась тактика врага. Теперь он стремился многочисленными мелкими группами просачиваться через боевые порядки наших подразделений и внезапно атаковывать их с тыла или фланга. Так,
229
вечером 26 декабря группа вражеских солдат проникла к позициям 353-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. Атака для артиллеристов оказалась внезапной, и противнику удалось отрезать две автомашины.
Первым заметил гитлеровцев командир орудия старший сержант В. Я. Петров. Не ожидая каких-либо приказаний, он тут же открыл огонь прямой наводкой, заставив фашистов залечь. Открыли огонь и расчеты других орудий, а затем на выручку машин двинулись две самоходки и танк; однако немцы забросали их гранатами, вынудив отойти. Тогда из добровольцев была создана штурмовая группа. В нее вошли разведчик сержант Н. А. Ильницкий, радист старший сержант Н. П. Дьяченко и два шофера — Я. С. Серегин и К. Т. Лупач. Под прикрытием пулеметного огня смельчаки подползли к автомашинам. Ильницкий и Дьяченко стали бросать гранаты в гитлеровцев, отвлекая их внимание на себя. Серегин и Лупач тем временем вскочили в кабины машин и угнали их на глазах у обескураженных врагов.
Тяжело было дивизионным связистам. От них требовалась постоянно действующая связь между подразделениями, частями и штабами, а это не так-то просто обеспечить во время наступления, да еще в горах. Но отдельная рота связи хорошо подготовилась к декабрьским боям.
Получив боевую задачу, парторг роты лейтенант В. И. Ладный, временно замещавший раненого командира, собрал связистов. Разговор шел о предстоящих действиях. Солдаты уже знали, что наступление вот-вот начнется. На фронте они каким-то неведомым чутьем угадывали близость очередного марша или атаки, дневки или ночевки.
Лейтенант Ладный поставил задачи перед каждым отделением.
Рядовой Л. С. Сахнович, недавно принятый кандидатом в члены партии, должен был обеспечить бесперебойную связь 1-го батальона с командиром полка. Бойцы X. С. Хаджиев и П. Я. Дорожкин, оба коммунисты, получили задание контролировать линии связи общей протяженностью более четырех километров. Были распределены обязанности и между другими связистами.
Все понимали, что дело предстоит трудное. Лесные тропинки, горные склоны простреливались ружейно-пулеметным и минометно-артиллерийским огнем. Из-за на-230
ступившей вдруг оттепели развезло пути-дороги. Телефонную линию пришлось тянуть по грязи ползком, под градом пуль и осколков. Это не только опасно, но и физически трудно. Коммунисты-связисты с честью выполнили боевой приказ. Связь была установлена к намеченному сроку и во время боя действовала бесперебойно.
24 декабря гитлеровцы предприняли сильнейшую контратаку на высоту 659, которую обороняли подразделения 1-го батальона 876-го полка. Телефонист Сахнович вместе с бойцами одного из подразделений стрелял по на-седавшим фашистам из автомата, а телефонную трубку держал за поясом, время от времени передавая доклады командиру полка о складывавшейся обстановке. Благодаря достоверной информации командир полка своевременно принял необходимые меры, и противник был от* брошен от высоты.
Коммунист Сахнович был ранен, однако поста своего не покинул. Лишь после того как связист Хаджаев взял на себя его обязанности, Сахнович отправился на перевязку. За мужество и отвагу, проявленные в бою, он был награжден орденом Красной Звезды.
Я не имею возможности поименно назвать всех воинов-связистов. Скажу лишь, что любой из них был готов пойти в огонь и воду за парторгом роты Ладным, который проявил себя умелым воспитателем.
Лейтенант Ладный прибыл к нам в апреле 1944 года. Тогда он в роте связи был единственным коммунистом. И не без его активного участия здесь создавалась жизнестойкая партийная организация. 15 самых лучших воинов роты вступили в ряды партии. Лейтенант Ладный служил для них добрым примером. 24 декабря, проверяя связь под огнем противника, он был ранен. Однако лечь в госпиталь отказался. Полечившись в медсанбате, парторг вернулся в строй к своим орлам-связистам.
С гордостью могу сказать, что политработники, парторги и комсорги являли собой достойный пример выполнения служебного долга. Они находились в боевых порядках взводов, рот и батальонов, воодушевляли воинов на свершение подвигов, а в трудные минуты первыми бросались на врага. Не обходилось, разумеется, и без потерь. 28 декабря был ранен заместитель командира 873-го полка по политчасти майор И. Т. Енин, находившийся в одной из рот в момент отражения контратаки гитлеровцев.
231
В этом же бою погиб заместитель командира 1-го батальона по политчасти старший лейтенант Я. С. Иванов, получил ранение заместитель командира 2-го батальона по политчасти лейтенант В. В. Пантюхов. Часто выбывали из строя парторги и комсорги рот и батальонов. Словом, после каждого сражения мы недосчитывались многих наших товарищей по партии и оружию. На примете у политотдела, как уже говорилось, всегда были коммунисты из числа командиров и бойцов, способные заменить геройски павших или раненых партийных руководителей.
22 декабря 1944 года мы получили сообщение о награждении полков дивизии боевыми орденами. 871-й стрелковый и 852-й артиллерийский полки были удостоены ордена Красного Знамени, 873-й стрелковый — ордена Богдана Хмельницкого II степени, 876-й стрелковый — ордена Суворова III степени.
Радость охватила каждого бойца, командира и политработника. Мы гордились тем, что партия и правительство по достоинству отметили тот вклад, который внесли в дело разгрома врага полки дивизии, прошедшие с боями от отрогов Кавказских гор до вершин Карпат.
Было решено вручать ордена в короткие между боями промежутки. Где-нибудь в лощине за высотой выстраивалась часть личного состава полка, зачитывался Указ Президиума Верховного Совета СССР, и командир дивизии П. М. Бежко прикалывал орден к полковому Знамени. А по другую сторону высоты нередко шел бой, и бойцы, присутствовавшие на церемонии вручения награды, тут же спешили на помощь товарищам, дрались против фашистов с удвоенной энергией.
В связи с награждением полков во всех ротах, батареях, батальонах и дивизионах прошли митинги, на которых бойцы дали обещание усилить натиск по врагу. Мне довелось присутствовать на митинге в 1-м батальоне 876-го ордена Суворова III степени стрелкового полка.
Выступили многие. Тон задал капитан 3. В. Мдзина-рашвили, командир батальона. В полку он начал воевать с Карпат, прорывал оборону противника у села Собран-це. Был ранен, но после лечения вернулся в родной полк.
— Награждение полка — это награда для всех нас,— заявил комбат.— Мы и впредь будем бить врага беспощадно!
232
На митинге выступил разведчик комсомолец А. Н. Вид-зинашвили. Дня за два перед этим он ходил в тыл врага, захватил «языка» и теперь призывал бойцов сделать все, чтобы умножить славу родного полка.
— Партия нас всюду видит, она по достоинству оценивает наши боевые подвиги,— закончил он свою речь под бурные аплодисменты участников митинга.
А на другой день батальон капитана Мдзинарашвили первым ворвался на высоту 645 и произвел дерзкий налет на укрепления врага в селе Клеченов. Среди тех, кто отличился, был и комсомолец Бидзинашвили. Он и его два товарища-разведчика уничтожили пулемет, офицера и семерых солдат противника, вынесли из окружения тяжелораненого бойца Козлова.
В первой половине января 1945 года после упорных боев дивизии представилась возможность отдохнуть в районе Удавске, Брусница, Токайник. Отдых для командиров и политработников был, конечно, условным. Ведь менее чем за две недели требовалось подготовить к боям новобранцев, частично заменить и отремонтировать технику, пополнить боекомплекты патронов, гранат, снарядов, получить обмундирование, продовольствие и фураж.
Командиры, политработники, партийные и комсомольские организации подводили итоги декабрьских боев, тщательно анализировали их плюсы и минусы. Этой теме были посвящены открытые партийные собрания. На них в полный голос шел разговор о подготовке к новым наступательным боям. В полках состоялись собрания партийного актива, обсудившие задачи партийных организаций по усилению политического подъема и наступательного порыва личного состава. Активность на этих собраниях была исключительно высокой. В 852-м артполку, например, в прениях по докладу командира полка подполковника Е. Е. Шелеста выступили 13 человек. В полках были проведены также собрания комсомольских активов.
Итоги проделанной коммунистами работы мы подвели на собрании партактива дивизии 13 января. На нем присутствовал генерал-полковник А. А. Гречко. Командарм разъяснил сложившуюся на фронте обстановку и поставил перед дивизией задачу на предстоящее зимнее наступление.
233
В оставшиеся дни партийно-политическая работа была направлена на повышение наступательного порыва воинов, на укрепление воинской дисциплины. Партийные организации вновь пополнили свои ряды за счет офицеров, старшин и солдат, наиболее отличившихся в декабрьских боях.
Мы организовали поездку представителей полков и отдельных батальонов в освобожденный Освенцим. И хотя к тому времени уже стало известно о лагерях смерти, созданных гитлеровцами на территории Польши, наши люди хотели увидеть это своими глазами.
Мы тогда и не догадывались о чудовищных планах истребления целых народов, которые были с пресловутой немецкой педантичностью разработаны в канцеляриях гитлеровского рейха. Но даже то, что мы увидели там при беглом осмотре, казалось кошмаром, каким-то диким бредом. Еще не остывшие печи крематория с обуглившимися останками людей, дымящиеся груды пепла, тяжелый приторный запах разлагающихся трупов и горелого мяса... Не стану повторять, что представлял из себя Освенцим: миру это достаточно хорошо известно.
Вернувшиеся изг поездки бойцы и офицеры выступали на митингах, которые проходили в подразделениях.
16 января дивизия выступила в район сосредоточения. Перед маршем во всех подразделениях снова прошли митинги. Бойцы и командиры единодушно заявлял» о своей готовности освободить братские страны от фашистских захватчиков, с честью пронести знамена полкой и дивизий через горы Чехословакии. «Гитлеровцы не укроются горами, мы выбьем их из гор и уничтожим!» —говорилось в резолюции митинга личного состава 871-го полка.
Уничтожение группировки немецко-фашистских войск, находившейся на чехословацкой территории, должны были осуществить 2-й и 4-й Украинские фронты. Наша 1-я гвардейская армия наступала в направлении на Любо-тин, Новы-Тарг с выходом в дальнейшем к городу Мо-равска Острава. К этому времени в ее оперативное подчинение был передан 1-й чехословацкий армейский корпус. Соседняя справа 38-я армия имела задачу наступать на Горлице, Новы-Сонч и дальше на Краков. Слева соседняя — 18-я армия нацеливалась на Спишска-Нова-Вес, Попрад, а затем на Живец.
234
В наступление 1-я гвардейская армия перешла в 6 часов утра 18 января. Соседние армии уже вели боевые действия \ Наша дивизия при поддержке 1-й чехословацкой танковой бригады начала преследовать отходившего противника по шоссейной дороге, идущей на Фияш. За три дня было освобождено более 40 населенных пунктов, в том числе города Барлева и Тилич. Гитлеровцы стали оказывать упорное сопротивление лишь с конца января, когда соединения 1-й гвардейской армии вышли на южную часть территории Польши. Конечно, это не значит, что полки дивизии продвигались вперед легко и быстро, как в туристическом походе. Наш марш по Карпатам был непрерывной чередой трудных боев. Это в полном смысле слова был героический горный поход, во время которого ярко проявился мужественный характер советского воина-патриота, интернационалиста и гуманиста.
В день мы продвигались в среднем по 25—30 километров, освобождая десятки польских сел и деревень. Нам пришлось задержаться лишь у городка Макув.
Макув — крупный опорный пункт обороны и важный узел коммуникаций немцев южнее Кракова —был занят 38-й армией 23 января. Однако части армии не сумели закрепиться в Макуве, в результате чего противник вновь занял подготовленную им ранее оборону.
Как потом выяснилось, перед фронтом нашей дивизии оказалась 320-я немецкая пехотная дивизия в составе 585, 586, 587-го гренадерских и 320-го артиллерийского полков, поддержанная восемью танками и шестью самоходными орудиями. Линия обороны противника, состоявшая из сплошных траншей, окопов и дзотов, проходила севернее городка по скатам господствующих высот 699, 651 и 579.
26 января дивизия вступила в бой за Макув прямо с марша, имея ограниченное количество боеприпасов, при отрыве из-за бездорожья дивизионной артиллерии. Личный состав был утомлен боями и преследованием противника, продолжавшимся беспрерывно в течение восьми дней.
По замыслу комдива 873-й и 876-й стрелковые полки должны были двумя батальонами сковать противника по
1 Западно-Карпатская наступательная операция войск 4-го Украинского фронта началась 12 января 1945 года.
235
линии фронта, а остальными силами обходным маневром с флангов захватить гитлеровцев в клещи и овладеть укреплениями.
Бой длился ровно сутки, противник ожесточенно оборонялся. Несмотря на недостаточную поддержку артиллерии, бойцы, сержанты и офицеры стрелковых полков выбили фашистов с занимаемых позиций, овладели укрепленными высотами 699, 651, 579 и перерезали дорогу на Журнавку в одном километре юго-восточнее городка. Следует особо отметить действия командиров полков подполковников Ивана Ивановича Черного и Алексея Тимофеевича Пономарева. Как всегда, они с присущей им энергией и бесстрашием руководили боем.
Предстоял захват самого Макува. Пока мы концентрировали силы для завершающего удара, противник при поддержке танков, самоходных орудий, артиллерии и минометов неожиданно предпринял мощную контратаку и вклинился в стык наших полков. Численный перевес врага был настолько велик, что создалась реальная угроза окружения 873-го полка. В сложившейся ситуации генерал-майор П. М. Бежко принял единственно правильное решение: отвести полк несколько назад и занять более выгодные позиции на скатах соседних высот. Гитлеровцы пытались преследовать отходящие подразделения полка, но натолкнулись на плотный ружейно-пулеметный огонь. В конце концов они вынуждены были отказаться от первоначального замысла.
За ночь комдив перегруппировал батальоны полков, усилил их за счет находившегося во втором эшелоне 871-го стрелкового полка. В час дня 28 января после артиллерийского налета 873-й и 876-й стрелковые полки опять перешли в наступление. Они начали теснить противника, выбивая его с оборудованных позиций. Атаки носили ожесточенный, кровопролитный характер. Ценой больших усилий к вечеру 876-му полку удалось достичь северо-восточной окраины Макува, а 873-му — ворваться на его восточную окраину.
Бойцы, командиры и политработники обоих полков проявили в этих на редкость упорных боях подлинно массовый героизм. Хотелось бы прежде всего отметить подвиг 3-й роты 876-го полка, возглавляемой младшим лейтенантом П. А. Зинсля. Я хорошо знал этого офицера. За день до наступления мне довелось вручить ему карточку 236
кандидата в члены ВКП(б). Тогда он заверил, что оправдает доверие Коммунистической партии, будет, не жалея сил и самой жизни, сражаться с ненавистным врагом.
Слово молодого коммуниста не разошлось с делом. 3-я рота, увлекаемая младшим лейтенантом Зинсля, устремилась к центру города, уничтожая на пути вражеские заслоны. Лишь тринадцати храбрецам во главе с командиром роты удалось достичь центральной площади, некоторой они, заняв оборону в каменных зданиях, почти два часа отбивали попытки гитлеровцев ликвидировать у себя в тылу маленький советский гарнизон.
Казалось, части дивизии с часу на час овладеют городком. Однако Макув нам взять в этот вечер так и не удалось. Гитлеровцы из района Суха и Ерпанув на автомашинах перебросили 1104-й стрелковый батальон особого назначения. Это был батальон шестиротного состава с пятью пушками усиления — по численности он почти равен полку.
Учитывая, что удержать окраины городка обескровленными батальонами невозможно, комдив, во избежание лишних потерь, поздно вечером 28 января отдал приказ об отходе на высоты севернее Макува.
Из тринадцати бойцов 3-й роты, сражавшихся в окружении противника на центральной площади городка, вырвались лишь трое. Остальные полегли в неравной схватке. Погиб и командир роты П. А. Зинсля, до этого лично уничтоживший 12 гитлеровцев.
Потребовались еще сутки на доукомплектование рот и батальонов, на детальную разработку плана овладения городком. Для решительного штурма теперь привлекались все силы дивизии, причем основная роль отводилась 871-му стрелковому полку полковника Г. М. Бежанидзе. По численности противник по-прежнему превосходил нас.
Политотдел собрал заместителей командиров полков и батальонов по политчасти и парторгов, информировал их о сложившейся обстановке. Подчеркивалось, что коммунисты, политработники, как всегда, должны идти в первых рядах атакующих, увлекать за собой бойцов подразделений, быть примером для беспартийных.
— Коммунисты нашего батальона первыми ворвутся в Макув,— заверил заместитель командира 2-го батальона по политчасти 871-го полка лейтенант С. В. Бакуменко. Его поддержали другие политработники.
237
Утром 30 января начался штурм Макува. Мы с Петром Максимовичем Бежко с НП, расположенного на вершине высоты 522, видим в бинокли, как подразделения атакуют вражеские позиции. До этого в течение получаса оборону врага тщательно обрабатывали орудия 852-го артполка.
Гитлеровцы пытались опрокинуть атакующих, но наших бойцов уже ничем нельзя было остановить. Они врывались в окопы врага и теснили фашистов к городку. Бои завязались на окраине Макува, схватки шли за каждый дом, за каждую улочку. Помогло нам то, что соседняя с нами 226-я дивизия прочно сковала противника, не дав ему возможности перебрасывать подкрепления.
К вечеру городок был полностью освобожден.
Противник потерял в районе Макува до 2000 своих солдат и офицеров. Значительными потери были и у нас: 118 человек убитых, 460 — раненых. Мы задержались у этого маленького польского городка, оказавшегося крупным опорным пунктом гитлеровцев, на пять суток. И неудивительно, что итоги боев тщательно анализировались в штабе 11-го стрелкового корпуса. Я вынужден был направить начальнику политотдела 1-й гвардейской армии полковнику Я. И. Базилевскому и начальнику политотдела 11-го корпуса полковнику И. В. Кузнецову специальное политдонесение.. Мы извлекли для себя необходимые уроки как в отношении лучшей организации взаимодействия с соседями, так и в плане более эффективного использования артиллерии. Вместе с тем в политдонесении отмечалось, что «командный состав рот и батальонов в боях за Макув действовал умело, решительно, энергично. Политсостав, в частности заместители командиров батальонов по политчасти лейтенанты Бакуменко и Васильев, парторги батальонов и рот личным примером воодушевляли бойцов на свершение подвигов».
Итоги боев за Макув обсуждались на совещании парторгов и комсоргов, а также на партийных и комсомольских собраниях. Большое внимание при этом обращалось на воспитание и обучение молодых солдат, составлявших в то время почти половину личного состава дивизии.
В феврале наступательные действия дивизии проходили более успешно. Мы неуклонно продвигались вперед, освобождая села и деревни братского польского народа.
238
4-й Украинский фронт своим правым крылом, в которое входили 1-я гвардейская и 28-я армии, вел упорные бои за район Бельско, откуда открывался путь к городу Моравска Острава. Чтобы не допустить советские войска в этот стратегически важный промышленный район, гитлеровцы возвели дополнительные оборонительные рубежи на дальних подступах, усилили армейскую группу «Хейн-рици» двумя корпусами и двумя танковыми дивизиями.
На 11-й стрелковый корпус и соединения 38-й армии была возложена задача по овладению городом Бельско. Бои за город начались 9 февраля. Наша дивизия, по-прежнему входившая в 11-й корпус, наносила удар с юга. Полки успешно форсировали речку Бяла и с ходу ворвались в Адександровице — южную окраину Бельско. Успех сопутствовал и соседней 271-й стрелковой дивизии, ворвавшейся на юго-восточную окраину города. А с севера противника плотно блокировали соединения 38-й армии. Завязались уличные бои. Гитлеровцы, засевшие в каменных домах, упорно оборонялись. Почти каждый дом приходилось брать с боем. По приказу командира корпуса генерал-майора М. И. Запорожченко мы в каждом батальоне создали специальные штурмовые группы для захвата сильно укрепленных домов.
42 февраля после трехдневного штурма войска овладели городом Бельско;
Наступая далее по бездорожью, в условиях распутицы, соединения 1-й гвардейской армии достигли рубежа Виль-ковице, Лодыговице, Живец, Рабчице, Салтысово Нижне, Хыжне. К 20 февраля войска 4-го Украинского фронта с начала зимнего наступления своим правым крылом продвинулись на 225, а левым — на 170 километров и закрепились на рубежах рек Вислы, Чарны Дунаец и Ваг. Войска фронта во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом почти полностью освободили Кошицкую, Прешовскую и Банско-Бистрицкую области Чехословакии.
Население Чехословакии тепло и душевно встречало своих освободителей — полки и дивизии Красной Армии. Вступив в город или село, наши солдаты шли сквозь толпы восторженных жителей. Отовсюду тянулись руки с кувшинами молока, вина, меда. Девушки целовали советских воинов, как родных братьев, любимых и долгожданных. Не было большей обиды для словака, если при рас
23©
квартировании части в его хате не размещался хотя бы один солдат. Местные жители по своей инициативе снабжали наши войска продовольствием, фуражом, подвозили воду.
В те дни кипучую энергию проявил начальник нашего клуба капитан И. Я. Кутовой. Где бы ни появлялась клубная машина — в Парховьяни или Лготу, в Циена или Лишна, Мокре-Лазце или Смолкове,— из ее громкоговорителя лились популярные советские песни: «Катюша», «Три танкиста», «Полюшко-поле». Люди собирались у машины, начинался митинг...
Тема выступления капитана Кутового была одна: «Освободительная миссия Красной Армии», а вот аудитория всякий раз иная. Но пропагандиста неизменно ожидал бурный успех. Мне довелось присутствовать на таких митингах. В селе Чечехов жители неоднократно прерывали доклад Кутового возгласами:
— Хай живе Руда Армада! Хай живе Россия!
Особый интерес вызывала та часть доклада, где Кутовой говорил о совместной борьбе советского и чехословацкого народов, их вооруженных сил против общего врага — германского фашизма, об их нерушимой дружбе, скрепленной кровью, пролитой на полях сражений. В том же селе Чечехов я коротко записал взволнованное выступление местного жителя Соленик. Он сказал:
— Гитлеровцы пугали приходом русских и пытались многих из нас угнать к себе в рабство. Тридцать шесть односельчан им удалось увести насильно с собой. Но вы, наши братья, наступали так быстро, что фашистам было не до пленников. Большинство угнанных селян сбежало от них. Тридцать человек уже вернулись в село. Мы ждали Красную Армию и теперь от души благодарим вас за свое освобождение.
В селе Красновце 60-летняя крестьянка Анна Варды со слезами на глазах говорила:
— Дорогие мои сыночки, мы ждали вас, как бога. Нацисты ограбили нас до нитки, издевались над нами. Уничтожайте их, а мы вам поможем.
Эти искренние слова простых, честных чехословацких граждан, обращенные к советским воинам, запомнились мне навсегда.
240
21 февраля газеты опубликовали лозунги Центрального Комитета ВКП(б) к 27-й годовщине Красной Армии. Среди призывов, вдохновлявших советских воинов на быстрейший разгром гитлеровских захватчиков, мы находили слова, которые были адресованы непосредственно к тем, кто находился на территории Чехословакии:
«Слава бойцам и офицерам Красной Армии, бьющим врага в полосе Карпат и освобождающим от немцев дружественную нам Чехословакию!»
«Привет братскому чехословацкому народу, борющемуся против фашистских извергов! Да здравствуют солдаты ц офицеры чехословацкого корпуса, сражающегося вместе с Красной Армией против немецких угнетателей!
Да здравствует советско-чехословацкая дружба!»
Мы от чистого сердца повторяли эти слова. Красная Армия вступила в дружественную нам страну как освободительница, как верный брат и союзник чехословацкого народа. И нас принимали, как родных братьев.
С тех пор прошло много лет, но всякий раз, когда я бываю в Чехословакии, посещаю места былых сражений, братские могилы советских воинов, я заново переживаю и горечь потерь боевых побратимов, и радость встреч с новыми друзьями. Их много у нас за Карпатами, хороших и верных друзей.
Вокруг призывов ЦК ВКП(б) к 27-й годовщине Красной Армии политотдел дивизии, командиры, политработники, партийные и комсомольские организации сразу же развернули широкую разъяснительную работу. В батальонах и ротах состоялись партийные и комсомольские собрания, посвященные призывам ЦК и задачам в связи с предстоящим наступлением.
Солдаты и офицеры дивизии, готовясь к новым решительным боям, не теряли ни минуты. Шла напряженная боевая учеба, проводились политические занятия. Партийные организации рассматривали дела о приеме в партию лучших бойцов и командиров — героев сражений в Карпатах. Среди принятых — лейтенант Юрий Пугачев. Еще год назад он был сержантом. А теперь — командир стрелковой роты. 3 февраля рота заняла важную высоту. Противник предпринял контратаки, но они были отбиты. В ожесточенной схватке лейтенант Пугачев сразил двух немецких офицеров и трех солдат. Затем, зайдя в тыл фа
15 П. А. Горчаков 241
шистского подразделения, лейтенант и его бойцы захватили два мотоцикла и легковую машину. Всего же на счету Юрия Пугачева значилось 20 уничтоженных и 5 плененных гитлеровцев. Он награжден двумя орденами Красной Звезды, многими медалями.
Коммунистом стал и командир пулеметного взвода младший лейтенант Николай Никифоров. Это он массированным огнем обеспечивал переход своего стрелкового батальона через Русский перевал. А во время отражения одной из контратак противника офицер лег за пулемет, заменив раненого наводчика, и уничтожил до 15 фашистов.
В ряды партии вступил автоматчик рядовой Георгий Руруа. Он тоже отличился: в составе танкового десанта одним из первых ворвался в чехословацкий населенный пункт, расстрелял более десяти фашистов, а четверых взял в плен.
Партийный билет был вручен командиру стрелковой роты старшему лейтенанту Анатолию Хамзину. В последнем бою его рота зашла в тыл подразделению противника, отрезав все пути отступления. Среди фашистов началась паника. Группа офицеров штаба части па легковой машине попыталась выскочить из мешка. Но на пути беглецов встал Хамзин. Из автомата он уничтожил находившихся в машине офицеров и водителя. Бойцы роты захватили не только исправный автомобиль, но и штабные документы.
Всего за каких-нибудь две недели в дивизии было принято в члены партии 84 бойца и командира, в кандидаты — 85.
Таким образом, накануне весеннего наступления первичные партийные организации заметно выросли, палились свежими соками. Это позволило улучшить политико-воспитательную работу среди личного состава, охватить партийным влиянием каждого бойца. Создав полнокровные партийные организации во всех подразделениях, мы значительно повысили боеспособность дивизии.
В эти дни мы получили радостное сообщение: Указом Президиума Верховного Совета СССР наша дивизия была награждена орденом Красного Знамени. По случаю такого знаменательного события нам был доставлен приказ. Привожу его полностью.
242
ПРИКАЗ войскам 1-й гвардейской армии № 4
22 февраля 1945 года
Действующая армия
Содержание: О поздравлении 276-й стрелковой Тем-
рюкской дивизии в связи с награждением орденом Красного Знамени.
Доблестные части 276-й стрелковой Темрюкской дивизии под командованием гвардии генерал-майора Беж-ко решительными и быстрыми действиями образцово обеспечили разгром группировки противника в Карпатах и сыграли важную роль в развитии успеха всей 1-й гвардейской армии, за что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года 276-я стрелковая Темрюкская дивизия награждена орденом Красного Знамени.
Поздравляю весь личный состав 276-й стрелковой Темрюкской Краснознаменной дивизии с высокой правительственной наградой и выражаю уверенность в том, что бойцы и офицеры 276-й стрелковой Темрюкской Краснознаменной дивизии и впредь будут проявлять образцы подлинного умения и героизма для окончательного и скорейшего разгрома ненавистного врага.
Командующий войсками Член Военного совета гв.
1 гв. армии гв. генерал-пол- генерал-майор ИСАЕВ ковпик ГРЕЧКО
Начальник штаба 1 гв. армии гв. генерал-лейтенант БАТЮНЯ.
Мы получили также поздравление от Военного совета 4-го Украинского фронта.
Воодушевление, охватившее бойцов и офицеров, не описать никакими словами. На митингах и собраниях все выступавшие говорили только об одном: скорее в бой, чтобы новыми геройскими делами ответить на высокую награду Родины.
16*
243
ВЕСНА СОРОК ПЯТОГО
Хлопья мокрого снега слепят глаза. Буквально в нескольких метрах ничего не видно. Вокруг бело. И дорога кажется ровной. Но стоит оступиться — и сапог проваливается в припорошенную снегом податливую грязь. С посвистом кружит-метет шквальный ветер. Не сбиться бы с пути. Ориентиром для нас служат частые взрывы впереди. На них и идем.
Но вот снежные хлопья превращаются в тяжелые капли воды. И уже льет проливной дождь. Видимость немного улучшается, но нам от этого пе легче: справа и слева в ложбинах и на полях образовались лужи. Бойцы, выбиваясь из сил, бредут по воде, которая доходит порой чуть ли не до пояса. Спереди ударили вражеские минометы. Смертоносные фонтаны забили в боевых порядках пехоты. Залечь нельзя — утонешь.
— Вперед! Быстрее вперед! — приказывает генерал-майор П. М. Бежко.— Только бы добраться до высоты.
Я понимаю комдива: на склоне высоты наше спасение. Укроемся за валунами, и минометный огонь не будет так страшен. Жаль, что отстала артиллерия. Только она могла бы заткнуть глотку вражеским минометам.
В добавление к приказу комдива передаю по цепи:
— Коммунисты, вперед!
Темп продвижения увеличивается. До спасительного склона уже метров сто.
— Быстрее, друзья! Быстрее!
Снова видимость ухудшается: дождь переходит в снегопад.
— Адская погода! Чтоб ее разорвало!.. — ругается комдив.
244
— Можно бы хуже, да некуда.
Наконец-то бойцы достигают склона высоты.
— Закрепиться на занятых рубежах!
Вот уже несколько дней дивизия наступает, участвуя в Моравско-Остравской операции, которую 10 марта начали 38-я и 1-я гвардейская армии 4-го Украинского фронта.
Две недели мы готовились к этой операции. Доукомплектовали роты, батальоны, полки личным составом. Пополнили их техникой, боеприпасами, продовольствием. Вооружили бойцов и командиров четким пониманием возложенной на них освободительной миссии. На собрании партийного актива дивизии с постановкой боевых задач выступил командарм 1-й гвардейской. Генерал-полковник А. А. Гречко говорил о Моравско-Остравском горнопромышленном районе, ставшем после потери Рура и Силезии основной металлургической базой фашистской Германии. В этом районе находились крупнейшие заводы: металлообрабатывающие, машиностроительные, химические, нефтеперегонный, кабельно-проволочный, пороховой и другие. Имелось множество шахт, снабжающих заводы углем. Само собой разумеется, что противник создал мощную систему обороны для защиты индустриальной базы в Чехии и Моравии.
— С освобождением Моравско-Остравского промышленного района от вражеских войск мы намного приблизим долгожданный час победы над гитлеровскими захватчиками, — сказал в заключение А. А. Гречко.
В первый день наступления наши войска на ряде участков прорвали позиции противника, но встретили упорное и яростное сопротивление гитлеровцев. Мы смогли продвинуться вперед лишь до двух километров. Дело в том, что враг сохранил плотную систему огня. Из-за непогоды наша авиация не летала, а артиллерия не могла вести прицельную стрельбу. Наступление затруднялось снегопадом, шквальным ветром и дождем. В полосе 276-й дивизии и всего 11-го стрелкового корпуса перед Вислой находились многочисленные обширные площади, залитые водой.
В тяжелом положении оказался левофланговый 871-й стрелковый полк, наступавший в направлении на разъезд Персцец. Вначале полк с боем овладел близлежащим фольварком, затем смял оборону противника у самого разъезда и отразил две мощные контратаки гитлеровцев,
245
2-й батальон капитана Ф. Н. Саенко, продвигаясь вдоль вышедшей из берегов реки Баерка, к вечеру достиг леса в районе Кичыце, но из-за снегопада оторвался от основных сил полка почти на километр. Этим сразу же воспользовались гитлеровцы. Они бросили в образовавшийся разрыв до двух батальонов автоматчиков. Командир полка Бежанидзе двумя оставшимися батальонами пытался пробиться к отрезанному батальону, но противник, подбросив резервы, отразил атаки.
Бой длился всю ночь. Лишь на другой день все три роты 2-го батальона сумели вырваться из окружения.
Контратаки противника продолжались и в последующие дни. По бездорожью, в дождь и снегопад нам удавалось преодолевать какие-нибудь сотни метров. Такое же положение было и в соседних дивизиях. Авиация по-прежнему была скована непогодой. Огонь артиллерии без корректировки оказался малоэффективным. Между тем противник все более укреплял и без того сильную оборону. Он подтянул резервы — две танковые и одну пехотную дивизии. 17 марта 1-я гвардейская армия вынуждена была прекратить наступление и закрепиться на достигнутых рубежах.
В двадцатых числах марта, когда наша 276-я стрелковая, находясь во втором эшелоне армии, готовилась к продолжению прерванного наступления, нам стало известно об освобождении генерала армии И. Е. Петрова и генерал-лейтенанта Ф. К. Корженевича от занимаемых должностей. Генералы и офицеры открыто сожалели об уходе И. Е. Петрова с поста командующего фронтом.
— Видимо, за неудачное начало Моравско-Остравской операции освободили командующего и начальника штаба, — предположил Петр Максимович Бежко.
— Но не от него же зависел успех! — возразил я. — Авиация бездействовала, артиллерия отстала из-за бездорожья. К тому же у немцев сильнейшие оборонительные сооружения. Разве без огневой поддержки их преодолеешь?
Бежко согласно кивнул головой.
Командующим 4-м Украинским фронтом стал генерал армии А. И. Еременко, начальником штаба— генерал-полковник Л. М. Сандалов. Мы предполагали, что со сменой командования произойдут резкие изменения в боевых порядках фронта. Но ничего подобного не случилось.
246
Все оставалось по-прежнему, за исключением лишь переподчинения отдельных соединений соседним армиям. В частях шла ускоренная подготовка к наступлению, начатая еще распоряжением прежнего командующего.
22 марта в дивизию приехал командарм 1-й гвардейской А. А. Гречко. Тут же был собран руководящий состав, включая командиров полков и их заместителей по политчасти. Командарм ознакомил нас с обстановкой на фронте. Против войск 4-го Украинского фронта теперь действовали 59-й армейский корпус немцев, 11-й армейский корпус CG, а также части и соединения 5-го венгерского корпуса. Генерал-полковник А. А. Гречко напомнил нам о неотложных задачах 1-й гвардейской армии и предупредил:
— Скоро, товарищи, снова наступать. Генерал Бежко, доложите о нуждах дивизии.
Петр Максимович доложил коротко:
— Нужны прежде всего люди, а также средства транспорта. С прибытием пополнения дивизия в течение трехчетырех дней подготовится к выполнению боевой задачи.
— Пополнение и транспорт получите завтра же, — сказал командарм. — Но имейте в виду: в названный вами срок дивизия будет введена в бой.
Действительно, уже на следующий день начали прибывать маршевые роты. Люди были молодые, еще необстрелянные. Три четверти пополнения в боях не участвовало. С ними нужно было работать и работать. Командиры, политработники, коммунисты и комсомольцы беседовали буквально с каждым новичком, выясняли его настроение, старались подбодрить, в чем-то помочь. Успеху воспитательной работы в немалой степени способствовала сама обстановка: войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов били врага на его же земле, вплотную подошли к самому Берлину. Ощущение соучастия в историческом событии придавало силу и духовную твердость даже самым робким людям.
Проводились беседы о военной присяге, о повышении бдительности. При этом широко использовались требования приказов Верховного Главнокомандующего, материалы из «Правды» и «Красной звезды». Агитаторы умело использовали примеры из жизни своих частей. Был, в частности, такой случай: рядовой Логачев в одном из населенных пунктов задержал подозрительного человека,
247
под штатским пальто которого оказался фашистский офицерский мундир. Этот факт послужил поводом для бесед во всех подразделениях.
В ротах читались доклады о международном положении, о работе советского тыла, демонстрировались кинофильмы, в полной мере использовались все формы идеологической работы.
В назначенный срок генерал-майор П. М. Бежко доложил командарму о готовности дивизии к бою. К тому времени войска 1-го и 4-го Украинских фронтов прорвали первую полосу обороны противника, прикрывавшую Моравско-Остравский промышленный район, и освободили города Зорау, Лослау, Рыбник. Тем самым открывался путь к реке Одер. 38-я армия получала теперь возможность развивать свое наступление уже на территории Германии, в обхват города Моравска Острава с севера. 11-й стрелковый корпус, в том числе наша дивизия, передавался 38-й армии, направление которой стало главным в операции.
Мы получили задачу: в ночь на 31 марта совершить марш по маршруту Ландек, Хибе, Струмень, станция Павловиче и к утру сосредоточиться в лесу юго-западнее этой станции; после дневного отдыха продолжить марш и к утру 1 апреля сосредоточиться в районе населенного пункта Мшана.
Марш прошел успешно, хотя воздушная разведка противника и обнаружила наши колонны. Едва мы отошли от Павловиче и приблизились к Стары Двур, как на нас налетели пять «юнкерсов». Они долго кружили над подразделениями дивизии, открывшими по ним залповый огонь. Отбомбиться прицельно летчикам не удалось.
В течение суток полки дивизии совершили 35-километровый марш. Комдив получил боевую задачу: быть в готовности к развитию успеха наступления первого эшелона 38-й армии, приступавшей к форсированию реки Одер.
Да, хорошо для нас начался весенний месяц апрель! Теперь уж никто не сомневался в том, что гитлеровский рейх доживает последние дни.
1 апреля под вечер я приехал в 873-й полк, располагавшийся в фольварке Атандхгоф. Встречаю большую группу возбужденных бойцов.
248
— В чем дело, товарищи? — спросил я, подходя к ним. — Чем вызвано ваше волнение?
— А вот, товарищ подполковник, прочтите. Тут все сказано!
Пожилой солдат протянул мне неровно оборванный кусок оберточной бумаги. Это было письмо русской девушки, угнанной в Германию.
«...А Наташу хозяйка привязала в конюшне к столбу и била кнутом. Нас заставила стоять рядом и смотреть. Очень страшно было. У Наташи со спины клочья кожи свисали, кровь по ногам стекала — целая лужа на полу накопилась. А вся вина ее в том, что она отобрала косточку с мясом у хозяйской собачонки Зизи. Голодная была. Мы тут все и всегда голодные. А взять ничего не смей. «Для вас, русских свиней, еда в канаве за конюшней течет», — говорит хозяйка...»
Молча беру из рук солдата другое письмо. Читаю вслух. Оно еще страшнее. Пятнадцатилетняя Женя из Могилевской области пишет о том, что гитлеровцы поймали себе на потеху ее подружек Эмму и Евдокию. Через два часа Эмме удалось как-то убежать. А Евдокию мертвой нашли под немецкой деревянной кроватью лишь утром, когда фашисты ушли из фольварка.
Бойцы гневно шумели, передавая друг другу письма девушек-невольниц. Одни плакали, другие потрясали кулаками. Солдат можно понять. Ведь у некоторых из них оставались сестры, а то и дети на временно оккупированной фашистами территории. А вдруг и их родных постигла такая же горькая участь? Кто-то клянется жестоко отомстить немцам за муки советских людей. Кто-то в своем справедливом гневе выражает готовность пойти на крайности.
Я достаю из кармана центральную газету со статьей «Рыцари справедливости», спрашиваю:
— Эту статью все читали?
— Нет еще, не успели. Газеты не пришли...
— Ну, тогда я почитаю вслух, а вы послушайте...
Бойцы снова заговорили, как только я закончил чтение. Но теперь беседа шла спокойно, без надрыва и угроз. А стоявший около меня солдат, совсем еще молодой, сказал:
— Правильно пишет газета. Мы идем в Германию как освободители немецкого народа от фашистской тирании,
249
как справедливые судьи за все те гнусные преступления, которые творили гитлеровцы на нашей земле. Мы не будем притеснять мирных граждан, а будем сурово судить военных преступников.
— Это рядовой Рыбенцов из третьей роты, — шепчет мне майор А. М. Мазур, заместитель командира 873-го полка по политчасти. — Кстати, он агитатор. И верно понимает свою задачу.
— Надо, чтобы и все другие правильно ее понимали,— замечаю я.
— Сегодня же организую чтение газетной статьи во взводах,— заверяет майор Мазур.
2 апреля дивизия вступила в бой. Ломая упорное сопротивление противника, она продвигалась по изрезанным траншеями лесам и полям, освобождая один населенный пункт за другим. Против наших частей оборонялась 97-я пехотная дивизия немцев с частями усиления. Мы очистили от гитлеровцев северный берег реки Опа-6а. Перед нами раскинулось большое село Лгота.
В районе реки Опава развернулись ожесточенные бои. У гитлеровцев был хорошо подготовленный в инженерном отношении рубеж на южном берегу. И они надеялись задержать нас здесь до того момента, когда Гитлер применит давно им обещанное «чудо-оружие», способное решить исход войны в пользу Германии.
На участке Лгота, Смолков, где наступала паша дивизия, немцы, по данным дивизионной разведки, использовали инженерно-оборонительные сооружения бывших пограничных чехословацких укреплений, значительно улучшив их оборудование. Вдоль южной окраины села Лгота была отрыта траншея полного профиля, которая пересекла железную дорогу метрах в двухстах восточнее разъезда и выходила к изгибу реки Опава.
Перед траншеей противник натянул проволочное заграждение. Вдоль железнодорожной линии отрыл окопы, оборудовал пулеметные гнезда, установил артиллерию. На северной опушке густого леса, подходившего к Лготе, от высоты с отметкой 258 и далее километра на полтора к востоку также протянулась траншея полного профиля. На северной и восточной окраинах села были оборудованы железобетонные доты двухамбразурной системы. Тол
250
щина их стен достигала полутора метров. Долговременные огневые точки находились в излучине Онавы в шестистах метрах восточнее разъезда, один дот — южнее изгиба шоссе, примерно в километре юго-восточнее Лготы. Еще один дот преграждал путь нашей пехоте на северо-восточной опушке леса в километре западнее населенного пункта Смолков. Каждый дот имел гарнизон из 8—10 человек и соединялся траншеей с соседними, создавая единое кольцо обороны. Вот такой твердый орешек нам предстояло разгрызть.
Ночью наши подразделения начали форсировать Опа-ву в ее излучине, на участке восточнее села Лгота. Пехота пошла вброд, но противник сильным ружейно-пулеметным огнем отбросил ее назад. Вторая попытка была удачнее. Несмотря на то что гитлеровцы подтянули танки и самоходные артиллерийские установки, произвели артиллерийско-минометный обстрел наших боевых порядков, стрелковые подразделения дивизии, поддержанные артиллерией, ранним утром форсировали реку и стали продвигаться к Лготе. Честь первым ворваться в село выпала 1-му батальону 876-го полка капитана Б. Ф. Матренина.
В дальнейшем продвижение вперед несколько замедлилось. Противник занял заранее подготовленную оборону на скатах высот вдоль опушки леса севернее Смолко-ва. Форсировав вброд реку Онава в районе разрушенного моста, бойцы с криком «ура!» ворвались в немецкие траншеи. Гитлеровцы стали отступать по направлению к Смол-кову и Грабине.
Чтобы овладеть этими населенными пунктами, пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам. Мы вынуждены были бросить на пополнение не только резервы, но и всех военнослужащих из тыловых подразделений.
Радовало политико-моральное состояние солдат и офицеров дивизии. Несмотря на тяжесть боев, на потери, они рвались вперед. У всех какое-то светлое, праздничное настроение. А немцы •— подавлены. Участились случаи перехода гитлеровских солдат на нашу сторону. Ими руководит теперь страх за свою жизнь, опасение справедливого возмездия. Заметно изменилось и поведение местных жителей немецкой национальности. Раньше они, как правило, прятались. А теперь, с уходом гитлеровцев, улицы оживают, заполняются народом1
251
В один из дней, когда дивизия была выведена из боя, мне довелось выполнить почетное поручение — вручить солдатам и офицерам высокие правительственные награды. Вручение проводилось в торжественной обстановке, при развернутом Знамени дивизии. Из строя один за другим, печатая шаг, выходили отличившиеся в боях воины. Ордена Отечественной войны II степени были вручены офицерам Дрыбасу, Новикову, Мишуре, Макееву, Игошину; ордена Красной Звезды — лейтенантам Киселеву и Волошину, ефрейтору Ратушному; ордена Славы III степени — младшему сержанту Болотову, старшим сержантам Налобину и Старчаку, старшине Ковалеву.
С глубокой признательностью вглядываюсь в их исхудалые, с печатью крайней усталости лица. Воспитанные Коммунистической партией, верные Родине и народу, солдаты и офицеры не жалеют ни сил, ни жизни для достижения победы над врагом.
Тает груда коробочек с орденами и медалями на столе. И вот уже остается совсем немного. Увы, тех бойцов и командиров уже нет в боевом строю. Они так и не узнали о своих наградах. Что ж, слава героев не в наградах, а в их подвигах, которые сохранятся в памяти народа. Они, эти подвиги, неподвластны времени.
В апрельских боях дивизия узнала имена новых героев.
Перед началом весеннего наступления командиру 4-й роты 871-го полка лейтенанту С. Ф. Житнику было приказано провести разведку боем, чтобы уточнить передний край обороны противника и захватить контрольного пленного. Лейтенант неожиданно ворвался со своей ротой на позиции врага.
Его отважные воины сержант И. С. Лосяцкий, рядовые 3. Б. Бурганов и А. П. Шабалин захватили двух гитлеровцев, служивших в 1084-м полку 544-й немецкой пехотной дивизии.
По-геройски сражался и сам командир роты Степан Федорович Житник. Был такой случай: в бою у населенного пункта Ахаба штаб 2-го батальона оказался в окружении противника. Все попытки вырваться заканчивались неудачей. Тогда лейтенант Житник со своей ротой пробился к штабу, помог ему выйти из окружения. При отходе рота была атакована гитлеровцами. Но теперь ее выручили пулеметчики рядовые Аникин и Свирский. Их
252
«максим» действовал безотказно. Перед позицией героев-пулеметчиков противник оставил более 20 трупов.
Вообще следует сказать, что пулеметчики дивизии отт личались мужеством и отвагой. Вот и теперь, в апрельских боях, пример бесстрашия показали рядовые А. Т. Ста-ценко и С. С. Панов. Только за три дня они вдвоем уничтожили из «максима» около 30 солдат и офицеров противника. Храбро действовал и пулеметчик Панфилов. Он отбил три контратаки, усеяв поле боя трупами гитлеровцев.
Помнится геройский поступок простого колхозного парня, ставшего у нас пулеметчиком, рядового И. А. Хомы. Кстати, он два года перед этим пробыл на временно оккупированной немцами территории, был свидетелем злодеяний гитлеровцев, о чем не раз рассказывал товарищам по роте. Во время боя за Смолков Хома отражал вражескую контратаку, прикрывал роту пулеметным огнем. Враги пытались уничтожить пулеметчика. Но все их потуги были напрасными. Меняя огневые позиции, рядовой Хома продолжал стрелять по врагам.
Гитлеровцы выкатили две пушки, открыли огонь прямой наводкой. Разрывом снаряда бойца отбросило от «максима». Но Хома не отступил. Его пулемет бил не переставая. Герой получил два ранения. Он истекал кровью, но не покидал поле боя. До конца выполнив воинский долг, Хома погиб смертью храбрых.
В этом бою отличился также стрелок С. А. Исаев. Он первым поднялся в атаку и, подбежав к траншее врага, двумя гранатами уничтожил его огневую точку. Бойцы тотчас очистили траншею от гитлеровцев. Агитатор 876-го полка старший лейтенант Кузь, уже знакомый читателю по предыдущим главам, тут же, в захваченном окопе, написал листовку о подвиге Исаева. По указанию политотдела она была размножена и распространена во всех полках.
Смелость проявил и рядовой Малофеев. Мое знакомство с ним состоялось при довольно любопытных обстоятельствах. Я находился на НП 871-го полка, наблюдая за ходом боя. И вдруг в землянку ввалился здоровенный гитлеровец, унтер-офицер. Телефонист, сидевший лицом к двери, вскинул автомат. Но тут из-за спины немца выступил невысокий боец довольно хрупкого телосложения и бойко отрапортовал:
253
— Рядовой Малофеев приволок в плен вот этого...
Все невольно заулыбались. Даже немецкий унтер угодливо ухмыльнулся, поглядывая на нас. Расспрашиваю солдата, где и как добыл пленного. Оказывается, Тихон Федорович Малофеев во вражеской траншее столкнулся с фашистом, что называется, нос к носу. Наш воин не растерялся. Он ловким приемом выбил оружие из рук врага, оглушил его прикладом и доставил к командиру полка. Малофееву тут же была вручена вполне заслуженная им награда.
В полках росли все новые герои. И в этом была немалая заслуга коммунистов, особенно парторгов, этих неутомимых тружеников, правофланговых рот и батальонов, как их по праву называли в годы войны. Таким был, например, парторг 1-го батальона 871-го полка лейтенант С. В. Плотников. Вот лишь некоторые штрихи его работы в период апрельских боев.
С получением боевой задачи на наступление Плотников прежде всего довел ее до парторгов и комсоргов рот, проинструктировал их. Затем он составил план работы, в котором определил и свое место, свое участие как в период подготовки к бою, так и в процессе его. Во главе батальона наступала 1-я рота — ей предстояло выбить гитлеровцев из села Пним. Парторг пришел в роту, поговорил с каждым коммунистом о их роли, конкретных обязанностях в бою. Особый интерес он проявил к командиру взвода младшему лейтенанту Молчанову, который готовился к вступлению в партию. С его взводом парторг и пошел в наступление. В бою Молчанов был расторопным и смелым, управлял взводом уверенно. А когда погиб командир роты, младший лейтенант принял командование ротой на себя.
Усилиями подразделений вражеский заслон был сбит. Началось преследование противника. На марше парторг информировал бойцов о боевой обстановке в полосе наступления дивизии, об отличившихся в боях солдатах, сержантах и офицерах. Пользуясь передышкой, он проинструктировал ротного парторга и комсорга, а также агитаторов взводов.
Еще до наступления Плотников побывал также во 2-й роте. Здесь он помог командиру довести задачу до личного состава, подобрать и проинструктировать боевой актив. Два младших лейтенанта этой роты — Морев и
254
Шумилин подали заявления с просьбой принять их в ряды партии. Парторг поговорил с молодыми офицерами, проверил готовность их подчиненных к наступлению.
— В этом бою вы держите экзамен перед партией,— напутствовал он офицеров. — Ваши отвага и мужество, умение руководить боем будут лучшей рекомендацией при приеме в партию.
Морев и Шумилин оправдали доверие. Они особенно отличились на другой день, когда пришлось отражать вражеские контратаки. Стойкость и хладнокровие офицеров воодушевляли бойцов на подвиги. Парторгу оставалось оформить дела на вновь принимаемых в партию. Это он сделал ночью, а утром, еще до построения маршевых колонн, поступившие заявления уже рассматривались на заседании партийного бюро.
Большим авторитетом у воинов пользовался парторг роты автоматчиков 873-го полка старший сержант Илларион Григорьевич Меркулов. Призванный в армию в начале войны, он сражался храбро и честно. Мне рассказывали, что во время боев на Курской дуге старший сержант получил письмо из родного села Жаменко, только что освобожденного от врага. Сестра Паша писала, что фашисты убили его трехлетнего сынишку. Ворвавшись однажды ночью в дом, гитлеровцы стали требовать еды и самогона. Испуганный их криками мальчуган проснулся и расплакался. Один из солдат рявкнул на него:
— Штиль, кляйнес русишес швайн!
Мальчик зарыдал еще громче. Тогда озверевший бандит вонзил штык в хрупкое тельце ребенка.
После этого письма Меркулов стал неузнаваем. Посуровел, как-то замкнулся. Казалось, им владела только одна мысль — уничтожать, бить врага. Он всегда первым шел на самое опасное дело. Илларион Григорьевич участвовал в Курской битве, форсировал Днепр, Буг, Днестр, в числе первых шагнул в Карпаты. 16 октября 1944 года, отстаивая господствующую высоту на Русском перевале, парторг роты Меркулов со своими товарищами отбил 14 атак гитлеровцев, но удержал обороняемый рубеж. Он получил шестое за войну ранение, однако не ушел с поля боя. Весной 1945 года в бою под Ларговом парторг был снова в первых рядах атакующих, Отлично действовали
£55
и все восемь коммунистов-автоматчиков, которых он в свое время рекомендовал в партию. А когда Меркулов получил тяжелое ранение, коммунисты поклялись отомстить врагу за его рану и слово свое сдержали. На боевой счет Иллариона Меркулова они занесли более трех десятков уничтоженных ими гитлеровцев.
Назову имена мужественных парторгов 4-й и 6-й рот 871-го полка ефрейторов Е. Н. Семенова и П. П. Васильева, раненного во время атаки парторга 2-й пулеметной роты 876-го полка старшего сержанта П. К. Фомина, павших смертью храбрых парторгов 3-й и 4-й рот 873-го полка младших лейтенантов Ю. П. Пожидаева и 3. Я. Сафина.
Парторги неизменно были впереди, на главных направлениях, на самых тяжелых и опасных участках, там, где решался успех боя. Достойно, с честью они выполняли свои нелегкие обязанности как полномочные представители партии коммунистов.
Трудно переоценить и роль агитаторов в апрельских боях. Их разъяснительная работа содействовала развитию наступательного порыва бойцов, во многом обеспечивала успешное выполнение боевых задач.
Плодотворно работал агитатор взвода 4-й роты 871-го полка' комсомолец В. В. Шевель. Самым действенным его оружием был личный пример. Как-то молодой боец, только что прибывший в роту из Ужгородского района, проявил робость при разрыве мин и свисте пуль. Заметив это, агитатор поговорил с ним.
— Чего кидаешься из стороны в сторону? Так и в самом деле попадешь под шальную мину. Сиди в укрытии и не двигайся! Идешь в атаку — не оглядывайся! И не думай, что фашист целит именно в тебя. Ведь та пуля, что свистит,— мимо пролетела, а что в тебя метит,— и не услышишь. Тебе бы получше овладеть ручным пулеметом, полностью использовать его огневую мощь. А то таскаешь его, как вериги, а толку ни на грош.
В бою за высоту 350 Шевель подполз к молодому бойцу и показал направление, откуда группа немцев пыталась перейти в контратаку.
— Ну-ка, фугани по ним, Петро. Дай о себе знать.
Новичок пересилил страх, прицелился... Пулемет задергался в его руках, 256
— Молодец, Петро! Двум фрицам путевки на тот свет дал! — похвалил его агитатор.
В том бою рядовой Петр Герий уничтожил еще трех гитлеровских солдат. Отличился и Шевель: будучи в дозоре, он захватил в плен семь солдат противника.
— Вот видите этих вояк? — говорил он товарищам, показывая на пленных. — Теперь, когда Красная Армия очистила всю Венгрию, ведет сражения в Закарпатье и в Восточной Пруссии, подошла почти к Берлину, немцы все чаще сдаются в плен, не желая воевать за Гитлера.
Превосходным организатором идеологической работы зарекомендовал себя капитан М. А. Беляев, агитатор 871-го полка. В короткие промежутки между боями он успевал и выступить перед личным составом, и провести инструктаж низовых агитаторов. Встречаясь с агитаторами, Беляев им рекомендовал, какую газетную статью пересказать бойцам, а какую зачитать вслух; показывал, как организовать выпуск «молний». Офицеры полка с интересом слушали беседы Беляева о морально-политическом поражении фашистской Германии.
Капитан Беляев воспитал большую группу ротных и взводных агитаторов. Среди них агитатор 3-й роты коммунист П. Ф. Васильев. В бою за высоту 246 он заменил раненого комвзвода и повел бойцов в атаку. Гитлеровцы пытались отрезать взвод и уничтожить его. Но все их атаки были отбиты. В этом бою Петр Федорович Васильев погиб, уничтожив пять гитлеровцев.
За проявленные в апрельских боях мужество и отвагу 25 агитаторов полка по представлению командира полка были удостоены правительственных наград.
Начинался заключительный этап Моравско-Остравской операции. 38-я армия должна была наступать в полосе Заудиц, Крановитц и во взаимодействии с соседней 1-й гвардейской армией занять важнейший опорный пункт обороны противника — город Моравска Острава.
Перед наступлением к нам приехали командующий 38-й армией генерал-полковник К. С. Москаленко и член Военного совета генерал-майор А. А. Епишев. Их интересовала боеготовность переданной в состав армии нашей 276-й стрелковой дивизии. Командарм и член Военного совета подробно расспрашивали П. М, Бежко й меня об
17 П. А. Горчаков 2^7
укомплектованности подразделений и частей, о политико-моральном состоянии личного состава.
Я доложил генерал-майору А. А. Епишеву о партийнополитической работе, проводимой в дивизии, показал составленный накануне план мероприятий политотдела на новый этап наступления, представил офицеров политотдела, заместителей командиров полков по политчасти. Члена Военного совета особенно интересовала работа партийных и комсомольских организаций, их рост, воспитание молодых коммунистов. В дивизии у нас было 1020 членов и кандидатов партии, 755 комсомольцев.
— Это огромная сила, — сказал А. А. Епишев. — А какова база роста партийных рядов?
— В апреле, по нашим расчетам, из числа лучших бойцов и командиров могут быть приняты шестьдесят четыре человека в члены партии и свыше двухсот — в кандидаты,— ответил я.
Член Военного совета остался доволен первым знакомством с дивизией. Удовлетворило положение дел в ней и командарма.
— Недостаточно полно нас обеспечивают боеприпасами, — пожаловался под конец беседы Бежко.
— Дивизия получит все, что положено по нормам, — пообещал К. С. Москаленко. И слово свое сдержал.
Наступление 38-й и 1-й гвардейской армий, начатое 15 апреля, развивалось успешно. Взламывая вражескую оборону, части и соединения освобождали один населенный пункт за другим, настойчиво приближаясь к городу Моравска Острава.
Наша дивизионная газета «Призыв Родины» 17 апреля вышла с крупным заголовком на первой странице: «Крепче удары по врагу!» Газета сообщала, что в первые дни наступления отличились младший лейтенант Логинов и сержант Коротков. Она призывала равняться на передовых воинов.
Должен сказать, что дивизионная газета, которую делал небольшой, но дружный коллектив, оперативно откликалась на события дня. Бойцы и командиры любили дивизионку, с нетерпением ждали ее выхода. В этом несомненная заслуга редактора газеты майора Н. П. Смирнова и его надежных помощников — заместителя редактора капитана Ф. К. Мальцева, секретаря редакции капи-258
тана А. А. Фриднера и литературного сотрудника старшего лейтенанта П. Е. Реуцкого.
Внимательно читаю газету. Корреспонденты уже успели побывать во многих подразделениях, действующих на главном направлении, и теперь сообщают о подвигах героев. Заметки короткие, лаконичные, но написаны они с боевым накалом, мобилизуют воинов, зовут их вперед. В информации «В первый день наступления» говорится о боевых действиях полка, которым командует подполковник Алексей Тимофеевич Пономарев. На своем участке подразделения полка прорвали оборону противника, ворвались в населенный пункт и после жаркого боя овладели им. При этом отличились бойцы офицеров Сидорова, Абрамова.
«Преследуя по пятам отступающего противника, — пишет далее газета,— бойцы подразделений с боями продвинулись на несколько километров вперед, очистили от противника большой массив леса, овладели фольварком.
В первый день наступления подразделения офицера Пономарева уничтожили более 100 немецких солдат и офицеров, взяли в плен 37 гитлеровцев и захватили 3 танка и одну батарею противника...»
Воины дивизии рвались вперед. В политотдел то и дело поступали доклады из подразделений и частей о свершенных в боях подвигах.
Кандидат в члены партии сержант Коротков по сигналу первым поднялся в атаку и, стреляя из автомата, побежал к вражеской траншее. Его отделение уничтожило четырех гитлеровцев, пленило двоих и захватило два пулемета.
Спустя несколько дней коммунист Василий Коротков совершил еще один подвиг. 6-я рота, в которой он служил, атаковала фашистов, заставив их отступить. Но тут неожиданно появилась самоходная артиллерийская установка и открыла огонь по атакующим.
— Сержант Коротков! — приказал лейтенант Солда-тенко. — Гранатой ее!
Лощинами и кустарником Коротков подобрался к самоходке, бросил в нее гранату. Машина потеряла ход — разбита гусеница. Однако орудие продолжало вести огонь. Тогда на помощь к Короткову подоспел сержант Иван Кондратюк. Он швырнул гранату в двигатель самоходки. К небу поднялся черный столб дыма. Гитлеровцы, вы-17* 259
скочившие из пылающей машины, были уничтожены автоматным огнем. Рота снова продвигалась вперед.
Отличился и сержант Губанов. Он прибыл в дивизию с Урала. Вначале ничем не выделялся среди сверстников, разве что был молчаливым, немногословным. Но вот на митинге перед наступлением он неожиданно для всех попросил слова.
— Не охотник я до длинных разговоров, — проговорил сержант.— Но сейчас не смолчу. Завтра бой. И быть может, другого случая высказаться не представится. Скажу о себе. В бой пойду без страха. У меня для страха в душе и места нет — все яростью заполнено. Фашисты отца моего убили...
Губанов вывел свое отделение к железной дороге, за которой проходило шоссе — его-то и надо было оседлать. Но полотно железной дороги находилось под непрерывным вражеским обстрелом. Показаться на насыпи — значит подставить себя под удар орудий, под пули снайперов и пулеметчиков. Губанов, оценив обстановку, скомандовал:
— Отделение, за мной!
У сержанта созрел дерзкий план. Он решил по глубокой балке отвести бойцов от немецких окопов и, не поднимаясь на насыпь,, переползти железнодорожное полотно в том месте, где его пересекало шоссе. Этот маневр удался. Затем бойцы Губанова по кювету, идущему вдоль шоссе, снова приблизились к вражеским окопам, но теперь уже на левом фланге гитлеровцев. Отделение открыло огонь, который был неожиданным для врага. А тем временем перед фронтом обороны появились советские танки. Фашисты не выдержали и отступили. Отделение Губанова преследовало врага.
Сержант Иван Губанов был удостоен ордена Красной Звезды.
Безостановочно продвигаясь вперед, подразделения дивизии вышли к северной окраине поселка Грабине и выступом примыкавшей к нему роще. У гитлеровцев здесь был создан мощный узел сопротивления с траншеями полного профиля, с дотами. Полки дивизии дважды атаковали позиции противника, но безуспешно. Он бросил в бой танки, самоходные пушки, авиацию. Его заранее подготовленная оборона выдержала наши первые удары. Более того, собрав в кулак ударные силы, враг перешел 260
в контратаку. Несколько подразделений нашей и соседней 30-й стрелковой дивизии, не ожидав такого мощного удара в стык, вынуждены были отойти.
Мы с П. М. Бежко поспешили на правый фланг дивизии. Но нас опередил приехавший туда на машине командир 11-го стрелкового корпуса генерал-майор М. И. За-порожченко. Михаил Иванович поднял подразделения обеих дивизий и сам повел их в бой. Мы устремились за ним, стараясь не отставать. Это был для меня самый яростный и жестокий бой на заключительном этапе войны. Бойцов уже никакая сила не могла остановить, и они с ходу ворвались в Грабине.
Генерал-майора П. М. Бежко в этом бою ранило в ногу.
— В госпиталь комдива! — распорядился было я, но Петр Максимович запротестовал:
— В медсанбате отлежусь день-два. Рана-то пустяковая. Не уходить же из дивизии за неделю до победы!
Я понимал состояние Бежко и не настаивал. Рана действительно оказалась легкой, и Петр Максимович вскоре, чуть прихрамывая, прибыл на КП дивизии.
В тот же день мне позвонил член Военного совета 38-й армии генерал-майор А. А. Епишев и сообщил о награждении дивизии вторым орденом Красного Знамени. Тут же вызываю офицеров политотдела. Что будем делать? Ну, разумеется, во всех подразделениях проведем митинги. Это оперативная, действенная форма работы с воинами. Непременно выпустим номер газеты, листовки, посвященные радостному событию. Хозяйственники позаботятся о том, чтобы по-праздничному угостить бойцов. А что еще? Старший техник-лейтенант А. Ф. Рябкин, наш «директор кинофикации», вносит предложение:
— Покажем бойцам новый фильм!
В дивизии кино пользовалось большой популярностью. Только за три первых месяца года для бойцов и командиров было дано 160 киносеансов. Прикидываем, какой фильм лучше всего показать. У нас были «Иван Грозный», «Родные поля», «Сердца четырех»... Выбор пал на «Малахов курган». И мы не ошиблись. С большим интересом смотрели бойцы этот фильм, восхищаясь подвигом защитников Севастополя. Без преувеличения скажу: в последующие дни весь личный состав дивизии дрался с от
261
вагой и лихостью, присущей героям полюбившегося фильма.
30 апреля был освобожден город Моравска Острава. В тот день Москва салютовала доблестным войскам 4-го Украинского фронта, в том числе чехословацкому корпусу, двадцатью артиллерийскими залпами. Мы гордились еще и тем, что в приказе Верховного Главнокомандующего среди отличившихся войск была упомянута наша дивизия.
1 мая 1945 года дивизия встретила на берегу Одера. Это был один из самых радостных праздников в моей жизни. Он прошел в громе победных салютов, теплый и солнечный. Вместе с нами радость и счастье испытывали жители освобожденного чехословацкого города.
Третий рейх трещал и разваливался под всесокрушающими ударами советских войск. Приближался долгожданный час нашей полной победы.
ЧАС ДОЛГОЖДАННЫЙ
Утром 2 мая дивизия вновь пошла в наступление. Вскоре началась Пражская операция. В районе столицы братской Чехословакии, как это стало известно позднее, сосредоточилась крупная и наиболее боеспособная группировка немецко-фашистских войск — группа армий «Центр», насчитывавшая свыше 900 тысяч солдат и офицеров. Противник имел около 10 тысяч орудий и минометов, более 2200 танков и штурмовых орудий, около 1 тысячи самолетов !.
Войска 1-го Украинского фронта с севера и 2-го Украинского фронта с юга должны были замкнуть кольцо окружения вражеской группировки западнее Праги. 4-й Украинский фронт наступал с востока из районов только что освобожденной Моравска Остравы. 38-я армия наступала в направлении на город Оломоуц, в районе которого была сосредоточена довольно сильная группировка противника, прикрывавшая подходы к Праге. Вместе с нами в операции участвовали и чехословацкие части.
На участке 276-й дивизии противник закрепился на высотах, примыкающих к населенным пунктам Шимельс-дорф и Блюхерув. Перед нами стояли немецкие 500-й батальон особого назначения, 13-й гренадерский полк, дивизион 4-го артполка и различные части усиления. По численности войск противник почти не уступал нам. Мы получили задачу прорвать вражескую оборону, наступая общим направлением на Клонтендорф, и преследовать
1 См. Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 1945. Краткая история. М., 1970, с. 509.
263
противника, не давать ему возможности закрепиться на каком-либо рубеже.
Дивизия успешно выполнила задачу: прорвала оборону между населенными пунктами Билов и Бутовице, очистила от противника рощу южнее Билова. Вот здесь-то и пришла к нам радостная весть: «Берлин капитулировал! Алое знамя развевается над рейхстагом, Гитлер принял яд!» Люди целовались, обнимались, плясали от счастья. Даже у самых, казалось бы, закаленных воинов на глазах появились слезы.
Ко мне подошел старший сержант Иван Емельянович Ермилов. Этот немолодой уже, лет сорока, человек с первых дней войны на фронте. Четыре раза был ранен, заслужил четыре ордена. Старший сержант отличался удивительным хладнокровием. Рассказывали, что однажды в котелок с кашей, которую он ел, влетел осколок от разорвавшейся мины. Ермилов приподнял котелок, осмотрел на нем дырку и спокойно продолжал обед, лишь пробурчав недовольно:
— Вот гад, сгубил казенную вещь. Иди теперь к старшине...
Так вот этот самый Ермилов, не стыдясь выступивших слез, возбужденно говорил:
— Теперь и я вижу: каюк войне. Приходит конец проклятому фашизму. Хотели мою Москву взять, а сгребли шиш. Берлин-то — тю-тю! Как вы знаете, я беспартийный, но от всей души говорю: спасибо большевистской партии. Она привела нас к победе! — Он говорил все громче, энергично взмахивая рукой. Обернувшись лицом к стоявшим около нас бойцам, он воскликнул: — Но в нас-то немец еще стреляет! Кончай ночевать, братцы славяне, готовь оружие к бою!
Сколько было таких патриотических речей! Рядовой Михаил Лушко, годившийся, как говорят, в отцы доброй половине наших новобранцев, сказал:
— Як учув, що Берлин скапитулировав, то и силы прибавилось.
— Да, правильно говоришь,— отозвался связист Покорный. — Теперь победа близка. Хочется идти вперед и вперед. Доконаем врага, можно будет и отдохнуть.
С волнением гляжу на бойцов. Простые парни, в большинстве своем беспартийные, но какие они патриоты! Это же настоящие большевики! Взять хотя бы того же Связи-264
ста О. С. Покорного. Ранен, весь в повязках, а в госпиталь не идет. Не хочет эвакуироваться в тыл, когда до победы рукой подать.
Противник, однако, не терял еще надежды остановить нас. В район города Клонтендорф он подбросил резервы: две роты пехоты, несколько танков, самоходных орудий, бронетранспортеров и артиллерийский дивизион. Но наступательный порыв наших бойцов был непреоборимым. Они упорно теснили гитлеровцев и полностью овладели городом.
Гитлеровцы в ночь на 5 мая начали отходить на юго-запад. Дивизия неотступно преследовала их. Позади остались Тирн-Хокирхен, Фульнек, Гельсдорф, Вольфель-дорф, Кермердорф... Правда, враг то и дело огрызался, оказывал упорное сопротивление. 7 мая бойцы 5-й роты 871-го полка, преследуя фашистов, почти вплотную подошли к ним, предложили сдаться. Те в ответ открыли ураганный огонь. Наши залегли. К цепям роты подбежал комсорг полка младший лейтенант В. Т. Куприянов и крикнул:
— Вперед, товарищи! Победа близка!
Не обращая внимания на огонь врага, бойцы все, как один, поднялись в атаку. Могучее русское «ура!» прогремело над зелеными холмами и рощами. Гитлеровцы не выдержали, бросились наутек. Но тут сказал свое слово пулеметчик С. П. Алексеев, залегший на высотке. Он метко разил из «дегтяря» фашистов, бегущих к деревне. Под прикрытием его огня комсомолец рядовой Ибрагим Та-дибаев, а за ним группа бойцов ворвались в деревню и вышли на ее противоположную окраину. Оказавшиеся в деревне немецкие солдаты вынуждены были сдаться в плен.
8 мая был освобожден Оломоуц. Войска 4-го Украинского фронта устремились к Праге на помощь чехословакам, поднявшим в своей столице вооруженное восстание против ненавистных оккупантов. Часы группы армий «Центр», возглавляемой генерал-фельдмаршалом Шерне-ром, были сочтены.
Ночью было получено извещение: начальников политотделов и начальников разведок дивизий срочно вызывает член Военного совета 38-й армии генерал-майор А. А. Епишев., Мы с майором В. Т. Сидоренко немедленно выехали на машине. Внезапность ночного вызова тре
вожила. Я знал, что Алексей Алексеевич, всегда ценивший рабочее время политработников, не стал бы беспокоить по пустякам. Выходит, произошло что-то значительное. Быть может, член Военного совета хочет сделать приятное сообщение о завершении боевых действий — по всему видно, война со дня на день должна закончиться. Но тогда зачем вместе с начальниками политорганов вызывать и начальников разведок?
А. А. Епишев, уставший от бесконечных дел, но бодрый и жизнерадостный, встретил нас радушно. У него уже собрались все, кому надлежало быть.
— Товарищи, представитель верховного командования фашистской армии подписал акт о безоговорочной капитуляции, — сообщил генерал-майор А. А. Епишев. — В девять часов утра немецкие войска обязаны прекратить боевые действия и сложить оружие. Но мы не должны снижать боеспособность своих соединений. Фашисты коварны и жестоки, они могут продолжать сопротивление...
Как оказался прав Алексей Алексеевич Епишев! Пражская группировка немцев и не думала складывать оружия. К вечеру 9 мая нам пришлось отразить не одну вражескую атаку. В этот день советские войска вошли в Прагу.
Наша дивизия снова на марше. Хотя война формально уже закончена, но мы еще преследуем гитлеровские войска.
Вовсю светит солнце, а с недалеких гор веет прохладный ветерок, освежая разгоряченные ходьбой лица бойцов. Города и села расцвечены кумачом флагов СССР, Чехословакии. На улицах портреты Ленина и Сталина, множество лозунгов и плакатов, ликующие люди. Восторженные возгласы, музыка.
— Наздар Руда Армада!
— Наздар! Наздар!
12 мая мы остановились в населенном пункте Круп, что в 30 километрах от Праги. Хотелось полюбоваться столицей — золотой красавицей, спасенной Красной Армией. Но нам, к сожалению, было не до этого. Надо было очищать западные районы страны от остатков эсэсовских отрядов, помогать местному населению налаживать мирную жизнь. Да мало ли других неотложных дел у политотдела! К тому же едва мы достигли Крупа, как пришлось перебираться в новый район.
266
Но вот война кончилась и для нас. Теперь живем в лесу, неподалеку от города Колин. Свой лагерь оборудуем добротно, капитально, благо рядом, на железнодорожной станции, немцы оставили штабеля фанеры и досок. Сколько здесь пробудем — никто не знает, но хочется получить от своего жилья максимум удобств. Не в солдатских же палатках, как намечалось ранее, проводить свой досуг победителям!
Ох как исстрадались солдатские руки по рубанку, топору, пиле! Работа кипит, идет негласное соревнование между ротами, батальонами, полками. Буквально за один день вырос целый военный городок. А бойцы уже приступили к оборудованию линеек, спортивных площадок, футбольного поля. Еще два дня назад смерть витала над однополчанами, а сегодня, как ни в чем не бывало, они азартно бьют мяч над волейбольной сеткой, играют в футбол, страстно болеют за свои команды.
15 мая в дивизию прибыли командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии А. И. Еременко и член Военного совета генерал-полковник Л. 3. Мехлис. Они вручили ордена и медали солдатам, сержантам и офицерам, наиболее отличившимся в завершающих боях. Гремела медь духового оркестра, роты и батальоны дивизии прошли парадным маршем перед трибуной командующего.
А в политотделе, как и йрежДе, горячие дни. Из первичных партийных организаций посыпались вопросы: как принимать в партию — на основании постановлений ЦК ВКП(б) от 19 августа и 9 декабря 1941 года? Война ведь кончилась... В дивизии 859 членов и кандидатов в члены ВКП(б). Силища! Во всех ротах, за исключением трех, имеются партийные организации. А почему не во всех? Забот не перечесть.
Только 23 мая нам удалось отпраздновать победу. Собрались на товарищеский ужин. Петр Максимович Бежко, потирая поседевшие виски, обвел взглядом присутствующих:
— Ну вот, товарищи, пришел и на нашу улицу праздник. Мы долго шли к нему, и не всем удалось увидеть конец пути. Мы победили. Я предлагаю тост за нашу победу, за ленинскую партию, которая привела нас к победе, за наш великий советский народ!
Сидящие за столом офицеры осушили бокалы. Начался неторопливый дружеский разговор. Неподалеку от ме-
267
ня сидит командир 876-го стрелкового полка Алексей Тимофеевич Пономарев. Выпил он вместе со всеми за победу, а сам сидит грустный. Я знаю причину его грусти. За несколько дней до окончания войны был ранен его начальник штаба майор Иван Романович Голосюк, с которым они крепко сдружились. Нет его за праздничным столом. Командир 871-го стрелкового полка Гусейн Миро-дович Бежанидзе успокаивает боевого товарища, что-то говорит ему, пытаясь развеселить.
К нам подходит с бокалом в руке командир 873-го стрелкового полка Иван Иванович Черный. Два дня назад генерал-майор Бежко, начальник штаба дивизии полковник Дударов и я были у него в полку на торжественном вечере. Вручили орден Красного Знамени, которым был награжден полк, присутствовали на концерте художественной самодеятельности. Теперь Иван Иванович у нас в гостях. Обнимаемся, целуемся. На душе — праздник.
Петр Максимович Бежко сообщает присутствующим:
— Товарищи, у нас в гостях известный писатель и поэт Константин Симонов.
Симонов встает, смущенно раскланивается. Читает по просьбе собравшихся свои новые стихи. Он в военной форме и потому особенно близок всем нам, в прошлом людям мирных профессий.
Разговор сам собою заходит о будущем. Офицеры делятся задумками, мечтами...
В конце мая меня вызвал член Военного совета армии генерал-майор А. А. Епишев.
— Давно не были в Москве? — после приветствия спросил Алексей Алексеевич.
— Давно...
— Только что получена директива: в Москве состоится Парад Победы. В нем будет участвовать сводный полк от каждого фронта. Вам, Петр Андреевич, как представителю тридцать восьмой армии оказано высокое доверие — командовать ротой знаменосцев Четвертого Украинского фронта, — сообщил А. А. Епишев потрясающую новость.
— Благодарю за доверие, Алексей Алексеевич, — ответил я.
— В Москве нужно быть десятого июня. Так что сдавайте-ка побыстрее дела своему заместителю и отправ-268
ляйтесь в распоряжение штаба фронта, — приказал Епишев, дружески напутствуя меня в дорогу.
Не было в тот день человека счастливее меня. Мысленно я был уже в Москве. Вспомнилось, как в январе 1944 года приезжал в столицу получать Золотую Звезду. Как волновался тогда! Память до мельчайших подробностей сохранила все события дня. 11 часов 17 минут. Вхожу в зал ожидания, где уже собрались награжденные. Ровно в 11 часов 30 минут нас приглашают в Георгиевский зал. У стола, сплошь уставленного красными коробками, — Михаил Иванович Калинин. Всесоюзный староста приветливо, с какой-то отеческой теплотой поздравляет награжденных и, вручая награду, пожимает руку. Уходил я из Кремля окрыленный: хотелось немедленно, не теряя ни часа, возвратиться на фронт, бить ненавистного врага, оправдать высокую награду Родины.
И вот снова поездка в Москву. Мы с честью выполнили свой солдатский долг и можем доложить об этом партии, правительству.
Командиром сводного парадного полка от 4-го Украинского фронта был назначен генерал-лейтенант А. Л. Бондарев, а партийно-политическую работу в парадном полку возглавил генерал-майор Л. И. Брежнев. Под их руководством мы, командиры батальонов и рот, комплектовали подразделения, тщательно готовились к отъезду.
По прибытии в Москву нас разместили в казармах, выдали новую форму. Началась подготовка к Параду Победы.
Шефство над сводным полком 4-го Украинского фронта взял Краснопресненский район столицы. Каждый вечер представители нашего полка выезжали на встречи с москвичами, которые всегда проходили очень тепло и сердечно. На всю жизнь запомнилось мне посещение знаменитой Трехгорки. Группу, возглавляемую генерал-майором Л. И. Брежневым, пригласили посмотреть, как работают труженики тыла. Наши машины вынуждены были остановиться километра за полтора от Трехгорки: мы пошли к фабрике по живому коридору, образованному ликующими людьми. Нам бросали цветы, кричали «ура!», желали счастья, крепко обнимали нас.
В одном из цехов Л. И. Брежнева заинтересовала девочка-подросток, деловито хлопотавшая у грохочущих
269
станков. Она была настолько мала ростом, что для нее сделали почти полуметровую деревянную подставку,
— Кто ты такая? — спросил Леонид Ильич.
— Ткачиха, — ответила девочка.
— Как же тебя зовут?
— Надя.
— Как ты работаешь, Надя?
— Ничего, — застенчиво опустила глаза юная ткачиха.
— Великолепно работает Надя! — похвалил начальник цеха. — Она у нас многостаночница. Норму всегда выполняет на сто двадцать процентов.
— Комсомолка? — продолжал спрашивать Леонид Ильич.
— Да. Комсомолка.
— Сколько же тебе лет?
— Пятнадцать, — смущаясь еще больше, ответила Надя и тут же уточнила: — Пятнадцать с половиной... скоро будет...
— Родная ты моя труженица,— обнял девочку растроганный Леонид Ильич и по-отцовски расцеловал ее.
В канун парада я еще раз проверил свою роту знаменосцев. Бойцы подготовились хорошо, все один к одному — 36 солдат и сержантов — рослых, сильных парней. У каждого на груди по два-три боевых ордена, по нескольку медалей. Каждый знаменосец представлял здесь, в Москве, свою прославленную часть или соединение. Среди алых полотнищ, которые суждено было пронести по Красной площади,— Знамя 276-й стрелковой Темрюкской дважды Краснознаменной дивизии. Какая это честь! Ее по праву заслужили герои дивизии — бойцы, командиры и политработники. И я гордился однополчанами.
Мне посчастливилось встретить на дорогах войны многих замечательных людей, у которых я учился, которым подражал. Это и однополчане, и старшие товарищи. С неизменно теплым чувством признательности вспоминаю прославленных советских полководцев, видных политических руководителей. Они щедро делились с нами, молодыми политработниками, своими знаниями, богатым опытом, показывали пример партийного подхода к делу. Каждая встреча с такими людьми, сколь короткой бы она ни была, оставляла в моем сознании глубокий след.
И вот наступило долгожданное утро 24 июня 1945 го
270
да. Войска, представляющие все фронты и флоты Вооруженных Сил Страны Советов, выстроились перед Мавзолеем. Блестела брусчатка, омываемая теплым летним дождем. Торжественно-молчаливо застыли квадраты сводных полков. На трибунах — руководители партии и правительства, прославленные военачальники, виднейшие деятели науки, культуры, зарубежные гости. У стоящих в парадном строю такое ощущение, будто на них устремлены глаза людей всего мира. Так оно и было в действительности.
Бьют Кремлевские куранты. Гремит ликующее «ура!». Звенит сверкающая медь оркестра. Печатая шаг, идем мимо Мавзолея. Шелестят знамена, украшенные орденскими лентами. И чудится мне, что плечом к плечу с нами идет весь наш народ. Хочется громко, всей стране, всей земле сказать:
— Я твой солдат, трудовой народ, твой боец, партия, твой верный сын, мать-Родина! Навсегда!
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Трудные уроки 3
В обороне в 21
Ведущая сила — коммунисты . 37
Разведка боем ........ . • . . , 48
Удачи окрыляют . ...... 59
Солдатские будни 83
Накануне битвы . . . . . . 99
Суровое поле ........ ..... 111
Вперед, на запад! . 128
Ой, Днипро, Днипро... . ..... 145
В предгорьях Карпат 167
Огненные перевалы . ..... 175
На землях братских народов .... 213
Весна сорок пятого 244
Час долгожданный . . .... 263
Петр Андреевич Горчаков
ВРЕМЯ ТРЕВОГ И ПОБЕД
ИБ Ns 357
Редактор Ф- П. Водынин
Художник В. В. Васильев
Художественный редактор А. М. Голикова
Технический редактор Г. Ф. Соколова
Корректор Е. Г. Лузинская
Г-92226.
Одано в набор 4.4.77. Подписано к печати 28.7.77.
Формат 84X108/88- Печ. л. 81/2, усл. печ. л. 14,28-|-3 вкл.^-’/в печ. л.=»
1,47 усл. печ. л.» уч.-изд. л. 15,878
Бум. тип. Ns 1. Тираж 100000 эка. Цена 1 р. 40 к.
Изд. № 3/1342. Зак. 415
Воениздат
103160, Москва, К-160
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3
Scan Kreyder - 04.08.2016 STERLITAMAK