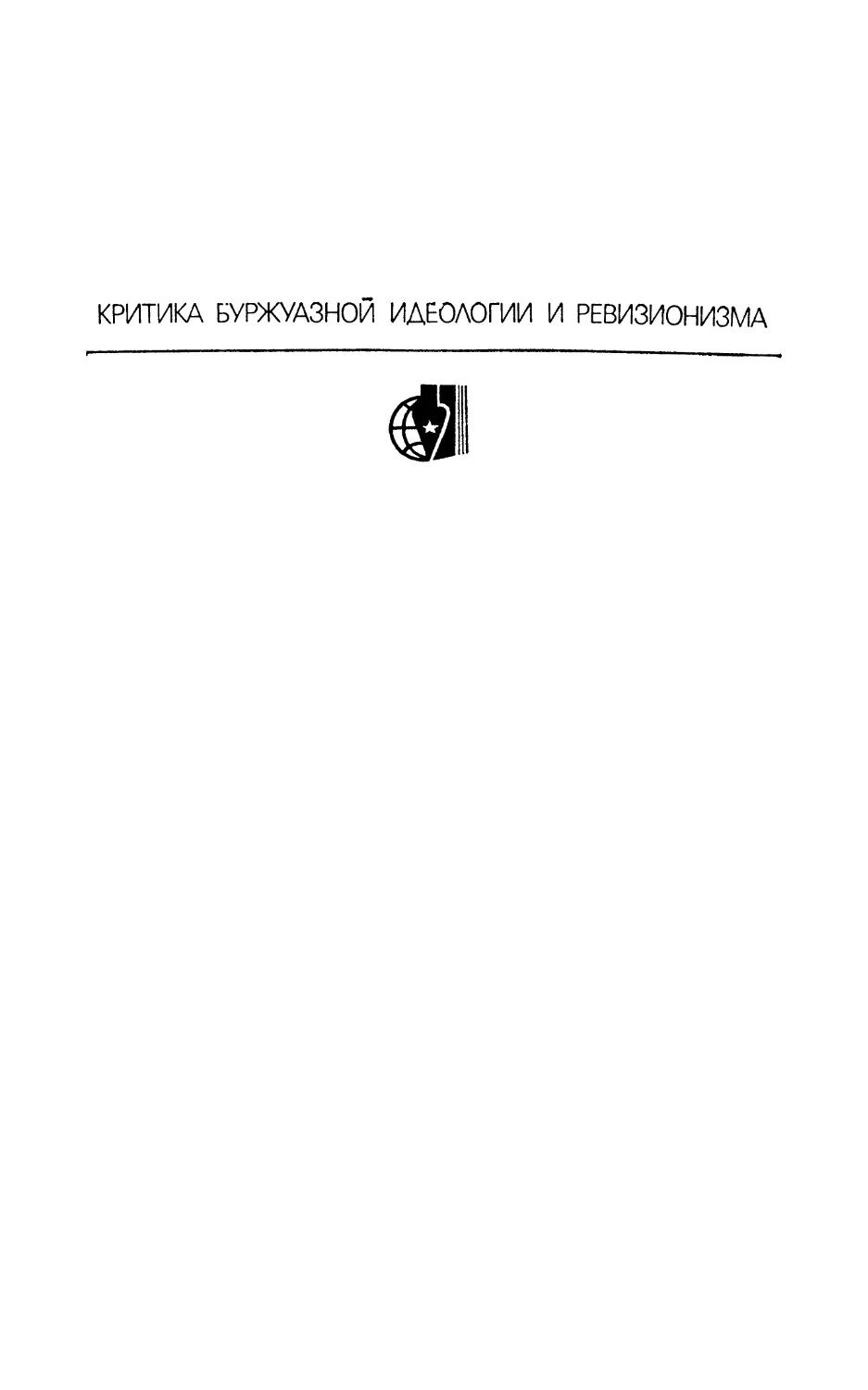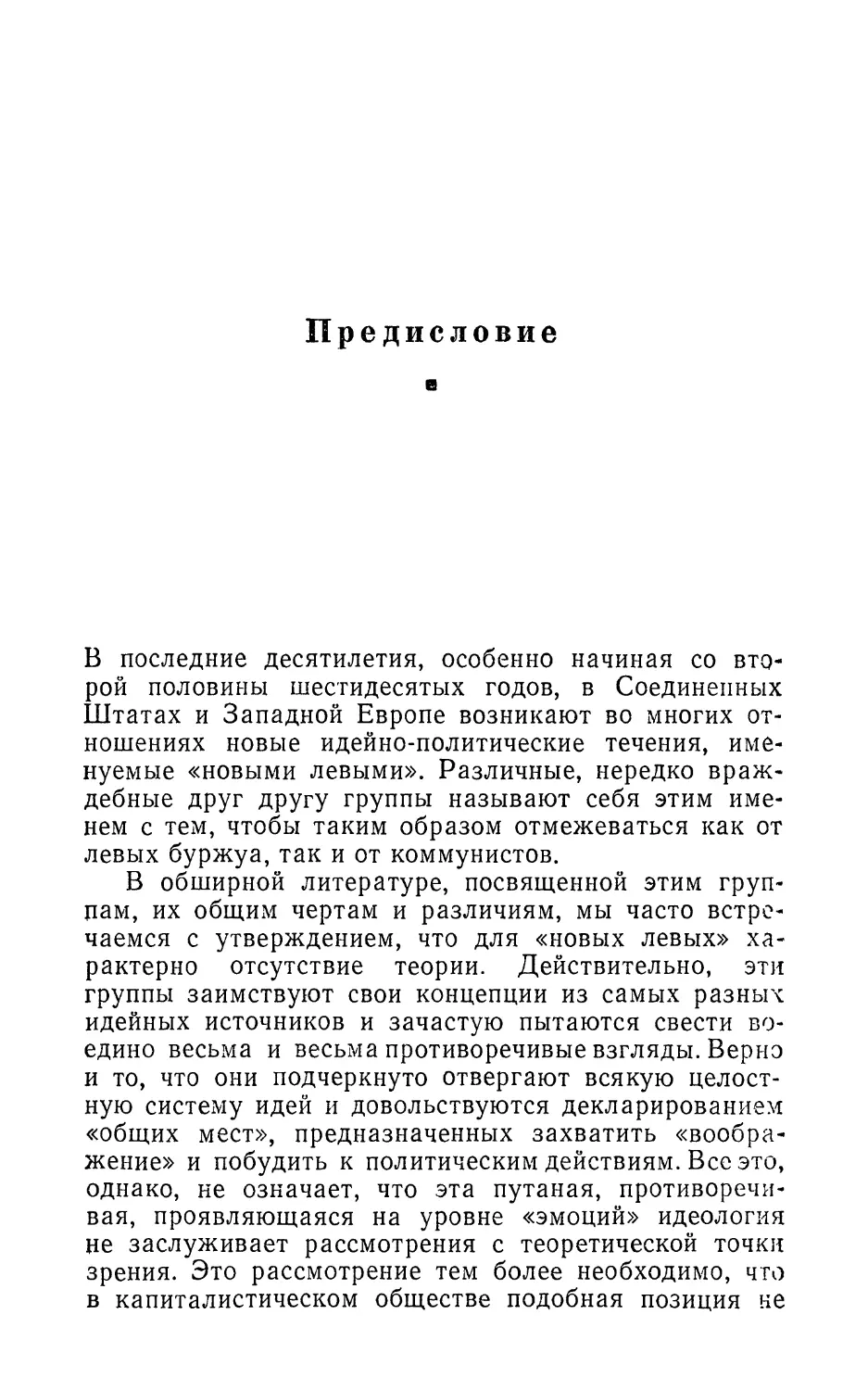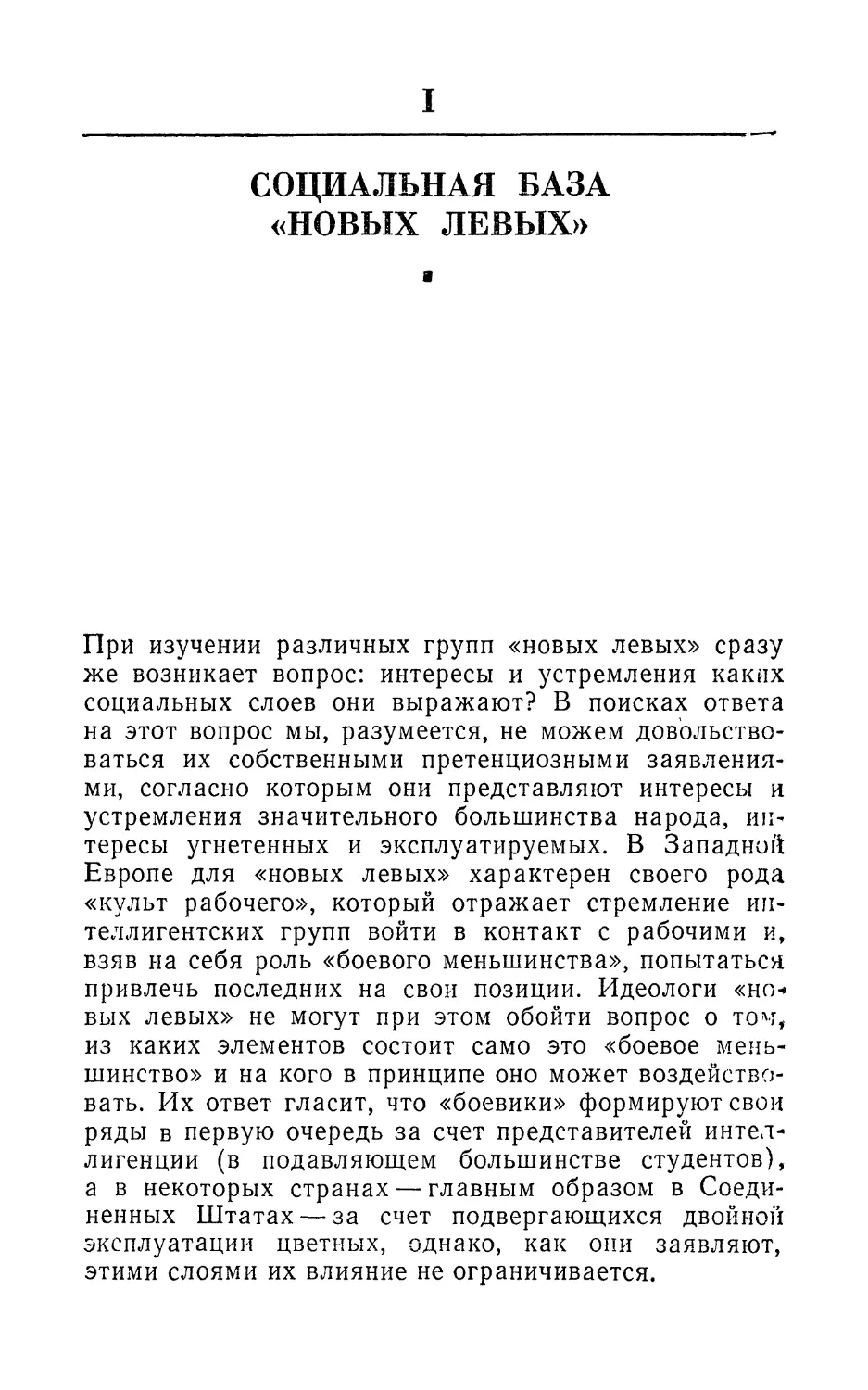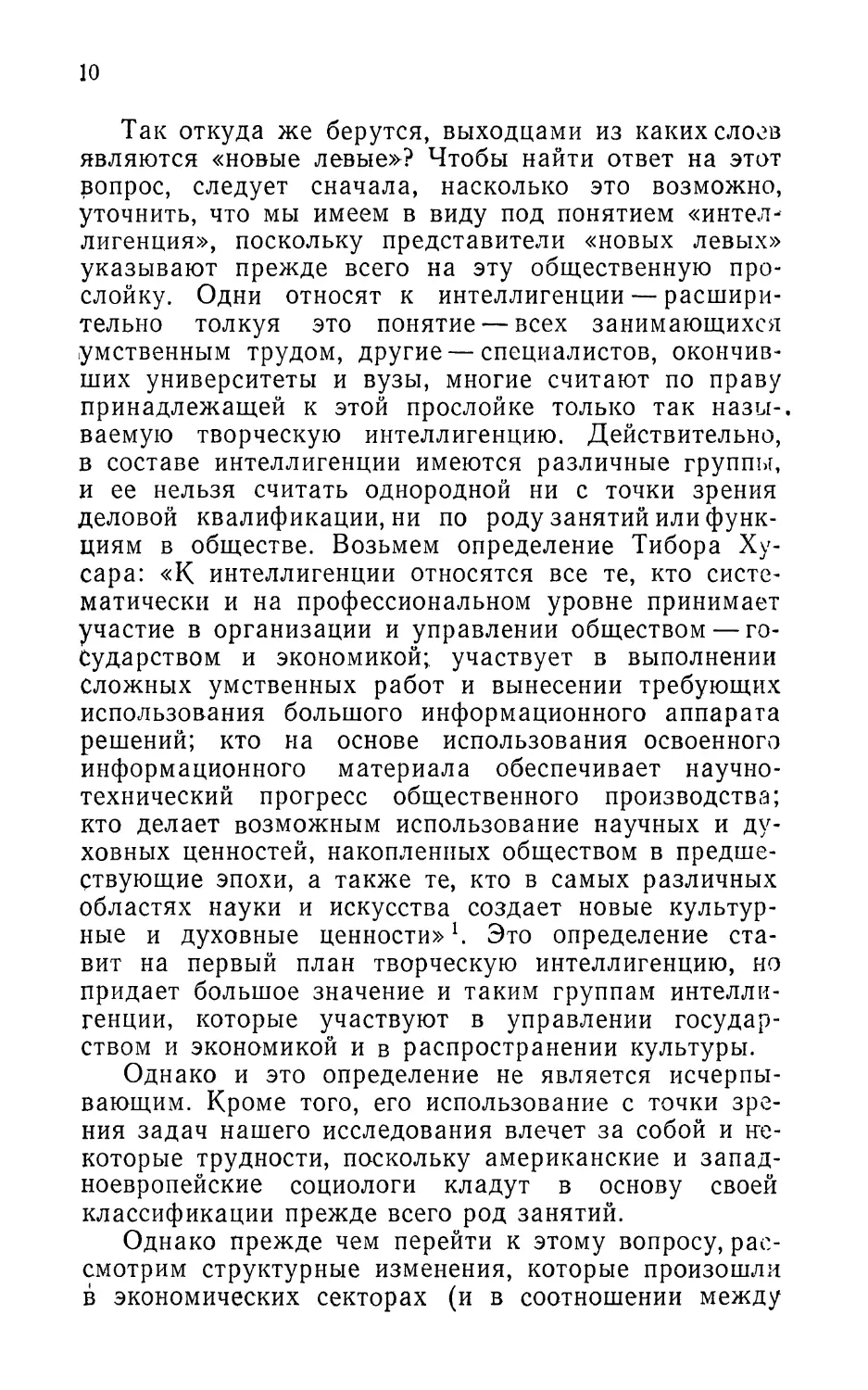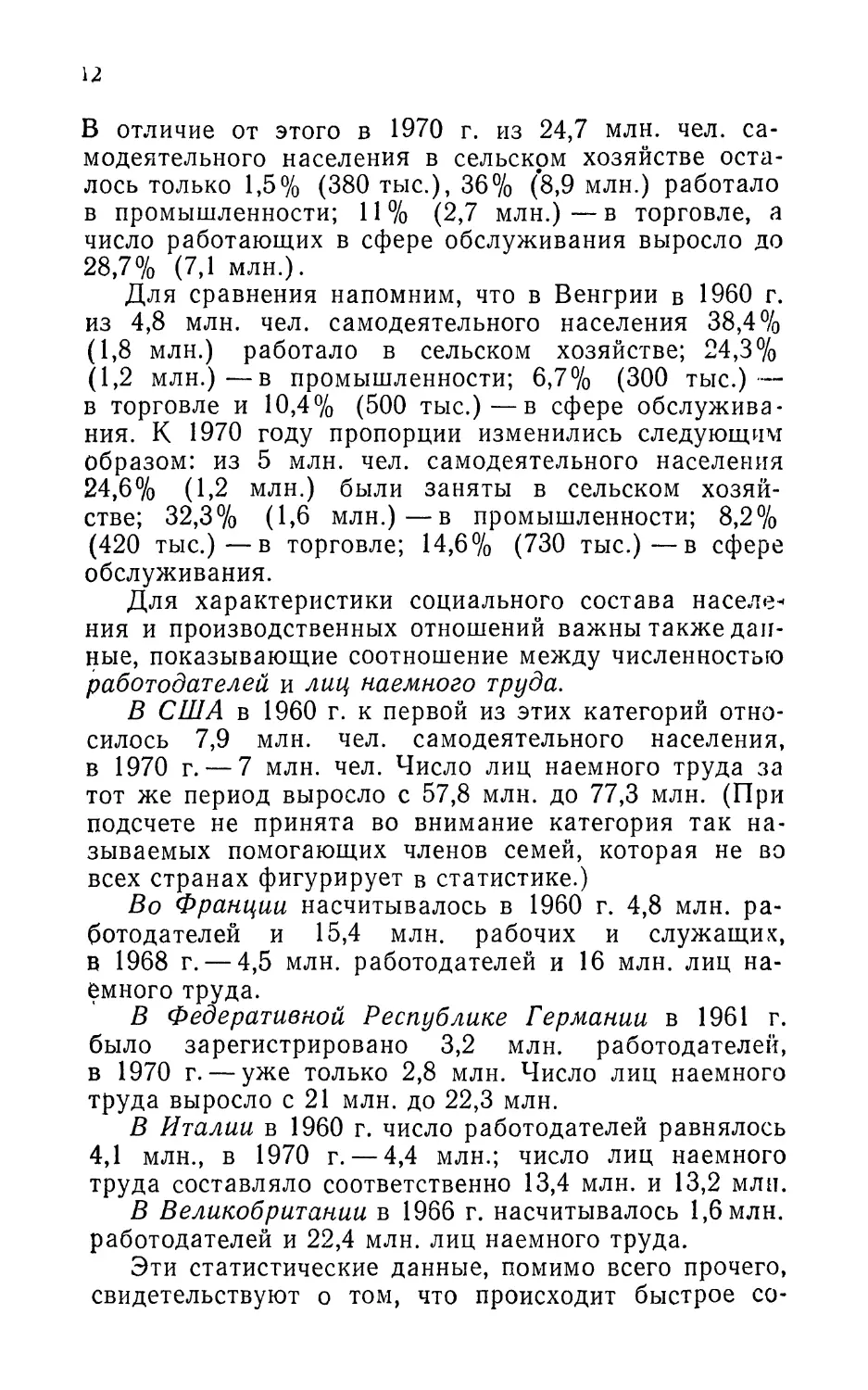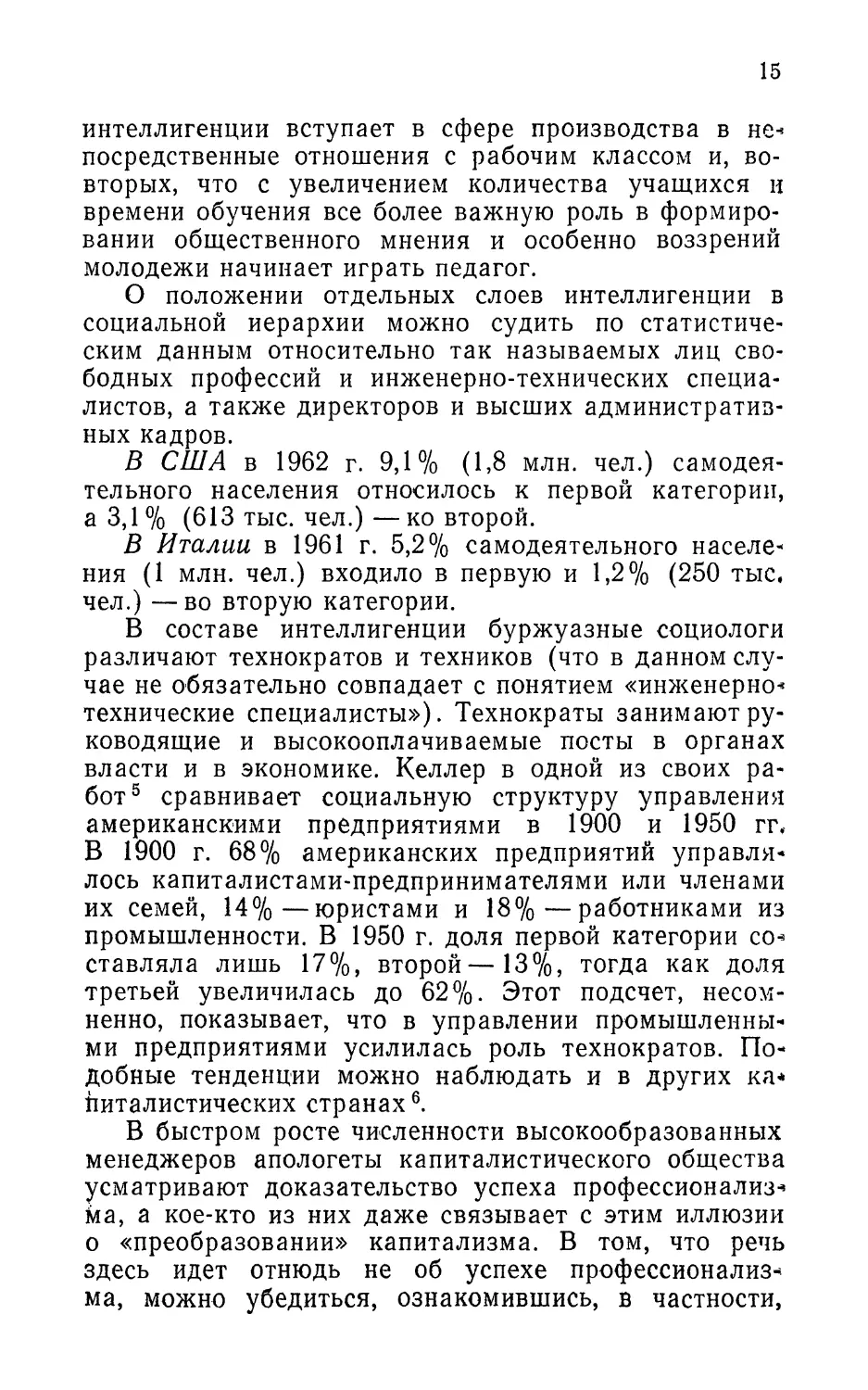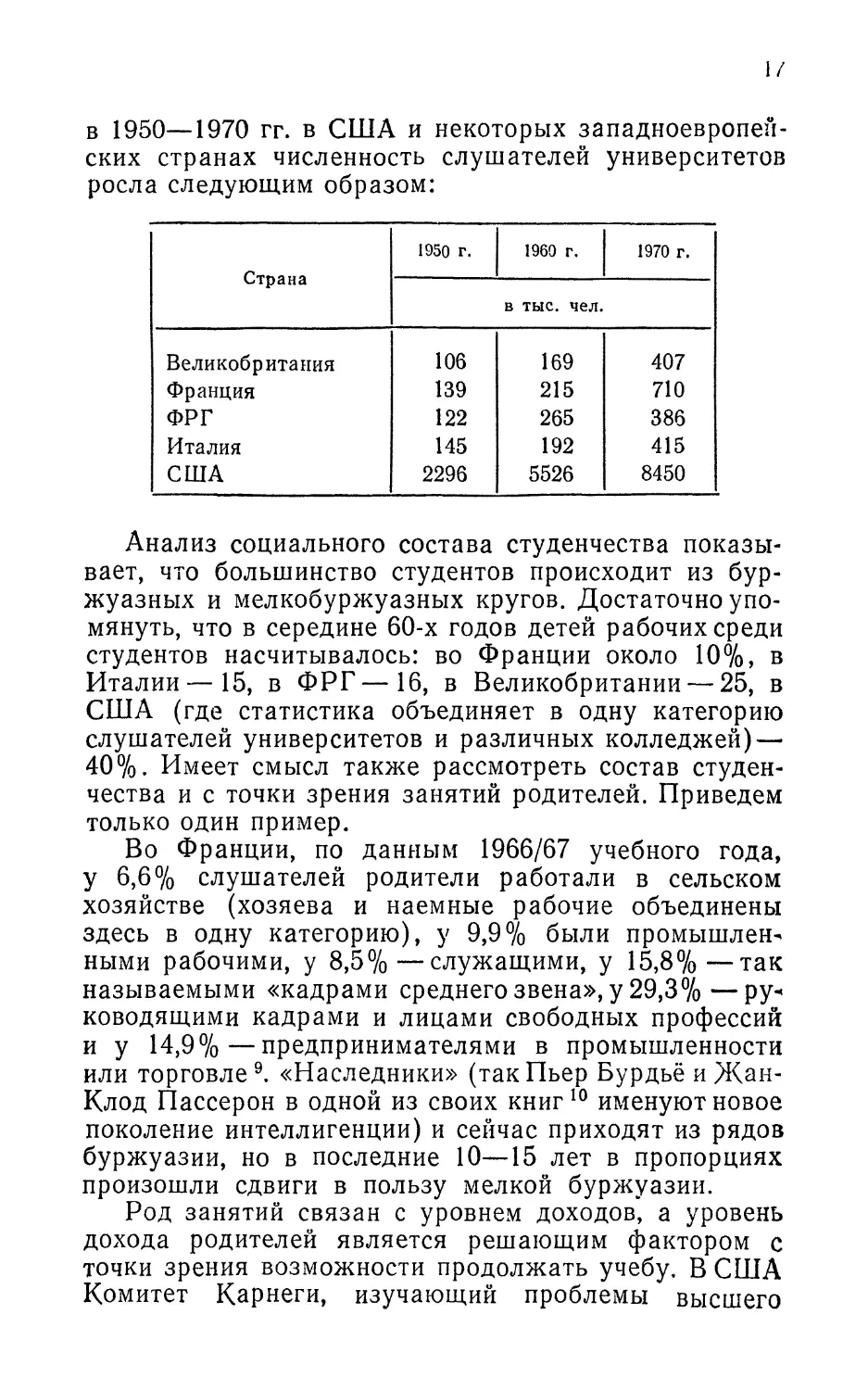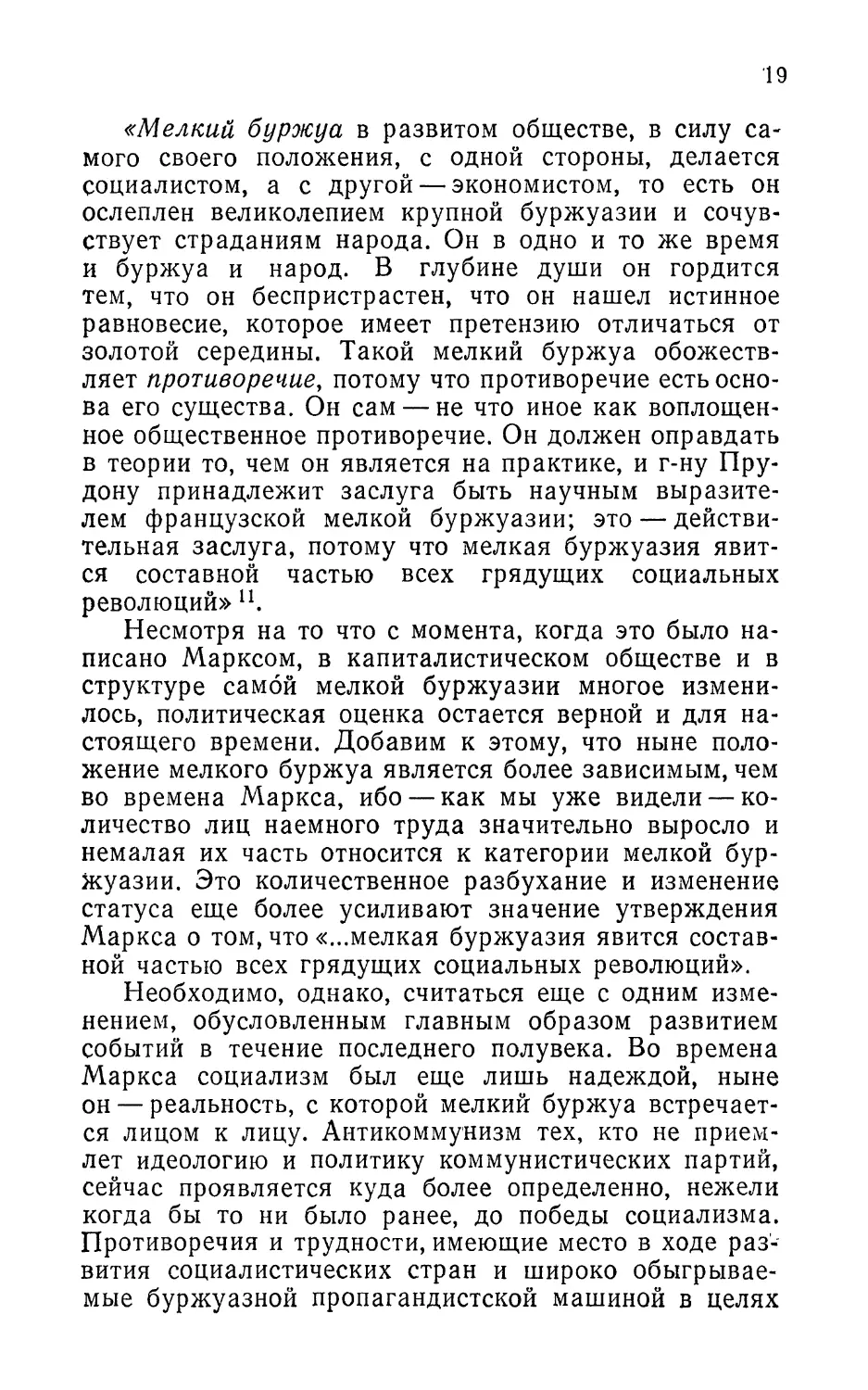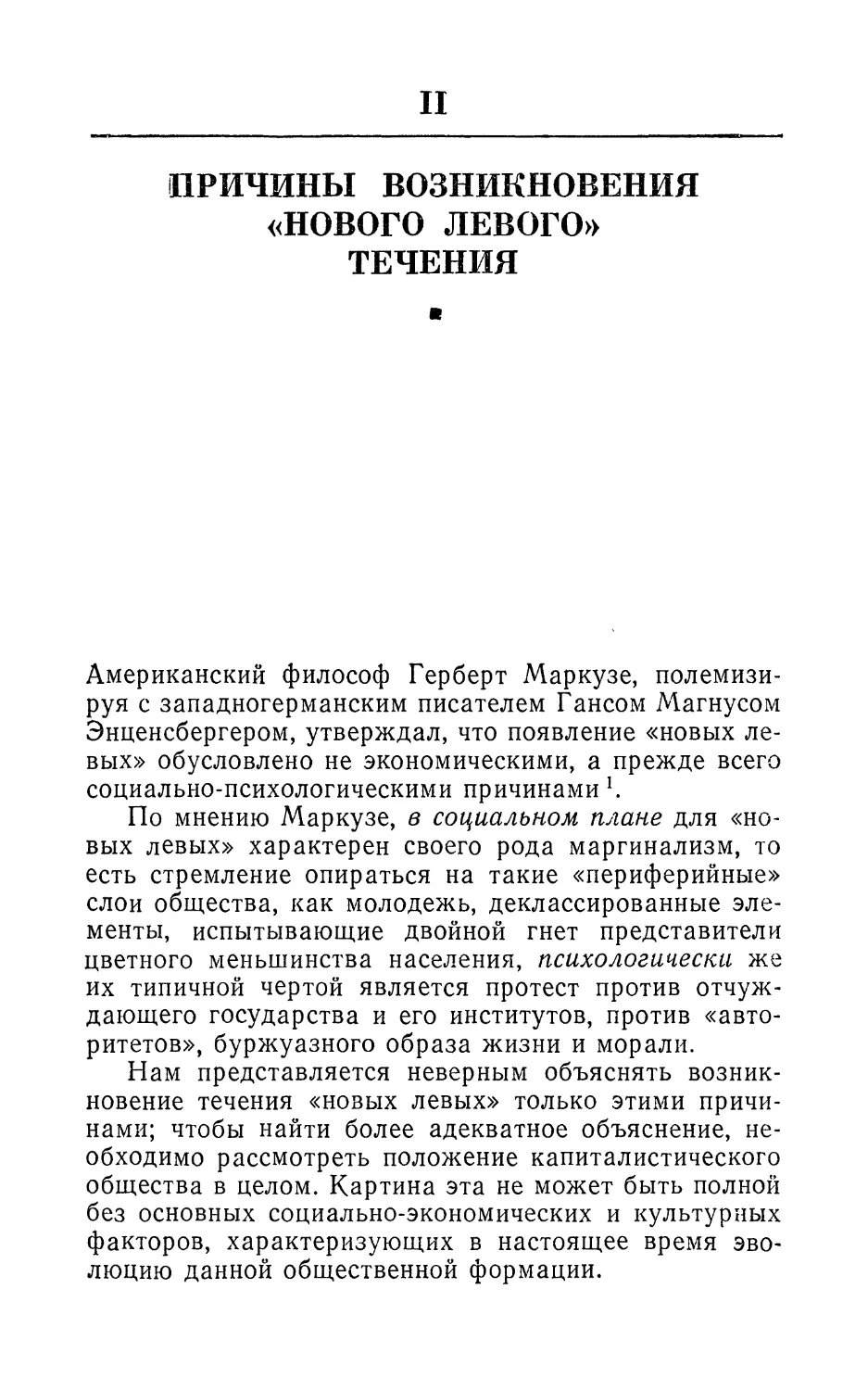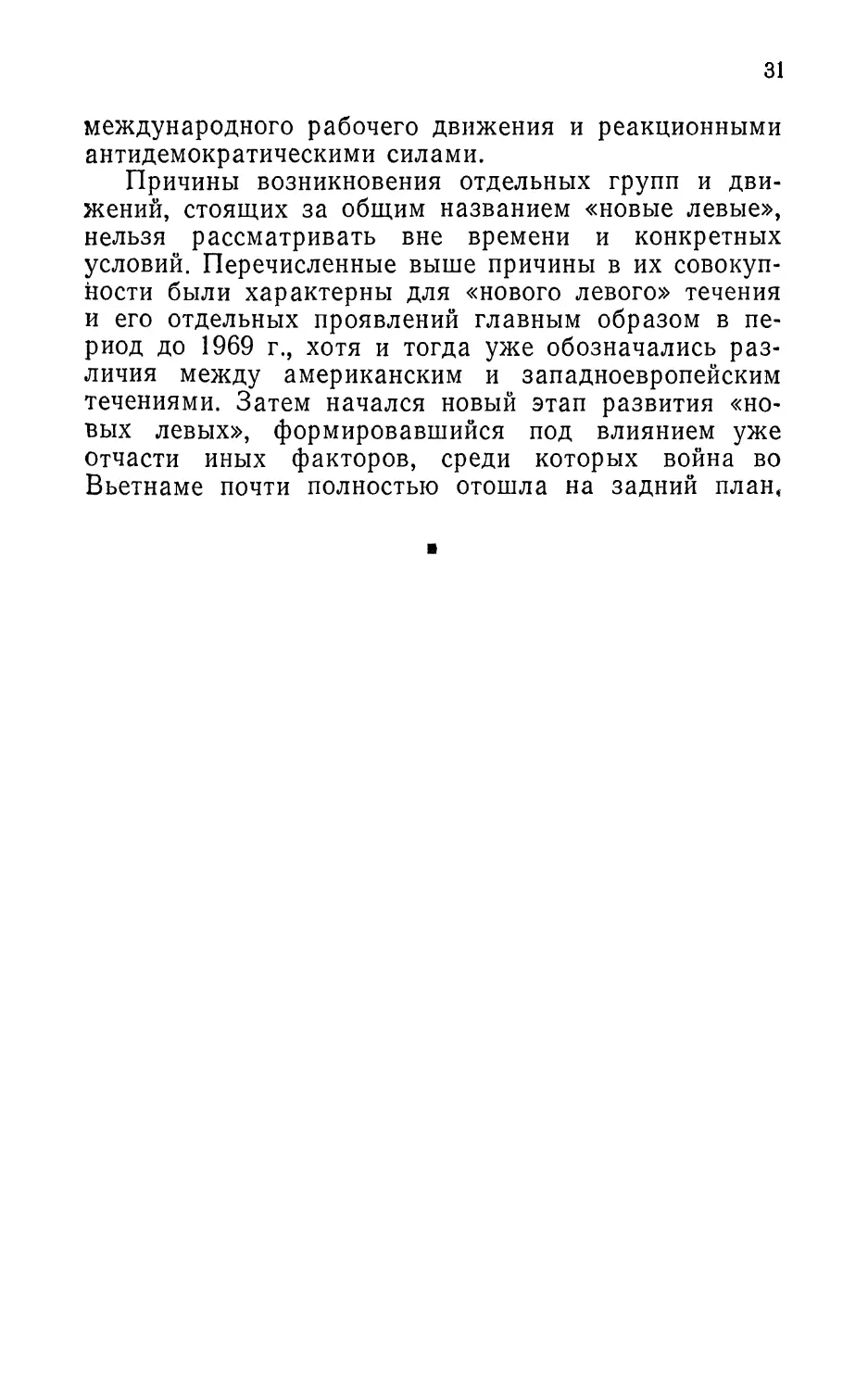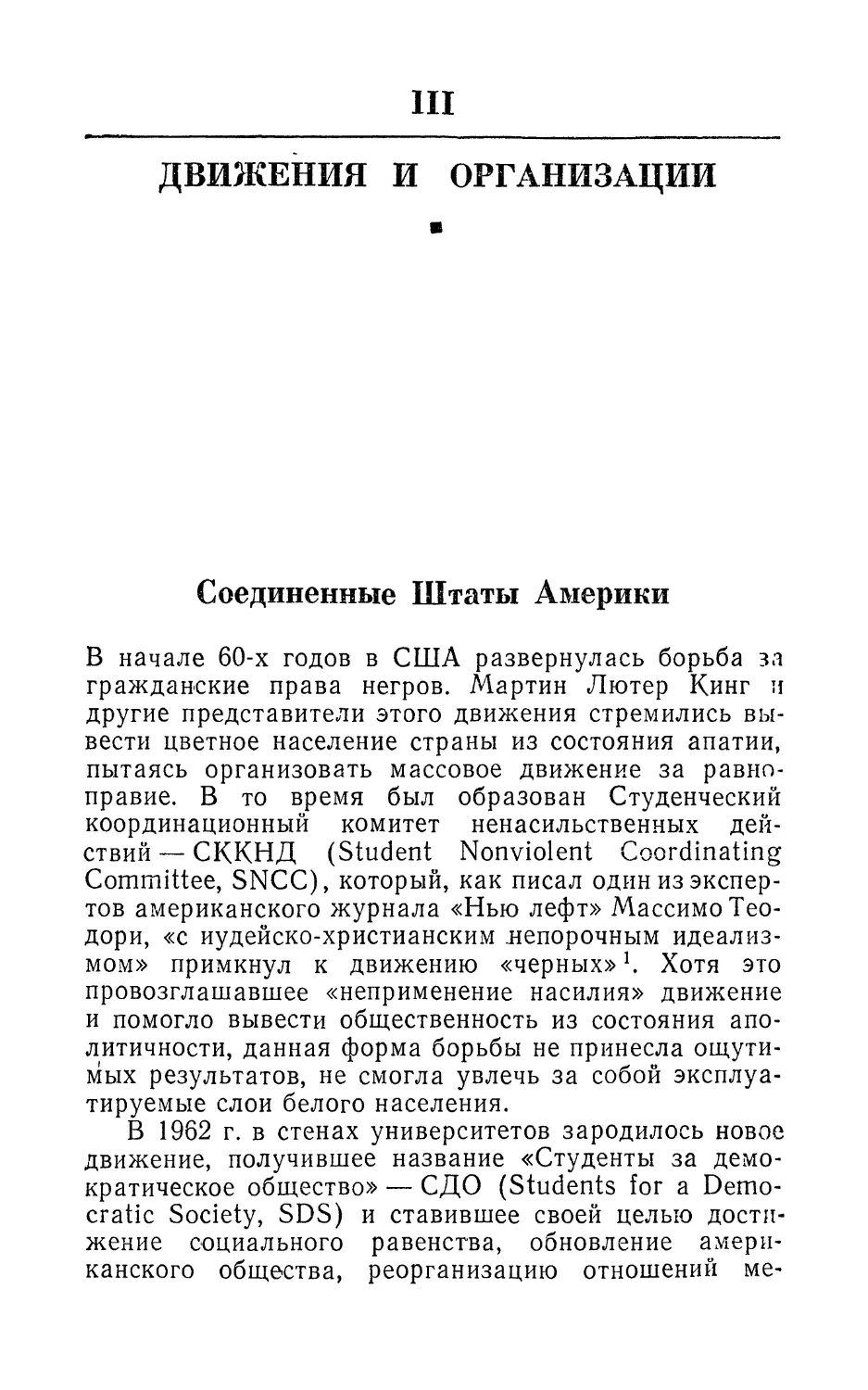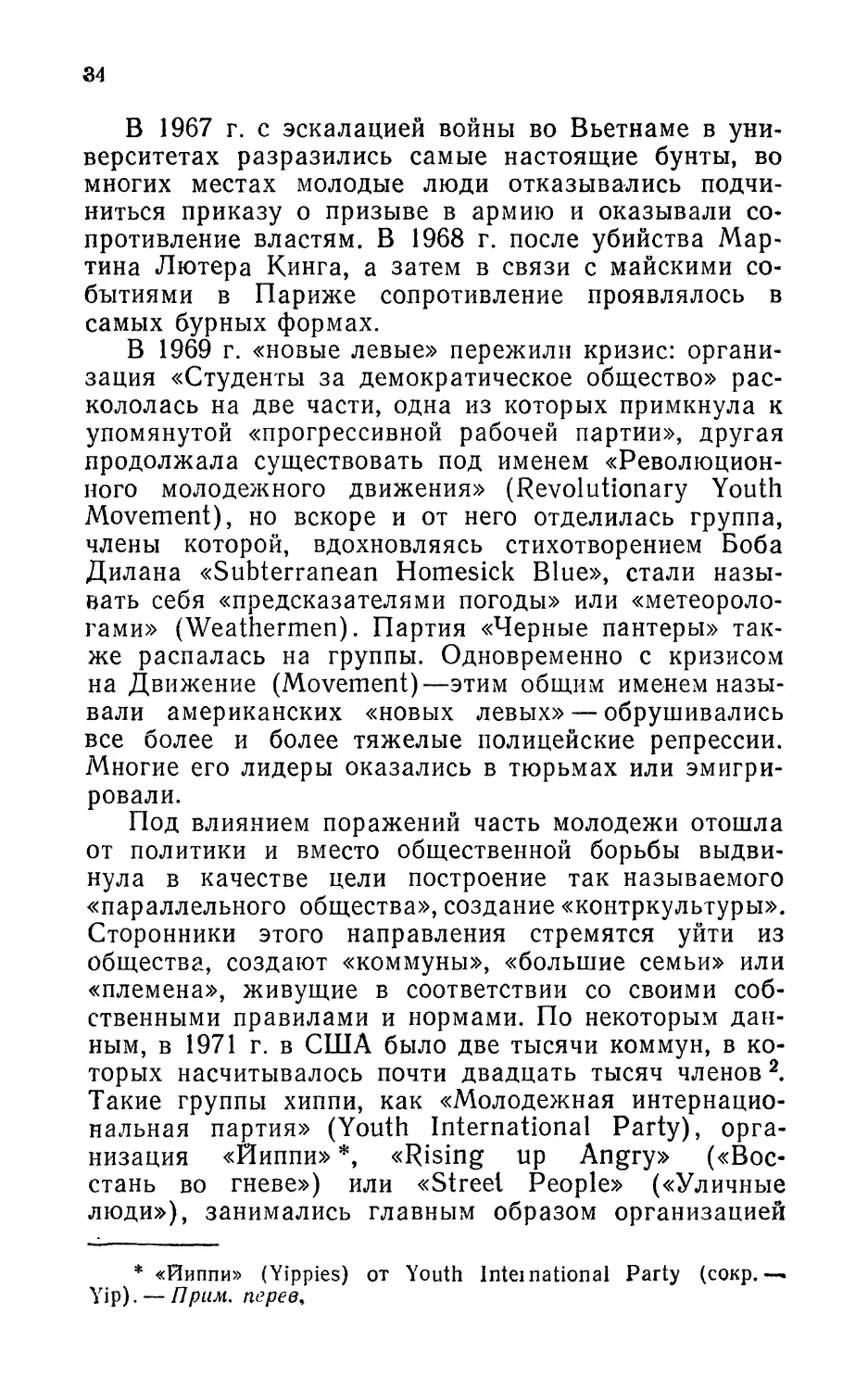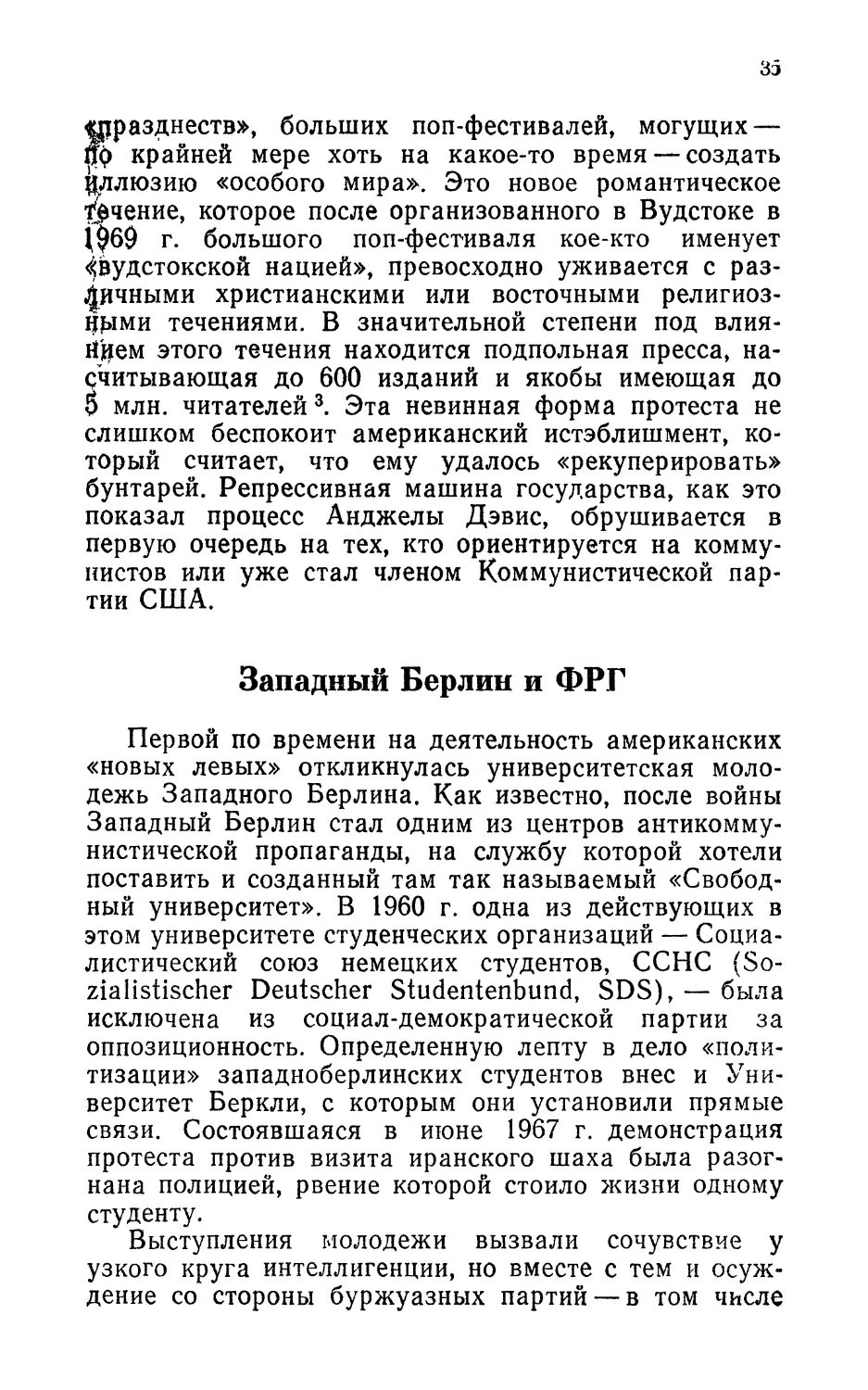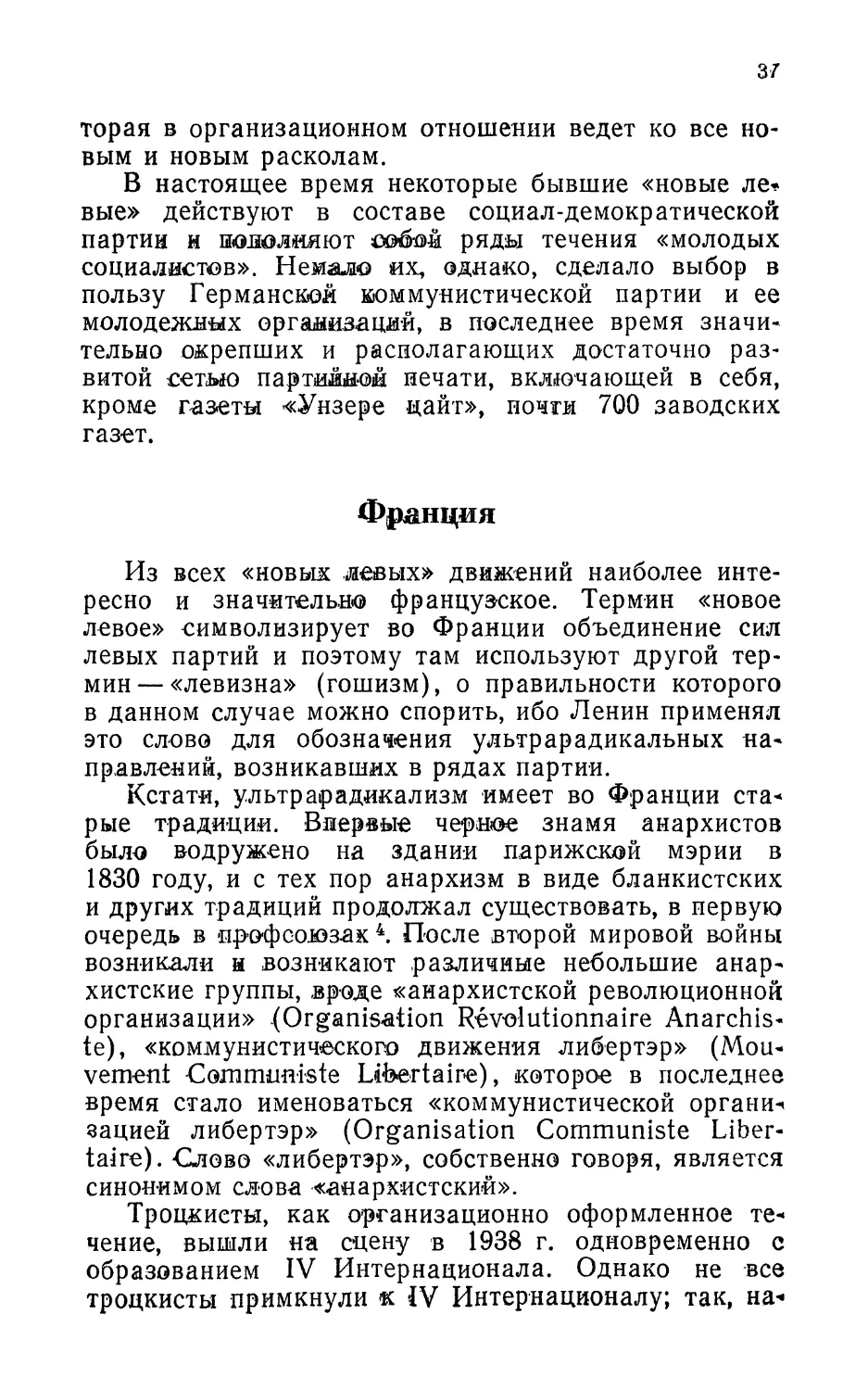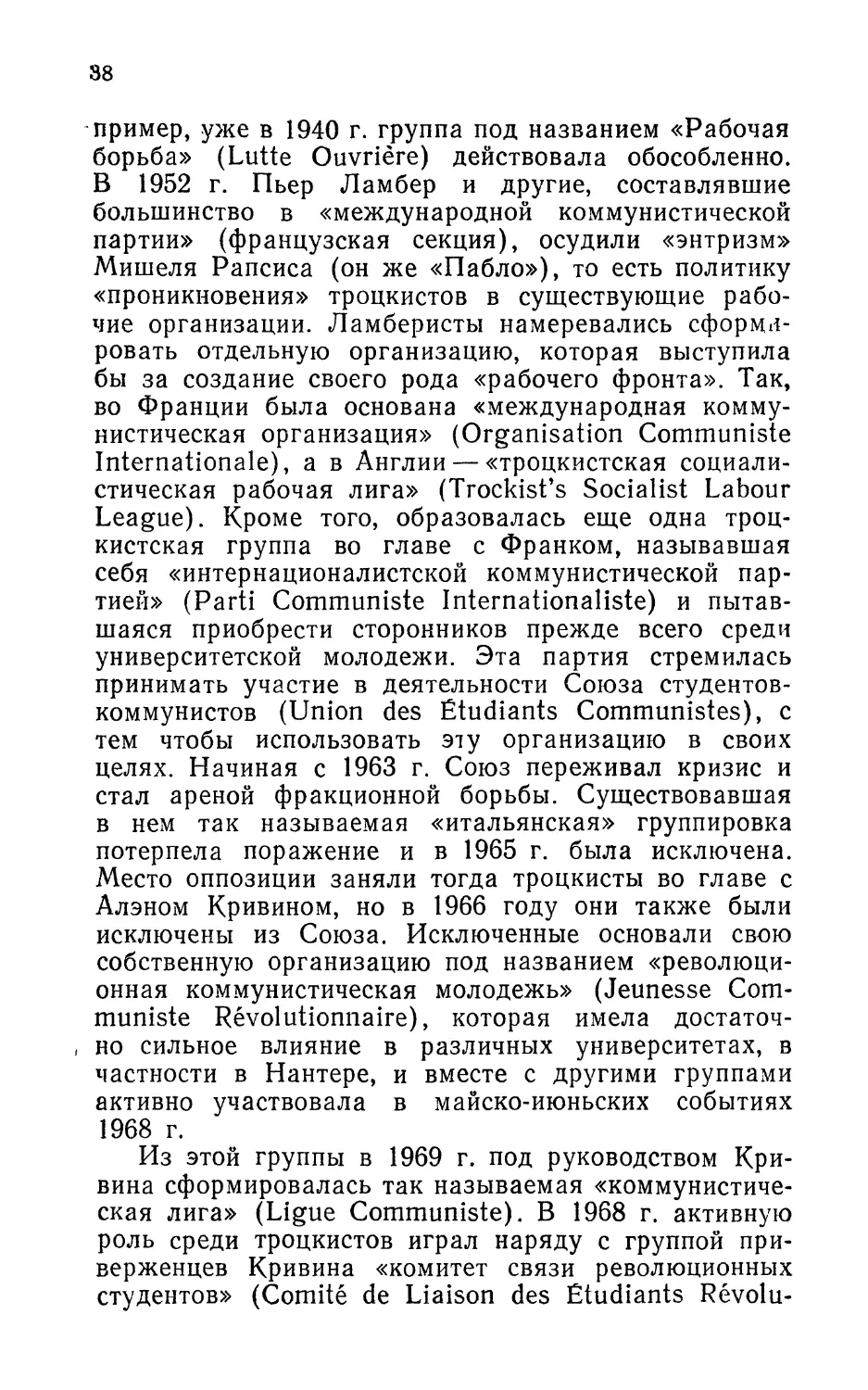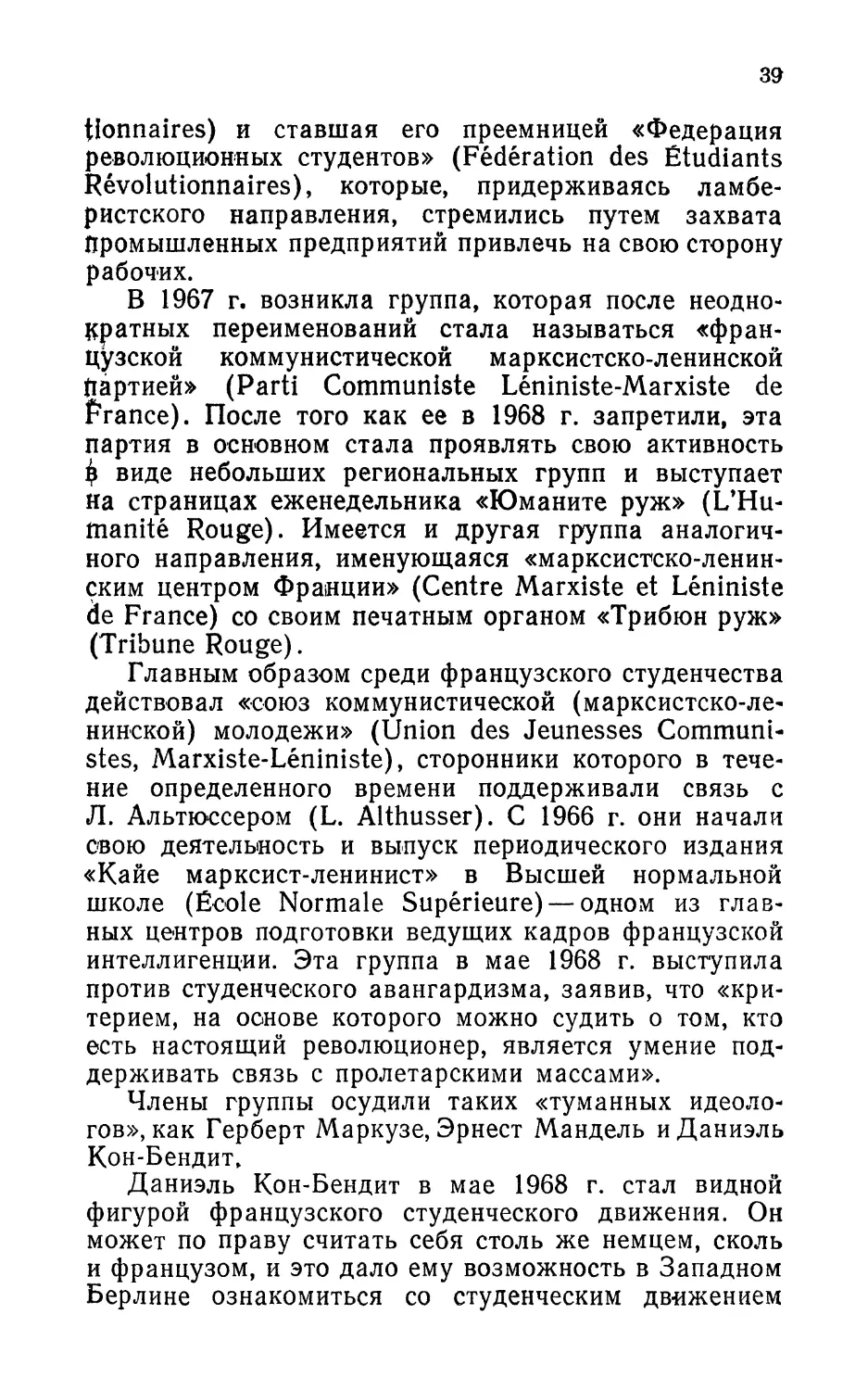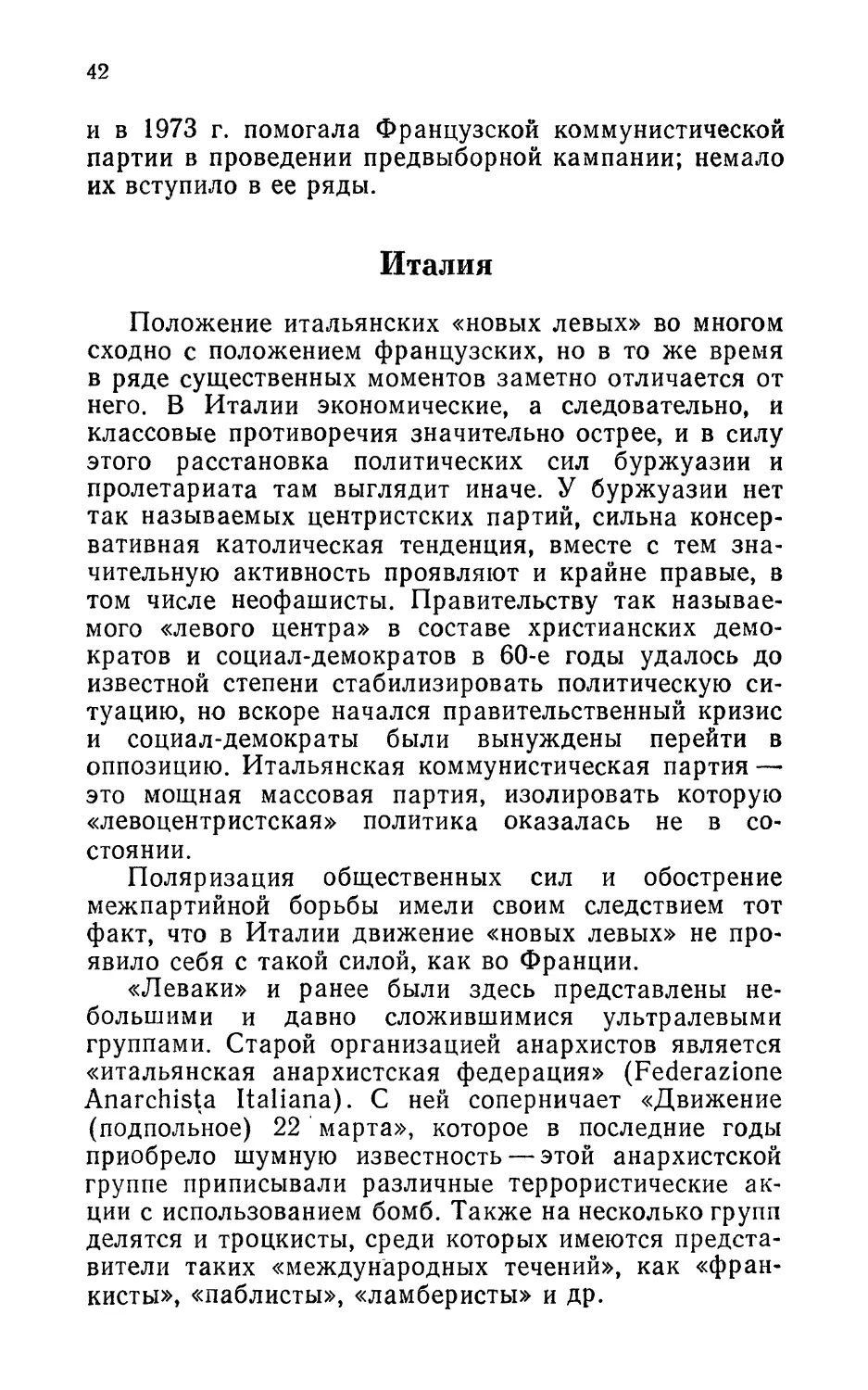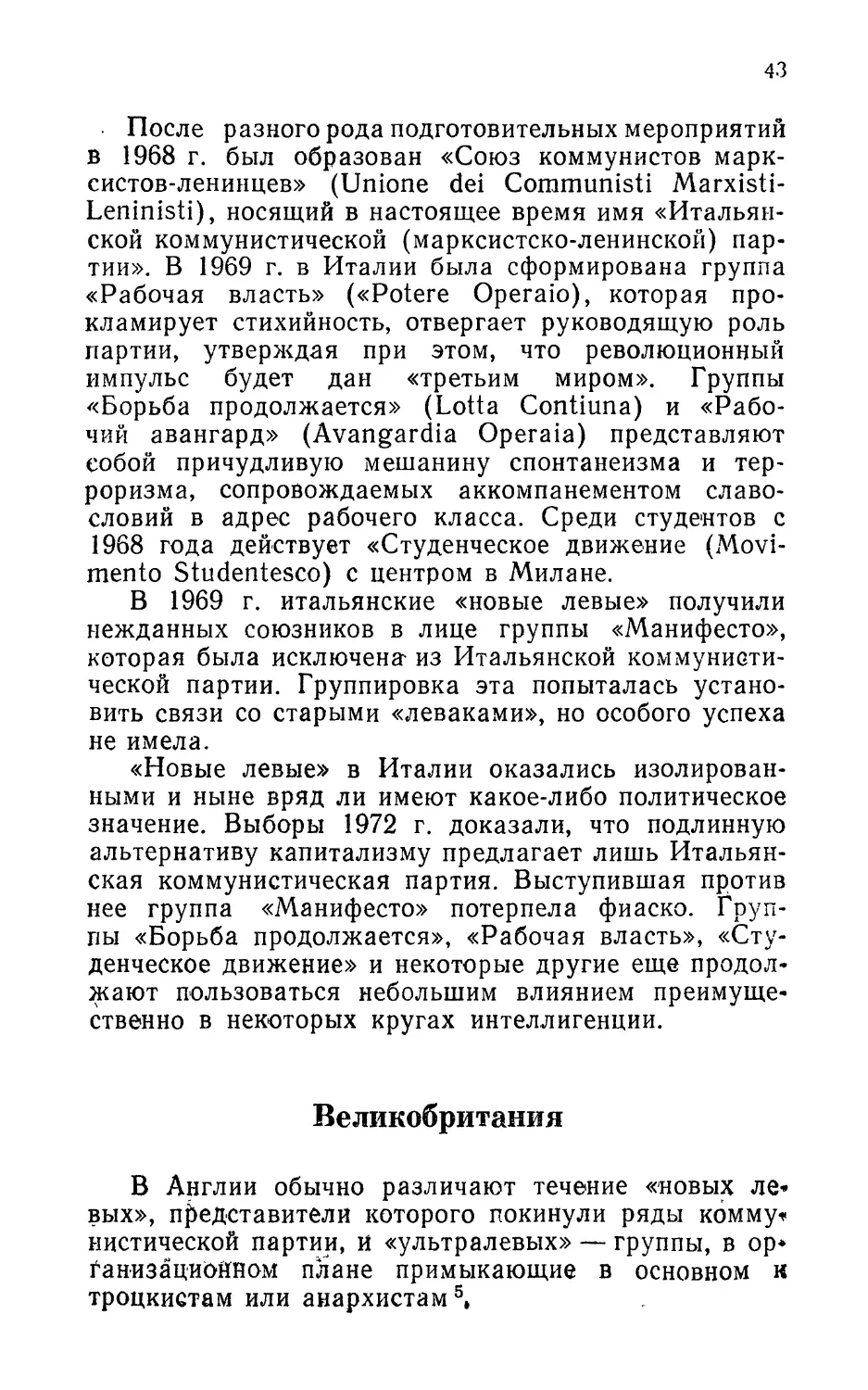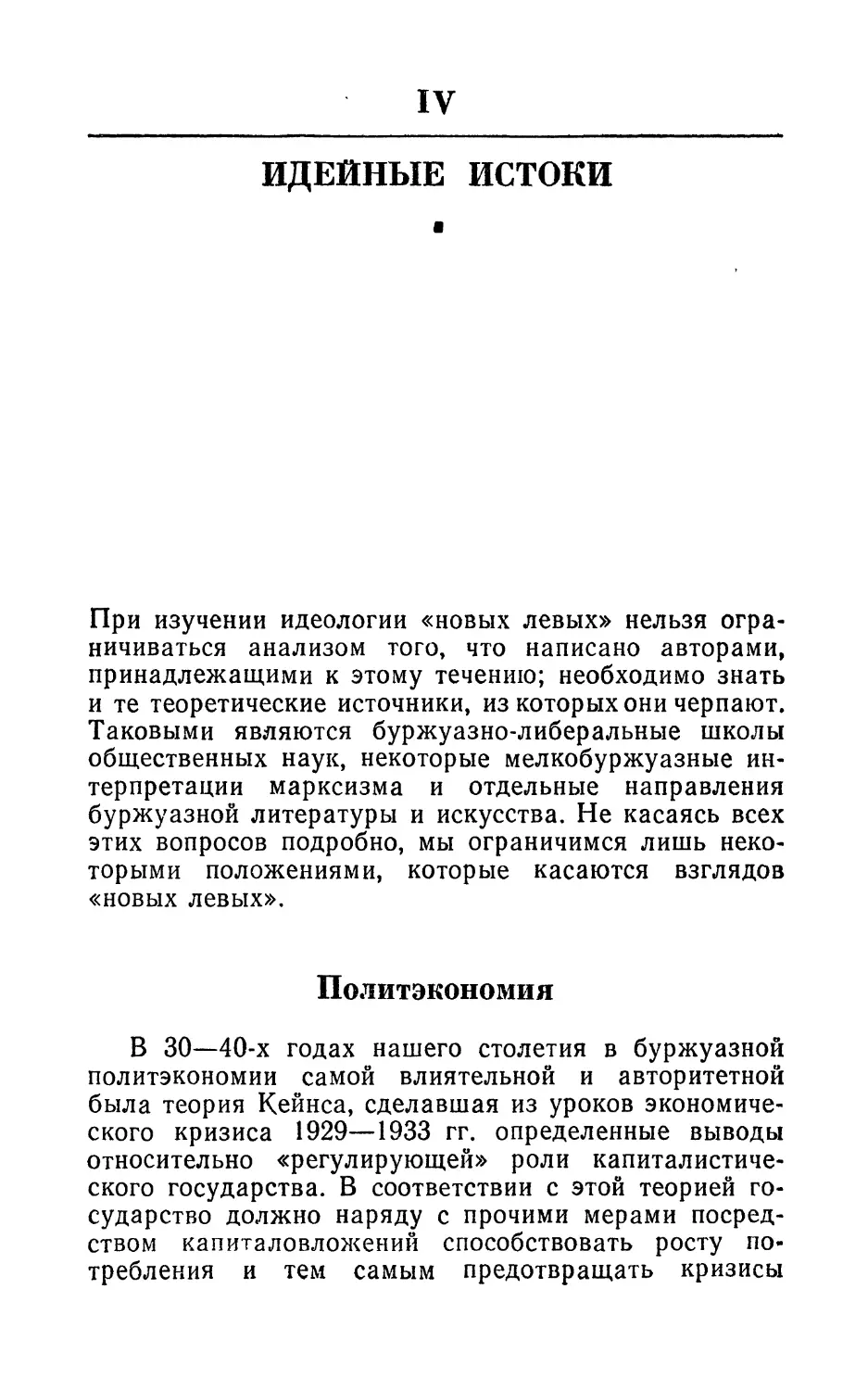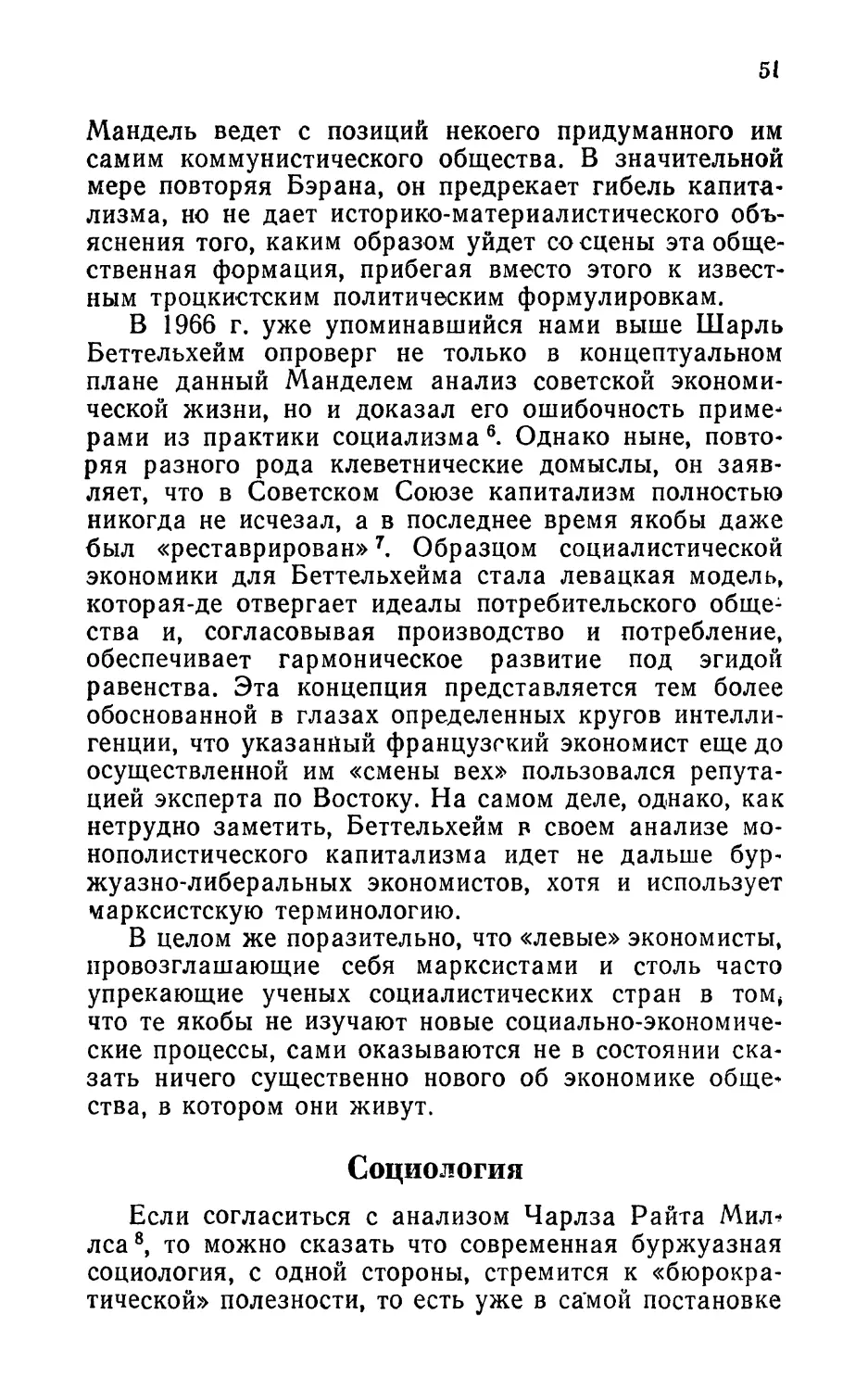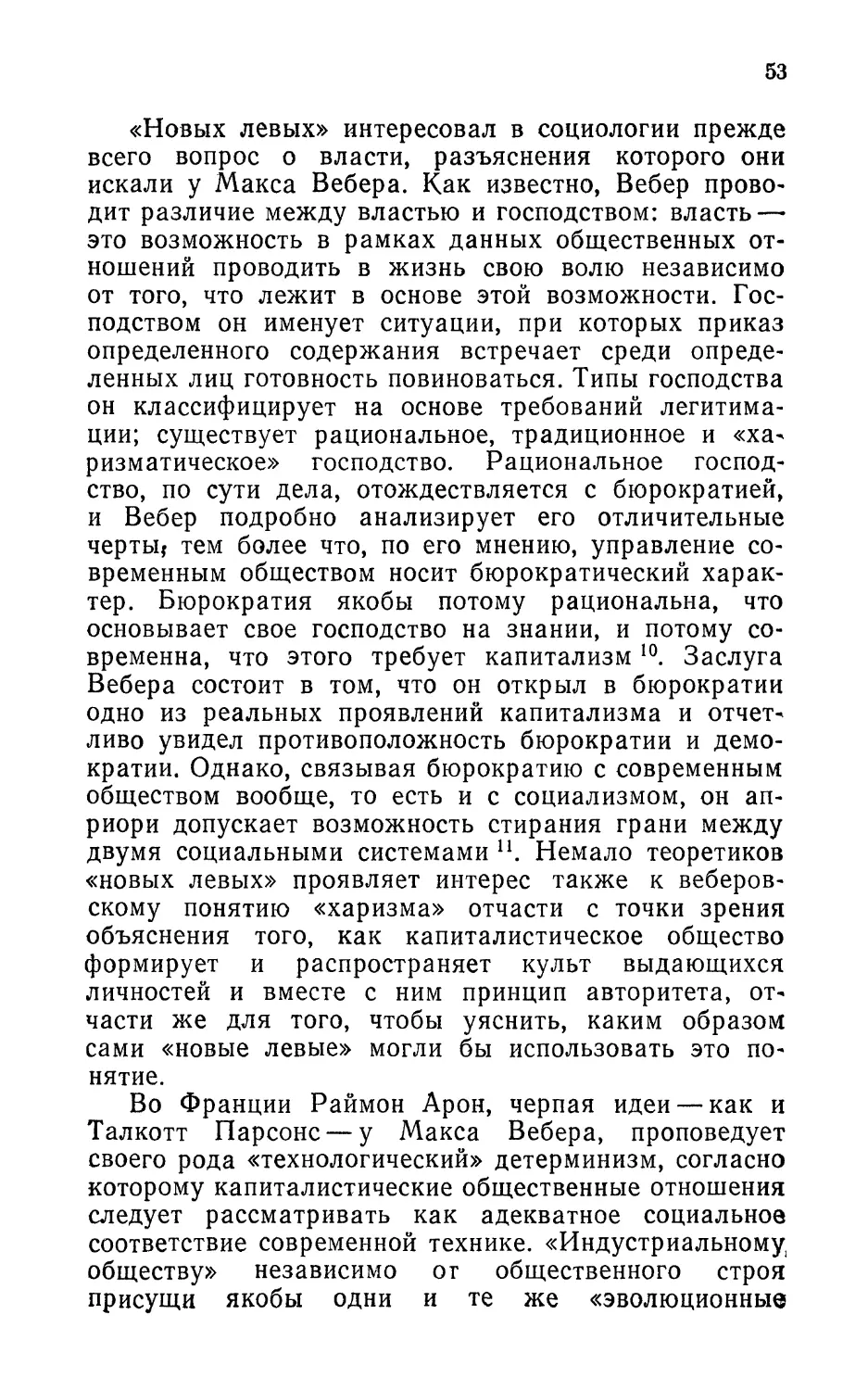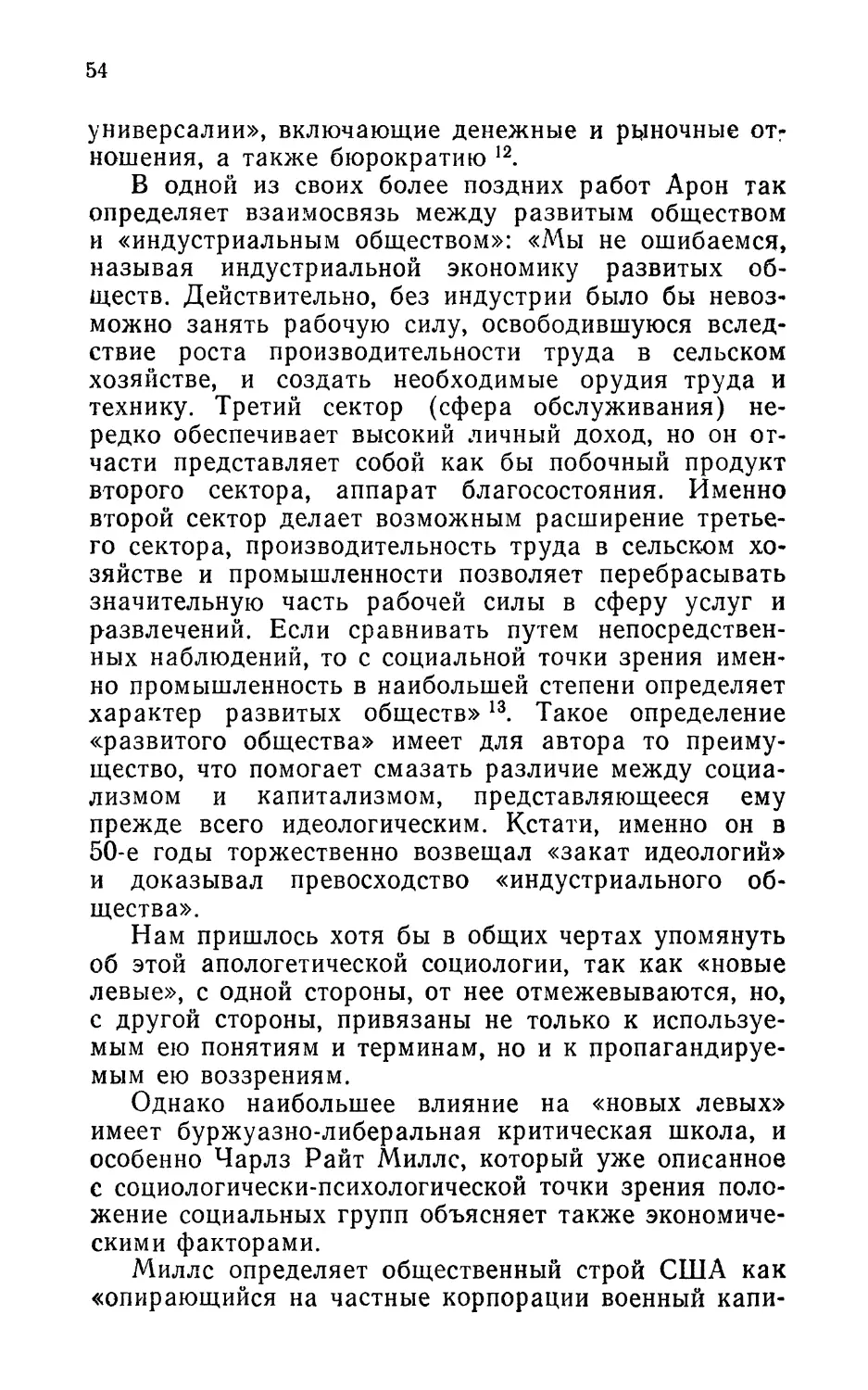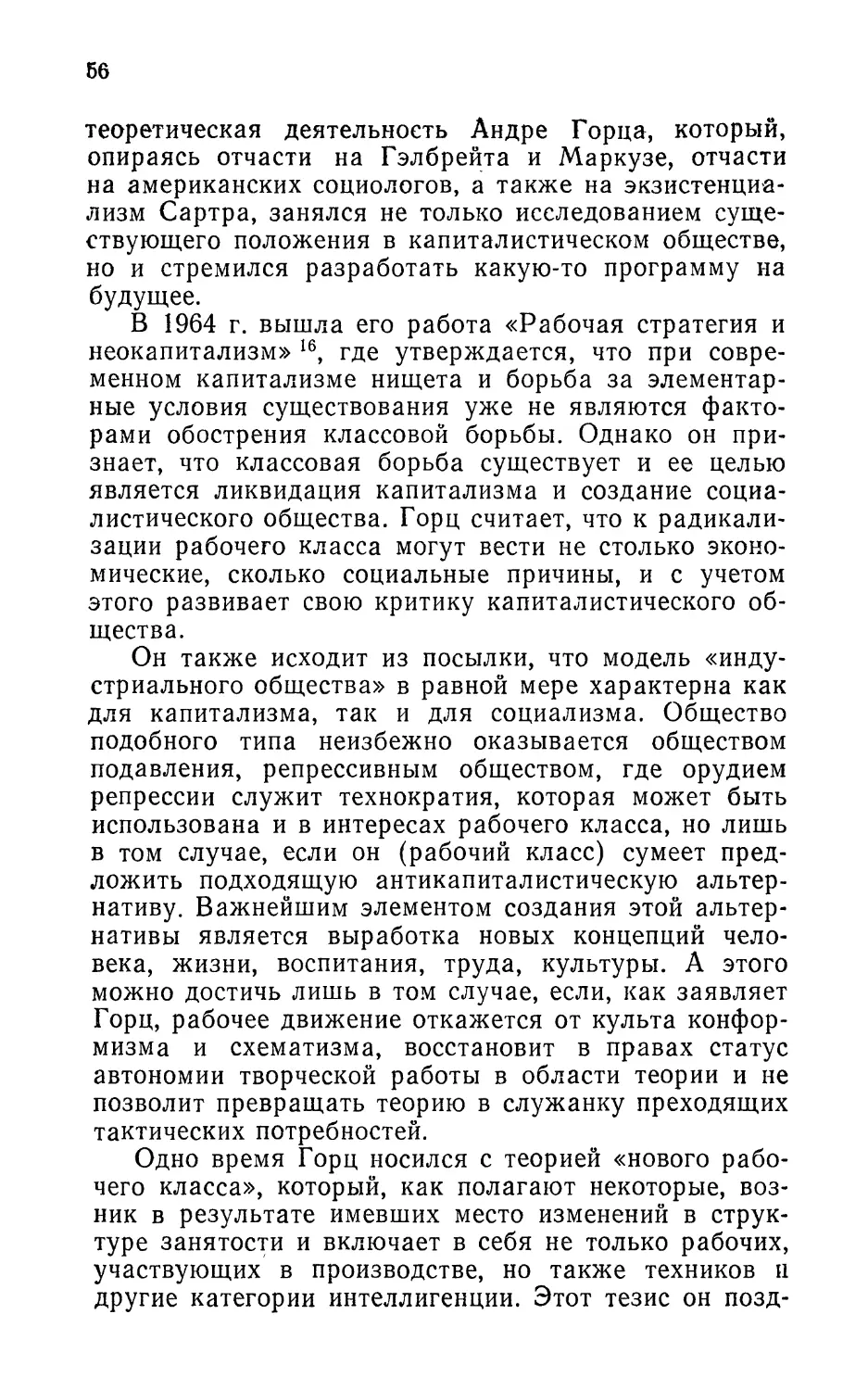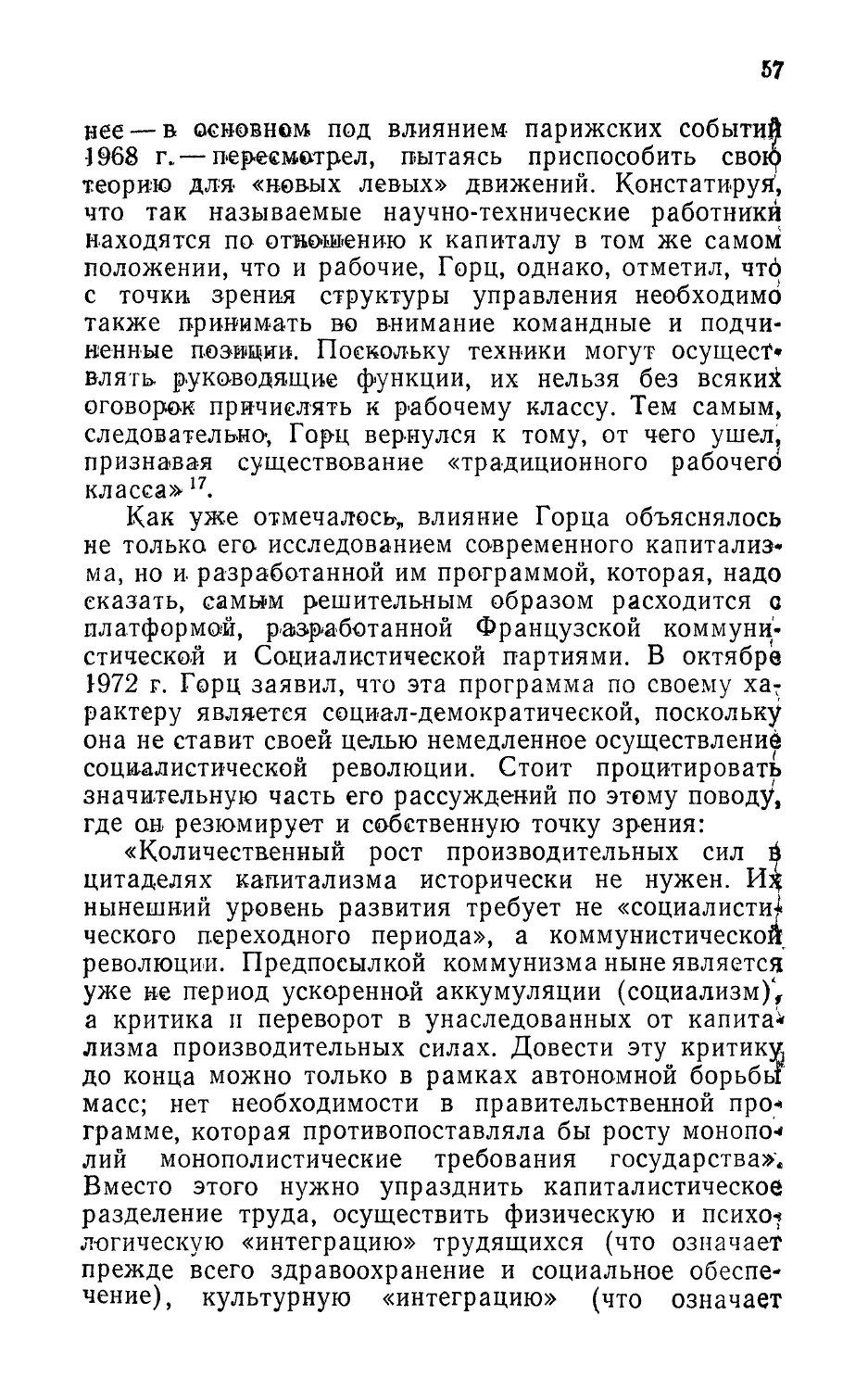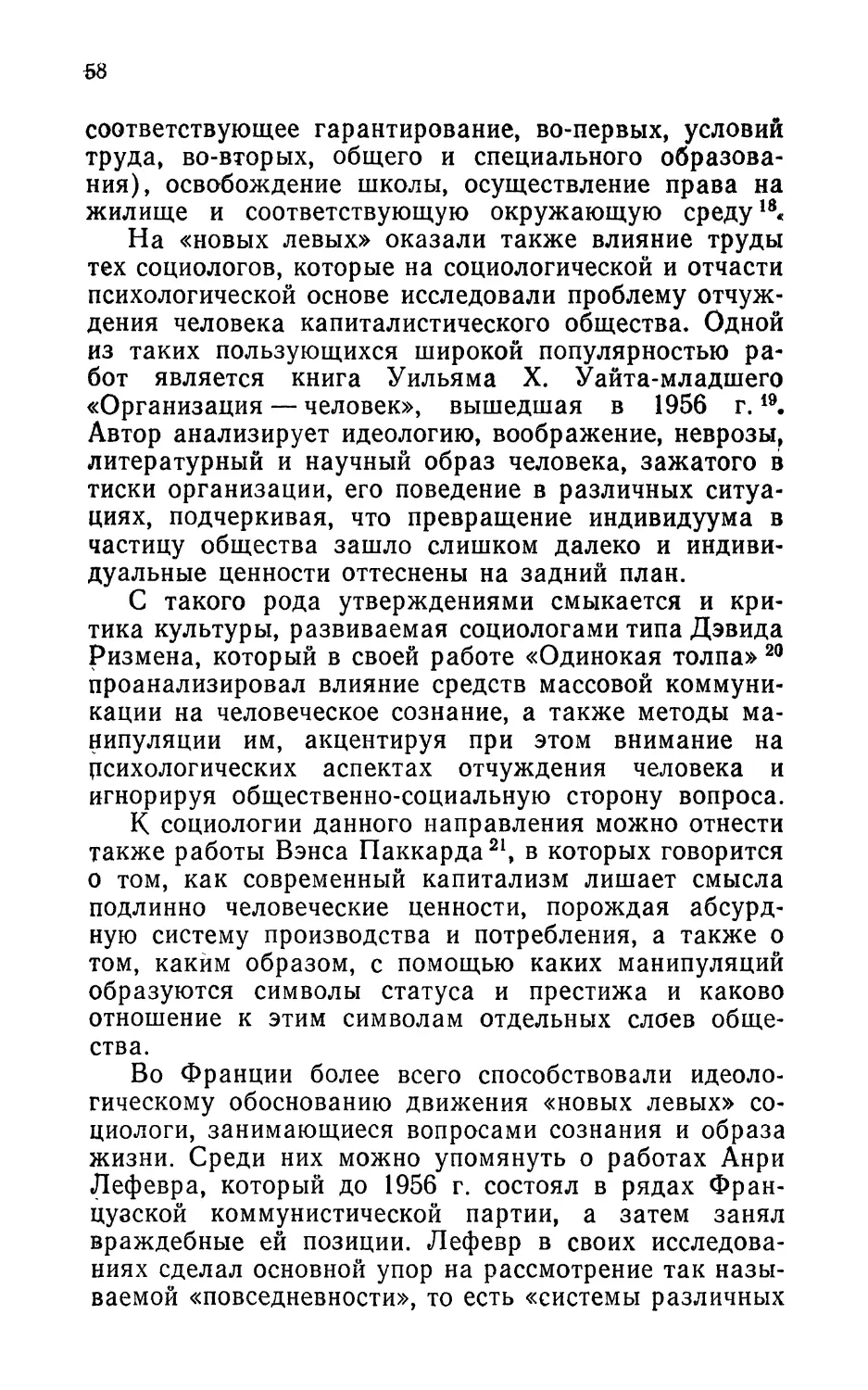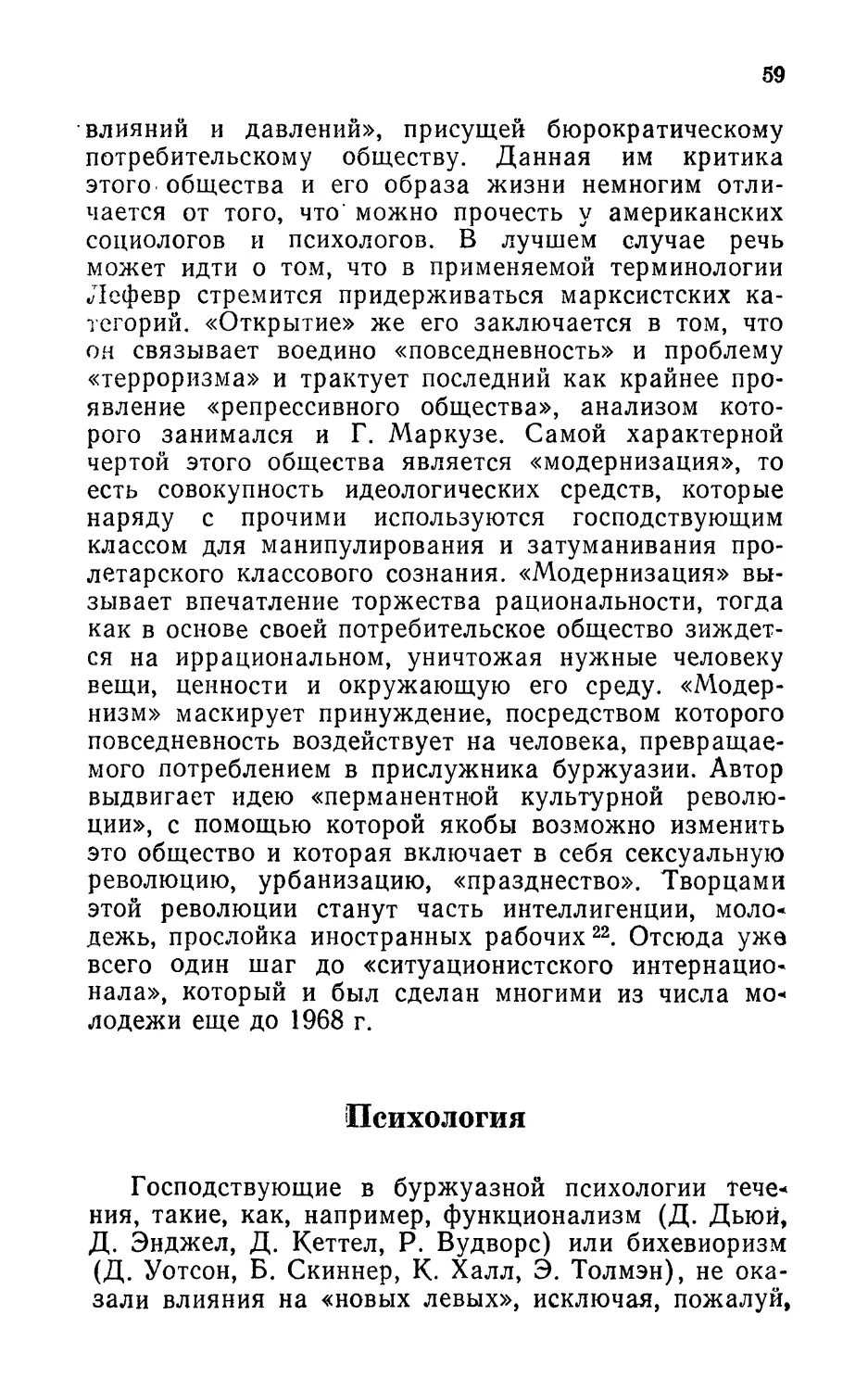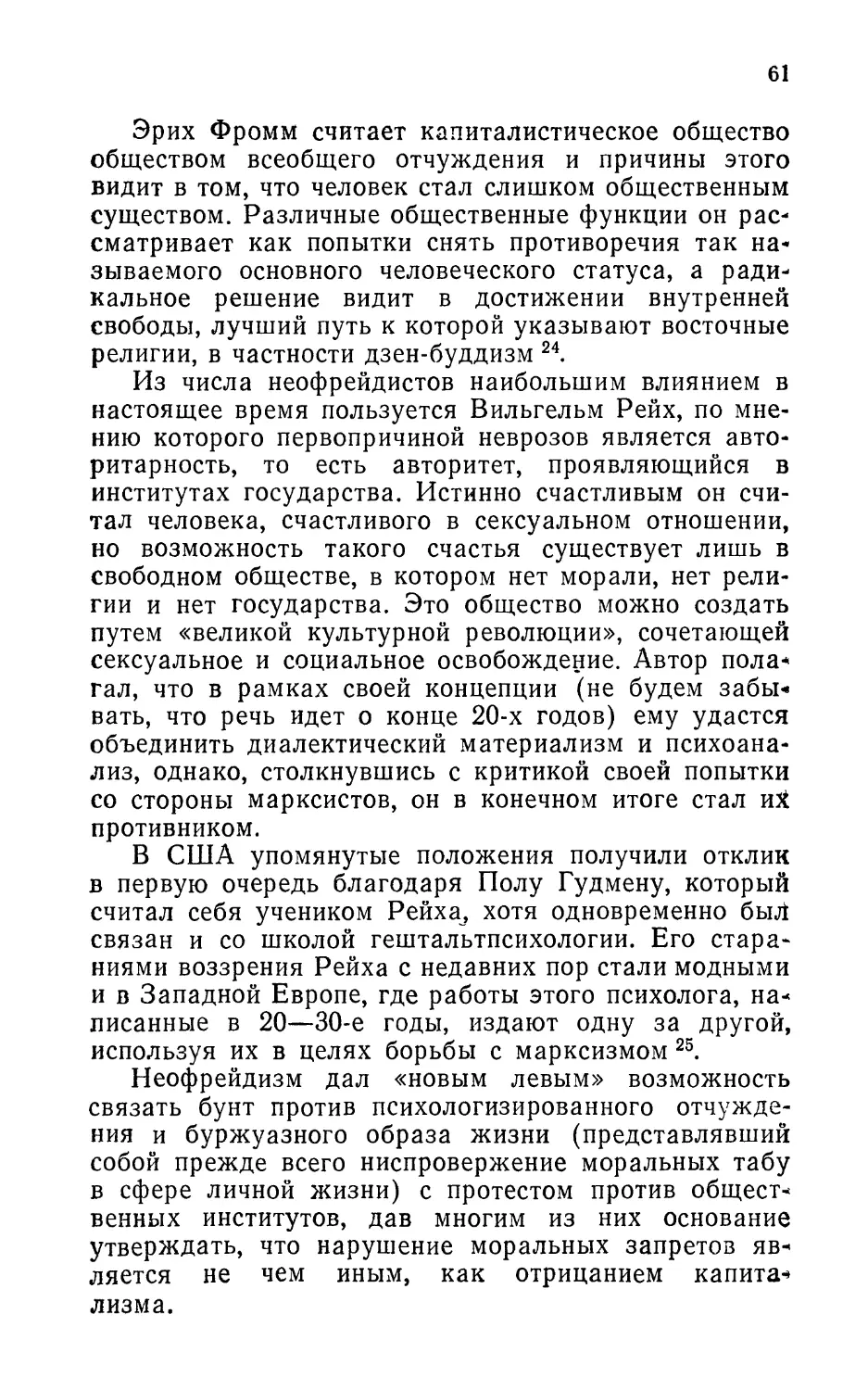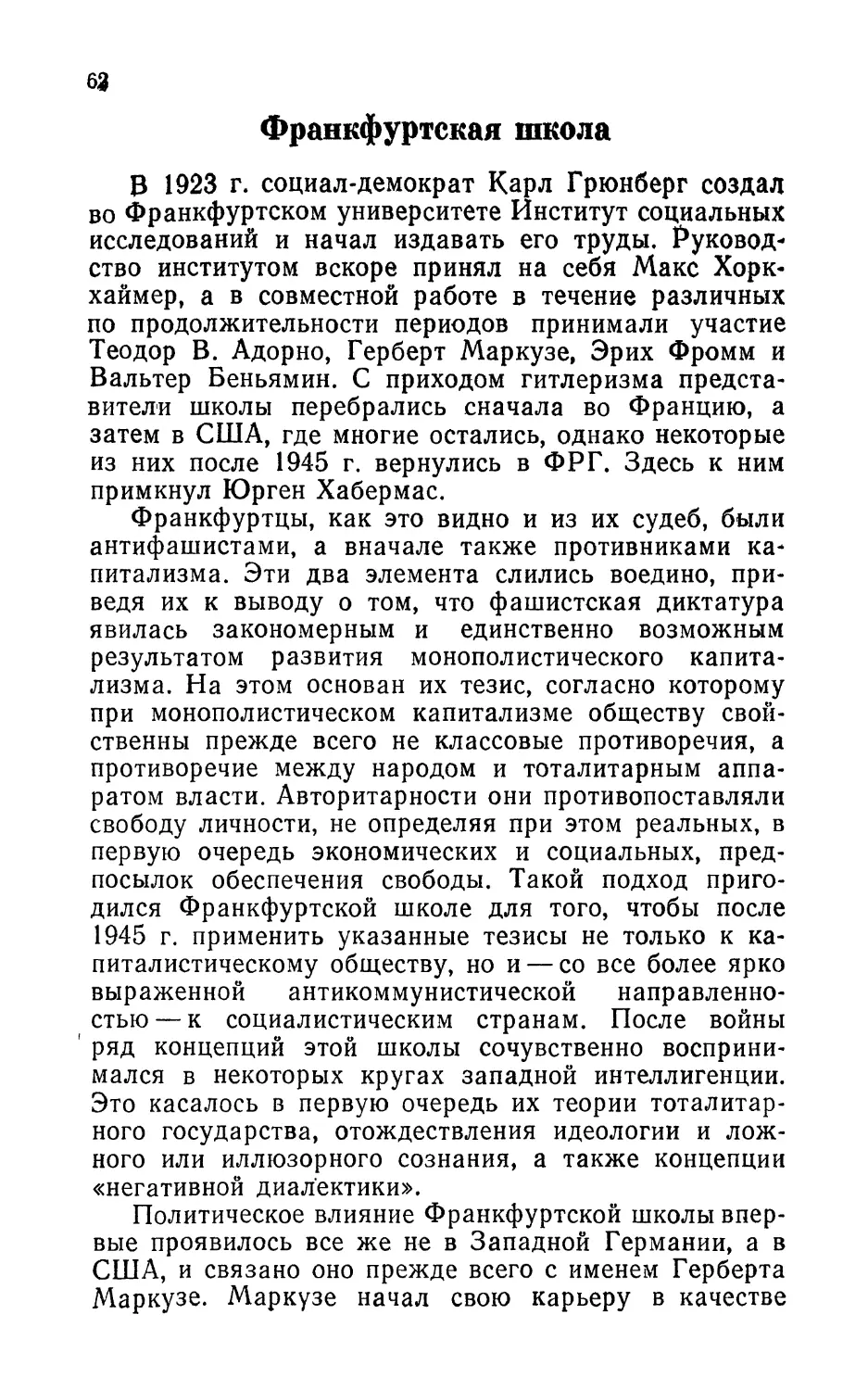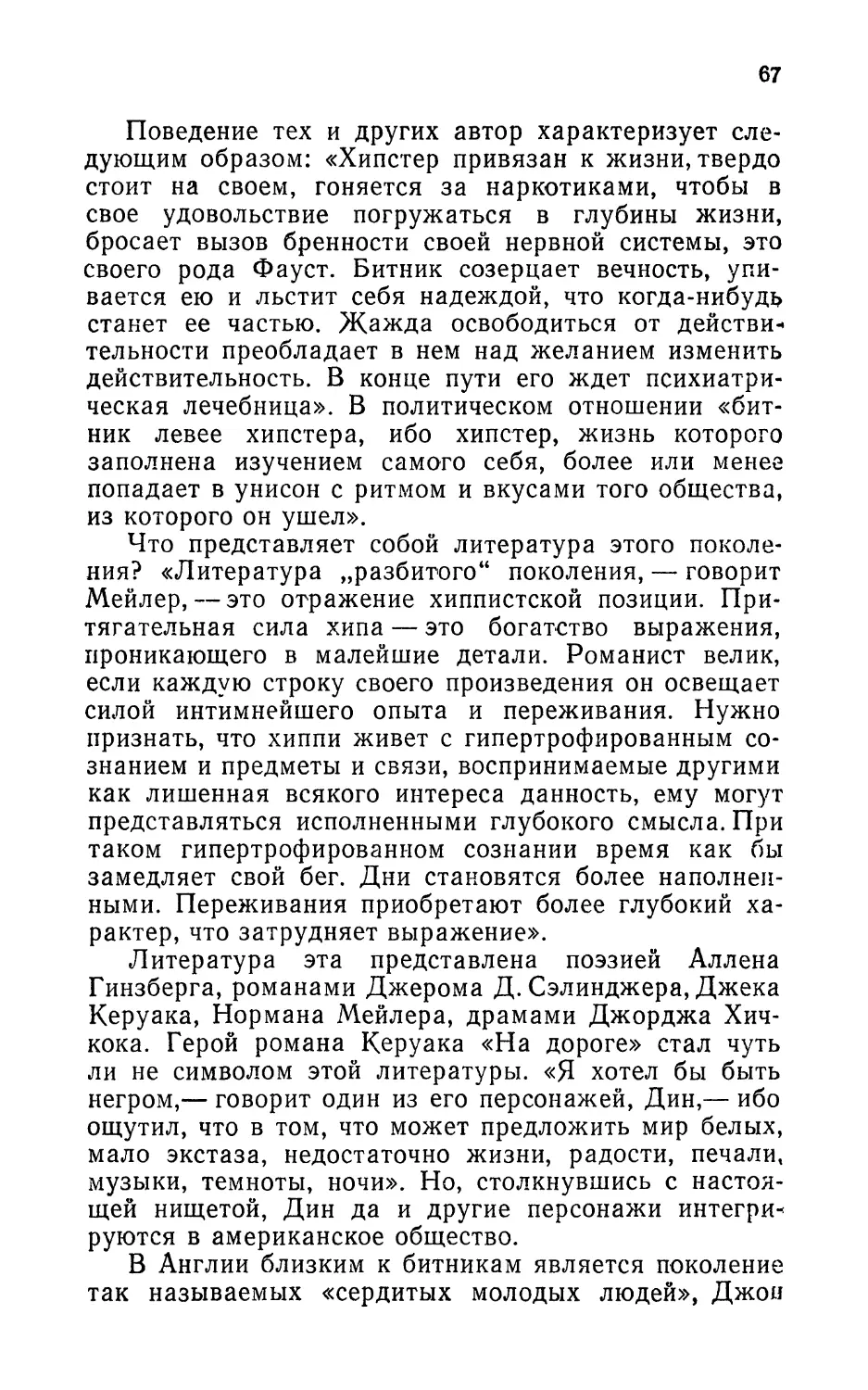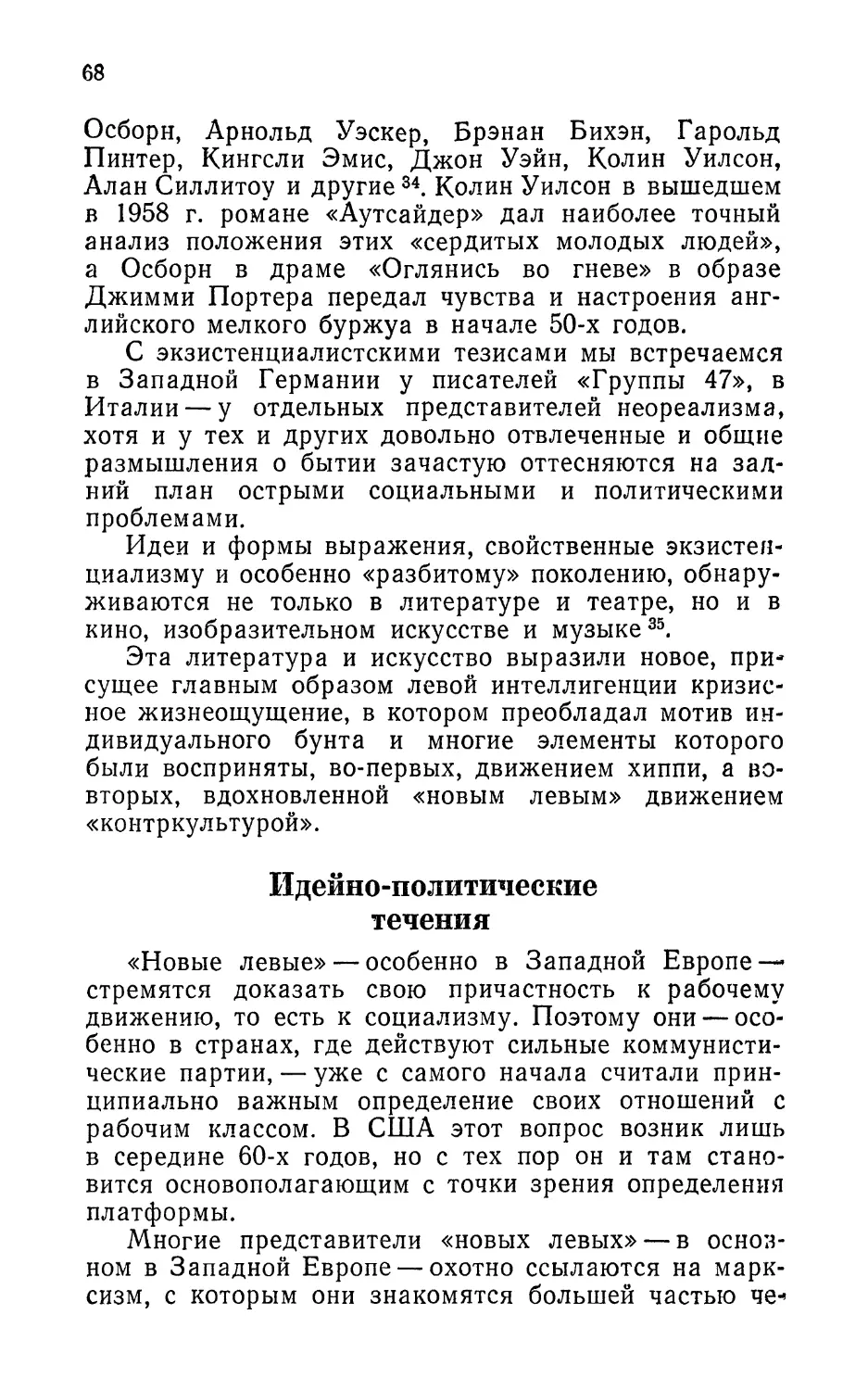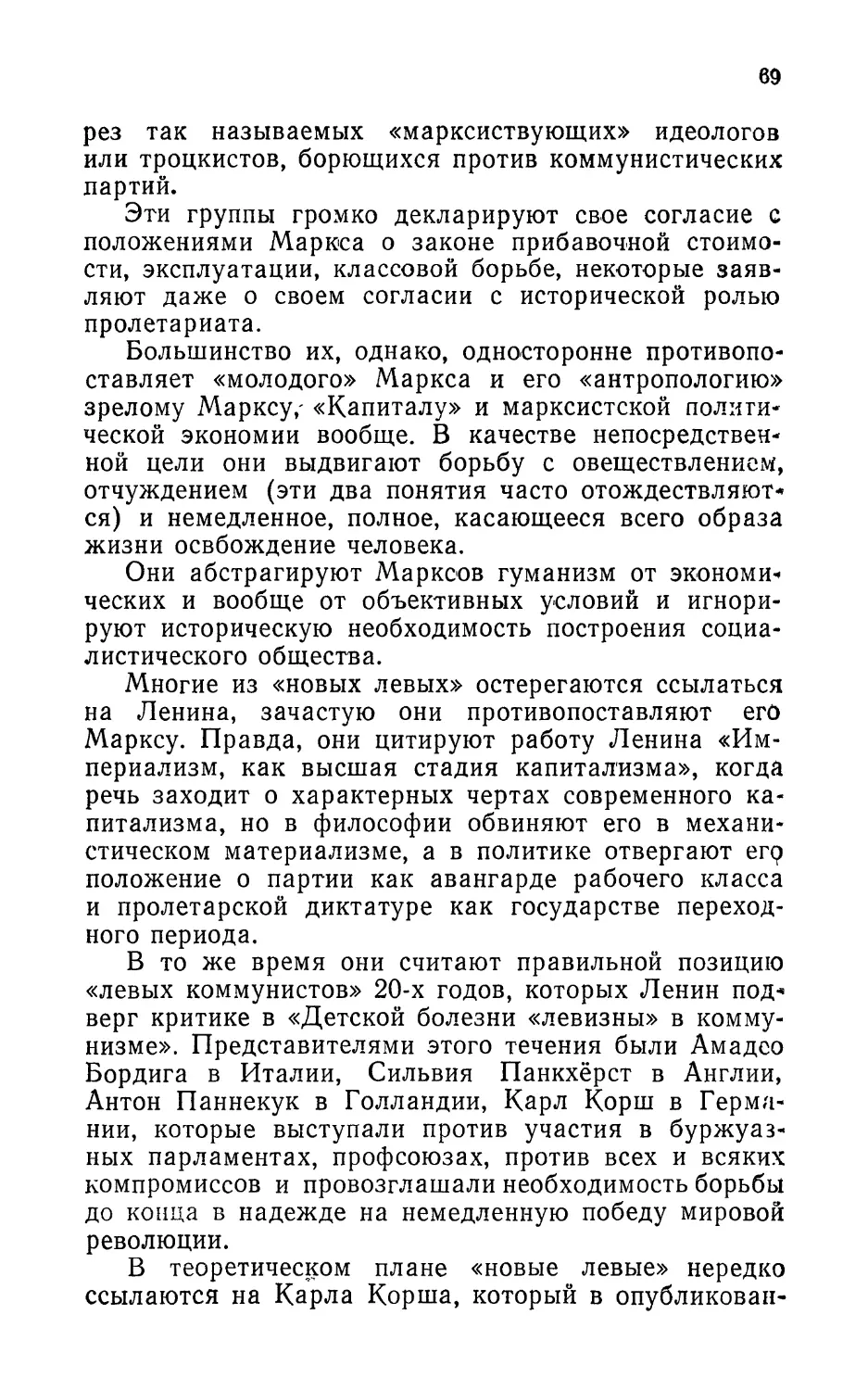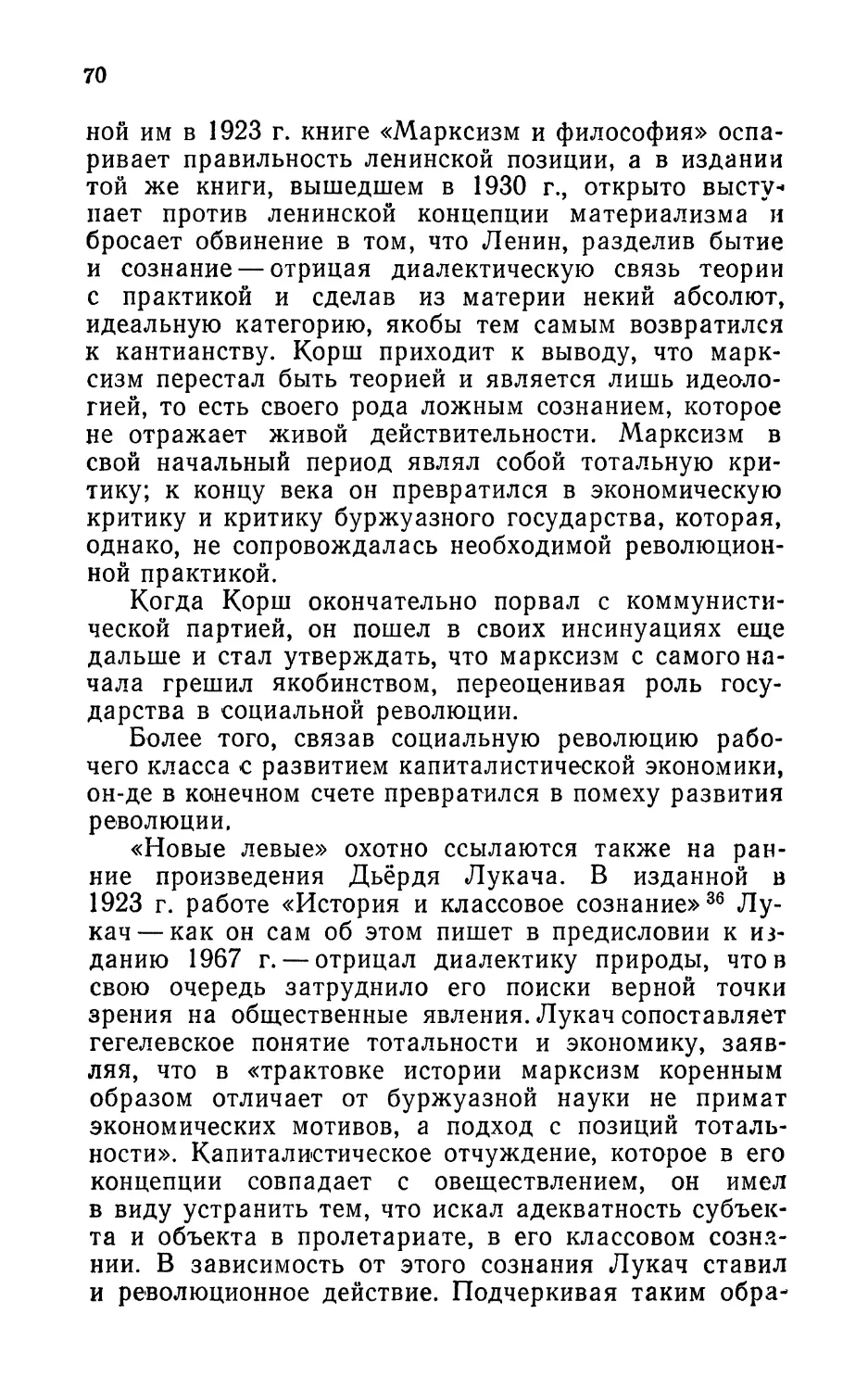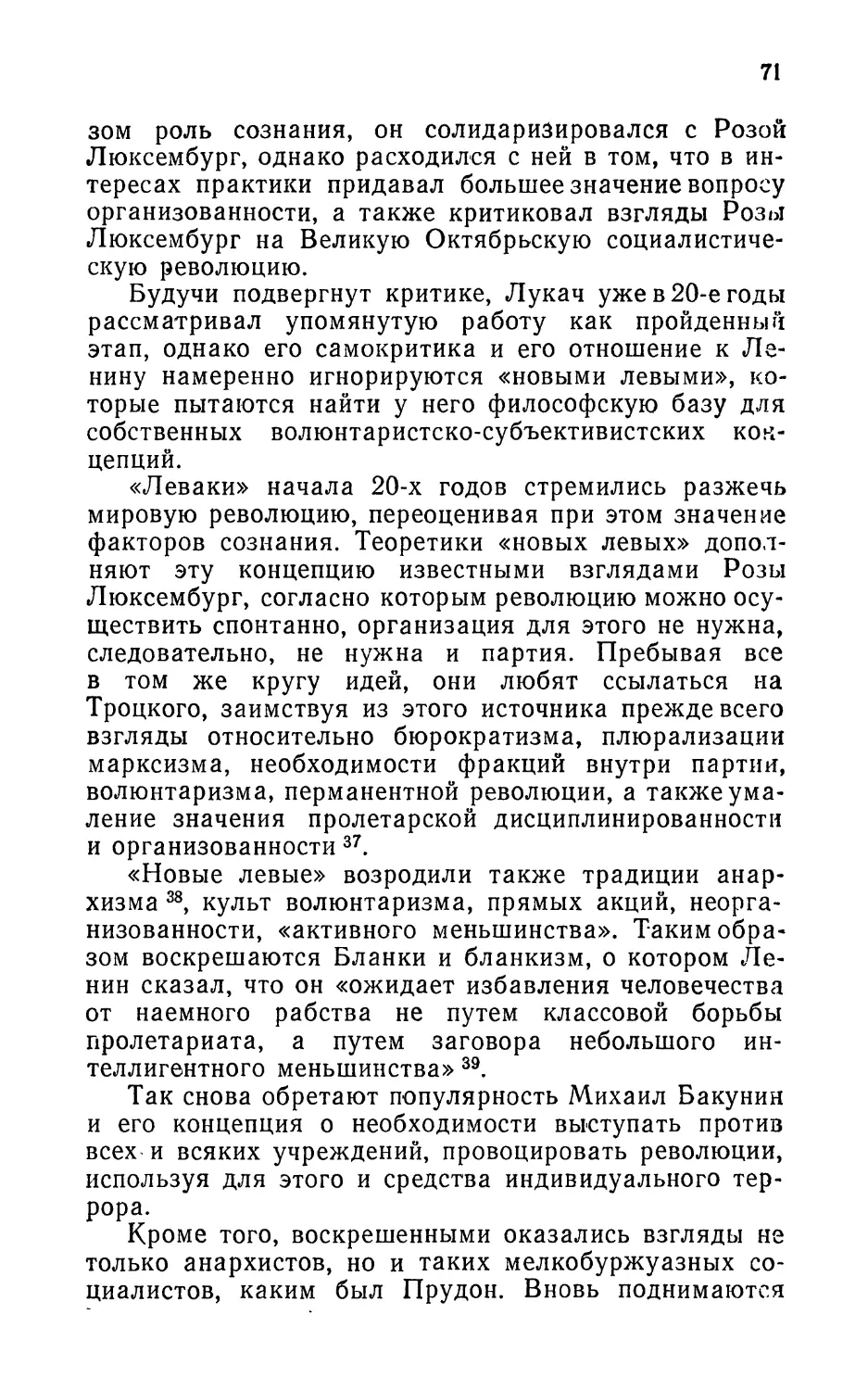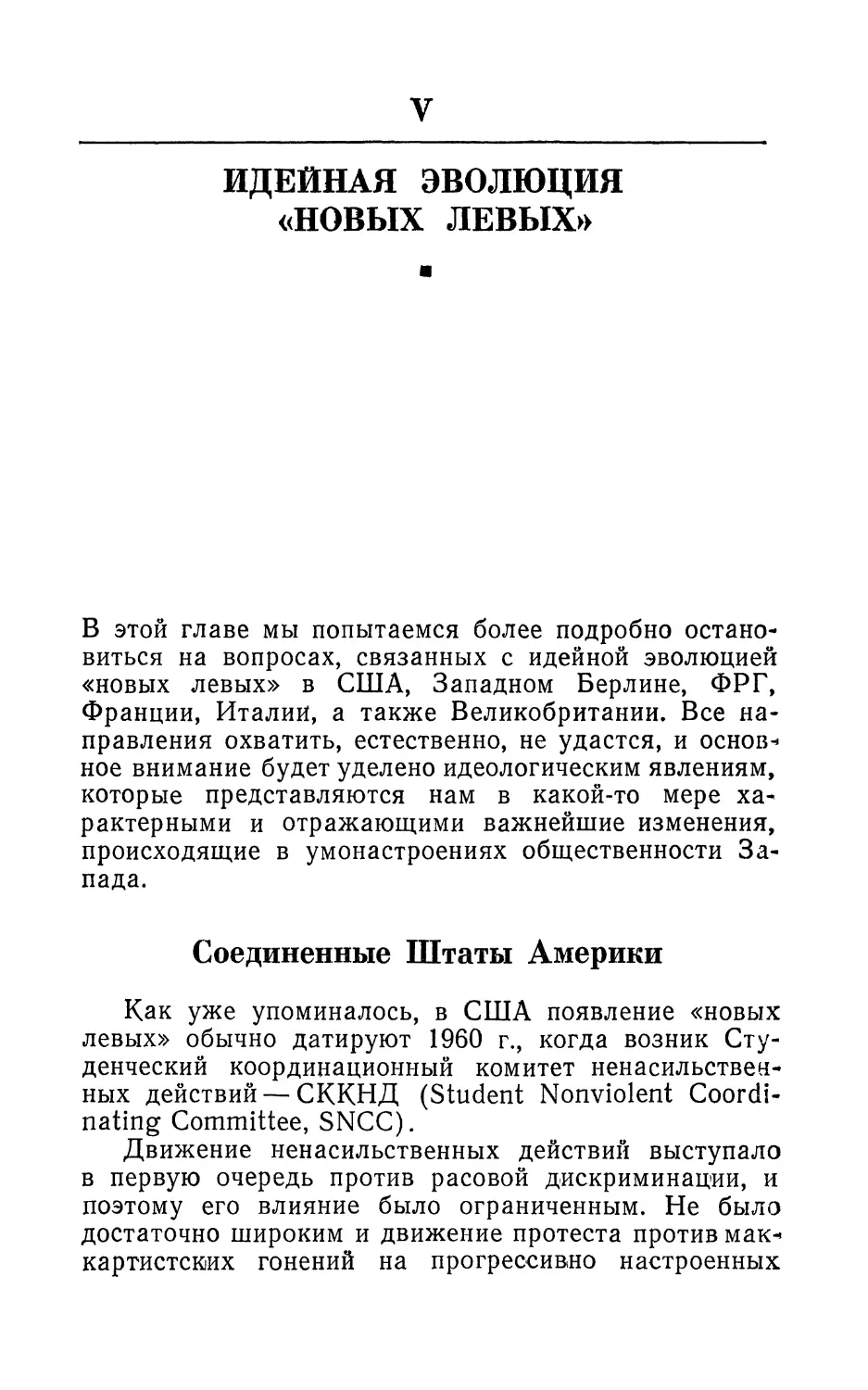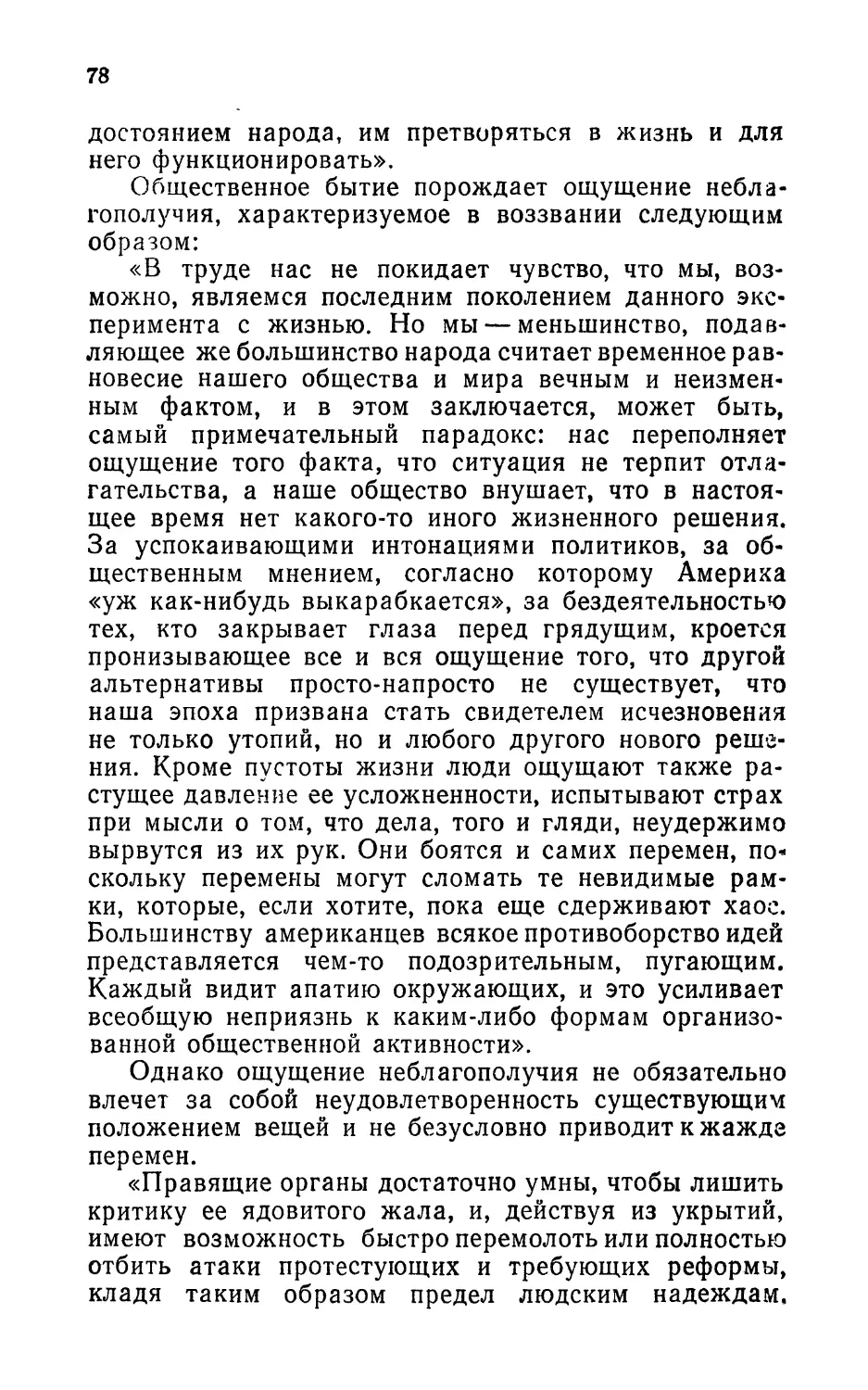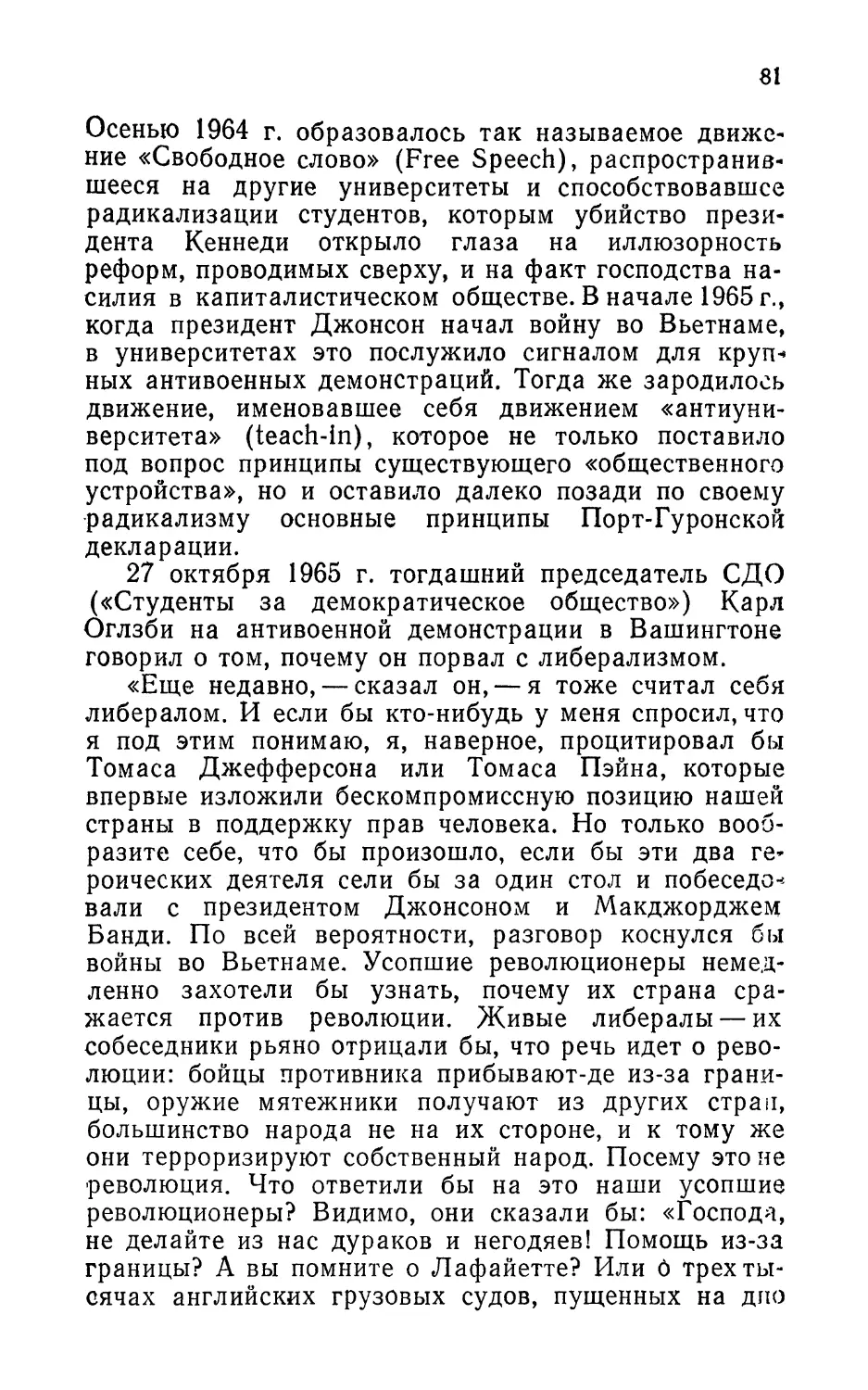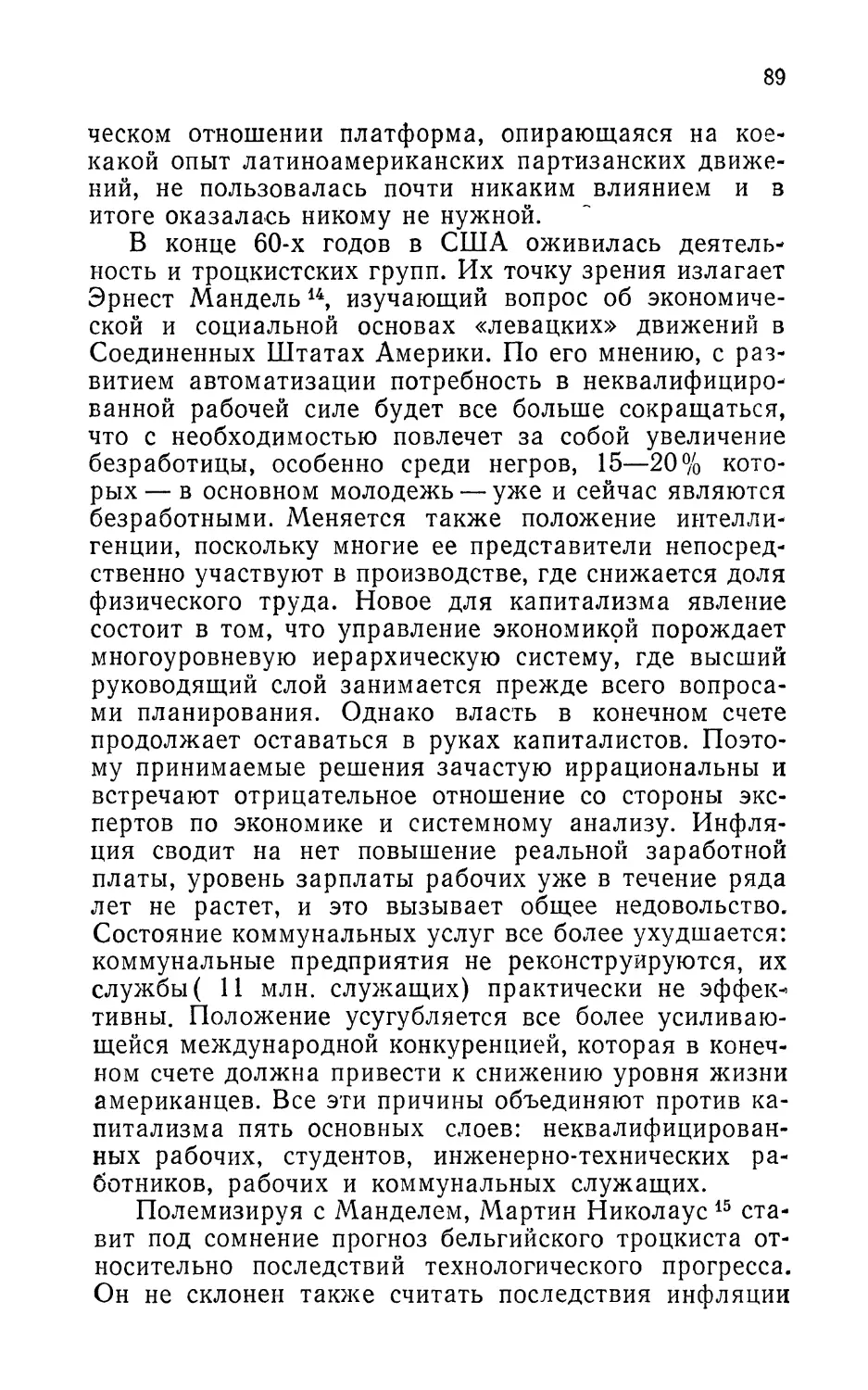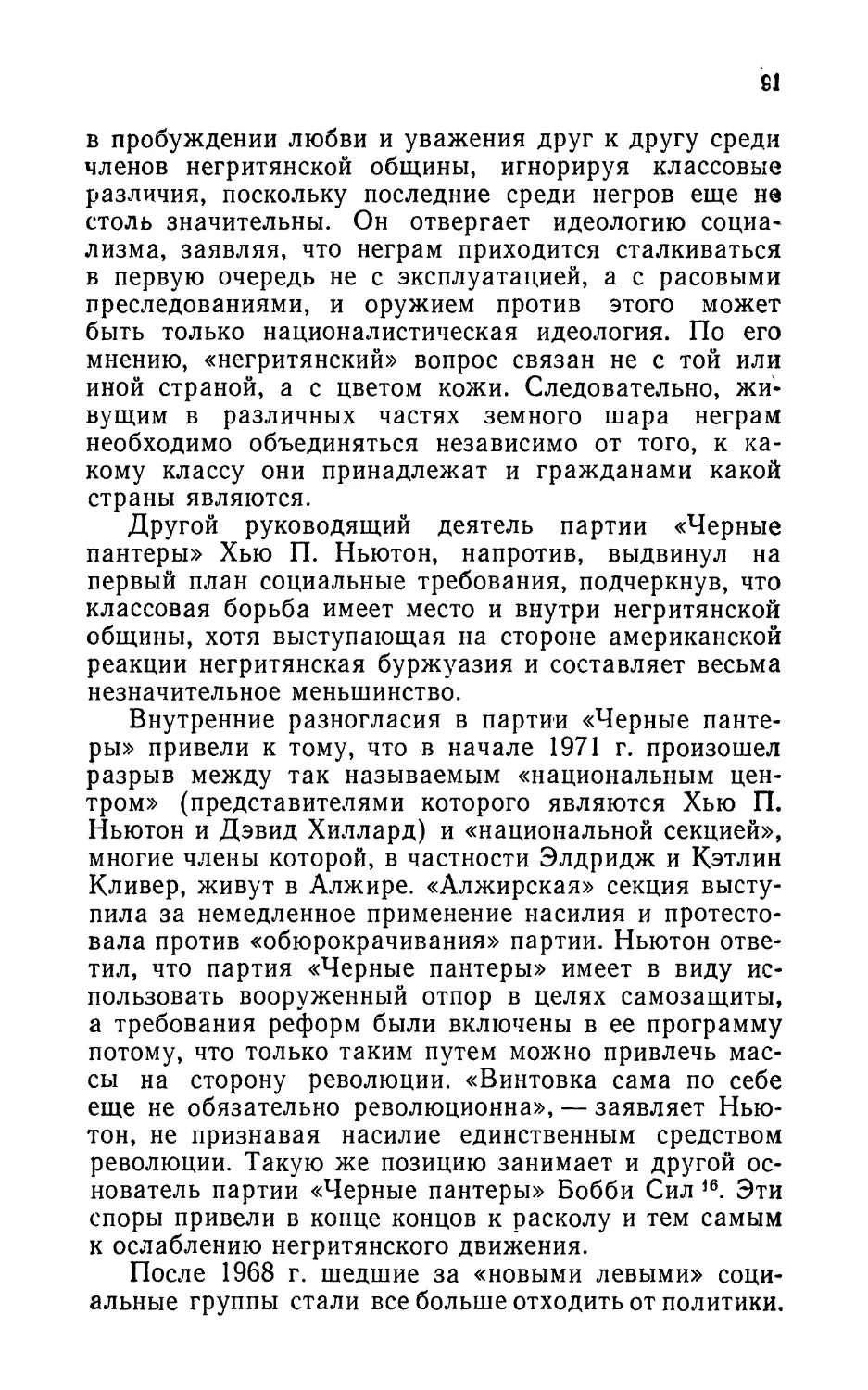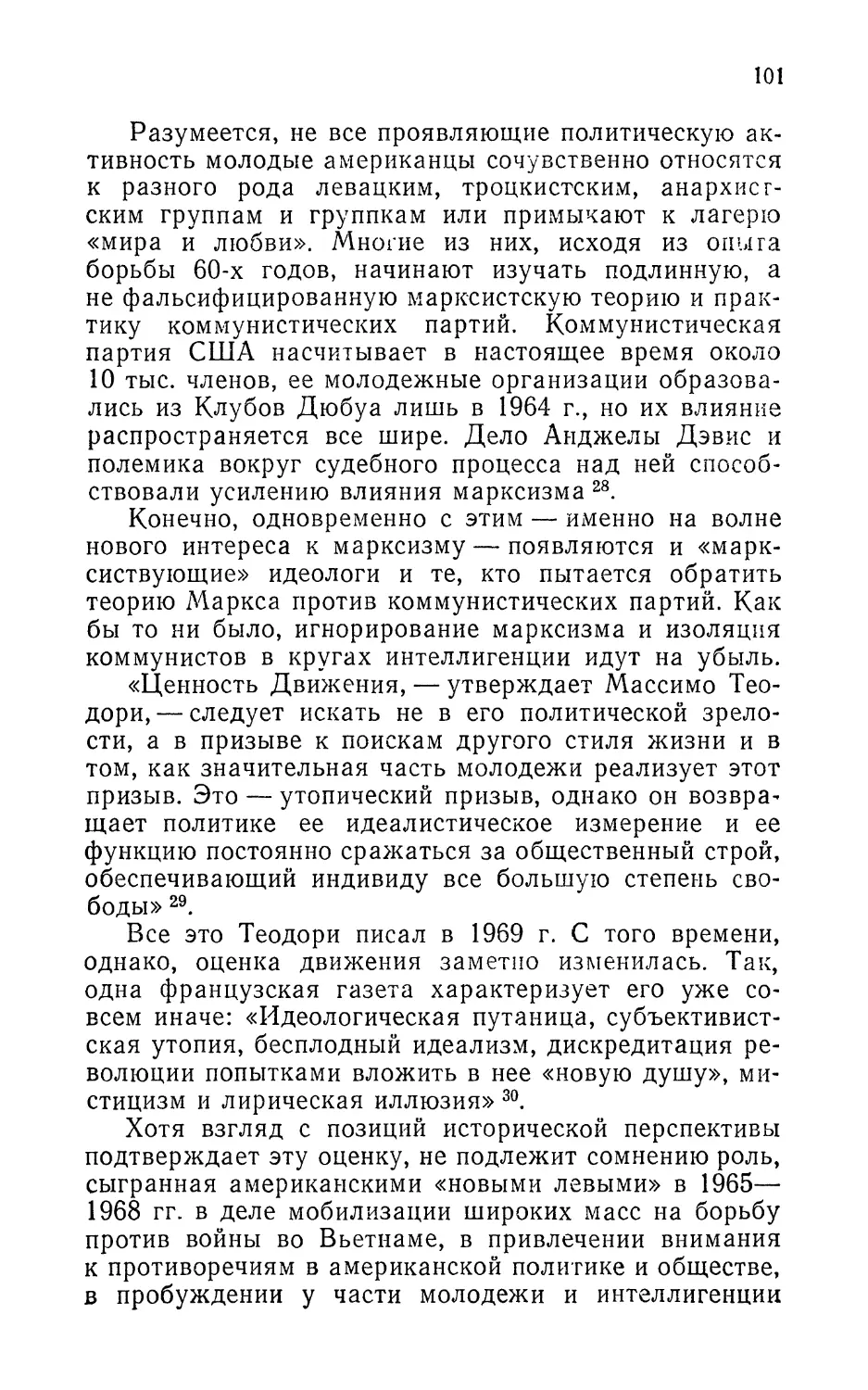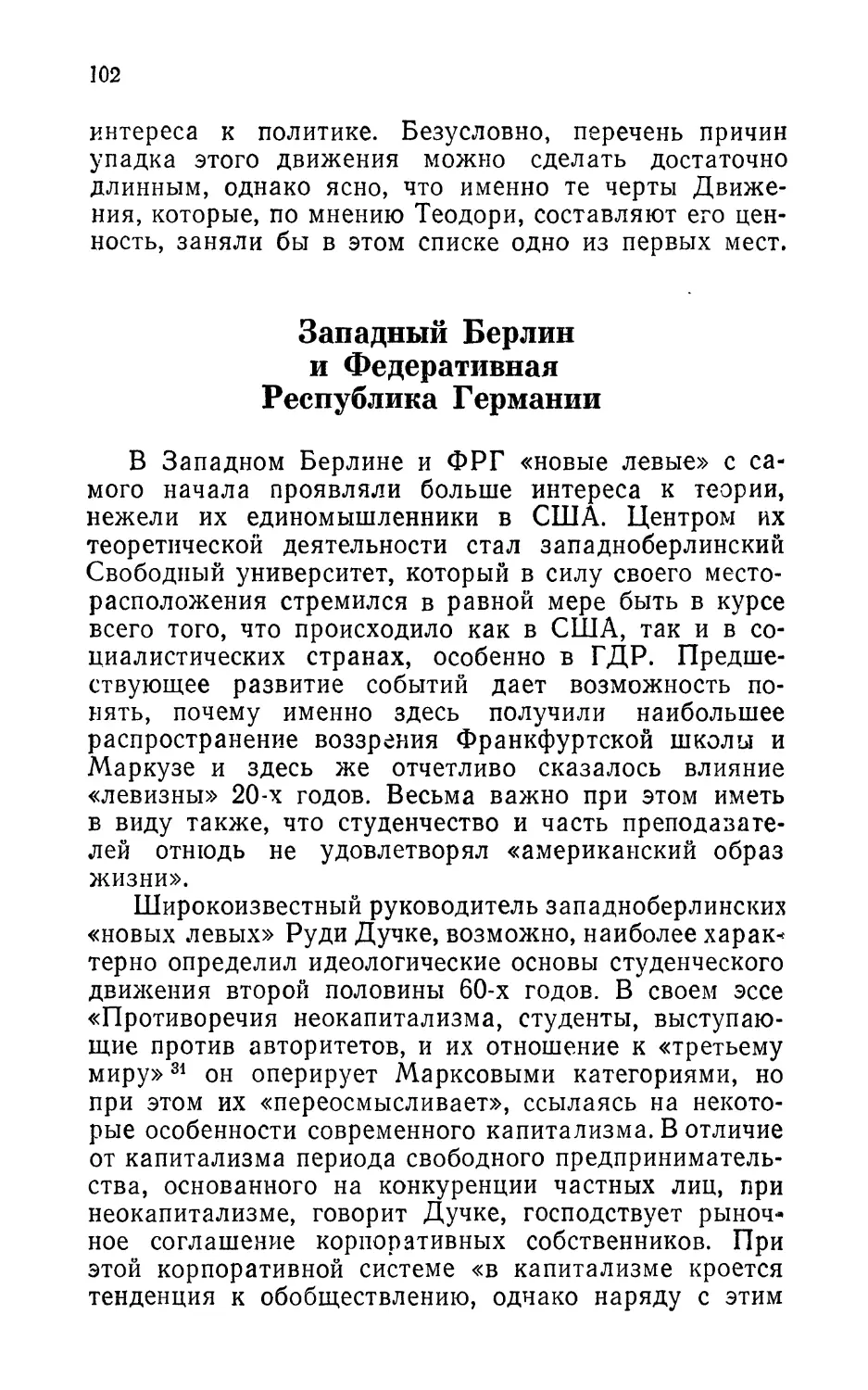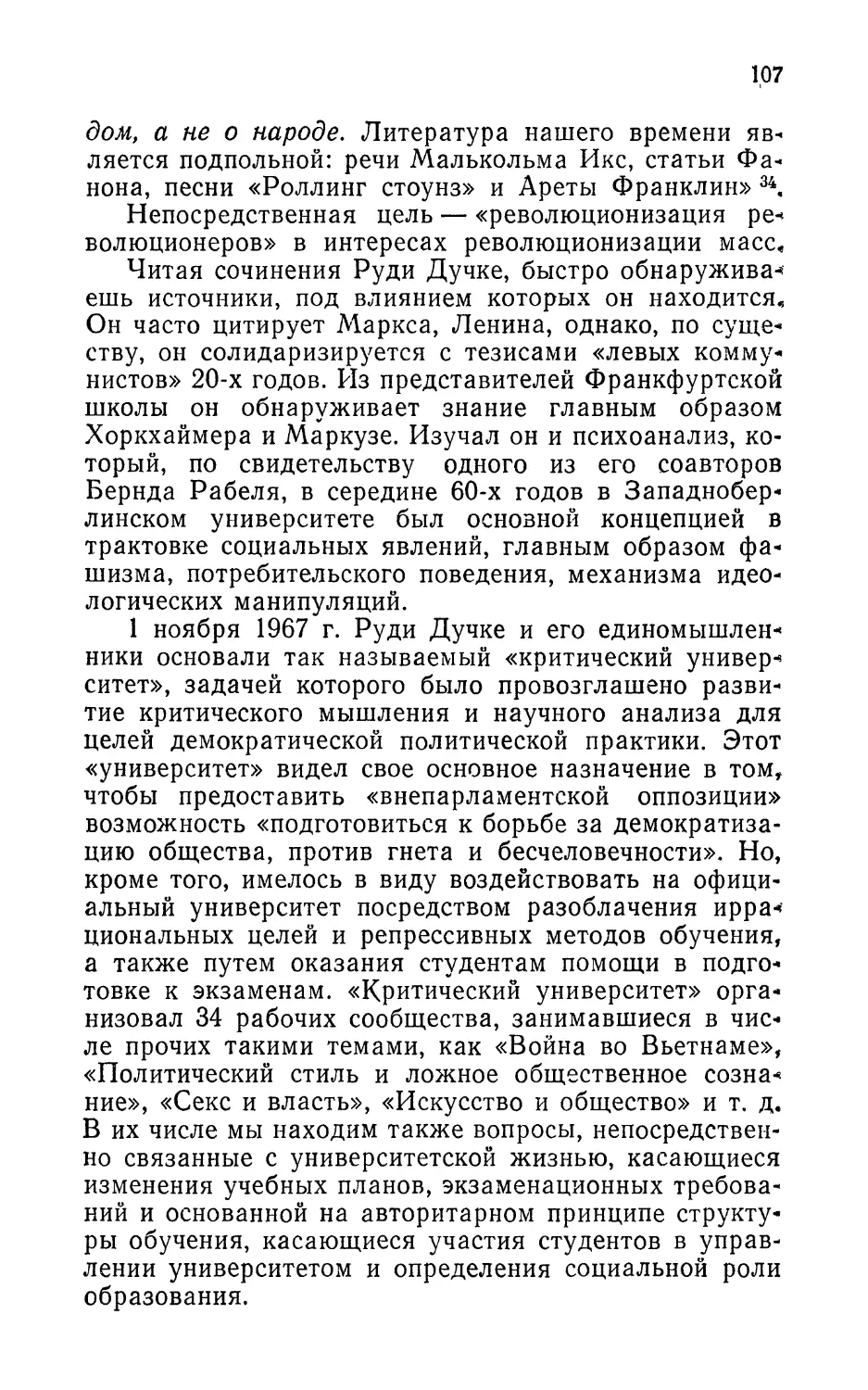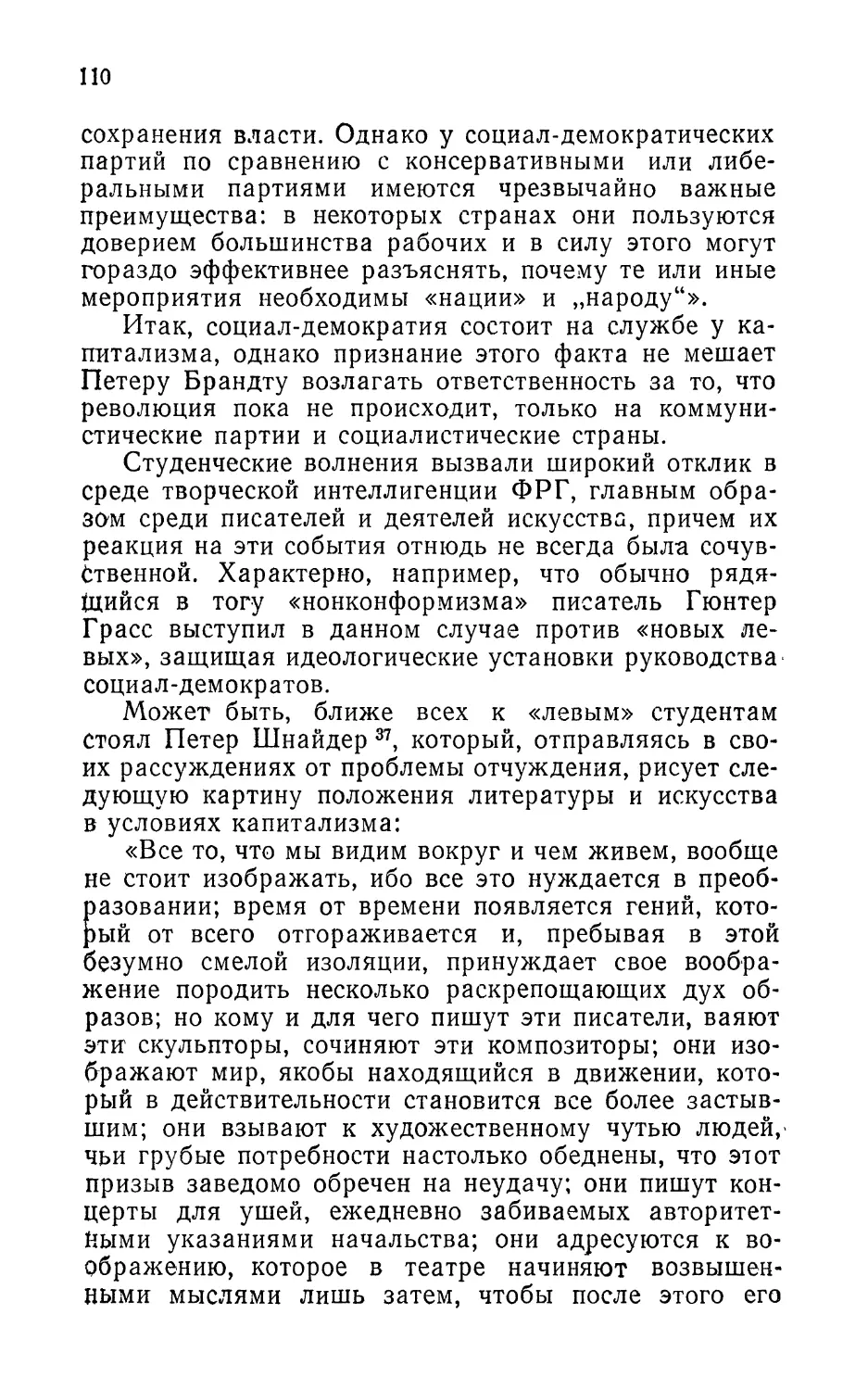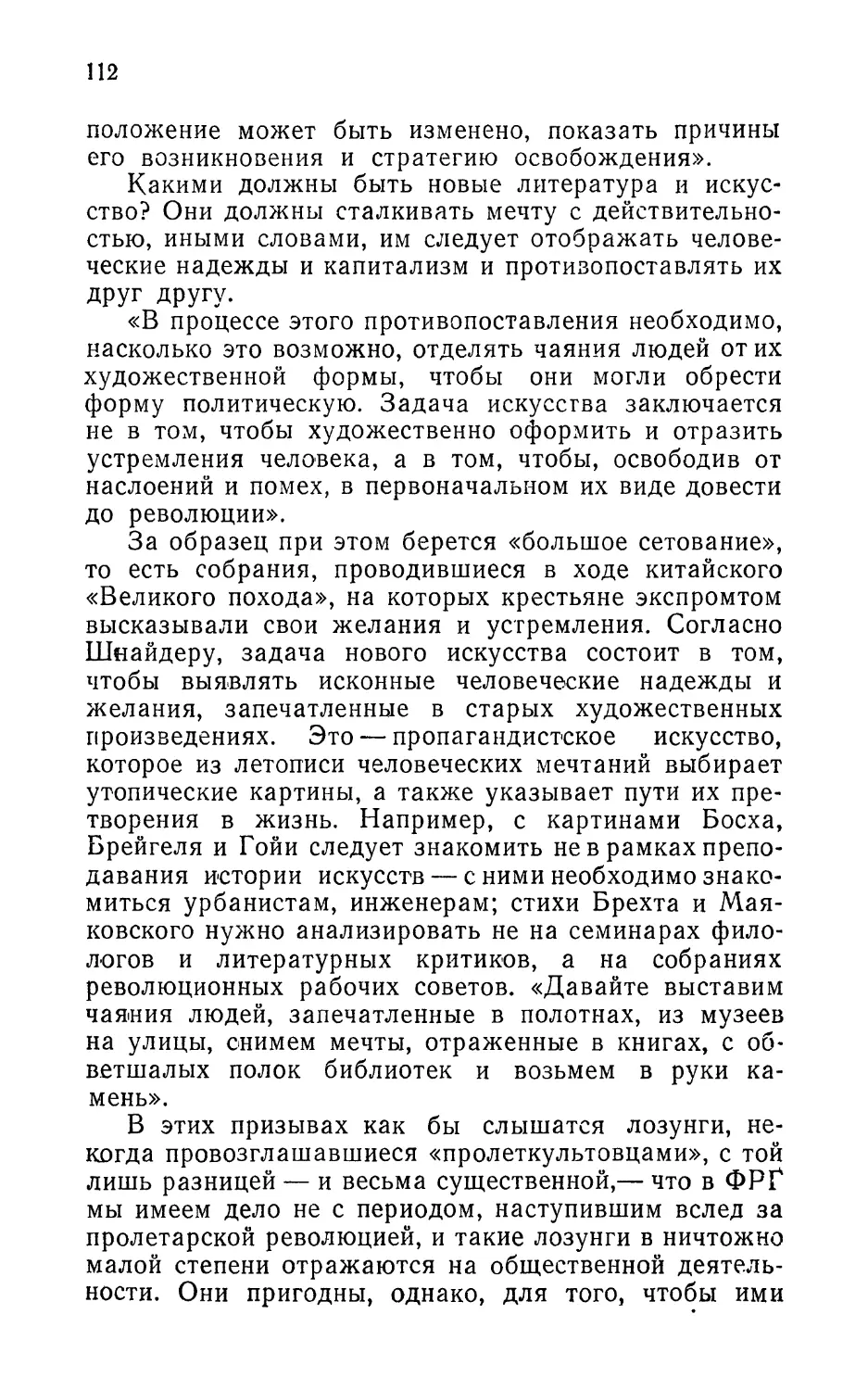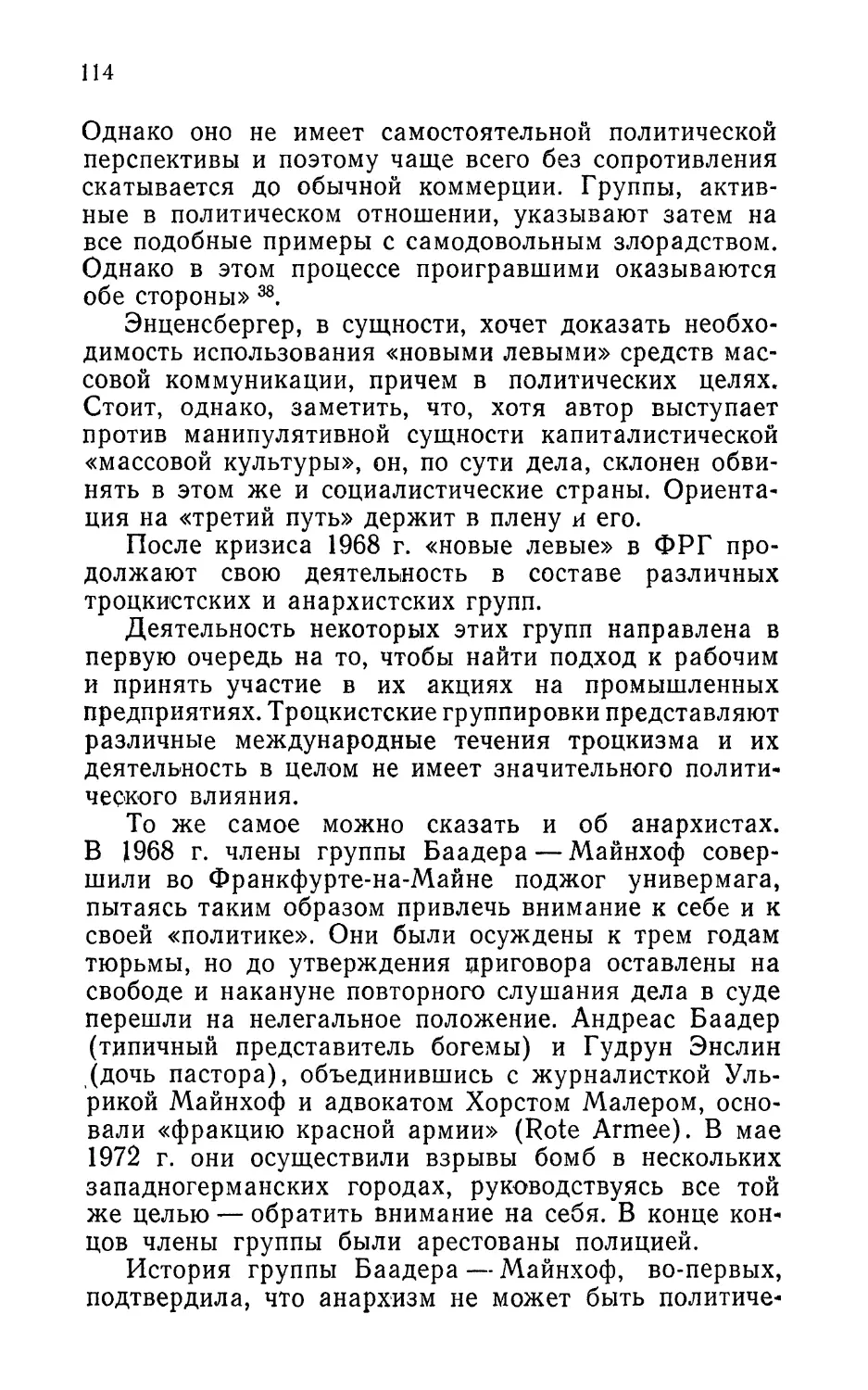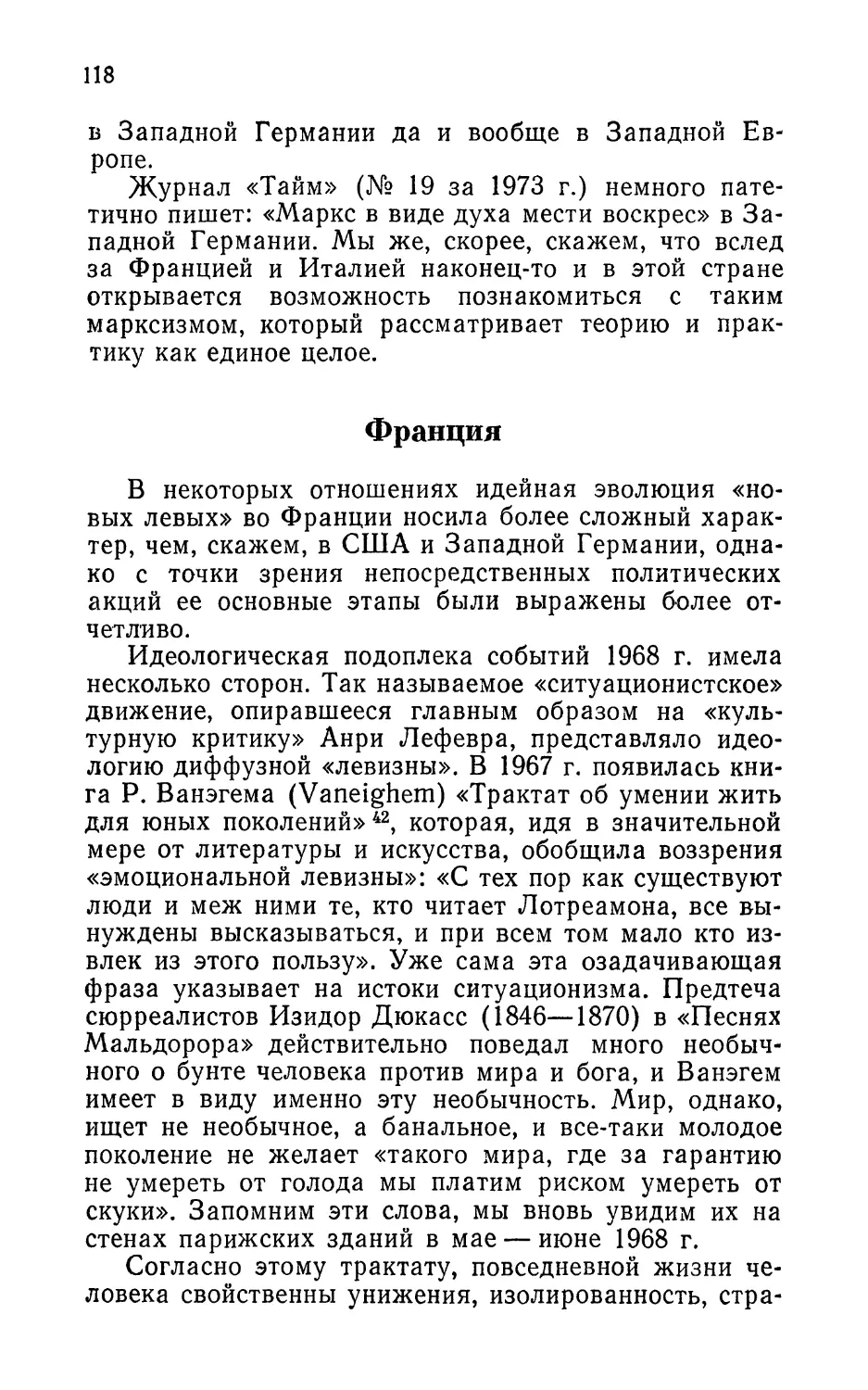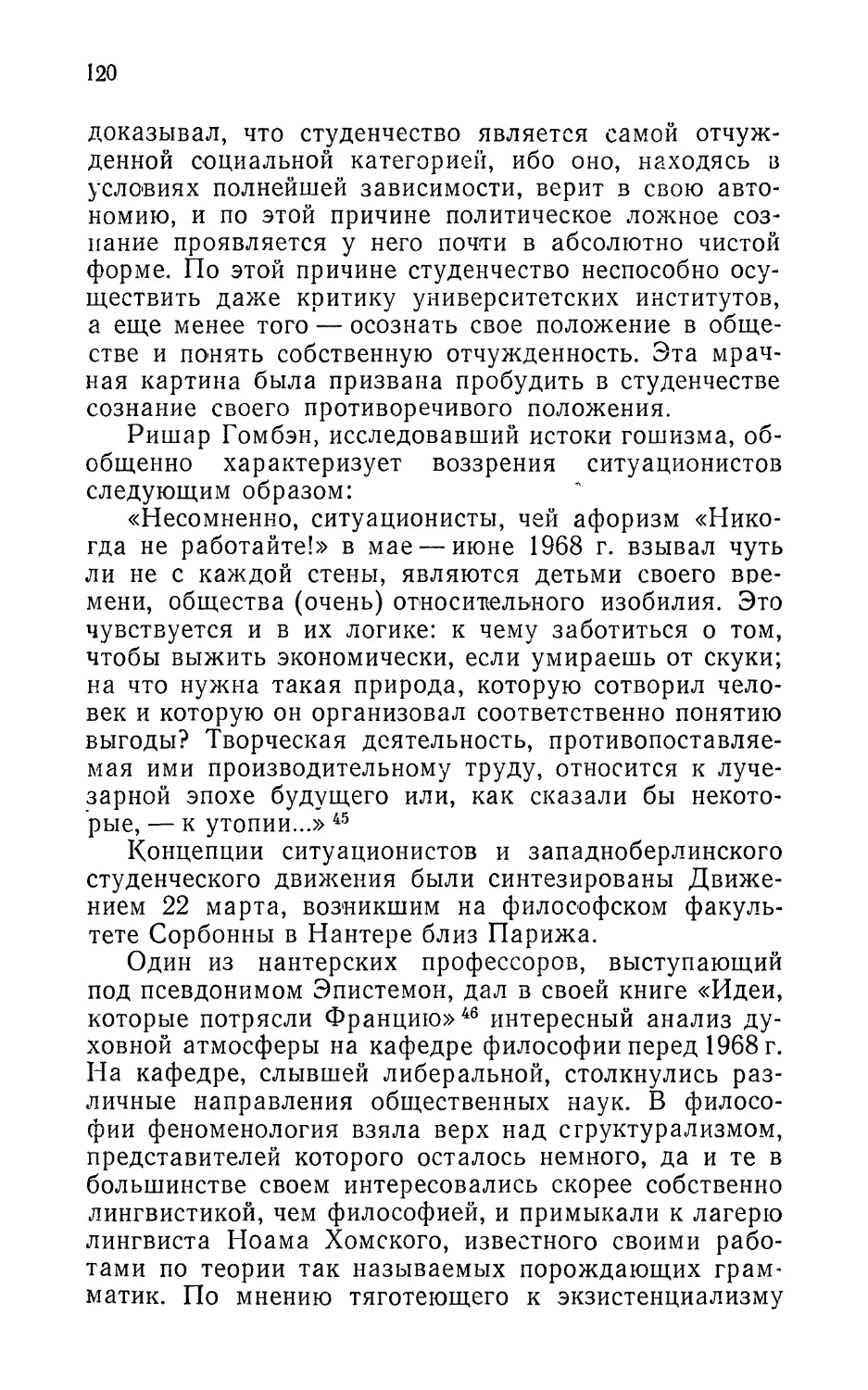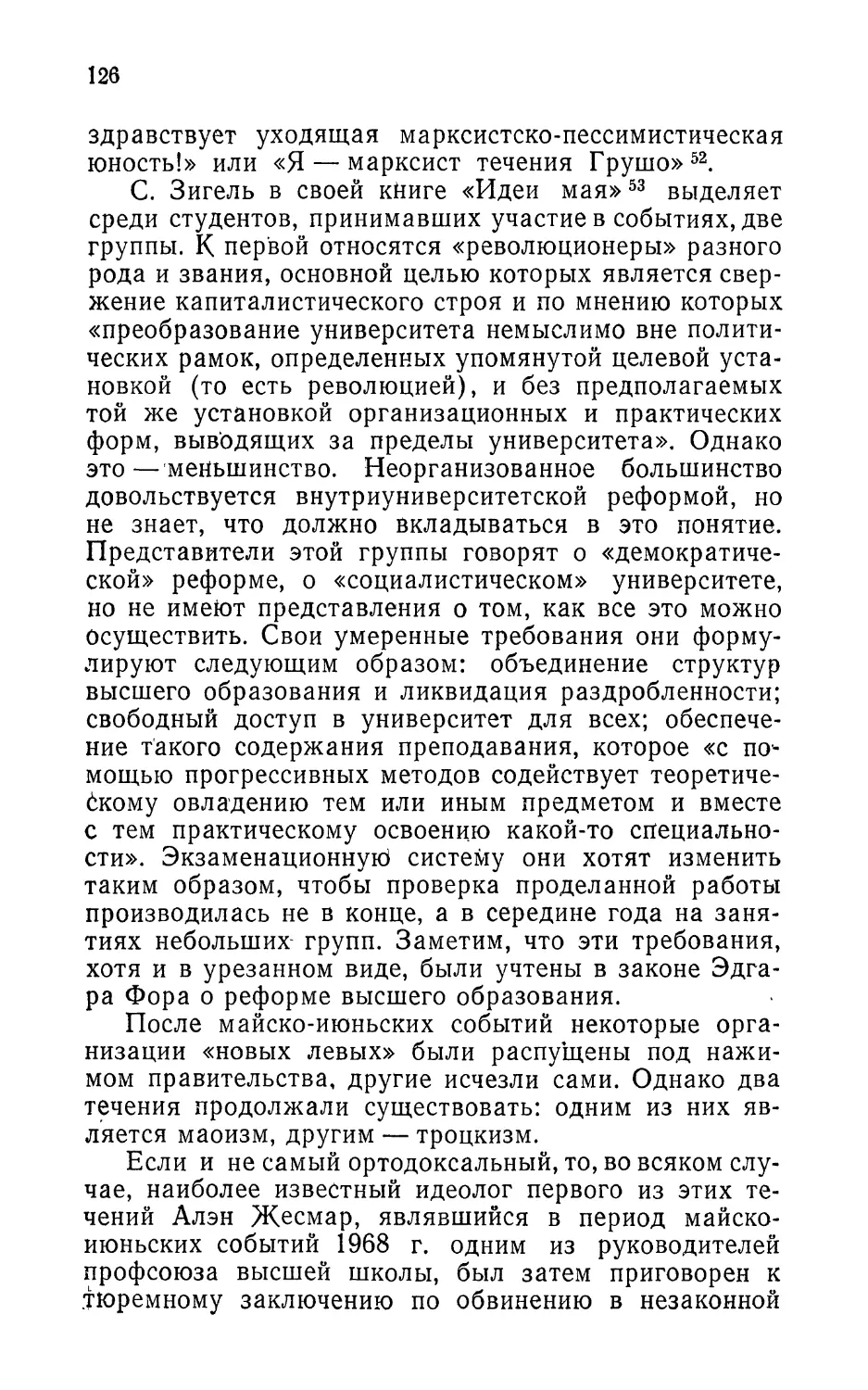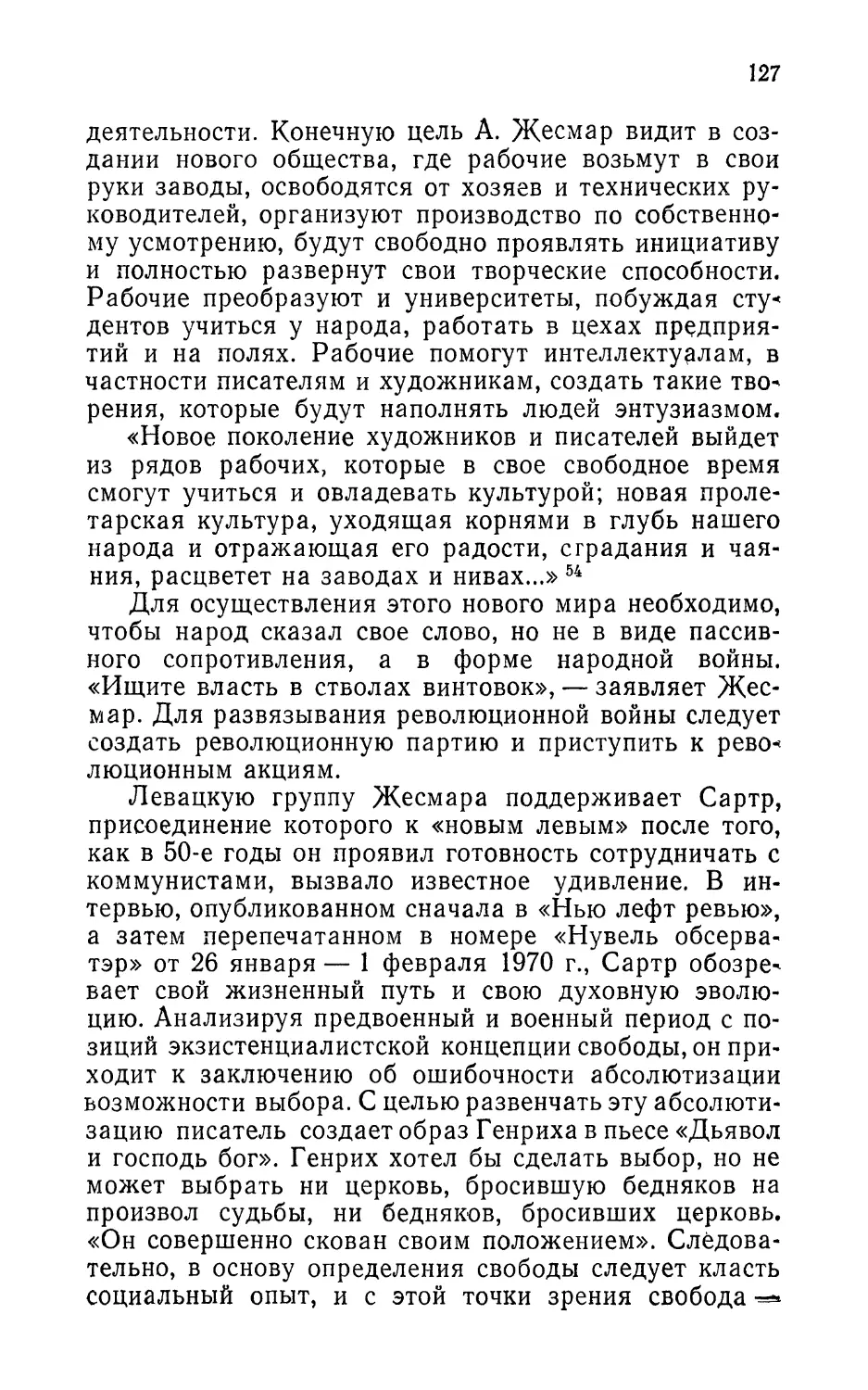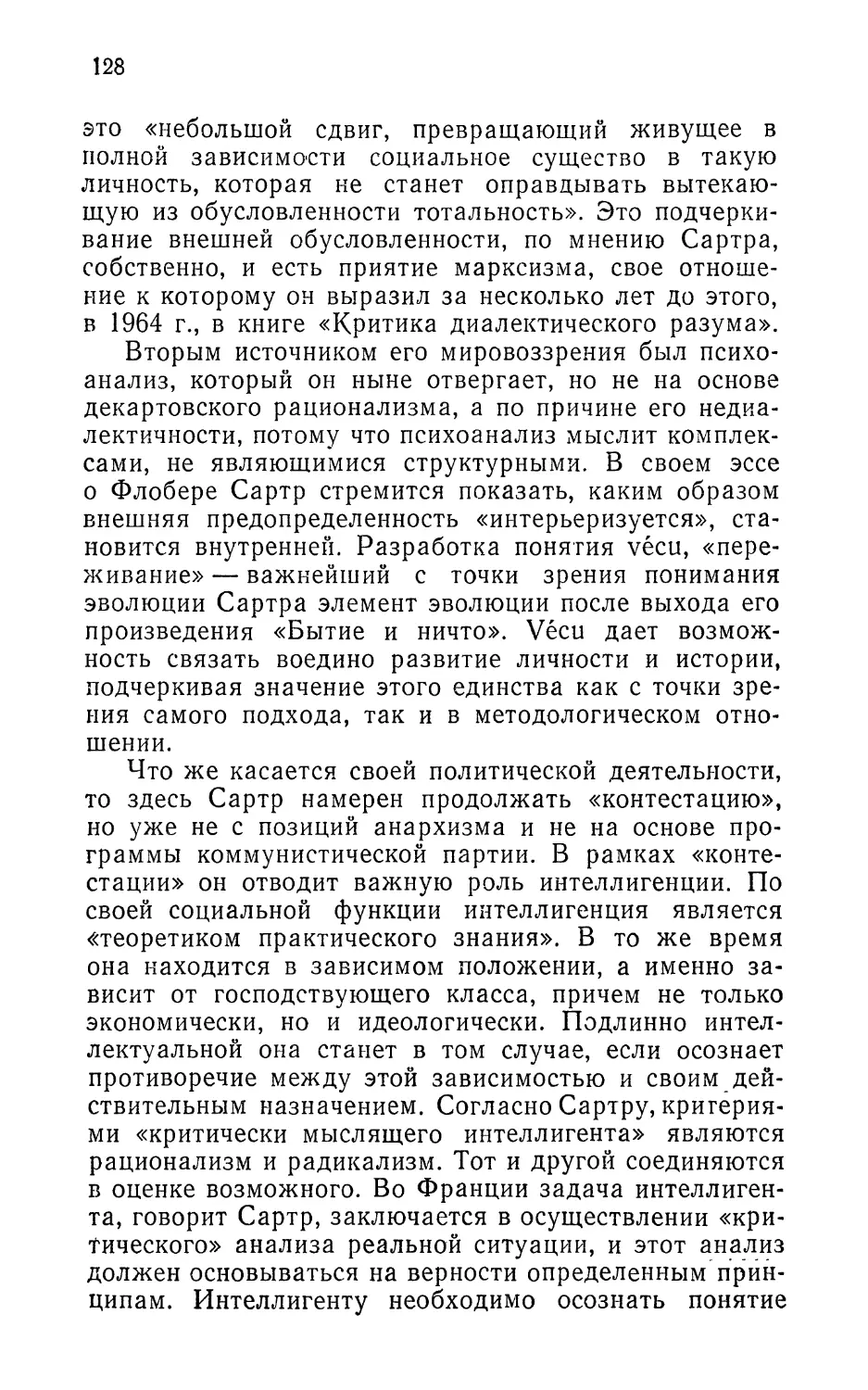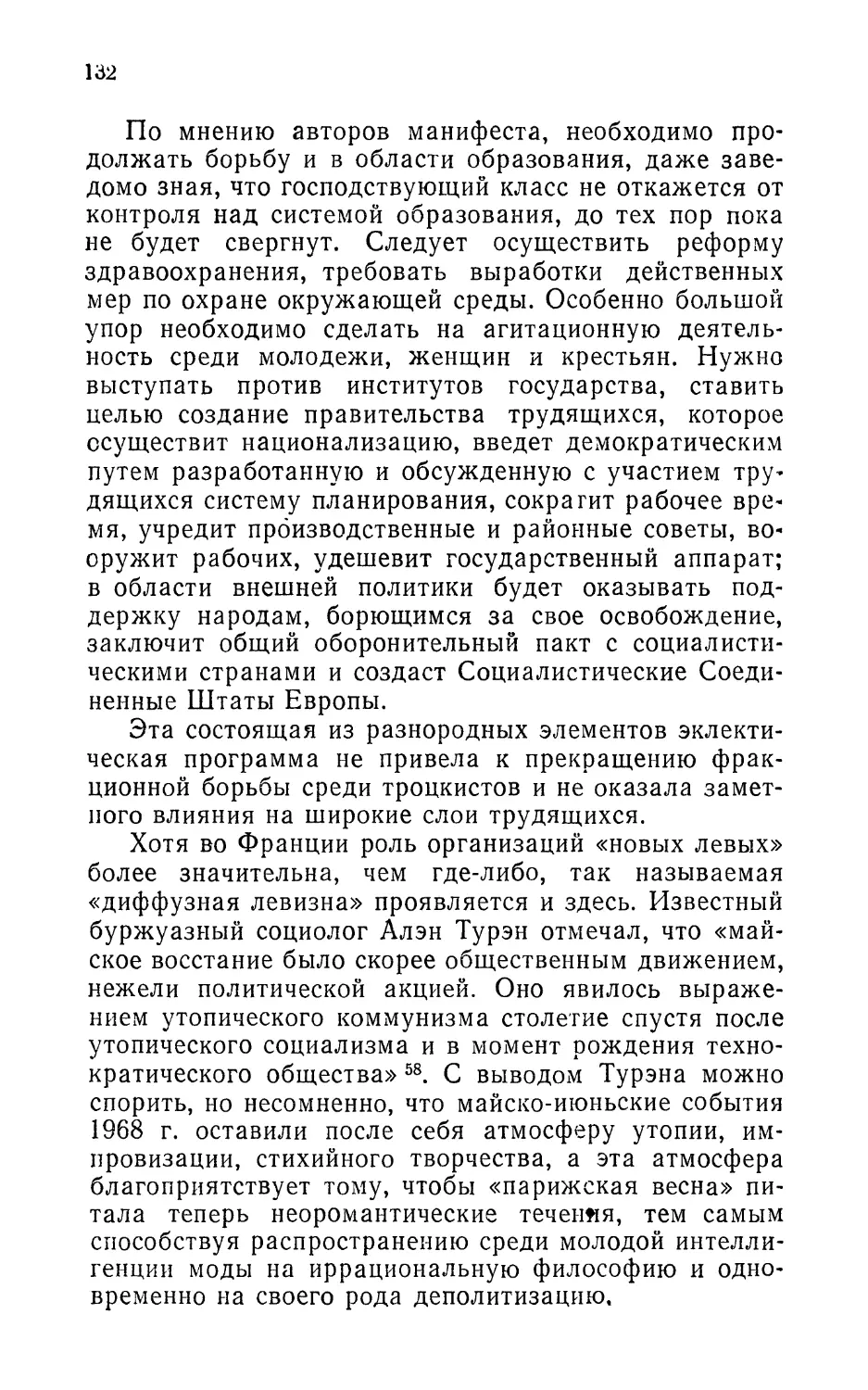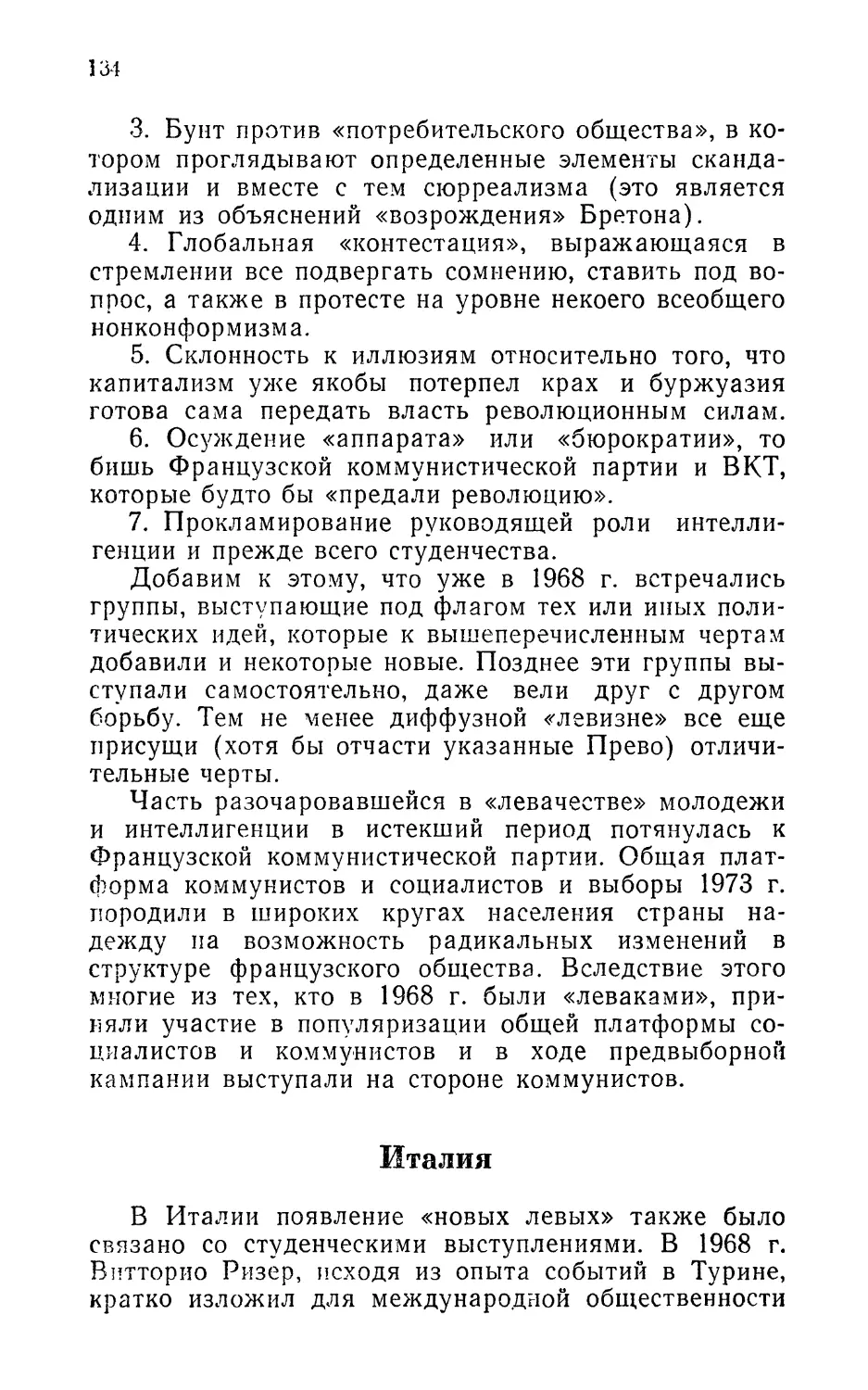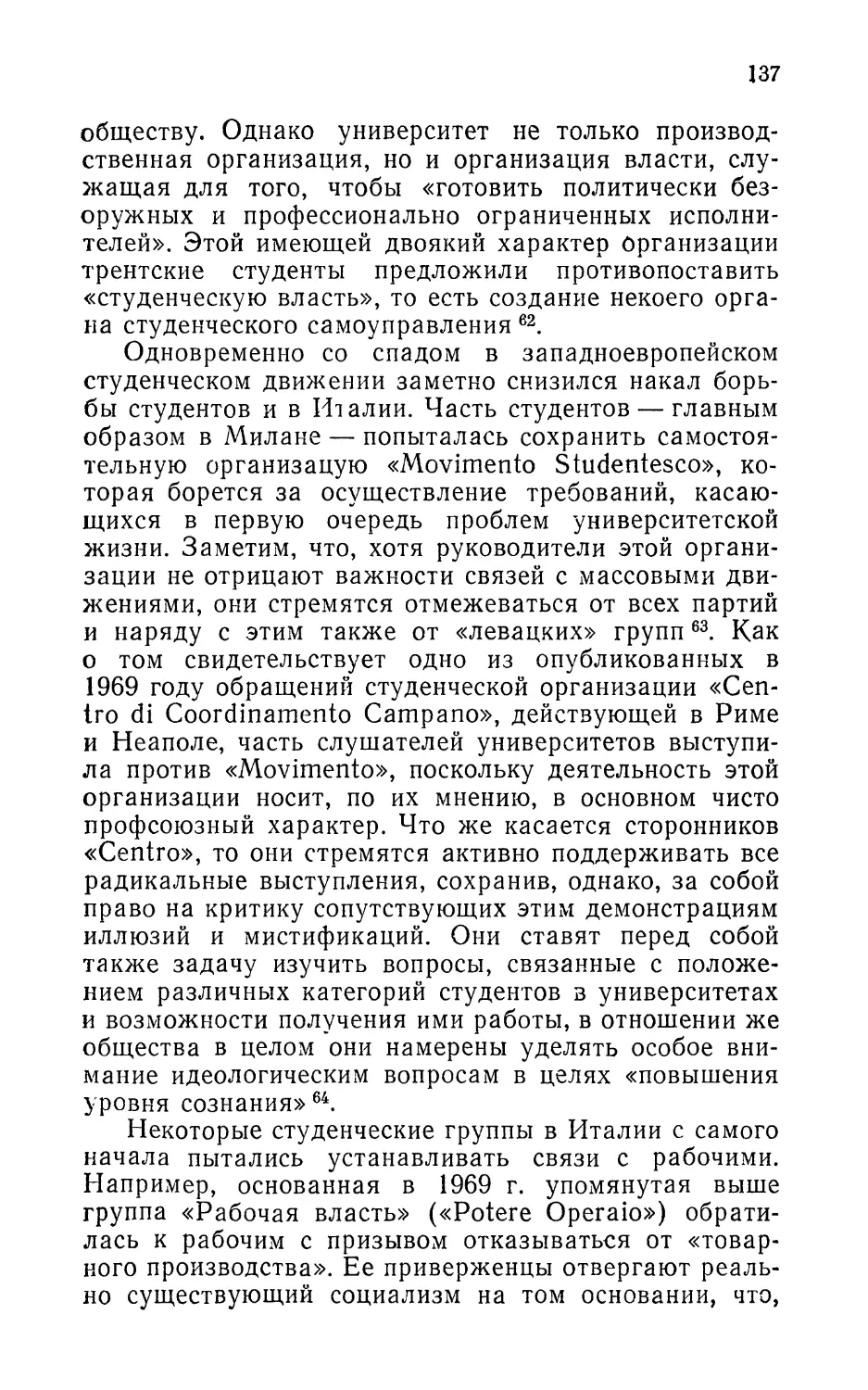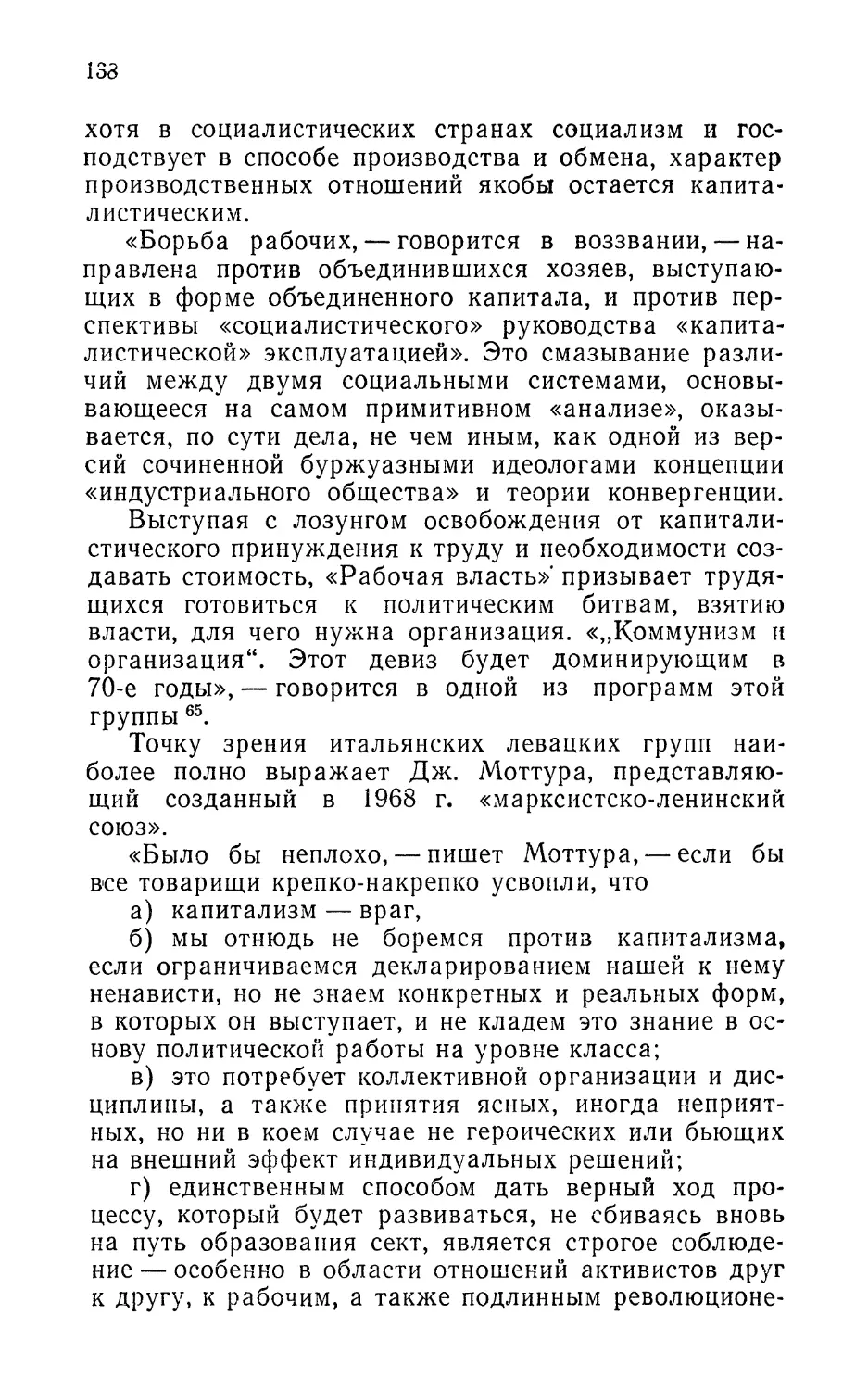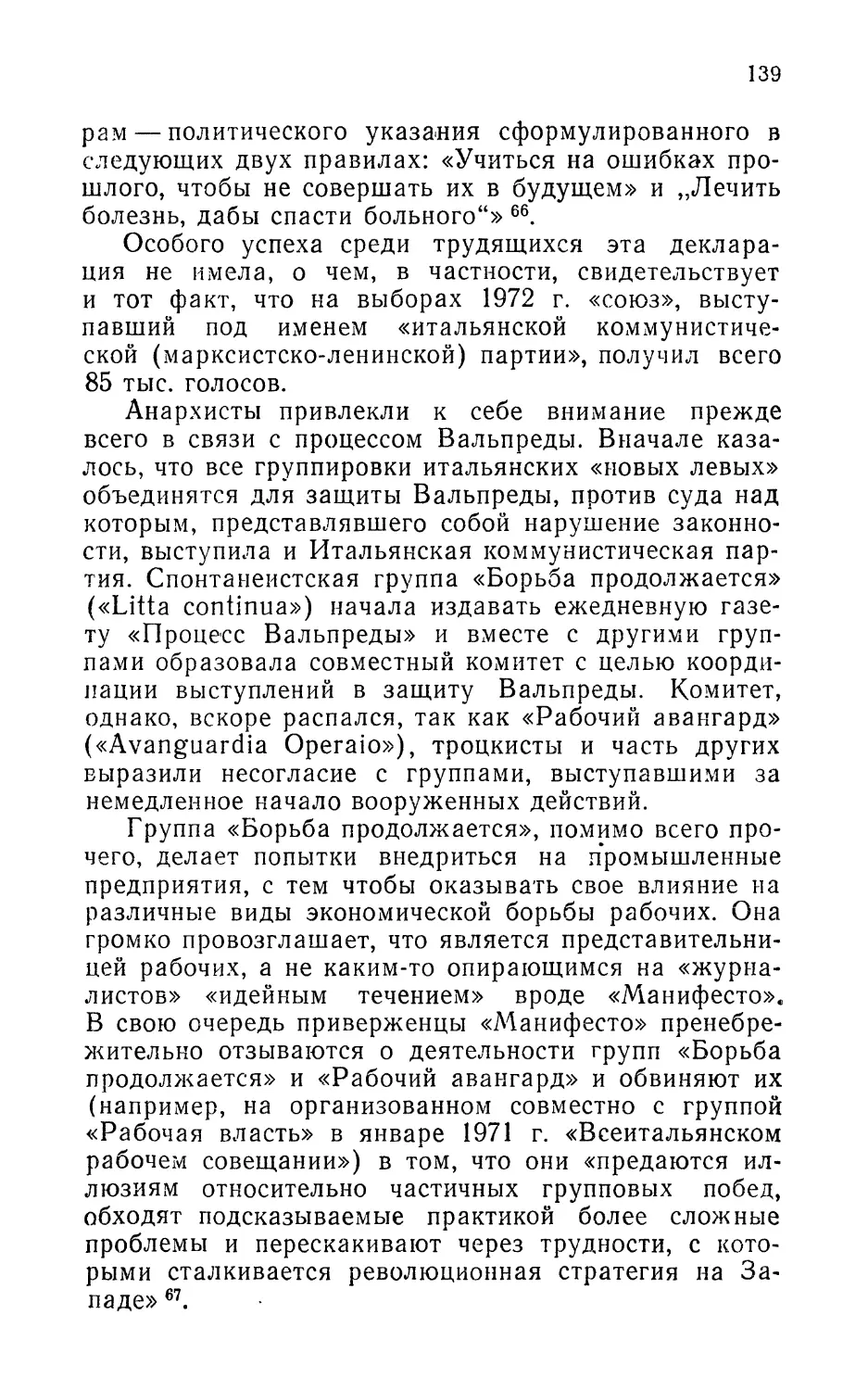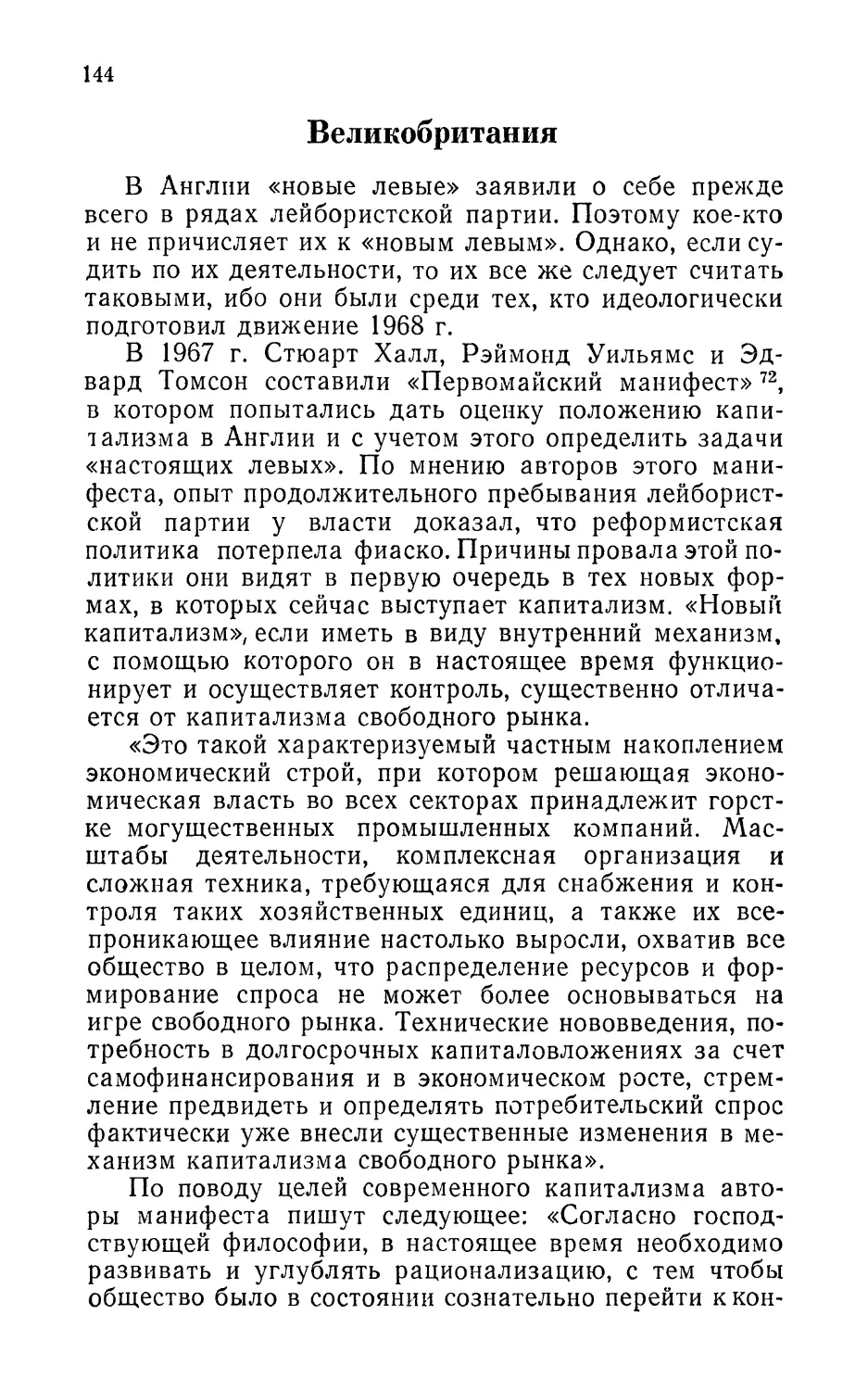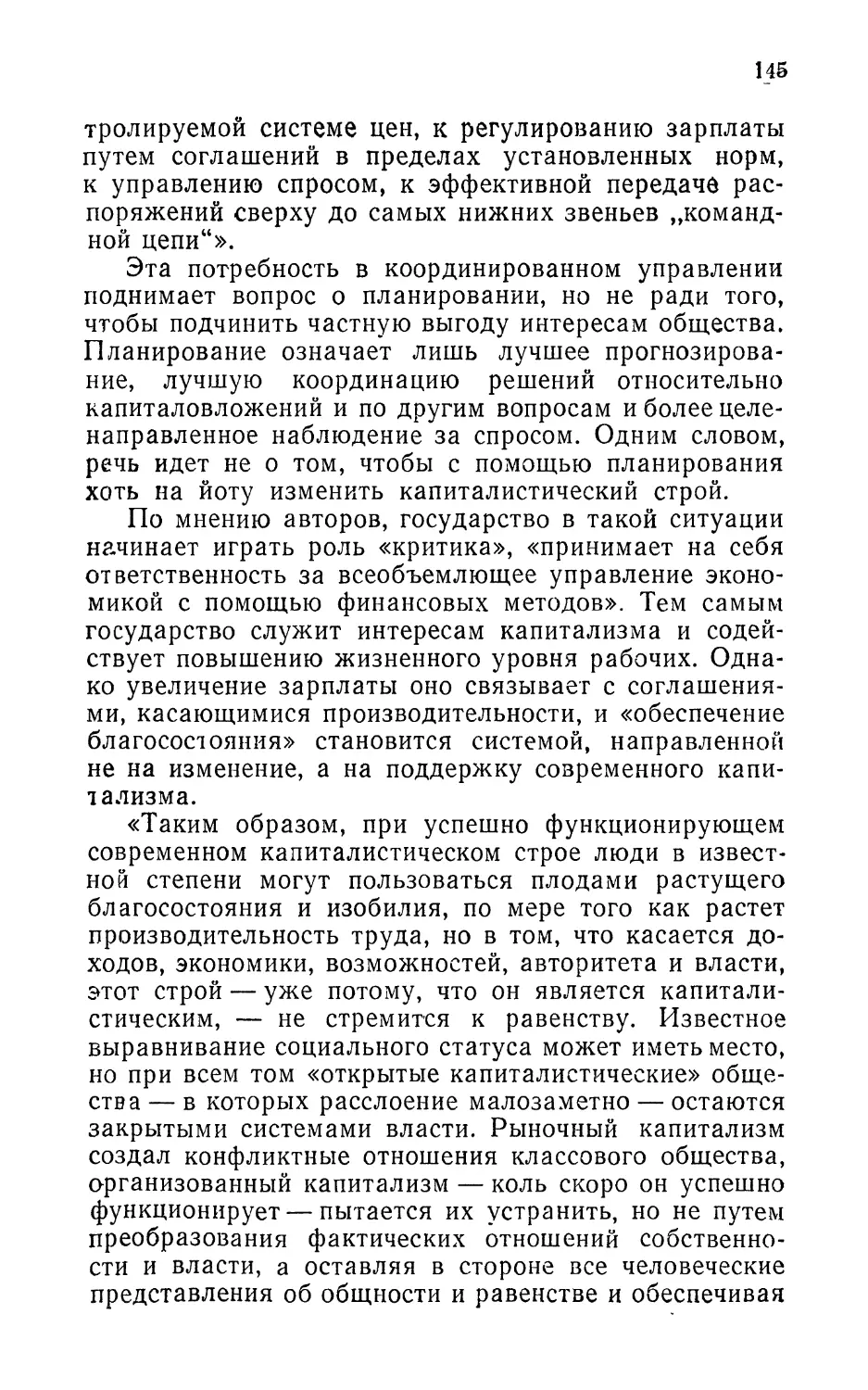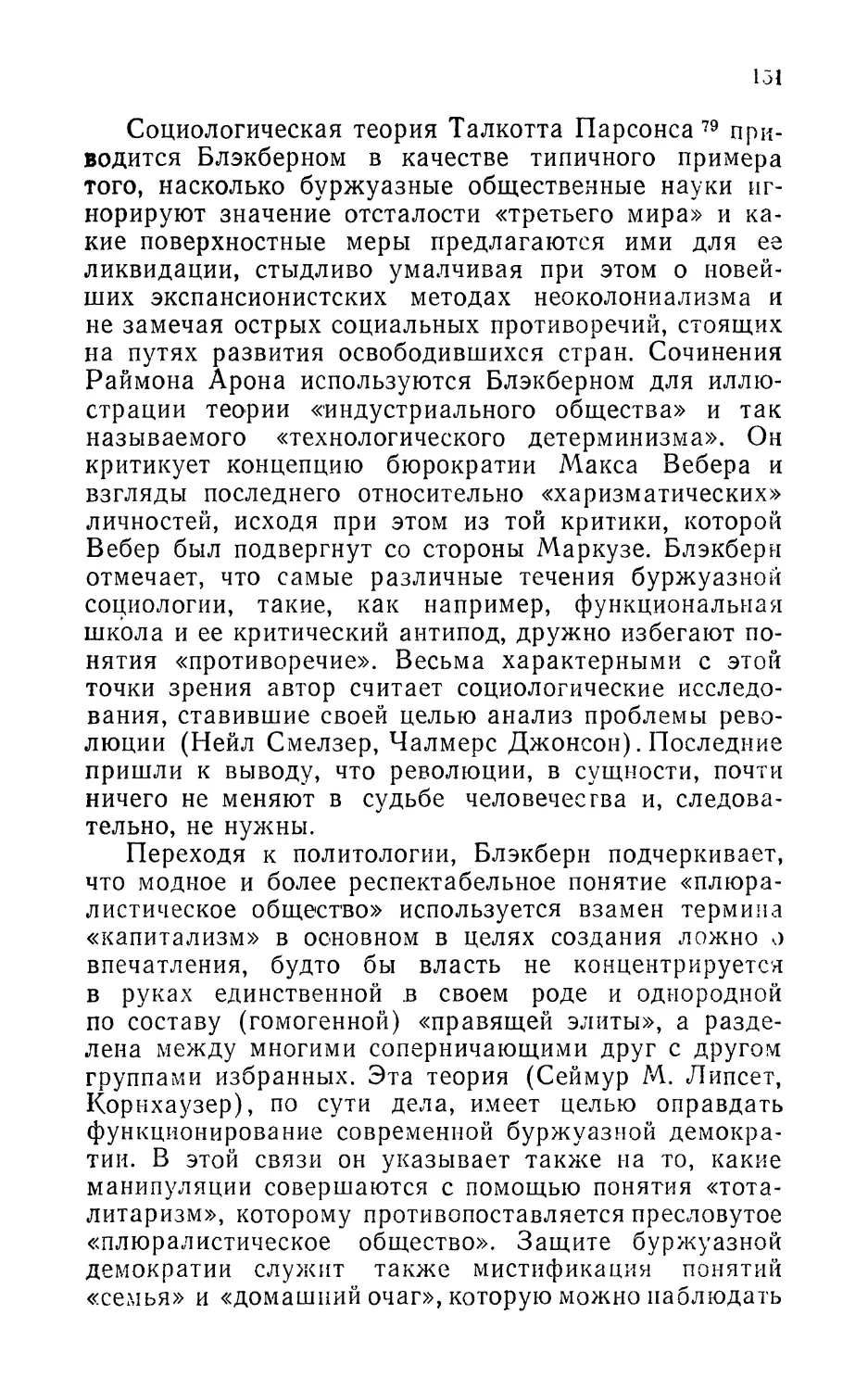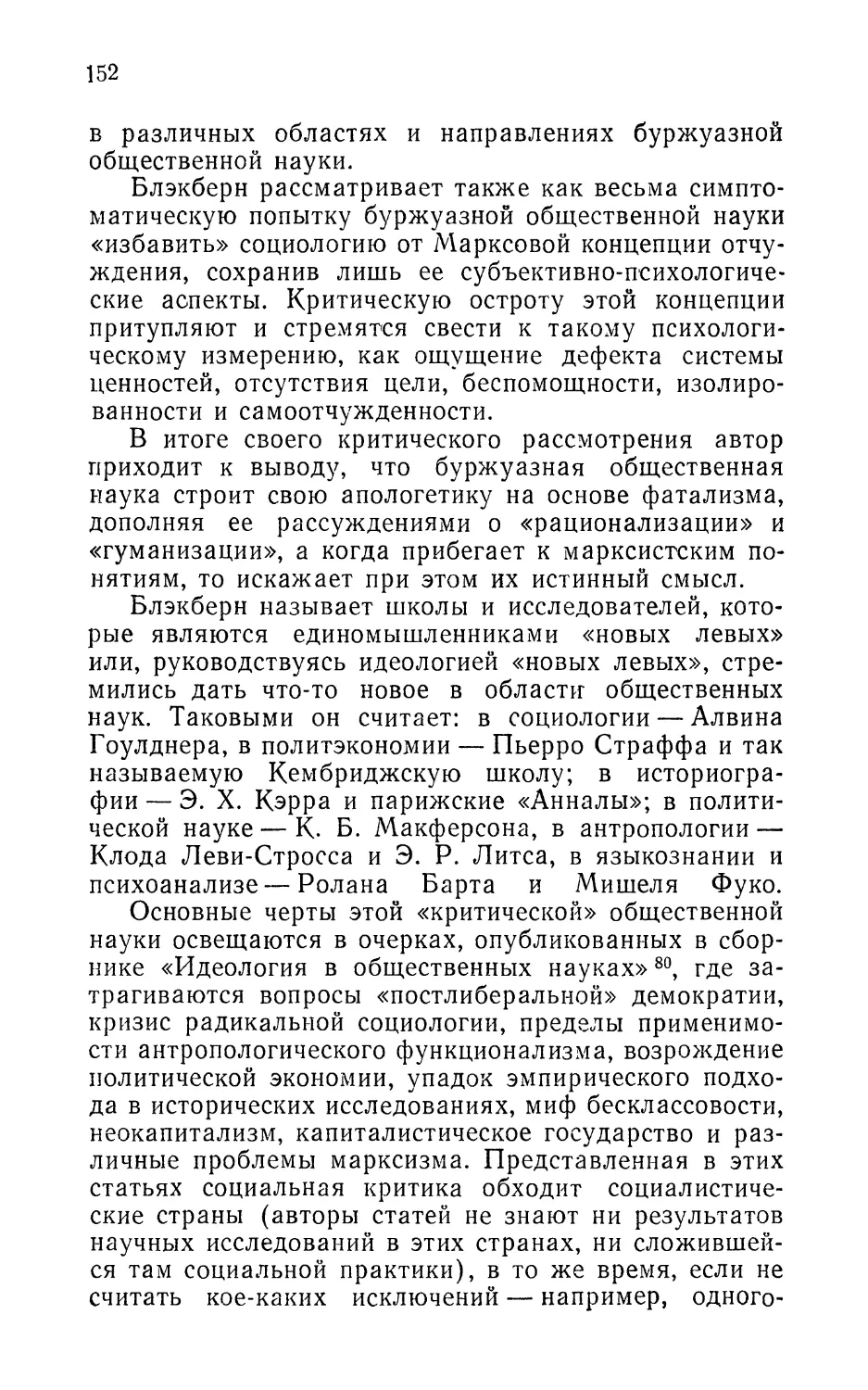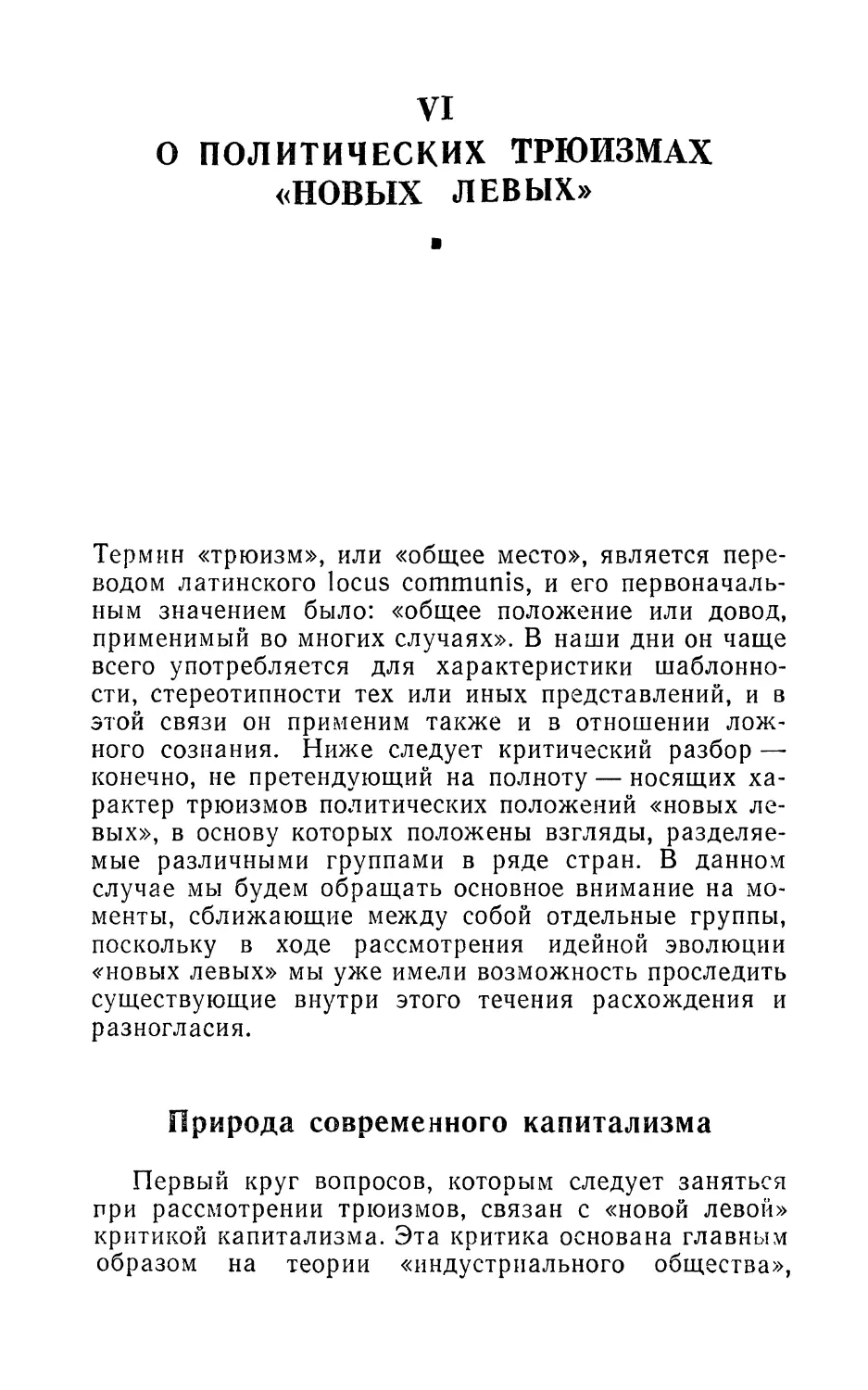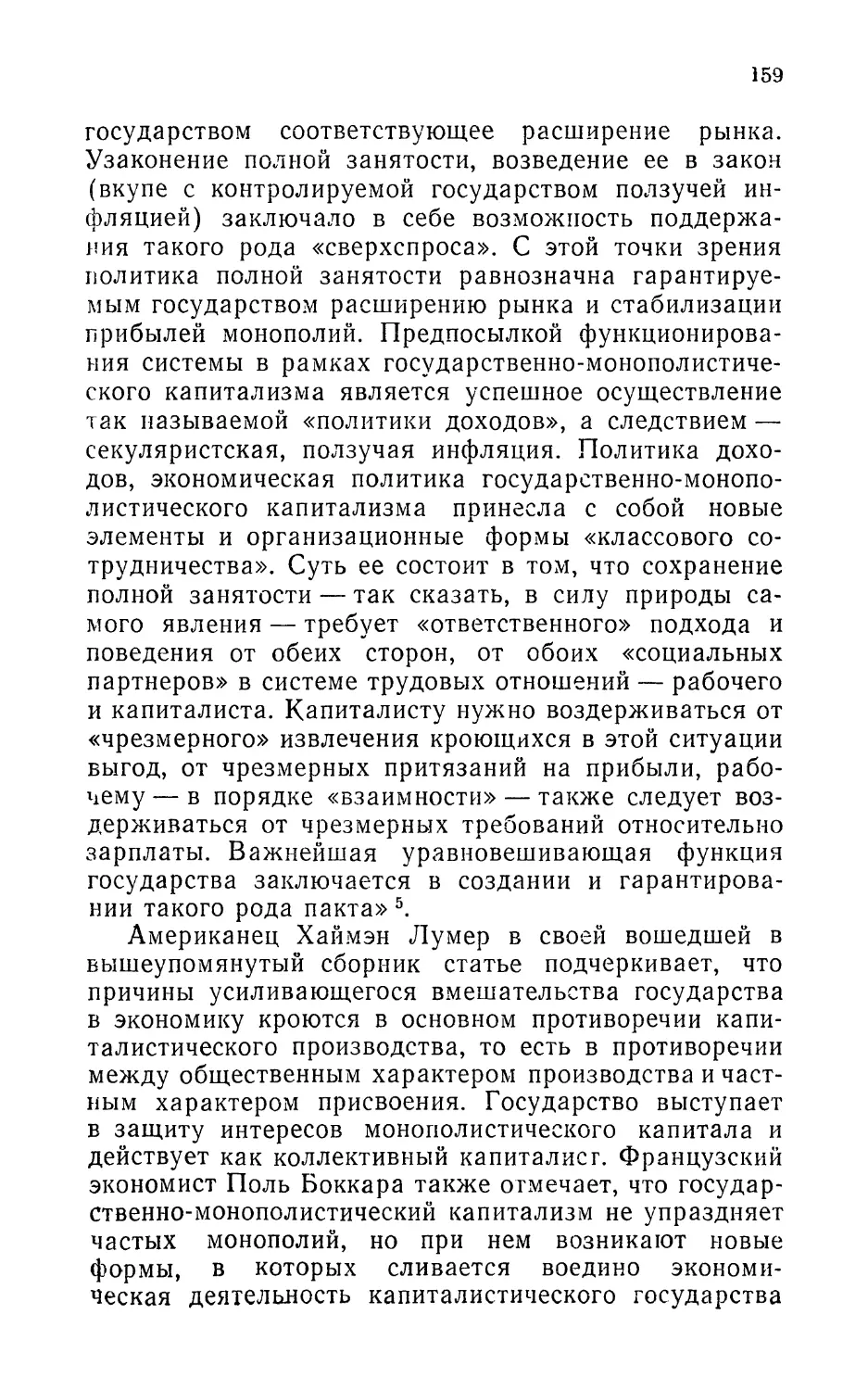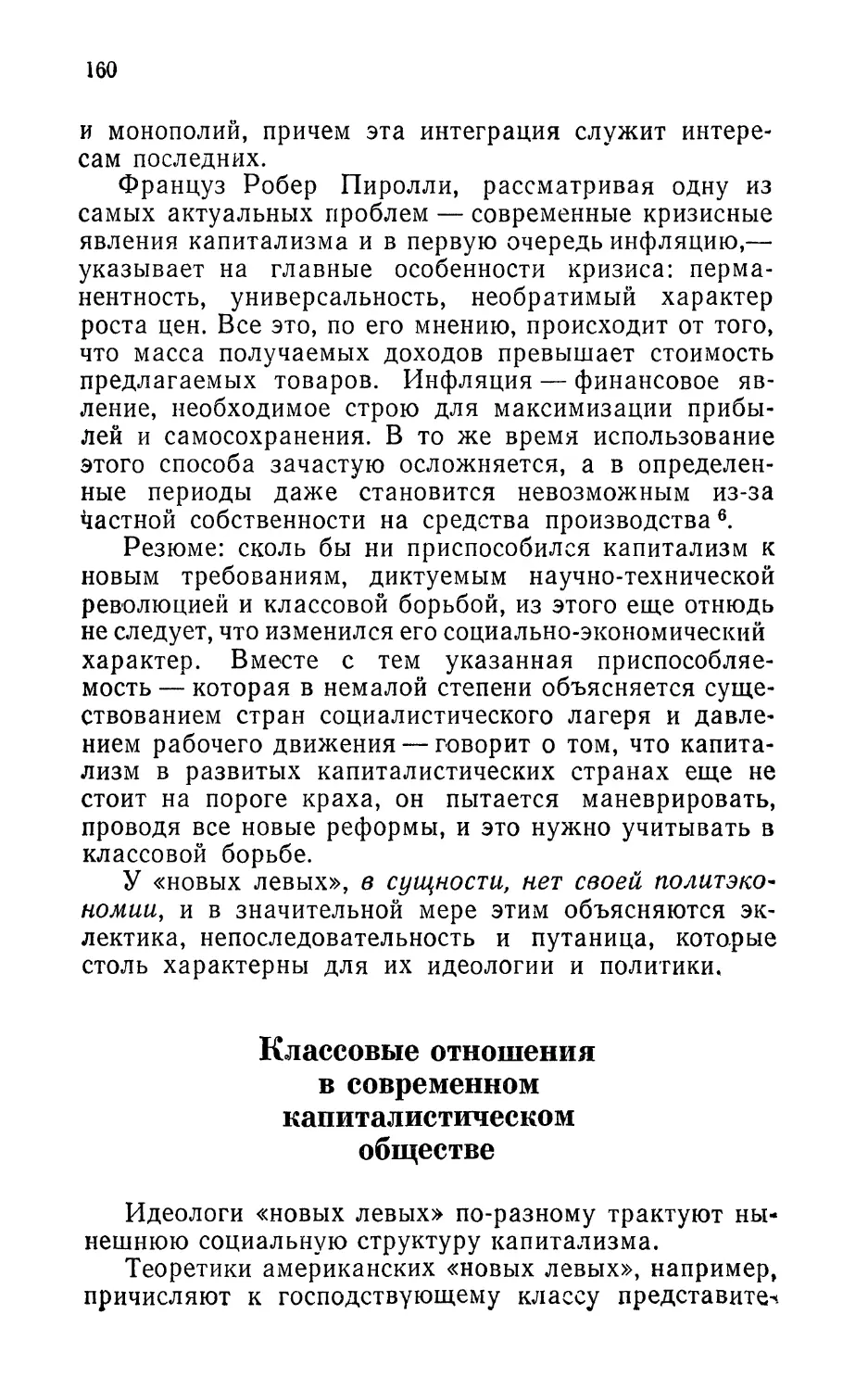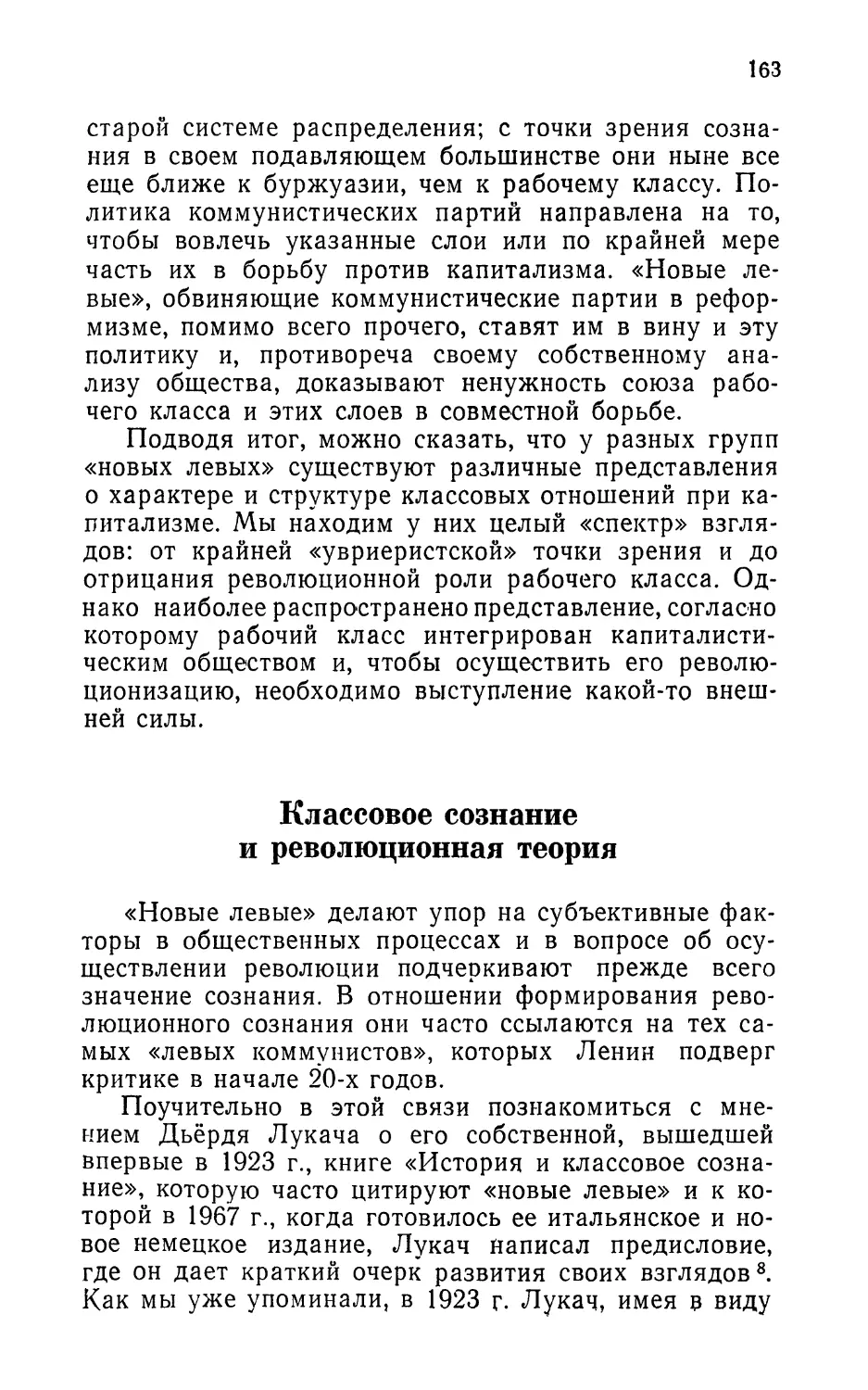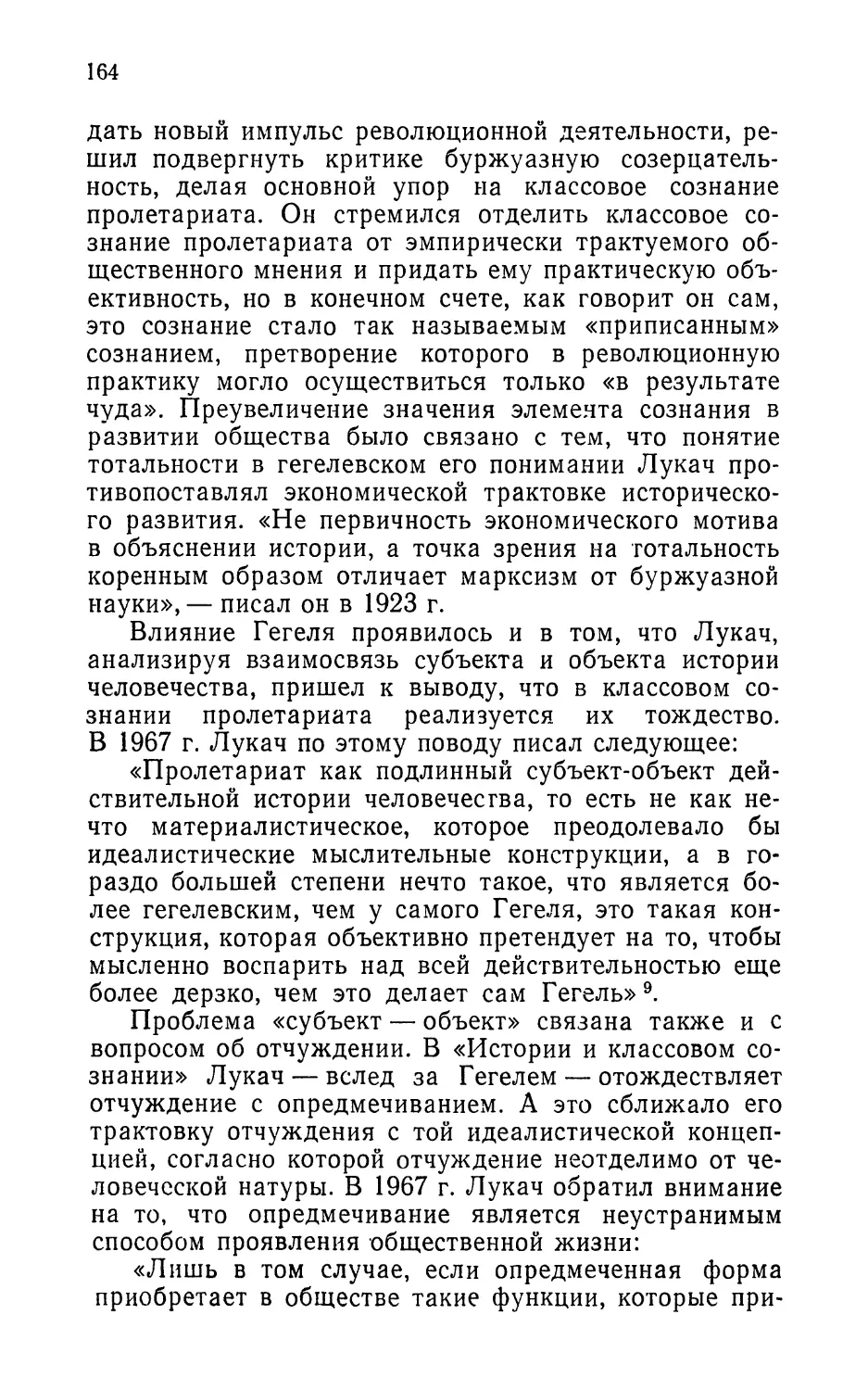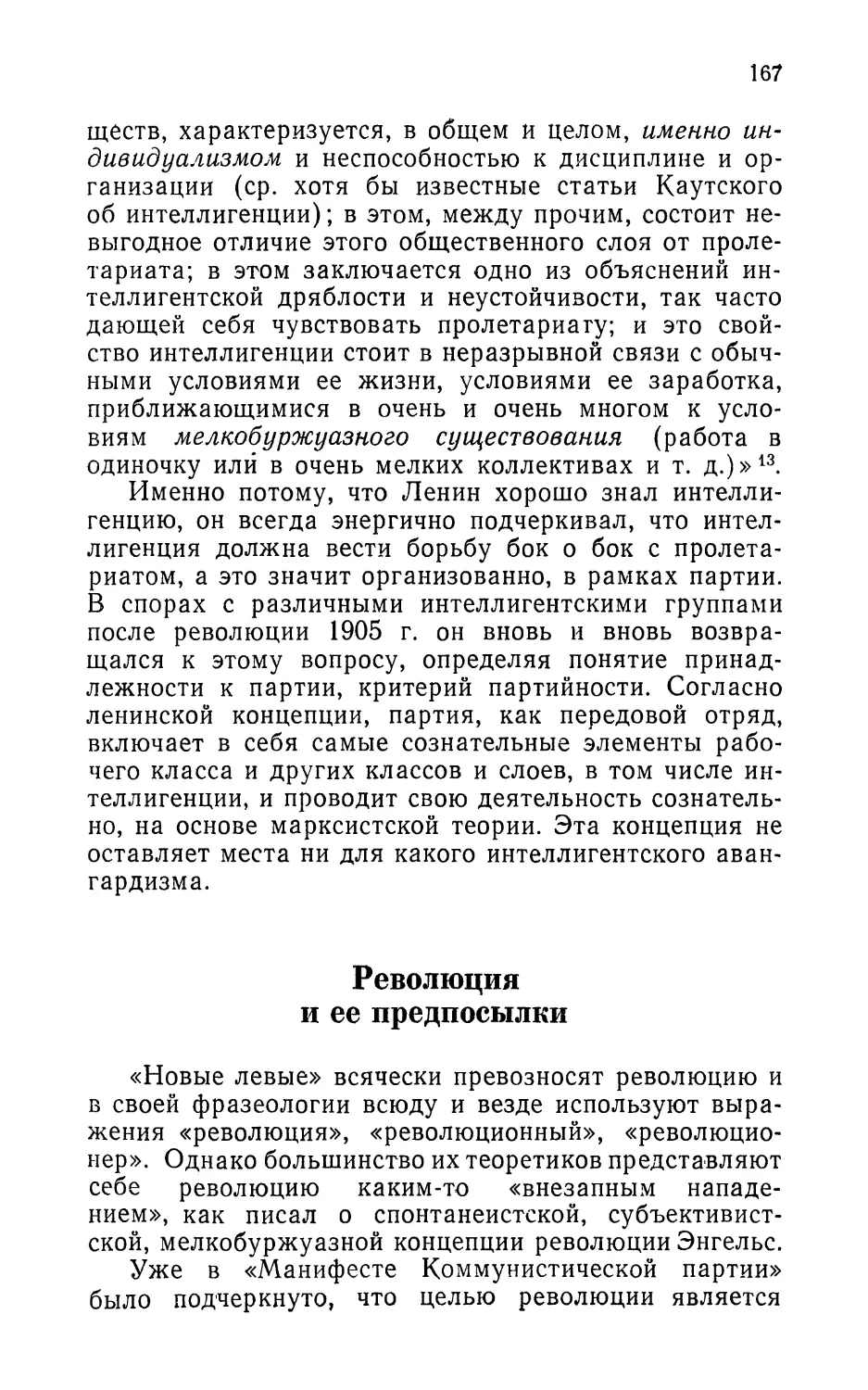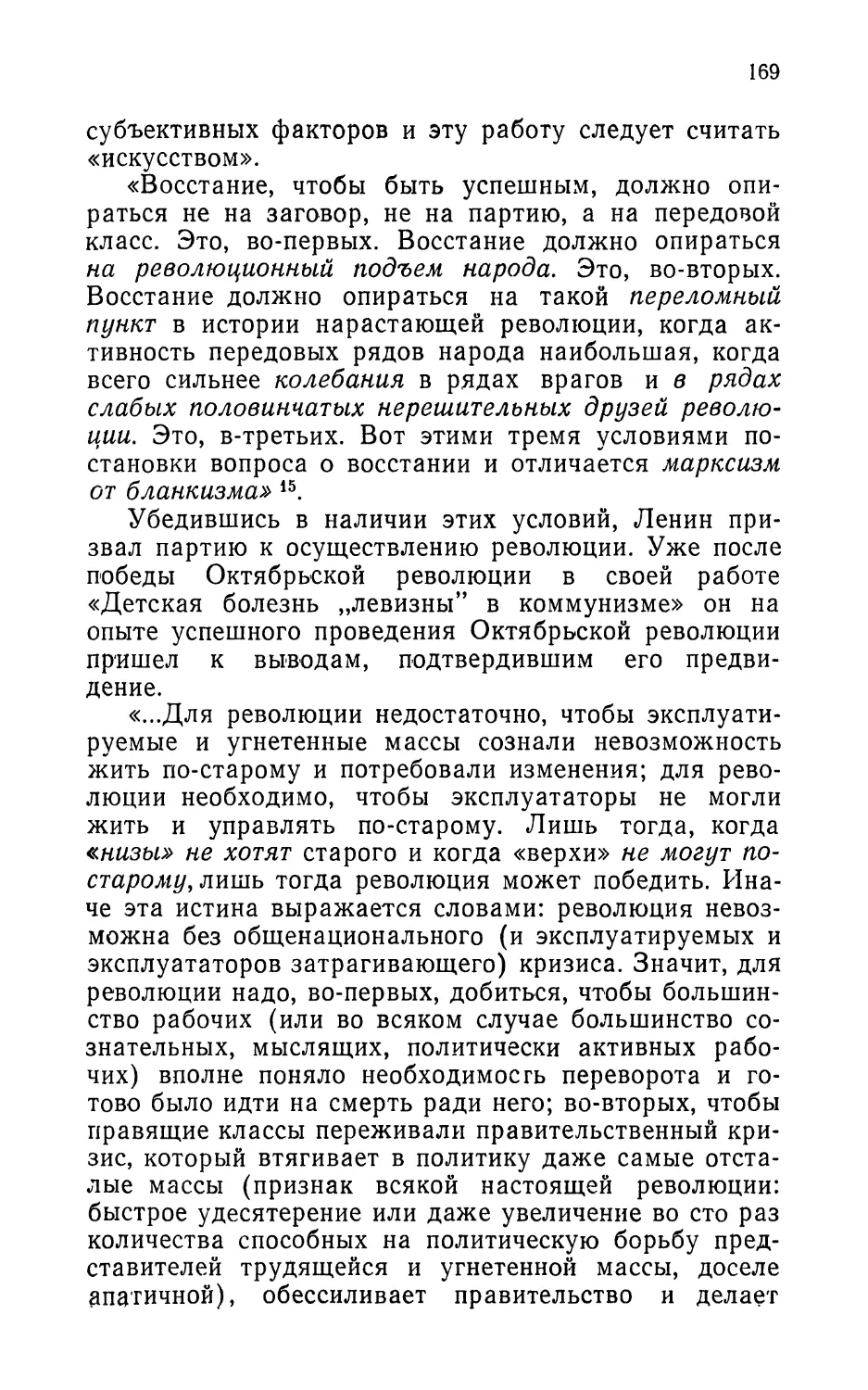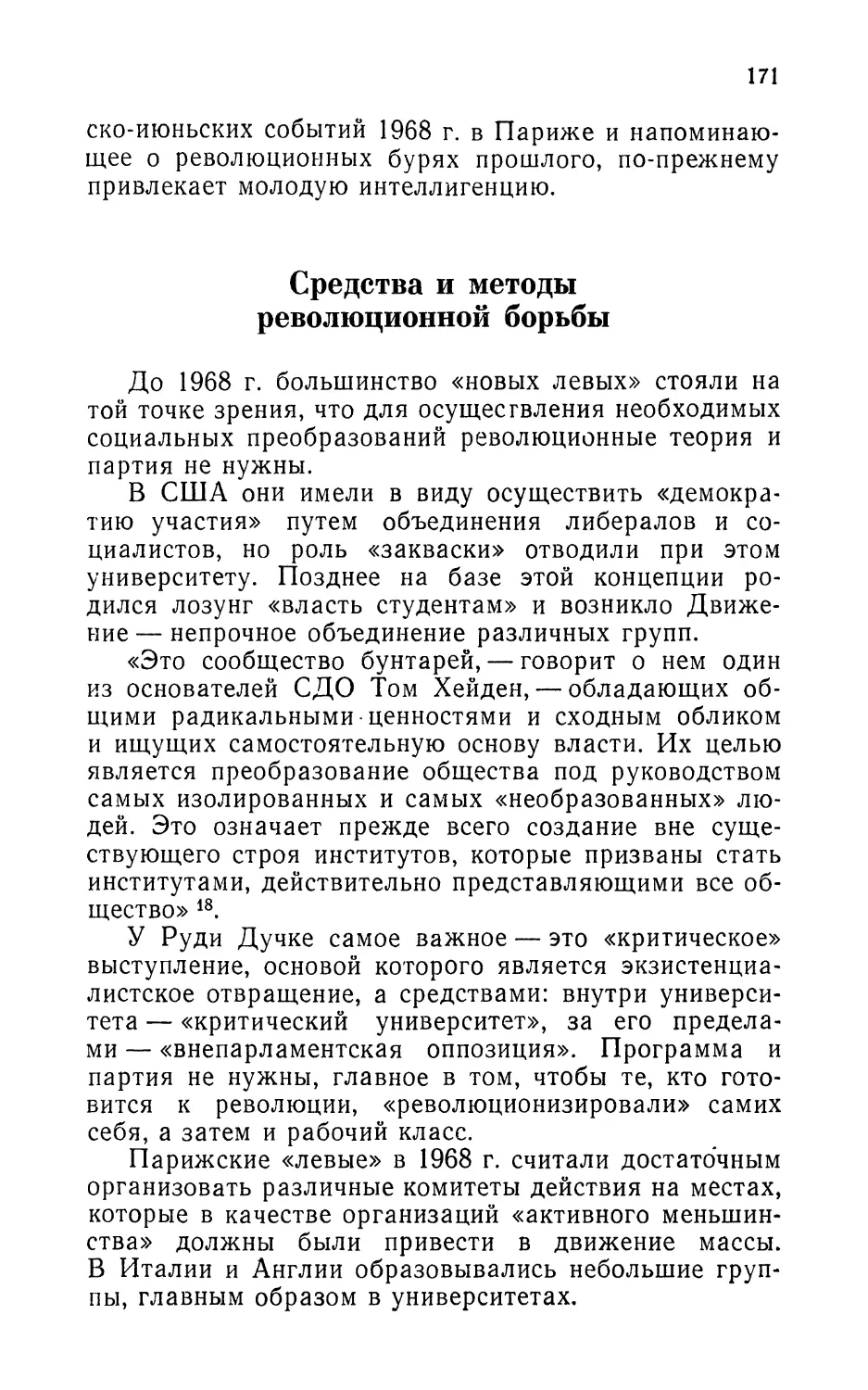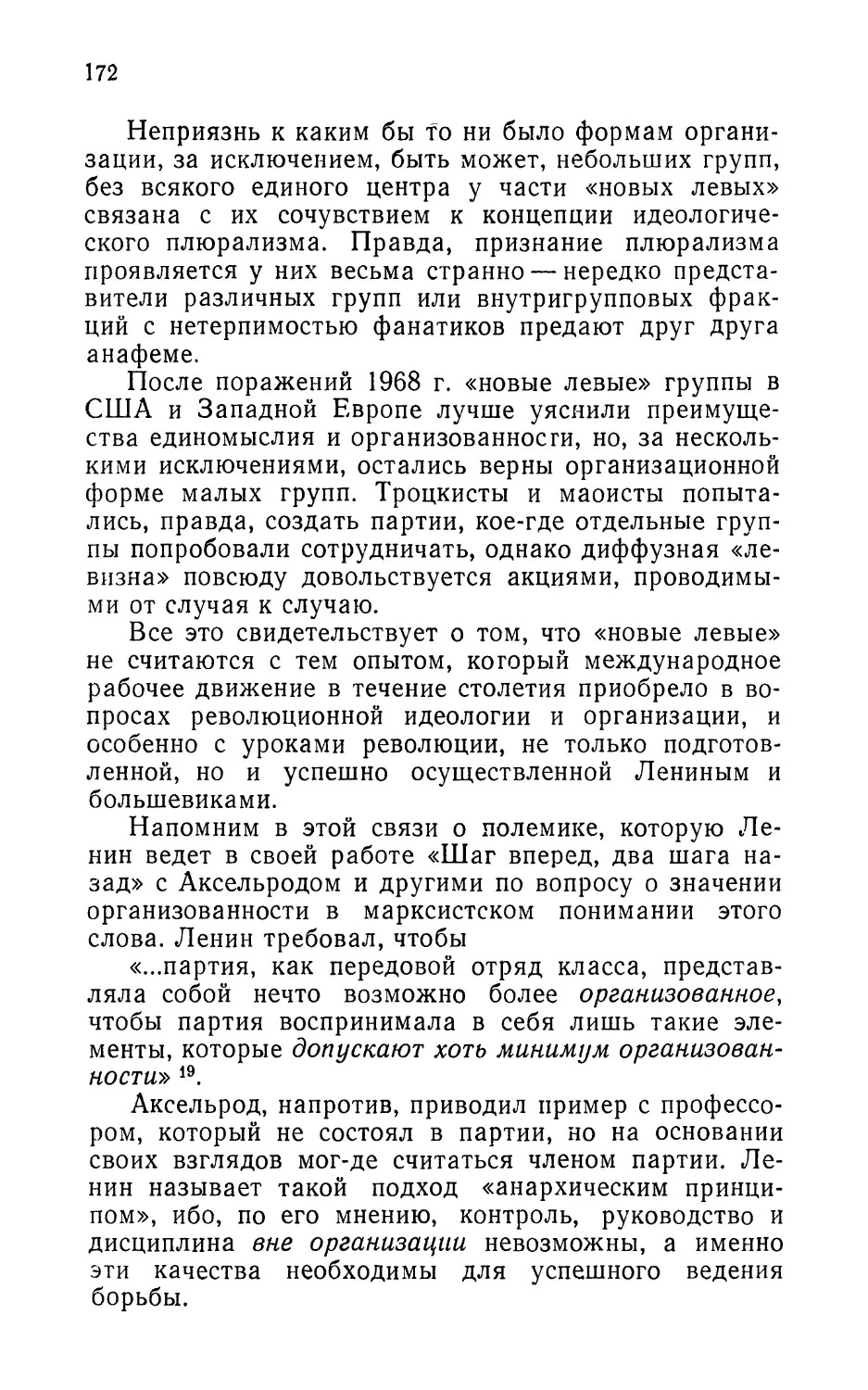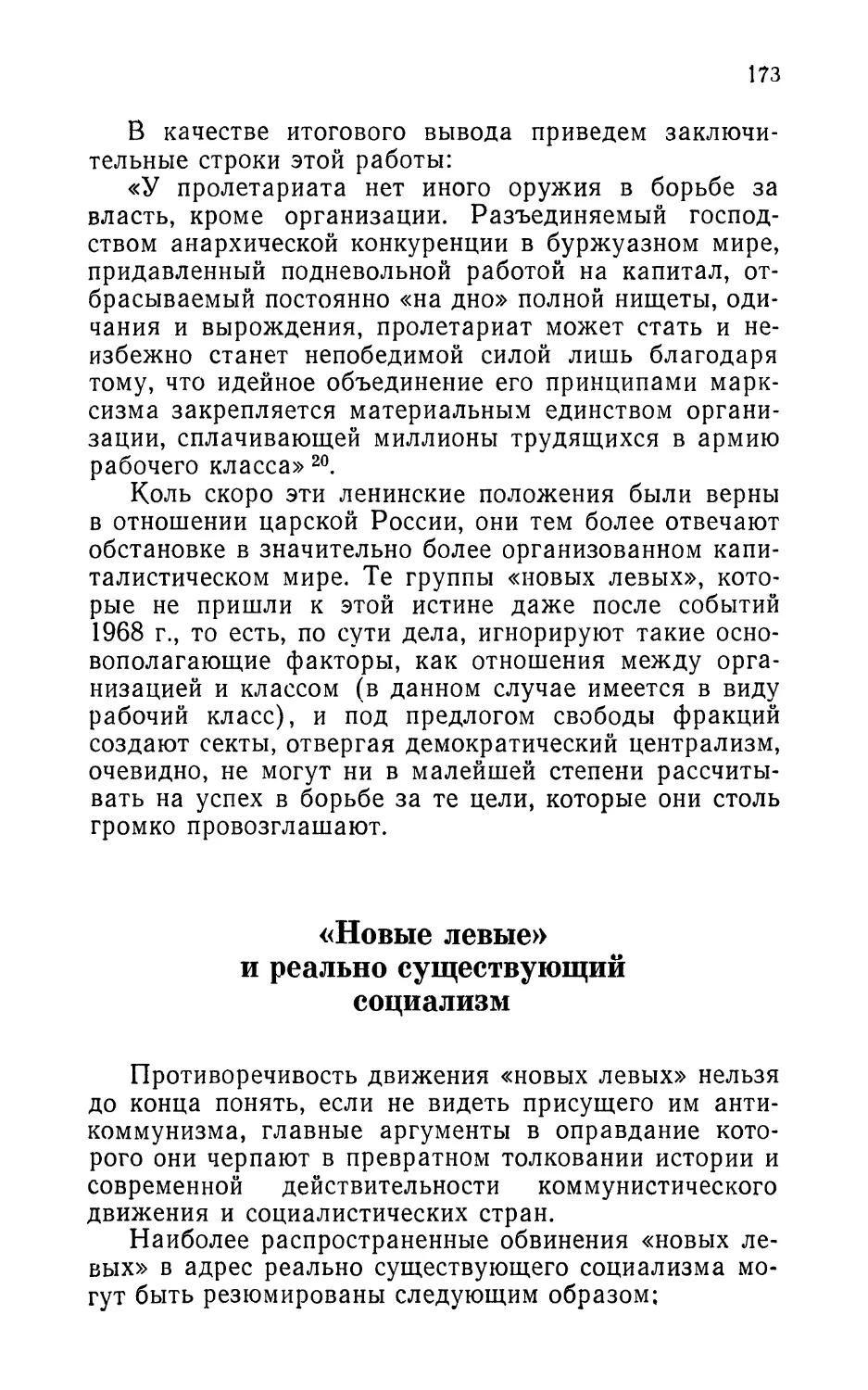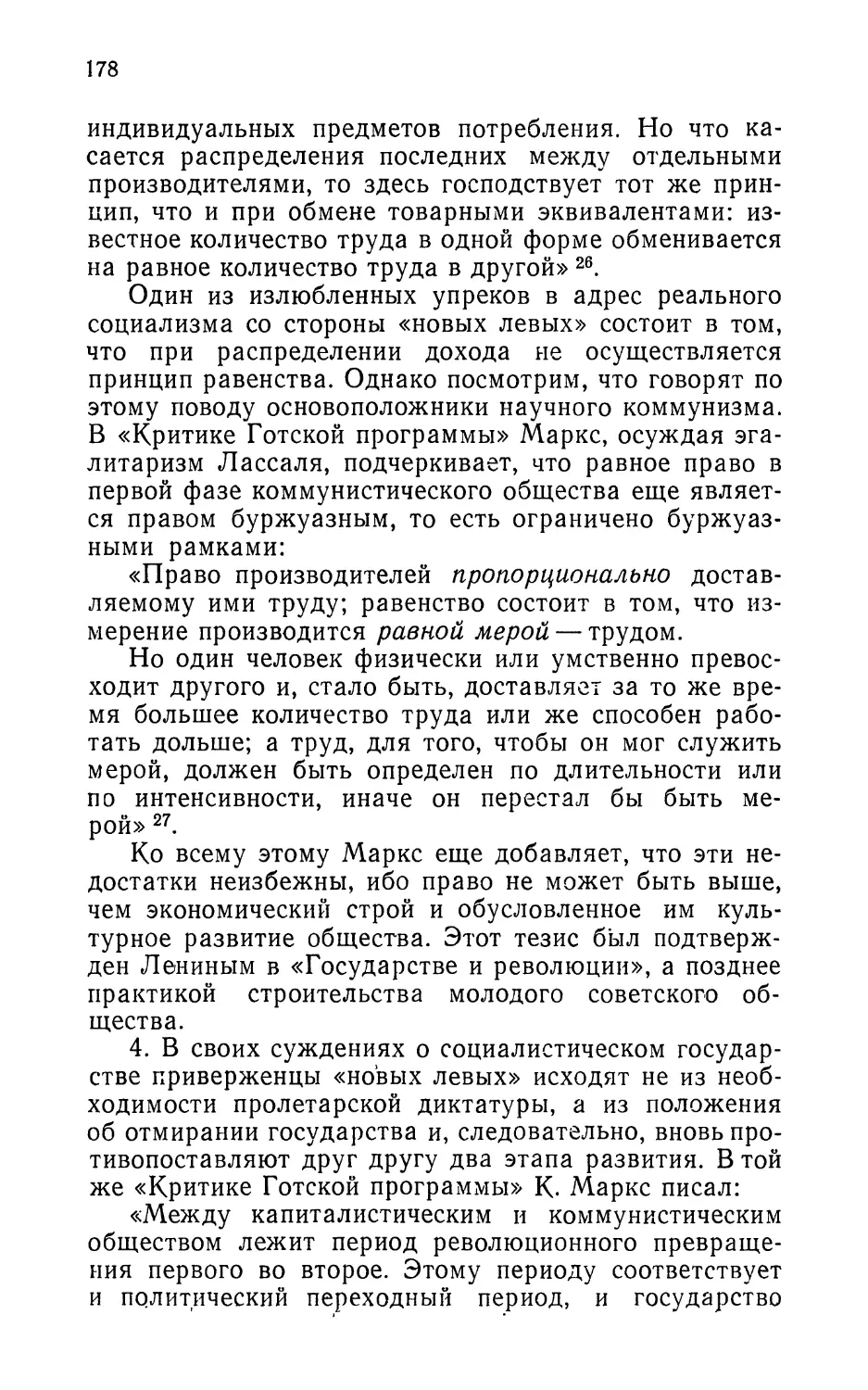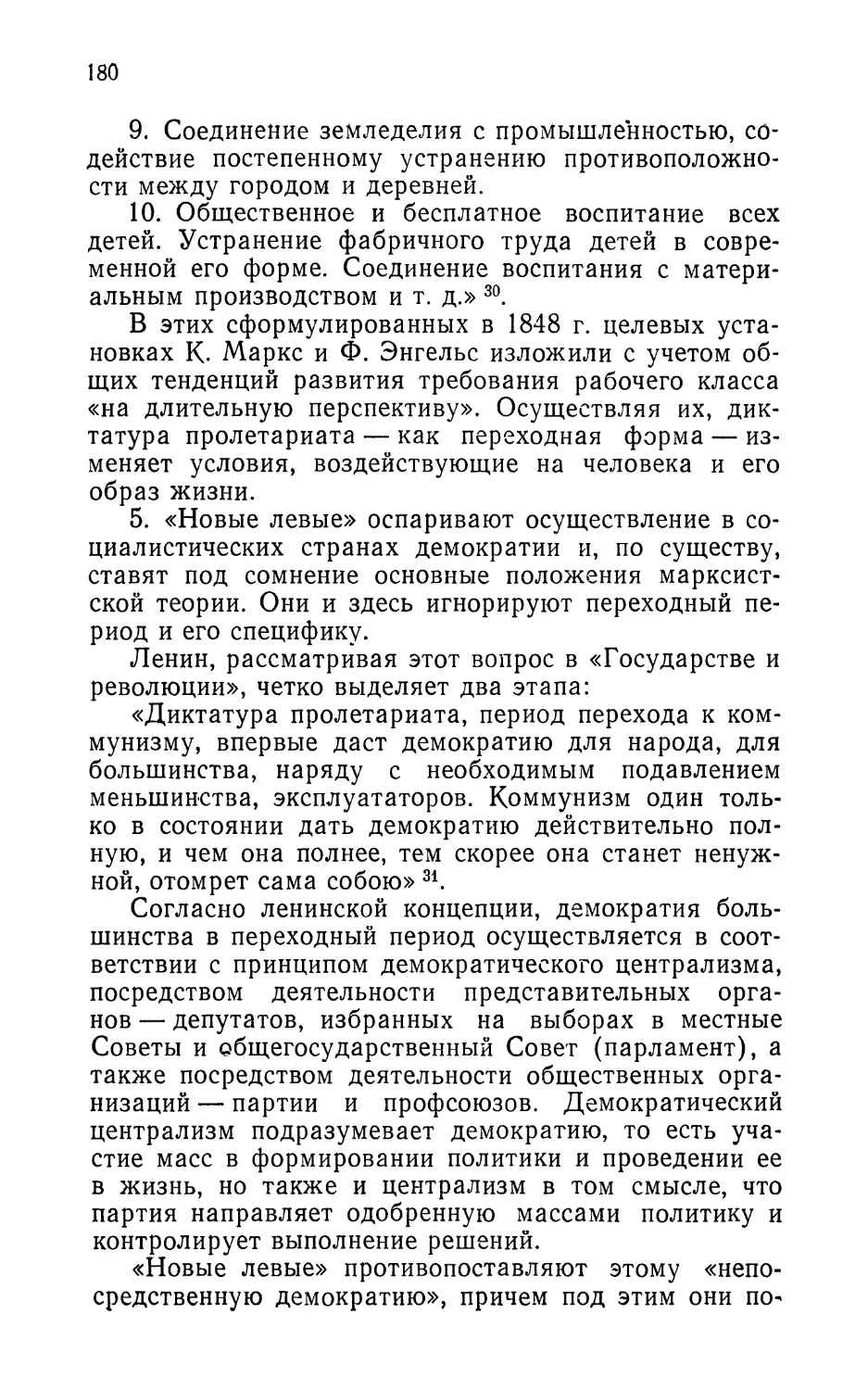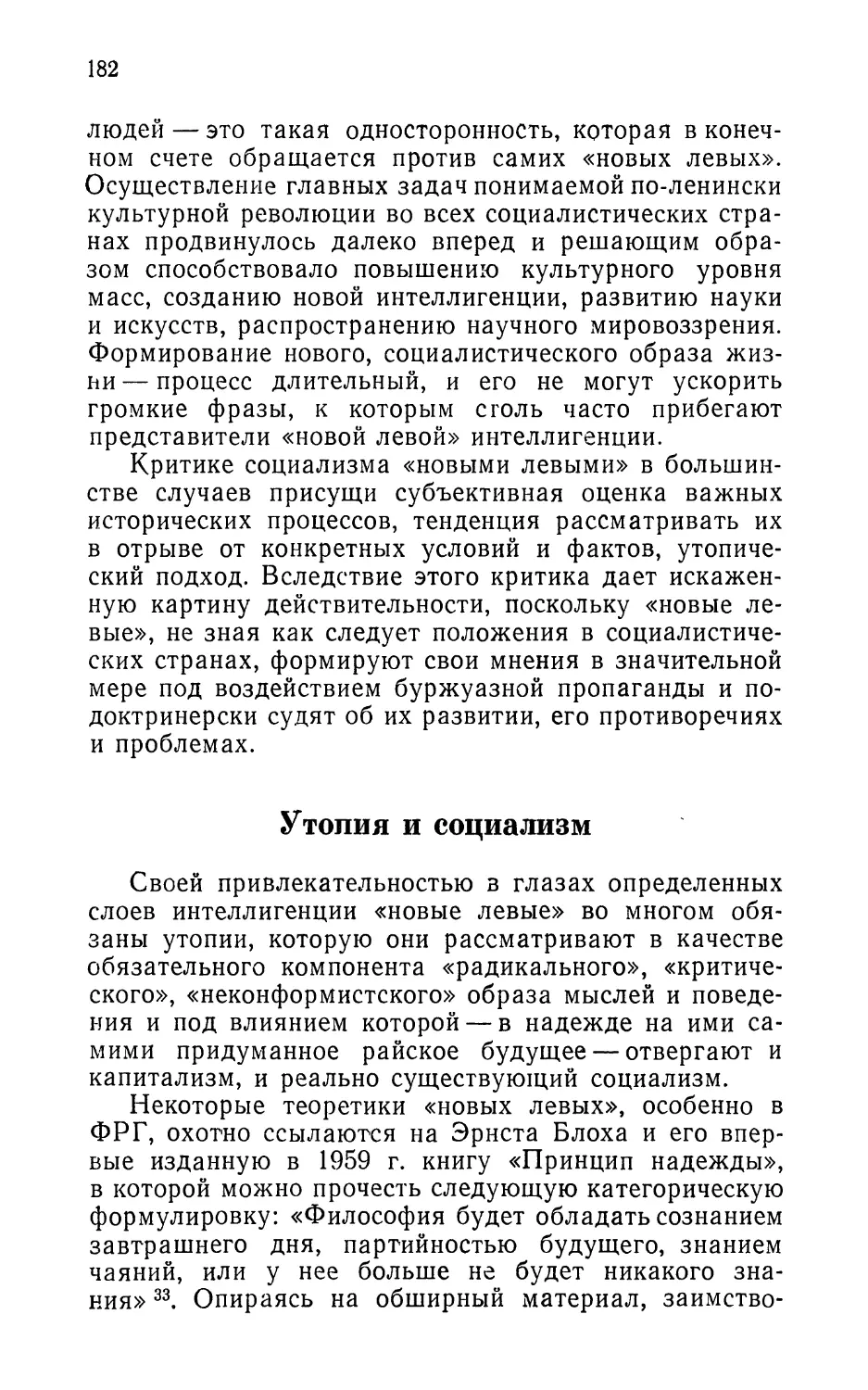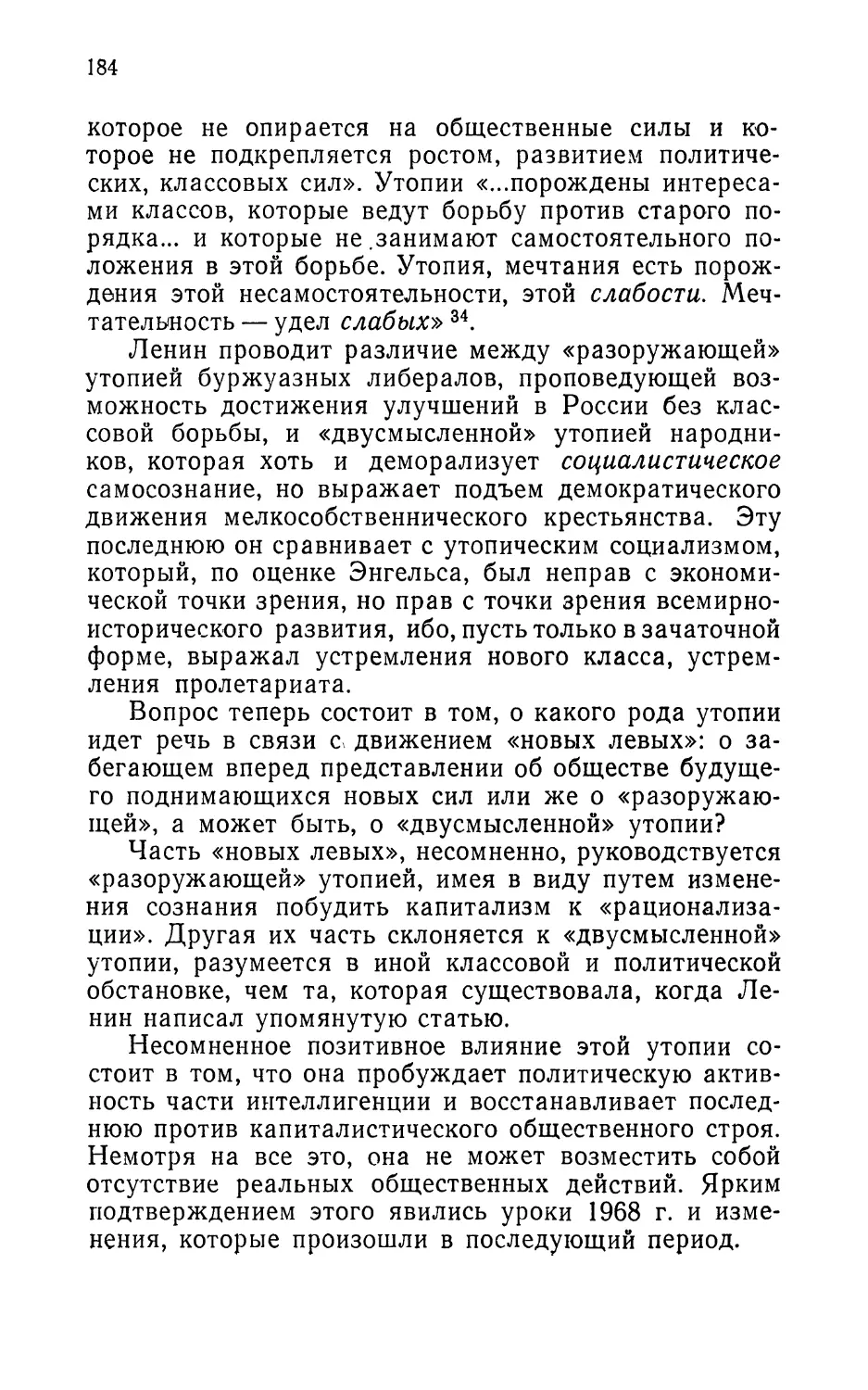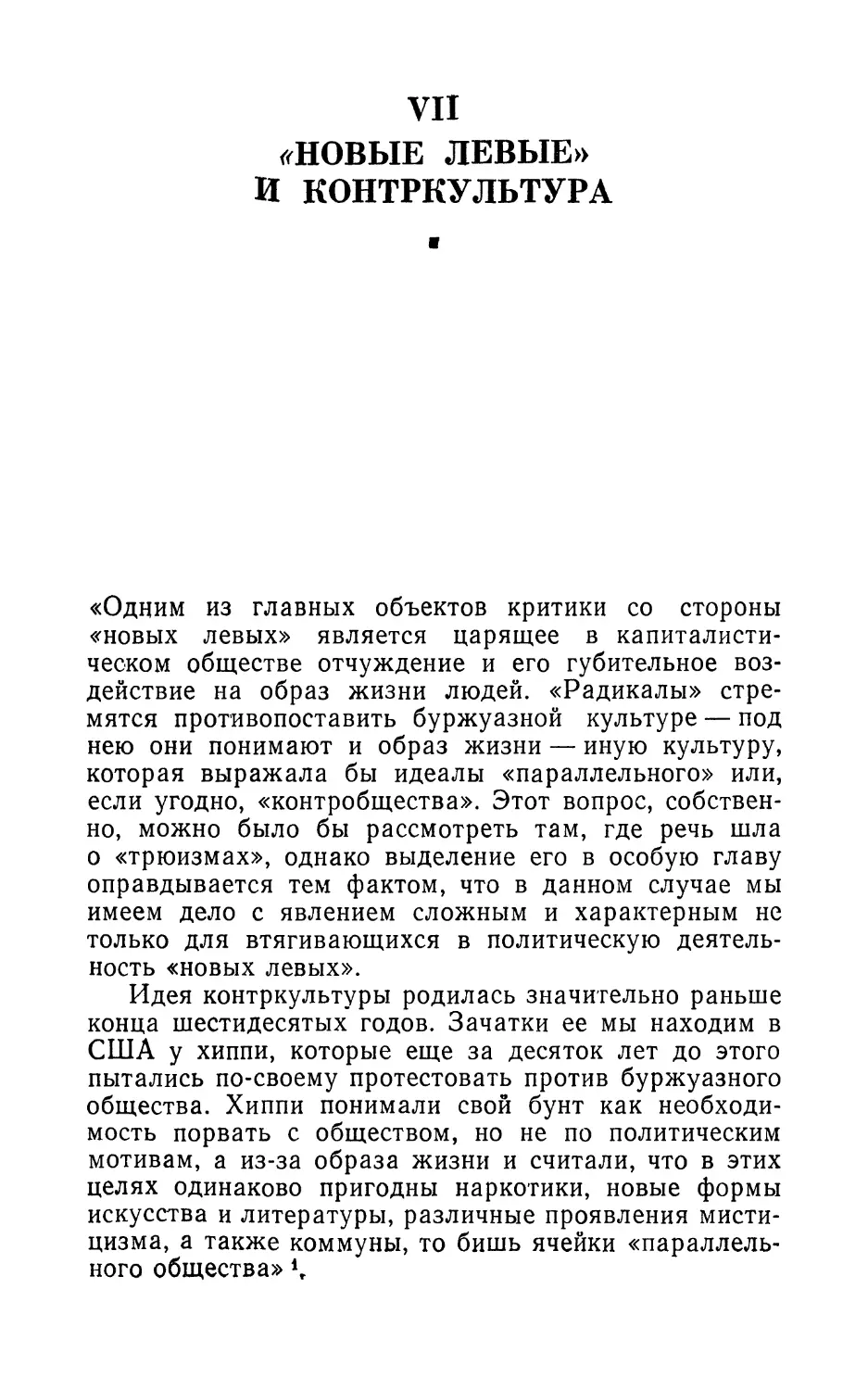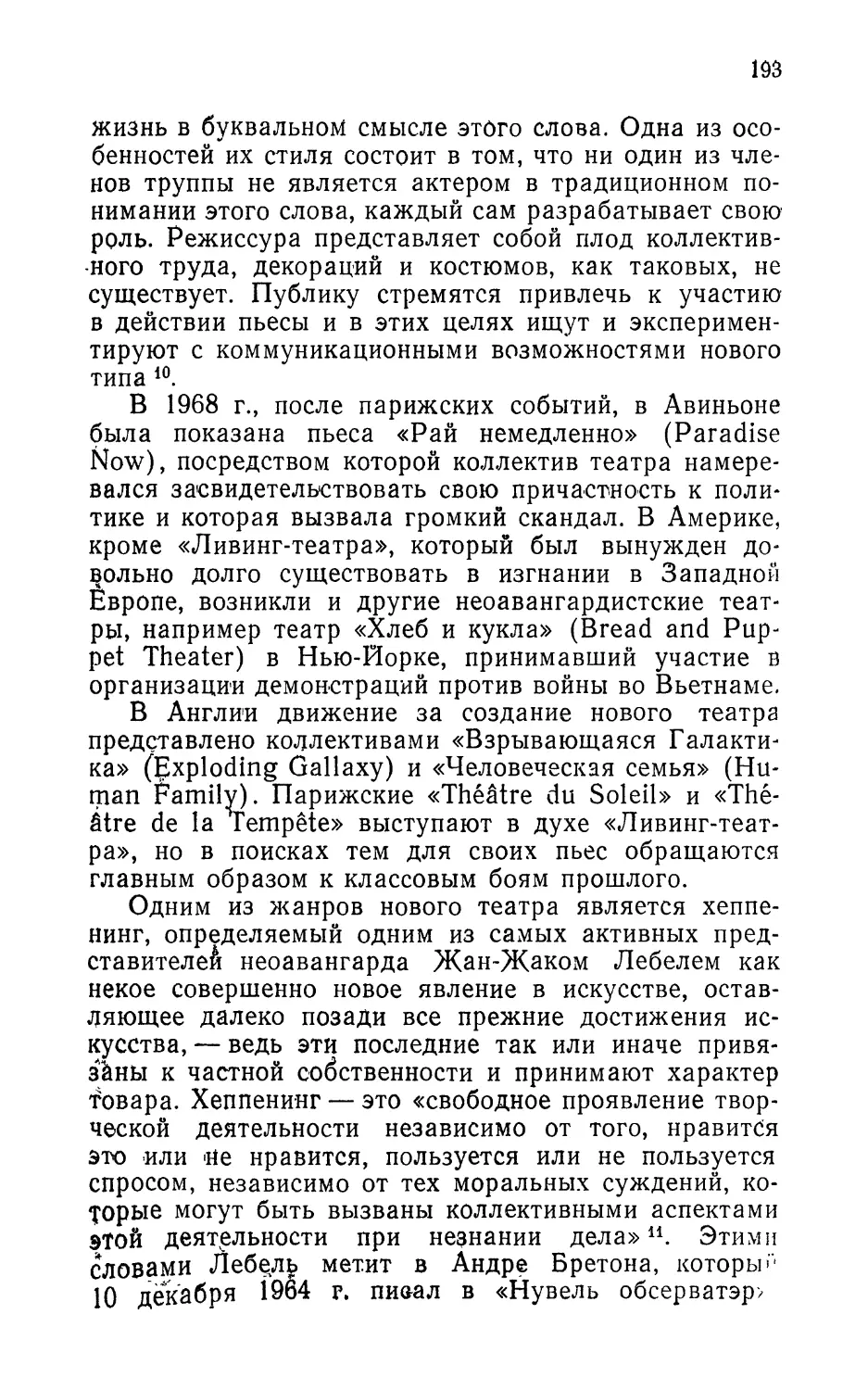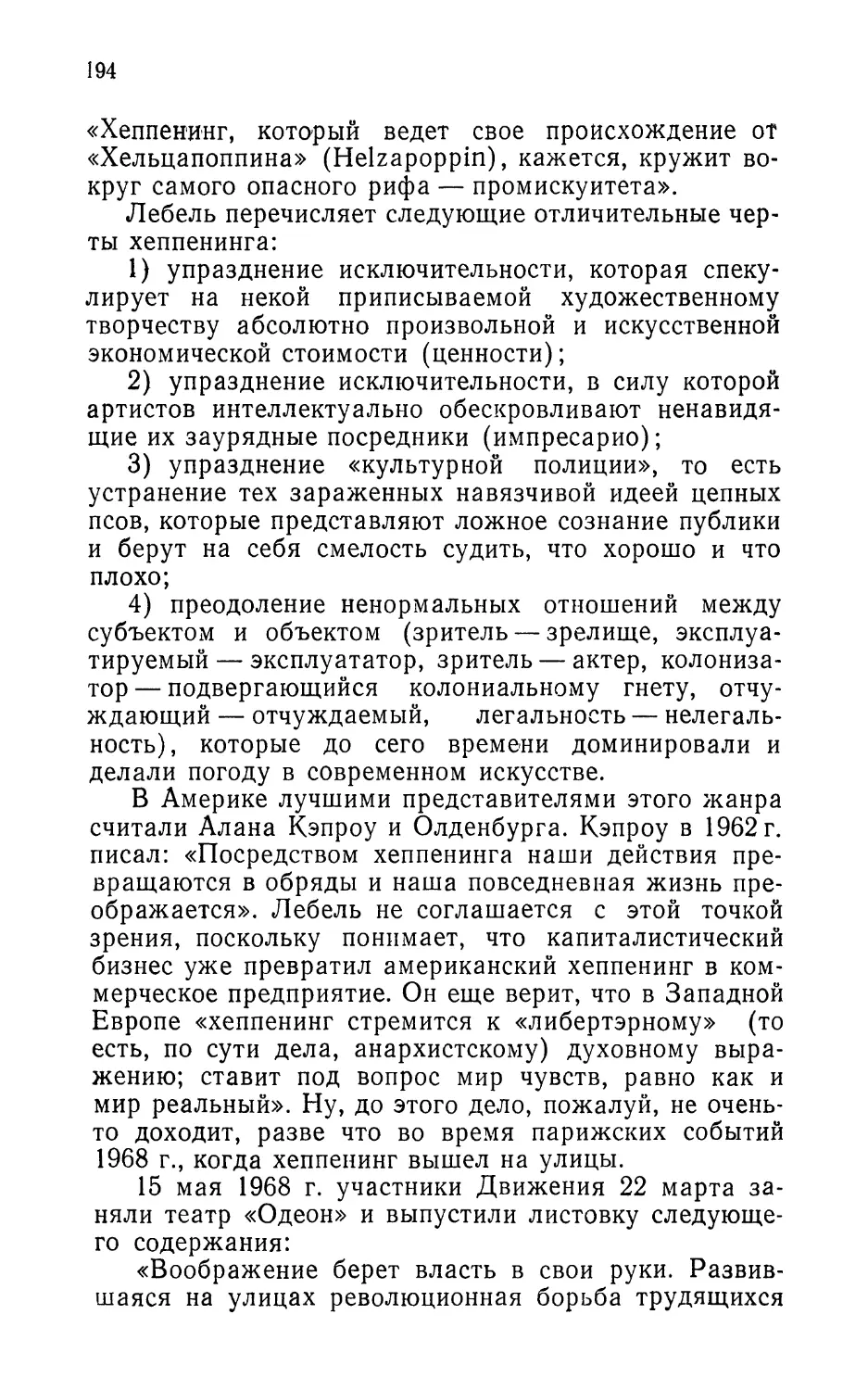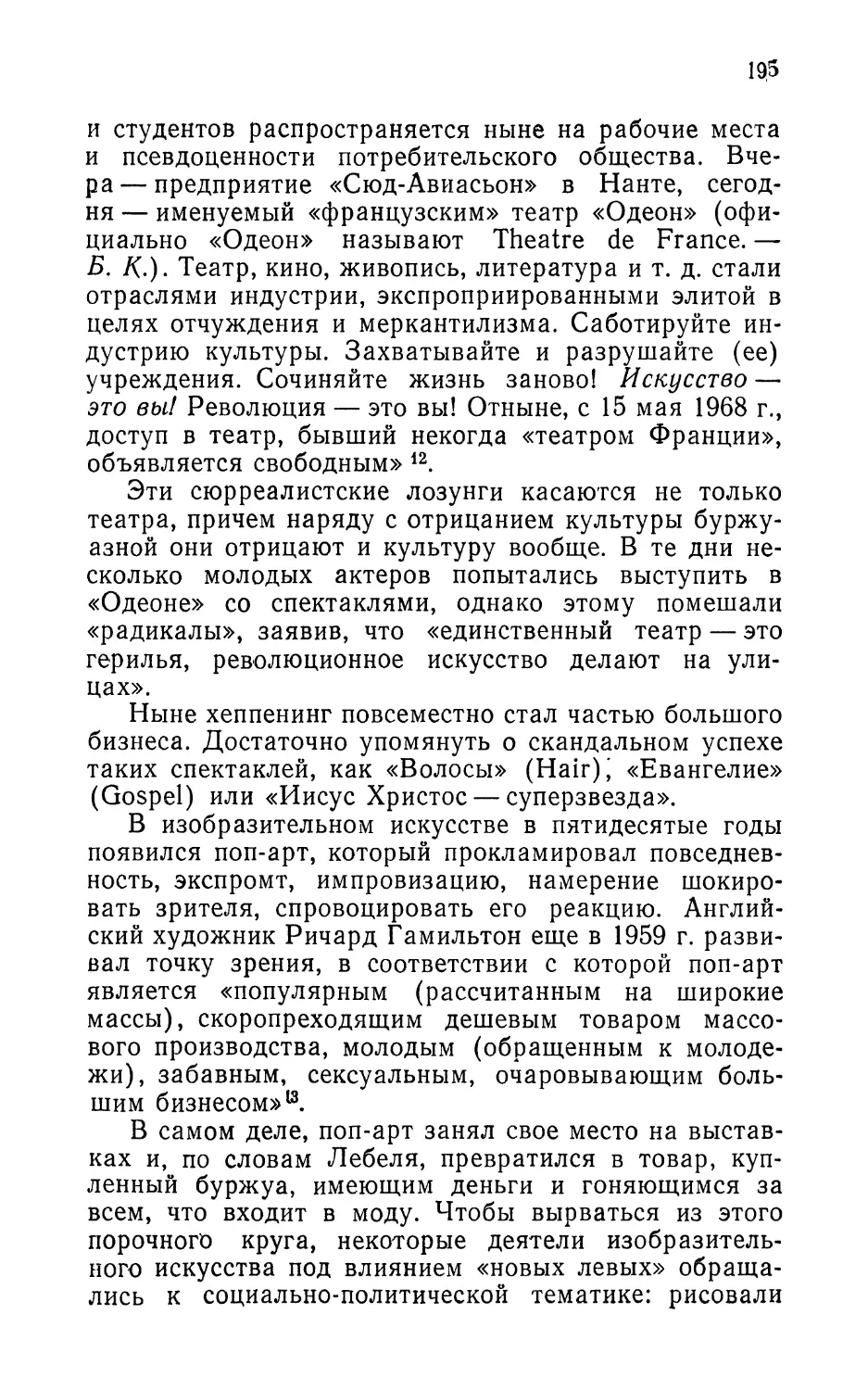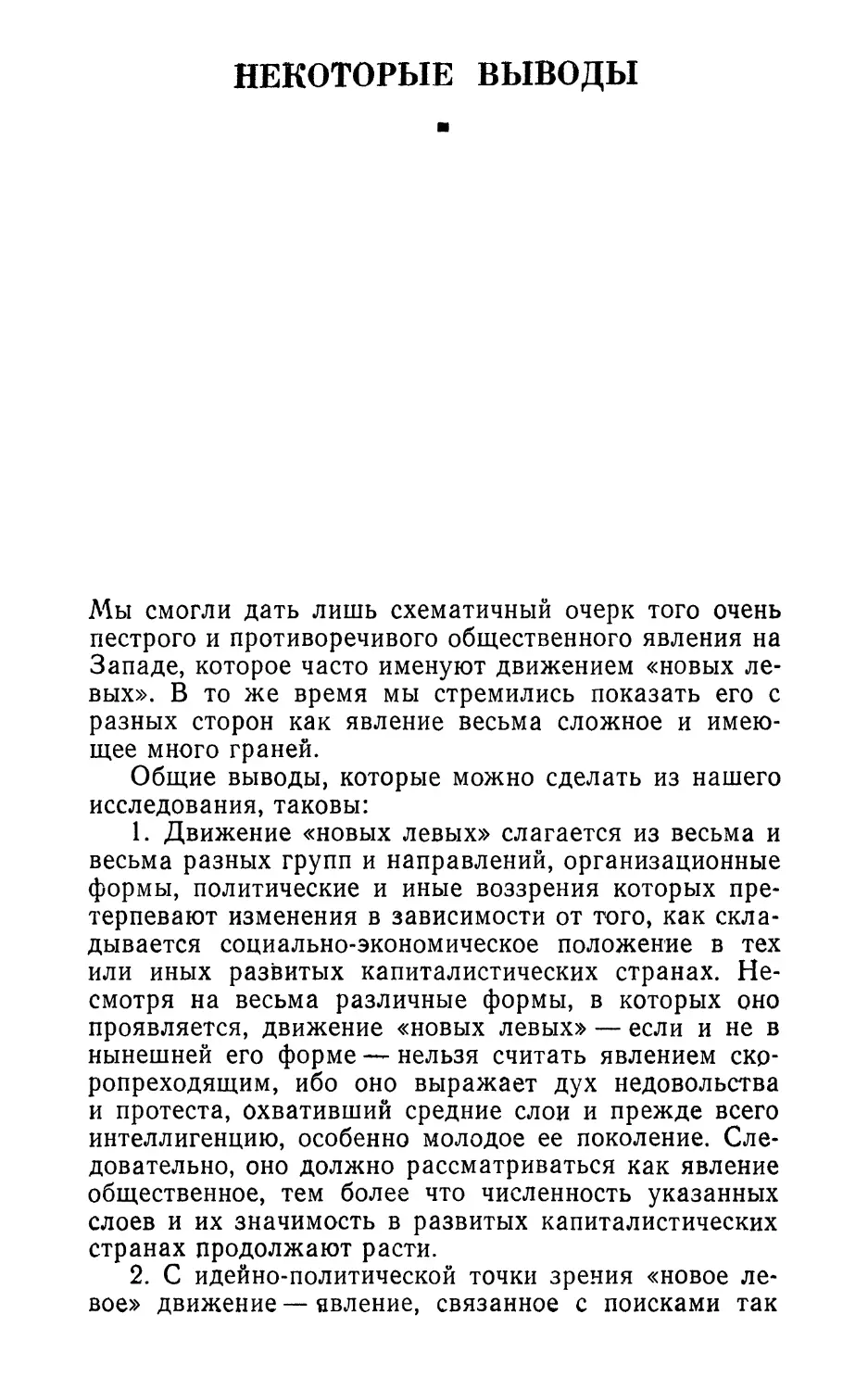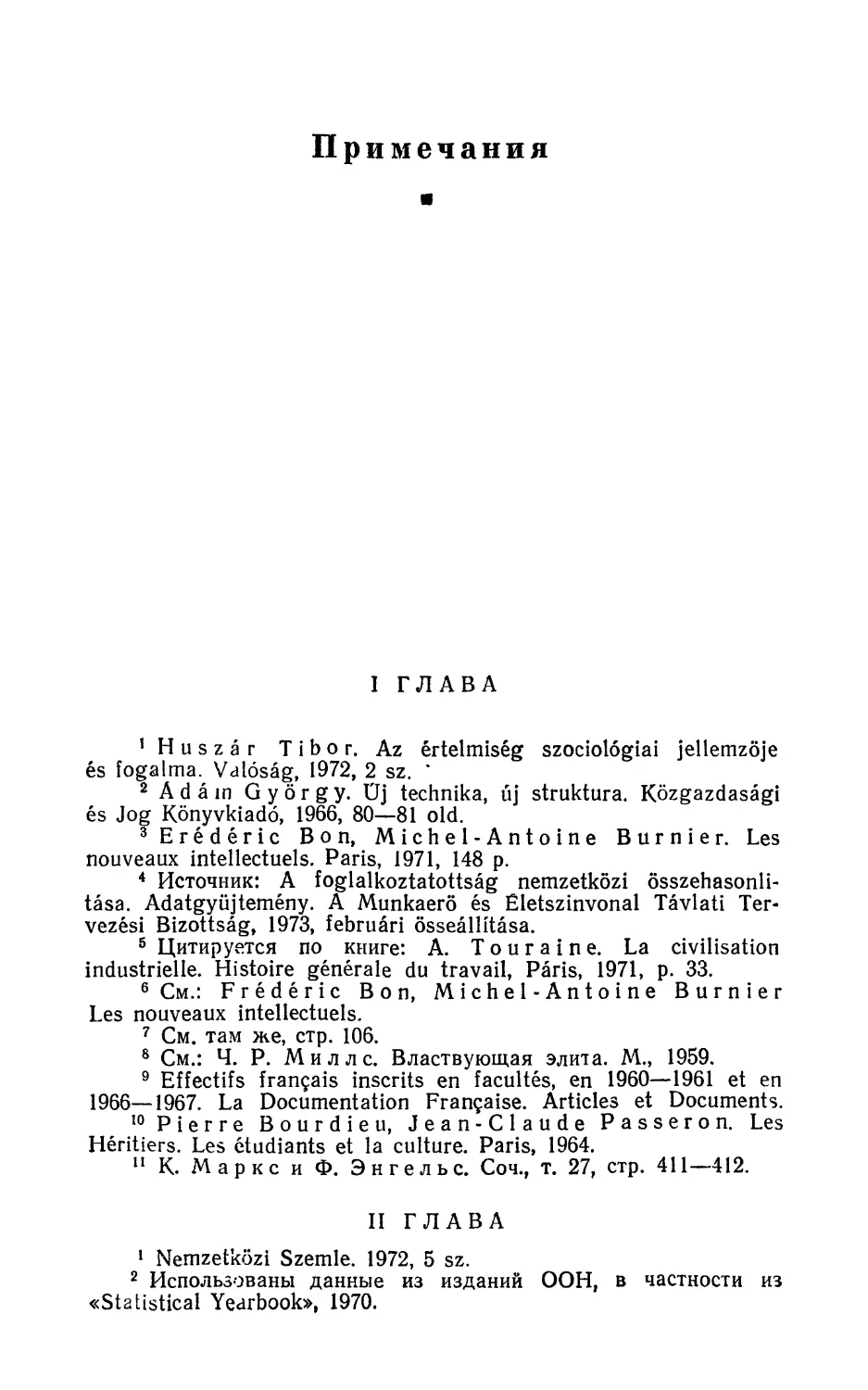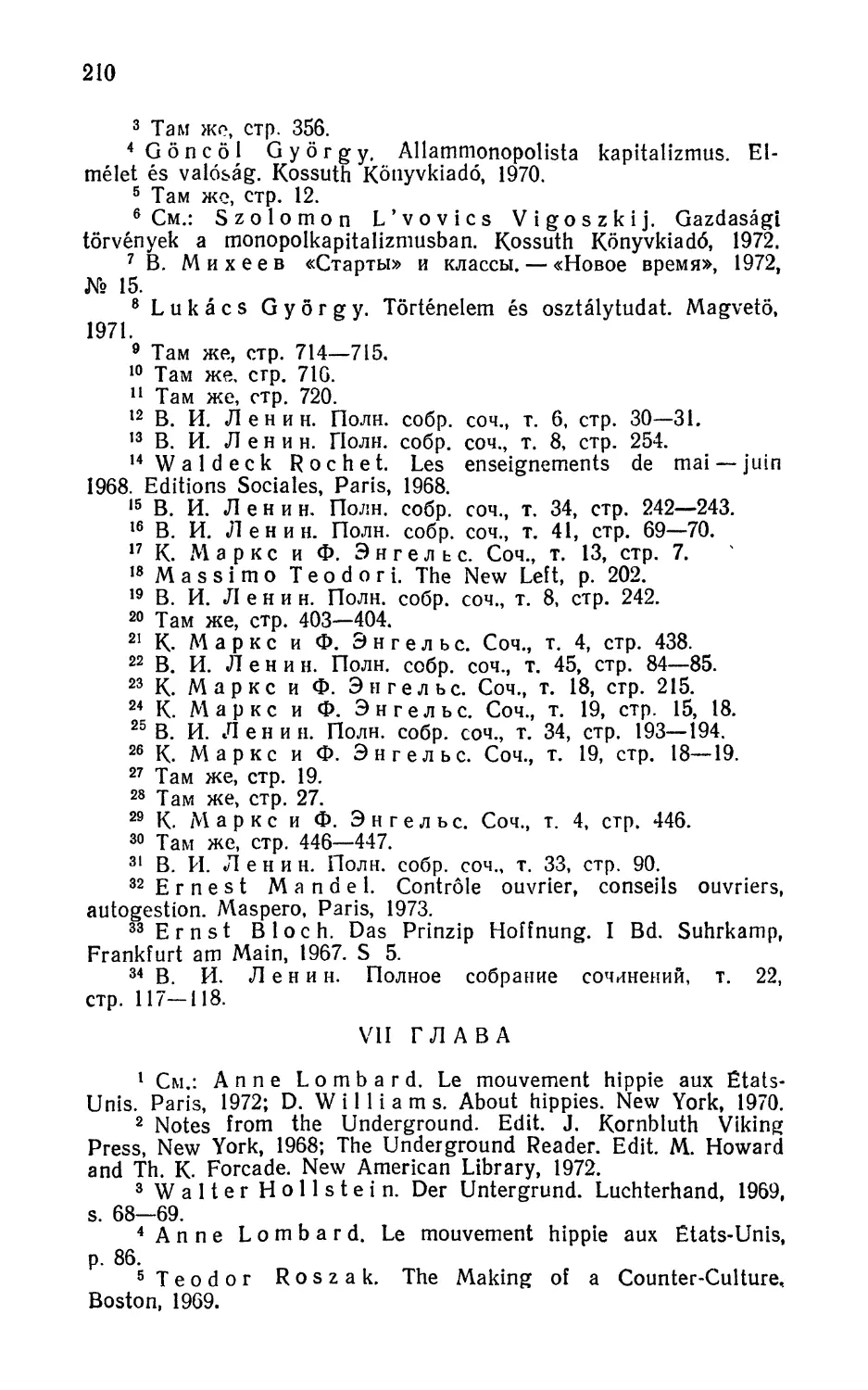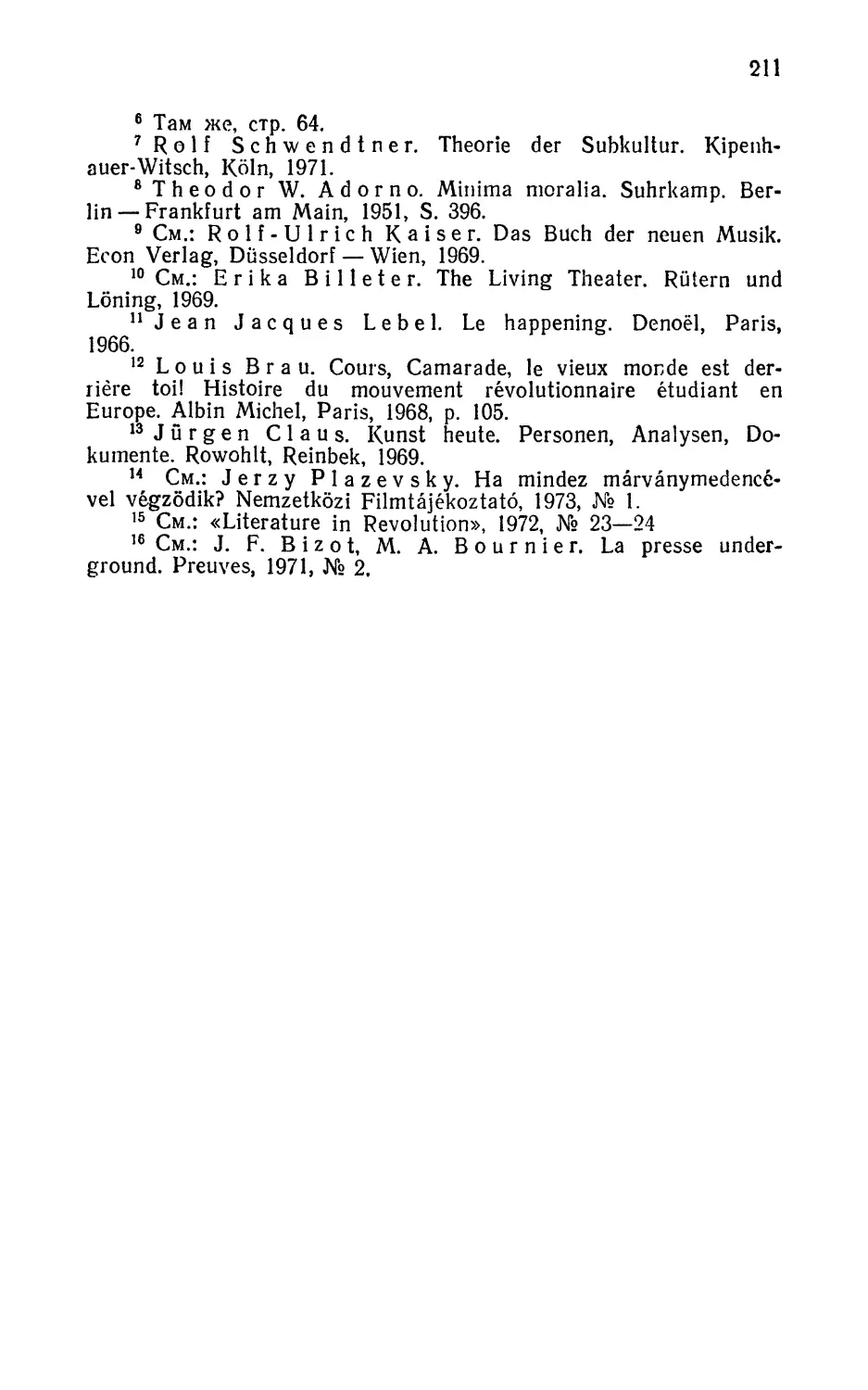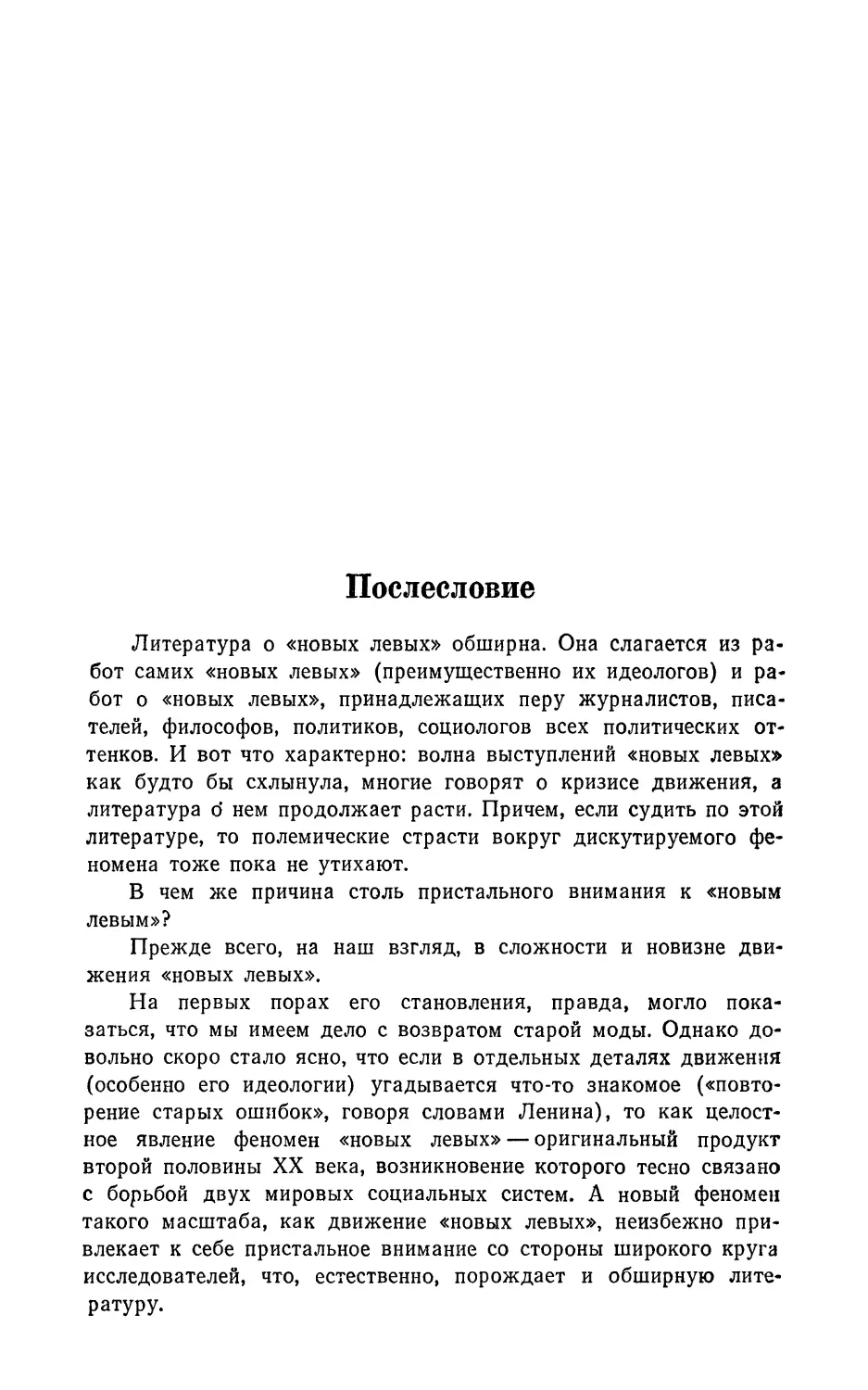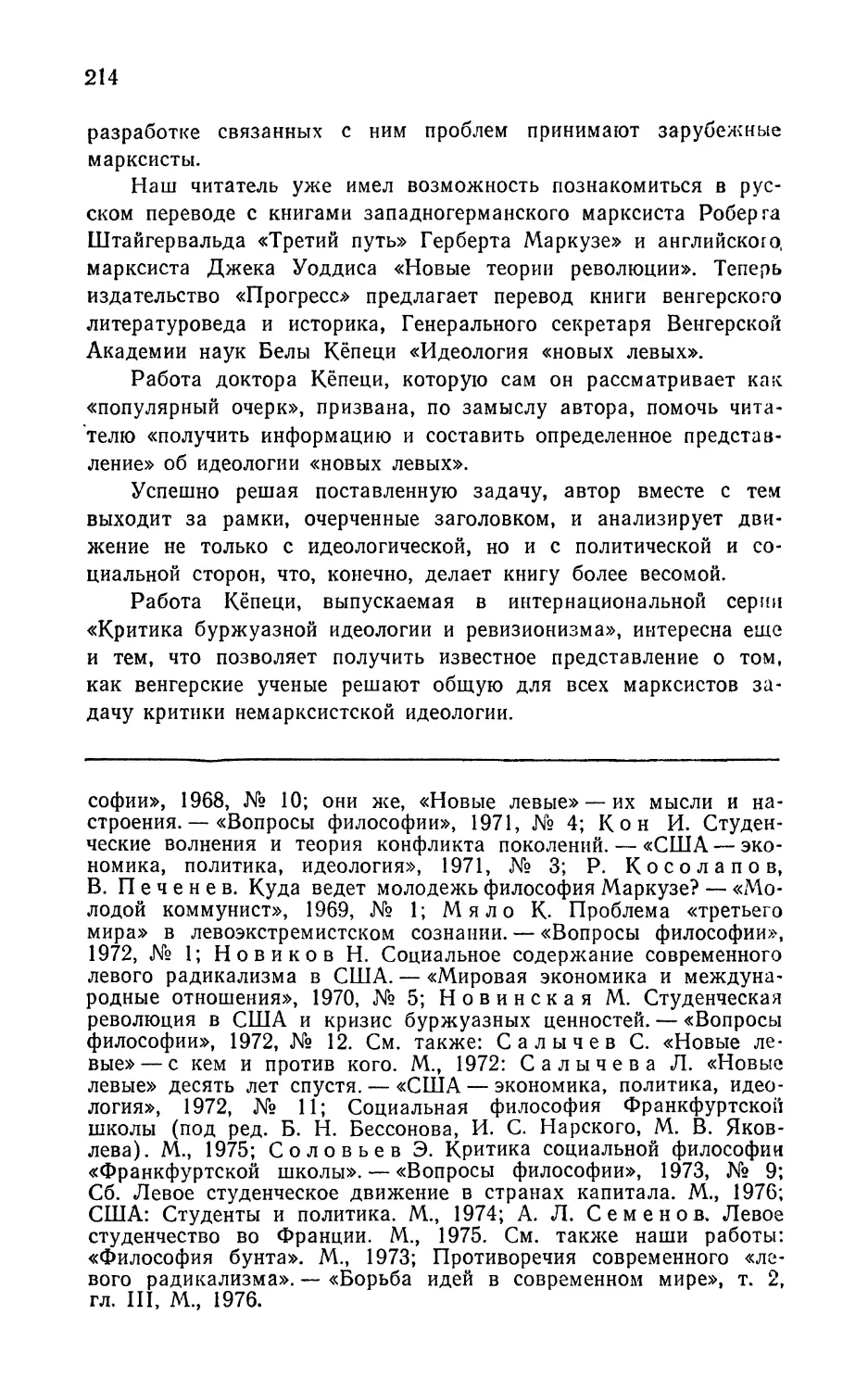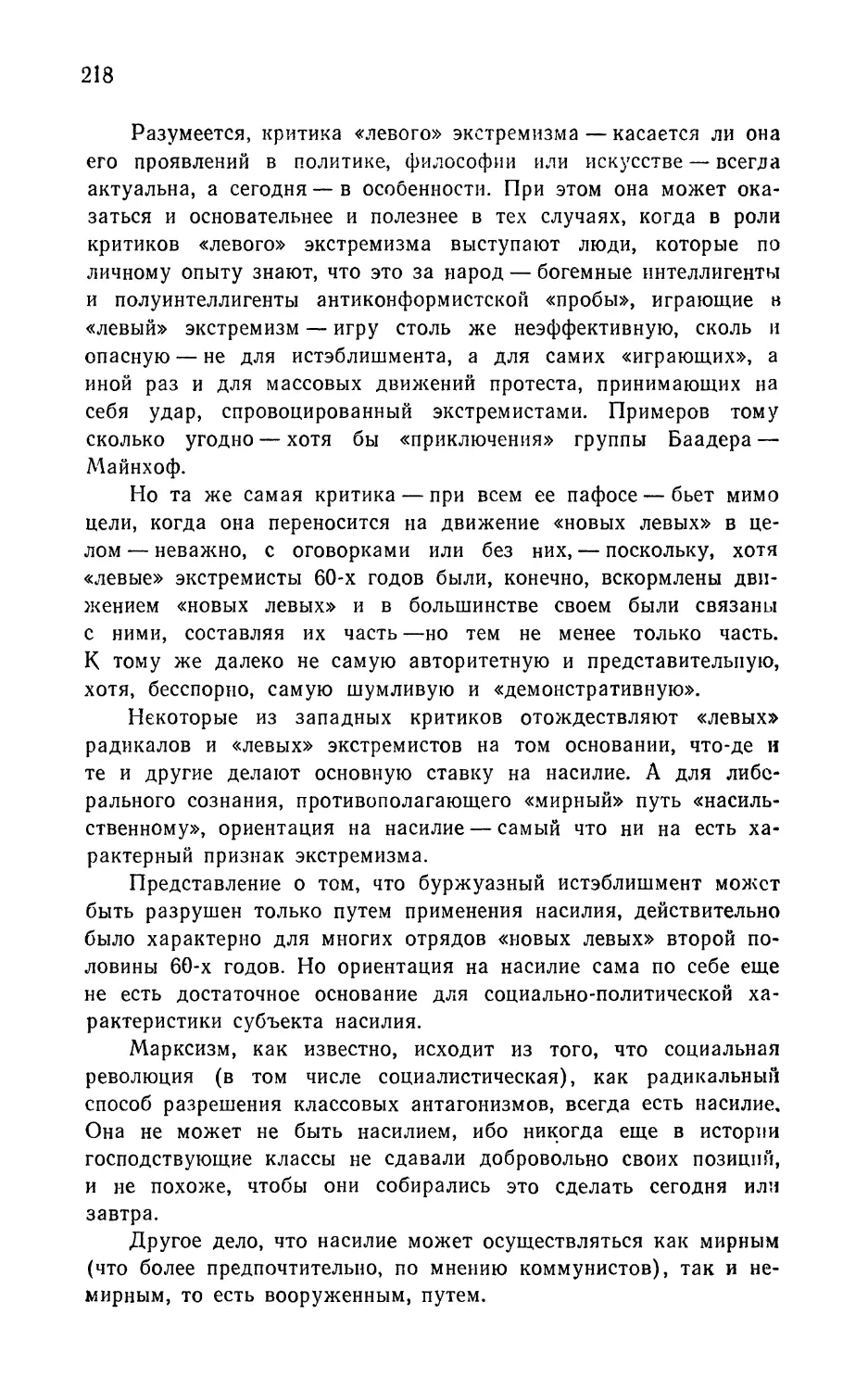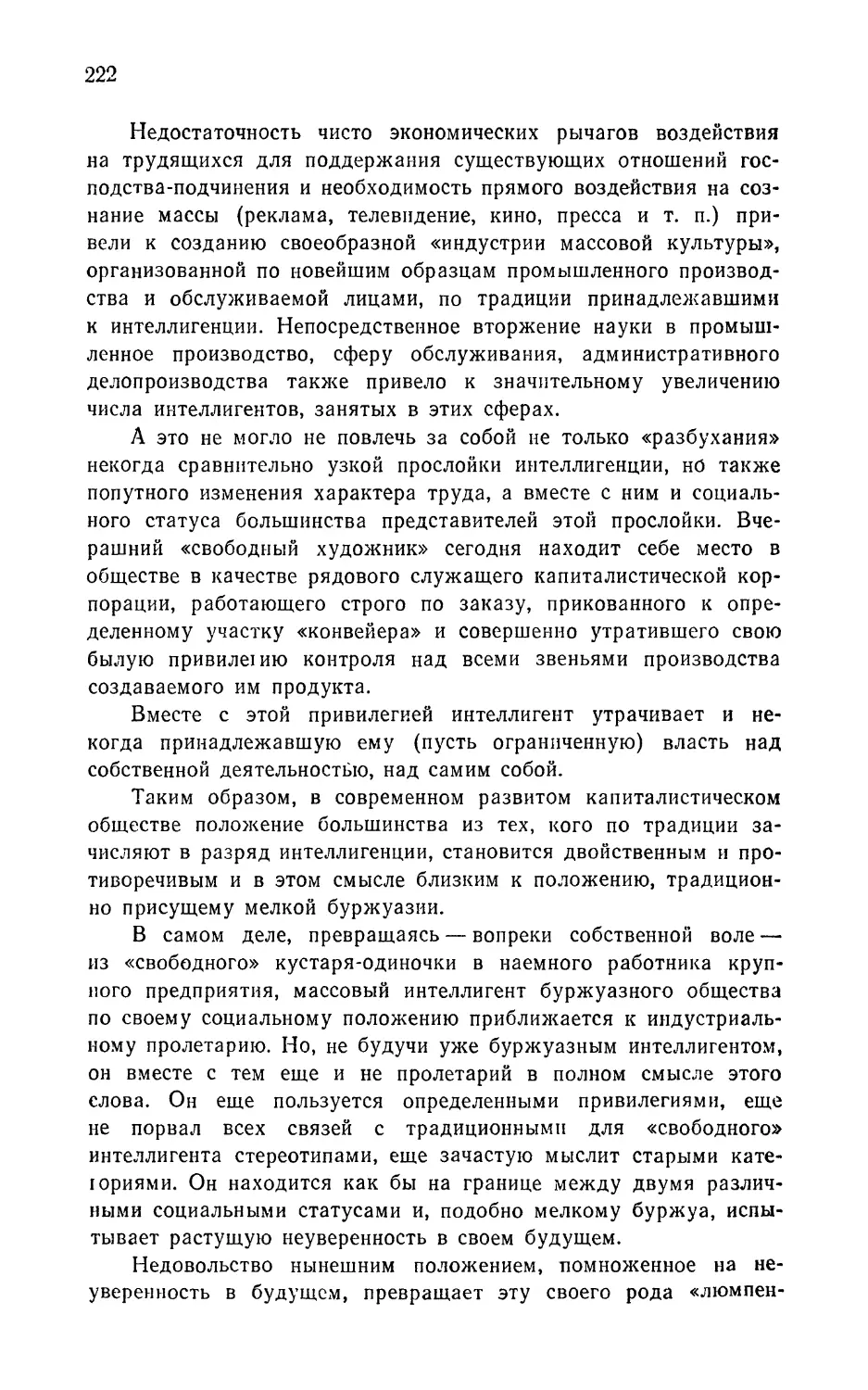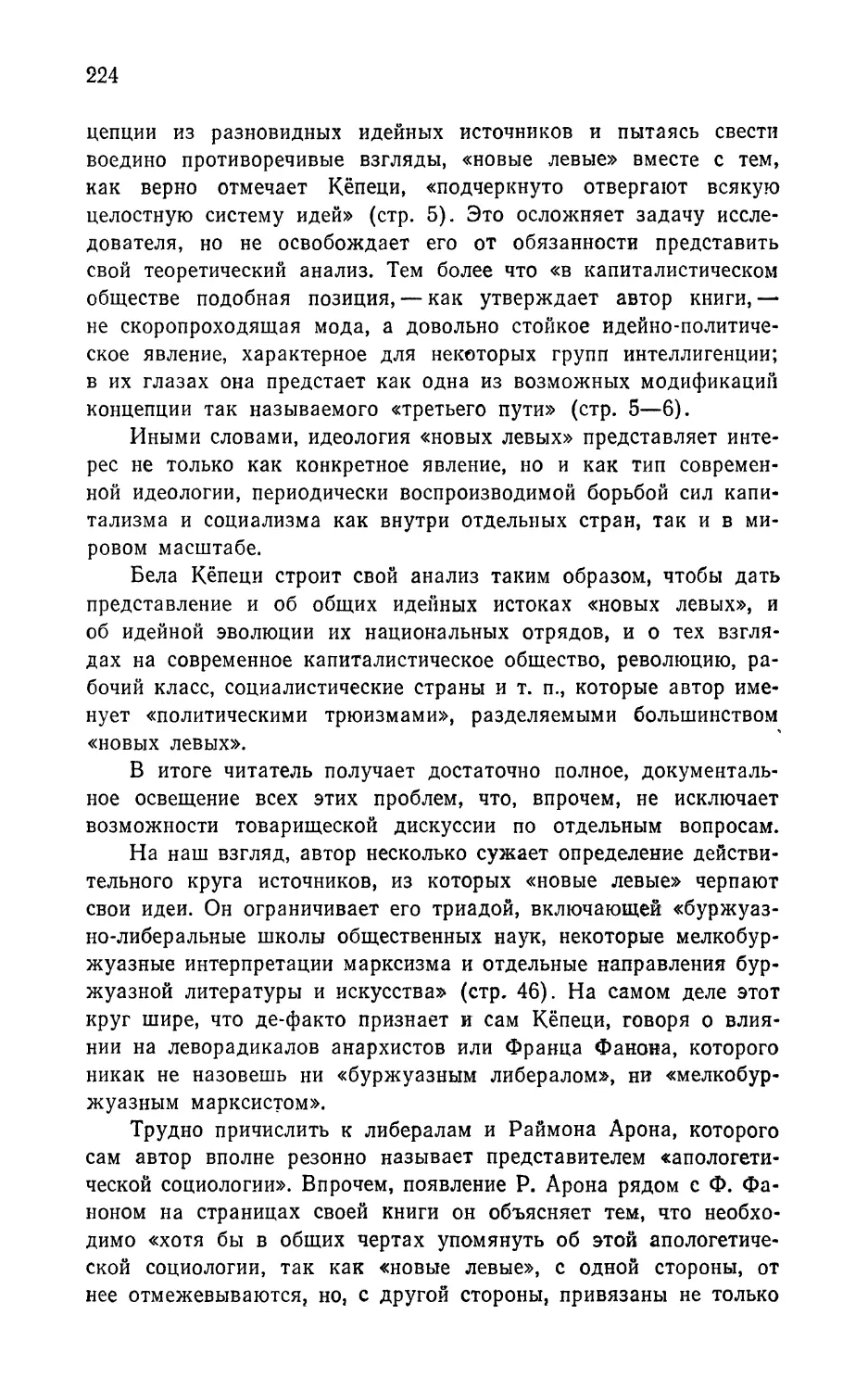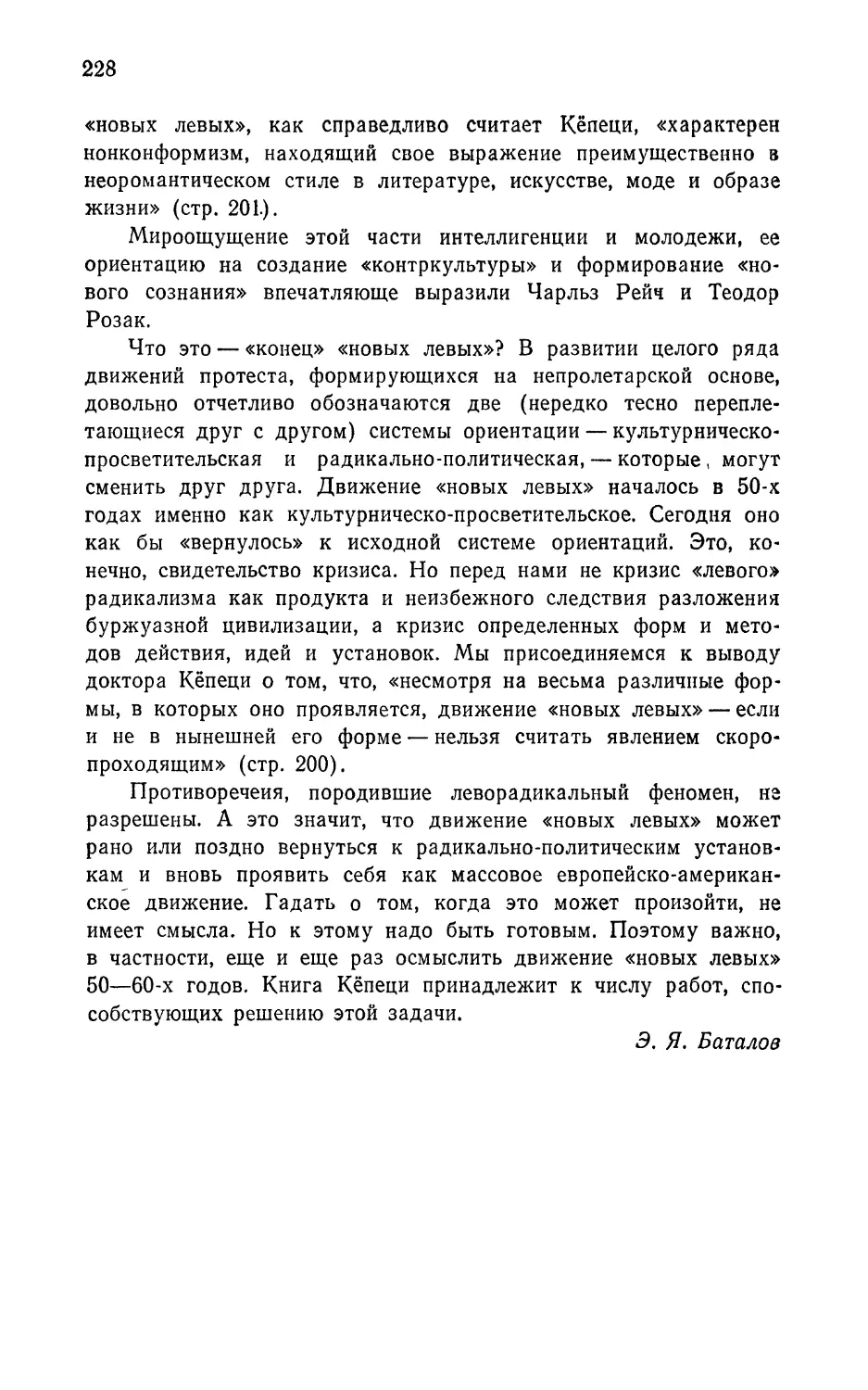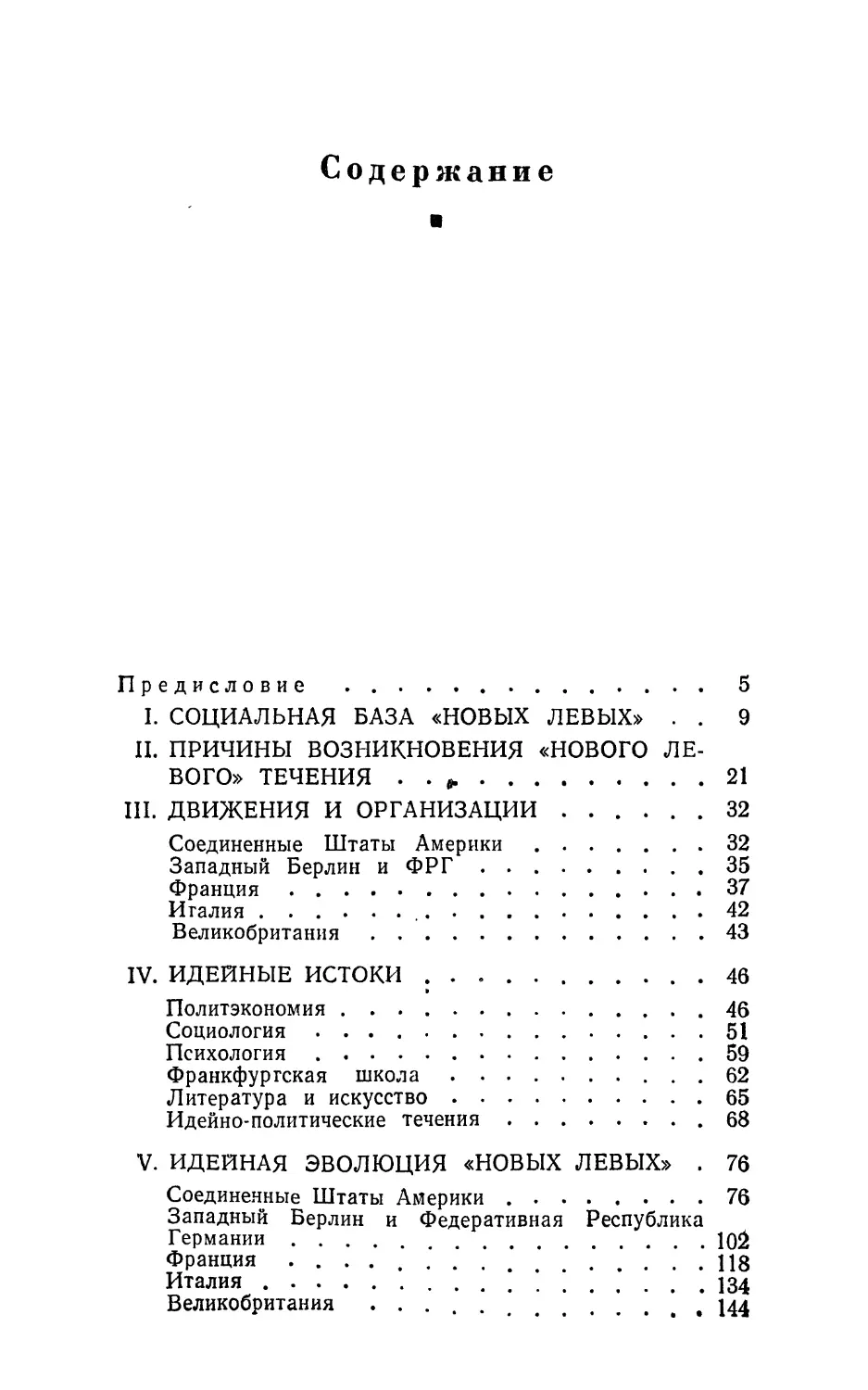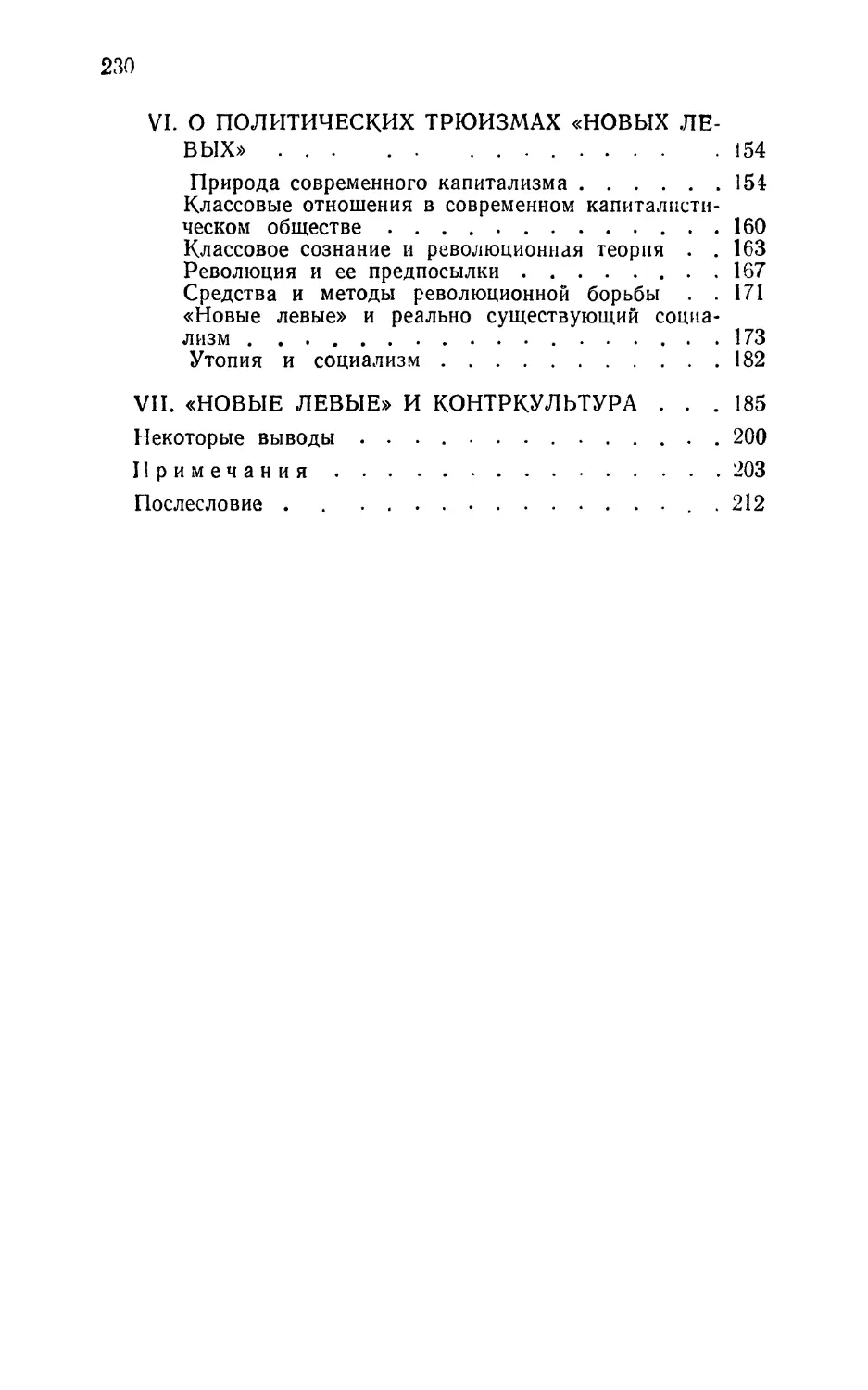Text
КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ И РЕВИЗИОНИЗМА
Köpeczi Вё1а
■
AZ «ÜJ BALOLDAL»
IDEOLÖGIÄJA
Kossuth könyvkiadö
19 7 4
КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ И РЕВИЗИОНИЗМА
Бела Кёпеци
ИДЕОЛОГИЯ
«НОВЫХ ЛЕВЫХ»
Перевод с венгерского
А. М. Сорокийа
Послесловие Э. Я. Баталова
Москва
Издательство «Прогресс»
1977
Предлагаемая вниманию читателей серия «Критика
буржуазной идеологии и ревизионизма» выпускается
совместно издательствами социалистических стран.
Объединяя усилия издательств этих стран, серия вклю¬
чает в себя работы, посвященные критике новейших
концепций идейных противников социализма в важней¬
ших областях общественной жизни — экономике, поли¬
тике, идеологии.
Редакция литературы по философии
© Перевод на русский язык с сокращениями
Издательство «Прогресс», 1977, Москва
10506-334
006(01)—77
Предисловие
В последние десятилетия, особенно начиная со вто¬
рой половины шестидесятых годов, в Соединенных
Штатах и Западной Европе возникают во многих от¬
ношениях новые идейно-политические течения, име¬
нуемые «новыми левыми». Различные, нередко враж¬
дебные друг другу группы называют себя этим име¬
нем с тем, чтобы таким образом отмежеваться как от
левых буржуа, так и от коммунистов.
В обширной литературе, посвященной этим груп¬
пам, их общим чертам и различиям, мы часто встре¬
чаемся с утверждением, что для «новых левых» ха¬
рактерно отсутствие теории. Действительно, эти
группы заимствуют свои концепции из самых разных
идейных источников и зачастую пытаются свести во¬
едино весьма и весьма противоречивые взгляды. Верно
и то, что они подчеркнуто отвергают всякую целост¬
ную систему идей и довольствуются декларированием
«общих мест», предназначенных захватить «вообра¬
жение» и побудить к политическим действиям. Все это,
однако, не означает, что эта путаная, противоречи¬
вая, проявляющаяся на уровне «эмоций» идеология
не заслуживает рассмотрения с теоретической точки
зрения. Это рассмотрение тем более необходимо, что
в капиталистическом обществе подобная позиция не
6
скоропроходящая мода, а довольно стойкое идейно¬
политическое явление, характерное для некоторых
групп интеллигенции; в их глазах она предстает как
одна из возможных модификаций концепции так на¬
зываемого «третьего пути».
Целью данной книги является исследование — пре¬
жде всего в плане идеологическом — деятельности
«новых левых» в США и Западной Европе.
Некоторые считают «новых левых» течением миро¬
вого масштаба, в равной мере дающим о себе знать
в развитых капиталистических странах, «третьем
мире» и даже в социалистических странах.
По нашему убеждению, если в «третьем мире» мы
и встречаемся с явлениями, напоминающими «новое
левое» движение капиталистических стран, то эконо¬
мические, социальные различия в данном случае
столь велики, что перед лицом этих различий сходство
отступает на задний план. В развитых капиталиста
ческих странах «новое левое» движение представляет
собой явление, касающееся прежде всего интеллиген¬
ции, в странах же «третьего мира» оно способно
увлечь рабочие и особенно крестьянские слои, хотя,
возможно, идейная позиция их интеллектуальных ли¬
деров и не очень отличается от идеологии групп «но¬
вых левых» в развитых капиталистических странах.
Что касается социалистических стран, то те, кто
подхватывает там тезисы «новых левых», естествен¬
но, не могут удержаться даже на позициях противо¬
речивого антикапитализма своих западноевропейских
вдохновителей; скатываясь к сектантству или реви¬
зионизму (а иногда к смеси того и другого), они ста*
новятся противниками реально существующего социа¬
лизма.
В специальной литературе много спорят о том,
'кого следует считать «новыми левыми». Само это
наименование различные авторы связывают с самы¬
ми различными группами. По мнению некоторых из
Них, термин «новые левые» относится лишь к таким
группам, которые сформировались главным образом
после 1956 года при участии представителей интелли¬
генции, исключенных или вышедших из коммунисти¬
ческих партий. По мнению других, «новыми левыми»
являются анархистские и троцкистские группы, ко¬
7
торые в той или иной мере связаны с элементами^
упомянутыми выше. Есть и такие политологи, которые
считают «новых левых» прежде всего «движением»
неорганизованных, не принадлежащих ни к каким
партиям и группам недовольных интеллигентов. По
нашему мнению, термин «новые левые» так или иначе
может быть отнесен ко всем этим категориям, ибо их
нельзя четко разграничить ни с точки зрения теории,
ни с точки зрения политической практики. По этой же
причине мы чаще всего будем использовать термин
«течение», чтобы лишний раз подчеркнуть, что реч^
не идет об организованном движении, опирающемся
на сколько-нибудь единую теоретическую базу.
Поскольку нашей целью является исследование
течения «новых левых» с точки зрения идеологии,
представляется необходимым обозначить его истоки,
а затем более подробно остановиться на взглядах от^
дельных представляющих его групп. Политической
деятельности «новых левых» мы будем касаться лишь
в тех случаях, где она опирается на достаточно опре-
деленные теоретические предпосылки, а также заслу*
живает внимания с точки зрения организационных
форм.
Учитывая, что речь идет о весьма различных и по¬
стоянно дробящихся группах, мы не можем взять на
себя задачу попытаться обрисовать идейный облик
каждой из них. Основное внимание мы уделяем рас¬
смотрению наиболее типичных, характерных для «но¬
вых левых» в целом идей и концепций. При этом мы,
естественно, стремимся учесть и различия в восприя¬
тии или трактовке отдельными группами этих «рас¬
хожих идей».
Теоретические посылки «новых левых» везде, где
это необходимо, сопоставляются с положениями марк¬
сизма хотя бы уже потому, что значительная часть этих
групп утверждает, что черпает свои идеи из марксиз¬
ма или даже является его единственным законным
представителем. К этому сопоставлению нас побуж¬
дает также тот своеобразный антикоммунизм, с кото¬
рым «новые левые» подходят к социализму и коммуни¬
стическим партиям, обвиняя их в том, что они якобы
отвернулись от революции, вступили на путь реформиз¬
ма и бюрократизма. В развитых капиталистических
8
странах этот антикоммунизм ведет к разобщению ле¬
вых сил, и полемика коммунистических партий с «но¬
выми левыми» не сводится лишь к идеологии, а затра¬
гивает и политическую практику. В этой связи пред¬
ставляется весьма важным определить истинное место
«новых левых» в рамках реальной классовой
борьбы.
Мы также стремимся подробно познакомить чи¬
тателя с критикой капитализма «новыми левыми»,
поскольку в этом проявилась их наиболее положи¬
тельная черта, хотя критика эта не всегда зрелая и
теоретически обоснованная. При этом мы считаем
своим долгом подчеркнуть, что никакая самая острая
антикапиталистическая критика «новых левых» не мо¬
жет оправдать их антикоммунизм, ведущий в конеч¬
ном счете к разобщению левых сил.
Наконец, мы ставим своей целью показать двой¬
ственный облик этого очень сложного идейно-полити¬
ческого явления, выражающего, как уже было выше
сказано, влечение части интеллигенции к «третьему
пути».
Хотелось бы надеяться, что эта небольшая книж¬
ка, представляющая собой популярный очерк, помо¬
жет читателю получить информацию и составить
определенное представление по данному вопросу.
I
СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА
«НОВЫХ ЛЕВЫХ»
а
При изучении различных групп «новых левых» сразу
же возникает вопрос: интересы и устремления каких
социальных слоев они выражают? В поисках ответа
на этот вопрос мы, разумеется, не можем довольство¬
ваться их собственными претенциозными заявления¬
ми, согласно которым они представляют интересы и
устремления значительного большинства народа, ин¬
тересы угнетенных и эксплуатируемых. В Западной
Европе для «новых левых» характерен своего рода
«культ рабочего», который отражает стремление ин¬
теллигентских групп войти в контакт с рабочими и,
взяв на себя роль «боевого меньшинства», попытаться
привлечь последних на свои позиции. Идеологи «но-*
вых левых» не могут при этом обойти вопрос о том,
из каких элементов состоит само это «боевое мень¬
шинство» и на кого в принципе оно может воздейство¬
вать. Их ответ гласит, что «боевики» формируют свои
ряды в первую очередь за счет представителей интел¬
лигенции (в подавляющем большинстве студентов),
а в некоторых странах — главным образом в Соеди¬
ненных Штатах — за счет подвергающихся двойной
эксплуатации цветных, однако, как они заявляют,
этими слоями их влияние не ограничивается.
10
Так откуда же берутся, выходцами из каких слоев
являются «новые левые»? Чтобы найти ответ на этот
вопрос, следует сначала, насколько это возможно,
уточнить, что мы имеем в виду под понятием «интел¬
лигенция», поскольку представители «новых левых»
указывают прежде всего на эту общественную про¬
слойку. Одни относят к интеллигенции — расшири¬
тельно толкуя это понятие — всех занимающихся
.умственным трудом, другие — специалистов, окончив¬
ших университеты и вузы, многие считают по праву
принадлежащей к этой прослойке только так назы-.
ваемую творческую интеллигенцию. Действительно,
в составе интеллигенции имеются различные группы,
и ее нельзя считать однородной ни с точки зрения
деловой квалификациями по роду занятий или функ¬
циям в обществе. Возьмем определение Тибора Ху-
сара: «К интеллигенции относятся все те, кто систе¬
матически и на профессиональном уровне принимает
участие в организации и управлении обществом — го¬
сударством и экономикой; участвует в выполнении
Сложных умственных работ и вынесении требующих
использования большого информационного аппарата
решений; кто на основе использования освоенного
информационного материала обеспечивает научно-
технический прогресс общественного производства;
кто делает возможным использование научных и ду¬
ховных ценностей, накопленных обществом в предше¬
ствующие эпохи, а также те, кто в самых различных
областях науки и искусства создает новые культур¬
ные и духовные ценности»1. Это определение ста¬
вит на первый план творческую интеллигенцию, но
придает большое значение и таким группам интелли¬
генции, которые участвуют в управлении государ¬
ством и экономикой и в распространении культуры.
Однако и это определение не является исчерпы¬
вающим. Кроме того, его использование с точки зре¬
ния задач нашего исследования влечет за собой и нге-
которые трудности, поскольку американские и запад¬
ноевропейские социологи кладут в основу своей
классификации прежде всего род занятий.
Однако прежде чем перейти к этому вопросу, рас¬
смотрим структурные изменения, которые произошли
в экономических секторах (и в соотношении между
и
ними) развитых капиталистических стран и исходя из
которых можно определить положение интеллиген*
ции в этих странах*.
В США в 1960 г. из почти 70 млн. чел. самодея-
тельного населения 6,5% (4,5 млн. чел.) было занято
в сельском хозяйстве; 26,5% (18,5 млн.)—в промыш¬
ленности; 21,6% (15 млн.)—в торговле и 24,8%'
(17,3 млн.)—в сфере обслуживания. В 1970 г. из
почти 86 млн. чел. занятых уже только 4,3% (3,6 млн.)
работало в сельском хозяйстве; 25,5% (22 млн.) —
в промышленности; 23% (19,8 млн.)—в торговле и
29,8% (25,5 млн.)—в сфере обслуживания.
Во Франции в 1960 г. из 18,7 млн. занятых 22,4%’
(4,2 млн.) работало в сельском хозяйстве; 27,8%'
(5,2 млн.)—в промышленности; 13,4% (2,5 млн.) —
в торговле; 19,3% (3,6 млн.)—в сфере обслужива¬
ния. В 1970 г. из почти 21 млн. занятых работало в
сельском хозяйстве 13,4% (2,8 млн.); в промышлен¬
ности— 26,1 % (5,5 млн.); в торговле и системе обще¬
ственного питания—14,8% (3,1 млн.) и в сфере об¬
служивания— 21,0% (4,5 млн.).
В Федеративной Республике Германии в 1961 г«
было 26,8 млн. чел. самодеятельного населения, из ко¬
торых 13,4% (3,6 млн.) работало в сельском хозяй¬
стве; 36,4% (9,8 млн.)—в промышленности; 13,4%’
(3,6 млн.)—в торговле и 18,9% (5 млн.)—в сфере
обслуживания. В 1970 г. из общего числа занятых в
27 млн. чел. 8,9% (2,4 млн.) трудилось в сельском
хозяйстве; 39% (10,5 млн.) — в промышленности;;
14,5% (4 млн.)—в торговле и 21,8% (5,9 млн.) —
в сфере обслуживания.
В Италии из 20,2 млн. занятых в 1961 г. в сельском
хозяйстве работало 28,3% (5,7 млн.); в промышлен¬
ности—26,5% (5,4 млн.); в торговле—11,1% (2,2млн.)|
и в сфере услуг- —13,5% (2,7 млн.). В 1970 г. из
19,5 млн. занятых уже лишь 17,9% (3,5 млн.) рабо¬
тало в сельском хозяйстве; 30,8% (6 млн.)—в про¬
мышленности; 14,4% (2,8 млн.)—в торговле и 18,9%’
(3,7 млн.) — в сфере обслуживания.
В Великобритании в 1960 г. из 24,2 млн. занятых
2,6%) (635 тыс.) работало в сельском хозяйстве; 38%’
(9,2 млн.)—в промышленности; 11,5 (2,8 млн.)-—
в торговле; 25,6% (5,8 млн.) — в сфере обслуживания,
12
В отличие от этого в 1970 г. из 24,7 млн. чел. са¬
модеятельного населения в сельском хозяйстве оста¬
лось только 1,5% (380 тыс.), 36% (8,9 млн.) работало
в промышленности; 11% (2,7 млн.)—в торговле, а
число работающих в сфере обслуживания выросло до
28,7% (7,1 млн.).
Для сравнения напомним, что в Венгрии в I960 г.
из 4,8 млн. чел. самодеятельного населения 38,4%
(1,8 млн.) работало в сельском хозяйстве; 24,3%
(1,2 млн.)—в промышленности; 6,7% (300 тыс.)—
в торговле и 10,4% (500 тыс.)—в сфере обслужива¬
ния. К 1970 году пропорции изменились следующим
образом: из 5 млн. чел. самодеятельного населения
24,6% (1,2 млн.) были заняты в сельском хозяй¬
стве; 32,3% (1,6 млн.)—в промышленности; 8,2%
(420 тыс.)—в торговле; 14,6% (730 тыс.)—в сфере
обслуживания.
Для характеристики социального состава населен
ния и производственных отношений важны также дан¬
ные, показывающие соотношение между численностью
работодателей и лиц наемного труда.
В США в 1960 г. к первой из этих категорий отно¬
силось 7,9 млн. чел. самодеятельного населения,
в 1970 г. — 7 млн. чел. Число лиц наемного труда за
тот же период выросло с 57,8 млн. до 77,3 млн. (При
подсчете не принята во внимание категория так на¬
зываемых помогающих членов семей, которая не во
всех странах фигурирует в статистике.)
Во Франции насчитывалось в 1960 г. 4,8 млн. ра¬
ботодателей и 15,4 млн. рабочих и служащих,
в 1968 г. — 4,5 млн. работодателей и 16 млн. лиц на¬
емного труда.
В Федеративной Республике Германии в 1961 г.
было зарегистрировано 3,2 млн. работодателей,
в 1970 г. — уже только 2,8 млн. Число лиц наемного
труда выросло с 21 млн. до 22,3 млн.
В Италии в 1960 г. число работодателей равнялось
4,1 млн., в 1970 г. — 4,4 млн.; число лиц наемного
труда составляло соответственно 13,4 млн. и 13,2 млн.
В Великобритании в 1966 г. насчитывалось 1,6 млн.
работодателей и 22,4 млн. лиц наемного труда.
Эти статистические данные, помимо всего прочего,
свидетельствуют о том, что происходит быстрое со¬
13
кращение численности работающих в сельском хо¬
зяйстве, а внутри этой категории — занятых в земле¬
делии и, напротив, значительно выросла численность
занятых в так называемом «третьем секторе». Весьма
характерно и то, в какой мере выросла доля лиц на¬
емного труда; в развитых капиталистических странах
она в среднем достигает 80% всего самодеятельного
населения. Все это сказывается на положении интел¬
лигенции, поскольку значительная часть этой про¬
слойки работает в секторе обслуживания и относится
к категории лиц наемного труда.
Если рассматривать статистические данные о роде
занятий с точки зрения формирования пропорций ме¬
жду работниками физического и умственного труда,
можно заметить постоянный рост численности пос¬
ледних.
В США в 1960 г. 59,9% занятых работало в сфере
физического, а 40,1%—в сфере умственного труда.
Во Франции, согласно данным 1962 г., 69,9% вы¬
полняло физическую и 30,1%—умственную работу,
В Федеративной Республике Германии соотноше-
ние является точно таким же.
В Великобритании физическую работу выполняла
65,9%, а умственную — 34,1% занятых.
В Италии эта пропорция составляла 78,6% к 21,4% *
Одним из критериев принадлежности к интелли¬
генции является образование. В этом отношении ста¬
тистика различных стран позволяет составить пред¬
ставление главным образом о получивших высшее
образование.
В США число специалистов, окончивших универ¬
ситеты и вузы, составляло в 1947 г. — 3,8 млн.*
в 1957 г. — 6,5 млн., а в 1964 г. — 8,5 млн., и в течение
этого периода их доля среди всех занятых повысилась
с 6,6% сначала до 9,9%, а затем до 12,7% 2.
Во Франции численность так называемых кадров
среднего звена, имеющих высшее образование, состав¬
ляла в 1954 г. 1 млн. 113 тыс., а в 1968 г. — 2 млн.^:
рост почти на 80% 3.
По другим странам таких суммарных данных нет,
но, судя по частичным данным, которые мы приво¬
дим ниже, та же самая тенденция наблюдается в Ве¬
ликобритании, ФРГ и Италии.
14
В США в период с 1950 по 1965 г. число лиц, име¬
ющих дипломы инженеров, выросло почти на 100%,
число врачей — на 50%, преподавателей — более чем
на 100%.
Во Франции за тот же период число дипломиро¬
ванных специалистов в области естественных наук
увеличилось на 100%, инженеров — на столько же,
Ьрачей — на 75%, а преподавателей — на 400%.
В Великобритании число специалистов-естествен-
ников и дипломированных инженеров выросло также
на 100%, врачей — только на 40%, преподавателей —
на 90%.
В Федеративной Республике Германии с 1950 по
1960 г. число специалистов в области естественных
наук увеличилось на 50%, врачей — за период с 1950
по 1965 г. — на 35%, преподавателей — примерно
на 70%.
В Италии статистические данные имеются лишь по
преподавателям; за 15 лет их число выросло почти
на 130% 4.
В США на 10 тыс. занятых в 1950 г. приходилось
115 технических специалистов с высшим образова¬
нием, в 1965 г. — уже 204; число педагогов на 10 тыс.
жителей выросло с 65 до 101, врачей — с 18 до 20.
Во Франции за те же годы цифры изменились в
первой из этих категорий с 55 на 67, во второй — с 46
на 76, в третьей — с 11 на 16.
В Федеративной Республике Германии обеспечен¬
ность специалистами по категории инженеров повыси¬
лась с 93 до 139, педагогов — с 44 до 51, врачей —
с 19 до 21.
В Великобритании цифры соответственно соста¬
вили: по первой категории 38 и 70, по второй — 46 и
71, по третьей— 11 и 14.
В Италии мы- имеем данные только по педагогам
и врачам: по первой категории число специалистов на
10 тыс. жителей выросло с 59 до 86, по второй —
с 12 до 17.
Если взять отдельные профессии, то прогресс, до¬
стигнутый различными странами, неодинаков: более
всего, однако, выросла численность инженерно-техни¬
ческих специалистов и педагогов, что позволяет сде¬
лать вывод, во-первых, о том, что значительная часть
15
интеллигенции вступает в сфере производства в не-*
посредственные отношения с рабочим классом и, во-
вторых, что с увеличением количества учащихся и
времени обучения все более важную роль в формиро¬
вании общественного мнения и особенно воззрений
молодежи начинает играть педагог.
О положении отдельных слоев интеллигенции в
социальной иерархии можно судить по статистиче¬
ским данным относительно так называемых лиц сво¬
бодных профессий и инженерно-технических специа¬
листов, а также директоров и высших административ¬
ных кадров.
В США в 1962 г. 9,1% (1,8 млн. чел.) самодея¬
тельного населения относилось к первой категории,
а 3,1 % (613 тыс. чел.) — ко второй.
В Италии в 1961 г. 5,2% самодеятельного населе¬
ния (1 млн. чел.) входило в первую и 1,2% (250 тыс,
чел.) —во вторую категории.
В составе интеллигенции буржуазные социологи
различают технократов и техников (что в данном слу¬
чае не обязательно совпадает с понятием «инженерно*
технические специалисты»). Технократы занимают ру¬
ководящие и высокооплачиваемые посты в органах
власти и в экономике. Келлер в одной из своих ра¬
бот5 сравнивает социальную структуру управления
американскими предприятиями в 1900 и 1950 гг,
В 1900 г. 68% американских предприятий управля-
лось капиталистами-предпринимателями или членами
их семей, 14%—юристами и 18%—работниками из
промышленности. В 1950 г. доля первой категории со*
ставляла лишь 17%, второй—13%, тогда как доля
третьей увеличилась до 62%. Этот подсчет, несом¬
ненно, показывает, что в управлении промышленны¬
ми предприятиями усилилась роль технократов. По¬
добные тенденции можно наблюдать и в других ка*
Питалистических странах6.
В быстром росте численности высокообразованных
менеджеров апологеты капиталистического общества
усматривают доказательство успеха профессионализ¬
ма, а кое-кто из них даже связывает с этим иллюзии
о «преобразовании» капитализма. В том, что речь
здесь идет отнюдь не об успехе профессионализ¬
ма, можно убедиться, ознакомившись, в частности,
16
с балансом времени менеджеров и с теми качествами,
которые от них требуются. Согласно различным под¬
счетам, технократам для выполнения их работы в
41 случае из 100 нужны определенные личные ка¬
чества (добросовестность, прямота, энергичность), в
17,5—рассудительность, в 14,5—организаторские спо¬
собности, в 14 — соответствующий такт и умение
понимать других и только в 13% случаев — профео
сиональные знания 7. В общем же, речь, конечно, идет
не более чем о подведении профессиональной основы
под систему капиталистического управления, а не
о передаче всех рычагов власти в руки специалистов-
технократов.
Но если «технология» не торжествует победу, то
чему и кому служат технократы? Видный американ¬
ский социолог Чарлз Райт Миллс отвечает на это,
что получившие хорошую подготовку и занимающие
руководящие должности специалисты-технократы слу¬
жат капиталистам и защищают их интересы8. Власть,
следовательно, сосредоточивается в руках представив
телей трех категорий руководства: государственного,
экономического и военного, которые объединяются в
целях сохранения капиталистического социального
строя. Технократы представляют экономическую
власть, и поэтому политически они так или иначе яв¬
ляются сторонниками сохранения капитализма,даже
если и принадлежат к различным партиям. Если не
принимать во внимание отдельные «нетипичные» слу¬
чаи, то в целом «новые левые» не могут рассчитывать
на технократический слой интеллигенции, их привер¬
женцы рекрутируются не из этого слоя.
Недовольство проявляется более всего в слое так
называемых техников, занимающих менее значитель¬
ные позиции в экономике и государственном аппарате,
а численность этого слоя — согласно уже приводив¬
шимся статистическим данным — постоянно растет.
Наиболее живой интерес к общественной жизни
проявляют так называемые интеллигенты-гуманита¬
рии, прежде всего экономисты и педагоги.
Самые активные представители «новых левых» вли¬
ваются в это течение из среды студентов, количество
которых в последние десятилетия возрастало чрезвы¬
чайно быстро. По статистическим данным ЮНЕСКО,
1/
в 1950—1970 гг. в США и некоторых западноевропей¬
ских странах численность слушателей университетов
росла следующим образом:
Страна
1950 г.
I960 г.
1970 г.
в тыс. чел.
Великобритания
106
169
407
Франция
139
215
710
ФРГ
122
265
386
Италия
145
192
415
США
2296
5526
8450
Анализ социального состава студенчества показы¬
вает, что большинство студентов происходит из бур¬
жуазных и мелкобуржуазных кругов. Достаточно упо¬
мянуть, что в середине 60-х годов детей рабочих среди
студентов насчитывалось: во Франции около 10%, в
Италии — 15, в ФРГ—16, в Великобритании — 25, в
США (где статистика объединяет в одну категорию
слушателей университетов и различных колледжей) —
40%. Имеет смысл также рассмотреть состав студен¬
чества и с точки зрения занятий родителей. Приведем
только один пример.
Во Франции, по данным 1966/67 учебного года,
у 6,6% слушателей родители работали в сельском
хозяйстве (хозяева и наемные рабочие объединены
здесь в одну категорию), у 9,9% были промышлен¬
ными рабочими, у 8,5%—служащими, у 15,8%—так
называемыми «кадрами среднего звена», у 29,3%—ру*
ководящими кадрами и лицами свободных профессий
и у 14,9%—предпринимателями в промышленности
или торговле9. «Наследники» (так Пьер Бурдьё и Жан-
Клод Пассерон в одной из своих книг10 именуют новое
поколение интеллигенции) и сейчас приходят из рядов
буржуазии, но в последние 10—15 лет в пропорциях
произошли сдвиги в пользу мелкой буржуазии.
Род занятий связан с уровнем доходов, а уровень
дохода родителей является решающим фактором с
точки зрения возможности продолжать учебу, В США
Комитет Карнеги, изучающий проблемы высшего
18
образования, в 1968 г. констатировал, что дети из аме¬
риканских семей с уровнем дохода выше среднего
имеют в три раза больше возможностей попасть в уни¬
верситет, чем юноши и девушки из семей, где этот
уровень ниже среднего. Лишь 7% студентов происходит
из категории семей с наиболее низким доходом (к ней
относится четвертая часть всех американских семей)*
В составе студенчества имеется слой, который осо¬
бенно восприимчив к псевдорадикальным лозунгам*
В старой Венгрии этих студентов называли «заочни¬
ками» (букв, «полевыми». — Прим, перев.), потому что
они не ходили в университеты, в большинстве случаев
появлялись только на экзаменах и, как правило, не
заканчивали учебу в установленные сроки. Ныне на¬
ряду с этой категорией имеется много и таких слу-
шателей, которые быстро обзаводятся семьей, и обстоя¬
тельства вынуждают их, не бросая занятий в универси¬
тете, поступать на работу и растягивать время обучения,
В последнее время в различных движениях «новых
левых» принимает участие и более молодое, чем слу¬
шатели университетов, поколение — учащиеся средних
школ или их ровесники. Часть их по окончании на¬
чальной школы не учится дальше либо бросает учебу,
еще не достигнув 18-летнего возраста. Значение и
масштабы данной социальной проблемы характери¬
зуются тем, что в США к этой категории так называе¬
мых drop out (выпавших) относится одна треть всех
молодых людей. В Западной Европе эта проблема
также дает себя знать, хотя и не в такой мере.
Из всего вышеизложенного можно заключить, что
представители течения «новых левых» и более широ¬
кие слои, находящиеся под их влиянием, рекрути¬
руются из определенных, не занимающих государ¬
ственных и руководящих экономических постов групп
интеллигенции и особенно из молодежи и учащихся.
Эти группы принадлежат к так называемым сред¬
ним слоям, занимающим промежуточное положение
между буржуазией и рабочим классом. Маркс нё
преуменьшал значения этого слоя и применял по от¬
ношению к нему термин «мелкобуржуазный». Об этом
слое он писал П. В. Анненкову следующее;
19
«Мелкий буржуа в развитом обществе, в силу са¬
мого своего положения, с одной стороны, делается
социалистом, а с другой — экономистом, то есть он
ослеплен великолепием крупной буржуазии и сочув¬
ствует страданиям народа. Он в одно и то же время
и буржуа и народ. В глубине души он гордится
тем, что он беспристрастен, что он нашел истинное
равновесие, которое имеет претензию отличаться от
золотой середины. Такой мелкий буржуа обожеств¬
ляет противоречие, потому что противоречие есть осно¬
ва его существа. Он сам — не что иное как воплощен¬
ное общественное противоречие. Он должен оправдать
в теории то, чем он является на практике, и г-ну Пру¬
дону принадлежит заслуга быть научным выразите¬
лем французской мелкой буржуазии; это — действи¬
тельная заслуга, потому что мелкая буржуазия явит¬
ся составной частью всех грядущих социальных
революций» и.
Несмотря на то что с момента, когда это было на¬
писано Марксом, в капиталистическом обществе и в
структуре самой мелкой буржуазии многое измени¬
лось, политическая оценка остается верной и для на¬
стоящего времени. Добавим к этому, что ныне поло¬
жение мелкого буржуа является более зависимым, чем
во времена Маркса, ибо — как мы уже видели — ко¬
личество лиц наемного труда значительно выросло и
немалая их часть относится к категории мелкой бур¬
жуазии. Это количественное разбухание и изменение
статуса еще более усиливают значение утверждения
Маркса о том, что «...мелкая буржуазия явится состав¬
ной частью всех грядущих социальных революций».
Необходимо, однако, считаться еще с одним изме¬
нением, обусловленным главным образом развитием
событий в течение последнего полувека. Во времена
Маркса социализм был еще лишь надеждой, ныне
он — реальность, с которой мелкий буржуа встречает¬
ся лицом к лицу. Антикоммунизм тех, кто не прием¬
лет идеологию и политику коммунистических партий,
сейчас проявляется куда более определенно, нежели
когда бы то ни было ранее, до победы социализма.
Противоречия и трудности, имеющие место в ходе раз¬
вития социалистических стран и широко обыгрывае¬
мые буржуазной пропагандистской машиной в целях
20
дезориентации масс, усиливают опасения и оговорки
мелкой буржуазии в отношении социализма. «Новые
левые» представляют ту часть мелкобуржуазной ин¬
теллигенции, которая хотя и выступает против капита¬
лизма, но в то же время настроена антикоммунисти¬
чески, причем эту вторую сторону своей позиции счи¬
тает столь же революционной, как и первую.
Эта двойственная позиция не является чем-то но¬
вым. Она особенно часто встречается с тех пор, как
началось строительство социалистического общества.
Определенные группы интеллигенции с анархистских
или троцкистских позиций выступали против стано¬
вящегося реальностью социалистического общества,
которое не отвечало их утопическим концепциям. Эта
оппозиционность в значительной мере сошла на нет
или уменьшилась под влиянием борьбы против фа¬
шизма, побудившей многих представителей интелли¬
генции снять свои оговорки в отношении реального
социализма, однако после 1945 г. старые антисовет¬
ские тенденции вновь ожили и вскормили антикомму¬
низм «новых левых», который, с одной стороны, пы¬
тается спекулировать на критике культа личности, а
с другой стороны, ставит в вину Советскому Союзу и
социалистическим странам именно эту критику как
проявление некоего реформизма.
В то же время нельзя не обратить внимания и на
тот факт, что наряду с «левым» радикализмом части
интеллигенции имеет место также оживление фашиз¬
ма. В последние годы в некоторых странах эта тен¬
денция наблюдалась в охваченных недовольством
средних слоях, но главным образом в среде люмпен-
пролетариата. Консервативная мелкая буржуазия и
ее «вспомогательные отряды» противятся всякой со¬
циальной революции: если они и хотят что-либо изме¬
нить, то лишь собственный статус в рамках капита¬
лизма, и особенно нервозно реагируют на рост левых
сил. Преувеличивая значение выступлений «новых ле¬
вых», эти правые силы используют их в целях оправ¬
дания своих собственных акций.
В этом более широком социальном контексте мы
и должны рассматривать «новых левых», если хотим
понять причины их появления, их идеологию и дея¬
тельность.
II
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
«НОВОГО ЛЕВОГО»
ТЕЧЕНИЯ
т
Американский философ Герберт Маркузе, полемизи¬
руя с западногерманским писателем Гансом Магнусом
Энценсбергером, утверждал, что появление «новых ле¬
вых» обусловлено не экономическими, а прежде всего
социально-психологическими причинами 1.
По мнению Маркузе, в социальном плане для «но¬
вых левых» характерен своего рода маргинализм, то
есть стремление опираться на такие «периферийные»
слои общества, как молодежь, деклассированные эле¬
менты, испытывающие двойной гнет представители
цветного меньшинства населения, психологически же
их типичной чертой является протест против отчуж¬
дающего государства и его институтов, против «авто¬
ритетов», буржуазного образа жизни и морали.
Нам представляется неверным объяснять возник¬
новение течения «новых левых» только этими причи¬
нами; чтобы найти более адекватное объяснение, не¬
обходимо рассмотреть положение капиталистического
общества в целом. Картина эта не может быть полной
без основных социально-экономических и культурных
факторов, характеризующих в настоящее время эво¬
люцию данной общественной формации.
22
Начнем с экономических факторов.
1. С начала 1960-х годов в капиталистической эко¬
номике участились кризисные явления. Если в 1950-х
годах валовой национальный продукт в среднем еже¬
годно возрастал в США на 5%, в ФРГ — на 7, во
Франции — на 4, в Италии на 6%, то во второй поло¬
вине 60-х годов этот рост — за исключением одной-
двух развитых капиталистических стран —либо пре¬
кратился, либо происходил лишь в незначительных
размерах2.
В США увеличение военных расходов привело к
спаду, который после 1966 года вызвал сокращение
темпа роста производства. Так, в 1961 —1966 гг. про¬
мышленное производство ежегодно росло на 7,35%,
а в 1966—1970 гг. — только на 1,8%.
В Западной Европе темп экономического роста в
60-е годы снизился также и потому, что ущерб, при¬
чиненный второй мировой войной, к этому времени
был уже восполнен, в то же время западноевропей¬
ские страны оказались в состоянии лишь частично
преодолеть свою техническую отсталость по сравне¬
нию с США, а рынок уже не был столь эластичным,
как в 50-е годы, ибо влияние капиталовложений на
расширение рынка уменьшилось, а потребности насе¬
ления в товарах длительного пользования были более
или менее удовлетворены3. Об этом свидетельствуют
и данные о промышленном производстве, которые по¬
казывают, что темпы его годового роста в 60-е годы
снизились в Великобритании с 3 до 2%, в ФРГ — с
8—10% до 4—7%, в Италии — с 9 до 7%. Исключение
составила лишь Франция, где в этом отношении на¬
блюдалась относительная стабильность. Одновремен¬
но для всех западноевропейских стран было харак¬
терно возникновение инфляции, обусловленное не
только внутренним экономическим положением, но и
финансовым влиянием США4-
Этот процесс давал себя знать в сфере распреде¬
ления и в формировании доходов.
В США в 1960—1968 гг. прибыли монополий вы¬
росли на 88,7%, дивиденды акционеров — на 73,1%,
в то же время номинальная заработная плата рабо¬
чих увеличилась лишь на 26,9%, а их реальный до¬
ход—всего на 9,6%. В 1964 г. американской семье
23
из 4 человек для обеспечения «скромного, но доста¬
точного» прожиточного минимума требовалось
4485 долларов, в 1968 г. — уже 9390 долл. Годовой
доход сравнительно высокооплачиваемых заводских
рабочих не превышал 6500 долл. Одновременно с этим
осуществлялась откровенная дискриминация в оплате
труда женщин и цветных. Доход негритянских семей
был на 40% ниже, чем у белых.
В Великобритании реальная заработная плата с
1950 по 1955 г. выросла на 35%, а с 1963 по 1970г.—
только на 18%. В то же время и здесь — несмотря
на прогрессивное налогообложение — в значительно
большей мере, чем в предыдущий период, выросли
прибыли крупных предприятий. Согласно официаль¬
ным сведениям, в 1968 г. треть всей частной собствен¬
ности была сосредоточена в руках 1 % населения, то¬
гда как 60% населения почти или совсем не владели
таковой. По имеющимся данным, в 1967 г. 140 тыс. чел.
имели годовой доход в 5000 фунтов и выше, в то вре¬
мя как у 8 млн. чел. он не превышал 500 фунтов.
Согласно некоторым оценкам, в Англии 60-х годов
7—7,5 млн. чел. жили на грани нищеты.
В ФРГ доля рабочих и служащих в национальном
доходе в 1950 г. составляла 30,8%, в 1968 г. — уже
только 24,3%), доля же капиталистов повысилась
с 44,3 до 61,6%). В 1960 г. 1,7% семей владели
31,1% частной собственности и 73,9% промышлен¬
ных предприятий, у 1 % семей было сосредоточено
две трети ценных бумаг. Рост прибылей и здесь об¬
гонял повышение реальной заработной платы трудя¬
щихся 5.
Во Франции в 1968 г., несмотря на успешно завер¬
шившуюся борьбу за повышение зарплаты, 6,9% лиц,
живущих на зарплату, зарабатывали всего 500 фран¬
ков в месяц, 38,7% —от 500 до 1000 франков, 42,2%0 —
от 1000 до 2000 франков, 10,6%—от 2000 до
5000 франков и только 1,6% получали больше. Номи¬
нальная зарплата рабочих в 1964—1970 гг. выросла
на 63%), цены же в 1962—1970 гг. поднялись на 40%.
Средняя почасовая зарплата во Франции была самой
низкой в Западной Европе и составляла лишь 64%'
западногерманской. Чистая прибыль компаний в
1962—1967 гг. выросла на 82%.
24
В Италии в результате весьма динамичного, но и
весьма неравномерного в различных частях страны
развития реальная заработная плата в 1959—1968 гг.
повысилась на 33,3%. (Стоит отметить, что произво¬
дительность труда в 1959—1968 гг. выросла здесь
больше, чем где бы то ни было в Западной Европе:
на 64%.) Для обеспечения средних условий жизни
итальянской семье из 4 человек требуется 170 —
180 тыс. лир в месяц, в то же время почти 30% италь¬
янских трудящихся зарабатывает менее 100 тыс. лир.
Еще хуже, чем в промышленно развитых северных
районах, положение трудящихся на юге страны, осо¬
бенно в сельском хозяйстве, где во многих ме¬
стах царит чуть ли не феодальная отсталость и бед¬
ность 6.
Эти данные показывают, что при капитализме
и ныне, несмотря на относительно высокий жизнен¬
ный уровень трудящихся, господствует эксплуатация,
а рост прибылей значительно опережает увеличение
зарплаты трудящихся, и особенно рабочих. Нельзя
также не отметить больших диспропорций в распре¬
делении доходов; наряду с относительно высокоопла¬
чиваемыми слоями рабочих даже в наиболее развитых
капиталистических странах — например, в США — су¬
ществует бедность в полном смысле этого слова. Ко¬
нечно, критерии бедности ныне не те, что сто лет на¬
зад, но это вовсе не значит, что она перестала суще¬
ствовать7. Бедняцкие слои составляют в наше время
прежде всего чернорабочие-иммигранты, вообще не¬
квалифицированные и сельскохозяйственные рабочие,
а также масса пенсионеров. К этому следует до¬
бавить, что на положение всех категорий трудящихся
влияет инфляция, которая даже в случае повышения
зарплаты «отнимает» значительную часть этого повы¬
шения.
Зависимость между инфляцией и жизненным уров¬
нем трудящихся характеризуется приводимыми ниже
данными:
В США средняя почасовая заработная плата в не¬
сельскохозяйственных секторах составляла в 1961 г.
2,14 долл. К 1970 г. она повысилась до 3,22 долл., ин¬
декс же цен на товары широкого потребления вырос
почти на 30%.
25
Во Франции в 1961 г. почасовая зарплата состав¬
ляла 2,27 фр., в 1970 г. — 4,66 фр. Рост цен за эти
годы достиг 40%.
В ФРГ почасовая заработная плата в 1961 г. рав¬
нялась 2,95, а в 1970 г. — 6 маркам. Рост цен за тот
же период превысил 25%. Повышение почасовой зар¬
платы выглядит столь внушительным лишь благодаря
нехитрому статистическому приему, дело в том, что
до 1964 г. при ее определении статистика включала
также зарплату молодых, низкооплачиваемых работ¬
ников, после же 1964 года этого уже не делается.
По Италии нужные нам данные имеются только
с 1965 г. В то время средняя почасовая зарплата рав¬
нялась 400 лирам, цены же с 1961 по 1965 г. выросли
почти на 40%.
В Великобритании почасовая зарплата мужчин в
1961 г. составляла 6 шилл. 5,7 пенса, в 1969 г.—
10 шилл. 8,1 пенса; зарплата женщин в 1961 г.—
3 шилл. 10,7 пенса, в 1969 г. — 6 шилл. 4,3 пенса.
(Следует заметить, что большая разница в почасовой
зарплате мужчин и женщин существует и в осталь¬
ных странах, что же касается английской статистики,
то она даже не приводит данных о средней зарплате.)
За это время цены в Англии выросли почти
на 40%.
Как видим, значительная часть повышения зара¬
ботной платы сводится на нет ростом цен. Кроме того,
в отдельные периоды положение рабочих и служащих
бывает особенно тяжелым: ведь повышения зарплаты
удается добиться лишь после упорной борьбы, спустя
какое-то время после того, как повышение цен уже
произошло8.
Хорошей иллюстрацией этого противоречия яв¬
ляется рост числа забастовок со второй половины
60-х годов. Согласно статистическим данным Междуна¬
родной организации труда, количество рабочих дней,
потерянных из-за забастовок, в конце десятилетия по
сравнению с его началом выросло в США и Франции
почти на 40, в Италии — на 300 и в ФРГ — на 10%.
Все это говорит о том, что, хотя жизненный уро¬
вень повысился и так называемое «потребительское
общество» отчасти удовлетворило некоторые из таких
потребностей, наличия которых у рабочих капитализм
26
ранее не признавал, сами социальные противоречия
№ исчезли. Они сохраняются в условиях не только
нищеты, но и относительного благосостояния, ибо и
на его фоне столь же ясно, какие несправедливости
порождает капитал, капиталистическая частная соб¬
ственность.
2. В минувшие десятилетия идеологи капитализма
не переставали твердить, что только общество, осно¬
ванное на частной собственности, в состоянии создать
подлинную демократию, обеспечить равные права
всем и каждому. В США движение за гражданские
права негров впервые привлекло внимание не только
к расовому, но и к экономическому, социальному и
политическому неравноправию. Затем бедственное
положение белых бедняков заставило американскую
общественность понять, что, для того чтобы пользо¬
ваться правами, нужно располагать и экономическими
средствами.
В Западной Европе план Маршалла и послевоен¬
ная конъюнктура в известной степени стабилизировали
позиции буржуазной демократии. В одних странах
буржуазия в борьбе против требований рабочих обра¬
тилась к социал-демократии (в ФРГ и Италии), в дру¬
гих использовала возможности, предоставляемые двух¬
партийной системой (в Англии, где этот метод был
использован в комбинации с предыдущим), или ввела
президентское правление, опирающееся главным обра¬
зом на консервативные силы (во Франции). Даже в
таких странах, как Франция или Италия, где дей¬
ствуют сильные коммунистические партии, буржуаз¬
ная демократия — с помощью американского им¬
периализма— предприняла попытки изолировать и
вытеснить из общественной жизни наиболее последова¬
тельные левые силы. Буржуазные идеологи полагали,
что конъюнктура 50-х годов, повышение жизненного
уровня, распространение идеала потребительства и
сопутствующая этому «деполитизация» приведут к
сглаживанию противоречий или по меньшей мере к
пассивности широких масс в социально-политических
вопросах и вместе с тем к сокращению влияния левой
политики вообще.
Однако уже с начала 60-х годов и в Западной Ев¬
ропе многие осознали, что буржуазная демократия
27
не в состоянии решить крупные социальные, полити¬
ческие и, не в последнюю очередь, культурные про¬
блемы. Стало ясно, что капиталистическая эксплуата¬
ция не исчезла, что в основе социального неравенства
лежат экономические причины, а ни одна буржуазная
партия так и не смогла предложить решения этих про¬
блем. Что же касается осуществления политической
власти, становилось все более ясно, что буржуазная
демократия не обеспечивает истинной альтернативы.
Собственно говоря, можно выбирать между той или
иной буржуазными партиями, но власть в любом слу¬
чае остается у капиталистов9.
3. «Деидеологизация», на которой строились тех¬
нократические воззрения, не оправдалась и в отноше¬
нии образа жизни. Часть молодой интеллигенции на¬
шла отвратительной бессодержательность и пустоту
образа жизни потребительского общества и — вначале
посредством романтического бунта — выразила про¬
тест против того, что она назвала «отчуждением».
К романтическим формам бунта против буржуаз¬
ного образа жизни мы относим и ту «сексуальную ре¬
волюцию», которую столь широко рекламировали
буржуазные психологи и социологи и в которой кое-
кто из «марксиствующих» идеологов усматривает
средство социального освобождения. Нет сомнения,
что буржуазная семья оказалась в состоянии кризиса,
а молодежь уже не желала жить так, как жили роди¬
тели. В то же время именно в сексуальной области
буржуазное общество сочло возможным сделать наи¬
большие уступки, полагая, что в этой сфере жизни
можно спокойно открыть «предохранительные клапа¬
ны». Большой бизнес, от промышленности до искус¬
ства, «подхватил» этот бунт и развернул вокруг секса
грандиозную пропаганду не только из расчета хорошо
заработать, но и будучи убежден, что распущенность,
проявляющаяся в этой области, устоям капиталисти¬
ческой системы не угрожает.
Выразителями романтического бунта было так на¬
зываемое «разбитое» поколение, или битники, а за¬
тем движение хиппи, впервые возникшее в США и
ставившее своей задачей создание «контркультуры».
Имелось в виду распространить эту контркультуру на
все области жизни: молодые люди уходили из бур¬
28
жуазного общества, создавая небольшие общины,
коммуны, жившие в значительной мере за счет подая¬
ний, сводившие свои потребности к минимуму и выра¬
ботавшие свой особый образ жизни, важную роль в
котором играло употребление наркотиков. Капитали¬
стический бизнес стремился интегрировать движение
хиппи, как и другие считавшиеся «отклонениями от
нормы» явления, и добился в этом немалых успехов.
Тем не менее эта форма протеста оказала сильное
воздействие на молодежь, и особенно на студенче¬
ство 10.
4. Недовольство студентов порождается целым ря¬
дом причин: переполненностью университетов, их
окостеневшей внутренней организацией, недостатком
материальных средств, устаревшими учебными мате¬
риалами и методами преподавания и, наконец, изме¬
нением общественного положения студентов. Очевид¬
но, что там, где для части слушателей не находится
места в аудиториях или на лабораторных занятиях,
не приходится и говорить о каких-либо личных кон¬
тактах между студентами и преподавателями, что в
свою очередь не может не отразиться на качестве по¬
лучаемых студентами знаний. Кроме того, устаревший
учебный материал, а это касается в первую очередь
общественных наук, вызывает антипатию у наиболее
способных студентов. В итоге из-за недостаточной
подготовки многие проваливаются на экзаменах, а
другие оставляют университеты еще до экзаменов.
В западноевропейских странах — без учета Англии —
30—40% слушателей после одного-двух лет учебы от¬
казывается от продолжения занятий.
Противоречия общей социально-экономической си¬
туации 60-х годов способствовали росту у студентов
чувства тревоги в отношении своего профессиональ¬
ного будущего в связи с трудностями с получением
работы. По данным одного из опросов, проведенных
французским Институтом общественного мнения, 56%
студентов назвали беспокойство по поводу будущей
работы одной из главных причин, вызвавших волне¬
ния весной 1968 г. Общей социально-экономической
ситуацией объясняется и тот факт, что студенты
острее обычного реагировали на экономические труд¬
ности, имевшие место в период их учебы. В 60-е годы
29
в ФРГ, Франции и Италии стипендии получали 17—
21% студентов, в Англии— 80%. Для студентов из
семей рабочих и служащих это отнюдь не озна¬
чало улучшения шансов на завершение образо¬
вания и.
Надо сказать, что внутреннее положение в разви¬
тых капиталистических странах лишь отчасти объяс¬
няет недовольство властью и ее институтами, про¬
явившееся во второй половине 60-х годов среди
широких слоев населения этих стран. Причины взрыва
нужно искать и в международном положении. Хотя
в этом десятилетии в отношениях между двумя обще¬
ственными системами произошло некоторое ослабле¬
ние напряженности, одновременно с этим в мире воз¬
никли новые опасные источники международных кон¬
фликтов.
Наибольшую тревогу и вместе с тем глубочайшее
возмущение вызвала война американского империа¬
лизма во Вьетнаме. Она оказала влияние на положе¬
ние во всем мире, а американскую молодежь затро¬
нула и непосредственно. В развитых капиталистиче¬
ских странах война вызвала возмущение и горечь не
только потому, что в ходе ее уничтожалось множество
человеческих жизней и материальных ценностей, в
огромных масштабах применялось насилие в отноше¬
нии мирных жителей, но и потому, что США осуще¬
ствляли свои агрессивные действия под флагом
защиты демократии, ссылаясь на права народов и
права человека. Война ясно показала всем и каж¬
дому, что ради того, чтобы сохранить свою власть,
империализм готов пойти на самые варварские и же¬
стокие действия в отношении ни в чем не повинных
людей. Стало также очевидным, чего стоит в наибо¬
лее развитых капиталистических странах буржуазная
демократия; иными словами, стало ясным, что дей¬
ствиями правящего класса движут в первую очередь
интересы сохранения и упрочения своего господства,
а отнюдь не забота о правах человека.
Возникновения «нового левого» течения нельзя
было бы себе представить, если бы не было коммуни¬
стического движения и социалистических стран. Это
течение при своем возникновении обнаружило не
только антикапиталистическую направленность, но и
30
антикоммунизм, и поэтому его отношение к реальному
социализму и политике коммунистических партий
было двойственным и противоречивым. Уже сам факт
наличия в историческом плане альтернативы капи¬
талистическому обществу, само существование
социализма побуждали определенные мелкобуржуаз-
ные слои верить в возможность изменения существую*
щего общественного строя. Эти слои — особенно в За¬
падной Европе — восприняли от марксизма истину о
наличии классовой борьбы между трудом и капиталом
и о невозможности разрешить основные социальные
противоречия без изменения общественного строя.
Признание этой важной истины, однако, не привело
«новых левых» на путь марксизма. Этому помешали
не только их классовое положение, но и их антикомму¬
низм, который в немалой степени как раз и является
Порождением буржуазной пропаганды, пытающейся
манипулировать сознанием индивида.
В рамках этой манипуляции «новых левых» ис¬
пользовали для того, чтобы снабдить антикоммунизм
ровыми аргументами, заимствованными из воззрений
Отдельных, нередко враждующих между собой групп.
Группы эти обвиняли социалистические страны и
коммунистические партии в предательстве революции
й оставлении вьетнамского народа на произвол судь¬
бы и таким образом своим ультрарадикализмом,
игнорирующим исторические и политические реально¬
сти, вольно или невольно лили воду на мельницу
антикоммунистической пропаганды и способствовали
разобщению левых сил.
С социальным фоном и движущими силами «но-
вогр левого» течения мы уже знакомились, при этом
Наш краткий обзор имел своей целью показать, что
причины, породившие данное течение, не сводятся к
Причинам психологического порядка или же к отсут¬
ствию взаимопонимания между разными поколе¬
ниями. «Новые левые» — противоречивый продукт
проявления характерных для всего капиталистиче¬
ского общества противоречий и борьбы между двумя
мировыми общественными системами, между силами
31
международного рабочего движения и реакционными
антидемократическими силами.
Причины возникновения отдельных групп и дви¬
жений, стоящих за общим названием «новые левые»,
нельзя рассматривать вне времени и конкретных
условий. Перечисленные выше причины в их совокуп¬
ности были характерны для «нового левого» течения
и его отдельных проявлений главным образом в пе¬
риод до 1969 г., хотя и тогда уже обозначались раз¬
личия между американским и западноевропейским
течениями. Затем начался новый этап развития «но¬
вых левых», формировавшийся под влиянием уже
отчасти иных факторов, среди которых война во
Вьетнаме почти полностью отошла на задний план.
■
Ill
ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
Соединенные Штаты Америки
В начале 60-х годов в США развернулась борьба за
гражданские права негров. Мартин Лютер Кинг и
другие представители этого движения стремились вы¬
вести цветное население страны из состояния апатии,
пытаясь организовать массовое движение за равно¬
правие. В то время был образован Студенческий
координационный комитет ненасильственных дей¬
ствий — СККНД (Student Nonviolent Coordinating
Committee, SNCC), который, как писал один из экспер¬
тов американского журнала «Нью лефт» МассимоТео-
дори, «с иудейско-христианским .непорочным идеализ¬
мом» примкнул к движению «черных»1. Хотя это
провозглашавшее «неприменение насилия» движение
и помогло вывести общественность из состояния апо¬
литичности, данная форма борьбы не принесла ощути¬
мых результатов, не смогла увлечь за собой эксплуа¬
тируемые слои белого населения.
В 1962 г. в стенах университетов зародилось новое
движение, получившее название «Студенты за демо¬
кратическое общество» — СДО (Students for a Demo¬
cratic Society, SDS) и ставившее своей целью дости¬
жение социального равенства, обновление амери¬
канского общества, реорганизацию отношений ме¬
33
жду университетом и обществом. Тогда же родилась
Порт-Гуронская декларация — один из важнейших
программных документов американских «новых
левых».
Весьма немногочисленная группа интеллектуалов в
середине 60-х годов создала Прогрессивную рабочую
партию (Progressiv Labour). Оживилась также дея¬
тельность троцкистов, представленных двумя фрак¬
циями: «социалистической рабочей партией» (Socia¬
list Worker’s Party) и ее молодежной организацией,
«союзом молодых социалистов» (Young Socialist Al¬
liance), а также ламберистской группой, объединив¬
шейся вокруг периодического издания «Бюллетень».
Кое-где имели место попытки организовать партии,
объединяющие демократические силы (так, например,
в Калифорнии образовалась партия мира и свободы),
однако их деятельность в большинстве случаев огра¬
ничивалась одним-двумя штатами и была очень не¬
продолжительной.
Война во Вьетнаме способствовала радикализации
различных группировок, а их участие в движении про¬
теста против этой войны позволяло им распространять
свое влияние на более широкие слои. В 1964 г. в Ка*
лифорнийском университете Беркли было основано
«Движение за свободу слова» (Free Speech Move¬
ment), которое выступило с инициативой политиче¬
ского просвещения студенчества, стремилось разобла¬
чать ложные ценности буржуазного общества и
провозглашало необходимость насилия в целях изме¬
нения существующего положения. В рамках этой про¬
граммы начался захват университетов и состоялись
крупные массовые демонстрации.
Провозглашать радикальные лозунги начало к
Освободительное движение женщин (Women’s Lib),
а начиная с 1965 г. даже хиппи, считавшиеся нахо¬
дящимися вне общества, начали создавать неболь¬
шие организованные группы, например партию «Бе¬
лые пантеры» (White Panther Party) в Детройте.
В 1966 г. черные радикалы основали партию «Чер¬
ные пантеры» (Black Panther Party), которая в борь¬
бе за расовое равноправие не исключала и применения
насилия.
34
В 1967 г. с эскалацией войны во Вьетнаме в уни¬
верситетах разразились самые настоящие бунты, во
многих местах молодые люди отказывались подчи¬
ниться приказу о призыве в армию и оказывали со¬
противление властям. В 1968 г. после убийства Мар¬
тина Лютера Кинга, а затем в связи с майскими со¬
бытиями в Париже сопротивление проявлялось в
самых бурных формах.
В 1969 г. «новые левые» пережили кризис: органи¬
зация «Студенты за демократическое общество» рас¬
кололась на две части, одна из которых примкнула к
упомянутой «прогрессивной рабочей партии», другая
продолжала существовать под именем «Революцион¬
ного молодежного движения» (Revolutionary Youth
Movement), но вскоре и от него отделилась группа,
члены которой, вдохновляясь стихотворением Боба
Дилана «Subterranean Homesick Blue», стали назы¬
вать себя «предсказателями погоды» или «метеороло¬
гами» (Weathermen). Партия «Черные пантеры» так¬
же распалась на группы. Одновременно с кризисом
на Движение (Movement)—этим общим именем назы¬
вали американских «новых левых» — обрушивались
все более и более тяжелые полицейские репрессии.
Многие его лидеры оказались в тюрьмах или эмигри¬
ровали.
Под влиянием поражений часть молодежи отошла
от политики и вместо общественной борьбы выдви¬
нула в качестве цели построение так называемого
«параллельного общества», создание «контркультуры».
Сторонники этого направления стремятся уйти из
общества, создают «коммуны», «большие семьи» или
«племена», живущие в соответствии со своими соб¬
ственными правилами и нормами. По некоторым дан¬
ным, в 1971 г. в США было две тысячи коммун, в ко¬
торых насчитывалось почти двадцать тысяч членов 2.
Такие группы хиппи, как «Молодежная интернацио¬
нальная партия» (Youth International Party), орга¬
низация «Йиппи» *, «Rising up Angry» («Вос¬
стань во гневе») или «Street People» («Уличные
люди»), занимались главным образом организацией
* «Йиппи» (Yippies) от Youth Inteinational Party (сокр. —.
Yip). — Прим. перев%
35
Газднеств», больших поп-фестивалей, могущих —
крайней мере хоть на какое-то время — создать
цллюзию «особого мира». Это новое романтическое
Качение, которое после организованного в Вудстоке в
1,069 г. большого поп-фестиваля кое-кто именует
^вудстокской нацией», превосходно уживается с раз¬
личными христианскими или восточными религиоз¬
ными течениями. В значительной степени под влия¬
вшем этого течения находится подпольная пресса, на¬
считывающая до 600 изданий и якобы имеющая до
3 млн. читателей 3. Эта невинная форма протеста не
слишком беспокоит американский истэблишмент, ко¬
торый считает, что ему удалось «рекуперировать»
бунтарей. Репрессивная машина государства, как это
показал процесс Анджелы Дэвис, обрушивается в
первую очередь на тех, кто ориентируется на комму¬
нистов или уже стал членом Коммунистической пар¬
тии США.
Западный Берлин и ФРГ
Первой по времени на деятельность американских
«новых левых» откликнулась университетская моло¬
дежь Западного Берлина. Как известно, после войны
Западный Берлин стал одним из центров антикомму¬
нистической пропаганды, на службу которой хотели
поставить и созданный там так называемый «Свобод¬
ный университет». В 1960 г. одна из действующих в
этом университете студенческих организаций — Социа¬
листический союз немецких студентов, ССНС (So¬
zialistischer Deutscher Studentenbund, SDS), — была
исключена из социал-демократической партии за
оппозиционность. Определенную лепту в дело «поли¬
тизации» западноберлинских студентов внес и Уни¬
верситет Беркли, с которым они установили прямые
связи. Состоявшаяся в июне 1967 г. демонстрация
протеста против визита иранского шаха была разог¬
нана полицией, рвение которой стоило жизни одному
студенту.
Выступления молодежи вызвали сочувствие у
узкого круга интеллигенции, но вместе с тем и осуж¬
дение со стороны буржуазных партий — в том числе
36
социал-демократической партии, — которое было
поддержано средствами массовой информации (в част¬
ности, прессой концерна Шпрингера). К выступле¬
ниям против студенчества присоединились и неофа¬
шисты. В созданной таким образом атмосфере истерии
И апреля 1968 г. было совершено покушение на Руди
Дучке, одного из руководителей ССНС. Студенты
ответили на это демонстрациями протеста в Западном
Берлине и крупных городах Западной Германии, что
повлекло за собой новые жертвы. Одновременно эти
акции протеста были направлены против так на¬
зываемых чрезвычайных законов, с помощью кото¬
рых правительство хотело обеспечить себе особые
полномочия для защиты общественного порядка.
События, разыгравшиеся весной в Париже, вызва¬
ли новый подъем студенческих выступлений, одна¬
ко уже в сентябре 1968 г. в ССНС произошел рас¬
кол.
После большого взлета 1968 г. движение «новых
левых» в Западном Берлине и Западной Германии
утратило политическое значение, хотя отдельные не¬
большие его группы, уяснив необходимость «органи¬
зованности», образовали различные партийные груп¬
пировки: наиболее активной из них в последнее время
является «марксистско-ленинская коммунистическая
партия Германии» (Kommunistische Partei Deutsch¬
lands Marxistisch-Leninistisch). В ней имеются две
секции, группирующиеся вокруг печатных органов
«Roter Morgen» и «Rote Fahne», а также разного
рода филиалы (для молодежи, студенчества), однако
число ее активных членов, по данным западногерман¬
ской печати, не превышает трехсот человек.
Различными направлениями представлены также
троцкисты, примыкающие к международным органи¬
зациям. Имеются «левые троцкисты» (франкисты), су¬
ществует группа, _ именующая себя «троцкистским
инициативным комитетом по созданию революцион¬
ной организации».
Террористические акции группы Баадера — Майн¬
хоф привлекли внимание и к западногерманским анар¬
хистам.
Для всех указанных выше групп «новых левых»
характерна ожесточенная фракционная борьба, ко¬
3/
торая в организационном отношении ведет ко все но¬
вым и новым расколам.
В настоящее время некоторые бывшие «новые ле-
вые» действуют в составе социал-демократической
партии н пополняют шбой ряды течения «молодых
социалистов». Немило их, однако, сделало выбор в
пользу Германской коммунистической партии и ее
молодежных организаций, в последнее время значи¬
тельно окрепших и располагающих достаточно раз¬
витой сетью партийной печати, включающей в себя,
кроме газеты «Унзере цайт», почти 700 заводских
газет.
Франция
Из всех «новых левых» движений наиболее инте¬
ресно и значительно французское. Термин «новое
левое» символизирует во Франции объединение сил
левых партий и поэтому там используют другой тер¬
мин— «левизна» (гошизм), о правильности которого
в данном случае можно спорить, ибо Ленин применял
это слово для обозначения ультрарадикальных на¬
правлений, возникавших в рядах партии.
Кстати, ультрарадикализм имеет во Франции ста*
рые традиции. Впервые черное знамя анархистов
было водружено на здании парижской мэрии в
1830 году, и с тех пор анархизм в виде бланкистских
и других традиций продолжал существовать, в первую
очередь в профсоюзах 4. После второй мировой войны
возникали ы возникают различные небольшие анар¬
хистские группы, вроде «анархистской революционной
организации» (Organisation Revolutionnaire Anarchis-
te), «коммунистического движения либертэр» (Mou¬
vement Communiste Lifeertaire), которое в последнее
время стало именоваться «коммунистической органи¬
зацией либертэр» (Organisation Communiste Liber-
taire). Слово «либертэр», собственно говоря, является
синонимом слова «анархистский».
Троцкисты, как организационно оформленное те¬
чение, вышли на сцену в 1938 г. одновременно с
образованием IV Интернационала. Однако не все
троцкисты примкнули к iV Интернационалу; так, на-
38
пример, уже в 1940 г. группа под названием «Рабочая
борьба» (Lutte Ouvriere) действовала обособленно.
В 1952 г. Пьер Ламбер и другие, составлявшие
большинство в «международной коммунистической
партии» (французская секция), осудили «энтризм»
Мишеля Рапсиса (он же «Пабло»), то есть политику
«проникновения» троцкистов в существующие рабо¬
чие организации. Ламберисты намеревались сформи¬
ровать отдельную организацию, которая выступила
бы за создание своего рода «рабочего фронта». Так,
во Франции была основана «международная комму¬
нистическая организация» (Organisation Communiste
Internationale), а в Англии — «троцкистская социали¬
стическая рабочая лига» (Trockist’s Socialist Labour
League). Кроме того, образовалась еще одна троц¬
кистская группа во главе с Франком, называвшая
себя «интернационалистской коммунистической пар¬
тией» (Parti Communiste Internationaliste) и пытав¬
шаяся приобрести сторонников прежде всего среди
университетской молодежи. Эта партия стремилась
принимать участие в деятельности Союза студентов-
коммунистов (Union des Etudiants Communistes), с
тем чтобы использовать эту организацию в своих
целях. Начиная с 1963 г. Союз переживал кризис и
стал ареной фракционной борьбы. Существовавшая
в нем так называемая «итальянская» группировка
потерпела поражение и в 1965 г. была исключена.
Место оппозиции заняли тогда троцкисты во главе с
Алэном Кривином, но в 1966 году они также были
исключены из Союза. Исключенные основали свою
собственную организацию под названием «революци¬
онная коммунистическая молодежь» (Jeunesse Com¬
muniste Revolutionnaire), которая имела достаточ-
, но сильное влияние в различных университетах, в
частности в Нантере, и вместе с другими группами
активно участвовала в майско-июньских событиях
1968 г.
Из этой группы в 1969 г. под руководством Кри-
вина сформировалась так называемая «коммунистиче¬
ская лига» (Ligue Communiste). В 1968 г. активную
роль среди троцкистов играл наряду с группой при¬
верженцев Кривина «комитет связи революционных
студентов» (Comite de Liaison des Etudiants Revolu-
39
tionnaires) и ставшая его преемницей «Федерация
революционных студентов» (Federation des Etudiants
Revolutionnaires), которые, придерживаясь ламбе-
ристского направления, стремились путем захвата
Промышленных предприятий привлечь на свою сторону
рабочих.
В 1967 г. возникла группа, которая после неодно¬
кратных переименований стала называться «фран¬
цузской коммунистической марксистско-ленинской
Партией» (Parti Communiste Leniniste-Marxiste de
Prance). После того как ее в 1968 г. запретили, эта
партия в основном стала проявлять свою активность
& виде небольших региональных групп и выступает
на страницах еженедельника «Юманите руж» (L’Hu-
manite Rouge). Имеется и другая группа аналогич¬
ного направления, именующаяся «марксистско-ленин¬
ским центром Франции» (Centre Marxiste et Leniniste
de France) со своим печатным органом «Трибюн руж»
(Tribune Rouge).
Главным образом среди французского студенчества
действовал «союз коммунистической (марксистско-ле¬
нинской) молодежи» (Union des Jeunesses Communi-
stes, Marxiste-Leniniste), сторонники которого в тече¬
ние определенного времени поддерживали связь с
Л. Альтюссером (L. Althusser). С 1966 г. они начали
свою деятельность и выпуск периодического издания
«Кайе марксист-ленинист» в Высшей нормальной
школе (Ecole Normale Superieure) — одном из глав¬
ных центров подготовки ведущих кадров французской
интеллигенции. Эта группа в мае 1968 г. выступила
против студенческого авангардизма, заявив, что «кри¬
терием, на основе которого можно судить о том, кто
есть настоящий революционер, является умение под¬
держивать связь с пролетарскими массами».
Члены группы осудили таких «туманных идеоло¬
гов», как Герберт Маркузе, Эрнест Мандель и Даниэль
Кон-Бендит,
Даниэль Кон-Бендит в мае 1968 г. стал видной
фигурой французского студенческого движения. Он
может по праву считать себя столь же немцем, сколь
и французом, и это дало ему возможность в Западном
Берлине ознакомиться со студенческим движением
40
«новых левых», а переселившись во Францию, занять¬
ся распространением своих взглядов в Нантере. Свою
деятельность он начал в группе анархистов, возник¬
шей еще в 1956 году и издававшей журнал «Черное
и красное» (Noir et Rouge).
22 марта 1968 г. студенты философского факуль¬
тета Нантерского университета в знак протеста про¬
тив ареста нескольких своих товарищей захватили
помещение педагогического совета. Здесь родилось
Движение 22 марта, в котором Кон-Бендит играл важ¬
ную роль. Эту группу обычно причисляли к так на¬
зываемым «спонтанеистам», основавшим «Ситуацио-
нистский интернационал» (Internationale Situatio-
niste), который в период, предшествовавший событиям
1968 г., приобрел известность главным образом кри¬
тикой буржуазной культуры.
Как известно, одной из основных особенностей
майских и июньских дней 1968 г. была «контестация»,
протест против капиталистической культуры. Однако
майское движение в целом этим не ограничилось,
вступив на путь политических действий, и притом не
только в рамках университетов. Законные требования
студентов были поддержаны рабочими и их органи¬
зациями, которые в то же время боролись и за свои
собственные цели, за повышение зарплаты и улучше¬
ние условий труда. Часть студентов и интеллигенции
ждала, что рабочие выдвинут задачу свержения об¬
щественного строя, и поэтому до поры до време¬
ни верила «левацким» нападкам на коммунистов и
ВКТ. По оценке же французских коммунистов, в
1968 г. революционной ситуации не было, и они от¬
вергли навязываемую им авантюристическую поли¬
тику.
После 1968 г. во Франции главной темой дискус¬
сий в кругах «новых левых» стала проблема органи¬
зации. Определенные шаги в этом направлении пред¬
приняли троцкисты, которые основали близкую к
троцкистскому течению Франка «коммунистическую
лигу» (запрещенную в июне 1973 г.).
Помимо этого, кроме упоминавшихся групп, полу¬
чила определенную известность возглавлявшаяся Алэ-
ном Жесмаром так называемая «пролетарская левая»
(La gauche proletarienne) и ее печатный орган «Дело
41
народа» (La cause du peuple), пытавшиеся завоевать
влияние на предприятиях, выступая против ФКП и
ВКТ. Когда эту организацию запретили, руководство
газетой взял на себя известный французский писа¬
тель и философ Жан-Поль Сартр. С деятельностью
группы Жесмара связана также состоявшаяся в 1972 г.
в Булонь-Бийянкуре стычка нескольких групп рабо¬
чих с силами охраны порядка, в которой погиб моло¬
дой рабочий Пьер Оверней.
Сартр в течение известного времени поддерживал
издание еще одной «левацкой» газеты «Идио интер-
насьональ» (L’ldiot International), которая затем пре¬
кратила свою деятельность. Сравнительно недавно он
вновь организовал издание ежедневной газеты, ставя¬
щей целью сплочение различных «левацких» сил и
группировок.
В сентябре 1970 г. одна весьма экстравагантная
левацкая группа в течение недолгого времени изда¬
вала при содействии Жан-Поля Сартра газету под
названием «Чего мы хотим: все» (Се que nous vou-
lons: Tout), где подвергала критике не только то на¬
правление, которого ранее придерживалась сама, но
и троцкизм, декларируя при этом своего рода спон-
танеизм. Она положила начало «освободительному
движению женщин» (Mouvement de liberation des
femmes), «гомосексуалистскому фронту революцион¬
ного действия» (Front homosexuel d’action revolution-
naire), «освободительному фронту молодых» (Front
de Liberation des Jeunes). Уже сами эти названия
говорят о том, что программные установки указанных
групп ориентированы не на общие социальные и по¬
литические требования, а, скорее, на индивидуалист¬
ские формы протеста, в центре которых зачастую
оказывается проповедь анархистской свободы и куль¬
та вседозволенности.
Отдельные группы французских «новых левых»
действовали также в Объединённой социалистической
партии (Parti Socialiste Unitaire, PSU), но в 1972 г*
вследствие столкновения с большинством руководства
партии они были вынуждены покинуть ряды этой
партии.
Следует отметить, что часть «леваков» в послед*
ние годы выступила против своих прежних взглядов
42
и в 1973 г. помогала Французской коммунистической
партии в проведении предвыборной кампании; немало
их вступило в ее ряды.
Италия
Положение итальянских «новых левых» во многом
сходно с положением французских, но в то же время
в ряде существенных моментов заметно отличается от
него. В Италии экономические, а следовательно, и
классовые противоречия значительно острее, и в силу
этого расстановка политических сил буржуазии и
пролетариата там выглядит иначе. У буржуазии нет
так называемых центристских партий, сильна консер¬
вативная католическая тенденция, вместе с тем зна¬
чительную активность проявляют и крайне правые, в
том числе неофашисты. Правительству так называе¬
мого «левого центра» в составе христианских демо¬
кратов и социал-демократов в 60-е годы удалось до
известной степени стабилизировать политическую си¬
туацию, но вскоре начался правительственный кризис
и социал-демократы были вынуждены перейти в
оппозицию. Итальянская коммунистическая партия —
это мощная массовая партия, изолировать которую
«левоцентристская» политика оказалась не в со¬
стоянии.
Поляризация общественных сил и обострение
межпартийной борьбы имели своим следствием тот
факт, что в Италии движение «новых левых» не про¬
явило себя с такой силой, как во Франции.
«Леваки» и ранее были здесь представлены не¬
большими и давно сложившимися ультралевыми
группами. Старой организацией анархистов является
«итальянская анархистская федерация» (Federazione
Anarchista Italiana). С ней соперничает «Движение
(подпольное) 22 марта», которое в последние годы
приобрело шумную известность — этой анархистской
группе приписывали различные террористические ак¬
ции с использованием бомб. Также на несколько групп
делятся и троцкисты, среди которых имеются предста¬
вители таких «международных течений», как «фран¬
кисты», «паблисты», «ламберисты» и др.
43
После разного рода подготовительных мероприятий
в 1968 г. был образован «Союз коммунистов марк-
систов-ленинцев» (Unione dei Communisti Marxisti-
Leninisti), носящий в настоящее время имя «Итальян¬
ской коммунистической (марксистско-ленинской) пар¬
тии». В 1969 г. в Италии была сформирована группа
«Рабочая власть» («Potere Operaio), которая про¬
кламирует стихийность, отвергает руководящую роль
партии, утверждая при этом, что революционный
импульс будет дан «третьим миром». Группы
«Борьба продолжается» (Lotta Contiuna) и «Рабо¬
чий авангард» (Avangardia Operaia) представляют
собой причудливую мешанину спонтанеизма и тер¬
роризма, сопровождаемых аккомпанементом славо¬
словий в адрес рабочего класса. Среди студентов с
1968 года действует «Студенческое движение (Movi¬
mento Studentesco) с центром в Милане.
В 1969 г. итальянские «новые левые» получили
нежданных союзников в лице группы «Манифесто»,
которая была исключена^ из Итальянской коммунисти¬
ческой партии. Группировка эта попыталась устано¬
вить связи со старыми «леваками», но особого успеха
не имела.
«Новые левые» в Италии оказались изолирован¬
ными и ныне вряд ли имеют какое-либо политическое
значение. Выборы 1972 г. доказали, что подлинную
альтернативу капитализму предлагает лишь Итальян¬
ская коммунистическая партия. Выступившая против
нее группа «Манифесто» потерпела фиаско. Груп¬
пы «Борьба продолжается», «Рабочая власть», «Сту¬
денческое движение» и некоторые другие еще продол¬
жают пользоваться небольшим влиянием преимуще¬
ственно в некоторых кругах интеллигенции.
Великобритания
В Англии обычно различают течение «новых ле¬
вых», представители которого покинули ряды комму«
иистической партии, й «ультралевых» — группы, в ор¬
ганизационном плане примыкающие в основном к
троцкистам или анархистам5*
44
Троцкисты в период 1944—1949 гг, образовывали
ртдельную партию, но затем распустили ее и влились
в партию лейбористов, где издавали газету «Сошиа-
Лист аутлук» (Socialist Outlook). После 1956 г. была
создана «социалистическая рабочая лига» (Socialist
Labour League), в которую вступило и несколько
бывших коммунистов. Троцкистские лидеры, группи¬
рующиеся вокруг периодического издания «Кип лефт»,
пытаются оказывать влияние прежде всего на моло¬
дых социалистов. Другое течение, «международная
марксистская группа» (International Marxist Group)*
развивает деятельность внутри лейбористской партии.
В этой же партии действует небольшая группа, назы¬
вающая себя «революционной социалистической ли¬
гой» (Revolutionist Socialist League). Наконец, име¬
ются и еще более мелкие троцкистские группы, такие,
как, например, «марксистско-революционная тенден¬
ция» (Revolutionary Marxist Tendency) или «партия
революционных рабочих» (Revolutionary Worker’s
Party), которая связана в основном с латиноамери¬
канскими троцкистами. Порвавший с Троцким Макс
Шехтман (Max Schacktman) создал группу под на¬
званием «международный социализм» (International
Socialism), которая также действует внутри лейбо¬
ристской партии.
Что же касается анархистских и синдикалистских
групп, то они заявляют о своем существовании преж¬
де всего печатными изданиями («Freedom», «Black
Flag» и т. д.). Помимо этого, имеется по меньшей
мере дюжина непрестанно спорящих между собой
различных групп, в том числе группа, называющая
себя «коммунистической (марксистско-ленинской)
партией Великобритании».
И наконец, сторонников «новых левых» в весьма
ршроком и расплывчатом понимании этого слова
можно встретить и в некоторых кругах английской
интеллигенции. Чаще всего они объявляются внутри
лейбористской партии и выступают с самостоятель¬
ными периодическими изданиями.
■
Этот обзор организационных форм и действий
«новых левых» был необходим, для того чтобы дать
45
некоторое представление об их основных идейно-по¬
литических ориентациях. Если попытаться их класси¬
фицировать, то на основе вышеизложенного можно
выделить следующие основные ориентации:
1) анархисты;
2) троцкисты;
3) близкие к двум предыдущим ультрарадикально
настроенные сторонники «третьего пути» из числа
неорганизованных представителей интеллигенции;
4) неоромантические группы протестующей моло¬
дежи, близкие к анархистам, но отвергающие поли¬
тическую деятельность.
Указанные направления в отдельных странах вы¬
глядят весьма по-разному; особенно велико различие
между «новыми левыми» в США и таких странах
Западной Европы, как Франция или Италия. Это, од¬
нако, не означает, что они не пытаются сотрудничать
в международном масштабе. Одна из их основных
целей состоит как раз в том, чтобы придавать всем
своим выступлениям интернациональный характер.
Этому немало способствуют общие идеологические
источники.
IV
ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ
■
При изучении идеологии «новых левых» нельзя огра¬
ничиваться анализом того, что написано авторами,
принадлежащими к этому течению; необходимо знать
и те теоретические источники, из которых они черпают.
Таковыми являются буржуазно-либеральные школы
общественных наук, некоторые мелкобуржуазные ин¬
терпретации марксизма и отдельные направления
буржуазной литературы и искусства. Не касаясь всех
этих вопросов подробно, мы ограничимся лишь неко¬
торыми положениями, которые касаются взглядов
«новых левых».
Политэкономия
В 30—40-х годах нашего столетия в буржуазной
политэкономии самой влиятельной и авторитетной
была теория Кейнса, сделавшая из уроков экономиче¬
ского кризиса 1929—1933 гг. определенные выводы
относительно «регулирующей» роли капиталистиче¬
ского государства. В соответствии с этой теорией го¬
сударство должно наряду с прочими мерами посред¬
ством капиталовложений способствовать росту по¬
требления и тем самым предотвращать кризисы
А?
производства. С этой теорией тесно связана концеп¬
ция полной занятости, заключавшаяся, коротко го¬
воря, в утверждении необходимости того, чтобы все
получали доход и тем самым становились потребите¬
лями. Кейнс признавал, что возникшая при классиче¬
ском капитализме теория автоматического равновесия
неприменима в условиях империализма, но не сделал
из этого вывода о необходимости преобразования
производственных отношений. Напротив, он считал
капиталистический строй вечным и вмешательство
государства расценивал как деятельность политически
нейтральную и обусловленную чисто экономическими
моментами.
После второй мировой войны неокейнсианцы мо¬
дернизировали теорию своего учителя, однако в пяти¬
десятые годы у них появился серьезный конкурент в
лице так называемой неоклассической школы. Роберт
М. Солоу (Robert М. Solow) и его единомышленники
стремились связывать экономический рост — и вместе
с тем вопрос о соотношении производства и потреб¬
ления— не столько с капиталовложениями, сколько
с техническим прогрессом. Эта теория также обходит
проблему труда и социальных отношений
Обе теории сознательно стремятся затушевать
проявления социального неравенства, экономически
опровергнуть наличие эксплуатации, а заодно, есте¬
ственно, и классовой борьбы. К примеру, Пол Э. Са-
муэльсон (Paul A. Samuelson), один из самых изве¬
стных современных буржуазных экономистов, пытаю¬
щийся как-то объединить эти различные теории,
отвергая, подобно своим предшественникам, даже
само понятие эксплуатации, пишет в этой связи о
Марксе следующее: «Маркс делал особый упор на
теорию стоимости труда, в соответствии с которой
всякую стоимость создает труд, и если бы он не экс¬
плуатировался, то он должен был бы получать ее
целиком... Однако вдумчивые критики, принадлежа¬
щие к самым различным направлениям, придержи¬
ваются общего мнения, что это — бесплодный анализ» 2.
Однако среди «вдумчивых» критиков имеются и
такие, кто, хотя и не приемлет марксизма, в то же
время не склонен отрывать характерные экономи¬
ческие особенности современного капитализма от
48
социальных вопросов. Из числа этих буржуазно-либе¬
ральных критиков наиболее известен — в том числе и
у нас — Джон Кеннет Гэлбрейт, с которым одни круги
«новых левых» соглашаются, другие спорят. (Целя
именно в него, один из главных идеологов английских
«новых левых» Робин Блэкберн заявил, что «вакуум
в области политической экономии сделал возможным
расцвет нового жанра, который, судя по некоторым
признакам, представляет собой какую-то журналист¬
скую мешанину из поп-психологизирования и диле¬
тантской политэкономии».) Свою теорию Гэлбрейт
изложил в книге «Новое индустриальное общество» 3,
впервые увидевшей свет в 1966 г. По мнению амери¬
канского экономиста, термин «индустриальное обще¬
ство» в равной мере относится как к развитому капи¬
талистическому, так и к социалистическому обществу,
поскольку и то и другое является, по его мнению, не
чем иным, как продуктом научно-технической рево¬
люции. Таким образом, Гэлбрейт не делает различия
между двумя общественными формациями, но при
всем том его критика адресуется в первую очередь
капиталистическому обществу. Согласно ходу его рас-
суждений, хотя техника сама по себе и рациональна,
это не исключает иррациональность производства, ибо
оно создает излишние, ненужные товары, потребление
которых искусственно стимулируется, причем наряду
с этим не удовлетворяются действительные общест¬
венные потребности. Капиталистический строй ирра-
ционален еще и потому, что плохо распределяет про¬
изведенные продукты среди населения и неравным
распределением порождает социальные противоречия.
Гэлбрейт считает, что экономике присущи две так
называемые «субсистемы»: рыночная и промышлен¬
ная. Первую образуют мелкие производители — в
США это составляет примерно 10 млн. единиц, — вто¬
рую же — две тысячи крупных предприятий. Управ¬
ление последними обеспечивает «техноструктура»,
тесно переплетающаяся с государственной бюрокра¬
тией и образующая так называемый истэблишмент, то
есть строй, воплощенный в институтах. По мнению
Гэлбрейта, истэблишмент не в состоянии бороться с
иррационализмом, характеризующим производство и
распределение, Поэтому, как он считает, преподава¬
49
тели и ученые должны были бы взять на себя за¬
дачу установить господство рационализма с помощью
средств, предоставленных в их распоряжение госу¬
дарством.
Несомненно, гэлбрейтовская критика капитализ¬
ма содержит — главным образом в экономическом
отношении — много интересных элементов. Однако
положением об «индустриальном обществе» он под¬
держивает теорию конвергенции и смешивает клас¬
совые различия с разделением труда и распределе¬
нием доходов; наконец, его программа решения важ¬
нейших социальных проблем воскрешает в памяти не
вызывающее особых сшмпатий философское государ¬
ство Платона и льет воду на мельницу «левацкого»
утопизма.
Несколько дальше идут в своей критике капитали¬
стического строя и особенно в выводах, которые из
нее могут быть сделаны, Пол А. Бэран и Пол М. Су-
изи. Как и книга Гэлбрейта, их книга «Монополисти¬
ческий капитал» вышла в свет в том же 1966 г. Эти
авторы также констатируют, что капиталистический
строй иррационален, так как принцип обмена равных
стоимостей крупными корпорациями либо ограничи¬
вается, либо обращается в свою противоположность,
и все это в эпоху, когда техника рационализирует
производство. Этим объясняется и тот факт, что в
капиталистических странах не ликвидирована бед¬
ность, а в «третьем мире» голодают миллионы людей.
Политическим следствием подобной структуры яв¬
ляется тот факт, что демократия остается лишь ло¬
зунгом, а власть в конечном счете принадлежит узкой
олигархии. Буржуазная идеология служит сохране¬
нию статус-кво, однако сегодня в арсенале ее пропа¬
гандистских средств первое место отводится уже не
апологетике существующего строя, а нападкам на со¬
циализм. В этой связи авторы указывают, что буржуаз¬
ная идеология «все более решительно делает упор на
отклонение социализма как единственной реальной
альтернативы монополистического капитализма»4-
Как видим, эти авторы не довольствуются выдви¬
жением тезиса об экономической иррациональности,
но делают из него и социальные выводы. Их слабое
место заключается в отрицании революционной роли
5а
рабочего класса на том основании, что численность
промышленных рабочих якобы все больше сокращает¬
ся, причем последние являются, собственно говоря,
потребителями и, как таковые, идеологически «конт
диционированы» и «интегрированы» существующим
обществом.
Суизи и Бэран не верят, что развитые капитали¬
стические страны могут измениться сами, а ожидают,
что революцию принесет борьба бывших колониаль¬
ных стран. Согласно их точке зрения, всеобщее вос¬
стание «третьего мира» и пример социалистических
стран заставят американцев осознать необходимость
построения рационального общества, которое удов¬
летворит подлинные потребности человека.
В 1964 г. Бэран умер, что же касается Суизи, то
он под влиянием «новых левых» ныне уже более
оптимистически оценивает внутренние революционные
возможности развитых капиталистических стран. Об
этом свидетельствует и полемика, развернувшаяся
между Суизи и французским экономистом Шарлем
Беттельхеймом, концепции которого оказали опреде¬
ленное влияние на экономические воззрения «новых
левых».
Однако в рядах самих «новых левых» до послед¬
него времени, по существу, не было сколько-нибудь
видного экономиста, если только не считать таковым
бельгийского троцкиста Эрнеста Манделя. «Марксист¬
ский экономический трактат» Манделя вышел на
французском языке5 в 1962 г. и затем был переведен
на многие языки. В предисловии к этой книге автор
пишет, что, основываясь на эмпирических данных со¬
временной экономической науки, он ставит своей
целью доказать, что существо экономической концеп¬
ции Маркса остается в силе и в наши дни. Однако
делает он это весьма упрощенно, поверхностно и ил¬
люстративно, за что его в свое время критиковал и
Беттельхейм. Одним из результатов такого подхода
является вывод автора, согласно которому советской
экономике якобы свойственно «сочетание некапитали¬
стического способа производства с буржуазным по
существу способом распределения». При этом, хотя
и признается необходимость переходного периода от
капитализма к коммунизму, критику этого периода
51
Мандель ведет с позиций некоего придуманного им
самим коммунистического общества. В значительной
мере повторяя Бэрана, он предрекает гибель капита¬
лизма, но не дает историко-материалистического объ¬
яснения того, каким образом уйдет со сцены эта обще¬
ственная формация, прибегая вместо этого к извест¬
ным троцкистским политическим формулировкам.
В 1966 г. уже упоминавшийся нами выше Шарль
Беттельхейм опроверг не только в концептуальном
плане данный Манделем анализ советской экономи¬
ческой жизни, но и доказал его ошибочность приме¬
рами из практики социализма 6. Однако ныне, повто¬
ряя разного рода клеветнические домыслы, он заяв¬
ляет, что в Советском Союзе капитализм полностью
никогда не исчезал, а в последнее время якобы даже
был «реставрирован»7. Образцом социалистической
экономики для Беттельхейма стала левацкая модель,
которая-де отвергает идеалы потребительского обще:
ства и, согласовывая производство и потребление,
обеспечивает гармоническое развитие под эгидой
равенства. Эта концепция представляется тем более
обоснованной в глазах определенных кругов интелли¬
генции, что указанный французский экономист еще до
осуществленной им «смены вех» пользовался репута¬
цией эксперта по Востоку. На самом деле, однако, как
нетрудно заметить, Беттельхейм в своем анализе мо¬
нополистического капитализма идет не дальше бур¬
жуазно-либеральных экономистов, хотя и использует
марксистскую терминологию.
В целом же поразительно, что «левые» экономисты,
провозглашающие себя марксистами и столь часто
упрекающие ученых социалистических стран в том*
что те якобы не изучают новые социально-экономиче¬
ские процессы, сами оказываются не в состоянии ска¬
зать ничего существенно нового об экономике обще¬
ства, в котором они живут.
Социология
Если согласиться с анализом Чарлза Райта Мил*
лса8, то можно сказать что современная буржуазная
социология, с одной стороны, стремится к «бюрокра¬
тической» полезности, то есть уже в самой постановке
и
ее исследовательских задач скрывается и ее основная
цель: служить капиталистическому строю; с другой
стороны, пытаясь завуалировать действительную
структуру общества и его классовый характер, она
осуществляет идеологическую функцию.
Буржуазная социология рассматривает капитали¬
стическое общество как вечную и неизменную модель
общества и отказывается даже от свойственного по¬
зитивистской социологии представления относительно
возможности подтолкнуть «власти предержащие» к
проведению реформ. Исследуют ли буржуазные со¬
циологи расслоение общества, его группы, или соци¬
альный конфликт, или общественный контроль, во
всех случаях они стремятся отодвинуть на задний
план вопросы общей структуры общества, и прежде
всего классовые отношения. Анализируя препариро¬
ванную таким образом социальную действительность,
они используют методы, создающие впечатление точ¬
ности, особенно когда речь идет о методах исследо¬
вания, основанных на понятиях модели, функции и
структуры. Приведем лишь один пример, иллюстри¬
рующий подход буржуазной социологии к анализу
капиталистического общества. Одним из наиболее
известных американских социологов является ныне
Талкотт Парсонс, работы которого считаются у них
чуть ли не настольной книгой. Признавая значение
Маркса, Парсонс, однако, утверждает, что формиро¬
вание экономических и политических институтов за-
висит, в сущности, от форм общественного сознания,
а в этих пределах — от некоторых автономных ценно¬
стей. Собственность, по его мнению, могла возникнуть
по той причине, что в обществе имеются ценности,
делающие «естественным» существование собствен¬
ности. Социальный конфликт — не что иное, как
болезненный симптом классовой борьбы, но характера
ным для общества является состояние равновесия.
Облик капиталистического общества определяют не
прибыль и эксплуатация, а «роли» профессионального
типа, а также родственные или семейные отношения.
Класс существует лишь постольку, поскольку на ос-
,нове профессиональной структуры и семейных пози¬
ций возникает какая-то система слоев9, Это, однако,
вовсе не является закономерностью,
53
«Новых левых» интересовал в социологии прежде
всего вопрос о власти, разъяснения которого они
искали у Макса Вебера. Как известно, Вебер прово¬
дит различие между властью и господством: власть —
это возможность в рамках данных общественных от¬
ношений проводить в жизнь свою волю независимо
от того, что лежит в основе этой возможности. Гос¬
подством он именует ситуации, при которых приказ
определенного содержания встречает среди опреде¬
ленных лиц готовность повиноваться. Типы господства
он классифицирует на основе требований легитима¬
ции; существует рациональное, традиционное и «ха¬
ризматическое» господство. Рациональное господ¬
ство, по сути дела, отождествляется с бюрократией,
и Вебер подробно анализирует его отличительные
черты* тем более что, по его мнению, управление со¬
временным обществом носит бюрократический харак¬
тер. Бюрократия якобы потому рациональна, что
основывает свое господство на знании, и потому со¬
временна, что этого требует капитализм 10. Заслуга
Вебера состоит в том, что он открыл в бюрократии
одно из реальных проявлений капитализма и отчет¬
ливо увидел противоположность бюрократии и демо¬
кратии. Однако, связывая бюрократию с современным
обществом вообще, то есть и с социализмом, он ап¬
риори допускает возможность стирания грани между
двумя социальными системами п. Немало теоретиков
«новых левых» проявляет интерес также к веберов¬
скому понятию «харизма» отчасти с точки зрения
объяснения того, как капиталистическое общество
формирует и распространяет культ выдающихся
личностей и вместе с ним принцип авторитета, от¬
части же для того, чтобы уяснить, каким образом
сами «новые левые» могли бы использовать это по¬
нятие.
Во Франции Раймон Арон, черпая идеи — как и
Талкотт Парсонс — у Макса Вебера, проповедует
своего рода «технологический» детерминизм, согласно
которому капиталистические общественные отношения
следует рассматривать как адекватное социальное
соответствие современной технике. «Индустриальному
обществу» независимо ог общественного строя
присущи якобы одни и те же «эволюционные
54
универсалии», включающие денежные и рыночные от:
ношения, а также бюрократию 12.
В одной из своих более поздних работ Арон так
определяет взаимосвязь между развитым обществом
и «индустриальным обществом»: «Мы не ошибаемся,
называя индустриальной экономику развитых об¬
ществ. Действительно, без индустрии было бы невоз¬
можно занять рабочую силу, освободившуюся вслед¬
ствие роста производительности труда в сельском
хозяйстве, и создать необходимые орудия труда и
технику. Третий сектор (сфера обслуживания) не¬
редко обеспечивает высокий личный доход, но он от¬
части представляет собой как бы побочный продукт
второго сектора, аппарат благосостояния. Именно
второй сектор делает возможным расширение третье¬
го сектора, производительность труда в сельском хо¬
зяйстве и промышленности позволяет перебрасывать
значительную часть рабочей силы в сферу услуг и
развлечений. Если сравнивать путем непосредствен¬
ных наблюдений, то с социальной точки зрения имен¬
но промышленность в наибольшей степени определяет
характер развитых обществ»13. Такое определение
«развитого общества» имеет для автора то преиму¬
щество, что помогает смазать различие между социа¬
лизмом и капитализмом, представляющееся ему
прежде всего идеологическим. Кстати, именно он в
50-е годы торжественно возвещал «закат идеологий»
и доказывал превосходство «индустриального об¬
щества».
Нам пришлось хотя бы в общих чертах упомянуть
об этой апологетической социологии, так как «новые
левые», с одной стороны, от нее отмежевываются, но,
с другой стороны, привязаны не только к используе¬
мым ею понятиям и терминам, но и к пропагандируе¬
мым ею воззрениям.
Однако наибольшее влияние на «новых левых»
имеет буржуазно-либеральная критическая школа, и
особенно Чарлз Райт Миллс, который уже описанное
с социологически-психологической точки зрения поло¬
жение социальных групп объясняет также экономиче¬
скими факторами.
Миллс определяет общественный строй США как
«опирающийся на частные корпорации военный капи¬
55
тализм», господствующей элитой в котором являются
финансовые тузы и представители верхушки бюрокра-
1гического аппарата и армии. Детально анализируя
структуру господствующего класса и государственной
организации США, автор проливает свет на социаль¬
ную подоплеку управления этим наиболее развитым
капиталистическим государством, на его организацию
и механизм принятия решений, хотя и здесь дает себя
знать веберовская фаталистическая концепция бюро¬
кратии.
Большое влияние оказала на «новых левых» ра¬
бота Миллса, в которой показано положение именуе¬
мого автором «средним классом» слоя интеллиген¬
ции и служащих, так называемых «белых воротнич¬
ков», и доказывается, что в настоящее время этот
слой стоит уже значительно ближе к наемным рабо¬
чим, чем к господствующему классу. Исследование
Миллса представляет интерес еще и потому, что ав¬
тор не ограничивается только сопоставлением различ¬
ных профессий и образа жизни, а стремится также
определить, какие политические выводы могут быть
сделаны из всего этого. В политическом отношении
Миллс пессимистически оценивает судьбу «белых во¬
ротничков», не могущих выступить в качестве само¬
стоятельной политической силы.
Новая трактовка капиталистической социальной
структуры, и особенно анализ положения средних
слоев, привлекли внимание к работе Миллса социоло¬
гов во многих странах, в частности «новых левых»,
которые заимствовали из этой работы аргументы
для доказательства существования «нового рабочего
класса» 14.
Миллс сформулировал для «новых левых» поли¬
тическую программу, центральное место в которой
отводит молодой интеллигенции. По его мнению, этот
слой является единственным и подлинным носителем
преобразований. В этой связи Миллс открыто осуж¬
дает марксизм, который он называет «викториан¬
ским», особенно неприемлемыми представляются ему
марксистское понятие класса и положение об истори¬
ческой роли рабочего класса 15.
Во Франции непосредственному социологическому
обоснованию движения «новых левых» способствовала
66
теоретическая деятельность Андре Горца, который,
опираясь отчасти на Гэлбрейта и Маркузе, отчасти
на американских социологов, а также на экзистенциа¬
лизм Сартра, занялся не только исследованием суще¬
ствующего положения в капиталистическом обществе,
но и стремился разработать какую-то программу на
будущее.
В 1964 г. вышла его работа «Рабочая стратегия и
неокапитализм» 16, где утверждается, что при совре¬
менном капитализме нищета и борьба за элементар¬
ные условия существования уже не являются факто¬
рами обострения классовой борьбы. Однако он при¬
знает, что классовая борьба существует и ее целью
является ликвидация капитализма и создание социа¬
листического общества. Горц считает, что к радикали¬
зации рабочего класса могут вести не столько эконо¬
мические, сколько социальные причины, и с учетом
этого развивает свою критику капиталистического об¬
щества.
Он также исходит из посылки, что модель «инду¬
стриального общества» в равной мере характерна как
для капитализма, так и для социализма. Общество
подобного типа неизбежно оказывается обществом
подавления, репрессивным обществом, где орудием
репрессии служит технократия, которая может быть
использована и в интересах рабочего класса, но лишь
в том случае, если он (рабочий класс) сумеет пред¬
ложить подходящую антикапиталистическую альтер¬
нативу. Важнейшим элементом создания этой альтер¬
нативы является выработка новых концепций чело¬
века, жизни, воспитания, труда, культуры. А этого
можно достичь лишь в том случае, если, как заявляет
Горц, рабочее движение откажется от культа конфор¬
мизма и схематизма, восстановит в правах статус
автономии творческой работы в области теории и не
позволит превращать теорию в служанку преходящих
тактических потребностей.
Одно время Горц носился с теорией «нового рабо¬
чего класса», который, как полагают некоторые, воз¬
ник в результате имевших место изменений в струк¬
туре занятости и включает в себя не только рабочих,
участвующих в производстве, но также техников и
другие категории интеллигенции. Этот тезис он позд¬
57
нее— в основном под влиянием парижских событий
J968 г.— пер<есм.отрел, пытаясь приспособить своЦ)
теорию для «новых левых» движений. Констатируя',
что так называемые научно-технические работники
находятся по отношению к капиталу в том же самом
положении, что и рабочие, Горц, однако, отметил, чтб
с точки зрения структуры управления необходимо
также принимать во внимание командные и подчи¬
ненные позиции. Поскольку техники могут осугцесТ*
влять руководящие функции, их нельзя без всякий
оговорок причислять к рабочему классу. Тем самым,
следовательно, Горц вернулся к тому, от чего ушел,
признавая существование «традиционного рабочего
класса»17.
Как уже отмечалось, влияние Горца объяснялось
не только его исследованием современного капитализм
ма, но и разработанной им программой, которая, надо
сказать, самым решительным образом расходится о
платформой, разработанной Французской коммуни¬
стической и Социалистической партиями. В октябре
1972 г. Горц заявил, что эта программа по своему ха-г
рактеру является социал-демократической, поскольку
она не ставит своей целью немедленное осуществление
социалистической революции. Стоит процитировать
значительную часть его рассуждений по этому поводу,
где он резюмирует и собственную точку зрения:
«Количественный рост производительных сил й
цитаделях капитализма исторически не нужен. Иц
нынешний уровень развития требует не «социалиста^
ческого переходного периода», а коммунистической
революции. Предпосылкой коммунизма ныне является
уже не период ускоренной аккумуляции (социализм)*,
а критика и переворот в унаследованных от капитал
лизма производительных силах. Довести эту критику
до конца можно только в рамках автономной борьбы
масс; нет необходимости в правительственной про"»
грамме, которая противопоставляла бы росту монопо*
лий монополистические требования государства»«
Вместо этого нужно упразднить капиталистическое
разделение труда, осуществить физическую и психо«*
логическую «интеграцию» трудящихся (что означает
прежде всего здравоохранение и социальное обеспе¬
чение), культурную «интеграцию» (что означает
58
соответствующее гарантирование, во-первых, условий
труда, во-вторых, общего и специального образова¬
ния), освобождение школы, осуществление права на
жилище и соответствующую окружающую среду18«
На «новых левых» оказали также влияние труды
тех социологов, которые на социологической и отчасти
психологической основе исследовали проблему отчуж¬
дения человека капиталистического общества. Одной
из таких пользующихся широкой популярностью ра¬
бот является книга Уильяма X. Уайта-младшего
«Организация — человек», вышедшая в 1956 г. 19в
Автор анализирует идеологию, воображение, неврозы,
литературный и научный образ человека, зажатого в
тиски организации, его поведение в различных ситуа¬
циях, подчеркивая, что превращение индивидуума в
частицу общества зашло слишком далеко и индиви¬
дуальные ценности оттеснены на задний план.
С такого рода утверждениями смыкается и кри¬
тика культуры, развиваемая социологами типа Дэвида
Ризмена, который в своей работе «Одинокая толпа» 20
проанализировал влияние средств массовой коммуни¬
кации на человеческое сознание, а также методы ма¬
нипуляции им, акцентируя при этом внимание на
цсихологических аспектах отчуждения человека и
игнорируя общественно-социальную сторону вопроса.
К социологии данного направления можно отнести
также работы Вэнса Паккарда21, в которых говорится
о том, как современный капитализм лишает смысла
подлинно человеческие ценности, порождая абсурд¬
ную систему производства и потребления, а также о
том, каким образом, с помощью каких манипуляций
образуются символы статуса и престижа и каково
отношение к этим символам отдельных слоев обще¬
ства.
Во Франции более всего способствовали идеоло¬
гическому обоснованию движения «новых левых» со¬
циологи, занимающиеся вопросами сознания и образа
жизни. Среди них можно упомянуть о работах Анри
Лефевра, который до 1956 г. состоял в рядах Фран¬
цузской коммунистической партии, а затем занял
враждебные ей позиции. Лефевр в своих исследова¬
ниях сделал основной упор на рассмотрение так назы¬
ваемой «повседневности», то есть «системы различных
59
влияний и давлений», присущей бюрократическому
потребительскому обществу. Данная им критика
этого общества и его образа жизни немногим отли¬
чается от того, что' можно прочесть у американских
социологов и психологов. В лучшем случае речь
может идти о том, что в применяемой терминологии
Лефевр стремится придерживаться марксистских ка¬
тегорий. «Открытие» же его заключается в том, что
он связывает воедино «повседневность» и проблему
«терроризма» и трактует последний как крайнее про¬
явление «репрессивного общества», анализом кото¬
рого занимался и Г. Маркузе. Самой характерной
чертой этого общества является «модернизация», то
есть совокупность идеологических средств, которые
наряду с прочими используются господствующим
классом для манипулирования и затуманивания про¬
летарского классового сознания. «Модернизация» вы¬
зывает впечатление торжества рациональности, тогда
как в основе своей потребительское общество зиждет¬
ся на иррациональном, уничтожая нужные человеку
вещи, ценности и окружающую его среду. «Модер¬
низм» маскирует принуждение, посредством которого
повседневность воздействует на человека, превращае¬
мого потреблением в прислужника буржуазии. Автор
выдвигает идею «перманентной культурной револю¬
ции», с помощью которой якобы возможно изменить
это общество и которая включает в себя сексуальную
революцию, урбанизацию, «празднество». Творцами
этой революции станут часть интеллигенции, моло*
дежь, прослойка иностранных рабочих22. Отсюда уже
всего один шаг до «ситуационистского интернацио¬
нала», который и был сделан многими из числа мо*
лодежи еще до 1968 г.
Психология
Господствующие в буржуазной психологии тече*
ния, такие, как, например, функционализм (Д. Дьюй,
Д. Энджел, Д. Кеттел, Р. Вудворс) или бихевиоризм
(Д. Уотсон, Б. Скиннер, К. Халл, Э. Толмэн), не ока¬
зали влияния на «новых левых», исключая, пожалуй,
60
jo ответвление последнего из упомянутых течений, ко¬
торое принято называть «социал-бихевиоризмом» и
которое занимается формами поведения различных
Трупп. Принадлежащий к этой школе Джордж X. Мид
Объясняет поведение людей информационно-речевыми
контактами, и эта теория в связи с вопросом о мани-
йулятивном сознании заинтересовала кое-кого из
теоретиков «новых левых».
Более широкий резонанс вызвала так называемая
гештальтпсихология, психология образов, считающая
первичными элементами психики не отдельные и изо¬
лированные ощущения, а целостные психические
структуры, образы, которые подчиняются некоторым
имманентным законам. Но и это направление оказы¬
вало влияние (на «новых левых») не само по себе, а
в результате того, что отдельные его приверженцы
примкнули к экзистенциализму (К. Коффка, М. Верт¬
геймер, В. Келлер) и восприняли его философско-пси¬
хологические категории.
Но* несомненно, самым популярным направлением
буржуазной психологии является психоанализ, кото¬
рый привлекал молодежь как самим предметом, так
и методом исследования.
Известно, что Фрейд считал психику зависимой от
влияния автономных, проявляющихся наряду с мате¬
риальными процессами так называемых подсознатель¬
ных сил, а последние сводил к либидо, то есть к поло¬
вому влечению23. Концепция Фрейда уже в период
между двумя мировыми войнами оказывала зна¬
чительное влияние на литературу, искусство и
науку.
Однако в конце 20-х — начале 30-х годов многие
психологи уже не считали фрейдовский анализ удов¬
летворительным при рассмотрении проблемы отчуж¬
дения человека и пытались дополнить его отдельными
положениями социологии и даже марксизма. Нео¬
фрейдистская школа, среди представителей которой
обычно упоминают К. Хорни, Эриха Фромма и Виль¬
гельма Рейха, подвергла критике концепцию Фрейда
относительно жесткофиксированных биологических
влечений, обратив особое внимание на роль социаль¬
ных факторов в формировании психики человека.
61
Эрих Фромм считает капиталистическое общество
обществом всеобщего отчуждения и причины этого
видит в том, что человек стал слишком общественным
существом. Различные общественные функции он рас¬
сматривает как попытки снять противоречия так на¬
зываемого основного человеческого статуса, а ради¬
кальное решение видит в достижении внутренней
свободы, лучший путь к которой указывают восточные
религии, в частности дзен-буддизм 24.
Из числа неофрейдистов наибольшим влиянием в
настоящее время пользуется Вильгельм Рейх, по мне¬
нию которого первопричиной неврозов является авто¬
ритарность, то есть авторитет, проявляющийся в
институтах государства. Истинно счастливым он счи¬
тал человека, счастливого в сексуальном отношении,
но возможность такого счастья существует лишь в
свободном обществе, в котором нет морали, нет рели¬
гии и нет государства. Это общество можно создать
путем «великой культурной революции», сочетающей
сексуальное и социальное освобождение. Автор пола*
гал, что в рамках своей концепции (не будем забьь
вать, что речь идет о конце 20-х годов) ему удастся
объединить диалектический материализм и психоана¬
лиз, однако, столкнувшись с критикой своей попытки
со стороны марксистов, он в конечном итоге стал иЛ
противником.
В США упомянутые положения получили отклик
в первую очередь благодаря Полу Гудмену, который
считал себя учеником Рейха, хотя одновременно был
связан и со школой гештальтпсихологии. Его стара¬
ниями воззрения Рейха с недавних пор стали модными
и в Западной Европе, где работы этого психолога, на¬
писанные в 20—30-е годы, издают одну за другой,
используя их в целях борьбы с марксизмом 25.
Неофрейдизм дал «новым левым» возможность
связать бунт против психологизированного отчужде¬
ния и буржуазного образа жизни (представлявший
собой прежде всего ниспровержение моральных табу
в сфере личной жизни) с протестом против общест¬
венных институтов, дав многим из них основание
утверждать, что нарушение моральных запретов яв¬
ляется не чем иным, как отрицанием капита¬
лизма.
63
Франкфуртская школа
В 1923 г. социал-демократ Карл Грюнберг создал
во Франкфуртском университете Институт социальных
исследований и начал издавать его труды, Руковод¬
ство институтом вскоре принял на себя Макс Хорк-
хаймер, а в совместной работе в течение различных
по продолжительности периодов принимали участие
Теодор В. Адорно, Герберт Маркузе, Эрих Фромм и
Вальтер Беньямин. С приходом гитлеризма предста¬
вители школы перебрались сначала во Францию, а
затем в США, где многие остались, однако некоторые
из них после 1945 г. вернулись в ФРГ. Здесь к ним
примкнул Юрген Хабермас.
Франкфуртцы, как это видно и из их судеб, были
антифашистами, а вначале также противниками ка¬
питализма. Эти два элемента слились воедино, при¬
ведя их к выводу о том, что фашистская диктатура
явилась закономерным и единственно возможным
результатом развития монополистического капита¬
лизма. На этом основан их тезис, согласно которому
при монополистическом капитализме обществу свой¬
ственны прежде всего не классовые противоречия, а
противоречие между народом и тоталитарным аппа¬
ратом власти. Авторитарности они противопоставляли
свободу личности, не определяя при этом реальных, в
первую очередь экономических и социальных, пред¬
посылок обеспечения свободы. Такой подход приго¬
дился Франкфуртской школе для того, чтобы после
1945 г. применить указанные тезисы не только к ка¬
питалистическому обществу, но и — со все более ярко
выраженной антикоммунистической направленно¬
стью— к социалистическим странам. После войны
' ряд концепций этой школы сочувственно восприни¬
мался в некоторых кругах западной интеллигенции.
Это касалось в первую очередь их теории тоталитар¬
ного государства, отождествления идеологии и лож¬
ного или иллюзорного сознания, а также концепции
«негативной диалектики».
Политическое влияние Франкфуртской школы впер¬
вые проявилось все же не в Западной Германии, а в
США, и связано оно прежде всего с именем Герберта
Маркузе. Маркузе начал свою карьеру в качестве
63
ученика и последователя немецкого философа Хай¬
деггера, однако в начале 30-х годов порвал с ним и
примкнул к Франкфуртской школе, где сотрудничал
главным образом с Адорно. Познакомившись с нео¬
фрейдизмом, он вслед за Вильгельмом Рейхом стал
утверждать, что марксизм нужно дополнить психо¬
анализом. В эмиграции он вел преподавательскую
деятельность в Колумбийском университете, там же
издал свою работу «Разум и революция. Гегель и
общественная теория»26. Во время войны Маркузе
был сотрудником Управления стратегических служб
США, а позднее стал руководителем отдела в госде¬
партаменте. В 1954 г. он получил кафедру в Бостон¬
ском университете Брэндейса. Его работы «Эрос и
цивилизация»27 и «Одномерный человек»28 вызвали
большой интерес, выходящий за рамки узкого круга
специалистов, сделав имя дотоле малоизвестного
философа на какое-то время необычайно популярным
среди широких слоев интеллигенции и студенчества
Запада.
Маркузе объединил тезисы Франкфуртской школы
не только с неофрейдизмом, но и с концепцией бур¬
жуазно-либеральных экономистов и социологов об
«индустриальном обществе». Согласно его точке зре¬
ния, рациональное развитие производительных сил
требует ликвидации капитализма, но этому мешает
«индустриальное общество». По мнению Маркузе, те
права и свободы, которые в период подъема капита¬
лизма являлись жизненно важными факторами, к на¬
стоящему времени утратили свой традиционный
смысл и содержание. «Свобода мнений, слова и со¬
вести, — пишет он, — равно как и свободная эконо¬
мика, развитию и защите которой они служили, по
сути, были критическими идеями, миссия которых
заключалась в том, чтобы устаревшую материальную
и духовную культуру заменить культурой, более пло¬
дотворной и рациональной. С момента своего превра¬
щения в институты они разделяют судьбу того об¬
щества, органической составной частью которого ста¬
ли. Успех ликвидирует свои собственные предпосылки».
Негативное, то есть критическое, мышление от¬
ступает на задний план, и технологическая рацио¬
нальность, а также логика господства делают
64
доминирующим позитивное мышление, таким образом,
индивид вынужденно укрепляет существующее обще¬
ство любым своим деянием, даже протестом, который
может представлять угрозу для существующего
Строя, но дает выход недовольству и снимает напря¬
женность. Упомянутый индивид мыслит и ведет себя
$в одном измерении». «Индустриальное общество» —
являющееся вместе с тем и репрессивным — манипу¬
лирует индивидом, «интегрирует» его, причем до та¬
кой степени, что он и сам начинает одобрять соб¬
ственное отчуждение. Рабочий класс тоже «интегри¬
рован» и поэтому ныне уже не может взять на себя
Задачу совершения революции. Только цветные, де¬
классированные бедняки, студенты, то есть так назы¬
ваемые «маргинальные» слои, в состоянии сохранять
оппозиционность.
Цель, которую ставит Маркузе, заключается в
«пасификации бытия». «Пасификация бытия, — пишет
од, — означает, что борьба человека с человеком и
борьба с природой будет разворачиваться в условиях,
когда обгоняющие друг друга потребности, желания
й стремления не будут более определяться традици-
рнными интересами, связанными с господством и
нуждой».
Каким образом это можно осуществить, Маркузе
предложить не в состоянии, да он за это и не берется:
«Критическая теория общества не владеет понятиями,
Способными перекинуть мост через пропасть между
настоящим и будущим; ничего не обещая, не демон¬
стрируя успеха, она стремится сохранять верность
тем, кто, не имея надежды, отдавал и отдает свою
жизнь делу Великого отказа»29. Относительно буду¬
щего он главным образом подчеркивает значение
Соображения, которое является одним из источников
^негативного» мышления, в настоящем же предлагает
«Великий отказ».
В основе влияния, которое оказал Маркузе на
«новых левых», лежали прежде всего два фактора:
fo, что он выступил со страстной критикой общества,
соединив ее с утопией и со взглядами экзистенциали¬
стов относительно абсурдности мира; и то, что эту
критику общества он строил, исходя из положений
Гегелевской философии, буржуазной социологии, по¬
65
литэкономии и психоанализа, придав ей тем самым
облик научности. С точки зрения влияния немало¬
важна была и форма: вместо абстрактных философ¬
ских речений он написал такое эссе, в котором и аб¬
страктные вопросы преподносились предметно и на¬
глядно.
Хотя Франкфуртская школа играла немалую роль
среди вдохновителей «новых левых» в ФРГ, некото¬
рые ее представители отрицательно отнеслись к вы¬
ступлениям студентов и «внепарламентской оппози¬
ции». Конфликт зашел столь далеко, что Хабермас30
покинул Франкфуртский институт, еще ранее это сде¬
лал и Хоркхаймер31.
Литература и искусство
В литературе и искусстве кризис сознания мелко¬
буржуазной йнтеллигенции нашел свое, возможно,
даже более полное и богатое оттенками выражение,
чем в обществецных науках. В литературе в первую
очередь проявилось влияние экзистенциалистской ф;ь
лософии — не столько немецкой, сколько французской
ее разновидности и в основном не философских трак¬
татов, а беллетристических произведений. Положения
атеистического экзистенциализма были изложены
Жан-Полем Сартром в популярной брошюре «Экзи¬
стенциализм— это гуманизм». Согласно его точке зре¬
ния, «человек сначала существует, обретает себя, по¬
является в мире и лишь затем может давать самому
себе определения»32. Из активного характера этой
концепции следует, что важное место в ней занимают
идея выбора и идея страха. «Для человеческой реаль¬
ности существовать — то же самое, что выбрать себя».
Человек одинок, и ему одному предстоит сделать вы¬
бор с целью осуществить самого себя. Это наполняет
его страхом, но уклониться от выбора он не может.
«Человек обречен на свободу, ибо не он сотворил са¬
мого себя, но в другом он всё еще свободен, ибо, бу¬
дучи заброшен в мир, он ответствен за все свои по¬
ступки». Здесь мы подошли к сартровской идее долга,
которая на определенных этапах политической борьбы
сближала его с коммунистами, Из произведений
66
Сартра наибольшую силу воздействия имели те, в ко¬
торых шла речь о проблемах выбора, страха и сво¬
боды; таковы «Тошнота», «За запертой дверью» и
«Мухи».
Сближение Сартра с марксизмом на какое-то
время сделало его позицию двойственной, поэтому
интеллигенция, выступающая за «третий путь», в своих
поисках морально-политических норм обращалась в
большей мере к искусству Альбера Камю. Камю не
считал себя экзистенциалистом, но многие его идеи
были близки или совпадали с положениями этой фи¬
лософии. В «Постороннем» (1942) он развивает тему
абсурдности жизни человека, к которой он обращался
уже в «Калигуле» (1938), одной из своих первых драм.
После общественной проблематики «Чумы» (1947) в
«Падении» тема всеобщего сознания вины напоминает
о той смеси индивидуализма и героического пессимиз¬
ма, которая характерна для стоической жизненной
концепции этого французского писателя. Камю ока¬
зался тем более приемлемым для интеллигенции, ищу¬
щей «третьего пути», что в «Бунтующем человеке» он
самым определенным образом отмежевался от марк¬
сизма и коммунистического движения в пользу неко¬
его анархо-синдикализма. Сартр в начале 50-х годов
был еще противником этого типа философии истории
и политики, и поэтому в кругах американской интел¬
лигенции симпатиями пользовался главным образом
Камю.
В США экзистенциализм оказал влияние на так
называемое «разбитое» поколение, или битников. Один
из представителей этого поколения, Норман Мейлер, в
своем опубликованном в 1957 г. эссе «Хипстер и бит¬
ник» указывает на различие между хипстером и бит¬
ником с социальной точки зрения. Хипстер, указывает
Мейлер, пришел к нам из немого бунга пролетариата,
он — дитя люмпен-пролетариата, босяк, которого лишь
крайняя необходимость может заставить взяться за
работу. Битники — среди них было много евреев —
являются выходцами из среднего класса. Они решили
не работать в знак протеста против конформистского,
мелкобуржуазного мышления своих родителей. В ухо¬
де из общества они находят моральное удовле¬
творение.
67
Поведение тех и других автор характеризует сле¬
дующим образом: «Хипстер привязан к жизни, твердо
стоит на своем, гоняется за наркотиками, чтобы в
свое удовольствие погружаться в глубины жизни,
бросает вызов бренности своей нервной системы, это
своего рода Фауст. Битник созерцает вечность, упи¬
вается ею и льстит себя надеждой, что когда-нибудь
станет ее частью. Жажда освободиться от действие
тельности преобладает в нем над желанием изменить
действительность. В конце пути его ждет психиатри¬
ческая лечебница». В политическом отношении «бит¬
ник левее хипстера, ибо хипстер, жизнь которого
заполнена изучением самого себя, более или менее
попадает в унисон с ритмом и вкусами того общества,
из которого он ушел».
Что представляет собой литература этого поколе¬
ния? «Литература „разбитого“ поколения, — говорит
Мейлер, — это отражение хиппистской позиции. При¬
тягательная сила хипа — это богатство выражения,
проникающего в малейшие детали. Романист велик,
если каждую строку своего произведения он освещает
силой интимнейшего опыта и переживания. Нужно
признать, что хиппи живет с гипертрофированным со¬
знанием и предметы и связи, воспринимаемые другими
как лишенная всякого интереса данность, ему могут
представляться исполненными глубокого смысла. При
таком гипертрофированном сознании время как бы
замедляет свой бег. Дни становятся более наполнен¬
ными. Переживания приобретают более глубокий ха¬
рактер, что затрудняет выражение».
Литература эта представлена поэзией Аллена
Гинзберга, романами Джерома Д. Сэлинджера, Джека
Керуака, Нормана Мейлера, драмами Джорджа Хич¬
кока. Герой романа Керуака «На дороге» стал чуть
ли не символом этой литературы. «Я хотел бы быть
негром,— говорит один из его персонажей, Дин,— ибо
ощутил, что в том, что может предложить мир белых,
мало экстаза, недостаточно жизни, радости, печали,
музыки, темноты, ночи». Но, столкнувшись с настоя¬
щей нищетой, Дин да и другие персонажи интегри-*
руются в американское общество.
В Англии близким к битникам является поколение
так называемых «сердитых молодых людей», Джон
68
Осборн, Арнольд Уэскер, Брэнан Бихэн, Гарольд
Пинтер, Кингсли Эмис, Джон Уэйн, Колин Уилсон,
Алан Силлитоу и другие34. Колин Уилсон в вышедшем
в 1958 г. романе «Аутсайдер» дал наиболее точный
анализ положения этих «сердитых молодых людей»,
а Осборн в драме «Оглянись во гневе» в образе
Джимми Портера передал чувства и настроения анг¬
лийского мелкого буржуа в начале 50-х годов.
С экзистенциалистскими тезисами мы встречаемся
в Западной Германии у писателей «Группы 47», в
Италии — у отдельных представителей неореализма,
хотя и у тех и других довольно отвлеченные и общие
размышления о бытии зачастую оттесняются на зад¬
ний план острыми социальными и политическими
проблемами.
Идеи и формы выражения, свойственные экзистен¬
циализму и особенно «разбитому» поколению, обнару¬
живаются не только в литературе и театре, но и в
кино, изобразительном искусстве и музыке35.
Эта литература и искусство выразили новое, при¬
сущее главным образом левой интеллигенции кризис¬
ное жизнеощущение, в котором преобладал мотив ин¬
дивидуального бунта и многие элементы которого
были восприняты, во-первых, движением хиппи, а во-
вторых, вдохновленной «новым левым» движением
«контркультурой».
Идейно-политические
течения
«Новые левые» — особенно в Западной Европе —
стремятся доказать свою причастность к рабочему
движению, то есть к социализму. Поэтому они — осо¬
бенно в странах, где действуют сильные коммунисти¬
ческие партии, — уже с самого начала считали прин¬
ципиально важным определение своих отношений с
рабочим классом. В США этот вопрос возник лишь
в середине 60-х годов, но с тех пор он и там стано¬
вится основополагающим с точки зрения определения
платформы.
Многие представители «новых левых» — в основ¬
ном в Западной Европе — охотно ссылаются на марк¬
сизм, с которым они знакомятся большей частью че-*
69
рез так называемых «марксиствующих» идеологов
или троцкистов, борющихся против коммунистических
партий.
Эти группы громко декларируют свое согласие с
положениями Маркса о законе прибавочной стоимо¬
сти, эксплуатации, классовой борьбе, некоторые заяв¬
ляют даже о своем согласии с исторической ролью
пролетариата.
Большинство их, однако, односторонне противопо¬
ставляет «молодого» Маркса и его «антропологию»
зрелому Марксу/ «Капиталу» и марксистской полити¬
ческой экономии вообще. В качестве непосредствен¬
ной цели они выдвигают борьбу с овеществлением,
отчуждением (эти два понятия часто отождествляют¬
ся) и немедленное, полное, касающееся всего образа
жизни освбождение человека.
Они абстрагируют Марксов гуманизм от экономи¬
ческих и вообще от объективных условий и игнори¬
руют историческую необходимость построения социа¬
листического общества.
Многие из «новых левых» остерегаются ссылаться
на Ленина, зачастую они противопоставляют его
Марксу. Правда, они цитируют работу Ленина «Им¬
периализм, как высшая стадия капитализма», когда
речь заходит о характерных чертах современного ка¬
питализма, но в философии обвиняют его в механи¬
стическом материализме, а в политике отвергают егр
положение о партии как авангарде рабочего класса
и пролетарской диктатуре как государстве переход¬
ного периода.
В то же время они считают правильной позицию
«левых коммунистов» 20-х годов, которых Ленин под-»
верг критике в «Детской болезни «левизны» в комму¬
низме». Представителями этого течения были Амадео
Бордига в Италии, Сильвия Панкхёрст в Англии,
Антон Паннекук в Голландии, Карл Корш в Герма¬
нии, которые выступали против участия в буржуаз¬
ных парламентах, профсоюзах, против всех и всяких
компромиссов и провозглашали необходимость борьбы
до конца в надежде на немедленную победу мировой
революции.
В теоретическом плане «новые левые» нередко
ссылаются на Карла Корша, который в опубликован¬
70
ной им в 1923 г. книге «Марксизм и философия» оспа¬
ривает правильность ленинской позиции, а в издании
той же книги, вышедшем в 1930 г., открыто высту¬
пает против ленинской концепции материализма и
бросает обвинение в том, что Ленин, разделив бытие
и сознание — отрицая диалектическую связь теории
с практикой и сделав из материи некий абсолют,
идеальную категорию, якобы тем самым возвратился
к кантианству. Корш приходит к выводу, что марк¬
сизм перестал быть теорией и является лишь идеоло¬
гией, то есть своего рода ложным сознанием, которое
не отражает живой действительности. Марксизм в
свой начальный период являл собой тотальную кри¬
тику; к концу века он превратился в экономическую
критику и критику буржуазного государства, которая,
однако, не сопровождалась необходимой революцион¬
ной практикой.
Когда Корш окончательно порвал с коммунисти¬
ческой партией, он пошел в своих инсинуациях еще
дальше и стал утверждать, что марксизм с самогона-
чала грешил якобинством, переоценивая роль госу¬
дарства в социальной революции.
Более того, связав социальную революцию рабо¬
чего класса с развитием капиталистической экономики,
он-де в конечном счете превратился в помеху развития
революции.
«Новые левые» охотно ссылаются также на ран¬
ние произведения Дьёрдя Лукача. В изданной в
1923 г. работе «История и классовое сознание»36 Лу¬
кач— как он сам об этом пишет в предисловии к из¬
данию 1967 г. — отрицал диалектику природы, чтоб
свою очередь затруднило его поиски верной точки
зрения на общественные явления. Лукач сопоставляет
гегелевское понятие тотальности и экономику, заяв¬
ляя, что в «трактовке истории марксизм коренным
образом отличает от буржуазной науки не примат
экономических мотивов, а подход с позиций тоталь¬
ности». Капиталистическое отчуждение, которое в его
концепции совпадает с овеществлением, он имел
в виду устранить тем, что искал адекватность субъек¬
та и объекта в пролетариате, в его классовом созна¬
нии. В зависимость от этого сознания Лукач ставил
и революционное действие. Подчеркивая таким обра¬
71
зом роль сознания, он солидаризировался с Розой
Люксембург, однако расходился с ней в том, что в ин¬
тересах практики придавал большее значение вопросу
организованности, а также критиковал взгляды Розы
Люксембург на Великую Октябрьскую социалистиче¬
скую революцию.
Будучи подвергнут критике, Лукач уже в 20-е годы
рассматривал упомянутую работу как пройденный
этап, однако его самокритика и его отношение к Ле¬
нину намеренно игнорируются «новыми левыми», ко¬
торые пытаются найти у него философскую базу для
собственных волюнтаристско-субъективистских кон¬
цепций.
«Леваки» начала 20-х годов стремились разжечь
мировую революцию, переоценивая при этом значение
факторов сознания. Теоретики «новых левых» допол¬
няют эту концепцию известными взглядами Розы
Люксембург, согласно которым революцию можно осу¬
ществить спонтанно, организация для этого не нужна,
следовательно, не нужна и партия. Пребывая все
в том же кругу идей, они любят ссылаться на
Троцкого, заимствуя из этого источника прежде всего
взгляды относительно бюрократизма, плюрализации
марксизма, необходимости фракций внутри партии,
волюнтаризма, перманентной революции, а также ума¬
ление значения пролетарской дисциплинированности
и организованности 37.
«Новые левые» возродили также традиции анар¬
хизма 38, культ волюнтаризма, прямых акций, неорга¬
низованности, «активного меньшинства». Таким обра¬
зом воскрешаются Бланки и бланкизм, о котором Ле¬
нин сказал, что он «ожидает избавления человечества
от наемного рабства не путем классовой борьбы
пролетариата, а путем заговора небольшого ин¬
теллигентного меньшинства» 39.
Так снова обретают популярность Михаил Бакунин
и его концепция о необходимости выступать против
всех и всяких учреждений, провоцировать революции,
используя для этого и средства индивидуального тер¬
рора.
Кроме того, воскрешенными оказались взгляды не
только анархистов, но и таких мелкобуржуазных со¬
циалистов, каким был Прудон. Вновь поднимаются
72
на щит его идеалистическая концепция истории, отри¬
цавшая роль противоречий, реформизм, отвергавший
идею революции, анархизм как идеология и организа¬
ция, стремившиеся обезоружить рабочее движение.
Кое-кто ныне с одобрением цитирует адресованные
Марксу слова Прудона: «Не нужно создавать новые
хлопоты человеческому роду новой идейной путани¬
цей, дадим миру образец мудрой и дальновидной тер¬
пимости; не будем разыгрывать из себя апостолов
новой религии, хотя бы это была религия логики и
разума» 40.
Интересно, что те, кто превозносит вышеприведен¬
ные слова Прудона как образец замечательного пред¬
видения, сами довольствуются его чрезвычайно убогой
мелкобуржуазно-реформистской идеологией, активно
пропагандируя ее с почти религиозным фанатиз¬
мом.
Некоторые представители западноевропейской ин¬
теллигенции, оказавшиеся по каким-то причинам в
конфликте с коммунистическими партиями своих стран,
приемлют эту декларацию, полагая, что в подобной
политической практике они смогут обнаружить некий
«обновленный» марксизм, поскольку в ее рамках про¬
возглашалось «преобразование морального облика
всего общества посредством мышления, культуры, мо¬
рали и новых обычаев, свойственных пролетариату».
Могло казаться таким образом, что речь идет о такой
«радикальной» борьбе, которая поставила целью изме¬
нение не только политики, но и образа жизни, и в
этом пункте мы опять возвращаемся к положениям
«критической теории».
В теоретическом плане «новые левые» особый
акцент сделали на субъективно трактуемой ими кон¬
цепции противоречий, истолковывавшихся ими в том
смысле, что противоречия могут разрешаться лишь
путем конфликтов и что в их разрешении решающая
роль — независимо от обстоятельств — принадлежит
людям. Подобное гипертрофированное значение роли
субъективного фактора приписывалось и возможно¬
стям революции, которая в том, что касается куль¬
туры, может якобы опережать основные социально-
экономические преобразования.
73
Еще больший отклик среди левацких групп вызвал
лозунг борьбы с бюрократией, который абстрактно
трактовался ими с волюнтаристской точки зрения
ускорения процесса отмирания государства. Эта идея
вдохновляла воображение западноевропейской моло¬
дежи и способствовала распространению мнения о
том, что власть должна перейти в руки не только масс,
но и главным образом молодежи. Выступление против
культурных традиций подогревало и радикализм ра¬
зочарованных в культуре интеллигентов.
«Новые левые» почерпнули кое-что и из идеологий
тех политических движений, которые сложились в
ходе национально-освободительной борьбы народов
«третьего мира». Так, например, Франц Фанон, кото-*
рый выступал не только против национальной бур-»
жуазии, но и против рабочего класса, рассматривае¬
мого им как резерв буржуазии, и который считал, что
победу революции принесет крестьянство, утверждал,
что он опирается в своих выводах на опыт антиколо¬
ниальной, национально-освободительной войны в Ал¬
жире.
Внимание к себе и своим политическим взглядам
Фанон привлек в основном описанием страданий ал¬
жирского народа и пропагандой революционной роли
«третьего мира».
Глубокий след в США и Западной Европе — глав¬
ным образом своей концепцией революционной
борьбы, собственной деятельностью и героической
смертью — оставил Эрнесто Че Гевара, который, как
известно, вначале сражался в Гватемале, затем при¬
нимал участие в освобождении Кубы и в конце концов
погиб в Боливии. В революционной борьбе Гевара
придавал важное значение субъективным факторам,
подчеркивал роль герильи как фактора, приводящего
в движение еще не пробудившиеся массы, способст¬
вующего зарождению в них революционного самосо¬
знания, героического самопожертвования и боевого
энтузиазма41.
Взгляды Гевары и опыт кубинской революции ста¬
ли известны в Западной Европе в трактовке Режи
Дебре, который в 1967 году опубликовал книгу «Ре¬
волюция в революции?», получившую большой резо¬
74
нанс42. В книге говорится, что ситуация в Латинской
Америке и вообще в «третьем мире» созрела для ре¬
волюции и что те, кто готов к революционному дей¬
ствию, вправе и даже обязаны объединяться под зна¬
менем борьбы независимо от того, является ли эго
знамя марксистско-ленинским или нет. Главное
средство борьбы — партизанская война (герилья), ру¬
ководимая генштабом из военных. В ходе ее создается
так называемая «народная армия». В этой связи
Дебре формулирует следующие теоретические поло¬
жения: «При определенных условиях политическая
линия неотделима от военной, обе эти линии образуют
единое целое. Это народная армия, ядром которой
является армия герильи. Партия, выполняющая роль
передового отряда, может существовать в специфиче¬
ской форме «стержня» герильи (foco). Это в корне
новый момент, внесенный кубинской революцией».
В итоге делается вывод, согласно которому кубинский
опыт может быть применен и в других местах и что
в Латинской Америке главный упор следует сделать
на развитии партизанской войны, а не на укреплении
существующих или создании новых партий. Эта кон¬
цепция переоценивала возможности создания парти¬
занских движений в деревне и городе и недооценивала
значение революционной партии. Сам Дебре в ре¬
зультате горького боливийского опыта, а также под
влиянием последующего развития событий в Чили во
многом пересмотрел свои взгляды43. Возвратившись
во Францию, он стал выступать в поддержку полити¬
ческих действий Социалистической партии.
Следы влияния подобных взглядов присутствуют
в идеологии «новых левых» в виде недооценки роли
пролетариата, роли партии, сочувственного отноше¬
ния к так называемой теории foco и акциям герильи,
а в более широком смысле — в виде тезиса о «третьем
мире» как движущей силе развития мировой револю¬
ции 44.
Как нетрудно видеть даже из этого весьма непол¬
ного обзора идейных источников «новых левых», почти
все перечисленные направления исходят из тех или
иных фальсификаций марксизма, зачастую пытаясь
«дополнить» его буржуазными философскими, эконо¬
75
мическими, социологическими, психологическими тео¬
риями.
При этом, разумеется, нужно иметь в виду, что
разного рода детали и особенности у идеологии тех
или иных отдельных групп, причисляемых к «новым
левым», всегда зависели от конкретной ситуации, вре¬
мени и условий.
У
ИДЕЙНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
«НОВЫХ ЛЕВЫХ»
т
В этой главе мы попытаемся более подробно остано¬
виться на вопросах, связанных с идейной эволюцией
«новых левых» в США, Западном Берлине, ФРГ,
Франции, Италии, а также Великобритании. Все на¬
правления охватить, естественно, не удастся, и основ-»
ное внимание будет уделено идеологическим явлениям,
которые представляются нам в какой-то мере ха¬
рактерными и отражающими важнейшие изменения,
происходящие в умонастроениях общественности За¬
пада.
Соединенные Штаты Америки
Как уже упоминалось, в США появление «новых
левых» обычно датируют 1960 г., когда возник Сту¬
денческий координационный комитет ненасильствен¬
ных действий — СККНД (Student Nonviolent Coordi¬
nating Committee, SNCC).
Движение ненасильственных действий выступало
в первую очередь против расовой дискриминации, и
поэтому его влияние было ограниченным. Не было
достаточно широким и движение протеста против мак¬
картистских гонений на прогрессивно настроенных
77
американцев и непосредственно против деятельности
Комиссии по расследованию антиамериканской дея¬
тельности.
Первым боевым воззванием «новых левых», носив¬
шим более широкий характер, явилась декларация 1
конгресса, который был организован группой «Сту¬
денты за демократическое общество» и состоялся в
1962 г. в Порт-Гуроне (штат Мичиган). В декларации
следующим образом говорится о причинах возникно¬
вения движения протеста молодежи:
«Большинство из нас было вынуждено прервать
безмолвие и начать действовать из-за переходящего
всякие границы унижения человеческого достоинства,
внимание к которому было привлечено борьбой Юга
против расового изуверства. Затем гнетущий факт «хо¬
лодной войны», символом которой стало наличие
Бомбы, заставил нас осознать, что мы сами вместе
с нашими друзьями и бесчисленными миллионами
«прочих» (с которыми в связи с грозящей всем нам
опасностью мы смогли познакомиться поближе) мо^
жем в любой момент умереть».
Эти непосредственные причины в свою очередь по¬
могли увидеть целый ряд существующих в обществе
«несообразностей»:
«Хотя техника, которой мы располагаем, последо¬
вательно ломает старые и создает новые формы об¬
щественной организации, люди все еще мирятся с
трудом, лишенным смысла, и с праздностью. В то
время как две трети человечества страдают от недое¬
дания, высшие классы купаются в расточительной
роскоши. Несмотря на ожидаемое в ближайшие сорок
лет удвоение численности населения земного шара,
нации продолжают терпеть анархию в качестве одного
из основных принципов регулирования международ¬
ных дел, а эксплуатация природных ресурсов харак¬
теризуется безудержным хищничеством. В то время
как человечество испытывает огромную потребность
в революционном действии, Америка зашла в обще¬
национальный тупик, ее цели сомнительны с точки
зрения их ценности и опутаны традициями, вместо
того чтобы быть ясными и понятными для всех; ее
демократический строй окостенел и превратился в
объект манипуляции, вместо того чтобы быть
78
достоянием народа, им претворяться в жизнь и для
него функционировать».
Общественное бытие порождает ощущение небла¬
гополучия, характеризуемое в воззвании следующим
образом:
«В труде нас не покидает чувство, что мы, воз¬
можно, являемся последним поколением данного экс¬
перимента с жизнью. Но мы — меньшинство, подав¬
ляющее же большинство народа считает временное рав¬
новесие нашего общества и мира вечным и неизмен¬
ным фактом, и в этом заключается, может быть,
самый примечательный парадокс: нас переполняет
ощущение того факта, что ситуация не терпит отла¬
гательства, а наше общество внушает, что в настоя¬
щее время нет какого-то иного жизненного решения.
За успокаивающими интонациями политиков, за об¬
щественным мнением, согласно которому Америка
«уж как-нибудь выкарабкается», за бездеятельностью
тех, кто закрывает глаза перед грядущим, кроется
пронизывающее все и вся ощущение того, что другой
альтернативы просто-напросто не существует, что
наша эпоха призвана стать свидетелем исчезновения
не только утопий, но и любого другого нового реше¬
ния. Кроме пустоты жизни люди ощущают также ра¬
стущее давление ее усложненности, испытывают страх
при мысли о том, что дела, того и гляди, неудержимо
вырвутся из их рук. Они боятся и самих перемен, по*
скольку перемены могут сломать те невидимые рам¬
ки, которые, если хотите, пока еще сдерживают хаос.
Большинству американцев всякое противоборство идей
представляется чем-то подозрительным, пугающим.
Каждый видит апатию окружающих, и это усиливает
всеобщую неприязнь к каким-либо формам организо¬
ванной общественной активности».
Однако ощущение неблагополучия не обязательно
влечет за собой неудовлетворенность существующим
положением вещей и не безусловно приводит к жажде
перемен.
«Правящие органы достаточно умны, чтобы лишить
критику ее ядовитого жала, и, действуя из укрытий,
имеют возможность быстро перемолоть или полностью
отбить атаки протестующих и требующих реформы,
кладя таким образом предел людским надеждам,
79
К тому же мы — развитое в материальном отношении
общество, и дело выглядит так, как если бы наши
собственные достижения ограничили возможность
дальнейших перемен».
Выступившее в Порт-Гуроне меньшинство потре¬
бовало перемен, и прежде всего изменения господ¬
ствующей системы ценностей. Центральное место в
своей концепции они отвели человеку, которого счи¬
тают «громадной» ценностью и который «еще спосо¬
бен прогрессировать в границах разума, свободы и
любви». «Целью человека и общества, — подчерки¬
вается в декларации, — должна быть независимость
людей: не популярность, а такой смысл жизни, кото¬
рый вызывает личное доверие». Отношения между
людьми должны характеризоваться братством и ува¬
жительностью, а не эгоизмом, отчуждением, изолиро¬
ванностью и враждебностью.
«В качестве общественного строя, — провозглаша¬
ли авторы декларации, — нам нужна демократия ин¬
дивидуального участия, а именно демократия, дви¬
жимая двумя главными целями: во-первых, чтобы
индивид мог участвовать в принятии тех обществен¬
ных решений, которыми определяется содержание и
направление развития его жизни; во-вторых, чтобы
организация общества способствовала независимости
индивида и обеспечивала условия для его участия в
общих делах».
Как видим, так называемая «демократия участия»
(participatory democracy)—главная цель политиче¬
ской программы, основной принцип которой состоиг
в том, чтобы все важные вопросы решались с уча¬
стием общественности, чтобы политика была искус¬
ством, создающим приемлемую модель общественных
отношений, чтобы ее функцией было вести людей от
изоляции к сообществу и обеспечивать возможности
для развития личности.
В экономической области декларация выдвинула
требование сделать труд творческим, не механическим,
управляемым, а не навязываемым, помогающим
укреплять самостоятельность, уважение к другим,
чувство достоинства и готовность брать на себя ответ¬
ственность перед обществом. Индивид должен нести
личную ответственность за экономическую практику
80
и принимать в ней участие. Вопросы использования
основных источников сырья и средств производства
следует в соответствии с программой решать путем
демократического распределения, создавая тем самым
возможность формирования более справедливого об¬
щественного строя.
Авторы декларации намеревались осуществить эти
цели в первую очередь с помощью университетской
молодежи, исходя из того, что университет является
подходящим местом для установления связей между
наукой и политикой, для «придания общенациональ¬
ному движению определенных рамок, для мобилиза¬
ции молодежи — как либеральной, так и социалисти¬
ческой— на выступления с инициативой проведения
дискуссий по интересующим нацию вопросам, в том
числе относительно альтернативы развития».
Каким образом можно конкретно приступить к осу*
ществлению изменений?
«Новому левому движению, — говорилось в декла*
рации, — необходимо изложить всю сложность и мно¬
гообразие нашей эпохи, обращаясь к таким пробле¬
мам, которые доступны пониманию и чувствам всех
людей. В пору так называемого «благоденствия», мо¬
рального довольства и политического манипулирова¬
ния новое левое движение не может рассчитывать, что
движущей силой реформы общества станет один лишь
голодный желудок. Необходимо гораздо обстоятель¬
нее, чем до сих пор, обсудить возможности таких из¬
менений, таких альтернатив, которые сопряжены с
беспокойством, личными усилиями и жертвами».
Таким образом, по мнению авторов декларации,
требуется не коренное преобразование, а реформиро¬
вание капиталистического общества прежде всего по¬
средством мобилизующей и формирующей сознание
деятельности интеллигенции, и особенно студенчества.
Однако по мере расширения войны во Вьетнаме и
нарастания внутренних противоречий в стране эта
йрограмма становилась все менее приемлемой и при¬
влекательной.
В одном из наиболее либеральных университетов
США, в Университете Беркли в Калифорнии, студен¬
ты потребовали права заниматься политикой, посколь¬
ку почувствовали, что к ним никто не прислушивается.
81
Осенью 1964 г. образовалось так называемое движе¬
ние «Свободное слово» (Free Speech), распространив¬
шееся на другие университеты и способствовавшее
радикализации студентов, которым убийство прези¬
дента Кеннеди открыло глаза на иллюзорность
реформ, проводимых сверху, и на факт господства на¬
силия в капиталистическом обществе. В начале 1965 г.,
когда президент Джонсон начал войну во Вьетнаме,
в университетах это послужило сигналом для круп*
ных антивоенных демонстраций. Тогда же зародилось
движение, именовавшее себя движением «антиуни¬
верситета» (teach-in), которое не только поставило
под вопрос принципы существующего «общественного
устройства», но и оставило далеко позади по своему
радикализму основные принципы Порт-Гуронской
декларации.
27 октября 1965 г. тогдашний председатель СДО
(«Студенты за демократическое общество») Карл
Оглзби на антивоенной демонстрации в Вашингтоне
говорил о том, почему он порвал с либерализмом.
«Еще недавно, — сказал он, — я тоже считал себя
либералом. И если бы кто-нибудь у меня спросил, что
я под этим понимаю, я, наверное, процитировал бы
Томаса Джефферсона или Томаса Пэйна, которые
впервые изложили бескомпромиссную позицию нашей
страны в поддержку прав человека. Но только вооб¬
разите себе, что бы произошло, если бы эти два ге¬
роических деятеля сели бы за один стол и побеседо*
вали с президентом Джонсоном и Макджорджем
Банди. По всей вероятности, разговор коснулся бы
войны во Вьетнаме. Усопшие революционеры немед¬
ленно захотели бы узнать, почему их страна сра¬
жается против революции. Живые либералы — их
собеседники рьяно отрицали бы, что речь идет о рево¬
люции: бойцы противника прибывают-де из-за грани¬
цы, оружие мятежники получают из других стран,
большинство народа не на их стороне, и к тому же
они терроризируют собственный народ. Посему это не
-революция. Что ответили бы на это наши усопшие
революционеры? Видимо, они сказали бы: «Господа,
не делайте из нас дураков и негодяев! Помощь из-за
границы? А вы помните о Лафайетте? Или 6 трех ты¬
сячах английских грузовых судов, пущенных на дно
82
французами, которые выступали на нашей стороне?
Или об оружии и солдатах, полученных от Франции
и Испании? И что это еще за террор? Разве вы ни¬
когда не слышали о том, как мы поступали с нашими
собственными лоялистами? Или вы не слышали о мно¬
гих тысячах американских тори, которые, спасая свои
жизни, бежали в Канаду? А что касается поддержки
со стороны народа, то ведомо ли вам, что за нами
шло менее одной трети народа и что колония Нью-
Йорк предоставила больше солдат англичанам, чем
революции?»2
Итак, прогрессивное прошлое обвиняет и срывает
маску с современного либерализма: борьба вьетнам¬
ских патриотов является революцией, а американская
администрация представляет реакцию. Функция «уза¬
коненного либерализма» джонсоновского толка в так
называемом «государстве, представляющем интересы»,
состоит в том, чтобы оправдывать связанные с этим
государством тяготы и оберегать его от всяких изме¬
нений. Этому либерализму, а также и либерализму
гуманистическому нужно противопоставить радика¬
лизм, заявил Оглзби, возвестивший начало массового
движения не только против войны во Вьетнаме, но и
против американского империализма как системы.
В октябре 1965 г. созданная в Университете Берк¬
ли комиссия по проведению Дня Вьетнама распро¬
страняла листовки, призывавшие военнослужащих не
подчиняться приказам, а военнообязанных — укло¬
няться от призыва3. Это проявление гражданского
мужества, несомненно, было впечатляющим даже не¬
смотря на то, что оно не помешало массовой пере¬
броске американской армии во Вьетнам.
Одновременно происходила также радикализация
движения за гражданские права. В начале 1966 г.
один из основателей СДО Том Хейден в периодиче¬
ском издании «Дисэнт» формулирует программу «но¬
вых левых» уже следующим образом:
«Движение является сообществом бунтарей, обла¬
дающих общими радикальными ценностями, сходным
обликом и ищущих повсюду самостоятельный базис.
Их цель — преобразование общества под руковод¬
ством самых изолированных и самых «необразован¬
ных» людей. Это в первую очередь означает создание
83
органов вне существующего строя, которые будут
стремиться к превращению в подлинные органы,
представляющие все общество»4.
Весной 1966 г. Студенческий координационный ко¬
митет ненасильственных действий требовал уже не
предоставления гражданских прав цветным, а негри¬
тянского самоуправления, «черной власти»5. Кали¬
форнийская партия «Черные пантеры», платформа ко¬
торой разрабатывалась под влиянием Малькольма
Икс, выступила в 1967 г. с лозунгом экономического,
социального и культурного равенства, дополнив его
требованием проведения во всей негритянской общине
под контролем ООН референдума о том, каким обра¬
зом негры желают решать судьбу своей нации6.
Выступления американского студенчества господ¬
ствующий класс стремился обезвредить прежде всего
с помощью антикоммунистической пропаганды. В но¬
мере журнала «Мувмэнт» за ноябрь 1967 г. по этому
поводу говорится:
«Всякий, кто уже пробовал создать организацию
в США, знает, что антикоммунизм представляет со¬
бой главную силу, которая используется правитель¬
ством для обеспечения себе поддержки со стороны от¬
чужденного им же народа. Но мы можем преодолеть
антикоммунизм, если в нашей литературе будем рас¬
сказывать о том, как живут люди на Кубе и в Север¬
ном Вьетнаме, в восточноевропейских странах и в
странах нового революционного „третьего мира“»7.
Такая оппозиция в отношении антикоммунизма,
конечно, не является общей для всех американских
«новых левых», но, даже будучи явлением ограничен¬
ным, она заслуживает внимания. К сожалению, при¬
зыв к тому, чтобы молодежь стремилась составить
себе верное представление о социалистических стра¬
нах, был в последние годы, как и многие другие по¬
зитивные лозунги «новых левых», оттеснен на задний
план.
Процесс радикализации отражает и теоретическая
литература, вышедшая в свет в конце 60-х годов.
Дэйв Джилберт, Боб Готтлиб и Сьюзан Сатэм издали
в 1968 г. брошюру, озаглавленную «Потребление: до¬
машний капитализм», в которой они, исходя из поло¬
жений Маркса о производительных силах, производ¬
84
ственных отношениях, классах и классовой борьбе,
а также факта научно-технической революции, де*
лали попытку проанализировать новые черты и про¬
тиворечия современного капитализма. В своих рас¬
суждениях они также воспользовались теорией бур¬
жуазно-либеральных экономистов, согласно которой
техническое развитие идет в направлении рационали¬
зации, общественное же устройство иррационально.
«Вместо того чтобы использовать развитие новой
техники для удовлетворения потребностей человека,—
писали авторы брошюры, — запросы, возникающие на
основе новой техники, сознательно подвергаются ма¬
нипуляции в целях обеспечения условий для сохране¬
ния капиталистического строя. Эта деформация есть
результат качественного изменения средств произ¬
водства (введения кибернетизированной технологии),
которое составляет основу новых форм эксплуатации
и вместе с тем подводит базу под исторически новые
возможности освобождения человека»8.
Господство гигантских компаний, олигополий при¬
водит к одностороннему развитию техники, ибо это
развитие ставится в зависимость от потребления«
Потребление же не развивается должным образом,
главной причиной чего является неравномерное рас¬
пределение благ, стремление к получению сверхпри¬
были. Частная собственность порождает эксплуата¬
цию, и это обстоятельство не позволяет обобществить
производство и тем самым обеспечить технический
прогресс и более справедливое распределение. В це¬
лом анализ Готтлиба и Сатэма, хотя и страдает из¬
вестными противоречиями, представляет собой опре¬
деленный шаг вперед, поскольку имеет целью с марк¬
систских позиций объяснить современное положение
государственно-монополистического капитализма.
В меньшей степени приемлемо, хотя и весьма симп¬
томатично с точки зрения эволюции «новых левых»,
исследование, осуществленное профессорами Йорк¬
ского и Торонтского университетов Джоном и Марга¬
рет Раунтри и впервые опубликованное в феврале
1968 г. под названием «Молодежь и класс», в кото¬
ром доказывалось, что «молодежь, по существу, пред**
ставляет собой эксплуатируемый класс». Авторы ука¬
зывают, что молодые люди используются на неблаго¬
85
дарной работе, поставляют рядовой состав для воен¬
ной машины и «фабрик идей». «Они самоотверженно
сносят участь избыточного контингента, от которого
иррациональная экономическая система не может из¬
бавиться». Молодежь начинает осознавать свое отчуж¬
дение, являющееся следствием не только труда, но и
образа жизни9.
Ссылаясь на вышедшее в 1961 г. произведение
Джеймса С. Колемэна «Отроческое общество»10,
авторы указывают на одну специфическую форму
сопротивления молодежи, на так называемое «суб¬
общество», которое характеризуется своими собствен¬
ными нормами поведения, своей шкалой ценностей«
Это общество создает новую «субкультуру», которая
затем превращается в используемый бизнесом миф и
орудие ложного сознания. Субкультура, по их словам,
носит коллективный и деятельностный характер. В от¬
личие от «бит»-литературы и искусства, которые
были связаны с экзистенциализмом и которым был
свойствен уход в себя, эта субкультура реализует
себя в активном противодействии и выходе в широкий
мир, и поэтому язык ее искусства имеет подчеркнуго
вызывающий характер. По утверждению авторов, мо¬
лодежь облекает в неясные формулировки то, что она
хочет сказать, но эта неясность, двусмысленность
представляет собой такой же продукт сопротивления,
как гипертрофированная сила звука рок-ансамблей.
«Битники шептали. Ныне молодежь кричит». Крик
характерен и для подпольной печати, которая стреми¬
лась быть услышанной во всем мире.
Из всего этого Джон и Маргарет Раунтри делают
вывод, что молодежь как класс противопоставляет
свой новый образ жизни и культуру взрослому обще¬
ству, созревшему для перемен.
Исследование Д. и М. Раунтри, по существу, при¬
числило к «новым левым» и хиппи с той оговоркой,
однако, что последних необходимо еще «политизи¬
ровать». В противоположность этому мнению Карл
Дэвидсон, который в 1967—1968 гг. был секретарем
по связям между организациями СДО, а затем сот¬
рудником «новой левой» газеты «Гардиан», в одной
из отпечатанных в 1968 г. листовок11, в которой он
сформулировал политическую линию университетских
85
радикалов, обратил внимание на различие между этим
движением и хиппи. Он считает сомнительной точку
зрения, согласно которой хиппи рассматривают чуть
ли не в качестве революционеров, ниспровергающих
основы буржуазного общества.
«С одной стороны, они, в сущности, отвергают гос¬
подствующую культуру и на первый взгляд выступают
с жизнеутверждающих позиций, с другой стороны,
они в большинстве своем являются лишь пассивными
потребителями культуры, а не активными ее твор¬
цами. Сколько бы они ни говорили об общности, сами
они связаны друг с другом только наркотиками и
общим жаргоном. В их представлениях о любви мало
глубокой страсти».
Дэвидсон четко сформулировал основные возра¬
жения против движения хиппи:
«Индивидуальное освобождение человека, самого
общественного существа — не что иное, как тупик,
нонсенс. И даже будь индивидуальное освобождение
возможным, еще вопрос — желательно ли оно? Про¬
цеживание действительности через сознание индивида
не разрушает и не преобразует объективной действи¬
тельности других людей».
Он не отрицает, что некоторые методы «прово»
(так называют тех хиппи, которые не останавливаются
перед акциями с применением насилия) и «диггеров»
(участники основанного Э. Грогэном и названного в
память одной из сект XVII века движения в поддерж¬
ку хиппи, предоставляющего последним кров и пищу)’
вполне годятся для того, чтобы вызывать сенса-.
ции и провоцировать буржуазию, однако все это не
может заменить революционной деятельности. Под
этой последней Дэвидсон понимает прежде всего ор¬
ганизованную борьбу за реформы, которая лишь по
истечении весьма продолжительного времени может
привести к преобразованию общества.
«Субобщество» создает и свою особую теорию,
известное представление о* которой дает опубликован¬
ная в номере «Сан-Франциско экспресс тайме» за
июнь — июл'ь 1968 г. статья Марвина Гэрсона, одною
из представителей анархистских тенденций 12.
«В наше время, — пишет автор, — сущность рево¬
люционной политики состоит в том, чтобы из аморф¬
87
ной массы «дистиллировать» активные функциональ¬
ные группы, удельный вес которых станет в конце
концов достаточно большим, чтобы расшевелить все
население. Достигнуть этого можно только хорошим
примером, а отнюдь не проповедями. Это значит, что
революционеров самих нужно сорганизовать в функ¬
циональные рабочие группы: ассоциации, коммуны,
родственные группы, как бы они ни именовались. Та¬
кие группы революционеров остаются в основном по¬
литическими, какую бы техническую работу они ни
выполняли, будь то содержание бесплатной автобус¬
ной линии или организация взрывов в помещениях
призывных комиссий; любую программу они рассмат¬
ривают в первую очередь с точки зрения возможности
влиять на общественное сознание. Начинать нужно
с революционной ителлигенции с тем, чтобы посте¬
пенно охватить революционно настроенных плотни¬
ков, учителей, врачей, монтеров, механиков, програм¬
мистов,— всех, кто некогда составлял лишь некую
безликую „массу“».
«Молодежная интернациональная партия» (Youth
International Party)—членами ее являются хиппи,
проявляющие активный интерес к политике и име¬
нующие себя по начальным буквам этой организации
йиппи, — в 1968 г. призвала своих приверженцев ме¬
шать проведению выборов, высмеивать их с помощью
средств и методов, напоминающих студенческие заба¬
вы. Юмористическая окраска этого призыва уравно¬
вешивалась серьезностью концовки: «Каждый чело¬
век— это революция! Любая небольшая группа —
революционный центр!» Таким образом, цель йип¬
пи — развернуть своеобразную психологическую «пар¬
тизанскую войну» против истэблишмента; иными сло¬
вами, они не ограничиваются одним лишь провозгла¬
шением особой позиции, но намерены развивать и
политическую деятельность.
1968 год был годом дальнейшей радикализации
различных направлений, но уже обнаруживал и симп¬
томы упадка. СДО не смогла создать настоящего
единства, а после весенних событий в Париже не су¬
мела остановить процесс дробления; в 1969 г. она рас¬
палась, к чему причастны маоисты, стремившиеся под¬
чинить эту организацию своему влиянию 13.
88
С того времени в американском движении «новых
левых» сложились, по существу, такие же группы, как
и в Западной Европе. Наиболее радикальными заре¬
комендовали себя так называемые «метеорологи»
(weathermen), которые привлекли к себе внимание не
только террористическими актами, но и попытками
обосновать свои цели теоретически. Социальные пре¬
образования, которые необходимо осуществить в США,
они тесно связали с проблемой развития мировой ре¬
волюции.
«Наша цель, — говорится в их манифесте, — уни¬
чтожение американского империализма и осуществле¬
ние бесклассового общества — коммунизма во всем
мире. Ниспровержение существующей власти в США
явится следствием того, что американские интервен¬
ции приобретут небывалые масштабы, охватят весь
мир и станут терпеть фиаско в одном секторе за дру¬
гим; внутренняя борьба в США явится одним из ре¬
шающих факторов этого процесса, но, когда револю¬
ция победит в Соединенных Штатах, она станет об¬
щим делом народов всего мира».
Внутреннюю борьбу они связывают с эскалацией
подавления, то есть с тем, что борьба против государ¬
ственных институтов будет вызывать все более усили¬
вающиеся репрессии. Учитывается возможность и то¬
тального военного подавления, но, по их мнению,
именно это и ведет к революционизации масс. Они
считают, что для ведения революционной борьбы не¬
обходима партия, представляющая собой одновремен¬
но политическую и военную организацию. Нужна так¬
же революционная теория, которая «по крайней мере
в общих чертах разъясняла бы, в чем заключаются
наши революционные задачи и как мы можем их осу¬
ществить. Необходимо также, чтобы существовала
идейная общность, сложившаяся и испытанная в про¬
цессе практического разрешения существенных проти¬
воречий, возникающих в нашей работе». Необходимы
революционное руководство и революционная база,
иными словами, массовое революционное движение.
Для начала «метеорологи» довольствовались органи¬
зацией «революционных коммун» и пытались посред¬
ством различного рода акций сформировать массовую
базу своего движения. Эта весьма убогая в теорети¬
89
ческом отношении платформа, опирающаяся на кое-
какой опыт латиноамериканских партизанских движе¬
ний, не пользовалась почти никаким влиянием и в
итоге оказалась никому не нужной.
В конце 60-х годов в США оживилась деятель¬
ность и троцкистских групп. Их точку зрения излагает
Эрнест Мандель14, изучающий вопрос об экономиче¬
ской и социальной основах «левацких» движений в
Соединенных Штатах Америки. По его мнению, с раз¬
витием автоматизации потребность в неквалифициро¬
ванной рабочей силе будет все больше сокращаться,
что с необходимостью повлечет за собой увеличение
безработицы, особенно среди негров, 15—20% кото¬
рых — в основном молодежь — уже и сейчас являются
безработными. Меняется также положение интелли¬
генции, поскольку многие ее представители непосред¬
ственно участвуют в производстве, где снижается доля
физического труда. Новое для капитализма явление
состоит в том, что управление экономикой порождает
многоуровневую иерархическую систему, где высший
руководящий слой занимается прежде всего вопроса¬
ми планирования. Однако власть в конечном счете
продолжает оставаться в руках капиталистов. Поэто¬
му принимаемые решения зачастую иррациональны и
встречают отрицательное отношение со стороны экс¬
пертов по экономике и системному анализу. Инфля¬
ция сводит на нет повышение реальной заработной
платы, уровень зарплаты рабочих уже в течение ряда
лет не растет, и это вызывает общее недовольство.
Состояние коммунальных услуг все более ухудшается:
коммунальные предприятия не реконструируются, их
службы ( 11 млн. служащих) практически не эффек->
тивны. Положение усугубляется все более усиливаю¬
щейся международной конкуренцией, которая в конеч¬
ном счете должна привести к снижению уровня жизни
американцев. Все эти причины объединяют против ка¬
питализма пять основных слоев: неквалифицирован¬
ных рабочих, студентов, инженерно-технических ра¬
ботников, рабочих и коммунальных служащих.
Полемизируя с Манделем, Мартин Николаус 15 ста¬
вит под сомнение прогноз бельгийского троцкиста от¬
носительно последствий технологического прогресса.
Он не склонен также считать последствия инфляции
90
столь тяжелыми, а международную капиталистиче¬
скую конкуренцию столь опасной для американского
империализма. По его мнению, для современного ка¬
питализма характерна усиливающаяся интеграция;
возможности экспансии полностью исчерпаны; концен¬
трация и централизация осуществляются в междуна¬
родных масштабах; имеет место перепроизводство;
для отдельных слоев трудящихся в США начинают
складываться своего рода колониальные условия;
вследствие всего этого обостряется антагонизм между
капиталом и трудом.
В ответ на критику Мандель отмечает, что его ана¬
лиз направлен в первую очередь против теорий Суизи,
Бэрана, Маркузе и других, кто «списывает» рабочий
класс как революционную силу и считает важным с
точки зрения мировой революции фактором только со¬
противление «третьего мира». Он указывает, что для
капитализма ныне характерно особое внимание к ук¬
реплению аппаратов власти, к чему его побуждает
страх перед социалистическими странами и «третьим
миром». Сам он по-прежнему придает большое значе¬
ние тем элементам сознания, о которых он упомянул
в своей предыдущей статье и в которых нашли отра¬
жение различные экономические и социальные сдвиги,
конкретная классовая борьба. Что же касается буду¬
щего, то здесь Мандель еще раз повторяет, что сопер¬
ничество между капиталистическими странами и
впредь будет, по его мнению, представлять собой фак¬
тор, ведущий к обострению классовой борьбы.
Все это, однако, уже не более чем размышления
после того, как движение пошло на спад; маоизм и
троцкизм в полной мере продемонстрировали свою не¬
способность повести за собой широкие массы. Посмо¬
трим теперь, что же происходило в эти годы в негри¬
тянском движении в США.
После 1968 г. в партии «Черные пантеры» возникли
острые разногласия между группировками расовой и
социальной ориентаций. Концепция расовой идеоло¬
гии была, вероятно, наиболее отчетливо сформулиро¬
вана Стокли Кармайклом в статье «Сан-Франциско
экспресс тайме» от 22 февраля 1968 г., где он вы¬
двинул тезис, согласно которому ключ к решению
негритянской проблемы надо искать в первую очередь
el
в пробуждении любви и уважения друг к другу среди
членов негритянской общины, игнорируя классовые
различия, поскольку последние среди негров еще не
столь значительны. Он отвергает идеологию социа¬
лизма, заявляя, что неграм приходится сталкиваться
в первую очередь не с эксплуатацией, а с расовыми
преследованиями, и оружием против этого может
быть только националистическая идеология. По его
мнению, «негритянский» вопрос связан не с той или
иной страной, а с цветом кожи. Следовательно, жи¬
вущим в различных частях земного шара неграм
необходимо объединяться независимо от того, к ка¬
кому классу они принадлежат и гражданами какой
страны являются.
Другой руководящий деятель партии «Черные
пантеры» Хью П. Ньютон, напротив, выдвинул на
первый план социальные требования, подчеркнув, что
классовая борьба имеет место и внутри негритянской
общины, хотя выступающая на стороне американской
реакции негритянская буржуазия и составляет весьма
незначительное меньшинство.
Внутренние разногласия в партии «Черные панте¬
ры» привели к тому, что в начале 1971 г. произошел
разрыв между так называемым «национальным цен¬
тром» (представителями которого являются Хью П.
Ньютон и Дэвид Хиллард) и «национальной секцией»,
многие члены которой, в частности Элдридж и Кэтлин
Кливер, живут в Алжире. «Алжирская» секция высту¬
пила за немедленное применение насилия и протесто¬
вала против «обюрокрачивания» партии. Ньютон отве¬
тил, что партия «Черные пантеры» имеет в виду ис¬
пользовать вооруженный отпор в целях самозащиты,
а требования реформ были включены в ее программу
потому, что только таким путем можно привлечь мас¬
сы на сторону революции. «Винтовка сама по себе
еще не обязательно революционна», — заявляет Нью¬
тон, не признавая насилие единственным средством
революции. Такую же позицию занимает и другой ос¬
нователь партии «Черные пантеры» Бобби Сил ,6. Эти
споры привели в конце концов к расколу и тем самым
к ослаблению негритянского движения.
После 1968 г. шедшие за «новыми левыми» соци¬
альные группы стали все больше отходить от политики.
92
Буржуазные теоретики с удовлетворением наблюдают
за этим процессом, стремясь извлечь из него полезные
для истэблишмента выводы. Профессор права Йель¬
ского университета Чарлз А. Рейч в своей вышедшей
в конце 1970 г. книге «Молодая поросль Америки» 17
осуждает студенческое движение, но стремится ис¬
пользовать некоторые концепции части «новых ле¬
вых», чтобы ускорить революцию американского со¬
знания. Рейч считает, что революция близится, но ее
отправными пунктами будут, по его мнению, личность
и культура, а политическую структуру она затронет
только в конце.
«Для победы (революции) не понадобится наси¬
лие, да и успешно бороться против нее с помощью на¬
силия также нельзя. Уже и теперь она наступает с не¬
слыханной быстротой, и вследствие этого подвергают¬
ся изменениям наши законы, институты и социальная
структура. Она обещает принести с собой более ясный
разум, более гуманное общество и нового, свободного
человека. Венцом ее творения станет новая и прочная
гармония и красота — новообретенное отношение че¬
ловека к самому себе, другим, обществу, природе и
родине...
...Цель человеческого мышления состоит в том,
чтобы привести общество и жизнь в соответствие с
уже совершившейся научно-технической революцией.
Техника требует от человека — если он хочет ее на¬
правлять и контролировать — нового мышления, бо¬
лее высокоорганизованного, трансцендентного разума,
а не превращения в бездумного робота. По отноше¬
нию к ценностям она требует новой индивидуальной
ответственности, в ином случае все ценности будут на¬
вязываться техникой».
Итак, речь идет о преобразовании сознания, и не¬
обходимость этого ощущается молодежью, которая, как
он полагает, предвосхитила модель нового общества.
Почему в Америке необходима революция, да еще
«культурная революция»? Во-первых, потому, что в
обществе царят беззаконие и коррупция. К этому еще
добавляются недостаток ответственности и безразли¬
чие к последствиям, всеобъемлющее лицемерие и хан¬
жество. «Беззаконие и злоупотребление законами на¬
ходят свое выражение в войне во Вьетнаме, в искоре¬
93
нении всего человеческого, в слепой, равнодушной,
техницизированной жестокости».
Вторую причину Рейч видит в том, что Америка
являет собой, по его словам, картину крайней нищеты
в царстве изобилия. В различных сферах обслужива¬
ния существуют диспропорции, носящие политический
характер. Одним из примеров социальных диспропор¬
ций может служить структура налогов, которая за
счет обездоленных людей и жалких коммунальных
услуг поддерживает частную собственность, производи
ство предметов роскоши и военную промышленность.,
Третий фактор — уничтожение окружающей чело¬
века среды вышедшей из-под его контроля техникой.
Четвертый — регресс свободы и демократии. «На¬
ция все больше превращается в окостеневшую управ¬
ленческую иерархию с немногочисленной элитой и
лишенными прав широкими массами».
Пятой причиной является антигуманный характер
труда и культуры, выражающийся в том, что труд ста¬
новится все более непривлекательным и изнуритель¬
ным, жизнь сводится лишь к времени, свободному от
работы, тогда как культура низведена до уровня ком¬
мерческой безвкусицы, «Наша жизнедеятельность —
это приспособляемая, подменяемая, выглядящая под¬
делкой в сравнении с тем, чего мы по-настоящему
хотим, придуманная другими и навязанная нам дея¬
тельность». Короче говоря, жизнь является объектом
внешних и чуждых ей манипуляций.
Шестой фактор — нехватка человеческого общения.
Работа и местожительство стали ареной отчуждения,
исчезли подлинные общности, человеческие связи,
семья, дружба.
Седьмая причина, которую автор считает осново¬
полагающей, главным образом с точки зрения молоде¬
жи,— это «утрата собственного Я»: «Индивида систе¬
матически лишают воображения, способности к твор¬
честву, наследия прошлого, мечты и индивидуальных
черт его личности для того, чтобы сформировать из
него техническую производственную единицу массово¬
го общества».
Анализируя причины, не позволяющие американ¬
цам изменить существующее положение, Рейч отвер¬
гает марксистский анализ — который он, кстати,
94
чрезвычайно вульгаризирует — под тем предлогом, что
последний, делая упор на экономические интересы,
якобы не учитывает такие факторы, как бюрократия,
организация и технология, которые не обязательно
связаны с классовыми интересами. По его мнению, ни
устаревшая структура, ни государственно-монополи¬
стический капитализм, ни лишенная смысла техника
не объясняют полностью американских проблем. Это
объяснение, скорее, следует искать в противоречии ме¬
жду реальным обществом и сложившимся представле¬
нием о нем. Затем автор переходит к вопросам созна¬
ния, которое является, с его точки зрения, не просто
механическим объединением верований, знаний или
ценностей, а у любого данного индивида представляет
собой целостную форму, соответствующую тотальному
восприятию действительности этим индивидом, всей
сложившейся у него картине мира.
Ныне в Америке, по мнению Рейча, имеются три
типа сознания. Первый возник в XIX, второй — в пер¬
вой половине XX века, третий складывается в наши
дни. Первый и наболее распространенный тип — это
традиционное сознание американского фермера, мел¬
кого предпринимателя и рабочего, который стремится
подняться вверх по социальной лестнице. В основе
второго лежат ценности так называемого «организо¬
ванного общества». Третий — сознание нового поколе¬
ния. Сочетание первых двух типов сознаний слило во¬
едино несправедливости и эксплуатацию XIX века с
обезличиванием, нелепостями и угнетением XX века,
и все это грозит миру гибелью. Следовательно, необ¬
ходимо новое сознание, которое впервые появилось
у молодежи Америки и которое постепенно револю¬
ционизирует структуру общества, изменяя характер
культуры и качество индивидуальной жизни.
Изменение условий должно, по мнению Рейча, про¬
изойти в результате формирования нового образа
жизни:
«Новый образ жизни поведает нам, как использо¬
вать технику и науку в интересах человека, а не про¬
тив него. Новый образ жизни ставит себе целью труд,
сохраняющий качество, вдохновение и совершенство,
труд, не являющийся более отчужденным, свободно
выбираемый каждым человеком, представляющий со¬
95
бой органическую часть полной и приносящей удовле¬
творение жизни, самовыражение и самоутверждение
человека. Новый образ жизни несет с собой необходи¬
мость такой культуры, в рамках которой взаимная
тяга к любви, уважению и мудрости займет место бы¬
лого соперничества и разобщенности, и предполагает
такую свободу индивида, при которой последний бу¬
дет в состоянии достигнуть высочайших вершин чело¬
веческого духа».
К идее революции сознания приходят и отдельные
представители «новых левых», а не только их оппо¬
ненты. Рейч, кстати, тоже не представляет «новых
левых», он лишь описывает уроки этого движения,
(Поэтому мы не разделяем высказанного Е. А. Замош*
киным и Н. В. Мотрошиловой мнения *, согласно
которому Рейч причисляется к «новым левым». То же
самое относится и к Теодору Розаку, чья первая книга
о контркультуре вышла первым изданием в 1968 г. и,
следовательно, является документом более раннего
периода. И Рейч и Розак — последний, в частности, в
своей недавно вышедшей книге «Там, где кончается
пустота (Политика и преобразования постиндустри¬
ального общества)» 17а — противопоставляют револю¬
ции внутреннее «самоусовершенствование», и оба они
идут путями иррационализма.) В том же русле идей
движется и Эдвард Шварц, который издал в 1972 г,
книгу под названием «Может ли революция побе¬
дить» 18. Шварц утверждает, что современный револю¬
ционер — это не либерал и не марксист; вдохновляясь
американскими традициями, он желает такой револю¬
ции, которая обеспечивала бы справедливость и че¬
ловеческое достоинство. В интересах достижения этой
цели он предлагает, чтобы семейная жизнь была пре¬
образована на коммунальной основе, чтобы церковь
обновилась и вместе со школами содействовала рас¬
пространению новой коллективистской морали. К осу¬
ществлению всего этого необходимо привлечь интел¬
лигенцию. Мечтой Шварца является децентрализован¬
ная, эгалитарная Америка, Америка, которая будет
столь же заботиться о качестве своих общин, как и
* См.: Е. А. ЗамошкиниН В. Мотрошилова. «Новые
левые» — их мысли и настроения. — «Вопросы философии»,
1971, № 4.
96
о количестве благ. Среди тех, чьими идеями он вдох¬
новляется, мы найдем наряду с Платоном и Руссо
М. Бубера, Г. Зиммеля, Э. Фромма и, конечно, таких
представителей «новых левых», как Малькольм Икс.
Расплывчатый и социально пассивный характер
этой программы очевиден, хотя мы, разумеется, и не
отрицаем важной роли фактора сознания в подготовке
общественных изменений.
Для того чтобы дать представление о нынешней
ситуации в среде студенчества, приведем свидетель¬
ство университетского преподавателе, который дает
следующую оценку: «Общее умонастроение, особенно
в университетах, ныне таково, что люди стремятся ско¬
рее к личным дружеским связям, а отнюдь не к поли¬
тике. Они ценят любовь больше секса и склонны ско¬
рее к эмоциям, нежели к действию». Один американ¬
ский наблюдатель в газете «Монд» от 23 марта 1972 г.
указывает, что молодежь не только разочарована в
политике, но и опасается экономического кризиса и
трудностей с получением работы. «Молодежь поняла,
что страна движется со скоростью айсберга, и начи¬
нает учиться медлительности, гедонизму, созерцатель¬
ности, лицемерию и цинизму».
По данным популярного в Америке опроса обще¬
ственного мнения, в 1971 г. 71% студентов были
склонны видеть причину всех бед США в том, что не
придается должное значение «хорошей семейной жиз¬
ни», 60% считали, что нации необходимы «более силь¬
ные» руководители, а по мнению 50%, следовало бы
больше заботиться об экономической обеспеченности
отдельных людей. Своими героями это поколение счи¬
тает Джона Ф. Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, Ро¬
берта Кеннеди и Ричарда Никсона. Своими писателя¬
ми — Эрнеста Хемингуэя, Джорджа Орвэлла и Дже¬
рома Д. Сэлинджера. Газета «Ди прессе», в номере
которой от 22 февраля 1971 г. приведены эти данные,
делает следующее ехидное примечание: «И наконец,
чтобы еще больше разозлить Маркузе и его коллег,
50% этих «детей» заявили, что считают правильным
то суждение о ценностях, которого придерживается
поколение их отцов».
«Мир и любовь» (peace and love)—таков девиз
тех молодых людей, которые называют себя «детьми
97
цветов» и вдохновляются неоруссоистскими идеалами
в духе знаменитой книги Генри Дэвида Торо «Уолден,
или Жизнь в лесу», стремясь вернуться к природе,
к простому образу жизни и видя спасение в суще¬
ствующих издревле человеческих отношениях и чув¬
ствах. Движение хиппи и «новые левые» оказались
таким образом ближе друг к другу, а создание «па¬
раллельного общества», образование коммун, форми¬
рование контркультуры вновь предстают в облике ре¬
волюционных требований.
«Революция образа жизни» ставит в центр внима¬
ния личную жизнь и придает большое значение чув¬
ствам. Эта молодежь узнавала себя в сентименталь¬
ном романе Эриха Сегала «Рассказ о любви» (Love
story) и в сделанном по нему фильме. История боль¬
ной белокровием бедной девушки Дженифер и иду¬
щего ради любви на разрыв со своей семьей богатого
юноши Оливера, трагически кончающаяся смертью де¬
вушки, тронула молодежь до слез. Исполнитель глав¬
ной роли Эли Макгроун некогда принимал участие в
студенческих демонстрациях, сейчас, однако, ему ис¬
полнилось 30 лет, и, как говорят американские социо¬
логи, общество «рекуперировало» и его.
В качестве одной из сторон происходящих измене¬
ний в настроениях американской молодежи следует
отметить заметный рост интереса к религии, расцвет
неомистицизма, теперь уже в основном в христиан¬
ском обличье. Еще в 1967 г. в Сан-Франциско и дру¬
гих местах появились «христианские кафе» и «обра¬
щенные» хиппи, но более широкий размах «Движение
Иисуса» приобрело с 1970 г. Последователями движе¬
ния, именующими себя «Иисусовыми братьями», ста¬
новились не только хиппи, но и некоторые из бывших
«новых левых», главным образом в университетах.
Это движение имеет все те же внешние приметы, что
и хиппи: подпольная печать и песни — импровизации
на религиозные тексты являются наряду с жизнью в
общинах и оказанием помощи главными средствами
«обращения» 19. Примечательна также быстрота и гиб¬
кость, с которой перестраивается американский истэ¬
блишмент в своем отношении к молодежным движе¬
ниям. Опубликованная недавно серия репортажей сви¬
детельствует о том, что различные церкви с необычной
98
терпимостью относятся к духовным метаниям моло¬
дежи и, действуя в соответствии с американскими тра¬
дициями, стремятся связать воедино воззрения хиппи
и религию20.
Об этих же изменениях свидетельствует и возник¬
шая в-США мода на мюзиклы, в основу которых кла¬
дутся библейские сюжеты. Такие мюзиклы, как «Иисус
Христос — суперзвезда» или «Евангелие», воскре¬
шают в памяти идеи древнехристианского коммуниз¬
ма, с позиции которых и критикуется существующий
общественный строй. На представлениях этих рок-
опер Христос изображается «обычным человеком», сы¬
ном народа, приемлющим все, что существует на
свете. Песнь Марии Магдалины, начинающаяся сло¬
вами: «Он —■ человек, он — только человек», хорошо
выражает мотивы, которые связывают «обновление»
христианства с «новыми левыми». Конечно, с точки зре¬
ния интерпретации Христа между мюзиклами «Иисус
Христос — суперзвезда» и «Евангелие» имеются раз¬
личия. Первый мюзикл по своему настроению явля¬
ется, скорее, экзистенциалистским, второй более бли¬
зок движению хиппи. Все это, однако, ничего не ме¬
няет в вышеупомянутых мотивах.
По мнению одного французского наблюдателя,
речь здесь идет о начале теистского движения нового
типа, являющегося причудливым конгломератом идей
древнего христианства, средневекового мистицизма, ри¬
туализированного употребления наркотиков и прочих
компонентов того же рода. К этому движению, для
которого характерны пренебрежение материальными
благами и недоверие к существующим институтам
и учреждениям, наряду с хиппи присоединяются и
дети так называемых «средних классов». «В зависимо¬
сти от того, какова позиция того или иного человека,
он может примкнуть либо к движению в целом, либо
к течению контркультуры, либо к неохристианству» 21.
Французский кардинал Жан Даньелу отдает предпо¬
чтение последнему варианту и заявляет, что церковь
должна вступить в диалог с движением, которое вы¬
ражает себя, в частности, в мюзикле «Иисус Хри¬
стос — суперзвезда» и которое, по мнению кардинала,
«отражает потребность в празднестве и сакрализа¬
ции» 22.
99
Наряду с древним христианством многих привле¬
кают также восточные религии, главным образом
дзен-буддизм, желание приобщиться к которому вы*
звало массовые паломничества в Индию и Непал, по«
еле чего люди, прежде интересовавшиеся политикой^
возвращаются йа родину в экзотических одеяниях
гуру и с энтузиазмом проповедуют учение Ганди о не-'
противлении злу насилием и о внутреннем самоусовер*
шенствовании человека.
Следует также отметить, что в период своей поли«
тической активности движение «новых левых» способ*
ствовало усилению в американском обществе и ира*
вых тенденций. Один из критиков «новых левых», ре«
дактор журнала «Дисэнт» Ирвинг Хау еще раньше
писал об этом процессе: «Я уже давно считаю, что со
времени войны главное направление американской ин¬
теллектуальной жизни сдвигается вправо и что эпоха
нового левого движения была лишь перерывом в этой
тенденции».
Франсуа Бонди, приводивший в 1973 г. это выска¬
зывание, добавляет от себя:
«После выдвижения избитого лозунга «Вся власть
народу» интеллигентам пришлось убедиться в том,
что о большинстве этого народа они знали очень мало
и выражали не его стремления. Им пришлось убе¬
диться в том, что кажущиеся им естественно необхо¬
димыми политическая и моральная революции ни¬
когда не были тождественны, что их движение не по¬
шло дальше риторики, что так же обстояло дело и
при бездумных попытках согласовать несогласуемоб
при сладострастном самолюбовании — этим объяс*
няются выпячиваемые везде и всюду черты хеппенин¬
га. После года шумихи и суеты от провозглашенного
мертвым реформизма осталось куда больше, нежели
от гипертрофированного и театрально «разыгранного»
порыва революционеров» 23.
Сам Маркузе, являвшийся одним из главных вдох*
новителей американских «новых левых», видя усилив*
шуюся после 1968 г. аполитичность и убедившись в
усилении репрессий, оценивает ситуацию пессимисти¬
чески: «Нет гарантий, что в течение какого-то обозри¬
мого периода победит революция, следует считаться с
возможностью торжества варварства, своего рола
100
неофашизма»2**. Все это говорится с целью обратить
внимание радикалов на необходимость самодисцип¬
лины и организованности, предлагается даже установ¬
ление связей с рабочим классом 25. Добавим от себя,
что Маркузе по-прежнему не считает рабочий класс
«субъектом революции» и утверждает, что если смена
власти и произойдет, то этим «еще не будет обеспечен
переход к социализму как качественно новому обще¬
ству. Если рабочий класс хочет стать силой, способ¬
ной организовать этот переход, он должен сначала
преобразовать себя». Эта концепция, по существу,
имеет антикоммунистическую и антисоветскую напра¬
вленность: в своих новейших работах Маркузе гово¬
рит о новой «контрреволюционной» эпохе, которая
якобы в равной мере характерна для капиталистиче¬
ских и социалистических стран 26.
В одном из данных в начале 1973 г. интервью27 он
выражает убеждение в том, что, прежде чем пытаться
изменить основные социальные и политические инсти¬
туты, необходимо коренным образом изменить чело¬
века. Маркузе подчеркивает, однако, что одной контр¬
культуры для этого мало:
«Если «контркультура» не связана с революцион¬
ной политической практикой, она вырождается в но¬
вую форму эгоизма, в погоню за личным наслажде¬
нием, в бегство от действительности, в наркоманию.
И общество больно шизофренией уже потому, что эти
формы отказа не помешают системе существовать и
функционировать: на одной стороне — хиппи, на дру¬
гой — насилие и геноцид».
С этим высказыванием вполне можно согласиться,
однако в своей книге «Контрреволюция и бунт» Мар¬
кузе утверждает уже нечто иное, объявляя «ложным
и репрессивным представлением» любую концепцию —
будь она «классической» или неоавангардистской, —
которая стремится сделать искусство составной
частью революционной практики. Его идеал — Кафка,
Беккет, литература «трагического сознания», которая,
по его мнению, призвана изменить мышление людей.
Впрочем, авангард радикальной оппозиции он по-
прежнему видит в студентах и считает, что новое со¬
циалистическое сознание должно быть выработано ин¬
теллигенцией.
101
Разумеется, не все проявляющие политическую ак¬
тивность молодые американцы сочувственно относятся
к разного рода левацким, троцкистским, анархист¬
ским группам и группкам или примыкают к лагерю
«мира и любви». Многие из них, исходя из они га
борьбы 60-х годов, начинают изучать подлинную, а
не фальсифицированную марксистскую теорию и прак¬
тику коммунистических партий. Коммунистическая
партия США насчитывает в настоящее время около
10 тыс. членов, ее молодежные организации образова¬
лись из Клубов Дюбуа лишь в 1964 г., но их влияние
распространяется все шире. Дело Анджелы Дэвис и
полемика вокруг судебного процесса над ней способ¬
ствовали усилению влияния марксизма 28.
Конечно, одновременно с этим — именно на волне
нового интереса к марксизму — появляются и «марк-
систвующие» идеологи и те, кто пытается обратить
теорию Маркса против коммунистических партий. Как
бы то ни было, игнорирование марксизма и изоляция
коммунистов в кругах интеллигенции идут на убыль.
«Ценность Движения, — утверждает Массимо Тео-
дори, — следует искать не в его политической зрело¬
сти, а в призыве к поискам другого стиля жизни и в
том, как значительная часть молодежи реализует этот
призыв. Это — утопический призыв, однако он возвра¬
щает политике ее идеалистическое измерение и ее
функцию постоянно сражаться за общественный строй,
обеспечивающий индивиду все большую степень сво¬
боды» 29.
Все это Теодори писал в 1969 г. С того времени,
однако, оценка движения заметно изменилась. Так,
одна французская газета характеризует его уже со¬
всем иначе: «Идеологическая путаница, субъективист¬
ская утопия, бесплодный идеализм, дискредитация ре¬
волюции попытками вложить в нее «новую душу», ми¬
стицизм и лирическая иллюзия» 30.
Хотя взгляд с позиций исторической перспективы
подтверждает эту оценку, не подлежит сомнению роль,
сыгранная американскими «новыми левыми» в 1965—
1968 гг. в деле мобилизации широких масс на борьбу
против войны во Вьетнаме, в привлечении внимания
к противоречиям в американской политике и обществе,
в пробуждении у части молодежи и интеллигенции
102
интереса к политике. Безусловно, перечень причин
упадка этого движения можно сделать достаточно
длинным, однако ясно, что именно те черты Движе¬
ния, которые, по мнению Теодори, составляют его цен¬
ность, заняли бы в этом списке одно из первых мест.
Западный Берлин
и Федеративная
Республика Германии
В Западном Берлине и ФРГ «новые левые» с са¬
мого начала проявляли больше интереса к теории,
нежели их единомышленники в США. Центром их
теоретической деятельности стал западноберлинский
Свободный университет, который в силу своего место¬
расположения стремился в равной мере быть в курсе
всего того, что происходило как в США, так и в со¬
циалистических странах, особенно в ГДР. Предше¬
ствующее развитие событий дает возможность по¬
нять, почему именно здесь получили наибольшее
распространение воззрения Франкфуртской школы и
Маркузе и здесь же отчетливо сказалось влияние
«левизны» 20-х годов. Весьма важно при этом иметь
в виду также, что студенчество и часть преподавате¬
лей отнюдь не удовлетворял «американский образ
жизни».
Широкоизвестный руководитель западноберлинских
«новых левых» Руди Дучке, возможно, наиболее харак¬
терно определил идеологические основы студенческого
движения второй половины 60-х годов. В своем эссе
«Противоречия неокапитализма, студенты, выступаю¬
щие против авторитетов, и их отношение к «третьему
миру»31 он оперирует Марксовыми категориями, но
при этом их «переосмысливает», ссылаясь на некото¬
рые особенности современного капитализма. В отличие
от капитализма периода свободного предприниматель¬
ства, основанного на конкуренции частных лиц, при
неокапитализме, говорит Дучке, господствует рыноч¬
ное соглашение корпоративных собственников. При
этой корпоративной системе «в капитализме кроется
тенденция к обобществлению, однако наряду с этим
юз
проявляется и более сознательная форма социальной
взаимозависимости производителей». В такой ситуа¬
ции открывается возможность определенного повыше-
ния уровня прибавочной стоимости и интенсификации
накопления капитала, то есть усиления эксплуатации*
Той же цели может служить и технический прогресс,
хотя капиталистические отношения собственности до
известной степени ограничивают это его воздействие.
Неокапитализму присуще также повышение наклад¬
ных расходов (faux frais), вообще расточительство,
что находится в противоречии с технической рацио¬
нальностью.
По мнению Руди Дучке, соответствия между про¬
изводством и потреблением современный капитализм
Стремится достигнуть через этатизм, то есть более ши¬
рокое вмешательство государства. Этатизм имеет
целью не переход в руки государства средств произ¬
водства, а государственное стимулирование частного
капитализма, что не изменяет производственные отно¬
шения, а лишь создает более благоприятные условия
для роста прибыли.
Дучке утверждает, что марксизм не сумел долж¬
ным образом исследовать происходящие в капитализм
ме изменения или не сделал из них соответствующих
выводов в социальном плане. Изменения же эти суще¬
ственно отразились на положении рабочего класса. По
его мнению, рабочий класс интегрируется капитали¬
стическим обществом, но упомянутые изменения
воздействуют на развитие и других классов и слоев.
Внутри рабочего класса происходит новая дифферен¬
циация, связанная, с одной стороны, с появлением
противоречий между безработными и занятыми в
производстве, а с другой стороны, с «разбуханием»
категории производственной интеллигенции. Безработ¬
ные вместе с живущими на пособие и пенсии образу¬
ют слой «незанятых», и за счет них среди населения
в целом растет доля не участвующих в производстве
[(«непроизводящих»). Резко выросла также категория
лиц, участвующих в распределении, особенно воен¬
ный и административный аппарат. Указанный процесс
начался еще в период между двумя мировыми война¬
ми, но ^ом;мунйстаческие партии, как утверждает ав-
т8р, не извлекли отскЗда необходимых выводов.
104
Этим Дучке объясняет тот факт, что сразу после
1917 г. в Западной Европе не победила революция.
По его мнению, Ленин не обратил должного внимания
на этот процесс, и заслуга так называемых «левых»
20-х годов (Лукач, Корш) — хотя они не исследовали
экономические причины упомянутых изменений и осо¬
бенно «обуржуазивания» пролетариата — состоит в
том, что они подчеркнули значение революционной
практики и указали, что в вопросе о меньшинстве и
большинстве нельзя занимать статичную позицию, а
необходимо видеть процесс и воздействовать на него.
Опираясь на положения Франкфуртской школы,
Дучке попытался проанализировать данный круг во¬
просов и с точки зрения сознания. Ссылаясь на Хорк-
хаймера, он нарисовал картину процесса установле¬
ния авторитаризма во всем обществе, который был по-
своему использован капитализмом:
«В период перехода от капитализма, основанного
на свободной конкуренции, к монополистическому ка*
питализму, — писал он, — в широких слоях буржуазии
была утрачена гармоническая связь между личностью
и определяющим ее взгляды, неподвластным ей
строем. Историческим выражением этого разрыва яв¬
ляется то, что находившиеся в услозиях диктатуры
массы слепо тянутся к самым грубым иррационально¬
стям... Великая мечта идеалистической философии
о независимой личности не устояла перед капитали¬
стическим промышленным развитием. Распад интел¬
лекта, иррациональность обретают тотальный харак¬
тер в производстве сил разрушения, и это происходит
параллельно с деградацией личности и исчезновением
ее автономного самовыражения. При господстве моно¬
полий в распоряжении личности остаются лишь крат¬
кие промежутки времени. Ждать их приходится на¬
пряженно, в постоянной готовности к прыжку, внимая
лишь таким словам, как «информация», «управление»,
«предписание», и исключив понятия «мечта» и «исто¬
рия». Но и сознание рабства затухает. Беспомощность
индивида, с одной стороны, и гигантская мощь капи¬
тала — с другой, в значительной мере мешают чело¬
веку осознать по крайней мере причину своих бед¬
ствий, «идеология кроется в самой сущности людей,
в их душевной редуцированности, в предопределенно¬
105
сти соединяющих их уз. Любой предмет они познают
лишь через традиционную систему понятий данного
общества» (источником цитат внутри цитаты является
книга Макса Хоркхаймера «Vernunft und Selbsterhal¬
tung», 1942, стр. 40 и 58. — Примечание Дучке)32.
Дучке утешает себя тем, что «овеществление лю¬
дей зашло не столь далеко, чтобы их не мучило созна¬
ние фальши и бесчеловечности существующего обще¬
ства». Собственно говоря, овеществление он таким
образом отождествляет с «психологизированным» от¬
чуждением.
Что касается структуры нынешного капиталистиче¬
ского общества, то Дучке представляет себе ее в виде
небоскреба, на различных этажах которого распола¬
гаются следующие группы: заправилы трестов, круп¬
ные землевладельцы, лица свободных профессий, ре¬
месленники, крестьяне, пролетариат, обитатели коло¬
ниальных и полуколониальных регионов, животные.
Важнейшим изменением, по его мнению, является рост
значения колониальных и полуколониальных террито¬
рий, где следует искать истинную первопричину ни¬
щеты. Из этого следует, что возможность мировой ре¬
волюции находится в самой тесной связи с разверты¬
ванием освободительной борьбы в этих районах мира.
Война во Вьетнаме властно заставила обратить вни¬
мание на этот факт.
В связи с экономическим положением ФРГ Дучке
полагает, что «экономическому чуду» пришел конец.
Послевоенный восстановительный период западногер¬
манского капитализма закончился, и как в экономике,
так и в области социальных отношений происходит
обострение противоречий. В ряде отраслей производ¬
ства имеет место застой и требуются субсидии, в то
же время развитие новых отраслей промышленности
отстает. Постоянно растут непроизводительные расхо¬
ды, неотвратимо развивается инфляция. Что касается
политической ситуации, то капиталистический аппарат
делает все возможное, чтобы задушить в зародыше
революционное движение масс. Ссылаясь на Марку¬
зе— с которым он, впрочем, не согласен в оценке
функции рабочего класса, — Дучке отмечает, что ре¬
прессивная обобществляющая тенденция капитала
прокладывает себе путь и, если судить по степени
106
одурачивания масс, приносит свои результаты. Основ¬
ная задача состоит в том, чтобы пробить брешь в
ложном сознании, которое навязывается системой, и
западноберлинские студенты положили этому начало
своей «культурной революцией». Однако движение
нельзя ограничивать рамками университетов, новые
идеи нужно нести и на промышленные предприятия.
Как формируется революционное движение, что бу¬
дут представлять собой его теоретическая и организа¬
ционная основы? Руди Дучке дает на эти вопросы сле¬
дующий ответ:
«К прежйим представлениям о социализме необхо¬
димо относиться критически, их нельзя ни аннулиро¬
вать, ни искусственно сохранять неизменными. Воз-
йикновение приемлемой для нас новой концепции пока
невозможно — она может быть выработана лишь в
практической борьбе, в процессе постоянного взаимо¬
действия мышления и действия, практики и теории...
Ныне нас объединяет не какая-то отвлеченно истори¬
ческая теория, а экзистенциалистское отвращение к
обществу, которое разглагольствует о свободе, но изо¬
щрённо и жестоко подавляет элементарные запросы и
потребности как личности, так и народов, борющихся
за свое социально-экономическое освобождение. Эта
радикальная, то есть затрагивающая всего человека
диалектика чувства и эмоции (Маркузе)—теория в
данном случае является осознанным выражением этой
диалектики, — сплачивает нас сегодня сильнее, чем
когда-либо против авторитарного, этатизированногр
Общества и делает возможным радикальное единство
действий борцов с авторитетами, притом без партий¬
ной программы и притязаний на монополию» 33.
Таким образом, как полагает Дучке, революция не
имеет заранее выработанной теории, ей нужны не пар¬
тия, не партийная программа, а движение протеста.
1 Он цитирует приводимое ниже утверждение одного из
представителей западногерманских «новых левых»
А. Копкинда, относящееся к США, но, по мнению
Дучке, подходящее и для Западной Германии:
«Сейчас время изгонять дьявола, а не заниматься
трезвой оценкой обстановки. Задача интеллектуалов
та же, что и уличных организаторов, лиц, отказываю¬
щихся от военной службы, диггеров. Говорить с наро¬
107
дом, а не о народе. Литература нашего времени яв¬
ляется подпольной: речи Малькольма Икс, статьи Фа-
нона, песни «Роллинг стоунз» и Ареты Франклин» 34,
Непосредственная цель — «революционизация ре-*
волюционеров» в интересах революционизации масс«
Читая сочинения Руди Дучке, быстро обнаруживав
ешь источники, под влиянием которых он находится«
Он часто цитирует Маркса, Ленина, однако, по суще-*
ству, он солидаризируется с тезисами «левых комму¬
нистов» 20-х годов. Из представителей Франкфуртской
школы он обнаруживает знание главным образом
Хоркхаймера и Маркузе. Изучал он и психоанализ, ко¬
торый, по свидетельству одного из его соавторов
Бернда Рабеля, в середине 60-х годов в Западнобер¬
линском университете был основной концепцией в
трактовке социальных явлений, главным образом фа¬
шизма, потребительского поведения, механизма идео¬
логических манипуляций.
1 ноября 1967 г. Руди Дучке и его единомышлен-*
ники основали так называемый «критический универ-*
ситет», задачей которого было провозглашено разви¬
тие критического мышления и научного анализа для
целей демократической политической практики. Этот
«университет» видел свое основное назначение в том»
чтобы предоставить «внепарламентской оппозиции»
возможность «подготовиться к борьбе за демократиза¬
цию общества, против гнета и бесчеловечности». Но,
кроме того, имелось в виду воздействовать на офици¬
альный университет посредством разоблачения ирра¬
циональных целей и репрессивных методов обучения,
а также путем оказания студентам помощи в подго¬
товке к экзаменам. «Критический университет» орга¬
низовал 34 рабочих сообщества, занимавшиеся в чис¬
ле прочих такими темами, как «Война во Вьетнаме»,
«Политический стиль и ложное общественное созна¬
ние», «Секс и власть», «Искусство и общество» и т. д.
В их числе мы находим также вопросы, непосредствен¬
но связанные с университетской жизнью, касающиеся
изменения учебных планов, экзаменационных требова¬
ний и основанной на авторитарном принципе структу¬
ры обучения, касающиеся участия студентов в управ¬
лении университетом и определения социальной роли
образования.
108
В 1968 г. студенты предприняли попытку вырвать¬
ся из тесных университетских рамок, сосредоточив
свои основные усилия на укреплении «внепарламент¬
ской оппозиции», состоявшей главным образом из
представителей интеллигенции. Найти путь к рабочим
они не сумели, и это наложило свой отпечаток на
дальнейшую судьбу их выступлений.
Возможности «внепарламентской оппозиции» Клаус
Оффе в 1968 г. усматривал в том, что в западногер¬
манском обществе возникали различные конфликты, а
именно конфликты господства и конфликты автори¬
тетов.
«Конфликты господства (в сфере политики) и кон¬
фликты авторитетов (в общественной сфере: в семье,
школе, на предприятии и т. д.) возникают в том слу¬
чае, — писал он, — когда средства власти и суще¬
ствующая система привилегий уже не могут опирать¬
ся на надлежащее повиновение (лояльность, уваже¬
ние законов) групп, которые никакими привилегиями
не пользуются» 35.
Буржуазное общество на современном эгапе разви¬
тия для обеспечения стабильности использует государ¬
ство, которое с помощью политических и администра¬
тивных средств подавляет конфликты. Основывающаяся
на вмешательстве государства новая структура вла¬
сти, говорит Оффе, выполняет троякую задачу: а) га¬
рантирует экономический рост и занятость; б) поддер¬
живает внешнеполитическое и военно-политическое
равновесие; в) обеспечивает общественное повинове¬
ние. Однако эта новая роль государства является так¬
же источником новых конфликтов, с одной стороны,
именно потому, что его регулирующая и стабилизи¬
рующая роль ограничивается лишь наиболее важны¬
ми сферами экономической, политической и военной
деятельности, но при этом вне ее остаются существен¬
ные секторы экономики и культуры и игнорируются
определенные периферические группы. С другой сто¬
роны, «превентивный характер государственной дея¬
тельности лишает превентивности морально целена¬
правленную ориентацию политики». Иными словами:
государство не может подвести моральную базу под
свои политические цели и поэтому делает ставку на
локализацию кризисов в момент их возникновения.
109
Напротив, у «внепарламентской оппозиции», по
мнению Оффе, есть моральная основа для выступле¬
ния против буржуазного общества. Именно поэтому
государство борется с ней, с одной стороны, путем
репрессий, с другой стороны, посредством втягивания
общественных группировок в государственные дела,
то есть путем уступки партиям и профсоюзам части
государственной власти. Нельзя рассчитывать на то,
продолжает Оффе, что кризисы приведут к краху ка¬
питализма, но также и на то, что сами конфликты, как
утверждают либералы (Дарендорф, Липсет), будут
способствовать прогрессу. Согласно Оффе, в этой си¬
туации правота субъективистских и волюнтаристских
элементов — а на них зиждется «внепарламентская
оппозиция» — будет доказана даже в том случае, если
действующие на этой основе группы не будут в со¬
стоянии довести до конца институционные изменения.
Одна из заслуг западногерманских «новых левых»
состоит в том, что они, не ограничиваясь общими ра¬
зоблачениями капитализма, выступили против рефор¬
маторской программы социал-демократии. В связи с
этим, вероятно, стоит упомянуть об опубликованной
в 1968 г. статье Петера Брандта (сына Вилли Бранд¬
та) 36, где говорится о том, как социал-демократия в
Западной Германии пришла к социал-либерализму.
«После второй мировой войны, — пишет автор
статьи, — социал-демократия приступила к ликвида¬
ции последних остатков социалистической политики и
традиций классовой борьбы. Так возникли реформист¬
ские партии, выполняющие функции модернизации в
рамках капитализма. Поскольку социал-демократия в
основном стоит на почве существующего обществен¬
ного устройства, она вынуждена проводить в жизнь
его основные принципы и тогда, когда оказывается
у власти».
До поры до времени буржуазия не была склонна
доверять социал-демократам правительственные пол^
номочия, но в конце концов поняла, что от этого онг!
только выиграет.
«Правящая элита крупной буржуазии лишь мало-
помалу стала одаривать «этих красных» своим дове¬
рием. Сознание господствующих слоев всегда несколь¬
ко отстает от потребностей, диктуемых интересами
110
сохранения власти. Однако у социал-демократических
партий по сравнению с консервативными или либе¬
ральными партиями имеются чрезвычайно важные
преимущества: в некоторых странах они пользуются
доверием большинства рабочих и в силу этого могут
гораздо эффективнее разъяснять, почему те или иные
мероприятия необходимы «нации» и „народу“».
Итак, социал-демократия состоит на службе у ка¬
питализма, однако признание этого факта не мешает
Петеру Брандту возлагать ответственность за то, что
революция пока не происходит, только на коммуни¬
стические партии и социалистические страны.
Студенческие волнения вызвали широкий отклик в
среде творческой интеллигенции ФРГ, главным обра¬
зом среди писателей и деятелей искусства, причем их
реакция на эти события отнюдь не всегда была сочув¬
ственной. Характерно, например, что обычно рядя-
Сцийся в тогу «нонконформизма» писатель Гюнтер
Грасс выступил в данном случае против «новых ле¬
вых», защищая идеологические установки руководства
социал-демократов.
Может быть, ближе всех к «левым» студентам
стоял Петер Шнайдер 37, который, отправляясь в сво¬
их рассуждениях от проблемы отчуждения, рисует сле¬
дующую картину положения литературы и искусства
в условиях капитализма:
«Все то, что мы видим вокруг и чем живем, вообще
не стоит изображать, ибо все это нуждается в преоб¬
разовании; время от времени появляется гений, кото¬
рый от всего отгораживается и, пребывая в этой
безумно смелой изоляции, принуждает свое вообра¬
жение породить несколько раскрепощающих дух об¬
разов; но кому и для чего пишут эти писатели, ваяют
эти скульпторы, сочиняют эти композиторы; они изо¬
бражают мир, якобы находящийся в движении, кото¬
рый в действительности становится все более застыв¬
шим; они взывают к художественному чутью людей,'
чьи грубые потребности настолько обеднены, что этот
призыв заведомо обречен на неудачу; они пишут кон¬
церты для ушей, ежедневно забиваемых авторитет¬
ными указаниями начальства; они адресуются к во¬
ображению, которое в театре начиняют возвышен¬
ными мыслями лишь затем, чтобы после этого его
Ill
вновь заполнила идея наживы; они стремятся при¬
влечь взоры людей, которые ни разу не увидели в ре¬
зультатах их деятельности ничего, кроме товара; су¬
ществуют также и реалисты, которые ценой подавле-
ния своего воображения уже давно вступили в сделку
с капитализмом, и их единственная реакция на соб¬
ственную жалкую участь заключается в том, что они
ёе постоянно признают, а втихомолку тешат себя на-»
деждой, что читатель, воспринимая изображение убо¬
жества, воспитывается в духе политической ненависти,
сами они утоляют эту ненависть, упиваясь красочны¬
ми описаниями нищеты и невзгод, однако подобный
литературный кошмар является не более чем дополне¬
нием к тем субтильным кошмарам, которые каждый
ежедневно переживает и молча сносит на рабочем ме¬
сте, на улице, в кино; то, что здесь должно было бы
пробудить реакцию у зрителя, у него можно вызвать
только действием; и, наконец, имеются авангардисты,
которые коллизию между человеческими чаяниями и
действительностью улаживают способом, который, по
существу, даже не предполагает ее возникновения, щ
всю свою энергию они направляют на изображение
йзобразителькых средств. Эти художественные формы
уже не имеют традиционной функции защиты подлин*
но человеческих устремлений от капитализма, наобо-i
рот: они защищают капитализм от протестующей че^
Ловеческой мечты. Эти художнические манифесты уже
не содержат обещания претворить надежду в действи-
тельность, напротив: реальные беды они превращают
в обещания с тем, чтобы сделать их также предметом
воображения».
Шнайдер приходит к следующему итоговому вы¬
воду:
«Буржуазная литература, способная отрывать от-»
чаяние огромного большинства людей от его объясни¬
мых и познаваемых причин и превращать его в сюжеты
развлекательных историй, литература, без малейших
признаков потрясения говорящая исключительно об от¬
речении, поражении и утратах, литература, демонстри**
рующая массам нищету только для того, чтобы к ней
приучить, — эта литература мертва и подлежит погре¬
бению. И если после этого кто-то все-таки станет изо¬
бражать гнет, ему придется показать, что существующее
112
положение может быть изменено, показать причины
его возникновения и стратегию освобождения».
Какими должны быть новые литература и искус¬
ство? Они должны сталкивать мечту с действительно¬
стью, иными словами, им следует отображать челове¬
ческие надежды и капитализм и противопоставлять их
друг другу.
«В процессе этого противопоставления необходимо,
насколько это возможно, отделять чаяния людей от их
художественной формы, чтобы они могли обрести
форму политическую. Задача искусства заключается
не в том, чтобы художественно оформить и отразить
устремления человека, а в том, чтобы, освободив от
наслоений и помех, в первоначальном их виде довести
до революции».
За образец при этом берется «большое сетование»,
то есть собрания, проводившиеся в ходе китайского
«Великого похода», на которых крестьяне экспромтом
высказывали свои желания и устремления. Согласно
Шнайдеру, задача нового искусства состоит в том,
чтобы выявлять исконные человеческие надежды и
желания, запечатленные в старых художественных
произведениях. Это — пропагандистское искусство,
которое из летописи человеческих мечтаний выбирает
утопические картины, а также указывает пути их пре¬
творения в жизнь. Например, с картинами Босха,
Брейгеля и Гойи следует знакомить не в рамках препо¬
давания истории искусств — с ними необходимо знако¬
миться урбанистам, инженерам; стихи Брехта и Мая¬
ковского нужно анализировать не на семинарах фило¬
логов и литературных критиков, а на собраниях
революционных рабочих советов. «Давайте выставим
чаяния людей, запечатленные в полотнах, из музеев
на улицы, снимем мечты, отраженные в книгах, с об¬
ветшалых полок библиотек и возьмем в руки ка¬
мень».
В этих призывах как бы слышатся лозунги, не¬
когда провозглашавшиеся «пролеткультовцами», с той
лишь разницей — и весьма существенной,— что в ФРГ
мы имеем дело не с периодом, наступившим вслед за
пролетарской революцией, и такие лозунги в ничтожно
малой степени отражаются на общественной деятель¬
ности. Они пригодны, однако, для того, чтобы ими
из
вдохновлялась романтика нового типа, которая и в
ФРГ провозглашает лозунги «параллельного обще¬
ства», «культурной революции» или «революции обра¬
за жизни».
Эта позиция нашла свое отражение преимуще¬
ственно в литературе. В этой связи представляет ин¬
терес деятельность Ганса Магнуса Энценсбергера и
издаваемого им во Франкфурте-на-Майне «Курсбуха».
Это издание не во всем находит общий язык с «новы¬
ми левыми», и прежде всего не согласно с тезисом
Маркузе относительно «обуржуазивания» рабочего
класса, но с известной симпатией относится к заявле¬
ниям и высказываниям этого течения. «Курсбух» и его
редактор занимаются прежде всего «критикой культу¬
ры». Говоря о значении средств массовой информации,
Энценсбергер подчеркивает, что «новые левые» рас¬
сматривают их чересчур односторонне, только с точки
зрения капиталистов, что ведет к занятию оборонитель¬
ной позиции и в итоге к пораженчеству (дефетизму).
Во враждебности «новых левых» к средствам массо¬
вой коммуникации дают себя знать традиционные бур¬
жуазно-индивидуалистические опасения вроде страха
перед «человеком из толпы» и ностальгия по временам,
предшествовавшим индустриализации. Отчасти поэто¬
му они, пытаясь распространять свои идеи, доволь¬
ствуются самыми примитивными техническими сред¬
ствами, и в то же время они сами, и в еще большей
мере те слои, на которые они стремятся воздейство¬
вать, слушают ансамбль «Роллинг стоунз», смотрят
передачи телевидения, ходят в кино смотреть вестер¬
ны или кинопроизведения Жан-Люка Годара. Следо¬
вательно, они так или иначе являются объектом мас¬
сированного, манипулятивного идеологического воз¬
действия. Вывод, к которому приходит Энценсбергер,
гласит:
«Если социалистическое движение отказывается от
новых производительных сил индустрии сознания и
низводит занятие средствами коммуникации в разряд
субкультуры, то возникает «порочный круг». Правда,
подполье (underground) все смелее пользуется грам¬
записью, магнитофонами, видеокамерами и другими
техническими средствами с новыми эстетическими воз¬
можностями и постепенно овладевает этой сферой.
114
Однако оно не имеет самостоятельной политической
перспективы и поэтому чаще всего без сопротивления
скатывается до обычной коммерции. Группы, актив¬
ные в политическом отношении, указывают затем на
все подобные примеры с самодовольным злорадством.
Однако в этом процессе проигравшими оказываются
обе стороны» 38.
Энценсбергер, в сущности, хочет доказать необхо¬
димость использования «новыми левыми» средств мас¬
совой коммуникации, причем в политических целях.
Стоит, однако, заметить, что, хотя автор выступает
против манипулятивной сущности капиталистической
«массовой культуры», он, по сути дела, склонен обви¬
нять в этом же и социалистические страны. Ориента¬
ция на «третий путь» держит в плену и его.
После кризиса 1968 г. «новые левые» в ФРГ про¬
должают свою деятельность в составе различных
троцкистских и анархистских групп.
Деятельность некоторых этих групп направлена в
первую очередь на то, чтобы найти подход к рабочим
и принять участие в их акциях на промышленных
предприятиях. Троцкистские группировки представляют
различные международные течения троцкизма и их
деятельность в целом не имеет значительного полити¬
ческого влияния.
То же самое можно сказать и об анархистах.
В 1968 г. члены группы Баадера — Майнхоф совер¬
шили во Франкфурте-на-Майне поджог универмага,
пытаясь таким образом привлечь внимание к себе и к
своей «политике». Они были осуждены к трем годам
тюрьмы, но до утверждения приговора оставлены на
свободе и накануне повторного слушания дела в суде
перешли на нелегальное положение. Андреас Баадер
(типичный представитель богемы) и Гудрун Энслин
(дочь пастора), объединившись с журналисткой Уль¬
рикой Майнхоф и адвокатом Хорстом Малером, осно¬
вали «фракцию красной армии» (Rote Armee). В мае
1972 г. они осуществили взрывы бомб в нескольких
западногерманских городах, руководствуясь все той
же целью — обратить внимание на себя. В конце кон¬
цов члены группы были арестованы полицией.
История группы Баадера — Майнхоф, во-первых,
подтвердила, что анархизм не может быть политиче-
115
ской программой левых, и, во-вторых, показала, что
правые стремятся воспользоваться любыми действия¬
ми анархистов в качестве повода для развертывания
кампаний клеветы и травли против участников под*
линно левых движений.
Многие из радикально настроенных участников со¬
бытий 1968 г. предпринимают попытки создать оппо-1
зиционные группы в составе Христианско-демократи¬
ческого союза (ХДС) и особенно Социал-демократиче¬
ской партии Германии. Особого внимания заслуживает
деятельность «молодых социалистов» (Jungsozialisten,
Juso), вызвавшая разногласия внутри социал-демокра¬
тической партии. В декабре 1971 г. «юсы» провели
съезд, на котором были приняты тезисы «о политиче¬
ской экономии и стратегии». В этих тезисах вслед за
анализом экономического и социального положения в
Западной Германии указывается на необходимость
классовой политики, главным требованием которой
провозглашается организация «автономной контрвла¬
сти». Предполагается, что усиливающаяся поддержка
«контрвласти» живущими на зарплату слоями населе¬
ния приведет в конечном счете к тому, что капитало-
владельцев лишат права распоряжаться производи-;
тельными силами. Практические цели формируются
следующим образом: демократический контроль над
экономикой; контроль над капиталовложениями, под¬
готовка введения плановой системы хозяйства, диффе¬
ренцированное и всеобъемлющее руководство им; об¬
обществление ключевых отраслей промышленности,
банковского и кредитного дела. Авторы тезисов не
Скрывают, что все указанные мероприятия призванв!
проложить путь к социализму. В интересах этого они
настаивают на безотлагательном осуществлении в
партии и профсоюзах структурных изменений, пред¬
назначенных для того, чтобы поставить во главу
угла борьбу за интересы рабочего класса и моби¬
лизовать массы, в частности с помощью выдвиже¬
ния требований, отвечающих самым непосредствен¬
ным интересам масс. Все это, однако, не означает при¬
нятия ими ленинского учения, ибо они откровенно
заявляют о своем несогласии с ленинским тезисом
о роли партии как передового отряда пролетариата
й со всеми существующими формами социализма39.
116
Решительное выступление «юсов» мало сказалось на
позиции социал-демократической партии, но известило
о появлении новой и небезынтересной с точки зрения
будущего тенденции.
Примыкающая к «новым левым» западногерман¬
ская интеллигенция ныне постепенно освобождается
от груза прошлого, что порождает у многих ее пред¬
ставителей желание уяснить свое отношение к реаль¬
но существующему социализму. Однако этот процесс
весьма сложен и противоречив. Например, в одном из
номеров «Курсбуха» за 1972 г. член группы «Манифе-
сто» Россана Россанда 40 ходит вокруг да около этого
вопроса, провозглашая программу «секуляризации»
отношений между «левыми» и социалистическими
странами, цель которой подтолкнуть интеллигенцию
к занятию «критической» позиции в отношении социа¬
листических стран. Практической иллюстрацией этого
подхода служат подготовленные «новыми левыми» и
опубликованные в том же номере репортажи о Гер¬
манской Демократической Республике, Индокитае,
Корее, Кубе. Чтобы иметь представление о назначе¬
нии этих статей, достаточно бросить взгляд на 7-й но¬
мер журнала «Шпигель» за 1973 г., где собраны наи¬
более красноречивые антикоммунистические характе¬
ристики из упомянутых корреспонденций и при этом
подчеркивается, что эти корреспонденции якобы «вы¬
звали шок у представителей интеллигенции в Федера¬
тивной Республике Германии».
Наступивший после 1968 г. спад движения «новых
левых» убедил многих молодых людей в Западной
Германии в необходимости Подлинно революционной
теории и соответствующей организации. В результате
все большее их число проявляет интерес к Герман¬
ской коммунистической партии, марксистскому сту¬
денческому союзу «Спартак» и объединившейся
вокруг издания «Марксистише блеттер» группе
философов. «Вторая Франкфуртская школа» — как
называют эту группу философов-коммунистов —
наряду с ведением принципиальной полемики со сво¬
ими христианско-демократическими, социал-демокра¬
тическими или так называемыми «аполитичными» оп¬
понентами систематически разоблачает также псевдо¬
117
радикализм «новых левых» в различных его проявле¬
ниях 41.
Растущее влияние марксизма в ФРГ не оставляет
безразличной и буржуазную печать, которая пытается,
разумеется, на свой лад истолковать этот процесс.
В «Зюддойче цайтунг» от 7 февраля 1973 г. профессор
Мартин Леппла писал, что «марксизм сегодня явля¬
ется просто эмблемой, под которой сходятся многие
из тех, кто внимательно слушает, анализирует, крити¬
кует, кто, движимый моральными стимулами, стре¬
мится изменять и улучшать. Он является девизом и
вместе с тем ритуалом, паролем, произнося который
люди обретают взаимопонимание, сигналом духовной
общности».
Наибольший интерес привлекает к себе деятель¬
ность коммунистического союза студентов «Спартак»,
который, как это отмечают и буржуазные газеты, об¬
ладает соответствующей программой и хорошо орга¬
низован. Газета «Ди цайт» 23 февраля 1973 г. писала:
«„Спартак” влечет к себе студентов, ибо он занимает¬
ся их материальными проблемами, а также осуществ¬
ляет организаторскую роль. Кроме того, политика
«Спартака» в масштабах университета или всей стра¬
ны никогда не бывает пустым фразерством, а всегда
исходит из конкретных фактов и событий». Даже те
черты деятельности спартаковцев, которые газета
стремится критиковать, вопреки этому выглядят до¬
стоинствами: «Направленность формирования их об¬
лика: пуританизм ночью и днем; это люди, не оста¬
навливающиеся перед тем, чтобы на восточный манер
публично подвергнуть себя самокритике, отличающие¬
ся солидарностью, граничащей с самопожертвованием,
готовые самым сердечным образом, по-братски при¬
жать к груди любого встреченного ими рабочего;
люди, любящие красный цвет и ради него без разду¬
мий обрекающие себя на трудности и лишения. Это,
собственно говоря, облик тайного общества, а не мас¬
совой партии. Устранение этого противоречия еще бу¬
дет стоить «Спартаку» немалого труда».
Вот это не просто реванш находившейся длитель¬
ное время на нелегальном положении коммунисти¬
ческой партии, но и, как нам кажется, логичный
итог поучительных событий минувшего десятилетия
118
в Западной Германии да и вообще в Западной Ев¬
ропе.
Журнал «Тайм» (№ 19 за 1973 г.) немного пате¬
тично пишет: «Маркс в виде духа мести воскрес» в За¬
падной Германии. Мы же, скорее, скажем, что вслед
за Францией и Италией наконец-то и в этой стране
открывается возможность познакомиться с таким
марксизмом, который рассматривает теорию и прак¬
тику как единое целое.
Франция
В некоторых отношениях идейная эволюция «но¬
вых левых» во Франции носила более сложный харак¬
тер, чем, скажем, в США и Западной Германии, одна¬
ко с точки зрения непосредственных политических
акций ее основные этапы были выражены более от¬
четливо.
Идеологическая подоплека событий 1968 г. имела
несколько сторон. Так называемое «ситуационистское»
движение, опиравшееся главным образом на «куль¬
турную критику» Анри Лефевра, представляло идео¬
логию диффузной «левизны». В 1967 г. появилась кни¬
га Р. Ванэгема (Vaneighem) «Трактат об умении жить
для юных поколений»42, которая, идя в значительной
мере от литературы и искусства, обобщила воззрения
«эмоциональной левизны»: «С тех пор как существуют
люди и меж ними те, кто читает Лотреамона, все вы¬
нуждены высказываться, и при всем том мало кто из¬
влек из этого пользу». Уже сама эта озадачивающая
фраза указывает на истоки ситуационизма. Предтеча
сюрреалистов Изидор Дюкасс (1846—1870) в «Песнях
Мальдорора» действительно поведал много необыч¬
ного о бунте человека против мира и бога, и Ванэгем
имеет в виду именно эту необычность. Мир, однако,
ищет не необычное, а банальное, и все-таки молодое
поколение не желает «такого мира, где за гарантию
не умереть от голода мы платим риском умереть от
скуки». Запомним эти слова, мы вновь увидим их на
стенах парижских зданий в мае — июне 1968 г.
Согласно этому трактату, повседневной жизни че¬
ловека свойственны унижения, изолированность, стра¬
119
дания; труд утратил свою ценность, в общественной
жизни царит деспотизм. Власть провозглашает цар¬
ство благосостояния, благосостояние же равнозначно
потреблению, а в потребительском обществе происхо¬
дит отчуждение человека. Отчуждение усугубляется
развитием техники, которое несет с собой господство
количества.
Автор призывает отвергнуть попытки манипулиро¬
вать человеческими ценностями и сознанием, высту¬
пить против иллюзий, распространяемых обществом с
помощью самых различных средств, включая худо¬
жественные. Против отчуждения, говорит он, надо
протестовать, опираясь на «радикальную теорию». Не¬
обходим конструктивный нигилизм с уцором на субъ¬
ективизм: «Нужно все основывать на субъективизме
и следовать субъективной воле, чтобы человек был
всем».
Другой ситуационист Жорж Дебор 43 полагает, что
одна из основных черт капиталистического общества,
которое ставит во главу угла потребление и которое в
состоянии обеспечить лишь «выживание», — это его
рекламно-зрелищный характер, его стремление все
время привлекать внимание организацией зрелищ, де¬
монстрацией чего-то необычного. Указанная особен¬
ность капиталистического общества есть прямое след¬
ствие товарного производства, в рамках которого че¬
ловеческие переживания также выступают в форме
товара, являя собой всего-навсего «показ товаров».
Буржуазному обществу Дебор противопоставляет
пролетариат, под которым он подразумевает не только
рабочий класс, но и интеллигенцию. Революциониза-
ция пролетариата ведет к всеобщей конфронтации, из
нее рождается новое общество, которое, по его мне^
нию, будет представлять собой некое интригующее
единство утопической мечты и современного искус¬
ства.
«Ситуационистский интернационал» добился из¬
вестных успехов, распространяя эти воззрения, по¬
скольку параллельно занимался также анализом ре¬
ального положения студенчества. Один из ситуациони-
стов Мустафа Кахаяти в 1966 г. опубликовал
брошюру о бедственном положении студентов44, где
120
доказывал, что студенчество является самой отчуж¬
денной социальной категорией, ибо оно, находясь в
условиях полнейшей зависимости, верит в свою авто¬
номию, и по этой причине политическое ложное соз¬
нание проявляется у него почти в абсолютно чистой
форме. По этой причине студенчество неспособно осу¬
ществить даже критику университетских институтов,
а еще менее того — осознать свое положение в обще¬
стве и понять собственную отчужденность. Эта мрач¬
ная картина была призвана пробудить в студенчестве
сознание своего противоречивого положения.
Ришар Гомбэн, исследовавший истоки гошизма, об¬
общенно характеризует воззрения ситуационистов
следующим образом:
«Несомненно, ситуационисты, чей афоризм «Нико¬
гда не работайте!» в мае — июне 1968 г. взывал чуть
ли не с каждой стены, являются детьми своего вре¬
мени, общества (очень) относительного изобилия. Это
чувствуется и в их логике: к чему заботиться о том,
чтобы выжить экономически, если умираешь от скуки;
на что нужна такая природа, которую сотворил чело¬
век и которую он организовал соответственно понятию
выгоды? Творческая деятельность, противопоставляе¬
мая ими производительному труду, относится к луче¬
зарной эпохе будущего или, как сказали бы некото¬
рые, — к утопии...» 45
Концепции ситуационистов и западноберлинского
студенческого движения были синтезированы Движе¬
нием 22 марта, возникшим на философском факуль¬
тете Сорбонны в Нантере близ Парижа.
Один из нантерских профессоров, выступающий
под псевдонимом Эпистемон, дал в своей книге «Идеи,
которые потрясли Францию»46 интересный анализ ду¬
ховной атмосферы на кафедре философии перед 1968 г.
На кафедре, слывшей либеральной, столкнулись раз¬
личные направления общественных наук. В филосо¬
фии феноменология взяла верх над структурализмом,
представителей которого осталось немного, да и те в
большинстве своем интересовались скорее собственно
лингвистикой, чем философией, и примыкали к лагерю
лингвиста Ноама Хомского, известного своими рабо¬
тами по теории так называемых порождающих грам¬
матик. По мнению тяготеющего к экзистенциализму
121
Эпистемона, май 1968 г. «не только ознаменовался
парижским восстанием студентов и началом «линьки»
французского университета, но и засвидетельствовал
кончину структурализма». Это свое утверждение он
обосновывает тем, что структурализм отвергал исто¬
рию и диалектику, а слушатели, положившие начало
событиям в Нантере, были приверженцами той и дру¬
гой. Преподаватели психологии занимались психодра¬
мой и ролью игры в человеческом общении, пробле¬
мой поведения малых групп, темами ненаправляемой
беседы, развивая и дополняя соответствующие теории
Морено, Левина и Роджерса. Эти психологи хотели
решить проблему коренного преобразования обще¬
ственных структур либерально-демократическим пу¬
тем, тогда как социологи — изучавшие главным обра¬
зом повседневное сознание, а также проблему идеоло¬
гического манипулятивного воздействия на него —
были поборниками «суровой революции», прообраз ко¬
торой они видели в Парижской Коммуне; немалым
влиянием среди них пользовались такие бывшие ком¬
мунисты, как Анри Лефевр.
Вопреки этой либеральной атмосфере Движение
22 марта выступило против университета и его со¬
трудников, как преподавателей, так и администрации.
Оно отказалось от всякого «внутридвиженческого» ад¬
министрирования, но попыталось объединять мелкие
группки для проведения отдельных акций и с по¬
мощью «критического университета» теоретически об¬
основать их деятельность. Вопросы, поднятые «крити¬
ческим университетом», были следующие: надо ли
настаивать на проведении прямых действий в универ¬
ситете; есть ли необходимость в том, чтобы, сделав
лозунги несколько менее радикальными, привлечь тем
самым на свою сторону более значительный отряд сту¬
денчества. Следует ли в первую очередь стремиться
к единству действий с рабочими, и возможно ли соче¬
тать связь студенческого движения с борьбой рабочих,
с автономией его собственных действий.
Когда в мае резко обострились противоречия ме¬
жду студентами и представителями властей, Движе¬
ние 22 марта уже не только вело агитацию, но и при¬
зывало к действиям и организовывало их. В одной из
122
листовок оно следующим образом объясняло свою
деятельность:
«Мы ведем борьбу потому... что не желаем быть:
преподавателями, служащими делу проводимой в про¬
цессе обучения селекции, за которую расплачиваются
дети из семей рабочих; социологами, фабрикующими
лозунги для организуемых правящей верхушкой вы¬
борных кампаний; психологами, задача которых со¬
стоит в том, чтобы заставлять «армию рабочих» функ¬
ционировать более эффективно в соответствии с инте¬
ресами хозяев; учеными, труд которых используется
исключительно в интересах экономики, зиждущейся на
наживе. Мы отвергаем это будущее, будущее „собаки,
стерегущей дом”» 47.
Участники движения хотят продолжать борьбу
вместе с рабочим классом и выступают против тех,
«кто стремится оторвать» от них рабочих.
Союз слушателей университетов — ЮНЭФ (Union
Nationale des Etudiants de France), так же как и проф-
^рюз работников высшего образования, СНЭ Суп
jjfSyndicat National de l’Enseignement Superieur), вы¬
кинули, по сути дела, те же самые требования, за
^Оторые выступало Движение 22 марта. Одна из май¬
ских листовок ЮНЭФ так говорит о целях этих тре¬
бований:
«1. Немедленное установление в университетах
фактической власти студентов, располагающей правом
вето в отношении всех принимаемых решений.
2. К этому пункту добавляется положение об авто¬
номии университетов и некоторых кафедр.
3. Борьба за все сферы, имеющие отношение к рас¬
пространению господствующей идеологии; по сути де-
л_а, речь идет о различных каналах средств массовой
информации.
4. Реальное сотрудничество в рамках общей борь¬
бы рабочих и крестьян, поскольку аналогичные про¬
блемы и спорные вопросы встают как на промышлен¬
ных предприятиях, так и в среде занятых умственным
трудом» 48.
В той же листовке мы находим следующие тезисы:
«Существующий в настоящее время режим можно
свергнуть лишь при условии, что борьбу поведут сами
рабочие. Это означает, что главной движущей силой
123
социального переустройства по-прежнему остается ра¬
бочий класс. Рабочие должны взять свою судьбу в
собственные руки и уже теперь начать борьбу против
власти хозяев на предприятиях. Тем самым создаются
предпосылки для нашего систематического участия в
дискуссиях, ведущихся в рабочем классе. Цель участия
состоит не в том, чтобы давать рабочим советы, а в
том, чтобы знакомить их с нашей точкой зрения. Точ¬
но так же и находящемуся под контролем студентов
университету следует держать свои двери открытыми
для рабочих, обеспечивать им возможность участия
во всех дискуссиях» 49.
После парижских событий 1968 г. Даниэль Кон-
Бендит вместе со своим братом написал книгу с вы¬
зывающим названием: «Левизна — лекарство против
старческой немощи коммунизма»ьо. В предисловии ав¬
торы подчеркивают, что адресуются прежде всего к
рабочим и крестьянам, так как знают, «что револю¬
ционное движение может привести к успеху лишь в
том случае, если оно сможет преодолеть разобщен¬
ность между рабочими и крестьянами, с одной сторо¬
ны, и интеллигенцией — с другой». Однако, говоря
о причинах поражения майского выступления, они
прежде всего выдвигают проблему так называемого
«активного меньшинства».
«Как мы представляем себе революционную актив¬
ность? Наше представление о революционной акции
исходит из того, что ее активные участники ни в коем
случае не должны быть руководящими работниками.
Они образуют состоящее из активных элементов мень¬
шинство, рекрутируются из различных социальных
слоев и объединяются на основе глубокого идеологи¬
ческого взаимопонимания; они посвятили себя борьбе,
полны решимости способствовать расширению фронта
ведущихся боев, разоблачать обманные маневры гос¬
подствующих классов и правящей бюрократии и про¬
пагандировать идею о том, что живущие своим тру¬
дом, коль скоро они хотят себя защитить, в состоянии
взять в свои руки руководство обществом и что это и
есть социализм».
Отвечало ли этим требованиям «активное мень¬
шинство» в 1968 г.? Братья Кон-Бендит приходят к
заключению о том, что после захвата предприятий
124
«деятельные меньшинства оказались не в состоянии
посредством акций, могущих служить примером, по¬
будить рабочих взять на себя руководство обществом».
Какой же из этого делается вывод? Нужно организо¬
вать более широкое движение, внутри которого будут
существовать различные течения и все группы, вклю¬
чая и находящиеся в меньшинстве, будут иметь пра¬
во — каждая на основе своей собственной теории —
проводить автономные акции. «Всякому теоретиче¬
скому плюрализму необходимо выкристаллизоваться
в общественную практику, а то, что всеми признано,
должно превратиться в само собой разумеющееся».
Имеются, конечно, и общие черты, определяющие
взгляды отдельных групп. Общая программа преду¬
сматривает ликвидацию в революционной практике
различия между физическим и умственным трудом,
уравнение в правах женщин, рабочее самоуправление,
осуждение иерархической системы, свободный обмен
идеями, революционную линию поведения, выступаю¬
щую против «таких иудейско-христианских соблазнов,
как отречение и самопожертвование, ибо революцион¬
ная борьба — это такая игра, в которой должен же¬
лать участвовать каждый»
Вчитываясь в то, что проповедуют братья Кон-Бен-
дит, нетрудно увидеть, что их писания представляют
собой лишенную смысла эклектическую мешанину из
анархизма, а также других старых и «новых левых»
спонтанеистских и волюнтаристских теорий. Тем не
менее действия, начатые по сигналу Движения 22 мар¬
та, захватили воображение многих, а выступление
против капиталистического общества и — в еще боль¬
шей мере — протест против обстановки в университе¬
тах привлекли немало молодежи. Справедливые тре¬
бования студенчества вызвали сочувствие у рабочих,
хотя и не побудили последних полностью солидаризи¬
роваться с его лозунгами.
Крупные массовые выступления породили главным
образом в кругах интеллигенции мнение о том, что ре¬
волюция возможна и что Французская коммунистиче¬
ская партия сдерживает революционный подъем. Да¬
ниэль Кон-Бендит, которому французская буржуазная
пресса предоставила неограниченную возможность из¬
лагать свои взгляды, в мае 1968 г. в «Нувель обсерва-
125
тэр» отнюдь не без умысла обвинил компартию, что
та якобы поддерживает лишь борьбу за повышение
зарплаты и все делает в интересах того, чтобы избе¬
жать конфронтации с господствующим классом. В сво¬
ей беседе51 с Жан-Полем Сартром, относящейся к
концу 1968 г., он кичился тем, что студенты-де посред¬
ством одной лишь революционной спонтанности, без
программы и партии сумели привести в движение
огромные массы. Сартр по этому поводу приходит в
восторг и делает следующее заключение:
«В вашей акции интересно то, что она стимулирует
могущество фантазии. У вашей фантазии определенно
также есть предел, но у вас гораздо больше идей, чем
у ваших отцов. Нас старшее поколение воспитало та¬
ким образом, что мы уже не можем выйти за рамки
сложившегося представления о возможном и невоз¬
можном».
Сартр признает, что рабочий класс тоже способен
совершить революцию, но, как он полагает, начать ее
сможет молодежь.
«От вас пошло нечто такое, что поражает, нечто
ошеломляющее, нечто отрицающее все то, благодаря
чему наше общество стало таким, каким оно ныне
является. Я назвал бы это расширением сферы воз¬
можного. Не сдавайте позиций».
Действительно, надписи на стенах зданий Париж¬
ского университета свидетельствовали о том, что здесь
была дана воля «воображению». В них отразились
идеи французской революции, коммуны, анархизма,
сюрреализма, ситуационизма. О некоторых программ¬
ных установках можно было получить представление
по таким надписям, как «Воображение берет власть»,
«Общество — плотоядный цветок», «Стремясь к невоз¬
можному, человек всегда познавал и осуществлял воз¬
можное», «Революция невероятна, ибо это истина»,
«Необходимо систематически исследовать случайное».
Некоторые надписи относились к образу жизни: «Ни¬
когда не работайте!», «Свои чаяния я считаю реаль¬
ностью, ибо верю в реальность своих чаяний», «По¬
требляй больше, меньше будешь жить», «Плачь,
скука», «Дайте волю страстям!», «Дайте нам жить!».
Попадались также надписи, свидетельствующие о
борьбе между различными тенденциями, как-то: «Да
126
здравствует уходящая марксистско-пессимистическая
юность!» или «Я — марксист течения Грушо»52.
С. Зигель в своей книге «Идеи мая»53 выделяет
среди студентов, принимавших участие в событиях, две
группы. К первой относятся «революционеры» разного
рода и звания, основной целью которых является свер¬
жение капиталистического строя и по мнению которых
«преобразование университета немыслимо вне полити¬
ческих рамок, определенных упомянутой целевой уста¬
новкой (то есть революцией), и без предполагаемых
той же установкой организационных и практических
форм, выводящих за пределы университета». Однако
это — меньшинство. Неорганизованное большинство
довольствуется внутриуниверситетской реформой, но
не знает, что должно вкладываться в это понятие.
Представители этой группы говорят о «демократиче¬
ской» реформе, о «социалистическом» университете,
но не имеют представления о том, как все это можно
осуществить. Свои умеренные требования они форму¬
лируют следующим образом: объединение структур
высшего образования и ликвидация раздробленности;
свободный доступ в университет для всех; обеспече¬
ние такого содержания преподавания, которое «с по¬
мощью прогрессивных методов содействует теоретиче-
бкому овладению тем или иным предметом и вместе
с тем практическому освоению какой-то специально¬
сти». Экзаменационную систему они хотят изменить
таким образом, чтобы проверка проделанной работы
производилась не в конце, а в середине года на заня¬
тиях небольших- групп. Заметим, что эти требования,
хотя и в урезанном виде, были учтены в законе Эдга¬
ра Фора о реформе высшего образования.
После майско-июньских событий некоторые орга¬
низации «новых левых» были распущены под нажи¬
мом правительства, другие исчезли сами. Однако два
течения продолжали существовать: одним из них яв¬
ляется маоизм, другим — троцкизм.
Если и не самый ортодоксальный, то, во всяком слу¬
чае, наиболее известный идеолог первого из этих те¬
чений Алэн Жесмар, являвшийся в период майско-
июньских событий 1968 г. одним из руководителей
профсоюза высшей школы, был затем приговорен к
тюремному заключению по обвинению в незаконной
127
деятельности. Конечную цель А. Жесмар видит в соз¬
дании нового общества, где рабочие возьмут в свои
руки заводы, освободятся от хозяев и технических ру¬
ководителей, организуют производство по собственно¬
му усмотрению, будут свободно проявлять инициативу
и полностью развернут свои творческие способности.
Рабочие преобразуют и университеты, побуждая сту<
дентов учиться у народа, работать в цехах предприя¬
тий и на полях. Рабочие помогут интеллектуалам, в
частности писателям и художникам, создать такие тво^
рения, которые будут наполнять людей энтузиазмом.
«Новое поколение художников и писателей выйдет
из рядов рабочих, которые в свое свободное время
смогут учиться и овладевать культурой; новая проле¬
тарская культура, уходящая корнями в глубь нашего
народа и отражающая его радости, страдания и чая¬
ния, расцветет на заводах и нивах...» 54
Для осуществления этого нового мира необходимо,
чтобы народ сказал свое слово, но не в виде пассив¬
ного сопротивления, а в форме народной войны.
«Ищите власть в стволах винтовок», — заявляет Жес¬
мар. Для развязывания революционной войны следует
создать революционную партию и приступить к рево*
люционным акциям.
Левацкую группу Жесмара поддерживает Сартр,
присоединение которого к «новым левым» после того,
как в 50-е годы он проявил готовность сотрудничать с
коммунистами, вызвало известное удивление. В ин¬
тервью, опубликованном сначала в «Нью лефт ревью»,
а затем перепечатанном в номере «Нувель обсерва-
тэр» от 26 января — 1 февраля 1970 г., Сартр обозре^
вает свой жизненный путь и свою духовную эволю¬
цию. Анализируя предвоенный и военный период с по¬
зиций экзистенциалистской концепции свободы, он при¬
ходит к заключению об ошибочности абсолютизации
возможности выбора. С целью развенчать эту абсолюти¬
зацию писатель создает образ Генриха в пьесе «Дьявол
и господь бог». Генрих хотел бы сделать выбор, но не
может выбрать ни церковь, бросившую бедняков на
произвол судьбы, ни бедняков, бросивших церковь.
«Он совершенно скован своим положением». Следова¬
тельно, в основу определения свободы следует класть
социальный опыт, и с этой точки зрения свобода ■=*
128
это «небольшой сдвиг, превращающий живущее в
полной зависимости социальное существо в такую
личность, которая не станет оправдывать вытекаю¬
щую из обусловленности тотальность». Это подчерки¬
вание внешней обусловленности, по мнению Сартра,
собственно, и есть приятие марксизма, свое отноше¬
ние к которому он выразил за несколько лет до этого,
в 1964 г., в книге «Критика диалектического разума».
Вторым источником его мировоззрения был психо¬
анализ, который он ныне отвергает, но не на основе
декартовского рационализма, а по причине его недиа-
лектичиости, потому что психоанализ мыслит комплек¬
сами, не являющимися структурными. В своем эссе
о Флобере Сартр стремится показать, каким образом
внешняя предопределенность «интерьеризуется», ста¬
новится внутренней. Разработка понятия vecu, «пере¬
живание» — важнейший с точки зрения понимания
эволюции Сартра элемент эволюции после выхода его
произведения «Бытие и ничто». Vecu дает возмож¬
ность связать воедино развитие личности и истории,
подчеркивая значение этого единства как с точки зре¬
ния самого подхода, так и в методологическом отно¬
шении.
Что же касается своей политической деятельности,
то здесь Сартр намерен продолжать «контестацию»,
но уже не с позиций анархизма и не на основе про¬
граммы коммунистической партии. В рамках «конте¬
стации» он отводит важную роль интеллигенции. По
своей социальной функции интеллигенция является
«теоретиком практического знания». В то же время
она находится в зависимом положении, а именно за¬
висит от господствующего класса, причем не только
экономически, но и идеологически. Подлинно интел¬
лектуальной она станет в том случае, если осознает
противоречие между этой зависимостью и своим дей¬
ствительным назначением. Согласно Сартру, критерия¬
ми «критически мыслящего интеллигента» являются
рационализм и радикализм. Тот и другой соединяются
в оценке возможного. Во Франции задача интеллиген¬
та, говорит Сартр, заключается в осуществлении «кри¬
тического» анализа реальной ситуации, и этот анализ
должен основываться на верности определенным прин¬
ципам. Интеллигенту необходимо осознать понятие
129
революции и выступать против всяких мистифика¬
ций. Интеллигент, по Сартру, не политик, он должен
выдвигать новую программу, не упускать из поля зре¬
ния основные направления развития, происходящие
изменения, но ему не нужно входить во все детали и
подробности 55.
В интервью, данном журналу «Шпигель» 56, Сартр
утверждает, что во Франции развертывается своего
рода «идеологическая революция», о чем якобы сви¬
детельствуют бунты против так называемых «малень¬
ких начальников» и создающиеся на некоторых за¬
водах рабочие комитеты. Сам он высказывается в
поддержку этих акций и организационных форм, от¬
вергает партии и профсоюзы и заявляет, что намерен
одновременно бороться как против капиталистов, так
и против социалистической и коммунистической пар¬
тий, которые, по его мнению, принятой ими в 1972 г,
совместной программой помогают капитализму. Он
презирает реформы и, ссылаясь на молодежь, в свою
очередь выступает за революцию образа жизни:
«В Германии (Западной. — Ред.) и Франции моло¬
дежь начала выдвигать требования, которые касают¬
ся уже не зарплаты и цен как возможностей и средств
обеспечения свободной жизни, имея в виду такую
жизнь, которую стоит прожить, а не такую, которая
изобилует лишь предметами потребления. По этой
причине им не столь важно и впредь жить в обществе
роста, где все больше производят, получают все боль¬
шую прибыль и где отравлена окружающая среда.,
Гораздо больше они думают о том, чтобы произво¬
дить, исходя из действительных потребностей, как это
делают китайцы, над которыми уже не довлеет власть
„маленьких начальников“».
На вопрос репортеров журнала «Шпигель» о его
собственной позиции Сартр отвечает следующим обра¬
зом:
«Мне близка концепция, которую во Франции оп*
ределяют словом „либертэр“ и под которой я пони¬
маю, что человек — господин своей жизни и ее обстоя¬
тельств. Если решения, касающиеся моей жизни, при*
нимаются мною самим или группой, к которой я
принадлежу, то мы свободны. Обязательное условие
этого — отсутствие какого бы то ни было принужде-
130
лия. Иначе говоря, предпосылкой этого является полное
преобразование буржуазного капиталистического
строя».
В ответ на замечание буржуазных журналистов,
что, на их взгляд, изложенная выше позиция пред¬
ставляет собой отход от марксизма, Сартр отвечает:
«Я — марксианин, а не марксист», поясняя свою пози¬
цию ссылкой на работу «Критика диалектического
разума».
«Я считаю для себя приемлемыми почти все поло¬
жения марксистского анализа, за исключением тех,
которые касаются людей, находящихся в определен¬
ной „ситуации“. Другими словами, когда речь идет
о диалектике марксизма, я с ним полностью согласен.
Существует, однако, марксистский детерминизм, ка¬
сающийся оценки индивидуальных или коллективных
акций, который я не приемлю, поскольку сохраняю
верность идее свободы».
Но эта концепция свободы теперь уже не идентич¬
на той, которую Сартр изложил в своем сочинении
«Бытие и ничто», где он говорил о свободе «внеклас¬
сового» человека.
«Ныне я считаю, что человек свободен, но не осво¬
божден, то есть существует общество и имеются клас¬
сы, в которых различные силы отчуждают человека.
Они делают его свободу недействительной и принуж¬
дают делать такие вещи, в которых он потом не при¬
знается».
Сам Сартр, согласно собственной оценке, стоит
где-то посредине между классическим интеллигентом
и интеллигентом нового типа. До 1968 г. он полагал,
что интеллектуал — это человек избранный, «специа¬
лист практического знания», видящий противоречие
между универсальной целью науки и образования, с
одной стороны, и их специфическим использованием
в обществе, где господствуют определенные классы, —
с другой. После 1968 г. он пришел к выводу, что мас¬
сы настроены против привилегий и «избранности»,
поэтому интеллигенту следует присоединяться к мас¬
сам.
Весьма влиятельными группами среди «новых ле¬
вых» являются троцкисты и прежде всего возглавляв¬
шаяся Алэном Кривином и запрещенная в июне 1973 г*
131
«коммунистическая лига», которая в качестве фран¬
цузской секции IV Интернационала стремилась кон¬
ституироваться в партию. В начале 1972 г. эта
организация опубликовала манифест57, который—как
указывается в публикации — явился «плодом четы¬
рехлетних размышлений». Содержащийся в нем ана¬
лиз исходит из того, что капитализм положил начало
«третьей промышленной революции», в процессе кото¬
рой он опирается на достижения науки, не отказы¬
ваясь при этом от погони за прибылью. Противоречие
между использованием коллективных знаний и об¬
ществом, основанным на получении прибыли, никогда
ранее не проявлялось с такой остротой, как в наши
дни. Коммунистические партии подчеркивают револю¬
ционное значение научного прогресса, движение же
хиппи и подобные ему идеологические течения, вы¬
ступающие против авторитетов, проповедуют возврат
к природе. Правильное решение, заявляют последова¬
тели Кривина, состоит в свержении капиталистиче¬
ского общества посредством революции.
Для «коммунистической лиги» социализм — это ав¬
томатизация и рабочие советы. Следовательно, если
говорить о политической организации, надлежит соз¬
дать государство, зиждущееся на непосредственней
демократии: рабочем самоуправлении на предприя¬
тиях и самостоятельных оборонных организациях ра¬
бочего класса для защиты власти. Только на этой
основе можно должным образом организовать произ¬
водство и потребление и не только в количественном,
но и в качественном отношениях удовлетворить чело¬
веческие потребности, коренным образом изменить и
самого человека. Не всякий путь ведет к этой рево¬
люции, заявляет лига; так, например, политика На¬
родного фронта, начало которой было положено ком¬
мунистическими партиями, не привела к целив 1936г.,
столь же неприемлема и провозглашенная сейчас про¬
грессивная демократия.
Следует освежить воспоминания о 1968 г., гово¬
рится в манифесте, и, вдохновляясь ими, организовать
классовую борьбу. Нужно в первую очередь разви¬
вать деятельность в профсоюзах, ставя целью выдви¬
жение таких требований, которые существенно ул>ч-
шили бы положение рабочего класса.
ш
По мнению авторов манифеста, необходимо про¬
должать борьбу и в области образования, даже заве¬
домо зная, что господствующий класс не откажется от
контроля над системой образования, до тех пор пока
не будет свергнут. Следует осуществить реформу
здравоохранения, требовать выработки действенных
мер по охране окружающей среды. Особенно большой
упор необходимо сделать на агитационную деятель¬
ность среди молодежи, женщин и крестьян. Нужно
выступать против институтов государства, ставить
целью создание правительства трудящихся, которое
осуществит национализацию, введет демократическим
путем разработанную и обсужденную с участием тру¬
дящихся систему планирования, сократит рабочее вре¬
мя, учредит производственные и районные советы, во¬
оружит рабочих, удешевит государственный аппарат;
в области внешней политики будет оказывать под¬
держку народам, борющимся за свое освобождение,
заключит общий оборонительный пакт с социалисти¬
ческими странами и создаст Социалистические Соеди¬
ненные Штаты Европы.
Эта состоящая из разнородных элементов эклекти¬
ческая программа не привела к прекращению фрак¬
ционной борьбы среди троцкистов и не оказала замет¬
ного влияния на широкие слои трудящихся.
Хотя во Франции роль организаций «новых левых»
более значительна, чем где-либо, так называемая
«диффузная левизна» проявляется и здесь. Известный
буржуазный социолог Алэн Турэн отмечал, что «май¬
ское восстание было скорее общественным движением,
нежели политической акцией. Оно явилось выраже¬
нием утопического коммунизма столетие спустя после
утопического социализма и в момент рождения техно¬
кратического общества» 58. С выводом Турэна можно
спорить, но несомненно, что майско-июньские события
1968 г. оставили после себя атмосферу утопии, им¬
провизации, стихийного творчества, а эта атмосфера
благоприятствует тому, чтобы «парижская весна» пи¬
тала теперь неоромантические течения, тем самым
способствуя распространению среди молодой интелли¬
генции моды на иррациональную философию и одно¬
временно на своего рода деполитизацию.
133
Во Франции также имеют место попытки создания
контркультуры, но эти попытки, по всей видимости,
не встречают сочувствия даже со стороны «лева¬
ков».
«Студенты и их приверженцы, — заявляет Сартр в
декабре 1972 г. газете „Эсквайр“, — никогда не созда¬
дут контркультуры... Если мы хотим сделать контр¬
культуру реальностью, нам нужно объединиться с мас¬
сами, осмотреться и немного выждать. Если человек
переходит к новому образу жизни, то он неизбежно
будет писать иначе или совсем бросит это занятие.
Подлинная контркультура должна быть культурой,
формируемой и распространяемой массами».
Хорошим примером новой литературы Сартр счи¬
тает посвященную революции 1789 г. пьесу Мнушки-
на, о которой он сказал, что молодежи был нужен не
писатель, а только текстовик, который заботился бы
о правильной расстановке сказуемых. В этом он видит
проявление спонтанности и коллективизма. На вопрос
журналиста, что бы он стал делать, если бы в Париже
разразилась культурная революция, попытался бы он,
например, помешать поджогу национальной библио¬
теки, спасти «Мону Лизу» и т. п., Сартр ответил: «Что
касается «Моны Лизы», то я дал бы ее сжечь и ни¬
сколько бы об этом не пожалел. Но несколько других
вещей, возможно, взял бы под защиту. Удалось ли бы
это сделать — это уже другой вопрос...»
Если теперь попытаться охарактеризовать фран¬
цузских «новых левых» в целом, то здесь, по всей ви¬
димости, можно согласиться с точкой зрения Клода
Прево59, который в 1969 г. — главным образом приме¬
нительно к студенчеству — дал следующий перечень
их отличительных черт:
1. Культ «созидательного насилия», унаследован¬
ный от таких предшественников, как Жорж Сорель,
один из идеологических провозвестников фашизма.
К этому присоединяется так называемый «креати-
визм», жажда созидания, отождествляемый многими
с праздником, радостью, неожиданностью.
2. Спонтанность, в свое время прокламировавшая¬
ся ещё Прудоном, влияние которого заметно усили¬
лось в немарксистских интеллигентских кругах, при¬
влекаемых его мелкобуржуазным демократизмом,
134
3. Бунт против «потребительского общества», в ко¬
тором проглядывают определенные элементы сканда-
лизации и вместе с тем сюрреализма (это является
одним из объяснений «возрождения» Бретона).
4. Глобальная «контестация», выражающаяся в
стремлении все подвергать сомнению, ставить под во¬
прос, а также в протесте на уровне некоего всеобщего
нонконформизма.
5. Склонность к иллюзиям относительно того, что
капитализм уже якобы потерпел крах и буржуазия
готова сама передать власть революционным силам.
6. Осуждение «аппарата» или «бюрократии», то
бишь Французской коммунистической партии и ВКТ,
которые будто бы «предали революцию».
7. Прокламирование руководящей роли интелли¬
генции и прежде всего студенчества.
Добавим к этому, что уже в 1968 г. встречались
группы, выступающие под флагом тех или иных поли¬
тических идей, которые к вышеперечисленным чертам
добавили и некоторые новые. Позднее эти группы вы¬
ступали самостоятельно, даже вели друг с другом
борьбу. Тем не менее диффузной «левизне» все еще
присущи (хотя бы отчасти указанные Прево) отличи¬
тельные черты.
Часть разочаровавшейся в «левачестве» молодежи
и интеллигенции в истекший период потянулась к
Французской коммунистической партии. Общая плат¬
форма коммунистов и социалистов и выборы 1973 г.
породили в широких кругах населения страны на¬
дежду па возможность радикальных изменений в
структуре французского общества. Вследствие этого
многие из тех, кто в 1968 г. были «леваками», при¬
няли участие в популяризации общей платформы со¬
циалистов и коммунистов и в ходе предвыборной
кампании выступали на стороне коммунистов.
Италия
В Италии появление «новых левых» также было
связано со студенческими выступлениями. В 1968 г.
Витторио Ризер, исходя из опыта событий в Турине,
кратко изложил для международной общественности
из
цели этих выступлений60. Ризер считает, что студенче¬
ское движение не должно ограничиваться требова¬
нием реформы университетского преобразования; оно
должно расширить свое влияние и установить связь
с рабочим классом и его организациями. Однако реа¬
листически глядя на вещи, он отдает себе отчет, что
для этого пока еще не созрели условия, и поэтому в
ожидании подходящего исторического момента необ¬
ходимо сохранить и развивать само студенческое дви¬
жение.
По мнению Ризера, студенческое движение, «рас¬
полагая полной свободой и конкретными преимуще¬
ствами», может развертывать в университете и поли¬
тическую работу, пользуясь для этого подходящими
методами. Нельзя соглашаться на реформы, навязан¬
ные сверху, в том числе и на так называемую «сов¬
местную администрацию», то есть администрацию с
участием студентов в управлении университетом; вме¬
сто этого он предлагает по западноберлинскому об¬
разцу создать «критический университет», органи¬
зовать так называемые «контркурсы». Следует уста¬
новить контакты между студенческими организа¬
циями различных университетов и выступать против
любых проявлений местной обособленности, весь¬
ма свойственной итальянским студенческим движе¬
ниям.
Борьбу вне университета Ризер представляет себе
тесно связанной с международными событиями и на¬
правленной прежде всего против различных буржуаз¬
ных законов, ограничивающих права и свободы чело¬
века. В этой связи он считает очень важной борьбу
против капиталистических средств массовой информа¬
ции, в частности путем создания новых форм инфор¬
мации, с тем чтобы с их помощью оказывать содейст¬
вие выступлениям рабочих за повышение заработной
платы. Организационную работу имеется в виду воз¬
ложить на комитеты по месту работы, на внеунивер-
ситетские группы учащихся. Одну из конкретных за¬
дач Ризер видит в организации в университетах мас¬
совых конфликтов, а также широких политических
дискуссий.
«Без конфликтов с участием масс нет надежды на
136
формирование небольших активных групп, потому что
численность активистов сокращается и потому что не
хватает конкретной политической сознательности, не¬
обходимой в студенческой среде, где велика опасность
экстремизма на словах и беспомощности в дейст¬
виях».
Вышеприведенное высказывание Ризера ясно пока¬
зывает, что, хотя отдельные представители итальян¬
ского студенческого движения и склонны следовать в
своих действиях западноберлинскому образцу, они все
же гораздо менее уверены в своих силах и особенно
осторожны в отношениях с рабочим классом и комму¬
нистической партией. Это объясняется не только тем,
что рабочие Италии ведут активную борьбу за улуч¬
шение условий труда и жизни и что коммунистическая
партия сильна, но и тем, что Итальянская коммуни¬
стическая партия и ее молодежная организация поль¬
зуются значительным влиянием во многих универси¬
тетах.
В Итальянской коммунистической партии имела
место дискуссия о студенческом движении. Сформули¬
рованная в 1968 г. членом политбюро Джорджо Амен-
долой точка зрения относительно борьбы на два фрон¬
та, а затем беседа Луиджи Лонго с руководителями
студентов явились свидетельством того, что итальян¬
ские коммунисты вовремя распознали проглядываю¬
щее из-за ультрарадикальных концепций противоречи¬
вое сочетание реализма и иллюзий, дав этому явле¬
нию марксистскую оценку 61.
Слушатели Трентского института общественных
наук занимали, по-видимому, наиболее теоретически
зрелую позицию в студенческом движении. С их точки
зрения, университет следует рассматривать как про¬
изводство, где вырабатывается особый вид товара —
дипломированные специалисты или же необходимая
для подготовки этих специалистов рабочая сила. Этот
«товар» можно в ходе развертывания производствен¬
ного процесса сбыть на рынке труда или как полуфаб¬
рикат, или как готовое изделие. Университет целиком и
полностью служит интересам капиталистического об¬
щества своей системой контроля за количеством и ка¬
чеством и, конечно, тем, какие «товары» он поставляет
137
обществу. Однако университет не только производ¬
ственная организация, но и организация власти, слу¬
жащая для того, чтобы «готовить политически без¬
оружных и профессионально ограниченных исполни¬
телей». Этой имеющей двоякий характер организации
трентские студенты предложили противопоставить
«студенческую власть», то есть создание некоего орга¬
на студенческого самоуправления 62.
Одновременно со спадом в западноевропейском
студенческом движении заметно снизился накал борь¬
бы студентов и в Италии. Часть студентов — главным
образом в Милане — попыталась сохранить самостоя¬
тельную организацую «Movimento Studentesco», ко¬
торая борется за осуществление требований, касаю¬
щихся в первую очередь проблем университетской
жизни. Заметим, что, хотя руководители этой органи¬
зации не отрицают важности связей с массовыми дви¬
жениями, они стремятся отмежеваться от всех партий
и наряду с этим также от «левацких» групп63. Как
о том свидетельствует одно из опубликованных в
1969 году обращений студенческой организации «Cen¬
tro di Coordinamento Campano», действующей в Риме
и Неаполе, часть слушателей университетов выступи¬
ла против «Movimento», поскольку деятельность этой
организации носит, по их мнению, в основном чисто
профсоюзный характер. Что же касается сторонников
«Centro», то они стремятся активно поддерживать все
радикальные выступления, сохранив, однако, за собой
право на критику сопутствующих этим демонстрациям
иллюзий и мистификаций. Они ставят перед собой
также задачу изучить вопросы, связанные с положе¬
нием различных категорий студентов в университетах
и возможности получения ими работы, в отношении же
общества в целом они намерены уделять особое вни¬
мание идеологическим вопросам в целях «повышения
уровня сознания» 64.
Некоторые студенческие группы в Италии с самого
начала пытались устанавливать связи с рабочими.
Например, основанная в 1969 г. упомянутая выше
группа «Рабочая власть» («Potere Operaio») обрати¬
лась к рабочим с призывом отказываться от «товар¬
ного производства». Ее приверженцы отвергают реаль¬
но существующий социализм на том основании, что,
133
хотя в социалистических странах социализм и гос¬
подствует в способе производства и обмена, характер
производственных отношений якобы остается капита¬
листическим.
«Борьба рабочих, — говорится в воззвании, — на¬
правлена против объединившихся хозяев, выступаю¬
щих в форме объединенного капитала, и против пер¬
спективы «социалистического» руководства «капита¬
листической» эксплуатацией». Это смазывание разли¬
чий между двумя социальными системами, основы¬
вающееся на самом примитивном «анализе», оказы¬
вается, по сути дела, не чем иным, как одной из вер¬
сий сочиненной буржуазными идеологами концепции
«индустриального общества» и теории конвергенции.
Выступая с лозунгом освобождения от капитали¬
стического принуждения к труду и необходимости соз¬
давать стоимость, «Рабочая власть» призывает трудя¬
щихся готовиться к политическим битвам, взятию
власти, для чего нужна организация. «„Коммунизм и
организация“. Этот девиз будет доминирующим в
70-е годы», — говорится в одной из программ этой
группы 65.
Точку зрения итальянских левацких групп наи¬
более полно выражает Дж. Моттура, представляю¬
щий созданный в 1968 г. «марксистско-ленинский
союз».
«Было бы неплохо, — пишет Моттура, — если бы
все товарищи крепко-накрепко усвоили, что
а) капитализм — враг,
б) мы отнюдь не боремся против капитализма,
если ограничиваемся декларированием нашей к нему
ненависти, но не знаем конкретных и реальных форм,
в которых он выступает, и не кладем это знание в ос¬
нову политической работы на уровне класса;
в) это потребует коллективной организации и дис¬
циплины, а также принятия ясных, иногда неприят¬
ных, но ни в коем случае не героических или бьющих
на внешний эффект индивидуальных решений;
г) единственным способом дать верный ход про¬
цессу, который будет развиваться, не сбиваясь вновь
на путь образования сект, является строгое соблюде¬
ние — особенно в области отношений активистов друг
к другу, к рабочим, а также подлинным революционе¬
139
рам — политического указания сформулированного в
следующих двух правилах: «Учиться на ошибках про¬
шлого, чтобы не совершать их в будущем» и „Лечить
болезнь, дабы спасти больного“» 66.
Особого успеха среди трудящихся эта деклара¬
ция не имела, о чем, в частности, свидетельствует
и тот факт, что на выборах 1972 г. «союз», высту¬
павший под именем «итальянской коммунистиче¬
ской (марксистско-ленинской) партии», получил всего
85 тыс. голосов.
Анархисты привлекли к себе внимание прежде
всего в связи с процессом Вальпреды. Вначале каза¬
лось, что все группировки итальянских «новых левых»
объединятся для защиты Вальпреды, против суда над
которым, представлявшего собой нарушение законно¬
сти, выступила и Итальянская коммунистическая пар¬
тия. Спонтанеистская группа «Борьба продолжается»
(«Litta continua») начала издавать ежедневную газе¬
ту «Процесс Вальпреды» и вместе с другими груп¬
пами образовала совместный комитет с целью коорди¬
нации выступлений в защиту Вальпреды. Комитет,
однако, вскоре распался, так как «Рабочий авангард»
(«Avanguardia Operaio»), троцкисты и часть других
выразили несогласие с группами, выступавшими за
немедленное начало вооруженных действий.
Группа «Борьба продолжается», помимо всего про¬
чего, делает попытки внедриться на промышленные
предприятия, с тем чтобы оказывать свое влияние на
различные виды экономической борьбы рабочих. Она
громко провозглашает, что является представительни¬
цей рабочих, а не каким-то опирающимся на «журна¬
листов» «идейным течением» вроде «Манифесто».
В свою очередь приверженцы «Манифесто» пренебре¬
жительно отзываются о деятельности групп «Борьба
продолжается» и «Рабочий авангард» и обвиняют их
(например, на организованном совместно с группой
«Рабочая власть» в январе 1971 г. «Всеитальянском
рабочем совещании») в том, что они «предаются ил¬
люзиям относительно частичных групповых побед,
обходят подсказываемые практикой более сложные
проблемы и перескакивают через трудности, с кото¬
рыми сталкивается революционная стратегия на За¬
паде» 67.
140
Исключенная из Итальянской коммунистической
партии, группа «Манифесто» вначале задалась целью
создать некий «идеологический контрцентр» в каче¬
стве противовеса Итальянской коммунистической пар¬
тии, которую она обвиняла в оппортунизме и рефор¬
мизме. Один из идеологов этой группы ЛючиоМагри
выступил с программой так называемого «нового реа¬
лизма», эклектически использовав при этом некоторые
положения Ленина и Грамши, но, по сути дела, отвер¬
гая реально существующий социализм и политику
коммунистических партий. Эта «новореалистическая»
теория отбрасывает концепцию Маркса и Энгельса
о характере буржуазного государства, утверждая, что
«аппарат подавления более не составляет основы бур¬
жуазного государства, поскольку изменилась структура
равновесий внутри общества, поскольку разрушитель¬
ная логика системы проявляется в новой форме, по¬
скольку его господство стало за это время более углу¬
бленным, разветвленным и сложным». Для монополи¬
стического капитализма, говорит Магри, характерны
изменения, в результате которых, с одной стороны, от¬
падает необходимость использования государства в
качестве специальной силы подавления, с другой сто¬
роны, заметно увеличивается степень непосредствен¬
ного вмешательства государства в экономическую
жизнь.
Хотя Магрй критикует взгляды Гэлбрейта, Шумпе¬
тера и других реформистов, он, в сущности, солидари¬
зируется с их утверждениями, касающимися технокра¬
тии и бюрократии, и соглашается также с мнением
буржуазно-либеральных экономистов и социологов от¬
носительно интеграции рабочего класса. Рабочему
классу и его партии он, искажая мысль Грамши, про¬
тивопоставляет понятие так называемого «блока».
Грамши под «историческим блоком» понимал до¬
стигнутое в данный исторический период единство
практической и интеллектуально-моральной деятель¬
ности отдельных классов и находящихся под их геге¬
монией союзнических групп 68. Обязательным условием
создания такого блока в отличие от того, что имеет
в виду под этим понятием Магри, является руководя¬
щая роль рабочего класса и партии. Свою точку зре¬
ния Магри излагает следующим образом; .
141
«Завоевание государственной власти, то есть обре¬
тение эффективного, в должной мере однородного и
прочного большинства, с помощью которого можно
выполнить задачу генеральной реорганизации обще¬
ства, будет возможно лишь в том случае, если в про¬
цессе следующих одно за другим выступлений и обоб-
щения их опыта, с помощью энергичных усилий, на¬
правленных на развитие политического сознания масс,
мы создадим положительную альтернативу, мощный
блок, где будет целенаправленно и отчетливо просту¬
пать перспектива нового общества, которое предстоит
построить. Без этого же углубляющиеся противоречия
строя никогда не достигнут размаха, способного пере¬
вернуть все общество; общественные классы, да и сам
рабочий класс станут жертвой шантажа со стороны
существующей власти, неудовлетворенные потребно¬
сти выродятся в коллективный невроз, станут прояв¬
ляться в иррациональных выходках и индивидуали¬
стическом обособлении».
Магри считает, что для решения задачи создания
такого .«блока» подходит не коммунистическая, а не«
кая «массовая партия», которая, по его словам, нахо¬
дится «в центре созвездия автономных органов и ор¬
ганизаций, но не образует клику, не выражает корпо¬
ративных устремлений, не является орудием власти.
Такая гомогенная партия, руководствующаяся осо¬
знанной перспективой и уже преодолевшая антаго¬
низм между рукоЁодителями и руководимыми, строит
отношения с каждым своим солдатом на строго демо¬
кратической и творческой основе».
К этой туманной концепции Магри присовокупляет
свои размышления о временах, которые наступят по¬
сле революции, о непосредственной демократии и от¬
мирании государства.
В начале 1971 г. группа «Манифесто» созвала в
Милане так называемую «общенациональную рабо¬
чую конференцию», в которой участвовали и предста¬
вители группы «Рабочая власть». На этой конферен¬
ции она распространила документ с намерением сде¬
лать его в конечном счете программой совместного
выступления «новых левых». Авторы этого документа
подвергли критике организации «Борьба продолжает¬
142
ся» и «Рабочий авангард», не проявившие готовности
принять участие в конференции, но обратились к
ним — и, естественно, к присутствовавшим там пред¬
ставителям «Рабочей власти» — с призывом развер¬
нуть борьбу, имеющую своей целью воспрепятствовать
восстановлению экономической стабильности капита¬
листической системы, выдвигая для этого все новые и
новые требования и усиливая борьбу за повышение
заработной платы и улучшение условий жизни. Необ¬
ходимо вести борьбу, говорят они, за отвечающие об¬
щественным интересам капиталовложения, осуществ¬
ляемые за счет коммунальных средств и бюджета, ибо
и таким образом можно выступать против антирабо¬
чей политики капитализма и вынуждать парламент
принимать новые благоприятные для трудящихся за¬
коны.
Что касается организационных форм борьбы, то их,
по мнению авторов, не следует искать ни в профсою¬
зах, ни в советах рабочих уполномоченных.
«По тактическим и стратегическим соображениям
следует укреплять политические и вместе с тем проф¬
союзные автономные классовые организации; эти ор¬
ганизации в силу необходимости будут состоять при
профсоюзе, дискутировать с ним, понуждать его идти
правильным курсом и увлекать за собой его лучший
актив».
Таким образом, по их мнению, нужно организовы¬
вать «политические комитеты», представляющие собой
постоянно собирающиеся на данном заводе, в районе
или зоне органы «авангарда». Это — временная орга¬
низационная форма, и нужна она до тех пор, пока нет
революционной партии и настоящей структуры сове¬
тов 69.
Объединить «новых левых» на базе этой програм¬
мы не удалось. Представители «Манифесто», хотя и
опровергали сообщения о том, что они создают поли¬
тическую партию, тем не менее выступили на выборах
1972 г. со своим отдельным списком и потерпели тя¬
желое поражение. После этого один из самых видных
членов группы Альдо Натоли подверг резкой критике
всю ее деятельность, заявив, что представления о пу¬
тях сплочения «новых левых» были иллюзией и что
143
попытку образования новой партии он считает акцией,
решение о которой было принято в узком кругу, на
основе «инфантильной или бюрократической концеп¬
ции организации». Разочарование привело к тому, что
некоторые из руководителей группы «Манифесто»
были бы не прочь вернуться в Итальянскую коммуни¬
стическую партию, другие же стали склоняться к чи¬
сто «теоретической работе», отходя тем самым от кон¬
кретной политической деятельности 70.
После серии политических провалов среди части
итальянских «новых левых» возобладали неороманти¬
ческие настроения, питаемые американскими и запад¬
ноевропейскими источниками. Эги настроения прояви¬
лись в увлечениях организацией фестивалей и различ¬
ных зрелищных мероприятий. (Так, например, газета
«Re Nudo» 25 октября 1971 г. известила, что во время
поп-фестиваля в Баллабио два дня царил «комму¬
низм».)
В целом в Италии, являющейся средоточием глу¬
боких экономических, социальных и культурных про¬
тиворечий, «новое левое» течение не получило сколь¬
ко-нибудь значительного распространения. Его поли¬
тическая оценка была дана Э. Берлингуэром, который
на XIII съезде Итальянской коммунистической партии
сказал, что левый «куалюнкизм» (этог термин — про¬
изводное от выражения «уомо куалюнке», близкого по
значению к «человеку с улицы», на которого после
второй мировой войны в первую очередь пытались
влиять правые течения, фашисты) делает ставку на
незрелый протест молодежи и чувство разочарования,
испытываемое мелкобуржуазными группами, но по
сути своей это антикоммунизм, разве что в новом ва¬
рианте 71.
На выборах 1972 г. трудящиеся массы отвергли
антикоммунизм и связанную с ним авантюристиче¬
скую политику, но это не решило исхода политиче¬
ской битвы: левые и правые силы по-прежнему проти¬
востоят друг другу, и в этой ситуации деятельность
левацких групп способна лишь вносить путаницу.
144
Великобритания
В Англии «новые левые» заявили о себе прежде
всего в рядах лейбористской партии. Поэтому кое-кто
и не причисляет их к «новым левым». Однако, если су¬
дить по их деятельности, то их все же следует считать
таковыми, ибо они были среди тех, кто идеологически
подготовил движение 1968 г.
В 1967 г. Стюарт Халл, Рэймонд Уильямс и Эд¬
вард Томсон составили «Первомайский манифест»72,
в котором попытались дать оценку положению капи¬
тализма в Англии и с учетом этого определить задачи
«настоящих левых». По мнению авторов этого мани¬
феста, опыт продолжительного пребывания лейборист¬
ской партии у власти доказал, что реформистская
политика потерпела фиаско. Причины провала этой по¬
литики они видят в первую очередь в тех новых фор¬
мах, в которых сейчас выступает капитализм. «Новый
капитализм», если иметь в виду внутренний механизм,
с помощью которого он в настоящее время функцио¬
нирует и осуществляет контроль, существенно отлича¬
ется от капитализма свободного рынка.
«Это такой характеризуемый частным накоплением
экономический строй, при котором решающая эконо¬
мическая власть во всех секторах принадлежит горст¬
ке могущественных промышленных компаний. Мас¬
штабы деятельности, комплексная организация и
сложная техника, требующаяся для снабжения и кон¬
троля таких хозяйственных единиц, а также их все¬
проникающее влияние настолько выросли, охватив все
общество в целом, что распределение ресурсов и фор¬
мирование спроса не может более основываться на
игре свободного рынка. Технические нововведения, по¬
требность в долгосрочных капиталовложениях за счет
самофинансирования и в экономическом росте, стрем¬
ление предвидеть и определять потребительский спрос
фактически уже внесли существенные изменения в ме¬
ханизм капитализма свободного рынка».
По поводу целей современного капитализма авто¬
ры манифеста пишут следующее: «Согласно господ¬
ствующей философии, в настоящее время необходимо
развивать и углублять рационализацию, с тем чтобы
общество было в состоянии сознательно перейти к кон¬
145
тролируемой системе цен, к регулированию зарплаты
путем соглашений в пределах установленных норм,
к управлению спросом, к эффективной передаче рас¬
поряжений сверху до самых нижних звеньев „команд¬
ной цепи“».
Эта потребность в координированном управлении
поднимает вопрос о планировании, но не ради того,
чтобы подчинить частную выгоду интересам общества.
Планирование означает лишь лучшее прогнозирова¬
ние, лучшую координацию решений относительно
капиталовложений и по другим вопросам и более целе¬
направленное наблюдение за спросом. Одним словом,
речь идет не о том, чтобы с помощью планирования
хоть на йоту изменить капиталистический строй.
По мнению авторов, государство в такой ситуации
начинает играть роль «критика», «принимает на себя
ответственность за всеобъемлющее управление эконо¬
микой с помощью финансовых методов». Тем самым
государство служит интересам капитализма и содей¬
ствует повышению жизненного уровня рабочих. Одна¬
ко увеличение зарплаты оно связывает с соглашения¬
ми, касающимися производительности, и «обеспечение
благосостояния» становится системой, направленной
не на изменение, а на поддержку современного капи¬
тализма.
«Таким образом, при успешно функционирующем
современном капиталистическом строе люди в извест¬
ной степени могут пользоваться плодами растущего
благосостояния и изобилия, по мере того как растет
производительность труда, но в том, что касается до¬
ходов, экономики, возможностей, авторитета и власти,
этот строй — уже потому, что он является капитали¬
стическим, — не стремится к равенству. Известное
выравнивание социального статуса может иметь место,
но при всем том «открытые капиталистические» обще¬
ства — в которых расслоение малозаметно — остаются
закрытыми системами власти. Рыночный капитализм
создал конфликтные отношения классового общества,
организованный капитализм — коль скоро он успешно
функционирует — пытается их устранить, но не путем
преобразования фактических отношений собственно¬
сти и власти, а оставляя в стороне все человеческие
представления об общности и равенстве и обеспечивая
145
запланированное удовлетворение организованных про¬
изводителей и потребителей».
Собственно говоря, английская лейбористская пар¬
тия, выдвигая лозунг «модернизации», стремилась
взять эту задачу на себя. Авторы манифеста при¬
знают, что эта «модернизация» открывает определен¬
ную перспективу преобразования, но возможные изме¬
нения касаются лишь поведения, обычаев, технических
средств, практических приемов, в то время как систе¬
ма экономической и социальной власти остается неиз¬
менной. «Модернизация» — это осуществление техно¬
кратической модели, ориентированной на бескон¬
фликтность и политический нейтрализм, при которых
подлинные социальные конфликты и проблемы могут
быть разжижены абстракциями «научной революции»,
«общего согласия» и «продуктивности».
Эту тенденцию усиливает и международная систе¬
ма, именуемая авторами «неоимпериализмом», отли¬
чительной чертой которой является создание и расши¬
рение крупных международных компаний. Эти между¬
народные корпорации вкладывают свои капиталы в
первую очередь в развитых капиталистических стра¬
нах, диктуя условия производства и распределения
прибылей. Главная роль здесь принадлежит американ¬
скому империализму, что же касается политики анг¬
лийской лейбористской партии, то она целиком лежит
в русле данной тенденции, всячески содействуя ее
дальнейшему развитию.
Этой внутренней и внешней политике авторы мани¬
феста противопоставляют программу «новых людей»,
которая исходит из следующих основных положений:
1. Существующий строй не способен решить основ¬
ную проблему общества, то есть не может создать
предпосылки подлинного благосостояния народа.
2. Он не может разрешить новые проблемы, свя¬
занные с осмысленным трудом, свободным временем,
участием трудящихся в жизни общества, охраной
окружающей среды, полным равноправием женщин.
3. Строй не способен сотрудничать с политически¬
ми партиями и движениями, которые выдвигают но¬
вые альтернативы общественного развития, и поэтому
пытается лишить их смысла, что практически означает
лишение тысяч людей того, что для них важно, ценно,
147
лишение их возможностей конструктивного участия в
общественной жизни.
4. Существующая система власти представляет
собой не что иное, как попытку сохранения иерархиче¬
ской структуры господства меньшинства перед лицом
неизбежного краха.
«Строй, который изо всех сил пытается предста¬
вить себя в качестве наиболее прогрессивного, изобра¬
жая свой образ жизни раем, который надлежит уве¬
ковечить, в то же время погряз в войнах и обреме¬
нительных расходах на вооружение. Данное противо¬
речие уже начинает надламывать строй и будет про¬
должать его дальнейшее разрушение. Это слабое звено
цепи оказывается, впрочем, рациональным факто¬
ром в политике. Это та точка, откуда начнется преоб¬
разование и где нужно быть готовым к решительному
осуществлению преобразований вплоть до того момен¬
та, пока весь строй, как таковой, не рухнет».
В конце концов после столь решительных деклара¬
ций авторы манифеста довольствуются тем, что про¬
возглашают необходимость всеобщей и продолжитель¬
ной кампании по сплочению социалистических сил.
Они указывают также на необходимость повседневной,
«малой», ведущейся шаг за шагом борьбы, но укло¬
няются от ответа на вопрос, какие силы, какие органи¬
зации способны сформировать новую структуру вла¬
сти.
Эти традиционные, если их можно так назвать,
«новые левые» по своему радикализму отстают от сту¬
денческого движения, которое в Англии также дало
о себе знать, правда далеко не с той силой, как в дру¬
гих странах. Том Фоутроп, который принимал участие
в студенческих выступлениях в Гулльском универси¬
тете, в написанной им в 1968 г. статье73 заявляет, что
социал-демократия, фабианство и коммунизм в равной
мере заслуживают осуждения, ибо все они заражены
реформизмом, студенческое же движение стремится
к революционным преобразованиям. Отпразным пунк¬
том революционной идеологии является марксизм, но,
как говорит Фоутроп, «не обезличенный и не доктри¬
нерский марксизм», а такой, который можно принять
в качестве аналитического метода и позитивной пер¬
спективы.
148
В наследии Маркса самым важным студенты счи¬
тают концепцию революционной свободы, которую
Фоутроп трактует следующим образом:
«На языке социализма свобода — это состояние,
при котором человек обладает полным контролем над
ресурсами своего общества, это наличие условий для
наиболее полного использования этих ресурсов в ин¬
тересах большинства».
Одним из средств реализации свободы Фоутроп
считает «власть студентов», которая выступает против
приспособления учебных заведений к потребностям
монополистического капитализма, а также против
того, чтобы высшие учебные тенденции выполняли
функцию распространения капиталистической идеоло¬
гии. «Власть студентов» он самым тесным образом
Связывает с рабочим контролем, который необходимо
осуществлять в рамках всего общества. В этой связи
он ссылается на пример Парижской Коммуны, но ее
уроки истолковывает с анархистских позиций. Особен¬
ностью новых органов рабочего контроля, по его мне¬
нию, должно являться принятие решений так назы¬
ваемыми «открытыми» группами, коллективная вы¬
работка ими «приемлемой формы» общественных
отношений и содействие «вписыванию» людей в кол¬
лектив.
Автор оспаривает концепцию приверженцев Мар¬
кузе, согласно которой рабочий класс якобы «обур¬
жуазился». Фоутроп верит в возможность того, что
революция будет совершена пролетариатом. Однако
ь этой «вере» можно заметить и преклонение перед
стихийностью революционного самосознания рабочего
класса.
Вызывает улыбку апломб, с которым Фоутроп оп¬
ределяет революционную роль студенчества.
«Если пробьет час революции, — пишет он, — да¬
вайте вспомним об опыте большевиков и будем пола¬
гаться на то, что мы — в отличие от них — сможем
идти в ногу с политическим самосознанием рабочих».
Эта самоуверенность вообще характерна для анг¬
лийского студенческого движения, в руководстве кото¬
рого встречаются и такие яркие индивидуальности,
как Тарик Али, сын пакистанского миллионера, гро¬
зившийся в 1968 г, создать при поддержке студентов
149
и иммигрантов революционлую социалистическую пар¬
тию. По его мнению, сделать это в Англии будет го¬
раздо легче, чем, например, во Франции, поскольку
в Англии нет столь сильной коммунистической партии:
«Есть лишь вакуум! Несмотря на расизм и консерва¬
тизм, радикализация рабочего класса будет усили¬
ваться по мере того, как будет ухудшаться экономиче¬
ское положение» 74. Каким образом будет ухудшаться
экономическое положение и как будет создаваться
партия, об этом из писаний Тарика Али узнать трудно.
С 1968 г. часть английских «новых левых» объеди¬
няется в троцкистско-маоистско-анархистские группы
и декларирует взгляды, в принципе ничем не отличаю¬
щиеся от тех, которые распространяются этими
течениями повсюду в мире. Троцкистское течение, пу¬
стившее корни в Англии еще до второй мировой войны,
действует главным образом в кругах интеллигенции.
Основной темой дискуссий — как о том свидетель¬
ствует брошюра Бетти Рид75 — являются события
прошлого, а именно политика Советского Союза в пе¬
риод между двумя мировыми войнами, проблема На¬
родного фронта, политика троцкистов во время вто¬
рой мировой войны. Что же касается оценки событий
последних лет — выступления студентов и трудящихся
во Франции весной 1968 г., война во Вьетнаме и ряд
других, — то ко всем этим вопросам троцкизм (пред¬
ставляемый различными группками) подходит с пози¬
ций антикоммунизма, новое же заключается главным
образом в использовании ультралевацкой аргумента¬
ции.
Другое организованное направление «новых ле¬
вых», группирующееся главным образом вокруг «Нью
лефт ревью» (издатель Перси Андерсон), делает упор
на теоретическую деятельность и пытается развивать
свою критическую точку зрения в различных отраслях
общественных наук. Член редакционного комитета
вышеупомянутого журнала Робин Блэкберн в своей
работе «Краткий путеводитель по буржуазной идео¬
логии» 76 делает попытку систематизировать эле¬
менты критики буржуазной идеологии «новыми ле¬
выми ».
Блэкберн прежде всего считает своей задачей до¬
казать, что идеология, господствующая в английских
150
университетах и других высших учебных заведениях,
целиком ориентирована на защиту и оправдание су¬
ществующего капиталистического общественного
строя.
«Она стремится подавить всякое мнение, согласно
которому существует — или может существовать —
какая бы то ни было более привлекательная альтер¬
натива. Понятия, лежащие в основе критического
исследования, ею либо полностью исключаются (на¬
пример, понятия «эксплуатация» или «противоречие»),
либо лишаются своего содержания (например, «отчу¬
ждение», «класс»). Этот подход последовательно пес¬
симистичен в отношении перспектив борьбы против
угнетения и неравенства и, руководствуясь этим ос¬
новным принципом, создает такие теории, касающиеся
семьи, бюрократии, социальной революции или «плю¬
ралистической» демократии, каждая из которых пы¬
тается навязать вывод, согласно которому вырваться
из рамок существующих общественных институтов не¬
возможно. Вырабатываются различные понятия, с са¬
мого начала скрывающие в себе этот вывод (напри¬
мер, «индустриальное общество») и говорящие о том,
что всякая попытка поставить под вопрос «статус-кво»
в основе своей иррациональна-... Короче говоря, бур¬
жуазная общественная наука стремится затуманить
общественное сознание, пропитывая его идеализмом
и лишая остроты любой критический импульс».
В области политической экономии Блэкберн, под¬
вергая критике книгу Р. Г. Липси77, доказывает, что
буржуазная политэкономия, по существу, уклоняется
от анализа вопросов, связанных с неравенством в рас¬
пределении доходов, являющимся основным показате¬
лем социальных различий в обществе. Цитируя работу
Пола А. Самуэльсона78, он показывает, как бур¬
жуазные экономисты фальсифицируют Марксову тео¬
рию прибавочной стоимости и затушевывают факт
эксплуатации. Таким образом, буржуазная политэко¬
номия уходит от рассмотрения вопроса о капиталисти¬
ческих отношениях собственности. Что касается клас¬
совых отношений, то их относят к области социологии,
в рамках которой они рассматриваются как проблема
слоев или групп в отрыве от отношений собствен¬
ности.
Социологическая теория Талкотта Парсонса 79 при¬
водится Блэкберном в качестве типичного примера
того, насколько буржуазные общественные науки иг¬
норируют значение отсталости «третьего мира» и ка¬
кие поверхностные меры предлагаются ими для ее
ликвидации, стыдливо умалчивая при этом о новей¬
ших экспансионистских методах неоколониализма и
не замечая острых социальных противоречий, стоящих
на путях развития освободившихся стран. Сочинения
Раймона Арона используются Блэкберном для иллю¬
страции теории «индустриального общества» и так
называемого «технологического детерминизма». Он
критикует концепцию бюрократии Макса Вебера и
взгляды последнего относительно «харизматических»
личностей, исходя при этом из той критики, которой
Вебер был подвергнут со стороны Маркузе. Блэкберн
отмечает, что самые различные течения буржуазной
социологии, такие, как например, функциональная
школа и ее критический антипод, дружно избегают по¬
нятия «противоречие». Весьма характерными с этой
точки зрения автор считает социологические исследо¬
вания, ставившие своей целью анализ проблемы рево¬
люции (Нейл Смелзер, Чалмерс Джонсон). Последние
пришли к выводу, что революции, в сущности, почти
ничего не меняют в судьбе человечества и, следова¬
тельно, не нужны.
Переходя к политологии, Блэкберн подчеркивает,
что модное и более респектабельное понятие «плюра¬
листическое общество» используется взамен термина
«капитализм» в основном в целях создания ложно о
впечатления, будто бы власть не концентрируется
в руках единственной в своем роде и однородной
по составу (гомогенной) «правящей элиты», а разде¬
лена между многими соперничающими друг с другом
группами избранных. Эта теория (Сеймур М. Липсет,
Корнхаузер), по сути дела, имеет целью оправдать
функционирование современной буржуазной демокра¬
тии. В этой связи он указывает также на то, какие
манипуляции совершаются с помощью понятия «тота¬
литаризм», которому противопоставляется пресловутое
«плюралистическое общество». Защите буржуазной
демократии служит также мистификация понятий
«семья» и «домашний очаг», которую можно наблюдать
152
в различных областях и направлениях буржуазной
общественной науки.
Блэкберн рассматривает также как весьма симпто¬
матическую попытку буржуазной общественной науки
«избавить» социологию от Марксовой концепции отчу¬
ждения, сохранив лишь ее субъективно-психологиче¬
ские аспекты. Критическую остроту этой концепции
притупляют и стремятся свести к такому психологи¬
ческому измерению, как ощущение дефекта системы
ценностей, отсутствия цели, беспомощности, изолиро¬
ванности и самоотчужденности.
В итоге своего критического рассмотрения автор
приходит к выводу, что буржуазная общественная
наука строит свою апологетику на основе фатализма,
дополняя ее рассуждениями о «рационализации» и
«гуманизации», а когда прибегает к марксистским по¬
нятиям, то искажает при этом их истинный смысл.
Блэкберн называет школы и исследователей, кото¬
рые являются единомышленниками «новых левых»
или, руководствуясь идеологией «новых левых», стре¬
мились дать что-то новое в области общественных
наук. Таковыми он считает: в социологии — Алвина
Гоулднера, в политэкономии — Пьерро Страффа и так
называемую Кембриджскую школу; в историогра¬
фии — Э. X. Кэрра и парижские «Анналы»; в полити¬
ческой науке — К. Б. Макферсона, в антропологии —
Клода Леви-Стросса и Э. Р. Литса, в языкознании и
психоанализе — Ролана Барта и Мишеля Фуко.
Основные черты этой «критической» общественной
науки освещаются в очерках, опубликованных в сбор¬
нике «Идеология в общественных науках»80, где за¬
трагиваются вопросы «постлибералы-юй» демократии,
кризис радикальной социологии, пределы применимо¬
сти антропологического функционализма, возрождение
политической экономии, упадок эмпирического подхо¬
да в исторических исследованиях, миф бесклассовости,
неокапитализм, капиталистическое государство и раз¬
личные проблемы марксизма. Представленная в этих
статьях социальная критика обходит социалистиче¬
ские страны (авторы статей не знают ни результатов
научных исследований в этих странах, ни сложившей¬
ся там социальной практики), в то же время, если не
считать кое-каких исключений — например, одного-
153
двух высказываний JI. Альтюссера, — авторы сборни¬
ка не приемлют также политическую и идеологиче¬
скую позицию западноевропейских коммунистических
партий.
Английская буржуазия обладает большим опытом
в отношении того, как можно «рекуперировать» вы¬
дохшихся бунтарей. Современное положение «новых
левых» в Англии свидетельствует о том, что соответ- ■
ствующие старания буржуазии не были напрасными.
Правда, их влияние все еще чувствуется в различных
кругах студентов и интеллигенции — главным образом
среди интересующихся теорией, — в небольших оппо¬
зиционных группах внутри лейбористской партии и в
троцкистских организациях.
Поражение 1968 г. вызвало у многих молодых лю¬
дей желание ознакомиться с теми идеологическими и
организационными формами, с помощью которых до¬
стигается единство теории и практики. Об этой тен¬
денции свидетельствует и тот факт, что в последнее
время много молодежи принимает участие в семина¬
рах, курсах и дискуссиях, проводимых коммунистиче¬
ской партией. В статье, опубликованной в 19 номере
журнала «Тайм» за 1973 г. и посвященной «возрожде¬
нию» марксизма, говорится, что «в Англии, где проч¬
ные традиции гражданских свобод и прав личности
практически позволяют (существующим) институтам
чувствовать себя неуязвимыми перед лицом требова¬
ний крайне левых, марксизм до сих пор не пользовал¬
ся болышш влиянием». Однако тут же добавляется:
«Тем не менее наличие в повестке дня дискуссионного
общества Кембриджского университета темы «Жив ли
еще марксизм?» является показателем интереса со
стороны интеллигенции». Конечно, некоторую роль
здесь играют и «новые левые», но в еще большей мере
это заслуга коммунистической партии и мирового кохМ-
мунистического движения в целом.
VI
О ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРЮИЗМАХ
«НОВЫХ ЛЕВЫХ»
■
Термин «трюизм», или «общее место», является пере¬
водом латинского locus communis, и его первоначаль¬
ным значением было: «общее положение или довод,
применимый во многих случаях». В наши дни он чаще
всего употребляется для характеристики шаблонно¬
сти, стереотипности тех или иных представлений, и в
этой связи он применим также и в отношении лож¬
ного сознания. Ниже следует критический разбор —
конечно, не претендующий на полноту — носящих ха¬
рактер трюизмов политических положений «новых ле¬
вых», в основу которых положены взгляды, разделяе¬
мые различными группами в ряде стран. В данном
случае мы будем обращать основное внимание на мо¬
менты, сближающие между собой отдельные группы,
поскольку в ходе рассмотрения идейной эволюции
«новых левых» мы уже имели возможность проследить
существующие внутри этого течения расхождения и
разногласия.
Природа современного капитализма
Первый круг вопросов, которым следует заняться
при рассмотрении трюизмов, связан с «новой левой»
критикой капитализма. Эта критика основана главным
образом на теории «индустриального общества»,
155
приверженцами которой в равной мере являются как
консервативные, так и либеральные буржуазные эко¬
номисты, социологи и философы. Технический рацио¬
нализм они сопоставляют с иррационализмом обще¬
ственной системы, которая мешает здоровому разви¬
тию общества, более справедливому распределению
благ, ограничивает свободу личности и возможности
формирования соответствующего образа жизни.
Некоторые идеологи «новых левых» — прежде все¬
го в Западной Европе — несколько отходят от этой
схемы и — со ссылкой на марксистскую политическую
экономию — объясняют иррациональность обществен¬
ного строя тем, что капиталистические производствен¬
ные отношения стали помехой развитшр производи¬
тельных сил. Согласно их концепции, в основе экс¬
плуатации, классовых различий и классовой борьбы
лежит капиталистическое присвоение прибавочной
стоимости. В отличие от своих американских коллег
они менее склонны отделять проблематику личности
от положения классов и вообще от социально-эконо¬
мических условий при капитализме.
Однако, каковы бы ни были различия между от¬
дельными течениями, «новые левые» рассматривают
капиталистический общественный строй прежде всего
через призму научно-технической революции, что в ко¬
нечном счете приводит их к принятию теории «инду¬
стриального общества» без учета характера производ¬
ственных и классовых отношений. Таким образом они
смазывают различия между капиталистическими и со¬
циалистическими странами и распространяют прису¬
щие капитализму экономические и социальные проти¬
воречия на другие общественные формации. Теория
«индустриального общества» ведет к ложным выво¬
дам и в том, что касается природы капитализма. Эта
же теория, теория конвергенции, не позволяет понять
подлинную экономическую и социальную структуру
капитализма и оказывает дезориентирующее влияние
на политическую программу «новых левых».
Марксистская теория доказала, что наука и техни¬
ка не являются независимыми по отношению к обще¬
ственному строю и что использование их достижений
в условиях капитализма и социализма ведет к различ¬
ным социальным последствиям. Все это вовсе не
156
означает непризнания того факта, что научно-техниче¬
ская революция оказала воздействие на развитие капи¬
тализма и привела к изменениям в экономических и
общественных отношениях, хотя, естественно, и не раз¬
решила основных его противоречий i. Имеются также
идеологи «новых левых», которые, как они заявляют,
согласны с точкой зрения марксистской политической
экономии, однако при этом они оспаривают Марксову
теорию кризисов, ссылаясь при этом, во-первых, на
уровень достигнутого в ходе научно-технической рево¬
люции развития, во-вторых, на социально-экономиче¬
скую приспособляемость государственно-монополисти¬
ческого капитализма. Они подчеркивают, что при капи¬
тализме, собственно, нет экономических кризисов, этот
общественный строй способен разрешать проблемы
производства, затруднения существуют разве что в
сфере распределения. При этом на первый план снова
выдвигаются тезисы, в которых противопоставляются
рациональность научно-технической революции и ир¬
рациональная структура общества. Диффузной «ле¬
визне» представляется, что истинная причина кризиса
по природе своей субъективна: отчуждение людей.
Следовательно, изменение существующего положения
зависит в первую очередь не от экономических факто¬
ров и не от классовых отношений, а от формирования
образа жизни.
Конечно, имеются и такие «леваки», которые про¬
рочат крушение капитализма в самом ближайшем бу¬
дущем и неизбежность этого объясняют отчасти столк¬
новениями интересов гигантских монополий в борьбе
за экономическое господство, но в основном ростом
недовольства определенных слоев, то есть опять-таки
субъективными факторами. Исходя из такой расшири¬
тельной трактовки причин кризиса, троцкисты, мао-
исты, анархисты считают, что для «свержения» капи¬
тализма достаточно чуть ли не самой пустяковой ак¬
ции.
В связи с этим позволим себе сослаться на книгу
Е. Варги «Современный капитализм и экономические
кризисы», где на основе опыта последних пятидесяти
лет дается с марксистских позиций ответ на упомяну¬
тые вопросы. Оправданный интерес вызвал данный
Варгой анализ капиталистической экономики в период
157
между двумя мировыми войнами, и в частности сле¬
дующие положения:
«Если учитывать мировой капитализм в целом, то,
без сомнения, имеется тенденция к усилению государст¬
венного капитализма. На этот путь толкает капитализм
ряд причин: все более сильная благодаря разви¬
тию техники необходимость обобществления опреде¬
ленных отраслей хозяйства, например снабжения энер¬
гией; обострение классовых противоречий в отдельных
капиталистических странах, усиливающее необходи¬
мость объединения сил буржуазии в борьбе против
пролетариата; обостренная борьба за сбыт, требую¬
щая государственной поддержки в борьбе буржуазии
на мировом рынке; необходимость объединить все
силы буржуазии для назревающей борьбы за перерас¬
пределение мира».
После второй мировой войны эта тенденция приоб¬
рела вполне определенный характер, и Варга сам
изменил терминологию, он говорит о «государственно-
монополистическом», а не о государственном капита¬
лизме, подчеркивая тем самым еще более тесное пере¬
плетение капиталистического государства и монополий.
Эта перемена в самом характере государственного
капитализма «является отражением того факта, что
капитал все в большей и большей степени раскалы¬
вается на две части: на финансовый капитал, объеди¬
ненный в монопольных организациях, и на неоргани¬
зованный мелкий капитал. В соответствии с этим со¬
временное государство является уже не государством
буржуазии в целом, а государством небольшой клики
монопольных капиталистов. Государство защищает
уже не интересы буржуазии в целом, а интересы не¬
большого числа капиталистов, стоящих во главе моно¬
польных организаций. Это изменение экономической
базы проявляется в исчезновении прежней независи¬
мости государственного аппарата по отношению к от¬
дельному капиталисту. Гигантские монопольные орга¬
низации подчинили себе государство и руководят даже
государственно-капиталистической деятельностью по¬
следнего» 2.
В опубликованной в 1961 г. статье «„Капитал“
Маркса и современный капитализм» Варга указывает,
что все это не изменило природы капитализма.
158
«Современный капитализм,— пишет он, — остается
тем же общественным строем, что и в момент появле¬
ния «Капитала». Законы его развития остались преж¬
ними. По-прежнему погоня за прибылью, за возможно
более крупной прибылью есть движущая сила капита¬
листического производства. Сейчас, как и прежде, ис¬
точником прибыли является производимая рабочими и
присваиваемая буржуазией прибавочная стоимость«
И сегодня рабочий, чтобы жить, должен ежедневно
продавать свою рабочую силу. Капиталисты и сегодня
могут, не работая, жить в роскоши. По-прежнему про¬
должаются концентрация и централизация капитала,
продолжается процесс разорения мелких производи¬
телей, мелких и средних капиталистов. Основное
противоречие капитализма—между общественным ха¬
рактером производства и частным присвоением — про¬
должает существовать; поэтому сохраняются кризисы,
массовая базработица, классовая борьба между капи¬
талом и трудом» 3.
Можно сказать, что современный капитализм даже
полнее соответствует теоретической концепции «Капи¬
тала», чем во времена Маркса; взять хотя бы то, что
рабочие и служащие составляют подавляющее боль¬
шинство населения, что капитализм, который господ¬
ствует и в сельском хозяйстве, является более разви¬
тым, продуктивным и богатым, чем был при Марксе,
а тенденция к концентрации и централизации нашла
свое более отчетливое выражение.
Марксистская экономическая наука подвергла глу¬
бокому и всестороннему анализу процесс разви¬
тия государственно-монополистического капитализма.
Дьердь Генцел на основе статей и очерков, вошедших
в сборник «Государственно-монополистический капи¬
тализм» 4, приходит к выводу о том, что у современ¬
ного капитализма имеются три новые характерные
черты: использование в своих интересах результатов
научно-технической революции, усиление экономиче¬
ской функции государства и политика обеспечения за¬
нятости.
«В послевоенный период монополистический капи¬
тал мог пожинать и сохранять плоды достигнутого во
время войны научно-технического прогресса лишь в тех
случаях, когда ему обеспечивалось, гарантировалось
159
государством соответствующее расширение рынка.
Узаконение полной занятости, возведение ее в закон
(вкупе с контролируемой государством ползучей ин¬
фляцией) заключало в себе возможность поддержа¬
ния такого рода «сверхспроса». С этой точки зрения
политика полной занятости равнозначна гарантируе¬
мым государством расширению рынка и стабилизации
прибылей монополий. Предпосылкой функционирова¬
ния системы в рамках государственно-монополистиче¬
ского капитализма является успешное осуществление
так называемой «политики доходов», а следствием —
секуляристская, ползучая инфляция. Политика дохо¬
дов, экономическая политика государственно-монопо¬
листического капитализма принесла с собой новые
элементы и организационные формы «классового со¬
трудничества». Суть ее состоит в том, что сохранение
полной занятости — так сказать, в силу природы са¬
мого явления — требует «ответственного» подхода и
поведения от обеих сторон, от обоих «социальных
партнеров» в системе трудовых отношений — рабочего
и капиталиста. Капиталисту нужно воздерживаться от
«чрезмерного» извлечения кроющихся в этой ситуации
выгод, от чрезмерных притязаний на прибыли, рабо¬
чему— в порядке «взаимности» — также следует воз¬
держиваться от чрезмерных требований относительно
зарплаты. Важнейшая уравновешивающая функция
государства заключается в создании и гарантирова¬
нии такого рода пакта» 5.
Американец Хаймэн Лумер в своей вошедшей в
вышеупомянутый сборник статье подчеркивает, что
причины усиливающегося вмешательства государства
в экономику кроются в основном противоречии капи¬
талистического производства, то есть в противоречии
между общественным характером производства и част¬
ным характером присвоения. Государство выступает
в защиту интересов монополистического капитала и
действует как коллективный капиталист. Французский
экономист Поль Боккара также отмечает, что государ¬
ственно-монополистический капитализм не упраздняет
частых монополий, но при нем возникают новые
формы, в которых сливается воедино экономи¬
ческая деятельность капиталистического государства
160
и монополий, причем эта интеграция служит интере¬
сам последних.
Француз Робер Пиролли, рассматривая одну из
самых актуальных проблем — современные кризисные
явления капитализма и в первую очередь инфляцию,—
указывает на главные особенности кризиса: перма¬
нентность, универсальность, необратимый характер
роста цен. Все это, по его мнению, происходит от того,
что масса получаемых доходов превышает стоимость
предлагаемых товаров. Инфляция — финансовое яв¬
ление, необходимое строю для максимизации прибы¬
лей и самосохранения. В то же время использование
этого способа зачастую осложняется, а в определен¬
ные периоды даже становится невозможным из-за
йастной собственности на средства производства6.
Резюме: сколь бы ни приспособился капитализм к
новым требованиям, диктуемым научно-технической
революцией и классовой борьбой, из этого еще отнюдь
не следует, что изменился его социально-экономический
характер. Вместе с тем указанная приспособляе¬
мость — которая в немалой степени объясняется суще¬
ствованием стран социалистического лагеря и давле¬
нием рабочего движения — говорит о том, что капита¬
лизм в развитых капиталистических странах еще не
стоит на пороге краха, он пытается маневрировать,
проводя все новые реформы, и это нужно учитывать в
классовой борьбе.
У «новых левых», в сущности, нет своей политэко¬
номии, и в значительной мере этим объясняются эк¬
лектика, непоследовательность и путаница, которые
столь характерны для их идеологии и политики.
Классовые отношения
в современном
капиталистическом
обществе
Идеологи «новых левых» по-разному трактуют ны¬
нешнюю социальную структуру капитализма.
Теоретики американских «новых левых», например,
причисляют к господствующему классу представите-*.
161
лей технократии и бюрократии, то есть тех, кто управ¬
ляет средствами производства и извлекает прямую вы¬
году из чужого труда, но к этому же классу они
относят и тех, кто руководит непроизводительной дея¬
тельностью, например образованием и информацией.
Основным критерием считается тот факт, что эти люди
занимают руководящие должности и служат интере¬
сам капиталистов. Что касается западноевропейских
«новых левых», то они больше подчеркивают роль тра¬
диционной буржуазии и внутри ее — слоя крупных
капиталистов.
Главным образом в США получил распростране¬
ние взгляд, согласно которому численность «традици¬
онного» рабочего класса постоянно сокращается, а его
классовое сознание якобы притупляется. «Новый ра¬
бочий класс», на который с точки зрения революцион¬
ных преобразований следует делать ставку, формиру¬
ется, согласно этой концепции, из слоев технических
специалистов, лиц, занятых в сфере обслуживания, и
так называемых «белых воротничков».
В период радикализации американских «новых лз-
вых» многие из них вернулись к марксистской трак¬
товке функции рабочего класса, в Западной Европе
она вообще не оспаривалась, хотя кое-кто и там пы¬
тался развивать теорию «нового рабочего класса».
Часть западноевропейских «новых левых» относит к
рабочему классу не только промышленных рабочих,
но и работников умственного труда, конторских слу¬
жащих, а также инженеров и техников. Исходя из
факта повышения жизненного уровня и изменений в
условиях жизни, группы «новых левых» по-разному —
кто в порядке констатации якобы имеющей место
реальности, кто выражая тревогу перед лицом грозя¬
щей опасности — ставят вопрос об интеграции рабо¬
чего класса капиталистическим обществом.
Конечно, нельзя отрицать того, что в развитых ка¬
питалистических странах состав рабочего класса и его
положение претерпели изменения. Все большее число
теоретиков-марксистов соглашается с тем, что ныне
к рабочему классу следует относить и техническую
интеллигенцию, непосредственно участвующую в про¬
изводстве. Верно и то, что в результате классовой
борьбы рабочий класс в этих странах в настоящее
162
время уже не находится в том бедственном поло¬
жении, о котором писали Маркс и Энгельс в эпоху
капитализма свободной конкуренции. Однако остает¬
ся неизменным положение, которое датский эко¬
номист Б. Хансен охарактеризовал следующим об¬
разом:
«У населения нет общих интересов... Благодаря со¬
циальному законодательству и другим мерам часть
созданных богатств поступает в распоряжение широ¬
ких кругов населения, но, соизмеряя эту часть с пото¬
ком богатств, которые попадают по многочисленным
каналам привилегированным слоям, приходишь к вы¬
воду, что на самом деле не произошло никакого пере¬
распределения в пользу низкооплачиваемых категорий
людей» 7.
Процитированный выше автор, который не являет¬
ся марксистом, обращает внимание на тот факт, что
различия между капиталистами и другими классами и
слоями населения сохраняются не только в том, что
касается собственности на средства производства и
разделения труда, но и в отношении получаемой доли
общественных благ. А это значит, что классовая
борьба не прекратилась и что об интеграции рабочего
класса, как целого, говорить не приходится.
«Новые левые» повсюду переоценивают значение
происходящего «разбухания» средних слоев и связы¬
вают с этим процессом «особую» роль интеллигенции
и в том числе студенчества. Возникают многочислен¬
ные теории, стремящиеся представить интеллигенцию
или студенчество в качестве особого класса. Разграни¬
чительные критерии, которыми при этом руководству¬
ются, носят преимущественно субъективный характер,
они не учитывают места упомянутых слоев в систе¬
ме общественного производства, их отношения к
средствам производства, их роли в общественной ор¬
ганизации труда и, наконец — последнее по порядку,
но не по значению, — их доли в общественном про¬
дукте.
Несомненно, разбухание средних слоев представ¬
ляет собой новое явление в развитых капиталистиче¬
ских странах, и для того, чтобы правильно оценить его,
следует учитывать, что эти слои зависят от крупного
капитала, они привязаны к частной собственности и
163
старой системе распределения; с точки зрения созна¬
ния в своем подавляющем большинстве они ныне все
еще ближе к буржуазии, чем к рабочему классу. По¬
литика коммунистических партий направлена на то,
чтобы вовлечь указанные слои или по крайней мере
часть их в борьбу против капитализма. «Новые ле¬
вые», обвиняющие коммунистические партии в рефор¬
мизме, помимо всего прочего, ставят им в вину и эту
политику и, противореча своему собственному ана¬
лизу общества, доказывают ненужность союза рабо¬
чего класса и этих слоев в совместной борьбе.
Подводя итог, можно сказать, что у разных групп
«новых левых» существуют различные представления
о характере и структуре классовых отношений при ка¬
питализме. Мы находим у них целый «спектр» взгля¬
дов: от крайней «увриеристской» точки зрения и до
отрицания революционной роли рабочего класса. Од¬
нако наиболее распространено представление, согласно
которому рабочий класс интегрирован капиталисти¬
ческим обществом и, чтобы осуществить его револю-
ционизацию, необходимо выступление какой-то внеш¬
ней силы.
Классовое сознание
и революционная теория
«Новые левые» делают упор на субъективные фак¬
торы в общественных процессах и в вопросе об осу¬
ществлении революции подчеркивают прежде всего
значение сознания. В отношении формирования рево¬
люционного сознания они часто ссылаются на тех са¬
мых «левых коммунистов», которых Ленин подверг
критике в начале 20-х годов.
Поучительно в этой связи познакомиться с мне¬
нием Дьёрдя Лукача о его собственной, вышедшей
впервые в 1923 г., книге «История и классовое созна¬
ние», которую часто цитируют «новые левые» и к ко¬
торой в 1967 г., когда готовилось ее итальянское и но¬
вое немецкое издание, Лукач написал предисловие,
где он дает краткий очерк развития своих взглядов8.
Как мы уже упоминали, в 1923 г. Лукач, имея в виду
164
дать новый импульс революционной деятельности, ре¬
шил подвергнуть критике буржуазную созерцатель¬
ность, делая основной упор на классовое сознание
пролетариата. Он стремился отделить классовое со¬
знание пролетариата от эмпирически трактуемого об¬
щественного мнения и придать ему практическую объ¬
ективность, но в конечном счете, как говорит он сам,
это сознание стало так называемым «приписанным»
сознанием, претворение которого в революционную
практику могло осуществиться только «в результате
чуда». Преувеличение значения элемента сознания в
развитии общества было связано с тем, что понятие
тотальности в гегелевском его понимании Лукач про¬
тивопоставлял экономической трактовке историческо¬
го развития. «Не первичность экономического мотива
в объяснении истории, а точка зрения на тотальность
коренным образом отличает марксизм от буржуазной
науки», — писал он в 1923 г.
Влияние Гегеля проявилось и в том, что Лукач,
анализируя взаимосвязь субъекта и объекта истории
человечества, пришел к выводу, что в классовом со¬
знании пролетариата реализуется их тождество.
В 1967 г. Лукач по этому поводу писал следующее:
«Пролетариат как подлинный субъект-объект дей¬
ствительной истории человечества, то есть не как не¬
что материалистическое, которое преодолевало бы
идеалистические мыслительные конструкции, а в го¬
раздо большей степени нечто такое, что является бо¬
лее гегелевским, чем у самого Гегеля, это такая кон¬
струкция, которая объективно претендует на то, чтобы
мысленно воспарить над всей действительностью еще
более дерзко, чем это делает сам Гегель»9.
Проблема «субъект — объект» связана также и с
вопросом об отчуждении. В «Истории и классовом со¬
знании» Лукач — вслед за Гегелем — отождествляет
отчуждение с опредмечиванием. А это сближало его
трактовку отчуждения с той идеалистической концеп¬
цией, согласно которой отчуждение неотделимо от че¬
ловеческой натуры. В 1967 г. Лукач обратил внимание
на то, что опредмечивание является неустранимым
способом проявления общественной жизни:
«Лишь в том случае, если опредмеченная форма
приобретает в обществе такие функции, которые при¬
165
водят сущность человека в противоречие с его бытием
и при которых общественное бытие угнетает, ковер¬
кает, искажает и т. д. человеческую сущность, тогда
возникают объективные общественные условия отчу¬
ждения и — как неизбежный их спутник — все субъ¬
ективные признаки внутреннего отчуждения» 10.
Итак, опредмечивание само по себе не тождествен¬
но отчуждению, а это последнее не может отождест¬
вляться исключительно с внутренним отчуждением,
это имеет место лишь в том случае, если «человече¬
скую сущность подавляют общественным бытием».
Лукач не утверждает, что все положения его ста¬
рой книги неверны, но указывает на то, что «по при¬
чинам, порожденным общественным развитием и сло¬
жившейся в ходе этого развития теоретической уста^
новкой, к числу самых сильных и оказывающих
наибольшее влияние моментов книги принадлежит как
раз то, что я в настоящее время считаю теоретически
ошибочным». Поэтому он предостерегает читателей от
«ошибочных суждений, которые, быть может, в свое
время были почти неизбежны, но ныне уже давно та¬
ковыми не являются» и.
Эти слова Лукача приведены нами здесь потому,
что, несмотря на его предупреждение, «новые левые»
в вопросе о классовом сознании, по существу, совер¬
шают ту же ошибку, о которой говорит Лукач, конеч¬
но, с той весьма существенной разницей, что, в то
время как «История и классовое сознание» является
произведением философским, идеологи «новых левых»
в большинстве своем занимаются политической публи¬
цистикой. Согласно общему мнению тех «новых ле¬
вых», которые приемлют отдельные элементы марк¬
систского анализа, как в деле пробуждения стихийной
революционности рабочего класса, так и в выработке
революционной теории — если в таковой вообще есть
необходимость — решающее значение приобретает вы¬
шедшее из среды интеллигенции «активное меньшин¬
ство».
Марксизм, как известно, провозглашает историю
историей борьбы классов и указывает, что задача про¬
летариата состоит в ликвидации эксплуатации и тем
самым в ликвидации классов. Указанная задача про¬
летариата вытекает из его положения в обществе,
166
следовательно, определяется объективными условиями,
а не просто бунтующим сознанием. Из этого, конечно,
не следует, что пролетариату не нужно вырабатывать
классовое самосознание. Ленин в «Что делать?» са¬
мым решительным образом выступил против экономи¬
стов, которые намеревались развить политическое
классовое сознание рабочих посредством экономиче¬
ской борьбы.
«...Социал-демократического сознания, — писал
он, — у рабочих и не могло быть. Оно могло быть при¬
несено только извне. История всех стран свидетель¬
ствует, что исключительно своими собственными си¬
лами рабочий класс в состоянии выработать лишь
сознание тред-юнионистское, т. е. убеждение в необ¬
ходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хо¬
зяевами, добиваться от правительства издания тех или
иных необходимых для рабочих законов и т. п. Учение
же социализма выросло из тех философских, истори¬
ческих, экономических теорий, которые разрабатыва¬
лись образованными представителями имущих клас¬
сов, интеллигенцией. Основатели современного науч¬
ного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и
сами, по своему социальному положению, к буржуаз¬
ной интеллигенции. Точно так же и в России теорети¬
ческое учение социал-демократии возникло совершенно
независимо от стихийного роста рабочего движения,
возникло как естественный и неизбежный результат
развития мысли у революционно-социалистической
интеллигенции» 42.
Ленин, следовательно, высоко оценивал роль рево¬
люционной интеллигенции в формировании политиче¬
ского самосознания рабочего класса, в распростране¬
нии диалектического и исторического материализма,
то есть научно обоснованной теории, и он стремился
к всяческому ускорению этого процесса. Однако, при¬
знавая идеологическую функцию революционной
интеллигенции, он наряду с этим указывал на склон¬
ность интеллигенции как общественного слоя разде¬
лять все слабости мелкобуржуазного сознания. Поле¬
мизируя с Мартовым, он пишет в книге «Шаг вперед,
два шага назад»:
«Никто не решится отрицать, что интеллигенция,
как особый слой современных капиталистических об¬
167
ществ, характеризуется, в общем и целом, именно ин¬
дивидуализмом и неспособностью к дисциплине и ор¬
ганизации (ср. хотя бы известные статьи Каутского
об интеллигенции); в этом, между прочим, состоит не¬
выгодное отличие этого общественного слоя от проле¬
тариата; в этом заключается одно из объяснений ин¬
теллигентской дряблости и неустойчивости, так часто
дающей себя чувствовать пролетариату; и это свой¬
ство интеллигенции стоит в неразрывной связи с обыч¬
ными условиями ее жизни, условиями ее заработка,
приближающимися в очень и очень многом к усло¬
виям мелкобуржуазного существования (работа в
одиночку или в очень мелких коллективах и т. д.)»13.
Именно потому, что Ленин хорошо знал интелли¬
генцию, он всегда энергично подчеркивал, что интел¬
лигенция должна вести борьбу бок о бок с пролета¬
риатом, а это значит организованно, в рамках партии.
В спорах с различными интеллигентскими группами
после революции 1905 г. он вновь и вновь возвра¬
щался к этому вопросу, определяя понятие принад¬
лежности к партии, критерий партийности. Согласно
ленинской концепции, партия, как передовой отряд,
включает в себя самые сознательные элементы рабо¬
чего класса и других классов и слоев, в том числе ин¬
теллигенции, и проводит свою деятельность сознатель¬
но, на основе марксистской теории. Эта концепция не
оставляет места ни для какого интеллигентского аван¬
гардизма.
Революция
и ее предпосылки
«Новые левые» всячески превозносят революцию и
в своей фразеологии всюду и везде используют выра¬
жения «революция», «революционный», «революцио¬
нер». Однако большинство их теоретиков представляют
себе революцию каким-то «внезапным нападе¬
нием», как писал о спонтанеистской, субъективист¬
ской, мелкобуржуазной концепции революции Энгельс.
Уже в «Манифесте Коммунистической партии»
было подчеркнуто, что целью революции является
168
«завоевание пролетариатом политической власти». Эту
власть пролетариат стремится использовать, чтобы
«постепенно вырвать ^буржуазии весь капитал, цен¬
трализовать все орудия производства в руках госу¬
дарства, т. е. организованного, как господствующий
класс, пролетариата, и возможно более быстро увели¬
чить сумму производительных сил». На основе опыта
Парижской коммуны Маркс и Энгельс, как указал на
это Ленин в «Государстве и революции», дополнили
«Манифест Коммунистической партии» положением
о том, что рабочий класс не может просто взять в свои
руки готовую государственную машину, а должен ее
сломать и осуществить свои экономические и социаль¬
ные цели с помощью государства диктатуры пролета¬
риата.
«Новые левые», преувеличивая субъективные пред¬
посылки возникновения революционного сознания
и исходя из отдельных проявлений общего кризиса ка¬
питализма, чрезвычайно упрощенно подходят к во¬
просу о взятии власти.
Говоря об уроках майско-июньских событий
1968 г.14, бывший в то время генеральным секретарем
Французской коммунистической партии Вальдек Роше
указывал на то, что в 1968 г. необходимо было выби¬
рать между научным социализмом и анархиствующим
утопизмом. Анархиствующий утопизм игнорировал то
обстоятельство, что Франция шла вперед по пути эко¬
номического развития, рабочий класс был разобщен,
средние слои далеко не были убеждены в правоте со¬
циализма, господствующий класс вовсе не находился
в состоянии нерешительности и колебаний и — даже
если бы это случилось — мог рассчитывать на такого
могущественного заступника, как американский импе¬
риализм, армия которого дислоцируется в Западной
Европе. В силу всего этого выдвижение лозунга вос¬
стания было бы авантюризмом.
В своем анализе генеральный секретарь Француз¬
ской коммунистической партии исходил из ленинского
положения о диалектическом сочетании объективных
и субъективных предпосылок революции. Еще до Ок¬
тябрьской революции, в конце сентября 1917 г., Ленин,
в письме «Марксизм и восстание» подчеркивал, что
восстание необходимо подготовить и с точки зрения
169
субъективных факторов и эту работу следует считать
«искусством».
«Восстание, чтобы быть успешным, должно опи¬
раться не на заговор, не на партию, а на передовой
класс. Это, во-первых. Восстание должно опираться
на революционный подъем народа. Это, во-вторых.
Восстание должно опираться на такой переломный
пункт в истории нарастающей революции, когда ак¬
тивность передовых рядов народа наибольшая, когда
всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах
слабых половинчатых нерешительных друзей револю¬
ции. Это, в-третьих. Вот этими тремя условиями по¬
становки вопроса о восстании и отличается марксизм
от бланкизма» 15.
Убедившись в наличии этих условий, Ленин при¬
звал партию к осуществлению революции. Уже после
победы Октябрьской революции в своей работе
«Детская болезнь „левизны” в коммунизме» он на
опыте успешного проведения Октябрьской революции
пришел к выводам, подтвердившим его предви¬
дение.
«...Для революции недостаточно, чтобы эксплуати¬
руемые и угнетенные массы сознали невозможность
жить по-старому и потребовали изменения; для рево¬
люции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли
жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда
«низы» не хотят старого и когда «верхи» не могут по-
старому, лишь тогда революция может победить. Ина¬
че эта истина выражается словами: революция невоз¬
можна без общенационального (и эксплуатируемых и
эксплуататоров затрагивающего) кризиса. Значит, для
революции надо, во-первых, добиться, чтобы большин¬
ство рабочих (или во всяком случае большинство со¬
знательных, мыслящих, политически активных рабо¬
чих) вполне поняло необходимость переворота и го¬
тово было идти на смерть ради него; во-вторых, чтобы
правящие классы переживали правительственный кри¬
зис, который втягивает в политику даже самые отста¬
лые массы (признак всякой настоящей революции:
быстрое удесятерение или даже увеличение во сто раз
количества способных на политическую борьбу пред¬
ставителей трудящейся и угнетенной массы, доселе
апатичной), обессиливает правительство и делает
170
возможным для революционеров быстрое свержение
его» 16.
Мы намеренно процитировали те ленинские поло¬
жения, которые относятся прежде всего к субъектив¬
ным предпосылкам восстания, поскольку «новые ле¬
вые», говоря о революционной ситуации, любят под¬
черкивать именно их.
Конечно, марксисты рассматривают проблему ре¬
волюции не только со стороны субъективных условий.
В предисловии к «К критике политической экономии»
Маркс подчеркивает, что революция тесно связана с
состоянием производительных сил и производственных
отношений, то есть с тем, приходит ли развитие произ¬
водительных сил в противоречие с производственными
отношениями: «Из форм развития производительных
сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда
наступает эпоха социальной революции»17. «Новые
левые» объясняют это основное противоречие субъек¬
тивно толкуемым кризисом капитализма, они не рас¬
сматривают конкретные условия, в которых фактиче¬
ски возникает противоречие между производительны¬
ми силами и производственными отношениями, и не
анализируют различные стадии этого противоречия.
Одной из характерных черт государственно-монополи¬
стического капитализма как раз и является попытка
смягчить это противоречие, до известной степени «ре¬
гламентировать» его воздействие, установить «новое
равновесие» между этими двумя факторами, и пока
что нельзя сказать, что все возможности регулирова¬
ния здесь уже исчерпаны. Противоречие между произ¬
водительными силами и производственными отноше¬
ниями сохраняется, но производственные отношения
ныне еще не превратились «в оковы производитель¬
ных сил», хотя они тормозят их развитие. Верно, ко¬
нечно, что часть буржуазии переживает морально-по¬
литический кризис и что в рабочем классе и других
слоях общества проявляется недовольство, однако все
это еще не влечет за собой всеобщий кризис.
Концепция кризиса и революции у «новых левых»
не выдержала испытания, и этим в немалой степени
можно объяснить спад этого течения, хотя настроение
«праздника», характерное в первую очередь для май-
171
ско-июньских событий 1968 г. в Париже и напоминаю¬
щее о революционных бурях прошлого, по-прежнему
привлекает молодую интеллигенцию.
Средства и методы
революционной борьбы
До 1968 г. большинство «новых левых» стояли на
той точке зрения, что для осуществления необходимых
социальных преобразований революционные теория и
партия не нужны.
В США они имели в виду осуществить «демокра¬
тию участия» путем объединения либералов и со¬
циалистов, но роль «закваски» отводили при этом
университету. Позднее на базе этой концепции ро¬
дился лозунг «власть студентам» и возникло Движе¬
ние — непрочное объединение различных групп.
«Это сообщество бунтарей, — говорит о нем один
из основателей СДО Том Хейден, — обладающих об¬
щими радикальными-ценностями и сходным обликом
и ищущих самостоятельную основу власти. Их целью
является преобразование общества под руководством
самых изолированных и самых «необразованных» лю¬
дей. Это означает прежде всего создание вне суще¬
ствующего строя институтов, которые призваны стать
институтами, действительно представляющими все об¬
щество» 18.
У Руди Дучке самое важное — это «критическое»
выступление, основой которого является экзистенциа¬
листское отвращение, а средствами: внутри универси¬
тета — «критический университет», за его предела¬
ми — «внепарламентская оппозиция». Программа и
партия не нужны, главное в том, чтобы те, кто гото¬
вится к революции, «революционизировали» самих
себя, а затем и рабочий класс.
Парижские «левые» в 1968 г. считали достаточным
организовать различные комитеты действия на местах,
которые в качестве организаций «активного меньшин¬
ства» должны были привести в движение массы.
В Италии и Англии образовывались небольшие груп¬
пы, главным образом в университетах.
172
Неприязнь к каким бы to ни было формам органи¬
зации, за исключением, быть может, небольших групп,
без всякого единого центра у части «новых левых»
связана с их сочувствием к концепции идеологиче¬
ского плюрализма. Правда, признание плюрализма
проявляется у них весьма странно — нередко предста¬
вители различных групп или внутригрупповых фрак¬
ций с нетерпимостью фанатиков предают друг друга
анафеме.
После поражений 1968 г. «новые левые» группы в
США и Западной Европе лучше уяснили преимуще¬
ства единомыслия и организованности, но, за несколь¬
кими исключениями, остались верны организационной
форме малых групп. Троцкисты и маоисты попыта¬
лись, правда, создать партии, кое-где отдельные груп¬
пы попробовали сотрудничать, однако диффузная «ле¬
визна» повсюду довольствуется акциями, проводимы¬
ми от случая к случаю.
Все это свидетельствует о том, что «новые левые»
не считаются с тем опытом, который международное
рабочее движение в течение столетия приобрело в во¬
просах революционной идеологии и организации, и
особенно с уроками революции, не только подготов¬
ленной, но и успешно осуществленной Лениным и
большевиками.
Напомним в этой связи о полемике, которую Ле¬
нин ведет в своей работе «Шаг вперед, два шага на¬
зад» с Аксельродом и другими по вопросу о значении
организованности в марксистском понимании этого
слова. Ленин требовал, чтобы
«...партия, как передовой отряд класса, представ¬
ляла собой нечто возможно более организованное,
чтобы партия воспринимала в себя лишь такие эле¬
менты, которые допускают хоть минимум организован¬
ности» 19.
Аксельрод, напротив, приводил пример с профессо¬
ром, который не состоял в партии, но на основании
своих взглядов мог-де считаться членом партии. Ле¬
нин называет такой подход «анархическим принци¬
пом», ибо, по его мнению, контроль, руководство и
дисциплина вне организации невозможны, а именно
эти качества необходимы для успешного ведения
борьбы.
173
В качестве итогового вывода приведем заключи¬
тельные строки этой работы:
«У пролетариата нет иного оружия в борьбе за
власть, кроме организации. Разъединяемый господ¬
ством анархической конкуренции в буржуазном мире,
придавленный подневольной работой на капитал, от¬
брасываемый постоянно «на дно» полной нищеты, оди¬
чания и вырождения, пролетариат может стать и не¬
избежно станет непобедимой силой лишь благодаря
тому, что идейное объединение его принципами марк¬
сизма закрепляется материальным единством органи¬
зации, сплачивающей миллионы трудящихся в армию
рабочего класса» 20.
Коль скоро эти ленинские положения были верны
в отношении царской России, они тем более отвечают
обстановке в значительно более организованном капи¬
талистическом мире. Те группы «новых левых», кото¬
рые не пришли к этой истине даже после событий
1968 г., то есть, по сути дела, игнорируют такие осно¬
вополагающие факторы, как отношения между орга¬
низацией и классом (в данном случае имеется в виду
рабочий класс), и под предлогом свободы фракций
создают секты, отвергая демократический централизм,
очевидно, не могут ни в малейшей степени рассчиты¬
вать на успех в борьбе за те цели, которые они столь
громко провозглашают.
«Новые левые»
и реально существующий
социализм
Противоречивость движения «новых левых» нельзя
до конца понять, если не видеть присущего им анти¬
коммунизма, главные аргументы в оправдание кото¬
рого они черпают в превратном толковании истории и
современной действительности коммунистического
движения и социалистических стран.
Наиболее распространенные обвинения «новых ле¬
вых» в адрес реально существующего социализма мо¬
гут быть резюмированы следующим образом;
174
а) опыт социалистических стран якобы показывает,
что переход средств производства в общественную
собственность, повышение уровня производства, более
справедливое распределение материальных благ еще
не означают социализма;
б) в коммунистических партиях и социалистиче¬
ских странах будто бы нет демократии, в последних
господствует партийная и государственная бюрокра¬
тия, которая осуществляет власть от имени рабочего
класса, но, по сути дела, присваивает произведенную
им прибавочную стоимость и вместо пролетарской
диктатуры образует диктатуру одного слоя (в этом
отношении, по мнению «новых левых», не составляет
исключения и югославское самоуправление);
в) в социалистических странах не была-де прове¬
дена революция образа жизни, культуры, без чего
подлинная революция невозможна. В связи со всем
этим отдельные течения «новых левых» утверждают,
что социалистические страны и коммунистические пар¬
тии в своей практике отошли от «истинного» марксиз¬
ма и, в сущности, скатились к реформизму;
г) осуществление «реформизма» они склонны ви¬
деть и во внешней политике социалистических стран,
особенно в претворении в жизнь принципа мирного
сосуществования и в отказе от авантюристической
концепции экспорта революции.
Рассмотрим эти обвинения более обстоятельно и
сопоставим их с основными положениями марксизма,
на которые марксиствующие «новые левые» столь
охотно ссылаются.
1. Начнем с вопроса о производственных отноше¬
ниях. «Новые левые» часто ссылаются на молодого
Маркса, несмотря на то что еще до создания «Капи¬
тала» Маркс в 1848 г. в «Манифесте Коммунистиче¬
ской партии» совместно с Энгельсом написал следую¬
щие строки:
«Отличительной чертой коммунизма является не
отмена собственности вообще, а отмена буржуазной
собственности. Но современная буржуазная частная
собственность есть последнее и самое полное выраже¬
ние такого производства и присвоения продуктов, ко¬
торое держится на классовых антагонизмах, на экс¬
плуатации одних другими. В этом смысле коммунисты
175
могут выразить свою теорию одним положением: уни¬
чтожение частной собственности»21.
Социалистические страны ликвидировали капита¬
листическую частную собственность. Различные груп¬
пы «новых левых» выражают сомнение в том, что это
преобразование придало производственным отноше¬
ниям социалистический характер, и утверждают, что
в этих странах господствует своего рода «государ¬
ственный капитализм».
В этой связи некоторые цитируют Ленина, который
действительно говорил о государственном капитализ¬
ме при социализме, но совсем не в том смысле, какой
имеют в виду теоретики «новых левых». В полемике,
развернувшейся вокруг этого вопроса на XI съезде
РКП (б), Ленин так сформулировал свою точку зре¬
ния:
«Государственный капитализм, по всей литературе
экономической, — это тот капитализм, который бывает
при капиталистическом строе, когда государственная
власть прямо подчиняет себе те или иные капитали¬
стические предприятия. А у нас государство пролетар¬
ское, на пролетариат опирается, пролетариату дает
все политические преимущества и через пролетариат
привлекает к себе крестьянство с низов... Государ¬
ственный капитализм это — тот капитализм, который
мы сумеем ограничить, пределы которого мы сумеем
установить, этот государственный капитализм связан
с государством, а государство это — рабочие, это —
передовая часть рабочих, это — авангард, это —
мы»22.
Государственный капитализм, как более высокую
категорию экономического развития, Ленин противо¬
поставлял мелкобуржуазному капитализму и подчер¬
кивал, что у существующего при капиталистическом
строе государственного капитализма можно и нужно
многому поучиться, и прежде всего передовым мето¬
дам организации труда, рациональному использова¬
нию техники. Из этого, однако, Ленин не делал вы¬
вода о том, что в условиях диктатуры пролетариата
государственный капитализм способствует упрочению
^капиталистических производственных отношений —
176
как это утверждают теоретики «новых левых»,—
а, как раз наоборот, видел в этом шаг на пути к со¬
циализму.
«Новым левым» не по душе, что в социалистиче¬
ских странах предпринимаются большие усилия в це¬
лях увеличения производства, роста производительно¬
сти труда, в чем они усматривают новое проявление
«принудительного труда» и «наемного рабства». Они
не принимают во внимание, что социализм победил в
относительно отсталых с точки зрения уровня разви¬
тия странах, где речь идет еще о том, чтобы достиг¬
нуть уровня производства, существующего в развитых
странах, и обеспечить огромным массам трудящихся
непрерывный экономический, социальный и культур¬
ный подъем.
2. Представители «новых левых», по существу, в
принципе не согласны со всем тем, что марксизм гово¬
рит о труде и о роли труда в конкретных условиях
социализма. Приведем, к примеру, высказывание Эн¬
гельса, где он, полемизируя с Прудоном, отстаивает
необходимость первой промышленной революции и
вместе с тем защищает общественный труд в противо¬
вес единоличному труду и прямому обмену его про¬
дуктами:
«...Именно благодаря этой промышленной револю¬
ции производительная сила человеческого труда до¬
стигла такого высокого уровня, что создала возмож¬
ность — впервые за время существования человече¬
ства — при разумном разделении труда между всеми
не только производить в размерах, достаточных для
обильного потребления всеми членами общества и для
богатого резервного фонда, но и предоставить каждо¬
му достаточно досуга для восприятия всего того, что
действительно ценно в исторически унаследованной
культуре — науке, искусстве, формах общения и т. д.,—
и не только для восприятия, но и для превращения
всего этого из монополии господствующего класса в
общее достояние всего общества и для дальнейшего
развития этого достояния» 23.
Маркс в «Критике Готской программы», возражая
Лассалю, доказывает, что «источником богатства и
культуры труд становится лишь как общественный
труд». К этому примыкает и положение о том, что в
177
обществе переходного периода отдельный производи¬
тель после вычетов обратно получает от общества
«ровно столько, сколько сам дает ему. То, что он дал
обществу, составляет его индивидуальный трудовой
пай»24. Социалистическое общество таким образом тре¬
бует применения принципа «каждому по его труду».
В конце октября 1917 г. Ленин, говоря еще не о со¬
циалистическом, а только о буржуазно-демократиче¬
ском государстве, усматривал во всеобщей трудовой
повинности не «рабский труд», а «громадный шаг» в
направлении социализма:
«Всеобщая трудовая повинность, вводимая, регу¬
лируемая, направляемая Советами рабочих, солдат¬
ских и крестьянских депутатов, это еще не социализм,
но это уже не капитализм. Это — громадный шаг к со¬
циализму...» 25.
Новый тип организации труда — и вместе с тем
производства — является одним из условий построе¬
ния социалистического общества. Улучшение условий
труда также зависит от того, насколько успешно но¬
вое общество преодолевает отсталость и, руковод¬
ствуясь социалистическими целями, использует дости¬
жения научно-технической революции.
3. Многие из «новых левых» ставят в вину реаль¬
ному социализму сохранение товарного производства
и рынка. Здесь, конечно, мы сталкиваемся с непони¬
манием или ложной трактовкой всей экономической
проблематики периода перехода от капитализма к
коммунизму. Часто они ссылаются на идею Маркса,
согласно котброй коммунистическое общество еще в
низшей фазе упраздняет деньги, рабочий получает
квитанцию о выполненной работе и в счет нее полу¬
чает предметы потребления из общественных запасов.
Они, однако, умалчивают о той части «Критики Гот¬
ской программы», где Маркс говорил об обмене стои¬
мостями в обществе переходного периода:
«Здесь, очевидно, господствует тот же принцип, ко¬
торый регулирует обмен товаров, поскольку последний
есть обмен равных стоимостей. Содержание и форма
здесь изменились, потому что при изменившихся об¬
стоятельствах никто не может дать ничего, кроме сво¬
его труда, и потому что, с другой стороны, в собствен¬
ность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме
178
индивидуальных предметов потребления. Но что ка¬
сается распределения последних между отдельными
производителями, то здесь господствует тот же прин¬
цип, что и при обмене товарными эквивалентами: из¬
вестное количество труда в одной форме обменивается
на равное количество труда в другой» 26.
Один из излюбленных упреков в адрес реального
социализма со стороны «новых левых» состоит в том,
что при распределении дохода не осуществляется
принцип равенства. Однако посмотрим, что говорят по
этому поводу основоположники научного коммунизма.
В «Критике Готской программы» Маркс, осуждая эга¬
литаризм Лассаля, подчеркивает, что равное право в
первой фазе коммунистического общества еще являет¬
ся правом буржуазным, то есть ограничено буржуаз¬
ными рамками:
«Право производителей пропорционально достав¬
ляемому ими труду; равенство состоит в том, что из¬
мерение производится равной мерой — трудом.
Но один человек физически или умственно превос¬
ходит другого и, стало быть, доставляет за то же вре¬
мя большее количество труда или же способен рабо¬
тать дольше; а труд, для того, чтобы он мог служить
мерой, должен быть определен по длительности или
по интенсивности, иначе он перестал бы быть ме¬
рой» 27.
Ко всему этому Маркс еще добавляет, что эти не¬
достатки неизбежны, ибо право не может быть выше,
чем экономический строй и обусловленное им куль¬
турное развитие общества. Этот тезис был подтверж¬
ден Лениным в «Государстве и революции», а позднее
практикой строительства молодого советского об¬
щества.
4. В своих суждениях о социалистическом государ¬
стве приверженцы «новых левых» исходят не из необ¬
ходимости пролетарской диктатуры, а из положения
об отмирании государства и, следовательно, вновь про¬
тивопоставляют друг другу два этапа развития. В той
же «Критике Готской программы» К. Маркс писал:
«Между капиталистическим и коммунистическим
обществом лежит период революционного превраще¬
ния первого во второе. Этому периоду соответствует
и политический переходный период, и государство
179
этого периода не может быть ничем иным, кроме как
революционной диктатурой пролетариата» 28.
К. Маркс вместе с Ф. Энгельсом сформулировал в
«Коммунистическом манифесте» характерные черты
диктатуры пролетариата:
«Пролетариат использует свое политическое гос¬
подство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за
шагом весь капитал, централизовать все орудия про¬
изводства в руках государства, т. е. пролетариата, ор¬
ганизованного как господствующий класс, и возможно
более быстро увеличить сумму производительных сил.
Это может, конечно, произойти сначала лишь при
помощи деспотического вмешательства в право соб¬
ственности и в буржуазные производственные отноше¬
ния, т. е. при помощи мероприятий, которые экономи¬
чески кажутся недостаточными и несостоятельными,
но которые в ходе движения перерастают самих себя
и неизбежны как средство для переворота во всем спо¬
собе производства» 29.
Нашему «новому левому» оппоненту мы можем за¬
дать вопрос: разве социалистические страны не осу¬
ществили— с учетом конкретных условий — важней¬
шие требования, перечисленные Марксом и Энгельсом
в «Коммунистическом манифесте» в качестве перво¬
очередных мероприятий пролетарской диктатуры:
«1. Экспроприация земельной собственности и об¬
ращение земельной ренты на покрытие государствен¬
ных расходов.
2. Высокий прогрессивный налог.
3. Отмена права наследования.
4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мя¬
тежников.
5. Централизация кредита в руках государства по¬
средством национального банка с государственным
капиталом и с исключительной монополией.
6. Централизация всего транспорта в руках госу¬
дарства.
7. Увеличение числа государственных фабрик, ору¬
дий производства, расчистка под пашню и улучшение
земель по общему плану.
8. Одинаковая обязательность труда для всех, уч¬
реждение промышленных армий, в особенности для
земледелия.
180
9. Соединение земледелия с промышленностью, со¬
действие постепенному устранению противоположно¬
сти между городом и деревней.
10. Общественное и бесплатное воспитание всех
детей. Устранение фабричного труда детей в совре¬
менной его форме. Соединение воспитания с матери¬
альным производством и т. д.» 30.
В этих сформулированных в 1848 г. целевых уста¬
новках К. Маркс и Ф. Энгельс изложили с учетом об¬
щих тенденций развития требования рабочего класса
«на длительную перспективу». Осуществляя их, дик¬
татура пролетариата — как переходная форма — из¬
меняет условия, воздействующие на человека и его
образ жизни.
5. «Новые левые» оспаривают осуществление в со¬
циалистических странах демократии и, по существу,
ставят под сомнение основные положения марксист¬
ской теории. Они и здесь игнорируют переходный пе¬
риод и его специфику.
Ленин, рассматривая этот вопрос в «Государстве и
революции», четко выделяет два этапа:
«Диктатура пролетариата, период перехода к ком¬
мунизму, впервые даст демократию для народа, для
большинства, наряду с необходимым подавлением
меньшинства, эксплуататоров. Коммунизм один толь¬
ко в состоянии дать демократию действительно пол¬
ную, и чем она полнее, тем скорее она станет ненуж¬
ной, отомрет сама собою» 31.
Согласно ленинской концепции, демократия боль¬
шинства в переходный период осуществляется в соот¬
ветствии с принципом демократического централизма,
посредством деятельности представительных орга¬
нов — депутатов, избранных на выборах в местные
Советы и общегосударственный Совет (парламент), а
также посредством деятельности общественных орга¬
низаций — партии и профсоюзов. Демократический
централизм подразумевает демократию, то есть уча¬
стие масс в формировании политики и проведении ее
в жизнь, но также и централизм в том смысле, что
партия направляет одобренную массами политику и
контролирует выполнение решений.
«Новые левые» противопоставляют этому «непо¬
средственную демократию», причем под этим они по^
181
нимают главным образом самоуправление, а некото¬
рые их группы — идейно-политический плюрализм.
Иллюстрацией подобных воззрений может служить
антология, составленная троцкистом Эрнестом Манде-
лем с намерением доказать с помощью подобранных
в ней цитат, что всякое «рабочее самоуправление»
есть выражение социалистической демократии, в то
время как партия и ее деятельность таковым якобы
не является. Мандель не слишком щепетилен в выборе
источников, приводимых им примеров, среди кото¬
рых фигурирует и деятельность будапештского «рабо¬
чего совета» в 1956 г., в общем довольно туманно изо¬
браженная одним из членов этого совета за исключе¬
нием одного весьма ясного момента: этот совет взял
на себя в первую очередь политические задачи, проти¬
вопоставив себя партии. Это нравится Манделю, ведь
и в отношении югославской системы самоуправления
его главное возражение состоит в том, что на органы
этого самоуправления не возлагаются политические
задачи 32.
«Новые левые» подхватывают выдвинутую Мило-
ваном Джиласом теорию «нового класса», согласно
которой работники партийного и государственного ап¬
парата, технократы и другие избранные интеллигенты,
по сути дела, выполняют ту же функцию, что и техно¬
кратическо-бюрократический слой капиталистического
общества. Подход «новых левых» к этому вопросу
ограничивается такими критериями, как занимаемые
посты, без учета социального характера руководства,
вне связи с теми изменениями, которые несет с собой
социальная мобильность, и, наконец, они не прини¬
мают во внимание осуществляемый в этом отношении
общественный контроль.
6. Одно из излюбленных обвинений, выдвигаемых
«новыми левыми», состоит в том, что социалистиче¬
ское общество якобы не изменило образа жизни лю¬
дей и не уничтожило буржуазной культуры. Бесспор¬
но, мелкобуржуазный образ жизни и взгляды на
жизнь все еще оказывают влияние на определенные
группы населения и в социалистических странах, «по¬
требительские» идеалы имеют распространение и у
нас. Но видеть только это и не замечать происходя¬
щего процесса преодоления старого в сознании
182
людей — это такая односторонность, которая в конеч¬
ном счете обращается против самих «новых левых».
Осуществление главных задач понимаемой по-ленински
культурной революции во всех социалистических стра¬
нах продвинулось далеко вперед и решающим обра¬
зом способствовало повышению культурного уровня
масс, созданию новой интеллигенции, развитию науки
и искусств, распространению научного мировоззрения.
Формирование нового, социалистического образа жиз¬
ни — процесс длительный, и его не могут ускорить
громкие фразы, к которым сголь часто прибегают
представители «новой левой» интеллигенции.
Критике социализма «новыми левыми» в большин¬
стве случаев присущи субъективная оценка важных
исторических процессов, тенденция рассматривать их
в отрыве от конкретных условий и фактов, утопиче¬
ский подход. Вследствие этого критика дает искажен¬
ную картину действительности, поскольку «новые ле¬
вые», не зная как следует положения в социалистиче¬
ских странах, формируют свои мнения в значительной
мере под воздействием буржуазной пропаганды и по-
доктринерски судят об их развитии, его противоречиях
и проблемах.
Утопия и социализм
Своей привлекательностью з глазах определенных
слоев интеллигенции «новые левые» во многом обя¬
заны утопии, которую они рассматривают в качестве
обязательного компонента «радикального», «критиче¬
ского», «неконформистского» образа мыслей и поведе¬
ния и под влиянием которой — в надежде на ими са¬
мими придуманное райское будущее — отвергают и
капитализм, и реально существующий социализм.
Некоторые теоретики «новых левых», особенно в
ФРГ, охотно ссылаются на Эрнста Блоха и его впер¬
вые изданную в 1959 г. книгу «Принцип надежды»,
в которой можно прочесть следующую категорическую
формулировку: «Философия будет обладать сознанием
завтрашнего дня, партийностью будущего, знанием
чаяний, или у нее больше не будет никакого зна¬
ния» 33. Опираясь на обширный материал, заимство¬
183
ванный из литературы, искусства и истории науки,
Блох с большим мастерством показывает сложившиеся
у людей представления о «лучшей жизни». В этом
плане он проводит весьма подробное исследование
коммунистической общественной формации. Однако
при этом процесс ее осуществления остается за рам¬
ками его рассмотрения. Автор игнорирует длительный
переходный период между свержением капитализма и
высшей фазой коммунизма. Действуя таким образом,
он (хотя сам же без конца подчеркивает, что марк¬
сизм не только с теоретической, но и с практической
точки зрения выражает коренные чаяния человечества,
связанные с его освобождением от всяческого гнета и
эксплуатации), с одной стороны, старается внушить
мысль, что реальный социализм осуществил лишь
весьма немногое из этих чаяний, с другой стороны,
пытается обосновать утопическую мысль относительно
возможности достижения коммунистического идеала
уже сегодня.
Другие буржуазные социологи, идя по стопам Кар¬
ла Маннхейма, пишут о так называемой хилиастиче-
ской утопии, которая ориентирована не столько на бу¬
дущее, сколько стремится к созданию предвосхищен*
ного воображением мира уже в настоящем. По их
мнению, наиболее типичными представителями этой
утопии являются анабаптисты, гуситы и современные
анархисты.
Напомним, что в связи с парижскими волнениями
1968 г. Алэн Турэн говорил — по аналогии с утопиче¬
ским социализмом — об «утопическом коммунизме».
Аналогия, однако, поверхностная: утопизм, упомяну¬
тый французским социологом, делает ставку не на
основной угнетаемый класс капиталистического обще¬
ства, а питается недовольством некоторых средних
слоев и главным образом части интеллигенции, не су¬
мевших установить контакт с рабочим классом.
Ленин в написанной им в 1912 г. статье «Две уто¬
пии» так разъясняет само это понятие:
«Утопия есть слово греческое: «у» — по-гречески
значит «не», «топос» — место. Утопия — место, кото¬
рого нет, фантазия, вымысел, сказка. Утопия в поли¬
тике есть такого рода пожелание, которое осуществить
никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии,—пожелание,
184
которое не опирается на общественные силы и ко¬
торое не подкрепляется ростом, развитием политиче¬
ских, классовых сил». Утопии «...порождены интереса¬
ми классов, которые ведут борьбу против старого по¬
рядка... и которые не.занимают самостоятельного по¬
ложения в этой борьбе. Утопия, мечтания есть порож¬
дения этой несамостоятельности, этой слабости. Меч¬
тательность — удел слабых»34.
Ленин проводит различие между «разоружающей»
утопией буржуазных либералов, проповедующей воз¬
можность достижения улучшений в России без клас¬
совой борьбы, и «двусмысленной» утопией народни¬
ков, которая хоть и деморализует социалистическое
самосознание, но выражает подъем демократического
движения мелкособственнического крестьянства. Эту
последнюю он сравнивает с утопическим социализмом,
который, по оценке Энгельса, был неправ с экономи¬
ческой точки зрения, но прав с точки зрения всемирно-
исторического развития, ибо, пусть только в зачаточной
форме, выражал устремления нового класса, устрем¬
ления пролетариата.
Вопрос теперь состоит в том, о какого рода утопии
идет речь в связи с движением «новых левых»: о за¬
бегающем вперед представлении об обществе будуще¬
го поднимающихся новых сил или же о «разоружаю¬
щей», а может быть, о «двусмысленной» утопии?
Часть «новых левых», несомненно, руководствуется
«разоружающей» утопией, имея в виду путем измене¬
ния сознания побудить капитализм к «рационализа¬
ции». Другая их часть склоняется к «двусмысленной»
утопии, разумеется в иной классовой и политической
обстановке, чем та, которая существовала, когда Ле¬
нин написал упомянутую статью.
Несомненное позитивное влияние этой утопии со¬
стоит в том, что она пробуждает политическую актив¬
ность части интеллигенции и восстанавливает послед¬
нюю против капиталистического общественного строя.
Немотря на все это, она не может возместить собой
отсутствие реальных общественных действий. Ярким
подтверждением этого явились уроки 1968 г. и изме¬
нения, которые произошли в последующий период.
VII
«НОВЫЕ ЛЕВЫЕ»
И КОНТРКУЛЬТУРА
«Одним из главных объектов критики со стороны
«новых левых» является царящее в капиталисти¬
ческом обществе отчуждение и его губительное воз¬
действие на образ жизни людей. «Радикалы» стре¬
мятся противопоставить буржуазной культуре — под
нею они понимают и образ жизни — иную культуру,
которая выражала бы идеалы «параллельного» или,
если угодно, «контробщества». Этот вопрос, собствен¬
но, можно было бы рассмотреть там, где речь шла
о «трюизмах», однако выделение его в особую главу
оправдывается тем фактом, что в данном случае мы
имеем дело с явлением сложным и характерным не
только для втягивающихся в политическую деятель¬
ность «новых левых».
Идея контркультуры родилась значительно раньше
конца шестидесятых годов. Зачатки ее мы находим в
США у хиппи, которые еще за десяток лет до этого
пытались по-своему протестовать против буржуазного
общества. Хиппи понимали свой бунт как необходи¬
мость порвать с обществом, но не по политическим
мотивам, а из-за образа жизни и считали, что в этих
целях одинаково пригодны наркотики, новые формы
искусства и литературы, различные проявления мисти¬
цизма, а также коммуны, то бишь ячейки «параллель¬
ного общества» Ч
186
Первой организацией, пытавшейся реализовать
идею контркультуры, была основанная в 1962 г. быв¬
шим университетским преподавателем Тимоти Лири
«международная федерация за международную сво¬
боду», провозгласившая культ психоделии. Этот культ
проповедует, что с помощью наркотиков (главным
образом ЛСД) можно достичь состояния исключитель¬
ной восприимчивости, позволяющей переживать не¬
обычайно яркие эстетические и творческие ощущения.
Из психоделии сотворили «философию», у кото¬
рой имеются свои «заповеди». Первая «заповедь»
Лири гласит turn on, что означает примерно следую¬
щее: «предайся психоделическим возможностям», вто¬
рую заповедь turn in следует понимать как «познай
самую главную истину через внутренний экстаз» и, на¬
конец, третья drop out толкуется как «уйди из обще¬
ства». Наслаждение, доставляемое наркотиками, Лири
связал с христианским религиозным экстазом (хотя
он ссылается и на китайскую философию), в то время
как другие отдают предпочтение восточным верова¬
ниям. Одним из свидетельств того, насколько, в об-
щем-то, убога «философия» психоделизма, служит
весьма любопытная беседа с участием Аллена Гинз-
берга, Тимоти Лири, Гари Снайдера и Алана Уотса,
состоявшаяся в 1967 г. в редакционном комитете
«Сан-Франциско оракл»2.
Поэт Гари Снайдер задал Лири следующий во¬
прос: что, по его мнению, должно следовать за осу¬
ществлением третьей «заповеди», какого типа обще¬
ство он и его сторонники предполагают реализовать
на практике? Лири ответил, что каждая малая группа
начнет вести свой собственный «творческий» образ
жизни. На вопросы наподобие следующих: каким об¬
разом можно будет учиться, что станет с промышлен¬
ностью, как можно будет обеспечить продовольствием
растущее население Земли и что вообще станет с
людьми, которые не принадлежат к этим малым груп¬
пам, он дал ответы, поражающие своей наивностью.
Так, например, он говорит о возможном создании
подземных предприятий, где будут работать те, кто по¬
желает, другие же будут жить на лоне природы и т.д.
В 1966 г. во время бурного развития «новых ле¬
вых» движений в США насчитывалось множество
187
провинциальных коммун и примерно около 20 ООО хип¬
пи бродили по стране.
Что было характерно в тот период для хиппист-
ского «контробщества» с социальной точки зрения?
Согласно статистическим данным за 1967 г., в нью-
йоркском Ист-Виллидже 12% хиппи были выходцами
из так называемого высшего слоя, 22%—из верхней
прослойки среднего слоя, 48% —из средней прослойки
того же слоя, 17%—из нижней прослойки среднего
слоя и лишь 1%—из низших слоев. Разделение по
роду занятий было следующим: 21 % — учащиеся сред¬
них школ, 8% —слушатели университетов, 40% —слу¬
жащие, 12%—начавшие трудовую деятельность в
хозяйствах или на предприятиях родителей, 19% —
имеющие самостоятельный заработок или безработ¬
ные. По возрасту они делились так: большинство от¬
носилось к категории от 18 до 30 лет, лишь 12% было
в возрасте от 30 до 35 лет и 8%—старше 35 лет.
Одна их часть жила в общинах, проповедовавших
полную сексуальную свободу, другая — с супругами
или сожителями проживала в коммунах. 85% опро¬
шенных указывали, что удовлетворены своим обще¬
ственным статусом. Лишь небольшая их часть обла¬
дала каким-то политическим кругозором, большинство
ограничилось чтением книг Эдварда де Боно, Мар¬
шалла Маклюэна (McLuhan) или Тимоти Лири, до¬
вольствуясь прославлением красоты жизни и именуя
себя «детьми цветов» 3. Многие из них не принимали
денег от родителей и жили случайными заработками.
Их самым дорогостоящим удовольствием было упо¬
требление наркотиков, которые они чаще всего добы¬
вали у контрабандистов по бешеным ценам. Коммуны
хиппи жили в основном за счет сбора подаяний, посо¬
бий по безработице, помощи извне, кое-где за счет из¬
готовления и продажи кустарных изделий, но лучше
всего жилось тем, кому были доступны интеллектуаль¬
ные профессии. Уже упоминавшаяся Энн Ломбард пи¬
шет: «Коммуна живет как паразит государства благо¬
состояния за счет пособий по безработице, денежных
переводов из семей и первые собственные источники
существования обрела путем организации красочных
представлений, рок-ансамблей, издания газет и
книг» 4..
188
Хиппи с самого начала стремились к тому, чтобы
всколыхнуть широкие массы, и притом не только сред¬
ствами музыки, а и лозунгами, призывающими радо¬
ваться жизни. В 1966 г. они организовали в Сан-Фран¬
циско первый фестиваль под девизом «лав-ин» (love-
in), в котором, как утверждалось, приняло участие
30 ООО человек и который, судя по девизу, был при¬
зван провозгласить всевластие любви. В 1967 г. там
же состоялся новый фестиваль под лозунгом «хью-
мэн бе-ин» (human be-in), призывающим к человечно¬
сти и подлинному общению, а за ним последовали не¬
однократно проводившиеся в различных местах поп-
фестивали, собиравшие по полмиллиона участников.
В музыке они вначале рассматривали как образец
психоделического искусства поп-музыку знаменитых
английских ансамблей «Битлз» и «Роллинг стоунз»,
затем на смену этим ансамблям пришло новое вея¬
ние — «Сан-Франциско саунд», где музыка подается в
сочетании с изображением, светом, даже с запахом и
предполагает свободную импровизацию вместе с уча¬
стием слушателей в исполнении. Согласно точке
зрения «Манкиз» (один из хиппистских ансамблей),
«музыка есть энергия», но такая энергия, которая ро¬
дилась из «будней». Тексты для этих ансамблей созда¬
вали такие одаренные авторы, как Аллен Гинзберг,
Пит Сиггер, Боб Дилан и другие.
Спонтанность, активный характер, импровизация—
конечно, наряду с использованием присущих тому или
иному виду искусства средств — характерны также и
для тех направлений в театре, кинематографе и изо¬
бразительном искусстве, которые в той или иной сте¬
пени разделяют умонастроения хиппи.
В этой связи упомянем лишь о так называемом
«открытом театре» (open theatre), в котором делается
попытка слить воедино элементы музыки, танца, дра¬
мы и даже изобразительного искусства. Из фильмов
можно назвать довольно-таки характерную ленту «Де¬
вушки из Челси» Энди Уорхола, которая изображает
жизнь Гринвич-Виллиджа, используя для этого следую¬
щий прием: две камеры в гостинице «Челси» две не¬
дели кряду снимали повседневную жизнь, но, конечно,
это была повседневная жизнь хиппи. В изобразитель¬
ном искусстве получают широкое распространение
189
«постеры», огромные плакаты, а художники Исаак Аб¬
рамс или Майкл Грир провозглашают себя последова¬
телями Босха, Уильяма Блэйка и Бердслея. В конечном
счете эти «постеры» напоминают скорее кубистско-
сюрреалистскую живопись, нежели поп-арт. Больше
всего, однако, в чести фотоискусство, монтажи, кото¬
рые помогают вызывать превозносимый культом пси¬
ходелии экстаз.
С помощью всего этого хиппи намеревались соз¬
дать контркультуру и в сфере искусства, выступая в
духе М. Маклюэна против традиционных средств рас¬
пространения культуры и особенно печатаемой типо¬
графским способом литературы. Это, однако, не озна¬
чает, что они полностью отвергают печатное слово:
хиппи создали подпольную прессу — кстати, не без
помощи тех, кто наживает огромные барыши на тор¬
говле наркотиком ЛСД.
Собственно говоря, до 1967 г. контркультура хип¬
пи, выступая под эгидой мира и любви, представляла
собой своего рода пассивное сопротивление истэблиш¬
менту. С тех пор кое-кто из них под влиянием «новых
левых» включился в политическую деятельность, од¬
нако большинство продолжало вести прежний образ
жизни, некоторые же «рекуперировались» либо пре¬
вратились в преступников.
Теодор Розак в своей многократно цитировавшейся
книге о контркультуре5 подчеркивает сходство между
хиппи и «новыми левыми», видя его в том, что послед¬
ние также ставят во главу угла личность и тем самым
сознание и сознательность индивида, а отнюдь не
идеологию. Это подтверждается также тем общим ин¬
тересом, который и те и другие проявляют к фрейдист¬
скому «марксизму» Г. Маркузе, психологическому
анархизму Пола Гудмэна, апокалиптическому «мисти¬
цизму плоти» Броуна, построенной на музыке психоте¬
рапии Уотса, и, наконец, к потустороннему «нарцисиз-
му» Лири 6. Богемность «бита» и «хипа» автор считает
предвестником новой структуры личности и «тоталь¬
ного» стиля жизни. По его мнению, этот стиль жизни
возникнет как результат критики общества «новыми
левыми», или, говоря точнее, как результат их изме¬
нений, необходимость которых вытекает из упомяну¬
той критики.
190
С Розаком следует согласиться в том, что между
движением хиппи и «новыми левыми» не существует
четкой разграничительной линии, и все же концепцию
«новых левых» относительно контркультуры следует
рассмотреть особо, поскольку она является составной
частью их политико-идеологических воззрений.
Рольф Швендтнер7, предпринявший попытку
разработать теорию «контр» или «субкультуры», раз¬
личает «субкультуру» прогрессивную и регрессивную.
Прогрессивные субкультуры отличаются тем, что стре¬
мятся изменить всю общественную систему ценностей,
выступают против истэблишмента и берут свое начало
в среде пролетариата. Регрессивные же культуры, по
сути дела, лишь отвлекают от политической борьбы,
заменяя ее всякого рода эрзацами, их питательной
средой является мелкая буржуазия и люмпен-пролета¬
риат. Для регрессивной субкультуры характерны фа¬
шизм, мир богемы, «ангелы ада», пилигримы, «ком¬
муны» Мэнсона и тому подобные явления. Нормами
прогрессивной субкультуры являются самоуправление,
демократическое участие, групповая солидарность, ан-
тиконзенционализм, а также свобода в стиле поведе¬
ния, одежде, прическе, языке, искусстве и половой
сфере. Он добавляет, что эти нормы не исключают
того, что сторонники субкультуры могут быть атеиста¬
ми или верующими, но среди последних предпочтение
отдается приверженцам восточных верований. В поли¬
тике не исключается также участие в выступлениях
за или против насилия. По мнению автора, субкуль¬
тура «новых левых» прогрессивна, и капитализму бу¬
дет труднее ее интегрировать, чем это было с движе¬
нием хиппи.
Швендтнер переоценивает способность «новых ле¬
вых» к сопротивлению. Практика показывает, что ме¬
жду прогрессивной и регрессивной субкультурами нет
резкой грани, традиции хиппи продолжают жить, а
господствующий класс, действуя то грубыми методами
прямого подавления, то прибегая к более изощренным
способам, стремится либо ликвидировать коммуны
«новых левых», либо ассимилировать их культурную
в с.обственном смысле этого слова художественную
продукцию.
191
«Новые левые» включают в понятие «культура» об¬
раз жизни, и, идя по стопам хиппи, начали организо¬
вывать свои общины. Первый опыт был осуществлен
в феврале 1968 г. в Милуоки, где они учредили зал
совещаний, бесплатный магазин, клинику, биржу тру¬
да, мастерские, издательство, художественный центр
и т. д. Члены этой коммуны работали и в своей «эко¬
номической политике» следовали принципам исключе¬
ния всякого излишнего производства и потребления,
добровольного ограничения потребностей, равного
распределения материальных благ, упразднения тор¬
говли. Но главная цель состояла в том, чтобы, осно¬
вываясь на солидарности и сотрудничестве, создать
новый образ жизни.
Однако подавляющее большинство «новых левых»,
ограничившись прославлением «параллельного обще¬
ства», не ушло из капиталистического общества и вы¬
ражало свою «контестацию» прежде всего в сфере
личной жизни, литературе, искусстве, моде. И вряд ли
стоит специально доказывать, что, какими бы «ради¬
калами» они себя ни чувствовали, они, в сущности,
интегрируются буржуазным образом жизни. Позволим
себе в этой связи привести одно язвительное заме¬
чание Адорно, которое, хотя и высказывалось по
иному поводу, тем не менее уместно и в отношении
сегодняшних «радикалов», возможно лишь с не¬
которыми поправками на название картин, книг
и музыки:
«Жилище этих молодых представителей богемы го¬
ворит об их духовном багаже. На стенах — ошибочно
считающиеся похожими на оригинал цветные репро¬
дукции со знаменитых полотен Ван Гога вроде «Под¬
солнухов» или «Кафе в Арле», на книжных полках —
краткие пособия по социализму и психоанализу. ...Вдо¬
бавок к этому — Пруст в издании «Рэндом хауз»... —
«редкость», сбываемая по сниженным ценам, несколь¬
ко громких джазовых пластинок, рядом с которыми
человек чувствует себя частью коллектива, смелым,
дерзким и вместе с тем уютно устроившимся» 8.
В том, что касается личной жизни, на первом пла¬
не стоит вопрос сексуального освобождения, и потому
в такой моде фрейдизм, или — поскольку речь идет
о «новых левых» — неофрейдизм, который пытается
192
дополнить психоанализ социалистическими и даже
«марксистскими» комментариями.
Как относятся «новые левые» к литературе и ис¬
кусству? Из различных их заявлений явствует, что в
искусстве они склонны видеть главным образом сред¬
ство агитации, информации и пропаганды, помогаю¬
щее формировать сознание групп, расшевелить людей
и побудить их к действию, а кроме того, способствую¬
щее свободному наслаждению жизнью и самовыраже¬
нию личности.
Этим требованиям вполне соответствует поп-музыка
в стиле рок, предпочитающая повторяющуюся, «вопя¬
щую» мелодию с неистовым ритмом, под аккомпане¬
мент которой под влиянием «новых левых» было соз¬
дано много песен протеста. С точки зрения текстов пе¬
сен типичным является изданный одним из поэтов
Гринвич-Виллиджа Тули Купфербергом сборник сове¬
тов, знакомящий с 1100 способами того, как прожить
без работы, как надо любить и как уклониться от служ¬
бы в армии. В нем можно найти, например, следующие
советы: «Молись богу, чтобы он стал пацифистом»,
«Садись в тюрьму или вступай в брак», «Женись три¬
жды, а затем сразу же иди к психиатру». 1100-й текст
гласит: «Да будет мир во Вьетнаме, бастуй, навязывай
миру радость». Эти «тексты» являют собой пеструю
смесь лозунгов движения хиппи и призывов движения
«новых левых». Имеются и другие проявления этого
смешения: у авторов текстов, певцов, оркестров.
В первом поп-фестивале, устроенном в августе
1967 г. в Сан-Франциско, принял участие не только
тогдашний представитель «бит»-поколения Аллен
Гинзберг, но и вожак хиппи Джерри Рубин, который
стремился, по его словам, «напичкать политикой» хип¬
пи и пел главным образом о Вьетнаме9.
В области театрального искусства, следуя тради¬
ции Брехта и Пискатора, наибольшую славу стяжал
так называемый «Ливинг-театр», который создали
Джулиан Бек и Джудит Малина, начавшие с поста¬
новки пьес Пола Гудмэна, Гертруды Стайн, Бертольта
Брехта и Федерико Гарсиа Лорки. В начале шестиде¬
сятых годов во время своего первого западноевропей¬
ского турне они объявили, что являются анархистами,
для которых театр не искусство, а общественная
193
жизнь в буквальном смысле этого слова. Одна из осо¬
бенностей их стиля состоит в том, что ни один из чле¬
нов труппы не является актером в традиционном по¬
нимании этого слова, каждый сам разрабатывает свою
роль. Режиссура представляет собой плод коллектив¬
ного труда, декораций и костюмов, как таковых, не
существует. Публику стремятся привлечь к участию
в действии пьесы и в этих целях ищут и эксперимен¬
тируют с коммуникационными возможностями нового
типа 10.
В 1968 г., после парижских событий, в Авиньоне
была показана пьеса «Рай немедленно» (Paradise
Mow), посредством которой коллектив театра намере¬
вался засвидетельствовать свою причастность к поли¬
тике и которая вызвала громкий скандал. В Америке,
кроме «Ливинг-театра», который был вынужден до¬
вольно долго существовать в изгнании в Западной
Европе, возникли и другие неоавангардистские теат¬
ры, например театр «Хлеб и кукла» (Bread and Pup¬
pet Theater) в Нью-Йорке, принимавший участие в
организации демонстраций против войны во Вьетнаме.
В Англии движение за создание нового театра
представлено коллективами «Взрывающаяся Галакти¬
ка» (Exploding Gallaxy) и «Человеческая семья» (Hu¬
man Family). Парижские «Theätre du Soleil» и «The-
ätre de la Tempete» выступают в духе «Ливинг-теат¬
ра», но в поисках тем для своих пьес обращаются
главным образом к классовым боям прошлого.
Одним из жанров нового театра является хеппе¬
нинг, определяемый одним из самых активных пред¬
ставителей неоавангарда Жан-Жаком Лебелем как
некое совершенно новое явление в искусстве, остав¬
ляющее далеко позади все прежние достижения ис¬
кусства, — ведь эти последние так или иначе привя¬
заны к частной собственности и принимают характер
товара. Хеппенинг — это «свободное проявление твор¬
ческой деятельности независимо от того, нравится
это или не нравится, пользуется или не пользуется
спросом, независимо от тех моральных суждений, ко¬
торые могут быть вызваны коллективными аспектами
этой деятельности при незнании дела»11. Этими
словами Лебедь метит в Андре Бретона, который
10 декабря 19б4 г. писал в «Нувель обсерватэр>
194
«Хеппенинг, который ведет свое происхождение от
«Хельцапоппина» (Helzapoppin), кажется, кружит во¬
круг самого опасного рифа — промискуитета».
Лебель перечисляет следующие отличительные чер¬
ты хеппенинга:
1) упразднение исключительности, которая спеку¬
лирует на некой приписываемой художественному
творчеству абсолютно произвольной и искусственной
экономической стоимости (ценности);
2) упразднение исключительности, в силу которой
артистов интеллектуально обескровливают ненавидя¬
щие их заурядные посредники (импресарио);
3) упразднение «культурной полиции», то есть
устранение тех зараженных навязчивой идеей цепных
псов, которые представляют ложное сознание публики
и берут на себя смелость судить, что хорошо и что
плохо;
4) преодоление ненормальных отношений между
субъектом и объектом (зритель — зрелище, эксплуа¬
тируемый — эксплуататор, зритель — актер, колониза¬
тор — подвергающийся колониальному гнету, отчу¬
ждающий — отчуждаемый, легальность — нелегаль¬
ность), которые до сего времени доминировали и
делали погоду в современном искусстве.
В Америке лучшими представителями этого жанра
считали Алана Кэпроу и Олденбурга. Кэпроу в 1962 г.
писал: «Посредством хеппенинга наши действия пре¬
вращаются в обряды и наша повседневная жизнь пре¬
ображается». Лебель не соглашается с этой точкой
зрения, поскольку понимает, что капиталистический
бизнес уже превратил американский хеппенинг в ком¬
мерческое предприятие. Он еще верит, что в Западной
Европе «хеппенинг стремится к «либертэрному» (то
есть, по сути дела, анархистскому) духовному выра¬
жению; ставит под вопрос мир чувств, равно как и
мир реальный». Ну, до этого дело, пожалуй, не очень-
то доходит, разве что во время парижских событий
1968 г., когда хеппенинг вышел на улицы.
15 мая 1968 г. участники Движения 22 марта за¬
няли театр «Одеон» и выпустили листовку следующе¬
го содержания:
«Воображение берет власть в свои руки. Развив¬
шаяся на улицах революционная борьба трудящихся
195
и студентов распространяется ныне на рабочие места
и псевдоденности потребительского общества. Вче¬
ра— предприятие «Сюд-Авиасьон» в Нанте, сегод¬
ня — именуемый «французским» театр «Одеон» (офи¬
циально «Одеон» называют Theatre de France. —
Б. /(.). Театр, кино, живопись, литература и т. д. стали
отраслями индустрии, экспроприированными элитой в
целях отчуждения и меркантилизма. Саботируйте ин¬
дустрию культуры. Захватывайте и разрушайте (ее)
учреждения. Сочиняйте жизнь заново! Искусство —
это вы! Революция — это вы! Отныне, с 15 мая 1968 г.,
доступ в театр, бывший некогда «театром Франции»,
объявляется свободным» 12.
Эти сюрреалистские лозунги касаются не только
театра, причем наряду с отрицанием культуры буржу¬
азной они отрицают и культуру вообще. В те дни не¬
сколько молодых актеров попытались выступить в
«Одеоне» со спектаклями, однако этому помешали
«радикалы», заявив, что «единственный театр — это
герилья, революционное искусство делают на ули¬
цах».
Ныне хеппенинг повсеместно стал частью большого
бизнеса. Достаточно упомянуть о скандальном успехе
таких спектаклей, как «Волосы» (Hair); «Евангелие»
(Gospel) или «Иисус Христос — суперзвезда».
В изобразительном искусстве в пятидесятые годы
появился поп-арт, который прокламировал повседнев¬
ность, экспромт, импровизацию, намерение шокиро¬
вать зрителя, спровоцировать его реакцию. Англий¬
ский художник Ричард Гамильтон еще в 1959 г. разви¬
вал точку зрения, в соответствии с которой поп-арт
является «популярным (рассчитанным на широкие
массы), скоропреходящим дешевым товаром массо¬
вого производства, молодым (обращенным к молоде¬
жи), забавным, сексуальным, очаровывающим боль¬
шим бизнесом»13.
В самом деле, поп-арт занял свое место на выстав¬
ках и, по словам Лебеля, превратился в товар, куп¬
ленный буржуа, имеющим деньги и гоняющимся за
всем, что входит в моду. Чтобы вырваться из этого
порочного круга, некоторые деятели изобразитель¬
ного искусства под влиянием «новых левых» обраща¬
лись к социально-политической тематике: рисовали
т
политические плакаты, романы в картинках и карика¬
туры, причем последние появлялись в подпольной
прессе.
Киноискусство также стремилось не отставать от
времени, обращаясь к новым темам и используя от¬
крытые в других видах искусства — главным образом
в изобразительном искусстве и в музыке — новые фор¬
мы. Наиболее искренне и правдиво это делали под¬
польные кинематографисты, например Джон Мекош,
который основал в Нью-Йорке кооператив кинемато¬
графистов, чтобы иметь возможность сопротивляться
давлению мира коммерческого кино. В Лондоне при¬
станищем для экспериментаторов такого рода стано¬
вится «Лаборатория искусств» (Arts Laboratory), в ра¬
боте которой среди прочих принимают участие Джим
Хэйнс, Джек X. Мур и Найджел Сэмюэл.
Характерно, однако, что капиталистический биз¬
нес успешно интегрирует новое и извлекает из него
выгоду, не особенно беспокоясь, когда какой-либо из
известных режиссеров провозглашает свои «левые»
взгляды. Например, Жан-Люк Годар в своем фильме
«Китаянка» критически высказался по поводу пред¬
ставлений французских студентов из «хороших семей»
о «культурной революции», затем в фильме «Восточ¬
ный ветер» его воззрения изменились на 180°, но при¬
быль кинопромышленников осталась той же. Кармиц
в своем фильме «Товарищи» стремится доказать, что
классовую борьбу можно вести лишь отмежевавшись
от Французской коммунистической партии. Фильм
Франсиса Леру «Красная кукла» изображает майско-
июньские события 1968 г. в Париже, стремясь дока¬
зать, что революция не разразилась якобы потому,
что этому воспротивились коммунисты 14.
Конечно, в «левых» движениях черпали вдохновение
создатели и таких фильмов, которые резко крити¬
ковали существующее общество и одновременно пока¬
зывали бесцельность, утопический характер и, пожа¬
луй, трагичность анархистского бунтарства. Из амери¬
канских фильмов к этой категории можно отнести
поставленный в 1969 г. Деннисом Хоппером фильм
«Easy Rider», демонстрировавшийся в Венгрии под
названием «Тихие мотоциклисты», или созданный в то
же время Стюартом Хегманом фильм «Земляника и
197
кровь», вышедший в 1968 г. фильм англичанина Линд¬
сея Андерсона «Если...» или творение итальянца Ан¬
тониони «Забриски пойнт» («Zabriskie point»).
В области литературы «новые левые» наиболее яр¬
ко проявили себя в поэзии, особенно в поэзии песен
протеста. Заслуживает также внимания и связанная с
ними подпольная пресса 15. В 1968 г. в США подполь¬
ная пресса приобрела политическую заостренность, и
газеты «новых левых» сосуществовали с аналогичной
продукцией хиппи. В Западной Европе печатные изда¬
ния различных «левых» групп с самого начала имели
более четкую политическую направленность и по сво¬
ей форме больше соответствовали традиционной прес¬
се 16. Общая характерная черта всей этой печати со¬
стоит в том, что она в прямом смысле слова служит
целям агитации и пропаганды и выполняет ту же
функцию, что и воспоминания, автобиографии, днев¬
ники, публикуемые осужденными на более или менее
продолжительные сроки тюремного заключения руко¬
водителями различных групп или участниками нашу¬
мевших событий.
Разумеется, и так называемая «большая литерату¬
ра» не могла пройти мимо темы студенческих волне¬
ний, в отношении к которым в полной мере выявилась
вся противоречивость политических взглядов многих
писателей Запада. О пестроте и неустойчивости их по¬
литических позиций свидетельствует, например, тот
факт, что во Франции Сартр встал на сторону «новых
левых», его любимец Жан Жене не получил удоволь¬
ствия от пребывания в стане студентов Сорбонны, не
согласился с ним теоретик «нового романа» Алэн Роб-
Грийе; структуралистская группа «Тель Кель» в 1968 г.
прямо выступила против ультрарадикализма с тем,
чтобы несколько лет спустя начать славословить мао¬
изм. В США отдельные представители «разбитого» по¬
коления Керуак, Мейлер, Гинзберг, Корсо — объявили
себя сторонниками «новых левых». В Англии Уильям
Бурроу начинает издавать подпольную газету «Тайм»,
а С. Спендер выступает против студенческих движе¬
ний. В ФРГ Гюнтер Грасс поддерживает Брандта, а
Ганс Магнус Энценсбергер — «внепарламентскую оп¬
позицию»; Бёлль в связи с делом группы Баадера —
Майнхоф клеймит буржуазное фарисейство. В Италии
198
Альберто Моравиа не особенно пришелся по вкусу де¬
бош, учиненный у него на квартире его «левыми» го¬
стями, а Пьер-Паоло Пазолини в 1968 г. в «Эспрессо»
от 3 июня прямо заявил, что симпатизирует скорее
полицейским, нежели «папенькиным сынкам», испор¬
ченным детям буржуазии.
В художественной литературе эту тему первыми
облюбовали документальные жанры и эссе. По горя¬
чим следам искал объяснения парижским событиям
1968 г. Жак Тибодо в своей книге «Май 1968 года во
Франции». Он судит о происшедшем как человек, не¬
посредственно переживший эти события, подходя к их
оценке с позиций Французской коммунистической пар¬
тии. Из более поздней французской литературы осо¬
бого внимания заслуживает роман Робера Мерля «За
стеклом» *, в котором автор пытается показать дви¬
жение нантерских студентов в разных ракурсах одно¬
временно: и различные политические течения студен¬
чества, и его образ жизни, и его жизневосприятие.
«Новые левые» и прежде всего деятельность террори¬
стических групп не прошли незамеченными и в буль¬
варной литературе, образчиком которой является вы¬
шедший недавно в «черной серии» роман Ж.-П. Ман-
шетта «Нада».
Культурная программа «новых левых» отчасти на¬
поминает взгляды «пролеткультовцев» в СССР начала
20-х годов. Они трактуют литературу и искусство как
средство прямой политической борьбы, и эта односто¬
ронность обедняет их понимание искусства, хотя, ко¬
нечно, никто не собирается отрицать, что песни проте¬
ста, спектакли в жанре хеппенинга или подпольная
пресса на определенном этапе развития способство¬
вали пробуждению самосознания отдельных слоев ин¬
теллигенции, и особенно студентов. Своеобразная аб¬
солютизация сиюминутного творчества и импровиза¬
ции, зачастую формалистические поиски новых форм
контакта со зрителями и слушателями, чрезмерный
упор на активизацию последних, возможно, и способ¬
ны стимулировать художественное развитие, но не мо¬
гут стать заменой «большому искусству».
Попытки содействовать революции посредством
* Р. Мер ль. За стеклом. «Прогресс», М., 1972.
199
«революционизации» произведений искусства доволь¬
но часто имеют своим результатом вещи, понятные
лишь «посвященным» интеллектуалам. В последнее
время мы являемся также свидетелями возрождения
романтики, которая использует отчасти традиционные
формы, отчасти новые, главным образом зрелищно¬
слуховые (аудиовизуальные) жанры. Однако попытки
такого рода быстро вырождаются в коммерческое
предпринимательство, одновременно утрачивая харак¬
тер протеста.
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
■
Мы смогли дать лишь схематичный очерк того очень
пестрого и противоречивого общественного явления на
Западе, которое часто именуют движением «новых ле¬
вых». В то же время мы стремились показать его с
разных сторон как явление весьма сложное и имею¬
щее много граней.
Общие выводы, которые можно сделать из нашего
исследования, таковы:
1. Движение «новых левых» слагается из весьма и
весьма разных групп и направлений, организационные
формы, политические и иные воззрения которых пре¬
терпевают изменения в зависимости от того, как скла¬
дывается социально-экономическое положение в тех
или иных развитых капиталистических странах. Не¬
смотря на весьма различные формы, в которых оно
проявляется, движение «новых левых» — если и не в
нынешней его форме — нельзя считать явлением ско¬
ропреходящим, ибо оно выражает дух недовольства
и протеста, охвативший средние слои и прежде всего
интеллигенцию, особенно молодое ее поколение. Сле¬
довательно, оно должно рассматриваться как явление
общественное, тем более что численность указанных
слоев и их значимость в развитых капиталистических
странах продолжают расти.
2. С идейно-политической точки зрения «новое ле¬
вое» движение — явление, связанное с поисками так
201
называемого «третьего пути», оно отвергает капита¬
лизм, но не может подняться до понимания реально
существующего социализма. Отсюда его двойствен¬
ность как в теории, так и в практике. Новый момент,
отличающий его от прежних концепций «третьего пу¬
ти», состоит в том, что это движение появляется в пе¬
риод укрепления мировой социалистической системы
и международного коммунистического движения, пре¬
тендуя на поиски путей создания нового общества, не
похожего ни на одну из существующих общественных
формаций.
3. Движение «новых левых» выражает протест про¬
тив капиталистических общественных и государствен¬
ных отношений, и особенно против буржуазного обра¬
за жизни, и, таким образом, их критика капитализма
Дежит главным образом в духовно-психологической и
культурно-эстетической сферах. Правда, ко второй по¬
ловине 60-х годов различные леворадикальные тече¬
ния оказались вовлеченными в политическую жизнь,
но при этом они так и не выработали соответствую¬
щих форм политической борьбы. Начиная с 1968 г.,
если не считать нескольких небольших групп, стоящих
на позициях ультрарадикализма или даже терроризма,
для значительного большинства «новых левых» харак¬
терен нонконформизм, находящий свое выражение
преимущественно в неоромантическом стиле в литера¬
туре, искусстве, моде и образе жизни.
4. «Новые левые» — за исключением некоторых
групп — последовательно выступают против принципа
партийности и единой идеологии, превозносят револю¬
ционную стихийность малых групп и намерены возло¬
жить на «боевое меньшинство» из интеллигенции за¬
дачу революционизации масс. После 1968 г. отдельные
группы поняли преимущества организованности, од¬
нако связывали это с тактикой индивидуального тер¬
рора. Но более распространенным является ныне то,
что принято называть «новым левым» фольклором, то
есть мода «контестации» и вместе с тем тяготение
вспять к движению хиппи.
5. «Контестация» потрясла капиталистическую си¬
стему образования, и особенно высшие учебные заве¬
дения, вынудила провести реформы, которые буржуа¬
зия на практике стремится весьма существенно
202
ограничить. Поэтому студенческие движения — под
влиянием внутренних причин — вновь возрождаются,
хотя и не являются столь массовыми, как в 1968 г.
Вообще буржуазное общество стремится разными спо¬
собами подавить или как-то обезвредить политические
и неполитические формы протеста, и в связи с этим
«новому левому» движению грозит опасность ока¬
заться «интегрированным».
6. «Новое левое» движение в силу своей ориента¬
ции на «третий путь» препятствует сближению части
молодой интеллигенции с коммунистическими партия¬
ми и затрудняет поиски единства в рядах «левых».
Таким образом, антикоммунизм движения «новых ле¬
вых» оказывает вредное влияние, но его конфликт с
капиталистическим строем питает «разочарованное»
сознание части общественности.
Развитие событий после 1968 г. показывает также,
что многие представители «новых левых» — именно
вследствие постигших их разочарований — пришли к
подлинному марксизму и либо вступили в ряды ком¬
мунистических партий, либо сотрудничают с ними.
Путаные воззрения «новых левых» привлекли вни¬
мание широких слоев не только к противостоящим
марксизму старым и новым анархистским, спонтане-
нстским мелкобуржуазно-социалистическим течениям,
но и к самому марксизму и тем самым вольно или не¬
вольно способствовали его распространению.
Примечания
■
I ГЛАВА
,Huszär Tibor. Az ertelmiseg szociolögiai jellemzöje
es fogalma. Valösäg, 1972, 2 sz. *
2 Ada ш György. Üj technika, uj struktura. Közgazdasägi
es Jog Könyvkiadö, 1966, 80-—81 old.
3Erederic Bon, Michel-Antoine Burnier. Les
nouveaux intellectuels. Paris, 1971, 148 p.
4 Источник: A foglalkoztatottsag nemzetközi összehasonli-
täsa. Adatgyüjtemeny. A Munkaerö es Eletszinvonal Tävlati Ter-
vezesi Bizottsäg, 1973, februäri össeällitäsa.
5 Цитируется по книге: A. Touraine. La civilisation
industrielle. Histoire generale du travail, Paris, 1971, p. 33.
6 Cm.: Frederic Bon, Michel-Antoine Burnier
Les nouveaux intellectuels.
7 См. там же, стр. 106.
8 См.: Ч. Р. Миллс. Властвующая элита. М., 1959.
9 Effectifs frangais inscrits en facultes, en 1960—1961 et en
1966—1967. La Documentation Fran$aise. Articles et Documents.
10 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron. Les
Heritiers. Les etudiants et la culture. Paris, 1964.
11 K. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 27, стр. 411—412.
II ГЛАВА
1 Nemzetközi Szemle. 1972, 5 sz.
2 Использованы данные из изданий ООН, в частности из
«Statistical Yearbook», 1970.
204
n rr
3 Erdos Tibor. Gazdasägi növekedes a fejlett tokes orsza-
gokban. Budapest, 1972.
4 A munkäsosztäly anyagi es szociälis helyzete a fejlett tokes-
orszägokban. Tudomänyos Szocializmus Füzetek, 10—11, Budapest,
1971.
5 Cm.: Informationen zur Wirtschaftsentwicklung und Lage
der Arbeiterklasse in Frankfurt am Main.
6 A munkäsosztäly anyagi es szociälis helyzete a fejlett
tokes orszägokban.
7 Lance Townsend. The concept of poverty, 1970.
8 Yearbook of Statistics. International Labour Office, Genf,
1970.
9 О современных проблемах буржуазной демократии см.:
Bekes Rezso. А maiszociäldemokräcia. Kossuth Könyvkiado
1968; Kiss Arthur. Marxizmus es demokräcia. Kossuth Könyv-
kiadö, 1973; Kulcsär Kälmän. A demokräcia valosäga es a
tärsadalmi reszyötel. Tarsadalomtudomänyi Közlemenyek, 1973,
1—2; Kiss Arthur. Adalekok a «politikai pluralizmus“ biräla-
tähoz. Tärsadalomtudomänyi Közlemenyek, 1973, N 1—2.
10 Об этих вопросах см. подробнее гл. VII.
11 О студенческом движении см.: Mäjusi vihar Pärizsban.
Kossuth Könyvkiado, 1968; Läzadö diakok Pärizsban, Nyugat-Ber-
Iinben, Römäban. Kossuth Könyvkiado, 1968; Diäkmozgalmak
Nyugaton. Kossuth Könyvkiado, 1969; Köpeczi Bela. Reform,
vagy forradalom. Mora Könyvkiado, 1970; Töth Tamäs. Ütke-
reses es utvesztes. Kossuth Könyvkiado, 1973; A. В r i с s k о v.
A fiatal Amerika, Kossuth Könyvkiado, 1973.
III ГЛАВА
L Massimo Teodori. The New Left: A documentary
history, Bobbs-Merill, New York, 1969.
2 «Der Spiegel“, 1971 februär 1.
3 Politique Hebdo, 1971, mäjus.
4 См.: Thierry Pfister. Le gauchisme. Filipacchi, Paris,
1972, «Le Monde», 1973, märcius 3.
6 Cm.: Betty Reid. Ultraleftism in Britain. A Communist
Party Pamphlet, London, 1969.
IV ГЛАВА
1 См.: Matyäs Antal. A polgäri közgazdasägtan tortä-
nete. Közgazdasägi es Jogi Könyvkiado, 1963; Political economy
and ideology. Selected papers presented to the International Con¬
ference «New trands in contemporary bourgeois economics»,
1—4 June 1970, Budapest, MTA 1972; Herbert Meisner,
Theorie des Wirtschaftwachstums. Hoffnung und Dilemma der bür¬
gerlichen Ökonomie Akademie Verlag, Berlin, 1972; «Против бур¬
жуазной идеологии в экономической науке», М., 1970.
2 Paul Authony Samuelson. Economics, London, 1971„
855—856 p.
205
3 д к Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. М.,
1969.
4 Paul А. В а г а п, Paul М. Sweezy. Monopol Capitaly.
New York, 1966, p. 340—341.
6 Ernest Mandel. Traite d’economie marxiste. Julliard.
Paris, 1962.
6 Charles Bettelheim. La transition vers l’economie
socialiste, Maspero, Paris, 1968.
7 P.-P h. T e y. Sur l’articulation des modes de production.
Ecole Pratique des Hautes Etudes, 6е Section, Problemes de Pla-
nification, № 14, Paris, 1970.
8 Charles Wright Mills. The Sociological Imagination,
New York, 1959.
9Talcott Parsons. Theories of society I—II. Free Press
of Glencoe, New York, 1961.
10 Max Weber. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschafts¬
lehre. Tübingen, 1968; Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der
verstehenden Soziologie, Tübingen, 1956.
11 О буржуазной социологии см.: Ю. П. Францев. Кризис
современной буржуазной социологии. (А mai burzsoä szociolögia
välsäga. Kossuth Könyvkiadö, 1964); Kulcsär Kalman. A szo¬
ciolögiai gondolkodäs fejlödese. 2. kiadäs. Akademia Kiadö, 1971;
C. И. Попов. Критика современной буржуазной социологии.
М., 1970.
12 Raymond Aron. Dix-huit lemons sur la societe indu¬
strielle, Gallimard, Paris, 1941.
13 Francia szociolögia. Közgazdasägi es Jogi Könyvkiadö, 1971,
298 old.
14 Из венгерских изданий см. сл.: Charles Wright
Mills. Az uralkodö elit. Gonodolat, 1962. Hatalom — politika —
technokratak (Избр. работы). Budapest, 1970.
15 Charles Wright Mills. Letter to the New Left. The
New Left Reader. Grove Press. New York, 1969.
16 Andre Gor z. Strategie ouvriere et neocapitalisme. Seull,
Paris, 1964.
17 Andre Gor z. Technique, techniciens et lutte des classes.
Les Temps Modernes, 1971, aoüt-septembre.
18 «Les Temps Modernes», 1973, janvier.
19 William Hollingsworth Whyte Jr. The organi-
zation man. New York, 1956.
20 David Riesman. A magänyos tömeg. Közgazdasägi es
Jogi Könyvkiadö, 1968.
21 Vance Packard. The Hidden Persuaders. Cardinal,
New York, 1959; The Status seekers. McKay Company, New York,
1959; Feltörekves, rekläm, szexualitäs Amerikäban. Valogatottira-
sok, Gondolat, 1971; Tekozlök, Kossuth Könyvkiadö, 1966.
22 См.: Henri Lefebvre. La vie quotidienne dans le
monde moderne. Gallimard, Paris, 1968.
23 Cm.: Hermann Istvan: Freud avagy a pszichologia
kalandja. Gondolat, 1964.
24 Cm.: Errich Fromm. Escape from freedom (22 edit.)
New York, 1961; The sane society (10. edit.) New York, 1960.
25 О буржуазной психологии см.: Robert Sessions
Woodworth, Mary R. Sheehan. Contemporary Schools of
206
psychology. New York, 1964; Melvin Herman Marx. Theo¬
ries in Contemporary Psychoiogy. N<^w York, 1964; Ludwig
Jakob Pongratz. Problemgeschichte der Psychologie. Bern —
München, 1967; сб.: «Современная психология в капиталистиче¬
ских странах», М., 1963; С. Л. Рубинштейн. Бытие и созна¬
ние. М., 1957.
26 Herbert Markus е. Reason and revolution. Hegel and the
rise of social theory. 2. edit. Routledge and Kegan, London, 1955.
27 Herbert Markus e. Eros and civilization. Vintage, New
York, 1962.
28 Herbert Markuse. One dimensional man. Studies in
the ideology of advanced industrial society. Beacon Press, Boston,
1964.
29 Там же.
30 Ранние взгляды Ю. Хабермаса отражены в его: Theorie
und Praxis. Neuwied, Berlin, 1963. Современные взгляды см.:
Erkenntnis und Interesse. Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1968; а так¬
же Legitimations-Probleme des Spätkapitalismus. Suhrkamp,
Frankfurt/Main, 1973.
31 О Франкфуртской школе см.: Wilhelm Raimund
Beyer. Die Sünden der Frankfurter Schule. Ein Beitrag zur
Kritik der «Kritischen Theorie». Akademie Verlag, Berlin, 1971;
Gertraud К or f. Ausbruch aus dem «Gehäuse der Hörigkeit»?
Kritik der Kulturtheorien Max Webers und Herbert Markuses. Aka¬
demie Verlag, Berlin, 1971; Peter Reichel. Verabsolutierte
Negation. Zu Adornos Theorie von den Triebkräften der gesell¬
schaftlichen Entwicklung. Akademie Verlag, Berlin, 1972; N e 11 i
Motroschilowa, J. Samoschkin. Marcuses Utopie der
Antigesellschaft. Akademie Verlag, Berlin, 1971: Robert Stei¬
gerwald. Herbert Marcuses dritter Weg. Akademie Verlag, Ber¬
lin, 1969; Die Frankfurter Schule im Lichte des Marxismus. Frank¬
furt am Main, 1970, Berlin, 1971; Sand or Pal. A ket frankfur-
ti iskola, Kossuth Könyvkiadö, 1972; Göran Therborn.
A frankfurti iskola, Valösäg, 1972, № 4.
32Köpeczi В e 1 a. Az egzisztencialismus. 2. Kiadäs, Gon¬
dolat, 1972.
3? Norman M a i 1 e r. Hipster es beatnik. Vilägirodalmi fi-
gyelö, 1963, № 3.
34 Cm.: «Helikon», 1965, № 1.
35 К a r 1 О. F a e t e 1. Beat, eine Antologie. Hamburg, 1962,
а также: S z a b о 1 с s i M i k 1 ö s. Jel es Riältäs, 1971; U n g v ä r i
T a m ä s. Beatles biblia. (A negy apostol mitosza), 1969.
36Lukäcs György. Geschichte und Klassenbewusstsein.
Wien, 1923.
37 Cm.: Leon Figueres. Trockij es a trockizmus. Kossuth
Könvvkiadö, 1970.
38 Cm.: George Woodcock. Anarchism. Pelikan, Cleve¬
land, 1962.
39 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 76.
40 Ф. М е р и н г. Карл Маркс. М., 1957, стр. 148—149.
41 Ernesto Che Guevara. El socialismo yel hombre
en Cuba. Havanna, 1965.
42Regis Debray. Revolution dans la revolution? Paris,
1966 J
207
43 См.: Regis Debray. Notes de prison. Les Tempes Mo¬
dernes, 1970, juin. См. также его интервью в «Le Nouvel Obser-
vateur», juin, 1973, № 14.
44 Joe Slovo. The theories of Regis Debray. An African
Communist Pamphlet. London.
V ГЛАВА
1 Ma s s i m о T e о d о r i. The New Left.
2 Там же, стр. 183.
3 Там же, стр. 248.
4 Там же, стр. 202.
6 Там же, стр. 271.
6 Там же, стр. 282.
7 Там же, стр. 303.
8 Там же, стр. 426.
9 Там же, стр. 418.
10 J a m е s S. Coleman. The adolescence Society. Free press
of Glencoe, New York, 1961.
11 Massimo Teodori. The New Left. 323 и сл.
12 Там же.
13 G. G о j к о v i с s. Aramlatok az SDS-ben. Praxis, 1970,
Nb 5—6.
14 «New Left Review», 1969, III—IV.
15 Там же, 1970, январь — февраль.
16 Bobby Seale. Sur la scission du Black Panther Party.
. Git-le-Coeur, Paris, 1971.
17 Charles Reich. The greening of America. New York,
1971.
,7a Theodor Roszak. Where the Wasteland Ends. Politics
and Transcendence in Postindustrial Society. Doubleday, New
York, 1972.
18 Edward Schwartz. Will the revolution succeed? Re-
burth of the radical democrat. Griterium Books, 1972.
19 E d w a r d E. Plowman. The Jesus Movement in Ame¬
rica. David C. Cook, New York, 1972.
20 Ruben Ortega. The Jesus People Speak out. David
C. Cook, New York, 1972.
21 Alfred Fabre-Luce. Jesus arrive ä Paris. «Le Mond»,
8. III. 1972.
22 «Le Figaro», 1. IV. 1972.
23 «Die Zeit», 30. III. 1973.
24 Herbert Markuse. Reexamination of the concept of
revolution. — «New Left Review», VII—VIII. 1969.
25 «Valösäg», 1971, № 12.
26 Herbert Markuse. Konterrevolution und Revolte.
Suhrkamp, Frankfurt, 1973.
27 «Le Nouvel Observateur», 8.1.1973.
28 «Horizont», 1973, № 18.
29 Massimo Teodori. The New Left, p. 90.
30 «Politique Hebdo», V, 1971. См. также: H. Новиков.
Общественное содержание современного североамериканского ле¬
вого радикализма. — «Мировая экономика», 1971, № 5.
208
3JUwe Bergmann, Rudi Dutschke, Wolfgang
Lefevre, Bernd Rabehl. Rebellion der Studenten oder die
neue Opposition. Rohwolt, 1968.
32 Там же, стр. 55—56.
33 Там же, стр. 90—91.
34 Там же, стр. 92; А. Ко р к i n d. Von der Gewaltlosigkeit
?um Guerillakampf. — «Voltaire Flugschriften», № 14, S. 25.
35 С 1 a u s О f f e. Zur politischen Theorie der Ausserparla-
mentarischen Opposition. Universität und Widerstand. Frankfurt
am Main, 1968, S. 104.
36 Peter Brandt. Jugend- und Arbeiterbewegung. — «Der
Monat», 1968, November.
37 Peter Schneider. Rede zu deutschen Lesern und
Schriftstellern. — «Kursbuch», 1969, № 16.
38 «Kursbuch», 1970, № 22.
39 «Frankfurter Rundschau», 17. 1. 1972.
40 Rossana Rossand a. Der Sozialismus als Staatsmacht.
Ein Dilemma und fünf Berichte. — «Kursbuch», 1972, № 30.
41 Cm.: Robert Steigerwald. Marxistische Klassen¬
analyse oder spätbürgerliche Mythen. Akademie Verlag, Berlin,
1972.
42 R а о u 1 Vaneighem. Traite de savoir vivre ä l’usage
des jeunes generations. Gallimard, Paris, 1967.
43 Georges Debord. La societe du spectacle. Paris, 1967.
44 M u s t a p h а К a h а у а t i. De la misere en milieu etudiant,
consideree sous ses aspects egonomiques, politiques, psychologiques,
sexuels et noiamment intellectuels et de quelques moyens de les
remedier. A. F. G. E. S., 1966.
45 Richard Gombin. Les origines du gauchisme. Seuil,
Paris, 1971, p. 97.
46 Epistemon. Les idees, qui ont ebranle la France. Nan-
terre, novembre 1967—juin 1968. Paris, 1968.
47 La revolte etudiante. Seuil, Paris, 1968, p. 99.
48 Там же, стр. 101.
49 Там же.
50 D a n i е 1 С о h п- В е n d i t. Le gauchisme — remede contre
la maladie senile du communisme. Paris, 1968.
51 Köpeczi Bela. Reform, vagy forradalom. Mora Könyv¬
kiadö, 1970, 208—216 old.
52 Les murs ont la parole. Paris, 1968; L’imaginatron au pou-
voir. Paris, 1968.
53 S. Ziegel. Les idees de Mai. Paris, 1969.
54 Alain Geismar. Pourquoi nous combattons? Maspero,
Paris 1970.
55 «Neues Forum», 1971, VII.
56 «Der Spiegel», 1973, № 7.
57 Ce que veut la Ligue Communiste? Manifeste du Comite
Central des 29 et 30 janvier 1972. Maspero, Paris, 1972.
68 Alain Touraine. Le communisme utopique. Le mouve-
ment de mai 1968. Seuil, Paris, 1972.
69 Claude Prevost. Les £tudiants et le gauchisme. Edb
tions Sociales, Paris, 1969,
209
60 New Revolutionaries. Szerk. Tariq Ali. London, 1969,
p. 202—209.
ei «Valösäg», 1968, № 7, 10; «Rinascita», 3. V. 1968.
62 Documenti della rivolta universitaria. Bari, 1968.
63 См.: II Movimento Studentesco. Storia e documenti, 1968—*
1973. Szerk. Cortese. Bompiani, Milano, 1973; и о главных целях
этого движения: La Situazione attuale е i compiti politici del
Movimento Studentesco. CUEM, 1970, XII.
64 Об итальянском студенческом движении см.: G. S t a t е г а.
Storia di una utopia. Rizoli, Milano, 1973; F. Catalano. I mo-
vimenti studenteschi e la scuola in Italia (1938—1968). Mondadori,
Roma, 1973.
65 Alle avanguardie per il partito. Edizioni Politiche, Roma,
1970.
66 «Les Temps Modernes», VIII—IX. 1970.
67 См. «Les Temps Modernes», III. 1971.
68 Cm.: Antonio Gramsci. Välogatott filozöfiai irasok.
Kossuth Könyvkiadö, 1971.
69 «Les Temps Modernes», III. 1971. См. также: «New Left
Review», III—IV. 1971.
70 См. их интервью газете «Экспрессо» 24.IX.1972.
71 «Унита», 14.IX.1972.
72 Stewart Hull, Raymond Williams, Edward
Thomson. May Day Manifesto. The New Left Reader. Ed,
Carl Oglesby, Grove Press, New York, 1969, p. 114—143.
73 Tom Fawthrop. Towards an Extra-Parliamentary Oppo¬
sition. New Revolutionaries, p. 54—66.
74 New Revolutionaries, p. 67—78.
75 Betty Reid. Ultraleftism in Britain. London, 1969.
76 Robin Blackburn. A brief guide to bourgeois ideology.
Student Power. Edit. Alehander Cockburn and Robin Blackburn
Harmondswort, London, 1969.
77 R. G. L i p s e y. An introduction to Positive Economics.
London, 1967.
78 Paul A. Samuelson. Economics. London, 1966.
79Talcott Parsons. Sociological Theory and Modern So¬
ciety. London, 1968.
80 Ideology in Social Sciences. Readings in Critical Sociolo¬
gy. Edit. Robin Blackburn and Fontana Collins. London, 1972.
VI ГЛАВА
1 См.: Радован Рихта. Научно-техническая революция
и развитие человека. — «Вопросы философии», 1970, № 1—2;
Radovan Rieht a. Vedockotechnicka revoluce a jeji spolecensk6
aspecty. — «Filos Casopis», № 1; A tudomänyos es müszaki for-
radolom filozöfiai es szociolögiai problemäi. — «Filozöfiai Közle-
menyek“, 1970, № 1; Huszär Istvan. Tudomänyos-müszaki
forradalom, tärsadalmi struktura es gazdasag. Kossuth Könyvkia¬
dö, 1969.
2 E. Варга. Современный капитализм и экономические
кризисы. М., 1962, стр. 109—111.
210
3 Там жо, стр. 356.
4Göncöl György. Allammonopolista kapitalizmus. El-
melet es valösäg. Kossuth Könyvkiado, 1970.
5 Там же, стр. 12.
6 См.: Szolomon L’vovics Vigoszkij. Gazdasägi
törvenyek a monopolkapitalizmusban. Kossuth Könyvkiadö, 1972.
7 В. Михеев «Старты» и классы. — «Новое время», 1972,
Кя 15.
8 Lukäcs György. Törtenelem es osztälytudat. Magvetö,
1971.
9 Там же, стр. 714—715.
10 Там же. стр. 710.
11 Там же, стр. 720.
12 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 30—31.
13 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 8, стр. 254.
14 Waldeck Rochet. Les enseignements de mai — juin
1968. Editions Sociales, Paris, 1968.
15 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т, 34, стр. 242—243.
16 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 69—70.
17 К. № а р к с и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 7.
18 Massimo Teodori. The New Left, p. 202.
19 В. И. Лени и. Полн. собр. соч., т. 8, стр. 242.
20 Там же, стр. 403—404.
21 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 438.
22 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, стр. 84—85.
23 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 215.
24 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 15, 18.
25 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, стр. 193—194.
26 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 18—19.
27 Там же, стр. 19.
28 Там же, стр. 27.
29 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 446.
30 Там же, стр. 446—447.
31 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, стр. 90.
32 Ernest Mandel. Contröle ouvrier, conseils ouvriers,
autogestion. Maspero, Paris, 1973.
33 Ernst Bloch. Das Prinzip Hoffnung. I Bd. Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1967. S 5.
34 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 22,
стр. 117—118.
VII ГЛАВА
1 См.: Anne Lombard. Le mouvement hippie aux Etats-
Unis. Paris, 1972; D. Williams. About hippies. New York, 1970.
2 Notes from the Underground. Edit. J. Kornbluth Viking
Press, New York, 1968; The Underground Reader. Edit. M. Howard
and Th. K. Forcade. New American Library, 1972.
3 Walter Hollstein. Der Untergrund. Luchterhand, 1969,
s. 68—69.
4 Anne Lombard. Le mouvement hippie aux Etats-Unis,
p. 86.
5 Teodor Roszak. The Making of a Counter-Culture,
Boston, 1969.
211
6 Там же, стр. 64.
7 Rolf Schwendtner. Theorie der Subkultur. Kipenh-
auer-Witsch, Köln, 1971.
8 Theodor W. Adorno. Minima moralia. Suhrkamp. Ber¬
lin-Frankfurt am Main, 1951, S. 396.
9 Cm.: Rolf-Ulrich Kaiser. Das Buch der neuen Musik.
Econ Verlag, Düsseldorf — Wien, 1969.
10 Cm.: Erika Billeter. The Living Theater. Rütern und
Löning, 1969.
11 Jean Jacques Lebel. Le happening. Denoöl, Paris,
1966.
12 Louis Brau. Cours, Camarade, le vieux monde est der-
riere toi! Histoire du mouvement revolutionnaire etudiant en
Europe. Albin Michel, Paris, 1968, p. 105.
13 Jürgen Claus. Kunst heute. Personen, Analysen, Do¬
kumente. Rowohlt, Reinbek, 1969.
14 Cm.: Jerzy Plazevsky. Ha mindez marvänymedence-
vel vegzödik? Nemzetközi Filmtäjekoztatö, 1973, № 1.
15 Cm.: «Literature in Revolution», 1972, № 23—24
16 Cm.: J. F. В i z о t, M. A. В о u r n i e r. La presse under¬
ground. Preuves, 1971, № 2.
Послесловие
Литература о «новых левых» обширна. Она слагается из ра¬
бот самих «новых левых» (преимущественно их идеологов) и ра¬
бот о «новых левых», принадлежащих перу журналистов, писа¬
телей, философов, политиков, социологов всех политических от¬
тенков. И вот что характерно: волна выступлений «новых левых»
как будто бы схлынула, многие говорят о кризисе движения, а
литература о* нем продолжает расти. Причем, если судить по этой
литературе, то полемические страсти вокруг дискутируемого фе¬
номена тоже пока не утихают.
В чем же причина столь пристального внимания к «новым
левым»?
Прежде всего, на наш взгляд, в сложности и новизне дви¬
жения «новых левых».
На первых порах его становления, правда, могло пока¬
заться, что мы имеем дело с возвратом старой моды. Однако до¬
вольно скоро стало ясно, что если в отдельных деталях движения
(особенно его идеологии) угадывается что-то знакомое («повто¬
рение старых ошибок», говоря словами Ленина), то как целост¬
ное явление феномен «новых левых» — оригинальный продукт
второй половины XX века, возникновение которого тесно связано
с борьбой двух мировых социальных систем. А новый феномен
такого масштаба, как движение «новых левых», неизбежно при¬
влекает к себе пристальное внимание со стороны широкого круга
исследователей, что, естественно, порождает и обширную лите¬
ратуру.
213
Вторая причина имеет уже сугубо политический характер.
Чуть ли не с первых дней своего появления «новые левые» стали
играть роль одного из тех полюсов, где концентрируются проти¬
воречия современной эпохи и вокруг которых развертывается
борьба различных классовых лагерей.
Прогрессивные силы капиталистических стран во главе с
коммунистами стремились высвободить основную массу бунтую¬
щей молодежи и интеллигенции из-под влияния идеологии троц¬
кизма, анархизма и придать ее выступлениям конструктивно-ре¬
волюционный характер. Напротив, антикоммунистические и кон¬
сервативные силы толкали «новых левых» на борьбу против ком¬
партий и социалистических стран, пытаясь сделать их (по выра¬
жению одного французского марксиста) «козырем в игре круп¬
ного капитала». Эта борьба была перенесена на страницы книг,
газет и журналов. Она продолжается по сей день, и не похоже,
чтобы буржуазия оставила мысль о привлечении «новой левой»
интеллигенции и молодежи на свою сторону.
Наконец, есть еще одна причина внимания к «новым левым».
Если приглядеться к тому, как происходит движение социаль¬
ной науки, то можно заметить: нередко самые различные со¬
циально-гуманитарные исследования (философские, социологиче¬
ские, эстетические, психологические, литературоведческие), веду¬
щиеся в самых разных направлениях, в итоге на первый взгляд
неожиданно «выходят» на какой-то один, общий, чем-то особенно
характерный для данного этапа общественного развития социаль¬
но-духовный феномен. Такой многомерный феномен оказывается
как бы «центром», «осью», вокруг которой в течение определен¬
ного времени «вращаются» интересы различных сфер социаль¬
ной науки.
Вот одним из таких «осевых» феноменов и стало в 60—
70-е годы движение «новых левых». Надолго ли — это будет за¬
висеть от дальнейшего развития событий в духовной и обще¬
ственно-политической жизни современного мира.
Наряду с советскими авторами 1 деятельное участие в крити¬
ческом исследовании движения «новых левых» и теоретической
1 См., в частности: Араб-Оглы Э., Жирицкий А. Мо¬
лодежь и будущее Америки. — «Мировая экономика и междуна¬
родные отношения», 1971, № 10; В. Большаков. Бунт в ту¬
пике? М., 1973; Быховский В. Философия мелкобуржуазного
бунтарства —«Коммунист», 1969, № 8; Be л и ко век и й С. М.
Бастующая интеллигенция. — «Иностранная литература», 1971,
№ 7; Замошкин Ю., Мотрошилова Н. Критична ли «кри¬
тическая теория общества» Герберта Маркузе? — «Вопросы фило¬
214
разработке связанных с ним проблем принимают зарубежные
марксисты.
Наш читатель уже имел возможность познакомиться в рус¬
ском переводе с книгами западногерманского марксиста Робер га
Штайгервальда «Третий путь» Герберта Маркузе» и английского,
марксиста Джека Уоддиса «Новые теории революции». Теперь
издательство «Прогресс» предлагает перевод книги венгерского
литературоведа и историка, Генерального секретаря Венгерской
Академии наук Белы Кёпеци «Идеология «новых левых».
Работа доктора Кёпеци, которую сам он рассматривает как
«популярный очерк», призвана, по замыслу автора, помочь чита¬
телю «получить информацию и составить определенное представ¬
ление» об идеологии «новых левых».
Успешно решая поставленную задачу, автор вместе с тем
выходит за рамки, очерченные заголовком, и анализирует дви¬
жение не только с идеологической, но и с политической и со¬
циальной сторон, что, конечно, делает книгу более весомой.
Работа Кёпеци, выпускаемая в интернациональной серии
«Критика буржуазной идеологии и ревизионизма», интересна еще
и тем, что позволяет получить известное представление о том,
как венгерские ученые решают общую для всех марксистов за¬
дачу критики немарксистской идеологии.
софии», 1968, № 10; они же, «Новые левые» — их мысли и на¬
строения.— «Вопросы философии», 1971, № 4; К о н И. Студен¬
ческие волнения и теория конфликта поколений. — «США — эко¬
номика, политика, идеология», 1971, № 3; Р. Косолапое,
В. П е ч е н е в. Куда ведет молодежь философия Маркузе? — «Мо¬
лодой коммунист», 1969, № 1; Мяло К. Проблема «третьего
мира» в левоэкстремистском сознании. — «Вопросы философии»,
1972, № 1; Новиков Н. Социальное содержание современного
левого радикализма в США. — «Мировая экономика и междуна¬
родные отношения», 1970, № 5; Новинская М. Студенческая
революция в США и кризис буржуазных ценностей. — «Вопросы
философии», 1972, № 12. См. также: Салычев С. «Новые ле¬
вые»— с кем и против кого. М., 1972: Салычева Л. «Новые
левые» десять лет спустя. — «США — экономика, политика, идео¬
логия», 1972, № 11; Социальная философия Франкфуртской
школы (под ред. Б. Н. Бессонова, И. С. Нарского, М. В. Яков¬
лева). М., 1975; Соловьев Э. Критика социальной философии
«Франкфуртской школы». — «Вопросы философии», 1973, № 9;
Сб. Левое студенческое движение в странах капитала. М., 1976;
США: Студенты и политика. М., 1974; А. Л. Семенов. Левое
студенчество во Франции. М., 1975. См. также наши работы:
«Философия бунта». М., 1973; Противоречия современного «ле¬
вого радикализма». — «Борьба идей в современном мире», т. 2,
гл. III, М., 1976.
215
Кёпеци совершенно прав, отмечая на первых же страницах
своей книги, что одним из самых трудных вопросов, с которым
неизбежно приходится сталкиваться исследователю «новых ле¬
вых», является вопрос о составе движения («течения», как гово¬
рит автор книги).
Дело в том, что трудность идентификации «новых левых»
связана с целым рядом переплетающихся между собой причин.
Это прежде всего отсутствие четкой и стабильной организации
и идеологии, которая бы разделялась если не всеми, то большин¬
ством участников движения. Это и редкая пестрота составляю¬
щих его групп. Это, наконец, и сложная эволюция движения,
история которого насчитывает уже около двух десятков лет.
В 1960 году один из крестных отцов «новых левых», про¬
грессивный американский социолог Райт Миллс попытался опре¬
делить, что значит быть «левым» во второй половине XX века.
«Быть «правым», — утверждал Миллс, — означает, между прочим,
признавать и поддерживать существующее общество. Быть «ле¬
вым» значит, или должно значить, как раз обратное: изучать и
критиковать всю структуру общества и создавать такие теории
общества, которые, будучи политически заострены, становятся
требованиями и программами. Эта критика, эти исследования,
требования, теории, программы, — продолжал Миллс, — вдохнов¬
ляются, в нравственном отношении, гуманистическими и свет¬
скими идеалами западной цивилизации, прежде всего идеалами
разума, свободы и справедливости. Быть «левым» означает свя¬
зывать критику культуры с критикой политики, а то и другое —
с позитивными требованиями и программами»L При этом под¬
разумевалось (или специально оговаривалось), что «новые левые»
в отличие от «старых» — коммунистов и социалистов — действуют
вне рамок традиционных политических партий, а если и опи¬
раются на марксизм, то в его «нетрадиционной» трактовке.
Во второй половине 50-х годов под определение Миллса бо¬
лее всего подходили стихийно сложившиеся небольшие группы
интеллигентов, сосредоточенные в университетских центрах Анг¬
лии и ряда других европейских стран. При этом заметную роль
в этих группах играли лица, вышедшие или исключенные в
50-х годах из коммунистических и рабочих партий.
Любопытно, что на этом начальном этапе движения многие
из тех, кого позднее стали именовать (и не без основания) не
иначе как «идеологами» «новых левых» — Герберт Маркузе, Эрих
1 C. W г i g h t Mills. Letter to the New Left, — «New Left
Review», № 5, Sept. — Oct. L., 1960, p. 20—21.
216
Фромм, Жан-Поль Сартр, Теодор Адорно, — были далеки от «но¬
вых левых». Только в 60-х годах эти последние «открыли» для
себя названных философов и социологов, обнаружив в их произ¬
ведениях и выступлениях нравственное оправдание и теоретиче¬
ское обоснование бунта против буржуазного истэблишмента.
Только тогда «новые левые» отождествили их с собой, вознесли
над собой, сделав их своими кумирами.
Лишенные массовой поддержки, раздираемые внутренними
противоречиями, европейские «новые левые» 50-х годов так и не
смогли выйти за рамки клубных академических дискуссий. Обе¬
щание разработать «современную революционную доктрину»,
Призванную заменить революционную теорию «старых» левых,
так и осталось невыполненным, а их нравственный бунт против
истэблишмента был последним без особого труда переварен.
В начале 60-х годов положение начало меняться, что непо¬
средственно было связано прежде всего с растущим вовлечением
непролетарских масс, особенно студенчества, развитых капитали¬
стических стран в открытую борьбу против господствующих со¬
циальных структур и в итоге — с возникновением массовой базы
антикапиталистического протеста, на которую могли бы опе¬
реться «новые левые».
Вплоть до середины 60-х годов эти процессы наиболее ин¬
тенсивно протекали в США, куда на это время и переместился
центр движения и где оно вскоре получило более широкий раз¬
мах, чем ранее в Европе.
Надо сказать, что американские «новые левые» на первых
порах действовали в духе либерально-буржуазных традиций, а
Цели движения и методы борьбы, как это можно видеть из Порт-
Гуронской декларации, цитируемой автором книги, не были
ориентированы на революционное изменение общества. Даже
когда «новые левые» принимали участие в массовых полити¬
ческих акциях, они использовали ненасильственные методы
борьбы.
Но вот примерно с середины 60-х годов начинается резкая
радикализация студенчества и интеллигенции в Европе, и в дви¬
жении «новых левых» намечается заметный перелом. Теперь на
первом плане у них оказывается уже не столько задача ради¬
кальной критики буржуазного истэблишмента и просвещения
Масс, сколько требование непосредственного изменения суще¬
ствующей системы институтов и отношений путем активных мас¬
совых действий. Группы, ориентирующиеся на насилие, стано¬
вятся особенно влиятельными и среди американских, и главным
образом среди европейских «новых левых».
217
Одновременно выявляется довольно отчетливая ориентация
отдельных леворадикальных групп на некоторые анархистские,
троцкистские идеологические и политические установки и методы
борьбы..
Принимая во внимание отмеченную выше эволюцию движе¬
ния, можно сделать вывод, что Кёпеци находит единственно пра¬
вильный путь, включая в число «новых левых» все группы, пред¬
ставлявшие движение на различных этапах его развития. «По
мнению некоторых из них, — пишет Кёпеци об авторах работ
о «новых левых», — термин «новые левые» относится лишь к та¬
ким группам, которые сформировались главным образом после
1956 года при участии представителей интеллигенции, исключен¬
ных или вышедших из коммунистических партий. По мнению дру¬
гих, «новыми левыми» являются анархистские, троцкистские
группы, которые в той или иной мере связаны с элементами,
упомянутыми выше. Есть и такие политологи, которые считают
«новых левых» прежде всего «движением» неорганизованных, не
принадлежащих ни к каким партиям и группам недовольных ин¬
теллигентов. По нашему мнению, — приходит к заключению Кё¬
пеци, — термин «новые левые» так- или иначе может быть отне¬
сен ко всем этим категориям, ибо их нельзя четко разграничить
ни с точки зрения теории, ни с точки зрения политической прак¬
тики» (стр. 6—7).
Не может, на наш взгляд, вызвать принципиальных возра¬
жений и предлагаемая автором книги классификация «новых ле¬
вых» на основе выделенных им «ориентаций» (стр. 45). Един¬
ственное, что в данном случае должен иметь в виду читатель, —
это очевидную условность всякого рода схематических иден¬
тификаций, применяемых в отношении столь сложного обще¬
ственного явления.
Конечно, «широкий» подход создает дополнительные трудно¬
сти для исследования, но зато он дает и более точную картину
рассматриваемого феномена, ибо при всем их различии для по¬
давляющего большинства «новых левых» характерны и те «поли¬
тические трюизмы», о которых пишет Кёпеци, и однотипное от¬
ношение к марксизму и реальному социализму, и общая установ¬
ка (при различии конкретных методов) на отрицание буржуаз¬
ного истэблишмента.
Подход, избранный Кёпеци, выглядит тем более предпочти¬
тельным, что кое-кто на Западе склонен судить о движении «но¬
вых левых» по его отдельным частным проявлениям. Типичный
тому пример — отождествление «левых» радикалов с «левыми»
экстремистами.
218
Разумеется, критика «левого» экстремизма — касается ли она
его проявлений в политике, философии или искусстве — всегда
актуальна, а сегодня — в особенности. При этом она может ока¬
заться и основательнее и полезнее в тех случаях, когда в роли
критиков «левого» экстремизма выступают люди, которые по
личному опыту знают, что это за народ — богемные интеллигенты
и полуинтеллигенты антиконформистской «пробы», играющие в
«левый» экстремизм — игру столь же неэффективную, сколь и
опасную — не для истэблишмента, а для самих «играющих», а
иной раз и для массовых движений протеста, принимающих на
себя удар, спровоцированный экстремистами. Примеров тому
сколько угодно — хотя бы «приключения» группы Баадера —
Майнхоф.
Но та же самая критика — при всем ее пафосе — бьет мимо
цели, когда она переносится на движение «новых левых» в це¬
лом — неважно, с оговорками или без них, — поскольку, хотя
«левые» экстремисты 60-х годов были, конечно, вскормлены дви¬
жением «новых левых» и в большинстве своем были связаны
с ними, составляя их часть —но тем не менее только часть.
К тому же далеко не самую авторитетную и представительную,
хотя, бесспорно, самую шумливую и «демонстративную».
Некоторые из западных критиков отождествляют «левых»
радикалов и «левых» экстремистов на том основании, что-де и
те и другие делают основную ставку на насилие. А для либе¬
рального сознания, противополагающего «мирный» путь «насиль¬
ственному», ориентация на насилие — самый что ни на есть ха¬
рактерный признак экстремизма.
Представление о том, что буржуазный истэблишмент может
быть разрушен только путем применения насилия, действительно
было характерно для многих отрядов «новых левых» второй по¬
ловины 60-х годов. Но ориентация на насилие сама по себе еще
не есть достаточное основание для социально-политической ха¬
рактеристики субъекта насилия.
Марксизм, как известно, исходит из того, что социальная
революция (в том числе социалистическая), как радикальный
способ разрешения классовых антагонизмов, всегда есть насилие.
Она не может не быть насилием, ибо никогда еще в истории
господствующие классы не сдавали добровольно своих позиций,
и не похоже, чтобы они собирались это сделать сегодня или
завтра.
Другое дело, что насилие может осуществляться как мирным
(что более предпочтительно, по мнению коммунистов), так и не¬
мирным, то есть вооруженным, путем.
21)
При общей ориентации на насилие между «новыми левыми»
радикалами и «новыми левыми» экстремистами существовало то
серьезное различие, что последние фетишизировали насилие, пре¬
вращали его в самоцель (в духе Франца Фанона), а в реальной
политической практике скатывались на путь террора. В конеч¬
ном итоге большинство левоэкстремистских групп порывало с ос¬
новной массой «новых левых» не только организационно, но и
политически.
Тут мы подходим к другому «трудному» вопросу, с которым
неизбежно сталкивается исследователь «новых левых»: кто они
такие по своему социальному генезису, из каких социальных
групп (и почему именно из них) они рекрутируются, чьи интере¬
сы выражают?
Ответить на поставленные вопросы можно, только проанали¬
зировав противоречия современного капиталистического общества,
а значит, и социальные процессы, порождающие эти противо¬
речия.
При этом важно избежать соблазна попытаться объяснить
новые явления старыми причинами, сведя, например, весь вопрос
к проявлению традиционной мелкобуржуазной психологии и
идеологии. Наконец, важно правильно очертить географические
границы явления и решить, можно ли мерить одним аршином
западноевропейских и, скажем, африканских интеллигентов, на¬
зывающих себя «новыми левыми».
Кёпеци, как мог заметить читатель, стремится с самого на¬
чала четко обозначить свои позиции по всем этим вопросам.
«Новые левые» для него — не возвращение старой моды, а
«во многих отношениях новые идейно-политические течения...»
(стр. 5). Географические границы очерчены достаточно четко:
США и Западная Европа. А «если в «третьем мире» мы и встре¬
чаемся с явлениями, напоминающими «новое левое» движение
капиталистических стран, то экономические, социальные различия
в данном случае столь велики, что перед лицом этих различий
сходство отступает на задний план» (стр. 6). Остается, правда,
неясным, почему автор исключил из своего анализа Японию, где
мы сталкиваемся с левым радикализмом, отнюдь не похожим на
левый радикализм, встречающийся в странах «третьего мира».
Что же касается социалистических стран, то там, как пишет
доктор Кёпеци, не те условия, чтобы появились «новые левые»,
а если кто-то и подхватит вдруг те или иные тезисы «новых ле¬
вых», то в этом случае их носители «не могут удержаться даже
на позициях противоречивого антикапитализма своих западно¬
европейских вдохновителей» (стр. 6).
220
Вполне оправдано внимание, которое автор уделяет (в пер¬
вых двух главах книги) поискам социальной базы «новых левых»,
прослеживая структурные изменения в экономике развитых ка¬
питалистических стран. При этом он обращает особое внимание
(подчас перегружая популярную книгу многочисленными стати¬
стическими выкладками) на устойчивые тенденции к росту доли
лиц наемного труда среди самодеятельного населения и к изме¬
нению пропорций между работниками физического и умственного
труда в пользу последних. «Все это, — подчеркивает Кёпеци, —
сказывается на положении интеллигенции, поскольку значитель¬
ная часть этой прослойки работает в секторе обслуживания и
относится к категории лиц наемного труда» (стр. 13). Именно
из этой прослойки, точнее, из той ее части, которая не занимает
«государственных и руководящих экономических постов», а также
из студенчества и рекрутируется основная масса «новых левых».
При этом, как помнит читатель, автор относит рассматриваемую
часть интеллигенции «к так называемым средним слоям», на ко¬
торые он распространяет Марксову характеристику «мелкой бур¬
жуазии».
К сожалению, автор так и не раскрывает вскользь брошен¬
ное им замечание о том, что превращение интеллигентов в лиц
наемного труда «сказывается на положении интеллигенции». Как
именно сказывается? Почему происходит отмеченное превраще¬
ние? Только ли дело в численном росте интеллигенции или же
здесь играют роль какие-то качественные изменения? Эти вопросы
остаются без должного ответа.
Не спасает дела и ссылка на «двойственность» мелкой бур¬
жуазии, поскольку остается неясным, в чем же все-таки специ¬
фика этой «двойственности» применительно к интеллигенции со¬
временного капиталистического общества.
Причина всех этих недомолвок коренится, как нам кажется,
в том, что автор обходит стороной вопрос о социальных послед¬
ствиях научно-технической революции в развитых капиталисти¬
ческих странах и ее влиянии на положение интеллигенции в бур¬
жуазном обществе. А эго вопрос, без рассмотрения которого
нельзя составить адекватного представления о социальной базе
«новых левых». Ибо это движение в своих глубинных истоках
порождено кризисом современной буржуазной цивилизации, кото¬
рый в политическом отношении связан с неотвратимым ростом
сил социализма в мире, а в социально-экономическом отноше¬
нии — с противоречивым характером развития научно-техниче¬
ской революции в рамках буржуазных общественных отношений.
Речь идет прежде всего о противоречиях между стремлением
221
господствующих классов буржуазного общества развернуть науч¬
но-техническую революцию и одновременно' попытками ввести
ее в традиционное русло промышленной цивилизации; между тре¬
бованиями, предъявляемыми этой революцией к обществу и че¬
ловеку, и неспособностью капитализма осуществить эти требо¬
вания.
В XIX веке и первой половине XX века интеллигенция капи¬
талистического общества в своей массе не была вовлечена в про¬
цесс непосредственного производства прибавочной стоимости. Ин¬
теллигент выступал как «свободный художник», который от на¬
чала и до конца контролировал процесс создаваемого им — не по
«заказу», а по «велению души» — продукта и сам же выступал
в качестве его продавца. Это хорошо показал еще Маркс.
«...Мильтон, написавший «Потерянный рай» и получивший за него
5 ф. ст., ...создавал «Потерянный рай» с той же необходимостью,
с какой шелковичный червь производит шелк. Это было дей¬
ственное проявление его натуры» 1. «А лейпцигский литератор —
пролетарий, фабрикующий по указке своего издателя те или иные
книги (например, руководства по политической экономии), яв¬
ляется производительным работником, так как его производство
с самого начала подчинено капиталу и совершается только для
увеличения стоимости этого капитала»2. Но для традиционного
капиталистического общества все же наиболее типичной фигурой
был именно буржуазный интеллигент типа Мильтона. Отсюда
проистекало и самосознание этого интеллигента как «свободного
творца», «независимого» от крупного капитала и чувствующего
свои позиции в обществе достаточно прочными. Отсюда происте¬
кало и его чувство элитарной исключительности, порой бросав¬
шее буржуазного интеллигента — «во имя идеалов» — на барри¬
кады, но чаще делавшее его «страшно далеким от народа» и
толкавшее на снисходительное, но исправное служение «верхним
десяти тысячам» и защиту существующей системы общественных
отношений, либо молчаливое принятие ее.
Сегодня, в условиях общего кризиса капитализма, протекаю¬
щего на фоне развертывающейся научно-технической революции
и превращения науки в непосредственную производительную силу,
положение интеллигенции в буржуазном обществе меняется ради¬
кальным образом.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. I, стр. 410.
2 Там же.
222
Недостаточность чисто экономических рычагов воздействия
на трудящихся для поддержания существующих отношений гос¬
подства-подчинения и необходимость прямого воздействия на соз¬
нание массы (реклама, телевидение, кино, пресса и т. п.) при¬
вели к созданию своеобразной «индустрии массовой культуры»,
организованной по новейшим образцам промышленного производ¬
ства и обслуживаемой лицами, по традиции принадлежавшими
к интеллигенции. Непосредственное вторжение науки в промыш¬
ленное производство, сферу обслуживания, административного
делопроизводства также привело к значительному увеличению
числа интеллигентов, занятых в этих сферах.
А это не могло не повлечь за собой не только «разбухания»
некогда сравнительно узкой прослойки интеллигенции, но также
попутного изменения характера труда, а вместе с ним и социаль¬
ного статуса большинства представителей этой прослойки. Вче¬
рашний «свободный художник» сегодня находит себе место в
обществе в качестве рядового служащего капиталистической кор¬
порации, работающего строго по заказу, прикованного к опре¬
деленному участку «конвейера» и совершенно утратившего свою
былую привиле1ию контроля над всеми звеньями производства
создаваемого им продукта.
Вместе с этой привилегией интеллигент утрачивает и не¬
когда принадлежавшую ему (пусть ограниченную) власть над
собственной деятельностью, над самим собой.
Таким образом, в современном развитом капиталистическом
обществе положение большинства из тех, кого по традиции за¬
числяют в разряд интеллигенции, становится двойственным и про¬
тиворечивым и в этом смысле близким к положению, традицион¬
но присущему мелкой буржуазии.
В самом деле, превращаясь — вопреки собственной воле —
из «свободного» кустаря-одиночки в наемного работника круп¬
ного предприятия, массовый интеллигент буржуазного общества
по своему социальному положению приближается к индустриаль¬
ному пролетарию. Но, не будучи уже буржуазным интеллигентом,
он вместе с тем еще и не пролетарий в полном смысле этого
слова. Он еще пользуется определенными привилегиями, еще
не порвал всех связей с традиционными для «свободного»
интеллигента стереотипами, еще зачастую мыслит старыми кате¬
гориями. Он находится как бы на границе между двумя различ¬
ными социальными статусами и, подобно мелкому буржуа, испы¬
тывает растущую неуверенность в своем будущем.
Недовольство нынешним положением, помноженное на не¬
уверенность в будущем, превращает эту своего рода «люмпен-
223
интеллигенцию» во «взрывчатую массу», связывающую свое осво¬
бождение с отрицанием истэблишмента и питающую, как и мел¬
кая буржуазия, радикально-критические умонастроения в обще¬
стве. Далеко не случайна также и та поддержка, которую эта
интеллигенция получает со стороны значительной части студен¬
чества. По существу, мы имеем здесь дело с однотипными при¬
чинами. Студенты недовольны положением дел в высшей школе,
обучение в которой все более подчиняется целям большого биз¬
неса. Это приводит к тому, что вся деятельность высшей школы
строится таким образом, чтобы обеспечить подготовку высоко¬
квалифицированных специалистов узкого профиля с конформным
мышлением. Высшая школа начинает напоминать крупное капи¬
талистическое предприятие, выпускающее конвейерным способом
унифицированные изделия, подлежащие сбыту на рынке интел¬
лектуального труда. Отсюда и вполне понятные опасения студен¬
тов за свое будущее.
Студент, вышедший из мелкобуржуазной и даже буржуаз¬
ной (мы уже не говорим о пролетарской) среды, лишается твер¬
дых гарантий привилегированного социального положения, по
традиции связываемых со статусом интеллигента. Если у него
нет прочных «связей» в мире бизнеса, то ему грозит участь мно¬
гих нынешних интеллигентов — стать «люмпен-интеллигентом»,
превратиться в пролетария умственного труда.
Отсюда стремление определенной части студенчества к ради¬
кальному изменению капиталистического общества, легко перера¬
стающее при благоприятных условиях в бунтарство.
Сказанное выше подводит нас к следующему выводу. «Но¬
вые левые» выступают в качестве представителей и выразителей
умонастроения прежде всего тех непролетарских слоев разви¬
того капиталистического общества, которые в условиях общего
кризиса капитализма, протекающего на фоне научно-технической
революции, утрачивают свой прежний общественный статус (а
также связанные с ним привилегии) и непосредственно сталки¬
ваются с нежелательной для них перспективой превращения в
пролетариат умственного труда.
На этом не стоило бы так подробно останавливаться, если
бы отмеченные процессы не имели самого прямого отношения
к сознанию «новых левых», к их идеологии.
Надо сказать, что идейно-теоретическая идентификация «но¬
вых левых» тоже относится к числу вопросов, вызывающих боль¬
шие разногласия среди исследователей. Есть даже точка зрения,
что у леворадикалов вообще нет никакой идеологии. Это, ко¬
нечно, крайность, но она не беспричинна. Заимствуя свои кон-
224
депции из разновидных идейных источников и пытаясь свести
воедино противоречивые взгляды, «новые левые» вместе с тем,
как верно отмечает Кёпеци, «подчеркнуто отвергают всякую
целостную систему идей» (стр. 5). Это осложняет задачу иссле¬
дователя, но не освобождает его от обязанности представить
свой теоретический анализ. Тем более что «в капиталистическом
обществе подобная позиция, — как утверждает автор книги, —
не скоропроходящая мода, а довольно стойкое идейно-политиче¬
ское явление, характерное для некоторых групп интеллигенции;
в их глазах она предстает как одна из возможных модификаций
концепции так называемого «третьего пути» (стр. 5—6).
Иными словами, идеология «новых левых» представляет инте¬
рес не только как конкретное явление, но и как тип современ¬
ной идеологии, периодически воспроизводимой борьбой сил капи¬
тализма и социализма как внутри отдельных стран, так и в ми¬
ровом масштабе.
Бела Кёпеци строит свой анализ таким образом, чтобы дать
представление и об общих идейных истоках «новых левых», и
об идейной эволюции их национальных отрядов, и о тех взгля¬
дах на современное капиталистическое общество, революцию, ра¬
бочий класс, социалистические страны и т. п., которые автор име¬
нует «политическими трюизмами», разделяемыми большинством
«новых левых».
В итоге читатель получает достаточно полное, документаль¬
ное освещение всех этих проблем, что, впрочем, не исключает
возможности товарищеской дискуссии по отдельным вопросам.
На наш взгляд, автор несколько сужает определение действи¬
тельного круга источников, из которых «новые левые» черпают
свои идеи. Он ограничивает его триадой, включающей «буржуаз¬
но-либеральные школы общественных наук, некоторые мелкобур¬
жуазные интерпретации марксизма и отдельные направления бур¬
жуазной литературы и искусства» (стр. 46). На самом деле этот
круг шире, что де-факто признает и сам Кёпеци, говоря о влия¬
нии на леворадикалов анархистов или Франца Фанона, которого
никак не назовешь ни «буржуазным либералом», ни «мелкобур¬
жуазным марксистом».
Трудно причислить к либералам и Раймона Арона, которого
сам автор вполне резонно называет представителем «апологети¬
ческой социологии». Впрочем, появление Р. Арона рядом с Ф. Фа-
ноном на страницах своей книги он объясняет тем, что необхо¬
димо «хотя бы в общих чертах упомянуть об этой апологетиче¬
ской социологии, так как «новые левые», с одной стороны, от
нее отмежевываются, но, с другой стороны, привязаны не только
225
к используемым ею понятиям и терминам, но и к пропаганди¬
руемым ею воззрениям» (стр. 54).
То, что «новые левые» некритически заимствовали ряд посту¬
латов, сложившихся в русле «идеологии интеграции», — факт
бесспорный. Это убедительно показывает и доктор Кёпеци, осо¬
бенно в главе «О политических трюизмах «новых левых». Напри¬
мер, выясняется, что вся их критика капитализма зиждется на
теории «индустриального общества», сформировавшейся главным
образом в рамках буржуазной консервативной социологии; что
представления о рабочем классе развитых капиталистических
стран в значительной мере питаются из того же источника. Пере¬
чень подобных заимствований можно было бы продолжить.
При всем этом роль идейно-теоретических источников, из
которых черпают «новые левые», далеко не равнозначна, как не
равнозначны места и функции заимствуемых идей в «системе»
идеологических построений «новых левых». Поэтому, анализируя
их генезис, важно, на наш взгляд, проводить более четкую грань
между двумя группами буржуазных обществоведов (и создавае¬
мых ими теорий и концепций).
С одной стороны, теми, кто, выступая в качестве носителей
критического сознания, определяет систему ценностей и социаль¬
но-политических ориентаций «новых левых», а то и непосред¬
ственно предстает в роли их идеологов (Миллс, Маркузе, Сартр
и другие). С другой стороны, теми представителями буржуазно¬
апологетической социальной науки (типа Арона, Бела), кото¬
рые стоят совершенно в стороне от «новых левых», но у которых
последние заимствуют частные «позитивные» положения для со¬
циального оправдания своего бунта.
При таком разграничении исследователь получает возмож¬
ность не только более четко расставить политические акценты,
не располагая бок о бок Гэлбрейта и Манделя, Арона и Миллса,
но и сосредоточить внимание на тех теоретиках, которые дей¬
ствительно сыграли определяющую роль в формировании идео¬
логии левого радикализма.
С этой точки зрения тот же Фанон, конечно, заслуживает
большего внимания, чем, скажем, Джон Гэлбрейт или Раймон
Арон, ибо он сыграл заметную роль в формировании леворади¬
кальных представлений о путях отрицания истэблишмента. К со¬
жалению, в книге о нем сказано скороговоркой, как и о Фрейде,;
Фромме, философах и социологах Франкфуртской школы и не¬
которых других.
Впрочем, недостатки, как еще раз можно убедиться на при¬
мере этой книгиг часто являются «продолжением достоинства».
226
Книга Кёпеци (читатель это, конечно, заметил) построена на
большом фактическом материале, который автор сплошь и ря¬
дом непосредственно вводит в текст, предоставляя читателю са¬
мому судить о том, что пишут и говорят «новые левые» и и к
критики. Такое доверие автора к читателю не может не подку¬
пать, а документальность составляет одну из привлекательны к
сторон труда венгерского ученого.
Однако, предоставляя документам говорить за себя, автор
книги подчас оставляет без комментариев даже такие материалы,
которые нуждаются в расшифровке, тем более что перед нами
«популярный очерк». Это, в частности, относится к цитатам из
книги Режи Дебре «Революция в революции», высказываниям
Руди Дучке, Петера Шнейдера и других или, скажем, к рассуж¬
дению о субкультурах. «Для регрессивной субкультуры, — изла¬
гает автор книги взгляды Рольфа Швендтера, — характерны
фашизм (? — Э. £.), мир богемы, «ангелы ада», пилигримы, «ком¬
муны» Мэнсона и тому подобные явления. Нормами прогрессив¬
ной субкультуры являю гея самоуправление, демократическое уча¬
стие, групповая солидарность, антиконвенционализм, а также
свобода в стиле поведения, одежде, прическе, языке, искусстве
и половой сфере» (стр. 190).
Что все это означает и как к этому относиться? Эти вопросы
остаются без ответа, а между тем нет никакой уверенности, что
подобные рассуждения будут поняты неспециалистами.
Характеризуя «новых левых», доктор Кёпеци неоднократно
подчеркивает, что им присуще не только критическое отношение
к капитализму, но и «своеобразный антикоммунизм, с которым
«новые левые» подходят к социализму и коммунистическим пар¬
тиям...» (стр. 7).
Леворадикальный антикоммунизм и в самом деле «своеобраз¬
ный». В политическом отношении он, в сущности, мало чем отли¬
чается от антикоммунизма империалистической буржуазии, тем
более что и правый буржуа, и «левый» радикал зачастую чер¬
пают свои «аргументы» из одного и того же источника.
Однако есть и различие между этими двумя разновидно¬
стями антикоммунизма, связанное с двойственностью, противоре¬
чивостью отношения «новых левых» к марксизму и реальному
социализму.
«Новые левые», многие из которых объявляют себя сторон¬
никами «истинного» марксизма и социализма, объясняют свое
критическое отношение к реальному социализму тем, что-де по¬
следний якобы «отклонился» от социалистического идеала, от
«первоначальных целей», сформулированных Марксом.
227
В этом подходе отчетливо проглядывают исторический идеа¬
лизм и утопизм, составляющие типическую черту сознания и
идеологии «новых левых».
Для «левого» радикала построение социалистического обще¬
ства представляет не естественноисторический процесс, не ста¬
новление качественно нового этапа человеческой истории, кото¬
рый одновременно и радикально порывает с предшествующим
этапом, и представляет собой его историческое продолжение.
Нет, для «левого» радикала социализм выступает как чудо, как
явление измученному народу божественного идеала во плоти, как
чистое отрицание истории. Отсюда стремление «левого» радикала
мерить реальный социализм мерками сочиняемых им утопий.
Конечно, в определенных условиях эти утопии могут сыграть
позитивную роль. Но ни при каких условиях они не могут пред¬
стать как «демократическая альтернатива» реальному социализму.
Касаясь вопроса о результатах деятельности «новых левых»
и перспективах движения, Кёпеци отмечает, что они не решили,
да и не могут решить тех задач, которые ставили перед собой.
Однако это совсем не значит, что «новые левые» не оказали во¬
обще никакого воздействия на капиталистическое общество. Дви¬
жение вызвало двойственный эффект, соответствующий двой¬
ственной природе самих леворадикалов. В многих случаях оно,
как свидетельствует политическая практика 60-х годов, препят¬
ствовало сплочению левых сил, массовому сближению молодой
интеллигенции с коммунистами; способствовало возрождению
мелкобуржуазного социализма и анархизма.
Но есть и другая сторона. Кёпеци недалек от истины, когда
пишет, что «контестация» потрясла капиталистическую систему
образования, и особенно высшие учебные заведения, вынудила
провести реформы, которые буржуазия на практике стремится
весьма существенно ограничить» (стр. 201—202). В плане идео¬
логическом «новые левые» объективно «привлекли внимание ши¬
роких слоев» не только к течениям, противостоящим марксизму,
«но и к самому марксизму и тем самым вольно или невольно
способствовали его распространению» (стр. 202).
Сегодня движения «новых левых» в том виде, в каком оно
предстало перед миром во второй половине 60-х годов, факти¬
чески больше не существует. Оно распалось на отдельные «ру¬
кава», видоизменилось. Часть «новых левых» сумела преодолеть
свои заблуждения и найти путь к коммунистам. Часть объеди¬
нилась в организации, которые хотя и не являются в полном
смысле слова левацкими группировками, но испытывают со сто¬
роны последних явное влияние. Наконец, для значительной части
228
«новых левых», как справедливо считает Кёпеци, «характерен
нонконформизм, находящий свое выражение преимущественно в
неоромантическом стиле в литературе, искусстве, моде и образе
жизни» (стр. 201.).
Мироощущение этой части интеллигенции и молодежи, ее
ориентацию на создание «контркультуры» и формирование «но¬
вого сознания» впечатляюще выразили Чарльз Рейч и Теодор
Розак.
Что это — «конец» «новых левых»? В развитии целого ряда
движений протеста, формирующихся на непролетарской основе,
довольно отчетливо обозначаются две (нередко тесно перепле¬
тающиеся друг с другом) системы ориентации — культурническо-
просветительская и радикально-политическая, — которые , могут
сменить друг друга. Движение «новых левых» началось в 50-х
годах именно как культурническо-просветительское. Сегодня оно
как бы «вернулось» к исходной системе ориентаций. Это, ко¬
нечно, свидетельство кризиса. Но перед нами не кризис «левого»
радикализма как продукта и неизбежного следствия разложения
буржуазной цивилизации, а кризис определенных форм и мето¬
дов действия, идей и установок. Мы присоединяемся к выводу
доктора Кёпеци о том, что, «несмотря на весьма различные фор¬
мы, в которых оно проявляется, движение «новых левых» — если
и не в нынешней его форме — нельзя считать явлением скоро¬
проходящим» (стр. 200).
Противоречеия, породившие леворадикальный феномен, не
разрешены. А это значит, что движение «новых левых» может
рано или поздно вернуться к радикально-политическим установ¬
кам и вновь проявить себя как массовое европейско-американ¬
ское движение. Гадать о том, когда это может произойти, не
имеет смысла. Но к этому надо быть готовым. Поэтому важно,
в частности, еще и еще раз осмыслить движение «новых левых»
50—60-х годов. Книга Кёпеци принадлежит к числу работ, спо¬
собствующих решению этой задачи.
Э. Я. Баталов
Содержание
■
Предисловие 5
I. СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА «НОВЫХ ЛЕВЫХ» . . 9
II. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «НОВОГО ЛЕ¬
ВОГО» ТЕЧЕНИЯ . . * 21
III. ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 32
Соединенные Штаты Америки 32
Западный Берлин и ФРГ 35
Франция 37
Италия 42
Великобритания 43
IV. ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ 46
Политэкономия 46
Социология 51
Психология 59
Франкфуртская школа 62
Литература и искусство 65
Идейно-политические течения 68
V. ИДЕЙНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ «НОВЫХ ЛЕВЫХ» . 76
Соединенные Штаты Америки 76
Западный Берлин и Федеративная Республика
Германии
Франция 118
Италия 134
Великобритания 144
230
VI. О ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРЮИЗМАХ «НОВЫХ ЛЕ¬
ВЫХ» ... . . 154
Природа современного капитализма 154
Классовые отношения в современном капиталисти¬
ческом обществе 160
Классовое сознание и революционная теория . .163
Революция и ее предпосылки 167
Средства и методы революционной борьбы . .171
«Новые левые» и реально существующий социа¬
лизм 173
Утопия и социализм 182
VII. «НОВЫЕ ЛЕВЫЕ» И КОНТРКУЛЬТУРА . . .185
Некоторые выводы 200
Примечания 203
Послесловие . . . 212
Бела Кёпеци
идеология
«НОВЫХ ЛЕВЫХ"
Редактор В. И. Аршинов
Художник серии В. В. Кулешов
Художественный редактор А. Д. С у и м а
Технические редакторы 3. С. Кондратов а,
Н. А. Кронова
Корректор P. X. П у н г а
Сдано в производство 5.04.76.
Подписано к печати 14.03.77.
Формат 84ХЮ87з2. Бумага типографская № 1.
Услозн. печ. л. 12,18. Уч.-изд. л. 12,04. Тираж 17 000 экз.
Заказ № 183. Цена 55 коп. Изд. № 22744.
Издательство «Прогресс» Государственного
комитета Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21
Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС
Выходит в свет
СЕРИЯ «КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ
ИДЕОЛОГИИ И РЕВИЗИОНИЗМА»
ХААН Э. Материалистическая
диалектика и классовое сознание
Э. Хаан — известный философ
и социолог ГДР. В его книге рас¬
сматривается ряд теоретических
проблем, связанных прежде всего
со взаимодействием объективных
условий и субъективных факторов
формирования классового сознания
пролетариата в условиях монополи¬
стического капитализма. Автор,
подвергая диалектическому анали¬
зу различные формы проявления
буржуазной и ревизионистской иде¬
ологии, отстаивает и развивает
принципы марксистско-ленинской
социологии.
Особое место в книге уделено
показу исторической миссии рабо¬
чего класса, руководящей роли его
партии.
Книга написана в острополе¬
мическом стиле.
КРИ1ИКА БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ И РЕВИЗИОНИЗМА
Цена 55 коп.
КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ И РЕВИЗИОНИЗМА
Автор исследует причины возникно¬
вения движения так называемых "но¬
вых левых" в капиталистических стра¬
нах. В книге показывается, что,
несмотря на критику капитализма и
попытки отмежеваться от традиционной
буржуазной "левой", это движение яв¬
ляется реакцией мелкобуржуазной
интеллигенции на противоречия общест¬
венной жизни при капитализме и в
конечном счете служит целям антиком¬
мунизма.
КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ И РЕВИЗИОНИЗМА
КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ И РЕВИЗИОНИЗМА