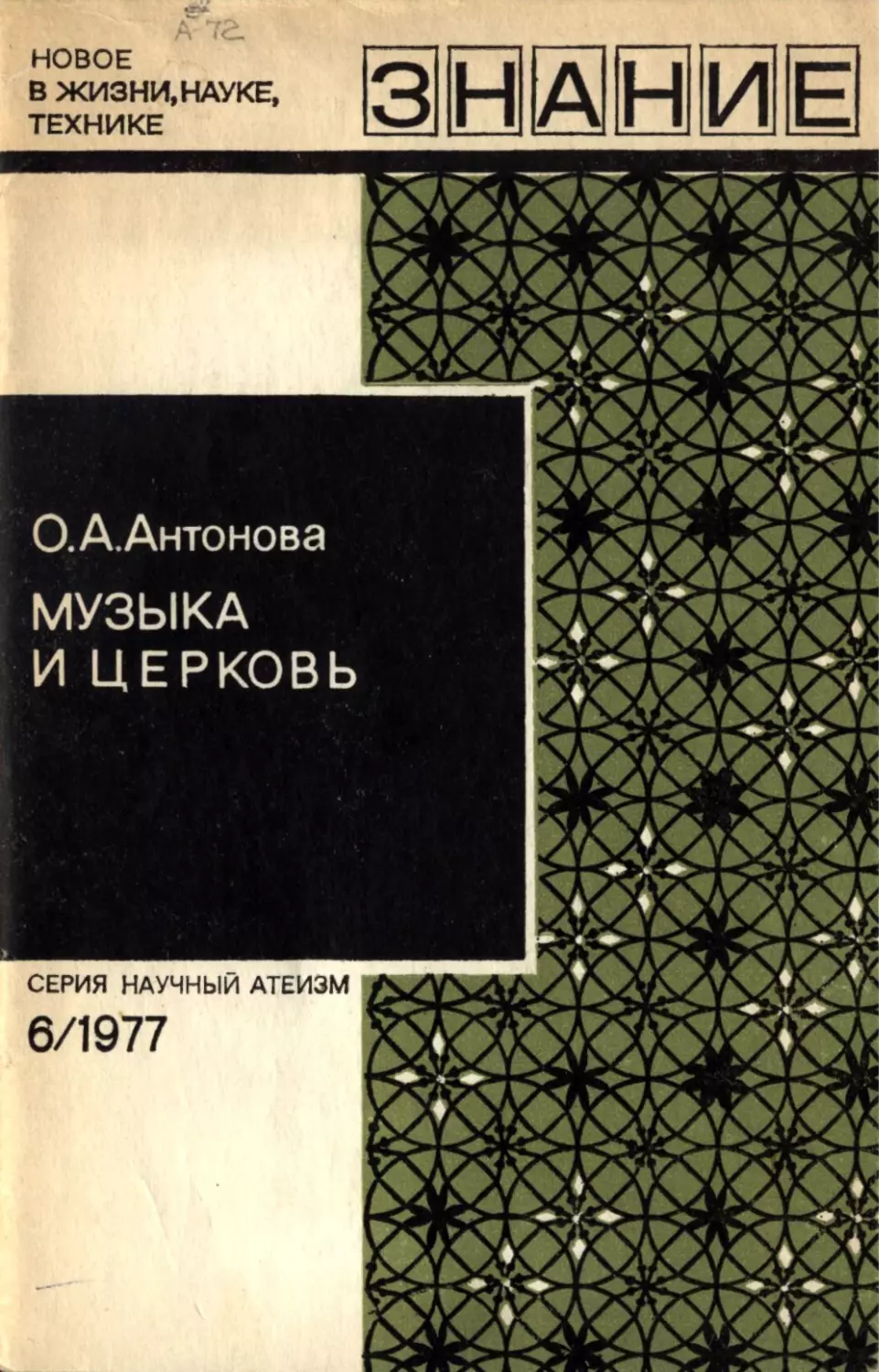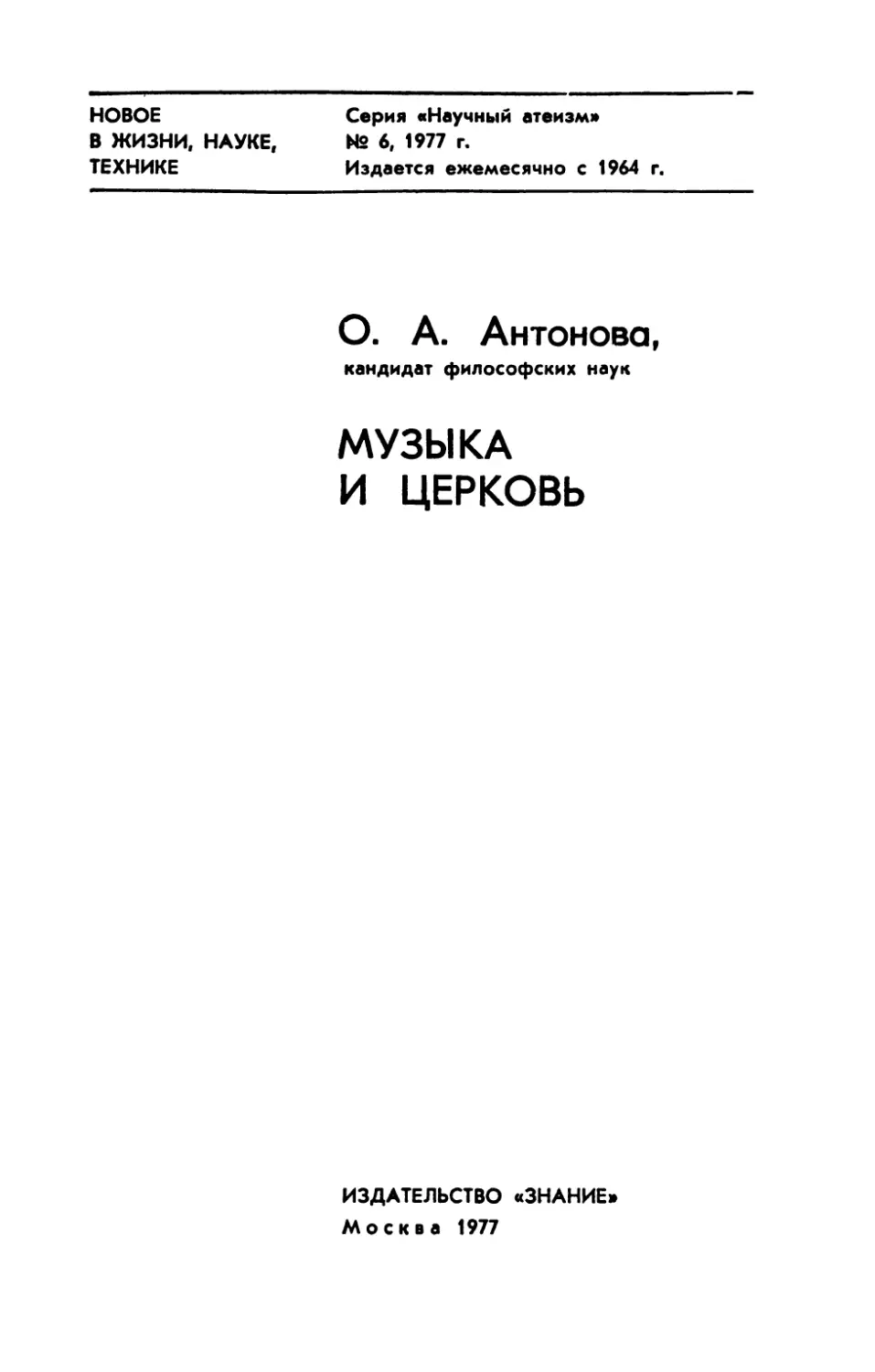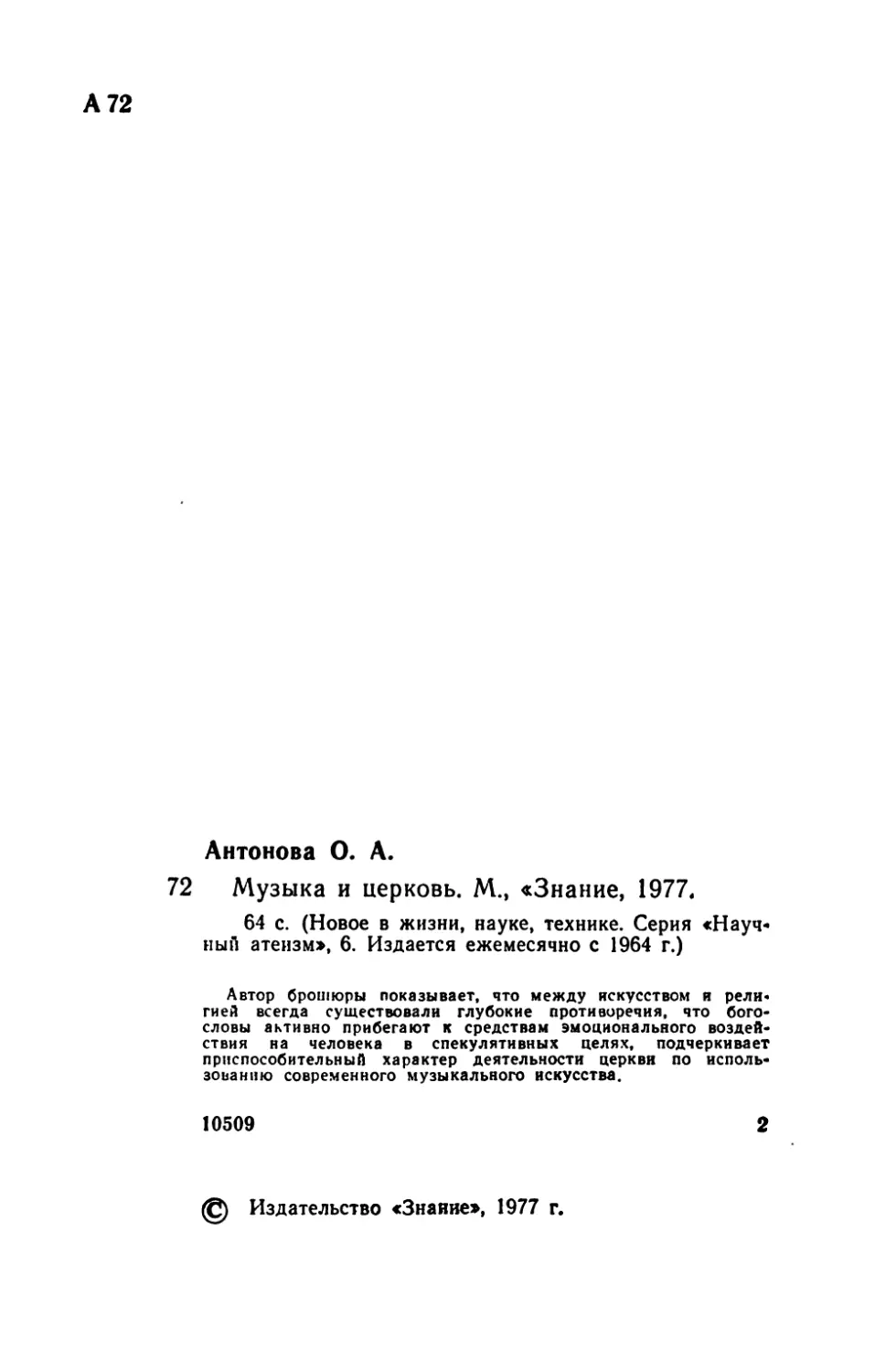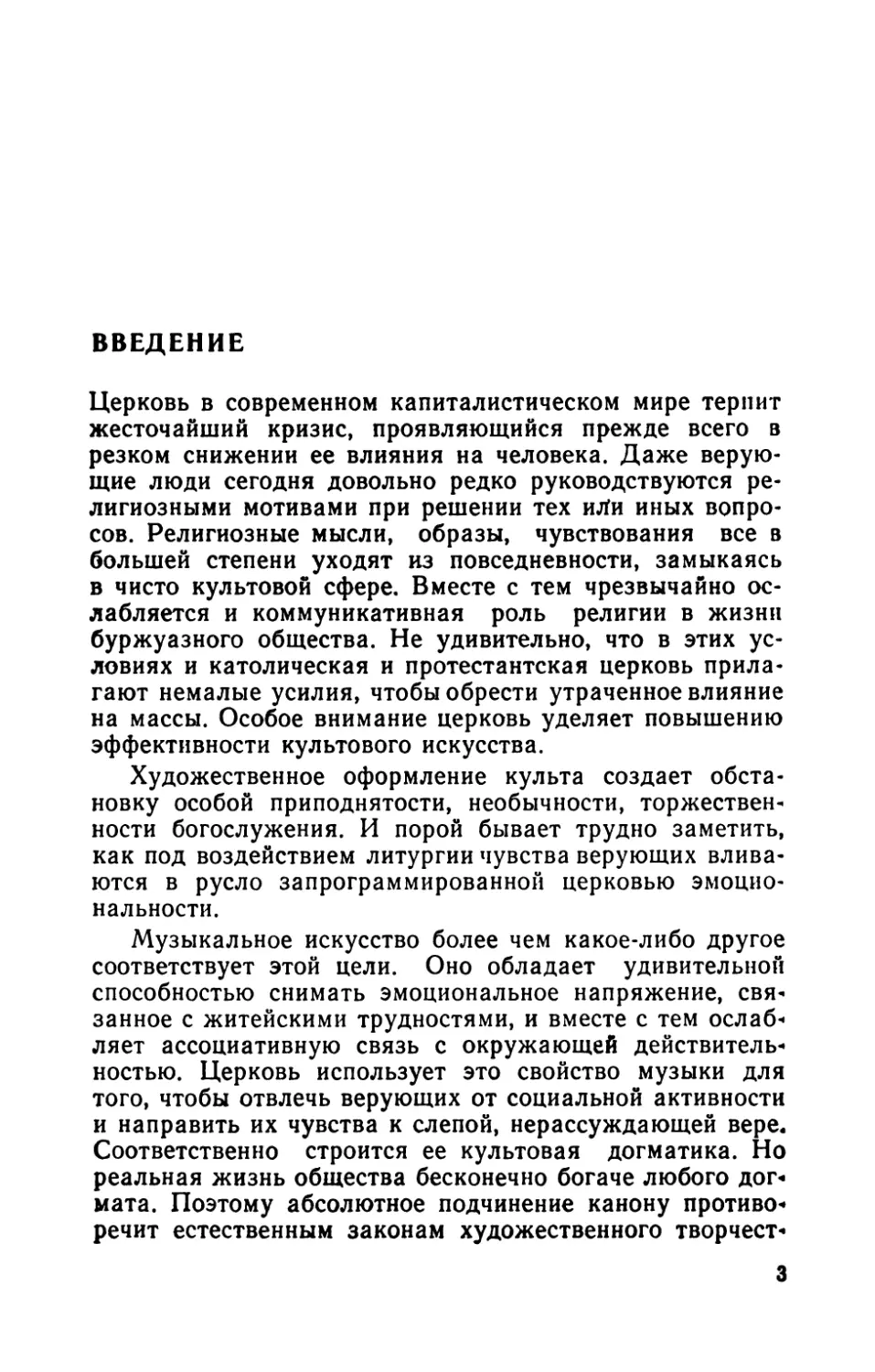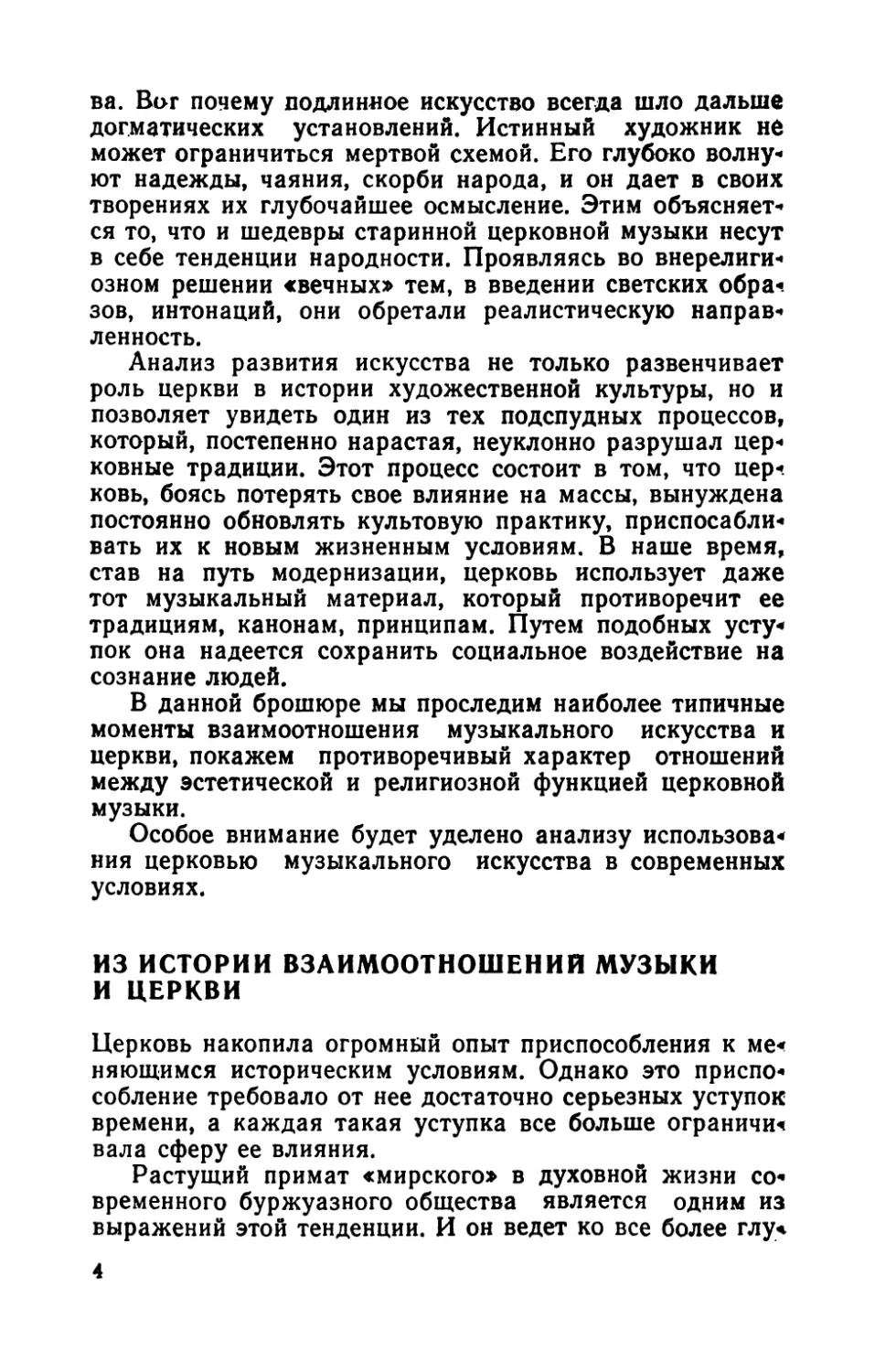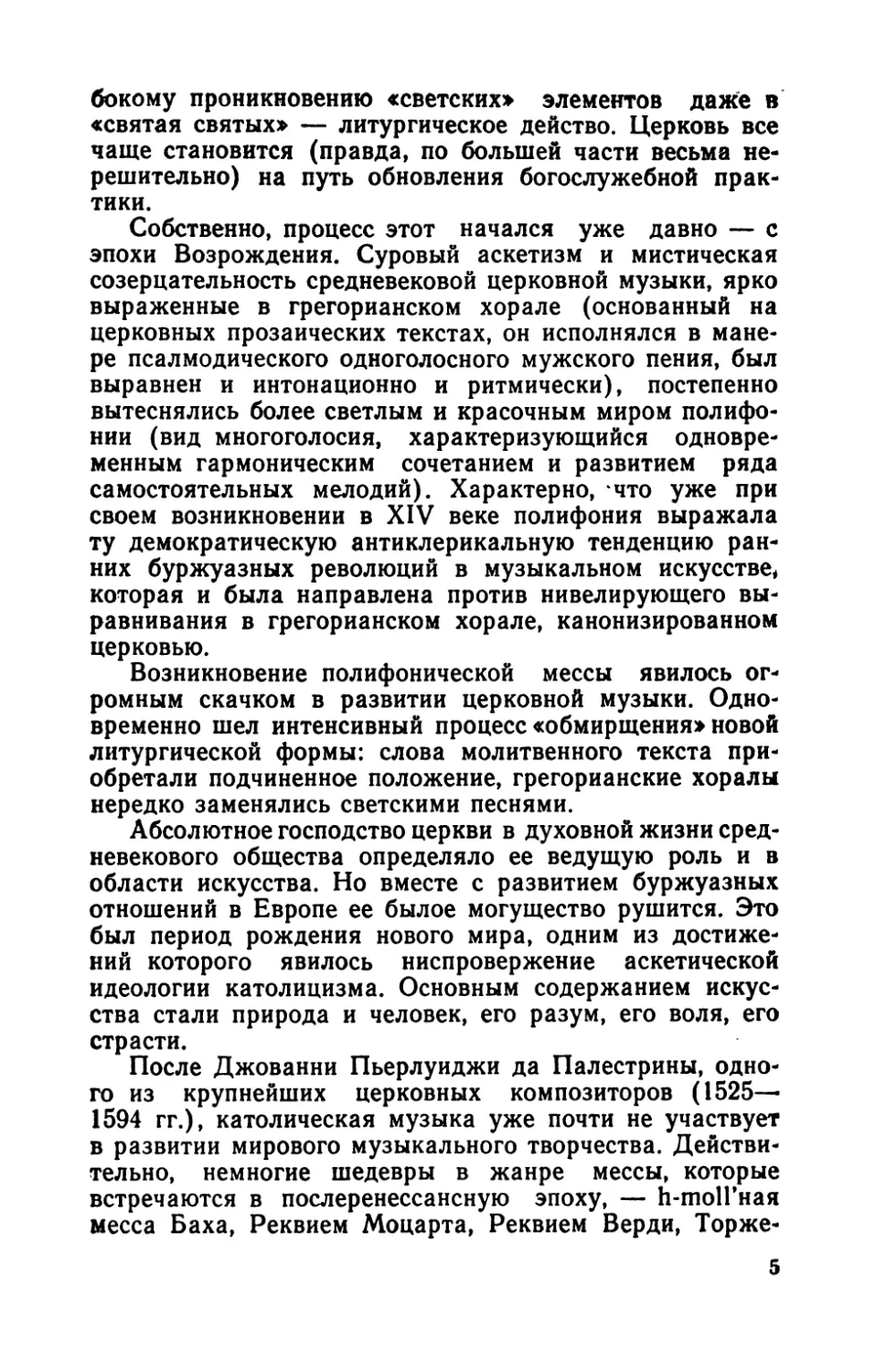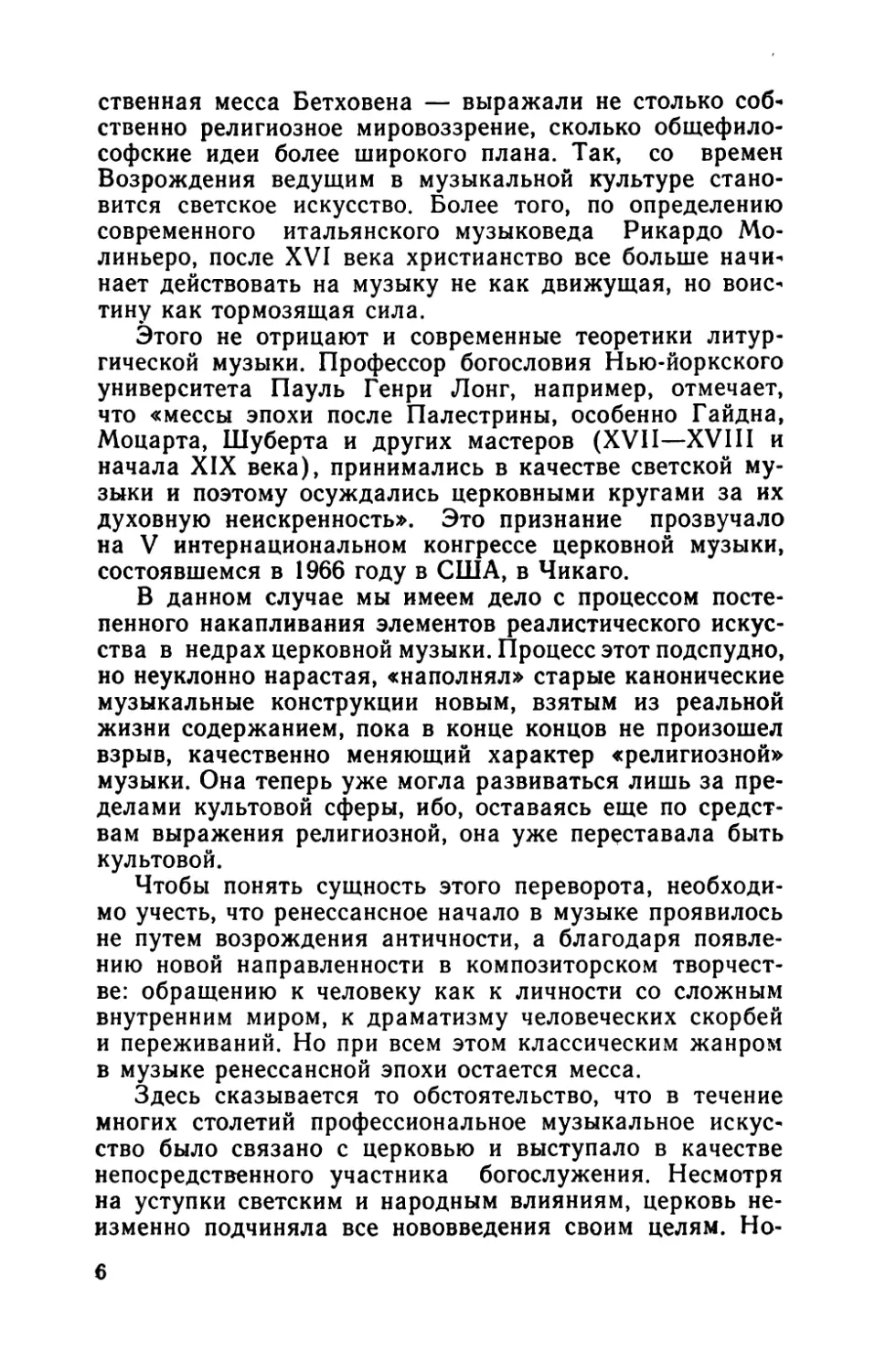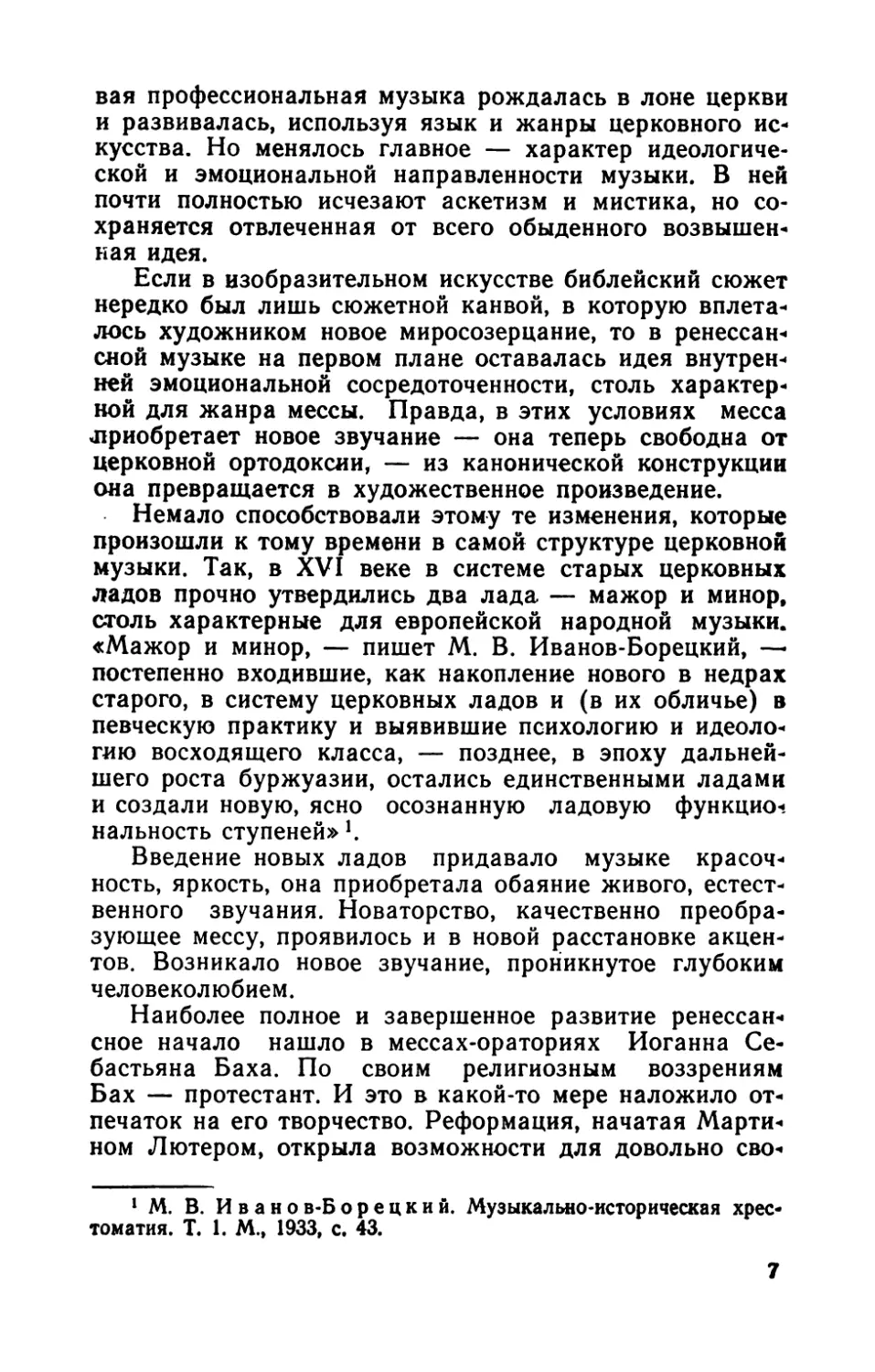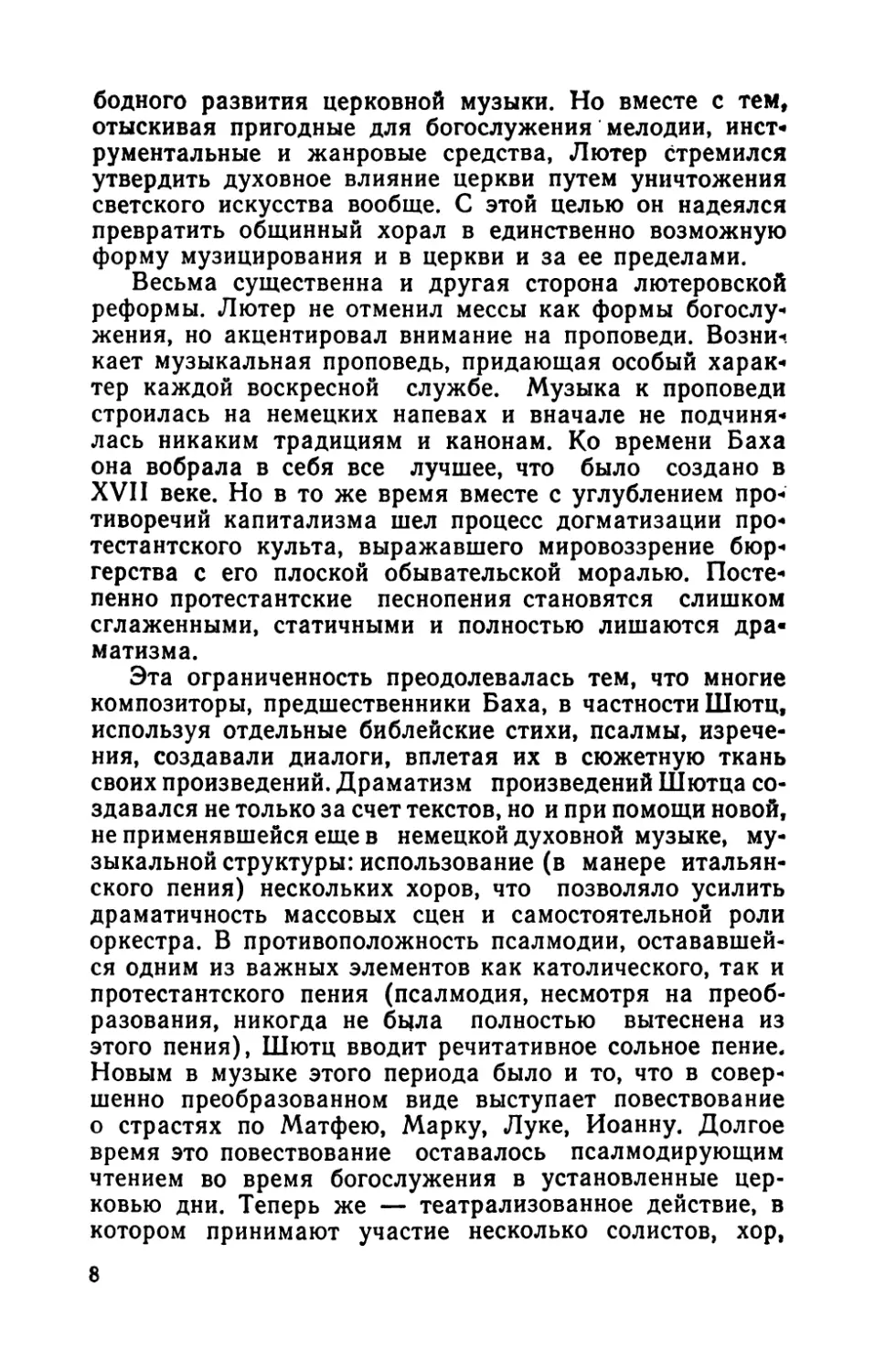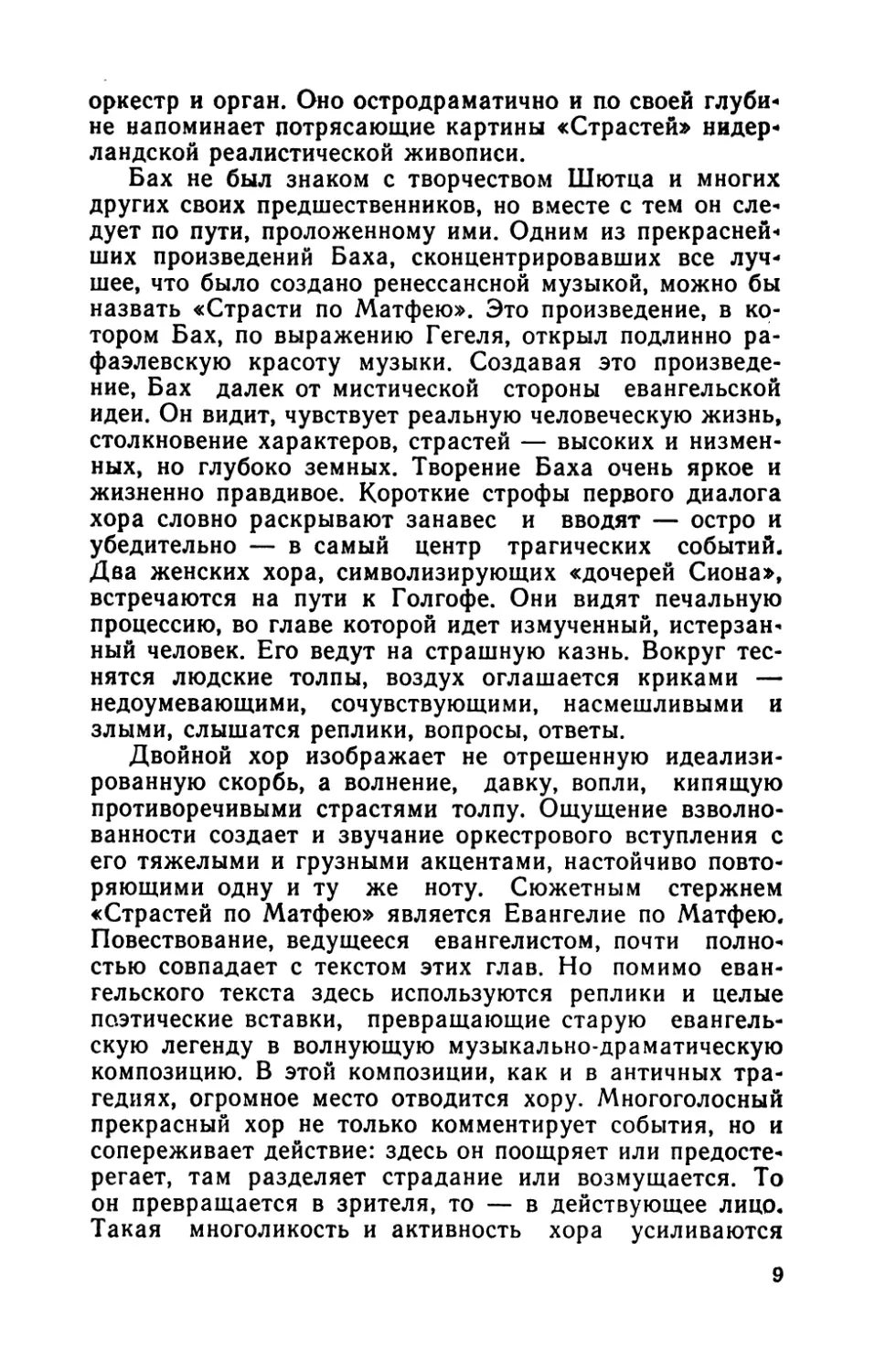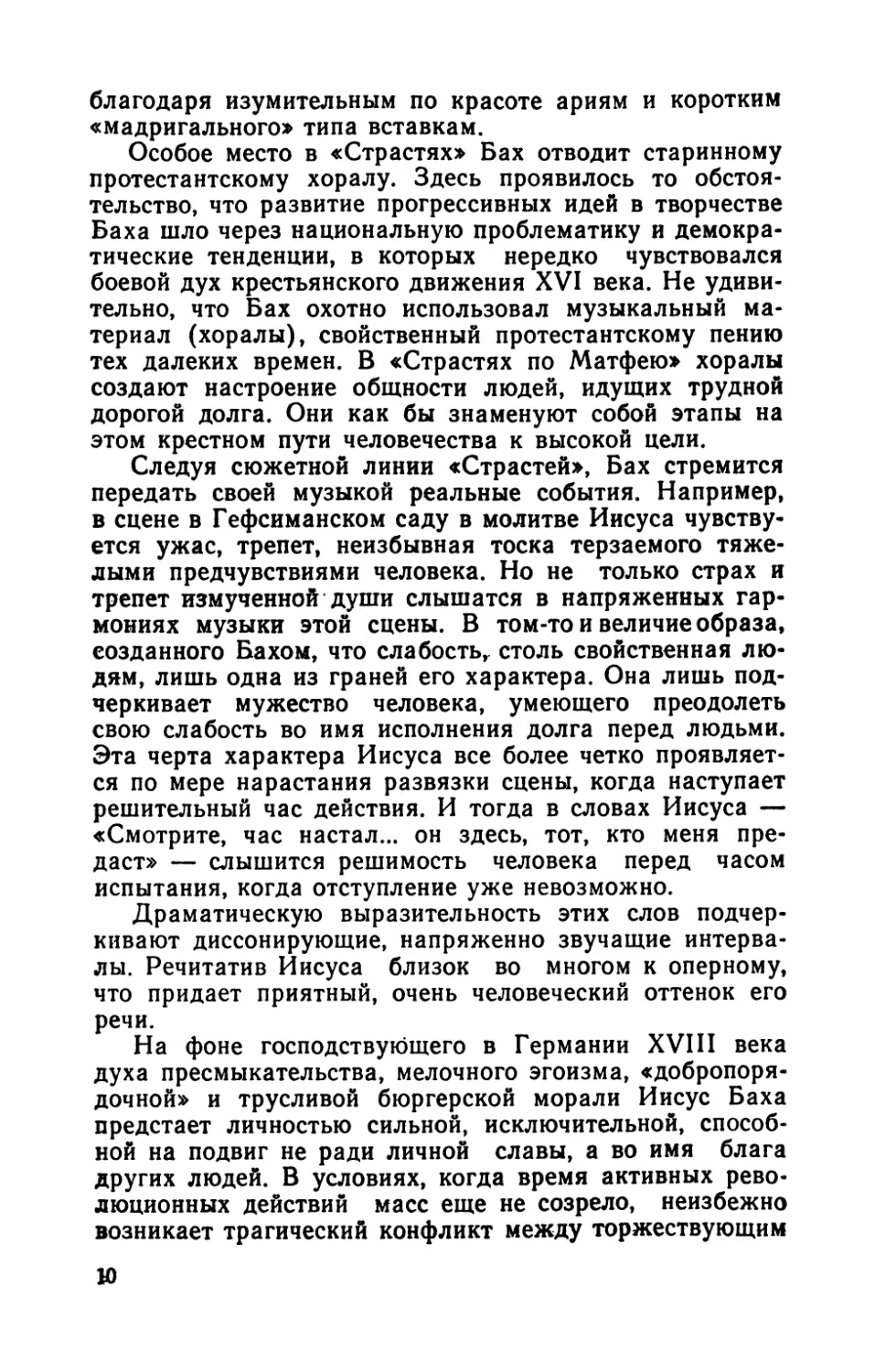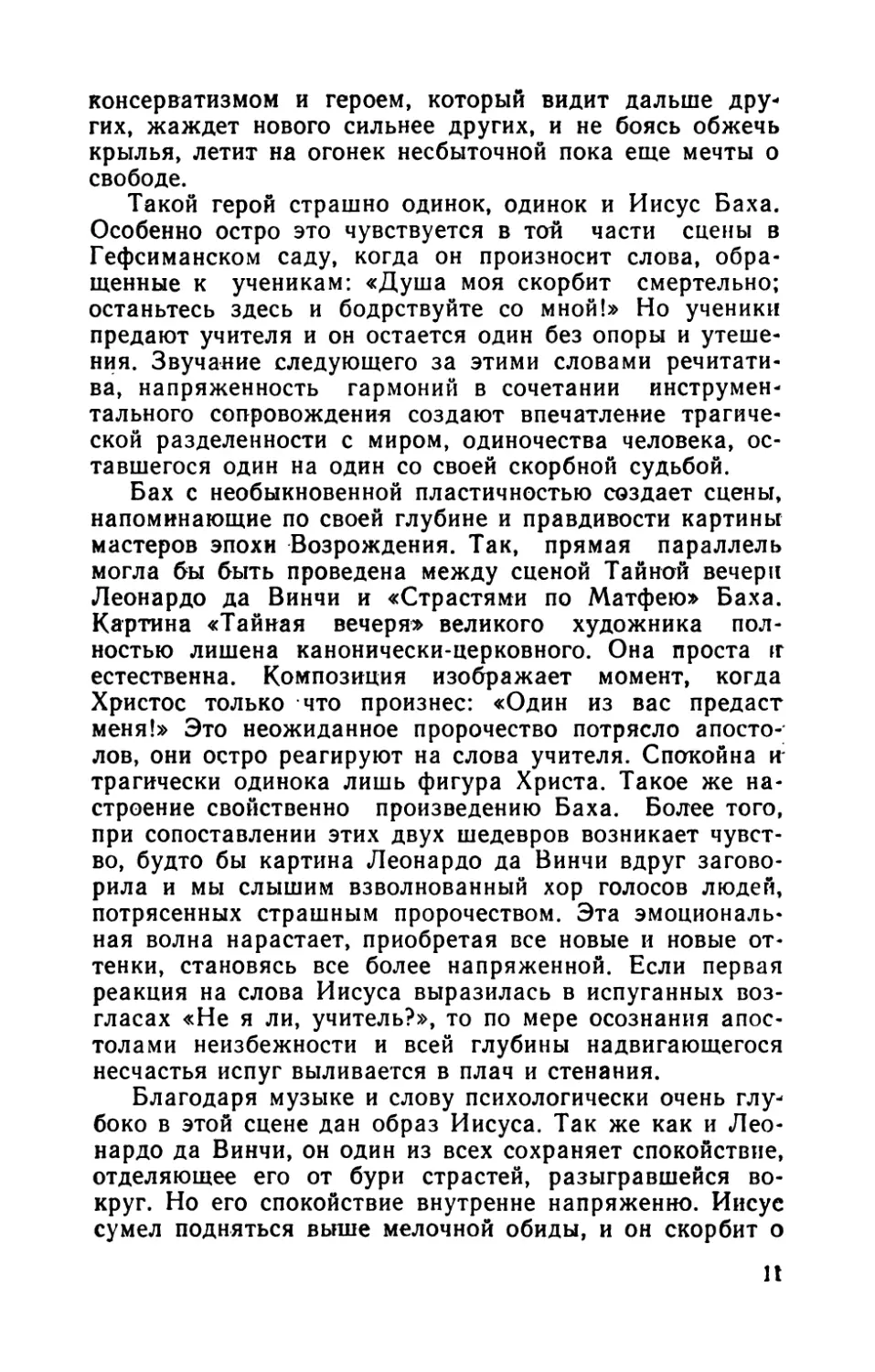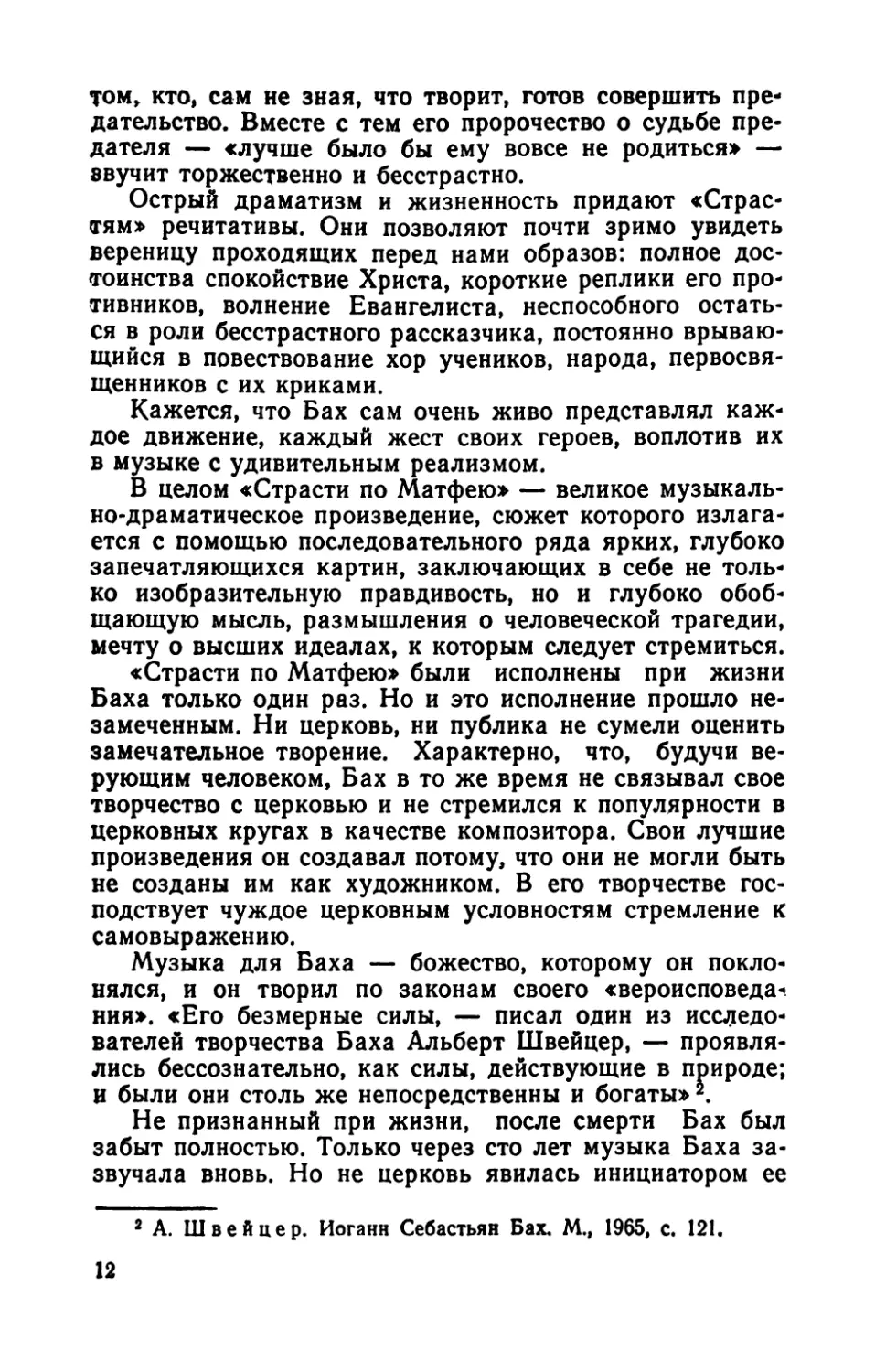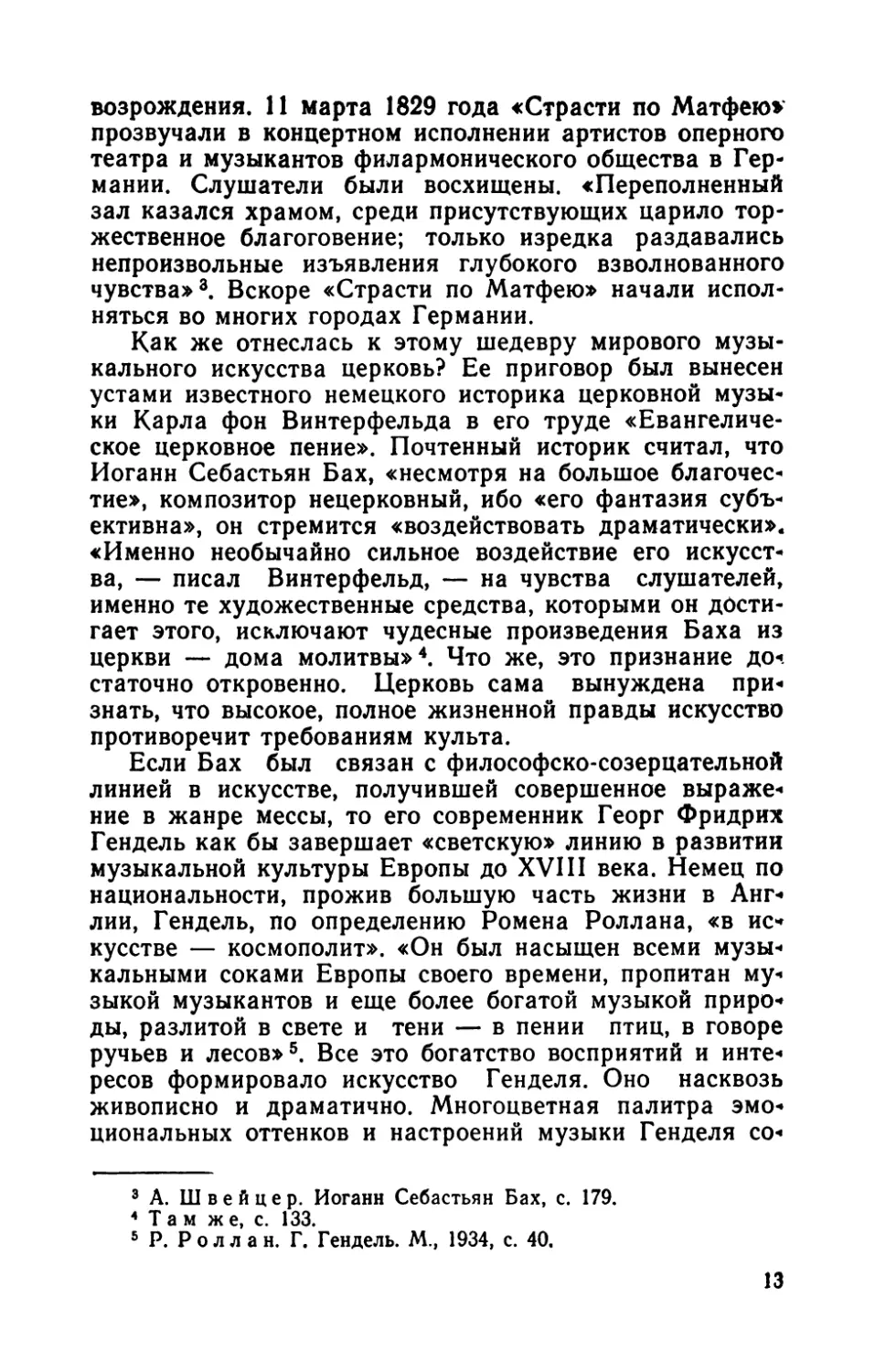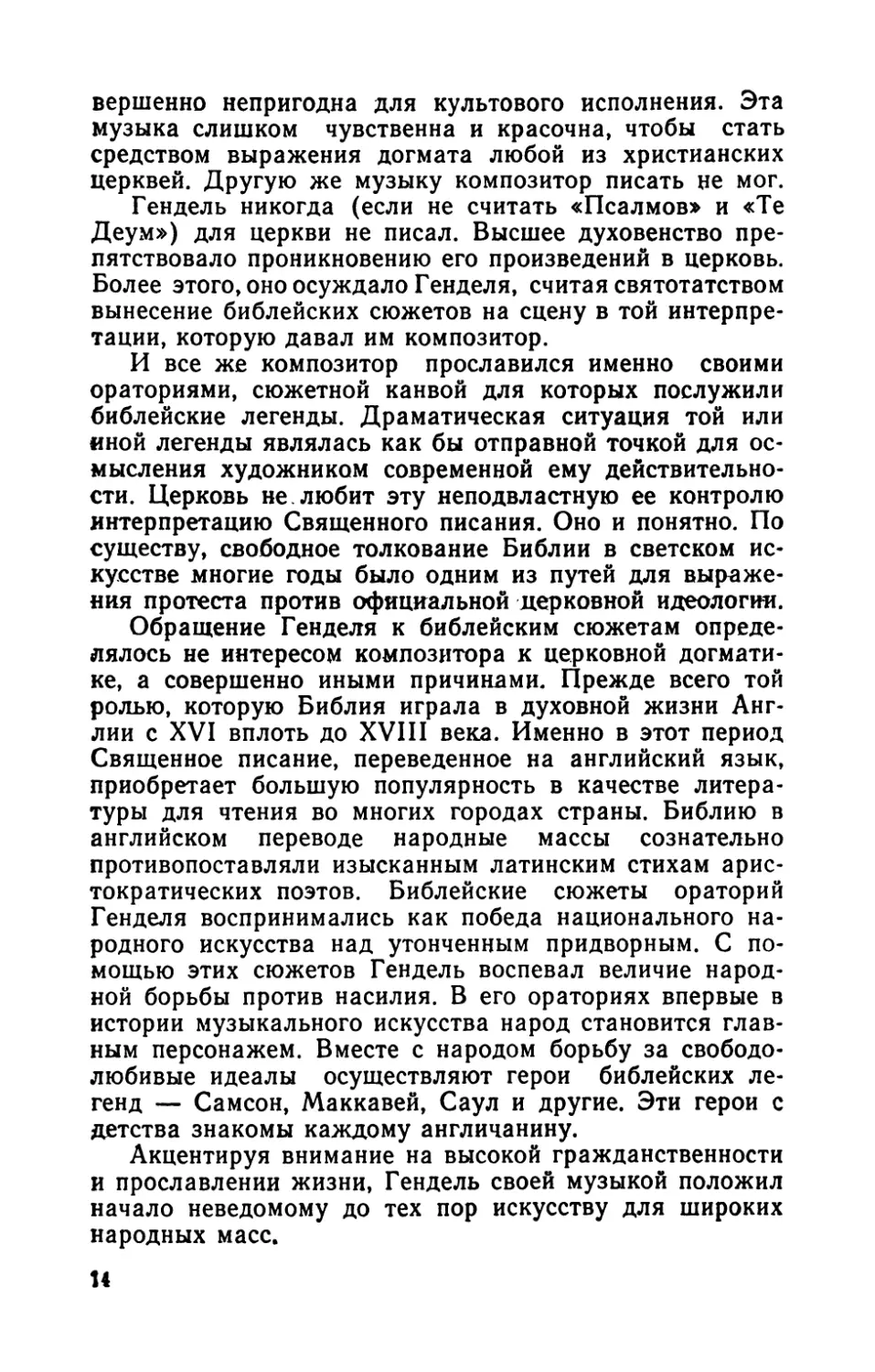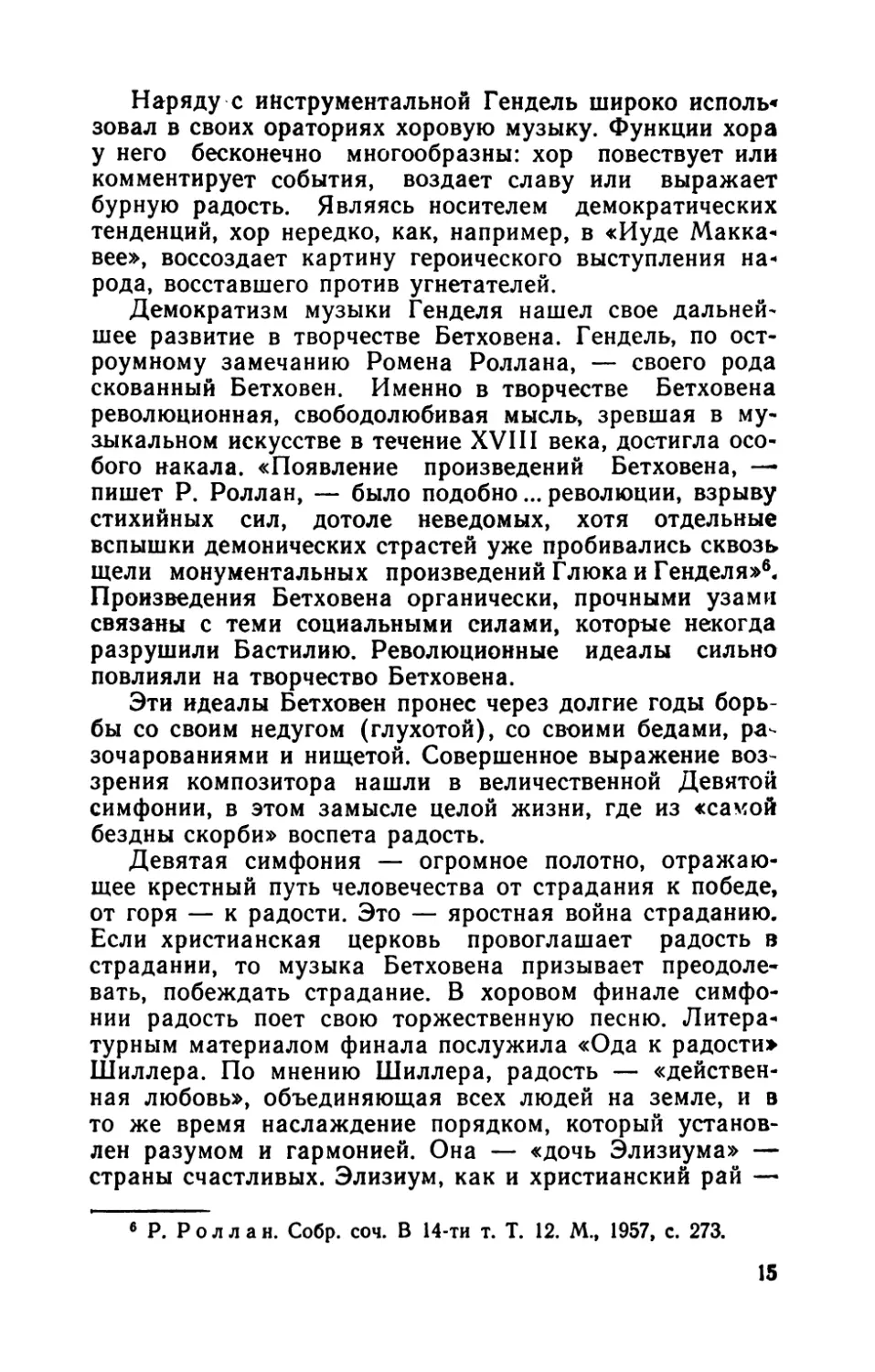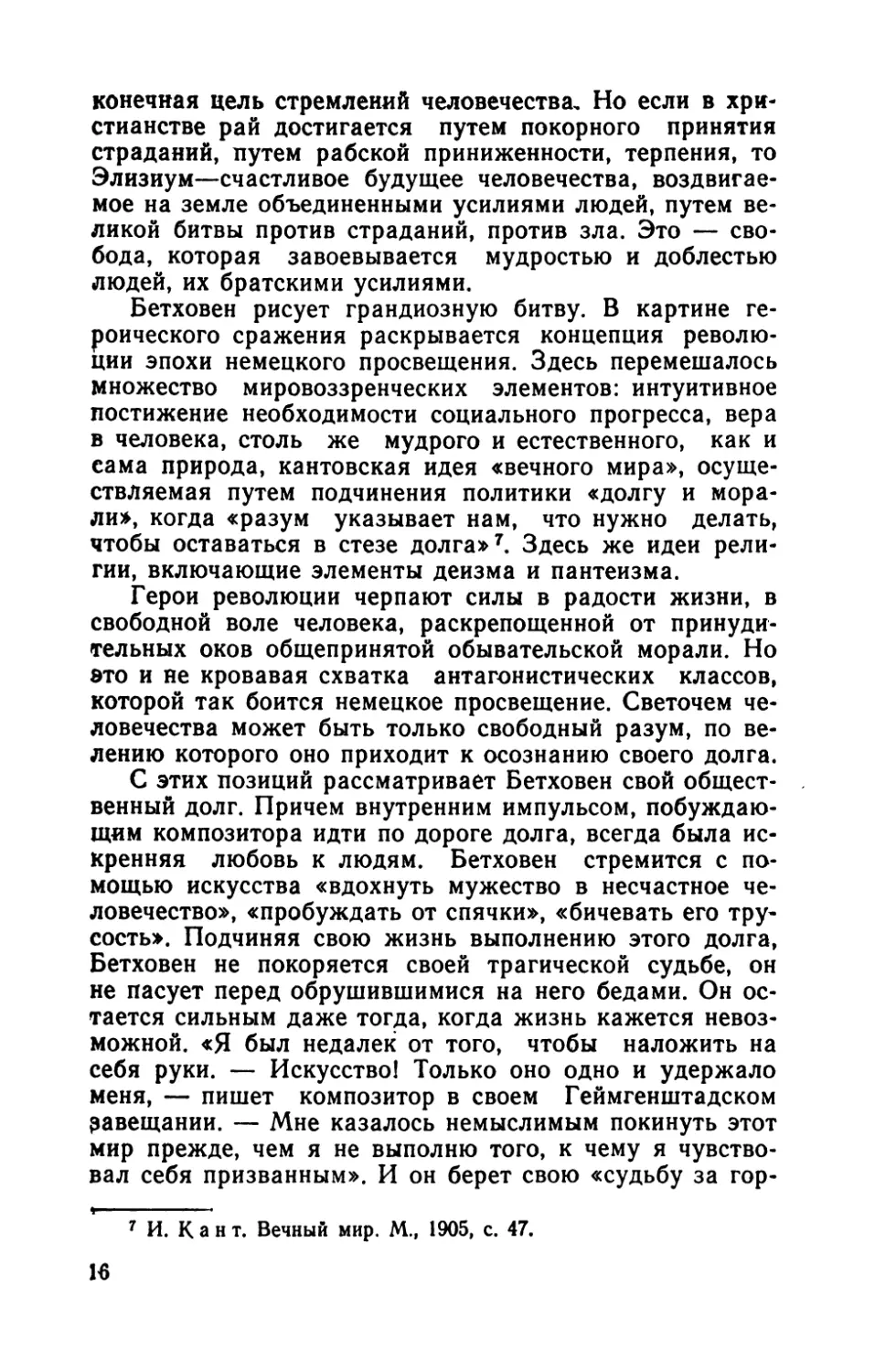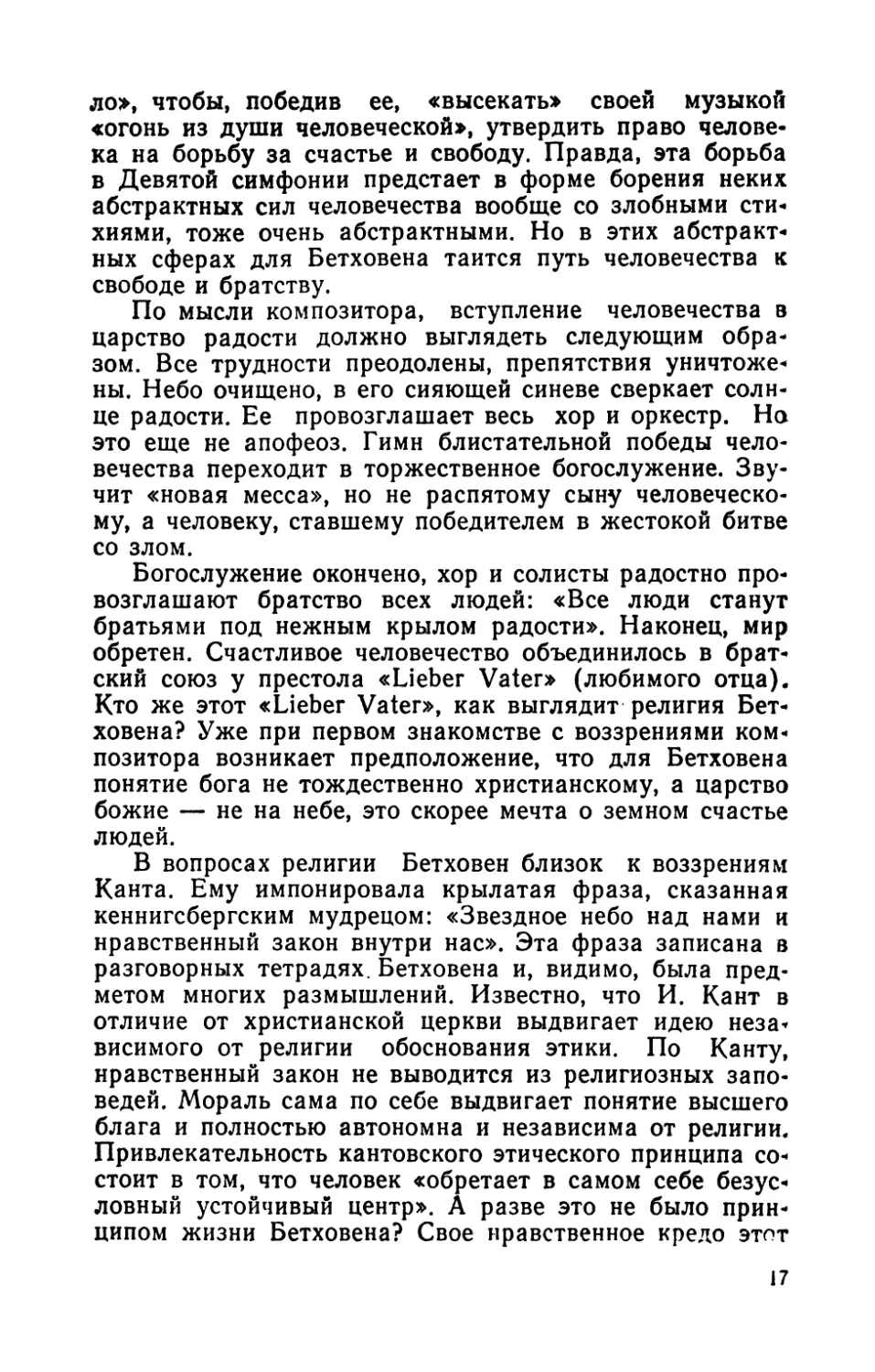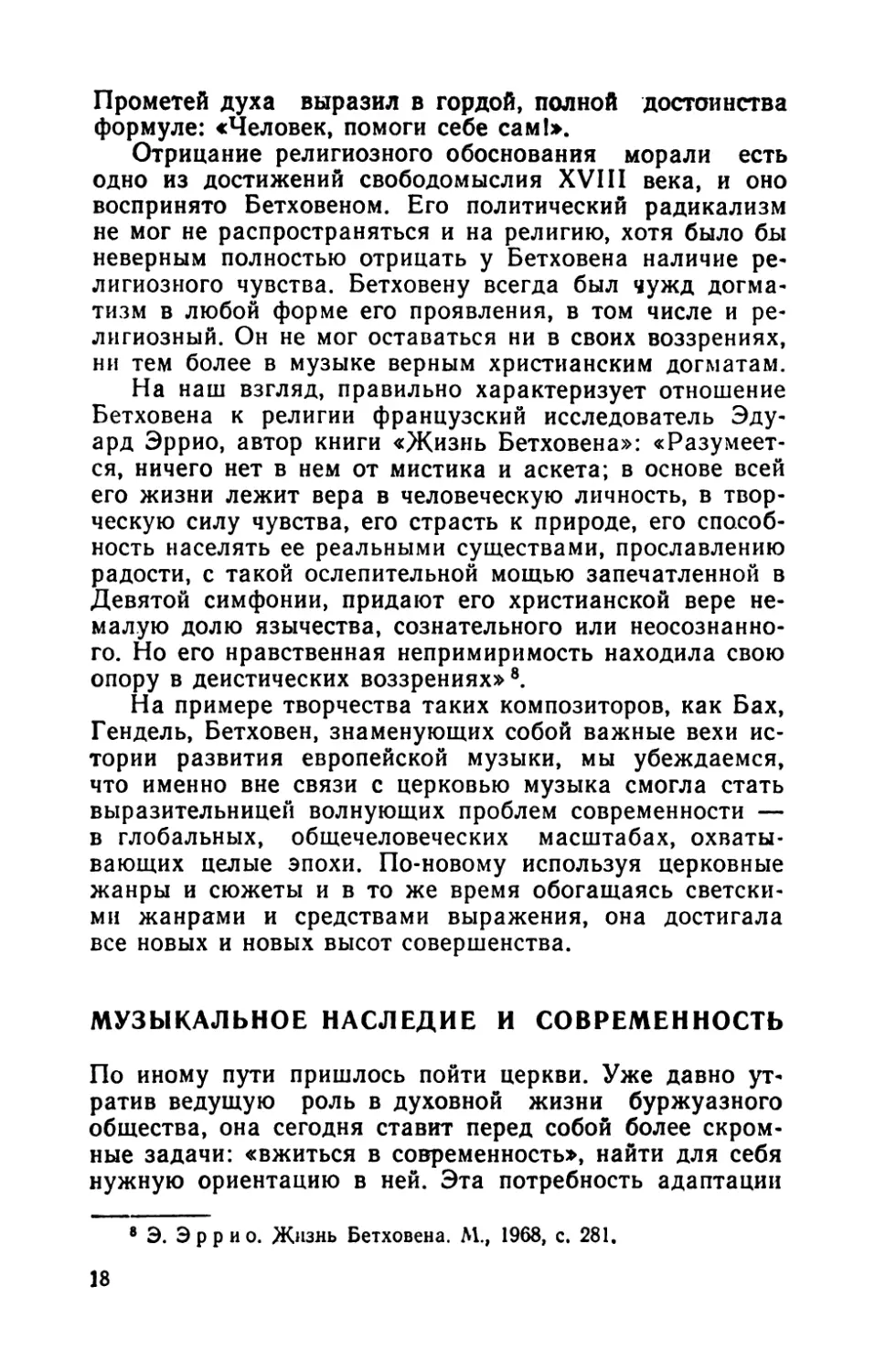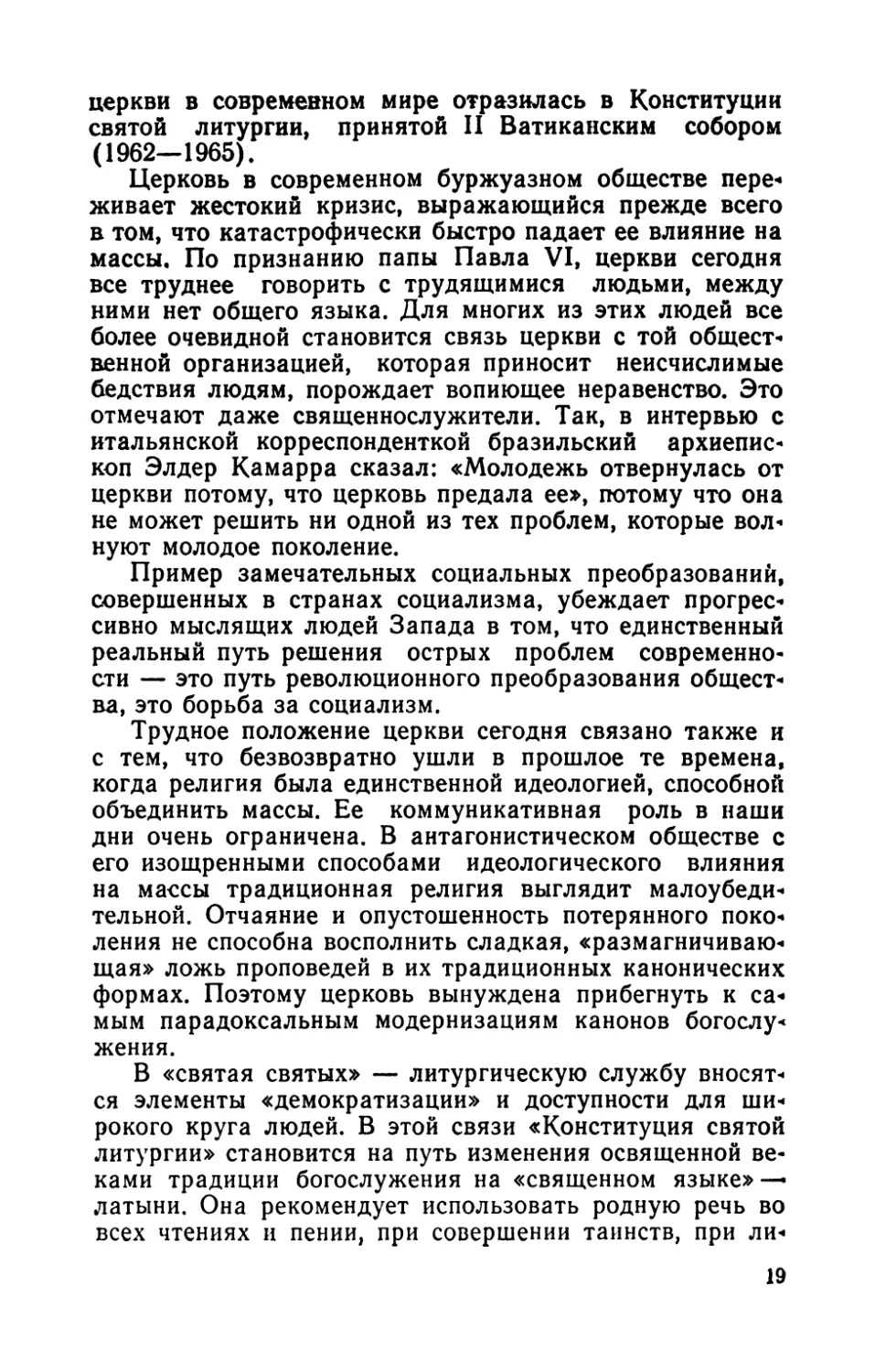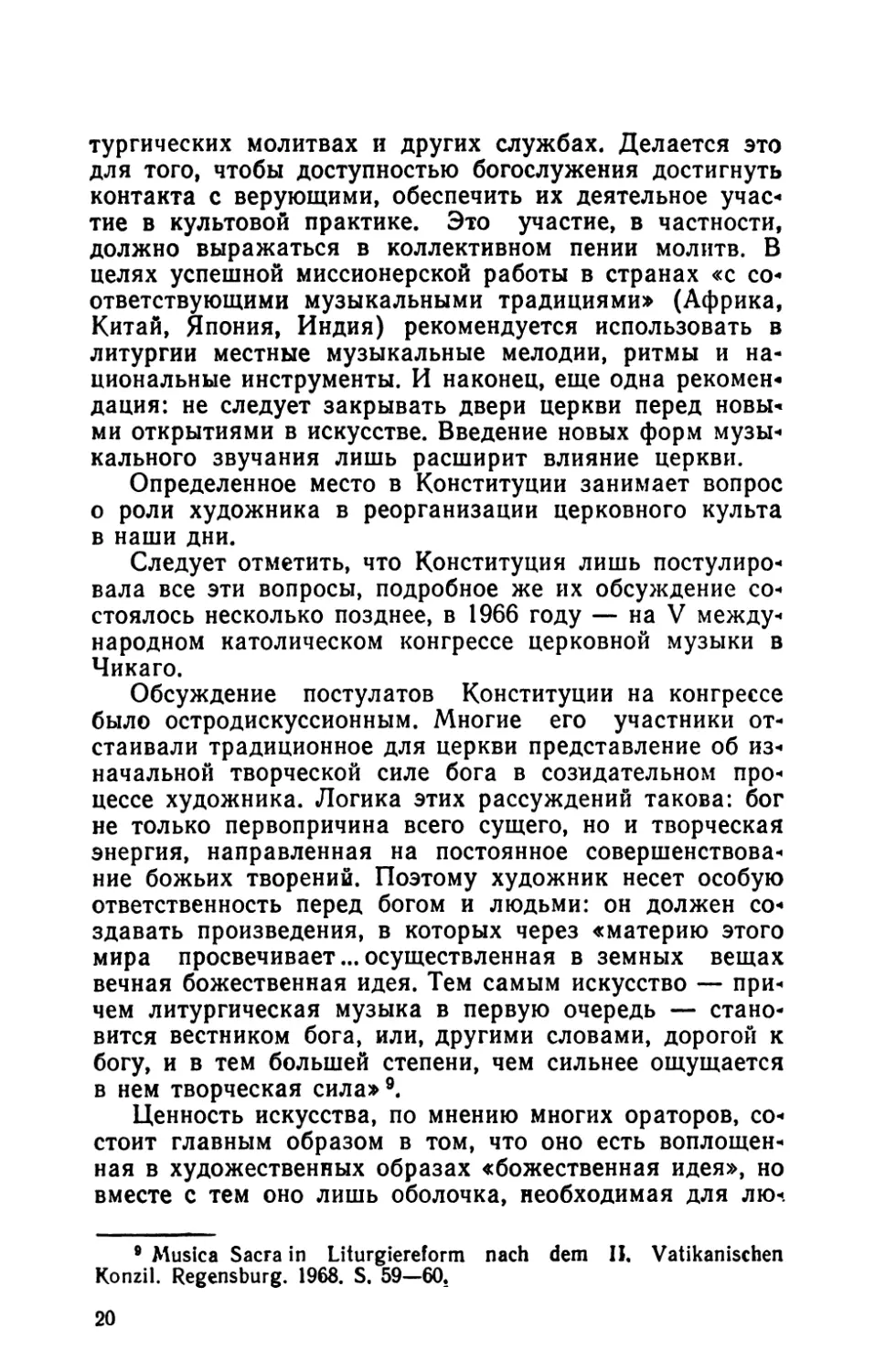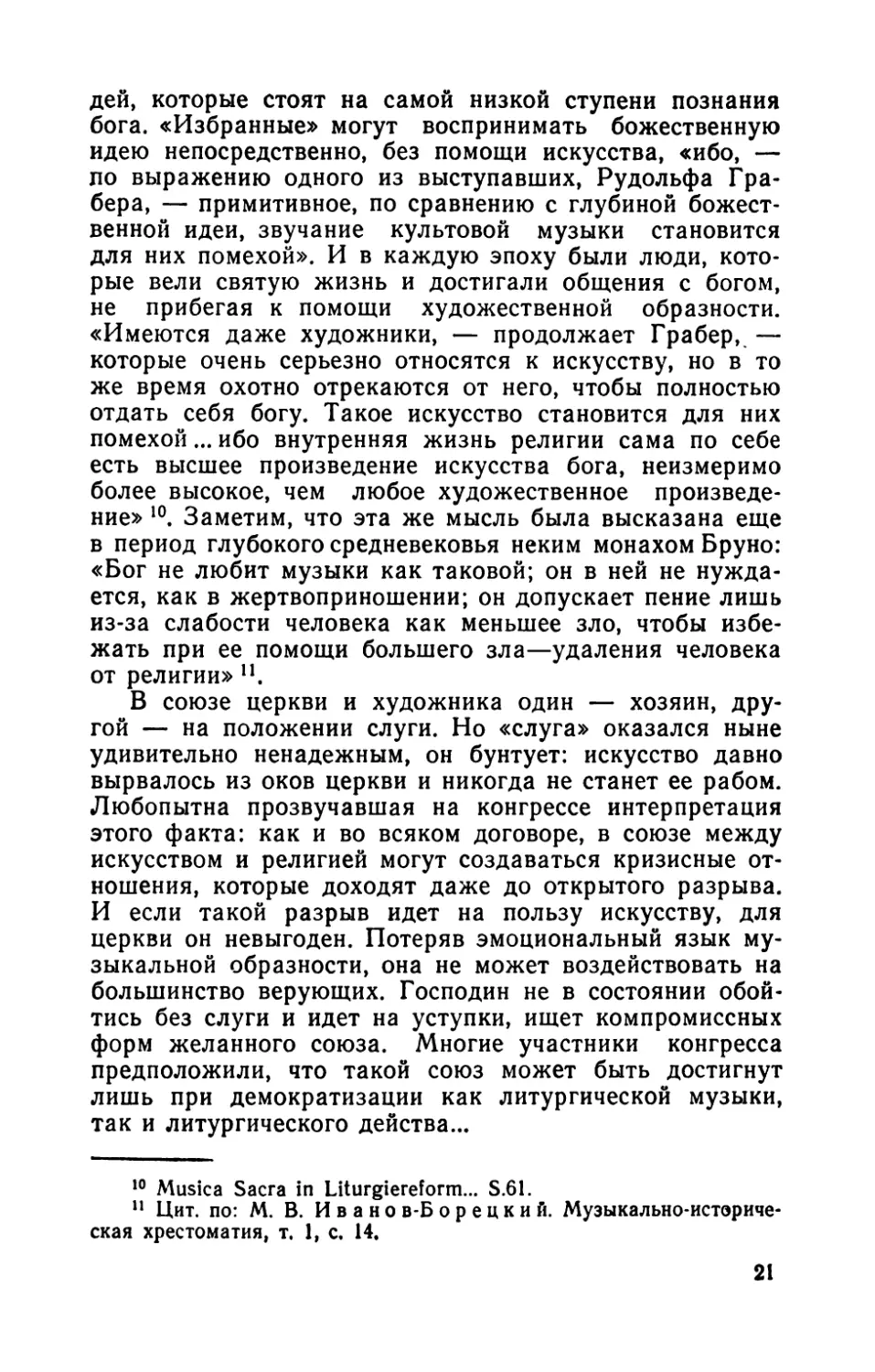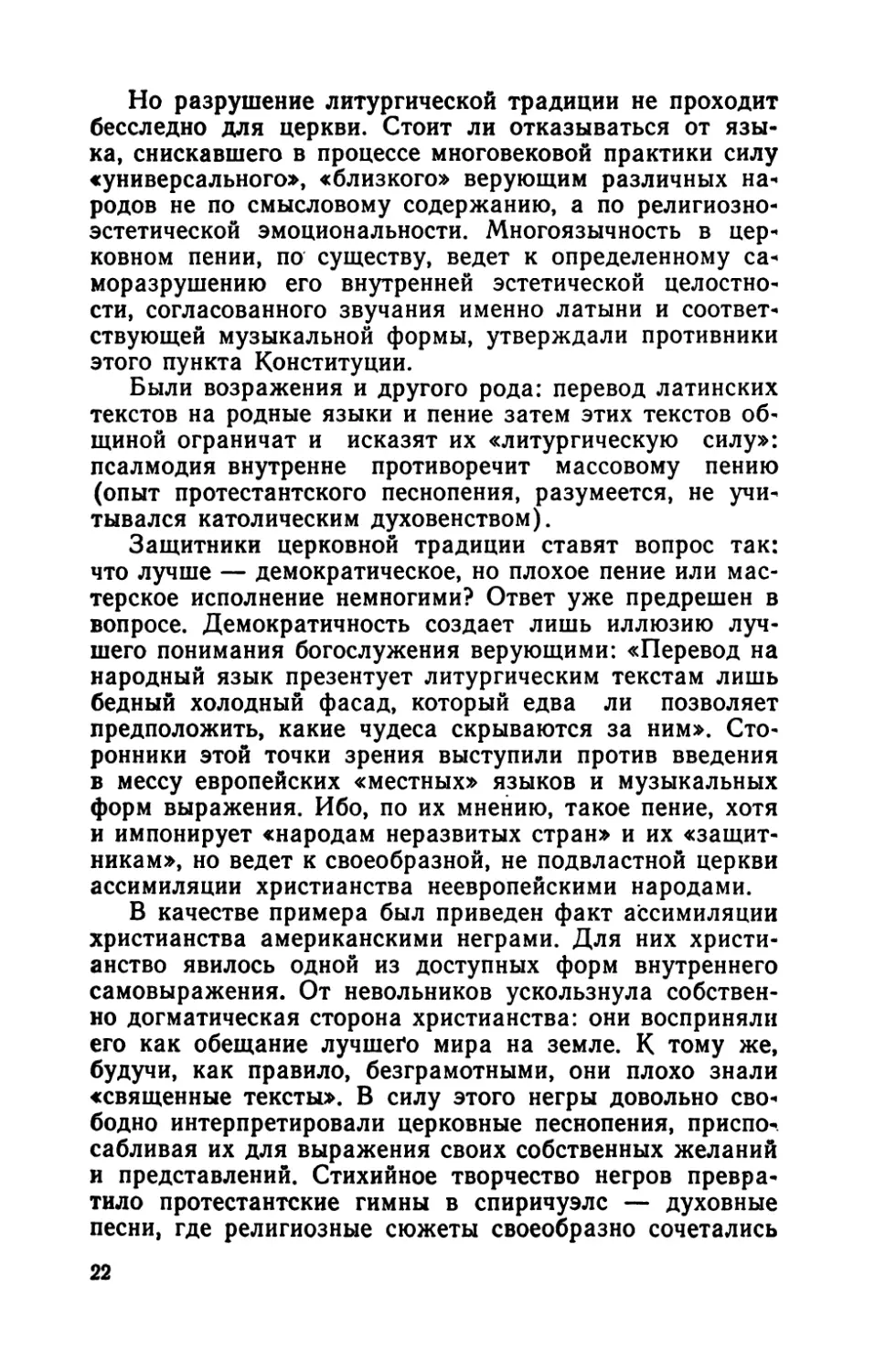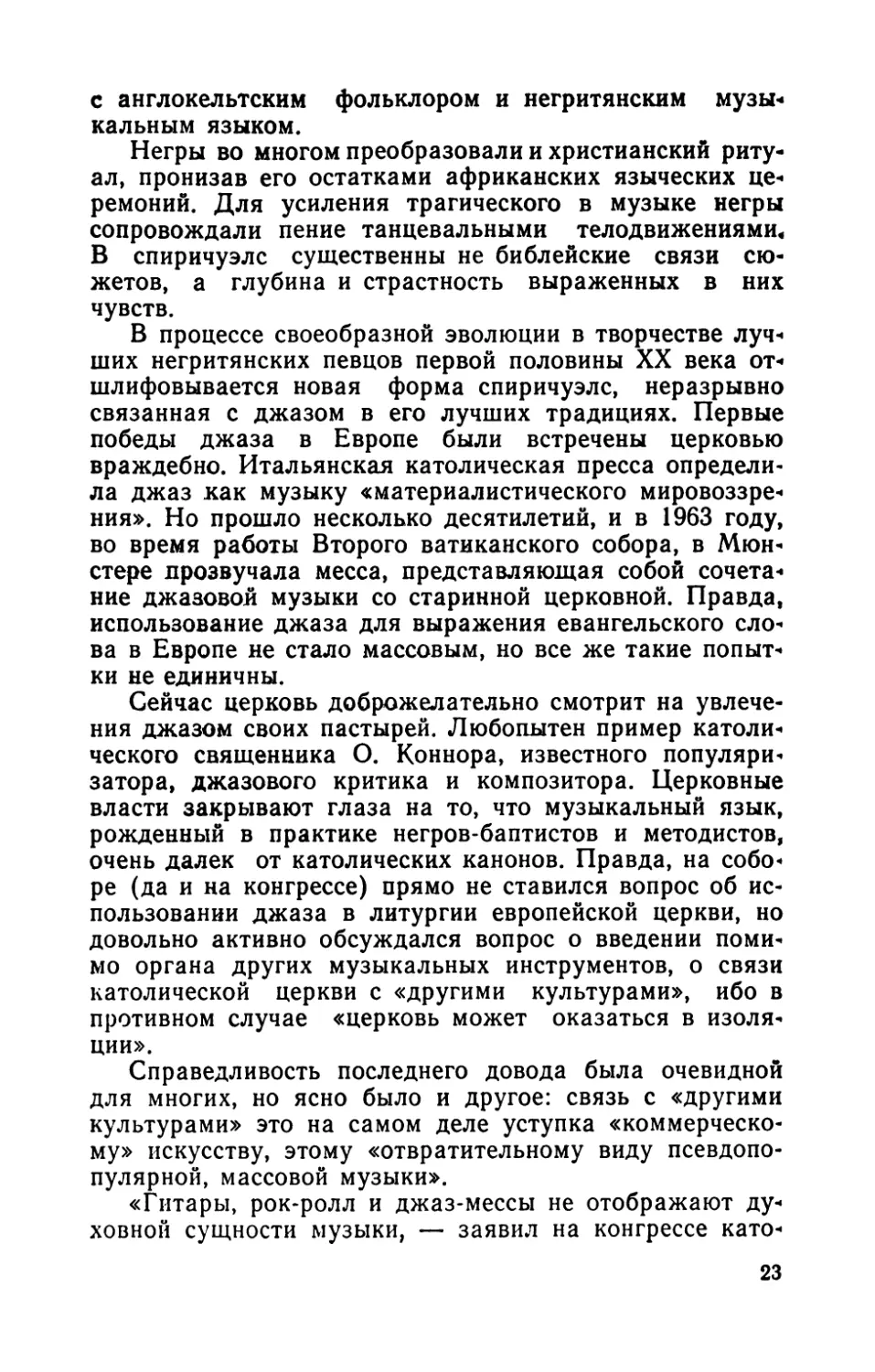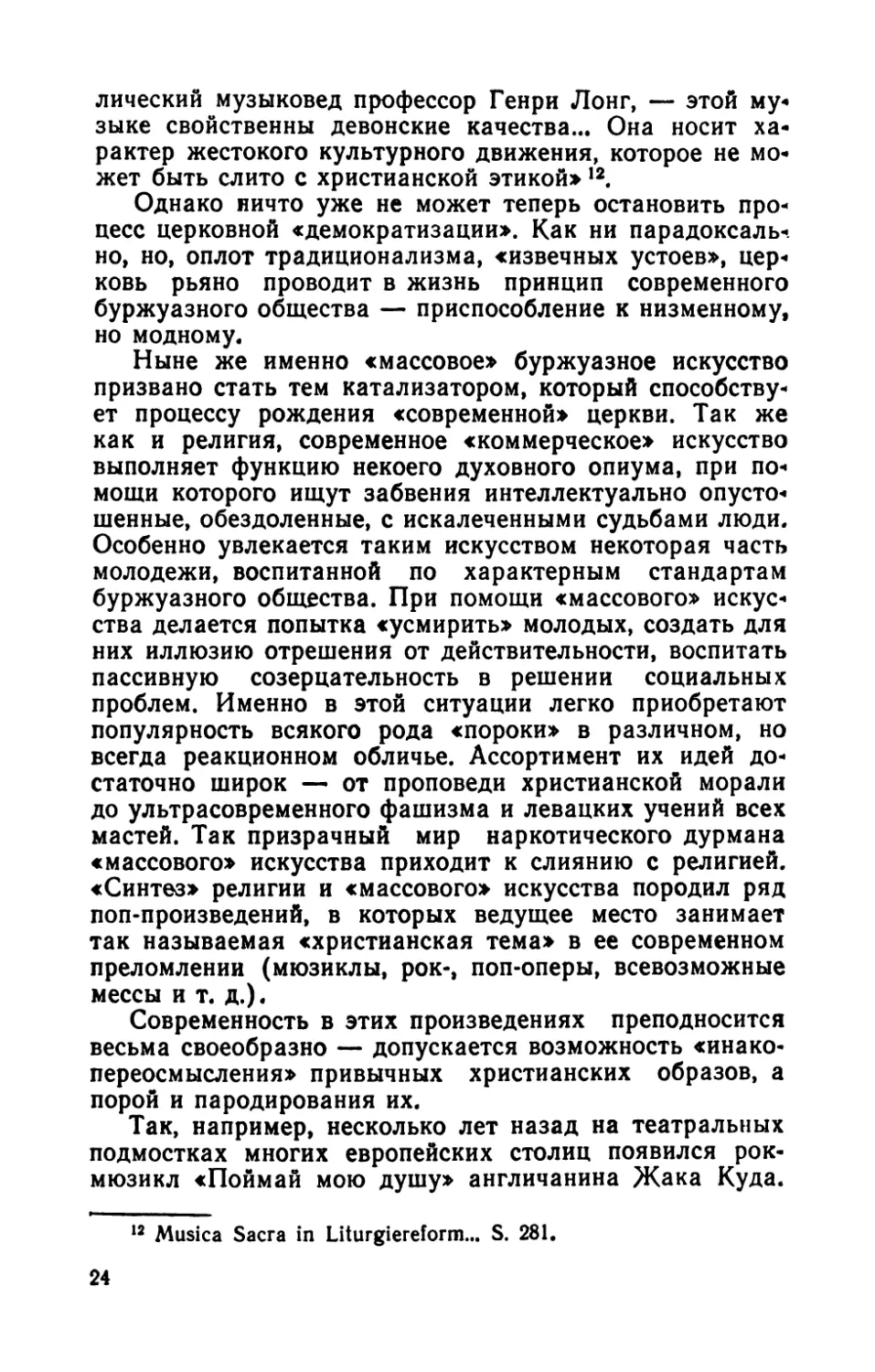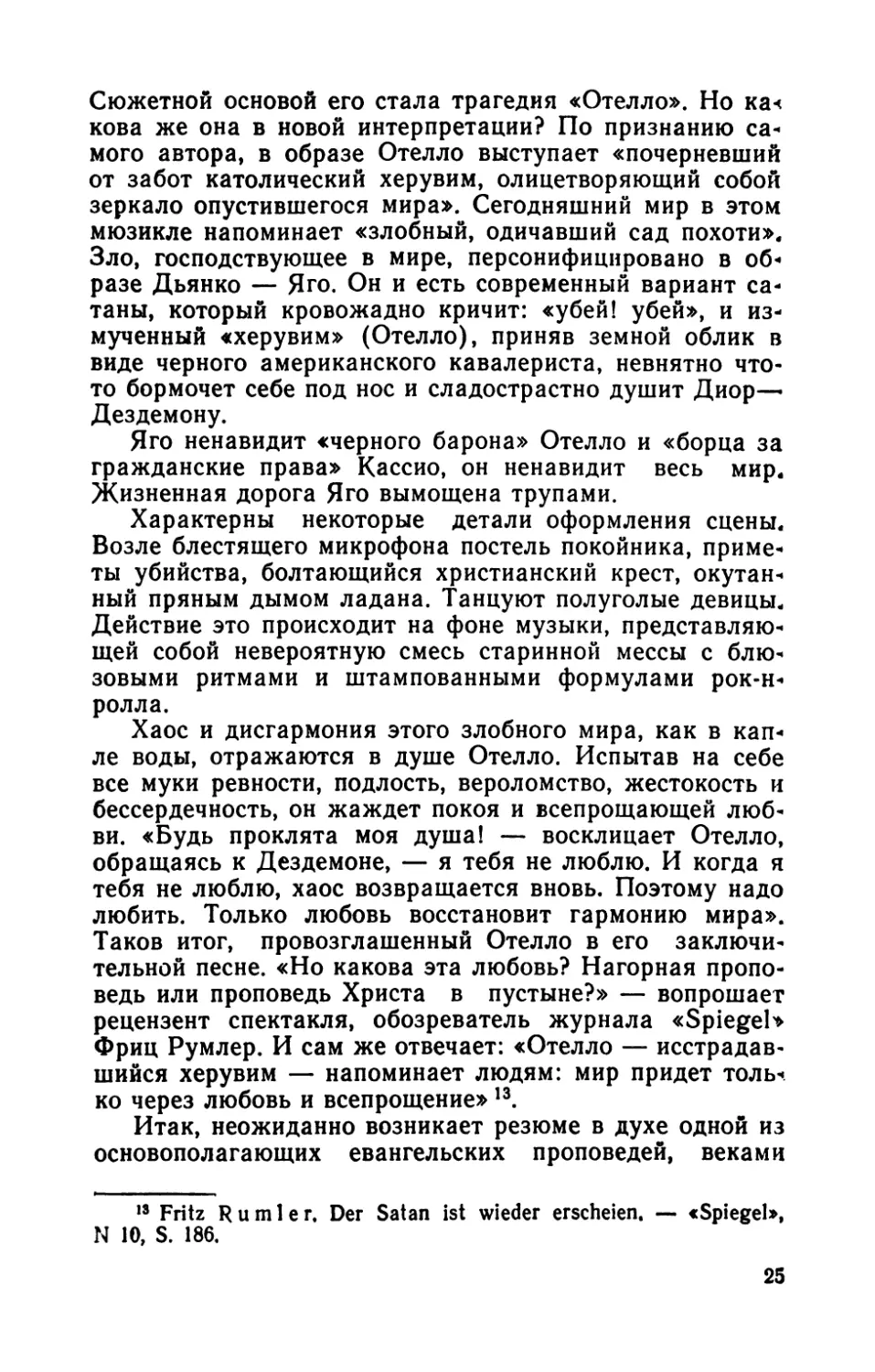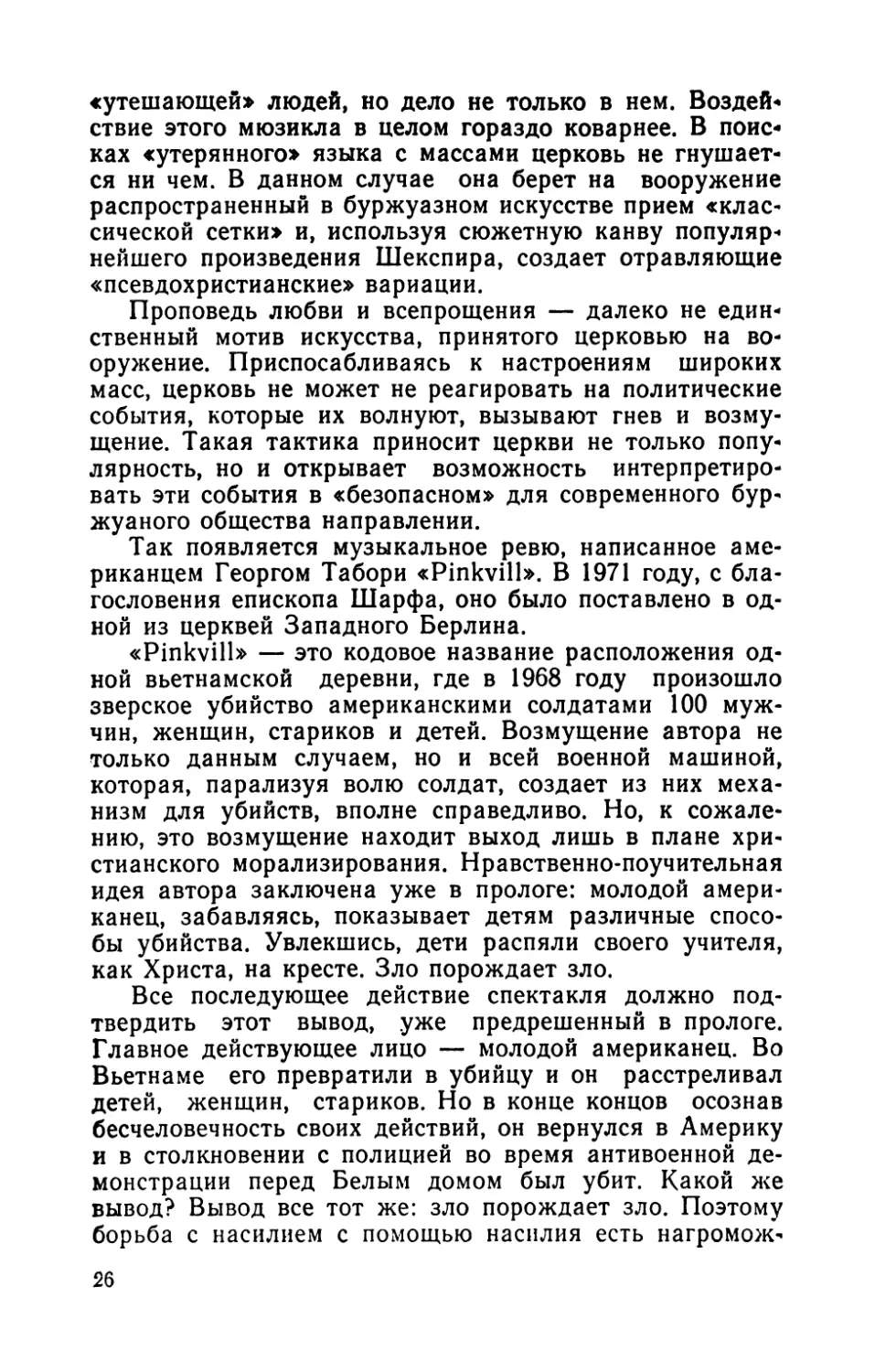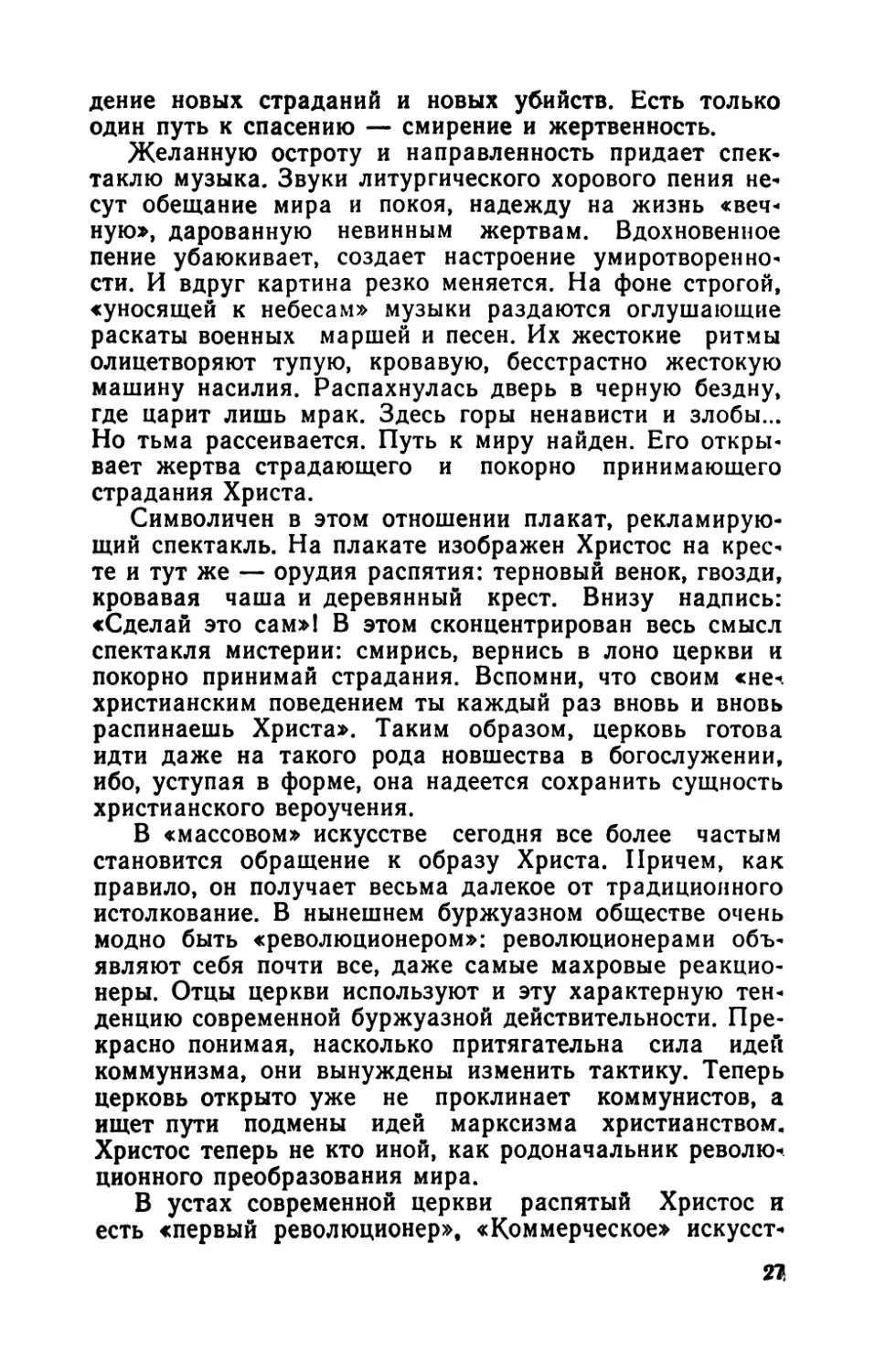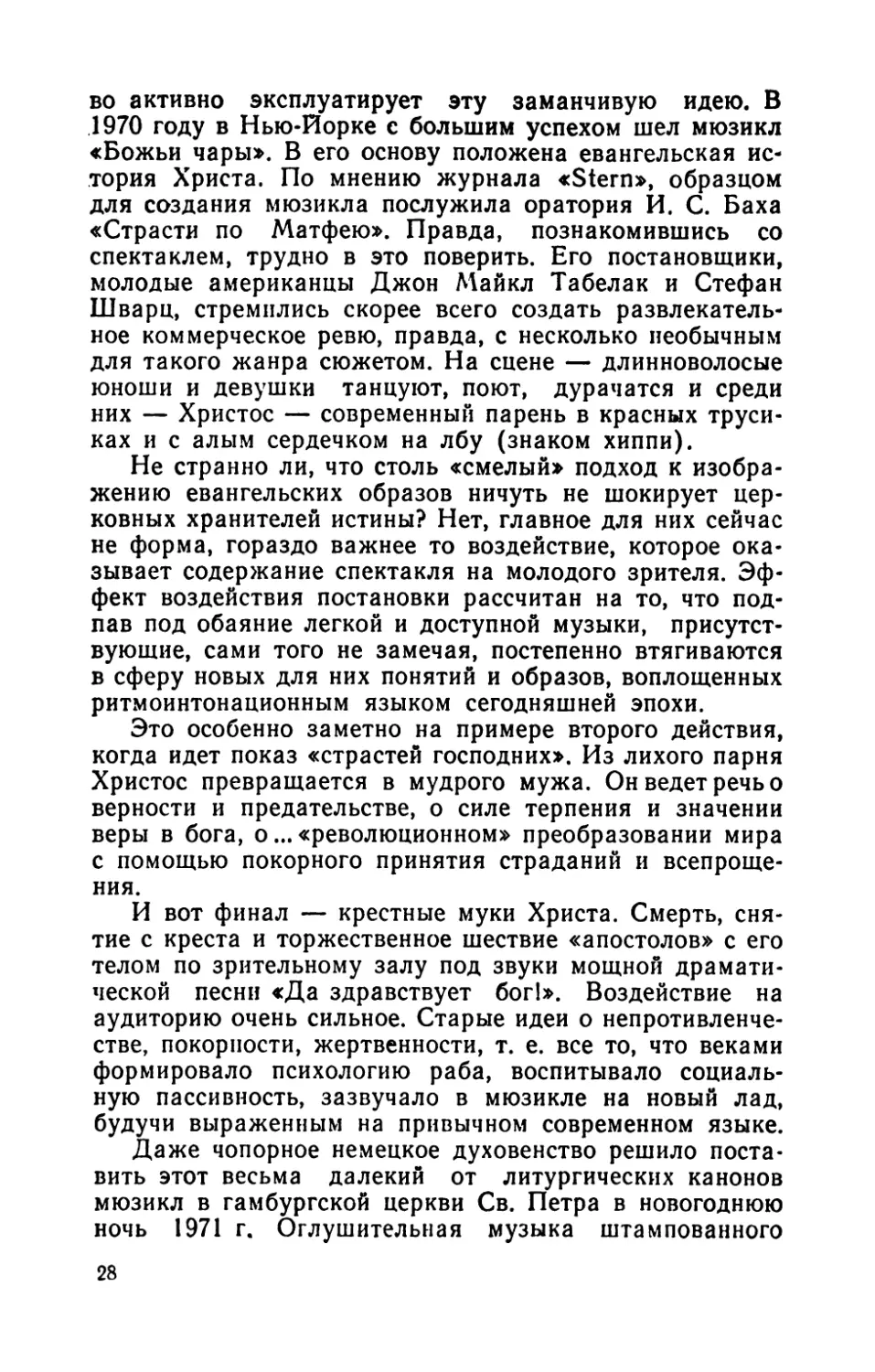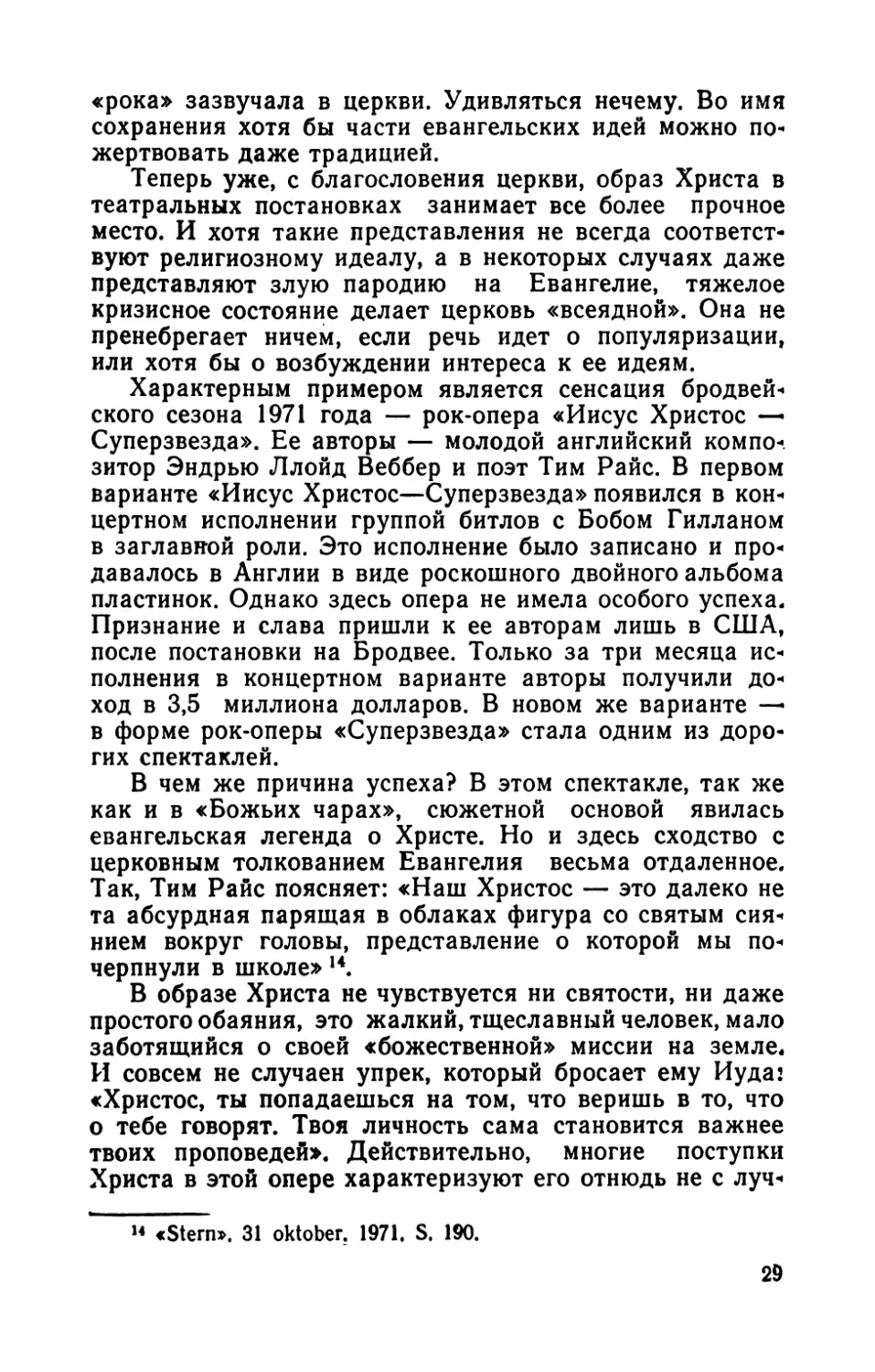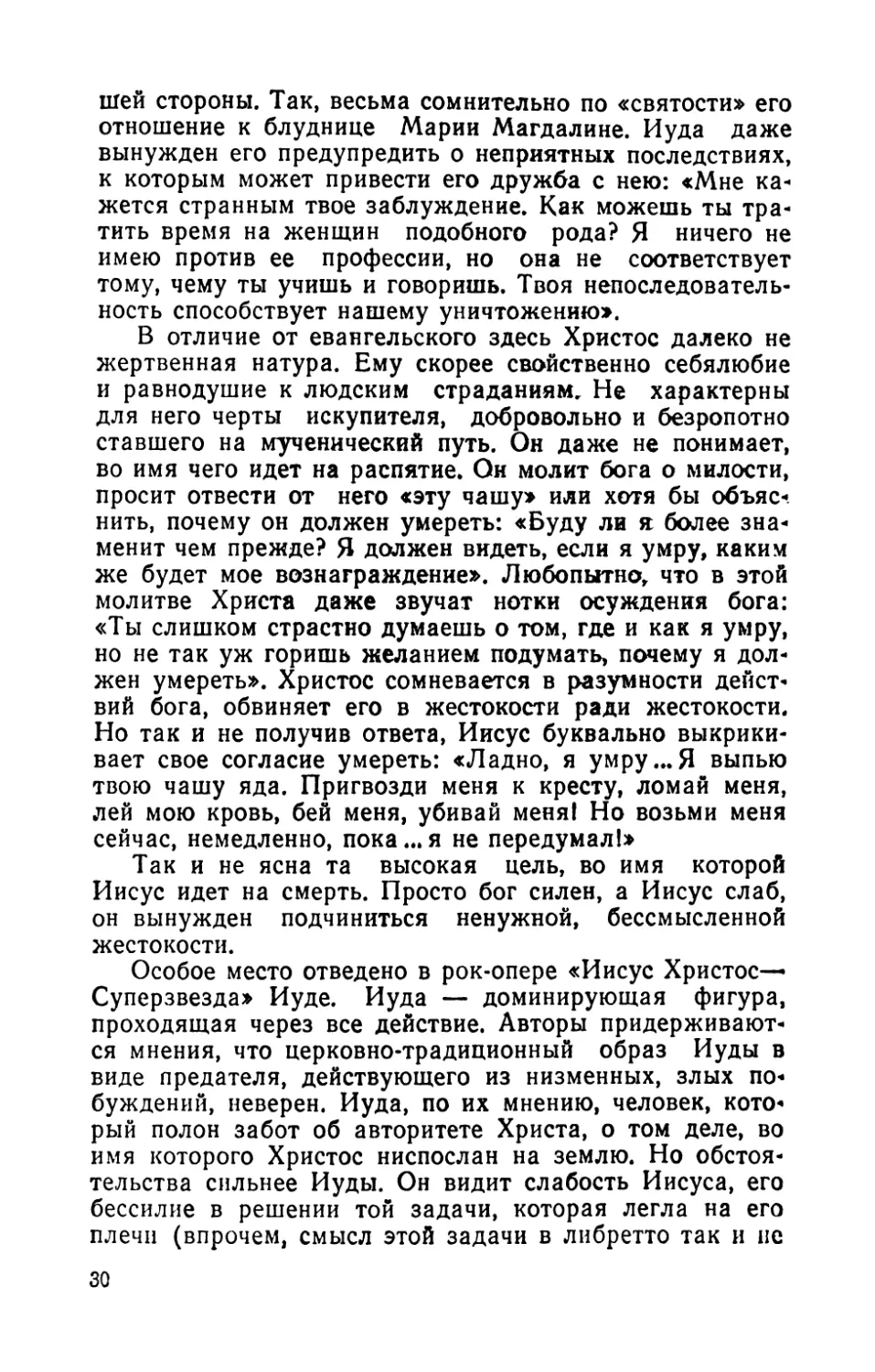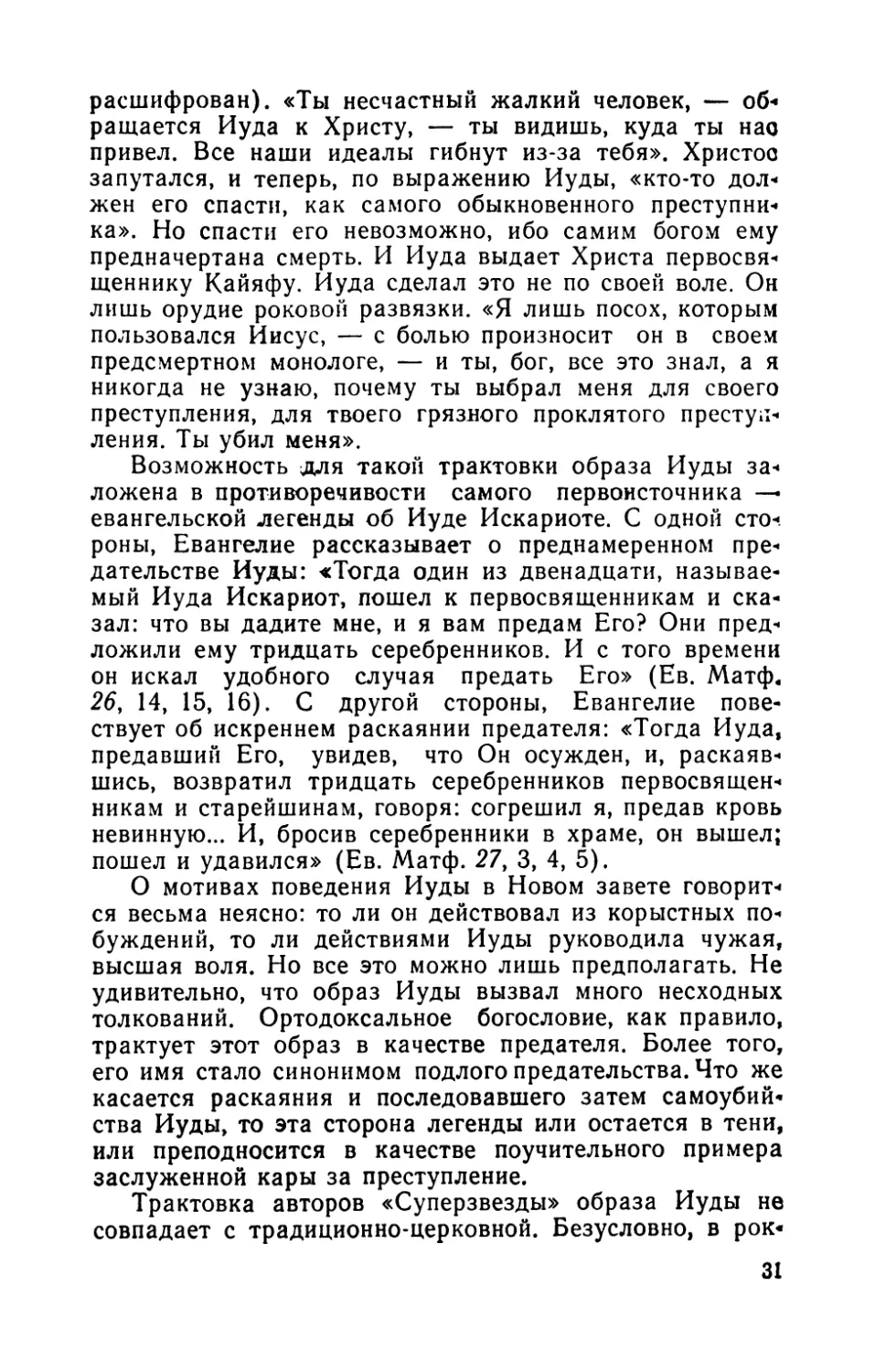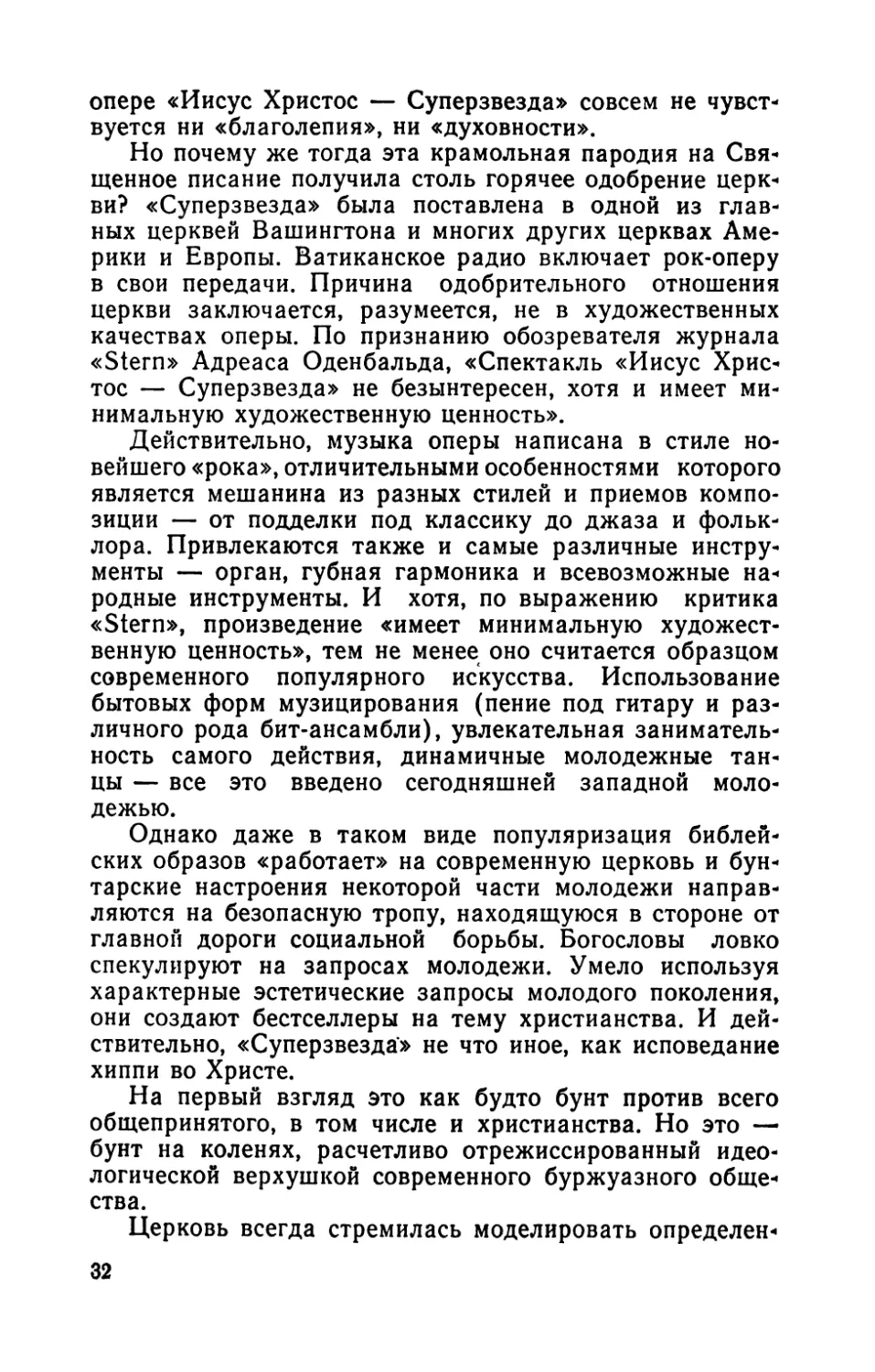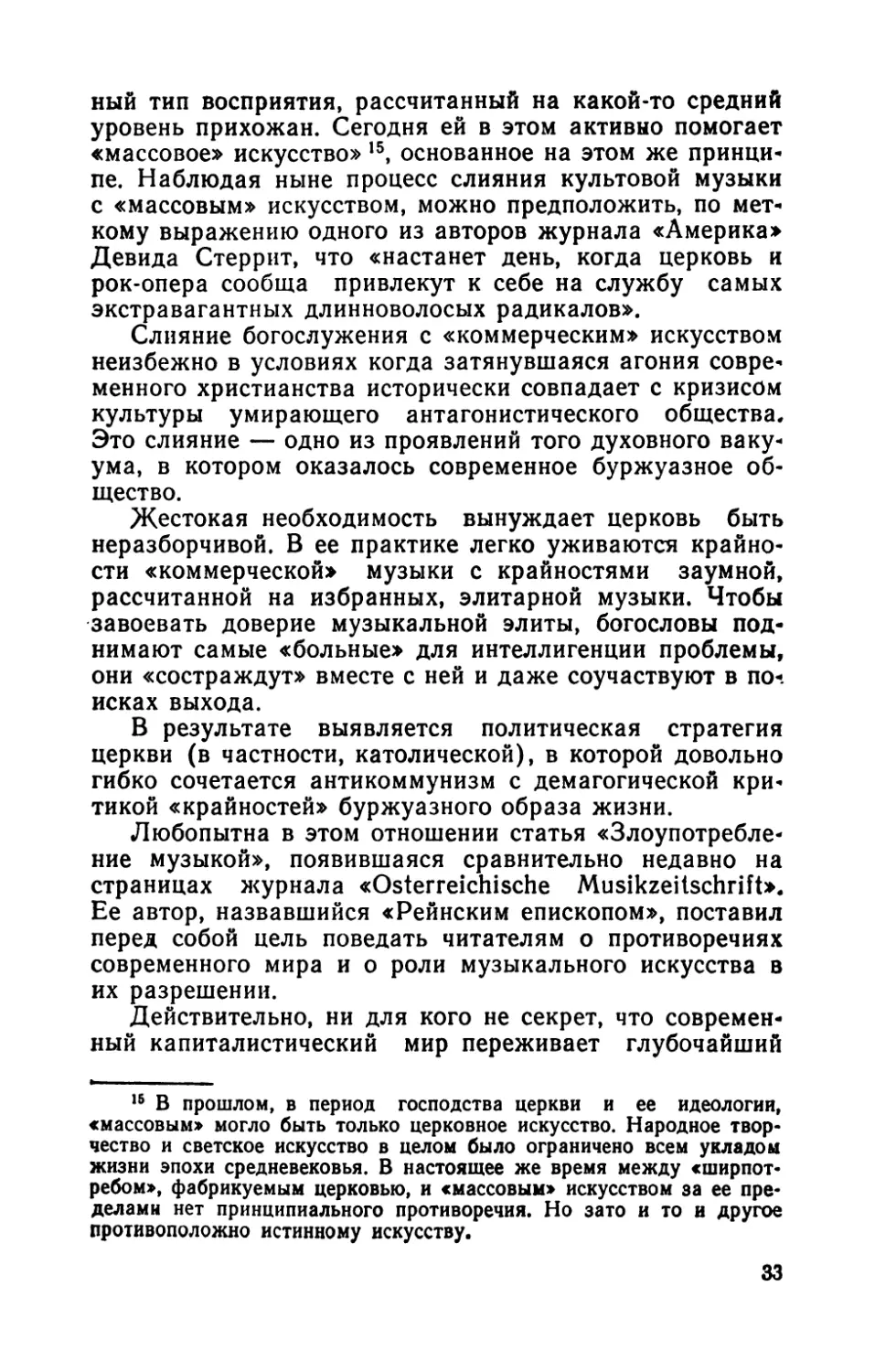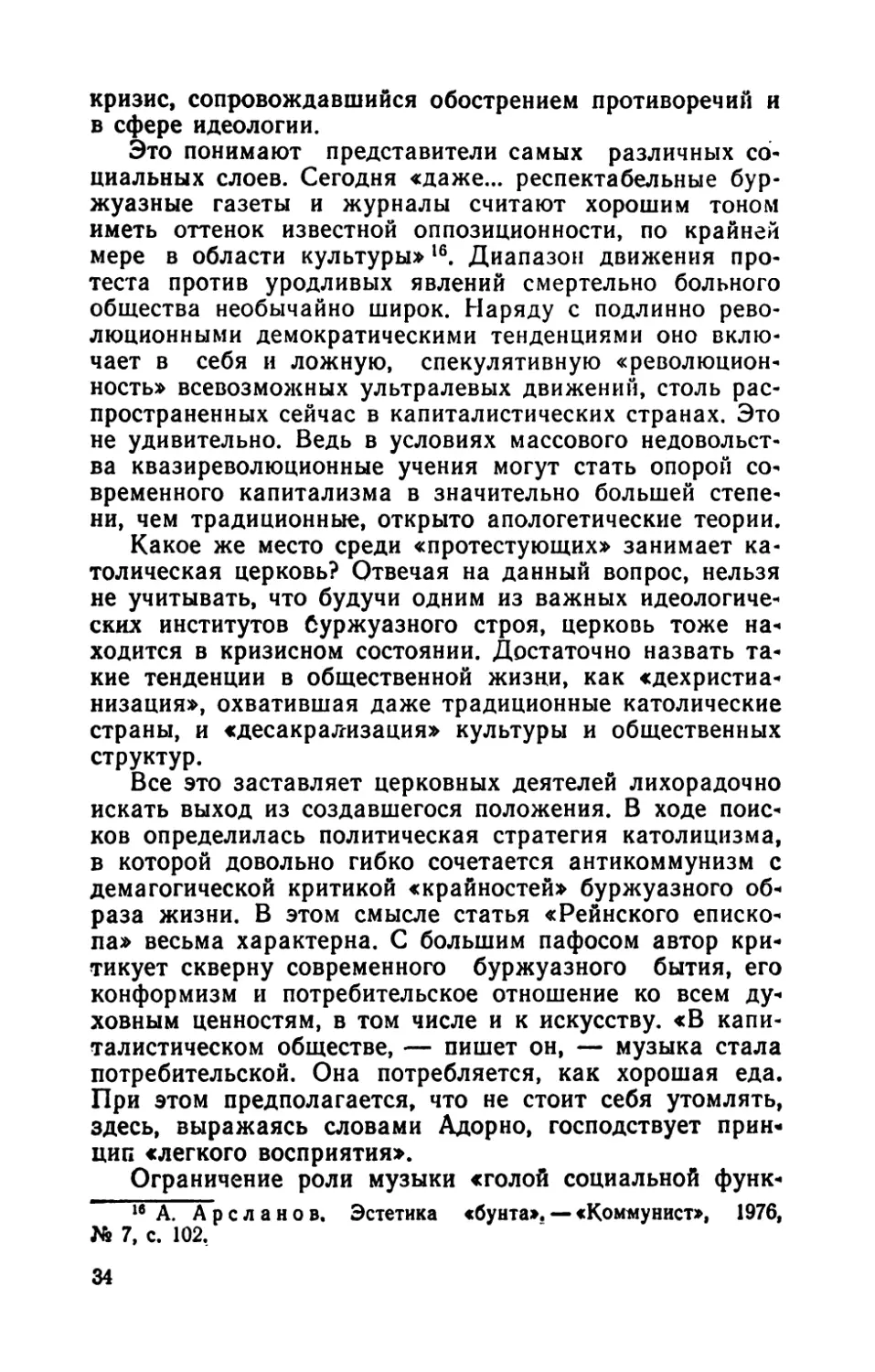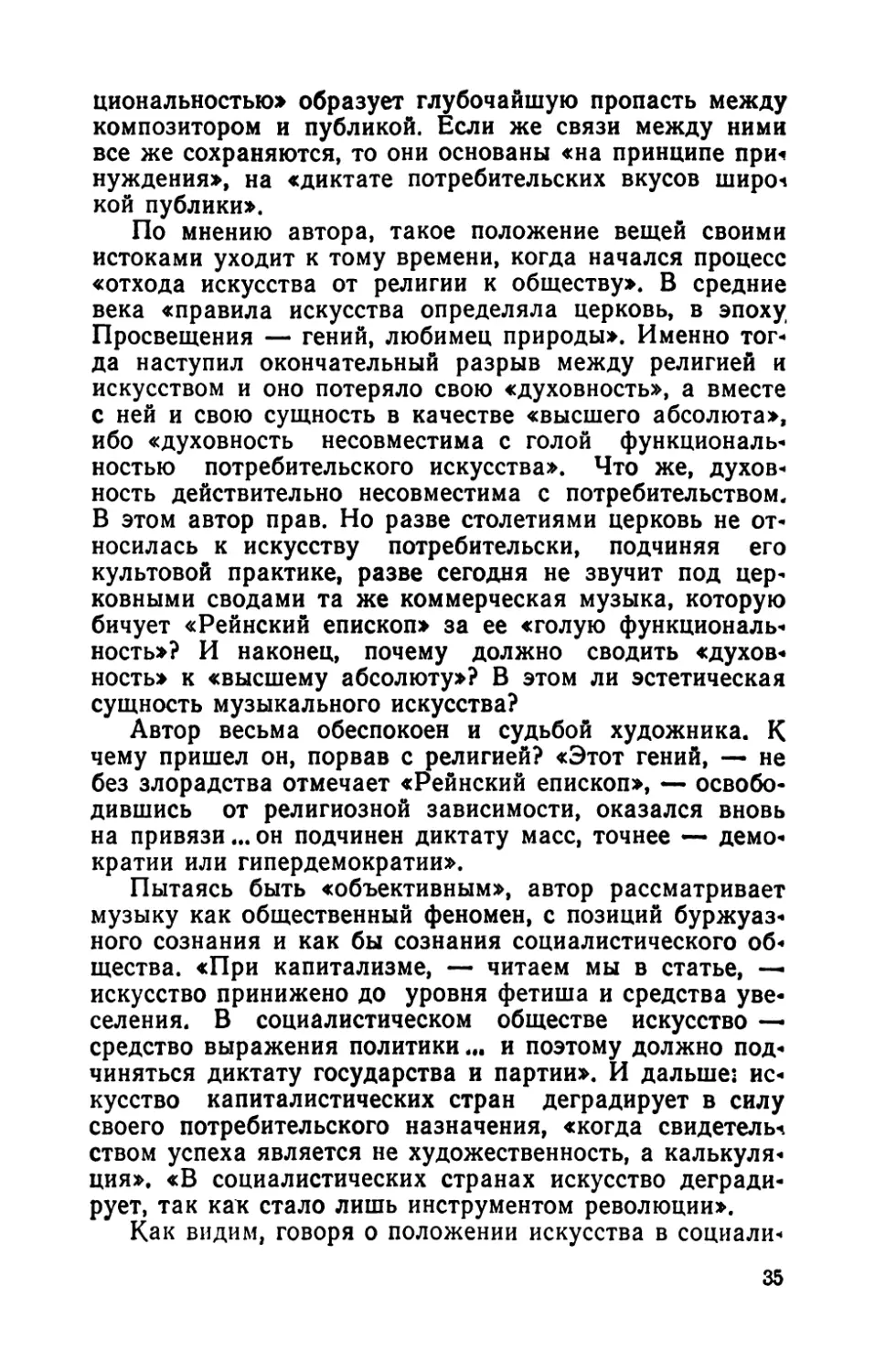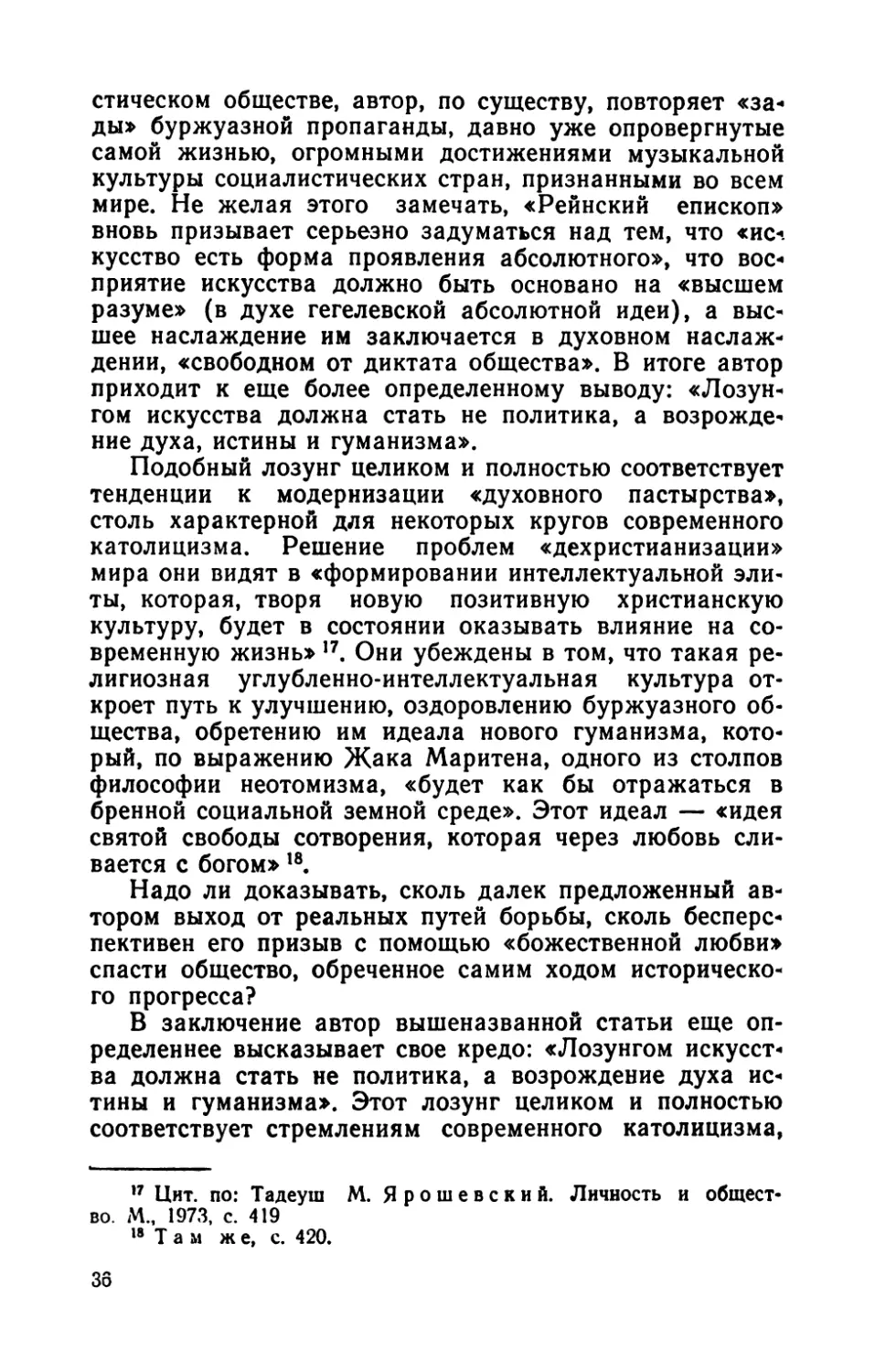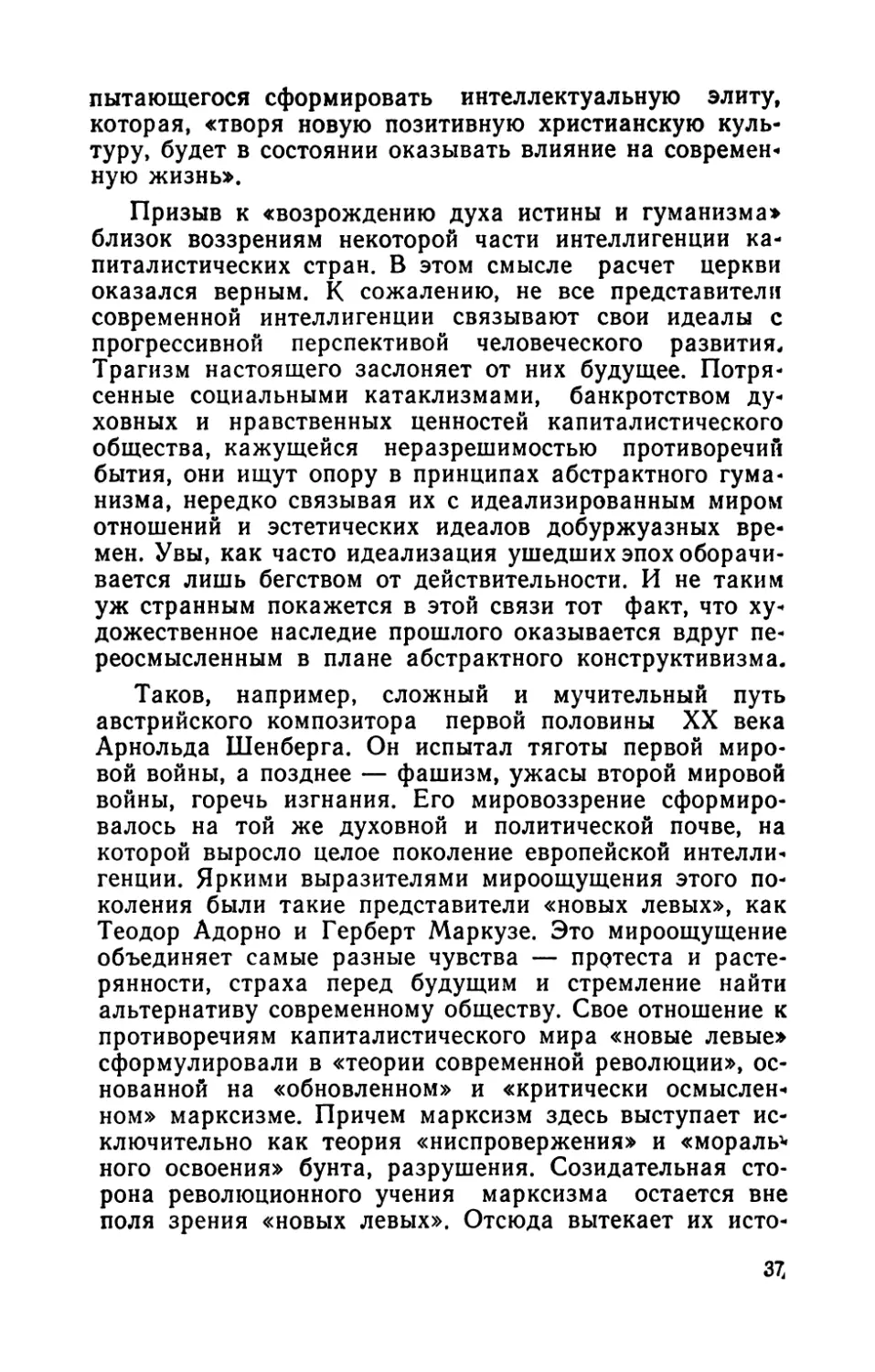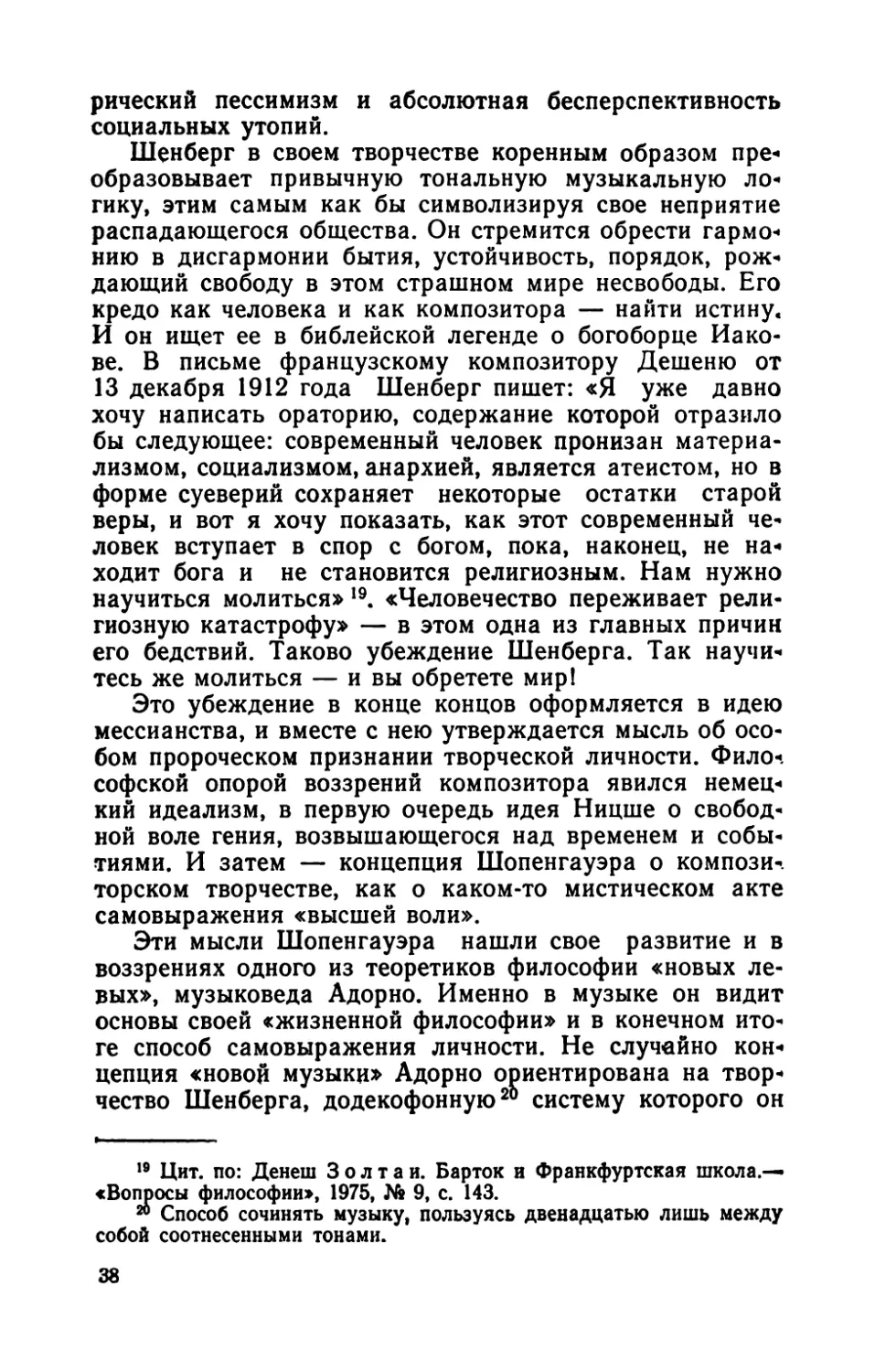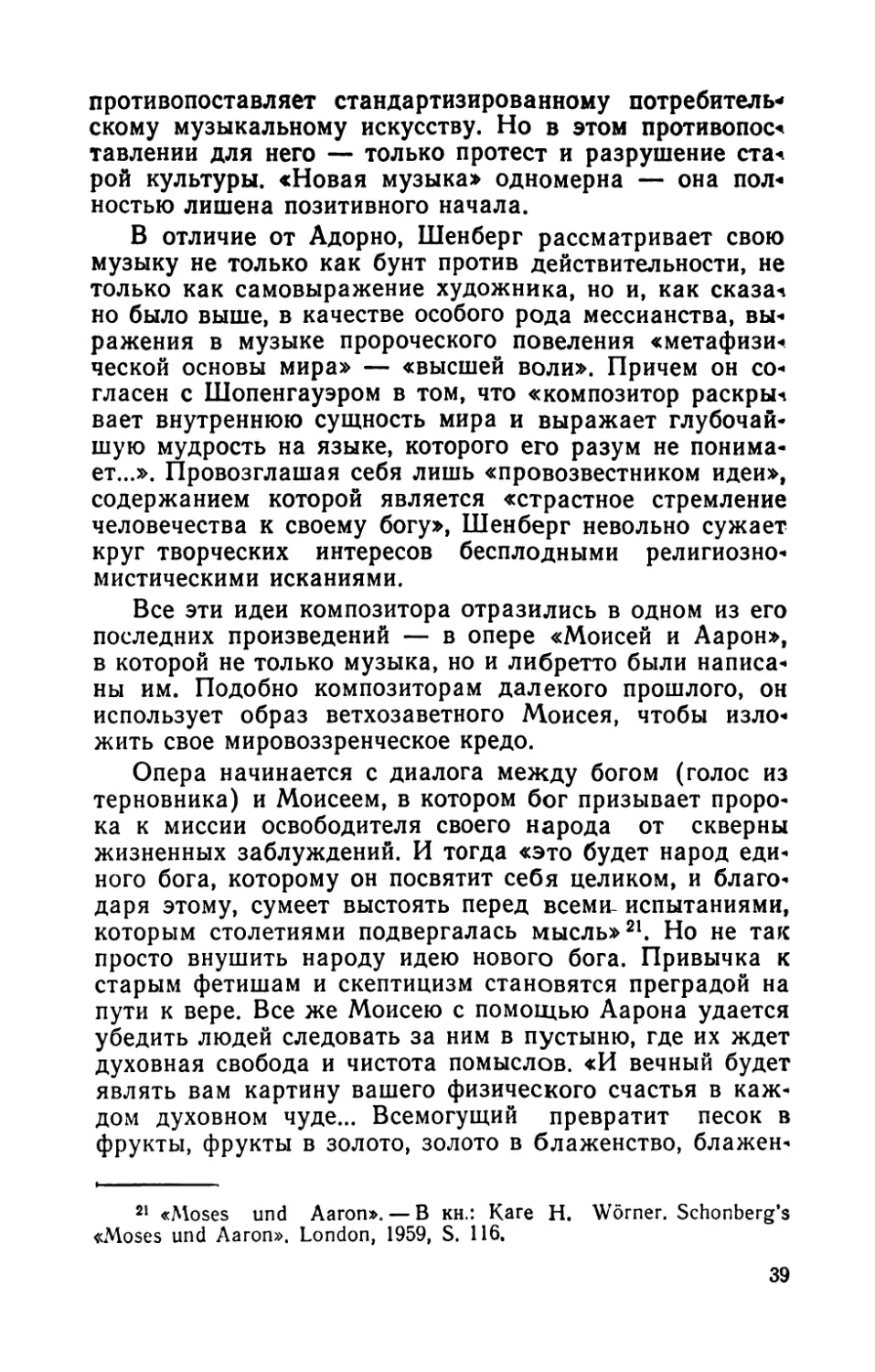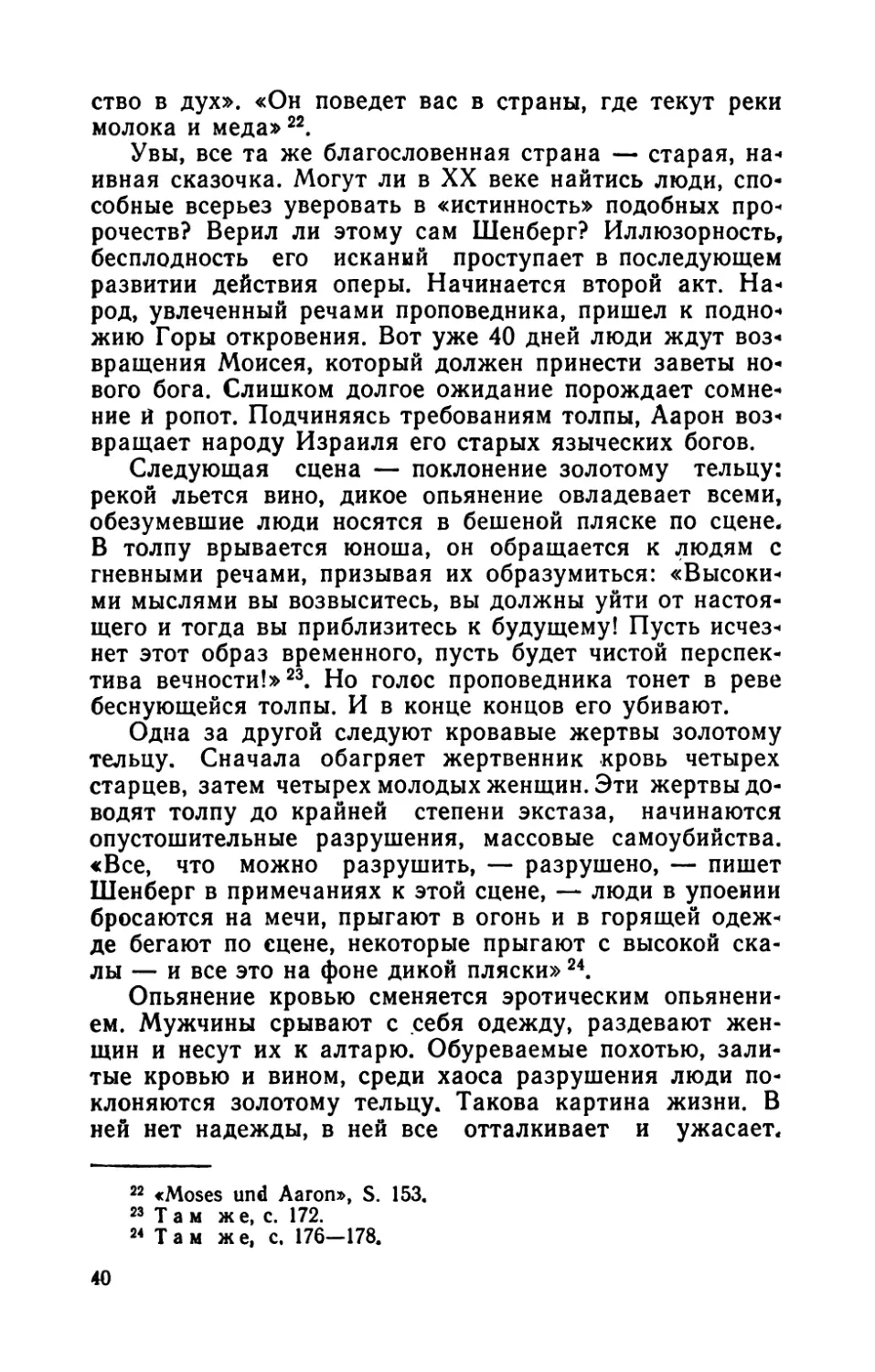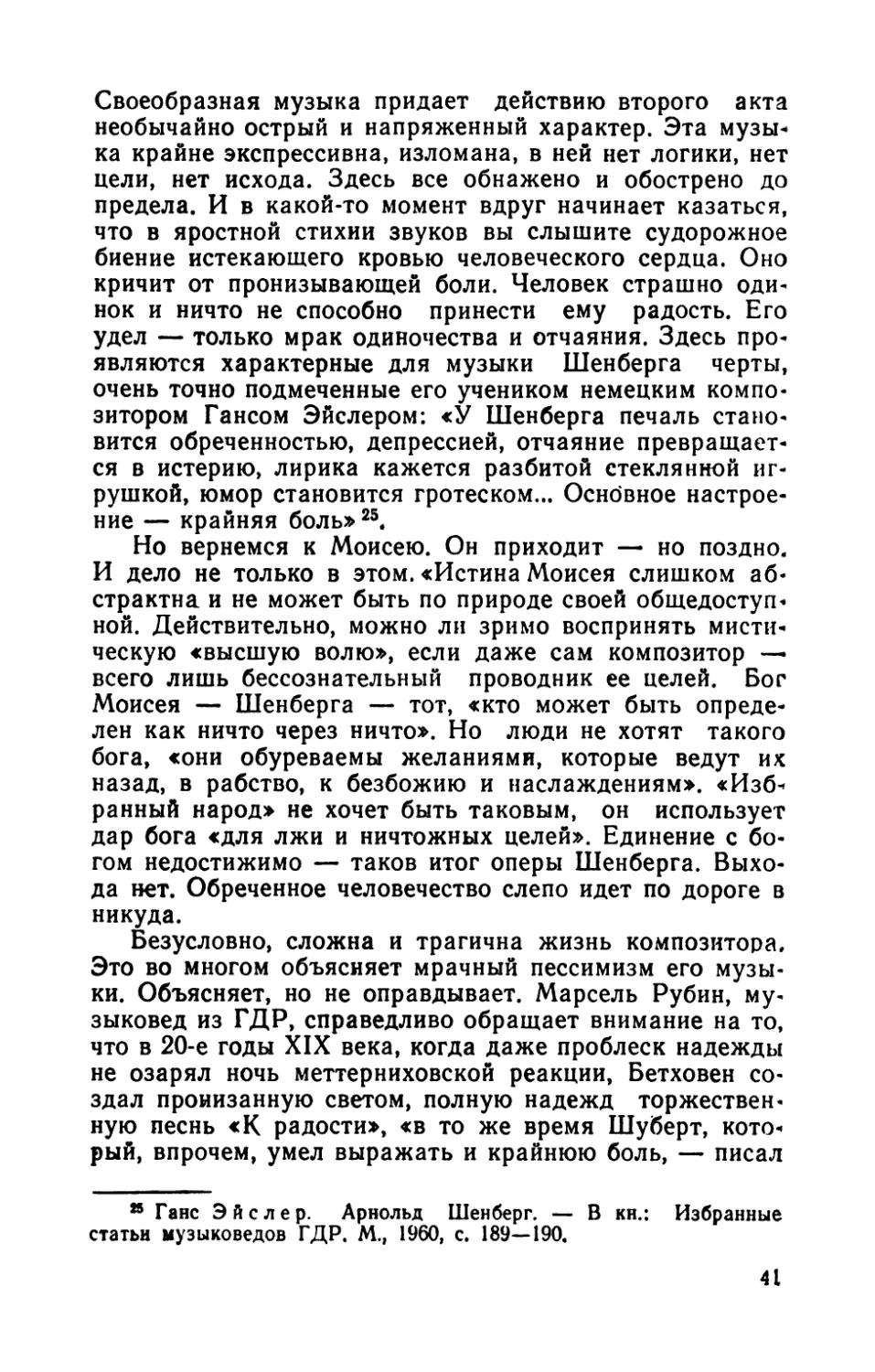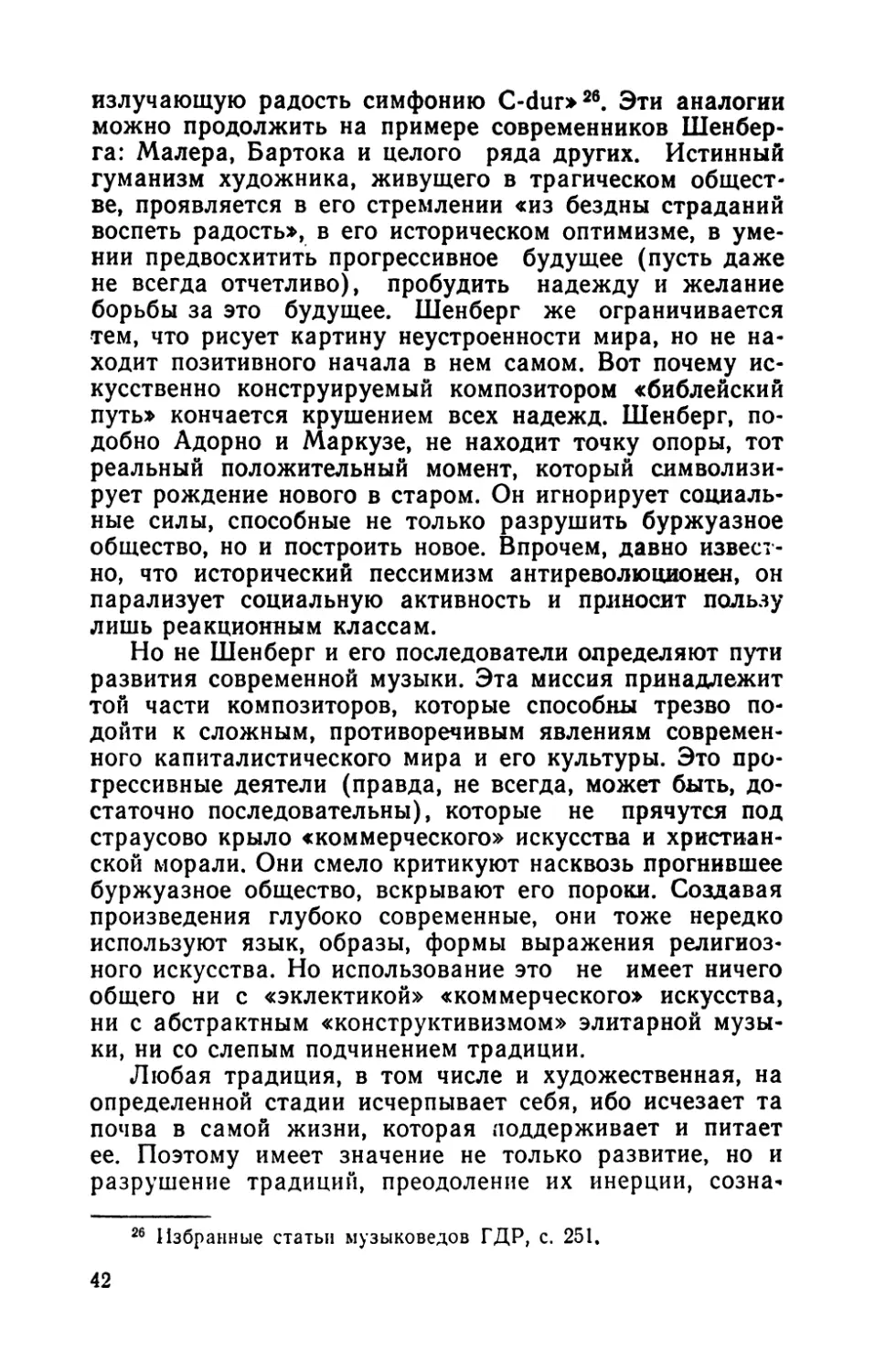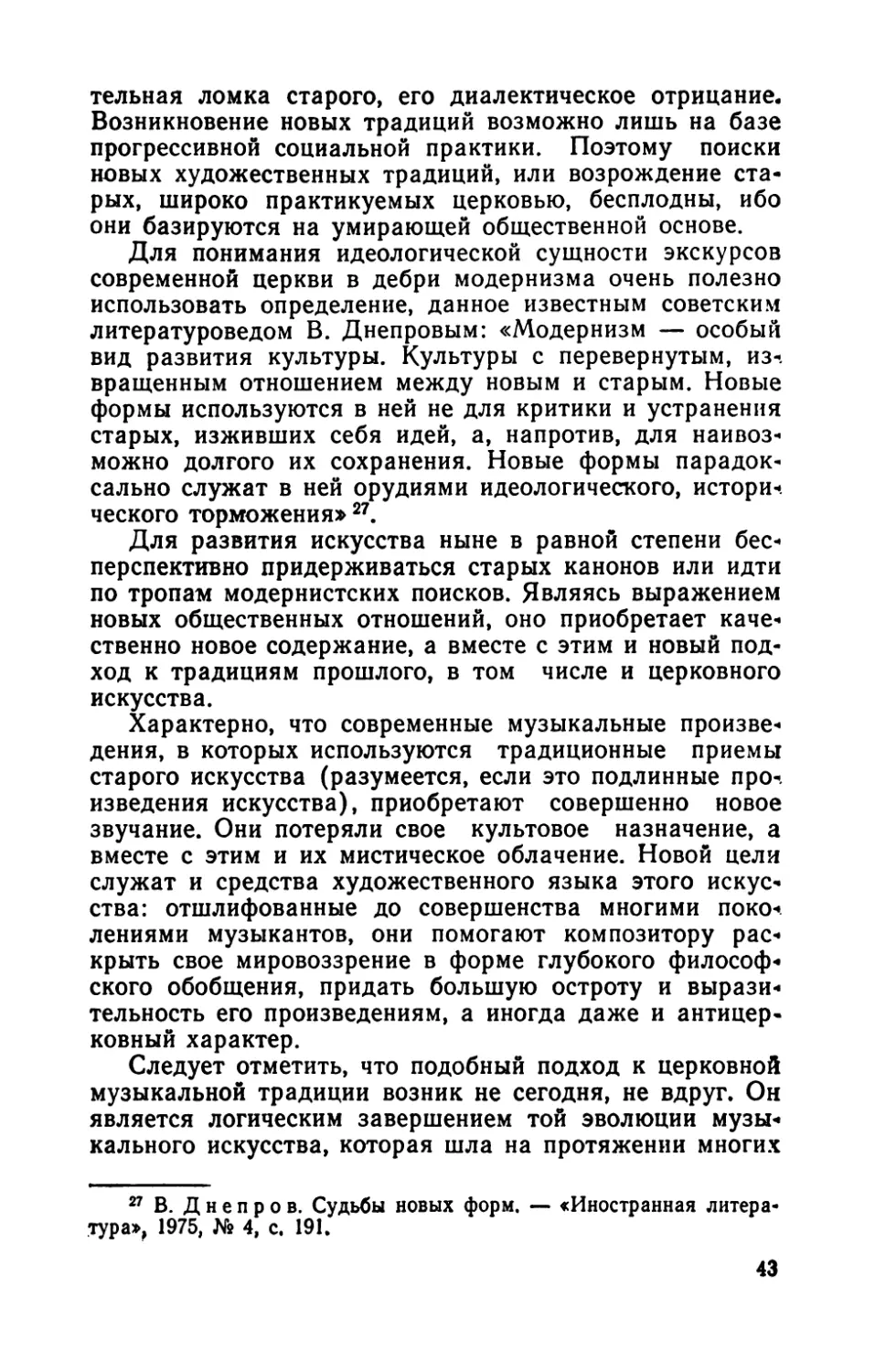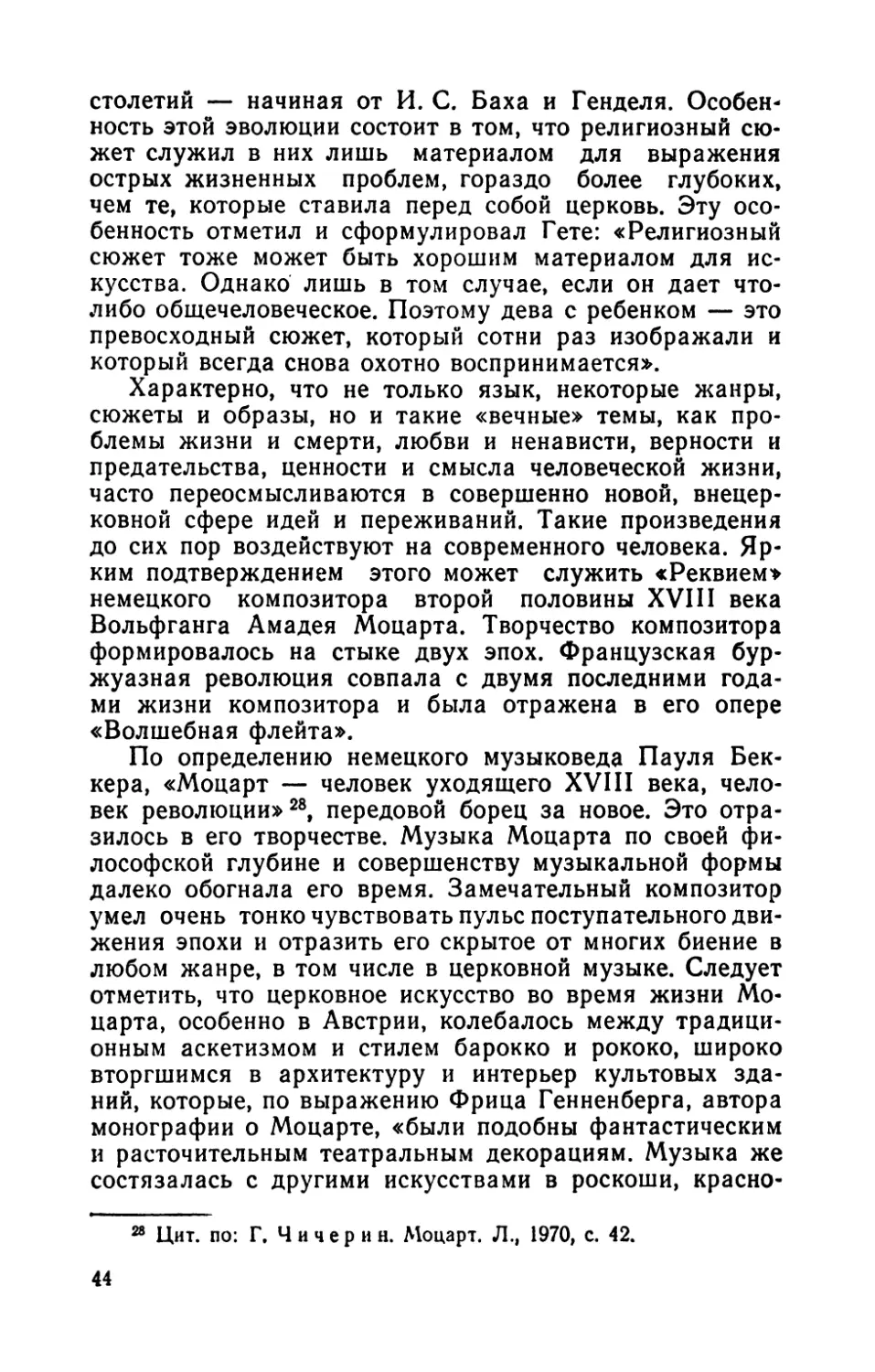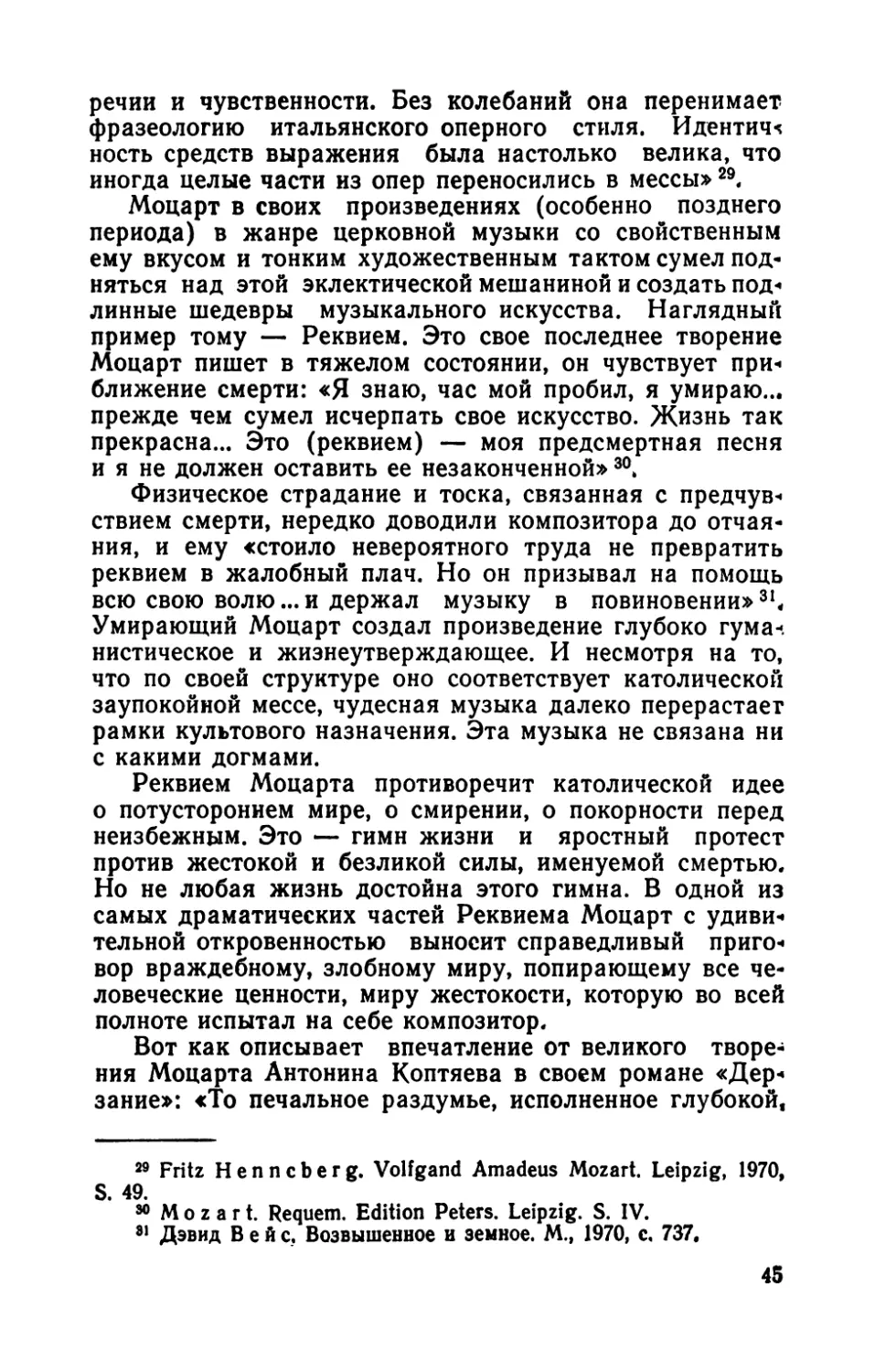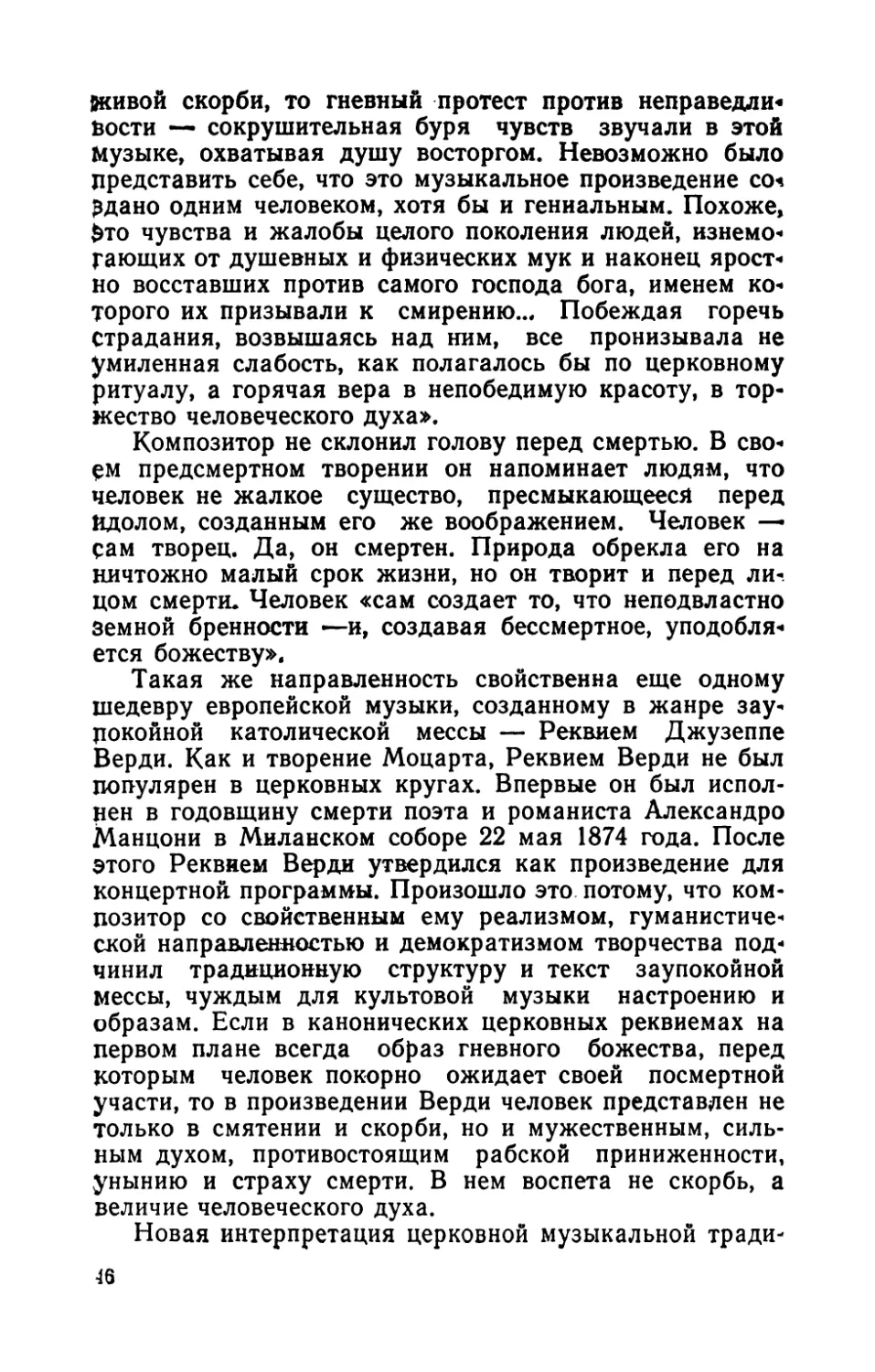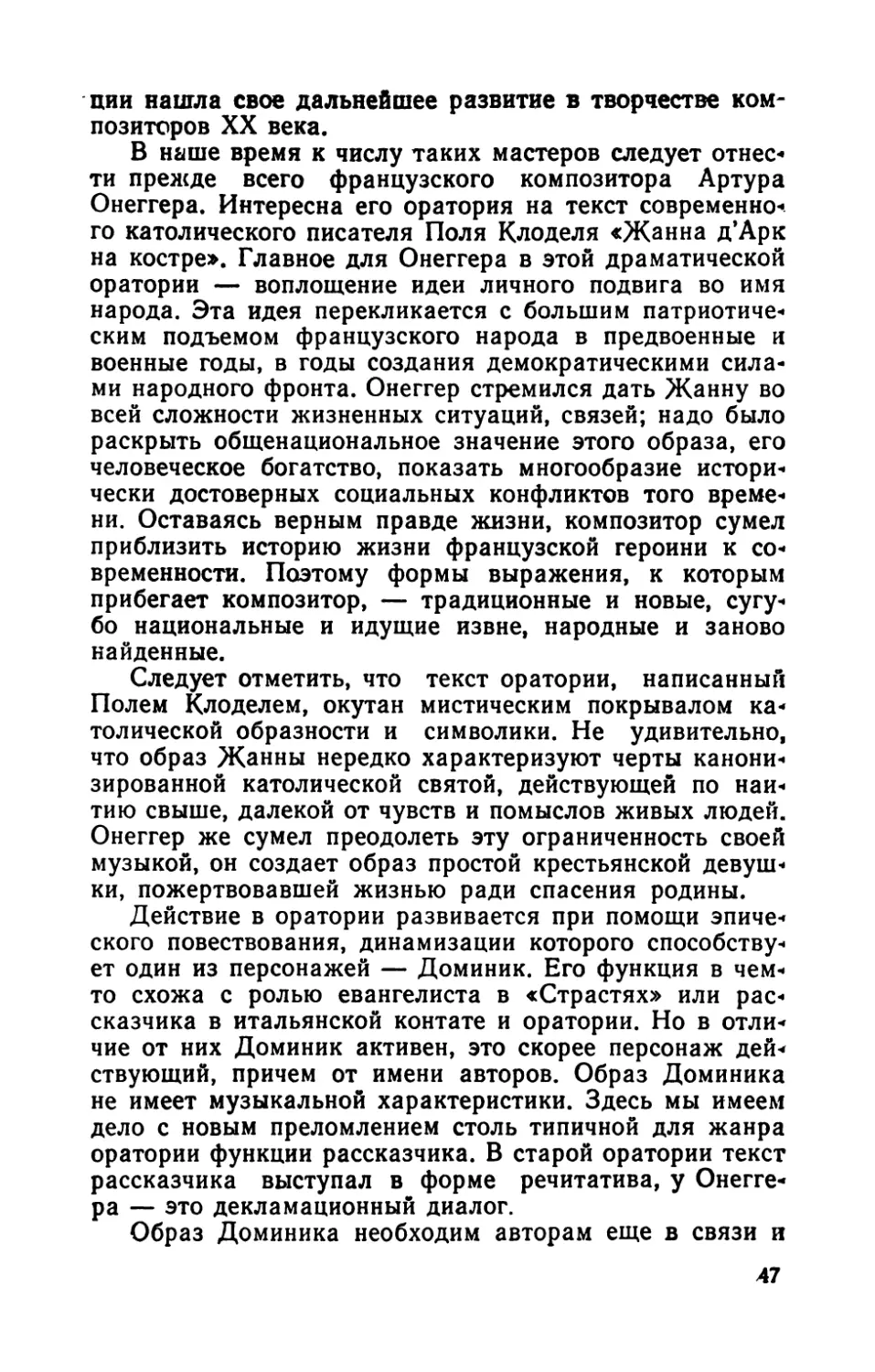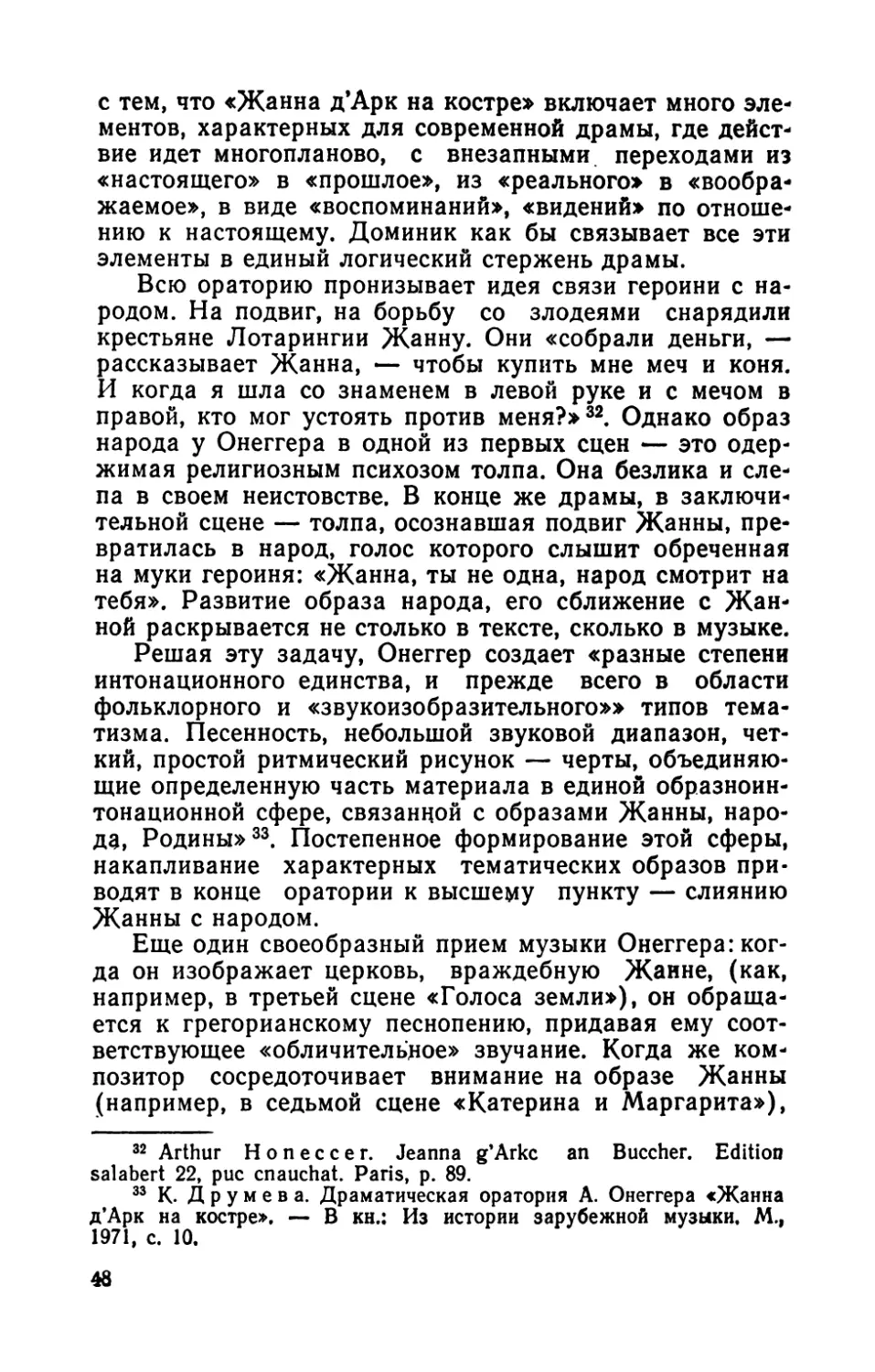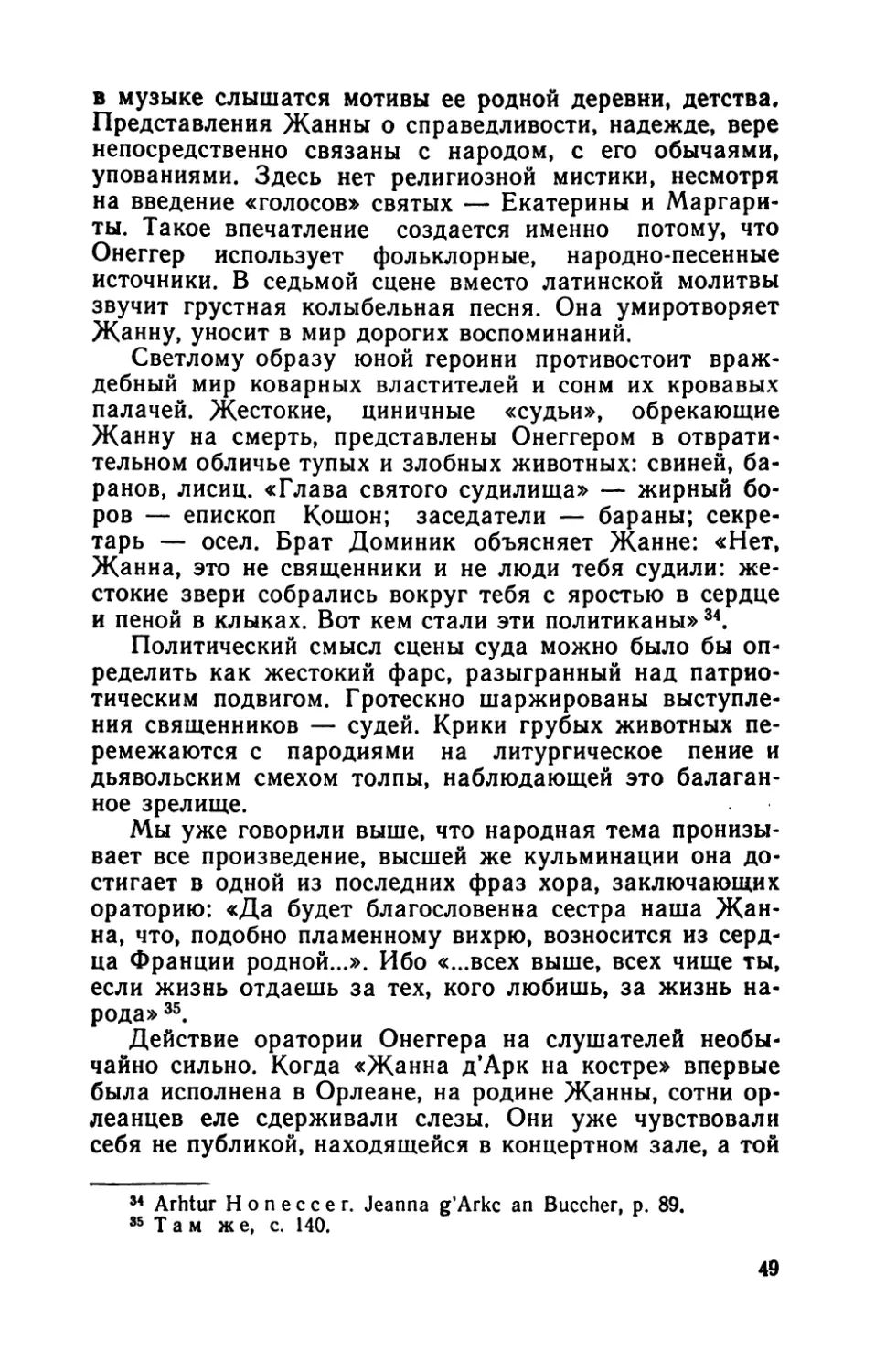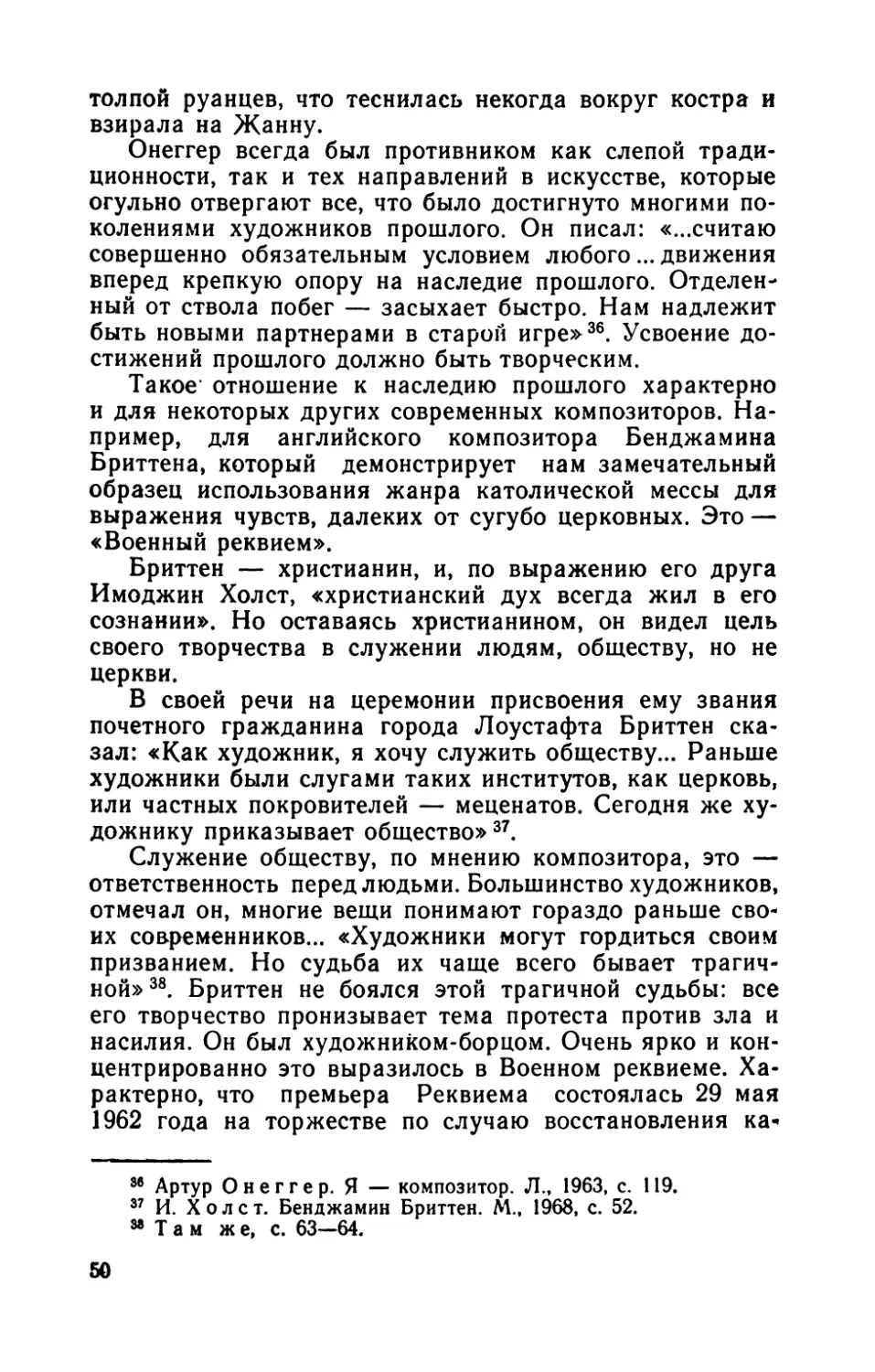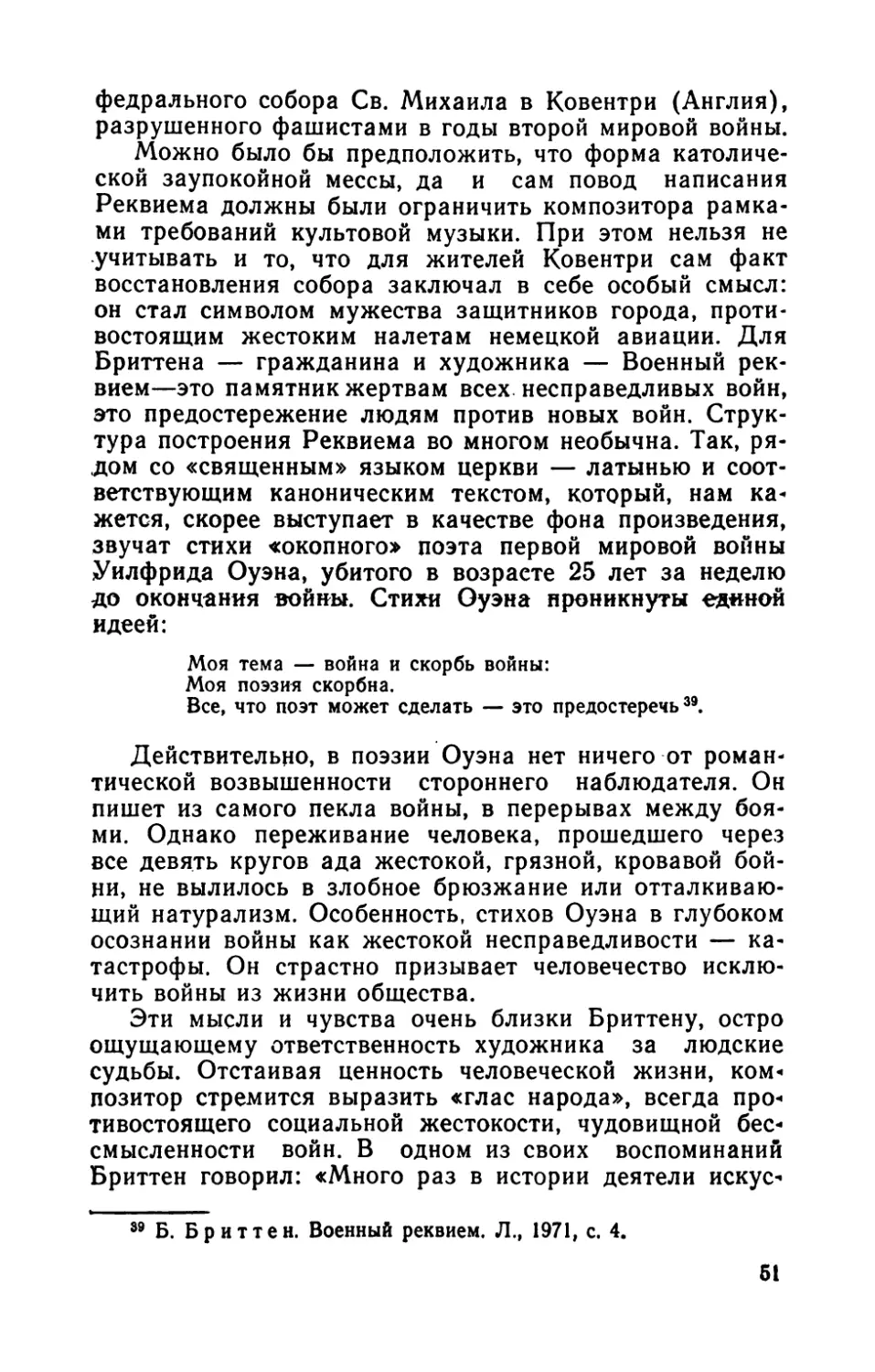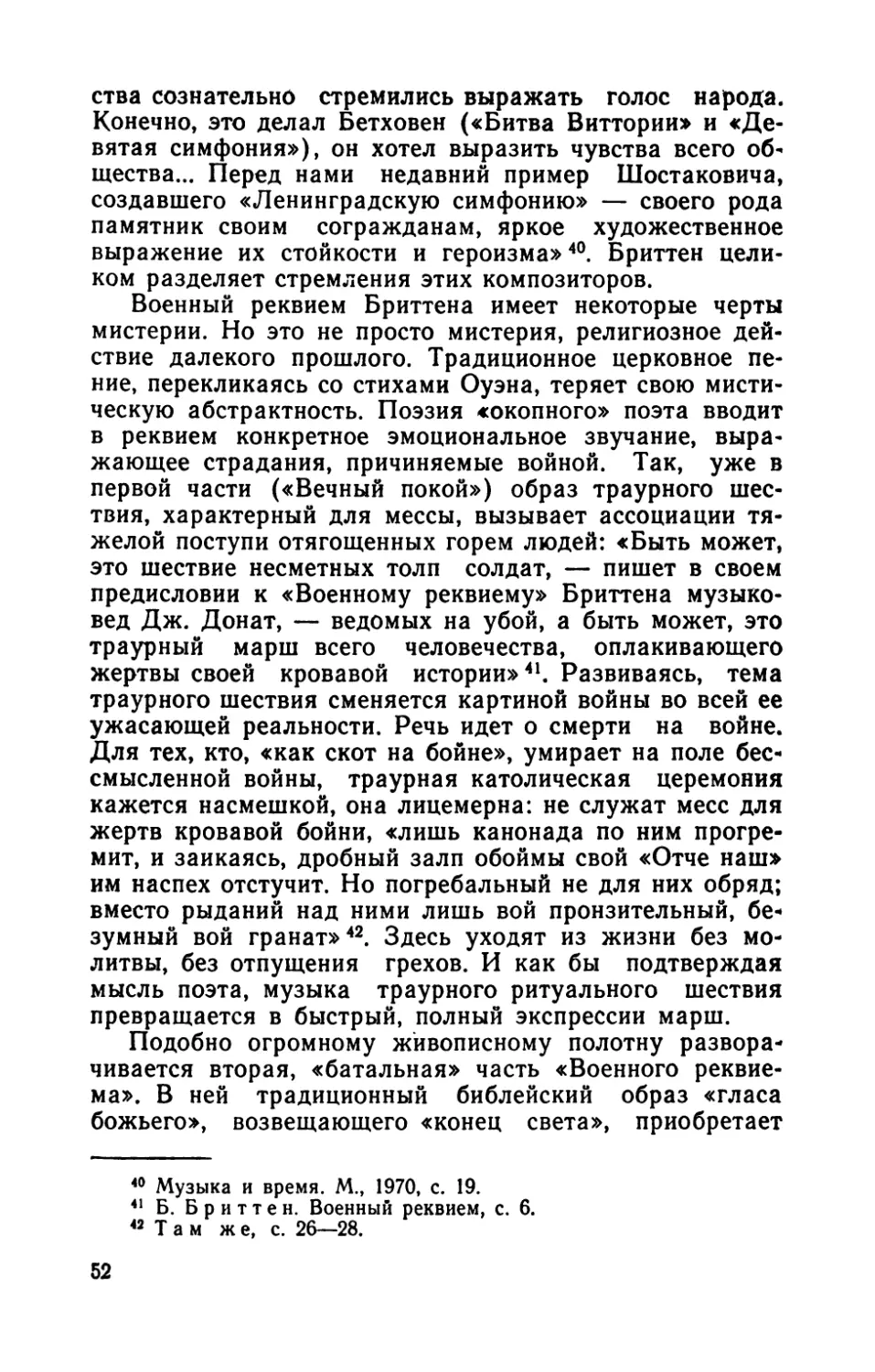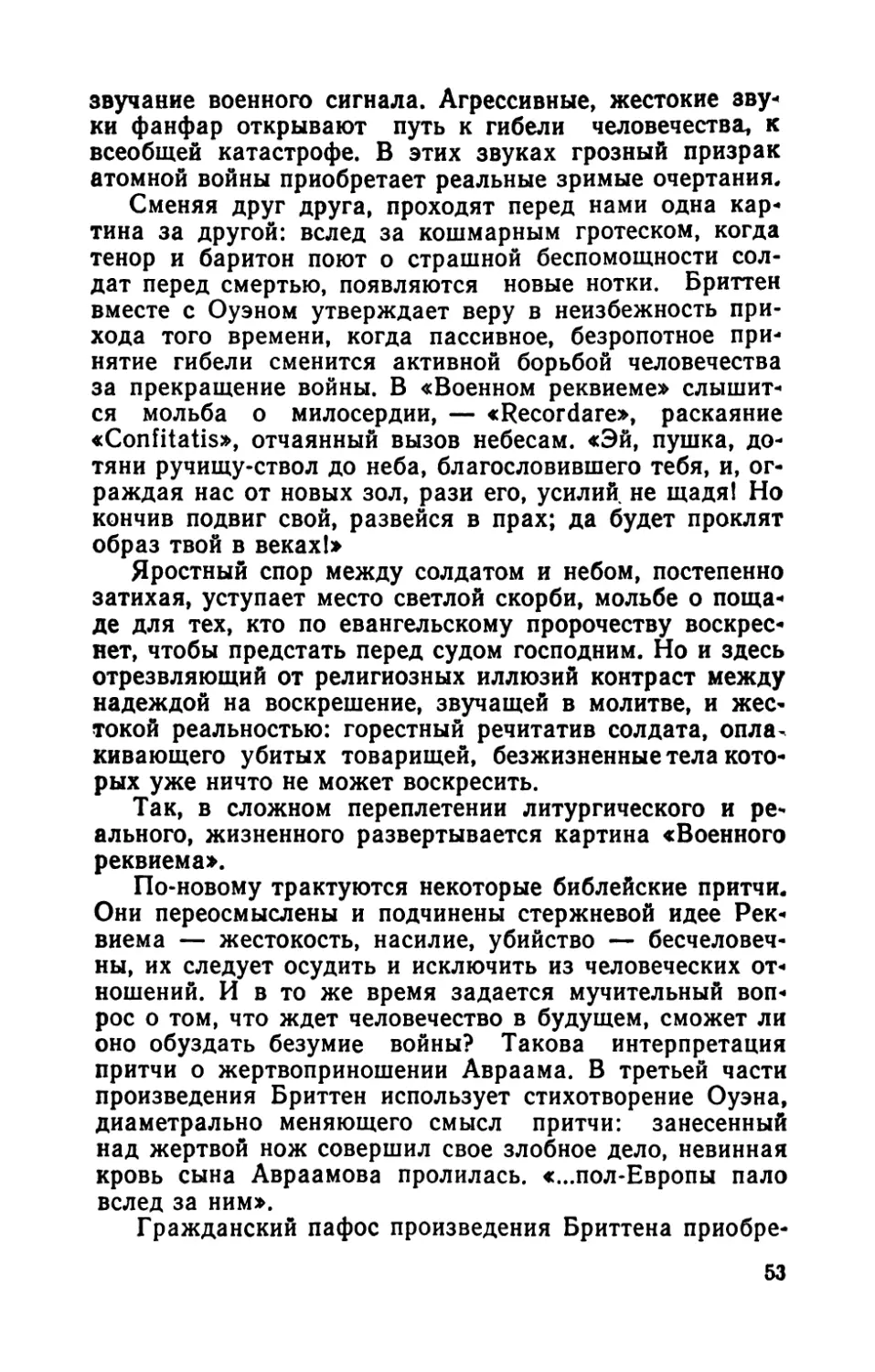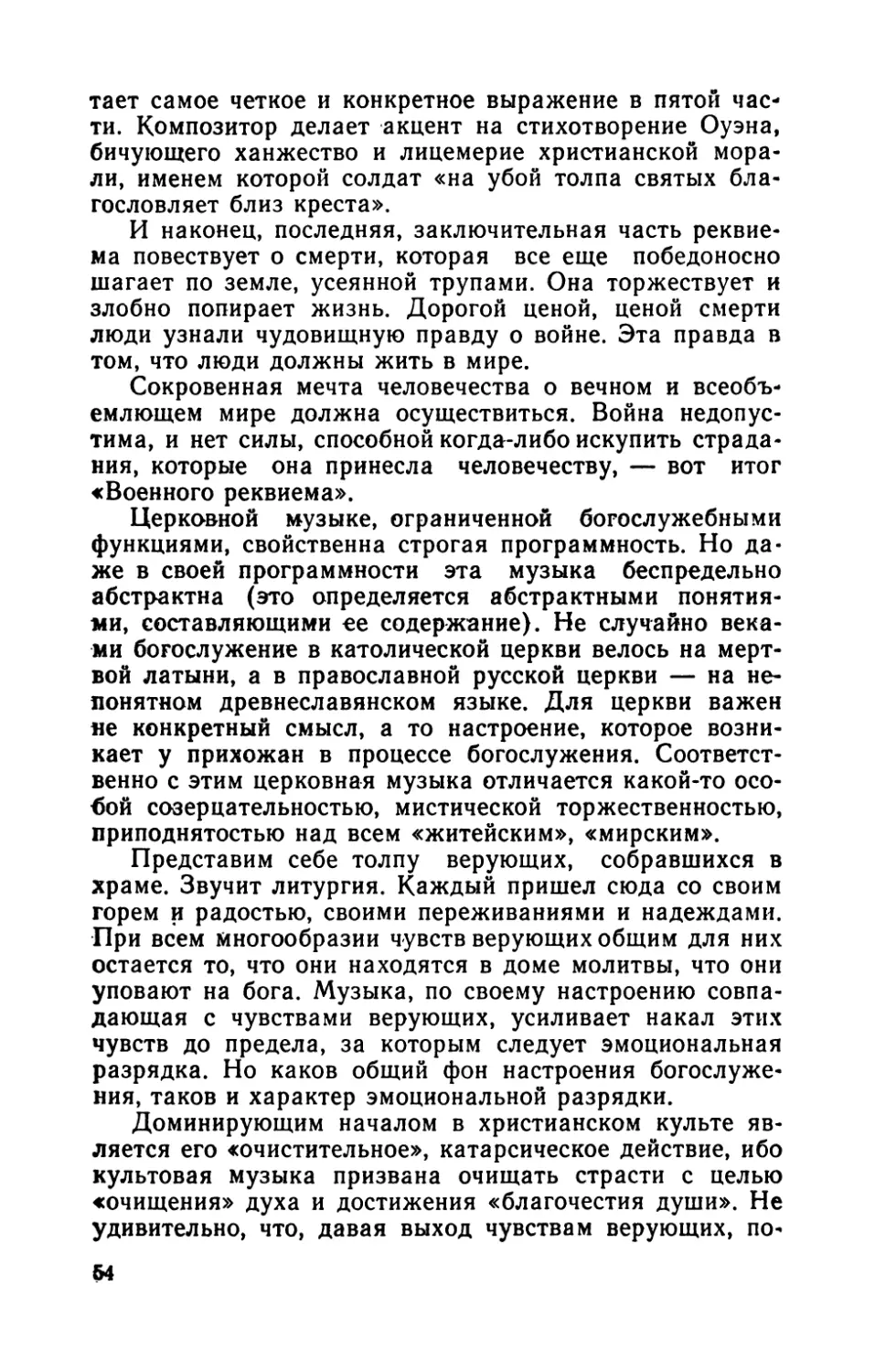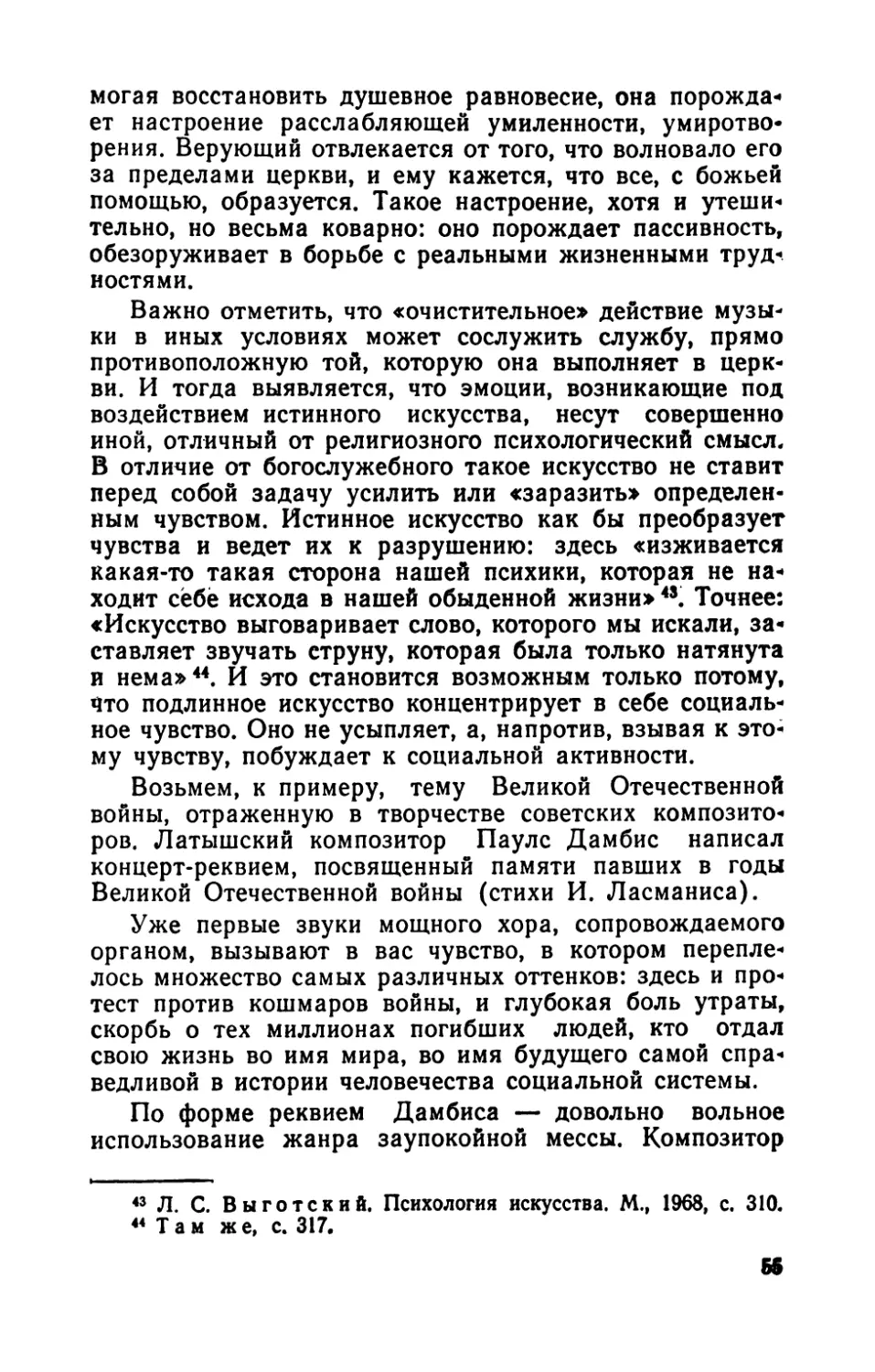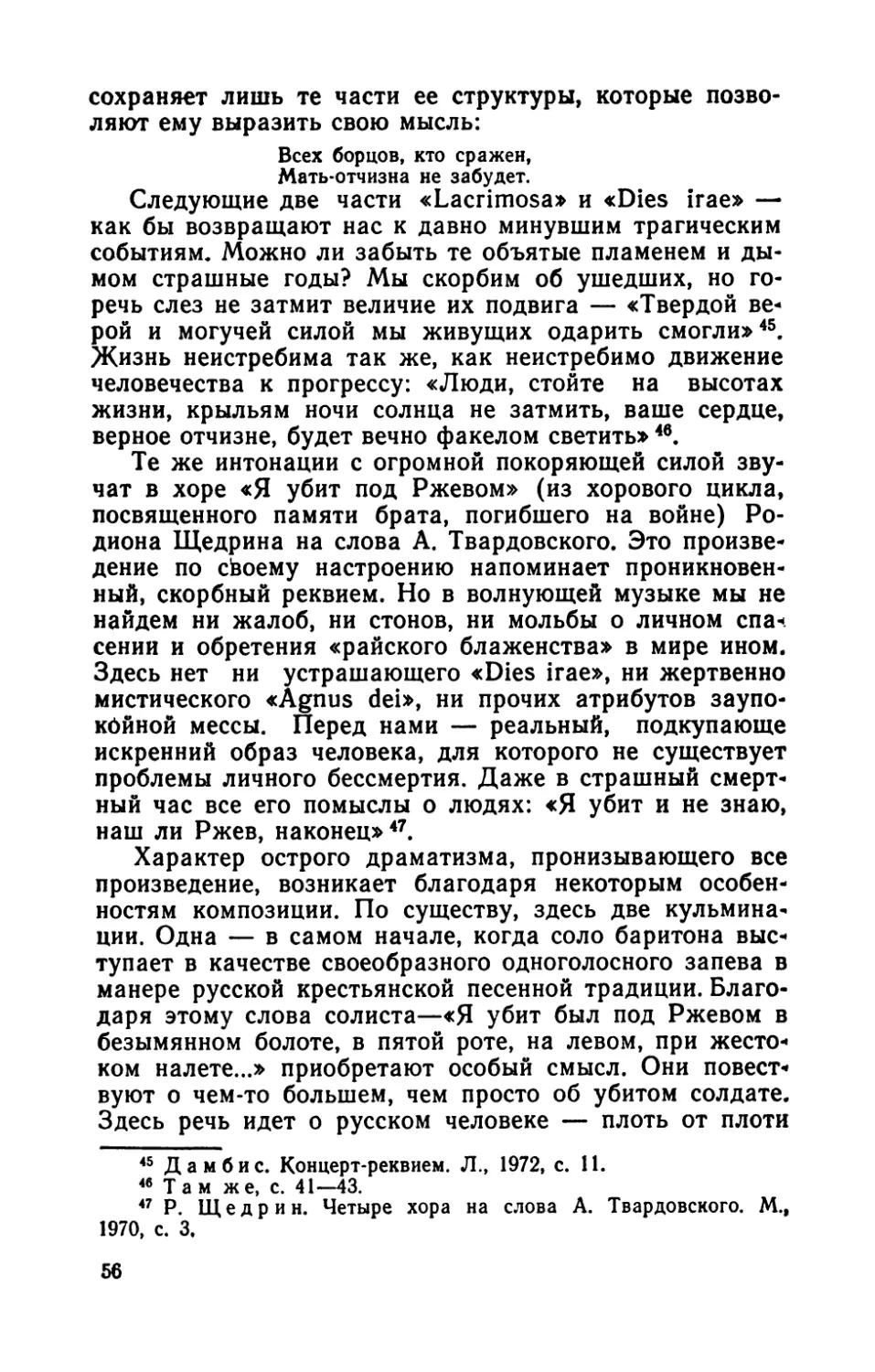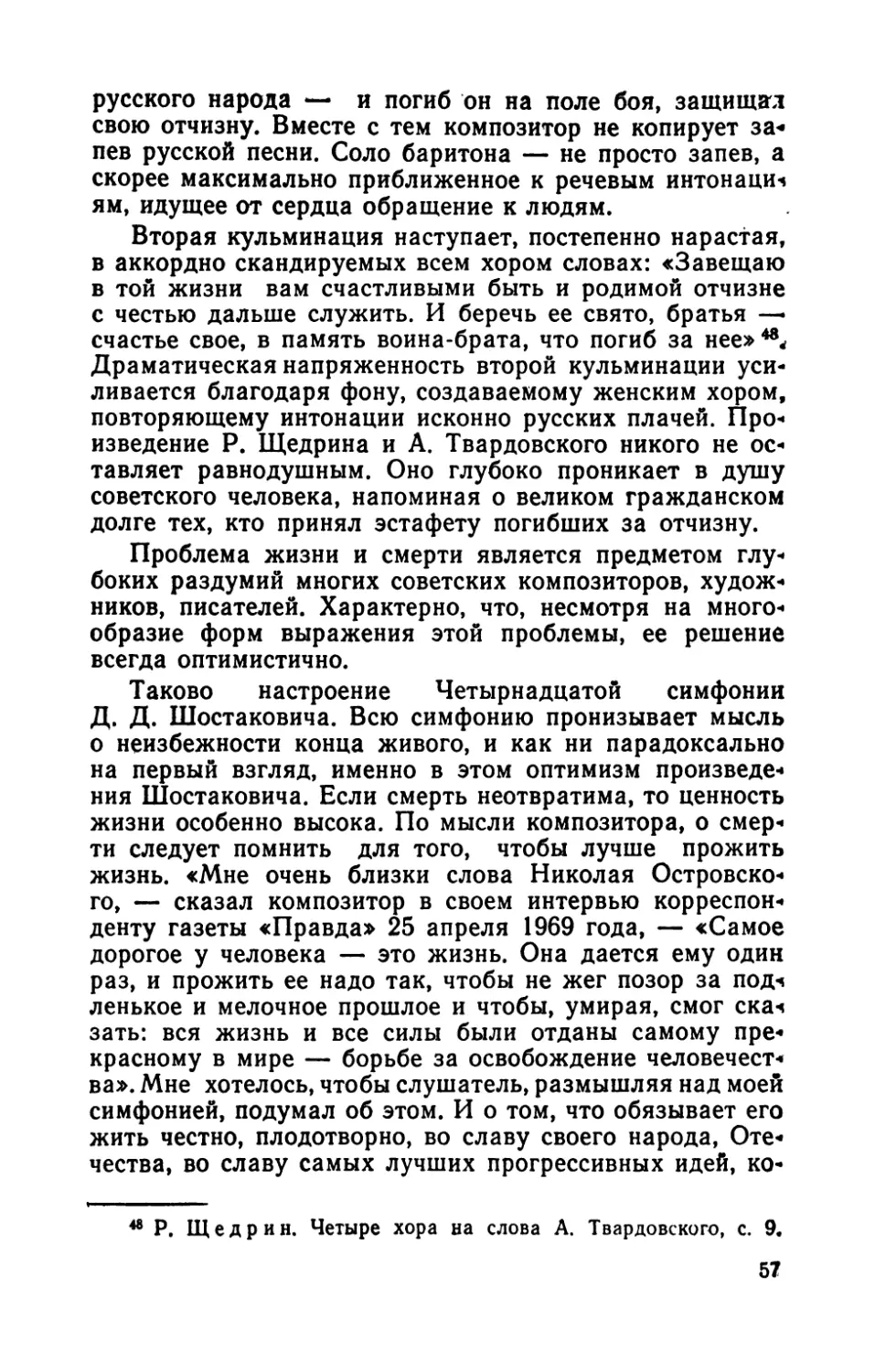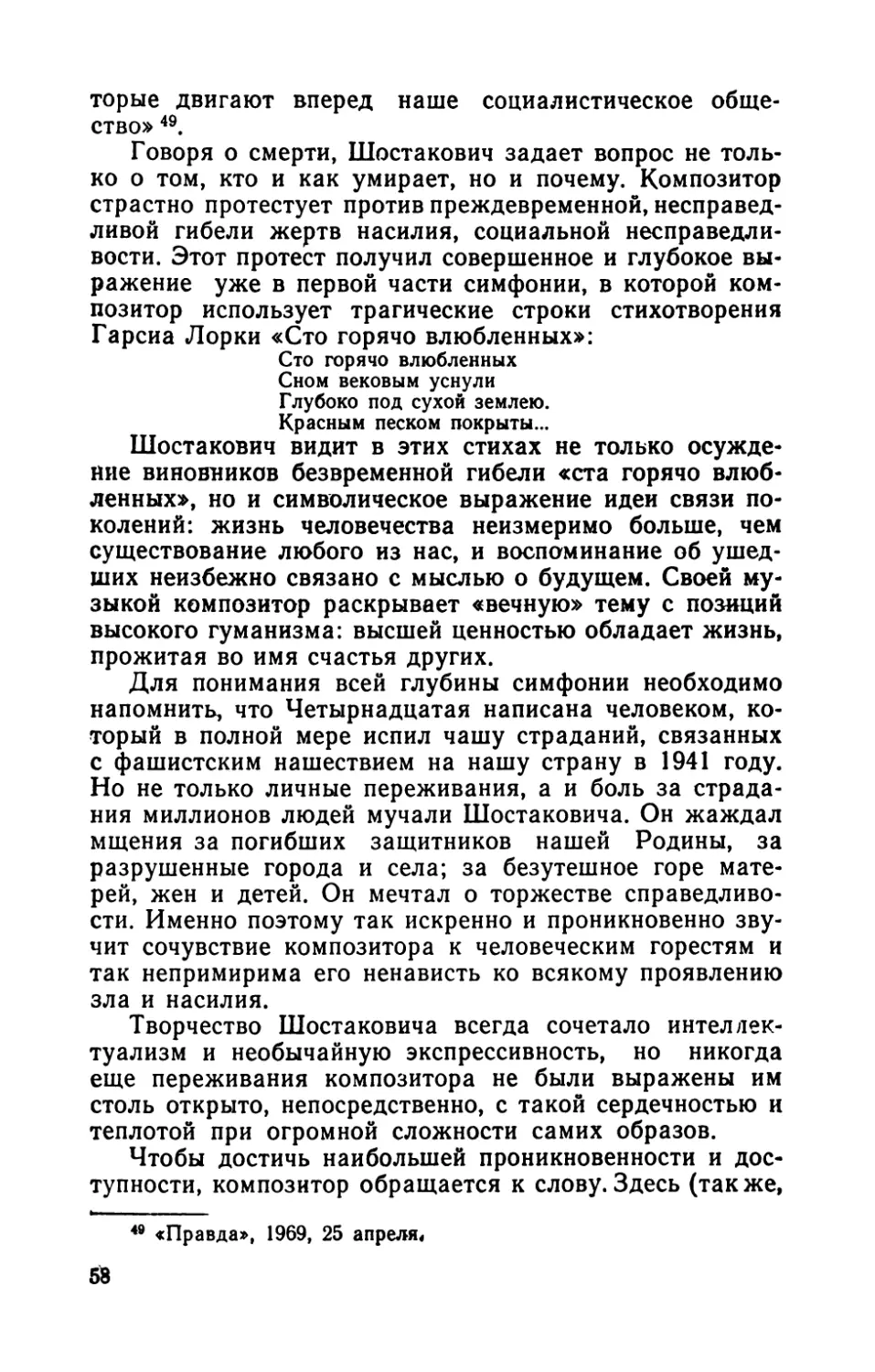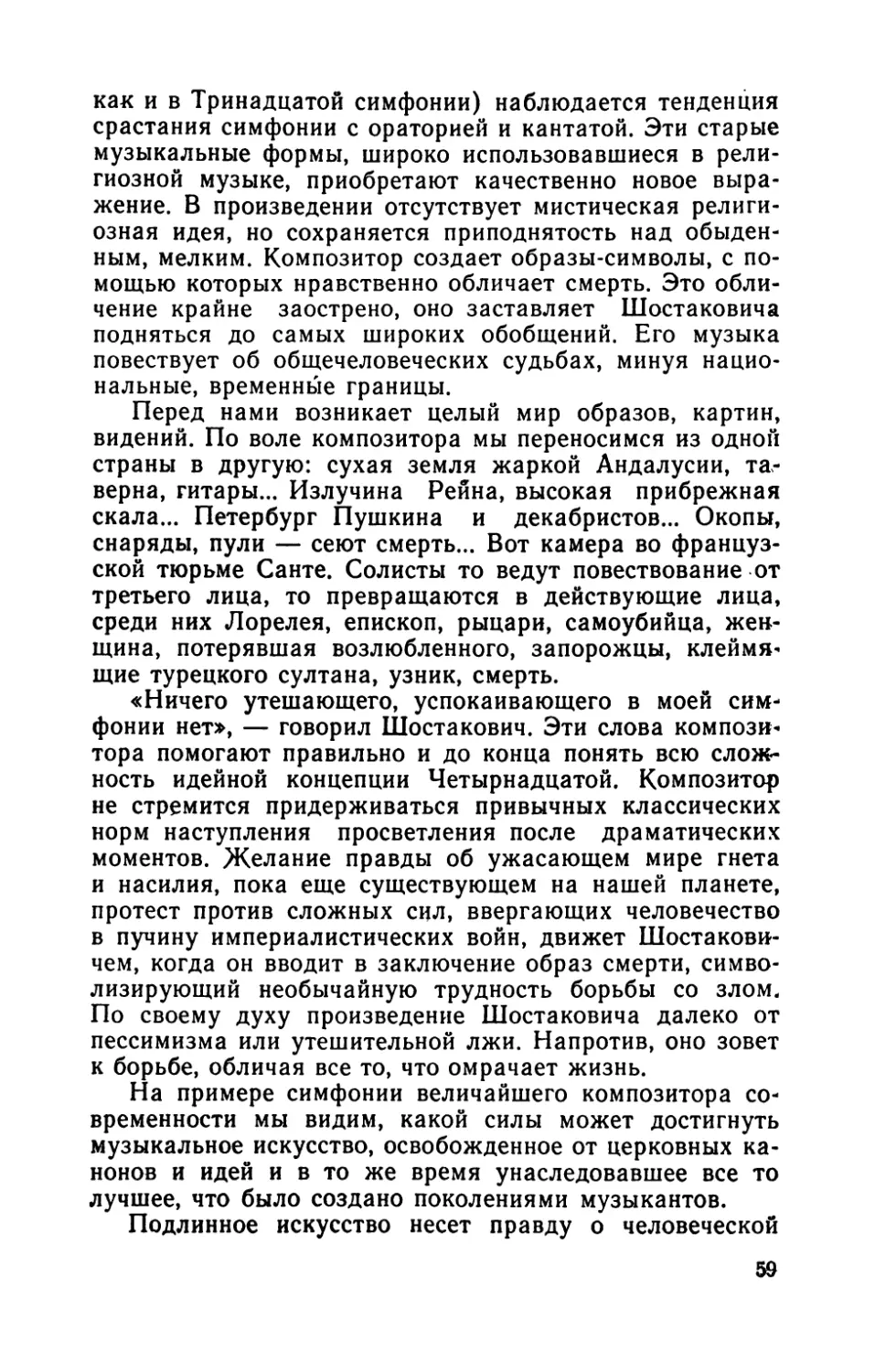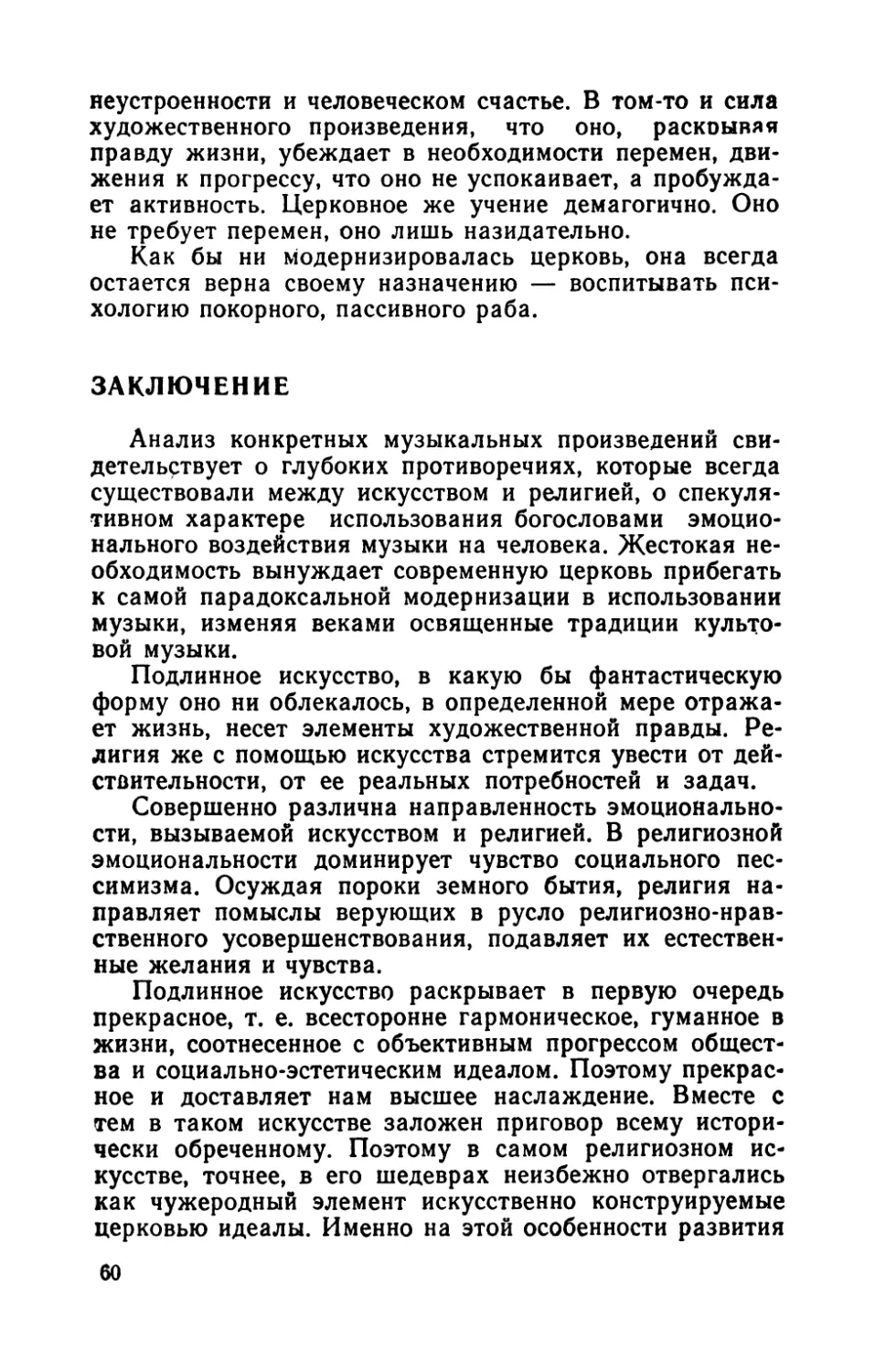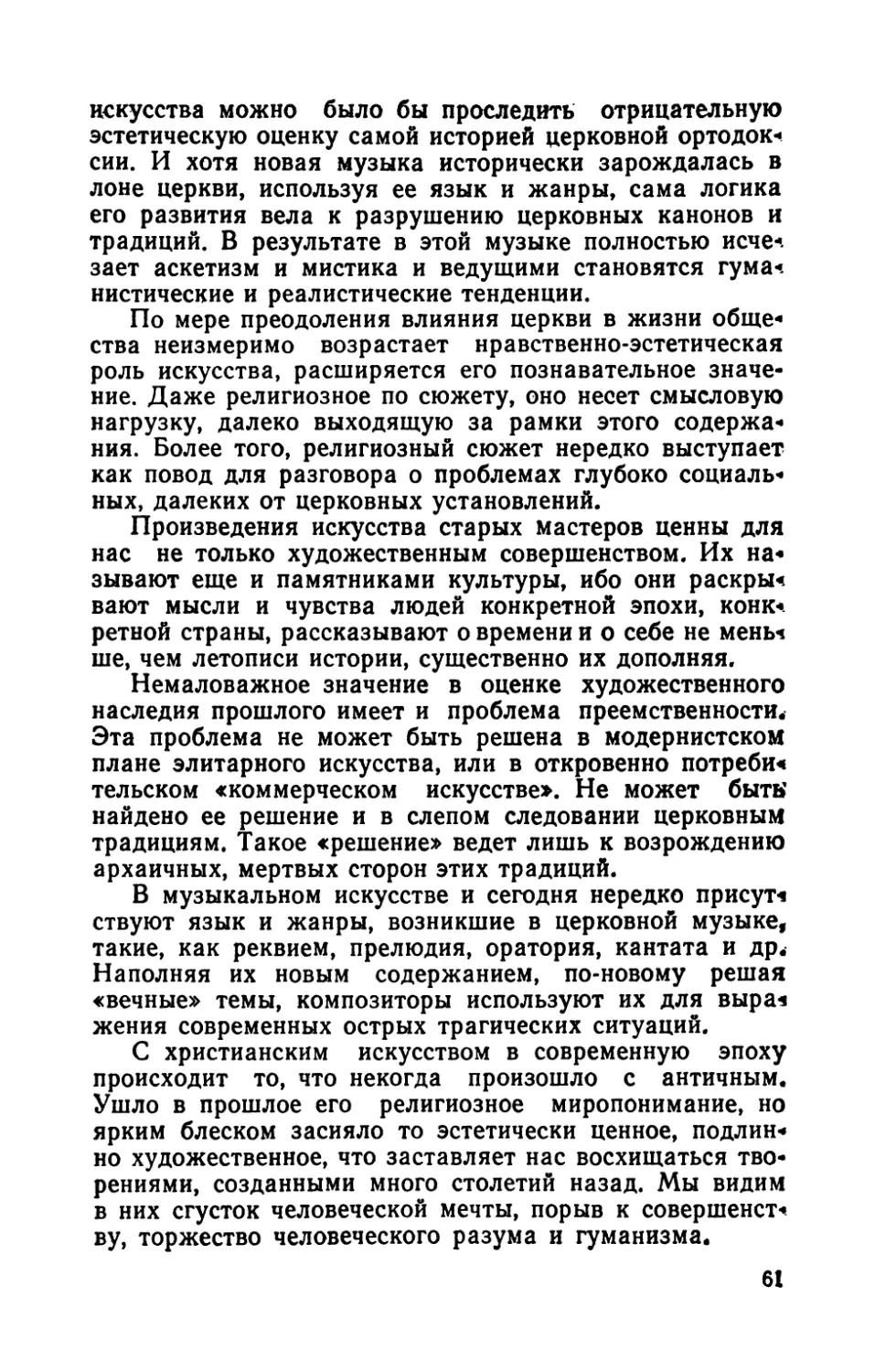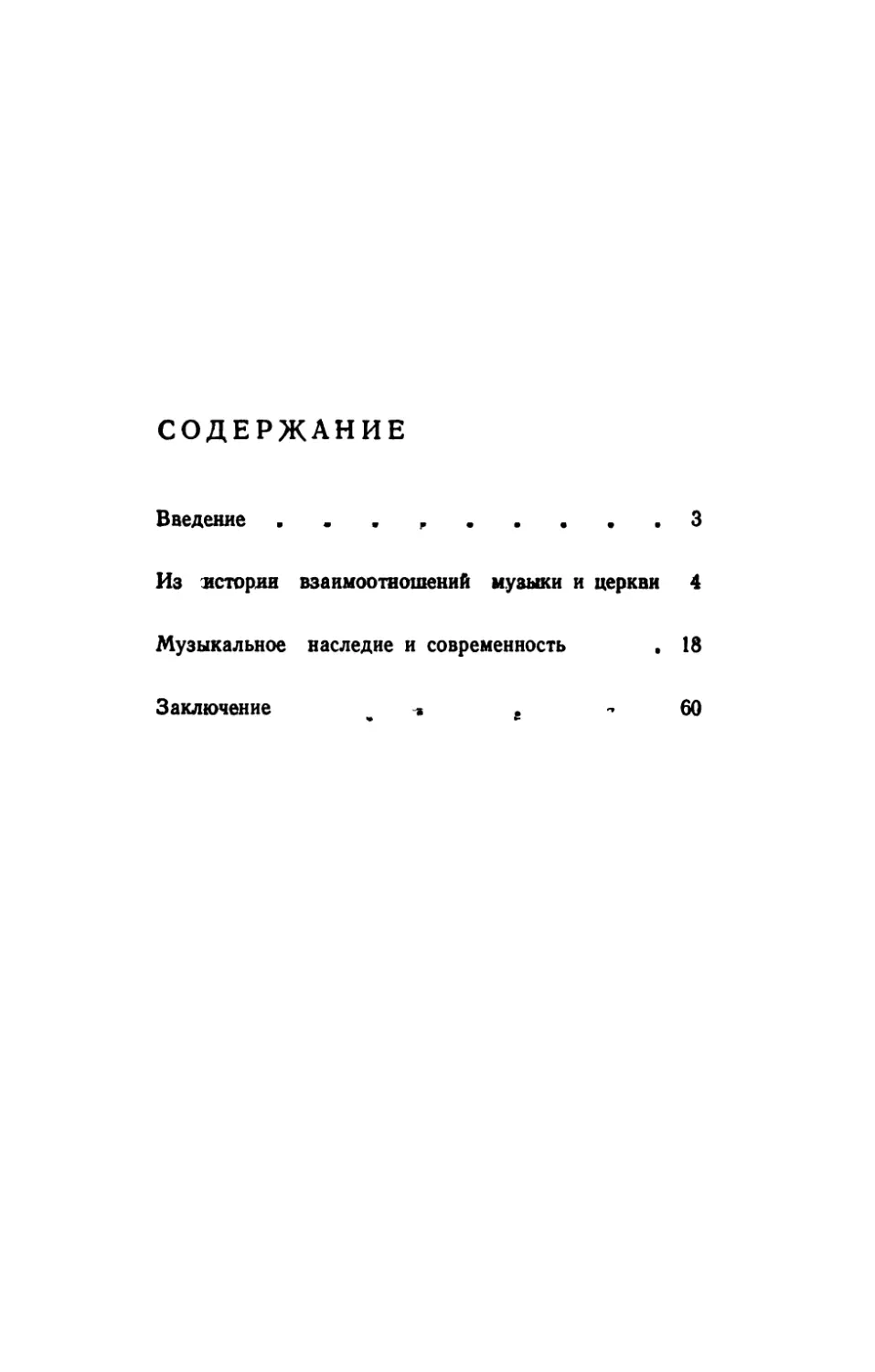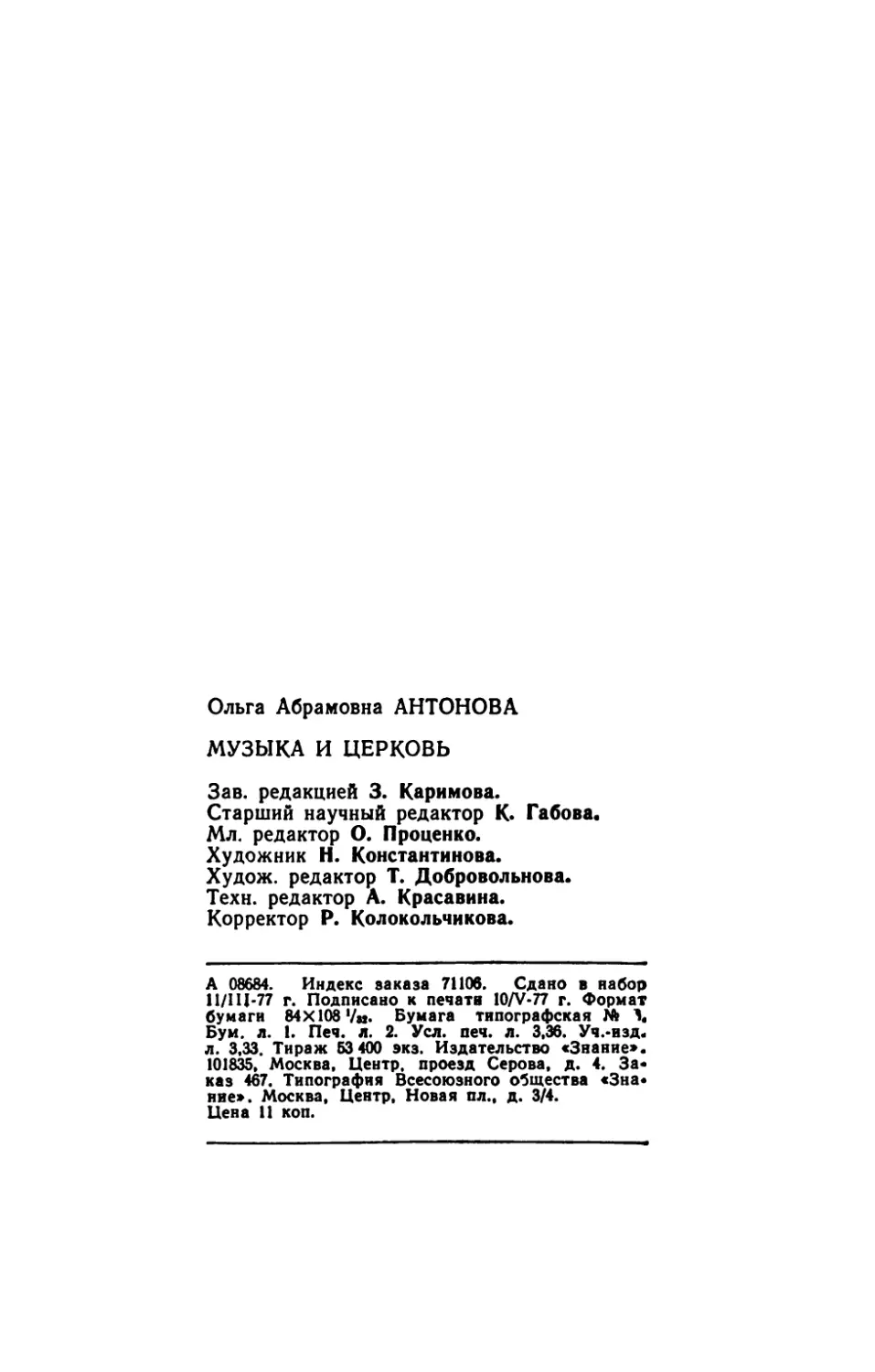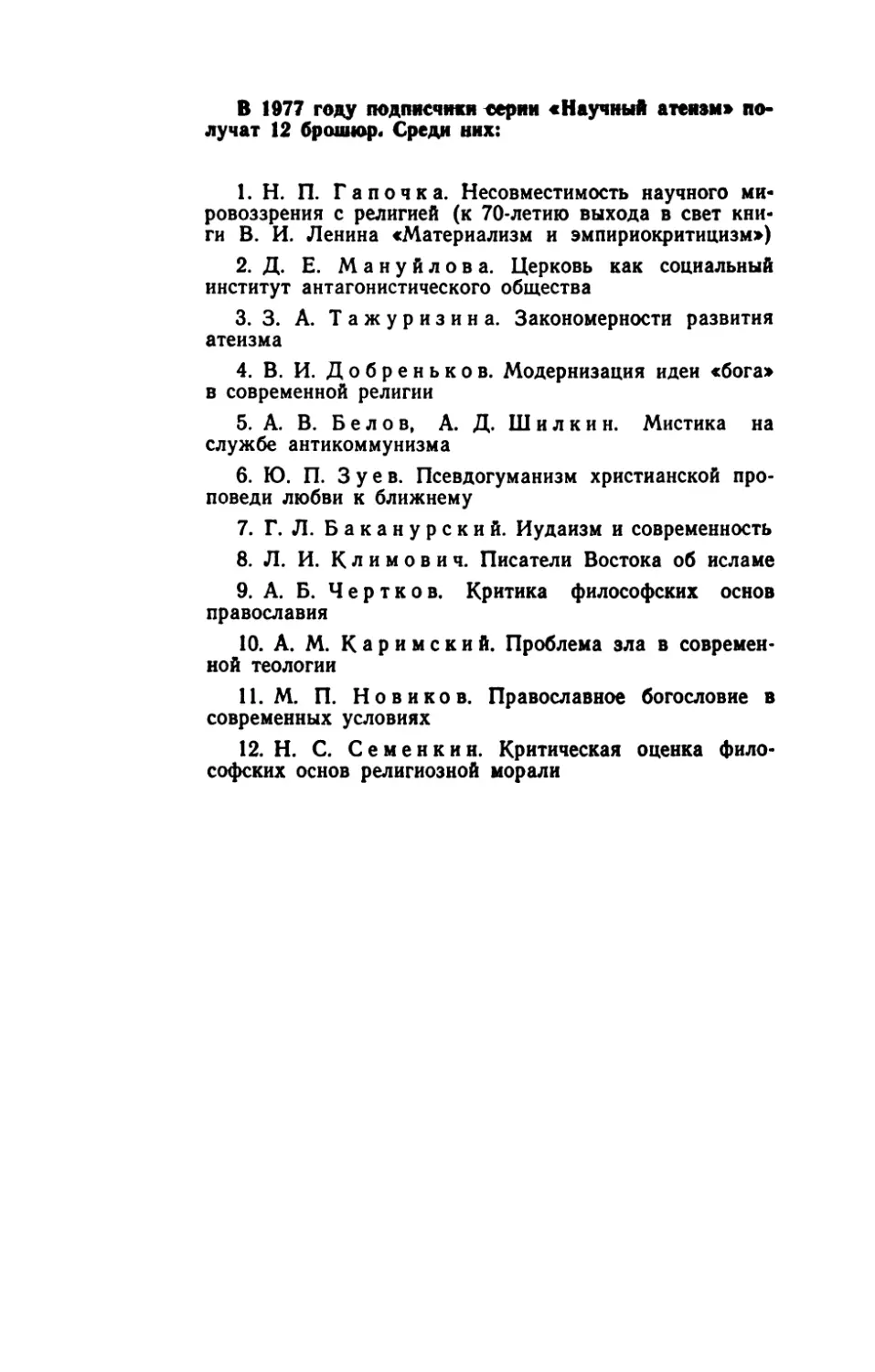Author: Антонова О.А.
Tags: религия искусство музыкальное искусство церковь издательство знание серия научный атеизм новое в жизни науке и технике противоречия
Year: 1977
О.А.Антонова
МУЗЫКА
И ЦЕРКОВЬ
НОВОЕ
В ЖИЗНИ, НАУКЕ,
ТЕХНИКЕ
Серия «Научный атеизм»
№ 6, 1977 г.
Издается ежемесячно с 1964 г.
О. А. Антонова,
кандидат философских наук
МУЗЫКА
И ЦЕРКОВЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
Москва 1977
Антонова О. А.
Музыка и церковь. М., «Знание, 1977.
64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Науч-
ный атеизм», 6. Издается ежемесячно с 1964 г.)
Автор брошюры показывает, что между искусством я рели-
гией всегда существовали глубокие противоречия, что бого-
словы активно прибегают к средствам эмоционального воздей-
ствия на человека в спекулятивных целях, подчеркивает
приспособительный характер деятельности церкви по исполь-
зованию современного музыкального искусства.
Издательство «Знание», 1977 г.
ВВЕДЕНИЕ
Церковь в современном капиталистическом мире терпит
жесточайший кризис, проявляющийся прежде всего в
резком снижении ее влияния на человека. Даже верую-
щие люди сегодня довольно редко руководствуются ре-
лигиозными мотивами при решении тех или иных вопро-
сов. Религиозные мысли, образы, чувствования все в
большей степени уходят из повседневности, замыкаясь
в чисто культовой сфере. Вместе с тем чрезвычайно ос-
лабляется и коммуникативная роль религии в жизни
буржуазного общества. Не удивительно, что в этих ус-
ловиях и католическая и протестантская церковь прила-
гают немалые усилия, чтобы обрести утраченное влияние
на массы. Особое внимание церковь уделяет повышению
эффективности культового искусства.
Художественное оформление культа создает обста-
новку особой приподнятости, необычности, торжествен-
ности богослужения. И порой бывает трудно заметить,
как под воздействием литургии чувства верующих влива-
ются в русло запрограммированной церковью эмоцио-
нальности.
Музыкальное искусство более чем какое-либо другое
соответствует этой цели. Оно обладает удивительной
способностью снимать эмоциональное напряжение, свя-
занное с житейскими трудностями, и вместе с тем ослаб-
ляет ассоциативную связь с окружающей действитель-
ностью. Церковь использует это свойство музыки для
того, чтобы отвлечь верующих от социальной активности
и направить их чувства к слепой, нерассуждающей вере.
Соответственно строится ее культовая догматика. Но
реальная жизнь общества бесконечно богаче любого дог-
мата. Поэтому абсолютное подчинение канону противо-
речит естественным законам художественного творчест-
3
ва. Вот почему подлинное искусство всегда шло дальше
догматических установлений. Истинный художник не
может ограничиться мертвой схемой. Его глубоко волну-
ют надежды, чаяния, скорби народа, и он дает в своих
творениях их глубочайшее осмысление. Этим объясняет-
ся то, что и шедевры старинной церковной музыки несут
в себе тенденции народности. Проявляясь во внерелиги-
озном решении «вечных» тем, в введении светских обра-
зов, интонаций, они обретали реалистическую направ-
ленность.
Анализ развития искусства не только развенчивает
роль церкви в истории художественной культуры, но и
позволяет увидеть один из тех подспудных процессов,
который, постепенно нарастая, неуклонно разрушал цер-
ковные традиции. Этот процесс состоит в том, что цер-
ковь, боясь потерять свое влияние на массы, вынуждена
постоянно обновлять культовую практику, приспосабли-
вать их к новым жизненным условиям. В наше время,
став на путь модернизации, церковь использует даже
тот музыкальный материал, который противоречит ее
традициям, канонам, принципам. Путем подобных усту-
пок она надеется сохранить социальное воздействие на
сознание людей.
В данной брошюре мы проследим наиболее типичные
моменты взаимоотношения музыкального искусства и
церкви, покажем противоречивый характер отношений
между эстетической и религиозной функцией церковной
музыки.
Особое внимание будет уделено анализу использова-
ния церковью музыкального искусства в современных
условиях.
ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИИ МУЗЫКИ
И ЦЕРКВИ
Церковь накопила огромный опыт приспособления к ме-
няющимся историческим условиям. Однако это приспо-
собление требовало от нее достаточно серьезных уступок
времени, а каждая такая уступка все больше ограничи-
вала сферу ее влияния.
Растущий примат «мирского» в духовной жизни со-
временного буржуазного общества является одним из
выражений этой тенденции. И он ведет ко все более глу-
4
бокому проникновению «светских» элементов даже в
«святая святых» — литургическое действо. Церковь все
чаще становится (правда, по большей части весьма не-
решительно) на путь обновления богослужебной прак-
тики.
Собственно, процесс этот начался уже давно — с
эпохи Возрождения. Суровый аскетизм и мистическая
созерцательность средневековой церковной музыки, ярко
выраженные в грегорианском хорале (основанный на
церковных прозаических текстах, он исполнялся в мане-
ре псалмодического одноголосного мужского пения, был
выравнен и интонационно и ритмически), постепенно
вытеснялись более светлым и красочным миром полифо-
нии (вид многоголосия, характеризующийся одновре-
менным гармоническим сочетанием и развитием ряда
самостоятельных мелодий). Характерно, что уже при
своем возникновении в XIV веке полифония выражала
ту демократическую антиклерикальную тенденцию ран-
них буржуазных революций в музыкальном искусстве,
которая и была направлена против нивелирующего вы-
равнивания в грегорианском хорале, канонизированном
церковью.
Возникновение полифонической мессы явилось ог-
ромным скачком в развитии церковной музыки. Одно-
временно шел интенсивный процесс «обмирщения» новой
литургической формы: слова молитвенного текста при-
обретали подчиненное положение, грегорианские хоралы
нередко заменялись светскими песнями.
Абсолютное господство церкви в духовной жизни сред-
невекового общества определяло ее ведущую роль и в
области искусства. Но вместе с развитием буржуазных
отношений в Европе ее былое могущество рушится. Это
был период рождения нового мира, одним из достиже-
ний которого явилось ниспровержение аскетической
идеологии католицизма. Основным содержанием искус-
ства стали природа и человек, его разум, его воля, его
страсти.
После Джованни Пьерлуиджи да Палестрины, одно-
го из крупнейших церковных композиторов (1525—
1594 гг.), католическая музыка уже почти не участвует
в развитии мирового музыкального творчества. Действи-
тельно, немногие шедевры в жанре мессы, которые
встречаются в послеренессансную эпоху, — h-mоll'ная
месса Баха, Реквием Моцарта, Реквием Верди, Торже-
5
ственная месса Бетховена — выражали не столько соб-
ственно религиозное мировоззрение, сколько общефило-
софские идеи более широкого плана. Так, со времен
Возрождения ведущим в музыкальной культуре стано-
вится светское искусство. Более того, по определению
современного итальянского музыковеда Рикардо Мо-
линьеро, после XVI века христианство все больше начи-
нает действовать на музыку не как движущая, но воис-
тину как тормозящая сила.
Этого не отрицают и современные теоретики литур-
гической музыки. Профессор богословия Нью-йоркского
университета Пауль Генри Лонг, например, отмечает,
что «мессы эпохи после Палестрины, особенно Гайдна,
Моцарта, Шуберта и других мастеров (XVII—XVIII и
начала XIX века), принимались в качестве светской му-
зыки и поэтому осуждались церковными кругами за их
духовную неискренность». Это признание прозвучало
на V интернациональном конгрессе церковной музыки,
состоявшемся в 1966 году в США, в Чикаго.
В данном случае мы имеем дело с процессом посте-
пенного накапливания элементов реалистического искус-
ства в недрах церковной музыки. Процесс этот подспудно,
но неуклонно нарастая, «наполнял» старые канонические
музыкальные конструкции новым, взятым из реальной
жизни содержанием, пока в конце концов не произошел
взрыв, качественно меняющий характер «религиозной»
музыки. Она теперь уже могла развиваться лишь за пре-
делами культовой сферы, ибо, оставаясь еще по средст-
вам выражения религиозной, она уже переставала быть
культовой.
Чтобы понять сущность этого переворота, необходи-
мо учесть, что ренессансное начало в музыке проявилось
не путем возрождения античности, а благодаря появле-
нию новой направленности в композиторском творчест-
ве: обращению к человеку как к личности со сложным
внутренним миром, к драматизму человеческих скорбей
и переживаний. Но при всем этом классическим жанром
в музыке ренессансной эпохи остается месса.
Здесь сказывается то обстоятельство, что в течение
многих столетий профессиональное музыкальное искус-
ство было связано с церковью и выступало в качестве
непосредственного участника богослужения. Несмотря
на уступки светским и народным влияниям, церковь не-
изменно подчиняла все нововведения своим целям. Но-
6
вая профессиональная музыка рождалась в лоне церкви
и развивалась, используя язык и жанры церковного ис-
кусства. Но менялось главное — характер идеологиче-
ской и эмоциональной направленности музыки. В ней
почти полностью исчезают аскетизм и мистика, но со-
храняется отвлеченная от всего обыденного возвышен-
ная идея.
Если в изобразительном искусстве библейский сюжет
нередко был лишь сюжетной канвой, в которую вплета-
лось художником новое миросозерцание, то в ренессан-
сной музыке на первом плане оставалась идея внутрен-
ней эмоциональной сосредоточенности, столь характер-
ной для жанра мессы. Правда, в этих условиях месса
приобретает новое звучание — она теперь свободна от
церковной ортодоксии, — из канонической конструкции
она превращается в художественное произведение.
Немало способствовали этому те изменения, которые
произошли к тому времени в самой структуре церковной
музыки. Так, в XVI веке в системе старых церковных
ладов прочно утвердились два лада — мажор и минор,
столь характерные для европейской народной музыки.
«Мажор и минор, — пишет М. В. Иванов-Борецкий, —-
постепенно входившие, как накопление нового в недрах
старого, в систему церковных ладов и (в их обличье) в
певческую практику и выявившие психологию и идеоло-
гию восходящего класса, — позднее, в эпоху дальней-
шего роста буржуазии, остались единственными ладами
и создали новую, ясно осознанную ладовую функцио-
нальность ступеней»1.
Введение новых ладов придавало музыке красоч-
ность, яркость, она приобретала обаяние живого, естест-
венного звучания. Новаторство, качественно преобра-
зующее мессу, проявилось и в новой расстановке акцен-
тов. Возникало новое звучание, проникнутое глубоким
человеколюбием.
Наиболее полное и завершенное развитие ренессан-
сное начало нашло в мессах-ораториях Иоганна Се-
бастьяна Баха. По своим религиозным воззрениям
Бах — протестант. И это в какой-то мере наложило от-
печаток на его творчество. Реформация, начатая Марти-
ном Лютером, открыла возможности для довольно сво-
1 М. В. И в а н о в-Б о р е ц к и й. Музыкально-историческая хрес-
томатия. Т. 1. М., 1933, с. 43.
7
бодного развития церковной музыки. Но вместе с тем,
отыскивая пригодные для богослужения мелодии, инст-
рументальные и жанровые средства, Лютер стремился
утвердить духовное влияние церкви путем уничтожения
светского искусства вообще. С этой целью он надеялся
превратить общинный хорал в единственно возможную
форму музицирования и в церкви и за ее пределами.
Весьма существенна и другая сторона лютеровской
реформы. Лютер не отменил мессы как формы богослу-
жения, но акцентировал внимание на проповеди. Возни-
кает музыкальная проповедь, придающая особый харак-
тер каждой воскресной службе. Музыка к проповеди
строилась на немецких напевах и вначале не подчиня-
лась никаким традициям и канонам. Ко времени Баха
она вобрала в себя все лучшее, что было создано в
XVII веке. Но в то же время вместе с углублением про-
тиворечий капитализма шел процесс догматизации про-
тестантского культа, выражавшего мировоззрение бюр-
герства с его плоской обывательской моралью. Посте-
пенно протестантские песнопения становятся слишком
сглаженными, статичными и полностью лишаются дра-
матизма.
Эта ограниченность преодолевалась тем, что многие
композиторы, предшественники Баха, в частности Шютц,
используя отдельные библейские стихи, псалмы, изрече-
ния, создавали диалоги, вплетая их в сюжетную ткань
своих произведений. Драматизм произведений Шютца со-
здавался не только за счет текстов, но и при помощи новой,
не применявшейся еще в немецкой духовной музыке, му-
зыкальной структуры: использование (в манере итальян-
ского пения) нескольких хоров, что позволяло усилить
драматичность массовых сцен и самостоятельной роли
оркестра. В противоположность псалмодии, остававшей-
ся одним из важных элементов как католического, так и
протестантского пения (псалмодия, несмотря на преоб-
разования, никогда не была полностью вытеснена из
этого пения), Шютц вводит речитативное сольное пение.
Новым в музыке этого периода было и то, что в совер-
шенно преобразованном виде выступает повествование
о страстях по Матфею, Марку, Луке, Иоанну. Долгое
время это повествование оставалось псалмодирующим
чтением во время богослужения в установленные цер-
ковью дни. Теперь же — театрализованное действие, в
котором принимают участие несколько солистов, хор,
8
оркестр и орган. Оно остродраматично и по своей глуби-
не напоминает потрясающие картины «Страстей» нидер-
ландской реалистической живописи.
Бах не был знаком с творчеством Шютца и многих
других своих предшественников, но вместе с тем он сле-
дует по пути, проложенному ими. Одним из прекрасней-
ших произведений Баха, сконцентрировавших все луч-
шее, что было создано ренессансной музыкой, можно бы
назвать «Страсти по Матфею». Это произведение, в ко-
тором Бах, по выражению Гегеля, открыл подлинно ра-
фаэлевскую красоту музыки. Создавая это произведе-
ние, Бах далек от мистической стороны евангельской
идеи. Он видит, чувствует реальную человеческую жизнь,
столкновение характеров, страстей — высоких и низмен-
ных, но глубоко земных. Творение Баха очень яркое и
жизненно правдивое. Короткие строфы первого диалога
хора словно раскрывают занавес и вводят — остро и
убедительно — в самый центр трагических событий.
Два женских хора, символизирующих «дочерей Сиона»,
встречаются на пути к Голгофе. Они видят печальную
процессию, во главе которой идет измученный, истерзан-
ный человек. Его ведут на страшную казнь. Вокруг тес-
нятся людские толпы, воздух оглашается криками —
недоумевающими, сочувствующими, насмешливыми и
злыми, слышатся реплики, вопросы, ответы.
Двойной хор изображает не отрешенную идеализи-
рованную скорбь, а волнение, давку, вопли, кипящую
противоречивыми страстями толпу. Ощущение взволно-
ванности создает и звучание оркестрового вступления с
его тяжелыми и грузными акцентами, настойчиво повто-
ряющими одну и ту же ноту. Сюжетным стержнем
«Страстей по Матфею» является Евангелие по Матфею.
Повествование, ведущееся евангелистом, почти полно-
стью совпадает с текстом этих глав. Но помимо еван-
гельского текста здесь используются реплики и целые
поэтические вставки, превращающие старую евангель-
скую легенду в волнующую музыкально-драматическую
композицию. В этой композиции, как и в античных тра-
гедиях, огромное место отводится хору. Многоголосный
прекрасный хор не только комментирует события, но и
сопереживает действие: здесь он поощряет или предосте-
регает, там разделяет страдание или возмущается. То
он превращается в зрителя, то — в действующее лицо.
Такая многоликость и активность хора усиливаются
9
благодаря изумительным по красоте ариям и коротким
«мадригального» типа вставкам.
Особое место в «Страстях» Бах отводит старинному
протестантскому хоралу. Здесь проявилось то обстоя-
тельство, что развитие прогрессивных идей в творчестве
Баха шло через национальную проблематику и демокра-
тические тенденции, в которых нередко чувствовался
боевой дух крестьянского движения XVI века. Не удиви-
тельно, что Бах охотно использовал музыкальный ма-
териал (хоралы), свойственный протестантскому пению
тех далеких времен. В «Страстях по Матфею» хоралы
создают настроение общности людей, идущих трудной
дорогой долга. Они как бы знаменуют собой этапы на
этом крестном пути человечества к высокой цели.
Следуя сюжетной линии «Страстей», Бах стремится
передать своей музыкой реальные события. Например,
в сцене в Гефсиманском саду в молитве Иисуса чувству-
ется ужас, трепет, неизбывная тоска терзаемого тяже-
лыми предчувствиями человека. Но не только страх и
трепет измученной души слышатся в напряженных гар-
мониях музыки этой сцены. В том-то и величие образа,
созданного Бахом, что слабость, столь свойственная лю-
дям, лишь одна из граней его характера. Она лишь под-
черкивает мужество человека, умеющего преодолеть
свою слабость во имя исполнения долга перед людьми.
Эта черта характера Иисуса все более четко проявляет-
ся по мере нарастания развязки сцены, когда наступает
решительный час действия. И тогда в словах Иисуса —
«Смотрите, час настал... он здесь, тот, кто меня пре-
даст» — слышится решимость человека перед часом
испытания, когда отступление уже невозможно.
Драматическую выразительность этих слов подчер-
кивают диссонирующие, напряженно звучащие интерва-
лы. Речитатив Иисуса близок во многом к оперному,
что придает приятный, очень человеческий оттенок его
речи.
На фоне господствующего в Германии XVIII века
духа пресмыкательства, мелочного эгоизма, «добропоря-
дочной» и трусливой бюргерской морали Иисус Баха
предстает личностью сильной, исключительной, способ-
ной на подвиг не ради личной славы, а во имя блага
других людей. В условиях, когда время активных рево-
люционных действий масс еще не созрело, неизбежно
возникает трагический конфликт между торжествующим
10
консерватизмом и героем, который видит дальше дру-
гих, жаждет нового сильнее других, и не боясь обжечь
крылья, летит на огонек несбыточной пока еще мечты о
свободе.
Такой герой страшно одинок, одинок и Иисус Баха.
Особенно остро это чувствуется в той части сцены в
Гефсиманском саду, когда он произносит слова, обра-
щенные к ученикам: «Душа моя скорбит смертельно;
останьтесь здесь и бодрствуйте со мной!» Но ученики
предают учителя и он остается один без опоры и утеше-
ния. Звучание следующего за этими словами речитати-
ва, напряженность гармоний в сочетании инструмен-
тального сопровождения создают впечатление трагиче-
ской разделенности с миром, одиночества человека, ос-
тавшегося один на один со своей скорбной судьбой.
Бах с необыкновенной пластичностью создает сцены,
напоминающие по своей глубине и правдивости картины
мастеров эпохи Возрождения. Так, прямая параллель
могла бы быть проведена между сценой Тайной вечери
Леонардо да Винчи и «Страстями по Матфею» Баха.
Картина «Тайная вечеря» великого художника пол-
ностью лишена канонически-церковного. Она проста и
естественна. Композиция изображает момент, когда
Христос только что произнес: «Один из вас предаст
меня!» Это неожиданное пророчество потрясло апосто-
лов, они остро реагируют на слова учителя. Спокойна и
трагически одинока лишь фигура Христа. Такое же на-
строение свойственно произведению Баха. Более того,
при сопоставлении этих двух шедевров возникает чувст-
во, будто бы картина Леонардо да Винчи вдруг загово-
рила и мы слышим взволнованный хор голосов людей,
потрясенных страшным пророчеством. Эта эмоциональ-
ная волна нарастает, приобретая все новые и новые от-
тенки, становясь все более напряженной. Если первая
реакция на слова Иисуса выразилась в испуганных воз-
гласах «Не я ли, учитель?», то по мере осознания апос-
толами неизбежности и всей глубины надвигающегося
несчастья испуг выливается в плач и стенания.
Благодаря музыке и слову психологически очень глу-
боко в этой сцене дан образ Иисуса. Так же как и Лео-
нардо да Винчи, он один из всех сохраняет спокойствие,
отделяющее его от бури страстей, разыгравшейся во-
круг. Но его спокойствие внутренне напряженно. Иисус
сумел подняться выше мелочной обиды, и он скорбит о
И
том, кто, сам не зная, что творит, готов совершить пре-
дательство. Вместе с тем его пророчество о судьбе пре-
дателя — «лучше было бы ему вовсе не родиться» —
звучит торжественно и бесстрастно.
Острый драматизм и жизненность придают «Страс-
тям» речитативы. Они позволяют почти зримо увидеть
вереницу проходящих перед нами образов: полное дос-
тоинства спокойствие Христа, короткие реплики его про-
тивников, волнение Евангелиста, неспособного остать-
ся в роли бесстрастного рассказчика, постоянно врываю-
щийся в повествование хор учеников, народа, первосвя-
щенников с их криками.
Кажется, что Бах сам очень живо представлял каж-
дое движение, каждый жест своих героев, воплотив их
в музыке с удивительным реализмом.
В целом «Страсти по Матфею» — великое музыкаль-
но-драматическое произведение, сюжет которого излага-
ется с помощью последовательного ряда ярких, глубоко
запечатляющихся картин, заключающих в себе не толь-
ко изобразительную правдивость, но и глубоко обоб-
щающую мысль, размышления о человеческой трагедии,
мечту о высших идеалах, к которым следует стремиться.
«Страсти по Матфею» были исполнены при жизни
Баха только один раз. Но и это исполнение прошло не-
замеченным. Ни церковь, ни публика не сумели оценить
замечательное творение. Характерно, что, будучи ве-
рующим человеком, Бах в то же время не связывал свое
творчество с церковью и не стремился к популярности в
церковных кругах в качестве композитора. Свои лучшие
произведения он создавал потому, что они не могли быть
не созданы им как художником. В его творчестве гос-
подствует чуждое церковным условностям стремление к
самовыражению.
Музыка для Баха — божество, которому он покло-
нялся, и он творил по законам своего «вероисповеда-
ния». «Его безмерные силы, — писал один из исследо-
вателей творчества Баха Альберт Швейцер, — проявля-
лись бессознательно, как силы, действующие в природе;
и были они столь же непосредственны и богаты» 2.
Не признанный при жизни, после смерти Бах был
забыт полностью. Только через сто лет музыка Баха за-
звучала вновь. Но не церковь явилась инициатором ее
2 А. Швейцер. Иоганн Себастьян Бах. М., 1965, с. 121.
12
возрождения. 11 марта 1829 года «Страсти по Матфею»
прозвучали в концертном исполнении артистов оперного
театра и музыкантов филармонического общества в Гер-
мании. Слушатели были восхищены. «Переполненный
зал казался храмом, среди присутствующих царило тор-
жественное благоговение; только изредка раздавались
непроизвольные изъявления глубокого взволнованного
чувства»3. Вскоре «Страсти по Матфею» начали испол-
няться во многих городах Германии.
Как же отнеслась к этому шедевру мирового музы-
кального искусства церковь? Ее приговор был вынесен
устами известного немецкого историка церковной музы-
ки Карла фон Винтерфельда в его труде «Евангеличе-
ское церковное пение». Почтенный историк считал, что
Иоганн Себастьян Бах, «несмотря на большое благочес-
тие», композитор нецерковный, ибо «его фантазия субъ-
ективна», он стремится «воздействовать драматически».
«Именно необычайно сильное воздействие его искусст-
ва, — писал Винтерфельд, — на чувства слушателей,
именно те художественные средства, которыми он дости-
гает этого, исключают чудесные произведения Баха из
церкви — дома молитвы»4. Что же, это признание до-
статочно откровенно. Церковь сама вынуждена при-
знать, что высокое, полное жизненной правды искусство
противоречит требованиям культа.
Если Бах был связан с философско-созерцательной
линией в искусстве, получившей совершенное выраже-
ние в жанре мессы, то его современник Георг Фридрих
Гендель как бы завершает «светскую» линию в развитии
музыкальной культуры Европы до XVIII века. Немец по
национальности, прожив большую часть жизни в Анг-
лии, Гендель, по определению Ромена Роллана, «в ис-
кусстве — космополит». «Он был насыщен всеми музы-
кальными соками Европы своего времени, пропитан му-
зыкой музыкантов и еще более богатой музыкой приро-
ды, разлитой в свете и тени — в пении птиц, в говоре
ручьев и лесов»5. Все это богатство восприятий и инте-
ресов формировало искусство Генделя. Оно насквозь
живописно и драматично. Многоцветная палитра эмо-
циональных оттенков и настроений музыки Генделя со-
3 А. Швейцер. Иоганн Себастьян Бах, с. 179.
4 Там же, с. 133.
5 Р. Роллан. Г. Гендель. М., 1934, с. 40.
13
вершенно непригодна для культового исполнения. Эта
музыка слишком чувственна и красочна, чтобы стать
средством выражения догмата любой из христианских
церквей. Другую же музыку композитор писать не мог.
Гендель никогда (если не считать «Псалмов» и «Те
Деум») для церкви не писал. Высшее духовенство пре-
пятствовало проникновению его произведений в церковь.
Более этого, оно осуждало Генделя, считая святотатством
вынесение библейских сюжетов на сцену в той интерпре-
тации, которую давал им композитор.
И все же композитор прославился именно своими
ораториями, сюжетной канвой для которых послужили
библейские легенды. Драматическая ситуация той или
иной легенды являлась как бы отправной точкой для ос-
мысления художником современной ему действительно-
сти. Церковь не любит эту неподвластную ее контролю
интерпретацию Священного писания. Оно и понятно. По
существу, свободное толкование Библии в светском ис-
кусстве многие годы было одним из путей для выраже-
ния протеста против официальной церковной идеологии.
Обращение Генделя к библейским сюжетам опреде-
лялось не интересом композитора к церковной догмати-
ке, а совершенно иными причинами. Прежде всего той
ролью, которую Библия играла в духовной жизни Анг-
лии с XVI вплоть до XVIII века. Именно в этот период
Священное писание, переведенное на английский язык,
приобретает большую популярность в качестве литера-
туры для чтения во многих городах страны. Библию в
английском переводе народные массы сознательно
противопоставляли изысканным латинским стихам арис-
тократических поэтов. Библейские сюжеты ораторий
Генделя воспринимались как победа национального на-
родного искусства над утонченным придворным. С по-
мощью этих сюжетов Гендель воспевал величие народ-
ной борьбы против насилия. В его ораториях впервые в
истории музыкального искусства народ становится глав-
ным персонажем. Вместе с народом борьбу за свободо-
любивые идеалы осуществляют герои библейских ле-
генд — Самсон, Маккавей, Саул и другие. Эти герои с
детства знакомы каждому англичанину.
Акцентируя внимание на высокой гражданственности
и прославлении жизни, Гендель своей музыкой положил
начало неведомому до тех пор искусству для широких
народных масс.
14
Наряду с инструментальной Гендель широко исполь-
зовал в своих ораториях хоровую музыку. Функции хора
у него бесконечно многообразны: хор повествует или
комментирует события, воздает славу или выражает
бурную радость. Являясь носителем демократических
тенденций, хор нередко, как, например, в «Иуде Макка-
вее», воссоздает картину героического выступления на-
рода, восставшего против угнетателей.
Демократизм музыки Генделя нашел свое дальней-
шее развитие в творчестве Бетховена. Гендель, по ост-
роумному замечанию Ромена Роллана, — своего рода
скованный Бетховен. Именно в творчестве Бетховена
революционная, свободолюбивая мысль, зревшая в му-
зыкальном искусстве в течение XVIII века, достигла осо-
бого накала. «Появление произведений Бетховена, —
пишет Р. Роллан, — было подобно... революции, взрыву
стихийных сил, дотоле неведомых, хотя отдельные
вспышки демонических страстей уже пробивались сквозь
щели монументальных произведений Глюка и Генделя»6,
Произведения Бетховена органически, прочными узами
связаны с теми социальными силами, которые некогда
разрушили Бастилию. Революционные идеалы сильно
повлияли на творчество Бетховена.
Эти идеалы Бетховен пронес через долгие годы борь-
бы со своим недугом (глухотой), со своими бедами, ра-
зочарованиями и нищетой. Совершенное выражение воз-
зрения композитора нашли в величественной Девятой
симфонии, в этом замысле целой жизни, где из «самой
бездны скорби» воспета радость.
Девятая симфония — огромное полотно, отражаю-
щее крестный путь человечества от страдания к победе,
от горя — к радости. Это — яростная война страданию.
Если христианская церковь провозглашает радость в
страдании, то музыка Бетховена призывает преодоле-
вать, побеждать страдание. В хоровом финале симфо-
нии радость поет свою торжественную песню. Литера-
турным материалом финала послужила «Ода к радости»
Шиллера. По мнению Шиллера, радость — «действен-
ная любовь», объединяющая всех людей на земле, и в
то же время наслаждение порядком, который установ-
лен разумом и гармонией. Она — «дочь Элизиума» —
страны счастливых. Элизиум, как и христианский рай —
6 Р. Роллан. Собр. соч. В 14-ти т. Т. 12. М., 1957, с. 273.
15
конечная цель стремлений человечества. Но если в хри-
стианстве рай достигается путем покорного принятия
страданий, путем рабской приниженности, терпения, то
Элизиум—счастливое будущее человечества, воздвигае-
мое на земле объединенными усилиями людей, путем ве-
ликой битвы против страданий, против зла. Это — сво-
бода, которая завоевывается мудростью и доблестью
людей, их братскими усилиями.
Бетховен рисует грандиозную битву. В картине ге-
роического сражения раскрывается концепция револю-
ции эпохи немецкого просвещения. Здесь перемешалось
множество мировоззренческих элементов: интуитивное
постижение необходимости социального прогресса, вера
в человека, столь же мудрого и естественного, как и
сама природа, кантовская идея «вечного мира», осуще-
ствляемая путем подчинения политики «долгу и мора-
ли», когда «разум указывает нам, что нужно делать,
чтобы оставаться в стезе долга»7. Здесь же идеи рели-
гии, включающие элементы деизма и пантеизма.
Герои революции черпают силы в радости жизни, в
свободной воле человека, раскрепощенной от принуди-
тельных оков общепринятой обывательской морали. Но
это и не кровавая схватка антагонистических классов,
которой так боится немецкое просвещение. Светочем че-
ловечества может быть только свободный разум, по ве-
лению которого оно приходит к осознанию своего долга.
С этих позиций рассматривает Бетховен свой общест-
венный долг. Причем внутренним импульсом, побуждаю-
щим композитора идти по дороге долга, всегда была ис-
кренняя любовь к людям. Бетховен стремится с по-
мощью искусства «вдохнуть мужество в несчастное че-
ловечество», «пробуждать от спячки», «бичевать его тру-
сость». Подчиняя свою жизнь выполнению этого долга,
Бетховен не покоряется своей трагической судьбе, он
не пасует перед обрушившимися на него бедами. Он ос-
тается сильным даже тогда, когда жизнь кажется невоз-
можной. «Я был недалек от того, чтобы наложить на
себя руки. — Искусство! Только оно одно и удержало
меня, — пишет композитор в своем Геймгенштадском
завещании. — Мне казалось немыслимым покинуть этот
мир прежде, чем я не выполню того, к чему я чувство-
вал себя призванным». И он берет свою «судьбу за гор-
7 И. К а н т. Вечный мир. М., 1905, с. 47.
16
ло», чтобы, победив ее, «высекать» своей музыкой
«огонь из души человеческой», утвердить право челове-
ка на борьбу за счастье и свободу. Правда, эта борьба
в Девятой симфонии предстает в форме борения неких
абстрактных сил человечества вообще со злобными сти-
хиями, тоже очень абстрактными. Но в этих абстракт-
ных сферах для Бетховена таится путь человечества к
свободе и братству.
По мысли композитора, вступление человечества в
царство радости должно выглядеть следующим обра-
зом. Все трудности преодолены, препятствия уничтоже-
ны. Небо очищено, в его сияющей синеве сверкает солн-
це радости. Ее провозглашает весь хор и оркестр. На
это еще не апофеоз. Гимн блистательной победы чело-
вечества переходит в торжественное богослужение. Зву-
чит «новая месса», но не распятому сыну человеческо-
му, а человеку, ставшему победителем в жестокой битве
со злом.
Богослужение окончено, хор и солисты радостно про-
возглашают братство всех людей: «Все люди станут
братьями под нежным крылом радости». Наконец, мир
обретен. Счастливое человечество объединилось в брат-
ский союз у престола «Lieber Vater» (любимого отца).
Кто же этот «Lieber Vater», как выглядит религия Бет-
ховена? Уже при первом знакомстве с воззрениями ком-
позитора возникает предположение, что для Бетховена
понятие бога не тождественно христианскому, а царство
божие — не на небе, это скорее мечта о земном счастье
людей.
В вопросах религии Бетховен близок к воззрениям
Канта. Ему импонировала крылатая фраза, сказанная
кеннигсбергским мудрецом: «Звездное небо над нами и
нравственный закон внутри нас». Эта фраза записана в
разговорных тетрадях. Бетховена и, видимо, была пред-
метом многих размышлений. Известно, что И. Кант в
отличие от христианской церкви выдвигает идею неза-
висимого от религии обоснования этики. По Канту,
нравственный закон не выводится из религиозных запо-
ведей. Мораль сама по себе выдвигает понятие высшего
блага и полностью автономна и независима от религии.
Привлекательность кантовского этического принципа со-
стоит в том, что человек «обретает в самом себе безус-
ловный устойчивый центр». А разве это не было прин-
ципом жизни Бетховена? Свое нравственное кредо этот
17
Прометей духа выразил в гордой, полной достоинства
формуле: «Человек, помоги себе сам!».
Отрицание религиозного обоснования морали есть
одно из достижений свободомыслия XVIII века, и оно
воспринято Бетховеном. Его политический радикализм
не мог не распространяться и на религию, хотя было бы
неверным полностью отрицать у Бетховена наличие ре-
лигиозного чувства. Бетховену всегда был чужд догма-
тизм в любой форме его проявления, в том числе и ре-
лигиозный. Он не мог оставаться ни в своих воззрениях,
ни тем более в музыке верным христианским догматам.
На наш взгляд, правильно характеризует отношение
Бетховена к религии французский исследователь Эду-
ард Эррио, автор книги «Жизнь Бетховена»: «Разумеет-
ся, ничего нет в нем от мистика и аскета; в основе всей
его жизни лежит вера в человеческую личность, в твор-
ческую силу чувства, его страсть к природе, его способ-
ность населять ее реальными существами, прославлению
радости, с такой ослепительной мощью запечатленной в
Девятой симфонии, придают его христианской вере не-
малую долю язычества, сознательного или неосознанно-
го. Но его нравственная непримиримость находила свою
опору в деистических воззрениях»8.
На примере творчества таких композиторов, как Бах,
Гендель, Бетховен, знаменующих собой важные вехи ис-
тории развития европейской музыки, мы убеждаемся,
что именно вне связи с церковью музыка смогла стать
выразительницей волнующих проблем современности —
в глобальных, общечеловеческих масштабах, охваты-
вающих целые эпохи. По-новому используя церковные
жанры и сюжеты и в то же время обогащаясь светски-
ми жанрами и средствами выражения, она достигала
все новых и новых высот совершенства.
МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
По иному пути пришлось пойти церкви. Уже давно ут-
ратив ведущую роль в духовной жизни буржуазного
общества, она сегодня ставит перед собой более скром-
ные задачи: «вжиться в современность», найти для себя
нужную ориентацию в ней. Эта потребность адаптации
8 Э. Эррио. Жизнь Бетховена. М., 1968, с. 281.
18
церкви в современном мире отразилась в Конституции
святой литургии, принятой II Ватиканским собором
(1962—1965).
Церковь в современном буржуазном обществе пере-
живает жестокий кризис, выражающийся прежде всего
в том, что катастрофически быстро падает ее влияние на
массы. По признанию папы Павла VI, церкви сегодня
все труднее говорить с трудящимися людьми, между
ними нет общего языка. Для многих из этих людей все
более очевидной становится связь церкви с той общест-
венной организацией, которая приносит неисчислимые
бедствия людям, порождает вопиющее неравенство. Это
отмечают даже священнослужители. Так, в интервью с
итальянской корреспонденткой бразильский архиепис-
коп Элдер Камарра сказал: «Молодежь отвернулась от
церкви потому, что церковь предала ее», потому что она
не может решить ни одной из тех проблем, которые вол-
нуют молодое поколение.
Пример замечательных социальных преобразований,
совершенных в странах социализма, убеждает прогрес-
сивно мыслящих людей Запада в том, что единственный
реальный путь решения острых проблем современно-
сти — это путь революционного преобразования общест-
ва, это борьба за социализм.
Трудное положение церкви сегодня связано также и
с тем, что безвозвратно ушли в прошлое те времена,
когда религия была единственной идеологией, способной
объединить массы. Ее коммуникативная роль в наши
дни очень ограничена. В антагонистическом обществе с
его изощренными способами идеологического влияния
на массы традиционная религия выглядит малоубеди-
тельной. Отчаяние и опустошенность потерянного поко-
ления не способна восполнить сладкая, «размагничиваю-
щая» ложь проповедей в их традиционных канонических
формах. Поэтому церковь вынуждена прибегнуть к са-
мым парадоксальным модернизациям канонов богослу-
жения.
В «святая святых» — литургическую службу вносят-
ся элементы «демократизации» и доступности для ши-
рокого круга людей. В этой связи «Конституция святой
литургии» становится на путь изменения освященной ве-
ками традиции богослужения на «священном языке» —
латыни. Она рекомендует использовать родную речь во
всех чтениях и пении, при совершении таинств, при ли-
19
тургических молитвах и других службах. Делается это
для того, чтобы доступностью богослужения достигнуть
контакта с верующими, обеспечить их деятельное учас-
тие в культовой практике. Это участие, в частности,
должно выражаться в коллективном пении молитв. В
целях успешной миссионерской работы в странах «с со-
ответствующими музыкальными традициями» (Африка,
Китай, Япония, Индия) рекомендуется использовать в
литургии местные музыкальные мелодии, ритмы и на-
циональные инструменты. И наконец, еще одна рекомен-
дация: не следует закрывать двери церкви перед новы-
ми открытиями в искусстве. Введение новых форм музы-
кального звучания лишь расширит влияние церкви.
Определенное место в Конституции занимает вопрос
о роли художника в реорганизации церковного культа
в наши дни.
Следует отметить, что Конституция лишь постулиро-
вала все эти вопросы, подробное же их обсуждение со-
стоялось несколько позднее, в 1966 году — на V между-
народном католическом конгрессе церковной музыки в
Чикаго.
Обсуждение постулатов Конституции на конгрессе
было остродискуссионным. Многие его участники от-
стаивали традиционное для церкви представление об из-
начальной творческой силе бога в созидательном про-
цессе художника. Логика этих рассуждений такова: бог
не только первопричина всего сущего, но и творческая
энергия, направленная на постоянное совершенствова-
ние божьих творений. Поэтому художник несет особую
ответственность перед богом и людьми: он должен со-
здавать произведения, в которых через «материю этого
мира просвечивает... осуществленная в земных вещах
вечная божественная идея. Тем самым искусство — при-
чем литургическая музыка в первую очередь — стано-
вится вестником бога, или, другими словами, дорогой к
богу, и в тем большей степени, чем сильнее ощущается
в нем творческая сила»9.
Ценность искусства, по мнению многих ораторов, со-
стоит главным образом в том, что оно есть воплощен-
ная в художественных образах «божественная идея», но
вместе с тем оно лишь оболочка, необходимая для лю-
9 Musica Sacra in Liturgiereform nach dem II. Vatikanischen
Konzil. Regensburg. 1968. S. 59—60.
20
дей, которые стоят на самой низкой ступени познания
бога. «Избранные» могут воспринимать божественную
идею непосредственно, без помощи искусства, «ибо, —
по выражению одного из выступавших, Рудольфа Гра-
бера, — примитивное, по сравнению с глубиной божест-
венной идеи, звучание культовой музыки становится
для них помехой». И в каждую эпоху были люди, кото-
рые вели святую жизнь и достигали общения с богом,
не прибегая к помощи художественной образности.
«Имеются даже художники, — продолжает Грабер, —
которые очень серьезно относятся к искусству, но в то
же время охотно отрекаются от него, чтобы полностью
отдать себя богу. Такое искусство становится для них
помехой... ибо внутренняя жизнь религии сама по себе
есть высшее произведение искусства бога, неизмеримо
более высокое, чем любое художественное произведе-
ние» 10. Заметим, что эта же мысль была высказана еще
в период глубокого средневековья неким монахом Бруно:
«Бог не любит музыки как таковой; он в ней не нужда-
ется, как в жертвоприношении; он допускает пение лишь
из-за слабости человека как меньшее зло, чтобы избе-
жать при ее помощи большего зла—удаления человека
от религии» 11.
В союзе церкви и художника один — хозяин, дру-
гой — на положении слуги. Но «слуга» оказался ныне
удивительно ненадежным, он бунтует: искусство давно
вырвалось из оков церкви и никогда не станет ее рабом.
Любопытна прозвучавшая на конгрессе интерпретация
этого факта: как и во всяком договоре, в союзе между
искусством и религией могут создаваться кризисные от-
ношения, которые доходят даже до открытого разрыва.
И если такой разрыв идет на пользу искусству, для
церкви он невыгоден. Потеряв эмоциональный язык му-
зыкальной образности, она не может воздействовать на
большинство верующих. Господин не в состоянии обой-
тись без слуги и идет на уступки, ищет компромиссных
форм желанного союза. Многие участники конгресса
предположили, что такой союз может быть достигнут
лишь при демократизации как литургической музыки,
так и литургического действа...
10 Musica Sacra in Liturgiereform... S.61.
11 Цит. по: М. В. И в а н о в-Б о р е ц к и й. Музыкально-историче-
ская хрестоматия, т. 1, с. 14.
21
Но разрушение литургической традиции не проходит
бесследно для церкви. Стоит ли отказываться от язы-
ка, снискавшего в процессе многовековой практики силу
«универсального», «близкого» верующим различных на-
родов не по смысловому содержанию, а по религиозно-
эстетической эмоциональности. Многоязычность в цер-
ковном пении, по существу, ведет к определенному са-
моразрушению его внутренней эстетической целостно-
сти, согласованного звучания именно латыни и соответ-
ствующей музыкальной формы, утверждали противники
этого пункта Конституции.
Были возражения и другого рода: перевод латинских
текстов на родные языки и пение затем этих текстов об-
щиной ограничат и исказят их «литургическую силу»:
псалмодия внутренне противоречит массовому пению
(опыт протестантского песнопения, разумеется, не учи-
тывался католическим духовенством).
Защитники церковной традиции ставят вопрос так:
что лучше — демократическое, но плохое пение или мас-
терское исполнение немногими? Ответ уже предрешен в
вопросе. Демократичность создает лишь иллюзию луч-
шего понимания богослужения верующими: «Перевод на
народный язык презентует литургическим текстам лишь
бедный холодный фасад, который едва ли позволяет
предположить, какие чудеса скрываются за ним». Сто-
ронники этой точки зрения выступили против введения
в мессу европейских «местных» языков и музыкальных
форм выражения. Ибо, по их мнению, такое пение, хотя
и импонирует «народам неразвитых стран» и их «защит-
никам», но ведет к своеобразной, не подвластной церкви
ассимиляции христианства неевропейскими народами.
В качестве примера был приведен факт ассимиляции
христианства американскими неграми. Для них христи-
анство явилось одной из доступных форм внутреннего
самовыражения. От невольников ускользнула собствен-
но догматическая сторона христианства: они восприняли
его как обещание лучшего мира на земле. К тому же,
будучи, как правило, безграмотными, они плохо знали
«священные тексты». В силу этого негры довольно сво-
бодно интерпретировали церковные песнопения, приспо-
сабливая их для выражения своих собственных желаний
и представлений. Стихийное творчество негров превра-
тило протестантские гимны в спиричуэлс — духовные
песни, где религиозные сюжеты своеобразно сочетались
22
с англокельтским фольклором и негритянским музы-
кальным языком.
Негры во многом преобразовали и христианский риту-
ал, пронизав его остатками африканских языческих це-
ремоний. Для усиления трагического в музыке негры
сопровождали пение танцевальными телодвижениями,
В спиричуэлс существенны не библейские связи сю-
жетов, а глубина и страстность выраженных в них
чувств.
В процессе своеобразной эволюции в творчестве луч-
ших негритянских певцов первой половины XX века от-
шлифовывается новая форма спиричуэлс, неразрывно
связанная с джазом в его лучших традициях. Первые
победы джаза в Европе были встречены церковью
враждебно. Итальянская католическая пресса определи-
ла джаз как музыку «материалистического мировоззре-
ния». Но прошло несколько десятилетий, и в 1963 году,
во время работы Второго ватиканского собора, в Мюн-
стере прозвучала месса, представляющая собой сочета-
ние джазовой музыки со старинной церковной. Правда,
использование джаза для выражения евангельского сло-
ва в Европе не стало массовым, но все же такие попыт-
ки не единичны.
Сейчас церковь доброжелательно смотрит на увлече-
ния джазом своих пастырей. Любопытен пример католи-
ческого священника О. Коннора, известного популяри-
затора, джазового критика и композитора. Церковные
власти закрывают глаза на то, что музыкальный язык,
рожденный в практике негров-баптистов и методистов,
очень далек от католических канонов. Правда, на собо-
ре (да и на конгрессе) прямо не ставился вопрос об ис-
пользовании джаза в литургии европейской церкви, но
довольно активно обсуждался вопрос о введении поми-
мо органа других музыкальных инструментов, о связи
католической церкви с «другими культурами», ибо в
противном случае «церковь может оказаться в изоля-
ции».
Справедливость последнего довода была очевидной
для многих, но ясно было и другое: связь с «другими
культурами» это на самом деле уступка «коммерческо-
му» искусству, этому «отвратительному виду псевдопо-
пулярной, массовой музыки».
«Гитары, рок-ролл и джаз-мессы не отображают ду-
ховной сущности музыки, — заявил на конгрессе като-
23
лический музыковед профессор Генри Лонг, — этой му-
зыке свойственны девонские качества... Она носит ха-
рактер жестокого культурного движения, которое не мо-
жет быть слито с христианской этикой»12.
Однако ничто уже не может теперь остановить про-
цесс церковной «демократизации». Как ни парадоксаль-
но, но, оплот традиционализма, «извечных устоев», цер-
ковь рьяно проводит в жизнь принцип современного
буржуазного общества — приспособление к низменному,
но модному.
Ныне же именно «массовое» буржуазное искусство
призвано стать тем катализатором, который способству-
ет процессу рождения «современной» церкви. Так же
как и религия, современное «коммерческое» искусство
выполняет функцию некоего духовного опиума, при по-
мощи которого ищут забвения интеллектуально опусто-
шенные, обездоленные, с искалеченными судьбами люди.
Особенно увлекается таким искусством некоторая часть
молодежи, воспитанной по характерным стандартам
буржуазного общества. При помощи «массового» искус-
ства делается попытка «усмирить» молодых, создать для
них иллюзию отрешения от действительности, воспитать
пассивную созерцательность в решении социальных
проблем. Именно в этой ситуации легко приобретают
популярность всякого рода «пороки» в различном, но
всегда реакционном обличье. Ассортимент их идей до-
статочно широк — от проповеди христианской морали
до ультрасовременного фашизма и левацких учений всех
мастей. Так призрачный мир наркотического дурмана
«массового» искусства приходит к слиянию с религией.
«Синтез» религии и «массового» искусства породил ряд
поп-произведений, в которых ведущее место занимает
так называемая «христианская тема» в ее современном
преломлении (мюзиклы, рок-, поп-оперы, всевозможные
мессы и т. д.).
Современность в этих произведениях преподносится
весьма своеобразно — допускается возможность «инако-
переосмысления» привычных христианских образов, а
порой и пародирования их.
Так, например, несколько лет назад на театральных
подмостках многих европейских столиц появился рок-
мюзикл «Поймай мою душу» англичанина Жака Куда.
12 Musica Sacra in Liturgiereform... S. 281.
24
Сюжетной основой его стала трагедия «Отелло». Но ка-
кова же она в новой интерпретации? По признанию са-
мого автора, в образе Отелло выступает «почерневший
от забот католический херувим, олицетворяющий собой
зеркало опустившегося мира». Сегодняшний мир в этом
мюзикле напоминает «злобный, одичавший сад похоти».
Зло, господствующее в мире, персонифицировано в об-
разе Дьянко — Яго. Он и есть современный вариант са-
таны, который кровожадно кричит: «убей! убей», и из-
мученный «херувим» (Отелло), приняв земной облик в
виде черного американского кавалериста, невнятно что-
то бормочет себе под нос и сладострастно душит Диор-
Дездемону.
Яго ненавидит «черного барона» Отелло и «борца за
гражданские права» Кассио, он ненавидит весь мир.
Жизненная дорога Яго вымощена трупами.
Характерны некоторые детали оформления сцены.
Возле блестящего микрофона постель покойника, приме-
ты убийства, болтающийся христианский крест, окутан-
ный пряным дымом ладана. Танцуют полуголые девицы.
Действие это происходит на фоне музыки, представляю-
щей собой невероятную смесь старинной мессы с блю-
зовыми ритмами и штампованными формулами рок-н-
ролла.
Хаос и дисгармония этого злобного мира, как в кап-
ле воды, отражаются в душе Отелло. Испытав на себе
все муки ревности, подлость, вероломство, жестокость и
бессердечность, он жаждет покоя и всепрощающей люб-
ви. «Будь проклята моя душа! — восклицает Отелло,
обращаясь к Дездемоне, — я тебя не люблю. И когда я
тебя не люблю, хаос возвращается вновь. Поэтому надо
любить. Только любовь восстановит гармонию мира».
Таков итог, провозглашенный Отелло в его заключи-
тельной песне. «Но какова эта любовь? Нагорная пропо-
ведь или проповедь Христа в пустыне?» — вопрошает
рецензент спектакля, обозреватель журнала «Spiegel»
Фриц Румлер. И сам же отвечает: «Отелло — исстрадав-
шийся херувим — напоминает людям: мир придет толь-
ко через любовь и всепрощение»13.
Итак, неожиданно возникает резюме в духе одной из
основополагающих евангельских проповедей, веками
13 Fritz Rumler. Der Satan ist wieder erscheien. — «Spiegel»,
N 10, S. 186.
25
«утешающей» людей, но дело не только в нем. Воздей-
ствие этого мюзикла в целом гораздо коварнее. В поис-
ках «утерянного» языка с массами церковь не гнушает-
ся ни чем. В данном случае она берет на вооружение
распространенный в буржуазном искусстве прием «клас-
сической сетки» и, используя сюжетную канву популяр-
нейшего произведения Шекспира, создает отравляющие
«псевдохристианские» вариации.
Проповедь любви и всепрощения — далеко не един-
ственный мотив искусства, принятого церковью на во-
оружение. Приспосабливаясь к настроениям широких
масс, церковь не может не реагировать на политические
события, которые их волнуют, вызывают гнев и возму-
щение. Такая тактика приносит церкви не только попу-
лярность, но и открывает возможность интерпретиро-
вать эти события в «безопасном» для современного бур-
жуазного общества направлении.
Так появляется музыкальное ревю, написанное аме-
риканцем Георгом Табори «Pinkvill». В 1971 году, с бла-
гословения епископа Шарфа, оно было поставлено в од-
ной из церквей Западного Берлина.
«Pinkvill» — это кодовое название расположения од-
ной вьетнамской деревни, где в 1968 году произошло
зверское убийство американскими солдатами 100 муж-
чин, женщин, стариков и детей. Возмущение автора не
только данным случаем, но и всей военной машиной,
которая, парализуя волю солдат, создает из них меха-
низм для убийств, вполне справедливо. Но, к сожале-
нию, это возмущение находит выход лишь в плане хри-
стианского морализирования. Нравственно-поучительная
идея автора заключена уже в прологе: молодой амери-
канец, забавляясь, показывает детям различные спосо-
бы убийства. Увлекшись, дети распяли своего учителя,
как Христа, на кресте. Зло порождает зло.
Все последующее действие спектакля должно под-
твердить этот вывод, уже предрешенный в прологе.
Главное действующее лицо — молодой американец. Во
Вьетнаме его превратили в убийцу и он расстреливал
детей, женщин, стариков. Но в конце концов осознав
бесчеловечность своих действий, он вернулся в Америку
и в столкновении с полицией во время антивоенной де-
монстрации перед Белым домом был убит. Какой же
вывод? Вывод все тот же: зло порождает зло. Поэтому
борьба с насилием с помощью насилия есть нагромож-
26
дение новых страданий и новых убийств. Есть только
один путь к спасению — смирение и жертвенность.
Желанную остроту и направленность придает спек-
таклю музыка. Звуки литургического хорового пения не-
сут обещание мира и покоя, надежду на жизнь «веч-
ную», дарованную невинным жертвам. Вдохновенное
пение убаюкивает, создает настроение умиротворенно-
сти. И вдруг картина резко меняется. На фоне строгой,
«уносящей к небесам» музыки раздаются оглушающие
раскаты военных маршей и песен. Их жестокие ритмы
олицетворяют тупую, кровавую, бесстрастно жестокую
машину насилия. Распахнулась дверь в черную бездну,
где царит лишь мрак. Здесь горы ненависти и злобы...
Но тьма рассеивается. Путь к миру найден. Его откры-
вает жертва страдающего и покорно принимающего
страдания Христа.
Символичен в этом отношении плакат, рекламирую-
щий спектакль. На плакате изображен Христос на крес-
те и тут же — орудия распятия: терновый венок, гвозди,
кровавая чаша и деревянный крест. Внизу надпись:
«Сделай это сам»! В этом сконцентрирован весь смысл
спектакля мистерии: смирись, вернись в лоно церкви и
покорно принимай страдания. Вспомни, что своим «не-
христианским поведением ты каждый раз вновь и вновь
распинаешь Христа». Таким образом, церковь готова
идти даже на такого рода новшества в богослужении,
ибо, уступая в форме, она надеется сохранить сущность
христианского вероучения.
В «массовом» искусстве сегодня все более частым
становится обращение к образу Христа. Причем, как
правило, он получает весьма далекое от традиционного
истолкование. В нынешнем буржуазном обществе очень
модно быть «революционером»: революционерами объ-
являют себя почти все, даже самые махровые реакцио-
неры. Отцы церкви используют и эту характерную тен-
денцию современной буржуазной действительности. Пре-
красно понимая, насколько притягательна сила идей
коммунизма, они вынуждены изменить тактику. Теперь
церковь открыто уже не проклинает коммунистов, а
ищет пути подмены идей марксизма христианством.
Христос теперь не кто иной, как родоначальник револю-
ционного преобразования мира.
В устах современной церкви распятый Христос и
есть «первый революционер», «Коммерческое» искусст-
27
во активно эксплуатирует эту заманчивую идею. В
1970 году в Нью-Йорке с большим успехом шел мюзикл
«Божьи чары». В его основу положена евангельская ис-
тория Христа. По мнению журнала «Stern», образцом
для создания мюзикла послужила оратория И. С. Баха
«Страсти по Матфею». Правда, познакомившись со
спектаклем, трудно в это поверить. Его постановщики,
молодые американцы Джон Майкл Табелак и Стефан
Шварц, стремились скорее всего создать развлекатель-
ное коммерческое ревю, правда, с несколько необычным
для такого жанра сюжетом. На сцене — длинноволосые
юноши и девушки танцуют, поют, дурачатся и среди
них — Христос — современный парень в красных труси-
ках и с алым сердечком на лбу (знаком хиппи).
Не странно ли, что столь «смелый» подход к изобра-
жению евангельских образов ничуть не шокирует цер-
ковных хранителей истины? Нет, главное для них сейчас
не форма, гораздо важнее то воздействие, которое ока-
зывает содержание спектакля на молодого зрителя. Эф-
фект воздействия постановки рассчитан на то, что под-
пав под обаяние легкой и доступной музыки, присутст-
вующие, сами того не замечая, постепенно втягиваются
в сферу новых для них понятий и образов, воплощенных
ритмоинтонационным языком сегодняшней эпохи.
Это особенно заметно на примере второго действия,
когда идет показ «страстей господних». Из лихого парня
Христос превращается в мудрого мужа. Он ведет речь о
верности и предательстве, о силе терпения и значении
веры в бога, о... «революционном» преобразовании мира
с помощью покорного принятия страданий и всепроще-
ния.
И вот финал — крестные муки Христа. Смерть, сня-
тие с креста и торжественное шествие «апостолов» с его
телом по зрительному залу под звуки мощной драмати-
ческой песни «Да здравствует бог!». Воздействие на
аудиторию очень сильное. Старые идеи о непротивленче-
стве, покорности, жертвенности, т. е. все то, что веками
формировало психологию раба, воспитывало социаль-
ную пассивность, зазвучало в мюзикле на новый лад,
будучи выраженным на привычном современном языке.
Даже чопорное немецкое духовенство решило поста-
вить этот весьма далекий от литургических канонов
мюзикл в гамбургской церкви Св. Петра в новогоднюю
ночь 1971 г. Оглушительная музыка штампованного
28
«рока» зазвучала в церкви. Удивляться нечему. Во имя
сохранения хотя бы части евангельских идей можно по-
жертвовать даже традицией.
Теперь уже, с благословения церкви, образ Христа в
театральных постановках занимает все более прочное
место. И хотя такие представления не всегда соответст-
вуют религиозному идеалу, а в некоторых случаях даже
представляют злую пародию на Евангелие, тяжелое
кризисное состояние делает церковь «всеядной». Она не
пренебрегает ничем, если речь идет о популяризации,
или хотя бы о возбуждении интереса к ее идеям.
Характерным примером является сенсация бродвей-
ского сезона 1971 года — рок-опера «Иисус Христос —
Суперзвезда». Ее авторы — молодой английский компо-
зитор Эндрью Ллойд Веббер и поэт Тим Райс. В первом
варианте «Иисус Христос—Суперзвезда» появился в кон-
цертном исполнении группой битлов с Бобом Гилланом
в заглавной роли. Это исполнение было записано и про-
давалось в Англии в виде роскошного двойного альбома
пластинок. Однако здесь опера не имела особого успеха.
Признание и слава пришли к ее авторам лишь в США,
после постановки на Бродвее. Только за три месяца ис-
полнения в концертном варианте авторы получили до-
ход в 3,5 миллиона долларов. В новом же варианте —
в форме рок-оперы «Суперзвезда» стала одним из доро-
гих спектаклей.
В чем же причина успеха? В этом спектакле, так же
как и в «Божьих чарах», сюжетной основой явилась
евангельская легенда о Христе. Но и здесь сходство с
церковным толкованием Евангелия весьма отдаленное.
Так, Тим Райс поясняет: «Наш Христос — это далеко не
та абсурдная парящая в облаках фигура со святым сия-
нием вокруг головы, представление о которой мы по-
черпнули в школе» 14.
В образе Христа не чувствуется ни святости, ни даже
простого обаяния, это жалкий, тщеславный человек, мало
заботящийся о своей «божественной» миссии на земле.
И совсем не случаен упрек, который бросает ему Иуда:
«Христос, ты попадаешься на том, что веришь в то, что
о тебе говорят. Твоя личность сама становится важнее
твоих проповедей». Действительно, многие поступки
Христа в этой опере характеризуют его отнюдь не с луч-
14 «Stern». 31 oktober, 1971. S. 190.
29
шей стороны. Так, весьма сомнительно по «святости» его
отношение к блуднице Марии Магдалине. Иуда даже
вынужден его предупредить о неприятных последствиях,
к которым может привести его дружба с нею: «Мне ка-
жется странным твое заблуждение. Как можешь ты тра-
тить время на женщин подобного рода? Я ничего не
имею против ее профессии, но она не соответствует
тому, чему ты учишь и говоришь. Твоя непоследователь-
ность способствует нашему уничтожению».
В отличие от евангельского здесь Христос далеко не
жертвенная натура. Ему скорее свойственно себялюбие
и равнодушие к людским страданиям. Не характерны
для него черты искупителя, добровольно и безропотно
ставшего на мученический путь. Он даже не понимает,
во имя чего идет на распятие. Он молит бога о милости,
просит отвести от него «эту чашу» или хотя бы объяс-
нить, почему он должен умереть: «Буду ли я: более зна-
менит чем прежде? Я должен видеть, если я умру, каким
же будет мое вознаграждение». Любопытно, что в этой
молитве Христа даже звучат нотки осуждения бога:
«Ты слишком страстно думаешь о том, где и как я умру,
но не так уж горишь желанием подумать, почему я дол-
жен умереть». Христос сомневается в разумности дейст-
вий бога, обвиняет его в жестокости ради жестокости.
Но так и не получив ответа, Иисус буквально выкрики-
вает свое согласие умереть: «Ладно, я умру...Я выпью
твою чашу яда. Пригвозди меня к кресту, ломай меня,
лей мою кровь, бей меня, убивай меня! Но возьми меня
сейчас, немедленно, пока...я не передумал!»
Так и не ясна та высокая цель, во имя которой
Иисус идет на смерть. Просто бог силен, а Иисус слаб,
он вынужден подчиниться ненужной, бессмысленной
жестокости.
Особое место отведено в рок-опере «Иисус Христос-
Суперзвезда» Иуде. Иуда — доминирующая фигура,
проходящая через все действие. Авторы придерживают-
ся мнения, что церковно-традиционный образ Иуды в
виде предателя, действующего из низменных, злых по-
буждений, неверен. Иуда, по их мнению, человек, кото-
рый полон забот об авторитете Христа, о том деле, во
имя которого Христос ниспослан на землю. Но обстоя-
тельства сильнее Иуды. Он видит слабость Иисуса, его
бессилие в решении той задачи, которая легла на его
плечи (впрочем, смысл этой задачи в либретто так и не
30
расшифрован). «Ты несчастный жалкий человек, — об-
ращается Иуда к Христу, — ты видишь, куда ты нас
привел. Все наши идеалы гибнут из-за тебя». Христос
запутался, и теперь, по выражению Иуды, «кто-то дол-
жен его спасти, как самого обыкновенного преступни-
ка». Но спасти его невозможно, ибо самим богом ему
предначертана смерть. И Иуда выдает Христа первосвя-
щеннику Кайяфу. Иуда сделал это не по своей воле. Он
лишь орудие роковой развязки. «Я лишь посох, которым
пользовался Иисус, — с болью произносит он в своем
предсмертном монологе, — и ты, бог, все это знал, а я
никогда не узнаю, почему ты выбрал меня для своего
преступления, для твоего грязного проклятого преступ-
ления. Ты убил меня».
Возможность для такой трактовки образа Иуды за-
ложена в противоречивости самого первоисточника —
евангельской легенды об Иуде Искариоте. С одной сто-
роны, Евангелие рассказывает о преднамеренном пре-
дательстве Иуды: «Тогда один из двенадцати, называе-
мый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и ска-
зал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они пред-
ложили ему тридцать серебренников. И с того времени
он искал удобного случая предать Его» (Ев. Матф,
26, 14, 15, 16). С другой стороны, Евангелие пове-
ствует об искреннем раскаянии предателя: «Тогда Иуда,
предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаяв-
шись, возвратил тридцать серебренников первосвящен-
никам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь
невинную... И, бросив серебренники в храме, он вышел;
пошел и удавился» (Ев. Матф. 27, 3, 4, 5).
О мотивах поведения Иуды в Новом завете говорит-
ся весьма неясно: то ли он действовал из корыстных по-
буждений, то ли действиями Иуды руководила чужая,
высшая воля. Но все это можно лишь предполагать. Не
удивительно, что образ Иуды вызвал много несходных
толкований. Ортодоксальное богословие, как правило,
трактует этот образ в качестве предателя. Более того,
его имя стало синонимом подлого предательства. Что же
касается раскаяния и последовавшего затем самоубий-
ства Иуды, то эта сторона легенды или остается в тени,
или преподносится в качестве поучительного примера
заслуженной кары за преступление.
Трактовка авторов «Суперзвезды» образа Иуды не
совпадает с традиционно-церковной. Безусловно, в рок-
31
опере «Иисус Христос — Суперзвезда» совсем не чувст-
вуется ни «благолепия», ни «духовности».
Но почему же тогда эта крамольная пародия на Свя-
щенное писание получила столь горячее одобрение церк-
ви? «Суперзвезда» была поставлена в одной из глав-
ных церквей Вашингтона и многих других церквах Аме-
рики и Европы. Ватиканское радио включает рок-оперу
в свои передачи. Причина одобрительного отношения
церкви заключается, разумеется, не в художественных
качествах оперы. По признанию обозревателя журнала
«Stern» Адреаса Оденбальда, «Спектакль «Иисус Хрис-
тос — Суперзвезда» не безынтересен, хотя и имеет ми-
нимальную художественную ценность».
Действительно, музыка оперы написана в стиле но-
вейшего «рока», отличительными особенностями которого
является мешанина из разных стилей и приемов компо-
зиции — от подделки под классику до джаза и фольк-
лора. Привлекаются также и самые различные инстру-
менты — орган, губная гармоника и всевозможные на-
родные инструменты. И хотя, по выражению критика
«Stern», произведение «имеет минимальную художест-
венную ценность», тем не менее оно считается образцом
современного популярного искусства. Использование
бытовых форм музицирования (пение под гитару и раз-
личного рода бит-ансамбли), увлекательная заниматель-
ность самого действия, динамичные молодежные тан-
цы — все это введено сегодняшней западной моло-
дежью.
Однако даже в таком виде популяризация библей-
ских образов «работает» на современную церковь и бун-
тарские настроения некоторой части молодежи направ-
ляются на безопасную тропу, находящуюся в стороне от
главной дороги социальной борьбы. Богословы ловко
спекулируют на запросах молодежи. Умело используя
характерные эстетические запросы молодого поколения,
они создают бестселлеры на тему христианства. И дей-
ствительно, «Суперзвезда» не что иное, как исповедание
хиппи во Христе.
На первый взгляд это как будто бунт против всего
общепринятого, в том числе и христианства. Но это —
бунт на коленях, расчетливо отрежиссированный идео-
логической верхушкой современного буржуазного обще-
ства.
Церковь всегда стремилась моделировать определен-
32
ный тип восприятия, рассчитанный на какой-то средний
уровень прихожан. Сегодня ей в этом активно помогает
«массовое» искусство» 15, основанное на этом же принци-
пе. Наблюдая ныне процесс слияния культовой музыки
с «массовым» искусством, можно предположить, по мет-
кому выражению одного из авторов журнала «Америка»
Девида Стеррит, что «настанет день, когда церковь и
рок-опера сообща привлекут к себе на службу самых
экстравагантных длинноволосых радикалов».
Слияние богослужения с «коммерческим» искусством
неизбежно в условиях когда затянувшаяся агония совре-
менного христианства исторически совпадает с кризисом
культуры умирающего антагонистического общества.
Это слияние — одно из проявлений того духовного ваку-
ума, в котором оказалось современное буржуазное об-
щество.
Жестокая необходимость вынуждает церковь быть
неразборчивой. В ее практике легко уживаются крайно-
сти «коммерческой» музыки с крайностями заумной,
рассчитанной на избранных, элитарной музыки. Чтобы
завоевать доверие музыкальной элиты, богословы под-
нимают самые «больные» для интеллигенции проблемы,
они «состраждут» вместе с ней и даже соучаствуют в по-
исках выхода.
В результате выявляется политическая стратегия
церкви (в частности, католической), в которой довольно
гибко сочетается антикоммунизм с демагогической кри-
тикой «крайностей» буржуазного образа жизни.
Любопытна в этом отношении статья «Злоупотребле-
ние музыкой», появившаяся сравнительно недавно на
страницах журнала «Osterreichische Musikzeitschrift».
Ее автор, назвавшийся «Рейнским епископом», поставил
перед собой цель поведать читателям о противоречиях
современного мира и о роли музыкального искусства в
их разрешении.
Действительно, ни для кого не секрет, что современ-
ный капиталистический мир переживает глубочайший
15 В прошлом, в период господства церкви и ее идеологии,
«массовым» могло быть только церковное искусство. Народное твор-
чество и светское искусство в целом было ограничено всем укладом
жизни эпохи средневековья. В настоящее же время между «ширпот-
ребом», фабрикуемым церковью, и «массовым» искусством за ее пре-
делами нет принципиального противоречия. Но зато и то и другое
противоположно истинному искусству.
33
кризис, сопровождавшийся обострением противоречий и
в сфере идеологии.
Это понимают представители самых различных со-
циальных слоев. Сегодня «даже... респектабельные бур-
жуазные газеты и журналы считают хорошим тоном
иметь оттенок известной оппозиционности, по крайней
мере в области культуры» 16. Диапазон движения про-
теста против уродливых явлений смертельно больного
общества необычайно широк. Наряду с подлинно рево-
люционными демократическими тенденциями оно вклю-
чает в себя и ложную, спекулятивную «революцион-
ность» всевозможных ультралевых движений, столь рас-
пространенных сейчас в капиталистических странах. Это
не удивительно. Ведь в условиях массового недовольст-
ва квазиреволюционные учения могут стать опорой со-
временного капитализма в значительно большей степе-
ни, чем традиционные, открыто апологетические теории.
Какое же место среди «протестующих» занимает ка-
толическая церковь? Отвечая на данный вопрос, нельзя
не учитывать, что будучи одним из важных идеологиче-
ских институтов буржуазного строя, церковь тоже на-
ходится в кризисном состоянии. Достаточно назвать та-
кие тенденции в общественной жизни, как «дехристиа-
низация», охватившая даже традиционные католические
страны, и «десакрализация» культуры и общественных
структур.
Все это заставляет церковных деятелей лихорадочно
искать выход из создавшегося положения. В ходе поис-
ков определилась политическая стратегия католицизма,
в которой довольно гибко сочетается антикоммунизм с
демагогической критикой «крайностей» буржуазного об-
раза жизни. В этом смысле статья «Рейнского еписко-
па» весьма характерна. С большим пафосом автор кри-
тикует скверну современного буржуазного бытия, его
конформизм и потребительское отношение ко всем ду-
ховным ценностям, в том числе и к искусству. «В капи-
талистическом обществе, — пишет он, — музыка стала
потребительской. Она потребляется, как хорошая еда.
При этом предполагается, что не стоит себя утомлять,
здесь, выражаясь словами Адорно, господствует прин-
цип «легкого восприятия».
Ограничение роли музыки «голой социальной функ-
16 А. Ар с л а н о в. Эстетика «бунта». — «Коммунист», 1976,
№ 7, с. 102.
34
циональностью» образует глубочайшую пропасть между
композитором и публикой. Если же связи между ними
все же сохраняются, то они основаны «на принципе при-
нуждения», на «диктате потребительских вкусов широ-
кой публики».
По мнению автора, такое положение вещей своими
истоками уходит к тому времени, когда начался процесс
«отхода искусства от религии к обществу». В средние
века «правила искусства определяла церковь, в эпоху
Просвещения — гений, любимец природы». Именно тог-
да наступил окончательный разрыв между религией и
искусством и оно потеряло свою «духовность», а вместе
с ней и свою сущность в качестве «высшего абсолюта»,
ибо «духовность несовместима с голой функциональ-
ностью потребительского искусства». Что же, духов-
ность действительно несовместима с потребительством.
В этом автор прав. Но разве столетиями церковь не от-
носилась к искусству потребительски, подчиняя его
культовой практике, разве сегодня не звучит под цер-
ковными сводами та же коммерческая музыка, которую
бичует «Рейнский епископ» за ее «голую функциональ-
ность»? И наконец, почему должно сводить «духов-
ность» к «высшему абсолюту»? В этом ли эстетическая
сущность музыкального искусства?
Автор весьма обеспокоен и судьбой художника. К
чему пришел он, порвав с религией? «Этот гений, — не
без злорадства отмечает «Рейнский епископ», — освобо-
дившись от религиозной зависимости, оказался вновь
на привязи... он подчинен диктату масс, точнее — демо-
кратии или гипердемократии».
Пытаясь быть «объективным», автор рассматривает
музыку как общественный феномен, с позиций буржуаз-
ного сознания и как бы сознания социалистического об-
щества. «При капитализме, — читаем мы в статье, —
искусство принижено до уровня фетиша и средства уве-
селения. В социалистическом обществе искусство —
средство выражения политики... и поэтому должно под-
чиняться диктату государства и партии». И дальше: ис-
кусство капиталистических стран деградирует в силу
своего потребительского назначения, «когда свидетель-
ством успеха является не художественность, а калькуля-
ция». «В социалистических странах искусство дегради-
рует, так как стало лишь инструментом революции».
Как видим, говоря о положении искусства в социали-
35
стическом обществе, автор, по существу, повторяет «за-
ды» буржуазной пропаганды, давно уже опровергнутые
самой жизнью, огромными достижениями музыкальной
культуры социалистических стран, признанными во всем
мире. Не желая этого замечать, «Рейнский епископ»
вновь призывает серьезно задуматься над тем, что «ис-
кусство есть форма проявления абсолютного», что вос-
приятие искусства должно быть основано на «высшем
разуме» (в духе гегелевской абсолютной идеи), а выс-
шее наслаждение им заключается в духовном наслаж-
дении, «свободном от диктата общества». В итоге автор
приходит к еще более определенному выводу: «Лозун-
гом искусства должна стать не политика, а возрожде-
ние духа, истины и гуманизма».
Подобный лозунг целиком и полностью соответствует
тенденции к модернизации «духовного пастырства»,
столь характерной для некоторых кругов современного
католицизма. Решение проблем «дехристианизации»
мира они видят в «формировании интеллектуальной эли-
ты, которая, творя новую позитивную христианскую
культуру, будет в состоянии оказывать влияние на со-
временную жизнь» 17. Они убеждены в том, что такая ре-
лигиозная углубленно-интеллектуальная культура от-
кроет путь к улучшению, оздоровлению буржуазного об-
щества, обретению им идеала нового гуманизма, кото-
рый, по выражению Жака Маритена, одного из столпов
философии неотомизма, «будет как бы отражаться в
бренной социальной земной среде». Этот идеал — «идея
святой свободы сотворения, которая через любовь сли-
вается с богом» 18.
Надо ли доказывать, сколь далек предложенный ав-
тором выход от реальных путей борьбы, сколь бесперс-
пективен его призыв с помощью «божественной любви»
спасти общество, обреченное самим ходом историческо-
го прогресса?
В заключение автор вышеназванной статьи еще оп-
ределеннее высказывает свое кредо: «Лозунгом искусст-
ва должна стать не политика, а возрождение духа ис-
тины и гуманизма». Этот лозунг целиком и полностью
соответствует стремлениям современного католицизма,
17 Цит. по: Тадеуш М. Ярошевский. Личность и общест-
во. М., 1973, с. 419
18 T а м же, с. 420.
36
пытающегося сформировать интеллектуальную элиту,
которая, «творя новую позитивную христианскую куль-
туру, будет в состоянии оказывать влияние на современ-
ную жизнь».
Призыв к «возрождению духа истины и гуманизма»
близок воззрениям некоторой части интеллигенции ка-
питалистических стран. В этом смысле расчет церкви
оказался верным. К сожалению, не все представители
современной интеллигенции связывают свои идеалы с
прогрессивной перспективой человеческого развития.
Трагизм настоящего заслоняет от них будущее. Потря-
сенные социальными катаклизмами, банкротством ду-
ховных и нравственных ценностей капиталистического
общества, кажущейся неразрешимостью противоречий
бытия, они ищут опору в принципах абстрактного гума-
низма, нередко связывая их с идеализированным миром
отношений и эстетических идеалов добуржуазных вре-
мен. Увы, как часто идеализация ушедших эпох оборачи-
вается лишь бегством от действительности. И не таким
уж странным покажется в этой связи тот факт, что ху-
дожественное наследие прошлого оказывается вдруг пе-
реосмысленным в плане абстрактного конструктивизма.
Таков, например, сложный и мучительный путь
австрийского композитора первой половины XX века
Арнольда Шенберга. Он испытал тяготы первой миро-
вой войны, а позднее — фашизм, ужасы второй мировой
войны, горечь изгнания. Его мировоззрение сформиро-
валось на той же духовной и политической почве, на
которой выросло целое поколение европейской интелли-
генции. Яркими выразителями мироощущения этого по-
коления были такие представители «новых левых», как
Теодор Адорно и Герберт Маркузе. Это мироощущение
объединяет самые разные чувства — протеста и расте-
рянности, страха перед будущим и стремление найти
альтернативу современному обществу. Свое отношение к
противоречиям капиталистического мира «новые левые»
сформулировали в «теории современной революции», ос-
нованной на «обновленном» и «критически осмыслен-
ном» марксизме. Причем марксизм здесь выступает ис-
ключительно как теория «ниспровержения» и «мораль-
ного освоения» бунта, разрушения. Созидательная сто-
рона революционного учения марксизма остается вне
поля зрения «новых левых». Отсюда вытекает их исто-
37
рический пессимизм и абсолютная бесперспективность
социальных утопий.
Шенберг в своем творчестве коренным образом пре-
образовывает привычную тональную музыкальную ло-
гику, этим самым как бы символизируя свое неприятие
распадающегося общества. Он стремится обрести гармо-
нию в дисгармонии бытия, устойчивость, порядок, рож-
дающий свободу в этом страшном мире несвободы. Его
кредо как человека и как композитора — найти истину,
И он ищет ее в библейской легенде о богоборце Иако-
ве. В письме французскому композитору Дешеню от
13 декабря 1912 года Шенберг пишет: «Я уже давно
хочу написать ораторию, содержание которой отразило
бы следующее: современный человек пронизан материа-
лизмом, социализмом, анархией, является атеистом, но в
форме суеверий сохраняет некоторые остатки старой
веры, и вот я хочу показать, как этот современный че-
ловек вступает в спор с богом, пока, наконец, не на-
ходит бога и не становится религиозным. Нам нужно
научиться молиться» 19. «Человечество переживает рели-
гиозную катастрофу» — в этом одна из главных причин
его бедствий. Таково убеждение Шенберга. Так научи-
тесь же молиться — и вы обретете мир!
Это убеждение в конце концов оформляется в идею
мессианства, и вместе с нею утверждается мысль об осо-
бом пророческом признании творческой личности. Фило-
софской опорой воззрений композитора явился немец-
кий идеализм, в первую очередь идея Ницше о свобод-
ной воле гения, возвышающегося над временем и собы-
тиями. И затем — концепция Шопенгауэра о компози-
торском творчестве, как о каком-то мистическом акте
самовыражения «высшей воли».
Эти мысли Шопенгауэра нашли свое развитие и в
воззрениях одного из теоретиков философии «новых ле-
вых», музыковеда Адорно. Именно в музыке он видит
основы своей «жизненной философии» и в конечном ито-
ге способ самовыражения личности. Не случайно кон-
цепция «новой музыки» Адорно ориентирована на твор-
чество Шенберга, додекофонную 20 систему которого он
19 Цит. по: Денеш 3олтаи. Барток и Франкфуртская школа.—
«Вопросы философии», 1975, № 9, с. 143.
20 Способ сочинять музыку, пользуясь двенадцатью лишь между
собой соотнесенными тонами.
38
противопоставляет стандартизированному потребитель-
скому музыкальному искусству. Но в этом противопос-
тавлении для него — только протест и разрушение ста-
рой культуры. «Новая музыка» одномерна — она пол-
ностью лишена позитивного начала.
В отличие от Адорно, Шенберг рассматривает свою
музыку не только как бунт против действительности, не
только как самовыражение художника, но и, как сказа-
но было выше, в качестве особого рода мессианства, вы-
ражения в музыке пророческого повеления «метафизи-
ческой основы мира» — «высшей воли». Причем он со-
гласен с Шопенгауэром в том, что «композитор раскры-
вает внутреннюю сущность мира и выражает глубочай-
шую мудрость на языке, которого его разум не понима-
ет...». Провозглашая себя лишь «провозвестником идеи»,
содержанием которой является «страстное стремление
человечества к своему богу», Шенберг невольно сужает
круг творческих интересов бесплодными религиозно-
мистическими исканиями.
Все эти идеи композитора отразились в одном из его
последних произведений — в опере «Моисей и Аарон»,
в которой не только музыка, но и либретто были написа-
ны им. Подобно композиторам далекого прошлого, он
использует образ ветхозаветного Моисея, чтобы изло-
жить свое мировоззренческое кредо.
Опера начинается с диалога между богом (голос из
терновника) и Моисеем, в котором бог призывает проро-
ка к миссии освободителя своего народа от скверны
жизненных заблуждений. И тогда «это будет народ еди-
ного бога, которому он посвятит себя целиком, и благо-
даря этому, сумеет выстоять перед всеми- испытаниями,
которым столетиями подвергалась мысль»21. Но не так
просто внушить народу идею нового бога. Привычка к
старым фетишам и скептицизм становятся преградой на
пути к вере. Все же Моисею с помощью Аарона удается
убедить людей следовать за ним в пустыню, где их ждет
духовная свобода и чистота помыслов. «И вечный будет
являть вам картину вашего физического счастья в каж-
дом духовном чуде... Всемогущий превратит песок в
фрукты, фрукты в золото, золото в блаженство, блажен-
21 «Moses und Aaron». — В кн.: Каге Н. Worner. Schonberg's
«Moses und Aaron». London, 1959, S. 116.
39
ство в дух». «Он поведет вас в страны, где текут реки
молока и меда»22.
Увы, все та же благословенная страна — старая, на-
ивная сказочка. Могут ли в XX веке найтись люди, спо-
собные всерьез уверовать в «истинность» подобных про-
рочеств? Верил ли этому сам Шенберг? Иллюзорность,
бесплодность его исканий проступает в последующем
развитии действия оперы. Начинается второй акт. На-
род, увлеченный речами проповедника, пришел к подно-
жию Горы откровения. Вот уже 40 дней люди ждут воз-
вращения Моисея, который должен принести заветы но-
вого бога. Слишком долгое ожидание порождает сомне-
ние и ропот. Подчиняясь требованиям толпы, Аарон воз-
вращает народу Израиля его старых языческих богов.
Следующая сцена — поклонение золотому тельцу:
рекой льется вино, дикое опьянение овладевает всеми,
обезумевшие люди носятся в бешеной пляске по сцене.
В толпу врывается юноша, он обращается к людям с
гневными речами, призывая их образумиться: «Высоки-
ми мыслями вы возвыситесь, вы должны уйти от настоя-
щего и тогда вы приблизитесь к будущему! Пусть исчез-
нет этот образ временного, пусть будет чистой перспек-
тива вечности!»23. Но голос проповедника тонет в реве
беснующейся толпы. И в конце концов его убивают.
Одна за другой следуют кровавые жертвы золотому
тельцу. Сначала обагряет жертвенник кровь четырех
старцев, затем четырех молодых женщин. Эти жертвы до-
водят толпу до крайней степени экстаза, начинаются
опустошительные разрушения, массовые самоубийства.
«Все, что можно разрушить, — разрушено, — пишет
Шенберг в примечаниях к этой сцене, — люди в упоении
бросаются на мечи, прыгают в огонь и в горящей одеж-
де бегают по сцене, некоторые прыгают с высокой ска-
лы — и все это на фоне дикой пляски»24.
Опьянение кровью сменяется эротическим опьянени-
ем. Мужчины срывают с себя одежду, раздевают жен-
щин и несут их к алтарю. Обуреваемые похотью, зали-
тые кровью и вином, среди хаоса разрушения люди по-
клоняются золотому тельцу. Такова картина жизни. В
ней нет надежды, в ней все отталкивает и ужасает.
22 «Moses und Aaron», S. 153.
23 Там же, с. 172.
24 Там же, с. 176-178.
40
Своеобразная музыка придает действию второго акта
необычайно острый и напряженный характер. Эта музы-
ка крайне экспрессивна, изломана, в ней нет логики, нет
цели, нет исхода. Здесь все обнажено и обострено до
предела. И в какой-то момент вдруг начинает казаться,
что в яростной стихии звуков вы слышите судорожное
биение истекающего кровью человеческого сердца. Оно
кричит от пронизывающей боли. Человек страшно оди-
нок и ничто не способно принести ему радость. Его
удел — только мрак одиночества и отчаяния. Здесь про-
являются характерные для музыки Шенберга черты,
очень точно подмеченные его учеником немецким компо-
зитором Гансом Эйслером: «У Шенберга печаль стано-
вится обреченностью, депрессией, отчаяние превращает-
ся в истерию, лирика кажется разбитой стеклянной иг-
рушкой, юмор становится гротеском... Основное настрое-
ние — крайняя боль»25.
Но вернемся к Моисею. Он приходит — но поздно.
И дело не только в этом. «Истина Моисея слишком аб-
страктна и не может быть по природе своей общедоступ-
ной. Действительно, можно ли зримо воспринять мисти-
ческую «высшую волю», если даже сам композитор —
всего лишь бессознательный проводник ее целей. Бог
Моисея — Шенберга — тот, «кто может быть опреде-
лен как ничто через ничто». Но люди не хотят такого
бога, «они обуреваемы желаниями, которые ведут их
назад, в рабство, к безбожию и наслаждениям». «Изб-
ранный народ» не хочет быть таковым, он использует
дар бога «для лжи и ничтожных целей». Единение с бо-
гом недостижимо — таков итог оперы Шенберга. Выхо-
да нет. Обреченное человечество слепо идет по дороге в
никуда.
Безусловно, сложна и трагична жизнь композитора.
Это во многом объясняет мрачный пессимизм его музы-
ки. Объясняет, но не оправдывает. Марсель Рубин, му-
зыковед из ГДР, справедливо обращает внимание на то,
что в 20-е годы XIX века, когда даже проблеск надежды
не озарял ночь меттерниховской реакции, Бетховен со-
здал пронизанную светом, полную надежд торжествен-
ную песнь «К радости», «в то же время Шуберт, кото-
рый, впрочем, умел выражать и крайнюю боль, — писал
25 Ганс Э й с л е р. Арнольд Шенберг. — В кн.: Избранные
статьи музыковедов ГДР, М., 1960, с. 189—190.
41
излучающую радость симфонию C-dur»26. Эти аналогии
можно продолжить на примере современников Шенбер-
га: Малера, Бартока и целого ряда других. Истинный
гуманизм художника, живущего в трагическом общест-
ве, проявляется в его стремлении «из бездны страданий
воспеть радость», в его историческом оптимизме, в уме-
нии предвосхитить прогрессивное будущее (пусть даже
не всегда отчетливо), пробудить надежду и желание
борьбы за это будущее. Шенберг же ограничивается
тем, что рисует картину неустроенности мира, но не на-
ходит позитивного начала в нем самом. Вот почему ис-
кусственно конструируемый композитором «библейский
путь» кончается крушением всех надежд. Шенберг, по-
добно Адорно и Маркузе, не находит точку опоры, тот
реальный положительный момент, который символизи-
рует рождение нового в старом. Он игнорирует социаль-
ные силы, способные не только разрушить буржуазное
общество, но и построить новое. Впрочем, давно извест-
но, что исторический пессимизм антиреволюционен, он
парализует социальную активность и приносят пользу
лишь реакционным классам.
Но не Шенберг и его последователи определяют пути
развития современной музыки. Эта миссия принадлежит
той части композиторов, которые способны трезво по-
дойти к сложным, противоречивым явлениям современ-
ного капиталистического мира и его культуры. Это про-
грессивные деятели (правда, не всегда, может быть, до-
статочно последовательны), которые не прячутся под
страусово крыло «коммерческого» искусства и христиан-
ской морали. Они смело критикуют насквозь прогнившее
буржуазное общество, вскрывают его пороки. Создавая
произведения глубоко современные, они тоже нередко
используют язык, образы, формы выражения религиоз-
ного искусства. Но использование это не имеет ничего
общего ни с «эклектикой» «коммерческого» искусства,
ни с абстрактным «конструктивизмом» элитарной музы-
ки, ни со слепым подчинением традиции.
Любая традиция, в том числе и художественная, на
определенной стадии исчерпывает себя, ибо исчезает та
почва в самой жизни, которая поддерживает и питает
ее. Поэтому имеет значение не только развитие, но и
разрушение традиций, преодоление их инерции, созна-
Избранные статьи музыковедов ГДР, с. 251.
42
тельная ломка старого, его диалектическое отрицание.
Возникновение новых традиций возможно лишь на базе
прогрессивной социальной практики. Поэтому поиски
новых художественных традиций, или возрождение ста-
рых, широко практикуемых церковью, бесплодны, ибо
они базируются на умирающей общественной основе.
Для понимания идеологической сущности экскурсов
современной церкви в дебри модернизма очень полезно
использовать определение, данное известным советским
литературоведом В. Днепровым: «Модернизм — особый
вид развития культуры. Культуры с перевернутым, из-
вращенным отношением между новым и старым. Новые
формы используются в ней не для критики и устранения
старых, изживших себя идей, а, напротив, для наивоз-
можно долгого их сохранения. Новые формы парадок-
сально служат в ней орудиями идеологического, истори-
ческого торможения»27.
Для развития искусства ныне в равной степени бес-
перспективно придерживаться старых канонов или идти
по тропам модернистских поисков. Являясь выражением
новых общественных отношений, оно приобретает каче-
ственно новое содержание, а вместе с этим и новый под-
ход к традициям прошлого, в том числе и церковного
искусства.
Характерно, что современные музыкальные произве-
дения, в которых используются традиционные приемы
старого искусства (разумеется, если это подлинные про-
изведения искусства), приобретают совершенно новое
звучание. Они потеряли свое культовое назначение, а
вместе с этим и их мистическое облачение. Новой цели
служат и средства художественного языка этого искус-
ства: отшлифованные до совершенства многими поко-
лениями музыкантов, они помогают композитору рас-
крыть свое мировоззрение в форме глубокого философ-
ского обобщения, придать большую остроту и вырази-
тельность его произведениям, а иногда даже и антицер-
ковный характер.
Следует отметить, что подобный подход к церковной
музыкальной традиции возник не сегодня, не вдруг. Он
является логическим завершением той эволюции музы-
кального искусства, которая шла на протяжении многих
27 В. Днепров. Судьбы новых форм. — «Иностранная литера-
тура», 1975, № 4, с. 191.
43
столетий — начиная от И. С. Баха и Генделя. Особен-
ность этой эволюции состоит в том, что религиозный сю-
жет служил в них лишь материалом для выражения
острых жизненных проблем, гораздо более глубоких,
чем те, которые ставила перед собой церковь. Эту осо-
бенность отметил и сформулировал Гете: «Религиозный
сюжет тоже может быть хорошим материалом для ис-
кусства. Однако лишь в том случае, если он дает что-
либо общечеловеческое. Поэтому дева с ребенком — это
превосходный сюжет, который сотни раз изображали и
который всегда снова охотно воспринимается».
Характерно, что не только язык, некоторые жанры,
сюжеты и образы, но и такие «вечные» темы, как про-
блемы жизни и смерти, любви и ненависти, верности и
предательства, ценности и смысла человеческой жизни,
часто переосмысливаются в совершенно новой, внецер-
ковной сфере идей и переживаний. Такие произведения
до сих пор воздействуют на современного человека. Яр-
ким подтверждением этого может служить «Реквием»
немецкого композитора второй половины XVIII века
Вольфганга Амадея Моцарта. Творчество композитора
формировалось на стыке двух эпох. Французская бур-
жуазная революция совпала с двумя последними года-
ми жизни композитора и была отражена в его опере
«Волшебная флейта».
По определению немецкого музыковеда Пауля Бек-
кера, «Моцарт — человек уходящего XVIII века, чело-
век революции»28, передовой борец за новое. Это отра-
зилось в его творчестве. Музыка Моцарта по своей фи-
лософской глубине и совершенству музыкальной формы
далеко обогнала его время. Замечательный композитор
умел очень тонко чувствовать пульс поступательного дви-
жения эпохи и отразить его скрытое от многих биение в
любом жанре, в том числе в церковной музыке. Следует
отметить, что церковное искусство во время жизни Мо-
царта, особенно в Австрии, колебалось между традици-
онным аскетизмом и стилем барокко и рококо, широко
вторгшимся в архитектуру и интерьер культовых зда-
ний, которые, по выражению Фрица Генненберга, автора
монографии о Моцарте, «были подобны фантастическим
и расточительным театральным декорациям. Музыка же
состязалась с другими искусствами в роскоши, красно-
28 Цит. по: Г. Чичерин. Моцарт. Л., 1970, с. 42.
44
речии и чувственности. Без колебаний она перенимает
фразеологию итальянского оперного стиля. Идентич-
ность средств выражения была настолько велика, что
иногда целые части из опер переносились в мессы»29.
Моцарт в своих произведениях (особенно позднего
периода) в жанре церковной музыки со свойственным
ему вкусом и тонким художественным тактом сумел под-
няться над этой эклектической мешаниной и создать под-
линные шедевры музыкального искусства. Наглядный
пример тому — Реквием. Это свое последнее творение
Моцарт пишет в тяжелом состоянии, он чувствует при-
ближение смерти: «Я знаю, час мой пробил, я умираю...
прежде чем сумел исчерпать свое искусство. Жизнь так
прекрасна... Это (реквием) — моя предсмертная песня
и я не должен оставить ее незаконченной» 30.
Физическое страдание и тоска, связанная с предчув-
ствием смерти, нередко доводили композитора до отчая-
ния, и ему «стоило невероятного труда не превратить
реквием в жалобный плач. Но он призывал на помощь
всю свою волю... и держал музыку в повиновении» 31.
Умирающий Моцарт создал произведение глубоко гума-
нистическое и жизнеутверждающее. И несмотря на то,
что по своей структуре оно соответствует католической
заупокойной мессе, чудесная музыка далеко перерастает
рамки культового назначения. Эта музыка не связана ни
с какими догмами.
Реквием Моцарта противоречит католической идее
о потустороннем мире, о смирении, о покорности перед
неизбежным. Это — гимн жизни и яростный протест
против жестокой и безликой силы, именуемой смертью.
Но не любая жизнь достойна этого гимна. В одной из
самых драматических частей Реквиема Моцарт с удиви-
тельной откровенностью выносит справедливый приго-
вор враждебному, злобному миру, попирающему все че-
ловеческие ценности, миру жестокости, которую во всей
полноте испытал на себе композитор.
Вот как описывает впечатление от великого творе-
ния Моцарта Антонина Коптяева в своем романе «Дер-
зание»: «То печальное раздумье, исполненное глубокой,
29 Fritz Henncberg. Volfgand Amadeus Mozart. Leipzig, 1970,
S. 49.
30 Mozart. Requem. Edition Peters. Leipzig. S. IV.
81 Дэвид В е й с, Возвышенное и земное. М., 1970, с. 737.
45
живой скорби, то гневный протест против неправедли-
вости--сокрушительная буря чувств звучали в этой
Музыке, охватывая душу восторгом. Невозможно было
представить себе, что это музыкальное произведение со-
здано одним человеком, хотя бы и гениальным. Похоже,
это чувства и жалобы целого поколения людей, изнемо-
гающих от душевных и физических мук и наконец ярост-
но восставших против самого господа бога, именем ко-
торого их призывали к смирению... Побеждая горечь
Страдания, возвышаясь над ним, все пронизывала не
умиленная слабость, как полагалось бы по церковному
ритуалу, а горячая вера в непобедимую красоту, в тор-
жество человеческого духа».
Композитор не склонил голову перед смертью. В сво-
ем предсмертном творении он напоминает людям, что
человек не жалкое существо, пресмыкающееся перед
идолом, созданным его же воображением. Человек —
сам творец. Да, он смертен. Природа обрекла его на
ничтожно малый срок жизни, но он творит и перед ли-
цом смерти. Человек «сам создает то, что неподвластно
земной бренности —и, создавая бессмертное, уподобля-
ется божеству».
Такая же направленность свойственна еще одному
шедевру европейской музыки, созданному в жанре зау-
покойной католической мессы — Реквием Джузеппе
Верди. Как и творение Моцарта, Реквием Верди не был
популярен в церковных кругах. Впервые он был испол-
нен в годовщину смерти поэта и романиста Александро
Манцони в Миланском соборе 22 мая 1874 года. После
этого Реквием Верди утвердился как произведение для
концертной программы. Произошло это потому, что ком-
позитор со свойственным ему реализмом, гуманистиче-
ской направленностью и демократизмом творчества под-
чинил традиционную структуру и текст заупокойной
мессы, чуждым для культовой музыки настроению и
образам. Если в канонических церковных реквиемах на
первом плане всегда образ гневного божества, перед
которым человек покорно ожидает своей посмертной
участи, то в произведении Верди человек представлен не
только в смятении и скорби, но и мужественным, силь-
ным духом, противостоящим рабской приниженности,
унынию и страху смерти. В нем воспета не скорбь, а
величие человеческого духа.
Новая интерпретация церковной музыкальной тради-
46
ции нашла свое дальнейшее развитие в творчестве ком-
позиторов XX века.
В наше время к числу таких мастеров следует отнес-
ти прежде всего французского композитора Артура
Онеггера. Интересна его оратория на текст современно-
го католического писателя Поля Клоделя «Жанна д'Арк
на костре». Главное для Онеггера в этой драматической
оратории — воплощение идеи личного подвига во имя
народа. Эта идея перекликается с большим патриотиче-
ским подъемом французского народа в предвоенные и
военные годы, в годы создания демократическими сила-
ми народного фронта. Онеггер стремился дать Жанну во
всей сложности жизненных ситуаций, связей; надо было
раскрыть общенациональное значение этого образа, его
человеческое богатство, показать многообразие истори-
чески достоверных социальных конфликтов того време-
ни. Оставаясь верным правде жизни, композитор сумел
приблизить историю жизни французской героини к со-
временности. Поэтому формы выражения, к которым
прибегает композитор, — традиционные и новые, сугу-
бо национальные и идущие извне, народные и заново
найденные.
Следует отметить, что текст оратории, написанный
Полем Клоделем, окутан мистическим покрывалом ка-
толической образности и символики. Не удивительно,
что образ Жанны нередко характеризуют черты канони-
зированной католической святой, действующей по наи-
тию свыше, далекой от чувств и помыслов живых людей.
Онеггер же сумел преодолеть эту ограниченность своей
музыкой, он создает образ простой крестьянской девуш-
ки, пожертвовавшей жизнью ради спасения родины.
Действие в оратории развивается при помощи эпиче-
ского повествования, динамизации которого способству-
ет один из персонажей — Доминик. Его функция в чем-
то схожа с ролью евангелиста в «Страстях» или рас-
сказчика в итальянской контате и оратории. Но в отли-
чие от них Доминик активен, это скорее персонаж дей-
ствующий, причем от имени авторов. Образ Доминика
не имеет музыкальной характеристики. Здесь мы имеем
дело с новым преломлением столь типичной для жанра
оратории функции рассказчика. В старой оратории текст
рассказчика выступал в форме речитатива, у Онегге-
ра — это декламационный диалог.
Образ Доминика необходим авторам еще в связи и
47
с тем, что «Жанна д'Арк на костре» включает много эле-
ментов, характерных для современной драмы, где дейст-
вие идет многопланово, с внезапными переходами из
«настоящего» в «прошлое», из «реального» в «вообра-
жаемое», в виде «воспоминаний», «видений» по отноше-
нию к настоящему. Доминик как бы связывает все эти
элементы в единый логический стержень драмы.
Всю ораторию пронизывает идея связи героини с на-
родом. На подвиг, на борьбу со злодеями снарядили
крестьяне Лотарингии Жанну. Они «собрали деньги, —
рассказывает Жанна, — чтобы купить мне меч и коня.
И когда я шла со знаменем в левой руке и с мечом в
правой, кто мог устоять против меня?»32. Однако образ
народа у Онеггера в одной из первых сцен — это одер-
жимая религиозным психозом толпа. Она безлика и сле-
па в своем неистовстве. В конце же драмы, в заключи-
тельной сцене — толпа, осознавшая подвиг Жанны, пре-
вратилась в народ, голос которого слышит обреченная
на муки героиня: «Жанна, ты не одна, народ смотрит на
тебя». Развитие образа народа, его сближение с Жан-
ной раскрывается не столько в тексте, сколько в музыке.
Решая эту задачу, Онеггер создает «разные степени
интонационного единства, и прежде всего в области
фольклорного и «звукоизобразительного»» типов тема-
тизма. Песенность, небольшой звуковой диапазон, чет-
кий, простой ритмический рисунок — черты, объединяю-
щие определенную часть материала в единой образноин-
тонационной сфере, связанной с образами Жанны, наро-
да, Родины»33. Постепенное формирование этой сферы,
накапливание характерных тематических образов при-
водят в конце оратории к высшему пункту — слиянию
Жанны с народом.
Еще один своеобразный прием музыки Онеггера: ког-
да он изображает церковь, враждебную Жанне, (как,
например, в третьей сцене «Голоса земли»), он обраща-
ется к грегорианскому песнопению, придавая ему соот-
ветствующее «обличительное» звучание. Когда же ком-
позитор сосредоточивает внимание на образе Жанны
(например, в седьмой сцене «Катерина и Маргарита»),
32 Arthur Honeccer. Jeanna g'Arkc an Buccher. Edition
salabert 22, puc cnauchat. Paris, p. 89.
33 К. Д р у м е в а. Драматическая оратория А. Онеггера «Жанна
д'Арк на костре». — В кн.: Из истории зарубежной музыки. М.,
1971, с. 10.
48
в музыке слышатся мотивы ее родной деревни, детства.
Представления Жанны о справедливости, надежде, вере
непосредственно связаны с народом, с его обычаями,
упованиями. Здесь нет религиозной мистики, несмотря
на введение «голосов» святых — Екатерины и Маргари-
ты. Такое впечатление создается именно потому, что
Онеггер использует фольклорные, народно-песенные
источники. В седьмой сцене вместо латинской молитвы
звучит грустная колыбельная песня. Она умиротворяет
Жанну, уносит в мир дорогих воспоминаний.
Светлому образу юной героини противостоит враж-
дебный мир коварных властителей и сонм их кровавых
палачей. Жестокие, циничные «судьи», обрекающие
Жанну на смерть, представлены Онеггером в отврати-
тельном обличье тупых и злобных животных: свиней, ба-
ранов, лисиц. «Глава святого судилища» — жирный бо-
ров — епископ Кошон; заседатели — бараны; секре-
тарь — осел. Брат Доминик объясняет Жанне: «Нет,
Жанна, это не священники и не люди тебя судили: же-
стокие звери собрались вокруг тебя с яростью в сердце
и пеной в клыках. Вот кем стали эти политиканы»34.
Политический смысл сцены суда можно было бы оп-
ределить как жестокий фарс, разыгранный над патрио-
тическим подвигом. Гротескно шаржированы выступле-
ния священников — судей. Крики грубых животных пе-
ремежаются с пародиями на литургическое пение и
дьявольским смехом толпы, наблюдающей это балаган-
ное зрелище.
Мы уже говорили выше, что народная тема пронизы-
вает все произведение, высшей же кульминации она до-
стигает в одной из последних фраз хора, заключающих
ораторию: «Да будет благословенна сестра наша Жан-
на, что, подобно пламенному вихрю, возносится из серд-
ца Франции родной...». Ибо «...всех выше, всех чище ты,
если жизнь отдаешь за тех, кого любишь, за жизнь на-
рода» 35.
Действие оратории Онеггера на слушателей необы-
чайно сильно. Когда «Жанна д'Арк на костре» впервые
была исполнена в Орлеане, на родине Жанны, сотни ор-
леанцев еле сдерживали слезы. Они уже чувствовали
себя не публикой, находящейся в концертном зале, а той
34 Arhtur Honeccer. Jeanna g'Arkc an Buccher, p. 89.
35 Там же, с. 140.
49
толпой руанцев, что теснилась некогда вокруг костра и
взирала на Жанну.
Онеггер всегда был противником как слепой тради-
ционности, так и тех направлений в искусстве, которые
огульно отвергают все, что было достигнуто многими по-
колениями художников прошлого. Он писал: «...считаю
совершенно обязательным условием любого... движения
вперед крепкую опору на наследие прошлого. Отделен-
ный от ствола побег — засыхает быстро. Нам надлежит
быть новыми партнерами в старой игре»36. Усвоение до-
стижений прошлого должно быть творческим.
Такое отношение к наследию прошлого характерно
и для некоторых других современных композиторов. На-
пример, для английского композитора Бенджамина
Бриттена, который демонстрирует нам замечательный
образец использования жанра католической мессы для
выражения чувств, далеких от сугубо церковных. Это —
«Военный реквием».
Бриттен — христианин, и, по выражению его друга
Имоджин Холст, «христианский дух всегда жил в его
сознании». Но оставаясь христианином, он видел цель
своего творчества в служении людям, обществу, но не
церкви.
В своей речи на церемонии присвоения ему звания
почетного гражданина города Лоустафта Бриттен ска-
зал: «Как художник, я хочу служить обществу... Раньше
художники были слугами таких институтов, как церковь,
или частных покровителей — меценатов. Сегодня же ху-
дожнику приказывает общество»37.
Служение обществу, по мнению композитора, это —
ответственность перед людьми. Большинство художников,
отмечал он, многие вещи понимают гораздо раньше сво-
их современников... «Художники могут гордиться своим
призванием. Но судьба их чаще всего бывает трагич-
ной»38. Бриттен не боялся этой трагичной судьбы: все
его творчество пронизывает тема протеста против зла и
насилия. Он был художником-борцом. Очень ярко и кон-
центрированно это выразилось в Военном реквиеме. Ха-
рактерно, что премьера Реквиема состоялась 29 мая
1962 года на торжестве по случаю восстановления ка-
36 Артур Онеггер. Я — композитор. Л., 1963, с. 119.
37 И. Холст. Бенджамин Бриттен. М., 1968, с. 52.
38 Там же, с. 63—64.
50
федрального собора Св. Михаила в Ковентри (Англия),
разрушенного фашистами в годы второй мировой войны.
Можно было бы предположить, что форма католиче-
ской заупокойной мессы, да и сам повод написания
Реквиема должны были ограничить композитора рамка-
ми требований культовой музыки. При этом нельзя не
учитывать и то, что для жителей Ковентри сам факт
восстановления собора заключал в себе особый смысл:
он стал символом мужества защитников города, проти-
востоящим жестоким налетам немецкой авиации. Для
Бриттена — гражданина и художника — Военный рек-
вием—это памятник жертвам всех несправедливых войн,
это предостережение людям против новых войн. Струк-
тура построения Реквиема во многом необычна. Так, ря-
дом со «священным» языком церкви — латынью и соот-
ветствующим каноническим текстом, который, нам ка-
жется, скорее выступает в качестве фона произведения,
звучат стихи «окопного» поэта первой мировой войны
Уилфрида Оуэна, убитого в возрасте 25 лет за неделю
до окончания войны. Стихи Оуэна проникнуты единой
идеей:
Моя тема — война и скорбь войны:
Моя поэзия скорбна.
Все, что поэт может сделать — это предостеречь39.
Действительно, в поэзии Оуэна нет ничего от роман-
тической возвышенности стороннего наблюдателя. Он
пишет из самого пекла войны, в перерывах между боя-
ми. Однако переживание человека, прошедшего через
все девять кругов ада жестокой, грязной, кровавой бой-
ни, не вылилось в злобное брюзжание или отталкиваю-
щий натурализм. Особенность, стихов Оуэна в глубоком
осознании войны как жестокой несправедливости — ка-
тастрофы. Он страстно призывает человечество исклю-
чить войны из жизни общества.
Эти мысли и чувства очень близки Бриттену, остро
ощущающему ответственность художника за людские
судьбы. Отстаивая ценность человеческой жизни, ком-
позитор стремится выразить «глас народа», всегда про-
тивостоящего социальной жестокости, чудовищной бес-
смысленности войн. В одном из своих воспоминаний
Бриттен говорил: «Много раз в истории деятели искус-
39 Б. Бриттен. Военный реквием. Л., 1971, с. 4.
51
ства сознательно стремились выражать голос народа.
Конечно, это делал Бетховен («Битва Виттории» и «Де-
вятая симфония»), он хотел выразить чувства всего об-
щества... Перед нами недавний пример Шостаковича,
создавшего «Ленинградскую симфонию» — своего рода
памятник своим согражданам, яркое художественное
выражение их стойкости и героизма»40. Бриттен цели-
ком разделяет стремления этих композиторов.
Военный реквием Бриттена имеет некоторые черты
мистерии. Но это не просто мистерия, религиозное дей-
ствие далекого прошлого. Традиционное церковное пе-
ние, перекликаясь со стихами Оуэна, теряет свою мисти-
ческую абстрактность. Поэзия «окопного» поэта вводит
в реквием конкретное эмоциональное звучание, выра-
жающее страдания, причиняемые войной. Так, уже в
первой части («Вечный покой») образ траурного шес-
твия, характерный для мессы, вызывает ассоциации тя-
желой поступи отягощенных горем людей: «Быть может,
это шествие несметных толп солдат, — пишет в своем
предисловии к «Военному реквиему» Бриттена музыко-
вед Дж. Донат, — ведомых на убой, а быть может, это
траурный марш всего человечества, оплакивающего
жертвы своей кровавой истории»41. Развиваясь, тема
траурного шествия сменяется картиной войны во всей ее
ужасающей реальности. Речь идет о смерти на войне.
Для тех, кто, «как скот на бойне», умирает на поле бес-
смысленной войны, траурная католическая церемония
кажется насмешкой, она лицемерна: не служат месс для
жертв кровавой бойни, «лишь канонада по ним прогре-
мит, и заикаясь, дробный залп обоймы свой «Отче наш»
им наспех отстучит. Но погребальный не для них обряд;
вместо рыданий над ними лишь вой пронзительный, бе-
зумный вой гранат»42. Здесь уходят из жизни без мо-
литвы, без отпущения грехов. И как бы подтверждая
мысль поэта, музыка траурного ритуального шествия
превращается в быстрый, полный экспрессии марш.
Подобно огромному живописному полотну развора-
чивается вторая, «батальная» часть «Военного реквие-
ма». В ней традиционный библейский образ «гласа
божьего», возвещающего «конец света», приобретает
40 Музыка и время. М., 1970, с. 19.
41 Б. Бриттен. Военный реквием, с. 6.
42 Т а м же, с. 26—28.
52
звучание военного сигнала. Агрессивные, жестокие зву-
ки фанфар открывают путь к гибели человечества, к
всеобщей катастрофе. В этих звуках грозный призрак
атомной войны приобретает реальные зримые очертания.
Сменяя друг друга, проходят перед нами одна кар-
тина за другой: вслед за кошмарным гротеском, когда
тенор и баритон поют о страшной беспомощности сол-
дат перед смертью, появляются новые нотки. Бриттен
вместе с Оуэном утверждает веру в неизбежность при-
хода того времени, когда пассивное, безропотное при-
нятие гибели сменится активной борьбой человечества
за прекращение войны. В «Военном реквиеме» слышит-
ся мольба о милосердии, — «Recordare», раскаяние
«Confitatis», отчаянный вызов небесам. «Эй, пушка, до-
тяни ручищу-ствол до неба, благословившего тебя, и, ог-
раждая нас от новых зол, рази его, усилий не щадя! Но
кончив подвиг свой, развейся в прах; да будет проклят
образ твой в веках!»
Яростный спор между солдатом и небом, постепенно
затихая, уступает место светлой скорби, мольбе о поща-
де для тех, кто по евангельскому пророчеству воскрес-
нет, чтобы предстать перед судом господним. Но и здесь
отрезвляющий от религиозных иллюзий контраст между
надеждой на воскрешение, звучащей в молитве, и жес-
токой реальностью: горестный речитатив солдата, опла-
кивающего убитых товарищей, безжизненные тела кото-
рых уже ничто не может воскресить.
Так, в сложном переплетении литургического и ре-
ального, жизненного развертывается картина «Военного
реквиема».
По-новому трактуются некоторые библейские притчи.
Они переосмыслены и подчинены стержневой идее Рек-
виема — жестокость, насилие, убийство — бесчеловеч-
ны, их следует осудить и исключить из человеческих от-
ношений. И в то же время задается мучительный воп-
рос о том, что ждет человечество в будущем, сможет ли
оно обуздать безумие войны? Такова интерпретация
притчи о жертвоприношении Авраама. В третьей части
произведения Бриттен использует стихотворение Оуэна,
диаметрально меняющего смысл притчи: занесенный
над жертвой нож совершил свое злобное дело, невинная
кровь сына Авраамова пролилась. «...пол-Европы пало
вслед за ним».
Гражданский пафос произведения Бриттена приобре-
53
тает самое четкое и конкретное выражение в пятой час-
ти. Композитор делает акцент на стихотворение Оуэна,
бичующего ханжество и лицемерие христианской мора-
ли, именем которой солдат «на убой толпа святых бла-
гословляет близ креста».
И наконец, последняя, заключительная часть реквие-
ма повествует о смерти, которая все еще победоносно
шагает по земле, усеянной трупами. Она торжествует и
злобно попирает жизнь. Дорогой ценой, ценой смерти
люди узнали чудовищную правду о войне. Эта правда в
том, что люди должны жить в мире.
Сокровенная мечта человечества о вечном и всеобъ-
емлющем мире должна осуществиться. Война недопус-
тима, и нет силы, способной когда-либо искупить страда-
ния, которые она принесла человечеству, — вот итог
«Военного реквиема».
Церковной музыке, ограниченной богослужебными
функциями, свойственна строгая программность. Но да-
же в своей программности эта музыка беспредельно
абстрактна (это определяется абстрактными понятия-
ми, составляющими ее содержание). Не случайно века-
ми богослужение в католической церкви велось на мерт-
вой латыни, а в православной русской церкви — на не-
понятном древнеславянском языке. Для церкви важен
не конкретный смысл, а то настроение, которое возни-
кает у прихожан в процессе богослужения. Соответст-
венно с этим церковная музыка отличается какой-то осо-
бой созерцательностью, мистической торжественностью,
приподнятостью над всем «житейским», «мирским».
Представим себе толпу верующих, собравшихся в
храме. Звучит литургия. Каждый пришел сюда со своим
горем и радостью, своими переживаниями и надеждами.
При всем многообразии чувств верующих общим для них
остается то, что они находятся в доме молитвы, что они
уповают на бога. Музыка, по своему настроению совпа-
дающая с чувствами верующих, усиливает накал этих
чувств до предела, за которым следует эмоциональная
разрядка. Но каков общий фон настроения богослуже-
ния, таков и характер эмоциональной разрядки.
Доминирующим началом в христианском культе яв-
ляется его «очистительное», катарсическое действие, ибо
культовая музыка призвана очищать страсти с целью
«очищения» духа и достижения «благочестия души». Не
удивительно, что, давая выход чувствам верующих, по-
64
могая восстановить душевное равновесие, она порожда-
ет настроение расслабляющей умиленности, умиротво-
рения. Верующий отвлекается от того, что волновало его
за пределами церкви, и ему кажется, что все, с божьей
помощью, образуется. Такое настроение, хотя и утеши-
тельно, но весьма коварно: оно порождает пассивность,
обезоруживает в борьбе с реальными жизненными труд-
ностями.
Важно отметить, что «очистительное» действие музы-
ки в иных условиях может сослужить службу, прямо
противоположную той, которую она выполняет в церк-
ви. И тогда выявляется, что эмоции, возникающие под
воздействием истинного искусства, несут совершенно
иной, отличный от религиозного психологический смысл,
В отличие от богослужебного такое искусство не ставит
перед собой задачу усилить или «заразить» определен-
ным чувством. Истинное искусство как бы преобразует
чувства и ведет их к разрушению: здесь «изживается
какая-то такая сторона нашей психики, которая не на-
ходят себе исхода в нашей обыденной жизни»43. Точнее:
«Искусство выговаривает слово, которого мы искали, за-
ставляет звучать струну, которая была только натянута
и нема»44. И это становится возможным только потому,
Что подлинное искусство концентрирует в себе социаль-
ное чувство. Оно не усыпляет, а, напротив, взывая к это-
му чувству, побуждает к социальной активности.
Возьмем, к примеру, тему Великой Отечественной
войны, отраженную в творчестве советских композито-
ров. Латышский композитор Паулс Дамбис написал
концерт-реквием, посвященный памяти павших в годы
Великой Отечественной войны (стихи И. Ласманиса).
Уже первые звуки мощного хора, сопровождаемого
органом, вызывают в вас чувство, в котором перепле-
лось множество самых различных оттенков: здесь и про-
тест против кошмаров войны, и глубокая боль утраты,
скорбь о тех миллионах погибших людей, кто отдал
свою жизнь во имя мира, во имя будущего самой спра-
ведливой в истории человечества социальной системы.
По форме реквием Дамбиса — довольно вольное
использование жанра заупокойной мессы. Композитор
43 Л. С. Выготский. Психология искусства. М., 1968, с. 310.
44 Там же, с. 317.
55
сохраняет лишь те части ее структуры, которые позво-
ляют ему выразить свою мысль:
Всех борцов, кто сражен,
Мать-отчизна не забудет.
Следующие две части «Lacrimosa» и «Dies irae» —
как бы возвращают нас к давно минувшим трагическим
событиям. Можно ли забыть те объятые пламенем и ды-
мом страшные годы? Мы скорбим об ушедших, но го-
речь слез не затмит величие их подвига — «Твердой ве-
рой и могучей силой мы живущих одарить смогли»45.
Жизнь неистребима так же, как неистребимо движение
человечества к прогрессу: «Люди, стойте на высотах
жизни, крыльям ночи солнца не затмить, ваше сердце,
верное отчизне, будет вечно факелом светить»46.
Те же интонации с огромной покоряющей силой зву-
чат в хоре «Я убит под Ржевом» (из хорового цикла,
посвященного памяти брата, погибшего на войне) Ро-
диона Щедрина на слова А. Твардовского. Это произве-
дение по своему настроению напоминает проникновен-
ный, скорбный реквием. Но в волнующей музыке мы не
найдем ни жалоб, ни стонов, ни мольбы о личном спа-
сении и обретения «райского блаженства» в мире ином.
Здесь нет ни устрашающего «Dies irae», ни жертвенно
мистического «Agnus dei», ни прочих атрибутов заупо-
койной мессы. Перед нами — реальный, подкупающе
искренний образ человека, для которого не существует
проблемы личного бессмертия. Даже в страшный смерт-
ный час все его помыслы о людях: «Я убит и не знаю,
наш ли Ржев, наконец»47.
Характер острого драматизма, пронизывающего все
произведение, возникает благодаря некоторым особен-
ностям композиции. По существу, здесь две кульмина-
ции. Одна — в самом начале, когда соло баритона выс-
тупает в качестве своеобразного одноголосного запева в
манере русской крестьянской песенной традиции. Благо-
даря этому слова солиста—«Я убит был под Ржевом в
безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жесто-
ком налете...» приобретают особый смысл. Они повест-
вуют о чем-то большем, чем просто об убитом солдате.
Здесь речь идет о русском человеке — плоть от плоти
45 Дамбис. Концерт-реквием. Л., 1972, с. 11.
46 Там же, с. 41—43.
47 Р. Щедрин. Четыре хора на слова А. Твардовского. М.,
1970, с. 3.
56
русского народа — и погиб он на поле боя, защищал
свою отчизну. Вместе с тем композитор не копирует за-
пев русской песни. Соло баритона — не просто запев, а
скорее максимально приближенное к речевым интонаци-
ям, идущее от сердца обращение к людям.
Вторая кульминация наступает, постепенно нарастая,
в аккордно скандируемых всем хором словах: «Завещаю
в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне
с честью дальше служить. И беречь ее свято, братья —
счастье свое, в память воина-брата, что погиб за нее»46
Драматическая напряженность второй кульминации уси-
ливается благодаря фону, создаваемому женским хором,
повторяющему интонации исконно русских плачей. Про-
изведение Р. Щедрина и А. Твардовского никого не ос-
тавляет равнодушным. Оно глубоко проникает в душу
советского человека, напоминая о великом гражданском
долге тех, кто принял эстафету погибших за отчизну.
Проблема жизни и смерти является предметом глу-
боких раздумий многих советских композиторов, худож-
ников, писателей. Характерно, что, несмотря на много-
образие форм выражения этой проблемы, ее решение
всегда оптимистично.
Таково настроение Четырнадцатой симфонии
Д. Д. Шостаковича. Всю симфонию пронизывает мысль
о неизбежности конца живого, и как ни парадоксально
на первый взгляд, именно в этом оптимизм произведе-
ния Шостаковича. Если смерть неотвратима, то ценность
жизни особенно высока. По мысли композитора, о смер-
ти следует помнить для того, чтобы лучше прожить
жизнь. «Мне очень близки слова Николая Островско-
го, — сказал композитор в своем интервью корреспон-
денту газеты «Правда» 25 апреля 1969 года, — «Самое
дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один
раз, и прожить ее надо так, чтобы не жег позор за под-
ленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог ска-
зать: вся жизнь и все силы были отданы самому пре-
красному в мире — борьбе за освобождение человечест-
ва». Мне хотелось, чтобы слушатель, размышляя над моей
симфонией, подумал об этом. И о том, что обязывает его
жить честно, плодотворно, во славу своего народа, Оте-
чества, во славу самых лучших прогрессивных идей, ко-
48 Р. Щедрин. Четыре хора на слова А. Твардовского, с. 9.
57
торые двигают вперед наше социалистическое обще-
ство» 49.
Говоря о смерти, Шостакович задает вопрос не толь-
ко о том, кто и как умирает, но и почему. Композитор
страстно протестует против преждевременной, несправед-
ливой гибели жертв насилия, социальной несправедли-
вости. Этот протест получил совершенное и глубокое вы-
ражение уже в первой части симфонии, в которой ком-
позитор использует трагические строки стихотворения
Гарсиа Лорки «Сто горячо влюбленных»:
Сто горячо влюбленных
Сном вековым уснули
Глубоко под сухой землею.
Красным песком покрыты...
Шостакович видит в этих стихах не только осужде-
ние виновников безвременной гибели «ста горячо влюб-
ленных», но и символическое выражение идеи связи по-
колений: жизнь человечества неизмеримо больше, чем
существование любого из нас, и воспоминание об ушед-
ших неизбежно связано с мыслью о будущем. Своей му-
зыкой композитор раскрывает «вечную» тему с позиций
высокого гуманизма: высшей ценностью обладает жизнь,
прожитая во имя счастья других.
Для понимания всей глубины симфонии необходимо
напомнить, что Четырнадцатая написана человеком, ко-
торый в полной мере испил чашу страданий, связанных
с фашистским нашествием на нашу страну в 1941 году.
Но не только личные переживания, а и боль за страда-
ния миллионов людей мучали Шостаковича. Он жаждал
мщения за погибших защитников нашей Родины, за
разрушенные города и села; за безутешное горе мате-
рей, жен и детей. Он мечтал о торжестве справедливо-
сти. Именно поэтому так искренно и проникновенно зву-
чит сочувствие композитора к человеческим горестям и
так непримирима его ненависть ко всякому проявлению
зла и насилия.
Творчество Шостаковича всегда сочетало интеллек-
туализм и необычайную экспрессивность, но никогда
еще переживания композитора не были выражены им
столь открыто, непосредственно, с такой сердечностью и
теплотой при огромной сложности самих образов.
Чтобы достичь наибольшей проникновенности и дос-
тупности, композитор обращается к слову. Здесь (также,
49 «Правда», 1969, 25 апреля.
58
как и в Тринадцатой симфонии) наблюдается тенденция
срастания симфонии с ораторией и кантатой. Эти старые
музыкальные формы, широко использовавшиеся в рели-
гиозной музыке, приобретают качественно новое выра-
жение. В произведении отсутствует мистическая религи-
озная идея, но сохраняется приподнятость над обыден-
ным, мелким. Композитор создает образы-символы, с по-
мощью которых нравственно обличает смерть. Это обли-
чение крайне заострено, оно заставляет Шостаковича
подняться до самых широких обобщений. Его музыка
повествует об общечеловеческих судьбах, минуя нацио-
нальные, временные границы.
Перед нами возникает целый мир образов, картин,
видений. По воле композитора мы переносимся из одной
страны в другую: сухая земля жаркой Андалусии, та-
верна, гитары... Излучина Рейна, высокая прибрежная
скала... Петербург Пушкина и декабристов... Окопы,
снаряды, пули — сеют смерть... Вот камера во француз-
ской тюрьме Санте. Солисты то ведут повествование от
третьего лица, то превращаются в действующие лица,
среди них Лорелея, епископ, рыцари, самоубийца, жен-
щина, потерявшая возлюбленного, запорожцы, клеймя-
щие турецкого султана, узник, смерть.
«Ничего утешающего, успокаивающего в моей сим-
фонии нет», — говорил Шостакович. Эти слова компози-
тора помогают правильно и до конца понять всю слож-
ность идейной концепции Четырнадцатой. Композитор
не стремится придерживаться привычных классических
норм наступления просветления после драматических
моментов. Желание правды об ужасающем мире гнета
и насилия, пока еще существующем на нашей планете,
протест против сложных сил, ввергающих человечество
в пучину империалистических войн, движет Шостакови-
чем, когда он вводит в заключение образ смерти, симво-
лизирующий необычайную трудность борьбы со злом.
По своему духу произведение Шостаковича далеко от
пессимизма или утешительной лжи. Напротив, оно зовет
к борьбе, обличая все то, что омрачает жизнь.
На примере симфонии величайшего композитора со-
временности мы видим, какой силы может достигнуть
музыкальное искусство, освобожденное от церковных ка-
нонов и идей и в то же время унаследовавшее все то
лучшее, что было создано поколениями музыкантов.
Подлинное искусство несет правду о человеческой
59
неустроенности и человеческом счастье. В том-то и сила
художественного произведения, что оно, раскрывая
правду жизни, убеждает в необходимости перемен, дви-
жения к прогрессу, что оно не успокаивает, а пробужда-
ет активность. Церковное же учение демагогично. Оно
не требует перемен, оно лишь назидательно.
Как бы ни модернизировалась церковь, она всегда
остается верна своему назначению — воспитывать пси-
хологию покорного, пассивного раба.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ конкретных музыкальных произведений сви-
детельствует о глубоких противоречиях, которые всегда
существовали между искусством и религией, о спекуля-
тивном характере использования богословами эмоцио-
нального воздействия музыки на человека. Жестокая не-
обходимость вынуждает современную церковь прибегать
к самой парадоксальной модернизации в использовании
музыки, изменяя веками освященные традиции культо-
вой музыки.
Подлинное искусство, в какую бы фантастическую
форму оно ни облекалось, в определенной мере отража-
ет жизнь, несет элементы художественной правды. Ре-
лигия же с помощью искусства стремится увести от дей-
ствительности, от ее реальных потребностей и задач.
Совершенно различна направленность эмоционально-
сти, вызываемой искусством и религией. В религиозной
эмоциональности доминирует чувство социального пес-
симизма. Осуждая пороки земного бытия, религия на-
правляет помыслы верующих в русло религиозно-нрав-
ственного усовершенствования, подавляет их естествен-
ные желания и чувства.
Подлинное искусство раскрывает в первую очередь
прекрасное, т. е. всесторонне гармоническое, гуманное в
жизни, соотнесенное с объективным прогрессом общест-
ва и социально-эстетическим идеалом. Поэтому прекрас-
ное и доставляет нам высшее наслаждение. Вместе с
тем в таком искусстве заложен приговор всему истори-
чески обреченному. Поэтому в самом религиозном ис-
кусстве, точнее, в его шедеврах неизбежно отвергались
как чужеродный элемент искусственно конструируемые
церковью идеалы. Именно на этой особенности развития
60
искусства можно было бы проследить отрицательную
эстетическую оценку самой историей церковной ортодок-
сии. И хотя новая музыка исторически зарождалась в
лоне церкви, используя ее язык и жанры, сама логика
его развития вела к разрушению церковных канонов и
традиций. В результате в этой музыке полностью исче-
зает аскетизм и мистика и ведущими становятся гума-
нистические и реалистические тенденции.
По мере преодоления влияния церкви в жизни обще-
ства неизмеримо возрастает нравственно-эстетическая
роль искусства, расширяется его познавательное значе-
ние. Даже религиозное по сюжету, оно несет смысловую
нагрузку, далеко выходящую за рамки этого содержа-
ния. Более того, религиозный сюжет нередко выступает
как повод для разговора о проблемах глубоко социаль-
ных, далеких от церковных установлений.
Произведения искусства старых мастеров ценны для
нас не только художественным совершенством. Их на-
зывают еще и памятниками культуры, ибо они раскры-
вают мысли и чувства людей конкретной эпохи, конк-
ретной страны, рассказывают о времени и о себе не мень-
ше, чем летописи истории, существенно их дополняя.
Немаловажное значение в оценке художественного
наследия прошлого имеет и проблема преемственности.
Эта проблема не может быть решена в модернистском
плане элитарного искусства, или в откровенно потреби-
тельском «коммерческом искусстве». Не может быть
найдено ее решение и в слепом следовании церковным
традициям. Такое «решение» ведет лишь к возрождению
архаичных, мертвых сторон этих традиций.
В музыкальном искусстве и сегодня нередко присут-
ствуют язык и жанры, возникшие в церковной музыке,
такие, как реквием, прелюдия, оратория, кантата и др.
Наполняя их новым содержанием, по-новому решая
«вечные» темы, композиторы используют их для выра-
жения современных острых трагических ситуаций.
С христианским искусством в современную эпоху
происходит то, что некогда произошло с античным.
Ушло в прошлое его религиозное миропонимание, но
ярким блеском засияло то эстетически ценное, подлин-
но художественное, что заставляет нас восхищаться тво-
рениями, созданными много столетий назад. Мы видим
в них сгусток человеческой мечты, порыв к совершенст-
ву, торжество человеческого разума и гуманизма.
61
СОДЕРЖАНИЕ
Введение . 3
Из истории взаимоотношений музыки и церкви 4
Музыкальное наследие и современность . 18
Заключение . . . 60
Ольга Абрамовна АНТОНОВА
МУЗЫКА И ЦЕРКОВЬ
Зав. редакцией 3. Каримова.
Старший научный редактор К. Габова.
Мл. редактор О. Проценко.
Художник Н. Константинова.
Худож. редактор Т. Добровольнова.
Техн. редактор А. Красавина.
Корректор Р. Колокольчикова.
А 08684. Индекс заказа 71106. Сдано в набор
11/1II-77 г. Подписано к печатн 10/V-77 г. Формат
бумаги 84X108 7м. Бумага типографская № \
Бум. л. 1. Печ. л. 2. Усл. печ. л. 3,36. Уч.-нзд.
л. 3,33. Тираж 53 400 экз. Издательство «Знание».
101835, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4. За*
каз 467. Типография Всесоюзного общества «Зна«
нне». Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.
Цена И коп.
В 1977 году подписчики серии «Научный атеизм» по-
лучат 12 брошюр. Среди них:
1. Н. П. Гапочка. Несовместимость научного ми-
ровоззрения с религией (к 70-летию выхода в свет кни-
ги В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»)
2. Д. Е. Мануйлова. Церковь как социальный
институт антагонистического общества
3. 3. А. Т а ж у р и з и н а. Закономерности развития
атеизма
4. В. И. Добреньков. Модернизация идеи «бога»
в современной религии
5. А. В. Белов, А. Д. Шилкин. Мистика на
службе антикоммунизма
6. Ю. П. Зуев. Псевдогуманизм христианской про-
поведи любви к ближнему
7. Г. Л. Б а к а н у р с к и й. Иудаизм и современность
8. Л. И. Климович. Писатели Востока об исламе
9. А. Б. Чертков. Критика философских основ
православия
10. А. М. К а р и м с к и й. Проблема зла в современ-
ной теологии
11. М. П. Новиков. Православное богословие в
современных условиях
12. Н. С. Семенкин. Критическая оценка фило-
софских основ религиозной морали