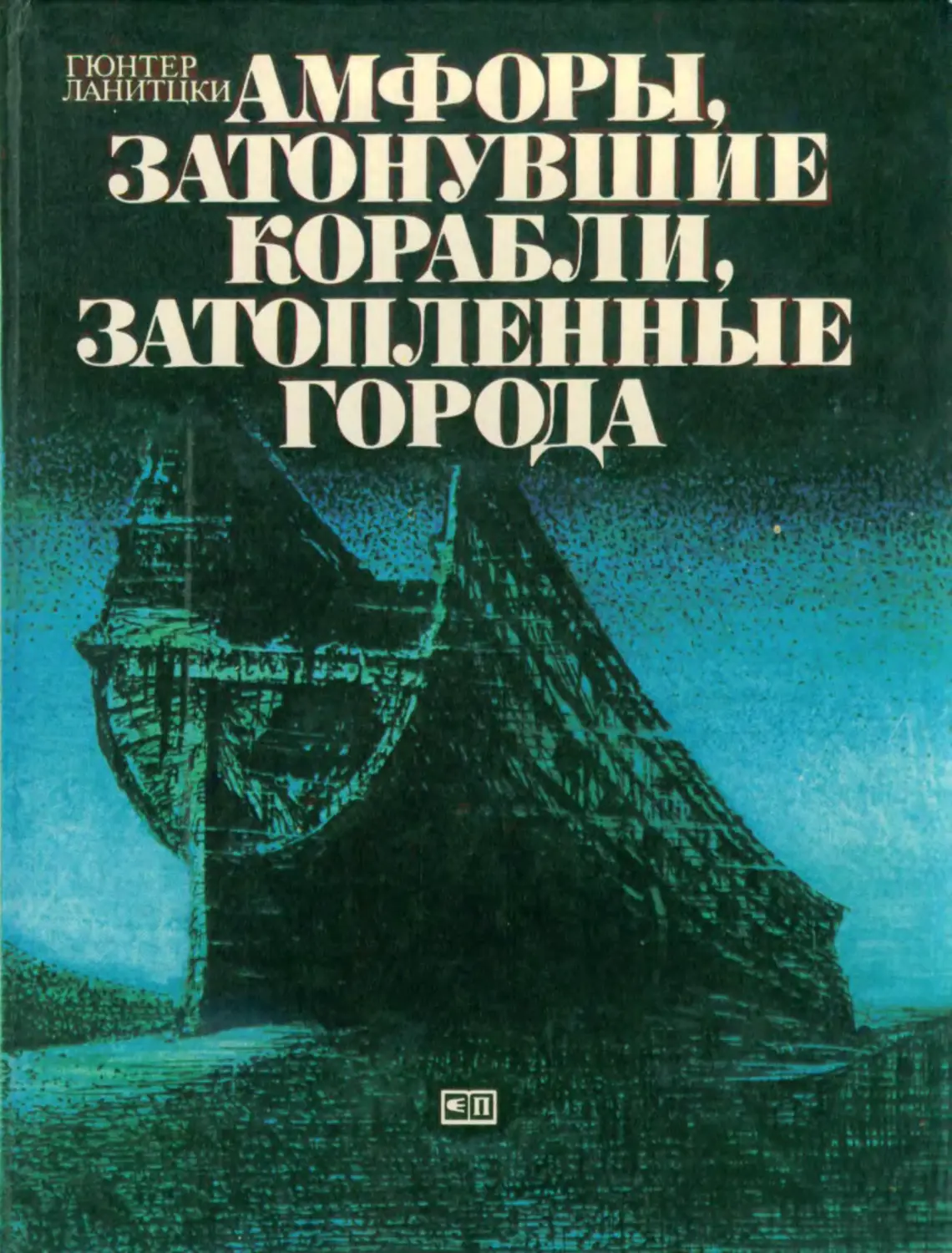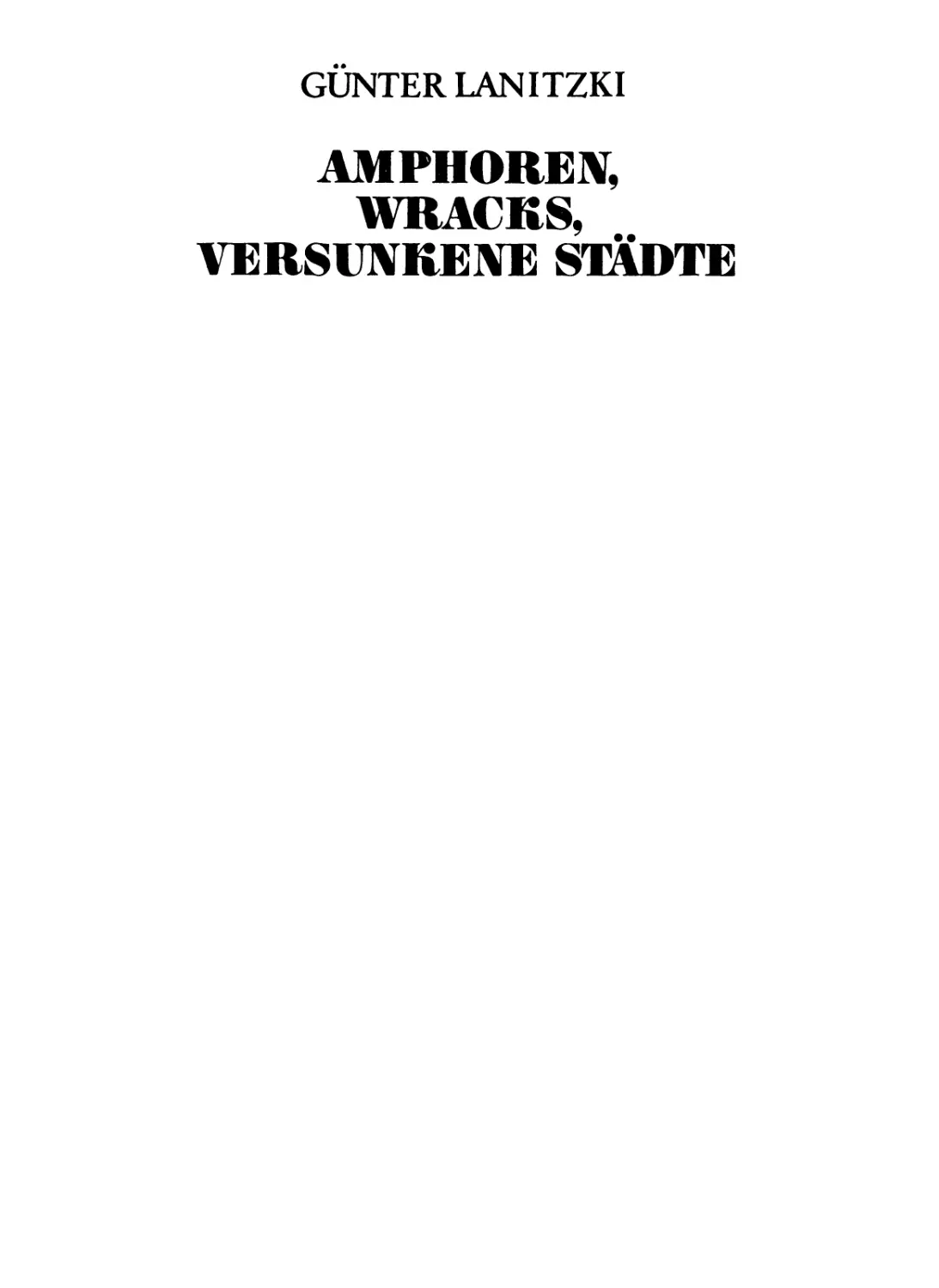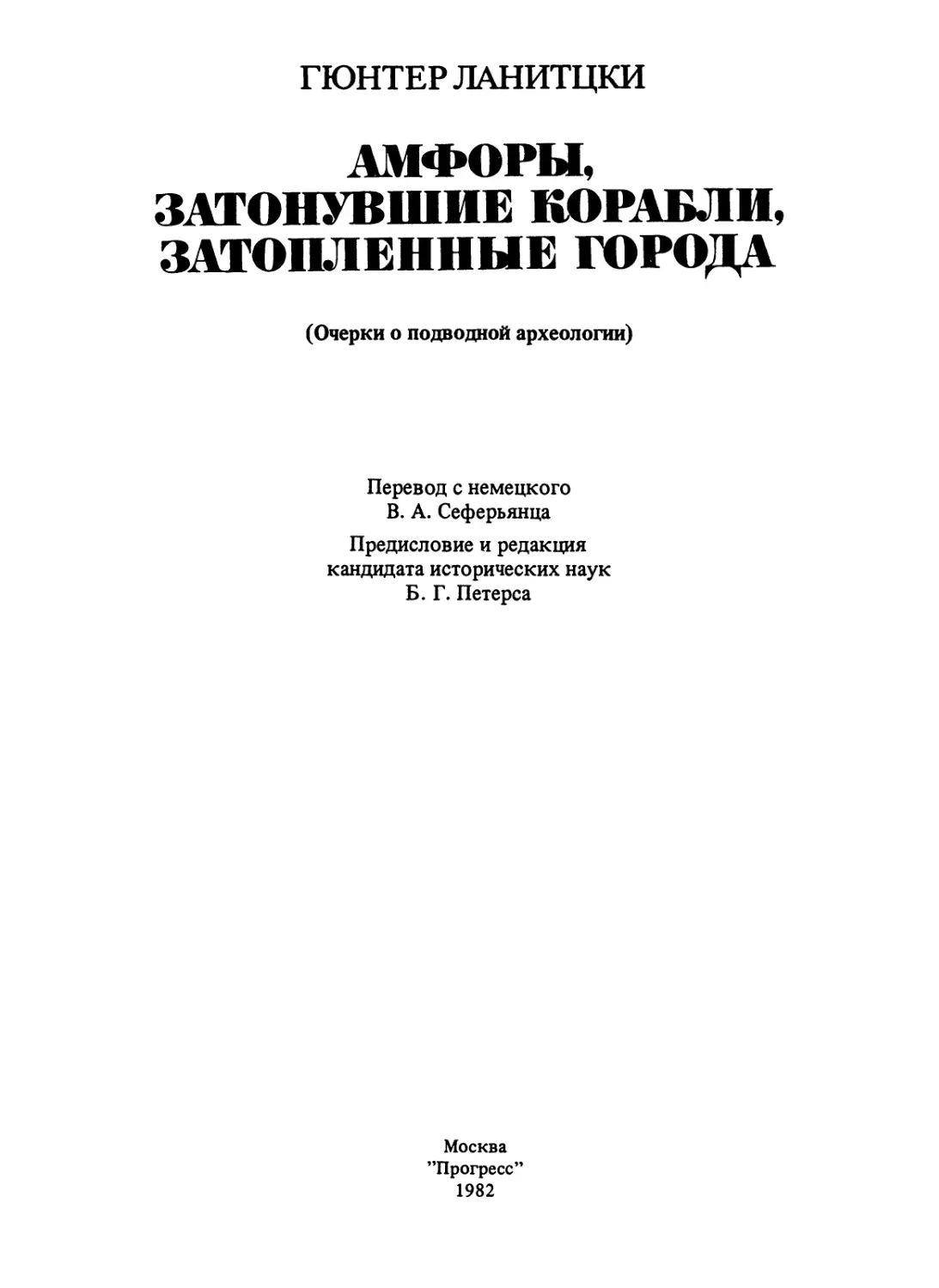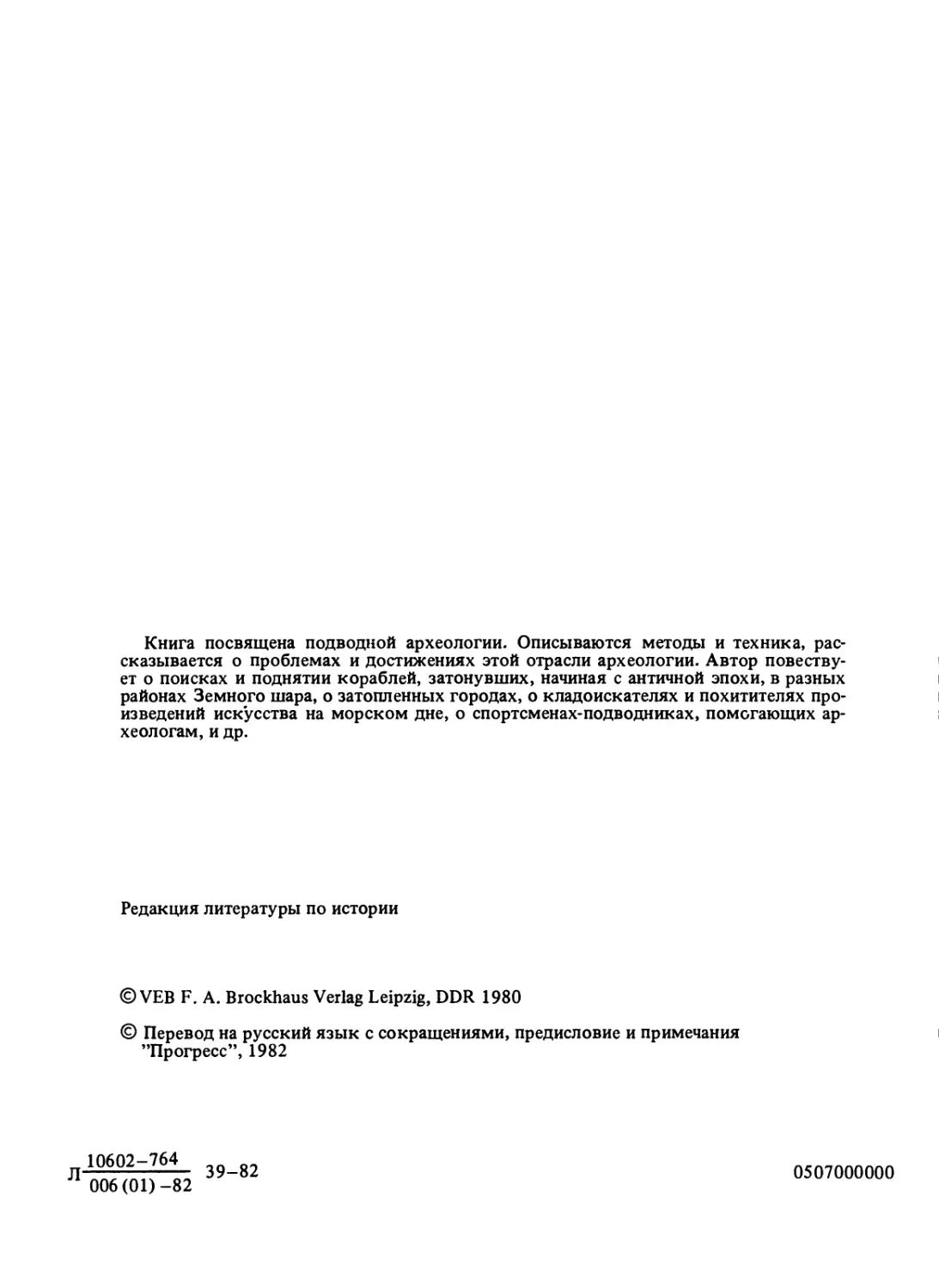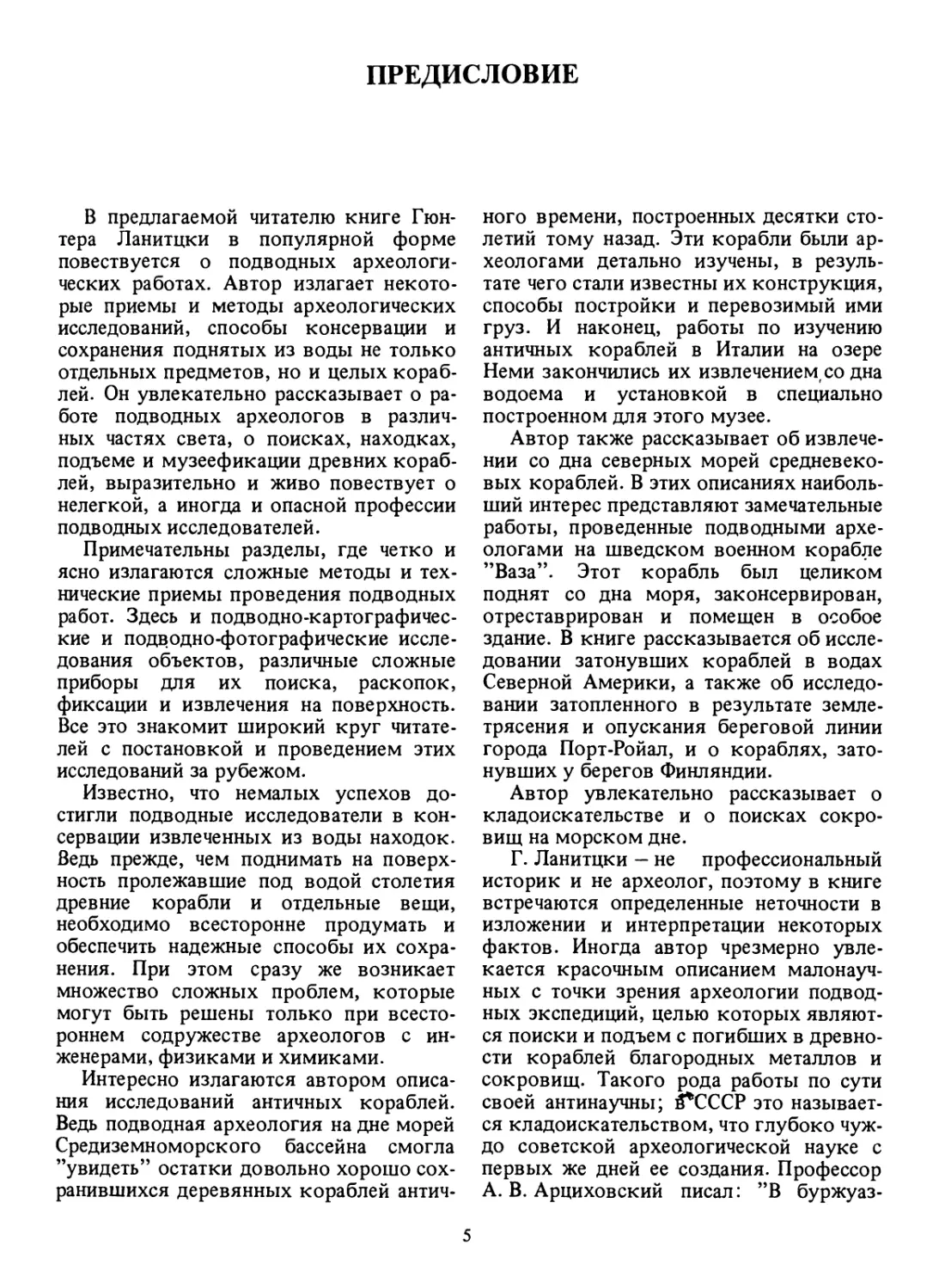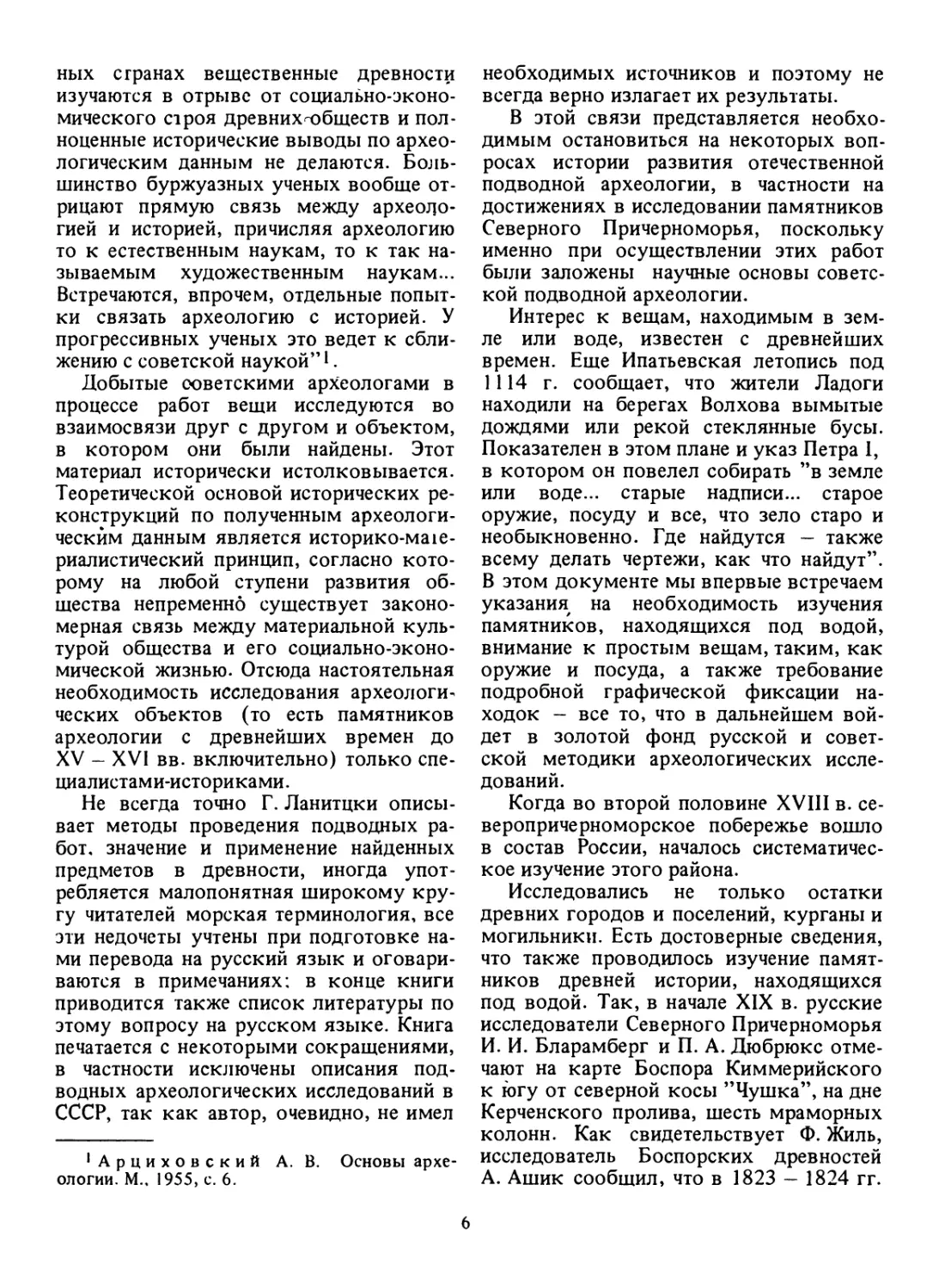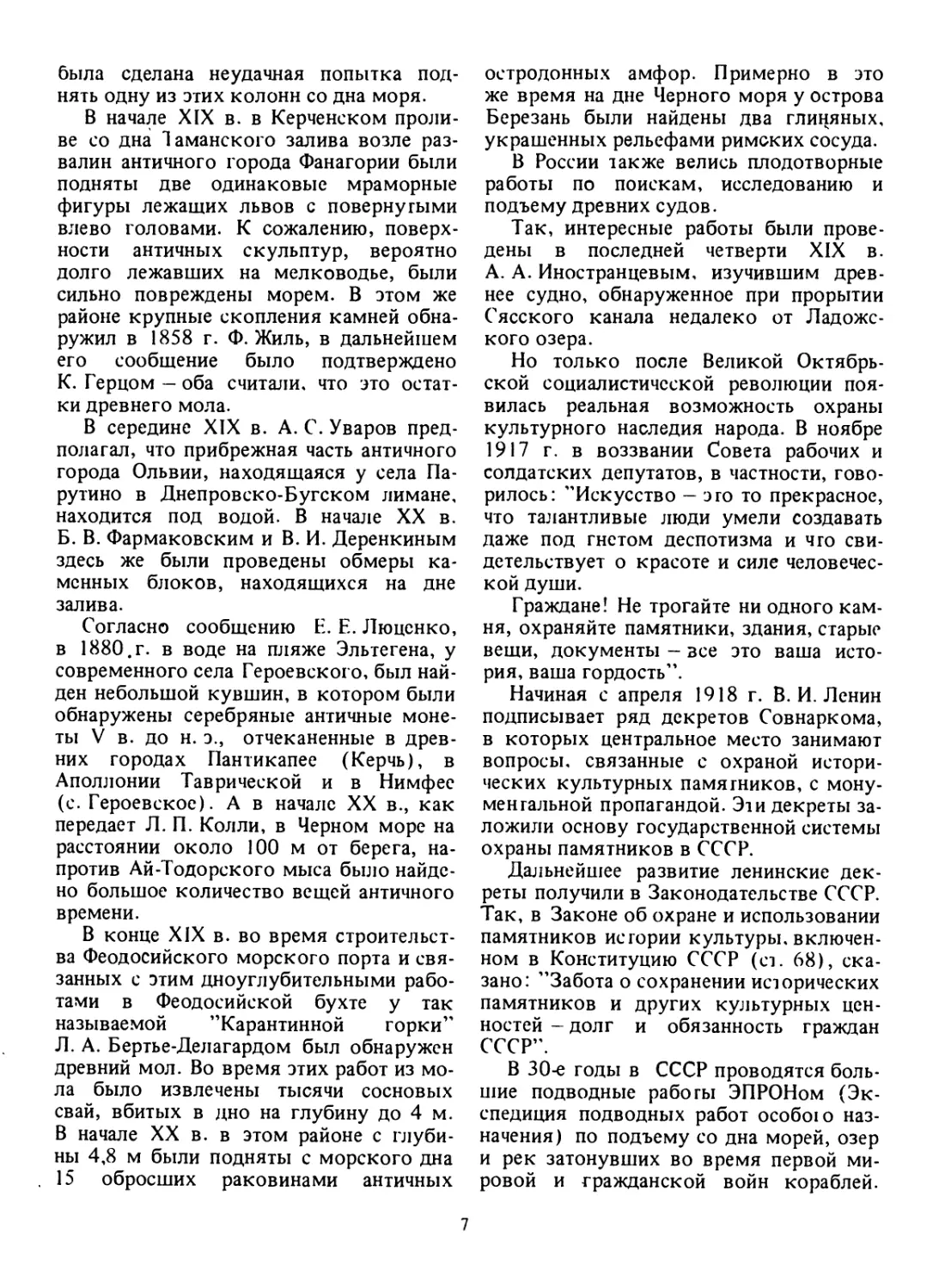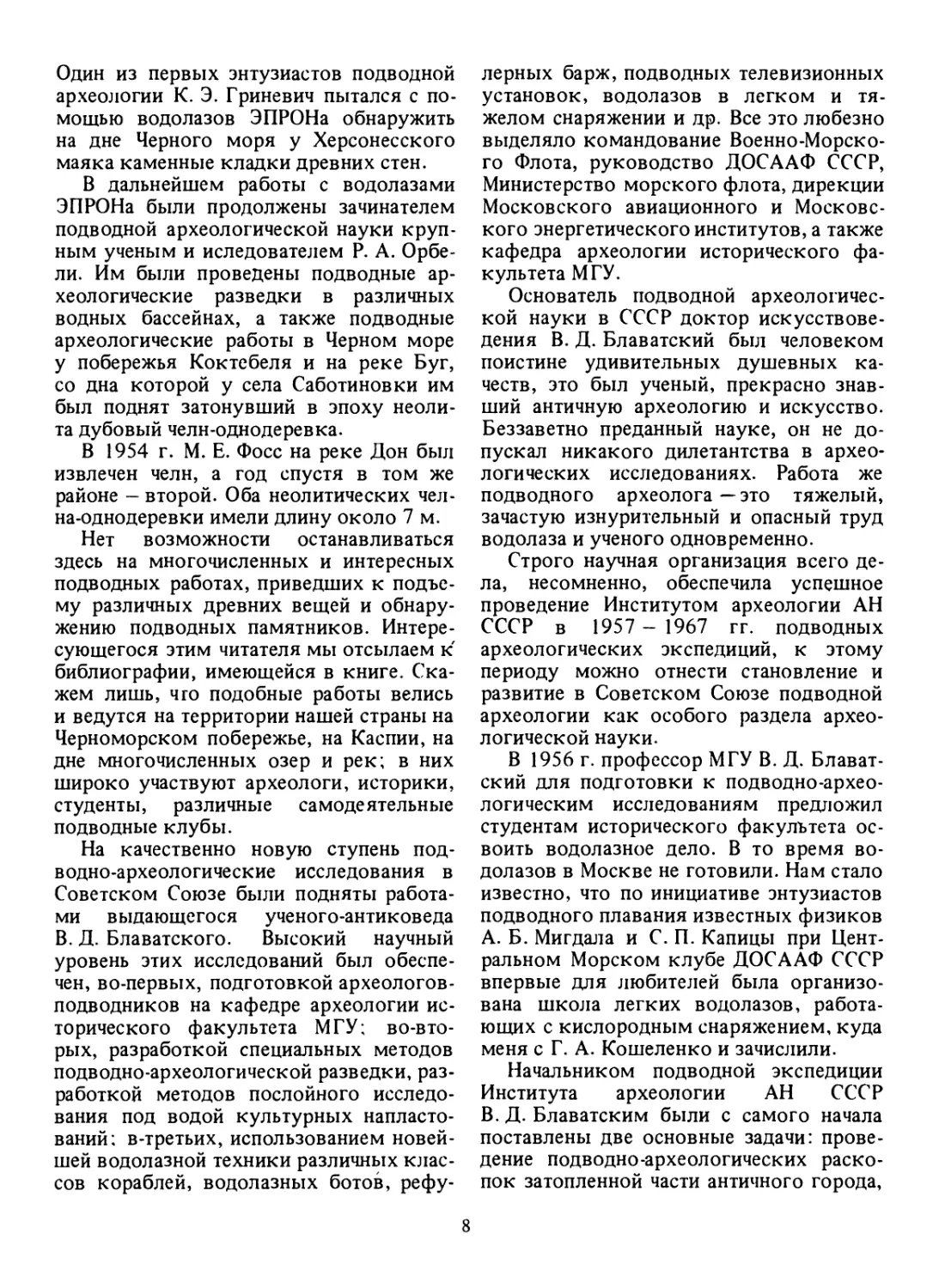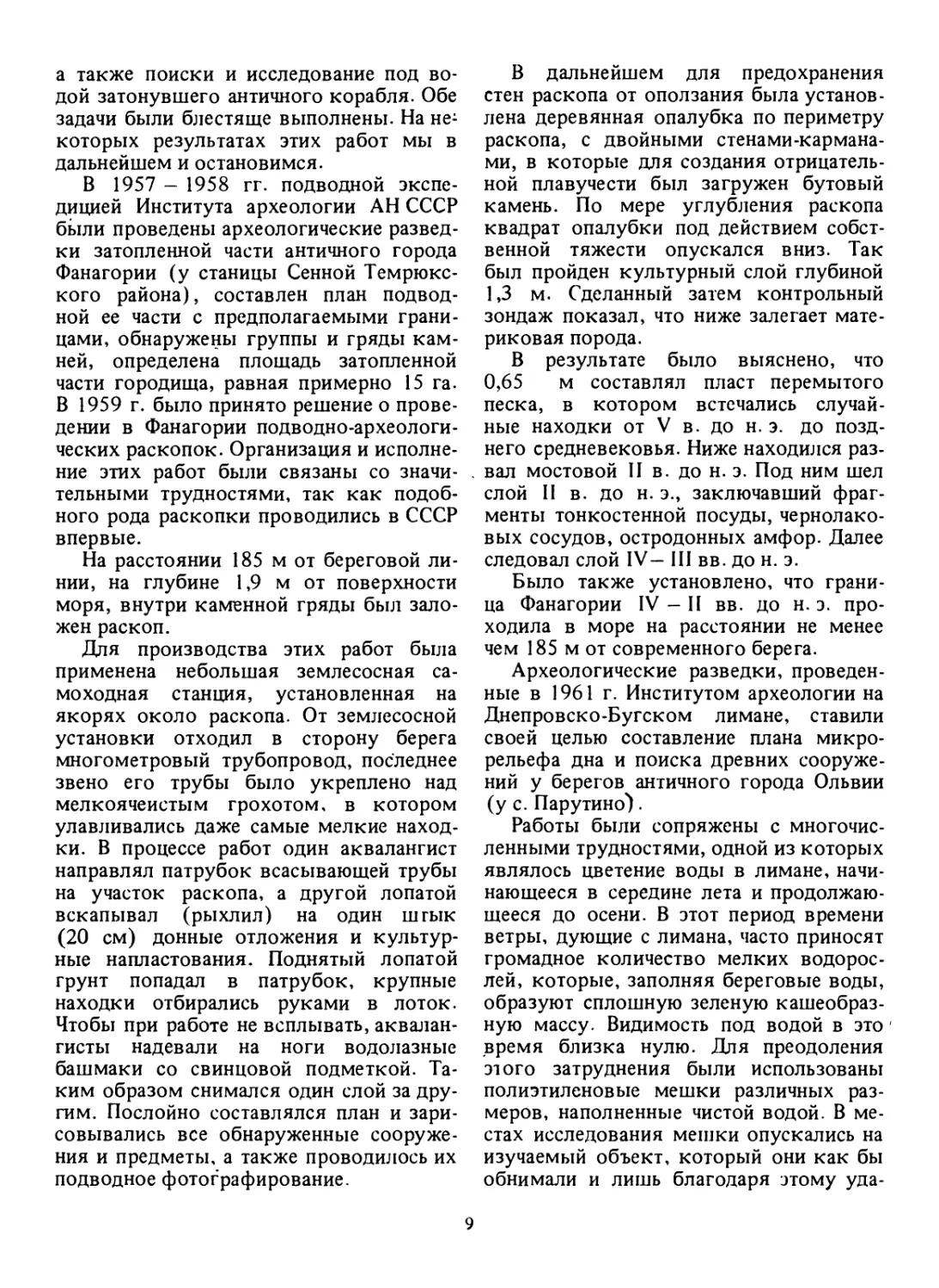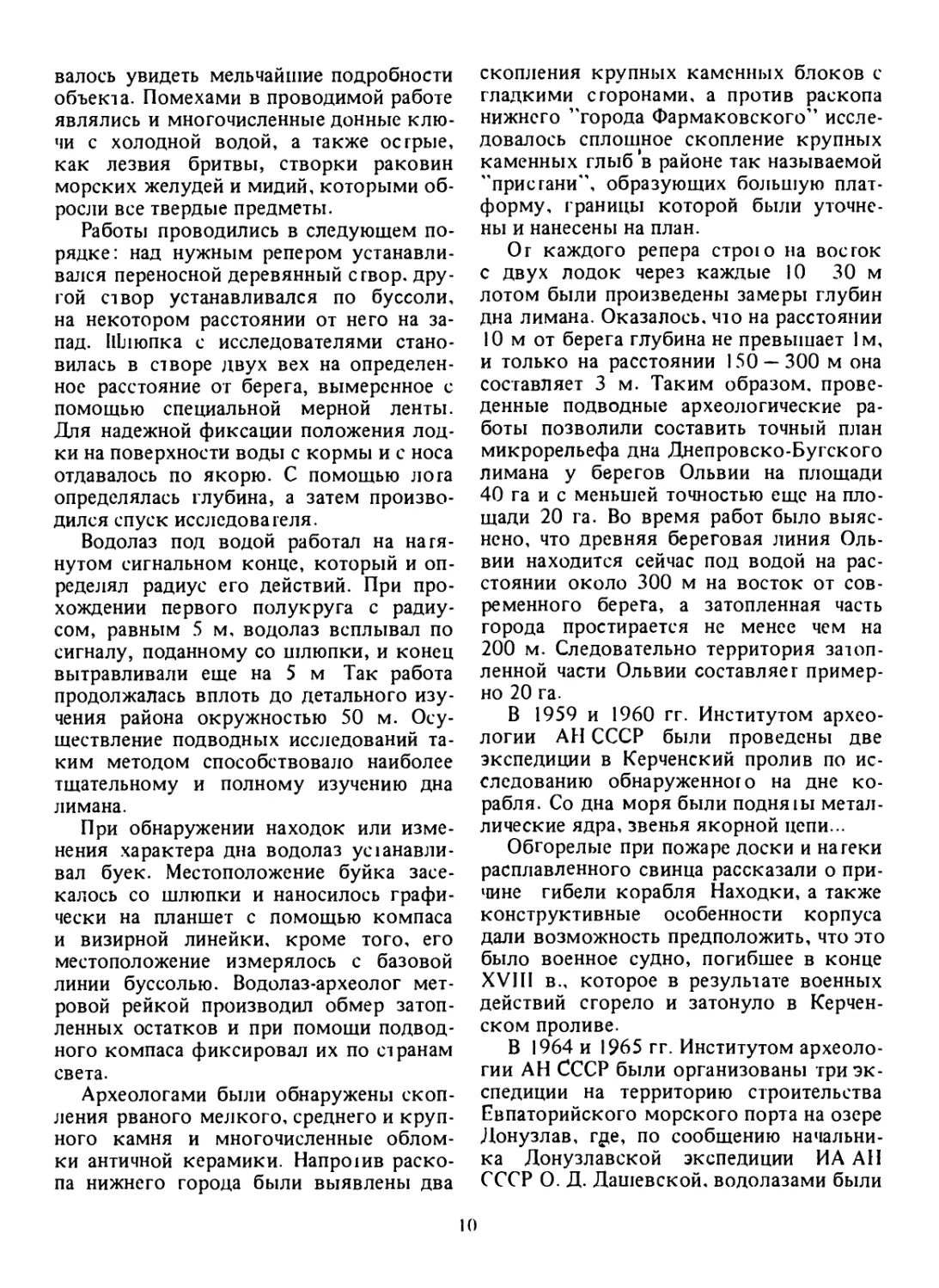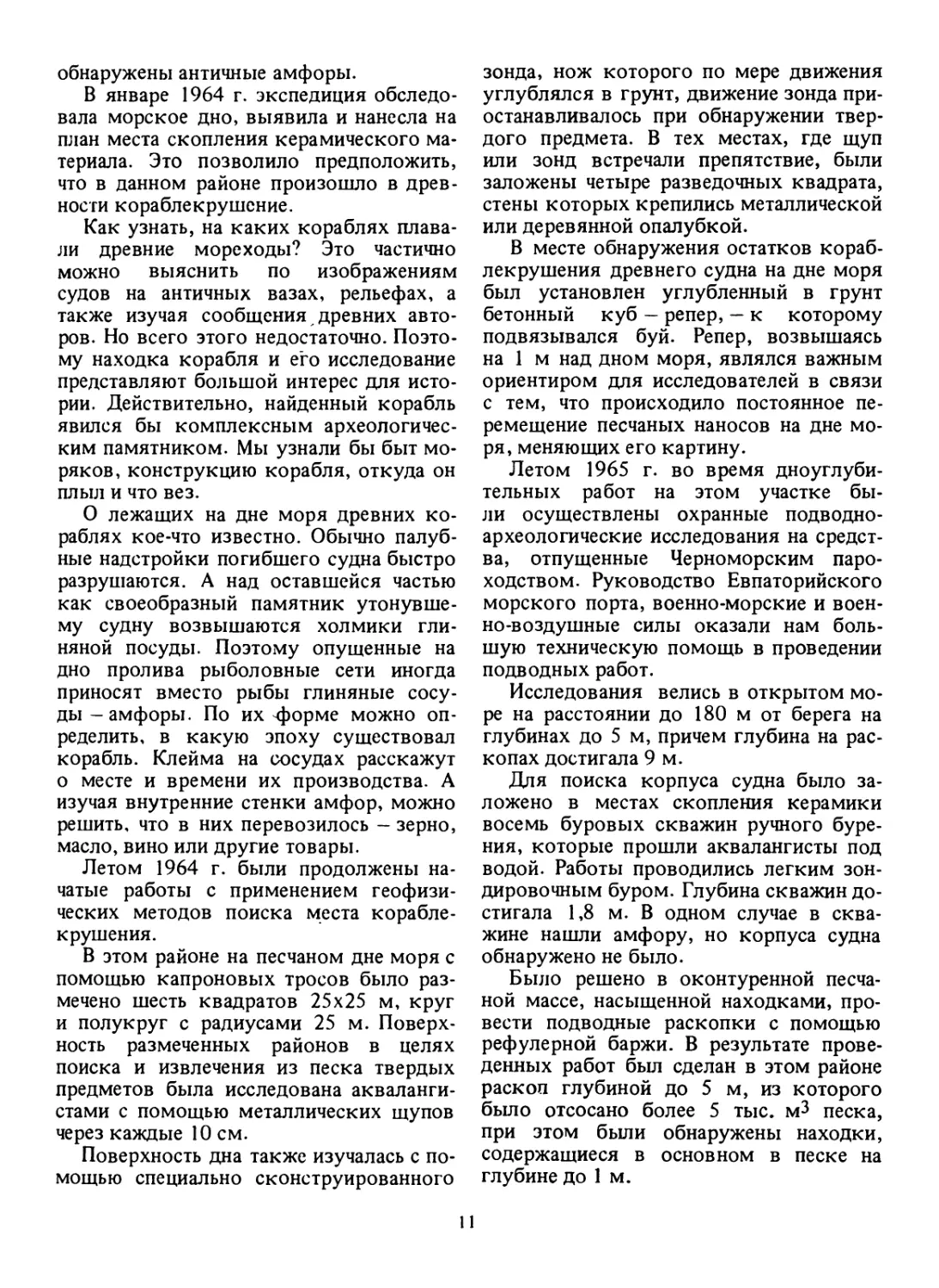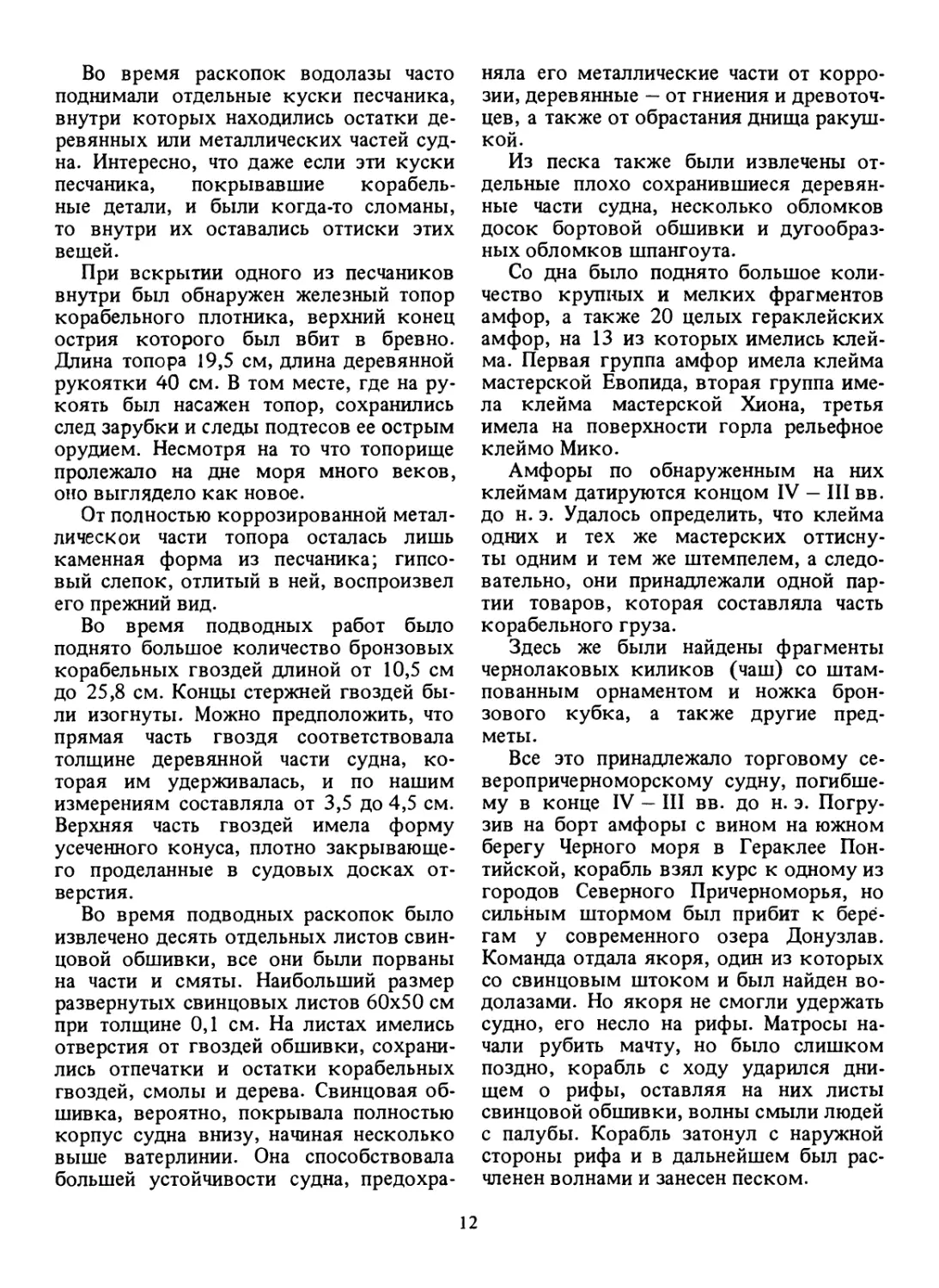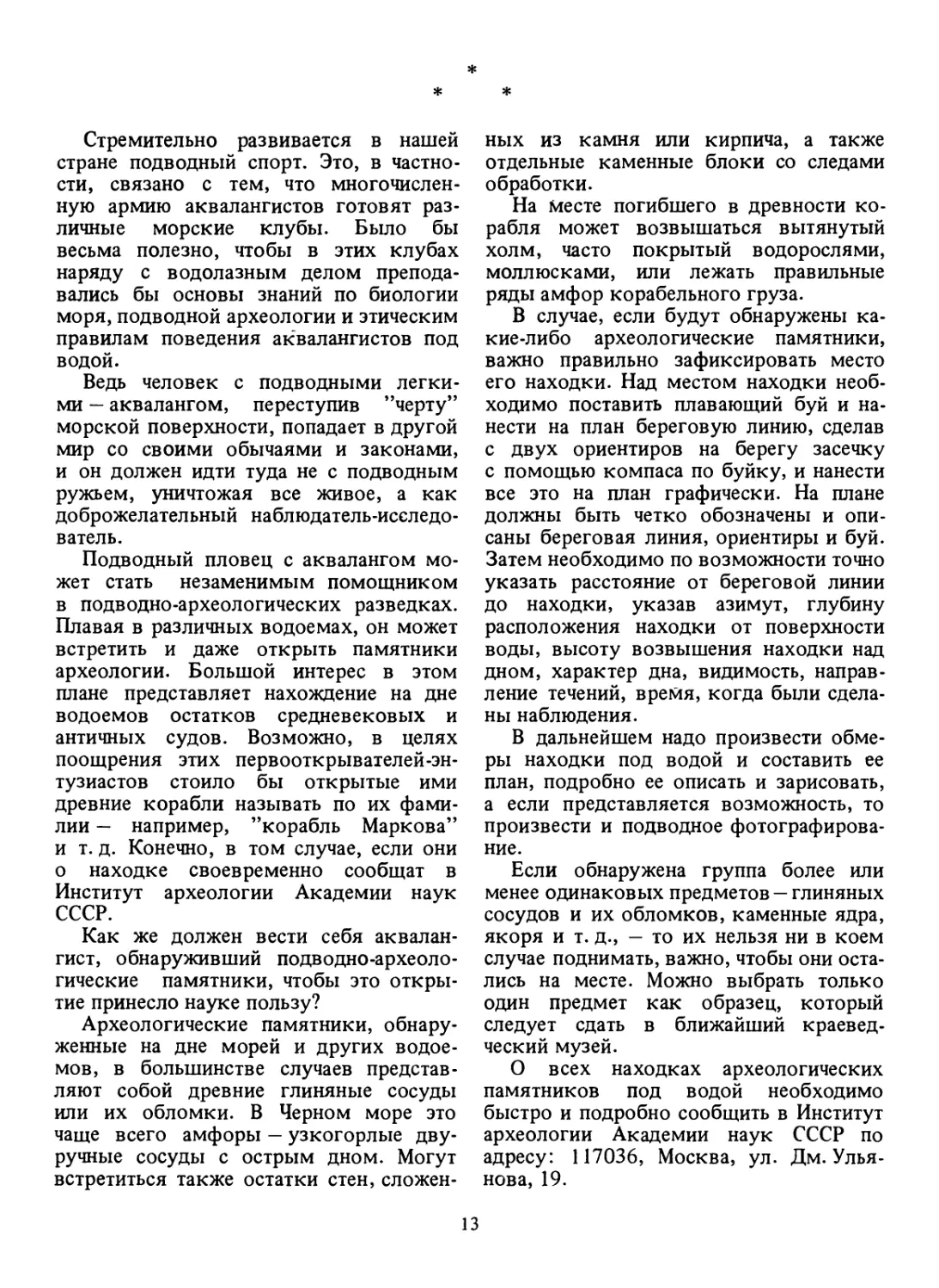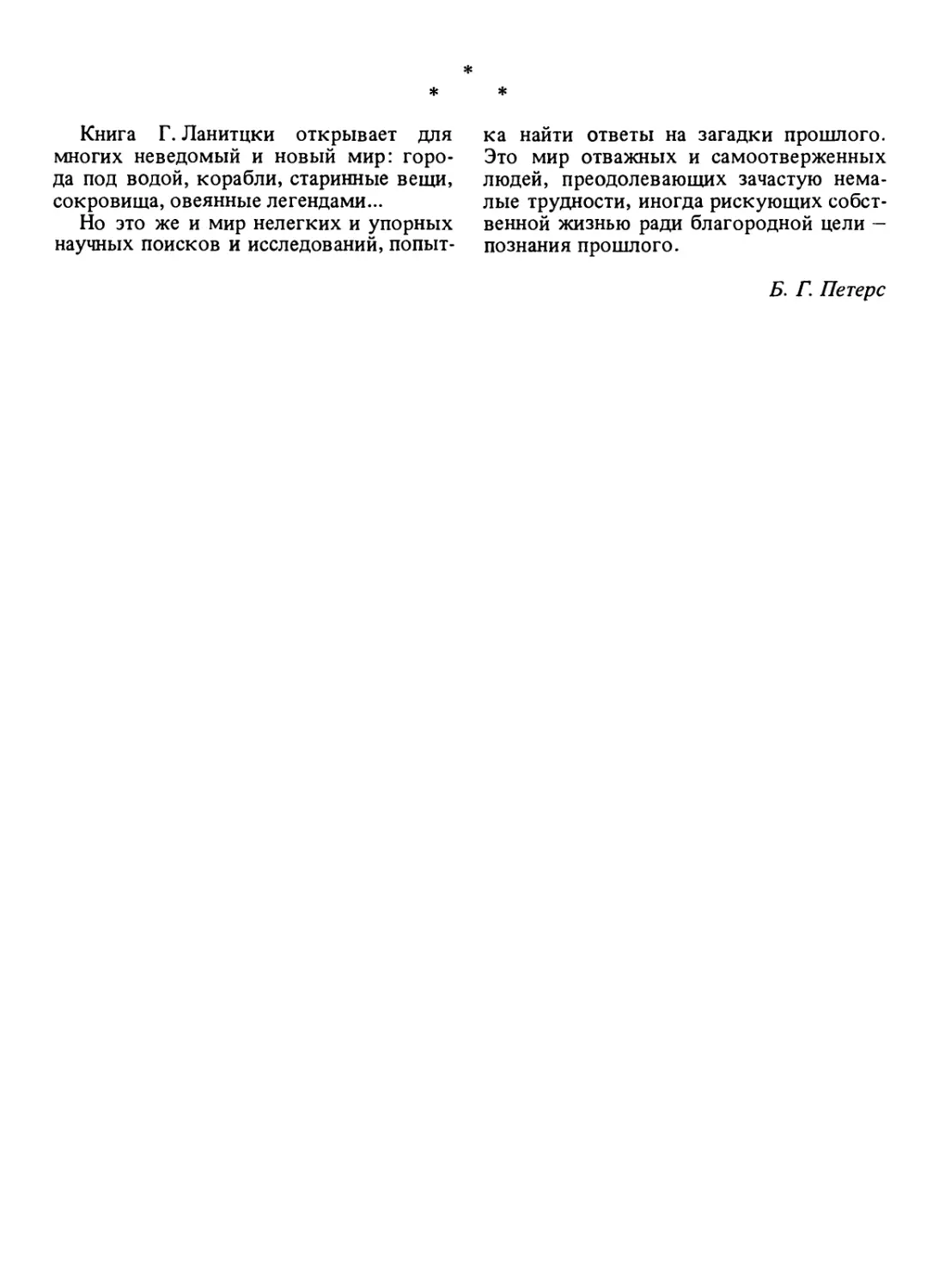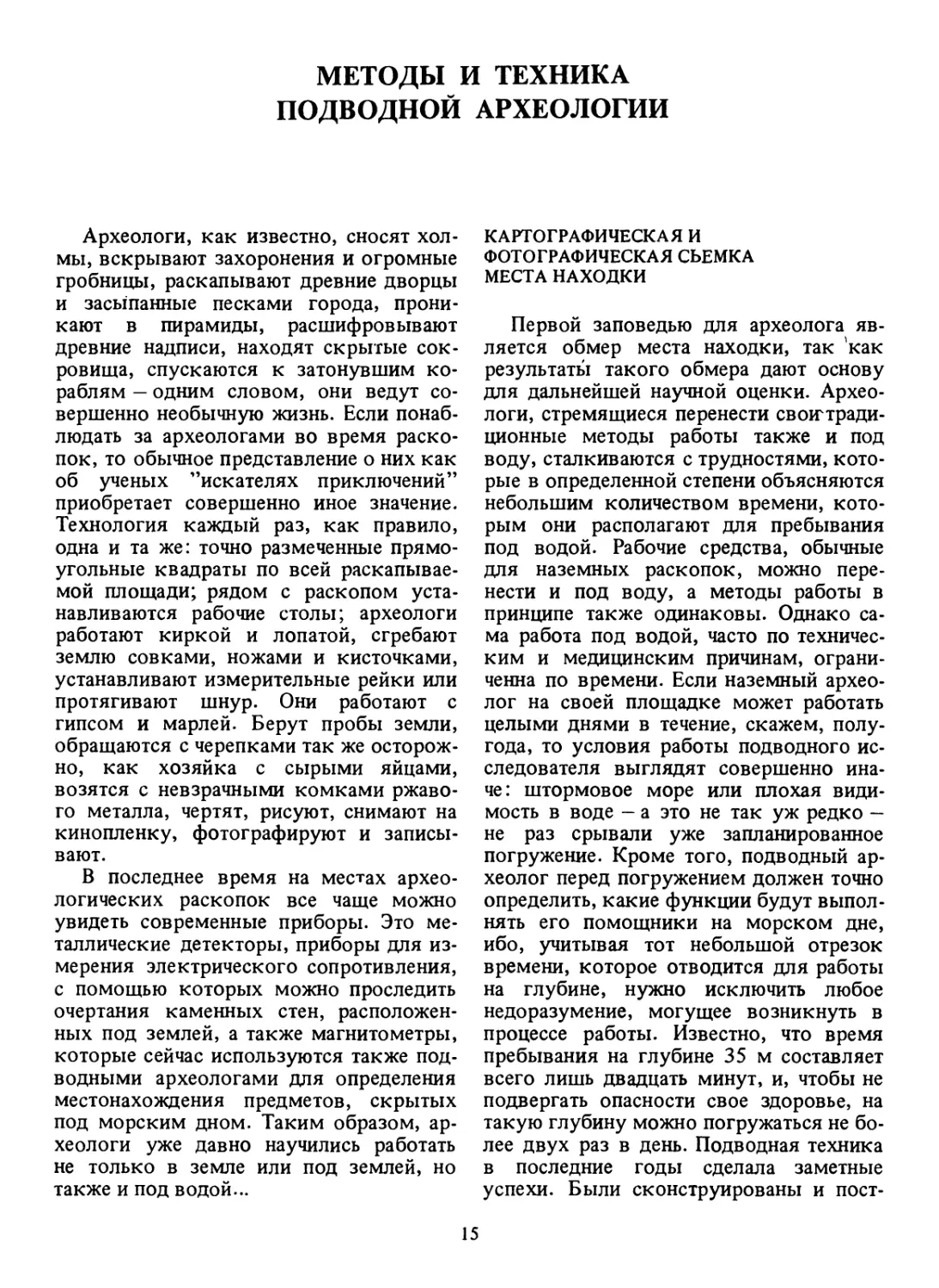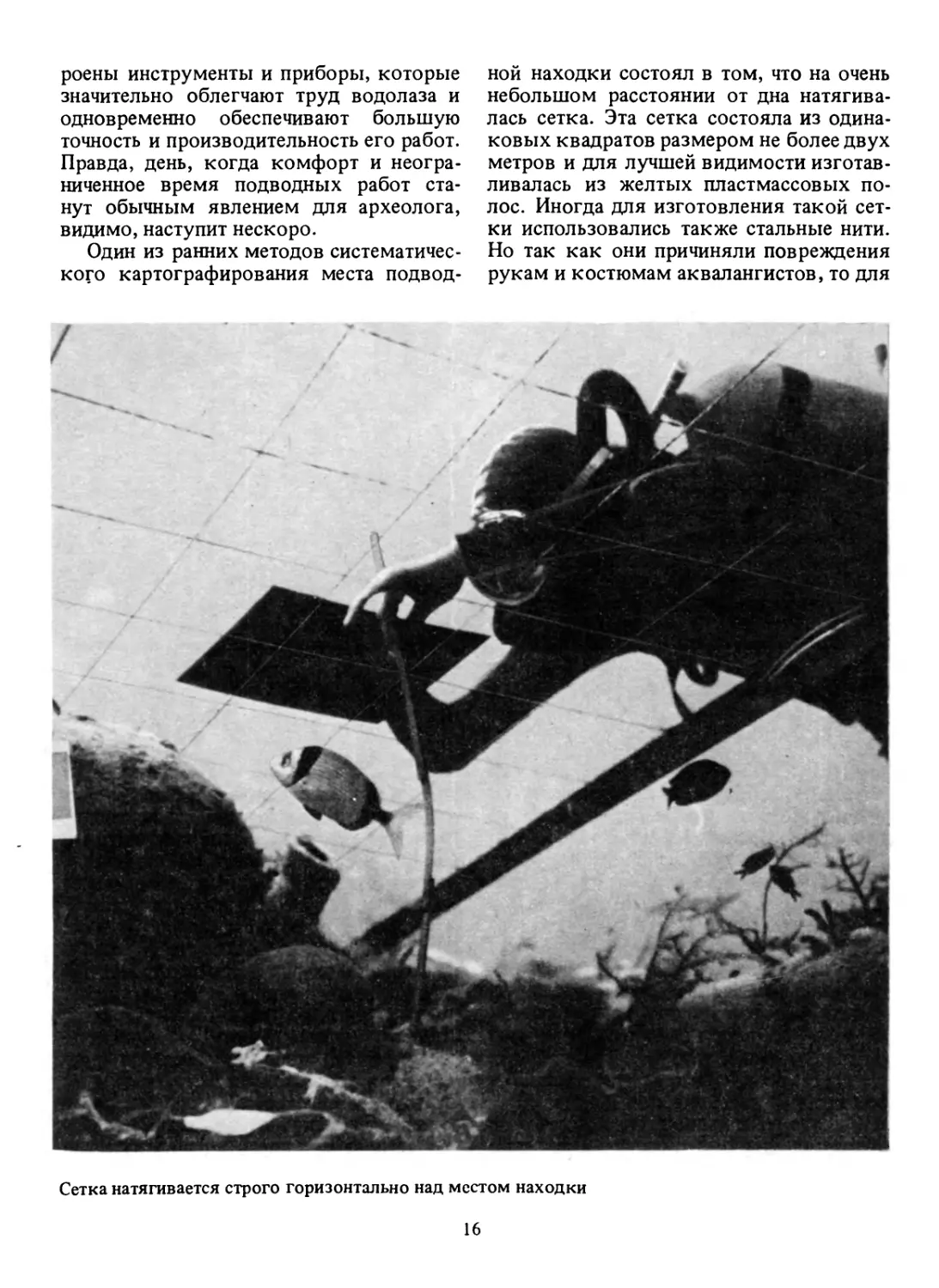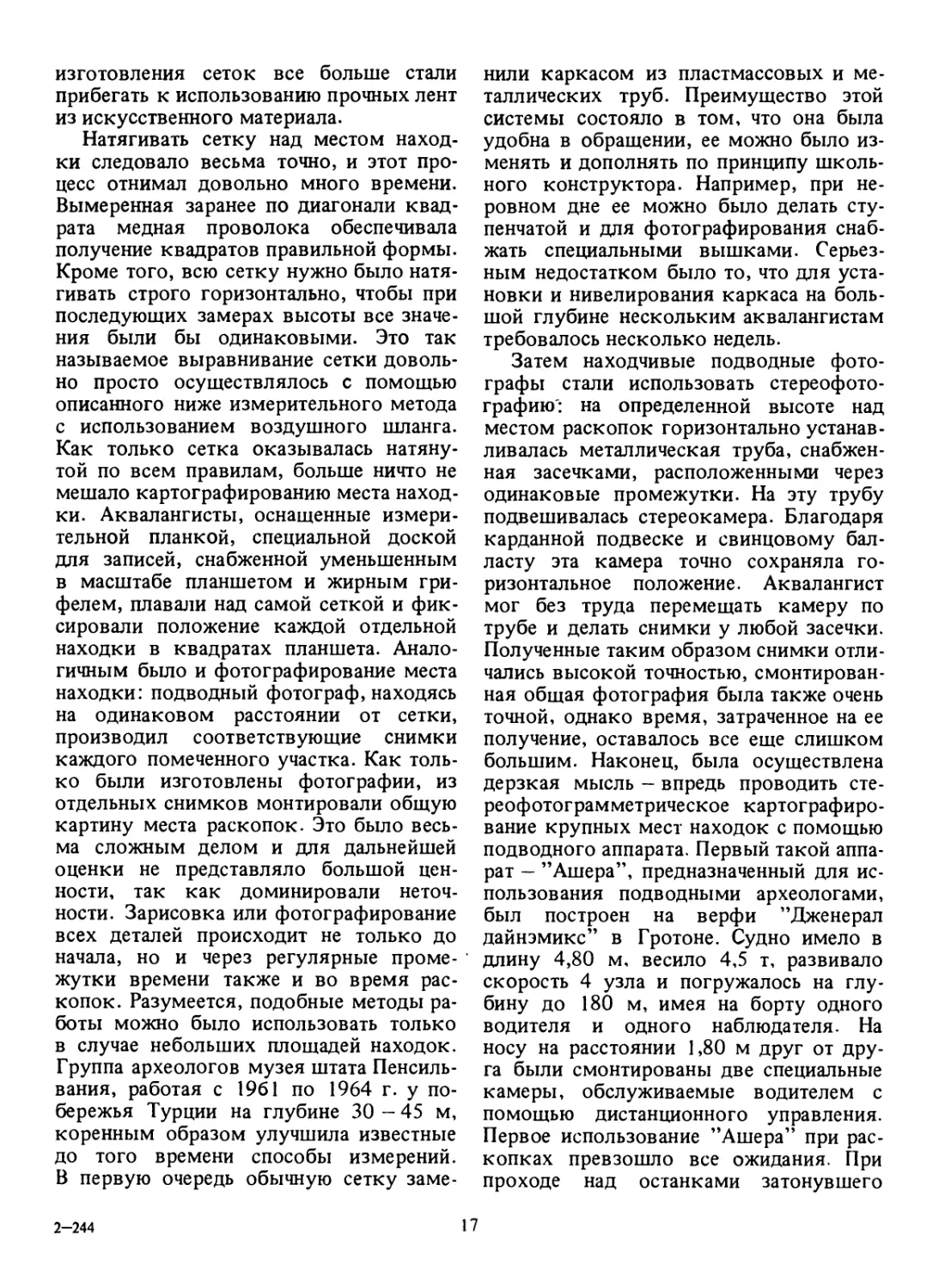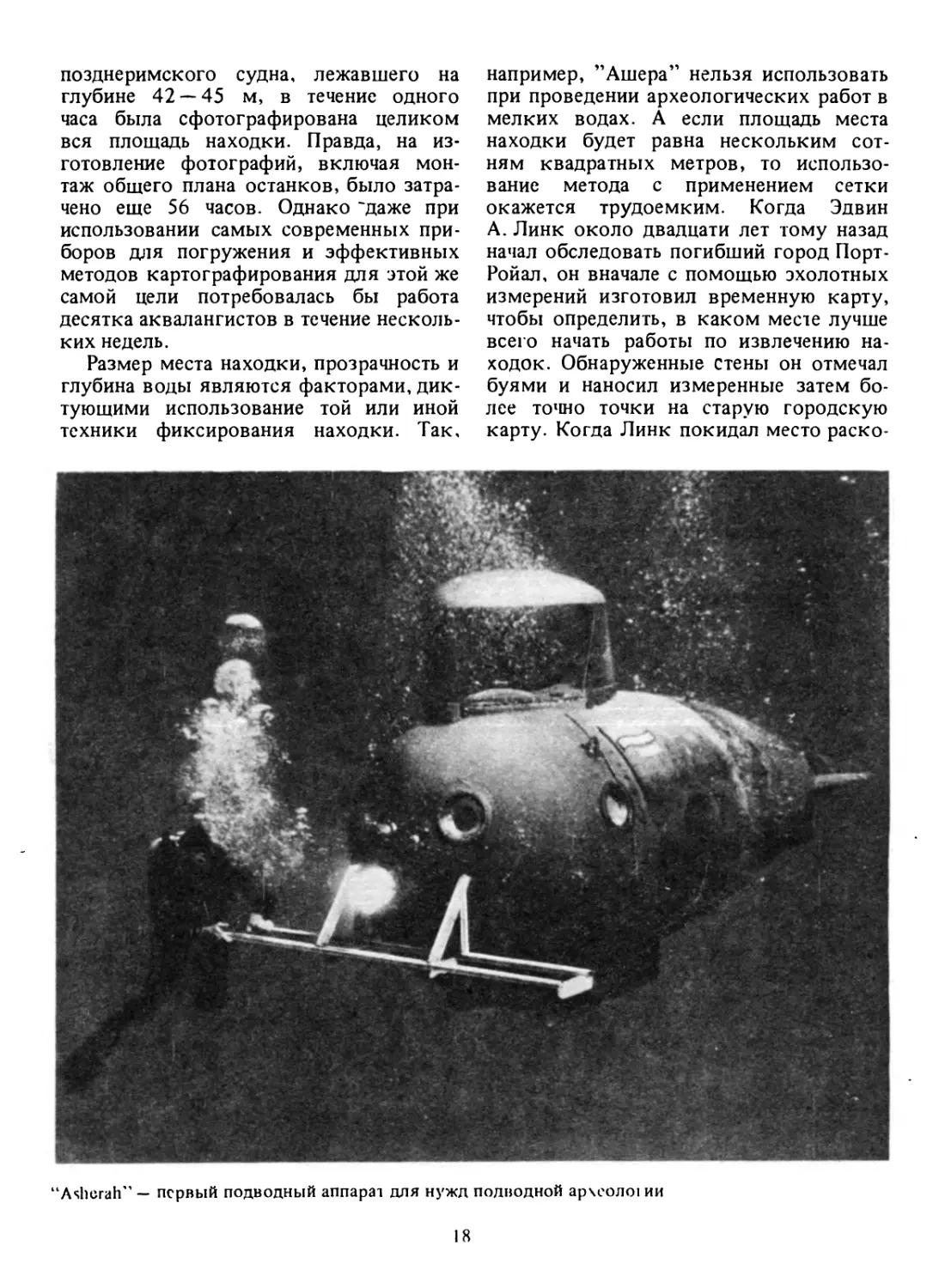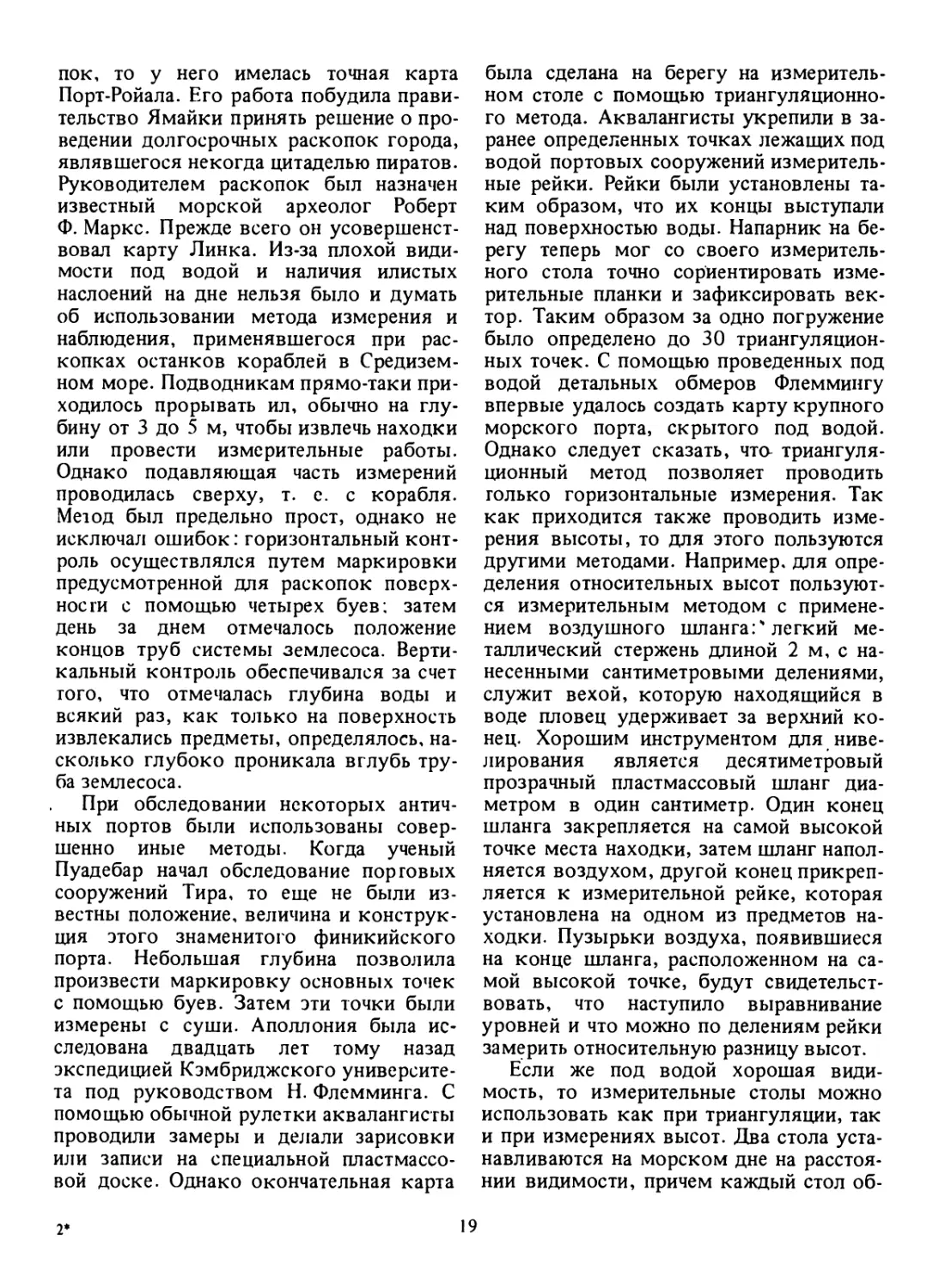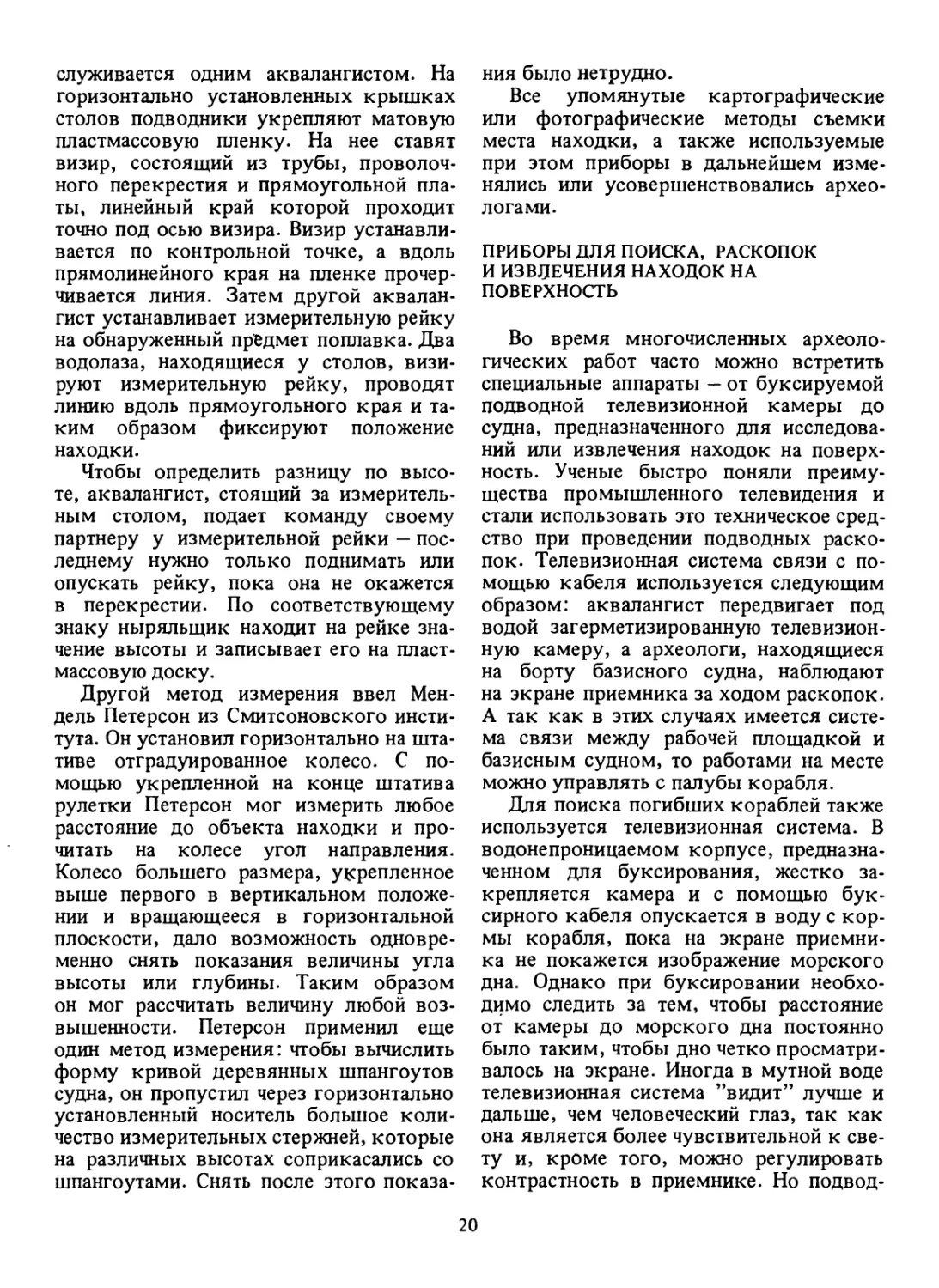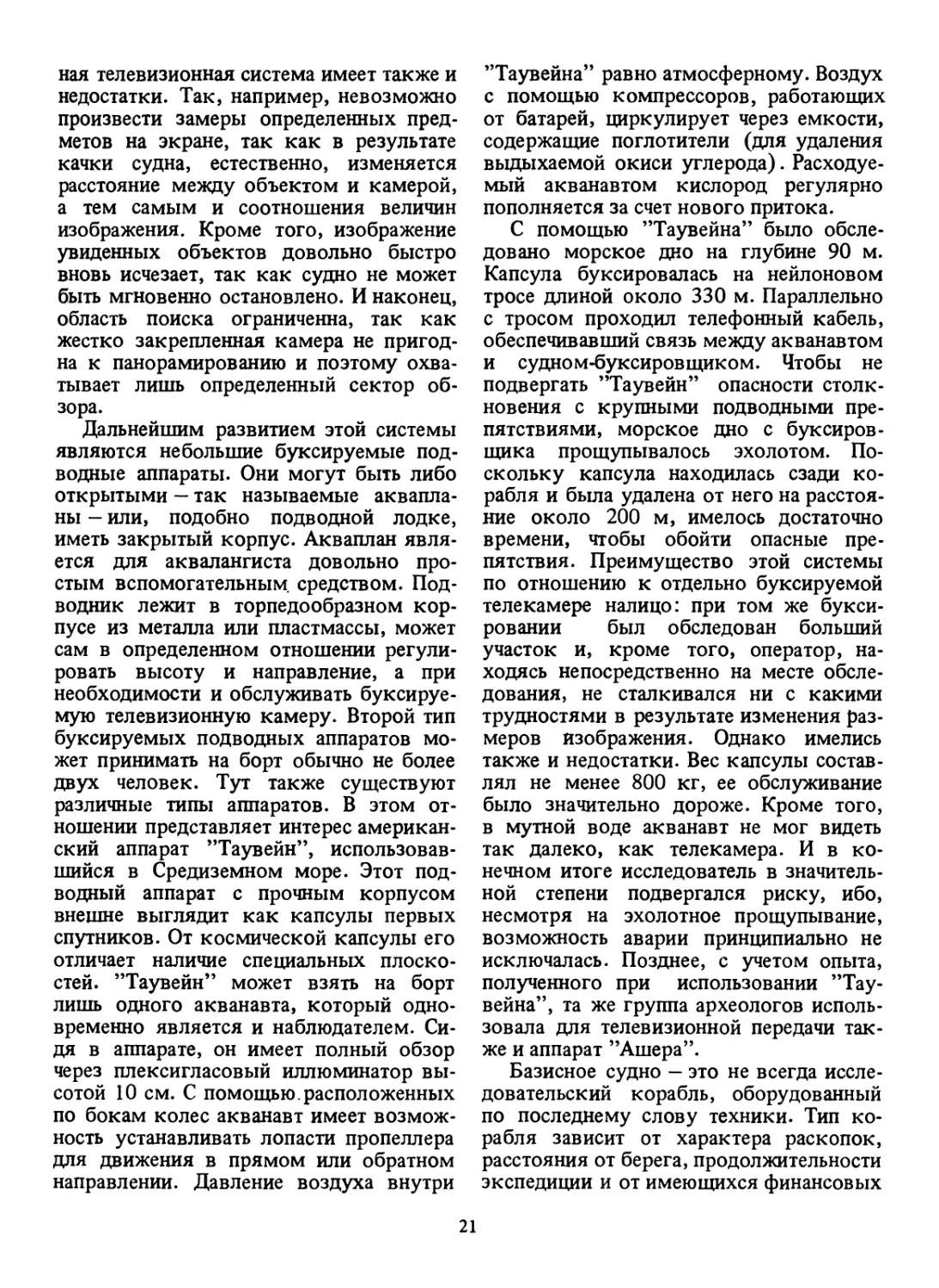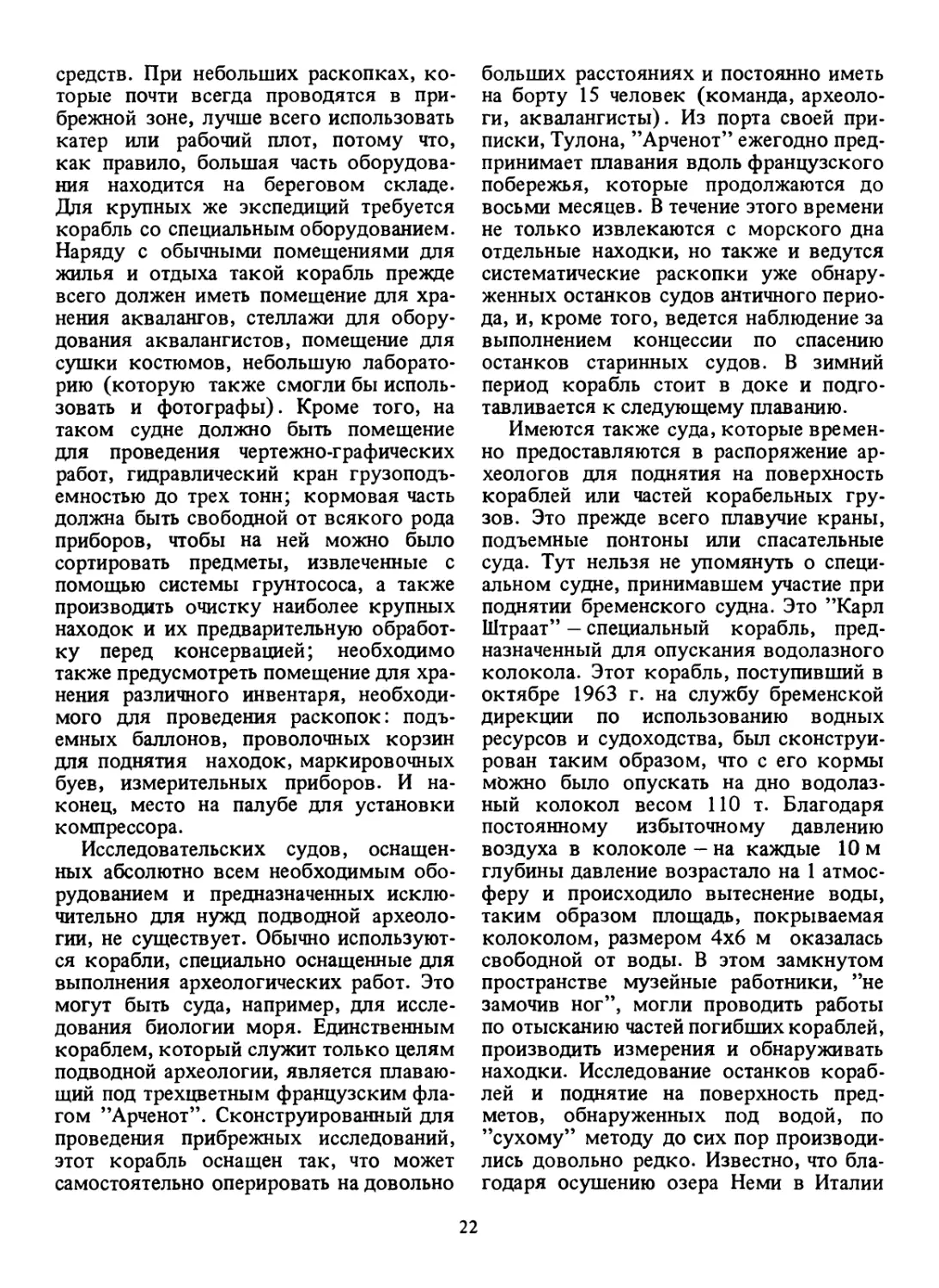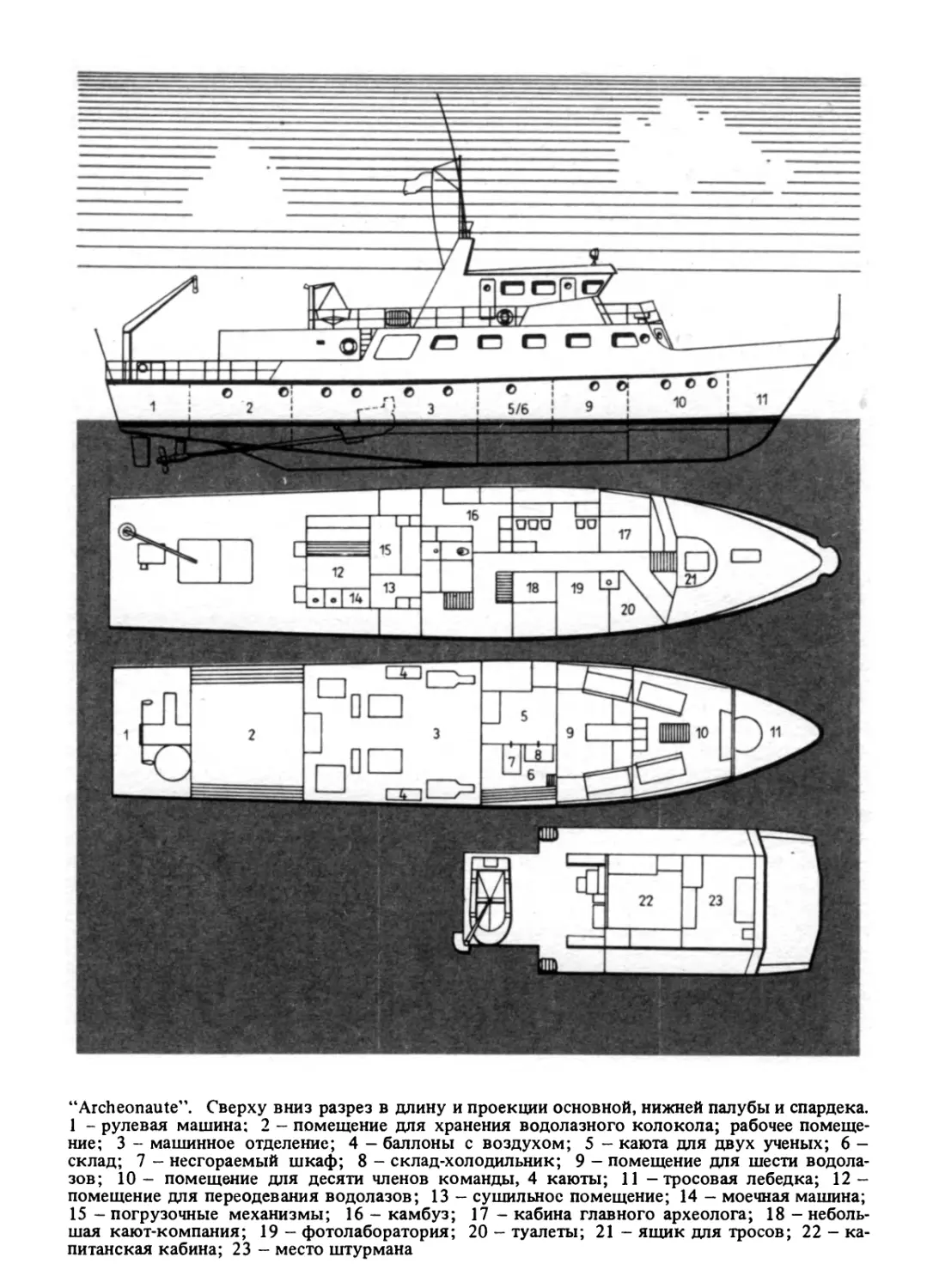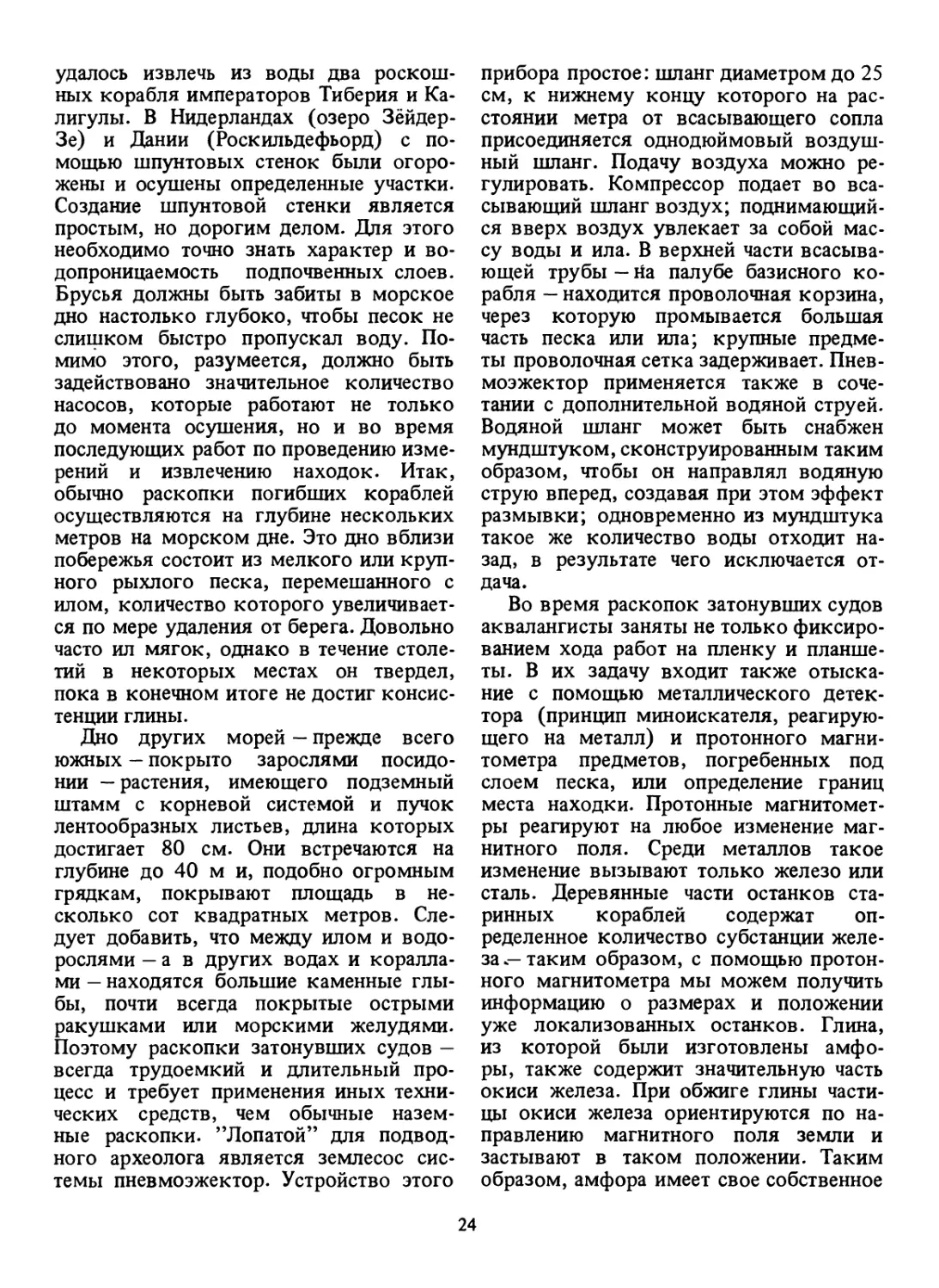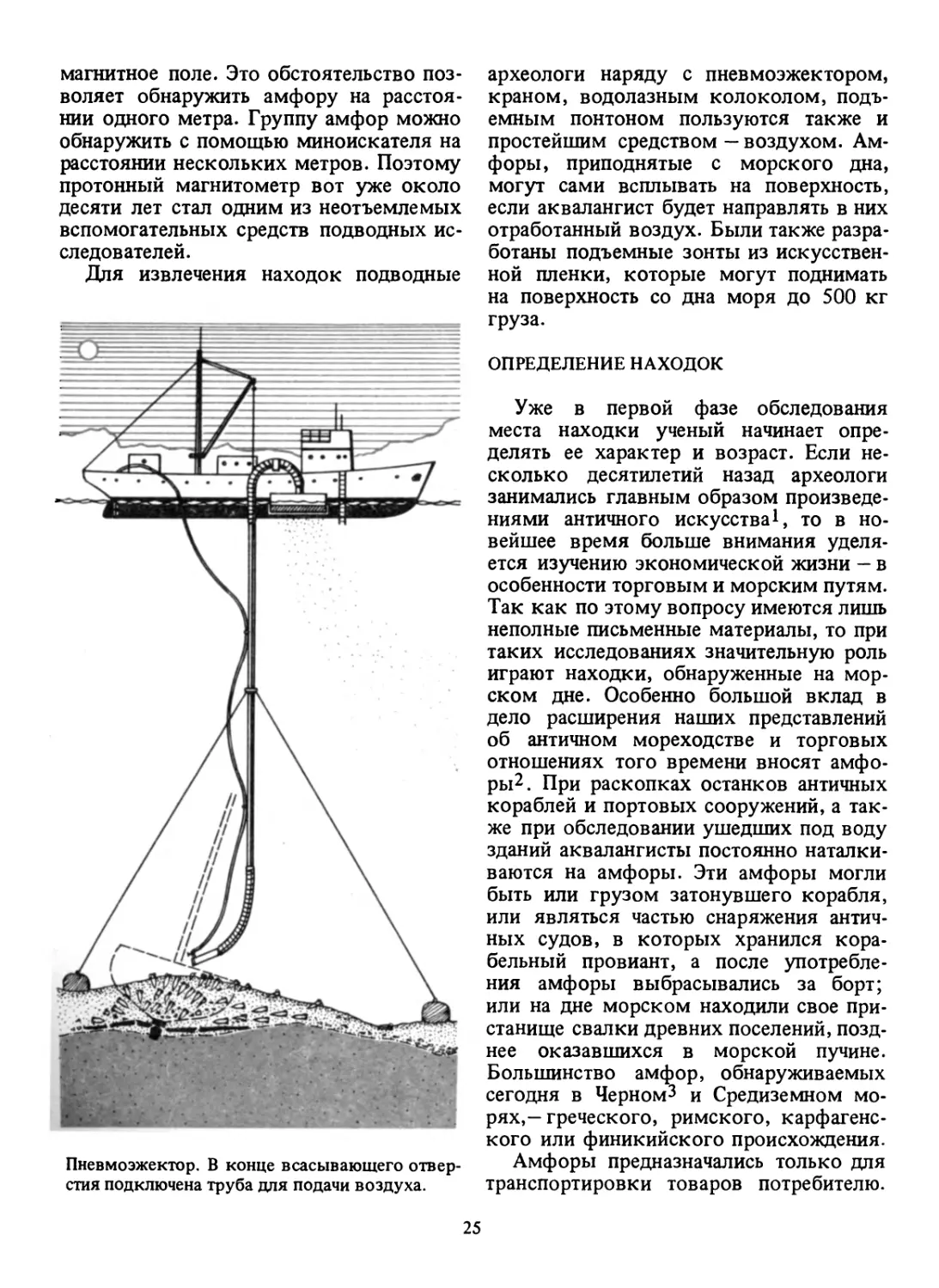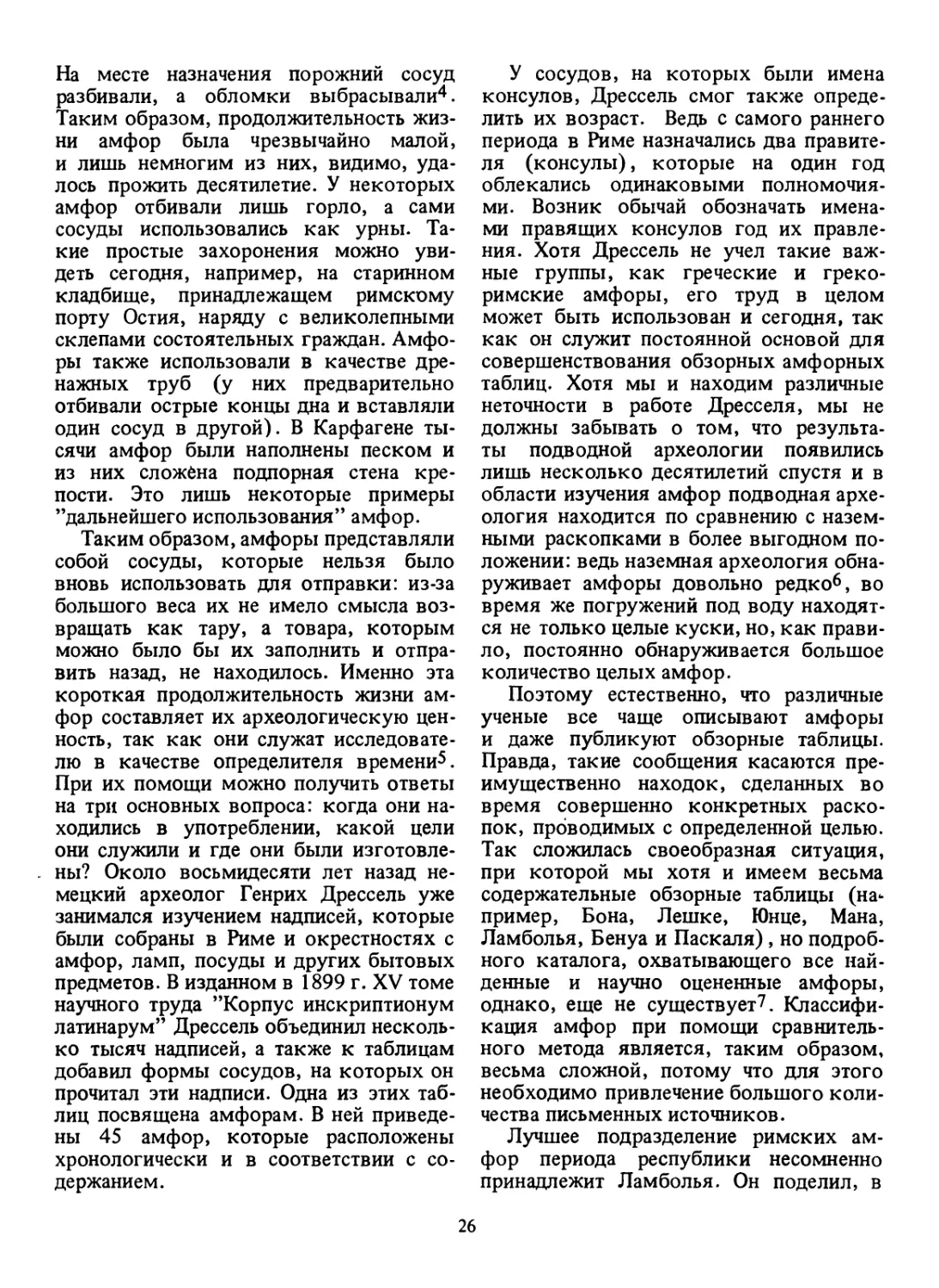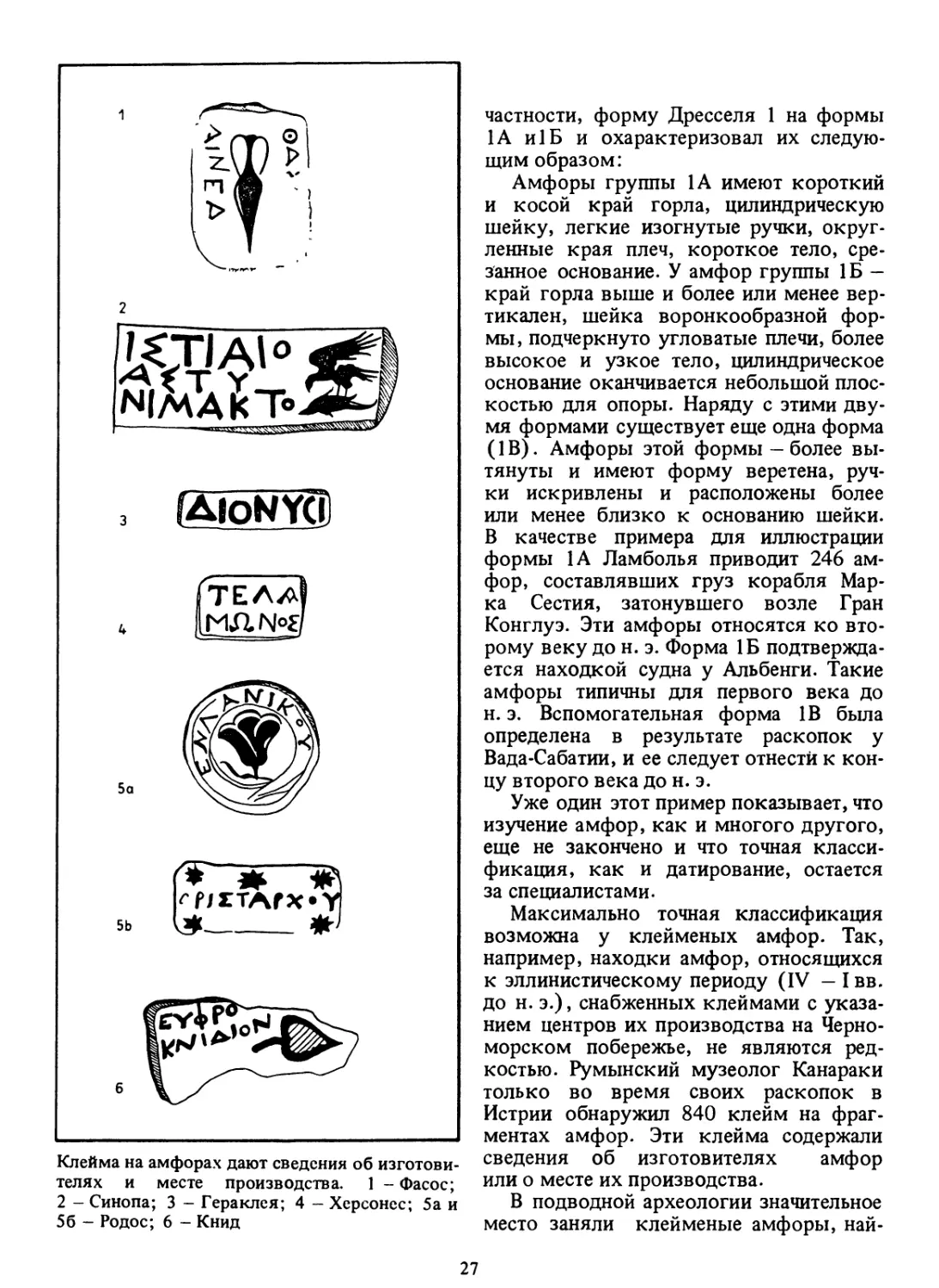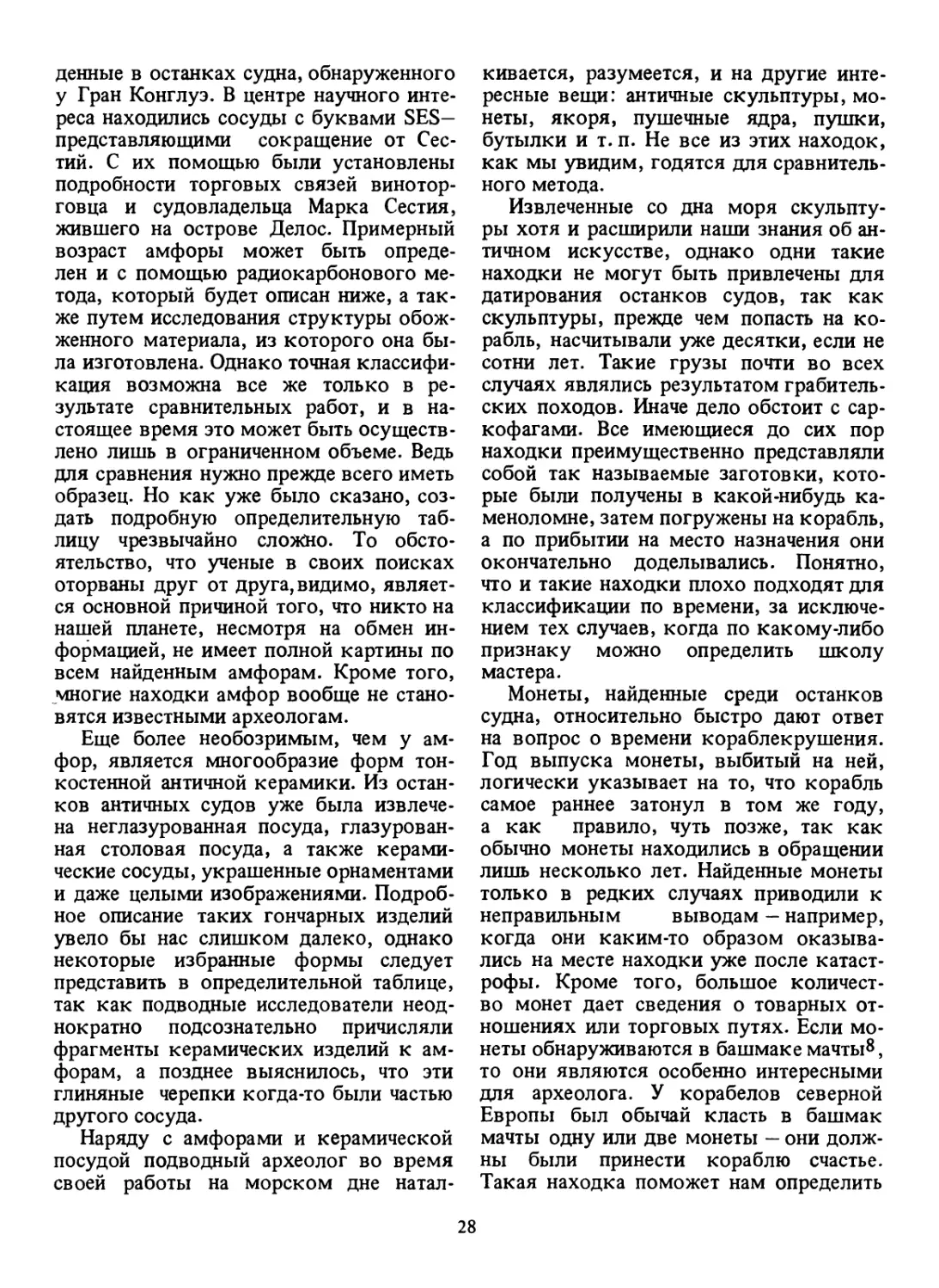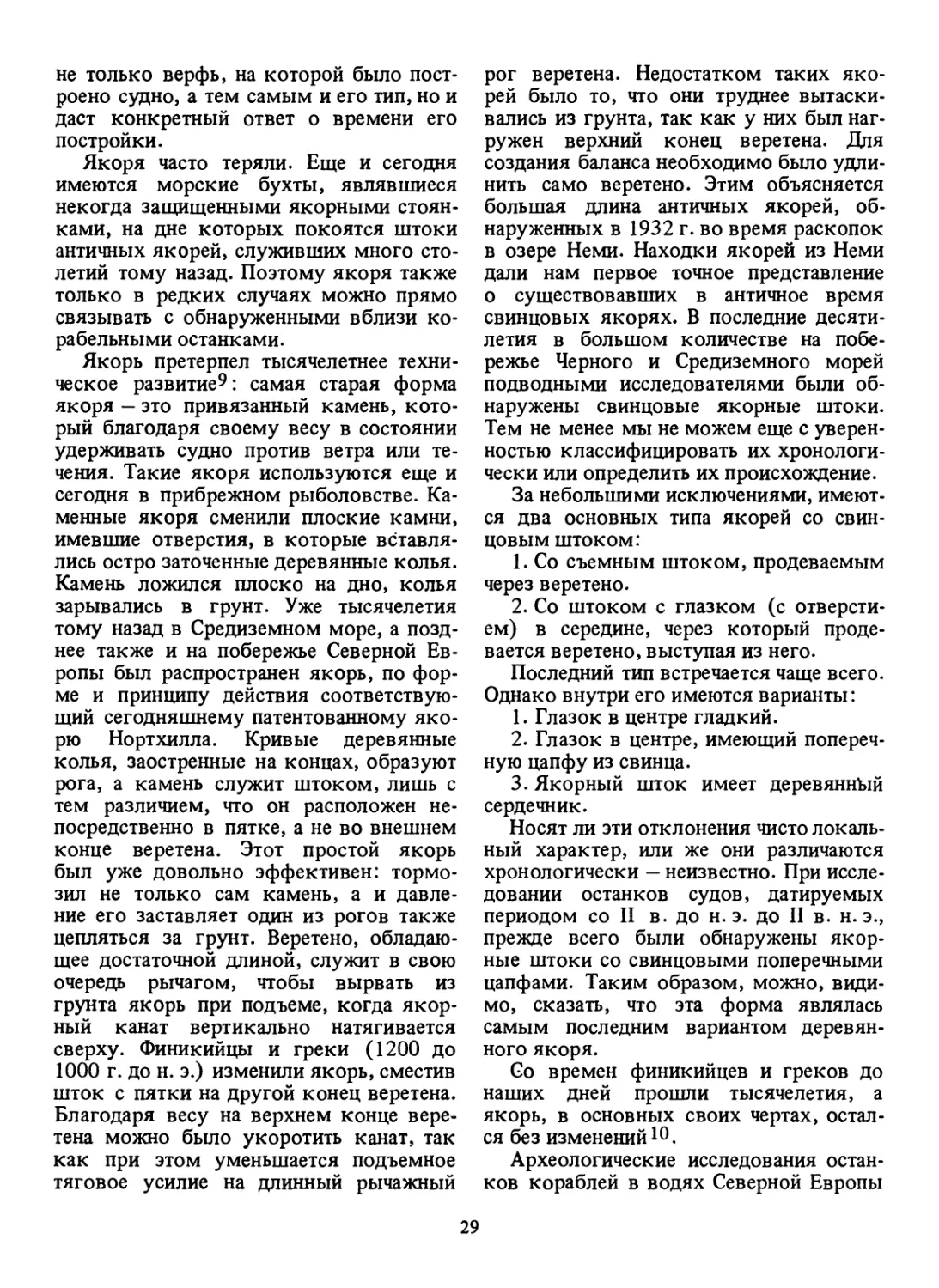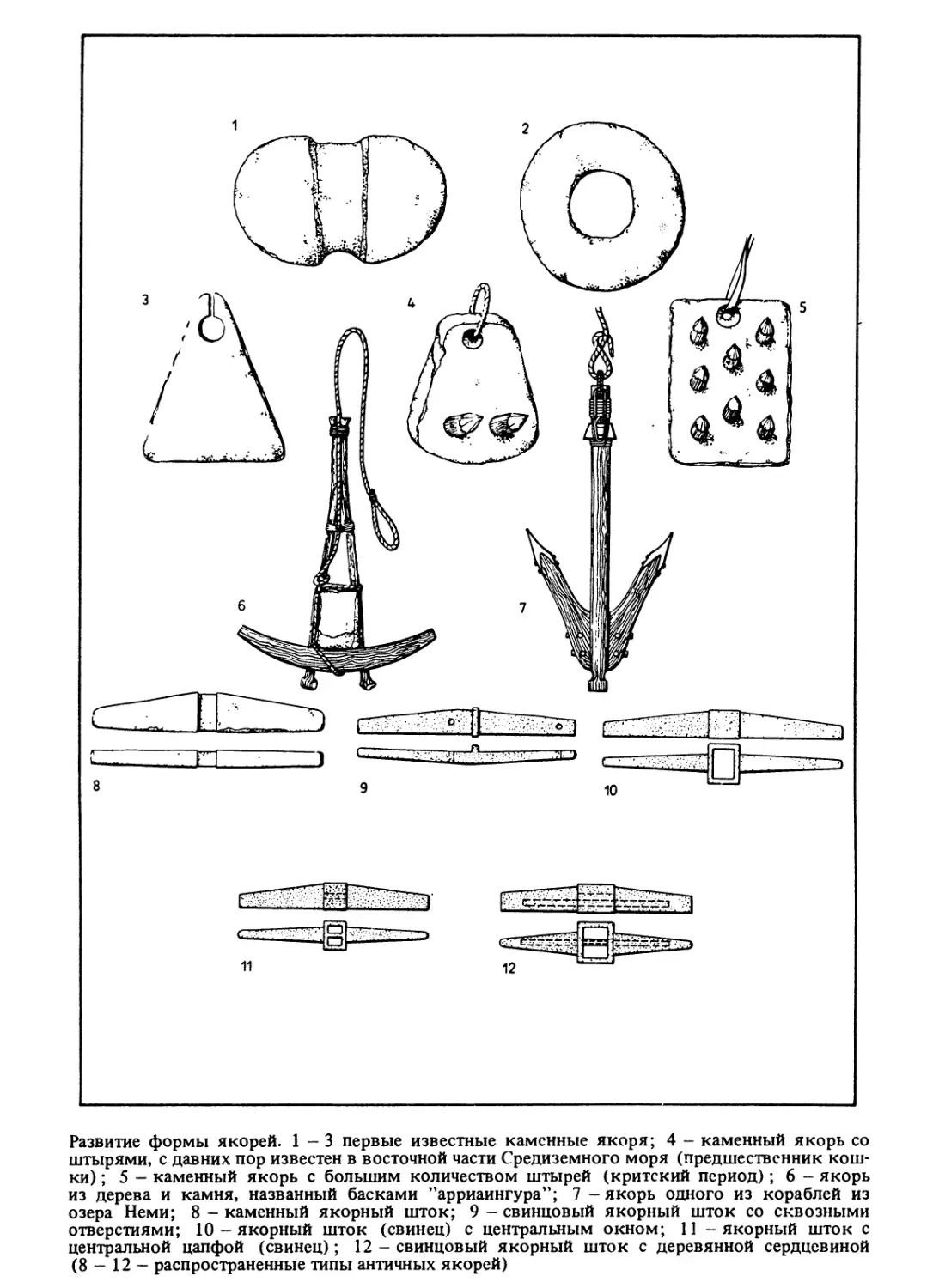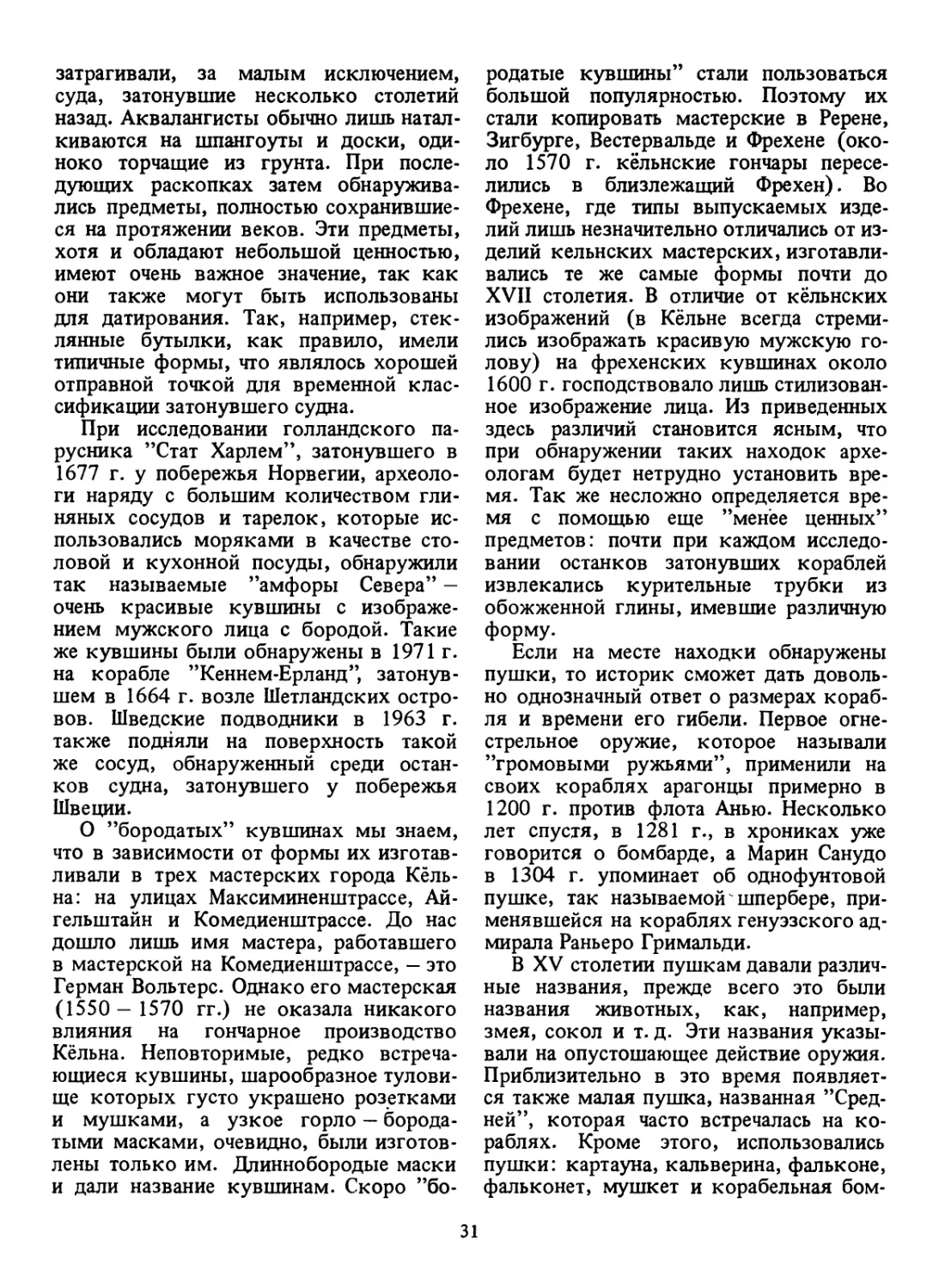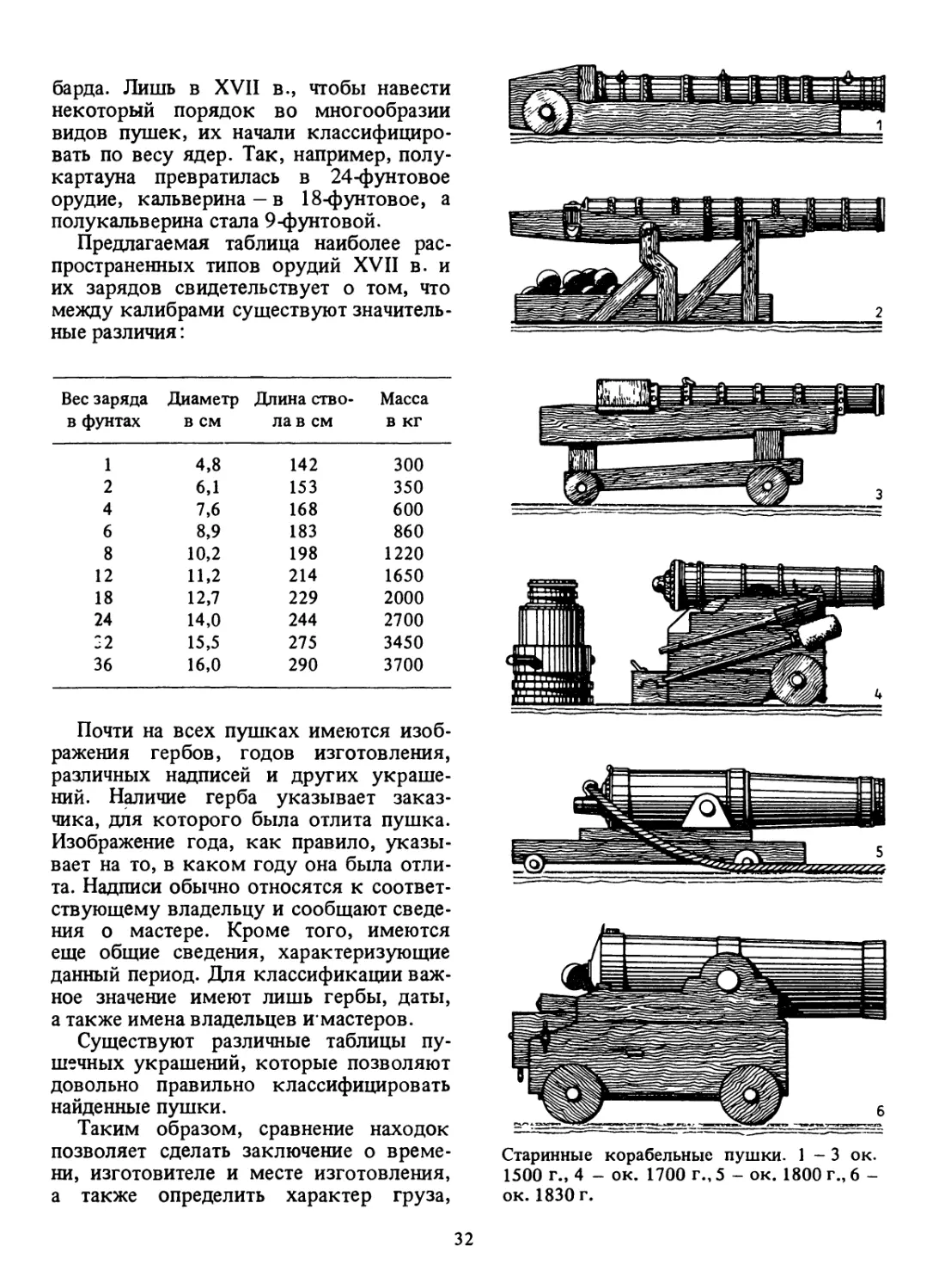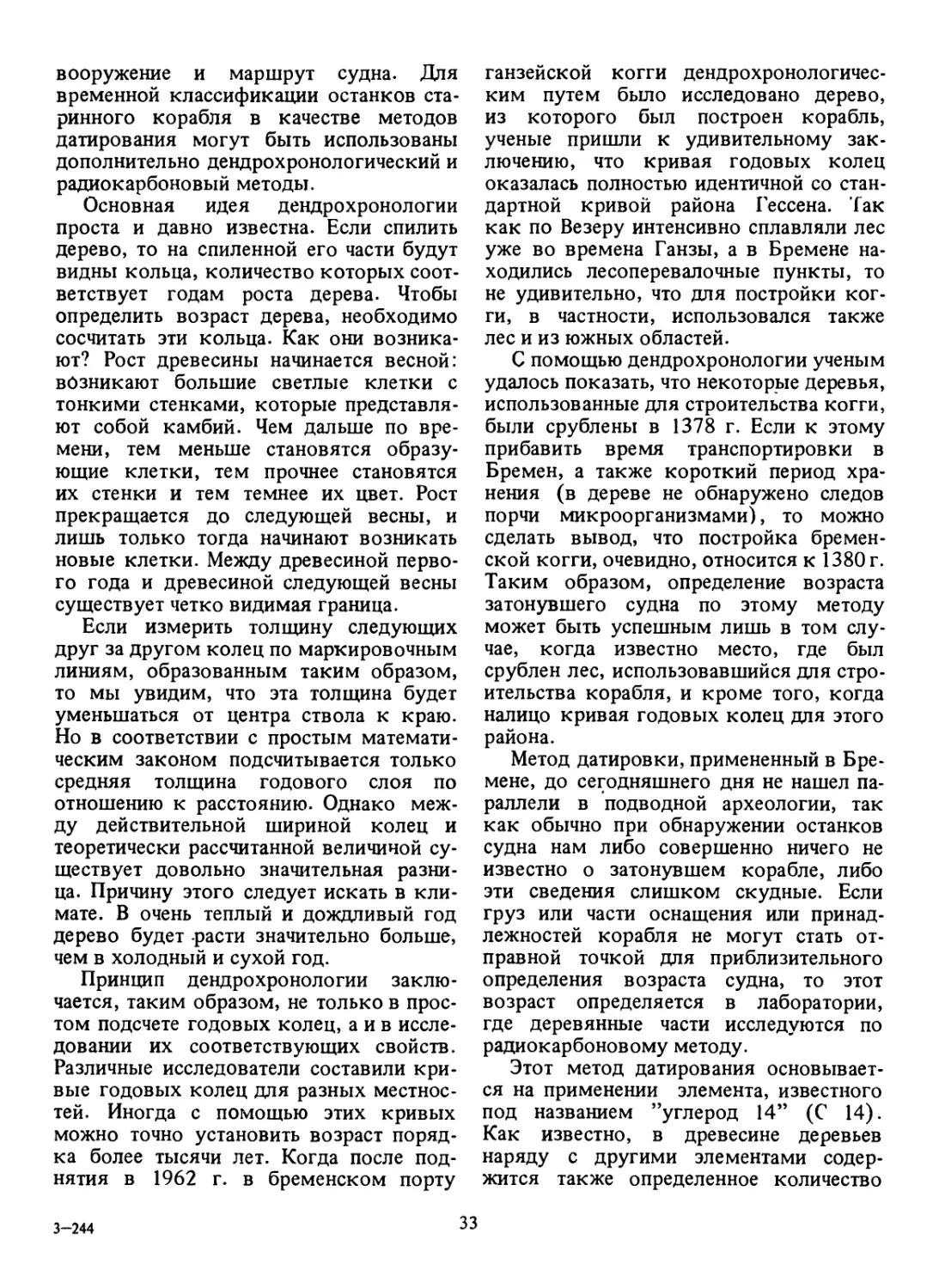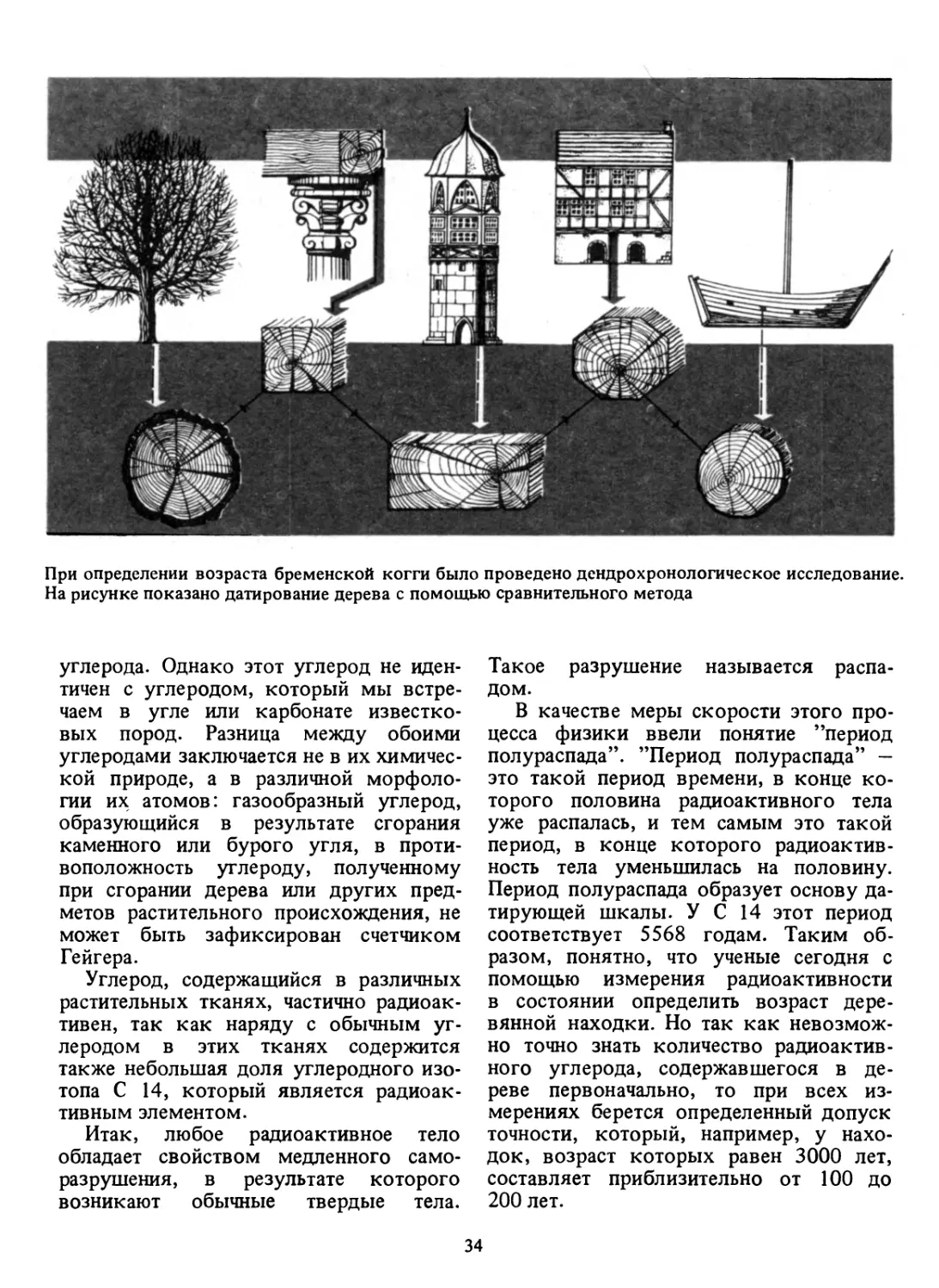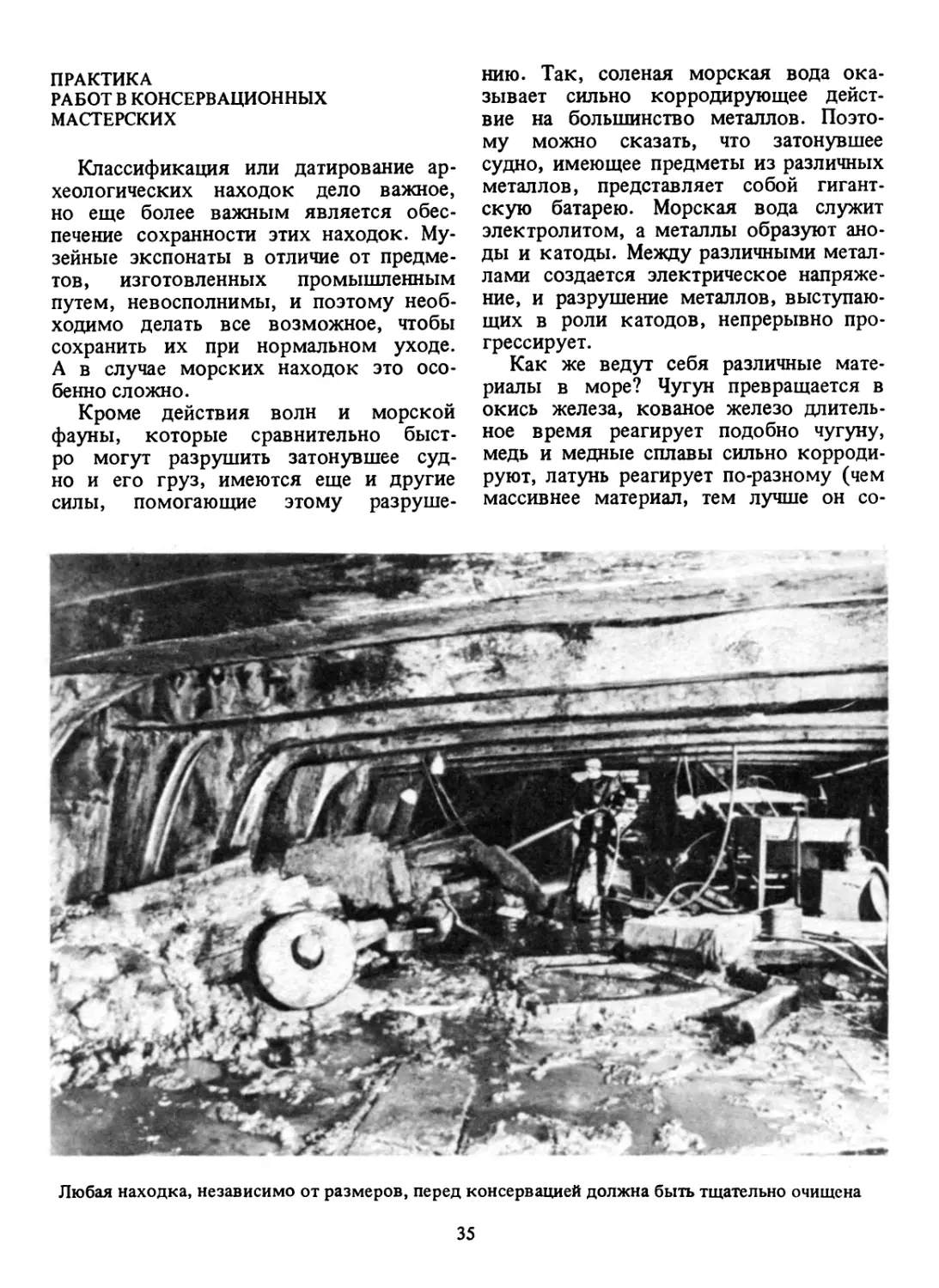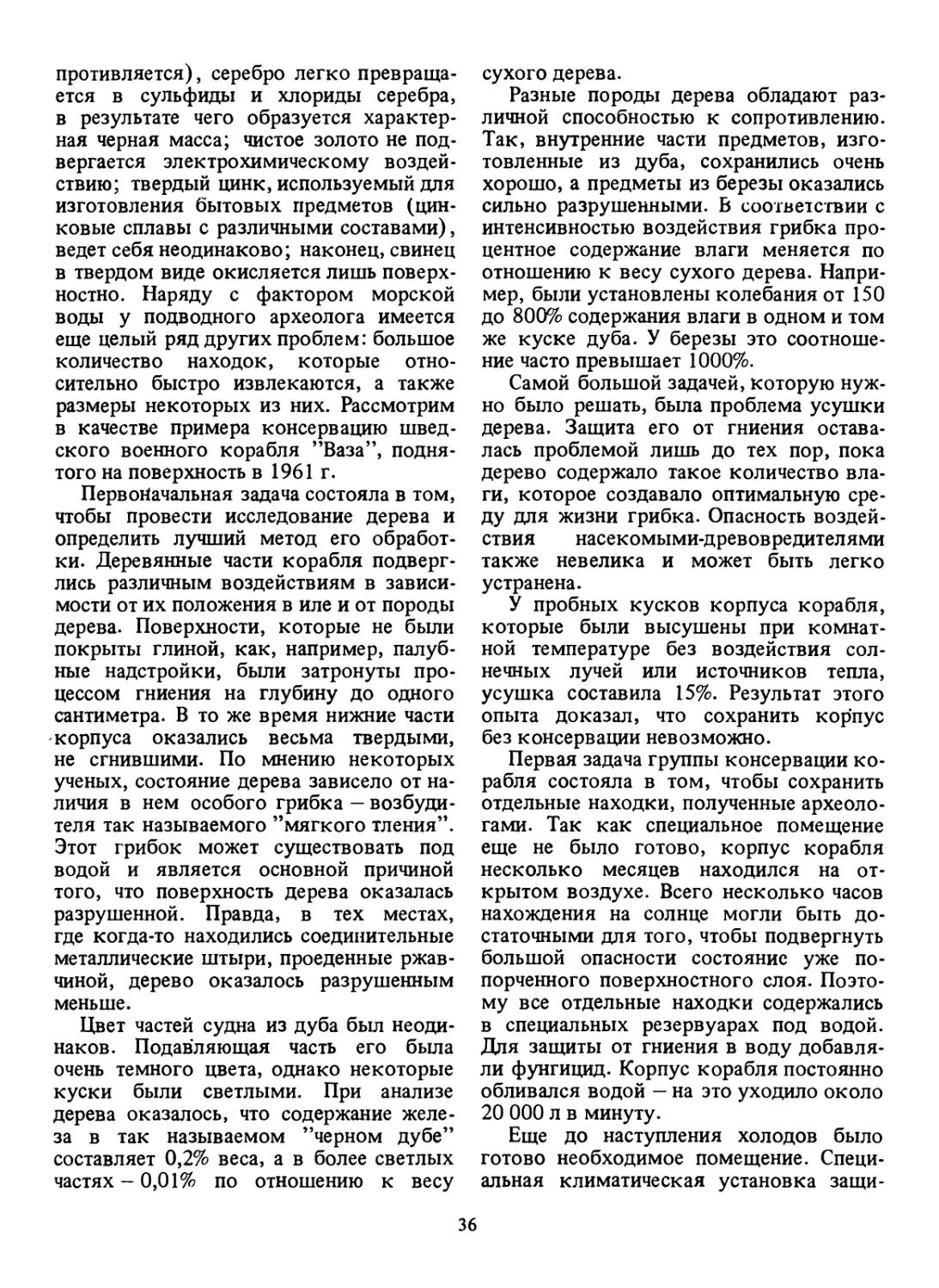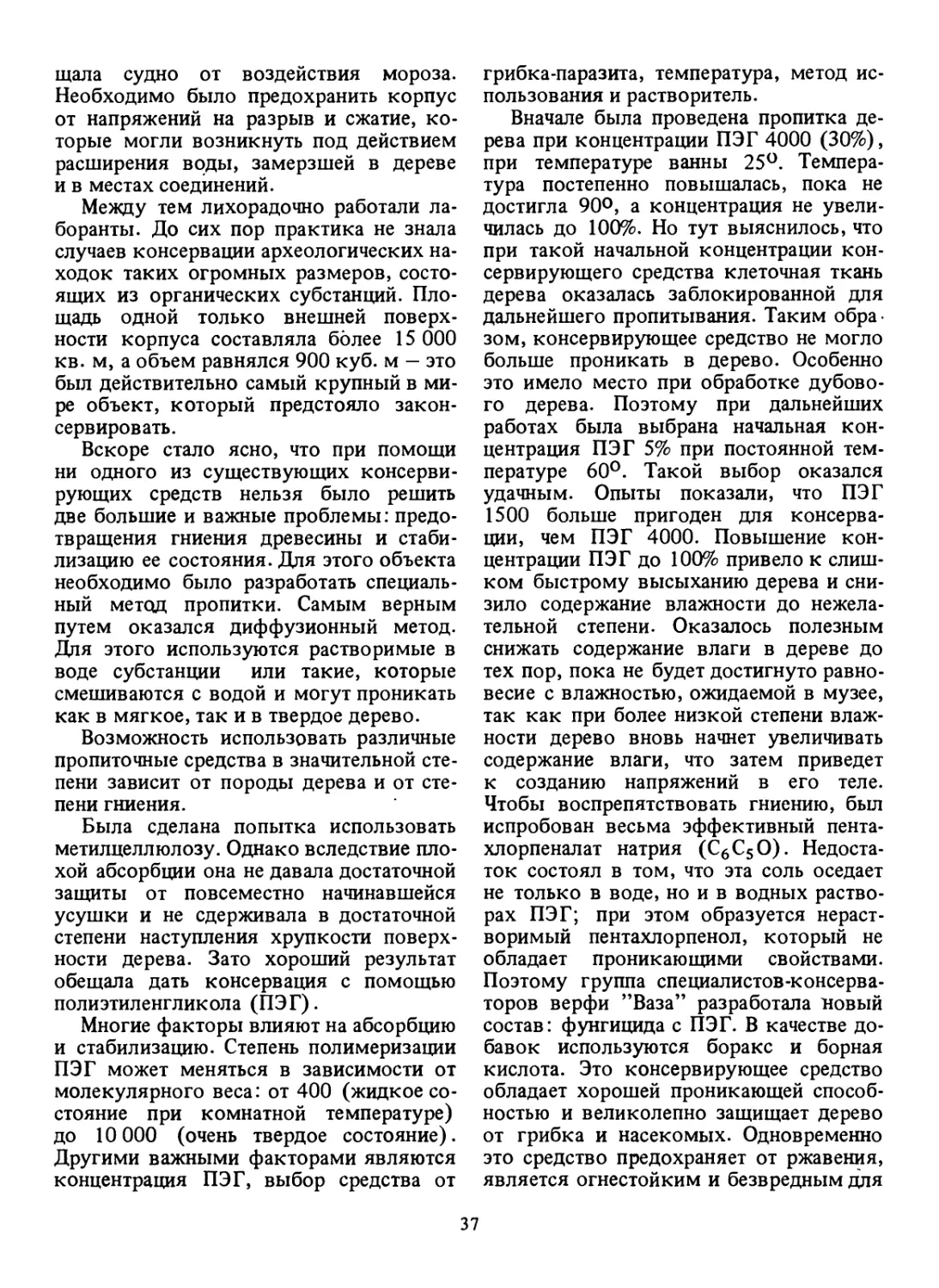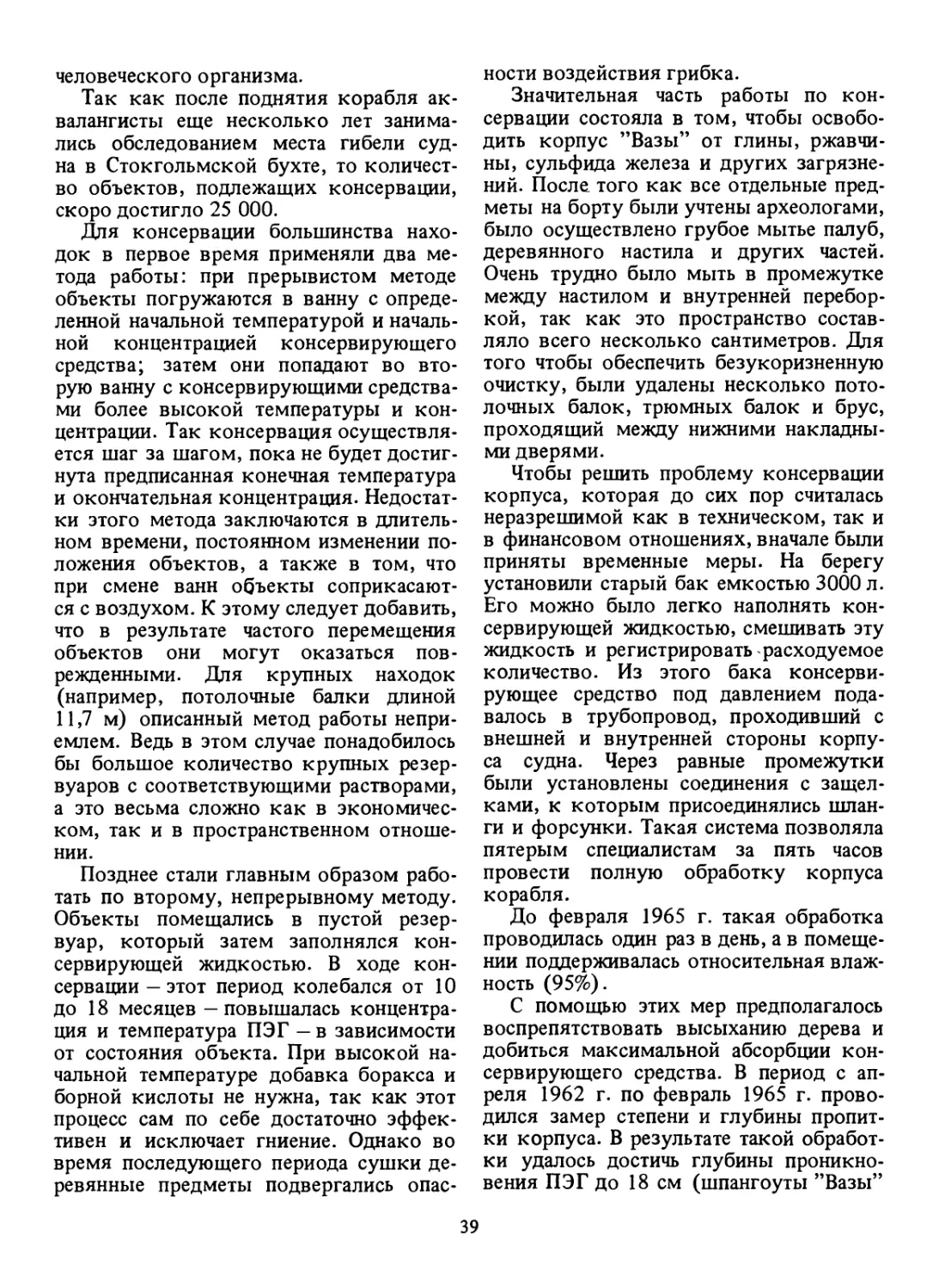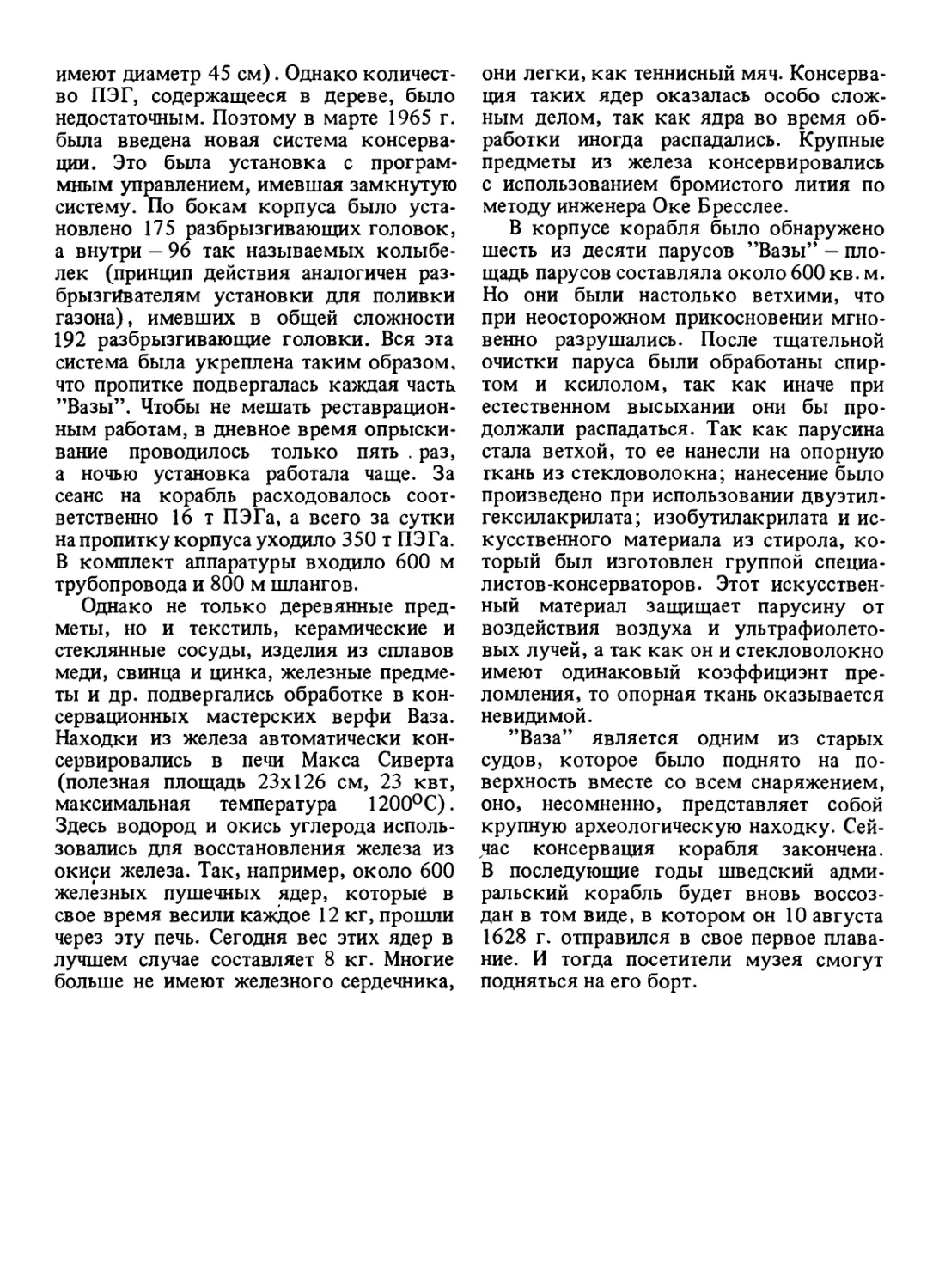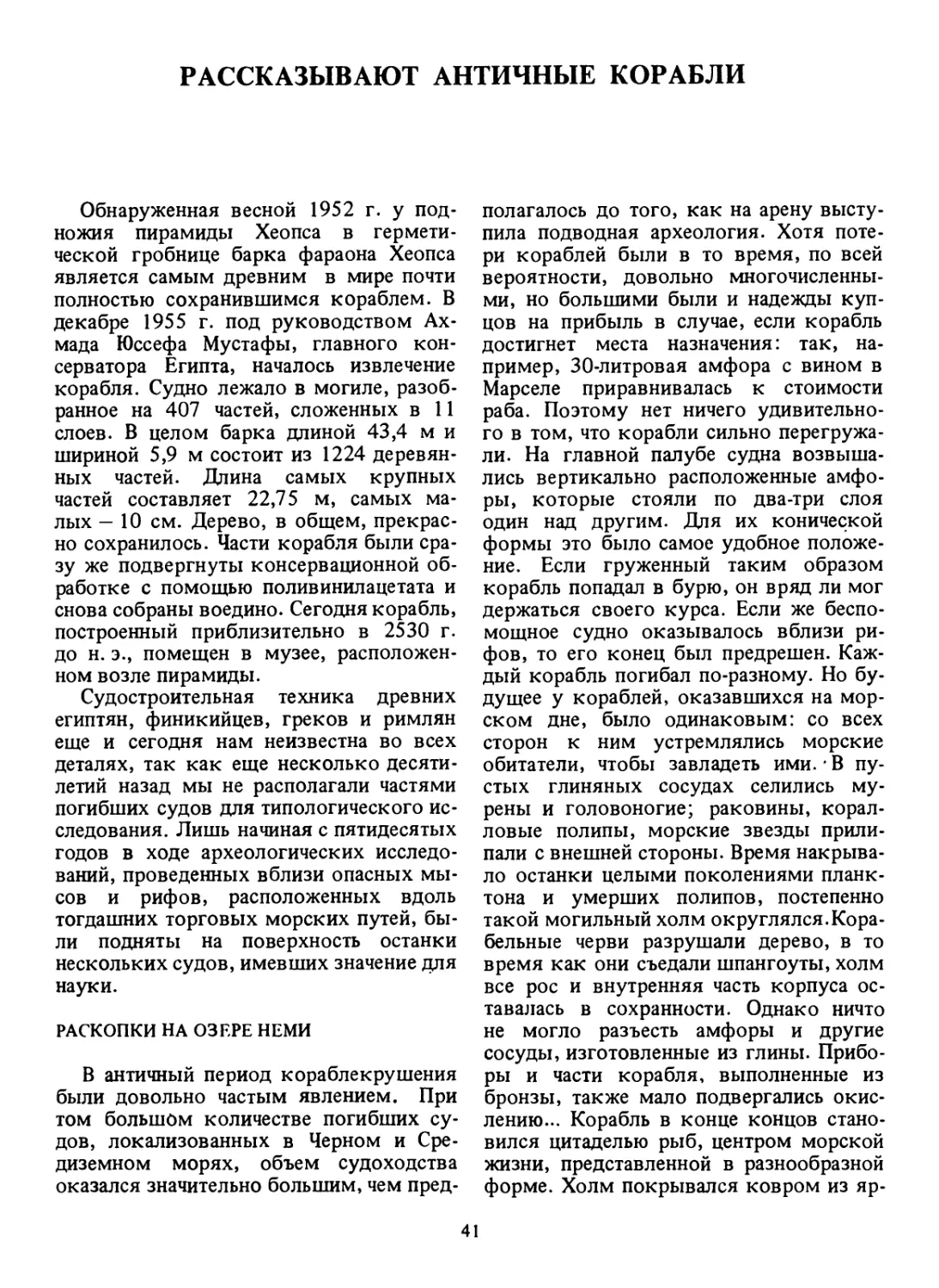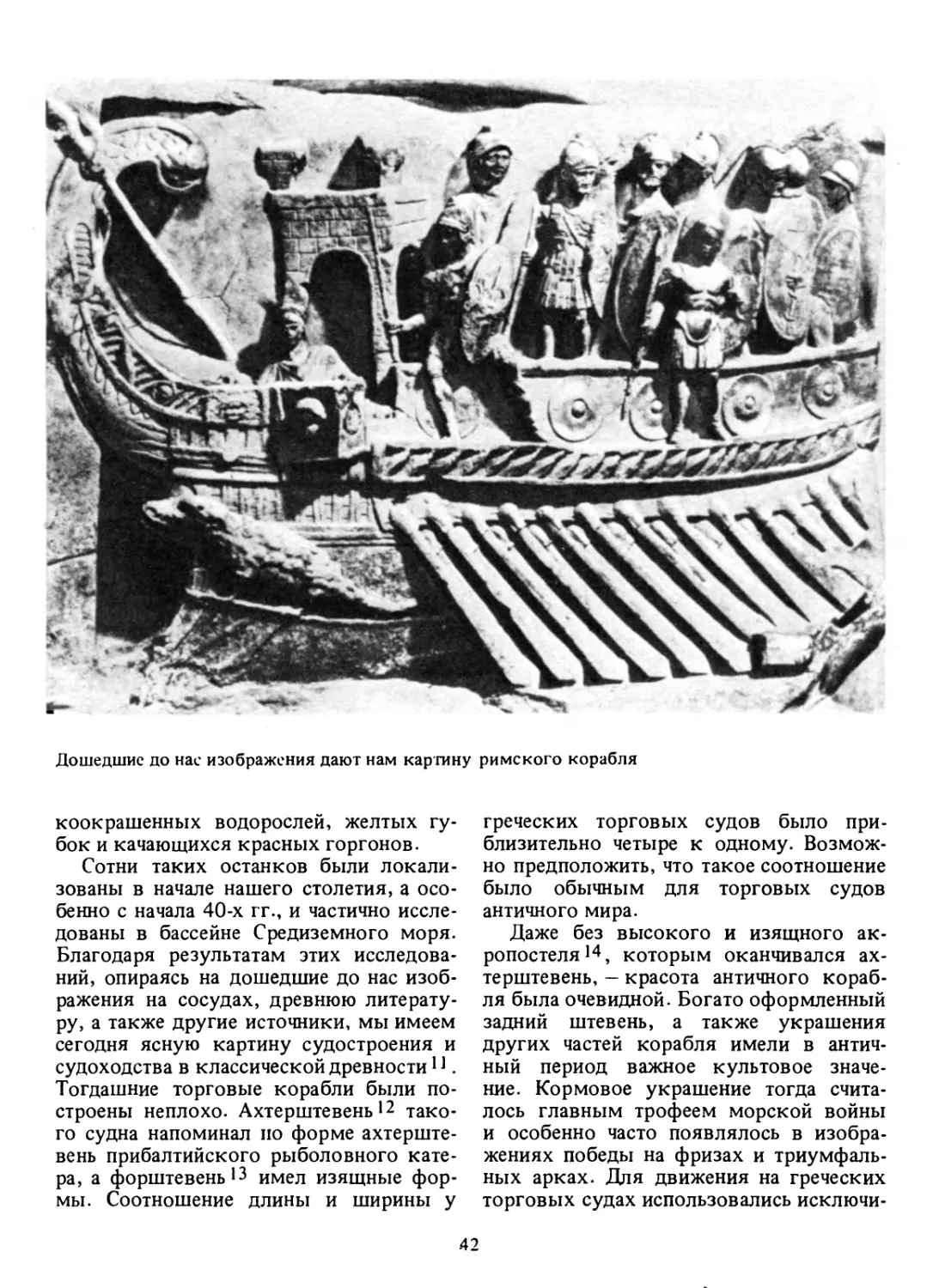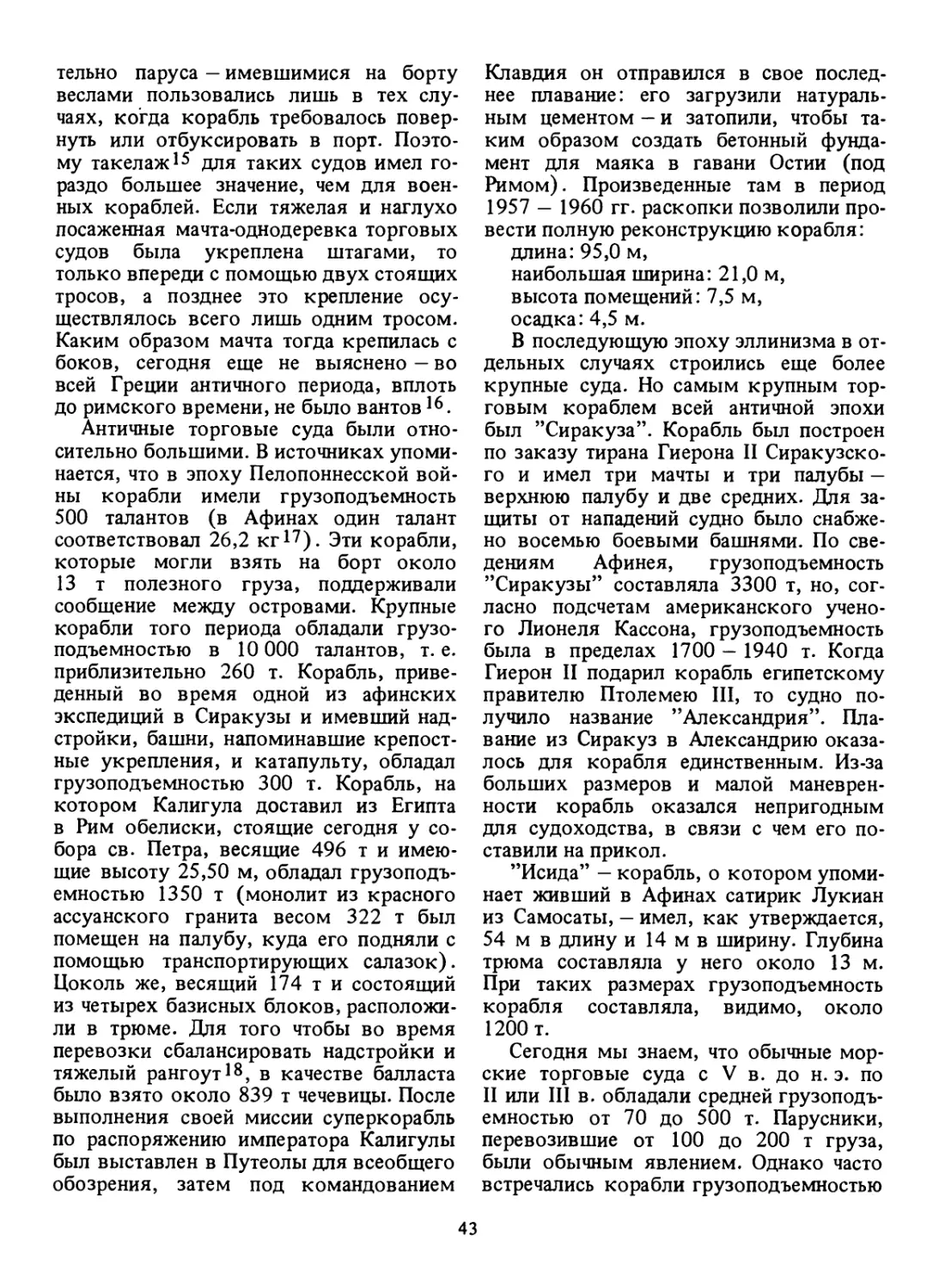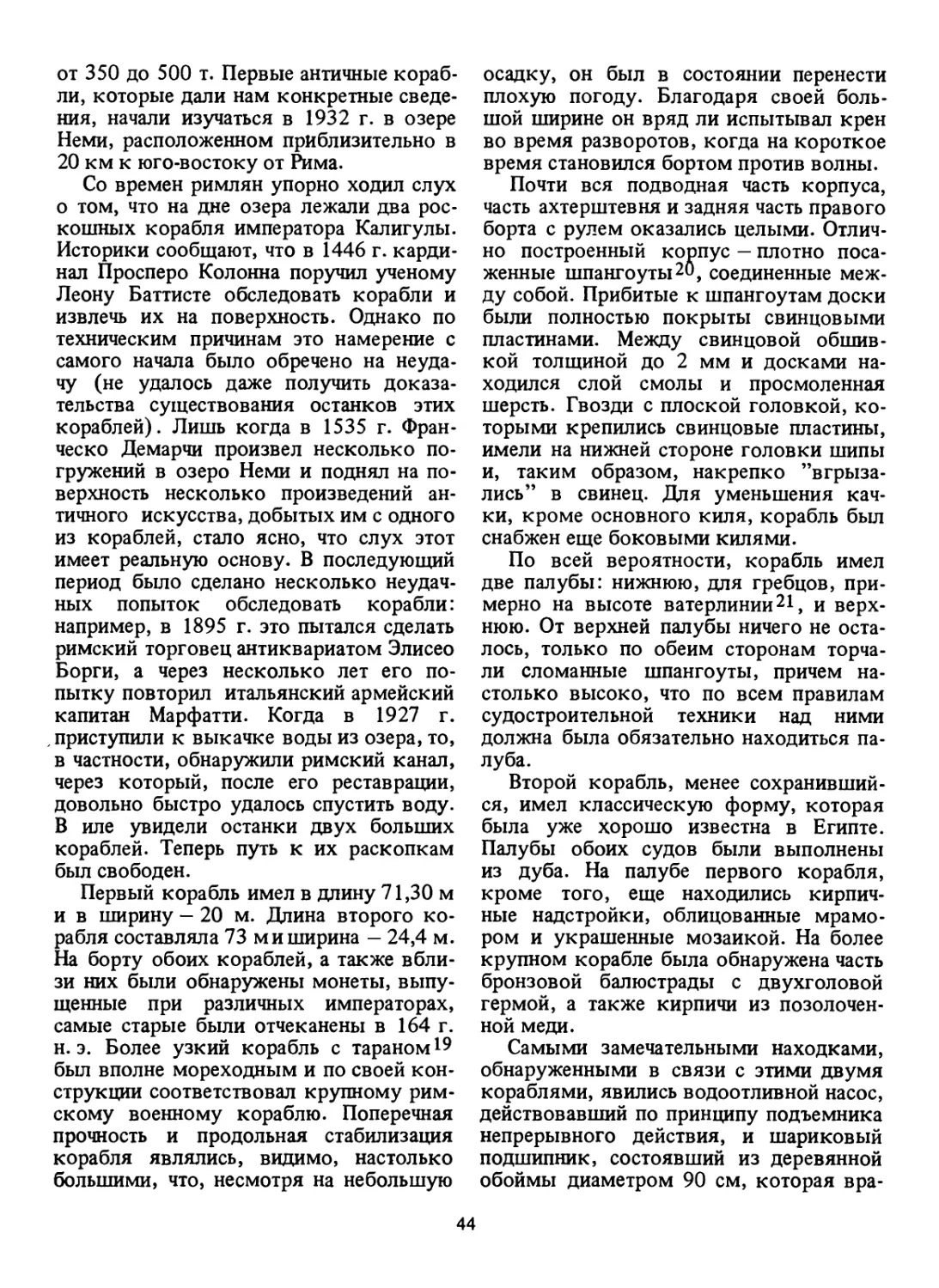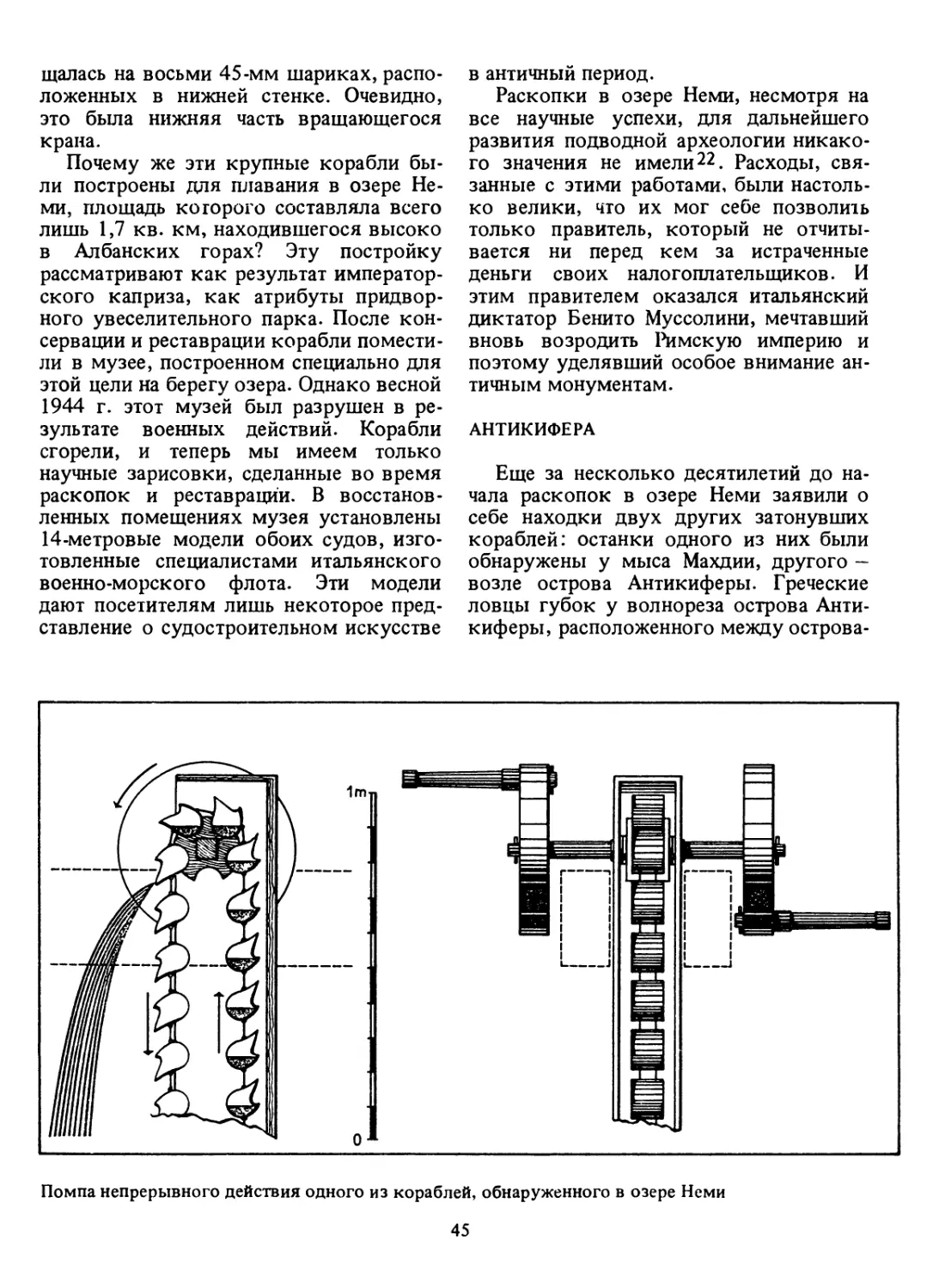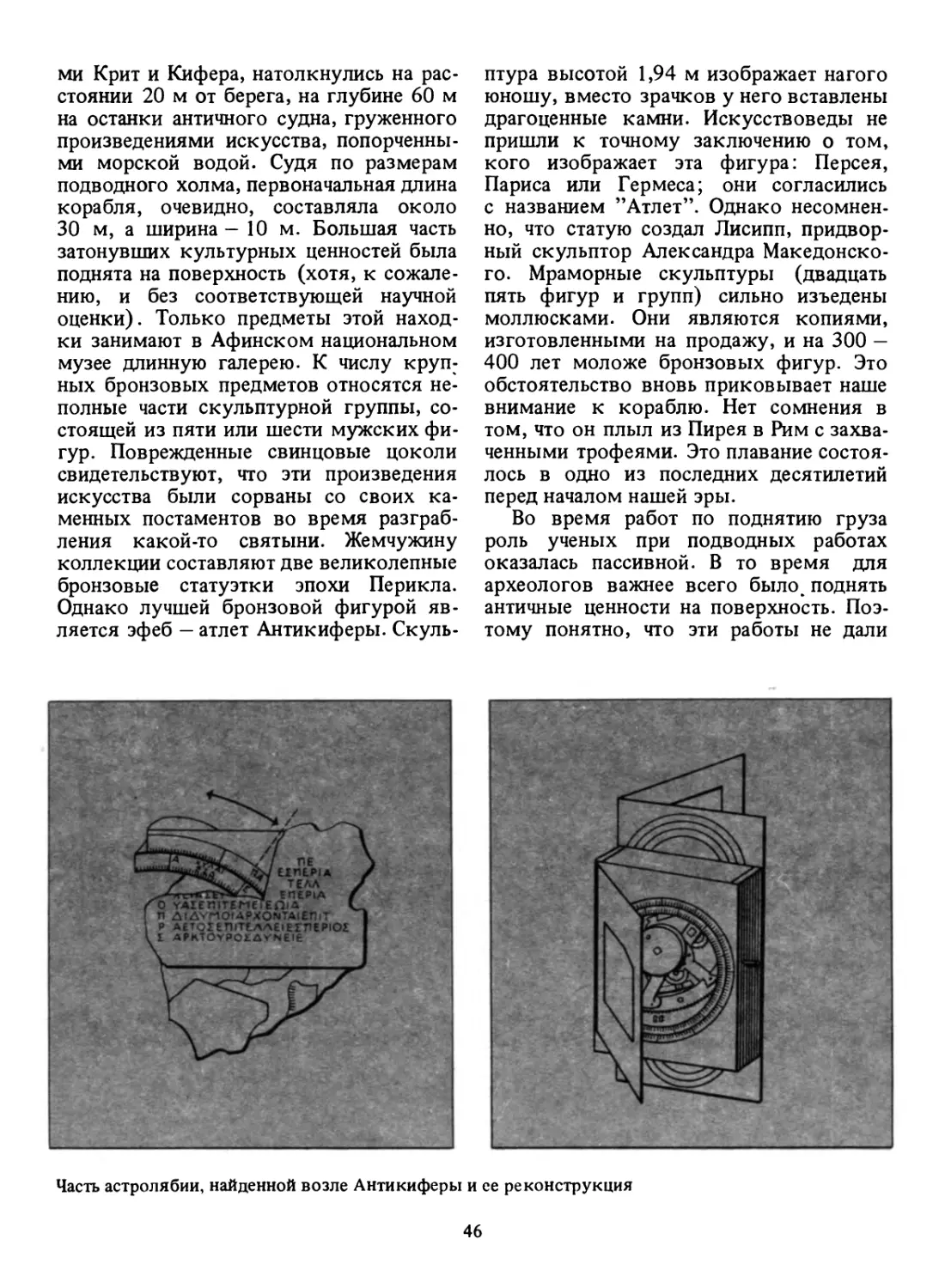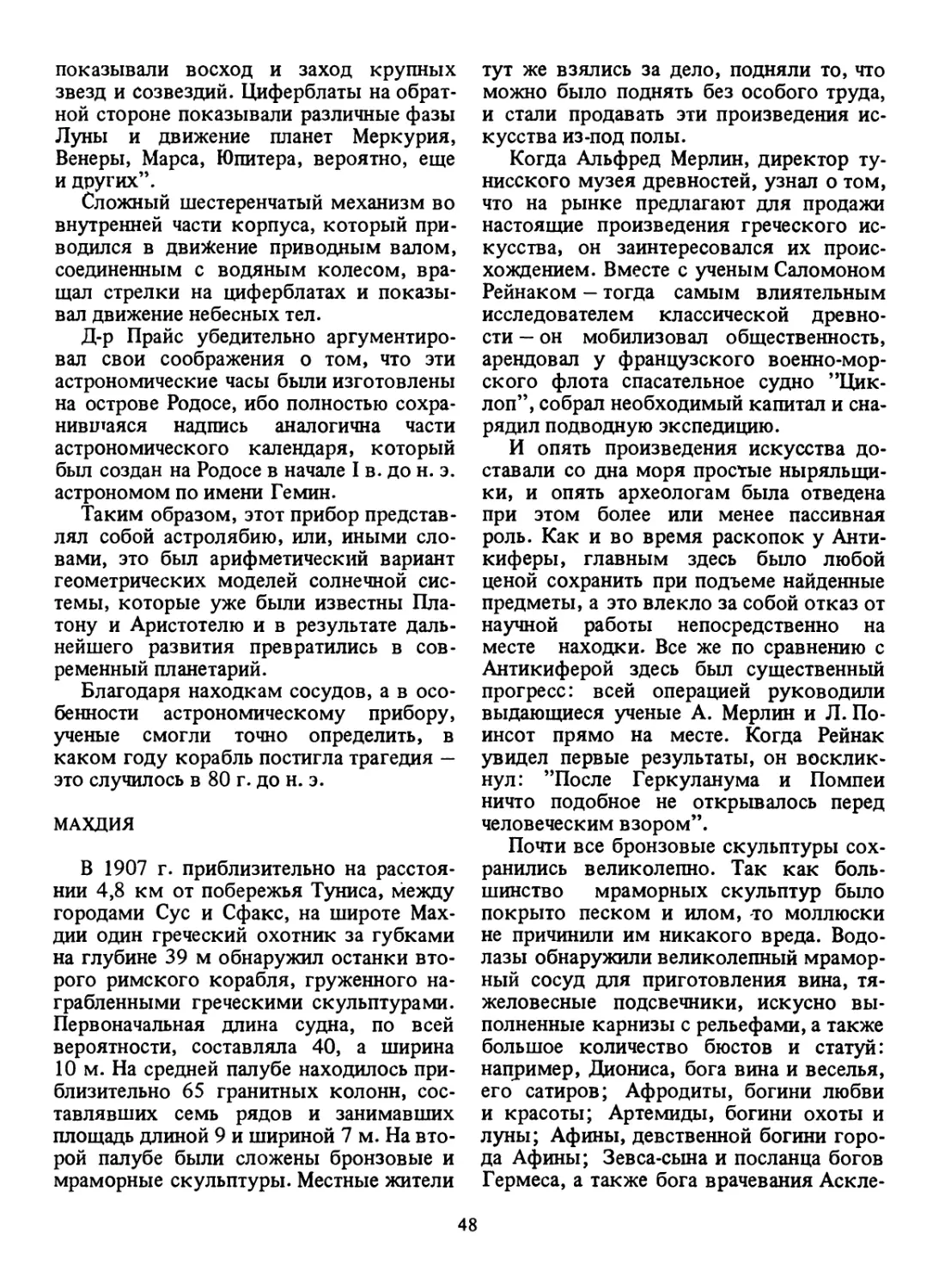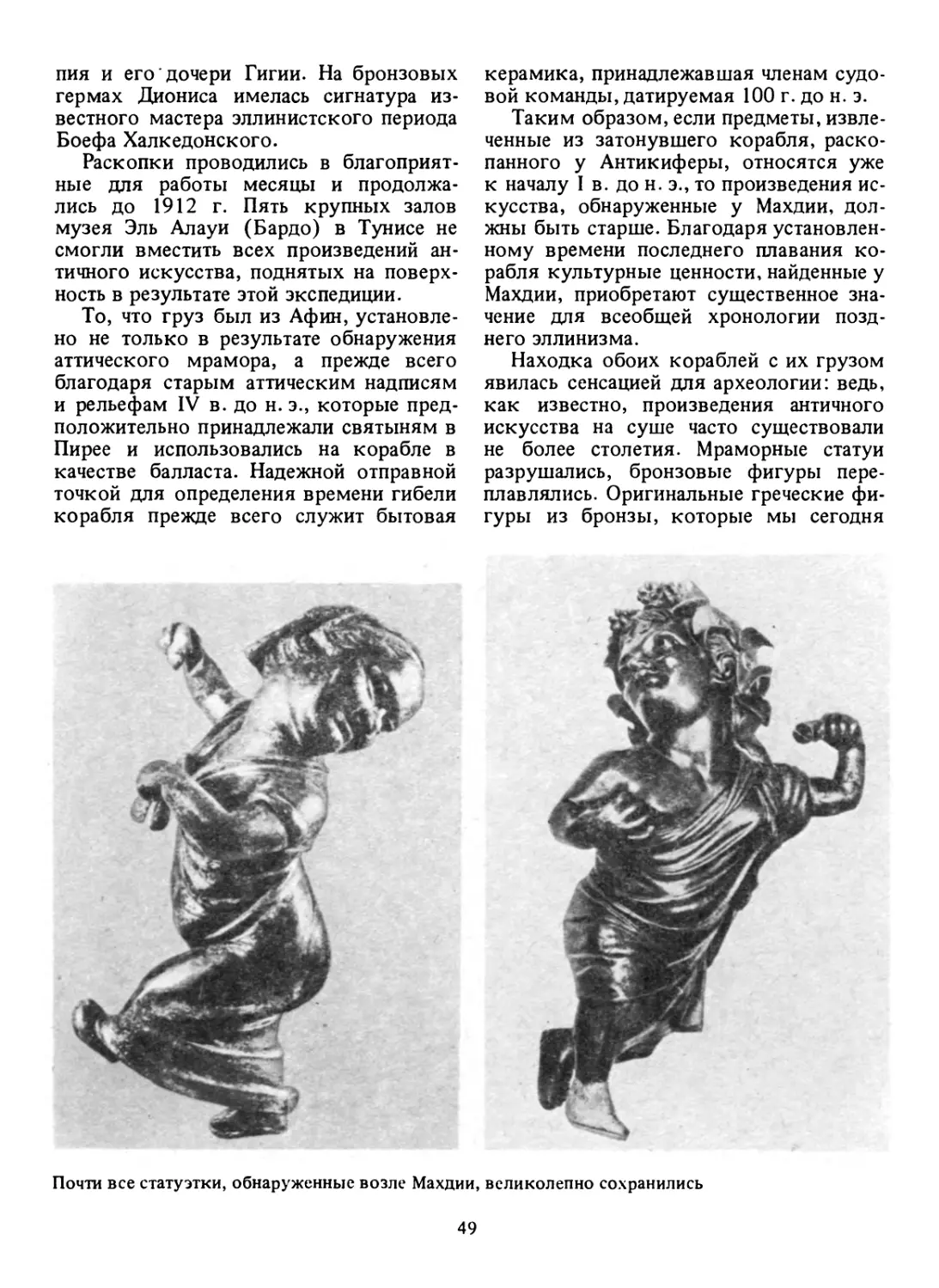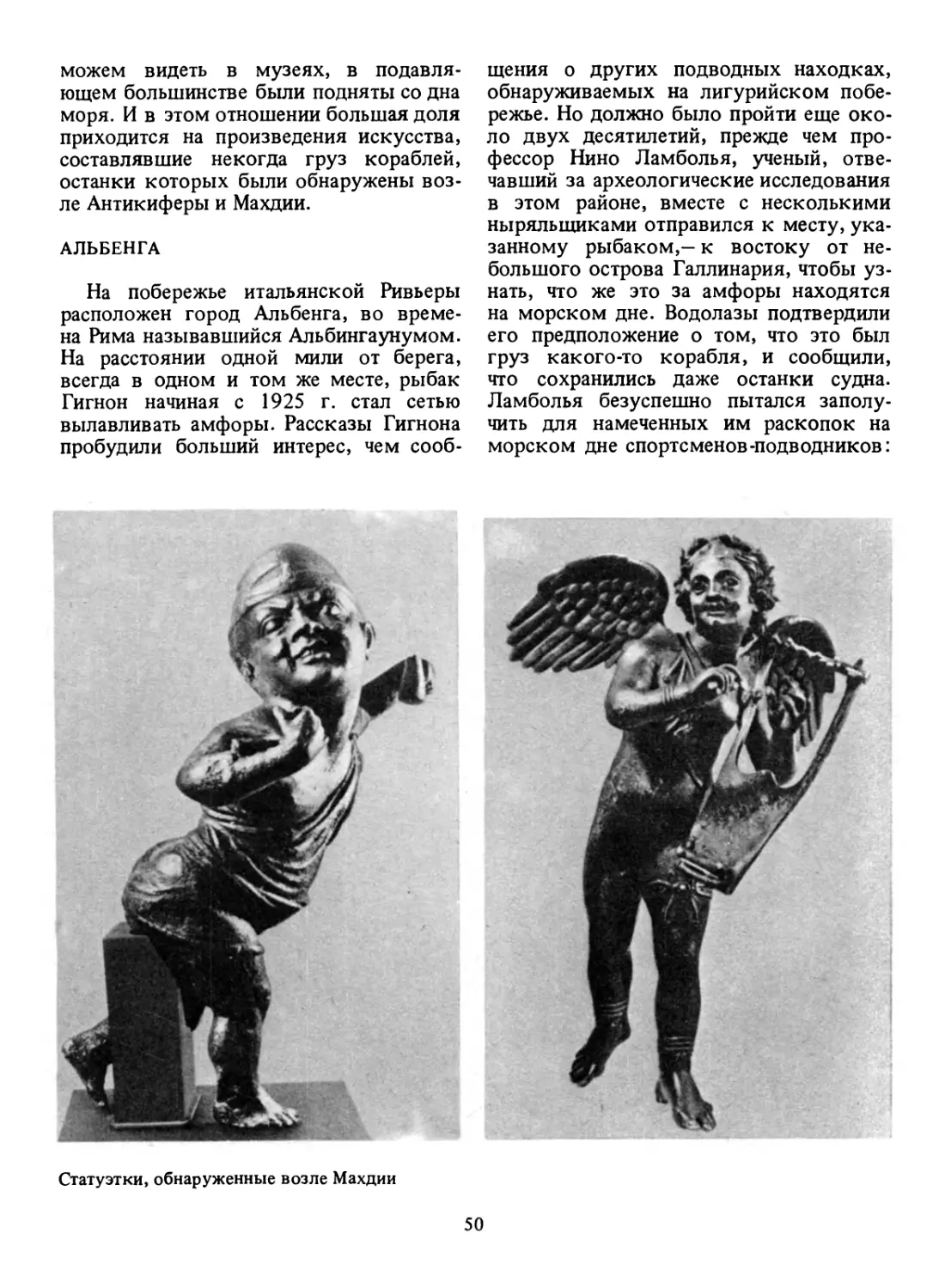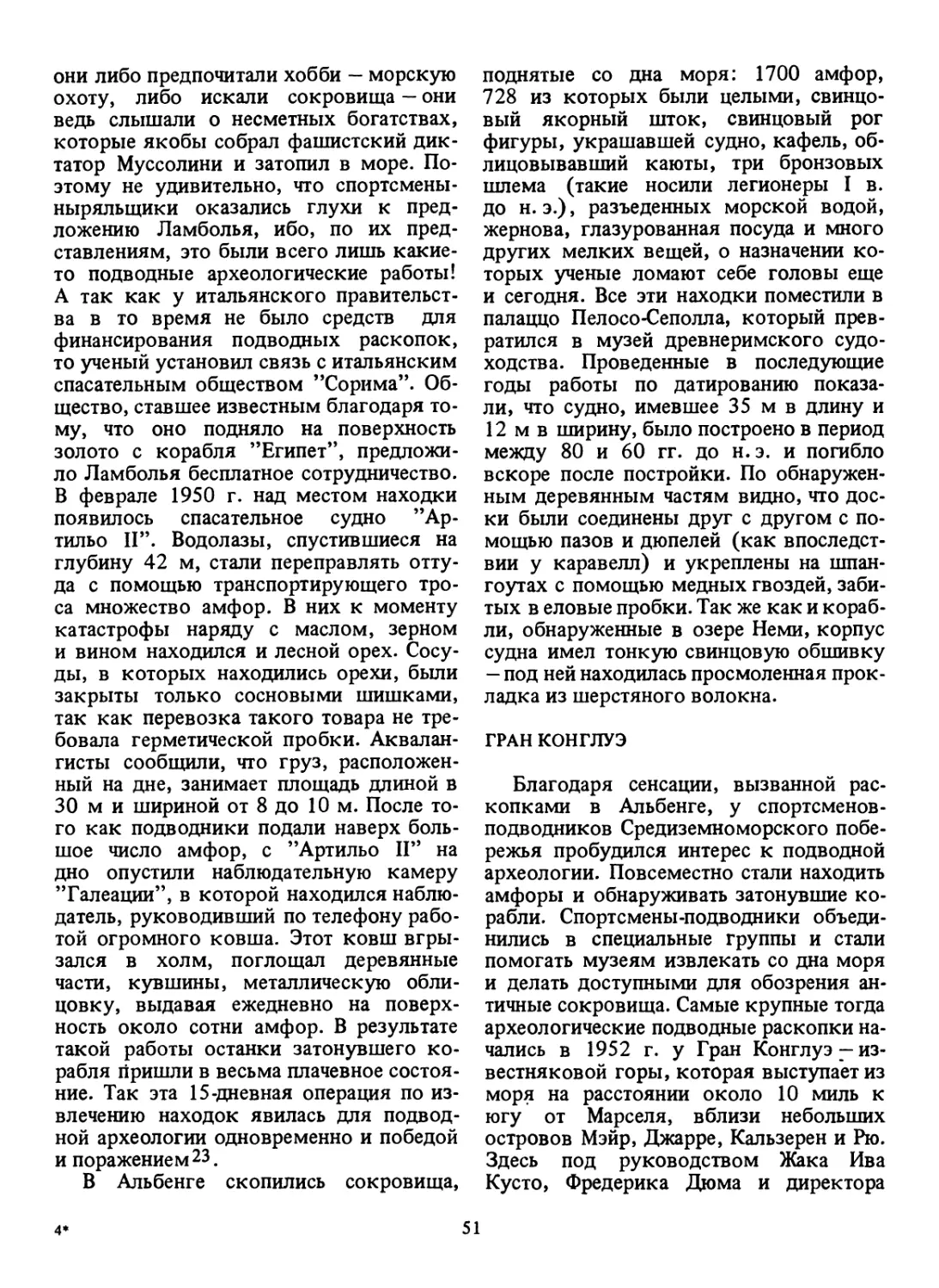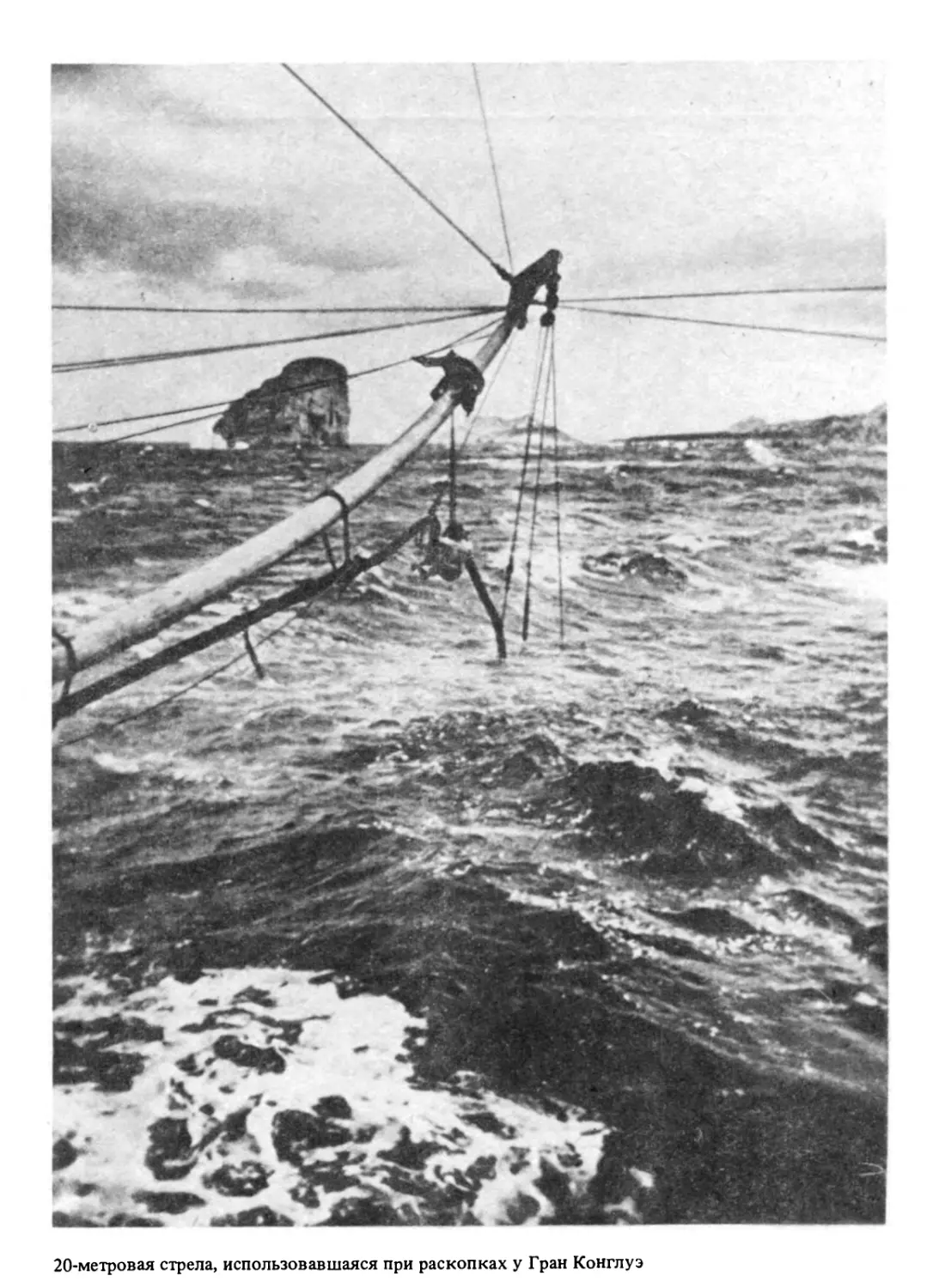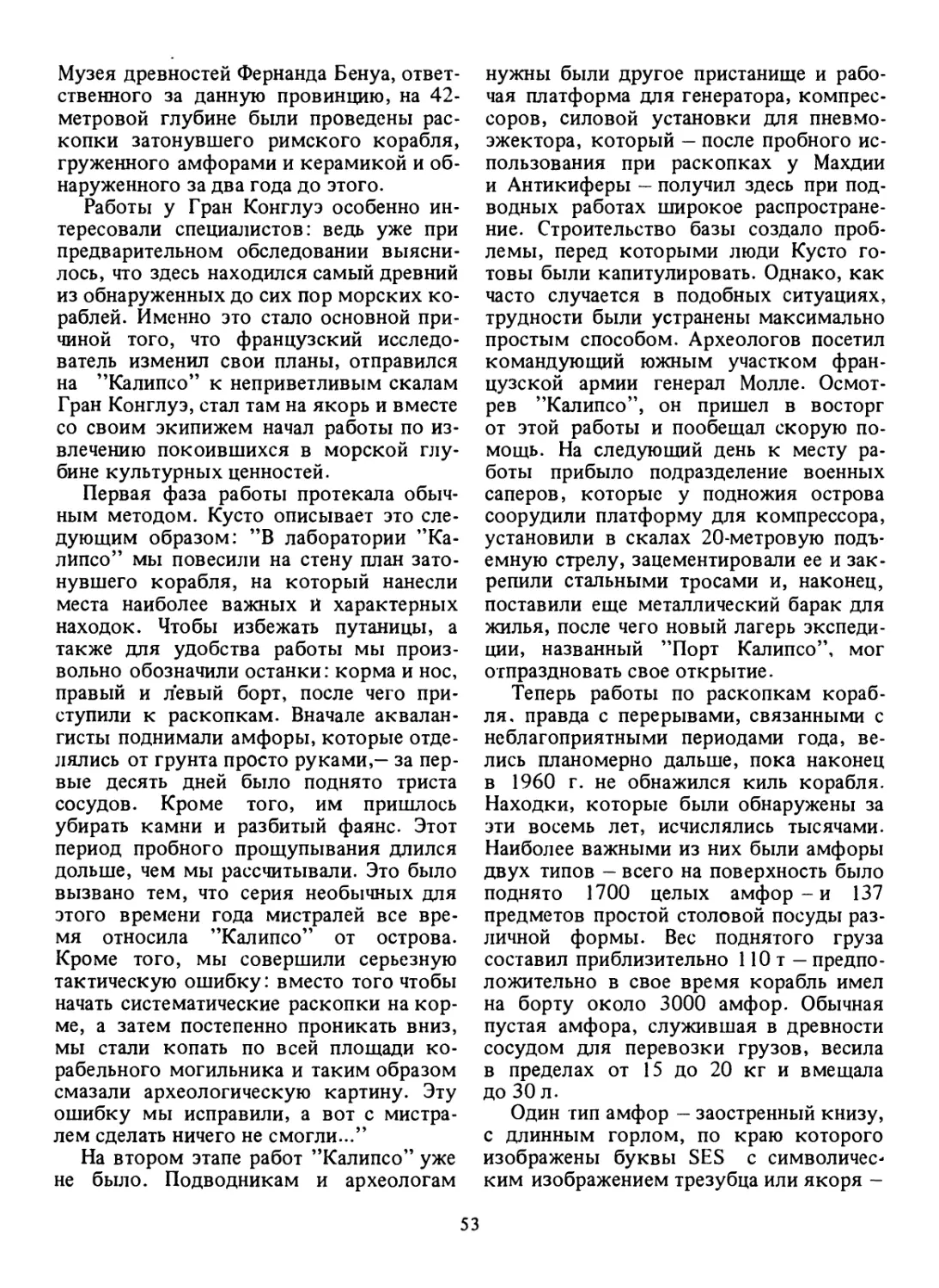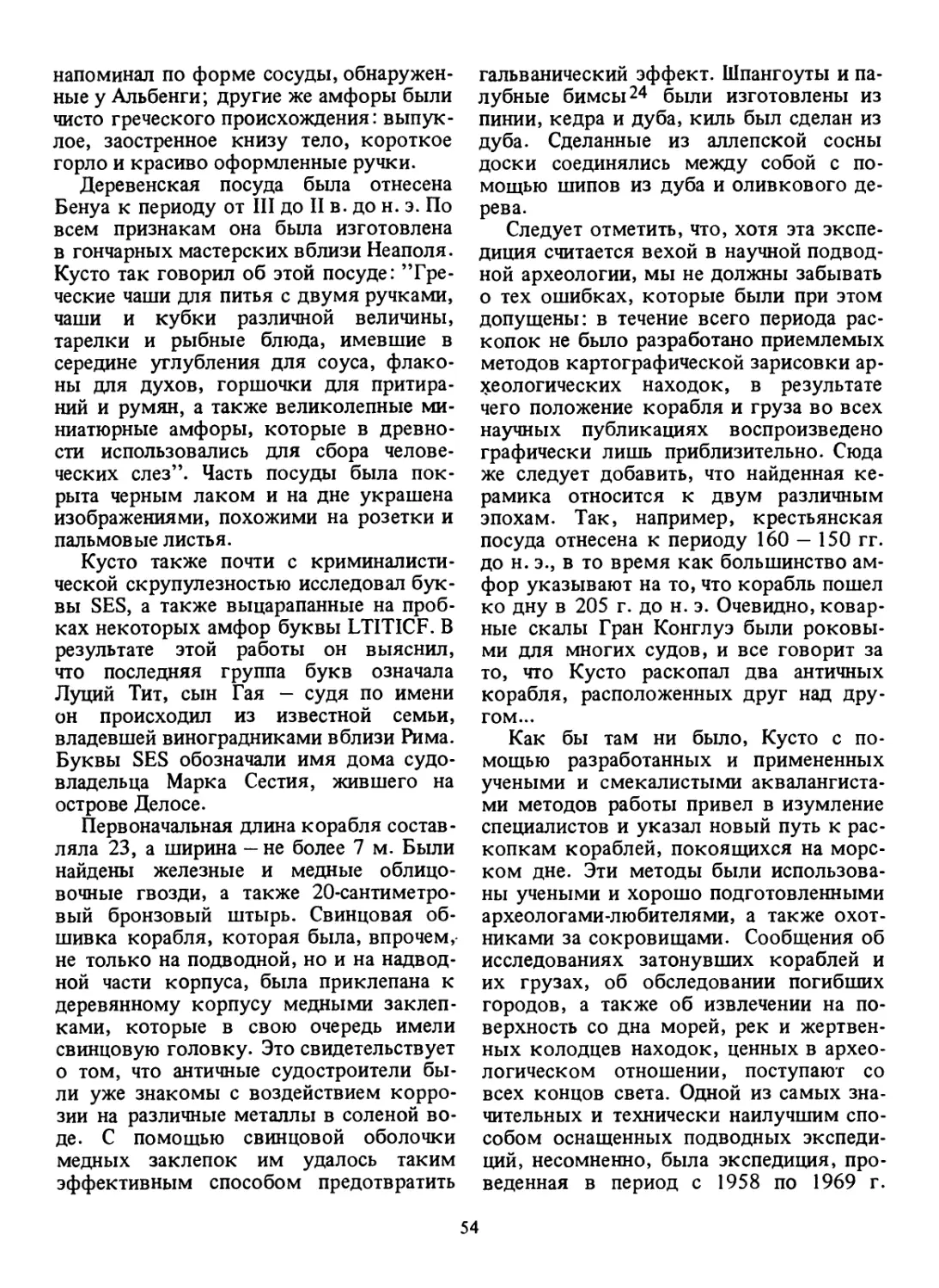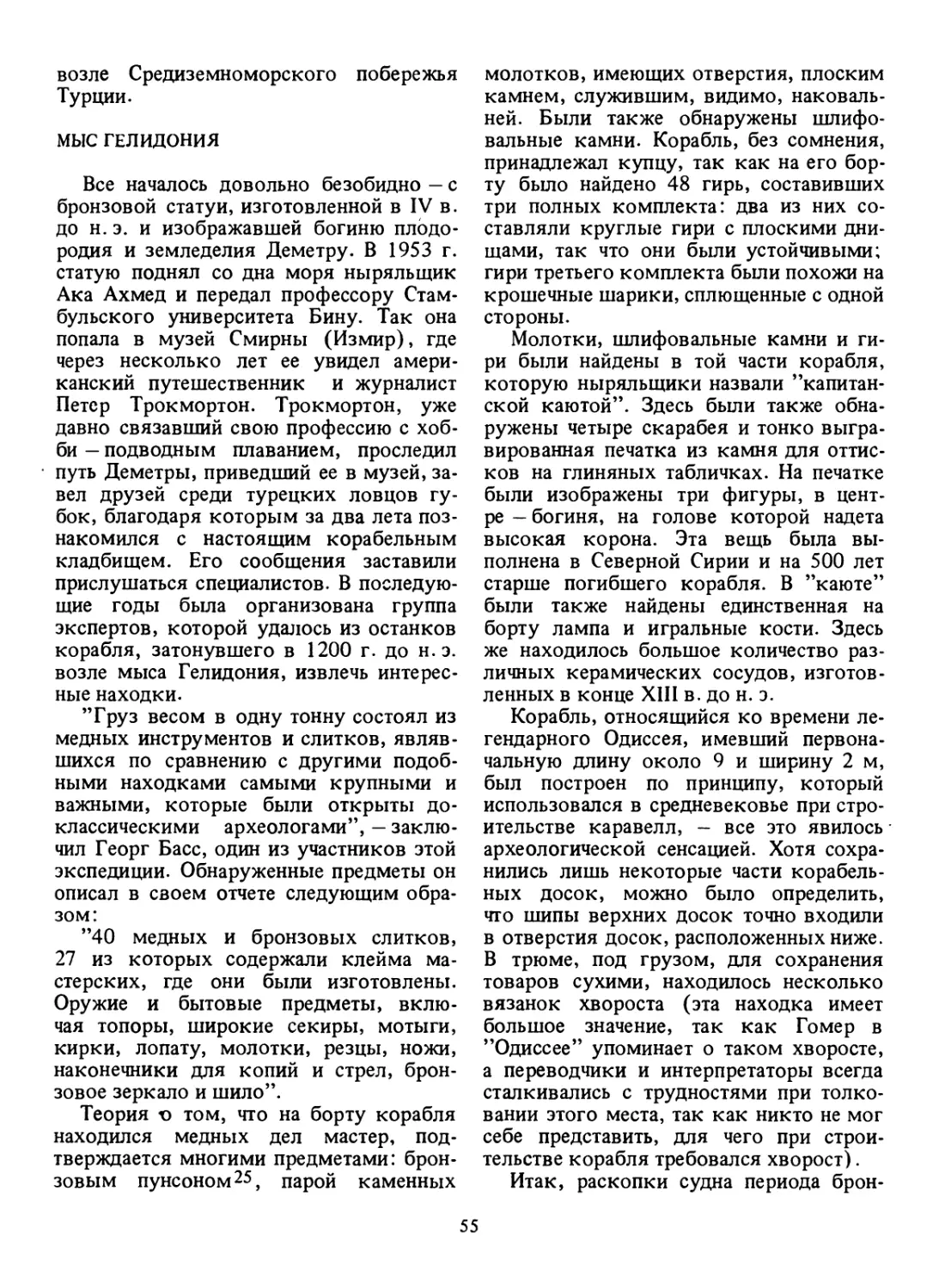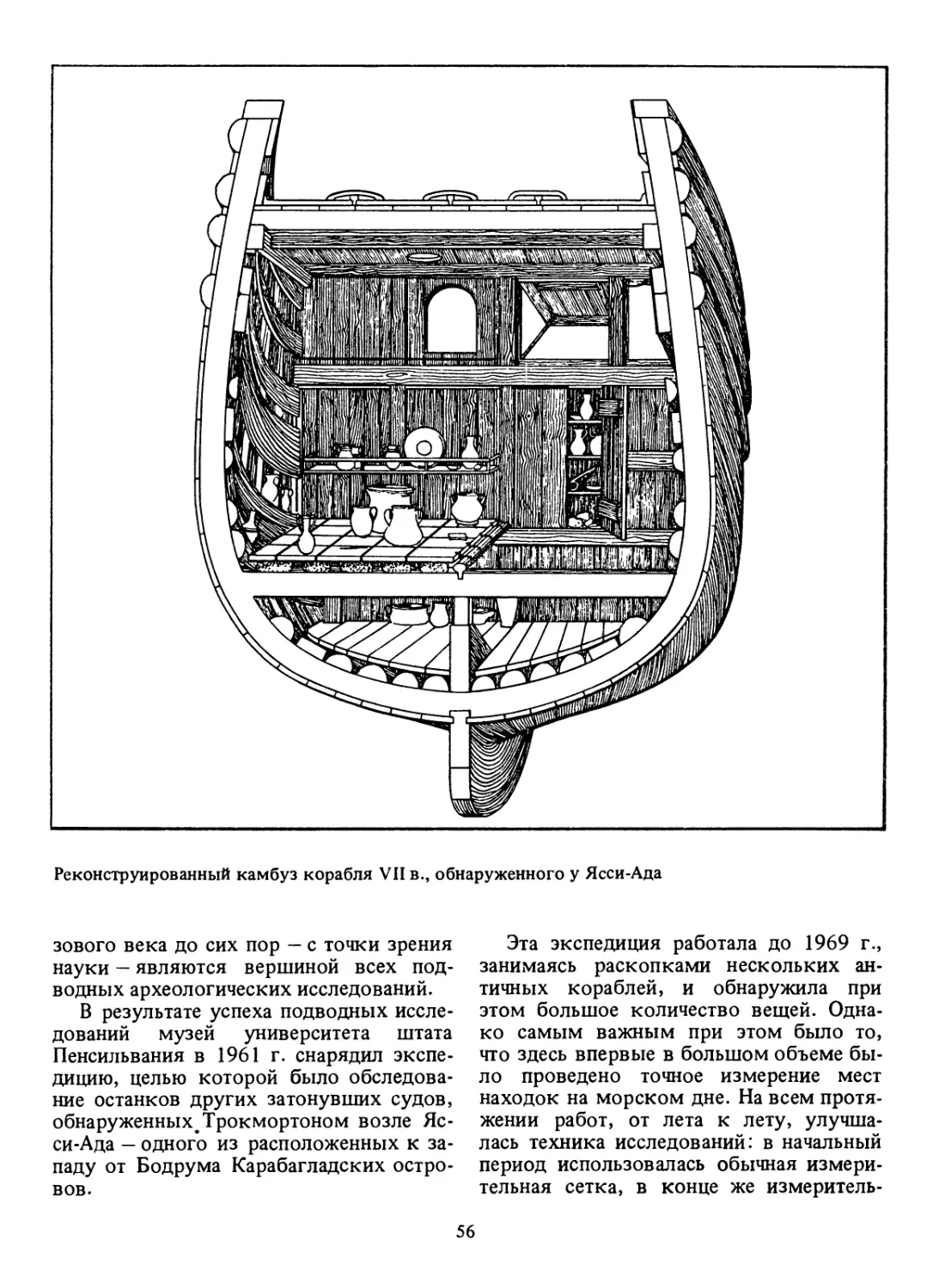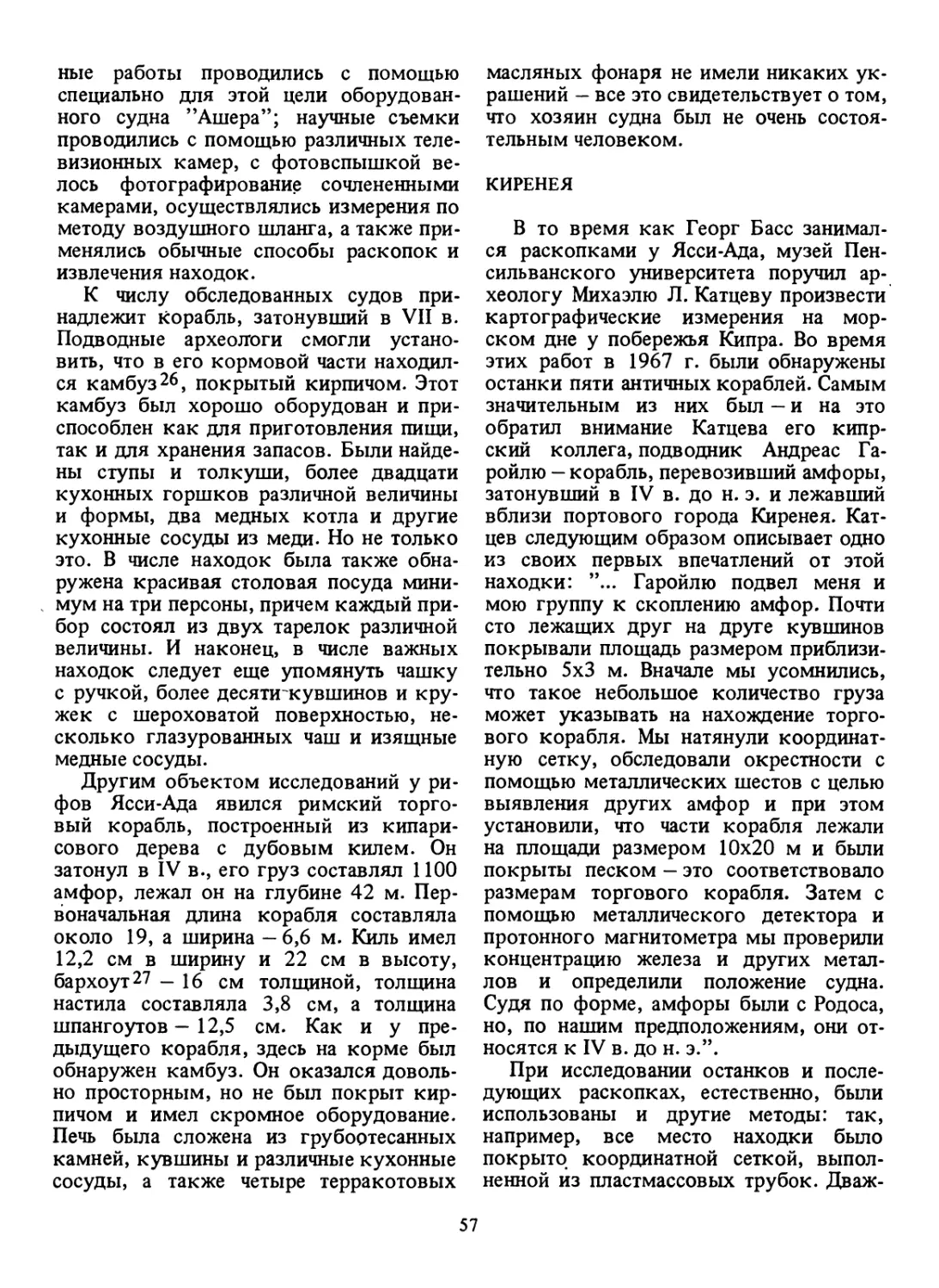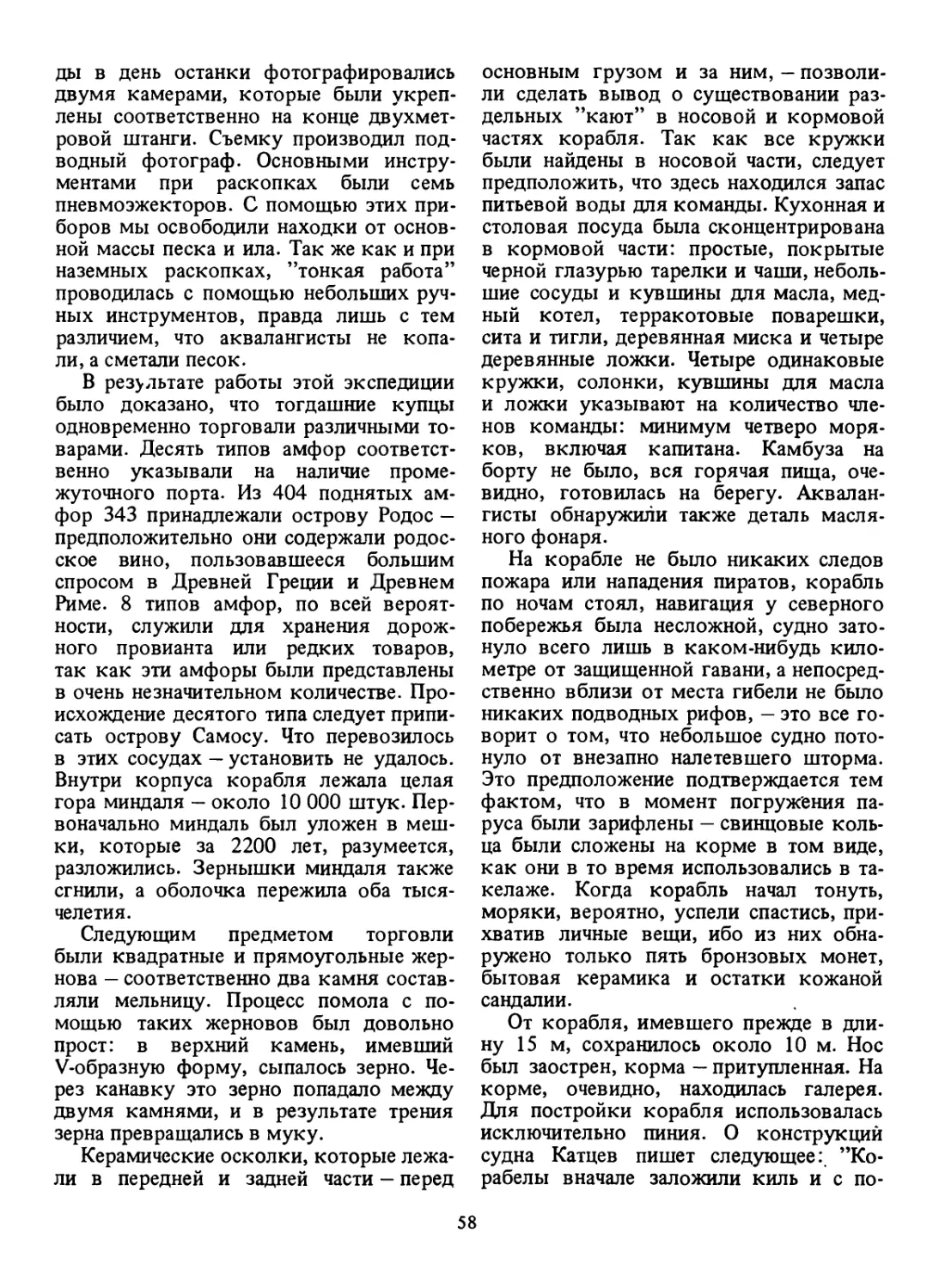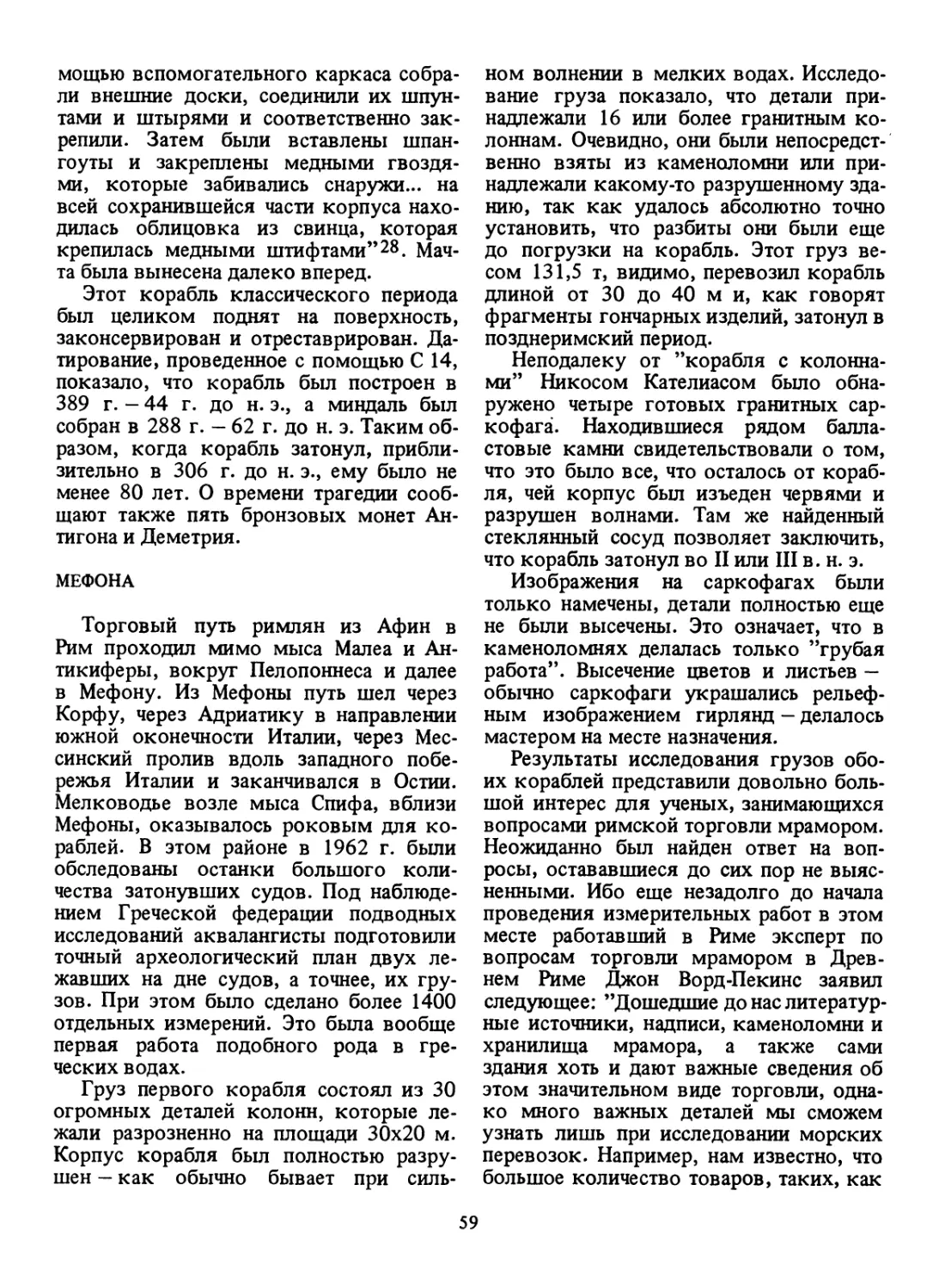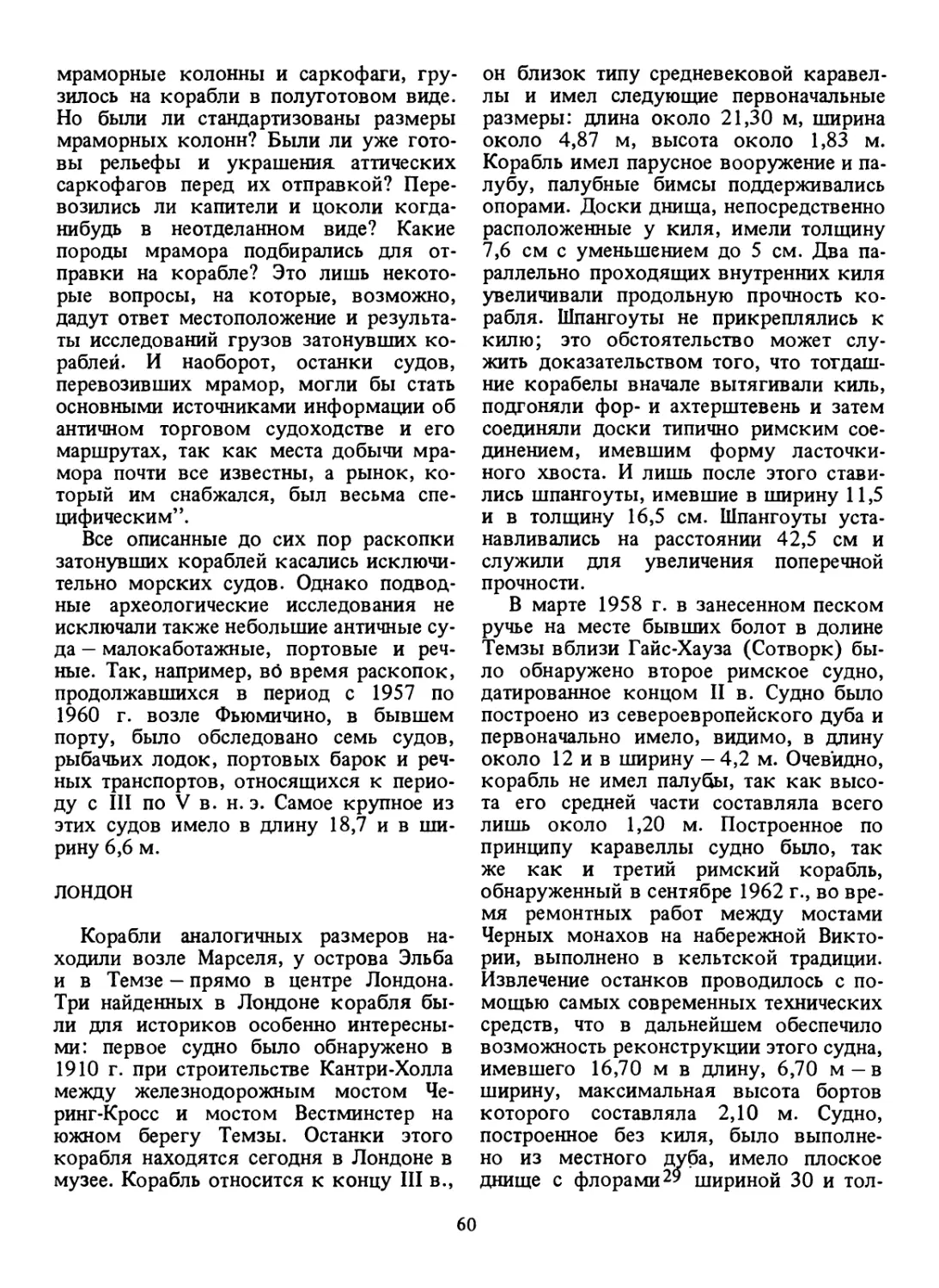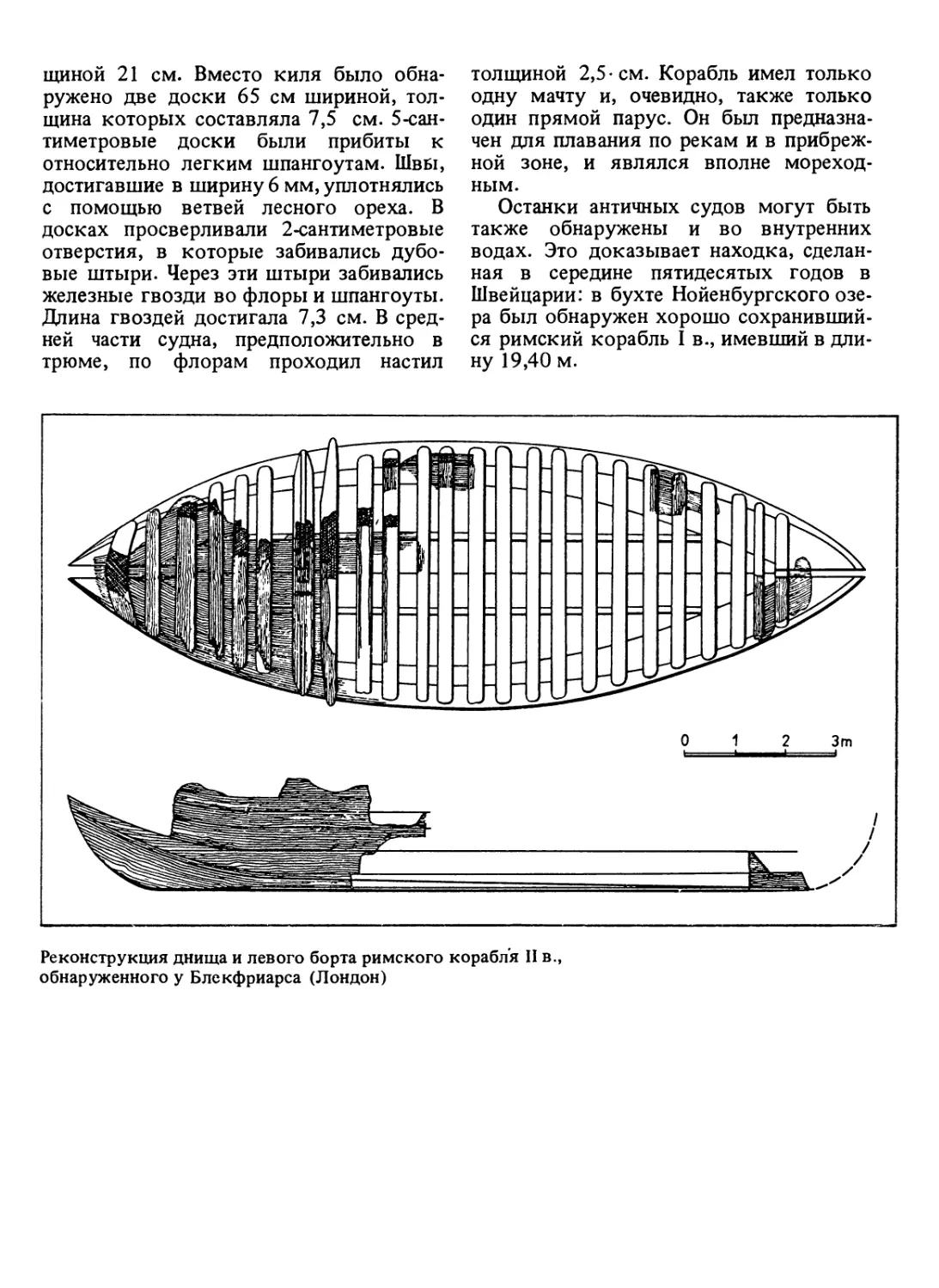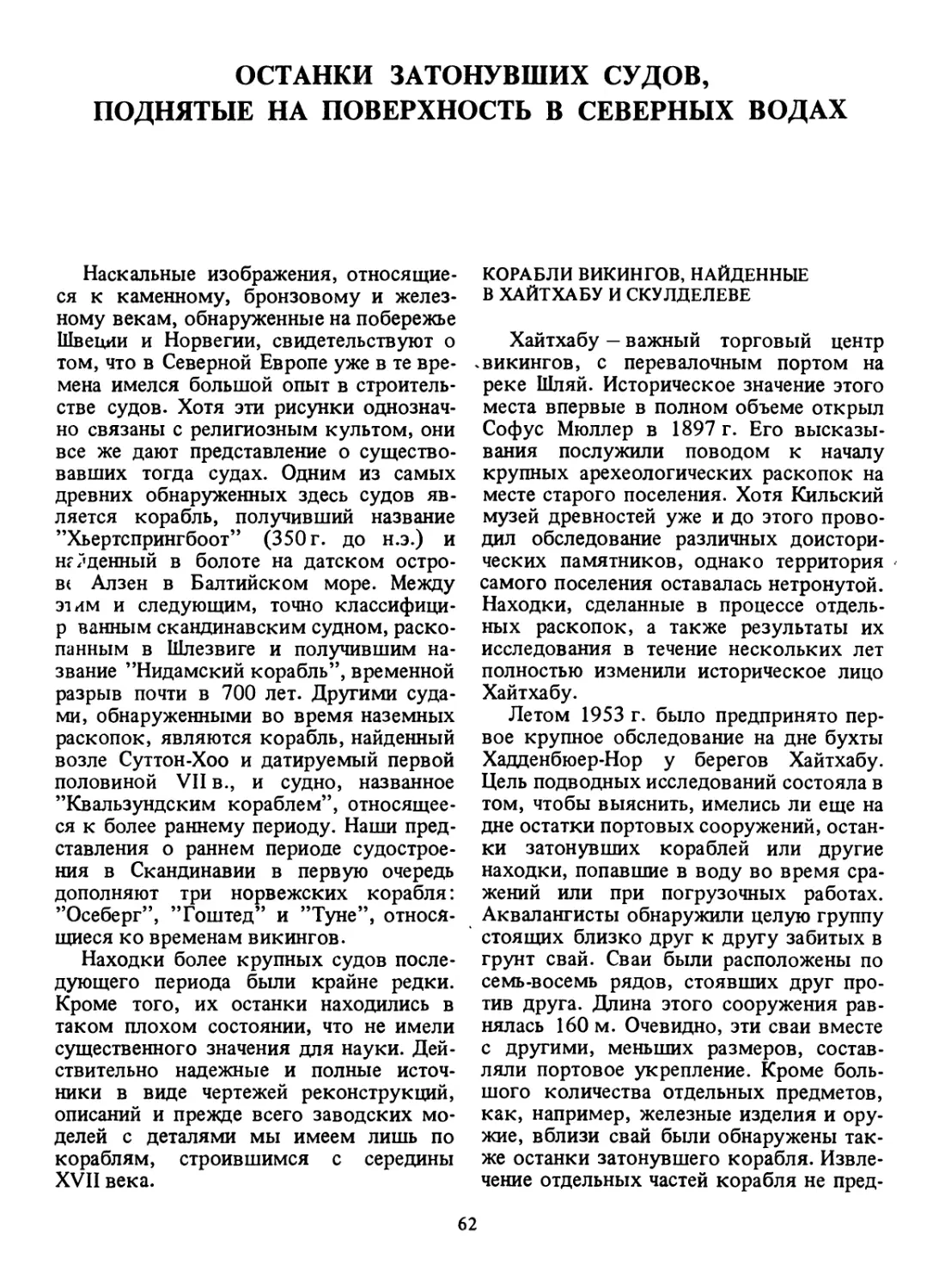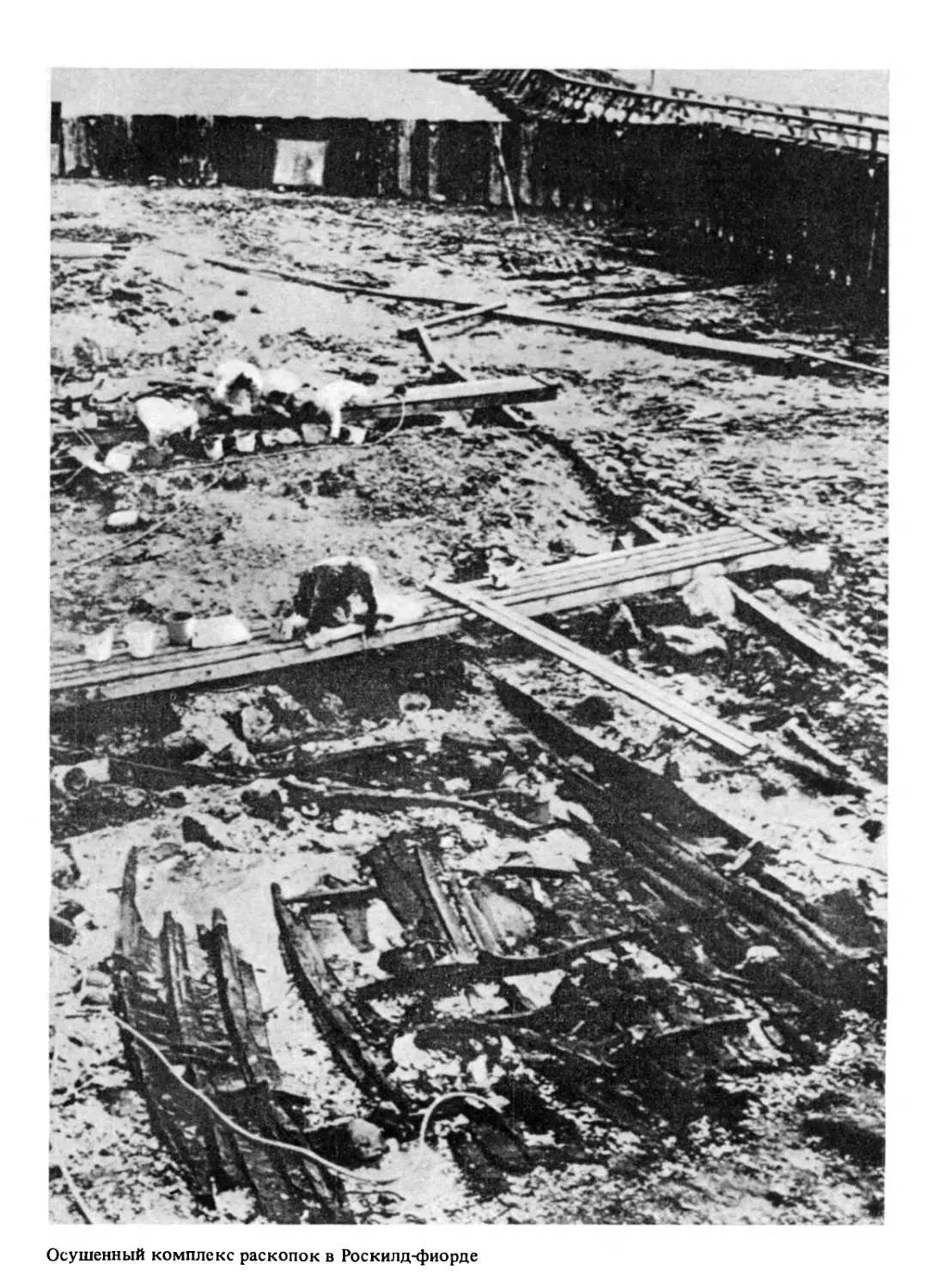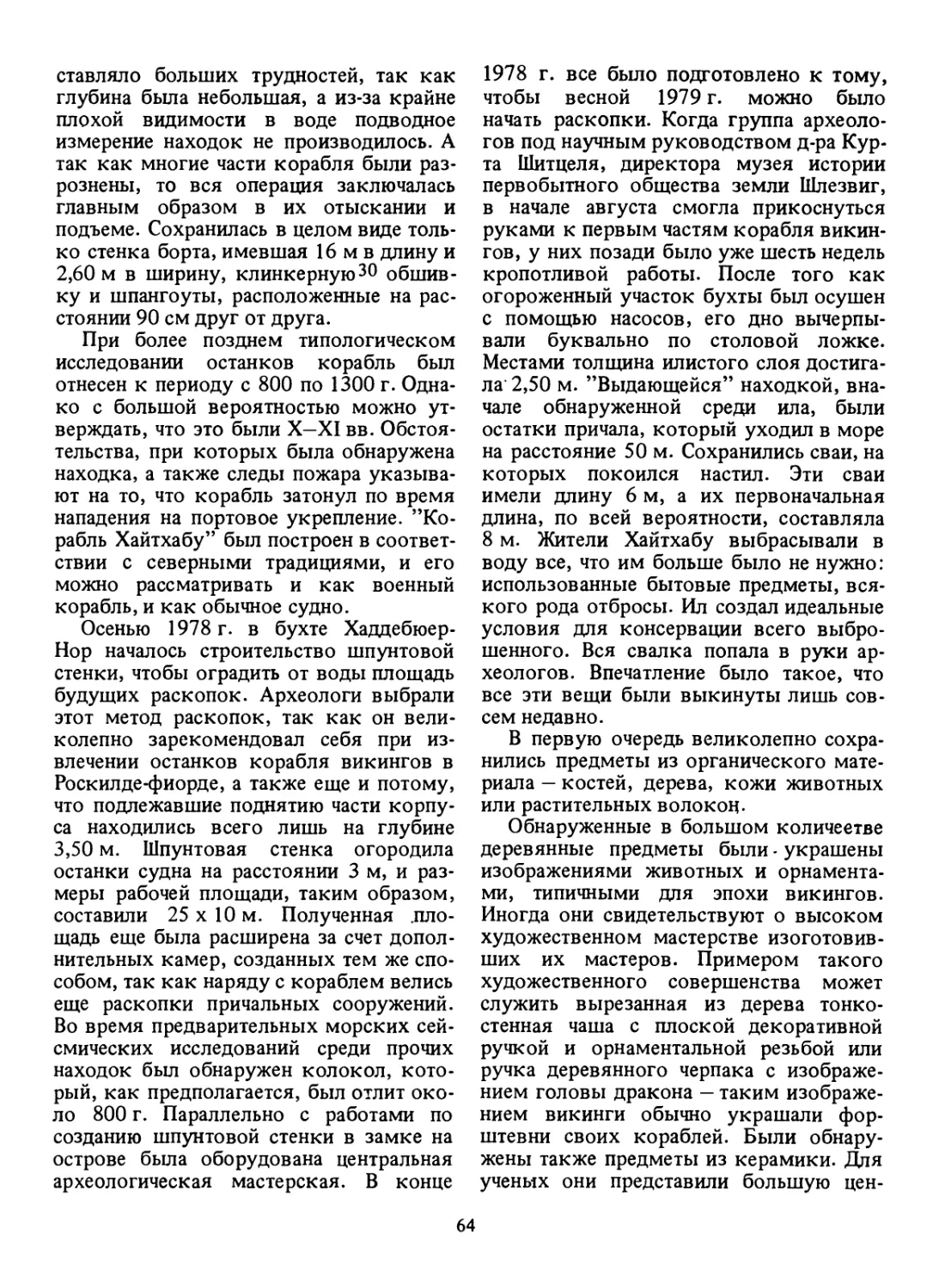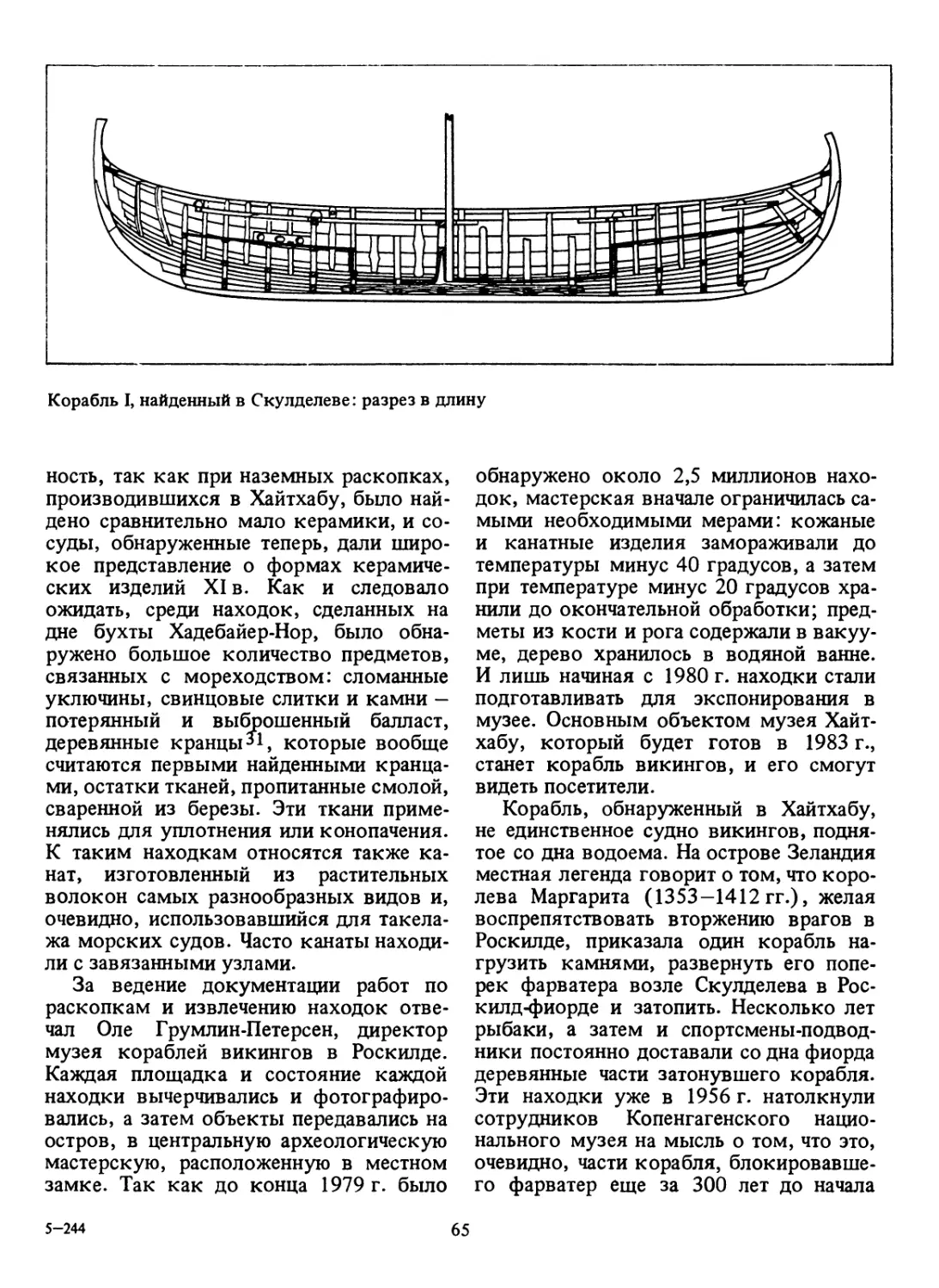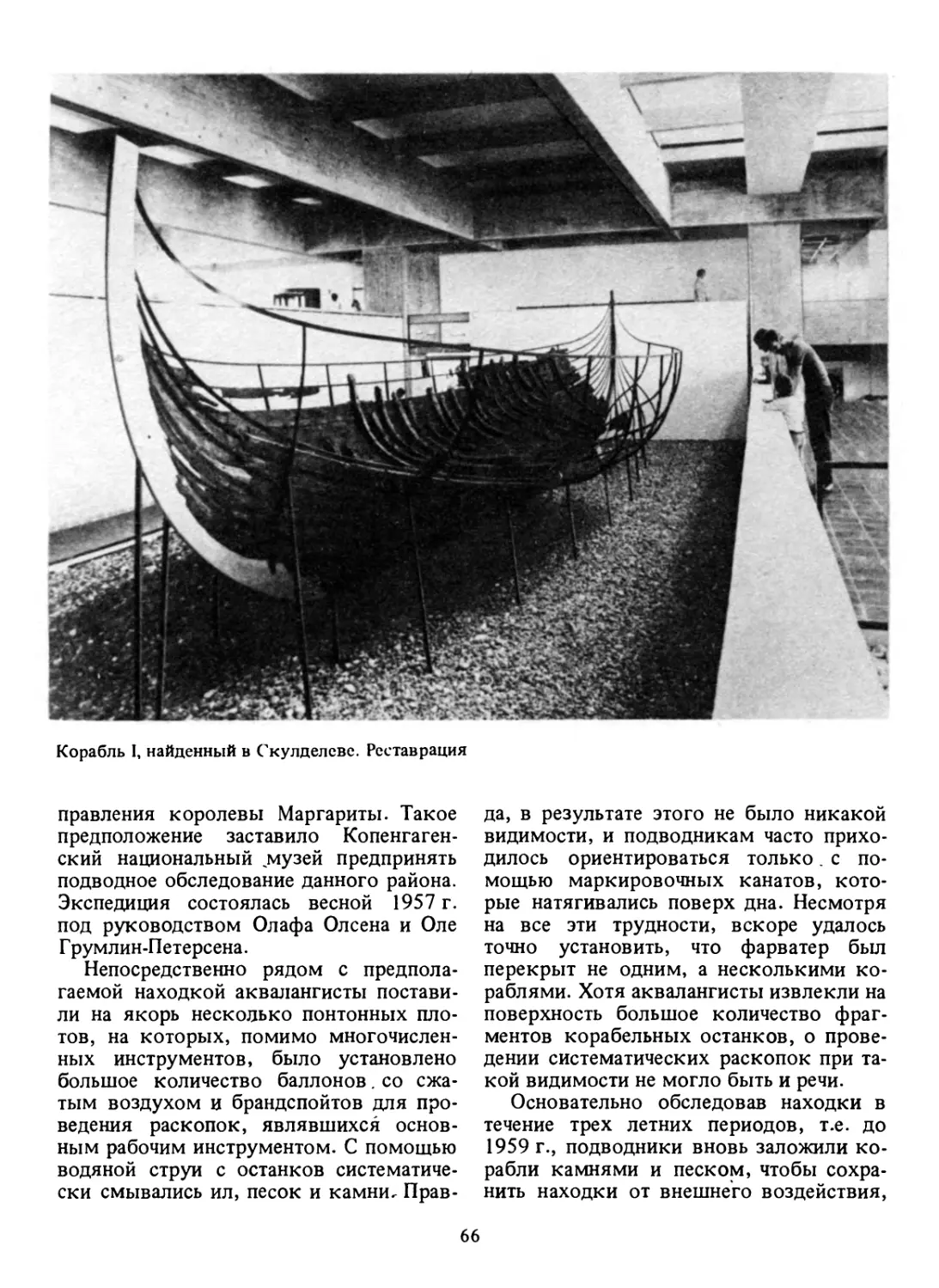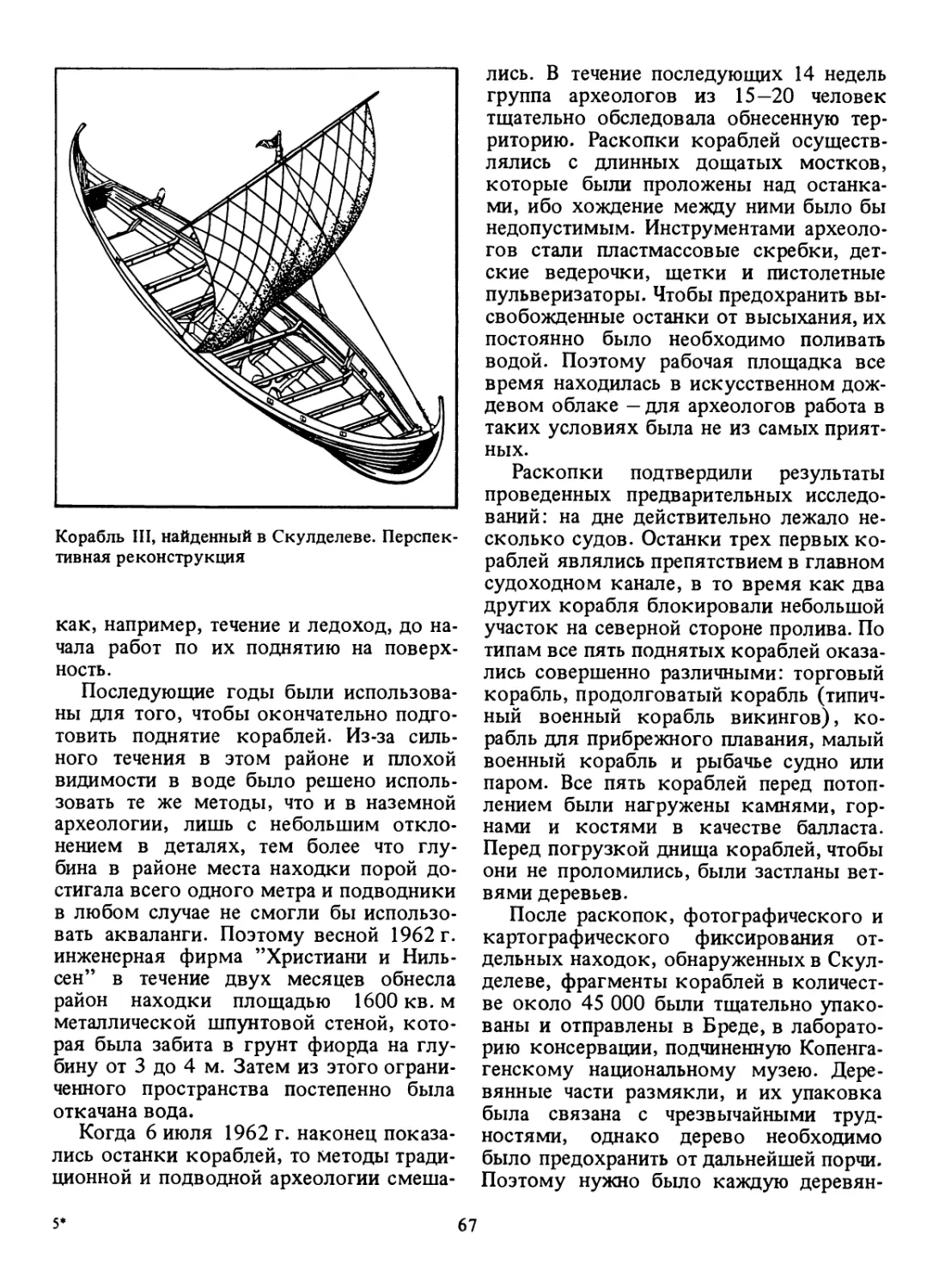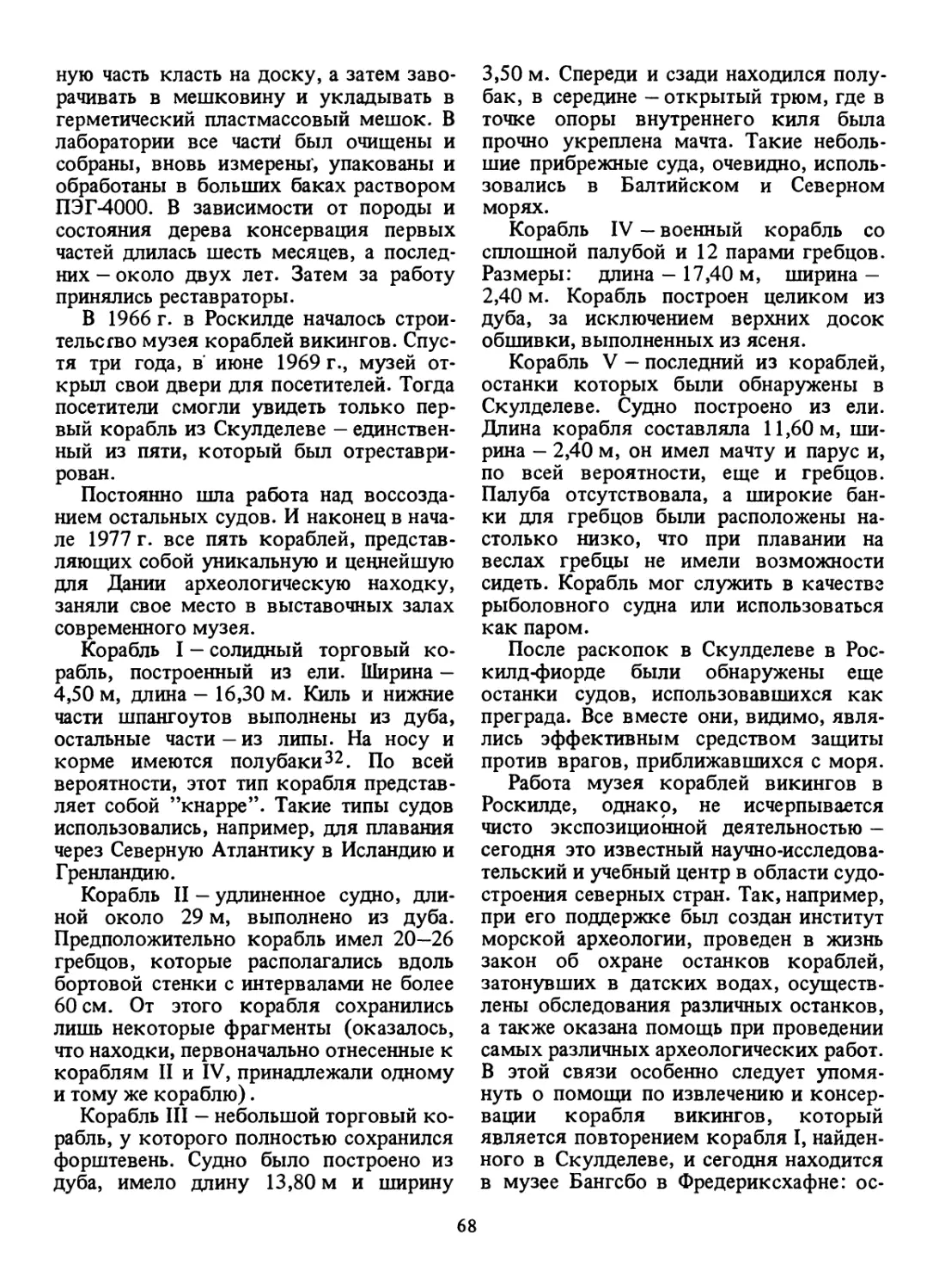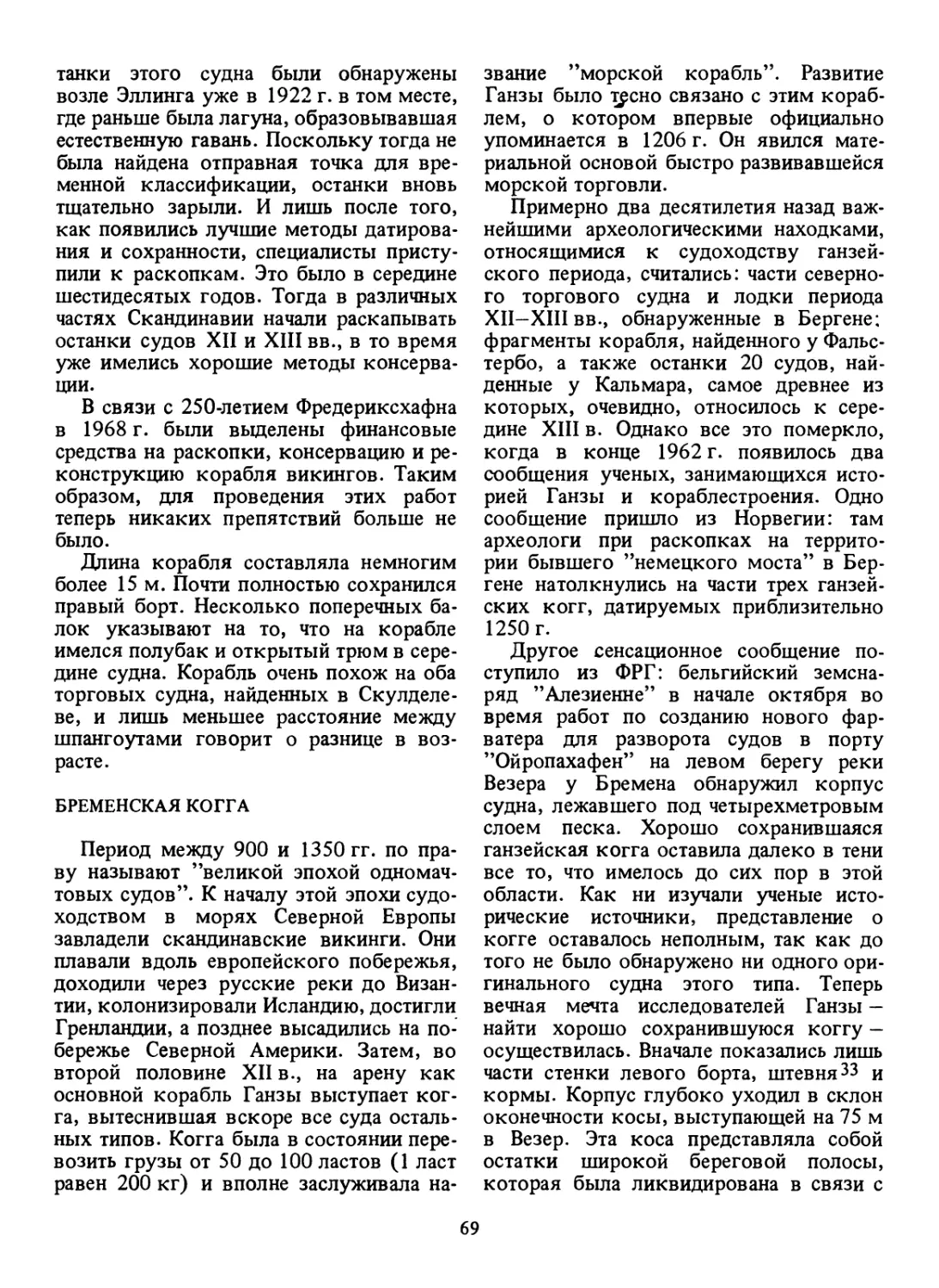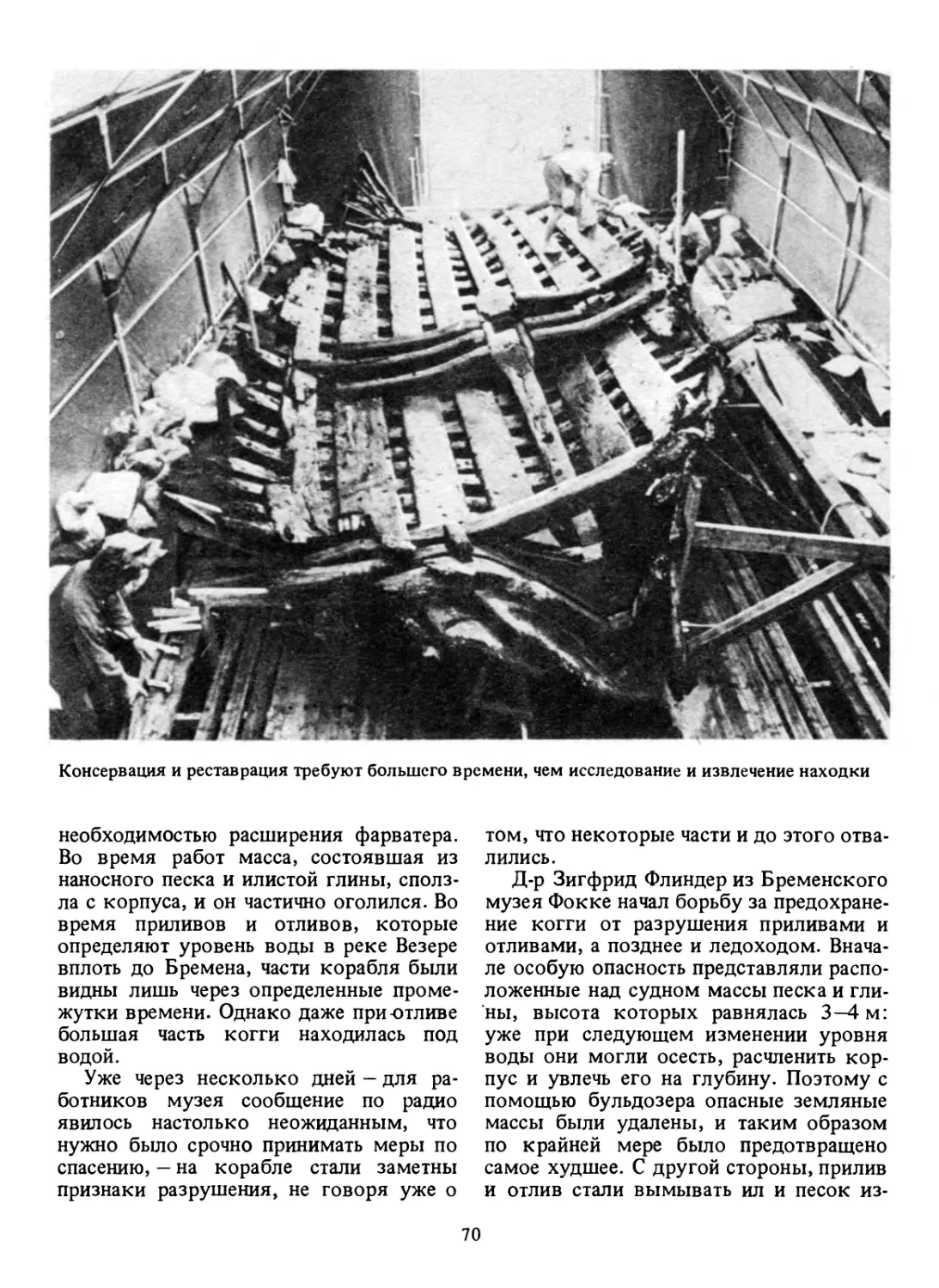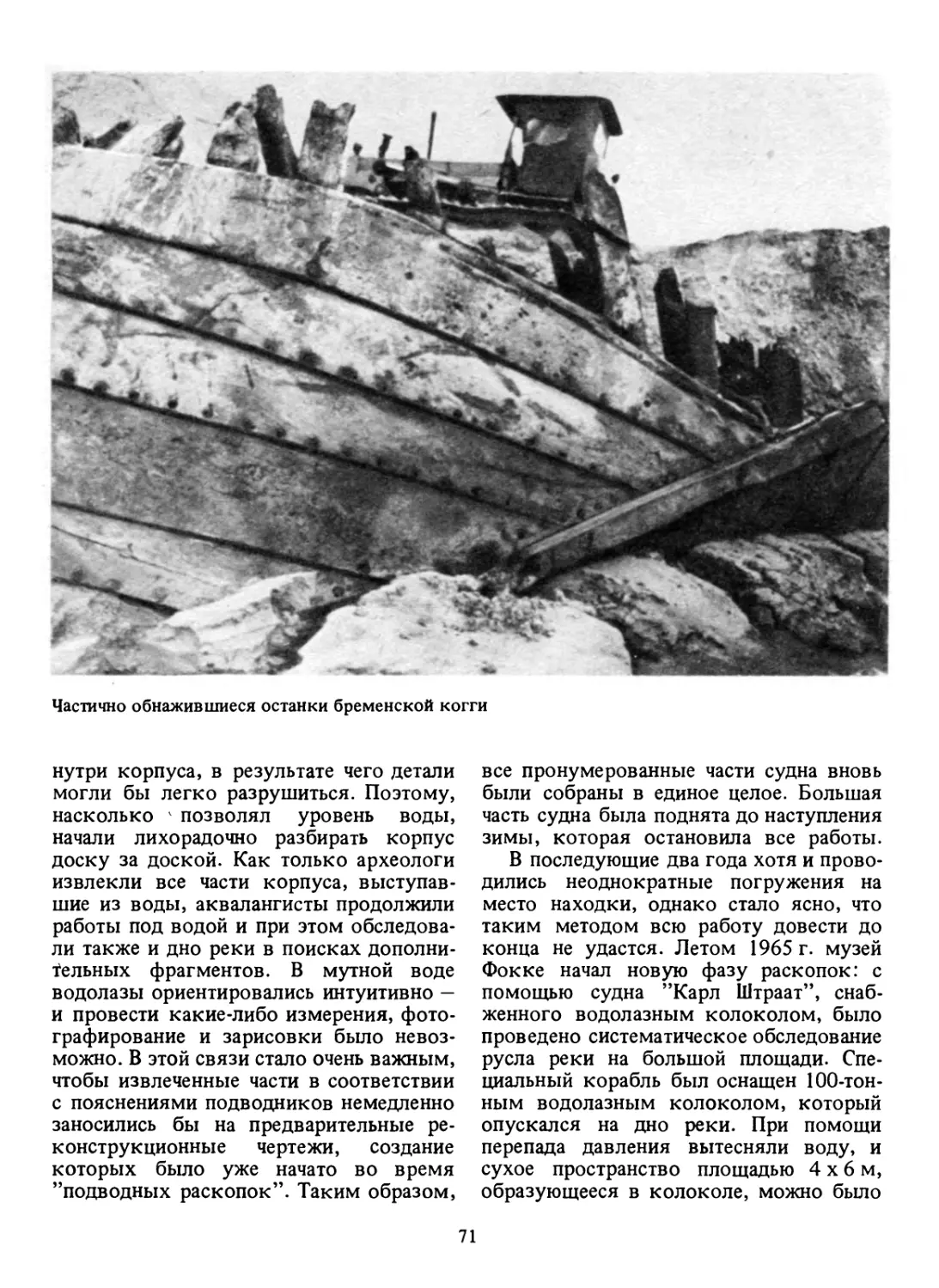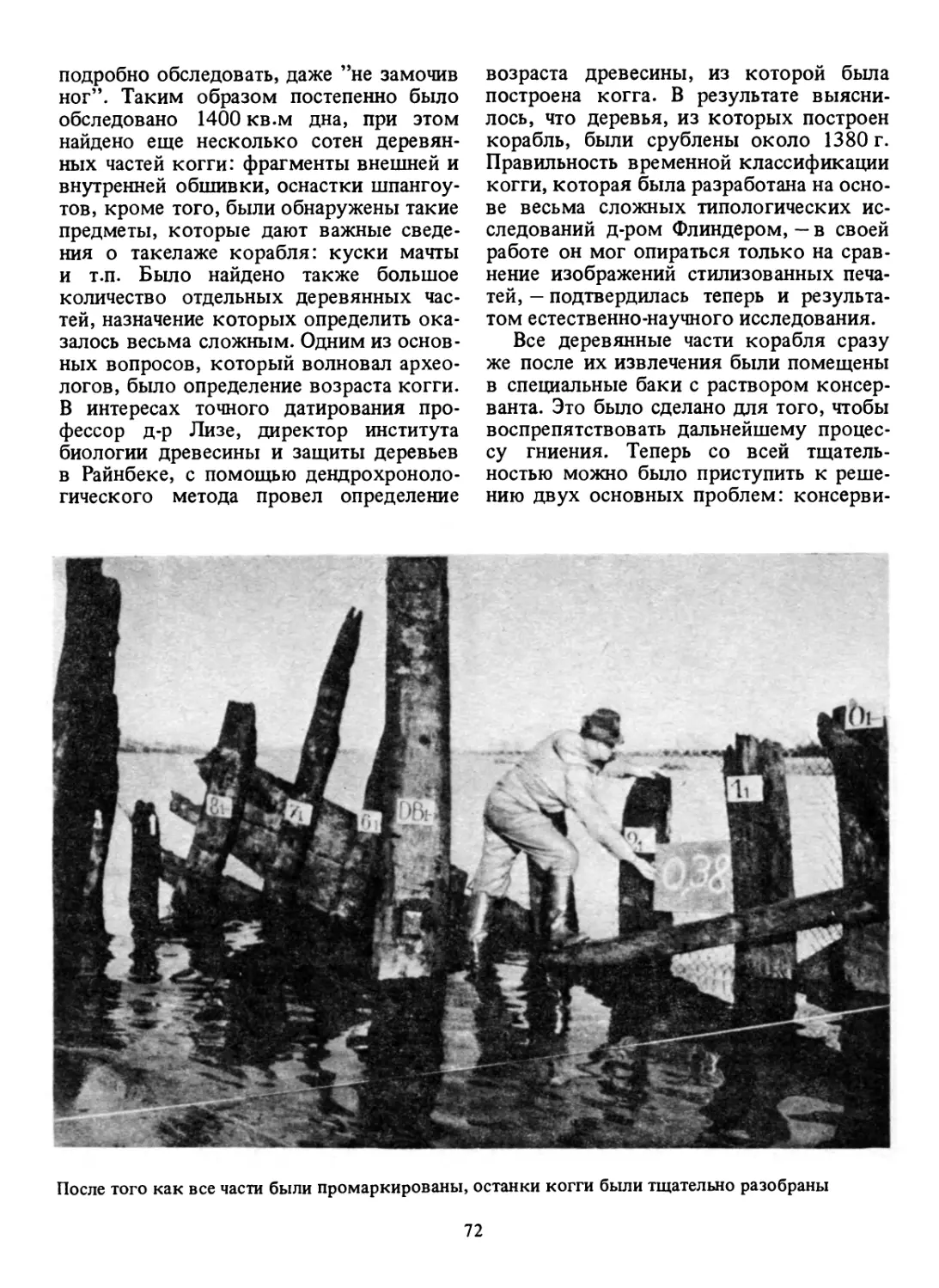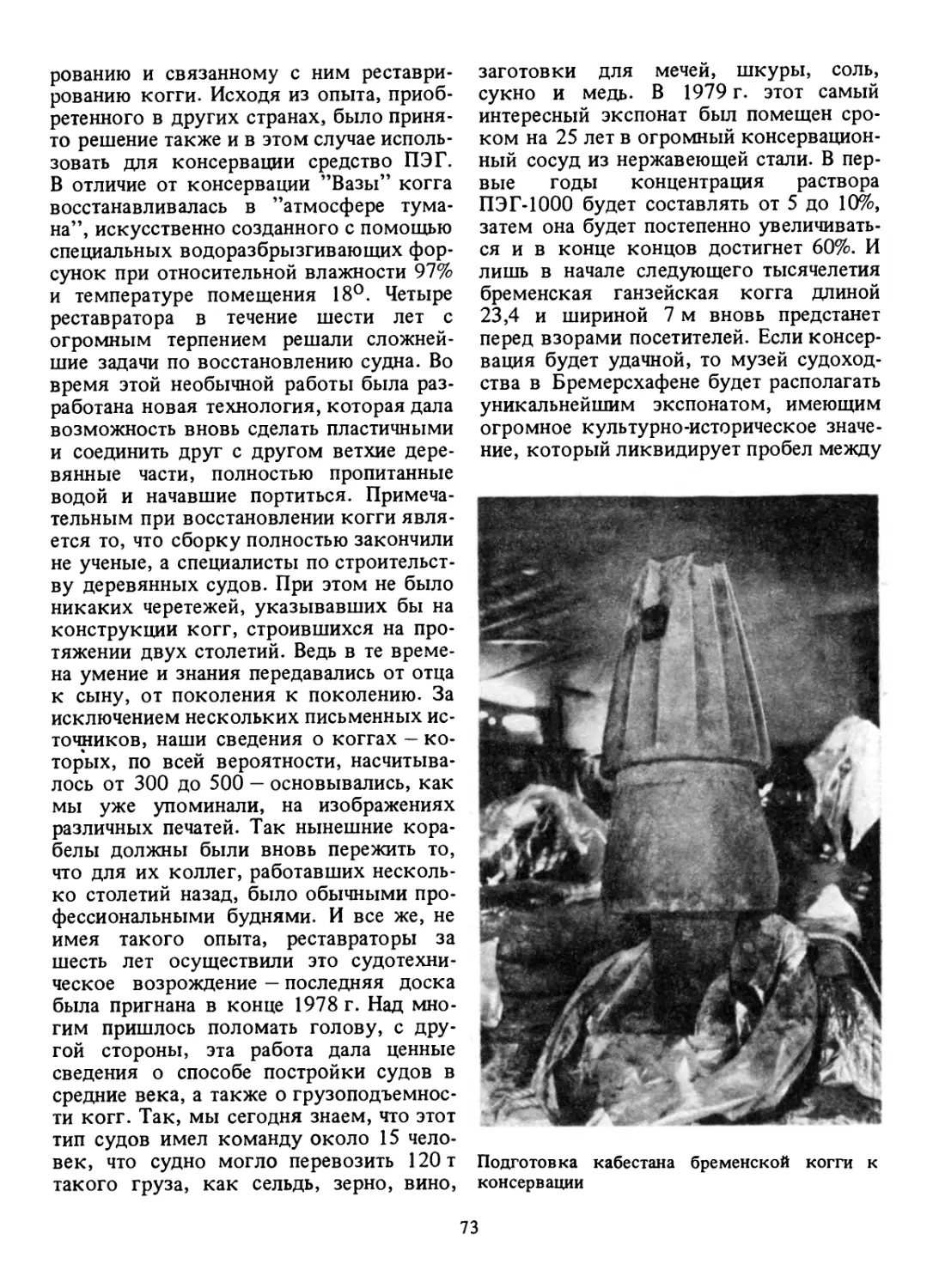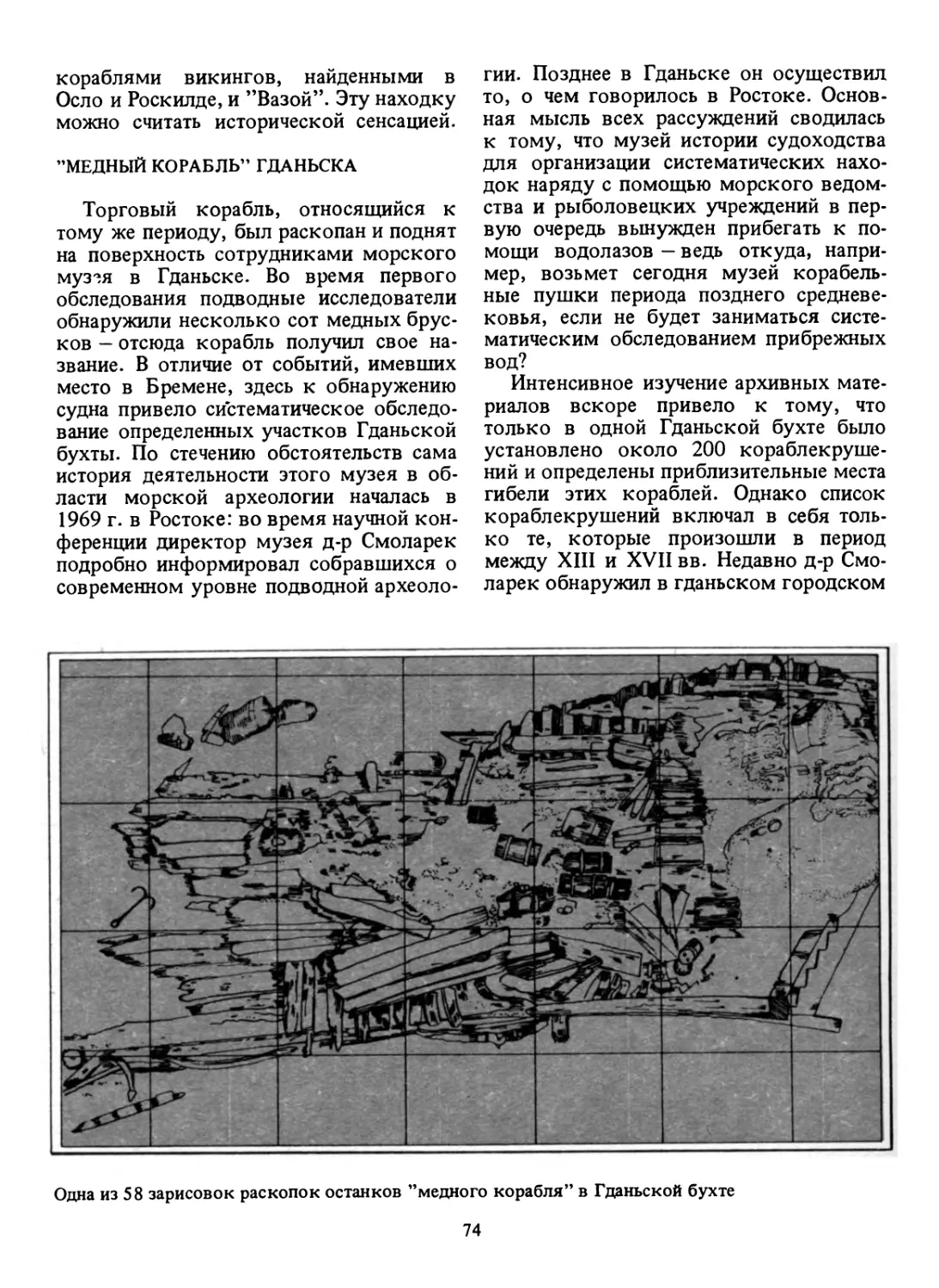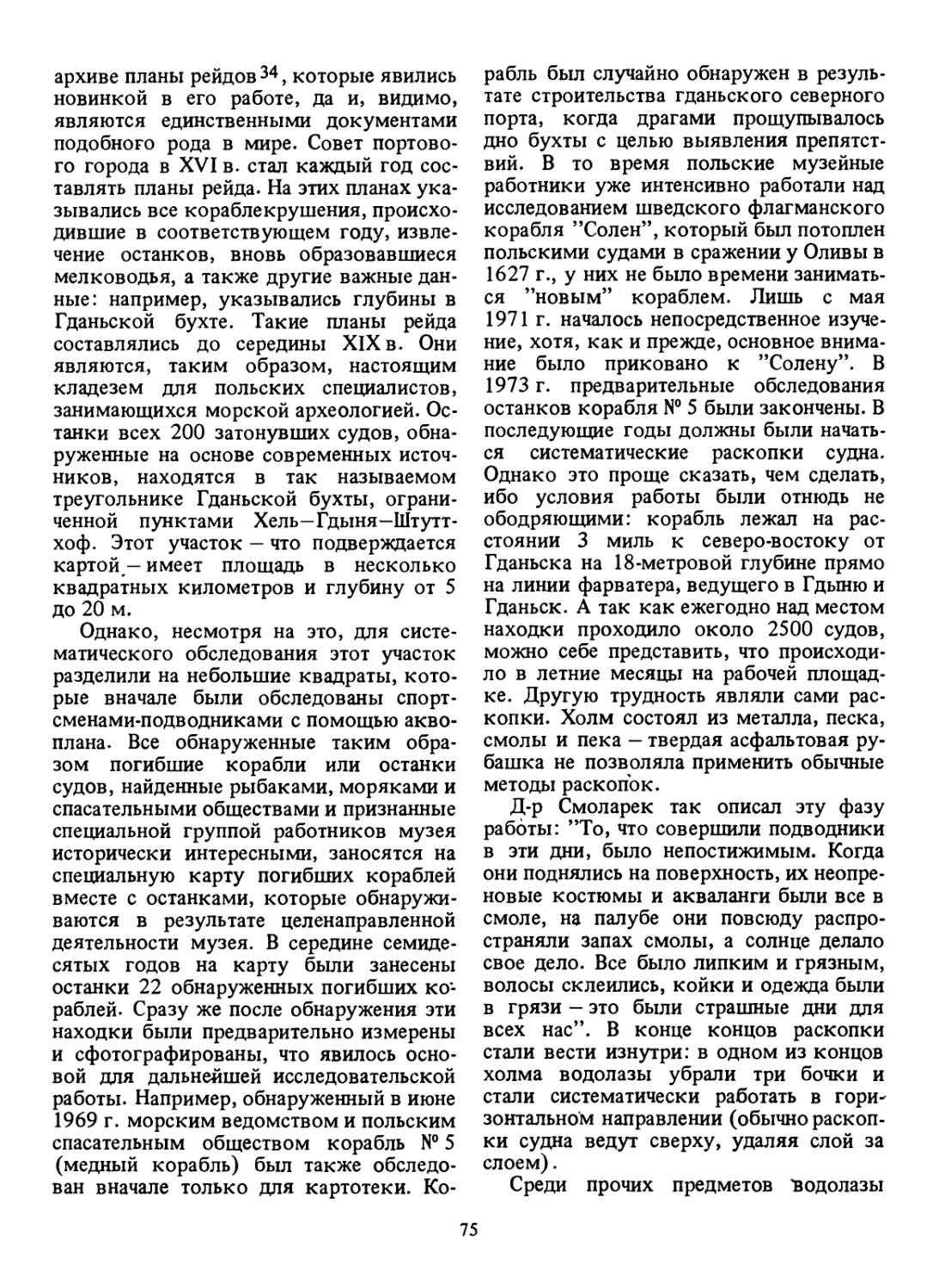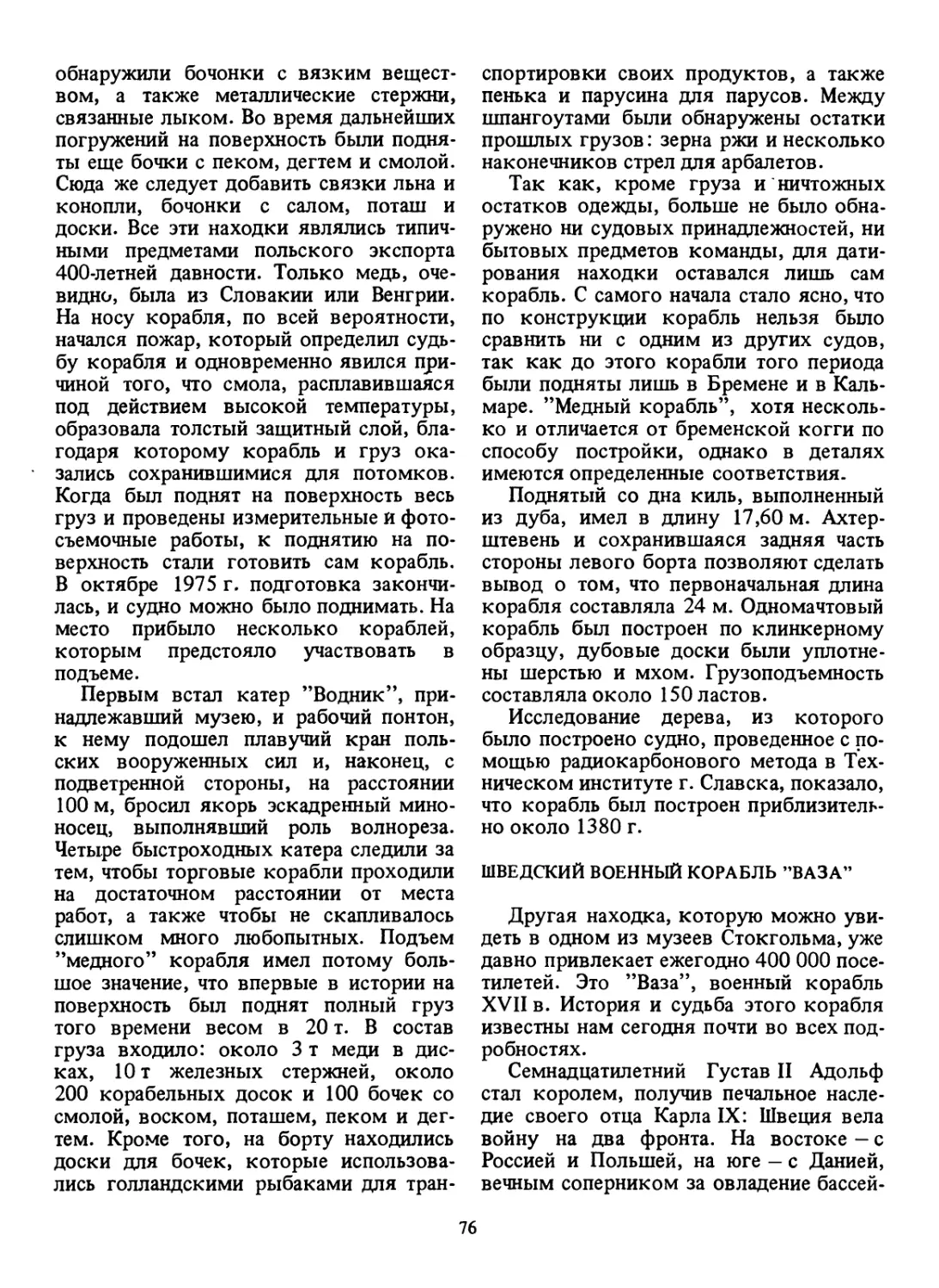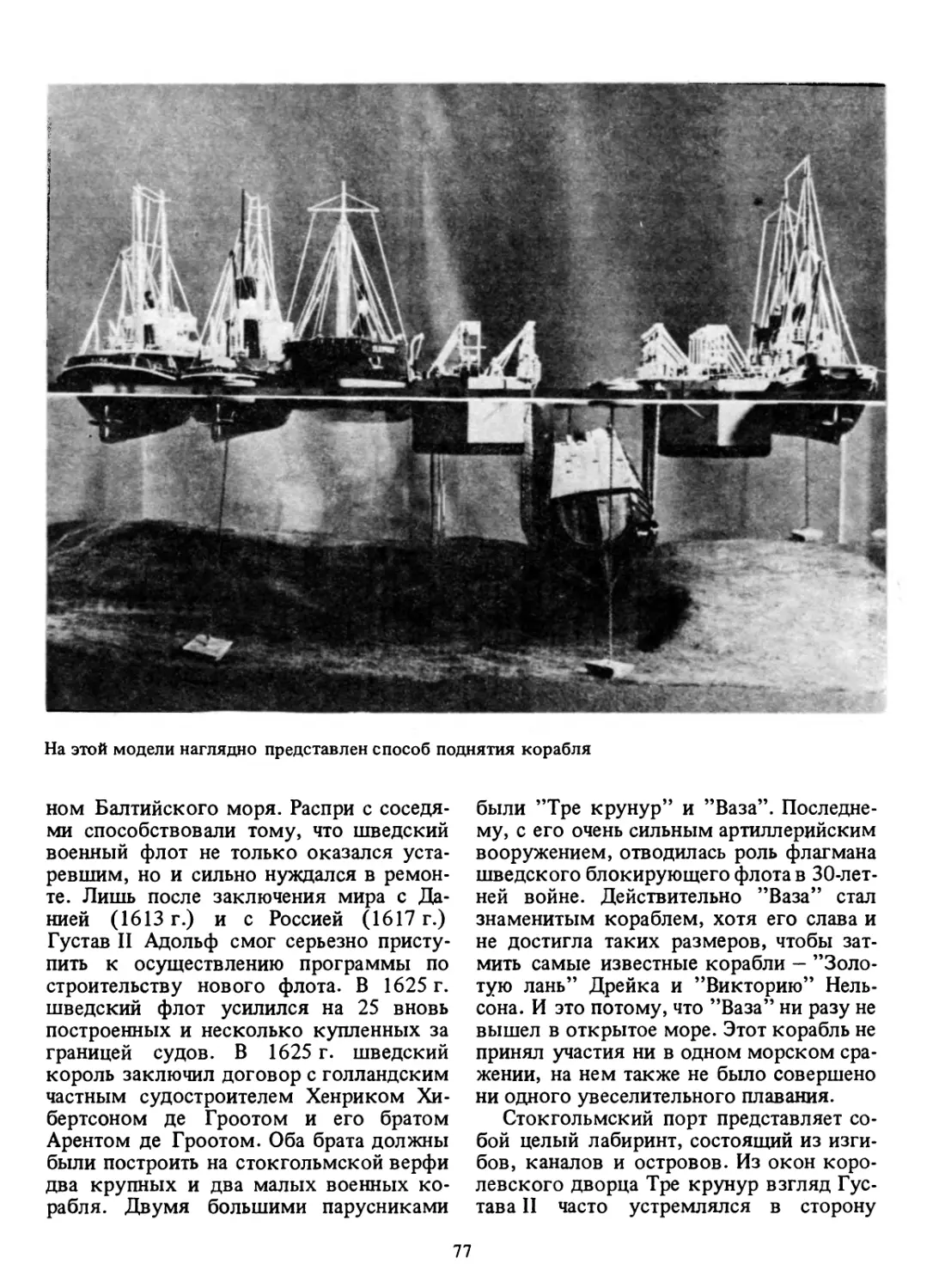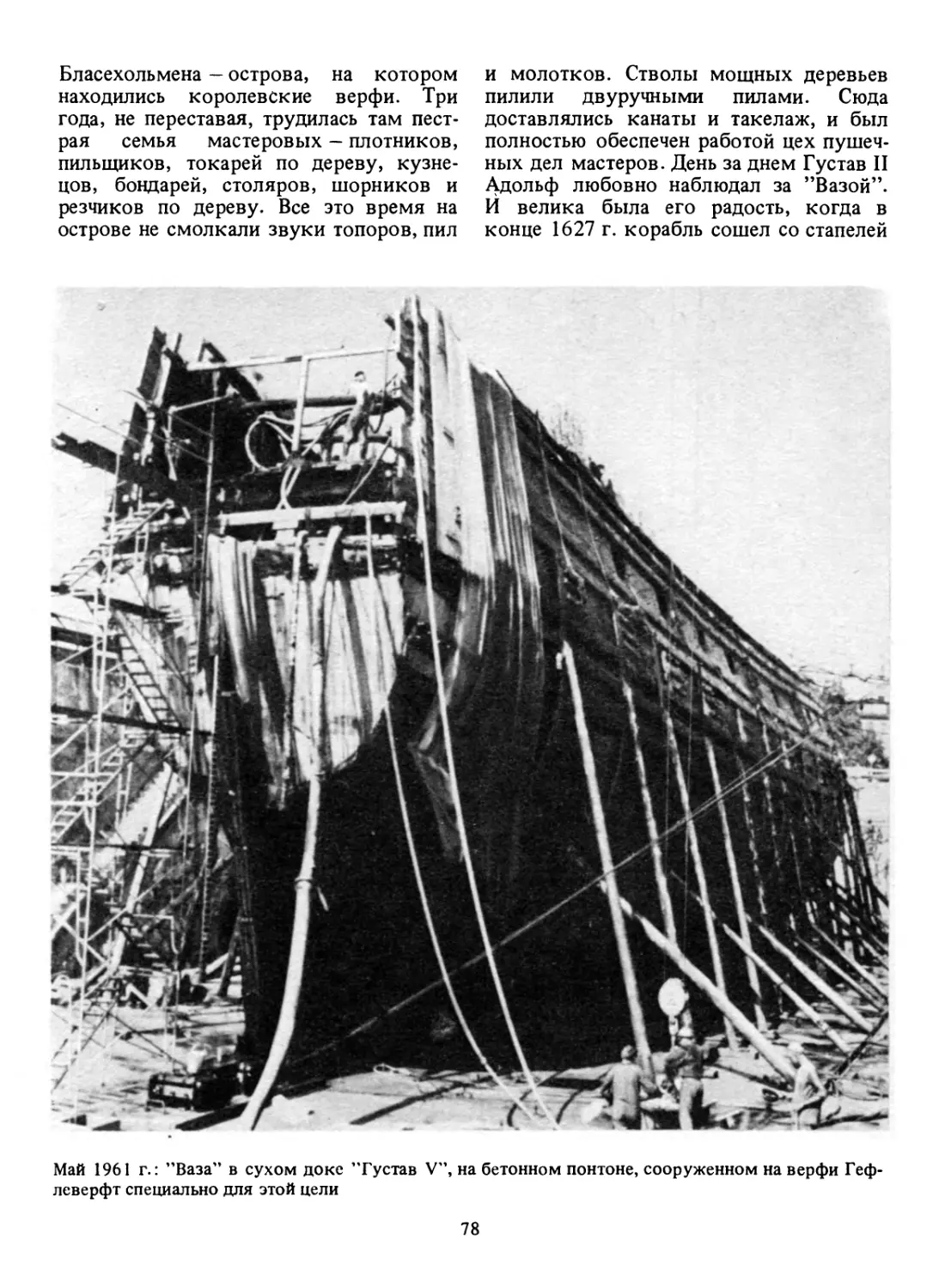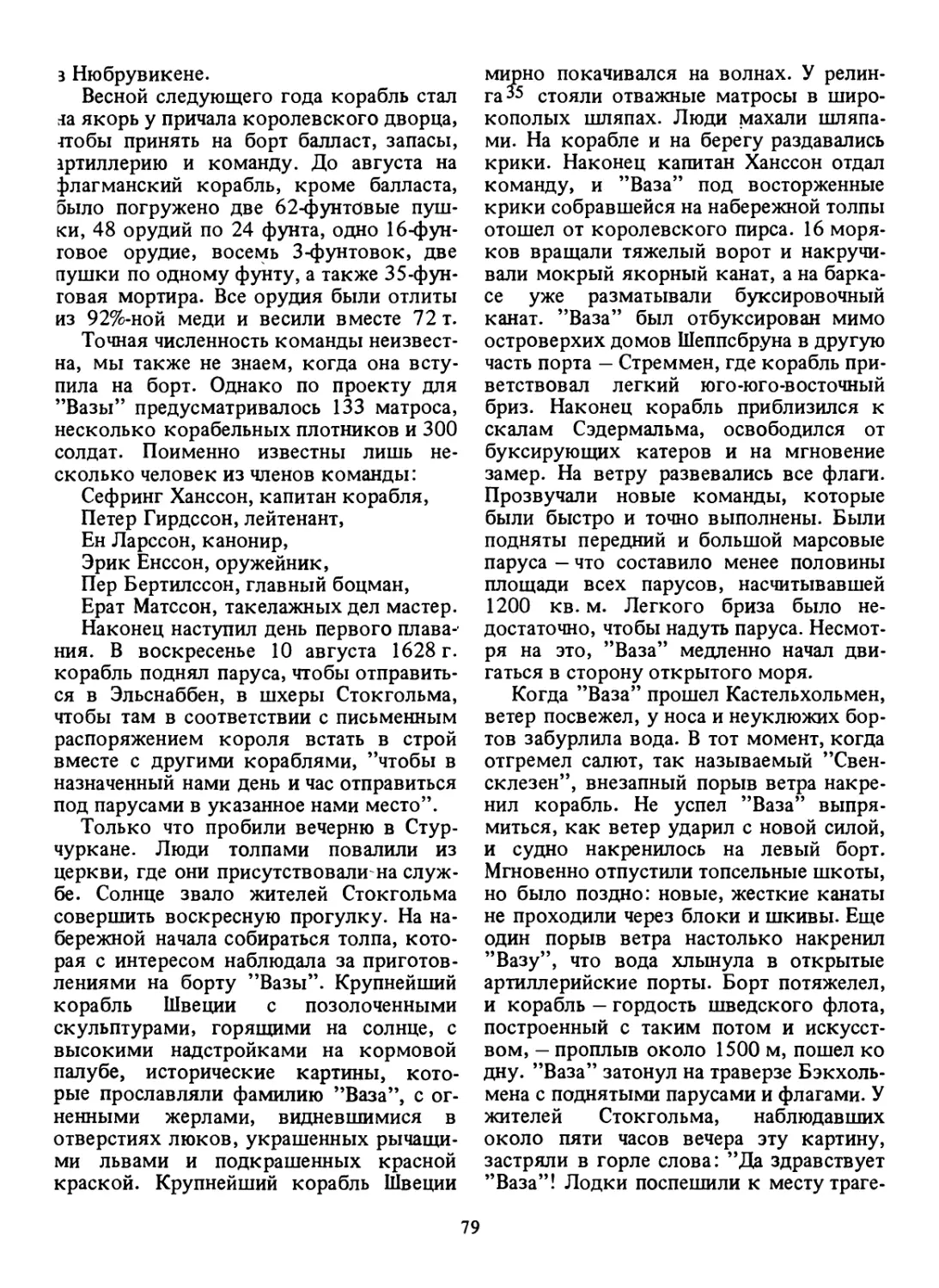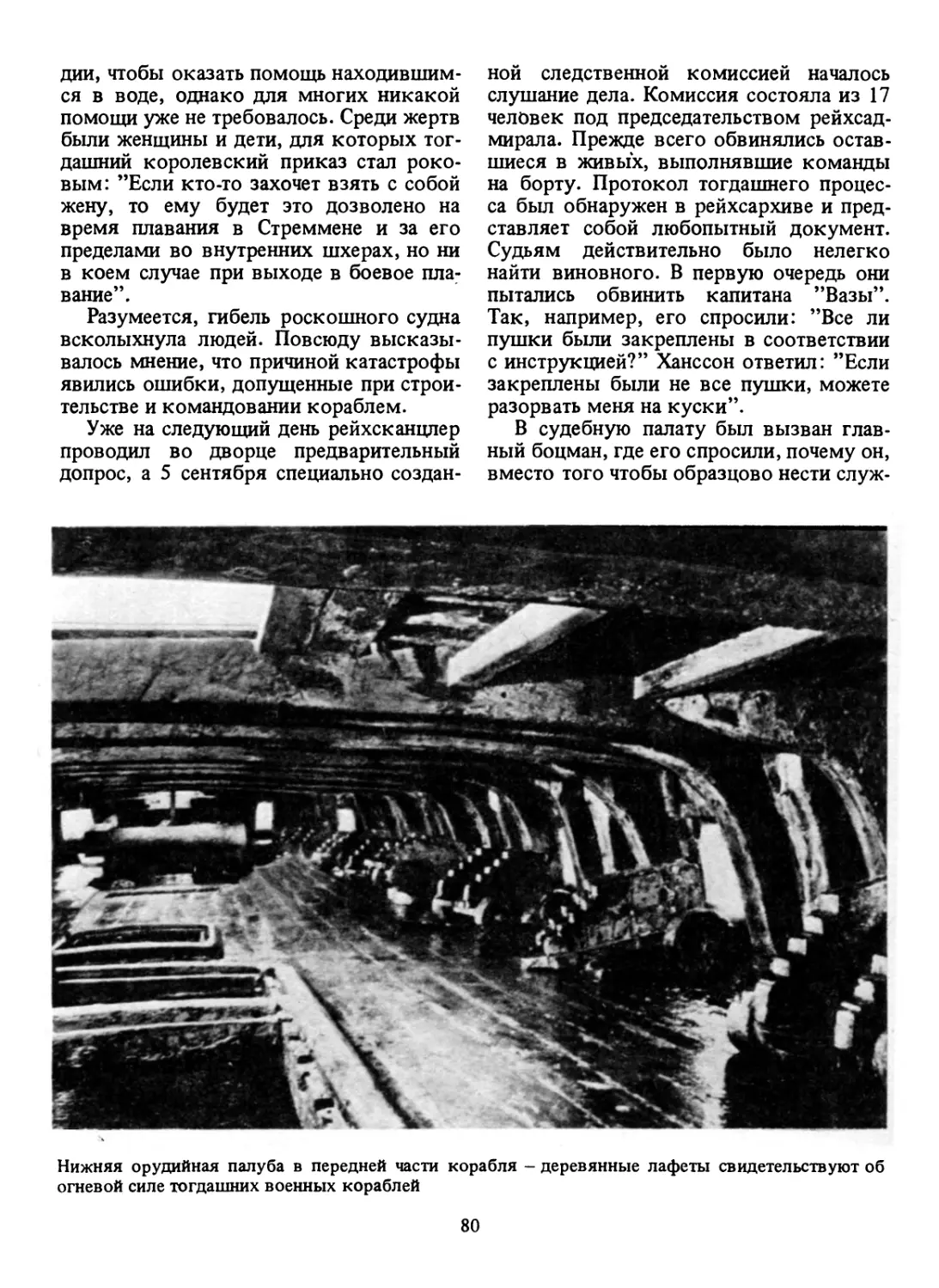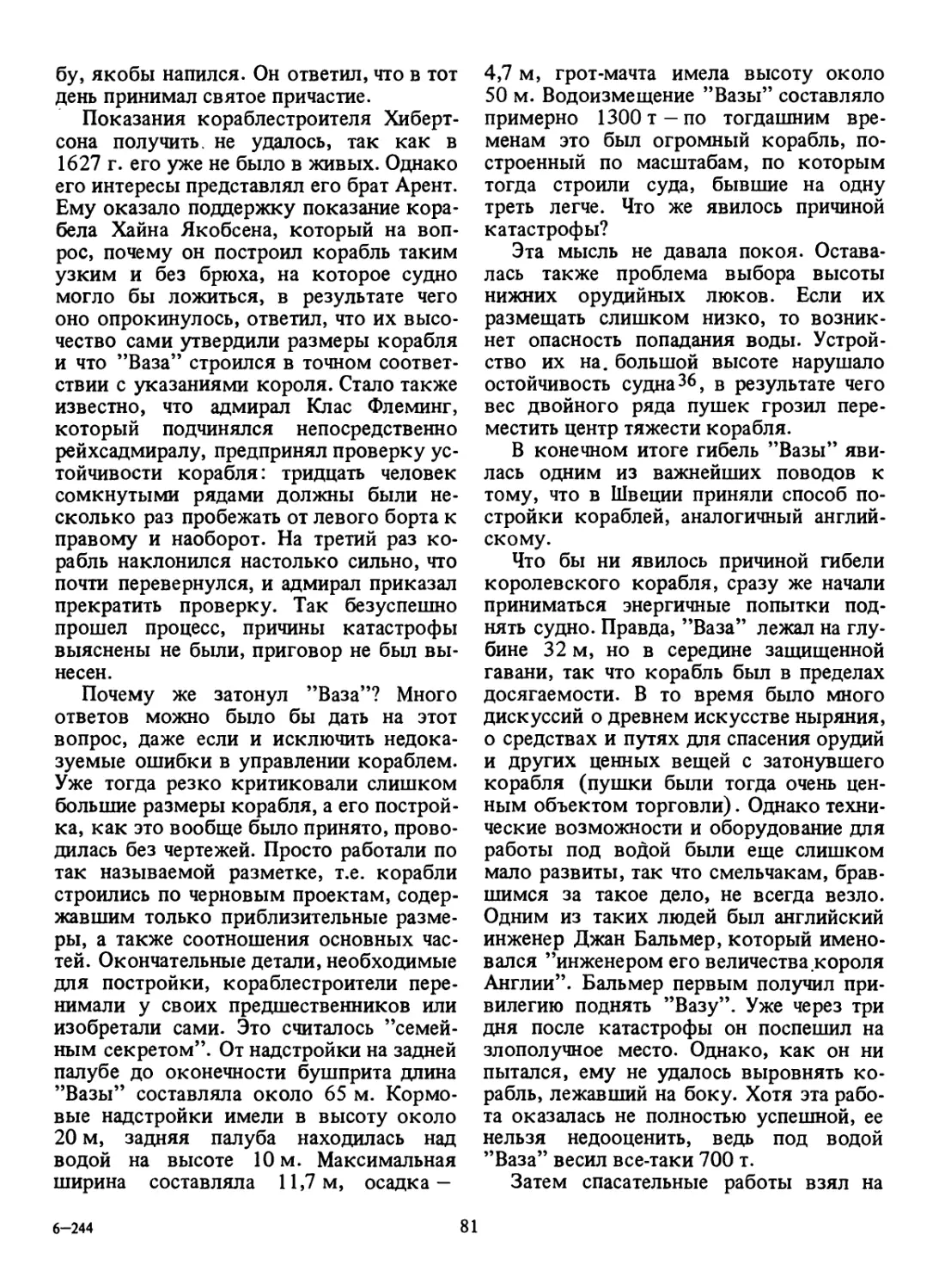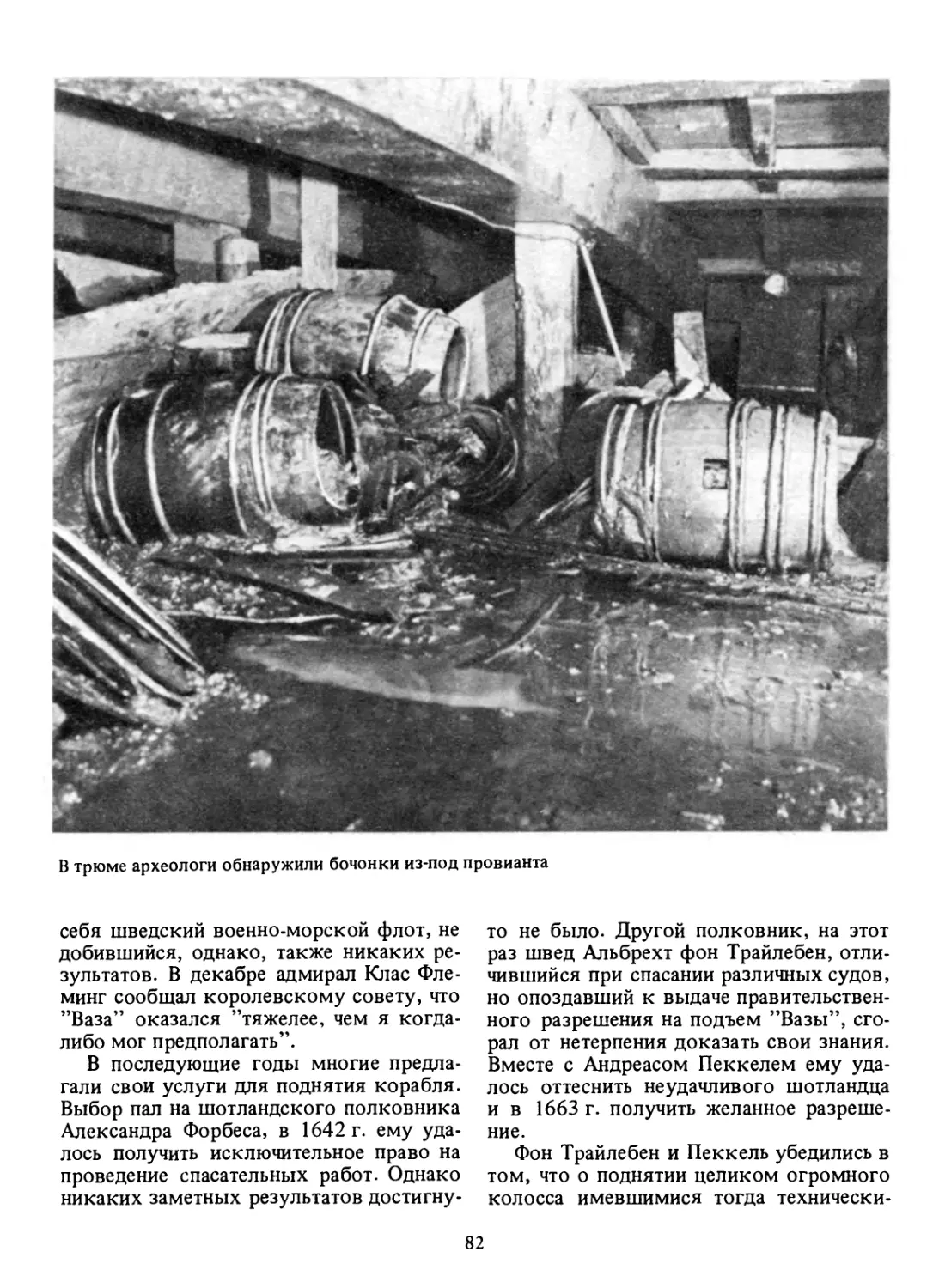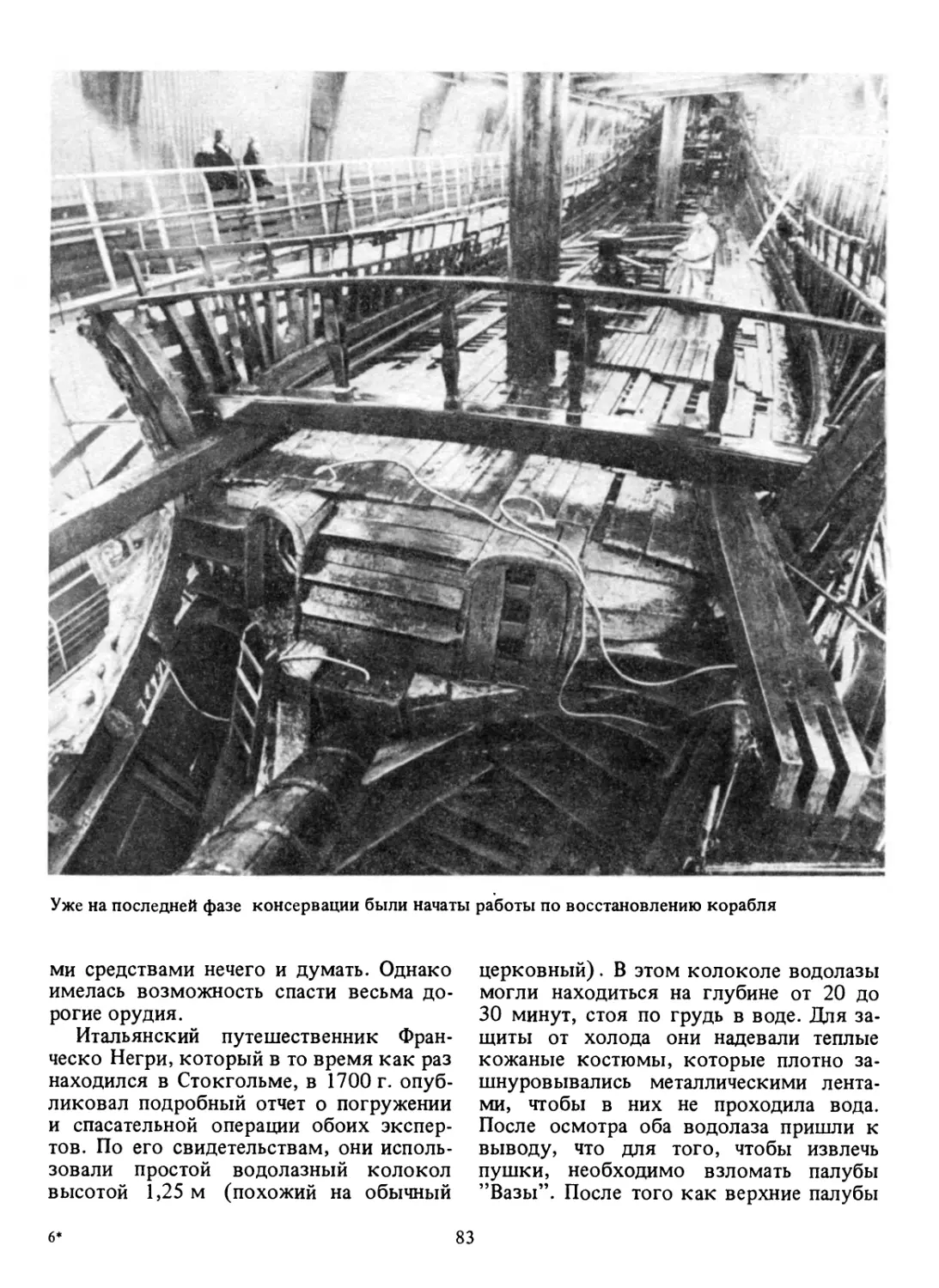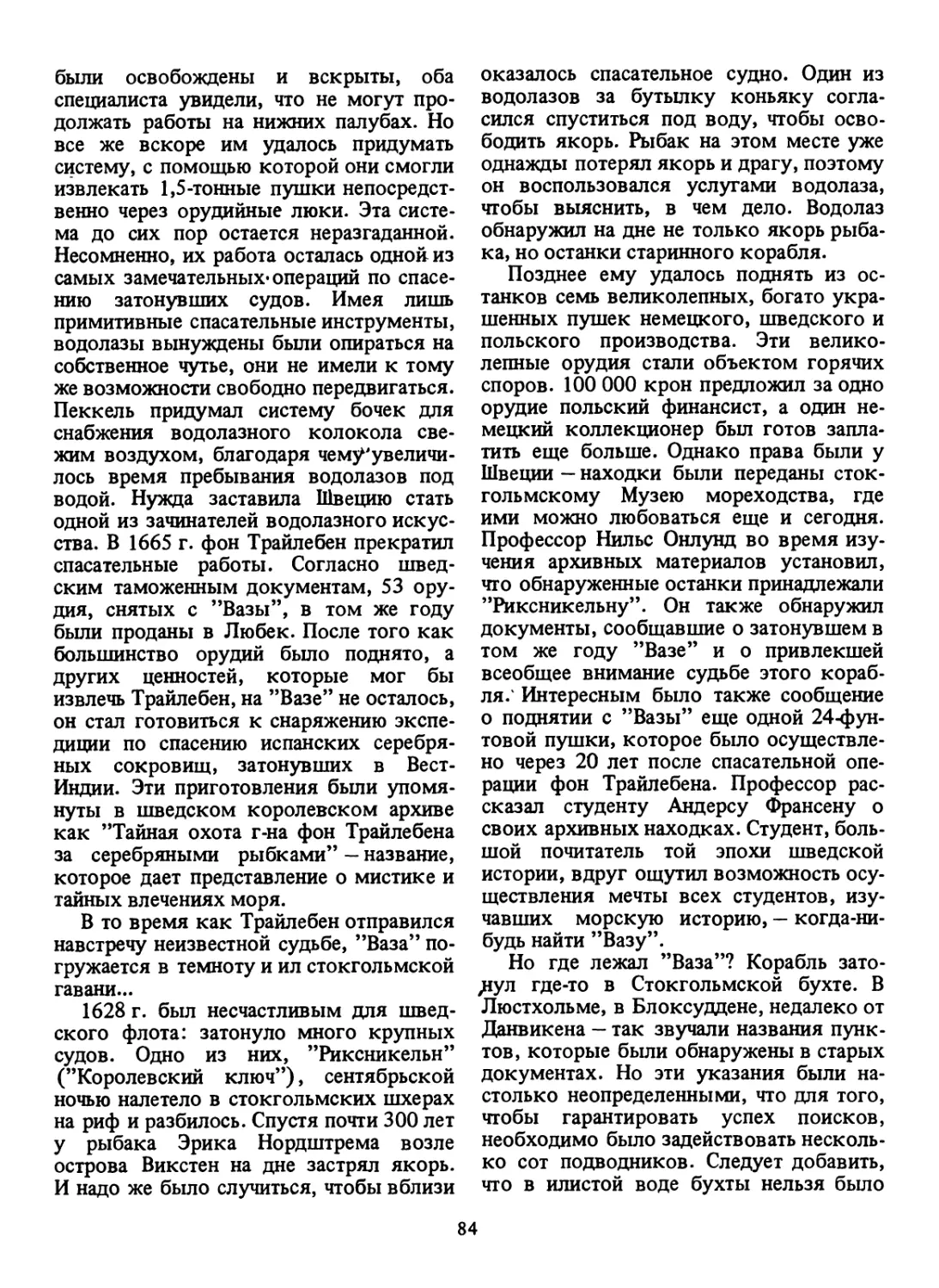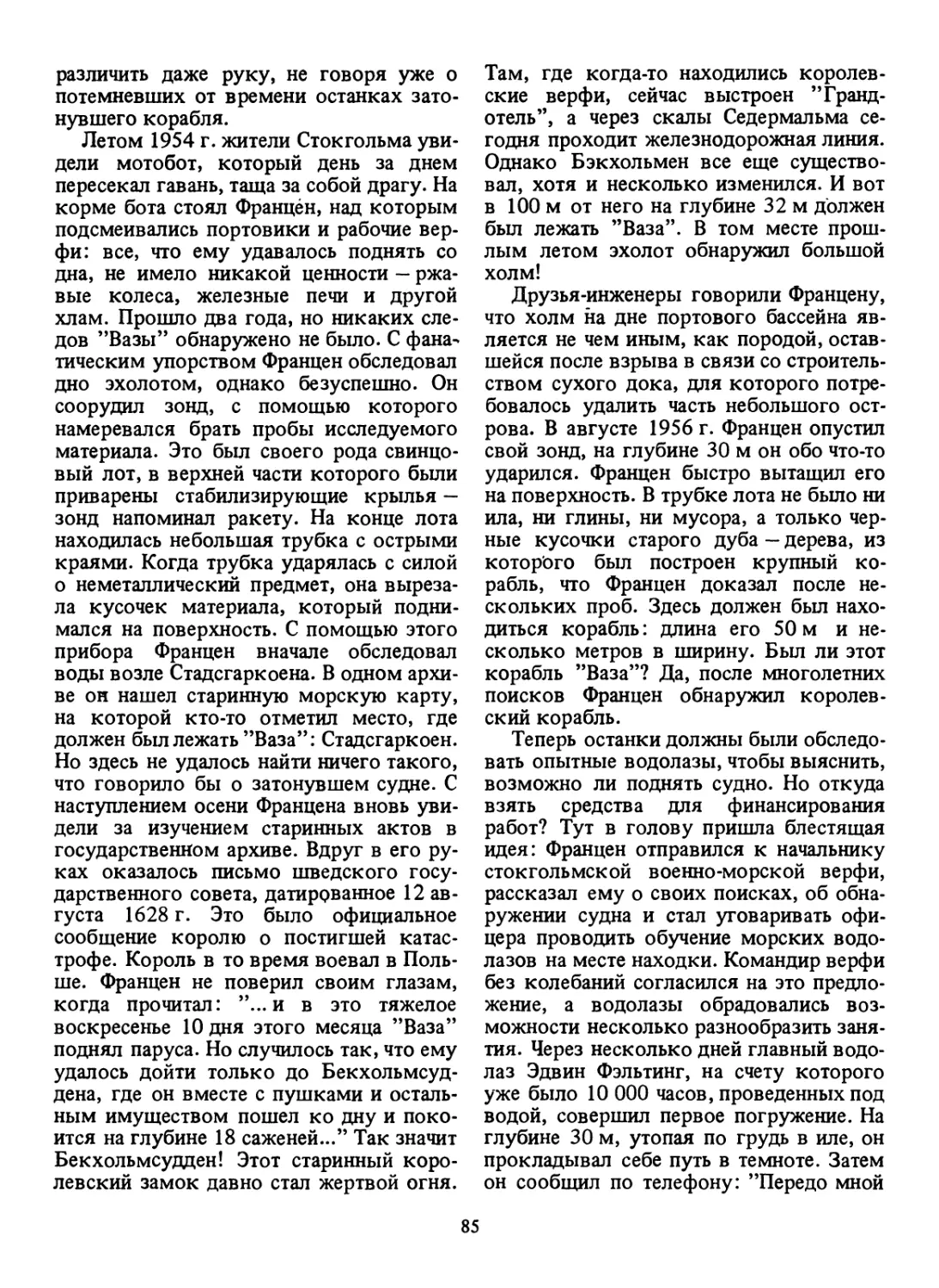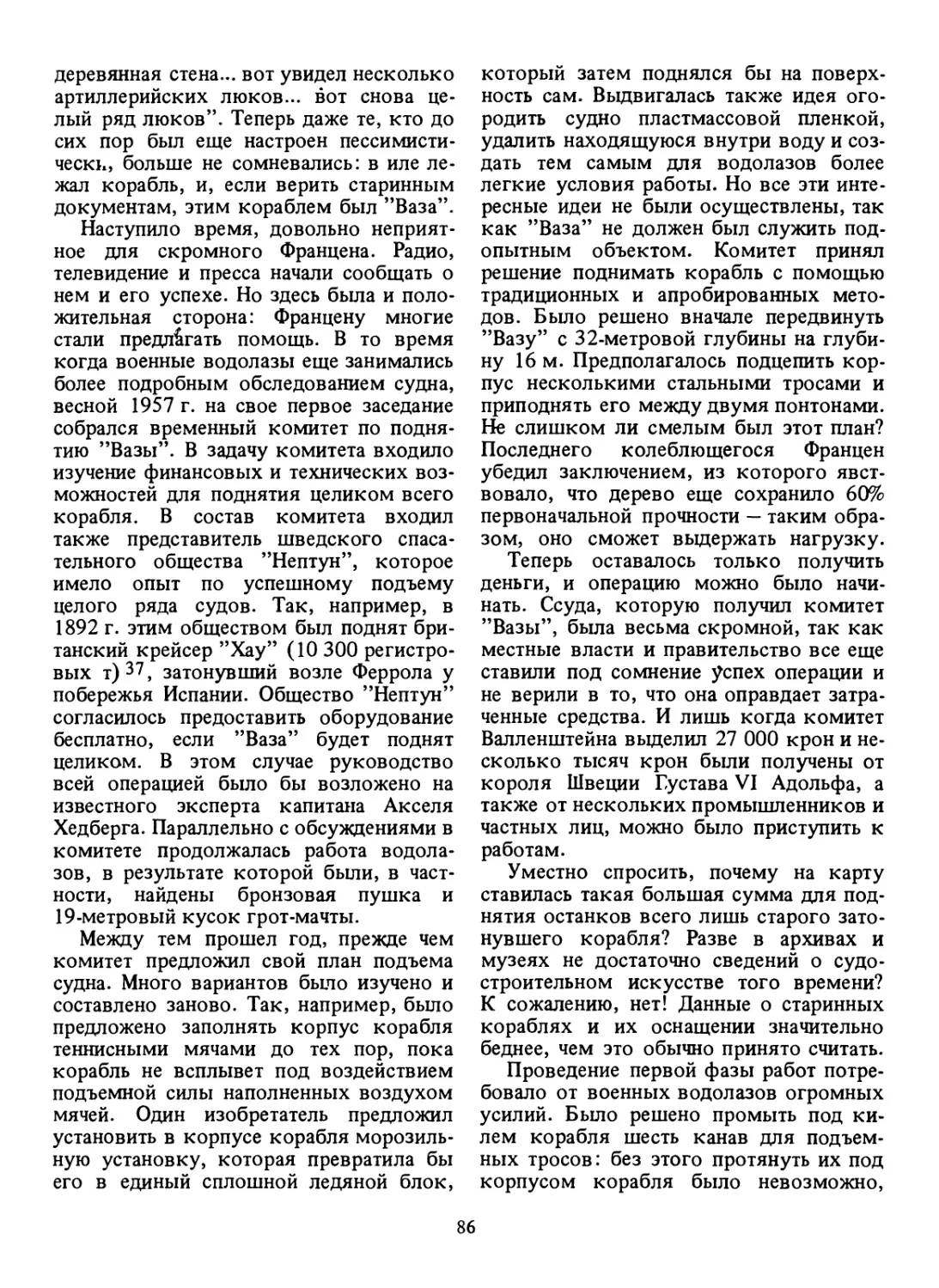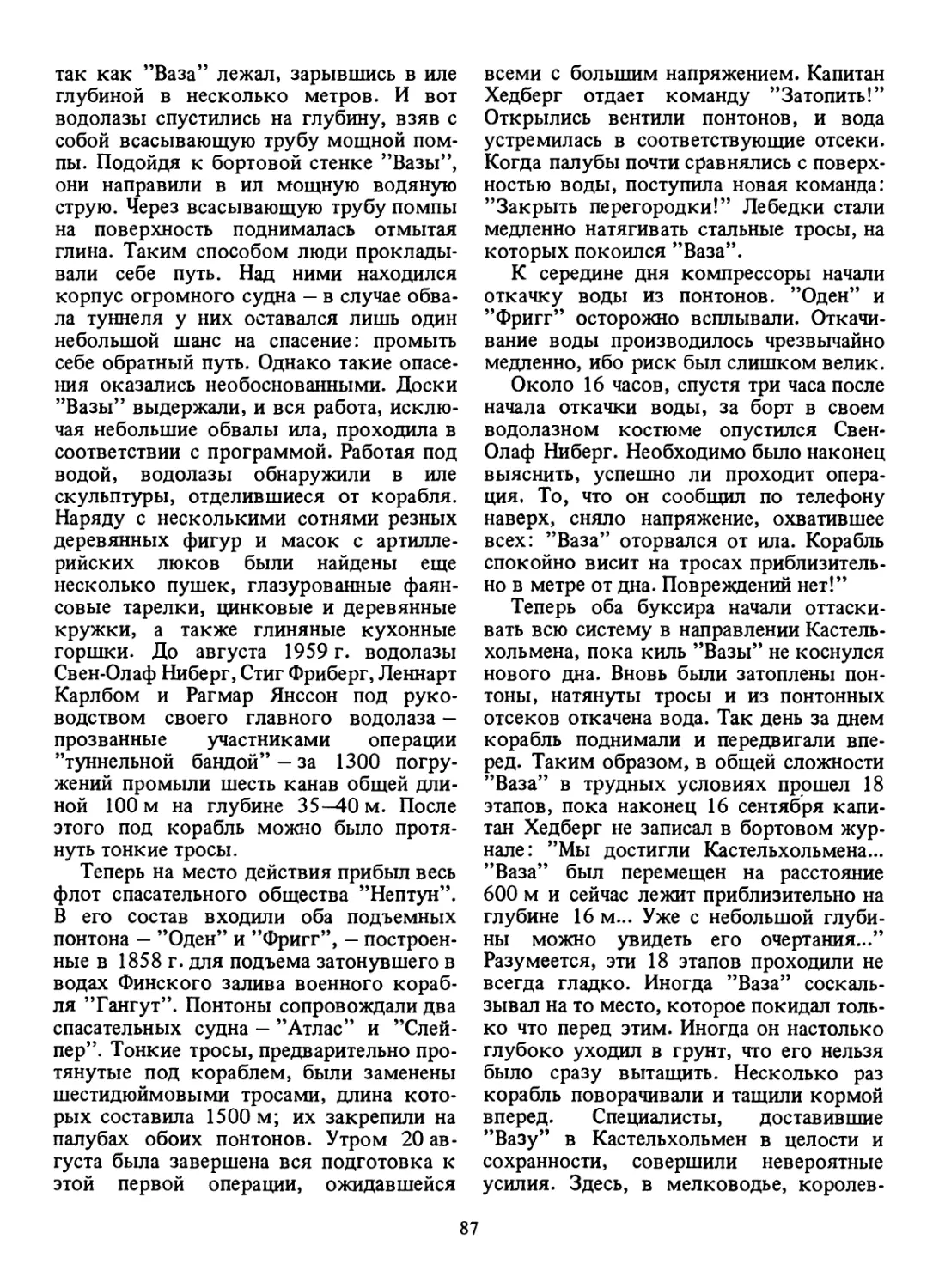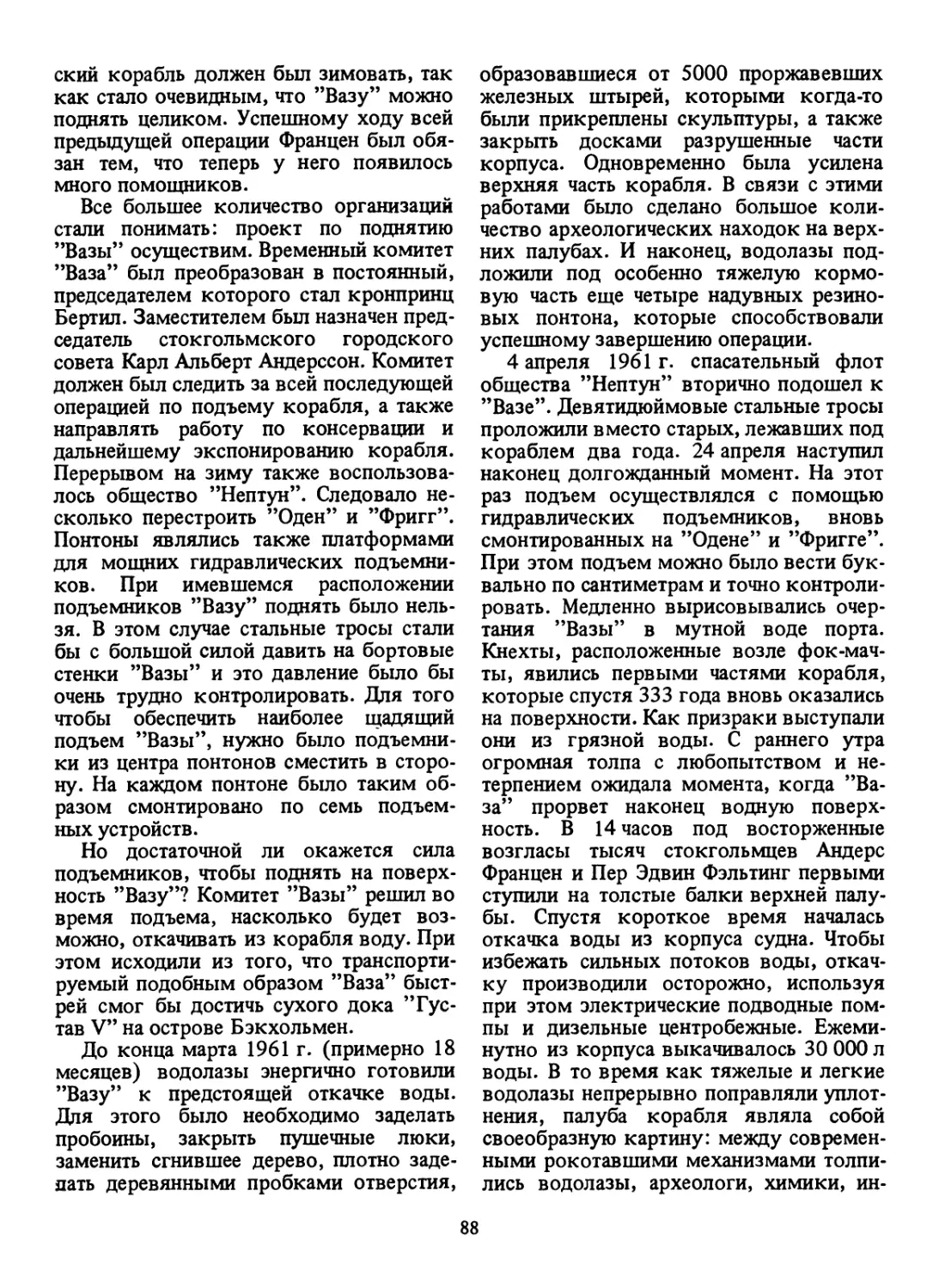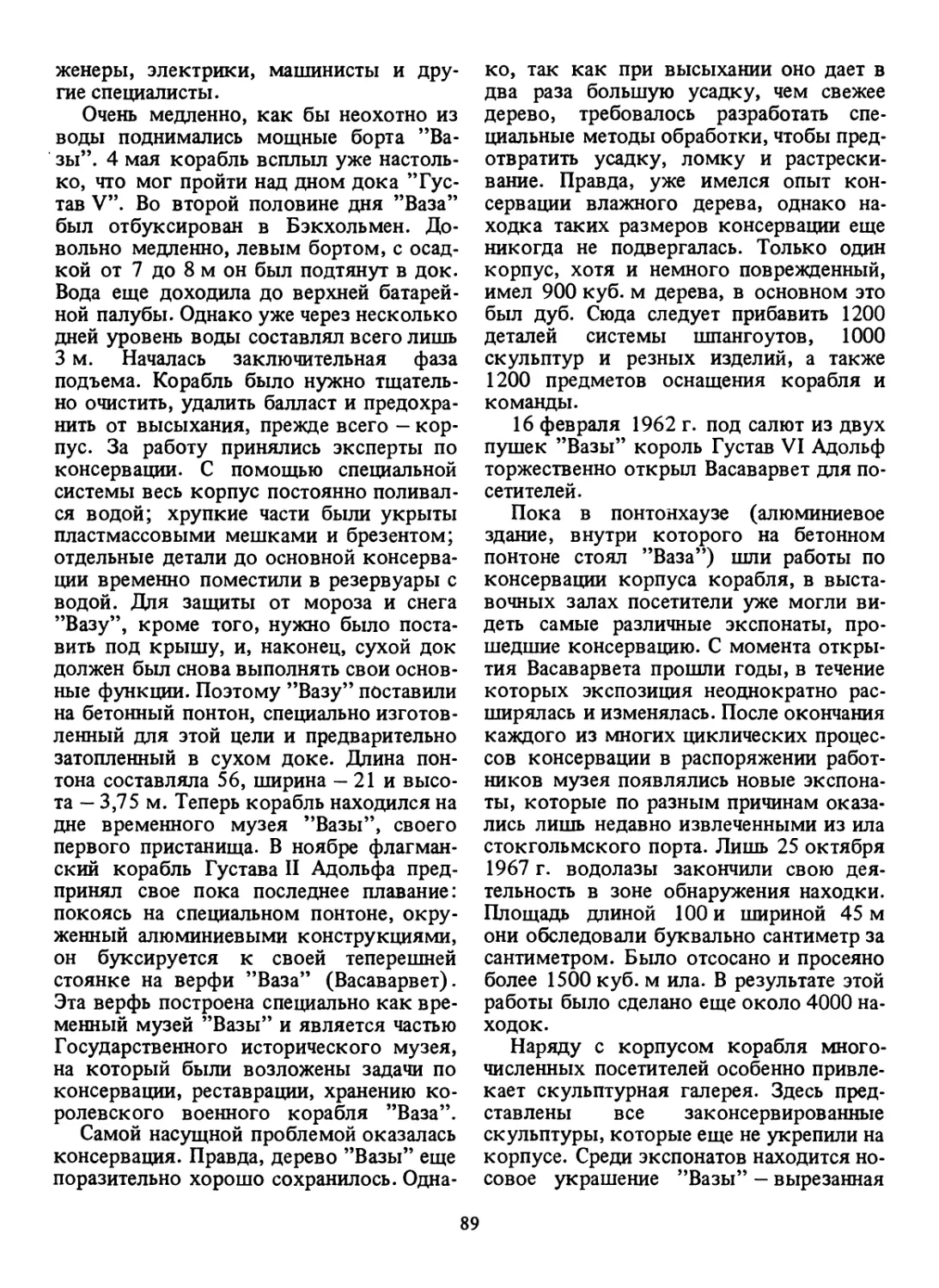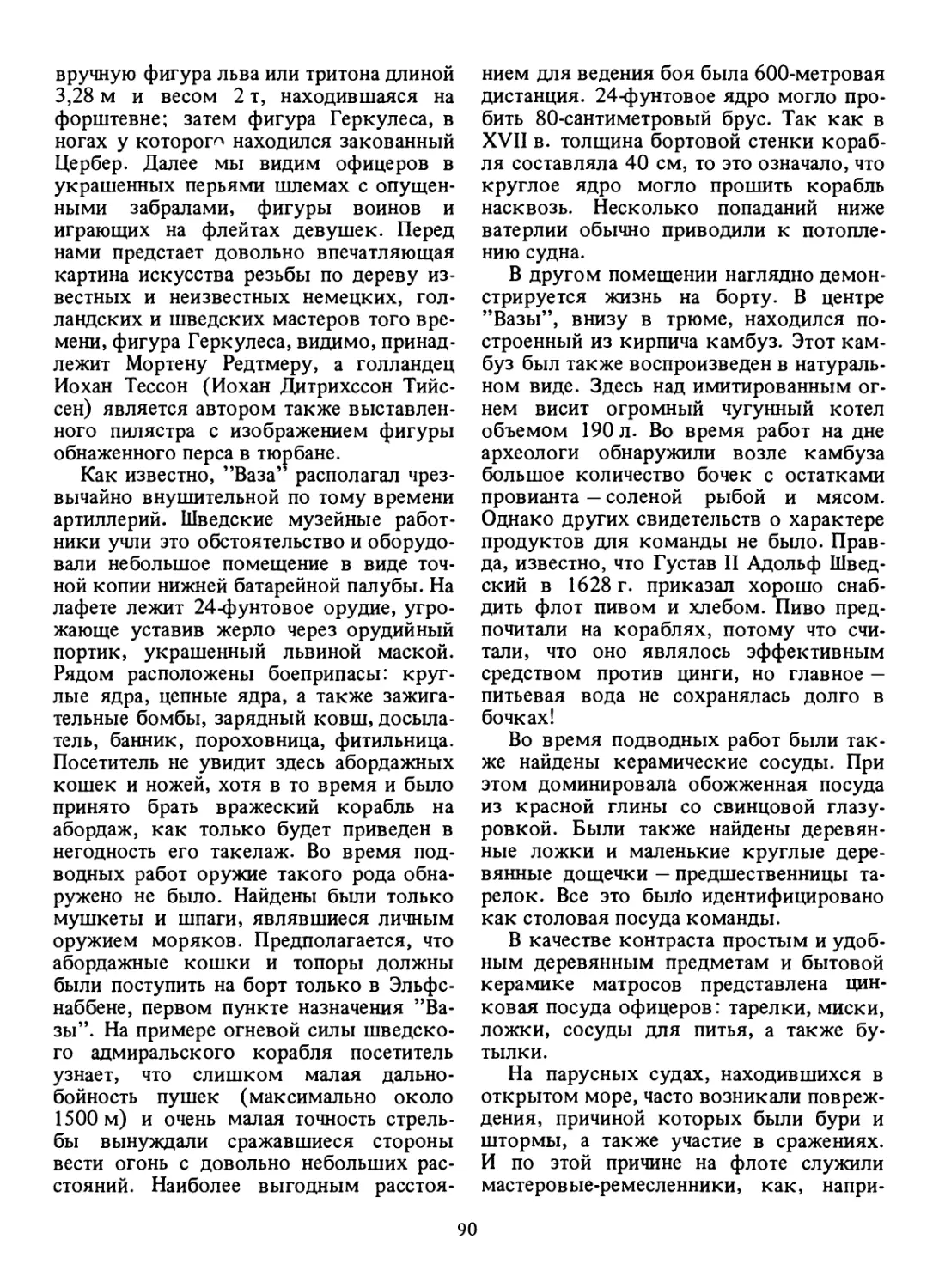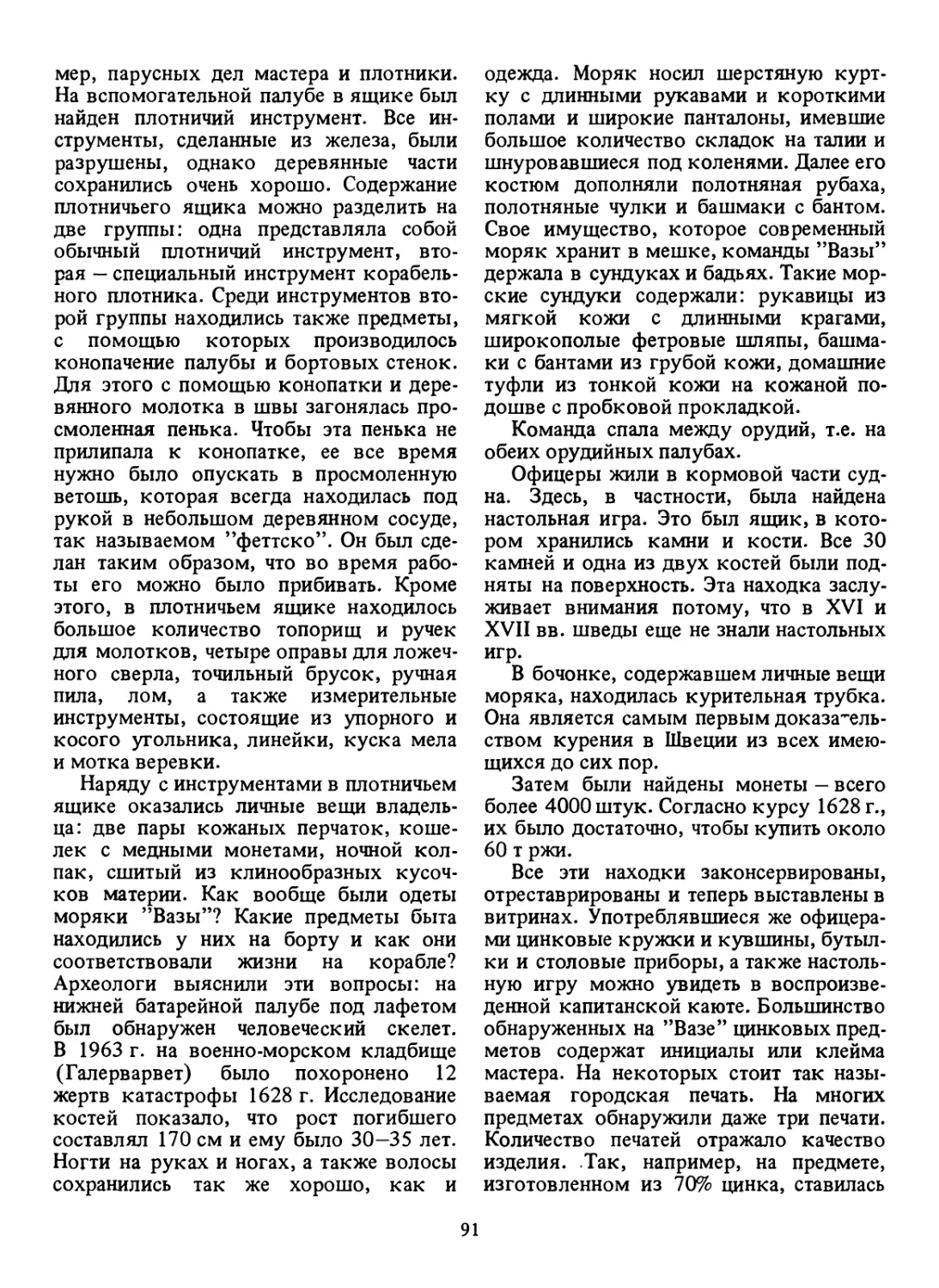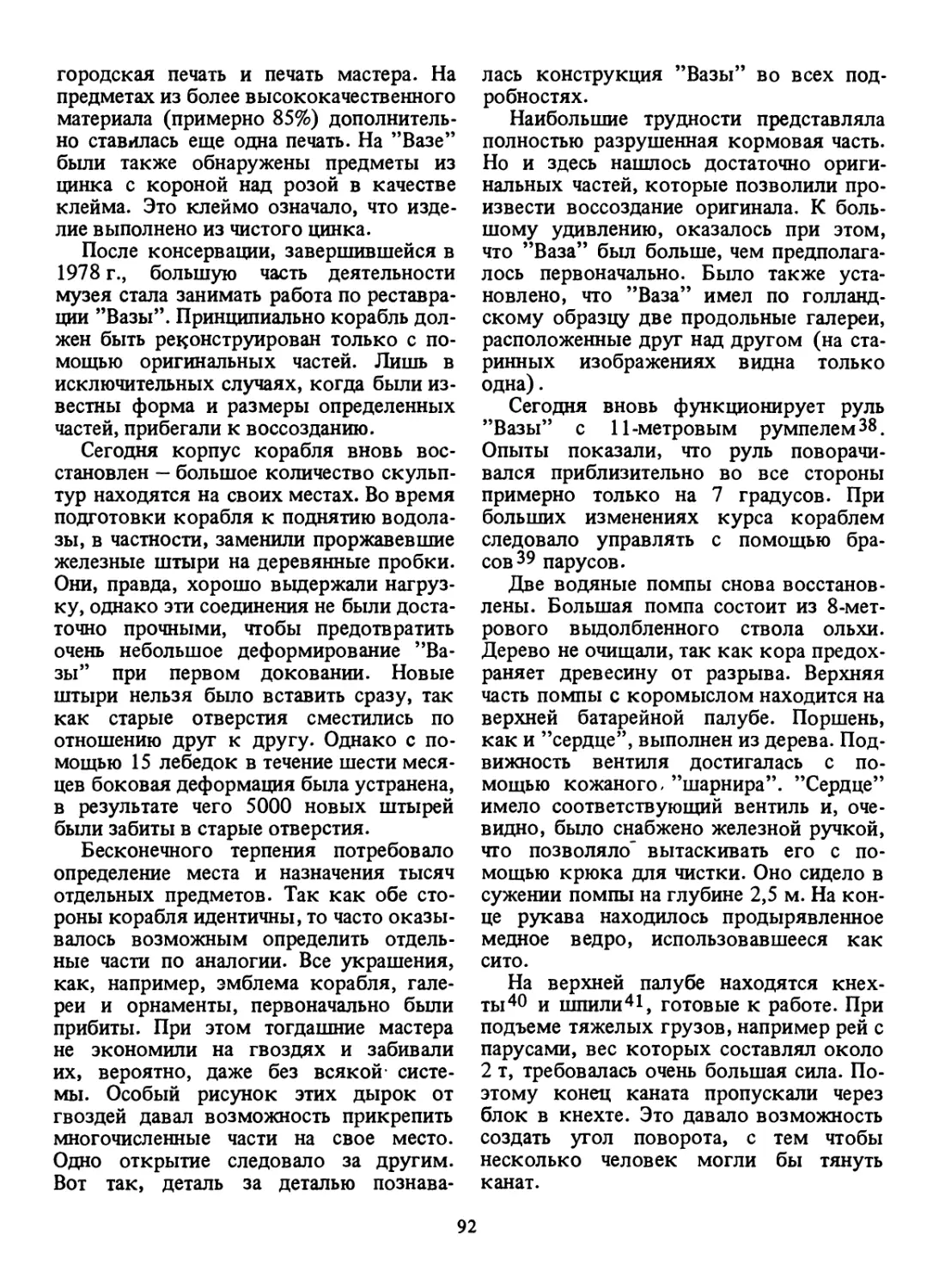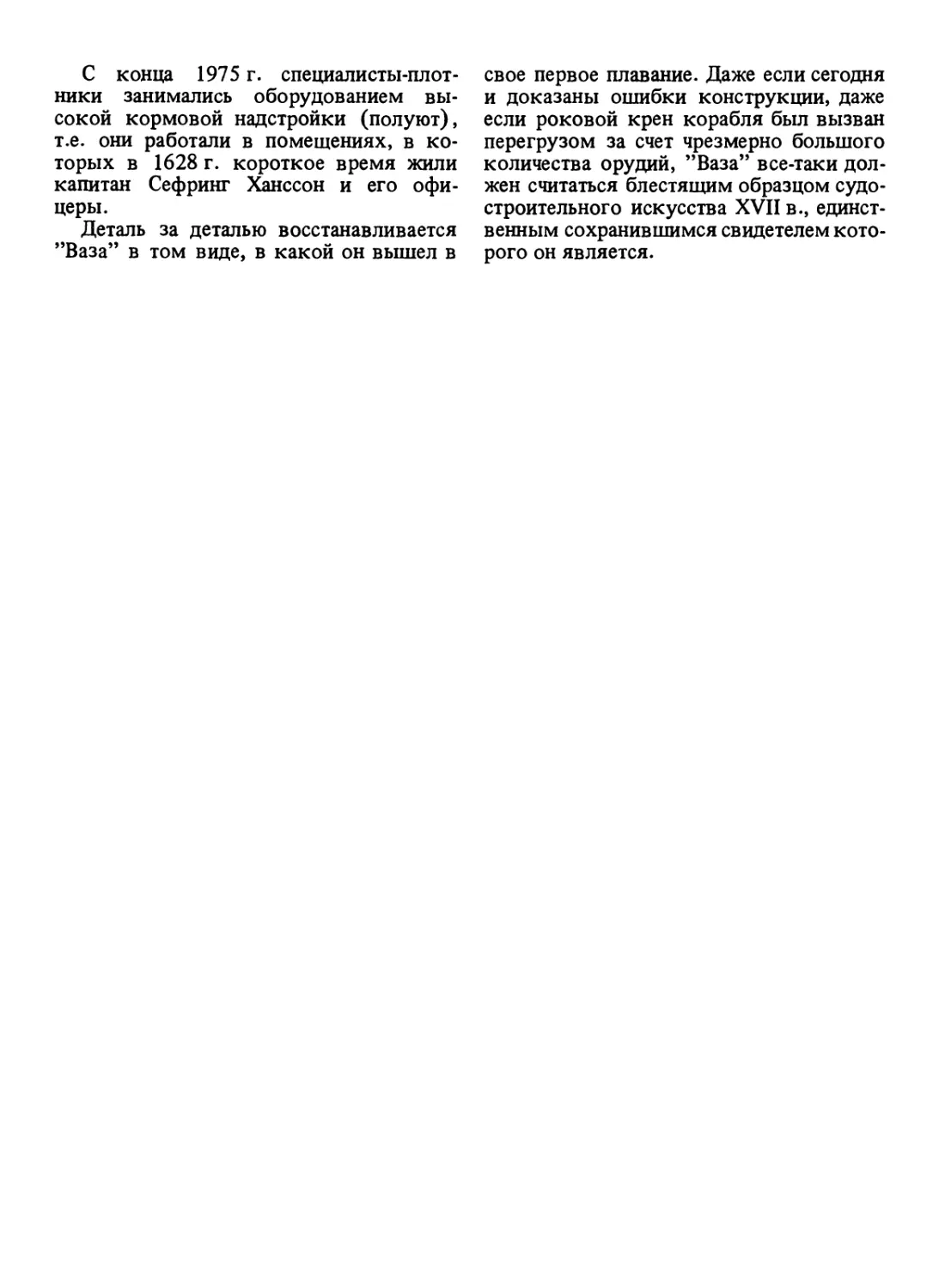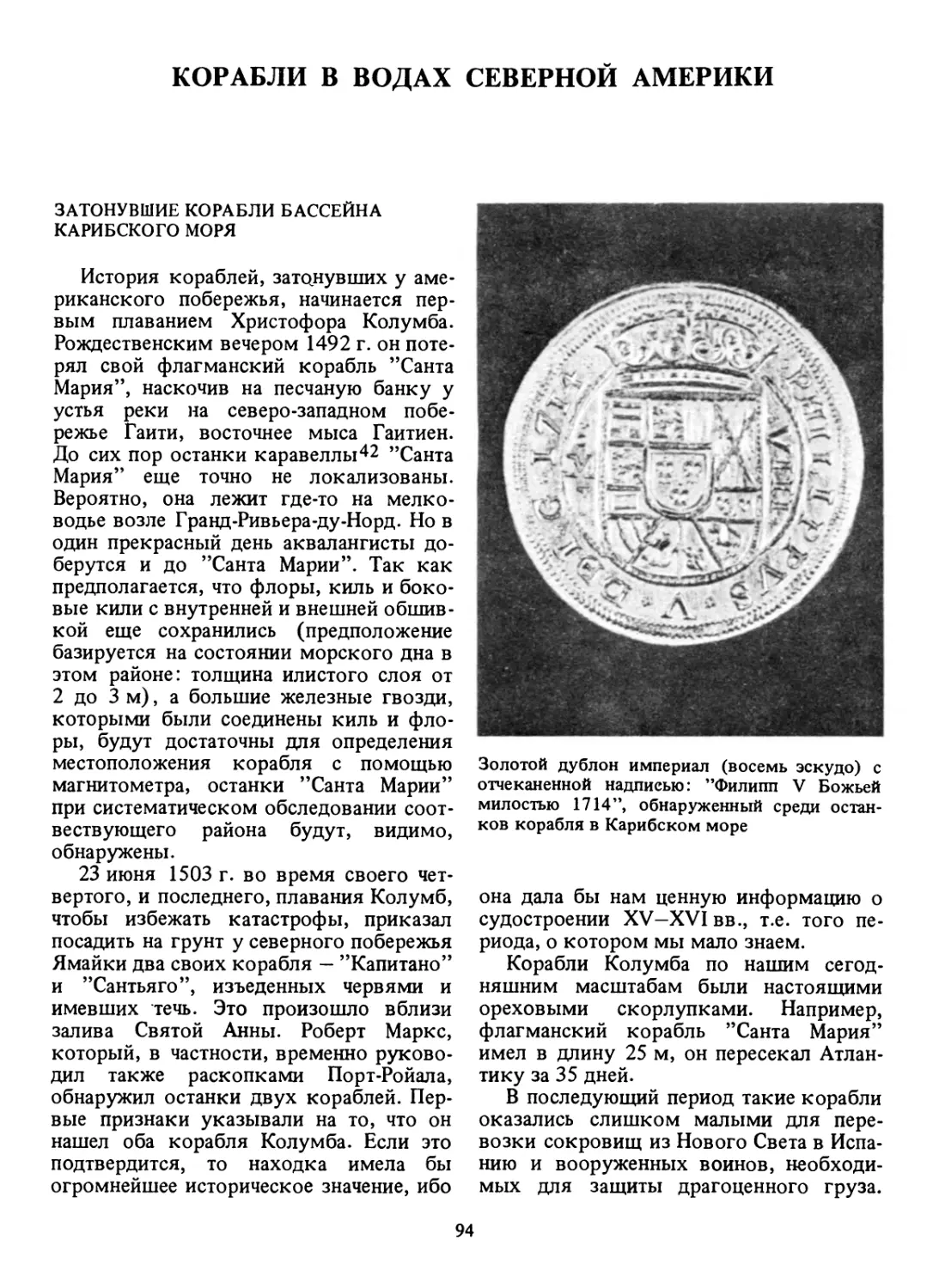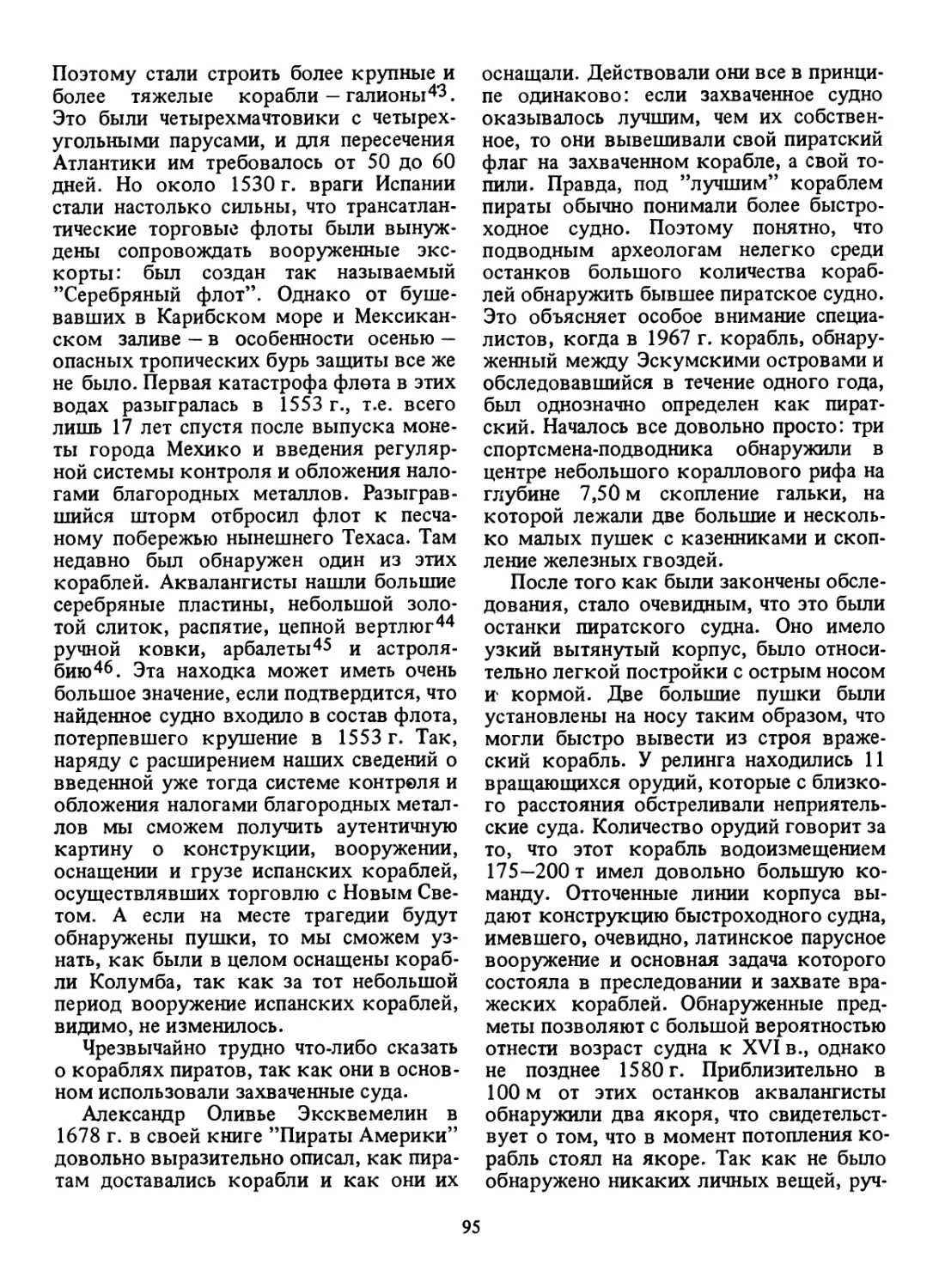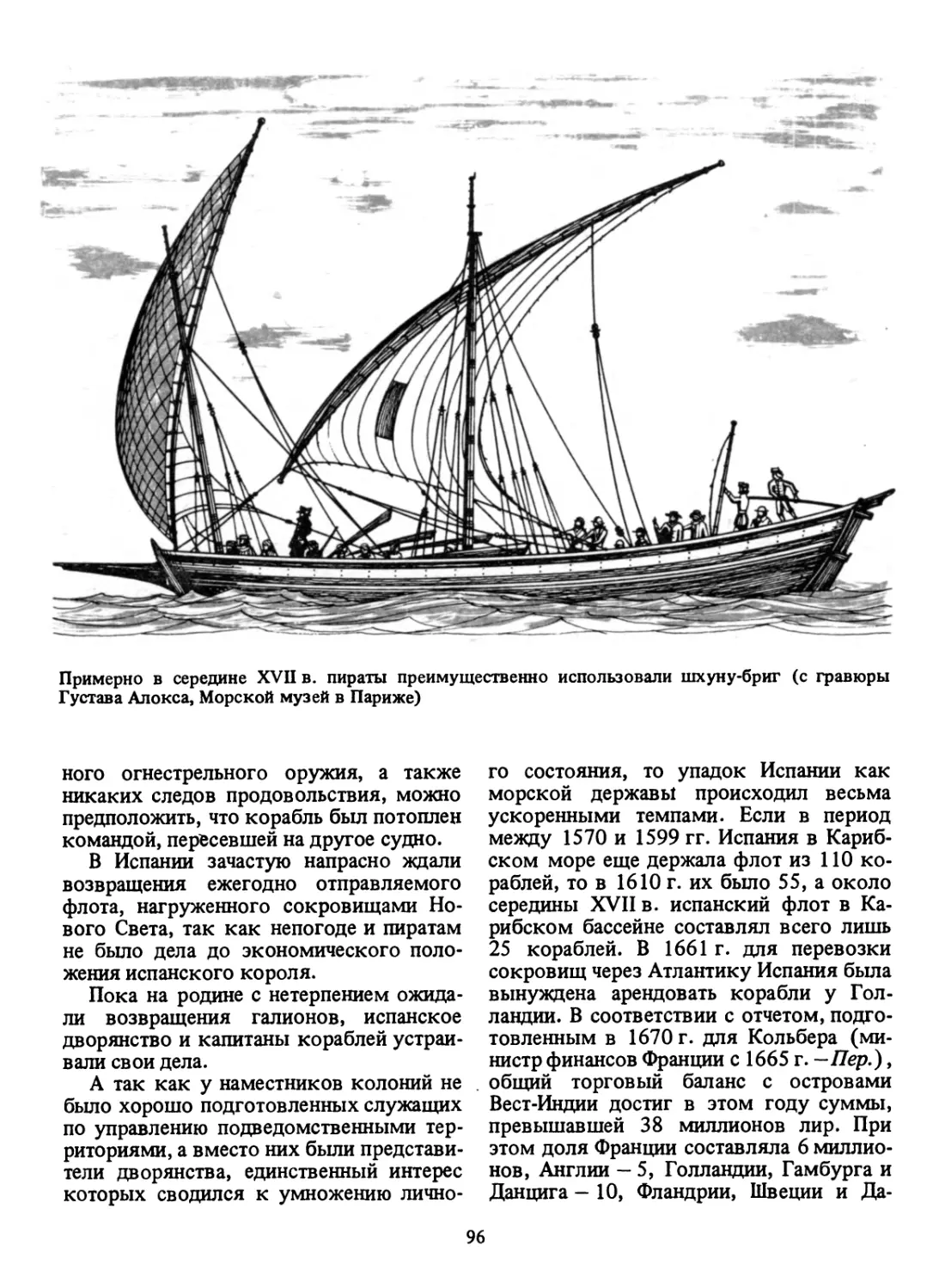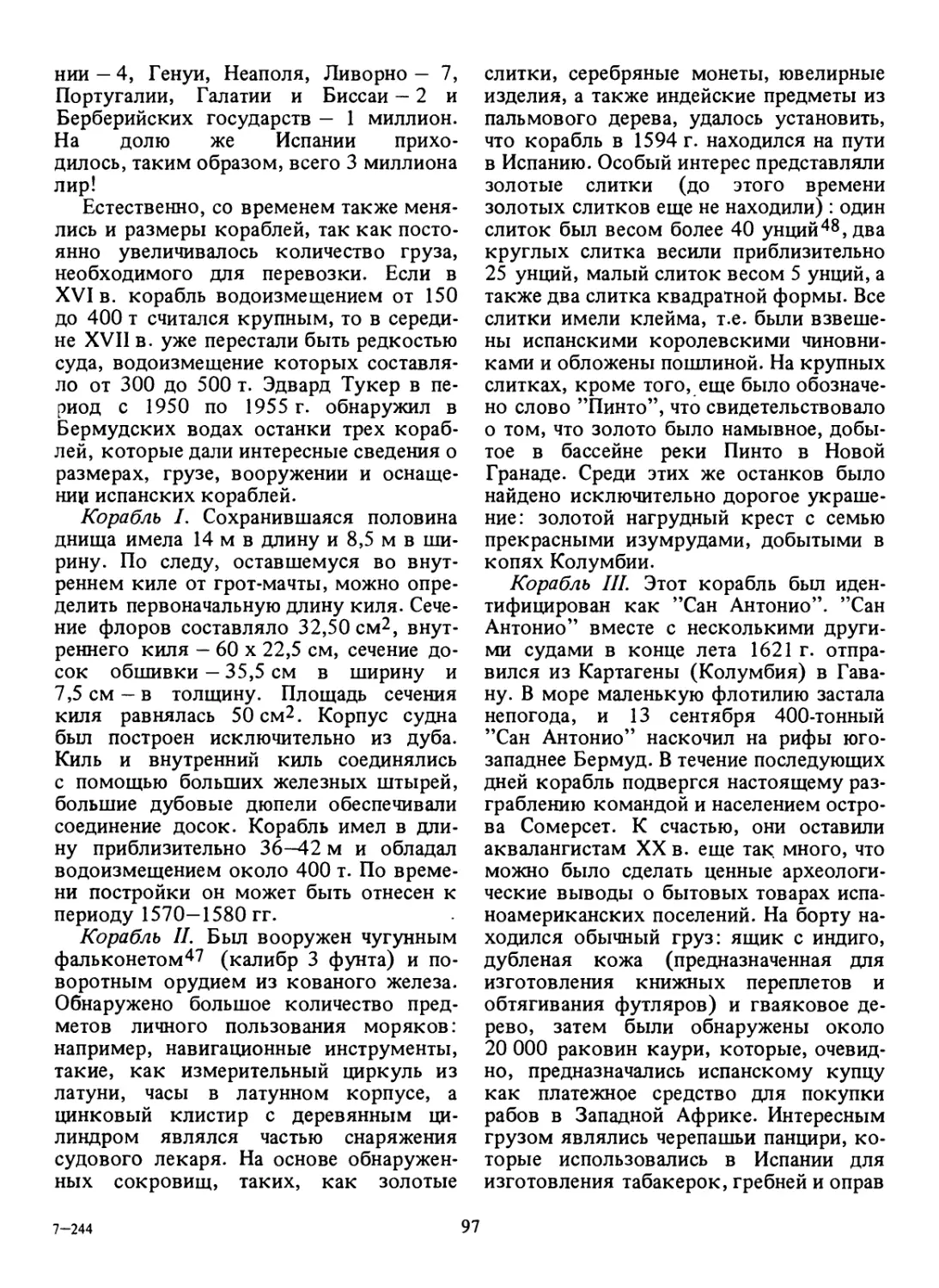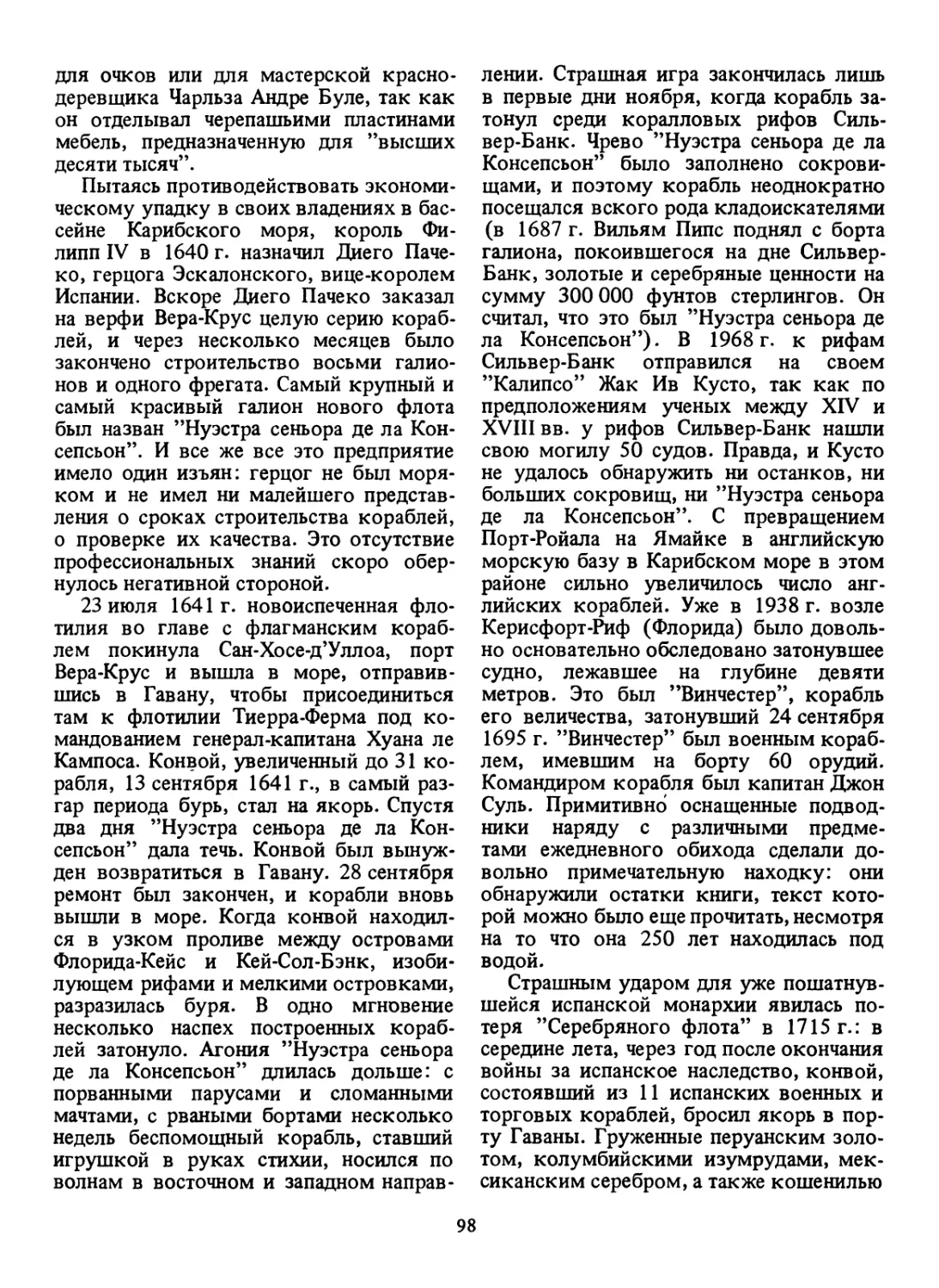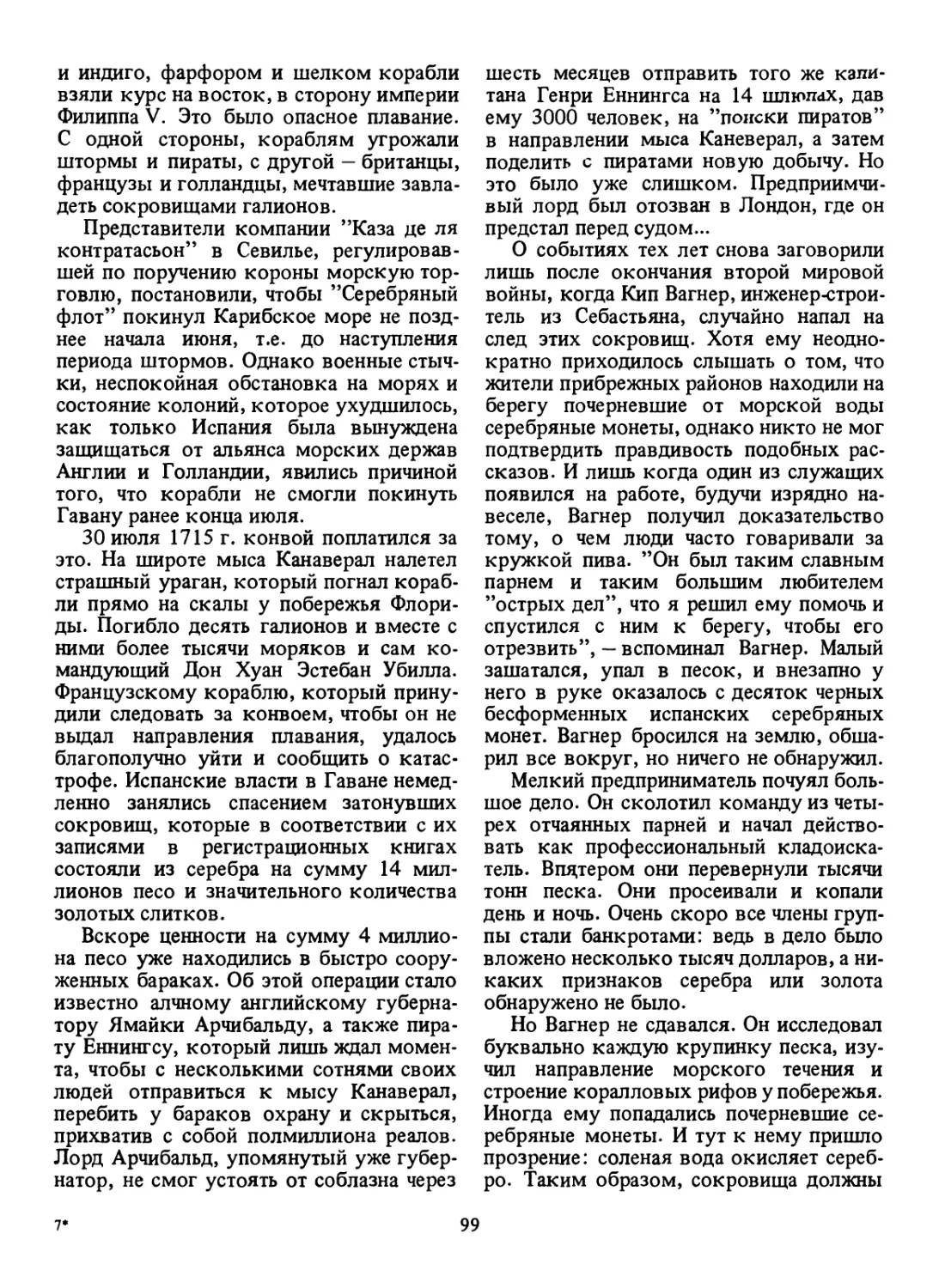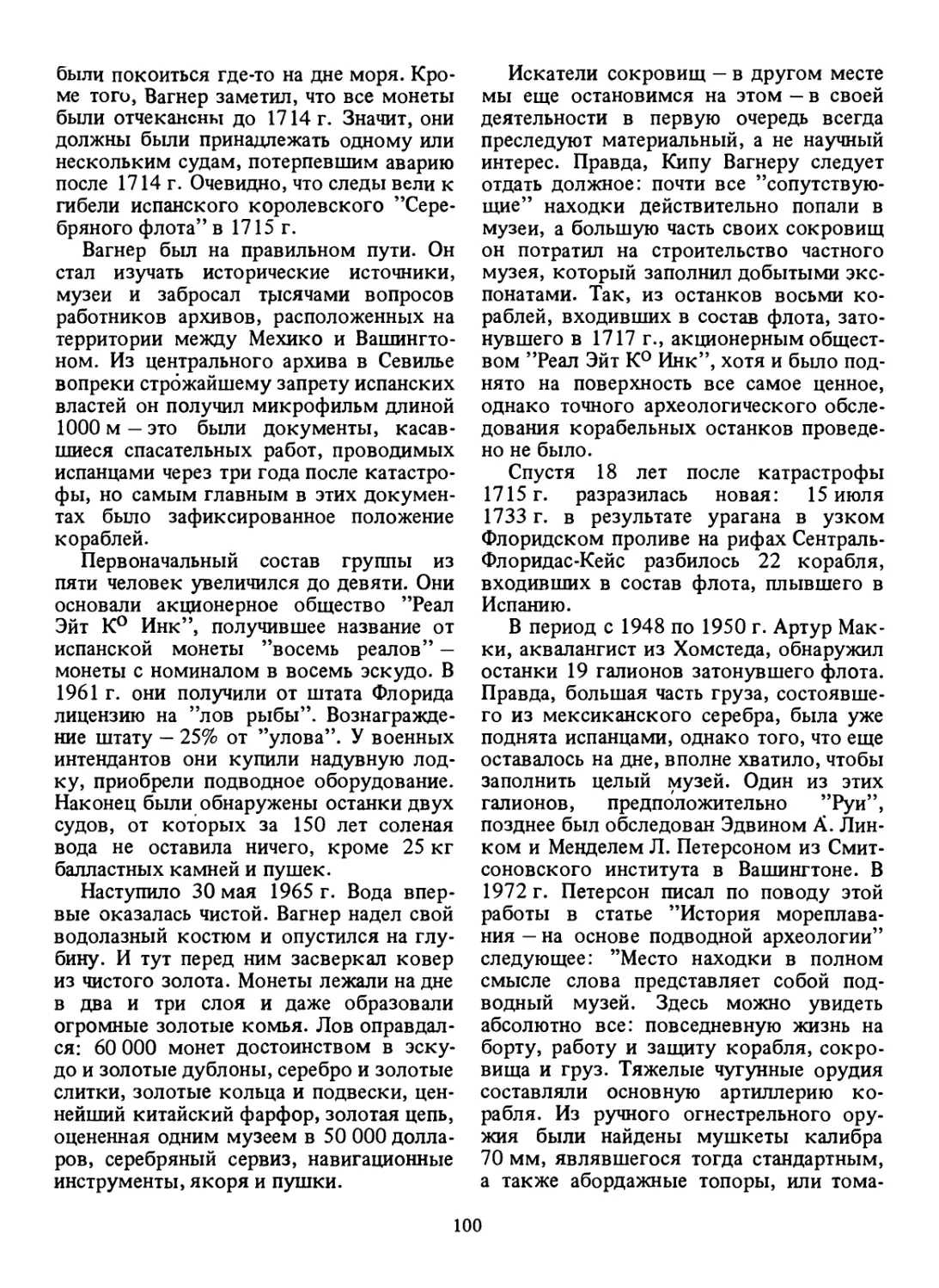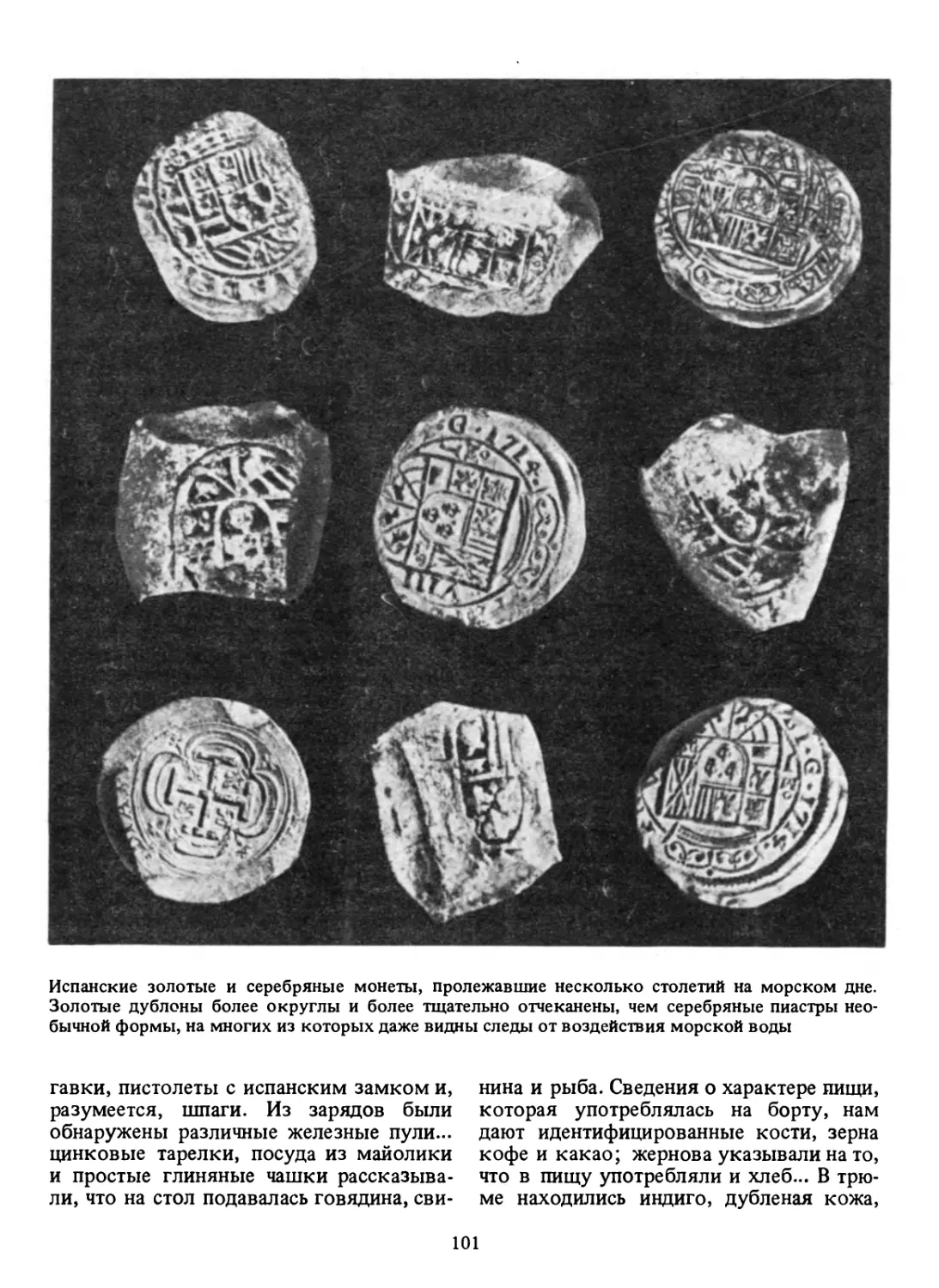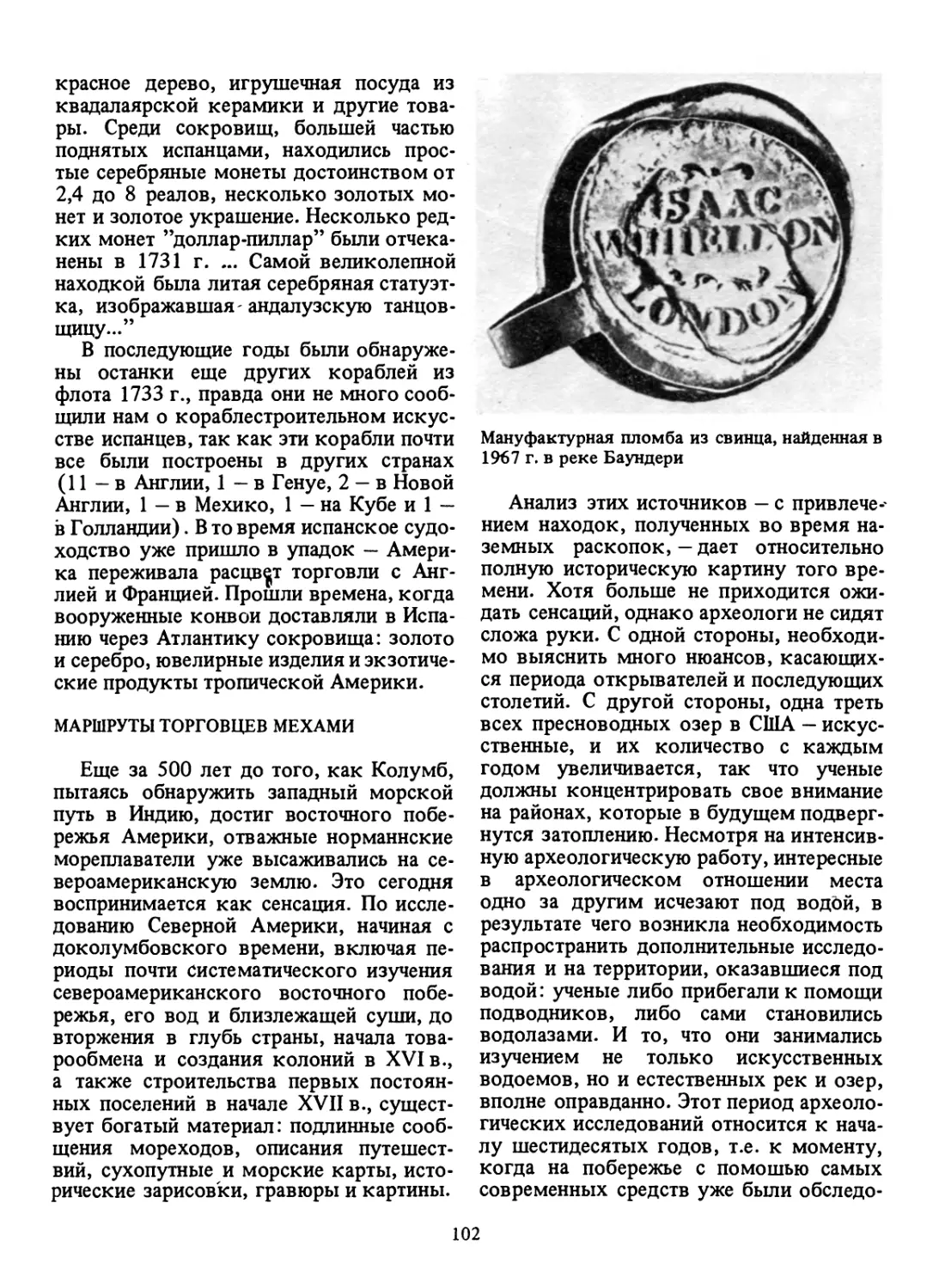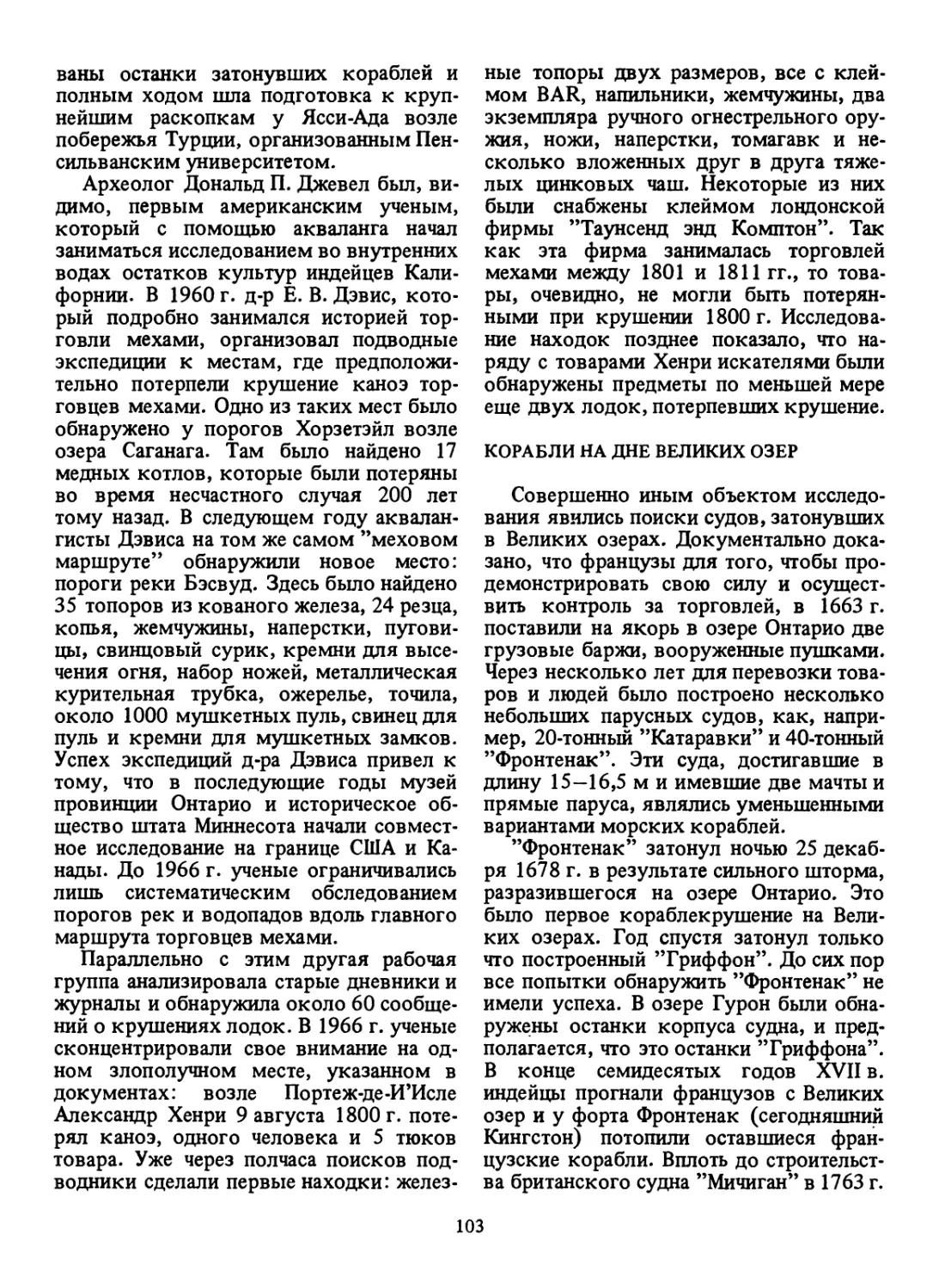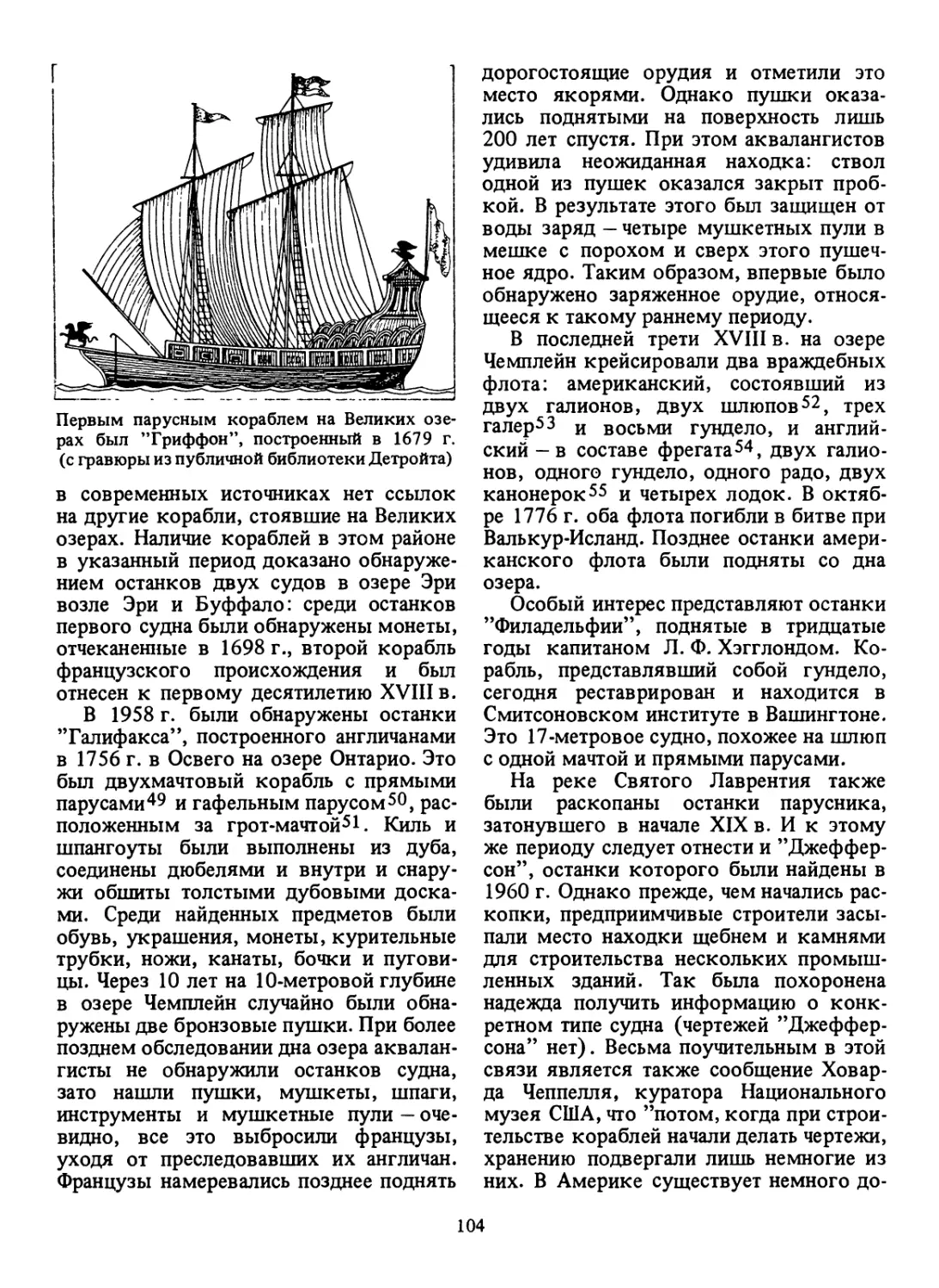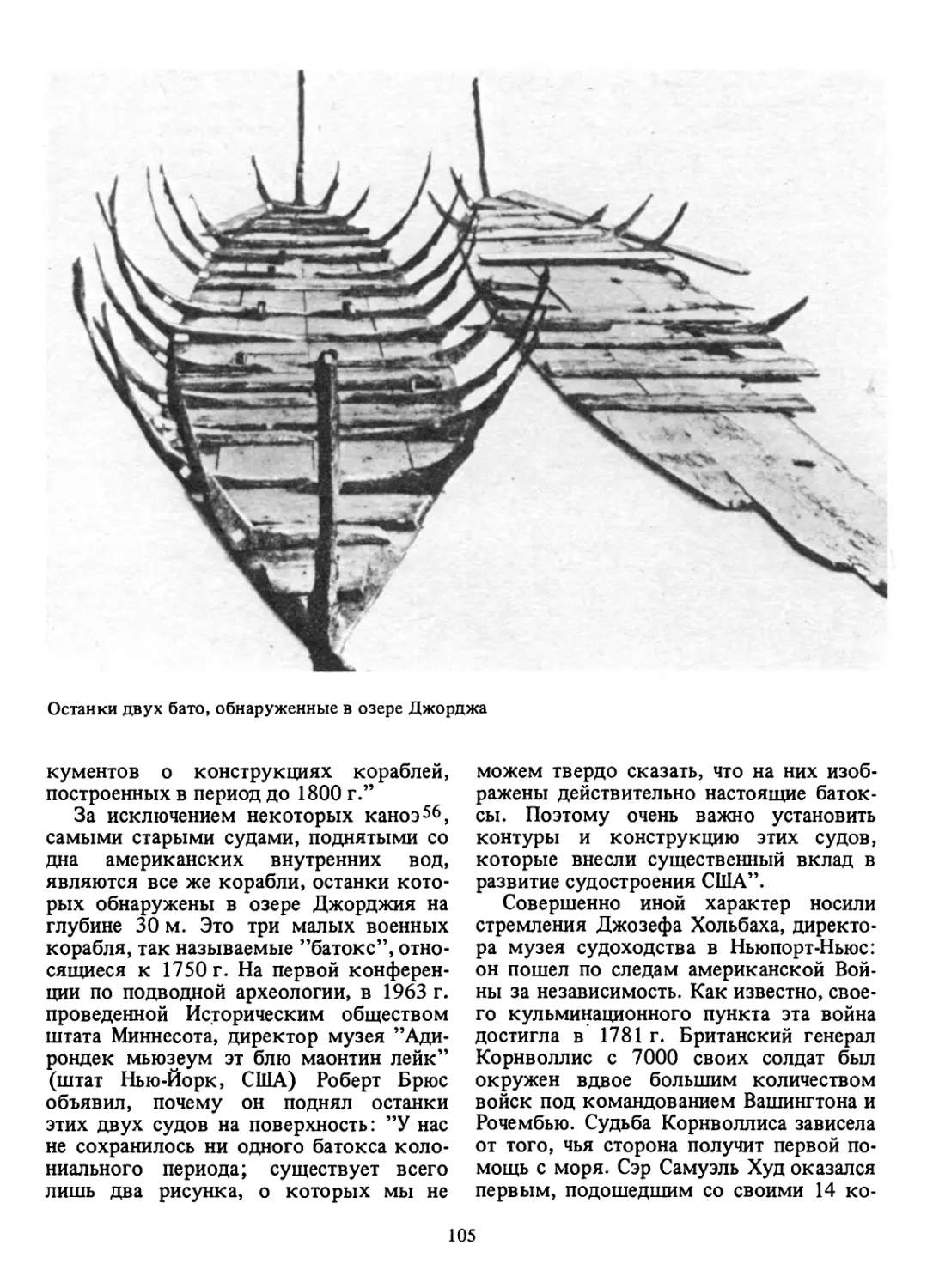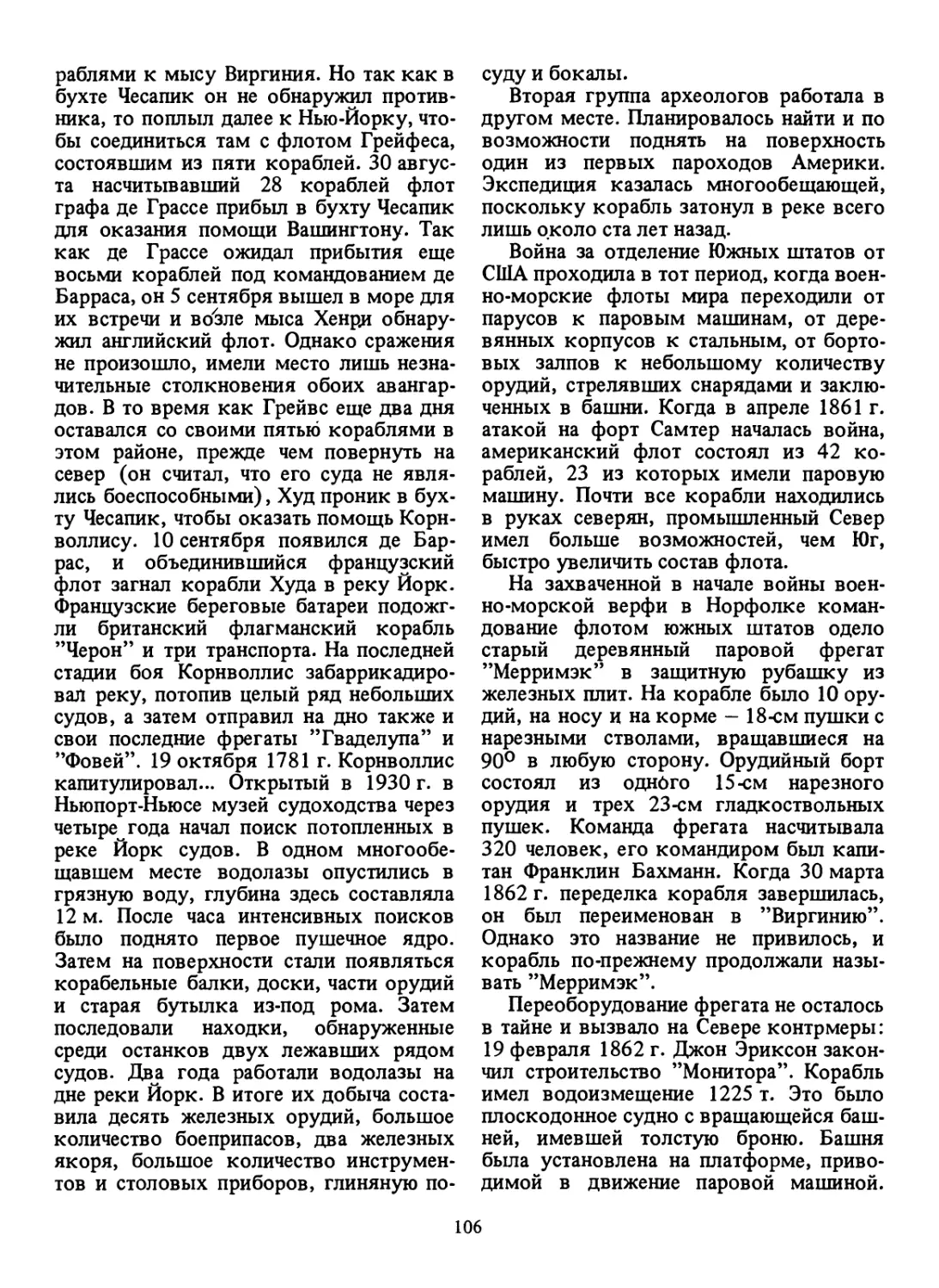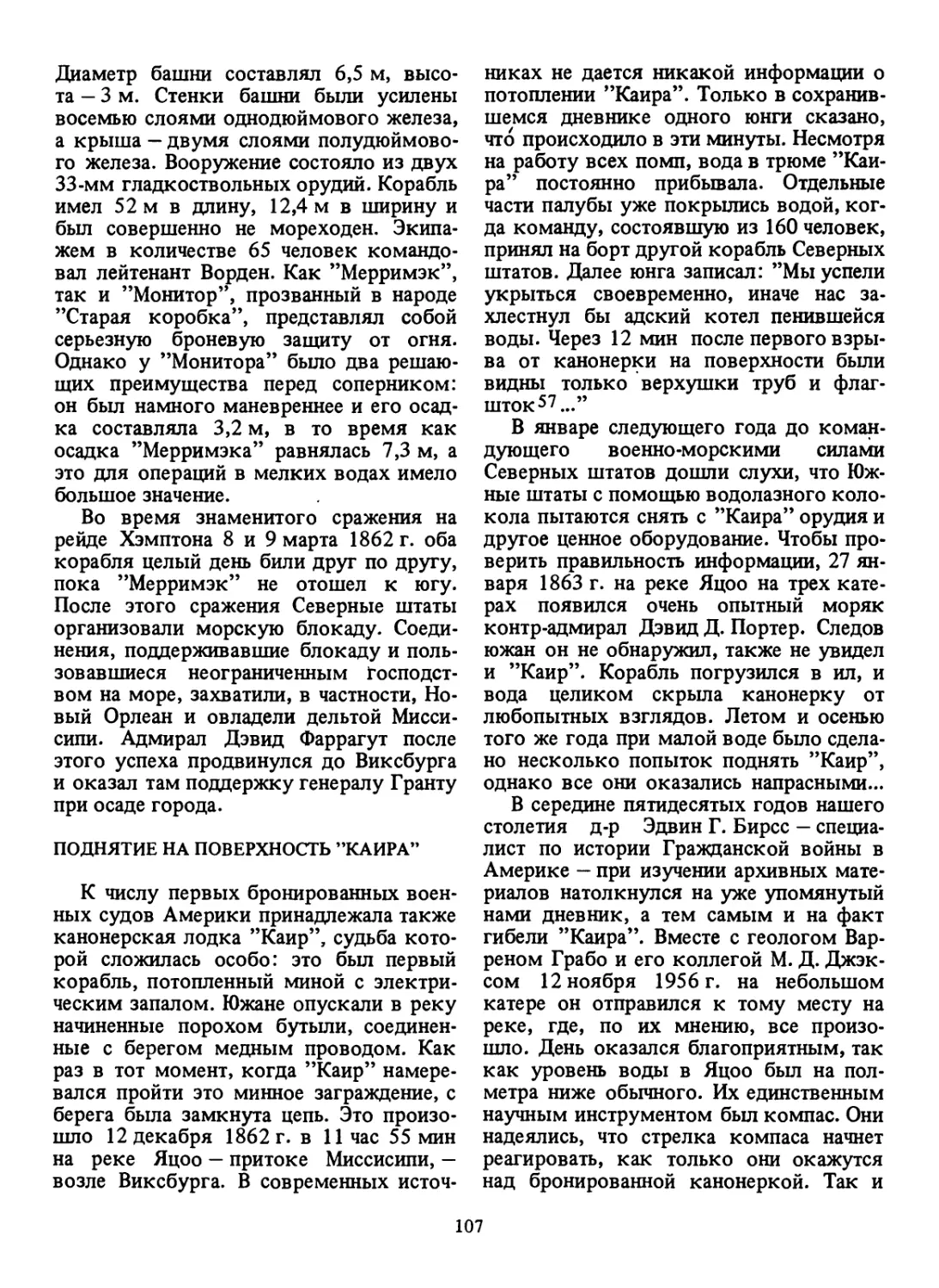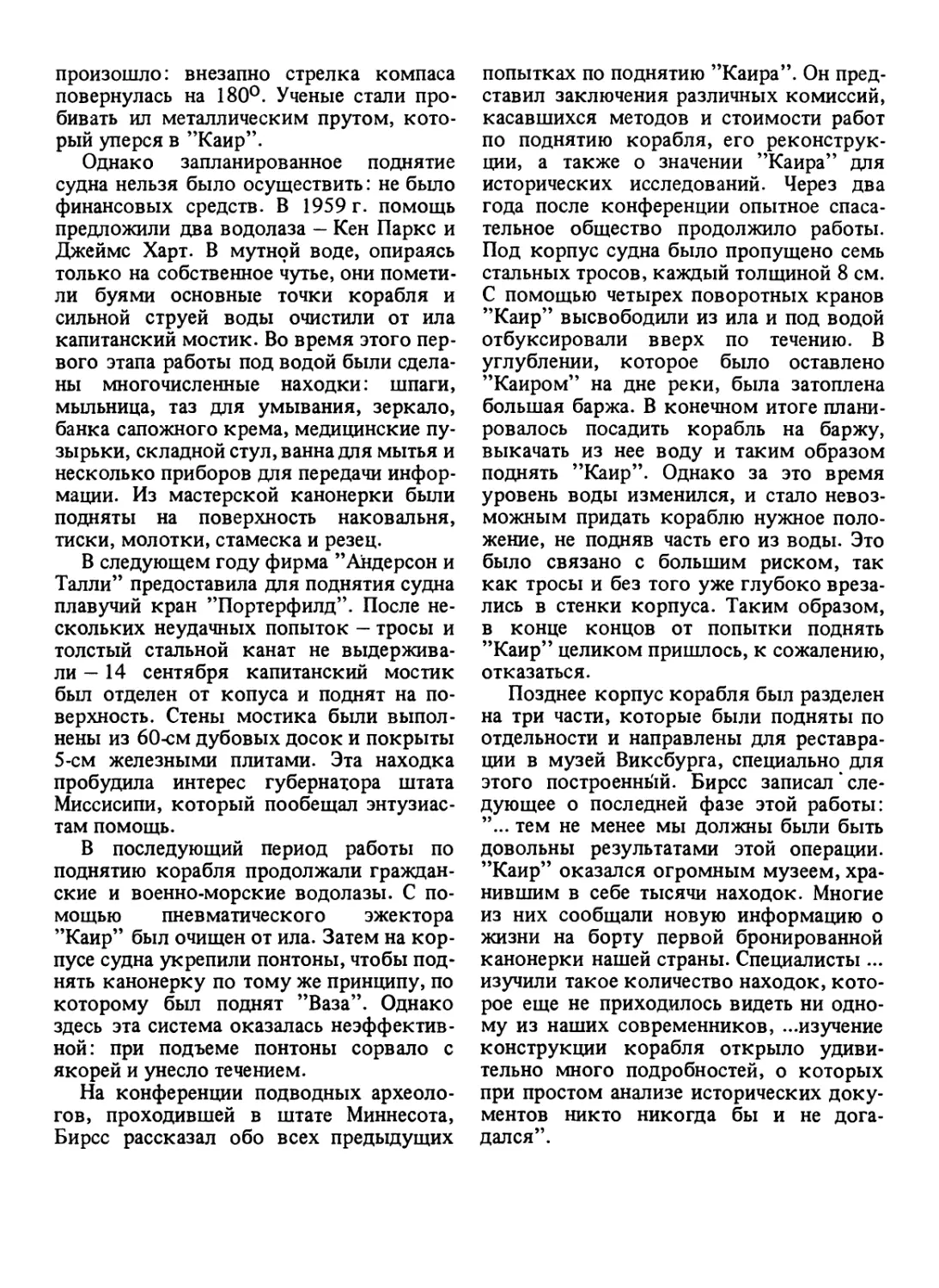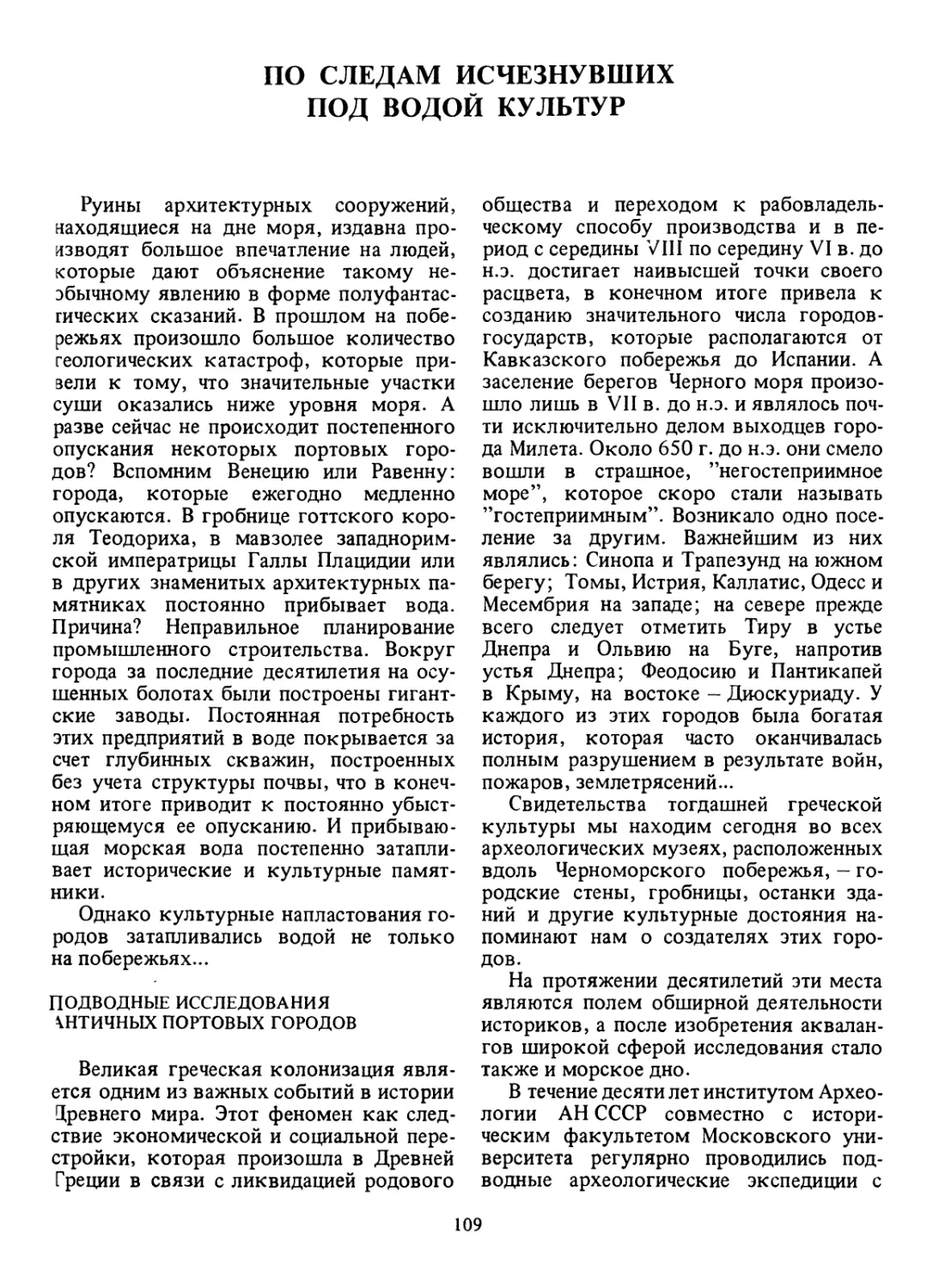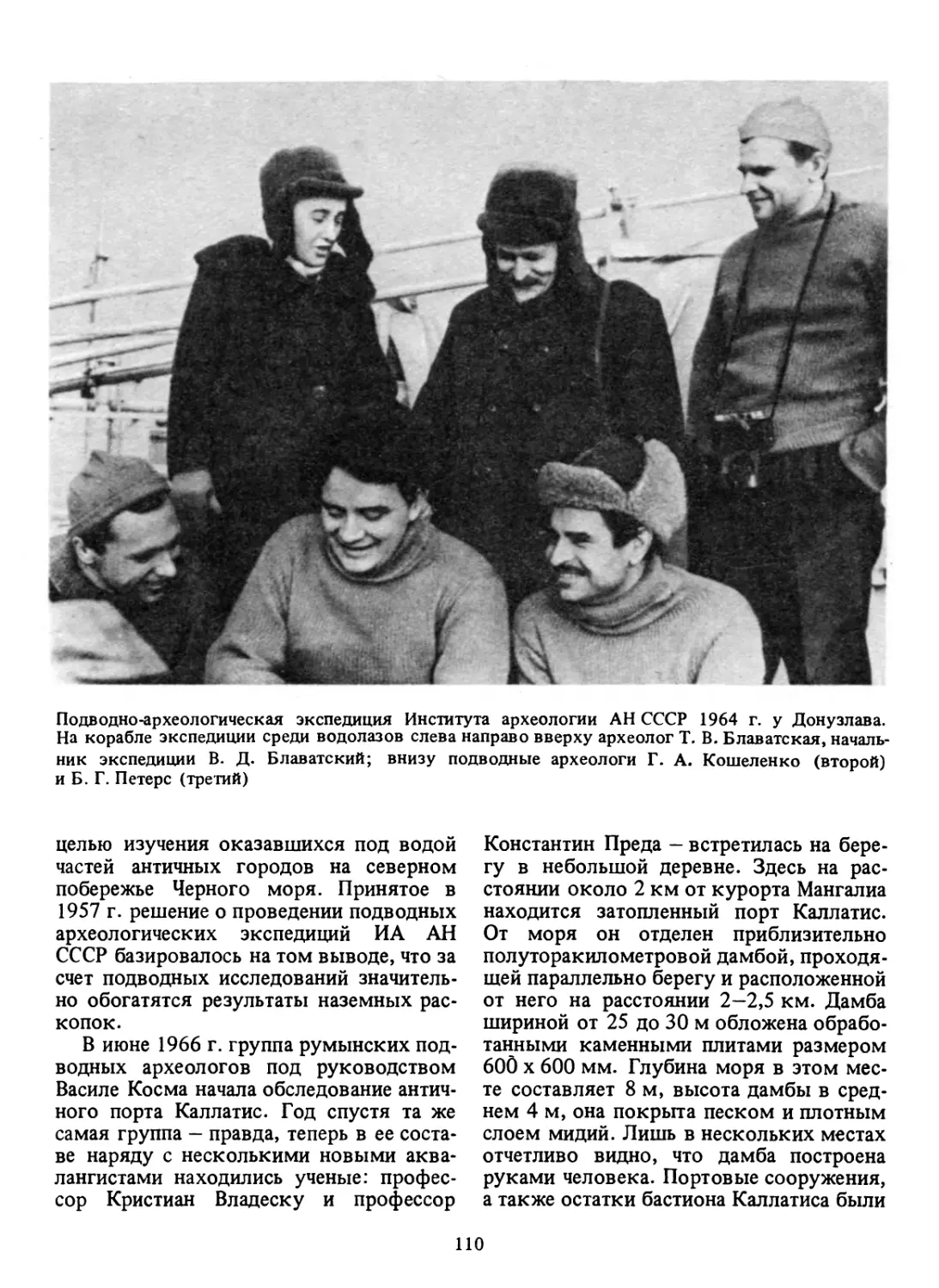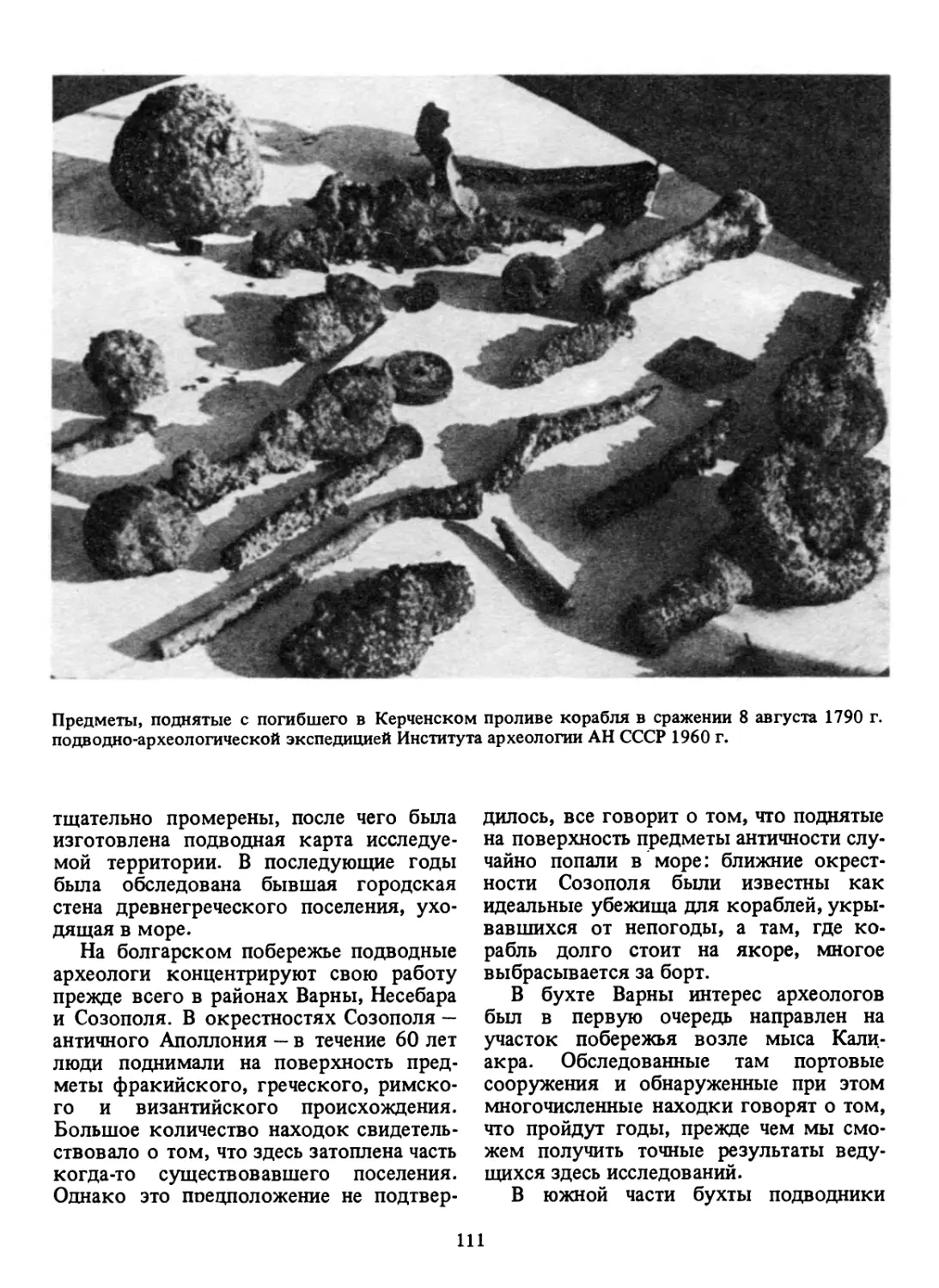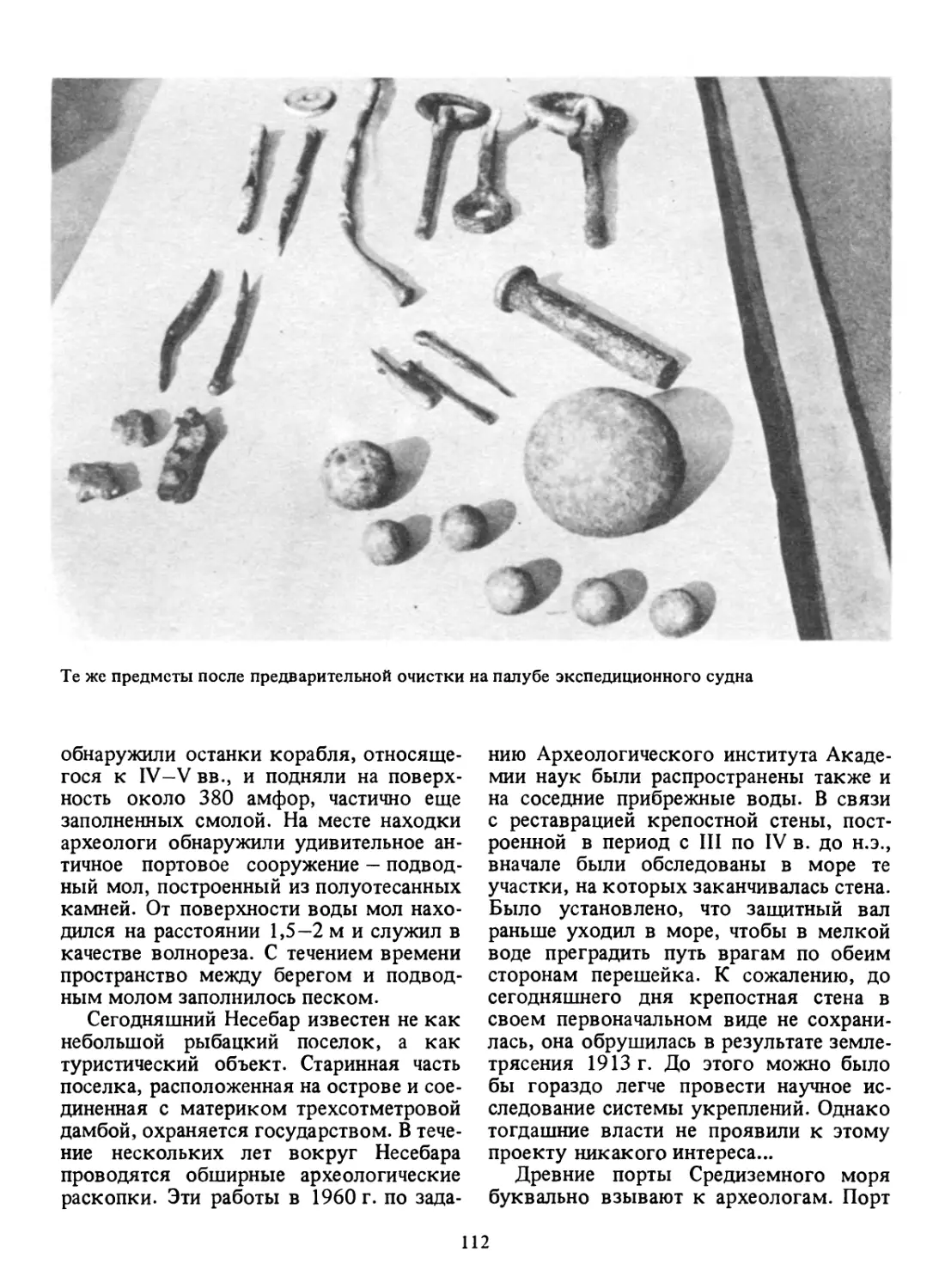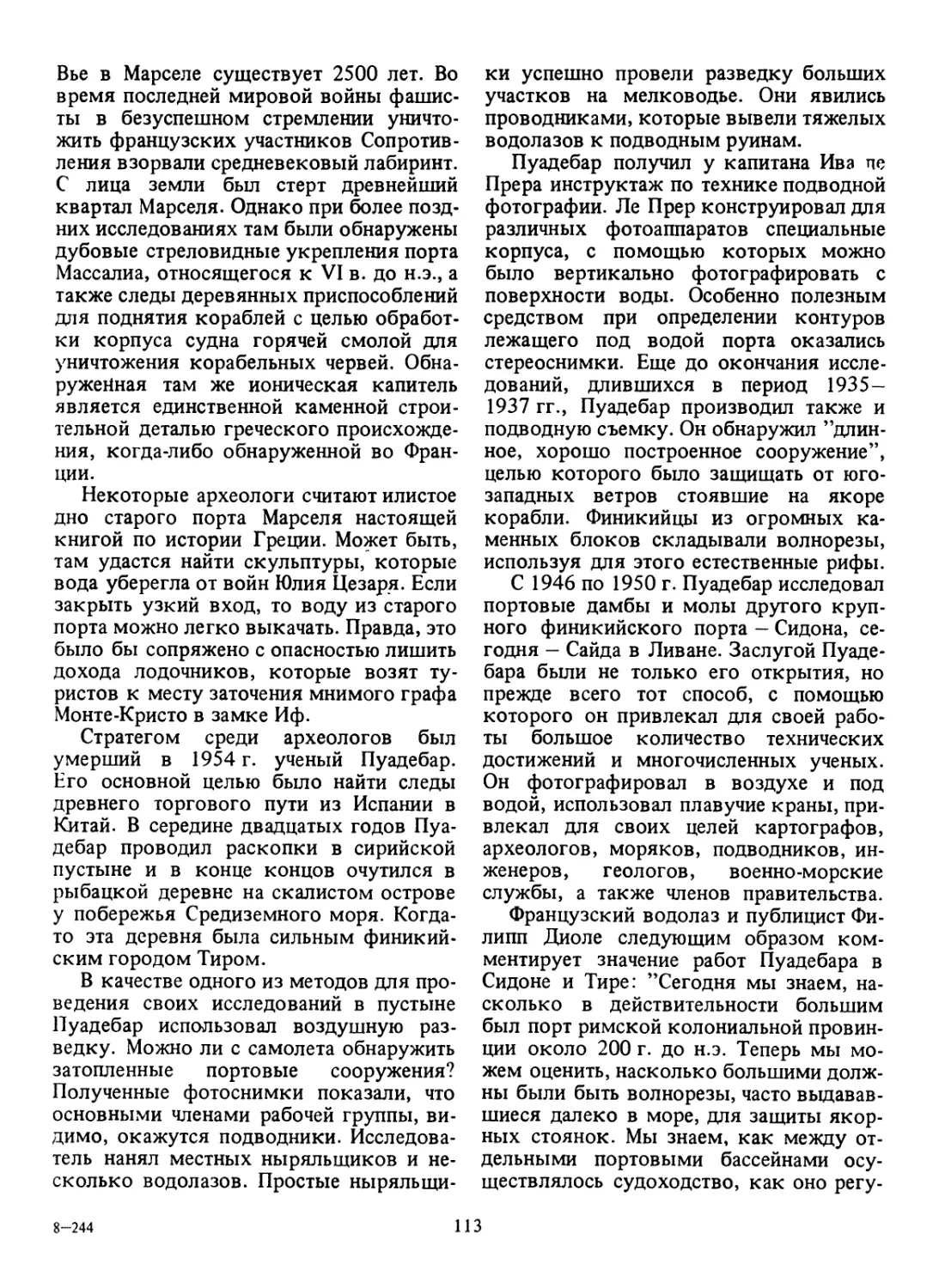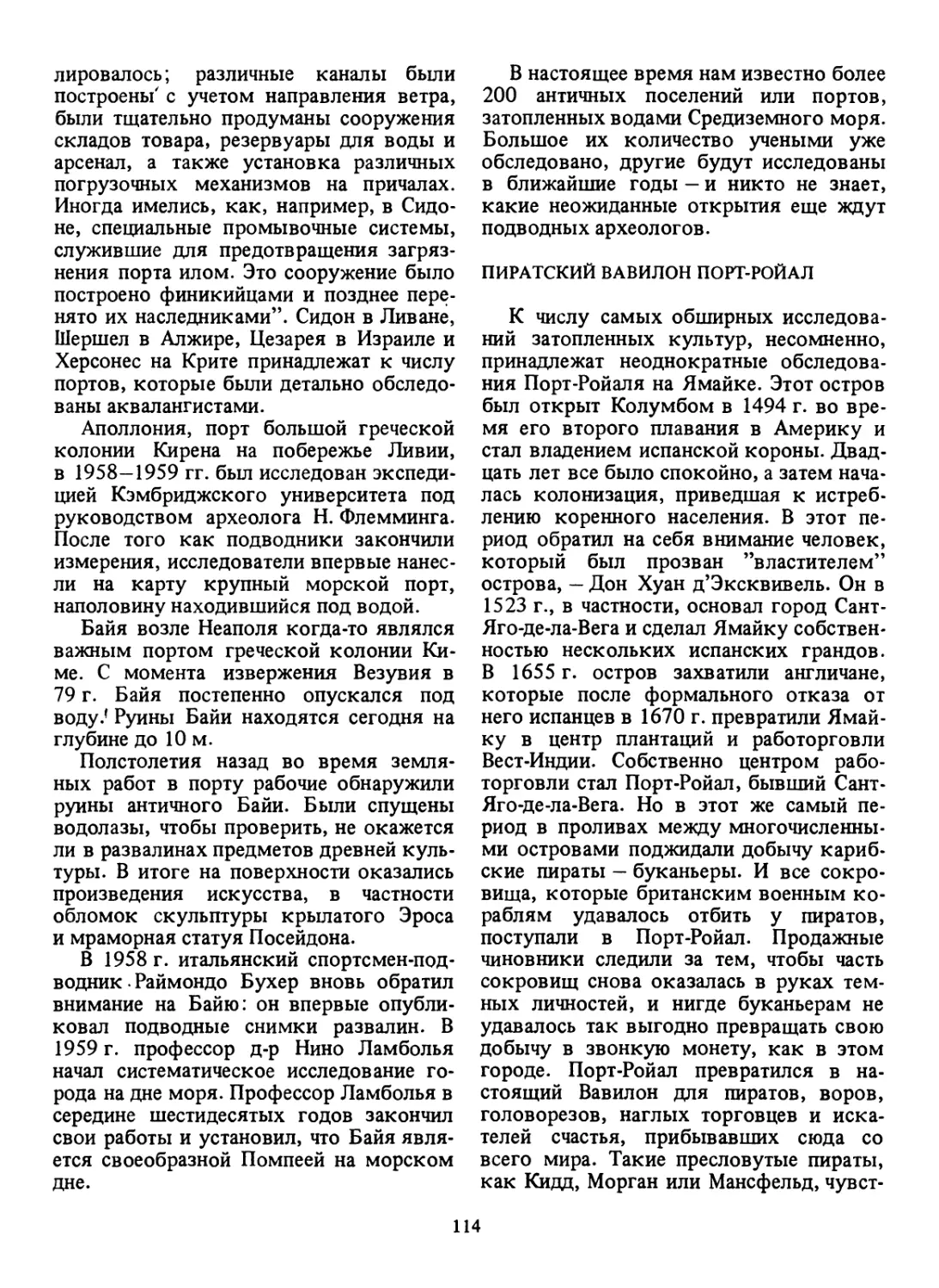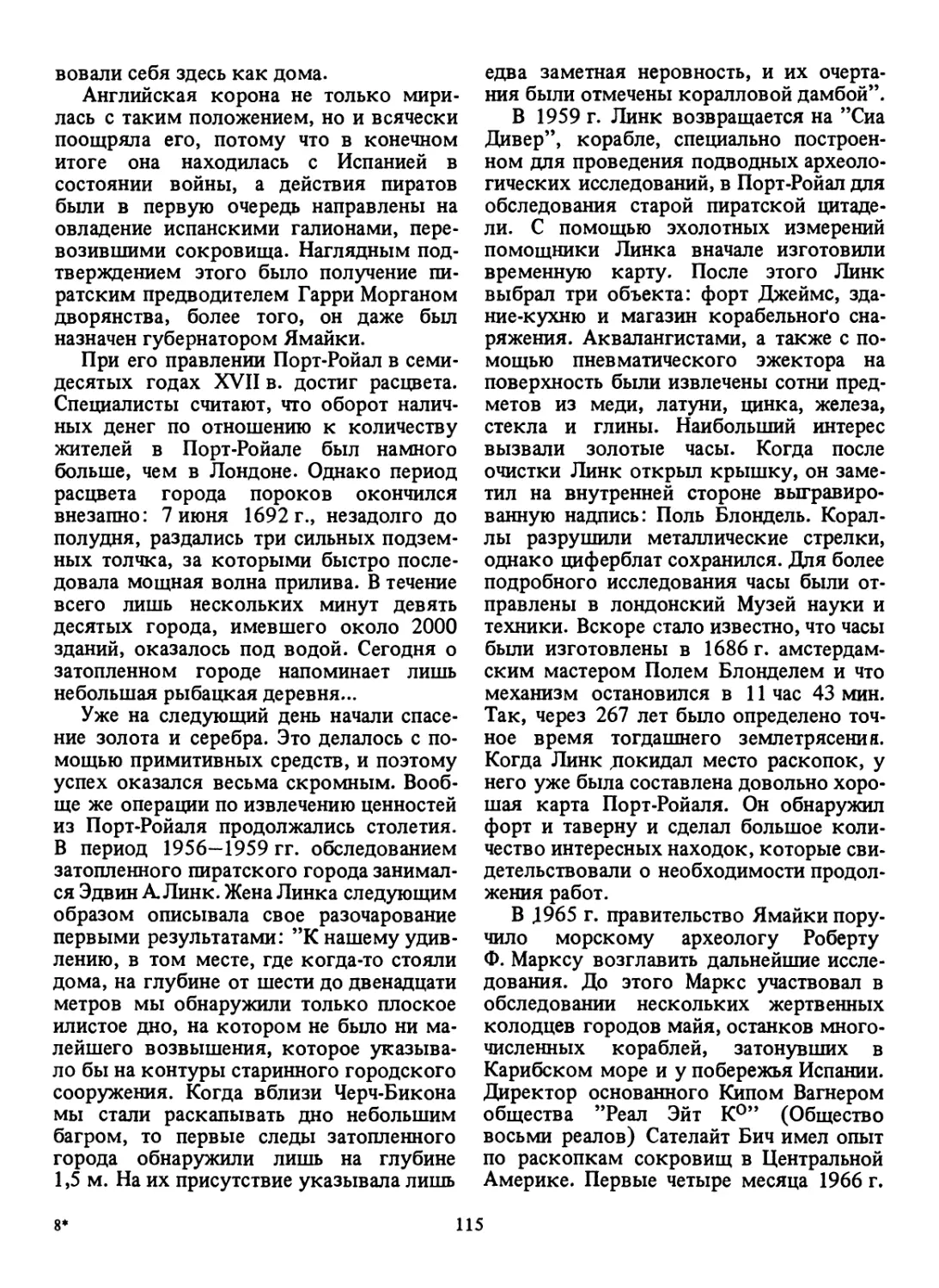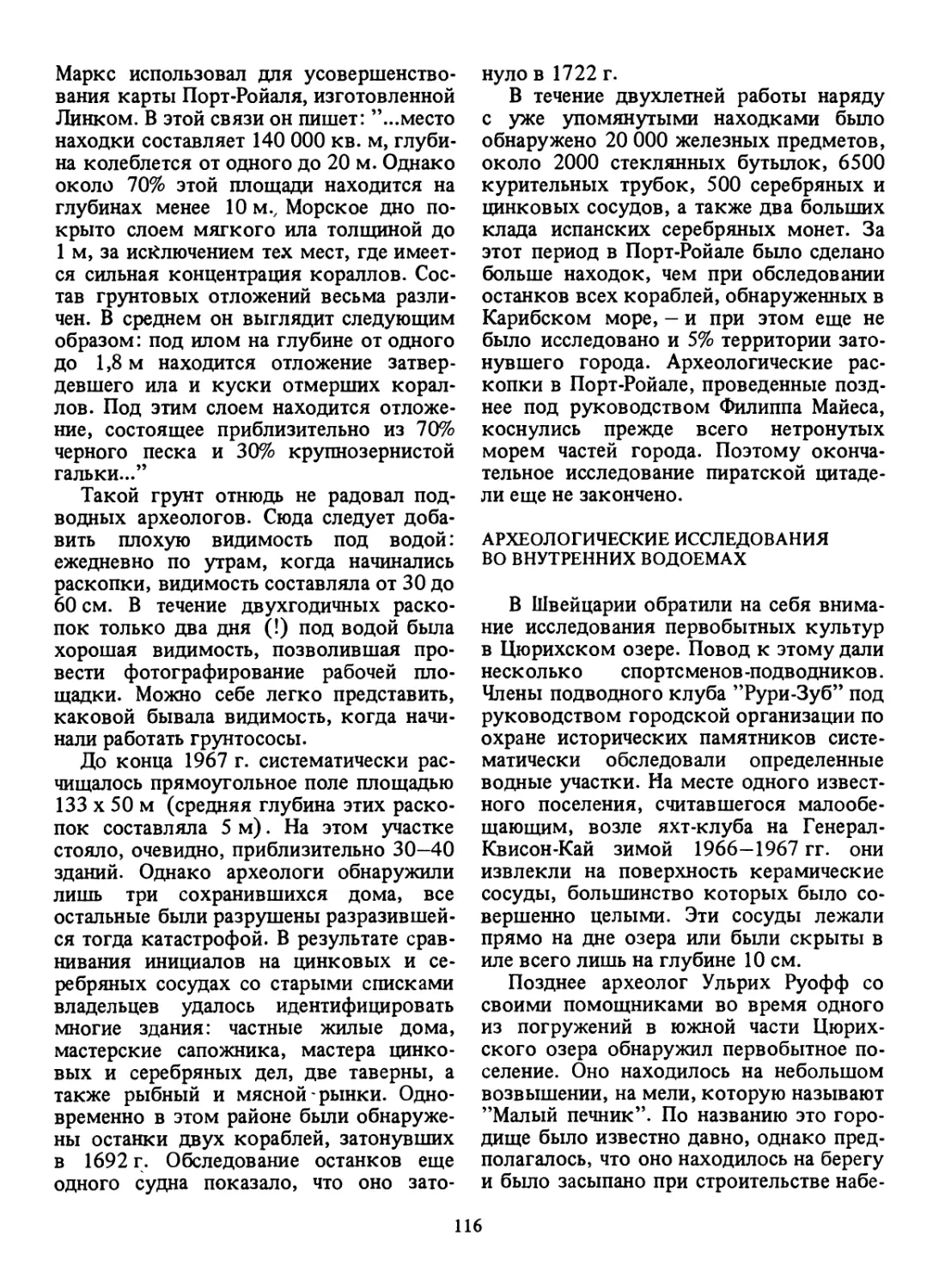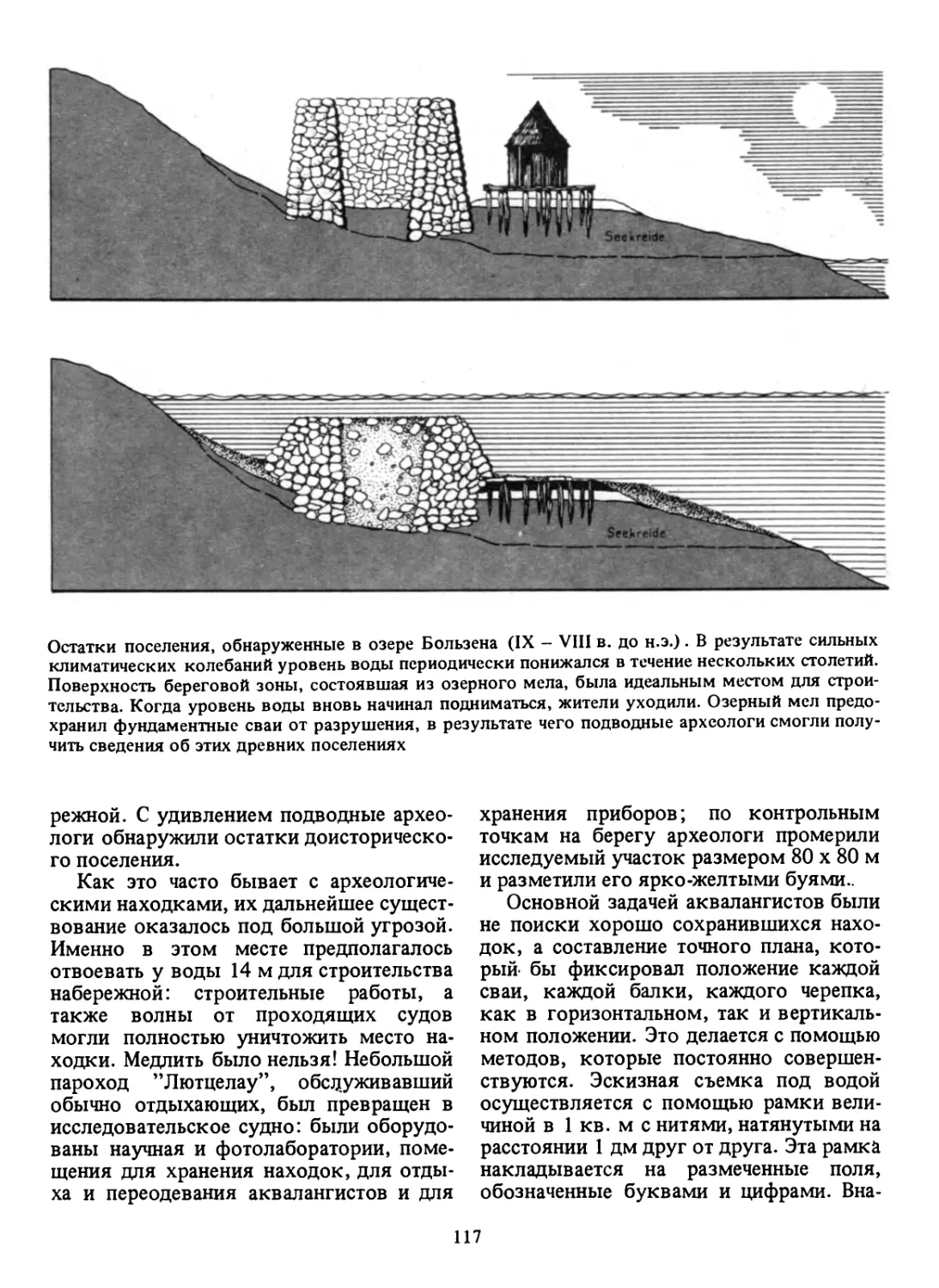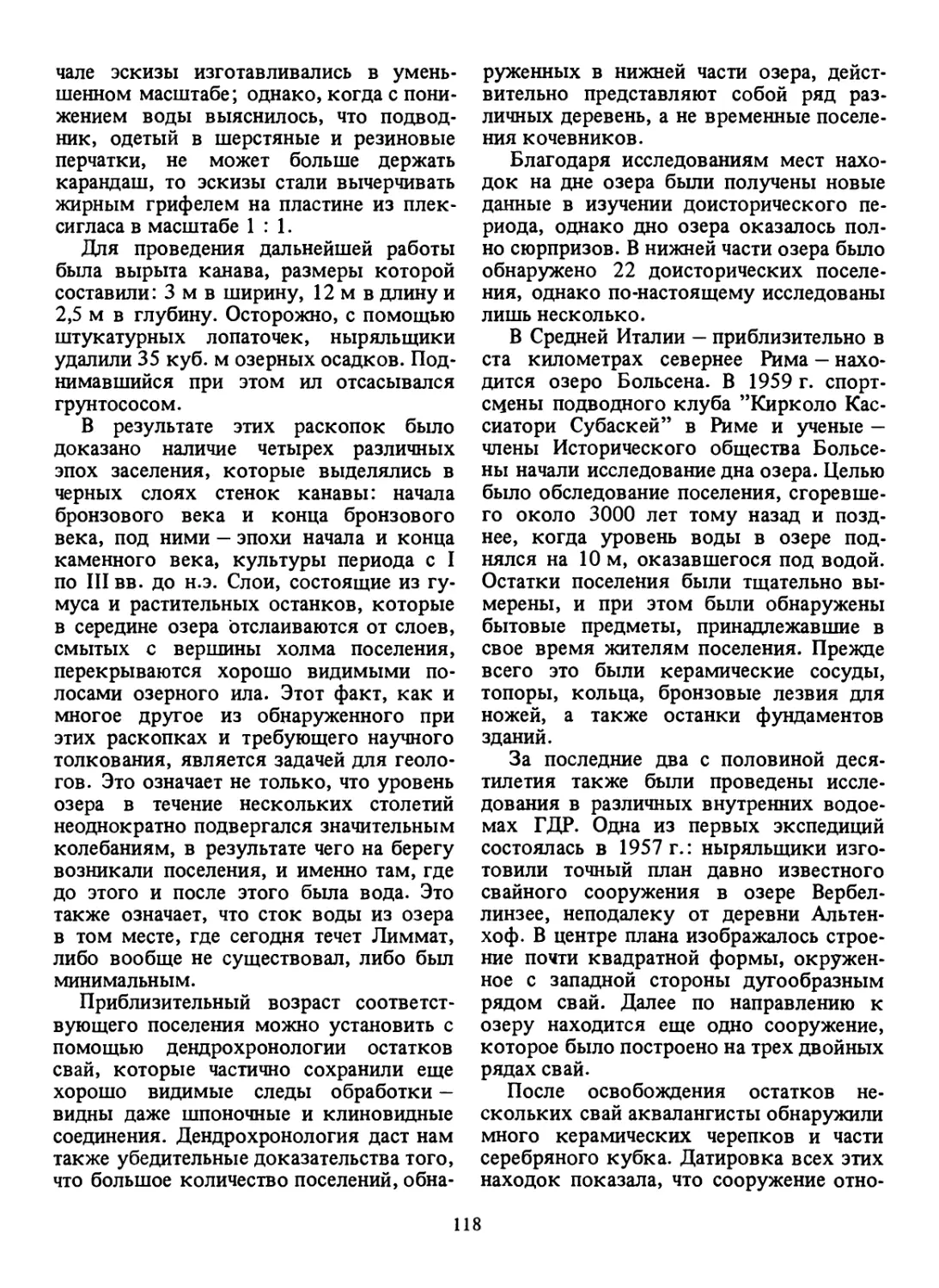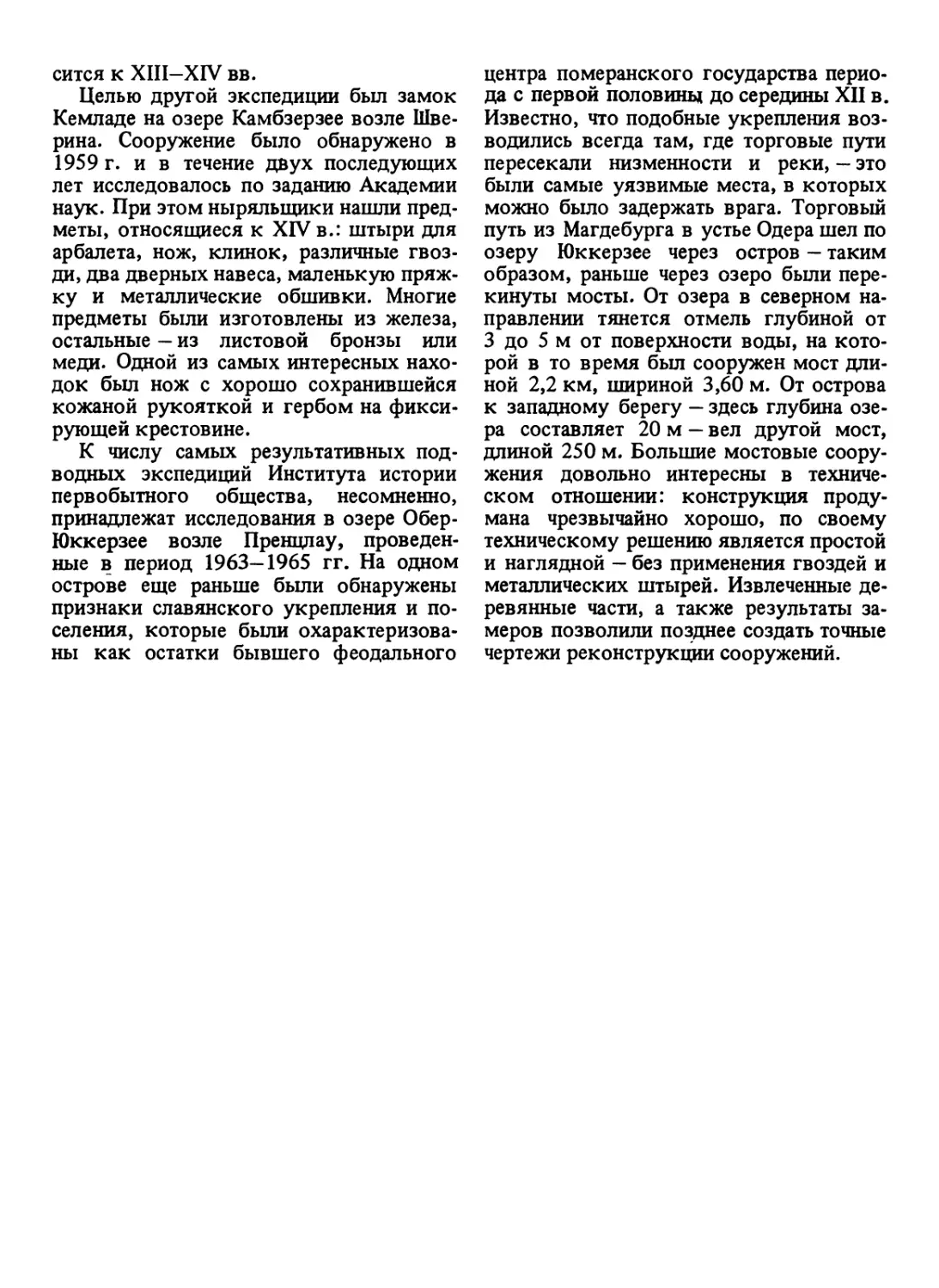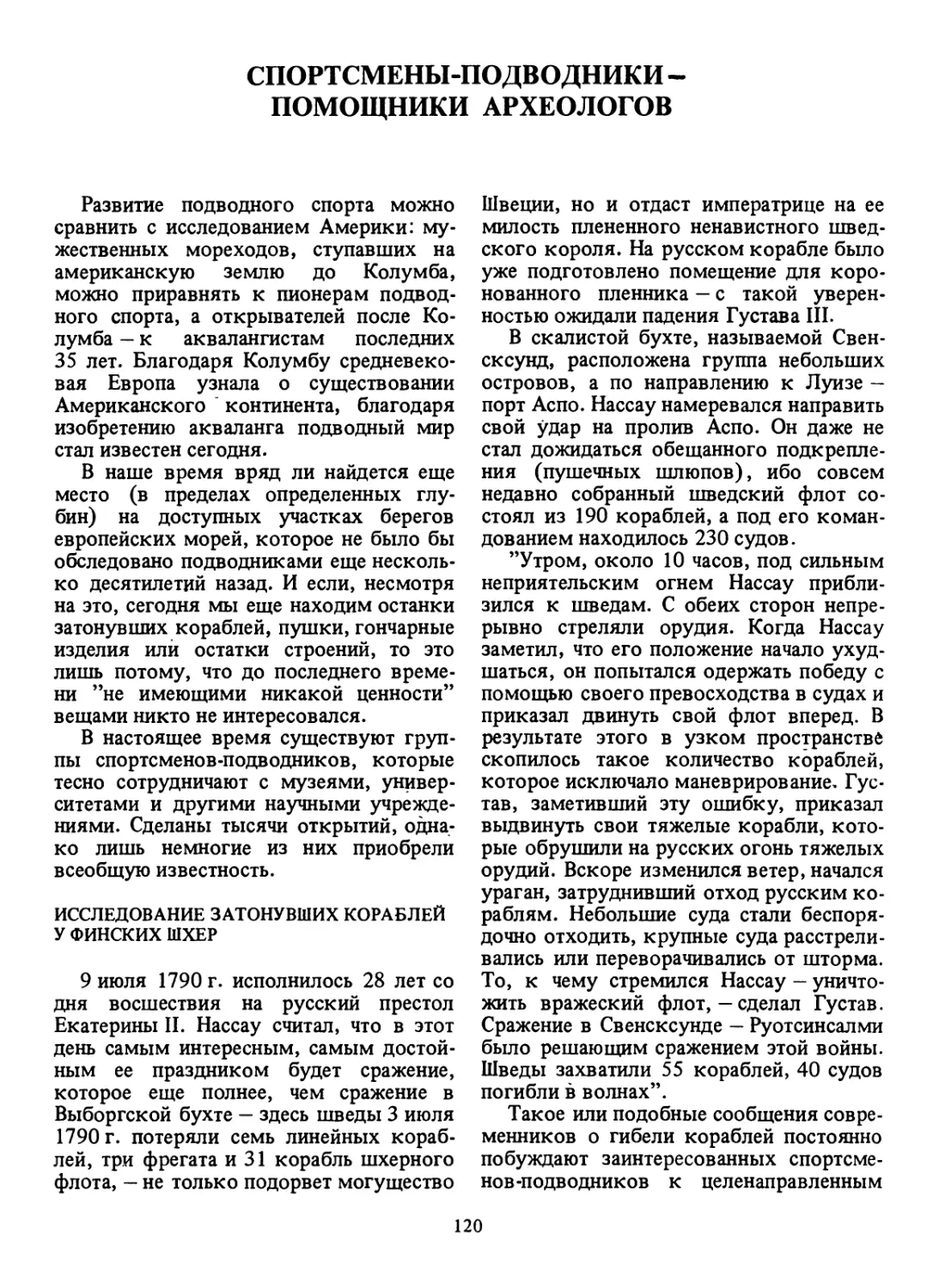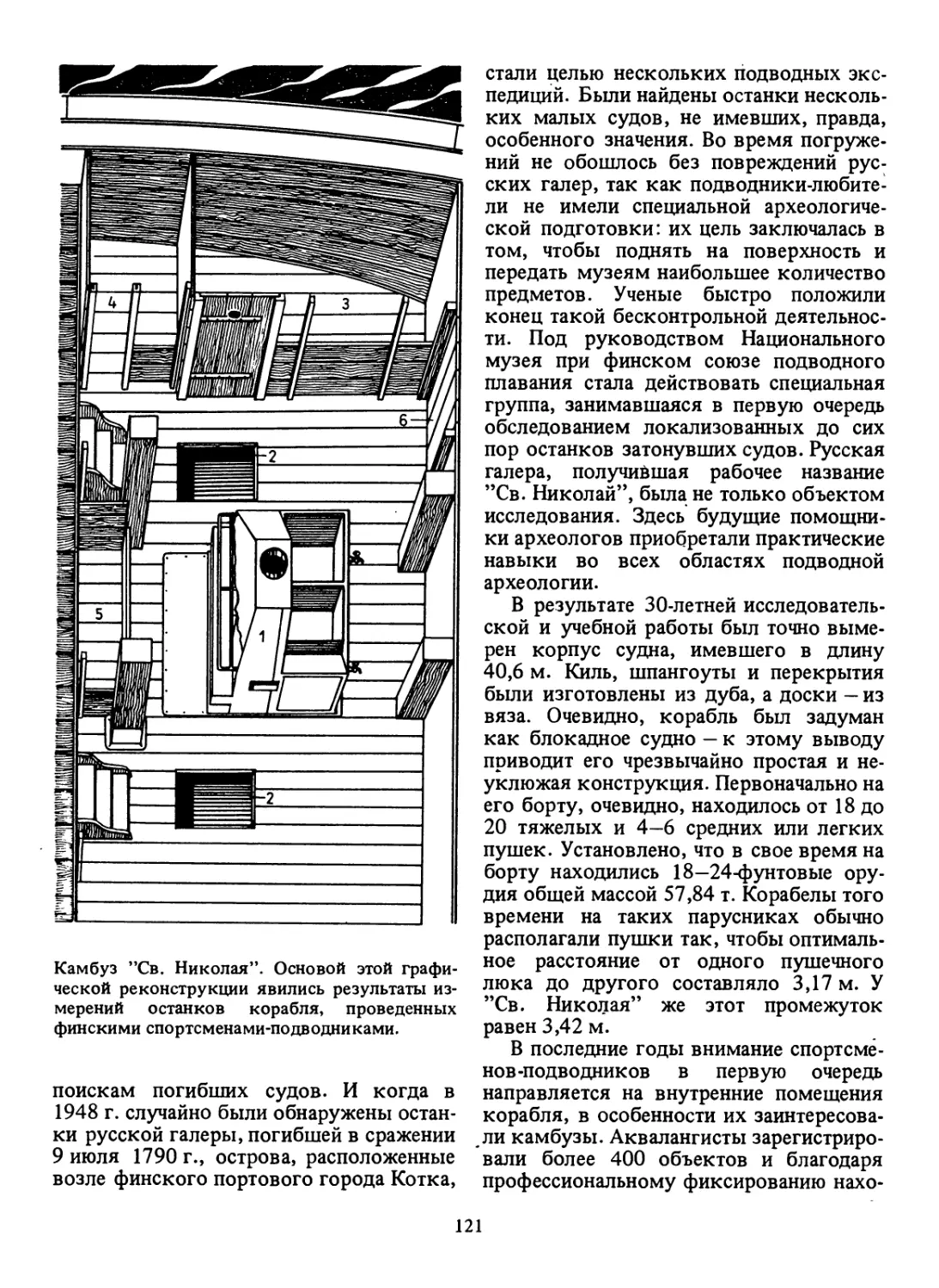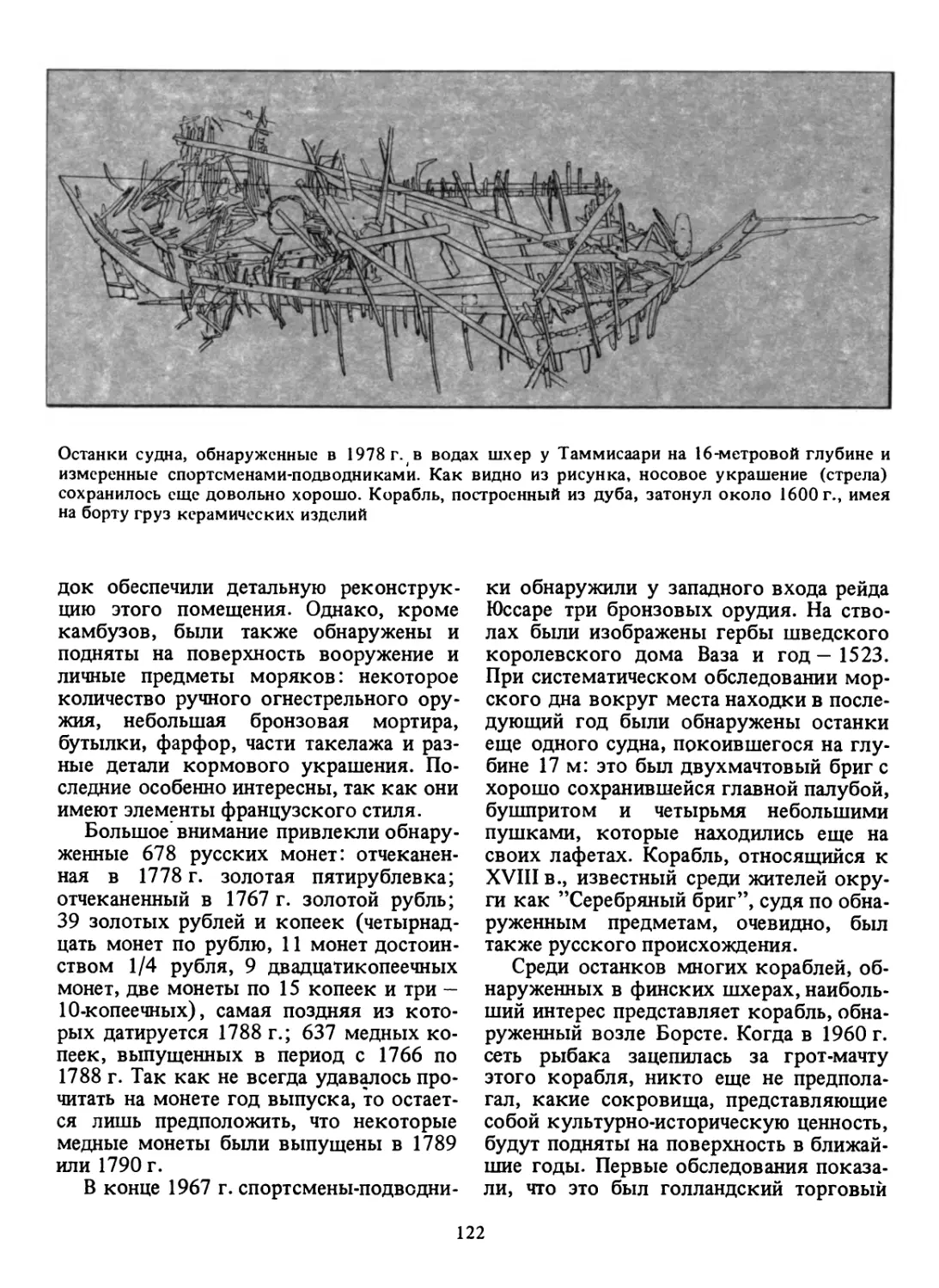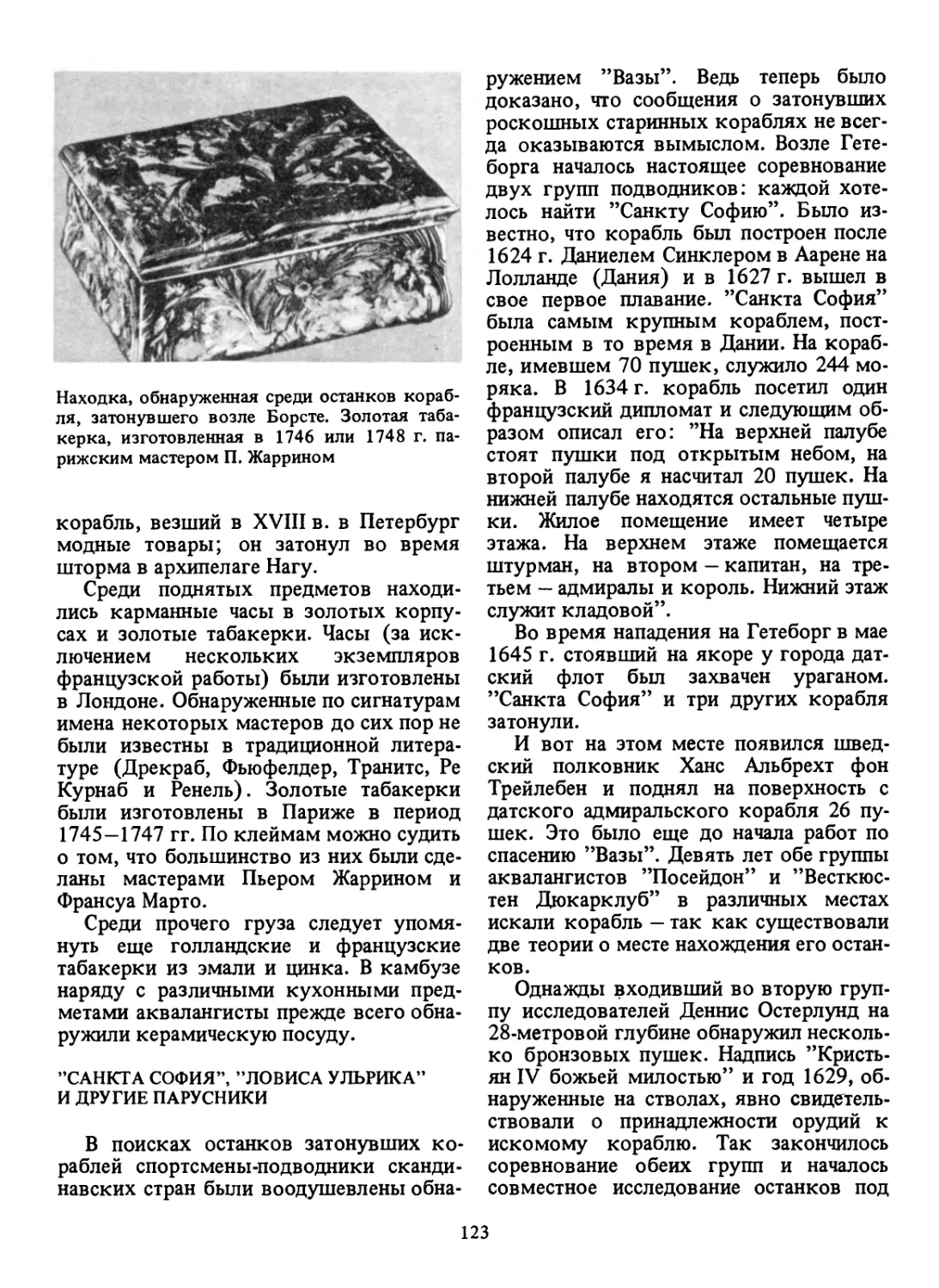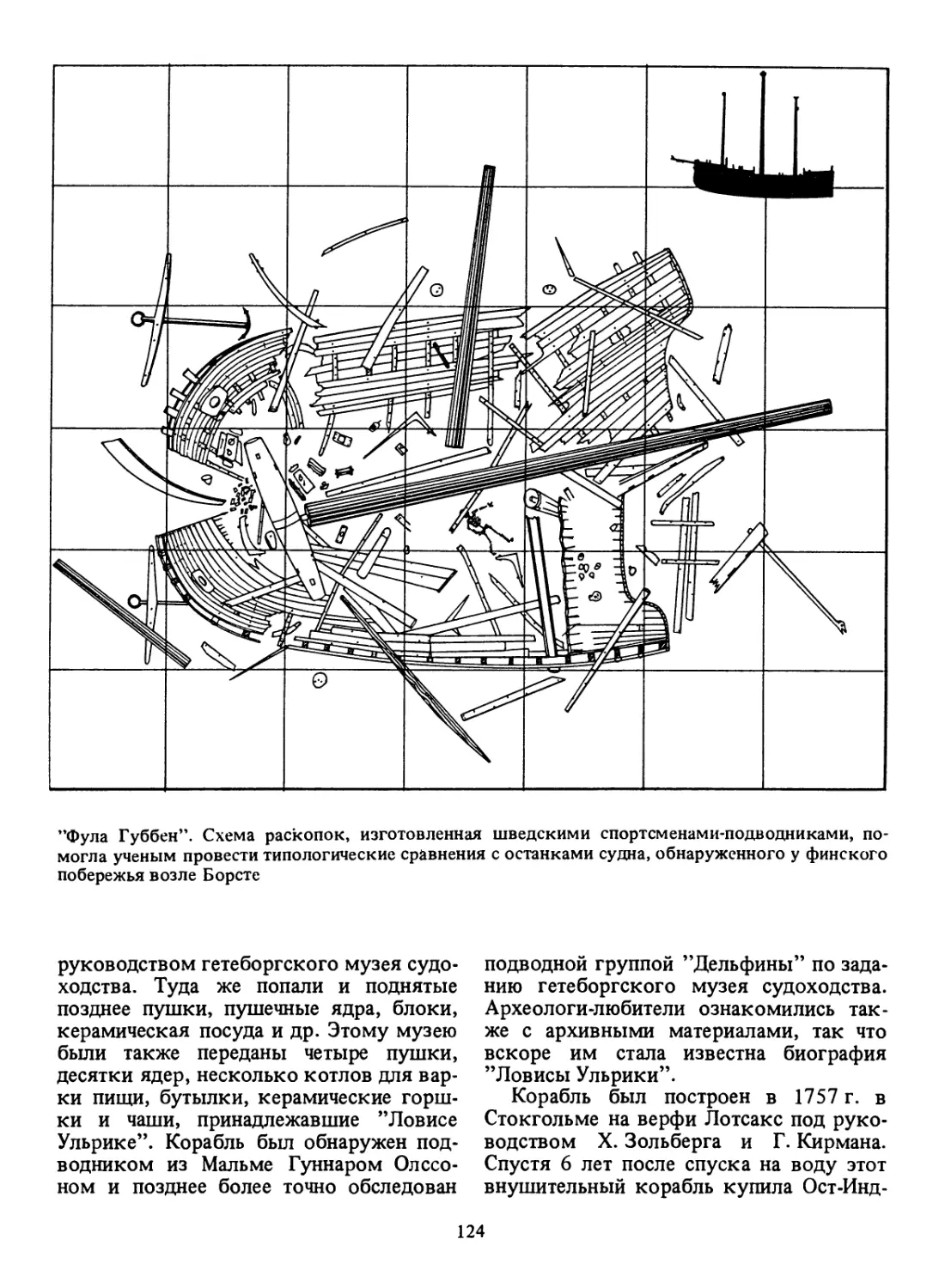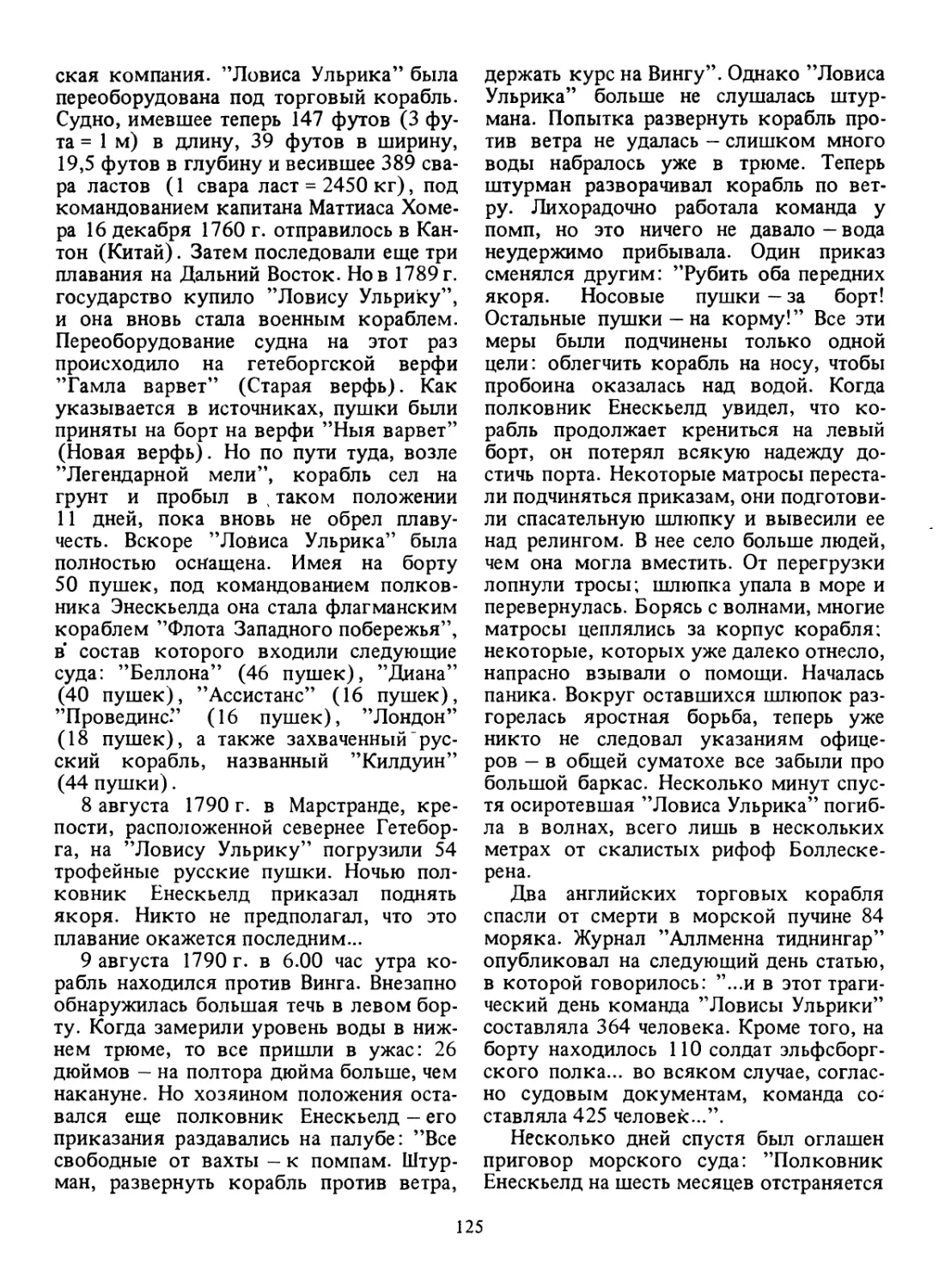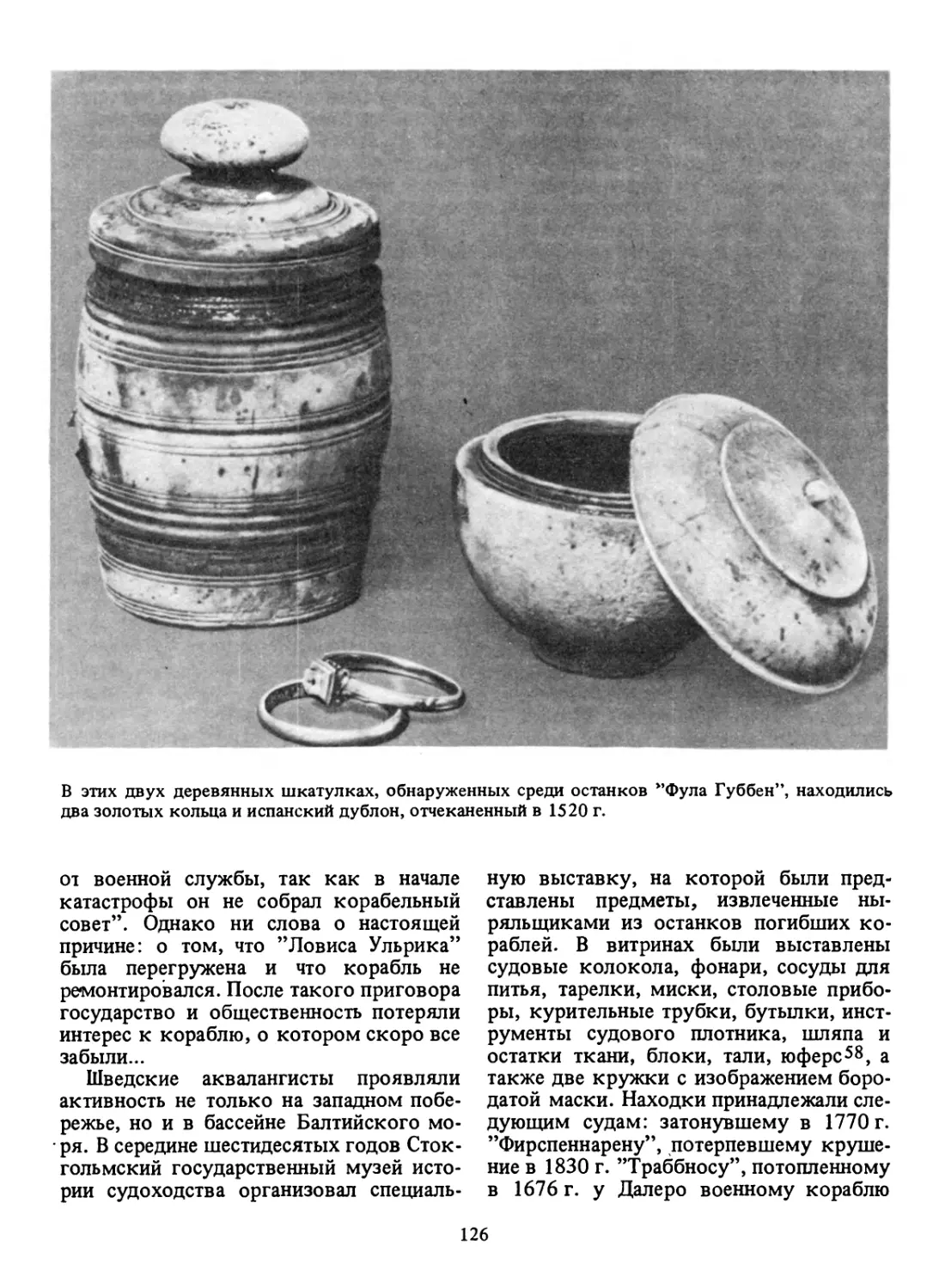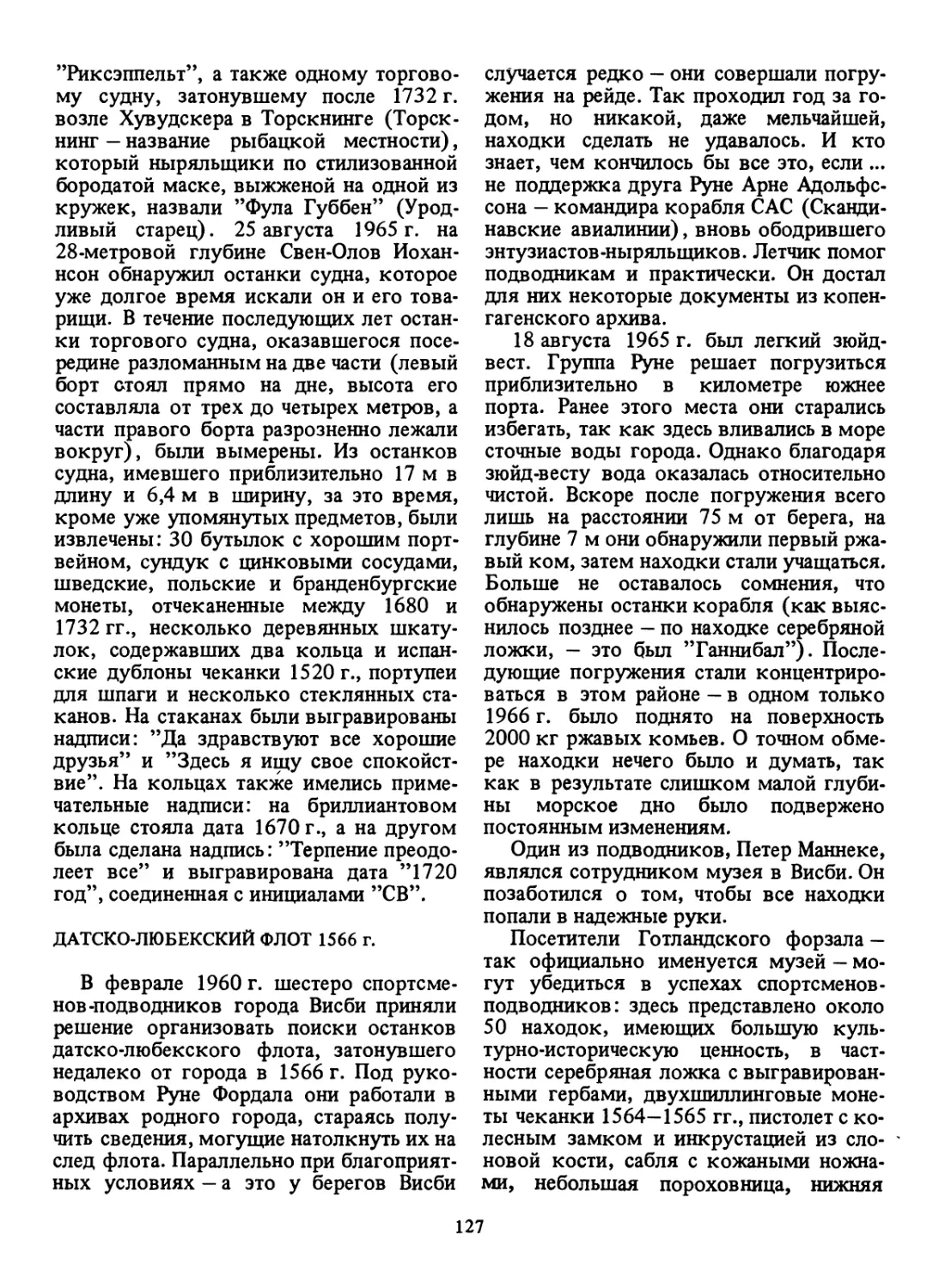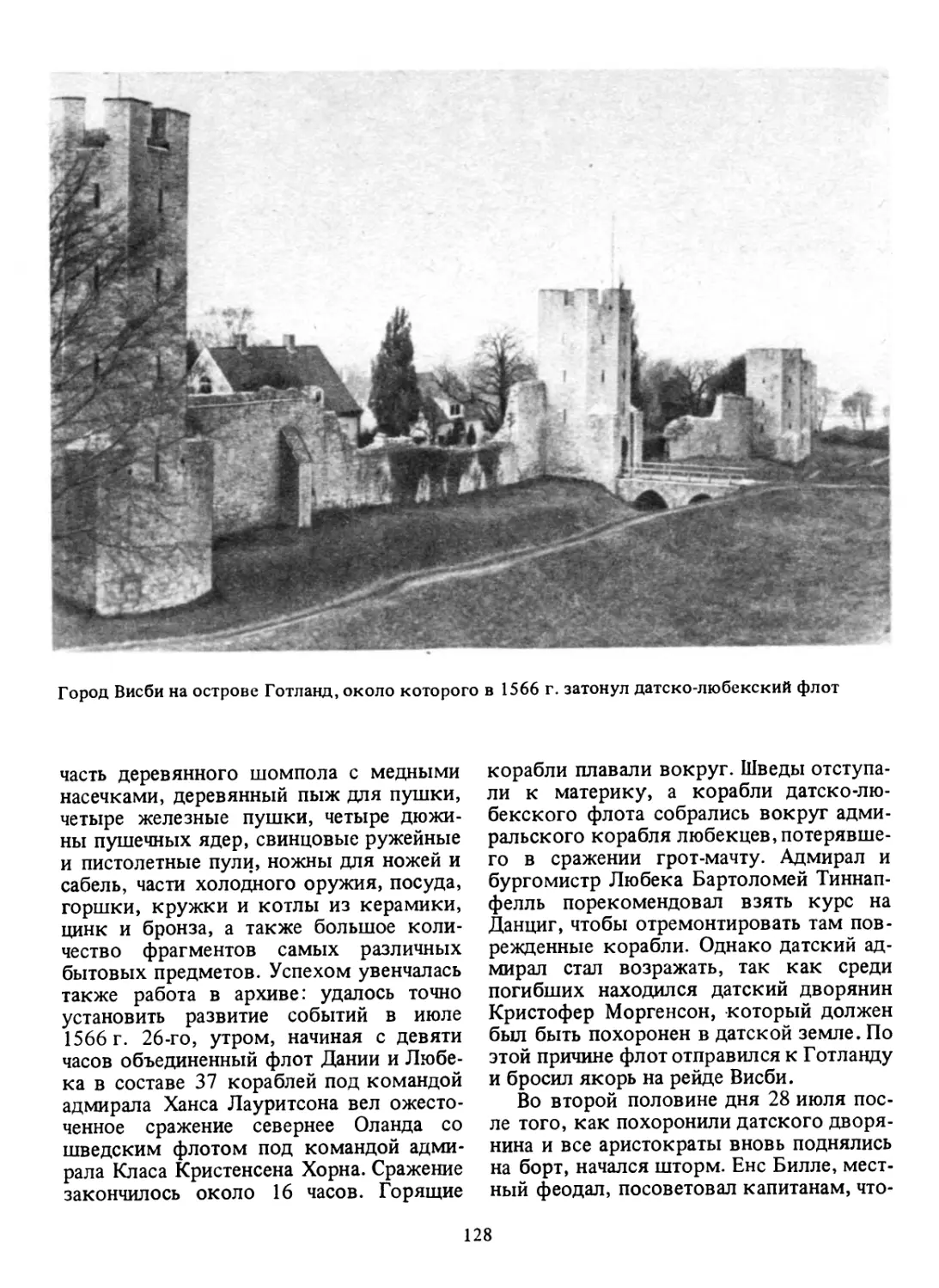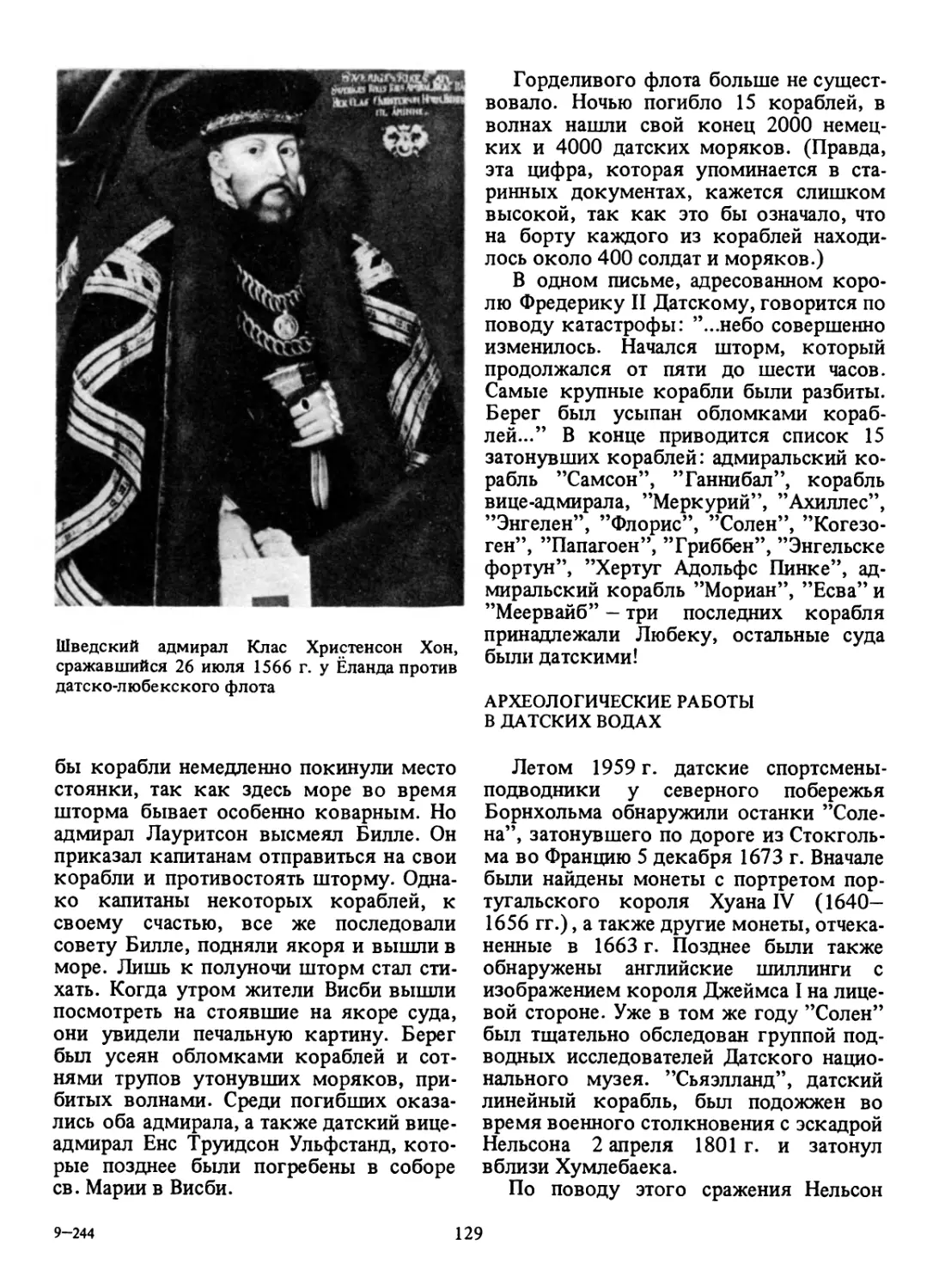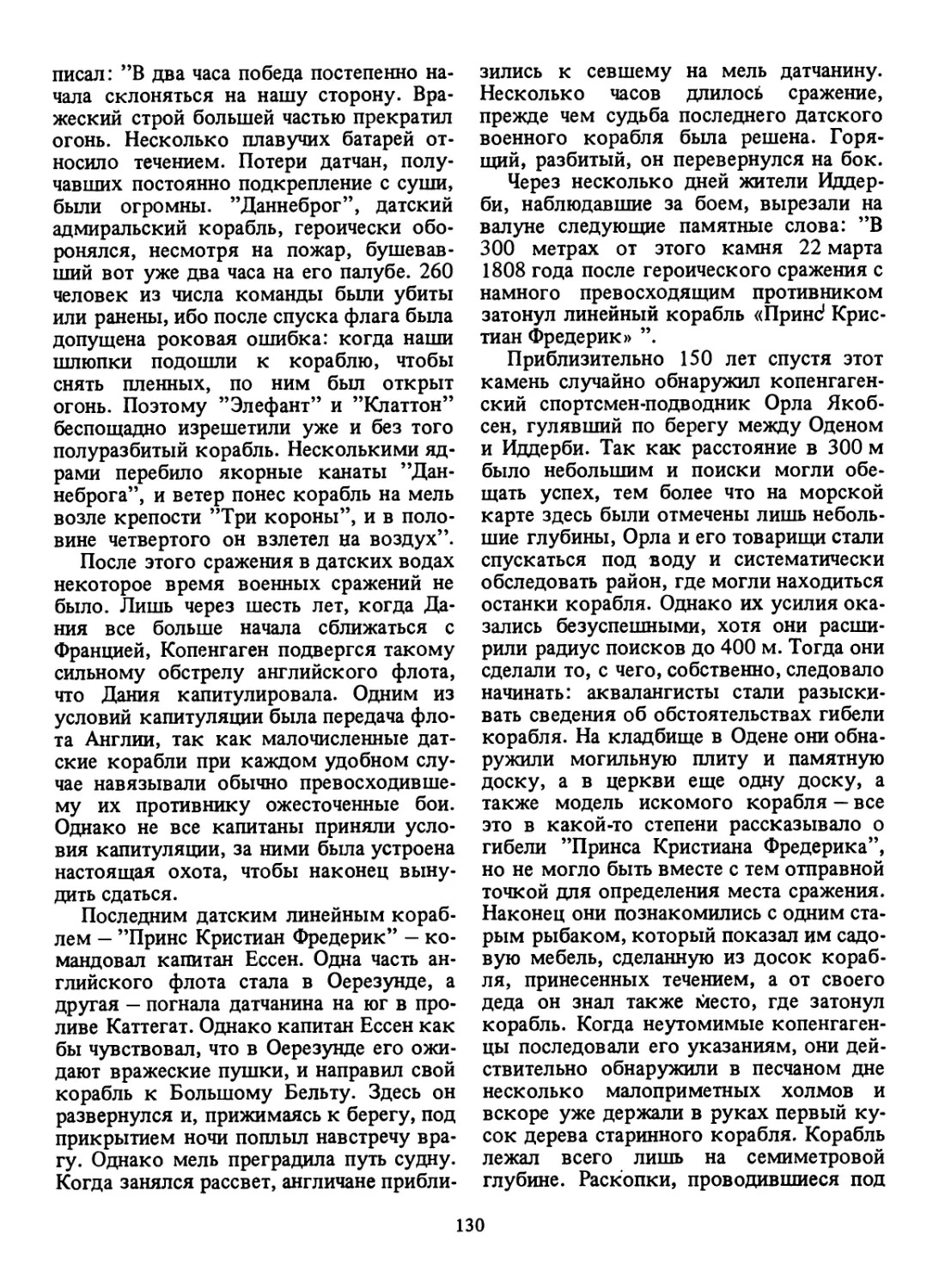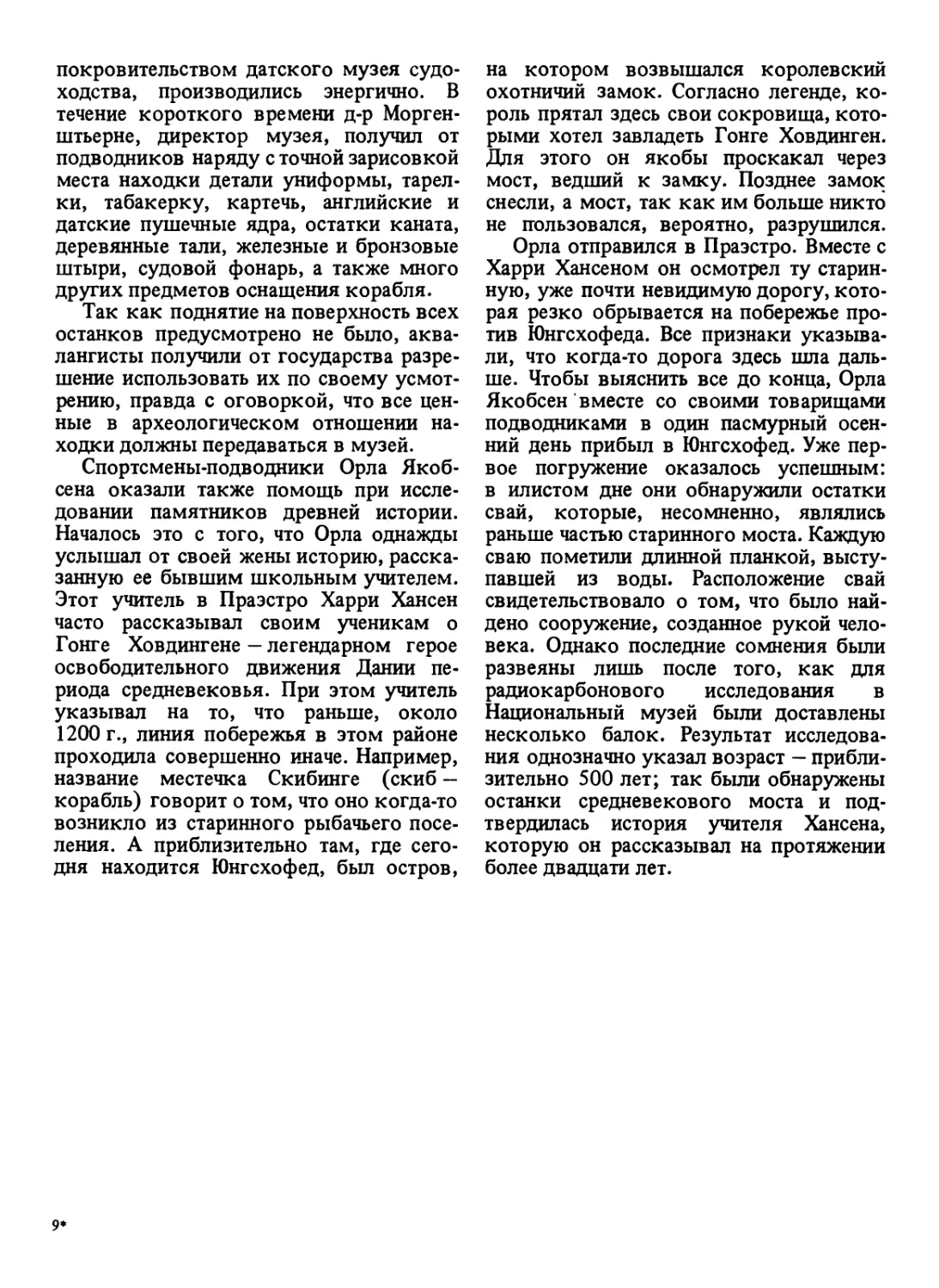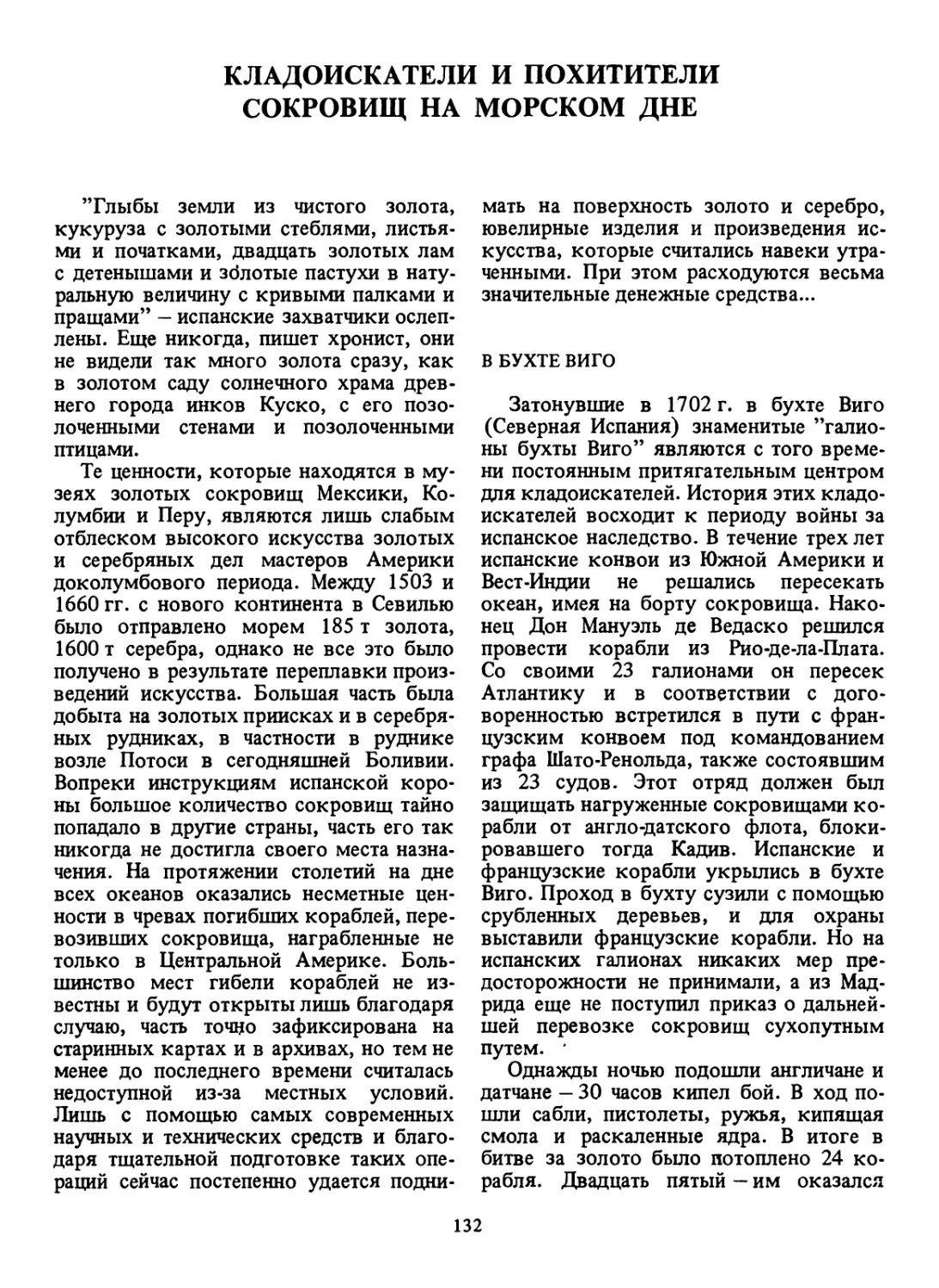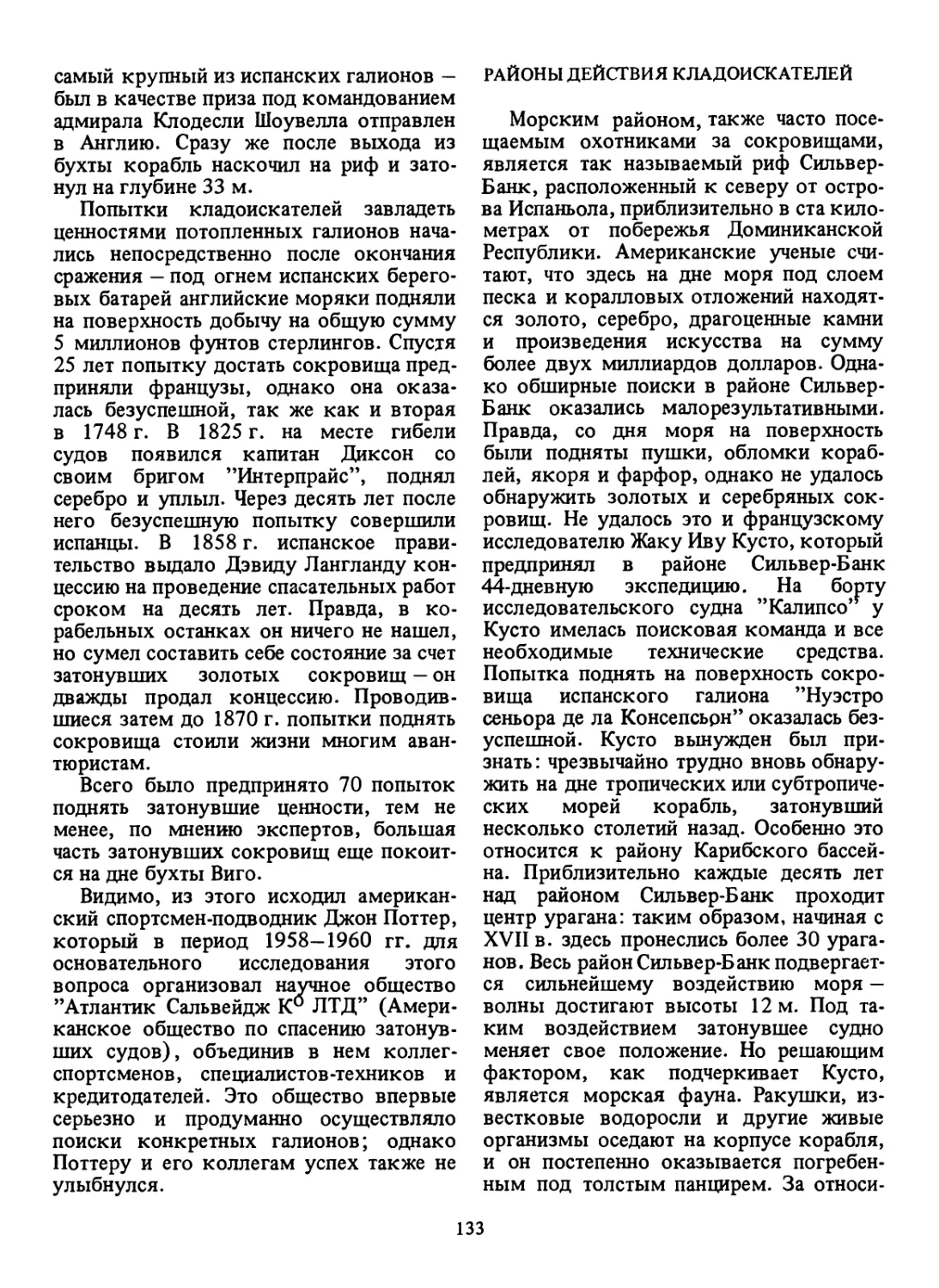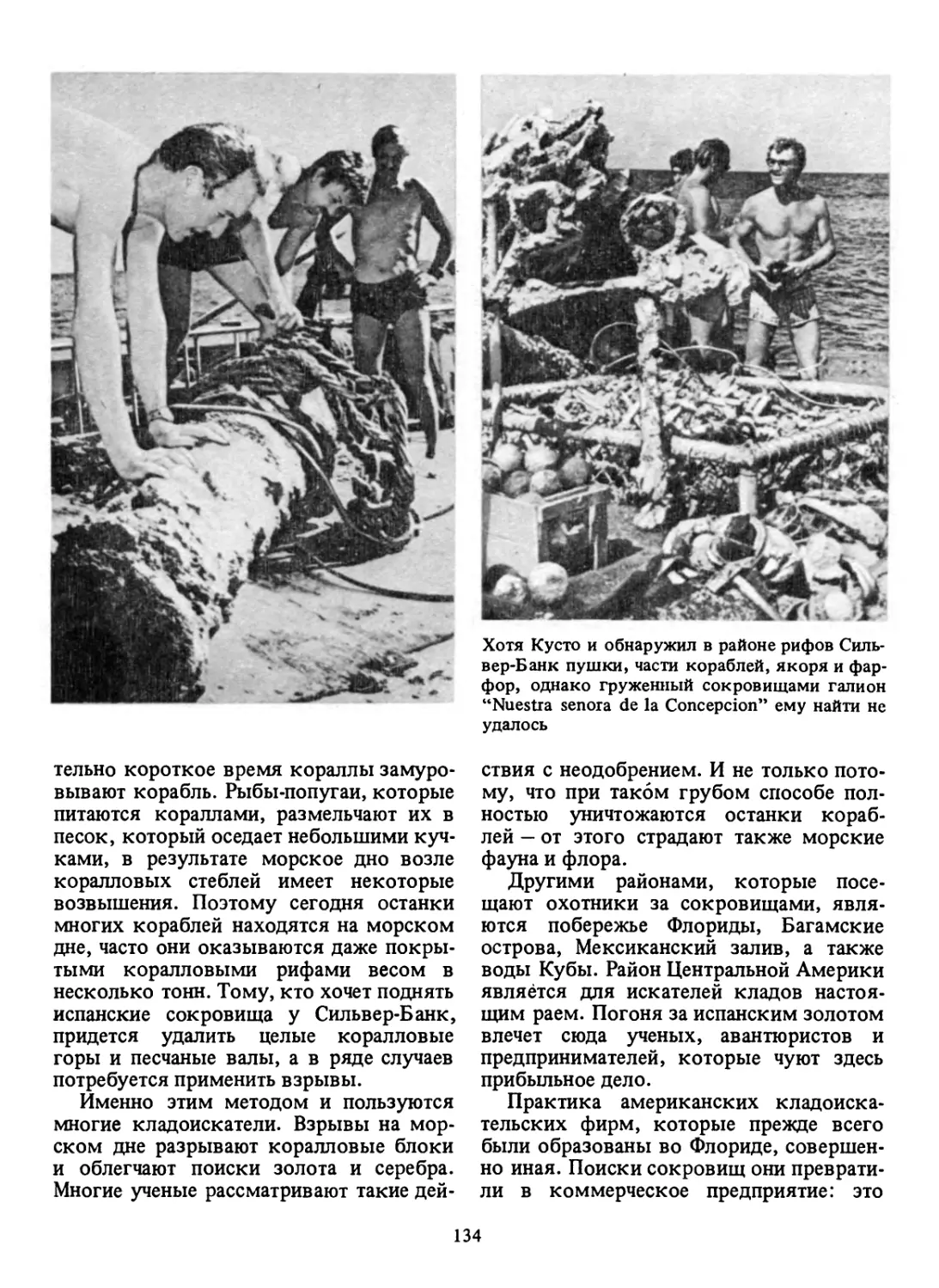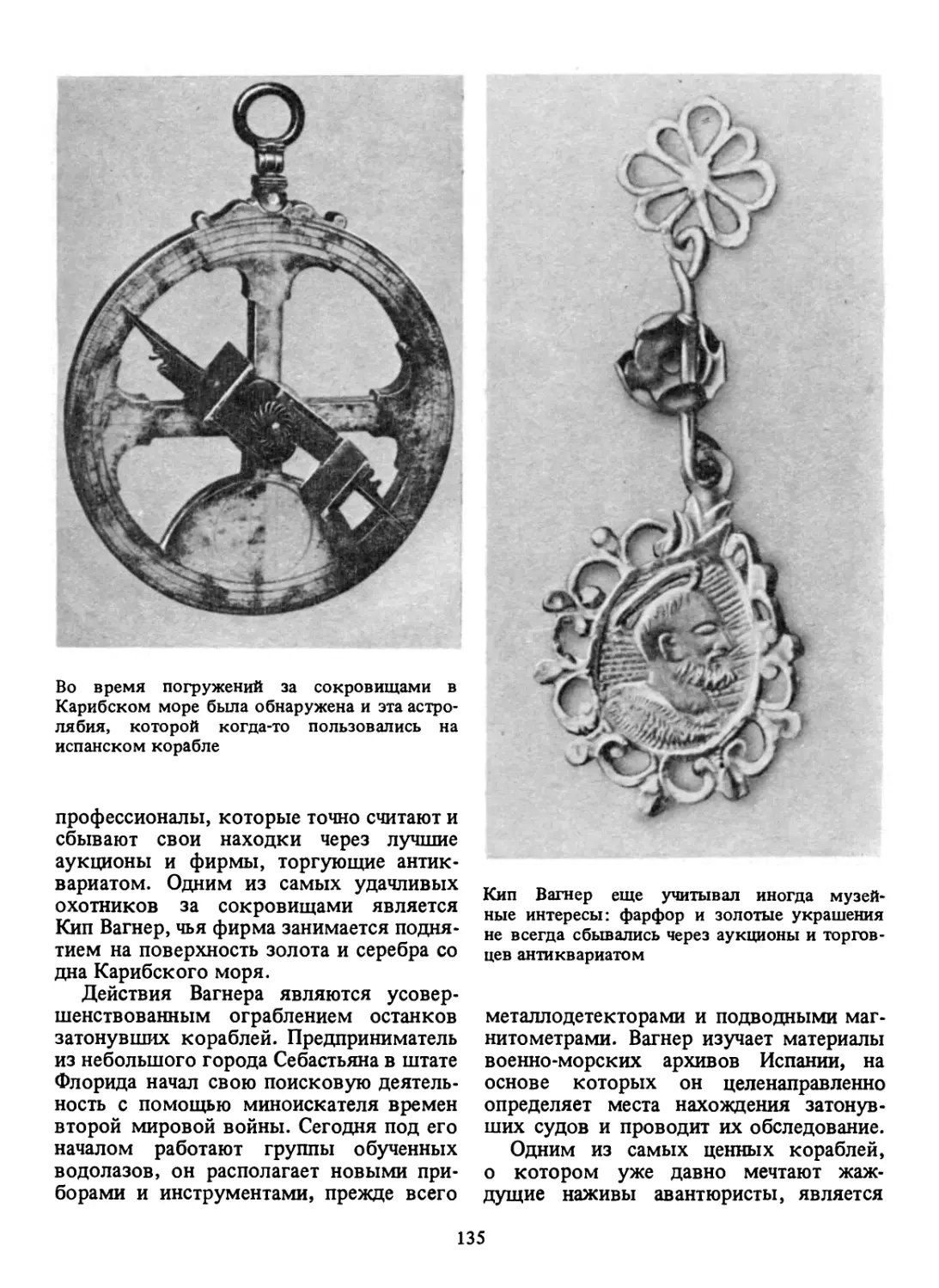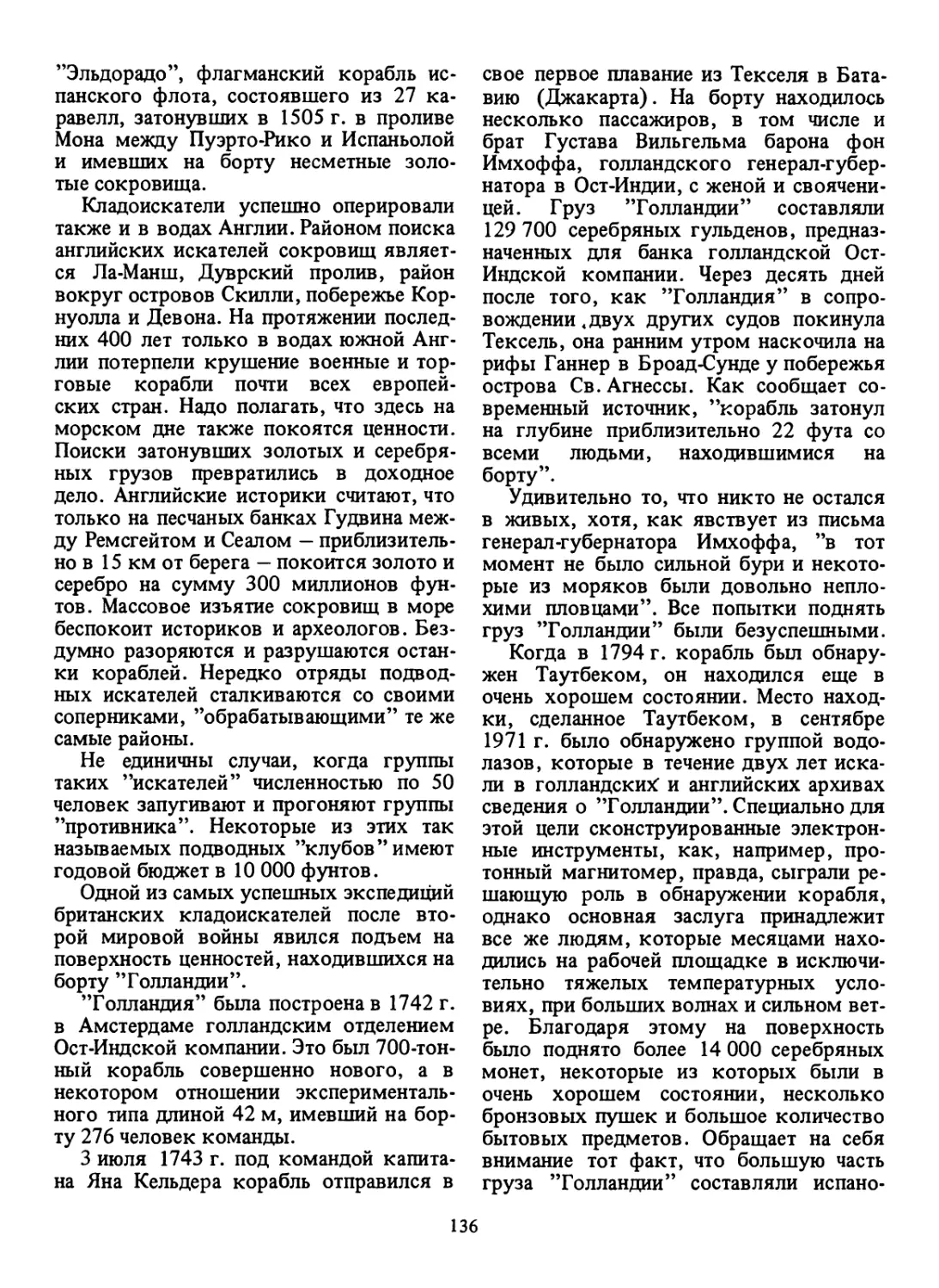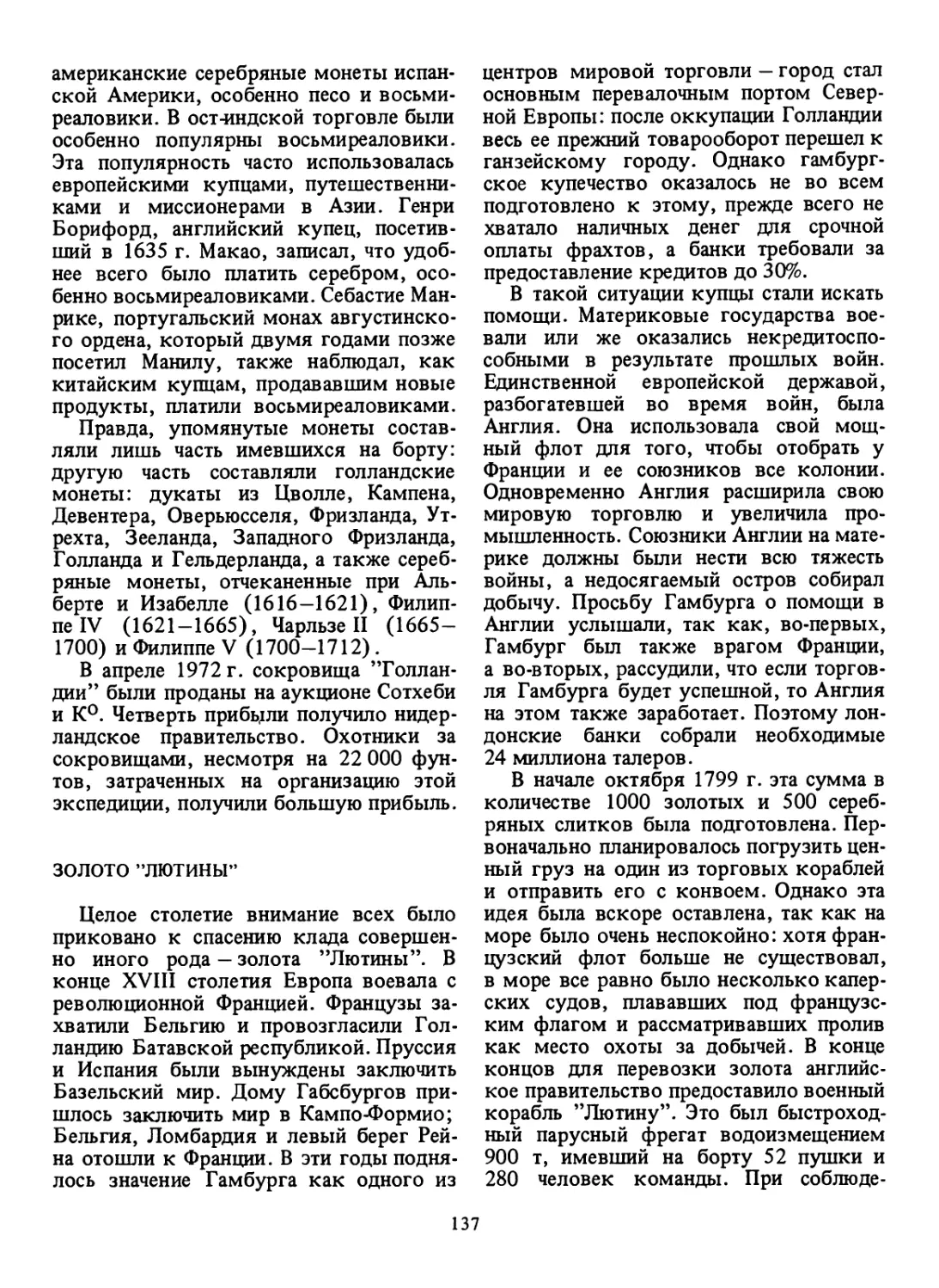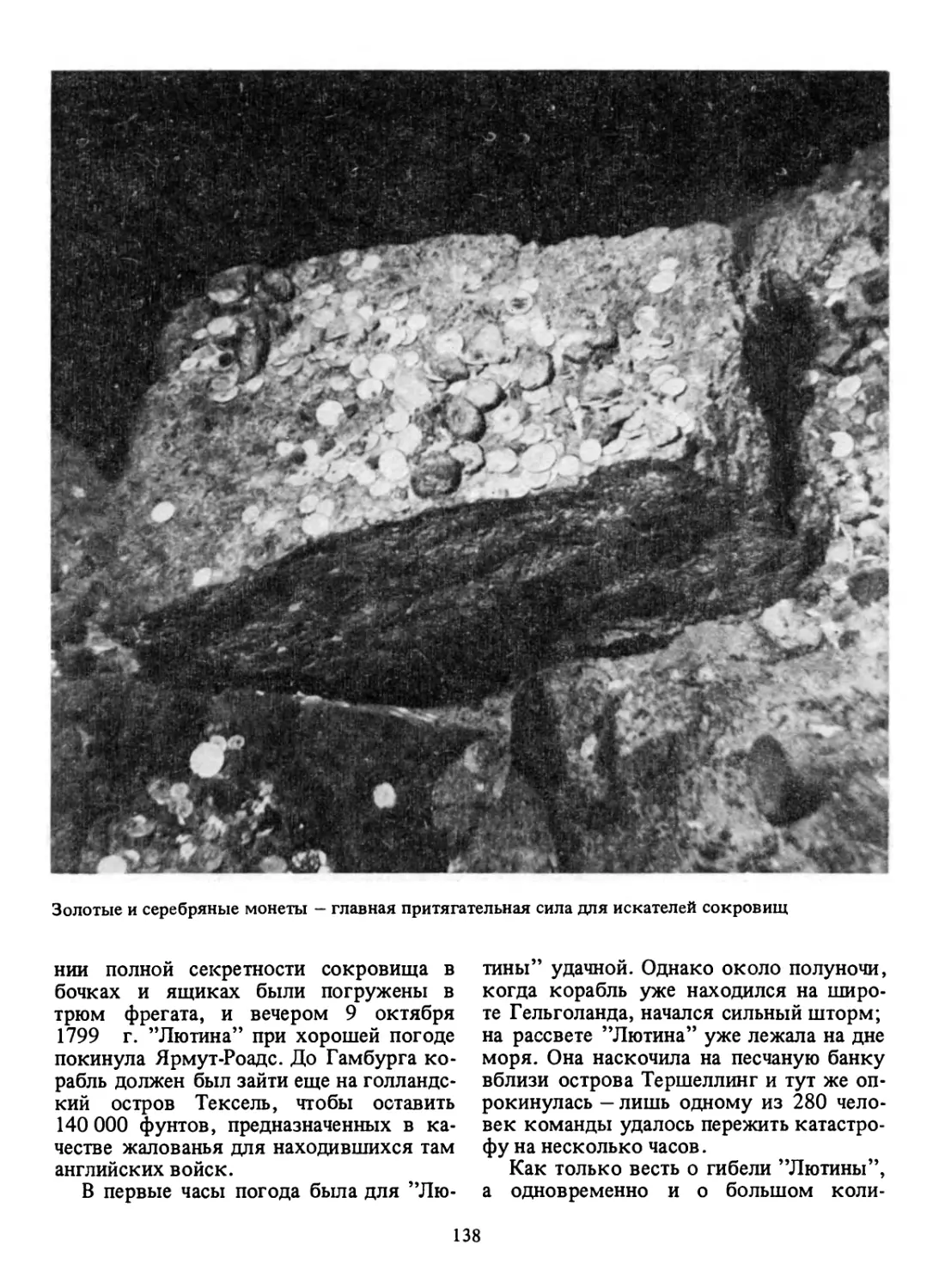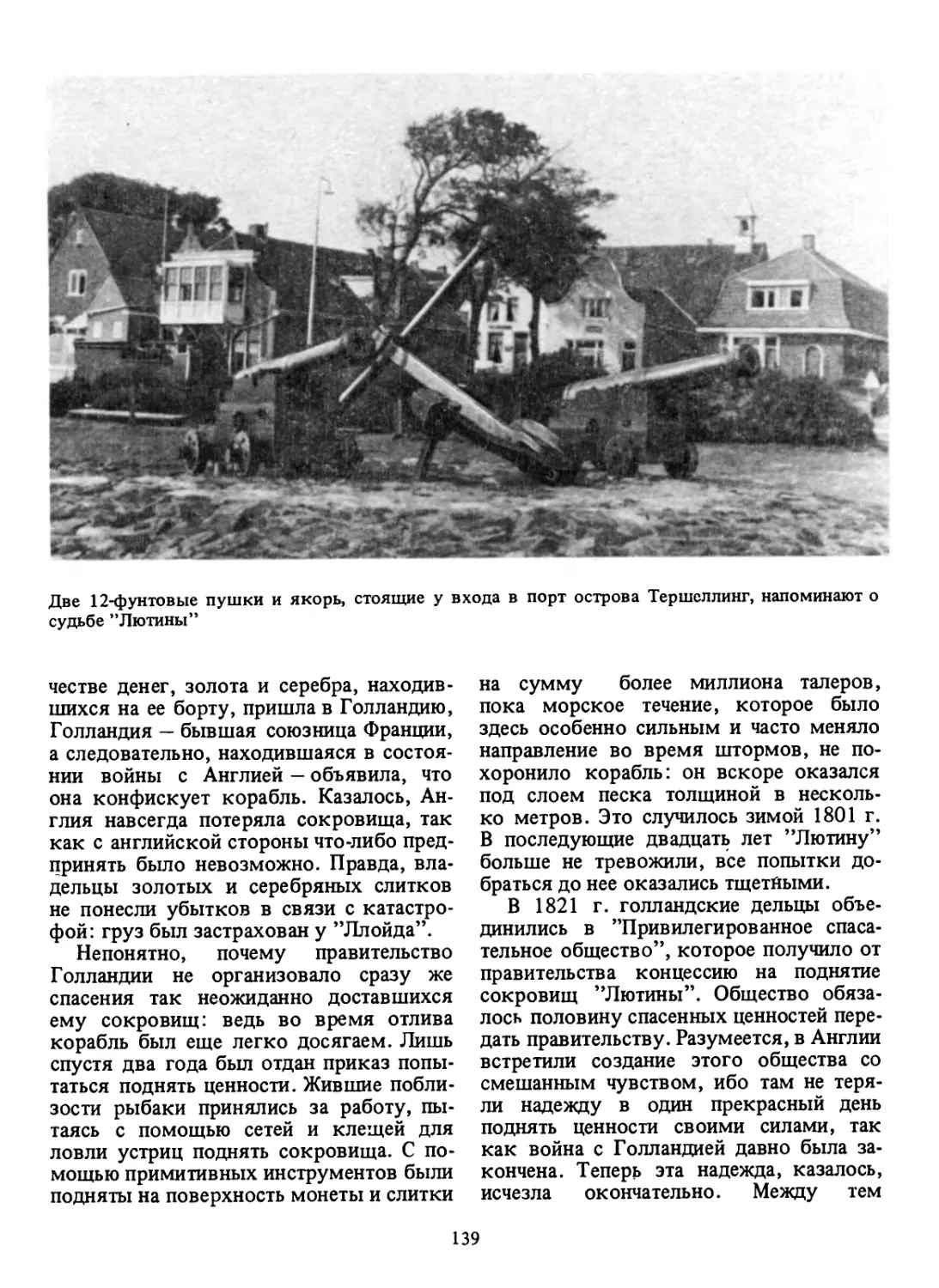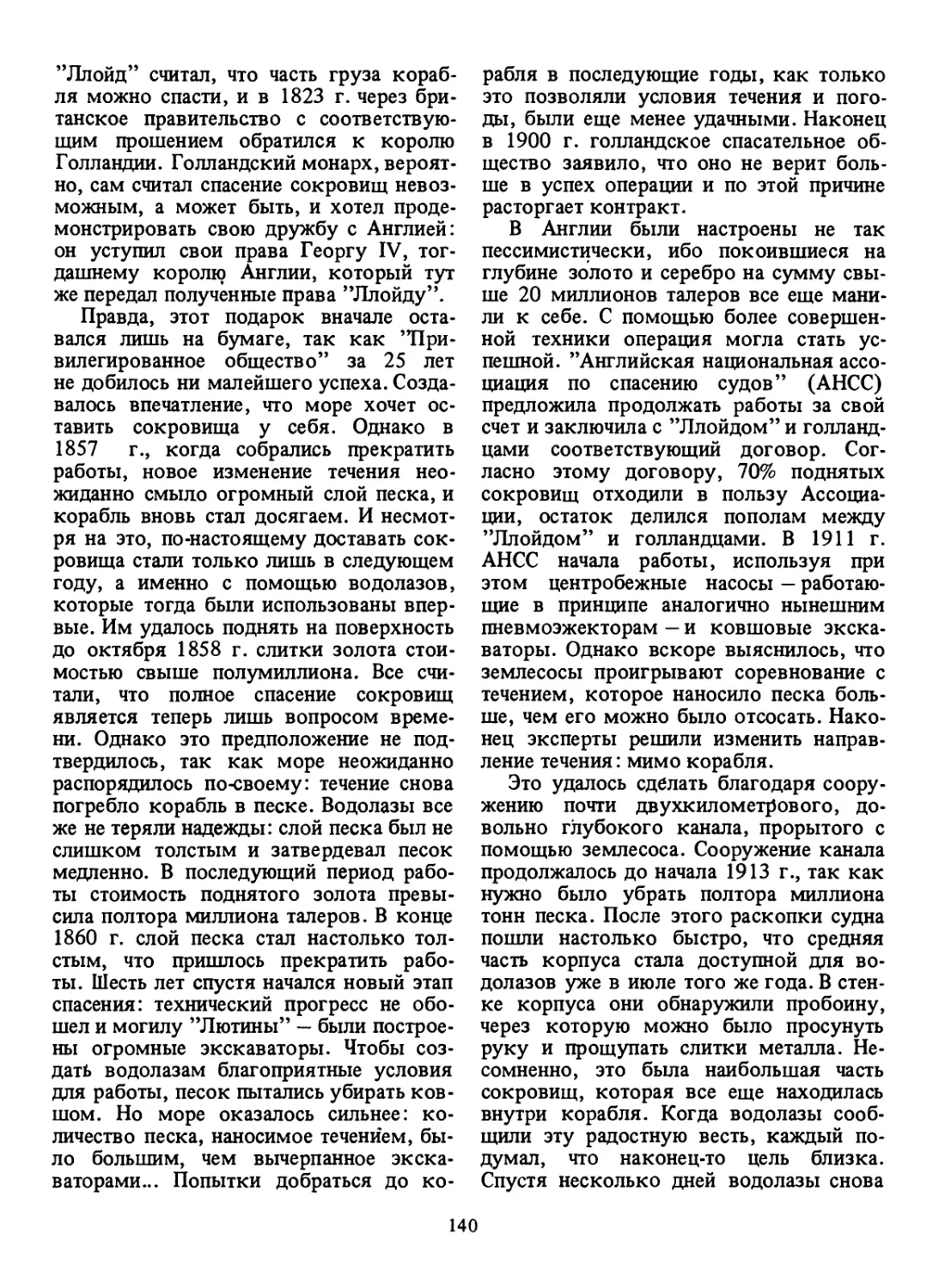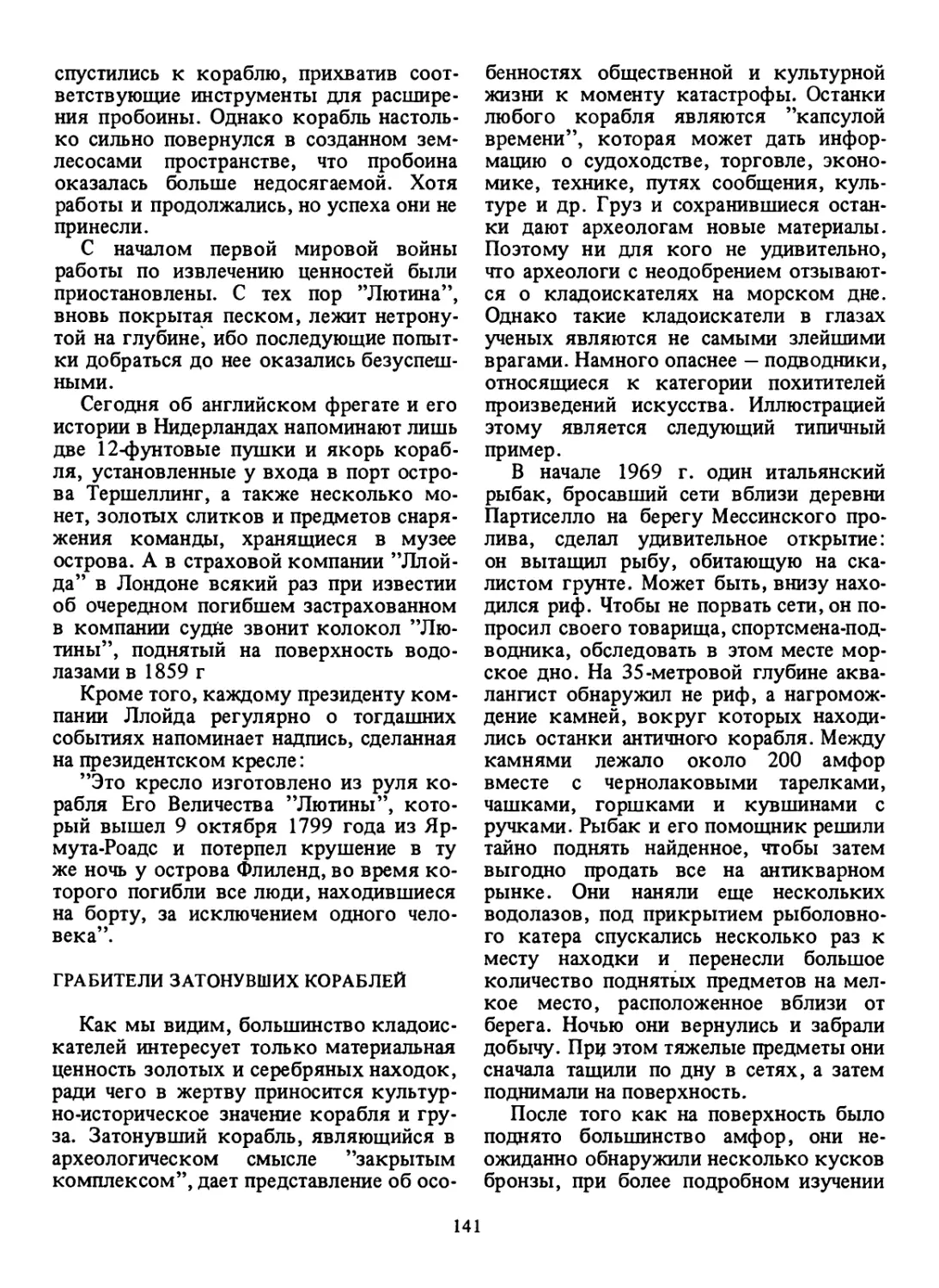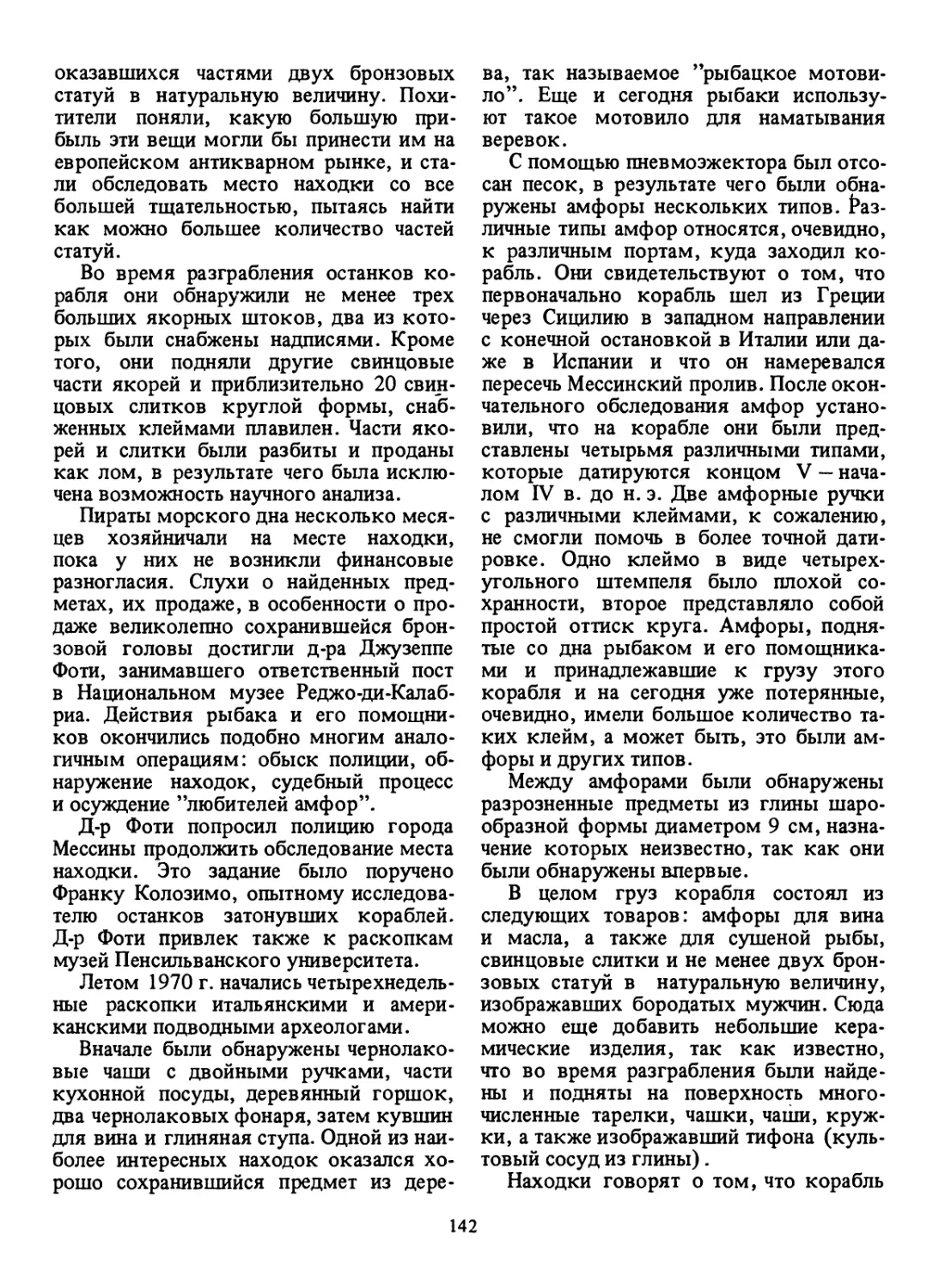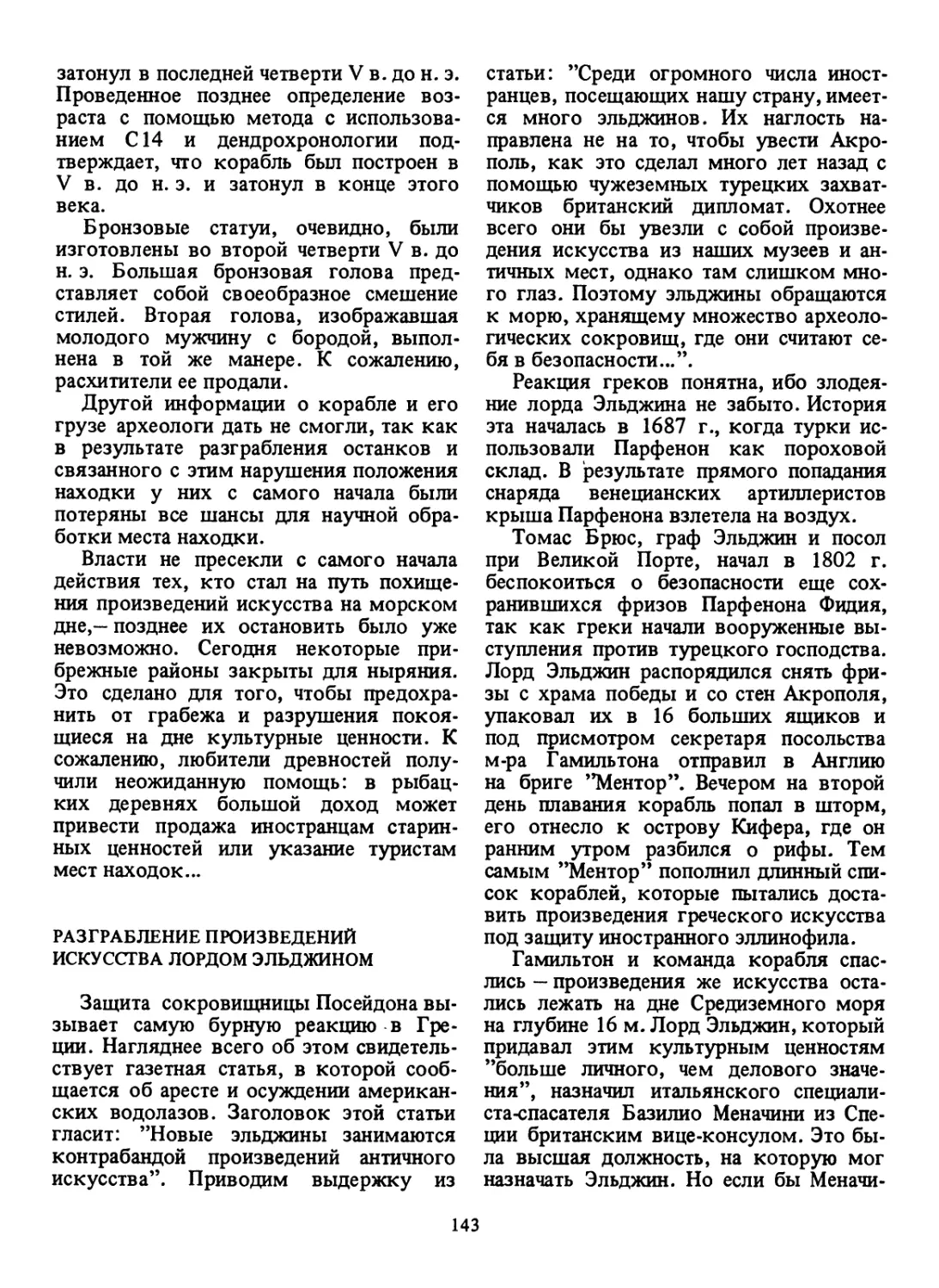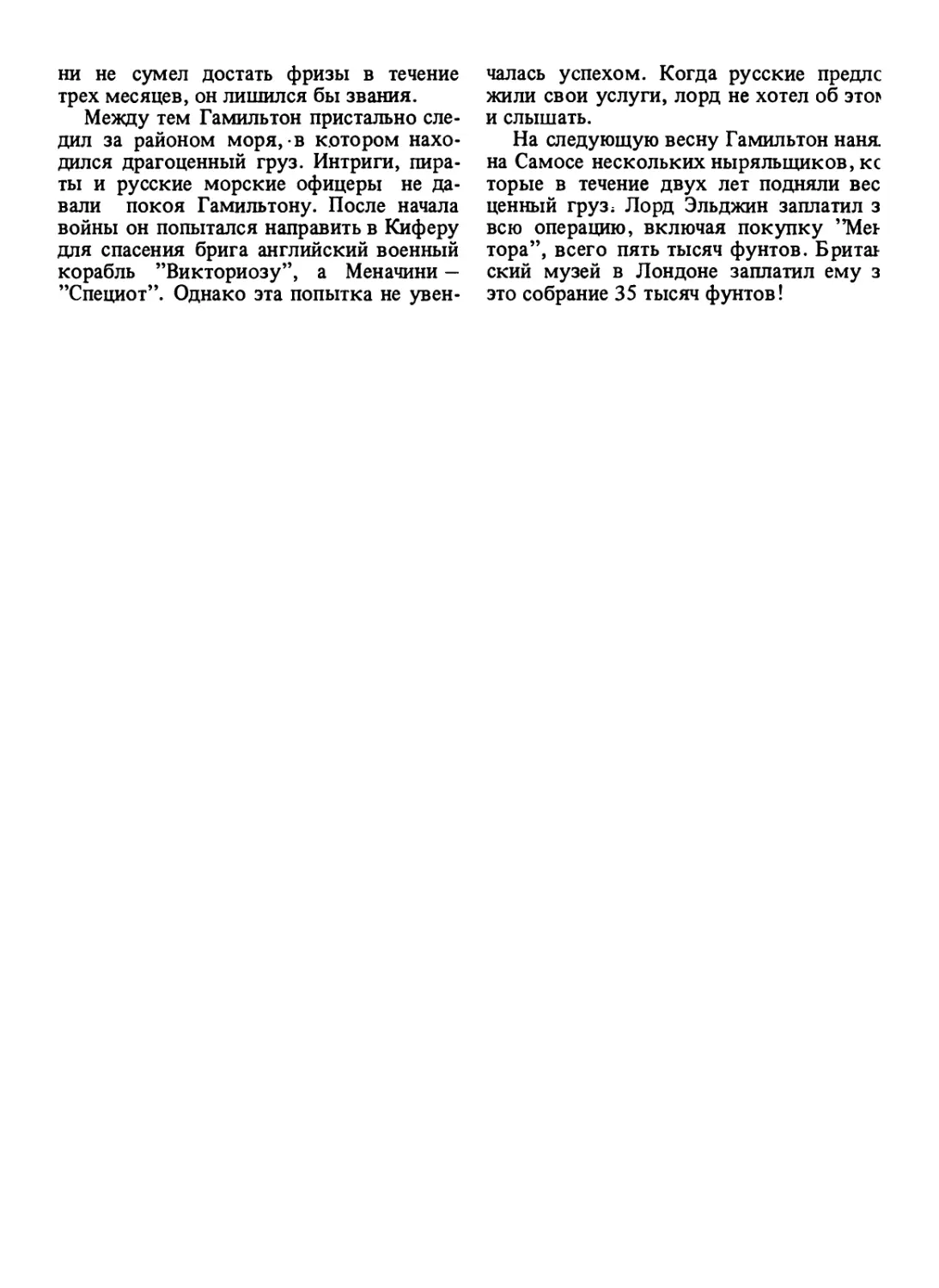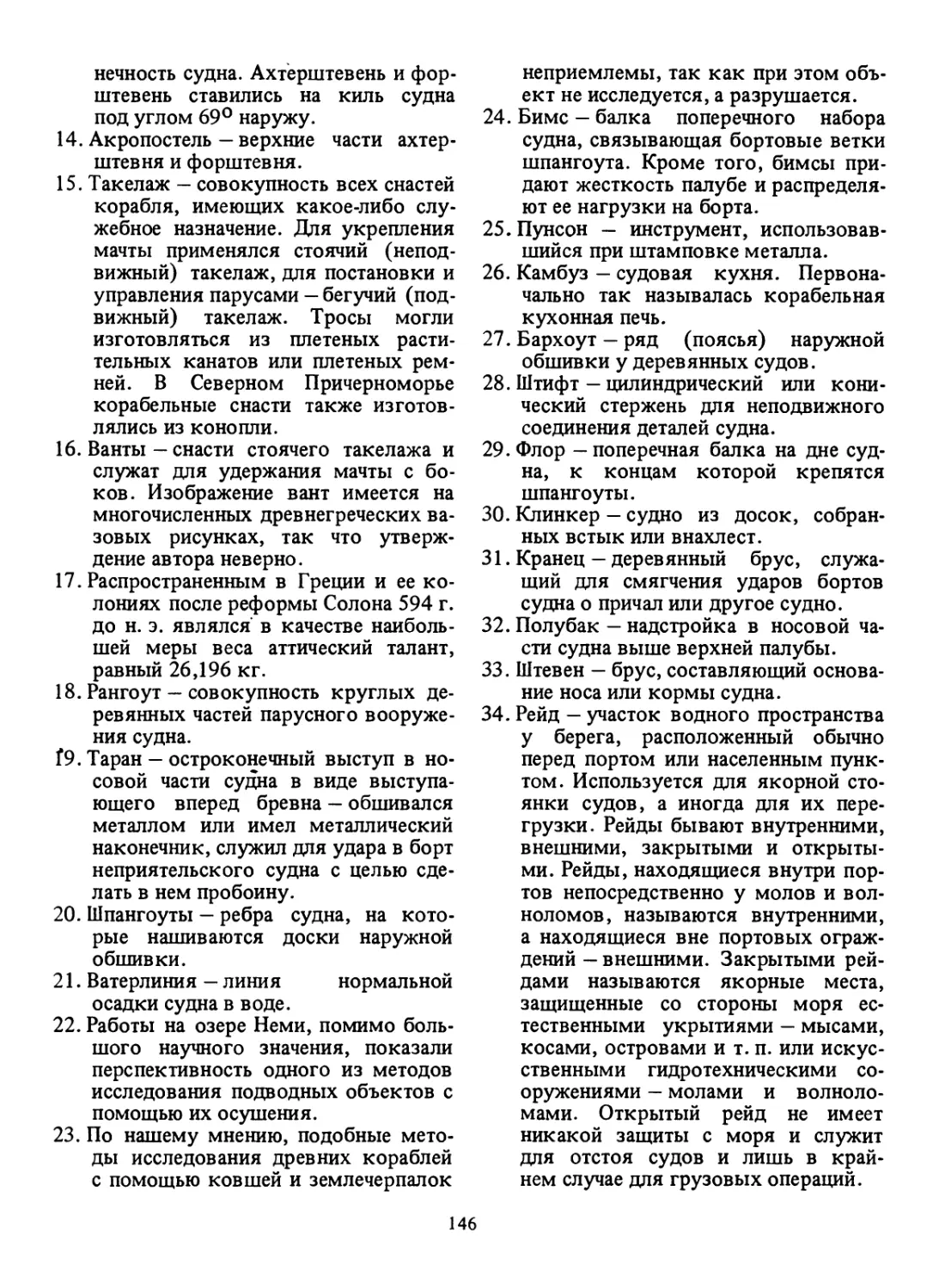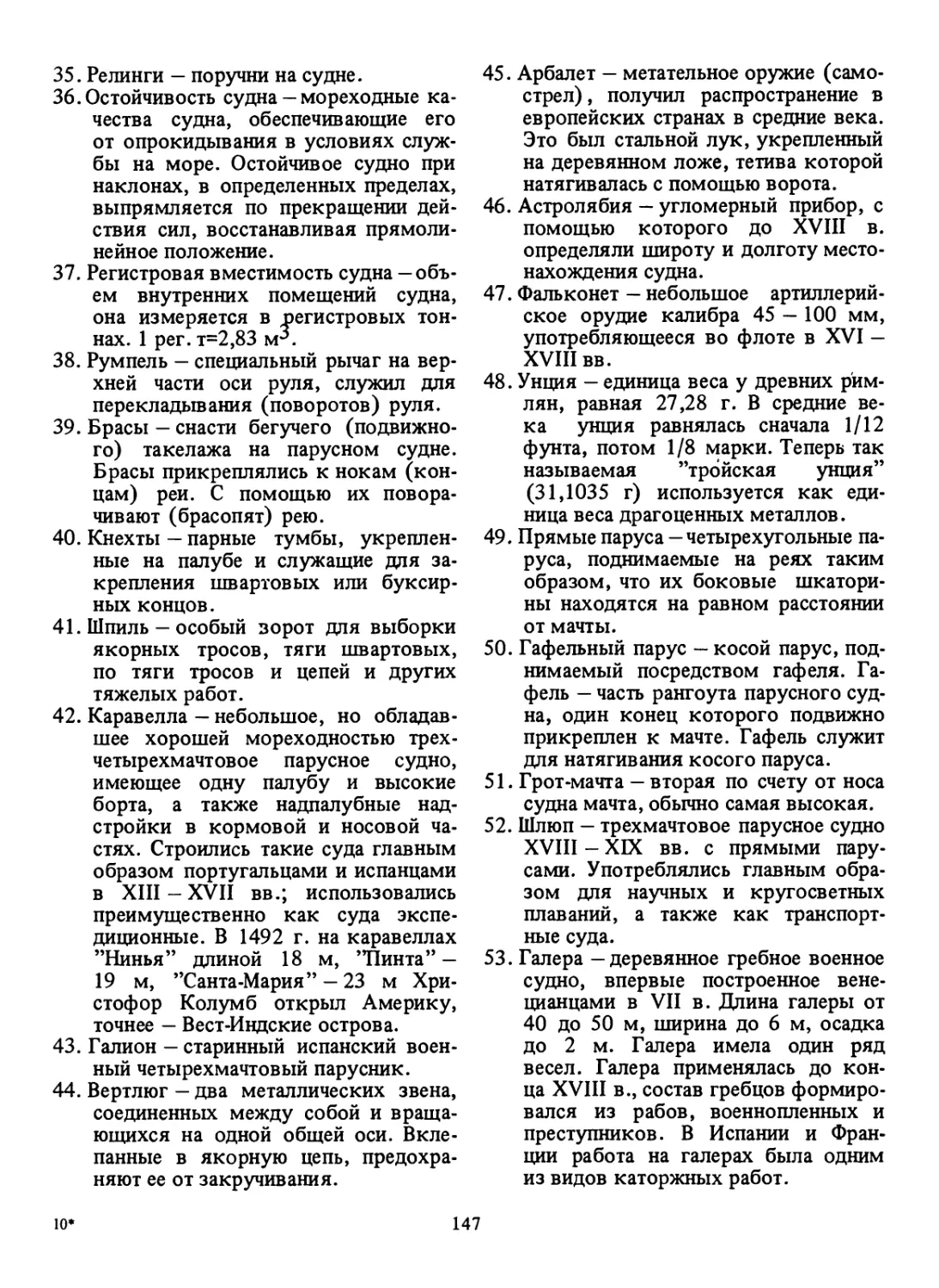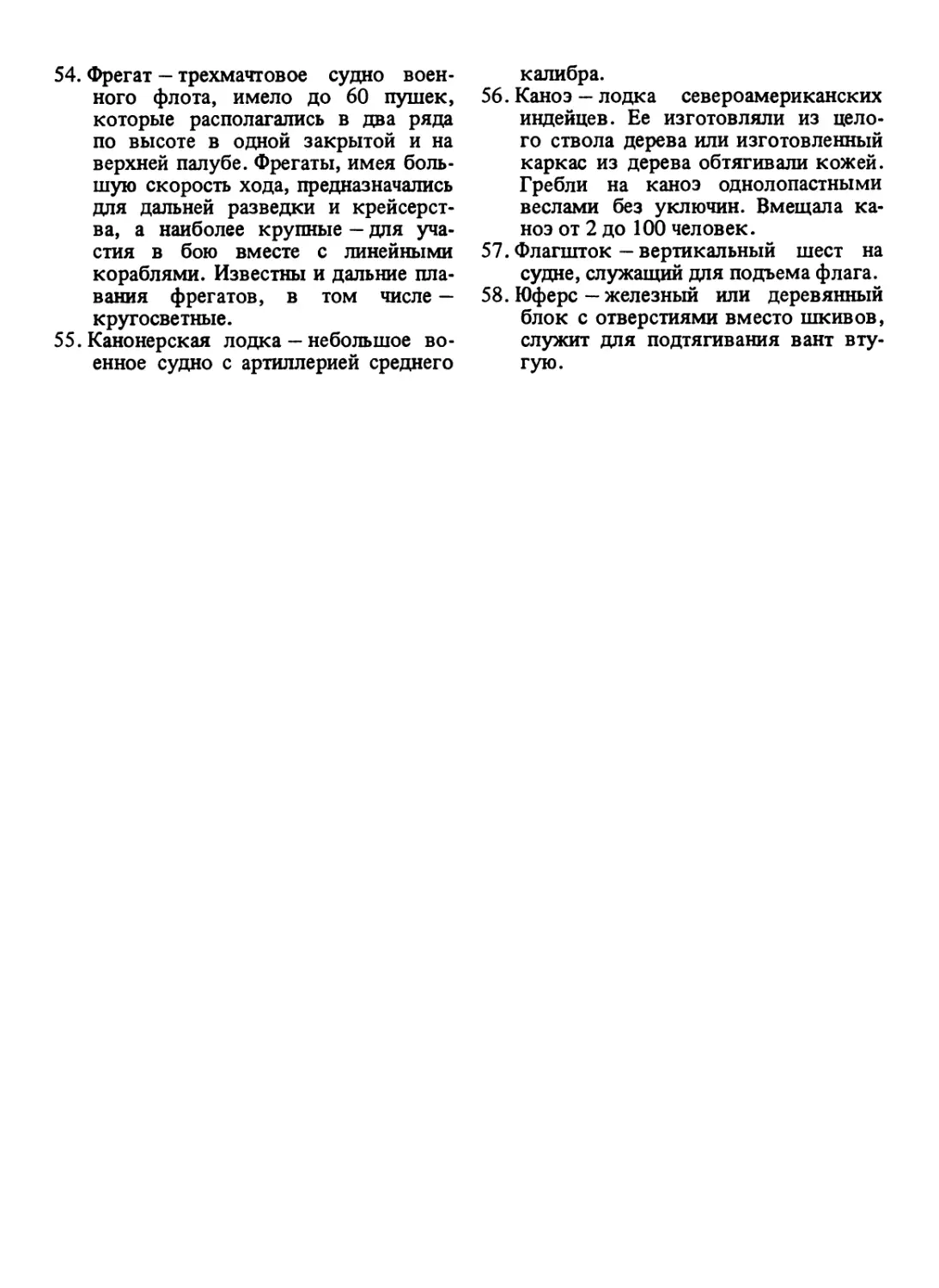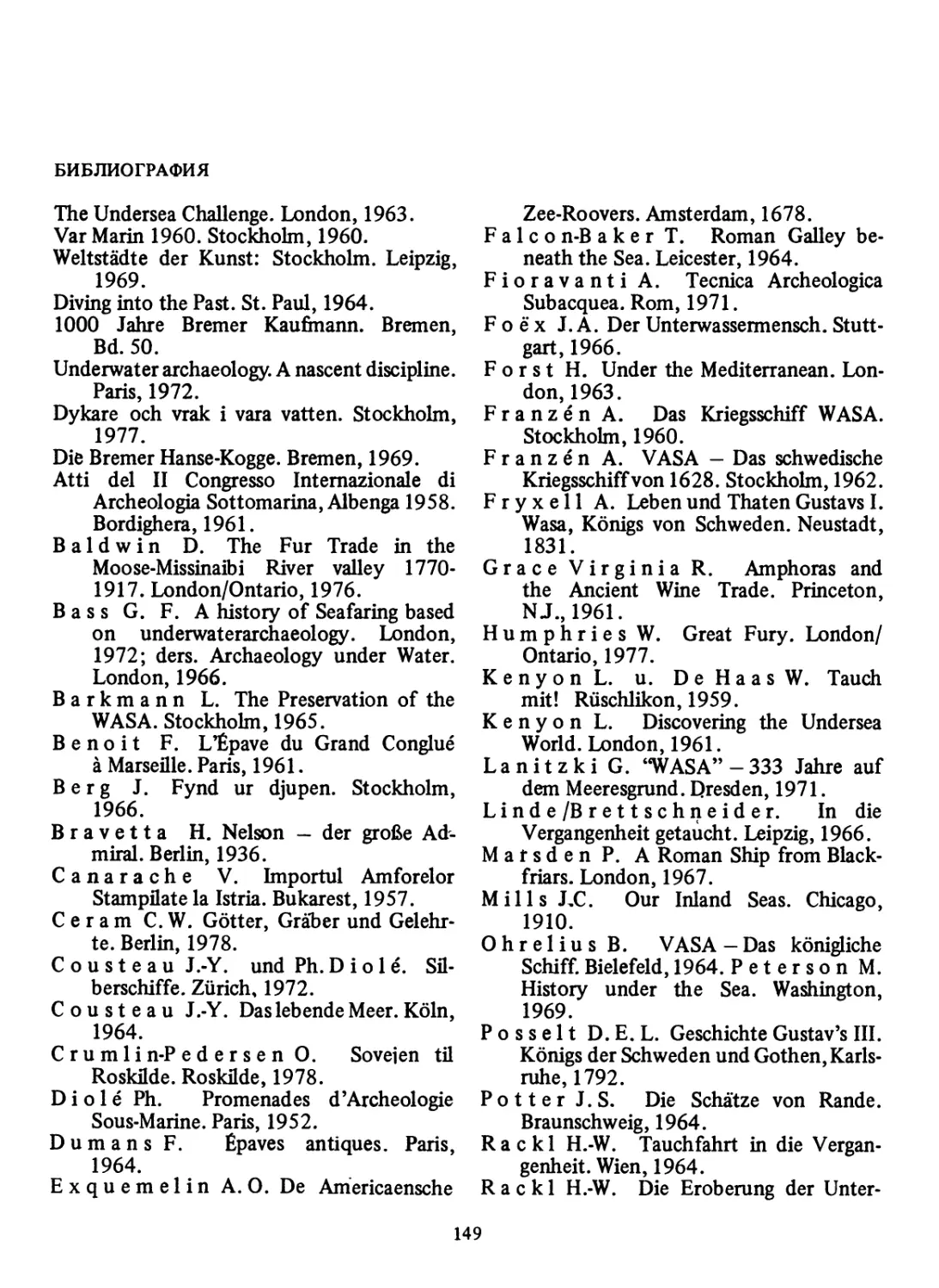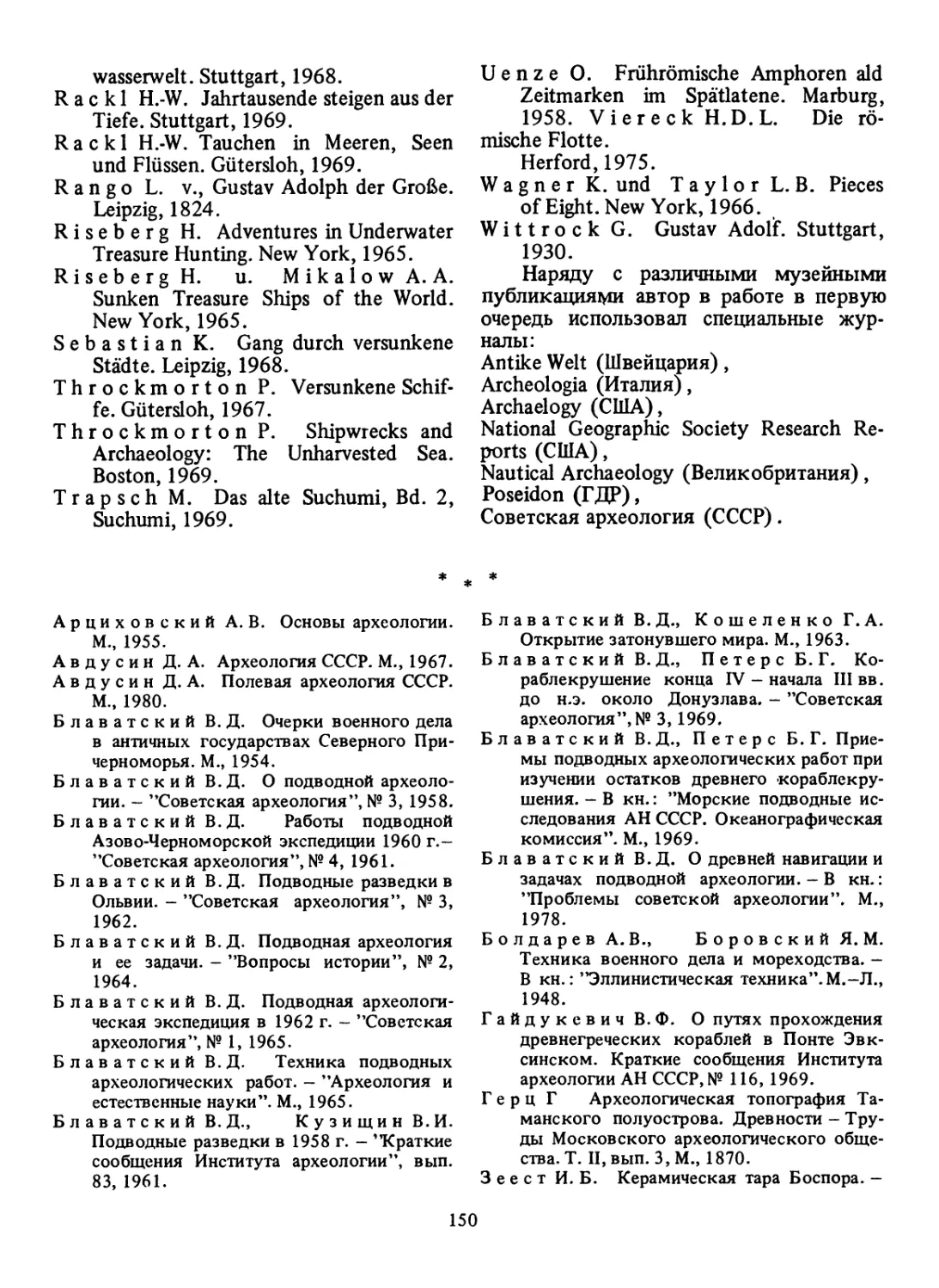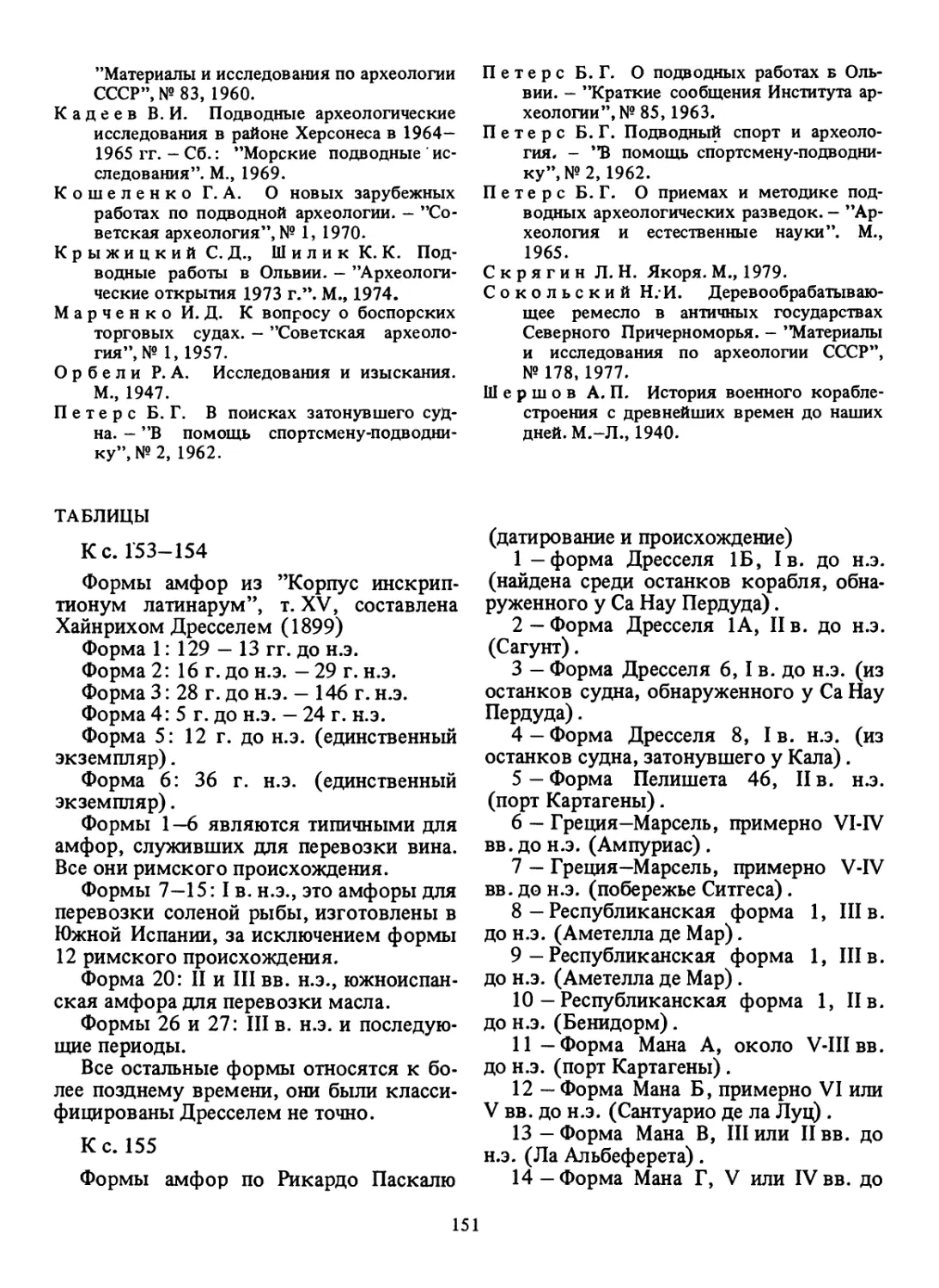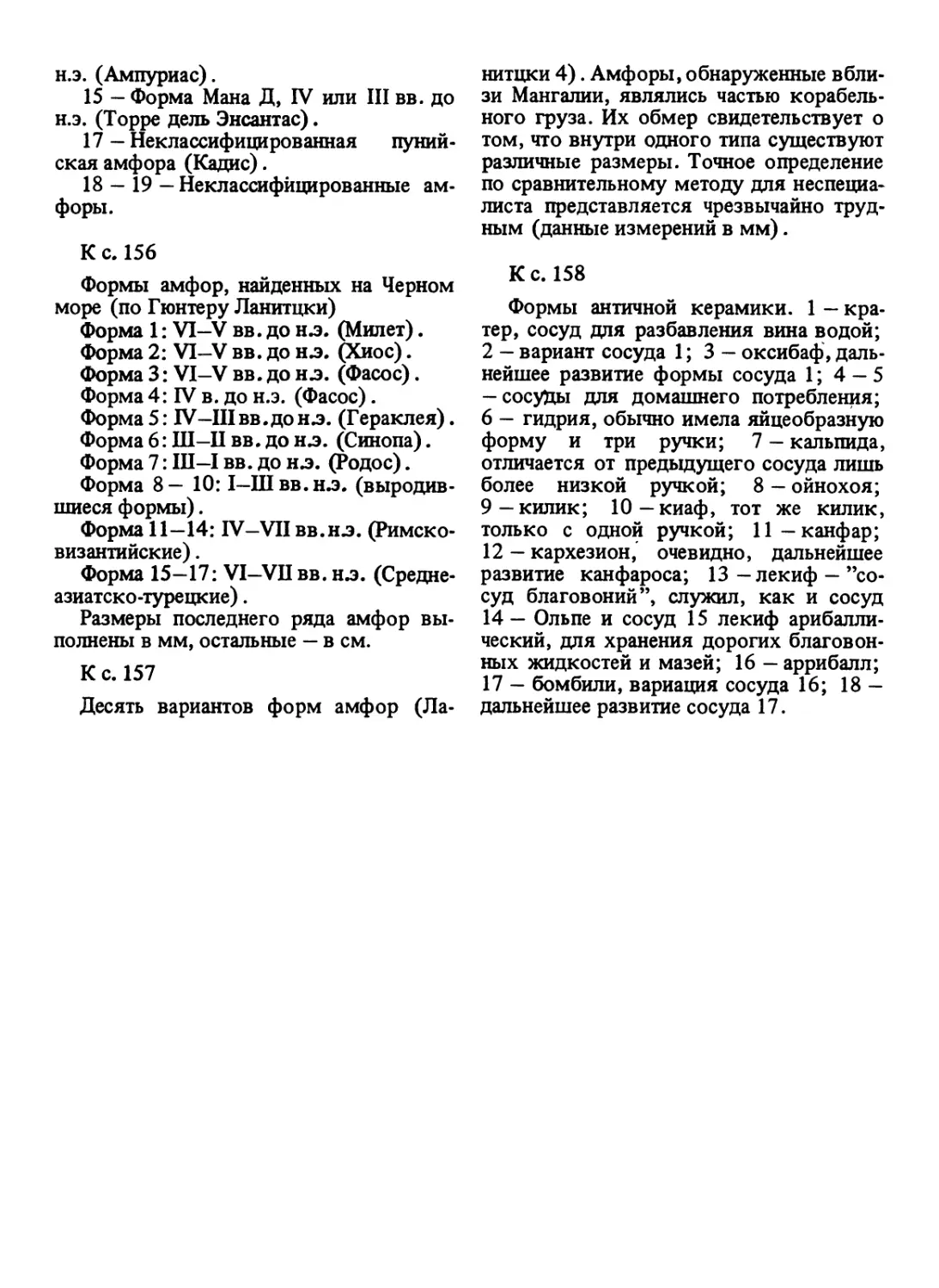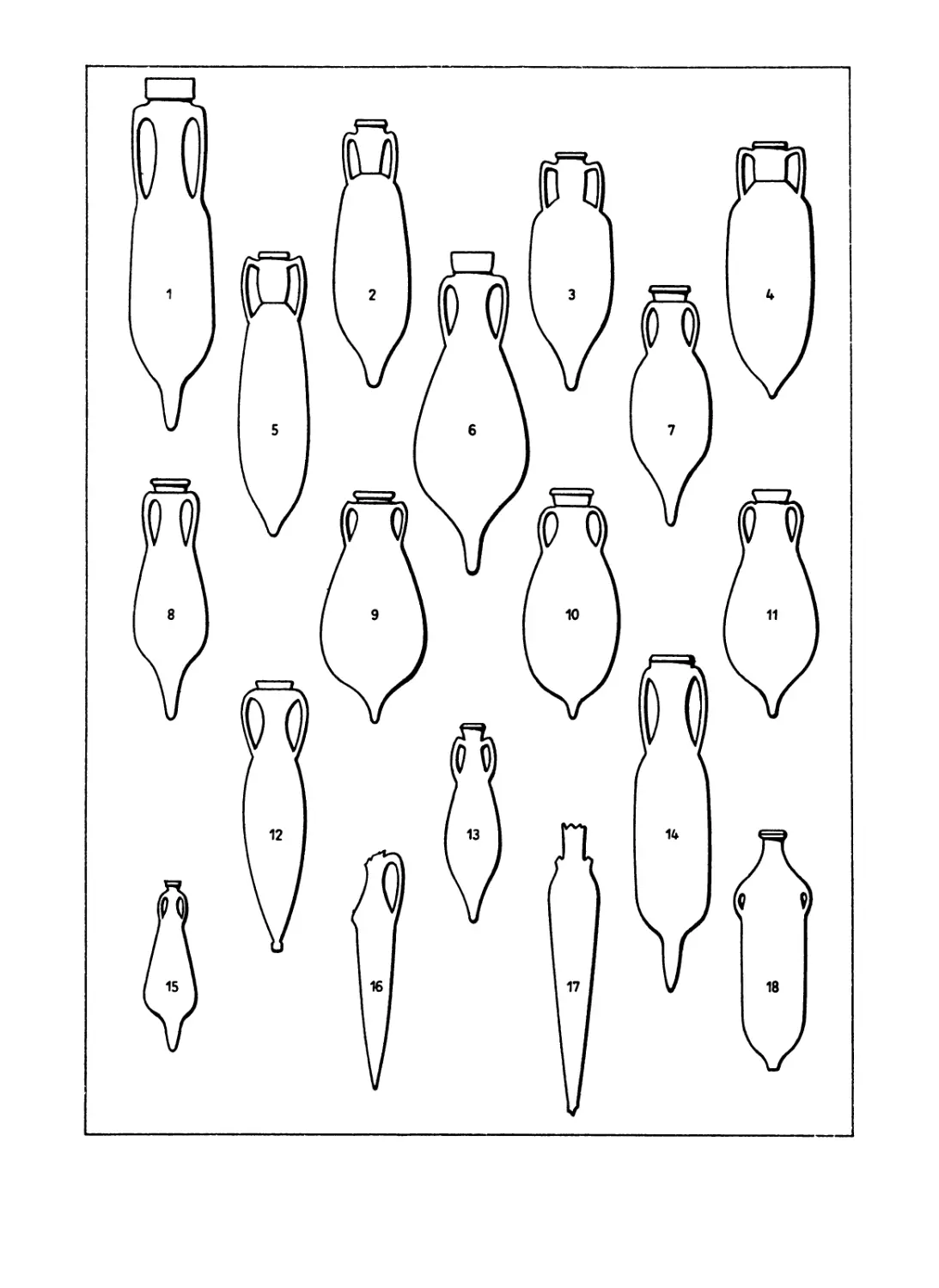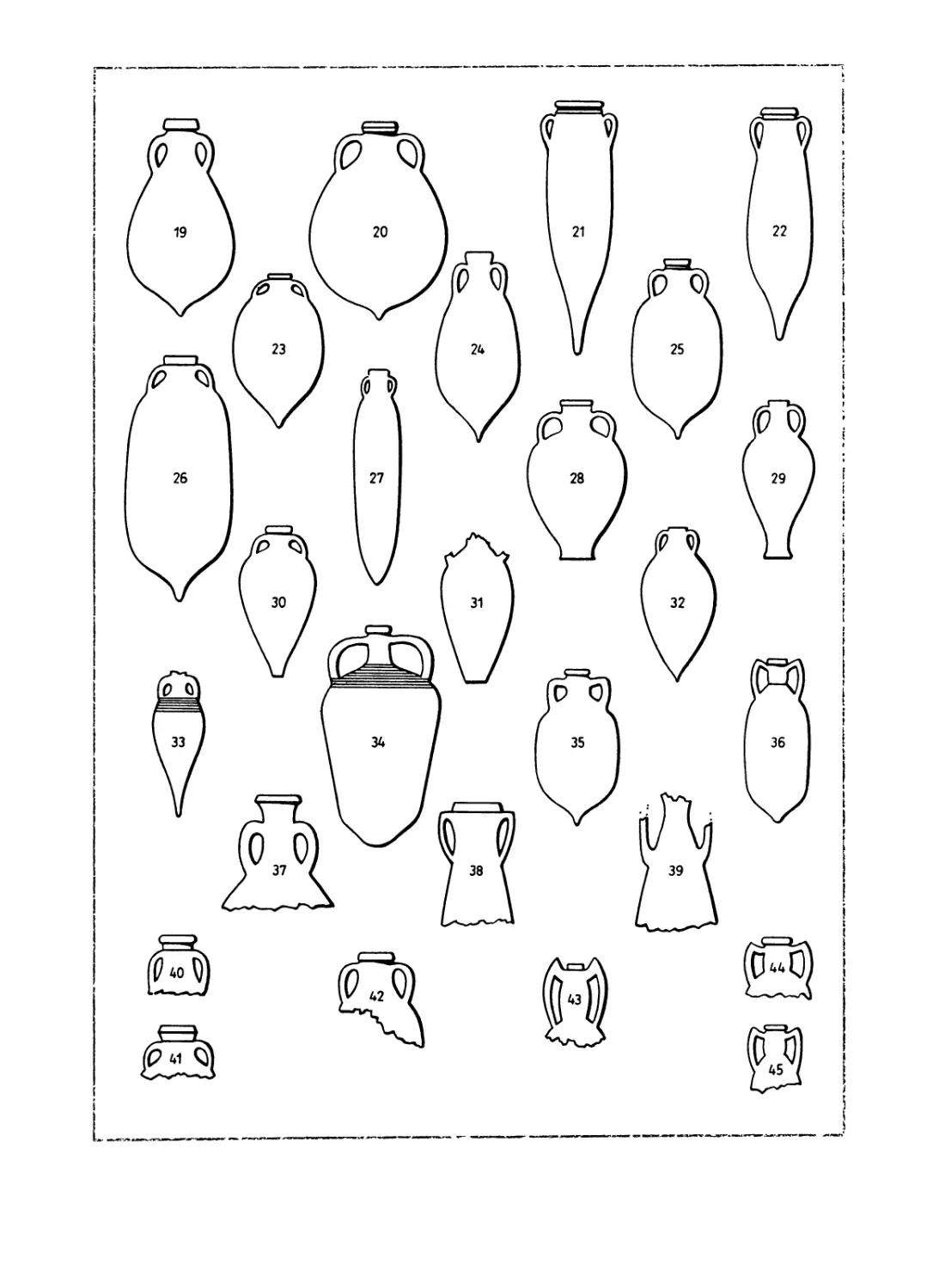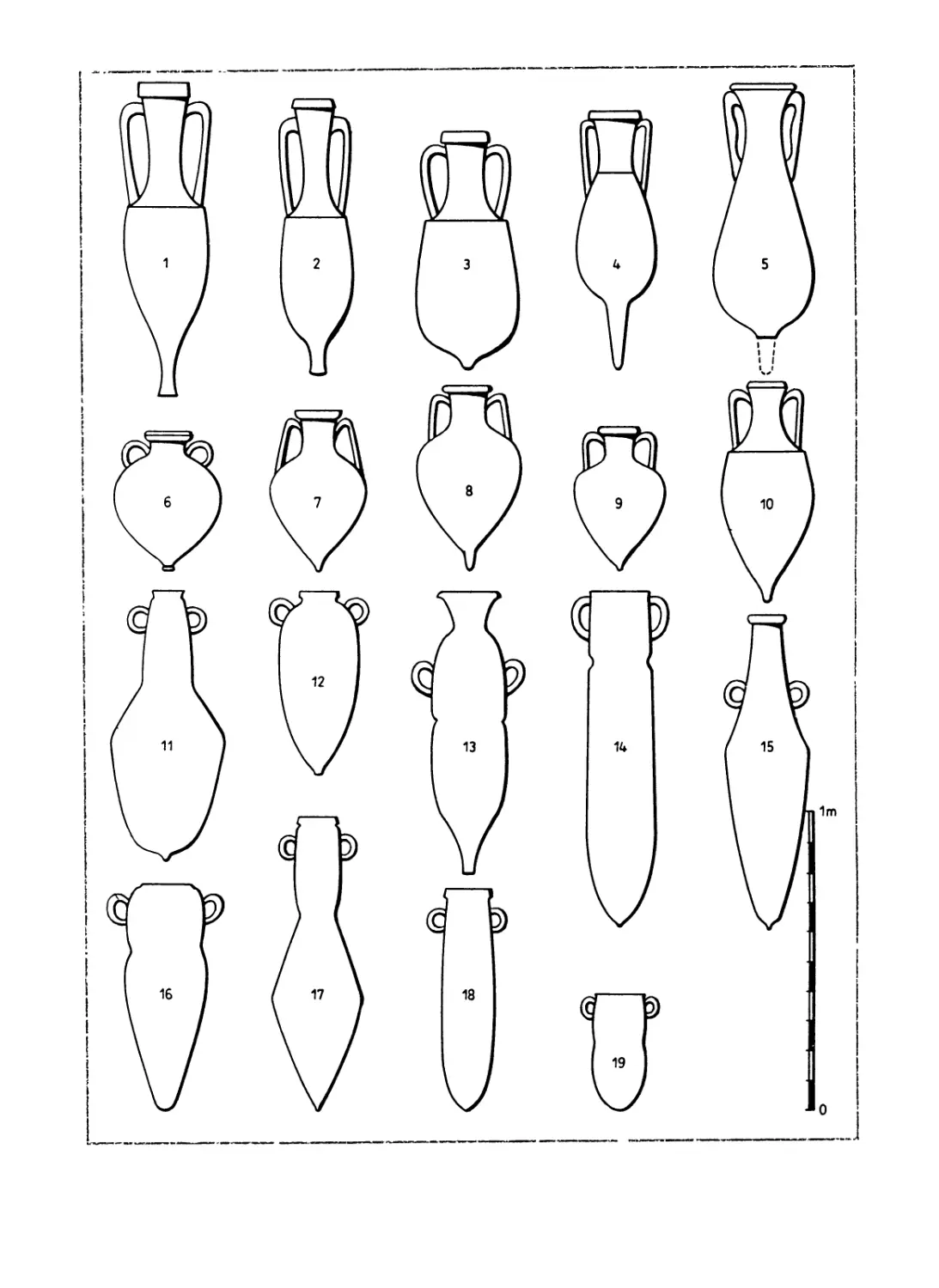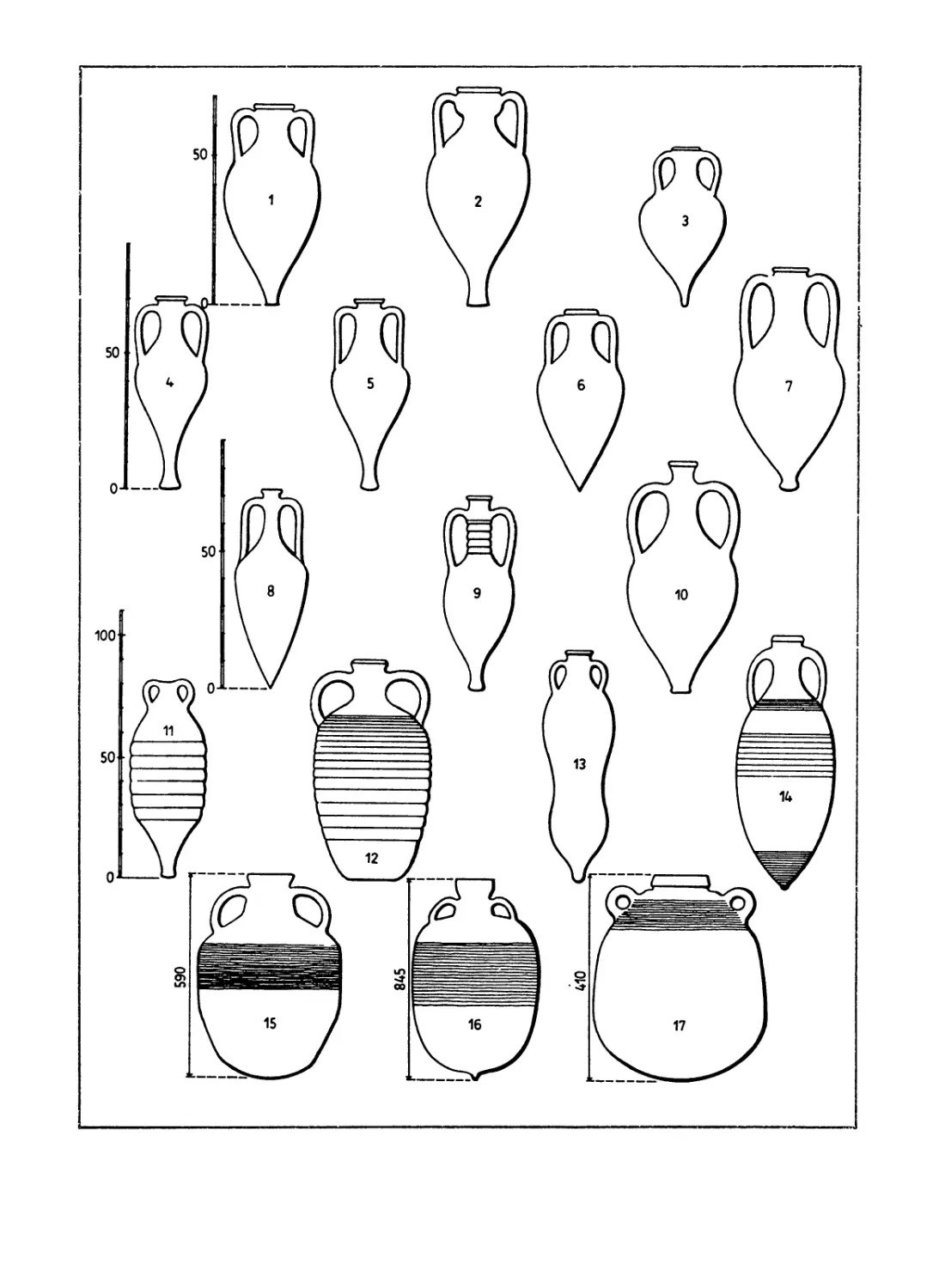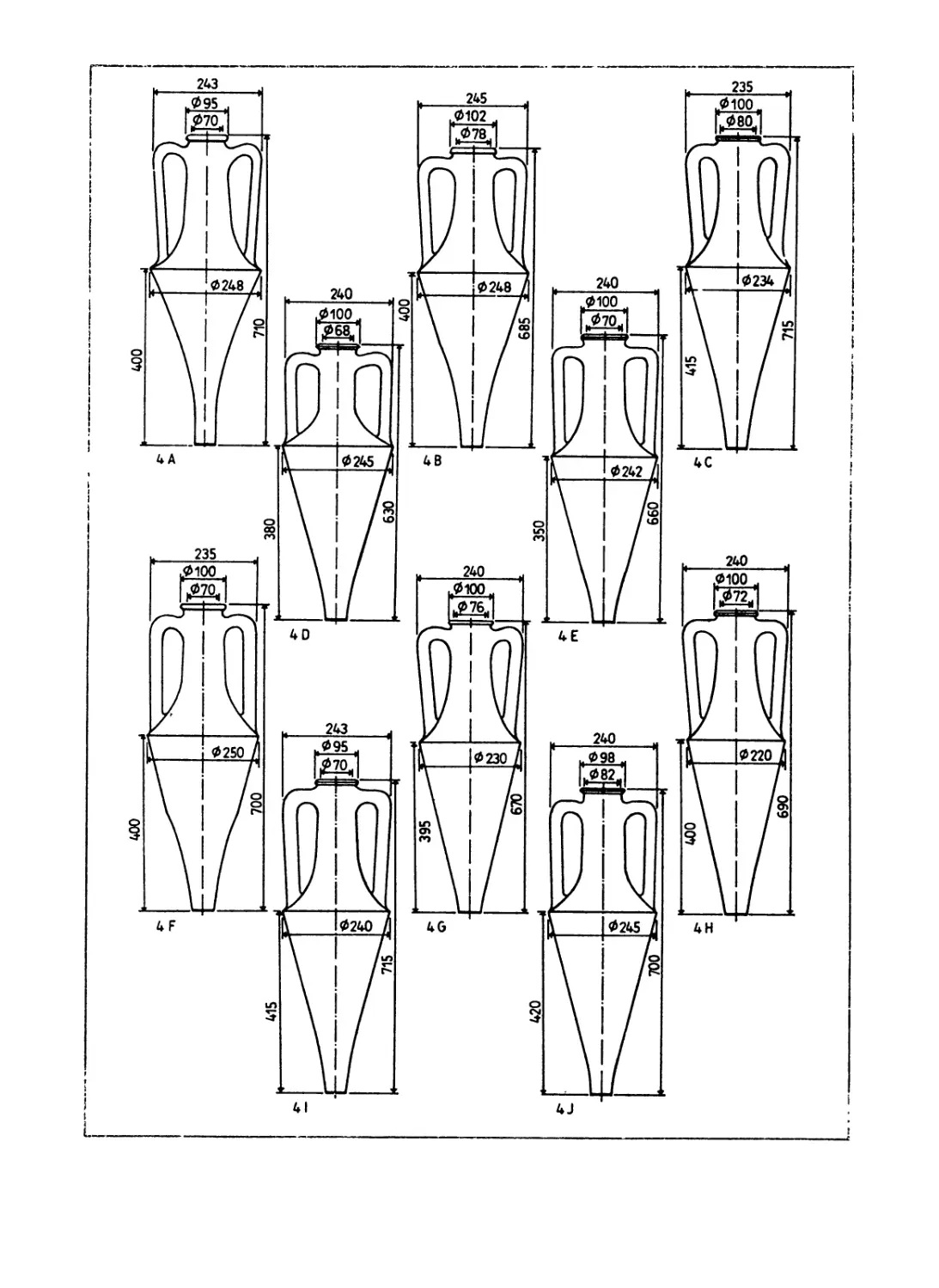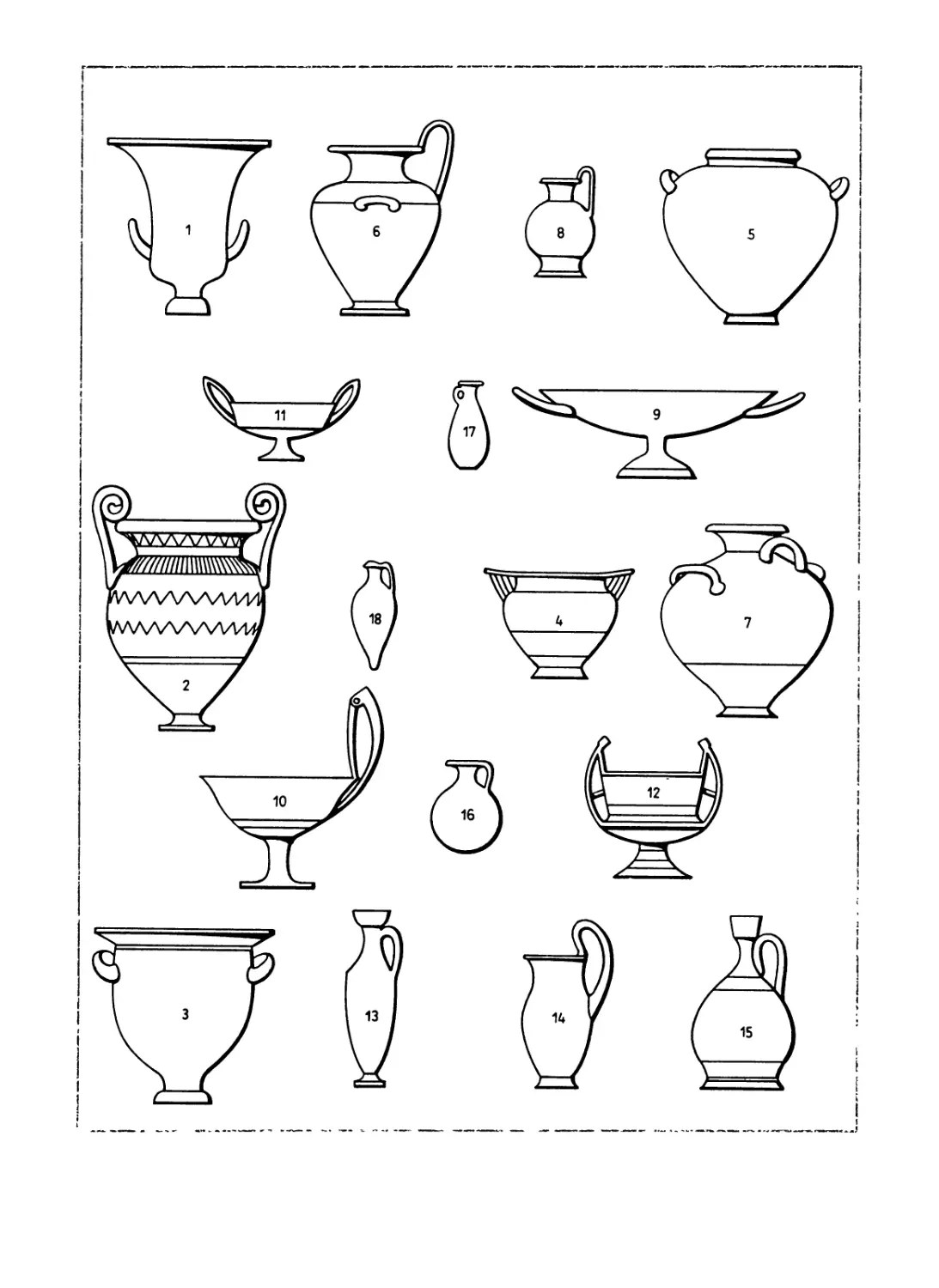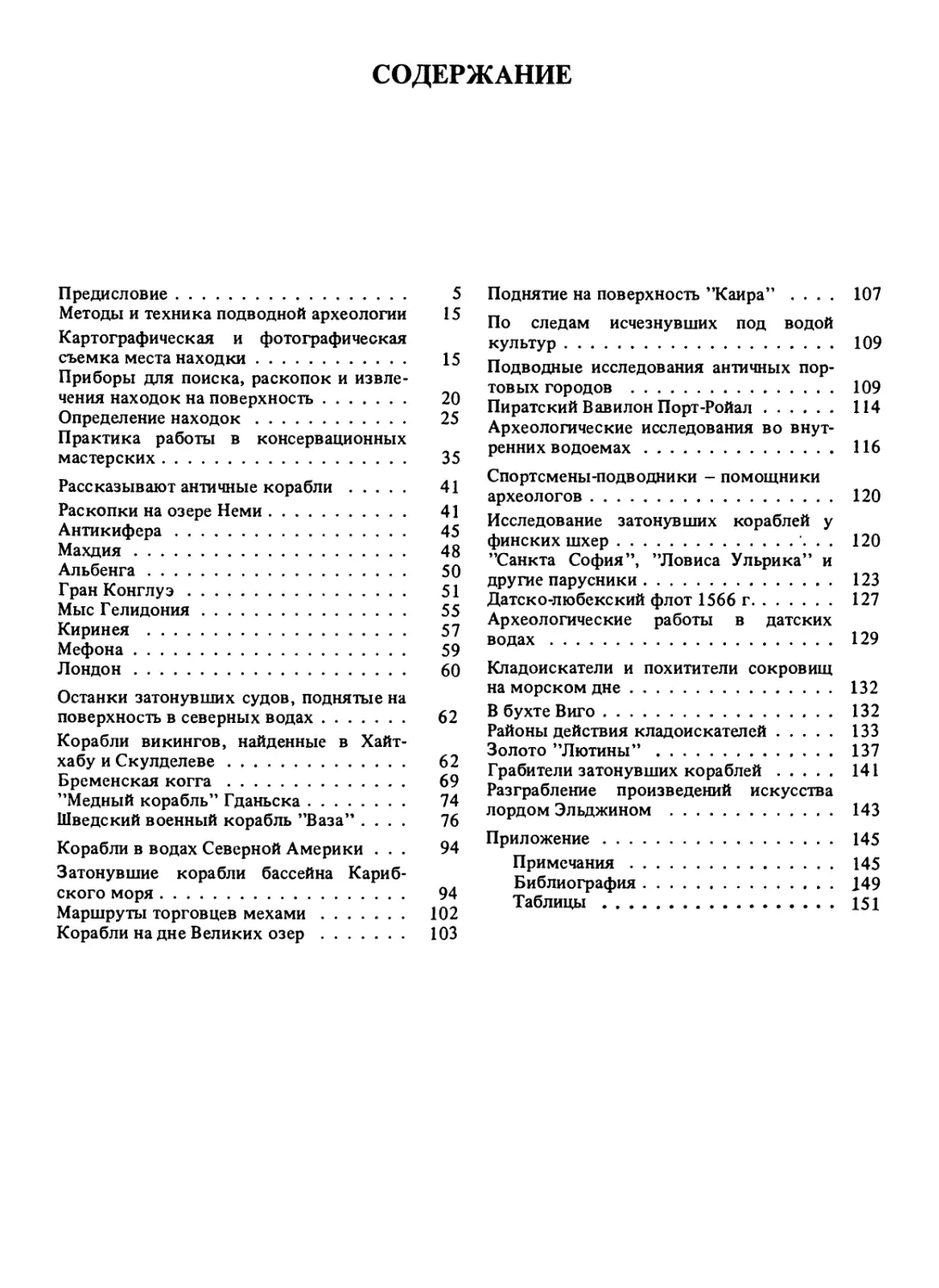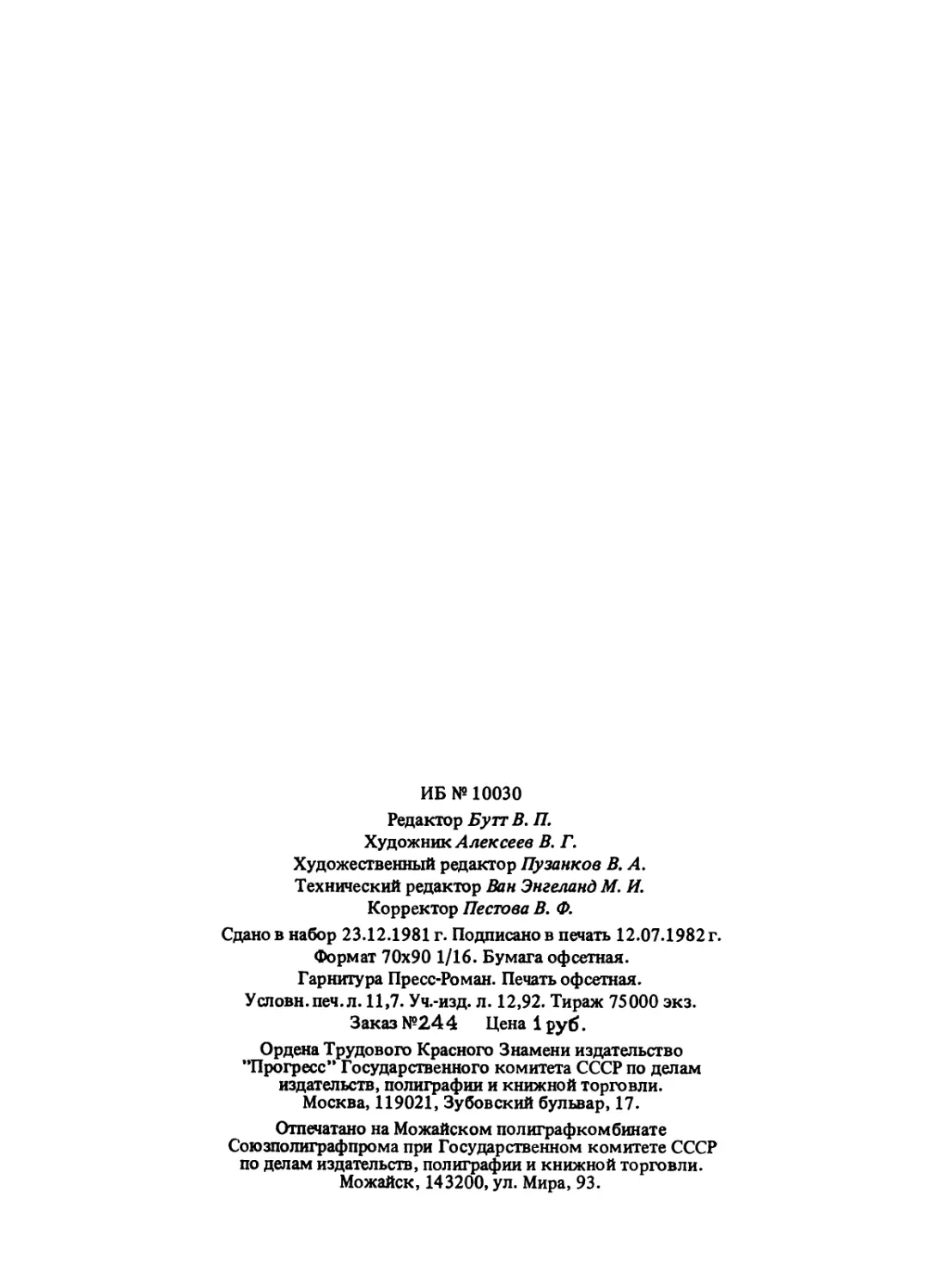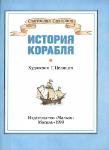Author: Ланитцки Г.
Tags: археология издательство прогресс подводное плавание подводная археология аквалангист затонувшие корабли
Year: 1982
Text
GUNTERLANITZKI
AMPHOREN,
WRACKS,
VERSmKENE STADTE
ГЮНТЕР ЛАНИТЦКИ
АМФОРЫ,
ЗАТОНУВШИЕ КОРАБЛИ,
ЗАТОПЛЕННЫЕ ГОРОДА
(Очерки о подводной археологии)
Перевод с немецкого
В. А. Сеферьянца
Предисловие и редакция
кандидата исторических наук
Б. Г. Петерса
Москва
"Прогресс"
1982
Книга посвящена подводной археологии. Описываются методы и техника,
рассказывается о проблемах и достижениях этой отрасли археологии. Автор
повествует о поисках и поднятии кораблей, затонувших, начиная с античной эпохи, в разных i
районах Земного шара, о затопленных городах, о кладоискателях и похитителях про- i
изведений искусства на морском дне, о спортсменах-подводниках, помогающих
археологам, и др.
Редакция литературы по истории
© VEB F. A. Brockhaus Verlag Leipzig, DDR 1980
© Перевод на русский язык с сокращениями, предисловие и примечания
"Прогресс", 1982
"ТЩ^Й м-82 «™»™
ПРЕДИСЛОВИЕ
В предлагаемой читателю книге Гюн-
тера Ланитцки в популярной форме
повествуется о подводных
археологических работах. Автор излагает
некоторые приемы и методы археологических
исследований, способы консервации и
сохранения поднятых из воды не только
отдельных предметов, но и целых
кораблей. Он увлекательно рассказывает о
работе подводных археологов в
различных частях света, о поисках, находках,
подъеме и музеефикации древних
кораблей, выразительно и живо повествует о
нелегкой, а иногда и опасной профессии
подводных исследователей.
Примечательны разделы, где четко и
ясно излагаются сложные методы и
технические приемы проведения подводных
работ. Здесь и подводно-карюграфичес-
кие и подводно-фотографические
исследования объектов, различные сложные
приборы для их поиска, раскопок,
фиксации и извлечения на поверхность.
Все это знакомит широкий круг
читателей с постановкой и проведением этих
исследований за рубежом.
Известно, что немалых успехов
достигли подводные исследователи в
консервации извлеченных из воды находок.
Ведь прежде, чем поднимать на
поверхность пролежавшие под водой столетия
древние корабли и отдельные вещи,
необходимо всесторонне продумать и
обеспечить надежные способы их
сохранения. При этом сразу же возникает
множество сложных проблем, которые
могут быть решены только при
всестороннем содружестве археологов с
инженерами, физиками и химиками.
Интересно излагаются автором
описания исследований античных кораблей.
Ведь подводная археология на дне морей
Средиземноморского бассейна смогла
"увидеть" остатки довольно хорошо
сохранившихся деревянных кораблей
античного времени, построенных десятки
столетий тому назад. Эти корабли были
археологами детально изучены, в
результате чего стали известны их конструкция,
способы постройки и перевозимый ими
груз. И наконец, работы по изучению
античных кораблей в Италии на озере
Неми закончились их извлечением со дна
водоема и установкой в специально
построенном для этого музее.
Автор также рассказывает об
извлечении со дна северных морей
средневековых кораблей. В этих описаниях
наибольший интерес представляют замечательные
работы, проведенные подводными
археологами на шведском военном корабле
"Ваза". Этот корабль был целиком
поднят со дна моря, законсервирован,
отреставрирован и помещен в особое
здание. В книге рассказывается об
исследовании затонувших кораблей в водах
Северной Америки, а также об
исследовании затопленного в результате
землетрясения и опускания береговой линии
города Порт-Ройал, и о кораблях,
затонувших у берегов Финляндии.
Автор увлекательно рассказывает о
кладоискательстве и о поисках
сокровищ на морском дне.
Г. Ланитцки — не профессиональный
историк и не археолог, поэтому в книге
встречаются определенные неточности в
изложении и интерпретации некоторых
фактов. Иногда автор чрезмерно
увлекается красочным описанием
малонаучных с точки зрения археологии
подводных экспедиций, целью которых
являются поиски и подъем с погибших в
древности кораблей благородных металлов и
сокровищ. Такого рода работы по сути
своей антинаучны; в СССР это
называется кладоискательством, что глубоко
чуждо советской археологической науке с
первых же дней ее создания. Профессор
А. В. Арциховский писал. "В буржуаз-
ных странах вещественные древности
изучаются в отрыве от
социально-экономического строя древних обществ и
полноценные исторические выводы по
археологическим данным не делаются.
Большинство буржуазных ученых вообще
отрицают прямую связь между
археологией и историей, причисляя археологию
то к естественным наукам, то к так
называемым художественным наукам...
Встречаются, впрочем, отдельные
попытки связать археологию с историей. У
прогрессивных ученых это ведет к
сближению с советской наукой"1.
Добытые советскими археологами в
процессе работ вещи исследуются во
взаимосвязи друг с другом и объектом,
в котором они были найдены. Этот
материал исторически истолковывается.
Теоретической основой исторических
реконструкций по полученным
археологическим данным является историко-Maie-
риалистический принцип, согласно
которому на любой ступени развития
общества непременно существует
закономерная связь между материальной
культурой общества и его
социально-экономической жизнью. Отсюда настоятельная
необходимость исследования
археологических объектов (то есть памятников
археологии с древнейших времен до
XV - XVI вв. включительно) только
специалистами-историками.
Не всегда точно Г. Ланитцки
описывает методы проведения подводных
работ, значение и применение найденных
предметов в древности, иногда
употребляется малопонятная широкому
кругу читателей морская терминология, все
эти недочеты учтены при подготовке
нами перевода на русский язык и
оговариваются в примечаниях: в конце книги
приводится также список литературы по
этому вопросу на русском языке. Книга
печатается с некоторыми сокращениями,
в частности исключены описания
подводных археологических исследований в
СССР, так как автор, очевидно, не имел
1 Арциховский А В Основы
археологии М, 1955,с 6
необходимых источников и поэтому не
всегда верно излагает их результаты.
В этой связи представляется
необходимым остановиться на некоторых
вопросах истории развития отечественной
подводной археологии, в частности на
достижениях в исследовании памятников
Северного Причерноморья, поскольку
именно при осуществлении этих работ
были заложены научные основы
советской подводной археологии.
Интерес к вещам, находимым в
земле или воде, известен с древнейших
времен. Еще Ипатьевская летопись под
1114 г. сообщает, что жители Ладоги
находили на берегах Волхова вымытые
дождями или рекой стеклянные бусы.
Показателен в этом плане и указ Петра 1,
в котором он повелел собирать "в земле
или воде... старые надписи... старое
оружие, посуду и все, что зело старо и
необыкновенно. Где найдутся - также
всему делать чертежи, как что найдут".
В этом документе мы впервые встречаем
указания на необходимость изучения
памятников, находящихся под водой,
внимание к простым вещам, таким, как
оружие и посуда, а также требование
подробной графической фиксации
находок — все то, что в дальнейшем
войдет в золотой фонд русской и
советской методики археологических
исследований.
Когда во второй половине XVIII в.
северопричерноморское побережье вошло
в состав России, началось
систематическое изучение этого района.
Исследовались не только остатки
древних городов и поселений, курганы и
могильники. Есть достоверные сведения,
что также проводилось изучение
памятников древней истории, находящихся
под водой. Так, в начале XIX в. русские
исследователи Северного Причерноморья
И. И. Бларамберг и П. А. Дюбрюкс
отмечают на карте Боспора Киммерийского
к югу от северной косы "Чушка", на дне
Керченского пролива, шесть мраморных
колонн. Как свидетельствует Ф. Жиль,
исследователь Боспорских древностей
А. Ашик сообщил, что в 1823 — 1824 гг.
была сделана неудачная попытка
поднять одну из этих колонн со дна моря.
В начале XIX в. в Керченском
проливе со дна Таманского залива возле
развалин античного города Фанагории были
подняты две одинаковые мраморные
фигуры лежащих львов с повернутыми
влево головами. К сожалению,
поверхности античных скульптур, вероятно
долго лежавших на мелководье, были
сильно повреждены морем. В этом же
районе крупные скопления камней
обнаружил в 1858 г. Ф. Жиль, в дальнейшем
его сообщение было подтверждено
К. Герцом - оба считали, что это
остатки древнего мола.
В середине XIX в. А. С. Уваров
предполагал, что прибрежная часть античного
города Ольвии, находящаяся у села Па-
рутино в Днепровско-Бугском лимане,
находится под водой. В начале XX в.
Б. В. Фармаковским и В. И. Деренкиным
здесь же были проведены обмеры
каменных блоков, находящихся на дне
залива.
Согласно сообщению Е. Е. Люценко,
в 1880.г. в воде на пляже Эльтегена, у
современного села Героевскою, был
найден небольшой кувшин, в котором были
обнаружены серебряные античные
монеты V в. до н. э., отчеканенные в
древних городах Пантикапее (Керчь), в
Аполлонии Таврической и в Нимфее
(с. Героевское). А в начале XX в., как
передает Л. П. Колли, в Черном море на
расстоянии около 100 м от берега,
напротив Ай-Тодорского мыса было
найдено большое количество вещей античного
времени.
В конце XIX в. во время
строительства Феодосийского морского порта и
связанных с этим дноуглубительными
работами в Феодосийской бухте у так
называемой "Карантинной горки"
Л. А. Бертье-Делагардом был обнаружен
древний мол. Во время этих работ из
мола было извлечены тысячи сосновых
свай, вбитых в дно на глубину до 4 м.
В начале XX в. в этом районе с
глубины 4,8 м были подняты с морского дна
15 обросших раковинами античных
остродонных амфор. Примерно в это
же время на дне Черного моря у острова
Березань были найдены два глиняных,
украшенных рельефами римских сосуда.
В России также велись плодотворные
работы по поискам, исследованию и
подъему древних судов.
Так, интересные работы были
проведены в последней четверти XIX в.
А. А. Иностранцевым, изучившим
древнее судно, обнаруженное при прорытии
Сясского канала недалеко от
Ладожского озера.
Но только после Великой
Октябрьской социалистической революции
появилась реальная возможность охраны
культурного наследия народа. В ноябре
1917 г. в воззвании Совета рабочих и
солдатских депутатов, в частности,
говорилось: "Искусство — это то прекрасное,
что талантливые люди умели создавать
даже под гнетом деспотизма и чго
свидетельствует о красоте и силе
человеческой души.
Граждане! Не трогайте ни одного
камня, охраняйте памятники, здания, старые
вещи, документы — все это ваша
история, ваша гордость".
Начиная с апреля 1918 г. В. И Ленин
подписывает ряд декретов Совнаркома,
в которых центральное место занимают
вопросы, связанные с охраной
исторических культурных памятников, с
монументальной пропагандой. Эти декреты
заложили основу государственной системы
охраны памятников в СССР.
Дальнейшее развитие ленинские
декреты получили в Законодательстве СССР.
Так, в Законе об охране и использовании
памятников истории культуры, включен-
ном в Конституцию СССР (ст. 68),
сказано: "Забота о сохранении исторических
памятников и других культурных
ценностей - долг и обязанность граждан
СССР".
В 30-е годы в СССР проводятся
большие подводные работы ЭПРОНом
(Экспедиция подводных работ особою
назначения) по подъему со дна морей, озер
и рек затонувших во время первой
мировой и гражданской войн кораблей.
Один из первых энтузиастов подводной
археологии К Э Гриневич пытался с
помощью водолазов ЭПРОНа обнаружить
на дне Черного моря у Херсонесского
маяка каменные кладки древних стен
В дальнейшем работы с водолазами
ЭПРОНа были продолжены зачинателем
подводной археологической науки
крупным ученым и иследователем Р А Орбе-
ли Им были проведены подводные
археологические разведки в различных
водных бассейнах, а также подводные
археологические работы в Черном море
у побережья Коктебеля и на реке Буг,
со дна которой у села Саботиновки им
был поднят затонувший в эпоху
неолита дубовый челн-однодеревка
В 1954 г. М. Е Фосс на реке Дон был
извлечен челн, а год спустя в том же
районе - второй Оба неолитических
челна-однодеревки имели длину около 7 м
Нет возможности останавливаться
здесь на многочисленных и интересных
подводных работах, приведших к
подъему различных древних вещей и
обнаружению подводных памятников
Интересующегося этим читателя мы отсылаем к
библиографии, имеющейся в книге
Скажем лишь, что подобные работы велись
и ведутся на территории нашей страны на
Черноморском побережье, на Каспии, на
дне многочисленных озер и рек, в них
широко участвуют археологи, историки,
студенты, различные самодеятельные
подводные клубы
На качественно новую ступень под-
водно-археологические исследования в
Советском Союзе были подняты
работами выдающегося ученого-антиковеда
В Д Блаватского Высокий научный
уровень этих исследований был
обеспечен, во-первых, подготовкой археологов-
подводников на кафедре археологии
исторического факультета МГУ
во-вторых, разработкой специальных методов
подводно-археологической разведки,
разработкой методов послойного
исследования под водой культурных
напластований, в-третьих, использованием
новейшей водолазной техники различных
классов кораблей, водолазных ботов,
рефулерных барж, подводных телевизионных
установок, водолазов в легком и
тяжелом снаряжении и др Все это любезно
выделяло командование
Военно-Морского Флота, руководство ДОСААФ СССР,
Министерство морского флота, дирекции
Московскою авиационного и
Московского энергетического институтов, а также
кафедра археологии исторического
факультета МГУ.
Основатель подводной археологичес-
кой науки в СССР доктор
искусствоведения В Д Блаватский был человеком
поистине удивительных душевных
качеств, это был ученый, прекрасно
знавший античную археологию и искусство
Беззаветно преданный науке, он не
допускал никакого дилетантства в
археологических исследованиях Работа же
подводного археолога — это тяжелый,
зачастую изнурительный и опасный труд
водолаза и ученого одновременно
Строго научная организация всею
дела, несомненно, обеспечила успешное
проведение Институтом археологии АН
СССР в 1957-1967 гг подводных
археологических экспедиций, к этому
периоду можно отнести становление и
развитие в Советском Союзе подводной
археологии как особого раздела
археологической науки
В 1956 г профессор МГУ В Д
Блаватский для подготовки к
подводно-археологическим исследованиям предложил
студентам исторического факультета
освоить водолазное дело В то время
водолазов в Москве не готовили Нам стало
известно, что по инициативе энтузиастов
подводного плавания известных физиков
А Б Мигдала и С П Капицы при
Центральном Морском клубе ДОСААФ СССР
впервые для любителей была
организована школа легких водолазов,
работающих с кислородным снаряжением, куда
меня с Г А Кошеленко и зачислили
Начальником подводной экспедиции
Института археологии АН СССР
В Д Блаватским были с самого начала
поставлены две основные задачи
проведение подводно-археологических
раскопок затопленной части античного города,
а также поиски и исследование под
водой затонувшего античного корабля. Обе
задачи были блестяще выполнены. На
некоторых результатах этих работ мы в
дальнейшем и остановимся.
В 1957 - 1958 гг. подводной
экспедицией Института археологии АН СССР
были проведены археологические
разведки затопленной части античного города
Фанагории (у станицы Сенной Темрюкс-
кого района), составлен план
подводной ее части с предполагаемыми
границами, обнаружены группы и гряды
камней, определена площадь затопленной
части городища, равная примерно 15 га.
В 1959 г. было принято решение о
проведении в Фанагории подводно-археологи-
ческих раскопок. Организация и
исполнение этих работ были связаны со
значительными трудностями, так как
подобного рода раскопки проводились в СССР
впервые.
На расстоянии 185 м от береговой
линии, на глубине 1,9 м от поверхности
моря, внутри каменной гряды был
заложен раскоп.
Для производства этих работ была
применена небольшая землесосная
самоходная станция, установленная на
якорях около раскопа. От землесосной
установки отходил в сторону берега
многометровый трубопровод, последнее
звено его трубы было укреплено над
мелкоячеистым грохотом, в котором
улавливались даже самые мелкие
находки. В процессе работ один аквалангист
направлял патрубок всасывающей трубы
на участок раскопа, а другой лопатой
вскапывал (рыхлил) на один шгык
(20 см) донные отложения и
культурные напластования. Поднятый лопатой
грунт попадал в патрубок, крупные
находки отбирались руками в лоток.
Чтобы при работе не всплывать,
аквалангисты надевали на ноги водолазные
башмаки со свинцовой подметкой.
Таким образом снимался один слой за
другим. Послойно составлялся план и
зарисовывались все обнаруженные
сооружения и предметы, а также проводилось их
подводное фотографирование
В дальнейшем для предохранения
стен раскопа от оползания была
установлена деревянная опалубка по периметру
раскопа, с двойными
стенами-карманами, в которые для создания
отрицательной плавучести был загружен бутовый
камень. По мере углубления раскопа
квадрат опалубки под действием
собственной тяжести опускался вниз. Так
был пройден культурный слой глубиной
1,3 м. Сделанный затем контрольный
зондаж показал, что ниже залегает
материковая порода.
В результате было выяснено, что
0,65 м составлял пласт перемытого
песка, в котором встречались
случайные находки от V в. до н. э. до
позднего средневековья. Ниже находился
развал мостовой И в. до н. э. Под ним шел
слой II в. до н. э., заключавший
фрагменты тонкостенной посуды, чернолако-
вых сосудов, остродонных амфор. Далее
следовал слой IV— III вв. до н. э.
Было также установлено, что
граница Фанагории IV - II вв. до н.э.
проходила в море на расстоянии не менее
чем 185 м от современного берега.
Археологические разведки,
проведенные в 1961 г. Институтом археологии на
Днепровско-Бугском лимане, ставили
своей целью составление плана
микрорельефа дна и поиска древних
сооружений у берегов античного города Ольвии
(у с. Парутино).
Работы были сопряжены с
многочисленными трудностями, одной из которых
являлось цветение воды в лимане,
начинающееся в середине лета и
продолжающееся до осени. В этот период времени
ветры, дующие с лимана, часто приносят
громадное количество мелких
водорослей, которые, заполняя береговые воды,
образуют сплошную зеленую
кашеобразную массу Видимость под водой в это
время близка нулю. Для преодоления
этого затруднения были использованы
полиэтиленовые мешки различных
размеров, наполненные чистой водой В
местах исследования мешки опускались на
изучаемый объект, который они как бы
обнимали и лишь благодаря этому уда-
валось увидеть мельчайшие подробности
объекта. Помехами в проводимой работе
являлись и многочисленные донные
ключи с холодной водой, а также острые,
как лезвия бритвы, створки раковин
морских желудей и мидий, которыми
обросли все твердые предметы.
Работы проводились в следующем
порядке: над нужным репером
устанавливался переносной деревянный створ,
другой створ устанавливался по буссоли,
на некотором расстоянии от него на
запад. Шлюпка с исследователями
становилась в створе двух вех на
определенное расстояние от берега, вымеренное с
помощью специальной мерной ленты.
Для надежной фиксации положения
лодки на поверхности воды с кормы и с носа
отдавалось по якорю. С помощью лога
определялась глубина, а затем
производился спуск исследователя.
Водолаз под водой работал на
натянутом сигнальном конце, который и
определял радиус его действий. При
прохождении первого полукруга с
радиусом, равным 5 м, водолаз всплывал по
сигналу, поданному со шлюпки, и конец
вытравливали еще на 5 м Так работа
продолжалась вплоть до детального
изучения района окружностью 50 м.
Осуществление подводных исследований
таким методом способствовало наиболее
тщательному и полному изучению дна
лимана.
При обнаружении находок или
изменения характера дна водолаз
устанавливал буек. Местоположение буйка
засекалось со шлюпки и наносилось
графически на планшет с помощью компаса
и визирной линейки, кроме того, его
местоположение измерялось с базовой
линии буссолью. Водолаз-археолог
метровой рейкой производил обмер
затопленных остатков и при помощи
подводного компаса фиксировал их по странам
света.
Археологами были обнаружены
скопления рваного мелкого, среднего и
крупного камня и многочисленные
обломки античной керамики. Напротив
раскопа нижнего города были выявлены два
скопления крупных каменных блоков с
гладкими сторонами, а против раскопа
нижнего "города Фармаковского"
исследовалось сплошное скопление крупных
каменных глыб в районе так называемой
"пристани", образующих большую
платформу, границы которой были
уточнены и нанесены на план.
От каждого репера строго на восток
с двух лодок через каждые 10 30 м
лотом были произведены замеры глубин
дна лимана. Оказалось, что на расстоянии
10 м от берега глубина не превышает 1м,
и только на расстоянии 150 — 300 м она
составляет 3 м. Таким образом,
проведенные подводные археологические
работы позволили составить точный план
микрорельефа дна Днепровско-Бугского
лимана у берегов Ольвии на площади
40 га и с меньшей точностью еще на
площади 20 га. Во время работ было
выяснено, что древняя береговая линия
Ольвии находится сейчас под водой на
расстоянии около 300 м на восток от
современного берега, а затопленная часть
города простирается не менее чем на
200 м. Следовательно территория
затопленной части Ольвии составляет
примерно 20 га.
В 1959 и 1960 гг. Институтом
археологии АН СССР были проведены две
экспедиции в Керченский пролив по
исследованию обнаруженного на дне
корабля. Со дна моря были подня1Ы
металлические ядра, звенья якорной цепи...
Обгорелые при пожаре доски и натеки
расплавленного свинца рассказали о
причине гибели корабля Находки, а также
конструктивные особенности корпуса
дали возможность предположить, что это
было военное судно, погибшее в конце
XVIII в., которое в результате военных
действий сгорело и затонуло в
Керченском проливе.
В 1964 и 1965 гг. Институтом
археологии АН СССР были организованы три
экспедиции на территорию строительства
Евпаторийского морского порта на озере
Донузлав, где, по сообщению
начальника Донузлавской экспедиции ИА АН
СССР О. Д. Дашевской, водолазами были
обнаружены античные амфоры.
В январе 1964 г. экспедиция
обследовала морское дно, выявила и нанесла на
план места скопления керамического
материала. Это позволило предположить,
что в данном районе произошло в
древности кораблекрушение.
Как узнать, на каких кораблях
плавали древние мореходы? Это частично
можно выяснить по изображениям
судов на античных вазах, рельефах, а
также изучая сообщения древних
авторов. Но всего этого недостаточно.
Поэтому находка корабля и его исследование
представляют большой интерес для
истории. Действительно, найденный корабль
явился бы комплексным
археологическим памятником. Мы узнали бы быт
моряков, конструкцию корабля, откуда он
плыл и что вез.
О лежащих на дне моря древних
кораблях кое-что известно. Обычно
палубные надстройки погибшего судна быстро
разрушаются. А над оставшейся частью
как своеобразный памятник
утонувшему судну возвышаются холмики
глиняной посуды. Поэтому опущенные на
дно пролива рыболовные сети иногда
приносят вместо рыбы глиняные
сосуды—амфоры. По их ч}юрме можно
определить, в какую эпоху существовал
корабль. Клейма на сосудах расскажут
о месте и времени их производства. А
изучая внутренние стенки амфор, можно
решить, что в них перевозилось - зерно,
масло, вино или другие товары.
Летом 1964 г. были продолжены
начатые работы с применением
геофизических методов поиска места
кораблекрушения.
В этом районе на песчаном дне моря с
помощью капроновых тросов было
размечено шесть квадратов 25x25 м, круг
и полукруг с радиусами 25 м.
Поверхность размеченных районов в целях
поиска и извлечения из песка твердых
предметов была исследована
аквалангистами с помощью металлических щупов
через каждые 10 см.
Поверхность дна также изучалась с
помощью специально сконструированного
зонда, нож которого по мере движения
углублялся в грунт, движение зонда
приостанавливалось при обнаружении
твердого предмета. В тех местах, где щуп
или зонд встречали препятствие, были
заложены четыре разведочных квадрата,
стены которых крепились металлической
или деревянной опалубкой.
В месте обнаружения остатков
кораблекрушения древнего судна на дне моря
был установлен углубленный в грунт
бетонный куб - репер, — к которому
подвязывался буй. Репер, возвышаясь
на 1 м над дном моря, являлся важным
ориентиром для исследователей в связи
с тем, что происходило постоянное
перемещение песчаных наносов на дне
моря, меняющих его картину.
Летом 1965 г. во время
дноуглубительных работ на этом участке
были осуществлены охранные подводно-
археологические исследования на
средства, отпущенные Черноморским
пароходством. Руководство Евпаторийского
морского порта, военно-морские и
военно-воздушные силы оказали нам
большую техническую помощь в проведении
подводных работ.
Исследования велись в открытом
море на расстоянии до 180 м от берега на
глубинах до 5 м, причем глубина на
раскопах достигала 9 м.
Для поиска корпуса судна было
заложено в местах скопления керамики
восемь буровых скважин ручного
бурения, которые прошли аквалангисты под
водой. Работы проводились легким зон-
дировочным буром. Глубина скважин
достигала 1,8 м. В одном случае в
скважине нашли амфору, но корпуса судна
обнаружено не было.
Было решено в оконтуренной
песчаной массе, насыщенной находками,
провести подводные раскопки с помощью
рефулерной баржи. В результате
проведенных работ был сделан в этом районе
раскоп глубиной до 5 м, из которого
было отсосано более 5 тыс. мЗ песка,
при этом были обнаружены находки,
содержащиеся в основном в песке на
глубине до 1 м.
Во время раскопок водолазы часто
поднимали отдельные куски песчаника,
внутри которых находились остатки
деревянных или металлических частей
судна. Интересно, что даже если эти куски
песчаника, покрывавшие
корабельные детали, и были когда-то сломаны,
то внутри их оставались оттиски этих
вещей.
При вскрытии одного из песчаников
внутри был обнаружен железный топор
корабельного плотника, верхний конец
острия которого был вбит в бревно.
Длина топора 19,5 см, длина деревянной
рукоятки 40 см. В том месте, где на
рукоять был насажен топор, сохранились
след зарубки и следы подтесов ее острым
орудием. Несмотря на то что топорище
пролежало на дне моря много веков,
оно выглядело как новое.
От полностью коррозированной
металлической части топора осталась лишь
каменная форма из песчаника;
гипсовый слепок, отлитый в ней, воспроизвел
его прежний вид.
Во время подводных работ было
поднято большое количество бронзовых
корабельных гвоздей длиной от 10,5 см
до 25,8 см. Концы стержней гвоздей
были изогнуты. Можно предположить, что
прямая часть гвоздя соответствовала
толщине деревянной части судна,
которая им удерживалась, и по нашим
измерениям составляла от 3,5 до 4,5 см.
Верхняя часть гвоздей имела форму
усеченного конуса, плотно
закрывающего проделанные в судовых досках
отверстия.
Во время подводных раскопок было
извлечено десять отдельных листов
свинцовой обшивки, все они были порваны
на части и смяты. Наибольший размер
развернутых свинцовых листов 60x50 см
при толщине 0,1 см. На листах имелись
отверстия от гвоздей обшивки,
сохранились отпечатки и остатки корабельных
гвоздей, смолы и дерева. Свинцовая
обшивка, вероятно, покрывала полностью
корпус судна внизу, начиная несколько
выше ватерлинии. Она способствовала
большей устойчивости судна,
предохраняла его металлические части от
коррозии, деревянные — от гниения и
древоточцев, а также от обрастания днища
ракушкой.
Из песка также были извлечены
отдельные плохо сохранившиеся
деревянные части судна, несколько обломков
досок бортовой обшивки и
дугообразных обломков шпангоута.
Со дна было поднято большое
количество крупных и мелких фрагментов
амфор, а также 20 целых гераклейских
амфор, на 13 из которых имелись
клейма. Первая группа амфор имела клейма
мастерской Евопида, вторая группа
имела клейма мастерской Хиона, третья
имела на поверхности горла рельефное
клеймо Мико.
Амфоры по обнаруженным на них
клеймам датируются концом IV - III вв.
до н. э. Удалось определить, что клейма
одних и тех же мастерских
оттиснуты одним и тем же штемпелем, а
следовательно, они принадлежали одной
партии товаров, которая составляла часть
корабельного груза.
Здесь же были найдены фрагменты
чернолаковых киликов (чаш) со
штампованным орнаментом и ножка
бронзового кубка, а также другие
предметы.
Все это принадлежало торговому
северопричерноморскому судну,
погибшему в конце IV - III вв. до н. э.
Погрузив на борт амфоры с вином на южном
берегу Черного моря в Гераклее Пон-
тийской, корабль взял курс к одному из
городов Северного Причерноморья, но
сильным штормом был прибит к
берегам у современного озера Донузлав.
Команда отдала якоря, один из которых
со свинцовым штоком и был найден
водолазами. Но якоря не смогли удержать
судно, его несло на рифы. Матросы
начали рубить мачту, но было слишком
поздно, корабль с ходу ударился
днищем о рифы, оставляя на них листы
свинцовой обшивки, волны смыли людей
с палубы. Корабль затонул с наружной
стороны рифа и в дальнейшем был
расчленен волнами и занесен песком.
Стремительно развивается в нашей
стране подводный спорт. Это, в
частности, связано с тем, что
многочисленную армию аквалангистов готовят
различные морские клубы. Было бы
весьма полезно, чтобы в этих клубах
наряду с водолазным делом
преподавались бы основы знаний по биологии
моря, подводной археологии и этическим
правилам поведения аквалангистов под
водой.
Ведь человек с подводными
легкими — аквалангом, переступив "черту"
морской поверхности, попадает в другой
мир со своими обычаями и законами,
и он должен идти туда не с подводным
ружьем, уничтожая все живое, а как
доброжелательный
наблюдатель-исследователь.
Подводный пловец с аквалангом
может стать незаменимым помощником
в подводно-археологических разведках.
Плавая в различных водоемах, он может
встретить и даже открыть памятники
археологии. Большой интерес в этом
плане представляет нахождение на дне
водоемов остатков средневековых и
античных судов. Возможно, в целях
поощрения этих
первооткрывателей-энтузиастов стоило бы открытые ими
древние корабли называть по их
фамилии — например, "корабль Маркова"
и т. д. Конечно, в том случае, если они
о находке своевременно сообщат в
Институт археологии Академии наук
СССР.
Как же должен вести себя
аквалангист, обнаруживший подводно-археоло-
гические памятники, чтобы это
открытие принесло науке пользу?
Археологические памятники,
обнаруженные на дне морей и других
водоемов, в большинстве случаев
представляют собой древние глиняные сосуды
или их обломки. В Черном море это
чаще всего амфоры — узкогорлые
двуручные сосуды с острым дном. Могут
встретиться также остатки стен, сложен-
*
ных из камня или кирпича, а также
отдельные каменные блоки со следами
обработки.
На месте погибшего в древности
корабля может возвышаться вытянутый
холм, часто покрытый водорослями,
моллюсками, или лежать правильные
ряды амфор корабельного груза.
В случае, если будут обнаружены
какие-либо археологические памятники,
важно правильно зафиксировать место
его находки. Над местом находки
необходимо поставить плавающий буй и
нанести на план береговую линию, сделав
с двух ориентиров на берегу засечку
с помощью компаса по буйку, и нанести
все это на план графически. На плане
должны быть четко обозначены и
описаны береговая линия, ориентиры и буй.
Затем необходимо по возможности точно
указать расстояние от береговой линии
до находки, указав азимут, глубину
расположения находки от поверхности
воды, высоту возвышения находки над
дном, характер дна, видимость,
направление течений, время, когда были
сделаны наблюдения.
В дальнейшем надо произвести
обмеры находки под водой и составить ее
план, подробно ее описать и зарисовать,
а если представляется возможность, то
произвести и подводное
фотографирование.
Если обнаружена группа более или
менее одинаковых предметов — глиняных
сосудов и их обломков, каменные ядра,
якоря и т. д., — то их нельзя ни в коем
случае поднимать, важно, чтобы они
остались на месте. Можно выбрать только
один предмет как образец, который
следует сдать в ближайший
краеведческий музей.
О всех находках археологических
памятников под водой необходимо
быстро и подробно сообщить в Институт
археологии Академии наук СССР по
адресу: 117036, Москва, ул. Дм.
Ульянова, 19.
*
Книга Г. Ланитцки открывает для
многих неведомый и новый мир:
города под водой, корабли, старинные вещи,
сокровища, овеянные легендами...
Но это же и мир нелегких и упорных
научных поисков и исследований, попыт-
*
ка найти ответы на загадки прошлого.
Это мир отважных и самоотверженных
людей, преодолевающих зачастую
немалые трудности, иногда рискующих
собственной жизнью ради благородной цели -
познания прошлого.
Б. Г. Петере
МЕТОДЫ И ТЕХНИКА
ПОДВОДНОЙ АРХЕОЛОГИИ
Археологи, как известно, сносят
холмы, вскрывают захоронения и огромные
гробницы, раскапывают древние дворцы
и засыпанные песками города,
проникают в пирамиды, расшифровывают
древние надписи, находят скрытые
сокровища, спускаются к затонувшим
кораблям - одним словом, они ведут
совершенно необычную жизнь. Если
понаблюдать за археологами во время
раскопок, то обычное представление о них как
об ученых "искателях приключений"
приобретает совершенно иное значение.
Технология каждый раз, как правило,
одна и та же: точно размеченные
прямоугольные квадраты по всей
раскапываемой площади; рядом с раскопом
устанавливаются рабочие столы; археологи
работают киркой и лопатой, сгребают
землю совками, ножами и кисточками,
устанавливают измерительные рейки или
протягивают шнур. Они работают с
гипсом и марлей. Берут пробы земли,
обращаются с черепками так же
осторожно, как хозяйка с сырыми яйцами,
возятся с невзрачными комками
ржавого металла, чертят, рисуют, снимают на
кинопленку, фотографируют и
записывают.
В последнее время на местах
археологических раскопок все чаще можно
увидеть современные приборы. Это
металлические детекторы, приборы для
измерения электрического сопротивления,
с помощью которых можно проследить
очертания каменных стен,
расположенных под землей, а также магнитометры,
которые сейчас используются также
подводными археологами для определения
местонахождения предметов, скрытых
под морским дном. Таким образом,
археологи уже давно научились работать
не только в земле или под землей, но
также и под водой...
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ И
ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
МЕСТА НАХОДКИ
Первой заповедью для археолога
является обмер места находки, так как
результаты такого обмера дают основу
для дальнейшей научной оценки.
Археологи, стремящиеся перенести свои^тради-
ционные методы работы также и под
воду, сталкиваются с трудностями,
которые в определенной степени объясняются
небольшим количеством времени,
которым они располагают для пребывания
под водой. Рабочие средства, обычные
для наземных раскопок, можно
перенести и под воду, а методы работы в
принципе также одинаковы. Однако
сама работа под водой, часто по
техническим и медицинским причинам,
ограниченна по времени. Если наземный
археолог на своей площадке может работать
целыми днями в течение, скажем,
полугода, то условия работы подводного
исследователя выглядят совершенно
иначе: штормовое море или плохая
видимость в воде - а это не так уж редко -
не раз срывали уже запланированное
погружение. Кроме того, подводный
археолог перед погружением должен точно
определить, какие функции будут
выполнять его помощники на морском дне,
ибо, учитывая тот небольшой отрезок
времени, которое отводится для работы
на глубине, нужно исключить любое
недоразумение, могущее возникнуть в
процессе работы. Известно, что время
пребывания на глубине 35 м составляет
всего лишь двадцать минут, и, чтобы не
подвергать опасности свое здоровье, на
такую глубину можно погружаться не
более двух раз в день. Подводная техника
в последние годы сделала заметные
успехи. Были сконструированы и пост-
роены инструменты и приборы, которые
значительно облегчают труд водолаза и
одновременно обеспечивают большую
точность и производительность его работ.
Правда, день, когда комфорт и
неограниченное время подводных работ
станут обычным явлением для археолога,
видимо, наступит нескоро.
Один из ранних методов
систематического картографирования места
подводной находки состоял в том, что на очень
небольшом расстоянии от дна
натягивалась сетка. Эта сетка состояла из
одинаковых квадратов размером не более двух
метров и для лучшей видимости
изготавливалась из желтых пластмассовых
полос. Иногда для изготовления такой
сетки использовались также стальные нити.
Но так как они причиняли повреждения
рукам и костюмам аквалангистов, то для
I
Сетка натягивается строго горизонтально над местом находки
изготовления сеток все больше стали
прибегать к использованию прочных лент
из искусственного материала.
Натягивать сетку над местом
находки следовало весьма точно, и этот
процесс отнимал довольно много времени
Вымеренная заранее по диагонали
квадрата медная проволока обеспечивала
получение квадратов правильной формы.
Кроме того, всю сетку нужно было
натягивать строго горизонтально, чтобы при
последующих замерах высоты все
значения были бы одинаковыми. Это так
называемое выравнивание сетки
довольно просто осуществлялось с помощью
описанного ниже измерительного метода
с использованием воздушного шланга.
Как только сетка оказывалась
натянутой по всем правилам, больше ничто не
мешало картографированию места
находки Аквалангисты, оснащенные
измерительной планкой, специальной доской
для записей, снабженной уменьшенным
в масштабе планшетом и жирным
грифелем, плавали над самой сеткой и
фиксировали положение каждой отдельной
находки в квадратах планшета
Аналогичным было и фотографирование места
находки подводный фотограф, находясь
на одинаковом расстоянии от сетки,
производил соответствующие снимки
каждого помеченного участка Как
только были изготовлены фотографии, из
отдельных снимков монтировали общую
картину места раскопок Это было
весьма сложным делом и для дальнейшей
оценки не представляло большой
ценности, так как доминировали
неточности Зарисовка или фотографирование
всех деталей происходит не только до
начала, но и через регулярные
промежутки времени также и во время
раскопок Разумеется, подобные методы
работы можно было использовать только
в случае небольших площадей находок
Группа археологов музея штата
Пенсильвания, работая с 1961 по 1964 г у
побережья Турции на глубине 30 - 45 м,
коренным образом улучшила известные
до того времени способы измерений
В первую очередь обычную сетку
заменили каркасом из пластмассовых и
металлических труб Преимущество этой
системы состояло в том, что она была
удобна в обращении, ее можно было
изменять и дополнять по принципу
школьного конструктора Например, при
неровном дне ее можно было делать
ступенчатой и для фотографирования
снабжать специальными вышками
Серьезным недостатком было то, что для
установки и нивелирования каркаса на
большой глубине нескольким аквалангистам
требовалось несколько недель
Затем находчивые подводные
фотографы стали использовать
стереофотографию на определенной высоте над
местом раскопок горизонтально
устанавливалась металлическая труба,
снабженная засечками, расположенными через
одинаковые промежутки На эту трубу
подвешивалась стереокамера Благодаря
карданной подвеске и свинцовому
балласту эта камера точно сохраняла
горизонтальное положение Аквалангист
мог без труда перемещать камеру по
трубе и делать снимки у любой засечки
Полученные таким образом снимки
отличались высокой точностью,
смонтированная общая фотография была также очень
точной, однако время, затраченное на ее
получение, оставалось все еще слишком
большим Наконец, была осуществлена
дерзкая мысль — впредь проводить сте-
реофотограмметрическое
картографирование крупных мест находок с помощью
подводного аппарата Первый такой аппа
рат — "Ашера", предназначенный для
использования подводными археологами,
был построен на верфи "Дженерал
дайнэмикс" в Гротоне Судно имело в
длину 4,80 м, весило 4,5 т, развивало
скорость 4 узла и погружалось на
глубину до 180 м, имея на борту одного
водителя и одного наблюдателя На
носу на расстоянии 1,80 м друг от
друга были смонтированы две специальные
камеры, обслуживаемые водителем с
помощью дистанционного управления
Первое использование "Ашера" при
раскопках превзошло все ожидания При
проходе над останками затонувшего
позднеримского судна, лежавшего на
глубине 42 — 45 м, в течение одного
часа была сфотографирована целиком
вся площадь находки. Правда, на
изготовление фотографий, включая
монтаж общего плана останков, было
затрачено еще 56 часов. Однако ~даже при
использовании самых современных
приборов для погружения и эффективных
методов картографирования для этой же
самой цели потребовалась бы работа
десятка аквалангистов в течение
нескольких недель.
Размер места находки, прозрачность и
глубина воды являются факторами,
диктующими использование той или иной
техники фиксирования находки. Так,
например, "Ашера" нельзя использовать
при проведении археологических работ в
мелких водах. А если площадь места
находки будет равна нескольким
сотням квадратных метров, то
использование метода с применением сетки
окажется трудоемким. Когда Эдвин
А. Линк около двадцати лет юму назад
начал обследовать погибший город Порт-
Ройал, он вначале с помощью эхолотных
измерений изготовил временную карту,
чтобы определить, в каком Mecie лучше
всею начать работы по извлечению
находок. Обнаруженные стены он отмечал
буями и наносил измеренные затем
более точно точки на старую городскую
карту. Когда Линк покидал место раско-
"Asherdh" — первый подводный аппарат для нужд подводной арчеоло! ии
пок, то у него имелась точная карта
Порт-Ройала. Его работа побудила
правительство Ямайки принять решение о
проведении долгосрочных раскопок города,
являвшегося некогда цитаделью пиратов.
Руководителем раскопок был назначен
известный морской археолог Роберт
Ф. Маркс. Прежде всего он
усовершенствовал карту Линка. Из-за плохой
видимости под водой и наличия илистых
наслоений на дне нельзя было и думать
об использовании метода измерения и
наблюдения, применявшегося при
раскопках останков кораблей в
Средиземном море. Подводникам прямо-таки
приходилось прорывать ил, обычно на
глубину от 3 до 5 м, чтобы извлечь находки
или провести измерительные работы.
Однако подавляющая часть измерений
проводилась сверху, т. е. с корабля.
Метод был предельно прост, однако не
исключал ошибок: горизонтальный
контроль осуществлялся путем маркировки
предусмотренной для раскопок
поверхности с помощью четырех буев: затем
день за днем отмечалось положение
концов труб системы землесоса.
Вертикальный контроль обеспечивался за счет
того, что отмечалась глубина воды и
всякий раз, как только на поверхность
извлекались предметы, определялось,
насколько глубоко проникала вглубь
труба землесоса.
При обследовании некоторых
античных портов были использованы
совершенно иные методы. Когда ученый
Пуадебар начал обследование порговых
сооружений Тира, то еще не были
известны положение, величина и
конструкция этого знаменитого финикийского
порта. Небольшая глубина позволила
произвести маркировку основных точек
с помощью буев. Затем эти точки были
измерены с суши. Аполлония была
исследована двадцать лет тому назад
экспедицией Кэмбриджского
университета под руководством Н. Флемминга. С
помощью обычной рулетки аквалангисты
проводили замеры и делали зарисовки
или записи на специальной
пластмассовой доске. Однако окончательная карта
была сделана на берегу на
измерительном столе с помощью
триангуляционного метода. Аквалангисты укрепили в
заранее определенных точках лежащих под
водой портовых сооружений
измерительные рейки. Рейки были установлены
таким образом, что их концы выступали
над поверхностью воды. Напарник на
берегу теперь мог со своего
измерительного стола точно сориентировать
измерительные планки и зафиксировать
вектор. Таким образом за одно погружение
было определено до 30
триангуляционных точек. С помощью проведенных под
водой детальных обмеров Флеммиигу
впервые удалось создать карту крупного
морского порта, скрытого под водой.
Однако следует сказать, чта
триангуляционный метод позволяет проводить
только горизонтальные измерения. Так
как приходится также проводить
измерения высоты, то для этого пользуются
другими методами. Например, для
определения относительных высот
пользуются измерительным методом с
применением воздушного шланга:4 легкий
металлический стержень длиной 2 м, с
нанесенными сантиметровыми делениями,
служит вехой, которую находящийся в
воде пловец удерживает за верхний
конец. Хорошим инструментом для
нивелирования является десятиметровый
прозрачный пластмассовый шланг
диаметром в один сантиметр. Один конец
шланга закрепляется на самой высокой
точке места находки, затем шланг
наполняется воздухом, другой конец
прикрепляется к измерительной рейке, которая
установлена на одном из предметов
находки. Пузырьки воздуха, появившиеся
на конце шланга, расположенном на
самой высокой точке, будут
свидетельствовать, что наступило выравнивание
уровней и что можно по делениям рейки
замерить относительную разницу высот.
Если же под водой хорошая
видимость, то измерительные столы можно
использовать как при триангуляции, так
и при измерениях высот. Два стола
устанавливаются на морском дне на
расстоянии видимости, причем каждый стол об-
служивается одним аквалангистом. На
горизонтально установленных крышках
столов подводники укрепляют матовую
пластмассовую пленку. На нее ставят
визир, состоящий из трубы,
проволочного перекрестия и прямоугольной
платы, линейный край которой проходит
точно под осью визира. Визир
устанавливается по контрольной точке, а вдоль
прямолинейного края на пленке
прочерчивается линия. Затем другой
аквалангист устанавливает измерительную рейку
на обнаруженный предмет поплавка. Два
водолаза, находящиеся у столов,
визируют измерительную рейку, проводят
линию вдоль прямоугольного края и
таким образом фиксируют положение
находки.
Чтобы определить разницу по
высоте, аквалангист, стоящий за
измерительным столом, подает команду своему
партнеру у измерительной рейки —
последнему нужно только поднимать или
опускать рейку, пока она не окажется
в перекрестии. По соответствующему
знаку ныряльщик находит на рейке
значение высоты и записывает его на
пластмассовую доску.
Другой метод измерения ввел
Мендель Петерсон из Смитсоновского
института. Он установил горизонтально на
штативе отградуированное колесо. С
помощью укрепленной на конце штатива
рулетки Петерсон мог измерить любое
расстояние до объекта находки и
прочитать на колесе угол направления.
Колесо большего размера, укрепленное
выше первого в вертикальном
положении и вращающееся в горизонтальной
плоскости, дало возможность
одновременно снять показания величины угла
высоты или глубины. Таким образом
он мог рассчитать величину любой
возвышенности. Петерсон применил еще
один метод измерения: чтобы вычислить
форму кривой деревянных шпангоутов
судна, он пропустил через горизонтально
установленный носитель большое
количество измерительных стержней, которые
на различных высотах соприкасались со
шпангоутами. Снять после этого
показания было нетрудно.
Все упомянутые картографические
или фотографические методы съемки
места находки, а также используемые
при этом приборы в дальнейшем
изменялись или усовершенствовались
археологами.
ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОИСКА, РАСКОПОК
И ИЗВЛЕЧЕНИЯ НАХОДОК НА
ПОВЕРХНОСТЬ
Во время многочисленных
археологических работ часто можно встретить
специальные аппараты — от буксируемой
подводной телевизионной камеры до
судна, предназначенного для
исследований или извлечения находок на
поверхность. Ученые быстро поняли
преимущества промышленного телевидения и
стали использовать это техническое
средство при проведении подводных
раскопок. Телевизионная система связи с
помощью кабеля используется следующим
образом: аквалангист передвигает под
водой загерметизированную
телевизионную камеру, а археологи, находящиеся
на борту базисного судна, наблюдают
на экране приемника за ходом раскопок.
А так как в этих случаях имеется
система связи между рабочей площадкой и
базисным судном, то работами на месте
можно управлять с палубы корабля.
Для поиска погибших кораблей также
используется телевизионная система. В
водонепроницаемом корпусе,
предназначенном для буксирования, жестко
закрепляется камера и с помощью
буксирного кабеля опускается в воду с
кормы корабля, пока на экране
приемника не покажется изображение морского
дна. Однако при буксировании
необходимо следить за тем, чтобы расстояние
от камеры до морского дна постоянно
было таким, чтобы дно четко
просматривалось на экране. Иногда в мутной воде
телевизионная система "видит" лучше и
дальше, чем человеческий глаз, так как
она является более чувствительной к
свету и, кроме того, можно регулировать
контрастность в приемнике. Но подвод-
ная телевизионная система имеет также и
недостатки. Так, например, невозможно
произвести замеры определенных
предметов на экране, так как в результате
качки судна, естественно, изменяется
расстояние между объектом и камерой,
а тем самым и соотношения величин
изображения. Кроме того, изображение
увиденных объектов довольно быстро
вновь исчезает, так как судно не может
быть мгновенно остановлено. И наконец,
область поиска ограниченна, так как
жестко закрепленная камера не
пригодна к панорамированию и поэтому
охватывает лишь определенный сектор
обзора.
Дальнейшим развитием этой системы
являются небольшие буксируемые
подводные аппараты. Они могут быть либо
открытыми — так называемые
аквапланы - или, подобно подводной лодке,
иметь закрытый корпус. Акваплан
является для аквалангиста довольно
простым вспомогательным средством.
Подводник лежит в торпедообразном
корпусе из металла или пластмассы, может
сам в определенном отношении
регулировать высоту и направление, а при
необходимости и обслуживать
буксируемую телевизионную камеру. Второй тип
буксируемых подводных аппаратов
может принимать на борт обычно не более
двух человек. Тут также существуют
различные типы аппаратов. В этом
отношении представляет интерес
американский аппарат "Таувейн",
использовавшийся в Средиземном море. Этот
подводный аппарат с прочным корпусом
внешне выглядит как капсулы первых
спутников. От космической капсулы его
отличает наличие специальных
плоскостей. "Таувейн" может взять на борт
лишь одного акванавта, который
одновременно является и наблюдателем.
Сидя в аппарате, он имеет полный обзор
через плексигласовый иллюминатор
высотой 10 см. С помощью расположенных
по бокам колес акванавт имеет
возможность устанавливать лопасти пропеллера
для движения в прямом или обратном
направлении. Давление воздуха внутри
"Таувейна" равно атмосферному. Воздух
с помощью компрессоров, работающих
от батарей, циркулирует через емкости,
содержащие поглотители (для удаления
выдыхаемой окиси углерода).
Расходуемый акванавтом кислород регулярно
пополняется за счет нового притока.
С помощью "Таувейна" было
обследовано морское дно на глубине 90 м.
Капсула буксировалась на нейлоновом
тросе длиной около 330 м. Параллельно
с тросом проходил телефонный кабель,
обеспечивавший связь между акванавтом
и судном-буксировщиком. Чтобы не
подвергать "Таувейн" опасности
столкновения с крупными подводными
препятствиями, морское дно с
буксировщика прощупывалось эхолотом.
Поскольку капсула находилась сзади
корабля и была удалена от него на
расстояние около 200 м, имелось достаточно
времени, чтобы обойти опасные
препятствия. Преимущество этой системы
по отношению к отдельно буксируемой
телекамере налицо: при том же
буксировании был обследован больший
участок и, кроме того, оператор,
находясь непосредственно на месте
обследования, не сталкивался ни с какими
трудностями в результате изменения
размеров изображения. Однако имелись
также и недостатки. Вес капсулы
составлял не менее 800 кг, ее обслуживание
было значительно дороже. Кроме того,
в мутной воде акванавт не мог видеть
так далеко, как телекамера. И в
конечном итоге исследователь в
значительной степени подвергался риску, ибо,
несмотря на эхолотное прощупывание,
возможность аварии принципиально не
исключалась. Позднее, с учетом опыта,
полученного при использовании
"Таувейна", та же группа археологов
использовала для телевизионной передачи
также и аппарат "Ашера".
Базисное судно — это не всегда
исследовательский корабль, оборудованный
по последнему слову техники. Тип
корабля зависит от характера раскопок,
расстояния от берега, продолжительности
экспедиции и от имеющихся финансовых
средств. При небольших раскопках,
которые почти всегда проводятся в
прибрежной зоне, лучше всего использовать
катер или рабочий плот, потому что,
как правило, большая часть
оборудования находится на береговом складе.
Для крупных же экспедиций требуется
корабль со специальным оборудованием.
Наряду с обычными помещениями для
жилья и отдыха такой корабль прежде
всего должен иметь помещение для
хранения аквалангов, стеллажи для
оборудования аквалангистов, помещение для
сушки костюмов, небольшую
лабораторию (которую также смогли бы
использовать и фотографы). Кроме того, на
таком судне должно быть помещение
для проведения чертежно-графических
работ, гидравлический кран
грузоподъемностью до трех тонн; кормовая часть
должна быть свободной от всякого рода
приборов, чтобы на ней можно было
сортировать предметы, извлеченные с
помощью системы грунтососа, а также
производить очистку наиболее крупных
находок и их предварительную
обработку перед консервацией; необходимо
также предусмотреть помещение для
хранения различного инвентаря,
необходимого для проведения раскопок:
подъемных баллонов, проволочных корзин
для поднятия находок, маркировочных
буев, измерительных приборов. И
наконец, место на палубе для установки
компрессора.
Исследовательских судов,
оснащенных абсолютно всем необходимым
оборудованием и предназначенных
исключительно для нужд подводной
археологии, не существует. Обычно
используются корабли, специально оснащенные для
выполнения археологических работ. Это
могут быть суда, например, для
исследования биологии моря. Единственным
кораблем, который служит только целям
подводной археологии, является
плавающий под трехцветным французским
флагом "Арченот". Сконструированный для
проведения прибрежных исследований,
этот корабль оснащен так, что может
самостоятельно оперировать на довольно
больших расстояниях и постоянно иметь
на борту 15 человек (команда,
археологи, аквалангисты). Из порта своей
приписки, Тулона, "Арченот" ежегодно
предпринимает плавания вдоль французского
побережья, которые продолжаются до
восьми месяцев. В течение этого времени
не только извлекаются с морского дна
отдельные находки, но также и ведутся
систематические раскопки уже
обнаруженных останков судов античного
периода, и, кроме того, ведется наблюдение за
выполнением концессии по спасению
останков старинных судов. В зимний
период корабль стоит в доке и
подготавливается к следующему плаванию.
Имеются также суда, которые
временно предоставляются в распоряжение
археологов для поднятия на поверхность
кораблей или частей корабельных
грузов. Это прежде всего плавучие краны,
подъемные понтоны или спасательные
суда. Тут нельзя не упомянуть о
специальном судне, принимавшем участие при
поднятии бременского судна. Это "Карл
Штраат" — специальный корабль,
предназначенный для опускания водолазного
колокола. Этот корабль, поступивший в
октябре 1963 г. на службу бременской
дирекции по использованию водных
ресурсов и судоходства, был
сконструирован таким образом, что с его кормы
можно было опускать на дно
водолазный колокол весом ПО т. Благодаря
постоянному избыточному давлению
воздуха в колоколе—на каждые 10м
глубины давление возрастало на 1
атмосферу и происходило вытеснение воды,
таким образом площадь, покрываемая
колоколом, размером 4x6 м оказалась
свободной от воды. В этом замкнутом
пространстве музейные работники, "не
замочив ног", могли проводить работы
по отысканию частей погибших кораблей,
производить измерения и обнаруживать
находки. Исследование останков
кораблей и поднятие на поверхность
предметов, обнаруженных под водой, по
"сухому" методу до сих пор
производились довольно редко. Известно, что
благодаря осушению озера Неми в Италии
"Archeonaute". Сверху вниз разрез в длину и проекции основной, нижней палубы и спардека.
1 - рулевая машина: 2 - помещение для хранения водолазного колокола; рабочее
помещение; 3 - машинное отделение; 4 — баллоны с воздухом; 5 — каюта для двух ученых; 6 —
склад; 7 - несгораемый шкаф; 8 - склад-холодильник; 9 - помещение для шести
водолазов; 10 - помещение для десяти членов команды, 4 каюты; 11 -тросовая лебедка; 12 -
помещение для переодевания водолазов; 13 - сушильное помещение; 14 — моечная машина;
15 - погрузочные механизмы; 16 - камбуз; 17 - кабина главного археолога; 18
-небольшая кают-компания; 19 - фотолаборатория; 20 - туалеты; 21 - ящик для тросов; 22 -
капитанская кабина; 23 - место штурмана
удалось извлечь из воды два
роскошных корабля императоров Тиберия и
Калигулы. В Нидерландах (озеро Зейдер-
Зе) и Дании (Роскильдефьорд) с
помощью шпунтовых стенок были
огорожены и осушены определенные участки.
Создание шпунтовой стенки является
простым, но дорогим делом. Для этого
необходимо точно знать характер и
водопроницаемость подпочвенных слоев.
Брусья должны быть забиты в морское
дно настолько глубоко, чтобы песок не
слишком быстро пропускал воду.
Помимо этого, разумеется, должно быть
задействовано значительное количество
насосов, которые работают не только
до момента осушения, но и во время
последующих работ по проведению
измерений и извлечению находок. Итак,
обычно раскопки погибших кораблей
осуществляются на глубине нескольких
метров на морском дне. Это дно вблизи
побережья состоит из мелкого или
крупного рыхлого песка, перемешанного с
илом, количество которого
увеличивается по мере удаления от берега. Довольно
часто ил мягок, однако в течение
столетий в некоторых местах он твердел,
пока в конечном итоге не достиг
консистенции глины.
Дно других морей — прежде всего
южных - покрыто зарослями посидо-
нии —растения, имеющего подземный
штамм с корневой системой и пучок
лентообразных листьев, длина которых
достигает 80 см. Они встречаются на
глубине до 40 м и, подобно огромным
грядкам, покрывают площадь в
несколько сот квадратных метров.
Следует добавить, что между илом и
водорослями — а в других водах и
кораллами — находятся большие каменные
глыбы, почти всегда покрытые острыми
ракушками или морскими желудями.
Поэтому раскопки затонувших судов —
всегда трудоемкий и длительный
процесс и требует применения иных
технических средств, чем обычные
наземные раскопки. "Лопатой" для
подводного археолога является землесос
системы пневмоэжектор. Устройство этого
прибора простое: шланг диаметром до 25
см, к нижнему концу которого на
расстоянии метра от всасывающего сопла
присоединяется однодюймовый
воздушный шланг. Подачу воздуха можно
регулировать. Компрессор подает во
всасывающий шланг воздух;
поднимающийся вверх воздух увлекает за собой
массу воды и ила. В верхней части
всасывающей трубы — на палубе базисного
корабля — находится проволочная корзина,
через которую промывается большая
часть песка или ила; крупные
предметы проволочная сетка задерживает.
Пневмоэжектор применяется также в
сочетании с дополнительной водяной струей.
Водяной шланг может быть снабжен
мундштуком, сконструированным таким
образом, чтобы он направлял водяную
струю вперед, создавая при этом эффект
размывки; одновременно из мундштука
такое же количество воды отходит
назад, в результате чего исключается
отдача.
Во время раскопок затонувших судов
аквалангисты заняты не только
фиксированием хода работ на пленку и
планшеты. В их задачу входит также
отыскание с помощью металлического
детектора (принцип миноискателя,
реагирующего на металл) и протонного
магнитометра предметов, погребенных под
слоем песка, или определение границ
места находки. Протонные
магнитометры реагируют на любое изменение
магнитного поля. Среди металлов такое
изменение вызывают только железо или
сталь. Деревянные части останков
старинных кораблей содержат
определенное количество субстанции
железа w- таким образом, с помощью
протонного магнитометра мы можем получить
информацию о размерах и положении
уже локализованных останков. Глина,
из которой были изготовлены
амфоры, также содержит значительную часть
окиси железа. При обжиге глины
частицы окиси железа ориентируются по
направлению магнитного поля земли и
застывают в таком положении. Таким
образом, амфора имеет свое собственное
магнитное поле. Это обстоятельство
позволяет обнаружить амфору на
расстоянии одного метра. Группу амфор можно
обнаружить с помощью миноискателя на
расстоянии нескольких метров. Поэтому
протонный магнитометр вот уже около
десяти лет стал одним из неотъемлемых
вспомогательных средств подводных
исследователей.
Для извлечения находок подводные
Пневмоэжектор, В конце всасывающего
отверстия подключена труба для подачи воздуха.
археологи наряду с пневмоэжектором,
краном, водолазным колоколом,
подъемным понтоном пользуются также и
простейшим средством — воздухом.
Амфоры, приподнятые с морского дна,
могут сами всплывать на поверхность,
если аквалангист будет направлять в них
отработанный воздух. Были также
разработаны подъемные зонты из
искусственной пленки, которые могут поднимать
на поверхность со дна моря до 500 кг
груза.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАХОДОК
Уже в первой фазе обследования
места находки ученый начинает
определять ее характер и возраст. Если
несколько десятилетий назад археологи
занимались главным образом
произведениями античного искусства1, то в
новейшее время больше внимания
уделяется изучению экономической жизни - в
особенности торговым и морским путям.
Так как по этому вопросу имеются лишь
неполные письменные материалы, то при
таких исследованиях значительную роль
играют находки, обнаруженные на
морском дне. Особенно большой вклад в
дело расширения наших представлений
об античном мореходстве и торговых
отношениях того времени вносят
амфоры2. При раскопках останков античных
кораблей и портовых сооружений, а
также при обследовании ушедших под воду
зданий аквалангисты постоянно
наталкиваются на амфоры. Эти амфоры могли
быть или грузом затонувшего корабля,
или являться частью снаряжения
античных судов, в которых хранился
корабельный провиант, а после
употребления амфоры выбрасывались за борт;
или на дне морском находили свое
пристанище свалки древних поселений,
позднее оказавшихся в морской пучине.
Большинство амфор, обнаруживаемых
сегодня в Черном3 и Средиземном
морях,-греческого, римского,
карфагенского или финикийского происхождения.
Амфоры предназначались только для
транспортировки товаров потребителю.
На месте назначения порожний сосуд
разбивали, а обломки выбрасывали4.
Таким образом, продолжительность
жизни амфор была чрезвычайно малой,
и лишь немногим из них, видимо,
удалось прожить десятилетие. У некоторых
амфор отбивали лишь горло, а сами
сосуды использовались как урны.
Такие простые захоронения можно
увидеть сегодня, например, на старинном
кладбище, принадлежащем римскому
порту Остия, наряду с великолепными
склепами состоятельных граждан.
Амфоры также использовали в качестве
дренажных труб (у них предварительно
отбивали острые концы дна и вставляли
один сосуд в другой). В Карфагене
тысячи амфор были наполнены песком и
из них сложена подпорная стена
крепости. Это лишь некоторые примеры
"дальнейшего использования" амфор.
Таким образом, амфоры представляли
собой сосуды, которые нельзя было
вновь использовать для отправки: из-за
большого веса их не имело смысла
возвращать как тару, а товара, которым
можно было бы их заполнить и
отправить назад, не находилось. Именно эта
короткая продолжительность жизни
амфор составляет их археологическую
ценность, так как они служат
исследователю в качестве определителя времени5.
При их помощи можно получить ответы
на три основных вопроса: когда они
находились в употреблении, какой цели
они служили и где они были
изготовлены? Около восьмидесяти лет назад
немецкий археолог Генрих Дрессель уже
занимался изучением надписей, которые
были собраны в Риме и окрестностях с
амфор, ламп, посуды и других бытовых
предметов. В изданном в 1899 г. XV томе
научного труда "Корпус инскриптионум
латинарум" Дрессель объединил
несколько тысяч надписей, а также к таблицам
добавил формы сосудов, на которых он
прочитал эти надписи. Одна из этих
таблиц посвящена амфорам. В ней
приведены 45 амфор, которые расположены
хронологически и в соответствии с
содержанием.
У сосудов, на которых были имена
консулов, Дрессель смог также
определить их возраст. Ведь с самого раннего
периода в Риме назначались два
правителя (консулы), которые на один год
облекались одинаковыми
полномочиями. Возник обычай обозначать
именами правящих консулов год их
правления. Хотя Дрессель не учел такие
важные группы, как греческие и греко-
римские амфоры, его труд в целом
может быть использован и сегодня, так
как он служит постоянной основой для
совершенствования обзорных амфорных
таблиц. Хотя мы и находим различные
неточности в работе Дресселя, мы не
должны забывать о том, что
результаты подводной археологии появились
лишь несколько десятилетий спустя и в
области изучения амфор подводная
археология находится по сравнению с
наземными раскопками в более выгодном
положении: ведь наземная археология
обнаруживает амфоры довольно редко6, во
время же погружений под воду
находятся не только целые куски, но, как
правило, постоянно обнаруживается большое
количество целых амфор.
Поэтому естественно, что различные
ученые все чаще описывают амфоры
и даже публикуют обзорные таблицы.
Правда, такие сообщения касаются
преимущественно находок, сделанных во
время совершенно конкретных
раскопок, проводимых с определенной целью.
Так сложилась своеобразная ситуация,
при которой мы хотя и имеем весьма
содержательные обзорные таблицы
(например, Бона, Лешке, Юнце, Мана,
Ламболья, Бенуа и Паскаля), но
подробного каталога, охватывающего все
найденные и научно оцененные амфоры,
однако, еще не существует7.
Классификация амфор при помощи
сравнительного метода является, таким образом,
весьма сложной, потому что для этого
необходимо привлечение большого
количества письменных источников.
Лучшее подразделение римских
амфор периода республики несомненно
принадлежит Ламболья. Он поделил, в
Клейма на амфорах дают сведения об
изготовителях и месте производства. 1 - Фасос;
2 - Синопа; 3 - Гера клея; 4 - Херсонес; 5а и
56 - Родос; 6 - Книд
частности, форму Дресселя 1 на формы
1А и1Б и охарактеризовал их
следующим образом:
Амфоры группы 1А имеют короткий
и косой край горла, цилиндрическую
шейку, легкие изогнутые ручки,
округленные края плеч, короткое тело,
срезанное основание. У амфор группы 1Б -
край горла выше и более или менее
вертикален, шейка воронкообразной
формы, подчеркнуто угловатые плечи, более
высокое и узкое тело, цилиндрическое
основание оканчивается небольшой
плоскостью для опоры. Наряду с этими
двумя формами существует еще одна форма
(1В). Амфоры этой формы-более
вытянуты и имеют форму веретена,
ручки искривлены и расположены более
или менее близко к основанию шейки.
В качестве примера для иллюстрации
формы 1А Ламболья приводит 246
амфор, составлявших груз корабля
Марка Сестия, затонувшего возле Гран
Конглуэ. Эти амфоры относятся ко
второму веку до н. э. Форма 1Б
подтверждается находкой судна у Альбенги. Такие
амфоры типичны для первого века до
н. э. Вспомогательная форма 1В была
определена в результате раскопок у
Вада-Сабатии, и ее следует отнести к
концу второго века до н. э.
Уже один этот пример показывает, что
изучение амфор, как и многого другого,
еще не закончено и что точная
классификация, как и датирование, остается
за специалистами.
Максимально точная классификация
возможна у клейменых амфор. Так,
например, находки амфор, относящихся
к эллинистическому периоду (IV - 1вв.
до н. э.), снабженных клеймами с
указанием центров их производства на
Черноморском побережье, не являются
редкостью. Румынский музеолог Канараки
только во время своих раскопок в
Истрии обнаружил 840 клейм на
фрагментах амфор. Эти клейма содержали
сведения об изготовителях амфор
или о месте их производства.
В подводной археологии значительное
место заняли клейменые амфоры, най-
денные в останках судна, обнаруженного
у Гран Конглуэ. В центре научного
интереса находились сосуды с буквами SES-
представляющими сокращение от Сес-
тий. С их помощью были установлены
подробности торговых связей
виноторговца и судовладельца Марка Сестия,
жившего на острове Делос. Примерный
возраст амфоры может быть
определен и с помощью радиокарбонового
метода, который будет описан ниже, а
также путем исследования структуры
обожженного материала, из которого она
была изготовлена. Однако точная
классификация возможна все же только в
результате сравнительных работ, и в
настоящее время это может быть
осуществлено лишь в ограниченном объеме. Ведь
для сравнения нужно прежде всего иметь
образец. Но как уже было сказано,
создать подробную определительную
таблицу чрезвычайно сложно. То
обстоятельство, что ученые в своих поисках
оторваны друг от друга, видимо,
является основной причиной того, что никто на
нашей планете, несмотря на обмен
информацией, не имеет полной картины по
всем найденным амфорам. Кроме того,
многие находки амфор вообще не
становятся известными археологам.
Еще более необозримым, чем у
амфор, является многообразие форм
тонкостенной античной керамики. Из
останков античных судов уже была
извлечена неглазурованная посуда,
глазурованная столовая посуда, а также
керамические сосуды, украшенные орнаментами
и даже целыми изображениями.
Подробное описание таких гончарных изделий
увело бы нас слишком далеко, однако
некоторые избранные формы следует
представить в определительной таблице,
так как подводные исследователи
неоднократно подсознательно причисляли
фрагменты керамических изделий к
амфорам, а позднее выяснилось, что эти
глиняные черепки когда-то были частью
другого сосуда.
Наряду с амфорами и керамической
посудой подводный археолог во время
своей работы на морском дне
наталкивается, разумеется, и на другие
интересные вещи: античные скульптуры,
монеты, якоря, пушечные ядра, пушки,
бутылки и т. п. Не все из этих находок,
как мы увидим, годятся для
сравнительного метода.
Извлеченные со дна моря
скульптуры хотя и расширили наши знания об
античном искусстве, однако одни такие
находки не могут быть привлечены для
датирования останков судов, так как
скульптуры, прежде чем попасть на
корабль, насчитывали уже десятки, если не
сотни лет. Такие грузы почти во всех
случаях являлись результатом
грабительских походов. Иначе дело обстоит с
саркофагами. Все имеющиеся до сих пор
находки преимущественно представляли
собой так называемые заготовки,
которые были получены в какой-нибудь
каменоломне, затем погружены на корабль,
а по прибытии на место назначения они
окончательно доделывались. Понятно,
что и такие находки плохо подходят для
классификации по времени, за
исключением тех случаев, когда по какому-либо
признаку можно определить школу
мастера.
Монеты, найденные среди останков
судна, относительно быстро дают ответ
на вопрос о времени кораблекрушения.
Год выпуска монеты, выбитый на ней,
логически указывает на то, что корабль
самое раннее затонул в том же году,
а как правило, чуть позже, так как
обычно монеты находились в обращении
лишь несколько лет. Найденные монеты
только в редких случаях приводили к
неправильным выводам — например,
когда они каким-то образом
оказывались на месте находки уже после
катастрофы. Кроме того, большое
количество монет дает сведения о товарных
отношениях или торговых путях. Если
монеты обнаруживаются в башмаке мачты^,
то они являются особенно интересными
для археолога. У корабелов северной
Европы был обычай класть в башмак
мачты одну или две монеты — они
должны были принести кораблю счастье.
Такая находка поможет нам определить
не только верфь, на которой было
построено судно, а тем самым и его тип, но и
даст конкретный ответ о времени его
постройки.
Якоря часто теряли. Еще и сегодня
имеются морские бухты, являвшиеся
некогда защищенными якорными
стоянками, на дне которых покоятся штоки
античных якорей, служивших много
столетий тому назад. Поэтому якоря также
только в редких случаях можно прямо
связывать с обнаруженными вблизи
корабельными останками.
Якорь претерпел тысячелетнее
техническое развитие9: самая старая форма
якоря - это привязанный камень,
который благодаря своему весу в состоянии
удерживать судно против ветра или
течения. Такие якоря используются еще и
сегодня в прибрежном рыболовстве.
Каменные якоря сменили плоские камни,
имевшие отверстия, в которые
вставлялись остро заточенные деревянные колья.
Камень ложился плоско на дно, колья
зарывались в грунт. Уже тысячелетия
тому назад в Средиземном море, а
позднее также и на побережье Северной
Европы был распространен якорь, по
форме и принципу действия
соответствующий сегодняшнему патентованному
якорю Нортхилла. Кривые деревянные
колья, заостренные на концах, образуют
рога, а камень служит штоком, лишь с
тем различием, что он расположен
непосредственно в пятке, а не во внешнем
конце веретена. Этот простой якорь
был уже довольно эффективен:
тормозил не только сам камень, а и
давление его заставляет один из рогов также
цепляться за грунт. Веретено,
обладающее достаточной длиной, служит в свою
очередь рычагом, чтобы вырвать из
грунта якорь при подъеме, когда
якорный канат вертикально натягивается
сверху. Финикийцы и греки (1200 до
1000 г. до н. э.) изменили якорь, сместив
шток с пятки на другой конец веретена.
Благодаря весу на верхнем конце
веретена можно было укоротить канат, так
как при этом уменьшается подъемное
тяговое усилие на длинный рычажный
рог веретена. Недостатком таких
якорей было то, что они труднее
вытаскивались из грунта, так как у них был
нагружен верхний конец веретена. Для
создания баланса необходимо было
удлинить само веретено. Этим объясняется
большая длина античных якорей,
обнаруженных в 1932 г. во время раскопок
в озере Неми. Находки якорей из Неми
дали нам первое точное представление
о существовавших в античное время
свинцовых якорях. В последние
десятилетия в большом количестве на
побережье Черного и Средиземного морей
подводными исследователями были
обнаружены свинцовые якорные штоки.
Тем не менее мы не можем еще с
уверенностью классифицировать их
хронологически или определить их происхождение.
За небольшими исключениями,
имеются два основных типа якорей со
свинцовым штоком:
1. Со съемным штоком, продеваемым
через веретено.
2. Со штоком с глазком (с
отверстием) в середине, через который
продевается веретено, выступая из него.
Последний тип встречается чаще всего.
Однако внутри его имеются варианты:
1. Глазок в центре гладкий.
2. Глазок в центре, имеющий
поперечную цапфу из свинца.
3. Якорный шток имеет деревянньш
сердечник.
Носят ли эти отклонения чисто
локальный характер, или же они различаются
хронологически - неизвестно. При
исследовании останков судов, датируемых
периодом со II в. до н. э. до II в. н. э.,
прежде всего были обнаружены
якорные штоки со свинцовыми поперечными
цапфами. Таким образом, можно,
видимо, сказать, что эта форма являлась
самым последним вариантом
деревянного якоря.
Со времен финикийцев и греков до
наших дней прошли тысячелетия, а
якорь, в основных своих чертах,
остался без изменений10.
Археологические исследования
останков кораблей в водях Северной Европы
Развитое формы якорей. 1-3 первые известные каменные якоря; 4 - каменный якорь со
штырями, с давних пор известен в восточной части Средиземного моря (предшественник
кошки) ; 5 — каменный якорь с большим количеством штырей (критский период); 6 - якорь
из дерева и камня, названный басками "арриаингура"; 7 - якорь одного из кораблей из
озера Неми; 8 - каменный якорный шток; 9 - свинцовый якорный шток со сквозными
отверстиями; 10 - якорный шток (свинец) с центральным окном; 11 -якорный шток с
центральной цапфой (свинец); 12 - свинцовый якорный шток с деревянной сердцевиной
(8 - 12 - распространенные типы античных якорей)
затрагивали, за малым исключением,
суда, затонувшие несколько столетий
назад. Аквалангисты обычно лишь
наталкиваются на шпангоуты и доски,
одиноко торчащие из грунта. При
последующих раскопках затем
обнаруживались предметы, полностью
сохранившиеся на протяжении веков. Эти предметы,
хотя и обладают небольшой ценностью,
имеют очень важное значение, так как
они также могут быть использованы
для датирования. Так, например,
стеклянные бутылки, как правило, имели
типичные формы, что являлось хорошей
отправной точкой для временной
классификации затонувшего судна.
При исследовании голландского
парусника "Стат Харлем", затонувшего в
1677 г. у побережья Норвегии,
археологи наряду с большим количеством
глиняных сосудов и тарелок, которые
использовались моряками в качестве
столовой и кухонной посуды, обнаружили
так называемые "амфоры Севера" —
очень красивые кувшины с
изображением мужского лица с бородой. Такие
же кувшины были обнаружены в 1971 г.
на корабле "Кеннем-Ерланд",
затонувшем в 1664 г. возле Шетландских
островов. Шведские подводники в 1963 г.
также подняли на поверхность такой
же сосуд, обнаруженный среди
останков судна, затонувшего у побережья
Швеции.
О "бородатых" кувшинах мы знаем,
что в зависимости от формы их
изготавливали в трех мастерских города
Кёльна: на улицах Максиминенштрассе, Ай-
гельштайн и Комедиенштрассе. До нас
дошло лишь имя мастера, работавшего
в мастерской на Комедиенштрассе, - это
Герман Вольтере Однако его мастерская
(1550-1570 гг.) не оказала никакого
влияния на гончарное производство
Кёльна. Неповторимые, редко
встречающиеся кувшины, шарообразное
туловище которых густо украшено розетками
и мушками, а узкое горло —
бородатыми масками, очевидно, были
изготовлены только им. Длиннобородые маски
и дали название кувшинам. Скоро
"бородатые кувшины" стали пользоваться
большой популярностью. Поэтому их
стали копировать мастерские в Ререне,
Зигбурге, Вестервальде и Фрехене
(около 1570 г. кёльнские гончары
переселились в близлежащий Фрехен). Во
Фрехене, где типы выпускаемых
изделий лишь незначительно отличались от
изделий кельнских мастерских,
изготавливались те же самые формы почти до
XVII столетия. В отличие от кёльнских
изображений (в Кёльне всегда
стремились изображать красивую мужскую
голову) на фрехенских кувшинах около
1600 г. господствовало лишь
стилизованное изображение лица. Из приведенных
здесь различий становится ясным, что
при обнаружении таких находок
археологам будет нетрудно установить
время. Так же несложно определяется
время с помощью еще "менее ценных"
предметов: почти при каждом
исследовании останков затонувших кораблей
извлекались курительные трубки из
обожженной глины, имевшие различную
форму.
Если на месте находки обнаружены
пушки, то историк сможет дать
довольно однозначный ответ о размерах
корабля и времени его гибели. Первое
огнестрельное оружие, которое называли
"громовыми ружьями", применили на
своих кораблях арагонцы примерно в
1200 г. против флота Анью. Несколько
лет спустя, в 1281 г., в хрониках уже
говорится о бомбарде, а Марин Санудо
в 1304 г. упоминает об однофунтовой
пушке, так называемой шпербере,
применявшейся на кораблях генуэзского
адмирала Раньеро Гримальди.
В XV столетии пушкам давали
различные названия, прежде всего это были
названия животных, как, например,
змея, сокол и т. д. Эти названия
указывали на опустошающее действие оружия.
Приблизительно в это время
появляется также малая пушка, названная
"Средней", которая часто встречалась на
кораблях. Кроме этого, использовались
пушки: картауна, кальверина, фальконе,
фальконет, мушкет и корабельная бом-
барда. Лишь в XVII в., чтобы навести
некоторый порядок во многообразии
видов пушек, их начали
классифицировать по весу ядер. Так, например, полу-
картауна превратилась в 24-фунтовое
орудие, кальверина — в 18-фунтовое, а
полукальверина стала 9-фунтовой.
Предлагаемая таблица наиболее
распространенных типов орудий XVII в. и
их зарядов свидетельствует о том, что
между калибрами существуют
значительные различия:
Вес заряда Диаметр Длина ство- Масса
в фунтах в см ла в см в кг
1 4,8 142 300
2 6,1 153 350
4 7,6 168 600
6 8,9 183 860
8 10,2 198 1220
12 11,2 214 1650
18 12,7 229 2000
24 14,0 244 2700
:2 15,5 275 3450
36 16,0 290 3700
Почти на всех пушках имеются
изображения гербов, годов изготовления,
различных надписей и других
украшений. Наличие герба указывает
заказчика, для которого была отлита пушка.
Изображение года, как правило,
указывает на то, в каком году она была
отлита. Надписи обычно относятся к
соответствующему владельцу и сообщают
сведения о мастере. Кроме того, имеются
еще общие сведения, характеризующие
данный период. Для классификации
важное значение имеют лишь гербы, даты,
а также имена владельцев и мастеров.
Существуют различные таблицы
пушечных украшений, которые позволяют
довольно правильно классифицировать
найденные пушки.
Таким образом, сравнение находок
позволяет сделать заключение о
времени, изготовителе и месте изготовления,
а также определить характер груза,
Старинные корабельные пушки 1 - 3 ок
1500 г., 4 - ок. 1700 г., 5 - ок. 1800 г., 6 -
ок. 1830 г.
вооружение и маршрут судна. Для
временной классификации останков
старинного корабля в качестве методов
датирования могут быть использованы
дополнительно дендрохронологический и
радиокарбоновый методы.
Основная идея дендрохронологии
проста и давно известна. Если спилить
дерево, то на спиленной его части будут
видны кольца, количество которых
соответствует годам роста дерева. Чтобы
определить возраст дерева, необходимо
сосчитать эти кольца. Как они
возникают? Рост древесины начинается весной:
возникают большие светлые клетки с
тонкими стенками, которые
представляют собой камбий. Чем дальше по
времени, тем меньше становятся
образующие клетки, тем прочнее становятся
их стенки и тем темнее их цвет. Рост
прекращается до следующей весны, и
лишь только тогда начинают возникать
новые клетки. Между древесиной
первого года и древесиной следующей весны
существует четко видимая граница.
Если измерить толщину следующих
друг за другом колец по маркировочным
линиям, образованным таким образом,
то мы увидим, что эта толщина будет
уменьшаться от центра ствола к краю.
Но в соответствии с простым
математическим законом подсчитывается только
средняя толщина годового слоя по
отношению к расстоянию. Однако
между действительной шириной колец и
теоретически рассчитанной величиной
существует довольно значительная
разница. Причину этого следует искать в
климате. В очень теплый и дождливый год
дерево будет расти значительно больше,
чем в холодный и сухой год.
Принцип дендрохронологии
заключается, таким образом, не только в
простом подсчете годовых колец, айв
исследовании их соответствующих свойств.
Различные исследователи составили
кривые годовых колец для разных
местностей. Иногда с помощью этих кривых
можно точно установить возраст
порядка более тысячи лет. Когда после
поднятия в 1962 г. в бременском порту
ганзейской когги дендрохронологичес-
ким путем было исследовано дерево,
из которого был построен корабль,
ученые пришли к удивительному
заключению, что кривая годовых колец
оказалась полностью идентичной со
стандартной кривой района Гессена. Так
как по Везеру интенсивно сплавляли лес
уже во времена Ганзы, а в Бремене
находились лесоперевалочные пункты, то
не удивительно, что для постройки
когги, в частности, использовался также
лес и из южных областей.
С помощью дендрохронологии ученым
удалось показать, что некоторые деревья,
использованные для строительства когги,
были срублены в 1378 г. Если к этому
прибавить время транспортировки в
Бремен, а также короткий период
хранения (в дереве не обнаружено следов
порчи микроорганизмами), то можно
сделать вывод, что постройка бремен-
ской когги, очевидно, относится к 1380 г.
Таким образом, определение возраста
затонувшего судна по этому методу
может быть успешным лишь в том
случае, когда известно место, где был
срублен лес, использовавшийся для
строительства корабля, и кроме того, когда
налицо кривая годовых колец для этого
района.
Метод датировки, примененный в
Бремене, до сегодняшнего дня не нашел
параллели в подводной археологии, так
как обычно при обнаружении останков
судна нам либо совершенно ничего не
известно о затонувшем корабле, либо
эти сведения слишком скудные. Если
груз или части оснащения или
принадлежностей корабля не могут стать
отправной точкой для приблизительного
определения возраста судна, то этот
возраст определяется в лаборатории,
где деревянные части исследуются по
радиокарбонов ому методу.
Этот метод датирования
основывается на применении элемента, известного
под названием "углерод 14" (С 14).
Как известно, в древесине деревьев
наряду с другими элементами
содержится также определенное количество
При определении возраста бременской когги было проведено дендрохронологическое исследование.
На рисунке показано датирование дерева с помощью сравнительного метода
углерода. Однако этот углерод не
идентичен с углеродом, который мы
встречаем в угле или карбонате
известковых пород. Разница между обоими
углеродами заключается не в их
химической природе, а в различной
морфологии их атомов: газообразный углерод,
образующийся в результате сгорания
каменного или бурого угля, в
противоположность углероду, полученному
при сгорании дерева или других
предметов растительного происхождения, не
может быть зафиксирован счетчиком
Гейгера.
Углерод, содержащийся в различных
растительных тканях, частично
радиоактивен, так как наряду с обычным
углеродом в этих тканях содержится
также небольшая доля углеродного
изотопа С 14, который является
радиоактивным элементом.
Итак, любое радиоактивное тело
обладает свойством медленного
саморазрушения, в результате которого
возникают обычные твердые тела.
Такое разрушение называется
распадом.
В качестве меры скорости этого
процесса физики ввели понятие "период
полураспада". "Период полураспада" —
это такой период времени, в конце
которого половина радиоактивного тела
уже распалась, и тем самым это такой
период, в конце которого
радиоактивность тела уменьшилась на половину.
Период полураспада образует основу
датирующей шкалы. У С 14 этот период
соответствует 5568 годам. Таким
образом, понятно, что ученые сегодня с
помощью измерения радиоактивности
в состоянии определить возраст
деревянной находки. Но так как
невозможно точно знать количество
радиоактивного углерода, содержавшегося в
дереве первоначально, то при всех
измерениях берется определенный допуск
точности, который, например, у
находок, возраст которых равен 3000 лет,
составляет приблизительно от 100 до
200 лет.
ПРАКТИКА
РАБОТ В КОНСЕРВАЦИОННЫХ
МАСТЕРСКИХ
Классификация или датирование
археологических находок дело важное,
но еще более важным является
обеспечение сохранности этих находок.
Музейные экспонаты в отличие от
предметов, изготовленных промышленным
путем, невосполнимы, и поэтому
необходимо делать все возможное, чтобы
сохранить их при нормальном уходе.
А в случае морских находок это
особенно сложно.
Кроме действия волн и морской
фауны, которые сравнительно
быстро могут разрушить затонувшее
судно и его груз, имеются еще и другие
силы, помогающие этому
разрушению. Так, соленая морская вода
оказывает сильно корродирующее
действие на большинство металлов.
Поэтому можно сказать, что затонувшее
судно, имеющее предметы из различных
металлов, представляет собой
гигантскую батарею. Морская вода служит
электролитом, а металлы образуют
аноды и катоды. Между различными
металлами создается электрическое
напряжение, и разрушение металлов,
выступающих в роли катодов, непрерывно
прогрессирует.
Как же ведут себя различные
материалы в море? Чугун превращается в
окись железа, кованое железо
длительное время реагирует подобно чугуну,
медь и медные сплавы сильно
корродируют, латунь реагирует по-разному (чем
массивнее материал, тем лучше он со-
Любая находка, независимо от размеров, перед консервацией должна быть тщательно очищена
противляется), серебро легко
превращается в сульфиды и хлориды серебра,
в результате чего образуется
характерная черная масса; чистое золото не
подвергается электрохимическому
воздействию; твердый цинк, используемый для
изготовления бытовых предметов
(цинковые сплавы с различными составами),
ведет себя неодинаково; наконец, свинец
в твердом виде окисляется лишь
поверхностно. Наряду с фактором морской
воды у подводного археолога имеется
еще целый ряд других проблем: большое
количество находок, которые
относительно быстро извлекаются, а также
размеры некоторых из них. Рассмотрим
в качестве примера консервацию
шведского военного корабля "Ваза",
поднятого на поверхность в 1961 г.
Первоначальная задача состояла в том,
чтобы провести исследование дерева и
определить лучший метод его
обработки. Деревянные части корабля
подверглись различным воздействиям в
зависимости от их положения в иле и от породы
дерева. Поверхности, которые не были
покрыты глиной, как, например,
палубные надстройки, были затронуты
процессом гниения на глубину до одного
сантиметра. В то же время нижние части
корпуса оказались весьма твердыми,
не сгнившими. По мнению некоторых
ученых, состояние дерева зависело от
наличия в нем особого грибка -
возбудителя так называемого "мягкого тления".
Этот грибок может существовать под
водой и является основной причиной
того, что поверхность дерева оказалась
разрушенной. Правда, в тех местах,
где когда-то находились соединительные
металлические штыри, проеденные
ржавчиной, дерево оказалось разрушенным
меньше.
Цвет частей судна из дуба был
неодинаков. Подавляющая часть его была
очень темного цвета, однако некоторые
куски были светлыми. При анализе
дерева оказалось, что содержание
железа в так называемом "черном дубе"
составляет 0,2% веса, а в более светлых
частях - 0,01% по отношению к весу
сухого дерева.
Разные породы дерева обладают
различной способностью к сопротивлению.
Так, внутренние части предметов,
изготовленные из дуба, сохранились очень
хорошо, а предметы из березы оказались
сильно разрушенными. Б сооизетствии с
интенсивностью воздействия грибка
процентное содержание влаги меняется по
отношению к весу сухого дерева.
Например, были установлены колебания от 150
до 800% содержания влаги в одном и том
же куске дуба. У березы это
соотношение часто превышает 1000%.
Самой большой задачей, которую
нужно было решать, была проблема усушки
дерева. Защита его от гниения
оставалась проблемой лишь до тех пор, пока
дерево содержало такое количество
влаги, которое создавало оптимальную
среду для жизни грибка. Опасность
воздействия насекомыми-древовредителями
также невелика и может быть легко
устранена.
У пробных кусков корпуса корабля,
которые были высушены при
комнатной температуре без воздействия
солнечных лучей или источников тепла,
усушка составила 15%. Результат этого
опыта доказал, что сохранить корпус
без консервации невозможно.
Первая задача группы консервации
корабля состояла в том, чтобы сохранить
отдельные находки, полученные
археологами. Так как специальное помещение
еще не было готово, корпус корабля
несколько месяцев находился на
открытом воздухе. Всего несколько часов
нахождения на солнце могли быть
достаточными для того, чтобы подвергнуть
большой опасности состояние уже
попорченного поверхностного слоя.
Поэтому все отдельные находки содержались
в специальных резервуарах под водой.
Для защиты от гниения в воду
добавляли фунгицид. Корпус корабля постоянно
обливался водой — на это уходило около
20 000 л в минуту.
Еще до наступления холодов было
готово необходимое помещение.
Специальная климатическая установка защи-
щала судно от воздействия мороза.
Необходимо было предохранить корпус
от напряжений на разрыв и сжатие,
которые могли возникнуть под действием
расширения воды, замерзшей в дереве
и в местах соединений.
Между тем лихорадочно работали
лаборанты. До сих пор практика не знала
случаев консервации археологических
находок таких огромных размеров,
состоящих из органических субстанций.
Площадь одной только внешней
поверхности корпуса составляла более 15 000
кв. м, а объем равнялся 900 куб. м — это
был действительно самый крупный в
мире объект, который предстояло
законсервировать.
Вскоре стало ясно, что при помощи
ни одного из существующих
консервирующих средств нельзя было решить
две большие и важные проблемы:
предотвращения гниения древесины и
стабилизацию ее состояния. Для этого объекта
необходимо было разработать
специальный метод пропитки. Самым верным
путем оказался диффузионный метод.
Для этого используются растворимые в
воде субстанции или такие, которые
смешиваются с водой и могут проникать
как в мягкое, так и в твердое дерево.
Возможность использовать различные
пропиточные средства в значительной
степени зависит от породы дерева и от
степени гниения.
Была сделана попытка использовать
метилделлюлозу. Однако вследствие
плохой абсорбции она не давала достаточной
защиты от повсеместно начинавшейся
усушки и не сдерживала в достаточной
степени наступления хрупкости
поверхности дерева. Зато хороший результат
обещала дать консервация с помощью
полиэтиленгликола (ПЭГ).
Многие факторы влияют на абсорбцию
и стабилизацию. Степень полимеризации
ПЭГ может меняться в зависимости от
молекулярного веса: от 400 (жидкое
состояние при комнатной температуре)
до 10 000 (очень твердое состояние).
Другими важными факторами являются
концентрация ПЭГ, выбор средства от
грибка-паразита, температура, метод
использования и растворитель.
Вначале была проведена пропитка
дерева при концентрации ПЭГ 4000 (30%),
при температуре ванны 25°.
Температура постепенно повышалась, пока не
достигла 90°, а концентрация не
увеличилась до 100%. Но тут выяснилось, что
при такой начальной концентрации
консервирующего средства клеточная ткань
дерева оказалась заблокированной для
дальнейшего пропитывания. Таким обра
зом, консервирующее средство не могло
больше проникать в дерево. Особенно
это имело место при обработке
дубового дерева. Поэтому при дальнейших
работах была выбрана начальная
концентрация ПЭГ 5% при постоянной
температуре 60°. Такой выбор оказался
удачным. Опыты показали, что ПЭГ
1500 больше пригоден для
консервации, чем ПЭГ 4000. Повышение
концентрации ПЭГ до 100% привело к
слишком быстрому высыханию дерева и
снизило содержание влажности до
нежелательной степени. Оказалось полезным
снижать содержание влаги в дереве до
тех пор, пока не будет достигнуто
равновесие с влажностью, ожидаемой в музее,
так как при более низкой степени
влажности дерево вновь начнет увеличивать
содержание влаги, что затем приведет
к созданию напряжений в его теле.
Чтобы воспрепятствовать гниению, был
испробован весьма эффективный пента-
хлорпеналат натрия (С6С5О).
Недостаток состоял в том, что эта соль оседает
не только в воде, но и в водных
растворах ПЭГ; при этом образуется
нерастворимый пентахлорпенол, который не
обладает проникающими свойствами.
Поэтому группа
специалистов-консерваторов верфи "Ваза" разработала новый
состав: фунгицида с ПЭГ. В качестве
добавок используются боракс и борная
кислота. Это консервирующее средство
обладает хорошей проникающей
способностью и великолепно защищает дерево
от грибка и насекомых. Одновременно
это средство предохраняет от ржавения,
является огнестойким и безвредным для
Находка с "Вазы" под № 745: уже законсервированная скульптура кормовой кастели
человеческого организма.
Так как после поднятия корабля
аквалангисты еще несколько лет
занимались обследованием места гибели
судна в Стокгольмской бухте, то
количество объектов, подлежащих консервации,
скоро достигло 25 000.
Для консервации большинства
находок в первое время применяли два
метода работы: при прерывистом методе
объекты погружаются в ванну с
определенной начальной температурой и
начальной концентрацией консервирующего
средства; затем они попадают во
вторую ванну с консервирующими
средствами более высокой температуры и
концентрации. Так консервация
осуществляется шаг за шагом, пока не будет
достигнута предписанная конечная температура
и окончательная концентрация.
Недостатки этого метода заключаются в
длительном времени, постоянном изменении
положения объектов, а также в том, что
при смене ванн объекты
соприкасаются с воздухом. К этому следует добавить,
что в результате частого перемещения
объектов они могут оказаться
поврежденными. Для крупных находок
(например, потолочные балки длиной
11,7 м) описанный метод работы
неприемлем. Ведь в этом случае понадобилось
бы большое количество крупных
резервуаров с соответствующими растворами,
а это весьма сложно как в
экономическом, так и в пространственном
отношении.
Позднее стали главным образом
работать по второму, непрерывному методу.
Объекты помещались в пустой
резервуар, который затем заполнялся
консервирующей жидкостью. В ходе
консервации - этот период колебался от 10
до 18 месяцев — повышалась
концентрация и температура ПЭГ — в зависимости
от состояния объекта. При высокой
начальной температуре добавка боракса и
борной кислоты не нужна, так как этот
процесс сам по себе достаточно
эффективен и исключает гниение. Однако во
время последующего периода сушки
деревянные предметы подвергались
опасности воздействия грибка.
Значительная часть работы по
консервации состояла в том, чтобы
освободить корпус "Вазы" от глины,
ржавчины, сульфида железа и других
загрязнений. После того как все отдельные
предметы на борту были учтены археологами,
было осуществлено грубое мытье палуб,
деревянного настила и других частей.
Очень трудно было мыть в промежутке
между настилом и внутренней
переборкой, так как это пространство
составляло всего несколько сантиметров. Для
того чтобы обеспечить безукоризненную
очистку, были удалены несколько
потолочных балок, трюмных балок и брус,
проходящий между нижними
накладными дверями.
Чтобы решить проблему консервации
корпуса, которая до сих пор считалась
неразрешимой как в техническом, так и
в финансовом отношениях, вначале были
приняты временные меры. На берегу
установили старый бак емкостью 3000 л.
Его можно было легко наполнять
консервирующей жидкостью, смешивать эту
жидкость и регистрировать расходуемое
количество. Из этого бака
консервирующее средство под давлением
подавалось в трубопровод, проходивший с
внешней и внутренней стороны
корпуса судна. Через равные промежутки
были установлены соединения с
защелками, к которым присоединялись
шланги и форсунки. Такая система позволяла
пятерым специалистам за пять часов
провести полную обработку корпуса
корабля.
До февраля 1965 г. такая обработка
проводилась один раз в день, а в
помещении поддерживалась относительная
влажность (95%).
С помощью этих мер предполагалось
воспрепятствовать высыханию дерева и
добиться максимальной абсорбции
консервирующего средства. В период с
апреля 1962 г. по февраль 1965 г.
проводился замер степени и глубины
пропитки корпуса. В результате такой
обработки удалось достичь глубины
проникновения ПЭГ до 18 см (шпангоуты "Вазы"
имеют диаметр 45 см). Однако
количество ПЭГ, содержащееся в дереве, было
недостаточным. Поэтому в марте 1965 г.
была введена новая система
консервации. Это была установка с
программным управлением, имевшая замкнутую
систему. По бокам корпуса было
установлено 175 разбрызгивающих головок,
а внутри - 96 так называемых
колыбелек (принцип действия аналогичен
разбрызгивателям установки для поливки
газона), имевших в общей сложности
192 разбрызгивающие головки. Вся эта
система была укреплена таким образом,
что пропитке подвергалась каждая часть
"Вазы". Чтобы не мешать
реставрационным работам, в дневное время
опрыскивание проводилось только пять . раз,
а ночью установка работала чаще. За
сеанс на корабль расходовалось
соответственно 16 т ПЭГа, а всего за сутки
на пропитку корпуса уходило 350 т ПЭГа.
В комплект аппаратуры входило 600 м
трубопровода и 800 м шлангов.
Однако не только деревянные
предметы, но и текстиль, керамические и
стеклянные сосуды, изделия из сплавов
меди, свинца и цинка, железные
предметы и др. подвергались обработке в кон-
сервационных мастерских верфи Ваза.
Находки из железа автоматически
консервировались в печи Макса Сиверта
(полезная площадь 23x126 см, 23 квт,
максимальная температура 1200°С).
Здесь водород и окись углерода
использовались для восстановления железа из
окиси железа. Так, например, около 600
железных пушечных ядер, которые в
свое время весили каждое 12 кг, прошли
через эту печь. Сегодня вес этих ядер в
лучшем случае составляет 8 кг. Многие
больше не имеют железного сердечника,
они легки, как теннисный мяч.
Консервация таких ядер оказалась особо
сложным делом, так как ядра во время
обработки иногда распадались. Крупные
предметы из железа консервировались
с использованием бромистого лития по
методу инженера Оке Бресслее.
В корпусе корабля было обнаружено
шесть из десяти парусов "Вазы" -
площадь парусов составляла около 600 кв. м.
Но они были настолько ветхими, что
при неосторожном прикосновении
мгновенно разрушались. После тщательной
очистки паруса были обработаны
спиртом и ксилолом, так как иначе при
естественном высыхании они бы
продолжали распадаться. Так как парусина
стала ветхой, то ее нанесли на опорную
ткань из стекловолокна; нанесение было
произведено при использовании двуэтил-
гексилакрилата; изобутилакрилата и
искусственного материала из стирола,
который был изготовлен группой
специалистов-консерваторов. Этот
искусственный материал защищает парусину от
воздействия воздуха и
ультрафиолетовых лучей, а так как он и стекловолокно
имеют одинаковый коэффициэнт
преломления, то опорная ткань оказывается
невидимой.
"Ваза" является одним из старых
судов, которое было поднято на
поверхность вместе со всем снаряжением,
оно, несомненно, представляет собой
крупную археологическую находку.
Сейчас консервация корабля закончена.
В последующие годы шведский
адмиральский корабль будет вновь
воссоздан в том виде, в котором он 10 августа
1628 г. отправился в свое первое
плавание. И тогда посетители музея смогут
подняться на его борт.
РАССКАЗЫВАЮТ АНТИЧНЫЕ КОРАБЛИ
Обнаруженная весной 1952 г. у
подножия пирамиды Хеопса в
герметической гробнице барка фараона Хеопса
является самым древним в мире почти
полностью сохранившимся кораблем. В
декабре 1955 г. под руководством
Ахмада Юссефа Мустафы, главного
консерватора Египта, началось извлечение
корабля. Судно лежало в могиле,
разобранное на 407 частей, сложенных в 11
слоев. В целом барка длиной 43,4 ми
шириной 5,9 м состоит из 1224
деревянных частей. Длина самых крупных
частей составляет 22,75 м, самых
малых - 10 см. Дерево, в общем,
прекрасно сохранилось. Части корабля были
сразу же подвергнуты консервационной
обработке с помощью поливинил ацетата и
снова собраны воедино. Сегодня корабль,
построенный приблизительно в 2530 г.
до н. э., помещен в музее,
расположенном возле пирамиды.
Судостроительная техника древних
египтян, финикийцев, греков и римлян
еще и сегодня нам неизвестна во всех
деталях, так как еще несколько
десятилетий назад мы не располагали частями
погибших судов для типологического
исследования. Лишь начиная с пятидесятых
годов в ходе археологических
исследований, проведенных вблизи опасных
мысов и рифов, расположенных вдоль
тогдашних торговых морских путей,
были подняты на поверхность останки
нескольких судов, имевших значение для
науки.
РАСКОПКИ НА ОЗЕРЕ НЕМИ
В античный период кораблекрушения
были довольно частым явлением. При
том большом количестве погибших
судов, локализованных в Черном и
Средиземном морях, объем судоходства
оказался значительно большим, чем
предполагалось до того, как на арену
выступила подводная археология. Хотя
потери кораблей были в то время, по всей
вероятности, довольно
многочисленными, но большими были и надежды
купцов на прибыль в случае, если корабль
достигнет места назначения: так,
например, 30-литровая амфора с вином в
Марселе приравнивалась к стоимости
раба. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что корабли сильно
перегружали. На главной палубе судна
возвышались вертикально расположенные
амфоры, которые стояли по два-три слоя
один над другим. Для их конической
формы это было самое удобное
положение. Если груженный таким образом
корабль попадал в бурю, он вряд ли мог
держаться своего курса. Если же
беспомощное судно оказывалось вблизи
рифов, то его конец был предрешен.
Каждый корабль погибал по-разному. Но
будущее у кораблей, оказавшихся на
морском дне, было одинаковым: со всех
сторон к ним устремлялись морские
обитатели, чтобы завладеть ими. • В
пустых глиняных сосудах селились
мурены и головоногие; раковины,
коралловые полипы, морские звезды
прилипали с внешней стороны. Время
накрывало останки целыми поколениями
планктона и умерших полипов, постепенно
такой могильный холм
округлялся.Корабельные черви разрушали дерево, в то
время как они съедали шпангоуты, холм
все рос и внутренняя часть корпуса
оставалась в сохранности. Однако ничто
не могло разъесть амфоры и другие
сосуды, изготовленные из глины.
Приборы и части корабля, выполненные из
бронзы, также мало подвергались
окислению... Корабль в конце концов
становился цитаделью рыб, центром морской
жизни, представленной в разнообразной
форме. Холм покрывался ковром из яр-
Дошедшие до нас изображения дают нам картину римского корабля
коокрашенных водорослей, желтых
губок и качающихся красных горгонов.
Сотни таких останков были
локализованы в начале нашего столетия, а
особенно с начала 40-х гг., и частично
исследованы в бассейне Средиземного моря.
Благодаря результатам этих
исследований, опираясь на дошедшие до нас
изображения на сосудах, древнюю
литературу, а также другие источники, мы имеем
сегодня ясную картину судостроения и
судоходства в классической древности * *.
Тогдашние торговые корабли были
построены неплохо. Ахтерштевень12
такого судна напоминал но форме
ахтерштевень прибалтийского рыболовного
катера, а форштевень 13 имел изящные
формы. Спотнптттение птшны и тттипины v
греческих торговых судов было
приблизительно четыре к одному.
Возможно предположить, что такое соотношение
было обычным для торговых судов
античного мира.
Даже без высокого и изящного ак-
ропостеля!4, которым оканчивался
ахтерштевень, - красота античного
корабля была очевидной. Богато оформленный
задний штевень, а также украшения
других частей корабля имели в
античный период важное культовое
значение. Кормовое украшение тогда
считалось главным трофеем морской войны
и особенно часто появлялось в
изображениях победы на фризах и
триумфальных арках. Для движения на греческих
торговых судах использовались исключи-
тельно паруса — имевшимися на борту
веслами пользовались лишь в тех
случаях, когда корабль требовалось
повернуть или отбуксировать в порт.
Поэтому такелаж15 для таких судов имел
гораздо большее значение, чем для
военных кораблей. Если тяжелая и наглухо
посаженная мачта-однодеревка торговых
судов была укреплена штагами, то
только впереди с помощью двух стоящих
тросов, а позднее это крепление
осуществлялось всего лишь одним тросом.
Каким образом мачта тогда крепилась с
боков, сегодня еще не выяснено — во
всей Греции античного периода, вплоть
до римского времени, не было вантов16.
Античные торговые суда были
относительно большими. В источниках
упоминается, что в эпоху Пелопоннесской
войны корабли имели грузоподъемность
500 талантов (в Афинах один талант
соответствовал 26,2 кг17). Эти корабли,
которые могли взять на борт около
13 т полезного груза, поддерживали
сообщение между островами. Крупные
корабли того периода обладали
грузоподъемностью в 10 000 талантов, т. е.
приблизительно 260 т. Корабль,
приведенный во время одной из афинских
экспедиций в Сиракузы и имевший
надстройки, башни, напоминавшие
крепостные укрепления, и катапульту, обладал
грузоподъемностью 300 т. Корабль, на
котором Калигула доставил из Египта
в Рим обелиски, стоящие сегодня у
собора св. Петра, весящие 496 т и
имеющие высоту 25,50 м, обладал
грузоподъемностью 1350 т (монолит из красного
ассуанского гранита весом 322 т был
помещен на палубу, куда его подняли с
помощью транспортирующих салазок).
Цоколь же, весящий 174 т и состоящий
из четырех базисных блоков,
расположили в трюме. Для того чтобы во время
перевозки сбалансировать надстройки и
тяжелый рангоут18, в качестве балласта
было взято около 839 т чечевицы. После
выполнения своей миссии суперкорабль
по распоряжению императора Калигулы
был выставлен в Путеолы для всеобщего
обозрения, затем под командованием
Клавдия он отправился в свое
последнее плавание: его загрузили
натуральным цементом — и затопили, чтобы
таким образом создать бетонный
фундамент для маяка в гавани Остии (под
Римом). Произведенные там в период
1957 - 1960 гг. раскопки позволили
провести полную реконструкцию корабля:
длина: 95,0 м,
наибольшая ширина: 21,0 м,
высота помещений: 7,5 м,
осадка: 4,5 м.
В последующую эпоху эллинизма в
отдельных случаях строились еще более
крупные суда. Но самым крупным
торговым кораблем всей античной эпохи
был "Сиракуза". Корабль был построен
по заказу тирана Гиерона II Сиракузско-
го и имел три мачты и три палубы —
верхнюю палубу и две средних. Для
защиты от нападений судно было
снабжено восемью боевыми башнями. По
сведениям Афинея, грузоподъемность
"Сиракузы" составляла 3300 т, но,
согласно подсчетам американского
ученого Лионеля Кассона, грузоподъемность
была в пределах 1700 - 1940 т. Когда
Гиерон II подарил корабль египетскому
правителю Птолемею III, то судно
получило название "Александрия".
Плавание из Сиракуз в Александрию
оказалось для корабля единственным. Из-за
больших размеров и малой
маневренности корабль оказался непригодным
для судоходства, в связи с чем его
поставили на прикол.
"Исида" — корабль, о котором
упоминает живший в Афинах сатирик Лукиан
из Самосаты, - имел, как утверждается,
54 м в длину и 14 м в ширину. Глубина
трюма составляла у него около 13 м.
При таких размерах грузоподъемность
корабля составляла, видимо, около
1200 т.
Сегодня мы знаем, что обычные
морские торговые суда с V в. до н. э. по
II или III в. обладали средней
грузоподъемностью от 70 до 500 т. Парусники,
перевозившие от 100 до 200 т груза,
были обычным явлением. Однако часто
встречались корабли грузоподъемностью
от 350 до 500 т. Первые античные
корабли, которые дали нам конкретные
сведения, начали изучаться в 1932 г. в озере
Неми, расположенном приблизительно в
20 км к юго-востоку от Рима.
Со времен римлян упорно ходил слух
о том, что на дне озера лежали два
роскошных корабля императора Калигулы.
Историки сообщают, что в 1446 г.
кардинал Просперо Колонна поручил ученому
Леону Баттисте обследовать корабли и
извлечь их на поверхность. Однако по
техническим причинам это намерение с
самого начала было обречено на
неудачу (не удалось даже получить
доказательства существования останков этих
кораблей). Лишь когда в 1535 г. Фран-
ческо Демарчи произвел несколько
погружений в озеро Неми и поднял на
поверхность несколько произведений
античного искусства, добытых им с одного
из кораблей, стало ясно, что слух этот
имеет реальную основу. В последующий
период было сделано несколько
неудачных попыток обследовать корабли:
например, в 1895 г. это пытался сделать
римский торговец антиквариатом Элисео
Борги, а через несколько лет его
попытку повторил итальянский армейский
капитан Марфатти. Когда в 1927 г.
приступили к выкачке воды из озера, то,
в частности, обнаружили римский канал,
через который, после его реставрации,
довольно быстро удалось спустить воду.
В иле увидели останки двух больших
кораблей. Теперь путь к их раскопкам
был свободен.
Первый корабль имел в длину 71,30 м
и в ширину — 20 м. Длина второго
корабля составляла 73 ми ширина — 24,4 м.
На борту обоих кораблей, а также
вблизи них были обнаружены монеты,
выпущенные при различных императорах,
самые старые были отчеканены в 164 г.
н.э. Более узкий корабль с тараном!9
был вполне мореходным и по своей
конструкции соответствовал крупному
римскому военному кораблю. Поперечная
прочность и продольная стабилизация
корабля являлись, видимо, настолько
большими, что, несмотря на небольшую
осадку, он был в состоянии перенести
плохую погоду. Благодаря своей
большой ширине он вряд ли испытывал крен
во время разворотов, когда на короткое
время становился бортом против волны.
Почти вся подводная часть корпуса,
часть ахтерштевня и задняя часть правого
борта с рулем оказались целыми.
Отлично построенный коопус — плотно
посаженные шпангоуты2", соединенные
между собой. Прибитые к шпангоутам доски
были полностью покрыты свинцовыми
пластинами. Между свинцовой
обшивкой толщиной до 2 мм и досками
находился слой смолы и просмоленная
шерсть. Гвозди с плоской головкой,
которыми крепились свинцовые пластины,
имели на нижней стороне головки шипы
и, таким образом, накрепко
"вгрызались" в свинец. Для уменьшения
качки, кроме основного киля, корабль был
снабжен еще боковыми килями.
По всей вероятности, корабль имел
две палубы: нижнюю, для гребцов,
примерно на высоте ватерлинии2!, и
верхнюю. От верхней палубы ничего не
осталось, только по обеим сторонам
торчали сломанные шпангоуты, причем
настолько высоко, что по всем правилам
судостроительной техники над ними
должна была обязательно находиться
палуба.
Второй корабль, менее
сохранившийся, имел классическую форму, которая
была уже хорошо известна в Египте.
Палубы обоих судов были выполнены
из дуба. На палубе первого корабля,
кроме того, еще находились
кирпичные надстройки, облицованные
мрамором и украшенные мозаикой. На более
крупном корабле была обнаружена часть
бронзовой балюстрады с двухголовой
гермой, а также кирпичи из
позолоченной меди.
Самыми замечательными находками,
обнаруженными в связи с этими двумя
кораблями, явились водоотливной насос,
действовавший по принципу подъемника
непрерывного действия, и шариковый
подшипник, состоявший из деревянной
обоймы диаметром 90 см, которая вра-
щалась на восьми 45-мм шариках,
расположенных в нижней стенке. Очевидно,
это была нижняя часть вращающегося
крана.
Почему же эти крупные корабли
были построены для плавания в озере Не-
ми, площадь которого составляла всего
лишь 1,7 кв. км, находившегося высоко
в Албанских горах? Эту постройку
рассматривают как результат
императорского каприза, как атрибуты
придворного увеселительного парка. После
консервации и реставрации корабли
поместили в музее, построенном специально для
этой цели на берегу озера. Однако весной
1944 г. этот музей был разрушен в
результате военных действий. Корабли
сгорели, и теперь мы имеем только
научные зарисовки, сделанные во время
раскопок и реставрации. В
восстановленных помещениях музея установлены
14-метровые модели обоих судов,
изготовленные специалистами итальянского
военно-морского флота. Эти модели
дают посетителям лишь некоторое
представление о судостроительном искусстве
в античный период.
Раскопки в озере Неми, несмотря на
все научные успехи, для дальнейшего
развития подводной археологии
никакого значения не имели 22. Расходы,
связанные с этими работами, были
настолько велики, что их мог себе позволить
только правитель, который не
отчитывается ни перед кем за истраченные
деньги своих налогоплательщиков. И
этим правителем оказался итальянский
диктатор Бенито Муссолини, мечтавший
вновь возродить Римскую империю и
поэтому уделявший особое внимание
античным монументам.
АНТИКИФЕРА
Еще за несколько десятилетий до
начала раскопок в озере Неми заявили о
себе находки двух других затонувших
кораблей: останки одного из них были
обнаружены у мыса Махдии, другого -
возле острова Антикиферы. Греческие
ловцы губок у волнореза острова
Антикиферы, расположенного между острова-
Помпа непрерывного действия одного из кораблей, обнаруженного в озере Неми
ми Крит и Кифера, натолкнулись на
расстоянии 20 м от берега, на глубине 60 м
на останки античного судна, груженного
произведениями искусства,
попорченными морской водой. Судя по размерам
подводного холма, первоначальная длина
корабля, очевидно, составляла около
30 м, а ширина -10 м. Большая часть
затонувших культурных ценностей была
поднята на поверхность (хотя, к
сожалению, и без соответствующей научной
оценки). Только предметы этой
находки занимают в Афинском национальном
музее длинную галерею. К числу круп:
ных бронзовых предметов относятся
неполные части скульптурной группы,
состоящей из пяти или шести мужских
фигур. Поврежденные свинцовые цоколи
свидетельствуют, что эти произведения
искусства были сорваны со своих
каменных постаментов во время
разграбления какой-то святыни. Жемчужину
коллекции составляют две великолепные
бронзовые статуэтки эпохи Перикла.
Однако лучшей бронзовой фигурой
является эфеб — атлет Антикиферы.
Скульптура высотой 1,94 м изображает нагого
юношу, вместо зрачков у него вставлены
драгоценные камни. Искусствоведы не
пришли к точному заключению о том,
кого изображает эта фигура: Персея,
Париса или Гермеса; они согласились
с названием "Атлет". Однако
несомненно, что статую создал Лисипп,
придворный скульптор Александра
Македонского. Мраморные скульптуры (двадцать
пять фигур и групп) сильно изъедены
моллюсками. Они являются копиями,
изготовленными на продажу, и на 300 -
400 лет моложе бронзовых фигур. Это
обстоятельство вновь приковывает наше
внимание к кораблю. Нет сомнения в
том, что он плыл из Пирея в Рим с
захваченными трофеями. Это плавание
состоялось в одно из последних десятилетий
перед началом нашей эры.
Во время работ по поднятию груза
роль ученых при подводных работах
оказалась пассивной. В то время для
археологов важнее всего было, поднять
античные ценности на поверхность.
Поэтому понятно, что эти работы не дали
Часть астролябии, найденной возле Антикиферы и ее реконструкция
тех результатов, которых можно достичь
с помощью технических средств,
которыми мы располагаем сегодня. Кроме того,
водолазы совершили много ошибок,
Так, например, они не имели
представления о ценности некоторых предметов
и отбрасывали их просто как
ненужные — все это позднее отрицательно
сказалось при анализе памятника.
После того как все бронзовые и
мраморные скульптуры были подняты на
поверхность, подводники обследовали ил,
покрывавший нижнюю часть останков.
При этом они обнаружили совершенно
другие предметы: плоскую черепицу и
простую кухонную посуду, красивые
стеклянные миски голубого и
коричневого цвета, составленные частично из
цветной мозаики и большей частью
оказавшиеся невредимыми. Была
обнаружена красивая золотая брошь с
изображением Эрота, держащего лиру,
украшенная мелким жемчугом. Остальные
предметы, не подлежавшие идентификации,
были сложены отдельными группами и
отправлены в запасники Национального
музея в Афинах. Приблизительно через
год после окончания работ по
извлечению находок молодой археолог
Валерию Стаис (племянник тогдашнего ми-
Старейшая в мире астролябия
нистра по культовым вопросам Спири-
дона Стаиса, руководившего работами по
поднятию находок) начал исследовать
кучу металлических кусков, которые
предположительно составляли какую-то
статую. Он обратил внимание на то, что
в лопнувшем при высыхании коме,
покрытом известняком, обнаружились
какие-то детали из сильно попорченной
бронзы, напоминавшие часовой
механизм. При более подробном изучении
оказалось, что это был механизм,
который, по его мнению, мог быть либо
часами, либо навигационным прибором.
Части этой находки содержали
астрономические надписи на древнегреческом
языке. Однако никто не стал подробнее
заниматься исследованием этой находки.
В последующие годы были обнаружены
более интересные находки, чем
поднятые в Антикифере, и найденные
останки корабля, с точки зрения
искусствоведов, стали все больше терять свое
значение. Они оставались забытыми в
течение пятидесяти двух лет, пока весной
1953 г. это место не посетил Жак Ив
Кусто.
Английскому физику и математику
д-ру Дереку де Солла Прайсу
посчастливилось в 1958 г. подробнее исследовать
бесформенный ком с бронзовыми
деталями. Четыре крупных узла и
несколько фрагментов этого предмета
подверглись очистке, проводимой музейными
работниками на протяжении пятидесяти
лет. На основе этих частей он сумел
реконструировать этот прибор на бумаге
и описать его следующим образом:
"Когда он был новым, он выглядел как
механизм старинных кабинетных часов:
латунные колесики в деревянном ящике,
снабженном тремя циферблатами.
Передний циферблат имел закрепленную
шкалу с передвижным контактным
кольцом, показывавшим месяцы. Обе
шкалы были отградуированы. Стрелка,
связанная с внутренним механизмом,
указывала заглавные буквы, которые
соответствовали остальным буквам,
выгравированным на пластине, закрепленной на
одной из дверок корпуса. Эти буквы
показывали восход и заход крупных
звезд и созвездий. Циферблаты на
обратной стороне показывали различные фазы
Луны и движение планет Меркурия,
Венеры, Марса, Юпитера, вероятно, еще
и других".
Сложный шестеренчатый механизм во
внутренней части корпуса, который
приводился в движение приводным валом,
соединенным с водяным колесом,
вращал стрелки на циферблатах и
показывал движение небесных тел.
Д-р Прайс убедительно
аргументировал свои соображения о том, что эти
астрономические часы были изготовлены
на острове Родосе, ибо полностью
сохранившаяся надпись аналогична части
астрономического календаря, который
был создан на Родосе в начале I в. до н. э.
астрономом по имени Гемин.
Таким образом, этот прибор
представлял собой астролябию, или, иными
словами, это был арифметический вариант
геометрических моделей солнечной
системы, которые уже были известны
Платону и Аристотелю и в результате
дальнейшего развития превратились в
современный планетарий.
Благодаря находкам сосудов, а в
особенности астрономическому прибору,
ученые смогли точно определить, в
каком году корабль постигла трагедия —
это случилось в 80 г. до н. э.
МАХДИЯ
В 1907 г. приблизительно на
расстоянии 4,8 км от побережья Туниса, между
городами Сус и Сфакс, на широте Мах-
дии один греческий охотник за губками
на глубине 39 м обнаружил останки
второго римского корабля, груженного
награбленными греческими скульптурами.
Первоначальная длина судна, по всей
вероятности, составляла 40, а ширина
10 м. На средней палубе находилось
приблизительно 65 гранитных колонн,
составлявших семь рядов и занимавших
площадь длиной 9 и шириной 7 м. На
второй палубе были сложены бронзовые и
мраморные скульптуры. Местные жители
тут же взялись за дело, подняли то, что
можно было поднять без особого труда,
и стали продавать эти произведения
искусства из-под полы.
Когда Альфред Мерлин, директор
тунисского музея древностей, узнал о том,
что на рынке предлагают для продажи
настоящие произведения греческого
искусства, он заинтересовался их проис-
хоадением. Вместе с ученым Саломоном
Рейнаком — тогда самым влиятельным
исследователем классической
древности — он мобилизовал общественность,
арендовал у французского
военно-морского флота спасательное судно
"Циклоп", собрал необходимый капитал и
снарядил подводную экспедицию.
И опять произведения искусства
доставали со дна моря простые
ныряльщики, и опять археологам была отведена
при этом более или менее пассивная
роль. Как и во время раскопок у Анти-
киферы, главным здесь было любой
ценой сохранить при подъеме найденные
предметы, а это влекло за собой отказ от
научной работы непосредственно на
месте находки. Все же по сравнению с
Антикиферой здесь был существенный
прогресс: всей операцией руководили
выдающиеся ученые А. Мерлин и Л. По-
инсот прямо на месте. Когда Рейнак
увидел первые результаты, он
воскликнул: "После Геркуланума и Помпеи
ничто подобное не открывалось перед
человеческим взором".
Почти все бронзовые скульптуры
сохранились великолепно. Так как
большинство мраморных скульптур было
покрыто песком и илом, то моллюски
не причинили им никакого вреда.
Водолазы обнаружили великолепный
мраморный сосуд для приготовления вина,
тяжеловесные подсвечники, искусно
выполненные карнизы с рельефами, а также
большое количество бюстов и статуй:
например, Диониса, бога вина и веселья,
его сатиров; Афродиты, богини любви
и красоты; Артемиды, богини охоты и
луны; Афины, девственной богини
города Афины; Зевса-сына и посланца богов
Гермеса, а также бога врачевания Аскле-
пия и его дочери Гигии. На бронзовых
гермах Диониса имелась сигнатура
известного мастера эллинистского периода
Боефа Халкедонского.
Раскопки проводились в
благоприятные для работы месяцы и
продолжались до 1912 г. Пять крупных залов
музея Эль Алауи (Бардо) в Тунисе не
смогли вместить всех произведений
античного искусства, поднятых на
поверхность в результате этой экспедиции.
То, что груз был из Афин,
установлено не только в результате обнаружения
аттического мрамора, а прежде всего
благодаря старым аттическим надписям
и рельефам IV в. до н. э., которые
предположительно принадлежали святыням в
Пирее и использовались на корабле в
качестве балласта. Надежной отправной
точкой для определения времени гибели
корабля прежде всего служит бытовая
керамика, принадлежавшая членам
судовой команды, датируемая 100 г. до н. э.
Таким образом, если предметы,
извлеченные из затонувшего корабля,
раскопанного у Антикиферы, относятся уже
к началу I в. до н. э., то произведения
искусства, обнаруженные у Махдии,
должны быть старше. Благодаря
установленному времени последнего плавания
корабля культурные ценности, найденные у
Махдии, приобретают существенное
значение для всеобщей хронологии
позднего эллинизма.
Находка обоих кораблей с их грузом
явилась сенсацией для археологии: ведь,
как известно, произведения античного
искусства на суше часто существовали
не более столетия. Мраморные статуи
разрушались, бронзовые фигуры
переплавлялись. Оригинальные греческие
фигуры из бронзы, которые мы сегодня
Почти все статуэтки, обнаруженные возле Махдии, великолепно сохранились
можем видеть в музеях, в
подавляющем большинстве были подняты со дна
моря. И в этом отношении большая доля
приходится на произведения искусства,
составлявшие некогда груз кораблей,
останки которых были обнаружены
возле Антикиферы и Махдии.
АЛЬБЕНГА
На побережье итальянской Ривьеры
расположен город Альбенга, во
времена Рима называвшийся Альбингаунумом.
На расстоянии одной мили от берега,
всегда в одном и том же месте, рыбак
Гигнон начиная с 1925 г. стал сетью
вылавливать амфоры. Рассказы Гигнона
пробудили больший интерес, чем сооб-
Статуэтки, обнаруженные возле Махдии
щения о других подводных находках,
обнаруживаемых на лигурийском
побережье. Но должно было пройти еще
около двух десятилетий, прежде чем
профессор Нино Ламболья, ученый,
отвечавший за археологические исследования
в этом районе, вместе с несколькими
ныряльщиками отправился к месту,
указанному рыбаком,—к востоку от
небольшого острова Галлинария, чтобы
узнать, что же это за амфоры находятся
на морском дне. Водолазы подтвердили
его предположение о том, что это был
груз какого-то корабля, и сообщили,
что сохранились даже останки судна.
Ламболья безуспешно пытался
заполучить для намеченных им раскопок на
морском дне спортсменов-подводников:
они либо предпочитали хобби — морскую
охоту, либо искали сокровища — они
ведь слышали о несметных богатствах,
которые якобы собрал фашистский
диктатор Муссолини и затопил в море.
Поэтому не удивительно, что спортсмены-
ныряльщики оказались глухи к
предложению Ламболья, ибо, по их
представлениям, это были всего лишь какие-
то подводные археологические работы!
А так как у итальянского
правительства в то время не было средств для
финансирования подводных раскопок,
то ученый установил связь с итальянским
спасательным обществом "Сорима".
Общество, ставшее известным благодаря
тому, что оно подняло на поверхность
золото с корабля "Египет",
предложило Ламболья бесплатное сотрудничество.
В феврале 1950 г. над местом находки
появилось спасательное судно "Ар-
тильо И". Водолазы, спустившиеся на
глубину 42 м, стали переправлять
оттуда с помощью транспортирующего
троса множество амфор. В них к моменту
катастрофы наряду с маслом, зерном
и вином находился и лесной орех.
Сосуды, в которых находились орехи, были
закрыты только сосновыми шишками,
так как перевозка такого товара не
требовала герметической пробки.
Аквалангисты сообщили, что груз,
расположенный на дне, занимает площадь длиной в
30 м и шириной от 8 до 10 м. После
того как подводники подали наверх
большое число амфор, с "Артильо И" на
дно опустили наблюдательную камеру
"Галеации", в которой находился
наблюдатель, руководивший по телефону
работой огромного ковша. Этот ковш
вгрызался в холм, поглощал деревянные
части, кувшины, металлическую
облицовку, выдавая ежедневно на
поверхность около сотни амфор. В результате
такой работы останки затонувшего
корабля пришли в весьма плачевное
состояние. Так эта 15-дневная операция по
извлечению находок явилась для
подводной археологии одновременно и победой
и поражением 23.
В Альбенге скопились сокровища,
поднятые со дна моря: 1700 амфор,
728 из которых были целыми,
свинцовый якорный шток, свинцовый рог
фигуры, украшавшей судно, кафель,
облицовывавший каюты, три бронзовых
шлема (такие носили легионеры I в.
до н.э.), разъеденных морской водой,
жернова, глазурованная посуда и много
других мелких вещей, о назначении
которых ученые ломают себе головы еще
и сегодня. Все эти находки поместили в
палаццо Пелосо-Сеполла, который
превратился в музей древнеримского
судоходства. Проведенные в последующие
годы работы по датированию
показали, что судно, имевшее 35 м в длину и
12 м в ширину, было построено в период
между 80 и 60 гг. до н.э. и погибло
вскоре после постройки. По
обнаруженным деревянным частям видно, что
доски были соединены друг с другом с
помощью пазов и дюпелей (как
впоследствии у каравелл) и укреплены на
шпангоутах с помощью медных гвоздей,
забитых в еловые пробки. Так же как и
корабли, обнаруженные в озере Неми, корпус
судна имел тонкую свинцовую обшивку
- под ней находилась просмоленная
прокладка из шерстяного волокна.
ГРАН КОНГЛУЭ
Благодаря сенсации, вызванной
раскопками в Альбенге, у спортсменов-
подводников Средиземноморского
побережья пробудился интерес к подводной
археологии. Повсеместно стали находить
амфоры и обнаруживать затонувшие
корабли. Спортсмены-подводники
объединились в специальные группы и стали
помогать музеям извлекать со дна моря
и делать доступными для обозрения
античные сокровища. Самые крупные тогда
археологические подводные раскопки
начались в 1952 г. у Гран Конглуэ —
известняковой горы, которая выступает из
моря на расстоянии около 10 миль к
югу от Марселя, вблизи небольших
островов Мэйр, Джарре, Кальзерен и Рю.
Здесь под руководством Жака Ива
Кусто, Фредерика Дюма и директора
20-метровая стрела, использовавшаяся при раскопках у Гран Конглуэ
Музея древностей Фернанда Бенуа,
ответственного за данную провинцию, на 42-
метровой глубине были проведены
раскопки затонувшего римского корабля,
груженного амфорами и керамикой и
обнаруженного за два года до этого.
Работы у Гран Конглуэ особенно
интересовали специалистов: ведь уже при
предварительном обследовании
выяснилось, что здесь находился самый древний
из обнаруженных до сих пор морских
кораблей. Именно это стало основной
причиной того, что французский
исследователь изменил свои планы, отправился
на "Калипсо" к неприветливым скалам
Гран Конглуэ, стал там на якорь и вместе
со своим экипижем начал работы по
извлечению покоившихся в морской
глубине культурных ценностей.
Первая фаза работы протекала
обычным методом. Кусто описывает это
следующим образом: "В лаборатории
"Калипсо" мы повесили на стену план
затонувшего корабля, на который нанесли
места наиболее важных й характерных
находок. Чтобы избежать путаницы, а
также для удобства работы мы
произвольно обозначили останки: корма и нос,
правый и левый борт, после чего
приступили к раскопкам. Вначале
аквалангисты поднимали амфоры, которые
отделялись от грунта просто руками,- за
первые десять дней было поднято триста
сосудов. Кроме того, им пришлось
убирать камни и разбитый фаянс. Этот
период пробного прощупывания длился
дольше, чем мы рассчитывали. Это было
вызвано тем, что серия необычных для
этого времени года мистралей все
время относила "Калипсо" от острова.
Кроме того, мы совершили серьезную
тактическую ошибку: вместо того чтобы
начать систематические раскопки на
корме, а затем постепенно проникать вниз,
мы стали копать по всей площади
корабельного могильника и таким образом
смазали археологическую картину. Эту
ошибку мы исправили, а вот с
мистралем сделать ничего не смогли..."
На втором этапе работ "Калипсо" уже
не было. Подводникам и археологам
нужны были другое пристанище и
рабочая платформа для генератора,
компрессоров, силовой установки для пневмо-
эжектора, который - после пробного
использования при раскопках у Махдии
и Антикиферы — получил здесь при
подводных работах широкое
распространение. Строительство базы создало
проблемы, перед которыми люди Кусто
готовы были капитулировать. Однако, как
часто случается в подобных ситуациях,
трудности были устранены максимально
простым способом. Археологов посетил
командующий южным участком
французской армии генерал Молле.
Осмотрев "Калипсо", он пришел в восторг
от этой работы и пообещал скорую
помощь. На следующий день к месту
работы прибыло подразделение военных
саперов, которые у подножия острова
соорудили платформу для компрессора,
установили в скалах 20-метровую
подъемную стрелу, зацементировали ее и
закрепили стальными тросами и, наконец,
поставили еще металлический барак для
жилья, после чего новый лагерь
экспедиции, названный "Порт Калипсо", мог
отпраздновать свое открытие.
Теперь работы по раскопкам
корабля, правда с перерывами, связанными с
неблагоприятными периодами года,
велись планомерно дальше, пока наконец
в 1960 г. не обнажился киль корабля.
Находки, которые были обнаружены за
эти восемь лет, исчислялись тысячами.
Наиболее важными из них были амфоры
двух типов — всего на поверхность было
поднято 1700 целых амфор - и 137
предметов простой столовой посуды
различной формы. Вес поднятого груза
составил приблизительно 110т-
предположительно в свое время корабль имел
на борту около 3000 амфор. Обычная
пустая амфора, служившая в древности
сосудом для перевозки грузов, весила
в пределах от 15 до 20 кг и вмещала
до 30 л.
Один тип амфор - заостренный книзу,
с длинным горлом, по краю которого
изображены буквы SES с
символическим изображением трезубца или якоря -
напоминал по форме сосуды,
обнаруженные у Альбенги; другие же амфоры были
чисто греческого происхождения:
выпуклое, заостренное книзу тело, короткое
горло и красиво оформленные ручки.
Деревенская посуда была отнесена
Бенуа к периоду от III до II в. до н. э. По
всем признакам она была изготовлена
в гончарных мастерских вблизи Неаполя.
Кусто так говорил об этой посуде:
"Греческие чаши для питья с двумя ручками,
чаши и кубки различной величины,
тарелки и рыбные блюда, имевшие в
середине углубления для соуса,
флаконы для духов, горшочки для
притираний и румян, а также великолепные
миниатюрные амфоры, которые в
древности использовались для сбора
человеческих слез". Часть посуды была
покрыта черным лаком и на дне украшена
изображениями, похожими на розетки и
пальмовые листья.
Кусто также почти с
криминалистической скрупулезностью исследовал
буквы SES, а также выцарапанные на
пробках некоторых амфор буквы LTITICF. В
результате этой работы он выяснил,
что последняя группа букв означала
Луций Тит, сын Гая — судя по имени
он происходил из известной семьи,
владевшей виноградниками вблизи Рима.
Буквы SES обозначали имя дома
судовладельца Марка Сестия, жившего на
острове Делосе.
Первоначальная длина корабля
составляла 23, а ширина — не более 7 м. Были
найдены железные и медные
облицовочные гвозди, а также
20-сантиметровый бронзовый штырь. Свинцовая
обшивка корабля, которая была, впрочем,
не только на подводной, но и на
надводной части корпуса, была приклепана к
деревянному корпусу медными
заклепками, которые в свою очередь имели
свинцовую головку. Это свидетельствует
о том, что античные судостроители
были уже знакомы с воздействием
коррозии на различные металлы в соленой
воде. С помощью свинцовой оболочки
медных заклепок им удалось таким
эффективным способом предотвратить
гальванический эффект. Шпангоуты и
палубные бимсы24 были изготовлены из
пинии, кедра и дуба, киль был сделан из
дуба. Сделанные из аллепской сосны
доски соединялись между собой с
помощью шипов из дуба и оливкового
дерева.
Следует отметить, что, хотя эта
экспедиция считается вехой в научной
подводной археологии, мы не должны забывать
о тех ошибках, которые были при этом
допущены: в течение всего периода
раскопок не было разработано приемлемых
методов картографической зарисовки
археологических находок, в результате
чего положение корабля и груза во всех
научных публикациях воспроизведено
графически лишь приблизительно. Сюда
же следует добавить, что найденная
керамика относится к двум различным
эпохам. Так, например, крестьянская
посуда отнесена к периоду 160 — 150 гг.
до н. э., в то время как большинство
амфор указывают на то, что корабль пошел
ко дну в 205 г. до н. э. Очевидно,
коварные скалы Гран Конглуэ были
роковыми для многих судов, и все говорит за
то, что Кусто раскопал два античных
корабля, расположенных друг над
другом...
Как бы там ни было, Кусто с
помощью разработанных и примененных
учеными и смекалистыми
аквалангистами методов работы привел в изумление
специалистов и указал новый путь к
раскопкам кораблей, покоящихся на
морском дне. Эти методы были
использованы учеными и хорошо подготовленными
археологами-любителями, а также
охотниками за сокровищами. Сообщения об
исследованиях затонувших кораблей и
их грузах, об обследовании погибших
городов, а также об извлечении на
поверхность со дна морей, рек и
жертвенных колодцев находок, ценных в
археологическом отношении, поступают со
всех концов света. Одной из самых
значительных и технически наилучшим
способом оснащенных подводных
экспедиций, несомненно, была экспедиция,
проведенная в период с 1958 по 1969 г.
возле Средиземноморского побережья
Турции.
МЫС ГЕЛИДОНИЯ
Все началось довольно безобидно - с
бронзовой статуи, изготовленной в IV в.
до н. э. и изображавшей богиню
плодородия и земледелия Деметру. В 1953 г.
статую поднял со дна моря ныряльщик
Ака Ахмед и передал профессору
Стамбульского университета Бину. Так она
попала в музей Смирны (Измир), где
через несколько лет ее увидел
американский путешественник и журналист
Петер Трокмортон. Трокмортон, уже
давно связавший свою профессию с
хобби - подводным плаванием, проследил
путь Деметры, приведший ее в музей,
завел друзей среди турецких ловцов
губок, благодаря которым за два лета
познакомился с настоящим корабельным
кладбищем. Его сообщения заставили
прислушаться специалистов. В
последующие годы была организована группа
экспертов, которой удалось из останков
корабля, затонувшего в 1200 г. до н.э.
возле мыса Гелидония, извлечь
интересные находки.
"Груз весом в одну тонну состоял из
медных инструментов и слитков,
являвшихся по сравнению с другими
подобными находками самыми крупными и
важными, которые были открыты до-
классическими археологами", —
заключил Георг Басе, один из участников этой
экспедиции. Обнаруженные предметы он
описал в своем отчете следующим
образом:
"40 медных и бронзовых слитков,
27 из которых содержали клейма
мастерских, где они были изготовлены.
Оружие и бытовые предметы,
включая топоры, широкие секиры, мотыги,
кирки, лопату, молотки, резцы, ножи,
наконечники для копий и стрел,
бронзовое зеркало и шило".
Теория х) том, что на борту корабля
находился медных дел мастер,
подтверждается многими предметами:
бронзовым пунсоном25, парой каменных
молотков, имеющих отверстия, плоским
камнем, служившим, видимо,
наковальней. Были также обнаружены
шлифовальные камни. Корабль, без сомнения,
принадлежал купцу, так как на его
борту было найдено 48 гирь, составивших
три полных комплекта: два из них
составляли круглые гири с плоскими
днищами, так что они были устойчивыми;
гири третьего комплекта были похожи на
крошечные шарики, сплющенные с одной
стороны.
Молотки, шлифовальные камни и
гири были найдены в той части корабля,
которую ныряльщики назвали
"капитанской каютой". Здесь были также
обнаружены четыре скарабея и тонко
выгравированная печатка из камня для
оттисков на глиняных табличках. На печатке
были изображены три фигуры, в
центре — богиня, на голове которой надета
высокая корона. Эта вещь была
выполнена в Северной Сирии и на 500 лет
старше погибшего корабля. В "каюте"
были также найдены единственная на
борту лампа и игральные кости. Здесь
же находилось большое количество
различных керамических сосудов,
изготовленных в конце ХШ в. до н. э.
Корабль, относящийся ко времени
легендарного Одиссея, имевший
первоначальную длину около 9 и ширину 2 м,
был построен по принципу, который
использовался в средневековье при
строительстве каравелл, — все это явилось
археологической сенсацией. Хотя
сохранились лишь некоторые части
корабельных досок, можно было определить,
что шипы верхних досок точно входили
в отверстия досок, расположенных ниже.
В трюме, под грузом, для сохранения
товаров сухими, находилось несколько
вязанок хвороста (эта находка имеет
большое значение, так как Гомер в
"Одиссее" упоминает о таком хворосте,
а переводчики и интерпретаторы всегда
сталкивались с трудностями при
толковании этого места, так как никто не мог
себе представить, для чего при
строительстве корабля требовался хворост).
Итак, раскопки судна периода брон-
Реконструированный камбуз корабля VII в., обнаруженного у Ясси-Ада
зового века до сих пор — с точки зрения
науки — являются вершиной всех
подводных археологических исследований.
В результате успеха подводных
исследований музей университета штата
Пенсильвания в 1961 г. снарядил
экспедицию, целью которой было
обследование останков других затонувших судов,
обнаруженных#Трокмортоном возле
Ясси-Ада - одного из расположенных к
западу от Бодрума Карабагладских
островов.
Эта экспедиция работала до 1969 г.,
занимаясь раскопками нескольких
античных кораблей, и обнаружила при
этом большое количество вещей.
Однако самым важным при этом было то,
что здесь впервые в большом объеме
было проведено точное измерение мест
находок на морском дне. На всем
протяжении работ, от лета к лету,
улучшалась техника исследований: в начальный
период использовалась обычная
измерительная сетка, в конце же измеритель-
ные работы проводились с помощью
специально для этой цели
оборудованного судна "Ашера"; научные съемки
проводились с помощью различных
телевизионных камер, с фотовспышкой
велось фотографирование сочлененными
камерами, осуществлялись измерения по
методу воздушного шланга, а также
применялись обычные способы раскопок и
извлечения находок.
К числу обследованных судов
принадлежит корабль, затонувший в VII в.
Подводные археояоги смогли
установить, что в его кормовой части
находился камбуз2**, покрытый кирпичом. Этот
камбуз был хорошо оборудован и
приспособлен как для приготовления пищи,
так и для хранения запасов. Были
найдены ступы и толкуши, более двадцати
кухонных горшков различной величины
и формы, два медных котла и другие
кухонные сосуды из меди. Но не только
это. В числе находок была также
обнаружена красивая столовая посуда
минимум на три персоны, причем каждый
прибор состоял из двух тарелок различной
величины. И наконец, в числе важных
находок следует еще упомянуть чашку
с ручкой, более десяти кувшинов и
кружек с шероховатой поверхностью,
несколько глазурованных чаш и изящные
медные сосуды.
Другим объектом исследований у
рифов Ясси-Ада явился римский
торговый корабль, построенный из
кипарисового дерева с дубовым килем. Он
затонул в IV в., его груз составлял 1100
амфор, лежал он на глубине 42 м.
Первоначальная длина корабля составляла
около 19, а ширина — 6,6 м. Киль имел
12,2 см в ширину и 22 см в высоту,
бархоут27 — 16 см толщиной, толщина
настила составляла 3,8 см, а толщина
шпангоутов — 12,5 см. Как и у
предыдущего корабля, здесь на корме был
обнаружен камбуз. Он оказался
довольно просторным, но не был покрыт
кирпичом и имел скромное оборудование.
Печь была сложена из грубоотесанных
камней, кувшины и различные кухонные
сосуды, а также четыре терракотовых
масляных фонаря не имели никаких
украшений — все это свидетельствует о том,
что хозяин судна был не очень
состоятельным человеком.
КИРЕНЕЯ
В то время как Георг Басе
занимался раскопками у Ясси-Ада, музей
Пенсильванского университета поручил
археологу Михаэлю Л. Катцеву произвести
картографические измерения на
морском дне у побережья Кипра. Во время
этих работ в 1967 г. были обнаружены
останки пяти античных кораблей. Самым
значительным из них был — и на это
обратил внимание Катцева его
кипрский коллега, подводник Андреас Га-
ройлю — корабль, перевозивший амфоры,
затонувший в IV в. до н. э. и лежавший
вблизи портового города Киренея. Кат-
цев следующим образом описывает одно
из своих первых впечатлений от этой
находки: "... Гаройлю подвел меня и
мою группу к скоплению амфор. Почти
сто лежащих друг на друге кувшинов
покрывали площадь размером
приблизительно 5x3 м. Вначале мы усомнились,
что такое небольшое количество груза
может указывать на нахождение
торгового корабля. Мы натянули
координатную сетку, обследовали окрестности с
помощью металлических шестов с целью
выявления других амфор и при этом
установили, что части корабля лежали
на площади размером 10x20 м и были
покрыты песком — это соответствовало
размерам торгового корабля. Затем с
помощью металлического детектора и
протонного магнитометра мы проверили
концентрацию железа и других
металлов и определили положение судна.
Судя по форме, амфоры были с Родоса,
но, по нашим предположениям, они
относятся к IV в. до н. э.".
При исследовании останков и
последующих раскопках, естественно, были
использованы и другие методы: так,
например, все место находки было
покрыто координатной сеткой,
выполненной из пластмассовых трубок. Дваж-
ды в день останки фотографировались
двумя камерами, которые были
укреплены соответственно на конце
двухметровой штанги. Съемку производил
подводный фотограф. Основными
инструментами при раскопках были семь
пневмоэжекторов. С помощью этих
приборов мы освободили находки от
основной массы песка и ила. Так же как и при
наземных раскопках, "тонкая работа"
проводилась с помощью небольших
ручных инструментов, правда лишь с тем
различием, что аквалангисты не
копали, а сметали песок.
В рез>льтате работы этой экспедиции
было доказано, что тогдашние купцы
одновременно торговали различными
товарами. Десять типов амфор
соответственно указывали на наличие
промежуточного порта. Из 404 поднятых
амфор 343 принадлежали острову Родос —
предположительно они содержали родос-
ское вино, пользовавшееся большим
спросом в Древней Греции и Древнем
Риме. 8 типов амфор, по всей
вероятности, служили для хранения
дорожного провианта или редких товаров,
так как эти амфоры были представлены
в очень незначительном количестве.
Происхождение десятого типа следует
приписать острову Самосу. Что перевозилось
в этих сосудах — установить не удалось.
Внутри корпуса корабля лежала целая
гора миндаля — около 10 000 штук.
Первоначально миндаль был уложен в
мешки, которые за 2200 лет, разумеется,
разложились. Зернышки миндаля также
сгнили, а оболочка пережила оба
тысячелетия.
Следующим предметом торговли
были квадратные и прямоугольные
жернова - соответственно два камня
составляли мельницу. Процесс помола с
помощью таких жерновов был довольно
прост: в верхний камень, имевший
V-образную форму, сыпалось зерно.
Через канавку это зерно попадало между
двумя камнями, и в результате трения
зерна превращались в муку.
Керамические осколки, которые
лежали в передней и задней части — перед
основным грузом и за ним, —
позволили сделать вывод о существовании
раздельных "кают" в носовой и кормовой
частях корабля. Так как все кружки
были найдены в носовой части, следует
предположить, что здесь находился запас
питьевой воды для команды. Кухонная и
столовая посуда была сконцентрирована
в кормовой части: простые, покрытые
черной глазурью тарелки и чаши,
небольшие сосуды и кувшины для масла,
медный котел, терракотовые поварешки,
сита и тигли, деревянная миска и четыре
деревянные ложки. Четыре одинаковые
кружки, солонки, кувшины для масла
и ложки указывают на количество
членов команды: минимум четверо
моряков, включая капитана. Камбуза на
борту не было, вся горячая пища,
очевидно, готовилась на берегу.
Аквалангисты обнаружили также деталь
масляного фонаря.
На корабле не было никаких следов
пожара или нападения пиратов, корабль
по ночам стоял, навигация у северного
побережья была несложной, судно
затонуло всего лишь в каком-нибудь
километре от защищенной гавани, а
непосредственно вблизи от места гибели не было
никаких подводных рифов, - это все
говорит о том, что небольшое судно
потонуло от внезапно налетевшего шторма.
Это предположение подтверждается тем
фактом, что в момент погружения
паруса были зарифлены — свинцовые
кольца были сложены на корме в том виде,
как они в то время использовались в
такелаже. Когда корабль начал тонуть,
моряки, вероятно, успели спастись,
прихватив личные вещи, ибо из них
обнаружено только пять бронзовых монет,
бытовая керамика и остатки кожаной
сандалии.
От корабля, имевшего прежде в
длину 15 м, сохранилось около 10 м. Нос
был заострен, корма — притуплённая. На
корме, очевидно, находилась галерея.
Для постройки корабля использовалась
исключительно пиния. О конструкций
судна Катцев пишет следующее:
"Корабелы вначале заложили киль и с по-
мощью вспомогательного каркаса
собрали внешние доски, соединили их
шпунтами и штырями и соответственно
закрепили. Затем были вставлены
шпангоуты и закреплены медными
гвоздями, которые забивались снаружи... на
всей сохранившейся части корпуса
находилась облицовка из свинца, которая
крепилась медными штифтами"28.
Мачта была вынесена далеко вперед.
Этот корабль классического периода
был целиком поднят на поверхность,
законсервирован и отреставрирован.
Датирование, проведенное с помощью С 14,
показало, что корабль был построен в
389 г. — 44 г. до н. э., а миндаль был
собран в 288 г. — 62 г. до н. э. Таким
образом, когда корабль затонул,
приблизительно в 306 г. до н. э., ему было не
менее 80 лет. О времени трагедии
сообщают также пять бронзовых монет
Антигона и Деметрия.
МЕФОНА
Торговый путь римлян из Афин в
Рим проходил мимо мыса Малеа и Ан-
тикиферы, вокруг Пелопоннеса и далее
в Мефону. Из Мефоны путь шел через
Корфу, через Адриатику в направлении
южной оконечности Италии, через Мес-
синский пролив вдоль западного
побережья Италии и заканчивался в Остии.
Мелководье возле мыса Спифа, вблизи
Мефоны, оказывалось роковым для
кораблей. В этом районе в 1962 г. были
обследованы останки большого
количества затонувших судов. Под
наблюдением Греческой федерации подводных
исследований аквалангисты подготовили
точный археологический план двух
лежавших на дне судов, а точнее, их
грузов. При этом было сделано более 1400
отдельных измерений. Это была вообще
первая работа подобного рода в
греческих водах.
Груз первого корабля состоял из 30
огромных деталей колонн, которые
лежали разрозненно на площади 30x20 м.
Корпус корабля был полностью
разрушен — как обычно бывает при
сильном волнении в мелких водах.
Исследование груза показало, что детали
принадлежали 16 или более гранитным
колоннам. Очевидно, они были
непосредственно взяты из каменоломни или
принадлежали какому-то разрушенному
зданию, так как удалось абсолютно точно
установить, что разбиты они были еще
до погрузки на корабль. Этот груз
весом 131,5 т, видимо, перевозил корабль
длиной от 30 до 40 м и, как говорят
фрагменты гончарных изделий, затонул в
позднеримский период.
Неподалеку от "корабля с
колоннами" Никосом Кателиасом было
обнаружено четыре готовых гранитных
саркофага. Находившиеся рядом
балластовые камни свидетельствовали о том,
что это было все, что осталось от
корабля, чей корпус был изъеден червями и
разрушен волнами. Там же найденный
стеклянный сосуд позволяет заключить,
что корабль затонул во II или III в. н. э.
Изображения на саркофагах были
только намечены, детали полностью еще
не были высечены. Это означает, что в
каменоломнях делалась только "грубая
работа". Высечение цветов и листьев —
обычно саркофаги украшались
рельефным изображением гирлянд — делалось
мастером на месте назначения.
Результаты исследования грузов
обоих кораблей представили довольно
большой интерес для ученых, занимающихся
вопросами римской торговли мрамором.
Неожиданно был найден ответ на
вопросы, остававшиеся до сих пор не
выясненными. Ибо еще незадолго до начала
проведения измерительных работ в этом
месте работавший в Риме эксперт по
вопросам торговли мрамором в
Древнем Риме Джон Ворд-Пекинс заявил
следующее: "Дошедшие до нас
литературные источники, надписи, каменоломни и
хранилища мрамора, а также сами
здания хоть и дают важные сведения об
этом значительном виде торговли,
однако много важных деталей мы сможем
узнать лишь при исследовании морских
перевозок. Например, нам известно, что
большое количество товаров, таких, как
мраморные колонны и саркофаги,
грузилось на корабли в полуготовом виде.
Но были ли стандартизованы размеры
мраморных колонн? Были ли уже
готовы рельефы и украшения аттических
саркофагов перед их отправкой?
Перевозились ли капители и цоколи когда-
нибудь в неотделанном виде? Какие
породы мрамора подбирались для
отправки на корабле? Это лишь
некоторые вопросы, на которые, возможно,
дадут ответ местоположение и
результаты исследований грузов затонувших
кораблей. И наоборот, останки судов,
перевозивших мрамор, могли бы стать
основными источниками информации об
античном торговом судоходстве и его
маршрутах, так как места добычи
мрамора почти все известны, а рынок,
который им снабжался, был весьма
специфическим".
Все описанные до сих пор раскопки
затонувших кораблей касались
исключительно морских судов. Однако
подводные археологические исследования не
исключали также небольшие античные
суда - малокаботажные, портовые и
речные. Так, например, во время раскопок,
продолжавшихся в период с 1957 по
1960 г. возле Фьюмичино, в бывшем
порту, было обследовано семь судов,
рыбачьих лодок, портовых барок и
речных транспортов, относящихся к
периоду с III по V в. н. э. Самое крупное из
этих судов имело в длину 18,7 и в
ширину 6,6 м.
ЛОНДОН
Корабли аналогичных размеров
находили возле Марселя, у острова Эльба
и в Темзе — прямо в центре Лондона.
Три найденных в Лондоне корабля
были для историков особенно
интересными: первое судно было обнаружено в
1910 г. при строительстве Кантри-Холла
между железнодорожным мостом Че-
ринг-Кросс и мостом Вестминстер на
южном берегу Темзы. Останки этого
корабля находятся сегодня в Лондоне в
музее. Корабль относится к концу III в.,
он близок типу средневековой
каравеллы и имел следующие первоначальные
размеры: длина около 21,30 м, ширина
около 4,87 м, высота около 1,83 м.
Корабль имел парусное вооружение и
палубу, палубные бимсы поддерживались
опорами. Доски днища, непосредственно
расположенные у киля, имели толщину
7,6 см с уменьшением до 5 см. Два
параллельно проходящих внутренних киля
увеличивали продольную прочность
корабля. Шпангоуты не прикреплялись к
килю; это обстоятельство может
служить доказательством того, что
тогдашние корабелы вначале вытягивали киль,
подгоняли фор- и ахтерштевень и затем
соединяли доски типично римским
соединением, имевшим форму
ласточкиного хвоста. И лишь после этого
ставились шпангоуты, имевшие в ширину 11,5
и в толщину 16,5 см. Шпангоуты
устанавливались на расстоянии 42,5 см и
служили для увеличения поперечной
прочности.
В марте 1958 г. в занесенном песком
ручье на месте бывших болот в долине
Темзы вблизи Гайс-Хауза (Сотворк)
было обнаружено второе римское судно,
датированное концом II в. Судно было
построено из североевропейского дуба и
первоначально имело, видимо, в длину
около 12 и в ширину — 4,2 м. Очевидно,
корабль не имел палубы, так как
высота его средней части составляла всего
лишь около 1,20 м. Построенное по
принципу каравеллы судно было, так
же как и третий римский корабль,
обнаруженный в сентябре 1962 г., во
время ремонтных работ между мостами
Черных монахов на набережной
Виктории, выполнено в кельтской традиции.
Извлечение останков проводилось с
помощью самых современных технических
средств, что в дальнейшем обеспечило
возможность реконструкции этого судна,
имевшего 16,70 м в длину, 6,70 м-в
ширину, максимальная высота бортов
которого составляла 2,10 м. Судно,
построенное без киля, было
выполнено из местного дуба, имело плоское
днище с флорами 29 шириной 30 и тол-
щиной 21 см. Вместо киля было
обнаружено две доски 65 см шириной,
толщина которых составляла 7,5 см.
5-сантиметровые доски были прибиты к
относительно легким шпангоутам. Швы,
достигавшие в ширину 6 мм, уплотнялись
с помощью ветвей лесного ореха. В
досках просверливали 2-сантиметровые
отверстия, в которые забивались
дубовые штыри. Через эти штыри забивались
железные гвозди во флоры и шпангоуты.
Длина гвоздей достигала 7,3 см. В
средней части судна, предположительно в
трюме, по флорам проходил настил
толщиной 2,5 см. Корабль имел только
одну мачту и, очевидно, также только
один прямой парус. Он был
предназначен для плавания по рекам и в
прибрежной зоне, и являлся вполне
мореходным.
Останки античных судов могут быть
также обнаружены и во внутренних
водах. Это доказывает находка,
сделанная в середине пятидесятых годов в
Швейцарии: в бухте Нойенбургского
озера был обнаружен хорошо
сохранившийся римский корабль I в., имевший в
длину 19,40 м.
Реконструкция днища и левого борта римского корабля II в ,
обнаруженного у Блекфриарса (Лондон)
ОСТАНКИ ЗАТОНУВШИХ СУДОВ,
ПОДНЯТЫЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ В СЕВЕРНЫХ ВОДАХ
Наскальные изображения,
относящиеся к каменному, бронзовому и
железному векам, обнаруженные на побережье
Швеции и Норвегии, свидетельствуют о
том, что в Северной Европе уже в те
времена имелся большой опыт в
строительстве судов. Хотя эти рисунки
однозначно связаны с религиозным культом, они
все же дают представление о
существовавших тогда судах. Одним из самых
древних обнаруженных здесь судов
является корабль, получивший название
"Хьертспрингбоот" (350 г. до н.э.) и
нг/ценный в болоте на датском остро-
в( Алзен в Балтийском море. Между
этим и следующим, точно классифици-
р ванным скандинавским судном,
раскопанным в Шлезвиге и получившим
название "Нидамский корабль", временной
разрыв почти в 700 лет. Другими
судами, обнаруженными во время наземных
раскопок, являются корабль, найденный
возле Суттон-Хоо и датируемый первой
половиной VII в., и судно, названное
"Квальзундским кораблем",
относящееся к более раннему периоду. Наши
представления о раннем периоде
судостроения в Скандинавии в первую очередь
дополняют три норвежских корабля:
"Осеберг", "Гоштед" и "Туне",
относящиеся ко временам викингов.
Находки более крупных судов
последующего периода были крайне редки.
Кроме того, их останки находились в
таком плохом состоянии, что не имели
существенного значения для науки.
Действительно надежные и полные
источники в виде чертежей реконструкций,
описаний и прежде всего заводских
моделей с деталями мы имеем лишь по
кораблям, строившимся с середины
XVII века.
КОРАБЛИ ВИКИНГОВ, НАЙДЕННЫЕ
В ХАЙТХАБУ И СКУЛДЕЛЕВЕ
Хайтхабу — важный торговый центр
.викингов, с перевалочным портом на
реке Шляй. Историческое значение этого
места впервые в полном объеме открыл
Софус Мюллер в 1897 г. Его
высказывания послужили поводом к началу
крупных арехеологических раскопок на
месте старого поселения. Хотя Кильский
музей древностей уже и до этого
проводил обследование различных
доисторических памятников, однако территория <
самого поселения оставалась нетронутой.
Находки, сделанные в процессе
отдельных раскопок, а также результаты их
исследования в течение нескольких лет
полностью изменили историческое лицо
Хайтхабу.
Летом 1953 г. было предпринято
первое крупное обследование на дне бухты
Хадденбюер-Нор у берегов Хайтхабу.
Цель подводных исследований состояла в
том, чтобы выяснить, имелись ли еще на
дне остатки портовых сооружений,
останки затонувших кораблей или другие
находки, попавшие в воду во время
сражений или при погрузочных работах.
Аквалангисты обнаружили целую группу
стоящих близко друг к другу забитых в
грунт свай. Сваи были расположены по
семь-восемь рядов, стоявших друг
против друга. Длина этого сооружения
равнялась 160 м. Очевидно, эти сваи вместе
с другими, меньших размеров,
составляли портовое укрепление. Кроме
большого количества отдельных предметов,
как, например, железные изделия и
оружие, вблизи свай были обнаружены
также останки затонувшего корабля.
Извлечение отдельных частей корабля не пред-
Осушенный комплекс раскопок в Роскилд-фиорде
ставляло больших трудностей, так как
глубина была небольшая, а из-за крайне
плохой видимости в воде подводное
измерение находок не производилось. А
так как многие части корабля были
разрознены, то вся операция заключалась
главным образом в их отыскании и
подъеме. Сохранилась в целом виде
только стенка борта, имевшая 16 м в длину и
2,60 м в ширину, клинкерную30
обшивку и шпангоуты, расположенные на
расстоянии 90 см друг от друга.
При более позднем типологическом
исследовании останков корабль был
отнесен к периоду с 800 по 1300 г.
Однако с большой вероятностью можно
утверждать, что это были X—XI вв.
Обстоятельства, при которых была обнаружена
находка, а также следы пожара
указывают на то, что корабль затонул по время
нападения на портовое укрепление.
"Корабль Хайтхабу" был построен в
соответствии с северными традициями, и его
можно рассматривать и как военный
корабль, и как обычное судно.
Осенью 1978 г. в бухте Хаддебюер-
Нор началось строительство шпунтовой
стенки, чтобы оградить от воды площадь
будущих раскопок. Археологи выбрали
этот метод раскопок, так как он
великолепно зарекомендовал себя при
извлечении останков корабля викингов в
Роскилде-фиорде, а также еще и потому,
что подлежавшие поднятию части
корпуса находились всего лишь на глубине
3,50 м. Шпунтовая стенка огородила
останки судна на расстоянии 3 м, и
размеры рабочей площади, таким образом,
составили 25 х 10 м. Полученная
площадь еще была расширена за счет
дополнительных камер, созданных тем же
способом, так как наряду с кораблем велись
еще раскопки причальных сооружений.
Во время предварительных морских
сейсмических исследований среди прочих
находок был обнаружен колокол,
который, как предполагается, был отлит
около 800 г. Параллельно с работами по
созданию шпунтовой стенки в замке на
острове была оборудована центральная
археологическая мастерская. В конце
1978 г. все было подготовлено к тому,
чтобы весной 1979 г. можно было
начать раскопки. Когда группа
археологов под научным руководством д-ра
Курта Шитцеля, директора музея истории
первобытного общества земли Шлезвиг,
в начале августа смогла прикоснуться
руками к первым частям корабля
викингов, у них позади было уже шесть недель
кропотливой работы. После того как
огороженный участок бухты был осушен
с помощью насосов, его дно
вычерпывали буквально по столовой ложке.
Местами толщина илистого слоя
достигала 2,50 м. "Выдающейся" находкой,
вначале обнаруженной среди ила, были
остатки причала, который уходил в море
на расстояние 50 м. Сохранились сваи, на
которых покоился настил. Эти сваи
имели длину 6 м, а их первоначальная
длина, по всей вероятности, составляла
8 м. Жители Хайтхабу выбрасывали в
воду все, что им больше было не нужно:
использованные бытовые предметы,
всякого рода отбросы. Ил создал идеальные
условия для консервации всего
выброшенного. Вся свалка попала в руки
археологов. Впечатление было такое, что
все эти вещи были выкинуты лишь
совсем недавно.
В первую очередь великолепно
сохранились предметы из органического
материала — костей, дерева, кожи животных
или растительных волокон.
Обнаруженные в большом количеетве
деревянные предметы были - украшены
изображениями животных и
орнаментами, типичными для эпохи викингов.
Иногда они свидетельствуют о высоком
художественном мастерстве изоготовив-
ших их мастеров. Примером такого
художественного совершенства может
служить вырезанная из дерева
тонкостенная чаша с плоской декоративной
ручкой и орнаментальной резьбой или
ручка деревянного черпака с
изображением головы дракона — таким
изображением викинги обычно украшали
форштевни своих кораблей. Были
обнаружены также предметы из керамики. Для
ученых они представили большую цен-
Корабль I, найденный в Скулделеве: разрез в длину
ность, так как при наземных раскопках,
производившихся в Хайтхабу, было
найдено сравнительно мало керамики, и
сосуды, обнаруженные теперь, дали
широкое представление о формах
керамических изделий XI в. Как и следовало
ожидать, среди находок, сделанных на
дне бухты Хадебайер-Нор, было
обнаружено большое количество предметов,
связанных с мореходством: сломанные
уключины, свинцовые слитки и камни —
потерянный и выброшенный балласт,
деревянные кранцы 31, которые вообще
считаются первыми найденными
кранцами, остатки тканей, пропитанные смолой,
сваренной из березы. Эти ткани
применялись для уплотнения или конопачения.
К таким находкам относятся также
канат, изготовленный из растительных
волокон самых разнообразных видов и,
очевидно, использовавшийся для
такелажа морских судов. Часто канаты
находили с завязанными узлами.
За ведение документации работ по
раскопкам и извлечению находок
отвечал Оле Грумлин-Петерсен, директор
музея кораблей викингов в Роскилде.
Каждая площадка и состояние каждой
находки вычерчивались и
фотографировались, а затем объекты передавались на
остров, в центральную археологическую
мастерскую, расположенную в местном
замке. Так как до конца 1979 г. было
обнаружено около 2,5 миллионов
находок, мастерская вначале ограничилась
самыми необходимыми мерами: кожаные
и канатные изделия замораживали до
температуры минус 40 градусов, а затем
при температуре минус 20 градусов
хранили до окончательной обработки;
предметы из кости и рога содержали в
вакууме, дерево хранилось в водяной ванне.
И лишь начиная с 1980 г. находки стали
подготавливать для экспонирования в
музее. Основным объектом музея
Хайтхабу, который будет готов в 1983 г.,
станет корабль викингов, и его смогут
видеть посетители.
Корабль, обнаруженный в Хайтхабу,
не единственное судно викингов,
поднятое со дна водоема. На острове Зеландия
местная легенда говорит о том, что
королева Маргарита (1353—1412 гг.), желая
воспрепятствовать вторжению врагов в
Роскилде, приказала один корабль
нагрузить камнями, развернуть его
поперек фарватера возле Скулделева в Рос-
килд-фиорде и затопить. Несколько лет
рыбаки, а затем и
спортсмены-подводники постоянно доставали со дна фиорда
деревянные части затонувшего корабля.
Эти находки уже в 1956 г. натолкнули
сотрудников Копенгагенского
национального музея на мысль о том, что это,
очевидно, части корабля,
блокировавшего фарватер еще за 300 лет до начала
Корабль I, найденный в Скулделеве Реставрация
правления королевы Маргариты. Такое
предположение заставило
Копенгагенский национальный >гузей предпринять
подводное обследование данного района
Экспедиция состоялась весной 1957 г.
под руководством Олафа Олсена и Оле
Грумлин-Петерсена.
Непосредственно рядом с
предполагаемой находкой аквалангисты
поставили на якорь несколько понтонных
плотов, на которых, помимо
многочисленных инструментов, было установлено
большое количество баллонов со
сжатым воздухом и брандспойтов для
проведения раскопок, являвшихся
основным рабочим инструментом. С помощью
водяной струи с останков
систематически смывались ил, песок и камни.
Правда, в результате этого не было никакой
видимости, и подводникам часто
приходилось ориентироваться только с
помощью маркировочных канатов,
которые натягивались поверх дна. Несмотря
на все эти трудности, вскоре удалось
точно установить, что фарватер был
перекрыт не одним, а несколькими
кораблями. Хотя аквалангисты извлекли на
поверхность большое количество
фрагментов корабельных останков, о
проведении систематических раскопок при
такой видимости не могло быть и речи.
Основательно обследовав находки в
течение трех летних периодов, т.е. до
1959 г., подводники вновь заложили
корабли камнями и песком, чтобы
сохранить находки от внешнего воздействия,
Корабль III, найденный в Скулделеве
Перспективная реконструкция
как, например, течение и ледоход, до
начала работ по их поднятию на
поверхность.
Последующие годы были
использованы для того, чтобы окончательно
подготовить поднятие кораблей. Из-за
сильного течения в этом районе и плохой
видимости в воде было решено
использовать те же методы, что и в наземной
археологии, лишь с небольшим
отклонением в деталях, тем более что
глубина в районе места находки порой
достигала всего одного метра и подводники
в любом случае не смогли бы
использовать акваланги. Поэтому весной 1962 г.
инженерная фирма "Христиани и
Нильсен" в течение двух месяцев обнесла
район находки площадью 1600 кв.м
металлической шпунтовой стеной,
которая была забита в грунт фиорда на
глубину от 3 до 4 м. Затем из этого
ограниченного пространства постепенно была
откачана вода.
Когда 6 июля 1962 г. наконец
показались останки кораблей, то методы
традиционной и подводной археологии
смешались. В течение последующих 14 недель
группа археологов из 15-20 человек
тщательно обследовала обнесенную
территорию. Раскопки кораблей
осуществлялись с длинных дощатых мостков,
которые были проложены над
останками, ибо хождение между ними было бы
недопустимым. Инструментами
археологов стали пластмассовые скребки,
детские ведерочки, щетки и пистолетные
пульверизаторы. Чтобы предохранить
высвобожденные останки от высыхания, их
постоянно было необходимо поливать
водой. Поэтому рабочая площадка все
время находилась в искусственном
дождевом облаке - для археологов работа в
таких условиях была не из самых
приятных.
Раскопки подтвердили результаты
проведенных предварительных
исследований: на дне действительно лежало
несколько судов. Останки трех первых
кораблей являлись препятствием в главном
судоходном канале, в то время как два
других корабля блокировали небольшой
участок на северной стороне пролива. По
типам все пять поднятых кораблей
оказались совершенно различными: торговый
корабль, продолговатый корабль
(типичный военный корабль викингов),
корабль для прибрежного плавания, малый
военный корабль и рыбачье судно или
паром. Все пять кораблей перед
потоплением были нагружены камнями,
горнами и костями в качестве балласта.
Перед погрузкой днища кораблей, чтобы
они не проломились, были застланы
ветвями деревьев.
После раскопок, фотографического и
картографического фиксирования
отдельных находок, обнаруженных в
Скулделеве, фрагменты кораблей в
количестве около 45 000 были тщательно
упакованы и отправлены в Бреде, в
лабораторию консервации, подчиненную
Копенгагенскому национальному музею.
Деревянные части размякли, и их упаковка
была связана с чрезвычайными
трудностями, однако дерево необходимо
было предохранить от дальнейшей порчи.
Поэтому нужно было каждую деревян-
ную часть класть на доску, а затем
заворачивать в мешковину и укладывать в
герметический пластмассовый мешок. В
лаборатории все части был очищены и
собраны, вновь измерены, упакованы и
обработаны в больших баках раствором
ПЭГ4000. В зависимости от породы и
состояния дерева консервация первых
частей длилась шесть месяцев, а
последних — около двух лет. Затем за работу
принялись реставраторы.
В 1966 г. в Роскилде началось строи-
тельсгво музея кораблей викингов.
Спустя три года, в июне 1969 г., музей
открыл свои двери для посетителей. Тогда
посетители смогли увидеть только
первый корабль из Скулделеве —
единственный из пяти, который был
отреставрирован.
Постоянно шла работа над
воссозданием остальных судов. И наконец в
начале 1977 г. все пять кораблей,
представляющих собой уникальную и ценнейшую
для Дании археологическую находку,
заняли свое место в выставочных залах
современного музея.
Корабль I — солидный торговый
корабль, построенный из ели. Ширина —
4,50 м, длина — 16,30 м. Киль и нижние
части шпангоутов выполнены из дуба,
остальные части — из липы. На носу и
корме имеются полубаки32. По всей
вероятности, этот тип корабля
представляет собой "кнарре". Такие типы судов
использовались, например, для плавания
через Северную Атлантику в Исландию и
Гренландию.
Корабль II — удлиненное судно,
длиной около 29 м, выполнено из дуба.
Предположительно корабль имел 20—26
гребцов, которые располагались вдоль
бортовой стенки с интервалами не более
60 см. От этого корабля сохранились
лишь некоторые фрагменты (оказалось,
что находки, первоначально отнесенные к
кораблям II и IV, принадлежали одному
и тому же кораблю).
Корабль III — небольшой торговый
корабль, у которого полностью сохранился
форштевень. Судно было построено из
дуба, имело длину 13,80 м и ширину
3,50 м. Спереди и сзади находился
полубак, в середине — открытый трюм, где в
точке опоры внутреннего киля была
прочно укреплена мачта. Такие
небольшие прибрежные суда, очевидно,
использовались в Балтийском и Северном
морях.
Корабль IV — военный корабль со
сплошной палубой и 12 парами гребцов.
Размеры: длина — 17,40 м, ширина —
2,40 м. Корабль построен целиком из
дуба, за исключением верхних досок
обшивки, выполненных из ясеня.
Корабль V — последний из кораблей,
останки которых были обнаружены в
Скулделеве. Судно построено из ели.
Длина корабля составляла 11,60 м,
ширина — 2,40 м, он имел мачту и парус и,
по всей вероятности, еще и гребцов.
Палуба отсутствовала, а широкие
банки для гребцов были расположены
настолько низко, что при плавании на
веслах гребцы не имели возможности
сидеть. Корабль мог служить в качестве
рыболовного судна или использоваться
как паром.
После раскопок в Скулделеве в Рос-
килд-фиорде были обнаружены еще
останки судов, использовавшихся как
преграда. Все вместе они, видимо,
являлись эффективным средством защиты
против врагов, приближавшихся с моря.
Работа музея кораблей викингов в
Роскилде, однако), не исчерпывается
чисто экспозиционной деятельностью -
сегодня это известный
научно-исследовательский и учебный центр в области
судостроения северных стран. Так, например,
при его поддержке был создан институт
морской археологии, проведен в жизнь
закон об охране останков кораблей,
затонувших в датских водах,
осуществлены обследования различных останков,
а также оказана помощь при проведении
самых различных археологических работ.
В этой связи особенно следует
упомянуть о помощи по извлечению и
консервации корабля викингов, который
является повторением корабля I,
найденного в Скулделеве, и сегодня находится
в музее Бангсбо в Фредериксхафне: ос-
танки этого судна были обнаружены
возле Эллинга уже в 1922 г. в том месте,
где раньше была лагуна, образовывавшая
естественную гавань. Поскольку тогда не
была найдена отправная точка для
временной классификации, останки вновь
тщательно зарыли. И лишь после того,
как появились лучшие методы
датирования и сохранности, специалисты
приступили к раскопкам. Это было в середине
шестидесятых годов. Тогда в различных
частях Скандинавии начали раскапывать
останки судов XII и XIII вв., в то время
уже имелись хорошие методы
консервации.
В связи с 250-летием Фредериксхафна
в 1968 г. были выделены финансовые
средства на раскопки, консервацию и
реконструкцию корабля викингов. Таким
образом, для проведения этих работ
теперь никаких препятствий больше не
было.
Длина корабля составляла немногим
более 15 м. Почти полностью сохранился
правый борт. Несколько поперечных
балок указывают на то, что на корабле
имелся полубак и открытый трюм в
середине судна. Корабль очень похож на оба
торговых судна, найденных в Скулделе-
ве, и лишь меньшее расстояние между
шпангоутами говорит о разнице в
возрасте.
БРЕМЕНСКАЯ КОГГА
Период между 900 и 1350 гг. по
праву называют "великой эпохой
одномачтовых судов". К началу этой эпохи
судоходством в морях Северной Европы
завладели скандинавские викинги. Они
плавали вдоль европейского побережья,
доходили через русские реки до
Византии, колонизировали Исландию, достигли
Гренландии, а позднее высадились на
побережье Северной Америки. Затем, во
второй половине XII в., на арену как
основной корабль Ганзы выступает ког-
га, вытеснившая вскоре все суда
остальных типов. Когга была в состоянии
перевозить грузы от 50 до 100 ластов (1 ласт
равен 200 кг) и вполне заслуживала
название "морской корабль". Развитие
Ганзы было трсно связано с этим
кораблем, о котором впервые официально
упоминается в 1206 г. Он явился
материальной основой быстро развивавшейся
морской торговли.
Примерно два десятилетия назад
важнейшими археологическими находками,
относящимися к судоходству
ганзейского периода, считались: части
северного торгового судна и лодки периода
XII—XIII вв., обнаруженные в Бергене;
фрагменты корабля, найденного у Фальс-
тербо, а также останки 20 судов,
найденные у Кальмара, самое древнее из
которых, очевидно, относилось к
середине XIII в. Однако все это померкло,
когда в конце 1962 г. появилось два
сообщения ученых, занимающихся
историей Ганзы и кораблестроения. Одно
сообщение пришло из Норвегии: там
археологи при раскопках на
территории бывшего "немецкого моста" в
Бергене натолкнулись на части трех
ганзейских когг, датируемых приблизительно
1250 г.
Другое сенсационное сообщение
поступило из ФРГ: бельгийский
земснаряд "Алезиенне" в начале октября во
время работ по созданию нового
фарватера для разворота судов в порту
"Ойропахафен" на левом берегу реки
Везера у Бремена обнаружил корпус
судна, лежавшего под четырехметровым
слоем песка. Хорошо сохранившаяся
ганзейская когга оставила далеко в тени
все то, что имелось до сих пор в этой
области. Как ни изучали ученые
исторические источники, представление о
когге оставалось неполным, так как до
того не было обнаружено ни одного
оригинального судна этого типа. Теперь
вечная мечта исследователей Ганзы -
найти хорошо сохранившуюся коггу -
осуществилась. Вначале показались лишь
части стенки левого борта, штевня 33 и
кормы. Корпус глубоко уходил в склон
оконечности косы, выступающей на 75 м
в Везер. Эта коса представляла собой
остатки широкой береговой полосы,
которая была ликвидирована в связи с
Консервация и реставрация требуют большего времени, чем исследование и извлечение находки
необходимостью расширения фарватера.
Во время работ масса, состоявшая из
наносного песка и илистой глины,
сползла с корпуса, и он частично оголился. Во
время приливов и отливов, которые
определяют уровень воды в реке Везере
вплоть до Бремена, части корабля были
видны лишь через определенные
промежутки времени. Однако даже при отливе
большая часть когги находилась под
водой.
Уже через несколько дней - для
работников музея сообщение по радио
явилось настолько неожиданным, что
нужно было срочно принимать меры по
спасению, - на корабле стали заметны
признаки разрушения, не говоря уже о
том, что некоторые части и до этого
отвалились.
Д-р Зигфрид Флиндер из Бременского
музея Фокке начал борьбу за
предохранение когги от разрушения приливами и
отливами, а позднее и ледоходом.
Вначале особую опасность представляли
расположенные над судном массы песка и
глины, высота которых равнялась 3-4 м:
уже при следующем изменении уровня
воды они могли осесть, расчленить
корпус и увлечь его на глубину. Поэтому с
помощью бульдозера опасные земляные
массы были удалены, и таким образом
по крайней мере было предотвращено
самое худшее. С другой стороны, прилив
и отлив стали вымывать ил и песок из-
Частично обнажившиеся останки бременской когги
нутри корпуса, в результате чего детали
могли бы легко разрушиться. Поэтому,
насколько ч позволял уровень воды,
начали лихорадочно разбирать корпус
доску за доской. Как только археологи
извлекли все части корпуса,
выступавшие из воды, аквалангисты продолжили
работы под водой и при этом
обследовали также и дно реки в поисках дополни-
?ельных фрагментов. В мутной воде
водолазы ориентировались интуитивно —
и провести какие-либо измерения,
фотографирование и зарисовки было
невозможно. В этой связи стало очень важным,
чтобы извлеченные части в соответствии
с пояснениями подводников немедленно
заносились бы на предварительные ре-
конструкционные чертежи, создание
которых было уже начато во время
"подводных раскопок". Таким образом,
все пронумерованные части судна вновь
были собраны в единое целое. Большая
часть судна была поднята до наступления
зимы, которая остановила все работы.
В последующие два года хотя и
проводились неоднократные погружения на
место находки, однако стало ясно, что
таким методом всю работу довести до
конца не удастся. Летом 1965 г. музей
Фокке начал новую фазу раскопок: с
помощью судна "Карл Штраат",
снабженного водолазным колоколом, было
проведено систематическое обследование
русла реки на большой площади.
Специальный корабль был оснащен
100-тонным водолазным колоколом, который
опускался на дно реки. При помощи
перепада давления вытесняли воду, и
сухое пространство площадью 4 х 6 м,
образующееся в колоколе, можно было
подробно обследовать, даже "не замочив
ног". Таким образом постепенно было
обследовано 1400 кв.м дна, при этом
найдено еще несколько сотен
деревянных частей когти: фрагменты внешней и
внутренней обшивки, оснастки
шпангоутов, кроме того, были обнаружены такие
предметы, которые дают важные
сведения о такелаже корабля: куски мачты
и т.п. Было найдено также большое
количество отдельных деревянных
частей, назначение которых определить
оказалось весьма сложным. Одним из
основных вопросов, который волновал
археологов, было определение возраста когги.
В интересах точного датирования
профессор д-р Лизе, директор института
биологии древесины и защиты деревьев
в Райнбеке, с помощью дендрохроноло-
гического метода провел определение
возраста древесины, из которой была
построена когга. В результате
выяснилось, что деревья, из которых построен
корабль, были срублены около 1380 г.
Правильность временной классификации
когги, которая была разработана на
основе весьма сложных типологических
исследований д-ром Флиндером, — в своей
работе он мог опираться только на
сравнение изображений стилизованных
печатей, — подтвердилась теперь и
результатом естественно-научного исследования.
Все деревянные части корабля сразу
же после их извлечения были помещены
в специальные баки с раствором
консерванта. Это было сделано для того, чтобы
воспрепятствовать дальнейшему
процессу гниения. Теперь со всей
тщательностью можно было приступить к
решению двух основных проблем: консерви-
После того как все части были промаркированы, останки когги были тщательно разобраны
рованию и связанному с ним
реставрированию когги. Исходя из опыта,
приобретенного в других странах, было
принято решение также и в этом случае
использовать для консервации средство ПЭГ.
В отличие от консервации "Вазы" когга
восстанавливалась в "атмосфере
тумана", искусственно созданного с помощью
специальных водоразбрызгивающих
форсунок при относительной влажности 97%
и температуре помещения 18°. Четыре
реставратора в течение шести лет с
огромным терпением решали
сложнейшие задачи по восстановлению судна. Во
время этой необычной работы была
разработана новая технология, которая дала
возможность вновь сделать пластичными
и соединить друг с другом ветхие
деревянные части, полностью пропитанные
водой и начавшие портиться.
Примечательным при восстановлении когги
является то, что сборку полностью закончили
не ученые, а специалисты по
строительству деревянных судов. При этом не было
никаких черетежей, указывавших бы на
конструкции когг, строившихся на
протяжении двух столетий. Ведь в те
времена умение и знания передавались от отца
к сыну, от поколения к поколению. За
исключением нескольких письменных
источников, наши сведения о коггах -
которых, по всей вероятности,
насчитывалось от 300 до 500 — основывались, как
мы уже упоминали, на изображениях
различных печатей. Так нынешние
корабелы должны были вновь пережить то,
что для их коллег, работавших
несколько столетий назад, было обычными
профессиональными буднями. И все же, не
имея такого опыта, реставраторы за
шесть лет осуществили это судотехни-
ческое возрождение — последняя доска
была пригнана в конце 1978 г. Над
многим пришлось поломать голову, с
другой стороны, эта работа дала ценные
сведения о способе постройки судов в
средние века, а также о
грузоподъемности когг. Так, мы сегодня знаем, что этот
тип судов имел команду около 15
человек, что судно могло перевозить 120 т
такого груза, как сельдь, зерно, вино,
заготовки для мечей, шкуры, соль,
сукно и медь. В 1979 г. этот самый
интересный экспонат был помещен
сроком на 25 лет в огромный консервацион-
ный сосуд из нержавеющей стали. В
первые годы концентрация раствора
ПЭГ-1000 будет составлять от 5 до 10%,
затем она будет постепенно
увеличиваться и в конце концов достигнет 60%. И
лишь в начале следующего тысячелетия
бременская ганзейская когга длиной
23,4 и шириной 7 м вновь предстанет
перед взорами посетителей. Если
консервация будет удачной, то музей
судоходства в Бремерсхафене будет располагать
уникальнейшим экспонатом, имеющим
огромное культурно-историческое
значение, который ликвидирует пробел между
Подготовка кабестана бременской когги к
консервации
кораблями викингов, найденными в
Осло и Роскилде, и "Вазой". Эту находку
можно считать исторической сенсацией.
"МЕДНЫЙ КОРАБЛЬ" ГДАНЬСКА
Торговый корабль, относящийся к
тому же периоду, был раскопан и поднят
на поверхность сотрудниками морского
муз?я в Гданьске. Во время первого
обследования подводные исследователи
обнаружили несколько сот медных
брусков — отсюда корабль получил свое
название. В отличие от событий, имевших
место в Бремене, здесь к обнаружению
судна привело систематическое
обследование определенных участков Гданьской
бухты. По стечению обстоятельств сама
история деятельности этого музея в
области морской археологии началась в
1969 г. в Ростоке: во время научной
конференции директор музея д-р Смоларек
подробно информировал собравшихся о
современном уровне подводной
археологии. Позднее в Гданьске он осуществил
то, о чем говорилось в Ростоке.
Основная мысль всех рассуждений сводилась
к тому, что музей истории судоходства
для организации систематических
находок наряду с помощью морского
ведомства и рыболовецких учреждений в
первую очередь вынужден прибегать к
помощи водолазов — ведь откуда,
например, возьмет сегодня музей
корабельные пушки периода позднего
средневековья, если не будет заниматься
систематическим обследованием прибрежных
вод?
Интенсивное изучение архивных
материалов вскоре привело к тому, что
только в одной Гданьской бухте было
установлено около 200
кораблекрушений и определены приблизительные места
гибели этих кораблей. Однако список
кораблекрушений включал в себя
только те, которые произошли в период
между XIII и XVII вв. Недавно д-р
Смоларек обнаружил в Гданьском городском
Одна из 58 зарисовок раскопок останков "медного корабля" в Гданьской бухте
архиве планы рейдов 34, которые явились
новинкой в его работе, да и, видимо,
являются единственными документами
подобного рода в мире. Совет
портового города в XVI в. стал каждый год
составлять планы рейда. На этих планах
указывались все кораблекрушения,
происходившие в соответствующем году,
извлечение останков, вновь образовавшиеся
мелководья, а также другие важные
данные: например, указывались глубины в
Гданьской бухте. Такие планы рейда
составлялись до середины XIX в. Они
являются, таким образом, настоящим
кладезем для польских специалистов,
занимающихся морской археологией.
Останки всех 200 затонувших судов,
обнаруженные на основе современных
источников, находятся в так называемом
треугольнике Гданьской бухты,
ограниченной пунктами Хель-Гдыня—Штутт-
хоф. Этот участок — что подверждается
картой—имеет площадь в несколько
квадратных километров и глубину от 5
до 20 м.
Однако, несмотря на это, для
систематического обследования этот участок
разделили на небольшие квадраты,
которые вначале были обследованы
спортсменами-подводниками с помощью акво-
плана. Все обнаруженные таким
образом погибшие корабли или останки
судов, найденные рыбаками, моряками и
спасательными обществами и признанные
специальной группой работников музея
исторически интересными, заносятся на
специальную карту погибших кораблей
вместе с останками, которые
обнаруживаются в результате целенаправленной
деятельности музея. В середине
семидесятых годов на карту были занесены
останки 22 обнаруженных погибших
кораблей. Сразу же после обнаружения эти
находки были предварительно измерены
и сфотографированы, что явилось
основой для дальнейшей исследовательской
работы. Например, обнаруженный в июне
1969 г. морским ведомством и польским
спасательным обществом корабль № 5
(медный корабль) был также
обследован вначале только для картотеки.
Корабль был случайно обнаружен в
результате строительства гданьского северного
порта, когда драгами прощупывалось
дно бухты с целью выявления
препятствий. В то время польские музейные
работники уже интенсивно работали над
исследованием шведского флагманского
корабля "Солен", который был потоплен
польскими судами в сражении у Оливы в
1627 г., у них не было времени
заниматься "новым" кораблем. Лишь с мая
1971 г. началось непосредственное
изучение, хотя, как и прежде, основное
внимание было приковано к "Солену". В
1973 г. предварительные обследования
останков корабля № 5 были закончены. В
последующие годы должны были
начаться систематические раскопки судна.
Однако это проще сказать, чем сделать,
ибо условия работы были отнюдь не
ободряющими: корабль лежал на
расстоянии 3 миль к северо-востоку от
Гданьска на 18-метровой глубине прямо
на линии фарватера, ведущего в Гдыню и
Гданьск. А так как ежегодно над местом
находки проходило около 2500 судов,
можно себе представить, что
происходило в летние месяцы на рабочей
площадке. Другую трудность являли сами
раскопки. Холм состоял из металла, песка,
смолы и пека — твердая асфальтовая
рубашка не позволяла применить обычные
методы раскопок.
Д-р Смоларек так описал эту фазу
работы: "То, что совершили подводники
в эти дни, было непостижимым. Когда
они поднялись на поверхность, их неопре-
новые костюмы и акваланги были все в
смоле, на палубе они повсюду
распространяли запах смолы, а солнце делало
свое дело. Все было липким и грязным,
волосы склеились, койки и одежда были
в грязи — это были страшные дни для
всех нас". В конце концов раскопки
стали вести изнутри: в одном из концов
холма водолазы убрали три бочки и
стали систематически работать в
горизонтальном направлении (обычно
раскопки судна ведут сверху, удаляя слой за
слоем).
Среди прочих предметов водолазы
обнаружили бочонки с вязким
веществом, а также металлические стержни,
связанные лыком. Во время дальнейших
погружений на поверхность были
подняты еще бочки с пеком, дегтем и смолой.
Сюда же следует добавить связки льна и
конопли, бочонки с салом, поташ и
доски. Все эти находки являлись
типичными предметами польского экспорта
400-летней давности. Только медь,
очевидно, была из Словакии или Венгрии.
На носу корабля, по всей вероятности,
начался пожар, который определил
судьбу корабля и одновременно явился
причиной того, что смола, расплавившаяся
под действием высокой температуры,
образовала толстый защитный слой,
благодаря которому корабль и груз
оказались сохранившимися для потомков.
Когда был поднят на поверхность весь
груз и проведены измерительные й
фотосъемочные работы, к поднятию на
поверхность стали готовить сам корабль.
В октябре 1975 г. подготовка
закончилась, и судно можно было поднимать. На
место прибыло несколько кораблей,
которым предстояло участвовать в
подъеме.
Первым встал катер "Водник",
принадлежавший музею, и рабочий понтон,
к нему подошел плавучий кран
польских вооруженных сил и, наконец, с
подветренной стороны, на расстоянии
100 м, бросил якорь эскадренный
миноносец, выполнявший роль волнореза.
Четыре быстроходных катера следили за
тем, чтобы торговые корабли проходили
на достаточном расстоянии от места
работ, а также чтобы не скапливалось
слишком много любопытных. Подъем
"медного" корабля имел потому
большое значение, что впервые в истории на
поверхность был поднят полный груз
того времени весом в 20 т. В состав
груза входило: около 3 т меди в
дисках, Ют железных стержней, около
200 корабельных досок и 100 бочек со
смолой, воском, поташем, пеком и
дегтем. Крохме того, на борту находились
доски для бочек, которые
использовались голландскими рыбаками для
транспортировки своих продуктов, а также
пенька и парусина для парусов. Между
шпангоутами были обнаружены остатки
прошлых грузов: зерна ржи и несколько
наконечников стрел для арбалетов.
Так как, кроме груза и ничтожных
остатков одежды, больше не было
обнаружено ни судовых принадлежностей, ни
бытовых предметов команды, для
датирования находки оставался лишь сам
корабль. С самого начала стало ясно, что
по конструкции корабль нельзя было
сравнить ни с одним из других судов,
так как до этого корабли того периода
были подняты лишь в Бремене и в
Кальмаре. "Медный корабль", хотя
несколько и отличается от бременской когги по
способу постройки, однако в деталях
имеются определенные соответствия.
Поднятый со дна киль, выполненный
из дуба, имел в длину 17,60 м.
Ахтерштевень и сохранившаяся задняя часть
стороны левого борта позволяют сделать
вывод о том, что первоначальная длина
корабля составляла 24 м. Одномачтовый
корабль был построен по клинкерному
образцу, дубовые доски были
уплотнены шерстью и мхом. Грузоподъемность
составляла около 150 ластов.
Исследование дерева, из которого
было построено судно, проведенное с
помощью радиокарбонового метода в
Техническом институте г. Славска, показало,
что корабль был построен
приблизительно около 1380 г.
ШВЕДСКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ "ВАЗА"
Другая находка, которую можно
увидеть в одном из музеев Стокгольма, уже
давно привлекает ежегодно 400 000 посе-
тилетей. Это "Ваза", военный корабль
XVII в. История и судьба этого корабля
известны нам сегодня почти во всех
подробностях.
Семнадцатилетний Густав II Адольф
стал королем, получив печальное
наследие своего отца Карла IX: Швеция вела
войну на два фронта. На востоке — с
Россией и Польшей, на юге — с Данией,
вечным соперником за овладение бассей-
На этой модели наглядно представлен способ поднятия корабля
ном Балтийского моря. Распри с
соседями способствовали тому, что шведский
военный флот не только оказался
устаревшим, но и сильно нуждался в
ремонте. Лишь после заключения мира с
Данией (1613 г.) и с Россией (1617 г.)
Густав II Адольф смог серьезно
приступить к осуществлению программы по
строительству нового флота. В 1625 г.
шведский флот усилился на 25 вновь
построенных и несколько купленных за
границей судов. В 1625 г. шведский
король заключил договор с голландским
частным судостроителем Хенриком Хи-
бертсоном де Гроотом и его братом
Арентом де Гроотом. Оба брата должны
были построить на стокгольмской верфи
два крупных и два малых военных ко-
были "Тре крунур" и "Ваза".
Последнему, с его очень сильным артиллерийским
вооружением, отводилась роль флагмана
шведского блокирующего флота в
30-летней войне. Действительно "Ваза" стал
знаменитым кораблем, хотя его слава и
не достигла таких размеров, чтобы
затмить самые известные корабли —
"Золотую лань" Дрейка и "Викторию"
Нельсона. И это потому, что "Ваза" ни разу не
вышел в открытое море. Этот корабль не
принял участия ни в одном морском
сражении, на нем также не было совершено
ни одного увеселительного плавания.
Стокгольмский порт представляет
собой целый лабиринт, состоящий из
изгибов, каналов и островов. Из окон
королевского дворца Тре крунур взгляд
Густава II часто устремлялся в сторону
Бласехольмена — острова, на котором
находились королевские верфи. Три
года, не переставая, трудилась там
пестрая семья мастеровых — плотников,
пильщиков, токарей по дереву,
кузнецов, бондарей, столяров, шорников и
резчиков по дереву. Все это время на
острове не смолкали звуки топоров, пил
и молотков. Стволы мощных деревьев
пилили двуручными пилами. Сюда
доставлялись канаты и такелаж, и был
полностью обеспечен работой цех
пушечных дел мастеров. День за днем Густав II
Адольф любовно наблюдал за "Вазой".
И велика была его радость, когда в
конце 1627 г. корабль сошел со стапелей
Май 1961 г.: "Ваза" в сухом доке "Густав V", на бетонном понтоне, сооруженном на верфи Геф-
леверфт специально для этой цели
з Нюбрувикене.
Весной следующего года корабль стал
*а якорь у причала королевского дворца,
любы принять на борт балласт, запасы,
артиллерию и команду. До августа на
флагманский корабль, кроме балласта,
5ыло погружено две 62-фунтовые
пушки, 48 орудий по 24 фунта, одно 16-фун-
говое орудие, восемь 3-фунтовок, две
пушки по одному фунту, а также 35-фун-
говая мортира. Все орудия были отлиты
из 92%-ной меди и весили вместе 72 т.
Точная численность команды
неизвестна, мы также не знаем, когда она
вступила на борт. Однако по проекту для
"Вазы" предусматривалось 133 матроса,
несколько корабельных плотников и 300
солдат. Поименно известны лишь
несколько человек из членов команды:
Сефринг Ханссон, капитан корабля,
Петер Гирдссон, лейтенант,
Ен Ларссон, канонир,
Эрик Енссон, оружейник,
Пер Бертилссон, главный боцман,
Ерат Матссон, такелажных дел мастер.
Наконец наступил день первого
плавания. В воскресенье 10 августа 1628 г.
корабль поднял паруса, чтобы
отправиться в Эльснаббен, в шхеры Стокгольма,
чтобы там в соответствии с письменным
распоряжением короля встать в строй
вместе с другими кораблями, "чтобы в
назначенный нами день и час отправиться
под парусами в указанное нами место".
Только что пробили вечерню в Стур-
чуркане. Люди толпами повалили из
церкви, где они присутствовали на
службе. Солнце звало жителей Стокгольма
совершить воскресную прогулку. На
набережной начала собираться толпа,
которая с интересом наблюдала за
приготовлениями на борту "Вазы". Крупнейший
корабль Швеции с позолоченными
скульптурами, горящими на солнце, с
высокими надстройками на кормовой
палубе, исторические картины,
которые прославляли фамилию "Ваза", с
огненными жерлами, видневшимися в
отверстиях люков, украшенных
рычащими львами и подкрашенных красной
краской. Крупнейший корабль Швеции
мирно покачивался на волнах. У релин-
га & стояли отважные матросы в
широкополых шляпах. Люди махали
шляпами. На корабле и на берегу раздавались
крики. Наконец капитан Ханссон отдал
команду, и "Ваза" под восторженные
крики собравшейся на набережной толпы
отошел от королевского пирса. 16
моряков вращали тяжелый ворот и
накручивали мокрый якорный канат, а на
баркасе уже разматывали буксировочный
канат. "Ваза" был отбуксирован мимо
островерхих домов Шеппсбруна в другую
часть порта - Стреммен, где корабль
приветствовал легкий юго-юго-восточный
бриз. Наконец корабль приблизился к
скалам Сэдермальма, освободился от
буксирующих катеров и на мгновение
замер. На ветру развевались все флаги.
Прозвучали новые команды, которые
были быстро и точно выполнены. Были
подняты передний и большой марсовые
паруса — что составило менее половины
площади всех парусов, насчитывавшей
1200 кв. м. Легкого бриза было
недостаточно, чтобы надуть паруса.
Несмотря на это, "Ваза" медленно начал
двигаться в сторону открытого моря.
Когда "Ваза" прошел Кастельхольмен,
ветер посвежел, у носа и неуклюжих
бортов забурлила вода. В тот момент, когда
отгремел салют, так называемый "Свен-
склезен", внезапный порыв ветра
накренил корабль. Не успел "Ваза"
выпрямиться, как ветер ударил с новой силой,
и судно накренилось на левый борт.
Мгновенно отпустили топсельные шкоты,
но было поздно: новые, жесткие канаты
не проходили через блоки и шкивы. Еще
один порыв ветра настолько накренил
"Вазу", что вода хлынула в открытые
артиллерийские порты. Борт потяжелел,
и корабль — гордость шведского флота,
построенный с таким потом и
искусством, — проплыв около 1500 м, пошел ко
дну. "Ваза" затонул на траверзе Бэкхоль-
мена с поднятыми парусами и флагами. У
жителей Стокгольма, наблюдавших
около пяти часов вечера эту картину,
застряли в горле слова: "Да здравствует
"Ваза"! Лодки поспешили к месту траге-
дии, чтобы оказать помощь
находившимся в воде, однако для многих никакой
помощи уже не требовалось. Среди жертв
были женщины и дети, для которых
тогдашний королевский приказ стал
роковым: "Если кто-то захочет взять с собой
жену, то ему будет это дозволено на
время плавания в Стреммене и за его
пределами во внутренних шхерах, но ни
в коем случае при выходе в боевое
плавание".
Разумеется, гибель роскошного судна
всколыхнула людей. Повсюду
высказывалось мнение, что причиной катастрофы
явились ошибки, допущенные при
строительстве и командовании кораблем.
Уже на следующий день рейхсканцлер
проводил во дворце предварительный
допрос, а 5 сентября специально
созданной следственной комиссией началось
слушание дела. Комиссия состояла из 17
человек под председательством рейхсад-
мирала. Прежде всего обвинялись
оставшиеся в живых, выполнявшие команды
на борту. Протокол тогдашнего
процесса был обнаружен в рейхсархиве и
представляет собой любопытный документ.
Судьям действительно было нелегко
найти виновного. В первую очередь они
пытались обвинить капитана "Вазы".
Так, например, его спросили: "Все ли
пушки были закреплены в соответствии
с инструкцией?" Ханссон ответил: "Если
закреплены были не все пушки, можете
разорвать меня на куски".
В судебную палату был вызван
главный боцман, где его спросили, почему он,
вместо того чтобы образцово нести служ-
Нижняя орудийная палуба в передней части корабля - деревянные лафеты свидетельствуют об
огневой силе тогдашних военных кораблей
бу, якобы напился. Он ответил, что в тот
день принимал святое причастие.
Показания кораблестроителя Хиберт-
сона получить, не удалось, так как в
1627 г. его уже не было в живых. Однако
его интересы представлял его брат Арент.
Ему оказало поддержку показание
корабела Хайна Якобсена, который на
вопрос, почему он построил корабль таким
узким и без брюха, на которое судно
могло бы ложиться, в результате чего
оно опрокинулось, ответил, что их
высочество сами утвердили размеры корабля
и что "Ваза" строился в точном
соответствии с указаниями короля. Стало также
известно, что адмирал Клас Флеминг,
который подчинялся непосредственно
рейхсадмиралу, предпринял проверку
устойчивости корабля: тридцать человек
сомкнутыми рядами должны были
несколько раз пробежать от левого борта к
правому и наоборот. На третий раз
корабль наклонился настолько сильно, что
почти перевернулся, и адмирал приказал
прекратить проверку. Так безуспешно
прошел процесс, причины катастрофы
выяснены не были, приговор не был
вынесен.
Почему же затонул "Ваза"? Много
ответов можно было бы дать на этот
вопрос, даже если и исключить
недоказуемые ошибки в управлении кораблем.
Уже тогда резко критиковали слишком
большие размеры корабля, а его
постройка, как это вообще было принято,
проводилась без чертежей. Просто работали по
так называемой разметке, т.е. корабли
строились по черновым проектам,
содержавшим только приблизительные
размеры, а также соотношения основных
частей. Окончательные детали, необходимые
для постройки, кораблестроители
перенимали у своих предшественников или
изобретали сами. Это считалось
"семейным секретом". От надстройки на задней
палубе до оконечности бушприта длина
"Вазы" составляла около 65 м.
Кормовые надстройки имели в высоту около
20 м, задняя палуба находилась над
водой на высоте 10 м. Максимальная
ширина составляла 11,7 м, осадка —
4,7 м, грот-мачта имела высоту около
50 м. Водоизмещение "Вазы" составляло
примерно 1300т-по тогдашним
временам это был огромный корабль,
построенный по масштабам, по которым
тогда строили суда, бывшие на одну
треть легче. Что же явилось причиной
катастрофы?
Эта мысль не давала покоя.
Оставалась также проблема выбора высоты
нижних орудийных люков. Если их
размещать слишком низко, то
возникнет опасность попадания воды.
Устройство их на. большой высоте нарушало
остойчивость судна36, в результате чего
вес двойного ряда пушек грозил
переместить центр тяжести корабля.
В конечном итоге гибель "Вазы"
явилась одним из важнейших поводов к
тому, что в Швеции приняли способ
постройки кораблей, аналогичный
английскому.
Что бы ни явилось причиной гибели
королевского корабля, сразу же начали
приниматься энергичные попытки
поднять судно. Правда, "Ваза" лежал на
глубине 32 м, но в середине защищенной
гавани, так что корабль был в пределах
досягаемости. В то время было много
дискуссий о древнем искусстве ныряния,
о средствах и путях для спасения орудий
и других ценных вещей с затонувшего
корабля (пушки были тогда очень
ценным объектом торговли). Однако
технические возможности и оборудование для
работы под водой были еще слишком
мало развиты, так что смельчакам,
бравшимся за такое дело, не всегда везло.
Одним из таких людей был английский
инженер Джан Бальмер, который
именовался "инженером его величества.короля
Англии". Бальмер первым получил
привилегию поднять "Вазу". Уже через три
дня после катастрофы он поспешил на
злополучное место. Однако, как он ни
пытался, ему не удалось выровнять
корабль, лежавший на боку. Хотя эта
работа оказалась не полностью успешной, ее
нельзя недооценить, ведь под водой
"Ваза" весил все-таки 700 т.
Затем спасательные работы взял на
В трюме археологи обнаружили бочонки из-под провианта
себя шведский военно-морской флот, не
добившийся, однако, также никаких
результатов. В декабре адмирал Клас
Флеминг сообщал королевскому совету, что
"Ваза" оказался "тяжелее, чем я когда-
либо мог предполагать".
В последующие годы многие
предлагали свои услуги для поднятия корабля.
Выбор пал на шотландского полковника
Александра Форбеса, в 1642 г. ему
удалось получить исключительное право на
проведение спасательных работ. Однако
никаких заметных результатов
достигнуто не было. Другой полковник, на этот
раз швед Альбрехт фон Трайлебен,
отличившийся при спасании различных судов,
но опоздавший к выдаче
правительственного разрешения на подъем "Вазы",
сгорал от нетерпения доказать свои знания.
Вместе с Андреасом Пеккелем ему
удалось оттеснить неудачливого шотландца
и в 1663 г. получить желанное
разрешение.
Фон Трайлебен и Пеккель убедились в
том, что о поднятии целиком огромного
колосса имевшимися тогда технически-
Уже на последней фазе консервации были начаты работы по восстановлению корабля
ми средствами нечего и думать. Однако
имелась возможность спасти весьма
дорогие орудия.
Итальянский путешественник Фран-
ческо Негри, который в то время как раз
находился в Стокгольме, в 1700 г.
опубликовал подробный отчет о погружении
и спасательной операции обоих
экспертов. По его свидетельствам, они
использовали простой водолазный колокол
высотой 1,25 м (похожий на обычный
церковный). В этом колоколе водолазы
могли находиться на глубине от 20 до
30 минут, стоя по грудь в воде. Для
защиты от холода они надевали теплые
кожаные костюмы, которые плотно
зашнуровывались металлическими
лентами, чтобы в них не проходила вода.
После осмотра оба водолаза пришли к
выводу, что для того, чтобы извлечь
пушки, необходимо взломать палубы
"Вазы". После того как верхние палубы
были освобождены и вскрыты, оба
специалиста увидели, что не могут
продолжать работы на нижних палубах. Но
все же вскоре им удалось придумать
систему, с помощью которой они смогли
извлекать 1,5-тонные пушки
непосредственно через орудийные люки. Эта
система до сих пор остается неразгаданной.
Несомненно, их работа осталась одной из
самых замечательных* операций по
спасению затонувших судов. Имея лишь
примитивные спасательные инструменты,
водолазы вынуждены были опираться на
собственное чутье, они не имели к тому
же возможности свободно передвигаться.
Пеккель придумал систему бочек для
снабжения водолазного колокола
свежим воздухом, благодаря чемуувеличи-
лось время пребывания водолазов под
водой. Нужда заставила Швецию стать
одной из зачинателей водолазного
искусства. В 1665 г. фон Трайлебен прекратил
спасательные работы. Согласно
шведским таможенным документам, 53
орудия, снятых с "Вазы", в том же году
были проданы в Любек. После того как
большинство орудий было поднято, а
других ценностей, которые мог бы
извлечь Трайлебен, на "Вазе" не осталось,
он стал готовиться к снаряжению
экспедиции по спасению испанских
серебряных сокровищ, затонувших в Вест-
Индии. Эти приготовления были
упомянуты в шведском королевском архиве
как "Тайная охота г-на фон Трайлебена
за серебряными рыбками" — название,
которое дает представление о мистике и
тайных влечениях моря.
В то время как Трайлебен отправился
навстречу неизвестной судьбе, "Ваза"
погружается в темноту и ил стокгольмской
гавани...
1628 г. был несчастливым для
шведского флота: затонуло много крупных
судов. Одно из них, "Риксникельн"
("Королевский ключ"), сентябрьской
ночью налетело в стокгольмских шхерах
на риф и разбилось. Спустя почти 300 лет
у рыбака Эрика Нордштрема возле
острова Викстен на дне застрял якорь.
И надо же было случиться, чтобы вблизи
оказалось спасательное судно. Один из
водолазов за бутылку коньяку
согласился спуститься под воду, чтобы
освободить якорь. Рыбак на этом месте уже
однажды потерял якорь и драгу, поэтому
он воспользовался услугами водолаза,
чтобы выяснить, в чем дело. Водолаз
обнаружил на дне не только якорь
рыбака, но останки старинного корабля.
Позднее ему удалось поднять из
останков семь великолепных, богато
украшенных пушек немецкого, шведского и
польского производства. Эти
великолепные орудия стали объектом горячих
споров. 100 000 крон предложил за одно
орудие польский финансист, а один
немецкий коллекционер был готов
заплатить еще больше. Однако права были у
Швеции — находки были переданы
стокгольмскому Музею мореходства, где
ими можно любоваться еще и сегодня.
Профессор Нильс Онлунд во время
изучения архивных материалов установил,
что обнаруженные останки принадлежали
"Риксникельну". Он также обнаружил
документы, сообщавшие о затонувшем в
том же году "Вазе" и о привлекшей
всеобщее внимание судьбе этого
корабля. Интересным было также сообщение
о поднятии с "Вазы" еще одной
24-фунтовой пушки, которое было
осуществлено через 20 лет после спасательной
операции фон Трайлебена. Профессор
рассказал студенту Андерсу Франсену о
своих архивных находках. Студент,
большой почитатель той эпохи шведской
истории, вдруг ощутил возможность
осуществления мечты всех студентов,
изучавших морскую историю, —
когда-нибудь найти "Вазу".
Но где лежал "Ваза"? Корабль
затонул где-то в Стокгольмской бухте. В
Люстхольме, в Блоксуддене, недалеко от
Данвикена — так звучали названия
пунктов, которые были обнаружены в старых
документах. Но эти указания были
настолько неопределенными, что для того,
чтобы гарантировать успех поисков,
необходимо было задействовать
несколько сот подводников. Следует добавить,
что в илистой воде бухты нельзя было
различить даже руку, не говоря уже о
потемневших от времени останках
затонувшего корабля.
Летом 1954 г. жители Стокгольма
увидели мотобот, который день за днем
пересекал гавань, таща за собой драгу. На
корме бота стоял Францен, над которым
подсмеивались портовики и рабочие
верфи: все, что ему удавалось поднять со
дна, не имело никакой ценности —
ржавые колеса, железные печи и другой
хлам. Прошло два года, но никаких
следов "Вазы" обнаружено не было. С
фанатическим упорством Францен обследовал
дно эхолотом, однако безуспешно. Он
соорудил зонд, с помощью которого
намеревался брать пробы исследуемого
материала. Это был своего рода
свинцовый лот, в верхней части которого были
приварены стабилизирующие крылья —
зонд напоминал ракету. На конце лота
находилась небольшая трубка с острыми
краями. Когда трубка ударялась с силой
о неметаллический предмет, она
вырезала кусочек материала, который
поднимался на поверхность. С помощью этого
прибора Францен вначале обследовал
воды возле Стадсгаркоена. В одном
архиве он нашел старинную морскую карту,
на которой кто-то отметил место, где
должен был лежать "Ваза": Стадсгаркоен.
Но здесь не удалось найти ничего такого,
что говорило бы о затонувшем судне. С
наступлением осени Францена вновь
увидели за изучением старинных актов в
государственном архиве. Вдруг в его
руках оказалось письмо шведского
государственного совета, датированное 12
августа 1628 г. Это было официальное
сообщение королю о постигшей
катастрофе. Король в то время воевал в
Польше. Францен не поверил своим глазам,
когда прочитал: "...и в это тяжелое
воскресенье 10 дня этого месяца "Ваза"
поднял паруса. Но случилось так, что ему
удалось дойти только до Бекхольмсуд-
дена, где он вместе с пушками и
остальным имуществом пошел ко дну и
покоится на глубине 18 саженей..." Так значит
Бекхольмсудден! Этот старинный
королевский замок давно стал жертвой огня.
Там, где когда-то находились
королевские верфи, сейчас выстроен "Гранд-
отель", а через скалы Седермальма
сегодня проходит железнодорожная линия.
Однако Бэкхольмен все еще
существовал, хотя и несколько изменился. И вот
в 100 м от него на глубине 32 м должен
был лежать "Ваза". В том месте
прошлым летом эхолот обнаружил большой
холм!
Друзья-инженеры говорили Францену,
что холм на дне портового бассейна
является не чем иным, как породой,
оставшейся после взрыва в связи со
строительством сухого дока, для которого
потребовалось удалить часть небольшого
острова. В августе 1956 г. Францен опустил
свой зонд, на глубине 30 м он обо что-то
ударился. Францен быстро вытащил его
на поверхность. В трубке лота не было ни
ила, ни глины, ни мусора, а только
черные кусочки старого дуба — дерева, из
которого был построен крупный
корабль, что Францен доказал после
нескольких проб. Здесь должен был
находиться корабль: длина его 50 м и
несколько метров в ширину. Был ли этот
корабль "Ваза"? Да, после многолетних
поисков Францен обнаружил
королевский корабль.
Теперь останки должны были
обследовать опытные водолазы, чтобы выяснить,
возможно ли поднять судно. Но откуда
взять средства для финансирования
работ? Тут в голову пришла блестящая
идея: Францен отправился к начальнику
стокгольмской военно-морской верфи,
рассказал ему о своих поисках, об
обнаружении судна и стал уговаривать
офицера проводить обучение морских
водолазов на месте находки. Командир верфи
без колебаний согласился на это
предложение, а водолазы обрадовались
возможности несколько разнообразить
занятия. Через несколько дней главный
водолаз Эдвин Фэльтинг, на счету которого
уже было 10 000 часов, проведенных под
водой, совершил первое погружение. На
глубине 30 м, утопая по грудь в иле, он
прокладывал себе путь в темноте. Затем
он сообщил по телефону: "Передо мной
деревянная стена... вот увидел несколько
артиллерийских люков... вот снова
целый ряд люков". Теперь даже те, кто до
сих пор был еще настроен
пессимистически, больше не сомневались: в иле
лежал корабль, и, если верить старинным
документам, этим кораблем был "Ваза".
Наступило время, довольно
неприятное для скромного Францена. Радио,
телевидение и пресса начали сообщать о
нем и его успехе. Но здесь была и
положительная сторона: Францену многие
стали предл&гать помощь. В то время
когда военные водолазы еще занимались
более подробным обследованием судна,
весной 1957 г. на свое первое заседание
собрался временный комитет по
поднятию "Вазы". В задачу комитета входило
изучение финансовых и технических
возможностей для поднятия целиком всего
корабля. В состав комитета входил
также представитель шведского
спасательного общества "Нептун", которое
имело опыт по успешному подъему
целого ряда судов. Так, например, в
1892 г. этим обществом был поднят
британский крейсер "Хау" (10 300
регистровых т)37, затонувший возле Феррола у
побережья Испании. Общество "Нептун"
согласилось предоставить оборудование
бесплатно, если "Ваза" будет поднят
целиком. В этом случае руководство
всей операцией было бы возложено на
известного эксперта капитана Акселя
Хедберга. Параллельно с обсуждениями в
комитете продолжалась работа
водолазов, в результате которой были, в
частности, найдены бронзовая пушка и
19-метровый кусок грот-мачты.
Между тем прошел год, прежде чем
комитет предложил свой план подъема
судна. Много вариантов было изучено и
составлено заново. Так, например, было
предложено заполнять корпус корабля
теннисными мячами до тех пор, пока
корабль не всплывет под воздействием
подъемной силы наполненных воздухом
мячей. Один изобретатель предложил
установить в корпусе корабля
морозильную установку, которая превратила бы
его в единый сплошной ледяной блок,
который затем поднялся бы на
поверхность сам. Выдвигалась также идея
огородить судно пластмассовой пленкой,
удалить находящуюся внутри воду и
создать тем самым для водолазов более
легкие условия работы. Но все эти
интересные идеи не были осуществлены, так
как "Ваза" не должен был служить
подопытным объектом. Комитет принял
решение поднимать корабль с помощью
традиционных и апробированных
методов. Было решено вначале передвинуть
"Вазу" с 32-метровой глубины на
глубину 16 м. Предполагалось подцепить
корпус несколькими стальными тросами и
приподнять его между двумя понтонами.
Не слишком ли смелым был этот план?
Последнего колеблющегося Францен
убедил заключением, из которого
явствовало, что дерево еще сохранило 60%
первоначальной прочности — таким
образом, оно сможет выдержать нагрузку.
Теперь оставалось только получить
деньги, и операцию можно было
начинать. Ссуда, которую получил комитет
"Вазы", была весьма скромной, так как
местные власти и правительство все еще
ставили под сомнение успех операции и
не верили в то, что она оправдает
затраченные средства. И лишь когда комитет
Валленштейна выделил 27 000 крон и
несколько тысяч крон были получены от
короля Швеции Густава VI Адольфа, а
также от нескольких промышленников и
частных лиц, можно было приступить к
работам.
Уместно спросить, почему на карту
ставилась такая большая сумма для
поднятия останков всего лишь старого
затонувшего корабля? Разве в архивах и
музеях не достаточно сведений о
судостроительном искусстве того времени?
К сожалению, нет! Данные о старинных
кораблях и их оснащении значительно
беднее, чем это обычно принято считать.
Проведение первой фазы работ
потребовало от военных водолазов огромных
усилий. Было решено промыть под
килем корабля шесть канав для
подъемных тросов: без этого протянуть их под
корпусом корабля было невозможно,
так как "Ваза" лежал, зарывшись в иле
глубиной в несколько метров. И вот
водолазы спустились на глубину, взяв с
собой всасывающую трубу мощной
помпы. Подойдя к бортовой стенке "Вазы",
они направили в ил мощную водяную
струю. Через всасывающую трубу помпы
на поверхность поднималась отмытая
глина. Таким способом люди
прокладывали себе путь. Над ними находился
корпус огромного судна — в случае
обвала туннеля у них оставался лишь один
небольшой шанс на спасение: промыть
себе обратный путь. Однако такие
опасения оказались необоснованными. Доски
"Вазы" выдержали, и вся работа,
исключая небольшие обвалы ила, проходила в
соответствии с программой. Работая под
водой, водолазы обнаружили в иле
скульптуры, отделившиеся от корабля.
Наряду с несколькими сотнями резных
деревянных фигур и масок с
артиллерийских люков были найдены еще
несколько пушек, глазурованные
фаянсовые тарелки, цинковые и деревянные
кружки, а также глиняные кухонные
горшки. До августа 1959 г. водолазы
Свен-Олаф Ниберг, Стиг Фриберг, Леннарт
Карлбом и Рагмар Янссон под
руководством своего главного водолаза —
прозванные участниками операции
"туннельной бандой"—за 1300
погружений промыли шесть канав общей
длиной 100 м на глубине 35 --40 м. После
этого под корабль можно было
протянуть тонкие тросы.
Теперь на место действия прибыл весь
флот спасательного общества "Нептун".
В его состав входили оба подъемных
понтона — "Оден" и "Фригг", —
построенные в 1858 г. для подъема затонувшего в
водах Финского залива военного
корабля "Гангут". Понтоны сопровождали два
спасательных судна — "Атлас" и "Слей-
пер". Тонкие тросы, предварительно
протянутые под кораблем, были заменены
шестидюймовыми тросами, длина
которых составила 1500 м; их закрепили на
палубах обоих понтонов. Утром 20
августа была завершена вся подготовка к
этой первой операции, ожидавшейся
всеми с большим напряжением. Капитан
Хедберг отдает команду "Затопить!"
Открылись вентили понтонов, и вода
устремилась в соответствующие отсеки.
Когда палубы почти сравнялись с
поверхностью воды, поступила новая команда:
"Закрыть перегородки!" Лебедки стали
медленно натягивать стальные тросы, на
которых покоился "Ваза".
К середине дня компрессоры начали
откачку воды из понтонов. "Оден" и
"Фригг" осторожно всплывали.
Откачивание воды производилось чрезвычайно
медленно, ибо риск был слишком велик.
Около 16 часов, спустя три часа после
начала откачки воды, за борт в своем
водолазном костюме опустился Свен-
Олаф Ниберг. Необходимо было наконец
выяснить, успешно ли проходит
операция. То, что он сообщил по телефону
наверх, сняло напряжение, охватившее
всех: "Ваза" оторвался от ила. Корабль
спокойно висит на тросах
приблизительно в метре от дна. Повреждений нет!"
Теперь оба буксира начали
оттаскивать всю систему в направлении Кастель-
хольмена, пока киль "Вазы" не коснулся
нового дна. Вновь были затоплены
понтоны, натянуты тросы и из понтонных
отсеков откачена вода. Так день за днем
корабль поднимали и передвигали
вперед. Таким образом, в общей сложности
"Ваза" в трудных условиях прошел 18
этапов, пока наконец 16 сентября
капитан Хедберг не записал в бортовом
журнале: "Мы достигли Кастельхольмена...
"Ваза" был перемещен на расстояние
600 м и сейчас лежит приблизительно на
глубине 16 м... Уже с небольшой
глубины можно увидеть его очертания..."
Разумеется, эти 18 этапов проходили не
всегда гладко. Иногда "Ваза"
соскальзывал на то место, которое покидал
только что перед этим. Иногда он настолько
глубоко уходил в грунт, что его нельзя
было сразу вытащить. Несколько раз
корабль поворачивали и тащили кормой
вперед. Специалисты, доставившие
"Вазу" в Кастельхольмен в целости и
сохранности, совершили невероятные
усилия. Здесь, в мелководье, королев-
ский корабль должен был зимовать, так
как стало очевидным, что "Вазу" можно
поднять целиком. Успешному ходу всей
предыдущей операции Францен был
обязан тем, что теперь у него появилось
много помощников.
Все большее количество организаций
стали понимать: проект по поднятию
"Вазы" осуществим. Временный комитет
"Ваза" был преобразован в постоянный,
председателем которого стал кронпринц
Бертил. Заместителем был назначен
председатель стокгольмского городского
совета Карл Альберт Андерссон. Комитет
должен был следить за всей последующей
операцией по подъему корабля, а также
направлять работу по консервации и
дальнейшему экспонированию корабля.
Перерывом на зиму также
воспользовалось общество "Нептун". Следовало
несколько перестроить "Оден" и "Фригг".
Понтоны являлись также платформами
для мощних гидравлических
подъемников. При имевшемся расположении
подъемников "Вазу" поднять было
нельзя. В этом случае стальные тросы стали
бы с большой силой давить на бортовые
стенки "Вазы" и это давление было бы
очень трудно контролировать. Для того
чтобы обеспечить наиболее щадящий
подъем "Вазы", нужно было
подъемники из центра понтонов сместить в
сторону. На каждом понтоне было таким
образом смонтировано по семь
подъемных устройств.
Но достаточной ли окажется сила
подъемников, чтобы поднять на
поверхность "Вазу"? Комитет "Вазы" решил во
время подъема, насколько будет
возможно, откачивать из корабля воду. При
этом исходили из того, что
транспортируемый подобным образом "Ваза"
быстрей смог бы достичь сухого дока
"Густав V" на острове Бэкхольмен.
До конца марта 1961 г. (примерно 18
месяцев) водолазы энергично готовили
"Вазу" к предстоящей откачке воды.
Для этого было необходимо заделать
пробоины, закрыть пушечные люки,
заменить сгнившее дерево, плотно
заделать деревянными пробками отверстия,
образовавшиеся от 5000 проржавевших
железных штырей, которыми когда-то
были прикреплены скульптуры, а также
закрыть досками разрушенные части
корпуса. Одновременно была усилена
верхняя часть корабля. В связи с этими
работами было сделано большое
количество археологических находок на
верхних палубах. И наконец, водолазы
подложили под особенно тяжелую
кормовую часть еще четыре надувных
резиновых понтона, которые способствовали
успешному завершению операции.
4 апреля 1961г. спасательный флот
общества "Нептун" вторично подошел к
"Вазе". Девятидюймовые стальные тросы
проложили вместо старых, лежавших под
кораблем два года. 24 апреля наступил
наконец долгожданный момент. На этот
раз подъем осуществлялся с помощью
гидравлических подъемников, вновь
смонтированных на "Одене" и "Фригге".
При этом подъем можно было вести
буквально по сантиметрам и точно
контролировать. Медленно вырисовывались
очертания "Вазы" в мутной воде порта.
Кнехты, расположенные возле
фок-мачты, явились первыми частями корабля,
которые спустя 333 года вновь оказались
на поверхности. Как призраки выступали
они из грязной воды. С раннего утра
огромная толпа с любопытством и
нетерпением ожидала момента, когда
"Ваза" прорвет наконец водную
поверхность. В 14 часов под восторженные
возгласы тысяч стокгольмцев Андерс
Францен и Пер Эдвин Фэльтинг первыми
ступили на толстые балки верхней
палубы. Спустя короткое время началась
откачка воды из корпуса судна. Чтобы
избежать сильных потоков воды,
откачку производили осторожно, используя
при этом электрические подводные
помпы и дизельные центробежные.
Ежеминутно из корпуса выкачивалось 30 000 л
воды. В то время как тяжелые и легкие
водолазы непрерывно поправляли
уплотнения, палуба корабля являла собой
своеобразную картину: между
современными рокотавшими механизмами
толпились водолазы, археологи, химики, ин-
женеры, электрики, машинисты и
другие специалисты.
Очень медленно, как бы неохотно из
воды поднимались мощные борта
"Вазы". 4 мая корабль всплыл уже
настолько, что мог пройти над дном дока
"Густав V". Во второй половине дня "Ваза"
был отбуксирован в Бэкхольмен.
Довольно медленно, левым бортом, с
осадкой от 7 до 8 м он был подтянут в док.
Вода еще доходила до верхней
батарейной палубы. Однако уже через несколько
дней уровень воды составлял всего лишь
3 м. Началась заключительная фаза
подъема. Корабль было нужно
тщательно очистить, удалить балласт и
предохранить от высыхания, прежде всего —
корпус. За работу принялись эксперты по
консервации. С помощью специальной
системы весь корпус постоянно
поливался водой; хрупкие части были укрыты
пластмассовыми мешками и брезентом;
отдельные детали до основной
консервации временно поместили в резервуары с
водой. Для защиты от мороза и снега
"Вазу", кроме того, нужно было
поставить под крышу, и, наконец, сухой док
должен был снова выполнять свои
основные функции. Поэтому "Вазу" поставили
на бетонный понтон, специально
изготовленный для этой цели и предварительно
затопленный в сухом доке. Длина
понтона составляла 56, ширина — 21 и
высота — 3,75 м. Теперь корабль находился на
дне временного музея "Вазы", своего
первого пристанища. В ноябре
флагманский корабль Густава II Адольфа
предпринял свое пока последнее плавание:
покоясь на специальном понтоне,
окруженный алюминиевыми конструкциями,
он буксируется к своей теперешней
стоянке на верфи "Ваза" (Васаварвет).
Эта верфь построена специально как
временный музей "Вазы" и является частью
Государственного исторического музея,
на который были возложены задачи по
консервации, реставрации, хранению
королевского военного корабля "Ваза".
Самой насущной проблемой оказалась
консервация. Правда, дерево "Вазы" еще
поразительно хорошо сохранилось.
Однако, так как при высыхании оно дает в
два раза большую усадку, чем свежее
дерево, требовалось разработать
специальные методы обработки, чтобы
предотвратить усадку, ломку и
растрескивание. Правда, уже имелся опыт
консервации влажного дерева, однако
находка таких размеров консервации еще
никогда не подвергалась. Только один
корпус, хотя и немного поврежденный,
имел 900 куб. м дерева, в основном это
был дуб. Сюда следует прибавить 1200
деталей системы шпангоутов, 1000
скульптур и резных изделий, а также
1200 предметов оснащения корабля и
команды.
16 февраля 1962 г. под салют из двух
пушек "Вазы" король Густав VI Адольф
торжественно открыл Васаварвет для
посетителей.
Пока в понтонхаузе (алюминиевое
здание, внутри которого на бетонном
понтоне стоял "Ваза") шли работы по
консервации корпуса корабля, в
выставочных залах посетители уже могли
видеть самые различные экспонаты,
прошедшие консервацию. С момента
открытия Васаварвета прошли годы, в течение
которых экспозиция неоднократно
расширялась и изменялась. После окончания
каждого из многих циклических
процессов консервации в распоряжении
работников музея появлялись новые
экспонаты, которые по разным причинам
оказались лишь недавно извлеченными из ила
стокгольмского порта. Лишь 25 октября
1967 г. водолазы закончили свою
деятельность в зоне обнаружения находки.
Площадь длиной 100 и шириной 45 м
они обследовали буквально сантиметр за
сантиметром. Было отсосано и просеяно
более 1500 куб. м ила. В результате этой
работы было сделано еще около 4000
находок.
Наряду с корпусом корабля
многочисленных посетителей особенно
привлекает скульптурная галерея. Здесь
представлены все законсервированные
скульптуры, которые еще не укрепили на
корпусе. Среди экспонатов находится
носовое украшение "Вазы" - вырезанная
вручную фигура льва или тритона длиной
3,28 м и весом 2 т, находившаяся на
форштевне; затем фигура Геркулеса, в
ногах у которого находился закованный
Цербер. Далее мы видим офицеров в
украшенных перьями шлемах с
опущенными забралами, фигуры воинов и
играющих на флейтах девушек. Перед
нами предстает довольно впечатляющая
картина искусства резьбы по дереву
известных и неизвестных немецких,
голландских и шведских мастеров того
времени, фигура Геркулеса, видимо,
принадлежит Мортену Редтмеру, а голландец
Иохан Тессон (Иохан Дитрихссон Тийс-
сен) является автором также
выставленного пилястра с изображением фигуры
обнаженного перса в тюрбане.
Как известно, "Ваза" располагал
чрезвычайно внушительной по тому времени
артиллерий. Шведские музейные
работники учли это обстоятельство и
оборудовали небольшое помещение в виде
точной копии нижней батарейной палубы. На
лафете лежит 24-фунтовое орудие,
угрожающе уставив жерло через орудийный
портик, украшенный львиной маской.
Рядом расположены боеприпасы:
круглые ядра, цепные ядра, а также
зажигательные бомбы, зарядный ковш, досыла-
тель, банник, пороховница, фитильница.
Посетитель не увидит здесь абордажных
кошек и ножей, хотя в то время и было
принято брать вражеский корабль на
абордаж, как только будет приведен в
негодность его такелаж. Во время
подводных работ оружие такого рода
обнаружено не было. Найдены были только
мушкеты и шпаги, являвшиеся личным
оружием моряков. Предполагается, что
абордажные кошки и топоры должны
были поступить на борт только в Эльфс-
наббене, первом пункте назначения
"Вазы". На примере огневой силы
шведского адмиральского корабля посетитель
узнает, что слишком малая
дальнобойность пушек (максимально около
1500 м) и очень малая точность
стрельбы вынуждали сражавшиеся стороны
вести огонь с довольно небольших
расстояний. Наиболее выгодным
расстоянием для ведения боя была 600-метровая
дистанция. 24-фунтовое ядро могло
пробить 80-сантиметровый брус. Так как в
XVII в. толщина бортовой стенки
корабля составляла 40 см, то это означало, что
круглое ядро могло прошить корабль
насквозь. Несколько попаданий ниже
ватерлии обычно приводили к
потоплению судна.
В другом помещении наглядно
демонстрируется жизнь на борту. В центре
"Вазы", внизу в трюме, находился
построенный из кирпича камбуз. Этот
камбуз был также воспроизведен в
натуральном виде. Здесь над имитированным
огнем висит огромный чугунный котел
объемом 190 л. Во время работ на дне
археологи обнаружили возле камбуза
большое количество бочек с остатками
провианта — соленой рыбой и мясом.
Однако других свидетельств о характере
продуктов для команды не было.
Правда, известно, что Густав II Адольф
Шведский в 1628 г. приказал хорошо
снабдить флот пивом и хлебом. Пиво
предпочитали на кораблях, потому что
считали, что оно являлось эффективным
средством против цинги, но главное —
питьевая вода не сохранялась долго в
бочках!
Во время подводных работ были
также найдены керамические сосуды. При
этом доминировала обожженная посуда
из красной глины со свинцовой
глазуровкой. Были также найдены
деревянные ложки и маленькие круглые
деревянные дощечки — предшественницы
тарелок. Все это был*о идентифицировано
как столовая посуда команды.
В качестве контраста простым и
удобным деревянным предметам и бытовой
керамике матросов представлена
цинковая посуда офицеров: тарелки, миски,
ложки, сосуды для питья, а также
бутылки.
На парусных судах, находившихся в
открытом море, часто возникали
повреждения, причиной которых были бури и
штормы, а также участие в сражениях.
И по этой причине на флоте служили
мастеровые-ремесленники, как, напри-
мер, парусных дел мастера и плотники.
На вспомогательной палубе в ящике был
найден плотничий инструмент. Все
инструменты, сделанные из железа, были
разрушены, однако деревянные части
сохранились очень хорошо. Содержание
плотничьего ящика можно разделить на
две группы: одна представляла собой
обычный плотничий инструмент,
вторая — специальный инструмент
корабельного плотника. Среди инструментов
второй группы находились также предметы,
с помощью которых производилось
конопачение палубы и бортовых стенок.
Для этого с помощью конопатки и
деревянного молотка в швы загонялась
просмоленная пенька. Чтобы эта пенька не
прилипала к конопатке, ее все время
нужно было опускать в просмоленную
ветошь, которая всегда находилась под
рукой в небольшом деревянном сосуде,
так называемом "феттско". Он был
сделан таким образом, что во время
работы его можно было прибивать. Кроме
этого, в плотничьем ящике находилось
большое количество топорищ и ручек
для молотков, четыре оправы для
ложечного сверла, точильный брусок, ручная
пила, лом, а также измерительные
инструменты, состоящие из упорного и
косого угольника, линейки, куска мела
и мотка веревки.
Наряду с инструментами в плотничьем
ящике оказались личные вещи
владельца: две пары кожаных перчаток,
кошелек с медными монетами, ночной
колпак, сшитый из клинообразных
кусочков материи. Как вообще были одеты
моряки "Вазы"? Какие предметы быта
находились у них на борту и как они
соответствовали жизни на корабле?
Археологи выяснили эти вопросы: на
нижней батарейной палубе под лафетом
был обнаружен человеческий скелет.
В 1963 г. на военно-морском кладбище
(Галерварвет) было похоронено 12
жертв катастрофы 1628 г. Исследование
костей показало, что рост погибшего
составлял 170 см и ему было 30—35 лет.
Ногти на руках и ногах, а также волосы
сохранились так же хорошо, как и
одежда. Моряк носил шерстяную
куртку с длинными рукавами и короткими
полами и широкие панталоны, имевшие
большое количество складок на талии и
шнуровавшиеся под коленями. Далее его
костюм дополняли полотняная рубаха,
полотняные чулки и башмаки с бантом.
Свое имущество, которое современный
моряк хранит в мешке, команды "Вазы"
держала в сундуках и бадьях. Такие
морские сундуки содержали: рукавицы из
мягкой кожи с длинными крагами,
широкополые фетровые шляпы,
башмаки с бантами из грубой кожи, домашние
туфли из тонкой кожи на кожаной
подошве с пробковой прокладкой.
Команда спала между орудий, т.е. на
обеих орудийных палубах.
Офицеры жили в кормовой части
судна. Здесь, в частности, была найдена
настольная игра. Это был ящик, в
котором хранились камни и кости. Все 30
камней и одна из двух костей были
подняты на поверхность. Эта находка
заслуживает внимания потому, что в XVI и
XVII вв. шведы еще не знали настольных
игр.
В бочонке, содержавшем личные вещи
моряка, находилась курительная трубка.
Она является самым первым
доказательством курения в Швеции из всех
имеющихся до сих пор.
Затем были найдены монеты — всего
более 4000 штук. Согласно курсу 1628 г.,
их было достаточно, чтобы купить около
60 т ржи.
Все эти находки законсервированы,
отреставрированы и теперь выставлены в
витринах. Употреблявшиеся же
офицерами цинковые кружки и кувшины,
бутылки и столовые приборы, а также
настольную игру можно увидеть в
воспроизведенной капитанской каюте. Большинство
обнаруженных на "Вазе" цинковых
предметов содержат инициалы или клейма
мастера. На некоторых стоит так
называемая городская печать. На многих
предметах обнаружили даже три печати.
Количество печатей отражало качество
изделия. Так, например, на предмете,
изготовленном из 70% цинка, ставилась
городская печать и печать мастера. На
предметах из более высококачественного
материала (примерно 85%)
дополнительно ставилась еще одна печать. На "Вазе"
были также обнаружены предметы из
цинка с короной над розой в качестве
клейма. Это клеймо означало, что
изделие выполнено из чистого цинка.
После консервации, завершившейся в
1978 г., большую часть деятельности
музея стала занимать работа по
реставрации "Вазы". Принципиально корабль
должен быть реконструирован только с
помощью оригинальных частей. Лишь в
исключительных случаях, когда были
известны форма и размеры определенных
частей, прибегали к воссозданию.
Сегодня корпус корабля вновь
восстановлен — большое количество
скульптур находятся на своих местах. Во время
подготовки корабля к поднятию
водолазы, в частности, заменили проржавевшие
железные штыри на деревянные пробки.
Они, правда, хорошо выдержали
нагрузку, однако эти соединения не были
достаточно прочными, чтобы предотвратить
очень небольшое деформирование
"Вазы" при первом доковании. Новые
штыри нельзя было вставить сразу, так
как старые отверстия сместились по
отношению друг к другу. Однако с
помощью 15 лебедок в течение шести
месяцев боковая деформация была устранена,
в результате чего 5000 новых штырей
были забиты в старые отверстия.
Бесконечного терпения потребовало
определение места и назначения тысяч
отдельных предметов. Так как обе
стороны корабля идентичны, то часто
оказывалось возможным определить
отдельные части по аналогии. Все украшения,
как, например, эмблема корабля,
галереи и орнаменты, первоначально были
прибиты. При этом тогдашние мастера
не экономили на гвоздях и забивали
их, вероятно, даже без всякой
системы. Особый рисунок этих дырок от
гвоздей давал возможность прикрепить
многочисленные части на свое место.
Одно открытие следовало за другим.
Вот так, деталь за деталью
познавалась конструкция "Вазы" во всех
подробностях.
Наибольшие трудности представляла
полностью разрушенная кормовая часть.
Но и здесь нашлось достаточно
оригинальных частей, которые позволили
произвести воссоздание оригинала. К
большому удивлению, оказалось при этом,
что "Ваза" был больше, чем
предполагалось первоначально. Было также
установлено, что "Ваза" имел по
голландскому образцу две продольные галереи,
расположенные друг над другом (на
старинных изображениях видна только
одна).
Сегодня вновь функционирует руль
"Вазы" с 11-метровым румпелем 38.
Опыты показали, что руль
поворачивался приблизительно во все стороны
примерно только на 7 градусов. При
больших изменениях курса кораблем
следовало управлять с помощью
брасов39 парусов.
Две водяные помпы снова
восстановлены. Большая помпа состоит из
8-метрового выдолбленного ствола ольхи.
Дерево не очищали, так как кора
предохраняет древесину от разрыва. Верхняя
часть помпы с коромыслом находится на
верхней батарейной палубе. Поршень,
как и "сердце", выполнен из дерева.
Подвижность вентиля достигалась с
помощью кожаного, "шарнира". "Сердце"
имело соответствующий вентиль и,
очевидно, было снабжено железной ручкой,
что позволяло" вытаскивать его с
помощью крюка для чистки. Оно сидело в
сужении помпы на глубине 2,5 м. На
конце рукава находилось продырявленное
медное ведро, использовавшееся как
сито.
На верхней палубе находятся
кнехты40 и шпили41, готовые к работе. При
подъеме тяжелых грузов, например рей с
парусами, вес которых составлял около
2 т, требовалась очень большая сила.
Поэтому конец каната пропускали через
блок в кнехте. Это давало возможность
создать угол поворота, с тем чтобы
несколько человек могли бы тянуть
канат.
С конца 1975 г.
специалисты-плотники занимались оборудованием
высокой кормовой надстройки (полуют),
т.е. они работали в помещениях, в
которых в 1628 г. короткое время жили
капитан Сефринг Ханссон и его
офицеры.
Деталь за деталью восстанавливается
"Ваза" в том виде, в какой он вышел в
свое первое плавание. Даже если сегодня
и доказаны ошибки конструкции, даже
если роковой крен корабля был вызван
перегрузом за счет чрезмерно большого
количества орудий, "Ваза" все-таки
должен считаться блестящим образцом
судостроительного искусства XVII в.,
единственным сохранившимся свидетелем
которого он является.
КОРАБЛИ В ВОДАХ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
ЗАТОНУВШИЕ КОРАБЛИ БАССЕЙНА
КАРИБСКОГО МОРЯ
История кораблей, затонувших у
американского побережья, начинается
первым плаванием Христофора Колумба.
Рождественским вечером 1492 г. он
потерял свой флагманский корабль "Санта
Мария", наскочив на песчаную банку у
устья реки на северо-западном
побережье Гаити, восточнее мыса Гаитиен.
До сих пор останки каравеллы42 "Санта
Мария" еще точно не локализованы.
Вероятно, она лежит где-то на
мелководье возле Гранд-Ривьера-ду-Норд. Но в
один прекрасный день аквалангисты
доберутся и до "Санта Марии". Так как
предполагается, что флоры, киль и
боковые кили с внутренней и внешней
обшивкой еще сохранились (предположение
базируется на состоянии морского дна в
этом районе: толщина илистого слоя от
2 до 3 м), а большие железные гвозди,
которыми были соединены киль и
флоры, будут достаточны для определения
местоположения корабля с помощью
магнитометра, останки "Санта Марии"
при систематическом обследовании соот-
вествующего района будут, видимо,
обнаружены.
23 июня 1503 г. во время своего
четвертого, и последнего, плавания Колумб,
чтобы избежать катастрофы, приказал
посадить на грунт у северного побережья
Ямайки два своих корабля — "Капитано"
и "Сантьяго", изъеденных червями и
имевших течь. Это произошло вблизи
залива Святой Анны. Роберт Маркс,
который, в частности, временно
руководил также раскопками Порт-Ройала,
обнаружил останки двух кораблей.
Первые признаки указывали на то, что он
нашел оба корабля Колумба. Если это
подтвердится, то находка имела бы
огромнейшее историческое значение, ибо
Золотой дублон империал (восемь эскудо) с
отчеканенной надписью: "Филипп V Божьей
милостью 1714", обнаруженный среди
останков корабля в Карибском море
она дала бы нам ценную информацию о
судостроении XV-XVIbb., т.е. того
периода, о котором мы мало знаем.
Корабли Колумба по нашим
сегодняшним масштабам были настоящими
ореховыми скорлупками. Например,
флагманский корабль "Санта Мария"
имел в длину 25 м, он пересекал
Атлантику за 35 дней.
В последующий период такие корабли
оказались слишком малыми для
перевозки сокровищ из Нового Света в
Испанию и вооруженных воинов,
необходимых для защиты драгоценного груза.
Поэтому стали строить более крупные и
более тяжелые корабли — галионы4^.
Это были четырехмачтовики с
четырехугольными парусами, и для пересечения
Атлантики им требовалось от 50 до 60
дней. Но около 1530 г. враги Испании
стали настолько сильны, что
трансатлантические торговые флоты были
вынуждены сопровождать вооруженные экс-
корты: был создан так называемый
"Серебряный флот". Однако от
бушевавших в Карибском море и
Мексиканском заливе — в особенности осенью —
опасных тропических бурь защиты все же
не было. Первая катастрофа флота в этих
водах разыгралась в 1553 г., т.е. всего
лишь 17 лет спустя после выпуска
монеты города Мехико и введения
регулярной системы контроля и обложения
налогами благородных металлов.
Разыгравшийся шторм отбросил флот к
песчаному побережью нынешнего Техаса. Там
недавно был обнаружен один из этих
кораблей. Аквалангисты нашли большие
серебряные пластины, небольшой
золотой слиток, распятие, цепной вертлюг44
ручной ковки, арбалеты45 и
астролябию46. Эта находка может иметь очень
большое значение, если подтвердится, что
найденное судно входило в состав флота,
потерпевшего крушение в 1553 г. Так,
наряду с расширением наших сведений о
введенной уже тогда системе контроля и
обложения налогами благородных
металлов мы сможем получить аутентичную
картину о конструкции, вооружении,
оснащении и грузе испанских кораблей,
осуществлявших торговлю с Новым
Светом. А если на месте трагедии будут
обнаружены пушки, то мы сможем
узнать, как были в целом оснащены
корабли Колумба, так как за тот небольшой
период вооружение испанских кораблей,
видимо, не изменилось.
Чрезвычайно трудно что-либо сказать
о кораблях пиратов, так как они в
основном использовали захваченные суда.
Александр Оливье Эксквемелин в
1678 г. в своей книге "Пираты Америки"
довольно выразительно описал, как
пиратам доставались корабли и как они их
оснащали. Действовали они все в
принципе одинаково: если захваченное судно
оказывалось лучшим, чем их
собственное, то они вывешивали свой пиратский
флаг на захваченном корабле, а свой
топили. Правда, под "лучшим" кораблем
пираты обычно понимали более
быстроходное судно. Поэтому понятно, что
подводным археологам нелегко среди
останков большого количества
кораблей обнаружить бывшее пиратское судно.
Это объясняет особое внимание
специалистов, когда в 1967 г. корабль,
обнаруженный между Эскумскими островами и
обследовавшийся в течение одного года,
был однозначно определен как
пиратский. Началось все довольно просто: три
спортсмена-подводника обнаружили в
центре небольшого кораллового рифа на
глубине 7,50 м скопление гальки, на
которой лежали две большие и
несколько малых пушек с казенниками и
скопление железных гвоздей.
После того как были закончены
обследования, стало очевидным, что это были
останки пиратского судна. Оно имело
узкий вытянутый корпус, было
относительно легкой постройки с острым носом
И1 кормой. Две большие пушки были
установлены на носу таким образом, что
могли быстро вывести из строя
вражеский корабль. У релинга находились 11
вращающихся орудий, которые с
близкого расстояния обстреливали
неприятельские суда. Количество орудий говорит за
то, что этот корабль водоизмещением
175—200 т имел довольно большую
команду. Отточенные линии корпуса
выдают конструкцию быстроходного судна,
имевшего, очевидно, латинское парусное
вооружение и основная задача которого
состояла в преследовании и захвате
вражеских кораблей. Обнаруженные
предметы позволяют с большой вероятностью
отнести возраст судна к XVI в., однако
не позднее 1580 г. Приблизительно в
100 м от этих останков аквалангисты
обнаружили два якоря, что
свидетельствует о том, что в момент потопления
корабль стоял на якоре. Так как не было
обнаружено никаких личных вещей, руч-
Примерно в середине XVII в. пираты преимущественно использовали шхуну-бриг (с гравюры
Густава Алокса, Морской музей в Париже)
ного огнестрельного оружия, а также
никаких следов продовольствия, можно
предположить, что корабль был потоплен
командой, пересевшей на другое судно.
В Испании зачастую напрасно ждали
возвращения ежегодно отправляемого
флота, нагруженного сокровищами
Нового Света, так как непогоде и пиратам
не было дела до экономического
положения испанского короля.
Пока на родине с нетерпением
ожидали возвращения талионов, испанское
дворянство и капитаны кораблей
устраивали свои дела.
А так как у наместников колоний не
было хорошо подготовленных служащих
по управлению подведомственными
территориями, а вместо них были
представители дворянства, единственный интерес
которых сводился к умножению
личного состояния, то упадок Испании как
морской державы происходил весьма
ускоренными темпами. Если в период
между 1570 и 1599 гг. Испания в
Карибском море еще держала флот из 110
кораблей, то в 1610 г. их было 55, а около
середины XVII в. испанский флот в
Карибском бассейне составлял всего лишь
25 кораблей. В 1661 г. для перевозки
сокровищ через Атлантику Испания была
вынуждена арендовать корабли у
Голландии. В соответствии с отчетом,
подготовленным в 1670 г. для Кольбера
(министр финансов Франции с 1665 г. —Пер.),
общий торговый баланс с островами
Вест-Индии достиг в этом году суммы,
превышавшей 38 миллионов лир. При
этом доля Франции составляла 6
миллионов, Англии — 5, Голландии, Гамбурга и
Данцига - 10, Фландрии, Швеции и Да-
нии - 4, Генуи, Неаполя, Ливорно — 7,
Португалии, Галатии и Биссаи — 2 и
Берберийских государств — 1 миллион.
На долю же Испании
приходилось, таким образом, всего 3 миллиона
лир!
Естественно, со временем также
менялись и размеры кораблей, так как
постоянно увеличивалось количество груза,
необходимого для перевозки. Если в
XVI в. корабль водоизмещением от 150
до 400 т считался крупным, то в
середине XVII в. уже перестали быть редкостью
суда, водоизмещение которых
составляло от 300 до 500 т. Эдвард Тукер в
период с 1950 по 1955 г. обнаружил в
Бермудских водах останки трех
кораблей, которые дали интересные сведения о
размерах, грузе, вооружении и
оснащении испанских кораблей.
Корабль I. Сохранившаяся половина
днища имела 14 м в длину и 8,5 м в
ширину. По следу, оставшемуся во
внутреннем киле от грот-мачты, можно
определить первоначальную длину киля.
Сечение флоров составляло 32,50 см2,
внутреннего киля - 60 х 22,5 см, сечение
досок обшивки-35,5 см в ширину и
7,5 см —в толщину. Площадь сечения
киля равнялась 50 см2. Корпус судна
был построен исключительно из дуба.
Киль и внутренний киль соединялись
с помощью больших железных штырей,
большие дубовые дюпели обеспечивали
соединение досок. Корабль имел в
длину приблизительно 36—42 м и обладал
водоизмещением около 400 т. По
времени постройки он может быть отнесен к
периоду 1570-1580 гг.
Корабль II. Был вооружен чугунным
фальконетом47 (калибр 3 фунта) и
поворотным орудием из кованого железа.
Обнаружено большое количество
предметов личного пользования моряков:
например, навигационные инструменты,
такие, как измерительный циркуль из
латуни, часы в латунном корпусе, а
цинковый клистир с деревянным
цилиндром являлся частью снаряжения
судового лекаря. На основе
обнаруженных сокровищ, таких, как золотые
слитки, серебряные монеты, ювелирные
изделия, а также индейские предметы из
пальмового дерева, удалось установить,
что корабль в 1594 г. находился на пути
в Испанию. Особый интерес представляли
золотые слитки (до этого времени
золотых слитков еще не находили) : один
слиток был весом более 40 унций48, два
круглых слитка весили приблизительно
25 унций, малый слиток весом 5 унций, а
также два слитка квадратной формы. Все
слитки имели клейма, т.е. были
взвешены испанскими королевскими
чиновниками и обложены пошлиной. На крупных
слитках, кроме того, еще было
обозначено слово "Пинто", что свидетельствовало
о том, что золото было намывное,
добытое в бассейне реки Пинто в Новой
Гранаде. Среди этих же останков было
найдено исключительно дорогое
украшение: золотой нагрудный крест с семью
прекрасными изумрудами, добытыми в
копях Колумбии.
Корабль III. Этот корабль был
идентифицирован как "Сан Антонио". "Сан
Антонио" вместе с несколькими
другими судами в конце лета 1621 г.
отправился из Картагены (Колумбия) в
Гавану. В море маленькую флотилию застала
непогода, и 13 сентября 400-тонный
"Сан Антонио" наскочил на рифы юго-
западнее Бермуд. В течение последующих
дней корабль подвергся настоящему
разграблению командой и населением
острова Сомерсет. К счастью, они оставили
аквалангистам XX в. еще так много, что
можно было сделать ценные
археологические выводы о бытовых товарах испа-
ноамериканских поселений. На борту
находился обычный груз: ящик с индиго,
дубленая кожа (предназначенная для
изготовления книжных переплетов и
обтягивания футляров) и гваяковое
дерево, затем были обнаружены около
20 000 раковин каури, которые,
очевидно, предназначались испанскому купцу
как платежное средство для покупки
рабов в Западной Африке. Интересным
грузом являлись черепашьи панцири,
которые использовались в Испании для
изготовления табакерок, гребней и оправ
для очков или для мастерской
краснодеревщика Чарльза Андре Буле, так как
он отделывал черепашьими пластинами
мебель, предназначенную для "высших
десяти тысяч".
Пытаясь противодействовать
экономическому упадку в своих владениях в
бассейне Карибского моря, король
Филипп IV в 1640 г. назначил Диего Паче-
ко, герцога Эскалонского, вице-королем
Испании. Вскоре Диего Пачеко заказал
на верфи Вера-Крус целую серию
кораблей, и через несколько месяцев было
закончено строительство восьми галио-
нов и одного фрегата. Самый крупный и
самый красивый галион нового флота
был назван "Нуэстра сеньора де ла
Консепсьон". И все же все это предприятие
имело один изъян: герцог не был
моряком и не имел ни малейшего
представления о сроках строительства кораблей,
о проверке их качества. Это отсутствие
профессиональных знаний скоро
обернулось негативной стороной.
23 июля 1641г. новоиспеченная
флотилия во главе с флагманским
кораблем покинула Сан-Хосе-д'Уллоа, порт
Вера-Крус и вышла в море,
отправившись в Гавану, чтобы присоединиться
там к флотилии Тиерра-Ферма под
командованием генерал-капитана Хуана ле
Кампоса. Конвой, увеличенный до 31
корабля, 13 сентября 1641 г., в самый
разгар периода бурь, стал на якорь. Спустя
два дня "Нуэстра сеньора де ла
Консепсьон" дала течь. Конвой был
вынужден возвратиться в Гавану. 28 сентября
ремонт был закончен, и корабли вновь
вышли в море. Когда конвой
находился в узком проливе между островами
Флорида-Кейс и Кей-Сол-Бэнк,
изобилующем рифами и мелкими островками,
разразилась буря. В одно мгновение
несколько наспех построенных
кораблей затонуло. Агония "Нуэстра сеньора
де ла Консепсьон" длилась дольше: с
порванными парусами и сломанными
мачтами, с рваными бортами несколько
недель беспомощный корабль, ставший
игрушкой в руках стихии, носился по
волнам в восточном и западном
направлении. Страшная игра закончилась лишь
в первые дни ноября, когда корабль
затонул среди коралловых рифов Силь-
вер-Банк. Чрево "Нуэстра сеньора де ла
Консепсьон" было заполнено
сокровищами, и поэтому корабль неоднократно
посещался вского рода кладоискателями
(в 1687 г. Вильям Пипе поднял с борта
галиона, покоившегося на дне Сильвер-
Банк, золотые и серебряные ценности на
сумму 300 000 фунтов стерлингов. Он
считал, что это был "Нуэстра сеньора де
ла Консепсьон"). В 1968 г. к рифам
Сильвер-Банк отправился на своем
"Калипсо" Жак Ив Кусто, так как по
предположениям ученых между XIV и
XVIII вв. у рифов Сильвер-Банк нашли
свою могилу 50 судов. Правда, и Кусто
не удалось обнаружить ни останков, ни
больших сокровищ, ни "Нуэстра сеньора
де ла Консепсьон". С превращением
Порт-Ройала на Ямайке в английскую
морскую базу в Карибском море в этом
районе сильно увеличилось число
английских кораблей. Уже в 1938 г. возле
Керисфорт-Риф (Флорида) было
довольно основательно обследовано затонувшее
судно, лежавшее на глубине девяти
метров. Это был "Винчестер", корабль
его величества, затонувший 24 сентября
1695 г. "Винчестер" был военным
кораблем, имевшим на борту 60 орудий.
Командиром корабля был капитан Джон
Суль. Примитивно оснащенные
подводники наряду с различными
предметами ежедневного обихода сделали
довольно примечательную находку: они
обнаружили остатки книги, текст
которой можно было еще прочитать, несмотря
на то что она 250 лет находилась под
водой.
Страшным ударом для уже
пошатнувшейся испанской монархии явилась
потеря "Серебряного флота" в 1715г.: в
середине лета, через год после окончания
войны за испанское наследство, конвой,
состоявший из 11 испанских военных и
торговых кораблей, бросил якорь в
порту Гаваны. Груженные перуанским
золотом, колумбийскими изумрудами,
мексиканским серебром, а также кошенилью
и индиго, фарфором и шелком корабли
взяли курс на восток, в сторону империи
Филиппа V. Это было опасное плавание.
С одной стороны, кораблям угрожали
штормы и пираты, с другой — британцы,
французы и голландцы, мечтавшие
завладеть сокровищами галионов.
Представители компании "Каза де ля
контратасьон" в Севилье,
регулировавшей по поручению короны морскую
торговлю, постановили, чтобы "Серебряный
флот" покинул Карибское море не
позднее начала июня, т.е. до наступления
периода штормов. Однако военные
стычки, неспокойная обстановка на морях и
состояние колоний, которое ухудшилось,
как только Испания была вынуждена
защищаться от альянса морских держав
Англии и Голландии, явились причиной
того, что корабли не смогли покинуть
Гавану ранее конца июля.
30 июля 1715 г. конвой поплатился за
это. На широте мыса Канаверал налетел
страшный ураган, который погнал
корабли прямо на скалы у побережья
Флориды. Погибло десять галионов и вместе с
ними более тысячи моряков и сам
командующий Дон Хуан Эстебан Убилла.
Французскому кораблю, который
принудили следовать за конвоем, чтобы он не
выдал направления плавания, удалось
благополучно уйти и сообщить о
катастрофе. Испанские власти в Гаване
немедленно занялись спасением затонувших
сокровищ, которые в соответствии с их
записями в регистрационных книгах
состояли из серебра на сумму 14
миллионов песо и значительного количества
золотых слитков.
Вскоре ценности на сумму 4
миллиона песо уже находились в быстро
сооруженных бараках. Об этой операции стало
известно алчному английскому
губернатору Ямайки Арчибальду, а также
пирату Еннингсу, который лишь ждал
момента, чтобы с несколькими сотнями своих
людей отправиться к мысу Канаверал,
перебить у бараков охрану и скрыться,
прихватив с собой полмиллиона реалов.
Лорд Арчибальд, упомянутый уже
губернатор, не смог устоять от соблазна через
шесть месяцев отправить того же кали-
тана Генри Еннингса на 14 шлюпах, дав
ему 3000 человек, на "поиски пиратов"
в направлении мыса Каневерал, а затем
поделить с пиратами новую добычу. Но
это было уже слишком.
Предприимчивый лорд был отозван в Лондон, где он
предстал перед судом...
О событиях тех лет снова заговорили
лишь после окончания второй мировой
войны, когда Кип Вагнер,
инженер-строитель из Себастьяна, случайно напал на
след этих сокровищ. Хотя ему
неоднократно приходилось слышать о том, что
жители прибрежных районов находили на
берегу почерневшие от морской воды
серебряные монеты, однако никто не мог
подтвердить правдивость подобных
рассказов. И лишь когда один из служащих
появился на работе, будучи изрядно
навеселе, Вагнер получил доказательство
тому, о чем люди часто говаривали за
кружкой пива. "Он был таким славным
парнем и таким большим любителем
"острых дел", что я решил ему помочь и
спустился с ним к берегу, чтобы его
отрезвить", — вспоминал Вагнер. Малый
зашатался, упал в песок, и внезапно у
него в руке оказалось с десяток черных
бесформенных испанских серебряных
монет. Вагнер бросился на землю,
обшарил все вокруг, но ничего не обнаружил.
Мелкий предприниматель почуял
большое дело. Он сколотил команду из
четырех отчаянных парней и начал
действовать как профессиональный
кладоискатель. Впдтером они перевернули тысячи
тонн песка. Они просеивали и копали
день и ночь. Очень скоро все члены
группы стали банкротами: ведь в дело было
вложено несколько тысяч долларов, а
никаких признаков серебра или золота
обнаружено не было.
Но Вагнер не сдавался. Он исследовал
буквально каждую крупинку песка,
изучил направление морского течения и
строение коралловых рифов у побережья.
Иногда ему попадались почерневшие
серебряные монеты. И тут к нему пришло
прозрение: соленая вода окисляет
серебро. Таким образом, сокровища должны
были покоиться где-то на дне моря.
Кроме того, Вагнер заметил, что все монеты
были отчеканены до 1714 г. Значит, они
должны были принадлежать одному или
нескольким судам, потерпевшим аварию
после 1714 г. Очевидно, что следы вели к
гибели испанского королевского
"Серебряного флота" в 1715 г.
Вагнер был на правильном пути. Он
стал изучать исторические источники,
музеи и забросал тысячами вопросов
работников архивов, расположенных на
территории между Мехико и
Вашингтоном. Из центрального архива в Севилье
вопреки строжайшему запрету испанских
властей он получил микрофильм длиной
1000 м - это были документы,
касавшиеся спасательных работ, проводимых
испанцами через три года после
катастрофы, но самым главным в этих
документах было зафиксированное положение
кораблей.
Первоначальный состав группы из
пяти человек увеличился до девяти. Они
основали акционерное общество "Реал
Эйт К° Инк", получившее название от
испанской монеты "восемь реалов" —
монеты с номиналом в восемь эскудо. В
1961 г. они получили от штата Флорида
лицензию на "лов рыбы".
Вознаграждение штату - 25% от "улова". У военных
интендантов они купили надувную
лодку, приобрели подводное оборудование.
Наконец были обнаружены останки двух
судов, от которых за 150 лет соленая
вода не оставила ничего, кроме 25 кг
балластных камней и пушек.
Наступило 30 мая 1965 г. Вода
впервые оказалась чистой. Вагнер надел свой
водолазный костюм и опустился на
глубину. И тут перед ним засверкал ковер
из чистого золота. Монеты лежали на дне
в два и три слоя и даже образовали
огромные золотые комья. Лов
оправдался: 60 000 монет достоинством в
эскудо и золотые дублоны, серебро и золотые
слитки, золотые кольца и подвески,
ценнейший китайский фарфор, золотая цепь,
оцененная одним музеем в 50 000
долларов, серебряный сервиз, навигационные
инструменты, якоря и пушки.
Искатели сокровищ — в другом месте
мы еще остановимся на этом — в своей
деятельности в первую очередь всегда
преследуют материальный, а не научный
интерес. Правда, Кипу Вагнеру следует
отдать должное: почти все
"сопутствующие" находки действительно попали в
музеи, а большую часть своих сокровищ
он потратил на строительство частного
музея, который заполнил добытыми
экспонатами. Так, из останков восьми
кораблей, входивших в состав флота,
затонувшего в 1717 г., акционерным
обществом "Реал Эйт К0 Инк", хотя и было
поднято на поверхность все самое ценное,
однако точного археологического
обследования корабельных останков
проведено не было.
Спустя 18 лет после катрастрофы
1715 г. разразилась новая: 15 июля
1733 г. в результате урагана в узком
Флоридском проливе на рифах Сентраль-
Флоридас-Кейс разбилось 22 корабля,
входивших в состав флота, плывшего в
Испанию.
В период с 1948 по 1950 г. Артур Мак-
ки, аквалангист из Хомстеда, обнаружил
останки 19 галионов затонувшего флота.
Правда, большая часть груза,
состоявшего из мексиканского серебра, была уже
поднята испанцами, однако того, что еще
оставалось на дне, вполне хватило, чтобы
заполнить целый музей. Один из этих
галионов, предположительно "Руи",
позднее был обследован Эдвином А. Лин-
ком и Менделем Л. Петерсоном из Смит-
соновского института в Вашингтоне. В
1972 г. Петерсон писал по поводу этой
работы в статье "История
мореплавания — на основе подводной археологии"
следующее: "Место находки в полном
смысле слова представляет собой
подводный музей. Здесь можно увидеть
абсолютно все: повседневную жизнь на
борту, работу и защиту корабля,
сокровища и груз. Тяжелые чугунные орудия
составляли основную артиллерию
корабля. Из ручного огнестрельного
оружия были найдены мушкеты калибра
70 мм, являвшегося тогда стандартным,
а также абордажные топоры, или тома-
Испанские золотые и серебряные монеты, пролежавшие несколько столетий на морском дне.
Золотые дублоны более округлы и более тщательно отчеканены, чем серебряные пиастры
необычной формы, на многих из которых даже видны следы от воздействия морской воды
гавки, пистолеты с испанским замком и,
разумеется, шпаги. Из зарядов были
обнаружены различные железные пули...
цинковые тарелки, посуда из майолики
и простые глиняные чашки
рассказывали, что на стол подавалась говядина,
свинина и рыба. Сведения о характере пищи,
которая употреблялась на борту, нам
дают идентифицированные кости, зерна
кофе и какао; жернова указывали на то,
что в пищу употребляли и хлеб... В
трюме находились индиго, дубленая кожа,
красное дерево, игрушечная посуда из
квадалаярской керамики и другие
товары. Среди сокровищ, большей частью
поднятых испанцами, находились
простые серебряные монеты достоинством от
2,4 до 8 реалов, несколько золотых
монет и золотое украшение. Несколько
редких монет "доллар-пиллар" были
отчеканены в 1731 г. ... Самой великолепной
находкой была литая серебряная
статуэтка, изображавшая-андалузскую
танцовщицу..."
В последующие годы были
обнаружены останки еще других кораблей из
флота 1733 г., правда они не много
сообщили нам о кораблестроительном
искусстве испанцев, так как эти корабли почти
все были построены в других странах
(11 - в Англии, 1 — в Генуе, 2 — в Новой
Англии, 1 — в Мехико, 1 — на Кубе Hi-
fi Голландии). В то время испанское
судоходство уже пришло в упадок —
Америка переживала расцвет торговли с
Англией и Францией. Прошли времена, когда
вооруженные конвои доставляли в
Испанию через Атлантику сокровища: золото
и серебро, ювелирные изделия и
экзотические продукты тропической Америки.
МАРШРУТЫ ТОРГОВЦЕВ МЕХАМИ
Еще за 500 лет до того, как Колумб,
пытаясь обнаружить западный морской
путь в Индию, достиг восточного
побережья Америки, отважные норманнские
мореплаватели уже высаживались на
североамериканскую землю. Это сегодня
воспринимается как сенсация. По
исследованию Северной Америки, начиная с
доколумбовского времени, включая
периоды почти систематического изучения
североамериканского восточного
побережья, его вод и близлежащей суши, до
вторжения в глубь страны, начала
товарообмена и создания колоний в XVI в.,
а также строительства первых
постоянных поселений в начале XVII в.,
существует богатый материал: подлинные
сообщения мореходов, описания
путешествий, сухопутные и морские карты,
исторические зарисовки, гравюры и картины.
Мануфактурная пломба из свинца, найденная в
1967 г. в реке Баундери
Анализ этих источников — с привлечем
нием находок, полученных во время
наземных раскопок, — дает относительно
полную историческую картину того
времени. Хотя больше не приходится
ожидать сенсаций, однако археологи не сидят
сложа руки. С одной стороны,
необходимо выяснить много нюансов,
касающихся периода открывателей и последующих
столетий. С другой стороны, одна треть
всех пресноводных озер в США —
искусственные, и их количество с каждым
годом увеличивается, так что ученые
должны концентрировать свое внимание
на районах, которые в будущем
подвергнутся затоплению. Несмотря на
интенсивную археологическую работу, интересные
в археологическом отношении места
одно за другим исчезают под водЬй, в
результате чего возникла необходимость
распространить дополнительные
исследования и на территории, оказавшиеся под
водой: ученые либо прибегали к помощи
подводников, либо сами становились
водолазами. И то, что они занимались
изучением не только искусственных
водоемов, но и естественных рек и озер,
вполне оправданно. Этот период
археологических исследований относится к
началу шестидесятых годов, т.е. к моменту,
когда на побережье с помошью самых
современных средств уже были обследо-
ваны останки затонувших кораблей и
полным ходом шла подготовка к
крупнейшим раскопкам у Ясси-Ада возле
побережья Турции, организованным
Пенсильванским университетом.
Археолог Дональд П. Джевел был,
видимо, первым американским ученым,
который с помощью акваланга начал
заниматься исследованием во внутренних
водах остатков культур индейцев
Калифорнии. В 1960 г. д-р Е. В. Дэвис,
который подробно занимался историей
торговли мехами, организовал подводные
экспедиции к местам, где
предположительно потерпели крушение каноэ
торговцев мехами. Одно из таких мест было
обнаружено у порогов Хорзетэйл возле
озера Саганага. Там было найдено 17
медных котлов, которые были потеряны
во время несчастного случая 200 лет
тому назад. В следующем году
аквалангисты Дэвиса на том же самом "меховом
маршруте" обнаружили новое место:
пороги реки Бэсвуд. Здесь было найдено
35 топоров из кованого железа, 24 резца,
копья, жемчужины, наперстки,
пуговицы, свинцовый сурик, кремни для
высечения огня, набор ножей, металлическая
курительная трубка, ожерелье, точила,
около 1000 мушкетных пуль, свинец для
пуль и кремни для мушкетных замков.
Успех экспедиций д-ра Дэвиса привел к
тому, что в последующие годы музей
провинции Онтарио и историческое
общество штата Миннесота начали
совместное исследование на границе США и
Канады. До 1966 г. ученые ограничивались
лишь систематическим обследованием
порогов рек и водопадов вдоль главного
маршрута торговцев мехами.
Параллельно с этим другая рабочая
группа анализировала старые дневники и
журналы и обнаружила около 60
сообщений о крушениях лодок. В 1966 г. ученые
сконцентрировали свое внимание на
одном злополучном месте, указанном в
документах: возле Порте ж-де-И'Исле
Александр Хенри 9 августа 1800 г.
потерял каноэ, одного человека и 5 тюков
товара. Уже через полчаса поисков
подводники сделали первые находки:
железные топоры двух размеров, все с
клеймом BAR, напильники, жемчужины, два
экземпляра ручного огнестрельного
оружия, ножи, наперстки, томагавк и
несколько вложенных друг в друга
тяжелых цинковых чаш. Некоторые из них
были снабжены клеймом лондонской
фирмы "Таунсенд энд Комптон". Так
как эта фирма занималась торговлей
мехами между 1801 и 1811 гг., то
товары, очевидно, не могли быть
потерянными при крушении 1800 г.
Исследование находок позднее показало, что
наряду с товарами Хенри искателями были
обнаружены предметы по меньшей мере
еще двух лодок, потерпевших крушение.
КОРАБЛИ НА ДНЕ ВЕЛИКИХ ОЗЕР
Совершенно иным объектом
исследования явились поиски судов, затонувших
в Великих озерах. Документально
доказано, что французы для того, чтобы
продемонстрировать свою силу и
осуществить контроль за торговлей, в 1663 г.
поставили на якорь в озере Онтарио две
грузовые баржи, вооруженные пушками.
Через несколько лет для перевозки
товаров и людей было построено несколько
небольших парусных судов, как,
например, 20-тонный "Катаравки" и 40-тонный
"Фронтенак". Эти суда, достигавшие в
длину 15—16,5 м и имевшие две мачты и
прямые паруса, являлись уменьшенными
вариантами морских кораблей.
"Фронтенак" затонул ночью 25
декабря 1678 г. в результате сильного шторма,
разразившегося на озере Онтарио. Это
было первое кораблекрушение на
Великих озерах. Год спустя затонул только
что построенный "Гриффон". До сих пор
все попытки обнаружить "Фронтенак" не
имели успеха. В озере Гурон были
обнаружены останки корпуса судна, и
предполагается, что это останки "Гриффона".
В конце семидесятых годов XVII в.
индейцы прогнали французов с Великих
озер и у форта Фронтенак (сегодняшний
Кингстон) потопили оставшиеся
французские корабли. Вплоть до
строительства британского судна "Мичиган" в 1763 г.
Первым парусным кораблем на Великих
озерах был "Гриффон", построенный в 1679 г.
(с гравюры из публичной библиотеки Детройта)
в современных источниках нет ссылок
на другие корабли, стоявшие на Великих
озерах. Наличие кораблей в этом районе
в указанный период доказано
обнаружением останков двух судов в озере Эри
возле Эри и Буффало: среди останков
первого судна были обнаружены монеты,
отчеканенные в 1698 г., второй корабль
французского происхождения и был
отнесен к первому десятилетию XVIII в.
В 1958 г. были обнаружены останки
"Галифакса", построенного англичанами
в 1756 г. в Освего на озере Онтарио. Это
был двухмачтовый корабль с прямыми
парусами49 и гафельным парусом50,
расположенным за грот-мачтой51. Киль и
шпангоуты были выполнены из дуба,
соединены дюбелями и внутри и
снаружи обшиты толстыми дубовыми
досками. Среди найденных предметов были
обувь, украшения, монеты, курительные
трубки, ножи, канаты, бочки и
пуговицы. Через 10 лет на 10-метровой глубине
в озере Чемплейн случайно были
обнаружены две бронзовые пушки. При более
позднем обследовании дна озера
аквалангисты не обнаружили останков судна,
зато нашли пушки, мушкеты, шпаги,
инструменты и мушкетные пули —
очевидно, все это выбросили французы,
уходя от преследовавших их англичан.
Французы намеревались позднее поднять
дорогостоящие орудия и отметили это
место якорями. Однако пушки
оказались поднятыми на поверхность лишь
200 лет спустя. При этом аквалангистов
удивила неожиданная находка: ствол
одной из пушек оказался закрыт
пробкой. В результате этого был защищен от
воды заряд — четыре мушкетных пули в
мешке с порохом и сверх этого
пушечное ядро. Таким образом, впервые было
обнаружено заряженное орудие,
относящееся к такому раннему периоду.
В последней трети XVIII в. на озере
Чемплейн крейсировали два враждебных
флота: американский, состоявший из
двух галионов, двух шлюпов52, трех
галер53 и восьми гундело, и
английский -в составе фрегата54, двух
галионов, одного гундело, одного радо, двух
канонерок55 и четырех лодок. В
октябре 1776 г. оба флота погибли в битве при
Валькур-Исланд. Позднее останки
американского флота были подняты со дна
озера.
Особый интерес представляют останки
"Филадельфии", поднятые в тридцатые
годы капитаном Л. Ф. Хэгглондом.
Корабль, представлявший собой гундело,
сегодня реставрирован и находится в
Смитсоновском институте в Вашингтоне.
Это 17-метровое судно, похожее на шлюп
с одной мачтой и прямыми парусами.
На реке Святого Лаврентия также
были раскопаны останки парусника,
затонувшего в начале XIX в. И к этому
же периоду следует отнести и "Джеффер-
сон", останки которого были найдены в
1960 г. Однако прежде, чем начались
раскопки, предприимчивые строители
засыпали место находки щебнем и камнями
для строительства нескольких
промышленных зданий. Так была похоронена
надежда получить информацию о
конкретном типе судна (чертежей "Джеффер-
сона" нет). Весьма поучительным в этой
связи является также сообщение Ховар-
да Чеппелля, куратора Национального
музея США, что "потом, когда при
строительстве кораблей начали делать чертежи,
хранению подвергали лишь немногие из
них. В Америке существует немного до-
Останки двух бато, обнаруженные в озере Джорджа
кументов о конструкциях кораблей,
построенных в период до 1800 г."
За исключением некоторых каноэ56,
самыми старыми судами, поднятыми со
дна американских внутренних вод,
являются все же корабли, останки
которых обнаружены в озере Джорджия на
глубине 30 м. Это три малых военных
корабля, так называемые "батокс",
относящиеся к 1750 г. На первой
конференции по подводной археологии, в 1963 г.
проведенной Историческим обществом
штата Миннесота, директор музея "Ади-
рондек мьюзеум эт блю маонтин лейк"
(штат Нью-Йорк, США) Роберт Брюс
объявил, почему он поднял останки
этих двух судов на поверхность: "У нас
не сохранилось ни одного батокса
колониального периода; существует всего
лишь два рисунка, о которых мы не
можем твердо сказать, что на них
изображены действительно настоящие баток-
сы. Поэтому очень важно установить
контуры и конструкцию этих судов,
которые внесли существенный вклад в
развитие судостроения США".
Совершенно иной характер носили
стремления Джозефа Хольбаха,
директора музея судоходства в Ньюпорт-Ньюс:
он пошел по следам американской
Войны за независимость. Как известно,
своего кульминационного пункта эта война
достигла в 1781 г. Британский генерал
Корнволлис с 7000 своих солдат был
окружен вдвое большим количеством
войск под командованием Вашингтона и
Рочембью. Судьба Корнволлиса зависела
от того, чья сторона получит первой
помощь с моря. Сэр Саму эль Худ оказался
первым, подошедшим со своими 14 ко-
раблями к мысу Виргиния. Но так как в
бухте Чесапик он не обнаружил
противника, то поплыл далее к Нью-Йорку,
чтобы соединиться там с флотом Грейфеса,
состоявшим из пяти кораблей. 30
августа насчитывавший 28 кораблей флот
графа де Грассе прибыл в бухту Чесапик
для оказания помощи Вашингтону. Так
как де Грассе ожидал прибытия еще
восьми кораблей под командованием де
Барраса, он 5 сентября вышел в море для
их встречи и вобле мыса Хенри
обнаружил английский флот. Однако сражения
не произошло, имели место лишь
незначительные столкновения обоих
авангардов. В то время как Грейвс еще два дня
оставался со своими пятью кораблями в
этом районе, прежде чем повернуть на
север (он считал, что его суда не
являлись боеспособными), Худ проник в
бухту Чесапик, чтобы оказать помощь Корн-
воллису. 10 сентября появился де Бар-
рас, и объединившийся французский
флот загнал корабли Худа в реку Йорк.
Французские береговые батареи
подожгли британский флагманский корабль
"Черон" и три транспорта. На последней
стадии боя Корнволлис
забаррикадировал реку, потопив целый ряд небольших
судов, а затем отправил на дно также и
свои последние фрегаты "Гваделупа" и
"Фовей". 19 октября 1781 г. Корнволлис
капитулировал... Открытый в 1930 г. в
Ньюпорт-Ньюсе музей судоходства через
четыре года начал поиск потопленных в
реке Йорк судов. В одном многообе-
щавшем месте водолазы опустились в
грязную воду, глубина здесь составляла
12 м. После часа интенсивных поисков
было поднято первое пушечное ядро.
Затем на поверхности стали появляться
корабельные балки, доски, части орудий
и старая бутылка из-под рома. Затем
последовали находки, обнаруженные
среди останков двух лежавших рядом
судов. Два года работали водолазы на
дне реки Йорк. В итоге их добыча
составила десять железных орудий, большое
количество боеприпасов, два железных
якоря, большое количество
инструментов и столовых приборов, глиняную
посуду и бокалы.
Вторая группа археологов работала в
другом месте. Планировалось найти и по
возможности поднять на поверхность
один из первых пароходов Америки.
Экспедиция казалась многообещающей,
поскольку корабль затонул в реке всего
лишь около ста лет назад.
Война за отделение Южных штатов от
США проходила в тот период, когда
военно-морские флоты мира переходили от
парусов к паровым машинам, от
деревянных корпусов к стальным, от
бортовых залпов к небольшому количеству
орудий, стрелявших снарядами и
заключенных в башни. Когда в апреле 1861 г.
атакой на форт Самтер началась война,
американский флот состоял из 42
кораблей, 23 из которых имели паровую
машину. Почти все корабли находились
в руках северян, промышленный Север
имел больше возможностей, чем Юг,
быстро увеличить состав флота.
На захваченной в начале войны
военно-морской верфи в Норфолке
командование флотом южных штатов одело
старый деревянный паровой фрегат
"Мерримэк" в защитную рубашку из
железных плит. На корабле было 10
орудий, на носу и на корме — 18-см пушки с
нарезными стволами, вращавшиеся на
90° в любую сторону. Орудийный борт
состоял из однбго 15-см нарезного
орудия и трех 23-см гладкоствольных
пушек. Команда фрегата насчитывала
320 человек, его командиром был
капитан Франклин Бахманн. Когда 30 марта
1862 г. переделка корабля завершилась,
он был переименован в "Виргинию".
Однако это название не привилось, и
корабль по-прежнему продолжали
называть "Мерримэк".
Переоборудование фрегата не осталось
в тайне и вызвало на Севере контрмеры:
19 февраля 1862 г. Джон Эриксон
закончил строительство "Монитора". Корабль
имел водоизмещение 1225 т. Это было
плоскодонное судно с вращающейся
башней, имевшей толстую броню. Башня
была установлена на платформе,
приводимой в движение паровой машиной.
Диаметр башни составлял 6,5 м,
высота — 3 м. Стенки башни были усилены
восемью слоями однодюймового железа,
а крыша — двумя слоями
полудюймового железа. Вооружение состояло из двух
33-мм гладкоствольных орудий. Корабль
имел 52 м в длину, 12,4 м в ширину и
был совершенно не мореходен.
Экипажем в количестве 65 человек
командовал лейтенант Ворден. Как "Мерримэк",
так и "Монитор", прозванный в народе
"Старая коробка", представлял собой
серьезную броневую защиту от огня.
Однако у "Монитора" было два
решающих преимущества перед соперником:
он был намного маневреннее и его
осадка составляла 3,2 м, в то время как
осадка "Мерримэка" равнялась 7,3 м, а
это для операций в мелких водах имело
большое значение.
Во время знаменитого сражения на
рейде Хэмптона 8 и 9 марта 1862 г. оба
корабля целый день били друг по другу,
пока "Мерримэк" не отошел к югу.
После этого сражения Северные штаты
организовали морскую блокаду.
Соединения, поддерживавшие блокаду и
пользовавшиеся неограниченным
Господством на море, захватили, в частности,
Новый Орлеан и овладели дельтой
Миссисипи. Адмирал Дэвид Фаррагут после
этого успеха продвинулся до Виксбурга
и оказал там поддержку генералу Гранту
при осаде города.
ПОДНЯТИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ "КАИРА"
К числу первых бронированных
военных судов Америки принадлежала также
канонерская лодка "Каир", судьба
которой сложилась особо: это был первый
корабль, потопленный миной с
электрическим запалом. Южане опускали в реку
начиненные порохом бутыли,
соединенные с берегом медным проводом. Как
раз в тот момент, когда "Каир"
намеревался пройти это минное заграждение, с
берега была замкнута цепь. Это
произошло 12 декабря 1862 г. в 11 час 55 мин
на реке Яцоо — притоке Миссисипи, —
возле Виксбурга. В современных
источниках не дается никакой информации о
потоплении "Каира". Только в
сохранившемся дневнике одного юнги сказано,
что происходило в эти минуты. Несмотря
на работу всех помп, вода в трюме
"Каира" постоянно прибывала. Отдельные
части палубы уже покрылись водой,
когда команду, состоявшую из 160 человек,
принял на борт другой корабль Северных
штатов. Далее юнга записал: "Мы успели
укрыться своевременно, иначе нас
захлестнул бы адский котел пенившейся
воды. Через 12 мин после первого
взрыва от канонерки на поверхности были
видны только верхушки труб и
флагшток57..."
В январе следующего года до
командующего военно-морскими силами
Северных штатов дошли слухи, что
Южные штаты с помощью водолазного
колокола пытаются снять с "Каира" орудия и
другое ценное оборудование. Чтобы
проверить правильность информации, 27
января 1863 г. на реке Яцоо на трех
катерах появился очень опытный моряк
контр-адмирал Дэвид Д. Портер. Следов
южан он не обнаружил, также не увидел
и "Каир". Корабль погрузился в ил, и
вода целиком скрыла канонерку от
любопытных взглядов. Летом и осенью
того же года при малой воде было
сделано несколько попыток поднять "Каир",
однако все они оказались напрасными...
В середине пятидесятых годов нашего
столетия д-р Эдвин Г. Бирсе —
специалист по истории Гражданской войны в
Америке — при изучении архивных
материалов натолкнулся на уже упомянутый
нами дневник, а тем самым и на факт
гибели "Каира". Вместе с геологом Вар-
реном Грабо и его коллегой М. Д. Джэк-
сом 12 ноября 1956 г. на небольшом
катере он отправился к тому месту на
реке, где, по их мнению, все
произошло. День оказался благоприятным, так
как уровень воды в Яцоо был на
полметра ниже обычного. Их единственным
научным инструментом был компас. Они
надеялись, что стрелка компаса начнет
реагировать, как только они окажутся
над бронированной канонеркой. Так и
произошло: внезапно стрелка компаса
повернулась на 180°. Ученые стали
пробивать ил металлическим прутом,
который уперся в "Каир".
Однако запланированное поднятие
судна нельзя было осуществить: не было
финансовых средств. В 1959 г. помощь
предложили два водолаза - Кен Парке и
Джеймс Харт. В мутной воде, опираясь
только на собственное чутье, они
пометили буями основные точки корабля и
сильной струей воды очистили от ила
капитанский мостик. Во время этого
первого этапа работы под водой были
сделаны многочисленные находки: шпаги,
мыльница, таз для умывания, зеркало,
банка сапожного крема, медицинские
пузырьки, складной стул, ванна для мытья и
несколько приборов для передачи
информации. Из мастерской канонерки были
подняты на поверхность наковальня,
тиски, молотки, стамеска и резец.
В следующем году фирма "Андерсон и
Талли" предоставила для поднятия судна
плавучий кран "Портерфилд". После
нескольких неудачных попыток — тросы и
толстый стальной канат не
выдерживали — 14 сентября капитанский мостик
был отделен от копуса и поднят на
поверхность. Стены мостика были
выполнены из 60-см дубовых досок и покрыты
5-см железными плитами. Эта находка
пробудила интерес губернатора штата
Миссисипи, который пообещал
энтузиастам помощь.
В последующий период работы по
поднятию корабля продолжали
гражданские и военно-морские водолазы. С
помощью пневматического эжектора
"Каир" был очищен от ила. Затем на
корпусе судна укрепили понтоны, чтобы
поднять канонерку по тому же принципу, по
которому был поднят "Ваза". Однако
здесь эта система оказалась
неэффективной: при подъеме понтоны сорвало с
якорей и унесло течением.
На конференции подводных
археологов, проходившей в штате Миннесота,
Бирсе рассказал обо всех предыдущих
попытках по поднятию "Каира". Он
представил заключения различных комиссий,
касавшихся методов и стоимости работ
по поднятию корабля, его
реконструкции, а также о значении "Каира" для
исторических исследований. Через два
года после конференции опытное
спасательное общество продолжило работы.
Под корпус судна было пропущено семь
стальных тросов, каждый толщиной 8 см.
С помощью четырех поворотных кранов
"Каир" высвободили из ила и под водой
отбуксировали вверх по течению. В
углублении, которое было оставлено
"Каиром" на дне реки, была затоплена
большая баржа. В конечном итоге
планировалось посадить корабль на баржу,
выкачать из нее воду и таким образом
поднять "Каир". Однако за это время
уровень воды изменился, и стало
невозможным придать кораблю нужное
положение, не подняв часть его из воды. Это
было связано с большим риском, так
как тросы и без того уже глубоко
врезались в стенки корпуса. Таким образом,
в конце концов от попытки поднять
"Каир" целиком пришлось, к сожалению,
отказаться.
Позднее корпус корабля был разделен
на три части, которые были подняты по
отдельности и направлены для
реставрации в музей Виксбурга, специально для
этого построенный. Бирсе записал*
следующее о последней фазе этой работы:
"... тем не менее мы должны были быть
довольны результатами этой операции.
"Каир" оказался огромным музеем,
хранившим в себе тысячи находок. Многие
из них сообщали новую информацию о
жизни на борту первой бронированной
канонерки нашей страны. Специалисты ...
изучили такое количество находок,
которое еще не приходилось видеть ни
одному из наших современников, ...изучение
конструкции корабля открыло
удивительно много подробностей, о которых
при простом анализе исторических
документов никто никогда бы и не
догадался".
ПО СЛЕДАМ ИСЧЕЗНУВШИХ
ПОД ВОДОЙ КУЛЬТУР
Руины архитектурных сооружений,
находящиеся на дне моря, издавна
производят большое впечатление на людей,
которые дают объяснение такому не-
эбычному явлению в форме полуфантас-
гических сказаний. В прошлом на
побережьях произошло большое количество
геологических катастроф, которые
привели к тому, что значительные участки
суши оказались ниже уровня моря. А
разве сейчас не происходит постепенного
опускания некоторых портовых
городов? Вспомним Венецию или Равенну:
города, которые ежегодно медленно
опускаются. В гробнице готтского
короля Теодориха, в мавзолее западнорим-
ской императрицы Галлы Плацидии или
в других знаменитых архитектурных
памятниках постоянно прибывает вода.
Причина? Неправильное планирование
промышленного строительства. Вокруг
города за последние десятилетия на
осушенных болотах были построены
гигантские заводы. Постоянная потребность
этих предприятий в воде покрывается за
счет глубинных скважин, построенных
без учета структуры почвы, что в
конечном итоге приводит к постоянно
убыстряющемуся ее опусканию. И
прибывающая морская вода постепенно
затапливает исторические и культурные
памятники.
Однако культурные напластования
городов затапливались водой не только
на побережьях...
ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
АНТИЧНЫХ ПОРТОВЫХ ГОРОДОВ
Великая греческая колонизация
является одним из важных событий в истории
Древнего мира. Этот феномен как
следствие экономической и социальной
перестройки, которая произошла в Древней
Греции в связи с ликвидацией родового
общества и переходом к
рабовладельческому способу производства и в
период с середины VIII по середину VI в. до
н.э. достигает наивысшей точки своего
расцвета, в конечном итоге привела к
созданию значительного числа городов-
государств, которые располагаются от
Кавказского побережья до Испании. А
заселение берегов Черного моря
произошло лишь в VII в. до н.э. и являлось
почти исключительно делом выходцев
города Милета. Около 650 г. до н.э. они смело
вошли в страшное, "негостеприимное
море", которое скоро стали называть
"гостеприимным". Возникало одно
поселение за другим. Важнейшим из них
являлись: Синопа и Трапезунд на южном
берегу; Томы, Истрия, Каллатис, Одесс и
Месембрия на западе; на севере прежде
всего следует отметить Тиру в устье
Днепра и Ольвию на Буге, напротив
устья Днепра; Феодосию и Пантикапей
в Крыму, на востоке — Диоскуриаду. У
каждого из этих городов была богатая
история, которая часто оканчивалась
полным разрушением в результате войн,
пожаров, землетрясений...
Свидетельства тогдашней греческой
культуры мы находим сегодня во всех
археологических музеях, расположенных
вдоль Черноморского побережья, -
городские стены, гробницы, останки
зданий и другие культурные достояния
напоминают нам о создателях этих
городов.
На протяжении десятилетий эти места
являются полем обширной деятельности
историков, а после изобретения
аквалангов широкой сферой исследования стало
также и морское дно.
В течение десяти лет институтом
Археологии АН СССР совместно с
историческим факультетом Московского
университета регулярно проводились
подводные археологические экспедиции с
Подводно-археологическая экспедиция Института археологии АН СССР 1964 г. у Донузлава.
На корабле экспедиции среди водолазов слева направо вверху археолог Т. В. Блаватская,
начальник экспедиции В. Д. Блаватский; внизу подводные археологи Г. А. Кошеленко (второй)
и Б. Г. Петере (третий)
целью изучения оказавшихся под водой
частей античных городов на северном
побережье Черного моря. Принятое в
1957 г. решение о проведении подводных
археологических экспедиций ИА АН
СССР базировалось на том выводе, что за
счет подводных исследований
значительно обогатятся результаты наземных
раскопок.
В июне 1966 г. группа румынских
подводных археологов под руководством
Василе Косма начала обследование
античного порта Каллатис. Год спустя та же
самая группа - правда, теперь в ее
составе наряду с несколькими новыми
аквалангистами находились ученые:
профессор Кристиан Владеску и профессор
Константин Преда - встретилась на
берегу в небольшой деревне. Здесь на
расстоянии около 2 км от курорта Мангалиа
находится затопленный порт Каллатис.
От моря он отделен приблизительно
полуторакилометровой дамбой,
проходящей параллельно берегу и расположенной
от него на расстоянии 2-2,5 км. Дамба
шириной от 25 до 30 м обложена
обработанными каменными плитами размером
600 х 600 мм. Глубина моря в этом
месте составляет 8 м, высота дамбы в
среднем 4 м, она покрыта песком и плотным
слоем мидий. Лишь в нескольких местах
отчетливо видно, что дамба построена
руками человека. Портовые сооружения,
а также остатки бастиона Каллатиса были
Предметы, поднятые с погибшего в Керченском проливе корабля в сражении 8 августа 1790 г.
подводно-археологической экспедицией Института археологии АН СССР 1960 г.
тщательно промерены, после чего была
изготовлена подводная карта
исследуемой территории. В последующие годы
была обследована бывшая городская
стена древнегреческого поселения,
уходящая в море.
На болгарском побережье подводные
археологи концентрируют свою работу
прежде всего в районах Варны, Несебара
и Созополя. В окрестностях Созополя —
античного Аполлония - в течение 60 лет
люди поднимали на поверхность
предметы фракийского, греческого,
римского и византийского происхождения.
Большое количество находок
свидетельствовало о том, что здесь затоплена часть
когда-то существовавшего поселения.
Однако это поедположение не
подтвердилось, все говорит о том, что поднятые
на поверхность предметы античности
случайно попали в море: ближние
окрестности Созополя были известны как
идеальные убежища для кораблей,
укрывавшихся от непогоды, а там, где
корабль долго стоит на якоре, многое
выбрасывается за борт.
В бухте Варны интерес археологов
был в первую очередь направлен на
участок побережья возле мыса Кали-
акра. Обследованные там портовые
сооружения и обнаруженные при этом
многочисленные находки говорят о том,
что пройдут годы, прежде чем мы
сможем получить точные результаты
ведущихся здесь исследований.
В южной части бухты подводники
Те же предметы после предварительной очистки на палубе экспедиционного судна
обнаружили останки корабля,
относящегося к IV—V вв., и подняли на
поверхность около 380 амфор, частично еще
заполненных смолой. На месте находки
археологи обнаружили удивительное
античное портовое сооружение —
подводный мол, построенный из полуотесанных
камней. От поверхности воды мол
находился на расстоянии 1,5—2 м и служил в
качестве волнореза. С течением времени
пространство между берегом и
подводным молом заполнилось песком.
Сегодняшний Несебар известен не как
небольшой рыбацкий поселок, а как
туристический объект. Старинная часть
поселка, расположенная на острове и
соединенная с материком трехсотметровой
дамбой, охраняется государством. В
течение нескольких лет вокруг Несебара
проводятся обширные археологические
раскопки. Эти работы в 1960 г. по
заданию Археологического института
Академии наук были распространены также и
на соседние прибрежные воды. В связи
с реставрацией крепостной стены,
построенной в период с III по IV в. до н.э.,
вначале были обследованы в море те
участки, на которых заканчивалась стена.
Было установлено, что защитный вал
раньше уходил в море, чтобы в мелкой
воде преградить путь врагам по обеим
сторонам перешейка. К сожалению, до
сегодняшнего дня крепостная стена в
своем первоначальном виде не
сохранилась, она обрушилась в результате
землетрясения 1913 г. До этого можно было
бы гораздо легче провести научное
исследование системы укреплений. Однако
тогдашние власти не проявили к этому
проекту никакого интереса...
Древние порты Средиземного моря
буквально взывают к археологам. Порт
Вье в Марселе существует 2500 лет. Во
время последней мировой войны
фашисты в безуспешном стремлении
уничтожить французских участников
Сопротивления взорвали средневековый лабиринт.
С лица земли был стерт древнейший
квартал Марселя. Однако при более
поздних исследованиях там были обнаружены
дубовые стреловидные укрепления порта
Массалиа, относящегося к VI в. до н.э., а
также следы деревянных приспособлений
для поднятия кораблей с целью
обработки корпуса судна горячей смолой для
уничтожения корабельных червей.
Обнаруженная там же ионическая капитель
является единственной каменной
строительной деталью греческого
происхождения, когда-либо обнаруженной во
Франции.
Некоторые археологи считают илистое
дно старого порта Марселя настоящей
книгой по истории Греции. Может быть,
там удастся найти скульптуры, которые
вода уберегла от войн Юлия Цезаря. Если
закрыть узкий вход, то воду из старого
порта можно легко выкачать. Правда, это
было бы сопряжено с опасностью лишить
дохода лодочников, которые возят
туристов к месту заточения мнимого графа
Монте-Кристо в замке Иф.
Стратегом среди археологов был
умерший в 1954 г. ученый Пуадебар.
hro основной целью было найти следы
древнего торгового пути из Испании в
Китай. В середине двадцатых годов
Пуадебар проводил раскопки в сирийской
пустыне и в конце концов очутился в
рыбацкой деревне на скалистом острове
у побережья Средиземного моря. Когда-
то эта деревня была сильным
финикийским городом Тиром.
В качестве одного из методов для
проведения своих исследований в пустыне
Пуадебар использовал воздушную
разведку. Можно ли с самолета обнаружить
затопленные портовые сооружения?
Полученные фотоснимки показали, что
основными членами рабочей группы,
видимо, окажутся подводники.
Исследователь нанял местных ныряльщиков и
несколько водолазов. Простые
ныряльщики успешно провели разведку больших
участков на мелководье. Они явились
проводниками, которые вывели тяжелых
водолазов к подводным руинам.
Пуадебар получил у капитана Ива пе
Прера инструктаж по технике подводной
фотографии. Ле Прер конструировал для
различных фотоаппаратов специальные
корпуса, с помощью которых можно
было вертикально фотографировать с
поверхности воды. Особенно полезным
средством при определении контуров
лежащего под водой порта оказались
стереоснимки. Еще до окончания
исследований, длившихся в период 1935—
1937 гг., Пуадебар производил также и
подводную съемку. Он обнаружил
"длинное, хорошо построенное сооружение",
целью которого было защищать от юго-
западных ветров стоявшие на якоре
корабли. Финикийцы из огромных
каменных блоков складывали волнорезы,
используя для этого естественные рифы.
С 1946 по 1950 г. Пуадебар исследовал
портовые дамбы и молы другого
крупного финикийского порта — Сидона,
сегодня - Сайда в Ливане. Заслугой Пуаде-
бара были не только его открытия, но
прежде всего тот способ, с помощью
которого он привлекал для своей
работы большое количество технических
достижений и многочисленных ученых.
Он фотографировал в воздухе и под
водой, использовал плавучие краны,
привлекал для своих целей картографов,
археологов, моряков, подводников,
инженеров, геологов, военно-морские
службы, а также членов правительства.
Французский водолаз и публицист
Филипп Диоле следующим образом
комментирует значение работ Пуадебара в
Сидоне и Тире: "Сегодня мы знаем,
насколько в действительности большим
был порт римской колониальной
провинции около 200 г. до н.э. Теперь мы
можем оценить, насколько большими
должны были быть волнорезы, часто
выдававшиеся далеко в море, для защиты
якорных стоянок. Мы знаем, как между
отдельными портовыми бассейнами
осуществлялось судоходство, как оно регу-
лировалось; различные каналы были
построены' с учетом направления ветра,
были тщательно продуманы сооружения
складов товара, резервуары для воды и
арсенал, а также установка различных
погрузочных механизмов на причалах.
Иногда имелись, как, например, в Сидо-
не, специальные промывочные системы,
служившие для предотвращения
загрязнения порта илом. Это сооружение было
построено финикийцами и позднее
перенято их наследниками". Сидон в Ливане,
Шершел в Алжире, Цезарея в Израиле и
Херсонес на Крите принадлежат к числу
портов, которые были детально
обследованы аквалангистами.
Аполлония, порт большой греческой
колонии Кирена на побережье Ливии,
в 1958-1959 гг. был исследован
экспедицией Кэмбриджского университета под
руководством археолога Н. Флемминга.
После того как подводники закончили
измерения, исследователи впервые
нанесли на карту крупный морской порт,
наполовину находившийся под водой.
Байя возле Неаполя когда-то являлся
важным портом греческой колонии
Киме. С момента извержения Везувия в
79 г. Байя постепенно опускался под
воду/ Руины Байи находятся сегодня на
глубине до Юм.
Полстолетия назад во время
земляных работ в порту рабочие обнаружили
руины античного Байи. Были спущены
водолазы, чтобы проверить, не окажется
ли в развалинах предметов древней
культуры. В итоге на поверхности оказались
произведения искусства, в частности
обломок скульптуры крылатого Эроса
и мраморная статуя Посейдона.
В 1958 г. итальянский
спортсмен-подводник . Раймондо Бухер вновь обратил
внимание на Байю: он впервые
опубликовал подводные снимки развалин. В
1959 г. профессор д-р Нино Ламболья
начал систематическое исследование
города на дне моря. Профессор Ламболья в
середине шестидесятых годов закончил
свои работы и установил, что Байя
является своеобразной Помпеей на морском
дне.
В настоящее время нам известно более
200 античных поселений или портов,
затопленных водами Средиземного моря.
Большое их количество учеными уже
обследовано, другие будут исследованы
в ближайшие годы — и никто не знает,
какие неожиданные открытия еще ждут
подводных археологов.
ПИРАТСКИЙ ВАВИЛОН ПОРТ-РОЙАЛ
К числу самых обширных
исследований затопленных культур, несомненно,
принадлежат неоднократные
обследования Порт-Ройаля на Ямайке. Этот остров
был открыт Колумбом в 1494 г. во
время его второго плавания в Америку и
стал владением испанской короны.
Двадцать лет все было спокойно, а затем
началась колонизация, приведшая к
истреблению коренного населения. В этот
период обратил на себя внимание человек,
который был прозван "властителем"
острова, — Дон Хуан д'Эксквивель. Он в
1523 г., в частности, основал город Сант-
Яго-де-ла-Вега и сделал Ямайку
собственностью нескольких испанских грандов.
В 1655 г. остров захватили англичане,
которые после формального отказа от
него испанцев в 1670 г. превратили
Ямайку в центр плантаций и работорговли
Вест-Индии. Собственно центром
работорговли стал Порт-Ройал, бывший Сант-
Яго-де-ла-Вега. Но в этот же самый
период в проливах между
многочисленными островами поджидали добычу кариб-
ские пираты — буканьеры. И все
сокровища, которые британским военным
кораблям удавалось отбить у пиратов,
поступали в Порт-Ройал. Продажные
чиновники следили за тем, чтобы часть
сокровищ снова оказалась в руках
темных личностей, и нигде буканьерам не
удавалось так выгодно превращать свою
добычу в звонкую монету, как в этом
городе. Порт-Ройал превратился в
настоящий Вавилон для пиратов, воров,
головорезов, наглых торговцев и
искателей счастья, прибывавших сюда со
всего мира. Такие пресловутые пираты,
как Кидд, Морган или Мансфельд, чувст-
вовали себя здесь как дома.
Английская корона не только
мирилась с таким положением, но и всячески
поощряла его, потому что в конечном
итоге она находилась с Испанией в
состоянии войны, а действия пиратов
были в первую очередь направлены на
овладение испанскими галионами,
перевозившими сокровища. Наглядным
подтверждением этого было получение
пиратским предводителем Гарри Морганом
дворянства, более того, он даже был
назначен губернатором Ямайки.
При его правлении Порт-Ройал в
семидесятых годах XVII в. достиг расцвета.
Специалисты считают, что оборот
наличных денег по отношению к количеству
жителей в Порт-Ройале был намного
больше, чем в Лондоне. Однако период
расцвета города пороков окончился
внезапно: 7 июня 1692 г., незадолго до
полудня, раздались три сильных
подземных толчка, за которыми быстро
последовала мощная волна прилива. В течение
всего лишь нескольких минут девять
десятых города, имевшего около 2000
зданий, оказалось под водой. Сегодня о
затопленном городе напоминает лишь
небольшая рыбацкая деревня...
Уже на следующий день начали
спасение золота и серебра. Это делалось с
помощью примитивных средств, и поэтому
успех оказался весьма скромным.
Вообще же операции по извлечению ценностей
из Порт-Ройаля продолжались столетия.
В период 1956—1959 гг. обследованием
затопленного пиратского города
занимался Эдвин А. Линк. Жена Линка следующим
образом описывала свое разочарование
первыми результатами: "К нашему
удивлению, в том месте, где когда-то стояли
дома, на глубине от шести до двенадцати
метров мы обнаружили только плоское
илистое дно, на котором не было ни
малейшего возвышения, которое
указывало бы на контуры старинного городского
сооружения. Когда вблизи Черч-Бикона
мы стали раскапывать дно небольшим
багром, то первые следы затопленного
города обнаружили лишь на глубине
1,5 м. На их присутствие указывала лишь
едва заметная неровность, и их
очертания были отмечены коралловой дамбой".
В 1959 г. Линк возвращается на "Сиа
Дивер", корабле, специально
построенном для проведения подводных
археологических исследований, в Порт-Ройал для
обследования старой пиратской
цитадели. С помощью эхолотных измерений
помощники Линка вначале изготовили
временную карту. После этого Линк
выбрал три объекта: форт Джеймс,
здание-кухню и магазин корабельного
снаряжения. Аквалангистами, а также с
помощью пневматического эжектора на
поверхность были извлечены сотни
предметов из меди, латуни, цинка, железа,
стекла и глины. Наибольший интерес
вызвали золотые часы. Когда после
очистки Линк открыл крышку, он
заметил на внутренней стороне
выгравированную надпись: Поль Блондель.
Кораллы разрушили металлические стрелки,
однако циферблат сохранился. Для более
подробного исследования часы были
отправлены в лондонский Музей науки и
техники. Вскоре стало известно, что часы
были изготовлены в 1686 г.
амстердамским мастером Полем Блонделем и что
механизм остановился в 11 час 43 мин.
Так, через 267 лет было определено
точное время тогдашнего землетрясения.
Когда Линк локидал место раскопок, у
него уже была составлена довольно
хорошая карта Порт-Ройаля. Он обнаружил
форт и таверну и сделал большое
количество интересных находок, которые
свидетельствовали о необходимости
продолжения работ.
В Д965 г. правительство Ямайки
поручило морскому археологу Роберту
Ф. Марксу возглавить дальнейшие
исследования. До этого Маркс участвовал в
обследовании нескольких жертвенных
колодцев городов майя, останков
многочисленных кораблей, затонувших в
Карибском море и у побережья Испании.
Директор основанного Кипом Вагнером
общества "Реал Эйт К0" (Общество
восьми реалов) Сателайт Бич имел опыт
по раскопкам сокровищ в Центральной
Америке. Первые четыре месяца 1966 г.
Маркс использовал для
усовершенствования карты Порт-Ройаля, изготовленной
Линком. В этой связи он пишет: "...место
находки составляет 140 000 кв. м,
глубина колеблется от одного до 20 м. Однако
около 70% этой площади находится на
глубинах менее 10 м., Морское дно
покрыто слоем мягкого ила толщиной до
1 м, за исключением тех мест, где
имеется сильная концентрация кораллов.
Состав грунтовых отложений весьма
различен. В среднем он выглядит следующим
образом: под илом на глубине от одного
до 1,8 м находится отложение
затвердевшего ила и куски отмерших
кораллов. Под этим слоем находится
отложение, состоящее приблизительно из 70%
черного песка и 30% крупнозернистой
гальки..."
Такой грунт отнюдь не радовал
подводных археологов. Сюда следует
добавить плохую видимость под водой:
ежедневно по утрам, когда начинались
раскопки, видимость составляла от 30 до
60 см. В течение двухгодичных
раскопок только два дня (!) под водой была
хорошая видимость, позволившая
провести фотографирование рабочей
площадки. Можно себе легко представить,
каковой бывала видимость, когда
начинали работать грунтососы.
До конца 1967 г. систематически
расчищалось прямоугольное поле площадью
133 х 50 м (средняя глубина этих
раскопок составляла 5 м). На этом участке
стояло, очевидно, приблизительно 30-40
зданий. Однако археологи обнаружили
лишь три сохранившихся дома, все
остальные были разрушены
разразившейся тогда катастрофой. В результате
сравнивания инициалов на цинковых и
серебряных сосудах со старыми списками
владельцев удалось идентифицировать
многие здания: частные жилые дома,
мастерские сапожника, мастера
цинковых и серебряных дел, две таверны, а
также рыбный и мясной-рынки.
Одновременно в этом районе были
обнаружены останки двух кораблей, затонувших
в 1692 г. Обследование останков еще
одного судна показало, что оно
затонуло в 1722 г.
В течение двухлетней работы наряду
с уже упомянутыми находками было
обнаружено 20 000 железных предметов,
около 2000 стеклянных бутылок, 6500
курительных трубок, 500 серебряных и
цинковых сосудов, а также два больших
клада испанских серебряных монет. За
этот период в Порт-Ройале было сделано
больше находок, чем при обследовании
останков всех кораблей, обнаруженных в
Карибском море, - и при этом еще не
было исследовано и 5% территории
затонувшего города. Археологические
раскопки в Порт-Ройале, проведенные
позднее под руководством Филиппа Майеса,
коснулись прежде всего нетронутых
морем частей города. Поэтому
окончательное исследование пиратской
цитадели еще не закончено.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВО ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ
В Швейцарии обратили на себя
внимание исследования первобытных культур
в Цюрихском озере. Повод к этому дали
несколько спортсменов-подводников.
Члены подводного клуба "Рури-Зуб" под
руководством городской организации по
охране исторических памятников
систематически обследовали определенные
водные участки. На месте одного
известного поселения, считавшегося
малообещающим, возле яхт-клуба на Генерал-
Квисон-Кай зимой 1966—1967 гг. они
извлекли на поверхность керамические
сосуды, большинство которых было
совершенно целыми. Эти сосуды лежали
прямо на дне озера или были скрыты в
иле всего лишь на глубине 10 см.
Позднее археолог Ульрих Руофф со
своими помощниками во время одного
из погружений в южной части
Цюрихского озера обнаружил первобытное
поселение. Оно находилось на небольшом
возвышении, на мели, которую называют
"Малый печник". По названию это
городище было известно давно, однако
предполагалось, что оно находилось на берегу
и было засыпано при строительстве набе-
Остатки поселения, обнаруженные в озере Бользена (IX - VIII в. до н.э.). В результате сильных
климатических колебаний уровень воды периодически понижался в течение нескольких столетий.
Поверхность береговой зоны, состоявшая из озерного мела, была идеальным местом для
строительства. Когда уровень воды вновь начинал подниматься, жители уходили. Озерный мел
предохранил фундаментные сваи от разрушения, в результате чего подводные археологи смогли
получить сведения об этих древних поселениях
режной. С удивлением подводные
археологи обнаружили остатки
доисторического поселения.
Как это часто бывает с
археологическими находками, их дальнейшее
существование оказалось под большой угрозой.
Именно в этом месте предполагалось
отвоевать у воды 14 м для строительства
набережной: строительные работы, а
также волны от проходящих судов
могли полностью уничтожить место
находки. Медлить было нельзя! Небольшой
пароход "Лютцелау", обсдуживавший
обычно отдыхающих, был превращен в
исследовательское судно: были
оборудованы научная и фотолаборатории,
помещения для хранения находок, для
отдыха и переодевания аквалангистов и для
хранения приборов; по контрольным
точкам на берегу археологи промерили
исследуемый участок размером 80 х 80 м
и разметили его ярко-желтыми буями.
Основной задачей аквалангистов были
не поиски хорошо сохранившихся
находок, а составление точного плана,
который бы фиксировал положение каждой
сваи, каждой балки, каждого черепка,
как в горизонтальном, так и
вертикальном положении. Это делается с помощью
методов, которые постоянно
совершенствуются. Эскизная съемка под водой
осуществляется с помощью рамки
величиной в 1 кв. м с нитями, натянутыми на
расстоянии 1 дм друг от друга. Эта рамка
накладывается на размеченные поля,
обозначенные буквами и цифрами. Вна-
чале эскизы изготавливались в
уменьшенном масштабе; однако, когда с
понижением воды выяснилось, что
подводник, одетый в шерстяные и резиновые
перчатки, не может больше держать
карандаш, то эскизы стали вычерчивать
жирным грифелем на пластине из
плексигласа в масштабе 1:1.
Для проведения дальнейшей работы
была вырыта канава, размеры которой
составили: 3 м в ширину, 12 м в длину и
2,5 м в глубину. Осторожно, с помощью
штукатурных лопаточек, ныряльщики
удалили 35 куб. м озерных осадков.
Поднимавшийся при этом ил отсасывался
грунтососом.
В результате этих раскопок было
доказано наличие четырех различных
эпох заселения, которые выделялись в
черных слоях стенок канавы: начала
бронзового века и конца бронзового
века, под ними — эпохи начала и конца
каменного века, культуры периода с I
по III вв. до н.э. Слои, состоящие из
гумуса и растительных останков, которые
в середине озера отслаиваются от слоев,
смытых с вершины холма поселения,
перекрываются хорошо видимыми
полосами озерного ила. Этот факт, как и
многое другое из обнаруженного при
этих раскопках и требующего научного
толкования, является задачей для
геологов. Это означает не только, что уровень
озера в течение нескольких столетий
неоднократно подвергался значительным
колебаниям, в результате чего на берегу
возникали поселения, и именно там, где
до этого и после этого была вода. Это
также означает, что сток воды из озера
в том месте, где сегодня течет Лиммат,
либо вообще не существовал, либо был
минимальным.
Приблизительный возраст
соответствующего поселения можно установить с
помощью дендрохронологии остатков
свай, которые частично сохранили еще
хорошо видимые следы обработки —
видны даже шпоночные и клиновидные
соединения. Дендрохронология даст нам
также убедительные доказательства того,
что большое количество поселений,
обнаруженных в нижней части озера,
действительно представляют собой ряд
различных деревень, а не временные
поселения кочевников.
Благодаря исследованиям мест
находок на дне озера были получены новые
данные в изучении доисторического
периода, однако дно озера оказалось
полно сюрпризов. В нижней части озера было
обнаружено 22 доисторических
поселения, однако по-настоящему исследованы
лишь несколько.
В Средней Италии — приблизительно в
ста километрах севернее Рима —
находится озеро Больсена. В 1959 г.
спортсмены подводного клуба "Кирколо Кас-
сиатори Субаскей" в Риме и ученые —
члены Исторического общества Больсе-
ны начали исследование дна озера. Целью
было обследование поселения,
сгоревшего около 3000 лет тому назад и
позднее, когда уровень воды в озере
поднялся на 10 м, оказавшегося под водой.
Остатки поселения были тщательно
вымерены, и при этом были обнаружены
бытовые предметы, принадлежавшие в
свое время жителям поселения. Превде
всего это были керамические сосуды,
топоры, кольца, бронзовые лезвия для
ножей, а также останки фундаментов
зданий.
За последние два с половиной
десятилетия также были проведены
исследования в различных внутренних
водоемах ГДР. Одна из первых экспедиций
состоялась в 1957 г.: ныряльщики
изготовили точный план давно известного
свайного сооружения в озере Вербел-
линзее, неподалеку от деревни Альтен-
хоф. В центре плана изображалось
строение почти квадратной формы,
окруженное с западной стороны дугообразным
рядом свай. Далее по направлению к
озеру находится еще одно сооружение,
которое было построено на трех двойных
рядах свай.
После освобождения остатков
нескольких свай аквалангисты обнаружили
много керамических черепков и части
серебряного кубка. Датировка всех этих
находок показала, что сооружение отно-
сится к XIII—XIV вв.
Целью другой экспедиции был замок
Кемладе на озере Камбзерзее возле Шве-
рина. Сооружение было обнаружено в
1959 г. и в течение двух последующих
лет исследовалось по заданию Академии
наук. При этом ныряльщики нашли
предметы, относящиеся к XIV в.: штыри для
арбалета, нож, клинок, различные
гвозди, два дверных навеса, маленькую
пряжку и металлические обшивки. Многие
предметы были изготовлены из железа,
остальные — из листовой бронзы или
меди. Одной из самых интересных
находок был нож с хорошо сохранившейся
кожаной рукояткой и гербом на
фиксирующей крестовине.
К числу самых результативных
подводных экспедиций Института истории
первобытного общества, несомненно,
принадлежат исследования в озере Обер-
Юккерзее возле Пренцлау,
проведенные в период 1963-1965 гг. На одном
острове еще раньше были обнаружены
признаки славянского укрепления и
поселения, которые были
охарактеризованы как остатки бывшего феодального
центра померанского государства
периода с первой половины до середины XII в.
Известно, что подобные укрепления
возводились всегда там, где торговые пути
пересекали низменности и реки, — это
были самые уязвимые места, в которых
можно было задержать врага. Торговый
путь из Магдебурга в устье Одера шел по
озеру Юккерзее через остров — таким
образом, раньше через озеро были
перекинуты мосты. От озера в северном
направлении тянется отмель глубиной от
3 до 5 м от поверхности воды, на
которой в то время был сооружен мост
длиной 2,2 км, шириной 3,60 м. От острова
к западному берегу — здесь глубина
озера составляет 20 м — вел другой мост,
длиной 250 м. Большие мостовые
сооружения довольно интересны в
техническом отношении: конструкция
продумана чрезвычайно хорошо, по своему
техническому решению является простой
и наглядной — без применения гвоздей и
металлических штырей. Извлеченные
деревянные части, а также результаты
замеров позволили позднее создать точные
чертежи реконструкции сооружений.
СПОРТСМЕНЫ-ПОДВОДНИКИ -
ПОМОЩНИКИ АРХЕОЛОГОВ
Развитие подводного спорта можно
сравнить с исследованием Америки:
мужественных мореходов, ступавших на
американскую землю до Колумба,
можно приравнять к пионерам
подводного спорта, а открывателей после
Колумба — к аквалангистам последних
35 лет. Благодаря Колумбу
средневековая Европа узнала о существовании
Американского континента, благодаря
изобретению акваланга подводный мир
стал известен сегодня.
В наше время вряд ли найдется еще
место (в пределах определенных
глубин) на доступных участках берегов
европейских морей, которое не было бы
обследовано подводниками еще
несколько десятилетий назад. И если, несмотря
на это, сегодня мы еще находим останки
затонувших кораблей, пушки, гончарные
изделия или остатки строений, то это
лишь потому, что до последнего
времени "не имеющими никакой ценности"
вещами никто не интересовался.
8 настоящее время существуют
группы спортсменов-подводников, которые
тесно сотрудничают с музеями,
университетами и другими научными
учреждениями. Сделаны тысячи открытий,
однако лишь немногие из них приобрели
всеобщую известность.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ
У ФИНСКИХ ШХЕР
9 июля 1790 г. исполнилось 28 лет со
дня восшествия на русский престол
Екатерины П. Нассау считал, что в этот
день самым интересным, самым
достойным ее праздником будет сражение,
которое еще полнее, чем сражение в
Выборгской бухте — здесь шведы 3 июля
1790 г. потеряли семь линейных
кораблей, три фрегата и 31 корабль шхерного
флота, - не только подорвет могущество
Швеции, но и отдаст императрице на ее
милость плененного ненавистного
шведского короля. На русском корабле было
уже подготовлено помещение для
коронованного пленника — с такой
уверенностью ожидали падения Густава III.
В скалистой бухте, называемой Свен-
сксунд, расположена группа небольших
островов, а по направлению к Луизе —
порт Аспо. Нассау намеревался направить
свой удар на пролив Аспо. Он даже не
стал дожидаться обещанного
подкрепления (пушечных шлюпов), ибо совсем
недавно собранный шведский флот
состоял из 190 кораблей, а под его
командованием находилось 230 судов.
"Утром, около 10 часов, под сильным
неприятельским огнем Нассау
приблизился к шведам. С обеих сторон
непрерывно стреляли орудия. Когда Нассау
заметил, что его положение начало
ухудшаться, он попытался одержать победу с
помощью своего превосходства в судах и
приказал двинуть свой флот вперед. В
результате этого в узком пространстве
скопилось такое количество кораблей,
которое исключало маневрирование,
Густав, заметивший эту ошибку, приказал
выдвинуть свои тяжелые корабли,
которые обрушили на русских огонь тяжелых
орудий. Вскоре изменился ветер, начался
ураган, затруднивший отход русским
кораблям. Небольшие суда стали
беспорядочно отходить, крупные суда
расстреливались или переворачивались от шторма.
То, к чему стремился Нассау -
уничтожить вражеский флот,—сделал Густав.
Сражение в Свенсксунде — Руотсинсалми
было решающим сражением этой войны.
Шведы захватили 55 кораблей, 40 судов
погибли в волнах".
Такое или подобные сообщения
современников о гибели кораблей постоянно
побуждают заинтересованных
спортсменов-подводников к целенаправленным
Камбуз "Св. Николая". Основой этой
графической реконструкции явились результаты
измерений останков корабля, проведенных
финскими спортсменами-подводниками.
поискам погибших судов. И когда в
1948 г. случайно были обнаружены
останки русской галеры, погибшей в сражении
9 июля 1790 г., острова, расположенные
возле финского портового города Котка,
стали целью нескольких подводных
экспедиций. Были найдены останки
нескольких малых судов, не имевших, правда,
особенного значения. Во время
погружений не обошлось без повреждений
русских галер, так как
подводники-любители не имели специальной
археологической подготовки: их цель заключалась в
том, чтобы поднять на поверхность и
передать музеям наибольшее количество
предметов. Ученые быстро положили
конец такой бесконтрольной
деятельности. Под руководством Национального
музея при финском союзе подводного
плавания стала действовать специальная
группа, занимавшаяся в первую очередь
обследованием локализованных до сих
пор останков затонувших судов. Русская
галера, получийшая рабочее название
"Св. Николай", была не только объектом
исследования. Здесь будущие
помощники археологов приобретали практические
навыки во всех областях подводной
археологии.
В результате 30-летней
исследовательской и учебной работы был точно
вымерен корпус судна, имевшего в длину
40,6 м. Киль, шпангоуты и перекрытия
были изготовлены из дуба, а доски - из
вяза. Очевидно, корабль был задуман
как блокадное судно — к этому выводу
приводит его чрезвычайно простая и
неуклюжая конструкция. Первоначально на
его борту, очевидно, находилось от 18 до
20 тяжелых и 4—6 средних или легких
пушек. Установлено, что в свое время на
борту находились 18—24-фунтовые
орудия общей массой 57,84 т. Корабелы того
времени на таких парусниках обычно
располагали пушки так, чтобы
оптимальное расстояние от одного пушечного
люка до другого составляло 3,17 м. У
"Св. Николая" же этот промежуток
равен 3,42 м.
В последние годы внимание
спортсменов-подводников в первую очередь
направляется на внутренние помещения
корабля, в особенности их
заинтересовали камбузы. Аквалангисты
зарегистрировали более 400 объектов и благодаря
профессиональному фиксированию нахо-
Останки судна, обнаруженные в 1978 г.^ в водах шхер у Таммисаари на 16-метровой глубине и
измеренные спортсменами-подводниками. Как видно из рисунка, носовое украшение (стрела)
сохранилось еще довольно хорошо. Корабль, построенный из дуба, затонул около 1600 г., имея
на борту груз керамических изделий
док обеспечили детальную
реконструкцию этого помещения. Однако, кроме
камбузов, были также обнаружены и
подняты на поверхность вооружение и
личные предметы моряков: некоторое
количество ручного огнестрельного
оружия, небольшая бронзовая мортира,
бутылки, фарфор, части такелажа и
разные детали кормового украшения.
Последние особенно интересны, так как они
имеют элементы французского стиля.
Большое внимание привлекли
обнаруженные 678 русских монет:
отчеканенная в 1778 г. золотая пятирублевка;
отчеканенный в 1767 г. золотой рубль;
39 золотых рублей и копеек
(четырнадцать монет по рублю, 11 монет
достоинством 1/4 рубля, 9 двадцатикопеечных
монет, две монеты по 15 копеек и три —
10-копеечных), самая поздняя из
которых датируется 1788 г.; 637 медных
копеек, выпущенных в период с 1766 по
1788 г. Так как не всегда удавалось
прочитать на монете год выпуска, то
остается лишь предположить, что некоторые
медные монеты были выпущены в 1789
или 1790 г.
В конце 1967 г. спортсмены-подведни-
ки обнаружили у западного входа рейда
Юссаре три бронзовых орудия. На
стволах были изображены гербы шведского
королевского дома Ваза и год—1523.
При систематическом обследовании
морского дна вокруг места находки в
последующий год были обнаружены останки
еще одного судна, покоившегося на
глубине 17 м: это был двухмачтовый бриг с
хорошо сохранившейся главной палубой,
бушпритом и четырьмя небольшими
пушками, которые находились еще на
своих лафетах. Корабль, относящийся к
XVIII в., известный среди жителей
округи как "Серебряный бриг", судя по
обнаруженным предметам, очевидно, был
также русского происхождения.
Среди останков многих кораблей,
обнаруженных в финских шхерах,
наибольший интерес представляет корабль,
обнаруженный возле Борете. Когда в 1960 г.
сеть рыбака зацепилась за грот-мачту
этого корабля, никто еще не
предполагал, какие сокровища, представляющие
собой культурно-историческую ценность,
будут подняты на поверхность в
ближайшие годы. Первые обследования
показали, что это был голландский торговый
Находка, обнаруженная среди останков
корабля, затонувшего возле Борете. Золотая
табакерка, изготовленная в 1746 или 1748 г.
парижским мастером П. Жаррином
корабль, везший в XVIII в. в Петербург
модные товары; он затонул во время
шторма в архипелаге Нагу.
Среди поднятых предметов
находились карманные часы в золотых
корпусах и золотые табакерки. Часы (за
исключением нескольких экземпляров
французской работы) были изготовлены
в Лондоне. Обнаруженные по сигнатурам
имена некоторых мастеров до сих пор не
были известны в традиционной
литературе (Дрекраб, Фьюфелдер, Транитс, Ре
Курнаб и Ренель). Золотые табакерки
были изготовлены в Париже в период
1745—1747 гг. По клеймам можно судить
о том, что большинство из них были
сделаны мастерами Пьером Жаррином и
Франсуа Марто.
Среди прочего груза следует
упомянуть еще голландские и французские
табакерки из эмали и цинка. В камбузе
наряду с различными кухонными
предметами аквалангисты прежде всего
обнаружили керамическую посуду.
"САНКТА СОФИЯ", "ЛОВИСА УЛЬРИКА"
И ДРУГИЕ ПАРУСНИКИ
В поисках останков затонувших
кораблей спортсмены-подводники
скандинавских стран были воодушевлены
обнаружением "Вазы". Ведь теперь было
доказано, что сообщения о затонувших
роскошных старинных кораблях не
всегда оказываются вымыслом. Возле Гете-
борга началось настоящее соревнование
двух групп подводников: каждой
хотелось найти "Санкту Софию". Было
известно, что корабль был построен после
1624 г. Даниелем Синклером в Аарене на
Лолланде (Дания) и в 1627 г. вышел в
свое первое плавание. "Санкта София"
была самым крупным кораблем,
построенным в то время в Дании. На
корабле, имевшем 70 пушек, служило 244
моряка. В 1634 г. корабль посетил один
французский дипломат и следующим
образом описал его: "На верхней палубе
стоят пушки под открытым небом, на
второй палубе я насчитал 20 пушек. На
нижней палубе находятся остальные
пушки. Жилое помещение имеет четыре
этажа. На верхнем этаже помещается
штурман, на втором — капитан, на
третьем — адмиралы и король. Нижний этаж
служит кладовой".
Во время нападения на Гетеборг в мае
1645 г. стоявший на якоре у города
датский флот был захвачен ураганом.
"Санкта София" и три других корабля
затонули.
И вот на этом месте появился
шведский полковник Ханс Альбрехт фон
Трейлебен и поднял на поверхность с
датского адмиральского корабля 26
пушек. Это было еще до начала работ по
спасению "Вазы". Девять лет обе группы
аквалангистов "Посейдон" и "Весткюс-
тен Дюкарклуб" в различных местах
искали корабль — так как существовали
две теории о месте нахождения его
останков.
Однажды входивший во вторую
группу исследователей Деннис Остерлунд на
28-метровой глубине обнаружил
несколько бронзовых пушек. Надпись "Кристь-
ян IV божьей милостью" и год 1629,
обнаруженные на стволах, явно
свидетельствовали о принадлежности орудий к
искомому кораблю. Так закончилось
соревнование обеих групп и началось
совместное исследование останков под
"Фула Губбен" Схема раскопок, изготовленная шведскими спортсменами-подводниками,
помогла ученым провести типологические сравнения с останками судна, обнаруженного у финского
побережья возле Борете
руководством гетеборгского музея
судоходства. Туда же попали и поднятые
позднее пушки, пушечные ядра, блоки,
керамическая посуда и др. Этому музею
были также переданы четыре пушки,
десятки ядер, несколько котлов для
варки пищи, бутылки, керамические
горшки и чаши, принадлежавшие "Ловисе
Ульрике". Корабль был обнаружен
подводником из Мальме Гуннаром Олссо-
ном и позднее более точно обследован
подводной группой "Дельфины" по
заданию гетеборгского музея судоходства.
Археологи-любители ознакомились
также с архивными материалами, так что
вскоре им стала известна биография
"Ловисы Ульрики".
Корабль был построен в 1757 г. в
Стокгольме на верфи Лотсакс под
руководством X. Зольберга и Г. Кирмана.
Спустя 6 лет после спуска на воду этот
внушительный корабль купила Ост-Инд-
екая компания. "Ловиса Ульрика" была
переоборудована под торговый корабль.
Судно, имевшее теперь 147 футов (3
фута = 1 м) в длину, 39 футов в ширину,
19,5 футов в глубину и весившее 389
свара ластов (1 свара ласт = 2450 кг), под
командованием капитана Маттиаса Хоме-
ра 16 декабря 1760 г. отправилось в
Кантон (Китай). Затем последовали еще три
плавания на Дальний Восток. Нов 1789г.
государство купило "Ловису Ульрику",
и она вновь стала военным кораблем.
Переоборудование судна на этот раз
происходило на гетеборгской верфи
'Тамла варвет" (Старая верфь). Как
указывается в источниках, пушки были
приняты на борт на верфи "Ныя варвет"
(Новая верфь). Но по пути туда, возле
"Легендарной мели", корабль сел на
грунт и пробыл в таком положении
11 дней, пока вновь не обрел
плавучесть. Вскоре "Ловиса Ульрика" была
полностью оснащена. Имея на борту
50 пушек, под командованием
полковника Энескьелда она стала флагманским
кораблем "Флота Западного побережья",
в состав которого входили следующие
суда: "Беллона" (46 пушек), "Диана"
(40 пушек), "Ассистанс" (16 пушек),
"Провединс" (16 пушек), "Лондон"
(18 пушек), а также захваченный
русский корабль, названный "Килдуин"
(44 пушки).
8 августа 1790 г. в Марстранде,
крепости, расположенной севернее Гетебор-
га, на "Ловису Ульрику" погрузили 54
трофейные русские пушки. Ночью
полковник Енескьелд приказал поднять
якоря. Никто не предполагал, что это
плавание окажется последним...
9 августа 1790 г. в 6.00 час утра
корабль находился против Винга. Внезапно
обнаружилась большая течь в левом
борту. Когда замерили уровень воды в
нижнем трюме, то все пришли в ужас: 26
дюймов - на полтора дюйма больше, чем
накануне. Но хозяином положения
оставался еще полковник Енескьелд — его
приказания раздавались на палубе: "Все
свободные от вахты — к помпам.
Штурман, развернуть корабль против ветра,
держать курс на Вингу". Однако "Ловиса
Ульрика" больше не слушалась
штурмана. Попытка развернуть корабль
против ветра не удалась - слишком много
воды набралось уже в трюме. Теперь
штурман разворачивал корабль по
ветру. Лихорадочно работала команда у
помп, но это ничего не давало - вода
неудержимо прибывала. Один приказ
сменялся другим: "Рубить оба передних
якоря. Носовые пушки - за борт!
Остальные пушки - на корму!" Все эти
меры были подчинены только одной
цели: облегчить корабль на носу, чтобы
пробоина оказалась над водой. Когда
полковник Енескьелд увидел, что
корабль продолжает крениться на левый
борт, он потерял всякую надежду
достичь порта. Некоторые матросы
перестали подчиняться приказам, они
подготовили спасательную шлюпку и вывесили ее
над релингом. В нее село больше людей,
чем она могла вместить. От перегрузки
лопнули тросы; шлюпка упала в море и
перевернулась. Борясь с волнами, многие
матросы цеплялись за корпус корабля;
некоторые, которых уже далеко отнесло,
напрасно взывали о помощи. Началась
паника. Вокруг оставшихся шлюпок
разгорелась яростная борьба, теперь уже
никто не следовал указаниям
офицеров - в общей суматохе все забыли про
большой баркас. Несколько минут
спустя осиротевшая "Ловиса Ульрика"
погибла в волнах, всего лишь в нескольких
метрах от скалистых рифоф Боллеске-
рена.
Два английских торговых корабля
спасли от смерти в морской пучине 84
моряка. Журнал "Аллменна тиднингар"
опубликовал на следующий день статью,
в которой говорилось: "...и в этот
трагический день команда "Ловисы Ульрики"
составляла 364 человека. Кроме того, на
борту находилось НО солдат эльфеборг-
ского полка... во всяком случае,
согласно судовым документам, команда
составляла 425 человек...".
Несколько дней спустя был оглашен
приговор морского суда: "Полковник
Енескьелд на шесть месяцев отстраняется
В этих двух деревянных шкатулках, обнаруженных среди останков "Фула Губбен", находились
два золотых кольца и испанский дублон, отчеканенный в 1520 г.
от военной службы, так как в начале
катастрофы он не собрал корабельный
совет". Однако ни слова о настоящей
причине: о том, что "Ловиса Ульрика"
была перегружена и что корабль не
ремонтировался. После такого приговора
государство и общественность потеряли
интерес к кораблю, о котором скоро все
забыли...
Шведские аквалангисты проявляли
активность не только на западном
побережье, но и в бассейне Балтийского
моря. В середине шестидесятых годов
Стокгольмский государственный музей
истории судоходства организовал
специальную выставку, на которой были
представлены предметы, извлеченные
ныряльщиками из останков погибших
кораблей. В витринах были выставлены
судовые колокола, фонари, сосуды для
питья, тарелки, миски, столовые
приборы, курительные трубки, бутылки,
инструменты судового плотника, шляпа и
остатки ткани, блоки, тали, юферс58, а
также две кружки с изображением
бородатой маски. Находки принадлежали
следующим судам: затонувшему в 1770 г.
"Фирспеннарену", потерпевшему
крушение в 1830 г. "Траббносу", потопленному
в 1676 г. у Далеро военному кораблю
"Риксэппельт", а также одному
торговому судну, затонувшему после 1732 г.
возле Хувудскера в Торскнинге (Торск-
нинг — название рыбацкой местности),
который ныряльщики по стилизованной
бородатой маске, выжженой на одной из
кружек, назвали "Фула Губбен"
(Уродливый старец). 25 августа 1965 г. на
28-метровой глубине Свен-Олов Иохан-
нсон обнаружил останки судна, которое
уже долгое время искали он и его
товарищи. В течение последующих лет
останки торгового судна, оказавшегося
посередине разломанным на две части (левый
борт атоял прямо на дне, высота его
составляла от трех до четырех метров, а
части правого борта разрозненно лежали
вокруг), были вымерены. Из останков
судна, имевшего приблизительно 17 м в
длину и 6,4 м в ширину, за это время,
кроме уже упомянутых предметов, были
извлечены: 30 бутылок с хорошим
портвейном, сундук с цинковыми сосудами,
шведские, польские и бранденбургские
монеты, отчеканенные между 1680 и
1732 гг., несколько деревянных
шкатулок, содержавших два кольца и
испанские дублоны чеканки 1520 г., портупеи
для шпаги и несколько стеклянных
стаканов. На стаканах были выгравированы
надписи: "Да здравствуют все хорошие
друзья" и "Здесь я ип*у свое
спокойствие". На кольцах также имелись
примечательные надписи: на бриллиантовом
кольце стояла дата 1670 г., а на другом
была сделана надпись: "Терпение
преодолеет все" и выгравирована дата "1720
год", соединенная с инициалами "СВ".
ДАТСКО-ЛЮБЕКСКИЙ ФЛОТ 1566 г.
В феврале 1960 г. шестеро
спортсменов-подводников города Висби приняли
решение организовать поиски останков
датско-любекского флота, затонувшего
недалеко от города в 1566 г. Под
руководством Руне Фордала они работали в
архивах родного города, стараясь
получить сведения, могущие натолкнуть их на
след флота. Параллельно при
благоприятных условиях — а это у берегов Висби
случается редко — они совершали
погружения на рейде. Так проходил год за
годом, но никакой, даже мельчайшей,
находки сделать не удавалось. И кто
знает, чем кончилось бы все это, если...
не поддержка друга Руне Арне Адольфс-
сона — командира корабля САС
(Скандинавские авиалинии), вновь ободрившего
энтузиастов-ныряльщиков. Летчик помог
подводникам и практически. Он достал
для них некоторые документы из
копенгагенского архива.
18 августа 1965 г. был легкий зюйд-
вест. Группа Руне решает погрузиться
приблизительно в километре южнее
порта. Ранее этого места они старались
избегать, так как здесь вливались в море
сточные воды города. Однако благодаря
зюйд-весту вода оказалась относительно
чистой. Вскоре после погружения всего
лишь на расстоянии 75 м от берега, на
глубине 7 м они обнаружили первый
ржавый ком, затем находки стали учащаться.
Больше не оставалось сомнения, что
обнаружены останки корабля (как
выяснилось позднее — по находке серебряной
ложки, - это был "Ганнибал").
Последующие погружения стали
концентрироваться в этом районе — в одном только
1966 г. было поднято на поверхность
2000 кг ржавых комьев. О точном
обмере находки нечего было и думать, так
как в результате слишком малой
глубины морское дно было подвержено
постоянным изменениям.
Один из подводников, Петер Маннеке,
являлся сотрудником музея в Висби. Он
позаботился о том, чтобы все находки
попали в надежные руки.
Посетители Готландского форзала —
так официально именуется музей —
могут убедиться в успехах спортсменов-
подводников: здесь представлено около
50 находок, имеющих большую
культурно-историческую ценность, в
частности серебряная ложка с
выгравированными гербами, двухшиллинговые
монеты чеканки 1564—1565 гг., пистолет с
колесным замком и инкрустацией из ело- *
новой кости, сабля с кожаными
ножнами, небольшая пороховница, нижняя
Город Висби на острове Готланд, около которого в 1566 г. затонул датско-любекский флот
часть деревянного шомпола с медными
насечками, деревянный пыж для пушки,
четыре железные пушки, четыре
дюжины пушечных ядер, свинцовые ружейные
и пистолетные пули, ножны для ножей и
сабель, части холодного оружия, посуда,
горшки, кружки и котлы из керамики,
цинк и бронза, а также большое
количество фрагментов самых различных
бытовых предметов. Успехом увенчалась
также работа в архиве: удалось точно
установить развитие событий в июле
1566 г. 26-го, утром, начиная с девяти
часов объединенный флот Дании и
Любека в составе 37 кораблей под командой
адмирала Ханса Лауритсона вел
ожесточенное сражение севернее Оланда со
шведским флотом под командой
адмирала Класа Кристенсена Хорна. Сражение
закончилось около 16 часов. Горящие
корабли плавали вокруг. Шведы
отступали к материку, а корабли датско-лю-
бекского флота собрались вокруг
адмиральского корабля любекцев,
потерявшего в сражении грот-мачту. Адмирал и
бургомистр Любека Бартоломей Тиннап-
фелль порекомендовал взять курс на
Данциг, чтобы отремонтировать там
поврежденные корабли. Однако датский
адмирал стал возражать, так как среди
погибших находился датский дворянин
Кристофер Моргенсон, который должен
был быть похоронен в датской земле. По
этой причине флот отправился к Готланду
и бросил якорь на рейде Висби.
Во второй половине дня 28 июля
после того, как похоронили датского
дворянина и все аристократы вновь поднялись
на борт, начался шторм. Енс Билле,
местный феодал, посоветовал капитанам, что-
Шведский адмирал Клас Христенсон Хон,
сражавшийся 26 июля 1566 г. у Ёланда против
датско-любекского флота
бы корабли немедленно покинули место
стоянки, так как здесь море во время
шторма бывает особенно коварным. Но
адмирал Лауритсон высмеял Билле. Он
приказал капитанам отправиться на свои
корабли и противостоять шторму.
Однако капитаны некоторых кораблей, к
своему счастью, все же последовали
совету Билле, подняли якоря и вышли в
море. Лишь к полуночи шторм стал
стихать. Когда утром жители Висби вышли
посмотреть на стоявшие на якоре суда,
они увидели печальную картину. Берег
был усеян обломками кораблей и
сотнями трупов утонувших моряков,
прибитых волнами. Среди погибших
оказались оба адмирала, а также датский вице-
адмирал Енс Труидсон Ульфстанд,
которые позднее были погребены в соборе
св. Марии в Висби.
Горделивого флота больше не
существовало. Ночью погибло 15 кораблей, в
волнах нашли свой конец 2000
немецких и 4000 датских моряков. (Правда,
эта цифра, которая упоминается в
старинных документах, кажется слишком
высокой, так как это бы означало, что
на борту каждого из кораблей
находилось около 400 солдат и моряков.)
В одном письме, адресованном
королю Фредерику II Датскому, говорится по
поводу катастрофы: "...небо совершенно
изменилось. Начался шторм, который
продолжался от пяти до шести часов.
Самые крупные корабли были разбиты.
Берег был усыпан обломками
кораблей..." В конце приводится список 15
затонувших кораблей: адмиральский
корабль "Самсон", "Ганнибал", корабль
вице-адмирала, "Меркурий", "Ахиллес",
"Энгелен", "Флорис", "Солен", "Когезо-
ген", "Папагоен", "Гриббен", "Энгельске
фортун", "Хертуг Адольфе Пинке",
адмиральский корабль "Мориан", "Есва" и
"Меервайб" - три последних корабля
принадлежали Любеку, остальные суда
были датскими!
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
В ДАТСКИХ ВОДАХ
Летом 1959 г. датские спортсмены-
подводники у северного побережья
Борнхольма обнаружили останки
"Солена", затонувшего по дороге из
Стокгольма во Францию 5 декабря 1673 г. Вначале
были найдены монеты с портретом
португальского короля Хуана IV (1640-
1656 гг.), а также другие монеты,
отчеканенные в 1663 г. Позднее были также
обнаружены английские шиллинги с
изображением короля Джеймса I на
лицевой стороне. Уже в том же году "Солен"
был тщательно обследован группой
подводных исследователей Датского
национального музея. "Сьяэлланд", датский
линейный корабль, был подожжен во
время военного столкновения с эскадрой
Нельсона 2 апреля 1801 г. и затонул
вблизи Хумлебаека.
По поводу этого сражения Нельсон
писал: "В два часа победа постепенно
начала склоняться на нашу сторону.
Вражеский строй большей частью прекратил
огонь. Несколько плавучих батарей
относило течением. Потери датчан,
получавших постоянно подкрепление с суши,
были огромны. "Даннеброг", датский
адмиральский корабль, героически
оборонялся, несмотря на пожар,
бушевавший вот уже два часа на его палубе. 260
человек из числа команды были убиты
или ранены, ибо после спуска флага была
допущена роковая ошибка: когда наши
шлюпки подошли к кораблю, чтобы
снять пленных, по ним был открыт
огонь. Поэтому "Элефант" и "Клаттон"
беспощадно изрешетили уже и без того
полуразбитый корабль. Несколькими
ядрами перебило якорные канаты "Дан-
неброга", и ветер понес корабль на мель
возле крепости "Три короны", и в
половине четвертого он взлетел на воздух".
После этого сражения в датских водах
некоторое время военных сражений не
было. Лишь через шесть лет, когда
Дания все больше начала сближаться с
Францией, Копенгаген подвергся такому
сильному обстрелу английского флота,
что Дания капитулировала. Одним из
условий капитуляции была передача
флота Англии, так как малочисленные
датские корабли при каждом удобном
случае навязывали обычно
превосходившему их противнику ожесточенные бои.
Однако не все капитаны приняли
условия капитуляции, за ними была устроена
настоящая охота, чтобы наконец
вынудить сдаться.
Последним датским линейным
кораблем — "Принс Кристиан Фредерик" —
командовал капитан Ессен. Одна часть
английского флота стала в Оерезунде, а
другая — погнала датчанина на юг в
проливе Каттегат. Однако капитан Ессен как
бы чувствовал, что в Оерезунде его
ожидают вражеские пушки, и направил свой
корабль к Большому Бельту. Здесь он
развернулся и, прижимаясь к берегу, под
прикрытием ночи поплыл навстречу
врагу. Однако мель преградила путь судну.
Когда занялся рассвет, англичане
приблизились к севшему на мель датчанину.
Несколько часов длилось сражение,
прежде чем судьба последнего датского
военного корабля была решена.
Горящий, разбитый, он перевернулся на бок.
Через несколько дней жители Иддер-
би, наблюдавшие за боем, вырезали на
валуне следующие памятные слова: "В
300 метрах от этого камня 22 марта
1808 года после героического сражения с
намного превосходящим противником
затонул линейный корабль «Принс)
Кристиан Фредерик» ".
Приблизительно 150 лет спустя этот
камень случайно обнаружил
копенгагенский спортсмен-подводник Орла Якоб-
сен, гулявший по берегу между Оденом
и Иддерби. Так как расстояние в 300 м
было небольшим и поиски могли
обещать успех, тем более что на морской
карте здесь были отмечены лишь
небольшие глубины, Орла и его товарищи стали
спускаться под воду и систематически
обследовать район, где могли находиться
останки корабля. Однако их усилия
оказались безуспешными, хотя они
расширили радиус поисков до 400 м. Тогда они
сделали то, с чего, собственно, следовало
начинать: аквалангисты стали
разыскивать сведения об обстоятельствах гибели
корабля. На кладбище в Одене они
обнаружили могильную плиту и памятную
доску, а в церкви еще одну доску, а
также модель искомого корабля — все
это в какой-то степени рассказывало о
гибели "Принса Кристиана Фредерика",
но не могло быть вместе с тем отправной
точкой для определения места сражения.
Наконец они познакомились с одним
старым рыбаком, который показал им
садовую мебель, сделанную из досок
корабля, принесенных течением, а от своего
деда он знал также гйесто, где затонул
корабль. Когда неутомимые копенгаген-
цы последовали его указаниям, они
действительно обнаружили в песчаном дне
несколько малоприметных холмов и
вскоре уже держали в руках первый
кусок дерева старинного корабля. Корабль
лежал всего лишь на семиметровой
глубине. Раскопки, проводившиеся под
покровительством датского музея
судоходства, производились энергично. В
течение короткого времени д-р Морген-
штьерне, директор музея, получил от
подводников наряду с точной зарисовкой
места находки детали униформы,
тарелки, табакерку, картечь, английские и
датские пушечные ядра, остатки каната,
деревянные тали, железные и бронзовые
штыри, судовой фонарь, а также много
других предметов оснащения корабля.
Так как поднятие на поверхность всех
останков предусмотрено не было,
аквалангисты получили от государства
разрешение использовать их по своему
усмотрению, правда с оговоркой, что все
ценные в археологическом отношении
находки должны передаваться в музей.
Спортсмены-подводники Орла Якоб-
сена оказали также помощь при
исследовании памятников древней истории.
Началось это с того, что Орла однажды
услышал от своей жены историю,
рассказанную ее бывшим школьным учителем.
Этот учитель в Праэстро Харри Хансен
часто рассказывал своим ученикам о
Гонге Ховдингене — легендарном герое
освободительного движения Дании
периода средневековья. При этом учитель
указывал на то, что раньше, около
1200 г., линия побережья в этом районе
проходила совершенно иначе. Например,
название местечка Скибинге (скиб —
корабль) говорит о том, что оно когда-то
возникло из старинного рыбачьего
поселения. А приблизительно там, где
сегодня находится Юнгсхофед, был остров,
на котором возвышался королевский
охотничий замок. Согласно легенде,
король прятал здесь свои сокровища,
которыми хотел завладеть Гонге Ховдинген.
Для этого он якобы проскакал через
мост, ведший к замку. Позднее замок
снесли, а мост, так как им больше никто
не пользовался, вероятно, разрушился.
Орла отправился в Праэстро. Вместе с
Харри Хансеном он осмотрел ту
старинную, уже почти невидимую дорогу,
которая резко обрывается на побережье
против Юнгсхофеда. Все признаки
указывали, что когда-то дорога здесь шла
дальше. Чтобы выяснить все до конца, Орла
Якобсен вместе со своими товарищами
подводниками в один пасмурный
осенний день прибыл в Юнгсхофед. Уже
первое погружение оказалось успешным:
в илистом дне они обнаружили остатки
свай, которые, несомненно, являлись
раньше частью старинного моста. Каждую
сваю пометили длинной планкой,
выступавшей из воды. Расположение свай
свидетельствовало о том, что было
найдено сооружение, созданное рукой
человека. Однако последние сомнения были
развеяны лишь после того, как для
радиокарбонового исследования в
Национальный музей были доставлены
несколько балок. Результат
исследования однозначно указал возраст —
приблизительно 500 лет; так были обнаружены
останки средневекового моста и
подтвердилась история учителя Хансена,
которую он рассказывал на протяжении
более двадцати лет.
КЛАДОИСКАТЕЛИ И ПОХИТИТЕЛИ
СОКРОВИЩ НА МОРСКОМ ДНЕ
"Глыбы земли из чистого золота,
кукуруза с золотыми стеблями,
листьями и початками, двадцать золотых лам
с детенышами и золотые пастухи в
натуральную величину с кривыми палками и
пращами" - испанские захватчики
ослеплены. Еще никогда, пишет хронист, они
не видели так много золота сразу, как
в золотом саду солнечного храма
древнего города инков Куско, с его
позолоченными стенами и позолоченными
птицами.
Те ценности, которые находятся в
музеях золотых сокровищ Мексики,
Колумбии и Перу, являются лишь слабым
отблеском высокого искусства золотых
и серебряных дел мастеров Америки
доколумбового периода. Между 1503 и
1660 гг. с нового континента в Севилью
было отправлено морем 185 т золота,
1600 т серебра, однако не все это было
получено в результате переплавки
произведений искусства. Большая часть была
добыта на золотых приисках и в
серебряных рудниках, в частности в руднике
возле Потоси в сегодняшней Боливии.
Вопреки инструкциям испанской
короны большое количество сокровищ тайно
попадало в другие страны, часть его так
никогда не достигла своего места
назначения. На протяжении столетий на дне
всех океанов оказались несметные
ценности в чревах погибших кораблей,
перевозивших сокровища, награбленные не
только в Центральной Америке.
Большинство мест гибели кораблей не
известны и будут открыты лишь благодаря
случаю, часть точно зафиксирована на
старинных картах и в архивах, но тем не
менее до последнего времени считалась
недоступной из-за местных условий.
Лишь с помощью самых современных
научных и технических средств и
благодаря тщательной подготовке таких
операций сейчас постепенно удается
поднимать на поверхность золото и серебро,
ювелирные изделия и произведения
искусства, которые считались навеки
утраченными. При этом расходуются весьма
значительные денежные средства...
В БУХТЕ ВИГО
Затонувшие в 1702 г, в бухте Виго
(Северная Испания) знаменитые "галио-
ны бухты Виго" являются с того
времени постоянным притягательным центром
для кладоискателей. История этих
кладоискателей восходит к периоду войны за
испанское наследство. В течение трех лет
испанские конвои из Южной Америки и
Вест-Индии не решались пересекать
океан, имея на борту сокровища.
Наконец Дон Мануэль де Ведаско решился
провести корабли из Рио-де-ла-Плата.
Со своими 23 галионами он пересек
Атлантику и в соответствии с
договоренностью встретился в пути с
французским конвоем под командованием
графа Шато-Ренольда, также состоявшим
из 23 судов. Этот отряд должен был
защищать нагруженные сокровищами
корабли от англо-датского флота,
блокировавшего тогда Кадив. Испанские и
французские корабли укрылись в бухте
Виго. Проход в бухту сузили с помощью
срубленных деревьев, и для охраны
выставили французские корабли. Но на
испанских галионах никаких мер
предосторожности не принимали, а из
Мадрида еще не поступил приказ о
дальнейшей перевозке сокровищ сухопутным
путем. '
Однажды ночью подошли англичане и
датчане — 30 часов кипел бой. В ход
пошли сабли, пистолеты, ружья, кипящая
смола и раскаленные ядра. В итоге в
битве за золото было потоплено 24
корабля. Двадцать пятый — им оказался
самый крупный из испанских галионов -
был в качестве приза под командованием
адмирала Клодесли Шоувелла отправлен
в Англию. Сразу же после выхода из
бухты корабль наскочил на риф и
затонул на глубине 33 м.
Попытки кладоискателей завладеть
ценностями потопленных галионов
начались непосредственно после окончания
сражения — под огнем испанских
береговых батарей английские моряки подняли
на поверхность добычу на общую сумму
5 миллионов фунтов стерлингов. Спустя
25 лет попытку достать сокровища
предприняли французы, однако она
оказалась безуспешной, так же как и вторая
в 1748 г. В 1825 г. на месте гибели
судов появился капитан Диксон со
своим бригом "Интерпрайс", поднял
серебро и уплыл. Через десять лет после
него безуспешную попытку совершили
испанцы. В 1858 г. испанское
правительство выдало Дэвиду Лангланду
концессию на проведение спасательных работ
сроком на десять лет. Правда, в
корабельных останках он ничего не нашел,
но сумел составить себе состояние за счет
затонувших золотых сокровищ — он
дважды продал концессию.
Проводившиеся затем до 1870 г. попытки поднять
сокровища стоили жизни многим
авантюристам.
Всего было предпринято 70 попыток
поднять затонувшие ценности, тем не
менее, по мнению экспертов, большая
часть затонувших сокровищ еще
покоится на дне бухты Виго.
Видимо, из этого исходил
американский спортсмен-подводник Джон Поттер,
который в период 1958—1960 гг. для
основательного исследования этого
вопроса организовал научное общество
"Атлантик Сальвейдж К" ЛТД"
(Американское общество по спасению
затонувших судов), объединив в нем коллег-
спортсменов, специалистов-техников и
кредитодателей. Это общество впервые
серьезно и продуманно осуществляло
поиски конкретных галионов; однако
Поттеру и его коллегам успех также не
улыбнулся.
РАЙОНЫ ДЕЙСТВИЯ КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ
Морским районом, также часто
посещаемым охотниками за сокровищами,
является так называемый риф Сильвер-
Банк, расположенный к северу от
острова Испаньола, приблизительно в ста
километрах от побережья Доминиканской
Республики. Американские ученые
считают, что здесь на дне моря под слоем
песка и коралловых отложений
находятся золото, серебро, драгоценные камни
и произведения искусства на сумму
более двух миллиардов долларов.
Однако обширные поиски в районе Сильвер-
Банк оказались малорезультативными.
Правда, со дня моря на поверхность
были подняты пушки, обломки
кораблей, якоря и фарфор, однако не удалось
обнаружить золотых и серебряных
сокровищ. Не удалось это и французскому
исследователю Жаку Иву Кусто, который
предпринял в районе Сильвер-Банк
44-дневную экспедицию. На борту
исследовательского судна "Калипсо' у
Кусто имелась поисковая команда и все
необходимые технические средства.
Попытка поднять на поверхность
сокровища испанского галиона "Нуэстро
сеньора де ла Консепсьрн" оказалась
безуспешной. Кусто вынужден был
признать : чрезвычайно трудно вновь
обнаружить на дне тропических или
субтропических морей корабль, затонувший
несколько столетий назад. Особенно это
относится к району Карибского
бассейна. Приблизительно каждые десять лет
над районом Сильвер-Банк проходит
центр урагана: таким образом, начиная с
XVII в. здесь пронеслись более 30
ураганов. Весь район Сильвер-Банк
подвергается сильнейшему воздействию моря —
волны достигают высоты 12 м. Под
таким воздействием затонувшее судно
меняет свое положение. Но решающим
фактором, как подчеркивает Кусто,
является морская фауна. Ракушки,
известковые водоросли и другие живые
организмы оседают на корпусе корабля,
и он постепенно оказывается
погребенным под толстым панцирем. За относи-
тельно короткое время кораллы
замуровывают корабль. Рыбы-попугаи, которые
питаются кораллами, размельчают их в
песок, который оседает небольшими
кучками, в результате морское дно возле
коралловых стеблей имеет некоторые
возвышения. Поэтому сегодня останки
многих кораблей находятся на морском
дне, часто они оказываются даже
покрытыми коралловыми рифами весом в
несколько тонн. Тому, кто хочет поднять
испанские сокровища у Сильвер-Банк,
придется удалить целые коралловые
горы и песчаные валы, а в ряде случаев
потребуется применить взрывы.
Именно этим методом и пользуются
многие кладоискатели. Взрывы на
морском дне разрывают коралловые блоки
и облегчают поиски золота и серебра.
Многие ученые рассматривают такие дей-
Хотя Кусто и обнаружил в районе рифов
Сильвер-Банк пушки, части кораблей, якоря и
фарфор, однако груженный сокровищами галион
"Nuestra senora de la Concepcion" ему найти не
удалось
ствия с неодобрением. И не только
потому, что при таком грубом способе
полностью уничтожаются останки
кораблей — от этого страдают также морские
фауна и флора.
Другими районами, которые
посещают охотники за сокровищами,
являются побережье Флориды, Багамские
острова, Мексиканский залив, а также
воды Кубы. Район Центральной Америки
является для искателей кладов
настоящим раем. Погоня за испанским золотом
влечет сюда ученых, авантюристов и
предпринимателей, которые чуют здесь
прибыльное дело.
Практика американских кладоиска-
тельских фирм, которые превде всего
были образованы во Флориде,
совершенно иная. Поиски сокровищ они
превратили в коммерческое предприятие: это
Во время погружений за сокровищами в
Карибском море была обнаружена и эта
астролябия, которой когда-то пользовались на
испанском корабле
профессионалы, которые точно считают и
сбывают свои находки через лучшие
аукционы и фирмы, торгующие
антиквариатом. Одним из самых удачливых
охотников за сокровищами является
Кип Вагнер, чья фирма занимается
поднятием на поверхность золота и серебра со
дна Карибского моря.
Действия Вагнера являются
усовершенствованным ограблением останков
затонувших кораблей. Предприниматель
из небольшого города Себастьяна в штате
Флорида начал свою поисковую
деятельность с помощью миноискателя времен
второй мировой войны. Сегодня под его
началом работают группы обученных
водолазов, он располагает новыми
приборами и инструментами, прежде всего
Кип Вагнер еще учитывал иногда
музейные интересы: фарфор и золотые украшения
не всегда сбывались через аукционы и
торговцев антиквариатом
металлодетекторами и подводными
магнитометрами. Вагнер изучает материалы
военно-морских архивов Испании, на
основе которых он целенаправленно
определяет места нахождения
затонувших судов и проводит их обследование.
Одним из самых ценных кораблей,
о котором уже давно мечтают
жаждущие наживы авантюристы, является
"Эльдорадо", флагманский корабль
испанского флота, состоявшего из 27
каравелл, затонувших в 1505 г. в проливе
Мона мевду Пуэрто-Рико и Испаньолой
и имевших на борту несметные
золотые сокровища.
Кладоискатели успешно оперировали
также и в водах Англии. Районом поиска
английских искателей сокровищ
является Ла-Манш, Дуврский пролив, район
вокруг островов Скилли, побережье
Корнуолла и Девона. На протяжении
последних 400 лет только в водах южной
Англии потерпели крушение военные и
торговые корабли почти всех
европейских стран. Надо полагать, что здесь на
морском дне также покоятся ценности.
Поиски затонувших золотых и
серебряных грузов превратились в доходное
дело. Английские историки считают, что
только на песчаных банках Гудвина
между Ремсгейтом и Сеалом -
приблизительно в 15 км от берега — покоится золото и
серебро на сумму 300 миллионов
фунтов. Массовое изъятие сокровищ в море
беспокоит историков и археологов.
Бездумно разоряются и разрушаются
останки кораблей. Нередко отряды
подводных искателей сталкиваются со своими
соперниками, "обрабатывающими" те же
самые районы.
Не единичны случаи, когда группы
таких "искателей" численностью по 50
человек запугивают и прогоняют группы
"противника". Некоторые из этих так
называемых подводных "клубов " имеют
годовой бюджет в 10 000 фунтов.
Одной из самых успешных экспедиций
британских кладоискателей после
второй мировой войны явился подъем на
поверхность ценностей, находившихся на
борту "Голландии".
"Голландия" была построена в 1742 г.
в Амстердаме голландским отделением
Ост-Индской компании. Это был
700-тонный корабль совершенно нового, а в
некотором отношении
экспериментального типа длиной 42 м, имевший на
борту 276 человек команды.
3 июля 1743 г. под командой
капитана Яна Кельдера корабль отправился в
свое первое плавание из Текселя в
Батавию (Джакарта). На борту находилось
несколько пассажиров, в том числе и
брат Густава Вильгельма барона фон
Имхоффа, голландского
генерал-губернатора в Ост-Индии, с женой и
свояченицей. Груз "Голландии" составляли
129 700 серебряных гульденов,
предназначенных для банка голландской Ост-
Индской компании. Через десять дней
после того, как "Голландия" в
сопровождении 4 двух других судов покинула
Тексель, она ранним утром наскочила на
рифы Ганнер в Броад-Сунде у побережья
острова Св. Агнессы. Как сообщает
современный источник, "корабль затонул
на глубине приблизительно 22 фута со
всеми людьми, находившимися на
борту".
Удивительно то, что никто не остался
в живых, хотя, как явствует из письма
генерал-губернатора Имхоффа, "в тот
момент не было сильной бури и
некоторые из моряков были довольно
неплохими пловцами". Все попытки поднять
груз "Голландии" были безуспешными.
Когда в 1794 г. корабль был
обнаружен Таутбеком, он находился еще в
очень хорошем состоянии. Место
находки, сделанное Таутбеком, в сентябре
1971 г. было обнаружено группой
водолазов, которые в течение двух лет
искали в голландских' и английских архивах
сведения о "Голландии". Специально для
этой цели сконструированные
электронные инструменты, как, например,
протонный магнитомер, правда, сыграли
решающую роль в обнаружении корабля,
однако основная заслуга принадлежит
все же людям, которые месяцами
находились на рабочей площадке в
исключительно тяжелых температурных
условиях, при больших волнах и сильном
ветре. Благодаря этому на поверхность
было поднято более 14 000 серебряных
монет, некоторые из которых были в
очень хорошем состоянии, несколько
бронзовых пушек и большое количество
бытовых предметов. Обращает на себя
внимание тот факт, что большую часть
груза "Голландии" составляли испано-
американские серебряные монеты
испанской Америки, особенно песо и восьми-
реаловики. В ост-индской торговле были
особенно популярны восьмиреаловики.
Эта популярность часто использовалась
европейскими купцами,
путешественниками и миссионерами в Азии. Генри
Борифорд, английский купец,
посетивший в 1635 г. Макао, записал, что
удобнее всего было платить серебром,
особенно восьмиреаловиками. Себастие Ман-
рике, португальский монах августинско-
го ордена, который двумя годами позже
посетил Манилу, также наблюдал, как
китайским купцам, продававшим новые
продукты, платили восьмиреаловиками.
Правда, упомянутые монеты
составляли лишь часть имевшихся на борту:
другую часть составляли голландские
монеты: дукаты из Цволле, Кампена,
Девентера, Оверьюсселя, Фризланда,
Утрехта, Зееланда, Западного Фризланда,
Голланда и Гельдерланда, а также
серебряные монеты, отчеканенные при
Альберте и Изабелле (1616—1621),
Филиппе IV (1621-1665), Чарльзе II (1665-
1700) и Филиппе V (1700-1712).
В апреле 1972 г. сокровища
"Голландии" были проданы на аукционе Сотхеби
и К0. Четверть прибыли получило
нидерландское правительство. Охотники за
сокровищами, несмотря на 22 000
фунтов, затраченных на организацию этой
экспедиции, получили большую прибыль.
ЗОЛОТО "ЛЮТИНЬГ
Целое столетие внимание всех было
приковано к спасению клада
совершенно иного рода — золота "Лютины". В
конце XVIII столетия Европа воевала с
революционной Францией. Французы
захватили Бельгию и провозгласили
Голландию Батавской республикой. Пруссия
и Испания были вынуждены заключить
Базельский мир. Дому Габсбургов
пришлось заключить мир в Кампо-Формио;
Бельгия, Ломбардия и левый берег
Рейна отошли к Франции. В эти годы
поднялось значение Гамбурга как одного из
центров мировой торговли — город стал
основным перевалочным портом
Северной Европы: после оккупации Голландии
весь ее прежний товарооборот перешел к
ганзейскому городу. Однако
гамбургское купечество оказалось не во всем
подготовлено к этому, прежде всего не
хватало наличных денег для срочной
оплаты фрахтов, а банки требовали за
предоставление кредитов до 30%.
В такой ситуации купцы стали искать
помощи. Материковые государства
воевали или же оказались
некредитоспособными в результате прошлых войн.
Единственной европейской державой,
разбогатевшей во время войн, была
Англия. Она использовала свой
мощный флот для того, чтобы отобрать у
Франции и ее союзников все колонии.
Одновременно Англия расширила свою
мировую торговлю и увеличила
промышленность. Союзники Англии на
материке должны были нести всю тяжесть
войны, а недосягаемый остров собирал
добычу. Просьбу Гамбурга о помощи в
Англии услышали, так как, во-первых,
Гамбург был также врагом Франции,
а во-вторых, рассудили, что если
торговля Гамбурга будет успешной, то Англия
на этом также заработает. Поэтому
лондонские банки собрали необходимые
24 миллиона талеров.
В начале октября 1799 г. эта сумма в
количестве 1000 золотых и 500
серебряных слитков была подготовлена.
Первоначально планировалось погрузить
ценный груз на один из торговых кораблей
и отправить его с конвоем. Однако эта
идея была вскоре оставлена, так как на
море было очень неспокойно: хотя
французский флот больше не существовал,
в море все равно было несколько
каперских судов, плававших под
французским флагом и рассматривавших пролив
как место охоты за добычей. В конце
концов для перевозки золота
английское правительство предоставило военный
корабль "Лютину". Это был
быстроходный парусный фрегат водоизмещением
900 т, имевший на борту 52 пушки и
280 человек команды. При соблюде-
Золотые и серебряные монеты — главная притягательная сила для искателей сокровищ
нии полной секретности сокровища в
бочках и ящиках были погружены в
трюм фрегата, и вечером 9 октября
1799 г. "Лютина" при хорошей погоде
покинула Ярмут-Роадс. До Гамбурга
корабль должен был зайти еще на
голландский остров Тексель, чтобы оставить
140 000 фунтов, предназначенных в
качестве жалованья для находившихся там
английских войск.
В первые часы погода была для "Лю-
тины" удачной. Однако около полуночи,
когда корабль уже находился на
широте Гельголанда, начался сильный шторм;
на рассвете "Лютина" уже лежала на дне
моря. Она наскочила на песчаную банку
вблизи острова Тершеллинг и тут же
опрокинулась — лишь одному из 280
человек команды удалось пережить
катастрофу на несколько часов.
Как только весть о гибели "Лютины",
а одновременно и о большом коли-
Две 12-фунтовые пушки и якорь, стоящие у входа в порт острова Тершеллинг, напоминают о
судьбе "Лютины"
честве денег, золота и серебра,
находившихся на ее борту, пришла в Голландию,
Голландия — бывшая союзница Франции,
а следовательно, находившаяся в
состоянии войны с Англией — объявила, что
она конфискует корабль. Казалось,
Англия навсегда потеряла сокровища, так
как с английской стороны что-либо
предпринять было невозможно. Правда,
владельцы золотых и серебряных слитков
не понесли убытков в связи с
катастрофой: груз был застрахован у "Ллойда".
Непонятно, почему правительство
Голландии не организовало сразу же
спасения так неожиданно доставшихся
ему сокровищ: ведь во время отлива
корабль был еще легко досягаем. Лишь
спустя два года был отдан приказ
попытаться поднять ценности. Жившие
поблизости рыбаки принялись за работу,
пытаясь с помощью сетей и клещей для
ловли устриц поднять сокровища. С
помощью примитивных инструментов были
подняты на поверхность монеты и слитки
на сумму более миллиона талеров,
пока морское течение, которое было
здесь особенно сильным и часто меняло
направление во время штормов, не
похоронило корабль: он вскоре оказался
под слоем песка толщиной в
несколько метров. Это случилось зимой 1801 г.
В последующие двадцать лет "Лютину"
больше не тревожили, все попытки
добраться до нее оказались тщетйыми.
В 1821 г. голландские дельцы
объединились в "Привилегированное
спасательное общество", которое получило от
правительства концессию на поднятие
сокровищ "Лютины". Общество
обязалось половину спасенных ценностей
передать правительству. Разумеется, в Англии
встретили создание этого общества со
смешанным чувством, ибо там не
теряли надежду в один прекрасный день
поднять ценности своими силами, так
как война с Голландией давно была
закончена. Теперь эта надежда, казалось,
исчезла окончательно. Между тем
"Ллойд" считал, что часть груза
корабля можно спасти, и в 1823 г. через
британское правительство с
соответствующим прошением обратился к королю
Голландии. Голландский монарх,
вероятно, сам считал спасение сокровищ
невозможным, а может быть, и хотел
продемонстрировать свою дружбу с Англией:
он уступил свои права Георгу IV,
тогдашнему королю Англии, который тут
же передал полученные права "Ллойду".
Правда, этот подарок вначале
оставался лишь на бумаге, так как
"Привилегированное общество" за 25 лет
не добилось ни малейшего успеха.
Создавалось впечатление, что море хочет
оставить сокровища у себя. Однако в
1857 г., когда собрались прекратить
работы, новое изменение течения
неожиданно смыло огромный слой песка, и
корабль вновь стал досягаем. И
несмотря на это, по-настоящему доставать
сокровища стали только лишь в следующем
году, а именно с помощью водолазов,
которые тогда были использованы
впервые. Им удалось поднять на поверхность
до октября 1858 г. слитки золота
стоимостью свыше полумиллиона. Все
считали, что полное спасение сокровищ
является теперь лишь вопросом
времени. Однако это предположение не
подтвердилось, так как море неожиданно
распорядилось по-своему: течение снова
погребло корабль в песке. Водолазы все
же не теряли надежды: слой песка был не
слишком толстым и затвердевал песок
медленно. В последующий период
работы стоимость поднятого золота
превысила полтора миллиона талеров. В конце
1860 г. слой песка стал настолько
толстым, что пришлось прекратить
работы. Шесть лет спустя начался новый этап
спасения: технический прогресс не
обошел и могилу "Лютины" — были
построены огромные экскаваторы. Чтобы
создать водолазам благоприятные условия
для работы, песок пытались убирать
ковшом. Но море оказалось сильнее:
количество песка, наносимое течением,
было большим, чем вычерпанное
экскаваторами... Попытки добраться до
корабля в последующие годы, как только
это позволяли условия течения и
погоды, были еще менее удачными. Наконец
в 1900 г. голландское спасательное
общество заявило, что оно не верит
больше в успех операции и по этой причине
расторгает контракт.
В Англии были настроены не так
пессимистически, ибо покоившиеся на
глубине золото и серебро на сумму
свыше 20 миллионов талеров все еще
манили к себе. С помощью более
совершенной техники операция могла стать
успешной. "Английская национальная
ассоциация по спасению судов" (АНСС)
предложила продолжать работы за свой
счет и заключила с "Ллойдом" и
голландцами соответствующий договор.
Согласно этому договору, 70% поднятых
сокровищ отходили в пользу
Ассоциации, остаток делился пополам между
"Ллойдом" и голландцами. В 1911 г.
АНСС начала работы, используя при
этом центробежные насосы —
работающие в принципе аналогично нынешним
пневмоэжекторам — и ковшовые
экскаваторы. Однако вскоре выяснилось, что
землесосы проигрывают соревнование с
течением, которое наносило песка
больше, чем его можно было отсосать.
Наконец эксперты решили изменить
направление течения: мимо корабля.
Это удалось сделать благодаря
сооружению почти двухкилометрового,
довольно глубокого канала, прорытого с
помощью землесоса. Сооружение канала
продолжалось до начала 1913 г., так как
нужно было убрать полтора миллиона
тонн песка. После этого раскопки судна
пошли настолько быстро, что средняя
часть корпуса стала доступной для
водолазов уже в июле того же года. В
стенке корпуса они обнаружили пробоину,
через которую можно было просунуть
руку и прощупать слитки металла.
Несомненно, это была наибольшая часть
сокровищ, которая все еще находилась
внутри корабля. Когда водолазы
сообщили эту радостную весть, каждый
подумал, что наконец-то цель близка.
Спустя несколько дней водолазы снова
спустились к кораблю, прихватив
соответствующие инструменты для
расширения пробоины. Однако корабль
настолько сильно повернулся в созданном
землесосами пространстве, что пробоина
оказалась больше недосягаемой. Хотя
работы и продолжались, но успеха они не
принесли.
С началом первой мировой войны
работы по извлечению ценностей были
приостановлены. С тех пор "Лютина",
вновь покрытая песком, лежит
нетронутой на глубине, ибо последующие
попытки добраться до нее оказались
безуспешными.
Сегодня об английском фрегате и его
истории в Нидерландах напоминают лишь
две 12-фунтовые пушки и якорь
корабля, установленные у входа в порт
острова Тершеллинг, а также несколько
монет, золотых слитков и предметов
снаряжения команды, хранящиеся в музее
острова. А в страховой компании
"Ллойда" в Лондоне всякий раз при известии
об очередном погибшем застрахованном
в компании судне звонит колокол "Лю-
тины", поднятый на поверхность
водолазами в 1859 г
Кроме того, каждому президенту
компании Ллойда регулярно о тогдашних
событиях напоминает надпись, сделанная
на президентском кресле:
"Это кресло изготовлено из руля
корабля Его Величества "Лютины",
который вышел 9 октября 1799 года из Яр-
мута-Роадс и потерпел крушение в ту
же ночь у острова Флиленд, во время
которого погибли все люди, находившиеся
на борту, за исключением одного
человека".
ГРАБИТЕЛИ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ
Как мы видим, большинство
кладоискателей интересует только материальная
ценность золотых и серебряных находок,
ради чего в жертву приносится
культурно-историческое значение корабля и
груза. Затонувший корабль, являющийся в
археологическом смысле "закрытым
комплексом", дает представление об
особенностях общественной и культурной
жизни к моменту катастрофы. Останки
любого корабля являются "капсулой
времени", которая может дать
информацию о судоходстве, торговле,
экономике, технике, путях сообщения,
культуре и др. Груз и сохранившиеся
останки дают археологам новые материалы.
Поэтому ни для кого не удивительно,
что археологи с неодобрением
отзываются о кладоискателях на морском дне.
Однако такие кладоискатели в глазах
ученых являются не самыми злейшими
врагами. Намного опаснее — подводники,
относящиеся к категории похитителей
произведений искусства. Иллюстрацией
этому является следующий типичный
пример.
В начале 1969 г. один итальянский
рыбак, бросавший сети вблизи деревни
Партиселло на берегу Мессинского
пролива, сделал удивительное открытие:
он вытащил рыбу, обитающую на
скалистом грунте. Может быть, внизу
находился риф. Чтобы не порвать сети, он
попросил своего товарища,
спортсмена-подводника, обследовать в этом месте
морское дно. На 35-метровой глубине
аквалангист обнаружил не риф, а
нагромождение камней, вокруг которых
находились останки античного корабля. Между
камнями лежало около 200 амфор
вместе с чернолаковыми тарелками,
чашками, горшками и кувшинами с
ручками. Рыбак и его помощник решили
тайно поднять найденное, чтобы затем
выгодно продать все на антикварном
рынке. Они наняли еще нескольких
водолазов, под прикрытием
рыболовного катера спускались несколько раз к
месту находки и перенесли большое
количество поднятых предметов на
мелкое место, расположенное вблизи от
берега. Ночью они вернулись и забрали
добычу. При этом тяжелые предметы они
сначала тащили по дну в сетях, а затем
поднимали на поверхность.
После того как на поверхность было
поднято большинство амфор, они
неожиданно обнаружили несколько кусков
бронзы, при более подробном изучении
оказавшихся частями двух бронзовых
статуй в натуральную величину.
Похитители поняли, какую большую
прибыль эти вещи могли бы принести им на
европейском антикварном рынке, и
стали обследовать место находки со все
большей тщательностью, пытаясь найти
как можно большее количество частей
статуй.
Во время разграбления останков
корабля они обнаружили не менее трех
больших якорных штоков, два из
которых были снабжены надписями. Кроме
того, они подняли другие свинцовые
части якорей и приблизительно 20
свинцовых слитков круглой формы,
снабженных клеймами плавилен. Части
якорей и слитки были разбиты и проданы
как лом, в результате чего была
исключена возможность научного анализа.
Пираты морского дна несколько
месяцев хозяйничали на месте находки,
пока у них не возникли финансовые
разногласия. Слухи о найденных
предметах, их продаже, в особенности о
продаже великолепно сохранившейся
бронзовой головы достигли д-ра Джузеппе
Фоти, занимавшего ответственный пост
в Национальном музее Реджо-ди-Калаб-
риа. Действия рыбака и его
помощников окончились подобно многим
аналогичным операциям: обыск полиции,
обнаружение находок, судебный процесс
и осуждение "любителей амфор".
Д-р Фоти попросил полицию города
Мессины продолжить обследование места
находки. Это задание было поручено
Франку Колозимо, опытному
исследователю останков затонувших кораблей.
Д-р Фоти привлек также к раскопкам
музей Пенсильванского университета.
Летом 1970 г. начались
четырехнедельные раскопки итальянскими и
американскими подводными археологами.
Вначале были обнаружены чернолако-
вые чаши с двойными ручками, части
кухонной посуды, деревянный горшок,
два чернолаковых фонаря, затем кувшин
для вина и глиняная ступа. Одной из
наиболее интересных находок оказался
хорошо сохранившийся предмет из
дерева, так называемое "рыбацкое
мотовило". Еще и сегодня рыбаки
используют такое мотовило для наматывания
веревок.
С помощью пневмоэжектора был
отсосан песок, в результате чего были
обнаружены амфоры нескольких типов.
Различные типы амфор относятся, очевидно,
к различным портам, куда заходил
корабль. Они свидетельствуют о том, что
первоначально корабль шел из Греции
через Сицилию в западном направлении
с конечной остановкой в Италии или
даже в Испании и что он намеревался
пересечь Мессинский пролив. После
окончательного обследования амфор
установили, что на корабле они были
представлены четырьмя различными типами,
которые датируются концом V —
началом IV в. до н. э. Две амфорные ручки
с различными клеймами, к сожалению,
не смогли помочь в более точной
датировке. Одно клеймо в виде
четырехугольного штемпеля было плохой
сохранности, второе представляло собой
простой оттиск круга. Амфоры,
поднятые со дна рыбаком и его
помощниками и принадлежавшие к грузу этого
корабля и на сегодня уже потерянные,
очевидно, имели большое количество
таких клейм, а может быть, это были
амфоры и других типов.
Между амфорами были обнаружены
разрозненные предметы из глины
шарообразной формы диаметром 9 см,
назначение которых неизвестно, так как они
были обнаружены впервые.
В целом груз корабля состоял из
следующих товаров: амфоры для вина
и масла, а также для сушеной рыбы,
свинцовые слитки и не менее двух
бронзовых статуй в натуральную величину,
изображавших бородатых мужчин. Сюда
можно еще добавить небольшие
керамические изделия, так как известно,
что во время разграбления были
найдены и подняты на поверхность
многочисленные тарелки, чашки, чаши,
кружки, а также изображавший тифона
(культовый сосуд из глины).
Находки говорят о том, что корабль
затонул в последней четверти V в. до н. э.
Проведенное позднее определение
возраста с помощью метода с
использованием С14 и дендрохронологии
подтверждает, что корабль был построен в
V в. до н. э. и затонул в конце этого
века.
Бронзовые статуи, очевидно, были
изготовлены во второй четверти V в. до
н. э. Большая бронзовая голова
представляет собой своеобразное смешение
стилей. Вторая голова, изображавшая
молодого мужчину с бородой,
выполнена в той же манере. К сожалению,
расхитители ее продали.
Другой информации о корабле и его
грузе археологи дать не смогли, так как
в результате разграбления останков и
связанного с этим нарушения положения
находки у них с самого начала были
потеряны все шансы для научной
обработки места находки.
Власти не пресекли с самого начала
действия тех, кто стал на путь
похищения произведений искусства на морском
дне,—позднее их остановить было уже
невозможно. Сегодня некоторые
прибрежные районы закрыты для ныряния.
Это сделано для того, чтобы
предохранить от грабежа и разрушения
покоящиеся на дне культурные ценности. К
сожалению, любители древностей
получили неожиданную помощь: в
рыбацких деревнях большой доход может
привести продажа иностранцам
старинных ценностей или указание туристам
мест находок...
РАЗГРАБЛЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИСКУССТВА ЛОРДОМ ЭЛЬДЖИНОМ
Защита сокровищницы Посейдона
вызывает самую бурную реакцию в
Греции. Нагляднее всего об этом
свидетельствует газетная статья, в которой
сообщается об аресте и осуждении
американских водолазов. Заголовок этой статьи
гласит: "Новые эльджины занимаются
контрабандой произведений античного
искусства". Приводим выдержку из
статьи: "Среди огромного числа
иностранцев, посещающих нашу страну,
имеется много эльджинов. Их наглость
направлена не на то, чтобы увести
Акрополь, как это сделал много лет назад с
помощью чужеземных турецких
захватчиков британский дипломат. Охотнее
всего они бы увезли с собой
произведения искусства из наших музеев и
античных мест, однако там слишком
много глаз. Поэтому эльджины обращаются
к морю, хранящему множество
археологических сокровищ, где они считают
себя в безопасности...".
Реакция греков понятна, ибо
злодеяние лорда Эльджина не забыто. История
эта началась в 1687 г., когда турки
использовали Парфенон как пороховой
склад. В результате прямого попадания
снаряда венецианских артиллеристов
крыша Парфенона взлетела на воздух.
Томас Брюс, граф Эльджин и посол
при Великой Порте, начал в 1802 г.
беспокоиться о безопасности еще
сохранившихся фризов Парфенона Фидия,
так как греки начали вооруженные
выступления против турецкого господства.
Лорд Эльджин распорядился снять
фризы с храма победы и со стен Акрополя,
упаковал их в 16 больших ящиков и
под присмотром секретаря посольства
м-ра Гамильтона отправил в Англию
на бриге "Ментор". Вечером на второй
день плавания корабль попал в шторм,
его отнесло к острову Кифера, где он
ранним утром разбился о рифы. Тем
самым "Ментор" пополнил длинный
список кораблей, которые пытались
доставить произведения греческого искусства
под защиту иностранного эллинофила.
Гамильтон и команда корабля
спаслись — произведения же искусства
остались лежать на дне Средиземного моря
на глубине 16 м. Лорд Эльджин, который
придавал этим культурным ценностям
"больше личного, чем делового
значения", назначил итальянского
специалиста-спасателя Базилио Меначини из
Специи британским вице-консулом. Это
была высшая должность, на которую мог
назначать Эльджин. Но если бы Меначи-
ни не сумел достать фризы в течение
трех месяцев, он лишился бы звания.
Между тем Гамильтон пристально
следил за районом моря, в котором
находился драгоценный груз. Интриги,
пираты и русские морские офицеры не
давали покоя Гамильтону. После начала
войны он попытался направить в Киферу
для спасения брига английский военный
корабль "Викториозу", а Меначини —
"Специот". Однако эта попытка не
увенчалась успехом. Когда русские предлс
жили свои услуги, лорд не хотел об это*
и слышать.
На следующую весну Гамильтон наня.
на Самосе нескольких ныряльщиков, кс
торые в течение двух лет подняли вес
ценный груз. Лорд Эль джин заплатил з
всю операцию, включая покупку "Met
тора", всего пять тысяч фунтов. Брита*
ский музей в Лондоне заплатил ему з
это собрание 35 тысяч фунтов!
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Подобная методика характерна для
многих исследователей XVIII -
XIX вв.
2. Амфора — глиняный сосуд
яйцеобразной формы с двумя вертикальными
ручками, служил для
транспортировки и хранения жидкостей (вина)
и других товаров.
3. В северной части Черного моря в
результате различных морских работ
(подводные археологические
исследования, работы дноуглубительных
машин, рыбаков, пловцов и
водолазов) было обнаружено большое
количество древней корабельной
тары — глиняных амфор, служащих
для перевозки различных
жидкостей. В основном эти амфоры
греческих, римских, малоазийских и
местных центров.
4. Не совсем верно. В Северном
Причерноморье целые амфоры широко
использовались жителями вторично в
домашнем хозяйстве. В них
хранили различные жидкие и сухие
продукты, носили воду. Иногда пустая
импортная тара (амфоры) сама
служила предметом торговли.
Возможно, что пустые амфоры
использовались вновь для перевозки вина,
о чем, в частности, могут
свидетельствовать обнаруженные в 1954 г.
в Ольвии (Ольвия —
древнегреческая колония, развалины которой
находятся на берегу Днепровско-
Бугского лимана у с. Парутино)
склады привозных амфор V в.
до н. э., обнаруженные на
Таманском полуострове у ст. Сенной
при раскопках боспорского города
Фанагории, а также и в других
местах.
5. В амфорах привозили на судах в
Причерноморье вино, оливковое
масло, нефть, краску, маслины,
виноград, возможно зерно, рыбные
консервы, пряности, шерсть и другие
продукты, в освобожденной таре
везлись обратно в метрополию соленая
рыба, мед, воск и др. товары.
6. Во время археологических раскопок
поселений и могильников в
Северном Причерноморье были
обнаружены многочисленные античные
амфоры или их фрагменты; иногда
культурные напластования насыщены
обломками таких амфор.
7. Для Северного Причерноморья на
основе найденного в результате
археологических раскопок материала
была проведена классификация
амфор по центрам их производства
и даны их типологические таблицы.
См.: 3 е е с т И. Б. Керамическая
тара Боспора. "Материалы и
исследования по археологии СССР", № 83.
М., 1960.
8. Башмак мачты — гнездо в трюмной
части судна для упора и укрепления
нижней части мачты, ее шпора.
9. По вопросу истории якорей с
древнейших времен см.: Скря-
гин Л. Н. Якоря.М., 1979.
10. Якоря, якорные тросы, способы их
извлечения, хранения, материал, из
которого они изготовляются и т. д.,
на современных судах, конечно,
другие. Но необходимо отметить, что
в некоторых современных якорях,
таких, как "адмиралтейский", до сих
пор используются принципы,
заложенные в конструкциях древних
якорей.
11. Несмотря на большое количество
работ по этому вопросу, он до сих пор
остается далек от подробного его
освещения.
12. Ахтерштевень — задняя кормовая
оконечность судна.
13. Форштевень — передняя носовая око-
нечность судна. Ахтерштевень и
форштевень ставились на киль судна
под углом 69° наружу.
14.Акропостель—верхние части ахтер-
штевня и форштевня.
15. Такелаж - совокупность всех снастей
корабля, имеющих какое-либо
служебное назначение. Для укрепления
мачты применялся стоячий
(неподвижный) такелаж, для постановки и
управления парусами — бегучий
(подвижный) такелаж. Тросы могли
изготовляться из плетеных
растительных канатов или плетеных
ремней. В Северном Причерноморье
корабельные снасти также
изготовлялись из конопли.
16. Ванты-снасти стоячего такелажа и
служат для удержания мачты с
боков. Изображение вант имеется на
многочисленных древнегреческих
вазовых рисунках, так что
утверждение автора неверно.
17. Распространенным в Греции и ее
колониях после реформы Солона 594 г.
до н. э. являлся в качестве
наибольшей меры веса аттический талант,
равный 26,196 кг.
18. Рангоут —совокупность круглых
деревянных частей парусного
вооружения судна.
f9. Таран — остроконечный выступ в
носовой части судна в виде
выступающего вперед бревна — обшивался
металлом или имел металлический
наконечник, служил для удара в борт
неприятельского судна с целью
сделать в нем пробоину.
20. Шпангоуты — ребра судна, на
которые нашиваются доски наружной
обшивки.
21. Ватерлиния — линия нормальной
осадки судна в воде.
22. Работы на озере Неми, помимо
большого научного значения, показали
перспективность одного из методов
исследования подводных объектов с
помощью их осушения.
23. По нашему мнению, подобные
методы исследования древних кораблей
с помощью ковшей и землечерпалок
неприемлемы, так как при этом
объект не исследуется, а разрушается.
24. Бимс — балка поперечного набора
судна, связывающая бортовые ветки
шпангоута. Кроме того, бимсы
придают жесткость палубе и
распределяют ее нагрузки на борта.
25. Пунсон — инструмент,
использовавшийся при штамповке металла.
26. Камбуз — судовая кухня.
Первоначально так называлась корабельная
кухонная печь.
27. Бархоут - ряд (поясья) наружной
обшивки у деревянных судов.
28. Штифт— цилиндрический или
конический стержень для неподвижного
соединения деталей судна.
29. Флор - поперечная балка на дне
судна, к концам которой крепятся
шпангоуты.
30. Клинкер — судно из досок,
собранных встык или внахлест.
31. Кранец — деревянный брус,
служащий для смягчения ударов бортов
судна о причал или другое судно.
32. Полубак—надстройка в носовой
части судна выше верхней палубы.
33. Штевен — брус, составляющий
основание носа или кормы судна.
34. Рейд — участок водного пространства
у берега, расположенный обычно
перед портом или населенным
пунктом. Используется для якорной
стоянки судов, а иногда для их
перегрузки. Рейды бывают внутренними,
внешними, закрытыми и
открытыми. Рейды, находящиеся внутри
портов непосредственно у молов и
волноломов, называются внутренними,
а находящиеся вне портовых
ограждений — внешними. Закрытыми
рейдами называются якорные места,
защищенные со стороны моря
естественными укрытиями — мысами,
косами, островами и т. п. или
искусственными гидротехническими
сооружениями - молами и
волноломами. Открытый рейд не имеет
никакой защиты с моря и служит
для отстоя судов и лишь в
крайнем случае для грузовых операций.
35. Релинги — поручни на судне.
36. Остойчивость судна — мореходные
качества судна, обеспечивающие его
от опрокидывания в условиях
службы на море. Остойчивое судно при
наклонах, в определенных пределах,
выпрямляется по прекращении
действия сил, восстанавливая
прямолинейное положение.
37. Регистровая вместимость судна —
объем внутренних помещений судна,
она измеряется в регистровых
тоннах. 1 per. т=2,83 м^.
38. Румпель — специальный рычаг на
верхней части оси руля, служил для
перекладывания (поворотов) руля.
39. Брасы — снасти бегучего
(подвижного) такелажа на парусном судне.
Брасы прикреплялись к нокам
(концам) реи. С помощью их
поворачивают (брасопят) рею.
40. Кнехты — парные тумбы,
укрепленные на палубе и служащие для
закрепления швартовых или
буксирных концов.
41. Шпиль — особый зорот для выборки
якорных тросов, тяги швартовых,
по тяги тросов и цепей и других
тяжелых работ.
42. Каравелла — небольшое, но
обладавшее хорошей мореходностью трех-
четырехмачтовое парусное судно,
имеющее одну палубу и высокие
борта, а также надпалубные
надстройки в кормовой и носовой
частях. Строились такие суда главным
образом португальцами и испанцами
в XIII -XVII вв.; использовались
преимущественно как суда
экспедиционные. В 1492 г. на каравеллах
"Нинья" длиной 18 м, "Пинта" -
19 м, "Санта-Мария" - 23 м
Христофор Колумб открыл Америку,
точнее — Вест-Индские острова.
43. Галион — старинный испанский
военный четырехмачтовый парусник.
44. Вертлюг — два металлических звена,
соединенных между собой и
вращающихся на одной общей оси.
Вклепанные в якорную цепь,
предохраняют ее от закручивания.
45. Арбалет — метательное оружие
(самострел), получил распространение в
европейских странах в средние века.
Это был стальной лук, укрепленный
на деревянном ложе, тетива которой
натягивалась с помощью ворота.
46. Астролябия — угломерный прибор, с
помощью которого до XVIII в.
определяли широту и долготу
местонахождения судна.
47. Фальконет — небольшое
артиллерийское орудие калибра 45 — 100 мм,
употребляющееся во флоте в XVI —
XVIII вв.
48. Унция — единица веса у древних
римлян, равная 27,28 г. В средние
века унция равнялась сначала 1/12
фунта, потом 1/8 марки. Теперь так
называемая "тройская унция"
(31,1035 г) используется как
единица веса драгоценных металлов.
49. Прямые паруса —четырехугольные
паруса, поднимаемые на реях таким
образом, что их боковые шкатори-
ны находятся на равном расстоянии
от мачты.
50. Гафельный парус — косой парус,
поднимаемый посредством гафеля.
Гафель — часть рангоута парусного
судна, один конец которого подвижно
прикреплен к мачте. Гафель служит
для натягивания косого паруса.
51. Грот-мачта — вторая по счету от носа
судна мачта, обычно самая высокая.
52. Шлюп — трехмачтовое парусное судно
XVIII — XIX вв. с прямыми
парусами. Употреблялись главным
образом для научных и кругосветных
плаваний, а также как
транспортные суда.
53. Галера —деревянное гребное военное
судно, впервые построенное
венецианцами в VII в. Длина галеры от
40 до 50 м, ширина до 6 м, осадка
до 2 м. Галера имела один ряд
весел. Галера применялась до
конца XVIII в., состав гребцов
формировался из рабов, военнопленных и
преступников. В Испании и
Франции работа на галерах была одним
из видов каторжных работ.
54. Фрегат — трехмачтовое судно
военного флота, имело до 60 пушек,
которые располагались в два ряда
по высоте в одной закрытой и на
верхней палубе. Фрегаты, имея
большую скорость хода, предназначались
для дальней разведки и
крейсерства, а наиболее крупные — для
участия в бою вместе с линейными
кораблями. Известны и дальние
плавания фрегатов, в том числе —
кругосветные.
55. Канонерская лодка — небольшое
военное судно с артиллерией среднего
калибра.
56. Каноэ — лодка североамериканских
индейцев. Ее изготовляли из
целого ствола дерева или изготовленный
каркас из дерева обтягивали кожей.
Гребли на каноэ однолопастными
веслами без уключин. Вмещала
каноэ от 2 до 100 человек.
57.Флагшток—вертикальный шест на
судне, служащий для подъема флага.
58. Юферс — железный или деревянный
блок с отверстиями вместо шкивов,
служит для подтягивания вант вту-
гую.
БИБЛИОГРАФИЯ
The Undersea Challenge. London, 1963.
VarMarin 1960. Stockholm, 1960.
Weltstadte der Kunst: Stockholm. Leipzig,
1969.
Diving into the Past. St. Paul, 1964.
1000 Jahre Bremer Kaufrnann. Bremen,
Bd. 50.
Underwater archaeology. A nascent discipline.
Paris, 1972.
Dykare och vrak i vara vatten. Stockholm,
1977.
Die Bremer Hanse-Kogge. Bremen, 1969.
Atti del II Congresso Internazionale di
Archeologia Sottomarina, Albenga 1958.
Bordighera, 1961.
Baldwin D. The Fur Trade in the
Moose-Missinaibi River valley 1770-
1917. London/Ontario, 1976.
Bass G. F. A history of Seafaring based
on underwaterarchaeology. London,
1972; ders. Archaeology under Water.
London, 1966.
Barkmann L. The Preservation of the
WASA. Stockholm, 1965.
В e n о i t F. Llipave du Grand Conglue
a Marseille. Paris, 1961.
Berg J. Fynd ur djupen. Stockholm,
1966.
Bravetta H. Nelson — der grofie
Admiral. Berlin, 1936.
Canarache V. Importul Amforelor
Stampflate la Istria. Bukarest, 1957.
С е г a m C. W. Gotter, Graber und Gelehr-
te. Berlin, 1978.
С о u s t e a u J.-Y. und Ph. D i о 1 ё. Sil-
berschiffe. Zurich, 1972.
Cousteau J.-Y. DaslebendeMeer. Koln,
1964.
Crumlin-Pedersen O. Soveien til
Roskilde. Roskilde, 1978.
D i о 1 ё Ph. Promenades d'Archeologie
Sous-Marine. Paris, 1952.
DumansF. Epaves antiques. Paris,
1964.
Exquemelin A. O. De Americaensche
Zee-Roovers. Amsterdam, 1678.
F a 1 с о n-B а к е г Т. Roman Galley
beneath the Sea. Leicester, 1964.
Fioravanti A. Tecnica Archeologica
Subacquea. Rom, 1971.
F о ё x J. A. Der Unterwassermensch.
Stuttgart, 1966.
F о г s t H. Under the Mediterranean.
London, 1963.
Franzen A. Das Kriegsschiff WASA.
Stockholm, 1960.
Franzen A. VASA — Das schwedische
Kriegsschiff von 1628. Stockholm, 1962.
Fryxell A. Lebenund ThatenGustavsI.
Wasa, Konigs von Schweden. Neustadt,
1831.
Grace Virginia R. Amphoras and
the Ancient Wine Trade. Princeton,
NJ.,1961.
Humphries W. Great Fury. London/
Ontario, 1977.
Kenyon L u. DeHaasW. Tauch
mit! Ruschlikon, 1959.
Kenyon L. Discovering the Undersea
World. London, 1961.
L a n i t z к i G. "WASA" - 333 Jahre auf
dem Meeresgrund. Dresden, 1971.
Linde/Brettschneider. In die
Vergangenheit getaucht. Leipzig, 1966.
MarsdenP. A Roman Ship from Black-
friars. London,1967.
Mills JX. Our Inland Seas. Chicago,
1910.
О h г e 1 i u s B. VASA - Das konigliche
Schiff. Bielefeld, 1964. P e t e r s о n M.
History under the Sea. Washington,
1969.
Posselt D.E. L. Geschichte Gustav's III.
Konigs der Schweden und Gothen,
Karlsruhe, 1792.
P о 11 e r J. S. Die Schatze von Rande.
Braunschweig, 1964.
R а с к 1 H.-W. Tauchfahrt in die
Vergangenheit. Wien, 1964.
Rackl H.-W. Die Eroberung der Unter-
wasserwelt. Stuttgart, 1968.
R а с к 1 H.-W. Jahrtausende steigen aus der
Tiefe. Stuttgart, 1969.
R а с к 1 H.-W. Tauchen in Meeren, Seen
und Flussen. Giitersloh, 1969.
R a n g о L. v., Gustav Adolph der Grofce.
Leipzig, 1824.
Riseberg H. Adventures in Underwater
Treasure Hunting. New York, 1965.
Riseberg H. u. MikalowA. A.
Sunken Treasure Ships of the World.
New York, 1965.
Sebastian K. Gang durch versunkene
Stadte. Leipzig, 1968.
Throckmorton P. Versunkene Schif-
fe. Gutersloh, 1967.
Throckmorton P. Shipwrecks and
Archaeology: The Unharvested Sea.
Boston, 1969.
Trapsch M. Das alte Suchumi, Bd. 2,
Suchumi, 1969.
U e n z e O. Friihromische Amphoren aid
Zeitmarken im Spatlatene. Marburg,
1958. Viereck H.D.L. Die ro-
mische Flotte.
Herford,1975.
W a g n e r K. und T а у 1 о r L. В. Pieces
of Eight. New York, 1966.
W i 11 г о с к G. Gustav Adolf. Stuttgart,
1930.
Наряду с различными музейными
публикациями автор в работе в первую
очередь использовал специальные
журналы:
Antike Welt (Швейцария),
Archeologia (Италия),
Archaelogy (США),
National Geographic Society Research
Reports (США),
Nautical Archaeology (Великобритания),
Poseidon (ГДР),
Советская археология (СССР).
Арциховский А. В. Основы археологии.
М., 1955.
Авдусин Д. А. Археология СССР. М., 1967.
Авдусин Д. А. Полевая археология СССР.
М., 1980.
Блаватский В. Д. Очерки военного дела
в античных государствах Северного
Причерноморья. М., 1954.
Блаватский В.Д. О подводной
археологии. - "Советская археология1*, № 3,1958.
Блаватский В.Д. Работы подводной
Азово-Черноморской экспедиции 1960 г.-
"Советская археология**, № 4, 1961.
Блаватский В. Д. Подводные разведки в
Ольвии. - "Советская археология**, № 3,
1962.
Блаватский В. Д. Подводная археология
и ее задачи. - "Вопросы истории'*, № 2,
1964.
Блаватский В. Д. Подводная
археологическая экспедиция в 1962 г. - "Совстекая
археология'*, № 1, 1965.
Блаватский В. Д. Техника подводных
археологических работ. — ''Археология и
естественные науки". М., 1965.
Б л ав атс к и й В. Д., КузищинВ.И.
Подводные разведки в 1958 г. - * Краткие
сообщения Института археологии", вып.
83, 1961.
Блаватский В.Д., Кошеленко Г.А.
Открытие затонувшего мира. М., 1963.
Блаватский В. Д., Петере Б. Г.
Кораблекрушение конца IV — начала III вв.
до н.э. около Донузлава. - "Советская
археология", № 3,1969.
Блаватский В. Д., Петере Б. Г.
Приемы подводных археологических работ при
изучении остатков древнего
кораблекрушения. — В кн.: "Морские подводные
исследования АН СССР. Океанографическая
комиссия". М., 1969.
Блаватский В. Д. О древней навигации и
задачах подводной археологии. - В кн.:
"Проблемы советской археологии**. М.,
1978.
БолдаревА.В., Боровский Я. М.
Техника военного дела и мореходства. -
В кн.: * Эллинистическая техника**. М.—Л.,
1948.
ГайдукевичВ.Ф. О путях прохождения
древнегреческих кораблей в Понте Эвк-
синском. Краткие сообщения Института
археологии АН СССР,№ 116, 1969.
Г е р ц Г Археологическая топография
Таманского полуострова. Древности -
Труды Московского археологического
общества. Т. И, вып. 3, М„ 1870.
3 е е с т И. Б. Керамическая тара Боспора. —
"Материалы и исследования по археологии
СССР", №83, I960.
Кадеев В. И. Подводные археологические
исследования в районе Херсонеса в 1964-
1965 гг. — Сб.: "Морские подводные
исследования". М., 1969.
Кошеленко Г. А. О новых зарубежных
работах по подводной археологии. -
"Советская археология", № 1, 1970.
К р ы ж и ц к и й С. Д., Ш и л и к К. К.
Подводные работы в Ольвии. —
"Археологические открытия 1973 г.'*. М., 1974.
Марченко И. Д. К вопросу о боспорских
торговых судах. — "Советская
археология", № 1, 1957.
О р б е л и Р. А. Исследования и изыскания.
М., 1947.
Петере Б. Г. В поисках затонувшего
судна. - "В помощь
спортсмену-подводнику", №2, 1962.
Петере Б. Г. О подводных работах в
Ольвии. - "Краткие сообщения Института
археологии", № 85,1963.
Петере Б. Г. Подводный спорт и
археология. - "В помощь
спортсмену-подводнику", №2, 1962.
Петере Б. Г. О приемах и методике
подводных археологических разведок. -
"Археология и естественные науки". М.,
1965.
Скрягин Л. Н. Якоря. М„ 1979.
Сокольский Н.И.
Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах
Северного Причерноморья. - 'Материалы
и исследования по археологии СССР",
№ 178,1977.
Ш е р ш о в А. П. История военного
кораблестроения с древнейших времен до наших
дней. М.-Л., 1940.
ТАБЛИЦЫ
К С. 153-154
Формы амфор из "Корпус инскрип-
тионум латинарум", т. XV, составлена
Хайнрихом Дресселем (1899)
Форма 1: 129 - 13 гг. до н.э.
Форма 2: 16 г. до н.э. — 29 г. н.э.
Форма 3: 28 г. до н.э. — 146 г. н.э.
Форма 4: 5 г. до н.э. — 24 г. н.э.
Форма 5: 12 г. до н.э. (единственный
экземпляр).
Форма 6: 36 г. н.э. (единственный
экземпляр).
Формы 1 —6 являются типичными для
амфор, служивших для перевозки вина.
Все они римского происхождения.
Формы 7—15:1 в. н.э., это амфоры для
перевозки соленой рыбы, изготовлены в
Южной Испании, за исключением формы
12 римского происхождения.
Форма 20: II и III вв. н.э.,
южноиспанская амфора для перевозки масла.
Формы 26 и 27: III в. н.э. и
последующие периоды.
Все остальные формы относятся к
более позднему времени, они были
классифицированы Дресселем не точно.
К с. 155
Формы амфор по Рикардо Паскалю
(датирование и происхождение)
1 —форма Дресселя 1Б, 1в. до н.э.
(найдена среди останков корабля,
обнаруженного у Са Hay Пердуда).
2 — Форма Дресселя 1А, II в. до н.э.
(Сагунт).
3 — Форма Дресселя 6,1 в. до н.э. (из
останков судна, обнаруженного у Са Hay
Пердуда).
4 — Форма Дресселя 8, I в. н.э. (из
останков судна, затонувшего у Кала).
5—Форма Пелишета 46, IIв. н.э.
(порт Картагены).
6 — Греция—Марсель, примерно VI-IV
вв. до н.э. (Ампуриас).
7 — Греция—Марсель, примерно V-IV
вв. до н.э. (побережье Ситгеса).
8 — Республиканская форма 1, III в.
до н.э. (Аметелла де Map).
9 - Республиканская форма 1, III в.
до н.э. (Аметелла де Map).
10—Республиканская форма 1, IIв.
до н.э. (Бенидорм).
11 —Форма Мана А, около V-IIIbb.
до н.э. (порт Картагены).
12 — Форма Мана Б, примерно VI или
V вв. до н.э. (Сантуарио де ла Луц) .
13—Форма Мана В, Шили IIвв. до
н.э. (Ла Альбеферета).
14—Форма Мана Г, V или IVвв. до
н.э. (Ампуриас).
15 - Форма Мана Д, IV или III вв. до
н.э. (Торре дель Энсантас).
17 - Неклассифицированная пуний-
ская амфора (Кадис).
18 - 19-Неклассифицированные
амфоры.
К с. 156
Формы амфор, найденных на Черном
море (по Гюнтеру Ланитцки)
Форма 1: VI-V вв. до н.э. (Милет).
Форма 2: VI-V вв. до н.э. (Хиос).
Форма 3: VI-V вв. до н.э. (Фасос).
Форма 4: IV в. до н.э. (Фасос).
Форма 5: IV-Швв. до н.э. (Гераклея).
Форма 6: Ш-11 вв. до н.э. (Синопа).
Форма 7: Ш-1 вв. до н.э. (Родос).
Форма 8- 10:1-Швв.н.э.
(выродившиеся формы).
Форма 11-14: IV-VII вв.н.э. (Римско-
византийские).
Форма 15-17: VI-VII вв. н.э. (Средне-
азиатско-турецкие).
Размеры последнего ряда амфор
выполнены в мм, остальные — в см.
К с. 157
Десять вариантов форм амфор
(Ланитцки 4). Амфоры, обнаруженные
вблизи Мангалии, являлись частью
корабельного груза. Их обмер свидетельствует о
том, что внутри одного типа существуют
различные размеры. Точное определение
по сравнительному методу для
неспециалиста представляется чрезвычайно
трудным (данные измерений в мм).
К с. 158
Формы античной керамики. 1 —
кратер, сосуд для разбавления вина водой;
2 — вариант сосуда 1; 3 — оксибаф,
дальнейшее развитие формы сосуда 1; 4 — 5
— сосуды для домашнего потребления;
6 — гидрия, обычно имела яйцеобразную
форму и три ручки; 7 - калышда,
отличается от предыдущего сосуда лишь
более низкой ручкой; 8 - ойнохоя;
9-килик; 10-киаф, тот же килик,
только с одной ручкой; 11—канфар;
12 — кархезион, очевидно, дальнейшее
развитие канфароса; 13 -лекиф -
"сосуд благовоний", служил, как и сосуд
14 — Ольпе и сосуд 15 лекиф арибалли-
ческий, для хранения дорогих
благовонных жидкостей и мазей; 16 — аррибалл;
17 — бомбили, вариация сосуда 16; 18 —
дальнейшее развитие сосуда 17.
4J
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 5
Методы и техника подводной археологии 15
Картографическая и фотографическая
съемка места находки 15
Приборы для поиска, раскопок и
извлечения находок на поверхность 20
Определение находок 25
Практика работы в консервационных
мастерских 35
Рассказывают античные корабли 41
Раскопки на озере Неми 41
Антикифера 45
Махдия 48
Альбенга 50
Гран Конглуэ 51
Мыс Гелидония 55
Киринея 57
Мефона 59
Лондон 60
Останки затонувших судов, поднятые на
поверхность в северных водах 62
Корабли викингов, найденные в Хайт-
хабу и Скулделеве 62
Бременская когга 69
"Медный корабль" Гданьска 74
Шведский военный корабль "Ваза" .... 76
Корабли в водах Северной Америки ... 94
Затонувшие корабли бассейна
Карибского моря 94
Маршруты торговцев мехами 102
Корабли на дне Великих озер 103
Поднятие на поверхность "Каира" .... 107
По следам исчезнувших под водой
культур 109
Подводные исследования античных
портовых городов 109
Пиратский Вавилон Порт-Ройал 114
Археологические исследования во
внутренних водоемах 116
Спортсмены-подводники - помощники
археологов 120
Исследование затонувших кораблей у
финских шхер 120
"Санкта София", "Ловиса Ульрика" и
другие парусники 123
Датско-любекский флот 1566 г 127
Археологические работы в датских
водах 129
Кладоискатели и похитители сокровищ
на морском дне 132
В бухте Вито 132
Районы действия кладоискателей 133
Золото "Лютины" 137
Грабители затонувших кораблей 141
Разграбление произведений искусства
лордом Эльджином 143
Приложение 145
Примечания 145
Библиография 149
Таблицы 151
ИБ № 10030
Редактор БуттВ. П.
Художник Алексеев В. Г.
Художественный редактор Пузанков В. А.
Технический редактор Ван Энгеланд М. И.
Корректор Пестова В. Ф.
Сдано в набор 23.12.1981 г. Подписано в печать 12.07.1982 г.
Формат 70x90 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсетная.
Условн.печ.л. 11,7. Уч.-изд. л. 12,92. Тираж 75000 экз.
Заказ №24 4 Цена i руб.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство
"Прогресс" Государственного комитета СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119021, Зубовский бульвар, 17.
Отпечатано на Можайском полиграфномбинате
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Можайск, 143200, ул. Мира, 93.