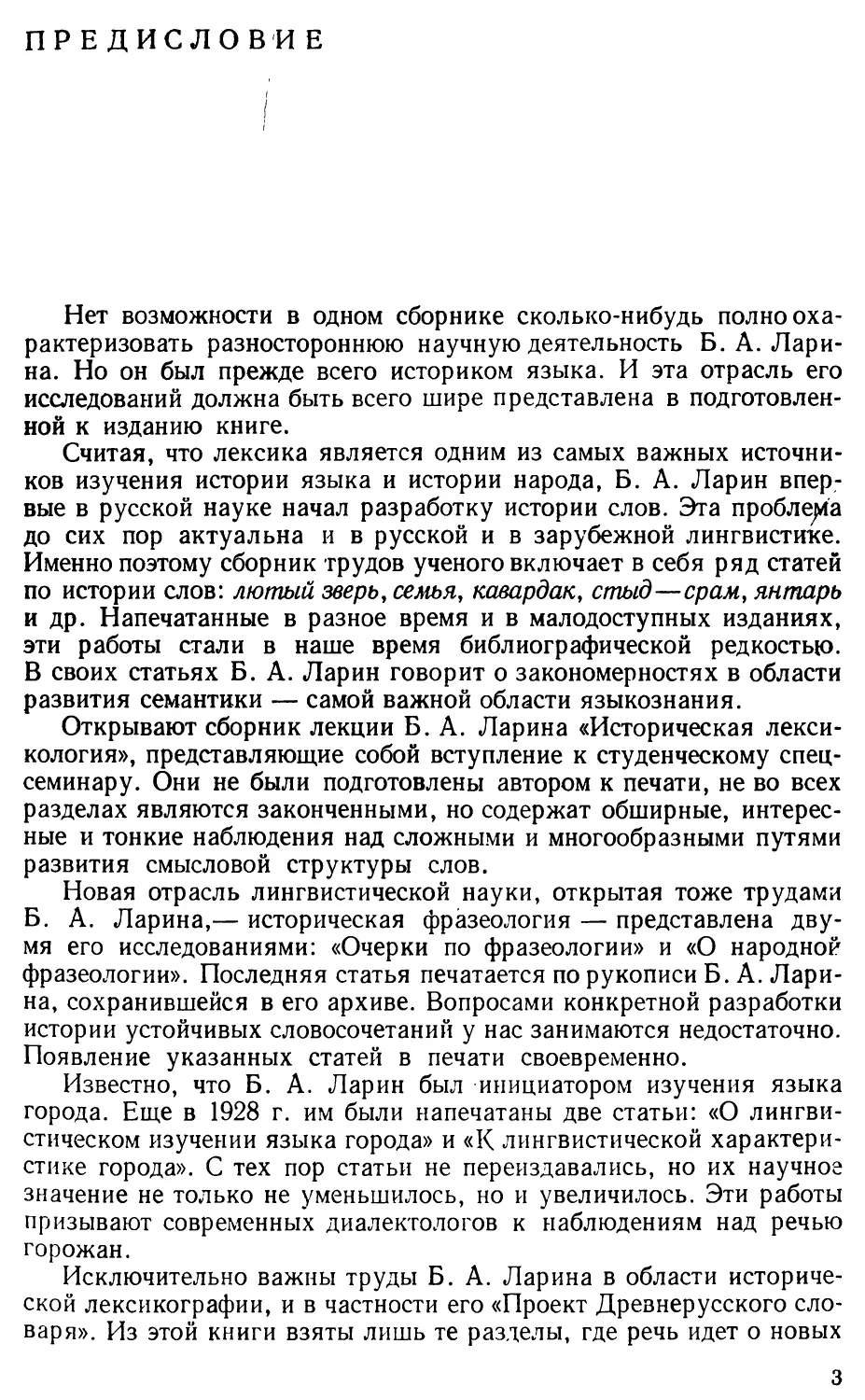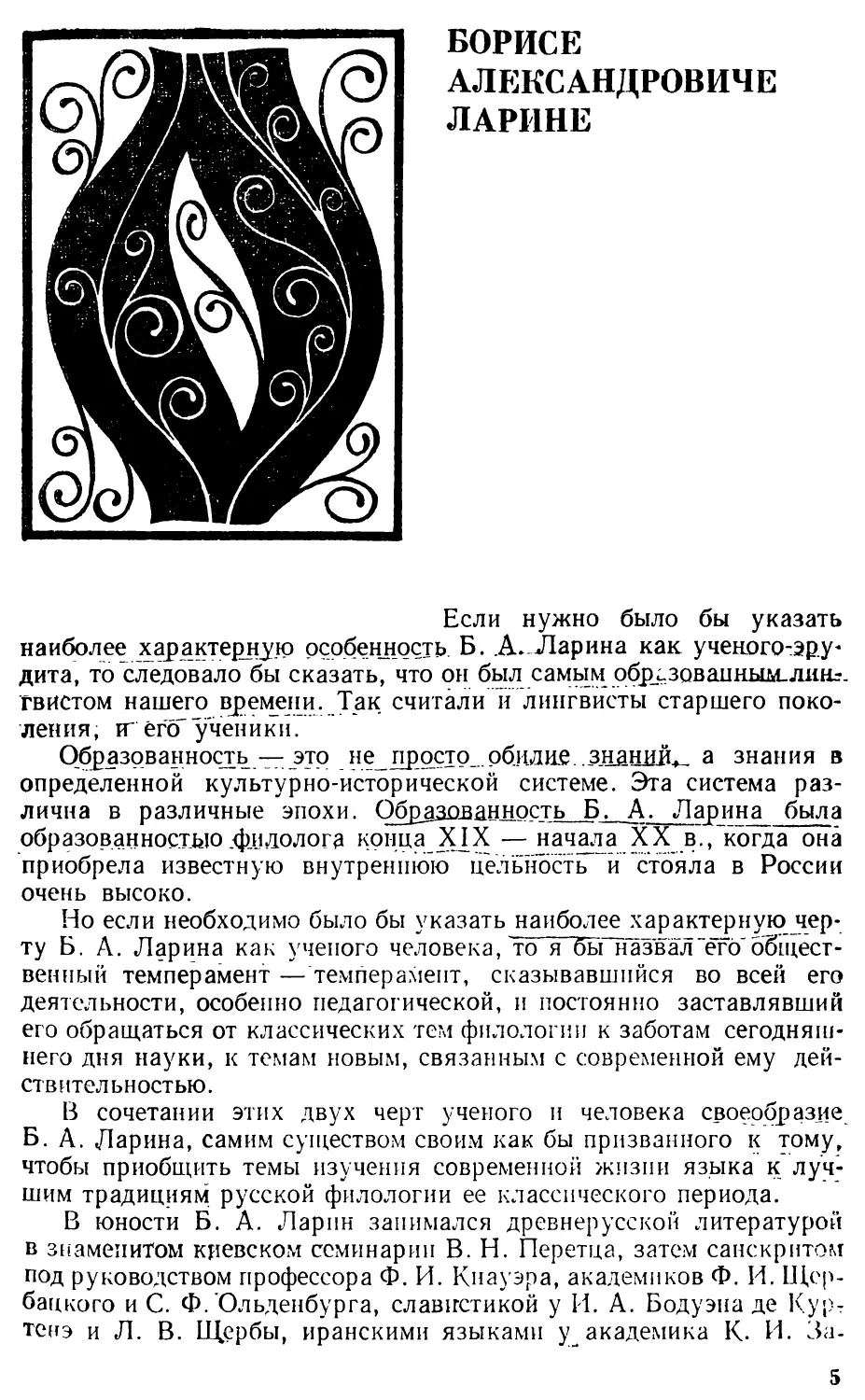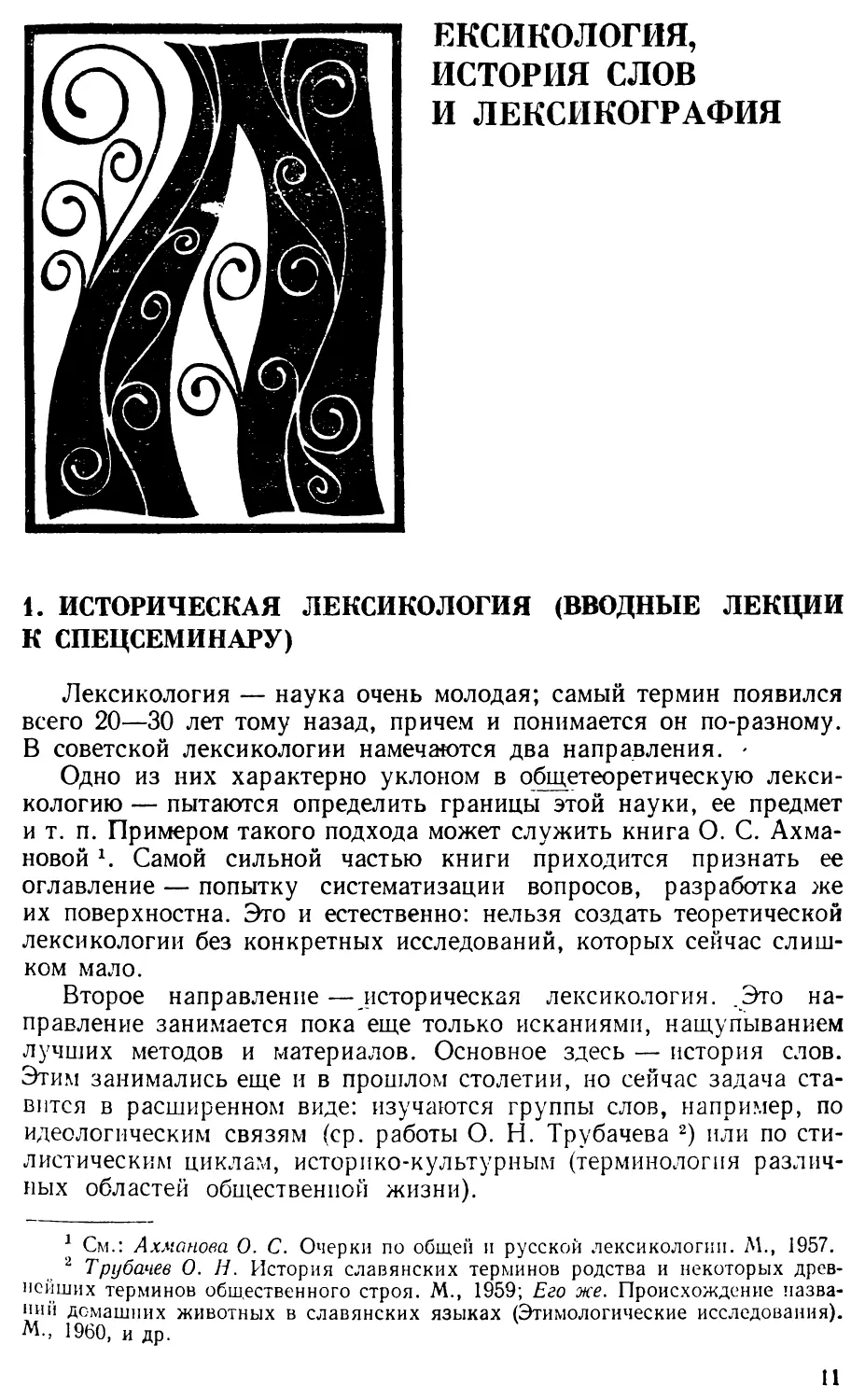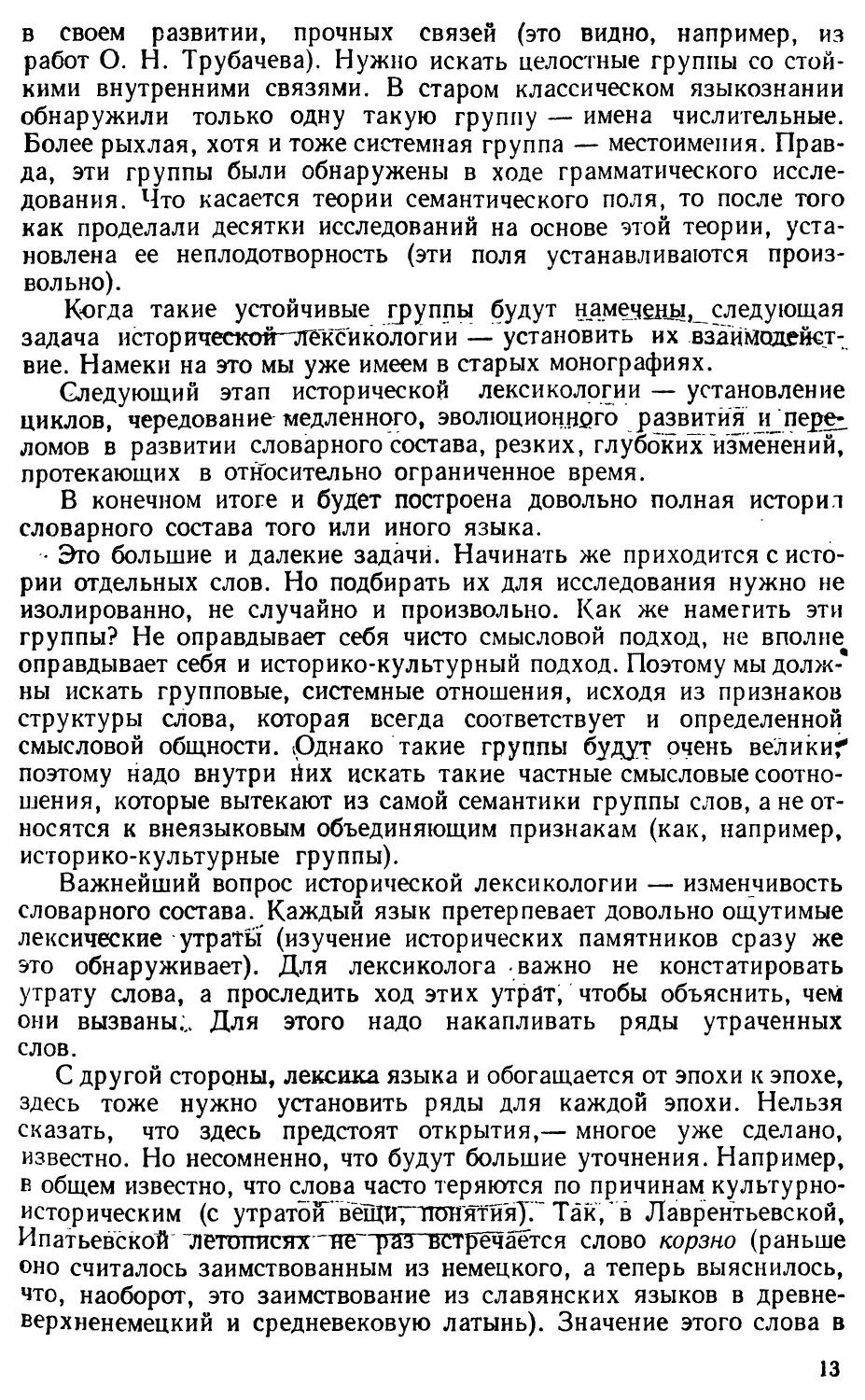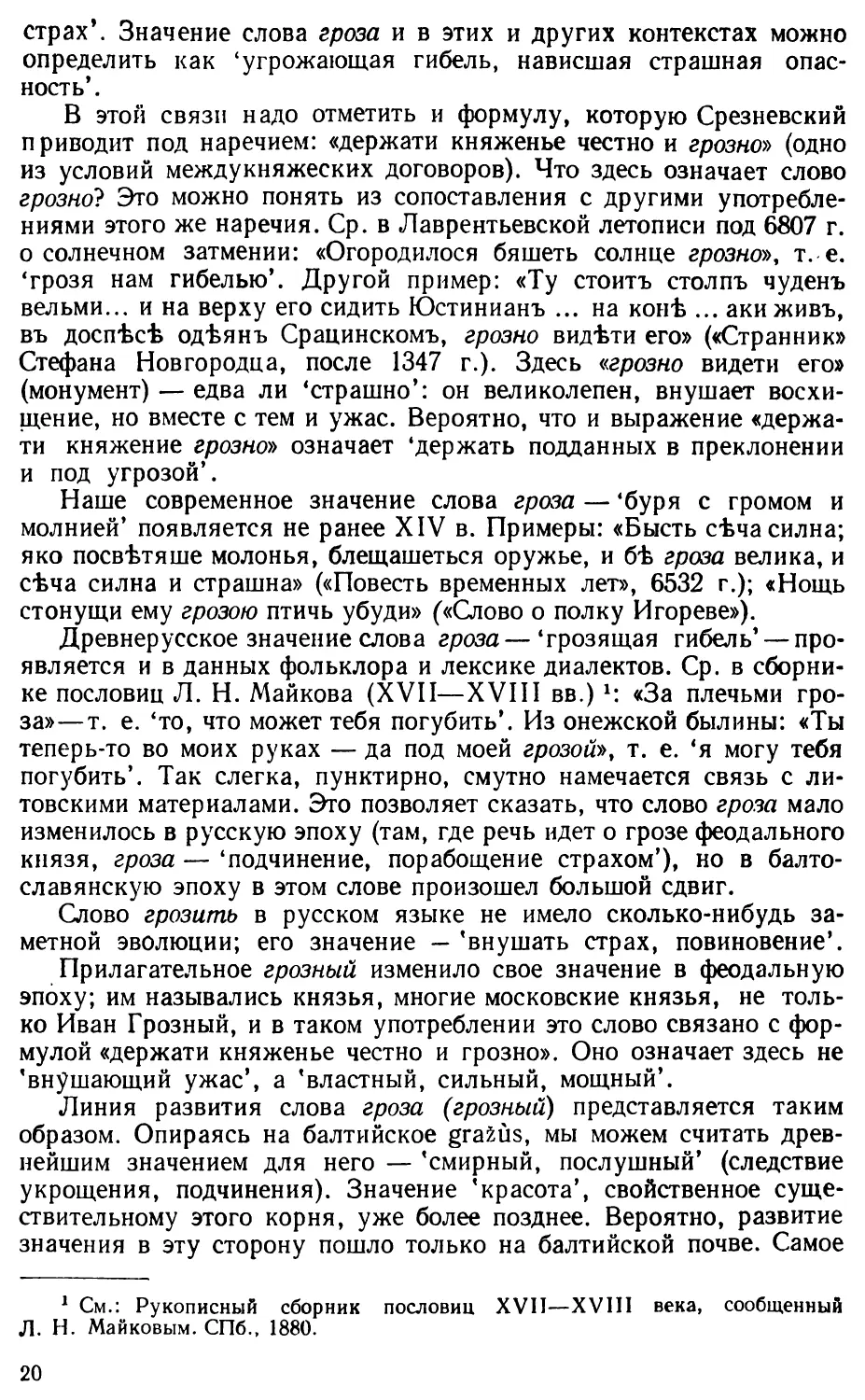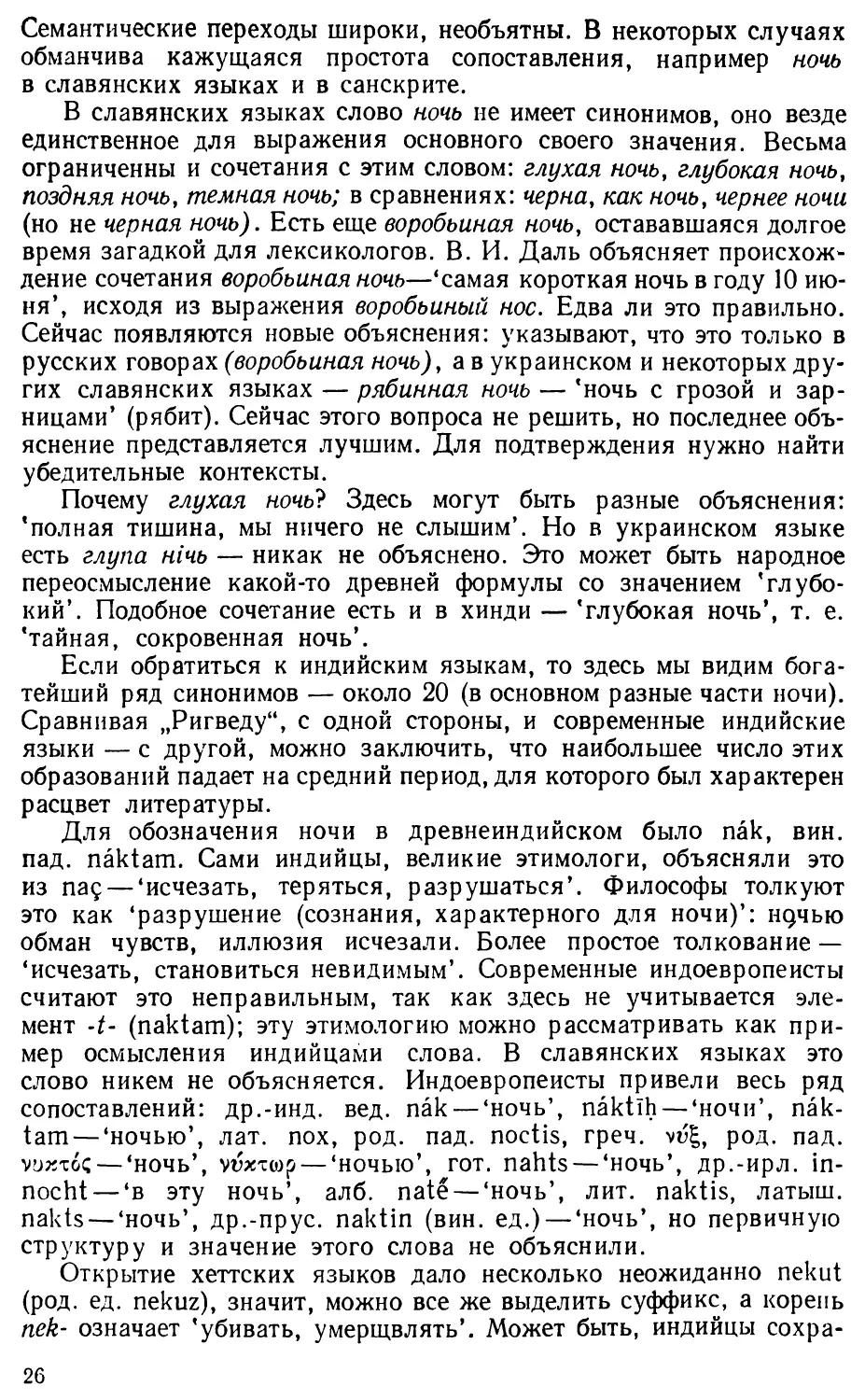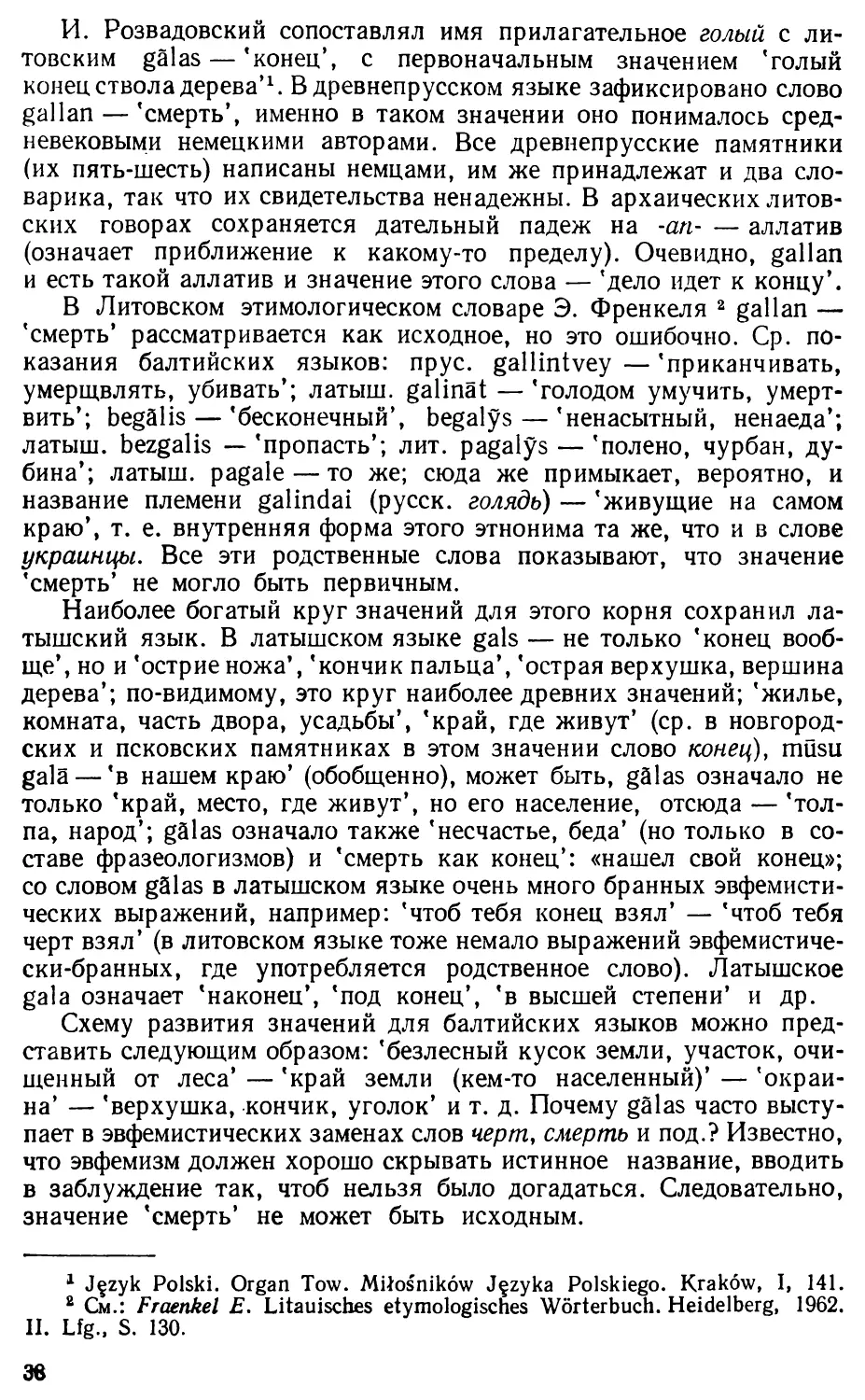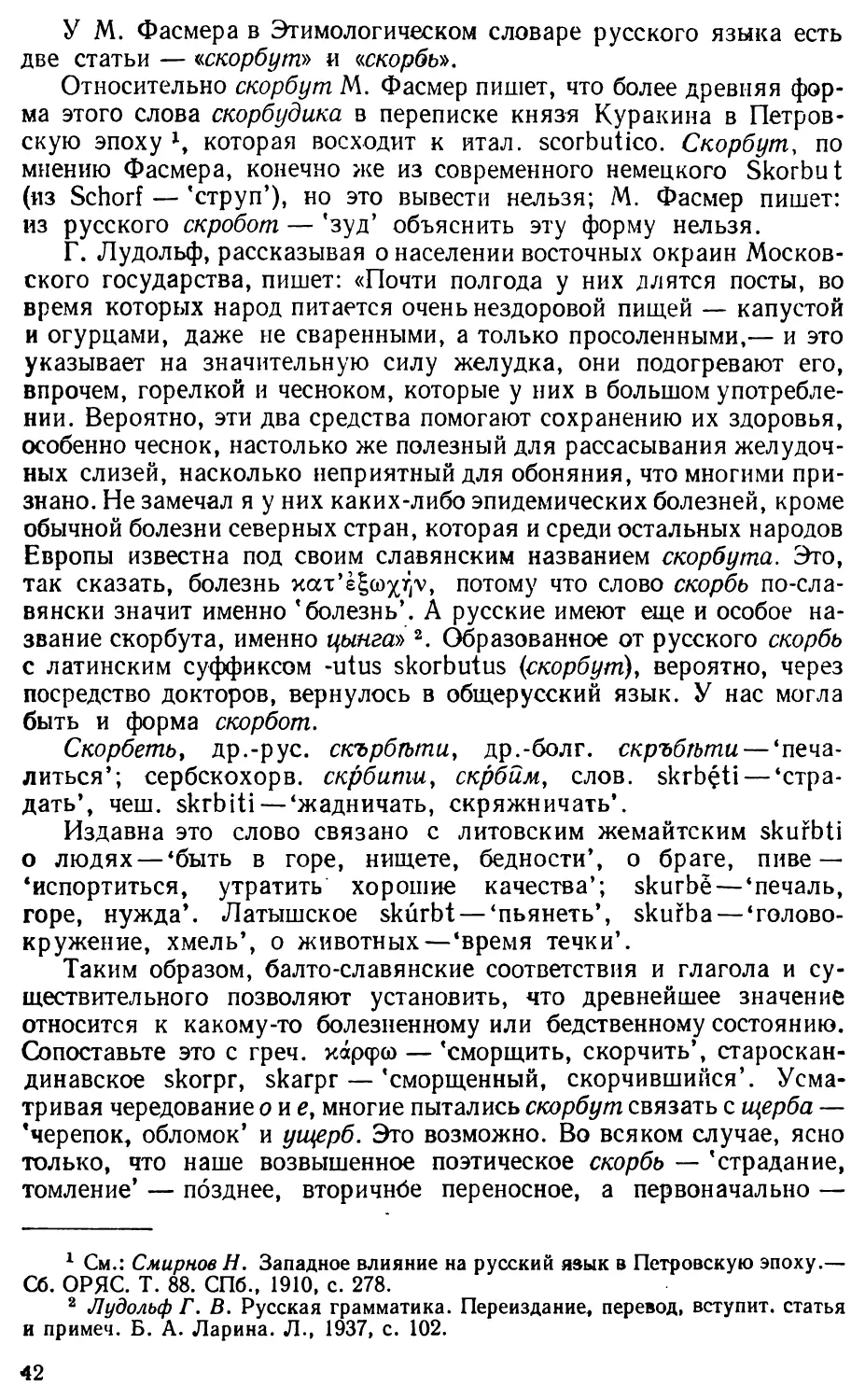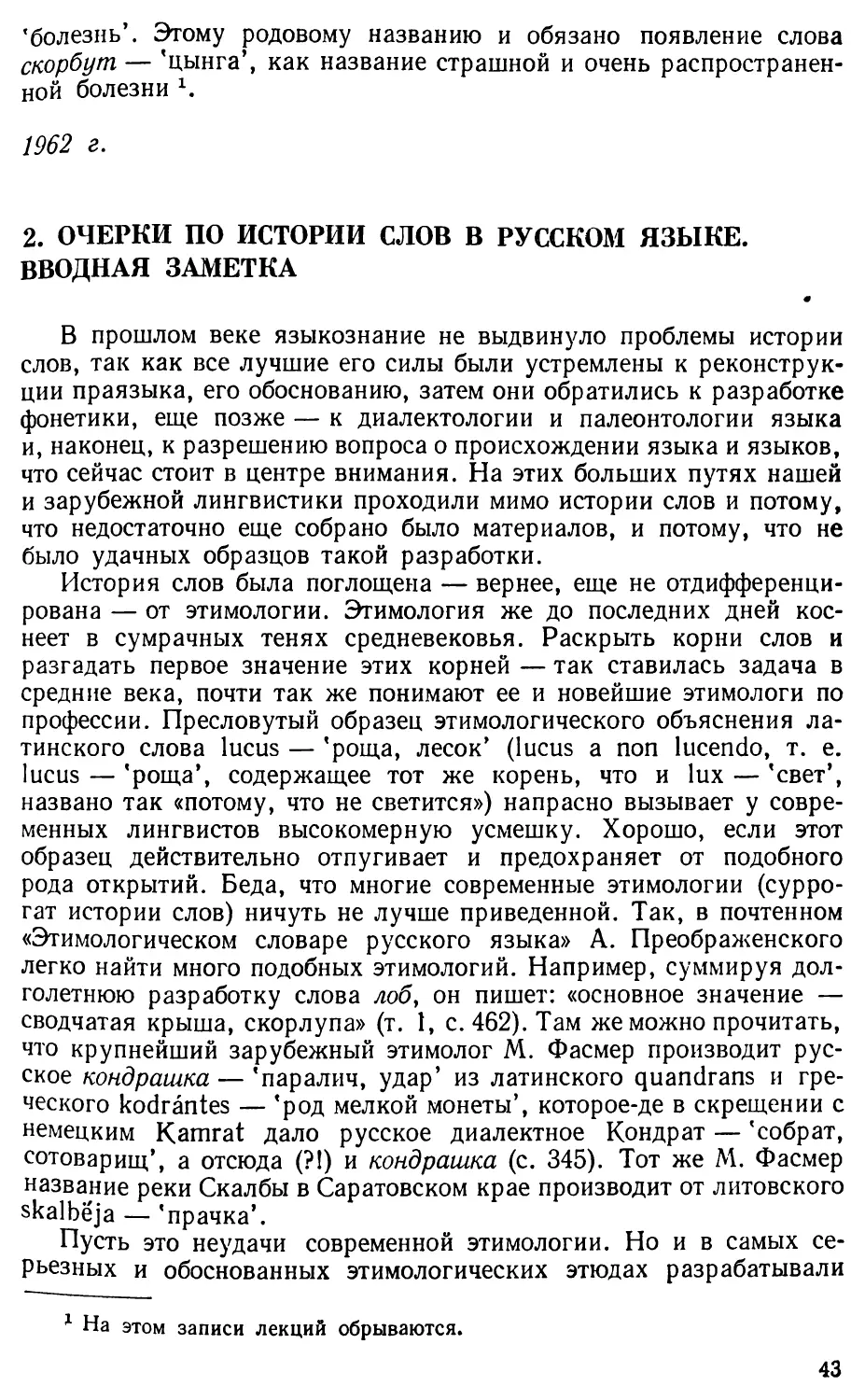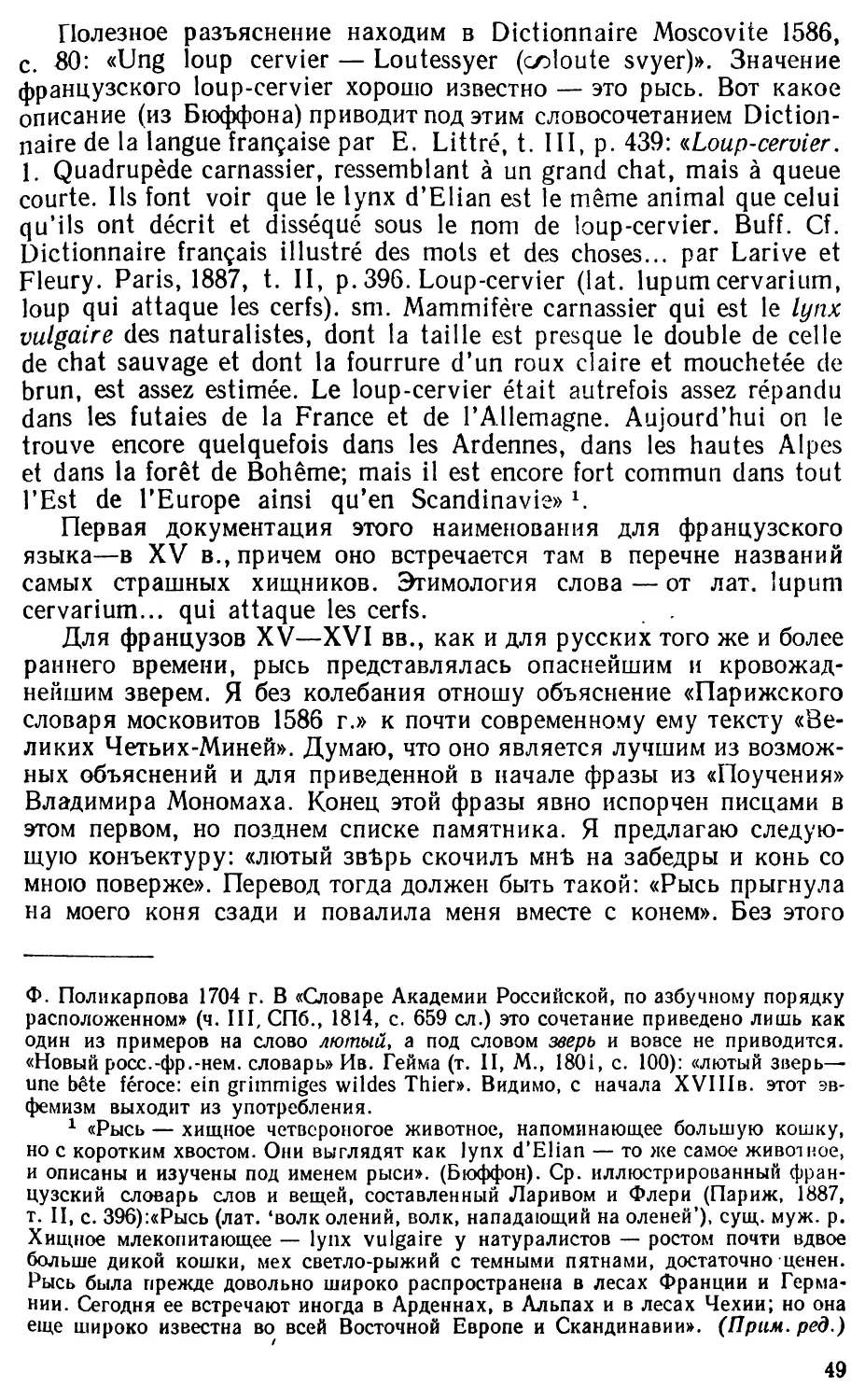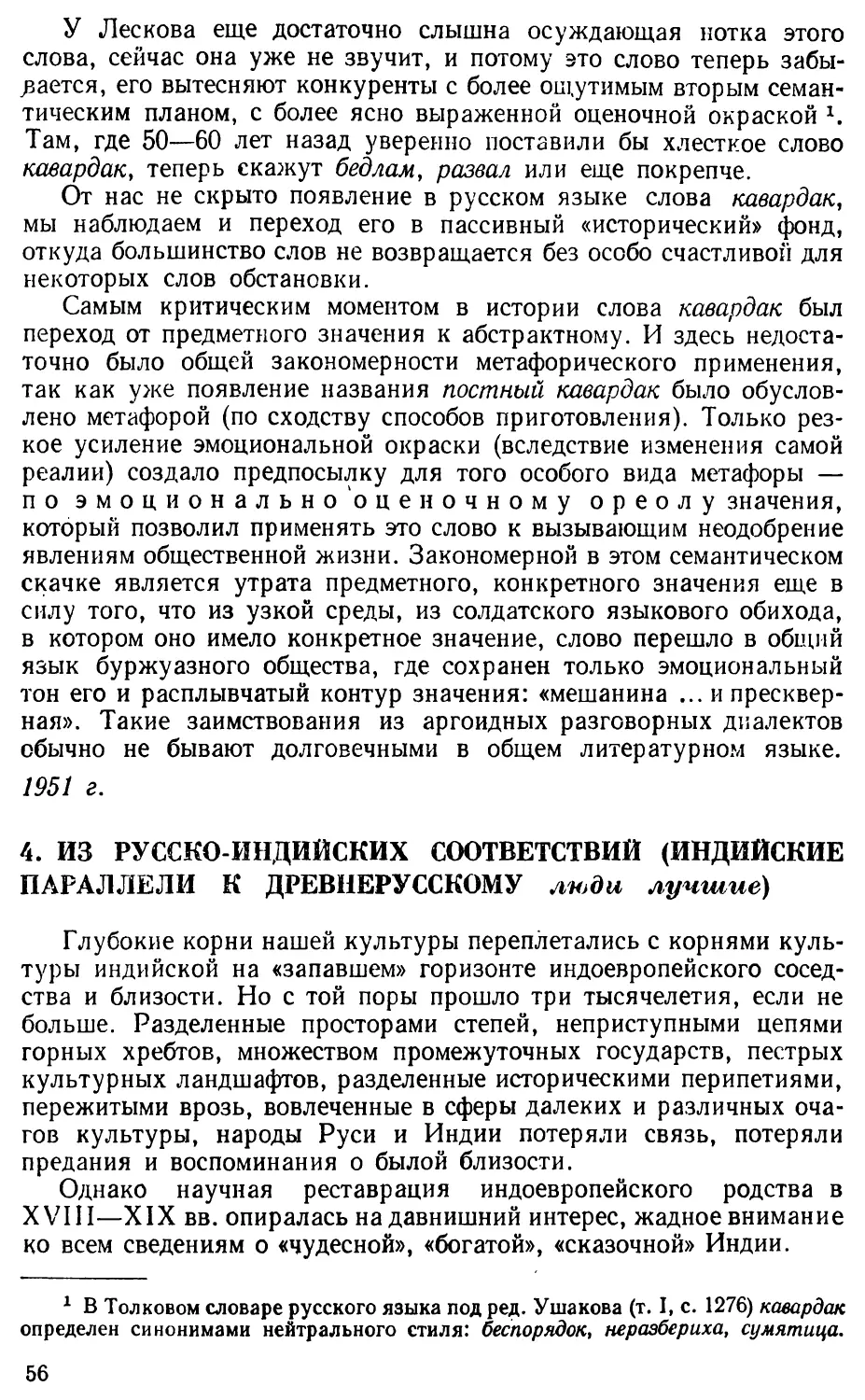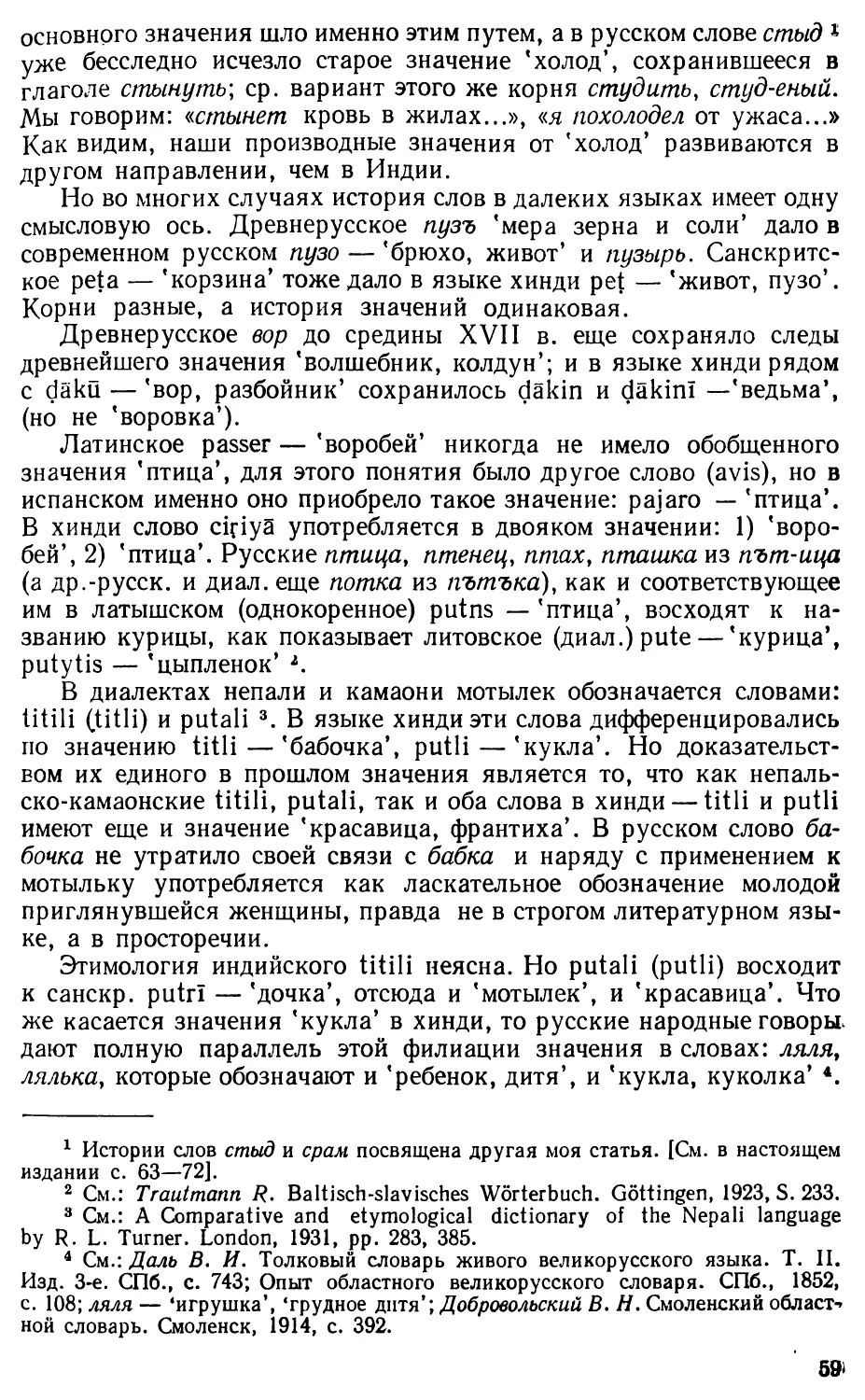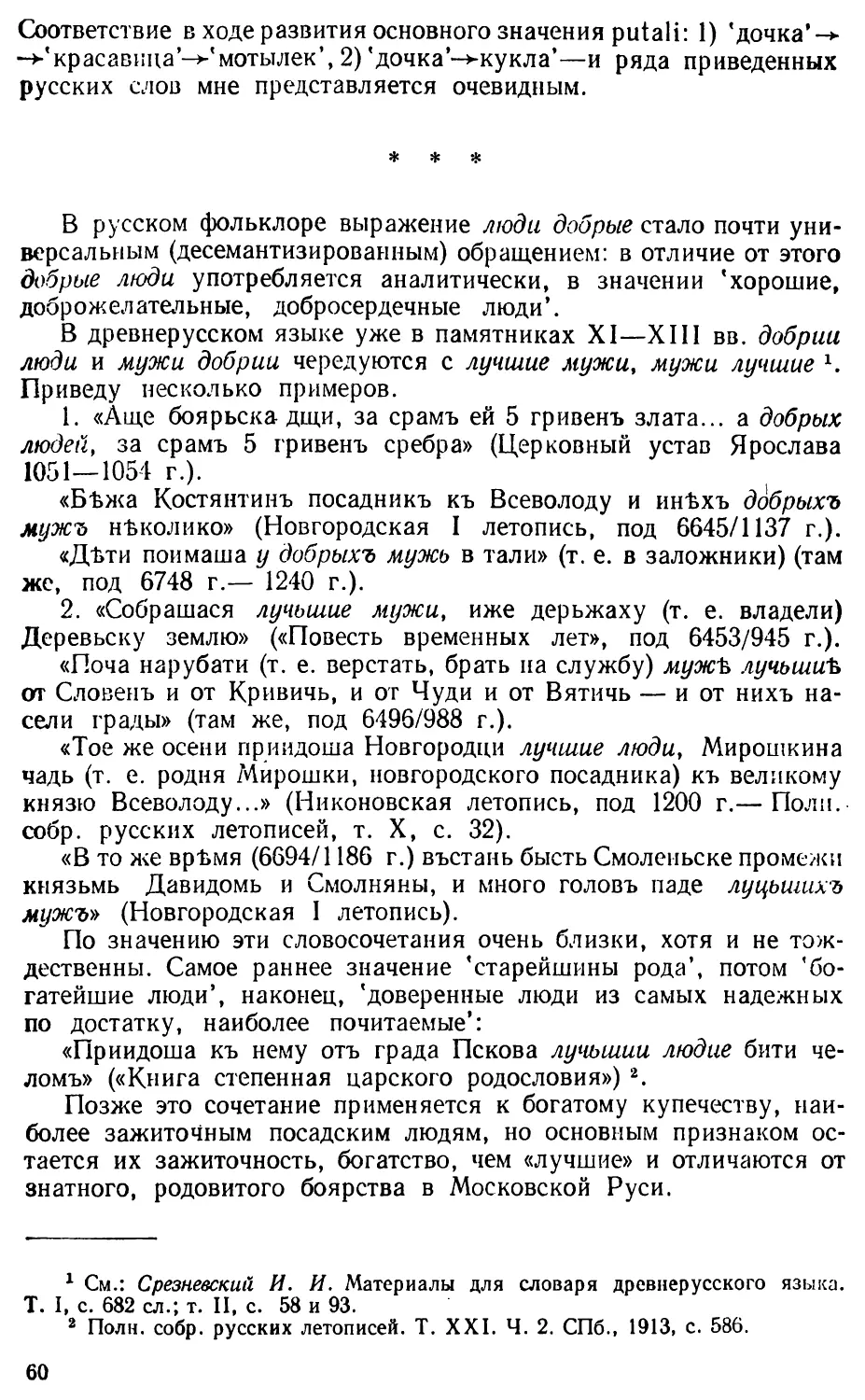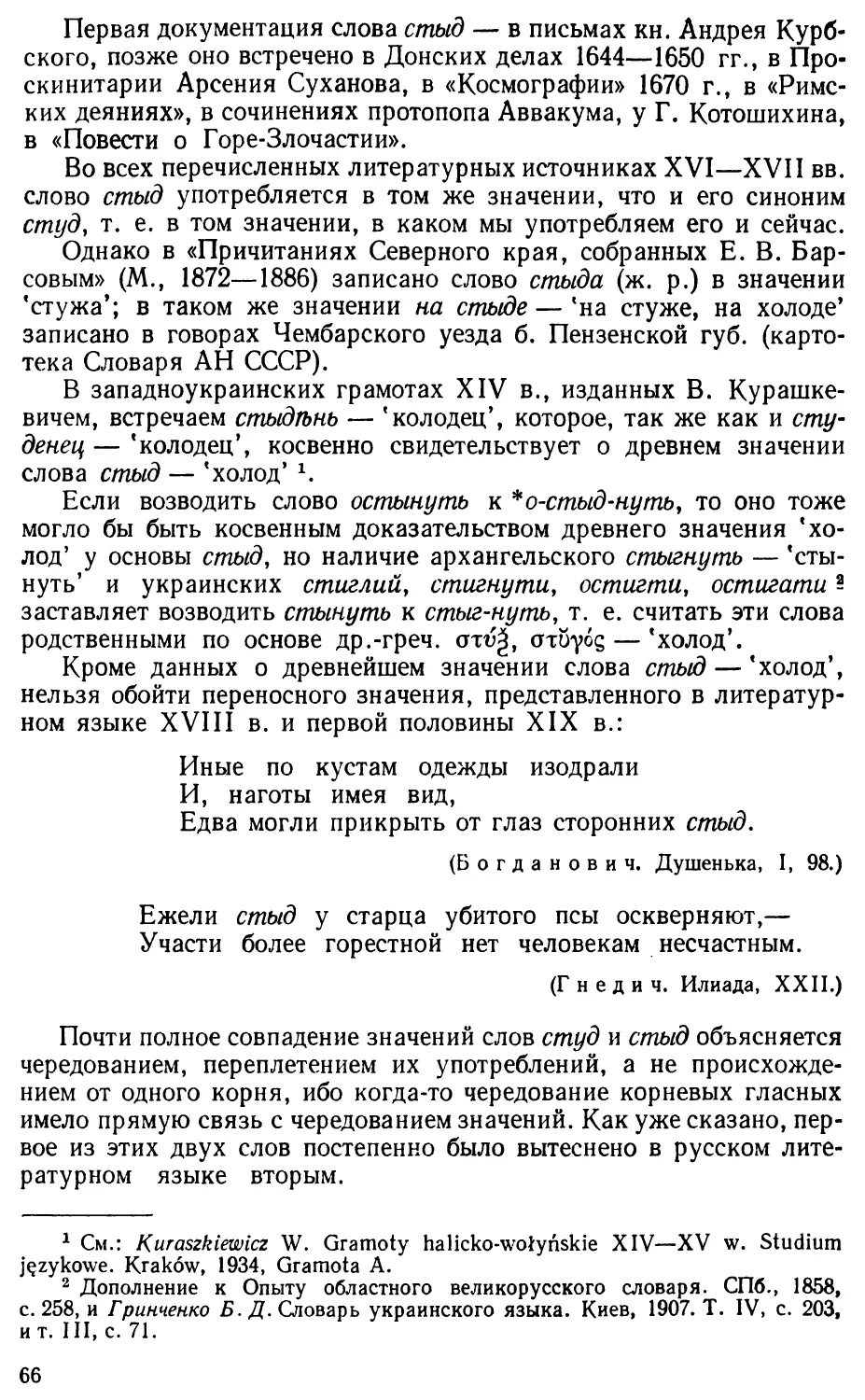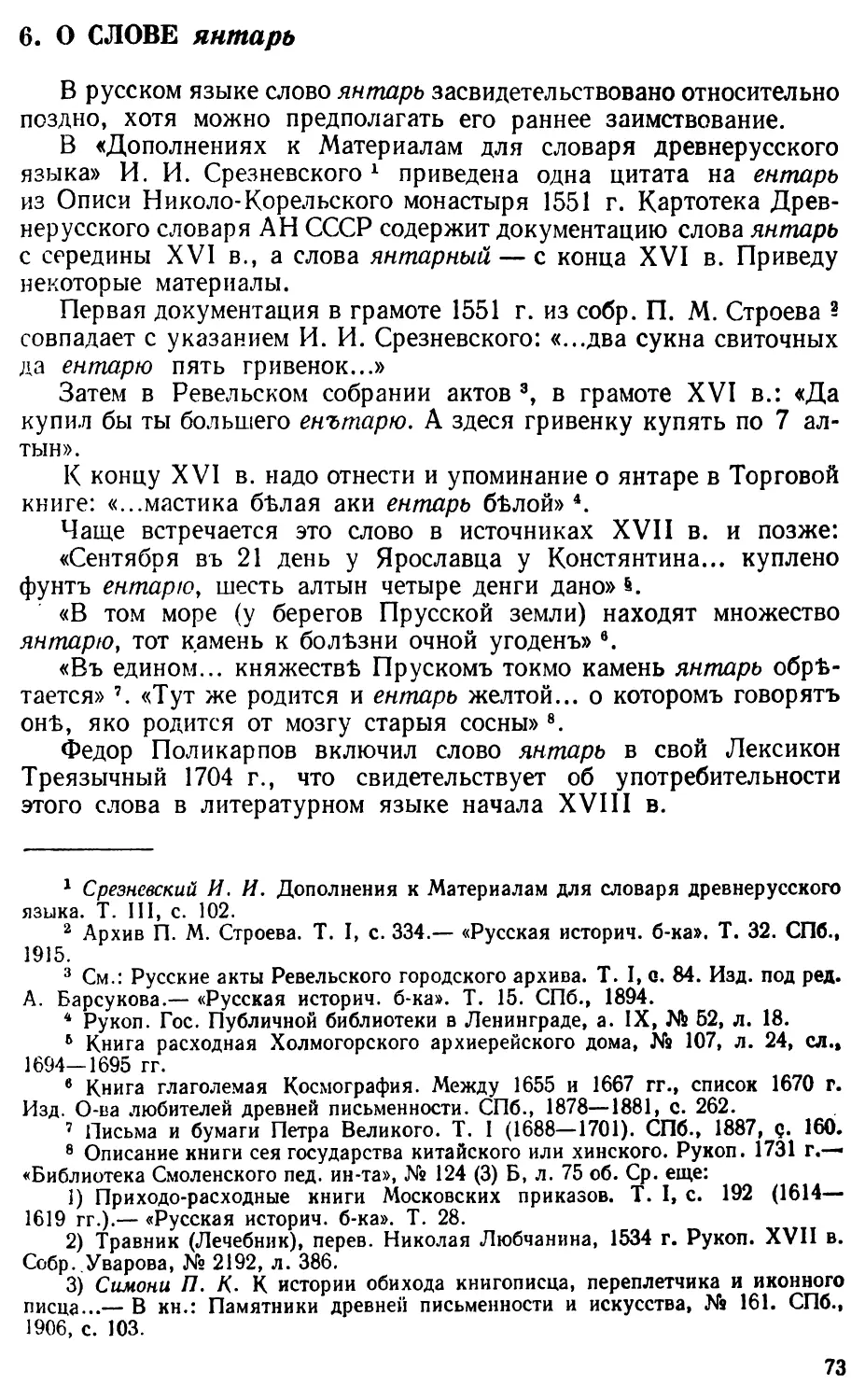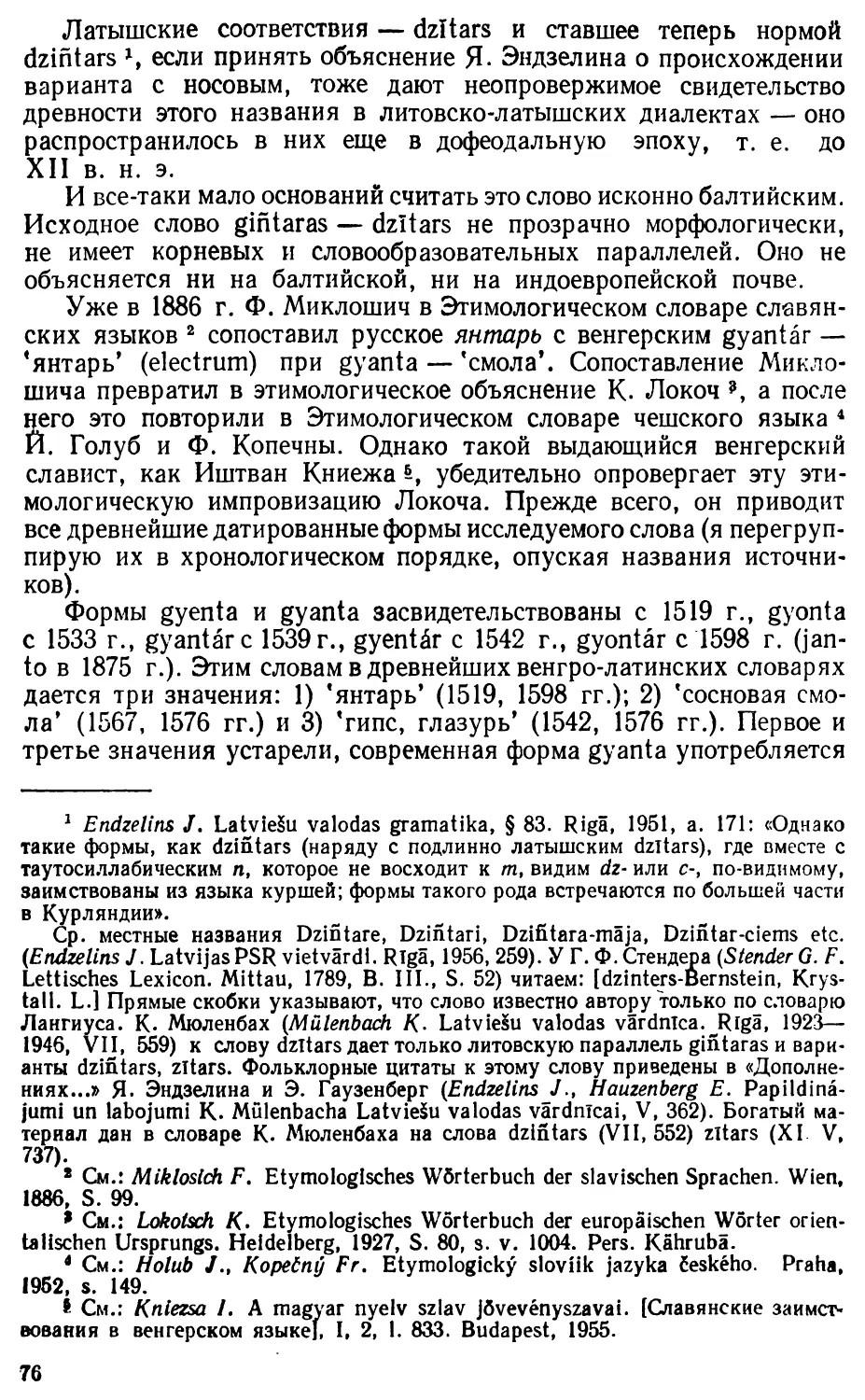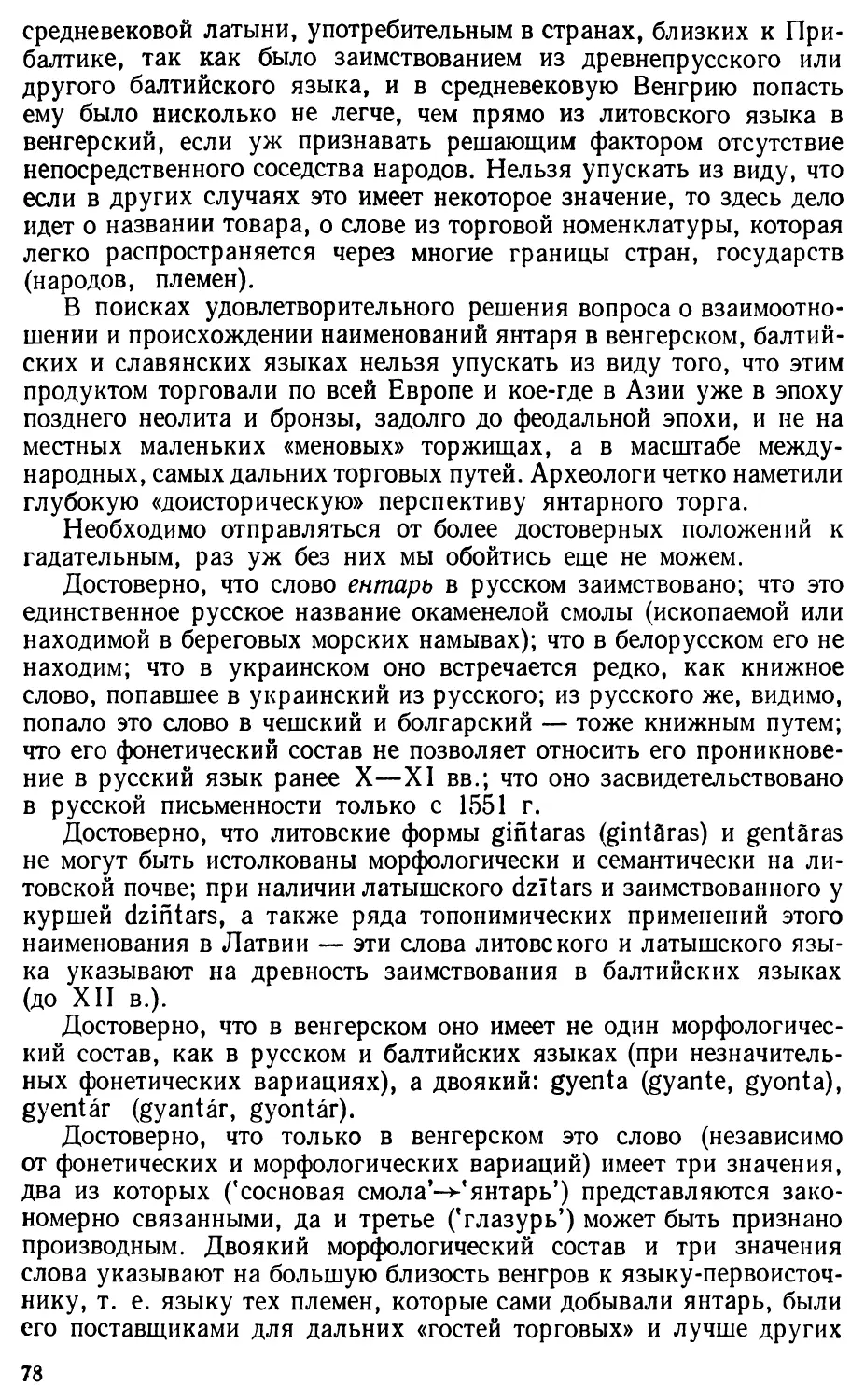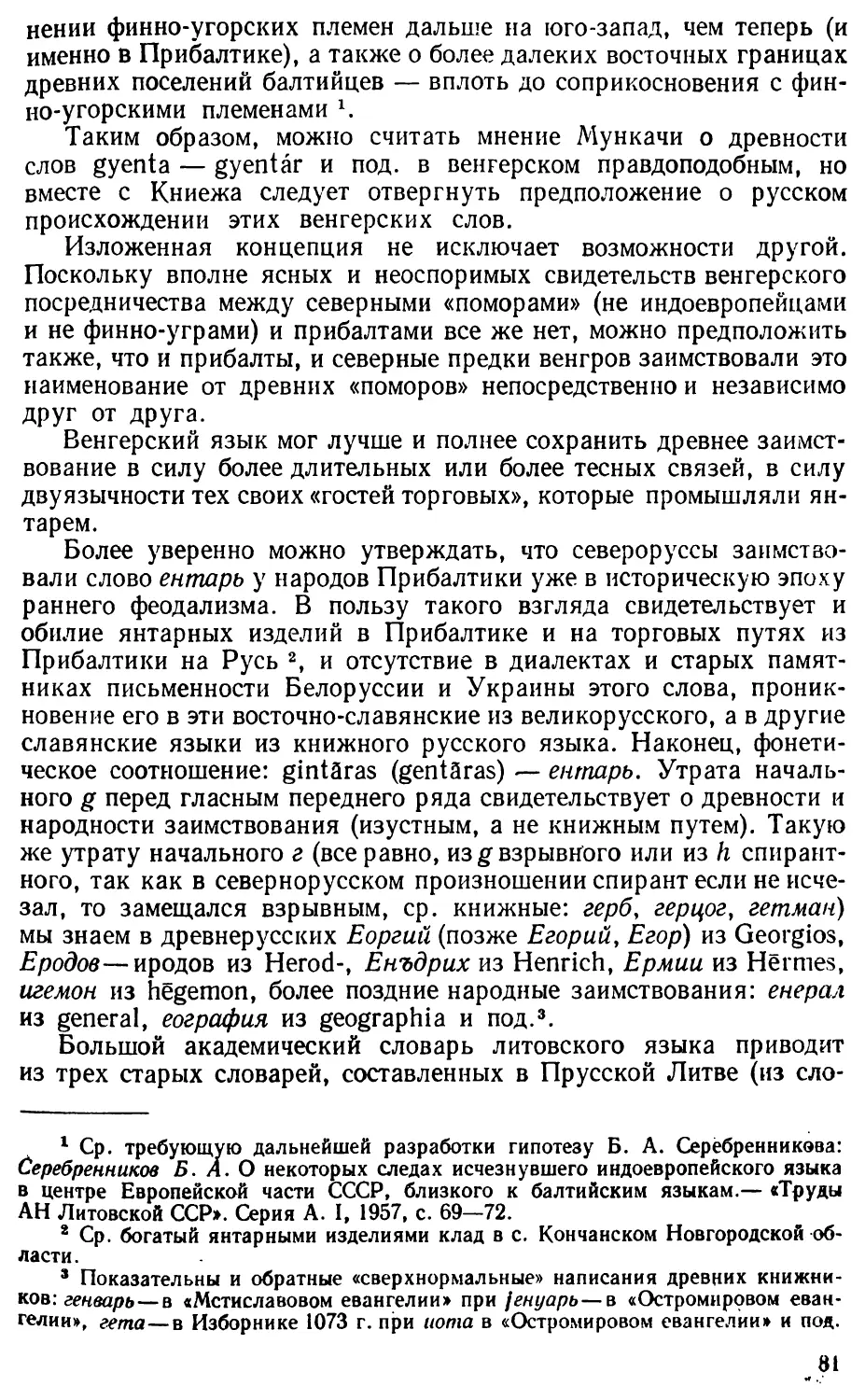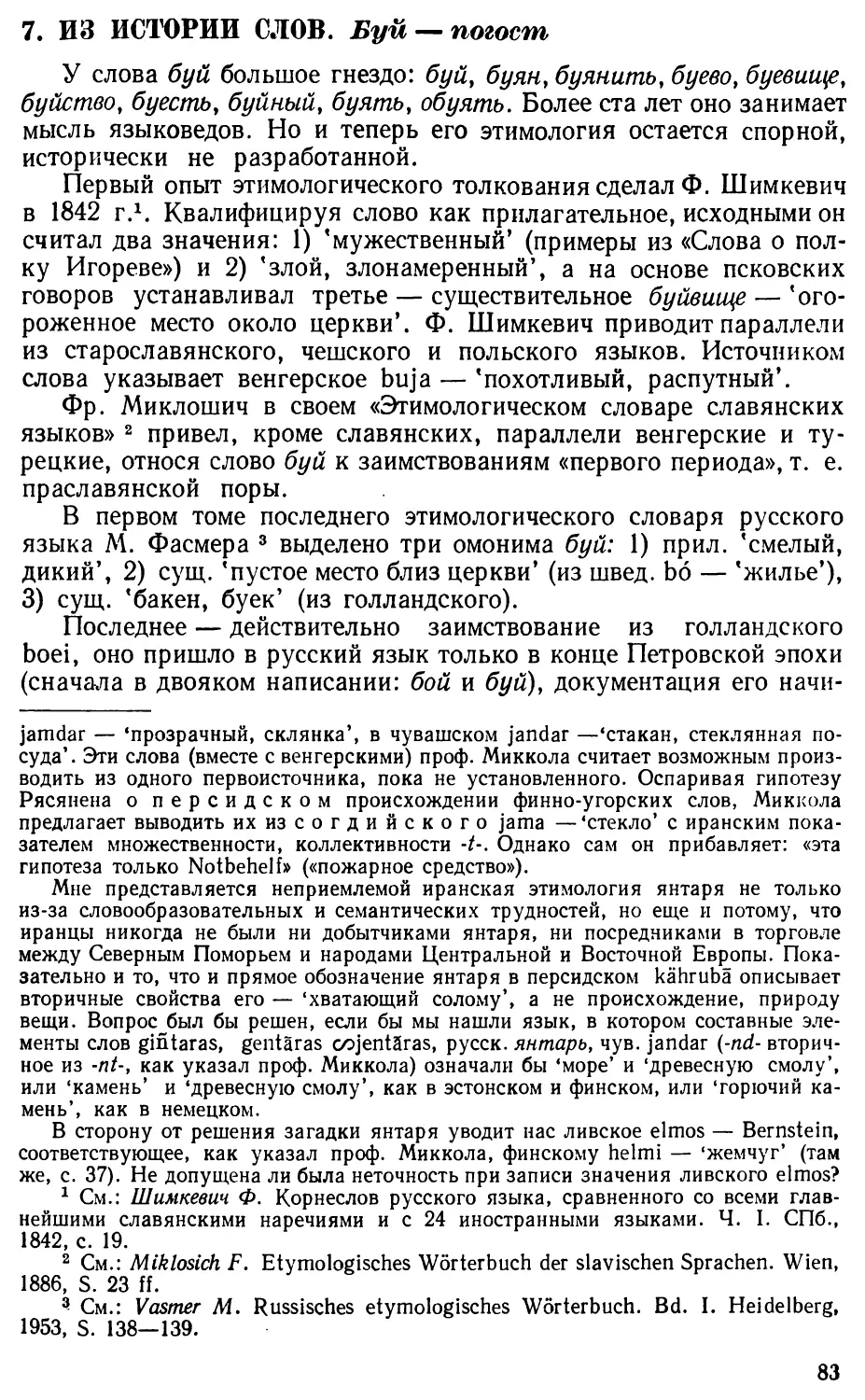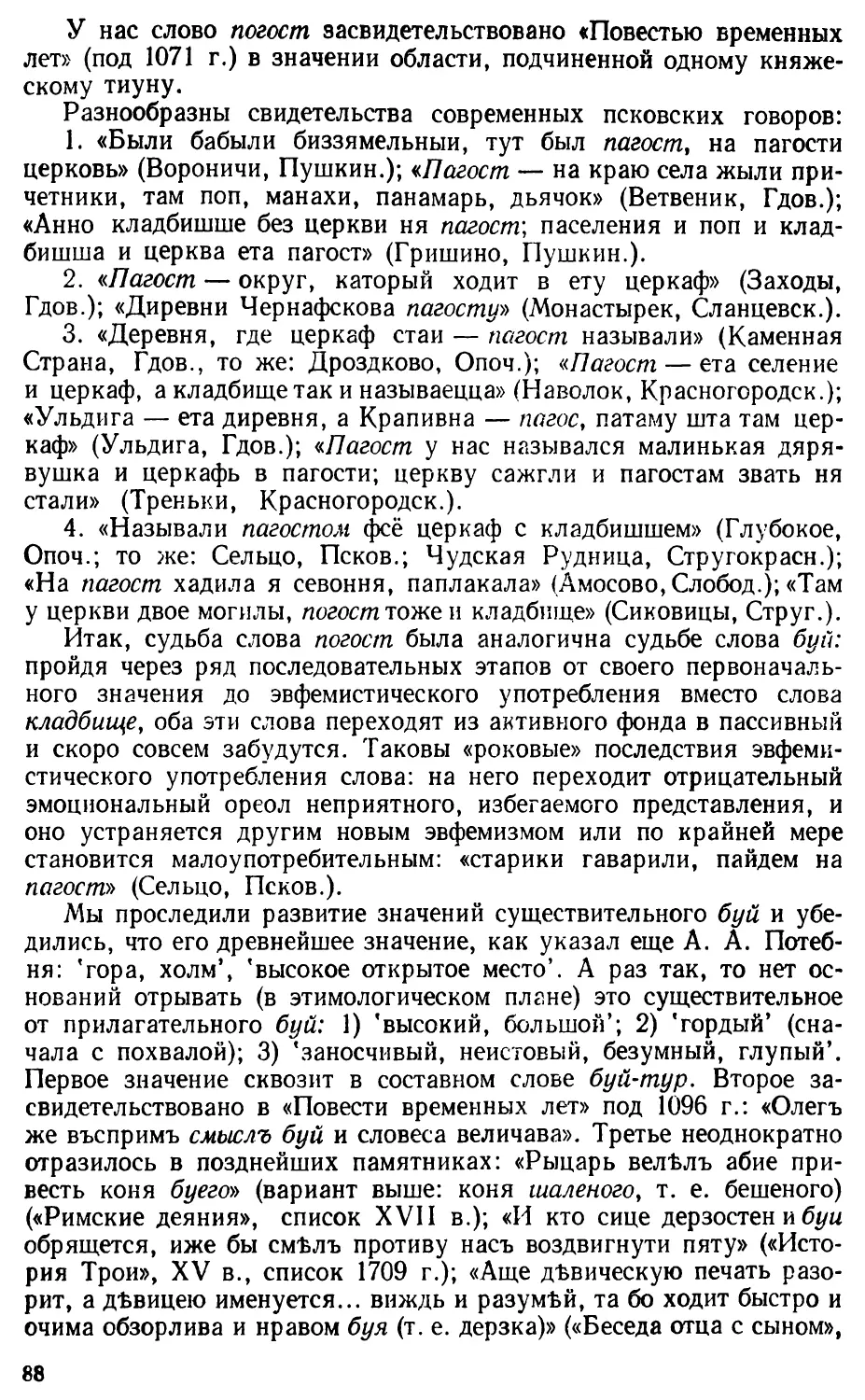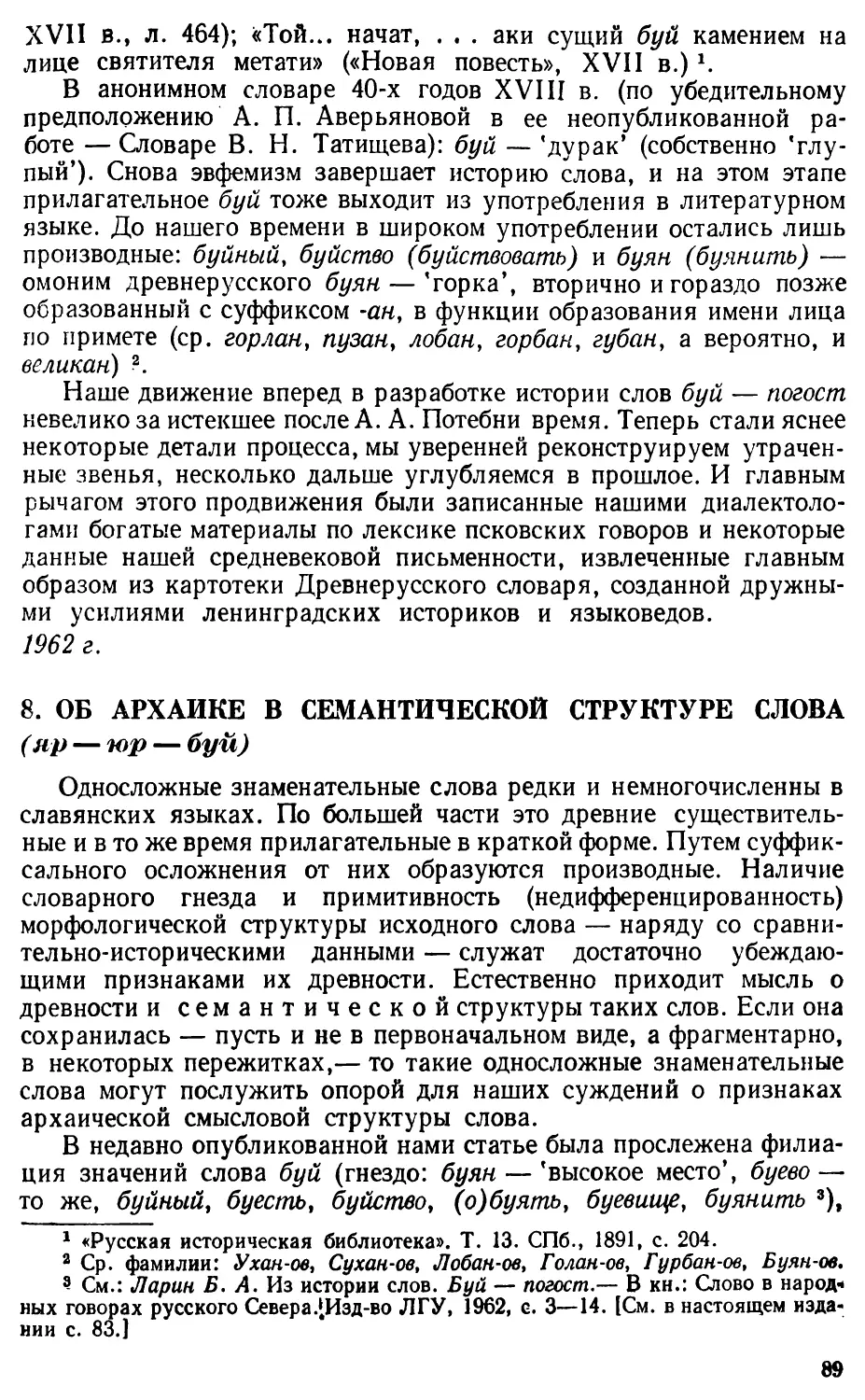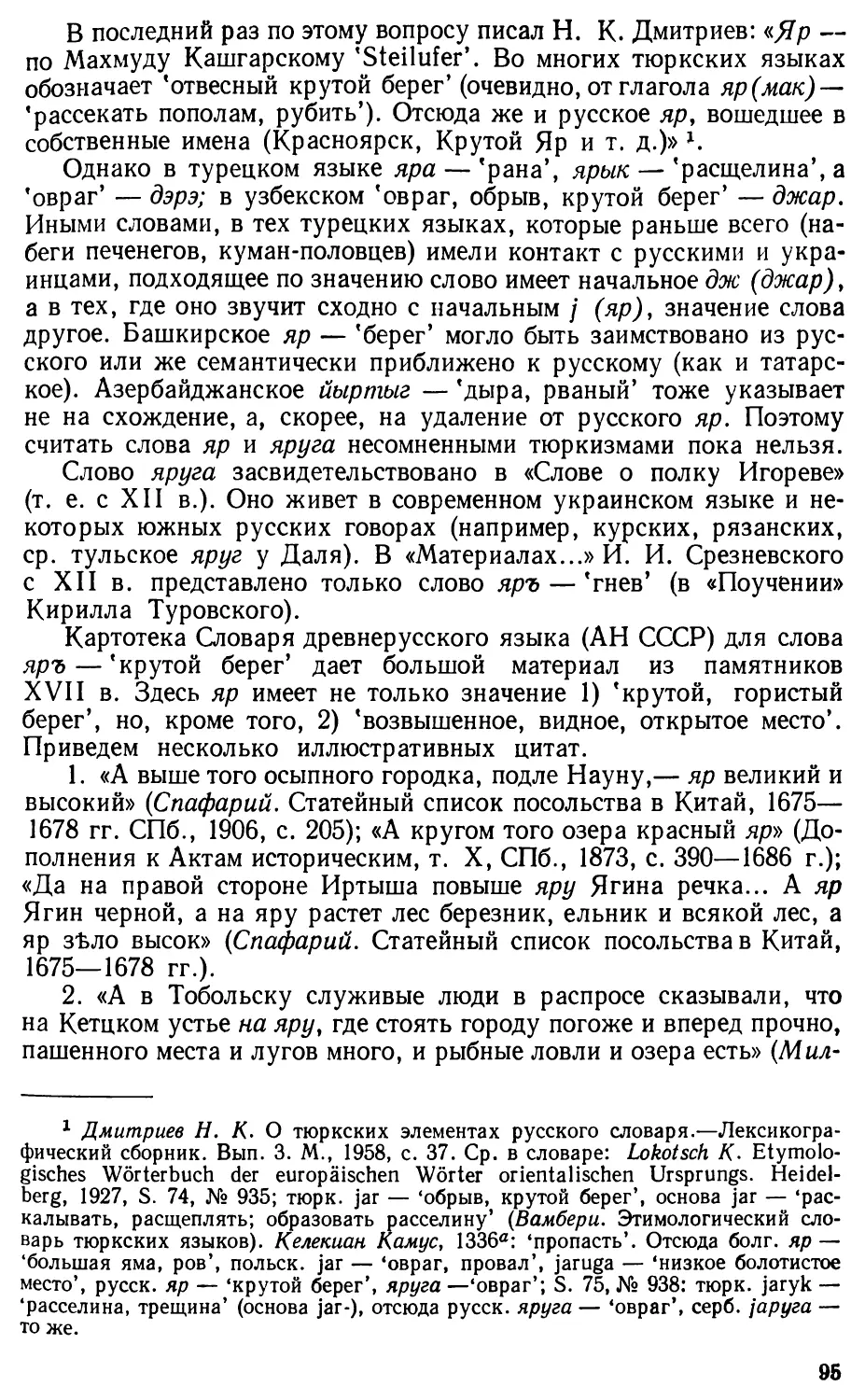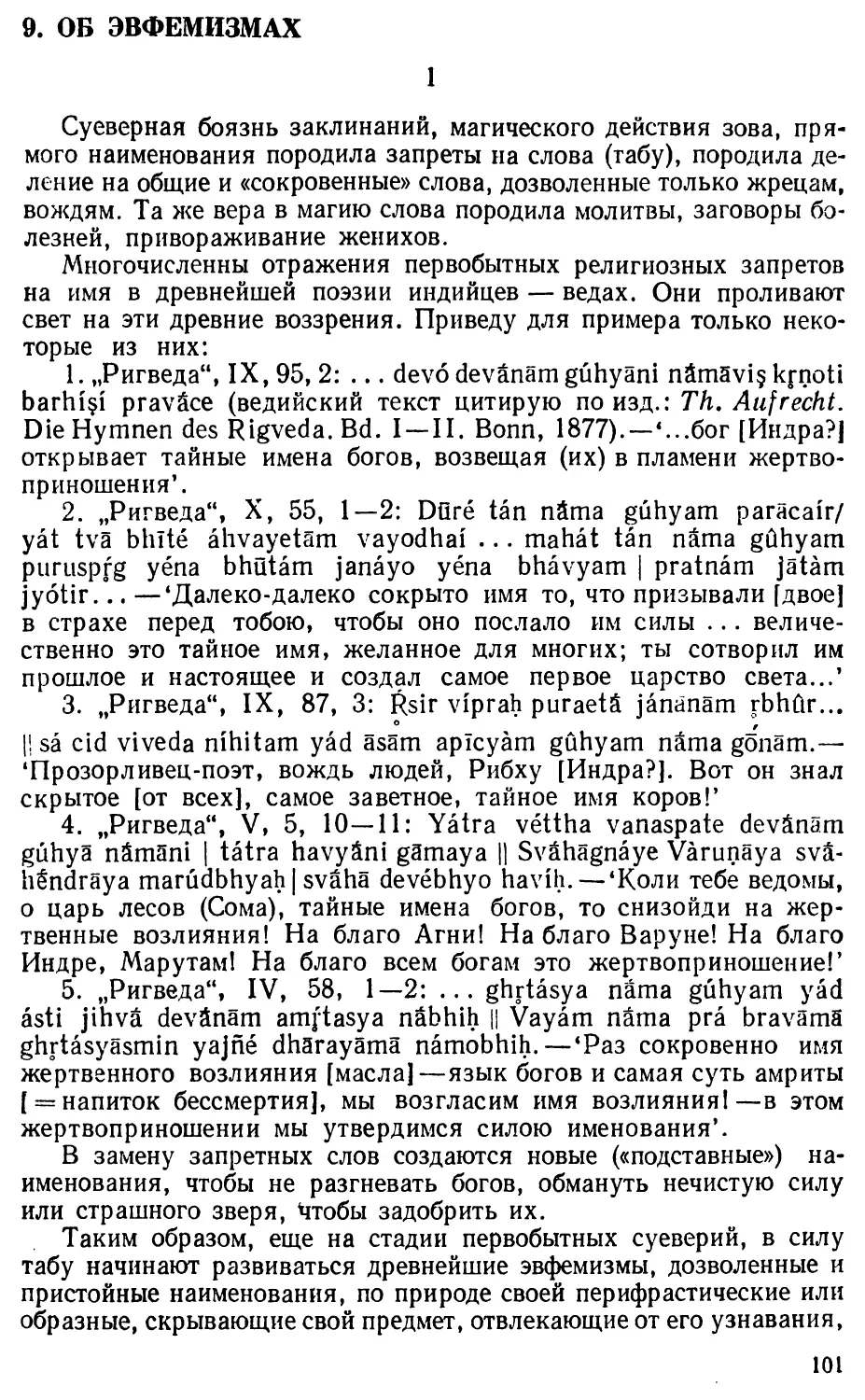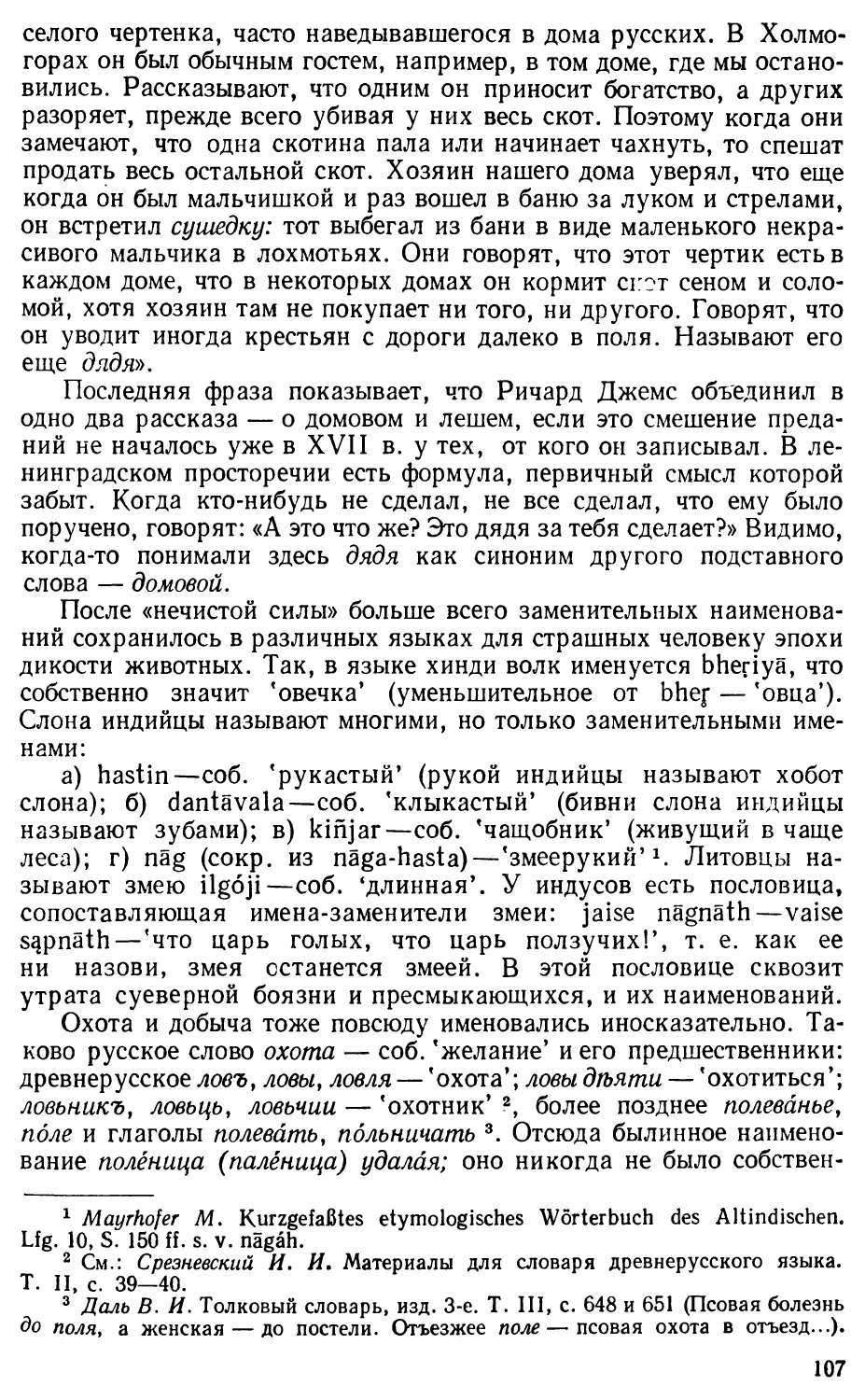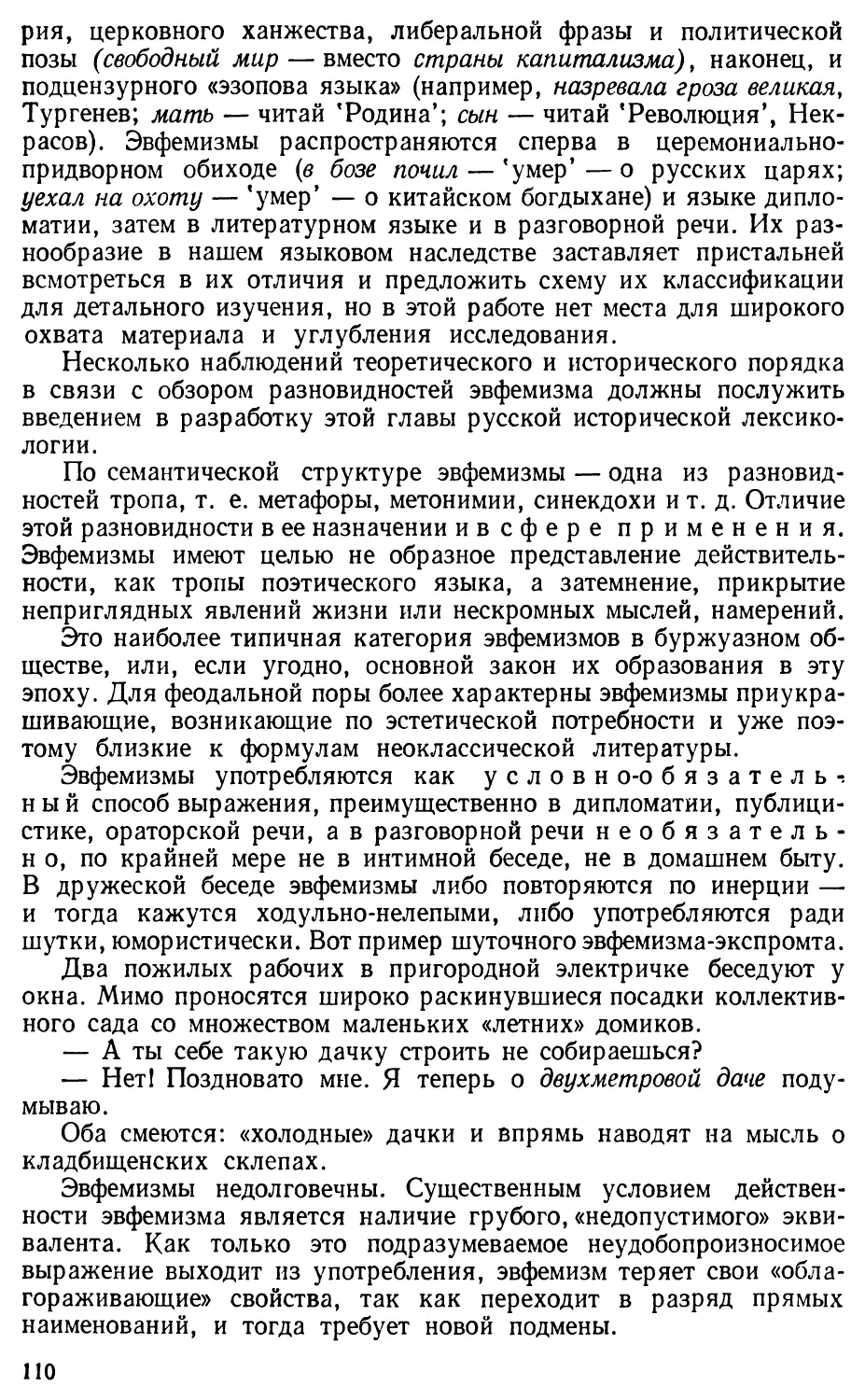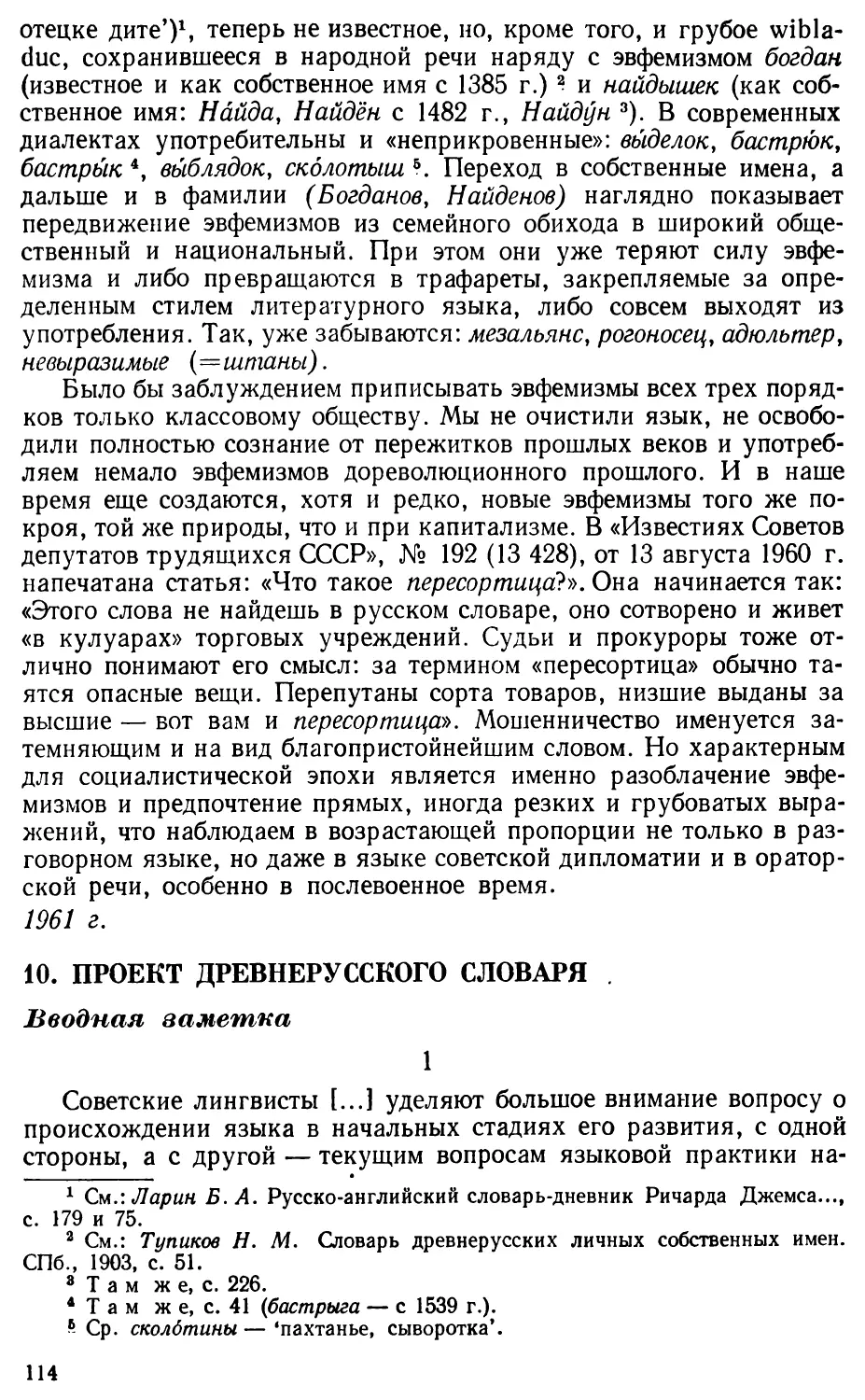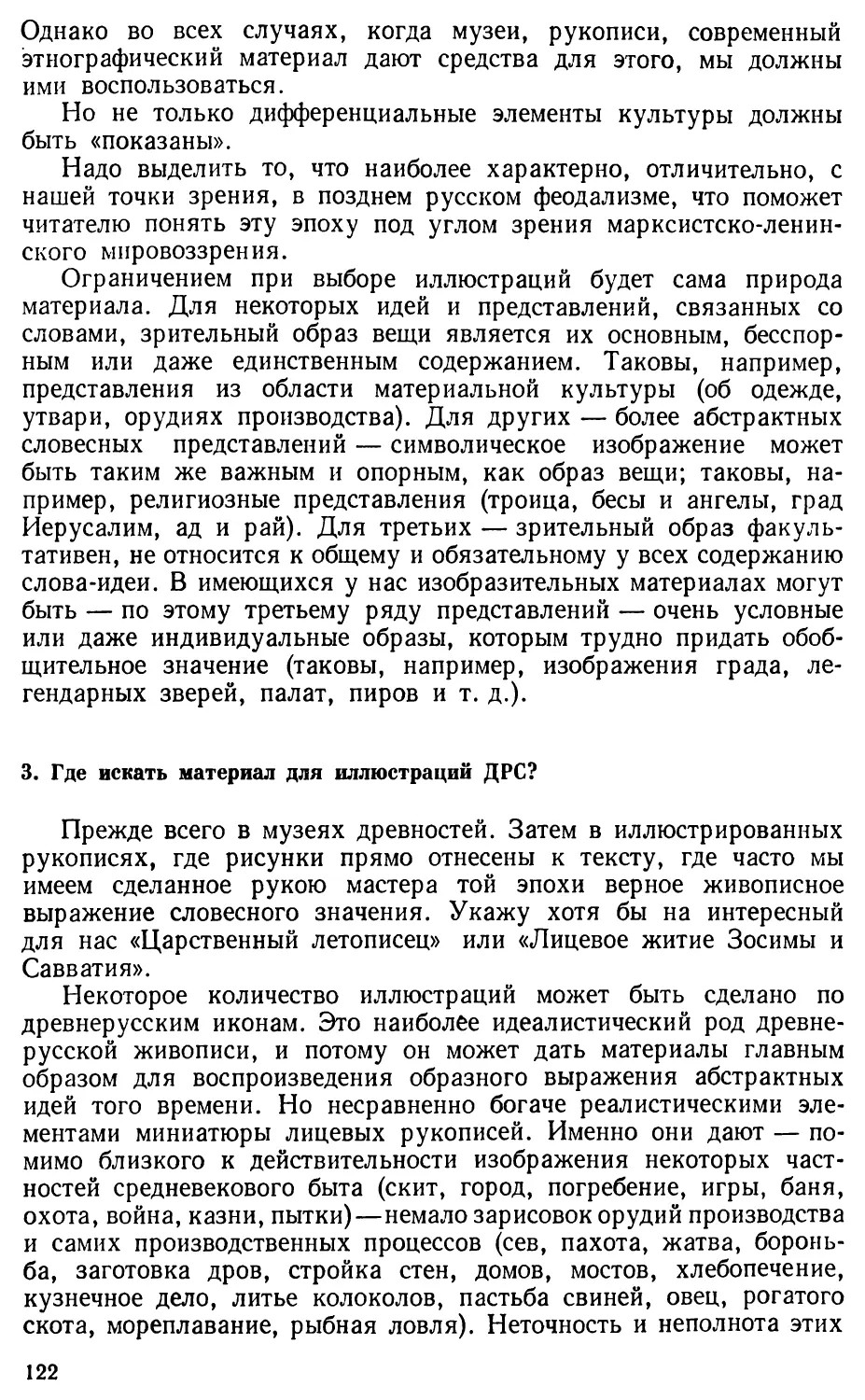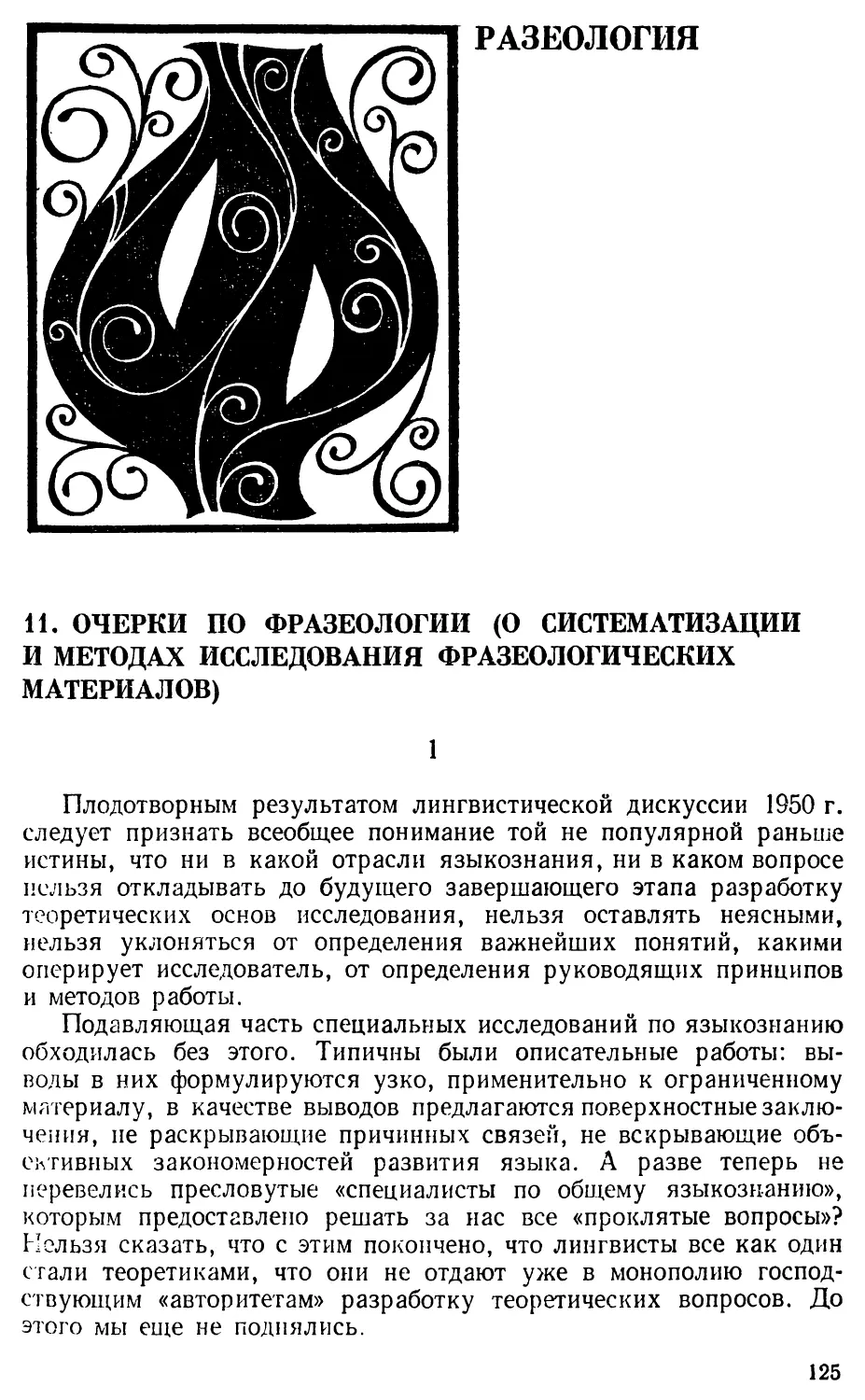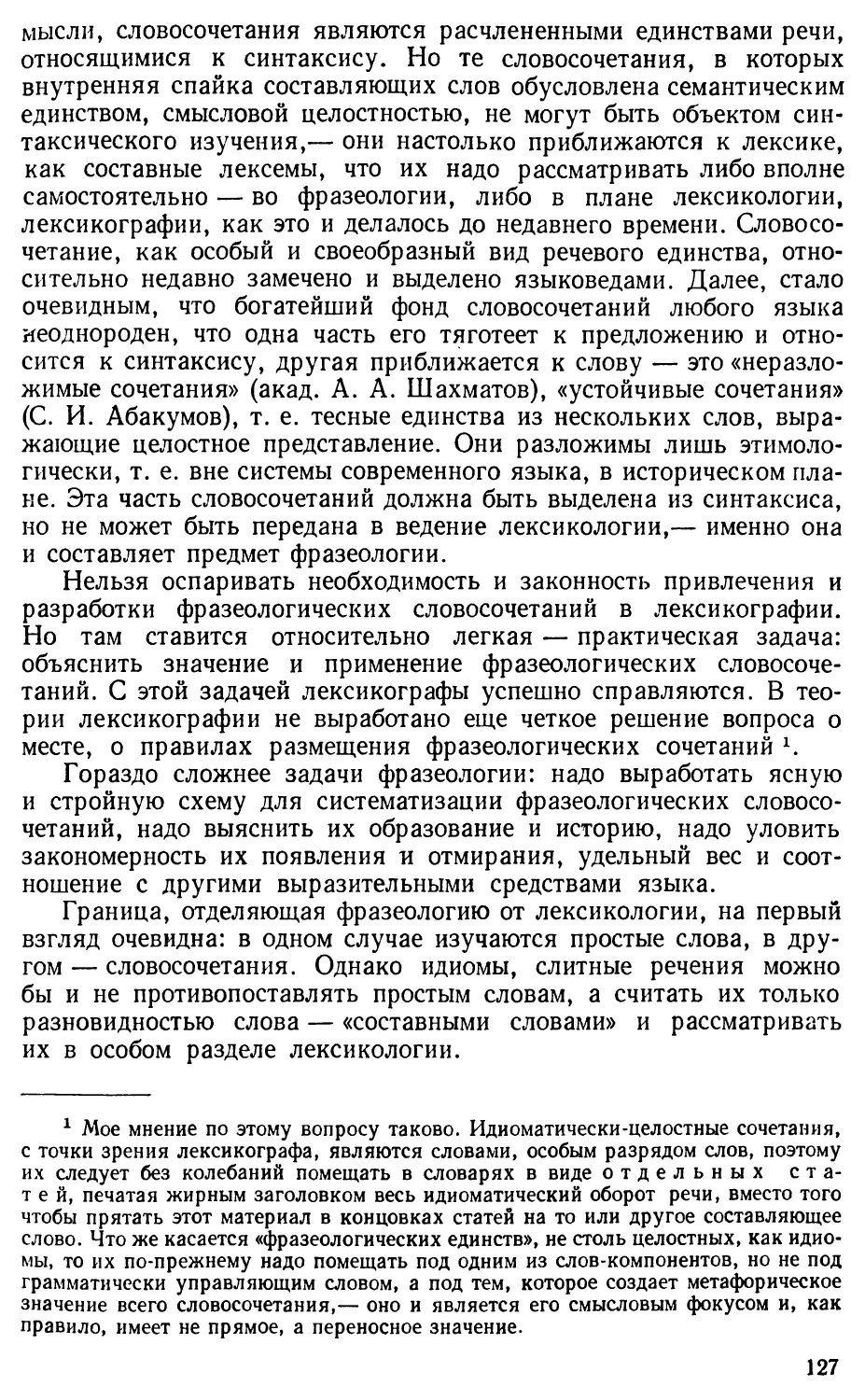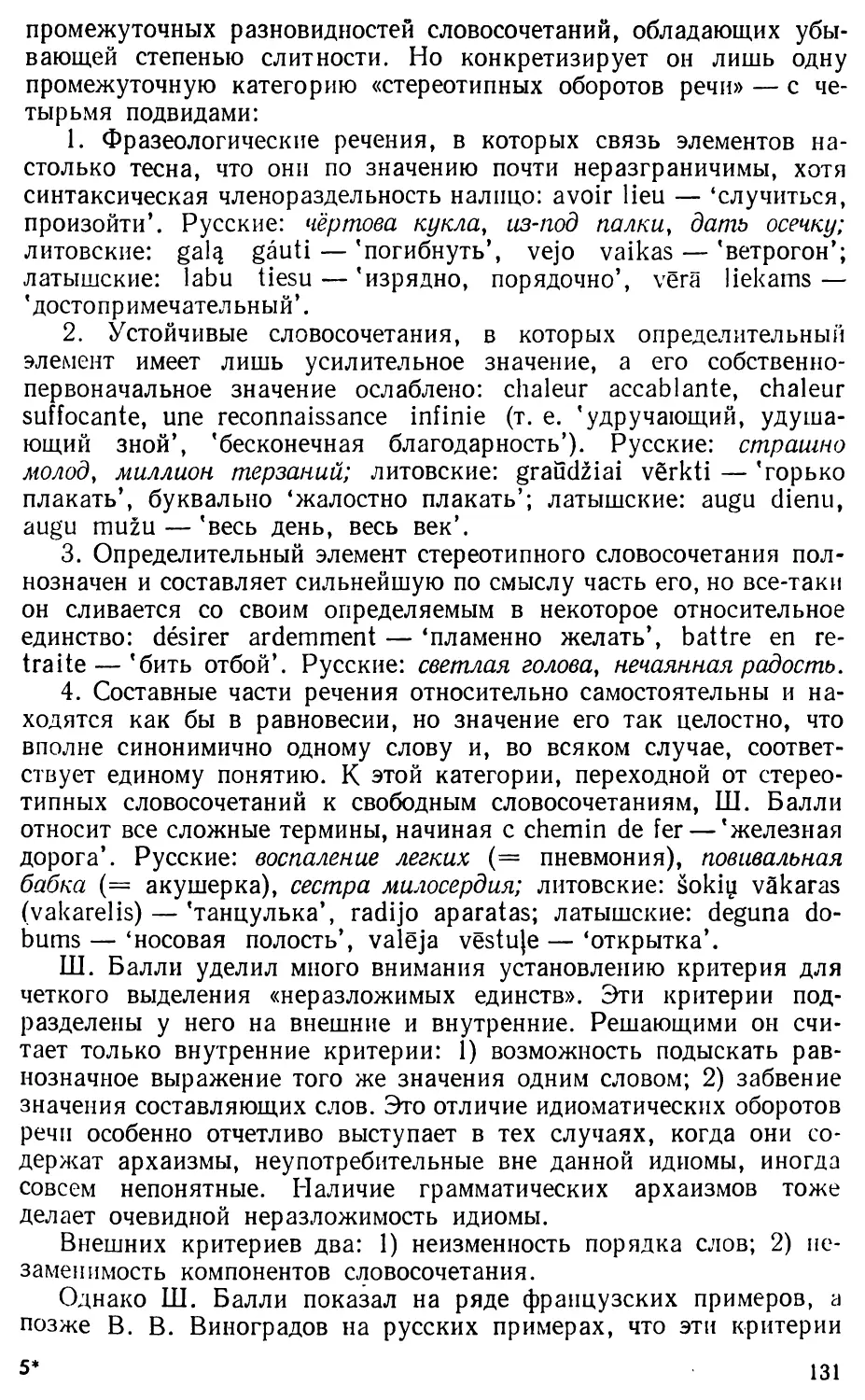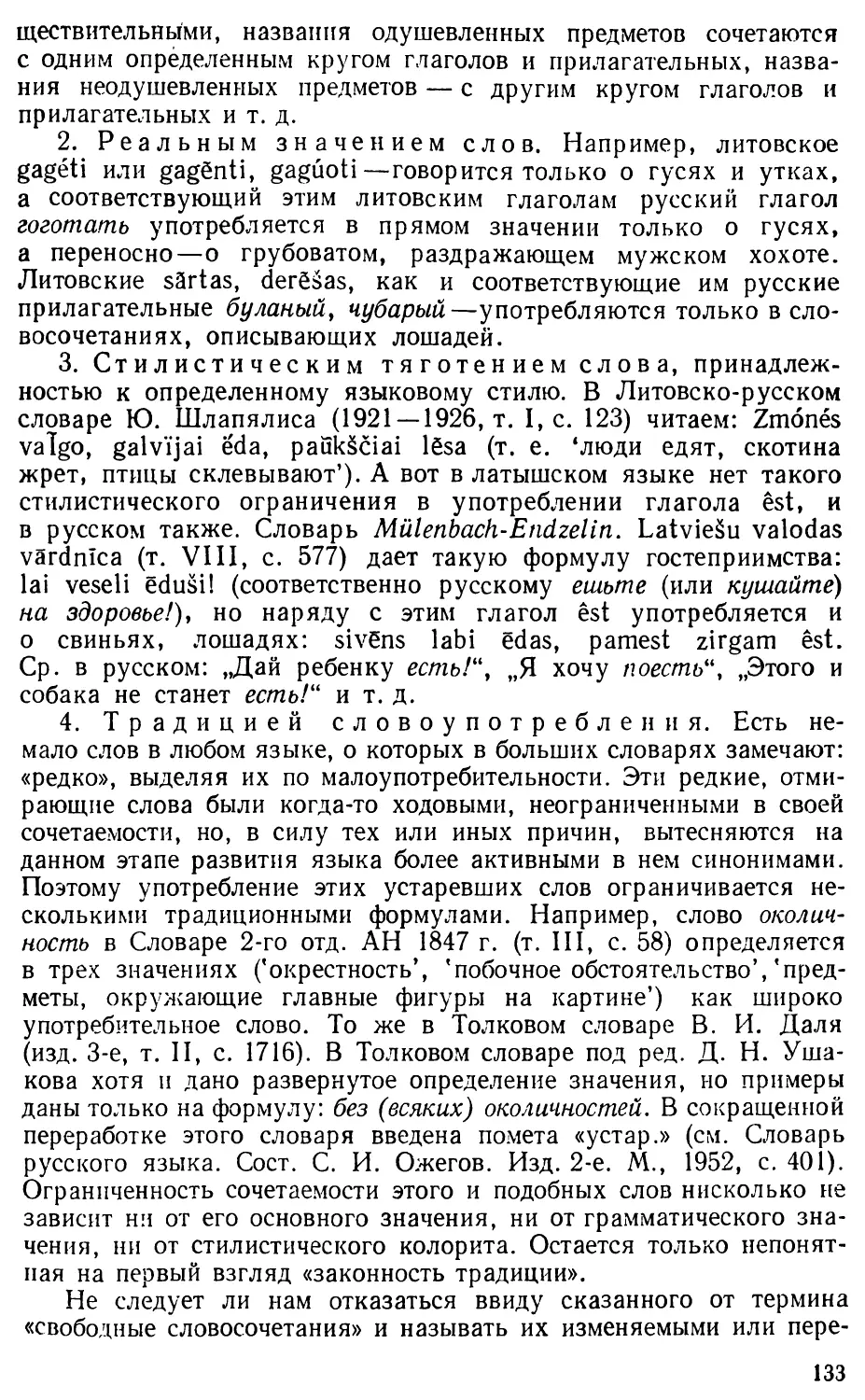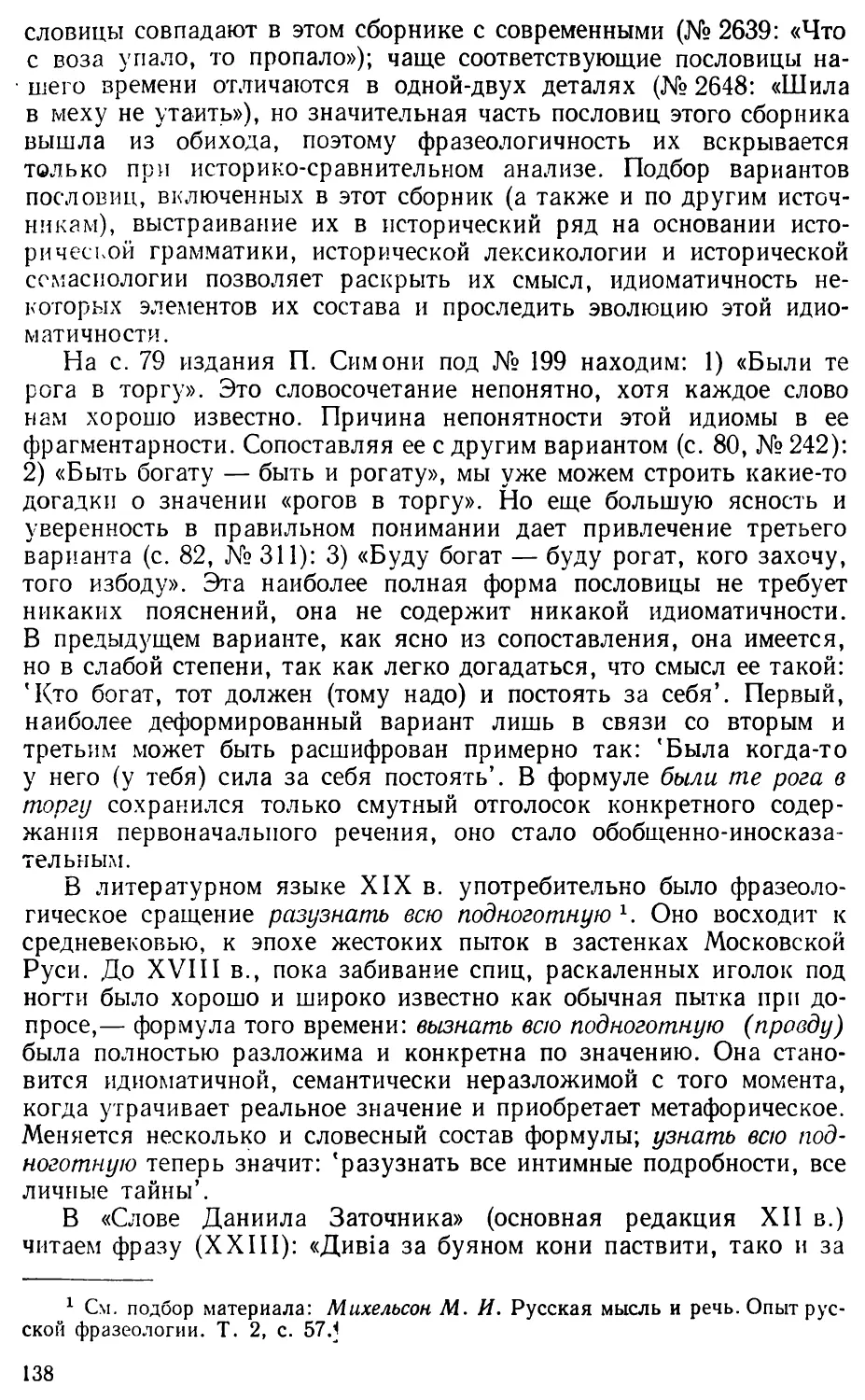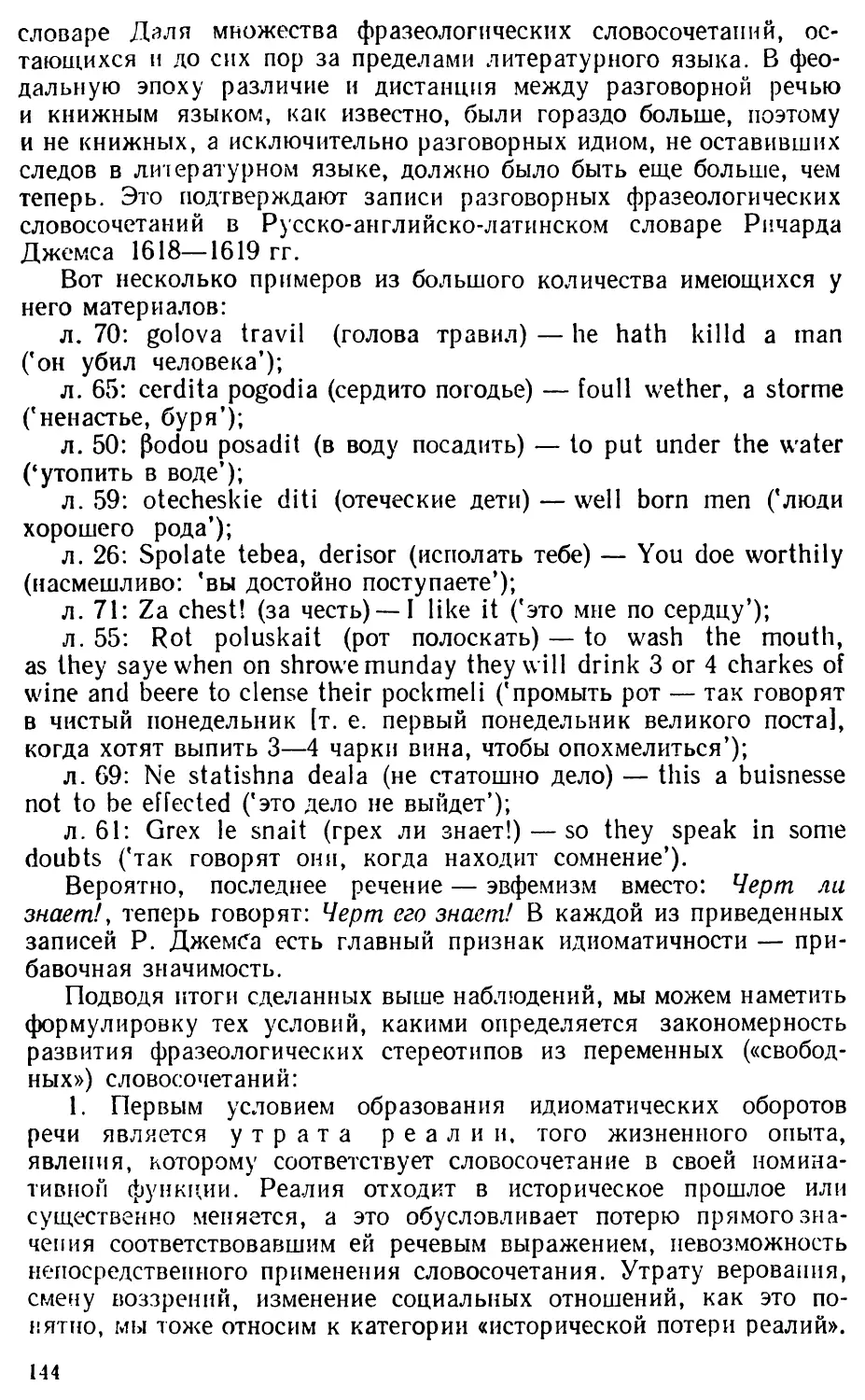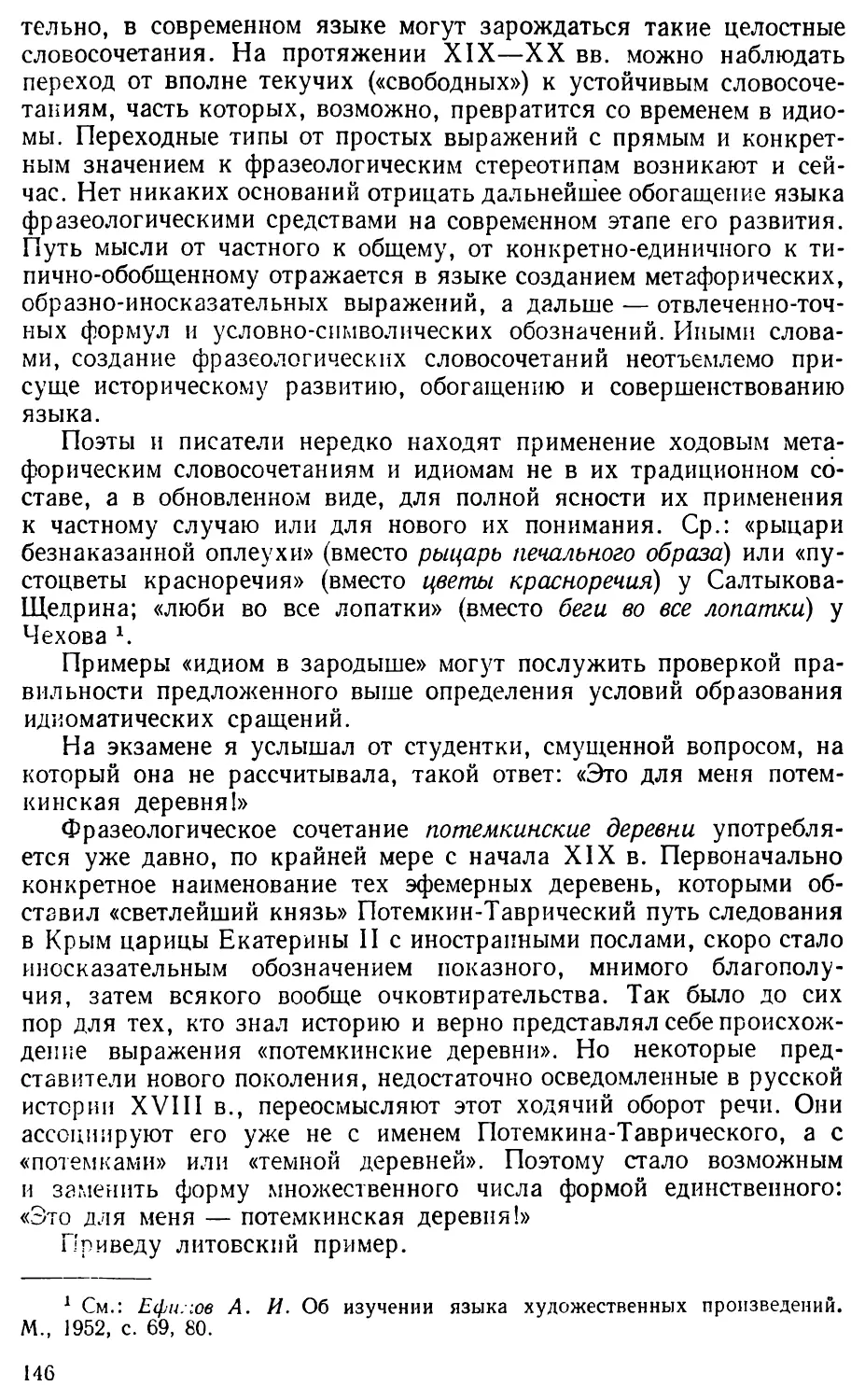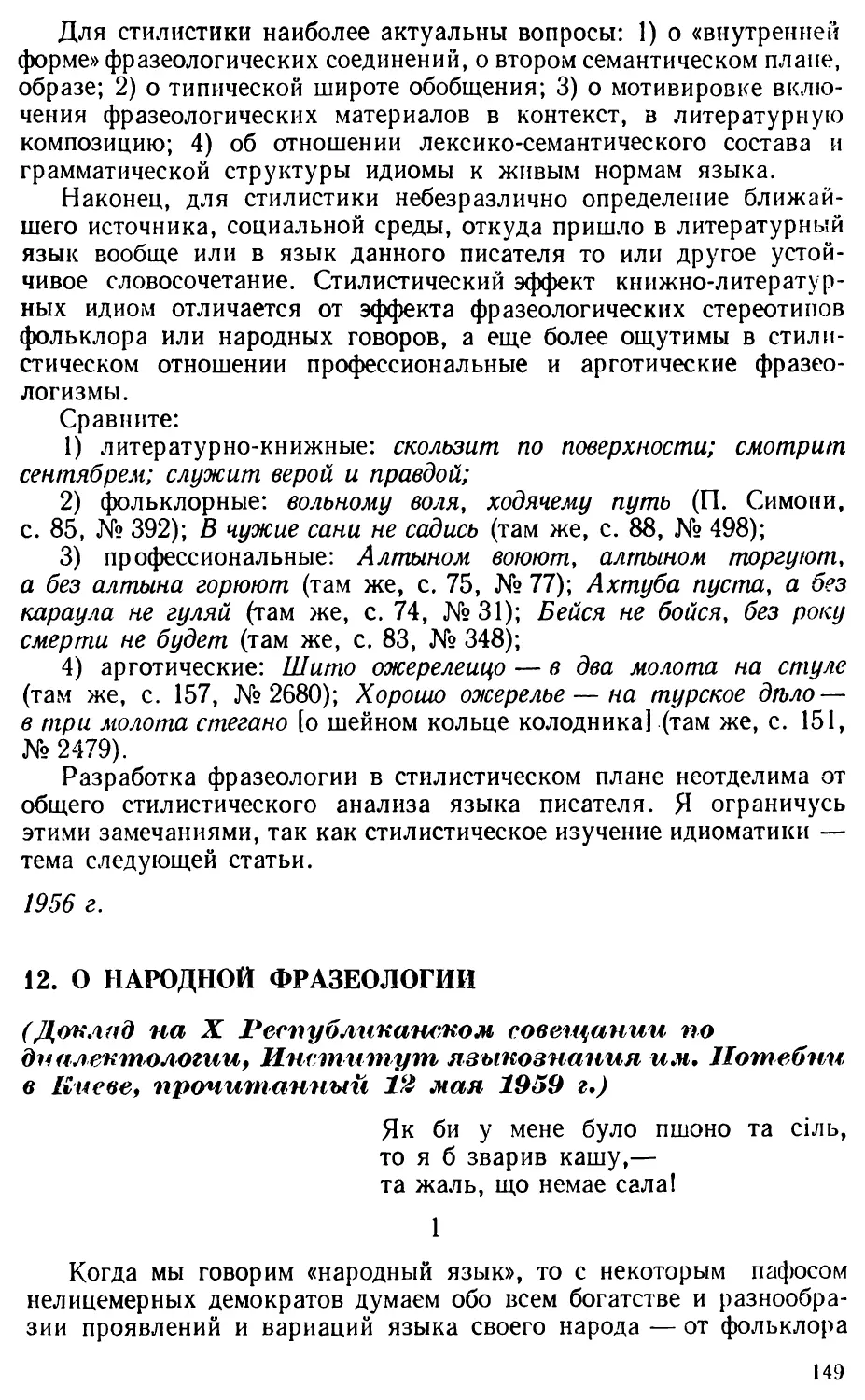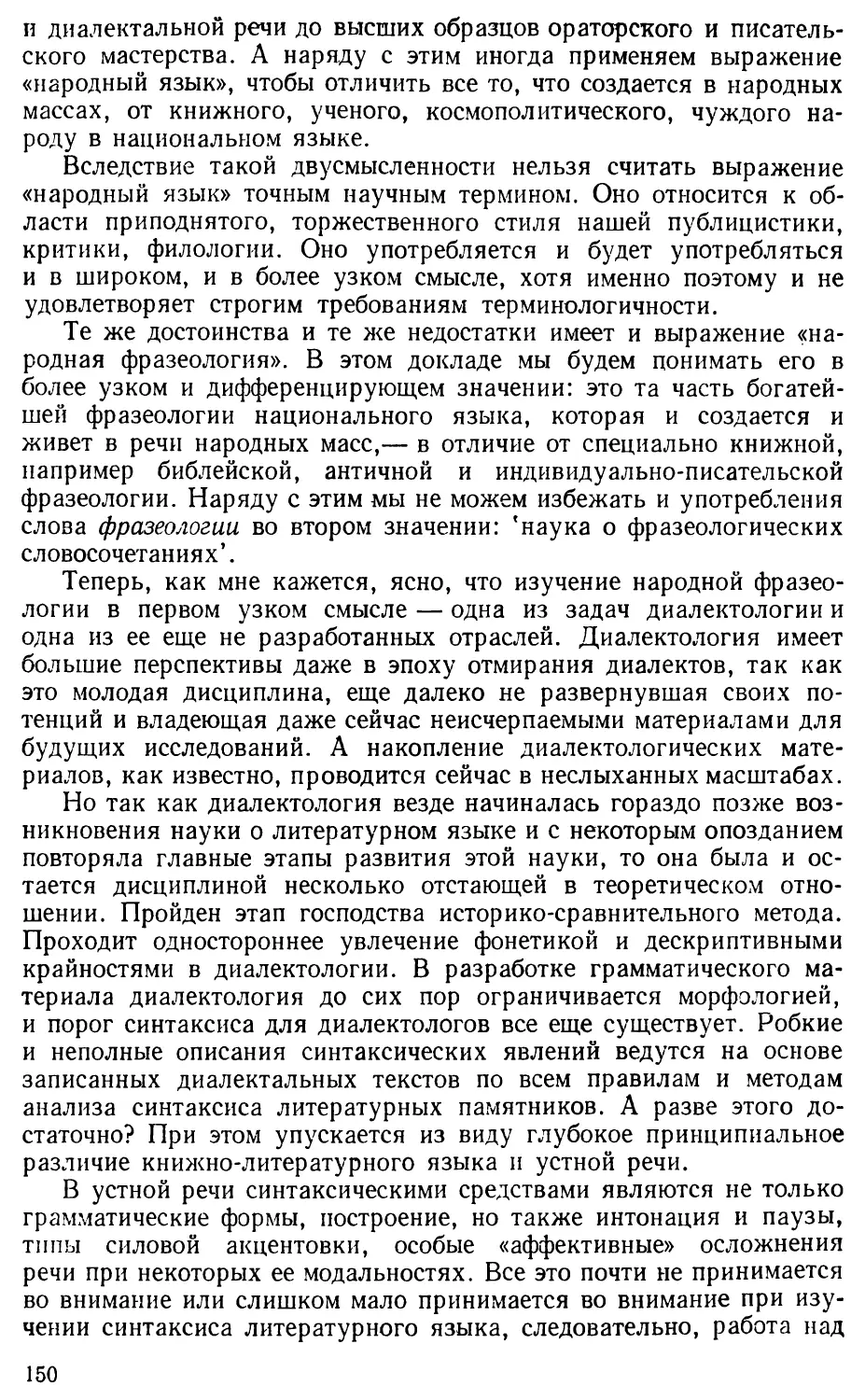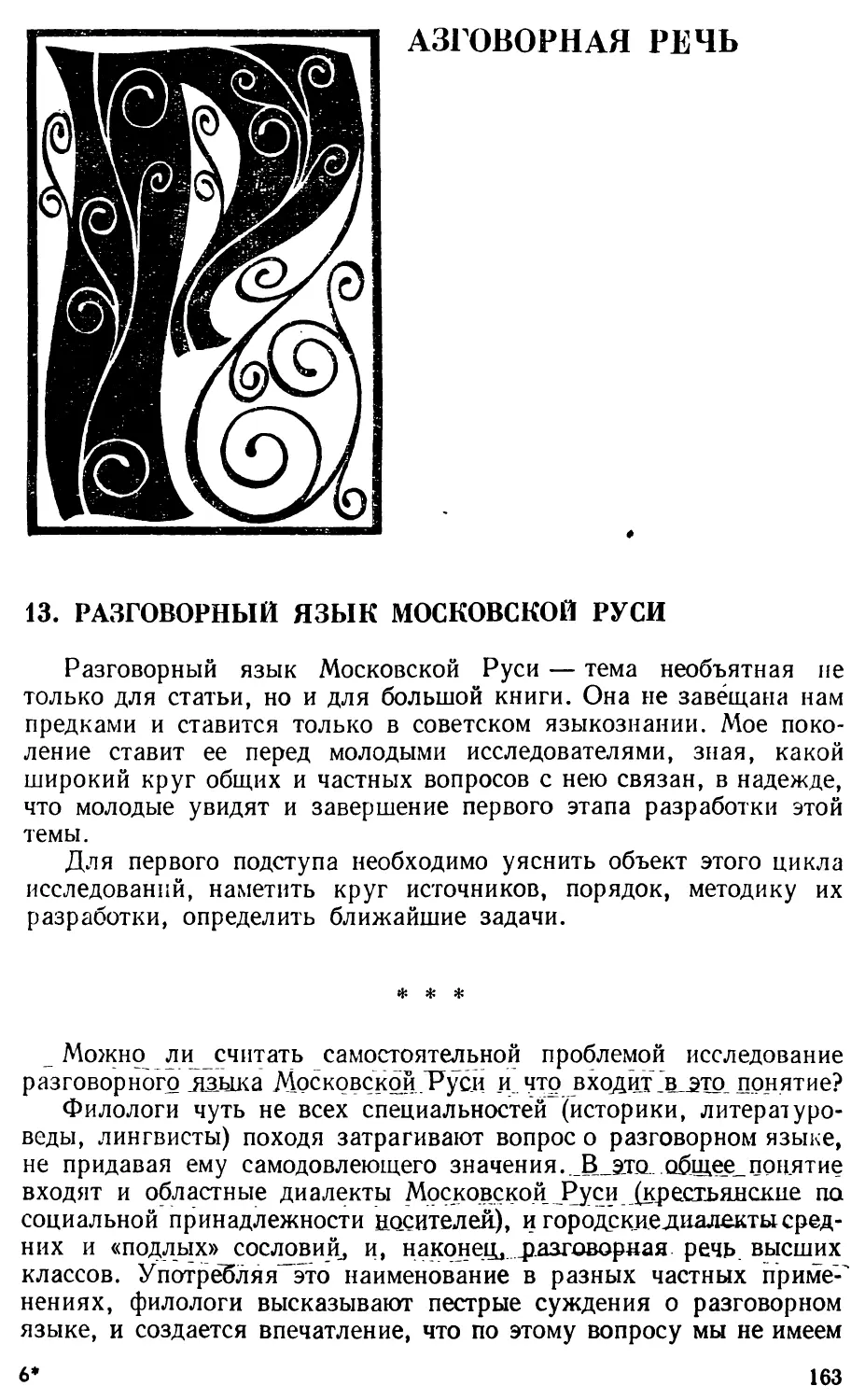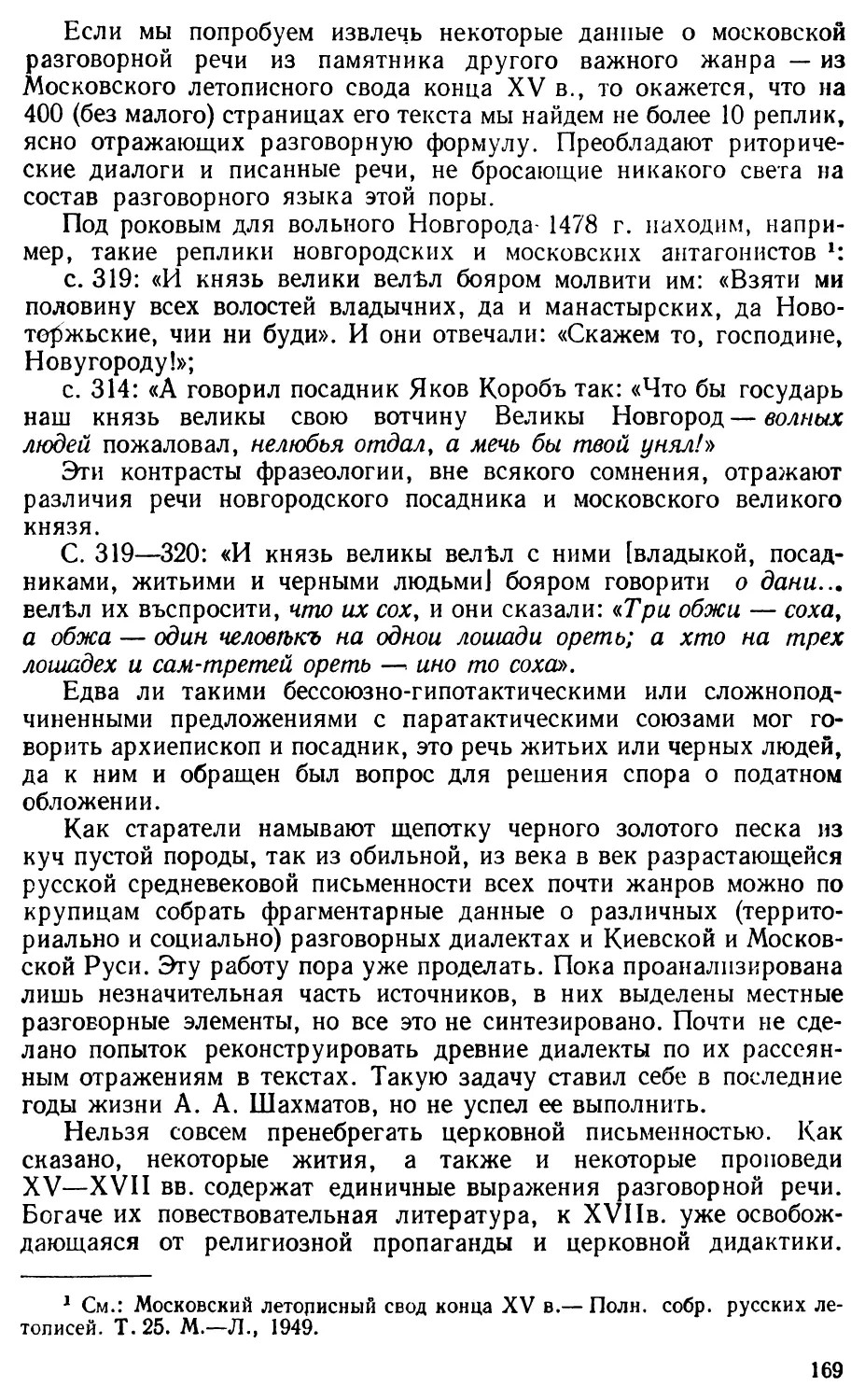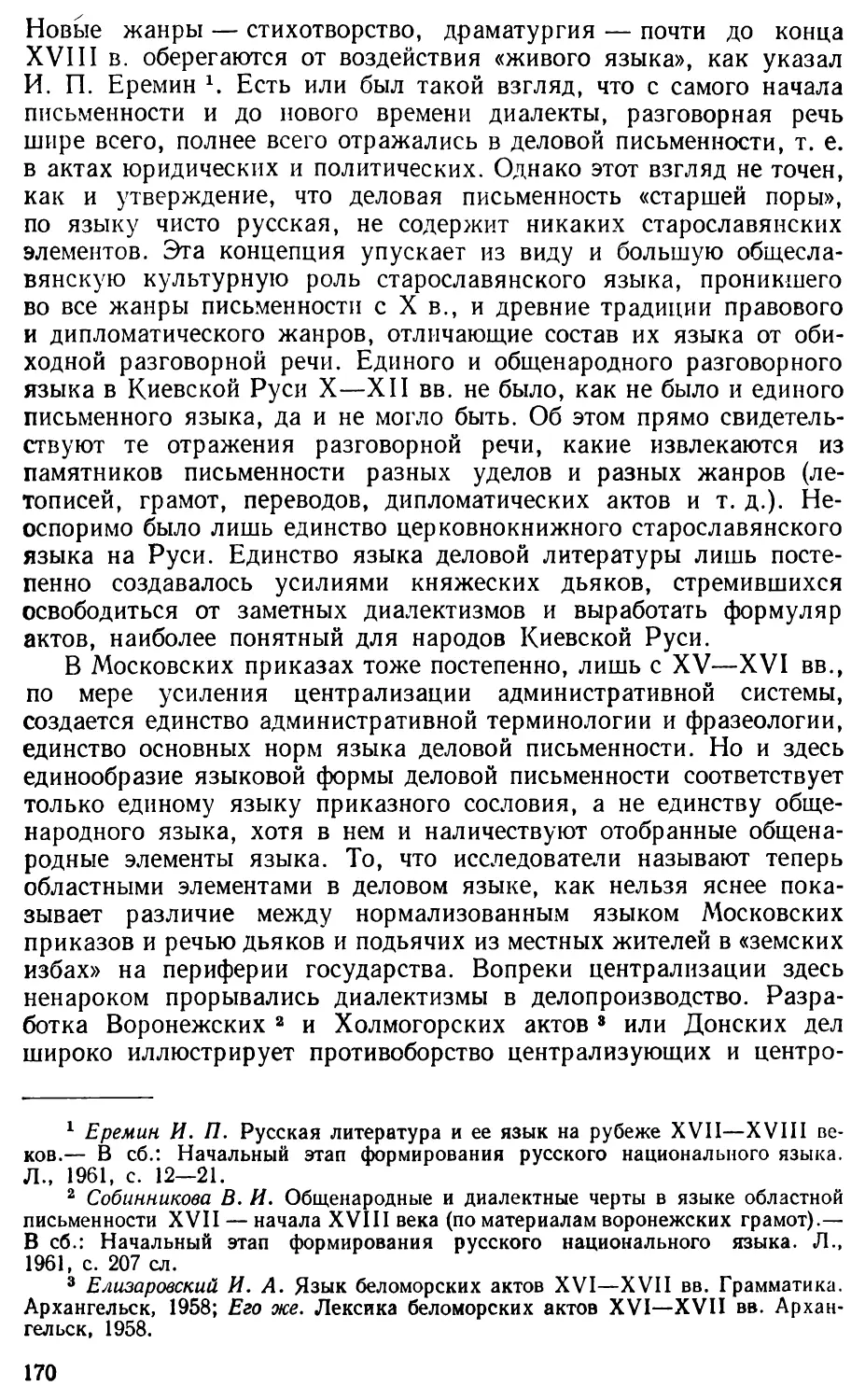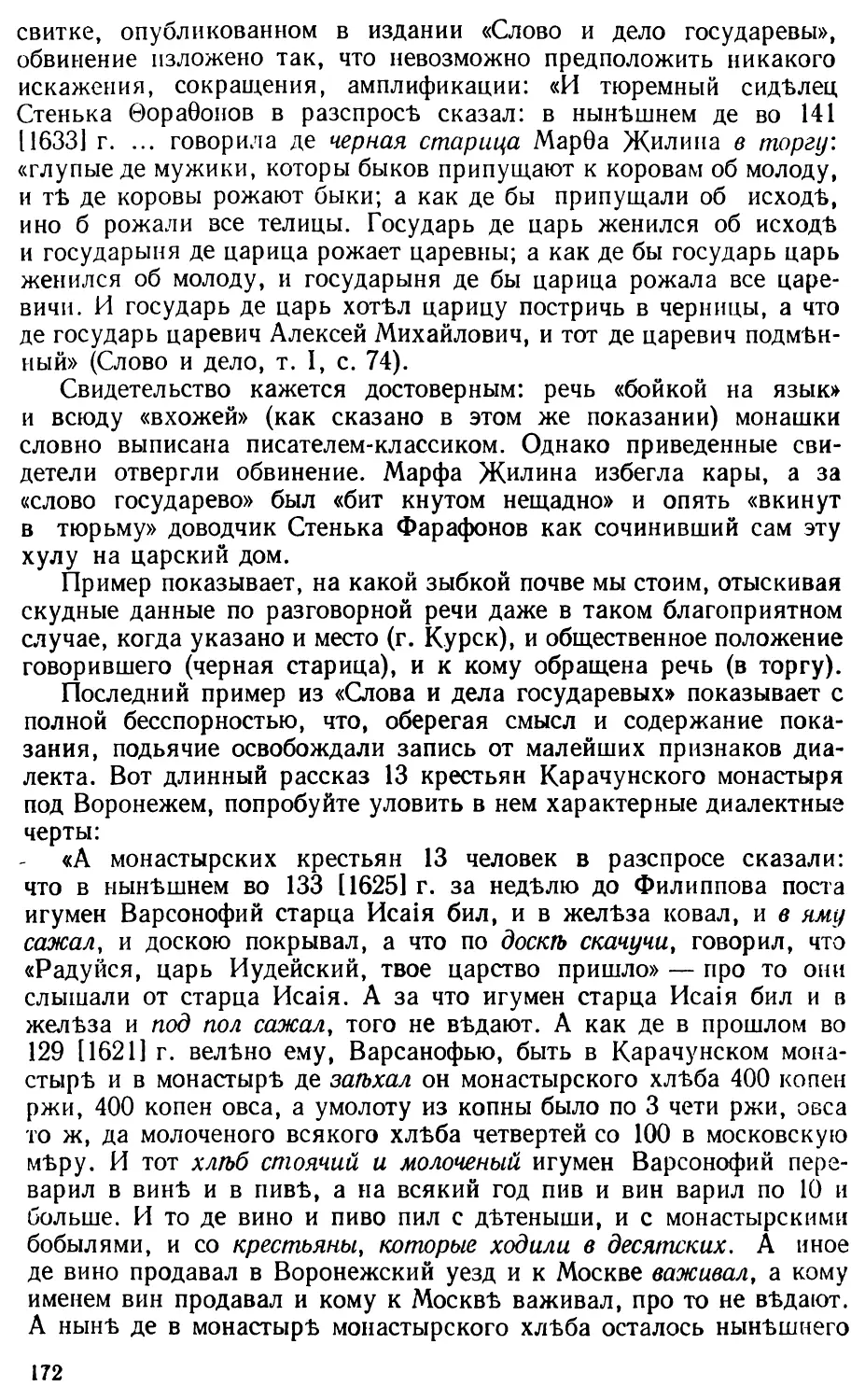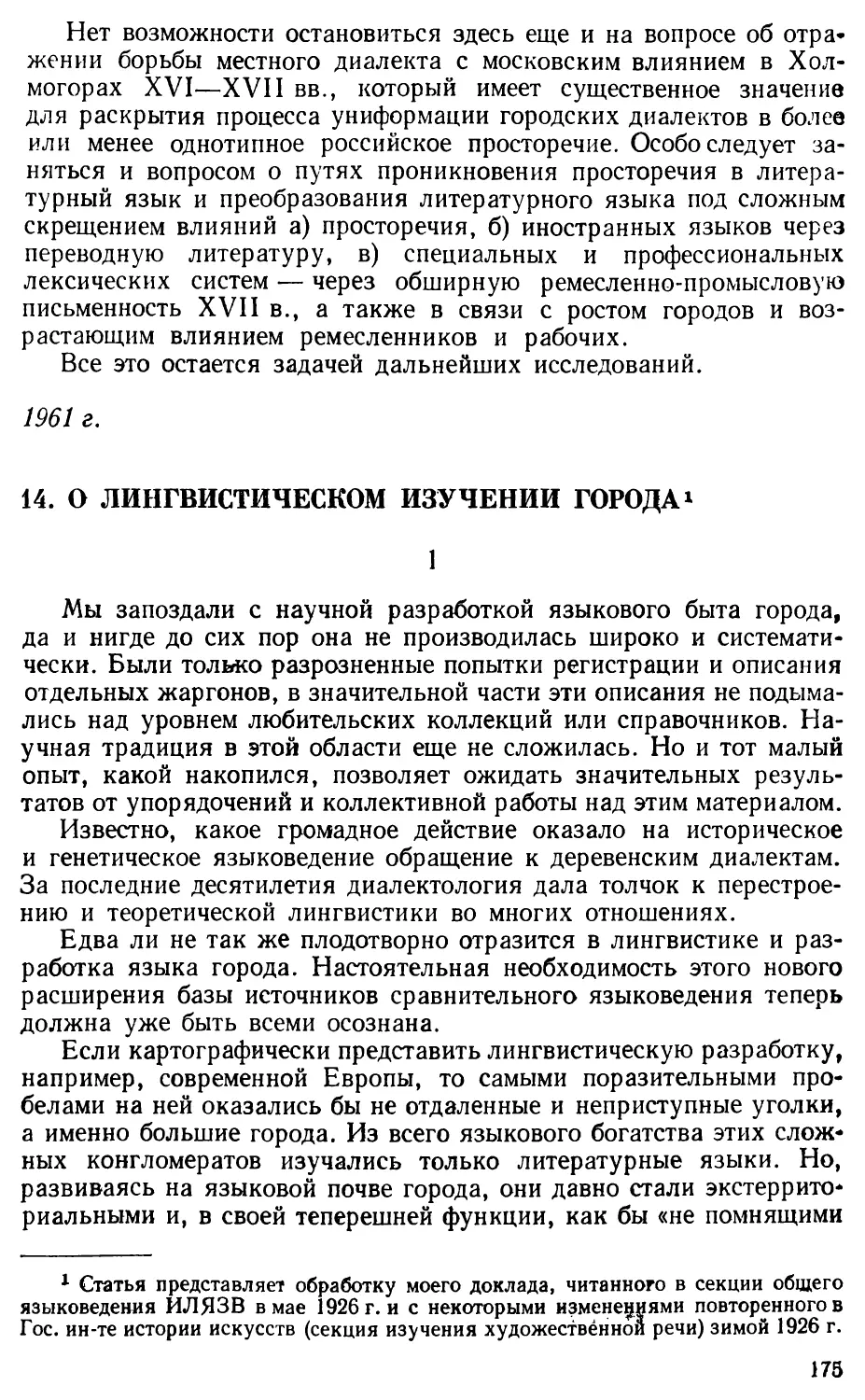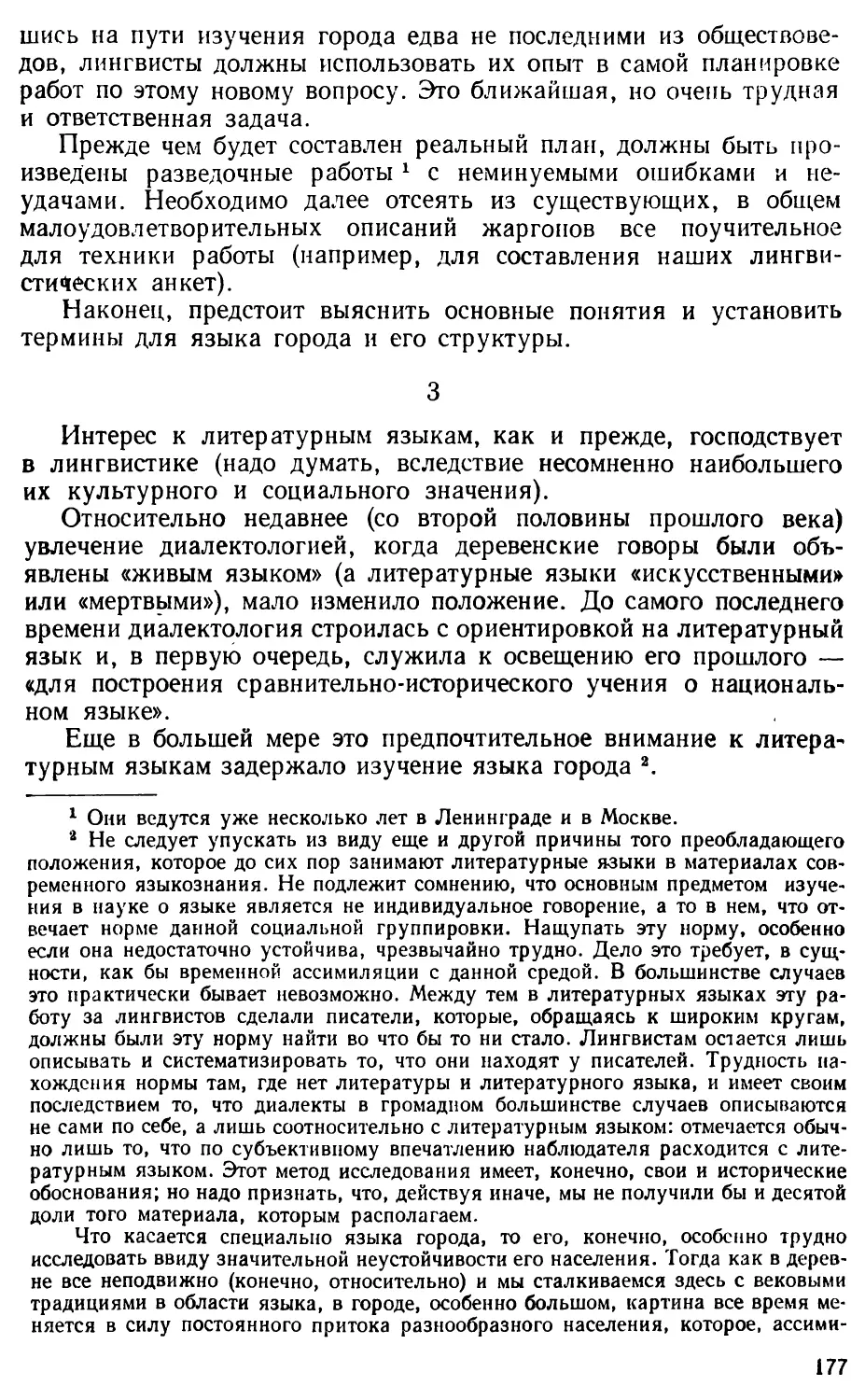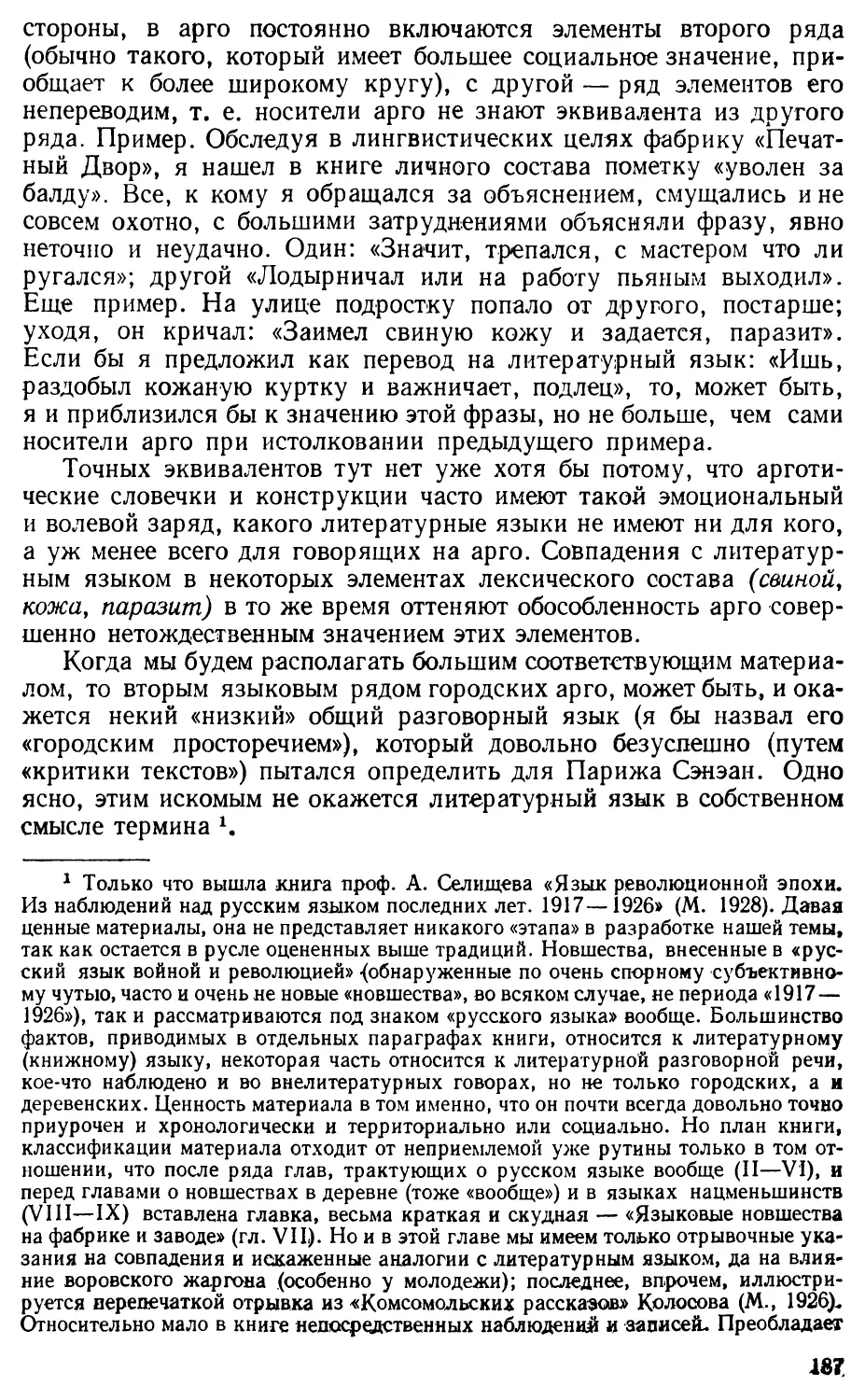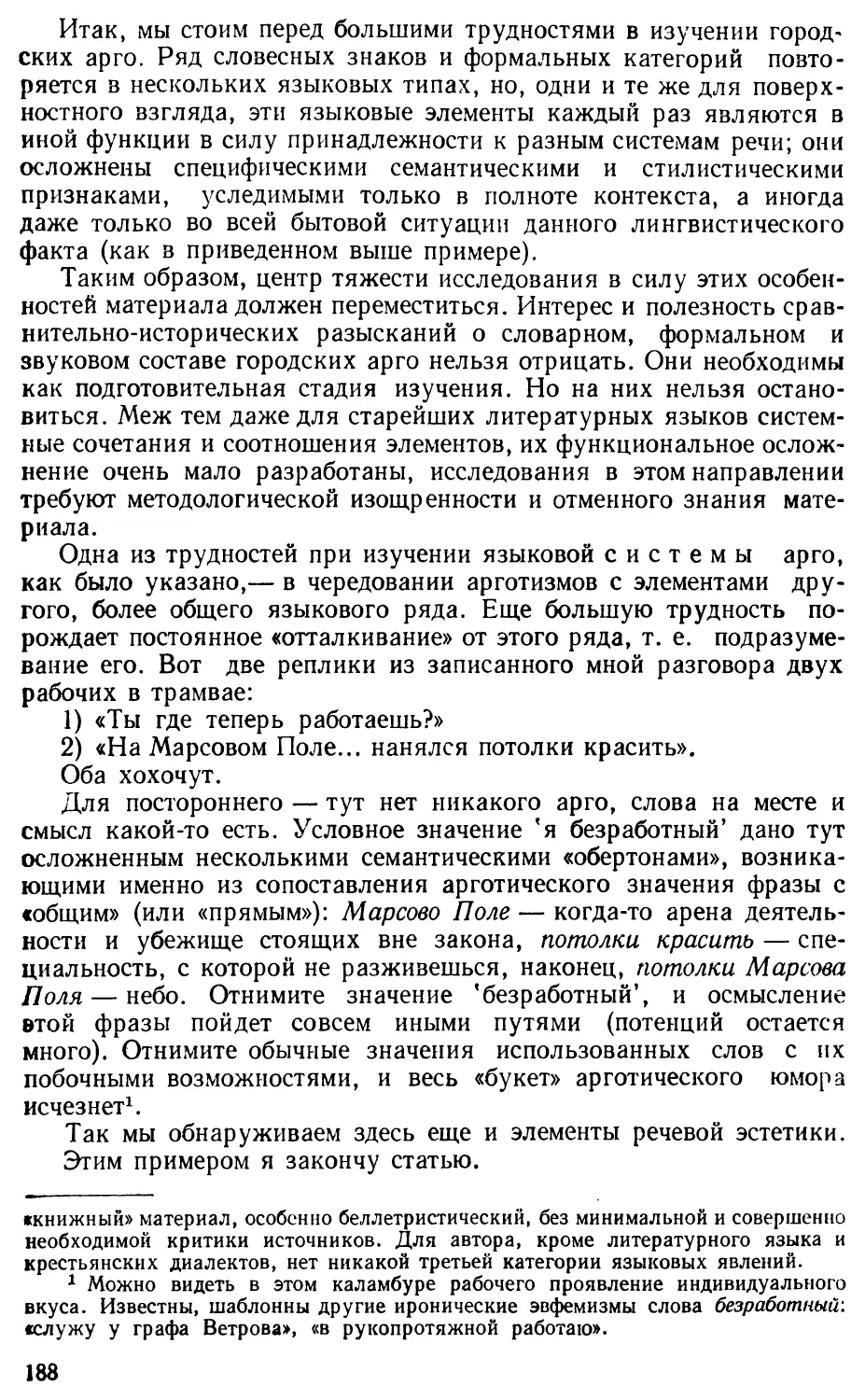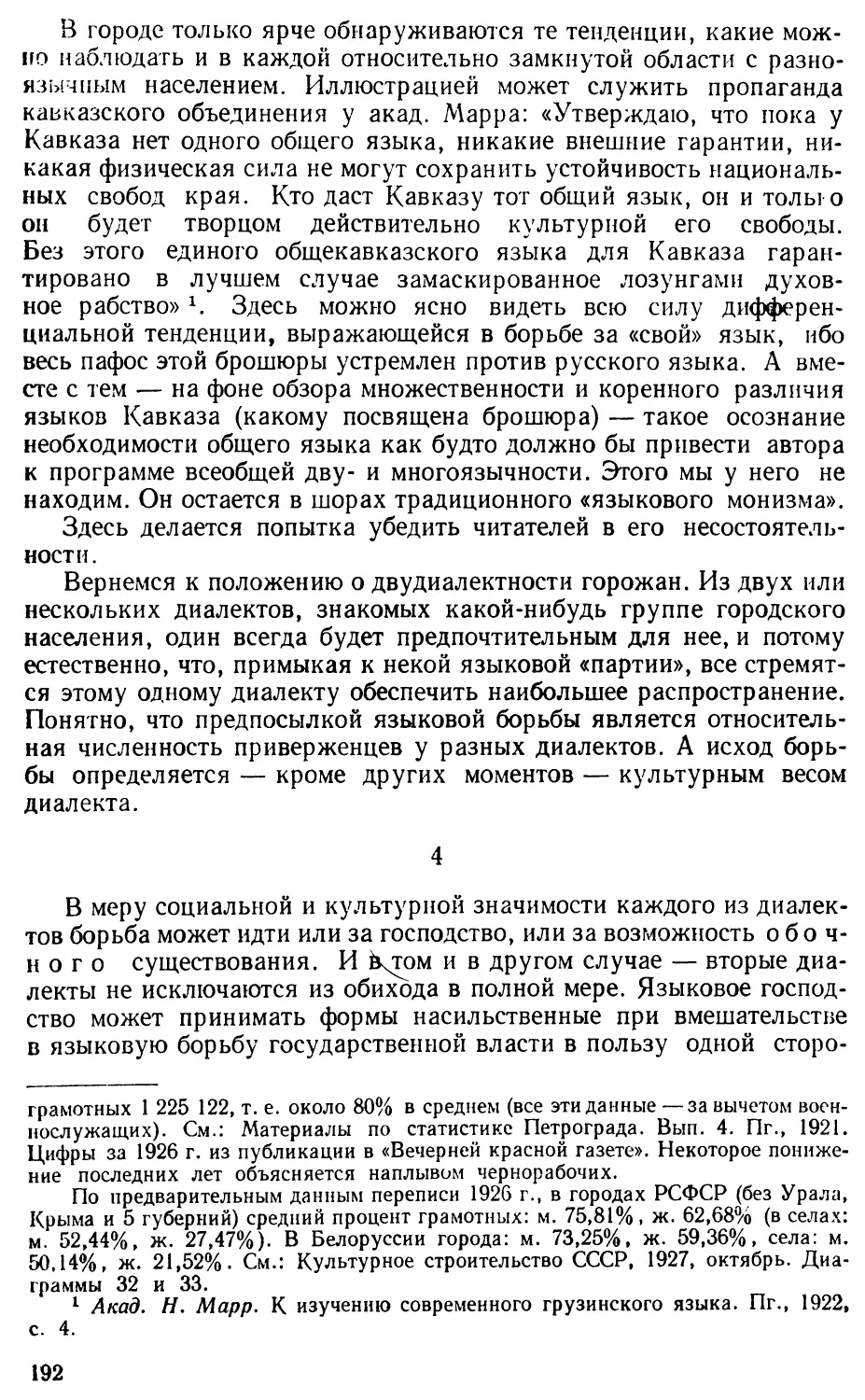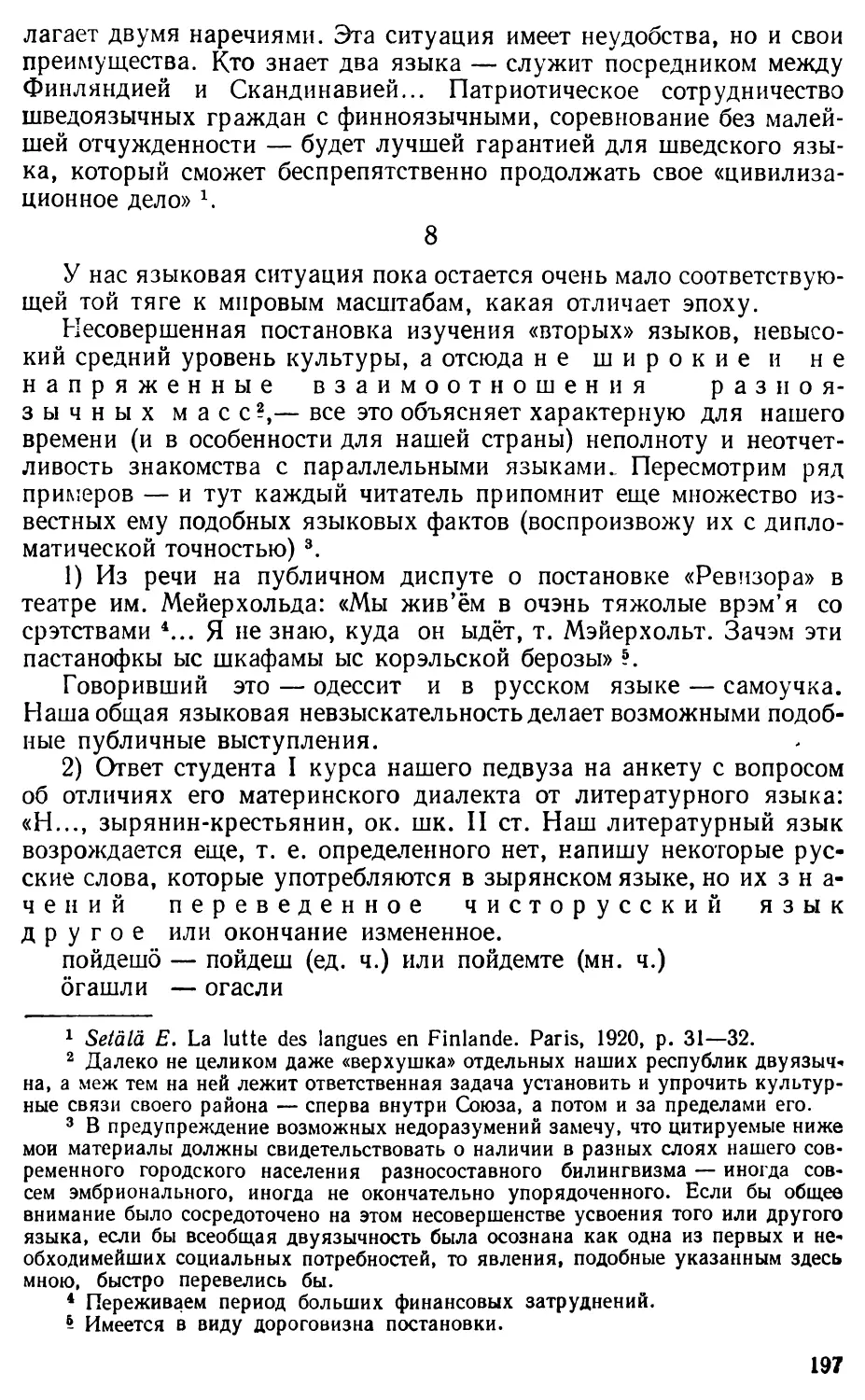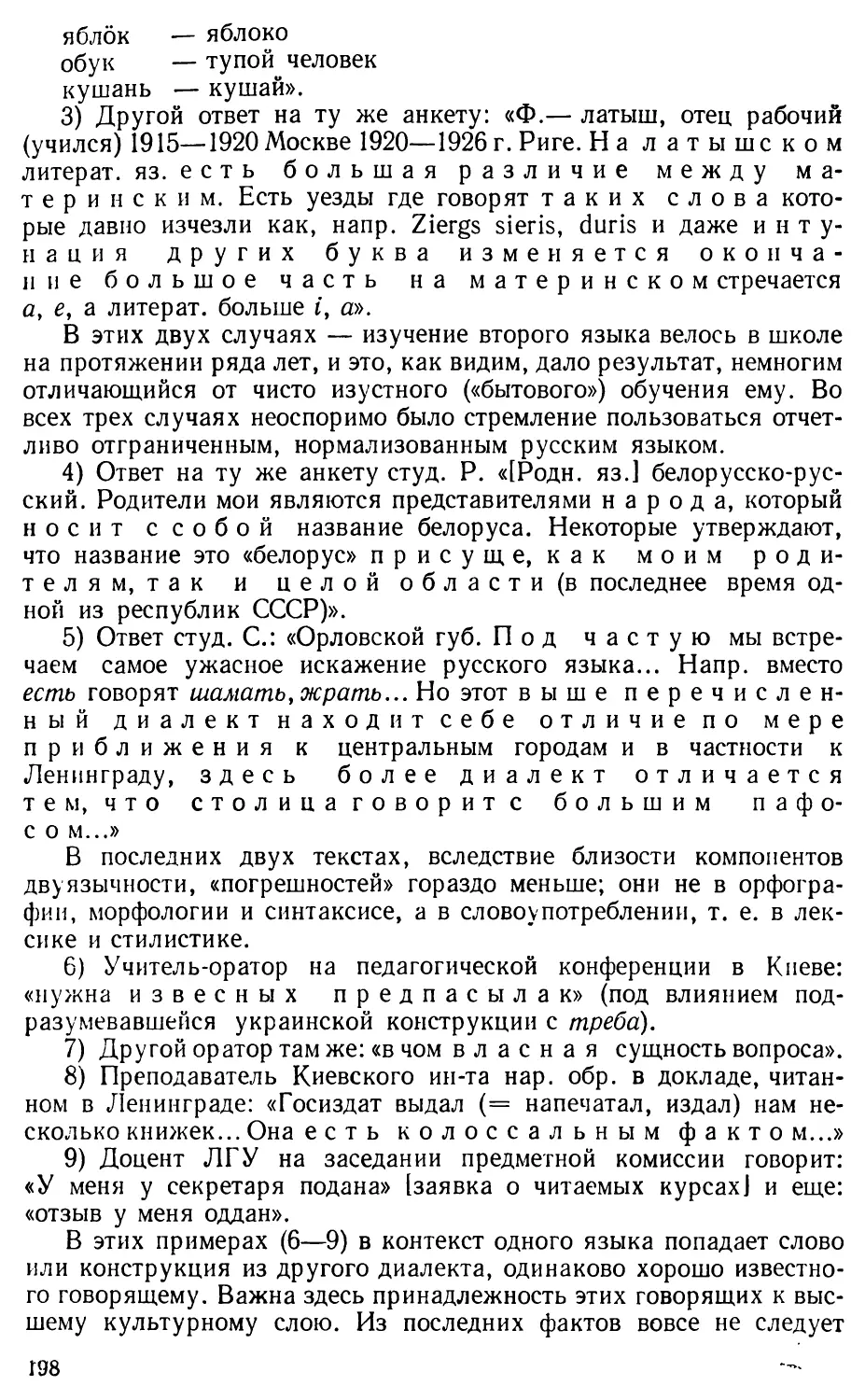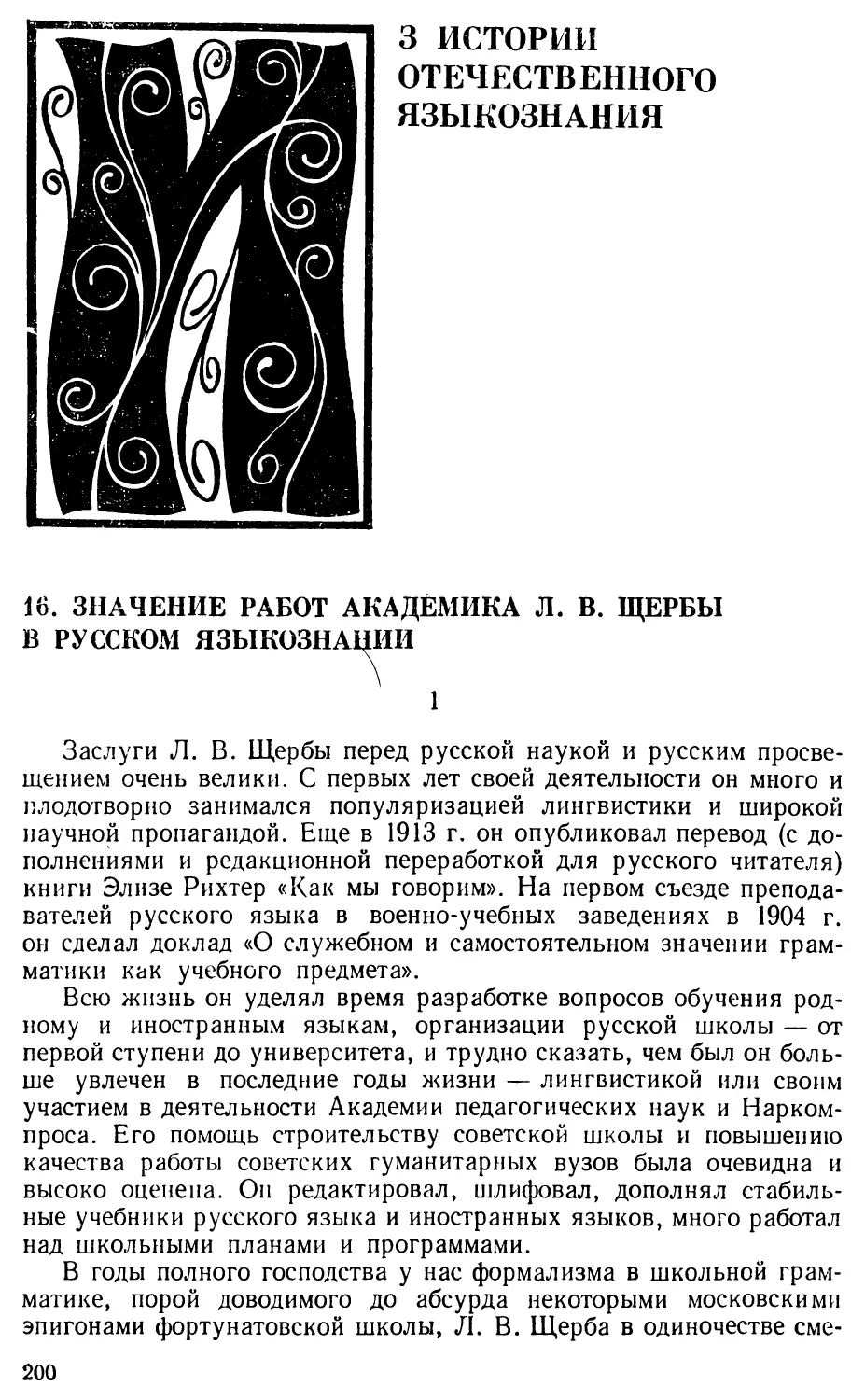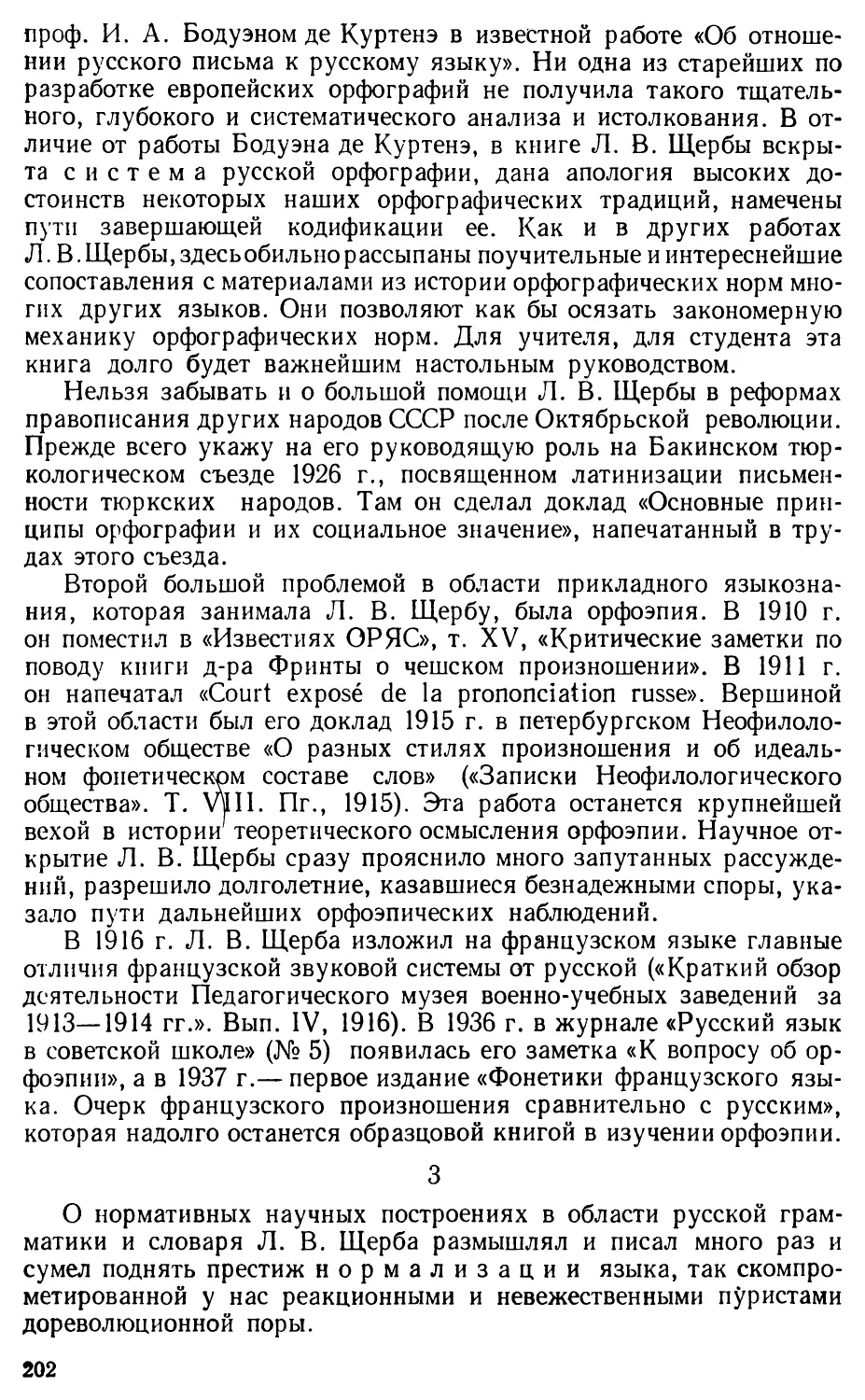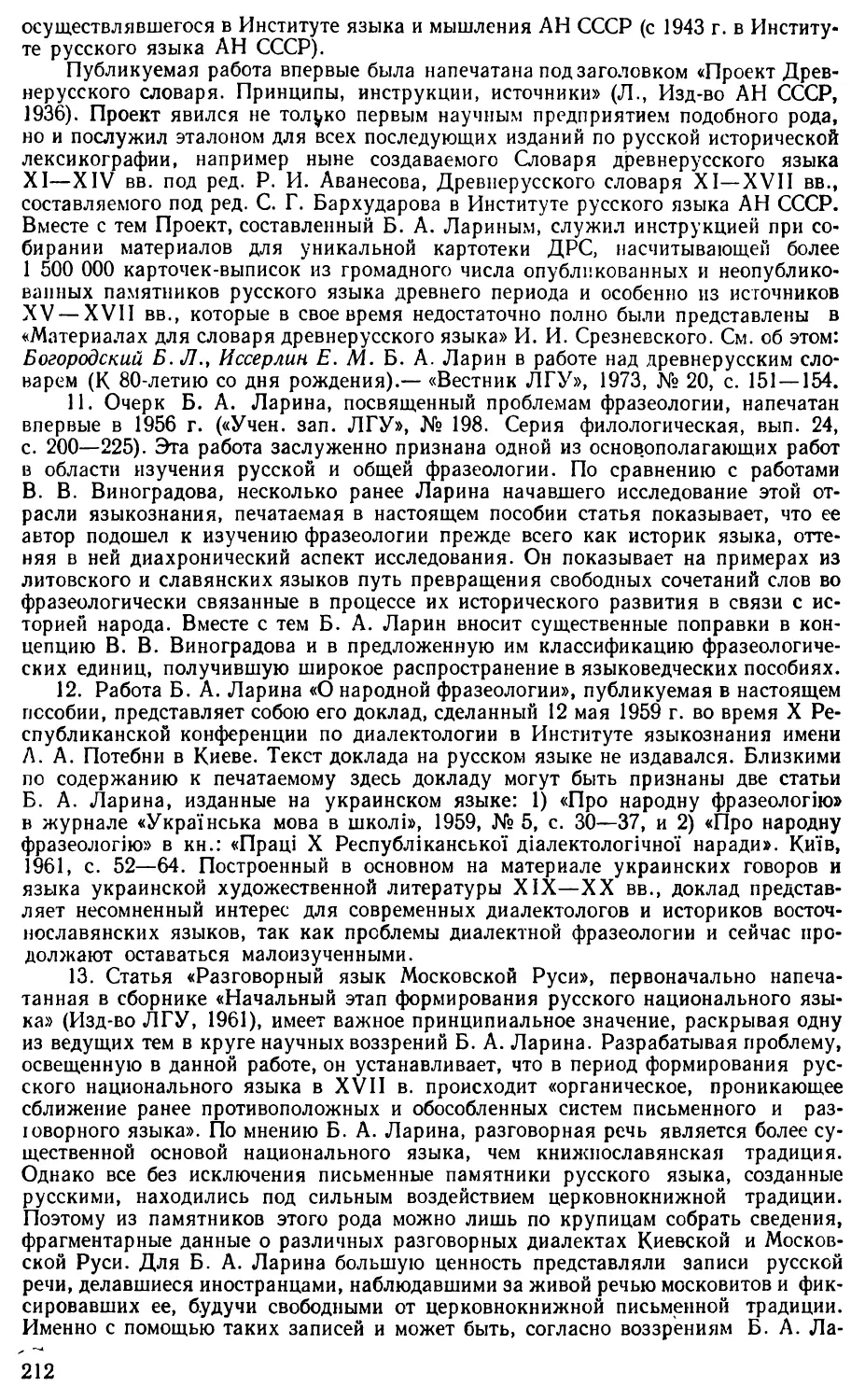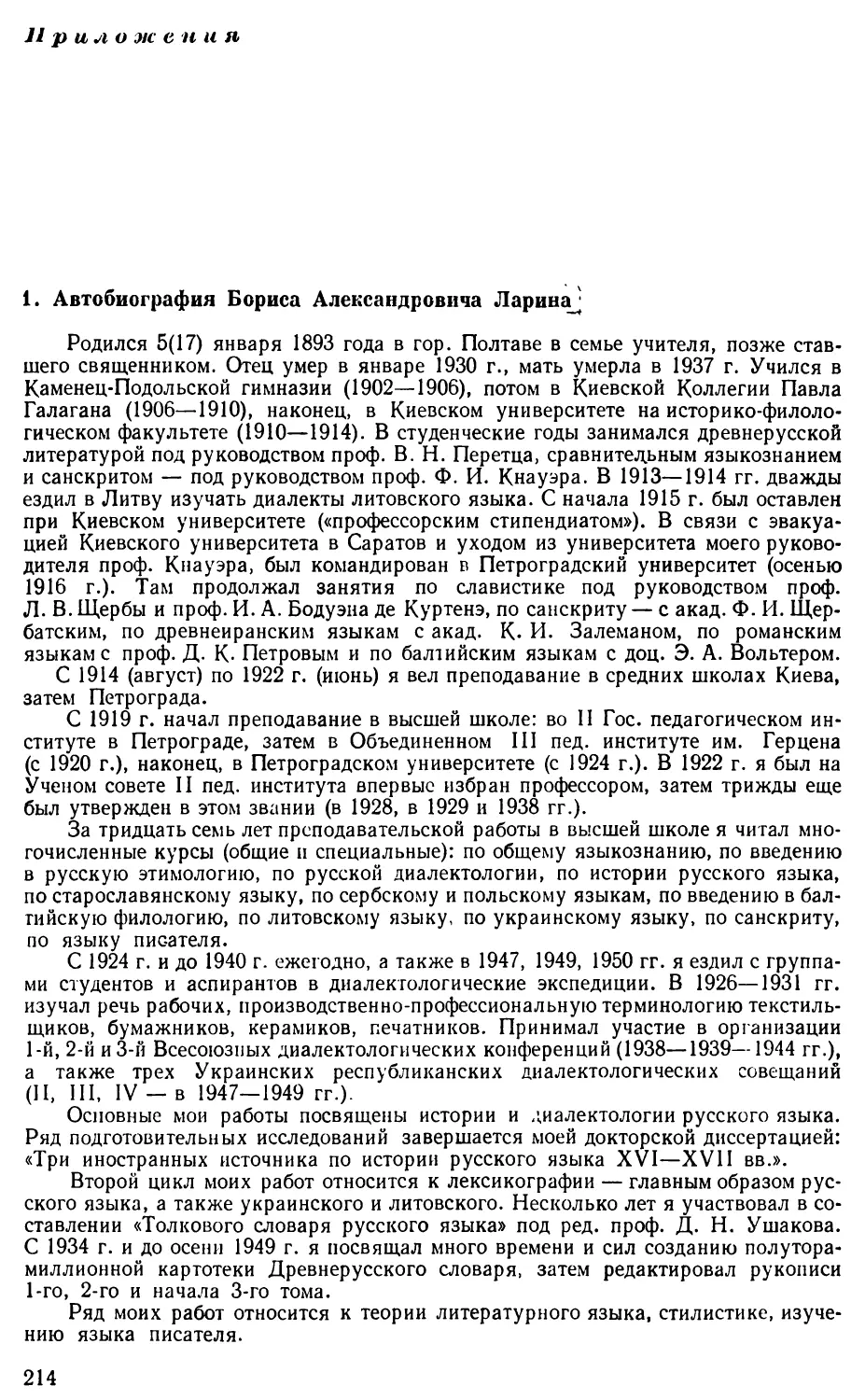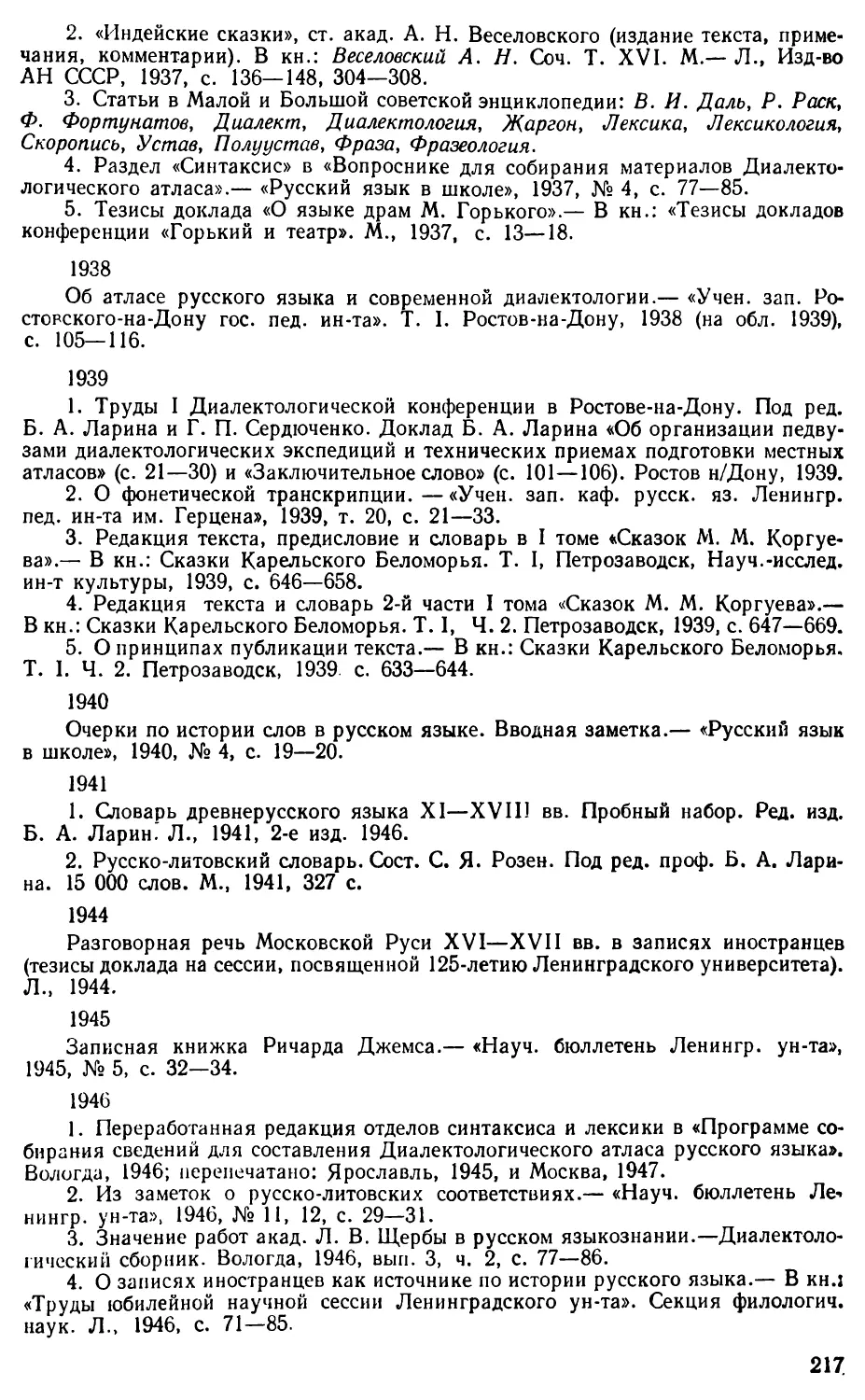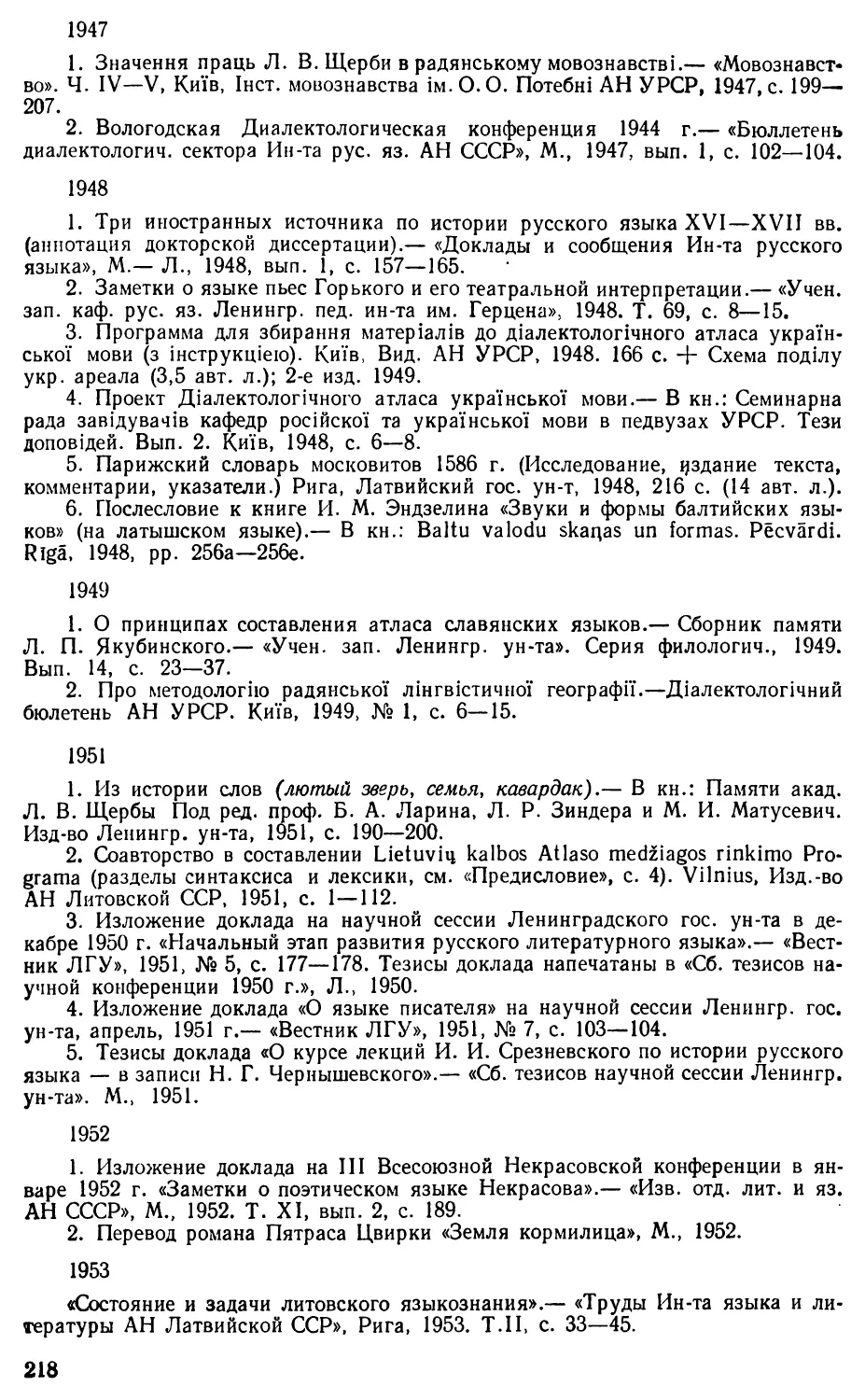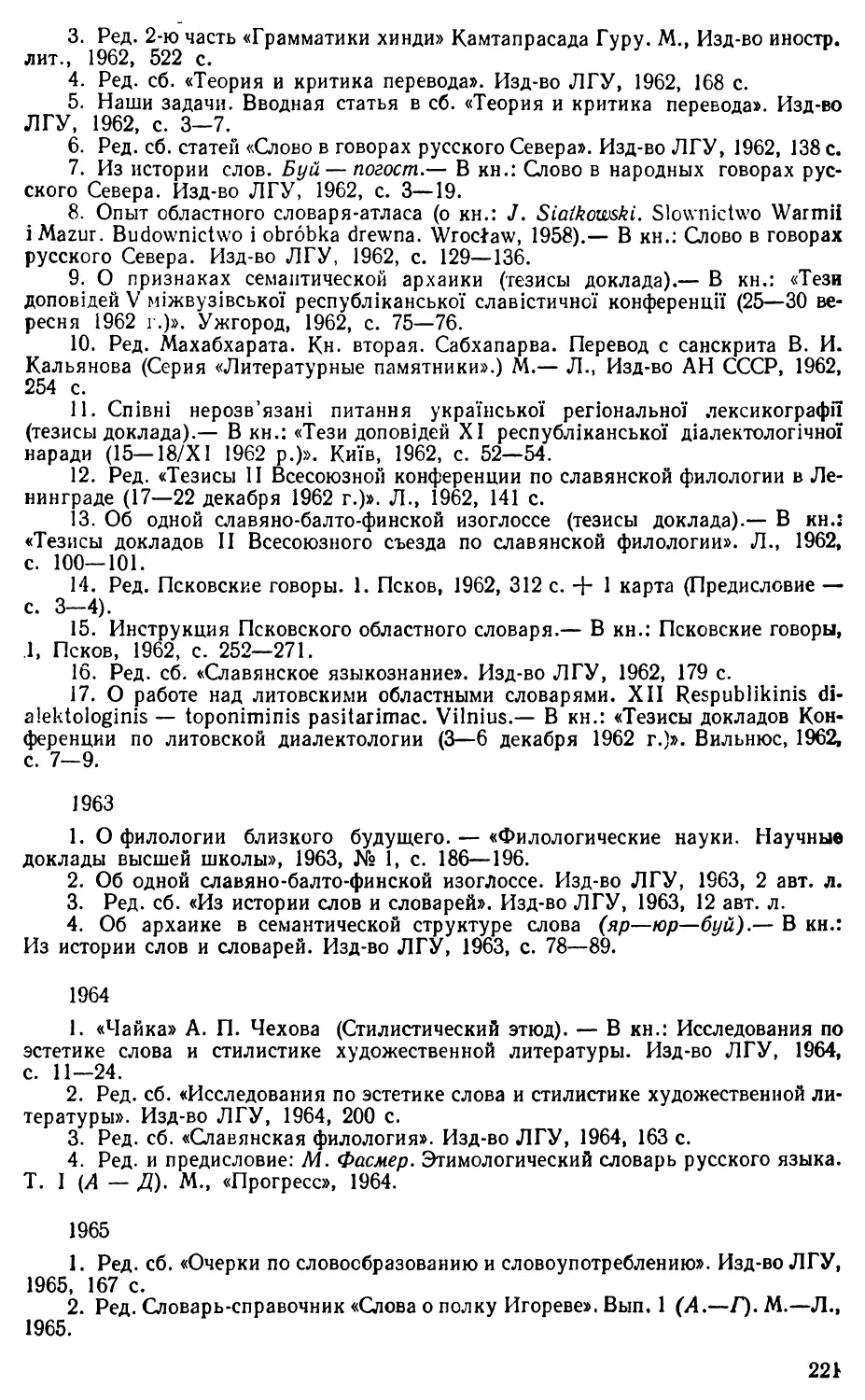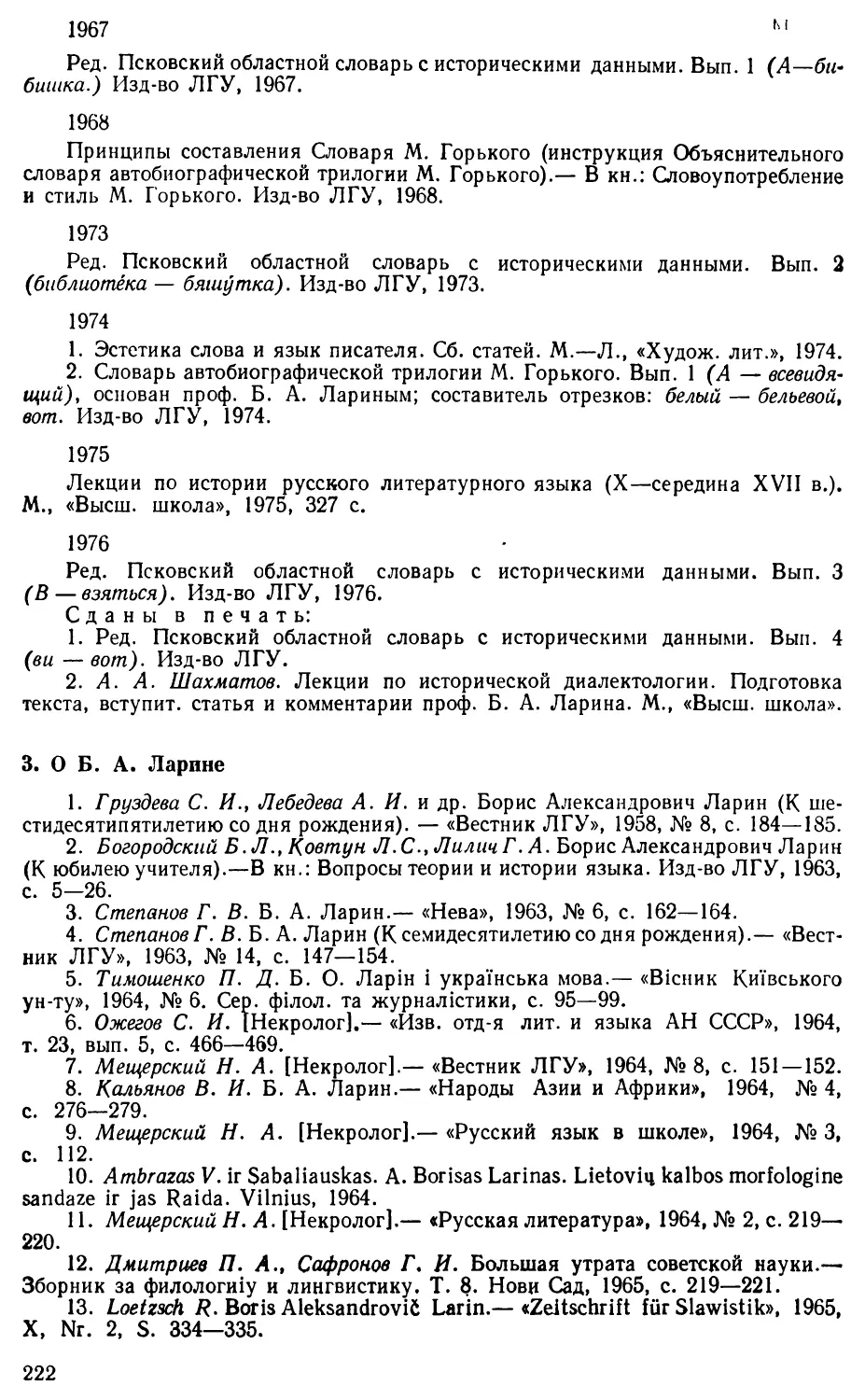Text
Б. А. ЛАРИН
СТОРИЯ
ЯЗЫКА
И ОБЩЕЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
(ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ)
Допущено
Министерством просвещения СССР
в качестве учебного пособия для студентов
факультетов русского языка и литературы
педагогических институтов
МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1977
4P
Л 25
Статьи для сборника отобраны и подготовлены к печати
группой учеников и соратников проф. Б. А. Ларина.
СОСТАВИТЕЛИ: проф. Б. Л. БОГОРОДСКИЙ,
проф. Н. А. МЕЩЕРСКИЙ.
Ларин Б. А.
Л25 История русского языка и общее языкознание.
(Избранные работы.) Учебное пособие для студентов пед. ин-тов.
Сост. проф. Б. Л. Богородский, проф. Н. А. Мещерский.
М., «Просвещение», 1977.
224 с; 1л. портр.
В книге собраны наиболее важные работы выдающегося советского лингвиста
Б. А. Ларина, не утратившие своей актуальности до наших дней и отражающие
основные направления исследований ученого в области историческое грамматики,
исторической лексикологии и „фразеологии, исторической диалектологии русского
языка, а также сравнительно-исторического языкознания. ■'
Студенты, изучающие курсы исторической грамматики русского языка, общего
языкознания, диалектологии, получат возможность в первоисточнике познакомиться
с идеями, введенными в науку Б. А. Лариным.
60602-546
Л 103(03)-77 13"76 4Р
© Издательство «Просвещение», 1977 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Нет возможности в одном сборнике сколько-нибудь полно
охарактеризовать разностороннюю научную деятельность
Б.А.Ларина. Но он был прежде всего историком языка. И эта отрасль его
исследований должна быть всего шире представлена в
подготовленной к изданию книге.
Считая, что лексика является одним из самых важных
источников изучения истории языка и истории народа, Б. А. Ларин
впервые в русской науке начал разработку истории слов. Эта проблема
до сих пор актуальна и в русской и в зарубежной лингвистике.
Именно поэтому сборник трудов ученого включает в себя ряд статей
по истории слов: лютый зверь, семья, кавардак, стыд—срам, янтарь
и др. Напечатанные в разное время и в малодоступных изданиях,
эти работы стали в наше время библиографической редкостью.
В своих статьях Б. А. Ларин говорит о закономерностях в области
развития семантики — самой важной области языкознания.
Открывают сборник лекции Б. А. Ларина «Историческая
лексикология», представляющие собой вступление к студенческому
спецсеминару. Они не были подготовлены автором к печати, не во всех
разделах являются законченными, но содержат обширные,
интересные и тонкие наблюдения над сложными и многообразными путями
развития смысловой структуры слов.
Новая отрасль лингвистической науки, открытая тоже трудами
Б. А. Ларина,— историческая фразеология — представлена
двумя его исследованиями: «Очерки по фразеологии» и «О народной
фразеологии». Последняя статья печатается по рукописи Б. А.
Ларина, сохранившейся в его архиве. Вопросами конкретной разработки
истории устойчивых словосочетаний у нас занимаются недостаточно.
Появление указанных статей в печати своевременно.
Известно, что Б. А. Ларин был инициатором изучения языка
города. Еще в 1928 г. им были напечатаны две статьи: «О
лингвистическом изучении языка города» и «К лингвистической
характеристике города». С тех пор статьи не переиздавались, но их научное
значение не только не уменьшилось, но и увеличилось. Эти работы
призывают современных диалектологов к наблюдениям над речью
горожан.
Исключительно важны труды Б. А. Ларина в области
исторической лексикографии, и в частности его «Проект Древнерусского
словаря». Из этой книги взяты лишь те разделы, где речь идет о новых
з
принципах создания исторического словаря русского языка. Из-за
ограниченного объема сборника, к сожален-ию, пришлось
отказаться от переиздания таких работ, как «Русская грамматика Лу-
дольфа 1696 г.», «Парижский словарь московитов 1586 г.», «Русско-
английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618 —1619 гг.)».
Но не терпит отлагательства повторная публикация статьи
Б. А. Ларина «Разговорный язык Московской Руси». Ее значение
в наше время, пожалуй, больше, чем при первом ее издании в 1961 г.
Роль разговорной речи в создании национального русского языка
весьма существенна. Без указанной статьи нельзя, в сущности,
заниматься разработкой одного из центральных вопросов историй
русского языка.
Нельзя было не включить в сборник статью «Значение работ
Л. В. Щербы в русском языкознании». В ней не только дается ана*
лиз научной и практической деятельности академика Л. В. Щербы,
но и рисуется облик выдающегося лингвиста, во многом близкий
самому Б. А. Ларину.
Написанные живым, ярким языком, оригинальные по своему
содержанию, рассматривающие историю языка в тесной связи с
развитием духовной и материальной культуры народа,
филологические статьи Б. А. Ларина вызовут интерес у студентов и
преподавателей, при этом не только языковедов, но и историков,
этнографов, археологов, у всех, кто хочет знать прошлое русского языка и
его будущее.
Приносим глубокую благодарность нашим рецензентам—доктору
филологических наук, профессору Саратовского государственного
университета М. Б. Борисовой и преподавателям кафедры русского
языка Ивановского государственного университета.
Проф. Б. Л. Богородский.
БОРИСЕ
АЛЕКСАНДРОВИЧЕ
ЛАРИНЕ
Если нужно было бы указать
наиболее характерною особенность Б, А*^Ларина как ученого-эру-
дита, то следовало бы сказать, что он был самым обр^зоваиньш-Л!!^.
гвйстом нашего времени. Так считали и лингвисты старшего
поколения, рг его" ученики.
Образованность — это не_Щ)осто_..рблли£..зданий*, а знания в
определенной культурно-исторической системе. Эта система
различна в различные эпохи. Об^азд^ан н,ость^_,__А^_Л ар и н а бы л а
образованностью._фидолога конца XJX — начала XX в., когда она
приобрела известную внутреннюю цельность и стояла в России
очень высоко.
Но если необходимо было бы указать наиболее характерную
черту Б. А. Ларина как ученого человека, то я бьПГаз"ваЛ"его"общест-
венный темперамент—темперамент, сказывавшийся во всей его
деятельности, особенно педагогической, и постоянно заставлявший
его обращаться от классических тем филологии к заботам
сегодняшнего дня науки, к темам новым, связанным с современной ему
действительностью.
В сочетании этих двух черт ученого и человека своеобразие
Б. А. Ларина, самим существом своим как бы призванного к тому,
чтобы приобщить темы изучения современной жизни языка к
лучшим традициям русской филологии ее классического периода.
В юности Б. А. Ларин занимался древнерусской литературой
в знаменитом киевском семинарии В. Н. Перетца, затем санскритом
под руководством профессора Ф. И. Кнауэра, академиков Ф. И. Щер-
бацкого и С. Ф.'Ольденбурга, славистикой у И. А. Бодуэна де К.ур-
тенэ и Л. В. Щербы, иранскими языками у академика К. И. За-
5
лемана, романскими — у профессора Д. К. Петрова, балтийскими,—
у Э. А. Вольтера.
.Bj_A^JIapHH ^н_ал все славянские языки,, литовский и
латышский^ jpiHQBHbie западноЁвроШЗГские и .классияеские^ .сдас1фШ^-В-
_их_числе^
Ни одна, из тем его юношеских занятий и ничто из _его__разно-
сторонних знаний не осталось за бортом его последующих
исследований, но, кроме того, он расширил эти темы, нанимаясь совремеЩ^ыми"
диалектами -^-сельскими и городскими, работами по лексикология
и лексикографии, по языку и стилю Некрасова, Чехова, Горького,
Шолохова.
Широту своих знаний Б. А. Ларин использовал как для решения
очень общих проблем, так и для исследования. отдел^Ш11Х^в^нии^
в частности для выяснения истории отдельных словца также в своей
обширной лексикографической работе, особенно им_ дробимой.
И всюду сказывался · его великолепный темперамент
исследователя в сочетании со строгой сдержанностью отточенного научного
метода.
В научной работе он ценил прежде всего людей, как объект
изучениями поэтому особенно интересовался живой разговорной речью,
а в разговорной речи — речью городской, «городскими диалектами».
Он ввел в науку изучение «городских диалектов», дал этой отрасли
языкознания направление и метод.
«Если бы картографически представить лингвистическую
разработку, например, современной Европы,—писал Б. А.Ларин,—
то самыми поразительными пробелами на ней оказались бы не
отдаленные и неприступные уголки, а именно большие города» *.
Сочетание интереса к исследованию современного состояния
языков с обращением к их далекому прошлому было возможно в работах
Б. А. Ларина благодаря глубокому историческому подходу. jOh
стремился довести изучение разговорной речи до возможно более
ран^нйЗГ^ронолоптческюГ^х и проследить древние явления i
современности. На этом основывался и его специфический интерес к
составленным иностранцами в XVI и XVII вв. русским
«разговорникам».
Всякий национальный письменный документ (даже
берестяная грамота) в той или иной степени отражает традиции данной
национальной письменности. Не отражают эти традиции только
записи иностранцев, выполненные средствами их собственной
письменности. Этим был обусловлен огромный интерес Б. А. Ларина к
записям разговорной речи, сделанным в XVI—XVII вв.
иностранцами. Вниманием к разговорному языку XVI—XVII вв.отмечены
монографические издания-исследования Б. А. Ларина: «Русская
грамматика Лудольфа 1696 г.» (1937), «Парижский словарь московитов
1 Ларин Б. А. О лингвистическом изучении города.— В кн.: Русская речь.
Вып. III. Л., 1928, с. 61.
6
1586 г.» (1948) и «Русско-английский словарь-дневник Ричарда
Джемса (1618 —1619 гг.)» (1959).
"Б. А..Ларин считал знание современного языка необходимым
для изучения его истории, jg&OI историю языка для познания со-
вре^шшх£го-фц>м. Он писал: «Если бы в наших руках были только
письменные источники, только то немногое, что сохранилось от
первых веков развития нашей письменности, то можно сказать с
уверенностью, что мы никогда не имели бы надежды полного
понимания наших старых текстов» х.
Б. А. Ларин не искал легких путей в науке и изучал язык в его
няибо.^е>ложных^я п^отому и_^я^брлее интересных формах "Так/
он "считал^ необходимым исследовать диалект в_его, полжм^состаЪе.^а
не ограничиваться только специфическими для данного Диалекта
я!*лениями71|^^ «Псковского
областного-словаря»-^ В инструкции к его составлению "БГАТТГарин
писал: «Псковский областной словарь ... составляется как словарь
полного типа. Поэтому он содержит не только исключительные
слова и выражения псковских говоров, а по возможности весь их
активный словарный запас» 2.
Характерная черта Б. А. Ларина как ученого — стремление
разрывать замкнутые круги изучения, подчеркивать связи истории
с современностью, а современности с историей, не замыкаться в
области одного национального языка, одного диалекта, одной
социальной группы. Он всюду идет по наиболее трудному пути,
изучая любой вопрос в его соотношениях с другими вопросами,
комплексно и исторически. Это характерно для его исследований живой
речи: диалектов сельских и городских, разговорного языка
современного и средневекового.
Jki^jmjpp^ изучения живой^ диалектной_
речи, он одновременно^ в оттяи? от больший^
требовал исследовать ее в связи с литературным языком и изучать
смешанные формы речи в песнях, сказках, пословидахг загэдкахГ
Он ведет наблюдения над речью различных поколении
крестьян, а не только стариков, как это было принято до него. Он
изучает влияние городских диалектов на говор крестьян, не "Стремясь-
выделить в языке крестьян какую-то идеально... «чистую» группу
характерных для этого диалекта явлений.
Б. А. Ларин писал: «Представляется методологическим
промахом изучать диалекты обособленно, устранять из исследования
тот материал, в котором больше проявилось диалектическое
взаимодействие (влияние соседних говоров, отражение книжного и
«городского» языка, иноязычные заимствования)» 3.
1 Ларин Б. А. Об атласе русского языка и современной диалектологии.—
«Учен. зап. Ростовского-на-Дону гос. пед. ин-та». Т. 1, 1938, с. 111.
2 Ларин Б. А. Инструкция Псковского областного словаря. Изд-во ЛГУ,
1961, с. 3
3 Ларин Б. А. Материалы по литовской диалектологии.— «Язык и
литература». Т. 1. Вып. 1—2. Л., 1926, с. 97.
7
Та же черта отличает и его исследования по истории отдельных
слов. Он изучает историю ^ родстве}!:
ных языков (исследования слов семья, кавардак янгпарь и„др*);
^эти~факты_живут* Язык не был для исследователя мертвой системой,
а напротив,— одним из явлений сложной и взаимосвязанной в своих
многообразных фактах жизни. Язык не был для него оторван от
жизни, от быта, от этнографии. Б. А. Ларин отмечал как заслугу
А. А. Шахматова привлечение наряду с данными диалектологии
фактов из истории народа, в частности данных этнографии 1.
Стремление связывать изучение языка с изучением условий его
жизниг'с выяснением "тех конкретных явлений, о которых язык
так или иначе свидетельствовал, сказалось и в руководимой
Б. А. Лариным словарной работе. Стремление этр^ыло положено в
шщухосхаелод
К составлению "картотеки этого словаря Б. À. Лариным
был'привлечен ряд выдающихся специалистов по древнерусским памятникам,
хорошо осведомленных в истории текста этих памятников, и
специалистов по культуре Древней Руси --искусствоведов, богословов,
археологов .я .историков. ~
Принцип Б. А. Ларина в расписывании древнерусских..ламят-.
.ишовТшб словаря,ышюшШ~~в 1Ш, "чтобы сперва изучить
Л1Сто£1Ш^гекстал1Шятника..и памятников и только затем его
расписывать^ для картотеки. Чтобы не засорять ее ненужными
карточками, Б. Â. Ларин считал необходимым расписывать только
древнейший текст, для чего надо было установить редакции текста и их
взаимоотношения. Дата памятника, а не простая дата списка, была
для него основной. В этом отношении принцип расписывания
памятника на карточки совпадал у Б. А. Ларина с основами
современной текстологии: сперва изучить историю текста и только после этого
его издавать и им пользоваться. Это было особенно важно также и
потому, что древнерусские памятники часто повторяют друг друга,
и необходимо поэтому предварительно решить вопрос о том, что
расписывается в памятнике, в отношении всего памятника в целом,
а не в последующей работе в отношении каждого слова в
отдельности, полагаясь на опыт и знания отдельных составителей и
редакторов словарных статей. Так, например, специалисты по истории
летописания В. Л. Комарович, М. Д. Приселков и Б. А. Романов,
составляя карточки-выписки из Лаврентьевской и Ипатьевской
летописей, расписывали общие для обеих летописей тексты только по
Лаврентьевской летописи, как представляющей древнейший вариант
текста, а Ипатьевскую летопись — только в ее «свободной» части.
Знание_жтщш1^екста (а де простой учет древности списка)
было для Б. А. Ларина важнейшим требованием к составлению кар-
1 Ларин Б. А. Историческая диалектология русского языка в курсе лекций
акад. А. А. Шахматова и наши современные задачи.— «Учен. зап. ЛГУ», № 267.
Вып. 52. Л., 1960.
8
точе!£_гг_вь1писок из ^мятников. Он считал, что ошибки в слова
рях начинаются уже на первых этапах работы — при выписке ци
тат. В этом подходе к словарной работе сказывалось глубокое
лингвистическое мышление, умение изучать язык в его KOHKpeTHoi
обстановке.
Эта черта Б. А. Ларина как исследователя-реалиста была
органически связана с другой его чертой: в своих обобщениях он
исходил из изучения частностей и никогда не подменял выводы,
сделанные индуктивным путем, скороспелой дедукцией. Он не
подгонял факты под обобщения и решительно изгонял из науки
концепции, какими бы эффектными они ни казались, если они не
опирались на все известные ему материалы. От фактов — к обобщениям
этих фактов, а не от обобщений к истолкованию фактов — таков
был строгий принцип ученого.
Б. А. Ларин не был ни догматиком, ни традиционалистом. Егс
острый критический анализ направлялся на то, чтобы приводить
в движение научную пытливость, а не останавливать ее
самоуверенными и исключающими дальнейшие разыскания ответами.
Вот почему он не создал развитой системы своих взглядов, но
дал нечто гораздо более важное для развития науки: он дал
направление изучению языка. Система редко переживает своего
создателя, направление же позволяет творчески развивать мысли
учителя. Первая завершает какую-то работу, проделанную учителем,
второе же открывает путь для самостоятельных исследований егс
учеников.
У Б. А. Ларина не было единого законченного и «жесткого»
научного построения, но были законченные представления о том,
что надо делать. Он следовал гибким и творческим идеям, но не
жестким концепциям. Все исследования Б. А. Ларина в той или
иной степени проникнуты заботой о будущем науки, говорят о
задачах изучения, дают примеры и образцы для аналогичной
разработки близких тем. В его исследованиях чувствуется громадный
ученый-педагог, воспитатель исследователей. Часто он не
разрешал поставленные задачи в окончательной форме, но всегда
способствовал их будущему решению. Он был в высокой степени социален
как ученый, был инициатором многих крупнейших лингвистических
коллективных исследований. Он стремился к развитию
филологической культуры повсюду, где только мог, и очень много _<^лал
для развития лингвистических исследований по национальным
языкам не только·ίγ^^πππτ3^αβγιϊο""η> Яйтве, Латвии, Эстонии, на
Украине. " " ""
Он стремился к коллективности науки, и его любимыми
жанрами научных исследований были жанры коллективных работ:
словарная работа, в частности как коллективная по преимуществу,
работа экспедиционная, организация конференций.
Б. А. Ларин любил работать совместно с учениками. Он
создавал творческие научные коллективы, руководил ими, участвовал
в них в качестве старшего сочлена. Коллективы его учеников или
9
учеников его учеников рассеяны по всей стране. Они имеются в
Ленинграде, Вильнюсе, Киеве, Риге, Саратове, Днепропетровске.
Ученый бессмертен в своих трудах и в трудах своих учеников.
В работах учеников воплощаются те из его идей, которые не могли
получить воплощения в его собственных трудах. Ученики дают
действенное продолжение его работам. Для Б. А. Ларина была радостью
каждая удача молодого ученого. Он любил оппонировать и
постоянно ездил для участия в защитах в другие города. Ему было
дорого «территориальное расширение» науки в той же мере, как было
дорого расширение тем научных исследований, рост тематики,
включение новых объектов и нового рода занятий в сферу филологии.
Работы Б. А. Ларина всегда читаются с интересом. Он всегда
работал с увлечением и только над тем, что его интересовало. Вот
почему все его работы так увлекательны. Интересность
заразительна!
В Б. А. Ларине жил глубоко скрытый и тщательно
сдерживаемый талант художника слова. Этот талант редко прорывался в
откровенных формах и только опытному глазу был заметен —
то в замечательном, изящном стиле его научной прозы, анализе
стиля «Чайки» Чехова х или «Судьбы человека» Шолохова 2, то
в собственных его переводах с древнерусского 8 или санскрита 4.
Его переводы по своему характеру были далеки от так называемых
«профессорских переводов», в которых удобочитаемость приносится
в жертву точности подстрочника. Его переводы были переводами
художника: художника слова и художника, глубоко
проникающего в суть изучаемых им эстетических явлений.
Акад. Д.С.Л и χ ач е в.
1 См.: Ларин Б. А. «Чайка» А. П. Чехова (Стилистический этюд). — В кн.:
Исследования по эстетике слова и стилистике художественной литературы.
Изд-во ЛГУ, 1964, с. И.
2 См.: Ларин Б. А. Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» (Опыт анализа
формы).— «Нева», 1959, № 9, с. 199—205.
3 См.: Русские повести XV—XVI веков. М.—Л., 1958.
4 См.: Из области ведийской поэзии [стихотворные переводы из вед со
вступительной статьей].— «Восток», 1924, № 4, с. 46—57.
ЕКСИКОЛОГИЯ,
ИСТОРИЯ СЛОВ
И ЛЕКСИКОГРАФИЯ
1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ (ВВОДНЫЕ ЛЕКЦИИ
К СПЕЦСЕМИНАРУ)
Лексикология — наука очень молодая; самый термин появился
всего 20—30 лет тому назад, причем и понимается он по-разному.
В советской лексикологии намечаются два направления. ?
Одно из них характерно уклоном в общетеоретическую
лексикологию — пытаются определить границы этой науки, ее предмет
и т. п. Примером такого подхода может служить книга О. С. Ахма-
новой *. Самой сильной частью книги приходится признать ее
оглавление — попытку систематизации вопросов, разработка же
их поверхностна. Это и естественно: нельзя создать теоретической
лексикологии без конкретных исследований, которых сейчас
слишком мало.
Второе направление — историческая лексикология. .Это
направление занимается пока еще только исканиями, нащупыванием
лучших методов и материалов. Основное здесь — история слов.
Этим занимались еще и в прошлом столетии, но сейчас задача
ставится в расширенном виде: изучаются группы слов, например, по
идеологическим связям (ср. работы О. Н. Трубачева 2) или по
стилистическим циклам, историко-культурным (терминология
различных областей общественной жизни).
1 См.: Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.
2 Трубачев О. И. История славянских терминов родства и некоторых
древнейших терминов общественного строя. М., 1959; Его же. Происхождение
названий домашних животных в славянских языках (Этимологические исследования).
М., 1960, и др.
II
Не стоит продолжать споры о том, что является наименьшей
смысловой единицей языка — слово, или морфема, или
словосочетание. Всегда в конце концов приходили к выводу, что основной
предмет лексикологии — слово, и отграничить его от морфемы или
словосочетания практически не представляет непреодолимых
трудностей, хотя трудно теоретически определить критерии этого
выделения.
Со звуковой сторонычслово выделяется прежде всего ударением,
с морфологической — грамматической целостностью, с
семантической — смысловой целостностью, знаменательностью./ Трудно
решить вопрос о служебных: словах, относятся ли они к морфологии
или лексикологии, но для исторической лексикологии этот вопрос
не важен, так как ее предмет — слова знаменательные, а не
служебные. Служебные же слова — скорее предмет исторической
морфологии; может быть, они являются промежуточной категорией
между морфемой и словом (так же как сложные слова — это
промежуточное состояние между словом и словосочетанием). Тогда
деление смысловых единиц выглядит следующим образом:
морфема — служебное слово — слово —сложное слово — словосочетание.
Границы слова в большинстве случаев тоже можнр легко
определить. Сложные слова, без сомнения, относятся к лексикологии.
А фразеологизмы? Здесь тоже не надо искусственно создавать
трудности: фразеологизмы с целостным значением, у которых спайка
компонентов безусловна, относятся к лексикологии. Здесь можно
выделить отдельную область""—-'фразеологию, "но часто ее
понимают слишком широко, а в лексикологию не могут войти все
фразеологизмы. Основа лексикологии — знаменательные единицы речи,
т. е. слова и идиомы.
Как известно, под влиянием структурализма даже его противники
стали признавать целесообразным противопоставление в ходе
исследования диахронического и синхронического методов.
Структуралисты успели уже перестроить, перевести на свой язык фонетику
и морфологию, отчасти и синтаксис. Такие же попытки делаются
и в области лексикологии. Эти попытки пока безуспешны. Это
разные пути работы над одним материалом, и, может быть,
сочетание этих разных подходов и принесет успех делу. Основная задача
структуральной лексикологии — раскрыть в точных формулах
системные связи внутри лексики на данном этапе. Для решения
такой задачи требуются большие усилия, которые едва ли будут
оправданы результатами.
Задачи исторической лексикологии очень сильно отличаются от
структуральной. Далекая .цель исторической лексикологии —
выяснение таких компонентов'"словарной системы языка, которые в
истории его развития эволюционируют единым фронтом, т. е.
обнаруживают прочные, устойчивые связи^ Таким образом, нужно
нащупывать не такие произвольнБтетругшь1 лексики, как, например,
названия родства и т. п.— группировки, которые исходят из
культу рно-обществеиных отношений и не имеют, как правило, единства
12
в своем развитии, прочных связей (это видно, например, из
работ О. Н. Трубачева). Нужно искать целостные группы со
стойкими внутренними связями. В старом классическом языкознании
обнаружили только одну такую группу — имена числительные.
Более рыхлая, хотя и тоже системная группа — местоимения.
Правда, эти группы были обнаружены в ходе грамматического
исследования. Что касается теории семантического поля, то после того
как проделали десятки исследований на основе этой теории,
установлена ее неплодотворность (эти поля устанавливаются
произвольно).
Когда такие устойчивые группы будут н^амечеЕЫ,_следующая
задача исторической^Лёксикологии — установить их
взаимодействие. Намеки на это мы уже имеем в старых монографиях.
Следующий этап исторической лексикологии — установление
циклов, чередование медленного, эволюционного развития' jTnegei
ломов в развитии словарного состава, резких, глубоких изменений,
протекающих в относительно ограниченное время.
В конечном итоге и будет построена довольно полная историт
словарного состава того или иного языка.
• Это большие и далекие задачи. Начинать же приходится с
истории отдельных слов. Но подбирать их для исследования нужно не
изолированно, не случайно и произвольно. Как же наметить эти
группы? Не оправдывает себя чисто смысловой подход, не вполне
оправдывает себя и историко-культурный подход. Поэтому мы долж-*
ны искать групповые, системные отношения, исходя из признаков
структуры слова, которая всегда соответствует и определенной
смысловой общности. Однако такие группы будут очень велики·"
поэтому надо внутри йих искать такие частные смысловые
соотношения, которые вытекают из самой семантики группы слов, а не
относятся к внеязыковым объединяющим признакам (как, например,
историко-культурные группы).
Важнейший вопрос исторической лексикологии — изменчивость
словарного состава. Каждый язык претерпевает довольно ощутимые
лексические утраты (изучение исторических памятников сразу же
это обнаруживает). Для лексиколога важно не констатировать
утрату слова, а проследить ход этих утрат, чтобы объяснить, чем
они вызваны;;. Для этого надо накапливать ряды утраченных
слов.
С другой стороны, лексика языка и обогащается от эпохи к эпохе,
здесь тоже нужно установить ряды для каждой эпохи. Нельзя
сказать, что здесь предстоят открытия,— многое уже сделано,
известно. Но несомненно, что будут большие уточнения. Например,
в общем известно, что слова часто теряются по причинам культурно-
историческим (с утратойГ" ве1ВД7"ТГ0Нятйяу.~ Так, в Лаврентьевской,
Ипатьевской "летописях ~не~ раз встречается слово корзно (раньше
оно считалось заимствованным из немецкого, а теперь выяснилось,
что, наоборот, это заимствование из славянских языков в
древневерхненемецкий и средневековую латынь). Значение этого слова в
13
летописи—'меховой плащ, дорогая накидка (князя)'.Сейчас в
русском языке этого слова нет, хотя еще в XIX в. оно записано в
русских диалектах (корзень, корзно — 'меховая накидка'). Оно известно
памятникам среднеболгарского языка; сохранилось оно в других
славянских языках (например, в чешском, в сербском). В чешском
krzno означает 'меховую накидку воинских людей в средние века', а в
сербском — \мех\ Почему это слово исчезло в русском языке?
Князей не стало, но меховые одежды не перестали носить!
По-видимому, незначительное отличие в покрое и форме одежды, которую
стали носить позже, привело к заимствованию названий для этой
одежды из других языков (например, из финского), а славянское
название забылось. В общем картина как будто ясна, но задача
исторической лексикологии — проследить этот процесс подробно, по
памятникам. Почему в летописях широко употребляется слово алану-
га, a теперь оно (в форме лачуга) встречается только с
уничижительным оттенком?
Утрата слова может происходить и без всяких внеязыковых
причин, вследствие «внутренних» (системных) причин. Гениальный
французский диалектолог Ж- Жильерон на основе своих
диалектологических карт и параллельного исследования исторического материала
установил,.что многие слова и во французском литературном языке,
и в диалектах .исчезают вследствие конкуренции более сильных
анонимов \. Когда фонетические изменения доводили какое-нибудь
слово до минимума, оно становилось неудобным для общения, и
«более весомый» синоним выбивал своего противника. Жильерон
пошел и дальше — он первый реконструировал, на основе
сравнения с другими романскими языками, утраченные слова, даже не
засвидетельствованные в памятниках.
Слова могут исчезать-и^в хилу ro.3h и кдвэщей омон ими_и ^ Ее л и
омонимия находится в сфере одного круга довольно близких понятий,
она представляет для языка большое неудобство. Омонимы держатся,
только если они относятся к разным сферам (ключ — 'от замка \
'нотный*, 'ручей', беда — 'несчастье', 'двухколесная повозка'),—
иначе они затрудняют общение; а близкозначные омонимы не
удерживаются — один из них обречен: шум (др.-рус. шюмъ) — 'мелкие
обломки', 'дребезг' (ср. 'вдребезги разбить1, 'дребезжать'),
'нестройные звуки'.
Можно считать внутренней причиной исчезновения слов утрату
ими морфологической прозрачностл в результате действия фонети-
чесТих^коновТТакому слову предпочитают слово с полноигфорТлой.
Ст.-слав, упъвати после падения редуцированных должно было бы
превратиться в увати. Такая форма не сохранилась, вместо нее —
уповати. В чешском наследница формы упъвати — ufati —
сохранилась только с приставкой — doufati. Но вот в польском форма
1 Идеи Жильерона воплотил его ученик в работе: Dauzai Albert. La géographie
linguistique. 3-ème éd. Paris, 1944, p. 90-105.—Ch. II: «Pathologie et
thérapeutique des mots».
14
ufaé сохранилась. Значит, не всегда морфологическая затемненность
является причиной утраты слов. Так что это — не всеобщий закон,
или для него нужны поправки. Какая-то часть таких слов все же
сохраняется. "
Если говорить об обогащении словарного состава, то на первом
плане были также внеязыковыё факторы — появление новых идей,
вещей и т. д. Широко известно, например, что громадный слой
церковной терминологии (не менее 500—600 терминов) входит в русский
язык в X в., с принятием христианства. Среди них масса
древнееврейских, греческих, сирийских, латинских слов (например, поп —
греч., дьякон — греч., алтарь — лат. и т. д.; суббота — из древне-
евр.— через греч. σάββατον).
Русский словарь сильно обогатился после Октябрьской
революции.
Таким образом, ^в обогащении словар^го состава внешние
историко-культурные факторы являются определяющими.; Но и здесь
дело обстоит не так просто. Например, 'b'XVTTI в. слово виктория
вытеснило победу — слово, известное еще по древним памятникам;
теперь же снова употребляется победа, а виктория почти забыта.
Чем это объяснить? Очевидно, что тут требуются большие,
длительные разыскания, причем первым вопросом должен стать такой:
как победа стала означать 'викторию',— ведь первоначально это
слово означало 'поражение* (ср. в русских плачах: «головушка моя
победная»).
Если говорить о каком-нибудь параллелизме в словарных
приобретениях и утратах, то нужно принять во внимание собственно
словообразовательные неологизмы, но здесь очевидная
непосредственная обусловленность между обоими явлениями имеет более
языковой, чем историко-культурный характер.
Утраты и обогащения определяют движение словарного состава,
но касаются они только периферии словаря.-Основной же фонд
сохраняет постоянство. Изучение развития основного фонда —вторая
тема исторической лексикологии. Основной фонд также
изменяется — ив звуковом, и в грамматическом, и в смысловом отношении,
но наблюдать эти изменения гораздо труднее./ Например, слово
добръ уже с «Остромирова евангелия» означает в русском языке
'прекрасный, хороший*,—,значит, как будто бы с XI в. и доныне
никаких смысловых сдвигов в слове не произошло. Но это не так.
Например, формула люди добрые (потом люди лучшие) означала
'феодалы, господа*. Уже в этом мы начинаем ощущать другое
значение слова добрый — 'стоящий надо мной*. Близко к этому
значение слова добро—'богатство*; значит, добрый раньше, означало
'богатый*. Корень этого слова -доб- (чередуется с -деб-, ср. дебелый —
'огромный, толстый*). Другое слово этого корня — доблестный
(доблии) —означает 'отважный в бою, хороший воин*. Это чисто
феодальный аспект развития значения корня -доб- (доблии и добрии—
параллельные образования). Ср. латыш, dabls — 'густой,
обильный'.
15
Основные вехи исторической эволюции можно наметить и в слове
челядь. В «Русской правде» (XI в.), по мнению некоторых историков,
слово челядь означает 'дружина, гвардия феодала*. Но там же (в
«Русской правде») есть и такие тексты, где челядь означает 'слуги*.
Русские говоры сохранили более древнее значение этого слова:
'семья', 'жена и дети', 'жена, дети и работники* (т. е. все, кто
садится за один домашний стол после работы). К сожалению, структура
этого слова неясна. Чел- соотносится с санскритским kularii — 'род,
племя' и 'отряд'. Сюда же ирланд. clan — 'племя, род'. Второй
же элемент этого слова -ьдь — неясен. Некоторые отважные и
беспечные исследователи безоговорочно относят его к собирательным
суффиксам (ср. гольдь), но прямых доказательств этого нет. Слово
прошло длинный путь: 'домочадцы (дети)' — 'дружина' —
'слуги' — и почти бранное 'холопы'.
Таковы задачи, с которых надо начинать историческую
лексикологию.
^ Любой вопрос истории языка может разрешаться только на
основе^^ЩШьтх старой*~ письменное случаев это
оказывается возможным. Таким образом, прежде всего нужно
собрать как можно более обширный материал. Конечно, никто не
может перечитывать сотни памятников ради одного слова. Надо
начинать со словарей, где есть указания на употребление этого слова
в памятниках. Но в словарях мы находим только сигнал, потом же
надо изучить тексты ряда памятников, где встречается
интересующее нас слово. Следует использовать словоуказатели, имеющиеся в
некоторых изданиях памятников (летописей, актов, писцовых книг
и т. д.). Но одними памятниками ограничиваться нельзя. Мдопие
ценные данные, о развитии слова дают диалекты, где нередко
сохраняются некоторые звенья значений, утрачШные в литературном
языке. Для ^сских^тгамятников надо учитывать, что до XVI—
—ХУЦ вв. они недостаточнО'отражали живую речь. Диалекты
являются иногда и единственным источником данных о каком-нибудь
слове.
Неудача всех или многих из тех, кто в XIX в. писал об истории
слов, объясняется отсутствием прежде всего исторических, а также
областных (диалектологических) словарей. Сейчас издание
исторических текстов очень продвинулось и довольно широко развивается
региональная лексикография, так что для изучения истории слов
сейчас имеются гораздо более благоприятные условия.
Однако бывают случаи, когда в старой письменности слово не
зафиксировано·. В этом случае большую помощь могут оказать
зарубежные памятники по русскому языку^ (словари, разговорники,
описания России). Изучение их началось только в XX в., раньше
:же считалось," что они «сомнительны» или имеют второстепенное
значение. Сейчас ясно, что эти источники представляют
драгоценнейший материал для исторической лексикологии, так как они
содержат много слов, нигде больше не зафиксированных. Кроме того,
эти источники имеют то преимущество, что их составители не были
16
связаны традициями и нормами литературного русского языка, а
кроме того, их, по преимуществу купцов, интересовали слова
обиходные, связанные с бытом, торговлей и производством, а не с
религией и философией. Ценно и то, что если все наши русские
источники дают слова в традиционном написании, то иностранцы
записывают их в своей, часто удачно приспособленной орфографии. Это
сразу раскрывает особенности произношения данного слова.
Несомненно, что такие же источники имеются и для других
славянских языков. К сожалению, пока ими мало занимаются.
В прошлом году Датская Академия наук выпустила 1-ю часть
русско-немецкого разговорника, написанного во Пскове *.
Еще один j^jrbijLiiffiffil^ для историческои^^ксикологии —
берестяные грамоты. Они интересны тем, что отражают обиходный
îifiÎïïrT^OiiL'Kjj^ и'лЩ среднегр сословия. Берестяные грамоты уже
изучались^ но главным образом~"не"~с лексической стороны. Там
также имеется много слов, отсутствующих в других памятниках.
То, что мы уже сейчас знаем, заставляет утверждать, что
разговорный язык старшей поры резко отличался от письменного. В
сущности это были два разных языка. Изучение же древнего
разговорного языка имеет огромное значение для современного русского
языка, который связан с ним прямым преемством.
Сейчас пришло время для составления такого словаря
древнерусского языка, который вобрал бы в себя богатства живого,
обиходного словарного фонда.
^Определяя в самом_о0щем виде; объект лексикологии, мы выде:
ляем слово, противопоставляя его, с одной^ сторонь^ синтакси^ским
коцоддащиям, с другой стороны — словообразовательным формам
Но объектом лексикологии,"строго говоря, является не слово, а
тексты, в которых мы вычленяем искомое, исследуемое слово^^ и
путем широкого сопоставления большого количества текстов изучаем
те изменения, которые происходят ив его знаковое, и в его смысла
вой стороне. Тем самым устанавливается внутренняя связь
исторической лексикологии с другими разделами истории языка. В
лексикологических исследованиях иногда привлекаются данные
исторической фонетики для разрешения сложных вопросов, например
этимологии, еще чаще привлекаются данные словообразования,
положения исторической и общей семасиологии.
Для^тс^ич^^ой^^^сикологии очень важна проблема
периодизации развития^ языкаТТГе шжноТфЪАставтъ сЛеду^Щим'бОр^^Т^
ИсЖодШй siâïïT который может быть построен н~а базе
сравнительной грамматики славянских языков,-^армирование обще-
^а|ШШ^Ш^аЗЫка как ветви вОст°ЧНОИНдбеЕу^
славянского — и, далее, выделение общевосточнославянского язы-
1 Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian. Pskov, 1607. Ed.
by L. L. Hammerich, R. Jakobson, Ε. van Schooneveld, T. Stark and Ad. Stender-
Petersen. I. Facsimile Copy. Prefaced by R. Jakobson and E. van Schooneveld.
Copenhagen, 1961.
17
ка — относится к доисторическому периоду. Самые древние памят-
1гтате^же^стали диалектальные различия
общевосточнославянского языка, хотя о них нет единого мнения. Диалекты позднего периода
общеславянского языка не совпадают, не соответствуют, не имеют
прямого продолжения в последующем делении восточнославянских
языков. Этот период продолжался с VI—VIII вв. н. э. до XIV в.
Не ранее XIV в. начинается такая*" новая группировка^" восточно-
славянских диалектов, которая подзодит--к созданш
восточнославянаш^лШкрв. Только с конца XVII в. мы можем
говорить огУобразовании национальных восточнославянских языков.
Таким образом, второй период —-^это XIV—XVII вв. Третий
период длился с XVII до начала ХХ^;;^
революции. Революционный сдвиг уже сразу, в первые же годы заметно
отразился на русском языке, впоследствии новшества
усугубляются и расширяются. Таким образом, после революции наступает
новейший период развития русского языка.
Можно ли ожидать, что и история слов как-то определяется
этими периодами? Испытывает ли каждое слово изменения в связи с
новой формацией в развитии языка? Полного соответствия здесь,
конечно, нельзя и ждать. Основной словарный фонд очень мало
изменяется., да ..1ф01яжедииГ тысячей период
развития языка характеризуется какими-то изменениями в
словарном составе, но не глубокими. Грубо говоря, больше половины
словарного состава языка в эпохи его переформирования остается
неизменной. Нас же, естественно, интересуют как раз те слова,
которые в том или другом отношении наиболее заметно менялись.
Рассмотрим историю слова гроза (грозный, грозно, грозить),
которое на первый взгляд не изменило своего значения с древности.
Данные об этом слове, относящиеся к первому периоду (по
вышеприведенной периодизации языка), надо искать в
этимологических словарях. А. Г. Преображенский приводит такие
параллели для этого слова в других славянских языках: болг.
грозен— 'безобразный'; серб, гроза — 'трепет, ужас'; грозити се —
'грозиться, ужасаться'; грозница — 'лихорадка'; чеш. hrûza —
'ужас, страх'; hroziti — 'угрожать'; hroziti se — 'ужасаться,
страшиться'; польск. groza — 'ужас, гроза'; grozba— 'угроза'.
Делалось много попыток найти параллели для этого слова в других
языках. Так, его связывают с греч. γοργός — 'страшный,
ужасный'; ирл. gorg — 'дикий, страшный' (Преображенский);
неубедительно сопоставление слова гроза с грохот (Уленбек), трудно
фонетически связать его и с санскр. hârsate (harsati), hrsyati—
'столбенеет, пугается'. Одним словом, Преображенский
отбрасывает все сопоставления, кроме греч. γοργός, ирл. gorg — 'дикий,
страшный'1. М. Фасмер исходным считает сопоставление с
литовским глаголом grazoti — 'угрожать', но есть подозрение, что это
1 См.: Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка.
Т. 1, с. 159.
18
заимствование из белорусского (у)граясаць. Насколько это верно,
пока еще решить нельзя, так как конкретные исследования
отсутствуют. Если в литовском это не белорусское заимствование, то,
действительно, это близкая параллель к слову гроза. Это слово
можно сопоставить с литовским grazëti — 'любоваться' (по
фонетической стороне это сопоставление вполне правомерно). Это
слово имеет в литовском широкие связи. Прежде всего, надо
отметить прилагательное graaùs, обладающее следующими
значениями: 1) 'красивый, привлекательный', 2) 'ясный' (о небе,
о погоде), 3) 'крупный и приносящий много потомства', 4)
'большой, жирный', 5) 'хороший, доблестный', 6) 'честный,
надежный', 7) 'ласковый, добродушный', 8) 'чистый, чистоплотный'.
Уже само обилие значений и употреблений свидетельствует
о том, что это один из древнейших элементов основного
словарного фонда. Рядом с этим прилагательным есть еще производное
от него существительное grazùmas — 'лучшая пора жизни',
'красивое место', 'доблесть, честность'; существительное grazuma—
'краса' (женская, девичья); grazmuö, grazmë — 'краса,
украшение' (параллельно существующее grazma — 'угроза, гроза' в
литовском заимствовано из славянского). Сюда же относится
глагол gräzinti со значениями: 1) 'делать красивым', 2) 'делать
тихим, покорным, смирным' (сюда оттенок значения
'кастрировать'). Второе значение — уже вымирающее, но его надо
считать самым древним; его можно определить как 'подчинять себе'
(отсюда и значение прилагательного — 'тихий'). Характерно, что
слово grazma, grazmuö употребительно только по отношению
к женщине, а основное положительное качество женщины, по
понятиям древности,—смирение. Из этого вытекает, что те
значения всех приведенных литовских слов, которые в
современном языке выступают как основные, исторически являются
производными.
Древнейшие данные об употреблении слова гроза в древнерусском
языке мы находим в Новгородской I летописи, год 6926: «и от
грозы тоя страшныя... въстрясеся вьсь град и нападе страх наоб-Ь
страны». Из этого контекста мы видим, что гроза означает еще не
страх, а скорее то, что вызывает страх. У И. И. Срезневского гроза
определяется как 'ужас', однако приведенные им иллюстрации
подсказывают иное толкование. Например, в «Повести временных лет»,
6601 г. : «СдЪ стояче чересъ рЪку в грозгь сей створимъ миръ с ними» 1.
Здесь гроза тоже не означает 'страх, ужас'. Может быть, подойдет
толкование 'в ожидании, предчувствии беды'. В «Слове о полку
Игореве»: «[Святослав] грозою бяшеть притрепалъ своими
сильными плъкы и харалужными мечи» — 'грозою привел в трепет,
внушил страх', но сама гроза еще не означает 'страх'. Там же: «Грозы
твоя по землямъ текуть», т. е. 'то, от чего может родиться ужас или
1 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по
письменным памятникам. Т. I. СПб., 1893, с. 595.
19
страх*. Значение слова гроза и в этих и других контекстах можно
определить как 'угрожающая гибель, нависшая страшная
опасность' .
В этой связи надо отметить и формулу, которую Срезневский
приводит под наречием: «держати княженье честно и грозно» (одно
из условий междукняжеских договоров). Что здесь означает слово
грозно? Это можно понять из сопоставления с другими
употреблениями этого же наречия. Ср. в Лаврентьевской летописи под 6807 г.
о солнечном затмении: «Огородилося бяшеть солнце грозно», т. е.
'грозя нам гибелью*. Другой пример: «Ту стоить столпъ чуденъ
вельми... и на верху его сидить Юстинианъ ... на кои-Ь ... акиживъ,
въ доспЪсЪ одЪянъ Срацинскомъ, грозно видЪти его» («Странник»
Стефана Новгородца, после 1347 г.). Здесь «грозно видети его»
(монумент) — едва ли 'страшно': он великолепен, внушает
восхищение, но вместе с тем и ужас. Вероятно, что и выражение
«держати княжение грозно» означает 'держать подданных в преклонении
и под угрозой'.
Наше современное значение слова гроза — 'буря с громом и
молнией* появляется не ранее XIV в. Примеры: «Бысть сЬчасилна;
яко посвЪтяше молонья, блещашеться оружье, и 6t гроза велика, и
сЬча силна и страшна» («Повесть временных лет», 6532 г.); «Нощь
стонущи ему грозою птичь убуди» («Слово о полку Игореве»).
Древнерусское значение слова гроза— 'грозящая гибель1
—проявляется и в данных фольклора и лексике диалектов. Ср. в
сборнике пословиц Л. Н. Майкова (XVII—XVIII вв.) 1\ «За плечьми
гроза»—т. е. 'то, что может тебя погубить'. Из онежской былины: «Ты
теперь-то во моих руках — да под моей грозой», т. е. 'я могу тебя
погубить'. Так слегка, пунктирно, смутно намечается связь с
литовскими материалами. Это позволяет сказать, что слово гроза мало
изменилось в русскую эпоху (там, где речь идет о грозе феодального
князя, гроза — 'подчинение, порабощение страхом'), но в балто-
славянскую эпоху в этом слове произошел большой сдвиг.
Слово грозить в русском языке не имело сколько-нибудь
заметной эволюции; его значение — 'внушать страх, повиновение'.
Прилагательное грозный изменило свое значение в феодальную
эпоху; им назывались князья, многие московские князья, не
только Иван Грозный, и в таком употреблении это слово связано с
формулой «держати княженье честно и грозно». Оно означает здесь не
'внушающий ужас', а 'властный, сильный, мощный'.
Линия развития слова гроза (грозный) представляется таким
образом. Опираясь на балтийское grands, мы можем считать
древнейшим значением для него — 'смирный, послушный' (следствие
укрощения, подчинения). Значение 'красота', свойственное
существительному этого корня, уже более позднее. Вероятно, развитие
значения в эту сторону пошло только на балтийской почве. Самое
1 См.: Рукописный сборник пословиц XVII—XVIII века, сообщенный
Л. Н. Майковым. СПб., 1880.
20
древнее славянское значение слова гроза — 'угрожающая гибель,
кара\ т. е. угроза, но конкретная — кара, смерть. Вместе с тем
улавливается и какое-то положительное значение (ср. примеры
«грозно видети» статую, «грозный князь»). Наконец, достаточно
ясно засвидетельствовано обозначение словом гроза стихийного
явления. Как может быть понято это значение? В литовском слово
grafcùs означает 'ясный* (о небе, погоде). Здесь мы наблюдаем
единство полярных значений. Полярность значений вскрывается и в
прилагательном грозный: в русском сочетании грозный князь оно
несет положительную оценку, в болгарском же языке это
прилагательное означает 'некрасивый, безобразный*. В этом нельзя не
видеть глубокой древности развития значений, для которого
характерен комплекс единства противоположностей, отражающий более
ранний, примитивный этап мышления. Но эту линию надо было
бы проследить и на ряде других слов (их, конечно, не может быть
много).
Гораздо более короткую судьбу имеет слово ярыга (ярыжка).
Этот случай заставит нас прийти к выводу о том, что слова с
хронологически ограниченной историей представляют большой интерес
для исторической лексикологии потому, что в отличие от слов
основного словарного фонда, очень широко засвидетельствованных,
они непременно сигнализируют какие-то пороги, перепады в
истории словарного состава. Собрать больше материала такого рода —
и появится возможность ближе характеризовать и установить эти
перепады.
История слова ярыга — это история «без начала и без конца».
Письменные свидетельства (вообще очень немногочисленные)
начинаются с XVI в. (древнейший пример, из приходо-расходной
монастырской книги, относится к 1572 г.), а уже в XVIII в. эти
свидетельства сходят на нет. Из контекстов, в которых слово ярыга
встречается в XVI—XVII вв., видно, что ярыги — это работные
люди, выполняющие вспомогательную работу (например, у
пушкарей перетаскивали пушки, заряды): они носили кирпич, глину,
копали землю на строительных работах и т. д. В народных песнях
ярыга — это 'повеса, озорник' — слово становится уже бранным.
Рассматриваемая форма отразилась в фамилии,
засвидетельствованной в древнерусских актах — Ярыгин (ср. Дурыгин, Забулдыгин,
Ворыгин). М. Фасмер дает слову ярыга совершенно необоснованное
определение: 'низший полицейский служащий'.
Форма ярыжка в XVII в. употреблялась для обозначения
работного человека (на судне «был в ярыжках», «годовых ярыжек на
пашни наймовать»; это что-то вроде средневекового наемного
«чернорабочего»). Последний этап развития этого употребления,
отмеченный Фасмером, ярыжки — 'низшие чины земской избы
воеводского приказа*. Гораздо более широко представлено другое
употребление этого слова — ярыжка кабацкий — 'пьяница,
гуляка*. Типичные контексты для этого значения такие: «Гулящие
всякие люди, и ярыжки, и беглые...»— 'голытьба*. С этим значе-
21
нием связаны такие производные этого слова, как ярыжить —
'развратничать' (в говорах), ярыжничать—'плутовать', изъяры-
житься. Ярыжка в говорах означает 'плут, обманщик'.
Схема развития значений примерно такова. Слово ярыга по
происхождению связано, вероятно, с ярый, значит, древнейшее его
значение — 'мощный человек, полный сил' — нигде не сохранилось.
Впоследствии развилось значение 'работник', которое путем
спецификации дало 'бурлак'. Последняя стадия развития значения в
этом направлении — 'земский понятой, служка, рассыльный'
(XVII в.).
Параллельно этому развивается значение 'бродяга,
деклассированный элемент'. Такой сдвиг значения мог произойти только в
условиях Московского государства, когда появляется такая
социальная категория — в больших городах, в результате войн и т. п.
Значение, отраженное в говорах,— 'гуляка, пьяница,
развратник' — переносное пейоративное. Пейоративное значение всегда
приводит к затуханию слова. Став бранным, слово постепенно
исчезает из языка, так как бранная лексика постоянно нуждается в
обновлении.
Пример истории слова, где основным является процесс
расщепления значения,— история слова муж. Срезневский неправильно
выставляет как исходное значение этого слова 'человек',— это уже
четко оформленное понятие, которое может быть свойственно
только высокоразвитому мышлению. Да и примеры, приводимые
Срезневским, не подтверждают этого. Так, в контексте: «Вьсакъ слышан
словеса моя си и не творя ихъ оуподобиться мужу боую, иже съзъда
свою храмину на пЪсъц'Ь» («Остромирово евангелие»). Здесь не идет
речь о человеке вообще (этому противоречит хотя бы указание на то,
что он строит дом). В примере из собственно русского памятника,
«Русской правды»: «Ажь оубьеть моужь моужа, то мьстити братоу
брата, любо оцю, любо сноу...» муж — тоже не человек вообще;
в «Русской правде» всегда ограждаются права феодалов, и муж
означает там феодала, человека единственно полноправного.
Противопоставление свободного мужа холопу несомненно присутствует и
в первом примере. В летописях это слово часто означает
'дружинник князя' (ср.: «Выпустиша ПеченЪзи мужь свои и выступи
мужь Володимерь», «Повесть временных лет», 6500 г.), а
дружинник — видное лицо в феодальном обществе. В примере: «Изяславъ
же воротися оттуда, а пер[ед]ъ собою посла к брату Кыеву кВоло-
димеру и к Лазареви к тысячскому 2 мужа, Добрынку и Радйла»
(Лаврентьевская летопись, 6655 г.) — слово муою означает посла.
Выражение муж силен в контексте: «Да дщерь свою за Лонокрабови-
ча за Лудовика, 6Ъ бо мужь силенъ и помощникъ брату ее»
(Ипатьевская летопись, 6715 г.) — означает, конечно, 'мощный феодал'.
На втором месте Срезневский ставит значение 'именитый,
почтенный человек'. Иллюстрации этого значения: «И рече князь Пе-
чен'Ьжьскии: а ты князь ли еси? Он же рече: азъ есмь мужь его...»
22
(«Повесть временных лет», 6476 г.); «Володимерь же великимь
мужемъ створи того» (отрока, победившего печенегов) («Повесть
временных лет», 6500 г.). «Пойди Кыеву, да порядъ положимъ о
РусьстЪи земли, предъ мужи отець нашихъ, и пред людми градь-
скыми» (там же, 6604 г.) — здесь мужи противопоставляются даже
людям градским. Поэтому понятны все устойчивые сочетания с этим
словом: больший мужи, вячьшии мужи, добрый мужи, лучьшии
мужи, моложьшии мужи, нарочитый мужи, передний мужи и т. п.
Третье значение у И. И. Срезневского — 'свидетель*. Это
определение несколько неточное и небрежное. Примеров всего три,
и в каждом из них слово муж выступает в значении 'полноправный,
достойный человек'; то, что он является свидетелем,— не основное.
Ср.: «А у кабалы и у купчие сидили мужи: Микифоръ...»
(Заемная и закладная Наума и Онцифера Негодяевых, 1483 г.), «А
на суд-Ь были мужи» (Дело судное о наволоке Андреевском, 1493—
1494 гг.).
Последнее значение у И. И. Срезневского — 'супруг'.
Итак, в полной ясности здесь выступают только два значения:
1) 'феодал, именитый человек* и 2) 'супруг'. Обобщенное
значение — 'человек' вызывает обоснованное сомнение.
В современном литературном языке слово муж живет, в основном,
в значении 'супруг', известно также архаическое значение,
пережиточное от феодальной эпохи (ср. выражение достойные мужи).
Что дают для этого слова народные источники? В. И. Даль, по
обычаю словарей XIX в., тоже начинает со значения 'человек':
«Человек рода он, в полных годах, возмужалый; пртвпл. жена,
женщина» \ Таким образом, первое значение слова муж здесь —
'мужчина'; это выдуманное «всепокрывающее» исходное значение,
этого не было ни в древнерусском, ни в современном языке. Оттенок
этого значения — 'супруг'. Дальше В. И. Даль приводит
«народное»— 'хозяин, образующий с женою чету'. Кроме этих данных,
В. И. Даль указывает также на обозначение словами муж и жена
растений (тычинковых в противопоставлении к пестиковым) и
приводит (вероятно, из памятников) выражения великий муж, муж
высокого рода, доблесть мужа. В значении, отмеченном В. И. Далем
как народном, как бы сохраняется что-то от феодальной эпохи, но
вообще данных очень мало. Поэтому, чтобы построить историю этого
слова, надо идти на этимологический поиск и прежде всего выяснить
словопроизводные связи.
Слово мужик, впервые зафиксированное в середине XVI в.,
в Никоновской летописи, несомненно, является уменьшительным от
муж. В. Ягич 2 так комментирует подобные формы: в родо-племен-
ном и феодальном обществе людей, не имеющих всех феодальных
прав, ущемленных, уподобляли детям, младенцам (ср. такие обра-
1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2-е. Т. II.
СПб., 1881, с. 356.
2 См.: Archiv fur slavische Philologie, begründet von V. Jagic. Bd. 13. Berlin,
1891, S. 293.
23
зования, как: паробок — 'слуга' от робя — 'ребёнок'; отрок —
'младший, неполноправный дружинник', этимологически
'неговорящий'). Исходя из этого, он толкует слово мужик — 'тот, кто не
имеет прав мужа'. В XVI в. мужик означает уже крестьянина (в это
время как раз начинается процесс закрепощения крестьян).
Вероятно, не сразу, но к XIX в. сами крестьяне усвоили это название,
данное им феодалами.
В говорах слово мужик уже в XIX в. лишено отрицательной
окраски. Вернее, эта окраска присутствует, если слово употребляется
в среде господствующих классов, в языке же крестьян никакого ума-
лительного значения оно не имеет. Ср. у В. И. Даля: «Шел мужик,
а ему навстречу три мужика; солнце, ветер, мороз ...» В некоторых
народных употреблениях этого слова подчеркивается социальное
неравенство, например: «И богат мужик, да без хлеба не
крестьянин» (Даль). Характерно, что уменьшительное от мужик —
мужичок часто обозначает самца и вообще употребляется в переносных
значениях.
Учитывая значения слова мужик, можно сделать вывод, что
древнейшим значением слова муж было обозначение полноправного
феодала.
Этимологически муж (м*жь из *mon-gio-s) сопоставляется с сскр.
mantis, т. е. корень *-mon-, a -gio- суффикс, причем переменный
(ср. литовские чередования в ед. и мн. ч.: 2mogùs— imonès). В
индийском manuäyah означает 'первый человек', подобное значение
есть и в германских. Отсюда заключают, что первичное значение
слова — религиозное. Если так (а это правдоподобно), то значение
могло развиваться таким образом: 'прародитель' — 'властвующий
человек' — 'феодал'. Где-то неприметно, но очень давно (отражено
уже в «Остромировом евангелии») отделилось значение 'муж,
супруг', еще позже — 'мужчина'; очень позднее и наиболее
абстрактное значение — 'человек' вообще. Суффиксальные образования от
этого слова поздние, так как в Киевскую эпоху для неполноценного
члена феодального общества было много других наименований:
отрок, смерд, холоп, челядин и др. И только, вероятно, при переходе
к закрепощению, т. е. при изменении общественных отношений (не
ранее XVI в.), все названия разных степеней зависимости исчезли,
заменились одним — мужик.
Почему в современном русском языке не осталось никаких
следов от древнего, феодального значения слова муж} Естественно, что
в новом, буржуазном обществе избегали терминов, связанных с
преодолеваемым феодализмом. Нейтральное же в этом отношении
значение 'супруг' сохранилось.
Материал из древних памятников и говоров не дает почти
никаких указаний на какие-то разнообразные сдвиги в значении слова
народ. В старых текстах народ — это 'множество людей, толпа'.
В крестьянских говорах значение близко этому: 'все, очень многие
люди', 'мы все, наши все' —те, кто составляет обозримый
коллектив, более или менее близкий к говорящему.
24
Очевидно, что слово народ произошло от основы род. Неясно,
что было первичным — глагол родить или существительное род;
установить это невозможно; они могли вычлениться из
синкретического слова «глаголоимени», но можно предположить, что глагол
утвердился как дифференцированная часть речи раньше; имя же
пребывало еще в стадии неразличения
существительного-прилагательного. В нашем случае такое предположение полезно: народ
тогда означает 'кто народился, дети'. Тогда понятна, например,
цитата из Новгородской I летописи, приведенная И. И. Срезневским:
«Людие же, видяще его въпль, влечахуть акы злодЪа к народу и
казниша его ранами близъ смерти». Это значит, что люди (мужи,
феодалы) во время мятежа вытащили виновника к народу (т. е.
к толпе, к простому люду). Таким образом, в старых текстах слово
народ означало не население в целом, а простолюдье (толпу горожан),
а еще ранее — молодежь. Отсюда и дальнейшие производные
значения — 'множество, толпа*: «И не могуще прити къ немоу народа
ради» («Остромирово евангелие»); 'собрание, сборище*: «Весь народ
и люди, мужи и жены, отъ мала и до велика» (Псковская I летопись).
Правда, эта цитата, приведенная Срезневским для последнего
значения, не подтверждает его: здесь тоже есть момент социального
противопоставления. Оттенок 'низший, бесправный* присутствует и в
примере: «[Князь] на народъ не благъ» (Псковская I летопись),
приведенном Срезневским для иллюстрации следующего значения слова
народ: 'население страны*. Один пример имеется в словаре
И. И. Срезневского для значения 'люди одного дела, профессии*:
«И вся народъ плавающь» (Палея XIV в.).
В устойчивом сочетании народный мятеж прилагательное
народный также отражает древнее значение слова народ —
'порабощенные массы*. Только очень поздно, вероятно в XVIII—XIX вв.,
складывается значение 'вся нация в целом*.
Первичное значение слова род — 'коллектив родо-племенного
общества', 'община, объединяемая кровными, но и не только
кровными, а и экономическими связями'.
Сохранились ли следы этого древнего значения? Да,
сохранились.
В этимологических исследованиях для нашего времени наиболее
трудной всегда представляется семантическая сторона.
Предпосылки для относительной уверенности о правильности или
неправильности сопоставления слов в разных языках есть, так как история
языков в общем достаточно разработана. Поэтому трудность
всегда — в надежности семантических сопоставлений._Для, этимологии
прошлого было характерно пренебрежение к семантическому мо-
менту7~и едва ли не единственным путем сопоставлений были поиски
очевидной близости. Если обнаруживалось полное совпадение, то
это принималось за исходный момент, при различии —
отбрасывалось. Однако чем дальше, тем больше мы убеждаемся, что в
семантике, как и в фонетике, чем более очевидно сходство, тем может быть
менее вероятно совпадение, хотя это и не абсолютное положение.
25
Семантические переходы широки, необъятны. В некоторых случаях
обманчива кажущаяся простота сопоставления, например ночь
в славянских языках и в санскрите.
В славянских языках слово ночь не имеет синонимов, оно везде
единственное для выражения основного своего значения. Весьма
ограниченны и сочетания с этим словом: глухая ночь, глубокая ночь,
поздняя ночь, темная ночь; в сравнениях: черна, как ночь, чернее ночи
(но не черная ночь). Есть еще воробьиная ночь, остававшаяся долгое
время загадкой для лексикологов. В. И. Даль объясняет
происхождение сочетания воробьиная ночь—* самая короткая ночь в году 10
июня', исходя из выражения воробьиный нос. Едва ли это правильно.
Сейчас появляются новые объяснения: указывают, что это только в
русских говорах (воробьиная ночь), а в украинском и некоторых
других славянских языках — рябинная ночь — 'ночь с грозой и
зарницами* (рябит). Сейчас этого вопроса не решить, но последнее
объяснение представляется лучшим. Для подтверждения нужно найти
убедительные контексты.
Почему глухая ночь? Здесь могут быть разные объяснения:
'полная тишина, мы ничего не слышим'. Но в украинском языке
есть глупа шчь — никак не объяснено. Это может быть народное
переосмысление какой-то древней формулы со значением
'глубокий'. Подобное сочетание есть и в хинди — 'глубокая ночь', т. е.
'тайная, сокровенная ночь'.
Если обратиться к индийским языкам, то здесь мы видим
богатейший ряд синонимов — около 20 (в основном разные части ночи).
Сравнивая „Ригведу", с одной стороны, и современные индийские
языки — с другой, можно заключить, что наибольшее число этих
образований падает на средний период, для которого был характерен
расцвет литературы.
Для обозначения ночи в древнеиндийском было nâk, вин.
пад. nâktam. Сами индийцы, великие этимологи, объясняли это
из пас — 'исчезать, теряться, разрушаться'. Философы толкуют
это как разрушение (сознания, характерного для ночи)': ндчью
обман чувств, иллюзия исчезали. Более простое толкование—
'исчезать, становиться невидимым'. Современные индоевропеисты
считают это неправильным, так как здесь не учитывается
элемент 4- (naktam); эту этимологию можно рассматривать как
пример осмысления индийцами слова. В славянских языках это
слово никем не объясняется. Индоевропеисты привели весь ряд
сопоставлений: др.-инд. вед. пак — 'ночь', nâktïh — 'ночи',
nâktam— 'ночью', лат. пох, род. пад. noctis, греч. νυξ, род. пад.
νυκτός — 'ночь', νύκτωρ — 'ночью', гот. nahts — 'ночь', др.-ирл. in-
nocht — 'в эту ночь', алб. natê — 'ночь', лит. naktis, латыш,
nakts — 'ночь', др.-прус, naktin (вин. ед.) — 'ночь', но первичную
структуру и значение этого слова не объяснили.
Открытие хеттских языков дало несколько неожиданно nekut
(род. ед. nekuz), значит, можно все же выделить суффикс, а корень
nek- означает 'убивать, умерщвлять*. Может быть, индийцы сохра-
26
нили воспоминание об этом древнем значении. Существенно, что
рядом с этим словом существовало niç, niçitâ.
Кроме двух стихов в ведийских гимнах, nâk, nakt нигде
больше не встречалось. Правда, довольно долго
просуществовало наречие nàktam — 'ночью'. Все индоевропеисты дружно и,
вероятно, правильно считали, что это слово было табуировано.
Его вытесняет ряд эвфемизмов, niç-, niça появляются позже,
индоевропеисты считают, что это вторичная форма, появившаяся
в поэзии из niçîtah — 'полночь, ночь* (со времен „Махабхараты"),
ni- здесь приставка, корень -çî- (a-niçita — Лишенный покоя, не
утихающий', из „Ригведы"); ni-çi-tâ — 'покой, когда ложатся'
(ср. др.-рус. въл.\гоми, наречие — 'начало ночи, когда ложатся
спать', это близко по семантике к niçitâ), откуда позднее в
результате укорочения—niç, niça (это слово как архаизм
встречается в поэзии почти до нового времени), еще позже ni-çï-tha—
все это эвфемизмы вместо nâk.
Следующее слово, ставшее основным для обозначения ночи,—
râtrih (в „Ригведе") и позже (хинди) rät (< -ram—'наслаждаться,
услаждать') — 'приносящий наслаждение, услаждающий',
'темный, черный'. Ср. räma. Между прочим, корень означает также
'прекращение, покой, остановка'. Все это хорошо для ночи: она
радует, дает передышку и т. д. Это сочетание значений в одном
слове неожиданно; первое значение—основное, второе не совсем
ясное, производное, но rät — 'ночь'—от второго.
Дальше идут относительно более редкие и более поздние
образования: ksap (в „Ригведе"), позже ksapä — 'ночь, тьма',
авест. häap—häapan, согд. xäp, перс, âab — 'ночь', греч. ψέφας,
φεφος κνέφα;, (*< ksepas) — 'темнота', хетт, ispant из древнего
*spant < kspant — 'ночь.'
Таким образом, это слово осталось единственным в иранских
языках и сохранилось в греческом. Индийцы и это слово
объясняют как 'разрушительница', -kçip—глагольный корень,
означает 'разрушать, губить'.
Следующее слово, может быть, и проясняет, почему
прежние слова стали запретными, bhautï, производное от bhüta—
'нечистая сила, злой дух', a bhauti — 'вместилище нечистых
духов'. Поэтому ночь и разрушительница, так как днем их
(духов) губит солнце. С этим пониманием связано yaminl — 'бог
преисподней, ада' < yäma—'стража (ночная)'. Корень -yam-,
в частности, означает 'сдерживать, контролировать'.
Более понятны эвфемистические обозначения rajanï —
'правительница, царица'; vasatih — 'та, которая заставляет прикрыться,
одевающая'—днем в Индии жарко; indukäntä — 'возлюбленная
месяца'; çyâmâ — 'темно-синяя, темно-зеленая'; dosa—не совсем
ясна внутренняя форма, буквально 'порок, изъян' или 'пятно',
вообще dosa чаще обозначает 'вечер', так что может быть 'пятно'
от теней; çarvari — 'тьма' (буквально 'побивающий, убивающий',
οτ-çarv—'бить, убивать'). Vibhâvarï — происхождение не совсем
27
понятно, хотя есть толкование: vibhä — 'сверкание, блеск\ -varï —
суффикс женского рода, соответствующий -vän (означает
'обладание'; см. у Т. Burrow о супплетивизме основ на -я/-г, о гетеро-
клитическом склонении). Значит, 'сверкающая', возможно —
'имеющая рассвет'. Философское истолкование — 'создавшая
благоприятные условия для перехода в другое состояние'.
Для обозначения полночи употреблялись niçïthastvardha-
râtrah — 'полночь же — половина ночи', где niçîtha — 'полночь',
mahâniçâ — 'великая ночь', mahâniçi (наречие) — 'в полночь'.
В современном хинди сохранилось только rat, все остальные
или исчезли, или сохранились в поэзии.
Гораздо беднее обозначается тьма ночная. Здесь есть
образования с разными аффиксами при одном корне: tamï, tamâ, tamas-
vinï, tamisrâ, tamah—слова, означающие или 'ночь' или 'тьма',
тот же корень, что и в русском тьма. Рядом с этой одноко-
ренной группой есть еще dhväntam — 'ночь, тьма' (буквально
'конец дыма'—очень простое сложение: 'время, когда
перестают топить печи').
Поэтическое описание тьмы bhuchâyândhakarah — 'тень на
земле', т. е. 'тьма [как] при лунном затмении'.
В пользу первичности обозначения ночи через пак
свидетельствует русское нетопырь — 'летучая мышь' (рус. диал. летопырь,на-
топырь, укр. непотир, нетопир, топир,лр.-рус.натопыр(ь) („Слово
Даниила Заточника'), болг. нетопир, серб, лептир, лЫир —
'мотылек', чеш. netopyr, польск. nietoperz, niedoperz.
Существуют довольно разнообразные толкования: Бернекер1 и Брюк-
нер2—na-topyr — 'как птичка'; Я. Отрембский 3—от нетопырить
(перья), т. е. 'не настоящая птица'. Все эти объяснения
маловероятны.
Скорее всего другое: нетопырь < некто-пырь (некто — тот
же корень, что и ведийское пак <* nakt, пырь — тот же корень,
что и перо, парить) — 'по ночам летающий'.
Из этого сопоставления довольно ясно выступают почти
безграничные возможности одного-двух значений слова из движения
нескольких лексических рядов такой синонимической цепи, это
заставляет быть настороже. Вероятно, предшествующая история слова
ночь была очень сложной.
Возьмем пару слов, которая этимологами рассматривается
совершенно различно, хотя, может быть, это один корень: веиць —
вещий (оба могли быть и с гь и без гъ). Вещь возводят к *vektio
(польск. wiec, где ё, болг. веш, где в, tio—суффикс
уменьшительный и конкретизирующий), сопоставляют с готским waihts,
греч. έπος — 'слово', санскр. väc- (им. пад. жен. р. väk; род. п.
vacas) — 'речь', 'богиня речи, мудрости', лат. vox — 'голос, звук'.
1 Berneker Ε. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1914. Bd.
II, S. 166.
2 Bruckner A. Slownik etymologiczny jçzyka polskiego. Krakow. 1927, s. 361.
8 Otrçbski J. Éycie wyrazow w jçzyku polsklm. Poznan. 1948. s. 316.
28
Таким образом, с одной стороны, 'предмет, вещь', а о
другой стороны — 'голос, слово, звук'. Ср. рус. речь и польск.
rzecz — 'вещь, предмет', бел. рэч— 'вещь, предмет', словенск.
рёч — 'предмет, вещь'.
- В мемуарах кн. Ф. А. Куракина г речь — 'вещь', но очевидно, что
это влияние польского языка, на котором князь говорил с детства.
Вещий Миклошич2 производит от корня vêd — vëd-tio, исходя из
современного значения слова ведать — 'знать'. Но щ из kt+i, так
что можно возвести и к vek-tio — 'изрекающий, говорящий,
владеющий словом*. См. вещий пророк, вещий волк, радио вещает.
Лексема вещь в древнерусском языке гораздо более абстрактна, чем в
современном: древнейшее значение — 'слово', более новое —
'предмет'.
Слова вешр — вещий не привлекали к себе большого внимания,
а над словом вира бьются уже 200 лет.
В XVIII в. уже было высказано предположение, что слово вира —
заимствование. В. Н. Татищев полагал, что оно сарматского
происхождения, затем стали упорно уверять, что оно финского
происхождения (veri —'кровь', vero — 'подать'). Позже длительное
время германисты, главным образом немцы, доказывали германское
происхождение слова вира. В средневерхненемецком правовом
памятнике wër-gëlt — 'плата за убийство', но как из этого получилась
вира? Впрочем, Ф. Миклошич своим авторитетом надолго закрепил
мнение о германском происхождении этого слова: в гот. vair —
'муж', также в скандинавск., значит, это оттуда — 'штраф за
убийство (мужа)'.
И. И. Срезневский на лекции в университете («Мысли об истории
русского языка»), вопреки утверждениям всех историков и
некоторых языковедов, заявил, что вира — древнерусское слово, так как
во многих списках «Русской правды» вира чередуется с вгьра. В
документах XIV—XVI вв. в формулах о штрафе постоянно встречается
слово вгьра, значит, по мнению И. И. Срезневского, слово вира
новгородского происхождения, где гъ на месте и, в украинском тоже гь
переходит в и, а в среднерусских памятниках этого нет, там — вгьра.
Но И. И. Срезневский не пошел дальше: он ограничился тем, что
дал (в «Материалах для словаря...») это слово как
индоевропейскую параллель германского слова Wehrgeld. Но как же увязать
значения 'муж, дружинник, воин' и 'религия' (вгьра)? Скачок в
семантике совершенно непостижимый.
На заявление И. И. Срезневского большое внимание обратили
историки: С. М. Соловьев (1851), Н. И. Костомаров (1860),
Шкловский (1878) приняли заманчивую для них идею И. И. Срезневского
на том основании, что нет никаких достоверных доказательств
того, что штраф за убийство славяне заимствовали у германцев.
1 Архив кн. Ф. А. Куракина [Бумаги кн. Бориса Ивановича Куракина],
кн. 1—Ю, СПб.— Саратов — Астрахань — Москва, 1890—1902.
2 Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wien,
1886, S. 390-391.
29
Да и у каких? Деньги за убийство стали взиматься при переходе к
феодальному обществу. Это, между прочим, и выгодно князю:
дружина не редеет, а казна растет.
Но лингвисты не сдавались. Ε. Φ. Карский рассматривает слово
вира как заимствование из германского, С. П. Обнорский — тоже,
А. М. Селищев добавляет к этому, что только варяги могли научить
славян, вместо того чтобы убивать убийцу, брать за это деньги.
Крупный немецкий лингвист О. Шрадер решительно отверг
версию о заимствовании слова вира из германского, так как русск.
вира восходит к VII—XI вв., а нем. Wehrgeld засвидетельствовано
в XVI—XVII вв. М. Фасмер не решился возводить виру к
германским источникам и, приведя традиционную гипотезу о немецком
происхождении слова вира, указал на затруднения при объяснении
появления звука и в русском слове. Выражение вирная плата,
которое М. Фасмер рассматривал как возможный источник слова
вира и которое встречается в одном довольно позднем списке
«Русской правды», вполне могло быть образовано и самостоятельно.
И. И. Срезневский для виры дает одно значение. М. А. Брицын
собрал очень богатый материал и показал, что вира и вгьра
(варианты, бытующие в разных ареалах) обозначают иногда 'штраф
вообще', т. е. то же, что продажа— 'штраф в пользу князя*. Он
обратил внимание на большое гнездо, связанное с вирой в русском
языке: вирник— 'кто собирает виру', вирный.
Если это индоевропеизм, то с чем его можно связать? Обычно его
связывают с лит. vyras — 'муж, мужчина*, др.-инд. farah —
'мужчина, герой, богатырь', позже — 'супруг, муж', но всегда торжеств.;
лат. vir — 'мужчина*. Это неправильно, так как и в санскрите, и в
литовском, и в латинском все названные имена существительные —
мужского рода, а надо искать — женского.
В санскрите есть слово того же корня — vairam — 'доблесть,
мужество, героизм', 'враждебность, неприязнь', 'коварство, злоба,
месть', 'спор, стычка'. Не исключено, что порядок развития
значений мог быть совсем иной: первичны — 'враждебность, неприязнь'
или 'спор, стычка, война'. Характерно, что родственное имя
прилагательное vaira означает только 'мстительный, злой', производное
сложное vairakärin 'затевающий ссору, стычки', vairadeya—
'вражда, месть' и даже 'плата за преступление'. Vaira- (в слав, в/ьра
и рус. диал. вира), таким образом, когда-то значило'месть','стычка,
война*. Каков же переход к религии? Через идею закона, т. е.
прочного социального установления. Для мужчины закон — месть за
убийство, война, настороженность, неприязнь к каждому чужаку.
Христианский закон другой — любовь к ближнему. Недаром
блестящий оратор и философ Иларион Киевский употребляет вместо
слова вп>ра слово закон, т. е. вера — прежде всего закон. Характерно,
что и индийцы считали в основе веры закон миропорядка и
человеческих отношений. Отрыв от виры — 'штрафа' произошел в связи
с переходом к христианству (новый закон). Характерны в старых
текстах выражения правая вгьра — 'правильное, законное наказа-
30
ние\ творимая в/ъра — речь идет о суде и наказании. Как же
объясняют наши этимологи веру — 'религиозный закон'? Они
исходят из показаний современного языка: вера — 'религия', 'истина,
правда', 'точность', 'верность'. И для И. И. Срезневского 'религия*
только на четвертом месте, этому значению предшествуют:
'убеждение в истинности чего-нибудь', 'правда в отличие от лжи', 'клятва*.
В договоре Олега с греками 911 г. греки предлагают Руси: «да port
ходить своею вгьрою», т. е. 'приносить присягу по своему закону,
обычаю', религии тут нет. В Псковской судной грамоте: «А татю
вгъры не няти» — вор под присягой давать показания не может.
Наши этимологи, беря то, что лежит на поверхности, исходили из
понятия 'религия'. А. Мейе сопоставлял вгъра с авест. var —
'верить', но из var нельзя вывести вгър (правда, в авест. было аканье,
но краткость а — ср. осет. urnum — как раз доказывает, что var-<
<vor-. Воръ — когда-то 'колдун'). М. Фасмер и другие
сопоставляют вгъра с древневерхненем. vara — 'истинный', лат. verus —
'истинный, правдивый'. Лат. verus может быть увязано с древним
значением vaira — 'закон, прочно установленный обычай,
основной статут', но если ai — дифтонг, то фонетическое соответствие
здесь не получается, кроме того, семантическое соответствие —
только с поздними значениями.
Серб* вера — 'верность', 'доверие', 'обручальное кольцо',
'клятва, закон', веридба — 'обручение', вереница — 'невеста', ее-
роломник — 'клятвопреступник', ср. рус. вероломный —
'нарушивший клятву'. Всюду сквозит древнее значение 'клятва, присяга,
закон'. Характерно русское сочетание верою и правдою служить.
Правда-— здесь 'руководство в суде', 'руководство при разрешении
конфликтов'; вера — значит тоже какой-то кодекс морали, закон
поведения.
Отсюда легко выводится вира — 'плата за нарушение закона*.
Вира — современница кровной мести.
Несколько примеров для уяснения того, что дает для
исторической лексикологии широкий этимологический материал.
Существует не совсем неосновательное убеждение, что история
слов должна строиться только на материале одного языка, при
выходе же из него начинается этимология. Противопоставлять
этимологию и историческую лексикологию невозможно; обе ветви
находятся в теснейшей связи и взаимодействии.-Нельзя построить
этимологию без разработки истории слов, й наоборот; нельзя заниматься
историей слов без этимологии. Конечно, есть исключения. Иногда
нет совсем материала для истории слова, а иногда материал одного
языка так обилен, что нет нужды выходить за его рамки. Или
случается, когда можно строить историю, используя данные другого
языка: тюркские, палеоазиатские. Но это единичные случаи.
Уместно сказать об иллюзиях лексикологии синхронического
плана.
Пример I. Вскипеть — кипеть. Форма вскипеть берется
потому, что одним из очень важных источников обогащения истори-
31
ческой лексикологии русского языка в этом отношении является
украинский, а там именно эта форма: скипатись — 'ссориться,
придираться друг к другу'.
По свидетельству 17-томного Словаря АН СССР, семантика
глагола вскипать такова: 1) 'начинать кипеть* (перен. «...ярость
благородная вскипает, как волна»), ф· «Вскипел чайник, самовар» и т. п.
<> В образной речи «Вскипела кровь его ...» (коня ретивого). 2) ne-
pen. 'приходить в состояние сильного гнева, раздражения;
вспылить* (иллюстрации из произведений А. Караваевой, А. Куприна).
<> «Вскипеть гневом, негодованием» (иллюстрации из Н. Гоголя и
С. Аксакова)х . Это расположение значений едва ли может вызвать
какие-нибудь сомнения, развитие идет от прямого к переносному.
У Даля: вскипать — 'начинать кипеть, закипать, вдруг
вздыматься от кипячения, вздуваться кипучей пеной*. «Вскипеть
негодованием». Вскипчивый (о горшке) — 'вскипающий легко,
наперед других1; (о человеке) 'запальчивый, горячий*. Кипучий —
'горячий, пылкий*. Кипятить — 'доводить до кипения'; «Полно
кипяъить-το» — 'не спеши или не торопи, не понукай, дай срок*.
Кип: шиться — 'горячиться, петушиться*. «Опять закипятилъ —
'затсропил'; «Недолго покипел, а перекипел» — 'ушел'; «Ветошка
прикипела к ране»; «Кровь скипелась» — 'свернулась*.
По сравнению со Словарем АН СССР в словаре В. И. Даля
показательны производные слова и значения. Например,
кипучий— уже выражение душевного состояния, и таких примеров
много. В «Материалах для словаря...» И. И. Срезневского
въскыпати -аю—'salire'. «Источникъ воды въскыпающь въ животъ
вЪчьныи» (άλλομένου) (Евангелие 1270 г.); υδορ άλλομένου —
'ключевая, бьющая вверх, прыгающая'. Въскыпгъние: «Аеромъ истлЪ-
ния и'недязи и въскыпгъния земли» (βρασμοί γης) (Слово Григория
Назианзина, XI в.) — 'кипение'; вероятно, речь идет о
вулканическом явлении. Въскыпати: «Воскипгь в кадилЪ млеко» (Сказание
Антония, XV в.), «Аще не въскыпить грнець» (βράση) (по
другому списку—съврить—Житие Андрея Юродивого, список
XV—XVI вв.) —то значение, которое сейчас приводится на
первом месте.
Таким образом, материал небогатый: диалекты не дают больше
В. И. Даля, исторические данные ограниченны. На таком материале
историю слова построить нельзя. Есть основание думать, что она
сложнее, чем кажется по этим материалам.
Что дают родственные языки? Укр. кипети: 1) 'кипеть',
2) 'сильно волноваться, шуметь'. Среди примеров есть
выражение cKunimu на homl. Украинцы считают это выражение
загадочным. Польск. kipiec, kwapic: Duch éwiçty kipiat w prorocech 2.
1 См.: Словарь современного русского литературного языка. Т. II. М.—Л.,
1951, с. 838.
2 Linde S. В. Stownik jçzyka polskiego. T. II. Lwow, 1855, s. 358.
32
Это образно, но на каком основании? Старопольск. kwap —cienkie
pierze ptasze, abo puch \; kwapic (sic)—Торопиться, спешить';
чеш. kvapiti, kvapny (старочеш.), nakvap—'быстро,
поспешно1; kvap—диал.= ргасЬ—'пух гусят'; укр. квапшпись —
'спешить1.
Чередование ka — kv обоснованно. Не приходится сомневаться
в связи kvapiti-kypeti, где у из й, которое чередуется с va. (По
мнению В. Махека, в основе слова kvap формант -ар- выражал
неожиданность, внезапность 2, но это очень гадательно.)
Каково же соотношение значений? Прямые значения глагола
кипеть как бы являются базой для переносных значений, но в
других языках подтверждаются только те, которые связаны с
характеристикой душевного состояния.
Русскому кипеть полностью соответствует литовское küpeti:
1) 'вскипев, литься через край, вздыматься кипя'; 2) 'хорошо
расти, обильно родиться* (о растениях, о животных). С этим
связано прилагательное küpinas—'полный, исполненный чего-
нибудь1. Ближе к первому значению, но не отрывается и от
второго значения kùpti—'переполняться от кипения, вздуться
кипя'. Степень сильного корня тоже широко представлена —
kväpas: 1) 'душа, дыхание, дух (воздух)1, be kvâpo —'без
дыхания, задыхаясь, задохнувшись1, viena kvapù—'одним
дыханием (духом)1; 2) 'запах, аромат1; kvapùs—'душистый1; kvépinti —
'нюхать1; kvëpti: 1) 'втягивать или выпускать (воздух), дышать1;
2) 'бродить, давая газы1; 3) в литературном языке новое
'вдохновлять1. Более старое и хорошо известное в диалектах kvê-
puoti — 'тяжело дышать1. Латышское kupêt: 1) 'дымиться1, dumi
ko ρ—'подымается дым1; 2) 'чадить, коптить1, skals küp—'лучина
чадит1; küpinät—'коптить1, 'воскуривать что-нибудь (трут и пр.)';
kvëpi—мн. 'копоть1. Кстати, и русское копоть этимологи
возводят к *квопоть. Древнепрус. kupsins—'туман1; греч. καπνός —
'дым жертвенника1, κάττυς (Гезихий), χάπος—'дыхание1, έκάπυσσεν
(Гомер—с άπο-) — 'испустил дух1, лат. cupiö—'хочу, пылаю
страстью', cupide — 'жадно, страстно1, cupidus: 1) 'хотящий',
2) 'страстно желанный1; 3) 'ревнивый, жадный'; cüpiditas —
'желание, страсть1; cüpidö — 'страсть, похоть1; хет. kappilä —
'гневаться1.
Латинское, отчасти и греческое и хеттское поддерживают не
1-е, а 2-е, переносное значение. Здесь оно единственное и
основное — передает душевное состояние. Материалы санскритского
языка еще больше это предположение усиливают и развивают; kupyati:
1) 'возбужденно движется, волнуется*; 2) 'сердится, негодует1;
3) 'спорит, противоречит1. Таким образом, для индийцев образным
было бы то значение, которое в русском языке является первым и
1 Unde 5. В. SJownik jçzyka poJskiego. T. II. Lwow, 1855, s. 562—563.
Machek V. Etymologicky slovnik jazyka ëeského a slovenského. Praha, 1957,
2 J\·. 5422
33
употребляется, когда речь идет о закипании воды. Kopah: 1)
'яростный гнев'; 2) 'бешенство, злоба'; 3) 'страсть, тоска'; kopanah:
1) 'гневливый, злой'; 2) 'болезненно возбужденный'. Индологи
всю эту группу ku-ko считают близкородственной с kapih и
производными; kapilah — 'дымчатого цвета' и kapiçah — 'рыжий,
красно-бурый'. Сейчас kapih — 'обезьяна', но этимологи думают, что
когда-то это слово означало 'дым'.
Можно предположить, что развитие этого корня в славянских
и балтийских языках стало опираться на значение физического
перегрева, кипения, но едва ли это было первоначальным значением;
этого не поддерживают ни параллели, ни значения корня kvap-.
Вероятнее считать, что первичным значением было 'приходить в
ярость, неистовство'-^переносно о воде->переносно об огне->'дым' и
прочее.
Укр. на нож1 CKunimu объясняется просто. 'Прийти в
неистовство, в ярость', 'так разъяриться, что схватиться за ножи, быть
готовыми всадить ножи друг в друга'. Это легко увязать с
санскритским и другими приведенными выше материалами. Этот пример
едва ли позволяет усомниться в целесообразности обращения к
родственным языкам.
Примеры II и III. Клепать — клевать; поклеп — клевета.
В «Материалах для словаря...» И. И. Срезневского глагол кле-
пати представлен следующими значениями: 'бить, ковать',
'ударять во что-либо звонкое для созывания', но уже в XV в. отмечено
значение 'биться с некоторым шумом'; очень рано
засвидетельствовано значение 'указывать, подавать знак'. Но еще раньше следовало
бы поставить значение 'обвинять', отмеченное «Русской правдой»;
ср. поклеп.
В словаре В. И. Даля: клепала — 'кто клеплет на других,
наговаривает напраслину'; клепать — 'ковать, соединять или
скреплять металлические вещи холодной ковкой, пропустя гвоздь и
расплющив концы его или загибая листы край в край'; новг. 'прать,
бить белье вальком'; стар, 'бить во что-нибудь', 'стучать в доску',
'звонить', 'на кого наговаривать или возводить напраслину'; стар.
клепало — 'колокол', 'язык в колоколе', 'било, доска, в которую
стучат сторожа', перм. 'ботало, жестяной или деревянный звонок на
шею скоту', новг. 'валёк'; клепец — 'молоток, которым отбивают
косу'; клепйк — 'чеботарный нож, рыбочистный ножик'; клепцы —
'небольшой капкан на куниц, лису, зайца'. Тоже, в сущности,
бьют — падает бревно.
Клевать — в «Материалах для словаря...» И. И. Срезневского
отсутствует. В словаре В. И. Даля: 'хватать носом, клювом, зо-
бать'; о рыбах — 'хватать приманку на уде', а затем — 'бить,
колотить', пек., твер.; клевок — 'один удар клювом или острием кирки,
клевача'; клеван — 'молоточек'; клев, клюв —'то, чем клюют птицы',
а также 'острие, жало, остроконечье, которым тычут'; клевец —
'сейчас орудие каменотеса, раньше знак военачальника, боевой
топорик на длинном древке'.
34
Клеветать — 'несправедливо обвинять, возводить напраслину',
клевета — 'обвинение1.
В глаголах клепать и клевать — поразительный параллелизм
и в форме и по значению. Этот параллелизм достаточен, чтобы
утверждать развитие значений от прямых к переносным, от
физического воздействия до морального: 'бить камнем' -> 'бить врага* ->
'клеветать'. В других славянских языках: серб, клеплем, клепати:
1) 'бить, заколачивать'; 2) 'ковать'; 3) 'бить в било'; клепетати —
'производить шум, будить'; клепац, клепца — 'молоток для
отбивки косы'. С этим сопоставляют ст.-слав, клопотъ — 'шум1, болг.
клопотар — 'колокол', серб, клопдтар — 'балка, на которой висит
колокол', слов, klopotati — 'шуметьт болтать', серб, заклоп —
'замок'; ср. также нововерхненем. Klappe — 'застежка', нововерхне-
нем. КНрре — 'силки'.
Таким образом, развитие семантики слов этого корня (клеп—
клев-) прошло путь от обозначения физического действия до
значений, выражающих вид социальных отношений.
Пример IV. Ветошь — ветхий. О слове ветошь или
диалектное ветошь В. И. Даль пише?: «ветошь надо выжечь палом, а то не
даст расти молоди», т. е. речь идет о жухлой прошлогодней траве.
Современное ветошь — 'обрывки одежды, лохмотья';
употребляется слово и переносно для «образного осуждения». Связь ветошь
с ветхий безусловна и очевидна: ветъх — *vetuch+jo>eenvjuu>.
У И. И. Срезневского — ветъхыи: 1) 'старинный, древний';
2) 'ветхий, ставший непригодным для долгого употребления'. Эти
два значения отличаются тем, что первое — это чисто временное, а
второе — качественное определение 'непригодный, ставший
непригодным'. В «Русской правде» — пример на второе значение, с
него надо бы начинать историю слова: «Аще же будеть ветхаго
моста подтвердити нЪколико доскъ» («Русская правда» по списку
Академии).
Аналогичный пример и в Новгородской I летописи под 1144 г.:
«ДЬлаша мостъ вьсь цересъ Волхово гю стороне ветхого, новъ вьсьж
Там же еще под 1310 г.: «Срубиша городъ на пороз-Ь новъ, ветхыи
сметавше»; имеется в виду 'старый город' не по времени, а
'негодный, не отвечающий более своему назначению'. Из этого-то
прилагательного когда-то, вероятно, основного и исходного, образовано
прилагательное ветшан (*vetuch+jan+os) после падения глухих:
ветшан ->· ветнан; см. в Лаврентьевской летописи: «Чтите исправли-
вая Бога д-Ьля, а не клените, занеже книгы ветшаны, а умъ молодъ,
не дошелъ». А в Духовной грамоте Леонтия Дмитриева начала
XVI в.: «Да благословилъ есми своей тещи МарьЪ ОнисимовЪ шубу
кунью ветшаную». Уже в XI в. есть и абстрактное имя сущ. ветъ-
шина — 'ветхий завет, древность, старый мир'; «Съходатаи ветъхуму
и новуму . . . нашу ветшину обнови» (Минея Путятина, XI в.), а
также ветъшь — 'древность' (во временном смысле): «Да убЬжавъ
писания ветъши поработаеть новости духовьнЪи» (Слово Григория
Назианзннаг XI в.). В словарей. И. Срезневского часто то значение.
2*
35
которое сложилось под влиянием христианства, стоит на первом
месте, так и в этом случае. В. И. Даль на первое место помещает
'древний, давний', а затем уже 'отживающий, дряхлый, пришедший
в негодность от долгого употребления*. См. также в словаре В. И.
Даля: ветшаний — 'худой, дырявый', вепгоха — 'тряпка, тряпица,
лоскут изношенной одежды', ветошьё—'тряпье, обноски всякого
рода', арх. ветошь — 'мелкий березняк' (появление значения не
очень понятно.— Б. Л.), ветшать — о человеке — 'стариться,
дряхлеть', о вещи — 'изнашиваться, делаться негодным от времени,
употребления'.
Таким образом, картина почти та же, что и в XI в. Что же
было раньше? Обратимся к показаниям родственных языков.
Литов. vêtuèas — 'старый, дряхлый, престарелый', vetuàis —
Старик'; латышек, vçcs—'старый, престарелый, ветхий'
(преимущественно о человеке), vçcos laikos— 'в древние времена', латинск.
vêtus, vetustus — 'древний, старый, старинный'; согдийск.
(древнейший иранский язык более 2000 лет тому назад) wtsnyy
(*wàtuàana) 'старый', хет. witt (tt из ts), более древний вид
хеттской формы uèSa—'год'; греч. (^)ετος— 'год', διετής — 'двухлетний';
'ετήσ'ιος —'годовалый'; корень тот же uet-; санскр. vatsâh—
'теленок', начиная с древнейших времен это было ласковым
обращением к ребёнку; vatsarah — 'теленок', 'годовалый теленок',
вообще 'молодое животное', а в текстах с абстрактным
содержанием обозначает 'год'. Это значение очень древнее, так как в
обрядовой литературе vatsah—обозначение 'последнего года
ритуального цикла'.
Все эти материалы позволяют для слова ветхий считать исходным
обозначение годового приплода в животноводстве, затем 'год'
вообще, и потом через производные 'старый, древний' и, наконец,
'негодный, изношенный'. Характерно, что в словаре В. И. Даля
фиксируется значение 'прошлогодняя трава' (ветошь).
Пример V. Голый. Подавляющая часть этимологов (с Ф. Ми-
клошича до наших дней) искали всевозможные сопоставления этого
слова с прилагательными индоевропейских языков. Но богатый
материал, относящийся к этому слову, убеждает, что историю этого
слова можно создать, только принимая за исходную форму имя
существительное и отыскивая параллели среди имен существительных.
В древнерусском языке голомя, голомень обозначает: 1) 'плоская
сторона клинка'; 2) 'верхушка дерева, обычно старого, поэтому
оголенная, безлистная': «голомя его [дуба] до вЪтвш полторы сажени»
(«Хождение» игумена Даниила, XI в.). Слово голомя, которое
И. И. Срезневский рассматривает как наречие, по-видимому, нужно
считать именем существительным со значением 'железный
клинок': «ЖелЪзо въ огни голомя свЪтло будеть» (Житие Андрея
Юродивого, XV—XVI вв.).
Для слова голоть (голотъ, голъть) И. И. Срезневский отмечает
значение 'лед', но скорее нужно предположить, что это 'ледяная
корка, покрывающая землю'; на то, что это не 'лед', указывает упо-
36
треблсние в списках начиная с XV в. слова лед одновременно со
словом голоть: «Воды, отъ нихъ же есть снЪгъ, голоть, градъ,
ледъ, роса» (Козма Индикоплоз). Противопоставление этих двух
явлений в нашем сознании к XIX в. утратилось. Характерно, что
в старших текстах прилагательное голый, как правило,
употребляется не применительно к человеку: «Въ ту же зиму не бысть снЪга
на земли, гола бысть» (Псковская I летопись, под 1453 г.); «Зима была
тогда гола безъ снЪгу» (Псковская I летопись, под 1558 г.). Если
речь идет о человеке, то слово голый означает 'безволосый,
гладкий': «Азъ мужь голъ» (Кн. Бытия, список XIV в.), т. е. 'я еще
молодой, без бороды*. Наречие съгола — 'совершенно': «Иже нЪсть
съ гола погубить слуха» (Слово Григория Назианзина, XI в.). Го·
лина — 'голая земля': «По голингъ чрепинамъ ... подстланымъ ...
влекомъ» («Пролог», май 17, XIV в.). Гълькъ (голкъ, голькъ,глекъ)—
'сосуд, кувшин', 'рукомойник': «Обиходять около братии, въ гъль-
ц-Ьхъ укропъ имуще испълнь въ руку и чръплють комуждо» (Устав
1193г.); «Омызания чашамъ и голкомъ и мЪдныимъ» («Мстиславово
евангелие», 1117 г.); «Десять глекъ вина» («Никоновы пандекты»,
XIV в.); «Голькомъ же и чашамъ очищение и криницамъ же»
(Хроника Георгия Амартола, XIV в.). Ср. укр. глек, польск. glek —
'глиняный горшок', бел. глёк — 'глиняный сосуд'; голыш, — 'гладкий
камень'. В инославянских языках, так же как и в русском языке,
голый означает и 'без одежды', и 'без волос', 'без листьев, травы'
и т. п.
Таким образом, славянские языки дают только намек на какие-то
другие, более древние значения: о человеке — 'безволосый', о
предмете -- 'гладкий'.
Русское голик — 'веник из голых прутьев'; диал. курск. голья —
'ветка, сучок', гольё — 'хворост, веник'; др.-русск. голь — 'ветка';
укр. ггля\ бел. голлё — 'ветки'; словенск. gôl — 'хлыст, оголенное
от веток бревно'; чеш. hûl — 'прут, хлыст, ветка'.
Богатый материал для истории описываемого слова приводит
В. Махек: чеш. holec —'подросток'; старочеш. holicé — 'девочка-
подросток'; чеш. holenku (вокатив) — обращение к подростку;
чеш. holisa, hoîysa — 'маленький ребенок, младенец'; чеш. holinka,
holâtka, holiika — о недозрелом, зеленом овоще (ср. русск. арготич.
оголец — 'вор-мальчик'); старочеш. hoiota, польск. golota —
'нищий, бедный', позже — 'сброд' (ср. русск. голь, голытьба—
'бедняки, неимущие'); вост.-морав. hoiota — 'деревянный указательный
столб'; словацк. holoä, hoi an — 'плешивей'; словацк. диал. holizna —
'безлесное место'; старочеш. holohumnicé,в результате гаплологии —
чеш. holumnicè, hol(oh)umno —'гумно, ток'1. Чешский язык —
единственный из славянских языков, который значительно
расширяет ряд параллельных образований и нешироко известных
значений.
■ См.: Machek V. Etymologicky slovnik jazyka ceského a slovenského. Praha,
37
И. Розвадовский сопоставлял имя прилагательное голый с
литовским galas — 'конец', с первоначальным значением 'голый
конец ствола дерева'1. Вдревнепрусском языке зафиксировано слово
gal Ian — 'смерть', именно в таком значении оно понималось
средневековыми немецкими авторами. Все древнепрусские памятники
(их пять-шесть) написаны немцами, им же принадлежат и два
словарика, так что их свидетельства ненадежны. В архаических
литовских говорах сохраняется дательный падеж на -an аллатив
(означает приближение к какому-то пределу). Очевидно, gallan
и есть такой аллатив и значение этого слова — 'дело идет к концу'.
В Литовском этимологическом словаре Э. Френкеля 2 gallan —
'смерть' рассматривается как исходное, но это ошибочно. Ср.
показания балтийских языков: прус, gallintvey — 'приканчивать,
умерщвлять, убивать'; латыш, galinät — 'голодом умучить,
умертвить'; begälis — 'бесконечный', begalys — 'ненасытный, ненаеда';
латыш, bezgalis — 'пропасть'; лит. pagalys — 'полено, чурбан,
дубина'; латыш, pagaie — то же; сюда же примыкает, вероятно, и
название племени galindai (русск. голядь) — 'живущие на самом
краю', т. е. внутренняя форма этого этнонима та же, что и в слове
украинцы. Все эти родственные слова показывают, что значение
'смерть' не могло быть первичным.
Наиболее богатый круг значений для этого корня сохранил
латышский язык. В латышском языке gals — не только 'конец
вообще', но и 'остриеножа', 'кончик пальца', 'острая верхушка, вершина
дерева'; по-видимому, это круг наиболее древних значений; 'жилье,
комната, часть двора, усадьбы', 'край, где живут' (ср. в
новгородских и псковских памятниках в этом значении слово конец), müsu
galä — 'в нашем краю' (обобщенно), может быть, gälas означало не
только 'край, место, где живут', но его население, отсюда —
'толпа, народ'; gälas означало также 'несчастье, беда' (но только в
составе фразеологизмов) и 'смерть как конец': «нашел свой конец»;
со словом gälas в латышском языке очень много бранных
эвфемистических выражений, например: 'чтоб тебя конец взял' — 'чтоб тебя
черт взял' (в литовском языке тоже немало выражений
эвфемистически-бранных, где употребляется родственное слово). Латышское
gala означает 'наконец', 'под конец', 'в высшей степени' и др.
Схему развития значений для балтийских языков можно
представить следующим образом: 'безлесный кусок земли, участок,
очищенный от леса' — 'край земли (кем-то населенный)' —
'окраина' — 'верхушка, кончик, уголок' и т. д. Почему galas часто
выступает в эвфемистических заменах слов черт, смерть и под.? Известно,
что эвфемизм должен хорошо скрывать истинное название, вводить
в заблуждение так, чтоб нельзя было догадаться. Следовательно,
значение 'смерть' не может быть исходным.
1 Jçzyk Polski. Organ Tow. Miiosnikow Jçzyka Polskiego. Krakow, I, 141.
2 См.: Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1962.
II. Lfg., S. 130.
36
В славянских языках ближе всего к исходному те значения,
которые выступают при обозначении земли, не покрытой лесом,
снегом, голого льда, а уже дальше — все прочие; позже всего
появляется значение 'обнаженный' (о человеке).
Рассмотренный пример показывает еще раз, что без обращения
к другим языкам построить историю слова невозможно. Вот
несколько запутанных в этимологическом отношении слов, иногда
запутанных исследователями, иногда не совсем ясных в плане
морфологическом, фонетическом и т. д., из чего проистекают постоянные
сомнения и неудачи.
Пример VI: пыл и пыль. Чередование основ на -о- и Ί-
широко представлено в индоевропейских языках, поэтому этимологи
давно ставили вопрос о близости этих слов. Однако развитие
значений этих слов не поддавалось вполне ясному объяснению.
В слове пыл выделяется два значения: 'жар, то, чем пышет огонь'
(оно обычно считается основным) и'гнев, страстный порыв*.
Считалось догмой, что исходное значение — природно-материальное, а
план душевный — вторичное, переносное, образное. Это как будто
бы не должно вызывать возражений. Однако производное пылкий
в современном и в древнерусском языке употребляется только во
втором значении, т. е. 'страстный, увлеченный' и т. п. Правда,
архангельские говоры знают выражение пылкий ветер — 'очень сильный
ветер', а слово пыль в архангельских говорах означает 'пена на воде
во время бури*. Связь этих двух слов (пылкий и пыль) очевидна.
На Колыме пыль значит 'огонь, пламя', укр. пил — только 'пыль',
бел. пыл — и *жара' и 'пыль', чеш. pyl и pel — 'цветочная пыльца'
(с XIX в.).
Общепризнано, что -I—не корневой элемент, а дополнение
к корню, и слово пыл этимологически связывают с пы-х-а, пу-х.
Сопоставляют пыл с лит. puciù, pusti—'дуть', латыш, pusu,
pusti—'дуть, веять', лит. putà—'пена', греч. φυσά—'дуновение',
φυσάω—'дую' (где φ из старого р, a ς—детерминатив корня).
Если первично 'дуть, веять', то производное пыль—'что
связано с ветром, сопутствует ветру'. Выражение пускать пыль
в глаза имеет параллели во многих языках (немецком,
французском, латинском). Устойчивость и широта распространения этого
оборота заставили обратиться к этнографии. Полагают, что это
был боевой прием в родо-племенную эпоху.
Р. Джемс выписал слово напыльник. Он объясняет его как
'предохранительный навес над пылающим очагом* х. Слово это описано
и В. И. Далем: 'грядка, перекладина над устьем черной печи для
сушки дров', костр. 'устье у черной печи', перм. 'род колпака над
горящей лучиной, над светцом, для осадки копоти'. Из этого можно
заключить, что такое сооружение своим названием обязано старому
значению слова пыл — 'огонь, пламя'. Итак, свидетельства Р. Джем-
,_* Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618—
1619 гг.). Л., 1959, с. 285.
39
са и русских народных говоров позволяют связать пыл и пыль и
видеть в качестве первоначального значения 'огонь, пламя', а все
остальные считать производными.
Другие обозначения пыли в индоевропейских языках.
Литовское dùlkés (где s окончание мн. числа, -е- — показатель жен.
рода, -k суффикс предметности, -/ детерминатив
архаического корня) связывают с dùiti (наст. вр. düja, прош. вр. düjo) —
'затянуться туманом, затуманиться'. С этим глаголом родственно
имя существительное dujà, старое значение которого 'пылинка,
крупинка', мн. число dùjos — 'мгла, туман, пар, химические газы'
(последнее — современный термин). В литовском литературном
языке существует слово dulis — 'пыль' и 'мгла'. Однако Большой
академический словарь литовского языка х отмечает у этого слова еще два
значения, которые бытуют в диалектах: 1) 'густой дым', в частности
'дым, которым отгоняют пчел' (от него — и соответствующий
прибор дымарь); 2) редкое 'дух, привидение' (как мгла, дымный столб).
От dulis очень близко к dùlkés. Если бы это было только литовское
образование, то историю развития его значений было бы
объяснить нетрудно: 'дуть, веять' — 'вздымать пыль или развевать
дым' — 'пыль, дым, мгла'. Но к этому очень близко примыкают
удивляющие по близости словообразовательного состава индийские
dhüli и dhûlika (в последнем, как и в лит. dùlkés, суффикс -А-).
В санскрите они означают 'пыль', в ковоиндийских языках — в
одних 'пыль', в других — 'туман, мгла'. Эти слова родственны также
латинскому îuligo —'сажа'.
Таким образом, здесь имеем дело с аналогичной историей слов,
налицо параллельный путь развития семантики. Исходное значение
корня связано с глаголами, означающими веяние ветра, вихрь,
ненастье, позже оно расчленяется: 1) 'быль', 2) 'туман, мгла, мелкий
дождик'.
Для слова пыль, хотя это и не столь очевидно, общая картина
семантического развития такая же.
Рассмотрим наименования дыма в индоевропейских языках.
Санскр. dhûmàh — 'туман, облако', затем —'дым'; лит. dumai—
'дым', иногда 'дымка, мгла'; слав. дымъ\ абсолютно соответствует
этому греч. Φυμα — 'жертва', ΰϋμάω — 'кадить, курить,
совершать жертвоприношение', 'θυμός — 'дух, душа, сердце, отвага,
гнев', 'θϋμοω — 'гневаться, сердиться'. Это завершающее звено,
где дым — 'отвага, гнев, душа' делает понятным наше пыл — 'гнев,
страстность'. Таким образом, сопоставляя эти ряды то по
формальным, то по семантическим признакам, можно восстановить старый
комплекс значений, довольно устойчивый для очень древнего
периода. Что же запутано в этимологии слов пыл и пыль? Те значения,
которые так упорно выступают как связанные ('гнев' и подобные),
вызывали у некоторых этимологов мысли, что они произвольно
придуманы поэтами (например, Гомером и др.), являются оккази-
1 См.: Lietuviii kalbos iodynas, т. II. Kaune, 1947, p. 576.
40
ональными. Если же выйти из круга привычной нам образности, то
можно найти связи другие (те, которые были свойственны древнему
состоянию языка).
Случай запутанности совсем другого рода — когда история слова
совсем не глубокая — пример VII: обормот.
Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова
определяет слово обормот как 'никчемный, негодный человек,
грубиян, болван'. Определение весьма широкое и нелепое. Самый
большой и ценный материал по этому слову находим в Словаре
русского языка под редакцией А. А. Шахматова (СПб., 1901).
Слово обормот в нем представлено в следующих значениях:
'никчемный человек, негодяй' (Мамин-Сибиряк), 'грубиян, озорник'
(Серафимович), 'оборванец, бродяга' (моек., псков., смол.), 'плут,
мошенник' (кашинск., ладож., петрозав., рыбинск.), 'негодяй,
пристающий к женщине' (зарайск.), бранное слово (новгор.,
петербургск.), 'кто неразборчиво говорит, бормочет' (буйск.).
Кроме того, в этом словаре отмечены обормотка — 'женск. к
обормот', обормотина (м. и ж.) — 'то же, что обормот, обормотка',
обормотничать — 'дурачиться, безобразничать'. В Словаре
областного олонецкого наречия Г. Куликовского (СПб., 1898) отмечена
форма обермот.
Широкий материал убеждает, что это давнишнее русское слово.
Задача — решить, что это такое. В Толковом словаре живого
великорусского языка В. И. Даля слова обормот нет, но есть обморот
(помещено в гнезде «обморочить») — 'бестолковый человек, нескла-
диша'. У В. И. Даля был предшественник — А. X. Востоков,
который поместил в «Опыте областного великорусского словаря АН»
(СПб., 1852) слово обморок — 'мгла, туман' (костром.), 'тот, кто
обморочен' (новгор.). В «Дополнении к Опыту областного
великорусского словаря» (СПб., 1858) есть обморот — 'насмешник, шут'
и 'то же, что нескладиша' (пек., тверск.). Итак, дело довольно ясное.
Древнейшая форма обморок связана с обморочить. Звук ч в русском
языке может быть из к и из т. В слове обморот, произведенном от
слова обморочить, имеем дело с ложной реконструкцией (вместо
обморок — обморот). В картотеке Псковского областного словаря
слово обормот отмечено три раза—бранно: «цыстый абармот»
(1947г.),'бездельник' (1913 г.), 'нахал, невежда' (1918 г.). Эта зыбкая,
расплывчатая цепь значений (то же у А. А. Шахматова) указывает
на утрату внутренней формы, забвение связи с морочить. Становясь
бранным, слово постепенно лишалось первоначальных значений.
Слово обормот, имеющее, по-видимому, недолгую историю, так
далеко отошло от исходного значения обморок, что представляет
загадку для исследователя.
Как трактует М. Фасмер? «Обормот — 'оборванец', обермот —
'то же', олонецк. Несмотря на фонетическую близость слова
оборванец их трудно объединить. Возможно, из нем. ОЬег и мот, затем
сближено с оборванец».
Пример VIII: скорбут.
41
У M. Фасмера в Этимологическом словаре русского языка есть
две статьи —«скорбут» и «скорбь».
Относительно скорбут М. Фасмер пишет, что более древняя
форма этого слова скорбудика в переписке князя Куракина в
Петровскую эпоху 1, которая восходит к итал. scorbutico. Скорбут, по
мнению Фасмера, конечно же из современного немецкого Skorbut
(из Schorf — 'струп'), но это вывести нельзя; М. Фасмер пишет:
из русского скробот— 'зуд* объяснить эту форму нельзя.
Г. Лудольф, рассказывая о населении восточных окраин
Московского государства, пишет: «Почти полгода у них длятся посты, во
время которых народ питается очень нездоровой пищей — капустой
и огурцами, даже не сваренными, а только просоленными,— и это
указывает на значительную силу желудка, они подогревают его,
впрочем, горелкой и чесноком, которые у них в большом
употреблении. Вероятно, эти два средства помогают сохранению их здоровья,
особенно чеснок, настолько же полезный для рассасывания
желудочных слизей, насколько неприятный для обоняния, что многими
признано. Не замечал я у них каких-либо эпидемических болезней, кроме
обычной болезни северных стран, которая и среди остальных народов
Европы известна под своим славянским названием скорбута. Это,
так сказать, болезнь κατ'έξωχήν, потому что слово скорбь
по-славянски значит именно 'болезнь*. А русские имеют еще и особое
название скорбута, именно цынга» 2. Образованное от русского скорбь
с латинским суффиксом -utus skorbutus (скорбут), вероятно, через
посредство докторов, вернулось в общерусский язык. У нас могла
быть и форма скорбот.
Скорбеть, др.-рус. скърбгъти, др.-болг. скръбгьти —
'печалиться'; сербскохорв. скрбити, скрбим, слов, skrbçti —
'страдать', чеш. skrbiti — 'жадничать, скряжничать'.
Издавна это слово связано с литовским жемайтским skufbti
о людях — 'быть в горе, нищете, бедности*, о браге, пиве —
'испортиться, утратить хорошие качества'; skurbë — 'печаль,
горе, нужда'. Латышское skurbt — 'пьянеть', skufba —
'головокружение, хмель', о животных—'время течки'.
Таким образом, балто-славянские соответствия и глагола и
существительного позволяют установить, что древнейшее значение
относится к какому-то болезненному или бедственному состоянию.
Сопоставьте это с греч. κάρφω — 'сморщить, скорчить',
староскандинавское skorpr, skarpr — 'сморщенный, скорчившийся'.
Усматривая чередование о и е, многие пытались скорбут связать с щерба —
'черепок, обломок' и ущерб. Это возможно. Во всяком случае, ясно
только, что наше возвышенное поэтическое скорбь — 'страдание,
томление' — позднее, вторичное переносное, а первоначально —
1 См.: Смирнов Η. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху.—
Сб. ОРЯС Т. 88. СПб., 1910, с. 278.
2 Лудольф Г. В. Русская грамматика. Переиздание, перевод, вступит, статья
и примеч. Б. А. Ларина. Л., 1937, с. 102.
42
'болезнь'. Этому родовому названию и обязано появление слова
скорбут — 'цынга', как название страшной и очень
распространенной болезни *.
1962 г.
2. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
ВВОДНАЯ ЗАМЕТКА
В прошлом веке языкознание не выдвинуло проблемы истории
слов, так как все лучшие его силы были устремлены к
реконструкции праязыка, его обоснованию, затем они обратились к разработке
фонетики, еще позже — к диалектологии и палеонтологии языка
и, наконец, к разрешению вопроса о происхождении языка и языков,
что сейчас стоит в центре внимания. На этих больших путях нашей
и зарубежной лингвистики проходили мимо истории слов и потому,
что недостаточно еще собрано было материалов, и потому, что не
было удачных образцов такой разработки.
История слов была поглощена — вернее, еще не
отдифференцирована — от этимологии. Этимология же до последних дней
коснеет в сумрачных тенях средневековья. Раскрыть корни слов и
разгадать первое значение этих корней — так ставилась задача в
средние века, почти так же понимают ее и новейшие этимологи по
профессии. Пресловутый образец этимологического объяснения
латинского слова lucus — 'роща, лесок' (lucus a non lucendo, т. е.
lucus — 'роща', содержащее тот же корень, что и lux — 'свет',
названо так «потому, что не светится») напрасно вызывает у
современных лингвистов высокомерную усмешку. Хорошо, если этот
образец действительно отпугивает и предохраняет от подобного
рода открытий. Беда, что многие современные этимологии
(суррогат истории слов) ничуть не лучше приведенной. Так, в почтенном
«Этимологическом словаре русского языка» А. Преображенского
легко найти много подобных этимологии. Например, суммируя
долголетнюю разработку слова лоб, он пишет: «основное значение —
сводчатая крыша, скорлупа» (т. 1, с. 462). Там же можно прочитать,
что крупнейший зарубежный этимолог М. Фасмер производит
русское кондрашка — 'паралич, удар' из латинского quandrans и
греческого kodrantes — 'род мелкой монеты', которое-де в скрещении с
немецким Kamrat дало русское диалектное Кондрат — 'собрат,
сотоварищ', а отсюда (?!) и кондрашка (с. 345). Тот же М. Фасмер
название реки Скалбы в Саратовском крае производит от литовского
skalbëja — 'прачка'.
Пусть это неудачи современной этимологии. Но и в самых
серьезных и обоснованных этимологических этюдах разрабатывали
* На этом записи лекций обрываются.
43
тщательно только фонетический и морфологический состав слова,
его отношения к словам родственных языков по этим признакам, а
историей значения, историей употребления слова не занимались вовсе
или занимались крайне небрежно.
На основе работы над историческими словарями — из заметок
на полях — сложилось несколько занимательных книг, начиная с
книги Дармстетера «Жизнь слов» («La vie des mots»). По их образцу
сочиняли и совсем анекдотические или полуанекдотические книги о
«крылатых» или «метких» словах, о ходячих выражениях, об
идиомах (Максимов, Михельсон, Займовский и др.). Здесь подлинных
разысканий по истории слов не бывало, а измышляли для широкой
публики или для учащихся забавную этимологию в самом
средневековом стиле. А в книгах Дармстетера, Бреаля, Нюропа, Эрдмана,
Клюге закладывались основы общей семантики, господствовали
поэтому тенденции к широким обобщениям и логическим
(формальным) схемам.
Гораздо более реализма и подлинной истории слов было в
исследованиях под лозунгом «Слова и вещи» («Wörter und Sacfaen»). Но
крутой поворот от абстрактного слова к данным этнографии,
этнологии и археологии понятным образом увлек исследователей этого
направления от лингвистики к истории материальной культуры;
не слова, а вещи стали в центре внимания, конкретная история
отдельных слов не доводилась до конца в этих работах.
Совершенно исключительными и неожиданными были
результаты работ по лингвистической географии для истории слов.
Несколько книг Жильерона (о словах пчела, пила, петух — кошка,
доить — молотить и др.) были самым важным рычагом для
освобождения истории слов от сковывавших традиций средневековой
этимологии, с одной стороны, и от дилетантского импрессионизма —
с другой.
Теперь открыта возможность построения истории слов без
всяких алхимических превращений, без подмены истории слов
историей вещей, без философских бредней и без анекдотов для
учащихся. Вот такую отнюдь не занимательную, а научную историю
русских слов и разрабатывает сейчас коллектив редакторов
Древнерусского словаря ИЯМ АН СССР.
Мы понимаем свою задачу так. Не происхождение слов, не
зарождение образующих элементов, а конкретную историю слов —
именно тех, какие мы сейчас употребляем, и именно в том составе, в
каком они живут в нашем языке,— необходимо подробно и
углубленно разрабатывать. Этим самым определяется и база и рамки
исследования. Мы начинаем нашу историю слов со времени их
древнейшей документации, мы корригируем и дополняем письменную
традицию (показания памятников древнерусского языка) данными
народных говоров. Это дает нам возможность проследить историю
некоторых слов на протяжении последнего тысячелетия. Так мало?
Да! О большем мы пока не будем говорить. Когда заложен будет
прочный фундамент истории многих слов в различных языках, тогда
44
можно будет выйти за пределы этих узких рамок. Для высокого
здания необходимо создать очень прочный фундамент.
Ограничивая себя в объеме и плане, мы тем больше стремимся
использовать весь комплекс данных исторической эпохи, чтобы
воссоздать историю слова — знака и значений — в теснейшей связи
с историей мировоззрения, культуры, общественного строя. В
поставленных рамках это возможно, так как история культуры
феодальной эпохи в России для этого уже достаточно разработана, а
наши исследователи почти не будут выходить за пределы этой эпохи.
Когда возможно, мы будем привлекать и материалы других
языков. Это необходимо прежде всего для истории «кочевых» слов.
Как слова картофель, табак (а позже какао) после открытия
Америки прошли медленным шагом от крайнего запада Европы из
языка в язык, дошли до Московии и русского языка только в конце
XVII в., а затем за 200 лет добрались до Дальнего Востока, так и
многие другие слова на протяжении нескольких тысячелетий
кочевали по земному шару, отмечая веками сквозные пути культурных
течений, то ли торговых путей мирового значения, то ли
грандиозных военных походов или великих переселений народов. Такими
путями еще до начала письменности, в дофеодальную эпоху, к нам
пришли такие слова, как харалуг — 'сталь, булат', жемчуг или
топор — первые два с Дальнего Востока, третье из Месопотамии.
Рядом с историей отдельных слов складывается история замен
целых пластов словарного богатства в нашем языке, как во всяком
языке.
Летописный термин сустуг—'наплечное и нагрудное
металлическое украшение наряда знатных лиц', имеющий соответствие в
мордовском языке, вытесняется позже термином турецкого
происхождения — алам> затем и это слово исчезает, когда выходит из
употребления его реалия. Вместо термина тавлея распространяется
иранское слово шахматы, вместо шида — иранское же шелк и т. д.
и т. п.
Иноязычные параллели будут привлекаться еще и для
освещения затемненных у нас этапов развития значений слова, так как
в большинстве случаев близкие языки народов, сложившихся в
аналогичной исторической обстановке, развиваются одними путями,
и сравнение тут разрешает многие загадки.
Но главное внимание направлено на своеобразие исторических
перипетий в судьбе того или другого слова на русской почве, в устах
и в письменности русского народа за последнее тысячелетие.
Богатые картотеки древнерусского и современного словарей АН СССР и
все доступные нам словари XVIII и XIX вв. позволяют для многих
слов восстановить шаг за шагом сложную историю их употребления,
изменения значений, отмирания или обогащения.
1940 е.
45
3. ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ (лютый зверь, семья, кавардак)
С историей народа,, его воззрений, моральных оценок,
социального уклада, быта и культурных достижений непосредственно и
широко связан словарный состав языка. Это положение покоится на
давнишнем и богатом опыте языковедов, работающих над
областными словарями, над фразеологией и идиоматикой народной речи, над
историей слов.
Изменчивость, текучесть словарного состава также давно
показана и в исторических словарях, и в работах филологов над
древними памятниками письменности и литературы. [...]
Конкретный анализ исторического изменения значений слов и
словосочетаний, истории обогащений и утрат словаря русского
и других языков становится теперь еще более увлекательным и
важным делом лексиколога. Мы предлагаем здесь три своих
очерка по истории слов русского языка, выбранные из серии таких
частных исследований.
Словосочетание лютый зверь, связанное с познанием животного
мира, было широкоупотребительным в языке литературы и в
разговорном языке с доисторической поры, оно засвидетельствовано в
памятниках как Киевской Руси, так и Московской Руси. Оно
неизменно сохраняло общее значение 'страшный, грозный для человека,
дикий зверь* и в то же время служило обозначением определенного
зверя, видимо, не одного и того же в разное время и в разных
областях, а разных зверей. Теперь это словосочетание перешло в
пассивный фонд русского словаря.
Слово семья переносит нас в область понятий социального уклада.
Оно имело сложнейшую историю употребления. Значение его сильно
менялось, никогда не было узким и простым. Оно продолжает свою
историю и в наши дни.
Слово кавардак появляется в русском языке гораздо позже, чем
семья или лютый зверь. Взамен конкретного значения оно
приобретает более абстрактное чер^з метафорическое употребление. В этом
некоторое своеобразие его истории по сравнению с другими, но самая
схема истории значения этого слова довольно типична для многих
слов, как это будет видно из последующих очерков.
1. Лютый зверь
В «Поучении» Владимира Мономаха есть немало неясных или
не вполне ясных строк. В описании охотничьих подвигов
Мономаха читаем: «Тура мя 2 метала на розЪх и с конем. Олень мя один
болъ, а два лоси,, один ногами топталъ, а другыи рогами болъ. Вепрь
ми на бедрЪ мечь оттялъ. МедвЪдь ми у колЪна подъклада укусилъ.
Лютый звгърь скочилъ ко мнгь на бедры и конь со мною поверже» *.
1 Привожу текст по Лаврентьевскому списку летописи (Поли. собр. русских
летописей. T.I. Вып. I. Л., 1926, с. 251), но устраняю все затрудняющие издание
особенности графики и орфографии XIV в.— без всякого ущерба для читателя.
4&
В опубликованном недавно переводе этого памятника акад.
А. С. Орлова х подчеркнутые мною слова «Поучения» переведены
так: «Лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною
опрокинул». Перевод здесь дословный, но затруднительное выражение
лютый зверь оставлено без перевода. Осторожность академика
Орлова, заставившая его уклониться от уточнения своего
понимания этого места, вполне оправдывается тем, что нет еще достоверного
или вполне надежного толкования этого словосочетания ?.
Рассмотрим доступные нам материалы по истории выражения
лютый зверь, чтобы приблизиться к его пониманию.
В «Изборнике Святослава» 1073 г.: «Чьто бо есть льва лютгъе...*
В Книге Иисуса Навина (по списку XIV—XV вв.): «Пустить на ня
звЪрь лютъ» (в греческом тексте τά άγρια, т. е. 'диких зверей').
Акад. Срезневский в «Материалах для словаря древнерусского
языка по письменным памятникам» (т. II, с. 96—97) эти цитаты
приводит под словом лютый в значении'дикий, свирепый', а
сочетание лютый зверь (с. 97) он переводит — 'волк', иллюстрируя двумя
текстами: 1) приведенным выше из «Поучения» Владимира
Мономаха и 2) «Скочи от нихъ лютымъ звгьремъ въ плъночи...» из «Слова о
полку Игореве». По-видимому, акад. Срезневский считает
постпозитивное сочетание звгърь лют свободным и потому имеющим
обобщенное значение — 'дикий зверь', а препозитивное сочетание
лютый звгърь — неразложимым обозначением одного конкретного
зверя,— и в этом мы с ним можем согласиться. Но, определяя, какого
же конкретного зверя тут имели в виду, он избирает волка.
Контекстом исключена возможность допустить, что речь идет о медведе
или туре, лосе.
Я решаюсь высказать предположение, что такое понимание
сложилось у акад. Срезневского под влиянием текста «Слова о
полку Игореве», так как параллельными к приведенному выше отрывку
являются еще следующие фразы: 1) рядом (о том же Всеславе):
«скочи вълкомъ до Немиги с Дудуток...» 2) и ниже (об Игоре):
«Въвръжеся на бръзъ комонь и скочи съ него бусымъ вълкомъ».
Однако аналогия (параллелизм) выражений — не основание для
их систематического отождествления, а потому возможно, что лютый
зверь в «Поучении» Владимира Мономаха и в «Слове о полку
Игореве» — не волк, а другой зверь 3. Позднейшее употребление слова
1 Орлов Л. С. Владимир Мономах. М.— Л., 1946, с. 149.
2 В курсе лекций «Древняя русская литература XI—XVI вв.» (М.—Л., 1937,
с 88) акад. Орлов переводил это место иначе: «Лютый зверь (барс) вскочил ко мне
на бедра и коня со мною уронил». Тогда акад. Орлов не отказался еще от
необоснованного (традиционного для второй половины XIX в.) отождествления «лютого
зверя» в Поучении Владимира Мономаха с барсом. У нас нет оснований
предполагать, что барс, который водится теперь в горах Средней Азии и Южного Кавказа,
мог обитать в окрестностях Киева в XII в. (см« БСЭ. Изд. 1-е. Т. 4. М., 1950,
с. 781).
3 В сербском языке луто, лутица — 'змея', см.: Караешь. Српски pje4«
ник. Беч, 1852, с, 339—340.
47
лютый и сочетания лютый зверь, оставшееся вне поля зрения
акад. Срезневского, дает основание корректировать его понимание.
Постпозитивное сочетание зверь лют и в позднейшей
письменности, как раньше, обозначает 'дикий (хищный) зверь':
1) «Въ НилЪ рЪкЪ есть звгърь лютый крокодилъ»1; 2) «По тому потоку
водятся звгьри лютыя, осли и пардусы и серны и свиньи» (т. е.
кабаны) 2.
Препозитивное сочетание встречается реже, а значение
его оказывается то обобщенным, то конкретным. Примером
обобщенного значения может служить употребление его в «Повести об
Азовском сидении» 1641 г.: «аки лютые звгьри льва — по темным лЪсамъ
рыскаете». Иначе в «Великих Четьях-Минеях» митрополита Макария
(апрель 22—30, с. 1114): «Пакы ж страшахуть и въ образЪ медвЪ-
жи, овогда ж лютым звгьрем ли волкомъ, ово ли змии ползяху к
нему». Не может быть сомнений, что в этом случае лексема лютый
зверь обозначает определенного зверя, как традиционное и для
XVI в. очень древнее эвфемистическое его обозначение,—
именно так же, как в «Слове о полку Игореве». Однако здесь
очевидно, что нельзя считать значением этого словосочетания 'волк',
потому что именно медведь и волк названы рядом. Какой же
хищник, страшный и опасный для человека, мог быть обозначаем этим
непрямым наименованием? 3
. Современный русский язык тут не поможет нам, так как ни в
литературном языке, ни в диалектах сочетание лютый зверь уже не
употребляется в конкретном значении4.
1 Арсений Суханов. Проскинитарий.— Правосл. Палест. сб. Т. 7. Вып. 3.
СПб., 1889, с. 39.
2 Хождение Трифона Коробейникова 1593—1594 гг.— Правосл. Палест. сб.
Т. 9. Вып. 3. СПб., 1889, с. 43.— Ср. еще в сборнике сочинений Максима Грека
(рукоп. XVI в. Библиотека АН СССР, собр. Доброхотова, № 32, л. 128): «Леон,
а по русски лев звърь есть лют зт>ло». В Лексиконе Памвы Берынды
субстантивированное прилагательное лютый приведено как синоним слова лев> см. по изд.
1627 г., столбец 106: «Левъ: лютый, царь звЪрей». В Азбуковнике из собр.
Погодина № 1145/XVII в., л. 98 ел.: «Леопадръ есть зв/ърь лютъ, тако именуемъ».
Во всех этих случаях постпозитивное сочетание звгърь лют употреблено в
обобщенном значении: 'свирепый зверь'.
3 Такое наименование свидетельствует о каком-то древнем охотничьем табу
на его прямое имя, об ужасе, внушенном этим зверем, а вместе и об его
общеизвестности. Сравните указание в «Опыте областного великорусского словаря АН»
(СПб., 1852, с. 69) на позднейшее эвфемистическое употребление в различных
диалектах слова зверь: «1) 'волк' (ворон., пензен.), 2) 'медведь' (иркут.), 3) 'лось, или
сохатой' (перм.)». Карпатские горцы называют медведя уже и не зверем, а еще
более «безопасным» словом о«; да и самое слово медведь, как давно уже указано,
является эвфемизмом («поедающий мед») вместо более древнего «прямого» имени
этого грозного хищника, притом эвфемизмом бортников. Ср. греч. ό άρκτος, санскр.
rksah, лат. ursus.
4 Мы совсем не находим выражения лютый зверь ни в областных словарях
Академии наук, ни в других областных словарях. Нет его и в Словаре
церковнославянского и русского языка, сост. 2-м отд. Акад. наук (1847), нет в Толковом
словаре русского языка под ред. Ушакова. Даль в своем Толковом словаре
живого великорусского языка (изд. 3-е, т. II, с. 739) помещает: «лютые звери —
большие хищные, опасные человеку». Нет этого сочетания в Лексиконе Треязычном
48
Полезное разъяснение находим в Dictionnaire Moscovite 1586,
с. 80: «Ung loup cervier — Loutessyer (coloute svyer)». Значение
французского loup-cervier хорошо известно — это рысь. Вот какое
описание (из Бюффона) приводит под этим словосочетанием
Dictionnaire de la langue française par E. Littré, t. III, p. 439: «Loup-cervier.
1. Quadrupède carnassier, ressemblant à un grand chat, mais à queue
courte. Ils font voir que le lynx cTElian est le même animal que celui
qu'ils ont décrit et disséqué sous le nom de loup-cervier. Buff. Cf.
Dictionnaire français illustré des mots et des choses... par Larive et
Fleury. Paris, 1887, t. II, p. 396. Loup-cervier (lat. lupumcervarium,
loup qui attaque les cerfs), sm. Mammifère carnassier qui est le lynx
vulgaire des naturalistes, dont la taille est presque le double de celle
de chat sauvage et dont la fourrure d'un roux claire et mouchetée de
brun, est assez estimée. Le loup-cervier était autrefois assez répandu
dans les futaies de la France et de l'Allemagne. Aujourd'hui on le
trouve encore quelquefois dans les Ardennes, dans les hautes Alpes
et dans la forêt de Bohême; mais il est encore fort commun dans tout
l'Est de l'Europe ainsi qu'en Scandinavie» x.
Первая документация этого наименования для французского
языка—в XV в., причем оно встречается там в перечне названий
самых страшных хищников. Этимология слова — от лат. lupum
cervarium... qui attaque les cerfs.
Для французов XV—XVI вв., как и для русских того же и более
раннего времени, рысь представлялась опаснейшим и кровожад-
нейшим зверем. Я без колебания отношу объяснение «Парижского
словаря московитов 1586 г.» к почти современному ему тексту
«Великих Четьих-Миней». Думаю, что оно является лучшим из
возможных объяснений и для приведенной в начале фразы из «Поучения»
Владимира Мономаха. Конец этой фразы явно испорчен писцами в
этом первом, но позднем списке памятника. Я предлагаю
следующую конъектуру: «лютый звЪрь скочилъ мнЪ на забедры и конь со
мною поверже». Перевод тогда должен быть такой: «Рысь прыгнула
на моего коня сзади и повалила меня вместе с конем». Без этого
Ф. Поликарпова 1704 г. В «Словаре Академии Российской, по азбучному порядку
расположенном» (ч. III, СПб., 1814, с. 659 ел.) это сочетание приведено лишь как
один из примеров на слово лютый, а под словом зверь и вовсе не приводится.
«Новый росс.-фр.-нем. словарь» Ив. Гейма (т. II, М., 1801, с. 100): «лютый зверь-
une bête féroce: ein grimmiges wildes Thier». Видимо, с начала XVIИв. этот
эвфемизм выходит из употребления.
1 «Рысь — хищное четвероногое животное, напоминающее большую кошку,
но с коротким хвостом. Они выглядят как lynx d'Elian — то же самое животное,
и описаны и изучены под именем рыси». (Бюффон). Ср. иллюстрированный
французский словарь слов и вещей, составленный Ларивом и Флери (Париж, 1887,
т. II, с. 396):«Рысь (лат. 'волк олений, волк, нападающий на оленей'), сущ. муж. р.
Хищное млекопитающее — lynx vulgaire y натуралистов — ростом почти вдвое
больше дикой кошки, мех светло-рыжий с темными пятнами, достаточно ценен.
Рысь была прежде довольно широко распространена в лесах Франции и
Германии. Сегодня ее встречают иногда в Арденнах, в Альпах и в лесах Чехии; но она
еще широко известна во всей Восточной Европе и Скандинавии». (Прим. ред.)
49
исправления и общий смысл повествования становится
сомнительным *.
В приведенной выше цитате из «Слова о полку Игореве» можно
переводить сочетание лютым звгьрем — и 'рысью' и 'диким
(страшным) зверем'.
Контекст допускает здесь и обобщенное значение,
которое, как показали приведенные материалы, все время
существовало наряду с конкретным и пережило его.
В современном языке это словосочетание не употребительно, так как
нив частном, ни в общем значении оно не соответствует современным
воззрениям.
2. Семья
В старославянском языке слово сгъмия употреблялось с
собирательным значением 'рабы, челядь1. От него было произведено сингу-
лятивное аьминъ — 'раб* 2.
В литовском есть соответствующее слово äeimyna, диал. seimà
(в Литовском словаре А. Юшкевича, т. I, с. 374), значит 'семья,
родня, челядь'. В латышском sàime — 'челядь, большая семья'8.
В южных и западнославянских языках это слово теперь не
употребляется. В польском следы его лишь в именах: Siemirad, Siemo-
wit, Siemomysi4.
В древнерусском языке широко отражалась до конца XVI в.
старославянская традиция (значение 'рабы, челядь'), но наряду
с нею с XII в. засвидетельствовано и второе, собственно русское
значение 'семейство, родственники' ?. Близость этого старого
русского значения к указанным выше значениям латышского sàime
и литовского Seimà, äeimyna позволяет считать древнейшим, какое
мы можем проследить: 'большая семья, задруга'. Это — наследие
дофеодальной, родо-племенной эпохи6. Резкое изменение зна-
1 Ср. у Даля (изд. 2-е, т. I, с. 51): Забедры — 1) 'заплечье, крестец, поясница',
2) 'крестец, круп коня, место позади седла'. Взять кого въ забедры, на забедры—
'посадить за себя на коня*. Писцу, видимо, было незнакомо слово забедры,
сохранившееся теперь только у донских казаков и, возможно, ограниченное в древности
территорией южнорусских говоров.
2 См.: Miklosich F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Emendatum aus^
turn. Vindobonae, 1862—1865, p. 971.
3 Mülenbach K. Lettisch-deutsches Wörterbuch, redigiert von J. Endzelin.
Riga, 1928, Hf. 29, S. 635; Saime...— das Hausgesinde, die Familie im weiteren
Sinne.
4 Bruckner AL Siownik etymologiczny] jfzyka polskiego. Krakow, 1927,
s. 489.
5 Ср. «Материалы для словаря...» акад. Срезневского, т. III, с. 893.
6 В этой статье я не ставлю себе задачей ни этимологического исследования
слова, ни тем более разыскания по истории семьи как социального института у
славян, ограничиваясь сравнительно узкими рамками истории слова семья в
русском языке с начала русской письменности.
50
чения после внедрения феодализма показывают старославянские
тексты (и позднейшие русские отражения их): теперь уже не
'коллектив родни', а *челядь, слуги, рабы' обозначаются этим словом.
Однако более старое значение не отмирает; именно в русском языке
оно претерпевает не столь резкий семантический сдвиг, как в
старославянском: будучи перенесено на новую социальную формацию,
на м а л у ю семью, это древнее значение сохранилось и поныне в
русском литературном языке и большинстве диалектов.
Однако в истории слова семья был еще один, специфически русский
этап. Древнерусские тексты XVI—XVII вв. дают материал,
свидетельствующий, что слово семья имело наиболее сложную
семантическую структуру именно в этот период.
I. Ближе всего старославянскому, но не тождественное, а в
сущности более древнее значение мы видим в таких текстах:
1) 1660 г.: «Взяли его Стеньку въ полонъ татаровя съ женою и
съ дЪтьми и со своею семьею, а взято у него изъ одного дому въ
полонъ 10 человЪкъ» х; 2) 1585—1589 гг.: «Купили три пуды соли вь
вотчину на семью на домашнюю и для прибыльныхъ дЪловых
наемных людей ко жниву и къ сЬнокосу» (т. е. 'в том числе и для
наемных людей')2. Здесь семья значит: 'хозяйственный коллектив из
лиц родственных и неродственных' 3.
От этого общего значения путем метафорического употребления
дифференцируются два специальных — одно в обиходе делового
языка, другое в интимно-семейном и дружеском стиле.
II. 1) В Судебнике царя Федора Ивановича 1589 г.4 читаем:
<сИ в обысках многие люди лжут семьями и заговоры великими».
2) Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г., л. 135: «И
того бы смотрели и берегли накрЪпко, чтобы обысканные люди
семьями стакався въ обыскЪхъ не лгали».
3) Архив П. М. Строева, т. I, с. 635 («Русская историч. б-ка»,
т. XXXII. СПб., 1915), 1586 г.: «А добрых бы людей напрасно не
клепали и семьями бы и заговоры по дружбе и по недружбе речей
своих не говорили ни на кого ни въ чемъ».
4) «Да учали мне говорити: нынЪча есмя дЪлали дЪло государя
великого князя всЪ трое нас заодин, что был государю нашему
великому князю не слуга Абды-Рахман, был он не семья» ^.
1 Акты Московского Государства. Под ред. Д. Я- Самоквасова. Т. III. СПб.,
1901, с. 76.
2 Книги расходные Болдина монастыря, с. 41.
3 Аналогично слову семья употреблялось в ту же эпоху и слово двор: приведу
два примера: 1) «Новгородци въспятишася, а князь погонися по нихъсъ своимь
дворомъ» (Новгородская I Летопись под 6753/1245 г.); 2) «А съ пытки, государь,
Ивашко Сычь да Якишко Микифоровъ сказали на себя, что де мы его Третьякову
лавку покрали съотлъ дворомъ (кн. Шайдякова)» (Акты Холмогорской и
Устюжской епархий, 1626 г.— «Русская историч. б-ка», т. XIV, с. 8).
4 Сборник Моск. гл. арх. Мин. ин. дел. Вып. 7. М., 1900, с. 51.
ь Памятники дипломатических сношений Московского Государства с
Крымскою и Ногайскою, ордами. Т. И. СПб., 1895,. с. 273—1516 г.
51
Если первая цитата не дает ясного указания, что тут слова
семья — заговор являются синонимами, т. е.
обозначают*единомышленники, сговорившиеся и действующие заодно', то последняя
цитата бросает яркий свет на все предыдущие. Такое специфическое
употребление слова семья в языке приказных дьяков и подьячих
(московской бюрократии) продержалось лишь до второй половины
XVII в., судя по имеющимся у нас материалам.
III. Ряд текстов не оставляет сомнений, что примерно в то же
самое время слово семья в разговорной речи средних (а потом и
высших) сословий приобретает новое переносное значение,
заслоняющее принадлежность его к словообразовательному типу имен
собирательных,— оно употребляется как синоним слова жена.
1) «Дал вкладу... Клементий Еутропьевъ сынъ Тропина за себя
да за дЪтей своихъ — за сына за Матфея да за Исайю да за Ивана
да за семью свою Матрену да за дочерь за Олену за здравье помина-
ти ... полчетвертатцать рублевъ» г.
2) «Андреевская семья Петровича Клешнина Ирина
Андреевна...» 2.
3) «Былъ государевъ бояринъ... въ монастыре похоронять семьи
своей Агрипены» 3.
4) «Я дожидаюсь твою семью, жену» 4.
5) Письмо В. В. Степанова П. П. Шафирову: «Се я оканчевая,
поздравляю вашему превосходительству купно съ семьею вашею и
з дЪтьми съ наступившим новымъ годомъ» £.
Это значение нашего слова известно еще и теперь кое-где в
говорах Верхнего Поволжья, кое-где на Дону. Сохранилось оно и в
фольклоре:
Здравствуешь Добрыня сын Никитинич,
Со своею да с любимой семьей,
С той было Маринушкой Кайдальевной.
(Онежские былины, записанные Гильфердингом.
СПб., 1873, с. 29.)
У тыя было у стремены у правыя
Провожала Добрыню любимая семья»
(Песни, собранные П. И. Рыбниковым, т. 1, с. 130.)
1 Шляпин В. П. Акты Вел.-Устюж. Мих.-Арханг. монастыря. Ч. 2. Вел.
Устюг, 1913, с. 174.
3 Вкладные книги Антониева Сийского монастыря 1576 г.— «Чтения Об-ва
истории и древностей российских (ОИДР)». Кн. 2. М., 1917, с. 21.
п Переписные книги Ипатьевского монастыря, 1595 г.— «Чтения ОИДР».
Кн. З.М., 1890, с. 55.
4 Ludolj. Grammatica Russika. Oxonii, 1696, 2, с, 49.
δ Письма и бумаги Петра Великого. Т. VII. Вып. 1. Пг„ 1918, с. 242.
62
Можно представить историю
значения слова семья в такой
схеме:
Пояснения:
Б —большая семья (задруга);
д{ — малая семья (жена и дети);
С -— родители и дети; Ж — жена;
ц — челядь, рабы; Д —
домочадцы (родня и дворня); 3—
«заговор», т. е. сговорившиеся друзья
и родственники; Сх —
единомышленники; С2— дружеский союз.
Как и в истории лексемы
лютый зверь, мы наблюдаем в
семантическом развитии слова
семья возникновение новых
значений, более узкоконкретных,
из собирательного — через закрепление метонимических
применений, становящихся самостоятельными значениями. Большая
часть значений слова семья, обычных в наши средние века,
теперь ему не свойственна, лишь кое-где в диалектах уцелели
пережитки значения 'жена*, да в современных: а) бессемейный —
'тот, у кого нет жены и детей', б) семейственность — 'сплочение на
основе родственных и дружеских отношений', а в последнее время:
семья народов, семья большевиков — можно уловить пережитки
старых значений: а) 'жена и дети* и б) 'единомышленники*.
Современное основное значение слова семья отличается от
средневекового тем, что отсутствует противопоставление: сам, муж, хо-
зяинслюемья (ему подвластная, его владение). Наша семья значит —
'оба родителя и дети* (а иногда и близкие, вместе живущие
родственники).
У феодала семья состояла из дворни (слуг, рабов), кабальных и
закладных людей и кое-каких приживальщиков, дальней родни.
Семья крестьянина состояла только из жены и детей, да иногда
стариков, но на старом понятии крестьянина о семье и правах над
нею отразились воззрения феодала. Наше употребление этого слова
ближе связано именно с крестьянским или посадским, а не с
феодальным его применением.
Снова отмечу, что обобщенное значение или
применение в обобщенном смысле проходит через всю историю слова с
древнейшей поры и доныне как самое стойкое, при всех конкрети-
зациях, притом оно существует с ними параллельно.
3. Кавардак
История слова кавардак гораздо более короткая, близкая, но
тем не менее сложная в перипетиях семасиологического развития и
потому особенно любопытная.
53
Это слово с эпохи татарского ига изустным путем начало
проникать в народные говоры. В деловом приказном языке оно
прослеживается только с конца XVI в., в XVIII в. почти не употребляется,
а в XIX—XX вв. широко известно в крестьянских диалектах; со
второй половины XIX в. довольно часто встречается в
художественной литературе, но в особом от народного значении.
По мнению акад. Корша, оно заимствовано из киргизского куур-
дак — 'мелко искрошенная и изжаренная в прокипяченном масле
баранина'. Древнее значение этого слова сохранено в нерчинских
говорах — «жаркое из печени и сердца барана, мелко искрошенных,
одетое брюшинной рубашкой того же барана» г. Вариант этого
исходного значения слова сохранился в говоре уральских казаков:
«вяленые кусочки спины красной рыбы. Теперь кавардаков совсем уже
не делают» 2.
Богатый материал по двоякому применению этого слова в XVII в.
дают дела Приказа тайных дел, кн. 1 («Русская историч. б-ка»,
т. XXI, СПб., 1907):
1) «Велено наготовить... на стрелецкие кормки ковордаку
ветчинного» (с. 722).
2) «Указалъ дать... въ ковардакъ, которой велено здЪлать для
отпуску ратнымъ людемъ, 400 пудъ ветчины» (с. 1558).
3) «Велено отпустить для государева походу... 5 вЪдр
кавардаку постного» (с. 1672).
4) «Прислано... ковардаку рыбья з жиром: белужья
пластинчатого 13 вЪдръ, сомовья пластинчатого 11 вЪдръ» (с. 1692).
5) «По указу великого государя розвезено въ девичьи монастыри
и роздано старицамъ в Вознесенской... ковардаку астраханского
белужья пластинчатого и мЪлкого по ведру, сомовья пластинчатого
и мЪлкого по ведру ж, сазонного пластинчатого и мЪлкого по ведру
ж» (с. 1694).
6) «Прислано къ Москве съ астраханцомъ съ Лариономъ Лговымъ
кавардаку 10 вЪдръ мЪлково, 6 вЪдръ пластинчетова, а зд'Ьланъ тот
ковордакъ для образца; куплено на тотъ ковордакъ 170 да 10 вЪдръ
жиру» (с. 1607).
Ранее ковардакъ астраханской упоминается в Столовой книге
патриарха Филарета Никитичаs. В Кладовой росписи боярина
Б. И. Морозова читаем: «... взято съ Москвы съ Борисомъ Ивано-
вичемъ столовыхъ обиходовъ ... кадка икры паюсной, кадка икры
луконныя, кадка кавардаку, галенокъ лимоновъ ...»4
От степняков мы переняли способы консервирования мяса и
рыбы для дальних походов провяливанием и заливкой жиром.
Доведя это изготовление кавардака до высокого совершенства,
придворные и боярские повара превратили этот вид походной пищи в
1 См.: Словарь русского языка АН. Т. IV. Вып. 1. СПб., 1907, с. 42.
2 См.: Сборник слов и выражений, употребляемых уральскими казаками.
Уральск, 1913, с. 26.
3 См.: Старина и Новизна. Кн. 11. СПб., 1906, с. 81.
4 См.: «Временник ОИДР». Кн. 6. М., 1850, с. 41.
64
лакомство, которым царь угощает и одаряет в знак особой милости,
а бояре, отъезжая в свои поместья, не забывают захватить с собой
кавардаку наряду с лимонами и паюсной икрой. Но когда это блюдо
указано было готовить для казенной «кормки» низшего войскового
состава, оно быстро утратило все свои достоинства. Можно
представить себе, каким кавардаком стали кормить солдат подрядчики-
казнокрады, если прочитать историю этой реалии в народном
предании, в показаниях крестьянских говоров XIX в.:
1) «Жидкое кушанье дурно приготовленное» (москов., симбирск.,
тамбов.) 1.
2) «Кушанье из различных припасов (из щей, сухарей, луку и
проч.)» а.
3) «Во многих местах варят настоящий кавардак вроде болтушки,
в нее, как в солянку, готовится всякая всячина, лук и толченые
сухари, соленый судак и свежая рыба» 3.
4) «Боль в животе, сопровождающаяся ворчаньем и поносом
(псков., тверск., Осташков.)» 4.
Понятно, что это слово, своего рода обвинительный документ
против администрации,— не попало в словари Академии Российской;
нет его и в Лексиконе треязычном 1704 г., нет и в Словаре Ив.
Гейма. К тому же его реалия, кушанье — вышло нз обихода высших
классов.
Жуковский еще мог употребить это слово в старинном значении—
как яркий штрих в шутливой пародии на ироическую поэму, с
туманным намеком на новое значение:
Меж тем собирался
Тихо на береге Карповки (славной реки, где водятся карпы,
Где, по преданию, Карп богатырь кавардак по субботам
Ел, отдыхая от славы), на береге Карповки славной
В семь часов ввечеру Арзамас двадесятый.
(Протокол 20-го Арзамасского заседания (1817 г.) 6.)
Но скоро это слово войдет в литературный язык как ходовая
заглохшая метафора:
«А тогда и прочие начнут выдумывать, и выйдет у нас смятение,
т. е. кавардак» (С а л τ ы к о в - Ш е д ρ и н. Помпадуры и
помпадурши).
«Иначе он, зная все старые глупости, может наделать чорт знает
какого кавардаку, так как он способен удивить свет своею подлостью»
(Лесков. Соборяне).
1 Опыт областного великорусского словаря АН. СПб., 1852, с. 62.
2 Τ а м же.
3 Максимов С. Крылатые слова. Изд. 2-е. СПб., 1899, с. 466 ел.
4 Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858, с. 75.
' Жуковский В. А. Свбр« ооч. Под вед. А. С. Архангельского. Т. II. СПб.,
1902, с. 119.
55
У Лескова еще достаточно слышна осуждающая нотка этого
слова, сейчас она уже не звучит, и потому это слово теперь
забывается, его вытесняют конкуренты с более ощутимым вторым
семантическим планом, с более ясно выраженной оценочной окраской х.
Там, где 50—60 лет назад уверенно поставили бы хлесткое слово
кавардак, теперь скажут бедлам, развал или еще покрепче.
От нас не скрыто появление в русском языке слова кавардак,
мы наблюдаем и переход его в пассивный «исторический» фонд,
откуда большинство слов не возвращается без особо счастливой для
некоторых слов обстановки.
Самым критическим моментом в истории слова кавардак был
переход от предметного значения к абстрактному. И здесь
недостаточно было общей закономерности метафорического применения,
так как уже появление названия постный кавардак было
обусловлено метафорой (по сходству способов приготовления). Только
резкое усиление эмоциональной окраски (вследствие изменения самой
реалии) создало предпосылку для того особого вида метафоры —
по эмоционально'оценочному ореолу значения,
который позволил применять это слово к вызывающим неодобрение
явлениям общественной жизни. Закономерной в этом семантическом
скачке является утрата предметного, конкретного значения еще в
силу того, что из узкой среды, из солдатского языкового обихода,
в котором оно имело конкретное значение, слово перешло в общий
язык буржуазного общества, где сохранен только эмоциональный
тон его и расплывчатый контур значения: «мешанина ... и
прескверная». Такие заимствования из аргоидных разговорных диалектов
обычно не бывают долговечными в общем литературном языке.
1951 г.
4. ИЗ РУССКО-ИНДИЙСКИХ СООТВЕТСТВИЙ (ИНДИЙСКИЕ
ПАРАЛЛЕЛИ К ДРЕВНЕРУССКОМУ люди лучшие)
Глубокие корни нашей культуры переплетались с корнями
культуры индийской на «запавшем» горизонте индоевропейского
соседства и близости. Но с той поры прошло три тысячелетия, если не
больше. Разделенные просторами степей, неприступными цепями
горных хре&гов, множеством промежуточных государств, пестрых
культурных ландшафтов, разделенные историческими перипетиями,
пережитыми врозь, вовлеченные в сферы далеких и различных
очагов культуры, народы Руси и Индии потеряли связь, потеряли
предания и воспоминания о былой близости.
Однако научная реставрация индоевропейского родства в
XVIII—XIX вв. опиралась на давнишний интерес, жадное внимание
ко всем сведениям о «чудесной», «богатой», «сказочной» Индии.
1 В Толковом словаре русского языка под ред. Ушакова (т. I, с. 1276) кавардак
определен синонимами нейтрального стиля: беспорядок, неразбериха, сумятица.
56
В русской письменности, как известно \ сведения об Индии
накапливаются с XI в. Легендарные рассказы постепенно
вытесняются все более достоверными, переводные источники заменяются
оригинальными.
Первое записанное путешествие русского человека в Индию
относится к 1466—1472 гг. Оно выделяется среди более ранних
и близких по времени западноевропейских сочинений такого рода
лаконичностью и меткостью рассказа, остротой наблюдений,
точностью в деталях, широтой охвата жизни средневековых княжеств
западной и центральной Индии 2. «Хожение за три моря» Афанасия
Никитина восхищает нас не только как захватывающая повесть о
преодолении великих трудностей и испытаний одиноким
путешественником в «потустороннем» индийском мире, но и своей
познавательной ценностью, как драгоценный исторический источник, как
памятник пытливых исканий и раздумий русского человека об
Индии, ее вере и обычаях, ее государстве и народе.
Нельзя понять героической судьбы Афанасия Никитина, не
прочитав в его «Хожении» — кроме отчета о виденном и
пережитом — глубокого мотива, непреклонной воли: чудеса Индии
разгадать, веру и обычаи понять и сравнить со своей верой, богатства
Индии разведать, чтобы добиться постоянного обмена.
В XVII—XVIII вв. повторяются попытки завязать
непосредственные связи с Индией. Отправляются политические и торговые
посольства, умножается переводная литература об Индии. В XIX в.
публицисты, историки, философы не теряют Индии из поля зрения 3,
в середине века возникает у нас индийская филология, славная
именами академика О. Бетлингка, К. А. Коссовича, И. П. Минаева,
Ф. И. Щербатского, С. Ф. Ольденбурга, А. П. Баранникова 4.
* * *
Громадная дистанция двух культурных миров объясняет
трудности, тормозящие развитие нашей индологии, и пока еще низкий
уровень знакомства с русской культурой в Индии. Но эта же
дистанция определяет большую теоретическую и историческую
ценность сопоставительных изучений.
1 См.: Истрин В. М. Сказание об Индейском царстве. М., 1893; Соболевский
A. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903;
Сперанский M. H. Сказание об Индейском царстве.— «Известия РЯС АН СССР».
Т. III, 1930, с. 369—464; Его же. Индия в старой русской письменности. М., 1934.
2 См.: Срезневский И. И. «Хожение за три моря».— «Записки II Отделения
АН». Т. II. СПб., 1857; Минаев И. П. Старая Индия.— «Журнал Министерства
народного просвещения», 1882, № 6 и 7; «Хожение за три моря» Афанасия
Никитина. Литературные памятники. Под ред. акад. Б. Д. Грекова и чл.-корр. АН СССР
B. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1948; Кунин К- И. Путешествие Афанасия
Никитина. М., 1947; Прибытков Вл. Тверской гость. М., 1956.
3 См.: Глазами друзей. Русские об Индии [Сборник]. Сост. А. В. Западовым
и Е. П. Прохоровым. М., 1957.
4 См.: «Вестник ЛГУ», 1957, № 8, особенно статьи В. М. Бескровного,
В. И. Кальянова, Е. Я. Люстерник.
57
Сравнительное языкознание, разрабатывая индоевропейскую
проблему, вскрыло богатый запас общих корней, близость многих
элементов грамматической системы древнеиндийского языка,
санскрита, и славянских, в частности русского языка г. Эти вопросы
слишком мало привлекают внимание в нашем языкознании XX в.,
но к ним еще вернутся, так как поле исследования необъятно и
материалы для сопоставлений неисчерпаемы.
Сто лет назад русско-индийские сопоставления производились
исключительно в целях утверждения генетической общности, этими
сопоставлениями иллюстрировали необычайную стойкость и
верность глубокой старине славян и индийцев. Теперь никто не станет
поддерживать тезис об исключительном консерватизме славян,
балтийцев, а уж тем более индийцев,так как разработка современных
индийских языков, как и история славянских и балтийских языков,
за минувшее столетие шагнула далеко вперед и сняла начисто эту
славянофильскую концепцию.
Но проблема приобрела новый интерес, так как открылся новый
план разработки сопоставлений: и показ закономерных
расхождений когда-то близких языков, и освещение независимых
параллельных новообразований. Сопоставления такого назначения помогают
нам лучше понимать историю каждого из сопоставляемых языков и
подходить к познанию общих закономерностей развития
сходных начал в коренным образом несходных
условиях. Перейдем к фактам.
Счет возраста у нас ведется по прожитому лету {двухлетний,
двадцатилетний . . . столетний), в готском словом wintrus
обозначали 'год* и 'зиму' (так же в древнеисландском), а в современном
хинди для понятия 'возрастной год' пользуются словами baras
и varsa (санскритизм), означающими прежде всего 'дождь'.
Напрасно старался бы кто-нибудь отрицать обусловленность этих
расхождений географическими широтами, климатом ареала каждого из
упомянутых языков. *
Более замысловатая вариация той же закономерности — в
расхождении переносных значений слов с одним основным
значением.
В хинди thandak обозначает прежде всего 'холод, мороз', но
употребляется в значении 'удовольствие, удовлетворение';
выражение thande-thande значит 1) 'по холодку', 2) 'с радостью, с
удовольствием' (от прил. thandä —'холодный, морозный').
Промежуточным звеном этого переносного значения было: 'свежесть,
прохлада'-►'освежающий, прохладный'. В знойной Индии развитие
1 Первая специальная работа по этой теме написана А. Ф. Гильфердингом:
«Сравнение языка славянского с санскритским».— В кн.: Материалы для
сравнительного и объяснительного словаря и грамматики. Т. Ί. СПб., 1854, с. 209—252,
273 — 323, 337—355, 401—489. Она, понятно, изоеилует промахами. В томе II того
же издания напечатана работа А. С.Хомякова (1856) «Сравнение русских слов с
санскритскими», еще более несовершенная.
58
основного значения шло именно этим путем, а в русском слове стыд 1
уже бесследно исчезло старое значение 'холод', сохранившееся в
глаголе стынуть; ср. вариант этого же корня студить, студ-еный.
Мы говорим: «стынет кровь в жилах...», «я похолодел от ужаса...»
Как видим, наши производные значения от 'холод' развиваются в
другом направлении, чем в Индии.
Но во многих случаях история слов в далеких языках имеет одну
смысловую ось. Древнерусское пузъ 'мера зерна и соли' дало в
современном русском пузо — 'брюхо, живот' и пузырь.
Санскритское peta — 'корзина' тоже дало в языке хинди pet — 'живот, пузо'.
Корни разные, а история значений одинаковая.
Древнерусское вор до средины XVII в. еще сохраняло следы
древнейшего значения 'волшебник, колдун'; и в языке хинди рядом
с däkü — 'вор, разбойник' сохранилось däkin и dâkinï —'ведьма',
(но не 'воровка').
Латинское passer — 'воробей' никогда не имело обобщенного
значения 'птица', для этого понятия было другое слово (avis), но в
испанском именно оно приобрело такое значение: pajaro — 'птица'.
В хинди слово ciriyä употребляется в двояком значении: 1)
'воробей', 2) 'птица'. Русские птица, птенец, птах, пташка из път-ица
(а др.-русск. и диал. еще потка из пътъка), как и соответствующее
им в латышском (однокоренное) putns — 'птица', восходят к
названию курицы, как показывает литовское (диал.) pute — 'курица',
putytis — 'цыпленок' 2.
В диалектах непали и камаони мотылек обозначается словами:
titili (titli) и putali 3. В языке хинди эти слова дифференцировались
по значению titli — 'бабочка', putli — 'кукла'. Но
доказательством их единого в прошлом значения является то, что как непаль-
ско-камаонские titili, putali, так и оба слова в хинди — titli и putli
имеют еще и значение 'красавица, франтиха'. В русском слово
бабочка не утратило своей связи с бабка и наряду с применением к
мотыльку употребляется как ласкательное обозначение молодой
приглянувшейся женщины, правда не в строгом литературном
языке, а в просторечии.
Этимология индийского titili неясна. Но putali (putli) восходит
к санскр. putrï — 'дочка', отсюда и 'мотылек', и 'красавица'. Что
же касается значения 'кукла' в хинди, то русские народные говоры^
дают полную параллель этой филиации значения в словах: ляля,
лялька, которые обозначают и 'ребенок, дитя', и 'кукла, куколка' 4.
1 Истории слов стыд и срам посвящена другая моя статья. [См. в настоящем
издании с. 63—72].
2 См.: Trautmann R. Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923, S. 233.
3 См.: A Comparative and etymological dictionary of the Nepali language
by R. L. Turner. London, 1931, pp. 283, 385.
4 См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II.
Изд. 3-е. СПб., с. 743; Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852,
с. 108; ляля — 'игрушка', 'грудное дитя'; Добровольский В. Н. Смоленский облает-»
ной словарь. Смоленск, 1914, с. 392.
59<
Соответствие в ходе развития основного значения putali: 1) 'дочка'-*
-»·'красавица'-*-'мотылек1, 2) 'дочка'-^кукла'—и ряда приведенных
русских слов мне представляется очевидным.
* * *
В русском фольклоре выражение люди добрые стало почти
универсальным (десемантизированным) обращением: в отличие от этого
добрые люди употребляется аналитически, в значении 'хорошие,
доброжелательные, добросердечные люди'.
В древнерусском языке уже в памятниках XI—XIII вв. добрии
люди и мужи добрии чередуются с лучшие мужи, мужи лучшие 1.
Приведу несколько примеров.
1. «Аще боярьска дщи, за срамъ ей 5 гривенъ злата... а добрых
людей, за срамъ 5 гривенъ сребра» (Церковный устав Ярослава
1051—1054 г.).
«БЪжа Костянтинъ посадникъ къ Всеволоду и инЪхъ добрыхъ
мужъ нЪ кол и ко» (Новгородская I летопись, под 6645/1137 г.).
«ДЪти поимаша у добрыхъ мужь в тали» (т. е. в заложники) (там
же, под 6748 г.— 1240 г.).
2. «Собрашася лучьшие мужи, иже дерьжаху (т. е. владели)
Деревьску землю» («Повесть временных лет», под 6453/945 г.).
«Поча нарубати (т. е. верстать, брать на службу) мужЬ лучьшиЬ
от Словенъ и от Кривичь, и от Чуди и от Вятичь — и от нихъ
насели грады» (там же, под 6496/988 г.).
«Toe же осени приидоша Новгородци лучшие люди, Мирошкина
чадь (т. е. родня Мирошки, новгородского посадника) къ великому
князю Всеволоду...» (Никоновская летопись, под 1200 г.— Поли,
собр. русских летописей, т. X, с. 32).
«В то же врЪмя (6694/1186 г.) въстань бысть Смоленьске промежи
киязьмь Давидомь и Смолняны, и много головъ паде лщьишхъ
мужъ» (Новгородская I летопись).
По значению эти словосочетания очень близки, хотя и не
тождественны. Самое раннее значение 'старейшины рода', потом
'богатейшие люди', наконец, 'доверенные люди из самых надежных
по достатку, наиболее почитаемые':
«Приидоша къ нему отъ града Пскова лучьшии людие бита че-
ломъ» («Книга степенная царского родословия») 2.
Позже это сочетание применяется к богатому купечеству,
наиболее зажиточным посадским людям, но основным признаком
остается их зажиточность, богатство, чем «лучшие» и отличаются от
знатного, родовитого боярства в Московской Руси.
1 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка.
Т. I, с. 682 αι.; τ. II, с. 58 и 93.
2 Поли. собр. русских летописей. Т. XXI. Ч. 2. СПб., 1913, с. 586.
60
«А на левой сторона (царского стола) Ъли стольники, стряпчие,
дворяне московские . . . лучшие люди, полковники крещеные . . .» 1
Эти «лучшие люди» были откупщиками, сборщиками пошлин
и податей, хранителями казенных сборов, выморочного
имущества и т. п.
«Собирали бы тотъ доходъ люди лучшие, которые къ тЪмъ церк-
вамъ прихожи» («Стоглав», XVI в. Изд. 2-е, Казань, 1887, с. 154.
Постановление Собора).
«На Псковичь Никифора Ямского и Михаила Сарпунова з сы-
номъ и на иныхъ лутчих людей Псковичанъ же доносять, что во
время точию Швецкия войны украдено ими пошлинъ и питейной
прибыли зъ девяносто тысячь рублевъ и вящше» (Письма и бумаги
Петра Великого, т. IV. СПб., 1900, с. 1203—1706 г.).
«А деньги, которые у тебя староста есть 80 рублей, умершего
постороннего крестьянина, и ты оные отдай лютчим мирским людем
в мирскую коробью и вели оным запечатать своими печатьми»
(Вотчинный архив Бутурлиных, № 36, письмо помещика старосте,
1724 г.).
Однако, кроме этой основной линии отхода от наиболее
древнего (известного нам) значения, наметилась и другая — в
осложненном выражении: лучшие, середние — и малые (или молодые, мо-
лодшие) люди. Здесь наиболее четко сохранилась относительность
значения слова лучший, а потому эта осложненная формула
применялась· свободнее, без такой терминологической ограниченности,
как лучшие люди.
«От царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси на
Двину... старостам и целовальникам и соцким и десяцким и всем
луччим людем и середним и молодым» (Грамота 1557 г.2 изд. Сади-
кова).
«И посацких всяких торговых и мастеровых людей добрых и
середних и малых посацкие места, и те все дворы на всем посаде
писаны сряду не порознь» (Писцовые книги города Казани 1565—
1568 гг.)8.
Параллели этому древнерусскому употреблению находим в
средневековых памятниках других европейских языков (например,
скандинавских), но я предоставляю это другим исследователям,
так как сейчас нас привлекают только индийские параллели.
В современной Индии очень распространены фамилии Шрештх(а)
и Сетх. Но слова эти очень употребительны и как нарицательные.
Последнее слово представляет собой закономерное фонетическое
развитие первого. Из санскритского прилагательного çresthah,
что значило 'лучший', а как существительное 'царь', 'брахман',
1 См.: Курдюмое М. Записки о церемониях, происходивших при дворе царя
Алексея Михайловича в 1654 г.— В кн.: С. Ф. Платонову ученики... СПб.,
1911, с. 328.
2 См.: Садиков /7. А. Очерки по истории опричнины. М.—Л., 1950.
5 См.: Материалы по истории Татарской АССР.—«Труды Историко-археогр^·
фического института. Материалы по истории народов СССР». Вып. 2. Л., 1932,
с 13.
64
как из санскритского çresthin, что значило 'глава гильдии1,
'почитаемый человек', одинаково развилось в новоиндийских языках
слово seth; в хинди оно означает: 1) 'банкир', 2) 'купец'.
Древнее употребление и значение слова seth как прилагательного
'лучший, знатный' сохранилось только в таких архаических
новоиндийских языках, как непали и сингалезский (в силу их периферий-
ности). Широко употреблялось это прилагательное в языке пали и
в пракритах (settha). Существительное же seth (из çresthin) в языке
орийя, синдхи, маратхи звучит еще sethi (setthi), но шире
распространено и стало нормой в хинди seth. Кроме указанных двух
основных значений в литературном языке, оно употребляется
диалектально и в более древнем значении: 3) 'старшина цеха
ремесленников', 'старшина гильдии купцов', а в просторечии — с
производными значениями: 4) 'богач', хозяин'.
Приведенный материал из языков Индии позволяет утверждать
параллельность развития значений слова лучший. У нас — в
сочетаниях с мужи, люди(е), в санскрите — с ведущим к субстантиви-
зации суффиксом -in. В пали и пракритах еще различали
прилагательное settha и существительное setthi, а в новоиндийских языках
они совпали в одном слове с пучком новых значений, исключительно
субстантивных.
В русском сочетание лучшие люди долго сохраняло частное
значение 'богачи', 'доверенные лица', откуда и его употребление в
смысле 'откупщики', 'сборщики', но словосочетание не превратилось
в простое слово, и не произошло окончательной конкретизации
значения.
В новоиндийских языках потеряна всякая связь
существительного seth с древним прилагательным çresthah. Это способствовало
филиации значения не от прилагательного, а от существительного
çresthin. Но совершенно одинаково в той и другой стране от эпохи к
эпохе социальный адрес этого слова неуклонно снижался: сперва
'царь' или 'брамин', потом 'старшина гильдии купцов' или
'банкир', потом 'купец' и просто 'богач', наконец, всякий 'хозяин'
(в устах батрака).
Для наглядности (и ради освежающей улыбки) я приведу еще
одну цитату на предел 'снижения' в русском языке:
«Яицкой городъ, которой есть на устьЪ рЪки Яику, а живутъ
въ немъ переменные из Астрахани по 300 и больши служилых
людей, и тЪхъ конечно надобно оттуды взять: всегда и изъ Астрахани
лутчих воров туда посылают» (Письма и бумаги Петра Великого,
т. IV, с. 832—1706 г., письмо Ф. А. Головина).
Лутчих воров здесь значит: 'мятежников из богатых людей'.
Это окказиональный оттенок старого значения.
Наши сопоставления — при условии продолжения и
накопления их — могут привести к теоретическим обобщениям
относительно закономерных расхождений и закономерных аналогий в истории
языков, принадлежащих к разным культурным сферам.
1958 г.
62
5. ИЗ СЛАВЯНО-БАЛТИЙСКИХ ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИХ
СОПОСТАВЛЕНИЙ (стыд —срам)
Все тихо — страх его объемлет,
По нем текут и жар и хлад.
(А. Пушкин. Цыганы).
Дифференциация аффектов, в которых нераздельно слиты
эмоции и побуждения, ограничивается и тормозится тем, что
самоанализ, осознание своего психического состояния может иметь место
только спустя промежуток времени, отделяющий аффект от его
распада на ослабленные оттенки эмоций и усилия интеллекта
постигнуть причины аффекта, предмет эмоции и суть субъективного
отношения к этому предмету, возбудившему аффект.
В стадии зарождения и в стадии «остывания» и разложения
аффект дифференцируется, а в своем апогее разнородные аффекты
сближаются, подобно тому как ярко пылающее пламя своим
сверканием слепит нас всегда одинаково, а загорающийся огонек или
угасание огня многокрасочно, богато оттенками и поддается
дифференциации.
Если дифференциация аффектов, эмоций медленно обогащается
в горниле поэзии, художественной литературы и психологии, то в
отдаленном прошлом истории человечества мы можем предположить
еще более трудное и замедленное продвижение по пути осознания
аффектов и эмоций.
Единственным свидетелем неисчислимых усилий и различных
путей этой замедленной дифференциации и единственным
неоспоримым памятником всех достижений на этом пути разных народов в
разные эпохи является язык.
Поэтому благодарной и увлекательной темой лексикологических
исследований должны стать слова, обозначающие аффекты и
составляющие их элементы: чувства и побуждения.
Описывая аффективные состояния, писатели прибегают к
сложным комплексам наименований психических и физиологических
признаков, смешение красок на палитре здесь выступает с полной
очевидностью:
«Его мучили страх и стыд» (Гончаров).
«Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом»
(Пушкин).
«В животе у него перекатывало, под сердцем веяло холодом,
само сердце стучало и замирало от страха перед неизвестностью»
(Чехов).
Это объясняет нам и позволяет считать закономерным
объединение в древних обозначениях аффектов — и наименования
элементарных ощущений и наименования потрясающих чувств.
Например, в древнегреческом ή στΰ£, στυγός означает 'ужас',
'отвращение', 'холод'. ВдревнеисландскомЬапш — 'печаль', 'горе',
'боль*.
63
Франц Миклошич L считал омонимами старославянского языка:
1) студъ — pudor и 2) студъ — frigus. И. И. Срезневский 2
привел древнерусский материал на слово студъ только со значениями
'стыд', 'поругание', 'постыдный поступок', а рядом студень,
студент, студеньство — 'холод' и студити — 'охлаждать'. Эти
данные позволяют думать, что и в древнерусском слово студъ означало
раньше и 'холод', и 'стыд', и 'позор, поношение'. От этого слова в
народной речи студенец — 'холодец', студеный — 'холодный',
остуда — 'простуда' и т. д.
Проследим употребление слова студъ и некоторых
производных в старой русской письменности с XI до XVII в.3, чтобы
осветить развитие его значений в доступной для нас исторической
перспективе.
1. «Горе блудьнику, съ студъмь изгънанъ будеть» («Изборник
Святослава» 1076 г., л. 79). Здесь студ — 'позор (порока)'.
2. «Да очистится от грехъ, и тако приходите к святымътаинамъ,
и да никто же речеть: полнъ есмь студа и греховъ» (Слово Иоанна
Златоуста. «Пролог», рукоп. XIII в.). Здесь студ -^ 'порок*.
3. «Начаток животу — вода и хлеб, и риза, и дом, покрываяй
студ» (Библия Геннадия. Книга Сирахова, XXIX, 24, рукоп.
1499 г.).
4. «Иже с черноризицами или священными девами студ деюща.
Носа урезание да приимет» (Кормчая Балашова XVI в., л. 571).
В двух последних цитатах студ — 'непристойные (интимные)
действия*.
5. «И радостию възрадовалися, а врази их облекошася в студ»
(«Рогожский Летописец», XV в., 105).
6. «Борисово воинство поби ростригину силу, и зело победи, m о
бежати ему со студом» (Житие царевича Дмитрия, рукоп. конца
XVII в., л. 35).
В последних двух цитатах студ — 'позор и поношение'.
В XVII в. слово студ употребляли Сумароков, Державин,
Капнист. У Сухово-Кобылина («Дело», акт I, явл. 5): «Плечи голые,
груди голые — студ позабывают!»
С XIII в. засвидетельствованы словосочетания студ и срам, студ
и срамота 4.
1 См.: Mikloéich F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Emendatum
austum. Vindobonae, 1862—1865, p. 898 sg.
2 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка.
Т. III. СПб., 1912, с. 576 ел. и 574 ел.
3 Графику и орфографию древнерусских текстов мы будем максимально
приближать к современной, чтобы не создавать излишних затруднений как для
читателя, так и для издателя. Ведь дело идет только об истории значений ряда слов, и
частности орфографических вариаций, а тем более графическая пестрота текстов
разных эпох не представляют никакого интереса для данного исследования.
Большинство цитат из источников XI—XVII вв. приводится по картотеке
Древнерусского словаря АН СССР.
4 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка,
т. III, с. 576.
64
7. «Да облЪкуться въ студъ и в срамъ вельрЪчюющии на мя»
(Симоновская Псалтырь, до 1280 г., пс. 34).
8. В Новгородской V летописи под 1323 (6831) г.: «... и отъбЪ-
жаша нЪмцЪ со многымъ студомъ и срамомъ отъ Пьскова».
9. В «Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков»
(к XVI в.): «Но еще королю под градом Псковом стоящу и всячески
о своем бездельном (=безрезультатном) приходе размышляющу,
како и коими образы покрыта студ и срамоту лица своего и како
дщую (=напрасную) свою и высокогордую похвалу (=похвальбу)
мало некако изправити»г.
10. «От построения при церквах лавок и домов и содержания
вблизи рядов и кабаков происходит студ и срамота» ?.
В современном литературном языке слово студ
неупотребительно, а все производные от него слова {студень, студеный, простуда,
выстудить и т. д.) свидетельствуют о древнем и, можно думать,
первоначальном значении 'холод', какое было основным, если не
единственным тогда, когда образовались все эти слова. Дружное
свидетельство всех процитированных выше памятников позволяет
утверждать, что в эпоху древнерусской письменности, в
литературном языке XI—XVII вв., не только основным значением слова
студ было 'позор, срам', но оно вытеснило древнее значение
'холод*. Ср. псковское студа— 'стыд', но архангельское студа—
'холод' 3.
Следовательно, употребительные теперь производные как бы
оторвались от исходного студ, а потому полностью сохранились
после его вытеснения синонимами, сохранились в своих более
древних значениях, не отразив изменения значения исходного слова.
* * *
По древним законам чередования гласных у\\ы наряду со
словом студ существовало с глубокой древности и слово стыд. В нашей
письменности сперва засвидетельствованы производные слова:
стыдъкъ, стыдъкый, стыдгьние, стыдьный, стыдьливый, стыдгь-
тися (с XI в.)4, но лишь с XVI в. широко употребляется в
письменности исходное слово стыд, которое постепенно вытеснило из
литературного обихода своего «старшего брата» — студ на
протяжении XVIII—XIX вв.
1 См.: Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков. Подготовка
текста и статьи В. И. Малышева. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1952, с. 90.
2 Полное собрание законов Империи Российской, 1747 (№9365).
* См.: Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб.,
1858, с. 257; Даль В, И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV.
Изд. 2-е. СПб., 1882, с. 346, а также Опыт областного великорусского словаря
АН. СПб., 1852, с 218.
4 См.: Востоков А. Словарь церковнославянского языка. Т. I. СПб., 1858.
F. MikloSich (Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, 1862—1865, p. 898) приводит
древнесербское стыдъ по Даничичу, а производные из собственно
старославянских памятников; И. И. Срезневский («Материалы для словаря...», т. III, с. 581
ел.) приводит только производные, а слова стыд не указывает.
3 JV« 5422
65
Первая документация слова стыд — в письмах кн. Андрея
Курбского, позже оно встречено в Донских делах 1644—1650 гг., в Про-
скинитарии Арсения Суханова, в «Космографии» 1670 г., в
«Римских деяниях», в сочинениях протопопа Аввакума, у Г. Котошихина,
в «Повести о Горе-Злочастии».
Во всех перечисленных литературных источниках XVI—XVII вв.
слово стыд употребляется в том же значении, что и его синоним
студу т. е. в том значении, в каком мы употребляем его и сейчас.
Однако в «Причитаниях Северного края, собранных Е. В.
Барсовым» (М., 1872—1886) записано слово стыда (ж. р.) в значении
'стужа'; в таком же значении на стыде — 'на стуже, на холоде'
записано в говорах Чембарского уезда б. Пензенской губ.
(картотека Словаря АН СССР).
В западноукраинских грамотах XIV в., изданных В. Курашке-
вичем, встречаем стыдгьнь — 'колодец', которое, так же как и сту-
денец — 'колодец1, косвенно свидетельствует о древнем значении
слова стыд — 'холод' г.
Если возводить слово остынуть к *о-стыд-нуть, то оно тоже
могло бы быть косвенным доказательством древнего значения
'холод' у основы стыд, но наличие архангельского стыгнуть —
'стынуть' и украинских стиглий, стигнути, остигти, остигати 3
заставляет возводить стынуть к стыг-нуть, т. е. считать эти слова
родственными по основе др.-греч. στύ£, στδγός — 'холод'.
Кроме данных о древнейшем значении слова стыд — 'холод',
нельзя обойти переносного значения, представленного в
литературном языке XVIII в. и первой половины XIX в.:
Иные по кустам одежды изодрали
И, наготы имея вид,
Едва могли прикрыть от глаз сторонних стыд.
(Богданович. Душенька, I, 98.)
Ежели стыд у старца убитого псы оскверняют,—
Участи более горестной нет человекам несчастным.
(Г н е д и ч. Илиада, XXII.)
Почти полное совпадение значений слов студ и стыд объясняется
чередованием, переплетением их употреблений, а не
происхождением от одного корня, ибо когда-то чередование корневых гласных
имело прямую связь с чередованием значений. Как уже сказано,
первое из этих двух слов постепенно было вытеснено в русском
литературном языке вторым.
1 См.: Kuraszkiewicz W. Gramoty halicko-wotynskie XIV—-XV w. Studium
jçzykowe. Krakow, 1934, Gramota A.
2 Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858,
с. 258, и Гринченко Б. Д. Словарь украинского языка. Киев, 1907. Т. IV, с. 203,
ит. III, с. 71.
66
Схематически развитие значений этой синонимической для
древнерусского языка пары слов можно представить так. От
синкретического, нерасчлененного значения: 'ощущение холода, боли'->
'мучение страха, стыда, позора' -Vчувство стыда'-Vпоругание,
позор*. Параллельно развивалась и вторая линия филиации значений:
'чувство стыда'->'интимные действия (половые связи)'->'позор
порока'-*1 pudenda'.
Почти такую же богатую документацию в русском и других
славянских языках имеет третий синоним — старославянское срам.
Известное ряду памятников XI—XVI вв. слово срам на 2—3
столетия уступает первое место в литературном языке Московской Руси
полногласному древнерусскому варианту сором, которое
сохранилось до XX в. в русских народных говорах и осталось основным
выражением понятия 'стыд* в украинском литературном языке.
Но в русском литературном языке с конца XVII в. полногласный
вариант вновь уступает место архаическому церковнославянскому
срам, употребляющемуся, однако, уже на правах второго синонима
при слове стыд. В соответствии с этим и древняя синонимическая
пара студ и срам, или студ и срамота, заменяется более новой стыд
и срам (стыд и поношение, стыд и позор).
«Стыд и срам нашему роду!» (Пушкин. Капитанская дочка.)
«Все стали говорить, что просто стыд и срам» (Гоголь.
Шинель.)
«А то ведь, право срам смотреть и слушать: мужчина хвастается
победой над девушкой, а бедная девушка должна скрывать свой
стыд» (Добролюбов. Поли. собр. соч. Т. 3. М.— Л., 1936,
с. 588).
В древнерусской письменности слово срам появляется в
памятниках почти одновременно в своем основном и производных
значениях, что позволяет заключить о его длительной доистории и
сложном семантическом развитии еще до начала нашей письменности.
Рассмотрим примеры употребления этого слова.
1. В Переяславской летописи (рукоп. XV в.) под 1035 (6543) г.
читаем: «Умыкание, насилование, аще будет боярская дщи, за срам
5 гривен злата, а митрополиту такоже».
2. В «Правилах» (рукоп. XV—XVI вв., л. 66): «Аще ли не
кается и ни поиметь ея (растленную девицу),— казнить градским
законом, отъяти пол имения и дати девици той за срам». Здесь и выше
срам — 'позор потери девственности*.
В зависимости от стиля памятника в московской письменности
чередуются варианты срам и сором в основном значении как для
древнерусского, так и для современного языка, т. е. в значении
'стыд, позор'; в высоком церковно-книжном стиле употребляется
старославянский вариант срам, в деловом и повествовательном сти-
ле ~ русский полногласный вариант сором.
з*
67
3. «Феогнаст митрополит глаголаше ему: срам есть князю
неправду чинити и насильствовати и разбивати» (Никоновская
летопись под 1332 г.—Поли. собр. русских летописей, т. X, с. 205).
4. «И бЪжа сам к ордЪ, не мога срама трьпЪти и горького безъве-
ремения и безчестия и студа» (Ермолинская летопись.— Поли. собр.
русских летописей. Т. XXIII. СПб., 1910, с. 141).
5. «Яз заимовал у стольких людей, что мн-Ь топере от них сором»
(Памятники дипломатических сношений Московского Государства с
Англиею. Т. II. СПб., 1883, с. 239—1584 г.).
6. «Кто з запасом живет, иио всегда гостя не сором»
(«Домострой».—«Чтения ОИДР». Кн. 2. М., 1881, с. 49).
7. «Государя нашего воеводы крымских людей многих побили...
и из земли государя нашего крымской царь ушел с соромом»
(Памятники дипломатических сношений с Империею Римскою. Т. I. СПб.,
1885, с. 510, грамота 1576 г.).
Иносказательное значение, отмеченное выше для слова стыд,
еще шире засвидетельствовано для срам и сором.
8. «А паропкы до девочкы ходят нагы до 7 лет, а сором не покрыт»
(Хожение затри моря Афанасия Никитина 1466—1472 гг. Изд. 2-е.
М.—Л., 1958, с. 14).
9. «Абдалы... ходят наги и босы, только закрывают у себе срам
овчиною» (Петровский М. «Хождение на Восток Ф. А. Котова
в первой четверти XVII в.» — «Известия ОРЯС», т. 12, кн. 1, 1907,
с. 102, список XVII в.)1.
Слово страм в тобольских говорах употребляется в значениях
'гной', 'отбросы*, в ишимских, златоустовских, кокчетавских
говорах— в значении 'грязь, сор*: «Страм-το хоть бы вымели!»
Слово сором встречается у Кирши Данилова, в песнях,
записанных Рыбниковым на Севере, у Сумарокова, Лажечникова, А. К.
Толстого. Широко известно это слово в говорах архангельских, вятских,
тверских, псковских, владимирских, тамбовских, тульских, обоян-
ских, в сибирских старожильческих. Славянские языки (кроме
чешского) имеют свои варианты этого слова 2.
1 Ср. еще: в Требнике XVI в. среди вопросов духовника, которые задавались
на исповеди, записан и такой (л. 52): «Или имала ли еси кого за сором, чюжого
мужа?» В Повести о Соломоне: «И подвинула царица руку его на свой срам и
рече: что ето? И Соломон рече: «оттуда есми вышел и свет увидел» (Ложные и от-
f>e4eHHbie книги, СПб., 1862, с. 666, список XVII в.). Фраза Котова: «А как ходят
абдалы] молитца, так моют руки по локоть, и ноги, и гузно, и передний срам»
(«Известия ОРЯС», т. 12, кн. 1, 1907, с. 120, список XVII в.) — указывает на
исчезнувшие выражения: «передний срам», «задний срам». В «Онежских былинах,
записанных А. Гильфердингом» (СПб., 1873, т. I, с. 843): «Он свой сором долонью
закрыл». В романе Л. Леонова «Вор»: «Раздевшись первым, Елдюков вбегал,
покрывая рукою срам, и окачивал стены ледяной водой». В Словаре украинского
языка под ред. Б. Д. Гринченко, т. IV, 169: соромок (у малолетнего). Ср. в'
Толковом словаре В. И. Даля, изд. 3-е, т. IV, с. 400: сарма, и с. 403: сором,
срамота.
2 См.: Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка, т. II,
с. 368—369.
68
* * *
Нельзя не видеть параллельности в развитии значений, с одной
стороны, слов студ, стыд и производных, а с другой стороны,
гнезда слов от корня мерз· (морз-). Сопоставьте мороз, за-мороз-ки,
мороз-ить, из-морозь с мерз-ок, мерз-ость, мерз-авец, о-мерз-ение и
мерз-нуть, мерз-лота. И в этом случае мы констатируем исходное
значение 'холод', а производные значения — в области чувства и
оценки; чувства, близкого к стыду, страху, отвращению; оценки
морально-порицательной.
Исходя из сходства и соответствия в линиях развития этих слов,
мы имеем основание считать не прослеженной до конца,
недоработанной и незавершенной и историю слов срам, сором. Здесь недостает
первого звена — обозначения физического явления или
физиологического состояния, от которого на раннем этапе развития мышления
шли к обозначению аффекта стыда. Мы находим это первое звено,
сопоставляя срам (сором) с литовским Sarmà — 'иней'.
А. Мейе сопоставлял срамъ с зендским наречием fSaremat —
'от стыда', персидским §егт — 'стыд* (добавим таджикское äarm),
А. Торп —с древненорвежским harmr —'печаль, вред,
поношение', англосаксонским harm — 'боль, мука' и т. д. Те же
сопоставления повторил и Р. Траутман1
В Индоевропейском этимологическом словаре Юлиуса Покорного
под корнем *kormo снова собраны те же сопоставления славянского
срамъ, что даны были А. Мейе и А. Торпом ?. Отдельно от этого
гнезда собраны у Ю. Покорного группы балтийских и славянских
слов от корня *кег (6) с его производными основами: *кег-по,
*ког-теп (а следовало бы добавить сюда и вышеуказанное *kor-mo):
1) литовское Sirmas—'серый', латышское sirms — 'id', лит.
Sarmà —'иней', латыш, sarma — 'id'; лит. Sermuö, äarmuonys,
äermuonelis — 'горностай', латыш, sermuüs—'id'. Все это без
славянских соответствий;
2) лит. SefkSnas—'светло-серый', SerkSnyti — 'покрываться
инеем' (но здесь не указано более употребительное литовское
àarmoti в том же значении), латыш, serksns, serns, sersna — 'иней',
ст.-слав. сргънъ—'пестрый', др.-русск. сереный—'светло-серый',
русск. серен—'изморозь', польск. szron (из érzon)3.
Нам представляется необходимым установить связь этих групп,
т. е. восстановить неправомерно расторгнутую связь гнезда:
ст.-слав. срамъ, иран. Sarm, герм, harm(a) с литовским aarmà, лат.
1 Meillet A. Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. II. Paris.
1906, p. 428; Torp A If. Wörterbuch der germanischen Sprachen (Vergleichendes
Wôrterbuch der indogermanischen Sprachen. Bd. III, 4. Aufl. Göttingen, 1909,
S. 79. Trautmann R. Baltisch-slavisches Wôrterbuch. Gôttingen, 1923, S. 299.
8 Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wôrterbuch. 7. Lief. Bern,
1950, S. 615.
* Trautmann R. Baltisch-slavisches Wôrterbuch, S. 300; Pokorny /.
Indogermanisches etymologisches Wôrterbuch. 6. Lief. S. 573.
69
sarma, а тем самым и с лит. Sef kânas, латыш, sersna и ст.-слав, сргьнъ,
русск. серен, армян, sarn. Если бы раньше обращено было внимание
на семантическую филиацию, показанную нами для студ — стыд
и для мерз-нуть, мороз, из-морозь\\мерз-оку мерз-ость, мерз-авец
и т. д., то и для слова срам (сором) и производных нашли бы
утраченное звено исходного их значения в литовском aarmà, a тем самым
к бедным сопоставлениям слова срамъ подключили бы новый ряд
индоевропейских параллелей.
Мало вероятно, чтобы литовское âarma и жемайтское âafmas
не имели славянских соответствий, как думал Р. Траутман, а
славянское срамъ не имело бы балтийских коррелятов, как утверждал
слишком поспешно А. Брюкнер х\ он не придал никакого
значения повторенному им под словом szron сопоставлению Ад. Беццен-
бергера ст.-слав, сргьнъ с литовским âarmà.
Разъединяло эти два гнезда различие значений. Фонетических
затруднений для сопоставления срамъ — aarmà нет 2, а со стороны
морфологической требует пояснения расхождение форм рода. Но
выше уже было указано на русское диал. стыда жен. р. (олонецкие
говоры) при стыд; отметим и стужа жен. р. при студъ\ наконец,
приведем еще и форму страма жен. р. (псковские говоры) наряду
со страм: «Такую страму навели на нас!»; есть форма страма и в
донских говорах 3.
С другой стороны, и в литовском рядом с Sarmà, f.—'иней*
известно и âârmas, m.— 'щелок', но об этом слове речь будет
дальше. Укажу здесь на аналогичное параллельное употребление
форм мужского и женского рода в лит. SerkSnà оо serkänas —
'иней', или jâuja с>о jaujas — 'рига, овин', или gumba со gùfnbas —
'древесный гриб, нарост на дереве', или gardas со gafdè —
'изгородь, ограда', старолитовские: abyda со abydas, mukacomukas,
pazara со pazaras, pavietra со pavietris, narsa со narsas, perkuna со
perkunas 4.
Вернемся к несовпадению значений. Указанные параллели и
аналогии являются достаточным основанием считать, что
исходным значением слова срамъ (сором) было 'холод' и далее — на
балтийской почве — 'изморозь, иней', в лит. Sarmà и латышек,
sarma.
Рассмотрим несколько примеров употребления слова sarmà5.
1 Bruckner A. Siownik etymologiczny jçzyka polskiego. Krakow, 1927, s. 511:
«Srom... brak go zupeJnie w litewskiem.» Id., s. 554: szron, szren.
2 Ср.: pOras go paras (лат. purs); krântaookrantas. В обоих случаях, как и в
Sarmà со Sârmas, на основе метатонии происходит дифференциация значений.
Ср. Safmas — 'иней*.
3 Миртов А. В. Донской словарь. Ростов-на-Дону, 1929, с. 311.
4 Bezzenberger Ad. Beiträge zur Geschichte der litauischen Sprache auf Grund.
Litauischer Texte d. XVI und d. XVII Jahrhunderts. Göttingen, 1877, S. 94,
ff. S. 98: «Nes narsa Diewa ant in ataia. Gelbek mus Wießhpatie nuog perkunas
ßiebu».
6 Пользуюсь извлечениями из материалов картотеки Большого
академического словаря Академии наук Литовской ССР.
70
1. „(Lapeliai) pabojo Saltiu'u аагте1щ" (Tauta ir 2odis, I, 279).
Перевожу: „Листочки побоялись холодной изморози".
2. „Jei ziema Salta, gili, ааггпц daug,—vasara bus géra
(Ibid., Ill, 342) — „Если зима холодная, глубокая, много инея,—
будет хорошее лето".
3. „Kurie szârmôs baidos, tus u2puls sniegas" (Biblija Rézos,
1824, Jobo, IV, 16, n. 646)—„Кто боится изморози, того
засыплет снег".
4. В неопубликованной части Словаря А. Юшкевича это слово
определяется двумя значениями: 1) 'иней*: Nuo medzin âarma
krinta v. inis, äerkSnis —„С деревьев падает иней"; 2) 'изморозь,
wyziew': „Pavasari iäejna âârma is Cernés"—„Весной изморозь
выходит из земли".
Аналогично определение в Словаре Нессельмана: „Иней на
деревьях и на траве (последнее обычно Salna)". Эти
лексикографические данные подтверждаются диалектальным материалом.
5. „Si гуЦ didelè äarma buvo, apäarmojo visas miäkas ir lau-
kai" (Udrija)—„Сегодня утром большой иней, покрыл все леса
и поля".
6. „Ιδ nakties visi medfrai buvo su sarma aptraukti" (Veivir-
zenai) —„С ночи все деревья были покрыты инеем".
7. „Medziai tokion Sarmon kaba" (Pociüneliai) —„С деревьев
свисает такой (пышный) иней".
Слово Sârmas означает теперь 'щелок'. О том, что это
значение произошло из значения 'зола', можно судить по такому
тексту:
8. „Jisai barsto ааггтц nei pélenus" (Clavis Germanica-Lithu-
ana, II, 294)—„Он посыпал инеем, не золой".
Не пришлось бы добавлять пояснения: nei pélenus 'не золой',
если бы слово аагпц (в котором совпадают формы винит, пад.
ед. от Sârmas и от Sarmà) не было двусмысленно: 'инеем' со
'золой'. А значение 'зола'было метафорическим развитием более
древнего значения 'изморозь'. Поэтому можно реконструировать
исходное значение слова Sârmas именно как 'изморозь, иней',
т. е. как тождественное со значением слова Sarmà и его
варианта safmas.
Этим путем мы устанавливаем возможность сопоставления
славянского срамъ не только с лит. sarmà, но и с лит. Sârmas
в его исходном значении, сохранившемся в жемайт. safmas.
Сохранив более древнее значение 'изморози', sârmas и sarmà
не развили тех производных психологических значений, какие
созданы в славянских словах гнезда срамъ.
Литовское gêda — 'срам, стыд' со своими производными
прилагательными gèdingas — 'стыдливый', 'позорный', godùs и godly-
vas — 'жадный' убедительно сопоставляется со славянскими: гадъ,
гадъкъ, укр. огида, гидкий, чеш. haditi, ohyzda. В этом случае именно
показания славянских языков позволяют реконструировать
историю значений литовского слова gêda. Ближайшим промежуточным
71
звеном было 'омерзение, отвращение' (как в укр. огида), а более
древним значением 'блевота, тошнота' *.
Латышское kauns — 'срам, позор* имеет соответствие в готском
hauns — 'низкий, презренный'; через древневерхненем. honida оно
соотносительно с фр. honte. Подобранные Ю. Покорным и ранее
Р. Траутманом параллели ? не открывают семантической
перспективы. Следовало бы, минуя непоказательное литовское диал. küve-
ties — 'стыдиться', сосредоточить внимание на латышском же ка-
vëties — 'медлить, мешкать'. Отправляясь от этого слова, можно
предположить, что kauns первоначально было отглагольным
прилагательным со значением 'остолбенелый, оцепенелый', а лишь позже
стало существительным, утратив связь с глаголом kavëties, и к
значению 'стыд' пришло от значения 'оцепенение'.
В современном хинди çarm — 'стыд' и çarmila — 'стыдливый',
çarmânâ — 'стыдить, срамить' соответствуют по происхождению
славянскому срамъ. Судя по начальному f, эти слова не должны
объясняться из иранского, скорее наоборот — попали в иранские
языки из индийских. Наряду с этим словом в хинди употребляется
laj, соответствующее санскритскому глаголу lajjate, который
правдоподобно может быть выведен из rajyate — 'краснеет'. Здесь видим
другую линию происхождения обозначения стыда.
Ко всем приведенным историко-семасиологическим наблюдениям
приведу еще одну параллель. В воронежских говорах холоду нагнал
значит 'напугал' 3. В исторической песне об Иване Грозном 4 при
описании смертельного ужаса, охватившего одного из сыновей
Грозного, когда ему, разоблаченному, угрожала казнь, его
смятенное состояние выражено потрясающе простой и живописной
формулой: «Брат-то и озяб...»
Итак, историю значений слов студ, стыд, срам можно
реконструировать в виде такой схемы. От синкретического значения 'холод*
как явления природы и физиологически определяемого болезненного
состояния тела к более определенному, узкому — 'переживание,
аффект, сопровождающийся ощущениями холода' (ср. «стынет
кровь в жилах»). Далее обозначение аффекта 'стыд' и отсюда
социально-оценочное значение 'позор, поношение', развивавшееся
путем метонимии. От 'стыда наготы' переход к обозначению интимных
действий и частей тела, а далее и порока. Последние значения еще
и теперь представляются метафорическими, хотя они известны по
памятникам с XI в., что можно объяснить их неизменной эвфемис-
тичностью.
1958 г.
1 Рокоту J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 6. Lief., S. 484;
Trauimann R. Baltisch-slaviches Wôterbuch, S. 81.
2 Pokorny J. Ibid., S. 535; Trauimann R. Ibid., S. 122.
3 Ср. у Λ. И. Куприна в «Поединке»: «В девятой роте командир такого холоду
нагнал, что ужас».
4 См.: Миллер Вс. Ф. Исторические песни русского народа. СПб., 1915,
с. 102.
72
6. О СЛОВЕ янтарь
В русском языке слово янтарь засвидетельствовано относительно
поздно, хотя можно предполагать его раннее заимствование.
В «Дополнениях к Материалам для словаря древнерусского
языка» И. И. Срезневского1 приведена одна цитата на ентарь
из Описи Николо-Корельского монастыря 1551 г. Картотека
Древнерусского словаря АН СССР содержит документацию слова янтарь
с середины XVI в., а слова янтарный — с конца XVI в. Приведу
некоторые материалы.
Первая документация в грамоте 1551 г. из собр. П. М. Строева 2
совпадает с указанием И. И. Срезневского: «...два сукна свиточных
да ентарю пять гривенок...»
Затем в Ревельском собрании актов 3, в грамоте XVI в.: «Да
купил бы ты большего енътарю. А здеся гривенку купять по 7
алтын».
К концу XVI в. надо отнести и упоминание о янтаре в Торговой
книге: «...мастика бЪлая аки ентарь бЪ л ой» 4.
Чаще встречается это слово в источниках XVII в. и позже:
«Сентября въ 21 день у Ярославца у Констянтина... куплено
фунтъ ентарю у шесть алтын четыре денги дано» s.
«В том море (у берегов Прусской земли) находят множество
янтарю, тот камень к болЪзни очной угоденъ» в.
«Въ едином... княжествЪ Прускомъ токмо камень янтарь
обретается» 7. «Тут же родится и ентарь желтой... о которомъ говорятъ
онЪ, яко родится от мозгу старыя сосны» 8.
Федор Поликарпов включил слово янтарь в свой Лексикон
Треязычный 1704 г., что свидетельствует об употребительности
этого слова в литературном языке начала XVIII в.
1 Срезневский И. И. Дополнения к Материалам для словаря древнерусского
языка. Т. III, с. 102.
2 Архив П. М. Строева. Т. I, с. 334.— «Русская истории, б-ка». Т. 32. СПб.,
1915.
3 См.: Русские акты Ревельского городского архива. Т. I, о, 84. Изд. под ред.
А. Барсукова.— «Русская историч. б-ка». Т. 15. СПб., 1894.
4 Рукоп. Гос. Публичной библиотеки в Ленинграде, а. IX, M 52, л. 18.
6 Книга расходная Холмогорского архиерейского дома, JSTs 107, л. 24, ел.,
1694—1695 гг.
6 Книга глаголемая Космография. Между 1655 и 1667 гг., список 1670 г.
Изд. О-ва любителей древней письменности. СПб., 1878—1881, с. 262.
7 Письма и бумаги Петра Великого. Т. I (1688—1701). СПб., 1887, с. 160.
8 Описание книги сея государства китайского или хинского. Рукоп. 1731 г.—
«Библиотека Смоленского пед. ин-та», № 124 (3) Б, л. 75 об. Ср. еще:
1) Приходо-расходные книги Московских приказов. Т. I, с. 192 (1614—
1619 гг.).— «Русская историч. б-ка». Т. 28.
2) Травник (Лечебник), перев. Николая Любчанина, 1534 г. Рукоп. XVII в.
Собр..Уварова, № 2192, л. 386.
3) Симони П. К. К истории обихода книгописца, переплетчика и иконного
писца.. — В кн.: Памятники древней письменности и искусства, № 161. СПб.,
1906, с. 103.
73
Приведенные данные ясно указывают на то, что в Московской
Руси янтарь, как импортный дорогой товар, получали из
Прибалтики. Сведения о китайском янтаре только расширяли
представления русских людей о происхождении этого дорогого материала
для украшений и ценной утвари г.
Отсутствие этого слова в записях Ричарда Джемса 1618 г. и
французских купцов (1586 г.) в Холмогорах 2 — Архангельске
подтверждает предположение, что в XVI—XVII вв. на Руси знали
только балтийский янтарь.
«Словарь Академии Российской...» в своем энциклопедическом
определении дает указание: «его находят на берегах
северо-западных Балтийского моря и на берегах Северного океана» 3.
Русские средневековые материалы свидетельствуют о том, что
первоначальная форма слова ентарь лишь во второй половине
XVII в. книжниками была «гипернормализована» в янтарь так же,
как старое ендова (из лит. indaujà) в яндова 4 в силу того, что
древнее я в неударяемом слоге произносилось как еу и написание
этимологически неясного слова было «выправлено» книжниками по
соотношению: произносим ейцо, ечмень — писать надо яйцо, ячмень
(ср. еще колебания в памятниках XVII в.: емьчуга — ямчуга, есаул—
ясаул, ертоул — яр may л, епонча — япанча).
Наличие н в слове ентарь указывает на то, что заимствование
этого слова в восточнославянские диалекты не могло произойти
ранее X в., иначе мы имели бы ятарь.
Предание о Прибалтике как родине янтаря, вероятно, имело
влияние и на этимологические толкования его названия. Э. Бернекер
писал, что это слово из русского перешло в украинский, чешский,
словинский и сербскохорватский, а происходит из литовского
gentâras, gintäras. Впрочем, он добавляет в конце: «темное слово» δ.
Догматически утверждает балтийское происхождение этого слова
Ал. Брюкнер: «Славяне не имеют никакого своего названия для него,
русское янтарь из литовского gentâras. Литва имеет два исконных
названия, так как пруссы обитали с незапамятных времен над самым
местом его рождения («гнездом»)»в.
Однако Р. Траутман с полным основанием не поместил
этимологии этого слова в своем «Балто-славянском словаре» 1923 г.
* Слово янтарный засвидетельствовано в таких обозначениях: шкатула
янтарная (1674 г.); фляшка ентарная (XVII в.); чотки ентарные (конец XVII в.);
часы боевые ентарные (XVII в.); суды (судки) ентарные (1669 г.); зеркало ентар·
ное (1684 г.); ентарная мука (1682 г.); масло ентарное (1673 г.); ентарный
камень (1534 г., сп. XVII в.).
2 См.: Ларин Б.А. Парижский словарь московитов 1586 г. Рига, 1948, с. 182.
3 Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный.
4. VI. СПб., 1822, с. 1457.
4 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка.
Т. III, с. 1659—XVI в.
ь Berneker Ε. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1914,
5. 445.
6 Bruckner Al. Slownik etymoiogiczny jçzyka polskiego. Krakow, 1927,
S. 50 — s. v. bursztyn.
74
В III томе академического Словаря литовского языка1 первый
вариант, gentäras, подтверждается только одной цитатой из
журнальной статьи; следовательно, надо принять за основу сопоставлений
именно второй вариант — gintâras, широко засвидетельствованный
и в диалектах, и в литературном языке. (Ф. Куршати К. Буга
предлагают акцентировку gintâras, и ее приняли как норму авторы
коллективного словаря: Нидерман, Брендер, Сенн 2.)
Ту же форму принял за исходную и Э. Френкель 3. Он не
объясняет происхождения слова, приводя только литовские, латышские
формы и русское янтарь, упоминает об «очень неправдоподобном»
объяснении Г. Петерссона 4, не излагая его. Последний вариант,
видимо, и послужил источником русского янтарь (с ударением на
последнем слоге).
Наличие полной системы производных слов (приведу их ниже)
свидетельствует о древности употребления этого слова в литовском 5.
Два отыменных глагола: 1) gintarâuti — 'собирать янтарь' и
2) gintarëti —'превращаться в янтарь'. Три отыменных
прилагательных: 1) gintaringas — 'богатый, обильный янтарем'; 2) gin-
tar mis — 'янтарный'; 3) gintaruotas — 'такой, в котором много
янтаря'. Два существительных производных: 1) отглагольное gin-
tarâvimas — 'добырание янтаря'; 2) отыменное gintarininkas (вар.
gintarninkas) — 'мастер по обработке янтаря'.
Материал из древнепрусского языка недостаточен. Ни Э. Берне-
кер, ни Р. Траутман в своих сводах древнепрусских источников и
словарных объяснениях к ним не приводят древнепрусских
соответствий. В. Пирсон β приводит gentar без ссылки на источник, а это
значит, что слово известно ему из современного диалекта в Эльбинге,
как он объясняет на с. 3 своей книги. Слово gentar он объясняет как
'производитель огня', сопоставляя его с латинским genitor, что мало
вероятно. Я. Эндзелин 7 вводит в свой словарик древнепрусского
языка gentars, ссылаясь на Г. Нессельмана 8.
В исследовании Р. Траутмана о древнепрусских личных именах а
приводятся имена: Gyntarre, Gintar, чередующиеся с Guntar; он
объясняет это чередование указанием на соответствие лит. ginti,
древнепрусс. guntwei10.
1 Lietuviu kalbos zodynas. T. III. Vilnius, 1956, p. 237—332.
2 Wörterbuch der litauischen Schriftsprache. Litauisch.-Deutsch. Bearbeitet
von Max Niedermann, F. Brender, A. Senn. Bd. Ι. Α.—Κ. Heidelberg, 1932, S. 184.
3 Fraenkel Ε. Litauisches etymologisches Wörterbuch, Lfg. 2, S. 184.
4 См.: Petersson H. Studien über die indogermanische Heteroklisie. Lund,
1922, S. 62 ff.
5 См.: Lietuviu kalbos zodynas. T. III. Vilnius, 1956, p. 322, 323.
6 См.: Pierson W. Altpreußischer Wörterschatz mit Erläuterungen. Berlin,
1875, S. 14.
7 См.: Endzelins J. Senprosu valoda. Rïgâ, 1943, p. 177.
8 См.: Nesselmann G. Thesaurus linguae prussicae, 1873, p. 16.
9 См.: Trautmann R. Die altpreußischen Personennamen. Göttingen, 1925, S. 32.
10 Τ а м ж е, S. 159.
75
Латышские соответствия — dzltars и ставшее теперь нормой
dzintars г9 если принять объяснение Я- Эндзелина о происхождении
варианта с носовым, тоже дают неопровержимое свидетельство
древности этого названия в литовско-латышских диалектах — оно
распространилось в них еще в дофеодальную эпоху, т. е. до
XII в. н. э.
И все-таки мало оснований считать это слово исконно балтийским.
Исходное слово gintaras — dzïtars не прозрачно морфологически,
не имеет корневых и словообразовательных параллелей. Оно не
объясняется ни на балтийской, ни на индоевропейской почве.
Уже в 1886 г. Ф. Миклошич в Этимологическом словаре
славянских языков 2 сопоставил русское янтарь с венгерским gyantar —
'янтарь' (electrum) при gyanta —'смола'. Сопоставление Микло-
шича превратил в этимологическое объяснение К. Локоч 3, а после
него это повторили в Этимологическом словаре чешского языка 4
И. Голуб и Ф. Копечны. Однако такой выдающийся венгерский
славист, как Иштван Книежа £, убедительно опровергает эту
этимологическую импровизацию Локоча. Прежде всего, он приводит
все древнейшие датированные формы исследуемого слова (я
перегруппирую их в хронологическом порядке, опуская названия
источников).
Формы gyenta и gyanta засвидетельствованы с 1519 г., gyonta
с 1533 г., gyantar с 1539 г., gyentâr с 1542 г., gyontâr с 1598 г. (jan-
to в 1875 г.). Этим словам в древнейших венгро-латинских словарях
дается три значения: 1) 'янтарь' (1519, 1598 гг.); 2) 'сосновая
смола' (1567, 1576 гг.) и 3) 'гипс, глазурь' (1542, 1576 гг.). Первое и
третье значения устарели, современная форма gyanta употребляется
1 Endzelins /. LatyieSu valodas gramatika, § 83. Riga, 1951, a. 171: «Однако
такие формы, как dzintars (наряду с подлинно латышским dzltars), где вместе с
таутосиллабическим п, которое не восходит к m, видим άζ· или с-, по-видимому,
заимствованы из языка куршей; формы такого рода встречаются по большей части
в Курляндии».
Ср. местные названия Dzifitare, Dzintari, Dzifitara-mâja, Dzintar-ciems etc.
(Endzelins J. LatvijasPSR vietvârdi. Rïgâ, 1956, 259). У Г. Ф. Стендера (Stender G. F.
Lettisches Lexicon. Mittau, 1789, В. III., S. 52) читаем: [dzinters-Bernstein, Krys-
tall. L.] Прямые скобки указывают, что слово известно автору только по_ словарю
Лангиуса. К. Мюленбах (Mülenbach К- LatvieSu valodas vârdnTca.Riga, 1923—
1946, VII, 559) к слову dzïtars дает только литовскую параллель gintaras и
варианты dzintars, zîtars. Фольклорные цитаты к этому слову приведены в
«Дополнениях...» Я. Эндзелина и Э. Гаузенберг (Endzelins /., Hauzenberg Ε. Papildina-
jumi un labojumi К. Mülenbacha Latvieè4i valodas värdnicai, V, 362). Богатый
материал дан в словаре К. Мюленбаха на слова dzintars (VII, 552) zîtars (XI V,
737).
2 См.: Miklosich F. Etymologlsches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien,
1886, S. 99.
1 См.: Lokotsth K. Etymologisches Wörterbuch der europäischen Wörter orien-
talischen Ursprungs. Heidelberg, 1927, S. 80, s. v. 1004. Pers. Kähruba.
4 См.: Holub /., Kopeàny Fr. Etymologicky sloviik jazyka ëeského. Praha,
1962, s. 149.
* См.: Kniezsa I. A magyar nyelv szlav jôvevényszavai. [Славянские
заимствования в венгерском языке], I, 2, 1. 833. Budapest, 1955.
76
во втором значении. Надо заметить, что форма gyanta и под. может
быть признана производной из формы gyenta и под. по фонетической
закономерности уподобления гласных.
Этимологические соображения Книежа приведу здесь полностью:
«Несомненно связаны с этими (вышеприведенными венгерскими)
словами лит. gentaras, gintaras, рус. янтарь (Срезневский этого
слова не приводит) *, укр. янтарь. Происхождение и
взаимоотношение литовского и русского слов не выяснено. Одно ясно, что русское
слово является поздним заимствованием, но вряд ли из литовского.
Из литовского происходит среднелатинское gentarum.
По С. Дьярмати (S. Gyarmathi. Vocabularium in quo plurima hun-
garicls vocibus consona variavum linquarum collegit, S. G. Bétsben,
1816), Миклошичу («Славянские элементы в венгерском», 1871;
Этимологический словарь, 1886) и Мункачи (в журн. «Этнография»,
8:19) — венгерское слово является заимствованием из русского
языка [мнение Мункачи, что слово заимствовано из русского до
занятия родины (т. е. до 896 г.), нельзя считать серьезным, потому
что тогда еще в русском языке не могло существовать данное
слово и оно не могло бы иметь в то время вид/α/г/-, ср. Ашбот
(Asboth. Nyelvtudomanyi Közlemenyek, 30 :209)]. Если бы
венгерское слово было русским заимствованием, то мы имели бы
его в виде jantar, но такой формы нигде у нас нет.
Литовское происхождение слова в венгерском тоже невозможно,
потому что венгры не соприкасались непосредственно с литовцами,
а также и потому, что в этом случае сохранилось бы и начальное g,
и окончание -as. He вижу другого выхода, кроме предположения о
посредничестве средневековой латыни, но и при этом
предположении возникают затруднения. Что же касается мнения Мункачи
(Keleti Szemle, 1911, 12 : 353), что gyanta происходит из тюркского,
то см. Барци (Barczi. Magyar Nyelv, 45: 183); там же объяснение
взаимоотношения разных венгерских форм)» 2.
Признаю неоспоримым утверждение Книежа о невозможности
выводить венгерские слова из русского янтарь, хотя связь
славянских, балтийских и венгерских слов между собой очевидна. Но
считаю невероятным заимствование венгерским из средневековой
латыни, прежде всего потому, что нормальным и основным
обозначением янтаря в средневековой латыни было succinum (древнее süci-
num)3, a кроме него употребительны были его синонимы: electrum
(electrum flavum), glaesum (glêsum) от Тацита и Плиния, harpax и
даже achates4. Gentarum, видимо, было областным термином в
1 Как указано, слово ентарь помещено в «Дополнениях к Материалам для
словаря...» И. И. Срезневского. См.: т. III, с. 102.
2 Перевод Берецки Габора.
3 См.: Walde Al. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1906,
S. 607.
4 См: К luge Ft. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 7. Aufl.
Straßburg, 1910, S. 48, s. v. Bernstein. Там указано, что Матезиус в 1562 г.
ссылается на прусское название gentarn: отсюда и средневек. лат. gentarum.
77
средневековой латыни, употребительным в странах, близких к
Прибалтике, так как было заимствованием из древнепрусского или
другого балтийского языка, и в средневековую Венгрию попасть
ему было нисколько не легче, чем прямо из литовского языка в
венгерский, если уж признавать решающим фактором отсутствие
непосредственного соседства народов. Нельзя упускать из виду, что
если в других случаях это имеет некоторое значение, то здесь дело
идет о названии товара, о слове из торговой номенклатуры, которая
легко распространяется через многие границы стран, государств
(народов, племен).
В поисках удовлетворительного решения вопроса о
взаимоотношении и происхождении наименований янтаря в венгерском,
балтийских и славянских языках нельзя упускать из виду того, что этим
продуктом торговали по всей Европе и кое-где в Азии уже в эпоху
позднего неолита и бронзы, задолго до феодальной эпохи, и не на
местных маленьких «меновых» торжищах, а в масштабе
международных, самых дальних торговых путей. Археологи четко наметили
глубокую «доисторическую» перспективу янтарного торга.
Необходимо отправляться от более достоверных положений к
гадательным, раз уж без них мы обойтись еще не можем.
Достоверно, что слово ентарь в русском заимствовано; что это
единственное русское название окаменелой смолы (ископаемой или
находимой в береговых морских намывах); что в белорусском его не
находим; что в украинском оно встречается редко, как книжное
слово, попавшее в украинский из русского; из русского же, видимо,
попало это слово в чешский и болгарский — тоже книжным путем;
что его фонетический состав не позволяет относить его
проникновение в русский язык ранее X—XI вв.; что оно засвидетельствовано
в русской письменности только с 1551 г.
Достоверно, что литовские формы gintaras (gintäras) и gentäras
не могут быть истолкованы морфологически и семантически на
литовской почве; при наличии латышского dzïtars и заимствованного у
куршей dzintars, a также ряда топонимических применений этого
наименования в Латвии — эти слова литовского и латышского
языка указывают на древность заимствования в балтийских языках
(до XII в.).
Достоверно, что в венгерском оно имеет не один
морфологический состав, как в русском и балтийских языках (при
незначительных фонетических вариациях), а двоякий: gyenta (gyante, gyonta),
gyentar (gyantâr, gyontar).
Достоверно, что только в венгерском это слово (независимо
от фонетических и морфологических вариаций) имеет три значения,
два из которых ('сосновая смолa'-Vянтарь') представляются
закономерно связанными, да и третье ('глазурь') может быть признано
производным. Двоякий морфологический состав и три значения
слова указывают на большую близость венгров к
языку-первоисточнику, т. е. языку тех племен, которые сами добывали янтарь, были
его поставщиками для дальних «гостей торговых» и лучше других
78
знали, что это такое, сравнительно с балтийскими и славянскими
народами. Я могу понять связь значений 'сосновная смола' и
'янтарь* только на почве двуязычия (раз нельзя считать слова gyenta и
gyentâr исконно венгерскими), ибо здесь непосредственно отражено
первичное наименование, самый акт познания предмета.
Достаточно сравнить названия янтаря других поясов,
отражающие другие торговые пути, других посредников и удаленность от
языка-первоисточника, чтобы оценить важность венгерских
семантических данных для решения нашего вопроса.
Древнелатинское glësum неоспоримо восходит к германскому
(англосакс.) glœs (древневерхненем. glas —'стекло1 *). Позднейшее
латинское succinum—sücinum производят от sücus — 'сок1 на
основе контаминации латинского слова со старославянским сокъ
(лит. sakaî). Это образное 'соковик-камень'2.
Греческое 'η 'ηλέχτρος το ήλεκτρον—'янтарь1 связано с 'ηλέ*-
τωρ—'солнце, огонь', следовательно, тоже образное название
'огневик' (ср. у Плиния о янтаре: Succus radiorum solis, т. е.
'сок лучей солнца').
Ту же внутреннюю форму имеет и немецкое Bernstein,
нижненемецкое заимствование из более древнего Bornstein (от
нижненемецкого bernen — brennen 'жечь'), ΐ. е. 'горючий' (камень),
'огневик* 3.
От этого немецкого слова — польское bursztyn, белорусское
бруштын, западноукраинское бурштин 4. Отсюда же и указанные
Линде s боснийское и хорватское burstin.
Далее от персидского kährubä — «янтарь» (сложное слово, букв,
'хватающий солому') происходят, как указал К. Локоч, турецкое
kehribar, kihlibar (отсюда болгарское кехлибар, сербское хилибар,
румынское сЫЬНЬагит. д.), атакже переводные кальки: фр. tire —
paille, нем. Strohzieher β.
1 Walde AL Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1906, S. 268.
2 Ibid.
3 К luge Fr. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 7. Aufl. Straß^
burg, S. 48 ff.
4 Гринченко Б. Словарь украинского языка. Т. I, с. 115, с ссылкой только
на Е. Желеховского.
* См.: Linde S. В. Slownik jçzyka polskiego. T. I. Lwow, 1854, s. 200.
6 Весьма показательным как отражение связи Востока й Запада в «познании
вещей»— именно на основе международной торговли средних веков и античности
мне представляется свидетельство о проникновении юго-восточных представлений
о янтаре на далекий северо-запад. В словаре Григория Кнапского (Thésaurus
polono-latino-graecus... opera Gregorii Cnapii, Cracoviae, anno 1621, p. 53)
читаем такое объяснение названия bursztyn—'янтарь': «Награх, quod affricto
calefactum paleas et stipulas rapiat. Plin... qui ait esse succum arboris pini,
rigore aut tempore autumnali concretum», т. е. «хищник, так как, нагреваясь от
трения, он хватает отвейки и солому. Плиний... говорит, что это сосновая смола,
затвердевшая от мороза и осеннего ненастья». Ср. перевод первого пояснения
Плиния в Punktay sakimu par Kuniga К. Szyrwida, I, 183: Gintaras, kuris
patrintas ir sukaitls siaudus ir pelus savjsp uzkelia.
79
Особо стоят наименования янтаря в прибалтийско-финских
языках. В финском meripihka и pihkakiviх — 'морская (древесная)
смола' или 'смоляной камень'. В эстонском: merivaig ? — тоже
'морская (древесная) смола'. Здесь тоже очевидно близкое знакомство с
природой янтаря, понимание его происхождения. Отсюда можно
заключить, что прибалтийские финны не заимствовали своего
названия янтаря, а создали его, будучи добытчиками, ловцами
янтаря. Однако лексически эти прибалтийско-финские обозначения
янтаря не имеют ничего общего с венгро-балто-славянскими.
Итак, прозрачность внутренней формы наименования янтаря в
венгерском ('сосновая смола'->'янтарь') противостоит полной
«немотивированности», семантической бедности ярлыка на товаре в
обозначении этого продукта в славянских и балтийских языках.
Формы gyenta и под. при gyentar и под. не могут быть объяснены,
как утрата конечного г в венгерском (ср. заимствования: kaviar —
'икра', badär — 'бодрый', 'красивый', mamor — 'головная боль
ç похмелья', sajtar — 'ведро-подойник', kosar — 'кошара',
'овечий загон' и под.). Да и засвидетельствованы эти более «простые»
формы даже раньше, чем «осложненные». Поэтому здесь можно
видеть морфологическое чередование, свойственное
языку-источнику этих слов.
Все это ведет к заключению, что венгерский язык мог быть
посредником в передаче этого наименования балтийцам, а балтийцы
передали его русским (северным русским племенам).
Если принять во внимание существование янтарного промысла
на берегах Прибалтики и Беломорья еще в ту эпоху, когда ни о бал-
тах, ни о славянах речи быть не могло, то надо предположить
происхождение этого наименования из языка племен, заселявших эти
края за тысячелетие или больше до появления славян новгородских
и псковских, а также летьголы, латыголы, зимеголы, корси и
прочих балтийских племен IX—XI вв.
Эти северноевропейские «поморы» могли соприкасаться в
пределах северо-востока Европы с предками венгров, с угорскими
племенами, до занятия последними своей теперешней родины (896 г.).
А от угорских племен это слово торговыми путями (а может быть, и
через непосредственное общение) могло попасть к прибалтийским
племенам, обитавшим значительно дальше на Восток, чем теперь
(однако не бывшим в своей предыстории «поморами» ни в
Прибалтике, ни в Беломорье). Как известно, анализ лексических
взаимоотношений финно-угорских и балтийских языков (работы В. Томсена,
Я. Эндзелина) и анализ топонимики Прибалтики, Польши,
Белоруссии (работы Биленштейна, Розвадовского, Кочубинского, Лер-
Сплавинского, К. Буги, Фасмера) привели к выводу о распростра-
1 См.: Suomalais-Saksalainen Sanakirja. Toimittanut Pekka Katara. Porvoo,
1925, s. 336—337.
* Sell £., Seeberg-Elverfett P. Eesti-saksa Sönaraamat. 2. Aufl. Tartu, 1938.
s. 249.
80
нении финно-угорских племен дальше на юго-запад, чем теперь (и
именно в Прибалтике), а также о более далеких восточных границах
древних поселений балтийцев — вплоть до соприкосновения с
финно-угорскими племенами Ч
Таким образом, можно считать мнение Мункачи о древности
слов gyenta — gyentâr и под. в венгерском правдоподобным, но
вместе с Книежа следует отвергнуть предположение о русском
происхождении этих венгерских слов.
Изложенная концепция не исключает возможности другой.
Поскольку вполне ясных и неоспоримых свидетельств венгерского
посредничества между северными «поморами» (не индоевропейцами
и не финно-уграми) и прибалтами все же нет, можно предположить
также, что и прибалты, и северные предки венгров заимствовали это
наименование от древних «поморов» непосредственно и независимо
друг от друга.
Венгерский язык мог лучше и полнее сохранить древнее
заимствование в силу более длительных или более тесных связей, в силу
двуязычности тех своих «гостей торговых», которые промышляли
янтарем.
Более уверенно можно утверждать, что североруссы
заимствовали слово ентарь у народов Прибалтики уже в историческую эпоху
раннего феодализма. В пользу такого взгляда свидетельствует и
обилие янтарных изделий в Прибалтике и на торговых путях из
Прибалтики на Русь 2, и отсутствие в диалектах и старых
памятниках письменности Белоруссии и Украины этого слова,
проникновение его в эти восточно-славянские из великорусского, а в другие
славянские языки из книжного русского языка. Наконец,
фонетическое соотношение: gintäras (gentäras) — ентарь. Утрата
начального g перед гласным переднего ряда свидетельствует о древности и
народности заимствования (изустным, а не книжным путем). Такую
же утрату начального г (все равно, из g взрывного или из h
спирантного, так как в севернорусском произношении спирант если не
исчезал, то замещался взрывным, ср. книжные: герб, герцог, гетман)
мы знаем в древнерусских Еоргий (позже Егорий, Егор) из Georgios,
Бродов—иродов из Herod-, Енъдрих из Henrich, Ермии из Hermes,
игемон из hegemon, более поздние народные заимствования: енерал
из general, еография из geographia и под.3.
Большой академический словарь литовского языка приводит
из трех старых словарей, составленных в Прусской Литве (из сло-
1 Ср. требующую дальнейшей разработки гипотезу Б. А. Серебренникова:
Серебренников Б. А. О некоторых следах исчезнувшего индоевропейского языка
в центре Европейской части СССР, близкого к балтийским языкам.— «Труды
АН Литовской ССР». Серия А. I, 1957, с. 69—72.
2 Ср. богатый янтарными изделиями клад в с. Кончанском Новгородской
области.
3 Показательны и обратные «сверхнормальные» написания древних
книжников: генварь—в «Мстиславовом евангелии» при /енуарь—в «Остромнровом
евангелии», гета—в Изборнике 1073 г. при йота в «Остромировом евангелии» и под.
M
варей Руига 1747 г., Мильке 1800 г. и анонимного рукописного
немецко-литовского словаря конца XVII в.), форму: jentäras —
см. gintâras. Так же это слово перепечатали из старших словарей
Нессельман и Куршат (последние лексикографы Прусской Литвы).
Казалось бы, это наиболее близкий к русскому литовский
вариант 1. Но свидетельства прибалтийских немцев, составителей этих
старших словарей, не вполне достоверны, их фонетические данные
при написании литовских слов не безупречны. В этом произношении
jentâras вм. gentâras ясно сказалась закономерная замена
начального ge- на je в речи прибалтийских немцев, т. е. мы имеем в
этих старых словарях запись немецкого произношения литовского
слова gentâras (или gintâras)2. Так как прусские (северо-западные)
диалекты литовского языка не имели непосредственных связей с
русскими ни в новое время, ни в средние века, ни в
раннефеодальную эпоху, то, если бы даже кто и принял на веру запись Руига и
автора рукописного словаря XVII в., этому противостояла бы
достоверная форма центральных и восточных диалектов gintâras,
которая и была занесена по торговому пути через Псков и Новгород
в Северную Русь.
Латышский язык точно так же подтверждает древность и
первоначальность именно формы *gintaras. Если предположить, что
псковские и новгородские купцы перенесли в севернорусское
наречие слово ентарь из Латвии, а не из Литвы, что наиболее вероятно
в плане истории торговых связей, то время заимствования тем
самым определилось бы еще более уверенно IX—X вв.: до перехода
gi-, ge- в dzi-, dze-. Однако для доказательства такого утверждения
нужны дополнительные данные из области лингвистической
географии латышского и литовского языков, с одной стороны, и
северозападных русских диалектов — с другой, а также и уточнение
вопроса о географии янтарного дела и о путях янтарного торга
Прибалтики с Русью 3.
1959 г.
1 См.: Lietuviu kalbos zodynas. T. IV. Vilnius, 1957, p. 340.
2 См.: Жирмунский В. M. Немецкая диалектология. M.—Л., 1956, с. 285·
«Подобное распределение^) и / отмечено было и в прусских говорах: / перед перед*
ними гласными было характерно и для немецкого языка Прибалтики, напр.!
jén-gehen, jiçt-Gicht, jabovan-gebogen...» См. еще 569.
3 Лишь некоторое время спустя после сдачи этой заметки в издательство мне
удалось прочесть статью проф. Миккола (J. Mikkola. Einiges über den eurasischen
Bernsteinhandel), помещенную в журнале «Senatne unMaksla»,I,Rîgâ,1938,s.33—37,
которого не оказалось в библиотеках Ленинграда и Вильнюса. Проф. Миккола,
как и я, пришел к выводу, что литовско-латышское обозначение янтаря «не произ*
водит балтийского впечатления и, очевидно, перенято в очень раннюю пору из
языка, на каком говорили продавцы янтаря» (с. 35). Далее он приводит ответы (на
свой запрос) проф. Г. Геруллиса: «... по образованию слово стоит особняком, не
говоря уж об отсутствии этимологической увязки с балтийскими языками.
Короче, я считаю gintâras, dzintars, dzitars — не балтийскими».
Самым важным и ценным мне представляется в статье проф. Миккола егс
указание на наличие этого слова в приволжско-финских языках: в черемисском
82
7. ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ. Буй —погост
У слова буй большое гнездо: буй, буян, буянить, буево, буевище,
буйство, буесть, буйный, буять, обуять. Более ста лет оно занимает
мысль языковедов. Но и теперь его этимология остается спорной,
исторически не разработанной.
Первый опыт этимологического толкования сделал Φ. Шимкевич
в 1842 г.1. Квалифицируя слово как прилагательное, исходными он
считал два значения: 1) 'мужественный* (примеры из «Слова о
полку Игореве») и 2) 'злой, злонамеренный', а на основе псковских
говоров устанавливал третье — существительное буйвище —
'огороженное место около церкви'. Ф. Шимкевич приводит параллели
из старославянского, чешского и польского языков. Источником
слова указывает венгерское buja — 'похотливый, распутный'.
Фр. Миклошич в своем «Этимологическом словаре славянских
языков» 2 привел, кроме славянских, параллели венгерские и
турецкие, относя слово буй к заимствованиям «первого периода», т. е.
праславянской поры.
В первом томе последнего этимологического словаря русского
языка М. Фасмера 3 выделено три омонима буй: 1) прил. 'смелый,
дикий', 2) сущ. 'пустое место близ церкви' (из швед, bo — 'жилье'),
3) сущ. 'бакен, буек' (из голландского).
Последнее — действительно заимствование из голландского
boei, оно пришло в русский язык только в конце Петровской эпохи
(сначала в двояком написании: бой и буй), документация его начи-
jamdar — 'прозрачный, склянка', в чувашском jandar —'стакан, стеклянная
посуда1. Эти слова (вместе с венгерскими) проф. Миккола считает возможным
производить из одного первоисточника, пока не установленного. Оспаривая гипотезу
Рясянена о персидском происхождении финно-угорских слов, Миккола
предлагает выводить их из согдийского jama —'стекло' с иранским
показателем множественности, коллективности -/-. Однако сам он прибавляет: «эта
гипотеза только Notbehelf» («пожарное средство»).
Мне представляется неприемлемой иранская этимология янтаря не только
из-за словообразовательных и семантических трудностей, но еще и потому, что
иранцы никогда не были ни добытчиками янтаря, ни посредниками в торговле
между Северным Поморьем и народами Центральной и Восточной Европы.
Показательно и то, что и прямое обозначение янтаря в персидском kährubä описывает
вторичные свойства его — 'хватающий солому', а не происхождение, природу
вещи. Вопрос был бы решен, если бы мы нашли язык, в котором составные
элементы слов gintaras, gentäras cojentäras, русск. янтарь, чув. jandar (-nd-
вторичное из -л/-, как указал проф. Миккола) означали бы 'море' и 'древесную смолу',
или 'камень' и 'древесную смолу', как в эстонском и финском, или 'горючий
камень', как в немецком.
В сторону от решения загадки янтаря уводит нас ливское elmos — Bernstein,
соответствующее, как указал проф. Миккола, финскому helmi — 'жемчуг' (там
же, с. 37). Не допущена ли была неточность при записи значения ливского elmos?
1 См.: Шимкевич Ф. Корнеслов русского языка, сравненного со всеми
главнейшими славянскими наречиями и с 24 иностранными языками. Ч. I. СПб.,
1842, с. 19.
2 См.: Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien,
1886, S. 23 ff.
3 См.: Vastner M. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg,
1953, S. 138—139.
83
нается с 1720 г. Что же касается двух первых — это мнимые
омонимы, как покажет наше исследование; ошибочным является и
отнесение второго из них к шведскому bo, имеющему такие значения:
1) 'гнездо', 2) 'имущество, наследство', 3) 'домашний очаг' г.
Несоответствие значений с русским буй и фонетическая
несводимость русского слова к шведскому очевидны. В этом случае, как и
в других, М. Фасмер поспешно и безосновательно открывает в
русском языке «варяжский вклад».
Еще более неосмотрительным является утверждение П. Я.
Черных, сделанное огульно и без всяких доказательств в «Очерке
русской исторической лексикологии» 2, будто слово буй относится к
«заимствованным у финнов топографическим терминам». Так
ревниво обороняя всегда русский язык от заимствования, в этом случае
П. Я. Черных дарит финнам древнее индоевропейское и
общеславянское слово.
Исключается заимствование слова буй из татарского языка ввиду
наличия его в «Слове о полку Игореве» — вместе с производными бу·
есть и буйство. Глагол буяти и существительные буякъ, буянъ,
прилагательное буявый — засвидетельствованы в письменности с XI—
XII вв. (см. Срезневский И. И. Материалы для словаря
древнерусского языка..., т. I, с. 195 ел.). Отпадает предположение о финском
происхождении этого слова, так как оно и его производные широко
известны в украинском (ср. буяк — в закарпатских говорах), в
старославянском, в западнославянских и южнославянских языках
(см. хотя бы этимологический словарь чешского языка В. Махка).
А. А. Потебня в 1878 г.3 впервые установил правильное
историческое понимание слова буй. Схема развития значений у него
такова:
1) 'большой' (буй-туру буй-вол, ср. фамилию Волобуев), ср.
санскр. mahisa-: 1) 'сильный', 2) 'буйвол';
2) 'высокий' (ср. буять — 'высоко летать', буйное жито, буйный
ветер— 'высоко несущийся'). Слова Стефана Новгородского:
«Юстиниан Великий на коне... а правую руку от себя простре буйно»
Потебня сопоставил с упоминанием о том же памятнике в «Хожении»
Афанасия Никитина: «да руку правую поднял высоко [Будда], акы
Устьян Цареградскый». «Птичю в буйстве одолети» («Слово о полку
Игореве») значит 'превзойти птицу высотою полета, превысить ее,
чтобы ударить сверху'. Отсюда и буево — 'кладбище' (для кладбища
выбирались возвышенные места), буян — 'высокое место', буяти —
'высоко стоять';
3) 'гордый' (ср. буяти — 'гордиться'). «Слово Даниила
Заточника»: «паче миры гордЪл и буял». «Слово о полку Игореве»: «Сердца
в буести закалена» ('гордые, непокорные').
1 См.: Мияанова Д. Э. Шведско-русский словарь. М., 1949, с. 60.
* См.: Черных П. Я· Очерк русской исторической лексикологии. М., 1956,
с. 103.
3 См.: Потебня А. А. «Слово о полку Игореве». Текст и примечания.—
«Филологические записки», 1878. Ср. во 2-м изд. Харьков, 1914, с. 111—113.
84
В «Этимологических заметках» 1884 г.1 А. А. Потебня добавляет
рязанское буня — 'гордец* и возводит буй к и.-е. *Ыгй—'расти,
становиться сильным*.
Акад. И. И. Срезневский в своем словаре 2 дал большое гнездо,
разделив слово буй на два омонима: 1) прил. 'глупый, дерзкий,
сильный, смелый', 2) сущ. (цитата из Псковской I летописи) и
пояснение: Буй — ныне означает в Псковской губ. 'пустое место около
церкви в ограде'. Буево — 'кладбище' (Олон.); буйвище — 'место,
где прежде всего кладбище' (тверск., осташ.). Ниже: буявый —
'глупый, неистовый', буяк — 'глупый, жестокий', буятый — 'дикий,
деревенский', буян цит. из «Моления Даниила Заточника» без
объяснения, буяти(ся) без объяснения9.
Индоевропейским и общеславянским считает это слово Р. Траут-
ман 4. Он соотносит буй с балт. *buria= (лит. bûrys) — 'толпа,
куча* и возводит к праформе *bauja-, приводя соответствия из
чешского, словацкого, сербского, словинского языков (у Миклошича
еще примеры из болгарского, украинского, польского). Сюда же
относится санскр. bhaviya 'богатейший' и авест. Ьаоуо- —
'длиннее, дольше'. Э. Бернекер $ предложил такую схему развития
значений: 'рослый' (пышный, похотливый)->'сильный' (дикий, гордый,
глупый).
Обилие хорошо обоснованных этимологами индоевропейских
соответствий исключает все предположения о заимствовании
русского слова из литовского, или из финского, или из румынского,
или турецкого; остается еще сослаться на авторитетного
исследователя славяно-венгерских языковых взаимодействий — проф. Ишт-
вана Книежа 6, который утверждает именно славянское
происхождение слова bujâ в венгерском: 'пышная, полнотелая,
сладострастная'. Исходное значение для венгерского заимствования И. Книежа
находит в старославянском наречии буйно — 'изобильно'. Очень
древние значения сохранил верхнелужицкий язык7: bujny —
'пышный, добрый, дикий, сладострастный', bujic — 'пышно расти,
разрастаться'. Ср в словацком buj—bujnost; bujak — 'бык', bu-
jat — 'буянить', bujno, bujno rasti; bujny — 'буйный, удалой',
bujara sila — 'кипучая сила' 8. В. Махек · принимает за исходное
1 См.: Потебня А. А. К истории звуков русского языка. Т. III, 1884, с. 38.
2 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка.
Т. I. СПб., 1893, с. 190, 191, 192, 195, 196.
8 Ср.: Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. Вып. I.
М., 1910, с. 51.
4 См.: Trautmann R. Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923, S. 40.
• См.: Berneker ё. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg.
1913, S. 98.
'· См.: Kniezsa /. A magyar nyelv szlav iovevényszavai, I. Budapest, 1955, I,
110, 111.
• См.: Jakubal F. Hornjo-serbsko-nemski stovnik. BudySin, 1964, s. 69—70.
β См.: Словацко-русский переводной словарь. Т. I. Братислава, 1950, с.46.
• См.: MacHek V. Etymologicky slovnik jazyka ieského a slovenského. Praha,
1957, s. 60.
85
значение: 'быстро и яро расти' (ср. чеш. bujeti именно в этом
значении, а также сербскохорв. byjamu и укр. буяти). То же отмечено
в польском этимологическом словаре Фр. Славского г.
Из современных русских говоров только псковские знают и
употребляют существительное буй во многих значениях. Поэтому не
случайно, что только в псковских летописях засвидетельствовано
употребление существительного буй в значении 'возвышение,
насыпанное для возведения церкви'. Еще раньше, надо думать, это слово
означало 'горушку, холм', как и его производное буян,
засвидетельствованное с этим именно значением в «Молении Даниила
Заточника»: «Дивья за буяном кони паствити» 2, т. е. 'хорошо
(безопасно) за горой коней пасти'.
Лишь позже в связи с обычаем хоронить особо чтимых людей
на церковном дворе у слова буй развилось значение 'кладбище1.
По данным современных псковских говоров и Псковской I
летописи можно проследить путь развития значений слова буй.
Начнем с диалектальных записей: «Буй на гары, на аткрытым более
мести, на бую» (Верейково, Печорск. р-на); «Наш дом стаит на самам
бую» [на самом видном месте] (Васильевщина, Лядск.); «Пригорок
какой — буй тоже называют» (Апалёво, Гдов.); «В таком бую ка-
нешна выдуя» (Гаврилова, Стругокрасн.). Во всех этих записях буй—
высокое, открытое место.
По-видимому, прямо от этого значения произведено буй —
'горка, куча рыбы': «рыбы насыпят буй, марозят» (Ветвеник, Гдов.).
Отсюда, очевидным образом, возникло и следующее переносное
значение — 'косяк рыбы': «Снятка пападае бальшым тоням, шшы-
бора тожа стадная рыба, стадам рыба идё, буй гаваря идё» (Подо-
лешье, Гдов.); «Снет идет буем» (Сницино, Поли.); «Как пападё на
буй рыба, по ста пудоф пападае; хош табун — хош буй» (Замогилье,
Гдов.).
Недостаточно ясной остается связь с предыдущими значениями
последнего — 'быстринка, стремнина в реке': «В ряки, где вада
бойка тичёт, тожы гаварят буй» (Кюровщина, Гдов.); «Буй — где
бойка идёт вада» (Лединки, Гдов.). Но, по-видимому, от этого надо
вести буерага — 'буря, вихрь, сильный ветер (со снегом)': «Была
буярага, многа была паломаф» (Тижи, Слобод.); «Буйирага здыну-
лась такая — сильный ветер» (Сакоева, Слобод.); «Фею ночь буя-
рога была, поели такой буяраги заломаф в лясу многа будя» (Дым-
ково, Печорск.); «Падажди, ни хади, пакуль буярага пирястане»
(там же).
Псковская летопись отражает некоторую специализацию этого
слова — применительно к площадке, подготовляемой для
построения церкви:
1 См.: Slavski Fr. Slownik etymologiczny jçzyka polskiego, I. Krakow, 1952,
s. 49.
2 Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам.
Приготовил к печати Н. Н. Зарубин. Л., 1932, с. 18 и 58.
86
под 1418 г.: «Того же л'Ьта псковичи намостиша буевище около
церкви святыя Троицы и тыном отыниша» (I, 34);
под 1438 г.: «Того же л'Ьта здЪлаша притвор новый у святого
Богоявления и буй намостиша за Домантовою стеною» (I, 40);
под 1473 г.: «Тоя же весны около буя святого Николы в Опочь-
ском концы каменем одЪлав... и садом яблонями насадили» (I,
197);
под 1553 г.: «Мроша тогда множество простые люди железою...
и в год положили в скудельницах 2500, а по буям не вЪм колько
числом».
Это вторичное значение тоже достаточно широко
засвидетельствовано в псковских говорах: «Буй — ета окала церквы аграда,
раньшы называли буем» (Иваново, Бологовск.); «У церквы на бую
молодежь сделали физкультурный городок» (Московское, Ново-
ржевск.); «Кладбище у церквы закрыли на бую» (Васильевское);
«Окала церквы там ы кладбище, хто гаварил на бую» (Иваново,
Бологовск.).
Глухой отголосок более древнего значения в такой записи:
«Буй — возле аграды ета холмик магильный» (Сакоево, Слобод.).
Можно видеть доказательство того, что значение * кладбище'
явилось позже, в его эвфемистичности. Более древним обозначением
кладбища было в Псковщине слово могилы (=могилки, могильник),
на это указывает и широкое распространение слова могилки с таким
же значением в говорах Белоруссии, а также и литовское
соответствие kapaî. И скудельница, первоначально обозначавшая место, где
добывали глину для гончарного производства, заброшенный карьер,
в который сбрасывали трупы нищих, бедняков, тоже была
позднейшим обозначением кладбища. Как эвфемизмы (вместо кладбище)
употреблялись слова городище, городня и, наконец, погост. Самый
параллелизм перехода от основного значения к вторичному
(эвфемистическому) у слов буй и погост свидетельствует о вторичности
значения 'кладбище'.
Первичное значение слова погост (производное от гость —
'иноплеменный купец') — 'место меновой торговли племени'. Позднее в
этих же местах князья-завоеватели разбивали станы для сбора дани,
позже — для своих тиунов, сборщиков дани и судей. Еще позже в
этих станах строят церкви и словом погост обозначают церковь с
постройками для церковников, усадьбу вокруг церкви с бобылями
(когда-то ремесленниками феодала)г.
Поддерживает эту схему и древнее значение этого слова в
латышском pagasts2: 1) собрание крестьян для взноса податей,
2) область, община одного владения, 3) церковный приход (под
властью одного пастора). Ср. также pagast-lade — 'касса общины';
pagast-vecakais — 'старшина общины'.
1 См. неполную схему развития значений слова у А. А. Потебни —
«Этимологические заметки». Т. IV, с. 40.
2 См.: Mülenbach К. Latviesu valodas vârdnïca. Red. J. Endzelin. XXII.
Riga, 1927, s. 28.
87
У нас слово погост засвидетельствовано «Повестью временных
лет» (под 1071 г.) в значении области, подчиненной одному
княжескому тиуну.
Разнообразны свидетельства современных псковских говоров:
1. «Были бабыли биззямельныи, тут был пагост> на пагости
церковь» (Вороничи, Пушкин.); «Пагост — на краю села жыли
причетники, там поп, манахи, панамарь, дьячок» (Ветвеник, Гдов.);
«Анно кладбишше без церкви ня пагост; паселения и поп и клад^
бишша и церква ета пагост» (Гришино, Пушкин.).
2. «Пагост — округ, каторый ходит в ету церкаф» (Заходы,
Гдов.); «Диревни Чернафскова пагосту» (Монастырек, Сланцевск.).
3. «Деревня, где церкаф стаи — пагост называли» (Каменная
Страна, Гдов., то же: Дроздково, Опоч.); «Пагост — ета селение
и церкаф, а кладбище так и называецца» (Наволок, Красногородск.);
«Ульдига — ета диревня, а Крапивна — пагос, патаму шта там
церкаф» (Ульдига, Гдов.); «Пагост у нас назывался малинькая дяря-
вушка и церкафь в пагости; церкву сажгли и пагостам звать ня
стали» (Треньки, Красногородск.).
4. «Называли пагостом фсё церкаф с кладбишшем» (Глубокое,
Опоч.; то же: Сельцо, Псков.; Чудская Рудница, Стругокрасн.);
«На пагост хадила я севоння, паплакала» (Амосово, Слобод.); «Там
у церкви двое могилы, погост тоже и кладбище» (Сиковицы, Струг.).
Итак, судьба слова погост была аналогична судьбе слова буи:
пройдя через ряд последовательных этапов от своего
первоначального значения до эвфемистического употребления вместо слова
кладбище, оба эти слова переходят из активного фонда в пассивный
и скоро совсем забудутся. Таковы «роковые» последствия
эвфемистического употребления слова: на него переходит отрицательный
эмоциональный ореол неприятного, избегаемого представления, и
оно устраняется другим новым эвфемизмом или по крайней мере
становится малоупотребительным: «старики гаварили, пайдем на
пагост» (Сельцо, Псков.).
Мы проследили развитие значений существительного буй и
убедились, что его древнейшее значение, как указал еще А. А. Потеб-
ня: 'гора, холм', 'высокое открытое место'. А раз так, то нет
оснований отрывать (в этимологическом плане) это существительное
от прилагательного буй: 1) 'высокий, большой'; 2) 'гордый*
(сначала с похвалой); 3) 'заносчивый, неистовый, безумный, глупый'.
Первое значение сквозит в составном слове буй-тур. Второе
засвидетельствовано в «Повести временных лет» под 1096 г.: «Олегъ
же въспримъ смыслъ буй и словеса величава». Третье неоднократно
отразилось в позднейших памятниках: «Рыцарь велЪлъ абие при-
весть коня буего» (вариант выше: коня шаленого, т. е. бешеного)
(«Римские деяния», список XVII в.); «И кто сице дерзостен и буи
обрящется, иже бы смЪлъ противу насъ воздвигнути пяту»
(«История Трои», XV в., список 1709 г.); «Аще девическую печать
разорит, а девицею именуется... виждь и разумей, та бо ходит быстро и
очима обзорлива и нравом буя (т. е. дерзка)» («Беседа отца с сыном»,
88
XVII в., л. 464); «Той... начат, . . . аки сущий буй камением на
лице святителя метати» («Новая повесть», XVII в.) *.
В анонимном словаре 40-х годов XVIII в. (по убедительному
предположению А. П. Аверьяновой в ее неопубликованной
работе — Словаре В. Н. Татищева): буй — 'дурак1 (собственно
'глупый'). Снова эвфемизм завершает историю слова, и на этом этапе
прилагательное буй тоже выходит из употребления в литературном
языке. До нашего времени в широком употреблении остались лишь
производные: буйный, буйство {буйствовать) и буян (буянить) —
омоним древнерусского буян — 'горка', вторично и гораздо позже
образованный с суффиксом -ан, в функции образования имени лица
по примете (ср. горлан, пузан, лобан, горбан, губан, а вероятно, и
великан) 2.
Наше движение вперед в разработке истории слов буй — погост
невелико за истекшее после А. А. Потебни время. Теперь стали яснее
некоторые детали процесса, мы уверенней реконструируем
утраченные звенья, несколько дальше углубляемся в прошлое. И главным
рычагом этого продвижения были записанные нашими
диалектологами богатые материалы по лексике псковских говоров и некоторые
данные нашей средневековой письменности, извлеченные главным
образом из картотеки Древнерусского словаря, созданной
дружными усилиями ленинградских историков и языковедов.
1962 г.
8. ОБ АРХАИКЕ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ СЛОВА
(яр — юр — буй)
Односложные знаменательные слова редки и немногочисленны в
славянских языках. По большей части это древние
существительные и в то же время прилагательные в краткой форме. Путем
суффиксального осложнения от них образуются производные. Наличие
словарного гнезда и примитивность (недифференцированность)
морфологической структуры исходного слова — наряду со
сравнительно-историческими данными — служат достаточно
убеждающими признаками их древности. Естественно приходит мысль о
древности и семантической структуры таких слов. Если она
сохранилась — пусть и не в первоначальном виде, а фрагментарно,
в некоторых пережитках,— то такие односложные знаменательные
слова могут послужить опорой для наших суждений о признаках
архаической смысловой структуры слова.
В недавно опубликованной нами статье была прослежена
филиация значений слова буй (гнездо: буян — 'высокое место', буево —
то же, буйный, буесть, буйство, (о)буять, буевищг, буянить 3),
1 «Русская историческая библиотека». Т. 13. СПб., 1891, с. 204.
2 Ср. фамилии: Ухан-ов, Сухан-ов, Лобан-ов, Голан-ов, Гурбан-ов, Буян-ов.
8 См.: Ларин />. А. Из истории слов. Буй — погост.— В кн.: Слово в народ«*
ных говорах русского Севера.*Изд-во ЛГУ, 1962, с. 3—14. [См. в настоящем
издании с. 83]
89
которая не оставляет сомнении в исконности этого русского слова,
унаследованного из индоевропейского фонда, хотя до этого и были
попытки отнести его к заимствованиям.
Нет сомнений и в исконности русских слов: яра, ярь (чеш. ja-
го) — 'весна', в древнерусском — 'лето' (гнездо: ярйло, ярка, ярец,
ярйна, ярица, поярок, ярчук, яровать, яровой) и прилагательного яр
(ярый) (гнездо: ярость, (раз)яриться, яростный, яркий). От них
обычно обособляют яр — 'крутой берег'.
Слово юр и производные юра, юрйла, юркий, юркать, юркнуть,
укр. юрнйй, юрлйвий, бел. юрйць, хотя иногда и были относимы
к заимствованиям из тюркских языков (Маценауэр, Бернекер), но
большинство этимологов не настаивает на этом (Брюкнер,
Преображенский, Фасмер), считая, однако, эту группу слов неясной по
происхождению.
Каково бы ни было происхождение этой группы слов, древность
ее — по крайней мере в восточнославянских языках — не подлежит
сомнению. А нас все эти три группы интересуют более всего именно
по принадлежности к архаическому слою в наших языках. Как мы
увидим дальше, есть между системами значений трех исходных слов
такие аналогии, такие неожиданные, при всех их различиях,
совпадения, что трудно отказаться от мысли о закономерности этих
аналогий. Опираясь на них, можно реконструировать древний
семантический комплекс, такие смысловые связи, которые теперь
непривычны, а потому мало понятны и кажутся случайными. Но хотя пути
развития каждой группы приводят к расхождению, удалению их
друг от друга, тем не менее проясняется и прослеживается общая
закономерность их семантического развития, а это уже
немаловажный вывод для исторической семасиологии.
Прежде всего восстановим основные вехи истории слова буй 1.
1а. Высокое место, холм, I6. Высокий, большой, силь-
бугор; ный.
|| глубокое место в реке,
озере; стремнина, быстрое
течение;
|| метонимичное: множество
рыбы в глубоких местах
водоема; косяк, стая рыбы; куча
рыбы.
Па. Открытое место (обычно II6. Заносчивый, гордый;
избираемое для менового торга, J
княжеского суда; для постройки необузданный, неистовый;
кумирни, языческого, а потом \
и христианского храма); шалый.
1 См.: Ларин Б. А. Указ. статья. В Белорусско-русском словаре под ред.
акад. К-К. Крапивы (М., 1962) читаем: буйны — 'крупный'; буйнець —
'крупнеть'; буяна, буйно; буяць: 1) 'бурно расти', 2) (в ущерб плодоношению) 'расти в
ботву'; (о деревьях — еще) 'жировать' (с. 134—137).
90
И церковная усадьба на
высоком месте.
Ш\ Кладбище. III6. Глупый.
Первоначально это слово было и существительным, и
прилагательным. Далее эти части речи дифференцировались, каждое из
двух слов развивалось самостоятельно и независимо, но в какой-то
мере параллельно.
* * *
Сравним теперь гораздо более сложный комплекс значений слов
яр, яра (яро) и ярь с их производными, реконструируя и для этих
слов историческую перспективу их развития.
Прилагательное яръ (яра, яро), ярый (ярая, ярое)
засвидетельствовано с XI в. В «Материалах для словаря древнерусского языка»
И. И. Срезневский систематизирует употребление его в следующей
схеме: дневный; гневливый; сварливый; жестокий, строгий;
заносчивый; смелый, отважный; сильный, порывистый' 1. Ср. ярость—
'гнев' (засвидетельствовано тоже с XI в.), яръ — 'гнев* (с XII в.),
яростивый (с XVI в.), яростный (с XII в.) 2.
Совпадение ряда значений прилагательных яр и буй
подкрепляется их чередованием (например, в «Слове о полку Игореве»: «Буй-
тур Всеволод», «Яръ туре Всеволоде») и словосложением: в чеш.
bujary и ст.-чеш. jarobujny 3.
Слово яра — 'весна (лето, год)' засвидетельствовано с XIV в.,
производное от него яровый — 'посеянный весною* (с XIV в.), от
него же ярина — 'овечья шерсть, волна* (с XI в.)4, яръка —
'молодая овца* (с XVI в.).
Слово ярь в древнерусском с XII в. документировано в
значении 'яровой хлеб'. Одновременно с XII в. и ярьна — *волна,
овечья шерсть'.
В псковских говорах очень широко засвидетельствовано ярь —
'яровой хлеб' S; ср.: под яр (сеять), т.е. весной. В украинском из-
1 Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. III.
СПб., 1912, с. 1663 ел.; ср. с. 1659—1662.
2 У В.И. Даля несколько иная схема значений: 'огненный, пылкий; сердитый,
злой, лютый; горячий, запальчивый; крепкий, сильный; жестокий, резкий;
скорый, бойкий, неудержимый, быстрый, крайне ретивый, рьяный; расплавленный и
плавкий; весьма горючий; белый, блестящий, яркий; горячий, похотливый'.
Среди примеров еще: «Нож порато ярый» (северное) — 'острый' (Даль В. И.
Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 3-е. Т. IV. СПб., 1908, с. 1577—
1582).
3 Machek V. Etymologicky slovnik jazyka ceského a slovenského. Praha, 1957,
s. 50.
4 Сюда же присоединяют и яригъ (позже ярига) — 'грубая ткань, грубая
одежда, вретище' (см. ссылку на работу Микколы в Этимологическом словаре
М. Фасмера. Т. IV, с. 560).
6 Пояснение: 'овес, ячмень, горох, греча, пшеница' (села Васильевщина,
Марьинское, Глушь, Лосица, Дубок, Подборовье, Кошкино и др.).
91
вестны дза значения слова яры 1) 'весна'и 2) 'яровые хлеба'. В За-
онежье — те же значения 1.
Производные: ярица — 'яровая или однолетняя рожь1; ярка,
ярушка, ярочка, ярёночка — 'молодая годовалая (не ягнившаяся)
овца'; ярйна — 'белая шерсть* 2. Псковские говоры дают
параллельное образование: яритина и яритинка (из *яретина) — 'шерсть,
состригаемая с овцы впервые (весной, в мае)1 — Лядский р-н 3.
Далее, яровня — 'севалка, лукно\
Более полную и древнюю систему значений прил. яр, ярый, чем
древнейшие русские памятники, сохранил до наших пор
украинский язык: не только 'весенний1 (яра пшениця), 'родившийся в этом
году* (яра пчыочка), 'молодой* (коза ярая), но и производные:
'зеленый1 (яра рута, верба яра), 'полный сил, страстный, пылкий,
(стар, та яр), 'пылающий* (яре пекло) 4.
Только некоторые из архаичных русских говоров дают
аналогичные древние или близкие значения: ярой лед — 'чистый,
не покрытый снегом*; ярой и ярый — 'быстро, неутомимо
работающий* (олонецк.) 5; яр — 'пыл*: «Как горела деревня, такой был яр
на улице, что подступиться невмочь» (костр.)в. Точно так же и к
производному слову яркий, которое в русском литературном языке
с XVI в. засвидетельствовано в значении 1) 'светлый, сверкающий*,
а в украинском сохраняет значение не менее древнее: 2)
'страстный* (ср. яршсть — 'мужское семя*) и 3) 'острый, хорошо
режущий* (ярка коса; ср. ярой нож — у Даля, северное), — находим
следы более древнего употребления в псковских говорах: яркий
(голос) — 'громкий*: «Там бабы тоже такии яркий, пагаварить
любя, ну, висёлыи бабы» (с. Замошин Гдовск. р-на). Ср. еще псковск.
ярлйвый: «есь краски ярлйвыи такии» (с. Приезжино Островск.
р-на).
В польском jary имело, кроме значения 'весенний, посеянный
весною, предназначенный для весеннего посева*, что связано с
существительным jarz — 'весна', еще и значения: 'чистый, ясный1
1 См.: Куликовский Г. Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом
и этнографическом применении. Шб., 1898, с. 143. Ср.: Белорусско-русский
словарь. Под ред. К. К· Крапивы: яр1—'овраг, балка'; яр2— 'ярь, яровое'; яравы —
'яровой'; ярка1 нареч.—'ярко, свежо'; ярка2 1) 'яровая пшеница'; 2) 'молодая
овца'; Арысты— 'овражистый'; ярыца —'яровая рожь' (с. 1047).
* Это слово засвидетельствовано с XI в. (см. в «Материалах для словаря...»
И. И. Срезневского), проходит через все академические словари с тем же
значением. Но у В. И. Даля: ярь и ярйна — 'тук, сок, растительная сила почвы,
особенно переносимая на грибы' (изд. 3-е. Т. IV, с. 1582).
? Ср. в украинском: ярота—'овечки и барашки возрастом до одного
года* (одесск.); яротина— 'шерсть годовалой овцы' (волынск.).—Словарь
украинского языка Б. Д. Гринченко. Т. IV. Киев, 1909. с. 543. Сербская параллель
ниже.
4 Та м же, с. 541—543.
* Куликовский Г. Словарь областного олонецкого наречия. СПб., 1898, с. 143.
β Дополнения к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858,
с. 313.
92
(woda jara, slonce jare) и 'молодой, сильный||полный страсти,
похоти* (stary skacze jako mïodzik jary) *.
В словацком: jary — 1) 'бодрый'; 2) 'моложавый'; 3) поэт.
'юный'; jaro и jar — 'весна' 2.
В чешском: jaro— 1) 'весна'; 2) 'год'; jary — 1) 'буйный,
свежий, молодой'; 2) jarni — 'весенний'; jar — 'яровые хлеба' 3.
В сербском словаре Вука Караджича4 находим: jap: I. по-
cnjao жито на jâp и jàpa — 1) 'жара'; 2) «загон для скота' и
jape, jäpema — 'козленок, козочка'; II. /йрй, pâpô— 'яровой',
japtïna — 'яровые хлеба', /арица— 'пшеница'; III. jâpumu ce —
«воспламеняться, разгорячаться', jàpm — 'любовный пыл'.
Подведем итог по системе значений существительного и
прилагательного яръу учитывая данные русского, украинского,
польского, чешского, словацкого и сербского языков.
Яръ (яра, яро)
1а сущ.
Лето cv> весна (отсюда:
ярило)]
II жара, пыл, зной;
II год.
Па
Страсть, любовный пыл
(серб. jàpuHy jâpumu ce; русск.
яриться).
IIP
Гнев, ярость (уже в XII в.—
в «Поучении» Кирилла
Туровского).
I6 прилагат.
Весенний (сюда: яровые;
рожь ярица);
II родившийся в этом году,
годовалый (сюда: ярка, ярина,
яретина, поярок);
|| зеленый (о вещах);
|| молодой, юный (о людях);
1
II полный сил, неутомимый;
II перен. острый (нож, коса);
II перен. быстрый, провор*
ный.
II6
Страстный, пылкий.
IIIе
Похотливый;
II гневный, гневливый;
|| сварливый, заносчивый;
|| жестокий, строгий.
1 Linde S. В. Siownik jçzyka polskiego. T. II. Lwow, 1855, s. 238; Slownik
staropolski. T. III. Zesz. 2 (15). Wroclaw—Krakow. Warszawa, 1960, s. 117; Kar-
lowicz J. Siownik gwar polskich. Krakow, 1901, s. 235; Karlowicz J., Krynski A.9
N iedzwiedzki W. Siownik jçzyka polskiego. T. II. Warszawa, 1902, s. 137. Ср. с но-
следним значением бел. ярцула—'игривая (баба, девушка)'. Си.:
Добровольский В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914, с. 1020.
2 Slovensko-rusky prekladovy slovnik. D. I. Bratislava, 1950, s. 247,
3 Slovnik spisovného jazyka ceského. Praha, 1959, s. 764—765.
4 См.: Вук Карацип. Српски р]ечник. Беч., 1852, с. 247.
Яркий, -ая, -ое
I. Светлый, сверкающий.
II. Страстный, пылкий (ср. укр. яркость — 'мужское семя').
III. Громкий, звучный (голос);
веселый, шумливый (бабы) (псковск.).
Сопоставляя схему значений слов буй и яръ, отметим, что более
отчетливо в исходных словах и осколочно в производных
намечается генеральная линия развития от синкретического обозначения
природного (стихийного) явления к расчлененному, обособленному
развитию существительного с более конкретными (предметными)
значениями и прилагательного — с более обобщенными значениями.
От обозначения бугра, холма и глубокой ямы под водою слово
буй — существительное — переносится на явления социально или
экономически выделенные: 'место менового торга, княжего суда';
'храмовая усадьба*. Параллельно буй — прилагательное —
переносится с признака холма 'высокий* на свойство человека —
'гордый, необузданный* (вероятно, посредствующим было значение:
'большого роста, могучий, сильный').
Последним этапом семантического развития существительного
было эвфемистическое обозначение кладбища, прилагательного —
наименование глупца. Эвфемистическая функция была гибельной
для этого слова, как и многих других в различных языках.
Слово яръ тоже сперва обозначает природные явления,
безотносительно к человеку: 'весна, лето, зной*, потом 'время полевых работ
(пахоты, сева)' и далее более отвлеченное понятие 'год*. Как
прилагательное: 'весенний->родившийся в начале лета, годовалый'.
На втором этапе существительное яръ обогащается значением
'любовный пыл, страсть', а прилагательное: 'молодой-^полный сил-*
порывистый, страстный', т. е. и здесь переход к обозначению свойств
человека.
На третьем этапе — в преломлении через христианскую
идеологию— существительное яръ обозначает 'гнев, ярость (греховную
страсть)', а прилагательное яръ — 'похотливый, гневный,
заносчивый, жестокий', т. е. приобретает отрицательный
морально-оценочный характер, что тоже привело к его устранению и заменам в
литературном языке. В народных же говорах прилагательное ярый
сохранилось именно потому, что не получило отрицательного
значения.
Уже в XIX в. лексикографы и этимологи (Линде, Даль, Микло-
шич), а за ними и авторы последующих этимологических словарей
(Брюкнер, Бернекер, Преображенский, Фасмер и др.)
противопоставляли группе слов яръ — 'лето, весна' другую, происходящую
от существительного яр — 'овраг, крутой берег', которое объясняли
как заимствование из тюркских языков. Однако это объяснение
сталкивается со значительными трудностями.
94
В последний раз по этому вопросу писал Н. К. Дмитриев: «Яр —
по Махмуду Кашгарскому 'Steilufer'. Во многих тюркских языках
обозначает 'отвесный крутой берег* (очевидно, от глагола яр (мак) —
'рассекать пополам, рубить'). Отсюда же и русское яр, вошедшее в
собственные имена (Красноярск, Крутой Яр и т. д.)» 1.
Однако в турецком языке яра — 'рана', ярык — 'расщелина', а
'овраг* — дэрэ; в узбекском 'овраг, обрыв, крутой берег* — джар.
Иными словами, в тех турецких языках, которые раньше всего
(набеги печенегов, куман-половцев) имели контакт с русскими и
украинцами, подходящее по значению слово имеет начальное дж (джар),
а в тех, где оно звучит сходно с начальным / (яр), значение слова
другое. Башкирское яр — 'берег* могло быть заимствовано из
русского или же семантически приближено к русскому (как и
татарское). Азербайджанское йыртыг — 'дыра, рваный' тоже указывает
не на схождение, а, скорее, на удаление от русского яр. Поэтому
считать слова яр и яруга несомненными тюркизмами пока нельзя.
Слово яруга засвидетельствовано в «Слове о полку Игореве»
(т. е. с XII в.). Оно живет в современном украинском языке и
некоторых южных русских говорах (например, курских, рязанских,
ср. тульское яруг у Даля). В «Материалах...» И. И. Срезневского
с XII в. представлено только слово яръ — 'гнев' (в «Поучении»
Кирилла Туровского).
Картотека Словаря древнерусского языка (АН СССР) для слова
яръ — 'крутой берег' дает большой материал из памятников
XVII в. Здесь яр имеет не только значение 1) 'крутой, гористый
берег', но, кроме того, 2) 'возвышенное, видное, открытое место'.
Приведем несколько иллюстративных цитат.
1. «А выше того осыпного городка, подле Науну,— яр великий и
высокий» (Спафарий. Статейный список посольства в Китай, 1675—
1678 гг. СПб., 1906, с. 205); «А кругом того озера красный яр»
(Дополнения к Актам историческим, т. X, СПб., 1873, с. 390—1686 г.);
«Да на правой стороне Иртыша повыше яру Ягина речка... А яр
Ягин черной, а на яру растет лес березник, ельник и всякой лес, а
яр зЪло высок» (Спафарий. Статейный список посольства в Китай,
1675—1678 гг.).
2. «А в Тобольску служивые люди в распросе сказывали, что
на Кетцком устье на яру, где стоять городу погоже и вперед прочно,
пашенного места и лугов много, и рыбные ловли и озера есть» (Мил-
1 Дмитриев Н. К. О тюркских элементах русского
словаря.—Лексикографический сборник. Вып. 3. М., 1958, с. 37. Ср. в словаре: Lokotsch К. Etymolo-
gisches Wörterbuch der europäischen Wörter orientalischen Ursprungs.
Heidelberg, 1927, S. 74, № 935; тюрк, jar — 'обрыв, крутой берег', основа jar —
'раскалывать, расщеплять; образовать расселину' (Вамбери. Этимологический
словарь тюркских языков). Келекиан Камус, 1336а: 'пропасть'. Отсюда болг. яр —
'большая яма, ров', польск. jar — 'овраг, провал', jaruga — 'низкое болотистое
место', русск. яр — 'крутой берег', яруга —'овраг'; S. 75, № 938: тюрк, jaryk —
'расселина, трещина' (основа jar-), отсюда русск. яруга — 'овраг', серб, japyza —
то же.
95
лер Г. Φ. История Сибири. М.— Л., 1937, с. 437 — грамота 1611 г.);
«А стоит [Демьянский ям] на красном месте, на яру, а живут
русские люди» (Спафарий. Путешествие через Сибирь, 1675 г. СПб.,
1882, с. 95); «А против того острова на другой стороне яр каменной
будто столбы великие» (там же); «А поистине тот яр есть так будто
гора, потому что во многих местех есть превысокий» (там же, с. 46);
«Но мы ныне, оставляя гору или яр Кряж, опять возвращаемся ко
описанию реки Иртыша» (там же, с. 47).
Заметно расходятся с предполагаемыми тюркскими источниками
и те далеко уводящие значения слов яр — ярок — яруга, которые
указывает В. И. Даль (Толковый словарь, изд. 3-е, т. IV, с. 1579—
1581): яр — 'крутояр или крутизна, круть, круча, крутйк (но не
утес, не каменный); Цобрыв, стремнина, уступ стеною, отрубистый
берег реки, озера, оврага, пропасти; подмытый и обрушенный
берег'. Подводный яр — 'внезапный, глубокий уступ дна'. «По ярам
ходила, ягоду брала» — 'по оврагам, буеракам'; Цвологодск.
'быстрина реки, ярое течение'; ||'юр, открытое место', уменьшит, ярок
и яруга южн.— 'овраг, росточь, глубокая водороина; крутобокая
лощина'. Яруга — ворон, 'роща, растущая на острове'. Яруг—
тульск. 'яруга, овраг, буерак||ручей в овраге, ключ, родник'.
Таким образом, мы наблюдаем развитие сложной системы
значений у слов этой группы. Укажем, кроме того, образование сложных
слов: крутояр (синоним к яр в I, наиболее известном значении) и
яроводье. Последнее имеет такие значения: 'сильный разлив; поём
после ледолома, разрушительные потоки вешних вод и бурливых
речек'уарханг. 'сильный морской прилив, который спирается с
высокой водой Двины'. В слове яроводье можно заметить связь с
прилагательным яр(ый), но из.дальнейших сопоставлений будет ясна и
связь с существительным яръ — 'водоворот, быстрина реки'.
Итак, современным русским говорам слова яр—ярок—яруга
известны в разнообразных значениях и почти на всей территории
распространения русского языка в Европе и Азии. Приведем ряд
примеров только на слово яр, наиболее для нас важное из этих трех:
1) 'Крутой берег реки или крутой, обрывистый склон
возвышенности' (Тобольск, пермск.), ср. «яристые речки» —'с крутыми
берегами' (терск., гребенск. каз.); «Выду, выду на яр поля, ни
дождусь ли милку с моря» (ворон.).
2) 'Крутой обрыв' и 'глубокое место (в реке) с водоворотом*
(вятск., калужск., мещовск.).
3) 'Крутой берег* и 'открытое высокое место' (вологодск.).
4) 'Быстрина реки' и 'место, открытое действию ветров', то же,
что юр (вологодск.).
5) 'Открытое высокое место' (сольвычегодск.).
6) 'Глубокое место в реке' (чердынск., Поволжье, ср.
холмогорок.); ярь — 'самое бурное течение в реке, водоворот, пучина'.
7) 'Утес, гора отвесно-крутая' (саратовск.).
8) 'Глубокий овраг с крутыми берегами': «Корову нашел в
яру* (саратовск., донск., Челябинск., липецк.).
96
9) 'Лог, углубление, поросшее лесом или кустарником,
пустынное место' (курск.); «Кто яром, яром, а кума косогором» (донск.)1.
Схему значений слов яр 2 и яруга в восточнославянских языках
мы восстанавливаем на основании вышеизложенного в таком виде:
Яр2-
1а. Открытое высокое место; I6. Глубокое место, уступ
I дна (в реке, озере);
|| гора отвесно-крутая; j
|| крутой, высокий берег. II водоворот, бурное течение,
пучина (то же, что ярь в хол-
могорск.).
II. Лог, поросший лесом,
кустарником;
ΙΊ овраг, буерак (то же, что
яруга в южнорусских
диалектах).
Яруга
а) Овраг, буерак (укр. и б) Ручей в овраге, ключ,
южнорусск.). родник (тульск.).
Нетрудно заметить здесь ту же, что и у слова буй, связь
представлений, на наш современный взгляд, алогичную: 'гора' и
'водная пучина'; 'верхний край' и 'дно оврага'. Не только
синонимичность слов яр ? и буй, но именно аналогичность семантической
структуры представляет большой интерес.
По свидетельству Линде, и польское jar имело в старых текстах
значения: 1) 'крутой скалистый берег', 2) 'глубокое место
(водоема)' (см.: Linde S. Sfownik jçzyka polskiego, t. II, s. 236), a слово
jaruga, которое А. Брюкнер без достаточного основания считает
заимствованным из русского, имело совершенно неизвестное ни
русскому языку, ни предполагаемому турецкому источнику значение
'глубокое болото' (там же, II, 238). В польских диалектах jar
имеет значение 'долина, углубленное место между плоскогорьями'
(Kariowicz J. Sfownik gwar polskich, t. II, Krakow, 1901, s. 232),
а в современном польском: 'обрывистый лог среди лесов, степей'
(«Варшавский словарь» А. Крыньского, Я. Карловича и В. Нед-
зведзкого).
Богатые материалы по употреблению слова яр (ярок, яруга)
свидетельствуют о древности его в русском, украинском и польском
языках. Обращает на себя внимание одновременность,
сосуществование полярно-противоположных значений, как это свойственно
слову буй и некоторым другим словам. Например, украинскому —
1 Кроме опубликованных лексикографических источников, использованы
Данные картотеки Областного словаря АН СССР.
4 JMi 5422
97
буковинскому бердо: 1) 'холм, гора', 2) 'ущелье, пропасть7 (вер-
хоратск.), 3) 'ручей* (ср. серб, брдо — 'гора'); или русскому враг:
1) 'овраг*, 2) 'верх, крутой 6feper оврага* (в пензенских говорах, по
свидетельству А. Конусова).
Едва ли можно предполагать в этих случаях «поляризацию
значений» как основную закономерность семантического развития.
Более вероятен первоначальный синкретизм сложного значения, в
котором постепенно расчленяются и дифференцируются наиболее
расходившиеся элементы синкретического значения: 'высокий
крутой берег*|f впадина, глубокое место в реке, озере*, или — 'высокое
открытое место*|Гглубокий овраг; дно оврага*, а затем уже
выделяются переносные и другие производные значения. Отдельные
русские говоры знают теперь либо по одному из первичных значений,
либо, в редких случаях, сохраняют древнее «единство
противоположностей», либо только производные, иногда лишь одно из
позднейших производных значений.
Наличие единства противоположных значений, на наш взгляд,
является свидетельством древности слов с такой семантической
структурой. Для литературного языка и говоров на новом этапе
развития характерен распад этого единства, приводящий не к двум,
а ко многим производным значениям, частным по отношению к
исходному и очень редко «полярным».
Отметим, что развитие значений прилагательных буй и яр имеет
ясно проследимый параллелизм, а существительное буй может быть
сближено по комплексу значений с существительным яр —
'открытое высокое место*||'глубокое место в водоеме* и т. д. и с
существительным яр — 'весна, лето* как будто не соотносится; эти два
существительных, по мнению большинства лексикографов, стали
омонимами. Однако и для прилагательных, и для всех трех
существительных (буй, яр 1, яр ?) возможно возведение к исходному
единому комплексному значению. Мы уже обращали внимание на слово
яроводье, в котором первый компонент имеет значения и 'весенний*,
и 'полный сил, необузданный*, но, с другой стороны, может быть
истолкован и по связи с 'круча', 'крутояр', 'омут под обрывистым
берегом'.
Сложный клубок древних идей и представлений,
сосредоточенный в культе Ярилы (у восточных славян), мы тоже не выводим из
одного значения исходного слова, а лишь из нескольких
семантических комплексов слова яр — существительного, прилагательного и
производного глагола (см.: Даль В. И. Толковый словарь,
изд. 3-е, т. IV, столб. 1577).
Последнее звено в исследуемой группе слов — юр (производные:
юра, юроу юром, юркой, юроватой, юрйть, юрйла, юрк(нуть),
юрком).
В Словаре Академии Российской: «Юр — 'место возвышенное и
открытое, подверженное действию ветров и непогоды'. Дом стоит на
юру» (ч. VI, СПб., 1822, с. 1429). В. К. Тредиаковский писал:
«Когда мы говорим, например, сей двор стоит на юру, то означаем,
98
что тот двор ничем не прикрыт со всех сторон от ветров, дующих
свободно» (Три рассуждения. СПб., 1773, с. 30).
Русские народные говоры дают богатый материал на очень
разнообразное употребление слова юр:
1) 'горка, самое видное место' (арханг., вытегор.); 'открытое
место, бугор* (иркутск.); 'возвышенное, открытое место, ничем не
защищенное от бурь и ветров' (саратовск., владимирск., тамбовск.,
вятск.); 'уединенное возвышенное место' (козловск., тамбовск.);
на юру — 'в стороне, вдалеке, на горе' (переяславско-владимирск.);
2) 'отовсюду видное место' и 'фарватер реки' (вологод. и устюж.);
3) 'бойкое, многолюдное место' и 'быстрина реки, фарватер'
(вологод.). То же у В. И. Даля (изд. 3-е, т. IV, с. 1551); 4) 'край
оврага, горы' (псковск.)г.
Во многих русских говорах чередуются юр и юро, как синонимы.
Но форма юро более известна только в двух значениях — не
первичных: 1) 'струя, остающаяся за идущим судном, кильватер';
2) 'масса плывущей стадом рыбы или стадо морского зверя' || 'семь
штук или голов тюленей' (арханг.).
Только с этим вторым значением можно соотносить юром (юром
кататься с ледяной горки на санках) — 'не сидя, а стоя, человека
по два, по три' (арханг.).
Но более древними значениями слово юро следует признать:
1) 'середина реки, самое быстрое течение' (каргопольск.), 2) 'омут'
(псковск.), а из этого уже — 'стая рыбы' и 'бурлящий кильватер'.
Дифференциация значений двух форм слова юр и юро разорвала
ту алогичную связь: 'гора, высокий берег'Ц'быстрина реки, омут',
какую еще сохранили говоры в употреблении слов буй и яр.
Параллелизм развития значений слов буй, яр и юр выше
достаточно отчетливо выяснен.
Если привлечь еще производные глаголы: буй — буяти —
'взлетать высоко', перен. 'горделиво заноситься'; яр — ярёть —
'приходить в возбуждение', ярить — 'возбуждать', яриться —
'загораться страстью' (ср. латыш, jârëties — 'беситься, шалить'); юр —
юрйть — 'торопиться, бежать за кем-нибудь' (бел. юрйць) 2; юрй-
1 Литовские слова jâura, jâure, jâuras и jaurynas, jauryne означают теперь:
1) 'сырая, тяжелая, неплодородная почва || песчано-глинистая земля' и 2)
'болотистое место, болото' (Lietuviu Kalbos zodynas. T. IV. Vilnius, 1957, p. 315). Они
представляют лишь реликт слова с более широким кргугом значений. Все эти слова
этимологически родственны балтийским: литовские juré(s), диал. jöra, jQrios и
латышское jura, которые сейчас в литературных языках употребляются в
значении 'море', но, судя по данным древнего фольклора, ранее означали 'большое
болото, топь' или 'мелкий морской залив'. Слово jâuras фонетически точно
соответствует славянскому юръ, а из этого факта тоже можно извлечь утраченное в
славянских языках семантическое звено: 'болото, низина, топь'. Ближе всего к
этому русское диалектное на юру — 'в стороне, в отдалении' (о дворе, о доме,
поставленном в неудобном месте).
2 Носович И. И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870, с. 725: юриць —
сов. заюриць (от Юрьева дня, т. е. 23 апреля, когда домашний скот начинает,
при наступлении весны, чувствовать силы и заигрывать (ярить) по пословице:
«Бычки бушуюць, весну чуюць»): 1) 'шалить, заигрывать', 2) 'надоедать шалос-
4*
99
ла — 'егоза, торопыга'; юрйться— 'похотливо увиваться' (ср.
польск. jurzyé, rozjurzyc),— то и в этой проекции близость и соот-
носимость исходных слов не будет умалена или поколеблена.
В третьем гнезде слов — юр и производные — недостает
прилагательного. Но можно реконструировать его: а) на основе
существительного юра — 'шалун* (обозначение по свойству характера,
признаку, который выражался когда-то прилагательным); б) на
основе польск. диал. jurny — 1) 'здоровый, крепкий', 2) 'смелый,
отважный'; в старопольск. с XVI в. jurny — 'похотливый,
страстный', позже jurzny — 'распущенный, развратный'. Здесь близкая
аналогия значениям слова яр (прилагательного) с тем же
пейоративным преломлением семантики в литературном языке под
воздействием христианской морали и «рыцарской» шляхетской
цивилизации. Прилагательное юрный известно и украинскому языку (см.
словарь Желеховского), но, судя по значению 'похотливый,
распущенный', оно вошло в украинский литературный язык не из
народной речи, а из литературного польского языка. Такое же
заключение можно сделать, сопоставляя укр. юрнйй с чеш. диал. urny —
'сильный, большой', со словацк. диал. urno — 'пламенно, быстро,
сильно'. Это, на наш взгляд неоспоримое, сопоставление сделано
Фр. Славским в Этимологическом словаре польского языка х\
он напоминает при этом пары: п. jutro || р. утро; п. jucha || р. уха;
п. juz || р. уже; п. juzyna || р. ужин, в которых обратное
распределение йотованного и нейотованного у.
Юрный (?юр-ьнъ), надо предполагать, вытеснило первичное
(без суфф. -m-) прилагательное юръ, когда-то совпадавшее с
существительным юръ, как это засвидетельствовано для буй и яръ.
Вторым производным было известное восточнославянским языкам
прилагательное юркий.
Таким образом, все три звена этого ряда выстраиваются в
концентрическую систему яр — буй — юр с однотипной семантической
структурой, с очевидными совпадениями не каких-то оттенков
значения, а довольно необычных их сочетаний, совпадениями в такой
последовательности развития значений, какая не свойственна нашей
эпохе, а должна быть отнесена к ранней истории наших языков, по
крайней мере к дофеодальной эпохе.
Дальнейшие разыскания других цепочек, других групп слов —
с однотипным, но не типичным сочетанием значений — позволят
расширить круг реконструируемых архаичных семантических
комплексов и написать начальную главу исторической семасиологии
славянских языков.
1963 г.
тями', 3) 'предпринимать что-либо непременно*. Юр — 'шалость, своевольство,
выходящее за пределы благопристойности': «Юр бабу берець».
Ср. Белорусско-русский словарь под ред. акад. К. К- Крапивы: юр —
'похоть, сладострастие'; юрлхвы— 'похотливый, сладострастный' (с. 1044).
1 См.: Stawski F. Slownik etymologiczny jezyka polskiego. T. I. Krakow,
1952—1956, s. 592 η.
100
9. ОБ ЭВФЕМИЗМАХ
1
Суеверная боязнь заклинаний, магического действия зова,
прямого наименования породила запреты на слова (табу), породила
деление на общие и «сокровенные» слова, дозволенные только жрецам,
вождям. Та же вера в магию слова породила молитвы, заговоры
болезней, привораживание женихов.
Многочисленны отражения первобытных религиозных запретов
на имя в древнейшей поэзии индийцев — ведах. Они проливают
свет на эти древние воззрения. Приведу для примера только
некоторые из них:
1. „Ригведа", IX, 95, 2: ... devo devânâm guhyâni nâmâviç kjnoti
barhiçi pravâce (ведийский текст цитирую по изд.: Th. Aufrecht.
DieHymnen des Rigveda.Bd. I — II. Bonn, 1877).--'...бог [Индра?]
открывает тайные имена богов, возвещая (их) в пламени
жертвоприношения1.
2. „Ригведа", X, 55, 1—2: Duré tan nâma gûhyam paräcair/
yât tvâ bhïté âhvayetâm vayodhai ... mahât tan nâma gûhyam
puruspfg yéna bhûtâm janayo yéna bhâvyam | pratnâm jâtàm
jyotir... —'Далеко-далеко сокрыто имя то, что призывали [двое]
в страхе перед тобою, чтобы оно послало им силы ...
величественно это тайное имя, желанное для многих; ты сотворил им
прошлое и настоящее и создал самое первое царство света...'
3. „Ригведа", IX, 87, 3: Rsir viprah puraetâ jânanâm rbhûr...
|j sa cid viveda nihitam yâd âsâm apïcyàm gûhyam nâma gô'nâm.—
1Прозорливец-поэт, вождь людей, Рибху [Индра?]. Вот он знал
скрытое [от всех], самое заветное, тайное имя коров Г
4. „Ригведа", V, 5, 10—11: Yâtra véttha vanaspate devânâm
giïhyâ nâmâni | tâtra havyâni gâmaya || Svâhâgnâye Vàrunâya svâ-
hëndrâya marûdbhyah | svâhâ devébhyo havih. — 'Коли тебе ведомы,
о царь лесов (Сома), тайные имена богов, то снизойди на
жертвенные возлияния! На благо Агни! На благо Варуне! На благо
Индре, Марутам! На благо всем богам это жертвоприношение! '
5. „Ригведа", IV, 58, 1—2: ... ghrtâsya nâma gûhyam yâd
asti jihvâ devânâm amj'tasya nabhih || Vayâm nâma prâ bravâmâ
ghrtâsyâsmin yajné dhârayâmâ nâmobhih.—Фаз сокровенно имя
жертвенного возлияния [масла]—язык богов и самая суть амриты
[ = напиток бессмертия], мы возгласим имя возлияния!—в этом
жертвоприношении мы утвердимся силою именования*.
В замену запретных слов создаются новые («подставные»)
наименования, чтобы не разгневать богов, обмануть нечистую силу
или страшного зверя, *ггобы задобрить их.
Таким образом, еще на стадии первобытных суеверий, в силу
табу начинают развиваться древнейшие эвфемизмы, дозволенные и
пристойные наименования, по природе своей перифрастические или
образные, скрывающие свой предмет, отвлекающие от его узнавания,
101
якобы превращающие силой словотворчества злые качества,
действия в благоприятные, желательные или хотя бы безвредные.
Первобытные эвфемизмы по запретам религиозного порядка
переходят в традиционные по суеверию, и в этих пережитках, кое-где
сохранившихся поныне, и теперь еще мерцает слабый отголосок
древней веры в магические силы слова.
В Архангельском крае в глухих деревнях старые люди верят в
проделки лешего, боятся его не меньше, чем «хозяина» леса —
бурого медведя. В. Н. Елина несколько лет назад записала от старухи в
архангельском селе: «Уш она [ворожея] лучче знат, как ево звать:
боровой, лешак-ле». Это значит, кроме ворожеи, никто не смеет
называть его своим именем.
В Усть-Цильме на р. Печоре я записал от старухи рассказ о
шишках — чертях, которых якобы и она и другие сами не раз
видели. Наименование чертей (или чертенят) шишками не прямое,
а подставное. На это указывает и безбоязненное употребление этого
слова при запрете на слово черт, а также и этимологические
соображения.
Едва ли можно отделить слово шишко от слова шиш как его
производное (уменьшительно-фамильярное). Рассмотрим их
отношение.
В Московскую эпоху словом шиш именовали: 1) лесного
разбойника, бродягу-грабителя; 2) вора (ночного городского бродягу);
3) палача.
Первое значение засвидетельствовано записью Ричарда Джемса
в 1618 г.1. Второе — рядом деловых документов XVII—XVIII вв.
Оно сохранилось и по говорам (см. ниже). Третье значение
засвидетельствовано в житии Аввакума: «Смотри слышателю, волею
зоЕетъ Христосъ, а не приказалъ апостоламъ непокоряющихся ог-
немъ жечь и на висилицахъ вешать... И те учители [никониане]
явны яко шиши антихристовы, которые, приводя в вЪру, губят и
смерти предаютъ» 2.
Первое значение подтверждено также эстонским и финским
языками, заимствовавшими это слово: фин. sissi, эст. siss; наряду с
этим оба языка знают еще и фин. sissika, эст. sissik 3. И Миккола
возводит эти последние слова к русскому сыщик, что едва ли
правильно. Скорее, судя по значению 'лесной разбойник', они восходят
либо к русскому шишига, либо к шишко. Выводить русское слово
шиш из эстонского или финского (к чему склонялись А. Марков и
Я. Эндзелин) невозможно, так как в угро-финских языках это слово
этимологии не имеет, стоит особняком, а у нас оно представлено
1 См.: Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса
(1618—1619 гг.). Л., 1959, с. 65 (л. 5: 41— shish, a rouge of the woods — 'лесной
разбойник').
2 См.: Памятники истории старообрядчества XVII в. Кн. I. Л., 1927, с. 65.
3См.: Vasmer Λί. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. III. Heidelberg,
1958, S. 403.
102
гнездом (шиш, шйжголь, шишко, шйжлик, шишига, шиишть, ши-
шйть, шйшшть, шишлять, шишйра, шишймора, шишмола и др.) с
таким разнообразием значений, словопроизводства и с такой
исторической документацией, что едва ли можно сомневаться в большой
древности этого гнезда слов в русском языке.
Слово шиш заимствовано из русского — кроме прибалтийско-
финских — также и в польский язык. Значение, указанное в
словаре Линде х и в Варшавском словаре Карловича, Крыньского и
Недзведзкого ?: 'партизан, военный авантюрист* — из источников
XVII в., вполне соответствует записи Ричарда Джемса и как бы
датирует время заимствования этого слова. В болгарском подобозвуч-
ная группа слов производится из турецкого; достаточно сравнить
хотя бы по кратким словарям 3 значения слов:
шиш — 'заостренный кол, вертел, большая игла';
шише — 'узкогорлый стеклянный сосуд, стекло на лампе';
шишане — 'старинная пушка';
шйшкав — 'толстый, полный';
шйшкебац — 'род шашлыка';
с турецкими4: çiç1— 'вертел, спица, стержень';
§i§2 — 'опухоль, шишка';
§i§ane — 'карабин с шестигранным стволом';
§i§e — 'бутылка, склянка, банка, ламповое стекло';
çiçkin — 'опухший, вздутый, набухший, надутый';
§i§ken ~ §içirgen — 'хвастливый, надменный';
çiçman— 'толстый, жирный, дородный; толстяк';
§i§mek— 'пухнуть, надуваться, толстеть, вздыматься1, чтобы
признать, что в славянских языках встретились и по-разному
сосуществуют два ряда слов от подобозвучной основы шиш,
один—свой исконный, другой—из турецких языков5.
Так, рядом с перечисленными выше турецкими заимствованиями
в болгарском существует слово шишарка (шишарашка) — 'шишка
хвойного дерева, стручок, сосулька' 6, никак не связанное с
турецкими словами. Вероятно, контаминацией турецкого и
старославянского пласта является болгарское шишко — 'толстяк'.
1 См.: Linde S. В. Slownik jezyka polskiego. T. V. Lwow, 1859, s. 634.
2 См.: Karlowicz J., KrynsÙ Α., Niedzwiedzki W. Siownik jfzyka polskiego.
T. VI. Wafszawa, 1915, s. 706.
3 См.: Андрейчин Л., Георгиев Л., Илчев Ст.у Постов Η., Леков Ив., Стойкое
Ст., Тодоров Цв. Български тълковен речник. София, 1955, с. 958.
4 См.: МагазаникД. А. Турецко-русский словарь. Под ред. В. А.
Гордлевского. М., ОГИЗ, 1945, с. 569 ел.
6 Ср. в Азербайджанско-русском словаре Г. Гуссейнова (Баку, 1941, с. 364)
с теми же значениями шишх, шиш2, Шишкин, шишмек; в Узбекско-русском словаре
Т. Н. Кары-Ниязова и А. К. Боровкова (Ташкент, 1941, с. 590): шиш, шиша—
'склянка, бутылка', ...шишмок, шишинмок, шиширмок...; в Киргизско-русском
словаре К. К. Юдахина (М., 1958, с. 468): щ, §i§i, §isik, §i§ek; в Башкирско-русском
словаре Баш. филиала АН СССР (М., 1958, с. 658): шеш1, шеш2, шеше, шешеу.
6 См.: Български тълковен речник, с. 958; Мичатек Л. А. Дифференциальны\\
болгарско-русский словарь. СПб., 1910, с. 623.
103
Сербские: шиш — 'железный вертел', титана ~ шешана —
'старинное ружье' тоже из турецкого1. Но шишка—шишарица
и шеишрица—шишарка—шешарка—'хвойная шишка'—не
заимствованные, а исконные слова2.
Богатейший и наиболее «первобытный» семантический материал
для незаимствованных славянских слов с основой шиш дают русские
диалекты. В «Опыте областного великорусского словаря» 3:
шиш— 1) 'вор' (вятск., костром., новгор.); 2) пустой человек'
(вят.); 3) 'домовой, бес' (костром., новгор.); в «Дополнениях»4
добавлено: 4) 'малая копёнка сена'; 5) 'суковатые жерди,
составленные в козлы — вешать горох' (влад.);
шишеть — 1) 'заниматься чем-либо тихо, в отдалении от
других' (кавказ., костром., новгор.); 2) 'беспрестанно что-нибудь
делать' (нижегород.);
шишига — 1) 'праздношатающийся дрянной человек' (вятск.,
пермск.); 2) 'домовой, бес, злой дух' (костром., нижегор., сарат.,
ярославск.);
шишймора — 1) 'домовой дух, занимающийся прядением'
(нижегород.); в «Дополнениях» еще 2) 'работящий человек' (вятск.,);
3) 'скупец, голяк' (псков., тверск.);
шишко — 'нечистый дух, бес' (тверск.); шишкун — 'тот, кто
медленно делает' (новгор., тамбовск.).
В. И. Даль ? собрал значительно более широкий круг значений
слова шиш и разделил материал на две статьи, как омонимы:
«1. шиш—'островерхая куча, ворох, насыпь, постройка
(кукиш, фига; копешка сена; шалаш; жерди шатром для сушки гороха,
конопли)'.
2. шиш — вят. 'шатун, бродяга, вор'; стар, 'лазутчик,
соглядатай и переносчик'; то же, что шишига, шишиган; 'сатана, бес; злой
кикимора или домовой, нечистая сила, которого обычно поселяют в
овине'. Шишига свадьбу играет — 'вихрем пыль по дороге подняло
столбом'. Шиши его знают! — т. е. черти. Хмельные шиши — 'опой-
ная горячка, когда грезятся чертенята'».
Первый из этих омонимов связан с турецкими заимствованиями,
но представляет такую стадию семантического освоения в русском
языке, какая указывает на большую древность заимствования (зна-
1 См.: Вук Стеф. Kapawih. Српски р]'ечник. Беч, 1852, с. 840 ел.
2 С сербским шишак — 'жеребенок' можно сблизить диалектное русское
шишка (рязанское) — 'жеребенок* ; а также диалектное польское szyszka
—'овца' (в языке детей) и призыв овец (Kariowiez J. Siownik gwar polskich. T. V,
Krakow, 1907, с. 336); с другой стороны, турецкое §isek — 'двухгодовалый
ягненок' (Турецко-русский словарь Д. А. Магазаника. М., 1945, с. 569) и башкирское
ишшзк: шишак hapbik — 'овца после 2-го окота', шешзк кэзэ — 'коза после 2-го
окота' (Башкирско-русский словарь. М., 1958, с. 658).
3 Опыт областного великорусского словаря. Изд. 2-е. СПб., 1832, с. 266.
4 Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858,
с. 307.
ъ Даль В. И. Толковый словарь жиеого великорусского языка. Изд. 3-е.
Т. IV. СПб., 1908, с. 1442—1445.
104
чительно раньше турецких заимствований в южнославянских
языках,— вероятно, еще печенежских и половецких времен).
Второй омоним — древнее славянское слово, его семантическая
структура имеет соответствие в системе значений дублетного
сложного слова шишймора древнего типа; трын-трава, окиян-море;
шишймора (ср. мара; шишига, шиишган) — 'кикимора, привидение;
вор, плут, обманщик, мошенник; сморчок, невзрачный человек,
мальчишка; скряга, бедняк, голыш (ср. шйжголь, шйшара и
шиша)', копун, копоткий работник и домосед; подслушник и
переносчик, наушник' (см. там же).
Следовало бы разделить (как три омонима) и производное слово:
1) шишка — 'опухоль, волдырь, желвак' (из турецких языков);
2) шишка — 'плод с семенем' (сосны, ели, кедра);
3) шишка (то же, что шишка) — 'бес, черт'.
В. И. Даль не сделал этого, смешав в одной статье все значения
и употребления. Второй и третий омонимы — древние славянские
слова. Для второго остроумную и убедительную этимологию
предложил Вацлав Махек 1#. литовское skuja — 4хвоя, шишка' —
первичная форма слова; в общеславянском — перестановка согласных
*sjka> *шька; далее удвоение>шйшька — вследствие угрожающей
редукции слова (> * шка). А. Брюкнер 2 возводит это слово к szich,
вар. szach, и приводит из Потоцкого (конец XVII в.) borowe zbie-
rajijc szysze в доказательство вторичности слова szyszka.
О восточнославянском * шихъ свидетельствуют, с одной стороны,
сложные слова: шихоботь из * шихо-хоботь — 'сброд'; шихеорость
из * шихо-хворость — 'всякий сброд' (см. «Дополнения к Опыту
областного словаря», с. 307, и Даль. Толковый словарь, изд. 3-е,
т. IV, с. 1442), а с другой стороны, топонимический термин: Ши-
хова коса (к северо-западу от Баку в Каспийском море) и слово
шихан, известное на Урале, в Саратов., Оренбургском и Астраханском
краях: 'холм, бугор; верхушка, маковка горы'. Ср. ниже кукан.
Третий омоним нашел новые подтверждения и после областных
словарей Академии наук и В. И. Даля. В северных говорах 8,
кроме упомянутого (у Г. Куликовского), находим: шишок (Пове-
нец) — 'змей'; шиш — 'разбойник' (Барсов Е. Причитания
Северного края, т. II).
В архаических смоленских говорах4, наряду со значением шиш —
1 Machek V. Etymologicky slovnik jazyka éeského a slovenského. Praha, 1957,
s. 500.
2 Bruckner A. Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Krakow, 1927.
s. 562.
3 См.: Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия в его
бытовом и этнографическом применении. СПб., 1835, с. 192 (шишко, шишкун—
'нечистый дух, леший, которому приписывают распложение множества
комаров в Запечорском крае'); Куликовский Г. Словарь областного олонецкого
наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898, с. 137 (шишко,
шишкун (заон.)—'дьявол' (Повенец); прозвище лешего; 'тихо работающий').
4 Смоленский областной словарь. Сост. В. Н. Добровольский. Смоленск,
1914, с. 1002.
105
'черт', записано шиш с присвистом (ругательно), что довольно ясно
указывает на забытое средневековое значение ' лесной разбойник'.
Драгоценные данные записаны А. В. Миртовым в одном из донских
говоров (хутора Вислого, Семикаракорской станицы): шйшики —
'черти' *, в другом (У.-Грязновский, ст. Чернышевской): шишок —
'указательный палец'.
Подведем итоги затянувшемуся экскурсу о словах с основой на
шиш-. Не подлежит сомнению относительно позднее (XVI—
XVIII вв.) заимствование ряда слов с этой основсй в болгарском
и сербском языках из турецкого и более древнее заимствование
близких по значению слов в русском из половецких или
печенежских наречий. Однако до этих иноязычных наслоений в славянских
языках существовали исконные слова шиш, шишка, шишко (и ряд
производных глаголов, прилагательных, наречий) с иными
значениями, чем в турецких языках. Древнее эвфемистическое
применение всех трех только что приведенных слов (а также некоторых
производных от них, см. выше) — именование всяких явлений
нечистой силы, теперь забываемое и сохраненное лишь в наиболее
архаических говорах, не имеет никаких соответствий ни в турецких,
ни в финно-угорских языках. Поэтому мы должны искать древнее
первичное значение этих русских слов среди разных употреблений
их в диалектах.
Довольно очевидна связь древнего значения шиш — 'лесной
бродяга, разбойник' и эвфемизма шишко, шишкун — 'леший'.
Глубокая древность реликтового шишок — 'змей' (Повенец)
освещается и столь же изолированным донским шишок — 'указательный
палец'. Ср. кукиш (синоним шиша) и кука— 'кулак'; кукан (ср.
ших: шихан) — 'холм, взлобок, пригорок' (тамбовск.; Даль.
Толковый словарь, изд. 2-е, т. II, с. 213); славяно-балтийская древность
этого слова подтверждается лит. kaukas (и kaukà) — 1) 'домовой,
приносящий дому богатство'; 2) 'душа некрещеного ребенка';
3) 'черт'; 4) 'недоросток'; 5) 'чертов палец (белемнит)', а также
лит. kâuke — 'пестик, сало растирать' (см. Lietuviy kalbos 2ody-
nas, т. IV, p. 420, 421). От этих свидетельств легче всего идти к
старому эвфемизму: шиш, шйшик, шишок, шишко 'рогатый> черт,
домовой'. Широко известные в Северо-Восточной Европе поверья о
появлении домового в виде ужа, змеи, о переселении душ и
превращении людей в земноводных (ящериц, змей и т. д.), о домовых и
леших как душах предков объясняют нам выбор этих слов как
подставных (эвфемизмов) вместо прямых имен нечистой силы.
Для домового и лешего когда-то в холмогорском говоре, а теперь
только на Печоре и в Русском Устье на р. Лене заменительным
именем было еще и суседко (сушетко). Вот как передает рассказ хол-
могорцев в 1619 г. Ричард Джемс2: «Sushedka— что-то вроде ве-
1 Миртов А. В. Донской словарь. Ростов-на-Дону, 1929, с. 368.
2 См.: Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса...,
с. J 55, 242, 396 ел.
106
селого чертенка, часто наведывавшегося в дома русских. В Холмо-
горах он был обычным гостем, например, в том доме, где мы
остановились. Рассказывают, что одним он приносит богатство, а других
разоряет, прежде всего убивая у них весь скот. Поэтому когда они
замечают, что одна скотина пала или начинает чахнуть, то спешат
продать весь остальной скот. Хозяин нашего дома уверял, что еще
когда он был мальчишкой и раз вошел в баню за луком и стрелами,
он встретил сушедку: тот выбегал из бани в виде маленького
некрасивого мальчика в лохмотьях. Они говорят, что этот чертик есть в
каждом доме, что в некоторых домах он кормит скот сеном и
соломой, хотя хозяин там не покупает ни того, ни другого. Говорят, что
он уводит иногда крестьян с дороги далеко в поля. Называют его
еще дядя».
Последняя фраза показывает, что Ричард Джемс объединил в
одно два рассказа — о домовом и лешем, если это смешение
преданий не началось уже в XVII в. у тех, от кого он записывал. В
ленинградском просторечии есть формула, первичный смысл которой
забыт. Когда кто-нибудь не сделал, не все сделал, что ему было
поручено, говорят: «А это что же? Это дядя за тебя сделает?» Видимо,
когда-то понимали здесь дядя как синоним другого подставного
слова — домовой.
После «нечистой силы» больше всего заменительных
наименований сохранилось в различных языках для страшных человеку эпохи
дикости животных. Так, в языке хинди волк именуется bheriyä, что
собственно значит 'овечка* (уменьшительное от bher — 'овца*).
Слона индийцы называют многими, но только заменительными
именами:
a) hastin—соб. 'рукастый' (рукой индийцы называют хобот
слона); б) dantavala—соб. 'клыкастый' (бивни слона индийцы
называют зубами); в) kinjar—соб. 'чащобник' (живущий в чаще
леса); г) näg (сокр. из nâga-hasta)—'змеерукий'г. Литовцы
называют змею ilgoji—соб. 'длинная'. У индусов есть пословица,
сопоставляющая имена-заменители змеи: jaise nägnäth—vaise
sçpnâth— 'что царь голых, что царь ползучих!', т. е. как ее
ни назови, змея останется змеей. В этой пословице сквозит
утрата суеверной боязни и пресмыкающихся, и их наименований.
Охота и добыча тоже повсюду именовались иносказательно.
Таково русское слово охота — соб. 'желание' и его предшественники:
древнерусскоеловъ, ловы, ловля — 'охота'; ловыдгьяти — 'охотиться';
ловьникъу ловьцьу ловьчии — 'охотник' 2, более позднее полеванье,
поле и глаголы полевать, польничать 3. Отсюда былинное
наименование поленица (паленица) удалая; оно никогда не было собствен-
1 Mayrhofer M. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen.
Lfg. 10, S. 150 ff. s. v. nägah.
2 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка.
Т. II, с. 39—40.
3 Даль В. И. Толковый словарь, изд. 3-е. Т. III, с. 648 и 651 (Псовая болезнь
до поля, а женская — до постели. Отъезжее пом — псовая охота в отъезд...).
107
ным именем, а иносказательно обозначало 'охотничью ватагу',
потом понималось как мужское, еще позже — как женское имя
богатырши.- Другим заменным названием охоты было лесовать г —
'охотиться в лесу за птицей и зверем' (арханг., холмогорск., пи-
нежск., мезенск., шенк., онежск.). Зона распространения этого
переименования, видимо, охватывала весь Северо-Восток Европы2.
Ср. литовские:
тесШои
medziökle
mediiotojas
niedziöklis
латышские:
эстонские:
финские:
—'охотиться'
—'охота'
}-·
охотник
все это от médis—'дерево'
(диал. жемайтское mede —'лес')
medïbas —'охота'
mednieks —'охотник'
medït —'охотиться1
mednis —'глухарь*
mets —'лес'
metsastus —'охота'
metsastama —'охотиться*
metsä —'лес'
metsästää —'охотиться'
metstästys —'охота'
metsämies —'охотник'
Известно, что индоевропейское обозначение медведя исчезло в
большинстве языков этой семьи. Но и наше «табуированное» медведь
(=питающийся медом) неприемлемо для охотников и жителей
горных и лесных областей; появилось много новых подставных имен:
мохнатый, топтыга (соб. 'бродяга'), хозяин, он, дядя Мишка
(Миша), а отсюда широко известное благодаря Некрасову Михаил
Иванович Топтыгин (генерал). Остановимся на этом. Дядя уже значило
'леший', как мы видели. Мишка — вовсе не от собственного имени
Михаил, Миша, а из более древнего мечька или мешька 3, как
свидетельствуют и наши древние памятники, и болгарские4 мечка,
мече — 'медвежонок' и сербское s мечак — 'медведь', мече —
'медвежонок', мЬчка — 'медведь, медведица*. Эти данные указывают
на древность слова. Выводить его из глагола мекать, мечать
могут только этимологи, очень беспечные в своих семантических
1 Даль В. Я, Толковый словарь, изд. 3-е, т. II, с. 726.
2 См.: Зеленин Д. К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии.
4.1. Запреты на охоте и иных промыслах. Л., 1929.
3 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря. Т. II. СПб., 1902, с. 132—
134 (мечька, вар. мешька — 'медведица'), и Даль В. И. Толковый словарь,
изд. 3-е. Т. II, с. 844 (мечка— 'самка, матка медведя').
4 См.: Речник на съвременния български книжовен език. Т. II. София, 1957,
с. 74.
ъ См.: Толстой И. И. Сербско-хорватско-русский словарь. М., 1958, с. 405.
108
соотнесениях *. Скорее надо допустить, что мечка— фонетическая
деформация (возможно, намеренная, как это часто наблюдается
в словах, создаваемых по запретам табу) более древнего меть-
ка, засвидетельствованного в нашей древней письменности (см.
выше прим. 26). Эта форма и дала: Мишка, дядя Миша, Михаил
Иваныч. Этой же древнерусской форме соответствует марийское
maska 2 и литовское meèka — 'медведь, медведица*. Если допустить
на основании марийского заимствования, что раньше
засвидетельствованного мешька (и соотв. южнославянских форм) в
древнерусском языке было * меська, тогда литовское meSkà можно считать
исконным соответствием этой русской формы и смело сопоставить
его с литовским miâkas — *лес\ Тогда мы имели бы в литовском
параллель черкесскому наименованию медведя по лесу: mySe —
'медведь' при myz — 'лес' 8, литовское meàkà оказалось бы прозрачным
заменительным наименованием медведицы: 'лешиха, лесная',
потерявшим у славян свою внутреннюю форму из-за утраты однокорен-
ного названия леса.
2
Следовало бы четко отграничить пережиточно сохраняющиеся
слова-заменители по запретам древних религий (табу) от
современных эвфемизмов. Наименование одних — «старыми эвфемизмами»,
других — «новыми эвфемизмами» недостаточно отражало бы их
существенное различие. Если мы сохраним для последних термин
«эвфемизм», то для древних «подставных» названий можно было бы
предложить обозначение «переименование по запрету» вместо не
столь ясных и удобных «языковые табу» или «слова-табу».
Непосредственные исторические связи с эвфемизмами нового
времени имеют только те переименования по запрету, цель которых
приукрасить свой предмет, чтобы отвратить его дурное воздействие.
Однако мотивы их создания в эпоху феодализма и капитализма
существенно отличаются от древних — религиозных.
В новые времена эвфемизмы порождаются либо лживой моралью
(дом терпимости, публичный дом, богоугодное заведение), либо
ужимками жеманности (собака подняла ножку, у него не было стула,
она в интересном положении, мне захотелось обойтись носовым
платком).
Как переименование по запрету (табу) характерно для
первобытной эпохи, так эвфемизм расцветает на почве буржуазного лицеме-
1 М. Фасмер приводит такое объяснение, но высказывает несогласие с ним,
однако не предлагает другого (см.: Vasmer M. Russisches etymologisches Wör-
terbuch. Bd. II. Heidelberg, 1955, S. 128 f.).
2 И. Эрдеди в своих работах о языковом табу отмечает, что среди многих за-
менительных наименований медведя, отчасти заимствованных, марийцы имеют
еще и metsen kunningas — 'король леса'.
3 Это сближение сделано акад. Ф. Е. Коршем в «Сборнике в честь
семидесятилетия Д. Н. Анучина» (М., 1913, с. 526).
109
рия, церковного ханжества, либеральной фразы и политической
позы (свободный мир— вместо страны капитализма), наконец, и
подцензурного «эзопова языка» (например, назревала гроза великая,
Тургенев; мать — читай 'Родина'; сын — читай 'Революция',
Некрасов). Эвфемизмы распространяются сперва в церемониально-
придворном обиходе (в бозе почил — 'умер'—о русских царях;
уехал на охоту — 'умер' — о китайском богдыхане) и языке
дипломатии, затем в литературном языке и в разговорной речи. Их
разнообразие в нашем языковом наследстве заставляет пристальней
всмотреться в их отличия и предложить схему их классификации
для детального изучения, но в этой работе нет места для широкого
охвата материала и углубления исследования.
Несколько наблюдений теоретического и исторического порядка
в связи с обзором разновидностей эвфемизма должны послужить
введением в разработку этой главы русской исторической
лексикологии.
По семантической структуре эвфемизмы — одна из
разновидностей тропа, т. е. метафоры, метонимии, синекдохи и т. д. Отличие
этой разновидности в ее назначении ивсфере применения.
Эвфемизмы имеют целью не образное представление
действительности, как тропы поэтического языка, а затемнение, прикрытие
неприглядных явлений жизни или нескромных мыслей, намерений.
Это наиболее типичная категория эвфемизмов в буржуазном
обществе, или, если угодно, основной закон их образования в эту
эпоху. Для феодальной поры более характерны эвфемизмы
приукрашивающие, возникающие по эстетической потребности и уже
поэтому близкие к формулам неоклассической литературы.
Эвфемизмы употребляются как условно-обязатель-.
ный способ выражения, преимущественно в дипломатии,
публицистике, ораторской речи, а в разговорной речи необязатель-
н о, по крайней мере не в интимной беседе, не в домашнем быту.
В дружеской беседе эвфемизмы либо повторяются по инерции —
и тогда кажутся ходульно-нелепыми, либо употребляются ради
шутки, юмористически. Вот пример шуточного эвфемизма-экспромта.
Два пожилых рабочих в пригородной электричке беседуют у
окна. Мимо проносятся широко раскинувшиеся посадки
коллективного сада со множеством маленьких «летних» домиков.
— А ты себе такую дачку строить не собираешься?
— Нет! Поздновато мне. Я теперь о двухметровой даче
подумываю.
Оба смеются: «холодные» дачки и впрямь наводят на мысль о
кладбищенских склепах.
Эвфемизмы недолговечны. Существенным условием
действенности эвфемизма является наличие грубого, «недопустимого»
эквивалента. Как только это подразумеваемое неудобопроизносимое
выражение выходит из употребления, эвфемизм теряет свои
«облагораживающие» свойства, так как переходит в разряд прямых
наименований, и тогда требует новой подмены.
ПО
В. И. Даль еще счел нужным поместить в свой словарь почти
забытое выражение XVIII в.: куры строить. Редактсф 3-го
издания, проф. Бодуэн де Куртенэ добавляет пояснение: из франц. faire
la cour и вводит путем ссылки еще одно забытое слово,
засвидетельствованное в XIX в.: ферлакурить1. Первое Даль поясняет словами
середины XIX в.: 'волочиться, любезничать, а последнее Бодуэн де
Куртенэ — выражениями начала XX в.: 'ухаживать за женщиной,
заниматься флиртом*. Однако раньше этих эвфемизмов, но в том же
XVIII в., употреблялось строить дворики, махаться.
Иллюстрации из «Живописца» Н. И. Новикова:
1. «Ах как он славен; с чужою женою и помахаться не смеет —
еще и за грех ставит!» («Опыт модного словаря, щегольского
наречия») 2.
2. «С которою машусь, ту одну хвалю; в ней одной все нахожу
совершенства, а в протчих вижу только Недостатки и пороки» 3.
3. «Пусть ученой человек со всею своею премудростью начнет
при мне строить дворики, то я его так проучу, что он от всякой
щеголихи тотчас на четырех ногах поскачет».
4. «Разговор её [жены] ни в чем другом по большей части не
состоит, как только рассказывает и делает заключения, кто кому
творит такой-то кур: слово, которого я до женитьбы моей не
знал» 4.
Употребление в литературе слов ферлакур ('ухаживатель'),
ферлакурный, ферлакурничать иллюстрирует М. И. Михельсон в
«Опыте русской фразеологии» (т. II, с. 441):
1. «Где только барышни, так вот и льнет.,. Да уже не говорите,
такой ферлакур, что просто беда!» (Д. В. Григорович.
Лотерейный бал).
2. «Дамочка-то очень и очень смазлива, а карапузик-то со
стеклышком очень и очень ферлакурен; и губа у него не дура» (Н.
Макаров. Мои воспоминания, кн. 4, гл. 2).
3. «Старехонек был, а любил с дамочками поферлакурничать,
не ставил того в грех» (П. И.Мельников. Бабушкины
россказни).
Некрасов, Тургенев, Чернышевский, Достоевский, Курочкин
употребляют забытое теперь слово лоретка. Эфемерность его
отметил Салтыков-Щедрин: «[В Париже] нас не могли йбсхищать ни
бульвары, ни кокотки (в то время их называли еще лоретками)» б.
1 Даль В. И. Толковый словарь, изд. 3-е. Т. II, с. 578, и т. IV, с. 1136.
2 «Живописец» Н. И. Новикова. 1772—1773. Лист 10-й. Изд. П. Ä.
Ефремова. СПб., 1884, с. 62.
3 Τ а м ж е, с. 22. Махаться — калька с французского s'agiter —
'волноваться от страсти', с намеком над agiter la queue — 'вертеть хвостом' (язвительно—
об изъяснении чувств «на собачьем языке»), ср. соврем, бран. вертихвостка.
4 Τ а м же, лист 4-й, с. 24, и лист 17-й, с. 105.
6 Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. Н. Ушакова. T. H.M., 1938,
с. 91; Словарь современного русского литературного языка. Т. VI. М.—Л., 1957,
с. 364 ел.; ср.: Русская сатира XIX —начала XX века. М.—Л,, I960, с. 204;
Словарь Larive et Fleury. Dictionnaire français illustré..., 18Ô?, t. Il, p. 384.
111
Название это от церкви и улицы Нотр-Дам-де-Лорет в квартале
Брэда в Париже. Французский словарь Ларива и Флери 1887 г.
объясняет: «Lorette — une jeune femme galante». Несколько
десятилетий спустя Чехов пишет: «[ее] считали кокоткой, это была ее
профессия, когда же хотели выражаться о ней литературно, то называли
ее актрисой и певицей»г.
В основу классификации «новых эвфемизмов» следует положить
их социальную природу, так как другие, чисто формальные
категории, например по частям речи, по составу (односложные и
словосочетания), по происхождению (свои и заимствованные), дадут
довольно бесплодные, непоказательные схемы. Эти признаки должны
быть приняты во внимание как подчиненные для подразделений, для
группировки материала внутри основных разрядов: в каждом из
них надо начинать с однословных эвфемизмов, а затем
рассматривать эвфемистические речения. Однословные следует начинать с
существительных, далее рассматривать прилагательные и
заканчивать глаголами. В каждой группе впереди должны быть свои слова,
а в конце чужеязычные, заимствованные.
Основные разряды эвфемизмов: 1) общеупотребительные
эвфемизмы национального литературного языка; 2) классовые и
профессиональные эвфемизмы; 3) семейно-бытовые.
Чем дальше в прошлое, тем в большей мере сближаются первая
и вторая группы, а в движении к будущему вторая группа тает до
полного исчезновения; поэтому можно сказать, что в исходной и
наступающей языковой ситуации эвфемизмы укладывались в более
простую, дуалистическую схему.
Несколько примеров, характерных для феодальной и
капиталистической эпохи, эвфемизмов классовых и профессиональных мы
рассмотрим прежде всего.
1. «Кровь моя, отвечала она, запрещает мне иметь знакомство
с мастеровыми людьми... Не подлость ли то, вскричала она с
презрительною улыбкою, знаться и дружиться с художниками и
живописцами! Да ты и сам не хамов ли внучек?» ?
2. «Низкостепенной порочной человек, видя осмеваема себя купно
с превосходительным у не будет иметь причины роптать... А
превосходительство, удрученное пороками, в первой раз в жизни своей
почувствует равенство с низкостепенными» 3.
3. Проф. С. П. Шевырев в лекциях о русской литературе,
читанных в Париже в 1862 г., выражается так: «Есть народ и в народном
элементе своя слабая сторона. На Западе она называется массою,
а у нас чернью. Это естьотсед от народа, отрешение неправильное от
1 Словарь современного русского литературного языка. Т. V. М., 1956,
с. 1134 (позднейшие эвфемизмы: фр. jeune femme galante — *женщина легкого
поведения, публичная женщина, падшая женщина' и т. д.).
2 «Живописец» Н. И. Новикова. 1772—1773 гг. Лист 25-й, с. 155.
3 Там же, лист 1-й, с. 4. Ср. еще лист 11-й, с. 68 («По-видимому, скоро
вся подлость сделается писателями»), и лист 13-й, с. 81 («что подлости одной
свойственно утопать в пороках»).
112
народной жизни, вредное благу общества и страшное
государствам во время их переворотов» х.
Надо вспомнить, что в это время, т. е. еще до освобождения
крестьян, помещики называли крепостных «рабами» и «хамами» в
спокойном состоянии, а в раздражении — словами непечатными,
чтобы заметить, что слово подлость было по своему времени
эвфемизмом. А под чернью Шевырев подразумевал «мастеровщину»
(городской пролетариат) и деклассированных.
4. «Французскую наглость называли мы благородною вольностью,
а ныне английскую грубость именуем благородною великостью
духа» 2.
Последняя цитата скорей должна быть отнесена к
общелитературным эвфемизмам, если бы она была нашего времени, но в 70-х
годах XVIII в. невозможно игнорировать классовой позиции
галломанов и англоманов, создавших эти эвфемизмы.
Для буржуазного общества со второй половины XIX в.
характерны эвфемизмы не украшающие, а затуманивающие свое
содержание: наклонность к чужому вместо вороватость, состояние или
достаток вместо богатство, человек со средствами вместо капиталист,
в летах вместо старик. Ряд эвфемизмов через отрицание: не
молодой, не умный, не порядочный. К этому примыкают и приглушенные
эвфемизмы научного стиля: никто не станет оспаривать... или
совершенно несомненно вместо я не могу доказать или мы никогда не
узнаем вместо мне не известно ничего достоверного и тому подобные
«профессиональные» штампы ученой касты.
Для бытовых эвфемизмов, которые употребительны по
преимуществу в разговорной речи, характерно ограничение кругом
представлений из области физиологии и анатомии человека.
Слово живот до XVIII в. употреблялось в значениях: 1) жизнь
(живот вечный — жизнь бесконечная); 2) животное; 3) имущество,
достояние8. Затем оно перешло как эвфемизм в семейно-бытовой
обиход вместо брюхо, пузо. Последнее слово — тоже эвфемизм,
восходящий к древнерусскому пузъ (жита, ржи). Ср. пузырь, пуздро —
первоначально 'сосуд, сделанный из пузыря* (например, бычьего).
С этим надо сравнить болгарское мях — 'живот', первоначально
мгьх, откуда наше мешок. Ср. также в хинди pëj — 'живот' из
санскритского pëjâ — 'корзина*. Ср. pitakah — 'пузырь, желвак' 4.
Современное внебрачный, дореволюционное незаконнорожденный
(ребенок), как это понятно,— новые эвфемизмы национального
языка. Ричард Джемс записал в 1619 г.: niet otetskie ditah ('ни
1 Шевырев С. П. Лекции о русской литературе, читанные в Париже в 1862 г.—
«Сборник Отд. рус. яз. и словесности АН». Т. XXXIII, № 5. СПб., 1884, с. 21.
* «Живописец» Н. И. Новикова. 1772—1773 гг. Лист 13-й, с. 82.
3 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря... Т. I. СПб., 1893, с. 867—
869; ПоликарповФ. Лексикон Треязычный. М., 1704, с. 106.
4 Mayrhofer M. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen.
Lfg. 12, S. 273 ff.; Lfg. 13, S. 339; Срезневский И. Я. Материалы... Т. II, СПб.,
1902, с. 1725.
ИЗ
отецке дите')1, теперь не известное, но, кроме того, и грубое wibla-
duc, сохранившееся в народной речи наряду с эвфемизмом богдан
(известное и как собственное имя с 1385 г.)2 и найдышек (как
собственное имя: Найда, Найден с 1482 г., Найдун 3). В современных
диалектах употребительны и «неприкровенные»: выделок, бастрюк,
бастрык 4, выблядок, сколотыш *. Переход в собственные имена, а
дальше и в фамилии (Богданов, Найденов) наглядно показывает
передвижение эвфемизмов из семейного обихода в широкий
общественный и национальный. При этом они уже теряют силу
эвфемизма и либо превращаются в трафареты, закрепляемые за
определенным стилем литературного языка, либо совсем выходят из
употребления. Так, уже забываются: мезальянс, рогоносец, адюльтер,
невыразимые (=штаны).
Было бы заблуждением приписывать эвфемизмы всех трех
порядков только классовому обществу. Мы не очистили язык, не
освободили полностью сознание от пережитков прошлых веков и
употребляем немало эвфемизмов дореволюционного прошлого. И в наше
время еще создаются, хотя и редко, новые эвфемизмы того же
покроя, той же природы, что и при капитализме. В «Известиях Советов
депутатов трудящихся СССР», № 192 (13 428), от 13 августа 1960 г.
напечатана статья: «Что такое пересортица?». Она начинается так:
«Этого слова не найдешь в русском словаре, оно сотворено и живет
«в кулуарах» торговых учреждений. Судьи и прокуроры тоже
отлично понимают его смысл: за термином «пересортица» обычно
таятся опасные вещи. Перепутаны сорта товаров, низшие выданы за
высшие — вот вам и пересортица». Мошенничество именуется
затемняющим и на вид благопристойнейшим словом. Но характерным
для социалистической эпохи является именно разоблачение
эвфемизмов и предпочтение прямых, иногда резких и грубоватых
выражений, что наблюдаем в возрастающей пропорции не только в
разговорном языке, но даже в языке советской дипломатии и в
ораторской речи, особенно в послевоенное время.
1961 г.
10. ПРОЕКТ ДРЕВНЕРУССКОГО СЛОВАРЯ
Вводная заметка
1
Советские лингвисты [...] уделяют большое внимание вопросу о
происхождении языка в начальных стадиях его развития, с одной
стороны, а с другой — текущим вопросам языковой практики на-
1 См.: Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса...,
с. 179 и 75.
2 См.: Тупиков H. M. Словарь древнерусских личных собственных имен.
СПб., 1903, с. 51.
8 Τ а м ж е, с. 226.
4 Τ а м ж е, с. 41 (бастрыга — с 1539 г.).
£ Ср. сколатины—'пахтанье, сыворотка*.
114
ших дней. Но до последнего времени очень мало интереса проявлено
было к близкому прошлому, к средневековой истории языка.
Словарь древнерусского языка XV—XVIII веков—большое и
ответственное начинание Института языка и мышления в этой
области.
В академических кругах план Древнерусского словаря
обсуждается со второй четверти XIX в. Сто лет уже стоит на очереди
составление этого словаря.
«Материалы для словаря древнерусского языка по письменным
памятникам» акад. И. И. Срезневского (т. I—III, СПб., 1890—
1912) наполовину осуществили эту задачу. В этом словаре,
как известно, почти с исчерпывающей полнотой представлен
лексический материал древнейшей русской письменности с XI до
XV в. Но наиболее важный для истории русского национального
языка период с XV по XVIII в. в словаре акад. Срезневского не
отражен, так как памятники этого времени им были использованы
лишь случайно, в очень малом количестве. Вполне
удовлетворительно представлена в словаре акад. Срезневского лексика
церковнославянского языка русской письменное·
τ и высших классов общества раннего феодализма, но не отражены
в нем диалекты остальных классов той эпохи, так как они
проникают в письменность позже. Только в XVII в. на основе диалектов
купечества, посадских людей, мелкого служилого дворянства и
крестьянства создаются новые типы литературного языка, новые
роды письменности. Обследование и разъяснение лексики именно
этого периода (XVI—XVIII вв.) даст историческое освещение
основному составу словаря современного русского языка. В силу
сказанного мы не видим оснований называть его словарем
среднерусского языка. Именно этот словарь даст древнейшую
документацию основной, важнейшей части лексики русского
литературного языка, следовательно, он и должен быть назван
Древнерусским словарем.
Мы делаем необычную в филологии попытку привлечь широкие
научные круги к обсуждению проекта
Древнерусского словаря, раньше чем начата работа по его составлению,
когда заканчивается только сбор и упорядочение сырых материалов
и подготовляются первые кадры работников, когда еще очень многое
и существенное можно изменить в плане этой работы. Делаем это
для того, чтобы обеспечить высокое качество нашего словаря как
советского исторического словаря.
Наша книга представляет читателю краткую историю словаря,
установку дальнейшей работы и подробные инструкции по всем
разделам построения словаря. Пробные словарные статьи, список
источников и план издания словаря позволят читателю составить
себе довольно полное представление о характере и составе
Древнерусского словаря.
Научное значение Древнерусского словаря будет, несомненно,
велико.
115
Установление состава слов и их значений в русском языке XV—
XVIII вв. даст надежное средство для точной научной
интерпретации текстов — средство, необходимое для филологов и историков.
Значительное количество хронологически определенных
текстуальных примеров, сравнительные языковые материалы дадут важное
пособие для лингвистических исследований. Наконец, и историки
материальной культуры Московской Руси получат важный сборник
языковых источников, мало известных и еще меньше использованных
в их работах.
О большом учебном значении ДРС и говорить не приходится,
он послужит широкой популяризации научных сведений по
истории языка и культуры наших средних веков.
Этот словарь должен пролить свет на большую революционную
эпоху — разложения феодализма и начала капитализма, очень мало
разработанную со стороны языка.
И научная история русского языка, и история европейских, а
еще более история восточных языков в средние века — получат
новую базу и важный стимул для работы с выходом ДРС. Связи и
взаимоотношения между языками Запада и Востока, Юга и Севера,
Европы и Азии получат новое освещение, так как Московская Русь
была посредником и трансформатором мировых культурных
течений. Эти взаимоотношения не могут быть широко изучены, пока нет
такого необходимого справочника и сборника критически
обработанных материалов, как исторический словарь средневекового
русского языка \ освещающий историю вещей, историю понятий
вместе с историей слов-знаков.
Но эту трудную задачу нельзя разрешить примитивными и
кустарными средствами, например силами одного ученого. История
нашего словаря показывает нелегкий путь от кустарщины к все более
совершенным, научным приемам работы.
Критическое обсуждение проекта ДРС — чем шире и
основательней оно будет — тем больше поможет составителям ДРС
избегнуть ошибок, естественных в таком большом и сложном научном
1 Как много еще надо сделать для истории языковых отношений Европы и
Азии, показывает, например, книга: Lokotsch К. Etymologisches Wörterbuch der
europäischen Wörter orientalischen Ursprungs. Heidelberg, 1927.
К. Локоч устанавливает восточные источники многих слов разных
европейских языков, но в большинстве случаев не знает путей их проникновения и даже
не всегда уверен в конечном источнике заимствований. В немецком языке он
указывает среди других такие восточные слова: Barchat (mhd.), Arschine, Balalaika,
Balkon, Bashlik, Busa, Derwisch, Dolmetsch, Dragoman, Dschiggetai, Feluke,
Giaur, Hadschi, Haiduck, Horde, hurra, Imam, Janitschar, Jatagan, Kaftan, Kol-
pak, Karawane, Karawanserai, Kasak (Kosack), Kiosk, Kopeke, Kukurutze, Kut-
sclier, Lakai, Limone, Madapolame, Mamluck, Marzipan, Matratze, Miesznik (fauler
Kopf), Mull, Muselmann, Naphta, Padischa (h), Pascha, Rahatlukum, Rubel,
Saffian, Sarafan, Sarsche, Schach, Satin, Schakal, Schamane, Schasmin, Schube,
Sofa, Sorbet, Sultan, Tabor, Taburett, Taft, Talisman, tatuieren, Tarif, Turban,
Ulan, Veranda, Watte, Wezir.
Разработка русского словаря средних веков и здесь даст много
окончательных объяснений.
116
предприятии. Внимание и помощь научных кругов — первое
условие удачи нашего дела.
С другой стороны, наш опыт должен быть сохранен и передан
всем, кто будет работать после нас в этой области. А задача
составления исторических словарей поставлена уже сейчас для многих
национальных языков в СССР (например, для украинского,
белорусского, грузинского, азербайджанского) и встанет еще для многих
других. Всем лингвистам, кто возьмется за такое дело, полезно и
необходимо будет близко ознакомиться не только с нашим
словарем, когда он выйдет как результат работы, а и с подготовительной
работой во всех ее стадиях. И для этих читателей-лексикологов наш
проект послужит практическим пособием.
Третье и последнее назначение этой книги — служить
руководством в работе всему коллективу сотрудников ДРС, т. е. она нужна
для нас самих как орудие производства.
2
В мае 1925 г. в заседании ОРЯС АН акад. А. И. Соболевский
выступил с предложением о составлении ДРС, а в сентябре 1925 г.
была организована Комиссия по собиранию словарных материалов
по древнерусскому языку под его руководством. Первая группа
выборок поступила в АН от акад. А. И. Соболевского 10/V 1926 г.
До своей смерти он с сотрудниками успел сделать около 100000
карточек, преимущественно из житийной литературы, статейных
списков и приказных актов. Значительно расширили круг источников
словаря и привлекли новых сотрудников к работе преемники,
продолжавшие работу после А. И. Соболевского. К апрелю 1934 г.
по произведенному мною подсчету было накоплено уже 144 945
карточек. Около этого времени приняты были новые методы выборки —
«полной» и «сплошной». На 1/1 1936 г. мы имели 386 263 карточки,
причем почти все выборки, сделанные при Соболевском, заменены
новыми, так как они оказались дефектными. Нами проработано
уже около 700 источников. До того как приступить к составлению
словаря, мы предполагаем сделать еще около 600 000 карточек,
(по вновь намеченным для проработки источникам). С фондом
около миллиона карточек из нескольких тысяч источников мы
приступим к изданию словаря в 8 томах по 10 вып., свыше 800 печ.
листов. Он будет содержать около 150 тысяч словарных статей.
Закончить издание предполагаем к началу 1945 г.
В составлении исторического словаря мы имеем большую
традицию. Немецкий словарь бр. Гримм, польский Линде, русский акад.
Срезневского могут во многом служить образцами.
Технические приемы оформления словаря, строгая точность, вы-
веренность материала — вот положительные стороны
дореволюционной лексикографической традиции, которые должны быть
сохранены.
117
Но в своих принципах наш словарь будет частично отходить от
традиции.
Иная цель, иное соотношение частей материала, иное восприятие
показаний источников, наконец, источники нового типа — все это
должно сделать наш словарь, при формальном сходстве со старыми
историческими словарями, существенно несходным с ними.
Укажу на три важные отличия.
3
Мы не только выдвигаем, но и реализуем в работе тезис, что
русский язык XV—XVIII вв. не представлял единой системы, одного
языка, что было несколько типов литературного языка и ряд
разговорных диалектов, более резко различавшихся, чем в последующее
время. Строя историю национальных языков и основываясь на
мнимом «единстве» литературного языка своего времени,
буржуазные лингвисты изображали их в феодальном прошлом почти такими
же «общенародными», как в новое время. При этом они
игнорировали факты и источники, разрушавшие такую теорию. Главным
образом верхушечная, учено-книжная феодальная литература,
однородная, бедная по языку, чуждая народным массам,
использовалась в исследованиях и в исторических словарях.
Первым и важнейшим отличием ДРС и будет расширение этих
узких рамок, включение новых инового рода материалов —
таких, где есть данные о языке порабощенных классов.
Ремесленники, торговцы, низший слой служилых людей — «посадские люди»
до XVII в. не имели своей литературы и почти не участвовали в
создании памятников письменности. Но в XVII в. они начинают
создавать свою письменность и свой тип литературного языка,
который очень заметно влияет на старый «высокий» тип.
[...] До сих пор историки русского языка отличали деловой язык
как «чисто русский» от собственно литературного как
церковнославянского. Оба эти типа обычно рассматривались как выдержанные,
цельные языковые системы. Но мы не можем уже удовлетвориться
таким огульным и неточным суждением. И церковнославянский язык
менялся со временем, существенно различался по жанрам. А
«деловой язык» при более проницательном изучении оказывается еще
менее однородным на протяжении· почти тысячелетней феодальной
эры. Его формы в XI—XIV вв. одни, уже несколько иные в XV—
XVII вв., существенно изменяется состав и строй этого языка в
XVII в., когда можно говорить о «приказном» языке в собственном
смысле слова; наконец, в XVIII—XIX вв. образуется новый тип
бюрократического «дипломатического» языка, который оказывает
очень сильное воздействие на остальные типы литературного языка
(как и приказный язык в XVII в.). До сих пор лингвисты почти не
изучали деловой язык. Углубленное исследование всех этих форм
его — одна из важнейших задач нашей истории русского языка.
ДРС должен подготовить надежный материал — богатый и научно
118
дифференцированный — по лексике делового языка, ярко
отразившего все основные социальные диалекты феодальной эпохи. Здесь
мы находим и специальную лексику, профессиональную
терминологию и — в несколько меньшем объеме — бытовую лексику
различных диалектов. Наши интересы и требования к изучению делового —
приказного — канцелярского языка иные, чем прежде, и потому
мы находим в нем гораздо больше, чем прежде, драгоценных данных
для истории русских социальных диалектов.
В нашем словаре будет представлено с большой тщательностью
все, что удалось найти в рукописных собраниях и изданных
источниках для характеристики языка посадских, и языка крестьян, и
языка появляющейся в XVII—XVIII вв. городской бедноты.
С той же целью, кроме рукописных и печатных источников, мы
будем широко привлекать данные диалектологии XIX в. по
крестьянским и мещанским говорам. Из диалектологических
материалов будем брать прежде всего то, что имеет соответствие в
древнерусских письменных источниках, но также и некоторый
дополнительный материал, какой по данным истории хозяйства и общества
может быть уверенно отнесен к более ранним эпохам.
Как ни кажется инородным, «несовместимым» этот материал,
необходимость включения диалектологических дополнений для
нас совершенно очевидна и неоспорима. Давно уже история русских
форм и звуков строится на данных диалектологии в такой же мере,
как на данных письменности. Меньше всего это расширение базы
истории языка коснулось лексикографии. Но несомненно, что без
диалектологических материалов нельзя дать правильного и сколько-
нибудь полного представления и об истории слов в разных классах
общества, нельзя дать исторической перспективы и динамического
изображения развития значений полисемантических слов, нельзя
верно объяснить это развитие.
Без диалектологических параллелей ДРС имел бы тот же
основной дефект, что и дореволюционные исторические словари,— он
отражал бы только незначительную, хотя и важную, часть
лексического состава древнерусского языка, только словоупотребление
боярства, дворянства и духовенства.
Вторая особенность нашего словаря, прямое следствие первой,—
дифференцировка языкового материала по
социально-стилистическим признакам посредством особых помет. Не забывая ни на
минуту о борьбе языков, борьбе за язык в ту эпоху, мы будем искать в
истории памятников и в самой семантике слов, в их стилистическом
использовании — отражения этой языковой борьбы и приурочения
определенных значений и употреблений слова к классовой среде.
С этой точки зрения мы проясним и откроем такие смысловые
различия слов, какие оставались неуловимыми или казались
несущественными для сторонников теории монолитности русского языка в
средневековом периоде. Это чрезвычайно трудная задача, и только
объединенными усилиями — вместе с литературоведами и
историками — мы надеемся приблизиться к ее решению.
119
4
Третья новая задача — расширить и пополнить
узко-филологическую обработку материала (какая только и предполагалась при
начале работы над ДРС) экскурсами реально-энциклопедического
характера, привлечением данных истории материальной культуры,
хозяйства, общественного строя и истории мировоззрений русского
средневековья.
И это тоже очень ответственное и трудное дело. Оно также не
может быть осуществлено одними филологами-лингвистами. Эта
задача требует вовлечения в работу над ДРС специалистов по
русским древностям, быту, материальной культуре, искусству.
Не говоря об отсутствии у нас удовлетворительных справочников
по «русским древностям» и об огромном интересе такой работы, мы
сознаем методологическую необходимость нераздельного изучения
языка и реалий, языка и идеологий. Только такой комплексный
словарь, составленный силами лингвистов, литературоведов,
историков и искусствоведов, по достоинству может называться
историческим словарем древнерусского языка.
В связи с этим расширением задач ДРС стоит и необходимость
включения иллюстраций. [...]
Последнее осложнение и обогащение нашей работы заключается
в производимых одновременно с составлением ДРС историко-се-
мантических исследованиях, которые имеют целью определить
закономерности семантических изменений словаря главным образом
посредством привлечения исторических параллелей из других
неродственных и родственных языков.
То обстоятельство, что ДРС составляется в ИЯМ, центре
лингвистической мысли СССР, где так широко представлены крупными
научными силами разнообразнейшие языки мира,— обязывает
воспользоваться помощью этих специалистов для широкого
освещения данных древнерусского языка семантическими
параллелями из других языков. Нередко отдельные этапы семантической
истории слова, затемненные или утраченные в русском языке, полно
представлены в языках других народностей.'С другой стороны,
исторические связи и взаимодействия языков, в частности русского с
болгарским, польским, чешским, украинским, белорусским,
балтийскими, финно-угорскими, монгольскими, турецкими, иранскими
и палеоазиатскими, должны быть выяснены с помощью работающих
в ИЯМ специалистов по этим языкам.
Задачи, намеченные нами для ДРС, очень трудны. Борьба за
решение их повысит качество работы, и мы достигнем своей цели, если
найдем поддержку в широких научных кругах.
Едва ли можно сомневаться, что мы получим эту поддержку.
Большой коллектив специалистов по языку и культуре позднего
феодализма в России может создать исторический Древнерусский
словарь высокого научного качества и широкой доступности,
труд актуальный и достойный своей страны и эпохи.
120
Несколько положений об иллюстрациях
Древнерусского словаря
1. Почему ДРС должен иметь иллюстрации?
Раз мы решили делать не формально-исторический, не
узкофилологический словарь, а реальный и исторический
в новом нашем понимании этого принципа, то с логической
необходимостью мы должны внести в него иллюстрации. Наша задача —
не только приблизительно наметить значение слов, а показать в о
всех тех случаях, когда это возможно, какие
вещи, какие конкретные представления и образы соответствовали
словам, составляли содержание опыта и сознания разных классов
русского феодального общества XV—XVIII вв. Увязка
языкознания с археологией, этнографией, историей мысли [...] требует
параллельного использования данных
письменности и диалектологии с данными
материальной культуры и искусства, т. е. требует
разыскания иллюстраций к словарным статьям. Даже специалисту
нелегко бывает освободиться от подстановки современных
представлений и идей в контекст отдаленной эпохи, когда он ее изучает;
тем более рядовому читателю словаря — студенту, педагогу,
начинающему ученому — иллюстрации послужат твердой опорой для
научного понимания языка и мышления отдельных классов
средневекового общества, средством против невольной модернизации
древнерусской лексики при работе над памятниками, а также и
при изучении истории слов, истории сознания.
Могут сказать, что эта задача не по силам авторам ДРС. Но в
этом деле, как и всегда, когда задачи ДРС требуют выхода за
пределы узкой компетенции лингвистов, мы будем широко привлекать
к сотрудничеству специалистов по древнерусскому искусству, быту
и материальной культуре, сотрудников ИАИ, ГАИМК, Русского
и Этнографического музеев в Ленинграде, Исторического музея
в Москве.
2. К каким словам нужны иллюстрации?
В любой сфере культуры Московской Руси найдется много
таких элементов, которые не имеют никаких аналогий в
современности, много исчезнувших из обихода, забытых, а иногда и ученому
специалисту мало понятных вещей. Осветить резкие отличия языка
и сознания разных эпох можно только путем показа тех реалий
и вскрытия на конкретных зрительных образах тех идей и
представлений, какие утрачены, отмерли, заменены иными.
Не всегда эти дифференциальные элементы феодальной
культуры, какие в первую очередь должны быть показаны, могут быть
с полной ясностью и научной достоверностью реконструированы.
121
Однако во всех случаях, когда музеи, рукописи, современный
этнографический материал дают средства для этого, мы должны
ими воспользоваться.
Но не только дифференциальные элементы культуры должны
быть «показаны».
Надо выделить то, что наиболее характерно, отличительно, с
нашей точки зрения, в позднем русском феодализме, что поможет
читателю понять эту эпоху под углом зрения
марксистско-ленинского мировоззрения.
Ограничением при выборе иллюстраций будет сама природа
материала. Для некоторых идей и представлений, связанных со
словами, зрительный образ вещи является их основным,
бесспорным или даже единственным содержанием. Таковы, например,
представления из области материальной культуры (об одежде,
утвари, орудиях производства). Для других — более абстрактных
словесных представлений — символическое изображение может
быть таким же важным и опорным, как образ вещи; таковы,
например, религиозные представления (троица, бесы и ангелы, град
Иерусалим, ад и рай). Для третьих — зрительный образ
факультативен, не относится к общему и обязательному у всех содержанию
слова-идеи. В имеющихся у нас изобразительных материалах могут
быть — по этому третьему ряду представлений — очень условные
или даже индивидуальные образы, которым трудно придать обоб-
щительное значение (таковы, например, изображения града,
легендарных зверей, палат, пиров и т. д.).
3. Где искать материал для иллюстраций ДРС?
Прежде всего в музеях древностей. Затем в иллюстрированных
рукописях, где рисунки прямо отнесены к тексту, где часто мы
имеем сделанное рукою мастера той эпохи верное живописное
выражение словесного значения. Укажу хотя бы на интересный
для нас «Царственный летописец» или «Лицевое житие Зосимы и
Савватия».
Некоторое количество иллюстраций может быть сделано по
древнерусским иконам. Это наиболее идеалистический род
древнерусской живописи, и потому он может дать материалы главным
образом для воспроизведения образного выражения абстрактных
идей того времени. Но несравненно богаче реалистическими
элементами миниатюры лицевых рукописей. Именно они дают —
помимо близкого к действительности изображения некоторых
частностей средневекового быта (скит, город, погребение, игры, баня,
охота, война, казни, пытки)—немало зарисовок орудий производства
и самих производственных процессов (сев, пахота, жатва,
бороньба, заготовка дров, стройка стен, домов, мостов, хлебопечение,
кузнечное дело, литье колоколов, пастьба свиней, овец, рогатого
скота, мореплавание, рыбная ловля). Неточность и неполнота этих
122
зображений, объясняющаяся и блюдением иконописных традиций
самым состоянием живописной техники, не должна нас останав-
ивать, так как некоторые поправки к этим изображениям дают
ругие источники: зарисовки иностранцев-путешественников, му-
ейные экспонаты подлинных вещей XV—XVIII вв. и современный
:рестьянский инвентарь, утварь. Московский Исторический музей,
)ружейная палата в Кремле, провинциальные музеи дадут образцы
>ружия, одежд, инструментов, утвари из обихода бояр, дворян и —
; меньшей мере — посадских людей. Этнографические музеи до-
юлнят это предметами материальной культуры крестьянства,
(оторое в XIX в. наименее отошло от форм феодального быта сред-
жх веков, а часто унаследовало и сохранило материальную куль-
:уру посадских.
Материалов для иллюстрирования словаря имеется, как мы ви-
;ели, очень много. Но все-таки мы не в состоянии при теперешнем
/ровне разработки всех этих источников (икон, миниатюр,
музейных экспонатов, этнографических материалов) хорошо их
использовать. Так как до сих пор разработка всех этих источников велась
разобщенно, даже подчас изолированно, то мы очень часто не имеем
эще твердой почвы для приуроченья древнерусских слов к
определенным вещам в музеях или изображениям в живописи, не знаем
иногда реальных вариаций вещи, имеющих одну функцию и одно
название (так дело обстоит, по-видимому, например, с названиями:
ставец, однорядка, рундук), а с другой стороны, не знаем
средневекового названия многих музейных вещей. Не всегда уверенно
разбираемся в относительной древности предметов материальной
культуры крестьянства прошлого века. Все это ограничивает круг
слов, какие могут быть обогащены иллюстративным толкованием
не произвольного, а научного свойства. Это особенно ощутимо
потому, что именно среди дифференциальных слов и представлений
больше всего таких — недостаточно выясненных и увязанных с
вещами и изображениями.
Горьким утешением может тут послужить разве только то, что
мы не имеем еще достаточно средств и технических возможностей
для осуществления всего того количества иллюстраций, какое
хотелось бы дать.
4. Какого рода иллюстрации мы можем дать?
Обычно иллюстрировались только энциклопедические словари.
Из исторических словарей только словари средневековой латыни да
так называемые «реальные словари» германских, индоевропейских,
египетских древностей г были снабжены иллюстрациями.
1 Так, например:
a) Real lex ikon der germanischen Altertumskunde. Hrsg. von Joh. Hoops.
Bd. I—IV. Strassburg, 1911—1919. Здесь даны 152 таблицы и 124 рисунка в тексте,
b) Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Grundzüge einer Kub
123
Савваитовский словарь русских древностей 1 был так ненаучен
и безвкусен в иллюстрациях, что до сих пор отпугивает некоторых
от самой идеи иллюстрированного исторического словаря, но
работы Кондакова, Айналова, Зеленина дают нам прекрасные
образцы, да и в западноевропейской технике исторической иллюстрации
мы также находим высокие образцы, вполне нас удовлетворяющие.
В восьми томах ДРС следует дать десятка два многокрасочных
иллюстраций — копий миниатюр. Эти иллюстрации будут служить
материалом для сотен слов, так как выбраны будут такие памятники
изобразительного искусства, где сосредоточено большое число
разнородных образов и зарисовок (например, одно из лицевых
житий или изображение битвы в рукописях). Далее мы могли бы
дать несколько сот черных фототипий (таблиц) для тех предметов
и картин, какие вполне удовлетворительно передаются этим
способом (например, рисунок-план города, кремля, скита, изображение
какого-нибудь производства).
Но самая значительная часть иллюстраций — рисунки в
тексте — должна представлять собой схематические
графические воспроизведения вещей, действий по изображениям. Мы
привлечем художников-графиков, чтобы срисовать с иконы,
миниатюры, рисунка иностранца или с фотографии музейного экспоната
нужную для словаря деталь или построить разрез, профиль, план
какой-нибудь сложной по конструкции вещи из современного
быта. Без сотрудничества художников (специалистов по
древнерусской живописи) нам не обойтись.
Наконец, в некоторых случаях мы составим и включим в словарь
сводные таблицы, где собраны будут изображения различных
реалий одного слова (например, повозок, кораблей, шапок, пищалей
и под.) или образцы древнерусских графических символов
(бортных знаков, крюкового музыкального письма, полуустава и
скорописи, криптограмм и вязей, инициальных букв и украшений
древнерусских рукописей и первопечатных книг).
1936 г.
tur- und Völkergeschichte Alteuropas von О. Schrader. 2. Aufl. Bd. I—II. 1917—
1929 (113 табл. и 92 рис.).
с) Reallexikon der Vorgeschichte. Hrsg. v. Max. Ebert. Bd. I—XV, 1924—1932
(ок. 1500 табл.).
Далее укажем на итальянский словарно-этнографическнй атлас и
подготовляемый аналогичный немецкий атлас, а также журнал «Wörter und Sachen», в
которых мы находим хорошую научную традицию «иллюстрированной лингвистики».
1 См.: Савваитов П. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия,
ратных доспехов и конского прибора, в азбучном порядке расположенное. СПб.,
1896.
124
РАЗЕОЛОГИЯ
11. ОЧЕРКИ ПО ФРАЗЕОЛОГИИ (О СИСТЕМАТИЗАЦИИ
И МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ)
1
Плодотворным результатом лингвистической дискуссии 1950 г.
следует признать всеобщее понимание той не популярной раньше
истины, что ни в какой отрасли языкознания, ни в каком вопросе
нельзя откладывать до будущего завершающего этапа разработку
теоретических основ исследования, нельзя оставлять неясными,
нельзя уклоняться от определения важнейших понятий, какими
оперирует исследователь, от определения руководящих принципов
и методов работы.
Подавляющая часть специальных исследований по языкознанию
обходилась без этого. Типичны были описательные работы:
выводы в них формулируются узко, применительно к ограниченному
материалу, в качестве выводов предлагаются поверхностные
заключения, не раскрывающие причинных связей, не вскрывающие
объективных закономерностей развития языка. А разве теперь не
перевелись пресловутые «специалисты по общему языкознанию»,
которым предоставлено решать за нас все «проклятые вопросы»?
Нельзя сказать, что с этим покончено, что лингвисты все как один
стали теоретиками, что они не отдают уже в монополию
господствующим «авторитетам» разработку теоретических вопросов. До
этого мы еще не поднялись.
125
Но мы поняли, что самый верный путь к успеху исследования —
смелая постановка общих вопросов, решимость самостоятельно
выяснить те теоретические проблемы, какие определяют его ценность
и интерес.
Фразеология как лингвистическая дисциплина находится еще
в стадии «скрытого развития». Она интересует многих, над нею
задумываются, экспериментируют — и стар и млад. В этих опытах
она приобретает традицию и характерные черты, но она еще не
сложилась, не оформилась как зрелый плод подготовительных трудов.
Поэтому и самый термин «фразеология», означающий своим
содержанием и составом науку о фразе, употребляется чаще
для обозначения материала этой науки. Публикуются работы «о
фразеологии» Салтыкова-Щедрина или другого писателя, тогда как
именно такие исследования, а не их материал, следует называть
.фразеологией. Издаются сборники под заглавием «Фразеология
делового языка», хотя там нет никакой науки о речевых единствах
делового языка, а только алфавитный перечень его трафаретов.
Говорят о «богатой фразеологии» русского, французского или
любого языка, вместо того чтобы говорить о богатстве образными или
идиоматическими сочетаниями. Если бы уже определилась,
обособилась в кругу лингвистических дисциплин фразеология, то
невозможна была бы такая путаница в употреблении этого термина.
А выделение такой дисциплины нам уже необходимо, ибо всем ясна
дилетантская беспомощность, разнобой и безуспешность попутного,
случайного разбора этого материала в лексикографии, стилистике,
синтаксисе. Всем ясна и важность специального изучения этого
своеобразного фонда выразительных средств языка.
Что же является объектом фразеологии? Каково место и
отношение ее к другим лингвистическим дисциплинам?
Простое слово — одно слово, как бы оно ни было сложно по
семантической структуре, как бы оно ни было идиоматично,
непереводимо на другой язык, не относится к области фразеологии,— это
объект лексикографии и лексикологии.
Только словосочетания входят в круг наблюдений и становятся
предметом исследования фразеологии. Однако не все, не всякие
словосочетания. По мнению некоторых лингвистов, например проф.
M. H. Петерсона, свято блюдущего в этом вопросе заветы
фортунатовской школы, предложение — один из видов словосочетания.
Я же следую за сторонниками того взгляда, что предложение, как
выражение завершенной мысли,— более сложная форма
языкового единства, качественно отличимая от словосочетания,
являющегося элементом предложения, выражающим неполную мысль,
звено мысли. Поэтому синтаксис предложения и синтаксис
словосочетания — самостоятельные и раздельные части синтаксиса
всякого языка. Словосочетание, как языковое единство, стоит между
словом (более элементарной единицей речи) и предложением.
Словосочетания, как и слова, представляют материал для построения
предложений. Как простейший вид выражения синтезирующей
126
мысли, словосочетания являются расчлененными единствами речи,
относящимися к синтаксису. Но те словосочетания, в которых
внутренняя спайка составляющих слов обусловлена семантическим
единством, смысловой целостностью, не могут быть объектом
синтаксического изучения,— они настолько приближаются к лексике,
как составные лексемы, что их надо рассматривать либо вполне
самостоятельно — во фразеологии, либо в плане лексикологии,
лексикографии, как это и делалось до недавнего времени.
Словосочетание, как особый и своеобразный вид речевого единства,
относительно недавно замечено и выделено языковедами. Далее, стало
очевидным, что богатейший фонд словосочетаний любого языка
неоднороден, что одна часть его тяготеет к предложению и
относится к синтаксису, другая приближается к слову — это
«неразложимые сочетания» (акад. А. А. Шахматов), «устойчивые сочетания»
(С. И. Абакумов), т. е. тесные единства из нескольких слов,
выражающие целостное представление. Они разложимы лишь
этимологически, т. е. вне системы современного языка, в историческом
плаке. Эта часть словосочетаний должна быть выделена из синтаксиса,
но не может быть передана в ведение лексикологии,— именно она
и составляет предмет фразеологии.
Нельзя оспаривать необходимость и законность привлечения и
разработки фразеологических словосочетаний в лексикографии.
Но там ставится относительно легкая — практическая задача:
объяснить значение и применение фразеологических
словосочетаний. С этой задачей лексикографы успешно справляются. В
теории лексикографии не выработано еще четкое решение вопроса о
месте, о правилах размещения фразеологических сочетаний х.
Гораздо сложнее задачи фразеологии: надо выработать ясную
и стройную схему для систематизации фразеологических
словосочетаний, надо выяснить их образование и историю, надо уловить
закономерность их появления и отмирания, удельный вес и
соотношение с другими выразительными средствами языка.
Граница, отделяющая фразеологию от лексикологии, на первый
взгляд очевидна: в одном случае изучаются простые слова, в
другом— словосочетания. Однако идиомы, слитные речения можно
бы и не противопоставлять простым словам, а считать их только
разновидностью слова — «составными словами» и рассматривать
их в особом разделе лексикологии.
1 Мое мнение по этому вопросу таково. Идиоматически-целостные сочетания,
с точки зрения лексикографа, являются словами, особым разрядом слов, поэтому
их следует без колебаний помещать в словарях в виде отдельных
статей, печатая жирным заголовком весь идиоматический оборот речи, вместо того
чтобы прятать этот материал в концовках статей на то или другое составляющее
слово. Что же касается «фразеологических единств», не столь целостных, как
идиомы, то их по-прежнему надо помещать под одним из слов-компонентов, но не под
грамматически управляющим словом, а под тем, которое создает метафорическое
значение всего словосочетания,— оно и является его смысловым фокусом и, как
правило, имеет не прямое, а переносное значение.
127
Если бы, кроме неоспоримо расчленимых синтаксических
сочетаний, существовали только идиомы, «составные слова», то,
пожалуй, и не было бы нужды создавать новую дисциплину —
фразеологию. Но наряду с идиомами, вполне слитными, семантически
целостными существует еще несколько разновидностей несвободных
словосочетаний. Обилие, разнородность и своеобразие этого
фразеологического материала не позволяют включать его целиком в
лексикологию, а раз так, то и наиболее близкие к простому слову —
идиоматические речения должны быть выделены из лексикологии
и отнесены к фразеологии.
Не сразу можно найти и границу, отделяющую фразеологию
от синтаксиса. Та часть словосочетаний, которой не свойственна
заметная интеграция, спаянность компонентов, называется обычно
«свободными словосочетаниями». Однако последние работы в этой
области (акад. В. В. Виноградова) выяснили, что свобода и в этой
категории словосочетаний относительна, далеко не безгранична.
Она ограничивается и природой реального значения слова
(например, лазурь, ивняк, диатез), и грамматическим значением
(например, бочковатый, юркнуть, слезиночка), и принадлежностью к
определенному кругу стилистических форм языка (например,
поведать, околеть), и, наконец, традицией словоупотребления, для
некоторых слов очень бедной (например, несусветный: в
литературном языке — несусветный вздор, несусветная глупость,
несусветная чепуха, чушь; в диалектах же еще — несусветная боль, не-
сусветное чудо). Эти «относительно свободные сочетания» отчетливо
разложимы и подлежат изучению в синтаксисе, кроме наиболее
ограниченных. Если мы имеем лишь два-три варианта сочетаний
с каким-нибудь словом, надо относить их к фразеологии, так как
в таких случаях обычно нет четкой членимости, нет полной
ясности значения слова. Несвободные словосочетания, в разной
степени слитные по значению, относятся к ведению фразеологии.
А предложения? Как будто не относятся. Но фразеологические
словосочетания как раз и отличаются от «свободных» именно тем,
что они часто выражают завершенную мысль и тогда эквивалентны
предложению. Следовательно, здесь линейного рубежа нет.
Фразеологические словосочетания могут быть и полными предложениями.
Однако, обособляясь от лексикологии и синтаксиса по
основному материалу изучения, фразеология не расходится с ними по
первоначальному направлению исследования. Раскрытие лексико-
семантического состава фразеологического словосочетания и
определение его синтаксической структуры, если оно до известной
степени расчленимо,— это первые операции фразеолога,
предпосылка всякого истолкования, всякой систематизации. Методика
этого первого этапа разработки несвободных словосочетаний не
отличается от обычных приемов работы лексиколога, лексикографа
и синтаксиста — до некоторых пор их путь один, они помогают
друг другу. Но дальнейшая, наиболее важная и ответственная
работа фразеолога — установление объективных закономерностей
128
образования и развития несвободных словосочетаний — открывает
перед ним иные горизонты, за пределами лексикологии,
лексикографии и синтаксиса. Синтаксист довольствуется констатацией
большего или меньшего соответствия нормам, большего или
меньшего отклонения от нормы данного языка в словосочетаниях.
Причины, происхождение этих отклонений, функции их в
современном языке и на предшествующих этапах его развития — вот
задачи, которые будет разрешать фразеология, а не синтаксис.
Лексикографы констатируют отклонения в значении слов,
входящих в устойчивые словосочетания, приводят и поясняют их в
словаре, но не их дело, по крайней мере с тех пор, как выделилась
фразеология, устанавливать шкалу обесцвечивания, размывания
значений слов-компонентов в идиомах, не их дело — установить
полную схему соотношений смыслового ядра и подчиненных
элементов значения идиомы, не их задача — история формальной и
смысловой структуры несвободных словосочетаний.
\Так определяются отношения фразеологии к соседним
дисциплинам и ее основные задачи.
2
Предпосылки фразеологии подготовлены были в лексикографии
и стилистике. В практике словарного дела уже давно (в России
более трех столетий тому назад) приводятся и поясняются
словосочетания с особым значением, не сводящимся к обычному
значению его компонентов.
Уже в «Азбуковниках ... неудобь познаваемых речей» и
«Алфавитах, сказующих толкование иностранных речей» XVII в. собраны
из библейских текстов и переводных книг многие темные выражения
и пояснены переводом на общепонятный язык. Так, в «Алфавите»
(из рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР, № 446,
л. 150) под словом тризна приведено и словосочетание: «на
тризну — на подвиг против сопостат». В «Азбуковнике» (список XVI—
XVII вв.), напечатанном в V книге «Сказаний русского народа»
(изд. Сахарова), на с. 173: «Непщевати вины о гргьаьх — мнЪти
инаго быти виновна своему прегрЪшешю, а не на ся вину своего
предткновешя возлагати»; на с. 174: «Ныреве Семирамстш —
столпы Семирама, царя индшского. Слышах ты нырища столбами на-
зываеми, не мни быти им простыми столбами, яко бывают в палатах
подпор ради и сводов, но столбы tîh бяху аки башни превеликий
высоки, внутрь их восходы, палаты четверокровны и трикровны...» 1
Несколько несвободных словосочетаний из разговорной речи XVI в.
1 Эго свидетельство «Азбуковника» дает прочное основание для установления
традиции XVII в. в толковании известного сравнения из «Слова Даниила
Заточника» (Академический список, изд. Ы. Н. Зарубина. См.: «Слово Даниила
Заточника...» Л., 1932, с. 5—6): «аки нощный вран на нырищи», т. е. на развалинах
башни.
5 Λ? 5J>2
129
истолковано в «Парижском словаре московитов 1586 г.», например:
«яз по нем порука» (520); «мясо не поспело, мясо туго» (472—473).
Еще больше данных по русской идиоматике начала XVII в.
в Русско-английском словаре Ричарда Джемса 1618—1619 гт.
(о них ниже). Федор Поликарпов в «Лексиконе Треязычном»
(русско-греко-латинском) 1704 г. тоже разъясняет два-три десятка
несвободных словосочетаний из разговорного обихода образованных
людей Петровской эпохи:
1) л. 129 об.: по чину уряжаю (воинство) ...ordinâre milites
(т. е. «строить войска в боевой порядок»);
л. 130: извихаю ногу ...extorqueo talum, laxo;
2) л. 30 об.: Правды своея отступаю ...de jure suo decedere
(т. е. «поступаться своими правами»);
л. 164 об.: Jlwmb ми есть, вольно мшъ; л. 152 об.: на моей de
воли;
л. 182: Належитъ мшъ tie, зри пристоитъ или приличествуетъ;
л. 179: На возьми! ...ессе accipe, en sume;
там же: набиваю уши (кому) словами ...insusurro aliquid alicui
(нашептываю, докучаю);
л. 183: на нитюь виситъ, пословка о дЪлЪхъ окончения ждущих;
там же: наницъ, наничь, на выворотъ одтаю (одежду);
л. 185: На руку мнгь tie, сирЪчь угодно или в пользу.
Громадное количество фразеологического материала собрано и
объяснено в двух словарях Академии Российской и в Словаре
церковнославянского и русского языка, сост. II отд. Академии
наук, 1847 г., в Толковом словаре живого великорусского языка
В. И. Даля и позднейших больших словарях русского языка.
Однако эта вековая работа по накоплению фразеологического
материала только в начале XX в. получила теоретическое
обоснование.
Русские лингвисты первые продвинули разработку вопроса о
словосочетаниях в синтаксическом плане (акад. Фортунатов, акад.
Шахматов, проф. Поржезинский, проф. Абакумов, в последнее
время акад. Виноградов).
В стилистико-семантическом плане много сделала для
выяснения типов фразеологических сочетаний «швейцарская школа»
Ф. де Соссюра — Альбер Сеше и Шарль Балли. В книге Ш. Балли
«Traité de stylistique française» (2Ed., Heidelberg, 1921, pp. 66—93)
была дана первая развернутая классификация фразеологических
речений. Я перескажу ее, так как акад. Виноградов в своих статьях,
упоминая о ней, не приводит ее в полном виде. Проверяя эту
классификацию на русском, литовском и латышском фразеологическом
материале, я подобрал свои примеры, которые должны облегчить
читателю восприятие и критическую оценку этой схемы.
Полярными разновидностями Ш. Балли считает: а)
неразложимые единства (unités indécomposables) и б) переменные
словосочетания (groupements passagers).
Между ними можно наметить, по его словам, сколько угодно
130
промежуточных разновидностей словосочетаний, обладающих
убывающей степенью слитности. Но конкретизирует он лишь одну
промежуточную категорию «стереотипных оборотов речи» — с
четырьмя подвидами:
1. Фразеологические речения, в которых связь элементов
настолько тесна, что они по значению почти неразграничимы, хотя
синтаксическая членораздельность налицо: avoir lieu — 'случиться,
произойти'. Русские: чёртова кукла, из-под палки, дать осечку;
литовские: gal^ gauti — 'погибнуть', vejo vaikas — 'ветрогон';
латышские: labu tiesu — 'изрядно, порядочно', vera liekams —
'достопримечательный'.
2. Устойчивые словосочетания, в которых определительный
элемент имеет лишь усилительное значение, а его собственно-
первоначальное значение ослаблено: chaleur accablante, chaleur
suffocante, une reconnaissance infinie (т. е. 'удручающий,
удушающий зной', 'бесконечная благодарность'). Русские: страшно
молод, миллион терзаний; литовские: graudziai vërkti — 'горько
плакать', буквально 'жалостно плакать'; латышские: augu dienu,
augu muzu — 'весь день, весь век'.
3. Определительный элемент стереотипного словосочетания пол-
нозначен и составляет сильнейшую по смыслу часть его, но все-таки
он сливается со своим определяемым в некоторое относительное
единство: désirer ardemment — 'пламенно желать', battre en
retraite— 'бить отбой'. Русские: светлая голова, нечаянная радость.
4. Составные части речения относительно самостоятельны и
находятся как бы в равновесии, но значение его так целостно, что
вполне синонимично одному слову и, во всяком случае,
соответствует единому понятию. К этой категории, переходной от
стереотипных словосочетаний к свободным словосочетаниям, Ш. Балли
относит все сложные термины, начиная с chemin de fer — 'железная
дорога'. Русские: воспаление легких (= пневмония), повивальная
бабка (= акушерка), сестра милосердия; литовские: sokiy väkaras
(vakarelis) — 'танцулька', radijo aparatas; латышские: deguna do-
bums — 'носовая полость', valëja vëstuje — 'открытка'.
Ш. Балли уделил много внимания установлению критерия для
четкого выделения «неразложимых единств». Эти критерии
подразделены у него на внешние и внутренние. Решающими он
считает только внутренние критерии: 1) возможность подыскать
равнозначное выражение того же значения одним словом; 2) забвение
значения составляющих слов. Это отличие идиоматических оборотов
речи особенно отчетливо выступает в тех случаях, когда они
содержат архаизмы, неупотребительные вне данной идиомы, иногда
совсем непонятные. Наличие грамматических архаизмов тоже
делает очевидной неразложимость идиомы.
Внешних критериев два: 1) неизменность порядка слов; 2)
незаменимость компонентов словосочетания.
Однако Ш. Балли показал на ряде французских примеров, а
позже В. В. Виноградов на русских примерах, что эти критерии
5*
131
ненадежны и могут быть приняты только как вспомогательные.
Неразложимые сочетания нередко допускают и частичную замену
слов и их перестановку: выставить (или пригвоздить) к позорному
столбу; мелким бесом вьется (или вьется мелким бесом) и т. д.
Те из несвободных речений, какие наиболее приближаются к
неразложимым единствам, естественно, могут определяться и
выделяться с помощью этих же внутренних и внешних критериев.
В плане стилистического исследования фразеологического
материала Ш. Балли показал и большое значение эмоционально-
экспрессивного содержания речений для создания
фразеологических единств.
Итак, в классификации Ш. Балли остро и разносторонне
охарактеризованы полярно противоположные типы словосочетаний,
но довольно расплывчато или уклончиво намечены промежуточные
категории. Он выделил шесть групп словосочетаний, сводящихся
к трем основным: неразложимые, стереотипные и переменные.
Заметный шаг вперед в разработке теории устойчивых
словосочетаний сделал акад. В. В. Виноградов. В 1946 г. он опубликовал
статью «Основные понятия русской фразеологии как
лингвистической дисциплины» г. В 1947 г. появилась новая статья В. В.
Виноградова «Об основных типах фразеологических единиц в русском
языке» 2. В этой второй статье, представляющей вторую редакцию
первой статьи, мы находим более обстоятельную и богатую
иллюстративными материалами классификацию фразеологических
словосочетаний. По этой статье я и воспроизведу его схему, сравнивая
ее с классификацией Ш. Балли, что позволит наглядно показать
медленный, но неоспоримый прогресс в разработке этой новой
проблемы.
Разносторонне и на широкой основе выяснен в работах акад.
Виноградова вопрос об ограниченности (или об относительности)
«свободы» сочетаний любого слова в языке. Эти наблюдения и
выводы имеют большое значение не только для фразеологии, но и для
синтаксиса. Я приведу дополнительные материалы ввиду важности
понимания того тезиса, что в классификацию фразеологического
материала должны входить и так называемые свободные
словосочетания как отправная, исходная категория.
Итак, сочетаемость слова ограничивается в любом языке, как
уже упомянуто выше, целым рядом факторов:
1. Грамматическими значениями слова.
Например, в русском языке, как и в литовском, латышском,
украинском и т. д., наречия, как правило, не сочетаются с именами су-
1 См.: «Труды Юбилейной научной сессии ЛГУ». Секция филологических
наук. Л., 1946, с. 45—69.
2 Акад. Λ. А. Шахматов. Сборник статей и материалов. М.—Л., 1947,
с. 339—361,
В том же 1947 г. в книге «Русский язык (Грамматическое учение о слове)»,
с 21—28, он [В. В. Виноградов] сжато повторил содержание двух названных
статей.
132
ществительными, названия одушевленных предметов сочетаются
с одним определенным кругом глаголов и прилагательных,
названия неодушевленных предметов — с другим кругом глаголов и
прилагательных и т. д.
2. Реальным значением слов. Например, литовское
gagéti или gagënti, gaguoti—говорится только о гусях и утках,
а соответствующий этим литовским глаголам русский глагол
гоготать употребляется в прямом значении только о гусях,
а переносно—о грубоватом, раздражающем мужском хохоте.
Литовские sârtas, derêsas, как и соответствующие им русские
прилагательные буланый, чубарый—употребляются только в
словосочетаниях, описывающих лошадей.
3. Стилистическим тяготением слова,
принадлежностью к определенному языковому стилю. В Литовско-русском
словаре Ю. Шлапялиса (1921 —1926, т. I, с. 123) читаем: Zmonés
valgo, galvïjai ëda, paukâciai lésa (т. е. 'люди едят, скотина
жрет, птицы склевывают'). А вот в латышском языке нет такого
стилистического ограничения в употреблении глагола est, и
в русском также. Словарь Mülenbaeh-Endzelin. LatvieSu valodas
vârdnîca (т. VIII, с. 577) дает такую формулу гостеприимства:
lai veseli ëdusi! (соответственно русскому ешьте (или кушайте)
на здоровье!), но наряду с этим глагол est употребляется и
о свиньях, лошадях: sivëns labi ëdas, pamest zirgam est.
Ср. в русском: „Дай ребенку есть!", „Я хочу поесть", „Этого и
собака не станет есть!" и т. д.
4. Традицией словоупотребления. Есть
немало слов в любом языке, о которых в больших словарях замечают:
«редко», выделяя их по малоупотребительности. Эти редкие,
отмирающие слова были когда-то ходовыми, неограниченными в своей
сочетаемости, но, в силу тех или иных причин, вытесняются на
данном этапе развития языка более активными в нем синонимами.
Поэтому употребление этих устаревших слов ограничивается
несколькими традиционными формулами. Например, слово
околичность в Словаре 2-го отд. АН 1847 г. (т. III, с. 58) определяется
в трех значениях ('окрестность', 'побочное
обстоятельство','предметы, окружающие главные фигуры на картине') как широко
употребительное слово. То же в Толковом словаре В. И. Даля
(изд. 3-е, т. II, с. 1716). В Толковом словаре под ред. Д. Н.
Ушакова хотя и дано развернутое определение значения, но примеры
даны только на формулу: без (всяких) околичностей. В сокращенной
переработке этого словаря введена помета «устар.» (см. Словарь
русского языка. Сост. С. И. Ожегов. Изд. 2-е. М., 1952, с. 401).
Ограниченность сочетаемости этого и подобных слов нисколько не
зависит ни от его основного значения, ни от грамматического
значения, ни от стилистического колорита. Остается только
непонятная на первый взгляд «законность традиции».
Не следует ли нам отказаться ввиду сказанного от термина
«свободные словосочетания» и называть их изменяемыми или пере-
133
менными словосочетаниями — в отличие от неизменяемых,
неизменных или устойчивых словосочетаний?
От этой исходной категории, господствующей в каждом языке,
акад. Виноградов отличает еще три другие:
I. Фразеологические сращения.
Словосочетаниям этого разряда обязательно свойственна
семантическая неразложимость и, факультативно, синтаксическая
или грамматическая неразложимость. Примеры: ничтоже сумня-
шеся — 'решительно, без колебаний'; и был таков (и была такова)—
'скрылся'. Эти словосочетания синтаксически членораздельны,
но семантически неразложимы.
Применение классификации акад. Виноградова к литовскому
или любому другому языку может послужить практической
проверкой ее, поможет нам подтверждением достоинств или
обнаружением ее недостатков. Я приведу поэтому литовские примеры.
В большом академическом Словаре литовского языка (Lietuviy
kalbos zodynas, т. II, 1947, p. 311) под глаголом déti находим
фразеологическое сращение Kàs (tau) des в значении 'нет':
Ar yrà speïgo? — Kàs tau dès (Большой мороз?—Нет!) (Шатес).
Kàs tau des brangius javus — pùsdykiai pardaviau! (Где уж там
дорогое жито — почти задаром продал!) (Эржвилкас). Âr daug
έί metq abuliu— Kàs des daug! (Много ли в этом году яблок? —
Где уж там! = 'нет') (Вейвирженай).
II. Вторая группа в схеме акад. Виноградова получила
наименование фразеологические единства. Она
отличается от первой смысловой разложимостью и большей
самостоятельностью компонентов.
Русские примеры: поминай как звали ( ='пропал, погиб'),
бабье лето (='теплые дни осени'). Сюда относит акад.
Виноградов и термины-словосочетания: красный уголок и под.
Литовские примеры: a) Moteriskes trupùti 7 kuödq jdéjusios
pradéjo közna vyrç sàvo peîkti. LKZ, II, p. 302 (Бабы немного
подвыпили, начали — каждая своего—мужей бранить).
Выражение 7 киосЦ idéti—буквально 'в чубок заложить' (ср. русское
заложить за галстук) означает 'немного захмелеть', здесь
каждое слово сохраняет еще бледный контур своего прямого
значения, а совокупность их порождает то переносное значение,
которое на этом слабом фоне прямого значения приобретает
юмористический колорит; б) Та jau padéjo Saukâta (= mire). LKZ,
II, ρ 302 ('Она уже померла'—буквально 'положила ложку').
Немало словосочетаний этого типа образуется в различных
языках от числительных в несобственном, несчетном значении:
сто раз говорил вам! (= 'часто повторял'); за тридевять земель
(= 'далеко-далеко').
В литовском: a) Gardù kaîp devynï medüs (буквально 'вкусно,
как девять медов', т. е. 'очень вкусно'); б) Devynios galybes ziurkiy
(.— 'несметное множество крыс'—буквально 'девять могуществ
134
крыс1); в) Greitas kaïp devynî vëjai (='быстрее ветра'
—буквально 'как девять ветров').
Эта категория устойчивых сочетаний — в любом языке —
значительно более широка по объему, чем сращения.
Определяя факторы, способствовавшие ее распространению,
акад. Виноградов указал на эмоционально-экспрессивную окраску
и ритмическую симметричность, рифму, как на факторы,
ускоряющие и скрепляющие спайку элементов словосочетания.
Примеры: а) Вот тебе и на!.. Белены вы объелись! б) Федот да не тот!
Еле-еле душа в теле!
III. Третью и последнюю группу акад. Виноградов называет
фразеологическими сочетаниями. Они
образуются словами с несколько ограниченной сочетаемостью, но стоят
ближе всего к переменным («свободным») словосочетаниям.
Русские примеры: Беспробудный сон. Беспробудное пьянство,
(Есть ли другие сочетания со словом беспробудный?) Затронуть
честь (~ гордость, самолюбие).
Итак, у акад. Виноградова четыре разряда словосочетаний.
Его классификационная схема более широка по охвату, более
равномерна по соотношению разделов, а главное, характеристика
основных групп разработана более обстоятельно. Нечеткими
оказались границы третьего разряда — от них незаметно переходим к
переменным («свободным») словосочетаниям, да и
«фразеологические единства» переливаются во «фразеологические сочетания»
так легко, что можно спорить чуть ли не о каждом примере.
Почему, скажем, терминологические сочетания относятся ко II, а не
к III разряду? В схеме Ш. Б ал л и они поставлены ближе всего к
«текучим» (переменным) словосочетаниям. Термины красный уголок
или заочное обучение так же членораздельны, как беспробудное
пьянство или затронуть честь, и так же обладают прибавочным
значением, восполняющим значимость каждого из составляющих
слов. А словосочетания IJ разряда («фразеологические единства»)
отличаются от терминологических гораздо более заметным
удалением от первоначального значения, затемнением основного
значения слов-компонентов. Только древние терминологические пары
могут быть сближены с тесными фразеологическими единствами
II разряда (например: грудная жаба, антонов огонь, галантерейная
лавка, тайный советник). Современные же сложные термины
(аналитическая геометрия, партийная демократия, реактивный
двигатель), стремящиеся к точности и сообразности, гораздо ближе к
текучим (переменным) словосочетаниям, чем к фразеологическим
единствам.
Важным отличием метода акад. Виноградова во фразеологии
необходимо признать его разыскания исторического характера.
Для ряда фразеологических сочетаний он нашел старшие, более
ранние формы в источниках XVIII в., что позволило ему проследить
изменения в их составе и структуре на протяжении двух
столетий.
135
Когда-то полное речение: Ни в зуб толкнуть не смыслит!
постепенно сократилось: Ни в зуб толкнуть! и даже: Ни в зуб! *
Эти наблюдения над изменениями фразеологического материала,
требующие исторических исследований, вплотную подвели акад.
Виноградова к перестройке описательной фразеологии в
историческую. Но он не сделал этого важного шага.
Такова краткая история фразеологии как науки.
3
Существенным недостатком предложенных до сих пор
классификаций является их ограничение материалом современного
и притом почти исключительно литературного языка.
Для «швейцарской школы» этот отказ от историзма в построении
фразеологии был принципиально важен, как последовательное
проведение разграничения синхронического и диахронического
языковедения. Всякая попытка восстановить пройденные этапы
(неодобрительно именуемая в этой школе «этимологизацией») будто
бы разрушает и умерщвляет фразеологические образования.
Диахронические исследования должны якобы сосредоточиться на
изменениях формы, а реконструкция значения, понимания оборотов
речи субъективна и сомнительна, так как обычно у нас нет богатой
и последовательной документации изменений их смысловой
стороны 2.
Методологически порочная антитеза синхронической и
диахронической лингвистики, приводящая к предубеждению,
скептицизму и запретам в отношении исторической семасиологии,
закрыла для А. Сеше и Ш. Балли путь к исторической фразеологии.
Тезис об утрате неразложимости фразеологических сочетаний
при историческом их исследовании («этимологизации»),
справедливый сам по себе, привел Ш. Балли к неправильному выводу, к
отрицанию исторического плана разработки фразеологии.
Акад. Виноградов дал яркие примеры важности и законности
исторических справок и сопоставлений во фразеологии, но он не
перешел от разрозненных наблюдений исторического порядка к
перестройке всей системы классификации; его схема так же син-
хронистична, как и схема Ш. Балли. Мы видим теперь
необходимость такой перестройки. Признавая вполне целесообразным со-
1 Следовало бы рассмотреть семантическую перспективу этих изменений
объема словосочетания. Если принять во внимание еще и вариант: Ни в зуб ногой,
то едва ли можно сомневаться, что этот оборот речи крепостной эпохи означал
первоначально: 'При надобности даже дать зуботычину для поощрения не умеет!';
затем: 'Ни к чему не годен', 'Ничего не умеет'. В конце концов Ни в зуб стало
синонимичным выражению: Ни аза\
2 Следует заметить, что трудности исторического изучения не менее
значительны в других разделах лингвистики: реконструкция звукового состава или
грамматического строя языка по памятникам отдаленного прошлого так же может
казаться «субъективной, спорной, сомнительной», как реконструкция в области
семантики, лексикологии или фразеологии.
136
хранить синхронистическую ограниченность изучения фразеологии
в литературной стилистике (например, в языке того или другого
писателя), мы вполне осознали насущную необходимость
исторической разработки фразеологических материалов по всем доступным
источникам: памятникам письменности с X в., фольклорным
текстам и диалектальным данным. В этом мы видим теперь основную,
решающую задачу.
Несколько попутных замечаний о факторах образования
фразеологических единств мы встретили в книге III. Балли (эмоционально-
экспрессивное содержание речений, сакраментальная
неизменяемость, недвижимость некоторых формул); вскользь касается этих
факторов и акад. Виноградов. Однако всякому читателю ясно, что
замечания в этих работах не решают вопроса, не приближают к его
решению. Несомненно, что происхождение, пути и закономерности
образования фразеологических сочетаний могут быть выяснены
только при историческом построении фразеологии, при разработке
всех богатств средневековой и древнейшей идиоматики,
устойчивых словосочетаний как русского, так и других языков. А пока
этим не занимались, вопрос об их происхождении и закономерностях
исторического развития остается без ответа.
Большое значение для фразеологии как лингвистической
дисциплины будет иметь и широкое применение сопоставлений,
сравнительного метода. Не только громадное количество уже известных
соответствий во фразеологии различных языков, но и общие
закономерности их истории будут раскрыты этим путем наряду со
специфическими закономерностями конкретной истории отдельных
идиом в том или другом языке.
4
Едва ли можно оспаривать тезис, что все «неразложимые
словосочетания» (идиомы, фразеологические сращения) явились в
результате ряда деформаций словесного выражения мысли, когда-то
вполне ясного, недвусмысленного и конкретного, отвечавшего
нормам живого языка и по грамматическому строению, и по
лексическому составу, и по семантическому содержанию.
Семантическая слитность, целостность образуется раньше, скорее. Для
«созревания» грамматической неразложимости нужмвг века.
Рассмотрим ряд примеров исторической эволюции
фразеологических словосочетаний. ч
В рукописном сборнике пословиц XVII в., изданном П. К. Си-
мони \ мы находим богатый материал для истории русской
фразеологии. Большинство пословиц содержит в себе фразеологические
словосочетания разных степеней слитности. Только немногие по-
1 См.: Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч.
XVII—XIX столетий. Собрал и приготовил к печати Павел Симони.'.Вып. 1. СПб.,
1899, с. 73—162.
137
словицы совпадают в этом сборнике с современными (№ 2639: «Что
с воза упало, то пропало»); чаще соответствующие пословицы
нашего времени отличаются в одной-двух деталях (№ 2648: «Шила
в меху не утаить»), но значительная часть пословиц этого сборника
вышла из обихода, поэтому фразеологичность их вскрывается
только при историко-сравнительном анализе. Подбор вариантов
пословиц, включенных в этот сборник (а также и по другим
источникам), выстраивание их в исторический ряд на основании
исторической грамматики, исторической лексикологии и исторической
семасиологии позволяет раскрыть их смысл, идиоматичность
некоторых элементов их состава и проследить эволюцию этой идио-
матичности.
На с. 79 издания П. Сим они под № 199 находим: 1) «Были те
рога в торгу». Это словосочетание непонятно, хотя каждое слово
нам хорошо известно. Причина непонятности этой идиомы в ее
фрагментарности. Сопоставляя ее с другим вариантом (с. 80, № 242):
2) «Быть богату — быть и рогату», мы уже можем строить какие-то
догадки о значении «рогов в торгу». Но еще большую ясность и
уверенность в правильном понимании дает привлечение третьего
варианта (с. 82, № 311): 3) «Буду богат — буду рогат, кого захочу,
того избоду». Эта наиболее полная форма пословицы не требует
никаких пояснений, она не содержит никакой идиоматичности.
В предыдущем варианте, как ясно из сопоставления, она имеется,
но в слабой степени, так как легко догадаться, что смысл ее такой:
'Кто богат, тот должен (тому надо) и постоять за себя'. Первый,
наиболее деформированный вариант лишь в связи со вторым и
третьим может быть расшифрован примерно так: 'Была когда-то
у него (у тебя) сила за себя постоять'. В формуле были те рога в
торгу сохранился только смутный отголосок конкретного
содержания первоначального речения, оно стало
обобщенно-иносказательным.
В литературном языке XIX в. употребительно было
фразеологическое сращение разузнать всю подноготную г. Оно восходит к
средневековью, к эпохе жестоких пыток в застенках Московской
Руси. До XVIII в., пока забивание спиц, раскаленных иголок под
ногти было хорошо и широко известно как обычная пытка при
допросе,— формула того времени: вызнать всю подноготную (проеду)
была полностью разложима и конкретна по значению. Она
становится идиоматичной, семантически неразложимой с того момента,
когда утрачивает реальное значение и приобретает метафорическое.
Меняется несколько и словесный состав формулы; узнать всю под-
ноготную теперь значит: 'разузнать все интимные подробности, все
личные тайны'.
В «Слове Даниила Заточника» (основная редакция XII в.)
читаем фразу (XXIII): «Див1а за буяном кони паствити, тако и за
1 См. подбор материала: Михельсон М. Я. Русская мысль и речь. Опыт
русской фразеологии. Т. 2, с. 57.}
138
добрым князем воевати» г. В XII в. это было прозрачным образным
сравнением: «Как легко (хорошо) пасти коней за бугром, так и
воевать на стороне владетельного князя». Почему легко? С горы
вовремя увидишь, уследишь всякую опасность, да и от непогоды
под горой найдешь защиту. Однако уже в XVI—XVII вв. это
речение стало непонятным, стало семантически да и лексически
неразложимым,— отсюда такие разночтения в списках XVII в.:
«Дивя бо за бояш кони пасти» (список Никольского); «Дивя на
боянЪм кони пасти» (список Барсова). Эти искажения показывают,
что слово дивья — * легко', до сих пор живое в валдайских и
некоторых вологодских, архангельских говорах, и слово буян —
'бугор*, известное в псковских и некоторых новгородских говорах,
исчезли из общенародного и из литературного языка уже в
Московскую эпоху. Непонятность этих двух слов сделала фразу
Даниила Заточника сперва идиоматичной, а потом и вовсе темной.
С помощью изустной традиции народных говоров разъясняется
смысл и другого фразеологического оборота в том же памятнике
(XVI): «Никто не может соли зобати», что значило 'никто не станет
есть соль с горсти (как ягоды)'. Идиоматичность создана здесь
смелым- образным сочетанием глагола зобати с неожиданным
дополнением соль.
Сопоставление с другими памятниками помогает
реконструировать смысл фразеологического сочетания впадать в вещь у Даниила
Заточника (XXXIII): «И князь не сам впадаешь в вещь, но думци
вводять». Смысл этой фразы раскрывается при сопоставлении с
такими: «...въ ПьсковЪ миряне судять поповъ и казнятъ ихъ въ
церковьныхъ вещехъ» 2 (Грамота митр. Киприана 1395 г.), «О со-
грЪшьшиихъ въ различныихъ вещьхъ» (вар.: гргъсшъ — Ефремов-
ская Кормчая). Значение слова вещь в нашем контексте редкое,
необычное: 'проступок, грех, преступное дело'; следовательно,
впадать в вещь — формула, синонимичная совершать грех,
преступление, но, в отличие от последней, идиоматичная.
Уже для XII в. неразложимым было словосочетание: «(возве-
селюся) яко исполин тещи путь» 3, так как оно представляет
глухой отголосок преданий о нашествии завоевателей в очень
отдаленном прошлом даже для XII в., о готском племени опалов (нсполов),
от имени которых произошло наше нарицательное слово исполин.
Ср. такое же идиоматичное речение — осколок предания о племени
аваров: «погибоша аки обре» в «Повести временных лет».
Почему фраза «В воду глядит, а беду говорит» включена
книжником XVII в. в сборник пословиц? 4 Пока эти слова только опи-
1 См.: Зарубин Н. Н. (сост.). Слово Даниила Заточника.— Памятники
древней литературы. Вып. 3. Л., 1932, с. 12,18 и 26.
2 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка.
Т. I, с. 253.
3 Слово Даниила Заточника. Чудовский список, XV в.— Это значит:
«Развеселюсь, как веселятся кочевники, снимаясь со стойбища, пускаясь в путь».
4 Старинные сборники русских пословиц... Собр. П. Симони, с. 86, № 426.
139
сывали ворожбу, непосредственно отражая жизненный опыт, они
были «свободным» словосочетанием. Когда же утрачена была вера
в колдовство, эта формула стала выражать насмешку над
колдунами и получила возможность иносказательного применения к
другим случаям загадочного или несуразного поведения. Тогда и
образуется такая «прибавочная значимость» словосочетания,
которая выводит его из «переменных» в разряд устойчивых,
идиоматичных словосочетаний. Эта новая функция речения и послужила
основанием для включения его в сборник пословиц.
Еще пример из того же сборника: «Гуси летят с Руси, а сороки
в Запороги»*. На первый взгляд, здесь картина осеннего перелета
птиц.Какой же был второй смысловой план этой поговорки в XVII в.?
Ключ к этой народной загадке дает последнее слово — Запороги.
Это иносказание, притом до некоторой степени затаенное, о
перелете крепостных в казачество, через Дикое Поле на Дон и в
Запорожье. Ритмичность и рифма фразеологически скрепляют это
речение, а иносказание размывает частные словесные значения,
образуя целостное значение: 'от неволи (ненастья) — в
привольные теплые края!*
Не только в поэтической литературе, но и в деловом языке
Московской Руси находим образную идиоматику, проникшую
туда из живого языка:
А пойдет на тебя крымская рать,
Хоти нам птичьим языком весть подай 2.
Разведчики и пограничники в наше время, лазутчики и
сторожевое охранение в Древней Руси — со времен «Слова о полку Иго-
реве», а, возможно, и раньше — пользовались и пользуются
маскировочными звукоподражательными сигналами наподобие птичьего
свиста, птичьего пения, иначе говоря —«птичьим языком». В
приведенном источнике выделенный нами оборот речи еще очень
близок к первоначально профессиональному своему значению, но уже
содержит фразеологическую метафоричность, так как в целом
означает: 'любыми средствами и как можно скорее извести,
предупреди насГ Такая образная формула появилась в результате
заимствования и перенесения ее из профессиональной разговорной
речи в общий фразеологический запас литературного языка, в
результате того что обобщенное и более отвлеченное значение
заслонило и оттеснило на второй план первое — прямое значение
словосочетания.
До сих пор не вышло из употребления метафорическое
словосочетание: «Не до жиру — быть бы живу!». Теперь оно понимается
так: Тде уж нам (ему) благоденствовать, только бы выжить!',
или еще более иносказательно: 'Всем можно пожертвовать, чтоб
не пропасть'. Мы осмысляем этот фразеологический оборот, исходя
1 Старинные сборники русских пословиц... Собр. П. Симони, с. 92, № 614.
2 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымом.
Т. II, с. 13, грамота 1508 г.
140
из современного значения составляющих слов, хотя и догадываемся,
что не все тут укладывается в нормы современного языка.
Древность этого речения заставляет искать исторически углубленного
толкования исходного значения этого словосочетания, отправляясь
от древнерусского значения слова жир — 'добыча, достаток,
богатство*.
В «Слове о полку Игореве»: «...Кають Князя Игоря, иже
погрузи жир во днЪ Каялы рЪкы Половецюя», далее в текст включена
маргинальная глосса: «русского злата насыпаша», позднейшая и
ошибочная, так как Игорева дружина разметала и потопила на
переправе при отступлении не ρ у с с к о е золото, а «злато и
узорочья половецкие». Основной текст вполне ясен: '...порицают и
бранят князя Игоря за то, что утопил в Каяле реке половецкую
добычу*.
На этом основании древнейшее значение нашей идиомы можно
восстановить в таком виде: 'Коли не удалось нам вернуться с
добычей (победой), так хоть бы живыми уйти*. В пору такого
понимания начальная часть этого речения не до жиру уже была
идиоматична, так как смысл ее выходил за пределы прямого значения.
Проследим теперь путь равития нескольких фразеологических
словосочетаний литовского языка. Старшее поколение литовцев
и сейчас выражает свое огорчение и раздражение таким
восклицанием: Gyvà bédà (su juo)—буквально 'живая беда', и значит
это: Торе мне (с ним)'. История этого идиоматического речения
освещается рядом пословиц, которые я извлекаю из богатого
сборника Lietuviy patarlés ir prie2odziai*: Gyvos bédos ^mögy
apsédo (III, 12161) — 'Живые беды его обступили'; Gyvos bédos
zmögy skarmalaïs apredo (III, 12162) — 'Живые беды его в
лохмотья нарядили'; Gyvos bédos greïtai 2mogy ir paskutinç sermëkèa
nurédo (III, 12157) — 'Живые беды скоро с него последнюю
сермягу снимут*.
Эти пословицы заставляют вспомнить русские сказки и песни
о Горе, где Горе — живое существо, оно спаивает, разувает и
раздевает донага героя под видом «мил-сердечна дружка», ведет его
к гибели.
Отмирание первоначального сказочного сюжета и образа Горя
приводит к разрушению и перестройке пословиц; возникают
новые, в которых осколки древних пословиц получили
переносное и более бледное значение: Gyvà bédà su juo, neï jis àrti,
neï jis akéti, tik pâskui mergàs beginéti (III, 11781)—буквально:
'Живая беда с ним! ни он пахать, ни он бороновать, только за
девицами бегать!' От этой позднейшей формулы в бытовой речи
остается одно только начало: gyvà bédà!
1 Kreve-Mickevicius V. Patarlés ir priezodziai. T. I. Kaunas, 1934, p. 560;
т. II, ib., 1935, p. 320; Lietuviu patarlés ir priezodziai. T. III. Kaunas, 1937,
p. 205:
141
Подобная по форме, но иная по значению идиома: Gyvà
peklà! пережила сходный процесс распада. Древнейший состав
полного речения был примерно таков: Gyvà peklà jy (velniy)
cià susirïnkol (III, 11800)—буквально: 'Живое пекло их (чертей)
тут набралось'. Следующий, позднейший вариант: Gyvà peklà
bedy, nôrs gyvas zëmen lïsk (III, 11799) — 'живой ад несчастий,
хоть заживо в могилу полезай'.
Забвение образа, расчленение формулы приводит к таким
новообразованиям, которые ясно свидетельствуют об утрате
первоначального значения: Gyvà peklà jq (vaikq) pas manè yrà
(III, 11801) — 'Их (~ детей) у меня полон дом!'--буквально:
'живой ад'.
В самом широком обиходе сохранился еще и такой
пережиточный, семантически опустошенный, идиоматический оборот
речи: vargaîs negalaîs—в смысле наречия едва-едва. Корни этой
идиомы в старых поговорках: Gyvëna tärp skausmy, neisbrenda
iS vargy (III, 11949) —'Живет в мучениях, не выбредет из нужды'.
Сокращенные варианты: Gyvëna tärp skausmy ir aSary (~ vargy,
~ bédy) (III, 11948) — 'Живетв муках и слезах (~нужде, ~ горе)'.
Наконец: Gyvëna vargäis negalâis (III, 11950) — 'Живет в
нескончаемых бедах*.
Позже обломок этого речения превращается в наречие, в котором
окончательно угас старый трагический образ.
Такой же переход или сдвиг от жуткого древнего реального
значения к бледному, почти лишенному эмоциональной окраски
и конкретного содержания — метафорическому видим и во
фразеологической формуле: Gyvâm kàilio nelùpsi (III, 11789) —
буквально: 'С живого кожу не будешь драть', а употребляется
теперь в значении 'Что с него возьмешь!' Подтверждением этого
вторичного значения служит более полная форма речения: Gyvaàm
kailio nelùpsi, о taïp niëko daugiau netùri, tai k| i§ jô beimsi?
(Ill, 11790) — 'С живого кожу не будешь драть, а раз у него
больше ничего нет, так что же возьмешь с него?'
В русской идиоматике тоже нередки случаи разрыва старой
живописующей поговорки и превращения пережиточного
фрагмента ее в «неразложимое словосочетание». Говорят: «Голод не
тетка» — и мало понятно, как это сложилось; почему не «Голод
не родной отец», например? Стараягполная форма поговорки вполне
объясняет это: «Голод не тиотка, пирожка не подсунет» (Сборник
XVII в., изд. П. Симони, с. 91, № 599). Говорим: «Как с гуся вода»
по самым разнообразным поводам, и значит это: '(Его, ее, их)
это ничуть не огорчило (не смутило)', а старая формула была
значительно конкретней и не допускала такого широкого и вольного
применения: «Што с гуся вода — небыльные слова» (П. Симони,
с. 157, № 2654), т. е. «Несправедливые упреки, обвинения
(небылицы) легко опровергнуть».
Очень и очень редко происходил процесс обратного направле-
142
ния: древние сжатые лаконичные формулы идиоматического типа
развертываются, раскрываются в более полный, вразумительный
образ, утрачивая при этом идио^атичность.
В сборнике пословиц и загадок XVII в. читаем: «Аще-аще, что
меду слаще?» (П. Симони, с. 77, № 131). Можно догадываться, что
это была загадка-глум, осмеивающая сластолюбивого монаха или
дьячка (вспоминаем злополучного любовника «дражайшей Солохи»
в повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», дьяка Афанасия Ни-
кифоровича). Подтверждение такому пониманию находим в
современной частушке:
Ходи милый чаще!
Чего тебе слаще?
Либо сахар, либо мед,
Либо милка обоймет х.
Такие исключения тоже подтверждают правило, т. е. помогают
нам понять природу и пути образования фразеологии.
5
Весь приведенный мною выше материал показывает, как
кристаллизуется идиоматика языка. Исходными оказываются
свободные обороты речи, полные по составу, нормальные по
грамматическому строю, прямые по значению.
Семантическое обновление наступает обычно в силу все более
вольного, переносного употребления: от конкретного значения к
абстрактному, от частного случая к обобщению. Новое
метафорическое значение имеет тенденцию к слитности, к некоторому
упрощению. Параллельно этим семантическим процессам происходит
обычно утрата некоторых звеньев фразы, тех слов, например,
которые более всего относились к конкретному частному значению
первоначальной фразы; далее меняется и грамматическая
структура, а по мере общего переформирования системы языка старые
устойчивые формулы все более и более становятся неразложимыми
семантически, лексически и грамматически. До наших дней
доходят нередко только более или менее загадочные фрагменты
древних речевых стереотипов.
Понятно, что до нашего времени сохранился далеко не весь
запас фразеологических сочетаний прошлых эпох, утраты в этой
области гораздо значительнее, чем в словарном составе языка.
Ведь далеко не полностью наш старый фразеологический запас
отражался в памятниках письменности, и мы видели уже, что
большинство документированных фразеологических словосочетаний
древней поры исчезло из употребления, стало нам неизвестным.
Доказательством того, что в общем разговорном обиходе находится
большое количество идиоматизмов, не принятых, не фиксируемых
в литературном языке, может служить хотя бы наличие в Толковом
1 Русская частушка. Л., 1950, с. 220 (Б-ка поэта).
143
словаре Даля множества фразеологических словосочетаний,
остающихся и до сих пор за пределами литературного языка. В
феодальную эпоху различие и дистанция между разговорной речью
и книжным языком, как известно, были гораздо больше, поэтому
и не книжных, а исключительно разговорных идиом, не оставивших
следов в литературном языке, должно было быть еще больше, чем
теперь. Это подтверждают записи разговорных фразеологических
словосочетаний в Русско-английско-латинском словаре Ричарда
Джемса 1618—1619 гг.
Вот несколько примеров из большого количества имеющихся у
него материалов:
л. 70: golova travil (голова травил) — he hath killd a man
(*он убил человека1);
л. 65: cerdita pogodia (сердито погодье) — foull wether, a storme
('ненастье, буря');
л. 50: ßodou posadit (в воду посадить) — to put under the water
('утопить в воде');
л. 59: otecheskie diti (отеческие дети) — well born men С люди
хорошего рода');
л. 26: Spolate tebea, derisor (исполать тебе) — You doe worthily
(насмешливо: 'вы достойно поступаете*);
л. 71: Za chest! (за честь) —I like it ('это мне по сердцу');
л. 55: Rot poluskait (рот полоскать) — to wash the mouth,
as they sayewhen on shrowe munday they will drink 3 or 4 charkes of
wine and beere to dense their pockmeli ('промыть рот — так говорят
в чистый понедельник [т. е. первый понедельник великого поста],
когда хотят выпить 3—4 чарки вина, чтобы опохмелиться');
л. 69: Ne statishna deala (не статошно дело) — this a buisnesse
not to be effected ('это дело не выйдет');
л. 61: Grex le snait (грех ли знает!) — so they speak in some
doubts ('так говорят они, когда находит сомнение').
Вероятно, последнее речение — эвфемизм вместо: Черт ли
знает!, теперь говорят: Черт его знает! В каждой из приведенных
записей Р. Джемса есть главный признак идиоматичности —
прибавочная значимость.
Подводя итоги сделанных выше наблюдений, мы можем наметить
формулировку тех условий, какими определяется закономерность
развития фразеологических стереотипов из переменных
(«свободных») словосочетаний:
1. Первым условием образования идиоматических оборотов
речи является утрата реал и и, того жизненного опыта,
явления, которому соответствует словосочетание в своей
номинативной функции. Реалия отходит в историческое прошлое или
существенно меняется, а это обусловливает потерю прямого
значения соответствовавшим ей речевым выражением, невозможность
непосредственного применения словосочетания. Утрату верования,
смену воззрений, изменение социальных отношений, как это
понятно, мы тоже относим к категории «исторической потери реалий».
144
Уже в XVII в. казались идиоматичными, например, такие
старые поговорки: «Жил бы и в ОрдЪ, только бы в добрЪ» (П. Симони,
с. 104, №994); «В боярской двор ворота широки, да з двора уски»
(там же, с. 88, №502).
2. Самым существенным и решающим условием преобразования
простого речения в идиоматическое было семантическое
обогащение, называемое метафоризацией, сущность которого
в расширении и обобщении значения в сторону образной
типичности.
Примеры из сборника пословиц XVII в.: «Ъжь медведь
татарина, а оба не надобе» (П. Симони, с. 160, №2745); «ЦЪловалъ
вороиъ курку — до послЪднева перышка» (с. 154, № 25è8); «Было
ремесло да хмелемь зарасло» (с. 81, №271).
3. В долгом речевом обиходе излюбленные выражения
утрачивают подробности, укорачиваются, сохраняя лишь самые
необходимые элементы, часто — только начало формулы. Привычное,
давно известное, всем памятное понимается с полуслова, с
полунамека. Первоначальный, нормальный состав речения деформируется,
от него остается сигнальный фрагмент, который скоро превращается
в идиому, неразложимое словосочетание, так как полная и ясная —
исходная формула забывается. Таково третье условие.
В сборнике XVII в. сохранилась полная форма речения:
«Хлопот полон рот, а перекусить нечево» (с. 148, №2410). Теперь
говорится только начало: Хлопот полон рот, что и обусловило
превращение этого речения в идиому.
4. С этим умолчанием и последующим забвением части
словосочетания может быть связано и нарушение первичной
грамматической структуры, но и помимо того изменение грамматической формы
речения, сохраняющегося в обиходе веками, происходит в связи
с общей эволюцией грамматической системы языка. Знакомые
нам, еще живые фразеологические словосочетания в сборнике
пословиц XVII в. сплошь и рядом имеют те или другие отличия
чисто грамматического свойства: «Волки бы сыти, а овцы бы целы»
(с. 86, № 442); «Языкъ Киева даведетъ» (без предлога) (с. 161,
№2763).
Раньше, еще в XVII и XIX вв., говорили: «Трусу праздновать»,
т. е. 'справлять праздник (святому) Трусу* (иронически), а теперь:
«Труса праздновать».
Предложенный мною перечень условий закономерного
образования фразеологических стереотипов может вызвать такой вопрос:
а могут ли образоваться, образуются ли идиомы в современном
языке? Или это характерно только для пройденных этапов истории
языка, и новых идиом не будет?
Для того чтобы идиома как фрагмент забытого речения,
которому свойственна полная спайка компонентов (семантическая, а
часто и грамматическая неразложимость), могла вполне созреть,
нужны века. Но фразеологические словосочетания включают пе
только идиомы, а и единства разной степени слитности. Следова-
145
тельно, в современном языке могут зарождаться такие целостные
словосочетания. На протяжении XIX—XX вв. можно наблюдать
переход от вполне текучих («свободных») к устойчивым
словосочетаниям, часть которых, возможно, превратится со временем в
идиомы. Переходные типы от простых выражений с прямым и
конкретным значением к фразеологическим стереотипам возникают и
сейчас. Нет никаких оснований отрицать дальнейшее обогащение языка
фразеологическими средствами на современном этапе его развития.
Путь мысли от частного к общему, от конкретно-единичного к
типично-обобщенному отражается в языке созданием метафорических,
образно-иносказательных выражений, а дальше —
отвлеченно-точных формул и условно-символических обозначений. Иными
словами, создание фразеологических словосочетаний неотъемлемо
присуще историческому развитию, обогащению и совершенствованию
языка.
Поэты и писатели нередко находят применение ходовым
метафорическим словосочетаниям и идиомам не в их традиционном
составе, а в обновленном виде, для полной ясности их применения
к частному случаю или для нового их понимания. Ср.: «рыцари
безнаказанной оплеухи» (вместо рыцарь печального образа) или
«пустоцветы красноречия» (вместо цветы красноречия) у Салтыкова-
Щедрина; «люби во все лопатки» (вместо беги во все лопатки) у
Чехова *.
Примеры «идиом в зародыше» могут послужить проверкой
правильности предложенного выше определения условий образования
идиоматических сращений.
На экзамене я услышал от студентки, смущенной вопросом, на
который она не рассчитывала, такой ответ: «Это для меня
потемкинская деревня!»
Фразеологическое сочетание потемкинские деревни
употребляется уже давно, по крайней мере с начала XIX в. Первоначально
конкретное наименование тех эфемерных деревень, которыми
обставил «светлейший князь» Потемкин-Таврический путь следования
в Крым царицы Екатерины II с иностранными послами, скоро стало
иносказательным обозначением показного, мнимого
благополучия, затем всякого вообще очковтирательства. Так было до сих
пор для тех, кто знал историю и верно представлял себе
происхождение выражения «потемкинские деревни». Но некоторые
представители нового поколения, недостаточно осведомленные в русской
истории XVIII в., переосмысляют этот ходячий оборот речи. Они
ассоциируют его уже не с именем Потемкина-Таврического, а с
«потемками» или «темной деревней». Поэтому стало возможным
и заменить форму множественного числа формой единственного:
«Зто для меня — потемкинская деревня!»
Приведу литовский пример.
1 См.: Ефи.юв А. И. Об изучении языка художественных произведений.
М., 1952, с. 69, 80.
146
В романе выдающегося литовского писателя Виенуолиса
„Пуоджюнкиемис", в сцене схватки революционно настроенных
рабочих с агитаторами клерикальной партии во время
предвыборной кампании буржуазной эпохи, читаем такую реплику:
Af tù zinaï, kàs tai yra davatkà? ('Знаешь ли ты, что такое
девотка?'); Taï vélnio neäta— if pamestà—zmogystà!
В дореволюционной литовской деревне девотки (старые бабы
«святоши») были добровольной агентурой ксендзов, сплетничали,
клеветали, шпионили, доносили, губили людей. Понятна ненависть
и отвращение к ним молодежи, передовых людей. Эта социальная
оценка и выражена здесь в шутливой формуле, скрепленной
ритмом и рифмой, она имеет признаки фразеологичности и, вероятно,
распространится как «крылатое словцо». Приблизительный перевод
второй части реплики: 'Это горе-человечица, чёртом ношена, да
брошена!'
6
Дальнейшим итогом этой работы должна явиться такая
классификация фразеологического материала, которая отвечала бы
нуждам исторической фразеологии. Если в основу классификации,
как показано, необходимо положить исторический принцип
становления идиом, постепенного накопления идиоматичное™ в развитии
от текучих словосочетаний к неразложимым, то и разряды в
классификационной схеме должны отражать отдельные, ясно
различимые этапы развития и перестройки исходных словосочетаний.
1. Итак, первый разряд — это переменные
словосочетания, господствующие в каждом языке на любом этапе его
развития.
По ступеням восхождения к неразложимым сочетаниям (идио
мам) ближайшей категорией в имеющихся классификациях должны
быть переходные от свободных к устойчивым, стереотипным
словосочетаниям. В схеме Ш. Балли — это терминологические
сочетания, четвертый подраздел среднего (2-го) типа. Я исключаю такую
группу по приведенным выше соображениям: новые научные
сложные термины вовсе не относятся к фразеологическим
словосочетаниям, а традиционные, средневековые или античные сложные
термины надо распределить между группами метафорических и
неразложимых, смотря по их составу. Не вижу надобности и в
сохранении третьей группы в схеме акад. Виноградова
(«фразеологические сочетания»), так как сюда попадают выражения с
минимальной степенью идиоматичное™, находящиеся как бы на
периферии подлинно фразеологических соединений, не имеющие
своих характерных и показательных примет. Это преходящий,
кратковременный эпизод в истории образования идиоматики языка.
В классификации, прежде всего, должны быть четкими границы
разрядов; так и было бы, если бы деление имело историческую
базу, если бы группировались достаточно оформившиеся,
определившиеся разновидности, а не зыбкие «проходные» явления.
147
2. Второй разряд словосочетаний отчетливо выделяется
наличием стереотипности, традиционности и метафорического
переосмысления, отхода от первоначального значения, иносказательным
применением. Мы назовем эту группу метафорическими
словосочетаниями — по главному, определяющему их
признаку. Это соответствует «фразеологическим единствам» в схеме
акад. Виноградова.
3. Третий и последний разряд — идиомы («фразеологические
сращения» акад. Виноградова и «неразложимые речения» Ш. Бал-
лн). От метафорических словосочетаний идиомы отличаются более
деформированным, сокращенным, далеким от первоначального
составом (лексическим и грамматическим) и заметным ослаблением
той семантической членораздельности, какая и обусловливает
метафоричность, т. е. смысловую двуплановость. Идиомы,' как
было сказано, образуются в итоге долговременного развития и
формы и значения словосочетаний; это последний этап, так как в
дальнейшем они могут только выпадать из фразеологического
запаса, либо превращаясь в служебные элементы речи, либо вовсе
исчезая из обихода.
Предложенная трехчленная схема отражает основные этапы
истории словосочетания — от «свободного» к неразложимому.
Сперва наименование реалии — прямое выражение восприятия какого-
нибудь явления действительности, затем переносно-образное
выражение обобщающей мысли, наконец, условный символ, в котором
образность, семантическая двуплановость затемняется. Чем дальше
зашла внутренняя и внешняя деформация или перестройка
первичного выражения, тем меньше образности, тем бледнее и отвлеченнее
его значение. Ну что, например, осталось от былой образности в
идиоме Как пить дать, ставшей синонимом наречий неминуемо,
обязательно?
Итак, не шестичленная и не четырехчленная, а более простая —
трехчленная схема:
а) обычные словосочетания (переменные, «свободные»);
б) устойчивые метафорические словосочетания
(«фразеологические единства», «стереотипные речения»);
в) идиомы («фразеологические сращения», «неразложимые
речения»).
7
Можно ли ограничиться изучением фразеологического
материала в историческом плане? Нет, конечно. Вопросы о применении
его, о судьбах в современном языке, об удельном весе в фонде
выразительных средств языка — не менее важны. Но функциональная
характеристика несвободных словосочетаний лежит всецело в
области стилистики. Едва ли можно на первый план
стилистического изучения идиом и метафорических словосочетаний выдвинуть
степень спаянности элементов, взаимоотношение первого и второго
компонентов.
148
Для стилистики наиболее актуальны вопросы: 1) о «внутренней
форме» фразеологических соединений, о втором семантическом плане,
образе; 2) о типической широте обобщения; 3) о мотивировке
включения фразеологических материалов в контекст, в литературную
композицию; 4) об отношении лексико-семантического состава и
грамматической структуры идиомы к живым нормам языка.
Наконец, для стилистики небезразлично определение
ближайшего источника, социальной среды, откуда пришло в литературный
язык вообще или в язык данного писателя то или другое
устойчивое словосочетание. Стилистический эффект
книжно-литературных идиом отличается от эффекта фразеологических стереотипов
фольклора или народных говоров, а еще более ощутимы в
стилистическом отношении профессиональные и арготические
фразеологизмы.
Сравните:
1) литературно-книжные: скользит по поверхности; смотрит
сентябрем; служит верой и правдой;
2) фольклорные: вольному воля, ходячему путь (П. Симони,
с. 85, № 392); В чужие сани не садись (там же, с. 88, № 498);
3) профессиональные: Алтыном воюют, алтыном торгуют,
а без алтына горюют (там же, с. 75, № 77); Ахтуба пуста, а без
караула не гуляй (там же, с. 74, №31); Бейся не бойся, без року
смерти не будет (там же, с. 83, № 348);
4) арготические: Шито ожерелеицо — в два молота на стуле
(там же, с. 157, №2680); Хорошо ожерелье — на турское дгьло —
в три молота стегано [о шейном кольце колодника] (там же, с. 151,
№2479).
Разработка фразеологии в стилистическом плане неотделима от
общего стилистического анализа языка писателя. Я ограничусь
этими замечаниями, так как стилистическое изучение идиоматики —
тема следующей статьи.
1956 г.
12. О НАРОДНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
(Доклад на X Республиканском совещании по
диалектологии. Институт языкознания им. Потебпи
в Киеве, прочитанный 12 мая 1959 г.)
Як би у мене було пшоно та пль,
то я б зварив кашу,—
та жаль, що немае сала!
1
Когда мы говорим «народный язык», то с некоторым пафосом
нелицемерных демократов думаем обо всем богатстве и
разнообразии проявлений и вариаций языка своего народа — от фольклора
149
и диалектальной речи до высших образцов ораторского и
писательского мастерства. А наряду с этим иногда применяем выражение
«народный язык», чтобы отличить все то, что создается в народных
массах, от книжного, ученого, космополитического, чуждого
народу в национальном языке.
Вследствие такой двусмысленности нельзя считать выражение
«народный язык» точным научным термином. Оно относится к
области приподнятого, торжественного стиля нашей публицистики,
критики, филологии. Оно употребляется и будет употребляться
и в широком, и в более узком смысле, хотя именно поэтому и не
удовлетворяет строгим требованиям терминологичности.
Те же достоинства и те же недостатки имеет и выражение
«народная фразеология». В этом докладе мы будем понимать его в
более узком и дифференцирующем значении: это та часть
богатейшей фразеологии национального языка, которая и создается и
живет в речи народных масс,— в отличие от специально книжной,
например библейской, античной и индивидуально-писательской
фразеологии. Наряду с этим мы не можем избежать и употребления
слова фразеологии во втором значении: *наука о фразеологических
словосочетаниях'.
Теперь, как мне кажется, ясно, что изучение народной
фразеологии в первом узком смысле — одна из задач диалектологии и
одна из ее еще не разработанных отраслей. Диалектология имеет
большие перспективы даже в эпоху отмирания диалектов, так как
это молодая дисциплина, еще далеко не развернувшая своих
потенций и владеющая даже сейчас неисчерпаемыми материалами для
будущих исследований. А накопление диалектологических
материалов, как известно, проводится сейчас в неслыханных масштабах.
Но так как диалектология везде начиналась гораздо позже
возникновения науки о литературном языке и с некоторым опозданием
повторяла главные этапы развития этой науки, то она была и
остается дисциплиной несколько отстающей в теоретическом
отношении. Пройден этап господства историко-сравнительного метода.
Проходит одностороннее увлечение фонетикой и дескриптивными
крайностями в диалектологии. В разработке грамматического
материала диалектология до сих пор ограничивается морфологией,
и порог синтаксиса для диалектологов все еще существует. Робкие
и неполные описания синтаксических явлений ведутся на основе
записанных диалектальных текстов по всем правилам и методам
анализа синтаксиса литературных памятников. А разве этого
достаточно? При этом упускается из виду глубокое принципиальное
различие книжно-литературного языка и устной речи.
В устной речи синтаксическими средствами являются не только
грамматические формы, построение, но также интонация и паузы,
типы силовой акцентовки, особые «аффективные» осложнения
речи при некоторых ее модальностях. Все это почти не принимается
во внимание или слишком мало принимается во внимание при
изучении синтаксиса литературного языка, следовательно, работа над
150
диалектным синтаксисом требует обогащенной и самой сложной
современной методики исследования. А диалектологи в своих
монографиях обычно уделяют синтаксису очень мало внимания и
работают «кустарными» методами. Поэтому и приходится говорить
об отставании диалектологии.
Точно так же и в изучении диалектальной лексики до сих пор
идут протоптанными путями, не вырабатывая своих специфических
приемов исследования. Областные словари в подавляющем
большинстве у нас строятся по образцу словарей нормированного
литературного языка, и еще нет теоретических работ, которые
отчетливо показали бы черты такого различия в словарном составе и
словоупотреблении устной народной речи и литературного языка,
в силу которого должны быть кое в чем различны и приемы
составления областных словарей, с одной стороны, и литературного
языка — с другой. Я касаюсь этого вопроса только в связи с
установочными понятиями народной фразеологии, поэтому не могу
углубляться, но все же для большей ясности этой вводной части
укажу на два таких различия.
1. В словарях литературного языка писательские цитаты
играют определяющую роль, так как именно мастера литературы в
первую очередь определяют нормы литературного
словоупотребления. В областных же словарях весь цитатный материал из
фольклора, который функционально соответствует иллюстрациям из
писателей, должен быть обработан отдельно от цитат бытового
разговорного языка крестьян, т. е. последовательно обособлен, так
как он не определяет норм диалекта и не вбирается, не поглощается
диалектом.
2. В словарях литературного языка относительная неологичность
языка каждого мастера литературы, относительная свобода его
языковых построений позволяет сосредоточить внимание именно
на свободном употреблении слова в нестойких сочетаниях и лишь
дополнительно, как привесок словарной статьи, давать устойчивые
словосочетания. В областных словарях надо учесть гораздо
большую выдержанность традиции, наличие гораздо большей массы
языковых штампов (устойчивых словосочетаний). Поэтому каждое
слово в областном словаре только тогда будет правильно
разработано, если будут собраны и систематизированы по возможности все
употребительные сочетания заглавного слова. Доля «свободных
сочетаний» здесь гораздо меньше, и все внимание, все усилия
лексикографов должны быть сосредоточены именно на устойчивых
словосочетаниях диалекта.
Читателю теперь, надеюсь, понятно, почему я сделал такое
отступление от темы своего доклада. Фразеология занимается одной
из наиболее важных и интересных^ТруптРУстоичивых
словосочетаний. Фразеология остается одной из наименее изученных сфер
языка со стороны синтаксической. Фразеология литературная, как
раздел науки о литературном языке, и народная фразеология, как
часть диалектологии, еще не стали самостоятельными науками, но
151
должны ими стать. Сейчас это лишь ясно осознанная очередная
задача языковедов, и разрабатываются пока только основные ее
понятия и план ее построения.
В изучении литературного языка уже проведено размежевание
исторической грамматики и истории литературного языка,
нормативной и стилистической грамматики; а стилистической грамматике
все более неоспоримо противопоставляется изучение стиля
писателя, стиля литературной школы, стиля литературного
памятника.
В диалектологии аналогичная дифференциация еще не
начиналась, хотя и сейчас можно утверждать, что история диалектов
(историческая диалектология) и история языка фольклора
развиваются в две самостоятельные дисциплины, что мы стоим у порога
диалектальной стилистики, а стилистика фольклора самостоятельно
изучается, и не со вчерашнего дня. Хорошо бы диалектологам
поставить своим девизом — догнать и перегнать науку о литературном
языке!
Фразеология литературного языка — как наука о
фразеологических словосочетаниях — возникла в XX в. на базе
грамматической стилистики, с одной стороны, и обогащения методики
лексикографии — с другой.
При первых набросках не была осознана важность и
необходимость ее разработки как исторической, точнее как историко-
лингвистической дисциплины. Не была осознана в полной мере и
связь фразеологии с исторической поэтикой, хотя еще А. А. Потебня
и в книге «Мысль и язык», и в лекциях по теории словесности
оставил важные суждения по этому вопросу. Не ставился до сих пор
и вопрос о разграничении литературной и народной фразеологии,
о необходимости их параллельного, а не огульного изучения. Как
только диалектологи примут на себя еще и эту новую задачу,
наступит конец «первобытному синкретизму» во фразеологии как
науке и само собой осуществится размежевание двух фразеологии.
Обоюдная связь, обоюдное обогащение народной и
писательской, или книжной, фразеологии бесспорны и будут широко
проиллюстрированы в этом докладе. Та и другая Дисциплины,
конечно, будут встречаться, кроме того, и на общей, или «ничейной»,
почве, так как есть фразеологизмы загадочного происхождения.
Но это так же мало может задержать самостоятельное развитие
двух параллельных фразеологии, как неоспоримая связь и
взаимообусловленность народных говоров и литературного языка не
мешает самостоятельному развитию диалектологии, с одной стороны,
и науки о литературном языке — с другой.
В этом докладе я буду исходить из украинского материала, но
нет сомнений, что общие положения о задачах и принципах
диалектальной фразеологии могли быть основаны и на русском,
белорусском или на болгарском, чешском материале и т. д.
Существенные различия возникли бы только тогда, когда мы обратились бы
к языкам другого исторического типа, например к фразеологии
152
санскрита, или средневековой книжной латыни, или
старославянского языка, т. е. языков, утративших непосредственную связь с
народной речью, с диалектами.
2
Фразеологизмы — ощутимы и выделяются по своей
иррегулярности или, как выражаются математики,— по своему «безобразию»
в языке. Фразеологизмы обычно чем-то «неправильны».
Наиболее очевидный случай — непонятные словосочетания.
В древних памятниках мы часто не понимаем фразеологизмов из-за
непонятности отдельных его компонентов, мы не всегда умеем
расчленить текст на слова.
Как пример — одно из темных мест «Слова о полку Игореве»:
«Всю нощь с вечера бусови врани възграяху у ПлЪсньска на
болони бЬша дебрь кисаню и несошася к синему морю». Здесь
загадочно дебрь кисаня. Предлагали читать: дебрьски сани (сани —
'змеи'), или с недавнего времени: дебрь кияня. Однако ни одна
из этих поправок не проясняет текста, связь двух загадочных
слов с остальной частью фразы остается невосстановимой.
Но и в устной традиции изредка сохраняются «темные»
словосочетания. Вот пример из записи украинской думы:
Як BÎH cée зговорйв, так баздер добри учинив —
Ногами не шйде, руками не здшме.
Голови казацко!' молодецко!' bîh уж не шдниме.
(д. Вьюнищс, близ Сосницы).
Вариант:
Як сее казак згаварив, так барске избаяв —
Ногами не пийде, руками не зшме,
Галавй ж завс1м не зведе.
(д. Змитнив, бл. Сосницы).
(См. Курило Ол. Матер1али до украУнсько!' д1алектологи
та фольклористики. Кшв, 1928, с. 107.)
Второй вид иррегулярности фразеологизма — когда все слова
известны, но смысл целого остается неясным.
Картежник у Карпенко-Карого («Суета», V, 11.— Твори, II,
с. 123) говорит: «Грати так грати, шчого постолй морщити».
Или фразеологизм на ножь скитти, означающий 'быть
зарезанным' (с. Мироновка, Белоцерковск. окр.— Курило Ол. MaTepia-
ли..., с. 100). Как это объяснить?
Непонятное слово, непонятная форма, непонятная
синтаксическая конструкция — все эти разновидности «безобразия»
фразеологизмов таят в себе предвестие их отмирания. Они повторяются в
силу языковой инерции («традиции») или сохраняются в песне,
153
сказке, пословице, бережно передаваемой из поколения в
поколение, несмотря на невразумительность, но в этой непонятности —
их обреченность. Они должны уступить и уступают полноценным
формам выражения мысли и постепенно уходят из языка, из
диалектов. Однако разная степень несводимости неизвестного к
известному, неправильного к правильному, разная степень
иррегулярности, а также и разная широта употребления дают одним
фразеологизмам большую, другим меньшую «сверхжизнь» в языке.
В песне:
У лЪа, л-kci, у недобоЮу
У недодаю, у недобору,
Ходило-блудило сЪмсот молодцув.
Выведи ж ти нас
ис сього лЪсу,
из недобою,
из недобрру.
(пос. Баба, Конотоп. окр.— Курило Ол.% Матер1али..., с. 119).
Может быть, Недобой, Недобор — название урочища; может
быть, это испорченное слово, аналогичное по значению широко
употребительному слову nernpi. Эта песня не кажется совсем
непонятной, смысл в ней «брезжит», и она может сохраняться так или
будет подправлена в неясном месте.
В Думе о трех братьях:
А старши брат невелйке усерд1е мае,
Гойстру шаблю винимае,
На тавмак накладае
Да свайму меншему брату голову стинае.
(с. Зм1тн1в, Сосницк. окр.— Курило Ол., Матер1али ..., с. 127).
Мы можем догадываться, что фразеологизм на тавмак накладае
означает что-то близкое к * кладет (голову) на плаху', но слово
тавмак остается загадочным.
В широко употребляемом выражении: aide (полетить)
шкереберть ('перевернется вверх ногами', 'пойдет вверх дном') слово
шкереберть несводимо, но фразеологизм живуч, так как смысл
целого ясен, а неразложимое слово лучше выполняет роль
эмоционального передатчика. Сопоставьте «шде шкереберть» и «тде до
горы йогами» — и эмоциональный эффект первого выступит яснее.
В областном фразеологизме: джосу дать — 'дать взбучку'
несводимо первое слово, а оно явилось вследствие той эффективной
силовой акцентовки произношения, о которой я говорил выше,—
из чёсу дати.
154
Гораздо больше таких фразеологизмов, в которых
неправильные слова сохраняют осмысленность, только несколько
затрудненную, не сразу очевидную: «А воно було — шзш лягма» (варианты:
у тзнь лягови; облягома npuïxae).
Когда-то словом лягмо или лягомо (страдательное причастие от
глагола лягати) обозначали время дня, т. е. время, когда ложатся
спать; теперь это слово остается только в составе фразеологизма.
Последний случай подводит нас к третьему виду
иррегулярности — в синтаксической неподатливости фразеологизма: он
вторгается в синтаксическую конструкцию, не приспособляясь к ней:
«Бона, знаете, ni до холодно! води». Эта особенность
синтаксического плана связана с семантическим единством фразеологизмов,
по которому она часто сближается с простыми словами, как особого
рода сложные слова.
А такое семантическое единство и целостность
фразеологического словосочетания были бы невозможны без метафоричности
употребления тех слов, или хотя бы одного из тех слов, какие
вошли во фразеологизм. Поэтому характерным и определительным
признаком фразеологизма большинство исследователей признает
вторичный (переносный или образный) его смысл.
Метафоричным или образным фразеологизм остается до тех пор,
пока не разрушается соотношение первого и второго смыслового
плана, иными словами, «прямого» и «переносного» значения.
В большинстве случаев первый смысловой план фразеологизма
исключается, и потому чаще всего фразеологизмы семантически
одноплановы. Наличие или отсутствие, возможность или
невозможность «образности» фразеологизма определяется не только его
соотношением с нормальным языковым фоном, но еще и ситуацией,
контекстом.
«Чого це ти сьогодн1 на одшй шжщ скачеш?» Если бы этот
вопрос был обращен к девочке-попрыгунье лет трех—пяти, он
был бы одноплановым по прямому смыслу слов. Но когда мы
слышим этот вопрос Явдохи в пьесе Карпенко-Карого «Суета» (I, 2.—
Твори, V, с. 61), обращенный к Василине, сестре ее мужа, девушке
на выданье, то этот фразеологизм оказывается одноплаковым уже
не в прямом, а в переносном смысле. На однш шжщ скачеш
становится здесь фразеологизмом и означает 'счастлива' или 'игрива,
весела'.
Если бы выражение ш до холодно! води характеризовало
отношение молодой женщины к домашним хозяйственным хлопотам,
то прямое значение его оставалось бы, и фразеологизм был бы
образным, двуплановым, основным его значением было бы: 'она ни
за какие хозяйственные дела не хочет приниматься*. Но когда в
той же «Суете» (I, 2.— Твори, V, с. 62) подобные слова относятся
к старшему писарю корпусного штаба в запасе Ивану Барыльчен-
ко: «...лежить i за холодну воду не В1зьметься...», то прямой смысл
исключается, и этот фразеологизм имеет одно лишь простое
значение: '(он) бездельничает*.
155
Итак, семантическая структура фразеологизмов может быть и
осложненной, и простой, в зависимости от контекста в широком
смысле этого термина.
3
Если лингвисты сближают фразеологические сочетания с
простыми словами как складывающиеся лексические единства, то
литературоведы включают их в состав ресурсов образности, повьг-
шенной выразительности, т. е. считают их конструкциями с живой
экспрессивной функцией, а потому вполне обоснованно относят
фразеологию писателя к средствам его поэтики.
Народная фразеология лишь частью «поэтична». Другая
немалая часть народных фразеологизмов должна быть отнесена к
словосочетаниям, утратившим образность, т. е. семантически
опрощенным, одноплановым. Однако с поэтикой сближает
фразеологию не столько возможность глубокой семантической структуры,
сколько ее идеологичность.
Должен оговориться, что включение в сферу фразеологии
грамматических перифраз, сложных описательных замен прямого (или
основного) выражения грамматических категорий, что принято у
наших романо-германистов в некоторых зарубежных работах,—
всегда представлялось мне недоразумением, основанным и на
бедности терминологии, и на неразработанности теоретических основ
фразеологии как науки. Грамматические перифразы внешне
напоминают фразеологизмы как устойчивые словосочетания, но по
своей семантической структуре, а главное, по своим функциям резко
от них отличаются.
Если мы исключим из фразеологии все грамматические
перифразы, относящиеся к грамматической стилистике, то можно
утверждать, что фразеологизмы в собственном (строгом) смысле
термина всегда косвенно отражают воззрения народа, общественный
строй, идеологию своей эпохи. Отражают, как свет утра отражается
в капле росы. Фразеологические словосочетания не являются
формальными средствами языка, не являются его элементами, а
представляют собой готовые, хотя и наименьшие языковые конструкции,
т. е. представляют собой целостное выражение содержания, а не
частичное элементарное средство выражения. Поэтому они менее
устойчивы, менее долговечны, чем звуки и формы и чем элементы
словарного состава.
Лишь наиболее деформированные и в связи с этим десемантизи-
рованные фразеологизмы имеют настолько обобщенное значение,
что приближаются к служебным словам и лишены исторического
и социального колорита. Большинство фразеологических сочетаний
носит печать своей эпохи и социальной среды, а потому в ходе
столетий они утрачивают широкую применимость, начинают вызывать
отрицательные ассоциации и потускневшие представления,
становятся анахронистическими, и тогда свойственный им привкус
156
«пыли веков» заставляет избегать их, выводить их из активного
фонда языка, если они не подвергаются обновляющему
преобразованию в произведении какого-нибудь мастера слова.
С другой стороны, свободные словосочетания, утрачивающие
свой прямой смысл и закрепляемые в метафорическом
употреблении, становятся фразеологизмами.
Выражения: сидипи в порогах, пасти заднгх, nicno проживати —
стали фразеологизмами лишь с той поры, как перестали обозначать
'сесть на пороге', 'быть последним подпаском', 'поститься', а стали
выражать новые значения:
cudimu в порогах — 'проявлять излишнюю скромность,
унижаться';
пасти задшх — 'оставаться в тени, примиряться со своей
неудачей';
nicno проживати — 'жить бедно, плохо питаться';
Пахне брагою — когда-то говорилось о готовившихся поминках
по умершем, а теперь значит 'плохи ваши дела' (из записей А. П.
Могилы в диссертации «Среднечеркасские говоры», Киев, 1958).
В сказке (см.: Гнатюк Вол. Народш казки. Льв1в, 1913, с. 76)
ведьма говорит: «Ти мене eueie у поле» — в значении 'ты надул,
провел меня'. А истоком этого фразеологизма было очень древнее
выражение феодальной эпохи, означавшее 'ты вызвал меня на
судебный поединок (на суд божий)'.
Когда-то ненавистные народу палачи выходили на место казни
под маской (в глухом капюшоне). Тогда выражение катоваличина
было только обозначением всем известной реалии. Сейчас это
бранный фразеологизм с потерянным значением, однако достаточно
выражающим отвращение или ненависть к тому, кого так бранят (из
записи А. П. Могилы в диссертации «Среднечеркасские говоры»,
Киев, 1958).
В редких случаях старая письменность сохранила народные
фразеологизмы, теперь исчезнувшие, и еще реже мы можем
установить какой-нибудь эквивалент исчезнувшего, новый
фразеологизм. Приведу один из таких примеров исторической смены
фразеологизмов.
Владимир Мономах начал свое завещание потомкам
выражением Оъдя на canwx, что означало 'готовясь к смерти'. Уже тогда,
в начале XII в., это было метафорическим выражением мысли, так
как содержало намек на древний обычай увозить покойника к месту
погребения на санях в любое время года. Это выражение бесследно
исчезло из украинского, как и из русского языка. Но исчезнувший
фразеологический оборот заменен другим. В русском — одной
ногой в могиле, в украинском, например, на столь лежа (из записи
А. И. Филипповой в диссертации «Говори Прилуччини», Харюв,
1958).
Наши церковные схоласты в XVII в. (а старообрядцы и до наших
дней) рассуждают о различении ангелов — как вестников божьих
и аггелов — как вестников дьявола. Отсюда сложилось словосо-
157
четание бьгають мое агели (записано в с. Вел. Токмак Мелитоп.
окр.— Курило Ол. Матер1али..., 27). Теперь это фразеологизм,
означающий * мечутся как угорелые*. С церковными традициями
связан и фразеологизм на ceim благословляешься.
Немало народных фразеологизмов прочно вошло в литературный
язык через творчество писателей XIX в.
1) «Пене раки, бщний» (зап. А. И. Филипповой, «Говори При-
луччини», Харк1в, 1958); «Haiui Д1вки ράκίβ печуть» («Суета»
Карпенко-Карого, III, 7.— Твори, V, с. 89);
2) «Се така, кожному катку пришив (Гринченко £., Словарь
украинского языка, т. И, с. 233); «...Д1вчата... часом пришивали
квьтки йому прилюдно» (Мирний П. Xi6a ревуть воли, 66);
3) «По грецщ скакатиме» (А. И. Филиппова. Говори Прилуччини);
1 до швноч1 там гуляли,
1 в гречку деколи скакали
(le. Котляревський, £neida, III, II2.)
4) «Мати за dimbMu да побиваешься» (Труды этнографическо-
статистической экспедиции в Западно-русский край, собр. П. П. Чу-
бинский, т. V, с. 712); «Терешко, чуеш, вйлупок, як мати та батько
побиваються за дшьми» («Суета», II, 8.— Твори, V, с. 92).
В приведенных примерах народная фразеология вводится
писателями в качестве языковой характеристики персонажей в
диалогах, реже в авторской речи, преимущественно с комическим
эффектом.
Более сложный и «артистический» способ транспозиции
народных фразеологизмов в литературный язык — их творческое
использование, обогащение, переделка и приспособление к новому
контексту, что связано иногда и с переосмыслением.
В с. Вел. Токмак Мелитопольск. окр. записано: Заишли зашпо-
ри — 'онемели, одеревенели (руки, ноги, или уши, нос)* (Курило Ол.,
Матер1али..., 28). У Панаса Мирного («Пов1я», I, 117); «Велики
зашпори загоняло життя у серце Пркьщ» — здесь слово зашпори
получает новое значение 'шипы, занозы', какого оно не имело в
народной речи.
В «Говорах Прилуччины» записано: спорюсь до ножа. У
Карпенко-Карого в «Суете» (I, 5.— Твори, V, с. 69) Иван говорит:
«Слухай, Васочко! Ми все балакаем з ножа».
Примеры усвоения народной фразеологии писателями можно
перечислять долго и долго, но всегда следует помнить, что лишь
незначительная доля народных фразеологизмов вошла в
литературный язык. А потому законным будет вопрос, что же
предопределяет возможность или невозможность выхода фразеологизмов из
узкой среды в широкий общенародный обиход?
Можно предположить, что некоторую роль играет частотность
употребления, постепенно нарастающая, но точное решение этого
вопроса станет возможным лишь тогда, когда математические (ста-
158
тистические) методы, уже применяемые при исследовании
литературных и государственных языков, начнут применяться и в
диалектологии.
Излишество в уснащении текста народной фразеологией
свойственно только начальным этапам демократизации литературного
языка. Котляревский, Квитко-Основьяненко густо заправляли
народной фразеологией свои литературные произведения.
Современная украинская драматургия и художественная проза
свободны от этнографизма в воспроизведении фразеологии народной
речи,— она вводится экономно и более свободно.
Примером мастерского использования целого комплекса
фразеологизмов — народных и книжных, с некоторым изменением их
функций и приспособлением их к контексту, может служить
следующий отрывок из монолога Карпа в «Суете» (III, 6.— Твори,
V, 104): «(природа)... забула покласти ïm y голову хоч грудочку
доброго, простого мужицького мозку, а через те вони крутиться
все життя мое у ополонщ... в εοΛοβί мактгриться, все ходить вверх
ногами i bîh сам ходить у тьм1 та стукаеться лобом то об той, то об
другйй чужйй одв1рок». Ср. у М. Шолохова, «Они сражались за
Родину», 1959, с. 225 (говорит старшина Поприщенко): «Они хотят
свою родную часть кинуть и болтаться на фронте, как ковях в
проруби». В народной речи: «вертиться, як вьюн в ополонщ», «голова
макггриться», «cbît маютриться» (см.: Гринченко Б., Словарь
украинского языка, т. II, с. 339). Тобилевич смягчил один глумливый
оборот, слегка перестроил два других и создал словесный шарж,
клеймящий хулителей и отщепенцев своего народа. Фразеология
бытового и созерцательного свойства приобрела в новом контексте
яркую обличительную силу.
4
До сих пор мы наметили только одно разграничение: народную
и книжную фразеологию. Но каждый из этих двух рядов нуждается
в дальнейшем членении на разряды. Не задерживаясь в этом
докладе на классификации литературной фразеологии, я намечу
разряды народных фразеологизмов.
По критерию их усвояемости, употребительности надо выделить
два основных разряда: 1) общенародные фразеологизмы; 2)
областные. В том и другом разряде необходимо выделить еще подгруппы
профессиональной фразеологии.
Нужны длительные и умелые поиски и записи
фразеологического материала по всей территории украинского языка, чтобы
наполнить эту классификационную схему богатым и точно
разграниченным материалом.
А сейчас приходится подбирать примеры со всяческими
оговорками о возможных неточностях. Далеко не часто обнаруживаются
и надежные признаки для приурочивания фразеологизмов к
основным периодам истории народа.
159
Рассмотрим несколько примеров. Выражение химера гонити
сложилось еще в период непосредственных связей украинского
народа с греками, притом не через церковников, т. е. в эпоху
раннего феодализма. Что греч. χίμαιρα — 'мифическое чудовище с
двумя головами (льва и серны) и хвостом-змеей' — пришло в
украинский язык очень давно, ясно из того, что оно произвело богатое
гнездо производных слов, вошедших в общенародный фонд: глагол
химерити, прил. химерний, сущ. химерник и несколько
фразеологизмов.
Из греческого языка (и тоже не от церковников) вошло в
украинский язык и слово халепа (от греч. τά χαλεπά — 'тягости,
трудности'), которое тоже стало опорой для ряда фразеологизмов:
халепи натворила, халепа смткала и бранного: нехай йому халепа!
Можно думать, что к далекой феодальной эпохе относятся и
такие фразеологические сочетания, как: за царя Хмеля — 'давным
давно', кадук (т. е. 'болезнь') moèi в ребро, (не хоче) як старець
(т. е. 'нищий') гривни, (колись) nid школою ночував (о неуче).
Внимательные поиски народных фразеологизмов в старой
письменности помогут приблизительному хронологическому
приурочению их. Фразеологические сочетания изредка заносились и в
деловые документы, в повествовательную литературу, даже в
виршах их можно найти. Приведу пример из Климентия Зиновьева:
«Бо багач судам очи мздою забивает»; «...из мосту да в воду». (См.
Хрестомат1я давным укр. лгтер. Вид. 2. Кшв, 1952, с. 207, 209.)
Более органично внедрялись фразеологизмы в сатирическую
литературу (интермедии, фрашки, жарты) и, наконец, в сборники
пословиц и поговорок, появляющиеся на Украине с XVI в. Молодые
исследователи должны посвятить свои работы этим нетронутым
богатствам средневековой письменности.
Вернемся теперь к разграничению общенародных и областных,
общеупотребительных и профессиональных фразеологизмов. Прежде
всего, надо заметить, что современное распределение известного
материала по этим разрядам не будет отражать их первичных
исторических отношений. Многие древние фразеологизмы, когда-то
общенародные, сохранились только в одном-другом периферийном,
более изолированном от влияния литературного языка говоре.
Например, фразеологическое сочетание: «Р^чка взялась полинем»
(т. е. 'под тонким слоем льда уже разлилась талая вода') —
засвидетельствовано в записи О. Курило (с. Гречана Гребля —
«Материал и...», 19), но нет его в словаре Б. Гринченко, нет и слова полип
в этом значении. Параллели к этому слову находим в записях
Ричарда Джемса начала XVII в. и в современных архангельских
говорах. Из этого можем заключить, что когда-то оно было общим
восточнославянским.
Еще труднее выделять с научной точностью областную
фразеологию. Только карты распространения фразеологизмов, когда они
будут составлены па основании широкого обследования, дадут
четкое решение этого вопроса. А пока их нет, каждый будет исходить
1G0
из своего субъективного и ограниченного опыта и недостаточных
словарных картотек.
Возможно, что к областной фразеологии относятся: по гамалйку
заробимо (Гринченко £., Словарь, т. I, с. 311; Мирний /7., Xi6a
ревуть воли, 59) или духопелу дати (Гринченко £., Словарь, т. 1,
с. 501).
5
Профессиональная фразеология украинского языка до сих пор
так мало привлекала внимание, что можно говорить о ней как о
самой манящей или устрашающей безвестности. Старые работы
этнографов, как, например, Василенко, современные работы,
например М. Кривчанской, являются только первыми шурфами
разведчиков, которые пока даже не позволяют «оконтурить», как
говорят геологи, запасы профессиональной лексики и фразеологии.
Из исследований по другим языкам мы знаем, что всякая система
лексики, даже арготическая, обогащается своей фразеологией.
Поэтому там, где имеются запасы профессиональной лексики без
фразеологии, надо продолжать поиски: она не зарегистрирована,
не описана скорей всего только по недостаточному умению или
вниманию собирателя.
Существующие словари и диалектологические работы содержат
некоторое количество профессиональной сельскохозяйственной
фразеологии, например: жито вибилось з краски; жито кв1туеу конопле
курять; гупати конопль — 'бить коноплю'; брати льон; выбирати
картоплю и т. д.
В диссертациях П. А. Дзендзелевского и А. А. Берлизова
обработаны материалы по профессиональной фразеологии рыбаков на
Нижнем Днестре, а в диссертации М. Ф. Кривчанской — по
фразеологии гончаров на Полтавщине. Я приведу примеры из последней
работы.
Точйти посуд — 'виробляти посуд на гончарному крузГ.
Поадали мискй — 'разпалися вщ погано! глини шд час ïx
обжигания'.
Тягнути полотно — 'надавати глин1 форми уаченого конуса
шд час виготовлення посудини на крузГ.
Зводити пелюстку — 'вцщдляти верхнш край горщика вигляд!
пояса шд час його виробленняЧ
Гнать пучок — 'рухати пучками пальц1в знизу вгору по глинг
шд час виготовлення посудини на крузГ.
Бросается в глаза образность профессиональной фразеологии.
Составители областных словарей и исследователи
профессиональной терминологии должны искать и записывать сохранившиеся
остатки этой производственной фразеологии, которая отражает то
древние приемы работы, то специальные формы общения
участников коллективной работы, то воззрения ремесленников или
промысловиков на свои занятия. Она исчезает особенно быстро.
6 m 5422
161
так как отмирают старые ремесла и промыслы, вытесняемые
фабрично-заводской промышленностью и механизированными
государственными промыслами.
Большой интерес представляет и разработка источников и
происхождения профессиональной фразеологии, в основном
производимой путем специализации, приспособления областной и$и
общенародной фразеологии. Следует осветить и обратный процесс
заимствования и обогащения общей фразеологии из фондов
профессиональной.
Как видим, встают перед нами новые и нелегкие задачи. Нива —
неоглядная, она ждет своих тружеников. Любовь к яркому,
статному слову, глубокий интерес ко всем видам народного «меткого
словца» — всегда будут привлекать новых и новых исследователей
в область народной фразеологии.
1959 г.
АЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ
13. РАЗГОВОРНЫЙ ЯЗЫК МОСКОВСКОЙ РУСИ
Разговорный язык Московской Руси — тема необъятная не
только для статьи, но и для большой книги. Она не завещана нам
предками и ставится только в советском языкознании. Мое
поколение ставит ее перед молодыми исследователями, зная, какой
широкий круг общих и частных вопросов с нею связан, в надежде,
что молодые увидят и завершение первого этапа разработки этой
темы.
Для первого подступа необходимо уяснить объект этого цикла
исследований, наметить круг источников, порядок, методику их
разработки, определить ближайшие задачи.
Можно ли считать самостоятельной проблемой исследование
разговорного ^1аШ<аЖоскдвскои Руси и. что входит в_^то_ понятие?
Филологи чуть не всех специальностей (историки,
литературоведы, лингвисты) походя затрагивают вопрос о разговорном языке,
не придавая ему самодовлеющего значения.._В_эга обще_е_понятие
входят и областные диалекты Московской_Руси (кресхьянскне по
социальной принадлежности носителей), и
горрдскиедиалектысредних и «подлых» сословий, и, наконец _р.азговорная речь, высших
классов. Употрёбляя~это наименование в разных частных приме^
нениях, филологи высказывают пестрые суждения о разговорном
языке, и создается впечатление, что по этому вопросу мы не имеем
б*
163
никакого устоявшегося, проясненного понимания, все зыбко, все
неясно, все произвольно.
Если видеть эту обобщенную проблему как самостоятельную,
если расчленить ее на ряд более частных, исторически конкретных
вопросов, то мы достигнем большего успеха.
Нам могут указать, что совсем неразработанной проблемой
остается до сих пор и разговорный язык советской эпохи, как столь
же сложная совокупность диалектов современных языков —
русского, украинского, белорусского и т. д. Ведь все усилия и
академических институтов, и вузовских языковедов в сфере
современного языка направлены на нормализацию и повышение культуры
языка — в области орфографии, грамматики и словоупотребления.
Изучаются крестьянские диалекты, но в диалектологии
господствует историческая целеустремленность, а устная речь городского
населения, варьирующая и по областям, и по культурным слоям,
остается вне поля исследований. Декларируются, но не изучаются
и более широкие, наддиалектные типы устной речи.
Эта ситуация имеет и теоретическое обоснование: игнорируя
социальные диалекты, кроме крестьянских, те, кому бы следовало
ставить проблему разговорного языка во всю ширь, предпочитают
рассуждать о тысяче и одном стиле литературного языка, как своего
рода сублимации социальных диалектов, чтобы не поколебать
догмата о единстве и общенародности национальных языков. Я
считаю этот догмат схоластической абстракцией, тормозящей нашу
работу и в области современных языков, и в историческом
языкознании.
Как же будем изучать такой сложный комплекс, как
«разговорный язык Московской Руси», если не сумели до сих пор ни
поставить, ни разрешить этот вопрос на материале современных
языков?
Быть может, и в этом случае следует предоставить часть
проблемы исторической диалектологии, а остальное — исторической
стилистике, которая существует пока только в декларациях и
планах на следующее двадцатипятилетие?
Нам представляется, что надо ставить эту проблему безраздельно
и независимо от того, когда и как она будет разработана в рамках
современного языка, раз нельзя иначе, хотя не может быть спора,
что было бы легче идти вслед за специалистами по современному
языку или работать бок о бок с ними.
Можно и нужно безотлагательно ставить эту историческую
проблему и для украинского, белорусского и других языков.
Большинство историков русского языка принимает без
предубеждения свидетельство Г. В. Лудольфа о противоположении и
существенном различии в XVII в. учено-книжного и обиходно-
разговорного языка. В предисловии к «Русской грамматике»
(Оксфорд, 1696) он писал: «Для русских знание славянского языка
необходимо, потому что не только Св. Библия и остальные книги,
по которым совершается богослужение, существуют только на сла-
164
вянском языке, но невозможно ни писать, ни рассуждать по каким-
нибудь вопросам науки и образования, не пользуясь славянским
языком...» И ниже: «Но точно так же, как никто из русских не
может писать или рассуждать по научным вопросам, не пользуясь
славянским языком, так и наоборот — в домашних и интимных
беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского
языка, потому что названия большинства обычных вещей,
употребляемых в повседневной жизни, не встречаются в тех книгах,
по каким научаются славянскому языку. Так у них и говорится,
что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянскому» 1.
Прибавим к этому еще одно замечание: «Поэтому, чем более
ученым кто-нибудь хочет казаться, тем больше примешивает он
славянских выражений к своей речи или в своих писаниях, хотя
некоторые и посмеиваются над теми, кто злоупотребляет
славянским языком в обычной речи» 2.
Г. В. Лудольф говорит о вариации того разговорного языка,
какой он наблюдал в высших и средних кругах московского
общества, предвосхитив слова Тредиаковского о славянском языке
(«Очюнь темен зрится»). Вне его поля зрения остались диалекты
крестьян и отдаленных от Москвы городов.
О резком противостоянии языка книжного, церковного и
разговорного, если не доверять свидетельству Лудольфа, можно
заключить из показаний различных жанров письменности XVI—XVII вв.
Приведу косвенное, но достаточно ясное свидетельство из
сатирической повести XVII в. «Сказание о крестьянском сыне». Бросив
учение, крестьянский сын пошел «у богатого мужика воровать».
«И нашел на блюде калач да рыбу и учал ести, а сам рече: «Чашу
спасения прииму, имя господне призову, алилуия». И увидел на
крестьянине новую шубу, и он снял да на себя оболокался, а сам
рече: «Одеялся светом, яко ризою, а я одеваюся крестьянскою новою
шубою». И та крестьянская жена послышала и мужа своего
разбудила, а сама рече мужу своему: «Встань, муж, тать у нас ходит
в клети!» И муж рече жене своей: «Не тать ходит, но ангел господень,
а говорит он все божественные слова». Итак, по убеждению
крестьянина XVII в., церковнославянским языком в домашнем обиходе
могут говорить только ангелы. Юмористический эффект этой
повести основан на пародийном противопоставлении трафаретов
церковнокнижного языка и чередующихся с ними пассажей на
разговорном просторечии. На два языковых ряда распадается
первый же абзац этой повести: «Бысть пеки крестьянской сын у
отца своего и матери. И отдан бысть родителми своими грамоте
учитися а не ленитися. И он, крестьянской сын, в то ся дал, а
учение не возприял.,. и учал себе размышлять: «Стати мне лутче
богатых мужиков красть: ночью покраду, а в день продам. И да будет
1 Лудольф Г. В. Русская грамматика. Переиздание, перевод, вступит, статья
и примеч. Б. А. Ларина. Л., 1937, с. 47 и 113.
Там ж е, с. 113.
165
у меня денешка скорая и горячая, и почну себе товарищав приби-
рати, таких же воров, каков я сам» я.
На этом примере мы видим, что письменный и разговорный
язык — как две обособленные системы — не только противостоят,
но и вступают в контаминацию в новых повествовательных жанрах
письменности XVII в. Можно было бы умножить примеры, но нет
в этом надобности, так как это соотношение установлено не только
для XVII в., но и для второй половины XVI в. Мы обратились к
этим иллюстрациям для наглядного ответа на вопрос, существует
ли реальный (не абстрактно-умозрительный) объект проблемы
разговорного языка Московской Руси, так как иначе мы могли бы
услышать сверхскептические замечания: дескать, еще неизвестно,
существует ли такой реальный объект.
Не всегда необходимый нам материал по разговорной речи лежит
на поверхности, и чем дальше в прошлое, тем трудней его
разыскивать, извлекать, анализировать.
Начальный этап образования национального русского языка
(устного и письменного) мы относим к длительному промежутку
со второй половины XVI в. до середины XVIII в. Не все так именно
думают, но никакого значения не имеют расхождения на
полстолетия, даже на столетие, ибо неоспоримо: 1) что формирование
русского национального языка требовало ряда столетий, 2) что в XVII в.
мы уже имеем явные проявления его характерных признаков, 3) что
заканчивается этот процесс только в XIX в.
Важным характерным признаком образования национального
языка надо считать органическое, проникающее сближение ранее
противопоставленных и обособленных систем письменного и
разговорного языка. Контаминация, все более глубокое взаимное
влияние их только начинает давать первые нестойкие плоды в XVII в.,
но это подготовляется всем предшествующим развитием языка и
общества. Сперва функционально разграниченное чередование,
потом переплетение, чередование в пределах одного выражения,
когда экспрессивную функцию приобретает именно сочетание или
чередование элементов этих двух систем, и еще позже — создание
нового типа литературного языка, развитие новых типов
разговорного языка. Тысячекратные усилия писателей и вся массовая
и напряженная работа всего народа над культурой разговорного
языка обусловлены и развитием государства, и выходом торговли за
рамки феодальных границ, складыванием единого всероссийского
рынка, и консолидацией нравов и воззрений. Нация образуется
во всех своих гранях исподволь и совокупно — в накале
всенародного государственного, культурного, социального совершенство-
1 Адрианова-Перетц В, 77. Русская демократическая сатира XVII в. М.—Л.,
1954, с. ПО.
166
вания, созидания, роста. И неправильно считать решающим одно
условие, отдавать все внимание одной категории сплочения,
отодвигая остальные. Ни одно из условий, определяющих
национальность, не было созревшим в эпоху народности. Не было ни того
единства языка, ни того единства территории и экономической
жизни, ни того единства воззрений, верований, психологии, они
были не в той стадии, не в том качестве и объеме, какие созданы
были в эпоху нации.
Поэтому не может быть речи о каких-то коротких промежутках,
узких рубежах между этими формациями.
Поэтому и изучение образования национальности по всем
линиям должно уходить глубоко в предшествующий период.
Разговорная речь Московской Руси в ее сложном многообразии
и развитии с XV по конец XVII в. должна изучаться как
предпосылка и глубокая основа национального языка — более
существенная и определяющая, чем традиции книжнославянского языка,
тоже сохранившиеся в нем поныне, однако в убывающей, а не
возрастающей прогрессии.
Обратимся же к источникам XV в. Где и как в них искать
«отражение» разговорной речи? Ясно, что не в литургических,
ритуальных, и не в богословских текстах, а в светской, повествовательной
литературе, а также и в некоторых житиях.
Возьмем пробу из жития Михаила Клопского, составленного в
первой редакции в конце XV в. (1478—1479). Оно недавно
превосходно издано по всем разысканным (68) спискам и исследовано
Л. А. Дмитриевым. Михаил Клопский был пришельцем из
Москвы — по тексту жития, свояком московского князя Константина
Дмитриевича (сына Дмитрия Донского), поборником московских
князей в Новгородском уделе (Клопский Троицкий монастырь близ
Новгорода). В его житии и чудесах есть несколько кратких
диалогов. Реплики самого Михаила Клопского^ как и игуменов, и
епископов — почти всегда на книжном языке, но три-четыре
реплики явно отражают разговорные формулы. От первой, редакции до
последней (Тучкова) они все более и более переделываются,
удаляясь от первичной формы, и переходят в высокую книжную
фразеологию. Вот два-три примера г.
1) I редакция: «Чему, сынько, имени своего нам не скажешь?»
(с. 91).
II редакция: «Сынок, о чем нам имени своего не кажешь, коли ко
с нами во обители живуще?» (с. 118).
Переработка Тучкова: «По что, чадо, имени своего не повеси?»
(с. 147).
2) I редакция: «И посадник [Григорий Кириллович: Посахной]
рече игумену: «Не пускайте вы коней да и коров на жар, то земля
1 См.: Повести о житии Михаила Клопского· Подготовка текстов и статья
Л. А. Дмитриева. М.—Л., 1958.
167
моя. Да и по реки Веряжи, ни по болоту да и под двором моим не
ловите рыбы. А почнете ловить, и аз велю ловцем вашим рукы и
ногы перебить» (с. 93—94).
II редакция: «Игумен, не пускай коней да и коров на жары — то
земля моя! Ни но реци по Веряже, ни по болотом, ни под двором
моим не лови! А почнеши ловити, и я велю ловцем руки и ноги
перебити» (с. 105).
Тучков пересказывает косвенной речью: «да не повелит паст-
вити близ села его стад монастырских» (с. 153).
3) I редакция: Говорит князь Дмитрий Юрьевич Шемяка: «Ми-
хайлушко! Бегаю своей отчине, збили меня с великого княжения»
(с. 96).
У Тучкова: «Отче, моли бога о мне, яко да паки восприиму
царствия скыфьтры: согнан бо есмь от своея отчины, великого
княжениа Московьского!» (с. 156).
Как и во множестве других памятников литературы, каждая
следующая переработка все более стирает следы
непосредственного воспроизведения живой речи. Историк языка поэтому должен
проследить всю литературную историю того памятника, из которого
он берет свои факты, тщательно изучить все варианты, критику
текста, и только тогда он может выделить наиболее ценный в плане
изучения разговорной речи средневековый материал.
Но и в первоначальных редакциях отражается речь не простого
народа, не смердов, а знати, верхушки феодального общества:
князей, бояр, иерархов. И отражение не вполне точное и полное:
можно предположить, что новгородский посадник и московский
князь имели свои акценты в живой речи, а в памятниках
письменности все это нивелируется; обобщение разговорного типа языка
осуществляется писателями, но это не значит, что в такой же
степени однообразной и однородной была и подлинная речь даже
феодалов в разных землях, уделах русского средневековья.
Ни из имеющихся источников, ни из соображений исторического
порядка никак не вытекает предположение о близости обиходно-
разговорной речи феодалов и крестьян, «черного люда». Близость
вероятна в речи средних и низших слоев, посадских, работных
людей и крестьян, а боярство и церковная знать, как известно из
прямых высказываний, отмежевывались от смердов во всех сферах
культуры и быта.
Языковая реакция конца XIV—XV вв., известная более под
именем «2-го югославянского влияния», ярко показывает
осознанное стремление феодалов противопоставить себя «худым
людишкам» в языке.
Только с конца XV в. слабо намечается у некоторых писателей,
например у Иосифа Волоцкого, интерес к простой речи и большая
терпимость к разговорным вкраплениям в книжный язык. Однако
и тут надо говорить не о сближении с народными говорами, а только
о незначительном влиянии городских посадских диалектов на язык
некоторых писателей.
168
Если мы попробуем извлечь некоторые данные о московской
разговорной речи из памятника другого важного жанра — из
Московского летописного свода конца XV в., то окажется, что на
400 (без малого) страницах его текста мы найдем не более 10 реплик,
ясно отражающих разговорную формулу. Преобладают
риторические диалоги и писанные речи, не бросающие никакого света на
состав разговорного языка этой поры.
Под роковым для вольного Новгорода- 1478 г. находим,
например, такие реплики новгородских и московских антагонистов 1:
с. 319: «И князь велики велЪл бояром молвити им: «Взяти ми
половину всех волостей владычних, да и манастырских, да Ново-
то^жьские, чии ни буди». И они отвечали: «Скажем то, господине,
Нову городу!»;
с. 314: «А говорил посадник Яков Коробъ так: «Что бы государь
наш князь великы свою вотчину Великы Новгород — волных
людей пожаловал, нелюбья отдал, а мечь бы твой унял!»
Эти контрасты фразеологии, вне всякого сомнения, отражают
различия речи новгородского посадника и московского великого
князя.
С. 319—320: «И князь великы велЪл с ними [владыкой,
посадниками, житьими и черными людьми! бояром говорити о дани...
вел^л их въспросити, что их сох, и они сказали: «Три обжи — соха,
а обжа — один человгькъ на одной лоишди ореть; а хто на трех
лошадех и сам-третей ореть — ино то соха».
Едва ли такими бессоюзно-гипотактическими или
сложноподчиненными предложениями с паратактическими союзами мог
говорить архиепископ и посадник, это речь житьих или черных людей,
да к ним и обращен был вопрос для решения спора о податном
обложении.
Как старатели намывают щепотку черного золотого песка из
куч пустой породы, так из обильной, из века в век разрастающейся
русской средневековой письменности всех почти жанров можно по
крупицам собрать фрагментарные данные о различных
(территориально и социально) разговорных диалектах и Киевской и
Московской Руси. Эту работу пора уже проделать. Пока проанализирована
лишь незначительная часть источников, в них выделены местные
разговорные элементы, но все это не синтезировано. Почти не
сделано попыток реконструировать древние диалекты по их
рассеянным отражениям в текстах. Такую задачу ставил себе в последние
годы жизни А. А. Шахматов, но не успел ее выполнить.
Нельзя совсем пренебрегать церковной письменностью. Как
сказано, некоторые жития, а также и некоторые проповеди
XV—XVII вв. содержат единичные выражения разговорной речи.
Богаче их повествовательная литература, к XVI 1в. уже
освобождающаяся от религиозной пропаганды и церковной дидактики.
1 См.: Московский летописный свод конца XV в.— Поли. собр. русских
летописей. Т. 25. М.—Л., 1949.
169
Новые жанры — стихотворство, драматургия — почти до конца
XVIII в. оберегаются от воздействия «живого языка», как указал
И. П. Еремин х. Есть или был такой взгляд, что с самого начала
письменности и до нового времени диалекты, разговорная речь
шире всего, полнее всего отражались в деловой письменности, т. е.
в актах юридических и политических. Однако этот взгляд не точен,
как и утверждение, что деловая письменность «старшей поры»,
по языку чисто русская, не содержит никаких старославянских
элементов. Эта концепция упускает из виду и большую
общеславянскую культурную роль старославянского языка, проникшего
во все жанры письменности с X в., и древние традиции правового
и дипломатического жанров, отличающие состав их языка от
обиходной разговорной речи. Единого и общенародного разговорного
языка в Киевской Руси X—XII вв. не было, как не было и единого
письменного языка, да и не могло быть. Об этом прямо
свидетельствуют те отражения разговорной речи, какие извлекаются из
памятников письменности разных уделов и разных жанров
(летописей, грамот, переводов, дипломатических актов и т. д.).
Неоспоримо было лишь единство церковнокнижного старославянского
языка на Руси. Единство языка деловой литературы лишь
постепенно создавалось усилиями княжеских дьяков, стремившихся
освободиться от заметных диалектизмов и выработать формуляр
актов, наиболее понятный для народов Киевской Руси.
В Московских приказах тоже постепенно, лишь с XV—XVI вв.,
по мере усиления централизации административной системы,
создается единство административной терминологии и фразеологии,
единство основных норм языка деловой письменности. Но и здесь
единообразие языковой формы деловой письменности соответствует
только единому языку приказного сословия, а не единству
общенародного языка, хотя в нем и наличествуют отобранные
общенародные элементы языка. То, что исследователи называют теперь
областными элементами в деловом языке, как нельзя яснее
показывает различие между нормализованным языком Московских
приказов и речью дьяков и подьячих из местных жителей в «земских
избах» на периферии государства. Вопреки централизации здесь
ненароком прорывались диалектизмы в делопроизводство.
Разработка Воронежских 2 и Холмогорских актов 8 или Донских дел
широко иллюстрирует противоборство централизующих и центро-
1 Еремин И. П. Русская литература и ее язык на рубеже XVII—XVIII
веков.— В сб.: Начальный этап формирования русского национального языка.
Л., 1961, с. 12—21.
2 Собинникова В. Я. Общенародные и диалектные черты в языке областной
письменности XVII — начала XVIII века (по материалам воронежских грамот).—
В сб.: Начальный этап формирования русского национального языка. Л.,
1961, с. 207 ел.
3 Елизаровский И. А. Язык беломорских актов XVI—XVII вв. Грамматика.
Архангельск, 1958; Его же. Лексика беломорских актов XVI—XVII вв.
Архангельск, 1958.
170
бежных тенденций в языке деловой письменности, которое очень
ограничивает возможность прямого отражения в ней местной речи.
Один из памятников московской деловой письменности XVII в.—
после восторженных отзывов писателей А. Н. Толстого и А.
Чапыгина — получил широкую известность как драгоценный клад
живого русского слова: это «пыточные речи» в свитках Разряда,
именуемых «Слово и дело государевы» 1. Но восторги писателей
объясняются главным образом свежестью их восприятия этого рода
памятников средневековой письменности и самым содержанием
свитков.
Почти все записи в этом подборе дел Разряда не протокольные
в нашем понимании, а довольно подробная и относительно г о ч-
ная только по смыслу передача ответов допрошенных
под пыткой и без пытки. Подьячие излагали ответы допрашиваемых
в нормах приказного языка. Показательно, что в этих свитках
преобладает передача показаний косвенной речью, например,
с. 2: «А он Сенька в тЬ поры был пьян и того не упомнит, что про
царя Дмитрия бредил с хмЪлю». Но и прямая речь лишь в очень
редких случаях может быть сочтена за точную запись, тем более
что никаких отступлений от выученной орфографии и грамматики
дьяки при этой записи не допускали. Примеры:
С. 83: На обороте изветной грамоты надпись: «Кто писал тот
и доводи, а я переписать не смЪю, боюсь кнута».
Писал это какой-то новгородский площадной дьяк, достаточно
грамотный, чтобы не отразить местные черты своей речи.
С. 93: «И Павел-де Волынский ему архимариту сказал: «Плут
де дьякон, вор, выбей его из монастыря вон».
Речь боярина, должно быть, была свободна от диалектной
окраски, и такую запись нет оснований считать неточной.
Особенно интересны расхождения свидетельских показаний о
фразах, содержащих оскорбление величества. Они дают ряд под-
обозначных или только созвучных, но весьма разнозначных
разговорных формул. Этот материал необходимо исследовать в нашем
плане особо внимательно.
Одну и ту же фразу обвиняемого три свидетеля передают так:
1) «Что-де нынгыиние цари?»
2) «Нам-де тЪ цари нонть не подобны!»
3) «Дмитрей, пей-де пиво, а про цари-де нам теперь говорить
не надобно!»
В последней записи подьячий заменил, вероятно, своим словом
теперь слово нонгь, а в первой записи нынгыиние вместо ношыиние.
* * *
О больших трудностях приурочения, узнавания диалектной
принадлежности речей можно судить по такому случаю. В одном
1 См,: Слово и дело государевы, изд.^Н. Я. Новомбергскнм. Т. I. М„ 1911.
*71
свитке, опубликованном в издании «Слово и дело государевы»,
обвинение изложено так, что невозможно предположить никакого
искажения, сокращения, амплификации: «И тюремный сиделец
Стенька борабонов в разспросе сказал: в нынешнем де во 141
[16331 г. ... говорила де черная старица Марба Жилина в торгу:
«глупые де мужики, которы быков припущают к коровам об молоду,
и те де коровы рожают быки; а как де бы припущали об исхода,
ино б рожали все телицы. Государь де царь женился об исхода
и государыня де царица рожает царевны; а как де бы государь царь
женился об молоду, и государыня де бы царица рожала все
царевичи. И государь де царь хотел царицу постричь в черницы, а что
де государь царевич Алексей Михайлович, и тот де царевич
подменный» (Слово и дело, т. I, с. 74).
Свидетельство кажется достоверным: речь «бойкой на язык»
и всюду «вхожей» (как сказано в этом же показании) монашки
словно выписана писателем-классиком. Однако приведенные
свидетели отвергли обвинение. Марфа Жилина избегла кары, а за
«слово государево» был «бит кнутом нещадно» и опять «вкинут
в тюрьму» доводчик Стенька Фарафонов как сочинивший сам эту
хулу на царский дом.
Пример показывает, на какой зыбкой почве мы стоим, отыскивая
скудные данные по разговорной речи даже в таком благоприятном
случае, когда указано и место (г. Курск), и общественное положение
говорившего (черная старица), и к кому обращена речь (в торгу).
Последний пример из «Слова и дела государевых» показывает с
полной бесспорностью, что, оберегая смысл и содержание
показания, подьячие освобождали запись от малейших признаков
диалекта. Вот длинный рассказ 13 крестьян Карачунского монастыря
под Воронежем, попробуйте уловить в нем характерные диалектные
черты:
«А монастырских крестьян 13 человек в разспросе сказали:
что в нынешнем во 133 [16251 г. за неделю до Филиппова поста
игумен Варсонофий старца Иса^я бил, и в железа ковал, и в яму
сажал, и доскою покрывал, а что по доскгь скачучи, говорил, что
«Радуйся, царь Иудейский, твое царство пришло» — про то они
слышали от старца Иса1я. А за что игумен старца Иса1я бил и в
железа и под пол сажал, того не ведают. А как де в прошлом во
129 [16211 г. велено ему, Варсанофью, быть в Карачунском
монастыре и в монастыре де загьхал он монастырского хлеба 400 копен
ржи, 400 копен овса, а умолоту из копны было по 3 чети ржи, овса
то ж, да молоченого всякого хлеба четвертей со 100 в московскую
меру. И тот хлгьб стоячий и молоченый игумен Варсонофий
переварил в вине и в пиве, а на всякий год пив и вин варил по 10 и
больше. И то де вино и пиво пил с детеныши, и с монастырскими
бобылями, и со крестьяны, которые ходили в десятских. А иное
де вино продавал в Воронежский уезд и к Москве важивал, а кому
именем вин продавал и кому к Москве важивал, про то не ведают.
А ныне де в монастыре монастырского хлеба осталось нынешнего
172
133 [16251г. 30 копен ржи, 20 копен гречихи; да было 10 лошадей
да 10 коров, и на тЬх де он лошадях ездил к Москвгь для тяжбы,
а гдгъ гшъ лошади подтал, того не вЪдают; а коровы распродал,
а гдуъ дгьнги дгьл, того не выдают же. Да игумен Варсонофий заЪхал
в монастырской вотчинЪ крестьян 60 ч., 10 бобылей да 10 чел.
дЪтенышов, а нынЪ де в той монастырской вотчинЪ осталось
крестьян только 15 человек да 4 бобыля, а тЪ де крестьяне и бобыли
разошлись от его, Варсонофьевой изгони, а не от государевых податей,
потому что их бивал и мучил и на правежгь ставливал... А бил
игумен монастырских крестьян из денег, старосту Сеньку, на Ми-
кигё' ХудякЪ доправил 7 руб., ...на ТимошкЪ БолдарЪ 5 руб.
денег да 20 ульев пчел, у Ивашка Шемая взял мерин да 2 пуда
меда, да у него ж, Ивашка, жену позорил и прижил 2 робят...
Да в прошлом во 132 [1624] г. являла им, крестьянам, того ж
монастыря проскурница Ульянка, что тот игумен Варсонофий ее
изсильничал и ребенка с нею прижил».
Я привел более половины записи крестьянских показаний,
чтобы убедить слушателей (читателя), что этот обильный* материал,
несомненно воспроизводящий крестьянское повествование, не
содержит полного отражения их живой речи из-за боязни подьячего
получить взыскание за малограмотность от царских дьяков,
которые будут читать царю его свиток.
Итак, деловая письменность изредка дает ценные факты для
изучения местных диалектов и разговорной речи горожан,
посадских и крестьян, но их историко-диалектологическое приурочивание
крайне затруднительно прежде всего из-за фонетической и
грамматической нормализации языка, а иногда и вследствие недостатка
прямых и подробных указаний о месте, лице, аудитории или
собеседнике допрашиваемого.
А может быть, наше недоверие к полноте и верности «отражения»
разговорной речи в деловых документах преувеличено? Не следует
ли допустить, что разговорная речь в Московской Руси во всех
сословиях и слоях общества уже в первой половине XVII в. сгала
единообразной и такой именно нормализованной, какой ее передают
челобитные, явки и прочие юридические акты?
Если бы мы совсем не располагали явными свидетельствами о
существовании диалектов в городах и селах разных областей
Московского государства, то такое допущение было бы возможно.
Но осуществленные уже исследования актов и других памятников
письма — псковских, новгородских, двинских, холмогорских,
пермских и вятских, донских и воронежских, курских и орловских
и т. д.— обнаружили в ряде случаев куда более верное и полное
отражение местных и социальных диалектов, чем приведенные
выше данные, например из «Слова и дела государевых». И уже это
опровергает допущение о достоверности обобщенных и
нормализованных записей; эти же исследования и материалы опровергают и
предположение о едином и общенародном разговорном языке
Московской Руси.
173
Но есть еще более точные и разнообразные по содержанию,
отходящие от «юридического быта» (судебных процедур) источники по
разговорной речи. Это записи иностранцев.
В предисловии к «Русской грамматике» Г. В. Лудольф писал:
сБольшинство русских, чтобы не казаться неучами, пишут слова
не так, как произносят, а так, как они должны писаться по
правилам славянской грамматики, например пишут сегодня, а
произносят соводни. Тем не менее я решил в этой моей грамматике и в
диалогах передавать слова такими буквами, какие слышатся в
произношении, чтобы книга послужила на пользу тем, кто хочет
научиться разговорному русскому языку» 1.
Пример ы: «— Давно ли ты с Москвы?»
« — Изволишь чарку вотки?»
«[Слуга:] за етую цЪну не здЪлают бушмаки».
«Опотчивай здоров!» ?
Лудольф владел русским алфавитом, другие иностранцы —
латиницей со всякими диакритиками или готическим шрифтом. Уже
эта транслитерация или транскрипция повышала точность передачи
русского произношения во всех случаях, когда оно было правильно
усвоено, когда слово или фраза были полностью услышаны и
правильно расчленены. Многочисленные недослышки, неверное
членение потока связной речи, неполное понимание некоторых речений
существенно снижает ценность записей иностранцев. Но они
выгоднейшим образом дополняют и обогащают все указанные раньше
отражения в нашей письменности разговорной речи.
Наиболее точные записи, относящиеся к XVII в., находим у
Ричарда Джемса и в «Парижском словаре московитов 1586 г.»,
ценнейших источниках по XVI и XVII вв.3. Оба словаря сделаны
в Холмогорах. В соотнесении и сопоставлении с холмогорскими
актами XVI—XVII вв. и данными современных архангельских
говоров эти записи иностранцев позволяют предпринять
историческую реконструкцию холмогорского диалекта XVI—XVII вв. Это
одна из ближайших задач нашей исторической диалектологии.
В более выгодном положении, чем другие, находятся также
говоры псковские и новгородские как по обилию исторических
документов, так и по сведениям иностранцев, чаще, чем в других
городах, торговавших в Новгороде и Пскове и сохранивших больше
сведений о своих усилиях овладеть речью псковских и новгородских
купцов, ремесленников и властей. Не следует откладывать
синтезирующие работы по истории этих диалектов.
1 Лудольф Λ В. Русская грамматика, с. 48 и 114.
2 Τ а м ж е, с. 43—50.
9 См.! Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса
Î 1618—1619 гг.). Изд-во ЛГУ, 1959; Его оке. Парижский словарь московитов 1586 г.
>ига, 1948.
174
Нет возможности остановиться здесь еще и на вопросе об отра·
жении борьбы местного диалекта с московским влиянием в Хол-
могорах XVI—XVII вв., который имеет существенное значение
для раскрытия процесса униформации городских диалектов в более
или менее однотипное российское просторечие. Особо следует
заняться и вопросом о путях проникновения просторечия в
литературный язык и преобразования литературного языка под сложным
скрещением влияний а) просторечия, б) иностранных языков через
переводную литературу, в) специальных и профессиональных
лексических систем — через обширную ремесленно-промысловую
письменность XVII в., а также в связи с ростом городов и
возрастающим влиянием ремесленников и рабочих.
Все это остается задачей дальнейших исследований.
1961 г.
14. О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ГОРОДА «
1
Мы запоздали с научной разработкой языкового быта города,
да и нигде до сих пор она не производилась широко и
систематически. Были только разрозненные попытки регистрации и описания
отдельных жаргонов, в значительной части эти описания не
подымались над уровнем любительских коллекций или справочников.
Научная традиция в этой области еще не сложилась. Но и тот малый
опыт, какой накопился, позволяет ожидать значительных
результатов от упорядочений и коллективной работы над этим материалом.
Известно, какое громадное действие оказало на историческое
и генетическое языковедение обращение к деревенским диалектам.
За последние десятилетия диалектология дала толчок к
перестроению и теоретической лингвистики во многих отношениях.
Едва ли не так же плодотворно отразится в лингвистике и
разработка языка города. Настоятельная необходимость этого нового
расширения базы источников сравнительного языковедения теперь
должна уже быть всеми осознана.
Если картографически представить лингвистическую разработку,
например, современной Европы, то самыми поразительными
пробелами на ней оказались бы не отдаленные и неприступные уголки,
а именно большие города. Из всего языкового богатства этих
сложных конгломератов изучались только литературные языки. Но,
развиваясь на языковой почве города, они давно стали экстеррито*
риальными и, в своей теперешней функции, как бы «не помнящими
1 Статья представляет обработку моего доклада, читанного в секции общего
языковедения ИЛЯЗВ в мае 1926 г. и с некоторыми изменениями повторенного в
Гос. ин-те истории искусств (секция изучения художественной речи) зимой 1926 г.
175
родства». Оттого и их изучение как-то обходилось без обращения
к их непосредственному лингвистическому окружению.
Но именно оттого, что изучение «языка города» не сложилось
до сих пор, так шатки и неполны у нас и исторические и
стилистические объяснения литературных языков. Городской фольклор,
неканонизованные виды письменного языка, разговорная речь
разных групп городского населения — оказывают
непосредственное и огромное воздействие на нормализуемый литературный язык,
на «высокие» его формы.
Всюду, а не только в Союзе, отмечается в последнем
полстолетии усилившееся просачивание в разговорную (и художественно-
литературную) речь элементов воровского жаргона. Разве только
близорукий наблюдатель может удовлетвориться объяснением этого
явления как частного, обусловленного, например, революцией.
Отчего же тогда это имеет место и во Франции, и в Англии, и в
Америке *? На самом деле в этом случае мы имеем только более яркий
пример общего и постоянного языкового взаимодействия всех
слоев городского коллектива, обычное использование «иной» речи
социальных соседей и антиподов, пример непрестанного искания
новых экспрессивных средств в ближайших источниках (оно всегда
успешно, когда обращаются к богатому «языковому дну» города).
Историческая эволюция любого литературного языка может быть
представлена как ряд последовательных «снижений»,
варваризаций, но лучше сказать — как ряд концентрических развертываний.
Что же может дать для выяснения этого процесса традиционная
история русского языка, ограниченная только книжным
современным материалом и только верхушечной литературой прошлого?
Помощь диалектологии (крестьянской), конечно, была и
останется важной, но она уступит свое первенство в этом деле, когда
достаточно разработан будет городской языковой быт.
2
Новым оказывается сейчас задание, которое, как я пытался
показать, должно бы было возникнуть еще при начале теории и
истории литературного языка — и, по крайней мере, одновременно
с диалектологией этнологической.
Другие обществоведческие дисциплины давно уже сделали город
одним из основных своих объектов исследования. У историков,
социологов, экономистов есть богатая традиция о происхождении,
эволюции и значении города. В лингвистике надо еще обосновать
законность этой темы, доказать необходимость и важность
включения такого нового материала, а для упорных староверов, пожалуй,
даже еще показать наличие нового объекта языковедения. Остав-
1 Виелингвистическое объяснение этого явления в том, что с ростом городов
сильно возрастает группа деклассированных и происходит некоторая
«легализация» их.
176
шись на пути изучения города едва не последними из
обществоведов, лингвисты должны использовать их опыт в самой планировке
работ по этому новому вопросу. Это ближайшая, но очень трудная
и ответственная задача.
Прежде чем будет составлен реальный план, должны быть
произведены разведочные работы х с неминуемыми ошибками и
неудачами. Необходимо далее отсеять из существующих, в общем
малоудовлетворительных описаний жаргонов все поучительное
для техники работы (например, для составления наших
лингвистических анкет).
Наконец, предстоит выяснить основные понятия и установить
термины для языка города и его структуры.
3
Интерес к литературным языкам, как и прежде, господствует
в лингвистике (надо думать, вследствие несомненно наибольшего
их культурного и социального значения).
Относительно недавнее (со второй половины прошлого века)
увлечение диалектологией, когда деревенские говоры были
объявлены «живым языком» (а литературные языки «искусственными*
или «мертвыми»), мало изменило положение. До самого последнего
времени диалектология строилась с ориентировкой на литературный
язык и, в первую очередь, служила к освещению его прошлого —
«для построения сравнительно-исторического учения о
национальном языке».
Еще в большей мере это предпочтительное внимание к
литературным языкам задержало изучение языка города 2.
1 Они ведутся уже несколько лет в Ленинграде и в Москве.
2 Не следует упускать из виду еще и другой причины того преобладающего
положения, которое до сих пор занимают литературные языки в материалах сов-
ременного языкознания. Не подлежит сомнению, что основным предметом
изучения в науке о языке является не индивидуальное говорение, а то в нем, что
отвечает норме данной социальной группировки. Нащупать эту норму, особенно
если она недостаточно устойчива, чрезвычайно трудно. Дело это требует, в
сущности, как бы временной ассимиляции с данной средой. В большинстве случаев
это практически бывает невозможно. Между тем в литературных языках эту
работу за лингвистов сделали писатели, которые, обращаясь к широким кругам,
должны были эту норму найти во что бы то ни стало. Лингвистам остается лишь
описывать и систематизировать то, что они находят у писателей. Трудность
нахождения нормы там, где нет литературы и литературного языка, и имеет своим
последствием то, что диалекты в громадном большинстве случаев описываются
не сами по себе, а лишь соотносительно с литературным языком: отмечается
обычно лишь то, что по субъективному впечатлению наблюдателя расходится с
литературным языком. Этот метод исследования имеет, конечно, свои и исторические
обоснования; но надо признать, что, действуя иначе, мы не получили бы и десятой
доли того материала, которым располагаем.
Что касается специально языка города, то его, конечно, особенно трудно
исследовать ввиду значительной неустойчивости его населения. Тогда как в
деревне все неподвижно (конечно, относительно) и мы сталкиваемся здесь с вековыми
традициями в области языка, в городе, особенно большом, картина все время
меняется в силу постоянного притока разнообразного населения, которое, ассими-
177
Вовсе пройти мимо всех внелитературных и нелитературных
типов речи было невозможно, и они включались спорадически в
работы двух указанных основных категорий. Попадая в сферу
диалектологии, этот материал был окрещен весьма расплывчатым
термином «мещанские говоры».
В методической правильности такого раздела языковой сферы
не сомневались, так ^как очевидна была тесная связь и
промежуточное положение явлений городской разговорной речи между
«высоким» книжным языком и «низовыми» диалектами. В меру
отклонения от литературного языка городские арго принимались за
разные степени «вульгаризации» его или, за известными пределами,—
за разные формы «облагорожения», обогащения крестьянских
говоров через скрещение их с литературным языком.
Эти патриархальные суждения надо решительно отвергнуть.
Разговорные и письменные городские арго должны
рассматриваться как третий основной круг языковых явлений, так как:
1) они в своей цельности не совпадают ни с литературным языком,
ни с деревенскими диалектами (как в этом едва ли кто сомневался
даже a priori), 2) они своеобразны и по социальной основе и по чисто
лингвистическим признакам, а потому никак несводимы целиком
к двум первым языковым сферам, 3) изучение их выделяется и
специфической чертой теоретического порядка, что ведет к выработке
и особых научных методов. Эта черта — теснейшая
взаимная обусловленность двух или нескольких
языковых систем, находящихся в
распоряжении каждой социальной группы
(соответственно индивида) в силу того, что она (или индивид) сопринадлежит
одновременно нескольким и разным по охвату
коллективам1.
4
Какие особенности социального состава городского населения
должны быть приняты во внимание как существенные условия
особого языкового быта? 2
Извлекаю ряд положений из работ социологов.
лируясь, привносит, однако, кое-что и свое, а главное, стирает все чересчур
индивидуальное. Уловить в этих условиях какую-то все же существующую, хотя и
довольно быстро меняющуюся норму чрезвычайно трудно. Однако из сказанного,
конечно, не следует, чтобы этого не нужно было делать.
1 Так, например, группа земляков — скажем, саратовских — работает во
флоте и входит в Коммунистическую партию. Эта троякая социальная
принадлежность имеет отражение и в трехсоставности их языковых навыков: на саратовском
диалекте они могут обращаться между собой и с родней, на матросском жаргоне —
с морякам», и наконец, в какой-то степени располагают они и литературным
языком, без которого не могли бы участвовать в жизни партии.
2 Городов в Союзе еще только 721 (при Петре I их было 314) и горожан, по
переписи 1926 г.— лишь 14,3%. Ср. в Англии городского населения 78%, в
Бельгии 60%, Германии 56,1%, С. Штатах 51,4%, Франции 41,3% (все эти данные из
книги: Города СССР. М., Изд. НКВД, 1927). Несомненен у нас в ближайшем
будущем рост числа и величины городов.
178
«Дифференциация между городом и селом служит важным
фактом экономической истории, ибо им обозначается отделение
промышленности от земледелия» *.
«Город представляет общественный спектроскоп, он анализирует
и фильтрует население, отделяя и классифицируя различные его
элементы. Весь прогресс цивилизации представляет собою процесс
дифференциации, и город является самым важным
дифференциатором» 2.
«В среднем в 33 больших городах Германской империи 50,9%
всего населения падает на промышленность, 26,1% на торговлю,
9,4% на государственную службу и свободные профессии, 8,5%
на людей без занятий (в том числе 6,1% на рантье и пенсионеров),
наконец, 5,1% на различные другие источники дохода. Если теперь
принять в расчет, что по меньшей мере 2/3 торговцев и
коммерсантов живут тем, что снабжают промышленных рабочих, и что из
того же источника черпает свой доход еще часть из других групп,
то можно сказать, что 3/4 населения большого города живет прямо
или косвенно от промышленности» 3.
В Союзе, по данным переписи 1923 г., городов с преобладающей
социальной категорией служащих было 41,1% и с наибольшей
группой рабочих 32,8%, остальные города — «деревенские», с
преобладанием лиц, живущих от доходов своего хозяйства.
А всего в городском населении Союза (без Зак. СФСР) в 1923 г.
было рабочих 25% (+прислуги 3,8%); служащих 20,3% (+
свободных профессий 0,8%); хозяев 15,8% (+помогающих членов семьи
8,6%); иждивенцев государства и общественных учреждений 8,2%,
прочих занятий 7,6%, безработных 9,9%. В моем распоряжении
нет аналогичных сведений о средних числах для разных категорий
горожан во всем Союзе,— но могут быть приняты за
показательные опубликованные данные двух больших городов:
Ленинграда и Киева. В Ленинграде (1926 г.) из 1 590 770 человек
населения — рабочих 287 325, служащих 168 288+дворников, сторожей,
прислуги, парикмахеров 72 837 (всего в двух последних группах
241 125, а вместе с иждивенцами 1 100 000), хозяев с наемными
рабочими 4 528, кустарей свыше 60 000 чел., свободных профессий
4 569, безработных 112 553, стипендиатов 33 605, пенсионеров
32 428 («Вечерняя красная газета», №350 (1668) от 29/ХП 1927 г.
и № 22 от 23/1 1928 г.).
В Киеве (1926 г.) из 513 629 всего населения — рабочих 52 903
(+их иждивенцев 81056), служащих 55 030 (+их иждивенцев
82 684), а всего с иждивенцами в этих группах 279 625; пенсионеров
9 153 (+ иждивенцев 7 228); стипендиатов 5 999 (+ иждивенцев
1 199); безработных 28 995 .(+ иждивенцев 22 692); свободных
1 Вебер Ά. Рост городов в 19-м столетии. СПб., 1903, с. 170.]
2 Τ а м ж-е, с. 433 ел.
3 Бюхер К* Большие города в их прошлом и настоящем.— В кн.: Большие
города... СПб., 1903, с. 22 ел.
179
профессий 3 332 (+иждивенцев 2 722); торговцев 7 756
^иждивенцев 12 933); хозяев, домовладельцев и нетрудящихся 3 689
(+ иждивенцев 5 238); кустарей и пр. 31 475 (+ иждивенцев 46 215).
Уже сравнение данных этих двух городов очень показательно.
Чем больше город — тем значительнее удельный вес двух основных
групп — рабочих и служащих. В Ленинграде они (с иждивенцами)
составляют 69%, в Киеве 54,4%. Все остальные группы
относительно очень малы.
Нет нужды говорить, что показанный состав населения резко
отличает город от деревни. Второй отличительной особенностью
является наличие «иностранцев» — и соответственно ему
«многоязычие» города, но об этом в другой статье 1.
Соответствует ли установленная социально-экономическая
группировка лингвистической? Можно ли думать, что в городе столько
диалектов, сколько профессий или социально-экономических
категорий? Пока нет большого достоверного материала о языковом
быте города, на этот вопрос научного ответа дать нельзя. Можно
1 Приведу и здесь статистические данные. В Ленинграде на 15/1II 1923 г.
было всего населения 1 071 103. Из них:
русских 916 836
евреев 52 373
поляков . . ...... 30 704
немцев 12 587
эстонцев 10 930
латышей 10 496
татар 8 316
украинцев 7 341
финнов 6 776
литовцев . . ...... 4 669
белорусов 3 482
Всех других национальностей (в отдельности) — меньше чем по 1000 человек,
т. е. меньше 0,1% (см.: Материалы по статистике Ленинграда. Вып. 6. Л., 1925,
с. 236).
В Киеве (в пределах новой черты города), по предварительным данным
переписи 1926 г., из 513 637 чел. было:
украинцев 216 528
русских 125 514
евреев 140 256
(-f- караимов 204, всего 140 460)
поляков 13 706
белорусов 5 436
немцев 3 554
чехов 984
латышей . · 805
татар 733
армян . . ....... 638
литовцев 610
Всех прочих национальностей меньше чем по 500 чел., т. е. меньше 0,1%.
Эти данные показывают, что большие города и в национальном, как в
социально-экономическом делении, распадаются на немногочисленные крупные
группы. И то и другое деление имеет соответствие в языковом размежевании, однако
не полное или не прямое. Как некоторые пары социально-экономических групп
имеют один язык, так и национальные коллективы почти всегда двуязычны или
многоязычны и, кроме разных языков, имеют общий язык.
180
высказать только несколько априорных суждений, основанных
главным образом на разработке соответствующих материалов на
Западе.
5
Тесная бытовая спайка обусловливает языковую ассимиляцию,
сложение своеобразных у данного коллектива разговорных
(и письменных) типов речи. Следовательно, мы могли бы предполагать
некоторую языковую спецификацию, например, у студенчества,
солдат и моряков, у рабочих одной фабрики и в несколько меньшей
мере у лиц, принадлежащих к одной профессии — у служащих
одного учреждения и у служащих вообще,— в меру постоянства,
прочности контингента этих групп *.
Никакого языкового разнообразия нельзя предположить у
лиц свободных профессий, или «хозяев», или кустарей. У торговцев
должны быть отличительные «профессиональные» языковые
элементы, особенно ввиду большой устойчивости этой группы ?.
Во французской лингвистике находим два крайних взгляда на
лингвистическую ситуацию современного города. Дельво
насчитывает в Париже 284 арго (причем в его списке отдельно
фигурируют, например, argot des imprimeurs и argot des typographes):
«В Париже каждый говорит на арго. Иностранец или француз-
провинциал, отлично знающий язык Боссюэ и Монтескье,— не
поймет ни слова, когда попадает в мастерскую художника или в
рабочую харчевню, будуар кокотки, редакцию газеты или даже
в бульварную толпу. Во Франции говорят по-французски, но в
Париже слышится арго, притом меняющийся от квартала к
кварталу, из улицы в улицу. Сколько профессий, столько жаргонов» 3.
Это ненаучное суждение досужего наблюдателя. На
противоположной точке зрения стоит, например, Л. Сэнэан:
«Разные профессиональные классы когда-то имели каждый
свой специальный язык, насыщенный арготизмами:
кровельщики, каменщики, жнецы, шелкоделы, сукноделы, льно-
чесалыдики, каменоломы, землекопы...
Это были настоящие жаргоны, т. е. тайные языки —доступные
только профессионалам, членам замкнутых цехов. Такое положение
1 Тут надо отметить текучесть личного состава фабрик и учреждений.
Например, на заводе «Балтвод» за 10 месяцев 1927 г. ушло 1000 рабочих, принято вновь
1500 чел. На фабрике «Рабочий» из 5000 чел. за год сменилось 1600, т. е. около
30%.
«Вечерняя красная газета», № 256 от 22/IX 1927 г.
2 Отмечу поразительную живучесть, например, рыночного зазыва. На одном
из ленинградских рынков мой ученик записал зимой 1927 г.: «Ай да мясо... Сам бы
ел, да деньги надо». Ср. у Достоевского, «Записки из Мертвого дома», с. 332 (изд.
ГИЗ, 1927): «Калачи, калачи,— кричал он, входя в кухню,— московские,
горячие. Сам бы ел, да деньги надо». Еще раньше это выражение, как «торговое»,
задокументировано Далем (Пословицы русского народа. М. 1862, с. 580. Составление
сборника было закончено в 1853 г.— см. «Напутное», с. 1).
3 Delvau A. Dictionnaire de la langue verte, 1876 (Préface).
181
вещей целиком переменилось с облегчением и
ускорением средств сообщения. А раз бывшие некогда условия
изоляции отпали, последовали сношения разных профессиональных
классов, все более и более частые, а вместе с тем и постепенное
смешение языковых особенностей.
Профессии и ремесла теперь уже не располагают специальными
языками, но лишь номенклатурой, технической лексикой, основные
элементы которых проникли и усвоены простонародной
речь ю»^.
И в другом месте: «Мы будем изучать последовательное
отражение этих специальных факторов, разнообразных и многочисленных,
на лексике низового языка (bas-langage), и прежде всего будем
различать при этом две социальные группировки сообразно с тем,
принадлежат ли их представители к легальным классам или они
живут более или менее «на окраине общества» (en marge de la
société).
Само собою разумеется, что мы не будем пересматривать всех
профессиональных классов. В лингвистическом отношении, что
нас здесь и интересует, только небольшое число их оказало
действительное влияние, и среда них армия, моряки, рабочие дали
особенно много... Прибавим, что специальная лексика солдат,
моряков, рабочих принадлежит XIX веку, и что все они
подверглись сильному влиянию воровского жаргона, который, таким
образом, имел возможность разными путями проникнуть в
простонародную парижскую и провинциальную речь».
Я привел такую длинную цитату из книги Сэнэана, так как он
один только и может быть назван зачинателем научной разработки
языка города, и так как, с другой стороны, в этих как раз
положениях он имеет и ряд единомышленников, что заставляет пристально
обсуждать их. Сравните мысль Ш. Балл и: «Разговорная
простонародная речь продолжает свой поступательный ход, тем более
обеспеченный, что он подземен,— он течет как живая вода под
крепким льдом книжного условного языка; затем в один
прекрасный день лед сломан — и шумный поток простонародного языка
заливает недвижную поверхность, возвращая ей жизнь и
движение» 2.
Здесь та же концепция всех типов городского языка, в
противоположность литературному, как одного «простонародного
наречия», или «низового говора» (bas-langage, или, реже, la langue
populaire Сэнэана)3.
1 Sainéan L· Le langage parisien au XIX-e siècle. Paris, 1920, p. 181 et suiv.,
p. 128 et suiv. (Разрядка моя.— Б. Л.)
2 Bally Ch. Le langage et la vie. Paris, 1926, p. 16.
3 Впрочем, следует отметить, что Сэнэан, кроме литературного языка,
крестьянских говоров (patois) и «низового говора», выделяет еще 4-ю категорию
языковых явлений в объеме понятия национального французского языка: это la langue
générale — «разговорная речь французской буржуазии». Здесь очень существенное
преимущество перед другими классификациями.
182
Я задержусь на критическом обсуждении этого взгляда, так как
он легко может быть неверно понят и дурно использован.
Сэнэан, как мне кажется, очень упрощает эволюцию арго и
несколько забегает вперед по линии намеченного пути их развития.
Трудно сейчас обсуждать вопрос о том, насколько замкнуты и
разобщены были профессионально-групповые арго до начала XIX в.
Мы располагаем слишком недостаточным и неопределенным
материалом. Сближение и даже как бы «слияние» ряда арго в новейшее
время обусловлено не столько «развитием средств сообщения»
(Сэнэан), сколько превращением бродячих разбойных банд,
бродячих ремесленных артелей в оседлые, в качестве постоянных групп
городского населения. Именно рост больших городов
поглотил и продолжает поглощать все «не крепкое на земле»
население страны. Иные условия общения здесь, конечно, отразились
на составе арго и характере их взаимоотношений. Если раньше
малоизвестные иностранные языки (как древнееврейский,
новогреческий или цыганский) и крестьянские диалекты были основными
источниками для их пополнения, то теперь к этому прибавилось
влияние литературного языка. Особенно обширный вклад его —
техническая терминология, использованная вне собственного и
прямого применения, т. е. за рамками профессии,— в смысле
времени и места пользования этой терминологией и в смысле
социальной базы такого словоупотребления.
Заимствования из крестьянских диалектов (словарные и др.)
тоже не прекращаются в новых условиях развития арго — в
больших городах, так как все увеличивается приток пролетаризуемых
крестьян, пополняющих и армию, и рабочий класс, и немалую
группу деклассированных. Однако теперь деревенские диалекты
отражаются в арго совсем иначе, чем в древности. Тогда они служили
знаковым материалом для «свободного
словопроизводства» (термин Esnault'a) в целях создать тайную
речь; теперь они просачиваются вполне непроизвольно, как
незамещенный пережиток первичных языковых
навыков — материнского языка некоторых групп городского
населения.
Изменилось и взаимоотношение арго с литературным языком
(и ближайшим к нему типом разговорной речи «образованных»).
Прежде арго были запрещенными диалектами, и литературные
языки были ограждены от их воздействия предубеждением —
«стыдливостью» или презрением к ним высших классов. Новое положение
вещей удачно охарактеризовано Марселем Коэном 1т. «Уничтожение
каст, упадок тайных обществ, вполне открытая организация даже
революционных объединений, стремление классов через схватки и
потрясения к слиянию — вот современные условия, вполне объяс-
1 Cohen, Marsel. Notes sur l'argot.— «Bulletin de la Société de Linguistique de
Paris». T. 21, fasc. 2. Paris, 1919, p. 141.
163
няющие проникновение арготического материала в общий
(французский) язык».
От изоляции языковой (как и всякой другой) мы уже далеки,
но и от единства еще тоже далеки. Усилившийся взаимный обмен,
большая однородность источников пополнения при растущей
солидарности городского населения неизбежно приведут, конечно, к
образованию однотипного разговорного языка города,
параллельного, но не совпадающего с книжно-литературным. Однако пока еще
отчетливо различимы системы разговорной речи у городской «вер-
хушки» ^(б°лее устойчивой) и городских «низов» (прежде всего
чернорабочих, группы наиболее текучей). Да и кроме этих
полярных речевых типов, намечаются даже сейчас (при совершенно
ничтожном еще материале по городскому языковому быту) несколько
обособленных арго (воровской, морской) как у нас, так и в
больших городах Запада. Работа Сэнэана, из которой выше приведено
оспариваемое сейчас положение х, убеждает в этом в полной мере.
Дав в начале книги малоудачную попытку вывести общие
фонетические и морфологические признаки всех парижских арго (как
единого bas-langage), Сэнэан в дальнейшем делает обзор арготической
лексики в порядке социологической классификации (солдаты,
моряки, рабочие, апаши, босяки, шулера, комедианты, проститутки
и т. д.), и тут оказывается, что даже при доминирующем у него
интересе к лексическим совпадениям словарный состав арго разных
социальных групп является очень разнородным. Дальнейшее (об
источниках и аналогиях в структуре разных арго) нисколько не
ослабляет этого основного впечатления от его материала. Так же
мало «сливаются» и немецкие арго, как можно судить по работам
Гюнтера и Клюге ?.
Даже и большие города еще на перепутье от языковой
раздробленности к широким объединениям.
6
Кто исходит при изучении арго от литературного языка как
нормы, тот, конечно, не может признать их за самостоятельные
языковые системы. И безразлично, исследуют ли при такой точке зрения
совпадения с литературным языком или ρ асхождени я,—
получается, да только и может получиться, учение о
«паразитических» языках (Коэн). Не получается особого объекта
лингвистического исследования и при разрозненном изучении истории
арготических слов (Гюнтер, Клюге и др.), хотя такое изучение, как
и выше указанное, сравнительное, методологически как будто
вполне законно. Но возможна и необходима еще третья точка
зрения на арго — так сказать, не сверху вниз, а снизу вверх. Выдавая
1 Sainéan L. Le langage parisien au XIX-e siècle. Paris, 1920.
2 Giiniher L. Die deutsche Gaunersprache. Leipzig, 1919; Kluge Fr. Deutsche
Studentensprache. Strassburg, 1895; Kluge Fr, Seemannssprache. Halle, 1911,
184
арго за паразитическую наслойку, мы тем самым предполагаем,
будто говорящие на арго могут говорить и на литературном языке,
но в силу тех или иных обстоятельств отталкиваются от
нормального языка. Иначе говоря, предпосылкой этого взгляда является
представление о двуязычии с литературным языком
в качестве первого и основного
компонента.
Когда называют арго или жаргоном неумелое употребление
литературного языка, неполное им владение в промежуточных
группах городского населения (как, например, у некоторых героев
Зощенко), то делают по меньшей мере терминологическую ошибку.
Ряд индивидуальных языковых неологизмов (в результате
смешения основного для данного лица диалекта со вторым, мало ему
известным) не может быть признан, конечно, ни самостоятельной
лингвистической системой, ни арго, так как в этом случае нет никакой
«условности», обобществленности и, главное, нет дублирования
терминов, второго языкового ряда. Эти индивидуальные
неологизмы по большей части незаменимы, выражают в намеке
какие-то смысловые новообразования и могут послужить
источником пополнения арго, как и литературного языка, но не относятся
еще ни к тому, ни к другому.
Мне кажется более правильным представление об арго как о
двуязычии, при котором арготический ряд
принимается за основной и исходный; а второй
языковой ряд надо пока считать искомым (а не утверждать, что им может
быть только литературный язык) и во всяком случае
второстепенным.
Ришпэн, пишущий эпатирующую книгу стихов „La chanson des
Queux" (1876) на «чистом» арго, или Бабель, стилизующий одесский
«низовой» говор, не могут быть сочтены за настоящих носителей
арго, а таковыми их должен бы признать, оставаясь
последовательным, Коэн. «Говорящим на арго» должен быть назван именно тот,
для кого литературный или всякий другой знакомый ему тип языка
так же вторичен, затруднителен, необычен, как для Ришпэна,
Бабеля и для нас подлинные арго.
В силу этого взгляда надо будет отвергнуть шаблонный (у
французских исследователей) критерий при суждении о лингвистической
квалификации арго: имеют ли они свою особую фонетику,
морфологию? («Особая» лексика — вне сомнений.) Арго
принадлежат к смешанным языкам, особенно ввиду двуязычия
их носителей. Они имеют свою фонетику и морфологию, хотя и
не «особую», не оригинальную. Но принципиального отличия от
литературных языков (всегда тоже смешанных) тут нет, есть лишь
относительное, количественное различие.
Фонетические и морфологические элементы арго, так же как и
словарные, в отдельности могут быть сведены к разным
первоисточникам (для них подыскивают аналогии или эквиваленты то в
литературных языках, то в каких-нибудь диалектах), однако нигде не
185
может быть указана такая же или подобная совокупность
элементов и структура их. Языковая система арго
только тогда и может быть названа «частичной» (Коэн), т. е.
недостаточной, если за арго принимать лишь ряд отличий от литературного
языка.
Тут Ришпэн или Бабель оказались более проницательными
наблюдателями и более добычливыми лингвистами, чем Коэн, Сэн-
эан и др., потому что ощутили и показали именно системность
и полноту арго (хотя и не могли воспроизвести ее в полной
неприкосновенности по совершенно понятным основаниям).
Французские лингвисты ввели различение ар>го и специальных языков.
Черты различия сформулированы М. Коэном в цитируемой статье.
Однако с ним трудно согласиться.
Арго не совпадает со «специальным профессиональным языком»
не потому, что в нем слова оказываются потенциальными
синонимами к другим каким-нибудь и не единственными незаменимыми
наименованиями, а потому, что никаких «специальных
профессиональных язык о в» нет — есть лишь специальная профессиональная
терминология в литературных и других языках х, тогда как арго
является равноправным со всяким другим смешан н ы м я з ы-
к о м более или менее обособленного коллектива, притом всегда
двуязычного. Социальная (а не индивидуальная) природа арго, его
системность и устойчивость (наличие особой «нормы арго»)
являются его важными признаками.
Вопреки Коэну и Сэнэану, необходимо отграничить арго от
«словесной игры», вернее, «словесного маскарада» школьников и
торговцев (loucherbem французских мясников и др.), состоящих в
механически-однообразном искажении всех или некоторых слов, при
неприкосновенной верности в остальных элементах нормальному
языку, так как здесь нет никакого двуязычия,, а лишь условное
использование данного языка в очень специфической функции, как,
например, в поэтических формах терцин или сонета. Из-за
отнесения этих явлений к одной категории с воровским и прочими
жаргонами и получилось несостоятельное определение понятия арго у
Коэна. Только известная речевая система, притом имеющая
значение основной, первой для какой-нибудь социальной группы,
может быть названа арго. В отличие от крестьянских,.диалектов и
литературного языка, она всегда имеет параллельный языковой
ряд, тесно связанный и во многом совпадающий с первым.
Мы видим специфический признак арготического
двуязычия в неотчетливом разграничении, вернее, неполном
выделении второго языкового ряда. С одной
1 Необходимо критическое отношение к этой повторяемой антитезе арго и
специальных языков, так как они теснейшим образом связаны в языковом быту
города, и теоретическое разграничение, не бесполезное, конечно, имеет вполне
абстрактный характер; ведь мы еще очень далеки от такого совершенного знания
арго, при котором- можно бы было утверждать, что у данного· профессионального
термина нет синонима- или чтсюн употребляется только в своем «точном» значения.
186
стороны, в арго постоянно включаются элементы второго ряда
(обычно такого, который имеет большее социальное значение,
приобщает к более широкому кругу), с другой — ряд элементов его
непереводим, т. е. носители арго не знают эквивалента из другого
ряда. Пример. Обследуя в лингвистических целях фабрику
«Печатный Двор», я нашел в книге личного состава пометку «уволен за
балду». Все, к кому я обращался за объяснением, смущались и не
совсем охотно, с большими затруднениями объясняли фразу, явно
неточно и неудачно. Один: «Значит, трепался, с мастером что ли
ругался»; другой «Лодырничал или на работу пьяным выходил».
Еще пример. На улице подростку попало от другого, постарше;
уходя, он кричал: «Заимел свиную кожу и задается, паразит».
Если бы я предложил как перевод на литературный язык: «Ишь,
раздобыл кожаную куртку и важничает, подлец», то, может быть,
я и приблизился бы к значению этой фразы, но не больше, чем сами
носители арго при истолковании предыдущего примера.
Точных эквивалентов тут нет уже хотя бы потому, что
арготические словечки и конструкции часто имеют такой эмоциональный
и волевой заряд, какого литературные языки не имеют ни для кого,
а уж менее всего для говорящих на арго. Совпадения с
литературным языком в некоторых элементах лексического состава (свиной,
кожа, паразит) в то же время оттеняют обособленность арго
совершенно нетождественным значением этих элементов.
Когда мы будем располагать большим соответствующим
материалом, то вторым языковым рядом городских арго, может быть, и
окажется некий «низкий» общий разговорный язык (я бы назвал его
«городским просторечием»), который довольно безуспешно (путем
«критики текстов») пытался определить для Парижа Сэнэан. Одно
ясно, этим искомым не окажется литературный язык в собственном
смысле термина 1.
1 Только что вышла книга проф. А. Селищева «Язык революционной эпохи.
Из наблюдений над русским языком последних лет. 1917—1926» (М. 1928). Давая
ценные материалы, она не представляет никакого «этапа» в разработке нашей темы,
так как остается в русле оцененных выше традиций. Новшества, внесенные в
«русский язык войной и революцией» {обнаруженные по очень спорному
субъективному чутью, часто и очень не новые «новшества», во всяком случае, не периода «1917 —
1926»), так и рассматриваются под знаком «русского языка» вообще. Большинство
фактов, приводимых в отдельных параграфах книги, относится к литературному
(книжному) языку, некоторая часть относится к литературной разговорной речи,
кое-что наблюдено и во внелитературных говорах, но не только городских, а и
деревенских. Ценность материала в том именно, что он почти всегда довольно точно
приурочен и хронологически и территориально или социально. Но план книги,
классификации материала отходит от неприемлемой уже рутины только в том
отношении, что после ряда глав, трактующих о русском языке вообще (II—VI), и
перед главами о новшествах в деревне (тоже «вообще») и в языках нацменьшинств
(VIII—IX) вставлена главка, весьма краткая и скудная — «Языковые новшества
на фабрике и заводе» (гл. VII). Но и в этой главе мы имеем только отрывочные
указания на совпадения и искаженные аналогии с литературным языком, да на
влияние воровского жаргона (особенно у молодежи); последнее, впрочем,
иллюстрируется перепечаткой отрывка из «Комсомольских рассказов» Колосова (М., 1926).
Относительно мало в книге непосредственных наблюдений и записей- Преобладает
187
Итак, мы стоим перед большими трудностями в изучении
городских арго. Ряд словесных знаков и формальных категорий
повторяется в нескольких языковых типах, но, одни и те же для
поверхностного взгляда, эти языковые элементы каждый раз являются в
иной функции в силу принадлежности к разным системам речи; они
осложнены специфическими семантическими и стилистическими
признаками, уследимыми только в полноте контекста, а иногда
даже только во всей бытовой ситуации данного лингвистического
факта (как в приведенном выше примере).
Таким образом, центр тяжести исследования в силу этих
особенностей материала должен переместиться. Интерес и полезность
сравнительно-исторических разысканий о словарном, формальном и
звуковом составе городских арго нельзя отрицать. Они необходимы
как подготовительная стадия изучения. Но на них нельзя
остановиться. Меж тем даже для старейших литературных языков
системные сочетания и соотношения элементов, их функциональное
осложнение очень мало разработаны, исследования в этом направлении
требуют методологической изощренности и отменного знания
материала.
Одна из трудностей при изучении языковой системы арго,
как было указано,— в чередовании арготизмов с элементами
другого, более общего языкового ряда. Еще большую трудность
порождает постоянное «отталкивание» от этого ряда, т. е.
подразумевание его. Вот две реплики из записанного мной разговора двух
рабочих в трамвае:
1) «Ты где теперь работаешь?»
2) «На Марсовом Поле... нанялся потолки красить».
Оба хохочут.
Для постороннего — тут нет никакого арго, слова на месте и
смысл какой-то есть. Условное значение 'я безработные дано тут
осложненным несколькими семантическими «обертонами»,
возникающими именно из сопоставления арготического значения фразы с
«общим» (или «прямым»): Марсово Поле — когда-то арена
деятельности и убежище стоящих вне закона, потолки красить —
специальность, с которой не разживешься, наконец, потолки Марсова
Поля — небо. Отнимите значение ' безработный*, и осмысление
втой фразы пойдет совсем иными путями (потенций остается
много). Отнимите обычные значения использованных слов с их
побочными возможностями, и весь «букет» арготического юмора
исчезнет1.
Так мы обнаруживаем здесь еще и элементы речевой эстетики.
Этим примером я закончу статью.
«книжный» материал, особенно беллетристический, без минимальной и совершенно
необходимой критики источников. Для автора, кроме литературного языка и
крестьянских диалектов, нет никакой третьей категории языковых явлений.
1 Можно видеть в этом каламбуре рабочего проявление индивидуального
вкуса. Известны, шаблонны другие иронические эвфемизмы слова безработный:
«служу у графа Ветрова», «в рукопротяжной работаю».
188
Задачи и характер исследования в области нашей темы, мне
кажется, намечены. Сложность его и богатство материала едва ли не
очевидны.
1928 г.
15. К ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ГОРОДА
(НЕСКОЛЬКО ПРЕДПОСЫЛОК)
1
Разработка «социологической лингвистики»
(или «лингвистической социологии») с недавних только пор ведется
во Франции и Германии и почти не начиналась еще у нас ί.
Больше всего «научных заготовок» для нее сделано в этнологической
диалектологии последнего полустолетия. Литературные языки с
этой точки зрения не разрабатывались, хотя в науке о них
накоплено попутно много ценных данных именно социологического
порядка (например, в работах акад. Шахматова по русскому языку).
Мало материалов и почти нет исследований по всем — кроме
литературного — «говорам города». Этот последний пробел,
мне кажется, более всего и задерживает развертывание стоящих на
очереди работ по социологической лингвистике.
Применительно к современным явлениям (оставляя пока в
стороне генетические проблемы) центральной темой этого нового
направления в языкознании будет состав и структура
языкового быта города.
Только вслед за ней может быть широко и достоверно
трактована вторая тема — о языковом взаимодействии города и деревни.
Может показаться, что последний вопрос давно уже поднят был
лингвистами, но от рассмотрения «отношений литературного языка
и народных диалектов» до нашей второй темы — большая дистанция,
еще не пройденная.
Литературные языки генетически связаны с городом, но они
давно уже «выросли» из этой своей колыбели, и настолько, что не могут
заменять или представлять собою языковую культуру города.
Издавна и до сих пор они остаются еще достоянием одной только
«верхушки» городского коллектива. С другой стороны, они не
замкнуты пределами одного города или только городов, с тех пор как
сделались государственными, а некоторые, в дальнейшей
экспансии, «культурными», т. е. надгосударственными, международными.
Но и в этих фазах «обобществления» литературные языки
неотрывно связаны с первоосновой своего развития и распространения —
1 См. очень сжатый и не совсем полный обзор литературы вопроса у М. Пе-
терсона «Язык как социальное явление».— «Учен. зап. Ин-та языка и литературы».
Т. I. M.—Л., 1927, с. 5—22.
189
со сложным и богатым языковым бытом большого города или
нескольких больших городов родины 1.
Нельзя понять эволюции и судеб литературного языка, пока к
этому материалу не применены социологические принципы
исследования. Нельзя приступить к социологическому истолкованию
литературного языка, пока не изучается его непосредственная
лингвистическая среда, т. е. остальные типы
письменного языка и все разновидности
разговорной речи городского коллектива.
Ведь даже так называемая «литературная» разговорная речь
(образованных) обследовалась очень мало, исключительно у языков
международных,— почти только для практических целей, иначе
говоря — не изучалась, а лишь ненаучно и неполно описывалась ?.
Остальные «городские говоры» представлены в беспорядочных
коллекциях языковых раритетов и резких отклонений от литературного
языка. Между тем это необходимое среднее звено между
диалектологией деревенской и учением о литературно-книжном языке.
Таким образом, ясно, что именно отсутствие в научной традиции
«диалектологии города» обусловливает и явно ощутимую задержку
разработки культурно-исторических вопросов языковедения и
отсутствие систематических работ по социологической лингвистике.
Я не буду выяснять здесь причин этого запоздания с
постановкой и разработкой вопроса о «языке города», так как это сделано
в другой моей статье (см.: «Русская речь». Новая серия. Кн. III)3.
Займемся выяснением некоторых особенностей языкового состава и
языковых взаимоотношений в городском коллективе.
2
Богатство и разнообразие во всех сферах жизни присущи
большому городу. Массовость и напряженность борьбы на разных путях
человеческой деятельности — второе свойство города.
От этих кардинальных признаков можно отправляться и к
лингвистической характеристике города. Языков здесь всегда много,
сожительство их едва ли когда-нибудь можно было назвать мирным.
Содержание лингвистической истории большого города — в борьбе
языков, отражающей непрестанное столкновение и скрещение в нем
разнородных культур.
Всякая устойчивая социальная группа — помимо всех других
условий своего образования — объединяется общностью языка, на-
1 Показательны в этой связи жалобы писателя-эмигранта на омертвение
русского литературного языка в зарубежных русских колониях (Тэффи. Танго
Смерти. М., 1927).
2 О французской разговорной речи указанного типа много научных сведений
в работах: Bally Ch. Traité de stylistique française, I—II, и др. Об итальянской —
Spitzer, Leo. Italienische Umgangssprache. I. Bonn und Leipzig, 1922. О немецкой —
Wunderlich H. Unsere Umgangssprache. Weimar — Berlin, 1894, и Meyer H. Der
Richtige Berliner in Wörtern und Redensarten. 9. Aufl. 1925.
9 См. в настоящем издании с. 175.
190
личием, кроме других (индивидуально разных), одного общего
языка. Тесная и длительная солидарность не может осуществляться
без этого. А с другой стороны — только при противопоставлении
или столкновении с иной группировкой обнаруживается
сплоченность коллектива. Язык, таким образом, оказывается всегда
фактором социальной дифференциации не в меньшей
мере, чем социальной интеграции. Мы сильнее даже ощущаем его
организационную роль — поскольку он бывает средством
обособления общественных групп. Именно против
остальных каждая языковая «партия» в городе (как в фокусе
государства) отстаивает «свой» язык, т. е. тот, какой наиболее привычен ее
членам. Одним единственным диалектом располагают разве дикари.
Два диалекта (или больше) в условиях современной
государственности навязываются с той или иной необходимостью каждому.
В силу этого языковое разнообразие города двояко: 1) оно не
только во встрече разноязычных коллективов (будем называть это
многоязычием города), но еще и 2) в многообразии
языковых навыков каждой группы (спаянной каким-нибудь
одним наречием), т. е. в двудиалектности и многодиалектности,—
в зачаточном или совершенном полиглотизме
горожан.
3
Как уже замечено, однодиалектность в строгом смысле теперь
не характеризует и сельское население, по крайней мере в Европе·
Это утверждение не может вызывать никаких сомнений, если
указать, например, на крестьян, принадлежащих к нашим
нацменьшинствам. Но и великорусское крестьянство двудиалектно, так как
пользуется и местным говором, и (хотя в меньшей мере)
общегосударственным языком. То обстоятельство, что последним владеют не
все и не в полной мере, не имеет принципиального значения.
Количественные соотношения тут очень быстро меняются и, совершенно
очевидно, в определенном направлении — к полному равновесию,
а потом и преобладанию общегосударственного языка.
В городе же однодиалектных и вовсе не приходится учитывать,
поскольку речь идет не об индивидах, а о социальных единицах, о
коллективах. Здесь такие индивиды составляют не убывающую
категорию, как в деревне, а вовсе исчезающую. В каждом слое
городского населения, кроме первичного «своего» наречия, необходимо
располагают еще каким-либо универсальным языковым типом,
приобщающим к большой социальной среде. Для «верхушки» — это
так называемые мировые языки. Для «малокультурных» классов —
книжный язык *.
1 Объективным показателем двудиалектности в указанном мною смысле
может служить распространение грамотности.
Так, в Ленинграде грамотных в 1869 г. было: м. 66,3%, ж. 50,7%; в 1910 г.:
м. 85,2%, ж. 64,4%; в 1920 г.: м. 89,3%, ж. 79,7%; в 1926 г.: из 1 590 770 чел.
L91
В городе только ярче обнаруживаются те тенденции, какие
можно наблюдать и в каждой относительно замкнутой области с
разноязычным населением. Иллюстрацией может служить пропаганда
кавказского объединения у акад. Марра: «Утверждаю, что пока у
Кавказа нет одного общего языка, никакие внешние гарантии,
никакая физическая сила не могут сохранить устойчивость
национальных свобод края. Кто даст Кавказу тот общий язык, он и толы о
он будет творцом действительно культурной его свободы.
Без этого единого общекавказского языка для Кавказа
гарантировано в лучшем случае замаскированное лозунгами
духовное рабство» 1. Здесь можно ясно видеть всю силу
дифференциальной тенденции, выражающейся в борьбе за «свой» язык, ибо
весь пафос этой брошюры устремлен против русского языка. А
вместе с тем — на фоне обзора множественности и коренного различия
языков Кавказа (какому посвящена брошюра) — такое осознание
необходимости общего языка как будто должно бы привести автора
к программе всеобщей дву- и многоязычности. Этого мы у него не
находим. Он остается в шорах традиционного «языкового монизма».
Здесь делается попытка убедить читателей в его
несостоятельности.
Вернемся к положению о двудиалектности горожан. Из двух или
нескольких диалектов, знакомых какой-нибудь группе городского
населения, один всегда будет предпочтительным для нее, и потому
естественно, что, примыкая к некой языковой «партии», все
стремятся этому одному диалекту обеспечить наибольшее распространение.
Понятно, что предпосылкой языковой борьбы является
относительная численность приверженцев у разных диалектов. А исход
борьбы определяется — кроме других моментов — культурным весом
диалекта.
4
В меру социальной и культурной значимости каждого из
диалектов борьба может идти или за господство, или за возможность о б о ч-
н о г о существования. И Ьчтом и в другом случае — вторые
диалекты не исключаются из обихода в полной мере. Языковое
господство может принимать формы насильственные при вмешательстве
в языковую борьбу государственной власти в пользу одной сторо-
грамотных 1 225 122, т. е. около 80% в среднем (все эти данные —за вычетом
военнослужащих). См.: Материалы по статистике Петрограда. Вып. 4. Пг., 1921.
Цифры за 1926 г. из публикации в «Вечерней красной газете». Некоторое
понижение последних лет объясняется наплывом чернорабочих.
По предварительным данным переписи 192G г., в городах РСФСР (без Урала,
Крыма и 5 губерний) средний процент грамотных: м. 75,81%, ж. 62,68% (в селах:
м. 52,44%, ж. 27,47%). В Белоруссии города: м. 73,25%, ж. 59,36%, села: м.
50,14%, ж. 21,52%. См.: Культурное строительство СССР, 1927, октябрь.
Диаграммы 32 и 33.
1 Акад. Н. Марр. К изучению современного грузинского языка. Пг., 1922,
с. 4.
192
ны — обочное существование тогда сводится к угрожаемому.
Такова «лингвистическая ситуация» (выражение А. Мейе)
современной Румынии, Польши и дореволюционной России. Однако к одно-
язычию это не приводит. С другой стороны, ни политическое
равноправие языков, ни даже стремление государственной власти
создать более благоприятные условия для развития диалектов
слабейших по социальной и культурной базе — не прекращают языковой
борьбы. О кратчайших путях к четкому размежеванию и мирному
соревнованию вместо ожесточенной борьбы языковых партий
скажем ниже.
В стране с однородной и более или менее централизованной
культурой практическая необходимость в одном общественном языке —
н а р я д у с многими областными и групповыми — так велика, что
он создается даже там, где ему трудно получить преобладание над
сильными конкурентами (например, эллинистический («койнэ»),
и там, где в его пользу не мог оказать давления государственный
аппарат (например, гиндустани в Индии) г.
Варварское вмешательство государственной власти —
запрещение всех языков кроме одного — всегда задерживало процесс
«обобществления» данного языка (в большой исторической
перспективе). Более культурная языковая политика — обеспечение права
на выбор языка за каждой социальной группой («охрана
нацменьшинств») — по существу пассивна, ход языковой борьбы отдается
на волю каких-то стихий или «исторического случая». И здесь
политическая догма в ногу с господствующей лингвистикой — отстает
от языковой действительности.
В традиционном историческом и теоретическом языковедении
прочно держится предрассудок одноязычности социальных групп
(соответственно мнимой одноязычности индивида). Как праязык
восстанавливали, веруя в его единство для больших общественных
объединений далекого прошлого, точно так же и в лингвистическом
обосновании национализма (хотя бы у Потебни) отправлялись от
догмата одноязычности нации; наконец, в силу этого же «суеверия»
языковую ситуацию далекого будущего тоже представляют себе
как универсальное распространение одного языка.
Не удивительно, что при таком выдержанном «единомыслии» в
лингвистике и политическая теория стремится внести в «хаос»
языковой борьбы тот порядок, что каждый диалект приурочивается
к известному коллективу, и власть стремится не допускать насилия
одной языковой партии, достичь идеального равновесия их. Усилия
эти почти бесплодны, борьба и вражда из-за языков продолжается.
Вмешательство власти должно быть сообразным с языковым бытом
1 Здесь надо указать еще раз на громадное значение «дифференциального»
момента, противопоставления себя другим с опорой в языке. Разнородные
этнические и государственные лоскутья Индии тяготеют друг к другу в борьбе с
англичанами. С падением английской силы Индия неминуемо вступит в полосу распада,
быть может, и кратковременного. Едва ли «гиндустани» после этого вернет себе
былое значение.
7 jsfi 5422
193
современных общественных формаций, и в особенности передовых —
городских. Двудиалектность и многодиалектность, зачаточный и
совершенный полиглотизм широко здесь распространены. По мере
того как явления этого порядка будут обследованы и учтены,
перестроятся многие лингвистические теории (литературного языка и
др.). А в политической практике неизбежна правовая и финансовая
поддержка всеобщего двуязычия и потенциального полиглотизма.
В государствах со множеством языковых партий проведение
двуязычия с одним постоянным и вторым переменным диалектом — от
школы до армии (и, конечно, в государственном аппарате) —
абсолютно необходимо. В частности, наша ближайшая задача —
всеобщая грамотность на двух языках.
Языки в культурном и социальном отношении невесомые
обречены исчезнуть, какие бы меры для их сохранения ни принимались,
так как они тормозят хозяйственное и культурное развитие своих
носителей, ведут к их изолированности и отсталости. Но это
выключение из обихода какого-нибудь диалекта возможно только после
переходного периода двудиалектности (так происходит
«вымирание» бретонских диалектов во Франции, баскских в Пиренеях,
лужицких в Германии, кельтских в Англии, в нашем Союзе йиддиш'а
(еврейского жаргона) и др.).
5
Как ясно из предыдущего, тремя основными факторами
определяется судьба языка: культурным весом, характером социальной
базы и вмешательством политических сил. Когда все они действуют
в пользу одного языка, то он быстро и прочно выдвигается как
постоянный при переменных вторых (и третьих). Таково положение
французского литературного языка в многоязычном Париже и во
Франции (многодиалектной и многоязычной), нововерхненемецкого
в Берлине и Германии, русского литературного в Москве,
Ленинграде и т. д.
Почти такова же лингвистическая ситуация в тех городах, где
правительственный и наиболее культурный язык получил
преобладание над массовыми местными («низовыми») диалектами; в
составе населения таких городов большинство принадлежит к
ассимилированным (прошедшим уже через стадию двуязычности). Такова
история латинизации или романизации городов (и гораздо позже
деревень) Западной Европы и распространения испанского языка
в городах Мексики и Южной Америки, английского (через города)
в Северной Америке. Этим же положением объясняется стойкость
французского языка в Бресте и Биаррице, русского в Одессе и Уфе
(даже и теперь еще, когда переменился язык правительства для
последних двух городов).
Если же указанные основные факторы действуют перекрестно
или друг против друга — языковая история города оказывается
сложной, преобладание или переходит от одного диалекта к друго-
194
му, или вовсе не достается никому, наблюдается неустойчивое
равновесие нескольких языков. Примеры — Вильно, где почти
тысячелетие борются с переменным успехом литовский, русский, польский;
Страсбург — с немецким и французским; Константинополь — с
греческим и турецким; Самарканд и Ташкент — с узбекским и русским;
Триест и др.
Будущее принадлежит именно языковой ситуации этого
последнего типа, только с четким размежеванием языков и полным
прекращением языковой борьбы, т. е. уравновешенному и всеобщему поли-
глотизму.
Исторические перемены языка в стране, т. е. распространение
нового как второго языка в ряде коллективов, начиналось всегда с
городов. Однако только большие города бывали и будут базой
всяких широких культурных объединений, а села и ^деревенские
города» остаются главным оплотом культурной и языковой косности и
разобщенности. Пока еще не совершенная и не всеобщая многоязыч-
ность горожан рано или поздно послужит к освобождению от
языковой «партийности» (сущности национализма) ради культурной
свободы и широкой солидарности. Ослабить и целесообразно
использовать дробящие и разрушительные силы языковой борьбы
можно будет только тогда, когда, отказавшись от «догмы одноязыч-
ности» (как отказались от языковой «великодержавности»), будут
пропагандировать полиглотизм λ и доводить до конца существующее
давно в языковом быту города двуязычие — через реформу
школьного преподавания 2.
Вражда из-за языка — как религиозные войны — скоро станет
тяжелым историческим воспоминанием, а национализм (как
религиозный фанатизм уже теперь) потеряет свою силу в культуре
будущего.
6
Наивно представление о будущем солидарном человечестве с
одним «мировым» языком (если даже речь идет не об одном из «идо»).
Это пережиток деревенского, захолустного языкового кругозора.
Наследие и тяга к своему сельскому, феодальному прошлому очень
еще велики во всех сферах культуры горожан 3. Они неотвратимо
изживаются в некоторой очередности. Сейчас, например, для
больших городов Союза пришла пора выйти из одноязычное™ во всех
смыслах — ради назревающей необычайно широкой солидарности
разнокультурных коллективов.
1 Теперь я могу указать на появившийся газетный призыв к изучению
иностранных языков акад. Карпинского, Луначарского и др., а также статьи проф.
Щербы и проф. Шишмарева на эту тему в «Вечерней красной газете».
2 Перекрестные связи языковых коллективов через немногих «толмачей»,
как это ведется со времен берендеев и доныне, достаточны только при очень слабой
интеграции их, при поддержке «перегородок» отчужденности.
3 И не только русских (в этом я расхожусь с Н. Анциферовым. Ср. его «Пути
изучения города как социального организма». Л., 1925, с. 14—19 ел.).
7*
195
Ведь мы не можем рисовать будущее в формах феодальной или
мелкобуржуазной областнической культуры. Как же допускать и
предположение об единственном языке! Это две грани
одной культурной стадии. Для распространения одного «мирового»
языка необходимо было бы и совершенно невероятное исчезновение
многих мощных по социальной и культурной базе языков, и
настолько же невероятное одноязычие высококультурных и
космополитических коллективов.
На пути к общечеловеческой солидарности (в некоторых
областях культурной жизни уже осуществляемой) мы должны
пристально и широко изучать быт больших городов, где она выковывается,
и активно поддерживать все ведущие к ней тенденции. Одна из
важнейших — распространение многоязычное™.
Лингвистическое изучение больших городов — в самых
начатках. Однако и теперь уже видны основные процессы: таяние
мелких и небогатых культурой языковых групп, расширение
билингвизма, увеличение категории полиглотов. Выживают, как
претенденты на универсальное употребление, только немногие,
но число таких языков увеличивается. Сперва только испанский,
французский, английский, потом немецкий, итальянский, русский,
а в будущем, вероятно, еще один из турецких, индийских и
китайский (графически общий) — каждый со своей сферой
преимущественного употребления, но без линейных рубежей, с полосами
уравновешенного сосуществования *.
7
Любопытный пример разрешения языкового соперничества дает
Финляндия.
Многовековая борьба двух культурных коллективов —
шведского и финского — обострялась и приобретала все новые силы от
параллельности между языковым и социально-экономическим
делением населения. Крестьянство почти сплошь финское, а знать,
буржуазия и большинство бюрократии шведские2. По данным
1900 г., говорящих по-фински было 88%, по-шведски— 11,6%,
приче^ в городском населении шведы составляли до 25% , в
сельском до 9% . Почти столетие финны добивались политического
равноправия для своего языка. Сперва он был введен в судебном и
административном производстве (с 1886 г.), потом в учебном деле
(в университетах с 1894 г.) и, наконец, в армии, как обязательный
второй, параллельный язык. Наиболее культурным слоям и той
и другой «нации» давно свойственно употребление двух этих
языков. Современное положение один из авторитетнейших финских
лингвистов, проф. Сетэлэ, изображает так: «Финская нация распо-
1 Испанский и французский заметно теряют свой вес, английский, возможно,
сохранит его в своей американской формации.
2 Аналогичны были отношения на Украине и Белоруссии между панами —
поляками или русскими и холопами — украинцами и белорусами.
196
лагает двумя наречиями. Эта ситуация имеет неудобства, но и свои
преимущества. Кто знает два языка — служит посредником между
Финляндией и Скандинавией... Патриотическое сотрудничество
шведоязычных граждан с финноязычными, соревнование без
малейшей отчужденности — будет лучшей гарантией для шведского
языка, который сможет беспрепятственно продолжать свое «цивилиза-
ционное дело» г.
8
У нас языковая ситуация пока остается очень мало
соответствующей той тяге к мировым масштабам, какая отличает эпоху.
Несовершенная постановка изучения «вторых» языков,
невысокий средний уровень культуры, а отсюда не широкие и не
напряженные взаимоотношения
разноязычных мае с?,— все это объясняет характерную для нашего
времени (и в особенности для нашей страны) неполноту и
неотчетливость знакомства с параллельными языками. Пересмотрим ряд
примеров — и тут каждый читатель припомнит еще множество
известных ему подобных языковых фактов (воспроизвожу их с
дипломатической точностью) 3.
1) Из речи на публичном диспуте о постановке «Ревизора» в
театре им. Мейерхольда: «Мы жив'ём в очэнь тяжолые врэм'я со
ерэтетвами 4... Я не знаю, куда он ыдёт, т. Мэйерхольт. Зачэм эти
пастанофкы ыс шкафамы ыс корэльской берозы» 5.
Говоривший это — одессит и в русском языке — самоучка.
Наша общая языковая невзыскательность делает возможными
подобные публичные выступления.
2) Ответ студента I курса нашего педвуза на анкету с вопросом
об отличиях его материнского диалекта от литературного языка:
«Н..., зырянин-крестьянин, ок. шк. II ст. Наш литературный язык
возрождается еще, т. е. определенного нет, напишу некоторые
русские слова, которые употребляются в зырянском языке, но их з н а-
чений переведенное чисторусский язык
другое или окончание измененное.
пойдешо — пойдеш (ед. ч.) или пойдемте (мн. ч.)
огашли — огасли
1 Setälä Ε. La lutte des langues en Finlande. Paris, 1920, p. 31—32.
2 Далеко не целиком даже «верхушка» отдельных наших республик двуязыч«»
на, а меж тем на ней лежит ответственная задача установить и упрочить
культурные связи своего района — сперва внутри Союза, а потом и за пределами его.
3 В предупреждение возможных недоразумений замечу, что цитируемые ниже
мои материалы должны свидетельствовать о наличии в разных слоях нашего
современного городского населения разносоставного билингвизма — иногда
совсем эмбрионального, иногда не окончательно упорядоченного. Если бы общее
внимание было сосредоточено на этом несовершенстве усвоения того или другого
языка, если бы всеобщая двуязычность была осознана как одна из первых и
необходимейших социальных потребностей, то явления, подобные указанным здесь
мною, быстро перевелись бы.
4 Переживаем период больших финансовых затруднений.
* Имеется в виду дороговизна постановки.
197
яблок — яблоко
обук — тупой человек
кушань — кушай».
3) Другой ответ на ту же анкету: «Ф.— латыш, отец рабочий
(учился) 1915—1920 Москве 1920—1926 г. Риге. H a латышском
литерат. яз. есть большая различие между
материнским. Есть уезды где говорят таких слова
которые давно изчезли как, напр. Ziergs sieris, duris и даже и н τ у-
нация других буква изменяется
окончание большое часть на материнском стречается
а, е, а литерат. больше iy α».
В этих двух случаях — изучение второго языка велось в школе
на протяжении ряда лет, и это, как видим, дало результат, немногим
отличающийся от чисто изустного («бытового») обучения ему. Во
всех трех случаях неоспоримо было стремление пользоваться
отчетливо отграниченным, нормализованным русским языком.
4) Ответ на ту же анкету студ. Р. «[Родн. яз.]
белорусско-русский. Родители мои являются представителями народа, который
носит с собой название белоруса. Некоторые утверждают,
что название это «белорус» присуще, как моим
родителям, так и целой области (в последнее время
одной из республик СССР)».
5) Ответ студ. С: «Орловской губ. Под частую мы
встречаем самое ужасное искажение русского языка... Напр. вместо
есть говорят шамать, жрать,.. Но этот выше
перечисленный диалект находит себе отличие по мере
приближения к центральным городам и в частности к
Ленинграду, здесь более диалект отличается
тем, что столица говорите большим пафо-
с о м...»
В последних двух текстах, вследствие близости компонентов
двуязычности, «погрешностей» гораздо меньше; они не в
орфографии, морфологии и синтаксисе, а в словоупотреблении, т. е. в
лексике и стилистике.
6) Учитель-оратор на педагогической конференции в Киеве:
«нужна извесных предпасылак» (под влиянием
подразумевавшейся украинской конструкции с треба).
7) Другой оратор там же: «в чом в л а с н а я сущность вопроса».
8) Преподаватель Киевского ин-та нар. обр. в докладе,
читанном в Ленинграде: «Госиздат выдал (= напечатал, издал) нам
несколько книжек... Она есть колоссальным факто м...»
9) Доцент ЛГУ на заседании предметной комиссии говорит:
«У меня у секретаря подана» [заявка о читаемых KypcaxJ и еще:
«отзыв у меня оддан».
В этих примерах (6—9) в контекст одного языка попадает слово
или конструкция из другого диалекта, одинаково хорошо
известного говорящему. Важна здесь принадлежность этих говорящих к
высшему культурному слою. Из последних фактов вовсе не следует
Г98
делать заключения, что вполне отчетливое размежевание двух или
нескольких языков, усвоенных одинаково хорошо, очень трудно
или невозможно. Явлений, аналогичных приведенным, гораздо
меньше, чем случаев безукоризненного употребления того или
другого языка этими же лицами и вообще двуязычными и полиглотами.
Относительное увеличение случаев языкового смешения
объясняется частными условиями нашей современной жизни: новизной
употребления некоторых языков (еще неполным овладением ими),
культурной разнородностью состава общественных группировок
(смешанный язык иногда является приемом приспособления к своей
среде), наконец, отсутствием пропаганды полиглотизма. Если
всякого рода авторитеты дружно прививают убеждение в
необходимости одного только языка, то неизбежно и целесообразно обогащать
его всяческими примесями; только таким путем можно сделать его
универсально применимым. Надо думать, что и теоретические
догмы влияют на языковой быт (и прежде всего в больших городах).
В итоге сделаем несколько обобщений из наблюдений над
городским билингвизмом.
В процессе речевой деятельности при билингвизме два языковых
ряда во многих элементах встречаются, так что термин или форма
одного ряда не имеет эквивалента в другом и употребляется в обоих
как нормально общий им. Это затемнение границы диалектов может
оказаться устойчивым только в среде лингвистически
недифференцированной и малокультурной, где чутье языковой нормы не
поддерживается никакими социальными мерами (что чаще имеет место
в деревне и редко в городе).
Дальнейшим результатом двуязычия в такой обстановке
являются гибридные неологизмы, т. е. такие образования из элементов
двух языковых рядов, которые противоречат в каком-либо
отношении норме и того и другого языка (говорящий этого не может
осознать, конечно, если его среда не дает никакого отпора таким
неологизмам).
При произвольном стремлении разграничить два языковых ряда
получается на данной стадии билингвизма все же не чистая речь в
отношении фонетики и лексики.
Прежде всего достигается формальная грамматическая
выдержанность. Школа и постоянное общение с носителями
нормализованного типа данных языков — ведут к этому. Лучшие условия для
этого опять-таки дает город.
При параллельном распространении двух литературных
языков в коллективе большого города надо ожидать не
усиливающегося смешения их, а все большей дифференциации. Подъем
культурности ведет к упорядочению языкового быта, от языковой бедности—
к накоплению и все более целесообразному употреблению языковых
средств, через скрещение и неотчетливое перемежание языков —
к совершенному полиглотизму.
1928 г.
199
3 ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ
16. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ АКАДЕМИКА Л. В. ЩЕРБЫ
В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
1
Заслуги Л. В. Щербы перед русской наукой и русским
просвещением очень велики. С первых лет своей деятельности он много и
плодотворно занимался популяризацией лингвистики и широкой
научной пропагандой. Еще в 1913 г. он опубликовал перевод (с
дополнениями и редакционной переработкой для русского читателя)
книги Элизе Рихтер «Как мы говорим». На первом съезде
преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях в 1904 г.
он сделал доклад «О служебном и самостоятельном значении
грамматики как учебного предмета».
Всю жизнь он уделял время разработке вопросов обучения
родному и иностранным языкам, организации русской школы — от
первой ступени до университета, и трудно сказать, чем был он
больше увлечен в последние годы жизни — лингвистикой или своим
участием в деятельности Академии педагогических наук и Нарком-
проса. Его помощь строительству советской школы и повышению
качества работы советских гуманитарных вузов была очевидна и
высоко оценена. Он редактировал, шлифовал, дополнял
стабильные учебники русского языка и иностранных языков, много работал
над школьными планами и программами.
В годы полного господства у нас формализма в школьной
грамматике, порой доводимого до абсурда некоторыми московскими
эпигонами фортунатовской школы, Л. В. Щерба в одиночестве сме-
200
ло выступал против этого уклона, вскрывал его методологические
ошибки, призывал к здоровому синтезу методов смыслового и
формального синтаксического анализа. На Петроградском съезде
преподавателей русского языка в 1921 г. он выступил с докладом
«Формальное направление грамматики»; под этим заголовком вышла
его статья в журнале «Родной язык в школе» (1923, № 1).
Начиная с 1915 г., когда Л. В. Щерба написал «Особое мнение
по вопросу о роли языков в средней школе», и после доклада на
Первом Всероссийском съезде преподавателей русского языка
средней школы, состоявшемся в 1917 г. в Москве, на тему «Филология
как одна из основ общего образования» — он до последних дней
жизни был рыцарем филологии, не изменявшим ей в годы самых
больших потерь, унижений и нападок на филологическое
образование. Впоследствии, уже тяжело больной, он продолжал везде, где
это было целесообразно, добиваться восстановления филологии в
средней школе и подъема ее в высшей школе. Эти усилия Л. В. Щер-
бы оказались не безуспешными, хотя многие его идеи, планы и
предложения остались заветом для светлого будущего русской
школы.
2
Большие теоретические проблемы стояли в центре
исследовательских интересов Л. В. Щербы, но это никогда не мешало ему
подолгу заниматься практическими вопросами русского
языка, языковой политики, трудными отнюдь не в
исследовательском плане, а потому и гораздо менее для него увлекательными.
Реформа русской орфографии, а затем не прекращавшаяся до
последнего года его жизни работа над дальнейшей рационализацией
и упорядочением реформированной орфографии проходили при
постоянном участии и все возраставшем влиянии идей и предложений
Л. В. Щербы. Сорок лет назад, в «Русском филологическом
вестнике» за 1905 г., была напечатана его статья «Несколько слов по
поводу Предварительного сообщения орфографической подкомиссии».
В 1911 г. он опубликовал «Дополнения и поправки к «Русскому
правописанию» Я. К. Грота». В 1930 г. в журнале «Русский язык в
школе» он поместил статью «К вопросу о реформе орфографии».
Два года, проведенные в Нолинске во время последней войны,
посвящены были в числе других работ и составлению обширной
«Теории русского правописания» в двух частях.
Как крупный языковед и теоретик, он вносил в разработку
вопросов прикладного языкознания последовательную
принципиальность и большую перспективу громадного научного кругозора.
Книга «Теория русского правописания» (еще не опубликованная
и не совсем закопченная во второй части) представляет
замечательное по замыслу и ювелирно отделанное в деталях произведение
этого выдающегося мыслителя и практика-языковеда. В ней дано
блестящее завершение почина, сделанного учителем Л. В. Щербы —
201
проф. И. А. Бодуэном де Куртенэ в известной работе «Об
отношении русского письма к русскому языку». Ни одна из старейших по
разработке европейских орфографий не получила такого
тщательного, глубокого и систематического анализа и истолкования. В
отличие от работы Бодуэна де Куртенэ, в книге Л. В. Щербы
вскрыта система русской орфографии, дана апология высоких
достоинств некоторых наших орфографических традиций, намечены
пути завершающей кодификации ее. Как и в других работах
Л. В. Щербы, здесьобилыю рассыпаны поучительные и интереснейшие
сопоставления с материалами из истории орфографических норм
многих других языков. Они позволяют как бы осязать закономерную
механику орфографических норм. Для учителя, для студента эта
книга долго будет важнейшим настольным руководством.
Нельзя забывать и о большой помощи Л. В. Щербы в реформах
правописания других народов СССР после Октябрьской революции.
Прежде всего укажу на его руководящую роль на Бакинском
тюркологическом съезде 1926 г., посвященном латинизации
письменности тюркских народов. Там он сделал доклад «Основные
принципы орфографии и их социальное значение», напечатанный в
трудах этого съезда.
Второй большой проблемой в области прикладного
языкознания, которая занимала Л. В. Щербу, была орфоэпия. В 1910 г.
он поместил в «Известиях ОРЯС», т. XV, «Критические заметки по
поводу книги д-ра Фринты о чешском произношении». В 1911 г.
он напечатал «Court exposé de la prononciation russe». Вершиной
в этой области был его доклад 1915 г. в петербургском
Неофилологическом обществе «О разных стилях произношения и об
идеальном фонетическом составе слов» («Записки Неофилологического
общества». T. VjIII. Пг., 1915). Эта работа останется крупнейшей
вехой в истории теоретического осмысления орфоэпии. Научное
открытие Л. В. Щербы сразу прояснило много запутанных
рассуждений, разрешило долголетние, казавшиеся безнадежными споры,
указало пути дальнейших орфоэпических наблюдений.
В 1916 г. Л. В. Щерба изложил на французском языке главные
отличия французской звуковой системы от русской («Краткий обзор
деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за
1913—1914 гг.». Вып. IV, 1916). В 1936 г. в журнале «Русский язык
в советской школе» (№ 5) появилась его заметка «К вопросу об
орфоэпии», а в 1937 г.—первое издание «Фонетики французского
языка. Очерк французского произношения сравнительно с русским»,
которая надолго останется образцовой книгой в изучении орфоэпии.
3
О нормативных научных построениях в области русской
грамматики и словаря Л. В. Щерба размышлял и писал много раз и
сумел поднять престиж нормализации языка, так
скомпрометированной у нас реакционными и невежественными пуристами
дореволюционной поры.
202
Л. В. Щерба подготовил первый том «Нормативной грамматики
русского языка АН СССР», содержащий отдел фонетики.
Редакторская работа тут перешла в авторскую, он почти целиком и заново
написал этот том. Вместе с акад. С. П. Обнорским он начал
редактировать второй том, посвященный морфологии.
Под влиянием Л. В. Щербы руководство академического
Словаря современного русского языка отошло от традиций шахматов-
ского Thesaurus'а и решительно поставило задачей словарного
отдела составление именно нормативного словаря,
отражающего существующие в нашу эпоху системные связи и
противопоставления слов и понятий русского языка с их
социально-стилистической приуроченностью. Сам Л. В. Щерба написал часть
одного из томов этого словаря на букву И (в 1933 г. был напечатан
один выпуск его).
Обобщение своего большого словарного опыта Л. В. Щерба дал
в первой части незаконченной работы «Опыт общей теории
лексикографии» («Известия ОЛЯ АН СССР», 1940, № 3). Эта работа
остается драгоценным наследием Щербы не только в русской, но и в
мировой науке уже по одному тому, что она не имеет предшественников.
В истории русской лексикографии и словари, написанные Л. В. Щер-
бой (русско-французский) или его учениками под его руководством,
и только что названная обобщающая теоретическая работа
являются большим достижением. Зарубежная критика не раз отмечала
блестящее развитие словарного дела в СССР после революции
(Р. Якобсон, Л. Теньер, А. Мейе, Б. Унбегаун и др.). В этом успехе
русских языковедов Л. В. Щербе принадлежит, несомненно,
наибольшая заслуга как теоретическому лидеру. Наше словарное
дело шагнуло далеко вперед не только от своего дореволюционного
этапа, но и в кругу европейской лексикографии,— оно признано
теперь и поучительным и образцовым как в теоретическом, так и в
техническом отношении.
4
Идеи Л. В. Щербы по вопросам общего построения
синтаксиса и системы русского синтаксиса почти не
воплощены в законченных, напечатанных его трудах. Разработка архива
его рукописей позволит полнее оценить значительный вклад его
теоретических исканий в назревшую коренную ломку наших
синтаксических традиций. Известно, какое большое впечатление
оставила его статья «О частях речи в русском языке» («Русская речь».
Новая серия. Кн. 2. Л., 1928), отразившаяся в дальнейших
теоретических работах по русскому синтаксису (прежде всего в
обширном труде В. В. Виноградова «Современный русский язык». Вып.
1—2. М., 1938).
Чаще всего вспоминал и наиболее ценил Л. В. Щерба одну свою
небольшую статью — «О трояком аспекте явлений и об
эксперименте в языкознании» («Известия АН СССР», 1931). Эта статья была
203
декларацией новых теоретических позиций. Она явилась
результатом острого и болезненного кризиса методологии Л. В. Щербы и его
школы. Он нашел пути преодоления идеалистических концепций
французской лингвистики (Фердинанда де Соссюра, Антуана Мейе)
и философски порочного психологизма.
Отчасти продолжая и углубляя материалистические положения
своего учителя — И. А. Бодуэна де Куртенэ, отчасти освобождаясь
от его психологических излишеств, Л. В. Щерба в этой своей
декларации заложил основы плодотворной теории языка как системы,
имманентно содержащейся в социальном опыте и организующей
языковой материал речевого общения,— «как системы,
составляющей величайшее культурное достояние народа».
Л. В. Щерба вскрывает внутреннюю противоречивость понятий
«индивидуальная психо-физиологическая организация», или,
короче, «индивидуальный язык»,— понятия, фундирующего у
крупнейших языковедов старшего поколения (начиная с Германа Пауля
в Германии и кончая Шахматовым у нас). Взамен его Л. В. Щерба
выдвигает, как основополагающее, понятие «языковой системы»,
которое он определяет так: «... то, что объективно заложено в
данном «языковом материале» и что продолжается в
«индивидуальных языковых системах», возникающих под влиянием этого
языкового материала. Следовательно, в языковом материале и надо
искать единство языка внутри данной общественной группы» («О
трояком аспекте...», с. 117).
«Языковой материал» — как третий аспект языковых явлений —
противопоставлен 1) речевой деятельности и 2) системе
языка. Этим Л. В. Щерба снимает антиномию индивидуального и
социального, разоблачает миф-идеал реальной и тем не менее
метафизической сущности языка.
«Языковой-материал» поэтому оказывается первым и важнейшим,
непосредственно доступным объектом языкознания. В
исследовании его возможен и необходим эксперимент, что представляет
важное преимущество лингвистики перед другими гуманитарными
науками. Новым было указание на эксперимент в области не только
фонетики, но и грамматики, словаря, стилистики.
Однако эксперимент возможен без больших ограничений лишь
при изучении живых языков. Он очень ограничен в применении к
мертвым языкам. Отсюда — призыв к изучению в первую очередь
живых языков, к изучению бесписьменных языков, к изучению
языков далеких, неродственных по строю. Иными путями, с иной
аргументацией к этому же положению пришли раньше И. А. Бо-
дуэн де Куртенэ и Н. Я. Марр. Эти теоретические положения не
оставались одной декларацией: Л. В. Щерба много лет деятельно
помогал научной разработке палеоазиатских языков (например,
эвенского, нивхского), а также иранских (таджикского, вершикско-
го), тюркских и др.
«Языковой материал» — в литературных текстах и в записях
разговорной речи, в словарных фондах — был постоянным объек-
204
том его исследований. Менее всего свойственны ему были
замкнутость и отрешенность кабинетного ученого. Неустанно и мастерски
вел он наблюдения над живыми языками.
5
Особенно много сил и времени в зрелый период своей научной
деятельности отдал Щерба диалектологии — сначала итальянской,
потом чешской и лужицкой и, наконец, русской.
В 1940 г. Щерба был поставлен во главе Всесоюзной
диалектологической комиссии, и только война помешала наметившемуся
огромному размаху работ этой комиссии.
Горячий патриот, Лев Владимирович Щерба был чужд всякой
национальной кичливости, великодержавного национализма.
Убежденный франкофил, исключительный знаток немецкой культуры,
он вел пропаганду лучших традиций романо-германской филологии
и лингвистики, он всегда призывал к изучению и максимальному
использованию западноевропейских научных достижений. Но при
этом он больше, чем многие противники «буржуазных влияний»,
якобы оберегающие нас от этой «чумы», верил в одаренность наших
ученых и великое будущее русской науки, русской культуры.
Именно уверенность в наших незаурядных силах и была всегда в основе
западничества Л. В. Щербы.
Он тщательно изучал диалектологическую литературу и
особенно — многочисленные лингвистические атласы
западноевропейских языков: французский и немецкий, итальянский и польский,
швейцарский и каталонский. Он делал доклады о них, пристально
следил за ходом работ по подготовке русского атласа и был самым
суровым судьей, самым взыскательным и придирчивым критиком
наших начинаний, наших первых опытов в области
лингвистической географии.
Еще в июле 1944 г., во время тяжелой болезни, истощившей его
жизненные силы, он руководил работой Диалектологической
конференции по севернорусским говорам в Вологде и, верный своему
основному лозунгу — везде и всегда учиться и искать новых
путей,— провел для собравшихся на конференции опытных русских
диалектологов увлекательный семинар по фонетике; записи этих
десяти чтений Л. В. Щербы, надеюсь, будут опубликованы.
6
Не на последнем месте стояли в кругу его интересов задачи
разработки русской стилистики. И в этой области Л. В. Щерба был
смелым начинателем работ широкого кругозора и дальнего прицела.
В предисловии к первому выпуску «Русской речи», основанного
им органа ленинградских языковедов, он писал: «В истории науки о
языке за последние 50 лет обращает на себя внимание ее
расхождение с филологией и, я бы сказал, с самим языком, понимаемым как
20ü
выразительное средство... Нельзя не признать, что это имело своим
последствием ослабление интересов к языковедению в широких
кругах образованного общества: тогда как в начале XIX века вопросы
языка могли быть предметом обсуждения на страницах
литературных журналов, в настоящее время они почитаются скучными и
чересчур специальными» (Русская речь. Вып. 1. Пг., 1923, с. 7—8).
И ниже: «[Настоящий сборник] ставит своей задачей исследование
русского литературного языка во всем разнообразии его форм, а
также в его основных источниках. В связи с этим главный интерес
сборника направлен на семантику, словоупотребление, синтаксис,
эстетику языка — вообще на все то, что делает наш язык
выразителем и властителем наших дум. А поэтому он адресуется не только к
лингвистам, но и ко всем тем читателям из широких слоев
образованного общества, в которых жива любовь к слову, как к
выразительному средству».
Этот первый сборник открывается статьей его редактора «Опыты
лингвистического толкования стихотворений. I. «Воспоминание»
Пушкина». Тринадцать лет спустя Л. В. Щерба опубликовал
анализ стихотворения Лермонтова «Сосна» (в сборнике «Советское
языкознание». Т. II. Посвящ. В. Ф. Шишмареву. Л., 1936). Обе эти
статьи резко противостоят всей нашей старой литературе по
стилистике, кстати сказать, и до сих пор еще бедной и отсталой.
Анализ стихотворений в плане заостренного лингвистического
и стилистического истолкования, как осуществил его Л. В. Щерба,
остается непревзойденным образцом как по строгости метода, так и
по мастерству изложения. К нашему большому сожалению,
остались W обработанными и не опубликованными этюды Щербы по
стилистике «Медного всадника», «Героя нашего времени», басен
Крылова и Лафонтена.
Дальнейшим этапом этих увлечений Л. В. Щербы была
пропаганда филологического образования, которой, как уже сказано, он
горячо отдавался в последние годы жизни.
Если суждено его идеям найти широкое применение,— это
приведет к новому расцвету русской художественной литературы, как
и литературы других народов Союза, и тогда мы должны будем
помянуть благодарным словом пионера современного
неофилологического образования — академика Л. В. Щербу.
7
Вокруг Л. В. Щербы давно сложилась научная школа. В
большой и постоянной связи с ним вели свою научную деятельность
акад. Б. Я. Владимирцов, акад. А. П. Баранников, В. В.
Виноградов, Л. П. Якубинский, И. И. Зарубин, С. К. Боянус, Я. В. Лоя,
С. Г. Бархударов, О. И. Никонова, Л. Р. Зиндер, М. И. Матусевич,
С. И. Бернштейн, И. П. Сунцова, покойный А. Н. Генко и многие
другие.
206
Чем привлек к себе Лев Владимирович такую плеяду
талантливых русских языковедов? Подобно Бодуэну де Куртенэ, он восхищал
своих учеников острым критическим анализом обветшавших
традиционных догм западной и нашей науки, силой своей творческой
мысли, изяществом и законченностью своих построений,
изощренностью своего стилистического вкуса и такта.
Кто узнал Льва Владимировича в годы его смертельной болезни,
тот не может, конечно, при всем напряжении воображения,
представить себе его в расцвете сил, во всем блеске его педагогического и
исследовательского таланта. Может быть, поэтому ему пришлось
изведать в последние годы не только радость всеобщего признания
и почета, но и ослиное ляганье.
Критика младограмматических теорий была им начата еще в
годы первой заграничной командировки, что и определило
недоброжелательное отношение к нему многих немецких ученых,
сказывавшееся до последних лет. Зрелым выражением его новых воззрений
была книга «Восточнолужицкое наречие», 1915 г. В том же году
вслед за этой книгой вышли в печати «Некоторые выводы из моих
диалектологических лужицких наблюдений». Здесь в лаконической
формулировке даны все важнейшие идеи дальнейших работЛ.В.Щер-
бы. Он остался верен до конца большим открытиям самой
творческой и самой революционной поры своей научной деятельности.
Едва ли не наиболее характерной для него и является
преемственность идей при постоянных размышлениях, при теоретическом
созерцании текущей языковой действительности. Упорно и остро
анализирует он всегда текущий языковой опыт своего народа;
обостренно ощущает живой и наиболее активный процесс его; умело
применяет в этих наблюдениях все новые достижения своей науки,
совершенствуя методы наблюдения, анализа, истолкования и
обобщения.
В декабре 1944 г., в последние дни свои, между двумя
операциями — в больнице, Лев Владимирович написал большую статью
«Очередные проблемы языковедения» (54 страницы крупного
формата).
В первой части изложены его взгляды по общим вопросам: об
изучении языка животных, о различии строя языков и
обусловленности этого различия, о существующих морфологических
классификациях языков, о двуязычии; о понятиях слова, синтагмы,
предложения; об изучении языка жестов и речи афатиков, о проблеме
понимания.
Вторая часть содержит наблюдения и размышления над
современным русским языком и его научной разработкой. Самыми
актуальными Л. В. Щерба считает у нас задачи создания русских
грамматики и словаря, которые отвечали бы языковой действительности
исвободны были бы от всяких
традиционных и формалистических предрассудков
схоластической школьной грамматики. Он
пишет о том, что дети изучают родной язык во·
207
π ρ е к и школьной грамматике, силою своего
здорового языкового чутья и говорят по своей
выработанной из опыта грамматике, какой еще не написали,
но должны написать лингвисты.
Широкому рассмотрению подвергает далее Л. В. Щерба
разграничение или противоположение словаря и грамматики,
устанавливая необходимость еще третьего основного раздела —
лексикологии, куда относится, например, вся теория частей речи. Все правила
образования слов и групп слов, а также языковых единств высшего
порядка относятся к грамматике, как и нормы формообразования, но
творческие неологизмы неповторимого характера — к словарю.
Глаголы-связки должны быть перечислены в грамматике, но формы
спряжения глаголов дать, есть и глагола быть относятся к
словарю.
Заключительный раздел этой последней работы посвящен
различию грамматики пассивного и активного аспектов. Грамматика
активного аспекта — самая неразработанная область современной
лингвистики. Она должна систематически осветить вопросы
выражения на данном языке категорий мысли, например
предикативности, логического суждения с его S и Р, независимости действия от
воли лица действующего, предикативного качественного
определения, количества вещества и т. п. Множество свежих
иллюстративных материалов из русской языковой практики наших дней
оживляет эту работу и делает ее своеобразным документом эпохи не
только в плане развития русского языкознания.
8
В грозе и бурях революции и двух мировых войн нашим
поколениям достались тяжкие испытания. Даже «кроты» или «премудрые
пискари» не могли прожить эти десятилетия безмятежно и
благополучно.
Такой высокий человек, такой целеустремленный, несгибаемый
в верности своим принципам борец и искатель — жил беспокойно,
напряженно, порой бедственно. Этой полной превратностей и
несчастливой жизнью он напоминал нам не раз Рыцаря Печального
Образа, в его биографии были и встречи с разбойниками на большой
дороге, и схватки с ветряными мельницами. Но он знал и счастье
побед, дожил до признания и почета. Толи надо было больше беречь
этого хрупкого телом и сильного духом человека, то ли не может
быть долговечным такой яркий и неспокойный человек, но мы
потеряли его слишком рано...
Заветы Л. В. Щербы нам дороги и долго еще будут вдохновлять
нас. Идеи его будут жить и станут достоянием многих-многих — и
даже тех, кто никогда не услышит и не узнает имени Щербы.
1946 г.
208
КОММЕНТАРИИ
В настоящих комментариях к «Избранным работам» Б. А. Ларина сообщается
о времени, месте первоначального напечатания каждой статьи а также даются
необходимые пояснения к их содержанию.
1. Впервые публикуется текст вводных лекций, читавшихся Б. А. Лариным
в его семинаре по исторической лексикологии, проводившемся на филологическом
факультете ЛГУ в 1962—1963 гг. Лекции были записаны участниками семинара
и подготовлены к печати на основе этих записей кандидатом филологических наук
А. И. Корневым, доцентом Г. А. Лилич и научным сотрудником И. С. Лутовино-
вой. Сам Б. А. Ларин, прикованный к постели тяжелой болезнью, успел
просмотреть записи лишь нескольких первых лекций и сделать некоторые поправки.
Однако редакция полагает, что и в такой форме данная работа, содержащая много
новаторских высказываний ученого, вполне заслуживает опубликования.
Редакция выражает благодарность доценту восточного факультета Татьяне Евгеньевне
Катениной и профессору кафедры классической филологии Юрию Владимировичу
Откупщикову, взявшим на себя труд просмотреть эти лекции и сделать
необходимые замечания.
2. «Вводная заметка» к «Очеркам по истории слов в русском языке» была
впервые опубликована в журнале «Русский язык в школе» (далее название журнала
сокращенно: РЯШ), 1940, № 4, с. 19—20. Заметка предвлряла собою серию
очерков, к печатанию которых приступило это единственное в те годы периодическое
издание, посвященное русскому языкознанию. Б. А. Ларин был привлечен к
изданию «Очерков» как возглавлявший тогда группу редакторов Древнерусского
словаря (далее сокращенно: ДРС) в Институте языка и мышления АН СССР (см.
далее: «Проект Древнерусского словаря. Вводная заметка»).
В названной серии очерков участвовали ближайшие ученики Б.А.Ларина,
работавшие под его руководством по составлению знаменитой картотеки ДРС.
Так, в том же выпуске журнала была напечатана статья Е. М. Иссерлин «История
слова «баран» (с. 20—23) и статья А. Н. Котовича «История слова «промысл»
(с. 23—26). Позднее в журнале увидели свет работы А. И. Конусова «История
слова «полк» (РЯШ, 1941, №2, с. 19—22) и Е. М. Иссерлин «История слова
«красный» (РЯШ, 1951, №3, с. 85—89).
Во «Вводной заметке» Б. А. Ларин, говоря о задачах, стоявших перед авторами
публикуемых очерков, противопоставлял эти работы традиционным
этимологическим исследованиям, обнаруживая в этих последних немало существенных
недостатков. Необходимо, считал Б. А. Ларин, подробно и углубленно разработать
не происхождение слов, не зарождение образующих их элементов, а конкретную
историю слов, какие мы сейчас употребляем, и именно в том составе, в каком они
живут в нашем языке,— за последнюю тысячу лет по письменным памятникам и по
современным народным говорам. Отмечая недостатки существовавших в то время
работ по этимологии, Б. А. Ларин имеет в виду «Этимологический словарь
русского языка» А. Г. Преображенского, первый том которого был издан в Москве в
1910—1914 гг., а также работу М. Р. Фасмера «Греко-славянские этюды. III.
Греческие заимствования в русском языке» (напечатанную в сборнике Отделения
русского языка и словесности Академии наук, т. 86, № 1, СПб., 1909). Этимология
слова кондрашка ('паралич, удар') раскрывается в названной работе на с. 91.
Необходимо заметить, что резко отрицательное отношение к работам М. Фасмера,
проявившееся у Б. А. Ларина в данной заметке, впоследствии несколько смягчи-
20?
лось. Б. А. Ларин редактировал составленный этим немецким ученым
«Этимологический словарь русского языка», когда это пособие переводилось с немецкого,
и опубликовал в первом томе названного перевода (М., «Прогресс», 1964)
редакторское предисловие, в котором, указав на научные заслуги составителя и на
достоинства издаваемого пособия, вместе с тем отметил и ряд серьезных присущих
ему недостатков. К числу последних он относил нередко встречающиеся в словаре
фактические ошибки, неточности и неоправданные сопоставления, в особенности
же отмечал излишнее пристрастие Фасмера к немецкому языку как мнимому
источнику русских этимологии. Наиболее слабой стороной словаря Фасмера Б. А.
Ларин считал его семантические определения (см. редакционное предисловие, с. 8—9).
Далее во «Вводной заметке» Б. А. Ларин характеризует ряд зарубежных работ,
посвященных истории слова. Он говорит о книге известного французского
лексикографа А. Дармстетера (1846—1888) «Жизнь слов» (Darmesteter, Arsène. La vie
des mots étudié dans leur significations. Paris, 1887). Затем рассматриваются труды,
публиковавшиеся сторонниками научного направления, получившего название
«Слова и вещи» (Wörter und Sachen). Основоположником таких исследований был
немецкий филолог-романист Г. Шухард, опубликовавший в 1912 г. статью «Вещи
и слова». Около этого же времени в Вене австрийским языковедом Р. Мерингером
в сотрудничестве с Мейером-Любке, Микколой, Мухом и Мурко был основан
специальный историко-лексикологический журнал «Wörter und Sachen», заглавие
которого и передало свое название всему научному течению (см. об этом: Лоя Я- В.
История лингвистических учений. М., «Высшая школа», 1969, с. 116—117).
Б. А. Ларин в своей заметке дает краткую и выразительную характеристику
названных научных направлений.
Далее, говоря об истории «замен целых пластов словарного богатства в нашем
языке», Б. А. Ларин использует пример замены древнерусского «летописного
термина» сустуг (наплечное и нагрудное украшение наряда знатных лиц),
использованного в известном рассказе «Повести временных лет» о мести княгини Ольги
древлянам, термином турецкого (тюркского) происхождения —г алам, для того
чтобы показать общее положение о том, что слово исчезает из языка, когда выходит
из употребления его реалия. Не вполне ясно выраженное Б. А. Лариным
положение, что термин сустуг имеет «соответствие в мордовском языке», следует, очевидно,
понимать как указание на заимствование мордовского слова сустука (sustuka) из
русского. Такое указание дает вслед за А. И. Соболевским 1 в своем
Этимологическом словаре М. Фасмер (Этимологический словарь русского языка.Т. 3. М., 1971,
с. 810).
3. Статья Б. А. Ларина «Из истории слов (лютый зверь, семья, кавардак)»
по своему объему и плану непосредственно примыкает к очеркам по истории слов,
печатавшимся в те же годы в РЯШ. Эта работа впервые опубликована в сборнике
статей «Памяти акад. Л. В. Щербы» под ред. Б. А. Ларина, Л. Р. Зиндера и
М. И. Матусевич (Изд-во ЛГУ, 1951, с. 190—200). Статья состоит из трех
отдельных очерков, в первом из которых исследуется словосочетание лютый зверь,
которому в древнерусском языке было присуще как раздельно оформленное
свободное значение, так и связанное терминологическое. Последнее значение
присваивалось, по всей вероятности, определенному виду хищников — рыси, что особенно
убедительно подтверждается свидетельствами французских лексикографических
источников, начиная с известного «Словаря московитов 1586 г.» (см. об этом
памятнике монографию Б. А. Ларина «Парижский словарь московитов 1586 г.», Рига,
1948). Два других очерка, посвященные истории слов семья и кавардак, написаны
Б. А. Лариным с привлечением широкого круга сопоставлений из родственных
индоевропейских и генетически не связанных с русским тюркских языков,
свидетельствуя о широком лингвистическом кругозоре Б. А. Ларина.
4, 5, 6, 7, 8. Печатаемые далее в пособии очерки Б. А. Ларина относятся к
1950 —1960-м годам и характеризуют исследовательские интересы ученого в период
его работы в ЛГУ. Филолог самого широкого научного профиля, Б. А. Ларин
был в равной степени эрудирован как в области славистики и русистики, так
в области индуистики и санскритологии, в области литуанистики и балтистики.
1 См.: Соболевский А. И. Рецензия на Slovansky sbornik. Praha, 1923.—
«Известия отд. русского языка и словесн. АН СССР», 1926, вып. XXX, с. 441.
210
В статье «Из русско-индийских соответствий (индийские параллели кдревне-
>усскому люди лучшие)», напечатанной в «Вестнике ЛГУ» (1958, № 8, с. 133—139),
5. А. Ларин показывает на примере древнерусских словосочетаний люди лучшие,
мужи лучшие, люди добрые и т. п. параллельное семантическое развитие аналогич-
шх языковых элементов в двух генетически родственных ветвях индоевропейской
:емьи. Действительно, путь самостоятельного развития значений в этого рода
уювосочетаниях, прослеженный в статье на большом количестве древнерусских
шсьменных источников с XI до XVIII вв.,— 'старейшины рода' — 'богатейшие
поди' — наконец, 'доверенные люди из самых надежных по достатку, наиболее
ючитаемые' — находит себе достаточно точные семантические параллели на
материале и древнеиндийского санскрита, и современных новоиндийских языков.
Гаким образом, отделенные впоследствии друг от друга громадными земельными
фостранствами, далекими по языкам и культуре народами, первоначально
родственные между собою языки продолжают свое параллельное развитие в области
:емантики. Сопоставления подобного рода, по правильному замечанию Б. А. Ла-
)ина, дают исследователю возможность прийти к теоретическим обобщениям от-
юсительно закономерностей в расхождениях и схождениях языков, принадлежа-
цих к различным культурно-историческим сферам.
Следующая статья Б. А. Ларина, первоначально напечатанная в том же жур-
[але «Вестник ЛГУ» (1958, № 14, с. 150—159),— «Из славяно-балтийских
лексикологических сопоставлений (стыд — срам)» — показывает мастерство Б. А.
Ларина в сравнительно-историческом изучении лексики и семантики языков сла-
(янской и балтийской ветвей индоевропейской семьи. Впрочем, и в данной работе
>. А. Ларин привлекает индийские параллели. Историко-семантические изыска-
[ия, производимые Б. А. Лариным, искусно владеющим всем арсеналом традици-
iHHoro сравнительно-исторического метода в языкознании, не нуждаются в до-
[олнительных рекомендациях и вполне отвечают научным требованиям нашей
овременности.
К области балтийско-славянских языковых отношений примыкает публикация
аметки Б. А. Ларина «О слове янтарь», впервые появившейся в сборнике статей,
[освященном известному латвийскому языковеду, академику Я· М. Эндзелину
Rakstu kräjums. Veltejum ak. J. Endzelinam (Рига, 1959, с. 149—163). В этой
аботе, привлекающей впервые громадный русский историко-лексикологический
(атериал из источников XVI—XVIII вв., положительно сказался опыт состави-
елей картотеки ДРС, вовлекших в круг исторических исследований сотни ранее
е изученных письменных памятников, а также совершенное владение со стороны
>. А. Ларина литовским и латышским языковым материалом.
Далее следует серия очерков, характеризующих исследовательские интересы
>. А. Ларина в области исторической лексикологии и семасиологии славянских
зыков, построенных на обширном материале письменных памятников и диалект-
ых свидетельств. Это статья «Из истории слов. Буй—погост», впервые
напечатайся в сборнике «Слово в народных говорах русского Севера» (Изд-во ЛГУ, 1962,
. 3—14). В этой работе значительными могут быть признаны ее общетеоретиче-
кие историко-семантические выводы. Б. А. Ларин подчеркивает значение диале-
тологических наблюдений в области исторической семасиологии восточносла-
янских языков. К этому же типу работ примыкает и статья «Об архаике в семан-
ической структуре слова (яр — юр — буй)», опубликованная в сборнике «Из
стории слов и словарей» (Изд-во ЛГУ, 1963, с. 78—89).
9. Статья Б. А. Ларина «Об эвфемизмах» была впервые напечатана в сборнике
гатей «Проблемы языкознания» (Изд-во ЛГУ, 1961, с. ПО—124), посвященном
5-летию акад. И. И. Мещанинова. Статья поражает богатством привлекаемых в
ей этнографических, историко-языковых, диалектологических наблюдений, на-
опленных Б. А.Лариным в результате многочисленных экспедиционных поездок
о различным краям и областям страны. Наблюдения эти приводят исследователя
строго продуманным общелингвистическим выводам о роли языковых запретов
габу» и вызванных ими лексических замещений в жизни народов и в развитии их
зыков.
10. «Проект Древнерусского словаря. Вводная заметка». В 1930-е годы
>. А. Ларин становится во главе группы составителей Древнерусского словаря,
211
осуществлявшегося в Институте языка и мышления АН СССР (с 1943 г. в
Институте русского языка АН СССР).
Публикуемая работа впервые была напечатана подзаголовком «Проект
Древнерусского словаря. Принципы, инструкции, источники» (Л., Изд-во АН СССР,
1936). Проект явился не только первым научным предприятием подобного рода,
но и послужил эталоном для всех последующих изданий по русской исторической
лексикографии, например ныне создаваемого Словаря древнерусского языка
XI—XIV вв. под ред. Р. И. Аванесова, Древнерусского словаря XI—XVII вв.,
составляемого под ред. С. Г. Бархударова в Институте русского языка АН СССР.
Вместе с тем Проект, составленный Б. А. Лариным, служил инструкцией при
собирании материалов для уникальной картотеки ДРС, насчитывающей более
1 500 000 карточек-выписок из громадного числа опубликованных и
неопубликованных памятников русского языка древнего периода и особенно из источников
XV —XVII вв., которые в свое время недостаточно полно были представлены в
«Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского. См. об этом:
Богородский Б. Л., Иссерлин Е. М. Б. А. Ларин в работе над древнерусским
словарем (К 80-летию со дня рождения).— «Вестник ЛГУ», 1973, № 20, с. 151 —154.
11. Очерк Б. А. Ларина, посвященный проблемам фразеологии, напечатан
впервые в 1956 г. («Учен. зап. ЛГУ», № 198. Серия филологическая, вып. 24,
с. 200—225). Эта работа заслуженно признана одной из основополагающих работ
в области изучения русской и общей фразеологии. По сравнению с работами
В. В. Виноградова, несколько ранее Ларина начавшего исследование этой
отрасли языкознания, печатаемая в настоящем пособии статья показывает, что ее
автор подошел к изучению фразеологии прежде всего как историк языка,
оттеняя в ней диахронический аспект исследования. Он показывает на примерах из
литовского и славянских языков путь превращения свободных сочетаний слов во
фразеологически связанные в процессе их исторического развития в связи с
историей народа. Вместе с тем Б. А. Ларин вносит существенные поправки в
концепцию В. В. Виноградова и в предложенную им классификацию
фразеологических единиц, получившую широкое распространение в языковедческих пособиях.
12. Работа Б. А. Ларина «О народной фразеологии», публикуемая в настоящем
пособии, представляет собою его доклад, сделанный 12 мая 1959 г. во время X
Республиканской конференции по диалектологии в Институте языкознания имени
А. А. Потебни в Киеве. Текст доклада на русском языке не издавался. Близкими
по содержанию к печатаемому здесь докладу могут быть признаны две статьи
Б. А. Ларина, изданные на украинском языке: 1) «Про народну фразеолопю»
в журнале «Укра1нська мова в школЬ, 1959, № 5, с. 30—37, и 2) «Про народну
фразеологию» в кн.: «Праш X Республ1кансько*1 д1алектолопчно1 наради». Кшв,
1961, с. 52—64. Построенный в основном на материале украинских говоров и
языка украинской художественной литературы XIX—XX вв., доклад
представляет несомненный интерес для современных диалектологов и историков
восточнославянских языков, так как проблемы диалектной фразеологии и сейчас
продолжают оставаться малоизученными.
13. Статья «Разговорный язык Московской Руси», первоначально
напечатанная в сборнике «Начальный этап формирования русского национального
языка» (Изд-во ЛГУ, 1961), имеет важное принципиальное значение, раскрывая одну
из ведущих тем в круге научных воззрений Б. А. Ларина. Разрабатывая проблему,
освещенную в данной работе, он устанавливает, что в период формирования
русского национального языка в XVII в. происходит «органическое, проникающее
сближение ранее противоположных и обособленных систем письменного и
разговорного языка». По мнению Б. А. Ларина, разговорная речь является более
существенной основой национального языка, чем книжнославянская традиция.
Однако все без исключения письменные памятники русского языка, созданные
русскими, находились под сильным воздействием церковнокнижной традиции.
Поэтому из памятников этого рода можно лишь по крупицам собрать сведения,
фрагментарные данные о различных разговорных диалектах Киевской и
Московской Руси. Для Б. А. Ларина большую ценность представляли записи русской
речи, делавшиеся иностранцами, наблюдавшими за живой речью московитов и
фиксировавших ее, будучи свободными от церковнокнижной письменной традиции.
Именно с помощью таких записей и может быть, согласно воззрениям Б. А. Ла-
212
рина, восстановлена истинная картина того, какою была разговорная речь
русских в те времена. Расшифровке, прочтению и интерпретации записей русской
речи иностранцами посвящены капитальные труды Б. А. Ларина: 1) «Русская
грамматика Лудольфа 1696 г.» (Л., 1937), 2) «Парижский словарь московитов
1586 г.» (Рига, 1948) и 3) «Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса
(1618—1619 гг.)» (Изд-во ЛГУ, 1959). В 1946 г. поданной проблеме Б. А. Ларин
защитил докторскую диссертацию.
^~ 14,15. Работа «К лингвистической характеристике города (Несколько
предпосылок)» была выполнена Б. А. Лариным на основе доклада, прочитанного в мае
1926 г. в секции общего языкознания Института литературы, языка Запада н
Востока (ИЛЯЗВ) и повторенного в декабре того же года в Гос. институте истории
искусств (в секции изучения художественной речи). Напечатана эта статья была в
«Известиях Гос. пед. института им. А. И. Герцена», вып. 1 (Л., 1928, с. 175—185).
К этой статье непосредственно примыкает и следующая — «О лингвистическом
изучении города», вышедшая в свет в том же году в сборнике «Русская речь» под
ред. Л. В. Щербы, вып. 3 (с. 61—75). Обе работы отражают интерес Б. А. Ларина
к социолингвистическим проблемам. Тогда, в 1920-х годах, при Институте истории
искусств в Ленинграде под руководством Б. А. Ларина работала группа студентов,
поставивших своей целью изучение городских диалектов. К сожалению, записи
эти не сохранились. Впоследствии их не удалось продолжить, поэтому изучение
этой весьма актуальной темы прекратилось. В наши дни научный интерес к
подобного рода тематике вновь появился, однако сейчас объектом изучения в работах
Е. А. Земской (Москва), О. Б. Сиротининой (Саратов) х и др. служит разговорная
речь лиц, владеющих литературным языком. Некодифицированные же формы
городского просторечия, привлекавшие Б. А. Ларина в первую очередь,
продолжают оставаться неисследованными. И сейчас слова Б. А. Ларина: «Если бы
картографически представить себе лингвистическую разработку, например, современной
Европы, то самыми поразительными пробелами на ней оказались бы не
отдаленные и неприступные уголки, а именно большие города» («Русская речь», вып. 3,
с. 61),— сохраняют свою злободневность.
16. Статья Б. А. Ларина «Значение работ акад. Л. В. Щербы в русском
языкознании» была напечатана в «Диалектологическом сборнике», вып. 3 (Вологда,
1946, с. 77—86), и посвящена памяти его друга и учителя. Характеризуя научные
взгляды, убеждения и творческую личность крупнейшего русского и советского
языковеда Л. В. Щербы, автор статьи подчеркивал в них такие черты, которые
были особенно близки и самому Б. А. Ларину. Поэтому весьма многое из того, что
было сказано Б. А. Лариным о Щербе, может быть отнесено и к самому Б. А.
Ларину. Это и многосторонность и разнонаправленность научных устремлений, и
непреклонная принципиальность в научных взглядах, и самозабвенная преданность
научным идеям и разысканиям. Полагаем, что названная статья способна
достойным образом охарактеризовать личность крупного ученого и может служить
эталоном подобного рода научных биографий.
1 См.: Сиротинина О. Б. Разговорная речь и ее особенности. М., 1074.
213
11 рало ж е и и я
1. Автобиография Бориса Александровича Ларина ·
Родился 5(17) января 1893 года в гор. Полтаве в семье учителя, позже
ставшего священником. Отец умер в январе 1930 г., мать умерла в 1937 г. Учился в
Каменец-Подольской гимназии (1902—1906), потом в Киевской Коллегии Павла
Галагана (1906—1910), наконец, в Киевском университете на
историко-филологическом факультете (1910—1914). В студенческие годы занимался древнерусской
литературой под руководством проф. В. Н. Перетца, сравнительным языкознанием
и санскритом — под руководством проф. Ф. И. Кнауэра. В 1913—1914 гг. дважды
ездил в Литву изучать диалекты литовского языка. С начала 1915 г. был оставлен
при Киевском университете («профессорским стипендиатом»). В связи с
эвакуацией Киевского университета в Саратов и уходом из университета моего
руководителя проф. Кнауэра, был командирован в Петроградский университет (осенью
1916 г.). Там продолжал занятия по славистике под руководством проф.
Л. В. Щербы и проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ, по санскриту — с акад. Ф. И. Щер-
батским, по древнеиранским языкам с акад. К. И. Залеманом, по романским
языкам с проф. Д. К- Петровым и по балтийским языкам с доц. Э. А. Вольтером.
С 1914 (август) по 1922 г. (июнь) я вел преподавание в средних школах Киева,
затем Петрограда.
С 1919 г. начал преподавание в высшей школе: во II Гос. педагогическом
институте в Петрограде, затем в Объединенном III пед. институте им. Герцена
(с 1920 г.), наконец, в Петроградском университете (с 1924 г.). В 1922 г. я был на
Ученом совете II пед. института впервые избран профессором, затем трижды еще
был утвержден в этом звании (в 1928, в 1929 и 1938 гг.).
За тридцать семь лет преподавательской работы в высшей школе я читал
многочисленные курсы (общие и специальные): по общему языкознанию, по введению
в русскую этимологию, по русской диалектологии, по истории русского языка,
по старославянскому языку, по сербскому и польскому языкам, по введению в
балтийскую филологию, по литовскому языку, по украинскому языку, по санскриту,
по языку писателя.
С 1924 г. и до 1940 г. ежегодно, а также в 1947, 1949, 1950 гг. я ездил с
группами студентов и аспирантов в диалектологические экспедиции. В 1926—1931 гг.
изучал речь рабочих, производственно-профессиональную терминологию
текстильщиков, бумажников, керамиков, печатников. Принимал участие в организации
1-й, 2-й и 3-й Всесоюзных диалектологических конференций (1938—1939—1944 гг.),
а также трех Украинских республиканских диалектологических совещаний
(II, III, IV —в 1947—1949 гг.).
Основные мои работы посвящены истории и диалектологии русского языка.
Ряд подготовительных исследований завершается моей докторской диссертацией:
«Три иностранных источника по истории русского языка XVI—XVII вв.».
Второй цикл моих работ относится к лексикографии — главным образом
русского языка, а также украинского и литовского. Несколько лет я участвовал в
составлении «Толкового словаря русского языка» под ред. проф. Д. Н. Ушакова.
С 1934 г. и до осени 1949 г. я посвящал много времени и сил созданию полутора-
миллионной картотеки Древнерусского словаря, затем редактировал рукописи
1-го, 2-го и начала 3-го тома.
Ряд моих работ относится к теории литературного языка, стилистике,
изучению языка писателя.
214
Небольшое число моих работ посвящено балтийской и индийской филологии.
В конце декабря 1941 г. я был эвакуирован на самолете из блокированного
Ленинграда. Работал полгода в Ташкенте, затем в Кировском пединституте в гор.
Яранске (профессором и деканом), затем в Москве (в Моск. I пед. ин-те
иностранных языков), а с осени 1944 г. снова в Ленинграде (в Университете и Ин-те
русского языка АН СССР).
С 1945 г. после избрания членом-корреспондентом АН УССР я организовал
в Киеве работу по составлению Диалектологического атласа украинского языка.
В июне 1949 г. я был избран действительным членом Академии наук
Литовской ССР. Там же я реорганизовал словарную работу и положил начало
составлению Диалектологического атласа литовского языка. После уличной катастрофы
в 1952 г. в Вильнюсе я по болезни вынужден был уйти из Института литовского
языка и литературы и продолжал только работу по подготовке кадров для Лит.
ССР. Инфаркт миокарда в 1955 г. заставил меня еще больше сократить свою
административную и преподавательскую работу. Оправившись от болезни, я хочу
подвести итоги своим многолетним разысканиям по истории русского
литературного языка, по лексикографии и лексикологии по литовскому языку.
Ленинград
6 мая 1956 г. п«л^ ел π Λ
Проф Б. А. Ларин
Прим. ред.: С 1958 г. Б. А. Ларин заведовал кафедрой общего языкознания,
с 1960 г.— организованным им Межкафедральным словарным кабинетом, с 1961 г. и
кафедрой славянской филологии, с 1954 по 1963 г. был деканом
филологического факультета ЛГУ. В июле 1963 г. Б. А. Ларин тяжело заболел (третий
инфаркт миокарда), 26 марта 1964 г. скончался.
2. Список трудов проф. Б. А. Ларина
Опубликованы:
1911—1912
Отчеты о занятиях по древнерусской литературе в рукописных отделениях
московских и петербургских библиотек. — Отчеты об экскурсиях Семинария
проф. В. Н. Перетца в Петербург в 1911 г. и в Москву в 1912 г. Киев, 1911—1912.
1918
Рецензии на книги: а) проф. М. Ф. Сумцов. Начерк розвитку украшсько!
л1тературно*1 мови; б) проф. С. В. Савченко. Происхождение романских языков.—
«Родная земля». Т. 1. Киев, 1918, с. 25—27.
1920
Про соняшш кларнети П. Тичини.— «Книгарь». Κηϊβ, 1920, с. 1683—1688.
1923
1. О «Кипарисовом Ларце» Ин. Анненского.— «Лит. мысль», Пг., 1923, кн. 2,
с. 149—159.
2. О разновидностях художественной речи.— «Русская речь», Пг., 1923,
вып. 1, с. 57—96.
1924
Из области ведийской поэзии (стихотворные переводы из вед со вступительной
статьей).— «Восток», Л., 1924, № 4, с. 46—57.
1926
Материалы по литовской диалектологии. — «Язык и литература». Т. I.
Вып. 1—2. Л., 1926, с. 92—170+2 ненум.
216
1927
1. О лирике, как разновидности художественной речи.— «Русская речь».
Новая серия, Л., 1927, вып. 1, с. 42—74.
2. Учение о символе в индийской поэтике.— «Поэтика». Временник Отдела
словесных искусств Ин-та истории искусств. Л., 1927.
1928
1. К лингвистической характеристике города. (Несколько предпосылок).—
«Изв. Гос. пед. ин-та им. Герцена», Л., 1928, вып. 1, с. 175—185.
2. Мовний побут м1ста.— «Червоний шлях», Харюв, 1928, ч. 5/6, с. 190—199·
3. О лингвистическом изучении города.— «Русская речь». Вып. 3. Л., 1928,
с. 61-75.
1931
Западноевропейские элементы русского воровского арго.— «Язык и
литература». Т. 7, Л., 1931, с. 1—20.
1933
Об образовании русского литературного языка. [Вводная статья к серии
«Грамматические очерки» Б. А. Ларина и С. Г. Бархударова].— «Лит. учеба»,
1933, № 6/7, с. 71—82.
1934
1. «Как выполнено упражнение». Разбор писем читателей.— «Лит. учеба»,
1934, № 2.
2. Словообразование (грамматические очерки, ст. 3).— «Лит. учеба», 1934,
№3, с. 91—101.
3. О наследстве и живых источниках литературного языка.— «Лит. учеба»,
1934, № 7, с. 96—105.
4. Об именах существительных и прилагательных.— «Лит. учеба», 1934,
№8, с. 92—110.
5. Наречия, степени сравнения и предлоги,— «Лит. учеба», 1934, № 9,
с. 94—104.
6. О словарях.— «Лит. учеба», 1934, № 9, с. 104—108.
7. О числительных (грамматические очерки, ст. 9).— «Лит. учеба», 1934,
№ 10, с. 112-120.
8. Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. Сост.
В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский,
Д. Н. Ушаков. М., «Сов. энциклопедия». Т. I, 1934; т. II, 1938; т. III, 1939; т. IV,
1940.
1935
1. Диалектизмы в языке советских писателей.— «Лит. критик», 1935, № 11,
с. 214—235.
2. О словоупотреблении (в языке Чехова).— «Лит. учеба», 1935, № 10,
с. 146—158.
3. Reading Rules (Произношение и письмо), гл. 9 в кн.: S, Boy anus. A Manual
of R ussian Pronunciation. London, 1935.
1936
1. О языке Горького-драматурга. — «Лит. Ленинград», 1936, дек., № 17/58.
2. Парижский словарь русского языка 1586 г. (Исследование об авторе
словаря).— «Сов. языкознание». Т. И. Л., 1936, с. 65—91.
3. Проект Древнерусского словаря (Принципы, инструкции, источники).
Л., Изд-во АН СССР, 1936, 180 с. (10,5 авт. л.).
4. О языке пьесы Горького «Враги».— «Лит. критик», 1936, № 11, с. 206—229.
1937
1. Русская грамматика Лудольфа 1696 г. Л., Ленингр. науч.-исслед. ин-т
языкознания при ЛИФЛИ, 1937, 168 с. (10,5 авт. л.).
216
2. «Индейские сказки», ст. акад. А. Н. Веселовского (издание текста,
примечания, комментарии). В кн.: Веселовский А. Н. Соч. Т. XVI. М.— Л., Изд-во
АН СССР, 1937, с. 136—148, 304—308.
3. Статьи в Малой и Большой советской энциклопедии: В. И. Даль, Р. Раек,
Ф. Фортунатову Диалекту Диалектологияу Жаргон, Лексика, ЛексикологиЯу
Скоропись у Уставу Полуустав, Фразау Фразеология.
4. Раздел «Синтаксис» в «Вопроснике для собирания материалов
Диалектологического атласа».— «Русский язык в школе», 1937, № 4, с. 77—85.
5. Тезисы доклада «О языке драм М. Горького».— В кн.: «Тезисы докладов
конференции «Горький и театр». М., 1937, с. 13—18.
1938
Об атласе русского языка и современной диалектологии.— «Учен. зап. Ро-
стовского-на-Дону гос. пед. ин-та». Т. I. Ростов-на-Дону, 1938 (на обл. 1939),
с. 105—116.
1939
1. Труды I Диалектологической конференции в Ростове-на-Дону. Под ред.
Б. А. Ларина и Г. П. Сердюченко. Доклад Б. А. Ларина «Об организации
педвузами диалектологических экспедиций и технических приемах подготовки местных
атласов» (с. 21—30) и «Заключительное слово» (с. 101—106). Ростов н/Дону, 1939.
2. О фонетической транскрипции. — «Учен. зап. каф. русск. яз. Ленингр.
пед. ин-та им. Герцена», 1939, т. 20, с. 21—33.
3. Редакция текста, предисловие и словарь в I томе «Сказок М. М. Коргуе-
ва».— В кн.: Сказки Карельского Беломорья. Т. I, Петрозаводск, Науч.-исслед.
ин-т культуры, 1939, с. 646—658.
4. Редакция текста и словарь 2-й части I тома «Сказок М. М. Коргуева».—
В кн.: Сказки Карельского Беломорья. Т. I, Ч. 2. Петрозаводск, 1939, с. 647—669.
5. О принципах публикации текста.— В кн.: Сказки Карельского Беломорья,
Τ.Ί. Ч. 2. Петрозаводск, 1939 с. 633—644.
1940
Очерки по истории слов в русском языке. Вводная заметка.— «Русский язык
в школе», 1940, № 4, с. 19—20.
1941
1. Словарь древнерусского языка XI—XVIII вв. Пробный набор. Ред. изд.
Б. А. Ларин: Л., 1941, 2-е изд. 1946.
2. Русско-литовский словарь. Сост. С. Я. Розен. Под ред. проф. Б. А.
Ларина. 15 000 слов. М., 1941, 327 с.
1944
Разговорная речь Московской Руси XVI—XVII вв. в записях иностранцев
(тезисы доклада на сессии, посвященной 125-летию Ленинградского университета).
Л., 1944.
1945
Записная книжка Ричарда Джемса.— «Науч. бюллетень Ленингр. ун-та»,
1945, № 5, с. 32—34.
1946
1. Переработанная редакция отделов синтаксиса и лексики в «Программе
собирания сведений для составления Диалектологического атласа русского языка».
Вологда, 1946; перепечатано: Ярославль, 1945, и Москва, 1947.
2. Из заметок о русско-литовских соответствиях.— «Науч. бюллетень
Ленингр. ун-та», 1946, № И, 12, с. 29—31.
3. Значение работ акад. Л. В. Щербы в русском
языкознании.—Диалектологический сборник. Вологда, 1946, вып. 3, ч. 2, с. 77—86.
4. О записях иностранцев как источнике по истории русского языка.— В кн.:
«Труды юбилейной научной сессии Ленинградского ун-та». Секция филология,
наук. Л., 1946, с. 71—85.
217
1947
1. Значения праць Л. В. Щерби в радянському мовознавствь— «Мовознавст·
во». Ч. IV—V, Khïb, Ihct. мовознавства îm.O.O. Потебш АН УРСР, 1947, с. 199—
207.
2. Вологодская Диалектологическая конференция 1944 г.— «Бюллетень
диалектологич. сектора Ин-та рус. яз. АН СССР», М., 1947, вып. 1, с. 102—104.
1948
1. Три иностранных источника по истории русского языка XVI—XVII вв.
(аннотация докторской диссертации).— «Доклады и сообщения Ин-та русского
языка», М.—Л., 1948, вып. 1, с. 157—165.
2. Заметки о языке пьес Горького и его театральной интерпретации.— «Учен,
зап. каф. рус. яз. Ленингр. пед. ин-та им. Герцена», 1948. Т. 69, с. 8—15.
3. Программа для збирання матер1ал1в до д1алектолопчного атласа укра'ш-
cbKOÏ мови (з шструкшею). Khïb, Вид. АН УРСР, 1948. 166 с. + Схема под1лу
укр. ареала (3,5 авт. л.); 2-е изд. 1949.
4. Проект Д1алектолопчного атласа украУнськоУ мови.— В кн.: Семинарна
рада зав1дувач1в кафедр pocincKoï та укра'1нсько1 мови в педвузах УРСР. Тези
доповЦей. Вып. 2. Khïb, 1948, с. 6—8.
5. Парижский словарь московитов 1586 г. (Исследование, издание текста,
комментарии, указатели.) Рига, Латвийский гос. ун-т, 1948, 216 с. (14 авт. л.).
6. Послесловие к книге И. М. Эндзелина «Звуки и формы балтийских
языков» (на латышском языке).— В кн.: Baltu valodu skan,as un formas. Pêcvârdi.
Rïgâ, 1948, pp. 256a—256e.
1949
1. О принципах составления атласа славянских языков.— Сборник памяти
Л. П. Якубинского.— «Учен. зап. Ленингр. ун-та». Серия филологич., 1949.
Вып. 14, с. 23—37.
2. Про методолопю радянсько'1 лшгв1стично'1 географи.—Д1алектолопчний
бюлетень АН УРСР. Khïb, 1949, № 1, с. 6—15.
1951
1. Из истории слов (лютый зверь, семья, кавардак).— В кн.: Памяти акад.
Л. В. Щербы Под ред. проф. Б. А. Ларина, Л. Р. Зиндера и М. И. Матусевич.
Изд-во Ленингр. ун-та, 1951, с. 190—200.
2. Соавторство в составлении Lietuviii kalbos Atlaso medziagos rinkimo Pro-
grama (разделы синтаксиса и лексики, см. «Предисловие», с. 4). Vilnius, Изд.-во
АН Литовской ССР, 1951, с. 1—112.
3. Изложение доклада на научной сессии Ленинградского гос. ун-та в
декабре 1950 г. «Начальный этап развития русского литературного языка».—
«Вестник ЛГУ», 1951, № 5, с. 177—178. Тезисы доклада напечатаны в «Сб. тезисов
научной конференции 1950 г.», Л., 1950.
4. Изложение доклада «О языке писателя» на научной сессии Ленингр. гос.
ун-та, апрель, 1951 г.— «Вестник ЛГУ», 1951, № 7, с. 103—104.
5. Тезисы доклада «О курсе лекций И. И. Срезневского по истории русского
языка — в записи Н. Г. Чернышевского».— «Сб. тезисов научной сессии Ленингр.
ун-та». М., 1951.
1952
1. Изложение доклада на III Всесоюзной Некрасовской конференции в
январе 1952 г. «Заметки о поэтическом языке Некрасова».— «Изв. отд. лит. и яз.
АН СССР», М., 1952. Т. XI, вып. 2, с. 189.
2. Перевод романа Пятраса Цвирки «Земля кормилица», М., 1952.
1953
«Состояние и задачи литовского языкознания».— «Труды Ин-та языка и
литературы АН Латвийской ССР», Рига, 1953. Т.II, с. 33—45.
218
1954
1. Ред.: Lietuviii kalbos Atlaso mediiagos rinkimo Instrukcija. Vilnius, 1954
(Инструкция по собиранию материалов для Атласа литовского языка).
2. Участвовал в редактировании Dabartinés lietuviii kalbos zodynas (apie
45000 zodziq). Vilnius, 1954, XVI+990 pp.
3. О методах изучения фразеологических сочетаний (тезисы). Научная сессия
1953—1954 гг.— В кн.: «Тезисы докладов по секции филологических наук». Л.,
1954, с. 5—8.
1955
Ред. «Учен. зап. Ленингр. ун-та», 1955, № 180. Серия филологических наук.
Вып. 21, 340 с.
1956
1. Очерки по фразеологии. О систематизации и методах исследования
фразеологии.— «Учен. зап. Ленингр. ун-та», 1956, № 198, Серия филологическая,
вып. 24, с. 200—225.
2. Принципи укладання обласних словниюв укра1нсько'1 мови.— «Д1алек-
толопчний бюлетень», Khïb, Вид. АН УРСР, 1956, вып. 6, с. 3—19.
3. Слово о Шолохове.— В кн.: Михаил Шолохов. Изд-во ЛГУ, 1956, с. 9—12.
4. Ред. сборник «Михаил Шолохов». Изд-во ЛГУ, 1956.
1957
1. Об изучении и переводах индийской поэтики (с приложением перевода трех
глав трактата Вамана «Кавьяланкаравритих»).— В кн.: Романо-германская
филология. Сборник в честь акад. В. Ф. Шишмарева. Изд-во ЛГУ, 1957, с. 195—208.
2. Краткий исторический обзор литовской лексикографии.
—Лексикографический сборник Ин-та языкознания АН СССР. Вып. 2. М., 1957, с. 119—144.
3. Камтапрасад Гуру. Грамматика хинди. Перевод с хинди П. А. и Р. И.
Баранниковых. Предисловие, редакция перевода, примечания проф. Б. А. Ларина.
М., Изд-во иностр. лит., 1957, 256 с.
4. Ред. Pirmoji lietuviii kalbos gramatika 1653 m. Vilnius. Изд. АН Литовской
ССР, 1957.
5. Ред. сборник статей «Очерки и исследования по истории языка». Вып. 1.
Изд-во ЛГУ, 1957, 20,5 авт. л.
6. Ред. «Сборник задач по общему языкознанию» проф. Л. Р. Зиндера. Изд-во
ЛГУ, 1957, 2 авт. л.
1958
1. Ред. сборник статей «Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике».
Вып. 2. Изд-во ЛГУ, 1958, 14 авт. л.
2. Из русско-индийских соответствий (индийские параллели к
древнерусскому люди лучшие).— «Вестник ЛГУ», 1958, №8, с. 133—139.
3. Из славяно-балтийских лексикологических сопоставлений (стыд—срам).—
«Вестник ЛГУ», 1958, № 14, с. 150—159.
4. Ред. книгу проф. Б. В. Казанского «В мире слов». Лениздат, 1958, 11 авт. л.
5. Русские повести XV—XVI веков. Редактировал книгу (30 авт. л.),
написал вводную статью (с. 3—5), сделал перевод на современный язык всех повестей
(с. 169—331). М.— Л., Гослитиздат, 1958.
1959
1. О новых лингвистических исследованиях (рецензии на две книги:
1) А. В. Федоров. Введение в теорию перевода. М., 1958; 2) П. П. Плющ. Нариси
з icTopiï украУнськоТ л1тературноУ мови). Кшв, 1958.— «Вестник ЛГУ», 1959,
№20, с. 135^-143.
2. Про народну фразеолопю.— «Украшська мова в школЬ, 1959, № 5, с. 30—
37.
3. О слове янтарь.— В кн.: Сб. статей, посвященных акад. Я· М. Эндзелину.
Rakstu kräjums. Veltljums ak. J. Endzelïnam. Riga, 1959, p. 149—163.
219
4. Рассказ М. Шолохова «Судьба человека» (Опыт анализа формы).— «Нева»,
1959, № 9, с. 199—205.
5. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618—1619 гг.).
Исследования, издание текста, перевод, комментарии. Изд-во ЛГУ, 1959,26,5авт.л.
6. Участвовал в редактировании коллективного перевода: «Артхашастра или
наука политики». Перевод с санскрита. Серия «Литературные памятники». М.— Л.,
Изд-во АН СССР, 1959.
1960
1. Б. Л. Богородский, Б. А. Ларин, Д. С. Лихачев. О словаре-комментарии
«Слова о полку Игореве».— «Труды Отдела древнерусской литературы АН СССР»,
Л., 1960, т. XVI, с. 424—442.
2. Разговорный язык Московской Руси XV—XVII вв.— В кн.: Начальный
этап формирования русского национального языка. Тезисы докладов
конференции. Л., 1960, с. 3—5.
3. Историческая диалектология русского языка в курсе лекций акад.
А.А. Шахматова и наши современные задачи.— В кн.: Очерки по истории языка.
Т. 2. Л., 1960, с. 3—10 («Учен. зап. Ленингр. ун-та», № 267. Сер. филол. наук,
вып. 52).
4. Вопросник по собиранию топонимических материалов.— В кн.: Очерки
по истории языка. Т. 2. Л., 1960, с. 231—234 («Учен. зап. Ленингр. ун-та», № 267.
Сер. филол. наук, вып. 52).
5. Ред. сб. статей «Очерки по истории языка». Т. 2. Л., 1960 («Учен. зап. Ле-
нигр. ун-та», № 267. Сер. филол. наук, вып. 52). 235 с.
6. Ред. книгу Л. В. Успенского «Ты и твое имя». Л., Детгиз, 1960, 294 с.
7. О работе над новыми словарями.— «Вестник ЛГУ», 1960, № 20, с. 151 —
156.
8. Рец. на книгу В. С· Ващенко «Полтавсыи говори». Харк1в, 1957.— «Д1а-
лектолопчний бюлетень», КиГв, 1960, вып. 7, с. 116—122.
1961
1. Ред. сб. статей «Проблемы языкознания», посвященный 75-летию акад.
И. И. Мещанинова, и написал обращение к юбиляру (с. 5) («Учен. зап. Ленингр.
ун-та», 1961, № 301. Сер. филол. наук, вып. 60). 358 с.
2. Об эвфемизмах. — В кн.: Проблемы языкознания. Л., 1961, с. 110—124
(«Учен. зап. Ленингр. ун-та», № 301).
3. Ред. сб. статей «Начальный этап формирования русского национального
языка». Изд-во ЛГУ, 1961, 256 с.
4. Разговорный язык Московской Руси.— В кн.: Начальный этап
формирования русского национального языка. Л., 1961, с. 22—34.
5. Инструкция Псковского областного словаря. Изд-во ЛГУ, 1961. 23 с.
6. .Из псковских материалов по истории слов (тезисы доклада).— В кн.:
«Тезисы докладов Межвузовской конф. по исторической лексикологии,
лексикографии и языку писателя». Л., 1961, с. 7.
7. «Чайка» Чехова.— Там же, с. 67—68.
8. Ред. «Тезисы докладов Межвузовской конференции по историч.
лексикологии, лексикографии и языку писателя». Л., 1961, 102 с.
9. ВЦзив О. О. Потебш про рукопис Литовського словника А. та J. Юшке-
вич1в (публ1кащя, вступна замггка Б. О. Ларша).— «Мовознавство», Ки'Гв, 1961.
Т. 16, с. 104—113.
10. Про народну фразеолопю.— В кн.: «Пращ X Республ1кансько*1 дЕалек-
толопчно'1 наради». Кшв, 1961, с. 52—64.
11. Памяти профессора Бориса Аполлоновича Кржевского.— «Учен. зап.
Ленингр. ун-та», № 229. Серия филологических наук, вып. ЛГУ, 1961.
1962
1. Ред. сб. статей «Словоупотребление и стиль М. Горького». Изд-во ЛГУ,
1962. 148 с.
2. Основные принципы Словаря автобиографической трилогии М. Горького.—
В кн.: Словоупотребление и стиль М. Горького. Изд-во ЛГУ, 1962, с. 3—11.
220
3. Ред. 2-ю часть «Грамматики хинди» Камтапрасада Гуру. М., Изд-во иностр.
лит., 1962, 522 с.
4. Ред. сб. «Теория и критика перевода». Изд-во ЛГУ, 1962, 168 с.
5. Наши задачи. Вводная статья в сб. «Теория и критика перевода». Изд-во
ЛГУ, 1962, с. 3-7.
6. Ред. сб. статей «Слово в говорах русского Севера». Изд-во ЛГУ, 1962, 138 с.
7. Из истории слов. Буй— погост.— В кн.: Слово в народных говорах
русского Севера. Изд-во ЛГУ, 1962, с. 3—19.
8. Опыт областного словаря-атласа (о кн.: J. Siaikowski. Slovvnictwo Warmii
iMazur. Budownictwo i obrobka drewna. Wroclaw, 1958).— В кн.: Слово в говорах
русского Севера. Изд-во ЛГУ, 1962, с. 129—136.
9. О признаках семантической архаики (тезисы доклада).— В кн.: «Тези
допов1дей V м1'жвуз1всько'1 республ1кансько"1 слав1стичнс1 конференцп (25—30 ве-
ресня 1962 г.)». Ужгород, 1962, с. 75—76.
10. Ред. Махабхарата. Кн. вторая. Сабхапарва. Перевод с санскрита В. И.
Кальянова (Серия «Литературные памятники».) М.— Л., Изд-во АН СССР, 1962,
254 с.
11. CniBHÎ нерозв'язаш питания украшсько!' регюнальноУ лексикографа
(тезисы доклада).— В кн.: «Тези допов1дей XI республ1кансько*1 д1алектолопчно1
наради (15— 18/XI 1962 р.)». Кшв, 1962, с. 52—54.
12. Ред. «Тезисы II Всесоюзной конференции по славянской филологии в
Ленинграде (17—22 декабря 1962 г.)». Л., 1962, 141 с.
13. Об одной славяно-балто-финской изоглоссе (тезисы доклада).— В кн.:
«Тезисы докладов II Всесоюзного съезда по славянской филологии». Л., 1962,
с. 100—101.
14. Ред. Псковские говоры. 1. Псков, 1962, 312 с. + 1 карта (Предисловие —
с. 3—4).
15. Инструкция Псковского областного словаря.— В кн.: Псковские говоры,
.1, Псков, 1962, с. 252—271.
16. Ред. сб. «Славянское языкознание». Изд-во ЛГУ, 1962, 179 с.
17. О работе над литовскими областными словарями. XII Respublikinis di-
alektologinis — toponiminis pasitarimac. Vilnius.— В кн.: «Тезисы докладов
Конференции по литовской диалектологии (3—6 декабря 1962 г.>. Вильнюс, 1962,
с. 7-9.
1963
1. О филологии близкого будущего. — «Филологические науки. Научные
доклады высшей школы», 1963, № 1, с. 186—196.
2. Об одной славяно-балто-финской изоглоссе. Изд-во ЛГУ, 1963, 2 авт. л.
3. Ред. сб. «Из истории слов и словарей». Изд-во ЛГУ, 1963, 12 авт. л.
4. Об архаике в семантической структуре слова (яр—юр—буй).— В кн.:
Из истории слов и словарей. Изд-во ЛГУ, 1963, с. 78—89.
1964
1. «Чайка» А. П. Чехова (Стилистический этюд). — В кн.: Исследования по
эстетике слова и стилистике художественной литературы. Изд-во ЛГУ, 1964,
с. 11—24.
2. Ред. сб. «Исследования по эстетике слова и стилистике художественной
литературы». Изд-во ЛГУ, 1964, 200 с.
3. Ред. сб. «Славянская филология». Изд-во ЛГУ, 1964, 163 с.
4. Ред. и предисловие: М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка.
Т. I {А — Д). М., «Прогресс», 1964.
1965
1. Ред. сб. «Очерки по словообразованию и словоупотреблению». Изд-во ЛГУ,
1965, 167 с.
2. Ред. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 1 (А.—Г). М.—Л.,
1965.
22*
1967 M
Ред. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1 (А—би-
битка.) Изд-во ЛГУ, 1967.
1968
Принципы составления Словаря М. Горького (инструкция Объяснительного
словаря автобиографической трилогии М. Горького).— В кн.: Словоупотребление
и стиль М. Горького. Изд-во ЛГУ, 1968.
1973
Ред. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 2
(библиотека — бяшутка). Изд-во ЛГУ, 1973.
1974
1. Эстетика слова и язык писателя. Сб. статей. М.—Л., «Худож. лит.», 1974.
2. Словарь автобиографической трилогии М. Горького. Вып. 1 (А —
всевидящий), основан проф. Б. А. Лариным; составитель отрезков: белый — бельевой,
вот. Изд-во ЛГУ, 1974.
1975
Лекции по истории русского литературного языка (X—середина XVII в.).
М., «Высш. школа», 1975, 327 с.
1976
Ред. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 3
(В —взяться), Изд-во ЛГУ, 1976.
Сданы в печать:
1. Ред. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 4
(ей — вот). Изд-во ЛГУ.
2. А. А. Шахматов. Лекции по исторической диалектологии. Подготовка
текста, вступит, статья и комментарии проф. Б. А. Ларина. М., «Высш. школа».
3. О Б. А. Ларине
1. Груздева С. Я., Лебедева А. И. и др. Борис Александрович Ларин (К
шестидесятипятилетию со дня рождения). — «Вестник ЛГУ», 1958, № 8, с. 184—185.
2. Богородский Б.Л.,Ковтун Л. С., Лилии Г. А. Борис Александрович Ларин
(К юбилею учителя).—В кн.: Вопросы теории и истории языка. Изд-во ЛГУ, 1963,
с. 5-26.
3. Степанов Г. В. Б. А. Ларин.— «Нева», 1963, № 6, с. 162—164.
4. Степанов Г. В. Б. А. Ларин (К семидесятилетию со дня рождения).—
«Вестник ЛГУ», 1963, № 14, с. 147—154.
5. Тимошенко П. Д. Б. О. Ларш i украшська мова.— «Bîchhk Кшвського
ун-ту», 1964, № 6. Сер. ф1лол. та журнал1стики, с. 95—99.
6. Ожегов С. И. [Некролог].— «Изв. отд-я лит. и языка АН СССР», 1964,
т. 23, вып. 5, с. 466—469.
7. Мещерский Н. А. [Некролог].— «Вестник ЛГУ», 1964, №8, с. 151 — 152.
8. Кальянов В. И. Б. А. Ларин.— «Народы Азии и Африки», 1964, № 4,
с. 276—279.
9. Мещерский Н. А. [Некролог].— «Русский язык в школе», 1964, № 3,
с. 112.
10. Ambrazas V. ir Sabaliauskas. A. Borisas Larinas. Lietoviu kalbos morfologine
sandaze ir jas Raida. Vilnius, 1964.
11. Мещерский Я. А. [Некролог].-— «Русская литература», 1964, № 2, с. 219—
220.
12. Дмитриев Я. Α., Сафронов Λ Я. Большая утрата советской науки.—
Зборник за филологшу и лингвистику. Т. 8. Нови Сад, 1965, с. 219—221.
13. Loetzsch R. Boris Aleksandrovifc Larin.— «Zeitschrift für Slawistik», 1965,
X, Nr. 2, S. 334—335.
222
14. Dmitriew P. A. Boris Aleksandrowicz Larin (1893—1964).—i Acta Baltics
slavica», 1965, t. II, p. 630—532.
15. Корпев А. И. Б. А. Ларин и русская диалектология.— В кн.: Вопросы
теории и истории языка. Изд-во ЛГУ, 1969, с. 13—26.
16. Мещерский Н. А. Памяти Бориса Александровича Ларина.— В кн.]
Вопросы теории и истории языка. Изд-во ЛГУ, 1969, с. 5—12.
17. Ковтун Л. С. Борис Александрович Ларин (Проблемы языка города и
«мировых языков»).— «Русский язык за рубежом», 1971, № 3.
18. Мещерский Н. А. Б. А. Ларин.— В кн.: Русское языкознание в
Петербургском—Ленинградском университете, гл. X. Изд-во ЛГУ, 1971.
19. Плющ П. П. Б. О. Ларш i украшське радянське мовознавство.— «Мен
вознавство», Кшв, 1973, №5, с. 80.
20. Богородский Б. Л., Иссерлин Е. М. Б. А. Ларин в работе над древнерус-
ским словарем (К 80-летию со дня рождения). — «Вестник ЛГУ», 1974, № 8.
21. Федоров А. В. Б. А. Ларин как исследователь языка художественной ли*
тературы. Вступительная статья.— В кн.: Ларин Б. А. Эстетика слова и язым
писателя. Л., «Худож. лит.», 1974; рецензии: Мокиенко В. М. Ларин Б. А.
Эстетика слова и язык писателя.— «Мовознавство». Khïb, 1975, № 3, с. 82—85;
Мещерский Н. А. Эстетика слова и язык писателя.— «Вопросы языкознания»,
1975, № 4, с. 117—119; AS [Alexandr Stichl. Dvë knizky о jazyku ruskô
umëlecké literatury. —«Slovo a slovesnost», Praha, 1976, № 1, s. 71—73.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие (Проф. Б. Л. Богородский) 3
О Борисе Александровиче Ларине (Акад. Д. С. Лихачев) 5
Лексикология, история слов и лексикография
1. Историческая лексикология (вводные лекции к спецсеминару) , 11
2. Очерки по истории слов в русском языке. Вводная заметка . , 43
3. Из истории слов (лютый зверь, семья, кавардак) 46
4. Из русско-индийских соответствий (индийские параллели к
древнерусскому люди лучшие) 56
5. Из славяно-балтийских лексикологических сопоставлений (стыд—
срам) 63
6. О слове янтарь ' . # 73
7. Из истории слов. Буй — погост f 83
8. Об архаике в семантической структуре слова (яр —юр —буй) . 89
9. Об эвфемизмах 101
10. Проект Древнерусского словаря 114
Фразеология
11. Очерки по фразеологии . 125
12. О народной фразеологии 149
Разговорная речь
13. Разговорный язык Московской Руси 163
14. О лингвистическом изучении города 175
15. К лингвистической характеристике города (Несколько
предпосылок) . 189
Из истории отечественного языкознания
16. Значение работ академика Л. В. Щербы в русском языкознании 200
Комментарии (Проф. Н. А. Мещерекий) 209
Приложения
1. Автобиография Бориса Александровича Ларина 214
2. Сггисок трудов проф. Б. А. Ларина (Науч. сотр. И. С. Лутови-
нова) 215
3. О Б. А. Ларине (Науч. сотр. И. С. Лутовинова) 222
ИБ № 480 'v
ЛАРИН
Борис Александрович N
ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Редактор А. П. Грачев. Художник Ю. К. Левиновский.
Художественный редактор Т. Г. Никулина. Технический редактор Г. Л. Τ а т у ρ а.
Корректор А. А. Б а р и н о в а.
Сдано щ£ набор 26/ΧΙ 1976 г. Подписано к печати 22/IV 1977 г. 60Χ907ιβ. Бумага ти-
погр. № 2. Печ. л. 14+0,125 п. л. вкл. Уч\-изд. л. 15,61+0,05 п. л. вкл. Тираж 70 000 экз.
Заказ 5422.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство сПросвещение» Государственного
комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Отпечатано с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного
Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова в типографии нзда».
тельства «Горьковская правда», г. Горький, ул, Фигнер, 32,