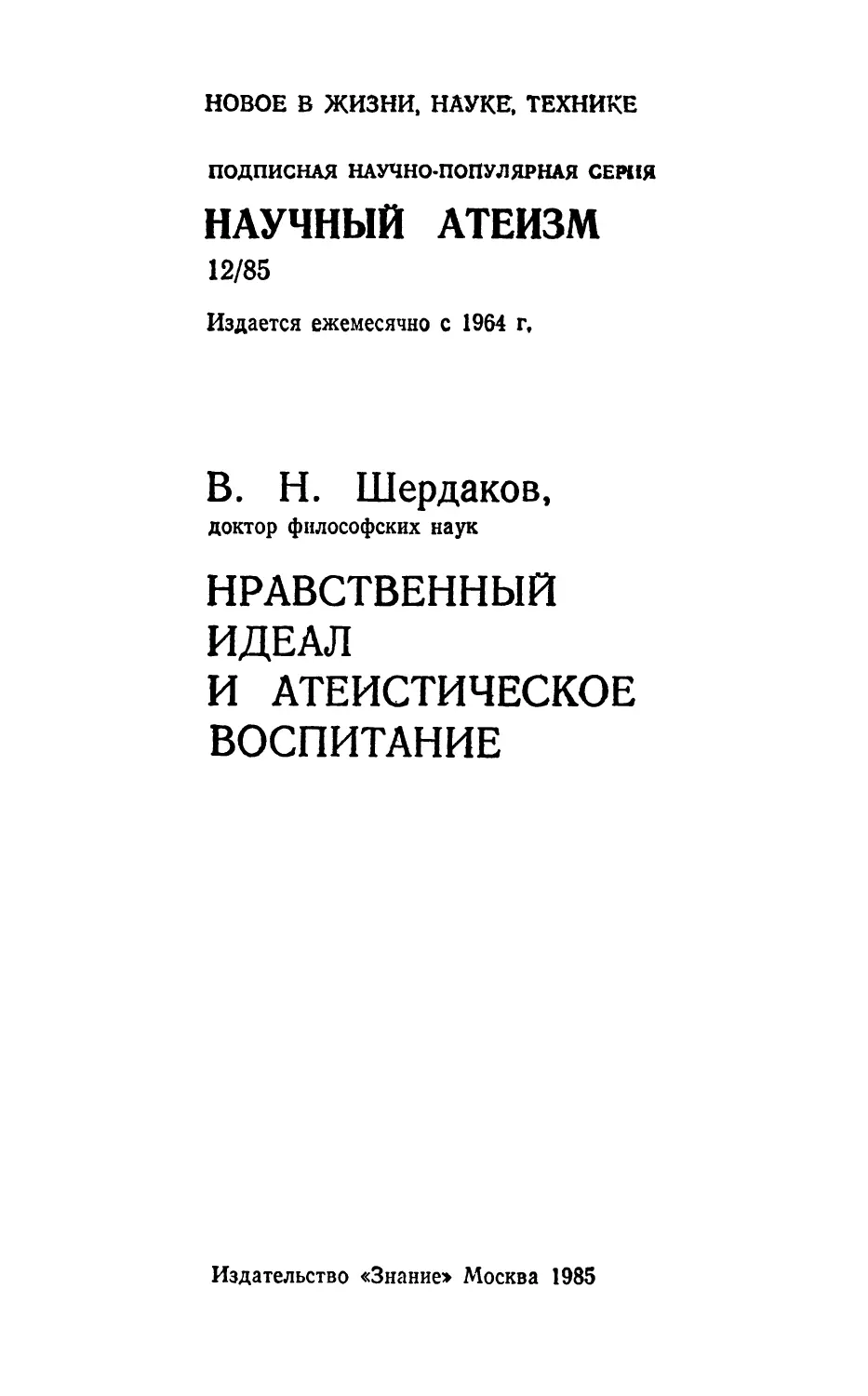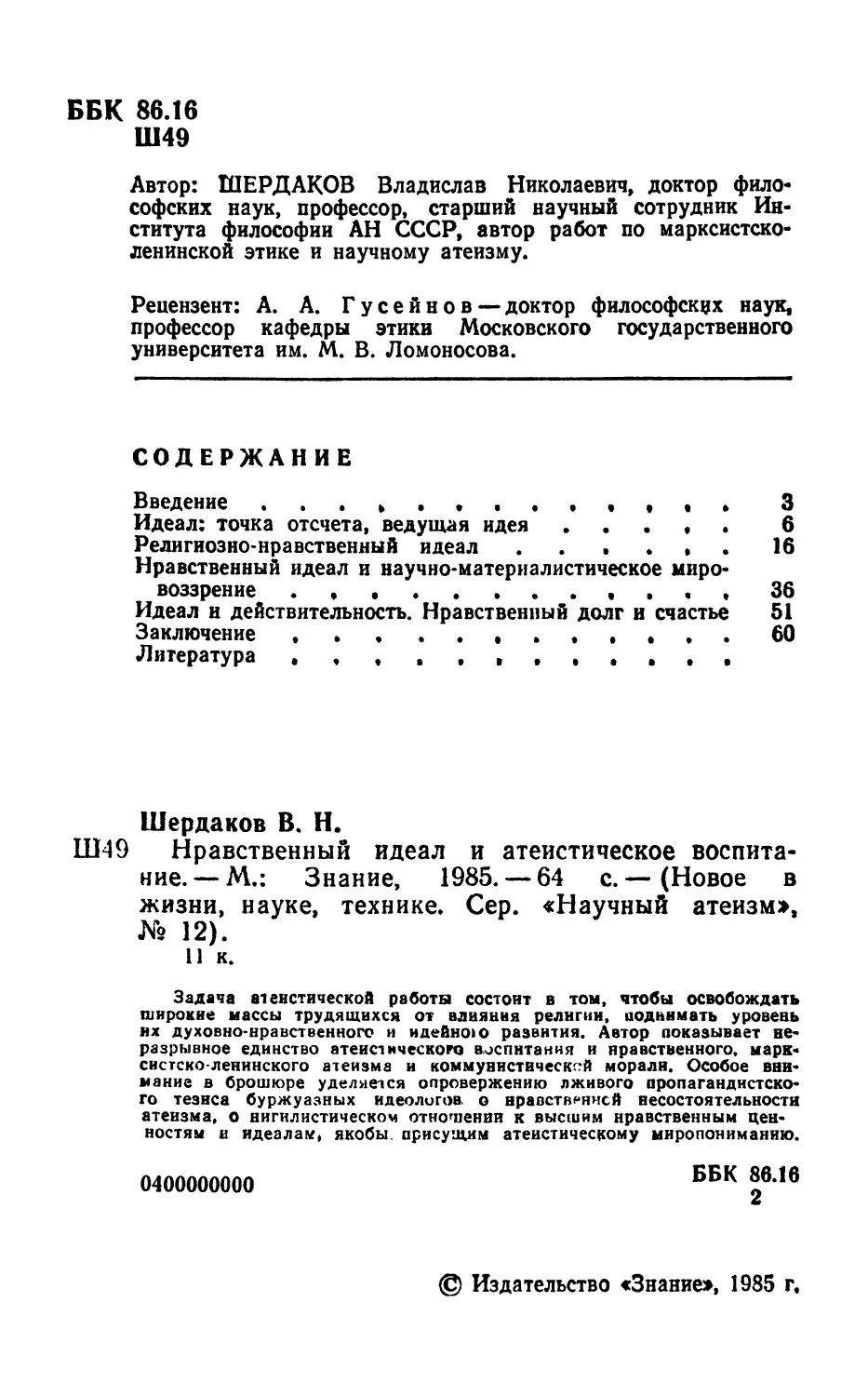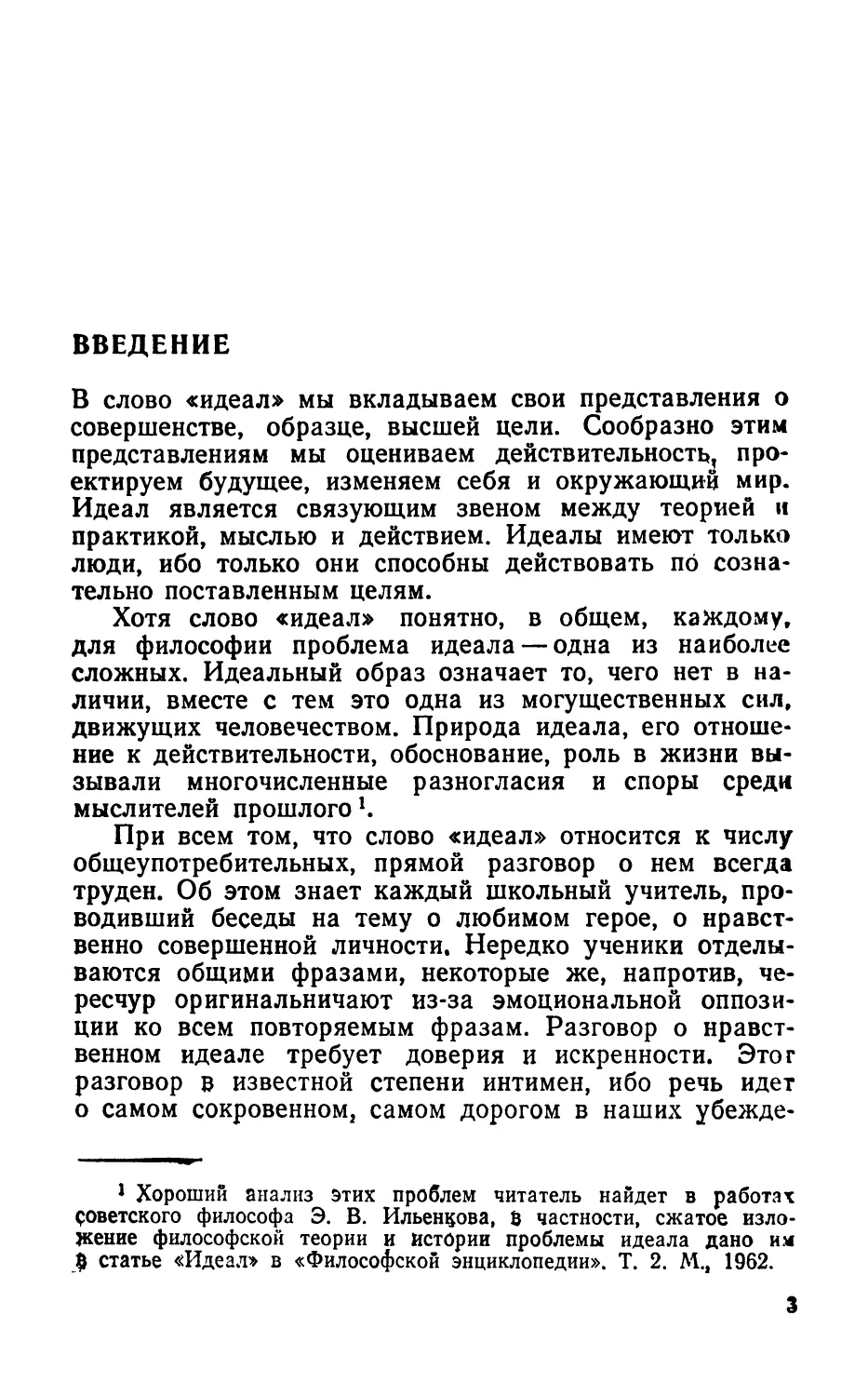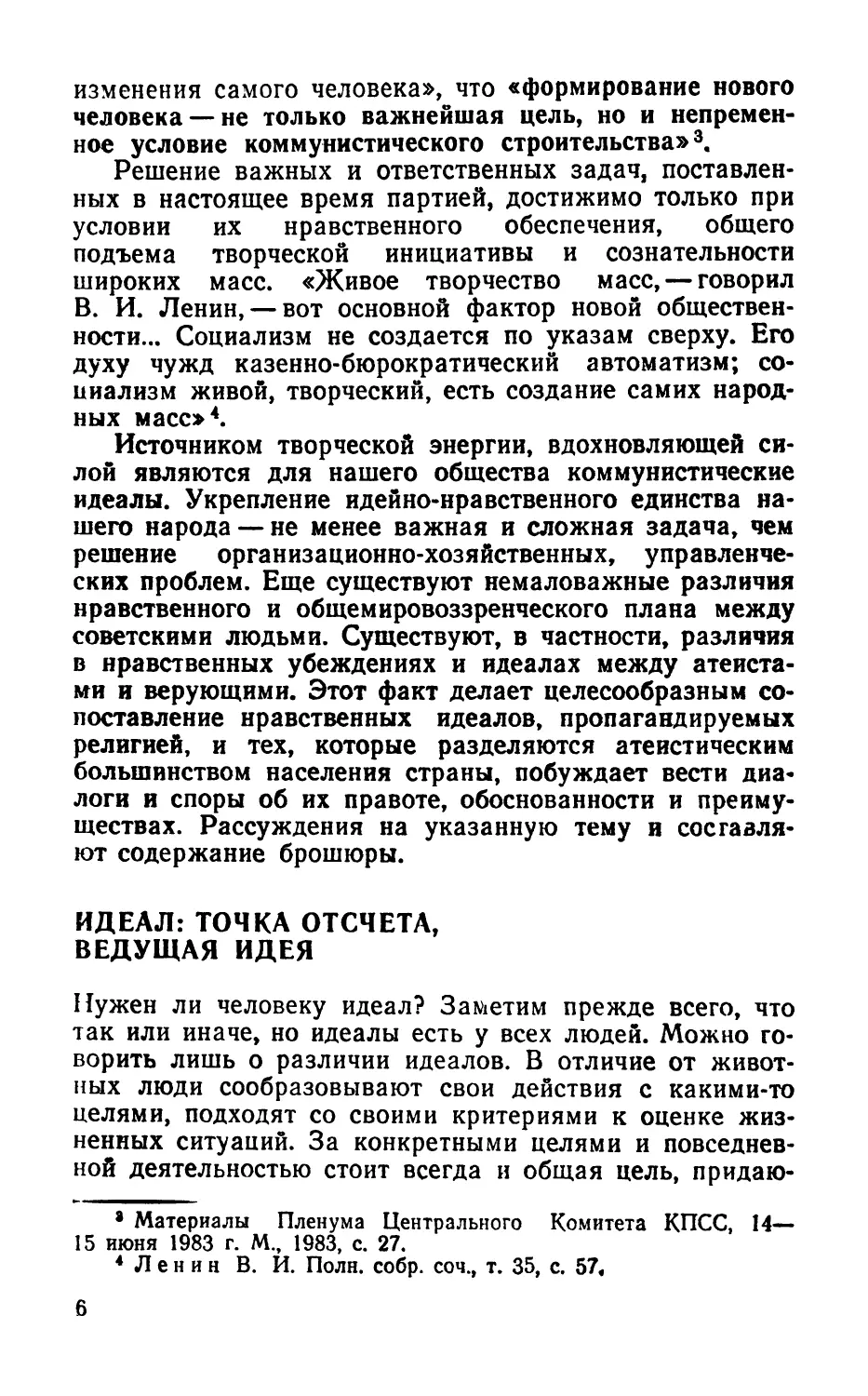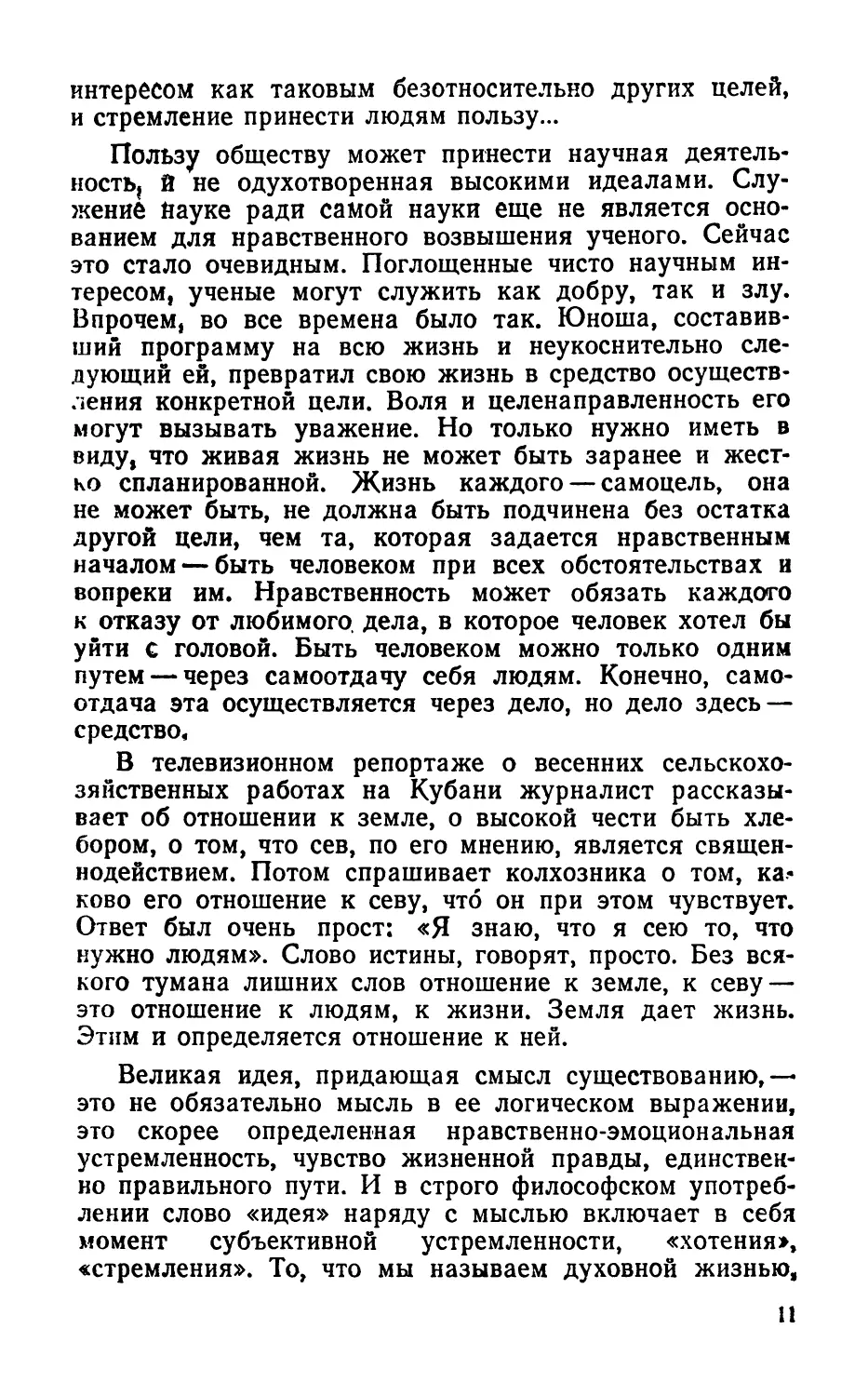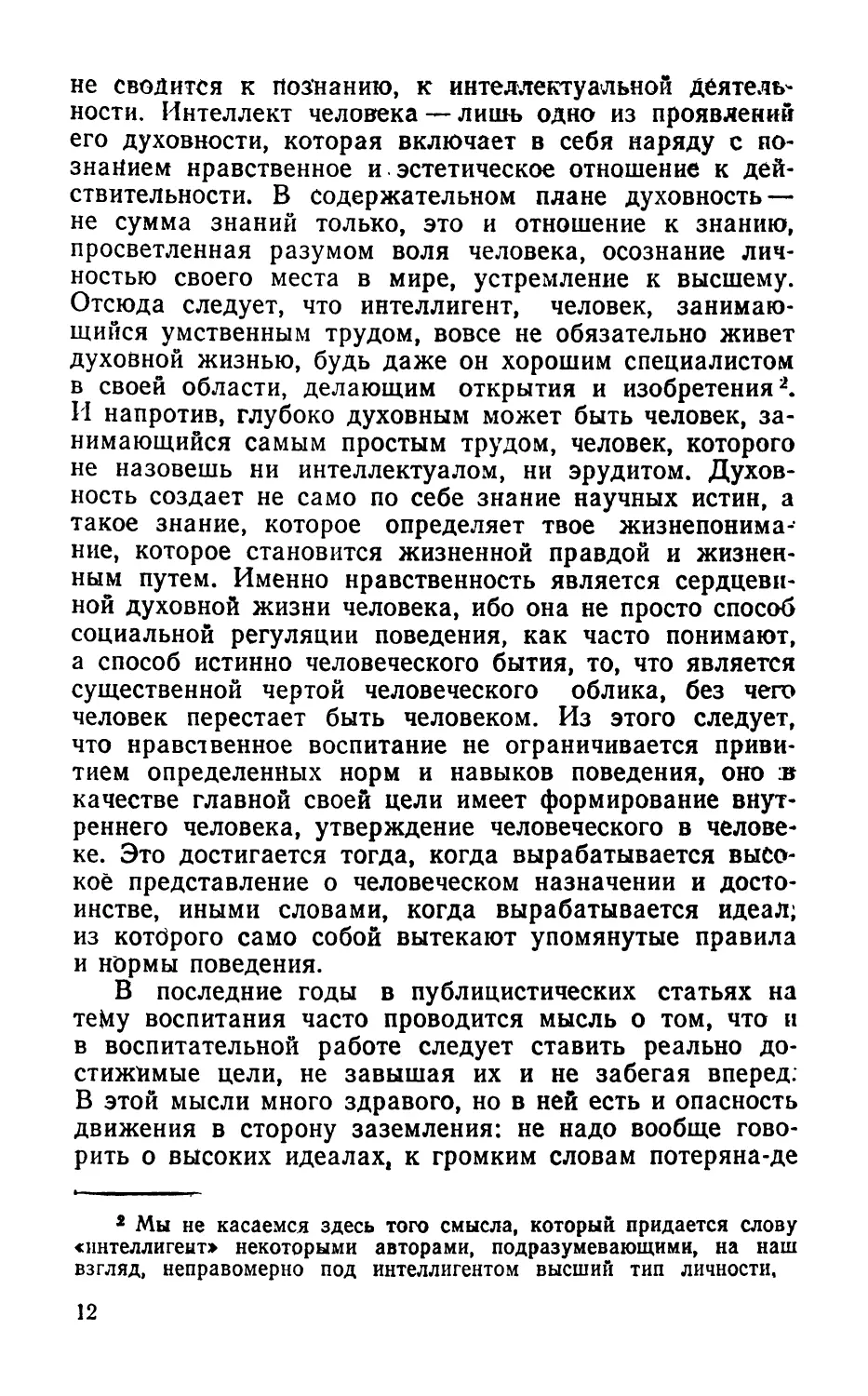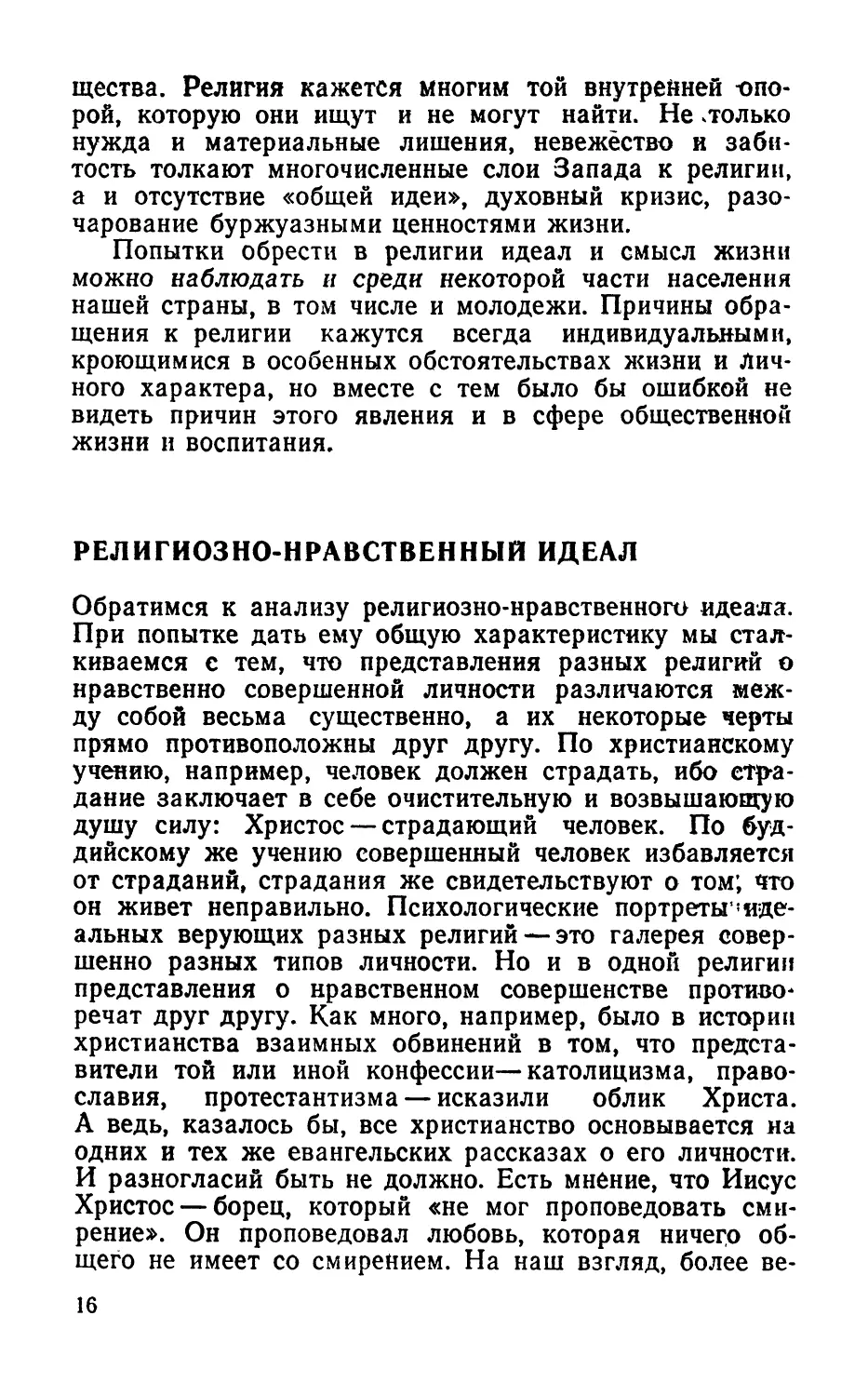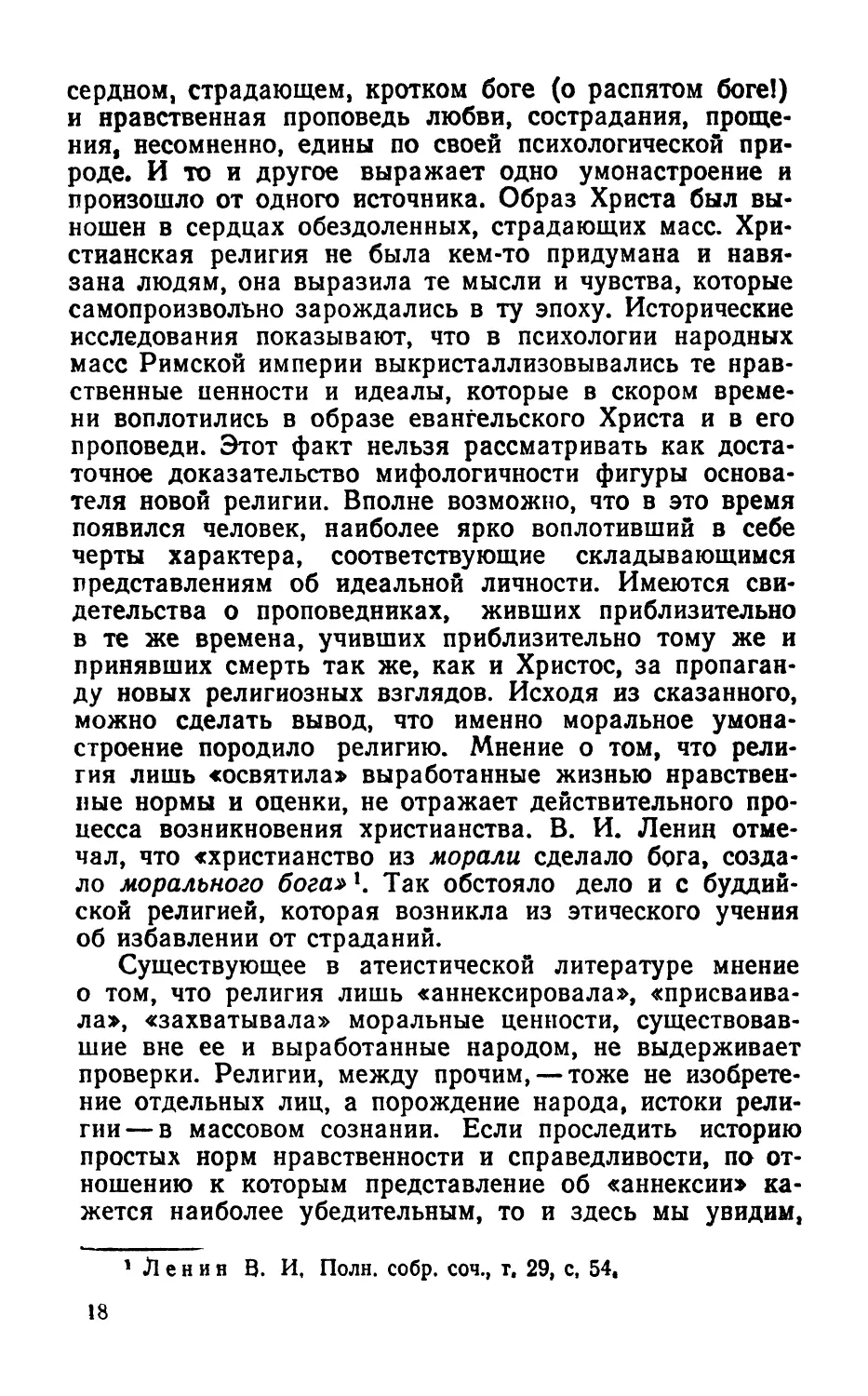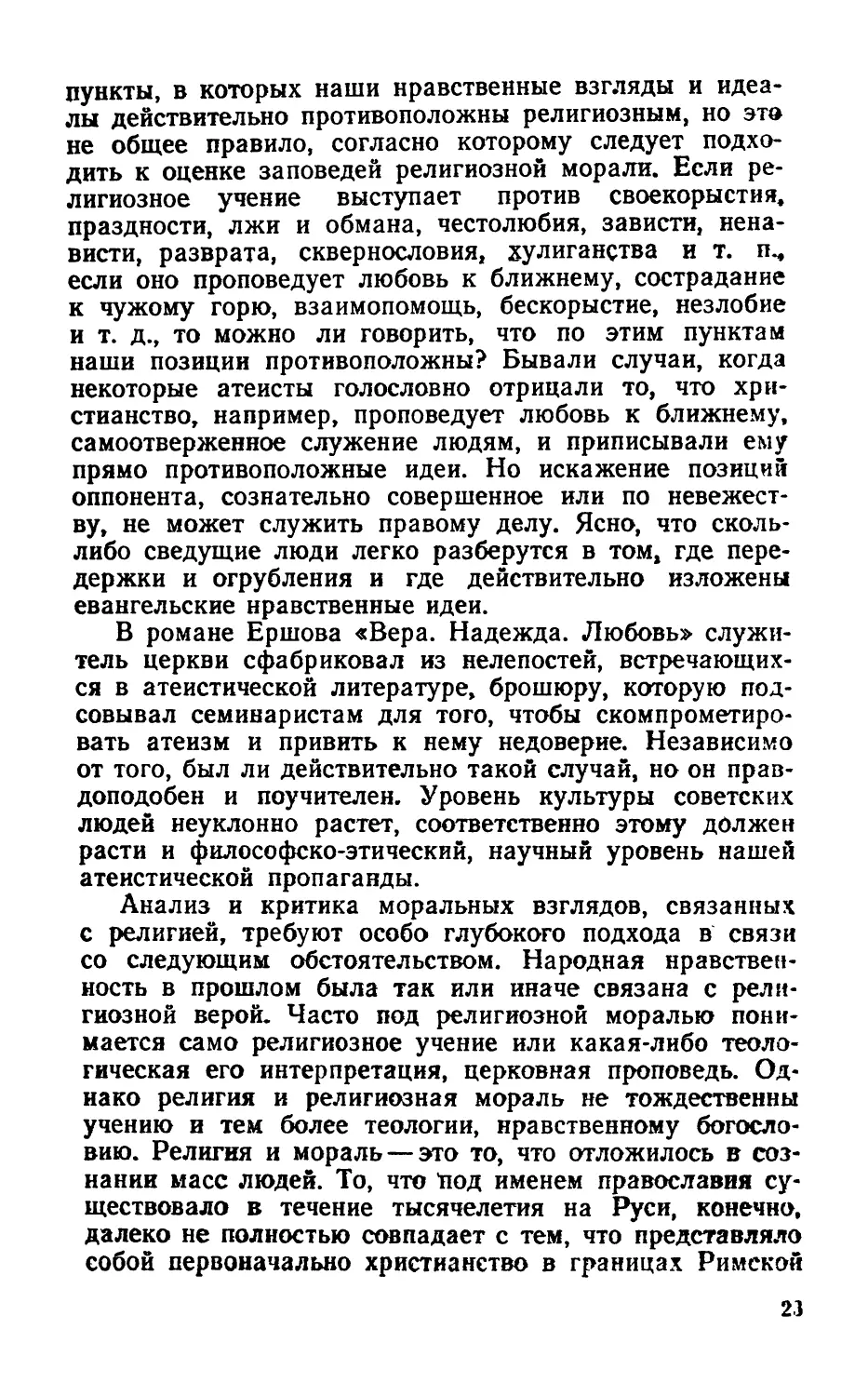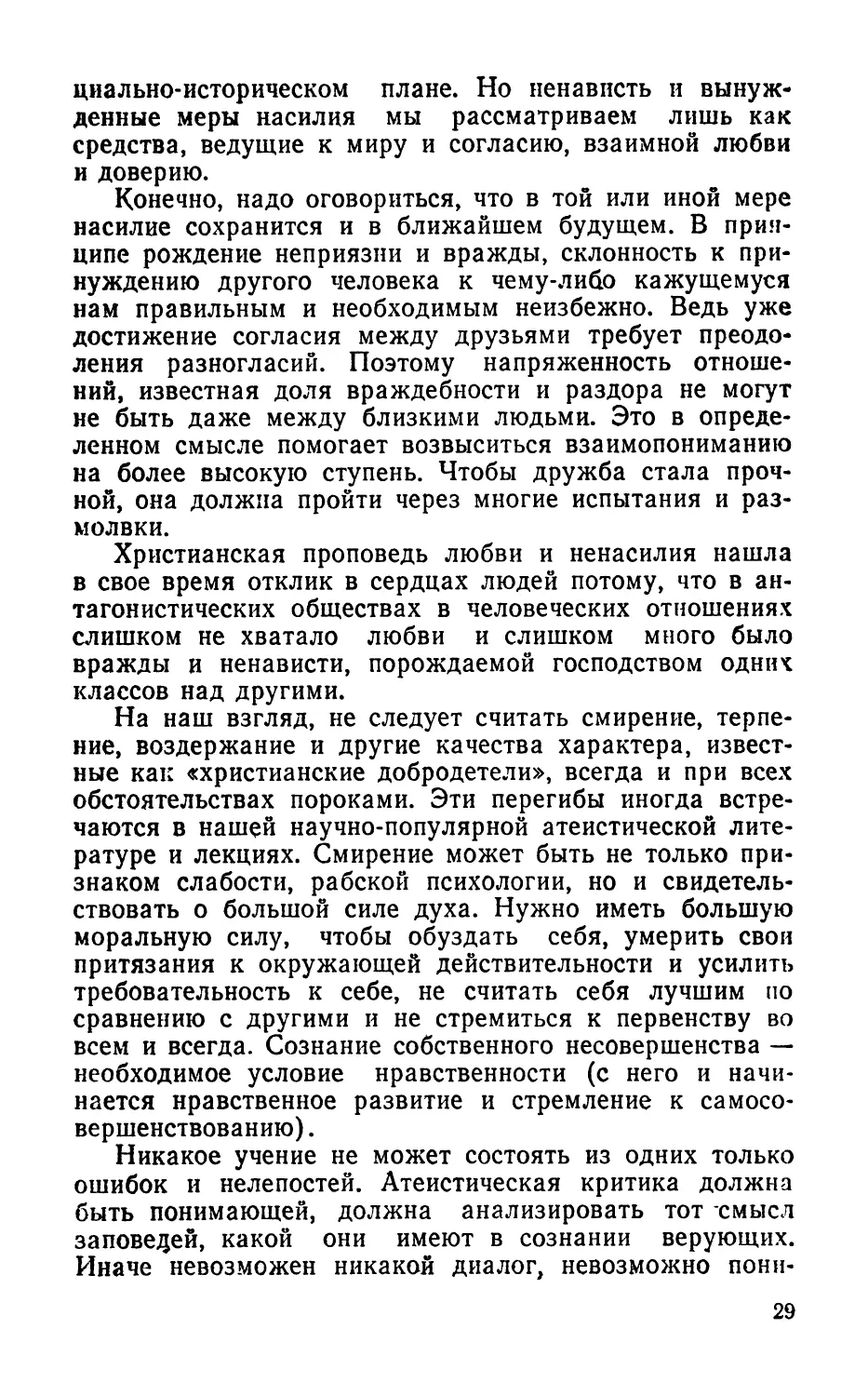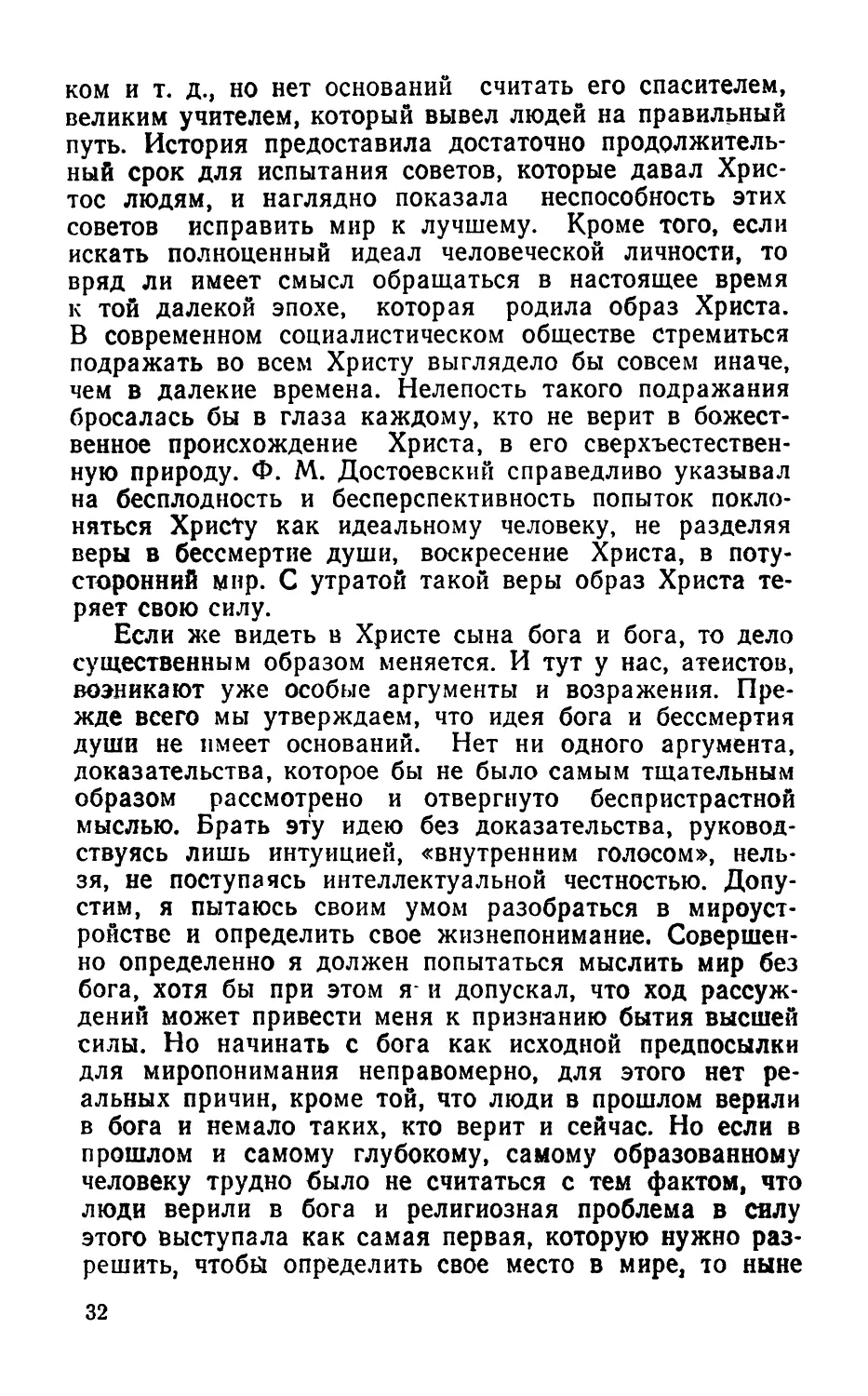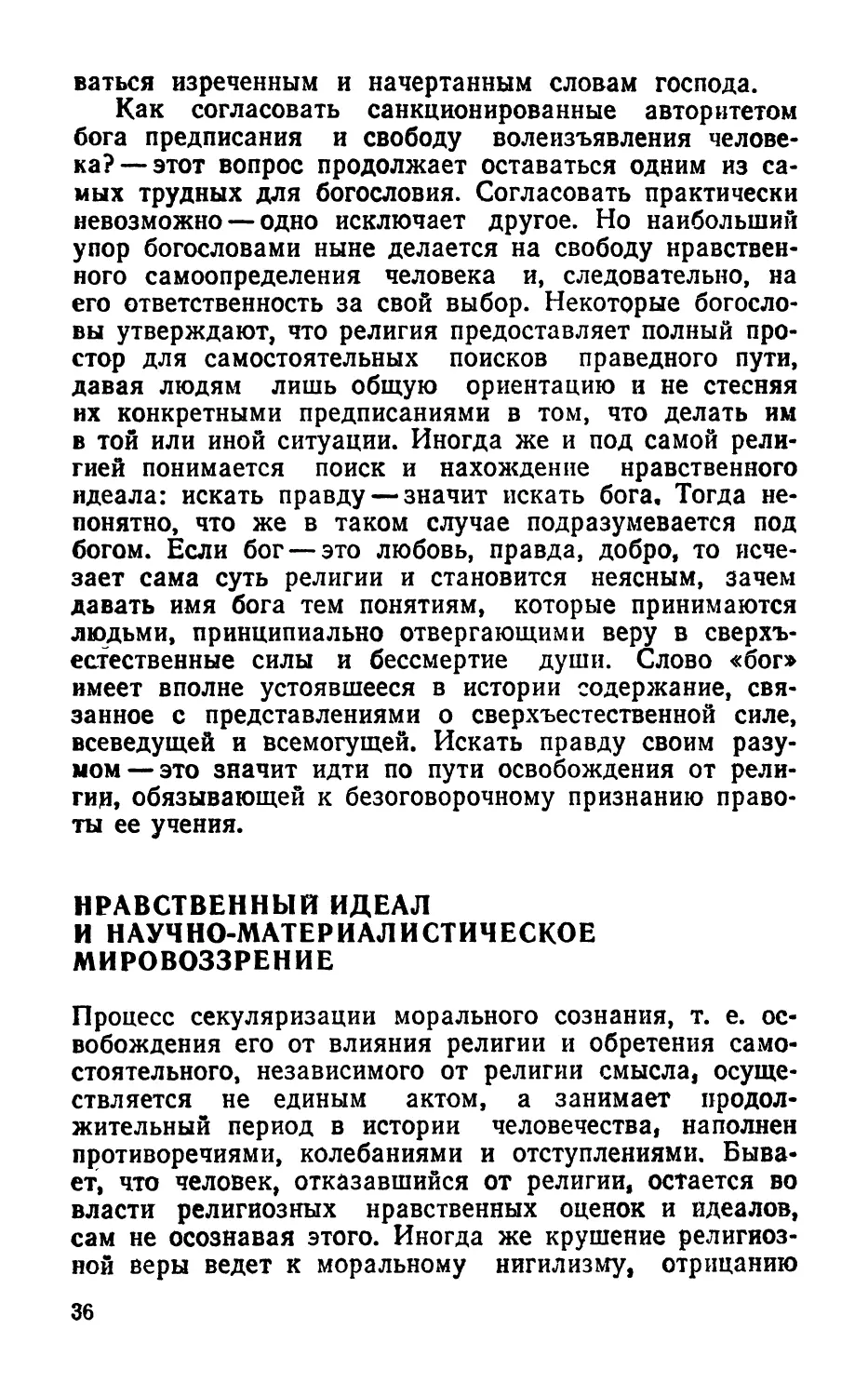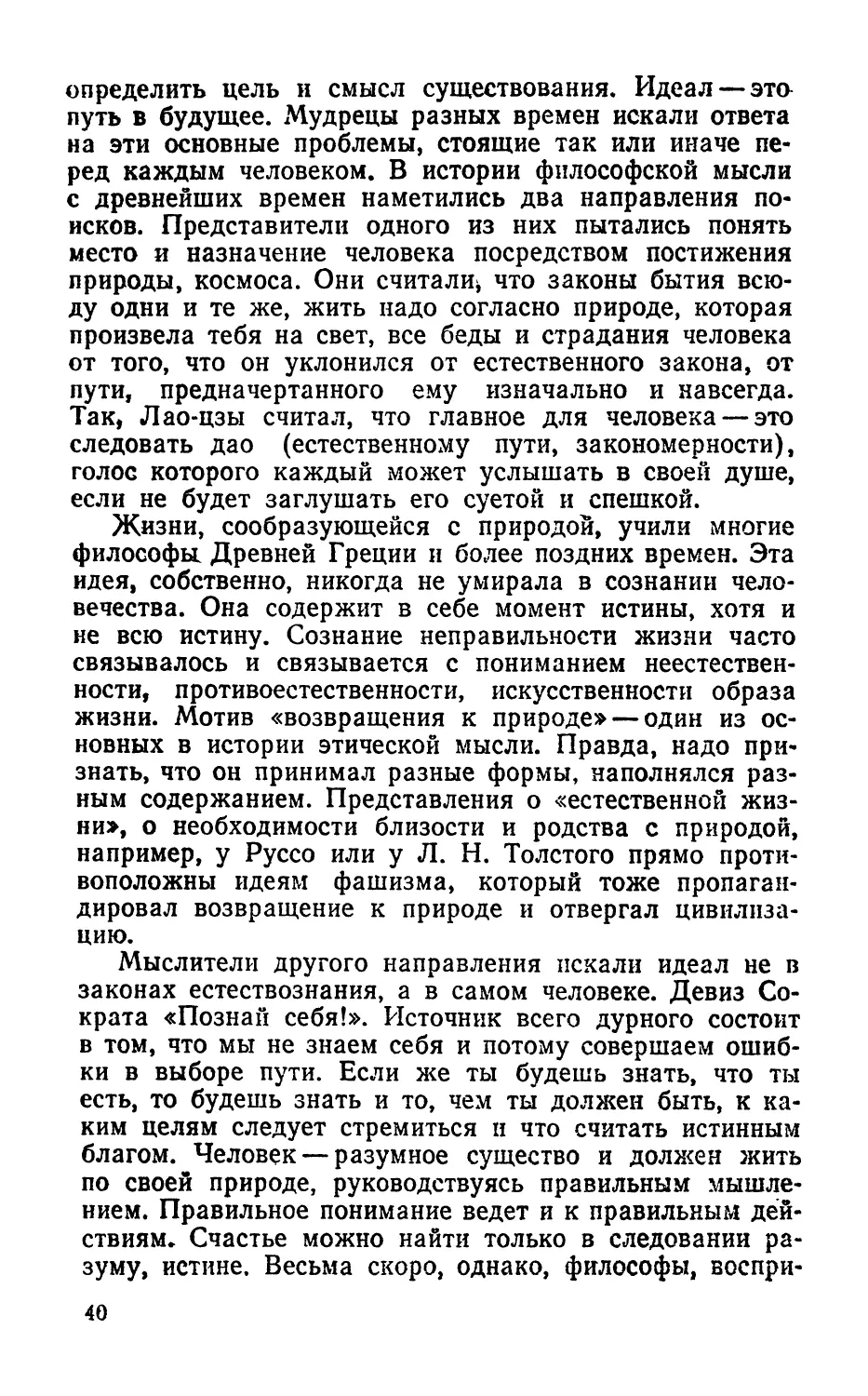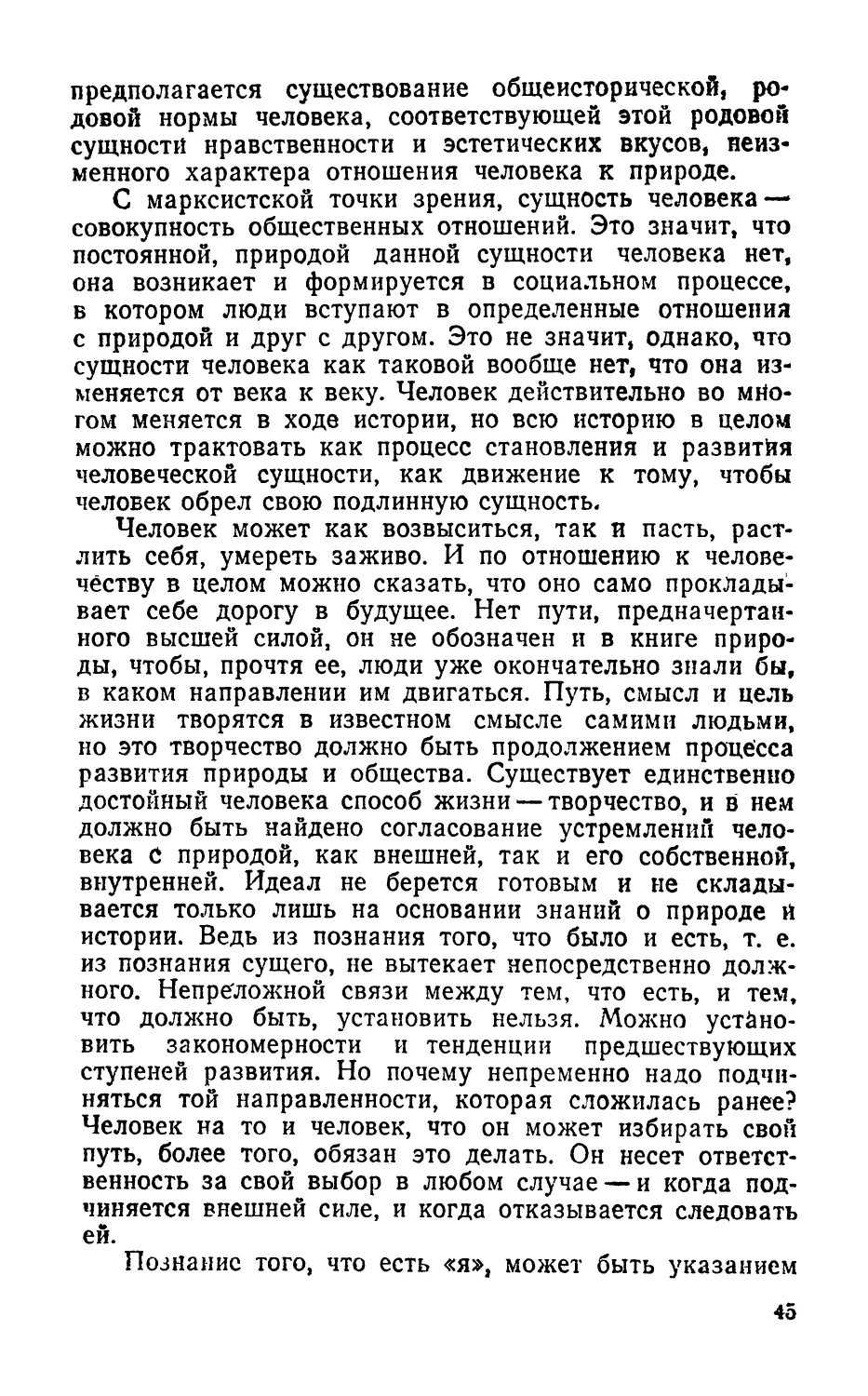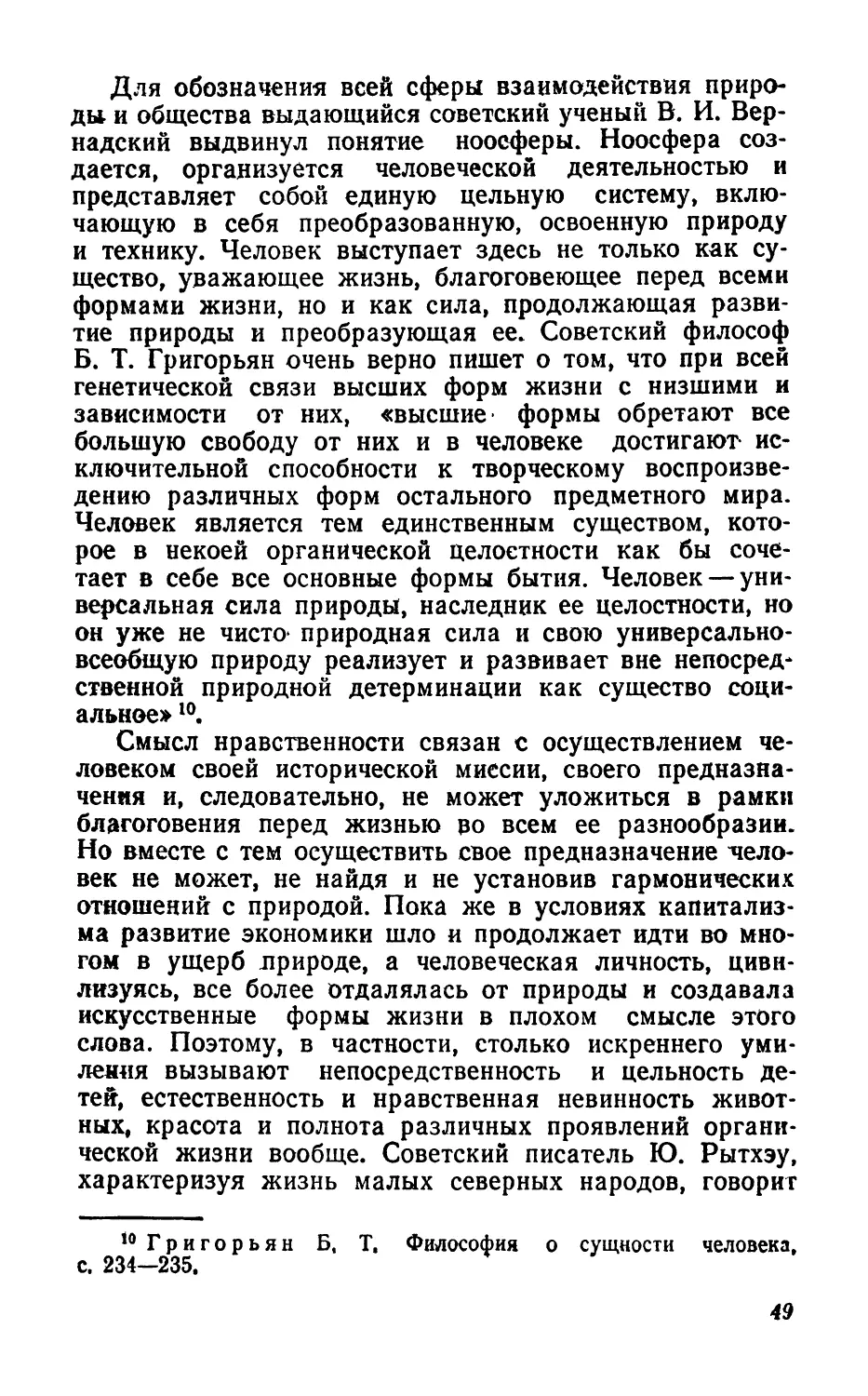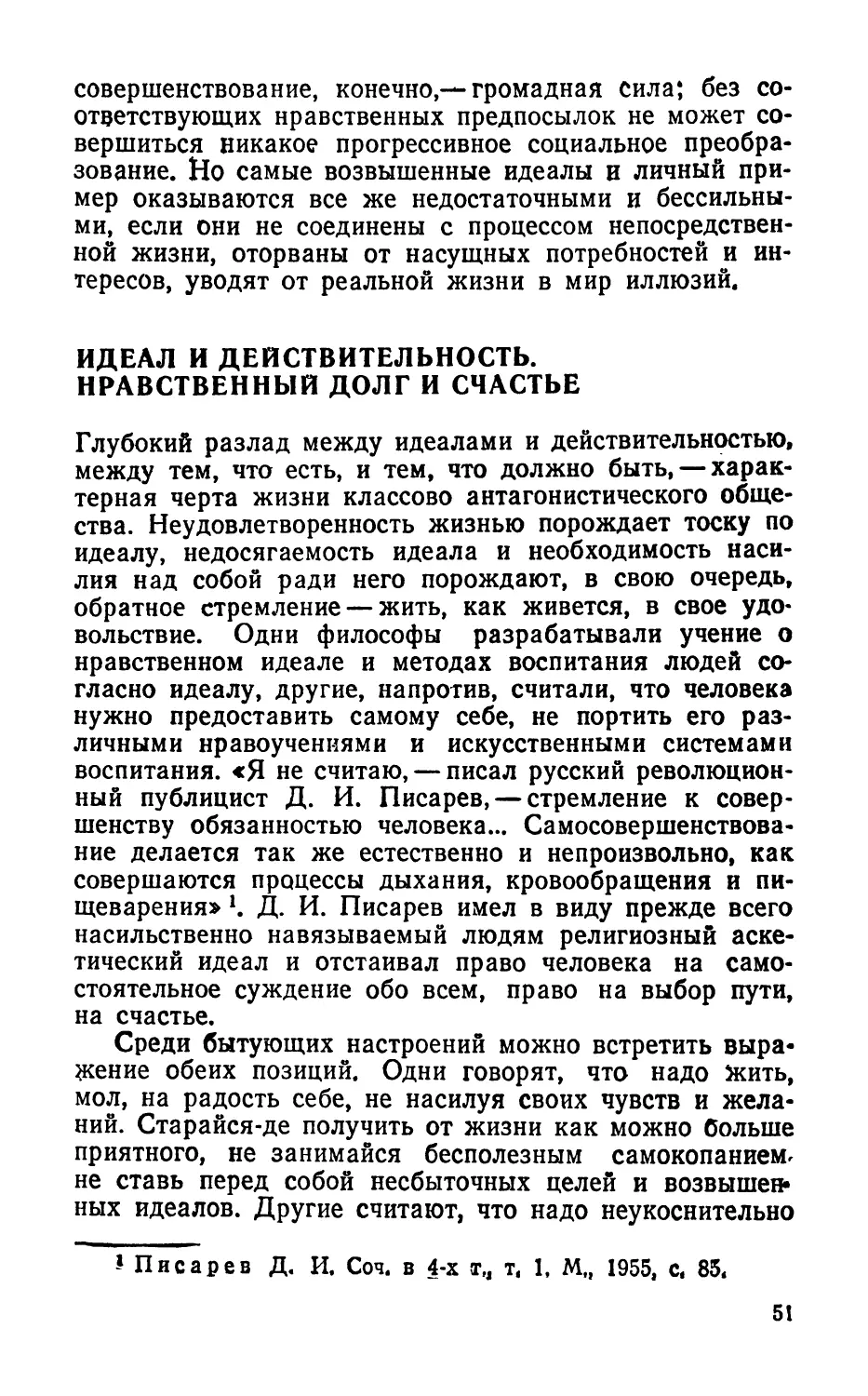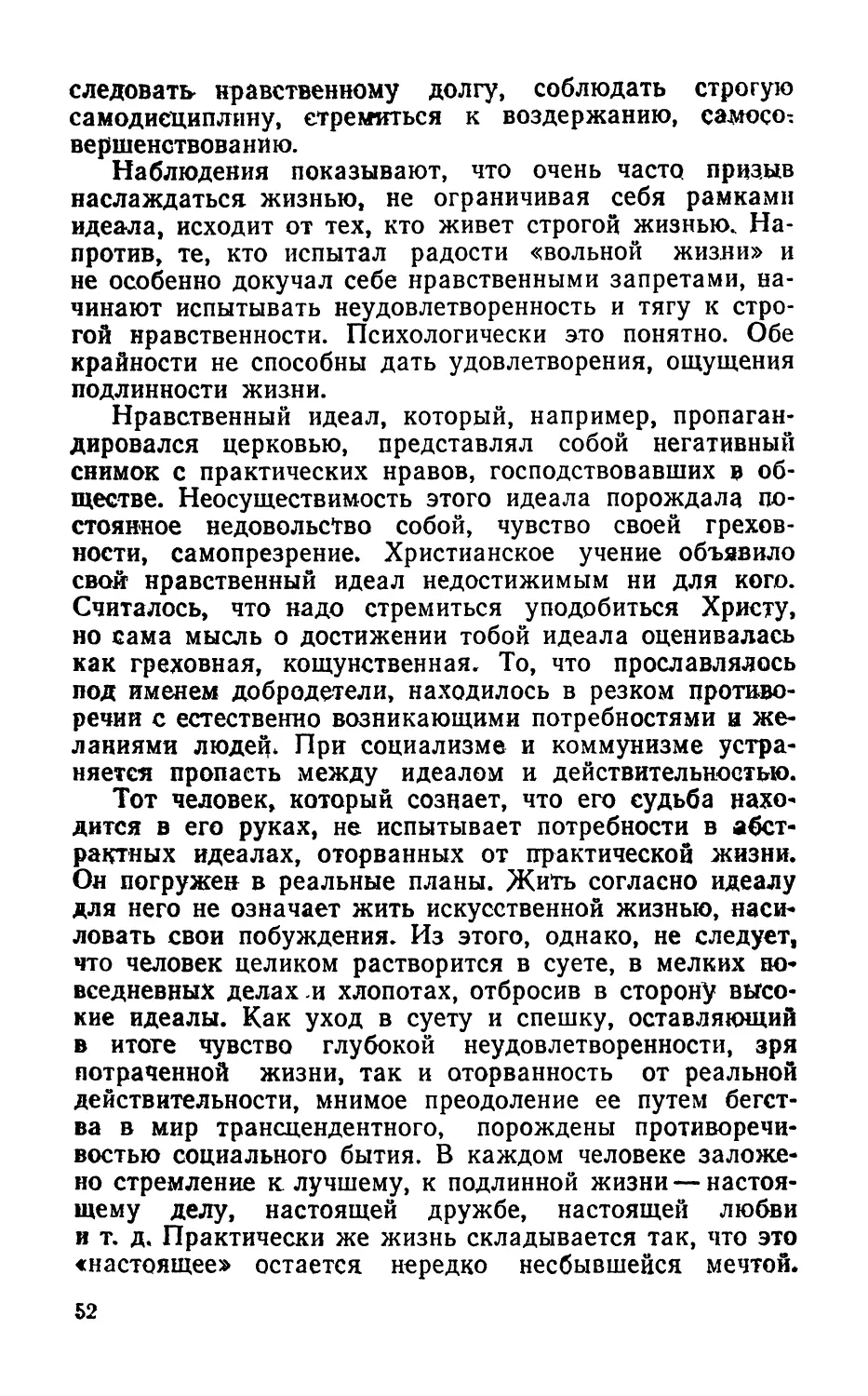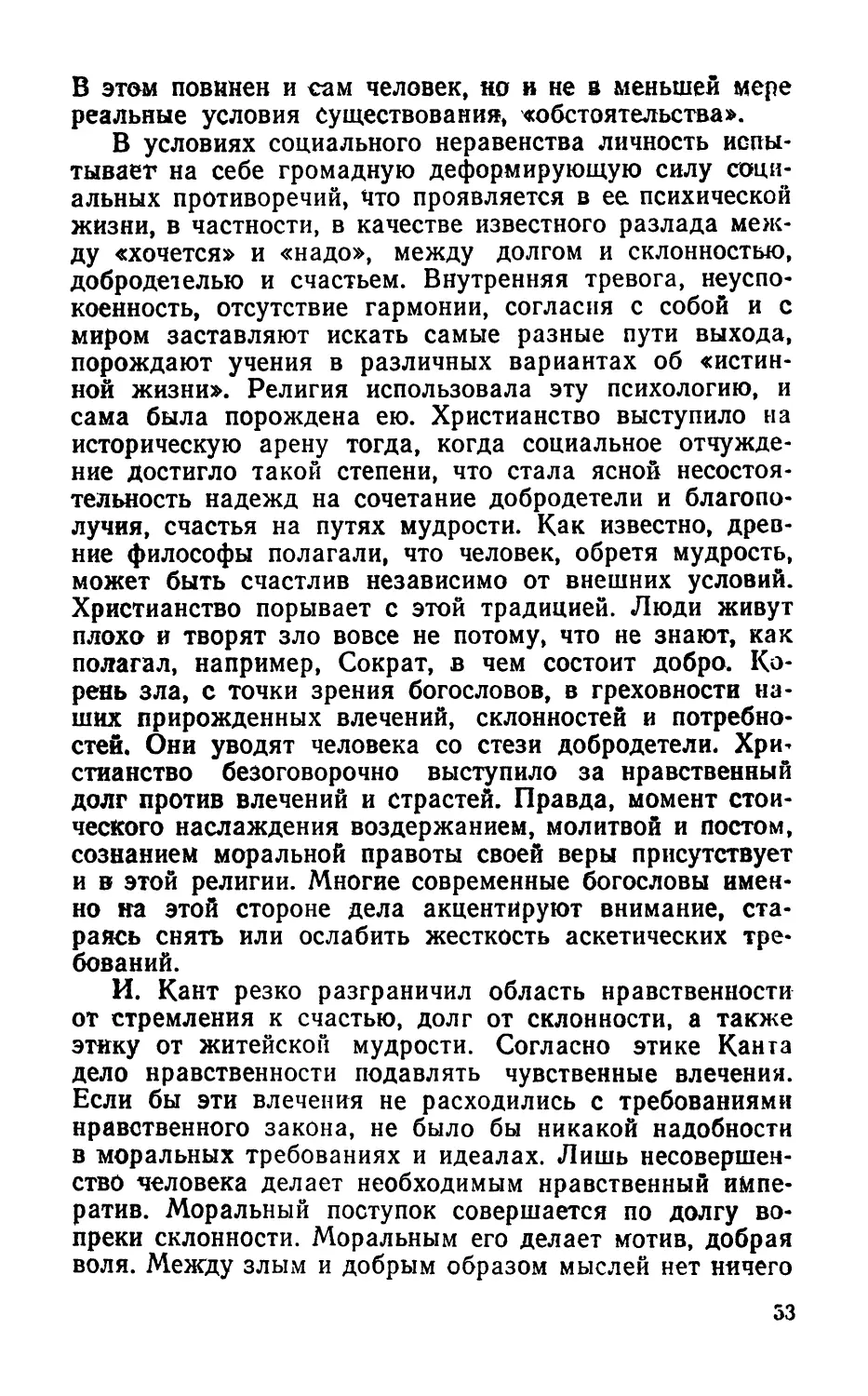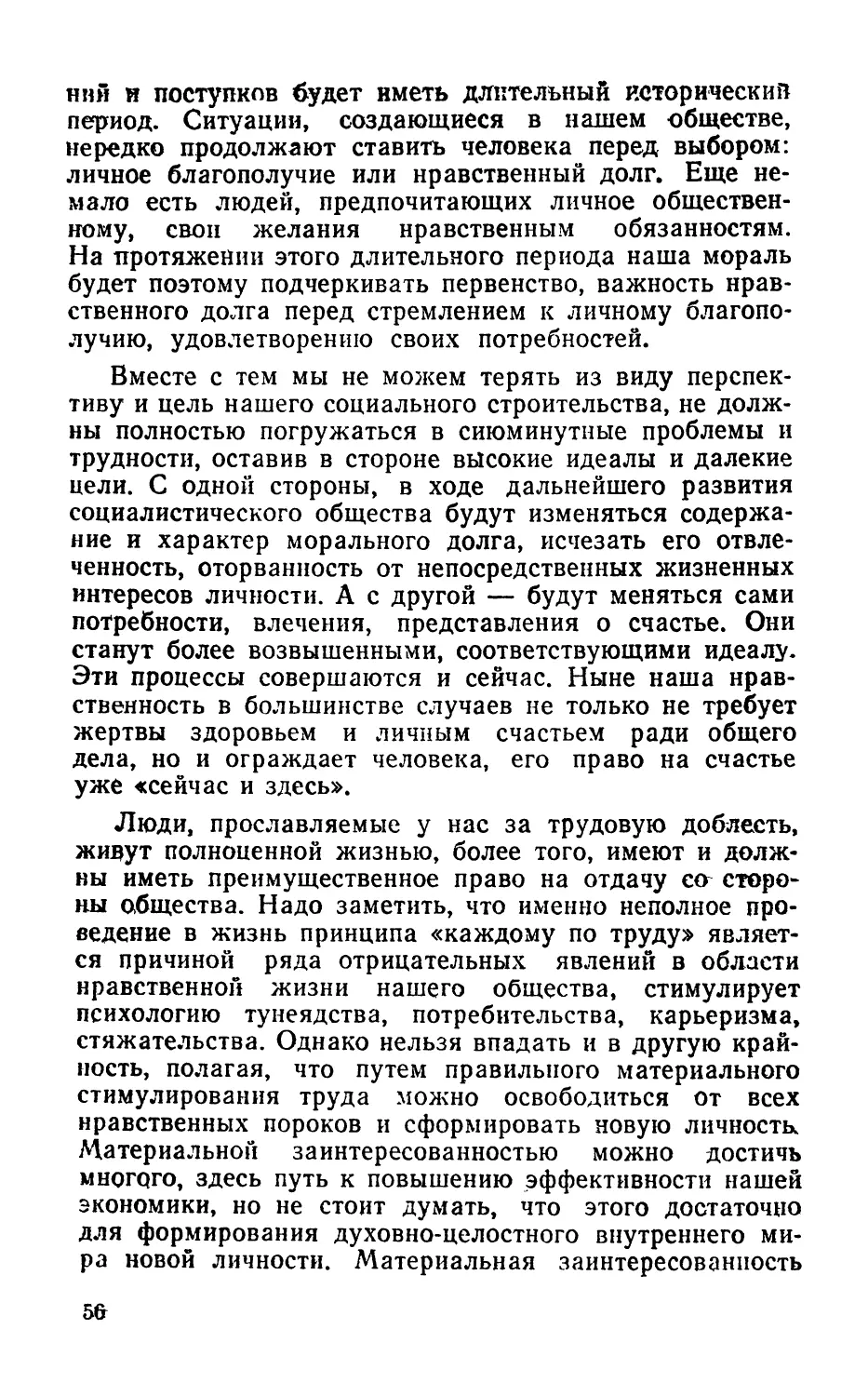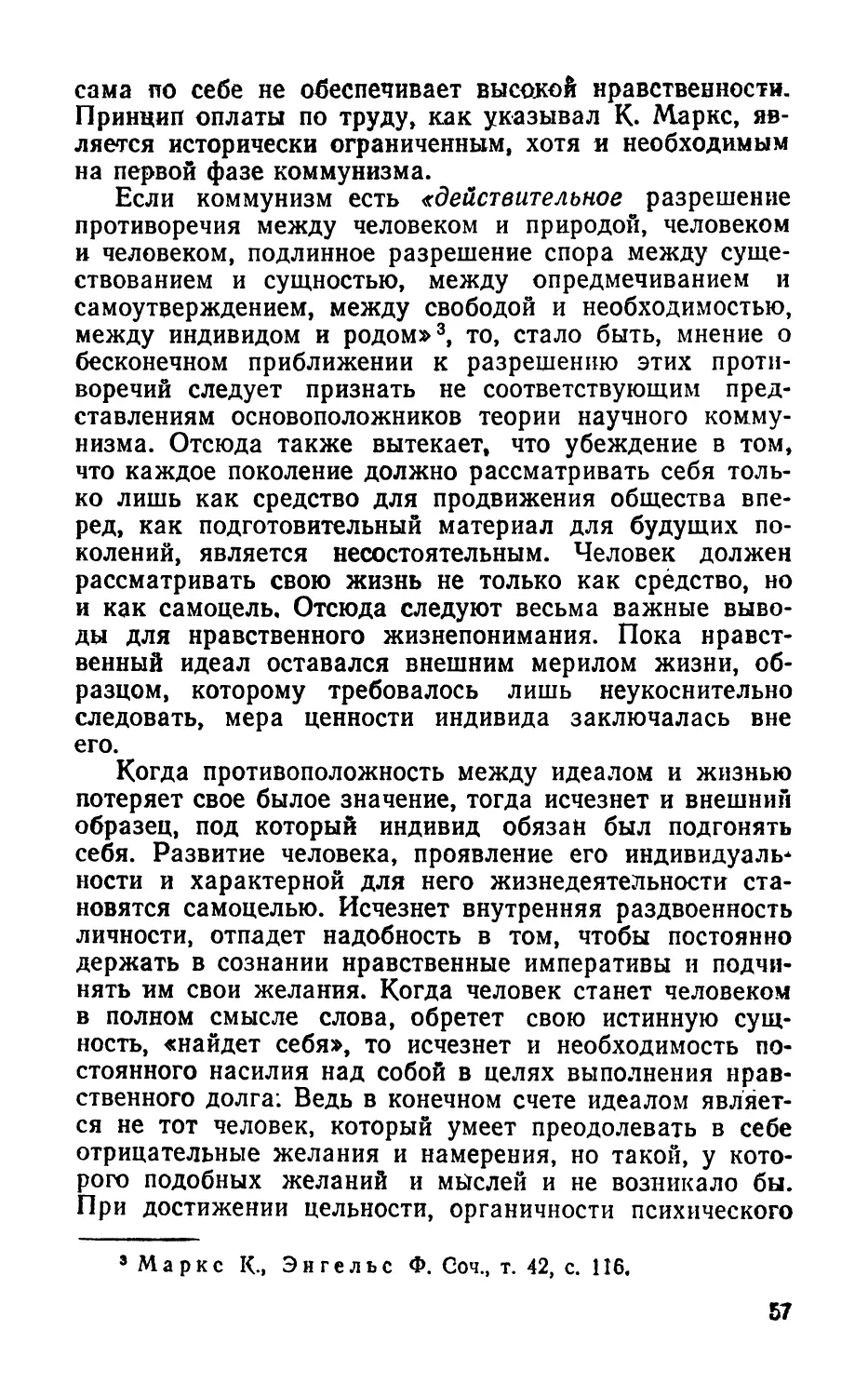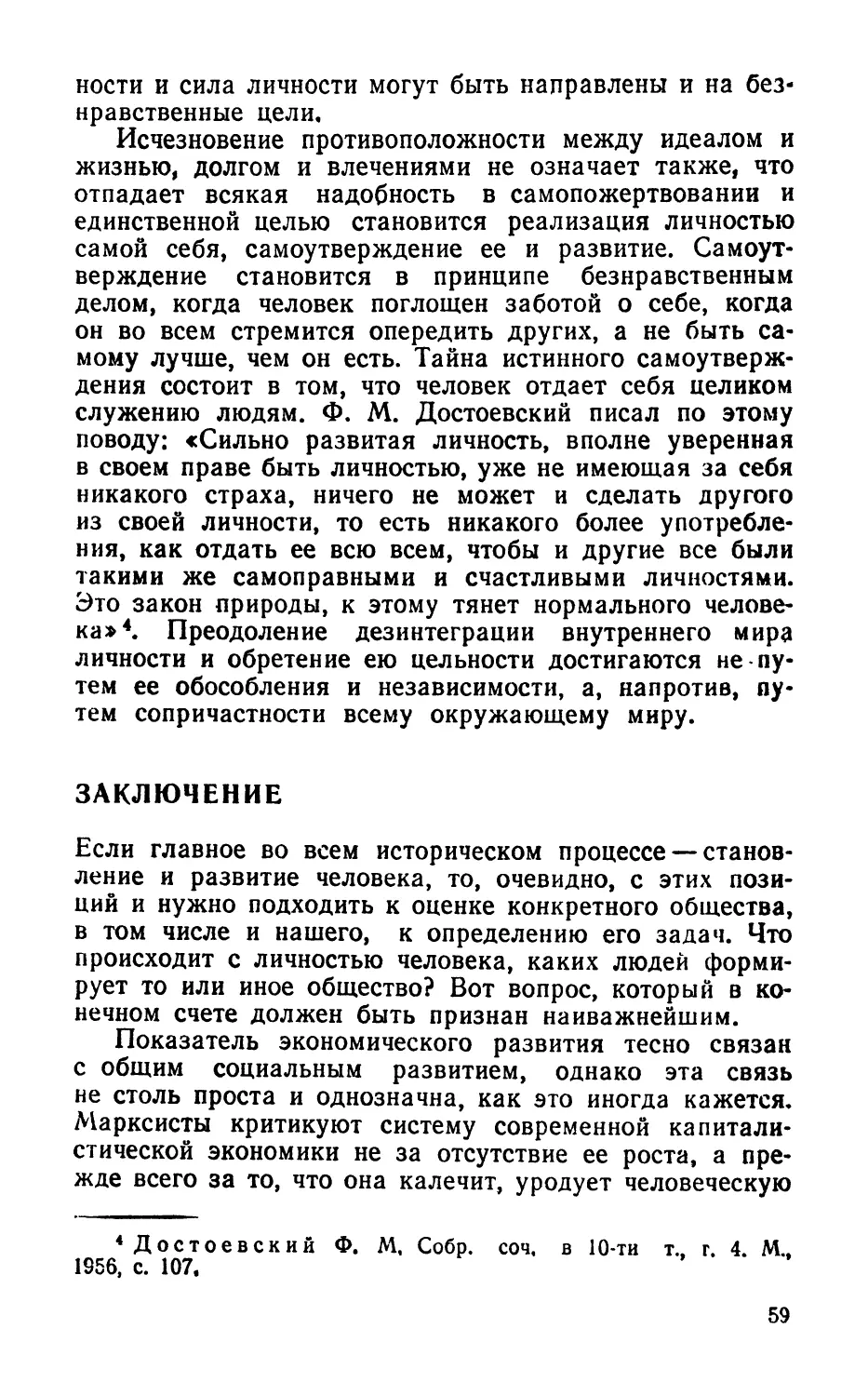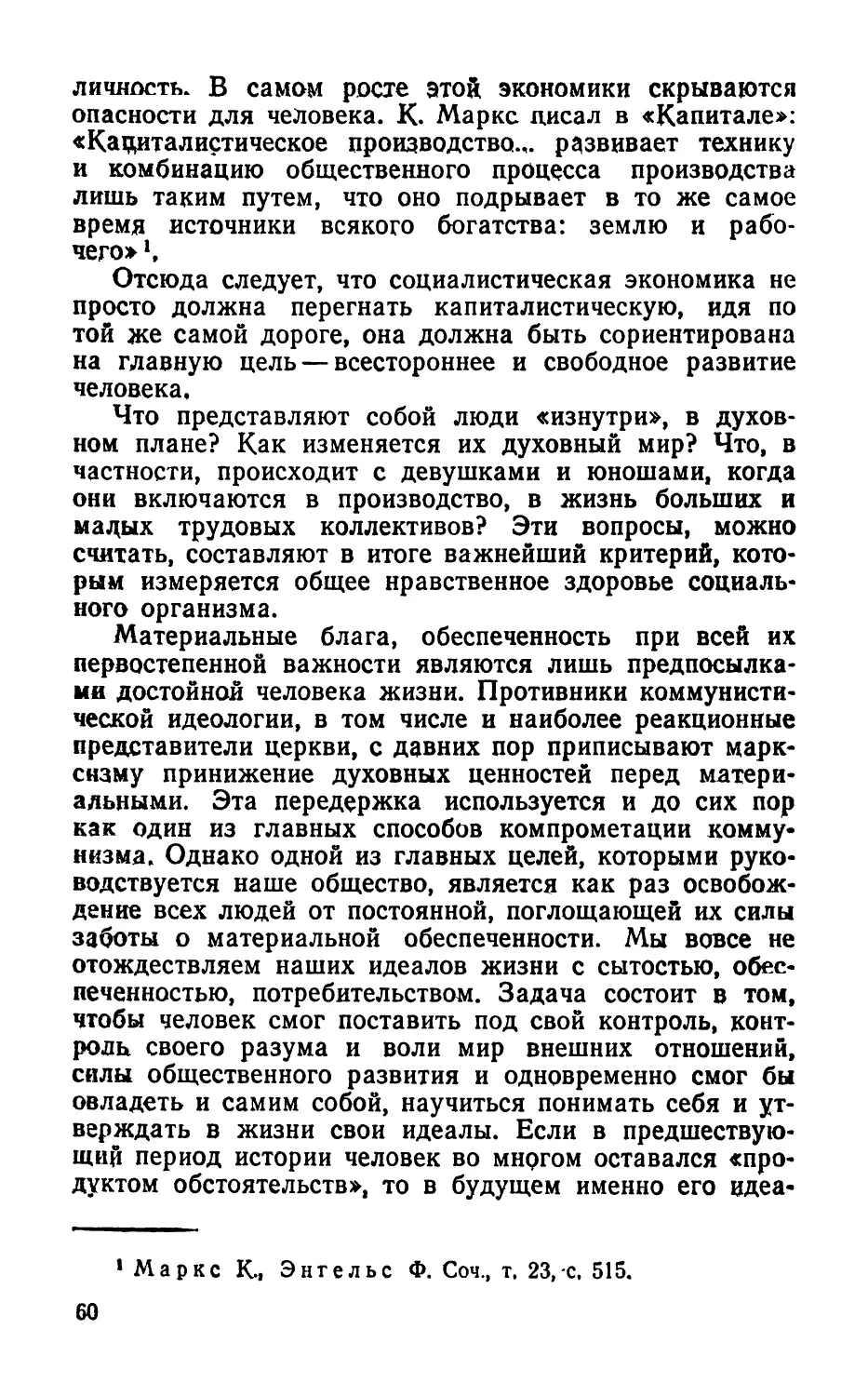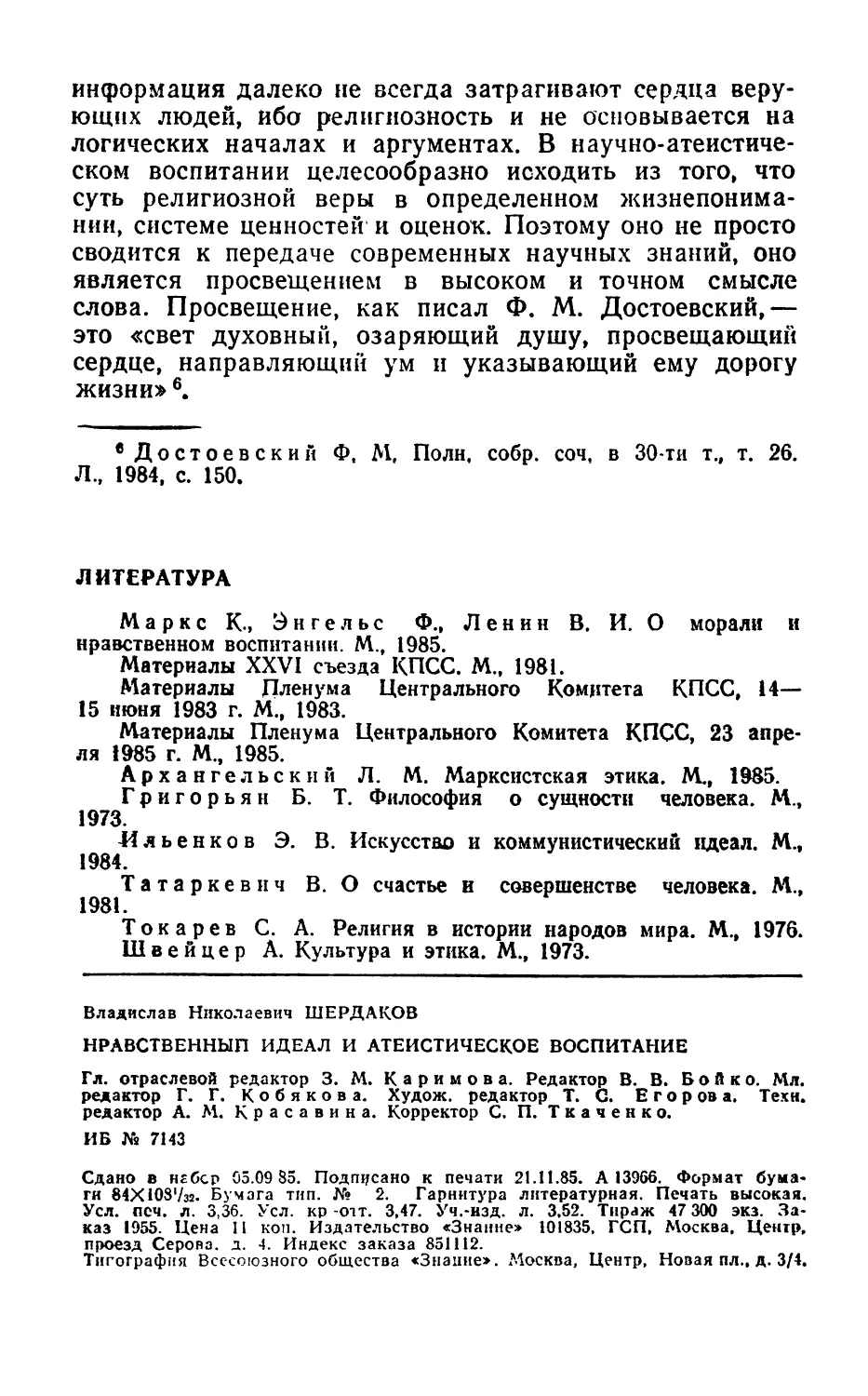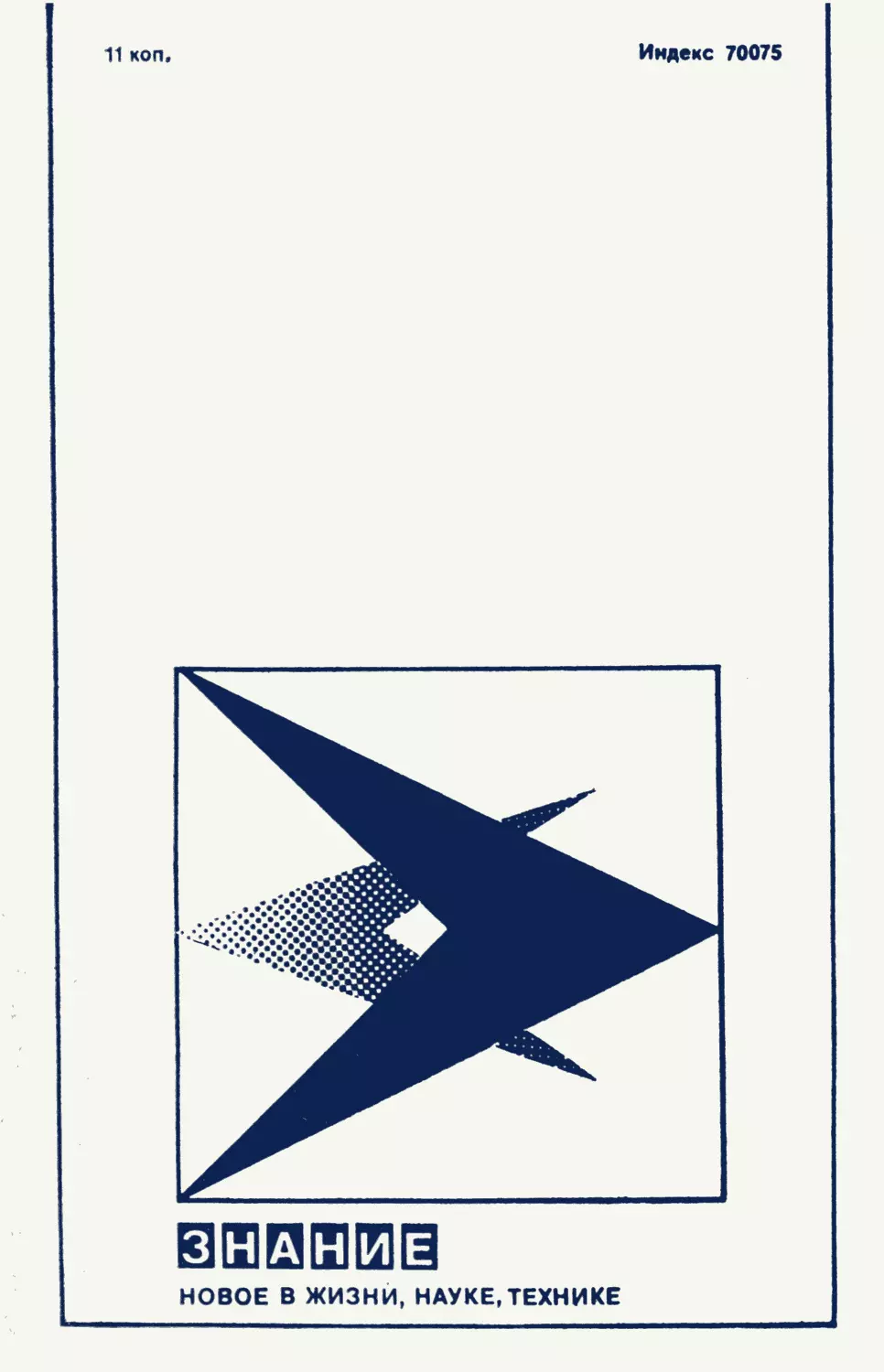Author: Шердаков В.Н.
Tags: религиоведение история атеизм научный атеизм марксизм-ленинизм
Year: 1985
Text
НАУЧНЫЙ
ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
В.Н. Шердаков
НРАВСТВЕННЫЙ
ИДЕАЛ
И АТЕИСТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
вшишив
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ
ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
НАУЧНЫЙ АТЕИЗМ
12/85
Издается ежемесячно с 1964 г.
В. Н. Шердаков,
доктор философских наук
НРАВСТВЕННЫЙ
ИДЕАЛ
И АТЕИСТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Издательство «Знанио Москва 1985
ББК 86.16
Ш49
Автор: ШЕРДАКОВ Владислав Николаевич, доктор
философских наук, профессор, старший научный сотрудник
Института философии АН СССР, автор работ по марксистско-
ленинской этике и научному атеизму.
Рецензент: А. А. Гусейнов—доктор философских наук,
профессор кафедры этики Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ...*••.«.«••» 3
Идеал: точка отсчета, ведущая идея ♦ 6
Религиозно-нравственный идеал 16
Нравственный идеал и научно-материалистическое
мировоззрение ♦ 36
Идеал и действительность. Нравственный долг и счастье 51
Заключение • • . . 60
Литература •,,,.»•..»•.
Шердаков В. Н.
Ш49 Нравственный идеал и атеистическое
воспитание.— М.: Знание, 1985. — 64 с.— (Новое в
жизни, науке, технике. Сер. «Научный атеизм»,
№ 12).
11 к.
Задача атеистической работа состоит в том, чтобы освобождать
широкие массы трудящихся от влияния религии, иод ни мать уровень
их духовно-нравственного и идейною развития. Автор показывает
неразрывное единство атеистического воспитания и нравственного,
марксистско-ленинского атеизма и коммунистический морали. Особое
внимание в брошюре уделяется опровержению лживого
пропагандистского тезиса буржуазных идеологов о нравственней несостоятельности
атеизма, о нигилистическом отношении к высшим нравственным
ценностям и идеалам, якобы, присущим атеистическому миропониманию.
0400000000 ББК J6'16
© Издательство сЗнание», 1985 г.
ВВЕДЕНИЕ
В слово «идеал» мы вкладываем свои представления о
совершенстве, образце, высшей цели. Сообразно этим
представлениям мы оцениваем действительность,
проектируем будущее, изменяем себя и окружающий мир.
Идеал является связующим звеном между теорией и
практикой, мыслью и действием. Идеалы имеют только
люди, ибо только они способны действовать по
сознательно поставленным целям.
Хотя слово «идеал» понятно, в общем, каждому,
для философии проблема идеала — одна из наиболее
сложных. Идеальный образ означает то, чего нет в
наличии, вместе с тем это одна из могущественных сил,
движущих человечеством. Природа идеала, его
отношение к действительности, обоснование, роль в жизни
вызывали многочисленные разногласия и споры среди
мыслителей прошлогог.
При всем том, что слово «идеал» относится к числу
общеупотребительных, прямой разговор о нем всегда
труден. Об этом знает каждый школьный учитель,
проводивший беседы на тему о любимом герое, о
нравственно совершенной личности. Нередко ученики
отделываются общими фразами, некоторые же, напротив,
чересчур оригинальничают из-за эмоциональной
оппозиции ко всем повторяемым фразам. Разговор о
нравственном идеале требует доверия и искренности. Это г
разговор в известной степени интимен, ибо речь идет
о самом сокровенном, самом дорогом в наших убежде-
1 Хороший анализ этих проблем читатель найдет в работах
советского философа Э. В. Ильенкова, В частности, сжатое
изложение философской теории и истории проблемы идеала дано ил
$ статье «Идеал» в «Философской энциклопедии». Т. 2. М., 1962.
3
няях и чувствах. Самообнажение — мы знаем это по
личному опыту — встречает в нас какое-то внутреннее
сопротивление, оставляет неприятный осадок, будто мы
переступили грань и коснулись того сокровенного,
касаться чего запрещает нравственное чувство. Не обо
всем следует говорить, не обо всем позволительно
спрашивать. Есть вещи, о которых нужно молчать. Слово
может оскорбить и опошлить святыню. Переступая
порог стыдливости, человек теряет что-то очень важное,
чистое, безусловно ценное, имеющее отношение к
идеалу.
Есть и еще одна причина, по которой разговор о
нравственном идеале оказывается трудным.
Представления об идеальном не заключены целиком в сфере
осмысляемого, в верхних этажах психики, они уходят
своими корнями в глубинные пласты внутреннего мира
личности, не контролируемые или не полностью
контролируемые нашим интеллектом и волей. Отношения
человека к миру, другим людям и самому себе
складываются как из осознаваемых, так и неосознаваемых
связей. Возьмем, к примеру, наши эстетические оценки,
наши представления о красоте. Они складываются под
влиянием множества факторов, о многих из которых
мы не отдаем себе отчета. Если это лицо мне кажется:
красивым, вряд ли логические доводы могут изменить
мое непосредственное восприятие. Дело здесь не
сводится к доказательствам и умозаключениям.
Эстетический идеал вырабатывается, конечно, интеллектом,
размышлениями, но не заключен в них. Его основания
кроются в сферах рационального и эмоцибнального,
осознаваемого и бессознательного. Аналогично odcTOHt
дело и с нашими нравственными представлениями.
Моральные оценки возникают из существа нашего «я» и
очень часто без ясного осознания их оснований. Мы
не можем сказать, что совесть вполне подвластна
логическим умозаключениям. Нравственное начало
действует в нас и как сила, безотчетно к чему-то влеку-*
щая или от чего-то отвращающая.
Люди далеко не полностью осознают свои идеалы,
соответственно которым они оценивают события,
действуют, любят, ненавидят и т. д. Глубинная основа
нашего «я» во многом остается тайной и для современной
науки о человеке. Нравственный идеал — это не чисто
головная, формулируемая логически и буквально идея»
4
Поэтому не только школьнику, но и взрослому человеку
трудно выразить свой идеал в словах, поэтому, в
частности, высказывания о своем идеале не всегда зерны
и требуют проверки.
Отсюда следует вывод, что формирование
нравственного идеала не может быть сведено к моральной
проповеди и назиданиям (хотя роль их и весьма
велика). Идеал не усваивается просто из наставлений и
разъяснений, он вырабатывается каждым
собственными усилиями, жизненными впечатлениями и опытом.
В нем выражается отношение человека к миру и
людям, жизнепонимание, представление о смысле и цели
существования. Нравственность составляет сердцевину
духовной жизни человека. Поэтому представляется
столь неуместным говорить об управлении
нравственным воспитанием, о технологии нравственного
воспитания. Управлять нравственным воспитанием людей — это
все равно что управлять жизнью, т. е. заключить ее в
определенные рамки, принудить человека жить
согласно данному, готовому образцу и схеме. На наш взгляд,
совершенно справедливо подвергается критике идея
об управлении нравственным воспитанием, в котором
видят перенос на область нравственного воспитания
методов хозяйственно-организационной, политической
деятельности и одно из нежелательных следствий
отождествления нравственности с практической
целесообразностью. «Никакая управленческая технология воспитан
тельного процесса сама по себе не сделает личность
высоконравственной. Человек сам задает смысл своему
существованию»2. Нельзя не согласиться со словами,
что «нравственное воспитание реализуется именно ка^
самовоспитание».
Задачу воспитателя выдающиеся педагоги
сравнивали не с наполнением пустого сосуда, а с зажжением
светильника в душе человека.
Формирование нравственного идеала составляет
главное содержание всего воспитательного процесса.
Следуя завету В. И. Ленина, мы считаем, что все дело
воспитания и обучения молодежи должно быть
воспитанием коммунистической нравственности. На июв&скои
(1983 г.)-Пленуме ЦК КПСС подчеркивалось, что
«революционное преобразование общества невозможно без
* Вопросы философии, 1985, № 6, с. 34, 35.
5
изменения самого человека», что «формирование нового
человека — не только важнейшая цель, но и
непременное условие коммунистического строительства»3.
Решение важных и ответственных задач,
поставленных в настоящее время партией, достижимо только при
условии их нравственного обеспечения, общего
подъема творческой инициативы и сознательности
широких масс. «Живое творчество масс, — говорил
В. И. Ленин, —вот основной фактор новой
общественности... Социализм не создается по указам сверху. Его
духу чужд казенно-бюрократический автоматизм;
социализм живой, творческий, есть создание самих
народных масс»4.
Источником творческой энергии, вдохновляющей
силой являются для нашего общества коммунистические
идеалы. Укрепление идейно-нравственного единства
нашего народа — не менее важная и сложная задача, чем
решение организационно-хозяйственных,
управленческих проблем. Еще существуют немаловажные различия
нравственного и общемировоззренческого плана между
советскими людьми. Существуют, в частности, различия
в нравственных убеждениях и идеалах между
атеистами и верующими. Этот факт делает целесообразным
сопоставление нравственных идеалов, пропагандируемых
религией, и тех, которые разделяются атеистическим
большинством населения страны, побуждает вести
диалоги и споры об их правоте, обоснованности и
преимуществах. Рассуждения на указанную тему и
составляют содержание брошюры.
ИДЕАЛ: ТОЧКА ОТСЧЕТА,
ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ
Нужен ли человеку идеал? Заметим прежде всего, что
так или иначе, но идеалы есть у всех людей. Можно
говорить лишь о различии идеалов. В отличие от
животных люди сообразовывают свои действия с какими-то
целями, подходят со своими критериями к оценке
жизненных ситуаций. За конкретными целями и
повседневной деятельностью стоит всегда и общая цель, придаю-
8 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14—
15 июня 1983 г. М., 1983, с. 27.
4 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 57«
6
щая смысл усилиям, стремлениям, поступкам» Эта цель
является своеобразной точкой отсчета, в которой
нуждается каждый человек. Иногда он меняет ее, часто и
не вполне осознает конечную цель своих стремлений,
случается даже, что и теряет ее. Тогда у человека
возникает ощущение утраты смысла жизни, он чувствует,
что ему нечем жить. Это состояние может вести к
полной апатии и пассивности, а может, напротив, вызвать
желание уйти от гложущего чувства бессмысленности
к какой-либо деятельности, увлечься чем-либо:
поиском развлечений, острых ощущений, опьянения и
самозаглушения. Но при всем этом человек чувствует и
сознает, что жизнь должна быть не такой. Стало быть,
пусть и подспудно, но представления о жизни, какой
она должна быть, существуют у всех людей.
Конечно, представления эти очень разные.
Философы с древнейших времен пытались найти то общее и
главное, что движет стремления людей. Одни считали,
что главным является стремление к самосохранению,
воля к жизни, другие полагали, что этим главным
является стремление всех живых существ, включая
человека, избежать неприятных ощущений, страданий и
желание наслаждений, многие соглашались с тем, что
стремление к личному счастью присуще каждому
человеку. Одни говорили о самоутверждении личности,
другие— о самопожертвовании. Древние мудрецы Востока
(например, китайский философ VI в. до н. э. Лао-цзы)
проповедовали недеяние как условие обретения
человеком самого себя. Немецкий философ XIX в. Ф. Ницше
доказывал противоположное: главное стремление,
заложенное в человеке, — воля к власти. Словом,
представления о назначении человека расходились и
расходятся кардинально. Соответственно этому существенно
расходятся и идеалы людей. Есть идеал мещанина,
ограничивающийся благополучием, обеспеченностью,
сытостью, и есть идеал революционера, отказывающегося
от мещанского рая ради торжества правды и
справедливости.
Могут возразить: стоит ли называть идеалами
представления мещанина о хорошей жизни? Можно
согласиться с тем, что низменные цели не заслуживают
имени идеала. Однако при этом следует помнить, что
каждому человеку как таковому свойственно иметь,
помимо конкретных, частных целей, цель конечную, стоящую
7
над повседневными заботами и стимулирующую:
деятельность. Такова родовая особенность человеческой
психики. Тот, все помыслы которого сводятся к
накоплению, потреблению, хочет вес же «быть», «состояться»
через «иметь», «потреблять». Это соответствует его
«идеалу» жизни. Проблема идеала по существу
своему— это проблема определения жизненной ориентации,
путей самоосуществления, самореализации.
Первостепенное значение имеет не просто наличие идеалов, но
то, что представляют собой эти идеалы, каковы
результаты их воздействия на личность и общество в целом.
Отметим теперь такой существенный момент.
Убеждения и идеалы, безусловно, ориентируют людей в
жизни, однако было бы неверно считать, что они
определяют всегда и во всем их поведение в повседневном
быту и в критических ситуациях. Человек, каков он есть
сейчас, — сложное и противоречивое существо, он
испытывает различные и часто несовместимые влечения.
Поступить так, как подсказывает идеал, нередко
бывает труднее, чем поддаться минутному влечению,
прихоти, слабости, лени и т. д. Требования идеала могут
оказаться непосильными, но его достижение зависит
как от человека, так и от характера требований,
которые предъявляет ему собственный идеал. Поэтому
случаи, когда человек поступает против своих убеждений,
изменяет своим идеалам, вовсе не редки.
Идеалы в том смысле, в каком мы о них говорим,
относятся к сфере общественно-политических,
духовных, нравственных убеждений и идей. Такие убеждения
являются не просто отражением сущего, но и несут в
себе отношение к действительности, связаны с
чувствами, волей, стремлениями людей. Идеал — это духовная
ценность. Человек является человеком постольку,
поскольку в той или иной мере причастен к миру этих
ценностей. Если кто-либо живет, как мы говорим,
высокой духовной жизнью, это не значит, что он
воплощает свой идеал. Но,, ошибаясь и раскаиваясь в своих
ошибках, набираясь силы и решимости следовать
тому, что он считает правильным, сдотыкаясь, падая и
вставая, человек видит перед собой путеводную звезду.
Она продолжает сиять и тогда, когда человек
совершенно выбьется из сил и потеряет способность идти
вперед.
Бывает (и как часто!), что избранный путь оказы-
8
Бается ложным. Осознание этого может вести к
"переориентации, но может и надломить человека, если у
него уже не осталось сил и разочарование в лажном
идеале пришло слишком поздно. Поэтому столь
ответственна задача выбора, определения, выработки
идеала, задача, стоящая перед каждым человеком.
Люди не идеальны. Идеал существует лишь
постольку, поскольку он не осуществляется. Идеал
воплощенный, достигнутый сменяется другим. Это не значит,
однако, что роль идеала в нашей жизни не столь
значительна. Иногда ведь говорят: «Что такое, мол,
идеалы?». Призраки, химеры, высокие слова. Все равно в
жизни мы руководствуемся, дескать, самыми
прозаическими целями. Эти трезвые рассуждения в корне
ошибочны. Важно не только то, как человек поступает, не
менее важно, какие представления о прекрасном,
нравственном, возвышенном, достойном питают его дух и
душу.
Ф. М. Достоевский, как известно, ставил в духовном
плане русский простой народ гораздо выше, чем
оторвавшееся от него образованное сословие. Величие
А. С. Пушкина, в частности, он связывал с тем, что
поэт еще в молодые годы обратился к народу, его
эстетическим и нравственным идеалам. Многие публицисты
возражали: народ невежествен и бескультурен, погряз
в пьянстве и других пороках, еще не вышел из
состояния дикости, не цивилизовался. Писатель знал, однако,
народ значительно лучше, чем его оппоненты. Он имел
основание ответить — важны не только поступки, не
менее важно, что считает народ красивым, достойным.
Искажение и извращение идеалов в высшем сословии
было значительно более глубоким. Именно здесь
плохое считали хорошим, нормой и не только не стыдились,
но и гордились им. Нравственное разложение
наступает тогда, когда люди совершают недостойное и не
видят в этом плохого. Народ же сохраняет в себе высокие
нравственные идеалы и не называет плохое хорошим.
В этом залог духовного возрождения. «Живую жизнь»
можно наблюдать скорее в народе. Источником же ее
является и может быть только великая идея. Эта идея
не книжная, головная, отвлеченная, она может и не
высказываться и не вполне осознаваться, но зато
чувствоваться глубоко и непосредственно. Она связана с
чувством общности людей, с чувством принадлежности
9
родной земле. Только из этой великой идеи рождается
подлинное призвание человека, дело и смысл жизни.
Нравственность держится не на отвлеченном,
умственном знании, а укрепляется большим и общезначимым
делом. Дело в этом смысле — условие нравственности.
Нравственное разложение и дезинтеграция общества
(личности) есть признак того, что «идея» изжила себя,
перестала владеть людьми и указывать им «дело».
Казалось бы, что дело каждый человек легко найдет
для себя, лишь бы захотел. Это так, но нужно
учитывать, чю дело само по себе, не мотивированное, не
одухотворенное высокой целью и значимостью,
обесценивается нравственно, не может придать жизни высокого
смысла. Процитируем очень верные, на наш взгляд,
слова: «Само по себе мастерство, дело не имеют и не
могут иметь никакой нравственной характеристики.
Человек не должен, не призван жить во имя своего
дела. Это или утопия, иллюзия, или метаформа чего-то
иного. Мастерство «само по себе» может быть делом
и добрым и злым в зависимости от обстоятельств, в
зависимости от своего приложения... «жизнь во имя
дела»— вещь страшная. Лишь в своем отношении к
человеку человек может найти смысл и оправдание своего
существования. А дело — это мост между людьми, путь
от одного человека к другому, то, что связывает людей.
Иначе дело или бессмыслица, или зло»!.
Чита1ель, думаю, согласится со мной, вопрос этот
очень важен. Вот наш писатель прославляет
беззаветную преданность делу ученого, который с юных лет
поставил перед собой конкретные задачи в науке и,
составив программу на всю жизнь, выполнял ее, не
теряя и часу времени. Что ж, только целеустремленные
достигают больших результатов и трудных целей. Это
верно. Самозабвенная увлеченность делом может до
краев наполнить жизнь и принести плоды, нужные
людям. Вопрос, который при этом является самым глав?
ным, состоит в том, что вдохновляет человека на это
дело, какие стимулы и конечные цели выступают как
главные, определяющие. Стимулы могут быть разные:
и желание прославиться, и состояться как личность
посредством избранного дела, и поглощенность научным
1Лебедев А, А, Выбор, Статьи. М., 1980, с. 145.
10
интересом как таковым безотносительно других целей,
и стремление принести людям пользу-
Пользу обществу может принести научная деятель-
Hocrbf й не одухотворенная высокими идеалами.
Служение йауке ради самой науки еще не является
основанием для нравственного возвышения ученого. Сейчас
это стало очевидным. Поглощенные чисто научным
интересом, ученые могут служить как добру, так и злу.
Впрочем, во все времена было так. Юноша,
составивший программу на всю жизнь и неукоснительно
следующий ей, превратил свою жизнь в средство
осуществления конкретной цели. Воля и целенаправленность его
могут вызывать уважение. Но только нужно иметь в
виду, что живая жизнь не может быть заранее и
жестко спланированной. Жизнь каждого — самоцель, она
не может быть, не должна быть подчинена без остатка
другой цели, чем та, которая задается нравственным
началом — быть человеком при всех обстоятельствах и
вопреки им. Нравственность может обязать каждого
к отказу от любимого дела, в которое человек хотел бы
уйти с головой. Быть человеком можно только одним
путем — через самоотдачу себя людям. Конечно,
самоотдача эта осуществляется через дело, но дело здесь —
средство,
В телевизионном репортаже о весенних
сельскохозяйственных работах на Кубани журналист
рассказывает об отношении к земле, о высокой чести быть хле-
бором, о том, что сев, по его мнению, является
священнодействием. Потом спрашивает колхозника о том,
каково его отношение к севу, что он при этом чувствует.
Ответ был очень прост: «Я знаю, что я сею то, что
нужно людям». Слово истины, говорят, просто. Без
всякого тумана лишних слов отношение к земле, к севу —
это отношение к людям, к жизни. Земля дает жизнь.
Этим и определяется отношение к ней.
Великая идея, придающая смысл существованию,—
это не обязательно мысль в ее логическом выражении,
это скорее определенная нравственно-эмоциональная
устремленность, чувство жизненной правды,
единственно правильного пути. И в строго философском
употреблении слово «идея» наряду с мыслью включает в себя
момент субъективной устремленности, «хотения»,
«стремления». То, что мы называем духовной жизнью,
И
не сводится к познанию, к интеллектуальной
деятельности. Интеллект человека — лишь одно из проявлении
его духовности, которая включает в себя наряду с
познанием нравственное и эстетическое отношение к
действительности. В содержательном плане духовность —
не сумма знаний только, это и отношение к знанию,
просветленная разумом воля человека, осознание
личностью своего места в мире, устремление к высшему.
Отсюда следует, что интеллигент, человек,
занимающийся умственным трудом, вовсе не обязательно живет
духовной жизнью, будь даже он хорошим специалистом
в своей области, делающим открытия и изобретения2.
И напротив, глубоко духовным может быть человек,
занимающийся самым простым трудом, человек, которого
не назовешь ни интеллектуалом, ни эрудитом.
Духовность создает не само по себе знание научных истин, а
такое знание, которое определяет твое
жизнепонимание, которое становится жизненной правдой и
жизненным путем. Именно нравственность является
сердцевиной духовной жизни человека, ибо она не просто способ
социальной регуляции поведения, как часто понимают,
а способ истинно человеческого бытия, то, что является
существенной чертой человеческого облика, без чего
человек перестает быть человеком. Из этого следует,
что нравственное воспитание не ограничивается
привитием определенных норм и навыков поведения, оно в
качестве главной своей цели имеет формирование
внутреннего человека, утверждение человеческого в
человеке. Это достигается тогда, когда вырабатывается
высокое представление о человеческом назначении и
достоинстве, иными словами, когда вырабатывается идеал;
из котброго само собой вытекают упомянутые правила
и нормы поведения.
В последние годы в публицистических статьях на
теМу воспитания часто проводится мысль о том, что и
в воспитательной работе следует ставить реально
достижимые цели, не завышая их и не забегая вперед.
В этой мысли много здравого, но в ней есть и опасность
движения в сторону заземления: не надо вообще
говорить о высоких идеалах, к громким словам потеряна-де
2 Мы не касаемся здесь того смысла, который придается слову
«интеллигент» некоторыми авторами, подразумевающими, на наш
взгляд, неправомерно под интеллигентом высший тип личности,
12
чувствительность, следует вначале ограничиться такими
целями, как воспитание трудолюбия, скромности,
вежливости, простой порядочности. Такая установка, по
нашему мнению, может нанести вред. В воспитании идеал
является той основой, на которой крепятся
нравственные качества. Конечно, можно привить людям хорошие
привычки и навыки поведения в обществе. Дело это
нужное. Только следует при этом иметь в виду, что если
не сформирована нравственная основа, если не создано
представление о высоком человеческом назначении, то
привитые качества и навыки общественного поведения
не будут иметь прочных и глубоких корней и могут
не составлять вместе взятые целостности во внутреннем
мире личности. Нравственная ценность тех или иных
качеств человека между тем находится всегда в связи
с целостным нравственным обликом человека.
Трудолюбие, вежливость, порядочность вполне могут быть
качествами мещанина. Целое в этих случаях важнее частей
и не является их суммой, набором. Нравственные
свойства— это свойства целостности, вследствие чего
нравственное воспитание должно быть направлено на
формирование идеала, высоких представлений личности о
своем человеческом назначении.
Иметь такие представления вовсе не означает
стремиться к громким подвигам, славе, к первенству перед
другими, не означает завышения собственной личности*
Чувствовать себя человеком можно только путем
сознания человеческого достоинства вообще, уважения к
человеческой личности как таковой. Этому сознанию
соответствует не гордыня и чувство превосходства над
другими, а скромность и понимание ответственности и
трудности осуществления своего предназначения.
Иметь высокие идеалы и стремиться к ним не означает
также возноситься над повседневными заботами и,
презирая суету земную, жить романтически, в мире
грез. Практицизм, деятельное начало, не несущее в себе
большой нравственной идеи» соответствует идеалам
мещанского трудолюбия, буржуазной порядочности, а
бездеятельность. носителя идеи — романтическим и
сентиментальным идеалам. Обе крайности — продукты
самоотчуждения человеческой сущности, потери
человеком самого себя. В определенных условиях люди не
могут найти себя ни в деле, ни вне дела. Растворение в
суете и воспарение в мир идей, оторванный от действи-
13
тельности, одинаково ущербны и являются уходом,
бегством от действительности и самого себя.
Идеал должен быть ведущей, руководящей силой,
определяющей с необходимостью поступки человека и
его жизненный путь в целом.
В повести А. П. Чехова «Скучная история»
рассказывается о крупном, известном ученом, размышляющем
в конце жизни о причинах его недовольства собой при
всех, казалось бы, самых благоприятных и завидных
обстоятельствах и судьбе. Уже перед смертью он
приходит к такому выводу: «В моих желаниях нет чего-то
главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии
к науке, в моем желании жить, в этом сиденьи на чужой
кровати и в стремлении познать самого себя, во всех
мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо
всем, нет чего-то общего, что связало бы все это в
одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во
мне особняком, и во всех моих суждениях о науке,
театре, литературе, учениках и во всех картинках,
которые рис>ет мое воображение, даже самый искусный
аналитик не найдет того, что называется общей идеей
или богом живого человека. А коли нет этого, то,
значит, нет и ничего»3.
Талантливый, высокой культуры, честный и
благородный человек сознает, что он «побежден», что в его
жизни не хватало самого главного, Глубокие слова.
Они должны заставить задуматься «юношу,
обдумывающего житье». Нередко ведь общие цели, которые
перед собой ставят люди, куда ниже тех, которых
вполне достиг этот ученый, верящий, что наука — «самое
прекрасное и нужное в жизни человека», признающий
с печалью, что его «судьбы костного мозга интересуют
больше, чем конечная цель мироздания». Человек может
быть всецело поглощен какой-либо частной целью,
может до самозабвения желать чего-то конкретного,
однако если при этом нет «общей идеи», придающей
смысл всему его существованию, достижение
желаемого, конкретной цели неизбежно ведет к осознанию того,
что в его жизни нет чего-то главного. Буддийская
философия на этом основании выдвинула в качестве
закономерности положение о том, что достигнутая цель
8 Чехов А, П, Поли. собр. соч., в 30-ти т,, т, 7, М., 1977,
с. 307.
14
всегда разочаровывает. Это верно, но только
применительно к тем случаям, когда нет высокого идеала,
связующего в единое целое конкретные цели и саму жизнь.
Когда же такой идеал есть, то достижения конкретных
целей становятся ступеньками к его осуществлению.
Конечно, промежуточные ступени, достижение которых
ободряет и стимулирует человека, есть 6 движении к
любой большой цели, в том числе и чисто
индивидуалистической, эгоистической. Лишь когда ты
стремишься осуществить в своей жизни цель, к которой
обязывает человеческое предназначение, возникает чувство
сопричастности жизни вообще, «конечной цели
мироздания». Эта мысль может показаться слишком
отвлеченной и обязывающей человека к чему-то очень
трудно Доступному, сложному, малопонятному. В сущности
же, она проста и вовсе не требует непосильного. Она
столь же мысль, сколь и чувство. Каждый несет ее в
себе. Л. Н. Толстой заметил, что люди, ищущие высший'
смысл жизни, часто его не имеют, и, наоборот, те, кто
живет простой, безыскусственной жизнью, люди труда,
имеют этот смысл, хотя его и не ищут. «Со мной
случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых -*•
не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл.
Все наши действия, рассуждения, наука, искусства —
все это предстало мне как баловство. Я понял, что
искать смысла в этом нельзя. Действия же трудящегося
народа, творящего жизнь, представились мне единым
настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый
этой жизни, есть истина, и я принял его»4.
Отсутствие или потеря высших идеалов, духовных
основ существования вызывает гнетущее чувство общей
неудовлетворенности жизнью, побуждает к самым
разнообразным поискам, часто приводит к поклонению
лжеидеалам, нередко и к выводу о полной
бессмысленности жизни вообще.
На Западе ныне много говорят о «новой
религиозности». Увлечения разнообразными религиозными
культами, характерные для молодежи США и других
капиталистических стран в последние десятилетия,
свидетельствуют о поисках жизненной ориентации и идеалов
в условиях общего духовного кризиса буржуазного об-
4Толстой Л, Н. Исповедь, — Собр, соч, в 20-ти т., т. 16,
М., 1964, с. 137—138.
15
щества. Религия кажется многим той внутрейней
опорой, которую они ищут и не могут найти. Не .только
нужда и материальные лишения, невежество и
забитость толкают многочисленные слои Запада к религии,
а и отсутствие «общей идеи», духовный кризис,
разочарование буржуазными ценностями жизни.
Попытки обрести в религии идеал и смысл жизни
можно наблюдать и среди некоторой части населения
нашей страны, в том числе и молодежи. Причины
обращения к религии кажутся всегда индивидуальными,
кроющимися в особенных обстоятельствах жизни и
Личного характера, но вместе с тем было бы ошибкой не
видеть причин этого явления и в сфере общественной
жизни и воспитания.
РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ
Обратимся к анализу религиозно-нравственного идеала.
При попытке дать ему общую характеристику мы
сталкиваемся с тем, что представления разных религий о
нравственно совершенной личности различаются
между собой весьма существенно, а их некоторые черты
прямо противоположны друг другу. По христианскому
учению, например, человек должен страдать, ибо
страдание заключает в себе очистительную и возвышающую
душу силу: Христос — страдающий человек. По
буддийскому же учению совершенный человек избавляется
от страданий, страдания же свидетельствуют о том; что
он живет неправильно. Психологические
портреты'идеальных верующих разных религий — это галерея
совершенно разных типов личности. Но и в одной религии
представления о нравственном совершенстве противо*
речат друг другу. Как много, например, было в истории
христианства взаимных обвинений в том, что
представители той или иной конфессии—католицизма,
православия, протестантизма — исказили облик Христа.
А ведь, казалось бы, все христианство основывается на
одних и тех же евангельских рассказах о его личности.
И разногласий быть не должно. Есть мнение, что Иисус
Христос — борец, который «не мог проповедовать
смирение». Он проповедовал любовь, которая ничего
общего не имеет со смирением. На наш взгляд, более ве-
16
рен традиционный для церкви образ Христа как
воплощение кротости, милосердия, прощения, терпения и
смирения. И конечно, любви, сострадания к людям.
Но речь пока не об этом. Нам нужно попытаться
найти общую характеристику нравственного идеала ре*
лигии.
Некоторые исследователи считают, что найти общее
в религиозных учениях о морали невозможно. Эти
учения «освящали» самые разные нравственные нормы.
Среди них есть как хорошие, так и плохие, такие,
которые сохраняют свое значение по сей день, и такие,
которые давно изжили себя. На этом, в частности,
основании высказывается сомнение в самой правомерности
понятия «религиозная мораль», а также и понятия
«христианская мораль». Мораль каждого времени
складывалась в зависимости от условий жизни, носила
социально-классовый характер, религия же лишь
«освящала» те или иные нормы авторитетом бога. Таким
образом, мораль — это мораль, религия — это религия. Хотя
вторая посягала на область первой, их нужно
разграничивать и определять, что идет от религии, а что от
морали в тех или иных воззрениях на мир и место
человека в мире.
В изложенной позиции есть определенный резон, но
вместе с тем есть и свои изъяны. Если мораль, как па-
казывает современная действительность, может
существовать и вне религии, то ни одну из мировых религий
представить без их морального содержания
невозможно. Религии по существу были и являются ответами на
вопросы — в чем источник зла, что есть добро, как
следует жить, т. е. на вопросы этического характера.
Если убрать из христианства нравственную проповедь
и идеал Христа как совершенной личности, то от
христианства в собственном смысле слова ничего не
останется. Не случайно мировые религии называют
этическими религиями, или учениями о спасении.
Попытки отделить в любой религии собственно
«религиозное содержание» и заимствованное ею из
народной жизни «земное нравственное содержание»
несостоятельны. Самые что ни на есть «религиозные»
представления— если иметь в виду под религиозным
фантастический элемент, представления о
сверхъестественном— также порождены земной жизнью и пропитаны
нравственным смыслом, Христианское учение о мило-
1955—2
17
сердном, страдающем, кротком боге (о распятом боге!)
и нравственная проповедь любви, сострадания,
прощения, несомненно, едины по своей психологической
природе. И то и другое выражает одно умонастроение и
произошло от одного источника. Образ Христа был
выношен в сердцах обездоленных, страдающих масс.
Христианская религия не была кем-то придумана и
навязана людям, она выразила те мысли и чувства, которые
самопроизвольно зарождались в ту эпоху. Исторические
исследования показывают, что в психологии народных
масс Римской империи выкристаллизовывались те
нравственные ценности и идеалы, которые в скором
времени воплотились в образе евангельского Христа и в его
проповеди. Этот факт нельзя рассматривать как
достаточное доказательство мифологичности фигуры
основателя новой религии. Вполне возможно, что в это время
появился человек, наиболее ярко воплотивший в себе
черты характера, соответствующие складывающимся
представлениям об идеальной личности. Имеются
свидетельства о проповедниках, живших приблизительно
в те же времена, учивших приблизительно тому же и
принявших смерть так же, как и Христос, за
пропаганду новых религиозных взглядов. Исходя из сказанного,
можно сделать вывод, что именно моральное
умонастроение породило религию. Мнение о том, что
религия лишь «освятила» выработанные жизнью
нравственные нормы и оценки, не отражает действительного
процесса возникновения христианства. В. И. Ленин
отмечал, что «христианство из морали сделало бога,
создало морального бога»1. Так обстояло дело и с
буддийской религией, которая возникла из этического учения
об избавлении от страданий.
Существующее в атеистической литературе мнение
о том, что религия лишь «аннексировала»,
«присваивала», «захватывала» моральные ценности,
существовавшие вне ее и выработанные народом, не выдерживает
проверки. Религии, между прочим, — тоже не
изобретение отдельных лиц, а порождение народа, истоки
религии— в массовом сознании. Если проследить историю
простых норм нравственности и справедливости, по
отношению к которым представление об «аннексии»
кажется наиболее убедительным, то и здесь мы увидим,
1 Л е н и н В. И, Поли. собр. соч., т, 29, с, 54,
18
что рождались эти нормы в религиозном сознании и
очень часто имели смысл религиозных запретов.
Ветхозаветные десять заповедей («десятисловие») носят
ярко выраженный характер религиозных установлений,
мотивирующихся лишь одним — авторитетом бога.
Лишь впоследствии и постепенно некоторые из
заповедей стали приобретать, собственно, тот смысл,
который мы называем моральным: убийство, кража,
прелюбодеяние— зло, нарушение начертанного в нашей
душе, совести нравственного закона,
Надо заметить, что любая норма, взятая сама по
себе, без обоснования и мотивации, еще не может быть
классифицирована как моральная, религиозная,
юридическая или относящаяся к обычаю. Крупнейший
советский этнограф и религиовед С. А, Токарев на основе
исследования доклассового общества пришел к выводу,
что самой ранней формой осознания и обоснования
норм общежития была религиозная санкция2.
Собственно моральное обоснование норм, по мнению
большинства ведущих советских этиков, возникло
сравнительно поздно, позднее обоснования их ссылками на
сверхъестественную силу. На наш взгляд, следует
говорить не о захватывании религией морали, а, напротив,
о постепенном и длительном процессе автономизации
морали внутри религиозного сознания, об ее
освобождении и обретении независимости. Мораль, свободная
от религиозной санкции, — это сравнительно недавнее
явление, в прошлом же мораль была тесно связана с
религией.
Разумеется, этические учения, не опирающиеся на
идею бога, возникали и в глубокой древности, но
этические учения — это еще не мораль. Мораль — это то,
что входит в сознание масс людей, что составляет
содержание их совести. Так же дело обстоит и с
религией: она живет и умирает в сердцах и умах многих
приверженцев. Религиозные учения могут оставаться в
памяти, сами же религии прекращают свое
существование с потерей верующих.
Существенными отличительными признаками
религиозной морали являются такие, как представление о
неземном, сверхъестественном источнике нравствен-
1 См.: Токарев С, А. Охотники, собиратели, рыболовы. Л.,
1972, с, 263,
19
ностн, о моральной ответственности человека перед
богом, убежденность в том, что смысл моральных
требований и установлений не сводится к земным целям, а
превышает их. Если даже религия требует от
верующего посвятить себя всецело служению людям, то все
равно это служение в его глазах — не самоцель, главным
остается служение богу, которому открыты судьбы
мира. Указанные признаки религиозной морали кажутся
на первый взгляд чисто формальными, не
затрагивающими существа морального учения. Действительно, под
эгидой религии могли существовать самые
разнообразные моральные воззрения.
И все же было бы неправильно думать, что связь
моральных взглядов с идеей бога является чисто
формальной, что религия в принципе могла
санкционировать любые нравственные нормы. Евангельский
нравственный идеал составляет само существо христианской
религии, именно моральное умонастроение!
выразившееся в христианской религии, было ведущей, «богообра-
зующей» силой. Среди современных направлений
протестантского характера есть такое, в котором нет идеи
трансцендентности, потустороннего мира, а есть лишь
нравственное учение. Мы видим здесь попытку
сохранить дух христианства ценой отказа от идеи
сверхъестественного. Конечно, это уже полурелигия.
С одной стороны, важна не сама по себе идея бога,
а присущее религии жизне- и миропонимание. С
другой стороны, без идеи бога становится невозможным
религиозное умонастроение в полном смысле этого
слова. Она является той необходимой опорой, без которой
вере не на чем держаться. Бог не был простым
придатком к моральному учению религии. Нравственный поиск
был поиском истинного бога, поиск бога был поиском
истинного жизненного пути, правды. Бог современных
религий — это тоже моральная идея, несущая в себе
определенное жизнепонимание. Образ Христа
олицетворяет собой идеал нравственности, выраженный этой
религией. Неверно поэтому, по нашему мнению,
считать, что религиозная мораль — это простая сумма двух
слагаемых: идеи бога и какого-либо морального учения.
Религиозная мораль —это умонастроение,
сложившееся в сознании масс и отличающееся предельной
цельностью, единством. Одна и та же заповедь в
системе религиозного сознания и вне ее обретает разный
20
смысл. Сама религия представляет собой способ
миропонимания и мироотношения, органически включающий
в себя и моральные воззрения. Можно встретить
утверждения, что религиозная санкция искажает к
деформирует мораль, выработанную практическим
опытом жизни. С этим можно было бы согласиться, если бы
моральные взгляды и религиозные идеи возникали и
существовали бы обособленно. Однако ясно, что
евангельская нравственная проповедь и образ Христа
проистекают из одного и того же источника. Эволюция этой
религии равно касалась как понимания образа бога,
так и нравственных представлений.
Правильнее, на наш взгляд, было бы говорить не об
искажении религией первоначально чистых форм
морали и ее смысла, а о том, что моральные воззрения,
существовавшие до последних времен в основном в
тесной связи с идеей сверхъестественного, не могли еще
обрести самостоятельности, своей собственной формы и
смысла. Религиозная оболочка препятствовала
свободному и независимому развитию морального сознания.
Одно из главных противоречий всякого религиозно-
нравственного сознания состоит в том, что
нравственную ценность имеет тот поступок, который не
обусловлен ни страхом, ни надеждой на награду, а
религиозная санкция морали препятствует свободе
волеизъявления. В какие бы тонкие рассуждения ни входили
богословы, этого противоречия не избежать. Одно дело,
если я совершаю добрый поступок по своей собственной
воле, другое дело, если я поступаю так же, но с мыслью
о выполнении воли божьей.
Моральное сознание стремится освободиться от
религиозной опеки. Эволюция религии последних
столетий подтверждает это: мораль становится все более
автономным началом внутри религиозной оболочки.
«Я добр по разуму свободы, — не страхом ада
твоего»,— выразил это стремление поэт. Иными словами,
подлинно нравственному человеку не требуется идеи
бога, чтобы следовать добру. Но, конечно, нужно
оговориться, что такая позиция возможна лишь на
определенной высоте духовного развития и что религиозная
санкция морали была исторически необходимой весьма
длительный период развития человечества. Духовное
развитие человечества этого периода отразило как
растущую силу людей, рост их свободы,, богатство возмож-
21
ностей, заключенных в обществе и отдельной личности,
так н бессилие человека, его кажущуюся беспомощность
перед силами, господствующими над ним в обыденной
жизни.
С этих позиций и следует подходить к оценке
религиозно-нравственного идеала. Очевидно, не стоит
отрицать его на том основании, что он связан с религией.
Необходимо конкретно указывать на то, что нас,
атеистов, не устраивает в идеалах религиозной
нравственности, в чем наши позиции противоположны. Вряд ли
можно считать удачными в качестве тем
научно-популярных лекций такие названия, как «Несовместимость
религии и социализма» и т. д. Несовместимостью
социализма и религии запугивает людей в
капиталистических странах буржуазная пропаганда. Однако у
подавляющего большинства верующих в нашей стране
отношение к социалистическому строю и целям социального
строительства положительное. В их повседневной
деятельности и поведении нет ничего предосудительного
с точки зрения общественной морали (за исключением
религиозных экстремистов).
Одним из непреложных принципов атеистической
работы является уважение к убеждениям и чувствам
верующих. Важно находить общий язык и
взаимопонимание, объединять усилия и верующих и неверующих в
достижении поставленных обществом задач, в
разрешении простых и сложных проблем нашей жизни. Цель
объединения верующих и тех, кто не исповедует
никакой религии, атеистов, в борьбе за идеалы социального
прогресса, социализма, за мир ставят перед собой
коммунистические партии всех стран.
Справедливо пишет Ю. П. Зуев о том, что «требует
определенного уточнения тезис о несовместимости
религиозной морали с нравственными нормами
социализма,, а тем более об их противоположности»3. Ведь если
исходить из него, то всегда и во всем нужно
утверждать обратное тому, что утверждается религией.
Строить свою позицию, основываясь на принципе
противоположения—если они говорят так, то мы говорим
обратное, — было бы неправильно. Есть существенные
*3уев Ю. П. Научно-атеистическое воспитание с учетом
эволюции религий. — В сб.: Единство и многообразие форм, средств
и методов атеистического воспитания. М., 1985, с, 48,
22
пункты, в которых наши нравственные взгляды и
идеалы действительно противоположны религиозным, но эта
не общее правило, согласно которому следует
подходить к оценке заповедей религиозной морали. Если
религиозное учение выступает против своекорыстия,
праздности, лжи и обмана, честолюбия, зависти,
ненависти, разврата, сквернословия, хулиганства и т. п^
если оно проповедует любовь к ближнему, сострадание
к чужому горю, взаимопомощь, бескорыстие, незлобие
и т. д., то можно ли говорить, что по этим пунктам
наши позиции противоположны? Бывали случаи, когда
некоторые атеисты голословно отрицали то, что
христианство, например, проповедует любовь к ближнему,
самоотверженное служение людям, и приписывали ему
прямо противоположные идеи. Но искажение позиций
оппонента, сознательно совершенное или по
невежеству, не может служить правому делу. Ясно, что сколь-
либо сведущие люди легко разберутся в том, где
передержки и огрубления и где действительно изложены
евангельские нравственные идеи.
В романе Ершова «Вера. Надежда. Любовь»
служитель церкви сфабриковал из нелепостей,
встречающихся в атеистической литературе, брошюру, которую
подсовывал семинаристам для того, чтобы
скомпрометировать атеизм и привить к нему недоверие. Независимо
от того, был ли действительно такой случай, но он
правдоподобен и поучителен. Уровень культуры советских
людей неуклонно растет, соответственно этому должен
расти и философско-этический, научный уровень нашей
атеистической пропаганды.
Анализ и критика моральных взглядов, связанных
с религией, требуют особо глубокого подхода в связи
со следующим обстоятельством. Народная
нравственность в прошлом была так или иначе связана с
религиозной верой. Часто под религиозной моралью
понимается само религиозное учение или какая-либо
теологическая его интерпретация, церковная проповедь.
Однако религия и религиозная мораль не тождественны
учению и тем более теологии, нравственному
богословию. Религия и мораль — это то, что отложилось в
сознании масс людей. То, что 'под именем православия
существовало в течение тысячелетия на Руси, конечно,
далеко не полностью совпадает с тем, что представляло
собой первоначально христианство в границах Римской
23
империи, а также с греко-византийским
вероисповеданием. Попав на совершенно иную почву, христианская,
религия, несомненно, во многом трансформировалась
под влиянием других условий жизни и другой
психологии. Народ, как известно, плохо знал или почти не знал.
Евангелия. В течение многих столетий нравственное
сознание русского крестьянства развивалось под
оболочкой православия, в то же время питаясь своими
собственными источниками. То, что считал крестьянин
своей верой, включало его представления о смысле
жизни, о назначении человека, об отношении человека к
другому человеку и ко всем людям. Эту народную
нравственность Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский
отождествляли с религией и видели в ней непреходящие
духовные ценности. Отрицание идеалов и нравственных
устоев жизни крестьянства как изживших себя,
связанных с религией, выросших из темноты и невежества, по
нашему мнению, свидетельствует, видимо, о той
«образованности», за которой скрывается потеря связи с
истоками родной культуры. Некоторые просто стыдятся
быта и устоев жизни, в которых они выросли, как
стыдятся «образованные» сын или дочь своей неграмотной
матери. Другие же в силу воспитания внутренне
неприемлют ту народную культуру, которая, кстати,
породила самые высокие взлеты человеческого духа, в том
числе и великое искусство России XIX в.
Великая Октябрьская социалистическая революция
ознаменовала решительный поворот в исторических
судьбах, она положила начало процессу складывания
новой культуры и новой человеческой цивилизации.
Разрыв с прошлым был оправдан и закономерен. Однако
на новом пути не исключены ошибки и издержки.
Новая культура, как неоднократно подчеркивали
основоположники теории научного коммунизма, может
успешно развиваться только на базе достигнутого ранее,
только усваивая и перерабатывая наследие,
накопленное миллионами людей. Не случайно вопрос о
преемственности духовного развития, об отношении к
культурному наследию так остро встал перед общественным
сознанием нашей страны в последние десятилетия.
В произведениях В. Белова, Ф. Абрамова, В.
Распутина, В. Астафьева, В. Личутина, Ч. Айтматова и др.,
обратившихся к истокам народной культуры и
нравственности, со всей убедительностью показано, что идеа-
24
лы и моральные взгляды трудового народа прошлых
времен сохраняют свою ценность и для нашего временя.
В процессе социалистических преобразований
мораль в нашем обществе освободилась от религиозной
оболочки и отвергла религиозные принципы
нравственности. Но сила революционной морали всегда была в
ее связи с идеалами народной нравственности. Во имя
торжества этих идеалов мораль революционеров
оправдывала диктатуру победившего класса, насилие над
свергнутыми господствующими классами и далее в
необходимых случаях террор по отношению к врагам
нового строя. Однако насилие, диктатура, террор не
стали непреходящими чертами морали нового общества.
Без насильственных мер одной лишь проповедью и
увещеваниями было невозможно покончить с
социальным угнетением в царской России. Надежды на
нравственное самосовершенствование людей, которое
положит конец несправедливости, были утопичными. Однако
после Октябрьской революции ситуация становится
другой. В. И. Ленин в своих последних работах
подчеркивал, что теперь решительно меняется наше
отношение к идеям социалистов-утопистов, рассчитывавших
на осознание большинством людей преимуществ
социалистической кооперации. «В чем состоит фантастичность
планов старых кооператоров, начиная с Роберта
Оуэна? В том, что они мечтали о мирном преобразовании
социализмом современного общества без учета такого
основного вопроса, как вопрос о классовой борьбе, о
завоевании политической власти рабочим классом, о
свержении господства класса эксплуататоров... Но
посмотрите, как изменилось дело теперь... мы вынуждены
признать коренную перемену всей точки зрения нашей
на социализм»4. То, что было утопией, превратилось в
реальную возможность. «...Теперь многое из того, что
было фантастического, даже романтического, даже
пошлого в мечтаниях старых кооператоров, становится
самой неподкрашенной действительностью»5. В связи
с изменившимися в корне социально-экономическими
условиями В. И. Ленин говорил о необходимости более
общих, более широких, более далеко идущих взглядов.
Если проповедь нравственного самосовершенство-
4 Л е н п н В. И. Поли, собр, соч., т. 45, с, 375—376.
5 Т а м ж е, с. 369,
25
вания в качестве средства исправления социальных по*
рядков до революции звучала утопически и даже
реакционно, то после победы Октября В. И. Ленин говорил
о том, что «все дело воспитания, образования и учения
современной молодежи было воспитанием в ней ком-
мунистической морали»6. Нравственное воспитание не
может быть осуществлено при помощи страха и
насилия, оно всегда является и самовоспитанием личности,
нравственным самосовершенствованием.
Очень существенным представляется вопрос об
отношении к насилию. В «Нагорной проповеди» Христа,
как известно, содержатся призывы к всепрощению,
отказу от насилия, непротивлению злу насилием. В
практике христианских церквей и государств эти
библейские заветы фактически не выполнялись. Напротив,
их история наполнена бесконечным насилием,
убийствами, казнями, войнами и т. д.
В коммунистическом обществе насилие над
личностью исчезнет навсегда. Но мы сознаем, что достичь
этой цели одной только проповедью ненасилия и
всепрощения невозможно. Непротивление злу насилием
мы не можем считать главным и радикальным
средством исправления мира, как не считаем таким
средством и насилие. По мере развития нашего общества
надобность в насилии уменьшается. Отсюда следует, что
наша критика ненасилия не носит абсолютного
характера, а обусловлена конкретно-историческими
условиями времени.
Нам ее школьных лет известна критика В. И.
Лениным учения Л. Н. Толстого о непротивлении злу
насилием. Проблема эта очень сложная в этическом плане,
и не всегда школьники бывают готовы к правильному
и глубокому восприятию справедливой ленинской
критики, имеющей конкретно-исторический контекст. Кое-
кем делаются выводы такого характера, который
искажает нравственные позиции нашего общества в этом
важном пункте. Так, считают, что на всякую обиду
нужно отвечать нанесением обиды, прощение и
уступчивость— это, мол, позор, силе всегда должна быть
противопоставлена сила, удару — удар, оскорблению —
оскорбление. По существу, это возрождение библейской
заповеди око за око, зуб за зуб. Твое законное право
в Л е н и в В, И, Поли, собр. соч., т. 41, с 309.
26
и даже дело чести ответить обидчику тем же. «Если ты
прав — никогда не уступай», «Добро должно быть с
кулаками». Подобные нравоучения, надо признать, еще
бытуют в массовом сознании. Однако в ссорах, как
известно, обе стороны часто считают себя одинаково
правыми и обвиняют друг друга в различных «грехах».
Упомянутые сентенции могут лишь способствовать
раздорам и взаимным обидам. Более всего отравляют
жизнь окружающим людям именно те, кто считает себя
непогрешимо правым. Умение в некоторых случаях
уступить, промолчать, простить в нашем
социалистическом общежитии — качество нужное и очень ценное,
хотя, разумеется, и меры пресечения по отношению к
нарушителям норм нашей жизни продолжают
оставаться необходимыми.
Всему есть предел, и конечно, есть нравственная
мера допустимого противодействия злу насилием. Если
перейти эту меру, то можно потерять нечто
существенное и в самих себе, потерять то, что нельзя терять ни
при каких обстоятельствах — человеческий образ.
Как часто обиженный сам превращается в обидчика
и даже оскорбителя, становясь на одну доску с тем,
кто обидел или оскорбил первый! В разговоре с
корреспондентом одна девушка особо подчеркнула, что
именно случаи жестокости делали в ее глазах
религию «противоядием», средством «борьбы с этим
звериным, жестоким началом в самих себе». Под
религией она понимает в этом случае определенную
высоту морального сознания, не позволяющего
поддаваться чувствам ожесточения, мстительности, требующего
видеть и уважать в каждом человеческую личность,
не прибегать, если это только возможно, к насилию над
нею. Безусловно, меры пресечения бывают совершенно
необходимы, благодаря им можно'не допустить
повторения антиобщественных поступков, преступлений.
Но при этом следует помнить, что одним насилием
нельзя сделать человека внутренне лучше.
Чрезмерно развитая чувствительность к внешним
воздействиям, болезненная раздражительность,
неспособность воздержаться, не реагировать на неприятные
факторы приводят нередко к нервному и психическому
истощению. Из этого состояния пробуют выйти двумя
противоположными способами. Один из них (пропове*
дуемый христианством)—отказ от активного противо-
27
действия, смирение вместо раздражительности,
прощение вместо чувства мести, успокоение и умиротворение
себя путем отречения от ранее желаемого. Человек
заставляет себя не реагировать на негативные явления,
не протестовать активно, поскольку это лишь еще
больше истощает его. Другой способ — самоутверждение
путем силы, решимость быть беспощадным, идти
напролом, не считаясь с окружающими и не чувствуя
к ним никакого сострадания. Быть сильным и
способным к насилию, к радикальнейшим действиям! Сделать
это в себе главным стремлением, получать
наслаждение от победы, достигнутой любыми средствами.
Христианство проповедовало образ «маленького человека»,
смирившего свою гордыню и сознательно умерившего
свои притязания. В противовес этому Ф. Ницше
выдвинул идеал сверхчеловека, презирающего смиренных
и негордых людей, такого, кто считает себя вправе
идти к своей цели, не считаясь с интересами других, кто
полагает, что он имеет право на свой эгоизм.
Идеал сверхчеловека составляет противоположность
христианскому типу человека. Но крайности, как
давно замечено, в чем-то сходятся. И здесь и там попытки
уйти от гнетущего ощущения собственного бессилия,
беспомощности. Подлинная сила спокойна и не
агрессивна, она вполне способна контролировать себя. Хотят
казаться сильными и потому проявляют агрессивность,
готовность к насилию люди слабые, внутренне
неустойчивые. В этой психологии кроются истоки культа силы,
власти. Христианами же, как заметил Э. Хемингуэй,
нас делает поражение7.
Идеал сверхчеловека всегда был чужд идеалам
народной нравственности и опиравшейся на нее
революционной морали. Наш гуманизм включает в себя то
сострадание к «маленькому человеку», которое с такой
силой было выражено в повести Н. В. Гоголя «Шинель»
и, можно сказать, во всей прогрессивной культуре
страны. Но гуманизм нашего общества трансформирует
чувство сострадания к униженным и угнетенным в
ненависть к поработителям, решимость вести борьбу за
освобождение. Мы не разделяем христианской идеи
непротивления злу насилием, если брать ее в общем со-
1 См.: Хемингуэй Э. #збр. произв. в 2-х тп т. 1, М., i959,
с. 307,
28
циально-историческом плане. Но ненависть и
вынужденные меры насилия мы рассматриваем лишь как
средства, ведущие к миру и согласию, взаимной любви
и доверию.
Конечно, надо оговориться, что в той или иной мере
насилие сохранится и в ближайшем будущем. В
принципе рождение неприязни и вражды, склонность к
принуждению другого человека к чему-либо кажущемуся
нам правильным и необходимым неизбежно. Ведь уже
достижение согласия между друзьями требует
преодоления разногласий. Поэтому напряженность
отношений, известная доля враждебности и раздора не могут
не быть даже между близкими людьми. Это в
определенном смысле помогает возвыситься взаимопониманию
на более высокую ступень. Чтобы дружба стала
прочной, она должна пройти через многие испытания и
размолвки.
Христианская проповедь любви и ненасилия нашла
в свое время отклик в сердцах людей потому, что в
антагонистических обществах в человеческих отношениях
слишком не хватало любви и слишком много было
вражды и ненависти, порождаемой господством одник
классов над другими.
На наш взгляд, не следует считать смирение,
терпение, воздержание и другие качества характера,
известные как «христианские добродетели», всегда и при всех
обстоятельствах пороками. Эти перегибы иногда
встречаются в нашей научно-популярной атеистической
литературе и лекциях. Смирение может быть не только
признаком слабости, рабской психологии, но и
свидетельствовать о большой силе духа. Нужно иметь большую
моральную силу, чтобы обуздать себя, умерить свои
притязания к окружающей действительности и усилить
требовательность к себе, не считать себя лучшим по
сравнению с другими и не стремиться к первенству во
всем и всегда. Сознание собственного несовершенства —
необходимое условие нравственности (с него и
начинается нравственное развитие и стремление к
самосовершенствованию) .
Никакое учение не может состоять из одних только
ошибок и нелепостей. Атеистическая критика должна
быть понимающей, должна анализировать тот смысл
заповедей, какой они имеют в сознании верующих.
Иначе невозможен никакой диалог, невозможно пони-
29
мание друг друга и переубеждение. Нецелесообразно,
например, заповедь «Блаженны нищие духом..»»
трактовать так: нищие духом. — эта значит бессильные и
трусливые, глупые и беспомощные. Ведь приверженцы
евангельского учения могут возразить. Нищие духом,
скажут они, это те люди, которые не мнят себя духовно
богатыми, те, кто сознает свое духовное
несовершенство. Сократ повторял про себя, что он знает, что ничего
не знает. И эта возвышала его над теми, кто был
уверен в своей мудрости и тем закрывал себе дорогу к
познанию. Духовна одаренный и развитый человек
вряд ли будет кичиться своими достоинствами, и дело
здесь не в одной только скромности, но и в искреннем
сознании- ограниченности своих достоинств и
достижений. Простоту сердца мы предпочитаем мудрости
разума.
В изложенной позиции есть доля истины.
Действительно, иной мнит себя духовно богатым, патому что
читает книги, ходит в театр, слушает музыку, старается
поддержать разговор чуть ли не на любую тему. Между
тем всего этого мажет оказаться недостаточно:
духовность определяете» прежде всего уровнем
нравственного развития человека, его отношением к миру и
людям. Простота—всегда достойное качество,
принадлежит ли она выдающемуся человеку или незаметному
среди других. Князь Мышки» из романа Ф. М.
Достоевского «Идиот», конечна, не бессилен, не труслив,
не глуп, как мог показаться тем, кто считает себя
высококультурными людьми.
Наша критика п неприятие заповеди «Блаженны
нищие духом...» обусловлены, однако, тем, что в нее
вкладывался и другой смысл. Он1» использовалась для
обесценения разума, интеллектуального развития,
просвещения, каковые объявлялись ненужными или даже
вредными. Эта заповедь требовала от теловека
самоумаления, признания своего ничтожества, отказа ог
опоры на свои духовные силы.
Не стоит ограничиваться общими, абстрактными
оценками евангельских заповедей. В разные времена в
разных условиях orb обретали и разный смысл.
В. И. Ленин говорил а «демократически-революционном
духе» раннего христианства \ Этот дух пропитывал тог-
9 См.: Л ев кв В. И. Пот. собр. соч., т. 3$, с. 43.
30
да и нравственную проповедь. Когда тке христианство
стало государственной религией, дело решительным
образом изменилось. Заповеди стали истолковываться
в ином, выгодном для господствующих классов духе.
И сам образ Христа истолковывался и истолковывается
весьма по-разному. А. И. Герцен пишет в «Былом и
думах» о глубоком и искреннем уважении к Евангелию,
которое он испытывал всю свою жизнь. Евангельский
образ Христа вызывал сочувствие и других передовых
и революционно настроенных деятелей русской
культуры. Но в Христе можно видеть и заступника
униженных и оскорбленных, а можно видеть и грозного судью,
карающего за неподчинение власть предержащим.
У Герцена есть принципиальные оценки религиозной, в
том числе и христианской, нравственности,
свидетельствующие о его отрицательном отношении к ней: «Все
религии основывали нравственность на покорности, т. е.
добровольном рабстве, потому они и были всегда
вреднее политического устройства... Христианство...
приказывало любить не только всех, но преимущественно
своих врагов. Восемнадцать столетий люди умилялись
перед этим; пора, наконец, сознаться, что правило это
пустое» 9.
Нравственная проповедь Иисуса Христа содержит
гаветы любви к ближнему, милосердия, прощения,
кротости, смирения. Она возвышает «маленького человека»
и отрицает то, что признавал мир богатых: знатность,
гордость, довольство собой, роскошь, власть, телесную
красоту и т. д. Такая «переоценка ценностей»,
безусловно, имела «революционно-демократическое нутро».
В последующем образ Христа подвергся искажениям и
многочисленным толкованиям, приспосабливавшим его
к целям охраны и защиты несправедливых социальных
порядков. Очевидно, нет никакой надобности чернить
или сознательно принижать нравственный облик Хри-
cia, каким он дан в Евангелии. Но если даже, отбросив
как вымысел рассказы о творимых им чудесах, о «го
родословной, о чудесном воскресении, оставить 'чисто
человеческую характеристику, вряд ли можно считать
Христа идеальной личностью. Можно назвать его
утешителем, страстотерпцем, самоотверженным челове-
9 Герцен А, И. СоОр. соч, в ЗО-Т0 т., т. У1Л М., I960, с, 125,
129—130,
31
ком и т. д., но нет оснований считать его спасителем,
великим учителем, который вывел людей на правильный
путь. История предоставила достаточно
продолжительный срок для испытания советов, которые давал
Христос людям, и наглядно показала неспособность этих
советов исправить мир к лучшему. Кроме того, если
искать полноценный идеал человеческой личности, то
вряд ли имеет смысл обращаться в настоящее время
к той далекой эпохе, которая родила образ Христа.
В современном социалистическом обществе стремиться
подражать во всем Христу выглядело бы совсем иначе,
чем в далекие времена. Нелепость такого подражания
бросалась бы в глаза каждому, кто не верит в
божественное происхождение Христа, в его
сверхъестественную природу. Ф. М. Достоевский справедливо указывал
на бесплодность и бесперспективность попыток
поклоняться Xpncty как идеальному человеку, не разделяя
веры в бессмертие души, воскресение Христа, в
потусторонний мир. С утратой такой веры образ Христа
теряет свою силу.
Если же видеть в Христе сына бога и бога, то дело
существенным образом меняется. И тут у нас, атеистов,
возникают уже особые аргументы и возражения.
Прежде всего мы утверждаем, что идея бога и бессмертия
души не имеет оснований. Нет ни одного аргумента,
доказательства, которое бы не было самым тщательным
образом рассмотрено и отвергнуто беспристрастной
мыслью. Брать эту идею без доказательства,
руководствуясь лишь интуицией, «внутренним голосом»,
нельзя, не поступаясь интеллектуальной честностью.
Допустим, я пытаюсь своим умом разобраться в
мироустройстве и определить свое жизнепонимание.
Совершенно определенно я должен попытаться мыслить мир без
бога, хотя бы при этом я* и допускал, что ход
рассуждений может привести меня к признанию бытия высшей
силы. Но начинать с бога как исходной предпосылки
для миропонимания неправомерно, для этого нет
реальных причин, кроме той, что люди в прошлом верили
в бога и немало таких, кто верит и сейчас. Но если в
прошлом и самому глубокому, самому образованному
человеку трудно было не считаться с тем фактом, что
люди верили в бога и религиозная проблема в силу
этого выступала как самая первая, которую нужно
разрешить, чтобй определить свое место в мире, то ныне
32
ситуация изменилась: если я в своих мыслях о мире
и о том, как мне следует жить, приду к вопросу о боге,
то в этом случае я должен его разрешить. Но где тот
пункт, в котором размышления о мире и человеке
приводят с необходимостью к мысли о боге? Такого
пункта указать никто не может, хотя на поиски его было
потрачено в прошлом и тратится по сей день много сил.
Немало богословов признают, что неопровержимых
доказательств бытия бога нет и быть не может. При этом,
правда, они утверждают, что вера удостоверяет себя
сама: внутренний опыт жизни в боге подтверждает
истинность религии. Иными словами, чтобы
окончательно уверовать, надо уже верить. Доказанной веры
быть не может, доказанная вера перестает быть верой.
Вера —это акт волевого решения. На таком подходе к
вопросу о вере настаивает в настоящее время большое
число богословов, пытающихся из самой невозможности
доказательства бытия божия выжать аргумент в пользу
религии. Иногда приходится слышать такой аргумент —
но ведь не доказано и то, что бога нет. Этот аргумент
лишен силы, ибо нет оснований для предположения
бытия бога, таких оснований, которые не были бы
отвергнуты философией и научным мышлением. Доказывать,
что нечто не существует, можно только одним путем —
рассмотреть объективно все доводы, выдвигаемые в
пользу существования.
Среди причин, побуждающих современного
верующего защищать религию, одна из наиболее
влиятельных—убежденность в том, что нравственность и
религия составляют единое целое. Если под этим единым
целым понимается вера в высшие идеалы, в добро,
справедливость, то мы можем возразить только против
того, что это все называется религией. Понятие религии
исторически несет в себе и иное содержание — веру в
сверхъестественную силу, поддерживающую
нравственный миропорядок. Если же полагать, что нравственный
закон дан богом, то дело решительно меняется. Против
морали, выведенной из воли бога, атеизм
высказывается по ряду важных причин, частично уже
указанных выше. Религиозная санкция подавляет нашу
способность к моральным суждениям и оценкам. Если
заповеди даны богом, то человеку остается следовать им,
не рассуждая. Смысл заповедей становится в таком
случае не столь важным, главное то, что они выража-
зз
ют повеления бога. Всякая критика, всякое
рассуждение в этой области становятся запретными. Строго
говоря, нравственное чувство, совесть как раз в этом
случае лишаются права самостоятельного суждения:
если в «Священном писании» сказано так, то только
так и надо действовать. В случае расхождения суда
собственной совести и «указаний господних» последним
принадлежит безусловный приоритет. В этом смысле
верующий является рабом высшей силы.
Религиозные предписания носят характер
абсолютных. Но в реальной жизни слепое выполнение любой
нормы, любой заповеди может привести человека к
безнравственному поступку. Можно вообразить такую
ситуацию, в которой, скажем, заповедь «не убий» теряет
нравственное значение и ведет к безнравственности.
Богословы, разумеется, понимают нелепость такой
постановки вопроса и пытаются выйти из положения
посредством разъяснений о том, что нужно
руководствоваться не просто словом «писания», не буквой, а духом его
и голосом совести, которая отражает волю божью.
Но в этом случае у них возникает другая трудность —
если каждый будет руководствоваться своим
пониманием заповедей и следовать голосу собственной совести,
то божественная санкция морали становится ненужной.
К тому же опыт подсказывает, что веления совести и
понимание духа заповедей весьма различны у людей.
Сколько преступлений совершено и совершается и в
наше время людьми, считающими^ что ими руководит
«святой дух».
Далее- Если исходить из того, что нравственные
законы имеют смысл, не сводящийся к земным делам, но
подчиненный неведомым целям господа, то это значит
идти по линии дегуманизации нравственности.
Получается, что высшим долгом является служение богу, а
не людям. Если даже главной заповедью бога является
любовь к ближнему, то и в этом случае любовь к
людям становится лишь средством быть угодным богу.
Любить человека ради него самого, служить людям
ради них самих, быть честным не по повелению свыше,
а по велению собственной совести—разве это не выше
в нравственном отношении, чем стараться любить,
стараться служить людям по предписанию? К тому же
предписание «любить» содержит внутреннее
противоречие: любят не по предписанию, если любят, то пред-
34
писывать любовь незачем. Если же любви нет, то она
не возникнет по указанию свыше. Любовь нельзя
вынудить. Предписание любви может побудить человека
хотеть любить, стремиться любить, не делать ничего
противоречащего любви, но не более.
Если же нам на это скажут, что заповедь любви
не надо понимать как предписание, но лишь как
указание на то, что любовь к ближнему это хорошо, а
ненависть и вражда это плохо, то в таком случае
Христос выступает лишь как учитель нравственности и в
качестве такового его тогда и нужно воспринимать.
В этом случае человек обретает право разбирать своим
умом, что правильно и что неправильно в его учении,
что устарело, что сохраняет силу* Подобный подход,
конечно, с точки зрения церкви считается
кощунственным. Ведь слово божье священно. Но спрашивается,
если бог всемогущ и милосерден, а человек немощен и
жестокосерд, то в чем состоит промысел божий? Чем
можно оправдать страдания и бедствия миллионов
людей, живших до нас и живущих в наше время?
Возможно несколько ответов. Один из них, используемый
весьма часто, сводится к тому, что нам не известны
замыслы господа. Это просто уход от вопроса. Другой ответ*
бог не касается земных дел. Этот ответ противоречит
христианскому учению в корне. Христос приходил как
посланник отца, чтобы спасти людей. Бог нейтральный,
не вмешивающийся в сземные дрязги», —это не бог,
а никому не нужная абстракция или обозначение
творческой силы природы. Наконец, третий ответ: бог
указал людям путь к истинной жизни, но не хочет никого
принуждать, не хочет лишать дарованной им самим
человеку свободной воли. Он желает, чтобы люди по
своей доброй воле избрали праведный путь спасения»
ибо только такая праведность имеет цену. Этот ответ
содержит в себе противоречие: если, как учит религия,
заповеди даны богом н Христос сошел на землю как
его сын и посланник, то о каком же свободном выборе
может идти речь? Остается лишь безоговорочное
послушание. Само пришествие Христа на землю с
проповедью уже отнимает свободу выбора и свободу
нравственных поисков. Все предопределено заранее:
назначение человека не отыскано им самим, а указано
свыше. Праведный человек — не творец, а исполнитель.
Миссия людей, всей их истории — научиться повино*
35
ваться изреченным и начертанным словам господа.
Как согласовать санкционированные авторитетом
бога предписания и свободу волеизъявления
человека?— этот вопрос продолжает оставаться одним из
самых трудных для богословия. Согласовать практически
невозможно — одно исключает другое. Но наибольший
упор богословами ныне делается на свободу
нравственного самоопределения человека и, следовательно, на
его ответственность за свой выбор. Некоторые
богословы утверждают, что религия предоставляет полный
простор для самостоятельных поисков праведного пути,
давая людям лишь общую ориентацию и не стесняя
их конкретными предписаниями в том, что делать им
в той или иной ситуации. Иногда же и под самой
религией понимается поиск и нахождение нравственного
идеала: искать правду — значит искать бога. Тогда
непонятно, что же в таком случае подразумевается под
богом. Если бог — это любовь, правда, добро, то
исчезает сама суть религии и становится неясным, зачем
давать имя бога тем понятиям, которые принимаются
людьми, принципиально отвергающими веру в
сверхъестественные силы и бессмертие души. Слово «бог»
имеет вполне устоявшееся в истории содержание,
связанное с представлениями о сверхъестественной силе,
всеведущей и всемогущей. Искать правду своим
разумом— это значит идти по пути освобождения от
религии, обязывающей к безоговорочному признанию
правоты ее учения.
НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ
И НАУЧНО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Процесс секуляризации морального сознания, т. е.
освобождения его от влияния религии и обретения
самостоятельного, независимого от религии смысла,
осуществляется не единым актом, а занимает
продолжительный период в истории человечества, наполнен
противоречиями, колебаниями и отступлениями.
Бывает, что человек, отказавшийся от религии, остается во
власти религиозных нравственных оценок и идеалов,
сам не осознавая этого. Иногда же крушение
религиозной веры ведет к моральному нигилизму, отрицанию
36
моральных идеалов и ценностей, голому практицизму.
Современный западный нигилизм в его духовном
генезисе представляет собой результат и следствие
разложения религиозной веры.
Религиозный нравственный идеал по самой своей
природе порабощает и подавляет человека, он
связывает его развитие, парализует энергию нравственного
поиска. Совесть становится чем-то застывшим, она
лишь повторяет оценки, соответствующие
сложившемуся некогда идеалу. Но ясно, что нравственность
остается таковой только в том случае, если продолжает
развиваться. В противном случае она обращается в
оковы, мешающие духовному развитию человека,
продвижению его вперед.
В борьбе с религией и церковью некоторые атеисты
нередко высказывались против общего идеала как
такового и утверждали, что развитие человека должно
совершаться свободно и естественно, без стесняющей
и деформирующей это развитие общей мерки. Конечно,
эта позиция выразила прежде всего протест против
уродующего, отжившего религиозного идеала,
навязываемого церковью; всеми общественными институтами.
Но естественное и свободное развитие — это тоже
идеал. Причем идеал очень неопределенный. Что
называть естественным? Как естественное отличить от
неестественного? Исторический опыт показывает, что те
формы общественного и личного существования,
которые устаревают и перестают удовлетворять новым
требованиям, предстают в глазах критически мыслящих
людей неестественными, противоречащими здравому
смыслу. Новые представления о жизни, какой она
должна быть, выдвигаются как естественные и само
собой разумеющиеся. Однако со временем выявляется
социально-историческая обусловленность и новых
«естественных» требований.
Если конкретизировать идеал свободно и
естественно развивающегося человека, то окажется, что он
вырос из противоположения косному, мертвящему идеалу,
проповедовавшемуся церковью. И надо заметить, что
многое, казавшееся в XIX в. естественным, вскоре
обнаружило свою историческую ограниченность. «Жить,
как трава растет», не задумываясь о смысле
существования, оказывается противоречащим сущности челове-
37
ка. Без высокой цели, без идеала жизнь пуста, и все
происходящее с человеком — все радости и волнения,
победы и поражения, развлечения и труд — не может
наполнить ее, напротив, еще более опустошает. Человек
теряет ведущую нить, его действия не сопровождаются
чувством необходимости того, чем он занят. Это
неминуемо ведет к саморазрушению личности, ибо она
лишается внутренней связности, цельности и испытывает
ощущение ненайденности пути или его потери. Одна из
причин, привлекавшая людей к религии, заключалась
в том, что религия давала идеал и указывала
иллюзорный путь спасения человека от тягостного ощущения
им бессмысленности бытия. В религии крайне важны
поиски лучшего, отмечал В. И. Ленин1. Конспектируя
книгу Л. Фейербаха «Лекции о сущности религии»,
В. И. Ленин сделал запись: «Религия дает человеку
идеал... Человеку нужен идеал, но человеческий,
соответствующий природе, а не сверхъестественный...»2
Далее в конспекте идут слова Фейербаха: «Пусть нашим
идеалом будет не кастрированное, лишенное телесности,
отвлеченное существо, а — цельный, действительный,
всесторонний, совершенный, образованный человек»3.
Религия давала человеку идеал, но этот идеал лишал
его свободы и самостоятельности, а путь, указываемый
религией, не вел к обещанному спасению, избавлению,
а уводил в сторону от действительного разрешения
вопроса о справедливом и счастливом устройстве жизни
на земле.
Что же представляет собой нравственный идеал,
свободный от религии, и что может побудить человека,
не верующего в бога, следовать этому идеалу?
Так же, как и всякий идеал, идеал человека, не
верящего в сверхъестественную силу, складывается в
самом жизненном процессе и обусловлен социальными
условиями времени, характером взаимоотношений,
воспитанием, личным опытом. Если религиозный идеал
нравственности всегда отражает зависимость человека
от высших сил (за которыми стоят, несомненно,
реальные, земные силы) и подчиняет себе человека, лишая
его свободы и самостоятельности, то отношение челове-
1 См,: Ленин В. И, Поли. собр. соч., т. 29, с. 53,
й Т а м ж е, с. 56,
9 Там же.
ка к идеалу^ не санкционированному авторитетом
религии, принципиально иное. Это им самим выработанный,
выношенный и прочувствованный идеал. Он не
подавляет и не порабощает, но побуждает стремиться к
высшему, полагаясь на свои собственные силы и разум.
Человек в этом случае ответствен за свой идеал, за
выбор пути, имеет право и даже обязан соотносить
идеальные побуждения с реальной действительностью,
вносить поправки и уточнения.
Раз и навсегда заданный идеал, идеал,
воплощенный в конкретном неподвижном образе совершенной
личности, неминуемо парализует творческое отношение
к жизни, оставляя лишь одну возможность — стараться
следовать готовому образцу. Такой идеал,
заключающий в себе представление о завершенном развитии
личности и общества, противоречит бесконечно
развивающемуся процессу жизни, неправомерно
ограничивает и стесняет реализацию громадных и еще далеко
не полностью исследованных, изведанных
возможностей, заключенных в жизни.
Значит ли это, что атеизм ведет к отрицанию
единого для всех нравственного идеала и единственно
правильного пути развития человека и человечества?
Отнюдь нет. Коммунистическая идеология как раз
является научным руководством к определению этого
единственно правильного пути. Это руководство основывается
не на предании, не на заветах и прозрениях пророков,
а на изучении и постижении живой действительности —
процессов, совершающихся в обществе,
закономерностей развития природы и человека. При этом
марксистско-ленинское мировоззрение не претендует на то,
что уже обладает абсолютной истиной, которую только
остается усвоить. Нет, оно не выдает себя за
законченное и завершенное, а продолжает развиваться, вбирая
в себя данные современных наук и исторический опыг
человечества. Марксизм вырос на базе развития
мировой человеческой культуры и должен продолжать
ассимилировать, перерабатывать, критически усваивать
духовное наследие прошлого и новейшие достижения
мысли. Только при этом условии наша идеология мо?
жет полноценно существовать и претендовать на
руководство умами современных людей.
Вопрос об идеале всегда волновал и продолжает
волновать людей. Ответить на этот вопрос — значит,
39
определить цель и смысл существования. Идеал —эта
путь в будущее. Мудрецы разных времен искали ответа
на эти основные проблемы, стоящие так или иначе
перед каждым человеком. В истории философской мысли
с древнейших времен наметились два направления
поисков. Представители одного из них пытались понять
место и назначение человека посредством постижения
природы, космоса. Они считали^ что законы бытия
всюду одни и те же, жить надо согласно природе, которая
произвела тебя на свет, все беды и страдания человека
от того, что он уклонился от естественного закона, от
пути, предначертанного ему изначально и навсегда.
Так, Лао-цзы считал, что главное для человека — это
следовать дао (естественному пути, закономерности),
голос которого каждый может услышать в своей душе,
если не будет заглушать его суетой и спешкой.
Жизни, сообразующейся с природой, учили многие
философы Древней Греции и более поздних времен. Эта
идея, собственно, никогда не умирала в сознании
человечества. Она содержит в себе момент истины, хотя и
не всю истину. Сознание неправильности жизни часто
связывалось и связывается с пониманием
неестественности, противоестественности, искусственности образа
жизни. Мотив «возвращения к природе» — один из
основных в истории этической мысли. Правда, надо
признать, что он принимал разные формы, наполнялся
разным содержанием. Представления о «естественной
жизни», о необходимости близости и родства с природой,
например, у Руссо или у Л. Н. Толстого прямо
противоположны идеям фашизма, который тоже
пропагандировал возвращение к природе и отвергал
цивилизацию.
Мыслители другого направления искали идеал не в
законах естествознания, а в самом человеке. Девиз
Сократа «Познай себя!». Источник всего дурного состоит
в том, что мы не знаем себя и потому совершаем
ошибки в выборе пути. Если же ты будешь знать, что ты
есть, то будешь знать и то, чем ты должен быть, к
каким целям следует стремиться и что считать истинным
благом. Человек — разумное существо и должен жить
по своей природе, руководствуясь правильным
мышлением. Правильное понимание ведет и к правильным
действиям* Счастье можно найти только в следовании
разуму, истине. Весьма скоро, однако, философы, воспри-
40
нявшие установку Сократа* разошлись в понимании-
того, что считать разумной, истинной, добродетельной
жизнью. Одни учили людей уметь наслаждаться
жизнью, видя высшую мудрость в искусстве достигать
неомраченных наслаждений, другие считали разумным
воздерживаться от наслаждений и следовать долгу;
нравственному закону, повелевающему преодолевать
свои желания и уметь переносить безропотно
страдания, удары судьбы. Таким образом, самопознание
привело к обнаружению двух противоположных начал в
человеческой природе; стремления к удовлетворению
естественных потребностей, наслаждению благами
жизни и стремления к возвышенной жизни, преодолению
чувственных влечений.
Эта «расколотость», противоречивость человеческой
природы получила в христианской религии свое
истолкование: одно начало объявлялось божественным,
другое— греховным. Человек, утверждают богословы,
должен учиться подавлять в себе начало греховное,
^животные страсти», эгоизм и развивать противоположное
стремление к духовной жизни, к самоотречению и
самосовершенствованию. Представление о
противоборстве в человеке двух начал — «темного» («животного»,
«эгоистического») и «светлого» («доброго»,
«возвышенного») несет в себе определенную долю истины. В
современных концепциях человека, распространенных на
Западе, по существу в той или иной форме
поддерживается это представление, дается низкая оценка
природе человека, проповедуется мысль о неразрешимости
внутреннего конфликта и недостижимости
гармонического существования личности. Те же представители
философских направлений, которые основываются на
принципах естественнонаучного знания, заявляют
нередко о принципиальной невозможности решить
научными средствами проблему отыскания верного пути для
человека и человечества, проблемы обоснования идеала
и ценностей. Наука якобы не в состоянии перейти от
исследования сущего к нахождению, определению
должного. При всей неудовлетворительности такой
позиции (она все более не устраивает и самих
буржуазных философов, понимающих, что человечество не
может отказаться от решения основных проблем
существования) в ней все же нашла выражение определенная
реалия. Именно научение действительности методами,
41
сложившимися в естествознании, не указывает само по
себе на то, что человек должен делать, как ему следует
жить. Ни установление того, как устроена природа,
ни исследование человека, как он есть, не выводят на
путь должного, к идеалу, хотя и безгранично
увеличивают возможности человека как средства достижения
целей. Развитие человечества не определялось и не
определяется наукой, наука может лишь установить
существующие закономерности, управляющие процессами
развития.
Попытки «научно» сконструировать идеал
общественного устройства и соответственно этому идеалу
определить оптимальные, наиболее эффективные правила
взаимоотношений людей между собой (исходя из
принципа «всеобщей пользы», «уменьшения страданий»
и т. п.) оказываются практически несостоятельными,
утопическими, поскольку они исходят из представлений
о раз и навсегда заданной «норме» человека или
общества.
И то направление, которое искало разрешение
проблемы нравственного идеала и пути в «естественном
законе», в самой природе, и то, которое пыталось найти
ответ на коренные проблемы существования в
устройстве человека и общества, обнаружили свою
несостоятельность и односторонность.
Принципиально иначе подходит к вопросу
марксистско-ленинская философия. Ее подход характеризуется
прежде всего тем, что сущность человека не
предполагается раз и навсегда данной, установленной природой
(или создателем). Поэтому марксизм не признает
существование абсолютного нравственного закона (или
идеала личности), который был бы заложен в
основании всего мироздания или в человеческой природе.
Нельзя указать, определить общеисторической, родовой
меры человека. Как и другие виды животных, человек
появился в результате космологического процесса
развития, приведшего к возникновению жизни и ее
эволюции. Но в отличие от других животных, родовая
сущность которых определена, задана биологическими
параметрами, человек продолжает общий процесс
развития уже на другой — социальной основе. Он не остается
равен самому себе, но изменяется во взаимодействии с
природой и себе подобными людьми. Появление
человека было бы неправильно рассматривать как чисто
42
случайный результат сложившихся обстоятельств,
совпадения условий. За случайностью, как известно,
кроется закономерность. Человек есть выражение
внутренних потенций, возможностей, заложенных в природе.
Можно сказать, что природа, порождая множество
разных форм органической жизни и продвигаясь вперед
по эволюционной лестнице развития, шла, пробивалась
к новой, высшей форме движения.
Появление человека знаменует собой одну из
кульминационных точек общего космологического процесса.
История человечества, являясь продолжением истории
природы, характеризуется способностью людей к
самоопределению, самосозиданию, воздействию на
формирование своего будущего. Эта способность, вначале
слабая, получает все большее развитие. Объективная
закономерность действует, несомненно, и в человеческой
истории, но она выражается и в том, что люди сами
творят свою историю. Рост сил и возможностей
человечества не гарантирует сам по себе выбора правильного
пути развития. Способность самоопределения может
быть употреблена и в худшую сторону. Будет то, что
сделают сами люди. Марксизм отвергает идею
предопределенности судеб человечества, как и судеб
отдельной личности.
Это, однако, не означает, что и общество в целом и
отдельный человек творят свои судьбы по собственному
произволу. Фатального предопределения событий нет,
но есть путь правый — тот, который ведет человечество
вперед, и есть множество ложных дорог, уводящих в
сторону. Если в прошлом история человечества
совершалась в основном с необходимостью естественного,
природного процесса, то по мере развития сил и
способностей человека все большую роль приобретает
сознательное самоопределение, выбор пути самими
людьми. Коммунизм, как известно, может быть только
результатом свободного творчества масс. Отсюда ясно,
какое громадное значение имеет выбор целей, идеалов,
ценностей.
Человек ищет свой путь, ищет самостоятельно! без
помощи H3BHef совершая ошибки, оступаясь,
возвращаясь назад, нащупывая твердую почву под ногами.
Религиозные идеалы очень часто бывали помехой в
этих поисках, сея иллюзию найденности пути, якобы
уже указанного богом в откровении, подрывая веру че-
43
ловека в свои силы, парализуя его творческую энергию
и стремление во всем разобраться самому.
В своем движении вперед человечество опирается не
на «священные книги», в которых будто бы все заранее
открыто, а на научное и философское постижение
действительности, на свой нравственный опыт и искания,
на эстетическое чувство и творчество.
Отрицая предопределенность судеб, вовсе не
обязательно становиться на точку зрения, согласно которой
люди могут вершить все, что им заблагорассудится, по
своему произволу. Люди должны найти свой путь и
понять свое предназначение. Путь и предназначение
открываются людям через постижение и внешней
природы, ее истории, и своей собственной, человеческой
природы и исюрии. Человеческая история — это
продолжение истории природы, и, стало быть, правомерно
искать общий смысл совершающегося процесса
развития. При этом высшее (человека) можно понять
только на основе познания низших ступеней, которые
говорят о направленности процесса. И наоборот, низшие
ступени развития природы, эволюция живого
становятся ясными только в связи с высшим продуктом этой
эволюции, проясняющим смысл и значение
предшествующих этапов. Разделенность, обособленность наук о
человеке и наук о природе условны и временны.
К. Маркс предсказывал, что они сольются воедино.
«Впоследствии,— писал он, — естествознание включит
в себя науку о человеке в такой же мере, в какой
наука о человеке включит в себя естествознание: это будет
одна наука... Человек есть непосредственный предмет
естествознания... природа есть непосредственный
предмет науки о человеке»*.
Отсюда следует, что путь и предназначение человека
имеют некоторые свои исходные основания вне его —
в объективной действительности и предшествующей
истории. Попытки найти ответ на вопросы — как следует
жить? каким надо быть? — в познании законов
природы и в исследовании человека вовсе не лишены
смысла, хотя они и не приводят к целостной истине в силу
ограниченности подхода к проблеме. Ограниченность
этого подхода состоит прежде всего в том, что человек
и природа, их взаимосвязь мыслятся как константы:
«Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 124—125,
44
предполагается существование общеисторической,
родовой нормы человека, соответствующей этой родовой
сущности нравственности и эстетических вкусов,
неизменного характера отношения человека к природе.
С марксистской точки зрения, сущность человека —
совокупность общественных отношений. Это значит, что
постоянной, природой данной сущности человека нет,
она возникает и формируется в социальном процессе,
в котором люди вступают в определенные отношения
с природой и друг с другом. Это не значит, однако, что
сущности человека как таковой вообще нет, что она
изменяется от века к веку. Человек действительно во
многом меняется в ходе истории, но всю историю в целом
можно трактовать как процесс становления и развития
человеческой сущности, как движение к тому, чтобы
человек обрел свою подлинную сущность*
Человек может как возвыситься, так и пасть,
растлить себя, умереть заживо. И по отношению к
человечеству в целом можно сказать, что оно само
прокладывает себе дорогу в будущее. Нет пути,
предначертанного высшей силой, он не обозначен и в книге
природы, чтобы, прочтя ее, люди уже окончательно знали бы,
в каком направлении им двигаться. Путь, смысл и цель
жизни творятся в известном смысле самими людьми,
но это творчество должно быть продолжением процесса
развития природы и общества. Существует единственно
достойный человека способ жизни — творчество, и в нем
должно быть найдено согласование устремлений
человека С природой, как внешней, так и его собственной,
внутренней. Идеал не берется готовым и не
складывается только лишь на основании знаний о природе й
истории. Ведь из познания того, что было и есть, т. е.
из познания сущего, не вытекает непосредственно
должного. Непреложной связи между тем, что есть, и тем,
что должно быть, установить нельзя. Можно
установить закономерности и тенденции предшествующих
ступеней развития. Но почему непременно надо
подчиняться той направленности, которая сложилась ранее?
Человек на то и человек, что он может избирать свой
путь, более того, обязан это делать. Он несет
ответственность за свой выбор в любом случае — и когда
подчиняется внешней силе, и когда отказывается следовать
ей.
Познание того, что есть «я», может быть указанием
45
на то, как быть самим собой. Это зерно. Но почему
нужно быть самим собой и нужно ли? Такой вопрос
вполне правомерен. Ведь возможно допустить, что я
должен быть иным, должен преодолеть себя, изменить
свое «я». Если бы идеалы и ценности были бы раз и
навсегда установлены со всей непреложностью
(каковая существует во многих религиях), то это было бы
плохо. Живая жизнь состоит в том, чтобы искать и
находить единственно правильный путь, отыскивая
разумом свое место и назначение. Человек открыт в
будущее. Его развитие безотносительно к какому-либо
заранее установленному масштабу является самоцелью
общественного развития5. Слова К, Маркса о развитии
человека «безотносительно к какому-либо заранее
установленному масштабу» не следует понимать как
отрицание всякого масштаба, всякой меры, как право на
абсолютное своеволие, вседозволенность. Речь идет
именно о заранее установленном кем-то или чем-то
масштабе, идеале. Идеал вырабатывается человеком и
меняется в ходе развития. За выбор ложного пути, за
служение лжеидеалу, за отклонение от истинного своего
призвания человек расплачивается. В известном смысле
можно говорить о существовании закона возмездия.
Нарушение человеком нравственного закона — это
преступление не только против другого человека,
общества, но и против самого себя. Совершая недостойные
поступки, человек искажает и калечит свою
собственную человеческую натуру. Поступая против совести, он
теряет себя. Дело не только в угрызениях совести
(кое-кому удается притупить и заглушить в себе
совесть), главное — то, что пороки и злодеяния
разрушают личность и лишают ее возможности быть,
состояться. Родион Раскольников в полной мере ощутил это
после совершения убийства. «Не старуху я убил, а себя
самого убил», — признается он. Никакие блага не
могут компенсировать потерю человеком самого себя. Эта
потеря — самая страшная из всех возможных потерь.
Более того, нравственное преступление в некотором
смысле есть преступление и против природы вообще,
если рассматривать феномен человека не как простую
случайность, а как выражение закономерностей, воз-
6 См.: Маркс К., Энгельс Ф« Соч., т, 46, ч, I, ct 475—
46
можностей, заложенных в природе. А также, конечно,
если видеть в нравственности не просто сумму правил
общежития, устанавливаемых применительно к
условиям жизни, а одну из сил, движущих человека вперед,
стимулирующих его развитие, совершенствование. В
общеисторическом плане можно сказать, что духовно-
нравственное состояние человечества находит свое
выражение и в следах, оставляемых им на лице природы.
Становится все более ясным в наше время, что
экологические проблемы тесно связаны с нравственными.
Человек не может найти гармонии существования
путем насилия, покорения природы. Овладение силами
природы и установление своего рода
«взаимопонимания» с нею — только такой путь можно считать
правильным.
Чтобы быть в гармоничных отношениях с природой,
многое еще нужно изменить и в технологии, и во
внутреннем мире человека. Нельзя смотреть на природу как
на нечто мертвенное, инертное, лишь как на средство
получения сырья, ресурсов. Когда искажены
взаимосвязи человека и природы, тогда теряется ориентир
добра. Отношение человека к человеку и отношение
человека к природе оказываются связанными. Ф. И.
Тютчеву принадлежат следующие классические строки:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик.—
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык8.
В характеристику образа совершенного человека,
идеала должна входить, с нашей точки зрения, и такая
его черта, как отношение к природе (чего, кстати
говоря, совершенно нет в религиях библейской
традиции— иудаизме, христианстве, исламе).
Речь не только о бережном, заботливом отношении
к природе, о чувстве родства с «братьями нашими
меньшими», о сострадании к ним и защите их. Тем
более нравственная суть отношения к природе не
ограничивается проблемой рационального ее использования,
что, конечно, само по себе важно, не сводится к задаче
сохранения природы, какой она есть. Нетронутой
природы, собственно, уже и не осталось на земле. Сто лет
назад К. Маркс и Ф. Энгельс писали о том, что
-ь Тютчев Ф. И. Соч. в 2-х т., т, 1, М., 1980, с. 87.
47
«...предшествующая человеческой истории природа...
кроме разве отдельных австралийских коралловых
островов новейшего происхождения, нЫне нигде более
не существует...»7 Человечество не может считать
Своей задачей сохранение природы не только в силу
утопичности этой цели, но и потому, что миссия его
значительно серьезнее — преобразование всей
действительности согласно своим идеалам, Преобразование
природы, однако, должно носить не чисто утилитарный,
потребительский характер, какой присущ
капиталистическому способу производства, а направлено в сторону
улучшения ее, должно быть ее продолжением,
развитием. В этом смысле с позиций марксистской философии
можно говорить об «историзации», «антропологиЗации»
природы8.
Французский философ-гуманист нашего времени
А. Швейцер выдвинул в качестве всеобъемлющего,
основного принципа нравственности благоговение перед
жизнью. Отрицать этот принцип нельзя, он как момент,
безусловно, входит в состав нравственного сознания.
Вместе с тем нельзя не видеть того, что он ограничен.
Понятие благоговения не схватывает
активно-творческого отношения человека к природе. Оно по своему
характеру более молитвенно, побуждает к умилению
перед всем живым и попечению. Но все животные
живут за счет другой жизни, так или иначе пожирая
чужую жизнь. Конечно, глубоко нравственным всегда
было отношение людей труда к хлебу насущному, самому
процессу питания как ритуалу, исполненному высоким
смыслом, к земле, полю, домашним животным и диким
зверям. Однако это отношение никоим образом не
поддается интерпретации в качестве благоговения. И,
глядя в будущее, мы не можем назвать идею благоговения
перед жизнью главным, руководящим нравственным
принципом. Связь человека с природой имеет более
глубокое, в том числе и нравственное, содержание.
«...Пока существуют люди, история природы и история
людей взаимно обусловливают друг друга»9. — писали
К. Маркс и Ф. Энгельс.
7Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 44.
8 См.: Г р и г о р ь я и Б. Т, Философия о сущности человека.
М., 1973, с. 244—246.
9Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т, 3, с, J&
48
Для обозначения всей сферы взаимодействия
природы и общества выдающийся советский ученый Б. И.
Вернадский выдвинул понятие ноосферы. Ноосфера
создается, организуется человеческой деятельностью и
представляет собой единую цельную систему,
включающую в себя преобразованную, освоенную природу
и технику. Человек выступает здесь не только как
существо, уважающее жизнь, благоговеющее перед всеми
формами жизни, но и как сила, продолжающая
развитие природы и преобразующая ее. Советский философ
Б. Т. Григорьян очень верно пишет о том, что при всей
генетической связи высших форм жизни с низшими и
зависимости от них, «высшие- формы обретают все
большую свободу от них и в человеке достигают
исключительной способности к творческому
воспроизведению различных форм остального предметного мира.
Человек является тем единственным существом,
которое в некоей органической целостности как бы
сочетает в себе все основные формы бытия. Человек —
универсальная сила природы, наследник ее целостности, но
он уже не чисто* природная сила и свою универсально-
всеобщую природу реализует и развивает вне
непосредственной природной детерминации как существо
социальное» 10.
Смысл нравственности связан с осуществлением
человеком своей исторической миссии, своего
предназначения и, следовательно, не может уложиться в рамки
благоговения перед жизнью эо всем ее разнообразии.
Но вместе с тем осуществить свое предназначение
человек не может, не найдя и не установив гармонических
отношений с природой. Пока же в условиях
капитализма развитие экономики шло и продолжает идти во
многом в ущерб лрироде, а человеческая личность,
цивилизуясь, все более отдалялась от природы и создавала
искусственные формы жизни в плохом смысле этого
слова. Поэтому, в частности, столько искреннего
умиления вызывают непосредственность и цельность
детей, естественность и нравственная невинность
животных, красота и полнота различных проявлений
органической жизни вообще. Советский писатель Ю. Рытхэу,
характеризуя жизнь малых северных народов, говорит
10 Григорьян Б, Т, Философия о сущности человека,
с. 234-235.
49
о том, что они испокой ё£коё жили ка пустынных бё«
регах в гармонии с природой. Действительно,
развращающее и калечащее воздействие буржуазных йравов
и Цивилизаций не столь сильно коснулось этих людей,
живших охоТой. Но, конечно, не возвращение к природе
и архаическим способам жизни является идеалом
исторического развития этих народов.
Новую естественность и органичность существования
человек должен обрести путем движения вперед,
ликвидируя социальное неравенство и все его долго
живущие последствия в области нравственной жизни» На
этом пути человек должен вернуться к себе, обрести
свою подлинную сущность. Основная миссия
нравственности— содействие становлению и утверждению
человеческого в человеке. Человек еще должен стать
человеком в подлинном смысле слова, его становление не
закончено. Об этом свидетельствует, в частности, его
неудовлетворенность собой, стремление к идеалу.
Нравственность требует от каждого — ты должен быть иным,
ты не стал еще тем, кем должен быть. Сознание нашего
несовершенства — побудительная сила стремления к
идеалу. Недовольство собой — это проявление того, что
наша истинная сущность и наше существование
расходятся между собой. Человек стремится обрести
внутреннее равновесие, согласие с собой, но согласие с
собой и с внешней действительностью оказывается тесно
связанным. Как часто недовольство собой мы переносим
на внешний мир и виним его в том, что он не соответст-
зует нашим идеалам. Как часто мы оправдываем
собственные недостатки несовершенством действительности.
хВот когда общество будет иным, люди станут чище и
нравственнее, тогда и я буду лучше, — говорим мы.—
Сейчас же мои усилия бесполезны». Такова логика
самооправдания человека. Это способ уйти от
нравственной ответственности, переложить вину с себя на
других. Неискаженное нравственное чувство говорит нам
другое: начни с самого себя! При всех обстоятельствах
и вопреки им будь человеком, будь на высоте!
Внешняя среда, действительность, взаимоотношения между
людьми зависят и от твоих усилий.
С другой стороны, совершенно очевидно, что
условия социальной жизни формируют человека, в них
лежат истоки многих нравственных пороков и
недостатков. Стремление к идеалу, личное нравственное
самого
совершенствование, конечно,—громадная сила; без
соответствующих нравственных предпосылок не может
совершиться никакое прогрессивное социальное
преобразование. Но самые возвышенные идеалы и личный
пример оказываются все же недостаточными и
бессильными, если они не соединены с процессом
непосредственной жизни, оторваны от насущных потребностей и
интересов, уводят от реальной жизни в мир иллюзий.
ИДЕАЛ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ И СЧАСТЬЕ
Глубокий разлад между идеалами и действительностью,
между тем, что есть, и тем, что должно быть, —
характерная черта жизни классово антагонистического
общества. Неудовлетворенность жизнью порождает тоску по
идеалу, недосягаемость идеала и необходимость
насилия над собой ради него порождают, в свою очередь,
обратное стремление — жить, как живется, в свое
удовольствие. Одни философы разрабатывали учение о
нравственном идеале и методах воспитания людей
согласно идеалу, другие, напротив, считали, что человека
нужно предоставить самому себе, не портить его
различными нравоучениями и искусственными системами
воспитания. «Я не считаю, — писал русский
революционный публицист Д. И. Писарев, — стремление к
совершенству обязанностью человека...
Самосовершенствование делается так же естественно и непроизвольно, как
совершаются процессы дыхания, кровообращения и
пищеварения» *. Д. И. Писарев имел в виду прежде всего
насильственно навязываемый людям религиозный
аскетический идеал и отстаивал право человека на
самостоятельное суждение обо всем, право на выбор пути,
на счастье.
Среди бытующих настроений можно встретить
выражение обеих позиций. Одни говорят, что надо Жить,
мол, на радость себе, не насилуя своих чувств и
желаний. Старайся-де получить от жизни как можно больше
приятного, не занимайся бесполезным самокопанием,
не ставь перед собой несбыточных целей и возвышен»
ных идеалов. Другие считают, что надо неукоснительно
1 Писарев Д. И. Соч. в 4-х т„ т, 1, М„ 1955, с, 85.
51
следовать нравственному долгу, соблюдать строгую
самодисциплину, етрешпъся к воздержанию, са^юсо^
вершенствованию.
Наблюдения показывают, что очень часто призыв
наслаждаться жизнью, не ограничивая себя рамками
идеала, исходит от тех, кто живет строгой жизнью.
Напротив, те, кто испытал радости «вольной жизни» и
не особенно докучал себе нравственными запретами,
начинают испытывать неудовлетворенность и тягу к
строгой нравственности. Психологически ато понятно. Обе
крайности не способны дать удовлетворения, ощущения
подлинности жизни.
Нравственный идеал, который, например,
пропагандировался церковью, представлял собой негативный
снимок с практических нравов, господствовавших в
обществе. Неосуществимость этого идеала порождала
постоянное недовольство собой, чувство своей
греховности, самопрезрение. Христианское учение объявило
свой нравственный идеал недостижимым ни для кого.
Считалось, что надо стремиться уподобиться Христу,
но сама мысль о достижении тобой идеала оценивалась
как греховная, кощунственная. То, что прославлялось
под именем добродетели, находилось в резком
противоречии с естественно возникающими потребностями и
желаниями людец* При социализме и коммунизме
устраняется пропасть между идеалом и действительностью.
Тот человек, который сознает, что его судьба
находится в его руках, не испытывает потребности в
абстрактных идеалах, оторванных от практической жизни.
Он погружен в реальные планы. Жить согласно идеалу
для него не означает жить искусственной жизнью,
насиловать свои побуждения. Из этого, однако, не следует,
что человек целиком растворится в суете, в мелких
повседневных делах .и хлопотах, отбросив в сторону
высокие идеалы. Как уход в суету и спешку, оставляющий
в итоте чувство глубокой неудовлетворенности, зря
потраченной жизни, так и оторванность от реальной
действительности, мнимое преодоление ее путем
бегства в мир трансцендентного, порождены
противоречивостью социального бытия. В каждом человеке
заложено стремление к лучшему, к подлинной жизни —
настоящему делу, настоящей дружбе, настоящей любви
и т. д. Практически же жизнь складывается так, что это
«настоящее» остается нередко несбывшейся мечтой.
52
В этом повинен и сам человек, но и не в меньшей мере
реальные условия существования, «обстоятельства».
В условиях социального неравенства личность иены-
тываег на себе громадную деформирующую силу
социальных противоречий, что проявляется в ее психической
жизни, в частности, в качестве известного разлада
между «хочется» и «надо», между долгом и склонностью,
добродетелью и счастьем. Внутренняя тревога,
неуспокоенность, отсутствие гармонии, согласия с собой и с
миром заставляют искать самые разные пути выхода,
порождают учения в различных вариантах об
«истинной жизни». Религия использовала эту психологию, и
сама была порождена ею. Христианство выступило на
историческую арену тогда, когда социальное
отчуждение достигло такой степени, что стала ясной
несостоятельность надежд на сочетание добродетели и
благополучия, счастья на путях мудрости. Как известно,
древние философы полагали, что человек, обретя мудрость,
может быть счастлив независимо от внешних условий.
Христианство порывает с этой традицией. Люди живут
плохо и творят зло вовсе не потому, что не знают, как
полагал, например, Сократ, в чем состоит добро.
Корень зла, с точки зрения богословов, в греховности
наших прирожденных влечений, склонностей и
потребностей. Они уводят человека со стези добродетели.
Христианство безоговорочно выступило за нравственный
долг против влечений и страстей. Правда, момент
стоического наслаждения воздержанием, молитвой и постом,
сознанием моральной правоты своей веры присутствует
и в этой религии. Многие современные богословы
именно на этой стороне дела акцентируют внимание,
стараясь снять или ослабить жесткость аскетических
требований.
И. Кант резко разграничил область нравственности
от стремления к счастью, долг от склонности, а также
этику от житейской мудрости. Согласно этике Канта
дело нравственности подавлять чувственные влечения.
Если бы эти влечения не расходились с требованиями
нравственного закона, не было бы никакой надобности
в моральных требованиях и идеалах. Лишь
несовершенство человека делает необходимым нравственный
императив. Моральный поступок совершается по долгу
вопреки склонности. Моральным его делает мотив, добрая
воля. Между злым и добрым образом мыслей нет ничего
53
среднего. Если человек руководствуется стремлением к
счастью или соображениями пользы, благоразумием, то
его поведение нельзя назвать нравственным, в лучшем
случае поступки, продиктованные указанными
мотивами, легальны, т. е. согласуются с юридическим законом.
Поступки, обусловленные вненравственными мотивами,
нельзя относить к нравственным, даже если они и
согласуются с нравственным законом. Нравственным надо
быть ради самой нравственности, а не ради достижения
иных целей. По существу, этика Канта заключает в
себе осуждение самого стремления к счастью, и это
вполне соответствует христианскому идеалу. Надо,
правда, отметить, что логика этого осуждения
базируется на реальных основаниях: жизнь показала
невозможность согласования в антагонистическом обществе
стремлений к личному счастью и нравственного долга,
служения добру и благополучия.
Л. Фейербах, выступая против идеалистической
этики, попытался оправдать чувственность и стремление к
счастью, но принцип разумного эгоизма, получивший в
его этике дальнейшее развитие, не мог быть сколь-либо
удовлетворительным решением проблемы. Человек
имеет право на счастье, на удовлетворение своих
потребностей и влечений. В этом Фейербах прав, но
ограничиваться этим признанием в том обществе, где
жизнь заставляет выбирать — быть нравственным, но
ценой отказа от благополучия, или жить в довольстве,
отбросив долг и совесть, — это значит не сказать
ничего. Ф. Энгельс в работе «Людвиг Фейербах и конец
классической немецкой философии» дает низкую оценку
этике Фейербаха.
Марксизм считает отклонением от нормы то
состояние общества и личности, при котором стремление к
счастью в корне противоречит выполнению
нравственного долга, и говорит о том, что это противоречие
может и должно быть устранено. Его разрешение состоит,
однако, не в простом индивидуальном
совершенствовании и вытравлении эгоистических начал из природы
человека, а в преобразовании социальной
действительности и самого человека, его потребностей, влечений,
склонностей, каковые также имеют социально и
исторически обусловленный характер.
Противопоставленность идеалов и действительности,
долга и желаний — отнюдь не выдумка Канта. Желания
54
и склонности, оцениваемые как нравственно
отрицательные, возникали в условиях социального
неравенства с естественной силой и казались свойственными
самой природе человека. «Добродетель тяжка, порок
сладок»— это изречение отражало реальную ситуацию,
существовавшую на всем протяжении истории
человечества, и считалось нормой. Ограниченность
рассуждений Канта в том, что он не выходил в своих мыслях за
пределы этого исторического периода, не видел причин
утраты человеком своей цельности и считал реальное
положение дел раз и навсегда данным, не видя
оснований для предположений о радикальной перестройке
мотивации поведения.
Марксизм занимает иную позицию. Мерой
исторического прогресса является то, «...насколько стала для
человека природой человеческая сущность... в какой мере
человек... стал для себя человеком... в какой мере
естественное поведение человека стало человеческим, или в
какой мере человеческая сущность стала для него
естественной сущностью...» 2.
Социалистические преобразования кладут начало
новому историческому этапу развития общества, в ходе
которого устраняются материальные корни внутренней
раздвоенности личности, противоположность личного я
общественного интересов. Однако сущность морали, с
нашей точки зрения, не сводится только лишь к
согласованию личного и общественного интересов, она
включает в себя и другие противоречия: между сущностью
и существованием, свободой и необходимостью.
Если под этим углом зрения посмотреть на
процессы, совершающиеся в нашем обществе, то мы увидим,
что в нем уже ликвидирована социально-экономическая
основа отношений господства и подчинения и
осуществляется движение к социальной однородности.
Требования нравственности уже не противостоят во всем и
всегда личным желаниям, влечениям и потребностям.
Стремление к счастью не вступает с необходимостью в
конфликт с долгом. Кантовский «долг ради долга»
перестает в социалистических условиях быть формулой
нравственного поведения. Вместе с тем стоит сказать,
что этот процесс сближения нравственных требований
и потребностей, идеалов и действительности, побужде-
* Маркс К„ Энгельс Ф, Соч„ т. 42, с, 115,
55
ннй н поступков будет иметь длительный исторический
период. Ситуации, создающиеся в нашем обществе,
нередко продолжают ставить человека перед выбором:
личное благополучие или нравственный долг. Еще
немало есть людей, предпочитающих личное
общественному, свои желания нравственным обязанностям.
На протяжении этого длительного периода наша мораль
будет поэтому подчеркивать первенство, важность
нравственного долга перед стремлением к личному
благополучию, удовлетворению своих потребностей.
Вместе с тем мы не можем терять из виду
перспективу и цель нашего социального строительства, не
должны полностью погружаться в сиюминутные проблемы и
трудности, оставив в стороне высокие идеалы и далекие
цели. С одной стороны, в ходе дальнейшего развития
социалистического общества будут изменяться
содержание и характер морального долга, исчезать его
отвлеченность, оторванность от непосредственных жизненных
интересов личности. А с другой — будут меняться сами
потребности, влечения, представления о счастье. Они
станут более возвышенными, соответствующими идеалу.
Эти процессы совершаются и сейчас. Ныне наша
нравственность в большинстве случаев не только не требует
жертвы здоровьем и личным счастьем ради общего
дела, но и ограждает человека, его право на счастье
уже «сейчас и здесь».
Люди, прославляемые у нас за трудовую доблесть,
жидут полноценной жизнью, более того, имеют и
должны иметь преимущественное право на отдачу с<у
стороны общества. Надо заметить, что именно неполное
проведение в жизнь принципа «каждому по труду»
является причиной ряда отрицательных явлений в области
нравственной жизни нашего общества, стимулирует
психологию тунеядства, потребительства, карьеризма,
стяжательства. Однако нельзя впадать и в другую
крайность, полагая, что путем правильного материального
стимулирования труда можно освободиться от всех
нравственных пороков и сформировать новую личность
Материальной заинтересованностью можно достичь
многого, здесь путь к повышению эффективности нашей
экономики, но не стоит думать, что этого достаточно
для формирования духовно-целостного внутреннего
мира новой личности. Материальная заинтересованность
5fr
сама по себе не обеспечивает высокой нравственности.
Принцип оплаты по труду, как указывал К. Маркс,
является исторически ограниченным, хотя и необходимым
на первой фазе коммунизма.
Если коммунизм есть «действительное разрешение
противоречия между человеком и природой, человеком
и человеком, подлинное разрешение спора между
существованием и сущностью, между опредмечиванием и
самоутверждением, между свободой и необходимостью,
между индивидом и родом»3, то, стало быть, мнение о
бесконечном приближении к разрешению этих
противоречий следует признать не соответствующим
представлениям основоположников теории научного
коммунизма. Отсюда также вытекает, что убеждение в том,
что каждое поколение должно рассматривать себя
только лишь как средство для продвижения общества
вперед, как подготовительный материал для будущих
поколений, является несостоятельным. Человек должен
рассматривать свою жизнь не только как средство, но
и как самоцель. Отсюда следуют весьма важные
выводы для нравственного жизнепонимания. Пока
нравственный идеал оставался внешним мерилом жизни,
образцом, которому требовалось лишь неукоснительно
следовать, мера ценности индивида заключалась вне
его.
Когда противоположность между идеалом и жизнью
потеряет свое былое значение, тогда исчезнет и внешний
образец, под который индивид обязан был подгонять
себя. Развитие человека, проявление его индивидуаль*
ности и характерной для него жизнедеятельности
становятся самоцелью. Исчезнет внутренняя раздвоенность
личности, отпадет надобность в том, чтобы постоянно
держать в сознании нравственные императивы и
подчинять им свои желания. Когда человек станет человеком
в полном смысле слова, обретет свою истинную
сущность, «найдет себя», то исчезнет и необходимость
постоянного насилия над собой в целях выполнения
нравственного долга: Ведь в конечном счете идеалом
является не тот человек, который умеет преодолевать в себе
отрицательные желания и намерения, но такой, у
которого подобных желаний и мыслей и не возникало бы.
При достижении цельности, органичности психического
3Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 116,
57
Мира личности нравственный 5акон перестает быть
мерилом, с которым каждый должен соотносить свои
намерения; нравственность войдет в саму структуру и
способ мотивообразования, будет обусловливать и
возникающие чувства, побуждения, потребности. Это
будет уже новый тип человека, новый, высший способ
духовного существования.
Хотя речь идет в целом о будущем, нужно заметить,
что приближение к этому высшему типу духовного
существования в той или иной степени возможно и сейчас,
и зависит это во многом от воспитания и
самовоспитания человека. Каждый из нас знает и чувствует те
минуты, те промежутки времени, когда достигаются
подлинность существования, гармония ума и сердца,
согласие с собой и с миром. Эта подлинность наступает
тогда, когда наши желания и намерения совпадают с тем,
что мы считаем должным и правильным, когда наши
поступки вытекают с естественной необходимостью и
видятся нам единственно возможным образом действия.
Мучительные колебания между «хочется» и «надо»,
разлад между благими намерениями и противоречащими
им поступками, расхождение между идеалами и жизнью
знакомы каждому. Но также знакомы и те состояния,
когда наши намерения и мысли сливаются с
действиями, являются «событиями бытия». Нравственность — это
не только способ подавления склонностей, как полагал
Кант, но и сила, побуждающая нас искать гармонии,
целостности, органичности. Достижение этой цели не
обеспечивается одними только знаниями, тут требуется
полное напряжение всех духовных сил и способностей,
воспитание в себе воли к самовозвышению. Одними
размышлениями цель не достигается. Тот, кто
постоянно размышляет о цели и смысле жизни, об идеале, ищет
их, тот еще не обретает подлинности существования
именно потому, что он только ищет. Тот же, кто не ищет
и не размышляет, тоже не достигает цели. Такова
сложная диалектика духовной жизни.
Исчезновение противоположности между идеалом и
жизнью, долгом и склонностью не означает, что
отпадает всякая надобность в преодолении себя, в
самообладании и воздержании. Степенью развитости этих
качеств измеряется, в частности, и внутренняя духовная
сила личности. Однако не всякое самообладание и
самопреодоление носит моральный характер, эти способ-
58
ности и сила личности могут быть направлены и на
безнравственные цели.
Исчезновение противоположности между идеалом и
жизнью, долгом и влечениями не означает также, что
отпадает всякая надобность в самопожертвовании и
единственной целью становится реализация личностью
самой себя, самоутверждение ее и развитие.
Самоутверждение становится в принципе безнравственным
делом, когда человек поглощен заботой о себе, когда
он во всем стремится опередить других, а не быть
самому лучше, чем он есть. Тайна истинного
самоутверждения состоит в том, что человек отдает себя целиком
служению людям. Ф. М. Достоевский писал по этому
поводу: «Сильно развитая личность, вполне уверенная
в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя
никакого страха, ничего не может и сделать другого
из своей личности, то есть никакого более
употребления, как отдать ее всю всем, чтобы и другие все были
такими же самоправными и счастливыми личностями.
Это закон природы, к этому тянет нормального
человека»4. Преодоление дезинтеграции внутреннего мирз
личности и обретение ею цельности достигаются не
путем ее обособления и независимости, а, напротив,
путем сопричастности всему окружающему миру.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если главное во всем историческом процессе —
становление и развитие человека, то, очевидно, с этих
позиций и нужно подходить к оценке конкретного общества,
в том числе и нашего, к определению его задач. Что
происходит с личностью человека, каких людей
формирует то или иное общество? Вот вопрос, который в
конечном счете должен быть признан наиважнейшим.
Показатель экономического развития тесно связан
с общим социальным развитием, однако эта связь
не столь проста и однозначна, как это иногда кажется.
Марксисты критикуют систему современной
капиталистической экономики не за отсутствие ее роста, а
прежде всего за то, что она калечит, уродует человеческую
♦Достоевский Ф. М, Собр. соч, в 10-ти т., г. 4. М.,
1956, с. 107.
59
личность. В самом росте этой экономики скрываются
опасности для человека. К. Маркс дисал в «Капитале»:
«Капиталистическое производство.,, развивает технику
и комбинацию общественного процесса производства
лишь таким путем, что оно подрывает в то же самое
время источники всякого богатства: землю и
рабочего» 1,
Отсюда следует, что социалистическая экономика не
просто должна перегнать капиталистическую, идя по
той же самой дороге, она должна быть сориентирована
на главную цель — всестороннее и свободное развитие
человека,
Что представляют собой люди «изнутри», в
духовном плане? Как изменяется их духовный мир? Что, в
частности, происходит с девушками и юношами, когда
они включаются в производство, в жизнь больших и
мадых трудовых коллективов? Эти вопросы, можно
считать, составляют в итоге важнейший критерий,
которым измеряется общее нравственное здоровье
социального организма.
Материальные блага, обеспеченность при всей их
первостепенной важности являются лишь
предпосылками достойной человека жизни. Противники
коммунистической идеологии, в том числе и наиболее реакционные
представители церкви, с давних пор приписывают
марксизму принижение духовных ценностей перед
материальными. Эта передержка используется и до сих пор
как один из главных способов компрометации комму*
нкзма» Однако одной из главных целей, которыми
руководствуется наше общество, является как раз
освобождение всех людей от постоянной, поглощающей их силы
заботы о материальной обеспеченности. Мы вовсе не
отождествляем наших идеалов жизни с сытостью,
обеспеченностью, потребительством. Задача состоит в том,
чтобы человек смог поставить под свой контроль,
контроль своего разума и воли мир внешних отношений,
силы общественного развития и одновременно смог бы
овладеть и самим собой, научиться понимать себя и
утверждать в жизни свои идеалы. Если в
предшествующий период истории человек во мнргом оставался
«продуктом обстоятельств», то в будущем именно его
идеала ркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с 515.
60
лы, его высшие духовные ценности будут определять
обстоятельства и условия жизни2.
Совершенно Очевидно также, что от духовного
фактора, от идейно-нравственного состояния общества и в
настоящее время зависит решение многих острых и
сложных проблем, разрешаемых партией и народом.
Процессы, совершающиеся в духовной жизни
современного мира, многообразны и противоречивы. На
Западе много говорят о духовном оскудении личности, о
ее «одномерности», потере внутренней глубины, даже о
смерти (духовной) человека. Некоторые философы и
теологи связывают наблюдаемые ими процессы
деградаций и распада личности с утратой религиозности.
Сначала «умер бог», теперь умирает личность.
Действительно, есть основания беспокоиться за «внутреннего
человека» в мире буржуазных отношений.
Немало проблем в сфере нравственной жизни, надо
признать, существует и в нашем обществе. В какой
степени духовная жизнь людей определяется борьбой
религиозного и атеистического миросозерцании?
Основоположники теории научного коммунизма
рассматривали процесс освобождения человека от религии
как неизбежный и как позитивный. Атеизм, считали они,
означает теоретическое освобождение человека, т. е.
освобождение духовно-нравственное. Коммунизм же —
это освобождение не только в мыслях, но и реальное,
практическое освобождение, это реальный, практический
гуманизм. «Атеизм, в качестве снятия бога, означает
становление теоретического гуманизма, а коммунизм,
в качестве снятия частной собственности, означает
требование действительно человеческой жизни, как
неотъемлемой собственности человека, означает становление
практического гуманизма...»3.
Отказ от религии, от веры в бога ведет к caMoyt-
верждению человекаг к осознанию им своей свободы и
одновременно всей полноты ответственности,
причастности ко всему, что совершается вокруг. Эта духовная
свобода находит свое полное и высшее выражение и
развитие в практической перестройке мира внешних от*
ношений, в новом социальном строительстве, которое
принесет людям не только духовную свободу, но й ое-
2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 639.
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 169.
61
вободит их от внешней зависимости —экономической,
социальной. Освобождение э мыслях и стремлениях
наступает раньше, чем Действительное, практическое
освобождение человека от связывающих его уз. Однако
полное преодоление религии основоположники
коммунистического учения связывали с таким состоянием
общества, при котором «отношения практической
повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных
и разумных связях их между собой и с природой»4.
Атеистическое воспитание — одна из важных сторон
всей структуры коммунистического воспитания, тесно
связанная со всем ходом строительства
коммунистического общества. Оно не является особым, отдельным
делом и не осуществляется только лишь специальными
средствами. «Верный путь преодоления религиозных
предрассудков, — отмечается в проекте новой редакции
Программы КПСС, — повышение трудовой и
общественной активности людей, их просвещение, создание и
широкое распространение новых советских обрядов»5.
В содержательном плане научный атеизм является
общей мировоззренческой ориентацией и совпадает
с основным содержанием коммунистического
мировоззрения. Функционально он — порождение всего
процесса духовного развития человечества и в свою
очередь является на определенном этапе развития
необходимым идейным орудием дальнейшего прогресса и
социального строительства.
Таковы общие исходные посылки, которыми
определяется сама постановка вопроса об атеистическом
воспитании. Каждый раз она должна конкретизироваться
в соответствии с условиями, местом и временем,
Забегание вперед, постановка нереальных целей и в
атеистическом воспитании не приводит к успеху, разве лишь
к его видимости. Полное преодоление религии и в
наших условиях не является задачей ближайшей
перспективы. Это сложный ц долгий процесс, более
сложный, чем решение конкретных экономических проблем.
Переход на позиции атеизма должен быть духррным
возвышением человека, возрастанием уровня
психической жизни, а не его ослаблением и понижением. Меж-
♦ Маркс JC, Энгельс ф, Соч., т. 23, С. 90.
Б Программу Коммунистической партии. Советского Союза
[Проект. Новая редакция), М„ 1985, с, 63.
fi2
ду тем автоматической связи здесь нет, й рассчитывать
на нее — ошибка. Утратив религиозную веру, человек
иногда приходит к выводу о бессмысленности
существования. Так, потребительство, столь широко задевшее
души многих людей, в сущности своей — отрицание
нравственных идеалов и подмена их взглядами об
обеспеченной жизни и душевном комфорте. Отход от
религии может вести к разным жизненным позициям. Цель
атеистического воспитания — не просто атеизм, не
атеизм во что бы то ни стало —главным содержанием
атеистического воспитания является становление нового
человека, обретение новых, более высоких духовных
ценностей. Понятно, что эта цель значительно более
сложная, чем подрыв религиозных убеждений. Она
предполагает перестройку психики человека, ее
эмоционально-волевого и интеллектуального строя, самого
образа жизни.
Атеистическое воспитание соприкасается с самыми
глубокими и интимными переживаниями личности.
Религия и атеизм — вопросы совести, дело ума и сердца
каждого. Готовые рецепты и штампы здесь
малодейственны. Нужно знать настроения, мысли, переживания
той аудитории, к которой обращаешься с атеистическим
словом. Руководствуясь лишь абстрактной установкой
на преодоление религии, в атеистическом воспитании не
достигнешь нужного результата. С течением времени
меняется, возрастает культурно-образовательный
уровень народа, меняется и религиозность, ее содержание
и характер. Высмеивать те религиозные представления,
которые некогда существовали у верующих людей, —
бесплодное занятие. Пропагандистам, ждущим ответа
на вопрос, как работать в современных условиях, можно
сказать так: надо знать религию вообще и религиозную
психологию, надо знать современную религиозность,
знать и понимать настроения людей, вопросы, которые
у них возникают, их сомнения, их взгляды. Исходя из
этого и опираясь на марксистскую философию и этику,
нужно искать те слова и аргументы, которые могут
укрепить атеистические убеждения одних и воздействовать
на других, кто продолжает верить в «истины»
религиозного учения. Ясно, что в атеистическом воспитании (как
и в воспитании вообще) большую роль играет сама
личность воспитателя, духовный уровень его развития, его
человеческий облик. Чисто логические, научные доводы,
63
информация далеко не всегда затрагивают сердца
верующих людей, ибо религиозность и не основывается на
логических началах и аргументах. В
научно-атеистическом воспитании целесообразно исходить из того, что
суть религиозной веры в определенном
жизнепонимании, системе ценностей и оценок. Поэтому оно не просто
сводится к передаче современных научных знаний, оно
является просвещением в высоком и точном смысле
слова. Просвещение, как писал Ф. М. Достоевский,—
это «свет духовный, озаряющий душу, просвещающий
сердце, направляющий ум и указывающий ему дорогу
жизни»6.
6 Д о с т о е в с к и й Ф, М, Поли, собр. соч, в 30-ти т., т. 26.
Л., 1984, с. 150.
ЛИТЕРАТУРА
Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В. И. О морали и
нравственном воспитании. М., 1985.
Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981.
Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14—
15 июня 1983 г. М., 1983.
Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 23
апреля 1985 г. М., 1985.
Архангельский Л. М. Марксистская этика. М., 1985.
Григорьян Б. Т. Философия о сущности человека. М.,
1973.
Ильенков Э. В. Искусств!) и коммунистический идеал. М.,
1984.
Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека. М.,
1981.
Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1976.
Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
Владислав Николаевич ШЕРДАКОВ
НРАВСТВЕННЫП ИДЕАЛ И АТЕИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Гл. отраслевой редактор 3. М. Каримова. Редактор В. В. Бойко. Мл.
редактор Г. Г. К о б я к о в а. Худож. редактор Т. С. Е г о р ов а. Техн.
редактор А. М. Красавина. Корректор С. П. Т к а ч е н к о.
ИБ № 7143
Сдано в набег 05.09 85. Подписано к печати 21.11.85. А 13966. Формат бума-
ги 84ХЮ8'/з2. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая.
Усл. псч. л. 3,36. Усл. кр -01Т. 3,47. Уч.-изд. л. 3.52. Тираж 47 300 экз.
Заказ 1955. Цена II коп. Издательство «Знание* 101835, ГСП, Москва, Центр,
проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 851112.
Тнгографня Всесоюзного общества «Зиаиие». хМосква, Центр, Новая пл., д. 3/4.
11 коп.
Индекс 70075
вииишн
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ