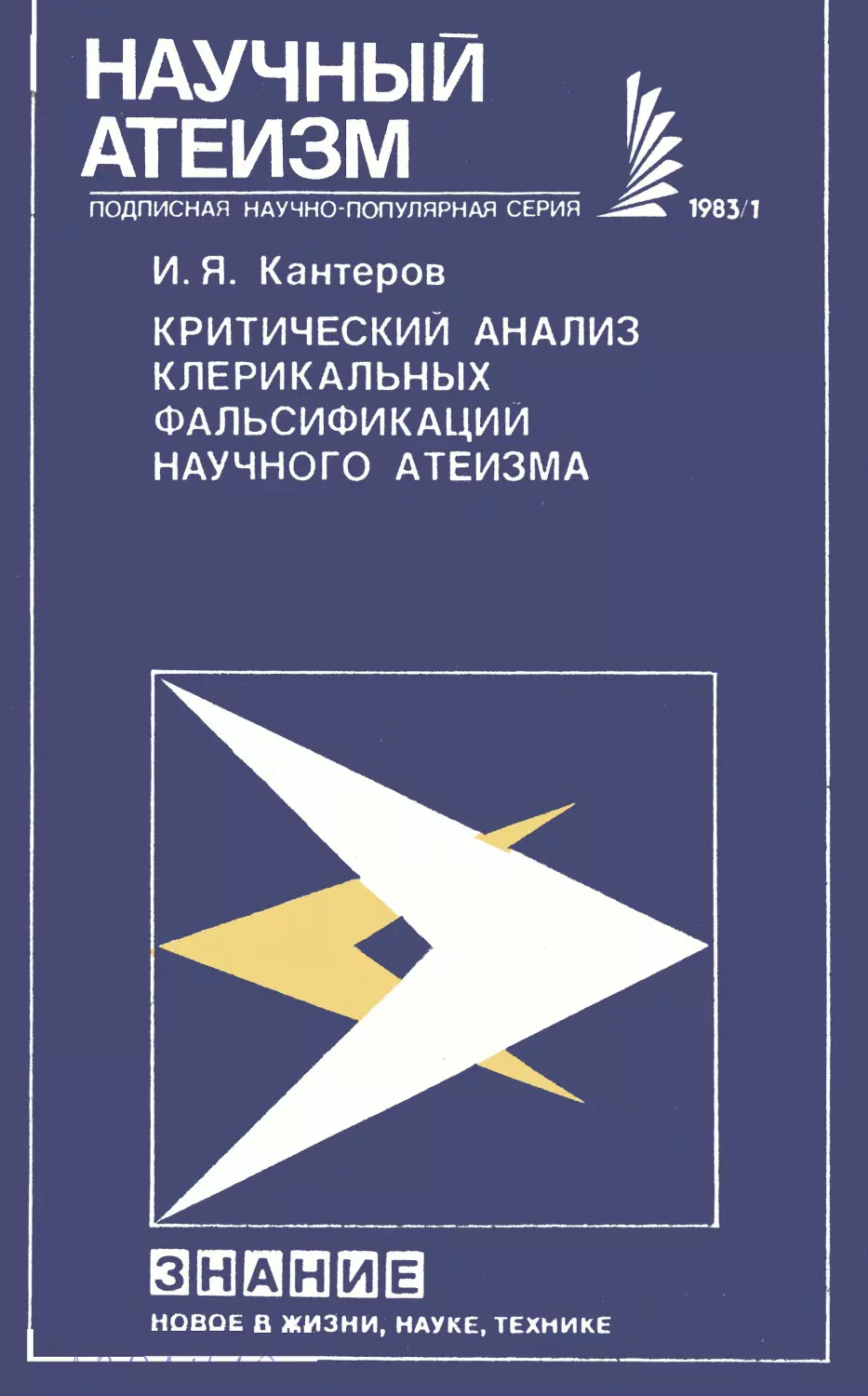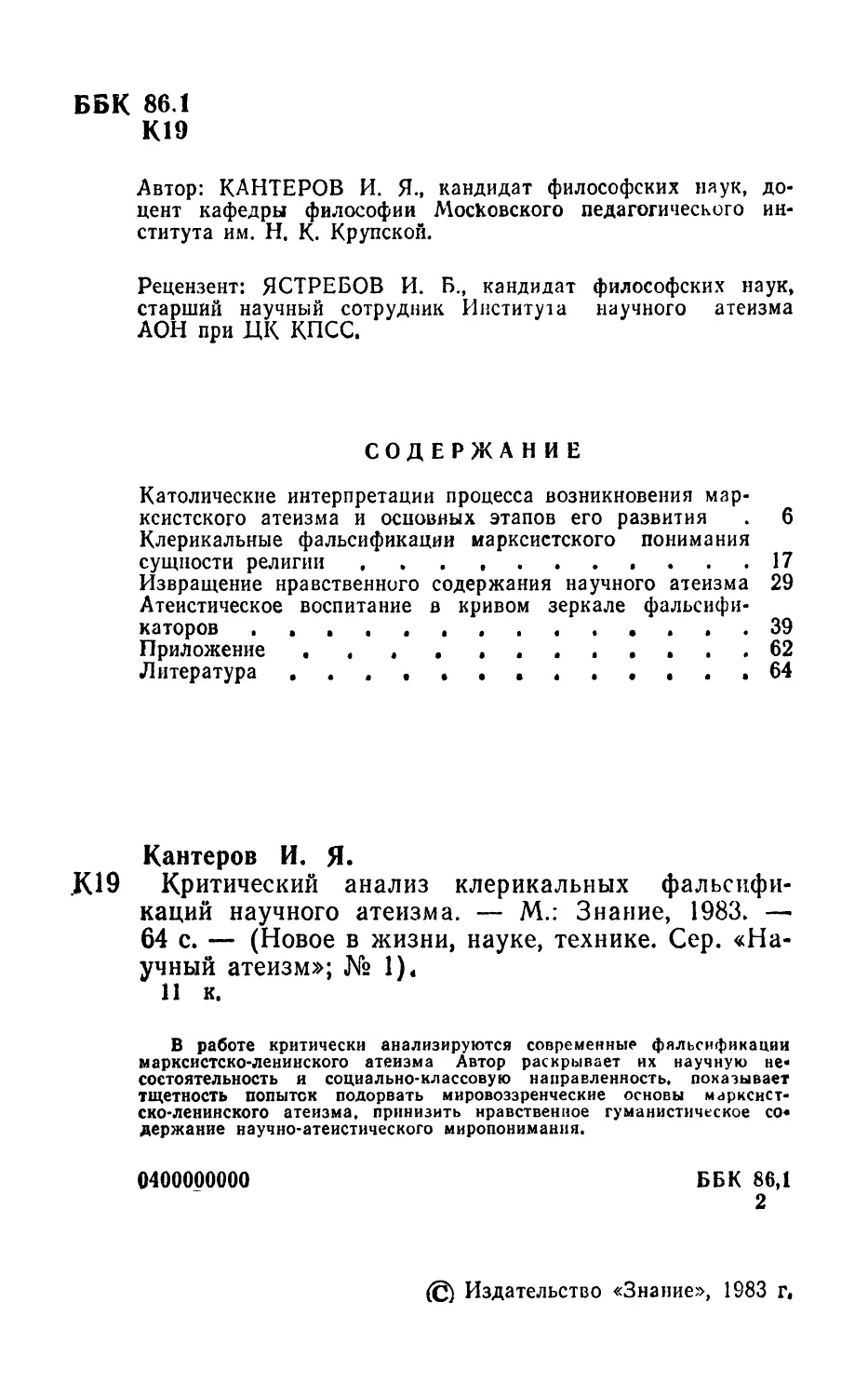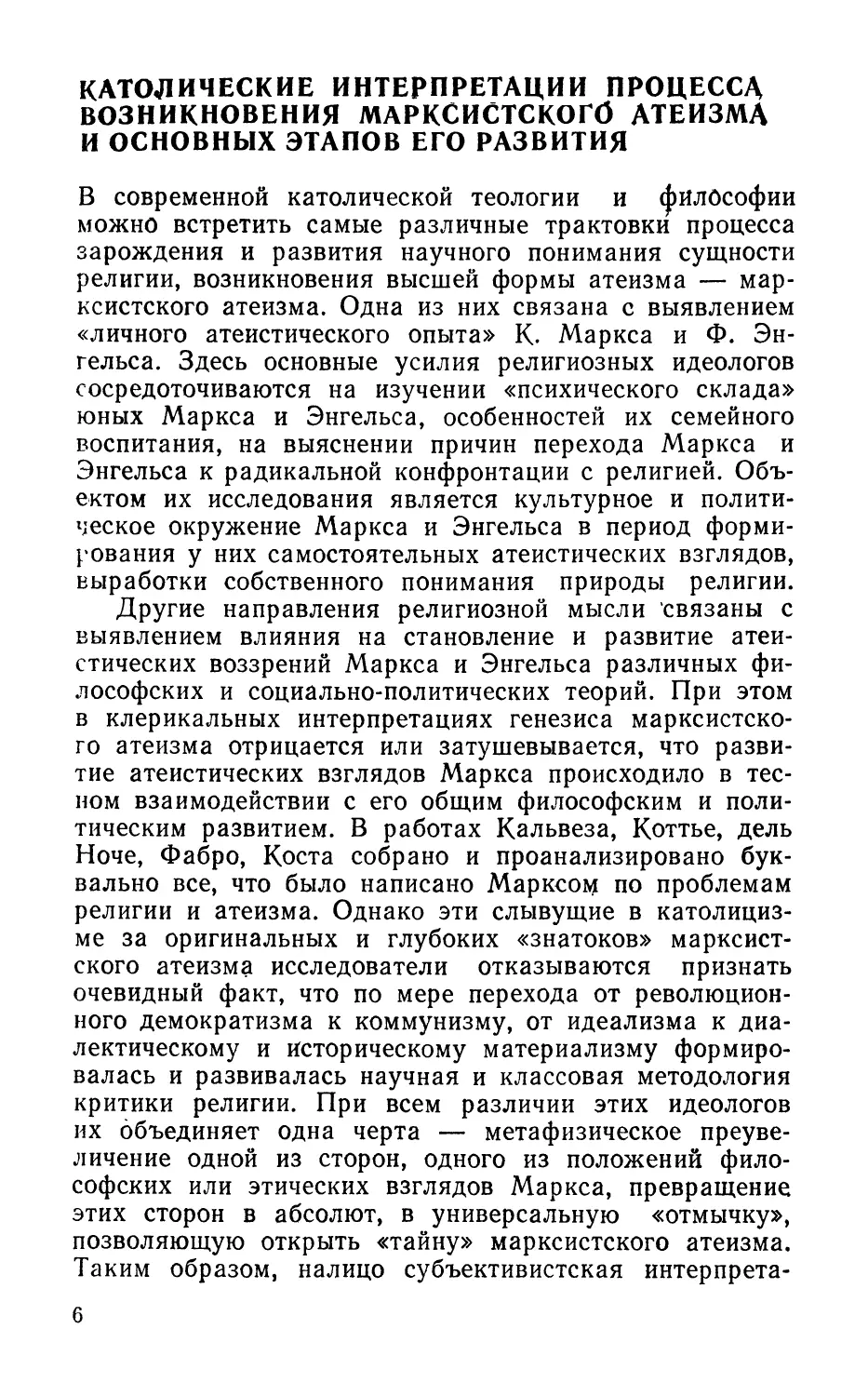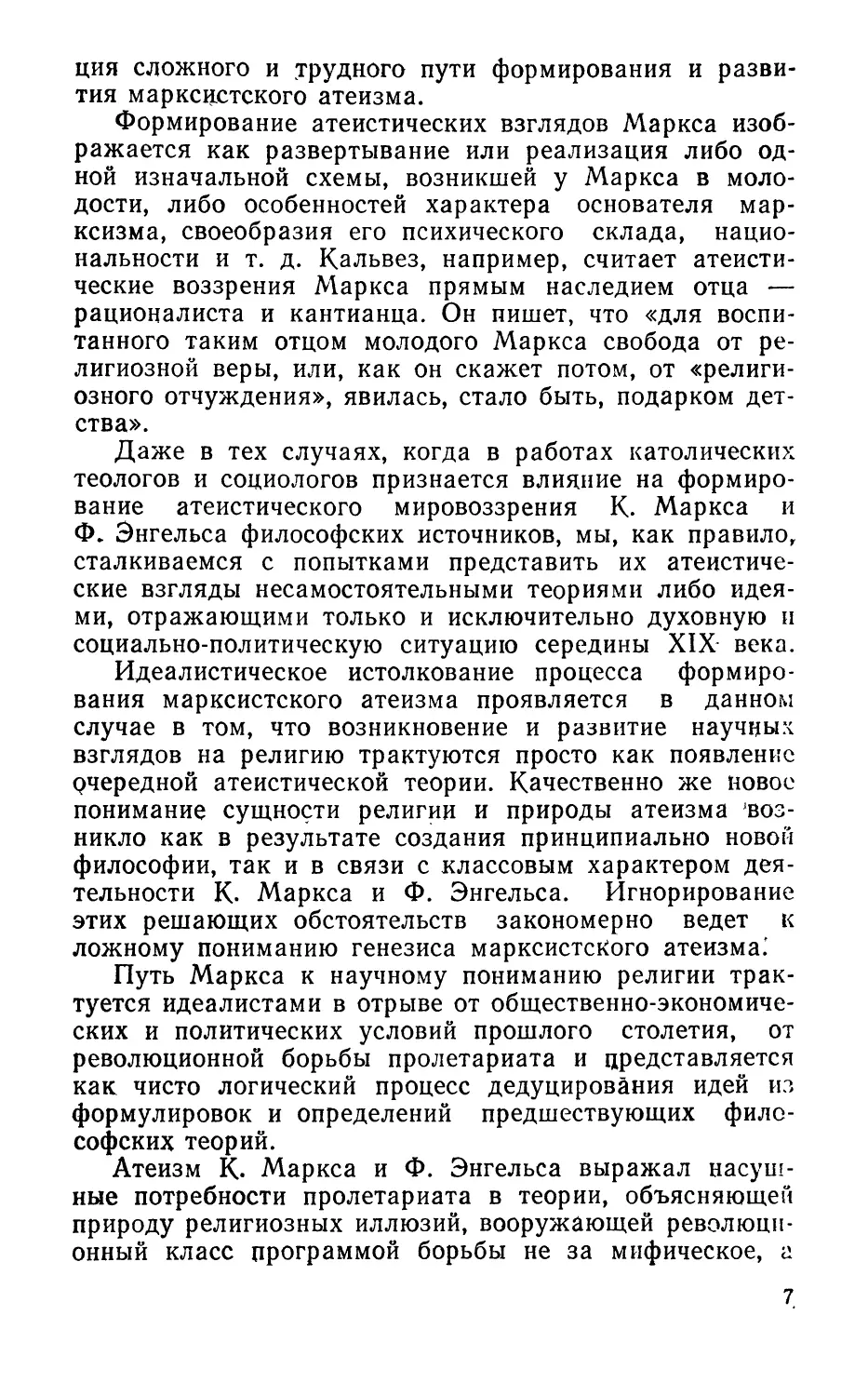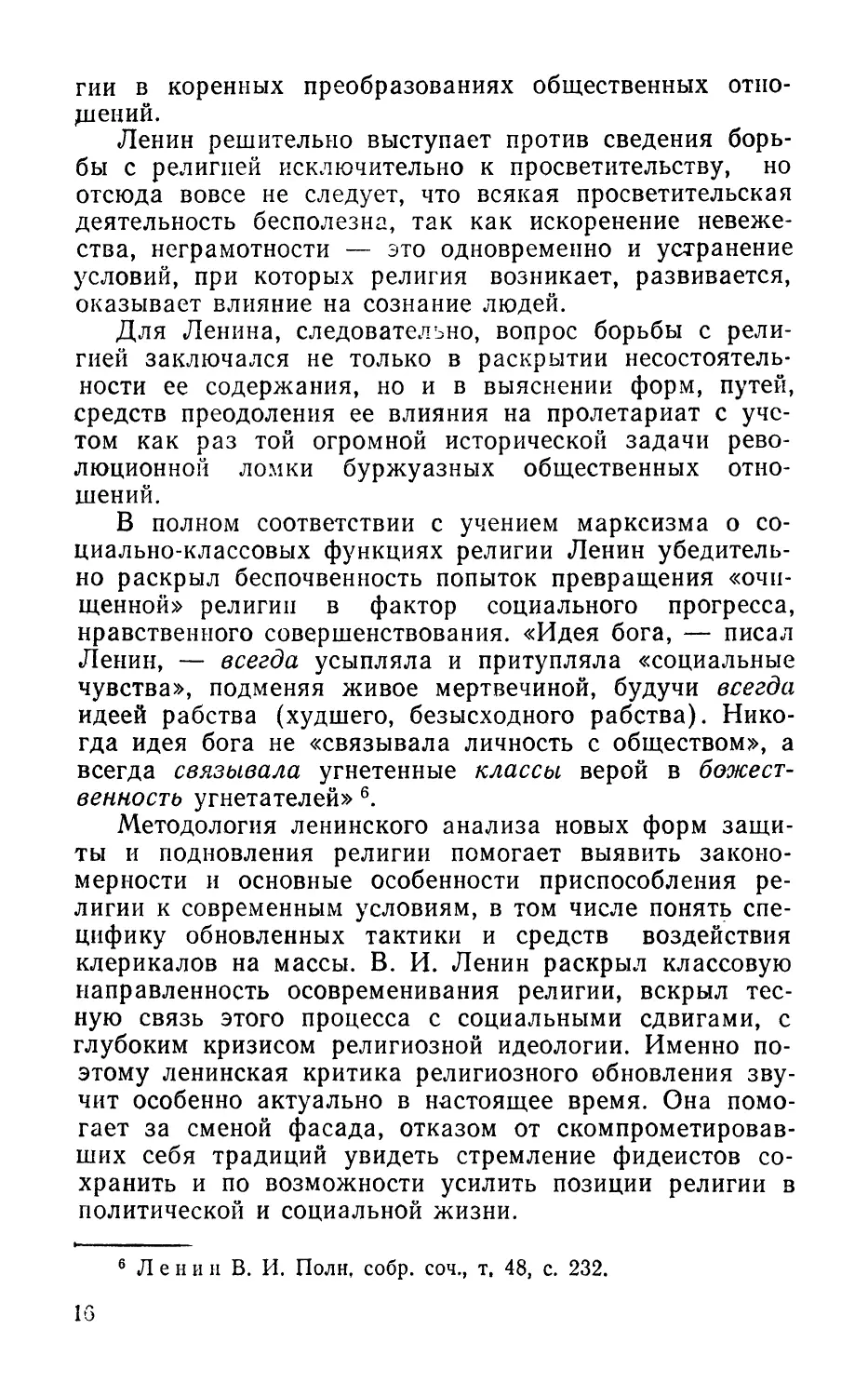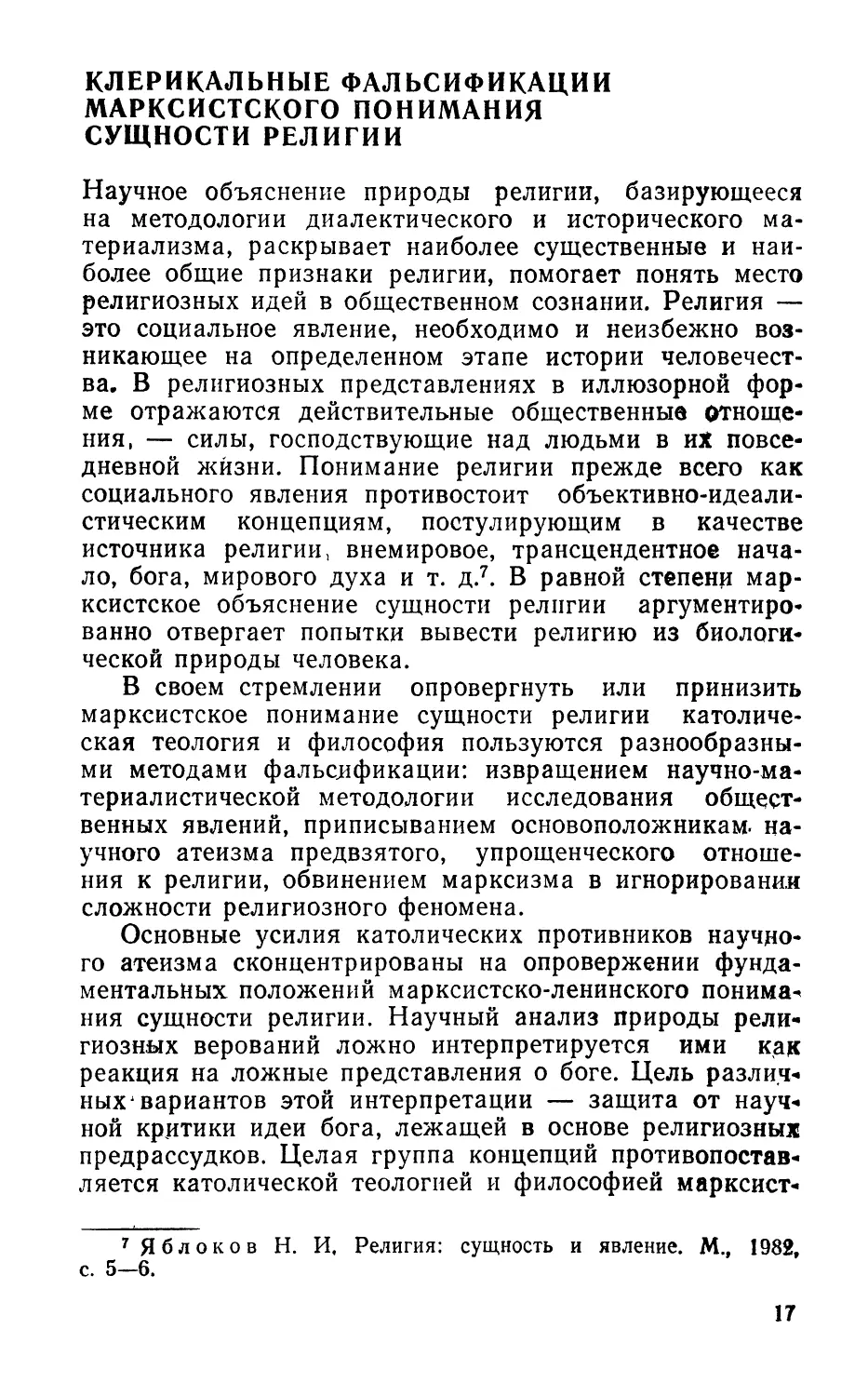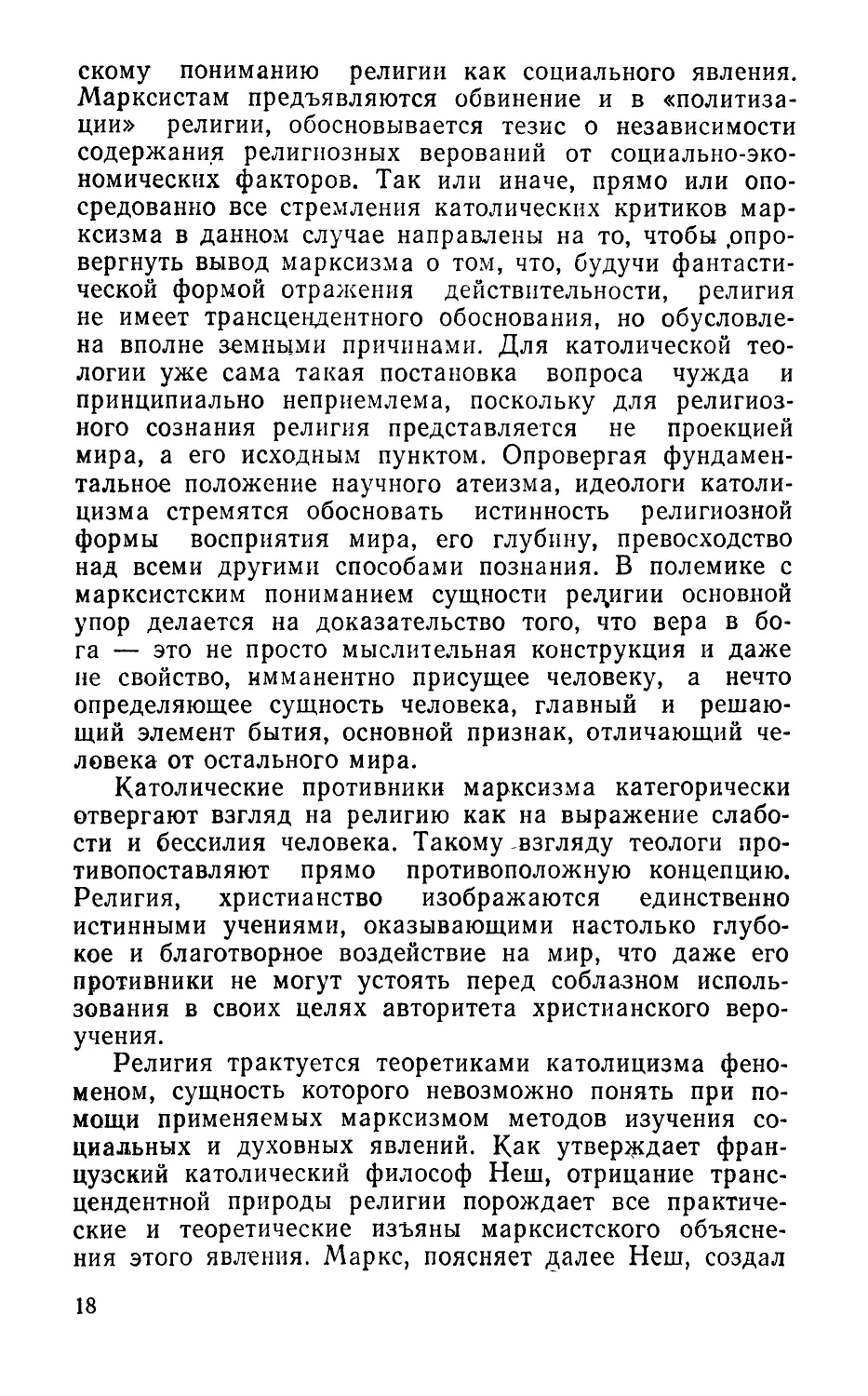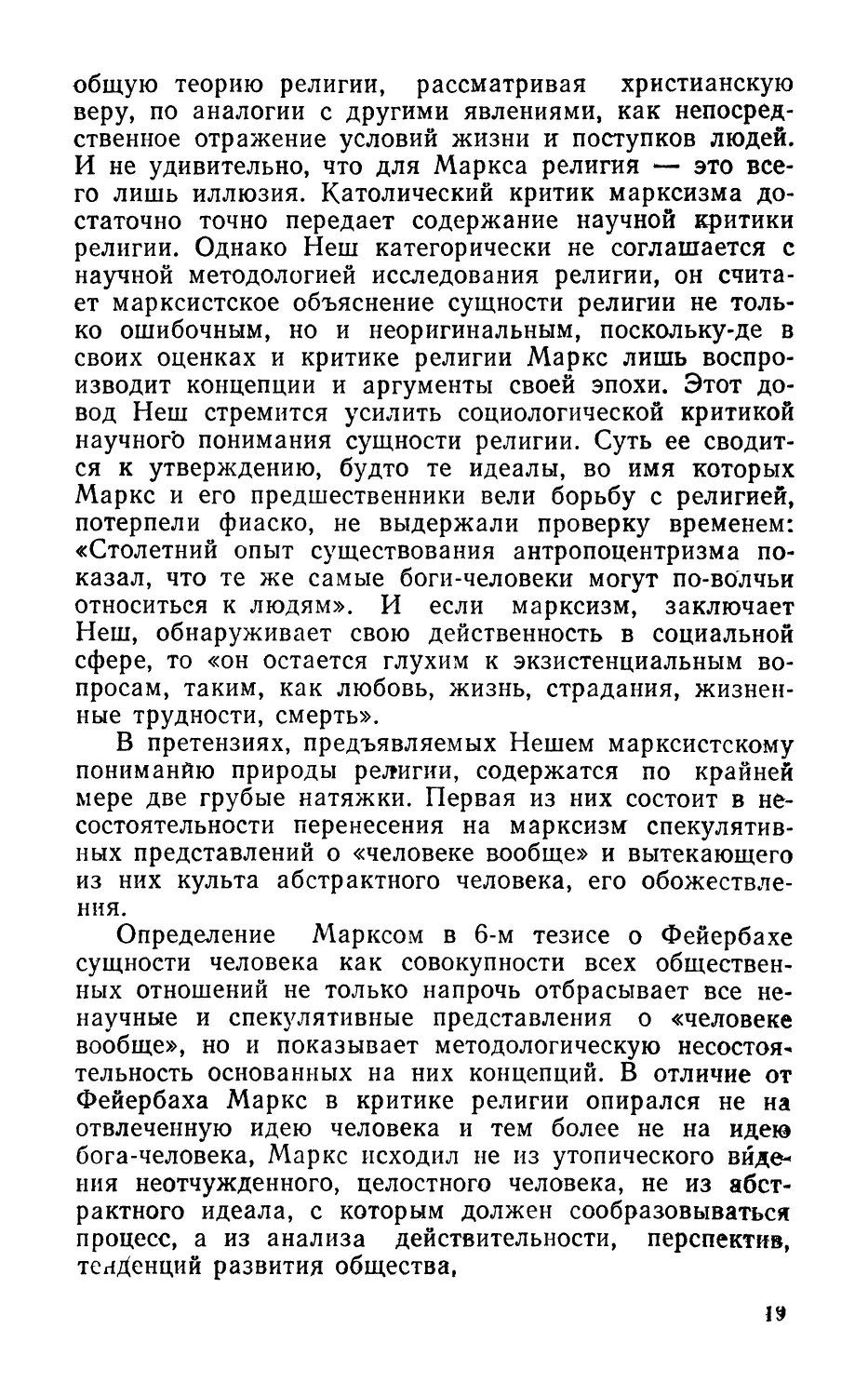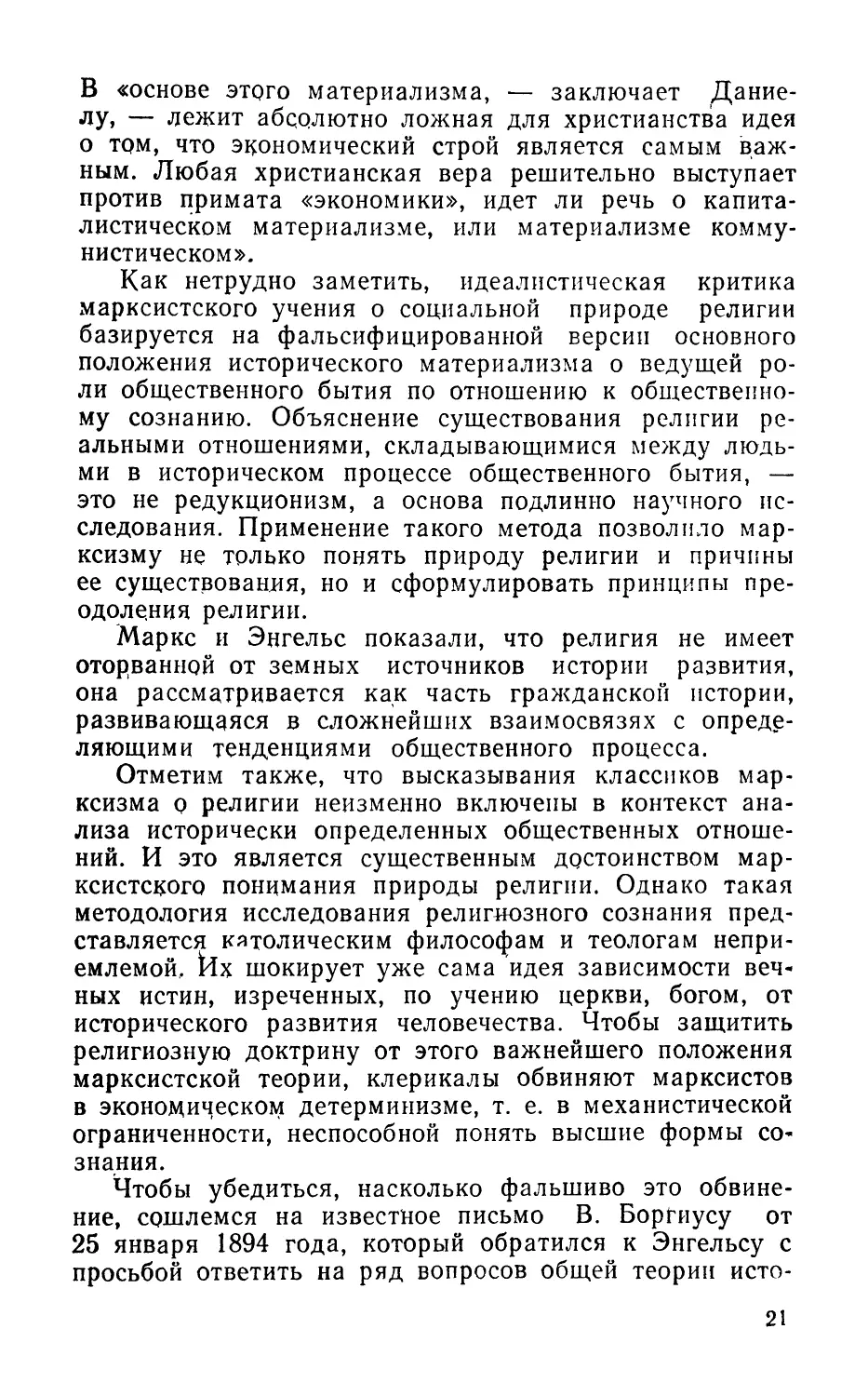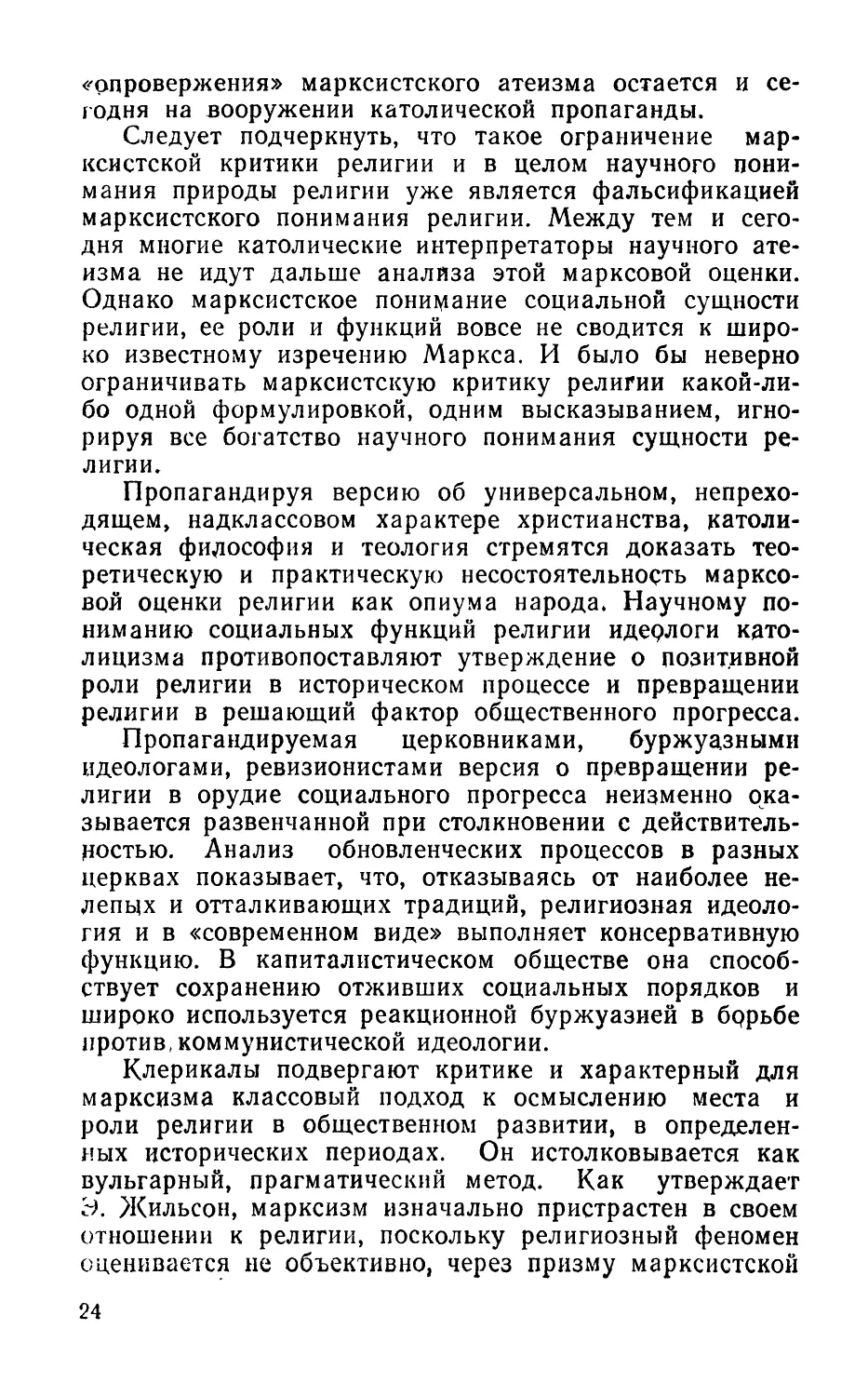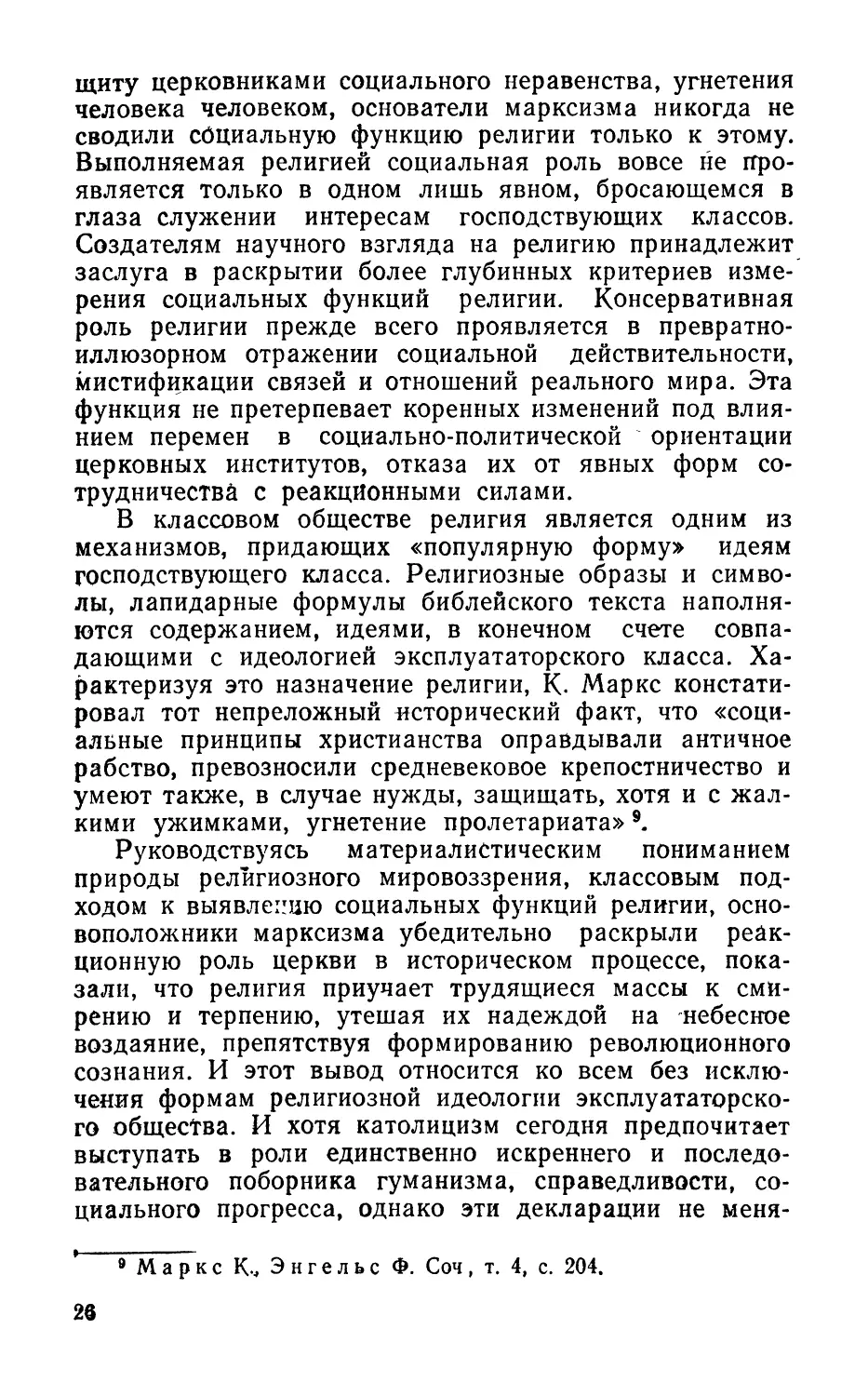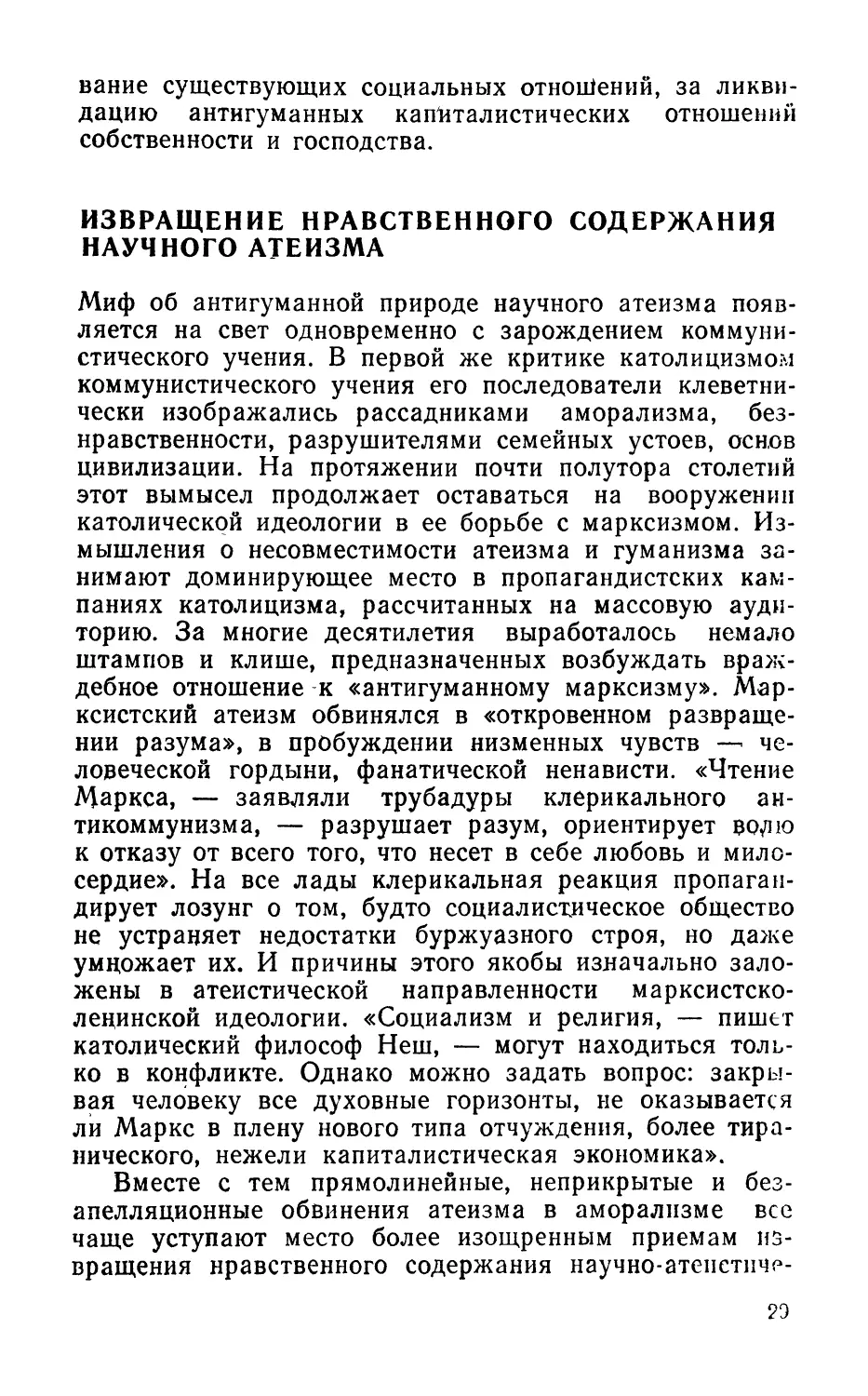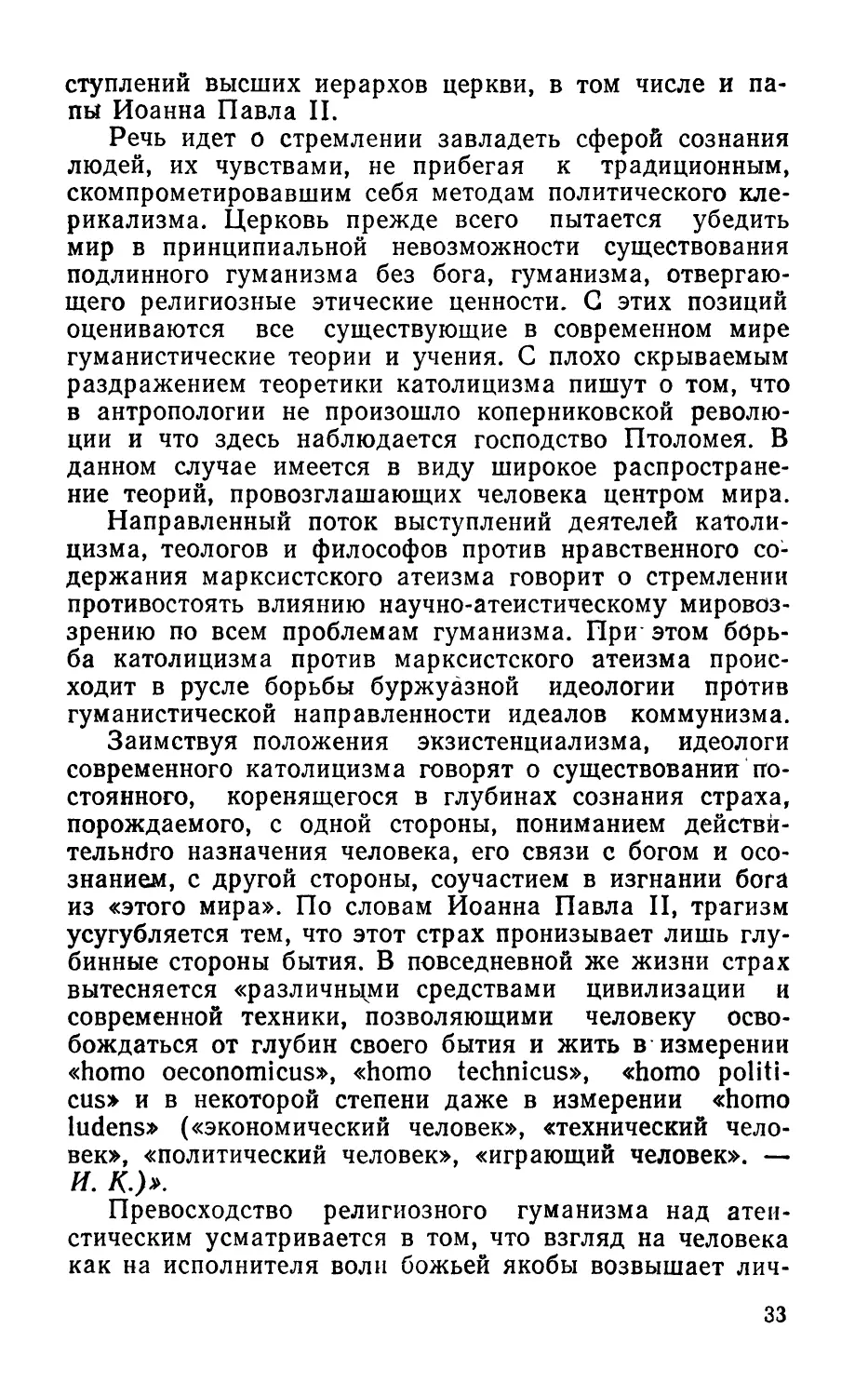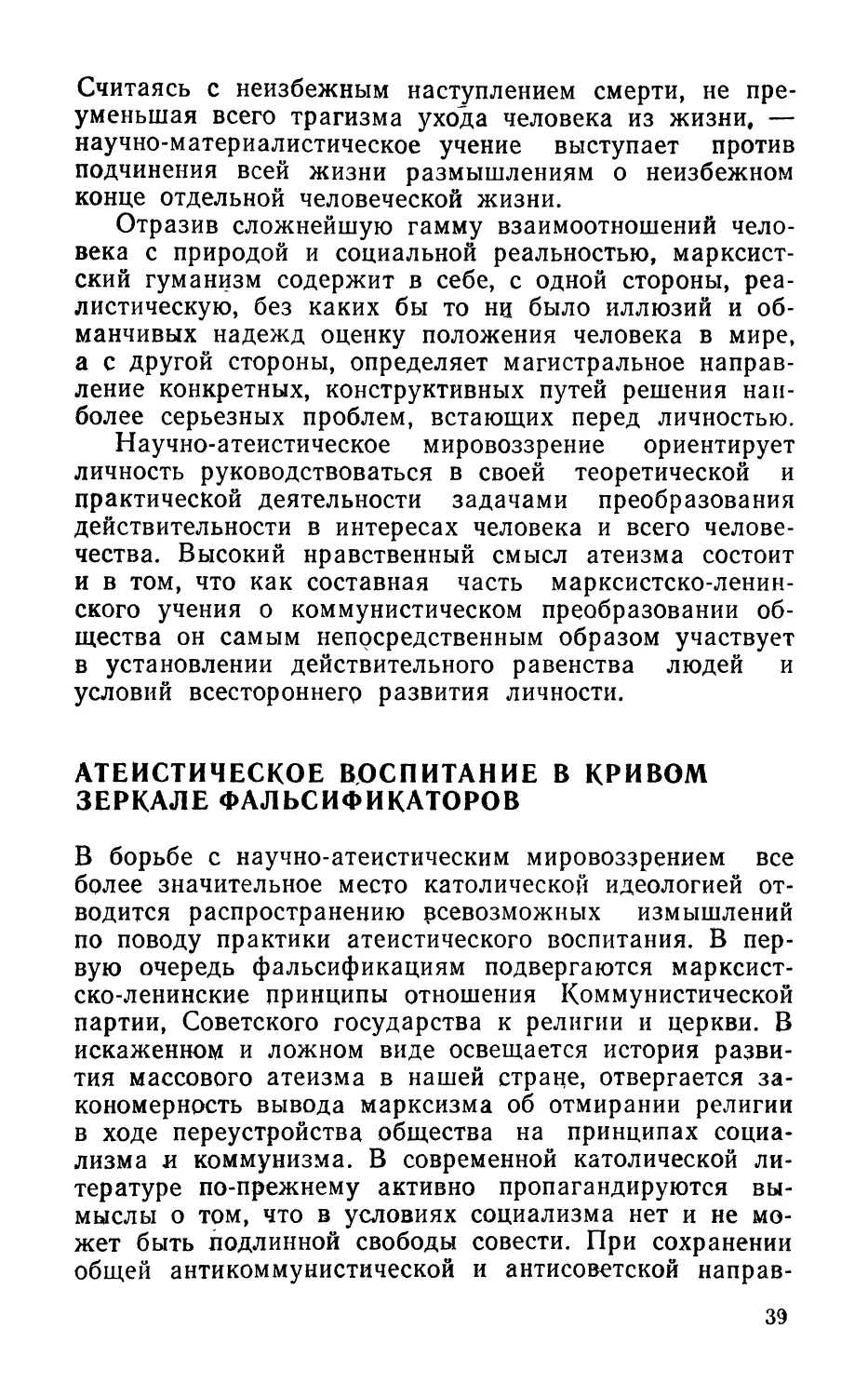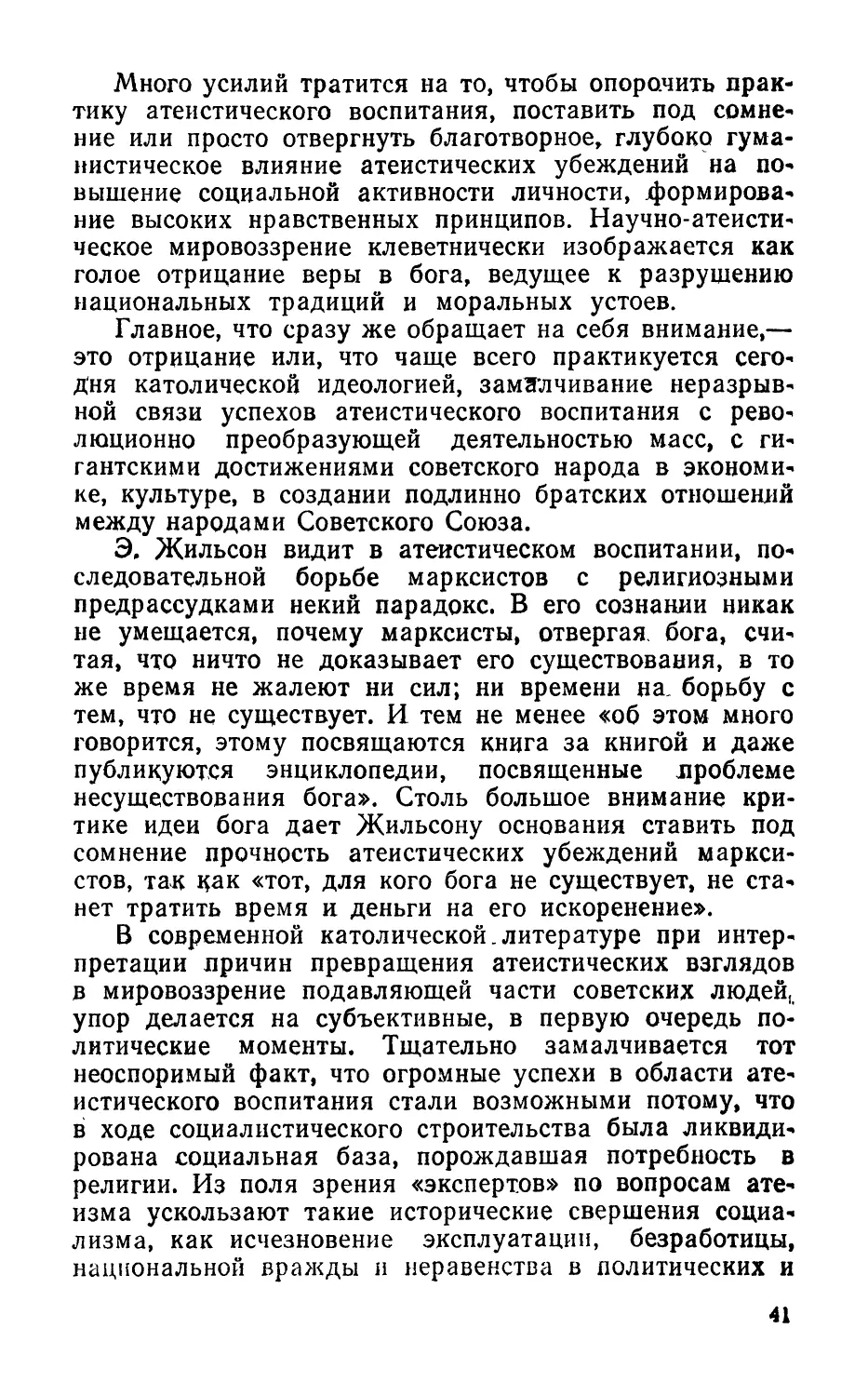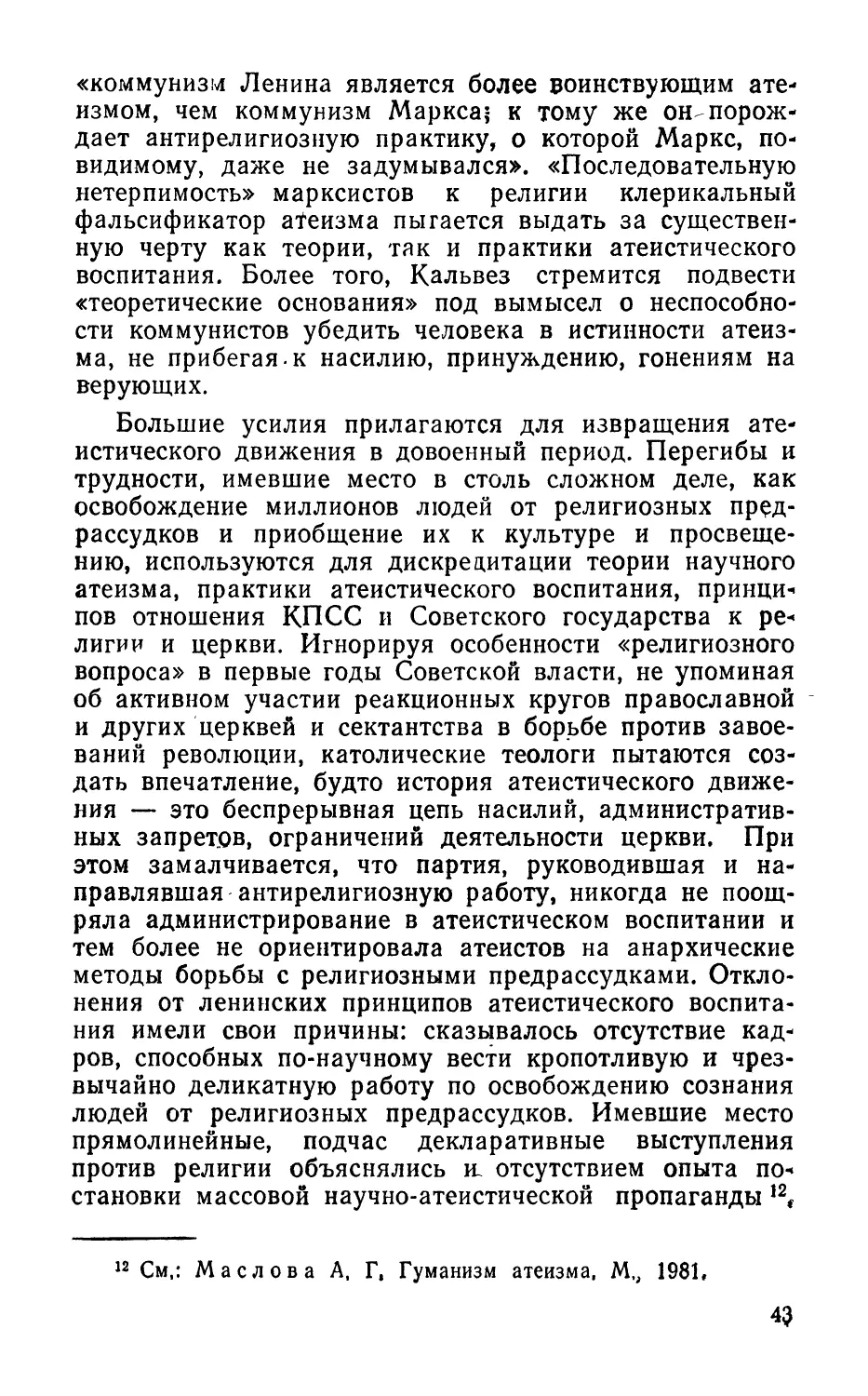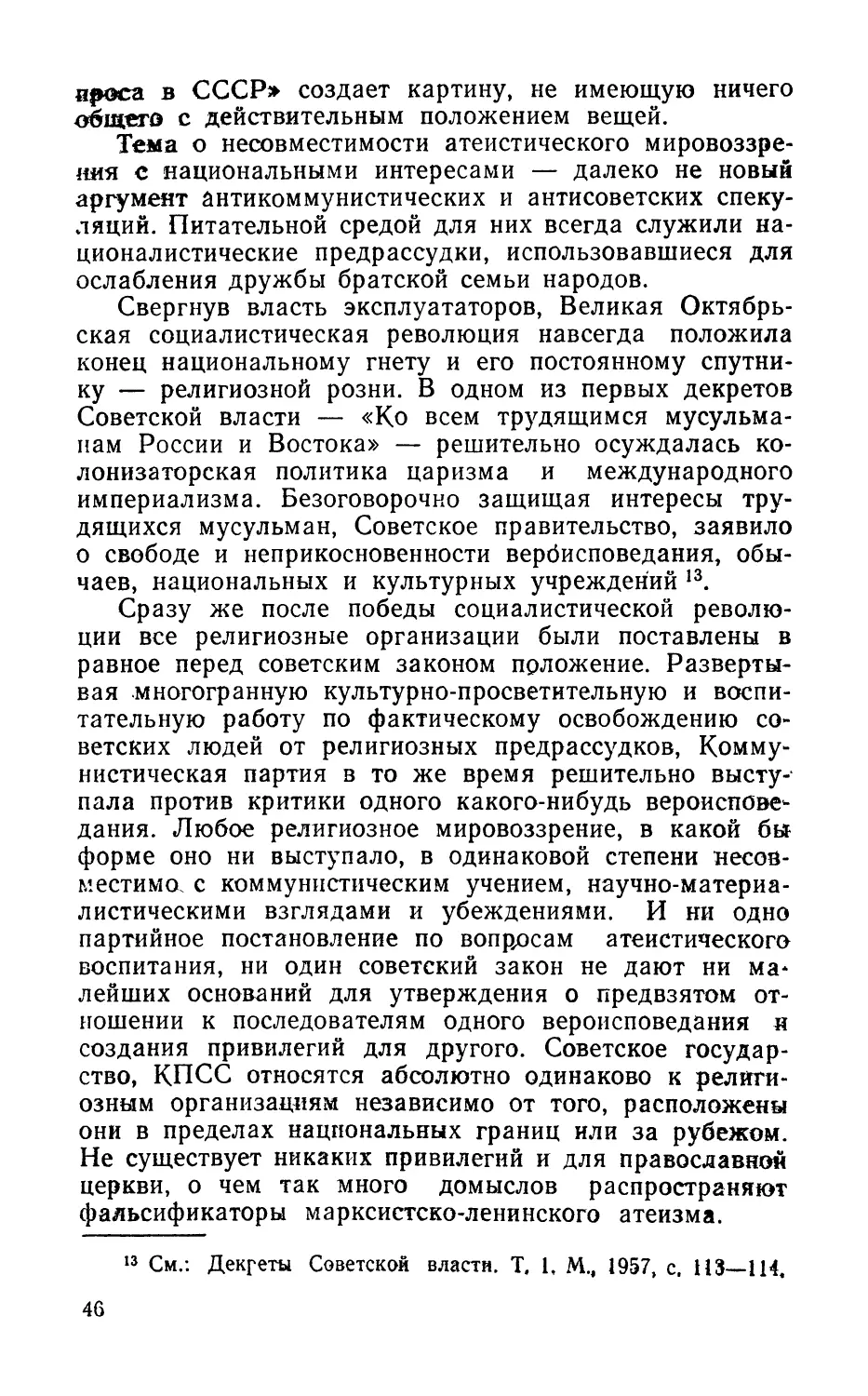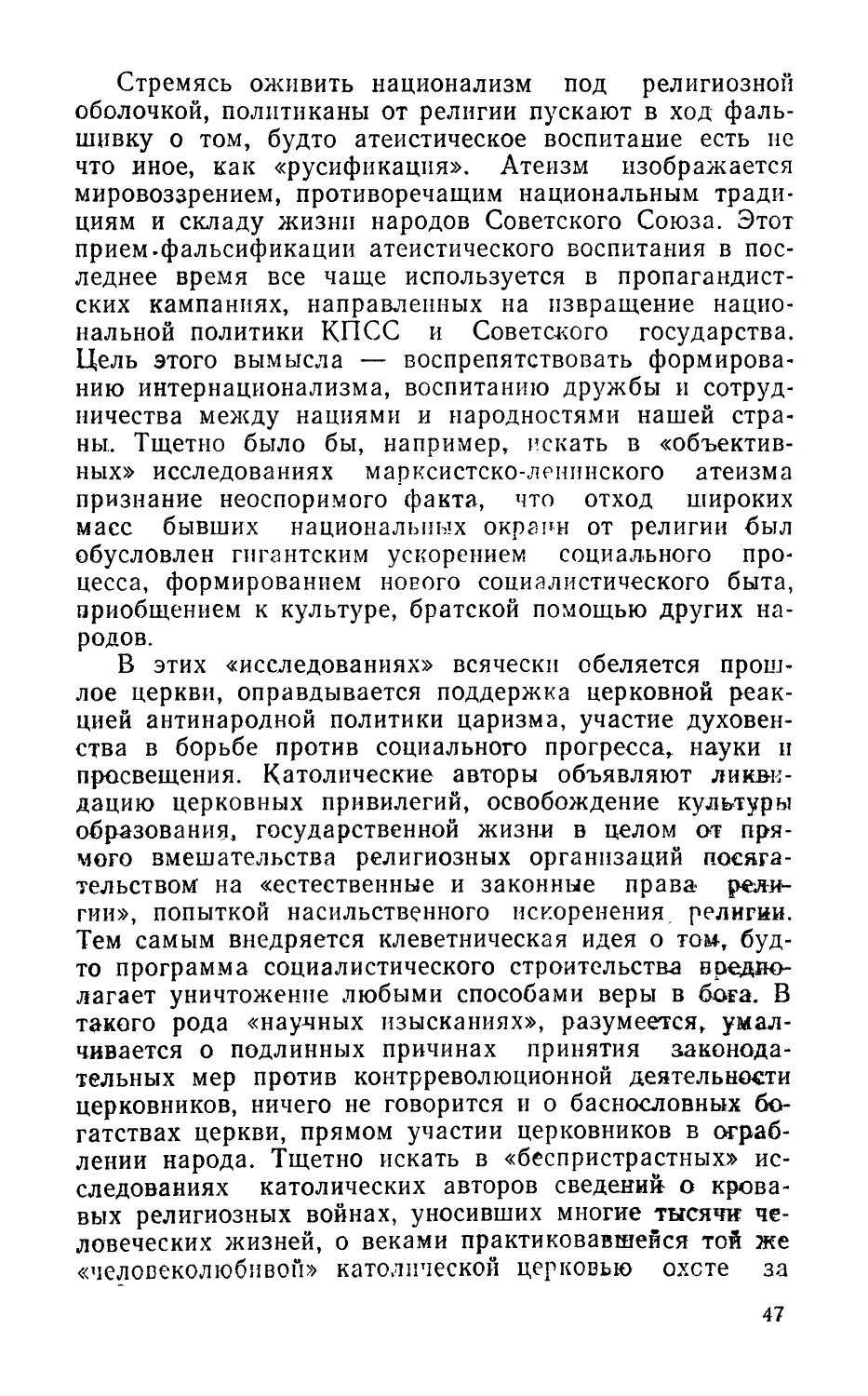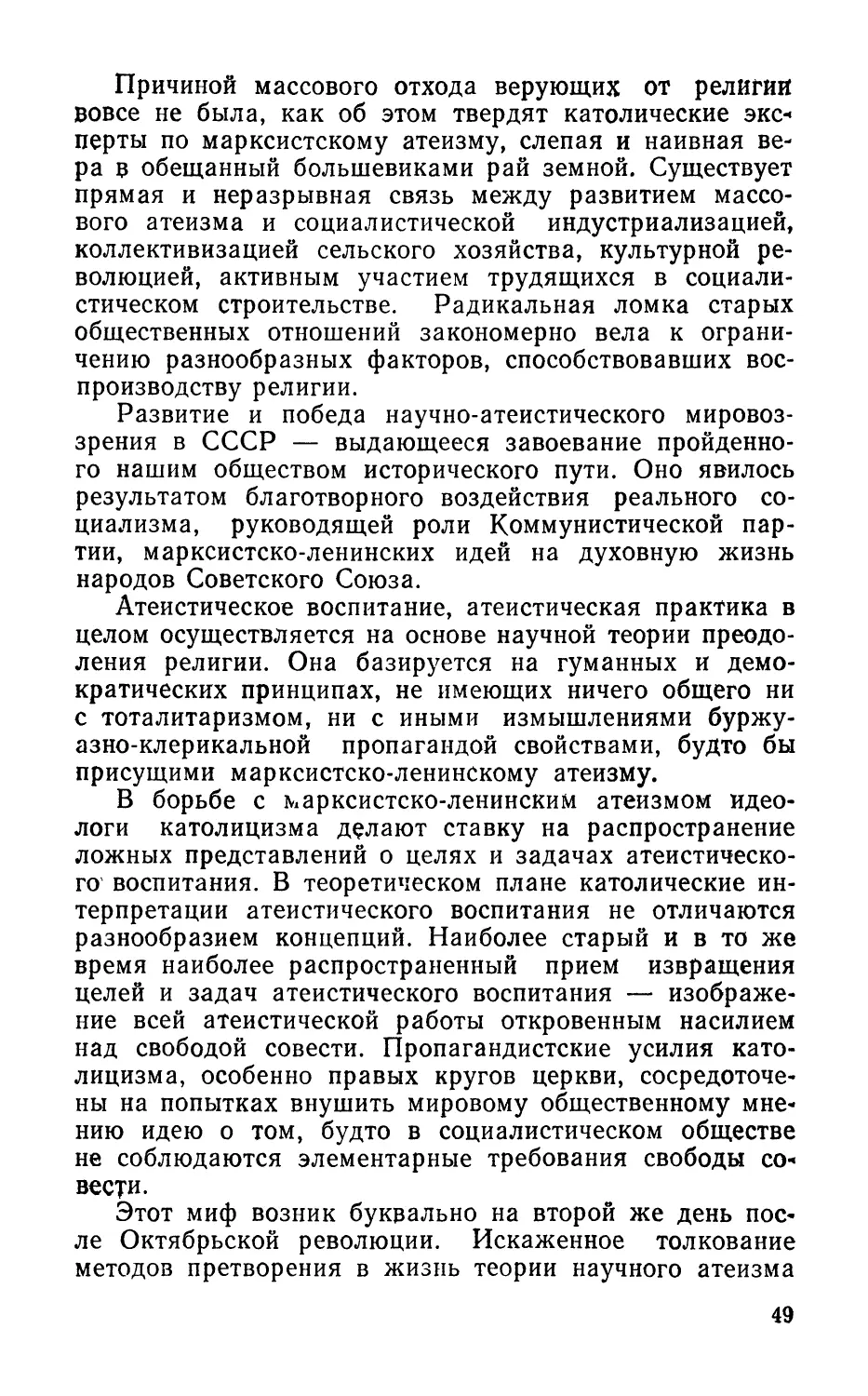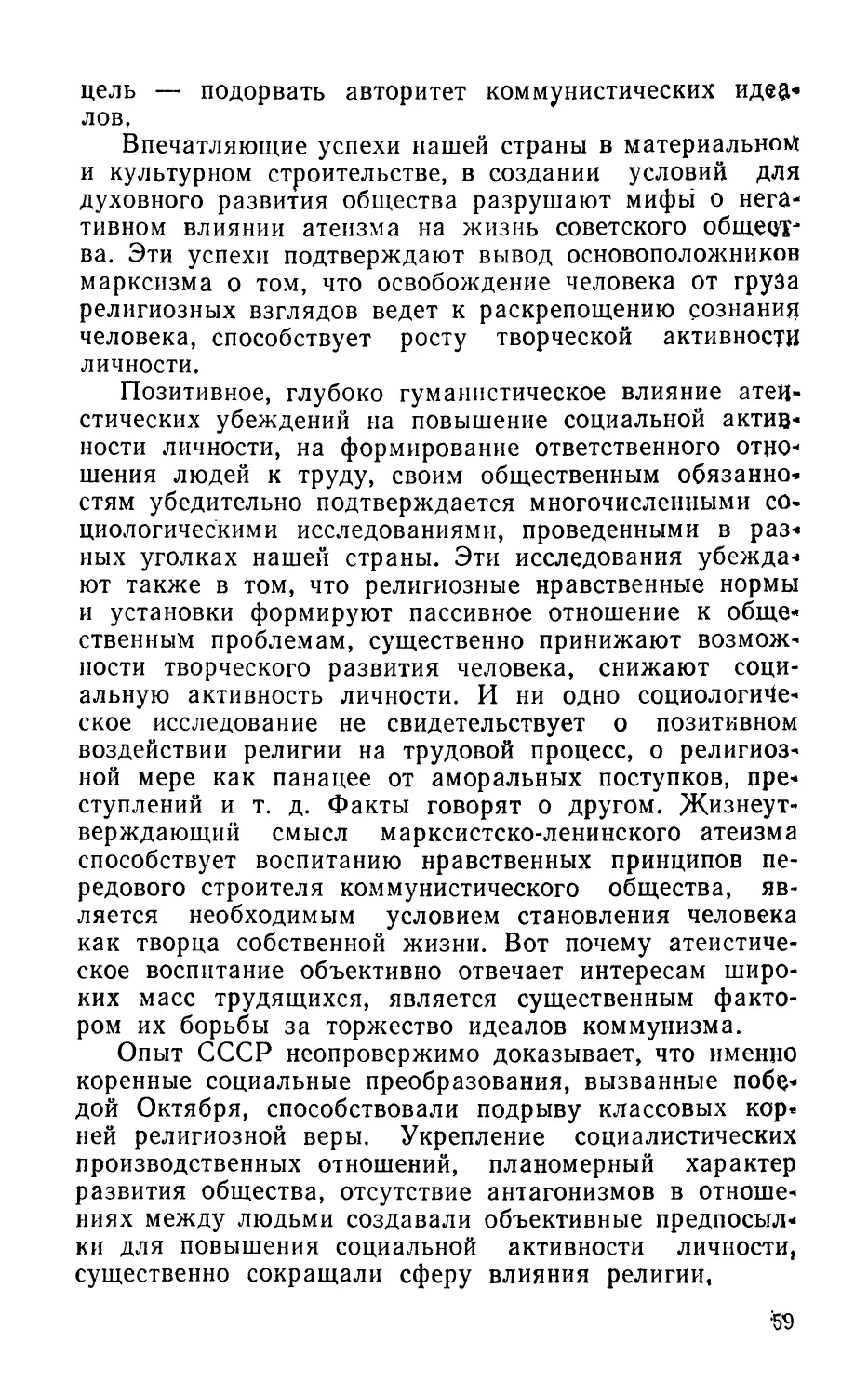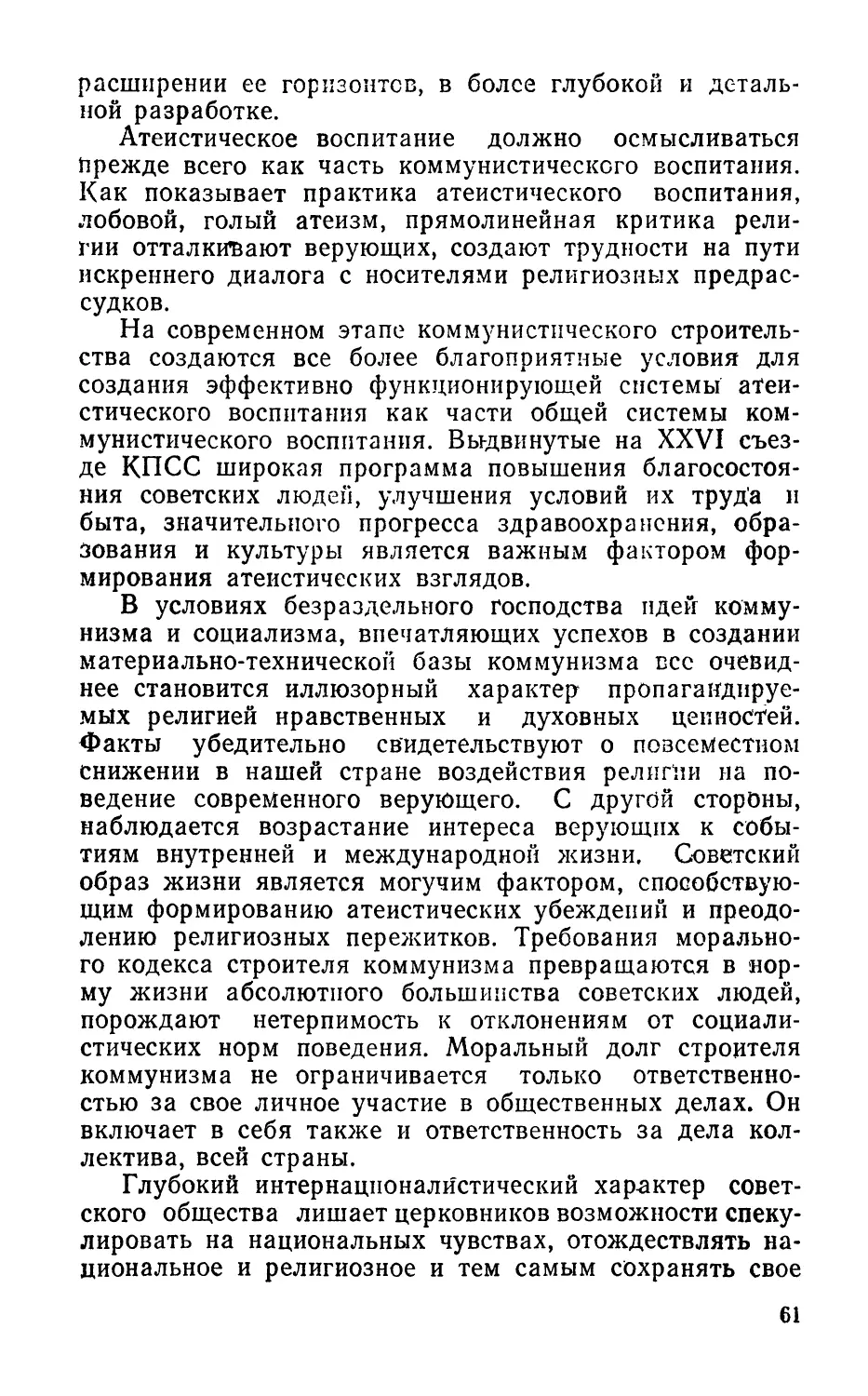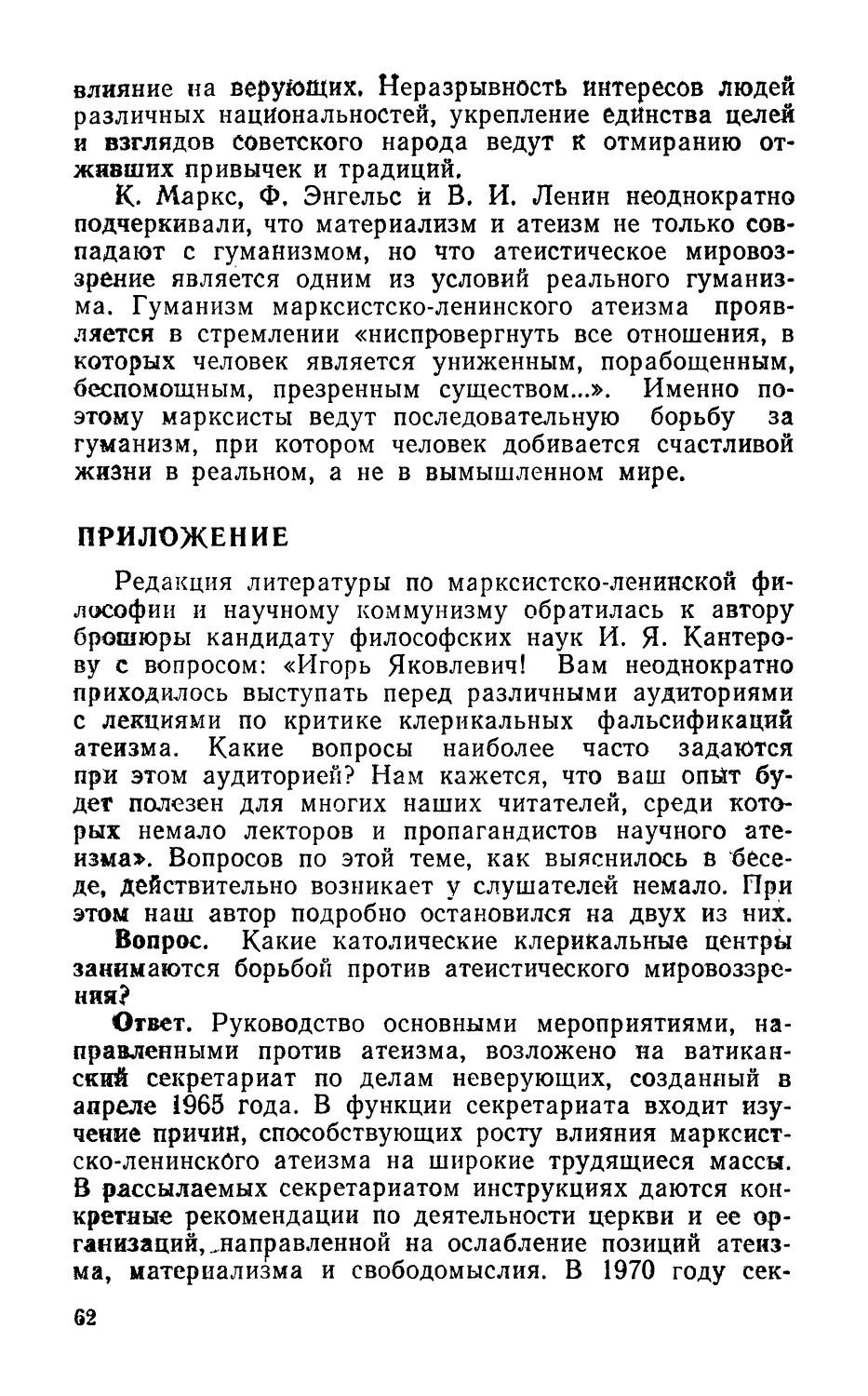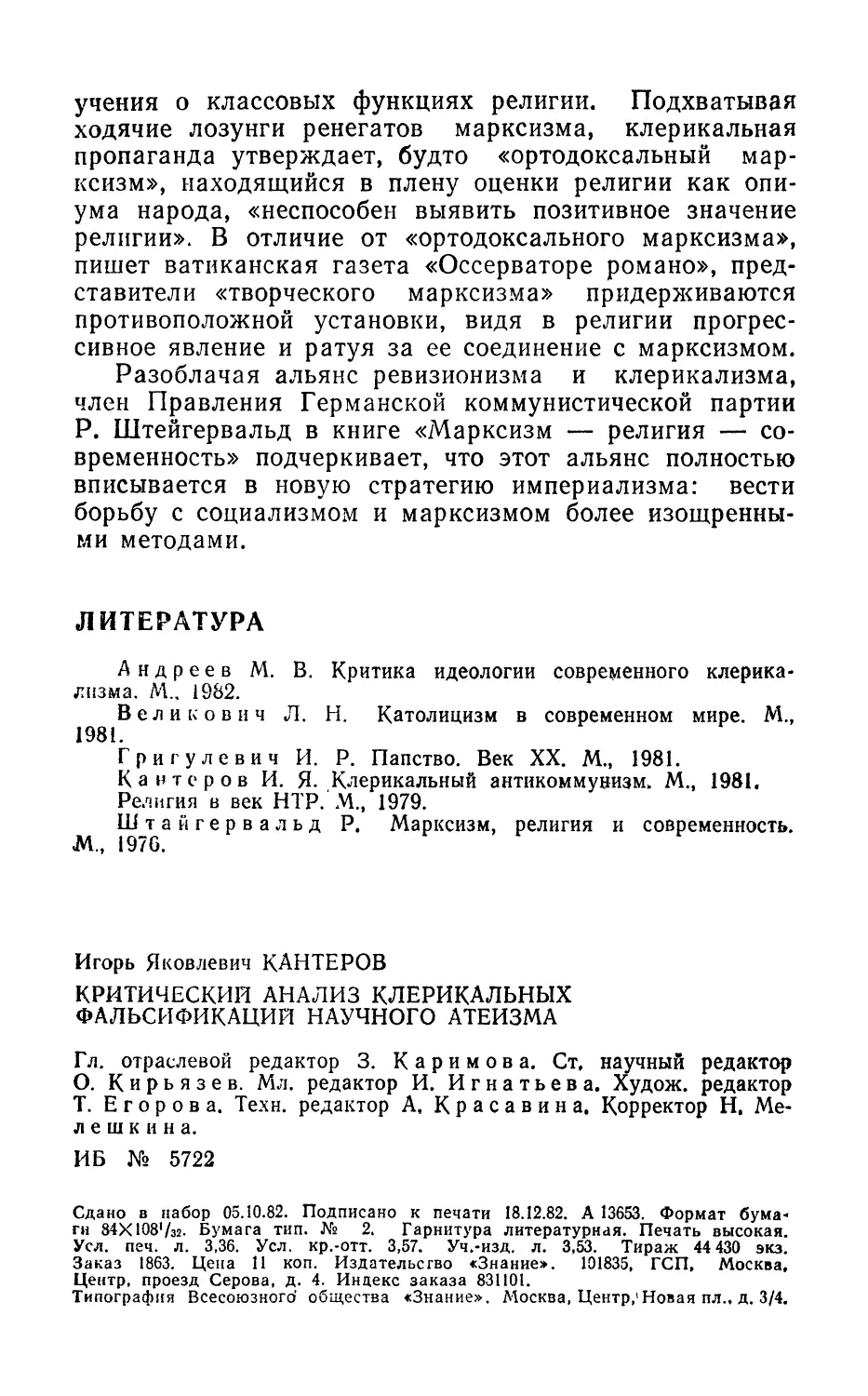Author: Кантеров И.Я.
Tags: религиоведение история атеизм научный атеизм марксизм-ленинизм
Year: 1983
Text
НАУЧНЫЙ
АТЕИЗМ I
>
ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
И. Я. Кантеров
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КЛЕРИКАЛЬНЫХ
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ
НАУЧНОГО АТЕИЗМА
1983/1
ншиспиа
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ
ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
НАУЧНЫЙ АТЕИЗМ
1/1983
Издается ежемесячно с 1964 г.
И. Я. Кантеров,
кандидат философских наук
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КЛЕРИКАЛЬНЫХ
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ
НАУЧНОГО АТЕИЗМА
Издательство «Знание» Москва 1983
ББК 86.1
К19
Автор: КАНТЕРОВ И. Я., кандидат философских наук,
доцент кафедры философии Московского педагогического
института им. Н. К. Крупской.
Рецензент: ЯСТРЕБОВ И. В., кандидат философских наук,
старший научный сотрудник Институт научного атеизма
АОН при ЦК КПСС.
СОДЕРЖАН И Е
Католические интерпретации процесса возникновения
марксистского атеизма и основных этапов его развития . 6
Клерикальные фальсификации марксистского понимания
сущности религии , 17
Извращение нравственного содержания научного атеизма 29
Атеистическое воспитание в кривом зеркале
фальсификаторов .............. 39
Приложение . . . . ........ 62
Литература ...•••....... 64
Кантеров И. Я.
К19 Критический анализ клерикальных
фальсификаций научного атеизма. — М.: Знание, 1983» —
64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Сер.
«Научный атеизм»; № 1),
11 к.
В работе критически анализируются современные фальсификации
марксистско-ленинского атеизма Автор раскрывает их научную
несостоятельность и социально-классовую направленность, показывает
тщетность попыток подорвать мировоззренческие основы
марксистско-ленинского атеизма, принизить нравственное гуманистическое со*
держание научно-атеистического миропонимания.
0400000000 ББК 86,1
2
(2) Издательство «Знание», 1983 г.
Углубление и расширение идеологической борьбы на
международной арене — характерная черта
противоборства капитализма и социализма в современных
условиях. В качестве орудия борьбы против идей
марксизма-ленинизма буржуазия широко использует
религию. Ориентация буржуазии на религию не случайна.
В свое время В. И. Ленин вскрыл причины поворота
буржуазии к религии. Он указывал на то, что в
развитии капитализма «наступил такой исторический момент,
когда командующая буржуазия, из страха перед
растущим и крепнущим пролетариатом, поддерживает все
отсталое, отмирающее, средневековое. Отживающая
буржуазия соединяется со всеми отжившими и
отживающими силами, чтобы сохранить колеблющееся наемное
рабство» 1.
Ленинское положение особо актуально в наши дни,
когда отживающей капиталистической системе
противостоит растущая и крепнущая мировая система
социализма. Империалистической буржуазией, клерикальным
антикоммунизмом религия используется в целях
'апологетики капиталистического строя, дискредитации реаль*
ного социализма, нагнетания международной
напряженности. Сегодня антикоммунизм все чаще выступает
под флагом защиты религии. С позиций рьяных
поборников «вечных и гуманных истин религии» против
идеалов коммунизма борется весьма разношерстная армия
буржуазных религиоведов, «экспертов» по проблемам
религии в СССР.
Особая роль в борьбе с марксистско-ленинской
идеологией отводится католической церкви «—
крупному религиозно-политическому, идеологическому
институту, оказывающему влияние не только на мировбззре-
ние своих последователей, но и на международные от-
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 166.
3
ношения, внутриполитическую жизнь целого ряда стран.
Империализм прежде всего стремится использоэать в
своих целях правые клерикальные силы, делая ставку
на клерикальную разновидность антикоммунизма.
Правые клерикальные круги используют профсоюзы и
политические партии, молодежные организации, стремясь
направить их деятельность на обработку масс в духе
соглашательства, враждебности к коммунистическому
и национально-освободительному движению.
Опираясь на догматы религии, морально-этические
наставления, различные буржуазные теории, клерикалы
подвергают нападкам и фальсификациям принципы
диалектико-материалистического мировоззрения,
классовые оценки социально-политических процессов и
явлений, жизнеутверждающие принципы марксистского
атеизма. В современной клерикальной литературе
широко употребляются такие термины, как
«атеистический коммунизм», «атеистический социализм», что,
несомненно, рассчитано на дискредитацию
коммунистического учения в глазах верующих людей. Атеизм и
материализм называются исходными пунктами и
одновременно основными пороками марксизма, порождающими
«заблуждения» этого учения. Концепции, извращающие
марксистско-ленинский атеизм, фабрикуются огромным
пропагандистским аппаратом современного
католицизма. Они создают питательную почву для
антикоммунистических настроений, сеют взгляды, враждебные
марксистско-ленинской идеологии.
Усиление нападок на теорию и практику
марксистско-ленинского атеизма — это и одно из проявлений
противоборства между научно-атеистическим и
религиозным мировоззрениями. Находясь в кризисном
состоянии, религиозная идеология не только не складывает
оружия, но стремится укрепить свой позиции и, где это
возможно, перейти в наступление на
научно-атеистическое мировоззрение. Для усиления влияния религии ее
защитники вносят определенные коррективы в арсенал
средств, используемых в борьбе против марксистско-
ленинского атеизма. Не отказываясь полностью от
примитивных приемов «опровержения» и фальсификации
научного атеизма, католическая теология и философия
все чаще прибегают к изощренным формам
дискредитации теории и практики марксистско-ленинского
атеизма.
4
В октане от прошлого многие современные
католические критики марксистско-ленинского атеизма весьма
хорошо знакомы с теорией и практикой научного
атеизма, марксизмом вообще. Это находит свое отражение
не только в обильном цитировании высказываний
классиков марксистско-ленинского атеизма, работ советских
атеистов, но и в том, что объектом критики,
фальсификаций и спекуляций становятся узловые, наиболее
актуальные цроблемы научного атеизма.
В католических религиозно-философских
интерпретациях вопросы научного атеизма выходят далеко за
рамки чисто мировоззренческих проблем, приобретая
идеологическое и политическое звучание.
Отмечающееся в марксистской литературе усиление после избрания
на папский престол польского кардинала ВойтылЫ'
экспансионистских и гегемонистских тенденций в
идеологическом курсе Ватикана проявляется и в активизации
борьбы с марксистско-ленинским атеизмом 2. Как никто
из его предшественников по престолу, Иоанн Павел II
много и постоянно говорит об опасности
распространения «материалистического атеизма» для судеб
цивилизации. В противодействии научно-атеистическим
идеалам папа видит основную миссию церкви, от
выполнения которой зависят судьбы не только христианства, но
и человечества в целом.
Борьба с влиянием марксистско-ленинского атеизма
является составной частью деятельности церкви,
пытающейся усилить свое воздействие на атеистов и на
всех тех, кто развивается помимо или вопреки
религиозному учению. Новая форма противоборства путем
перенесения арены борьбы на территорию противника
рассчитана на ослабление позиций
научно-материалистического мировоззрения, усиление влияния религии на
взгляды и убеждения советских людей.
Все это обусловливает насущнейшую необходимость
самого внимательного изучения новых форм
фальсификации марксистско-ленинского атеизма, методов
идеологической борьбы церковников с материализмом,
чтобы своевременно и доказательно разоблачать в
процессе атеистического воспитания идеологические происки
клерикалов.
2Нюнка В. Ю. Эволюция социально-политической позиции
Ватикана, — В кн.: Вопросы научного атеизма. Вып. 28. М., 1981,
О. 27,
5
КАТОЛИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОЦЕССА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАРКСИСТСКОГО АТЕИЗМА
И ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ЕГО РАЗВИТИЯ
В современной католической теологии и философии
можно встретить самые различные трактовки процесса
зарождения и развития научного понимания сущности
религии, возникновения высшей формы атеизма —
марксистского атеизма. Одна из них связана с выявлением
«личного атеистического опыта» К. Маркса и Ф.
Энгельса. Здесь основные усилия религиозных идеологов
сосредоточиваются на изучении «психического склада»
юных Маркса и Энгельса, особенностей их семейного
воспитания, на выяснении причин перехода Маркса и
Энгельса к радикальной конфронтации с религией.
Объектом их исследования является культурное и
политическое окружение Маркса и Энгельса в период
формирования у них самостоятельных атеистических взглядов,
выработки собственного понимания природы религии.
Другие направления религиозной мысли связаны с
выявлением влияния на становление и развитие
атеистических воззрений Маркса и Энгельса различных
философских и социально-политических теорий. При этом
в клерикальных интерпретациях генезиса
марксистского атеизма отрицается или затушевывается, что
развитие атеистических взглядов Маркса происходило в
тесном взаимодействии с его общим философским и
политическим развитием. В работах Кальвеза, Коттье, дель
Ноче, Фабро, Коста собрано и проанализировано
буквально все, что было написано Марксом по проблемам
религии и атеизма. Однако эти слывущие в
католицизме за оригинальных и глубоких «знатоков»
марксистского атеизма исследователи отказываются признать
очевидный факт, что по мере перехода от
революционного демократизма к коммунизму, от идеализма к
диалектическому и историческому материализму
формировалась и развивалась научная и классовая методология
критики религии. При всем различии этих идеологов
их объединяет одна черта — метафизическое
преувеличение одной из сторон, одного из положений
философских или этических взглядов Маркса, превращение
этих сторон в абсолют, в универсальную «отмычку»,
позволяющую открыть «тайну» марксистского атеизма.
Таким образом, налицо субъективистская интерпрета-
6
ция сложного и трудного пути формирования и
развития марксистского атеизма.
Формирование атеистических взглядов Маркса
изображается как развертывание или реализация либо
одной изначальной схемы, возникшей у Маркса в
молодости, либо особенностей характера основателя
марксизма, своеобразия его психического склада,
национальности и т. д. Кальвез, например, считает
атеистические воззрения Маркса прямым наследием отца —
рационалиста и кантианца. Он пишет, что «для
воспитанного таким отцом молодого Маркса свобода от
религиозной веры, или, как он скажет потом, от
«религиозного отчуждения», явилась, стало быть, подарком
детства».
Даже в тех случаях, когда в работах католических
теологов и социологов признается влияние на
формирование атеистического мировоззрения К. Маркса и
Ф. Энгельса философских источников, мы, как правило,
сталкиваемся с попытками представить их
атеистические взгляды несамостоятельными теориями либо
идеями, отражающими только и исключительно духовную и
социально-политическую ситуацию середины XIX века.
Идеалистическое истолкование процесса
формирования марксистского атеизма проявляется в данном
случае в том, что возникновение и развитие научцых
взглядов на религию трактуются просто как появление
(очередной атеистической теории. Качественно же новое
понимание сущности религии и природы атеизма
'возникло как в результате создания принципиально новой
философии, так и в связи с классовым характером
деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса. Игнорирование
этих решающих обстоятельств закономерно ведет к
ложному пониманию генезиса марксистского атеизма!
Путь Маркса к научному пониманию религии
трактуется идеалистами в отрыве от
общественно-экономических и политических условий прошлого столетия, от
революционной борьбы пролетариата и цредставляется
как чисто логический процесс дедуцирования идей из
формулировок и определений предшествующих
философских теорий.
Атеизм К. Маркса и Ф. Энгельса выражал
насущные потребности пролетариата в теории, объясняющей
природу религиозных иллюзий, вооружающей
революционный класс программой борьбы не за мифическое, а
7
реальное освобождение от эксплуатации и духовной
нищеты; Эти потребности свидетельствовали о зрелости
пролетариата, превращение его из «класса в себе» в
«класс для себя». В ходе революционной борьбы рабо*
чий класс убеждается в несостоятельности религии, ее
неспособности помочь решению проблем, стоящих
перед ним. В итоге формируется критическое отношение
к религии, ослабевает влияние религиозных идей на
сознание пролетариата, усиливается стремление
мыслить материалистическими и атеистическими
категориями. Научный атеизм возникал как неотъемлемая
составная часть борьбы пролетариата за торжество
реального гуманизма, построение общества, в котором
устанавливаются подлинно гуманные отношения.
«...Атеизм, в качестве снятия бога, — писал К. Маркс,-—
...означает требование действительно человеческой
жизни, как неотъемлемой собственности человека...».
Другими словами, «атеизм есть гуманизм, опосредствованный
с самим собой путем снятия религии, а коммунизм —
гуманизм, опосредствованный с самим собой путем
снятия частной собственности» 3.
Католические противники научного атеизма не отг
казываются и от попыток противопоставить взгляды на
религию Маркса раннего и позднего периодов
творчества. В книге католического публициста Ж. Урдена
«Коммунистический вызов» появление у Маркса
твердых атеистических убеждений относится к 1845 году,
когда были написаны «К критике гегелевской
философии права. Введение», «К еврейскому вопросу», Урден
выделяет и подробно анализирует этапы в эволюции
взглядов К. Маркса на религию. Однако установки,
лежащие в основе предлагаемой католическим
публицистом концепций, оказываются весьма произвольными,
свидетельствующими о поверхностном знакомстве его
автора с работами К. Маркса. По Урдену, во время
первого этапа (его хронологические рамки не
указываются, и о них можно только догадываться) «Маркс -—
последователь века просветителей, дитя либеральной
революции... Вместе со своими друзьями — левогегель-
янцами — он считает, что религия — это отражение
противоречий, обитающих в сердце человека. В эту эпо*
ху Маркс является просто-напросто атеистом. В фило-
3 Мс^кс К., Энгельс Ф. Соч., т,,42, с, 169.
8
софском плане он становится в оппозицию к религии
лишь позже, в то время, когда находился во власти
своих великих социальных и экономических интуиции». С
такой оценкой атеистических взглядов молодого
Маркса нельзя согласиться. Маркс — последователь идей
младогегельянства отнюдь не «просто-напросто атеист».
Многочисленные статьи философского содержания,
публицистические заметки красноречиво говорят о том, что
в этот период К. Маркс был горячим поборником
истины, решительным и сознательным противником
религиозного ханжества и мракобесия. Нет абсолютно
никаких оснований говорить о созерцательном отношении к
религии. Оставаясь идеалистом в понимании истории,
молодой Маркс выступал против подчинения филосо*
фии религией, науки — верой.
Католические, фальсификаторы не хотят замечать,
что в «Критике гегелевской философии права», в
других статьях и, например, в письме Маркса к Фейербаху
от 20 октября 1843 года наряду с решительной
критикой религии содержится глубокая и не менее
решительная критика гегелевского идеализма, а вместе с тем и
идеалистической философии в целом. На это
обстоятельство указывал В. И. Ленин, отмечавший, что «еще
в 1843 году, когда Маркс только еще становился
Марксом, т. е. основателем социализма, как науки,
основателем современного материализма, неизмеримо более
богатого содержанием и несравненно более
последовательного, чем все предыдущие формы материализма, —
еще в то время Маркс с поразительной ясностью
намечал коренные линии в философии»4. Пускается
клерикалами в ход и «довод» о прогрессирующей «индифе-
рентности» К. Маркса к проблемам атеизма и религии в
произведениях, относящихся к «зрелому» периоду
творчества основоположника научного атеизма, С этой
целью сопоставляются произведения К. Маркса,
относящиеся к различным этапам его деятельности. При
этом во внимание принимается только количественная
сторона дела: в таких-то работах такого-то периода о
религии и атеизме говорится больше, а в таких-то
меньше. На основе такого «анализа» делаются выводы об
охлаждении «позднего Маркса» к разработке проблем
религии. «Зрелый» Маркс предстает в работах католи-
4 Ленин В. И. Поли, собр, соч., т. 18, с. 357.
9
ческих авторов мыслителем, абсолютно равнодушным к
проблемам религии и атеизма, занимающимся «чистой
наукой». А некоторые авторы идут и еще дальше:
уверяя, будто обращение к атеизму было преходящим
моментом в творческой биографии К. Маркса и то, что в
последующих работах Маркс иногда возвращается к
уже пройденным этапам, следует рассматривать как
ностальгию по прошлому, «атавизм» и т. д.
При анализе теоретических выкладок католических
авторов, противопоставляющих атеизм «молодого»
Маркса атеизму Маркса «зрелого» периода, четко
вырисовывается стремление разорвать органическое единство
атеизма и марксистского учения, найти возможность
для выхолащивания из марксистского учения
атеистического и материалистического содержания. В этой
связи весьма примечательно, что, отстаивая тезис о
плюралистичное™ марксистского атеизма, о конкуренции
между его различными версиями, католические
«маркетологи» Ё то же время направляют весь арсенал
новых и старых приемов фальсификации и опровержений
против марксистско-ленинского атеизма, основанного
на последовательно материалистическом, классовом
понимании природы религии, ее места в историческом
процессе, в современной идеологической борьбе. Мар-
ксологи-клерикалы доказывают, будто современная
теория и практика научного атеизма не только не имеет
никакого отношения к подлинным взглядам Маркса, но
и является Искажением истинного марксизма.
Одновременно протаскивается ложное представление о
марксистском атеизме как чисто прагматической теории,
которая Ё зависимости от поставленной цели может
выступать в виде энгельсовской или ленинской версий
атеизма.
Католическая теология и философия активно
участвуют в широко развернутой в 60—70-е годы
буржуазной и ревизионистской идеологической кампании, на-
Йравленной на фальсификацию философского наследия
В. И. Ленина, на отрицание ленинского этапа в
развитии марксистского учения и актуальности вклада
В. И. Ленина в теорию научного атеизма. Основной
замысел клерикального варианта «деленинизации»
марксистского атеизма состоит в том, чтобы опорочить
ленинизм как марксизм нашей эпохи, перечеркнуть его
10
интернациональный характер, изобразить атеистические
взгляды В. И. Ленина в качестве одного из вариантов
марксистского атеизхма, к тому же
«догматизированного».
Католические «марксологи» нередко пытаются
применить к оценкам ленинского этапа в развитии мар«*
ксистского атеизма концепции «мировоззренческого
плюрализма», проповедуя версии о «национальной
ограниченности» ленинизма, о том, что «жесткое»
отношение Ленина к религии будто бы отражает определенный
этап истории России. Тем самым ставится под
сомнение прочно укоренившееся в международном
коммунистическом движении понятие «марксизм-ленинизм». До
словам Бохеньского, это понятие существует лишь в
представлении советских философов и не имеет своего
аналога в реально существующем марксистском
движении.
Клерикальный вариант «деленинизации марксизма»
является частью новой линии католицизма в
отношении к марксизму и социализму. Опираясь на
реформистские позиции, представители церкви проповедуют
тезис о существовании различных форм социализма, о
наличии множества оттенков марксизма. Пропаганди-
рование плюралистического понимания социализма и
марксизма имеет цель ослабить влияние на верующих
подлинных идей марксизма и социализма, которые в
католической литературе дискредитируются как
догматические и недемократические версии марксизма и
социализма. Этому же должно служить и лицемерное
заигрывание с различными формами ревизионизма,
рекламируемых как «гуманное» и «недогматическое»
понимание идей социализма и марксизма.
В современной католической антимарксистской
литературе выделяются следующие специфические
особенности интерпретации ленинских атеистических идей:
а) отрицание ленинского этапа в развитии
марксистского атеизма; б) приписывание Ленину преувеличения
роли субъективного фактора в борьбе с религией, отход
от марксистского учения о детерминации религиозного
сознания социально-экономическими факторами; 6) <}б-
винение в подмене гуманистического содержания
атеистического учения Маркса догматизированным
вариантом атеизма.
Извращая вклад В. И. Ленина в разработку фунда-
11
ментальных вопросов атеизма, католический философ
Морра называет ленинское понимание религии
«односторонним». «Оно возникло в результате встречи
марксистской доктрины с позитивистскими тенденциями в
материализме, широко представленными в России в
последнее десятилетие XIX в.». Формирование
атеистических взглядов В. И. Ленина Морра сводит к плоской,
в корне антинаучной схеме: вначале-де было влияние
«некоего Чернышевского — русского Фейербаха», а
затем знакомство с произведениями Энгельса, под
влиянием которых Ленин коренным образом изменил свои
представления о религии. По словам Морры, лишь в
более поздний период своей жизни и деятельности Ленин
приступил к более глубокому изучению религиозного
мировоззрения. Католический философ пишет, что
якобы именно от Фейербаха Ленин воспринял взгляд на
религию «как психологическую проекцию человеческой
природы»» Извращая сущность ленинского учения о
классовых корнях религии, Морра пытается доказать,
будто это учение является не чем иным, как
разновидностью теории страха. А исходя из этой однобокой
интерпретации, глубоко аргументированному
марксистскому учению о социальных, гносеологических и
психологических корнях религии Морра противопоставляет
бездоказательное утверждение о том, будто и тезис о
происхождении религии из страха опровергается
последними исследованиями, поскольку «страх и трепет в
религии качественно отличаются от любой формы страха
перед природой и человеком».
В последние годы в католицизме наблюдается
стремление обосновать идею о несовпадении взглядов
на религию Ленина с атеистическим учением Маркса с
помощью более тонких приемов. Католические «мар-
ксологи» стремятся найти «исторические корни» и
«объективные причины» «отхода» Ленина от оценок
религии основоположниками марксизма. «В то время, —
утверждает католический профессор Шкода, полностью
извращающий взгляды Ленина на религию, — как
согласно Марксу и Энгельсу, борьба против религии
должна выражаться в борьбе против нищеты и
эксплуатации, этих социальных корней религии, для Ленина,
напротив, активная борьба против религии является
единственным путем, необходимым для успешной
борьбы против политического и экономического угнетения».
12
Один из основных пунктов, по которому ведется
фальсификация ленинского этапа в развитии
марксистского атеизма, — это отрицание интернационального
характера ленинизма, ограничение его рамками одной
страны. Наперекор историческим фактам клерикальные
фальсификаторы утверждают, что атеистические идеи
Ленина не столько связаны с учением Маркса, сколько
восходят к некоторым русским национальным
традициям.
Пытаясь доказать «немарксистские истоки»
атеистических взглядов В. И. Ленина, католические теологи
и философы вслед за Бердяевым ищут основы этих
истоков в психологических особенностях российской
интеллигенции, ее склонности к экстремизму. Такую
версию выдвигает католический теолог Жермье в книге
«Христос или Маркс». Он пишет о крайнем
обскурантизме, русской православной церкви, не допускавшей
участия интеллекта в разработке учения Христа. Все
это привело к появлению тупиковой ситуации,
единственный выход из которой многие видели в нигилизме.
«Поэтому нет ничего удивительного в том, что
семинарист мог превратиться в вероотступника, атеиста».
Жермье убежден, что все могло бы быть иначе, т. е.
не было бы никаких нигилистов, семинаристы усердно
готовились бы к пастырской деятельности и не
становились бы атеистами, окажись на месте православия
католическая церковь. Но поскольку католичество было
отвергнуто, «то нигилистические аберрации привели... к
появлению теоретиков революции калибра Белинского,
Бакунина и Ленина». Католический теолог совсем не
случайно называет эти имена именно в такой
последовательности. В угоду своей схеме он хочет доказать,
будто по вине православия гуманный, романтический
атеизм Белинского превратился в философию
разрушения Бакунина, а затем привел к появлению теории,
стремящейся изгнать бога из семьи и морали.
Особенно активно муссируется в католической
литературе легенда о Ленине-практике, которой, мол,
никогда не придавал серьезного значения разработке
теоретических вопросов марксистского атеизма. В. И.
Ленин был не только теоретиком, но и выдающимся
революционером, и в этом смысле практиком. В качестве
вождя русской революции он должен был решать
практические проблемы, встающие перед пролетариатом, его
13
авангардом. В своих теоретических трудах и
общественно-политической практике В. И. Ленин уделял
много внимания политике партии по отношению к религии
и церкви, распространению материалистического
мировоззрения. И это обращение Ленина к практическим
проблемам атеизма вовсе не является доказательством
пренебрежения к теории. В. И. Ленин не ограничивался
пропагандой и защитой взглядов Маркса и Энгельса на
религию. В новых исторических условиях он творчески
развивал коренные проблемы научного атеизма, сделав
крупный вклад в марксистское понимание социальной
сущности религии и религиозных организаций в эпоху
империализма. В решении всех практических проблем,
вставших перед рабочим классом и партией в
отношении религии, Ленин всегда исходил из научных
принципов марксистского атеизма. Этими же принципами
великий продолжатель дела Маркса и Энгельса
руководствовался и после Октябрьской революции. Однако
католические эксперты по проблемам марксизма
отказываются признавать значение вклада Ленина в
развитие марксистского атеизма. Следуя установкам
современной «марксологии», они «находят» в ленинской
критике религии приувеличение роли субъективного
фактора, отход от «социального детерминизма»
Маркса. В отличие от Маркса, утверждает Коттье, Ленин
призывал к насильственному уничтожению религии.
Причину такого «отхода» от Маркса Коттье видит в
неверии Ленина в то, что «религия исчезает сама по
себе».
Истолковывая ленинизм как чисто русское явление,
католические фальсификаторы призывают к
«освобождению» марксизма от проникших в него положений,
«чуждых» подлинным взглядам К. Маркса.
Французский католический критик марксизма Деккер
стремится обосновать вывод о том, что будто католицизм вел
борьбу главным образом не против марксизма, а
против его «ленинской версии». Хотя в XIX веке церковь
неоднократно осуждала коммунизм, Деккер пишет, что
в этих осуждениях никогда не акцентировалось
внимание на марксизме. Игнорируя объективные
исторические факты, Деккер вслед за Кальвезом утверждает,
что в энциклике «Дивини редемпторис»
(«Божественный искупитель», 1937) критикуется не марксистская
доктрина, а ее «большевистское толкование».
14
Объективные факты со всей убедительностью
раскрывают всю фальшь и лицемерие новоявленных
ревнителей чистоты учения Маркса. Напомним, что в
самом же ^начале энциклики «Дивини редемпторис»
говорится о «коммунистической доктрине, основанной на
уже изложенных Марксом принципах диалектического
и исторического материализма, обладателями
единственно правильной интерпретации которых претендуют
быть большевистские теоретики. Эта доктрина учит,
что существует одна лишь реальность: материя с ее
слепыми силами, которые, развиваясь, превращаются в
планеты, животных, человека». Если отвлечься от
вульгарной формы изложения марксистского учения, то без
труда можно обнаружить, что речь здесь идет не о
какой-то особой, большевистской версии марксизма, а о
принципах марксистской философии, которыми
руководствовалась и большевистская партия. В тексте
энциклики невозможно найти даже и намека на то, что
те проклятия, которыми в энциклике подвергается
«внутренне порочное коммунистическое учение»,
относятся только к советской модели марксизма и не
касаются «истинного марксизма». Буквально каждая фраза
энциклики «Дивини редемпторис» проникнута духом
ненависти к коммунистическому учению, его
социальным принципам, философии, научно-атеистическому
мировоззрению. Однако в интересах текущих задач
церкви ее теоретики готовы сегодня объявить защитником
«истинного марксизма» даже Пия XV.
В стремлении бросить тень на В. И. Ленина как на
продолжателя атеистического учения К. Маркса и
Ф. Энгельса католические теологи и философы
стремятся во чтобы то ни стало скомпрометировать
ленинское учение о религии как «догматическое»,
«одностороннее», «поверхностное» и волюнтаристское.
Вымысел о Ленине — волюнтаристе, как и вымысел
об «особой ненависти Ленина к религии»,
опровергаются прямыми ленинскими указаниями о недопустимо-,
сти выдвижения религиозного вопроса на первый план
в политике рабочей партии и о необходимости
подчинения борьбы с религией борьбе за социализм5. Как и
Маркс, Ленин видел основной путь преодоления рели-
5 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т, 12, с. 146.
15
гии в коренных преобразованиях общественных
отношений.
Ленин решительно выступает против сведения
борьбы с религией исключительно к просветительству, но
отсюда вовсе не следует, что всякая просветительская
деятельность бесполезна, так как искоренение
невежества, неграмотности — это одновременно и устранение
условий, при которых религия возникает, развивается,
оказывает влияние на сознание людей.
Для Ленина, следовательно, вопрос борьбы с
религией заключался не только в раскрытии
несостоятельности ее содержания, но и в выяснении форм, путей,
средств преодоления ее влияния на пролетариат с
учетом как раз той огромной исторической задачи
революционной ломки буржуазных общественных
отношений.
В полном соответствии с учением марксизма о
социально-классовых функциях религии Ленин
убедительно раскрыл беспочвенность попыток превращения
«очищенной» религии в фактор социального прогресса,
нравственного совершенствования. «Идея бога, — писал
Ленин, — всегда усыпляла и притупляла «социальные
чувства», подменяя живое мертвечиной, будучи всегда
идеей рабства (худшего, безысходного рабства).
Никогда идея бога не «связывала личность с обществом», а
всегда связывала угнетенные классы верой в
божественность угнетателей» 6.
Методология ленинского анализа новых форм
защиты и подновления религии помогает выявить
закономерности и основные особенности приспособления
религии к современным условиям, в том числе понять
специфику обновленных тактики и средств воздействия
клерикалов на массы. В. И. Ленин раскрыл классовую
направленность осовременивания религии, вскрыл
тесную связь этого процесса с социальными сдвигами, с
глубоким кризисом религиозной идеологии. Именно
поэтому ленинская критика религиозного обновления
звучит особенно актуально в настоящее время. Она
помогает за сменой фасада, отказом от
скомпрометировавших себя традиций увидеть стремление фидеистов
сохранить и по возможности усилить позиции религии в
политической и социальной жизни.
Ленин В. И. Поли, собр. соч., т, 48, с. 232.
10
КЛЕРИКАЛЬНЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
МАРКСИСТСКОГО ПОНИМАНИЯ
СУЩНОСТИ РЕЛИГИИ
Научное объяснение природы религии, базирующееся
на методологии диалектического и исторического
материализма, раскрывает наиболее существенные и
наиболее общие признаки религии, помогает понять место
религиозных идей в общественном сознании. Религия —
это социальное явление, необходимо и неизбежно
возникающее на определенном этапе истории
человечества. В религиозных представлениях в иллюзорной
форме отражаются действительные общественные отноще-
ния, — силы, господствующие над людьми в их
повседневной жизни. Понимание религии прежде всего как
социального явления противостоит
объективно-идеалистическим концепциям, постулирующим в качестве
источника религии, внемировое, трансцендентное
начало, бога, мирового духа и т. д.7. В равной степени
марксистское объяснение сущности религии
аргументированно отвергает попытки вывести религию из
биологической природы человека.
В своем стремлении опровергнуть или принизить
марксистское понимание сущности религии
католическая теология и философия пользуются
разнообразными методами фальсификации: извращением
научно-материалистической методологии исследования
общественных явлений, приписыванием основоположникам,
научного атеизма предвзятого, упрощенческого
отношения к религии, обвинением марксизма в игнорирования
сложности религиозного феномена.
Основные усилия католических противников
научного атеизма сконцентрированы на опровержении
фундаментальных положений марксистско-ленинского понимав
ния сущности религии. Научный анализ природы
религиозных верований ложно интерпретируется ими как
реакция на ложные представления о боге. Цель
различных1 вариантов этой интерпретации — защита от
научной критики идеи бога, лежащей в основе религиозных
предрассудков. Целая группа концепций
противопоставляется католической теологией и философией марксист-
7Яблоков Н. И, Религия: сущность и явление. М., 1982,
с. 5—6.
17
скому пониманию религии как социального явления.
Марксистам предъявляются обвинение и в
«политизации» религии, обосновывается тезис о независимости
содержания религиозных верований от
социально-экономических факторов. Так или иначе, прямо или
опосредованно все стремления католических критиков
марксизма в данном случае направлены на то, чтобы
.опровергнуть вывод марксизма о том, что, будучи
фантастической формой отражения действительности, религия
не имеет трансцендентного обоснования, но
обусловлена вполне земными причинами. Для католической
теологии уже сама такая постановка вопроса чужда и
принципиально неприемлема, поскольку для
религиозного сознания религия представляется не проекцией
мира, а его исходным пунктом. Опровергая
фундаментальное положение научного атеизма, идеологи
католицизма стремятся обосновать истинность религиозной
формы восприятия мира, его глубину, превосходство
над всеми другими способами познания. В полемике с
марксистским пониманием сущности религии основной
упор делается на доказательство того, что вера в
бога — это не просто мыслительная конструкция и даже
не свойство, имманентно присущее человеку, а нечто
определяющее сущность человека, главный и
решающий элемент бытия, основной признак, отличающий
человека от остального мира.
Католические противники марксизма категорически
отвергают взгляд на религию как на выражение
слабости и бессилия человека. Такому -взгляду теологи
противопоставляют прямо противоположную концепцию.
Религия, христианство изображаются единственно
истинными учениями, оказывающими настолько
глубокое и благотворное воздействие на мяр, что даже его
противники не могут устоять перед соблазном
использования в своих целях авторитета христианского
вероучения.
Религия трактуется теоретиками католицизма
феноменом, сущность которого невозможно понять при
помощи применяемых марксизмом методов изучения
социальных и духовных явлений. Как утверждает
французский католический философ Неш, отрицание
трансцендентной природы религии порождает все
практические и теоретические изъяны марксистского
объяснения этого явления. Маркс, поясняет далее Неш, создал
18
общую теорию религии, рассматривая христианскую
веру, по аналогии с другими явлениями, как
непосредственное отражение условий жизни и поступков людей.
И не удивительно, что для Маркса религия -— это
всего лишь иллюзия. Католический критик марксизма
достаточно точно передает содержание научной критики
религии. Однако Неш категорически не соглашается с
научной методологией исследования религии, он
считает марксистское объяснение сущности религии не
только ошибочным, но и неоригинальным, поскольку-де в
своих оценках и критике религии Маркс лишь
воспроизводит концепции и аргументы своей эпохи. Этот
довод Неш стремится усилить социологической критикой
научногЪ понимания сущности религии. Суть ее
сводится к утверждению, будто те идеалы, во имя которых
Маркс и его предшественники вели борьбу с религией,
потерпели фиаско, не выдержали проверку временем:
«Столетний опыт существования антропоцентризма
показал, что те же самые боги-человеки могут по-волчьи
относиться к людям». И если марксизм, заключает
Неш, обнаруживает свою действенность в социальной
сфере, то «он остается глухим к экзистенциальным
вопросам, таким, как любовь, жизнь, страдания,
жизненные трудности, смерть».
В претензиях, предъявляемых Нешем марксистскому
пониманию природы религии, содержатся по крайней
мере две грубые натяжки. Первая из них состоит в
несостоятельности перенесения на марксизм
спекулятивных представлений о «человеке вообще» и вытекающего
из них культа абстрактного человека, его
обожествления.
Определение Марксом в 6-м тезисе о Фейербахе
сущности человека как совокупности всех
общественных отношений не только напрочь отбрасывает все
ненаучные и спекулятивные представления о «человеке
вообще», но и показывает методологическую
несостоятельность основанных на них концепций. В отличие от
Фейербаха Маркс в критике религии опирался не на
отвлеченную идею человека и тем более не на идею
бога-человека, Маркс исходил не из утопического виде*
ния неотчужденного, целостного человека, не из
абстрактного идеала, с которым должен сообразовываться
процесс, а из анализа действительности, перспектив,
тенденций развития общества,
19
Явная натяжка обнаруживается и в объяснении
католическим философом причин существования в
современном мире сил зла и несправедливости. «Корень зла»
Неш видит в атеистической направленности атропоцент-
ризма, отчужденности его идеалов от бога. Вместо
счастья и процветания антропоцентризм-де породил
индивидуализм, эгоизм, подавление слабого сильным.
Подобным «объяснением» кризисного состояния
буржуазного общества делается попытка свалить его пороки «с
больной головы на здоровую», с буржуазных
общественных отношений, порождающих отчуждение, на
марксистско-ленинскую теорию, разоблачающую
буржуазное отчуждение. Выход же из этой драматической
ситуации мыслится в возврате к религии, в отречении от
атеистических теорий, повинных якобы в разрушении
человеческой личности.
Чтобы бросить тень на научную репутацию
марксистского понимания сущности религии, католическая
критика настойчиво приписывает научному осмыслению
природы религии редукционизм, сведение
«самобытности религиозного феномена» к экономическим
отношениям. Признавая верность мысли Маркса о том, что
экономические условия жизни людей находят свои
отражения в их представлениях, в том числе и
религиозных, католический теолог Даниелу, вместе с тем
упрекал Маркса в неумении отличить эти представления от
истинной сущности религии. Сегодня уже довольно
многими католическими философами и теологами не
отрицается научная ценность материалистического
понимания истории. Хотя и с оговорками, теоретики
католицизма соглашаются с положениями об определяющем
воздействии способа производства материальных благ
на другие стороны жизни общества. Однако когда речь
заходит о применении фундаментальных положений
исторического материализма к раскрытию природы
религии, католические теологи и философы заявляют о
неправомерности такого подхода и неспособности,
основываясь на материалистическом понимании истории,
получить адекватное представление о сущности
религии.
Даниелу видит ошибку марксизма в том, что он не
останавливается на учении о важности материальной
стороны жизни, «хочет превратить материю в
единственный элемент, вызывающий эволюцию всех других»,
20
В «основе этого материализма, — заключает Дание-
лу, — лежит абсолютно ложная для христианства идея
о том, что экономический строй является самым
важным. Любая христианская вера решительно выступает
против примата «экономики», идет ли речь о
капиталистическом материализме, или материализме
коммунистическом».
Как нетрудно заметить, идеалистическая критика
хмарксистского учения о социальной природе религии
базируется на фальсифицированной версии основного
положения исторического материализма о ведущей
роли общественного бытия по отношению к
общественному сознанию. Объяснение существования религии
реальными отношениями, складывающимися между
людьми в историческом процессе общественного бытия, —
это не редукционизм, а основа подлинно научного
исследования. Применение такого метода позволило
марксизму не только понять природу религии и причины
ее существования, но и сформулировать принципы
преодоления религии.
Маркс и Энгельс показали, что религия не имеет
оторванной от земных источников истории развития,
она рассматривается как часть гражданской истории,
развивающаяся в сложнейших взаимосвязях с
определяющими тенденциями общественного процесса.
Отметим также, что высказывания классиков
марксизма о религии неизменно включены в контекст
анализа исторически определенных общественных
отношений. И это является существенным достоинством
марксистского понимания природы религии. Однако такая
методология исследования религиозного сознания
представляется кятолическим философам и теологам
неприемлемой. Их шокирует уже сама идея зависимости
вечных истин, изреченных, по учению церкви, богом, от
исторического развития человечества. Чтобы защитить
религиозную доктрину от этого важнейшего положения
марксистской теории, клерикалы обвиняют марксистов
в экономическом детерминизме, т. е. в механистической
ограниченности, неспособной понять высшие формы со*
знания.
Чтобы убедиться, насколько фальшиво это
обвинение, сошлемся на известное письмо В. БорГиусу от
25 января 1894 года, который обратился к Энгельсу с
просьбой ответить на ряд вопросов общей теории исто-
21
рического материализма. Энгельс писат:
«Политическое, правовое, философское, религиозное,
литературное, художественное и т. д. развитие основано на
экономическом развитии. Но все они также оказывают
влияние друг на друга и на экономический базис. Дело
обстоит совсем не так, что только экономичес<ое
положение является причиной, что только оно является
активным, а все остальное — лишь пассивное следствие.
Нет, тут взаимодействие на основе экономической
необходимости, в конечном счете всегда прокладывающей
себе путь» 8.
И этот вывод вопреки утверждениям противников
марксизма является не постулатом или брошенным
вскользь замечанием, а важнейшим элементом диалек-
тико-материалистического метода, не только
разработанного основоположниками марксизма, но и успешно
ими же примененного в объяснении многих сложнейших
общественных явлений. Если обратиться к классическим
произведениям Ф. Энгельса, посвященным истории
христианства, то наряду с анализом
социально-экономических факторов, приведших к появлению этого
вероучения, в них выявляются идейные, философские
источники христианства, превращения его в мировую религию.
Только становясь на путь сознательной фальсификации,
можно найти в таких работах Энгельса, как «Бруно
Бауэр и первоначальное христианство», «К истории
первоначального христианства», «Крестьянская война в
Германии», «экономический детерминизм». Е них мы
видим образцы диалектического понимания
взаимодействия экономических отношение и религии, когда
выраженные в религиозной форме социальные движения
оказывают влияние на социальную действительность,
на ход истории.
Научное понимание природы религии основывается
не на «экономическом детерминизме», а на
последовательном проведении принципов философского
материализма в познании природных, общественных и
духовных процессов, которые вовсе не сводятся к некоему
учению о «примате экономики». Маркс и Энгельс
никогда не считали, что религия, религиозные
представления прямым и непосредственным образом
порождаются экономикой. Напротив, в ряде произведений
8 Маркс К., Энгельс Ф, Соч., т, 39, с, 175.
22
Ф* Энгельс на примере христианства показывает, что
понять процесс зарождения этого религиозного
представления можно, только принимая во внимание
общественную психологию, традиции, культурные нормы,
общественные потребности.
Подчеркивая социальную обусловленность
религиозных представлений, религии в целом, марксизм
вместе с тем не отвергает особенность, специфику, даже
относительную самостоятельность религии как духовно-
психологического феномена, имеющего свой «статус»,
свои традиции и свои способы воздействия на индивида
и социальные группы. Только непонимание
диалектического подхода марксизма к осмыслению природы
религии может порождать утверждения, будто слова
Маркса об отсутствии у религии собственной истории
означают отрицание какого бы то ни было своеобразия
религиозного сознания. Руководствуясь
материалистическим пониманием природы духовных процессов, Маркс
ориентирует атеизм не сводить задачи критики религии
к выявлению алогизмов, нелепостей, содержащихся в
религиозных концепциях, а стремиться выяснять
обусловленность этих фантастических представлений
реальной действительностью.
Рассмотрение религии как порождения
материальных общественных отнощений существенно расширяло
представления о религии, обнаруживало з ней такие
характерные, существенные черты, которые неспособен
был раскрыть домарксистский атеизм, позволяло
понять конкретные связи религии с другими формами
общественного сознания, исследовать роль религиозных
институтов в различных формациях, исторических
событиях.
Значительная часть католических фальсификаций
марксистского понимания сущности религии
основывается на ложной интерпретации смысла известного
марксистского определения религии как «опиума
народа». До последнего времени католическая критика
научного атеизма отождествляла учение марксизма о
религии с известным изречением Маркса, не считая при
этом нужным вникать в глубокое содержание этой
формулировки. Определение религии как «опиума народа»
преподносилось широкой публике как оскорбительная
оценка религиозных чувств верующего. Эта форма
23
«-опровержения» марксистского атеизма остается и
сегодня на вооружении католической пропаганды.
Следует подчеркнуть, что такое ограничение
марксистской критики религии и в целом научного
понимания природы религии уже является фальсификацией
марксистского понимания религии. Между тем и
сегодня многие католические интерпретаторы научного
атеизма не идут дальше анализа этой марксовой оценки.
Однако марксистское понимание социальной сущности
религии, ее роли и функций вовсе не сводится к
широко известному изречению Маркса, И было бы неверно
ограничивать марксистскую критику религии
какой-либо одной формулировкой, одним высказыванием,
игнорируя все богатство научного понимания сущности
религии.
Пропагандируя версию об универсальном,
непреходящем, надклассовом характере христианства,
католическая философия и теология стремятся доказать
теоретическую и практическую несостоятельность
марксовой оценки религии как опиума народа. Научному
пониманию социальных функций религии идерлоги
католицизма противопоставляют утверждение о позитивной
роли религии в историческом процессе и превращении
религии в решающий фактор общественного прогресса.
Пропагандируемая церковниками, буржуазными
идеологами, ревизионистами версия о превращении
религии в орудие социального прогресса неизменно
оказывается развенчанной при столкновении с
действительностью. Анализ обновленческих процессов в разных
церквах показывает, что, отказываясь от наиболее
нелепых и отталкивающих традиций, религиозная
идеология и в «современном виде» выполняет консервативную
функцию. В капиталистическом обществе она
способствует сохранению отживших социальных порядков и
широко используется реакционной буржуазией в бррьбе
против,коммунистической идеологии.
Клерикалы подвергают критике и характерный для
марксизма классовый подход к осмыслению места и
роли религии в общественном развитии, в
определенных исторических периодах. Он истолковывается как
вульгарный, прагматический метод. Как утверждает
Э. Жильсон, марксизм изначально пристрастен в своем
отношении к религии, поскольку религиозный феномен
оценивается не объективно, через призму марксистской
24
теории пролетарской революции. По Марксу,
«революция необходима, ибо пока будет существовать бог, не
будет пролетарской революции, и не будет
пролетарской революции до тех пор, пока будет существовать
бог».
Приписывая такого рода «мысли» Марксу, Жильсон
тем самым показывает свое полное непонимание
сущности марксистского учения. Нигде и никогда
основоположники марксизма не ставили свершение
пролетарской революции в зависимость от существования идеи
бога. Абсурдность подобной «зависимости» со всей
очевидностью* вытекает из марксистского понимания
религии как одной из форм общественного сознания,
обусловленного социально-экономическими факторами. В
работах К. Маркса, Ф. Энгельса и в особенности
В. И. Ленина дается широкий и исчерпывающий анализ
объективных и субъективных условий, необходимых для
осуществления пролетарской революций. Однако в них
нет ни малейшего намека на то, что пролетарской
революций непременно должно предшествовать искоренение
веры в бога. Это явная фальсификация марксизма-
ленинизма.
Вместе с тем теологи предпринимают пойытки
доказать тезис об исторической ограниченности
марксизма и марксистской критики религии пределами XIX
века. Учейие марксизма о социальных функциях религии
в католической литературе сводится к критике
злоупотреблений религией реакционными силами,
классами или группами верующих. Поскольку длительное &ре-
мя церковь открыто защищала устои
эксплуататорского строя-, то вполне естественно, что в трудах
основоположников- марксизма-ленинизма этот позорный
альянс религии и господствующих классов подвергается
справедливой и убедительной критике. Однако это
обстоятельство используется сегодня в целях
фальсификации марксистского понимания социальной роли
религии в классово-антагонистическом обществе.
Церковники утверждают, будто Маркс выступал
против религии только потому, что она превращалась
правящими классами в инструмент осуществления
своей политики. Такая интерпретация марксистского
понимания социальных функций религии создает
поверхностное представление о наиболее существенном
положении научного атеизма. Разоблачая неприкрытую за-
25
щиту церковниками социального неравенства, угнетения
человека человеком, основатели марксизма никогда не
сводили сбциальную функцию религии только к этому.
Выполняемая религией социальная роль вовсе не ггро-
является только в одном лишь явном, бросающемся в
глаза служении интересам господствующих классов.
Создателям научного взгляда на религию принадлежит
заслуга в раскрытии более глубинных критериев
измерения социальных функций религии. Консервативная
роль религии прежде всего проявляется в превратно-
иллюзорном отражении социальной действительности,
мистификации связей и отношений реального мира. Эта
функция не претерпевает коренных изменений под
влиянием перемен в социально-политической ориентации
церковных институтов, отказа их от явных форм
сотрудничества с реакционными силами.
В классовом обществе религия является одним из
механизмов, придающих «популярную форму» идеям
господствующего класса. Религиозные образы и
символы, лапидарные формулы библейского текста
наполняются содержанием, идеями, в конечном счете
совпадающими с идеологией эксплуататорского класса.
Характеризуя это назначение религии, К. Маркс
констатировал тот непреложный исторический факт, что
«социальные принципы христианства оправдывали античное
рабство, превозносили средневековое крепостничество и
умеют также, в случае нужды, защищать, хотя и с
жалкими ужимками, угнетение пролетариата»9.
Руководствуясь материалистическим пониманием
природы религиозного мировоззрения, классовым
подходом к выявлению социальных функций религии,
основоположники марксизма убедительно раскрыли
реакционную роль церкви в историческом процессе,
показали, что религия приучает трудящиеся массы к
смирению и терпению, утешая их надеждой на небесное
воздаяние, препятствуя формированию революционного
сознания. И этот вывод относится ко всем без
исключения формам религиозной идеологии
эксплуататорского общества. И хотя католицизм сегодня предпочитает
выступать в роли единственно искреннего и
последовательного поборника гуманизма, справедливости,
социального прогресса, однако эти декларации не меня-
9 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч, т. 4, с. 204.
26
ют суть дела, во всяком случае они не дают ни
малейших оснований для выводов об устарелости марксист-
ской критики социальных принципов христианства,
непримиримости этой критики к современному
католицизму. Анализ обновленной социальной доктрины
церкви позволяет утверждать, что марксова характеристика
социальных Принципов христианства остается в силе.
Являясь превратным, искаженным мировоззрением,
религиозная идеология и в ее модернизированном виде
осуществляет свою неизменную социальную функцию—
иллюзорную компенсацию человеческих чаяний.
Католицизм предлагает человеку иллюзорные рецепты преодо*
ления реальных социально-экономических
противоречий, противопоставляя миру эксплуатации, неравенства,
насилия и обмана воображаемый мир человечности и
справедливости, Субъектом, устраняющим зло и
воздающим добро, является бог, во всяком случае, только
уповая на помощь небес, человечество может построить
гуманное общество.
Церковь убеждает трудящихся, что только
признание приоритета религиозных ценностей позволит
преодолеть трудности, стоящие перед миром труда.
Правда, в энциклике «Редемптор гоминис» 1979 (Искупитель
человечества) указывается на необходимость
преобразования социальных структур. Но сразу же после этой
декларации говорится, что «по этому трудному пути,
пути необходимой трансформации структур
экономической жизни нелегко продвигаться вперед, если не
произойдет преображение ума, воли, сердца. В католической
литературе эта установка откровенно
противопоставляется материалистическому пониманию общественных
явлений, называется предостережением Иоанна
Павла II «против материалистического взгляда на
общество, ведущего к признанию изменения структур
определяющим и главным фактором не только создания
нового общества, но также и нового сознания».
Несмотря на признание необходимости изменения
социально-экономических структур, современная
позиция церкви фактически снимает вопрос о социальной
революции, поскольку причины социальных
несправедливостей и противоречий в конечном счете видятся в
деформации сознания, в отклонении этических норм от
ориентиров христианства. Церковь оказывается не в
21
состоянии создать представление о действительном
идеале общества, которое могло бы стать реальной
альтернативой капитализму. К тому же предлагаемые
церковниками реформы буржуазного общества отвлекают
трудящихся от борьб.ы за социальные преобразоэания,
затрагивающие отношения собственности и проблему
власти. В этих условиях проповедь «моральной
революции», «исправления» капитализма при помощи
«евангельской любви» объективно играет на руку правящим
классам, служит укреплению существующего порядка.
Между тем социальная действительность
капитализма служит доказательством иллюзорности и
несбыточности надежд на оздоровление капитализма при
помощи христианской любви, призывов к милосердию и
справедливости. С каждым годом все более широкие
массы верующих стремятся найти реальный ответ на
самые острые социальные, экономические и
политические вопросы на путях коренных общественных
преобразований. Они убеждаются, что никакая морализация,
никакая проповедь, христианской любви не в силах
устранить пороки капиталистической системы. Успеха
можно добиться только в битзах на фронтах
экономической, политической и идеологической борьбы.
Коммунистические и рабочие партии предлагают
верующим программу такой борьбы, которая должна
привести к победе над всевластием монополистического
капитала. С глубоким уважением относясь к
религиозным чувствам и убеждениям верующих, марксисты в то
же бремя подчеркивают, что социальные программы
церквей не' содержат подлинной альтернативы
капиталистическому обществу. Поэтому они считают, что
пропаганда лозунга о возможности искоренения зол
антагонистического строя путем этических наставлений
дезориентирует массы, обрекает их на бездействие.
Социальные программы церкви сеют иллюзии в отношении
власть имущих, порождают глубоко ошибочные надежд
ды на «исправление» капитализма, отрицают
необходимость революционных преобразований.
Все надежды на изменение капитализма, устранение
порождаемых им различных проявлений зла и
несправедливости с помощью «духовного возрождения»
остаются не просто пустой фразой, а существенной помехой
на пути революционной борьбы за коренное преобразо-
28
вание существующих социальных отношений, за
ликвидацию антигуманных капиталистических отношений
собственности и господства.
ИЗВРАЩЕНИЕ НРАВСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
НАУЧНОГО АТЕИЗМА
Миф об антигуманной природе научного атеизма
появляется на свет одновременно с зарождением
коммунистического учения. В первой же критике католицизмом
коммунистического учения его последователи
клеветнически изображались рассадниками аморализма,
безнравственности, разрушителями семейных устоев, основ
цивилизации. На протяжении почти полутора столетий
этот вымысел продолжает оставаться на вооружении
католической идеологии в ее борьбе с марксизмом.
Измышления о несовместимости атеизма и гуманизма
занимают доминирующее место в пропагандистских
кампаниях католицизма, рассчитанных на массовую
аудиторию. За многие десятилетия выработалось немало
штампов и клише, предназначенных возбуждать
враждебное отношение к «антигуманному марксизму».
Марксистский атеизм обвинялся в «откровенном
развращении разума», в пробуждении низменных чувств —
человеческой гордыни, фанатической ненависти. «Чтение
Маркса, — заявляли трубадуры клерикального
антикоммунизма, — разрушает разум, ориентирует зо/по
к отказу от всего того, что несет в себе любовь и
милосердие». На все лады клерикальная реакция
пропагандирует лозунг о том, будто социалистическое общество
не устраняет недостатки буржуазного строя, но даже
умцожает их. И причины этого якобы изначально
заложены в атеистической направленности марксистско-
ленинской идеологии. «Социализм и религия, — пишет
католический философ Неш, — могут находиться
только в конфликте. Однако можно задать вопрос:
закрывая человеку все духовные горизонты, не оказывается
ли Маркс в плену нового типа отчуждения, более
тиранического, нежели капиталистическая экономика».
Вместе с тем прямолинейные, неприкрытые и
безапелляционные обвинения атеизма в аморализме все
чаще уступают место более изощренным приемам
извращения нравственного содержания научно-атеиетичр-
?э
ского мировоззрения. В ряде работ католических
теологов и философов можно встретить даже признание
ошибочности отождествления атеизма с
безнравственностью. «Современный атеизм, — отмечает итальянский
теолог Мольтени в книге «Размышление об атеизме» —
не проповедует, не рекомендует, не одобряет
аморализма в общепринятом значении этого слова». Однако эти
заявления вовсе не говорят о том, что церковь, ее
философия и теология готовы признать атеистическое
мировоззрение и в первую очередь марксистский атеизм
высоконравственными, гуманными теориями. Тот же
самый Мольтени, отвергающий наличие прямых связей
между атеизмом и ростом в буржуазном обществе
наркомании и самоубийства, взамен этого откровенно
абсурдного и нелепого обвинения выдвигает столь же
несостоятельный, однако прикрытый туманными
рассуждениями довод о не прямой, а косвенной связи атеизма
с аморализмом. По его словам, атеизм, отвергая
основные добродетели христианства, «может без труда
оказывать гипнотическое воздействие на творческий порыв,
может выступать в качестве «детонатора» порохового
склада эгоизма».
Наиболее распространенным в современной
католической философии продолжает оставаться
традиционное изображение атеизма учением, игнорирующим
моральные ценности и вообще духовную природу человека
и грубо сводящим все к материальным потребностям.
Искажая нравственное содержание марксистского
учения, итальянский неотомист Р. Спьяццй заявляет,
будто марксизм, основанный на материализме и
атеизме, релятивизует мораль; «отвергая всякий
естественный закон, он превращает экономику в абсолютную и
самостоятельную ценность, которая, развиваясь по
своим законам, определяет развитие всех других сторон
человеческой1 деятельности». Далее Спьяцци
предъявляет марксизму традиционное обвинение в подчинении
морали требованиям экономики и преходящим
социально-политическом факторам.
Отказ от ведущей роли религии превращает
согласно утверждениям идеологов католицизма
коммунистические идеалы в разновидность утопии, поскольку-де на
принципах материализма и атеизма невозможно
построить справедливое и гуманное общество. Против
гуманистической природы диалектнко-материалистическо-
30
го мировоззрения в энциклике «Редемптор гоминис»
выдвигается такой тезис: достоинство личности, ее
свобода гарантируются лишь в тех случаях, когда личность
признается не объектом, а субъектом
социально-экономических отношений. Объектом фальсификации здесь
выступает материалистический подход к пониманию
личности, вывод о социальной обусловленности ее
сущности. При этом игнорируется учение
марксизма-ленинизма о роли субъективного фактора в истории б
сознательной активности личности.
В послесоборный период усиливается тенденция
трактовать атеизм как проявление духовной нищеты,
ущербности духа, неспособности или нежелания найти
в религии ответ на вопросы, встающие перед человеком
и обществом. Задавая тон таким фальсификациям
атеистического мировоззрения, энциклика «Редемптор
гоминис» ставит знак равенства между атеизмом,
материализмом и такими явлениями, характерными для
буржуазного общества, как наркомания, преступность,
самоубийства. По существу, все содержание энциклики
пронизывает мысль о том, что любые социальные
проекты, любые искренние стремления улучшить
материальное и духовное благополучие неизбежно обернутся
против человека, если при этом будут игнорироваться
предписания религии. В соответствии с традициями
католицизма в «Редемптор гоминис» утверждается, будто
материалистическое мировоззрение является
виновником превращения личности в раба вещей, производства,
экономических систем.
Атеистический гуманизм упрекается в
игнорировании уроков прошлого, якобы подтверждающих
невозможность, пренебрегая предписаниями религии,
утвердить в обществе подлинно гуманные отношения. Причем
эти упреки адресуются всем формам атеизма,
независимо от того, на каких социально-философских
принципах основаны те или иные его формы. По словам
Иоанна Павла II, это не имеет значения, поскольку вся
современная общественная наука несет на себе печать
методологической ограниченности. Вопреки фактам
папа римский утверждает, будто «конвульсии нашей
революционной эпохи» со всей очевидностью
«доказывают крах всех форм того, что можйо назвать
«атеистическим гуманизмом»,
31
В работах некоторых католических маркетологов,
опубликованных в послесоборный период, порой
критикуется господствовавший в буржуазно-клерикальной
пропаганде тезис о «забвении» марксизмом
человека, его духовных интересов. Критикуя такой тезис,
А. Шамбр и Р. Кост соглашаются с тем, что проблема
человека занимает центральное место в марксизме. По
мнению Шамбра, чтобы понять марксистское решение
этой проблемы, следует принимать во внимание учение
Маркса в целом, в том числе и главное его
произведение «Капитал». Присоединяясь к этой оценке, Кост
отмечает глубокую внутреннюю последовательность
взглядов К. Маркса на проблему человека, признает
влияние марксистской концепции личности на
христианскую теологию и философию. Он не скрывает, что
возрастающее влияние марксизма на современный мир
вынуждает теоретиков католицизма постоянно и более
внимательно изучать марксистский подход к решению
проблем человека. «Это изучение, — пишет Кост, —
приводит нас к необходимости «нового прочтения»
христианской концепции человека, т. е. прочтению,
обогащенному вопросами, возражениями, преимуществами,
неудачами и проблемами марксистской концепции
личности». «Это новое прочтение, — заключает Кост, —
будет приводить нас к «переосмысливанию» или
«переформулированию» той концепции человека, которую мы
получаем от веры в Иисуса Христа». Однако эти новые
моменты в трактовках марксистского гуманизма не
меняют общего враждебного отношения католицизма к
гуманистическому учению марксизма. По утверждению
папы Иоанна Павла II, «драма» атеистического
гуманизма состоит в стремлении овладеть человеком ценой
освобождения его от такого непосильного груза, как
бог.
Современный католицизм всячески стремится
предстать в глазах мирового общественного мнения
поборником подлинного гуманизма и социальной
справедливости. Согласно идеологам католицизма идеалы
подлинного гуманизма могут быть реализованы лишь на
основе принципов религии, коренным образом
противоположных атеизму. Таким образом, конструируется
насквозь фальшивая дилемма: либо подлинный гуманизм,
либо атеизм. Эта софистика особенно активно
используется в последнее время, образуя стержень ряда вы-
32
ступлений высших иерархов церкви, в том числе и
папы Иоанна Павла II.
Речь идет о стремлении завладеть сферой сознания
людей, их чувствами, не прибегая к традиционным,
скомпрометировавшим себя методам политического
клерикализма. Церковь прежде всего пытается убедить
мир в принципиальной невозможности существования
подлинного гуманизма без бога, гуманизма,
отвергающего религиозные этические ценности. С этих позиций
оцениваются все существующие в современном мире
гуманистические теории и учения. С плохо скрываемым
раздражением теоретики католицизма пишут о том, что
в антропологии не произошло коперниковской
революции и что здесь наблюдается господство Птоломея. В
данном случае имеется в виду широкое
распространение теорий, провозглашающих человека центром мира.
Направленный поток выступлений деятелей
католицизма, теологов и философов против нравственного
содержания марксистского атеизма говорит о стремлении
противостоять влиянию научно-атеистическому
мировоззрению по всем проблемам гуманизма. При этом
борьба католицизма против марксистского атеизма
происходит в русле борьбы буржуазной идеологии против
гуманистической направленности идеалов коммунизма.
Заимствуя положения экзистенциализма, идеологи
современного католицизма говорят о существовании
постоянного, коренящегося в глубинах сознания страха,
порождаемого, с одной стороны, пониманием
действительного назначения человека, его связи с богом и
осознанием, с другой стороны, соучастием в изгнании бога
из «этого мира». По словам Иоанна Павла II, трагизм
усугубляется тем, что этот страх пронизывает лишь
глубинные стороны бытия. В повседневной же жизни страх
вытесняется «различными средствами цивилизации и
современной техники, позволяющими человеку
освобождаться от глубин своего бытия и жить в измерении
«Ьото оесопописиз», «Ьото 1есЬтси$», «Ьото ро1Ш-
сиз» и в некоторой степени даже в измерении «Ьото
Ыйепз» («экономический человек», «технический
человек», «политический человек», «играющий человек». —
Превосходство религиозного гуманизма над
атеистическим усматривается в том, что взгляд на человека
как на исполнителя воли божьей якобы возвышает лич-
33
ность, В отличие от любых «земных проповедников
гуманизма» всевышний искренне заботится о
благополучии всех людей, независимо от их классовой,
национальной принадлежности. Извращая глубоко
жизнеутверждающую природу атеистического,
материалистического мировоззрения, его противники утверждают,
будто атеисты не могут дать ответа на «вечные» проблемы
бытия: о смысле и цели жизни, об ответственности
личности, причине зла и страданий. Всякая наука, по
словам католического теолога Бордони, бессильна решить
эти проблемы, неизбежно встающие перед отдельной
личностью и человечеством в целом. Рассуждая,
например, о проблеме смерти, Бордони заявляет, что
попытки решения этой проблемы такими науками, как
психология и биология, лишь препятствуют ее правильному
пониманию, усиливают трагизм человеческой жизни.
Перед лицом смерти выглядят паллиативами усилия
науки, включая медицину, решить эту проблему путем
продления жизни, найти новые способы лечения
болезней. Все это, по мнению Бордони, может лишь
временно отвлечь внимание человека от надвигающейся
трагедии, «отодвинуть реальность смерти, которая рано
или поздно встанет перед человеком». Трактуя «вечные
проблемы» в традиционном для католической теологии
духе, Бордони пишет о вечном, коренящемся в каждом
человеке неистребимом стремлении к вечности,
порождающем протест против взгляда на человека как на
простую разновидность материи. Вместе с тем Бордони
признает глубокое проникновение в сознание
миллионов людей «идеологии земного оптимизма», пишет о
нежелании людей обращаться к церкви в поисках
ответа на те же «вечные проблемы». Хорошо понимая,
что именно совокупность проблем, связанных с фактом
смертности человеческого индивида, является одной из
причин, из-за которых люди часто обращаются к
религии, Бордони пытается использовать этот факт в целях
укрепления" позиций религии и дискредитации
жизнеутверждающего смысла марксистского атеизма.
Нагнетая чувства страха и неуверенности, идеологи
католицизма называют всех без исключения атеистов
«больными земной близорукостью», поскольку они
отмахиваются от вопроса: что же ожидает людей после
их смерти? Пессимистическим ответам «земных
идеологий» на вечные проблемы быгия послесоборная теоло-
34
гия противопоставляет обновленную версию
эсхатологии, с одной стороны, признающую автономию земной
реальности, осуждающую бегство от мира,
пренебрежение своими обязанностями перед обществом, щ о
другой — подчеркивающую примат трансцендентных
ценностей, оценивающую жизнь людей через их призму.
Эсхатология, утверждает Бордони, подает надежду на
обретение вечной жизни, очищает души людские от
«мифологии земных дел», превращает верующего в
неистощимого оптимиста. Вера в бессмертие при этом
трактуется не иначе, как дар божий, ниспосланный человеку
как проявление любви господа к своим чадам,
Усовершенствованная эсхатологическая концепция, обновлен*
ное учение церкви о рае, аде, страшном суде
откровенно противопоставляются марксистской теории,
гуманистической направленности коммунистических идеалов.
Католический теолог Спьяцци рекомендует шире
пропагандировать модернизированную эсхатологию среди
рабочих. Он уверяет, будто, проповедуя логически
обоснованную и понятную людям эсхатологическую
концепцию, теологи сумеют пробить брешь «в железных
идейно-практических установках марксизма»,
В католической литературе научный атеизм
изображается в виде узкорациональной теории, с примитивной
прагматической программой, нацеленной на решение
сиюминутных проблем.
Все негативные стороны потребительского сознания
переносятся на диалектико-материалистическое учение
о личности, ее сущности, взаимоотношении человека и
природы. Имея в виду «атеистический материализм»,
Иоанн Павел II обвиняет это учение в сосредоточении
внимания на удовлетворении поверхностных
потребностей личности. По его словам, происходит это потому,
что «атеистический материализм» «не желает знать
всей правды о человеке»,, «более того, он бежит от этой
правды». Клерикалы выхолащивают гуманистическое
содержание марксистско-ленинского атеизма, широту и
глубину охвата проблематики, относящейся к
различным сторонам природы и социальной жизни, бытия,
личности. Изображение атеизма как одной из
разновидностей сциентизма направлено на умаление
нравственного содержания научного, атеистического
мировоззрения, объединение социального смысла выступлений
его сторонников против религии.
35
В работах католических теологов и философов
конструируется и обосновывается умозрительная система
ценностей, основанная на религиозно-этических нормах
и противостоящая атеистическому гуманизму. Свобода
и уважение к личности выступают как специфические
ценности христианской морали. Для подтверждения
этого декларативного суждения мобилизуются ссылки
на широкий спектр источников — от Библии до
сочинений классиков католической философии, теологии и
выступлений римских пап. При этом игнорируются
данные гуманизма, базирующегося на
научно-атеистических принципах.
В философско-теологических концепциях
католицизма человек рассматривается в отрыве от реальных
связей и отношений уже потому, что сущность человека
сводится к реализации целей, находящихся за
пределами земной реальности. В качестве суперцели в
католицизме выступает идея спасения, придающая смысл и
значение человеческому бытию. Теоцентрическое
толкование личности с неизбежностью ведет к выводу о
приоритете религиозных ценностей над ценностями
мирскими. И суть этой фундаментальной мировоззренческой
установки, лежащей в основе всех философско-антропо-
логйческих и теологических концепций, нацеленных
против марксистского понимания личности, остается
неизменной. По существу, все возникшие после II
Ватиканского собора обновленные версии традиционного
тезиса о приоритете трансцендентных ценностей над
земными направлены лишь на смягчение жесткой
формы детерминации «земной истории» божественным
провидением.
В католической теологии настойчиво подчеркивается
мысль о том, что духовно-телесные возможности
человека остаются нереализованными, если он не будет
находиться в связи с богом. Ценность других форм
проявления жизнедеятельности личности хотя и не
отвергается, а, напротив, всячески подчеркивается, тем не менее
эта ценность отодвигается на второй план, когда речь
заходит о трансцендентной природе человеческого
бытия. Без признания бога, наставляет Иоанн Павел II,
без беры в него человек превратится в пленника своих
эгоистических устремлений и инстинктов и тем самым
человек «теряет ключ к пониманию самого себя, к
пониманию собственной истории», Нетрудно понять, что
36
в этом ндстарлении папа исходит из постулата о
нерасторжимой связи между богом и человеком, постулата,
без которого согласно католической теологии не может
быть правильно понята ни природа личности, ни ее
ответственность перед обществом.
Классики марксизма-ленинизма неоднократно
подчеркивали, что атеизм в его отрицании религии
совпадает с гуманизмом. Уже в ранних работах Маркса
отмечается гуманизм атеистического мировоззрения,
состоящий в ориентации человеческой деятельности не на
иллюзорные, потусторонние цели, а на развитие
собственных сущностей в процессе практического,
революционного преобразования природной и социальной
действительности. Атеизм, отмечал К. Маркс, отрицая бога,
утверждает бытие человека, ибо «чем больше человек
вкладывает в бога, тем меньше остается в нем самом».
Разрушая систему иллюзорных, ложных представлений
о зависимости людей от потусторонних сил,
научно-атеистические мировоззрения освобождают их от этой
мнимой зависимости. Марксистско-ленинский атеизм
формирует правильную жизненную ориентацию,
помогает найту м§стх> в жизни, раскрыть свои способности.
Гуманистическая направленность атеистического
мировоззрения является традиционной для атеизма. До
возникновения, научного атеизма атеисты распознали
антигуманный характер религии, видели в ней
препятствие на пути свободы, счастья, духовного и
материального прогресса, В борьбе с религией прогрессивная
атеистическая мысль отстаивала достоинство человека,
право разума на самостоятельное развитие,
независящее от религии.
В марксистском гуманизме требования уважения
человеческого достоинства, забота о благе каждого
впервые связываются с борьбой за создание реальных
общественных условий, необходимых для практического
осуществления принципов гуманизма. Марксизм
существенно расширил рамки борьбы за гуманизм,
убедительно , показав, что ликвидация одних лишь
религиозных предрассудков не может привести к торжеству
гуманистических идеалов 10. Выступая против
«превратного мира», порождающего религиозные иллюзии, мар-
10 Т а Ж'У р и з и н а 3. А. Закономерности развития атеизма,
М„ 1978, с. 56.
37
ксизм вместе с тем показывает, что подчинение
реальных ценностей жизни мнимым, потусторонним
ценностям ведет к обесценению действительных личных и
общественных интересов человека, способствует примирен
нию к социальным несправедливостям, тормозит раз-*
витие творческой активности личности. Отвергая
религиозную трактовку смысла жизни,
научно-атеистическое мировоззрение дает этому вопросу
материалистическое, атеистическое решение. Цель и смысл жизни
реализуются в этом, единственном мире и обусловлены
историческими обстоятельствами, уровнем развития
общества, его социально-политической природой,
положением и ролью, которую играет личность в обществе.
Марксистский гуманизм видит в определении смысла
жизни основной стержень нравственного сознания
человека, центральный мотив его поведения, его идеалов.
Научный атеизм не навязывает человеку вымышленное,
ориентированное на потусторонний мир решение
смысла жизни, а помогает людям осознать и понять
реально стоящие перед ним цели. Именно поэтому
отношение марксистско-ленинского атеизма к человеческой
жизни как высшей ценности лишено всякого налета
мистицизма, свободно от любых проявлений насилия над
волей и сознанием человека. Коммунистические
идеалы — огромная революционная сила, вдохновляющая
и сплачивающая в борьбе за светлое будущее многие
поколения людей. Католицизм не в силах
противопоставить этим идеалам никакой конструктивной
программы. Выдаваемая за оптимистическую и реалистическую,
этическая программа церкви наполнена настроениями
страха, отчаяния, пессимизма, социальной пассивности,
ожидания катастрофы.
Марксистский гуманизм, научно-атеистическое
мировоззрение, разумеется, не игнорируют, как об этом
говорят проповедники религии, проблему смерти.
Основываясь на последовательно-материалистическом
учении, научный атеизм в соответствии с законом
диалектики не может отмахиваться от этого неизбежного и
наполненного трагизмом события. «...Отрицание
жизни, — писал Ф. Энгельс, — по существу содержится в
самой жизни, так что жизнь всегда мыслится в
соотношении со своим необходимым результатом,
заключающимся в ней постоянно в зародыше, — смертью» п,
» Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т, 20, с. 610,
38
Считаясь с неизбежным наступлением смерти, не
преуменьшая всего трагизма ухода человека из жизни, —
научно-материалистическое учение выступает против
подчинения всей жизни размышлениям о неизбежном
конце отдельной человеческой жизни.
Отразив сложнейшую гамму взаимоотношений
человека с природой и социальной реальностью,
марксистский гуманизм содержит в себе, с одной стороны,
реалистическую, без каких бы то ни было иллюзий и
обманчивых надежд оценку положения человека в мире,
а с другой стороны, определяет магистральное
направление конкретных, конструктивных путей решения
наиболее серьезных проблем, встающих перед личностью.
Научно-атеистическое мировоззрение ориентирует
личность руководствоваться в своей теоретической и
практической деятельности задачами преобразования
действительности в интересах человека и всего
человечества. Высокий нравственный смысл атеизма состоит
и в том, что как составная часть
марксистско-ленинского учения о коммунистическом преобразовании
общества он самым непосредственным образом участвует
в установлении действительного равенства людей и
условий всестороннегр развития личности.
АТЕИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ
В борьбе с научно-атеистическим мировоззрением все
более значительное место католической идеологией
отводится распространению всевозможных измышлений
по поводу практики атеистического воспитания. В
первую очередь фальсификациям подвергаются
марксистско-ленинские принципы отношения Коммунистической
партии, Советского государства к религии и церкви. В
искаженном и ложном виде освещается история
развития массового атеизма в нашей стране, отвергается
закономерность вывода марксизма об отмирании религии
в ходе переустройства общества на принципах
социализма и коммунизма. В современной католической
литературе по-прежнему активно пропагандируются
вымыслы о том, что в условиях социализма нет и не
может быть подлинной свободы совести. При сохранении
общей антикоммунистической и антисоветской направ-
39
л^нности такой пропаганды за последнее время
наблюдается попытки придать потрепанным лозунгам вид
достоверности, фактологичности. С этой целью
предпринимается попытка подтвердить легенду о
существующих в Советском Союзе гонениях за веру
выявлением «теоретических истоков» этих гонений.
Фальсификация ленинских принципов решения
религиозного вопроса в СССР составляет одно из основных
направлений атак клерикального антикоммунизма на
теорию и практику коммунистического строительства.
Отделение церкви от государства и школы от церкви
именуется не иначе как «атеистическим
экспериментом», Направленным на насильственное подавление
религии. Как сам «эксперимент», так и его последствия
для религии и верующих связываются все с той же
«сильной ненавистью» Ленина к религии, возникшей
под влиянием русских анархистов и нигилистов. В
писаниях католических марксологов нападки на решение
религиозного вопроса в СССР неизменно
сопровождаются требованиями предоставления религии «полной» и
неограниченной свободы при социализме. Эти
требования обосновываются ссылками на невозможность
морального развития общества «без бога»,
сопровождаются рассуждениями о гуманной и прогрессивной миссии
церкви в истории России.
Ядром наиболее реакционных, откровенно
клеветнических клерикальных трактовок истории развития
атеизма в нашей стране является антисоветизм.
Направляй основные стрелы своих концепций против первого
в мире социалистического Общества, католические
фальсификаторы ставят своей целью принизить,
представить в деформированном виде опыт преодоления
религиозных предрассудков у миллионов людей,
дискредитировать этот опыт в глазах мирового
общественного мнения. Распространением клеветнических оценок
развития атеизма в СССР католическая пропаганда
рассчитывает ослабить и по возможности разорвать
связи между КПСС и другими отрядами
международного рабочего и коммунистического движения. Все это
дает основание сделать вывод о том, что находящиеся
на вооружении реакционной клерикальной пропаганды
многообразные формы фальсификации истории
атеистического движения в нашей стране выступают как
неотъемлемый компонент антисоветизма,
<:о
Много усилий тратится на то, чтобы опорочить
практику атеистического воспитания, поставить под
сомнение или просто отвергнуть благотворное, глубоко
гуманистическое влияние атеистических убеждений на
повышение социальной активности личности,
.формирование высоких нравственных принципов.
Научно-атеистическое мировоззрение клеветнически изображается как
голое отрицание веры в бога, ведущее к разрушению
национальных традиций и моральных устоев.
Главное, что сразу же обращает на себя внимание,—
это отрицание или, что чаще всего практикуется
сегодня католической идеологией, замалчивание
неразрывной связи успехов атеистического воспитания с
революционно преобразующей деятельностью масс, с
гигантскими достижениями советского народа в
экономике, культуре, в создании подлинно братских отношений
между народами Советского Союза.
Э. Жильсон видит в атеистическом воспитании,
последовательной борьбе марксистов с религиозными
предрассудками некий парадокс. В его сознании никак
не умещается, почему марксисты, отвергая, бога,
считая, что ничто не доказывает его существования, в то
же время не жалеют ни сил; ни времени на, борьбу с
тем, что не существует. И тем не менее «об этом много
говорится, этому посвящаются книга за книгой и даже
публикуются энциклопедии, посвященные лроблеме
несуществования бога». Столь большое внимание
критике идеи бога дает Жильсону основания ставить под
сомнение прочность атеистических убеждений
марксистов, так цак «тот, для кого бога не существует, не
станет тратить время и деньги на его искоренение».
В современной католической.литературе при
интерпретации лричин превращения атеистических взглядов
в мировоззрение подавляющей части советских людей,,
упор делается на субъективные, в первую очередь
политические моменты. Тщательно замалчивается тот
неоспоримый факт, что огромные успехи в области
атеистического воспитания стали возможными потому, что
в ходе социалистического строительства была
ликвидирована социальная база, порождавшая потребность в
религии. Из поля зрения «экспертов» по вопросам
атеизма ускользают такие исторические свершения
социализма, как исчезновение эксплуатации, безработицы,
национальной вражды и неравенства в политических и
41
социальных правах, отсутствие классов,
заинтересованных в поддержке и распространении религии.
Католическая теология и философия рассматривают
атеистическое воспитание в отрыве от этих процессов,
имеющих всемирно-историческое значение. Вместо этого
успехи атеистического воспитания связываются с
деятельностью партийного аппарата и профессиональных
атеистов. Субъективистское освещение атеистического
воспитания преследует цель разорвать органическую
связь превращения СССР в страну массового атеизма
с утверждением новой системы общественных
отношений.
В описаниях католических противников марксизма
освобождение советских людей от религии предстает
как чисто волюнтаристский процесс, не имеющий
никаких объективных закономерностей. В претендующих на
«беспристрастность» исследованиях католических
авторов замалчивается связь массового отхода миллионов
людей от религии с коренными социальными
преобразованиями, индустриализацией, коллективизацией,
ликвидацией неграмотности, приобщением к достижениям
науки и культуры. История развития атеизма
изображается в виде процесса, который можно совершенно
произвольно замедлять или, напротив, форсировать,
нисколько при этом не считаясь с объективными
возможностями общества, в том числе с уровнем
материального и культурного развития. Отрицая закономерность
освобождения в услоЁиях социализма широких масс
людей от религиозных предрассудков, фальсификаторы
практики атеистического воспитания тем самым
надеются посеять сомнения в правильности вывода
марксизма-ленинизма об отмирании религии в ходе
переустройства общества на социалистических и
коммунистических началах.
Атеистическое воспитание интерпретируется как
начинание, порожденное нетерпимым отношением
марксистов к любым проявлениям инакомыслия и в первую
очередь к религиозной вере. При этом одни
фальсификаторы практики атеистического воспитания связывают
эту ненависть только с ленинским этапом в развитии
атеизма, другие видят истоки нетерпимости к религии
во взглядах К. Маркса, третьи считают, что любая
форма атеизма изначально несет в себе тоталитаристские
притязания на истину, Жан-Ив Кальвез полагает, что
42
«коммунизм Ленина является более воинствующим
атеизмом, чем коммунизм Маркса;- к тому же он
порождает антирелигиозную практику, о которой Маркс, по-
видимому, даже не задумывался». «Последовательную
нетерпимость» марксистов к религии клерикальный
фальсификатор атеизма пытается выдать за
существенную черту как теории, так и практики атеистического
воспитания. Более того, Кальвез стремится подвести
«теоретические основания» под вымысел о
неспособности коммунистов убедить человека в истинности
атеизма, не прибегая-к насилию, принуждению, гонениям на
верующих.
Большие усилия прилагаются для извращения
атеистического движения в довоенный период. Перегибы и
трудности, имевшие место в столь сложном деле, как
освобождение миллионов людей от религиозных
предрассудков и приобщение их к культуре и
просвещению, используются для дискрецитации теории научного
атеизма, практики атеистического воспитания,
принципов отношения КПСС и Советского государства к
религии и церкви. Игнорируя особенности «религиозного
вопроса» в первые годы Советской власти, не упоминая
об активном участии реакционных кругов православной
и других церквей и сектантства в борьбе против
завоеваний революции, католические теологи пытаются
создать впечатление, будто история атеистического
движения — это беспрерывная цепь насилий,
административных запретов, ограничений деятельности церкви. При
этом замалчивается, что партия, руководившая и
направлявшая антирелигиозную работу, никогда не
поощряла администрирование в атеистическом воспитании и
тем более не ориентировала атеистов на анархические
методы борьбы с религиозными предрассудками.
Отклонения от ленинских принципов атеистического
воспитания имели свои причины: сказывалось отсутствие
кадров, способных по-научному вести кропотливую и
чрезвычайно деликатную работу по освобождению сознания
людей от религиозных предрассудков. Имевшие место
прямолинейные, подчас декларативные выступления
против религии объяснялись и. отсутствием опыта
постановки массовой научно-атеистической пропаганды 12€
См,: Маслова А, Г, Гуманизм атеизма, М,, 1981*
4?
Эмоциойальный подъем в борьбе с религией нередко
сопровождался недооценкой трудности преодоления
религиозных предрассудков, вытеснения их не только из
сознания, но и из традиций, быта; при этом подчас
игнорировался фактор живучести религиозных
пережитков.
Отрицая существование у атеизма глубоких
исторических традиций, теоретики клерикализма усиленно
ищут причины массового отхода советских людей от
религии в иррациональной природе сознания советских
людей. Так, например, французский неотомист Ж. Ма-
ритен отвергает огромное значение атеистического
наследия русских революционных демократов, их вклад в
борьбу с религиозными предрассудками и суевериями.
Как и Бердяев, Маритен видит ключ к разгадке тайны
успешного и быстрого распространения марксизма и
марксистского атеизма в России в мистической русской
душе, подверженной непредсказуемым колебаниям.
Выдвигая такое «объяснение», католический философ
стремился прежде всего принизить решающее
воздействие на превращение СССР в страну массового
атеизма, коренных социально-экономических
преобразований, приобщения миллионов людей к. культуре и
просвещению. Иррациональная природа русской души
выступает у Маритена основной, однако не единственной
причиной поразительно быстрого распространения
атеистических идей з революционной России. С рядом
оговорок католический философ называет происшедший
после Великой Октябрьской революции коренной
перелом в мировоззрении людей запоздалой формой
Гуманизма русского образца. Имея в виду отсталость
развития России 6т передовых стран Европы, Маритен пишет
о том, что история России не знала эпохи
Возрождения, и поэтому связанные с ней секуляризационные
процессы по времени совпали с большевистской
революцией. Часть вины за превращение атеизма в убеждение
миллионов советских людей Маритен возлагает на
православную церковь, не сумевшую привить русскому
народу глубокие и прочные религиозные чувства.
Лишенное внутренней логики и стройности, наполненное
мистикой, слепым культом святых, с одной стороны, и
обожествляющее мирские порядки и институты, с другой,
русское православие само приблизило наступление ка*
тастрофы.
44
В общем хоре голосов о «незаконности»
атеистического воспитания, разглагольствований о
насильственном насаждении атеизма можно встретить и
утверждение о «полезности» атеистического воспитания для
религии. Французский иезуит Ф. Руло в своей статье
«Великое испытание русской церкви» уверяет, будто
всепроникающая и непрерывная борьба с религией
способствует укреплению веры в бога, формирует стойких
верующих, преданных религии и церкви. Стремясь
любыми способами обосновать тезис о неэффективности
атеистического воспитания, Руло пускает в ход вымысел о
выполнении атеизмом функций некоего санитара,
очищающего представления о боге от суеверий, имеющих
хождение в «народной религии».
В современной католической философии и теологии
воскрешается обветшалый миф об атеистическом
воспитании как о своего рода «очищении веры огнем».
Атеизм называется «трудным», но неизбежным этапом на
пути осознания русским народом своих подлинных
целей. При этом вынашиваются надежды на то, что
после увлечения атеизмом неизбежно наступает прозрение,
человек поймет ложность и наивность упования только
на свои собственные силы и возможности и обратится
к «прочным и незыблемым ценностям религии».
Одной из ведущих линий фальсификации практики
атеистического воспитания являются домыслы о
«единстве», «интегральности», неразрывности национальной и
христианской идей в мировоззрении народов СССР. На
этой ложной основе религия представляется как
неотъемлемый элемент духовной культуры нации.
Различными путями и способами католические фальсификаторы
атеизма пытаются мистифицировать содержание
понятия «нация», доказать невозможность существования
прочной социально-этической общности людей без
религии.
Превращая религию в основной компонент
национального характера, противники
марксистско-ленинского атеизма неправомерно записывают в разряд
верующих практически всех представителей той или т\ой
нации. Так, в большинстве работ «экспертов» по
проблемам атеизма все граждане Литовской ССР
объявляются католиками, а все население советских
Среднеазиатских республик — сторонниками ислама. Вполне
понятно, что такой «метод» изучения «религиозного во-
'!5
проса в СССР» создает картину, не имеющую ничего
общего с действительным положением вещей.
Тема о несовместимости атеистического
мировоззрения с национальными интересами — далеко не новый
аргумент антикоммунистических и антисоветских
спекуляций. Питательной средой для них всегда служили
националистические предрассудки, использовавшиеся для
ослабления дружбы братской семьи народов.
Свергнув власть эксплуататоров, Великая
Октябрьская социалистическая революция навсегда положила
конец национальному гнету и его постоянному
спутнику — религиозной розни. В одном из первых декретов
Советской власти — «Ко всем трудящимся
мусульманам России и Востока» — решительно осуждалась
колонизаторская политика царизма и международного
империализма. Безоговорочно защищая интересы
трудящихся мусульман, Советское правительство, заявило
о свободе и неприкосновенности вероисповедания,
обычаев, национальных и культурных учреждений 13.
Сразу же после победы социалистической
революции все религиозные организации были поставлены в
равное перед советским законом положение.
Развертывая многогранную культурно-просветительную и
воспитательную работу по фактическому освобождению
советских людей от религиозных предрассудков,
Коммунистическая партия в то же время решительно
выступала против критики одного какого-нибудь
вероисповедания. Любое религиозное мировоззрение, в какой бы
форме оно ни выступало, в одинаковой степени
несовместимо, с коммунистическим учением,
научно-материалистическими взглядами и убеждениями. И ни одно
партийное постановление по вопросам атеистического
воспитания, ни один советский закон не дают ни ма*
лейших оснований для утверждения о предвзятом
отношении к последователям одного вероисповедания я
создания привилегий для другого. Советское
государство, КПСС относятся абсолютно одинаково к
религиозным организациям независимо от того, расположены
они в пределах национальных границ или за рубежом.
Не существует никаких привилегий и для православной
церкви, о чем так много домыслов распространяют
фальсификаторы марксистско-ленинского атеизма.
13 См.: Декреты Советской власти. Т. 1, М., 1957, с, 113—114,
46
Стремясь оживить национализм под религиозной
оболочкой, политиканы от религии пускают в ход
фальшивку о том, будто атеистическое воспитание есть не
что иное, как «русификация». Атеизм изображается
мировоззрением, противоречащим национальным
традициям и складу жизни народов Советского Союза. Этот
прием-фальсификации атеистического воспитания в
последнее время все чаще используется в
пропагандистских кампаниях, направленных на извращение
национальной политики КПСС и Советского государства.
Цель этого вымысла — воспрепятствовать
формированию интернационализма, воспитанию дружбы и
сотрудничества между нациями и народностями нашей
страны. Тщетно было бы, например, искать в
«объективных» исследованиях марксистско-ленинского атеизма
признание неоспоримого факта, что отход широких
масс бывших национальных окраин от религии был
обусловлен гигантским ускорением социального
процесса, формированием нового социалистического быта,
приобщением к культуре, братской помощью других
народов.
В этих «исследованиях» всячески обеляется
прошлое церкви, оправдывается поддержка церковной
реакцией антинародной политики царизма, участие
духовенства в борьбе против социального прогресса, науки и
просвещения. Католические авторы объявляют
ликвидацию церковных привилегий, освобождение культуры
образования, государственной жизни в целом от
прямого вмешательства религиозных организаций
посягательством" на «естественные и законные права
религии», попыткой насильственного искоренения, религии.
Тем самым внедряется клеветническая идея о том-,
будто программа социалистического строительства вредйо-
лагает уничтожение любыми способами веры в бога. В
такого рода «научных изысканиях», разумеется,
умалчивается о подлинных причинах принятия
законодательных мер против контрреволюционной деятельности
церковников, ничего не говорится и о баснословных
богатствах церкви, прямом участии церковников в
ограблении народа. Тщетно искать в «беспристрастных»
исследованиях католических авторов сведений о
кровавых религиозных войнах, уносивших многие тысячи
человеческих жизней, о веками практиковавшейся той же
«человеколюбивой» католической церковью охсте за
47
ведьмами, травле атеистов, свободомыслящих. Зато
многие страницы католического издания «Современный
атеизм» отводятся под рассуждения о том, что-де
пастырскими средствами, проповедью слова божьего ка-
толицизм приобщил к вере христовой заблудших
вольнодумцев, философов, писателей, ученых. Такова цена
этих «объективных» исследований.
История развития Советского государства, опыт
работы по коммунистическому воспитанию убедительно
подтверждают огромную созидательную роль теорий и
практики атеизма, свидетельствуют о благотворном
влиянии его на различные стороны жизни человека и
общества. Освобождение широких слоев населения от
религиозных иллюзий является одним из
замечательных проявлений прогрессивной исторической миссии
социализма. Разрыв с ложными фантастическими
представлениями, раскрепощая сознание миллионов людей,
приобщал их к сознательному творческому труду,
коренным образом менял духовный облик людей.
Социализм — первое в истории общество, которое
сделало возможным широкое распространение
научного мировоззрения, утверждение его в общественном
сознании в качестве определяющего духовную жизнь
всего народа. При всей сложности атеистическое
движение — это не результат административного давления,
насилия над верующими, как утверждает клерикальная
пропаганда, а закономерное общественное развитие,
неразрывно связанное с борьбой трудящихся за
революционное переустройство общества, утверждение
принципов жизни, не нуждающихся в религиозном
обосновании.
Утверждение в нашем обществе
научно-материалистического мировоззрения — не только достижение
социализма и показатель его зрелости, но и глубокий
качественный скачок в духовной истории человечества,
реальное воплощение в жизни лучших идеалов
человечества, закономерный результат многовековой борьбы
за освобождение человека от всех форм духовного
гнета н,
** Гараджа В. И., Лебединец Г, М. Победа
научно-материалистического мировоззрения и актуальные проблемы
развития марксистско-ленинского атеизма в СССР. — В кн.:
Марксистско-ленинская мысль в СССР: исторический путь и проблемы его
исследования, Киев, 1978, с, 311,
48
Причиной массового отхода верующих от религий
вовсе не была, как об этом твердят католические
эксперты по марксистскому атеизму, слепая и наивная
вера в обещанный большевиками рай земной. Существует
прямая и неразрывная связь между развитием
массового атеизма и социалистической индустриализацией,
коллективизацией сельского хозяйства, культурной
революцией, активным участием трудящихся в
социалистическом строительстве. Радикальная ломка старых
общественных отношений закономерно вела к
ограничению разнообразных факторов, способствовавших
воспроизводству религии.
Развитие и победа научно-атеистического
мировоззрения в СССР — выдающееся завоевание
пройденного нашим обществом исторического пути. Оно явилось
результатом благотворного воздействия реального
социализма, руководящей роли Коммунистической
партии, марксистско-ленинских идей на духовную жизнь
народов Советского Союза.
Атеистическое воспитание, атеистическая практика в
целом осуществляется на основе научной теории
преодоления религии. Она базируется на гуманных и
демократических принципах, не имеющих ничего общего ни
с тоталитаризмом, ни с иными измышлениями
буржуазно-клерикальной пропагандой свойствами, будто бы
присущими марксистско-ленинскому атеизму.
В борьбе с марксистско-ленинским атеизмом
идеологи католицизма делают ставку на распространение
ложных представлений о целях и задачах
атеистического воспитания. В теоретическом плане католические
интерпретации атеистического воспитания не отличаются
разнообразием концепций. Наиболее старый и в то же
время наиболее распространенный прием извращения
целей и задач атеистического воспитания —
изображение всей атеистической работы откровенным насилием
над свободой совести. Пропагандистские усилия
католицизма, особенно правых кругов церкви,
сосредоточены на попытках внушить мировому общественному
мнению идею о том, будто в социалистическом обществе
не соблюдаются элементарные требования свободы со*
вести.
Этот миф возник буквально на второй же день пос*
ле Октябрьской революции. Искаженное толкование
методов претворения в жизнь теории научного атеизма
49
занимает особое место в стратегии клерикального
антикоммунизма. Оно использовалось для оправдания
«крестового похода» против «безбожного коммунизма»,
обоснования поддержки политики империалистических
государств. Нападки на коммунистов, насильственно
насаждающих безбожие среди советского населения,
были направлены и против социалистической
демократии, дискредитацию успехов реального социализма.
Распространяемые клерикальной пропагандой вымыслы об
атеистической практике традиционно преследовали цель
вызвать ненависть к марксистско-ленинской идеологии,
реальному социализму, атеистическому мировоззрению,
действуя в обход разума, делая упор на
психологическую обработку классового сознания.
На страйицах католических изданий постоянно
«держатся» расхожие антикоммунистические темы, такие,
как «принудительный атеизм», «дискриминация
верующих», «уничтожение религии» и т. д. И сегодня, когда
речь заходит об атеистическом воспитании,
католическая пропаганда прибегает к сознательным
упрощениям, карикатуризации целей борьбы атеистов против
религиозных предрассудков, занимается подтасовками,
навешиванием ярлыков.
Целью всех измышлений о теории и практике
атеистического воспитания является открытая или
замаскированная защита религии, попытка ослабить влияние
атеистического мировоззрения. Однако нападки на
атеистическое воспитание никогда не ограничивались лишь
защитой религии или подрывом авторитета
марксистско-ленинского атеизма. Фабрикация мифов,
извращающих цели и задачи последовательной борьбы КПСС за
торжество научно-атеистического мировоззрения были и
остаются составной частью идеологии клерикального
антикоммунизма и антисоветизма.
Антисоветизм продолжает оставаться главным
содержанием и осью большинства клерикальных мифов
о теории и практике атеистического воспитания,
объединяющим звеном реакционных,
антикоммунистических, и антидемократических сил, действующих внутри
католицизма» Антисоветизм клерикальной пропаганды
в современных условиях непосредственно нацелен на
дезориентацию сил, противостоящих империализму, их
разобщению.
В разделении советского общества по конфессио-
50
нальному признаку — на верующих и атеистов — йро-
является одна из особенностей клерикальной формы
антисоветизма. Клерикальная пропаганда настойчиво
стремится противопоставить верующих атеистам,
причисляя их к двум классам не только с
противоположными, но и с несовместимыми интересами.
Массовый характер подобных заявлений, распрост-
ранение их духовенством всех иерархических уровней,
от приходского священника до папы, применение в
пропаганде этого тезиса всех находящихся в распоряжении
церкви средств массовой информации свидетельствуют
о весьма продуманной пропагандистской кампаний,
проводимой идеологическими центрами католицизма, Здох<
новители и исполнители этой кампании стремятсй
Представить свои обвинения в качестве акций,
направленных на защиту гуманизма, нравственных ценностей и в
особенности прав верующих. При этом клерикальная
пропаганда не только присваивает себе право охранять
права верующих от посягательств безбожников, но и
право диктовать социалистическому обществу
принципы развития, противоположные марксистско-ленинской
идеологии. В действительности речь идет об усилении
пропаганды антикоммунизма и антисоветизма,
нацеленной не только против научного атеизма, но и против
социалистического государства, против
социалистических основ победившего социализма, его идейных
принципов, морали и культуры.
Проводимая правой клерикальной пропагандой
кампания в защиту прав верующих совпадает с общим
усилением антикоммунистической я антисоветской
деятельности политиков и идеологов монополистического
капитализма. И эта кампания подтверждает, что как
светские, так и клерикальные формы антикоммунизма дела*
ют ставку на антисоветизм, стремятся подорвать
авторитет теории и практики коммунистического
строительства.
Тот факт, что вымыслы о «принудительном
навязывании атеизма», миф о неэффективности атеистической
пропаганды, нацелены главным образом против Совет*
ского Союза, вовсе не означает, что идеологи католи*
цизма позитивно относятся к практике атеистического
воспитания в других социалистических странах.
Несмотря на определенный «дифференцированный»
подход, католические «эксперты» по проблемам атеизма
51
нагромождают множество лживых теорий и
утверждений о состоянии атеистического воспитания в
социалистических государствах. Так, в книге «Религия и
атеизм в СССР и Восточной Европе», написанной группой
«специалистов» по критике марксистско-ленинского
атеизма, содержатся лживые утверждения о
существовании принудительного атеизма в ГДР и ЧССР. И тем
не менее Советский Союз был и остается объектом
основных фальсификаций. В первую очередь это
объясняется тем огромным опытом в атеистическом
воспитании масс, в успешной борьбе за преодоление
религиозных предрассудков, в формировании взглядов,
свободных от религии и суеверий. Исторический пример
превращения нашей страны в общество массового атеизма
является для народов других социалистических стран
постоянным примером успешной реализации
марксистско-ленинского атеизма. Именно поэтому, извращая
сущность и цели атеистического воспитания, , объявляя
его то «инструментом политической социализации», то
«социальным экзаменом», то просто «насилием над
личностью», правые круги католицизма стремятся прежде
всего подорвать авторитет Советского Союза,
принизить значение опыта советских коммунистов в
формировании научно-атеистических взглядов у подавляющего
большинства населения нашей страны.
Интерпретируя цели и задачи атеистического
воспитания с антинаучных, религиозно-идеалистических
позиций католическая идеология объявляет всю
атеистическую работу бессмысленной затеей, поскольку
религиозные чувства неискоренимы. В качестве
доказательства неопреодолимости веры в бога нередко
приводится факт существования религии при социализме.
Исходя из этого, защитники религии делают вывод о
принципиальной невозможности искоренения
религиозных предрассудков, замалчивая при этом многочислен*
ные факты разрыва людей с религиозной верой,
переходом их на позиции научной идеологии.
Находящийся и поныне на вооружении
клерикальной пропаганды вымысел о бесполезности и
неэффективности атеистического воспитания возник еще в 30-е
годы. Это была реакция церкви на массовый отход
советских людей от религии. Уже тогда практиковались
два на первый взгляд кажущихся противоположными
приема фальсификации атеистического воспитания. С
52
одной стороны, настойчиво пропагандировались
представления об атеистическом воспитании как о
принудительном мероприятии идеологического и политического
характера, препятствующем свободному приобщению
человека к религиозной вере. Массовый характер
атеизма при этом не отвергался, однако извращались
подлинные причины, побуждающие миллионы людей
порывать с верой в бога. С другой стороны, средства
католической пропаганды без устали твердили о том, что
вопреки атеистическому воспитанию (для
драматизации ситуации в массовой католической литературе
вместо «атеистического воспитания» всегда используется
термин «война против религии») религиозность в
Советском Союзе не только не идет на убыль, но и
усиливается.
В католических изданиях нередко публикуются
данные (многие из которых взяты из советских
источников), свидетельствующие о произошедшем за годы
Советской власти резком сокращении численности
культовых зданий. Однако в исследованиях католических
авторов, претендующих на объективность и
беспристрастность, невозможно найти признание того
неоспоримого факта, что основную причину этого явления
следует искать в подрыве корней религии, в массовом
разрыве советских людей с религиозными взглядами.
Вместо этого католическая пропаганда продолжает
распространять вымыслы о насильственном закрытии
культовых зданий.
Сегодня извращение теории и практики
марксистско-ленинского атеизма стало главным направлением
радиопередач, ведущихся на социалистические страны.
Радиопередачи представляют собой новый фактор,
новое тактическое средство в борьбе католицизма с
научным атеизмом, марксистско-ленинской идеологией в
целом. Использование технических средств для
обработки населения СССР позволяет идеологическим
центрам католицизма строить планы проведения
массированной обработки не только верующих людей.
Появление в радиопрограммах Ватикана специальной рубрики
«Беседы с неверующими» говорят о стремлении
расширить охват идеологического воздействия, подвергая
обработке сознание атеистов и колеблющихся. Рубрика
«Беседы с неверующими» включает в себя
наукообразные опровержения марксистско-ленинского атеизма,
53
распространение изощренных приемов апологии рели*
гии и прежде всего идеи бога. Во время понтификата
Иоанна Павла II произошло усиление
радиопропаганды, направленной на территорию Советского Союза.
Вдвое увеличилось время радиопередач на, русском,
украинском, белорусском, литовском и латышском
языках 15.
В содержании радиопередач, направленных на
территорию Советского Союза, значительное место
отводится пропаганде ложных представлений о положении
верующих в СССР, извращению целей и задач
атеистического воспитания. Некоторые редакции, отданы на
откуп различным эмигрантским группам, окопавшимся
на Западе и использующим радио Ватикана для
проведения психологической войны, для того чтобы
вызвать у слушателей передач вражду и ненависть к
идеалам коммунизма, советскому общественному строю.
Составители этих программ «забывают» о религиозной
миссии ватиканской радиостанции и о призывах II
Ватиканского собора, к использованию исключительно
«пастырских средств» в противодействии
распространению атеизма и материализма. Их передачи пронизаны
духом «холодной войны», «крестовых походов» 16. Под
прикрытием ханжеских забот о сохранении традиций
прошлого, радио Ватикана искажает историю народов,
входящих в состав СССР, расписывает «прелести»
буржуазного строя, замалчивая огромные успехи,
достигнутые в экономической и культурной жизни народов
СССР.
На протяжении десятилетий влиятельные органы
католической прессы сообщают своим читателям о
«принудительном внедрении» атеизма в
социалистических государствах, гонениях на верующих. Эти
«сообщения» не просто подавляют всю остальную
информацию о жизни социалистических стран. Вымышленные
«факты» о «кознях атеистов» превращаются в
единственно важные события внутренней жизни Советского
Союза, других стран социализма. На 16 страницах
ватиканской газеты «Оссерваторе романо», не находится
15 Зоц В. А., Мигов и ч И. И. Правда истории и мифы
фальсификаторов. — Аргументы. М., 1981, с. 63—64.
16Балевиц 3, «Говорит радио Ватикана...», — Аргументы,
М., 1981, с. 44—50.
54
места для сообщений о достижениях советского народа
в экономике, культуре, науке. Но зато изо дня в день,
из комментария в комментарий сообщается о
Страданиях «церкви-мученицы» под «игом атеистов»,
распространяются вымыслы о разрушении атеистами
национальных традиций и т. д. Может создаться впечатление, что
вся жизнь в Советском Союзе вращается вокруг
проблемы «религиозных диссидентов», надуманных проблем
«нарушения прав верующих» или «принудительном
насаждении атеизма». Постоянное воспроизведение этих
«сведений» создает ложное представление о том, будто
от решения придуманных клерикальной пропагандой
«проблем» зависит чуть ли не будущее развитие
советского общества.
Тезис о насильственном насаждении атеизма
представляет собой намеренное искажение действительных
путей движения масс к атеизму и форму апологии
религии. Этот вымысел основывается на совершенно
ложной установке, согласно которой в условиях социализма
личность, не испытывающая административного
нажима или идеологического контроля, закономерно и
неизбежно становится личностью религиозной. В
соответствии с такой логикой отвергается связь атеистических
взглядов с активной работой мысли, самостоятельным
выбором своих убеждений, свободой совести. Подобные
суждения являются оскорбительными для миллионов
людей, сознательно и свободно убедившихся в
ложности религиозных идей и признавших правоту атеизма.
Наиболее распространенной формой дискредитации
атеистического воспитания является принижение
успехов, достигнутых Коммунистической партией в
формировании научно-атеистических взглядов у подавляющей
части населения нашей страны.
Вот уже несколько лет клерикальная пропаганда
неустанно твердит о существовании в нашей стране
«религиозного бума». В Советском Союзе якобы имеются
все признаки необычайного «религиозного
возрождения». В некоторых публикациях католической прессы
миф о «религиозном возрождении», усиливающейся
тяге советского народа к религии подкрепляется
ссылками на «статистические данные», якобы раскрывающие
широкий размах подъема религиозного движения 9
Советском Союзе. Какие же «статистические данные»
имеют в виду авторы столь решительных заявлений о
55
«религиозном буме»? На поверку оказывается, что это
всего лишь немногочисленные случаи крещения лиц
зрелого возраста, о которых сообщалось в советской
атеистической литературе. В дополнении к этому
приводятся фотографии, на которых изображены
молящиеся верующие. И на основании вот таких
«статистических данных» делается сенсационный вывод: вопреки
атеистической пропаганде религия не только
продолжает существовать, но и переживает процесс
возрождения.
Для католических интерпретаций атеистической
практики характерен тенденциозный подбор фактов,
преувеличение недостатков антирелигиозной
пропаганды в нашей стране. Поднимаются на щит отдельные
ошибочные формулировки в атеистических
публикациях, раздувается шумиха по поводу встречающихся в
атеистической работе случаев администрирования, с
которыми партия ведет решительную борьбу.
Тенденциозно подобранные факты, критические выступления
советской печати о недостатках в атеистическом воспитании
используются для «аргументации» самых невероятных
нападок на атеистическую практику.
Бережное отношение советского народа к
культурным Памятникам прошлого истолковывается как
проявление неослабевающей тяги к религии, выражение
стихийного протеста против атеистического воспитания.
Из этого фальшивого утверждения рождается вымысел
о том; будто атеисты препятствуют широкой пропаганде
памятников церковного искусства. Можно привести
множество доказательств того, что «борцы» за
беспрепятственный доступ советских людей к культурным
памятникам прошлого меньше всего озабочены развитием
их эстетических вкусов или приобщением к
культурному наследию своей отчизны. Ревнителей старины
интересуют совершенно другие цели и в первую очередь
превращение памятников прошлого в инструмент
пропаганды религии. На этот счет непрошеные радетели
культурных традиций народов Советского Союза
высказываются достаточно определенно, ратуя за то, что*
бы памятники церковного искусства «пробуждали
ностальгию по обществу, способному создать подобные
шедевры».
Если в советской атеистической литературе
критикуются имеющиеся недостатки в постановке атеистиче-
56
ского воспитания, подчеркивается, что ослабление
внимания к этому участку идеологической работы порой
ведет к активизации деятельности сектантов и
церковников, то католическая пропаганда спешит объявить
эти сообщения симптомами происходящего в СССР
«религиозного возрождения». Ход мысли весьма прост:
если бы эти случаи носили эпизодический характер,
атеисты не стали бы о них сообщать.
Совершенно бездоказательно заявляется об
«аллергии» советской молодежи к атеистическому воспитанию,
которое, мол, все чаще вступает в противоречие с
жизненными интересами молодого поколения. Как и в
других случаях, роль «аргументов», подтверждающих эти
вымыслы, выполняют факты ношения крестиков,
отсутствие твердых атеистических убеждений у некоторой
части молодежи, т. е. все то, что мржет прочитать
каждый в советской атеистической и молодежной
литературе.
В целях дискредитации атеистического воспитания
католическая пропаганда создает превратное
представление о теоретическом уровне советской атеистической
литературы. Фальсифицируются основные концепции и
результаты исследований советских атеистов. Вырван^
ные из контекста цитаты компонуются таким образом,
чтобы подтвердить заранее сформулированный
тенденциозный вывод об атеизме как догматической,
примитивной критике религии.
Католический теолог Морра взял на себя труд
«оценить» учебники по научному атеизму, вышедшие в
нашей стране почти за два десятилетия. Основной
результат «экспертизы» католического критика таков: все
содержание учебников проникнуто духом «перманентного
религиозно-атеистического догматизма», поскольку,
мол, ни в одном из атеистических изданий «не ставятся
под сомнение основы диалектического материализма»*
Таким образом, главным недостатком рабо!* советских
атеистов Морра считает научно-материалистическое
понимание природы религии. Именно в этом он
усматривает догматический и даже религиозный характер
содержания атеистической литературы.
Извращение сущности атеистического воспитания
проявляется в пропаганде лживого тезиса о том, будто,
выступая против религии, атеисты тем самым
формируют пренебрежительное отношение к человеческой
57
личности, достоинству человека. Общество, в котором
господствует научно-атеистическое мировоззрение,
изображается обществом несчастных, ущербных людей.
«Атеистический мир, — уверяет итальянский иезуит
Бортолазо, — характеризуется обесценением жизни,
отсутствием человеческой свободы и достоинства. Это
доказывает, что современный атеизм не Достигает того,
к Чему он стремится, т, е, возвышения человека, а
ведет к смерти человека». Подобные примитивные наветы
и домыслы говорят о том, чтб в борьбе с атеизмом
католическая пропаганда не отказалась от откровенной
лжи й клеветы. Сочинители вымыслов о том, что
«атеизм убивает человека», настойчиво повторяют изрядно
потрепанный тезис о приземленности идеалов атеизма,
полной несовместимости их с высокими духовными
запросами.
Обвиняя научно-атеистическую практику в
насаждении нигилизма, духа потребительства, в лишении людей
таких чувств, как доброта, сострадание к горю других
людей, католическая пропаганда стремится породить
антипатию к атеистам, и прежде всего к тем, кто,
выступая против религии, желает помочь человеку стать
более деятельным, гуманным, духовно богатым. В
работах католических критиков
научно-материалистического мировоззрений атеисты изображаются сухими
догматиками, готовыми принести в жертву своим
«атеистическим догмам» интересы человека.
Перечеркивая позитивное содержание атеистического
воспитания, его противники утверждают, что, выступая
против религии, атеисты не несут новых ценностей.
Атеистическое мировоззрение клеветнически
изображается Исключительно как инструмент разрушения
религиозной веры. Примечательно также, что сам термин
«атеистическое воспитание» практически никогда ке
употребляется в буржуазной и клерикальной
литературе, посвященной марксистско-ленинскому атеизму.
Обычно говорится об «антирелигиозной войне»,
«уничтожении религии». Извращая гуманистическую
направленность марксистского атеизма, церковники
утверждают, будто свое отрицательное отношение к религии
марксисты переносят и на верующих. Вымыслы «о
неистребимой ненависти» марксистов к религии не новы.
Они имели хождение еще при жизни основоположников
марксизма и преследовали, как и сегодня, одну и ту же
58
цель — подорвать авторитет коммунистических иде&«
лов,
Впечатляющие успехи нашей страны в материальной
и культурном строительстве, в создании условий для
духовного развития общества разрушают мифы о
негативном влиянии атеизма на жизнь советского общео^
ва. Эти успехи подтверждают вывод основоположников
марксизма о том, что освобождение человека от груза
религиозных взглядов ведет к раскрепощению сознания
человека, способствует росту творческой активности
личности.
Позитивное, глубоко гуманистическое влияние
атеистических убеждений на повышение социальной актив*
ности личности, на формирование ответственного
отношения людей к труду, своим общественным обязанно*
стям убедительно подтверждается многочисленными
социологическими исследованиями, проведенными в раз*
пых уголках нашей страны. Эти исследования убежда*
ют также в том, что религиозные нравственные нормы
и установки формируют пассивное отношение к обще*
ственным проблемам, существенно принижают
возможности творческого развития человека, снижают
социальную активность личности. И ни одно
социологическое исследование не свидетельствует о позитивном
воздействии религии на трудовой процесс, о
религиозной мере как панацее от аморальных поступков,
преступлений и т. д. Факты говорят о другом.
Жизнеутверждающий смысл марксистско-ленинского атеизма
способствует воспитанию нравственных принципов
передового строителя коммунистического общества,
является необходимым условием становления человека
как творца собственной жизни. Вот почему
атеистическое воспитание объективно отвечает интересам
широких масс трудящихся, является существенным
фактором их борьбы за торжество идеалов коммунизма.
Опыт СССР неопровержимо доказывает, что именно
коренные социальные преобразования, вызванные
победой Октября, способствовали подрыву классовых кор*
ней религиозной веры. Укрепление социалистических
производственных отношений, планомерный характер
развития общества, отсутствие антагонизмов в
отношениях между людьми создавали объективные
предпосылки для повышения социальной активности личности,
существенно сокращали сферу влияния религии,
:59
Высоконравственные цели научного атеизма
достигаются нравственными средствами воздействия на
сознание и убеждения человека. В атеистической работе
партия всегда исходила из принципов, что в
воспитательном процессе, направленном на формирование,
атеистических взглядов, не могут быть терпимы
оскорбительное отношение к чувствам верующих и тем более
насильственное насаждение атеизма; непримиримость и
бескомпромиссность борьбы с религией как ложным
мировоззрением должны сочетаться с уважительным
отношением к убеждениям верующих, которым
Основным Законом нашего государства гарантирована
свобода совести. Поэтому фальшивыми являются
рассуждения о том, что коммунисты распространяют свое
отношение к религии и на верующих, преследуя их за
религиозные взгляды. Перед атеистическим воспитанием
никогда не ставилась и не могла ставиться задача
принудительного навязывания научно-атеистического
мировоззрения всем без исключения гражданам СССР.
Воспитательное воздействие осуществляется в рамках
социалистической демократии, в соответствии с
принципами Конституции СССР, Социализм сохраняет, и это
записано в Основном Законе нашего государства, за
каждой личностью право выбора между марксистско-
ленинским научно-атеистическим мировоззрением, с
одной стороны, и религиозным пониманием мира — с
другой.
В атеистическом воспитании применяются
различные формы и методы, проникнутые духом
товарищеского отношения к верующим, искреннего желания помочь
всем тем, кто находится под влиянием религиозной
идеологии.
К тому же следует всегда иметь в виду, что
научный атеизм способен успешно решать стоящие перед
ним задачи, только опираясь на широкий комплекс
философских, социологических,
социально-психологических и иных исследований, а процесс атеистического
воспитаний может привести к желаемой цели, только
если он будет неразрывно связан с
идейно-политическим, трудовым, нравственным, интернационалистским
и другими направлениями коммунистического
воспитания. Все это вместе взятое означает, что атеистическая
теория и практика нуждается сейчас в значительном
60
расширении ее горизонтов, в более глубокой и
детальной разработке.
Атеистическое воспитание должно осмысливаться
прежде всего как часть коммунистического воспитания.
Как показывает практика атеистического воспитания,
лобовой, голый атеизм, прямолинейная критика
религии отталкивают верующих, создают трудности на пути
искреннего диалога с носителями религиозных
предрассудков.
На современном этапе коммунистического
строительства создаются все более благоприятные условия для
создания эффективно функционирующей системы
атеистического воспитания как части общей системы
коммунистического воспитания. Выдвинутые на XXVI
съезде КПСС широкая программа повышения
благосостояния советских людей, улучшения условий их труда и
быта, значительного прогресса здравоохранения,
образования и культуры является важным фактором
формирования атеистических взглядов.
В условиях безраздельного господства идей
коммунизма и социализма, впечатляющих успехов в создании
материально-технической базы коммунизма все
очевиднее становится иллюзорный характер
пропагандируемых религией нравственных и духовных ценностей.
Факты убедительно свидетельствуют о повсеместном
снижении в нашей стране воздействия религии на
поведение современного верующего. С другой стороны,
наблюдается возрастание интереса верующих к
событиям внутренней и международной жизни. Советский
образ жизни является могучим фактором,
способствующим формированию атеистических убеждений и
преодолению религиозных пережитков. Требования
морального кодекса строителя коммунизма превращаются в
норму жизни абсолютного большинства советских людей,
порождают нетерпимость к отклонениям от
социалистических норм поведения. Моральный долг строителя
коммунизма не ограничивается только
ответственностью за свое личное участие в общественных делах. Он
включает в себя также и ответственность за дела
коллектива, всей страны.
Глубокий интернационалистический характер
советского общества лишает церковников возможности
спекулировать на национальных чувствах, отождествлять
национальное и религиозное и тем самым сохранять свое
61
влияние на верующих. Неразрывность интересов людей
различных национальностей, укрепление единства целей
и взглядов советского народа ведут К отмиранию
отживших привычек и традиций,
К. Маркс, Ф, Энгельс и В. И. Ленин неоднократно
подчеркивали, что материализм и атеизм не только
совпадают с гуманизмом, но что атеистическое
мировоззрение является одним из условий реального
гуманизма. Гуманизм марксистско-ленинского атеизма
проявляется в стремлении «ниспровергнуть все отношения, в
которых человек является униженным, порабощенным,
беспомощным, презренным существом...». Именно
поэтому марксисты ведут последовательную борьбу за
гуманизм, при котором человек добивается счастливой
жизни в реальном, а не в вымышленном мире.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Редакция литературы по марксистско-ленинской
философии и научному коммунизму обратилась к автору
брошюры кандидату философских наук И. Я. Кантеро-
ву с вопросом: «Игорь Яковлевич! Вам неоднократно
приходилось выступать перед различными аудиториями
с лекциями по критике клерикальных фальсификаций
атеизма. Какие вопросы наиболее часто задаются
при этом аудиторией? Нам кажется, что ваш опйт
будет полезен для многих наших читателей, среди
которых немало лекторов и пропагандистов научного
атеизма». Вопросов по этой теме, как выяснилось в
беседе, действительно возникает у слушателей немало. При
этом наш автор подробно остановился на двух из них.
Вопрос. Какие католические клерикальные центры
занимаются борьбой против атеистического
мировоззрения?
Ответ. Руководство основными мероприятиями,
направленными против атеизма, возложено на
ватиканский секретариат по делам неверующих, созданный в
апреле 1965 года. В функции секретариата входит
изучение причин, способствующих росту влияния
марксистско-ленинского атеизма на широкие трудящиеся массы.
В рассылаемых секретариатом инструкциях даются
конкретные рекомендации по деятельности церкви и ее
организаций, ^направленной на ослабление позиций
атеизма, материализма и свободомыслия. В 1970 году сек-
62
р.етариат опубликовал записку об изучении марксизма
и атеизма в духовных семинариях.
Наряду с секретариатом по делам неверующих
организаций борьбы с научным атеизмом занимается
центр марксистских исследований при крупнейшем
католическом учебном заведении — Грегорианском
университете в Риме. Здесь студенты из разных стран
специализируются по критике марксистско-ленинской
идеологии, в том числе и научного атеизма. К услугам
будущих «специалистов по марксизму» предоставлена
библиотека в 20 тыс. томов, преимущественно на
русском языке.
В феврале 1977 года при папском университете
имени св. Урбана был создан высший институт па
изучению атеизма. Институт возглавляет католический
философ Б. Мондин, автор ряда работ антимарксистского
содержания. В октябре 1980 года под эгидой института
проходил международный конгресс «Евангелизация и
атеизм». В его работе принимали участие католические
теологи, философы, священники, миссионеры. По
словам организаторов конгресса, его основная цель
заключалась в углубленном изучении атеизма, разработке
аффективных мер противодействия его возрастающему
влиянию на современный мир.
Вопрос. Существует ли связь между клерикальными
и ревизионистскими фальсификациями научного
атеизма?
Ответ. В новейшее время наблюдается значительное
сближение клерикальных и ревизионистских
фальсификаций теории и практики марксистского атеизма.
Идеологи современного католицизма откровенно признают,
что в лице ревизионизма они имеют весьма ценного
союзника. Активная поддержка католицизмом
подрывной деятельности ренегатов марксизма-ленинизма
объясняется рядом причин. Во-первых, тем, что, выступая
под маской марксизма, ревизионизм способен ввести в
заблуждение определенную часть верующих,
относящихся к марксизму с искренним интересом и
симпатией. Во-вторых, писания ревизионистов служат удобным
каналом формирования искаженных представлений о
марксистской идеологии, практике строительства
социализма и коммунизма.
Положительную реакцию встречают в клерикальных
кругах ревизионистские фальсификации марксистского
63
учения о классовых функциях религии. Подхватывая
ходячие лозунги ренегатов марксизма, клерикальная
пропаганда утверждает, будто «ортодоксальный
марксизм», находящийся в плену оценки религии как
опиума народа, «неспособен выявить позитивное значение
религии». В отличие от «ортодоксального марксизма»,
пишет ватиканская газета «Оссерваторе романо»,
представители «творческого марксизма» придерживаются
противоположной установки, видя в религии
прогрессивное явление и ратуя за ее соединение с марксизмом.
Разоблачая альянс ревизионизма и клерикализма,
член Правления Германской коммунистической партии
Р. Штейгервальд в книге «Марксизм — религия —
современность» подчеркивает, что этот альянс полностью
вписывается в новую стратегию империализма: вести
борьбу с социализмом и марксизмом более
изощренными методами.
ЛИТЕРАТУРА
Андреев М. В. Критика идеологии современного
клерикализма. М, 1982.
Великович Л. Н. Католицизм в современном мире. М.,
1981.
Григулевич И. Р. Папство. Век XX. М, 1981.
Каптеров И. Я. Клерикальный антикоммунизм, М., 1981.
Религия в век НТР.'М., 1979.
Штайгервальд Р. Марксизм, религия и современность.
М., 1970.
Игорь Яковлевич КАНТЕРОВ
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛЕРИКАЛЬНЫХ
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ НАУЧНОГО АТЕИЗМА
Гл. отраслевой редактор 3. Каримова. Ст, научный редактор
О. Кирьязев. Мл. редактор И. Игнатьева. Худож. редактор
Т. Егорова. Техн. редактор А, Красавина. Корректор Н. Ме-
л е ш к и н а.
И Б № 5722
Сдано в набор 05.10.82. Подписано к печати 18.12.82. А 13653. Формат
бумаги 84Х108'/з2. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 3,36. Усл. кр.-отт. 3,57. Уч.-изд. л. 3,53. Тираж 44 430 экз.
Заказ 1863. Цена 11 коп. Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва,
Центр, проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 831101.
Типография Всесоюзного' общества «Знание». Москва, Центр,1 Новая пл., д. 3/4.
11 коп.
Индекс 70075
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ