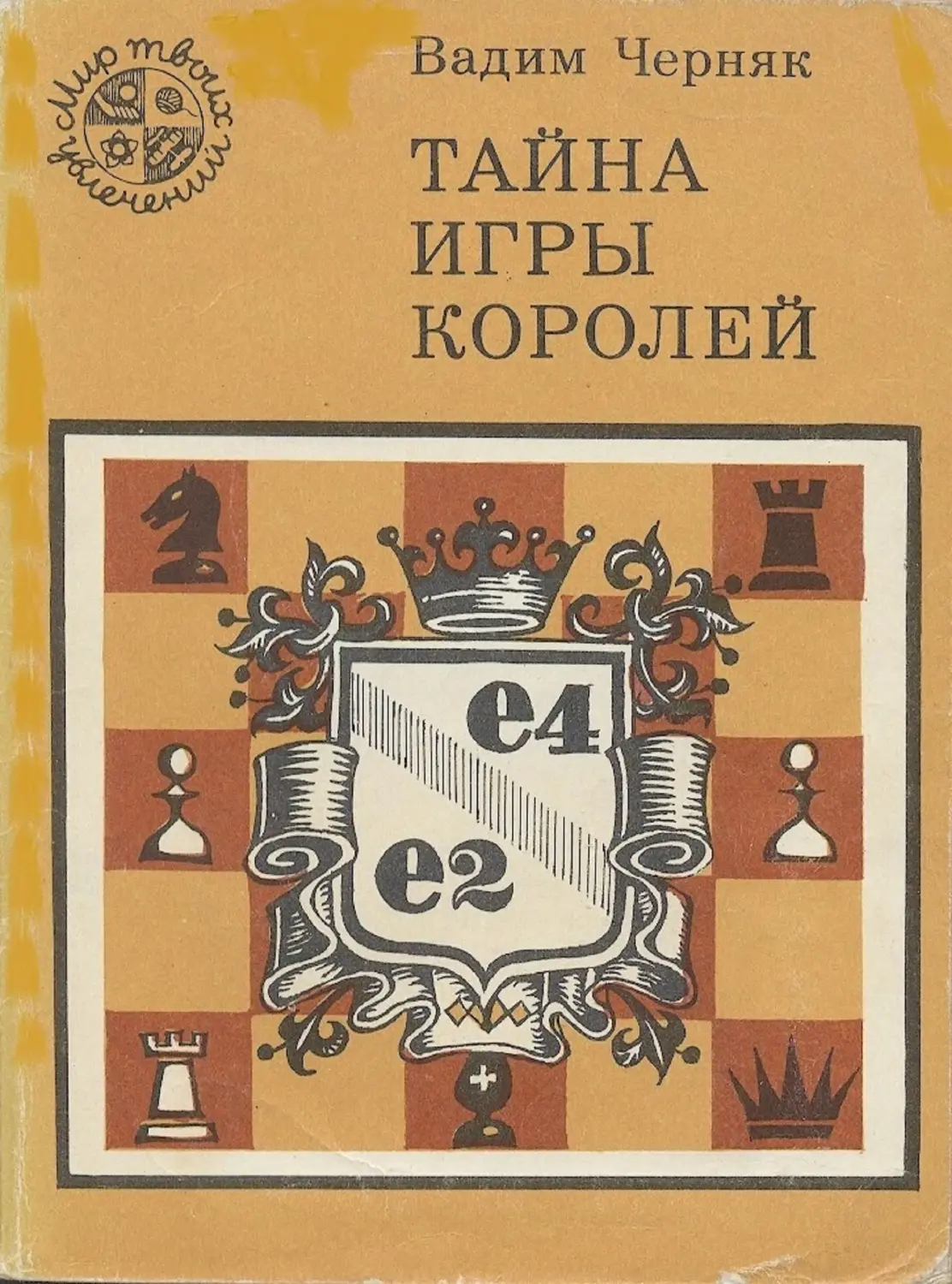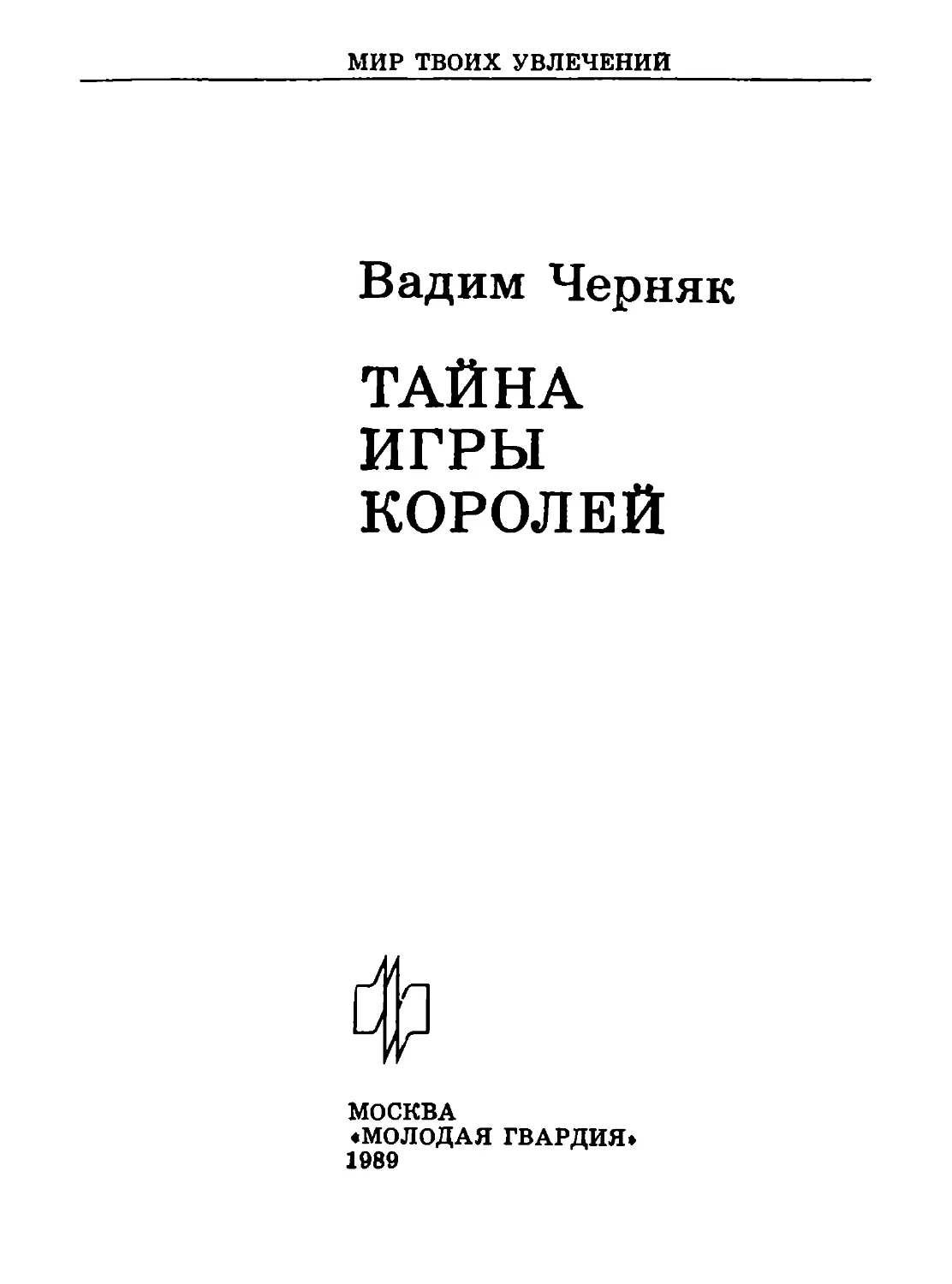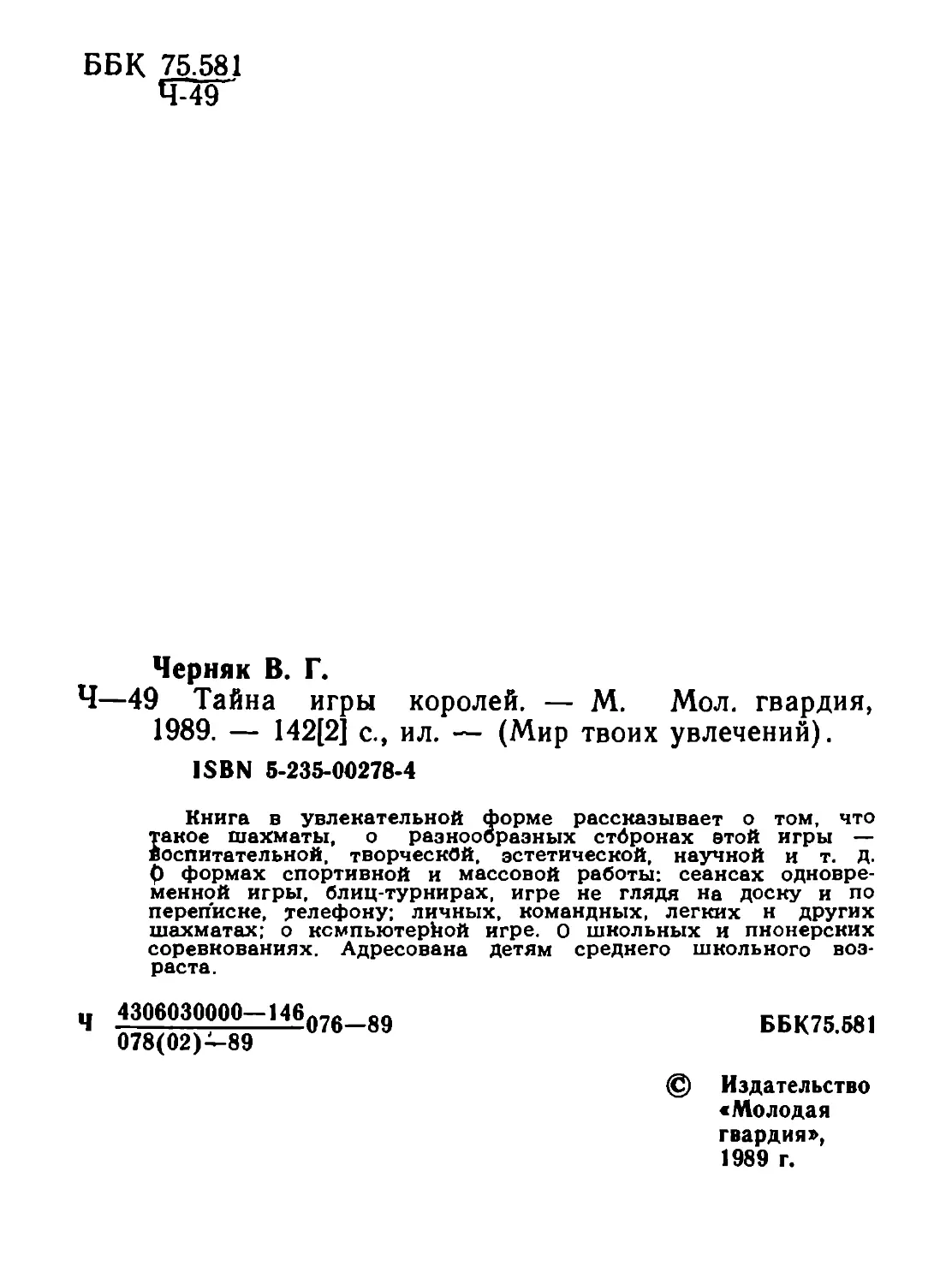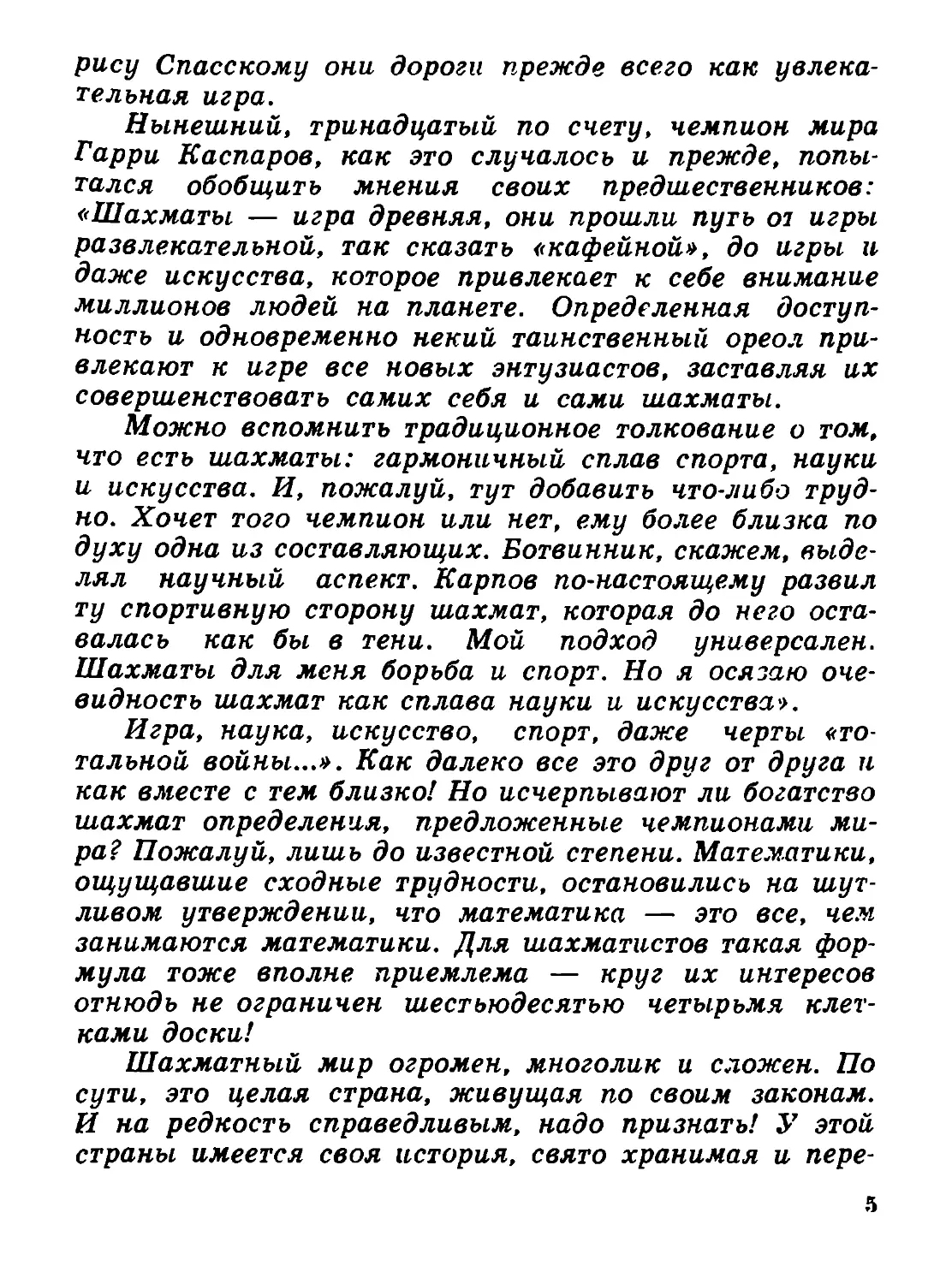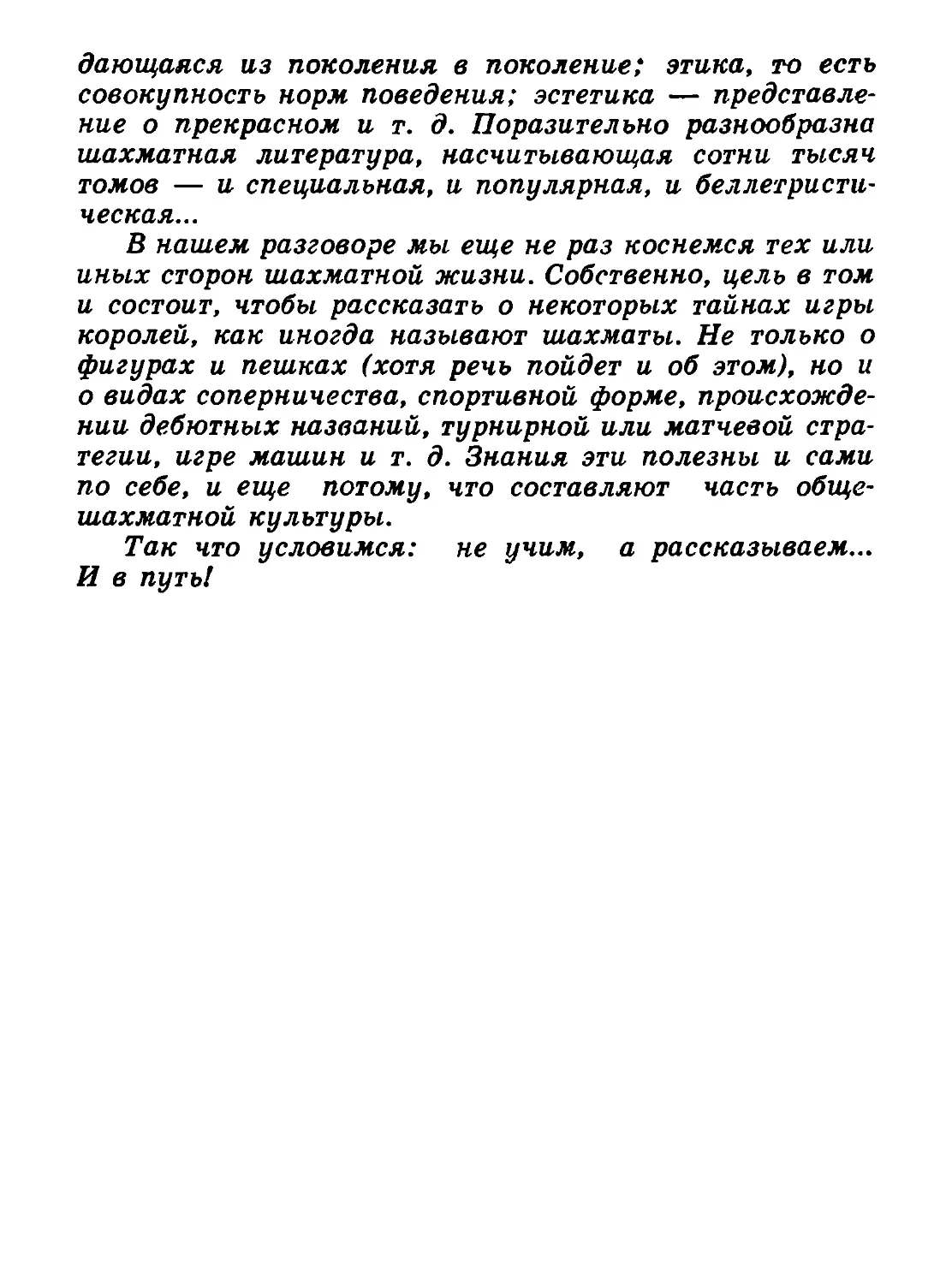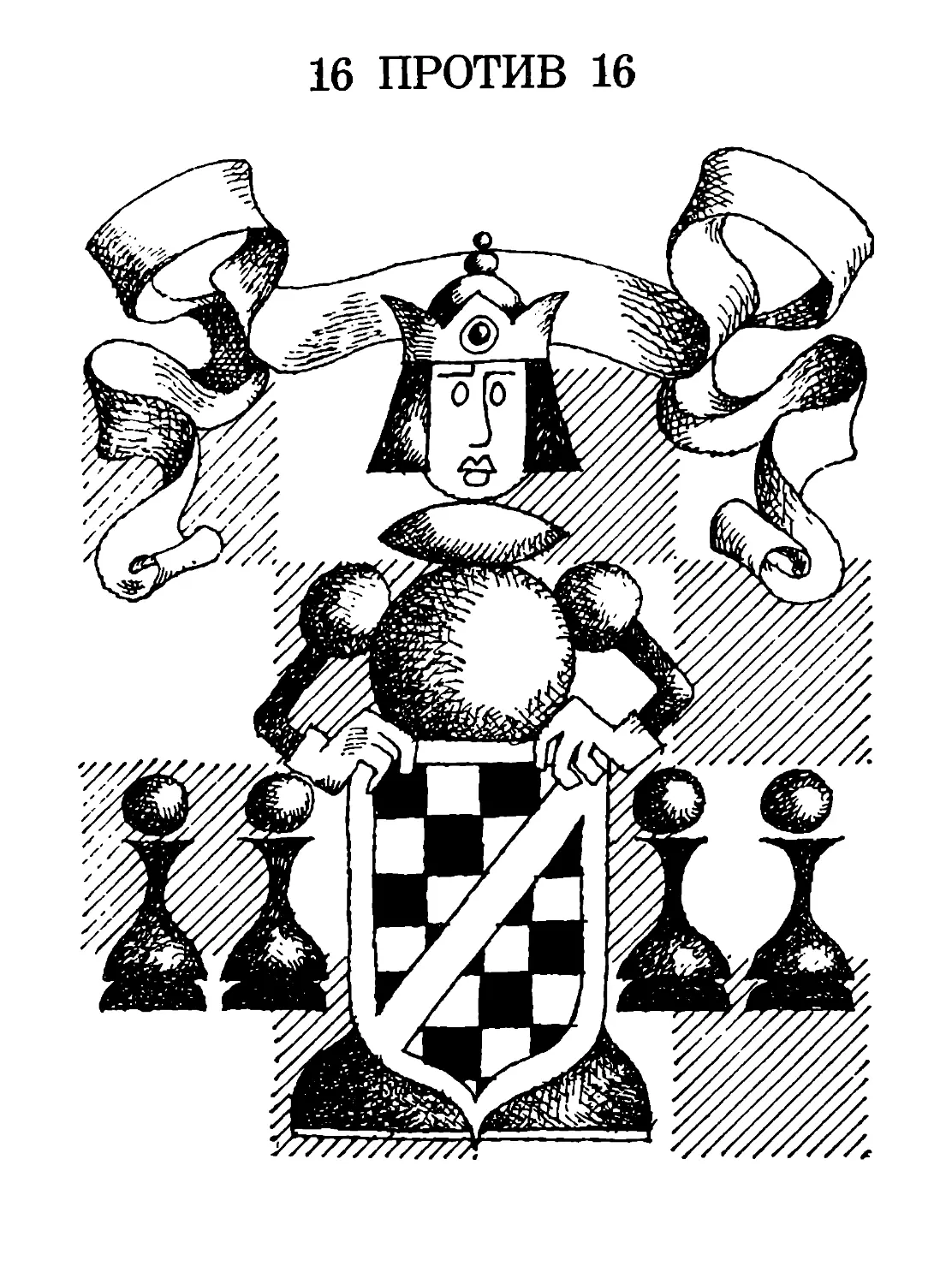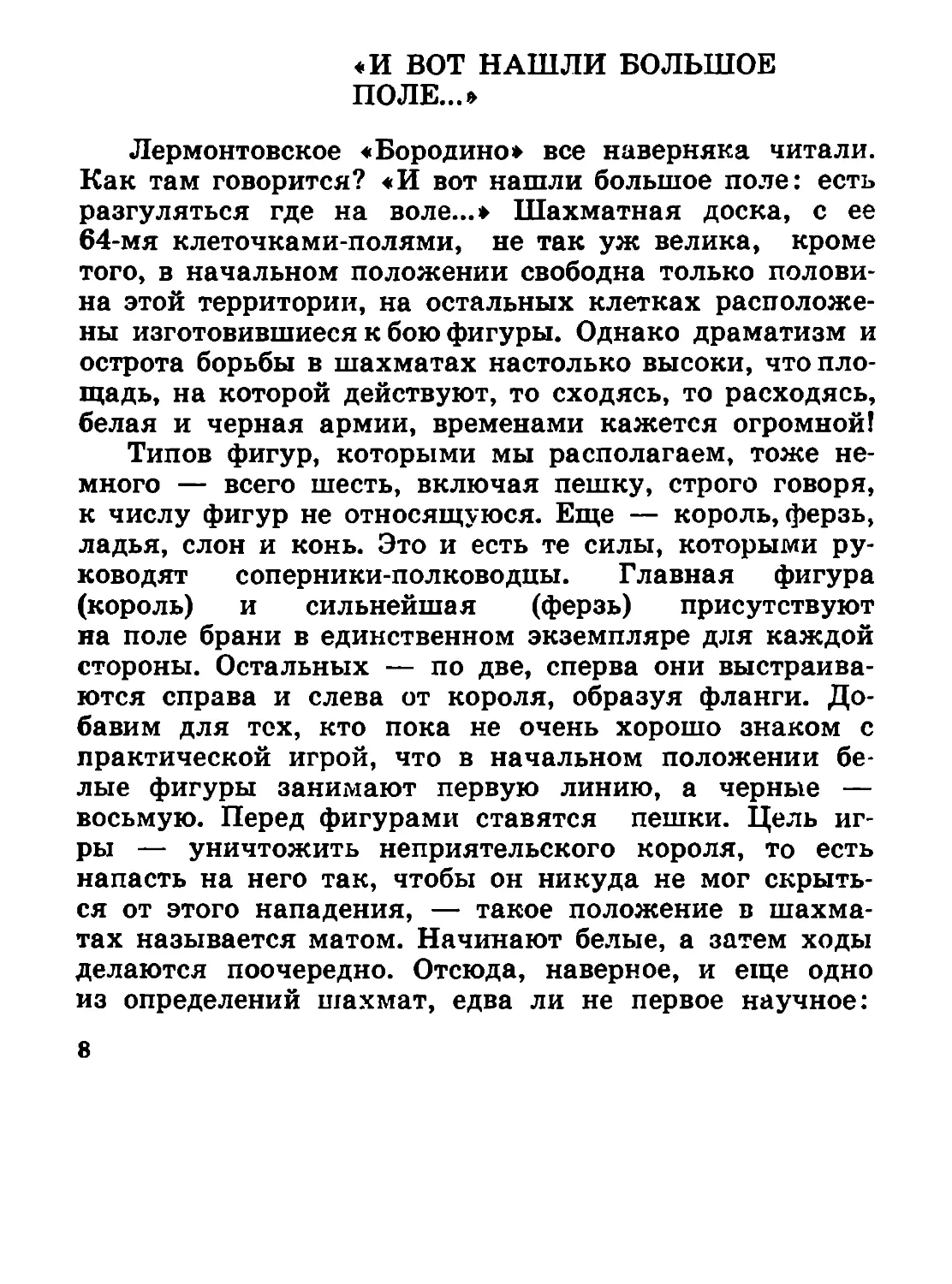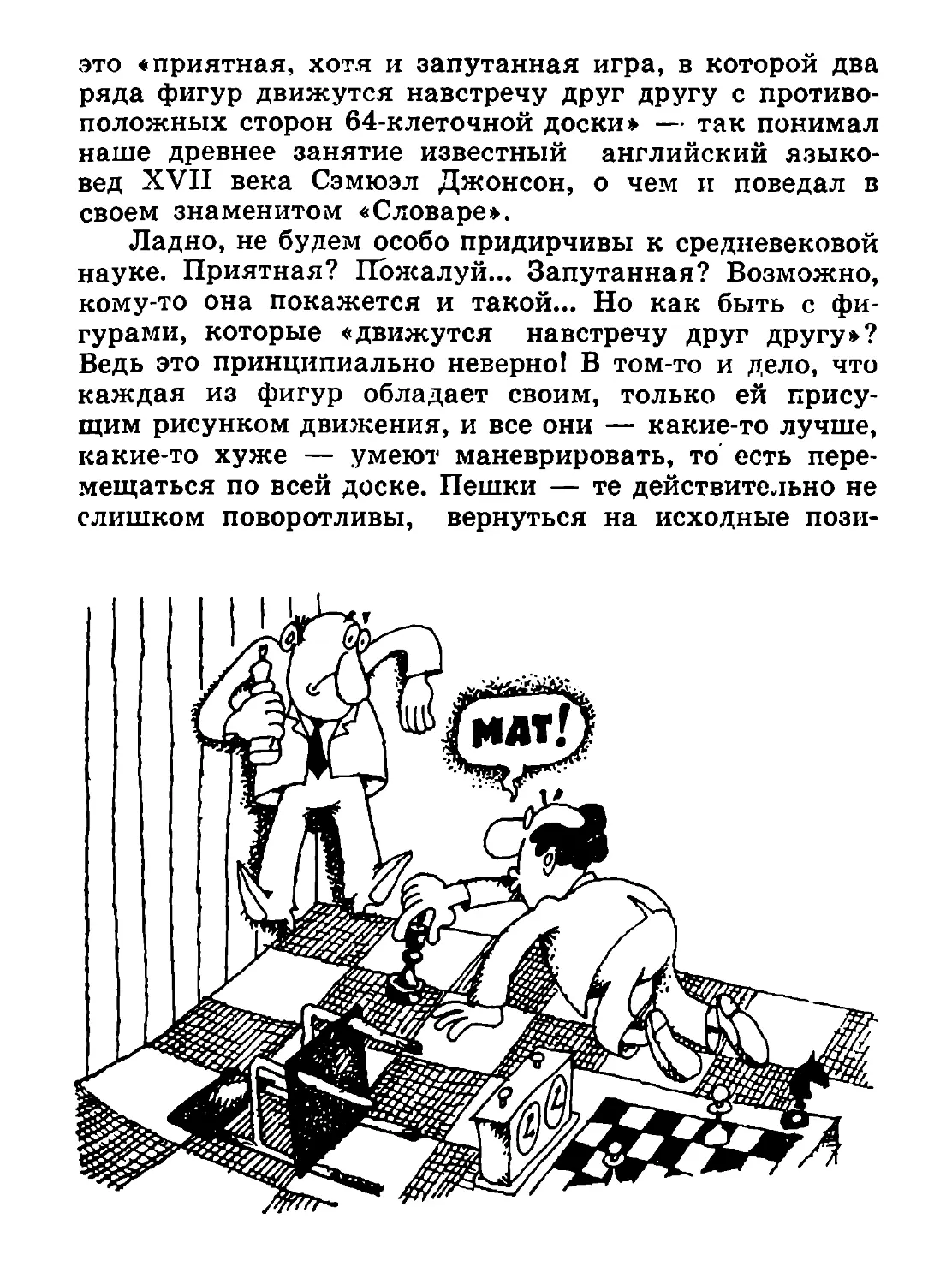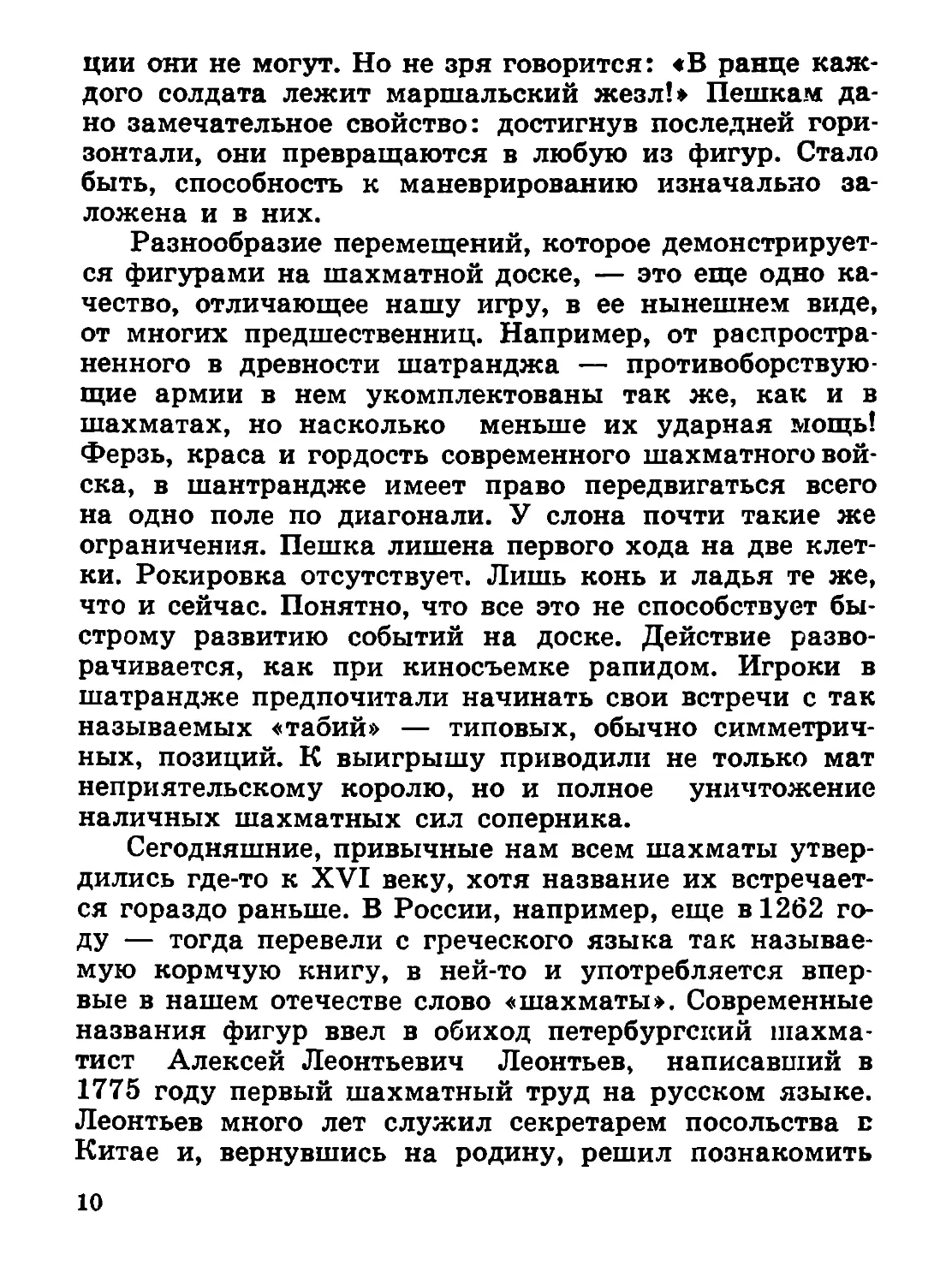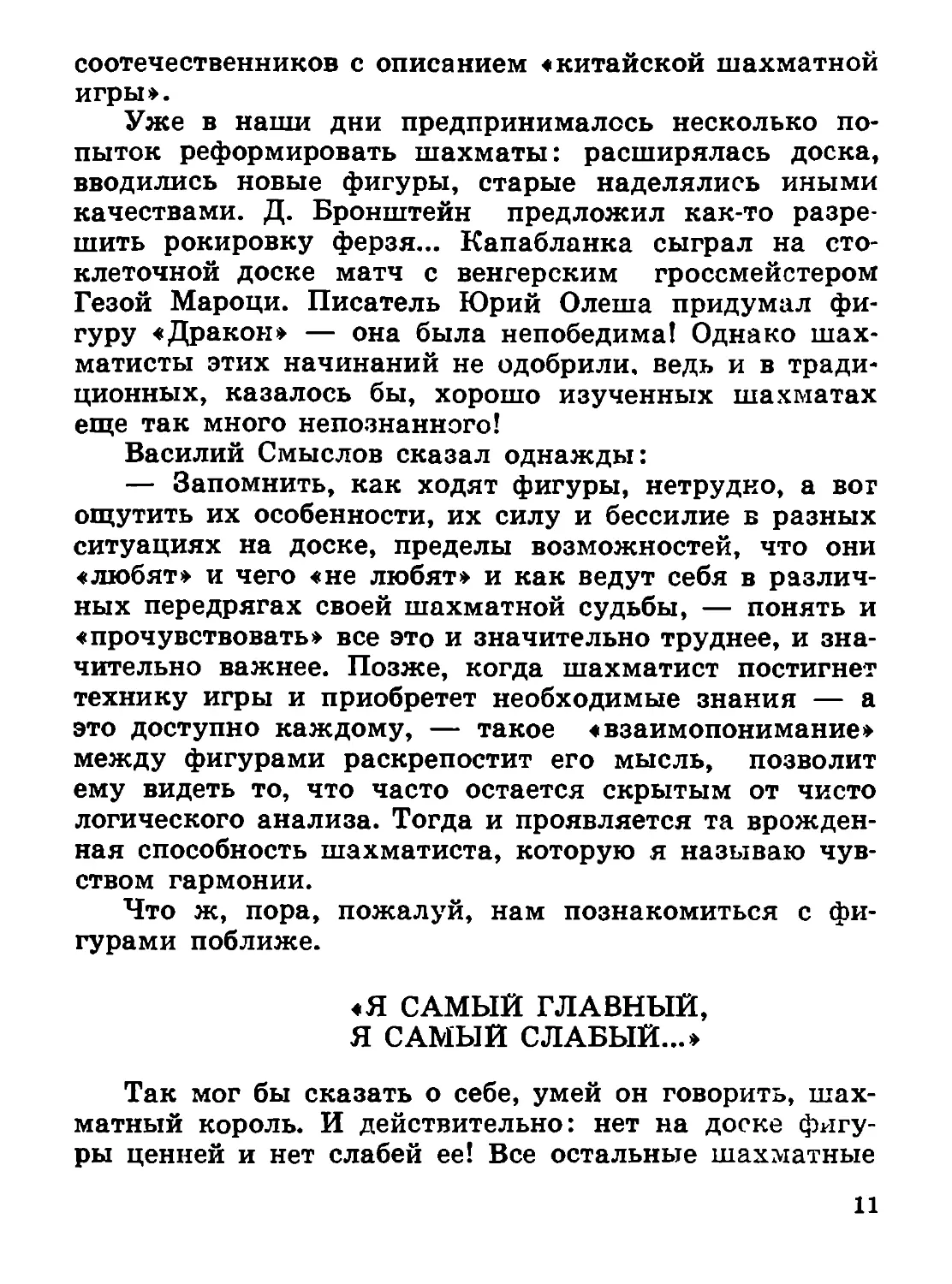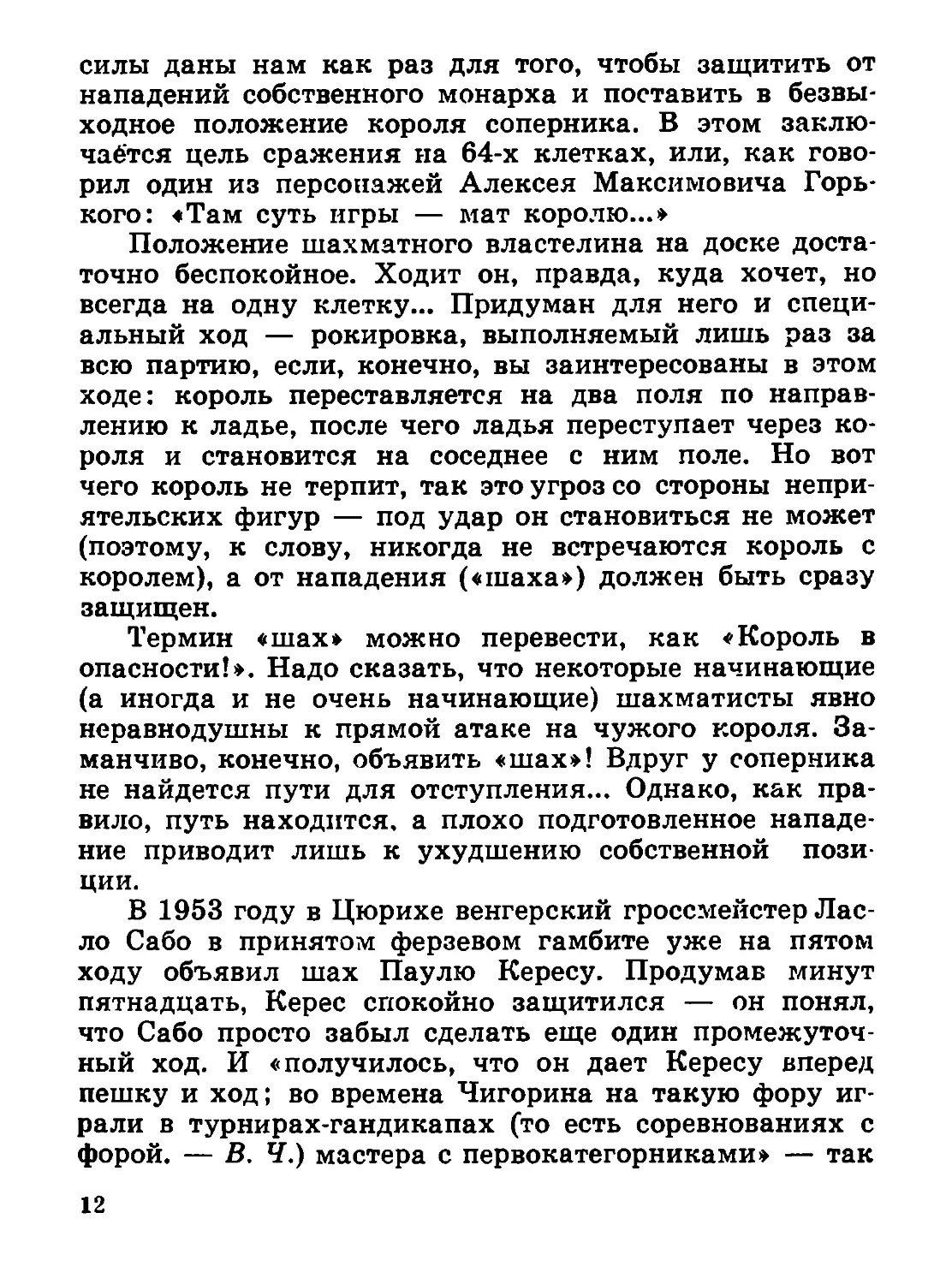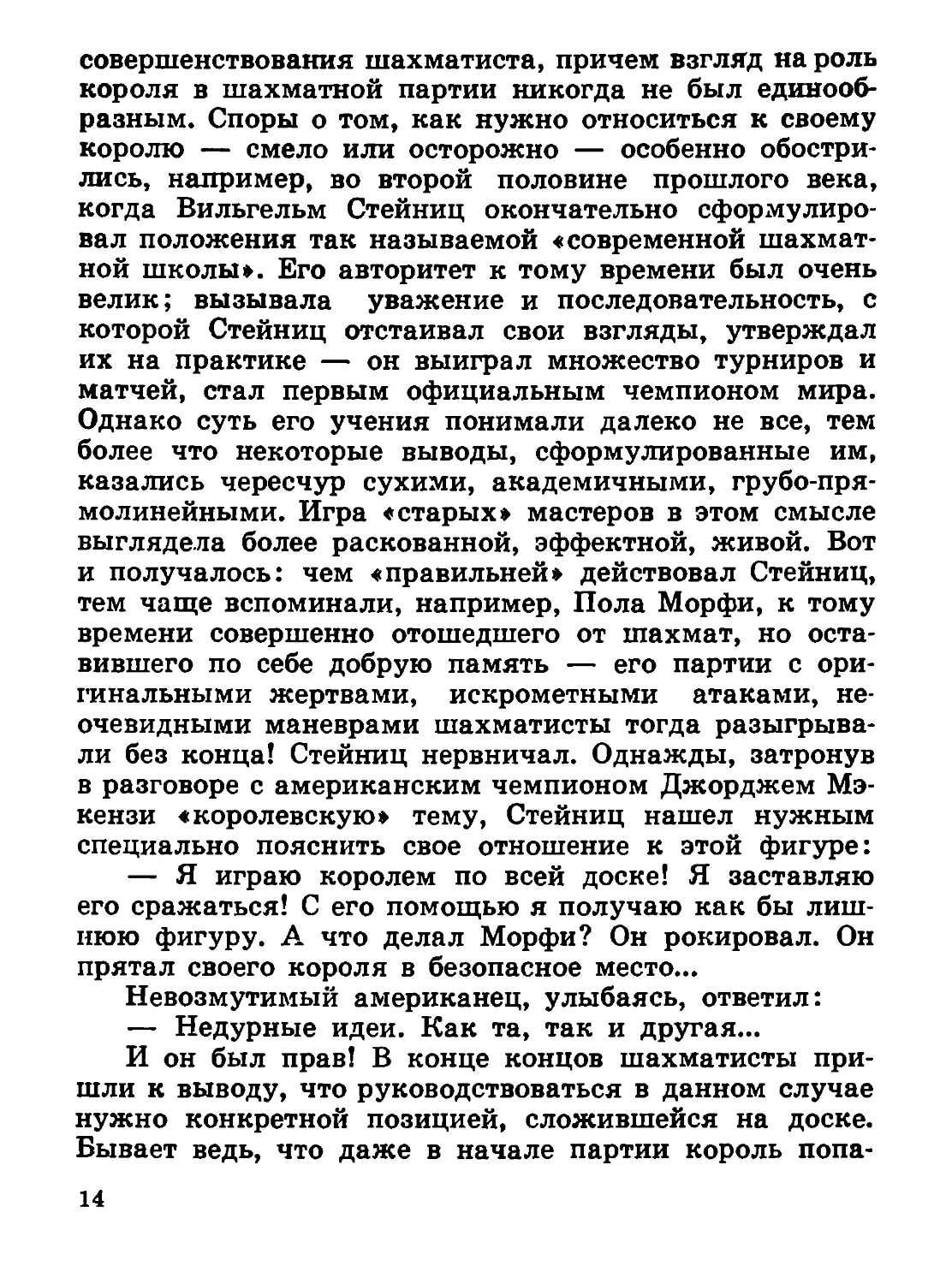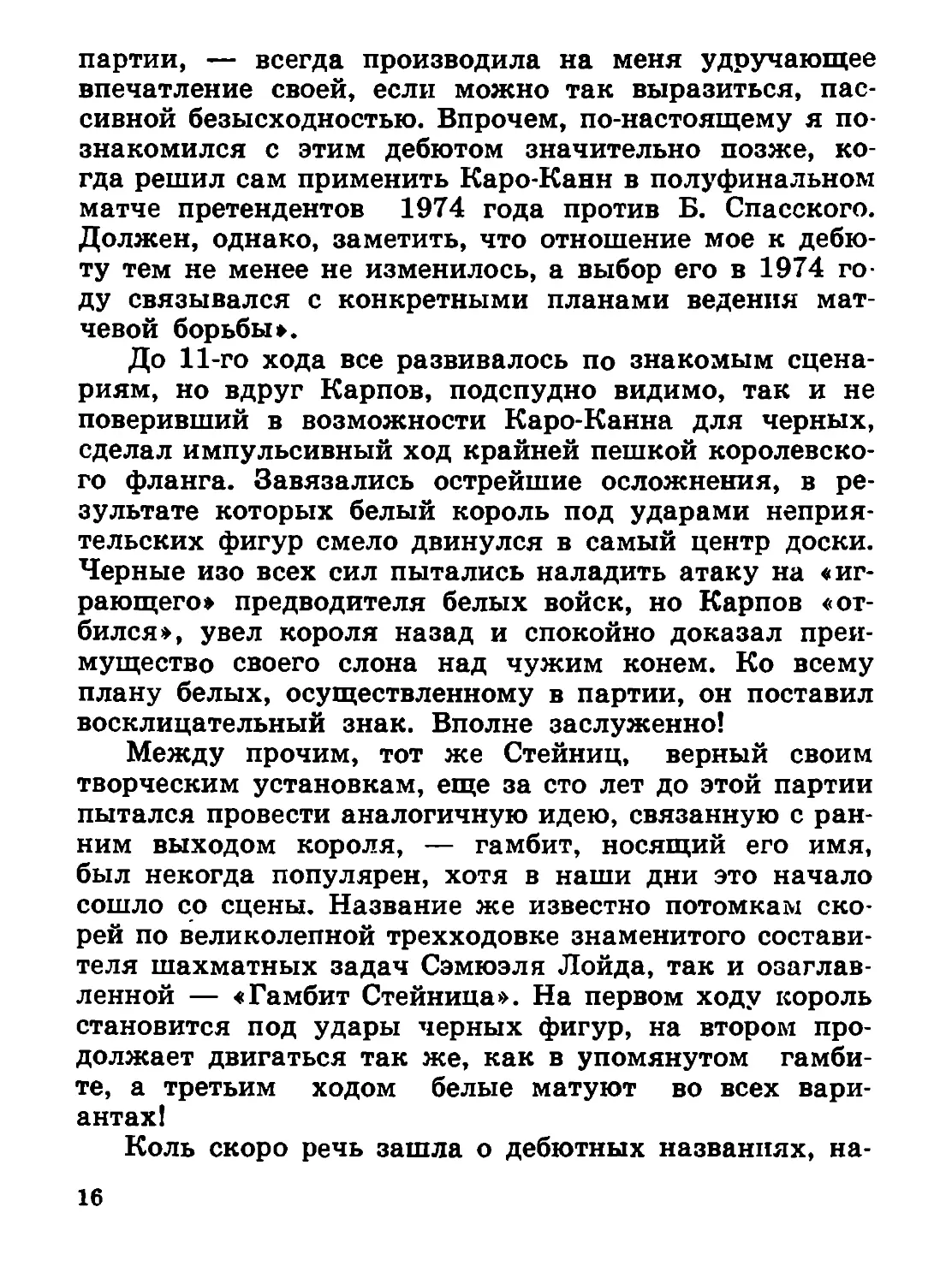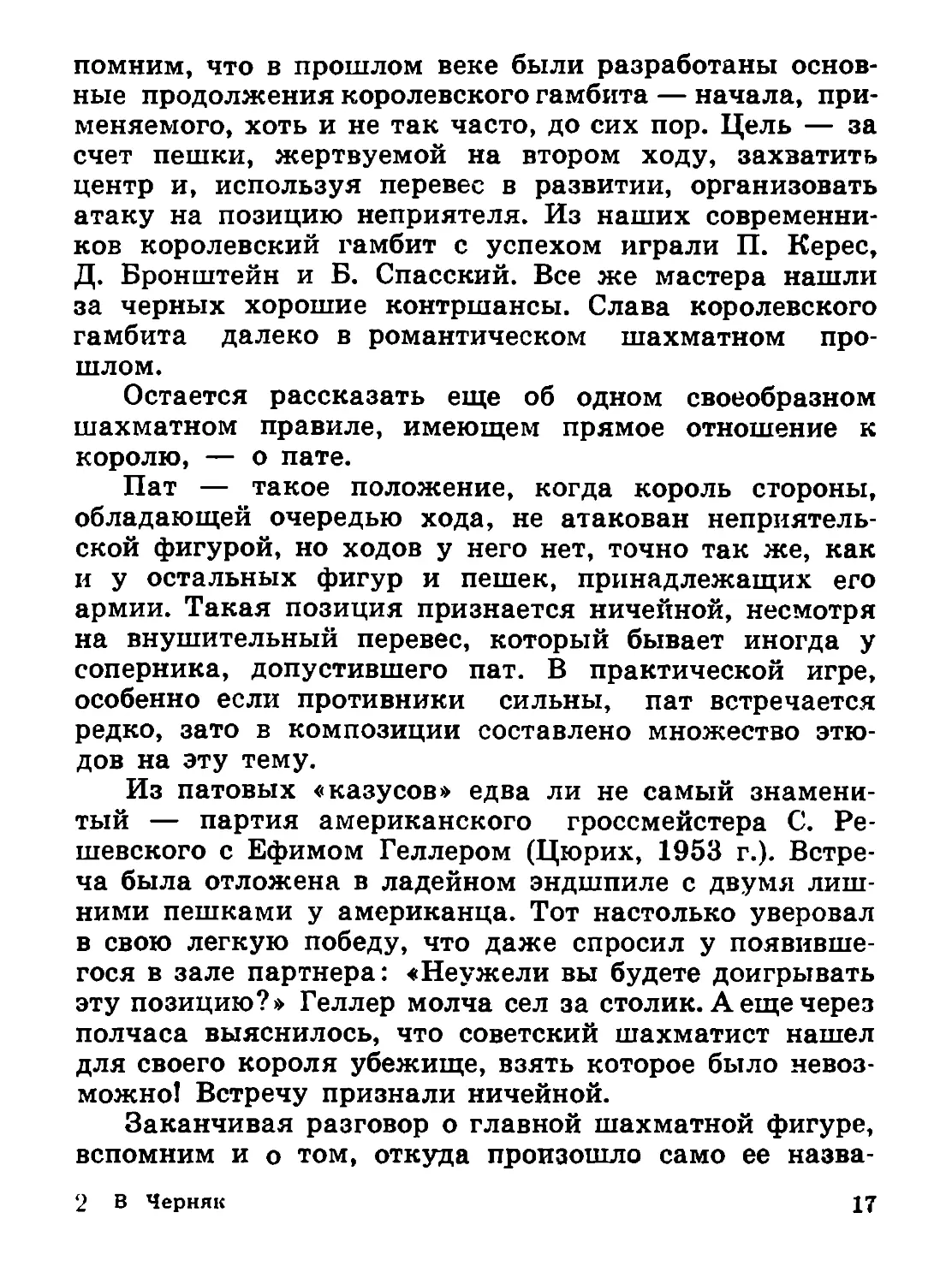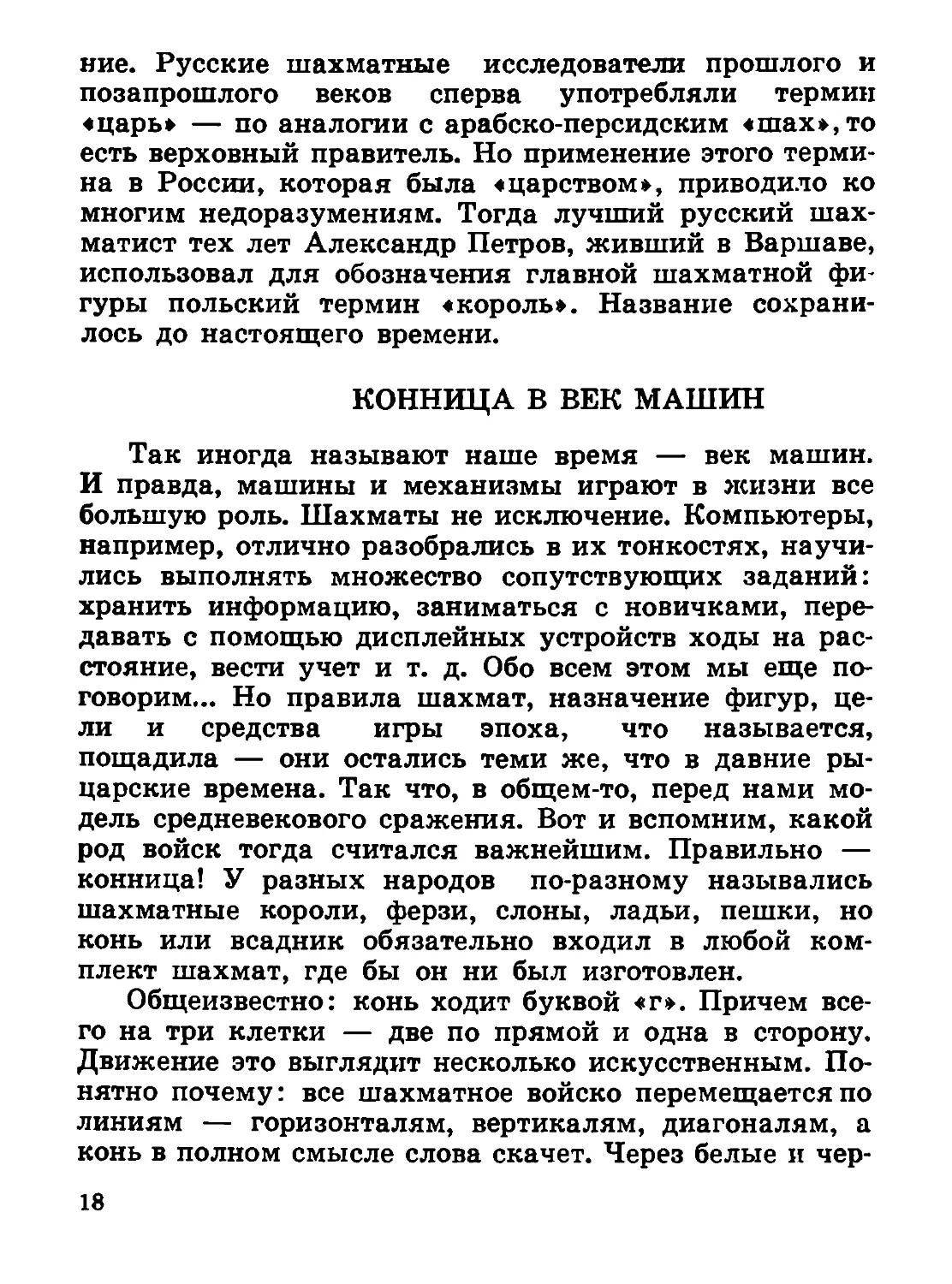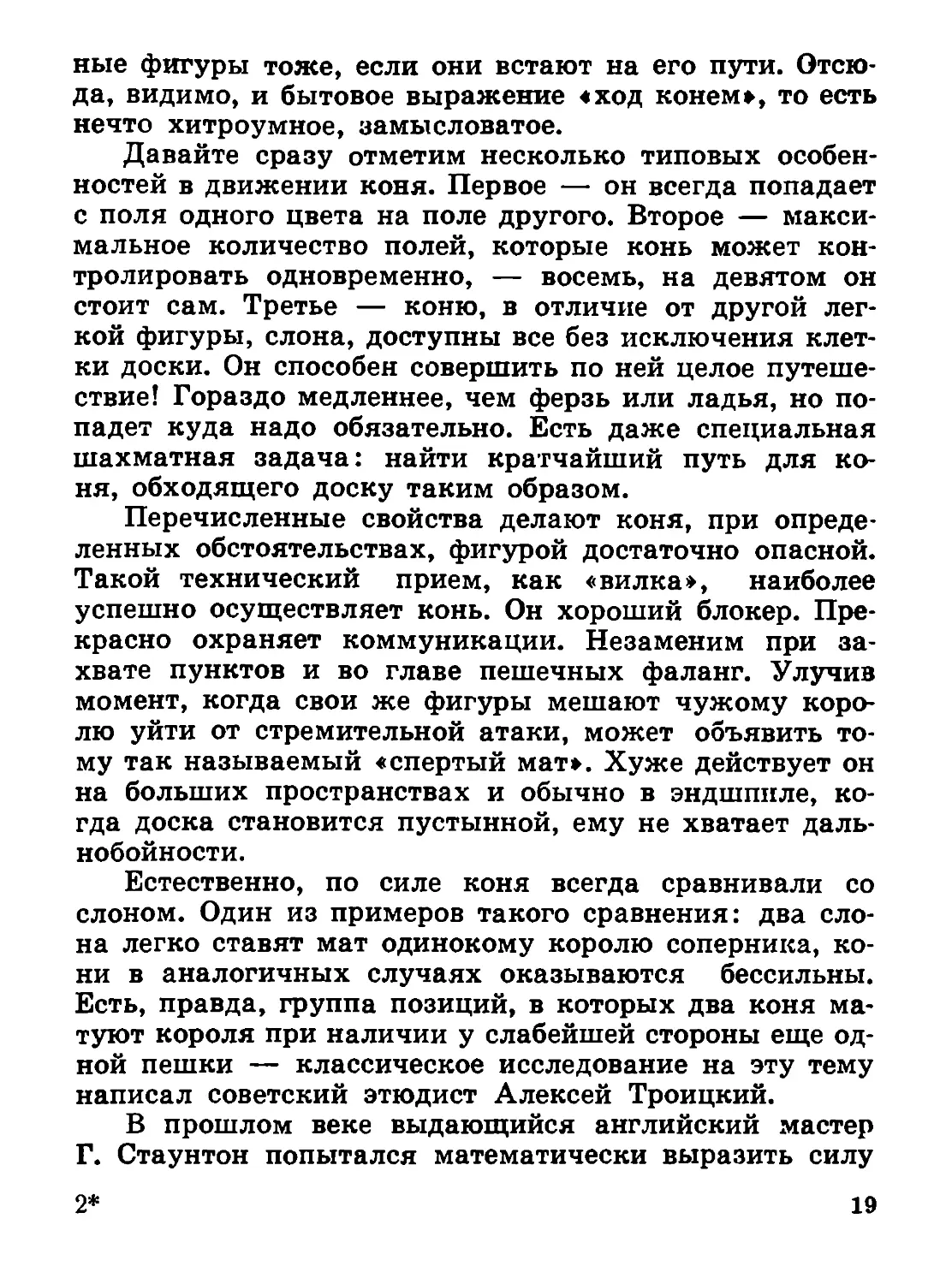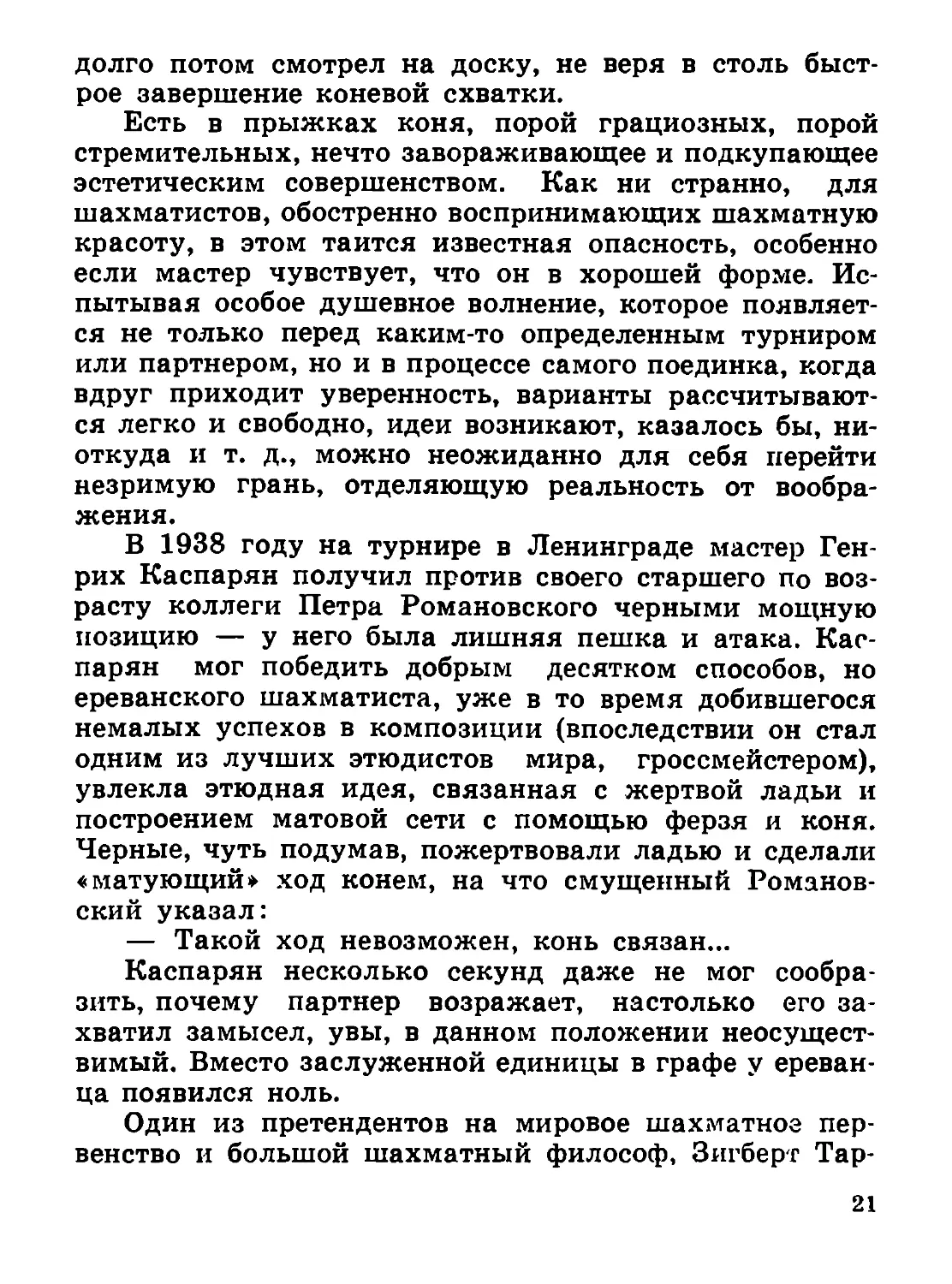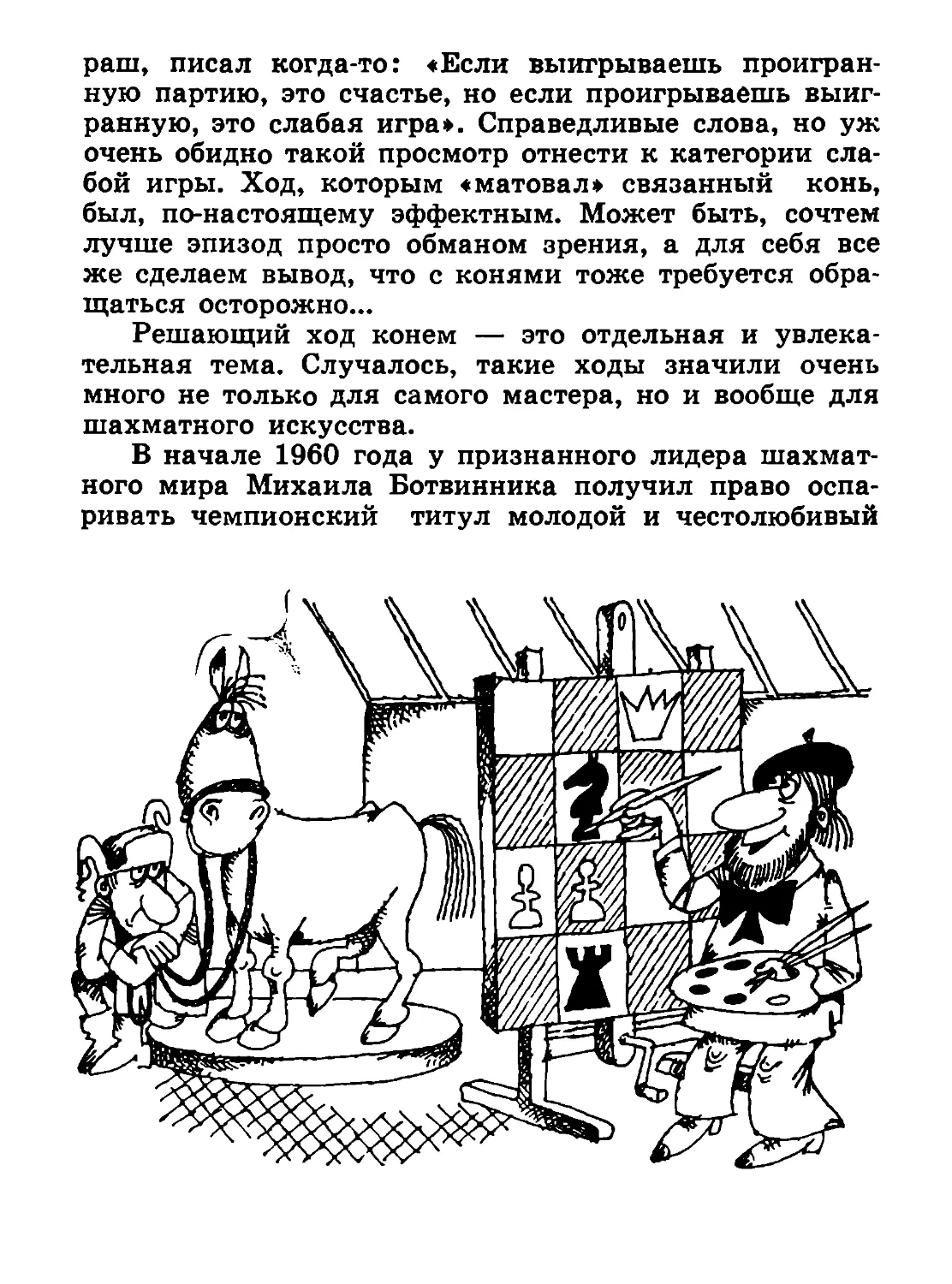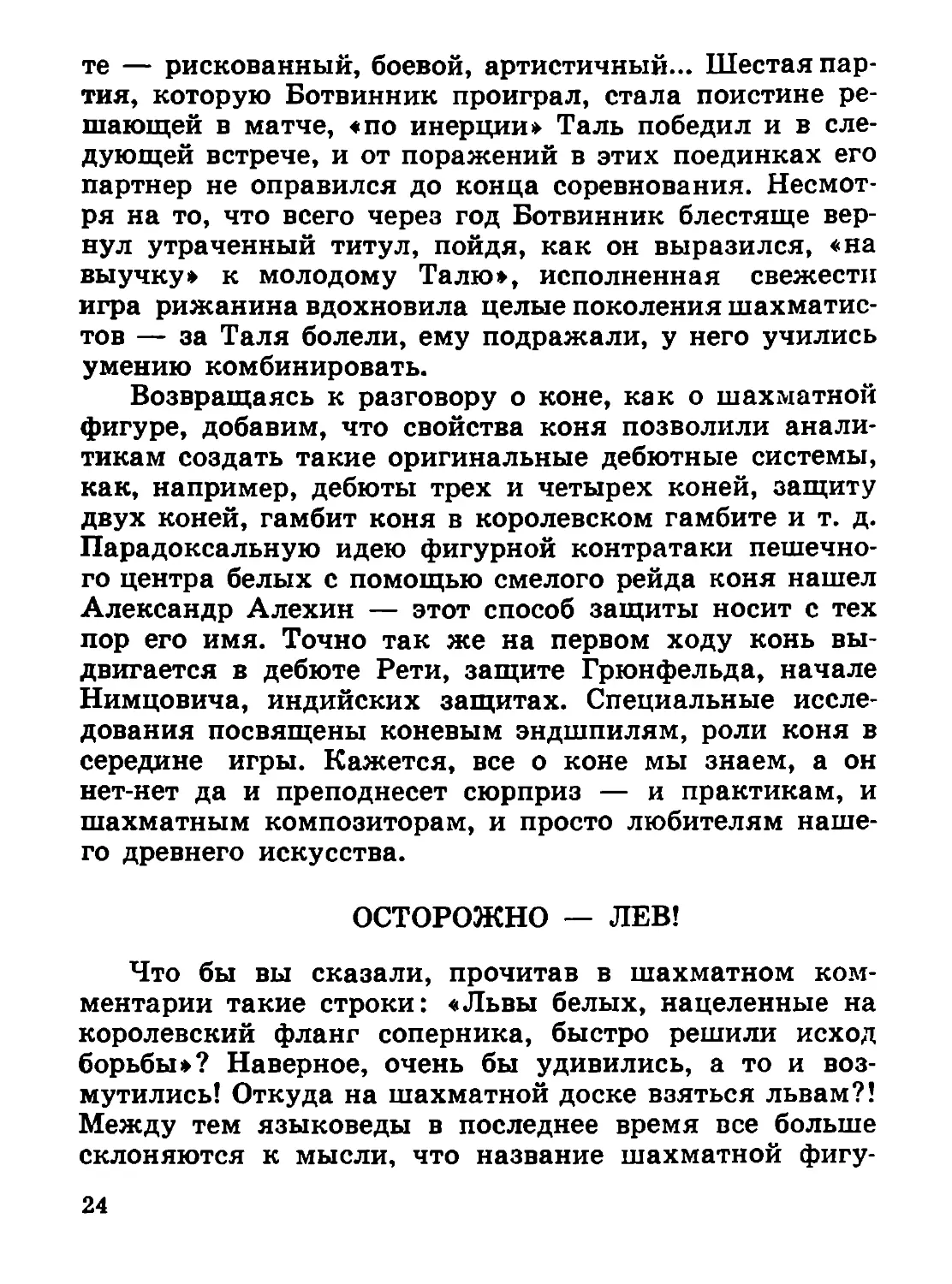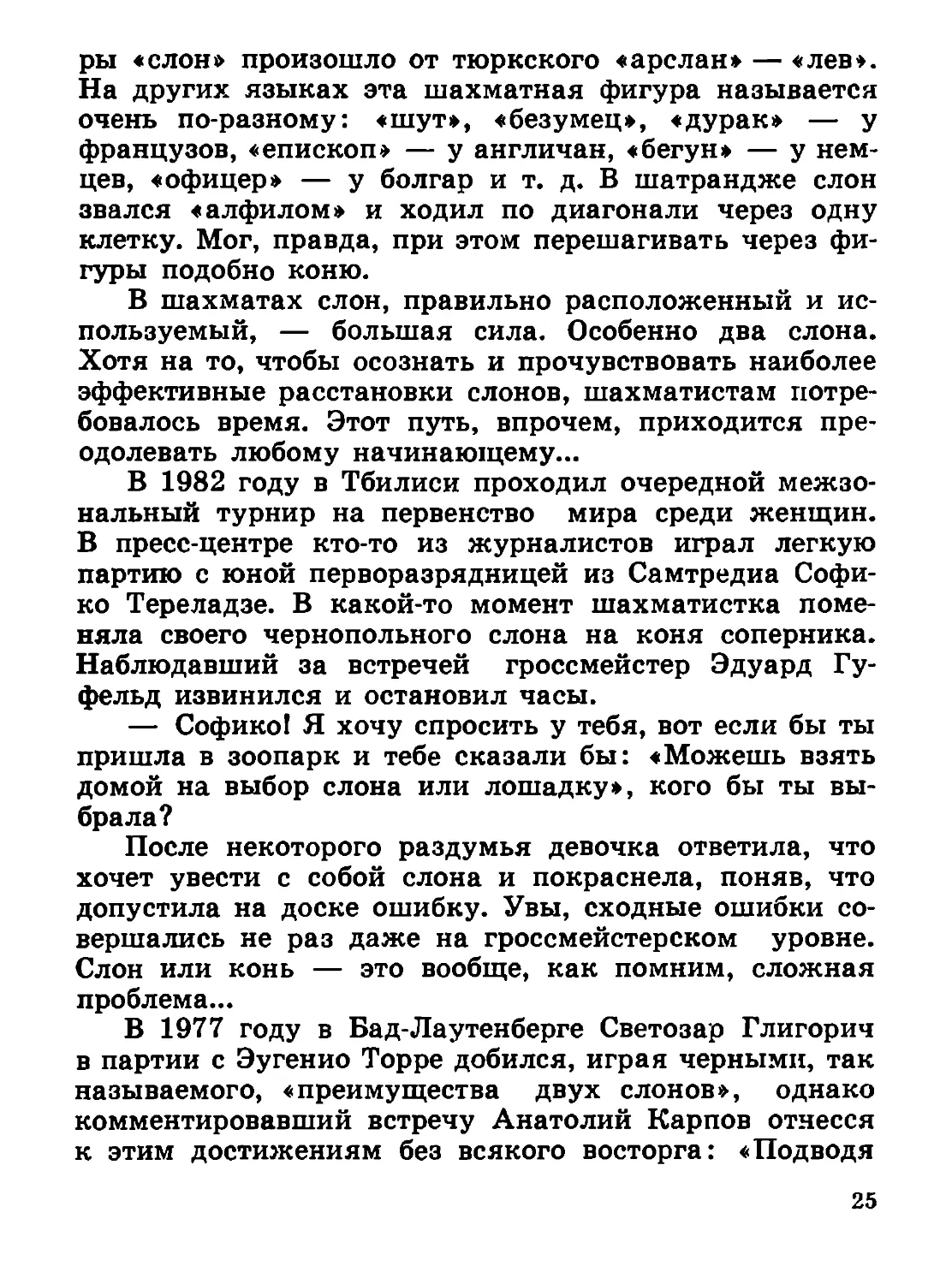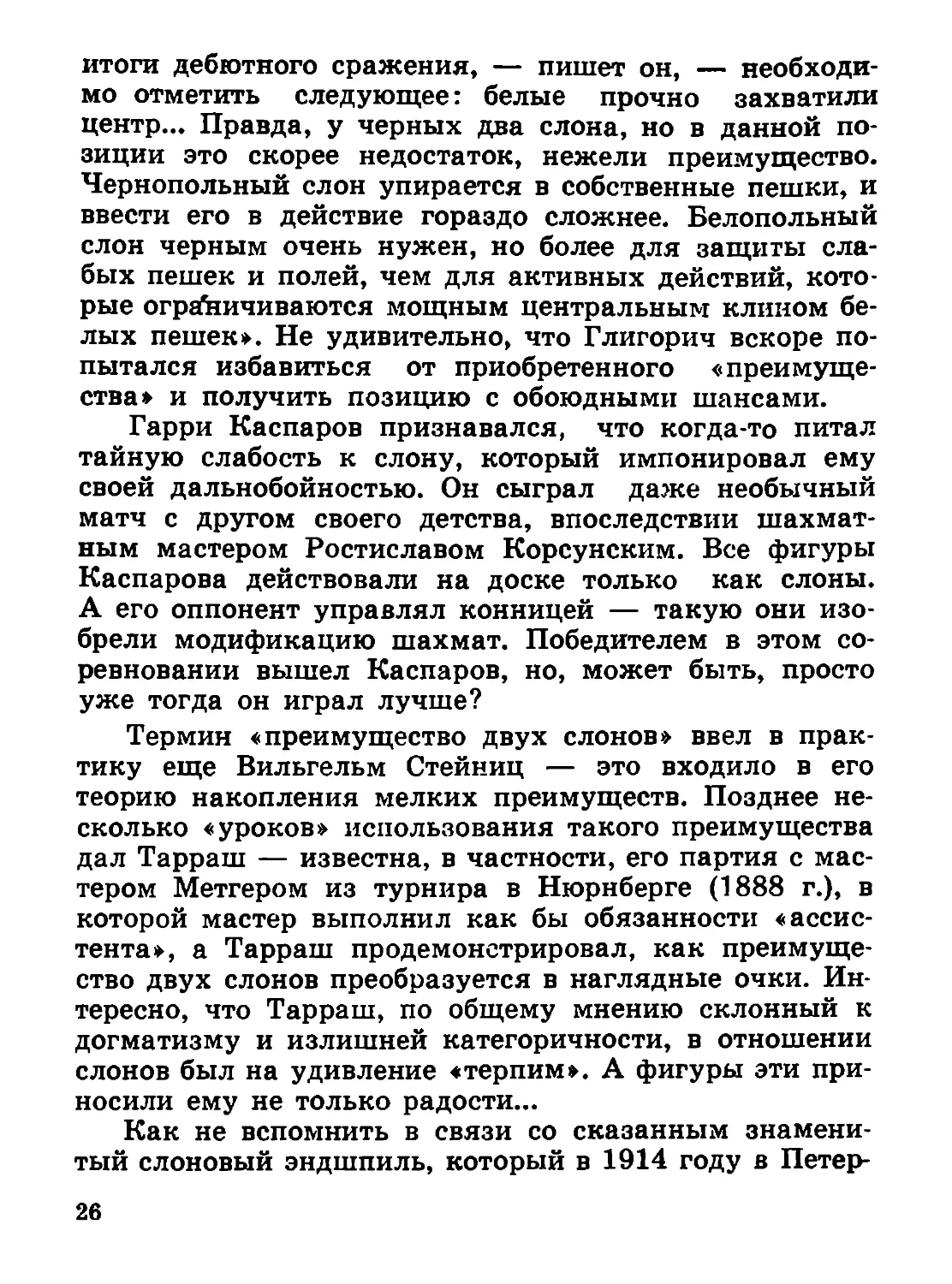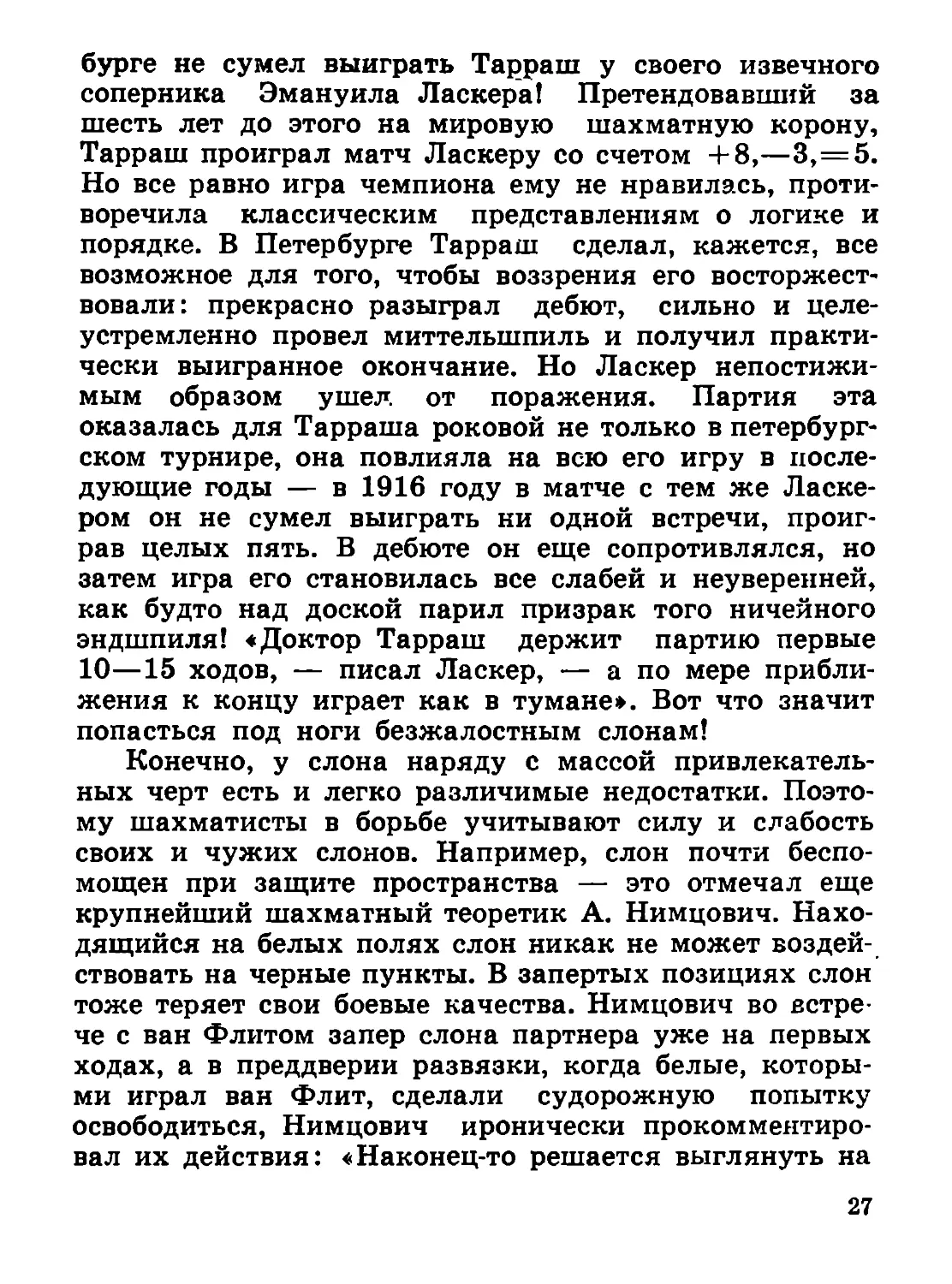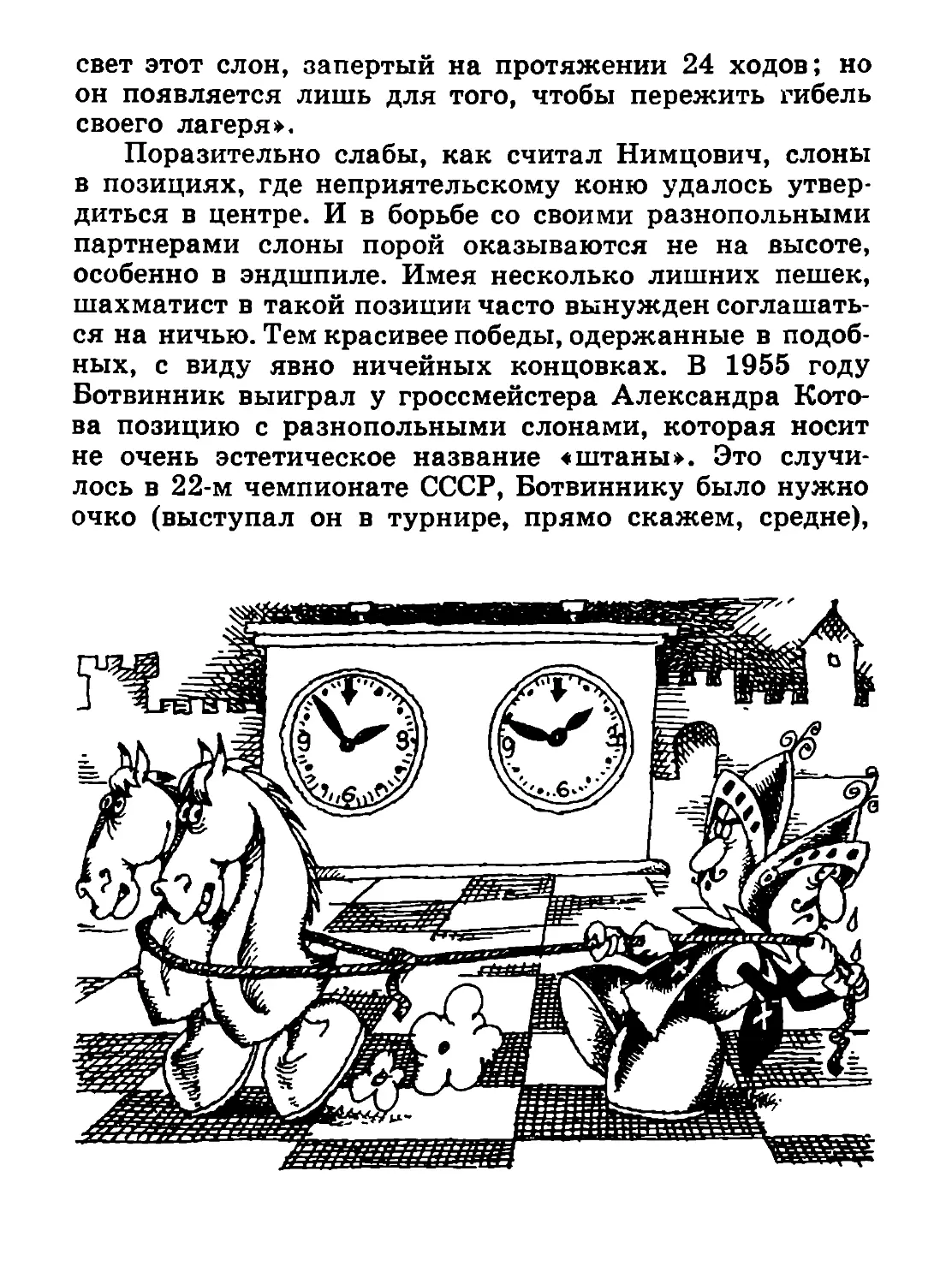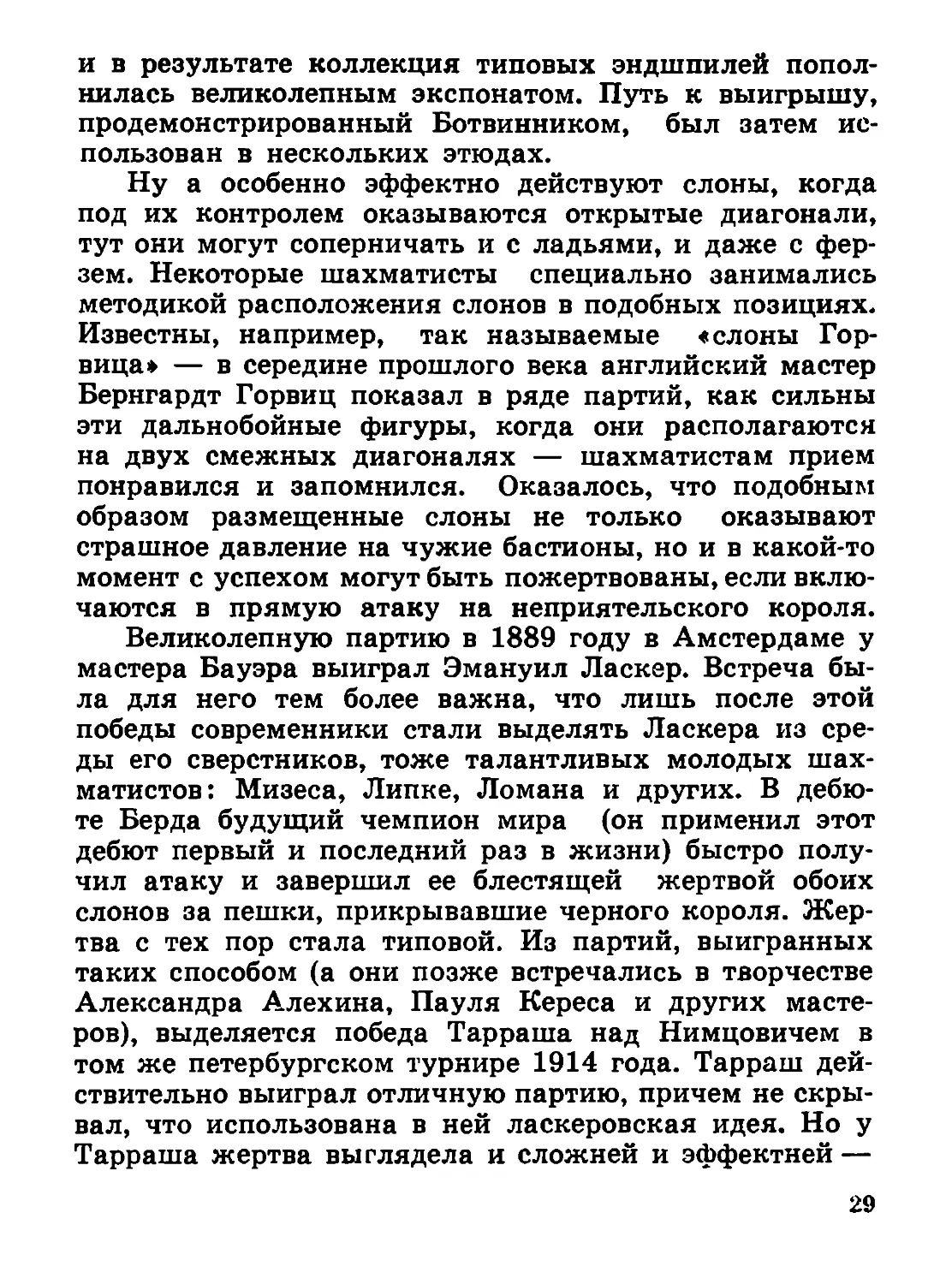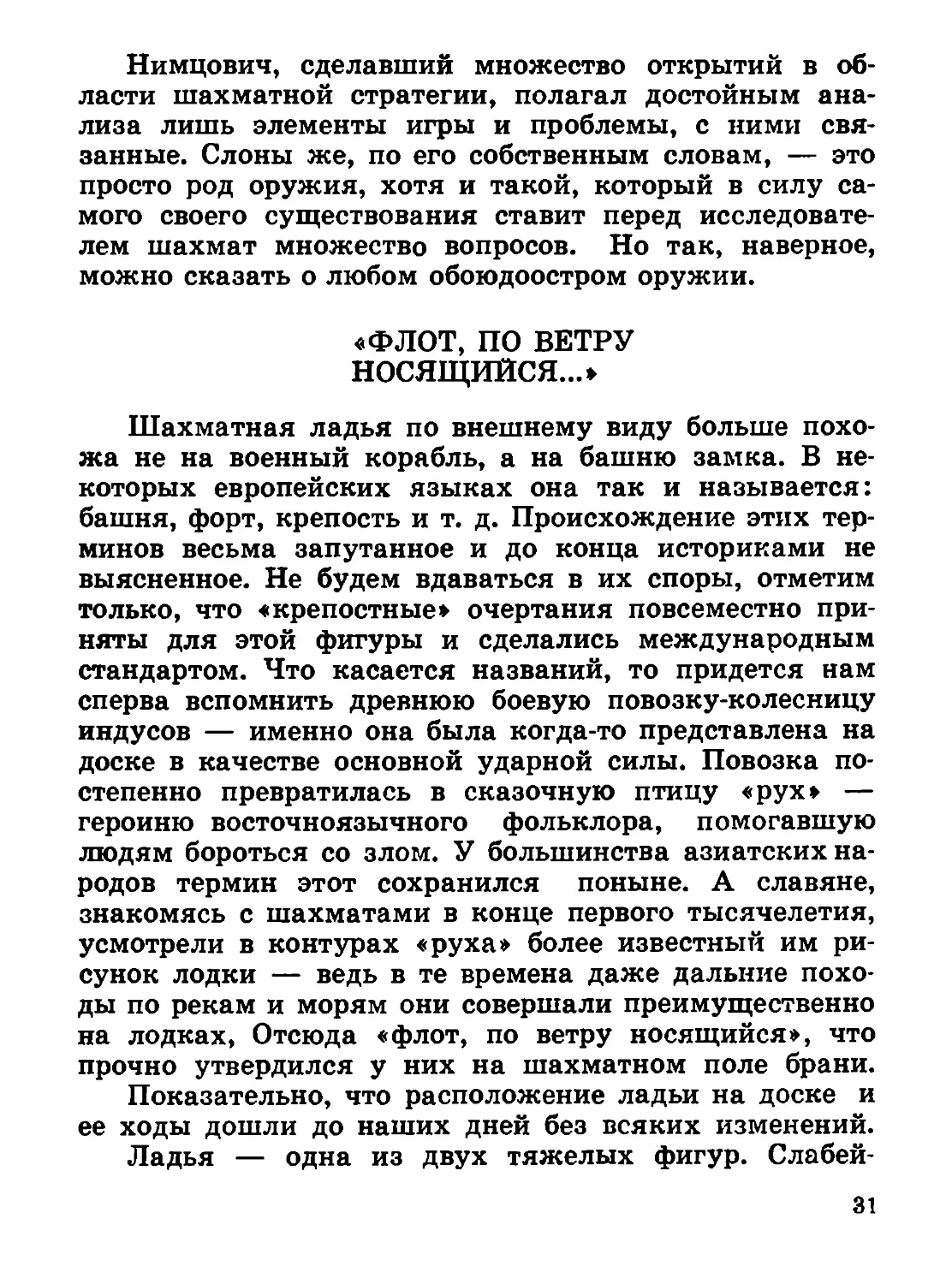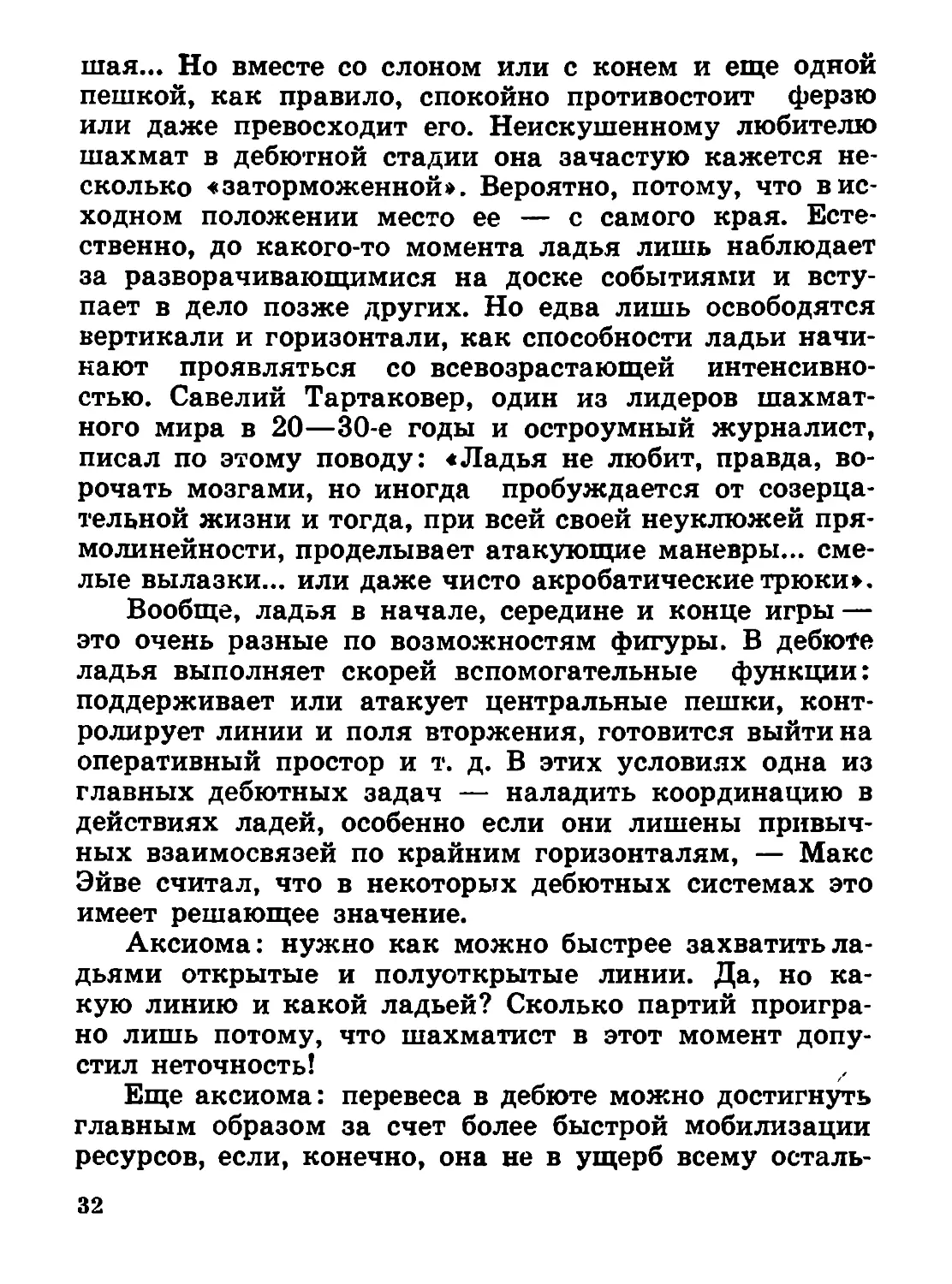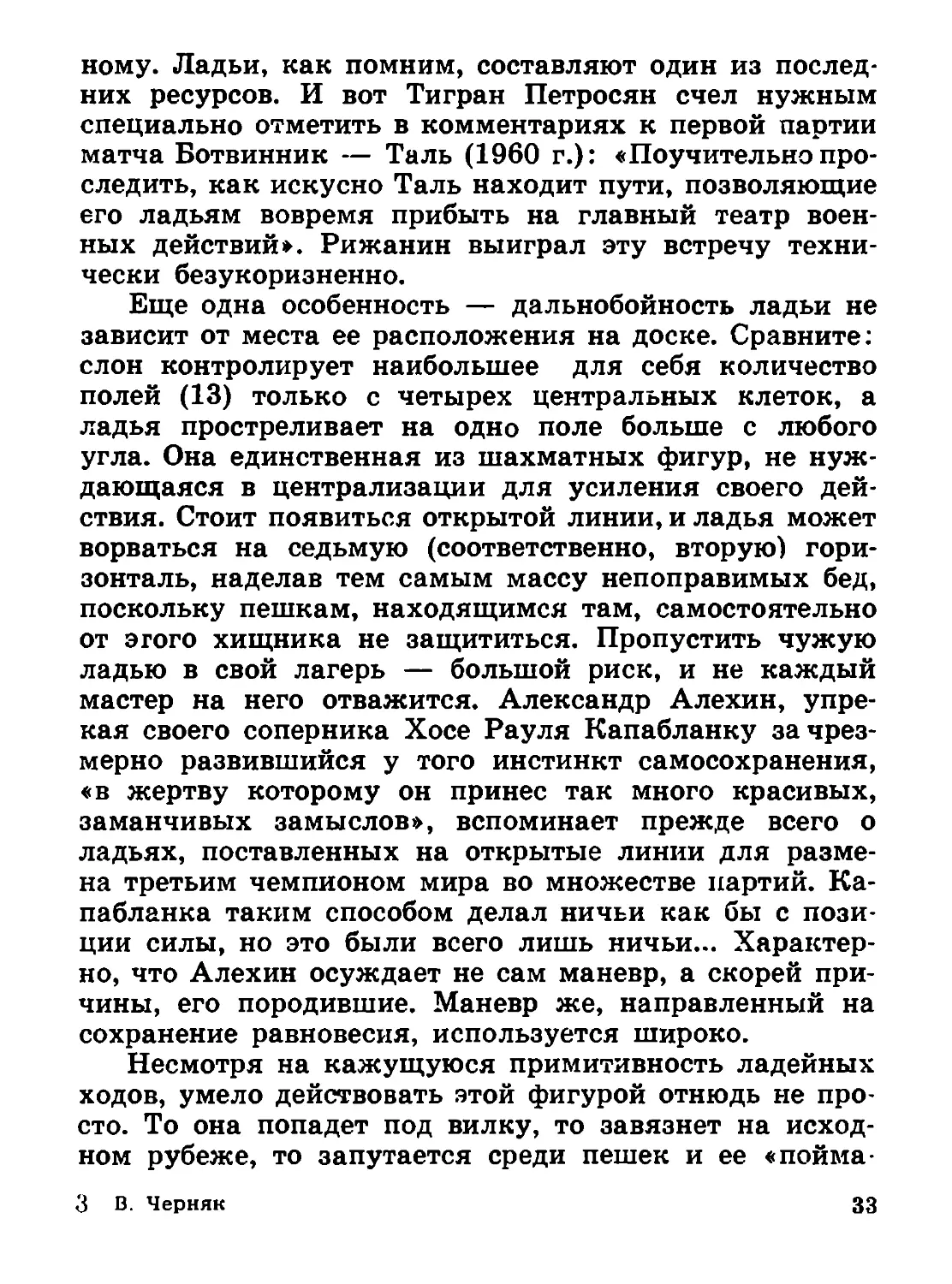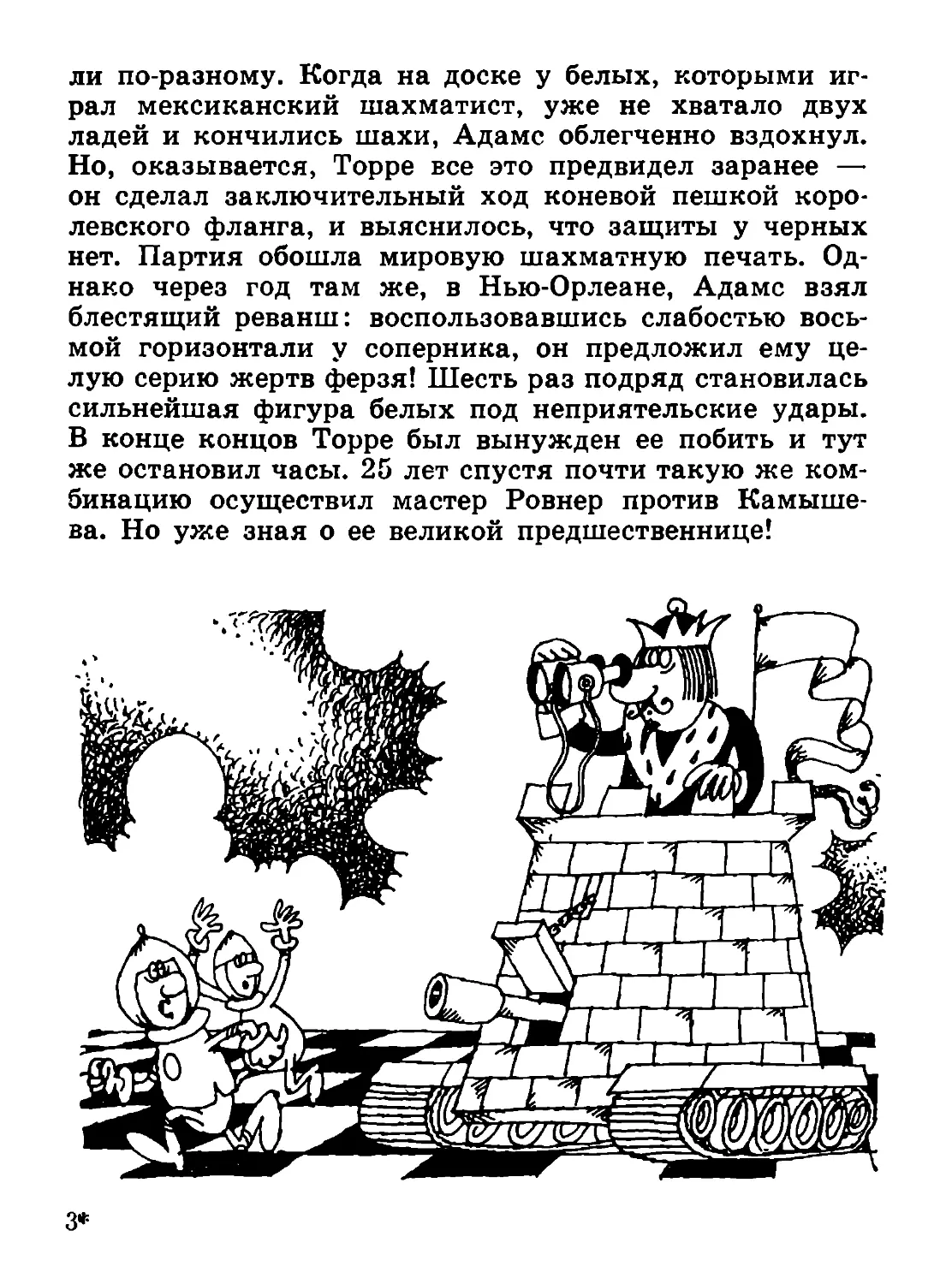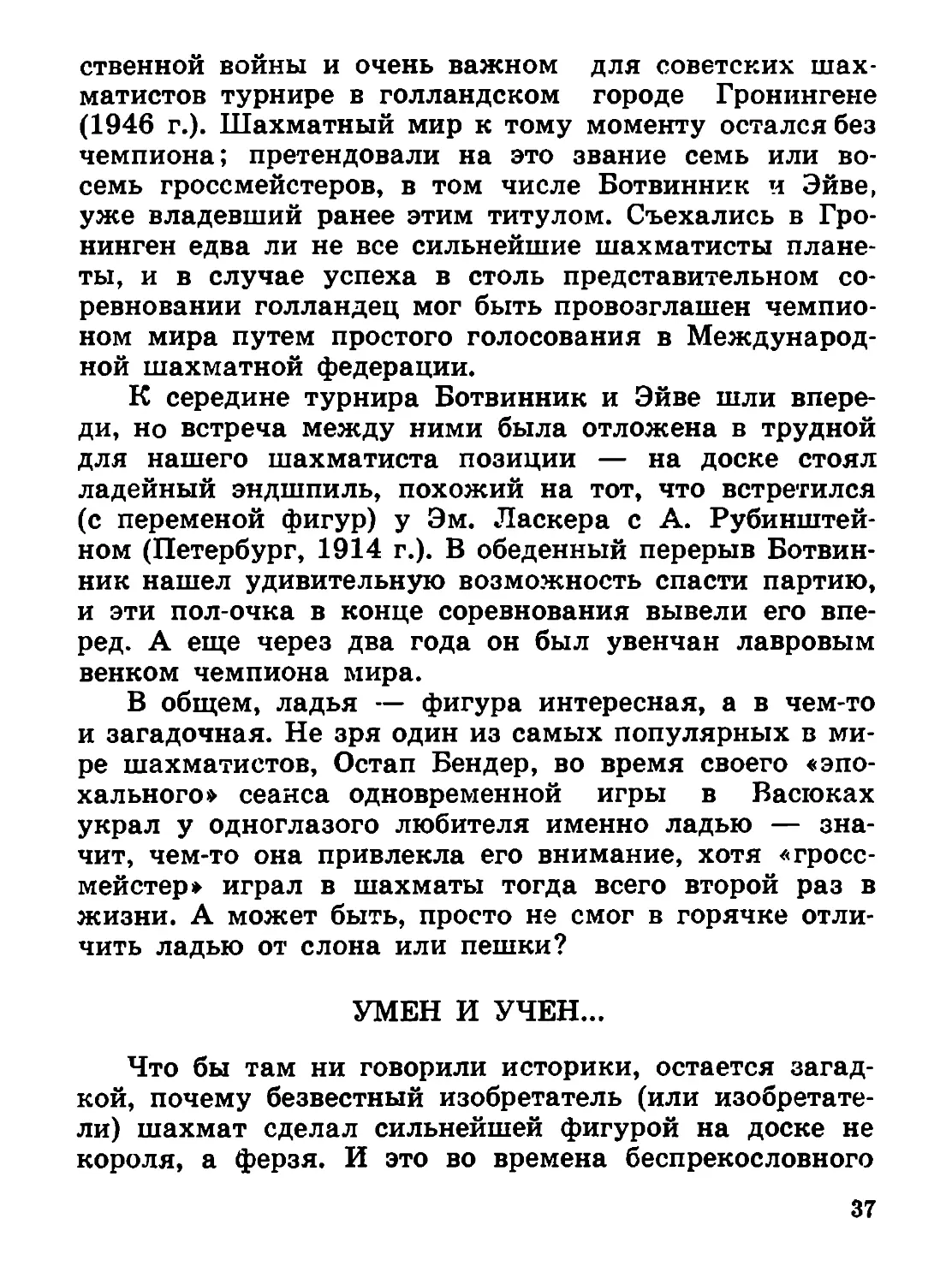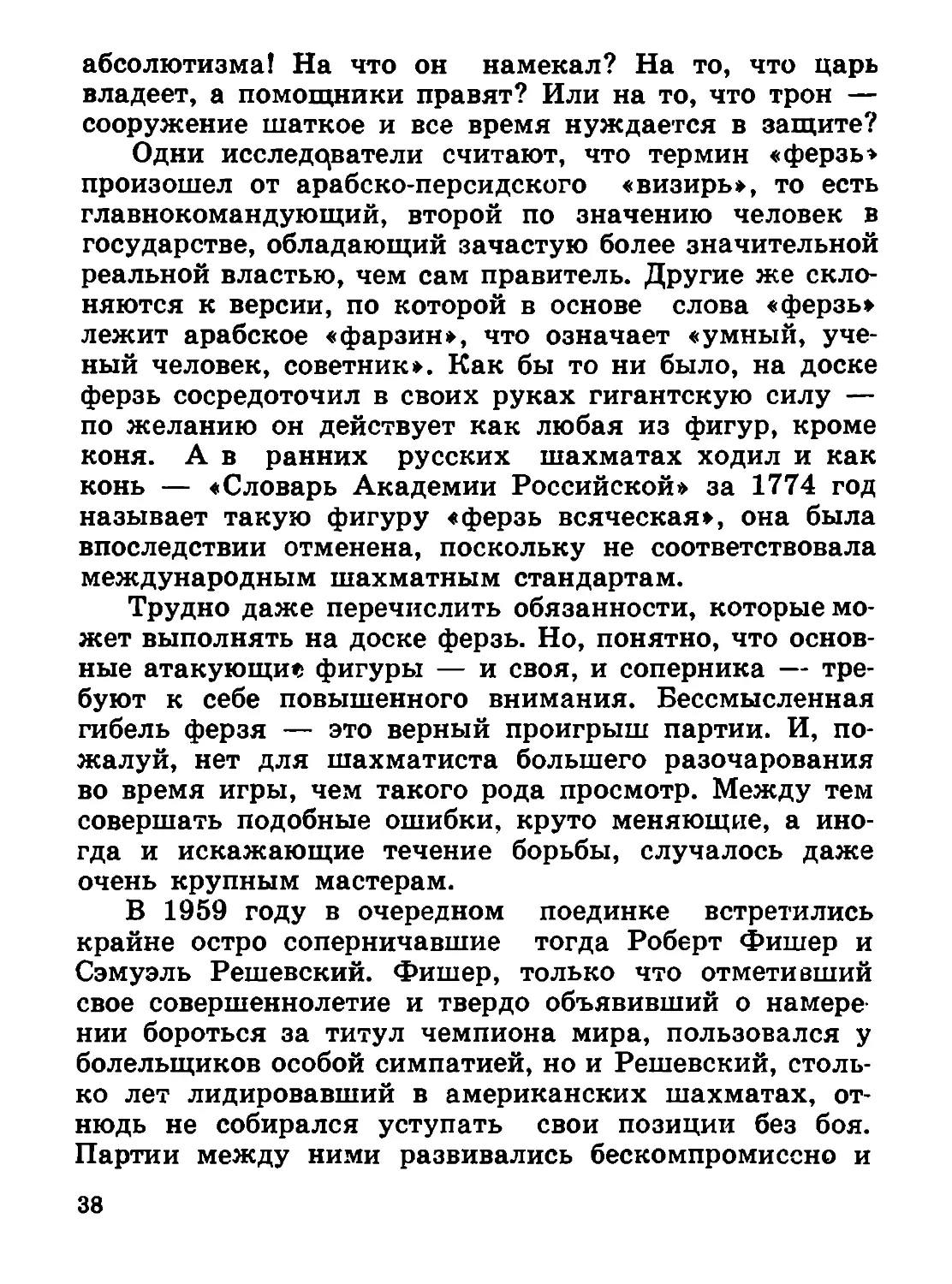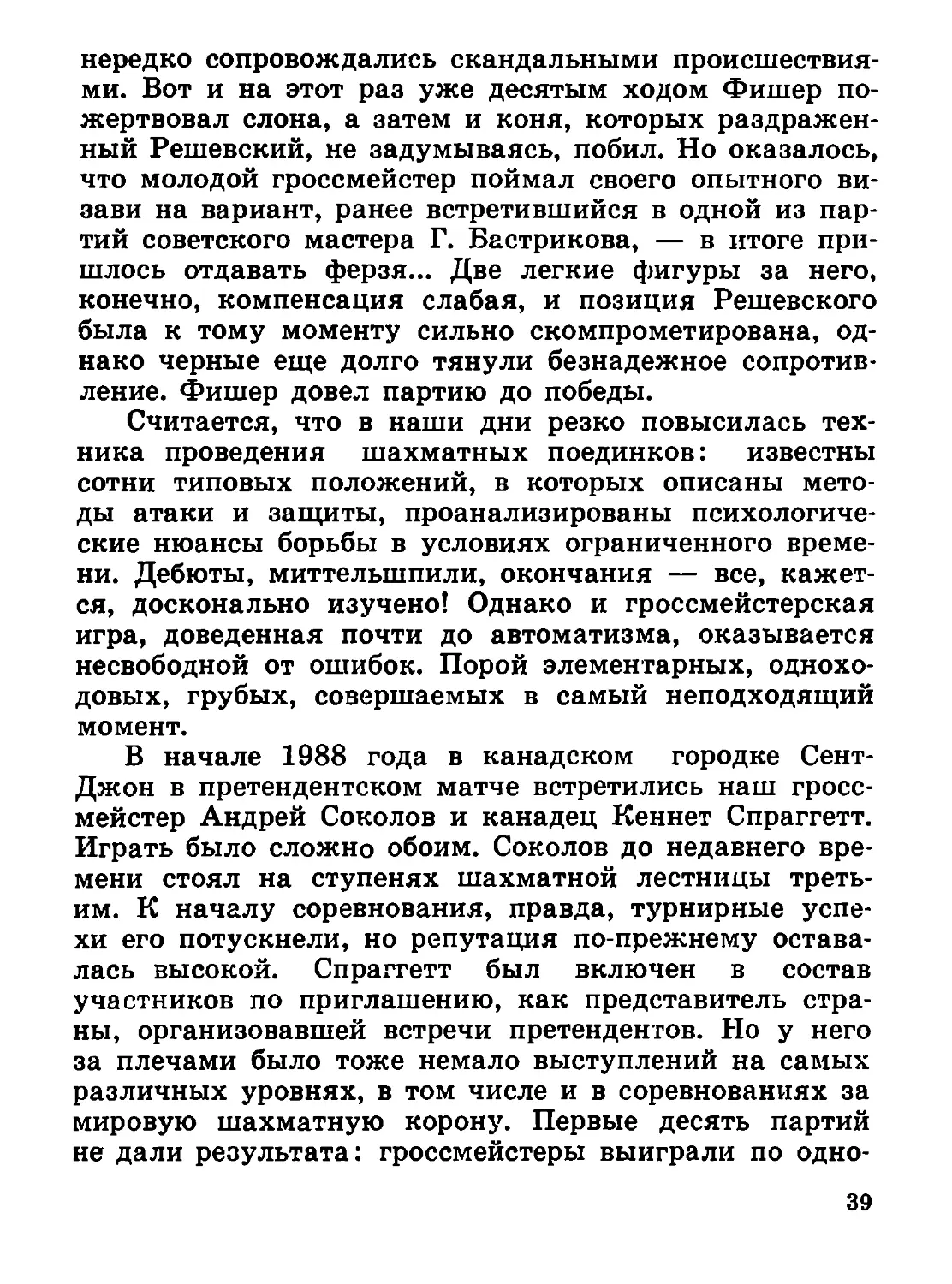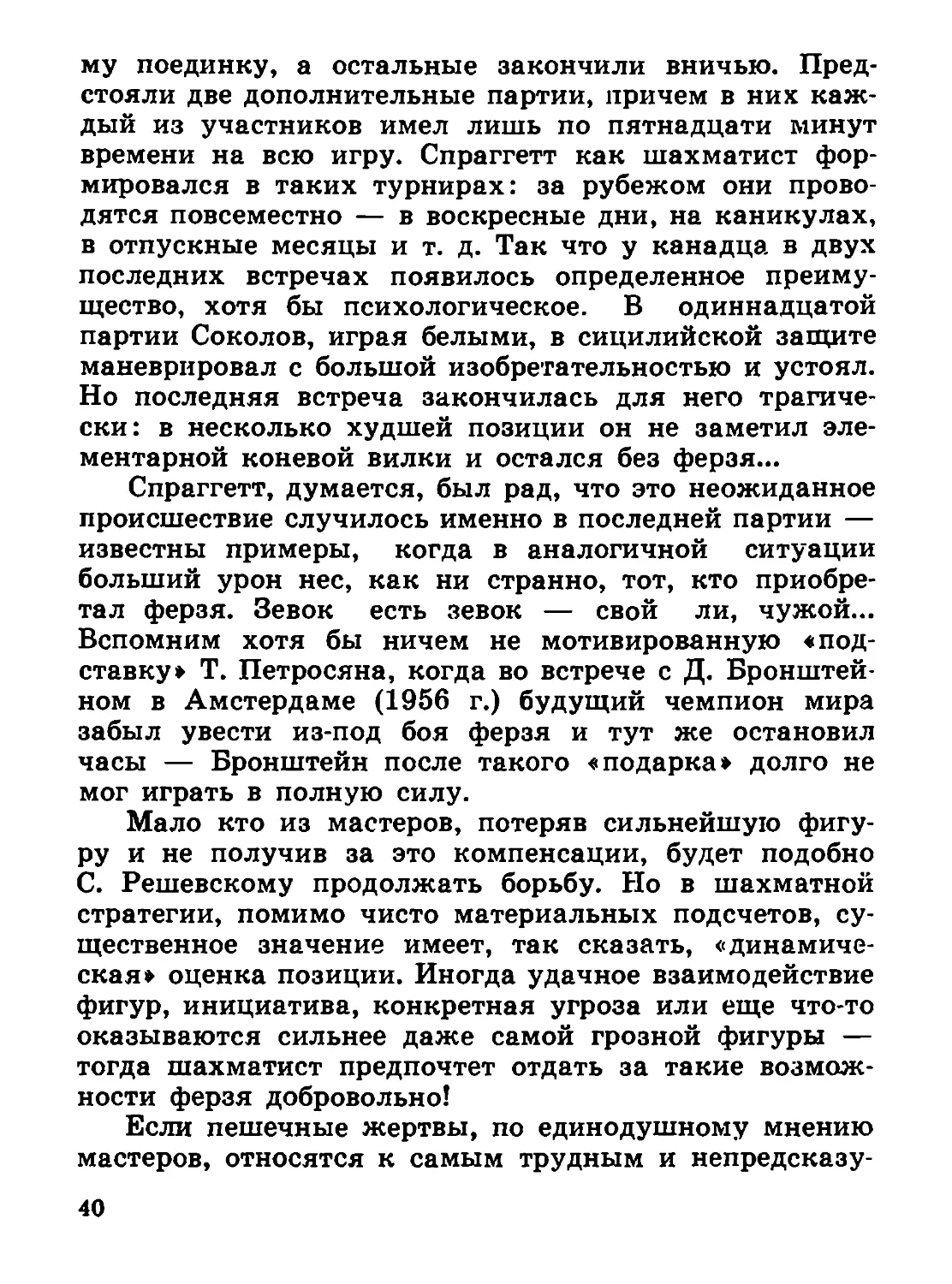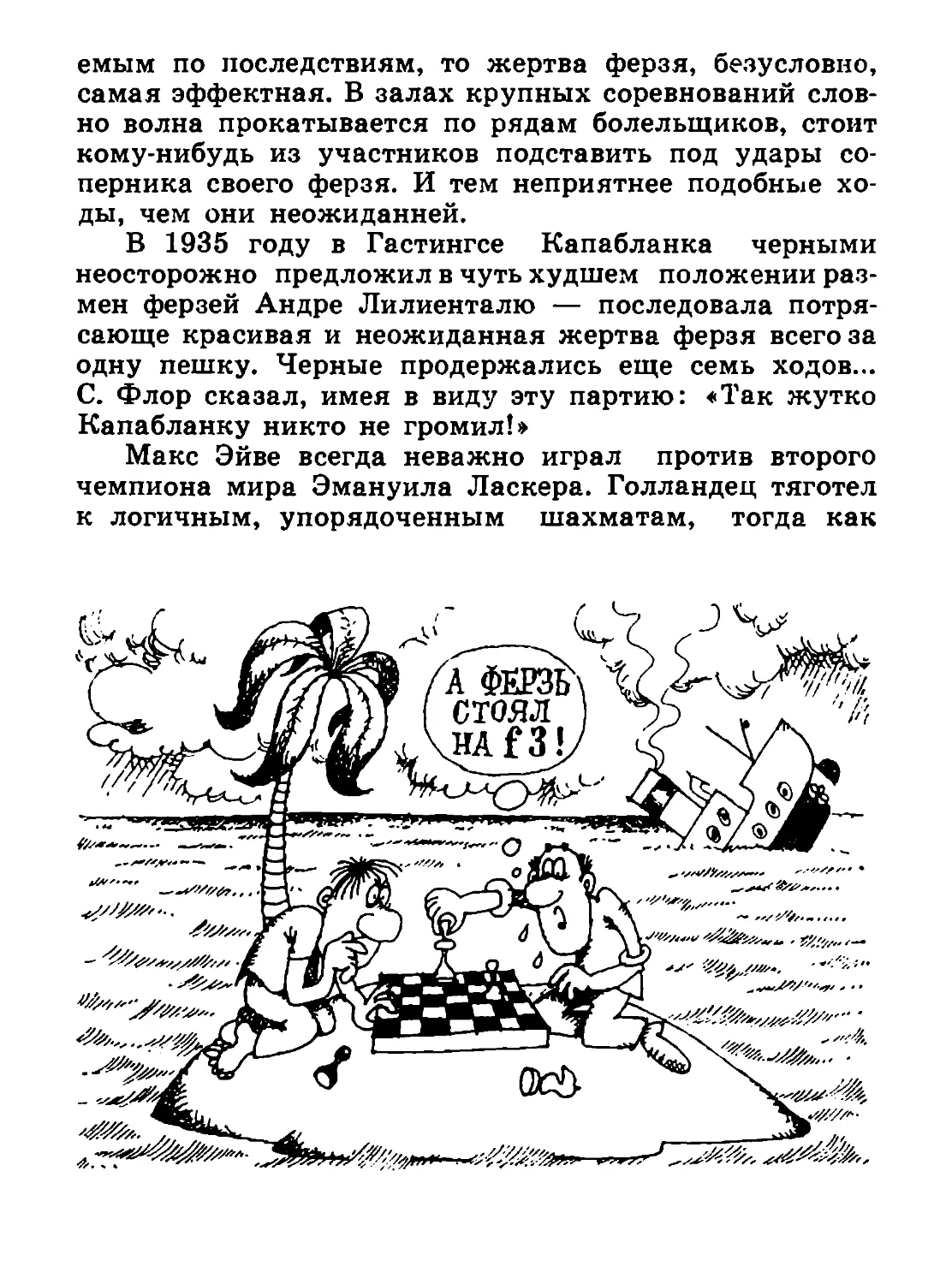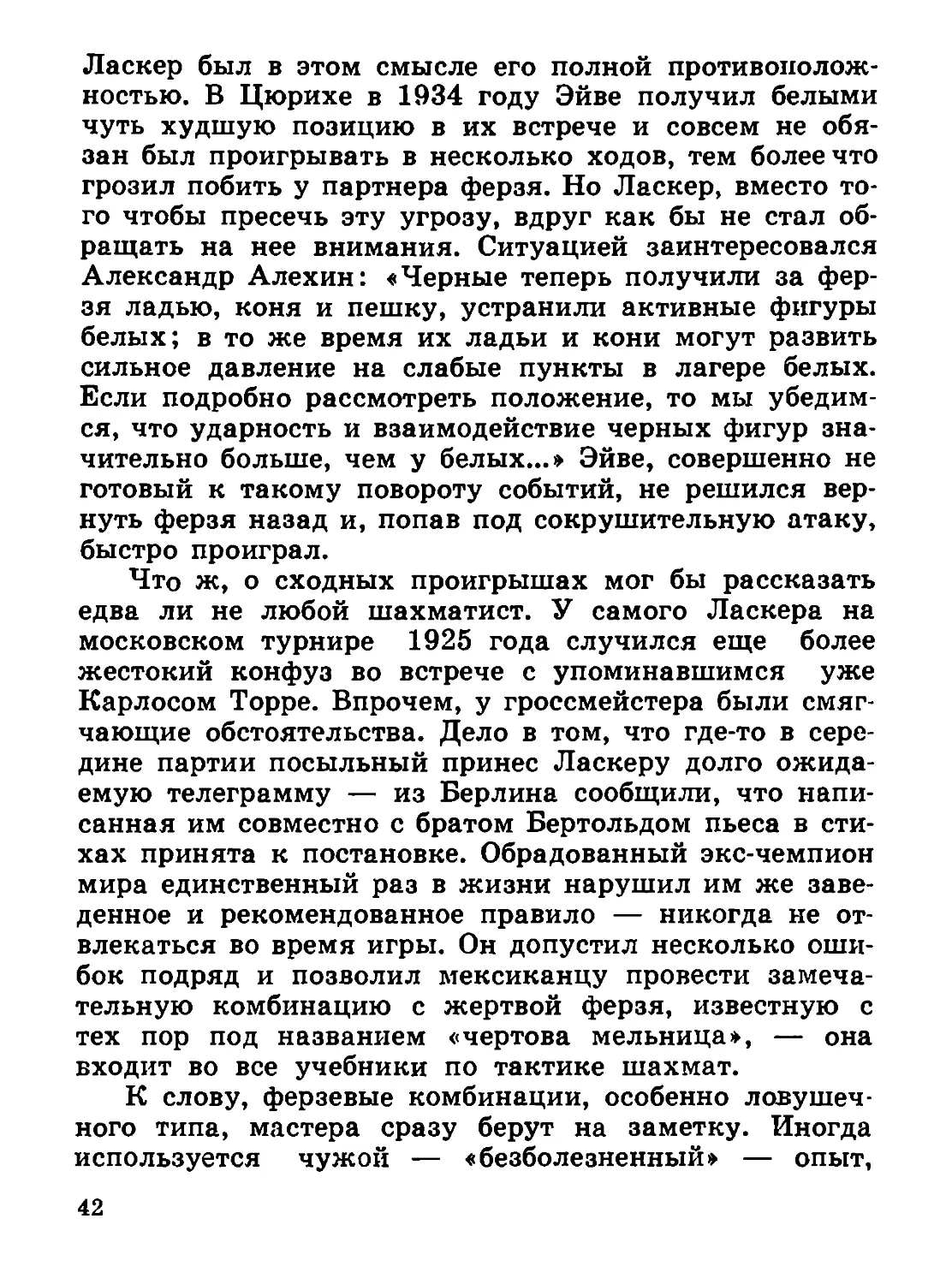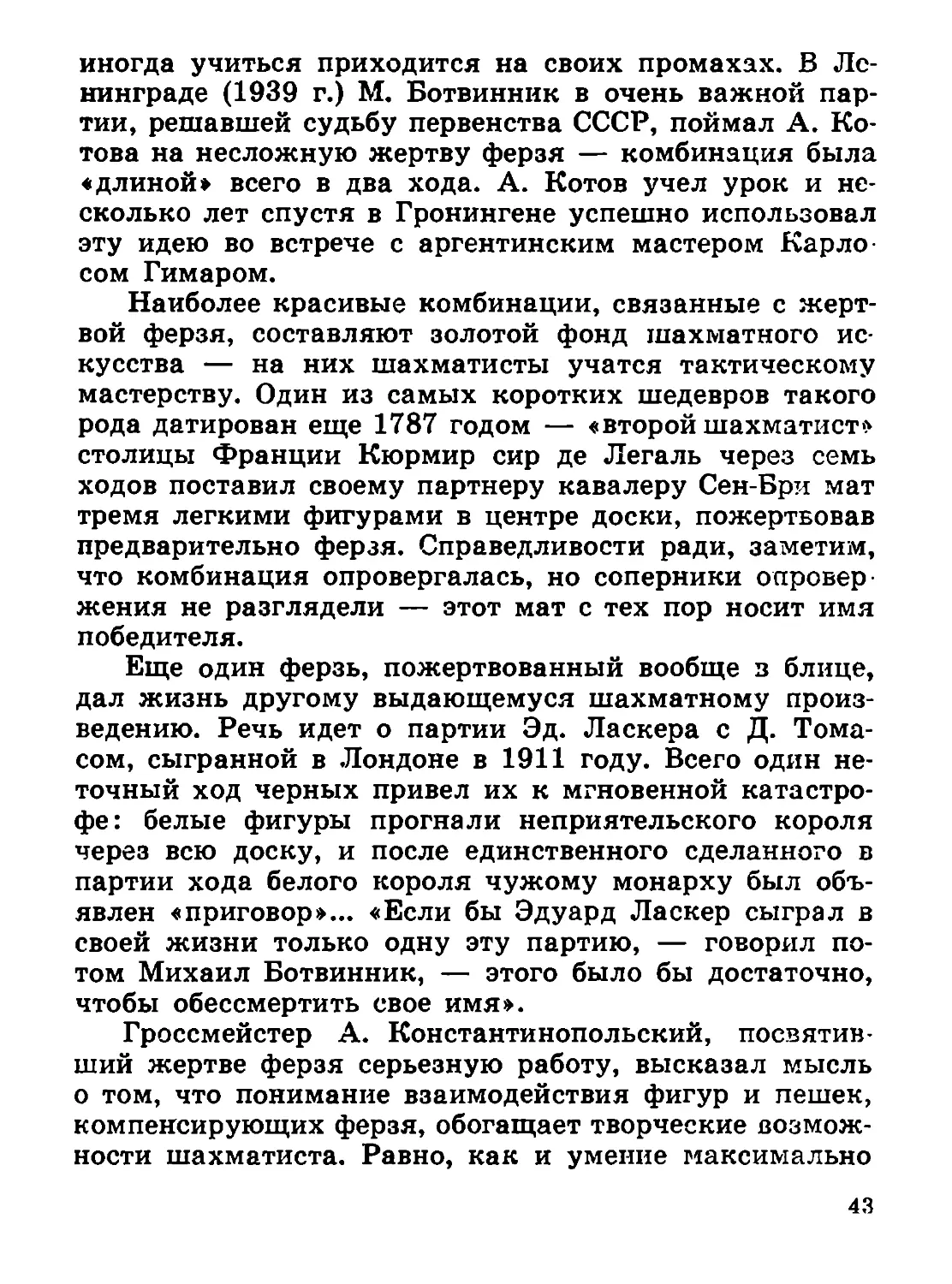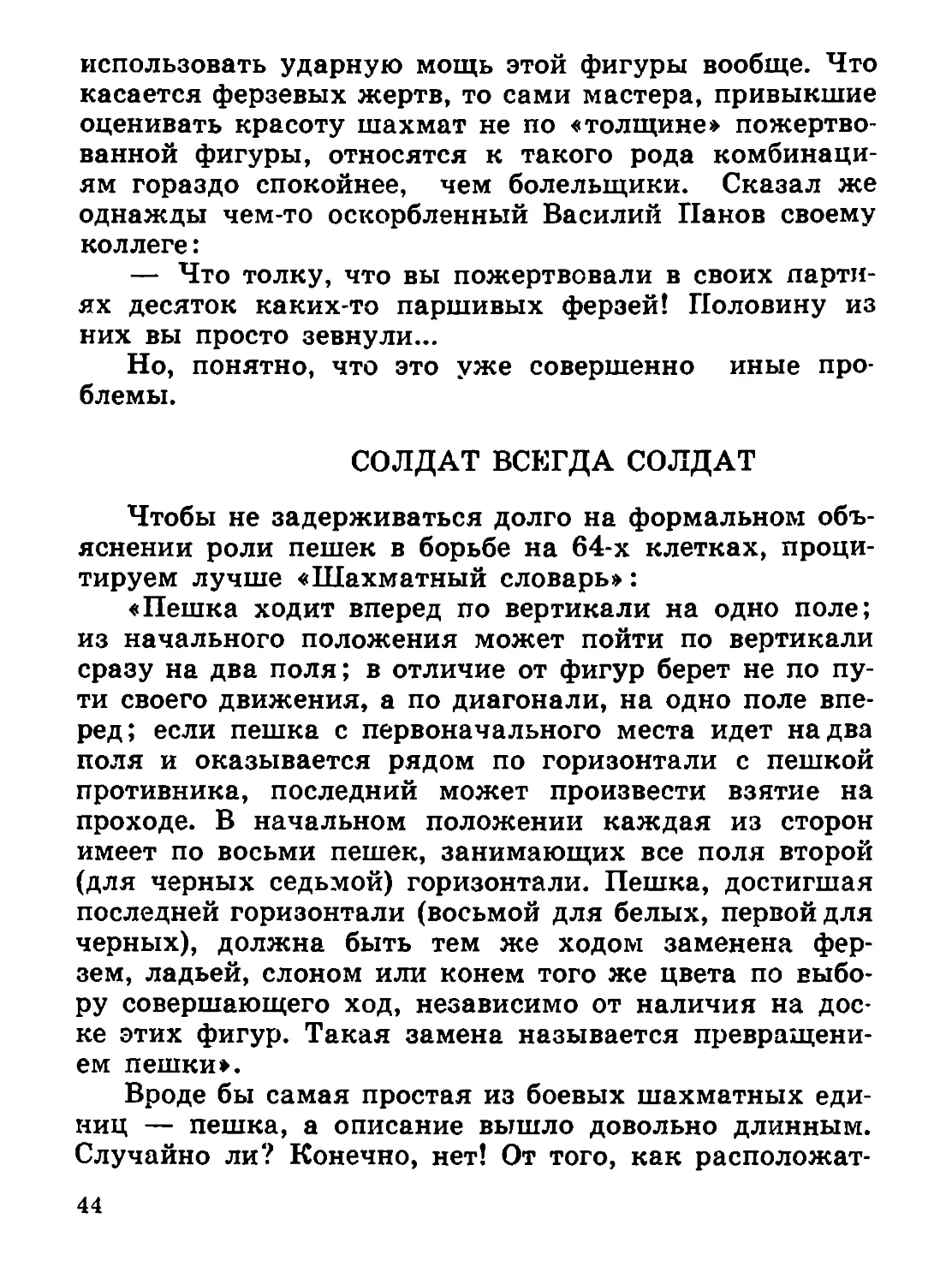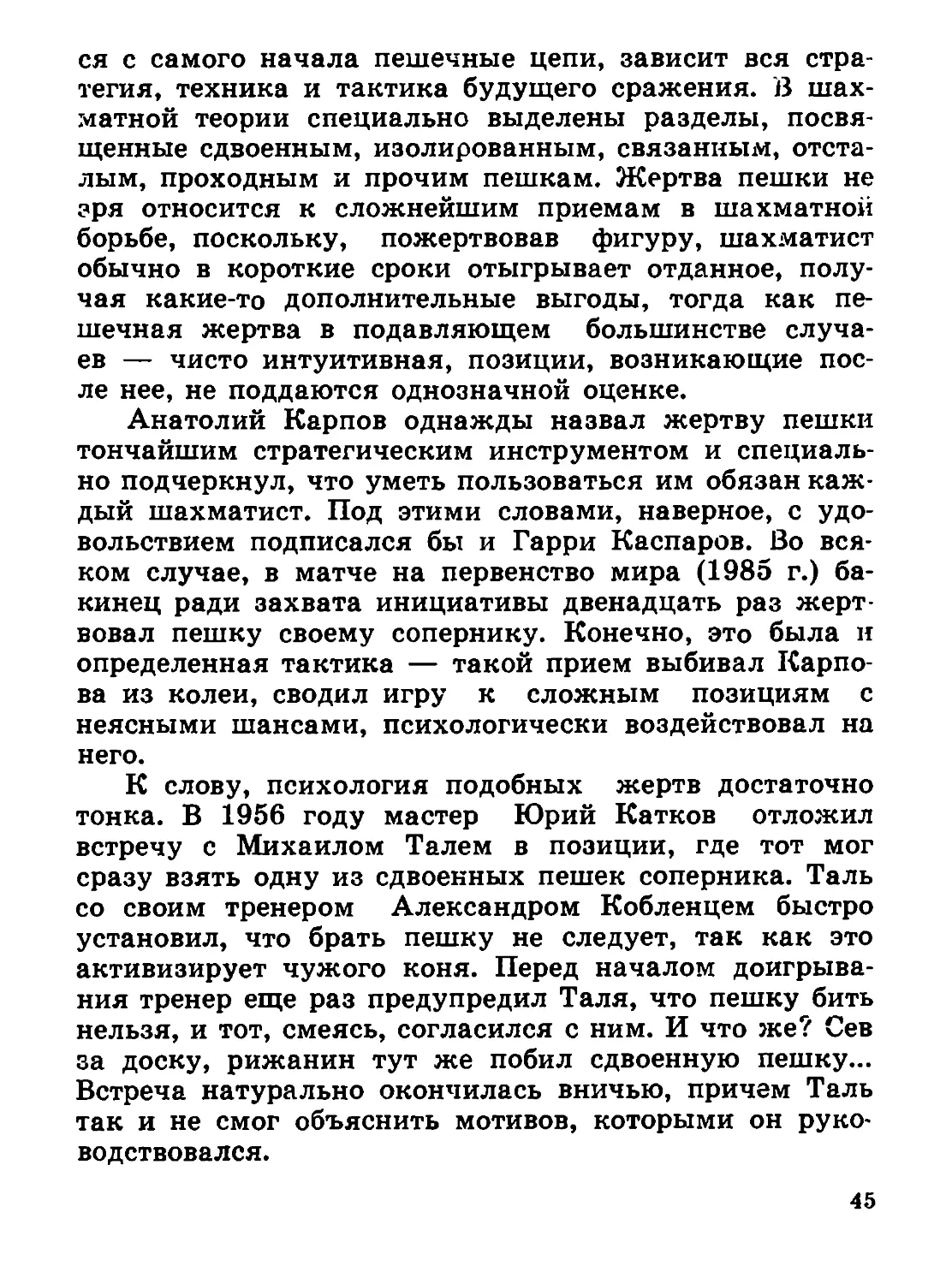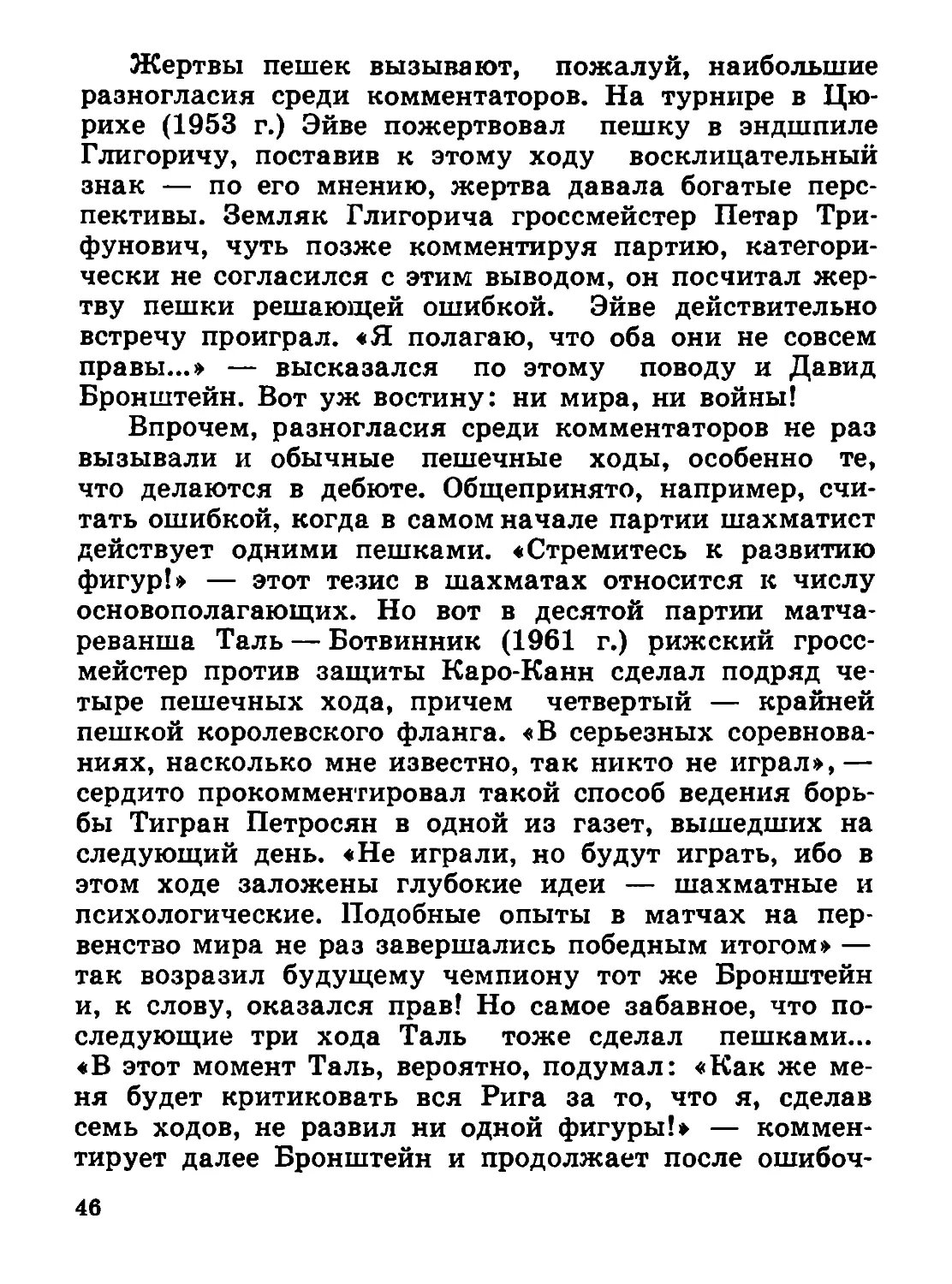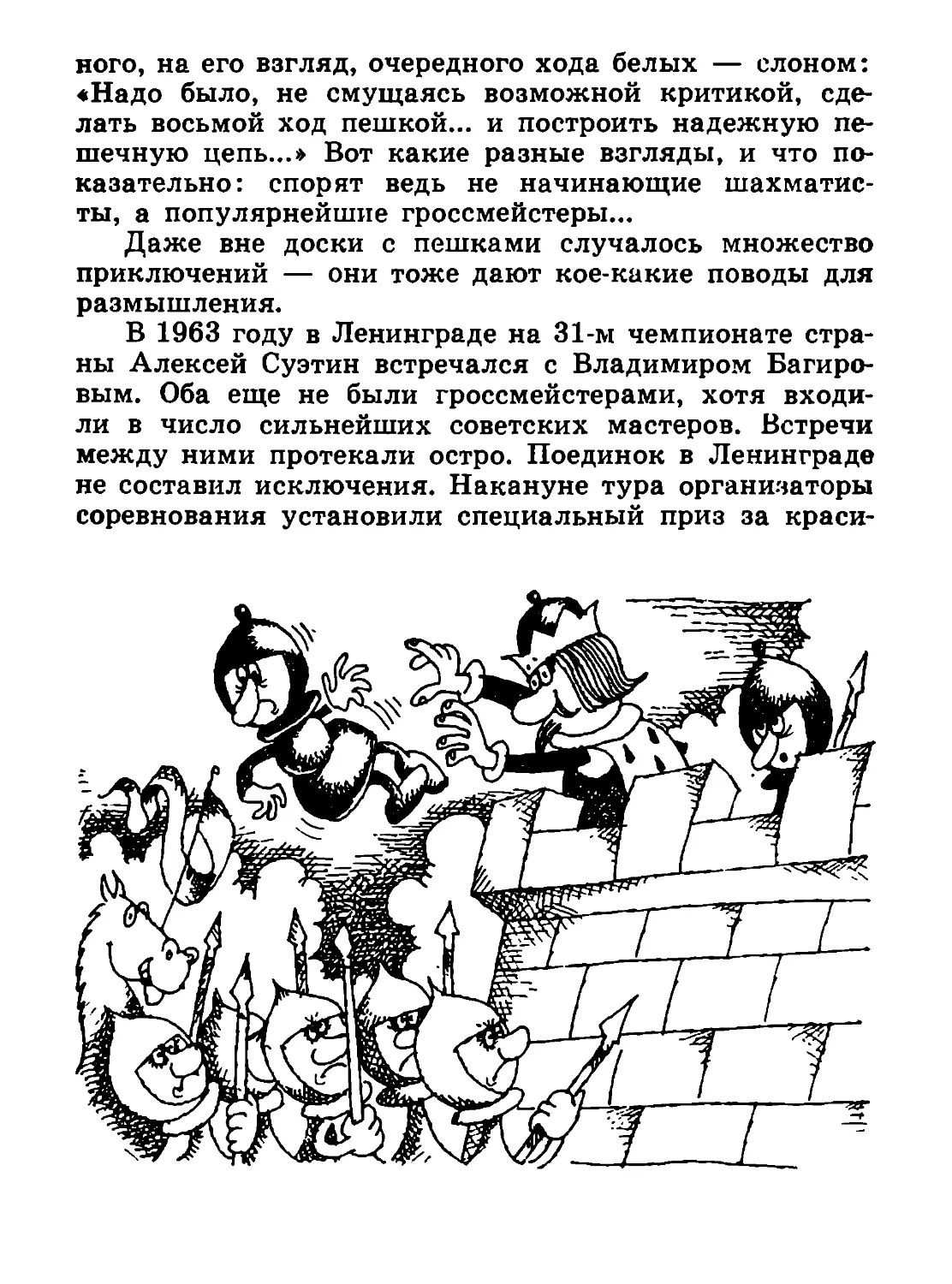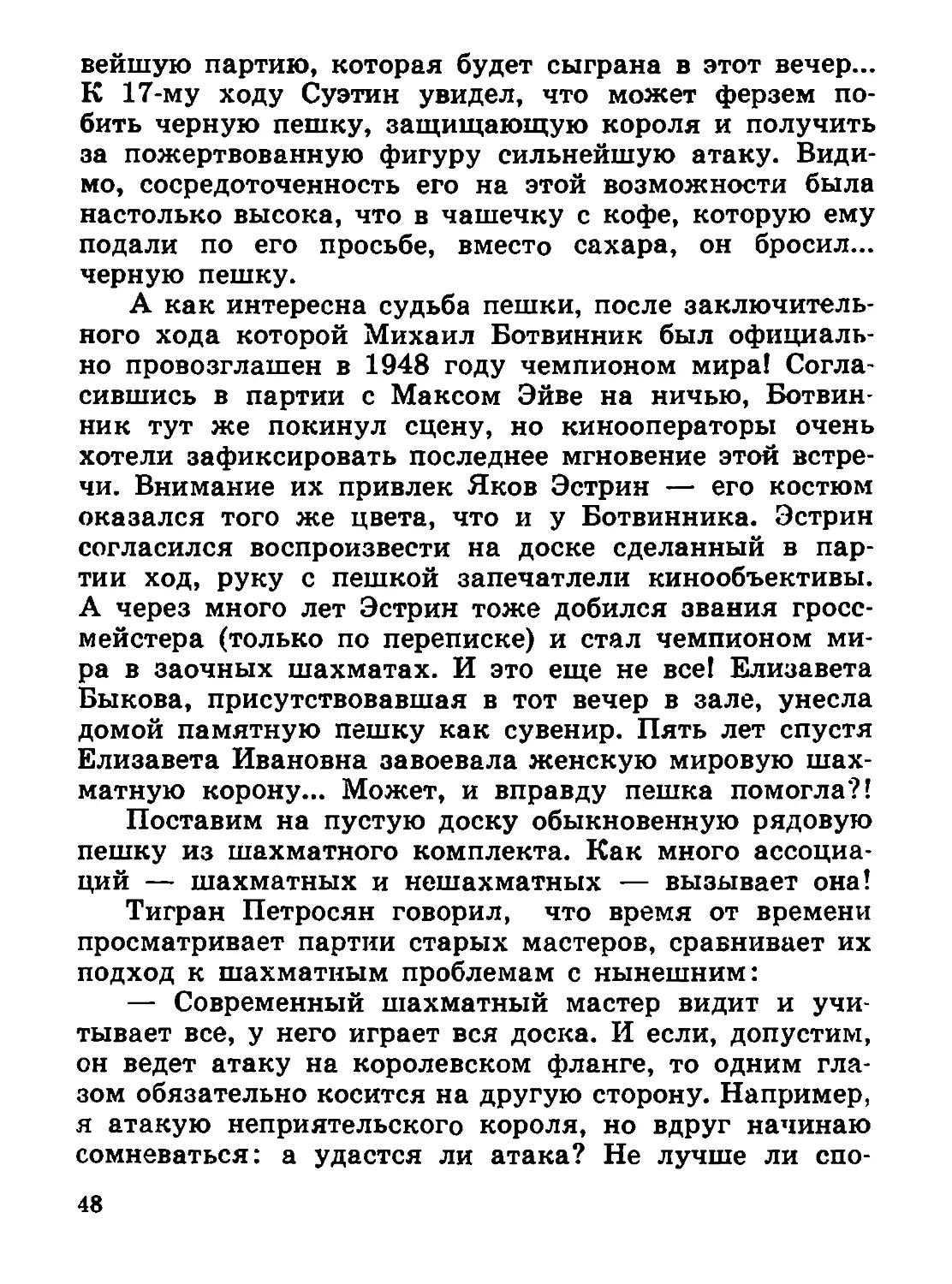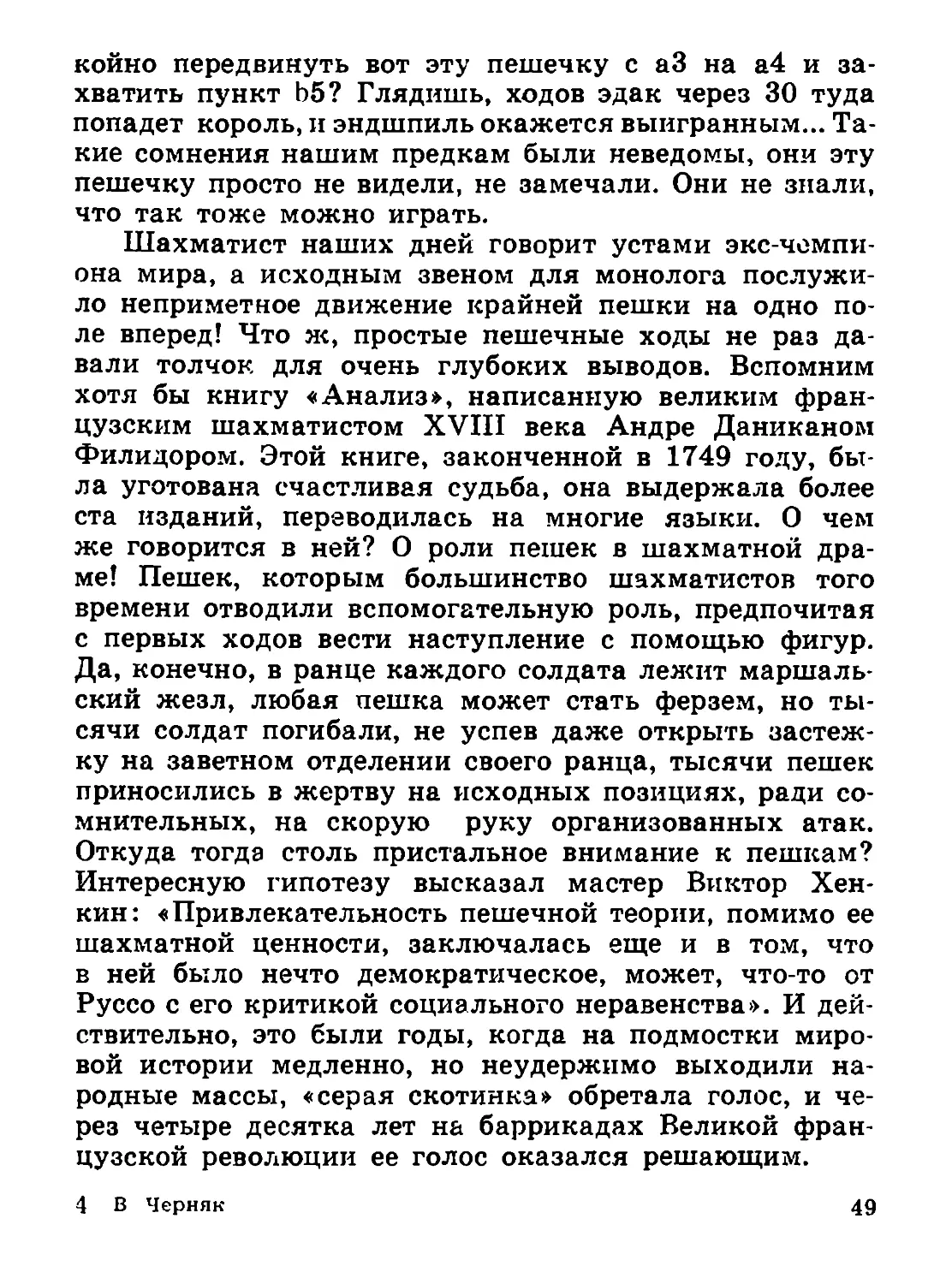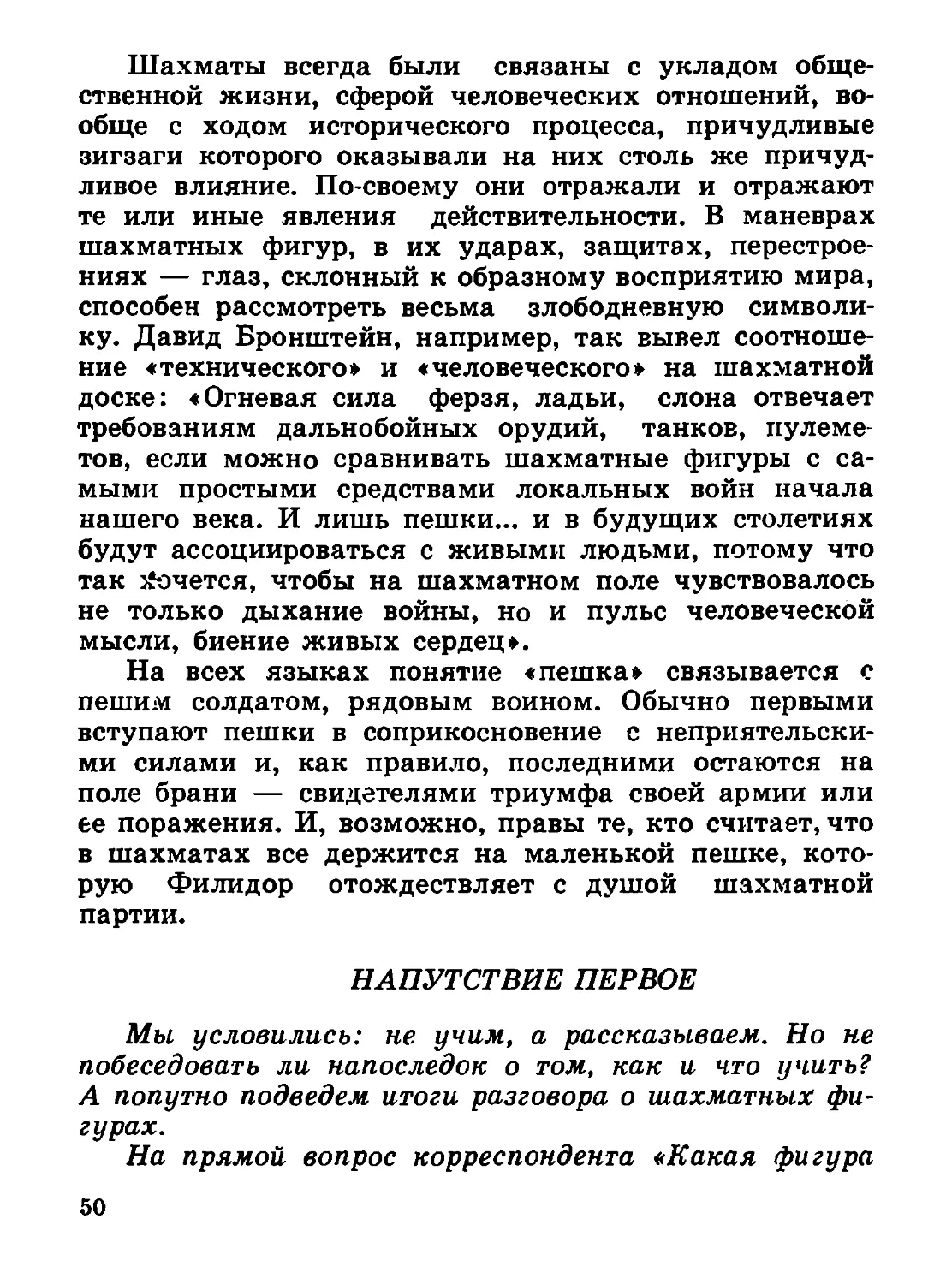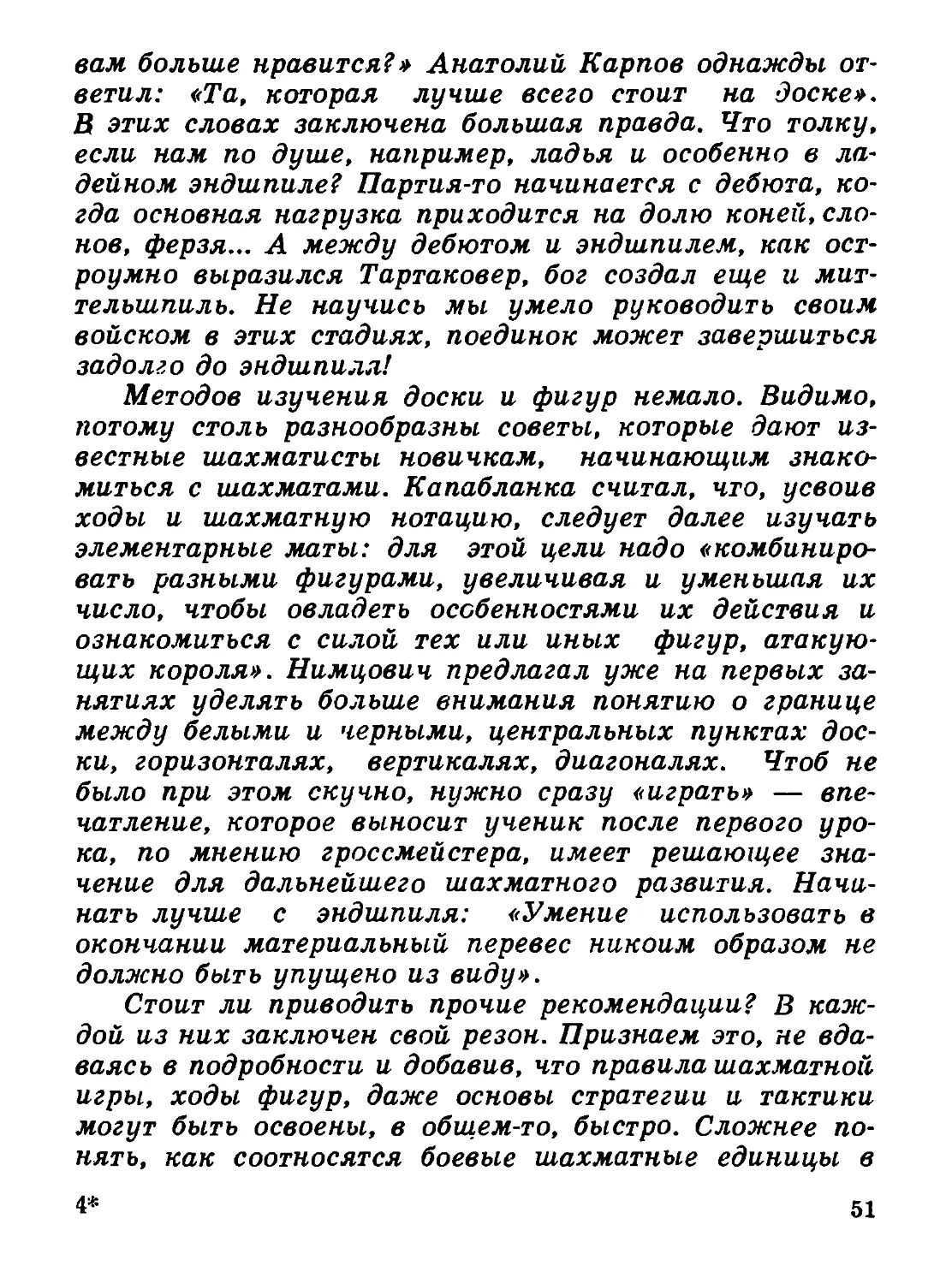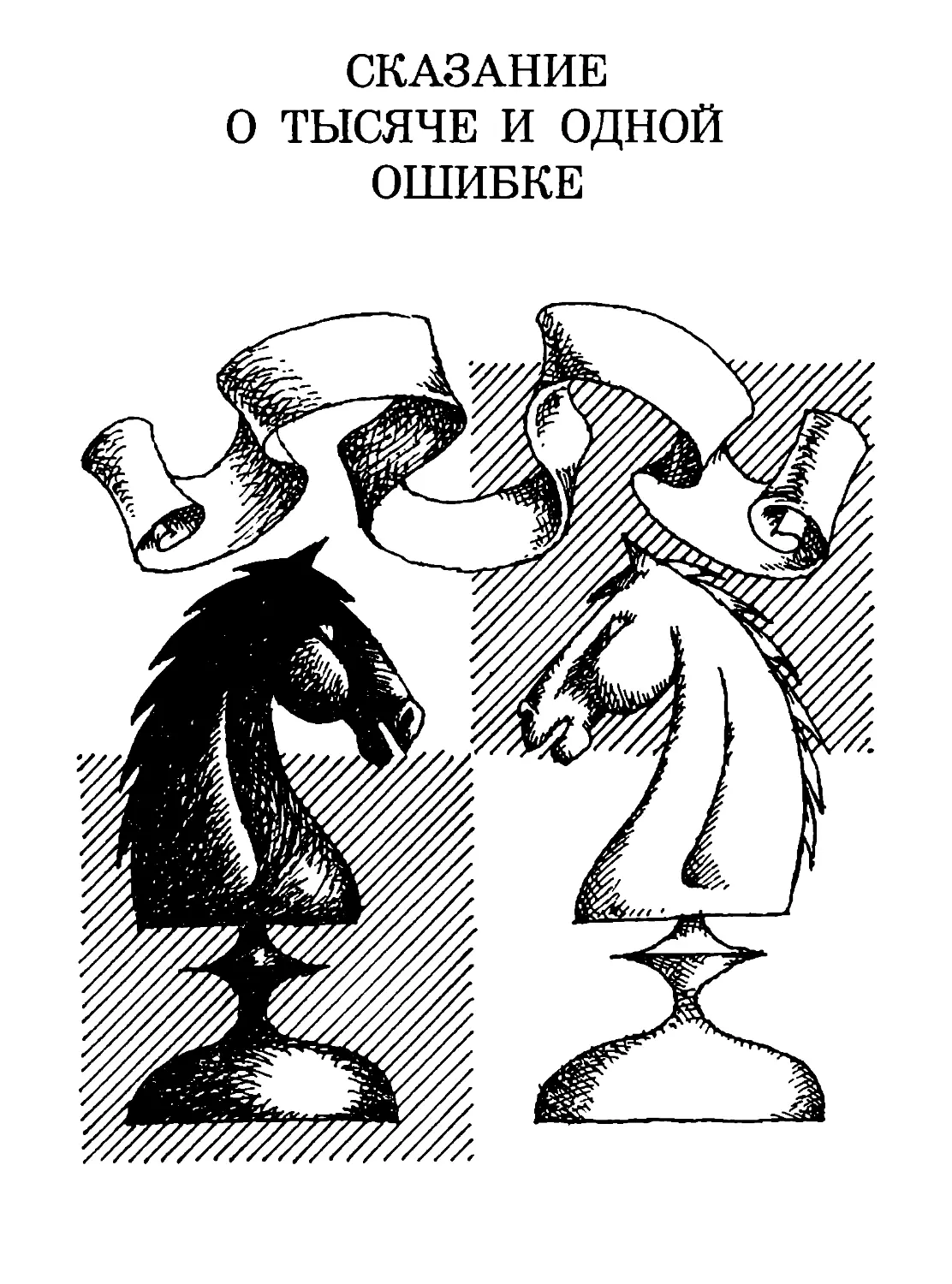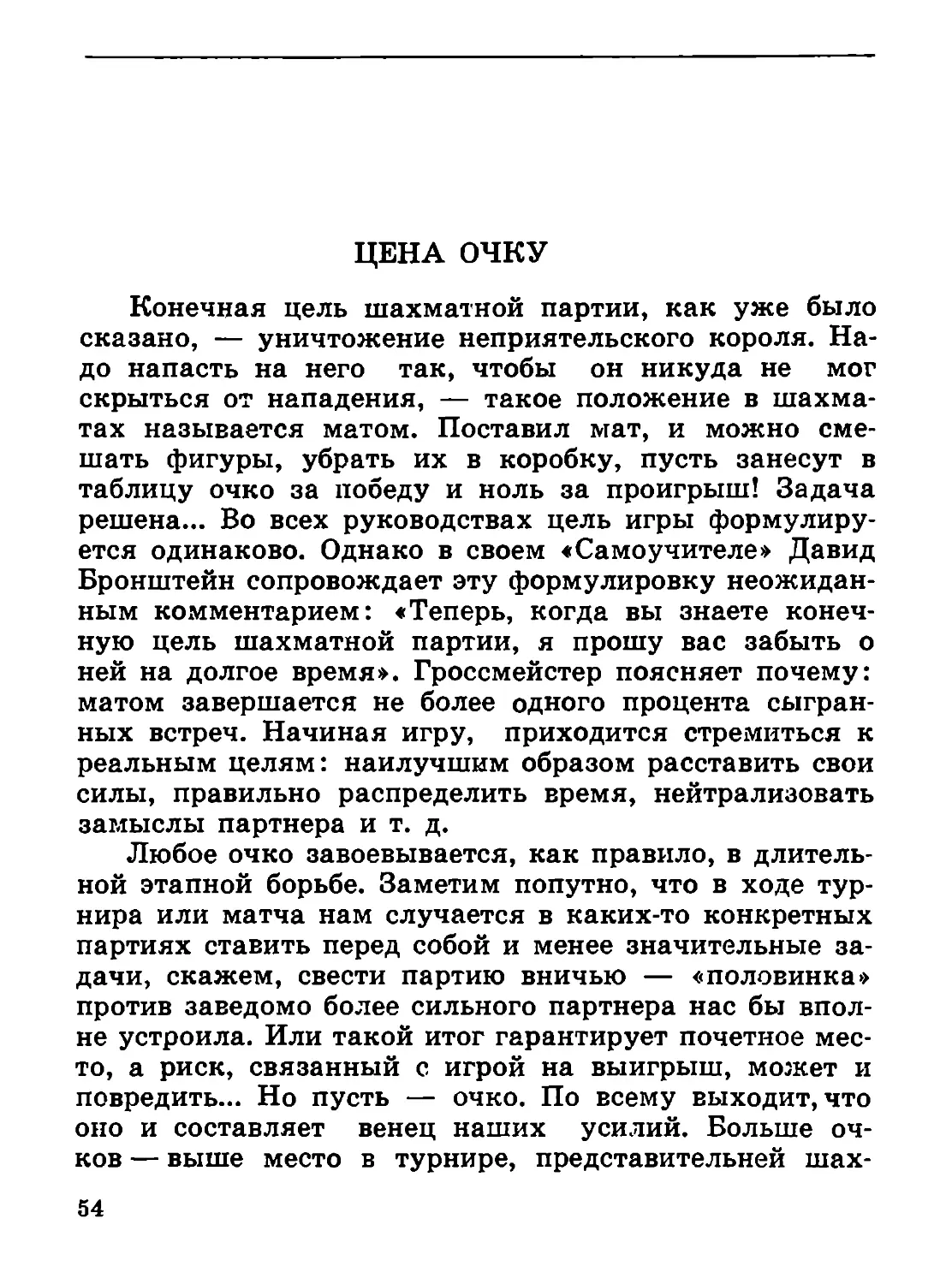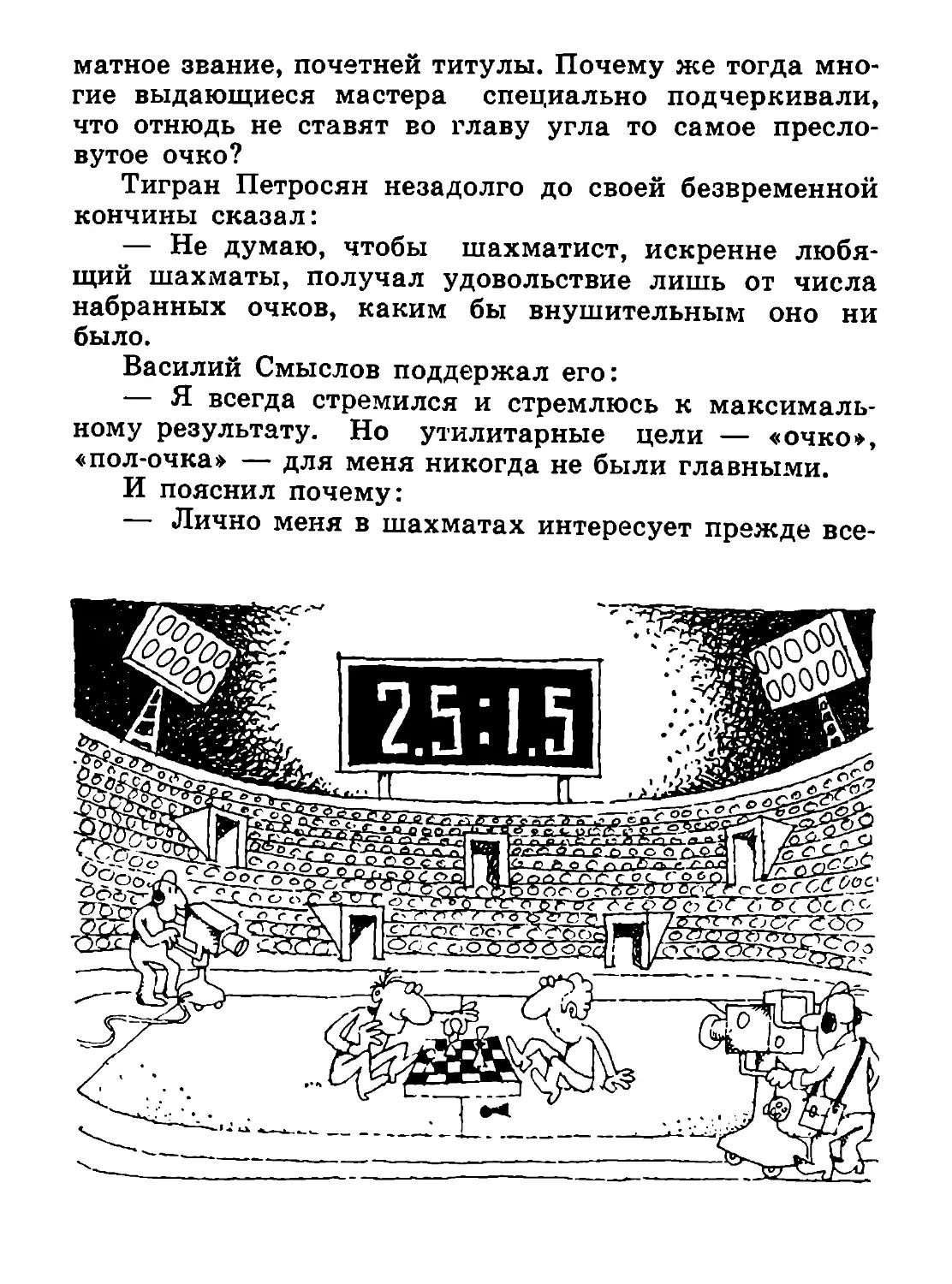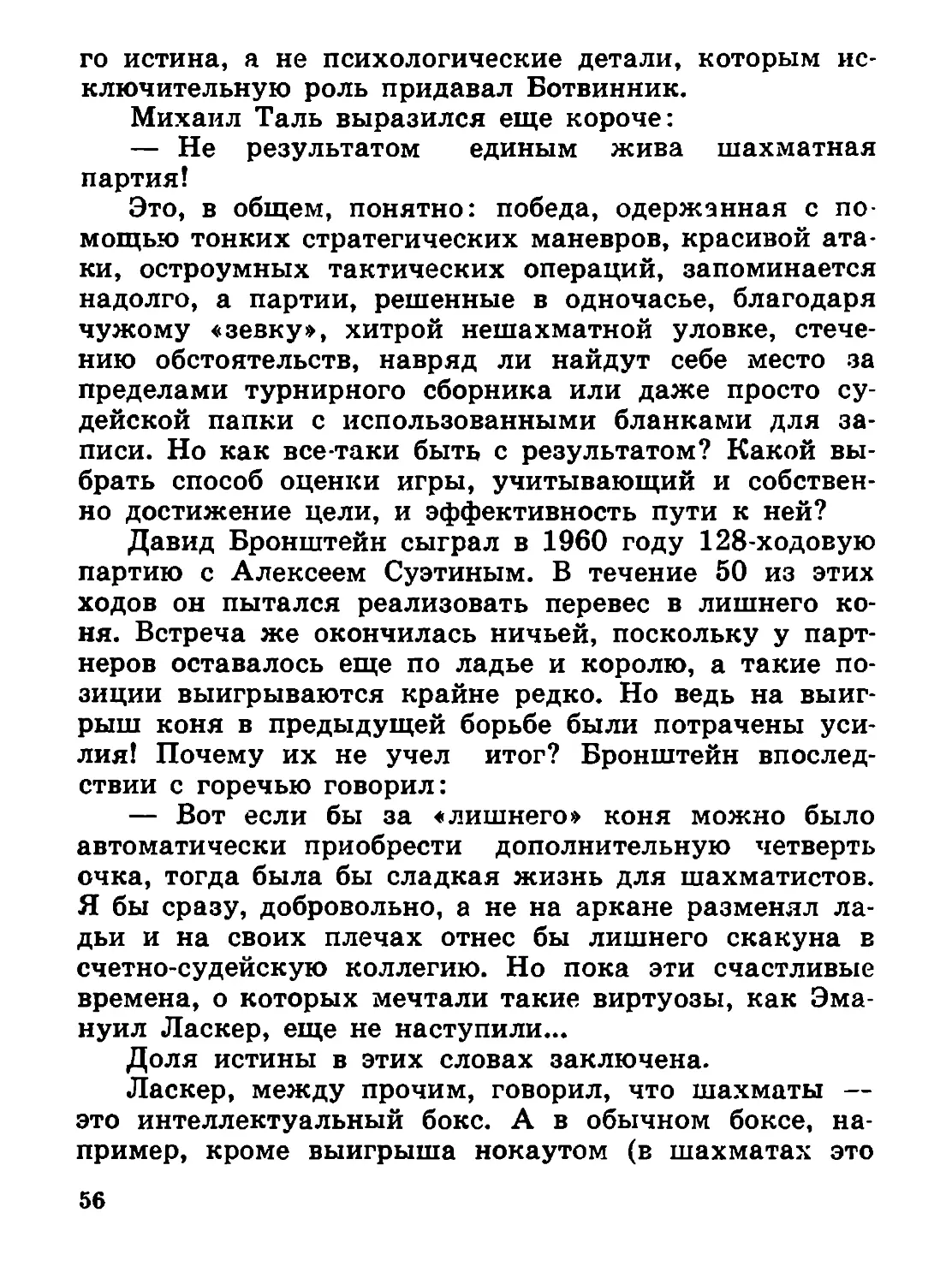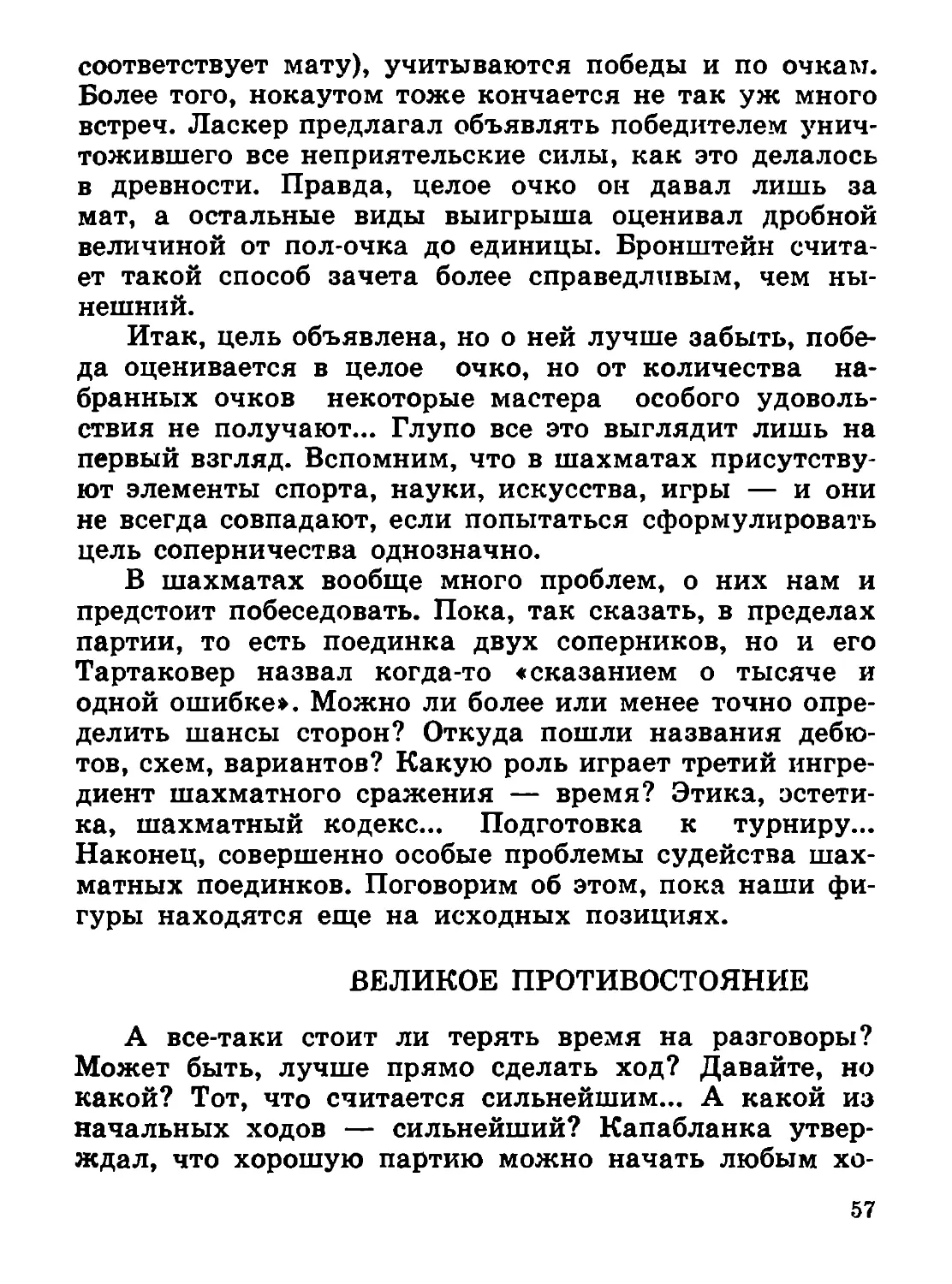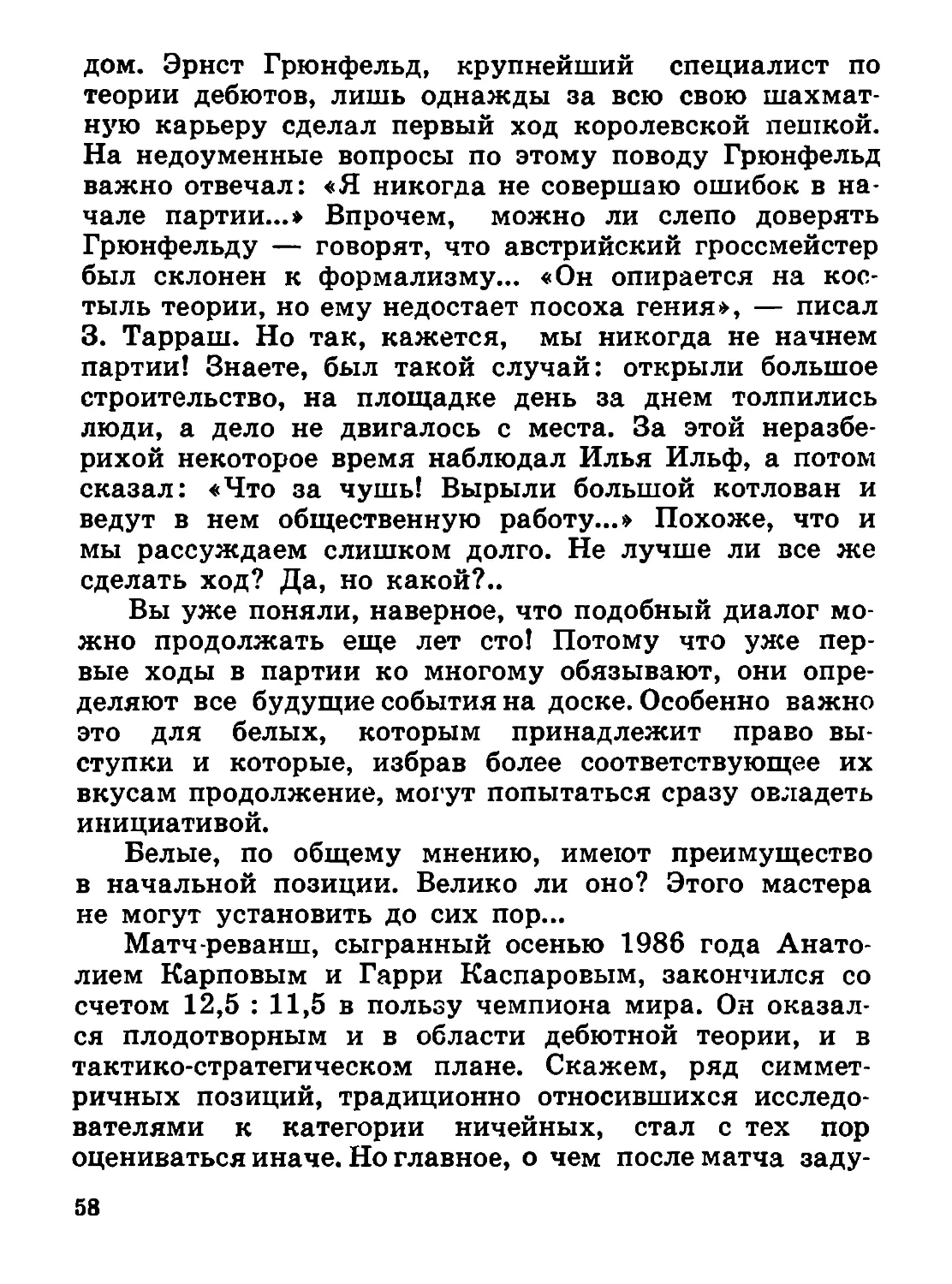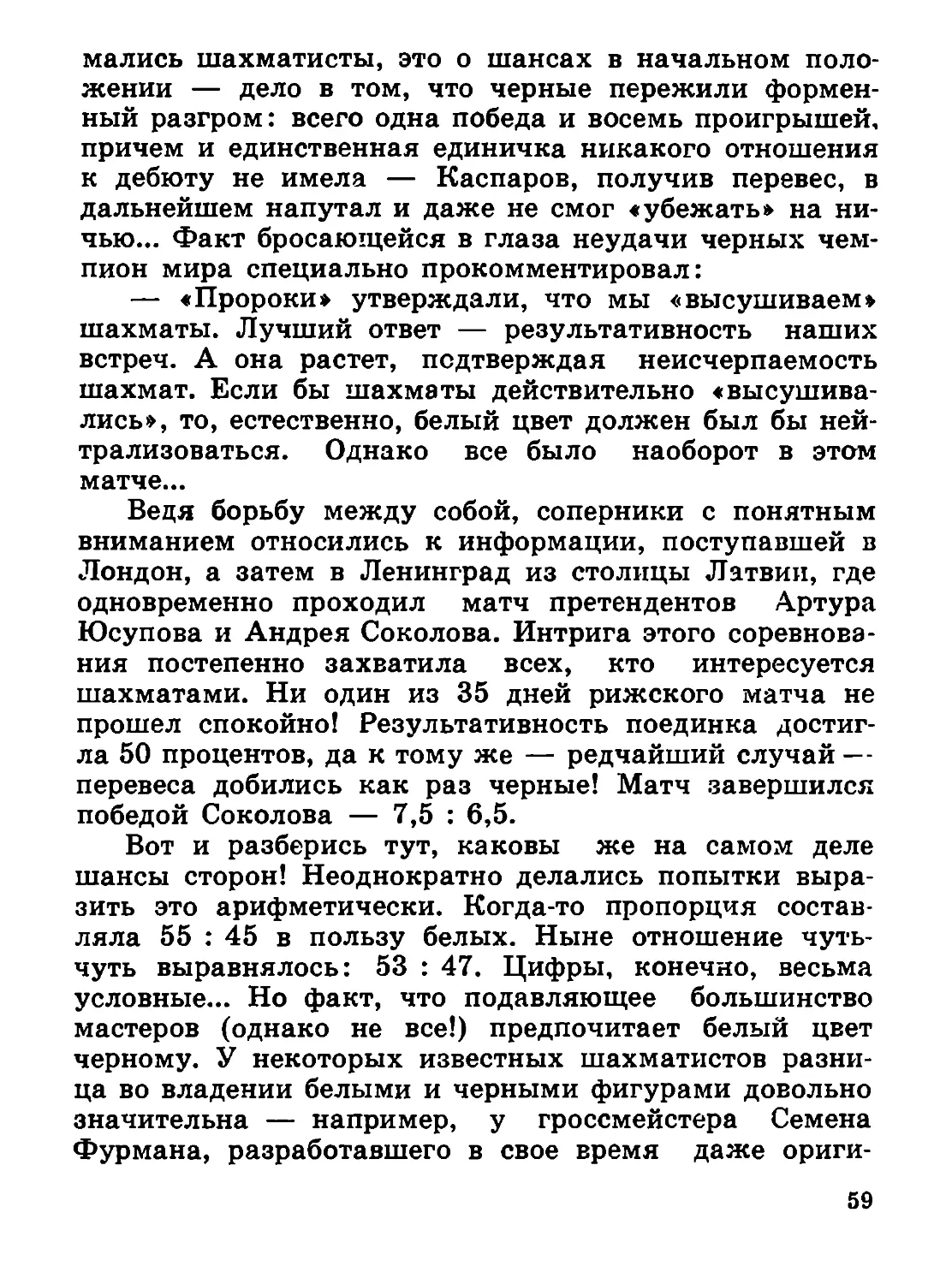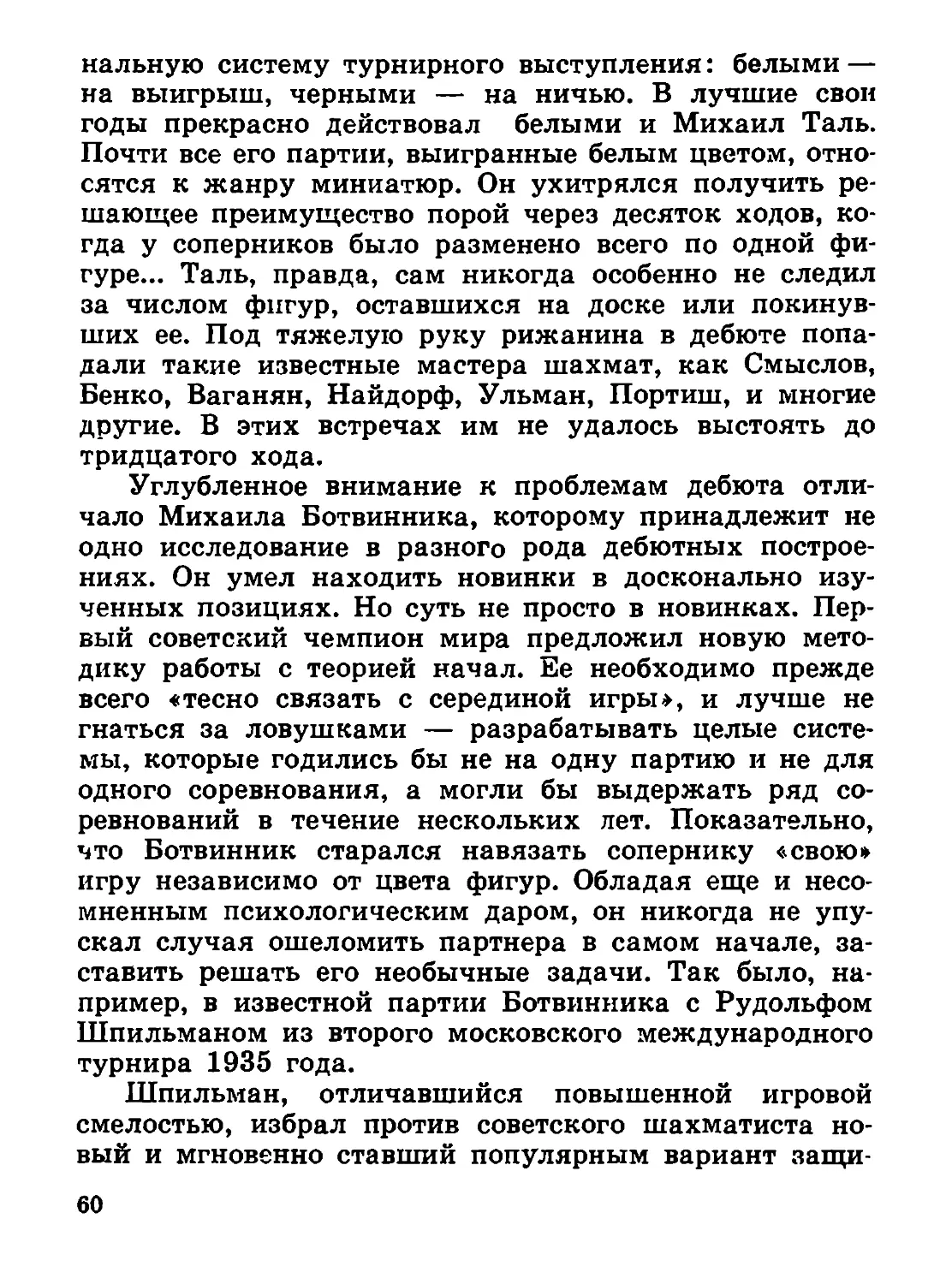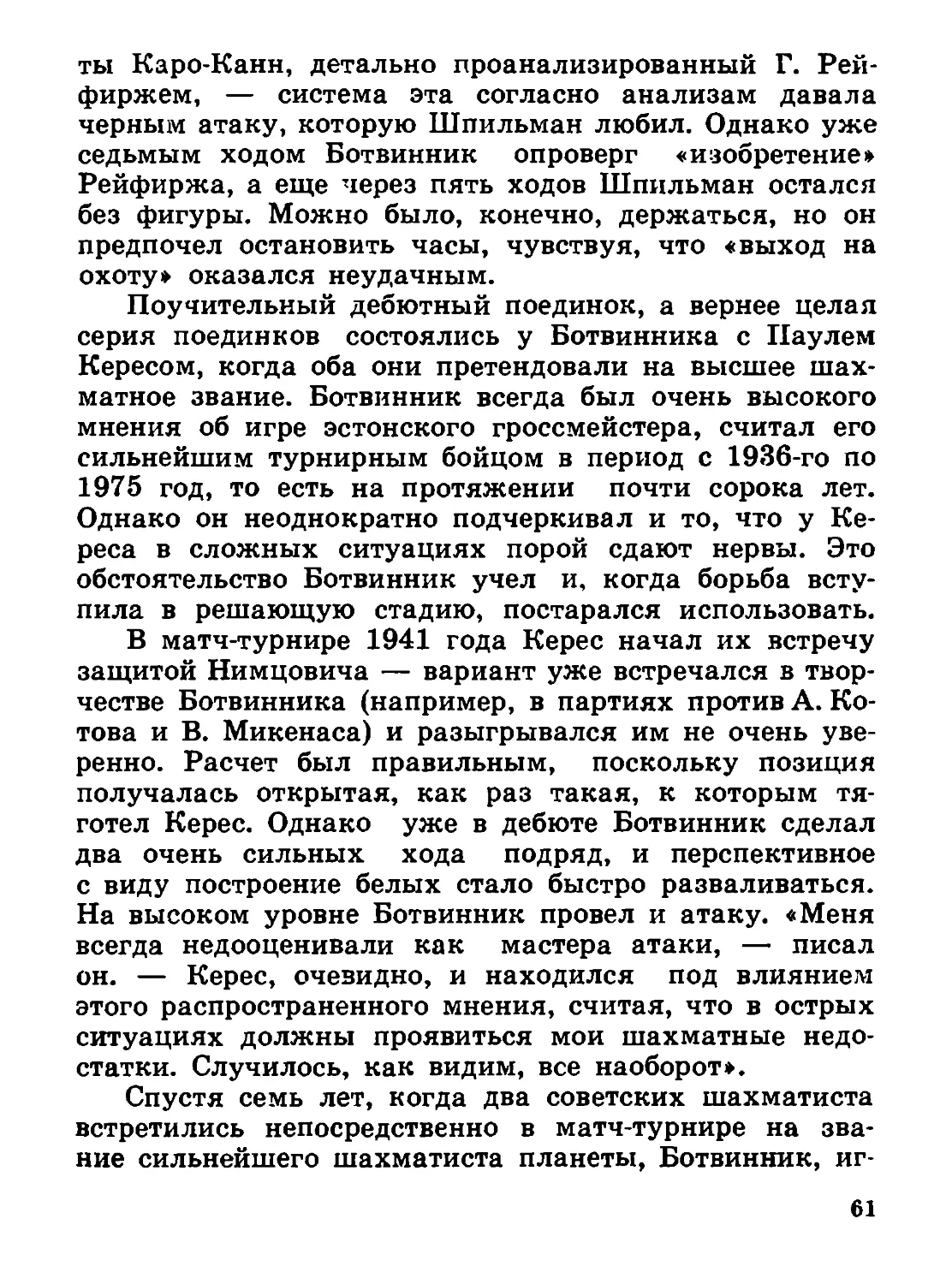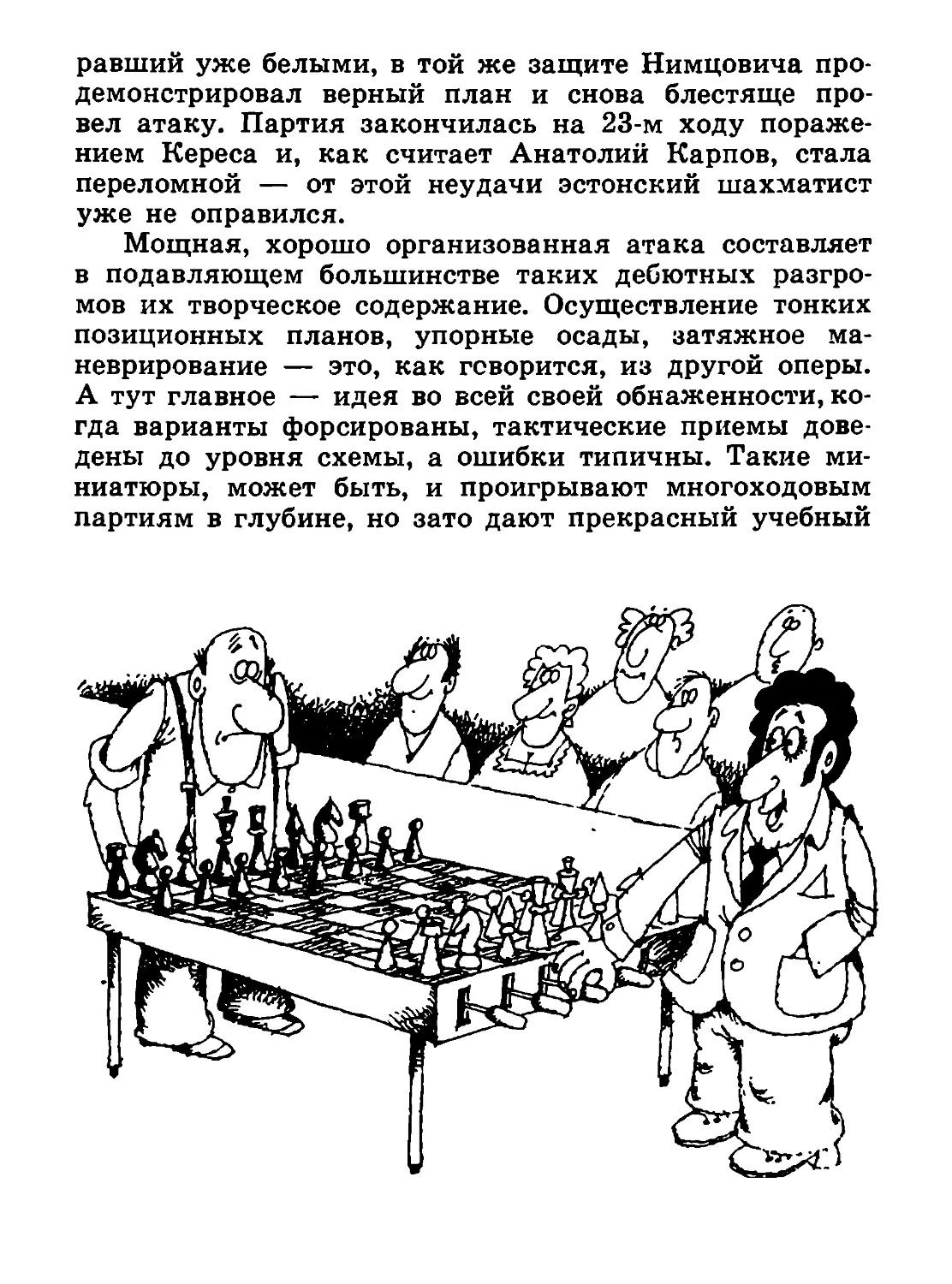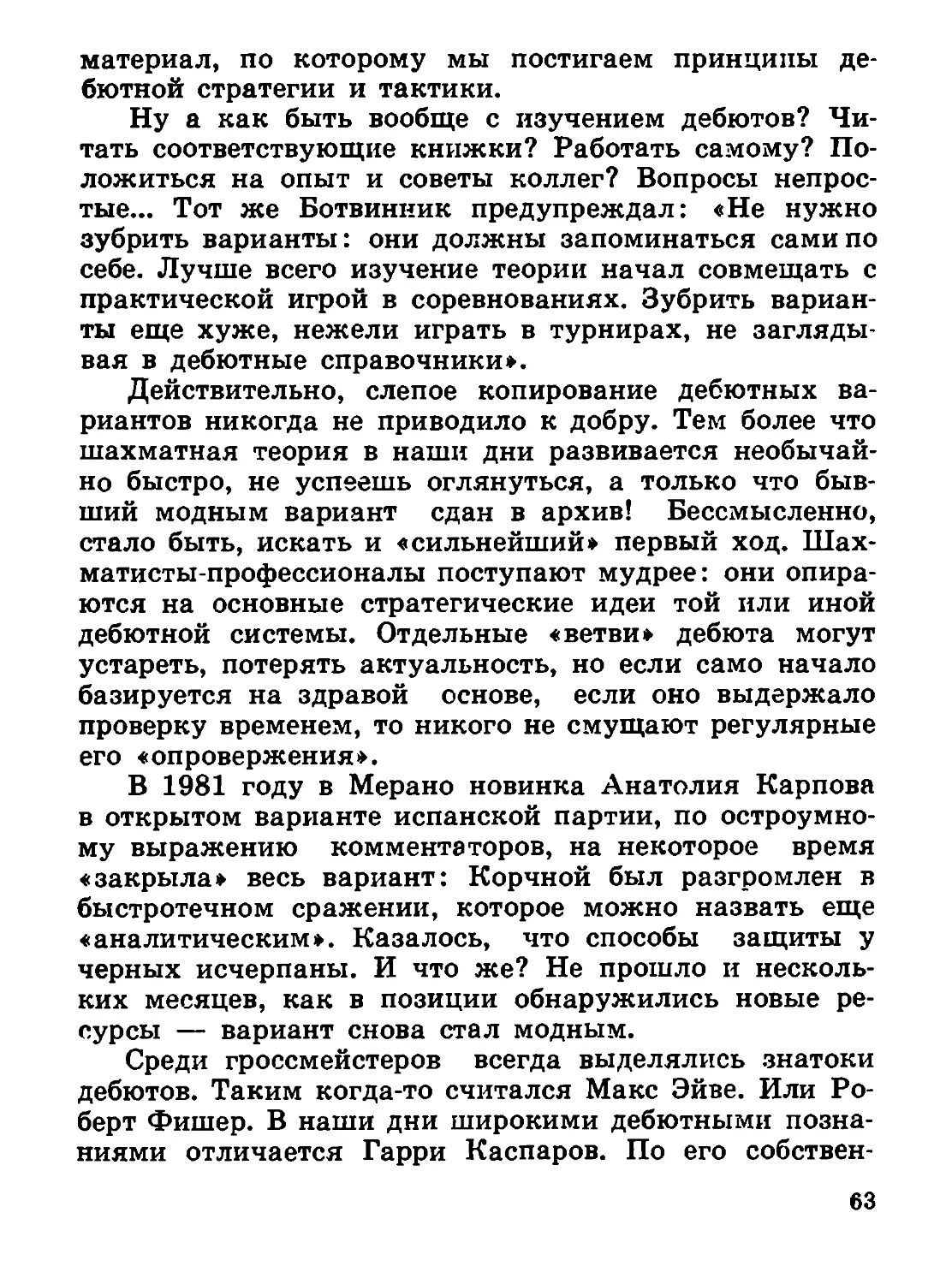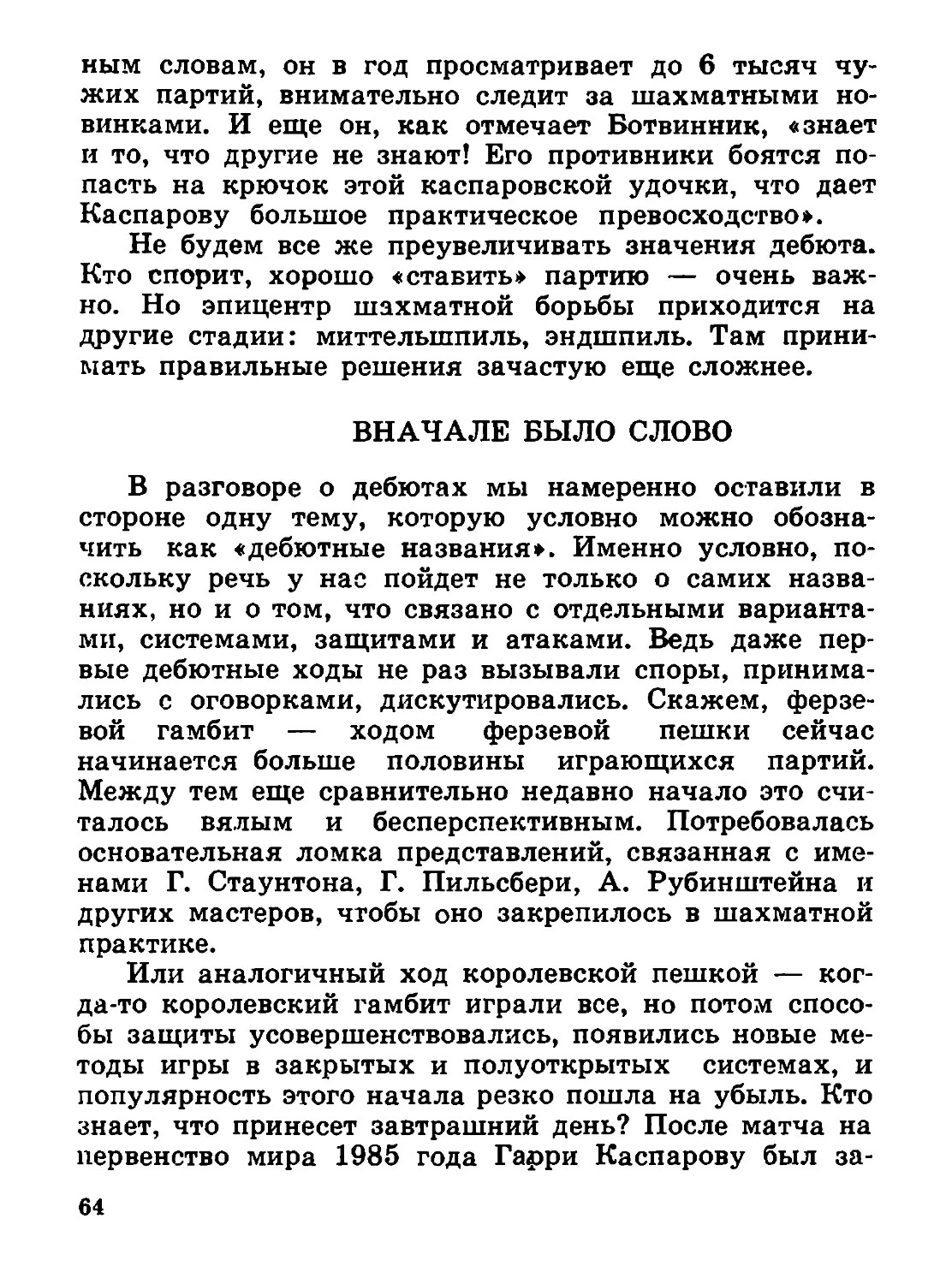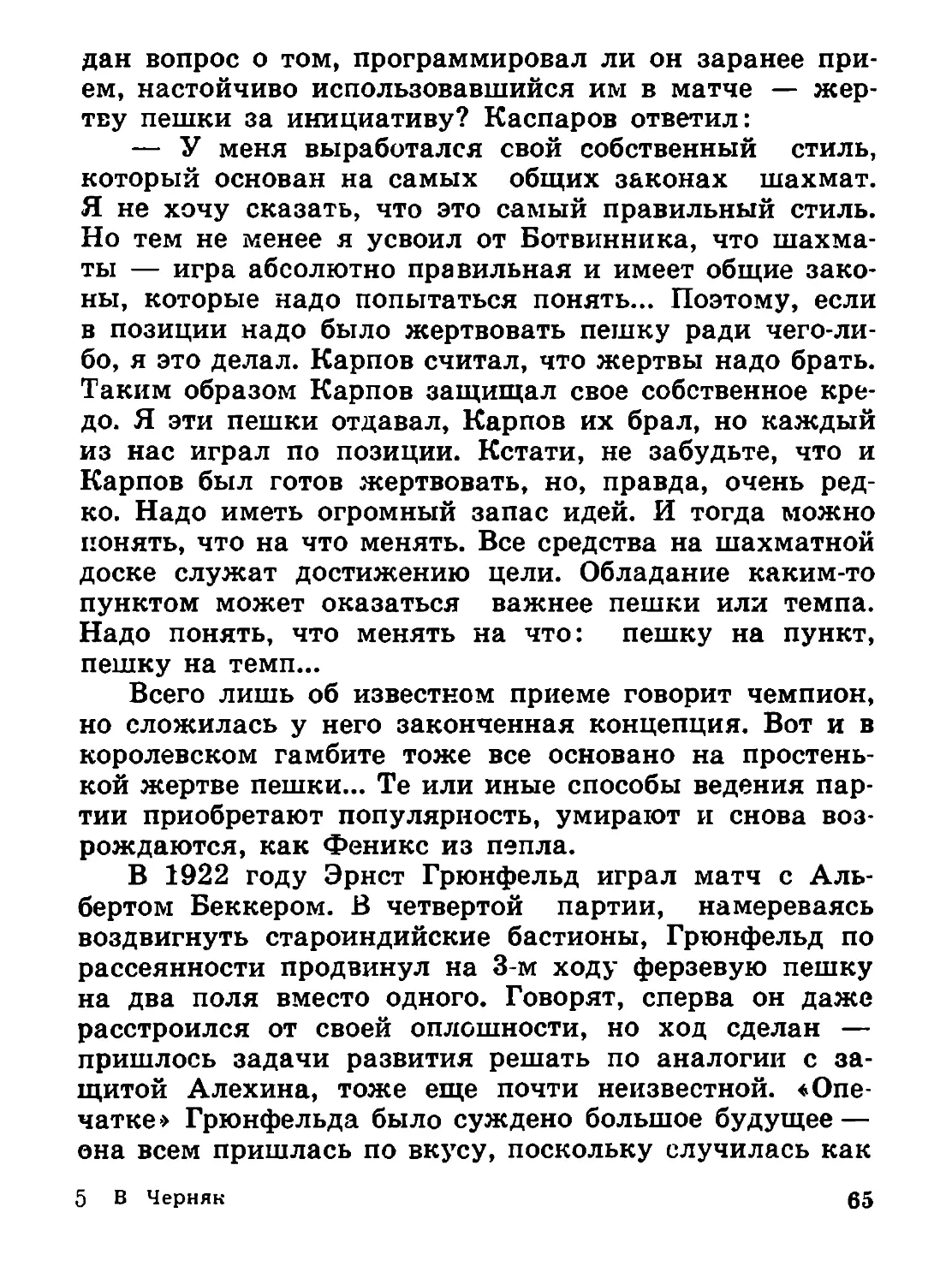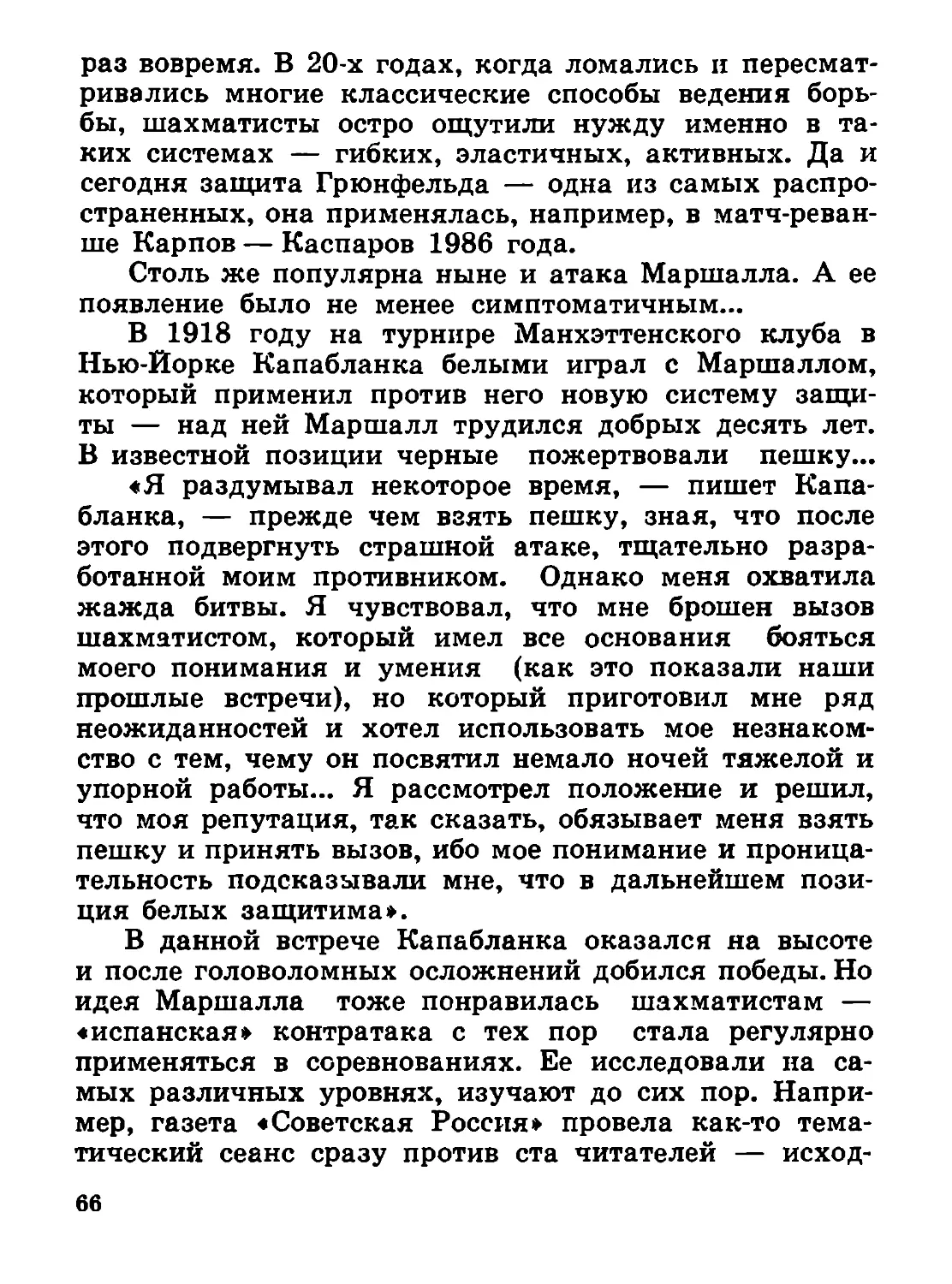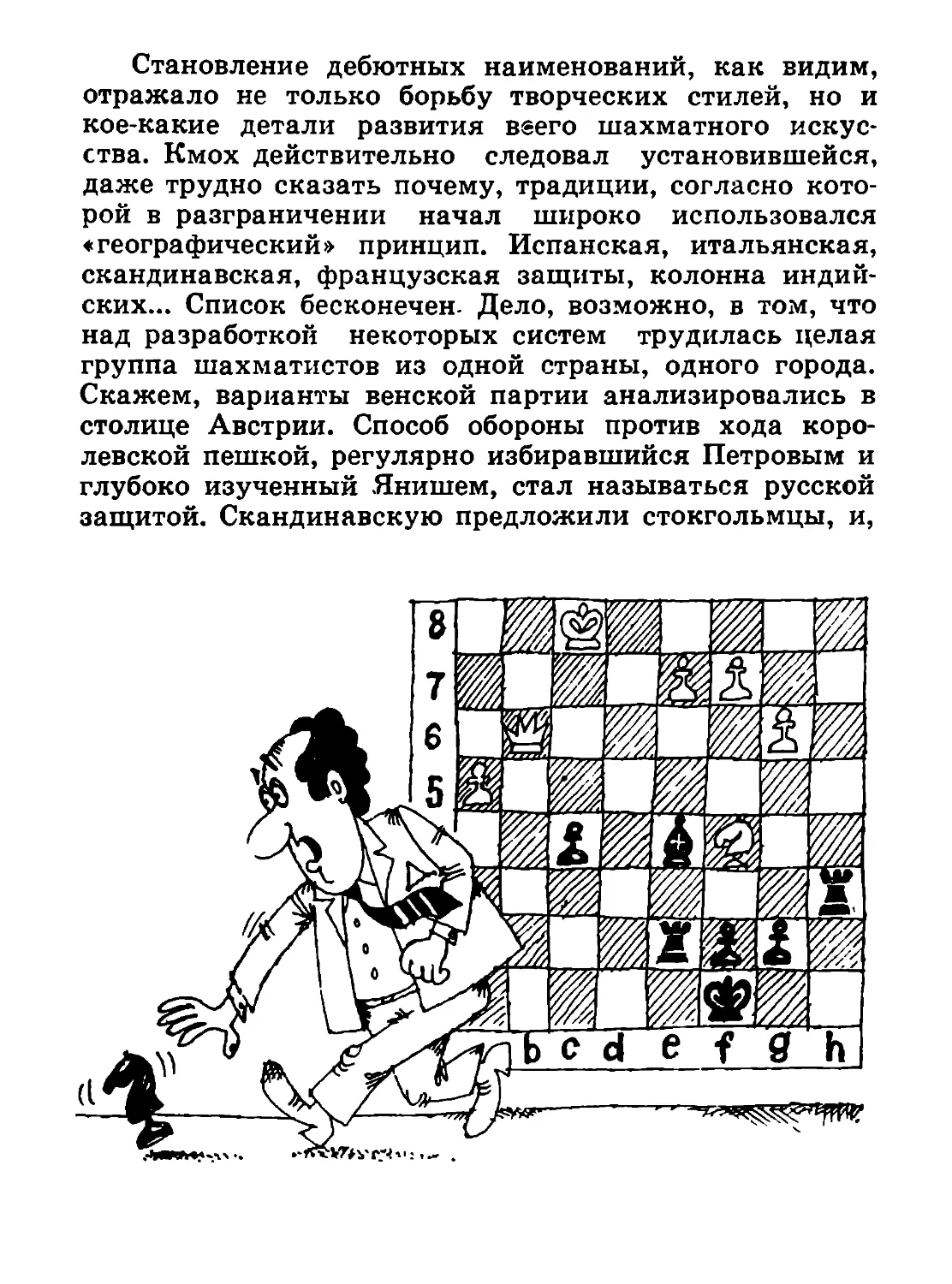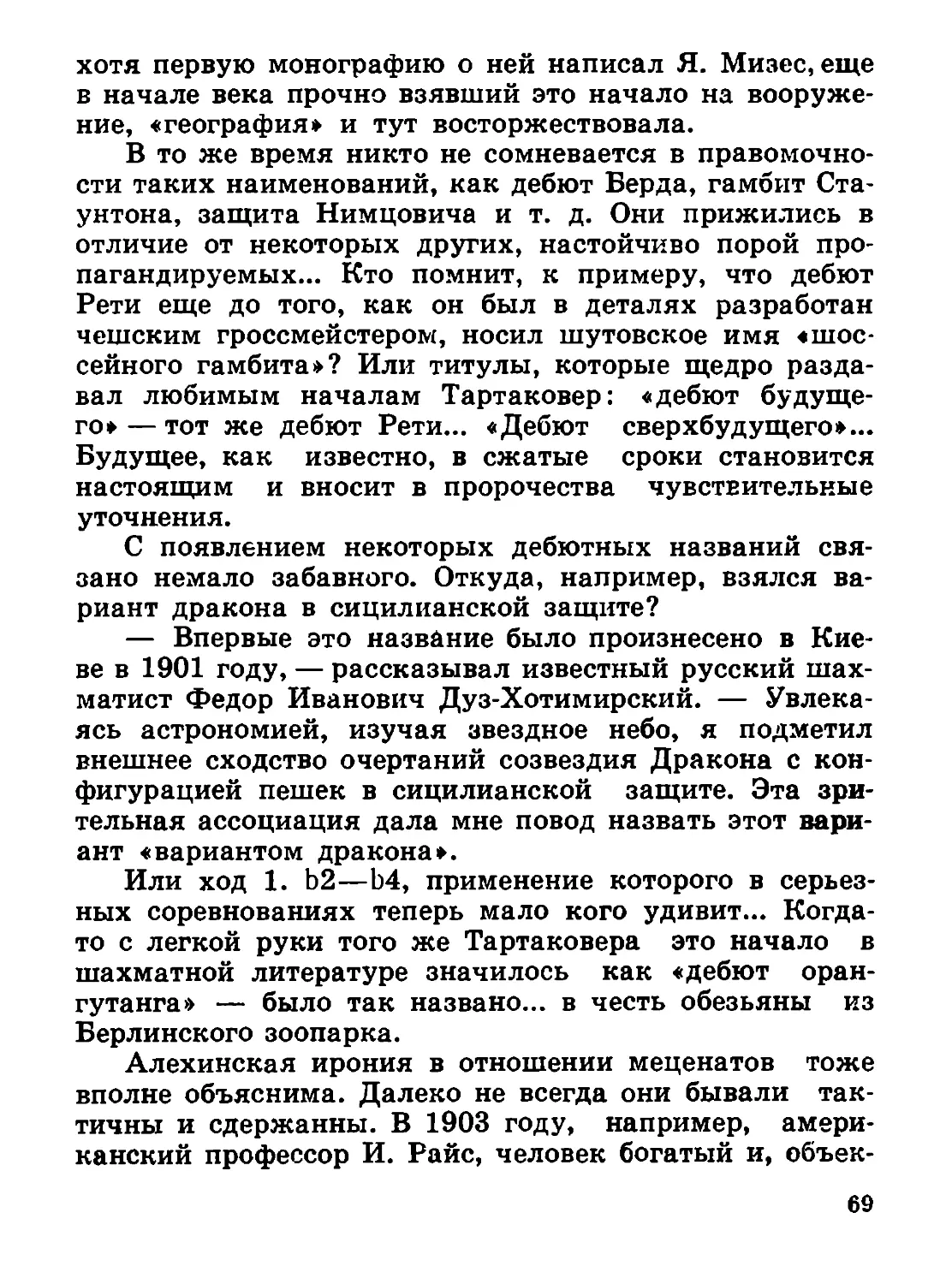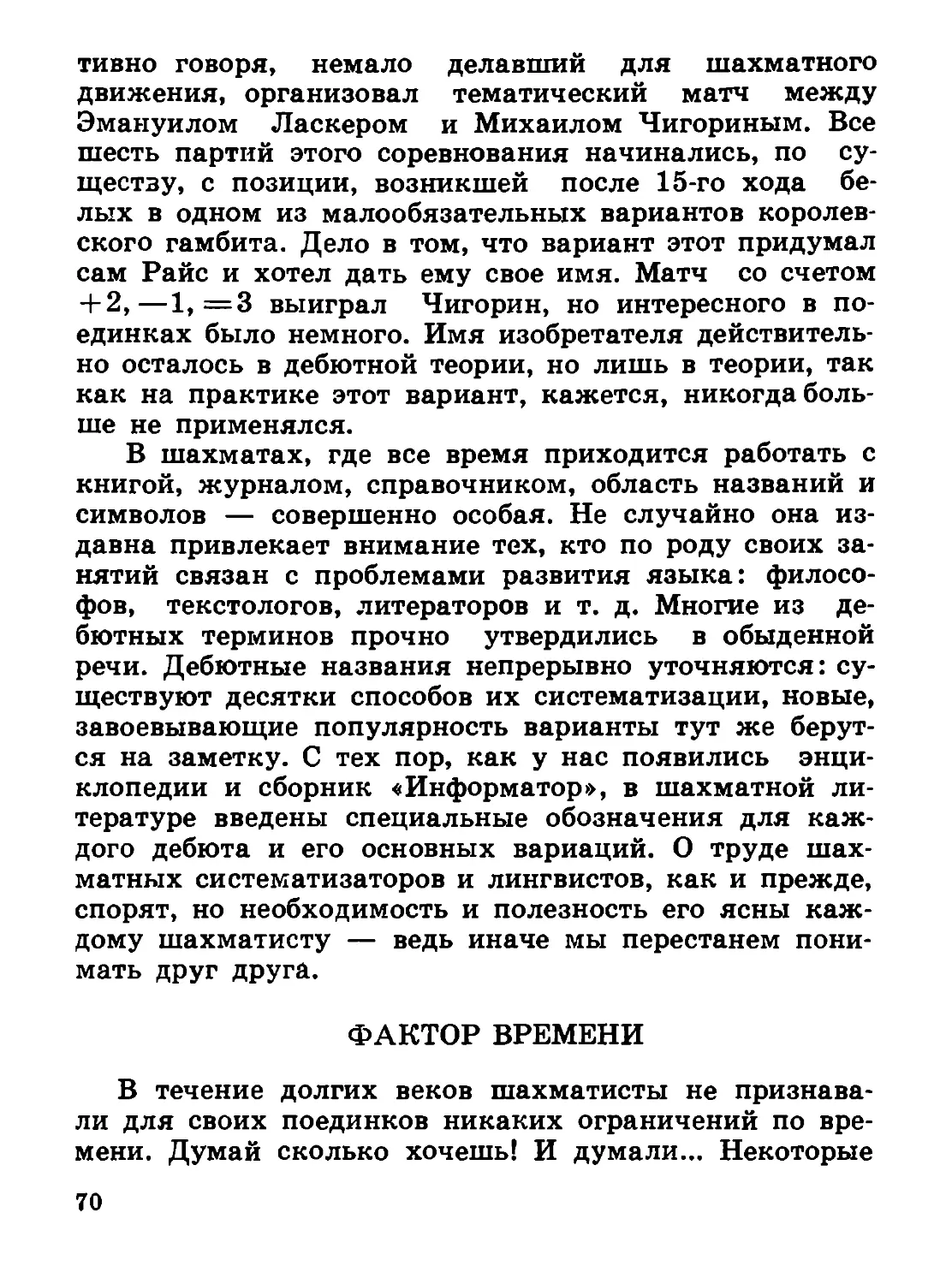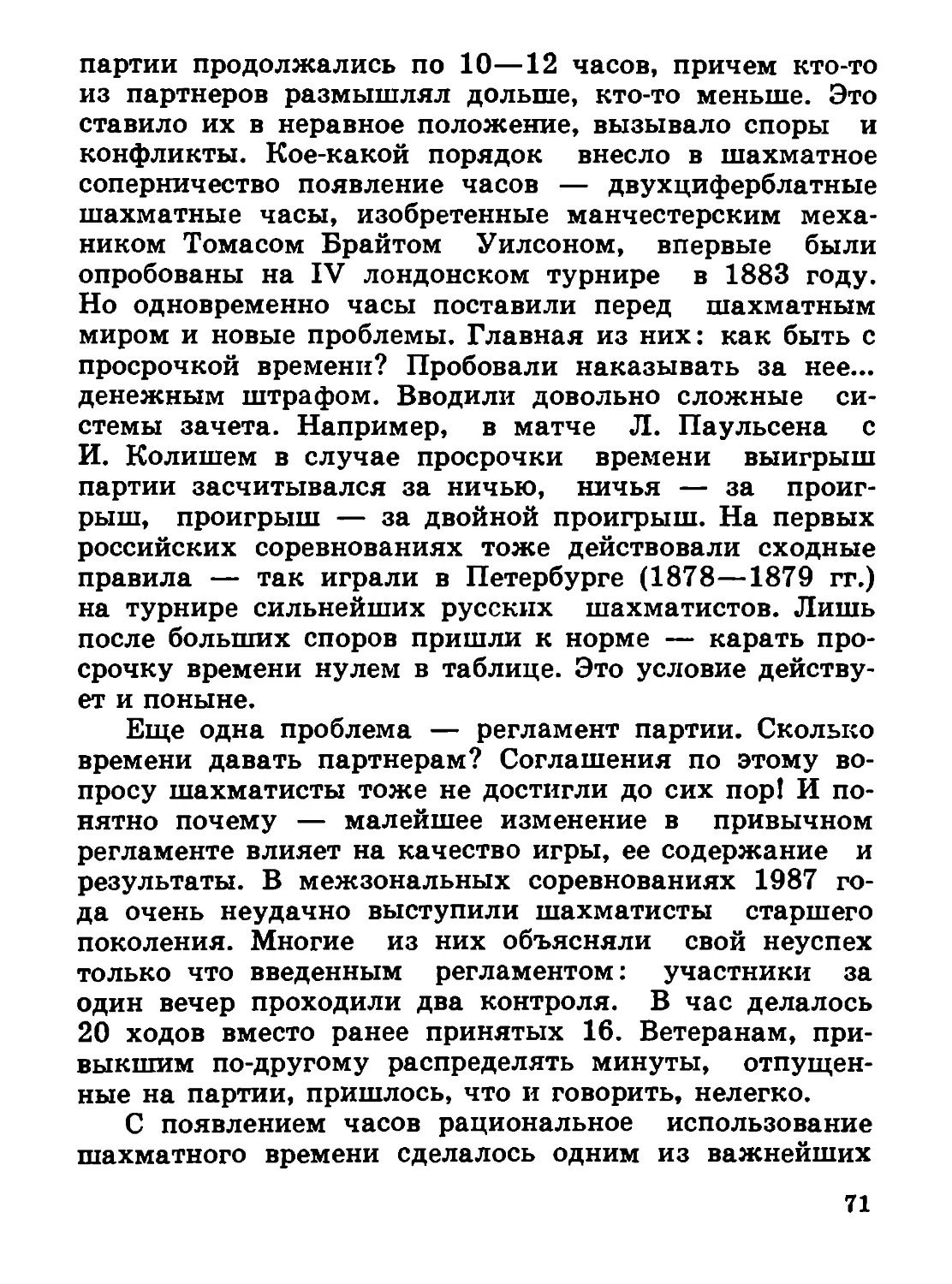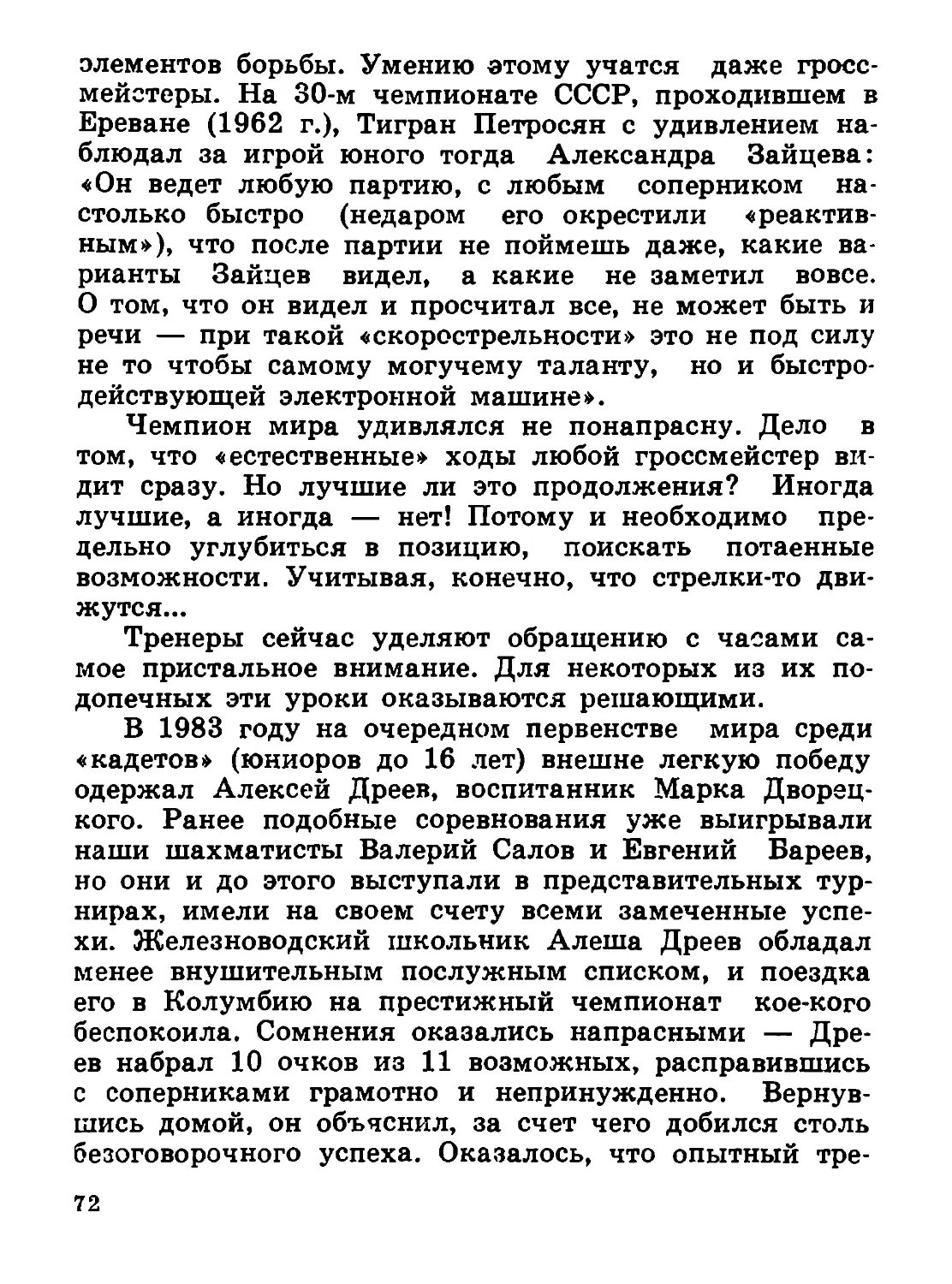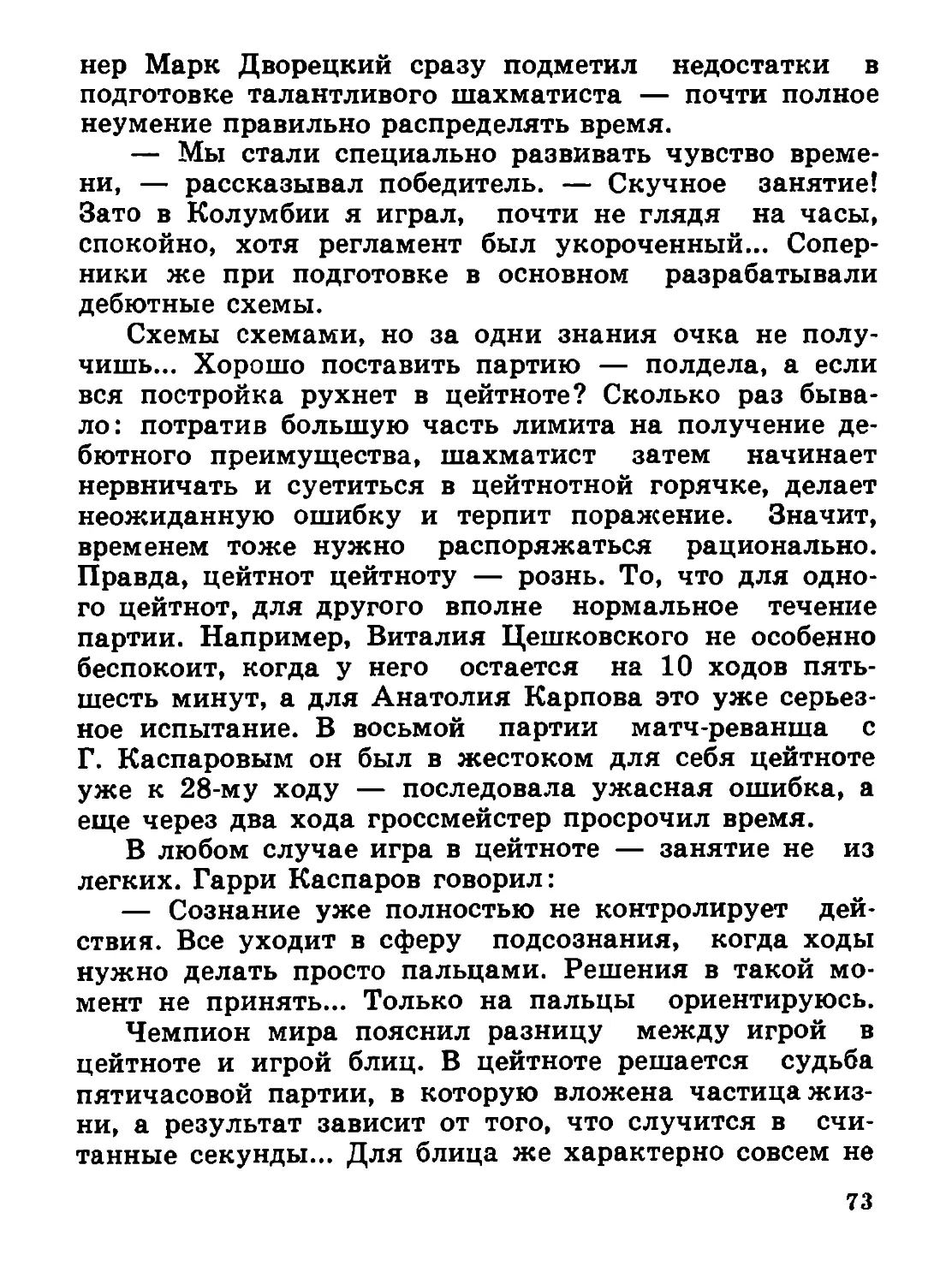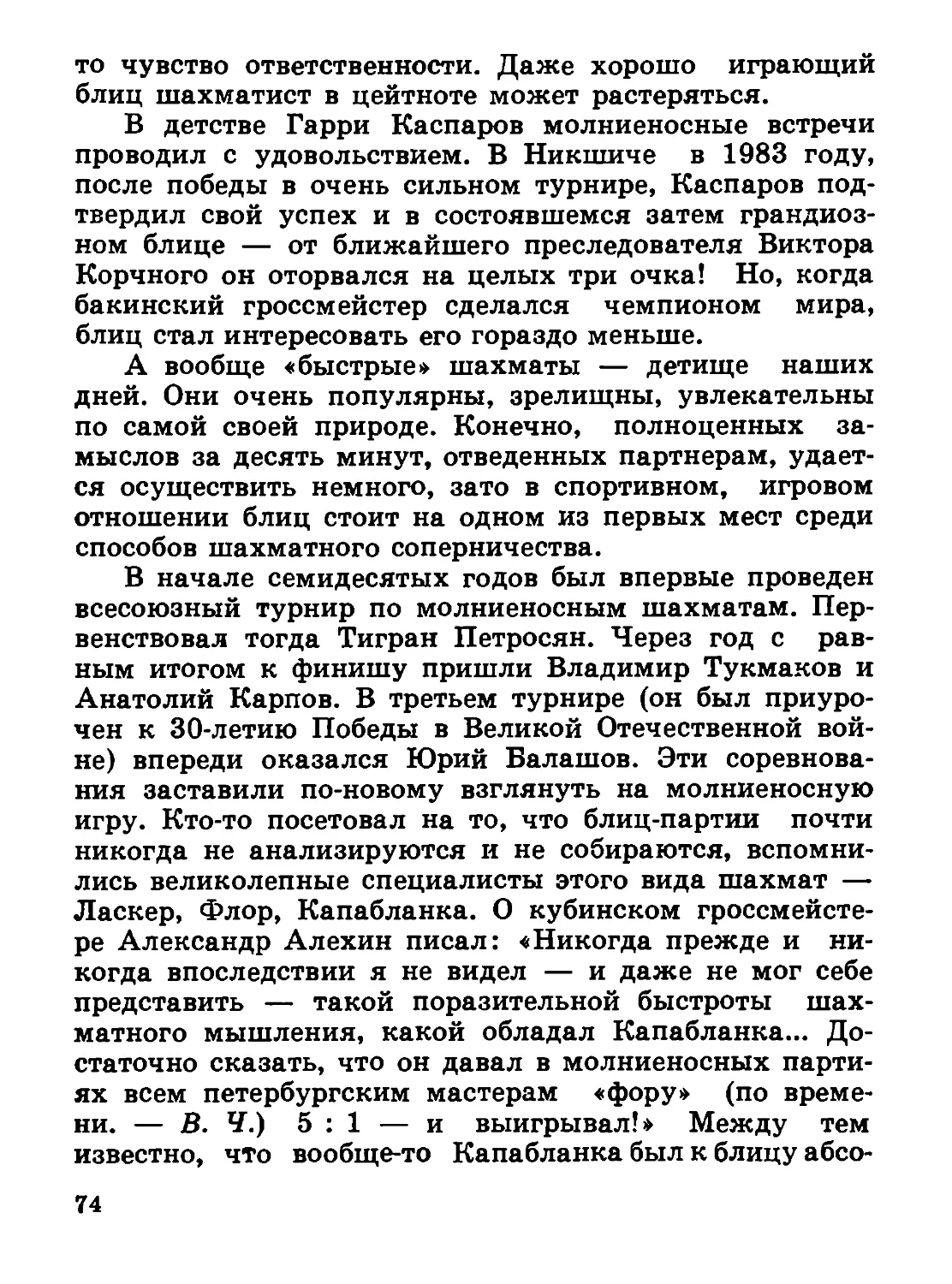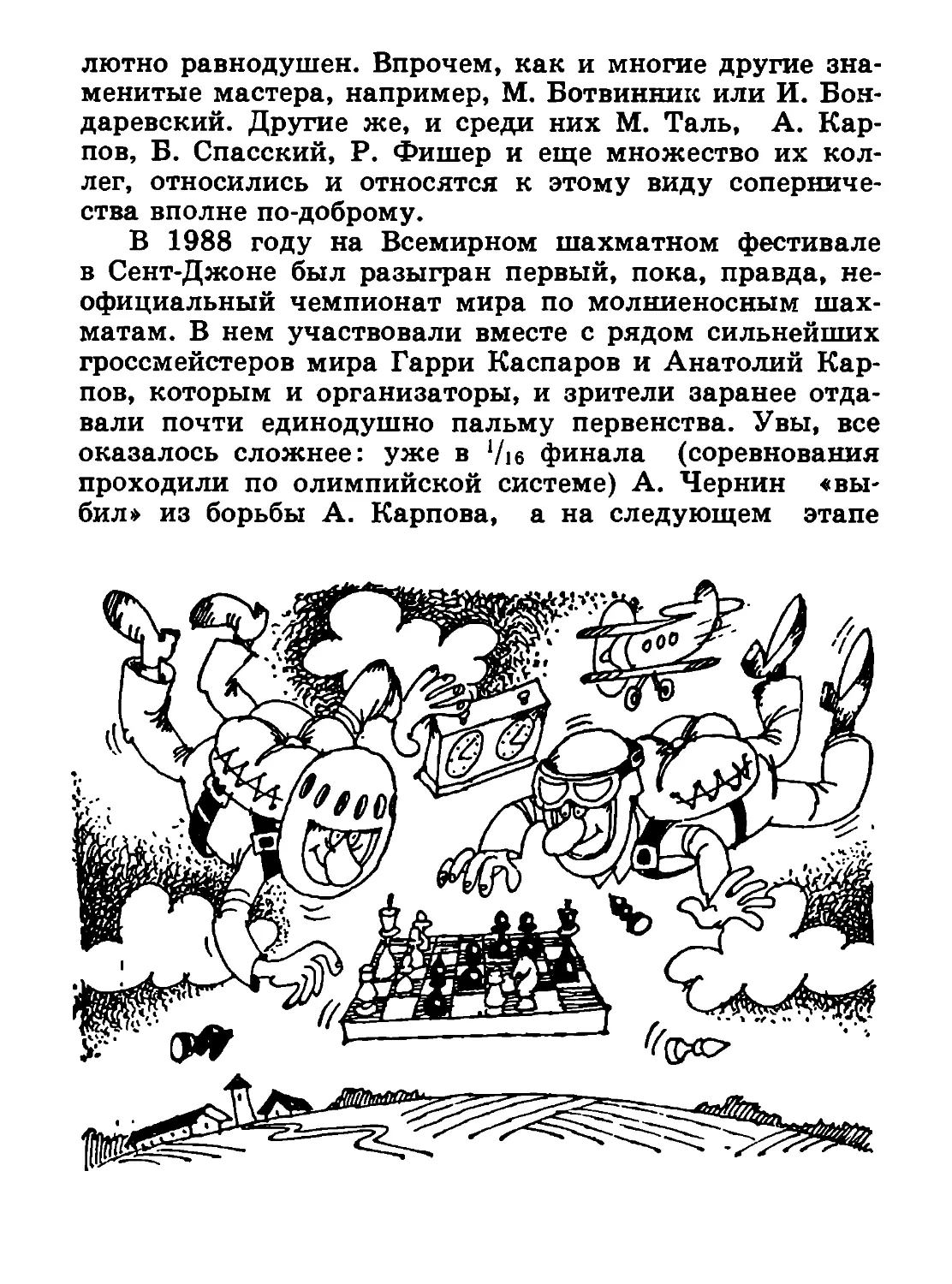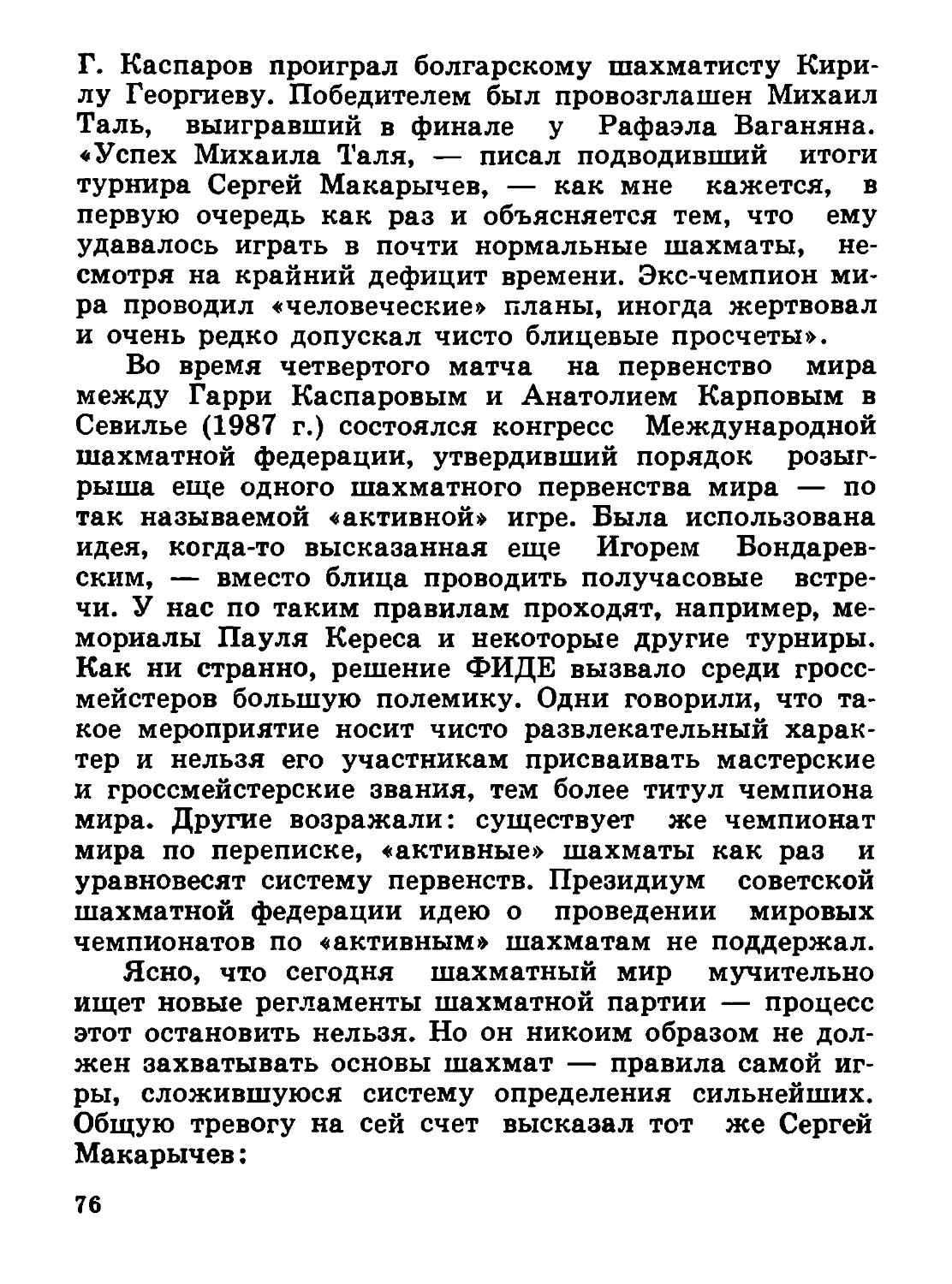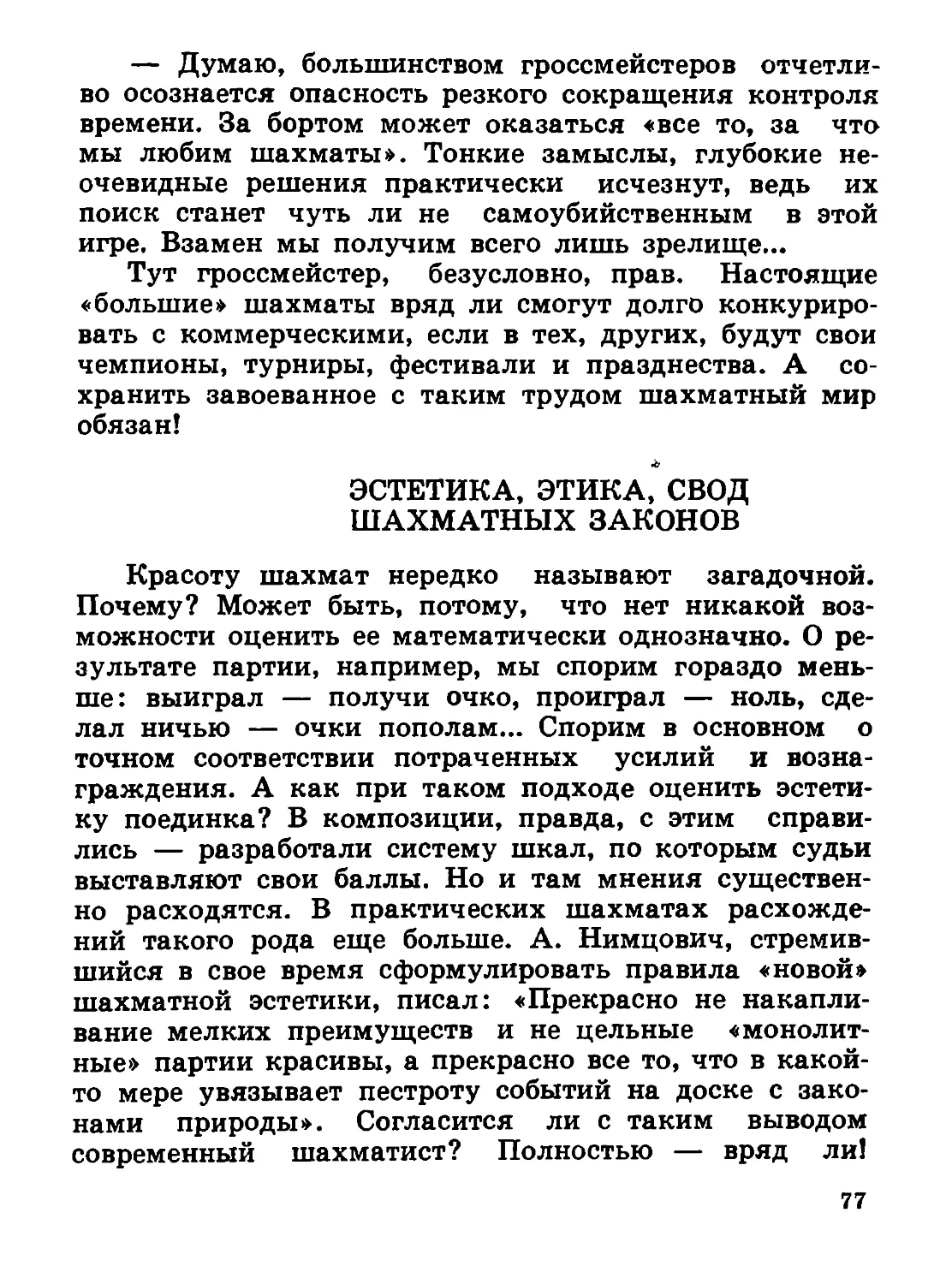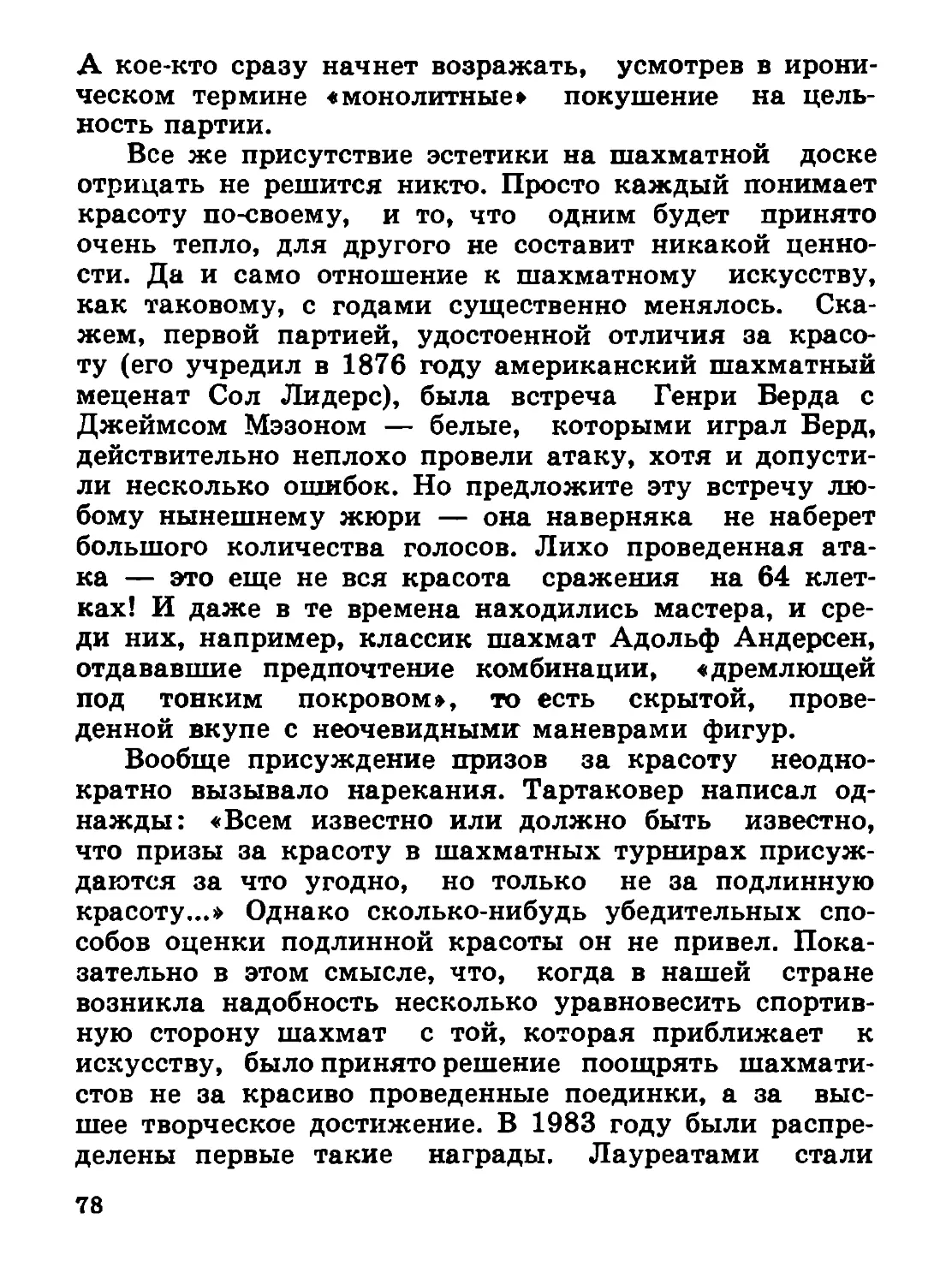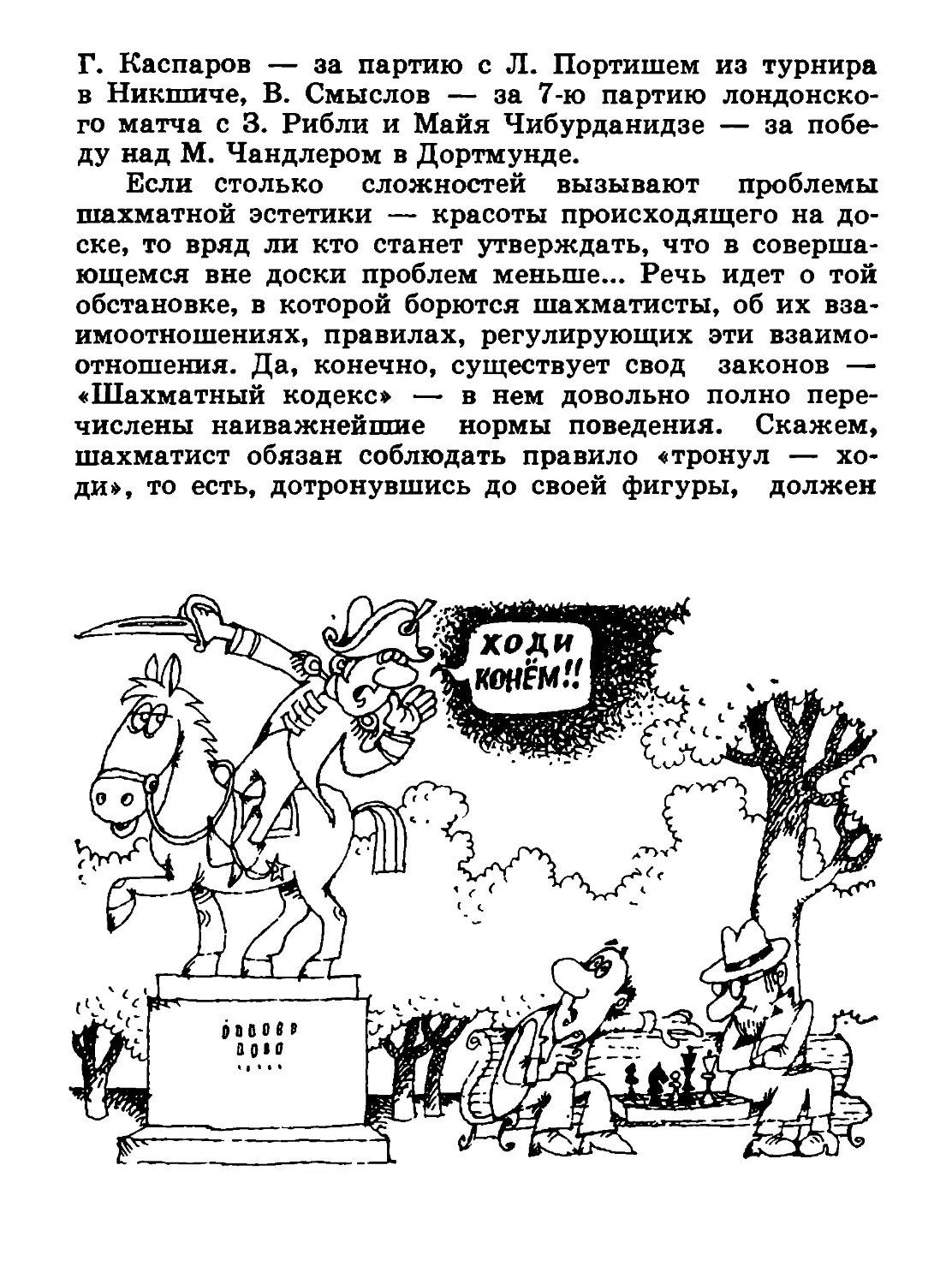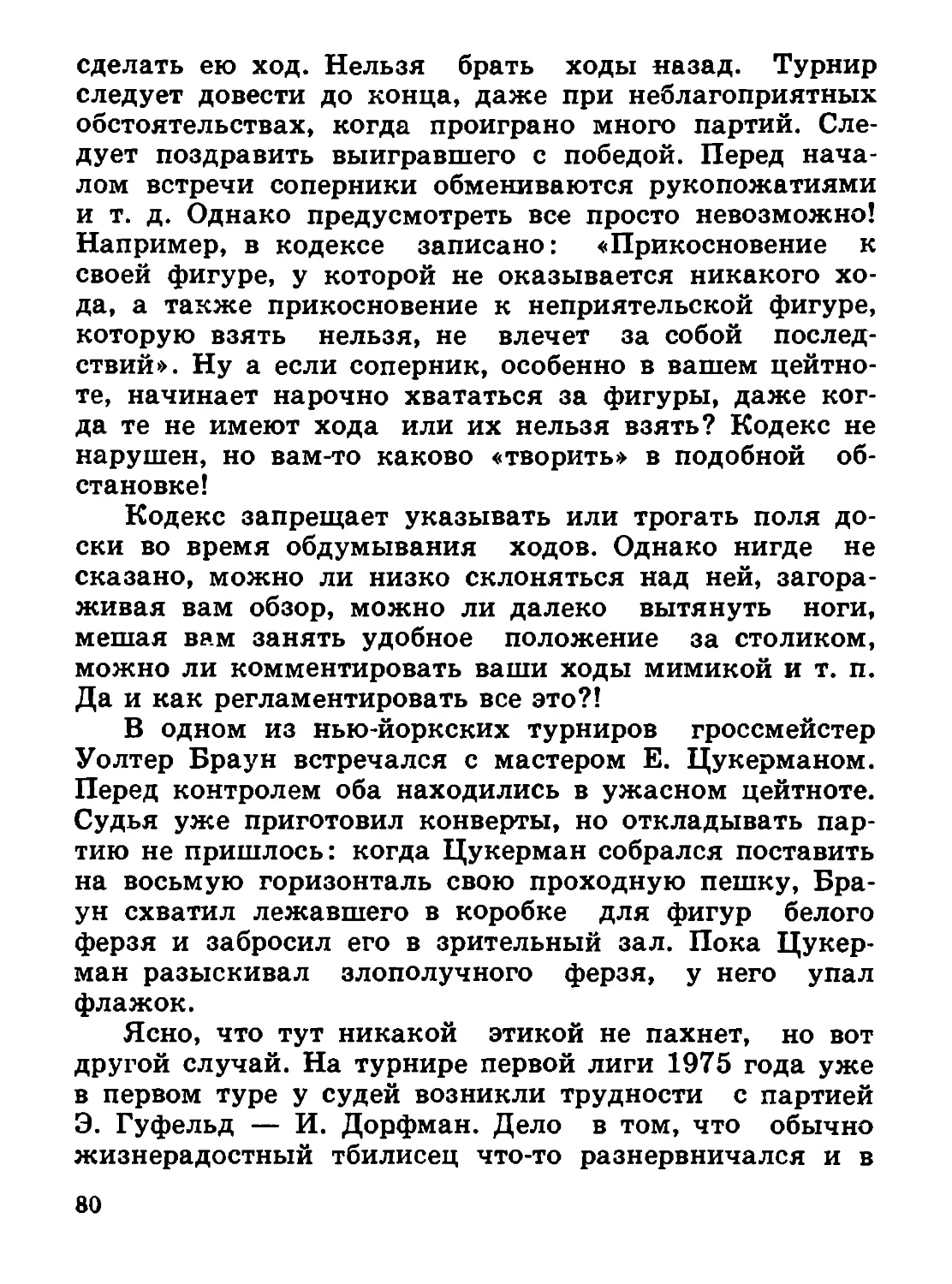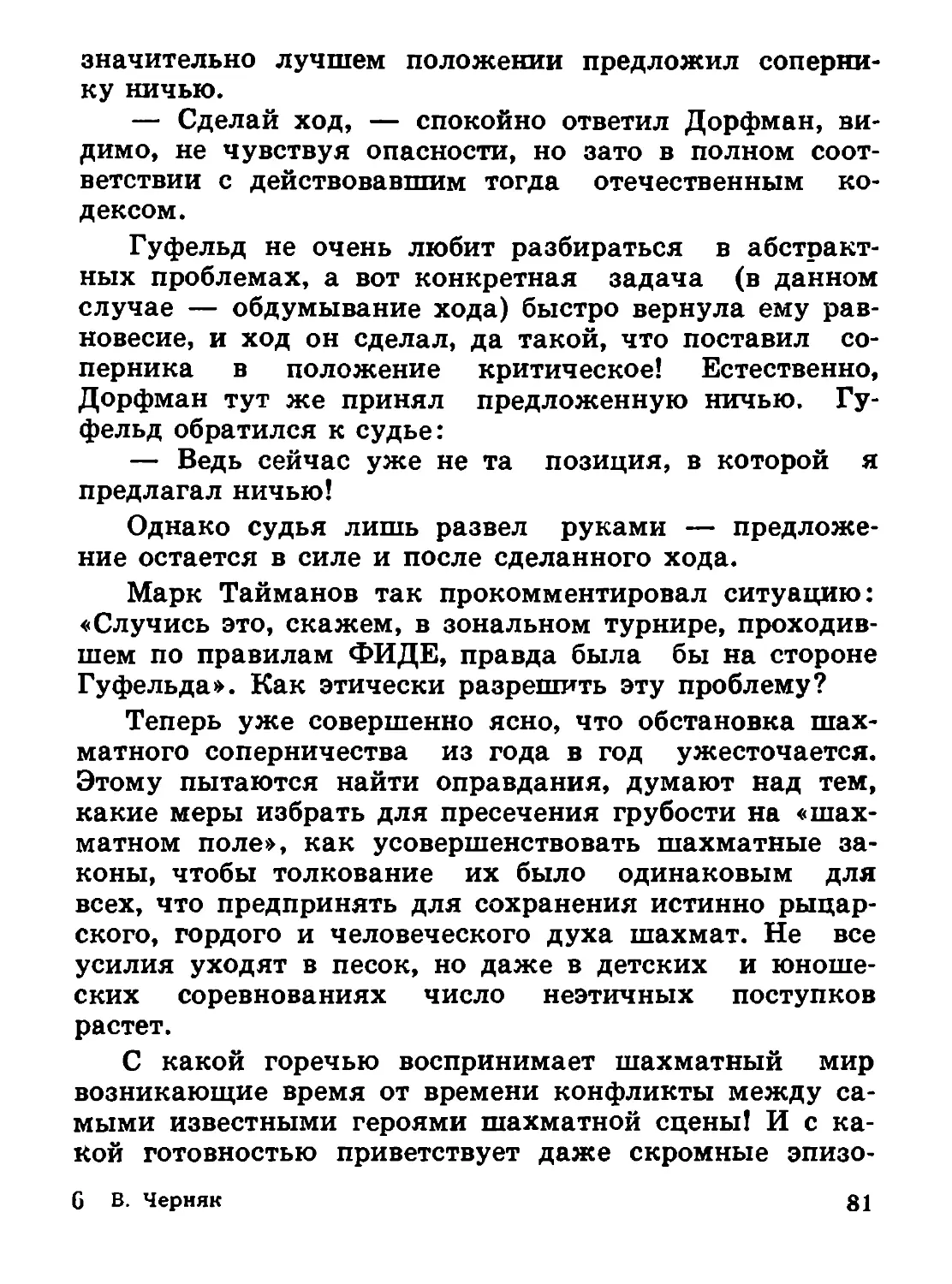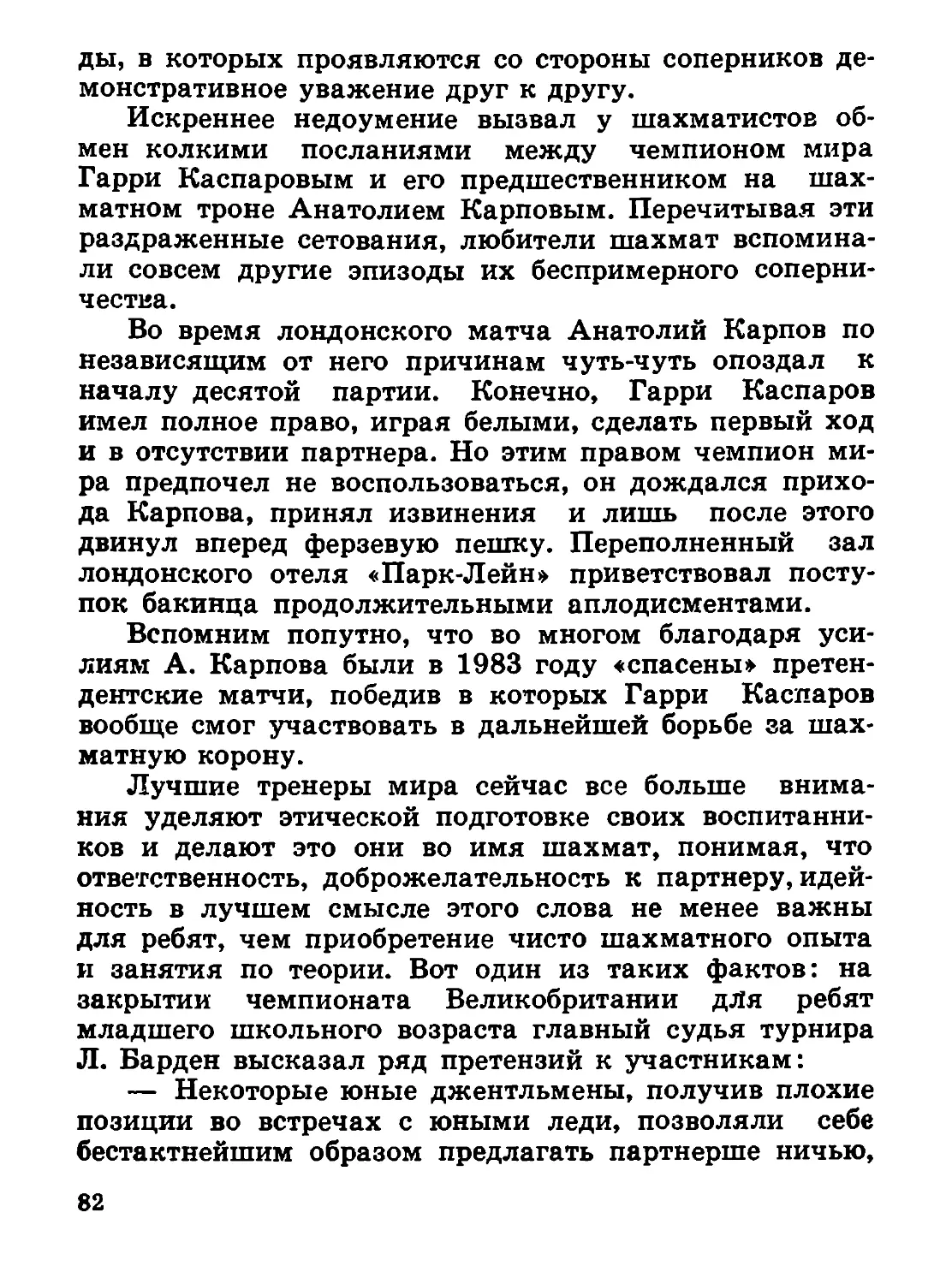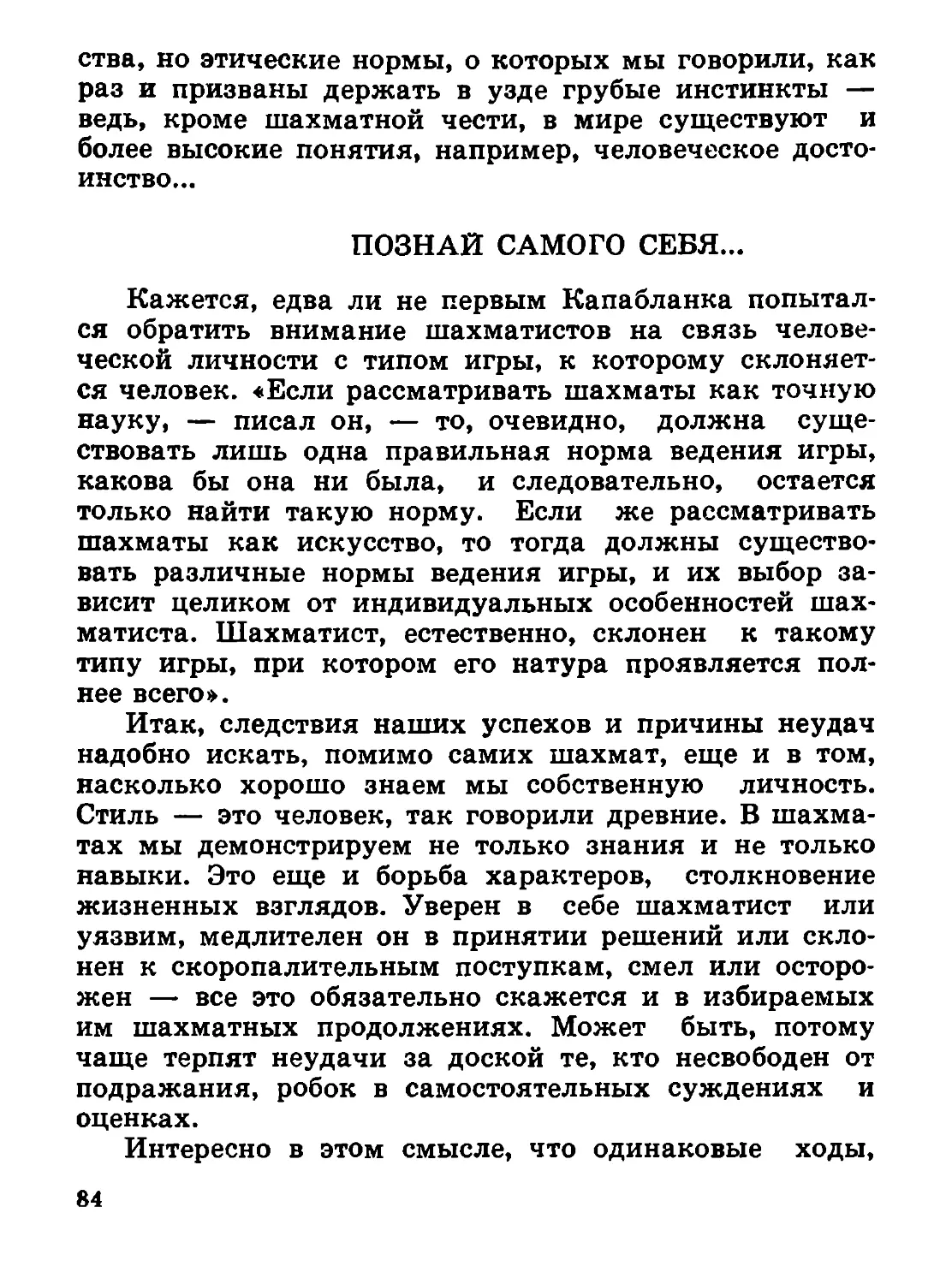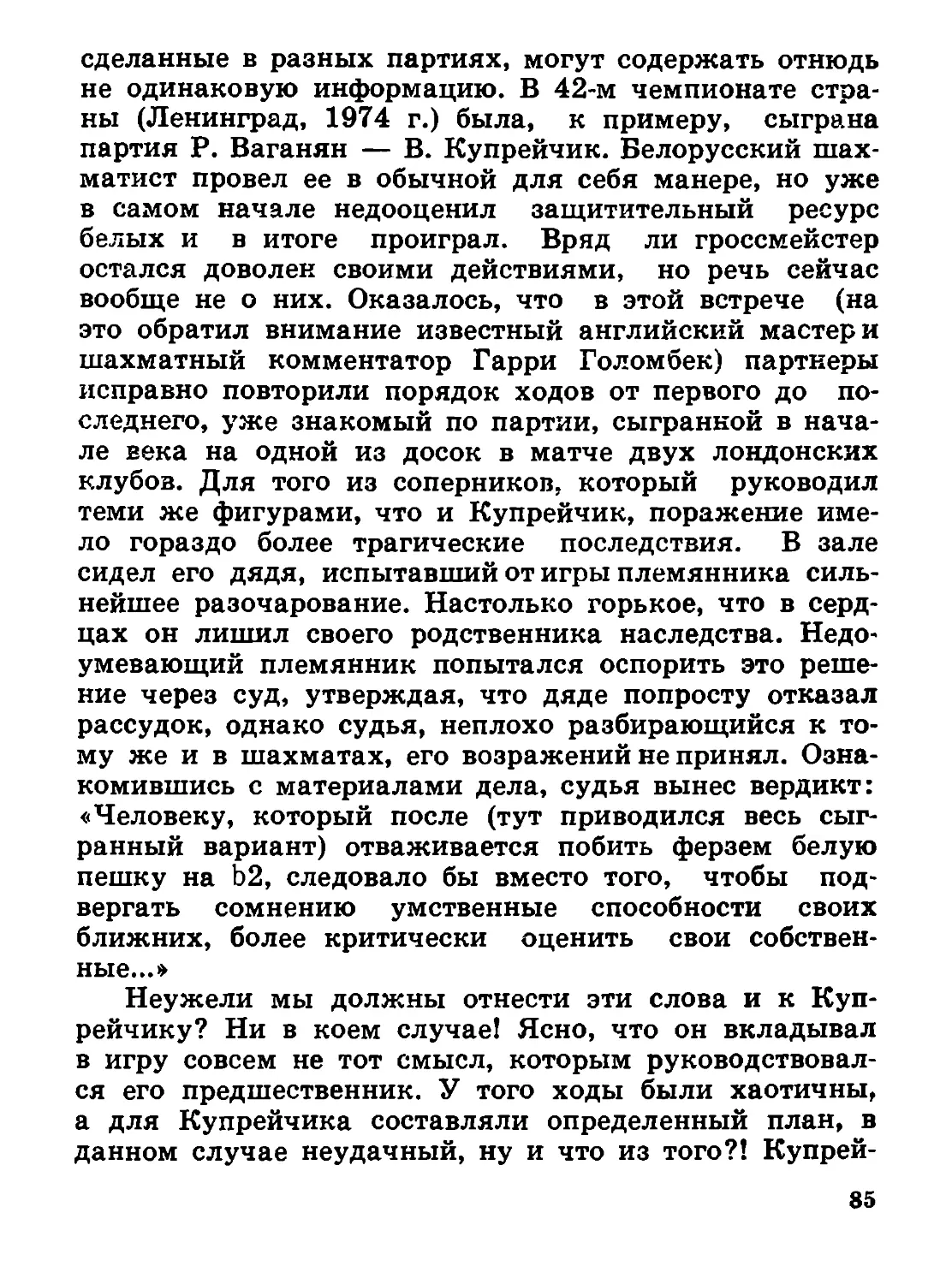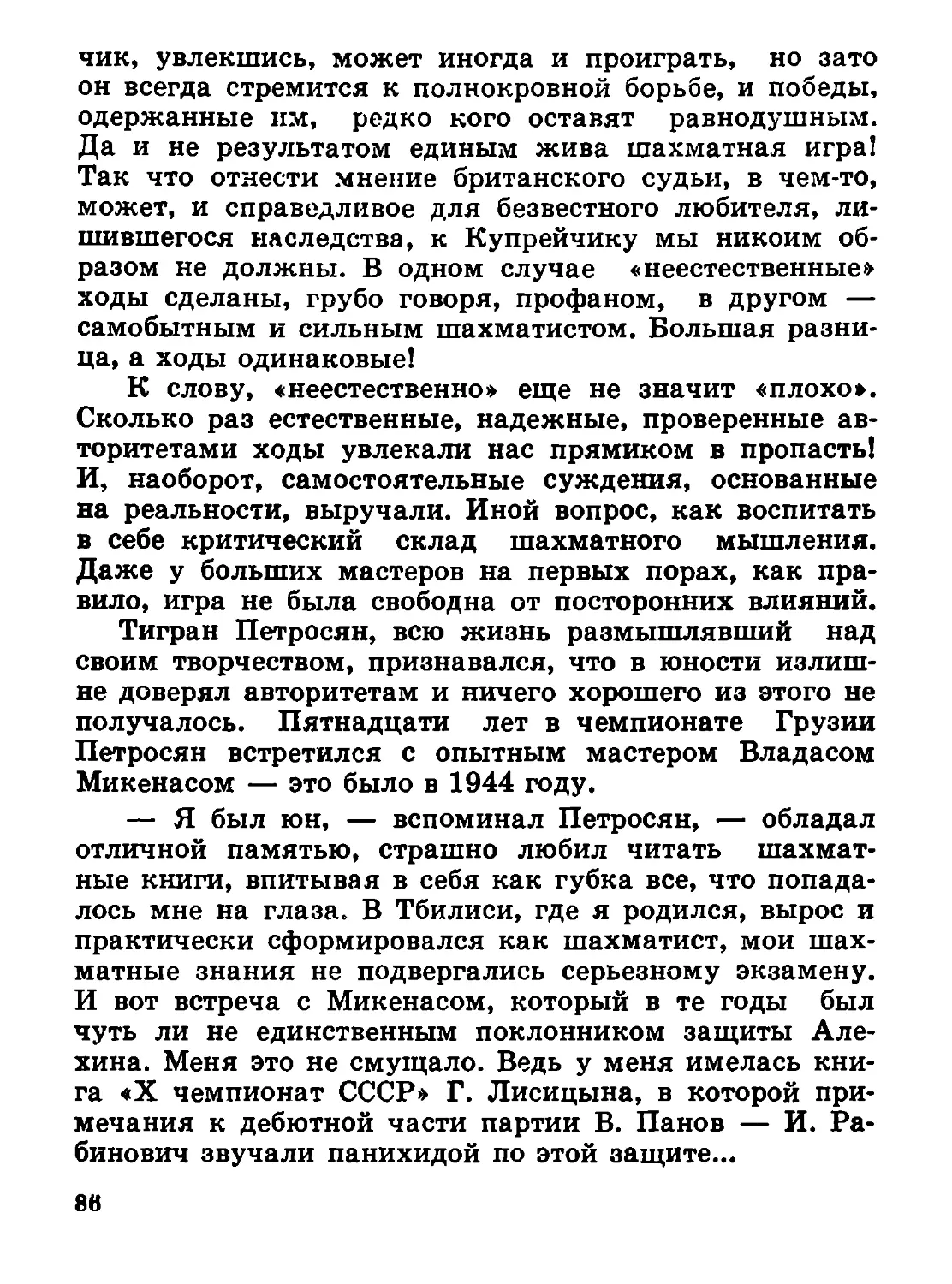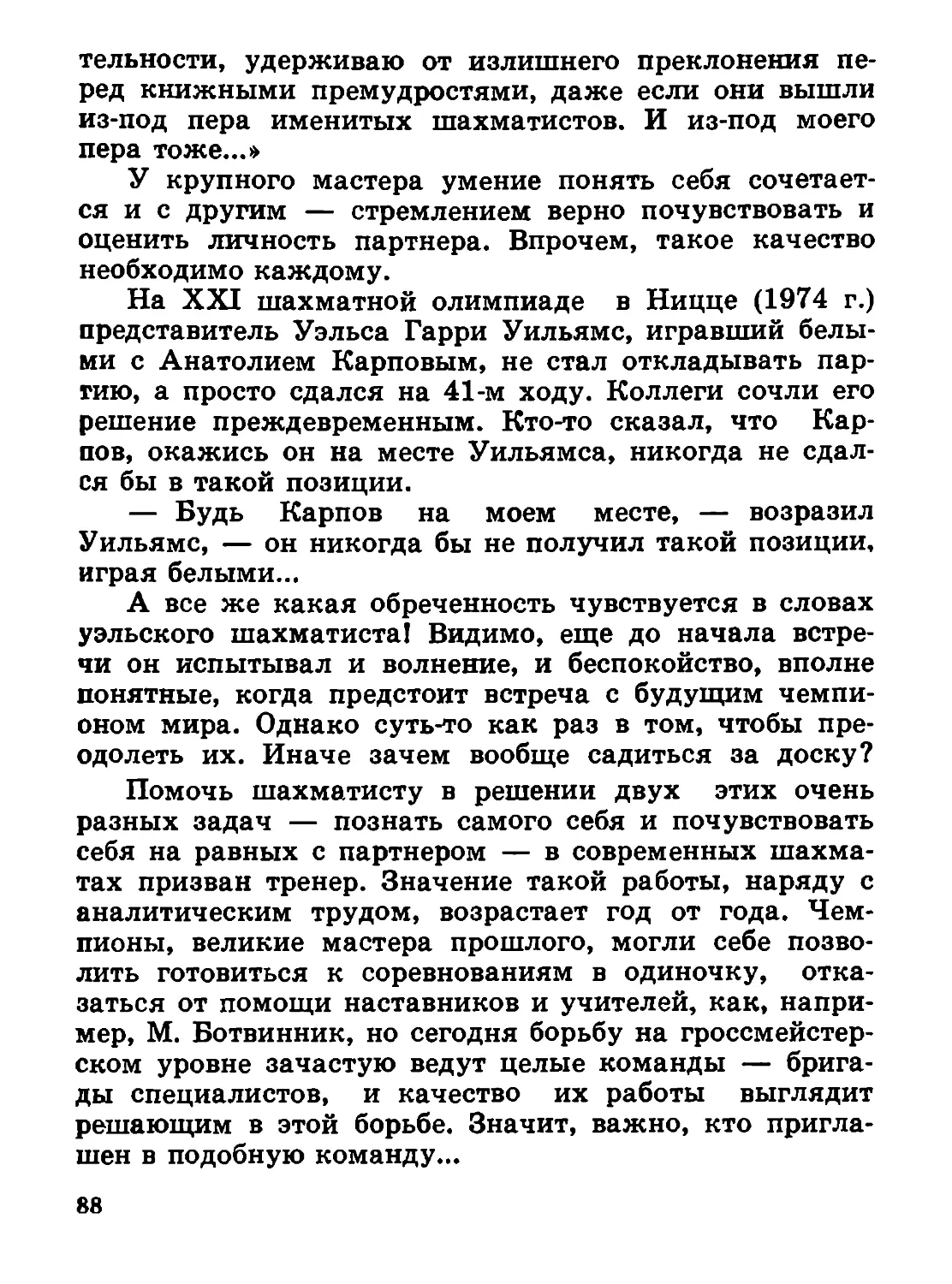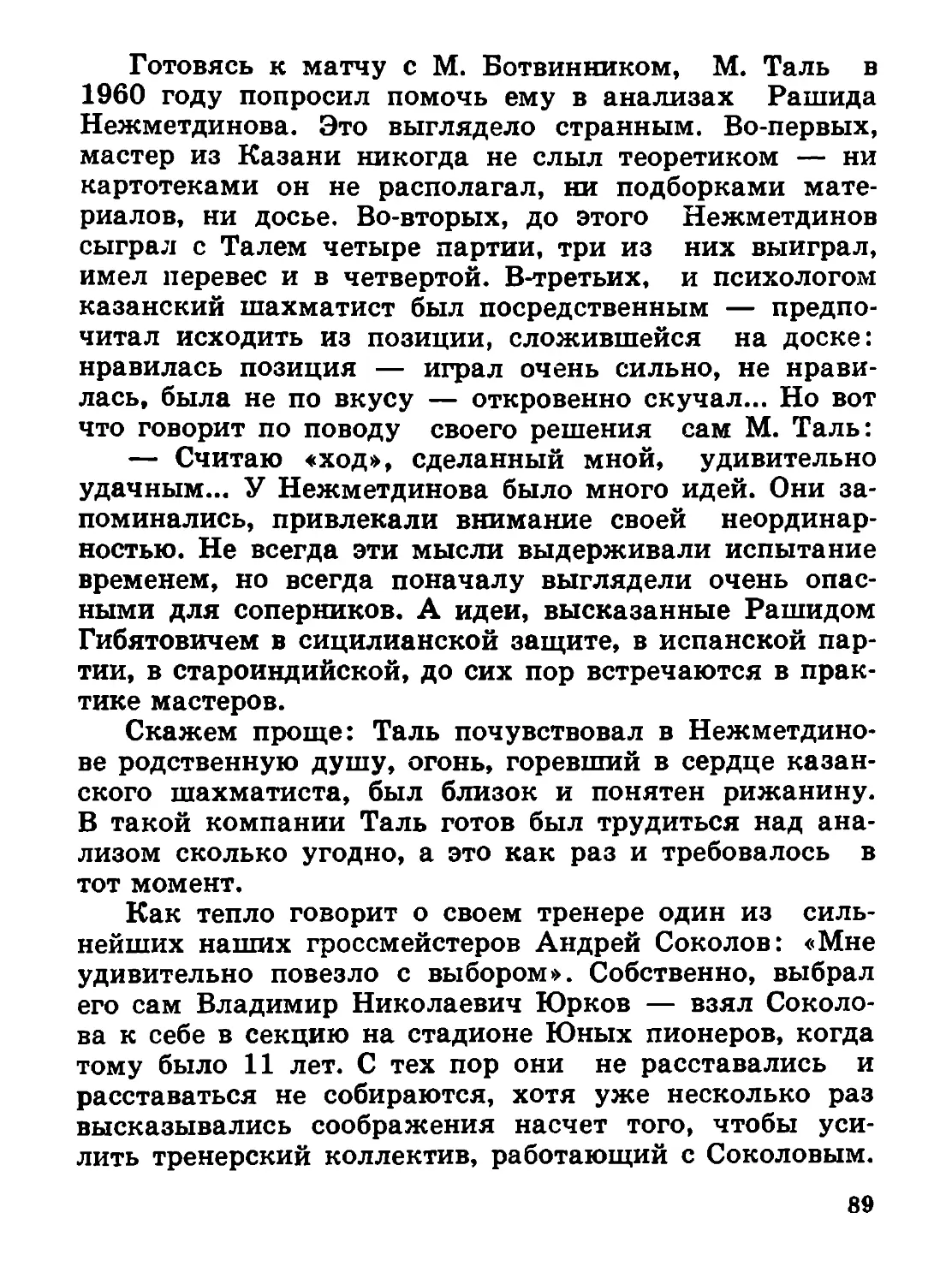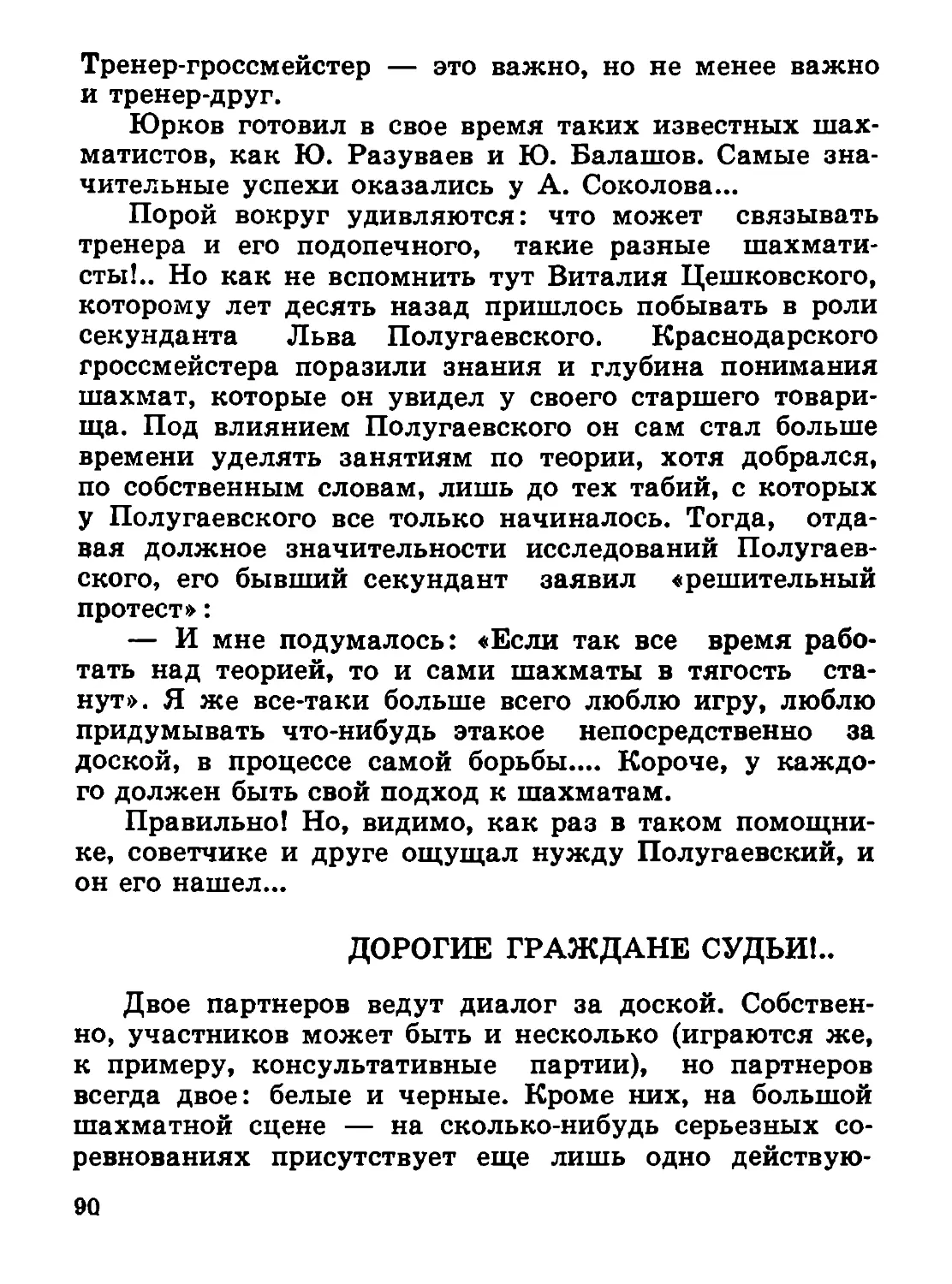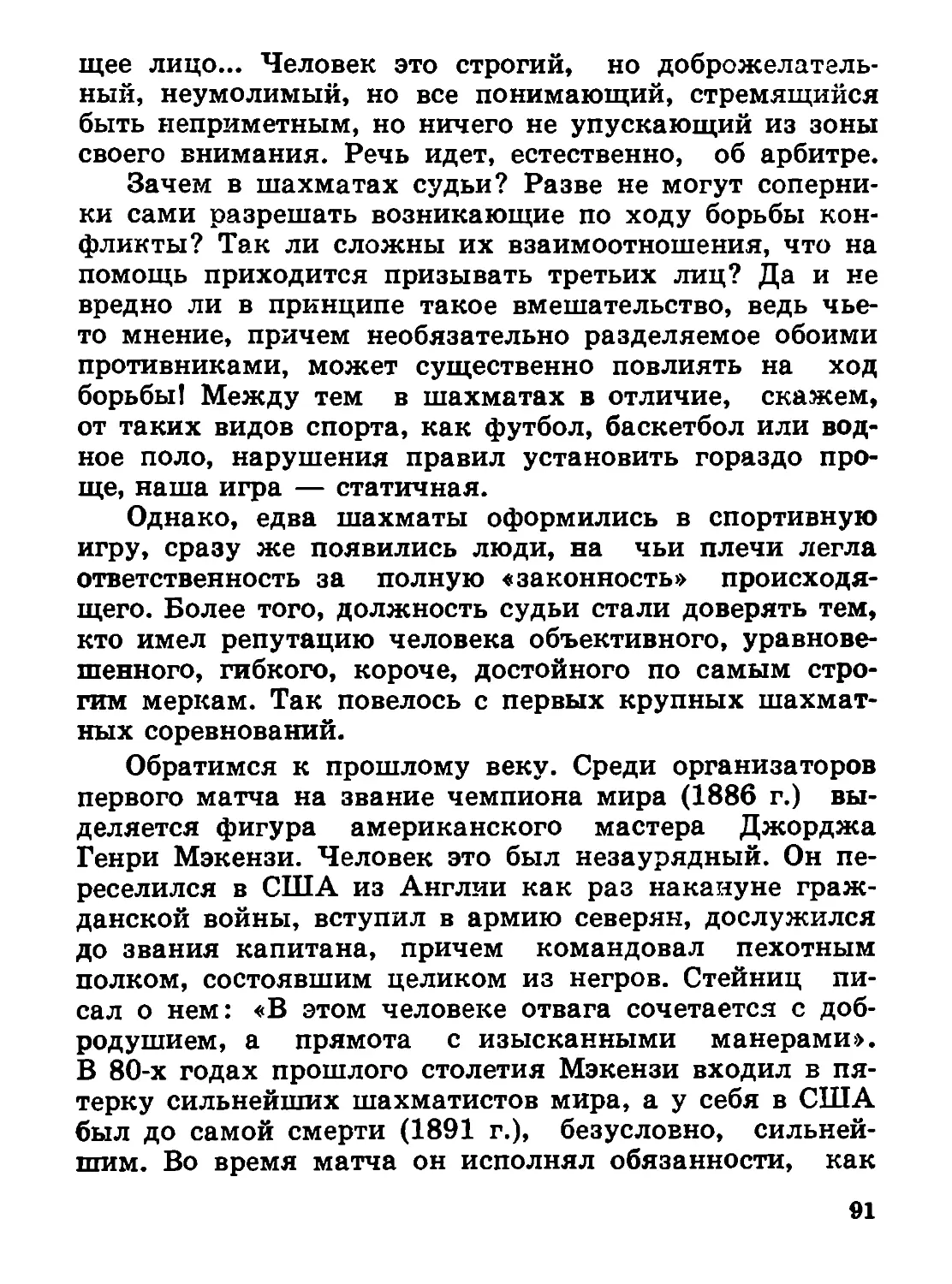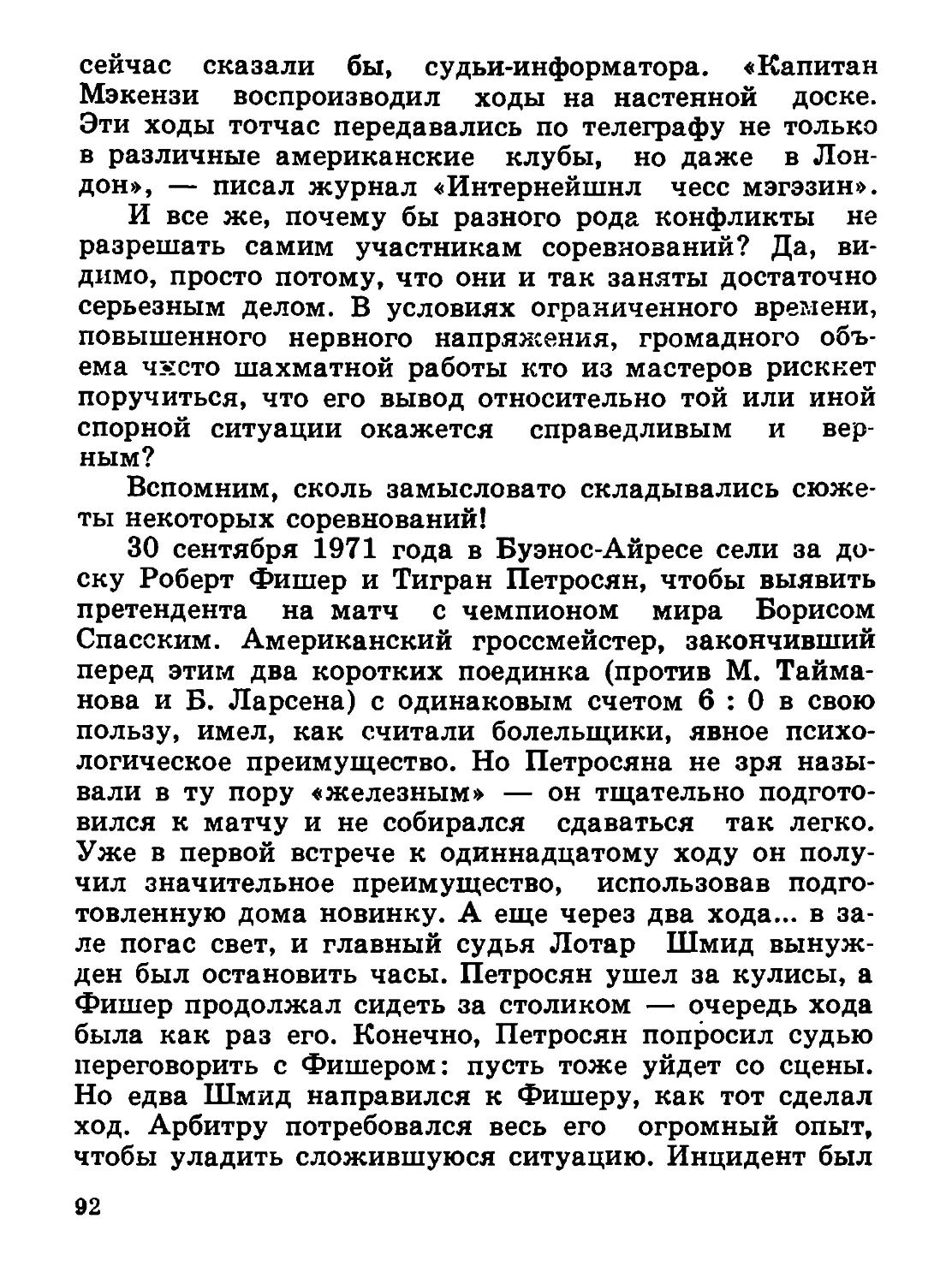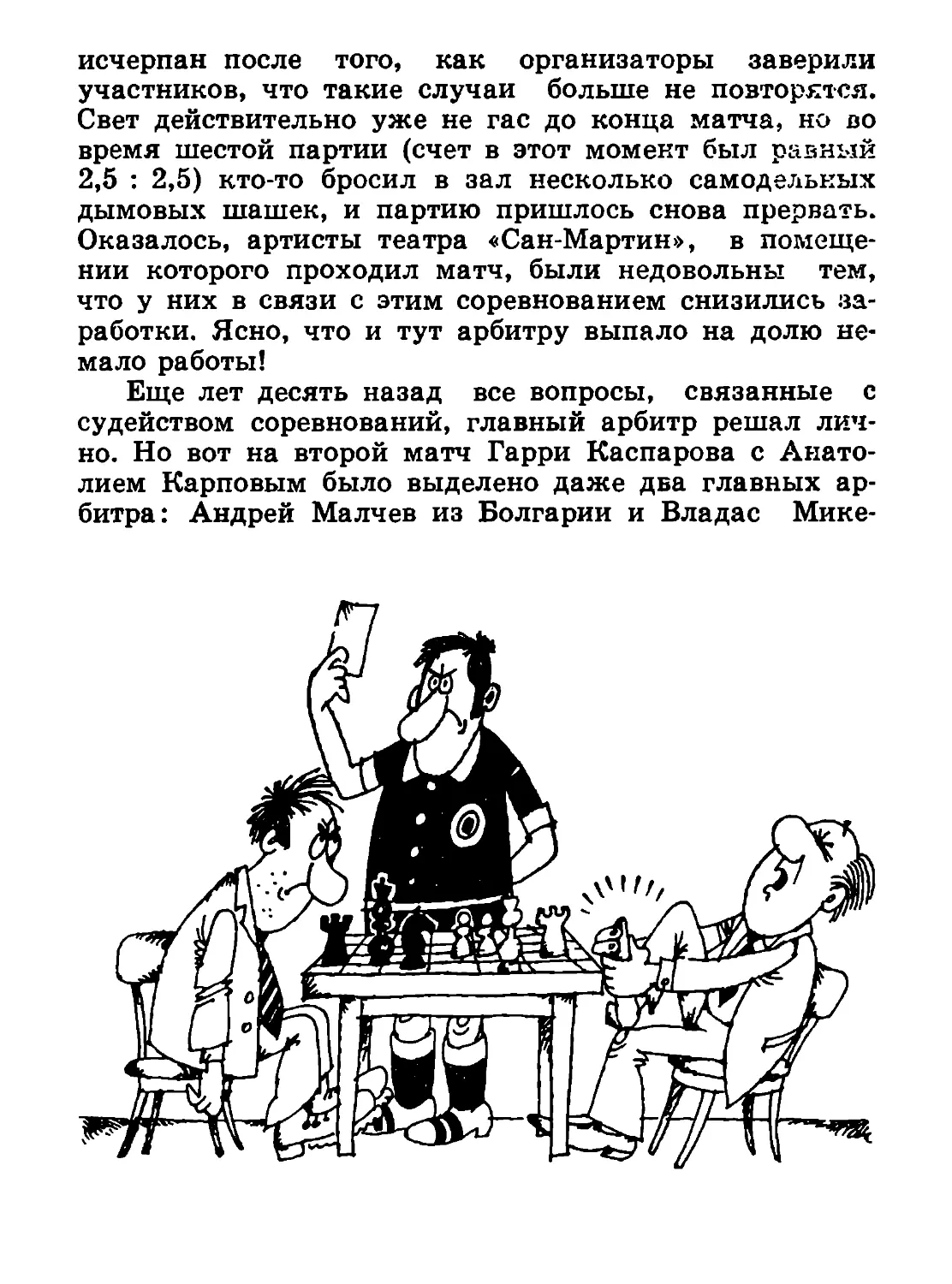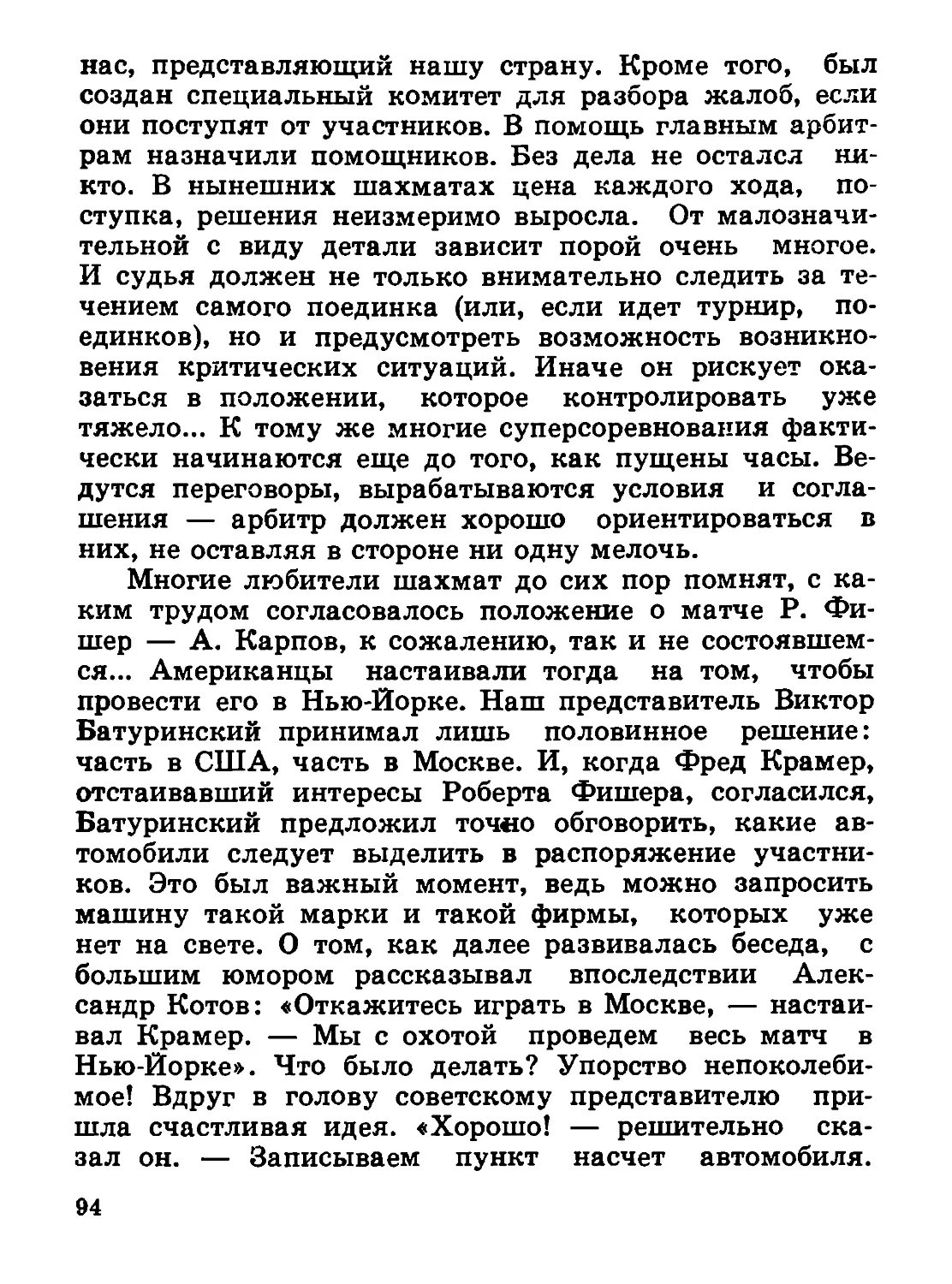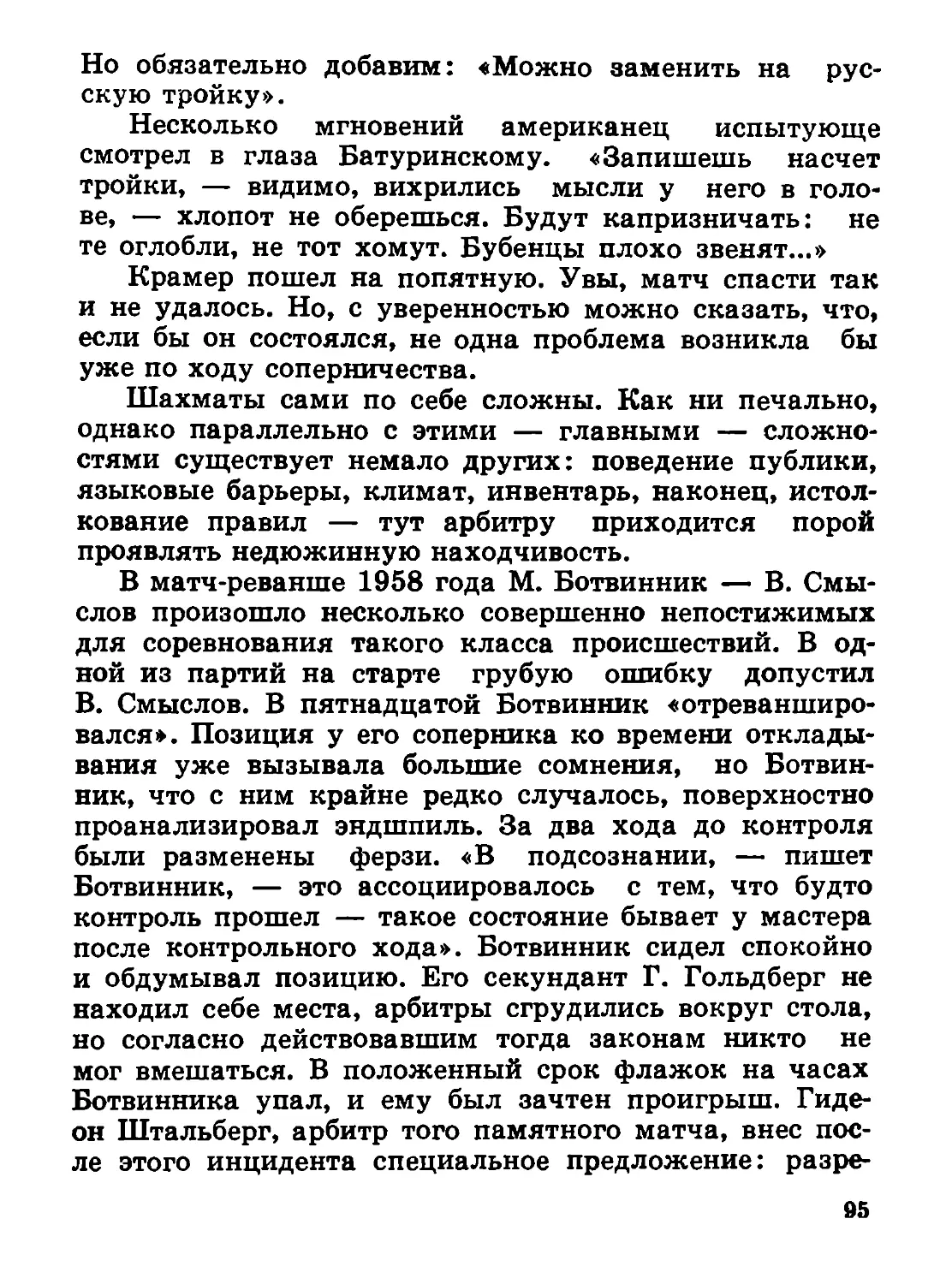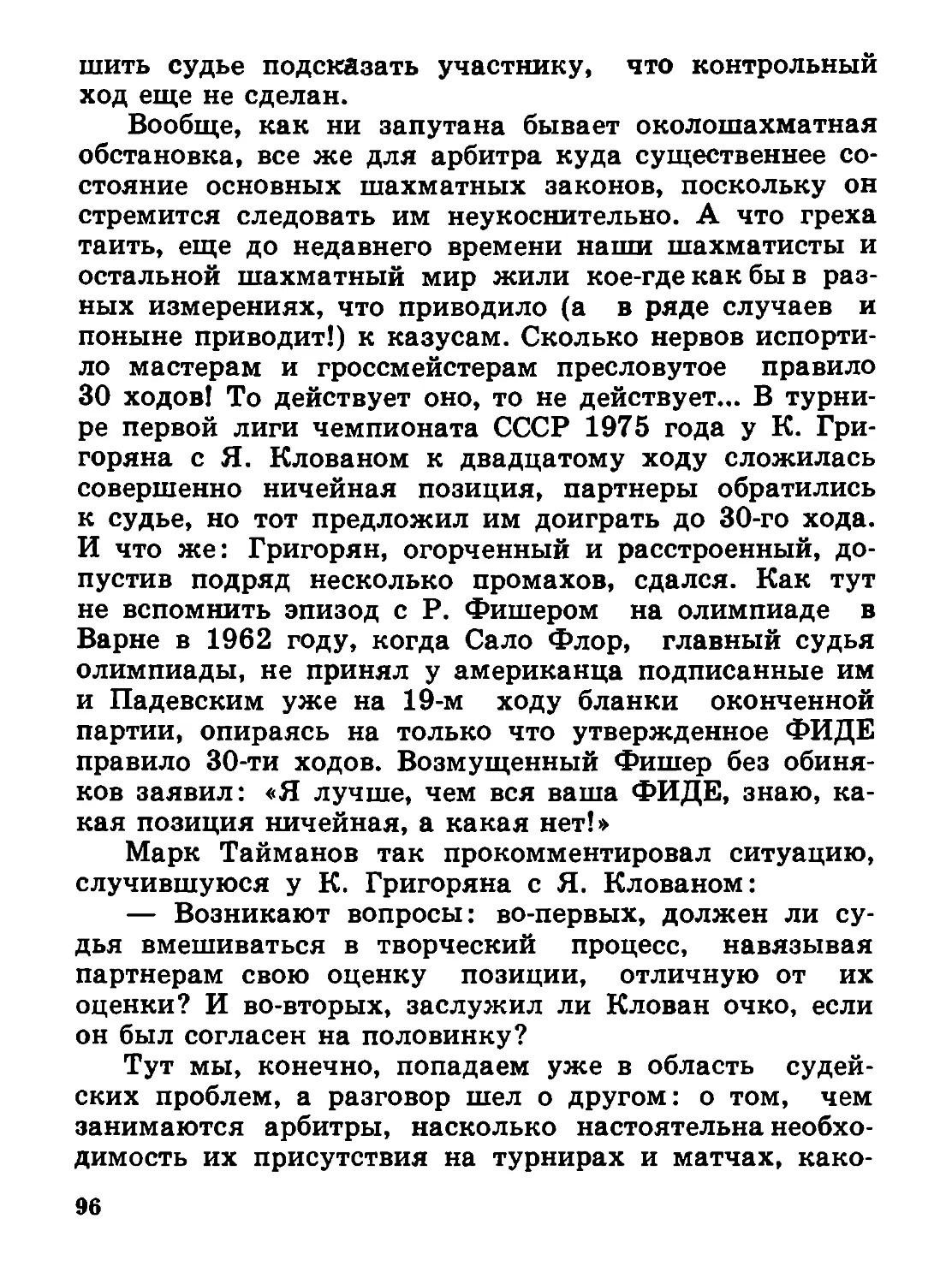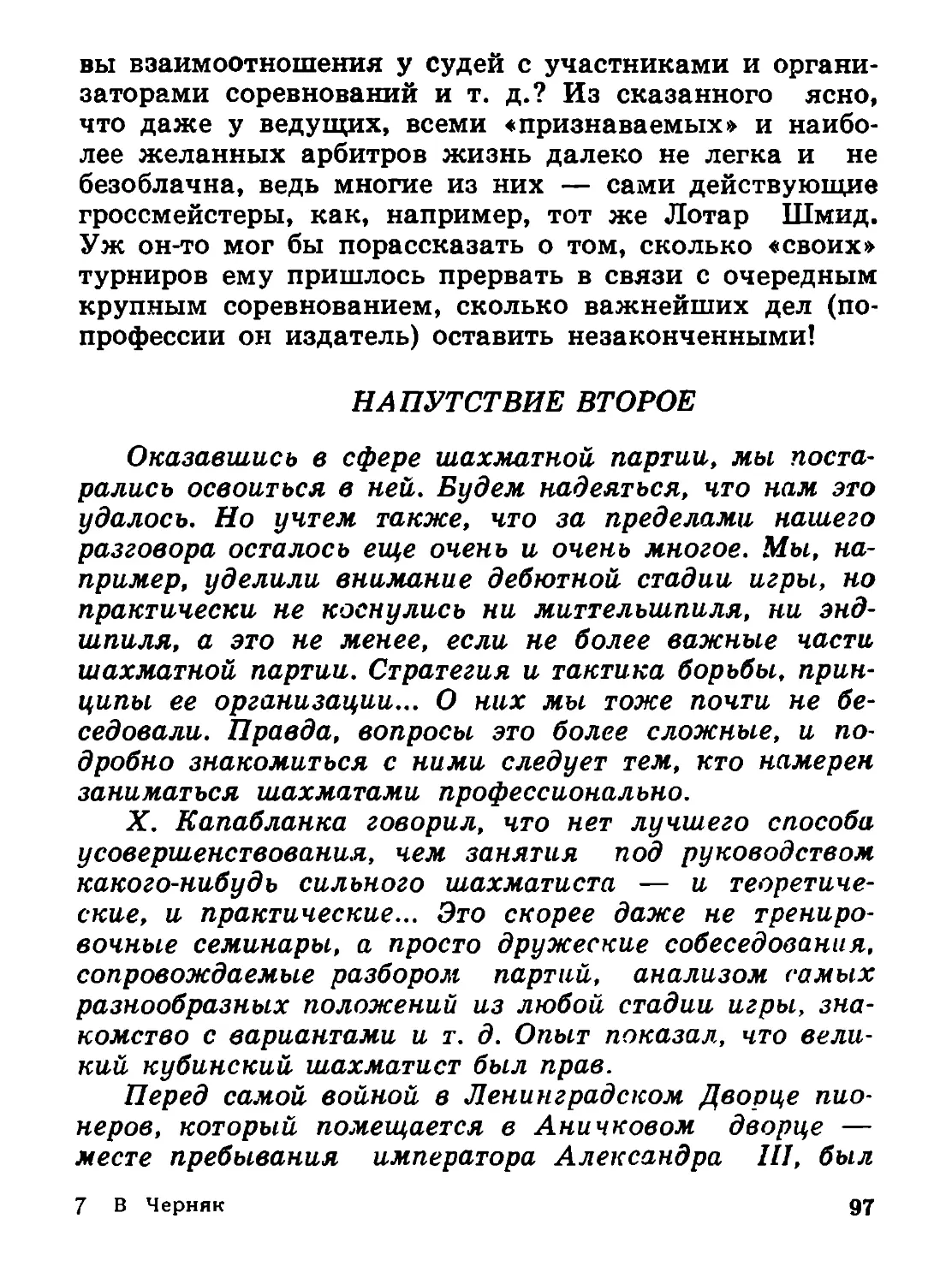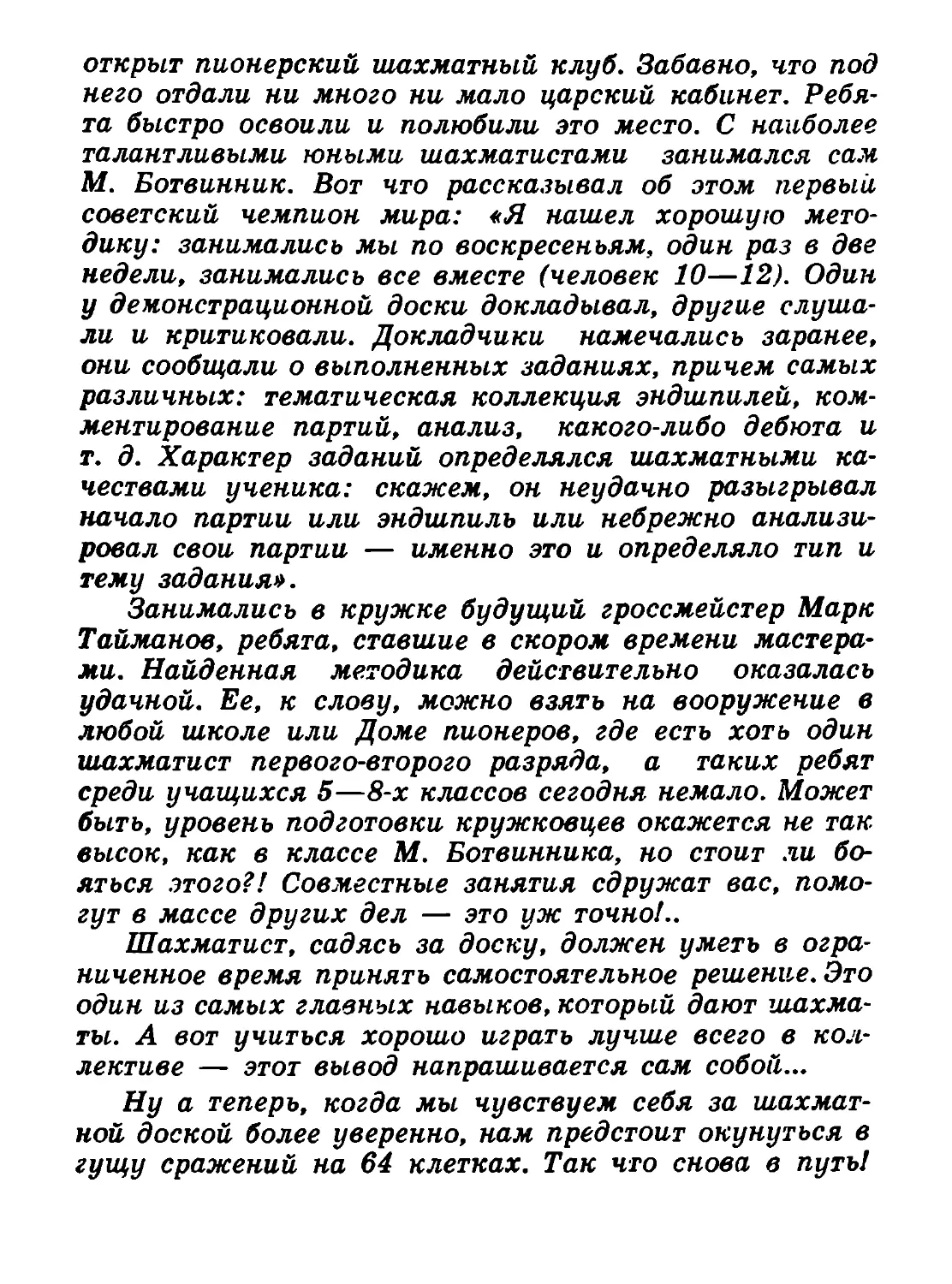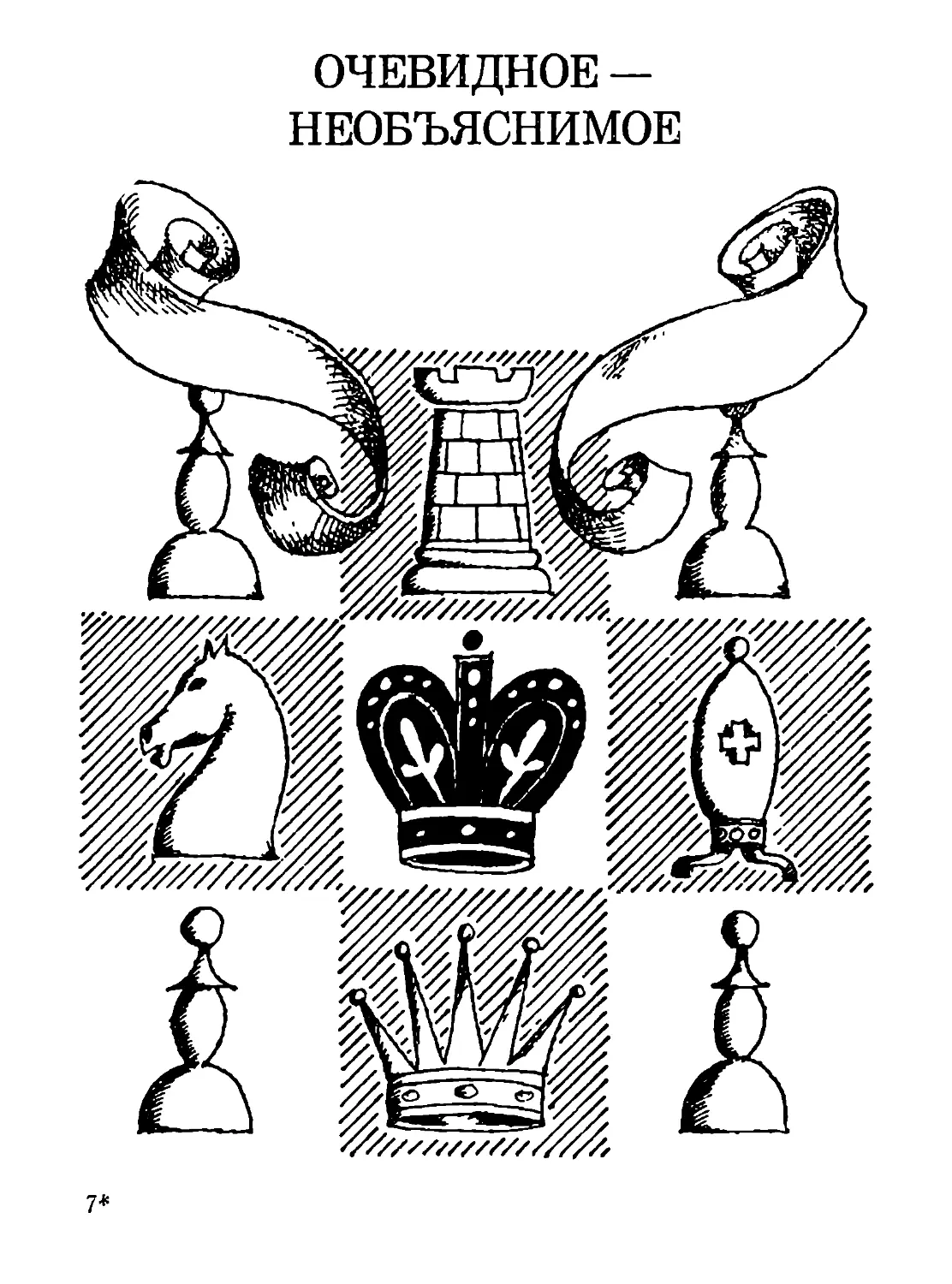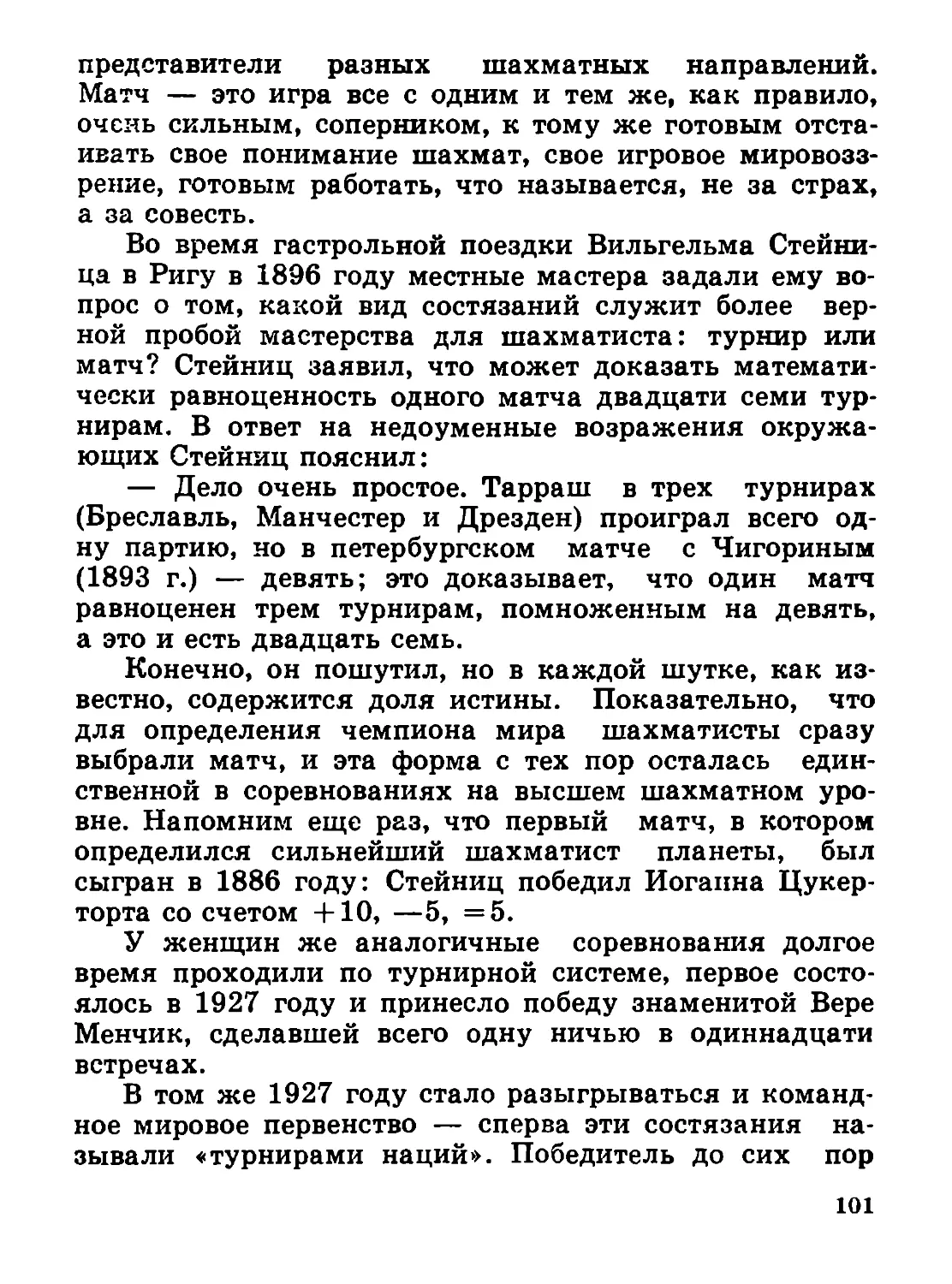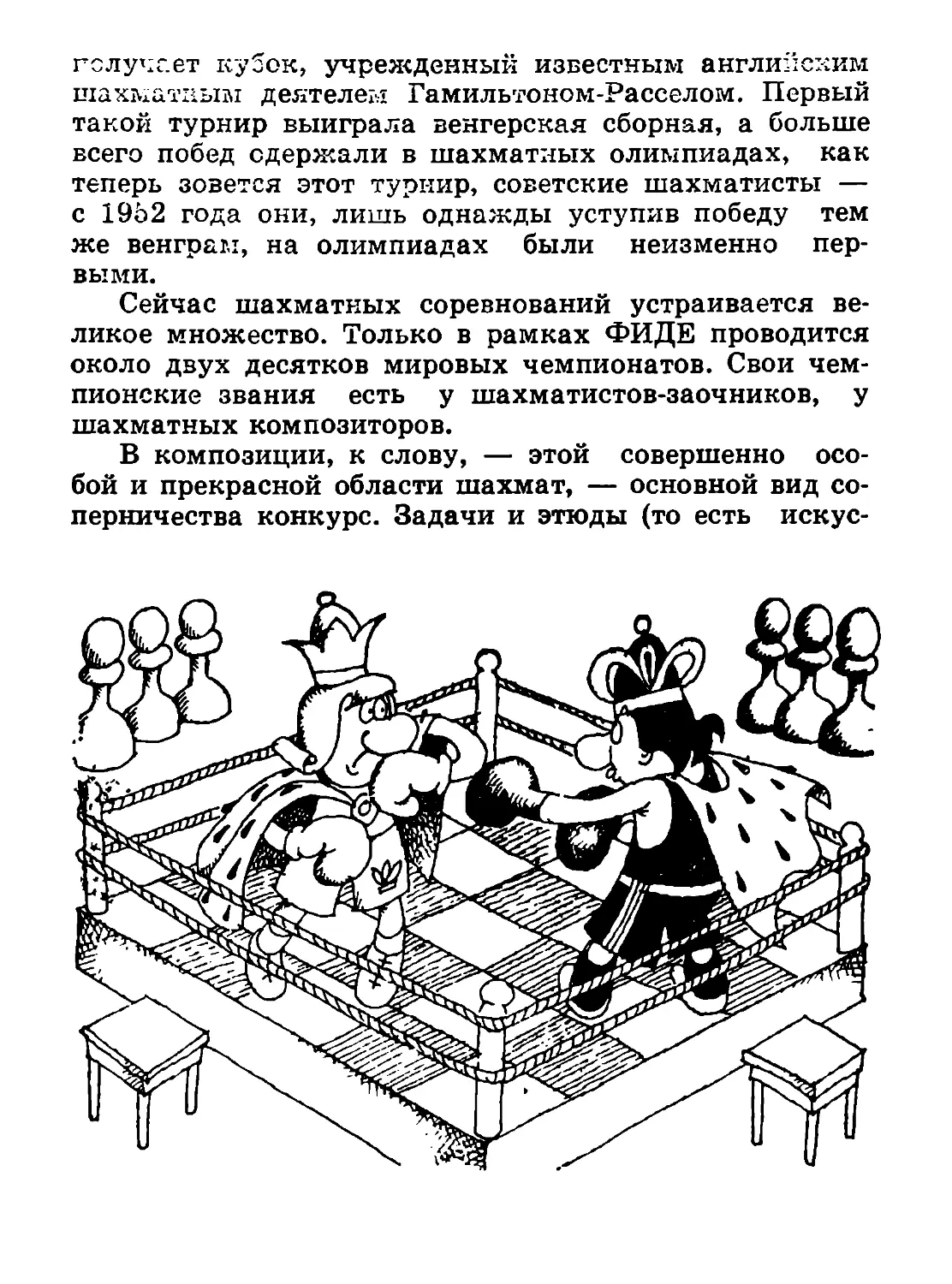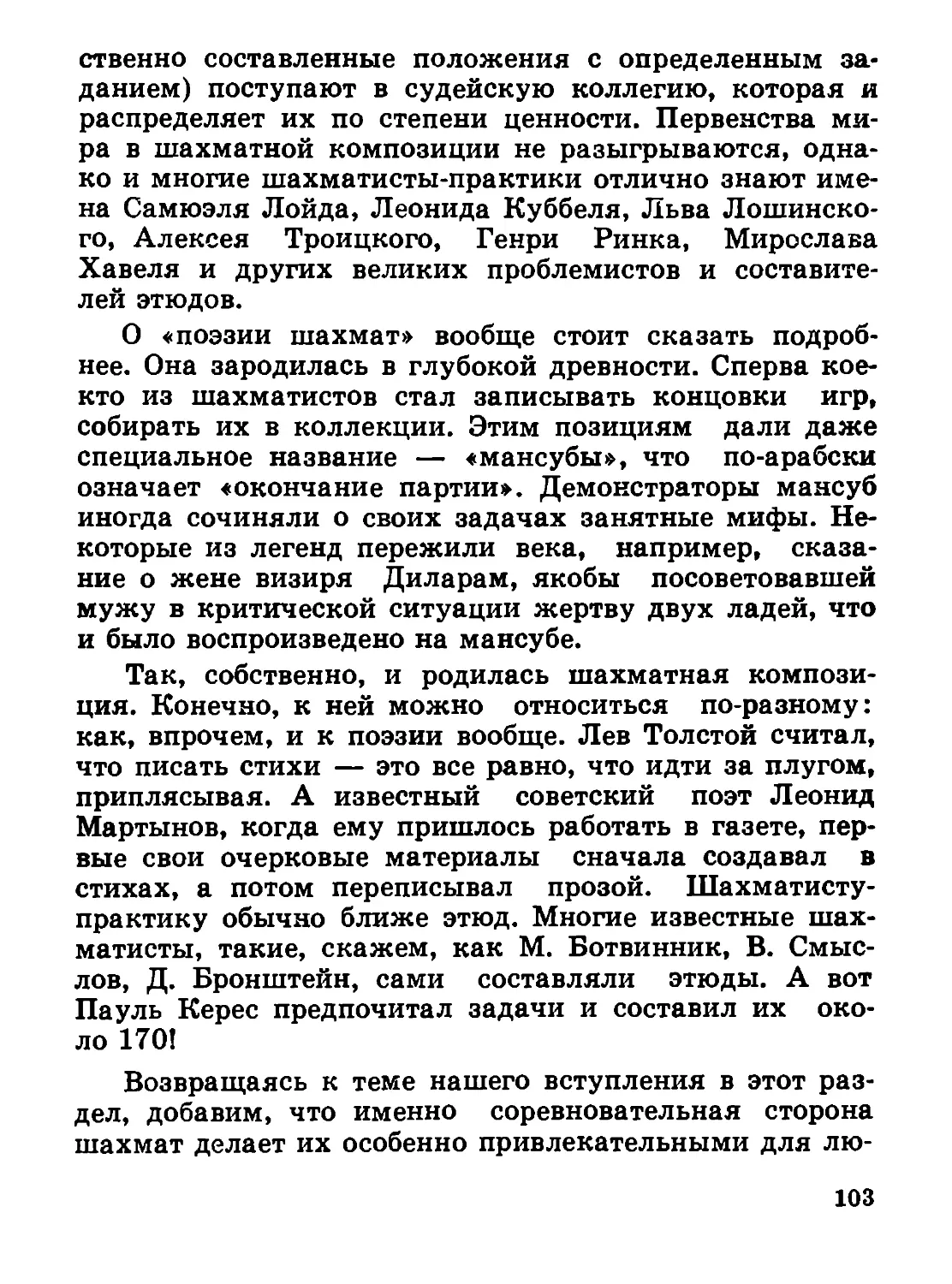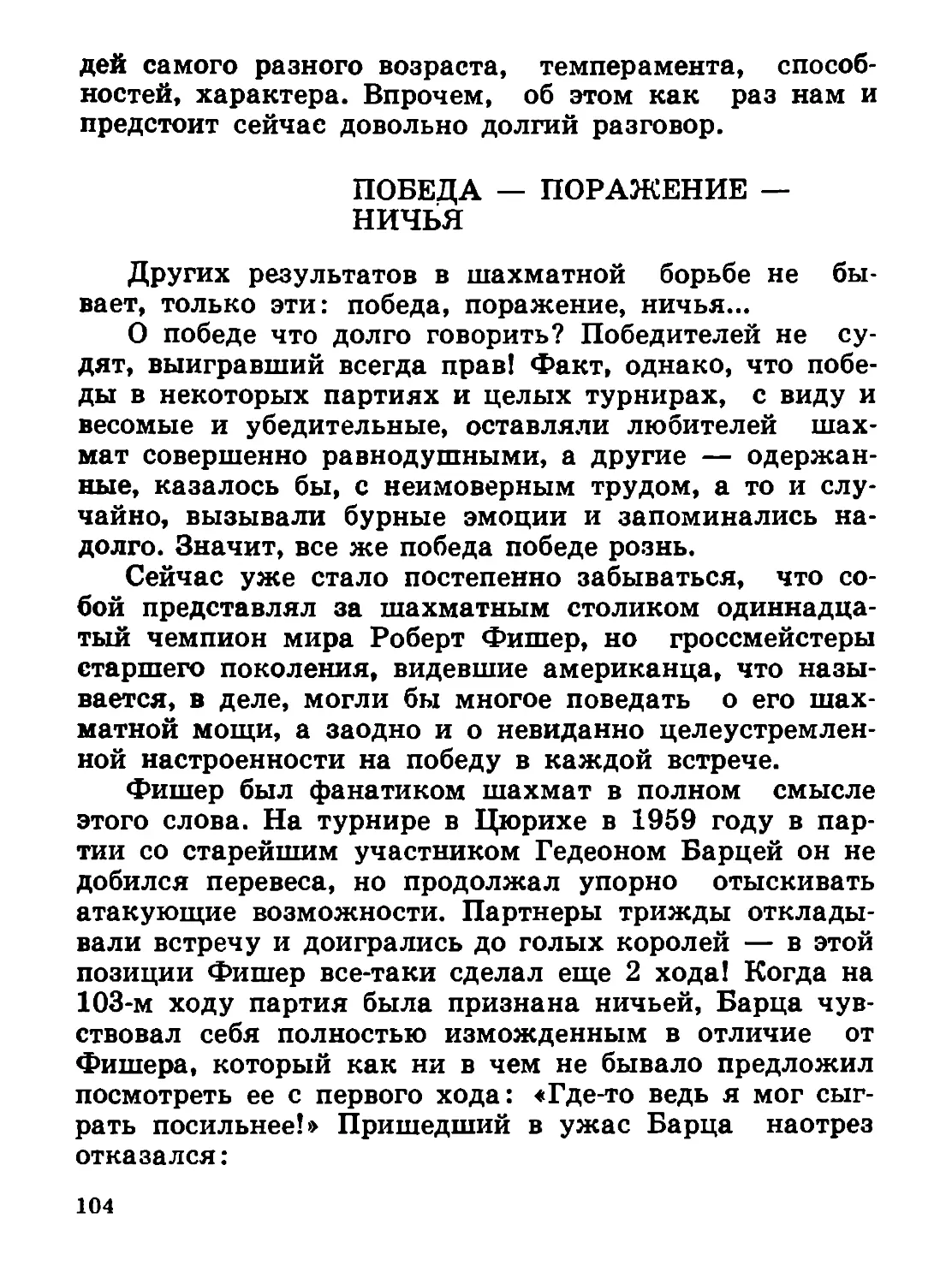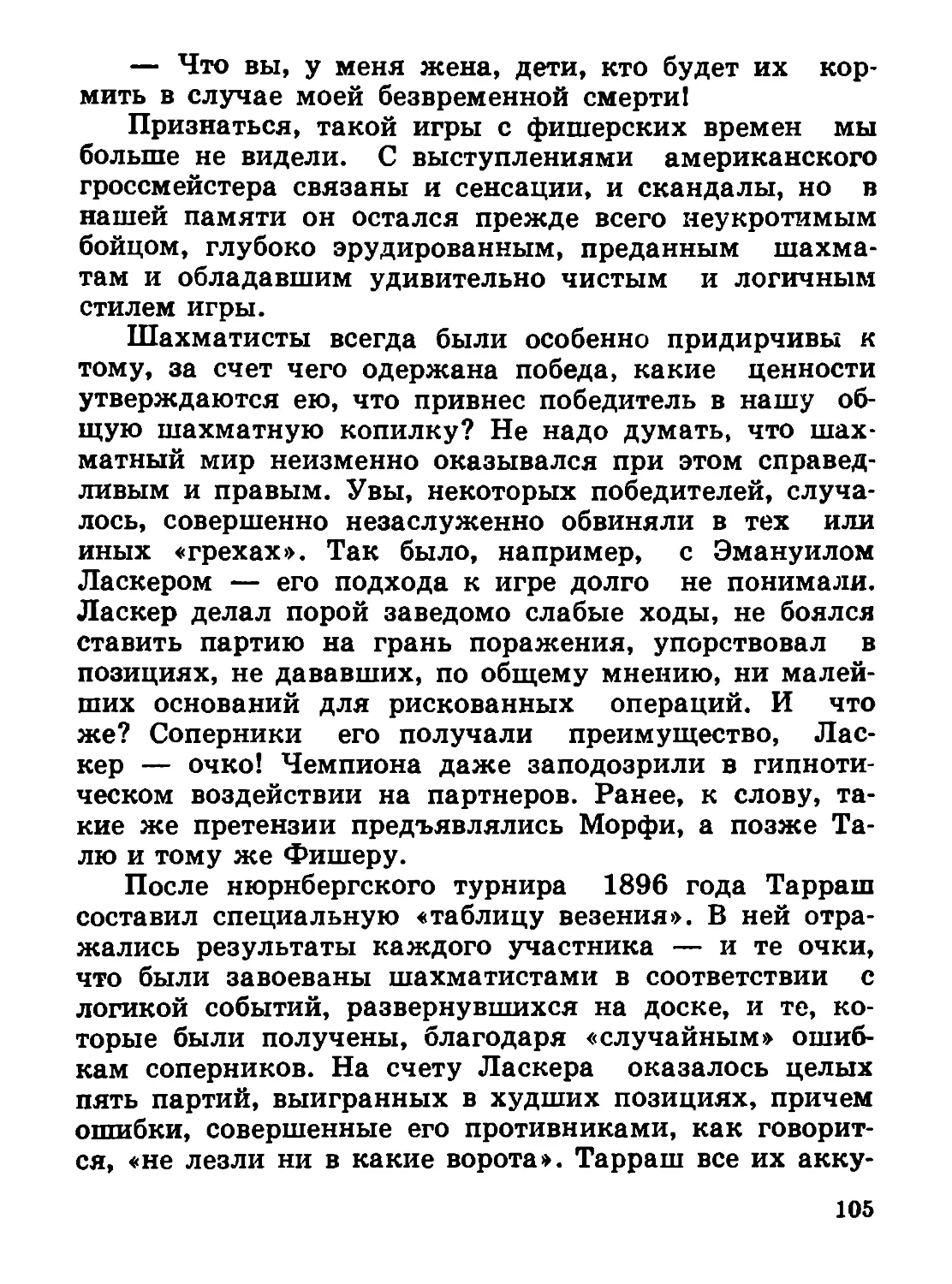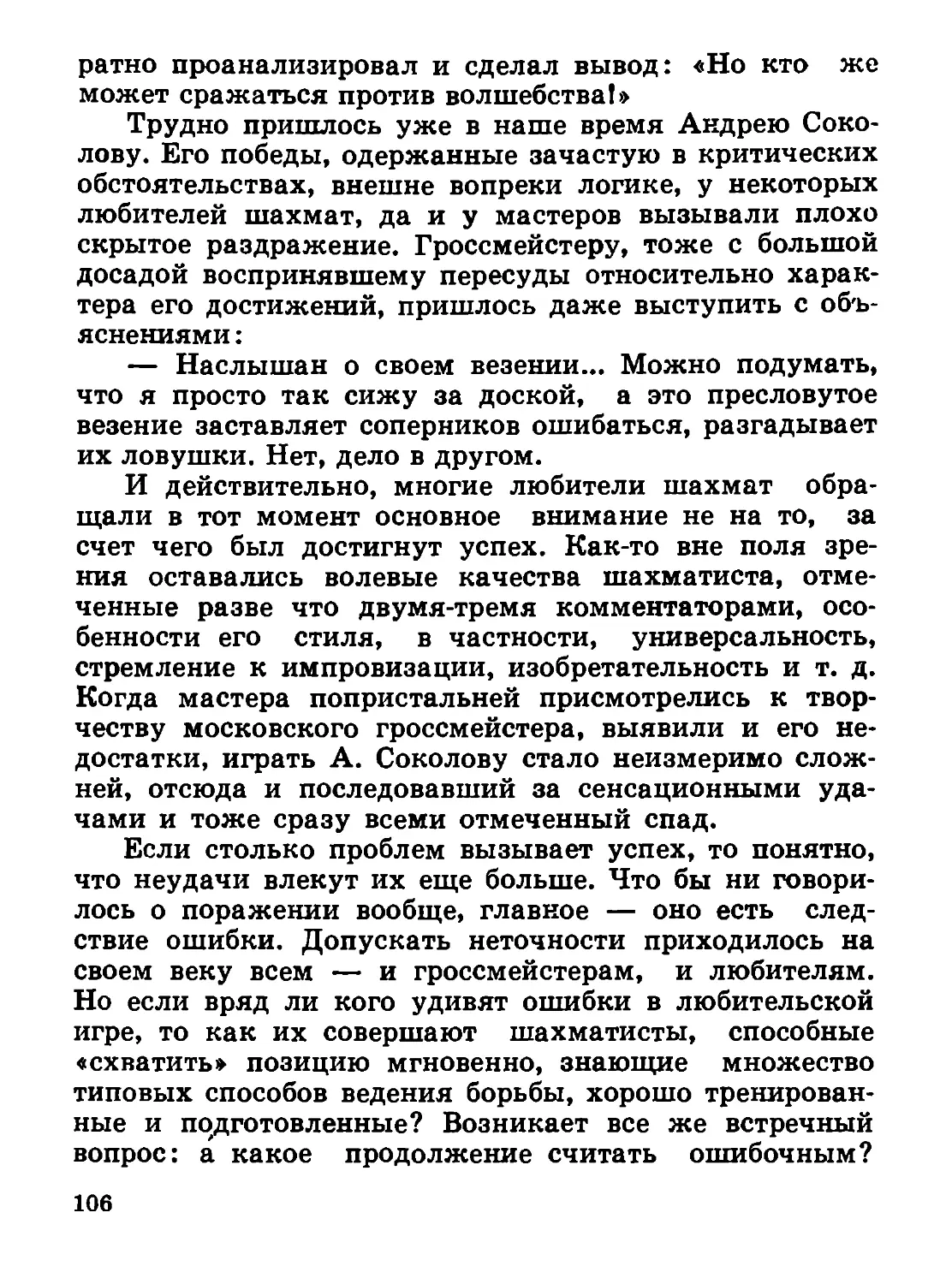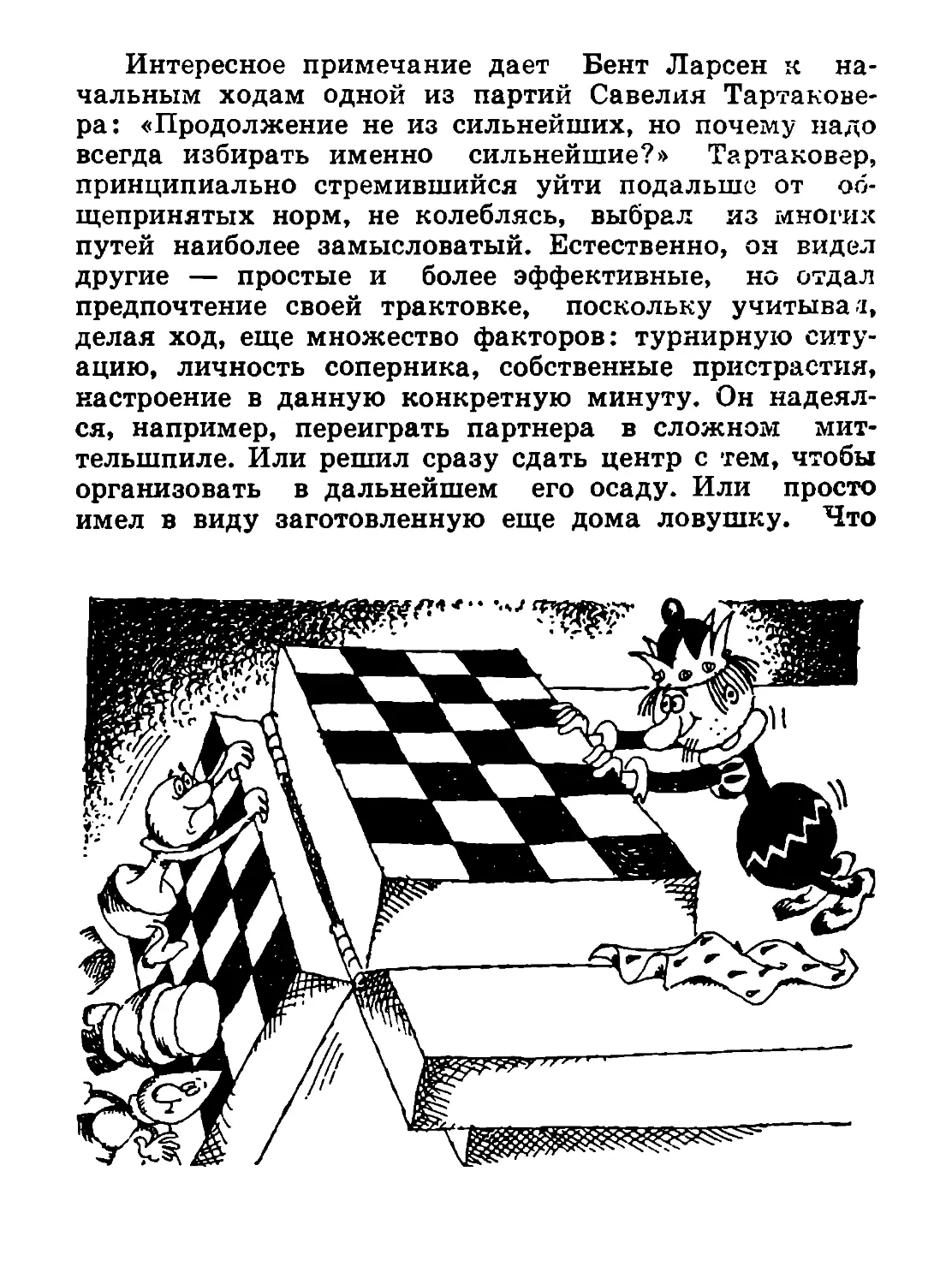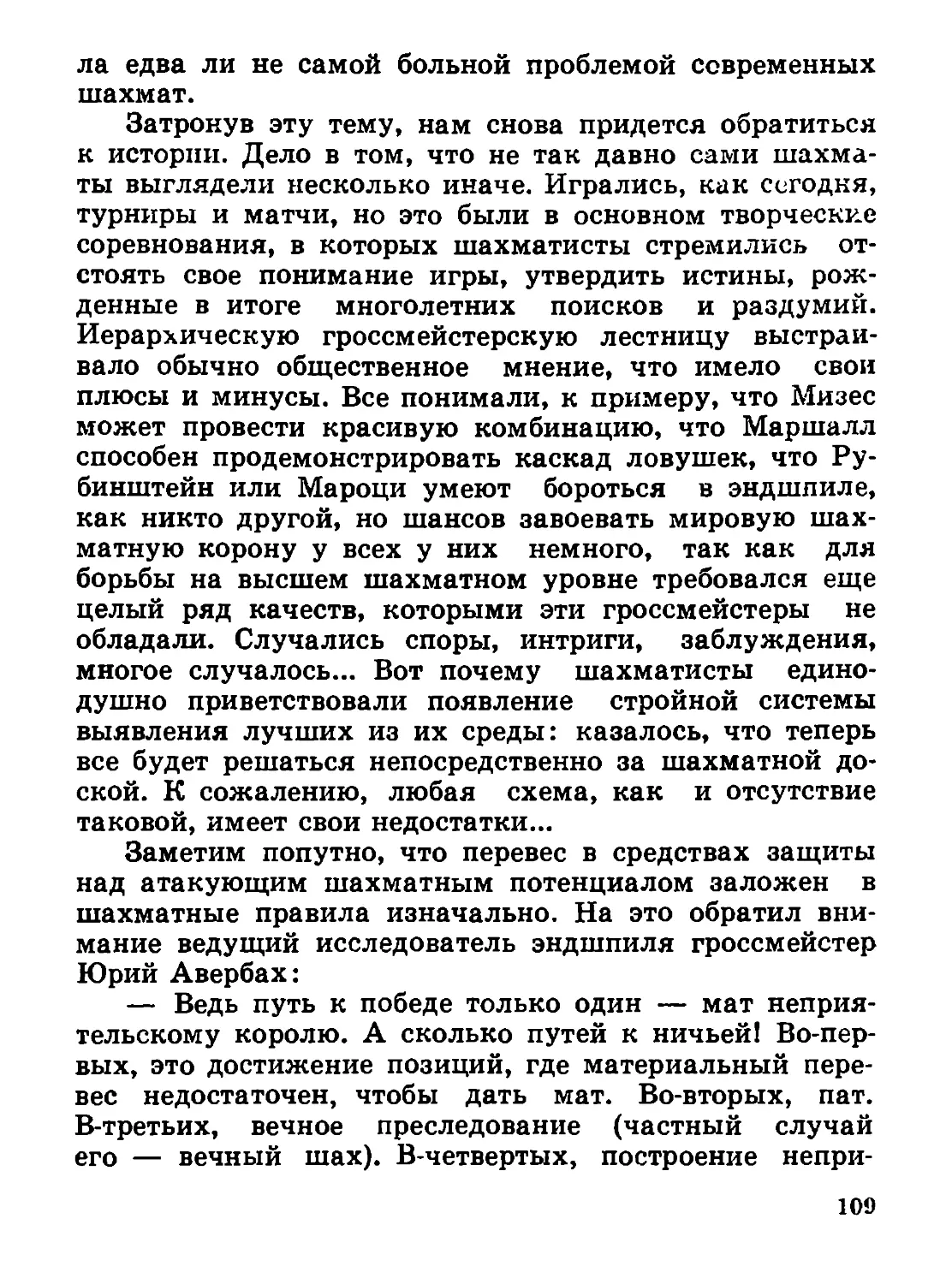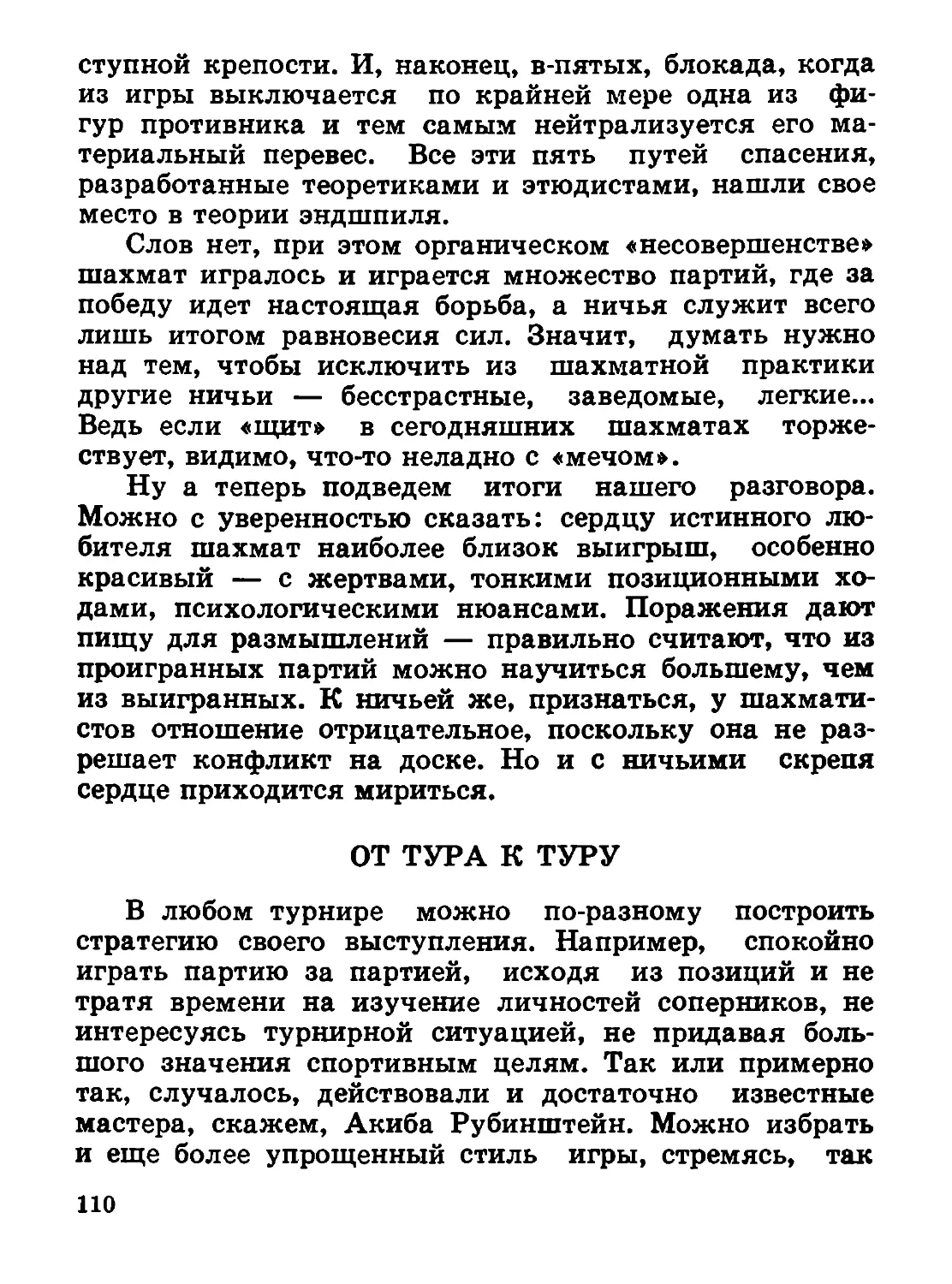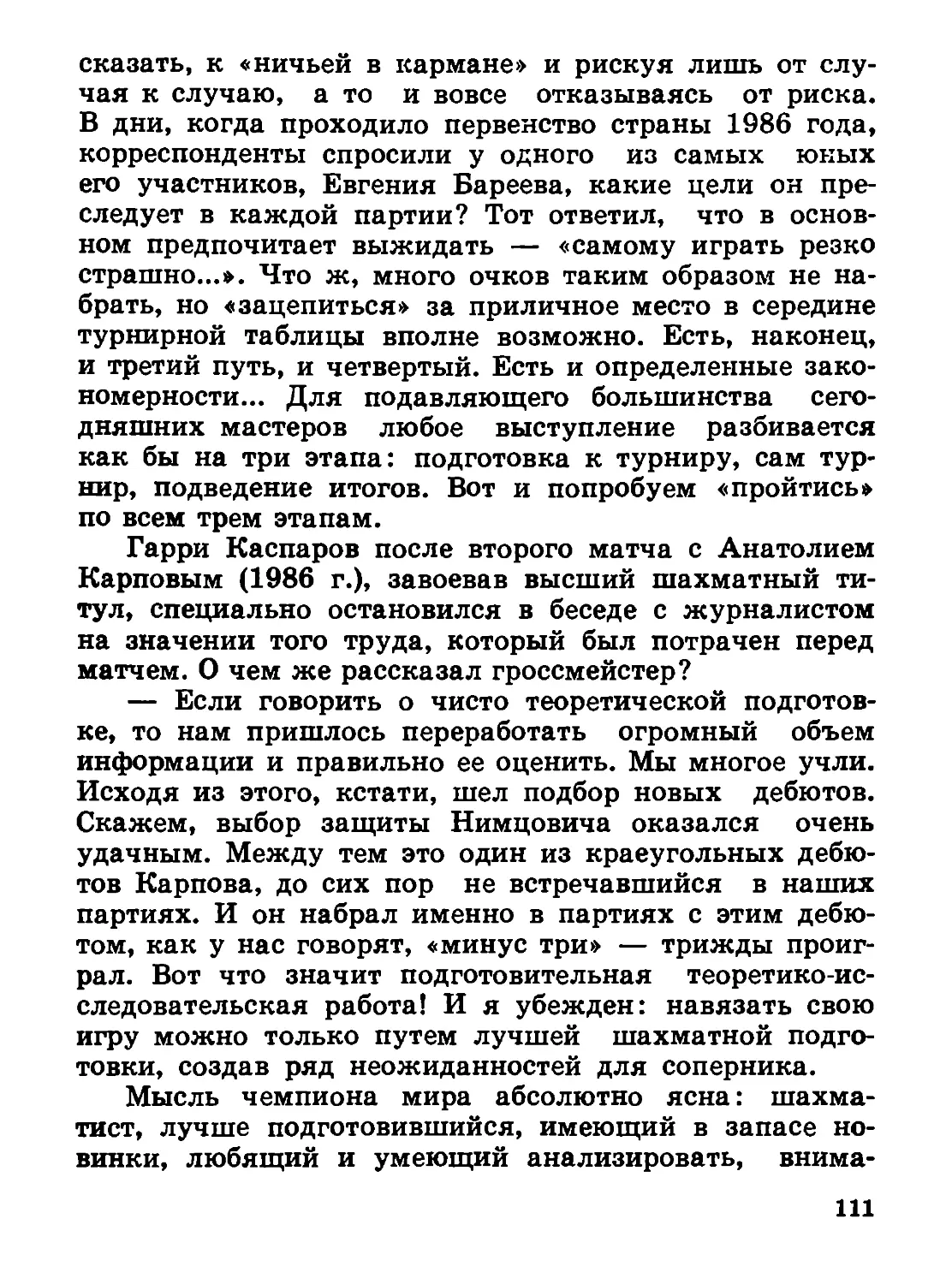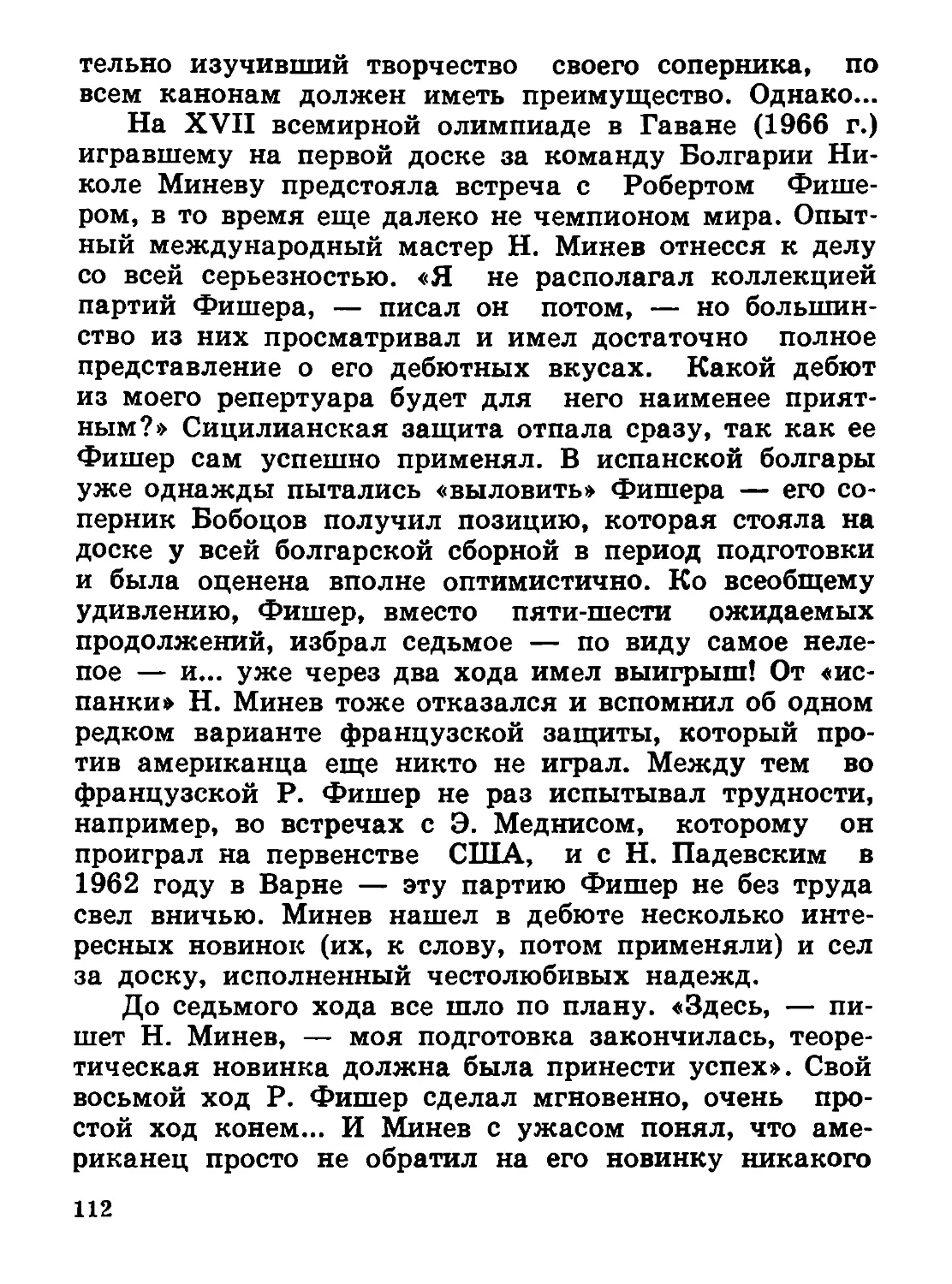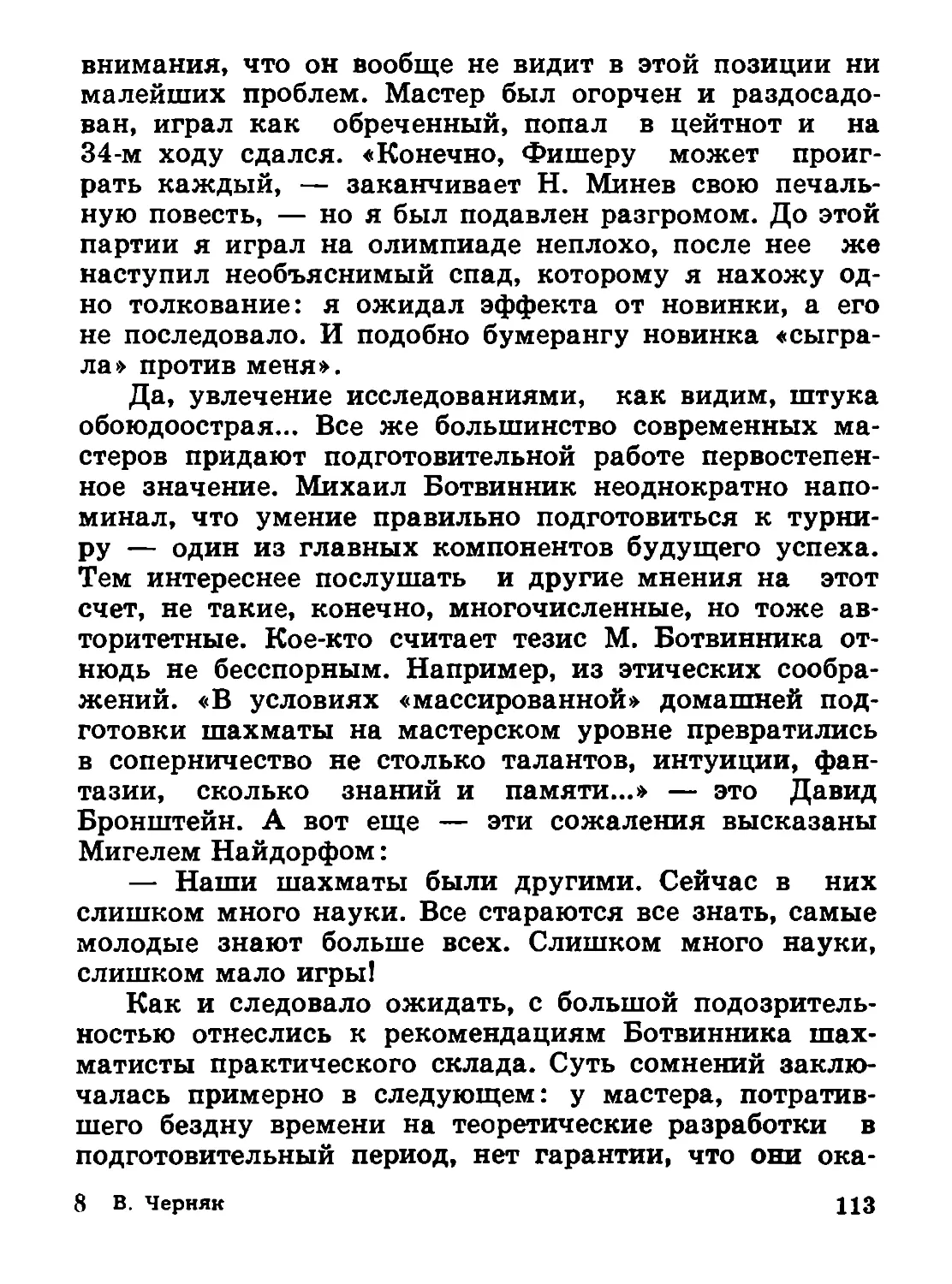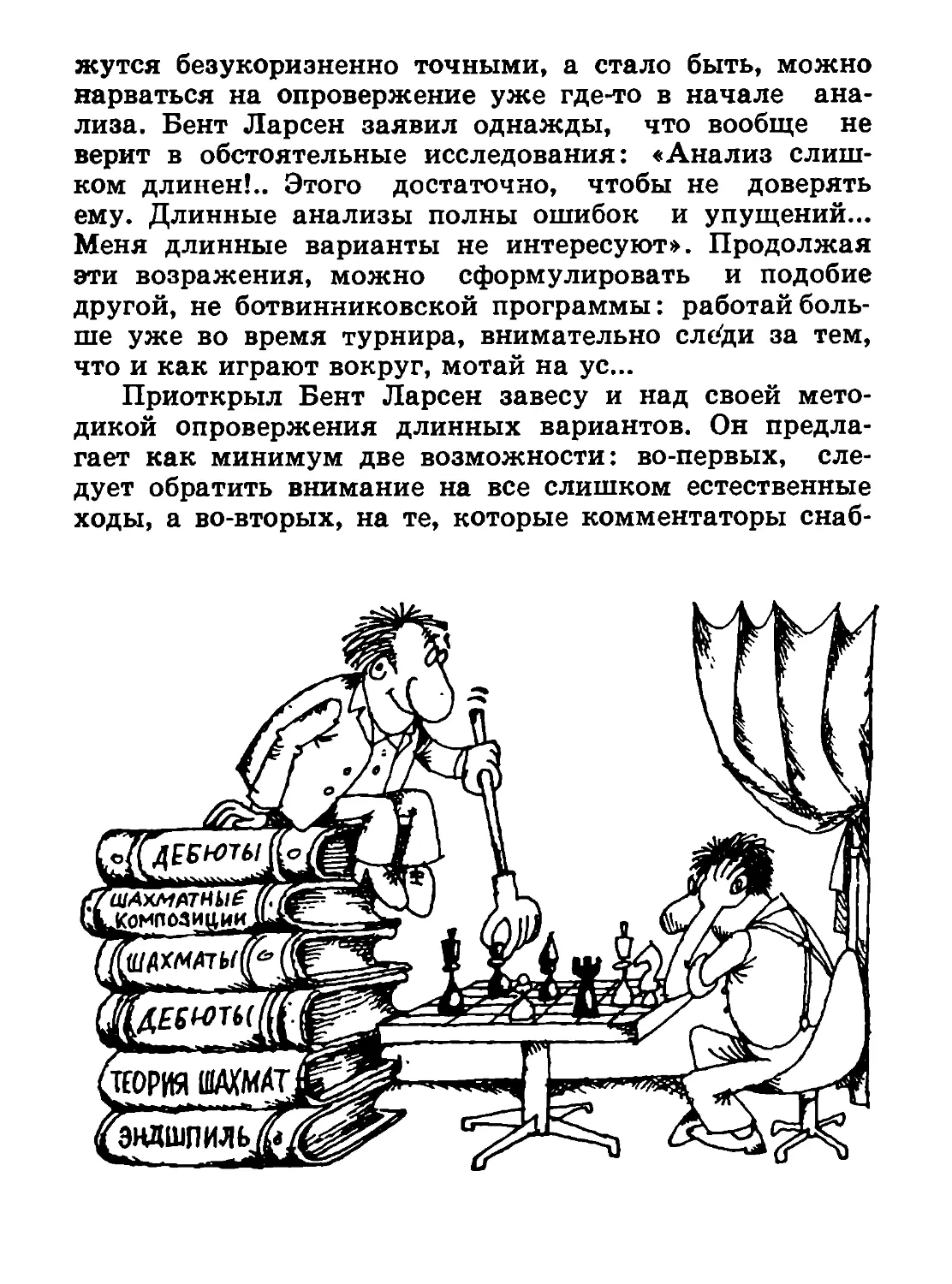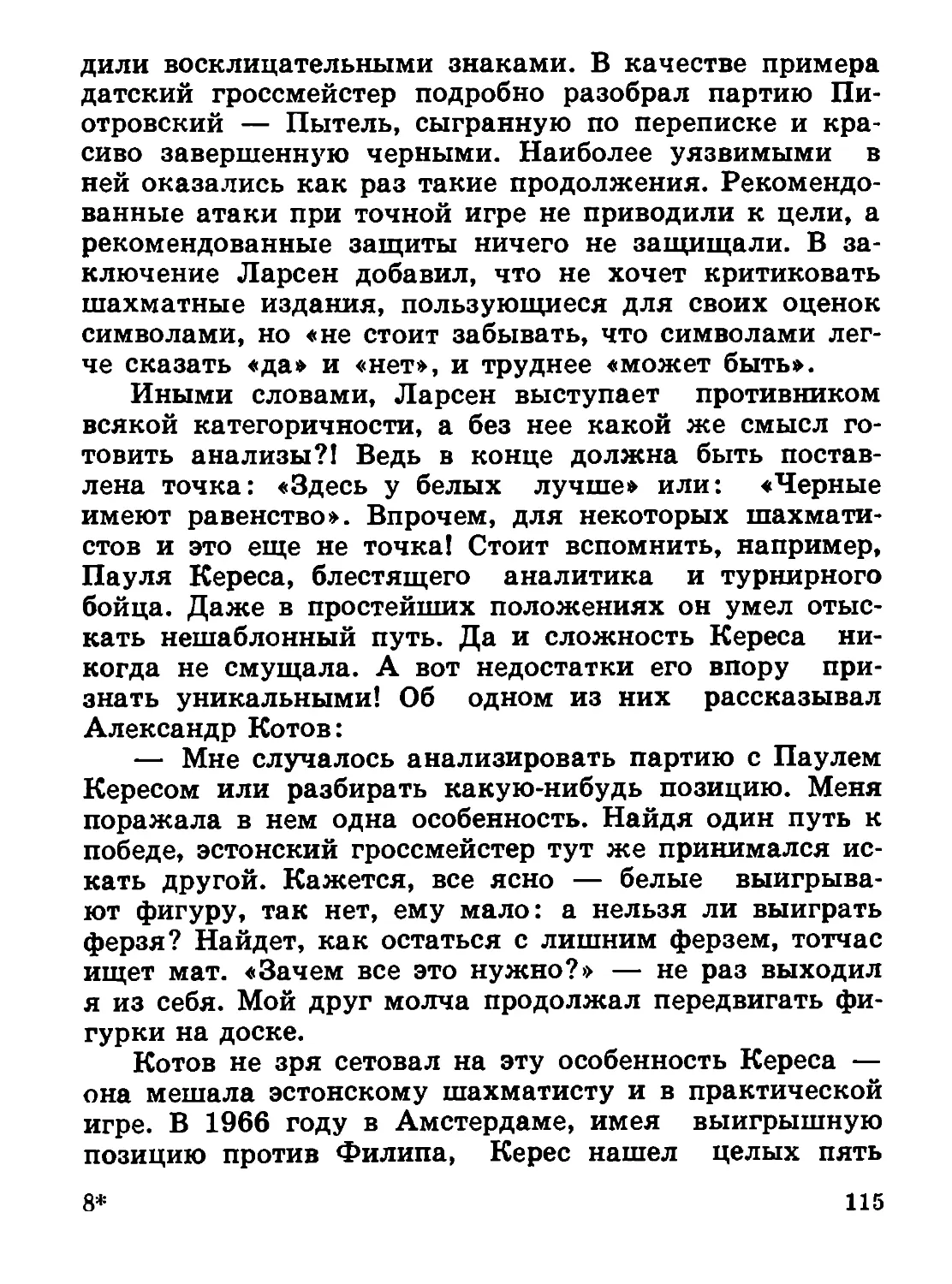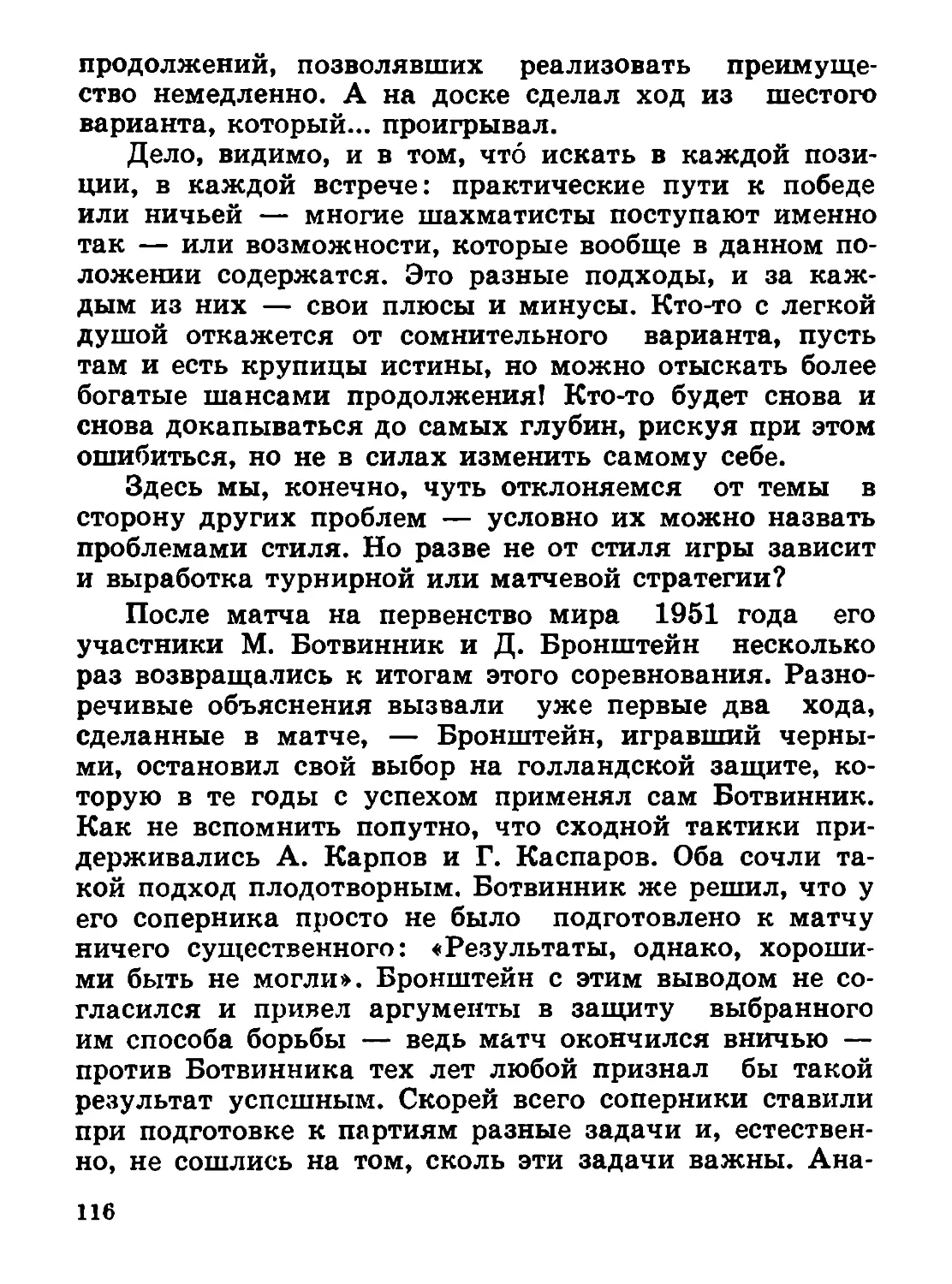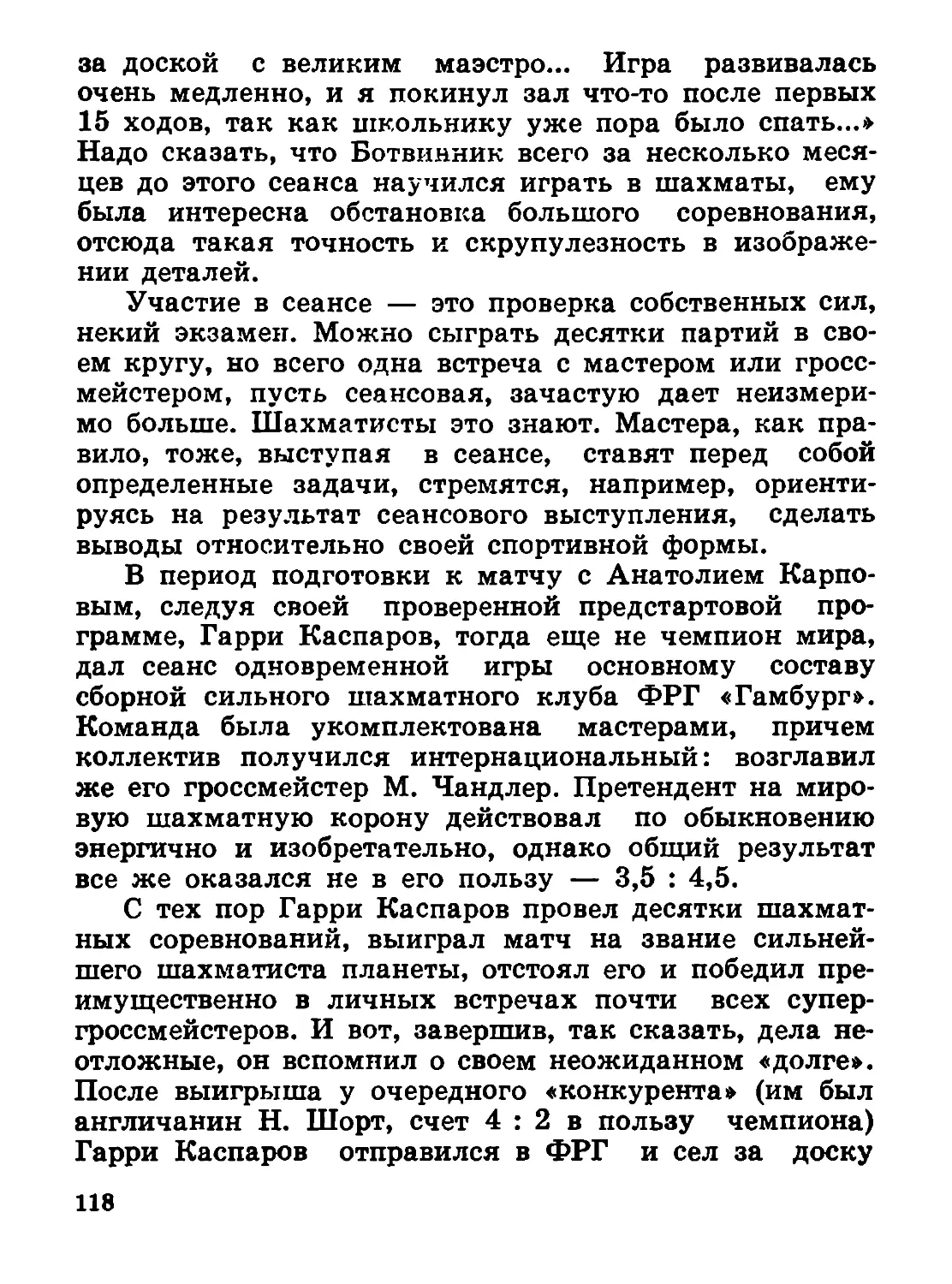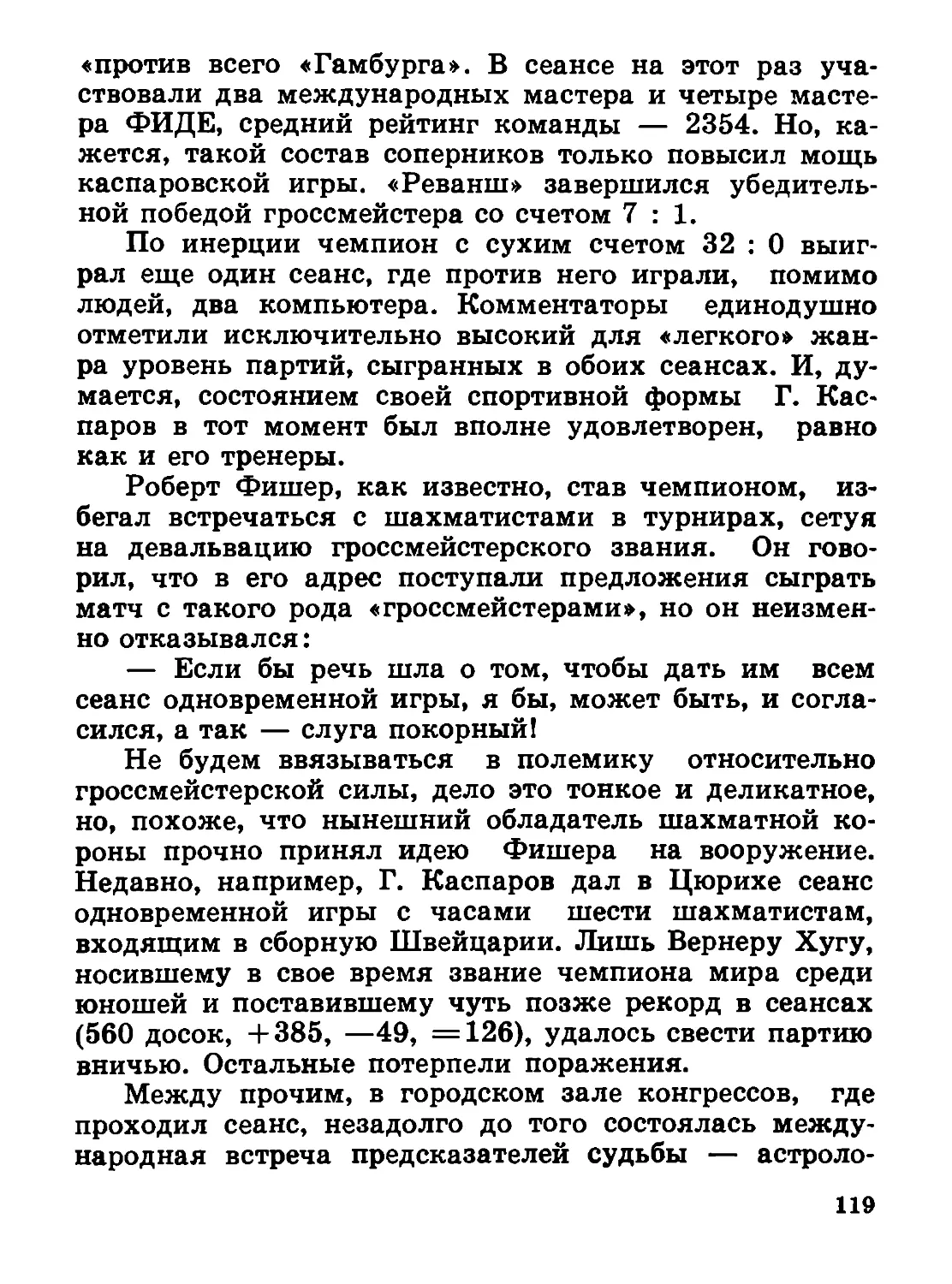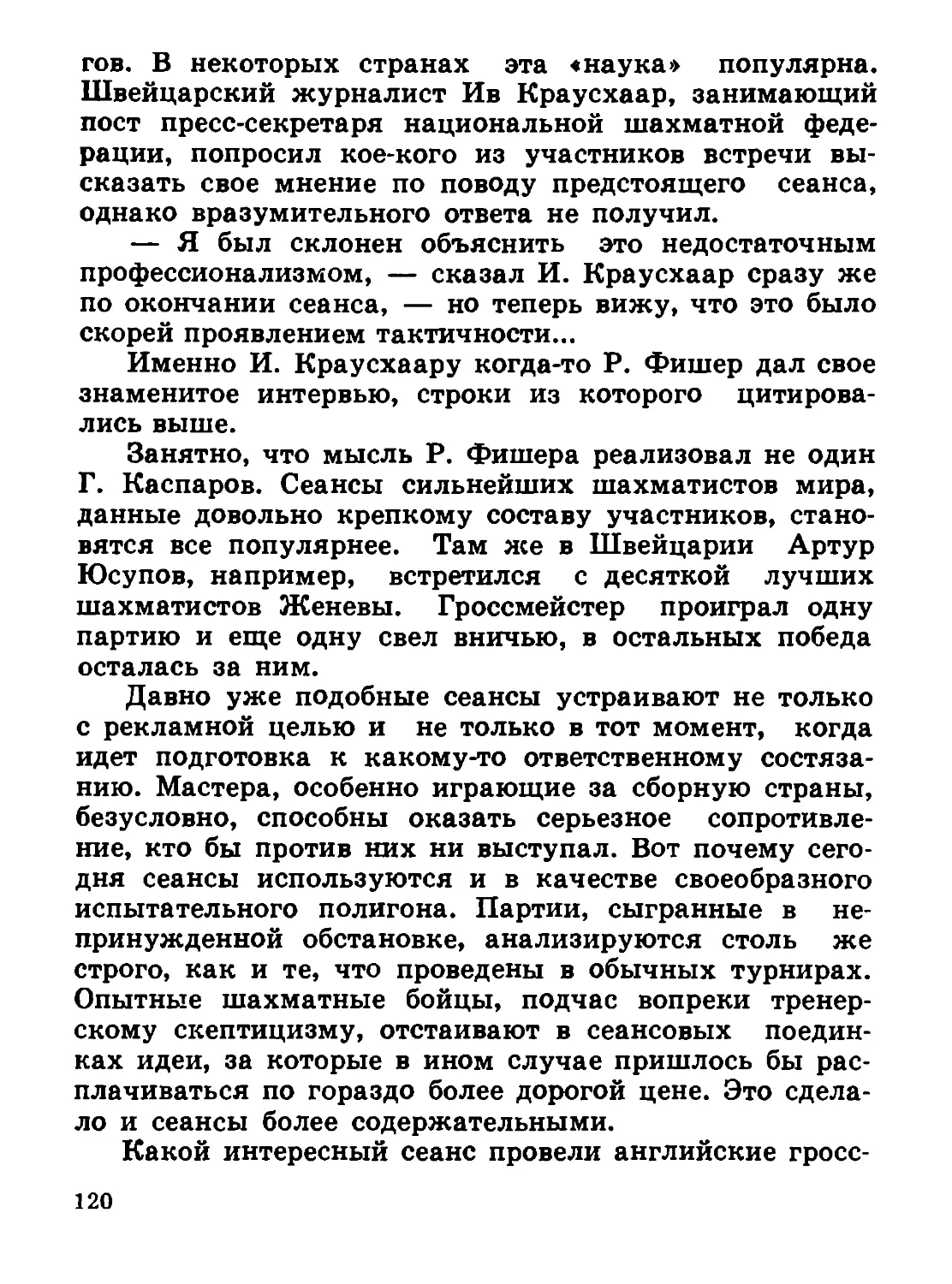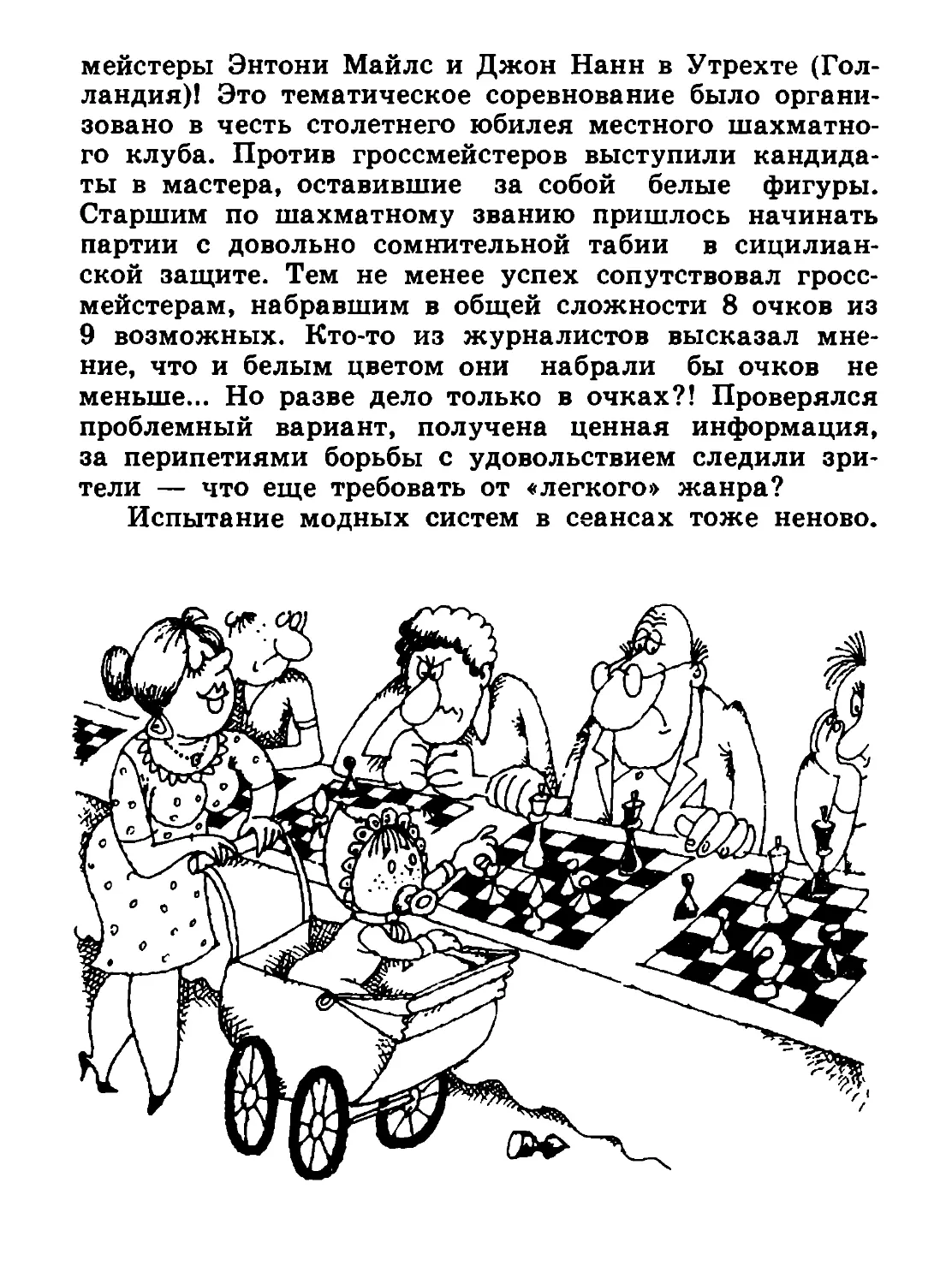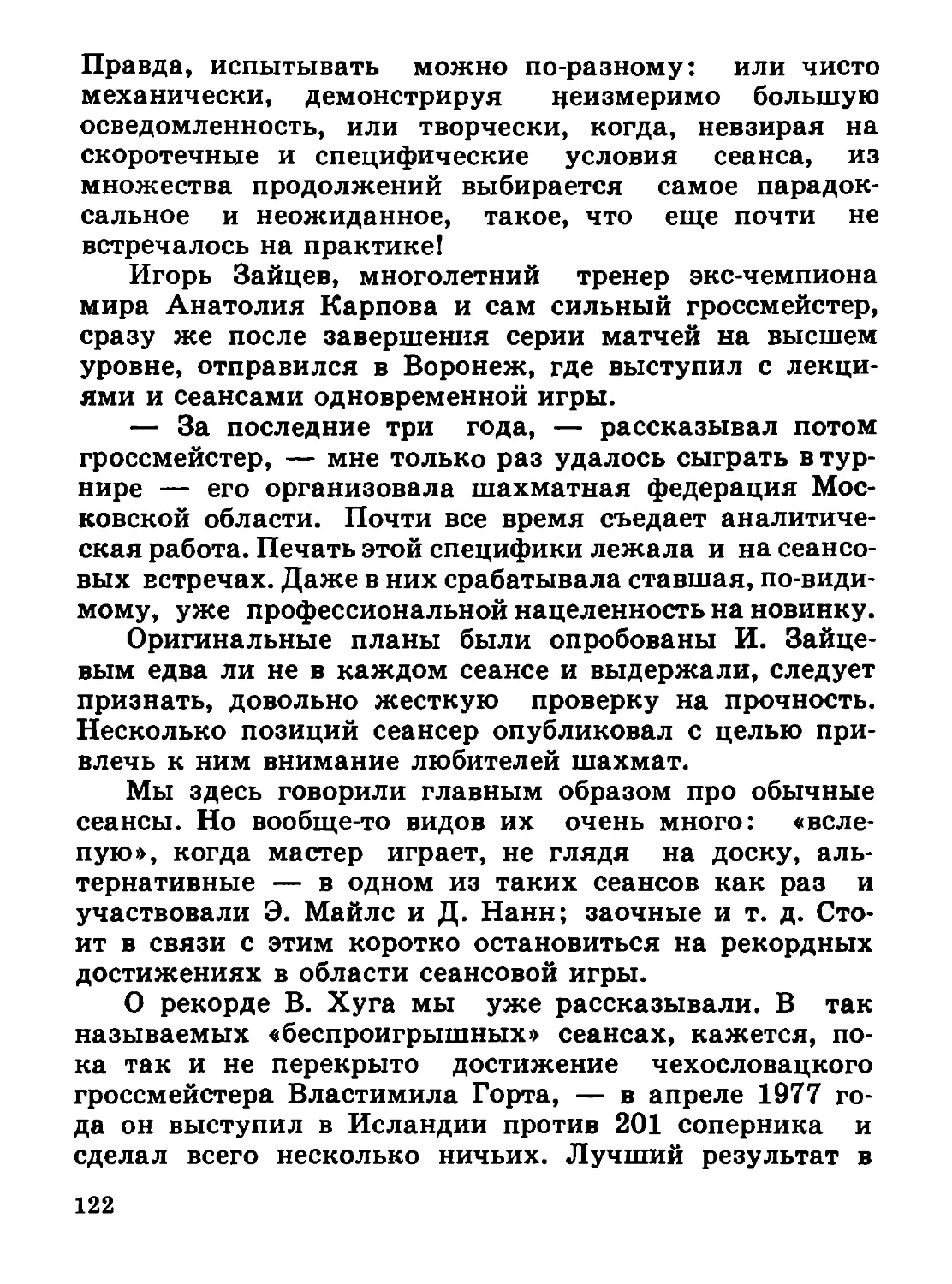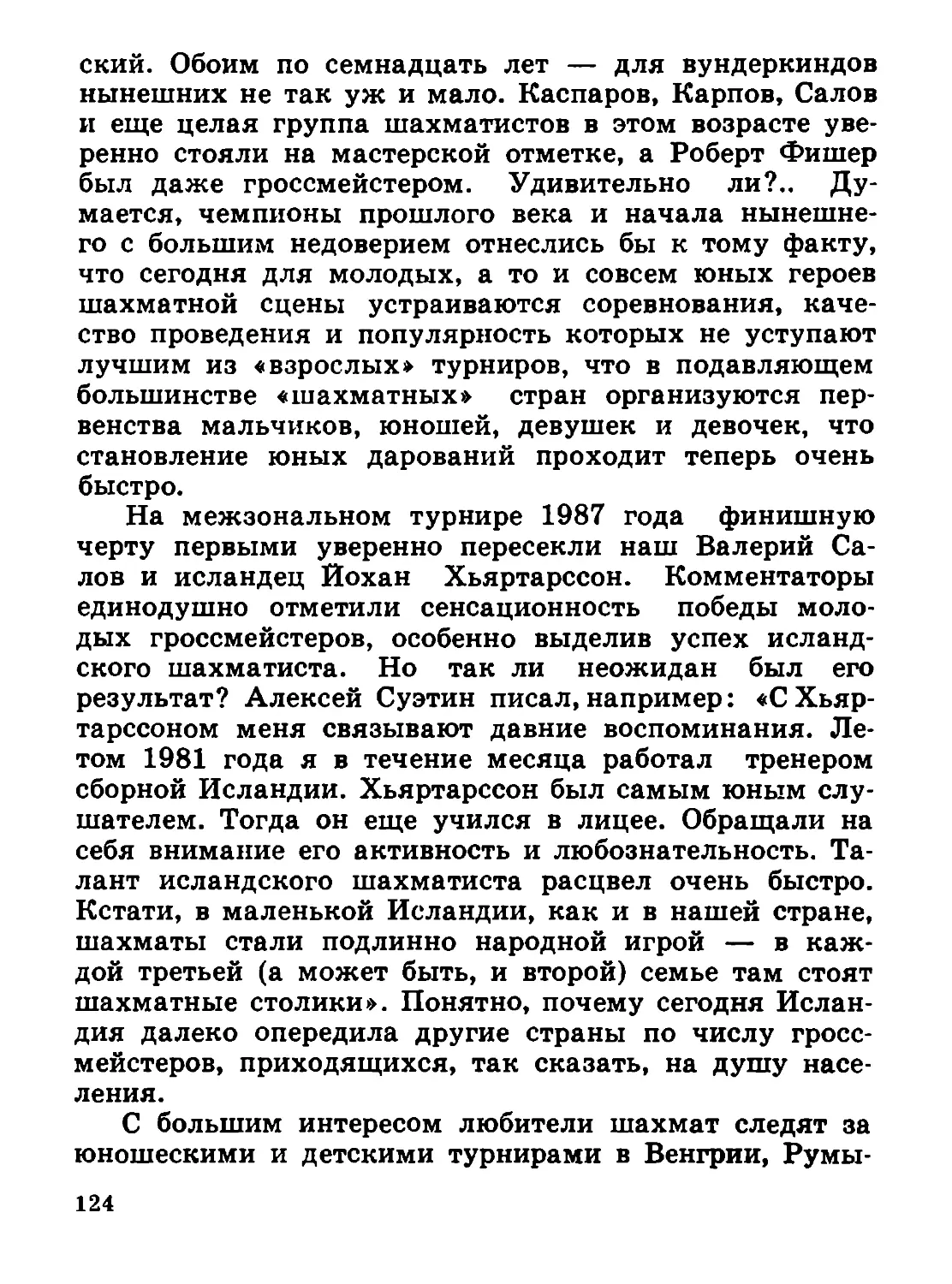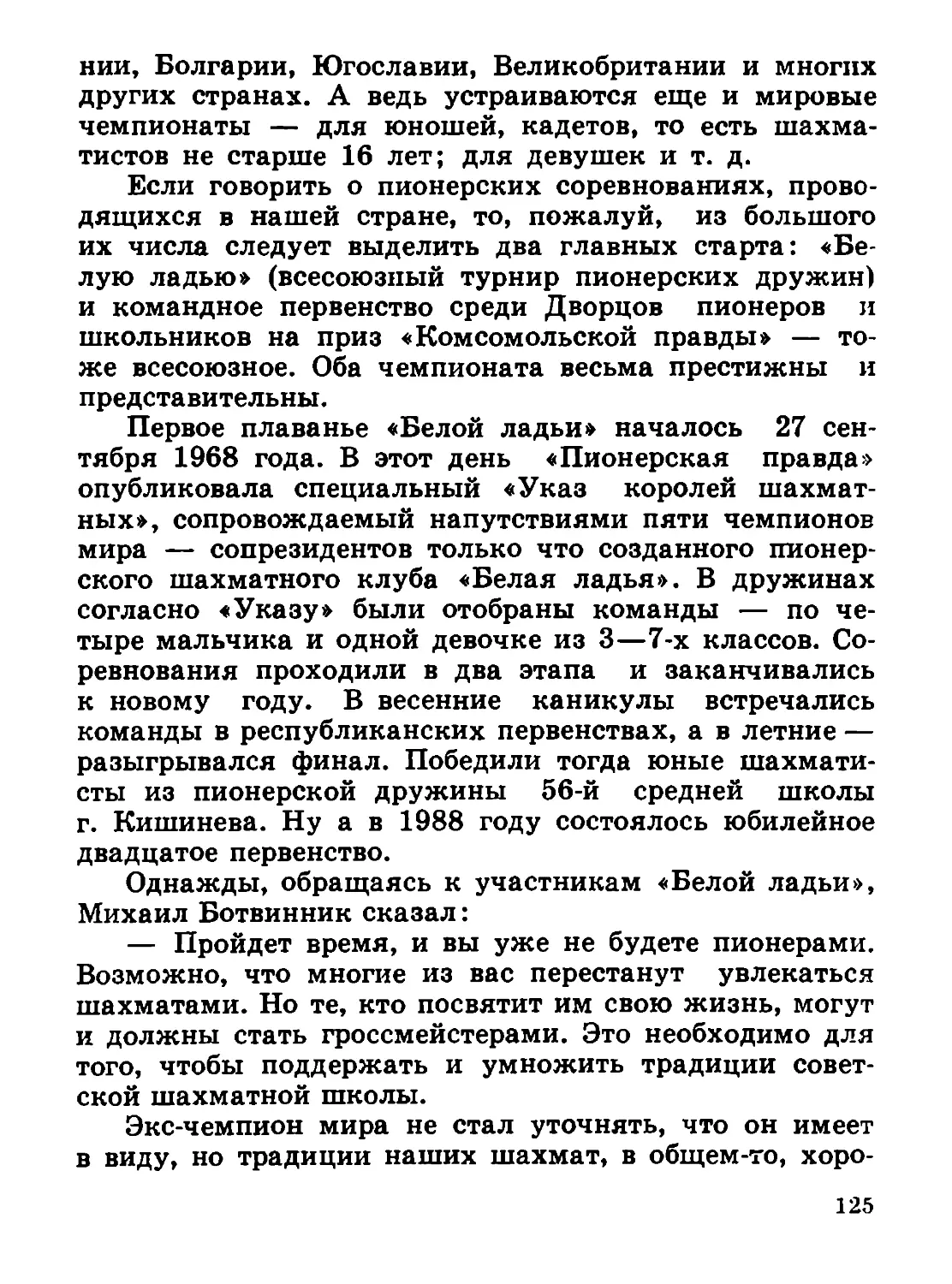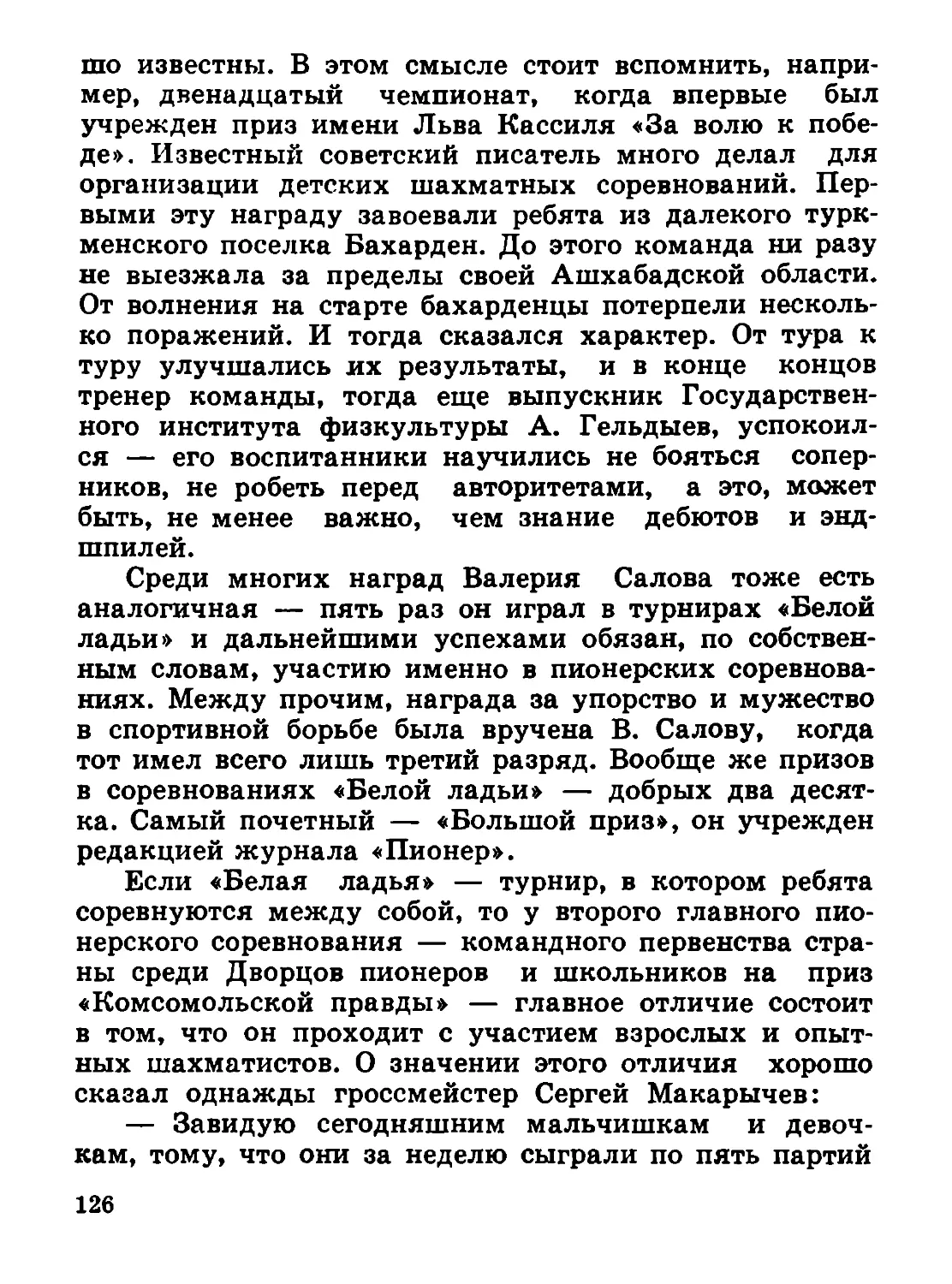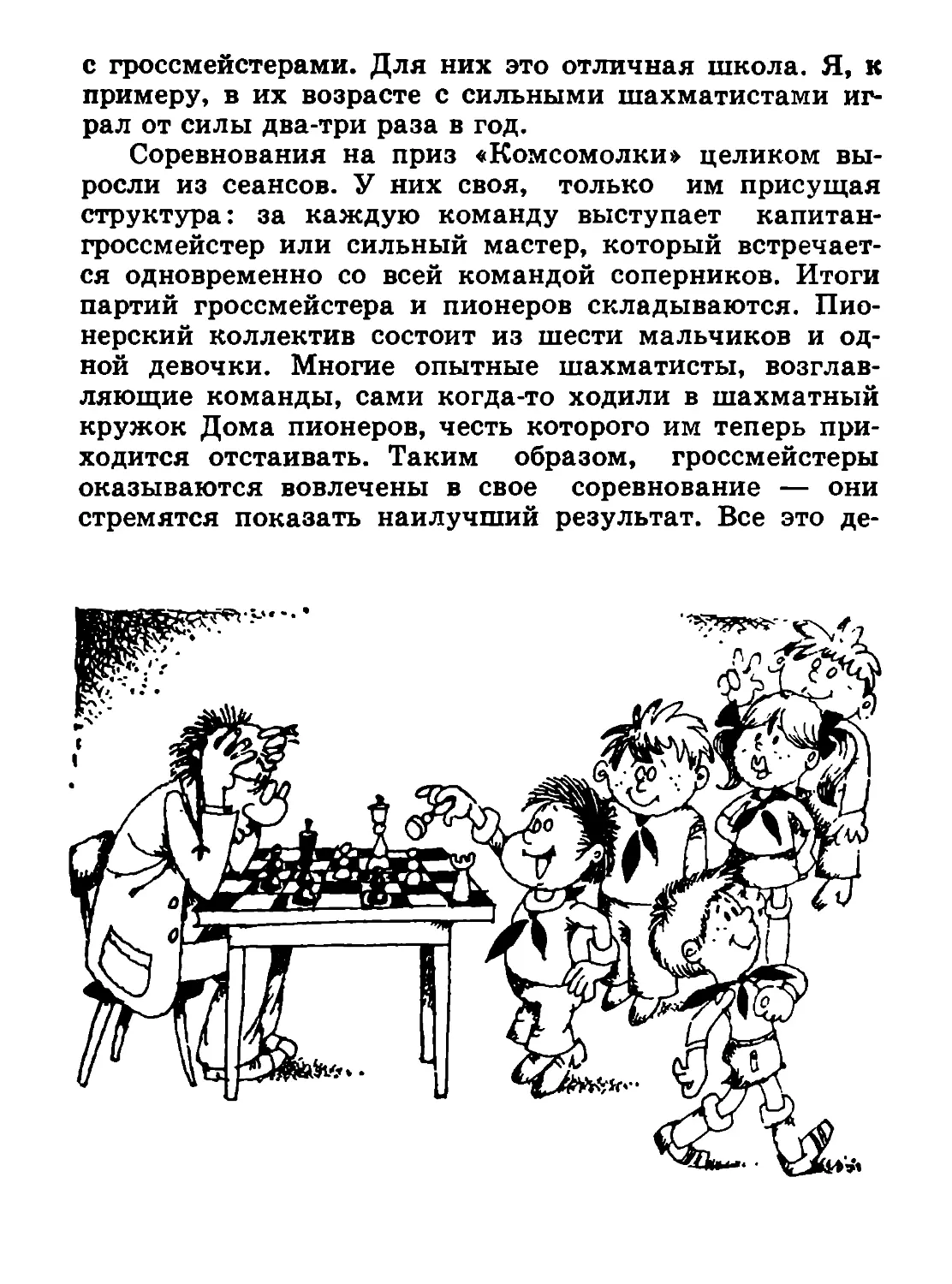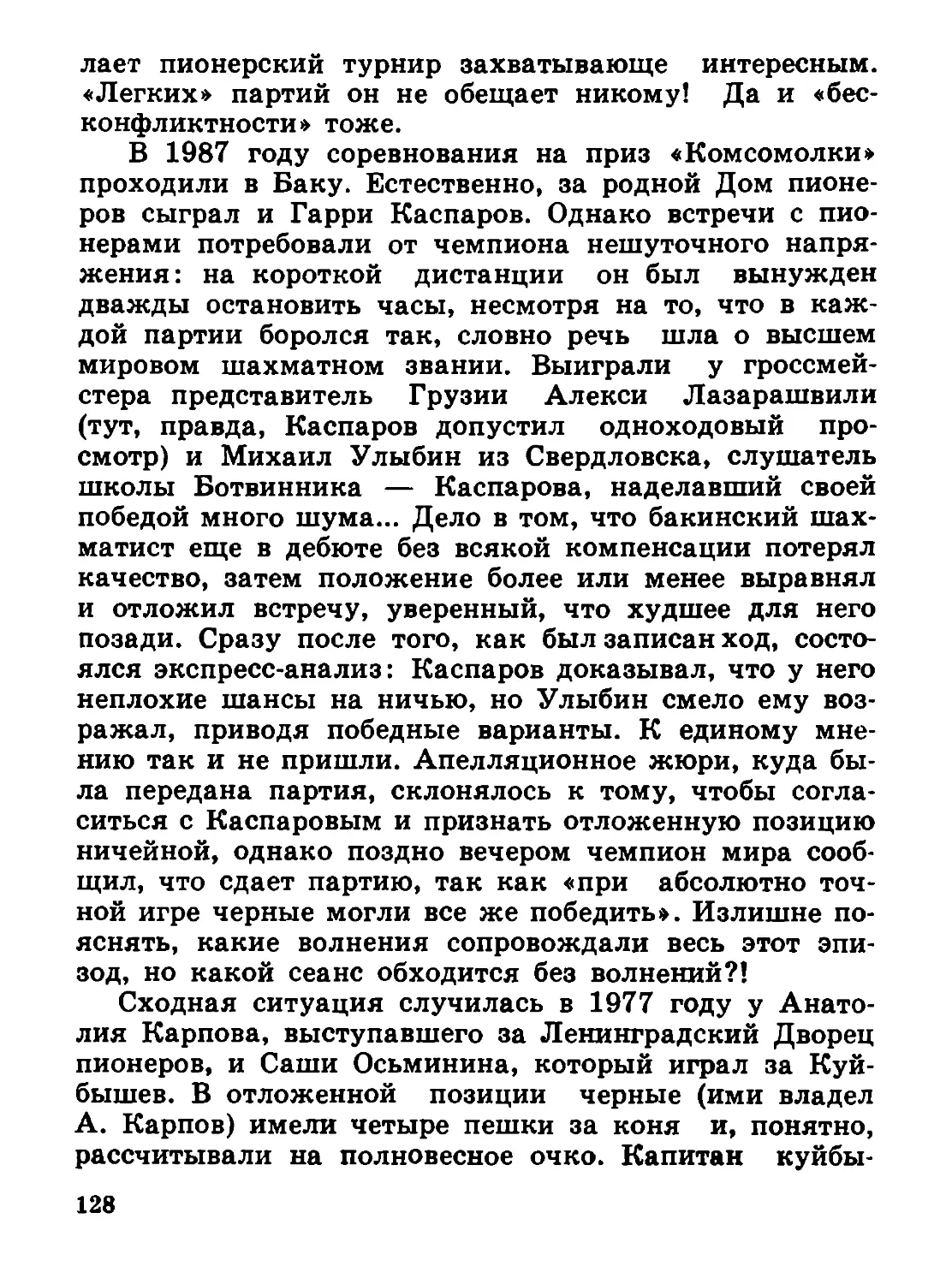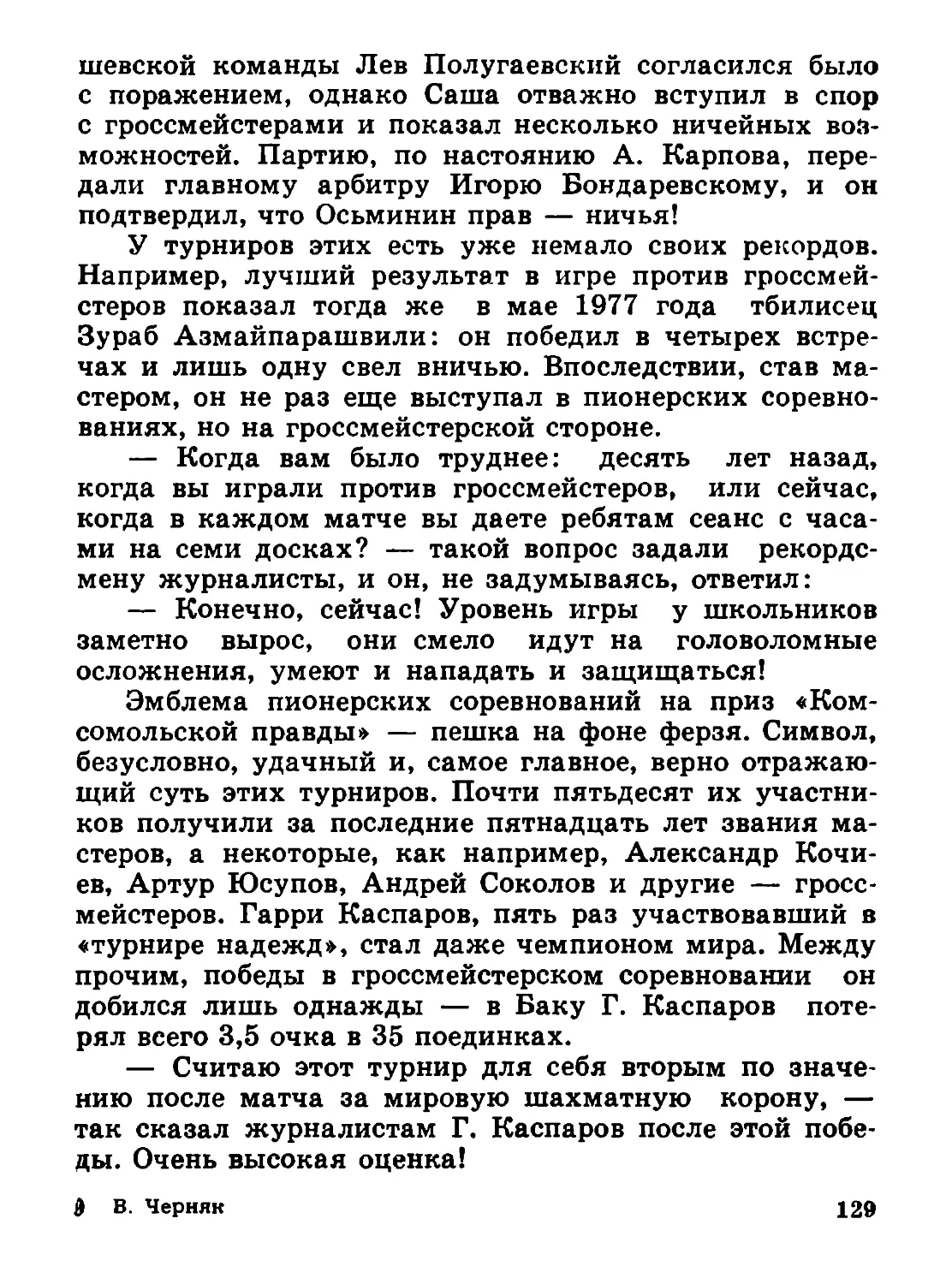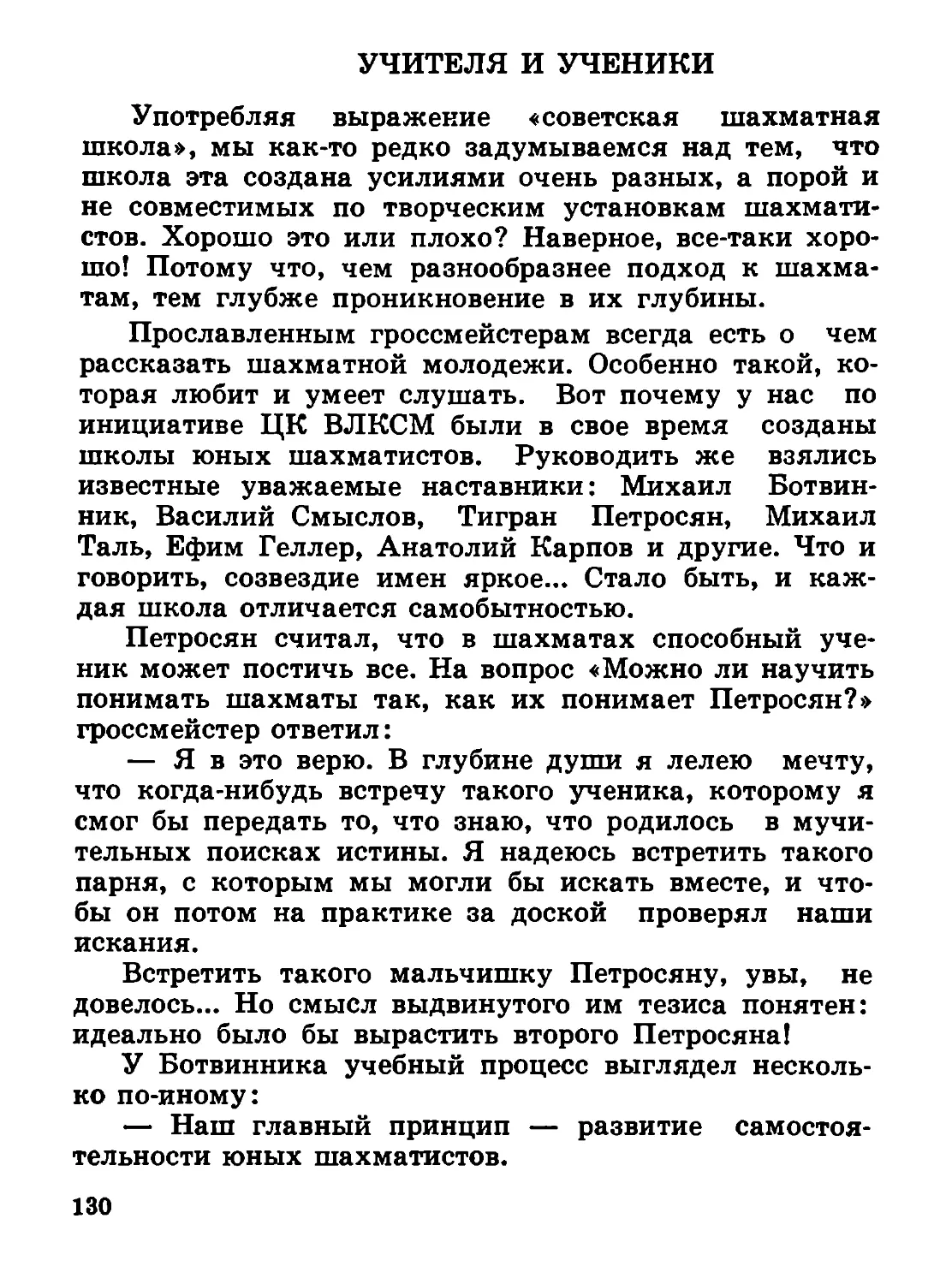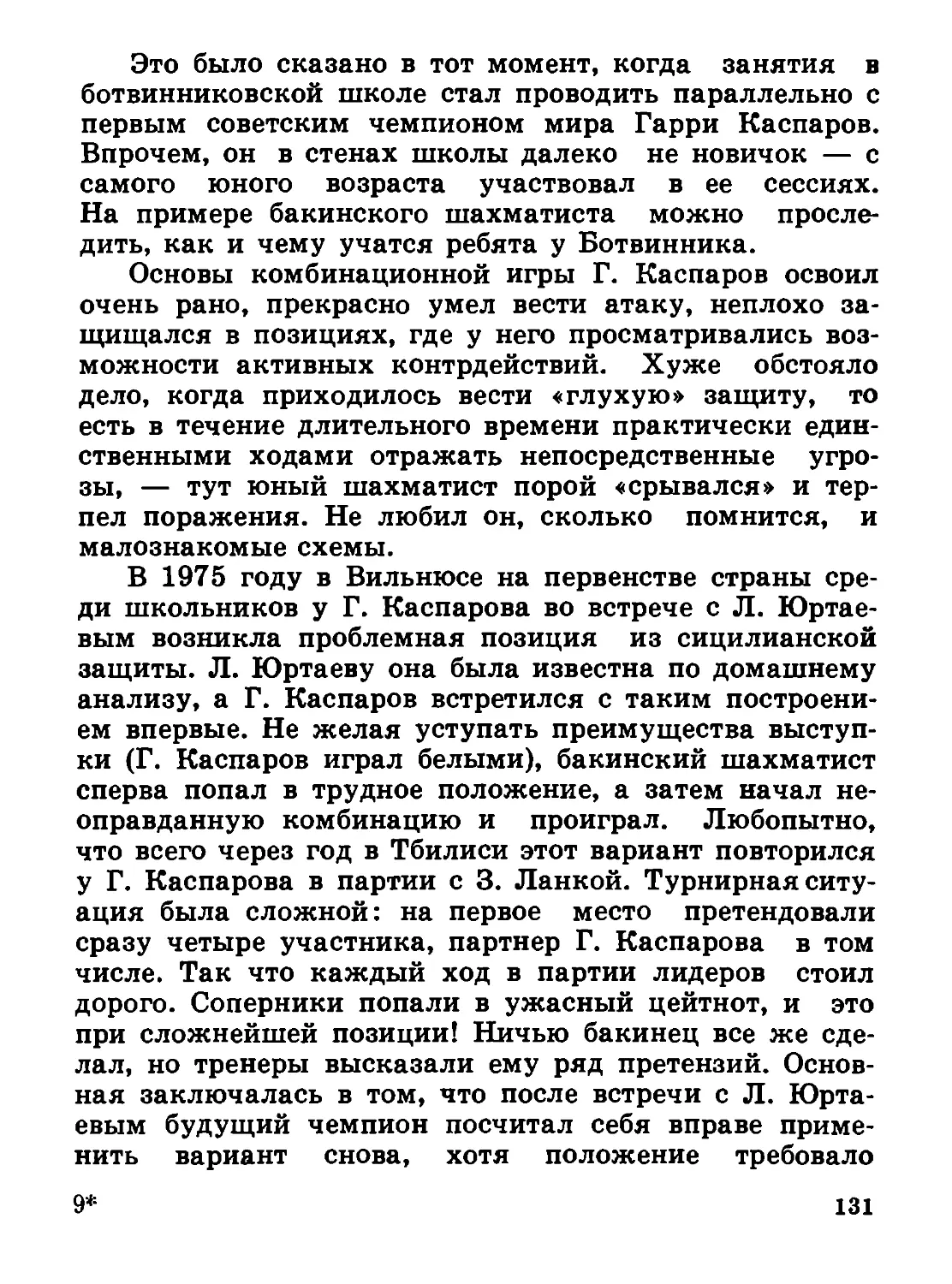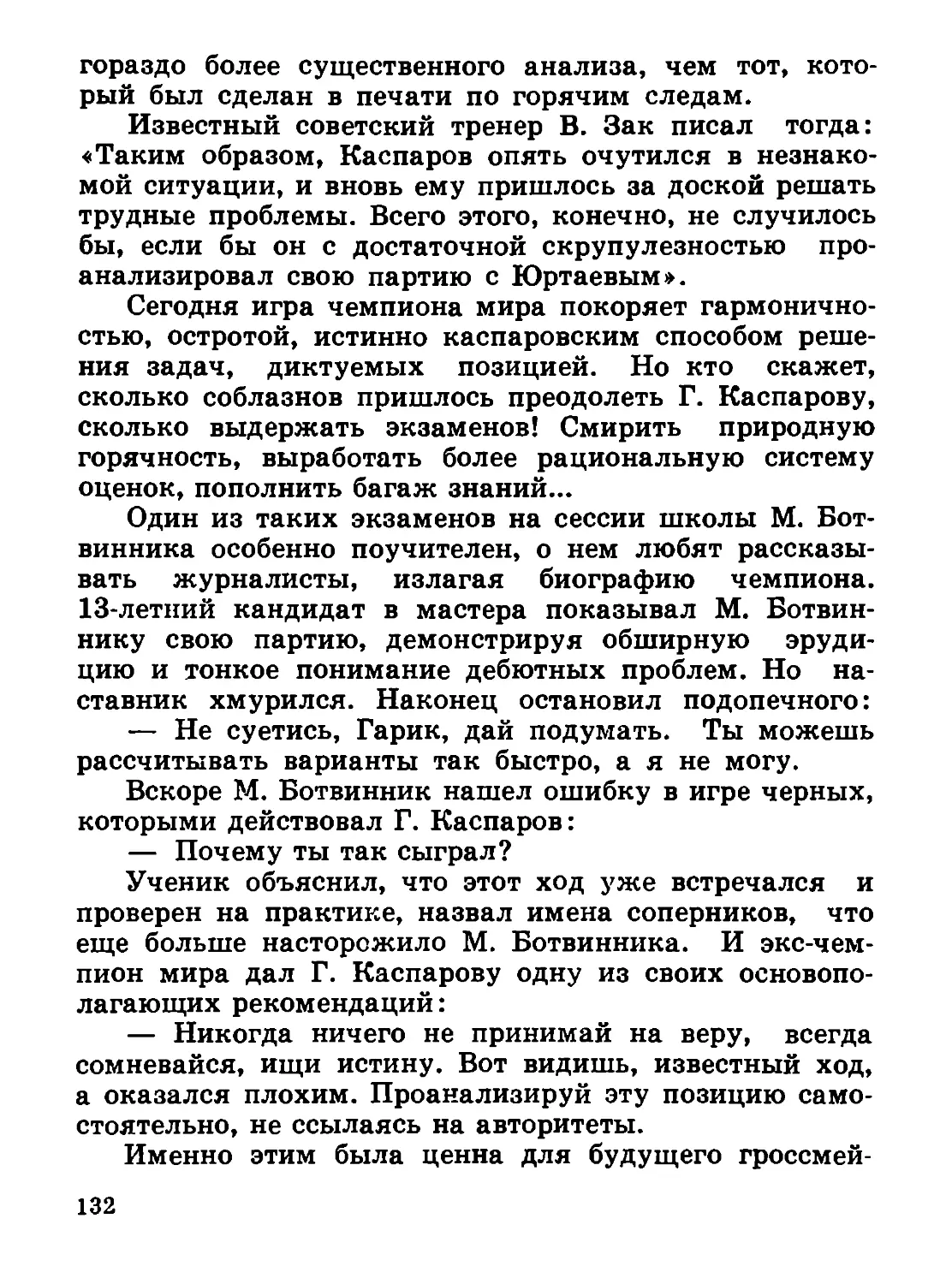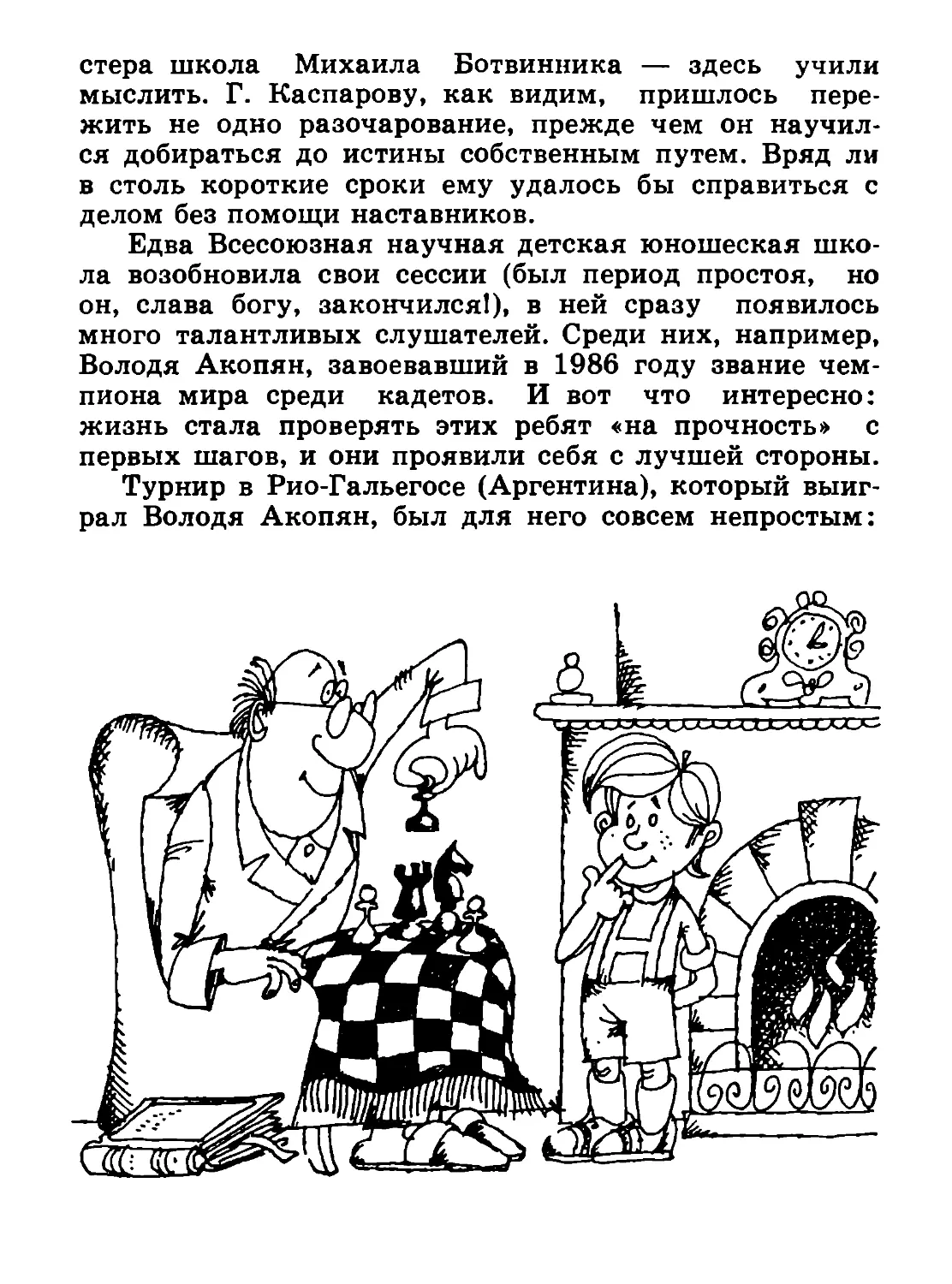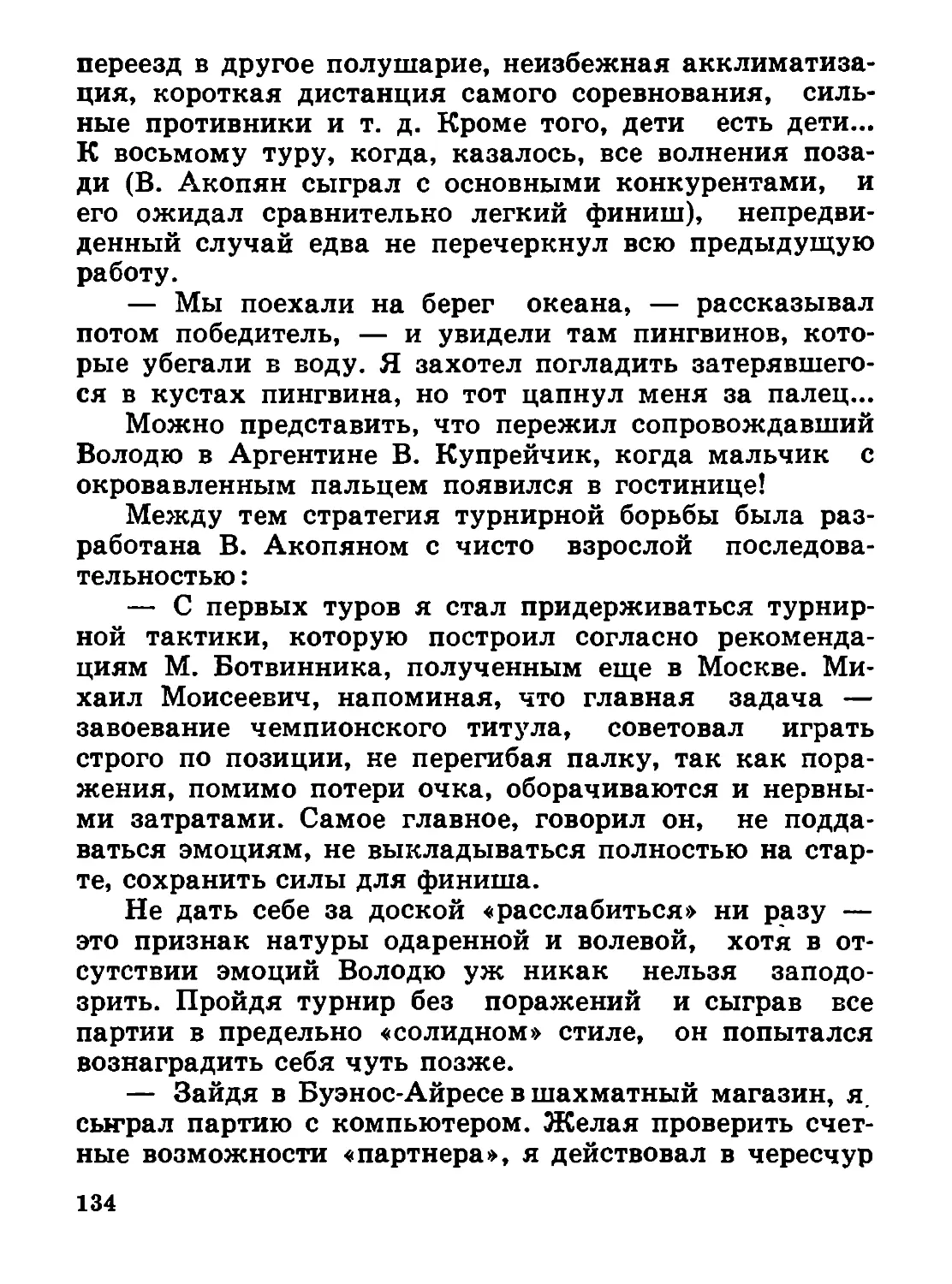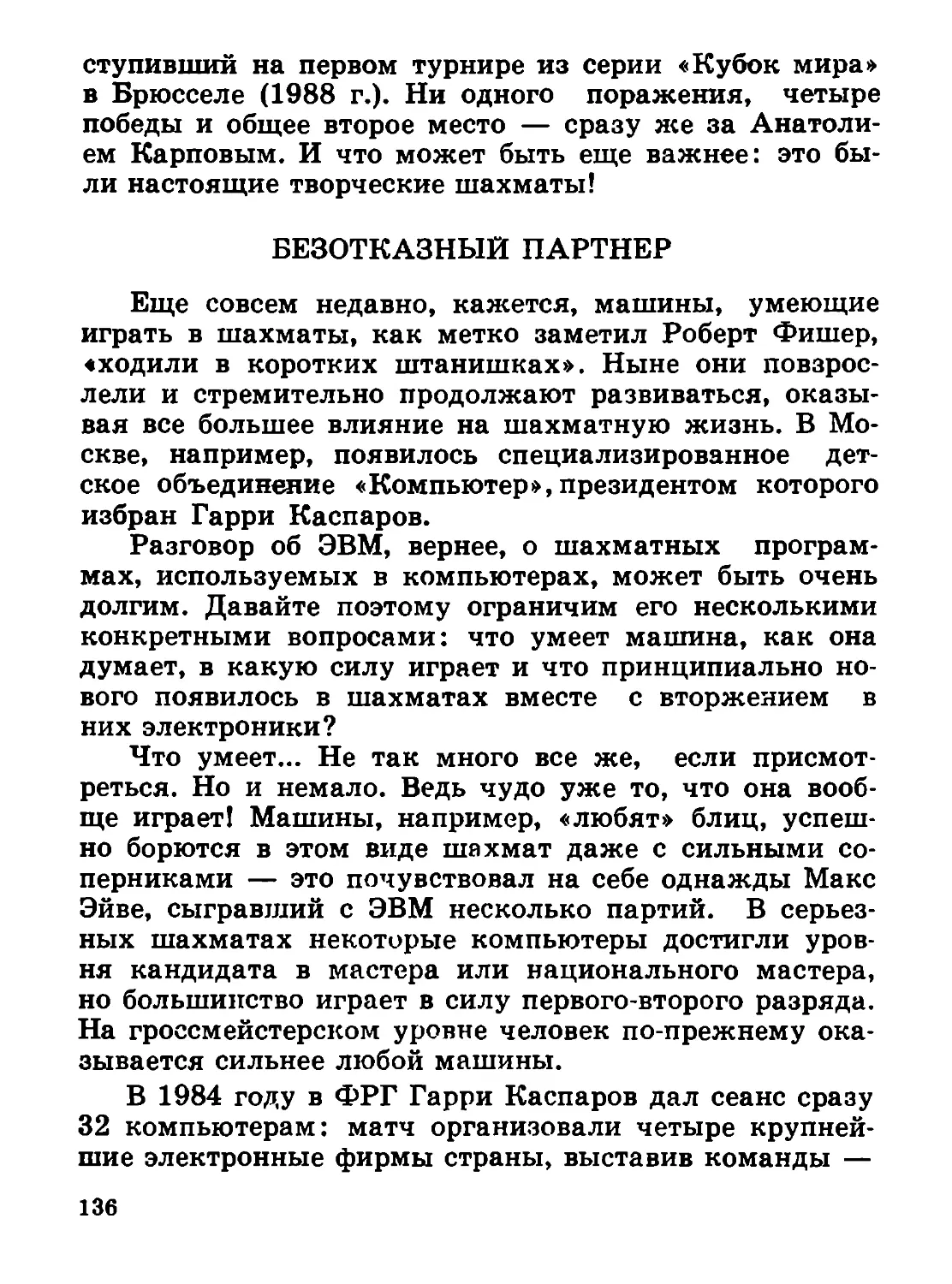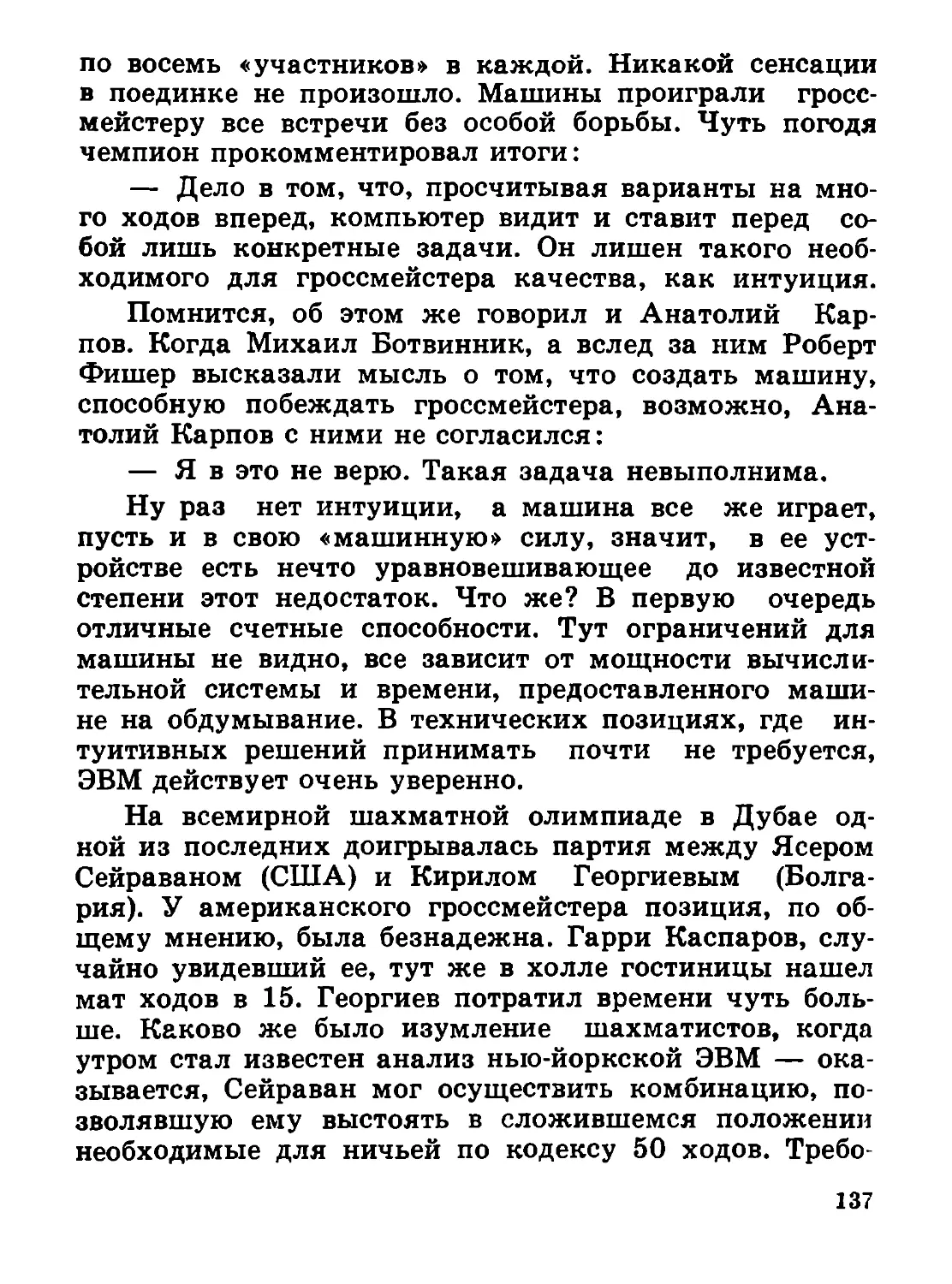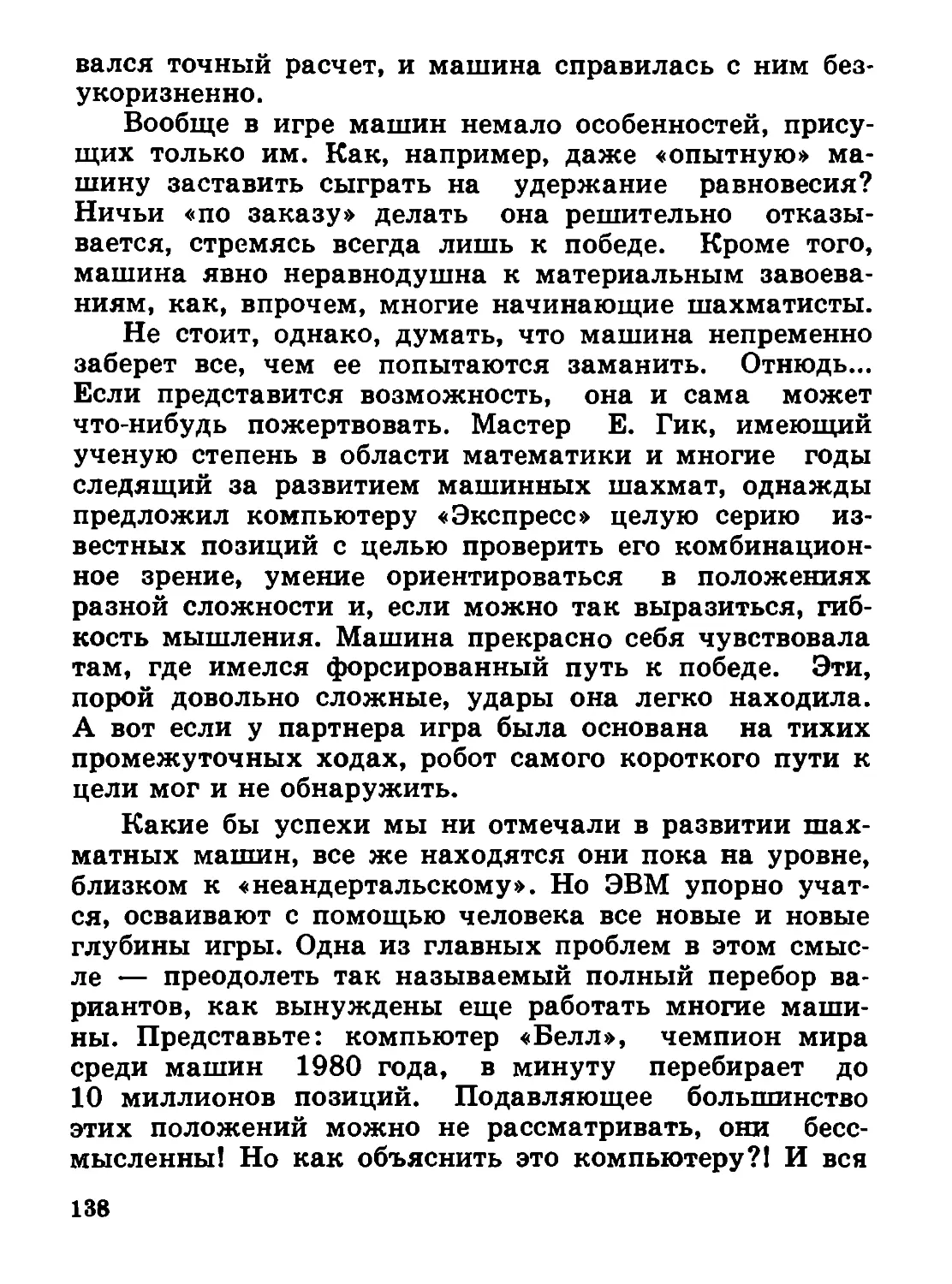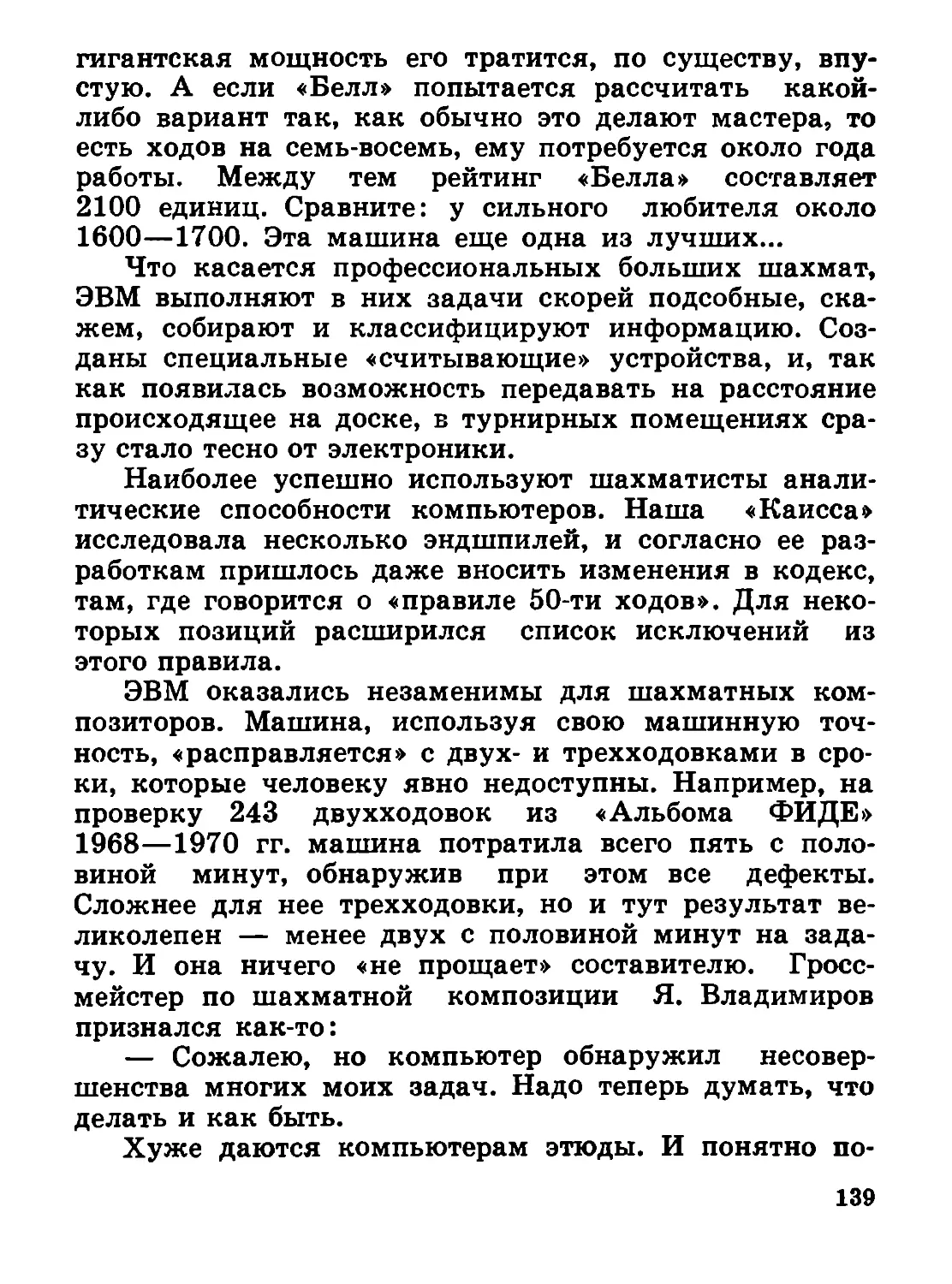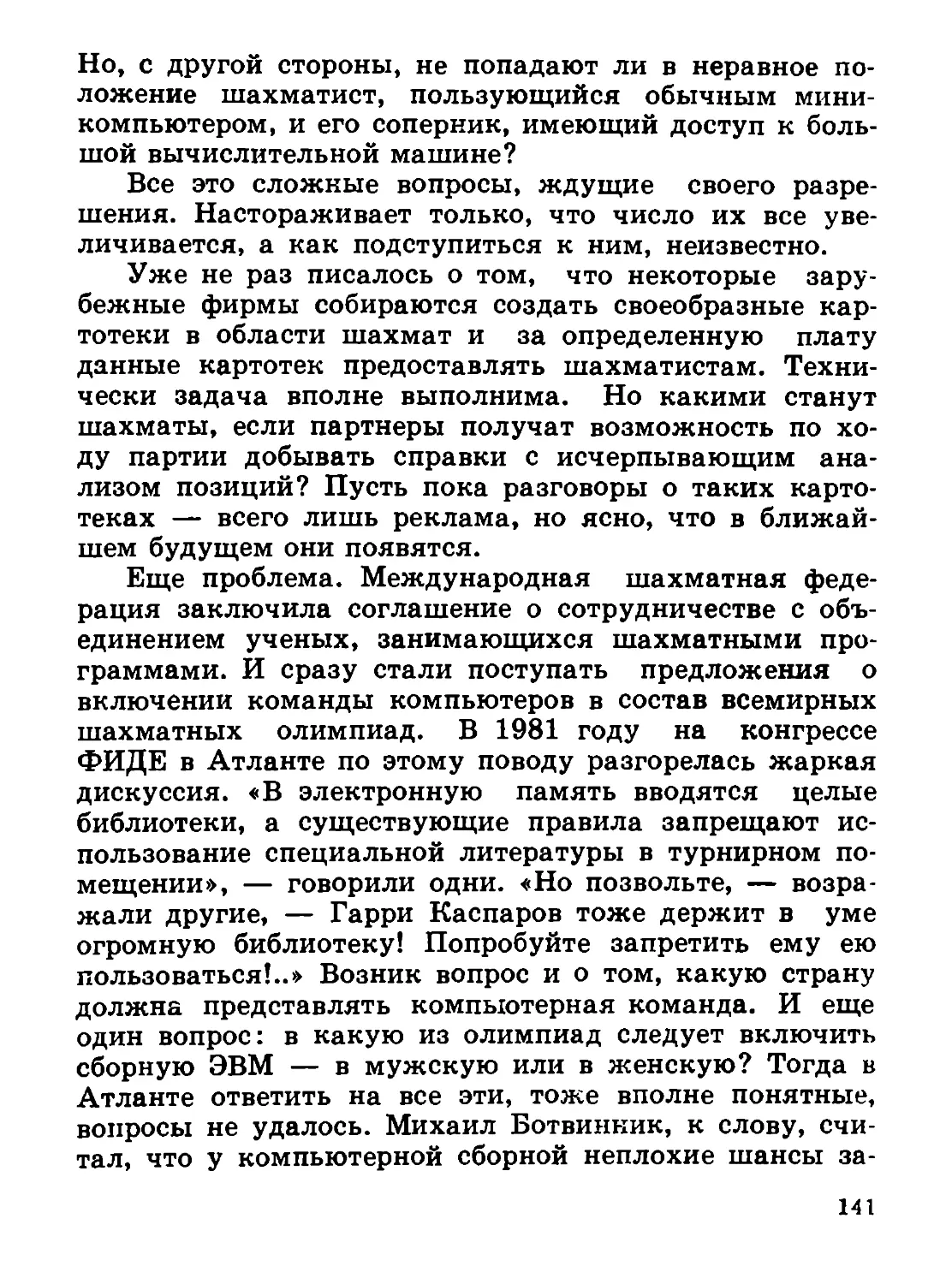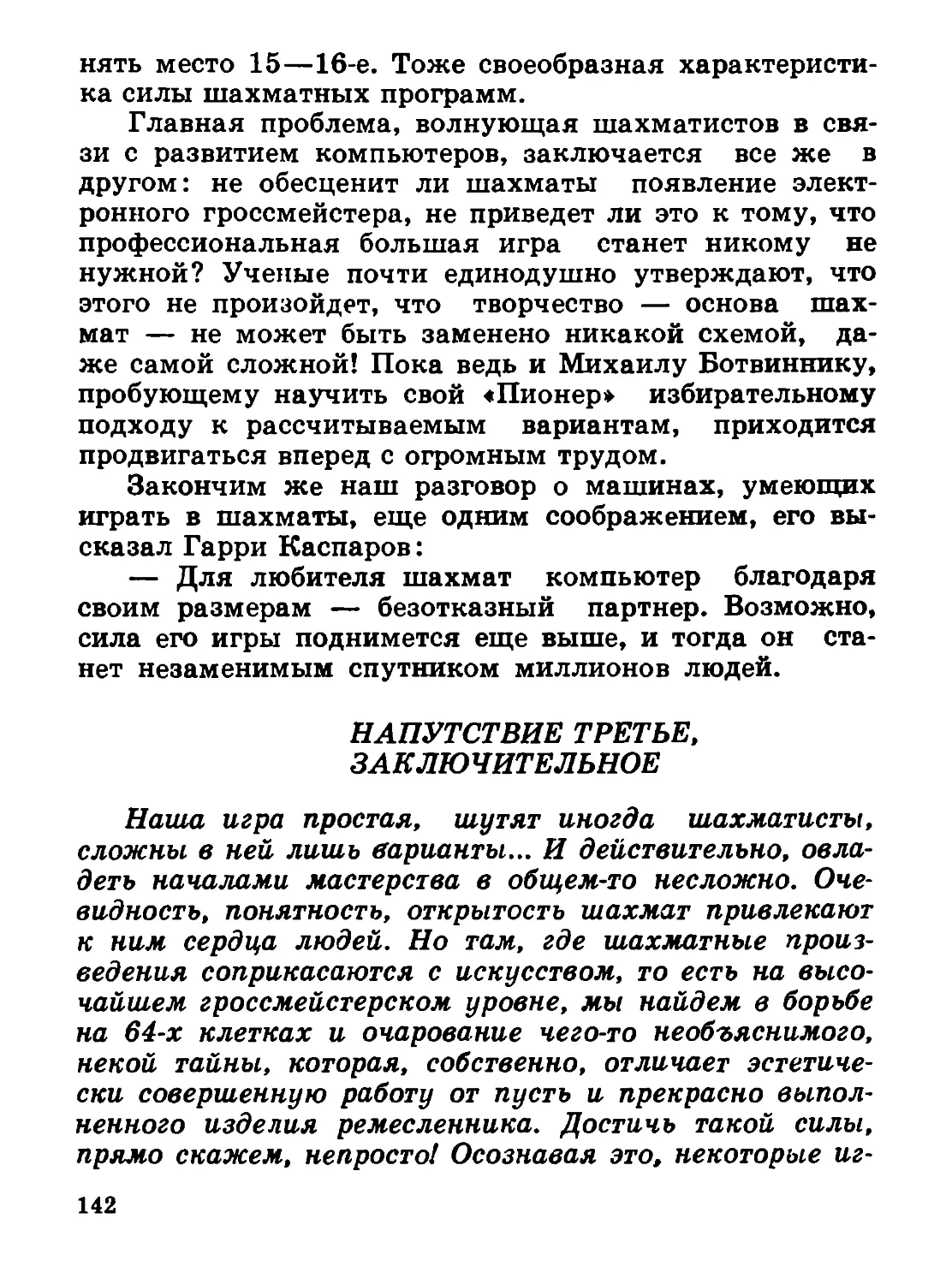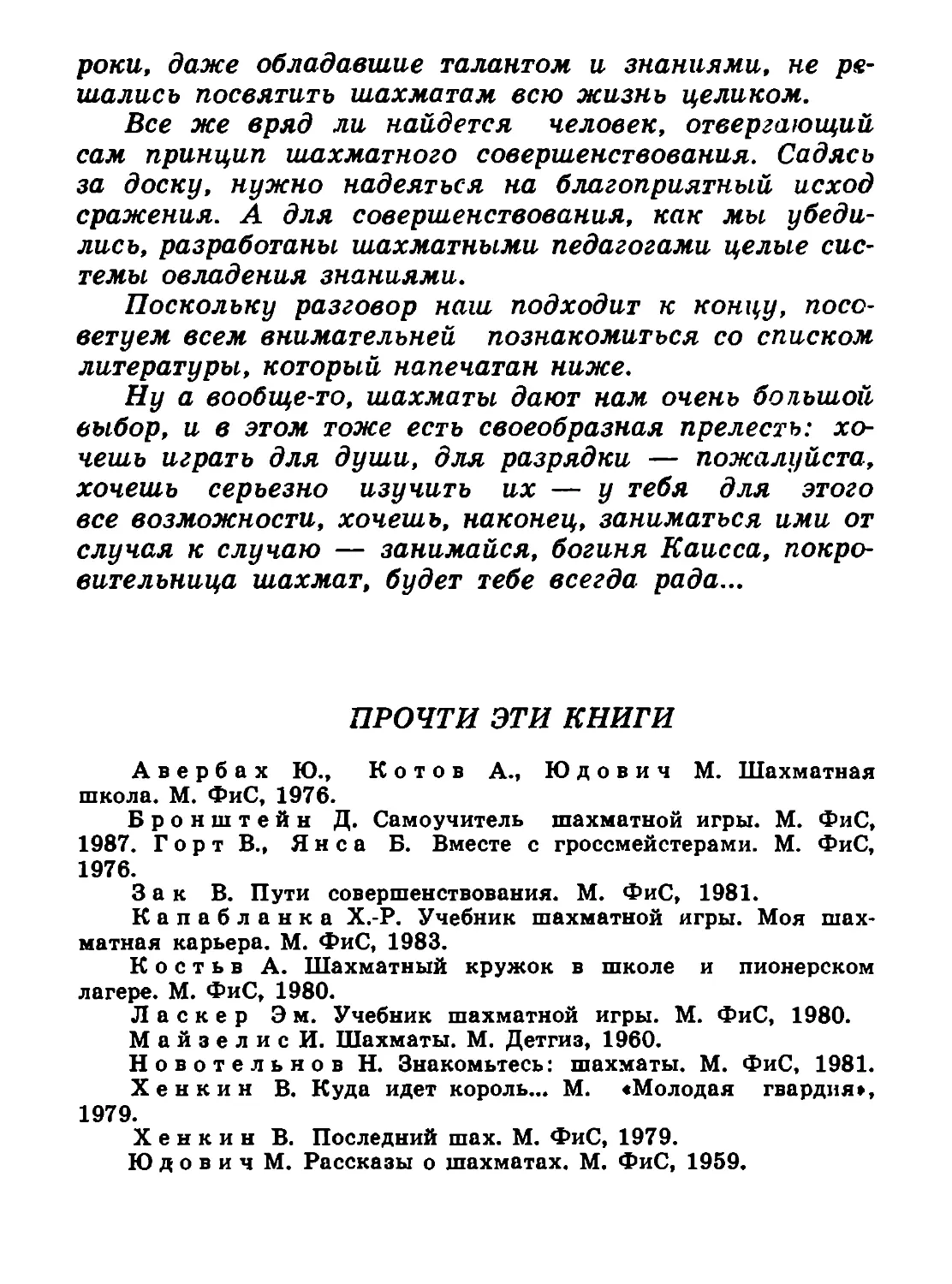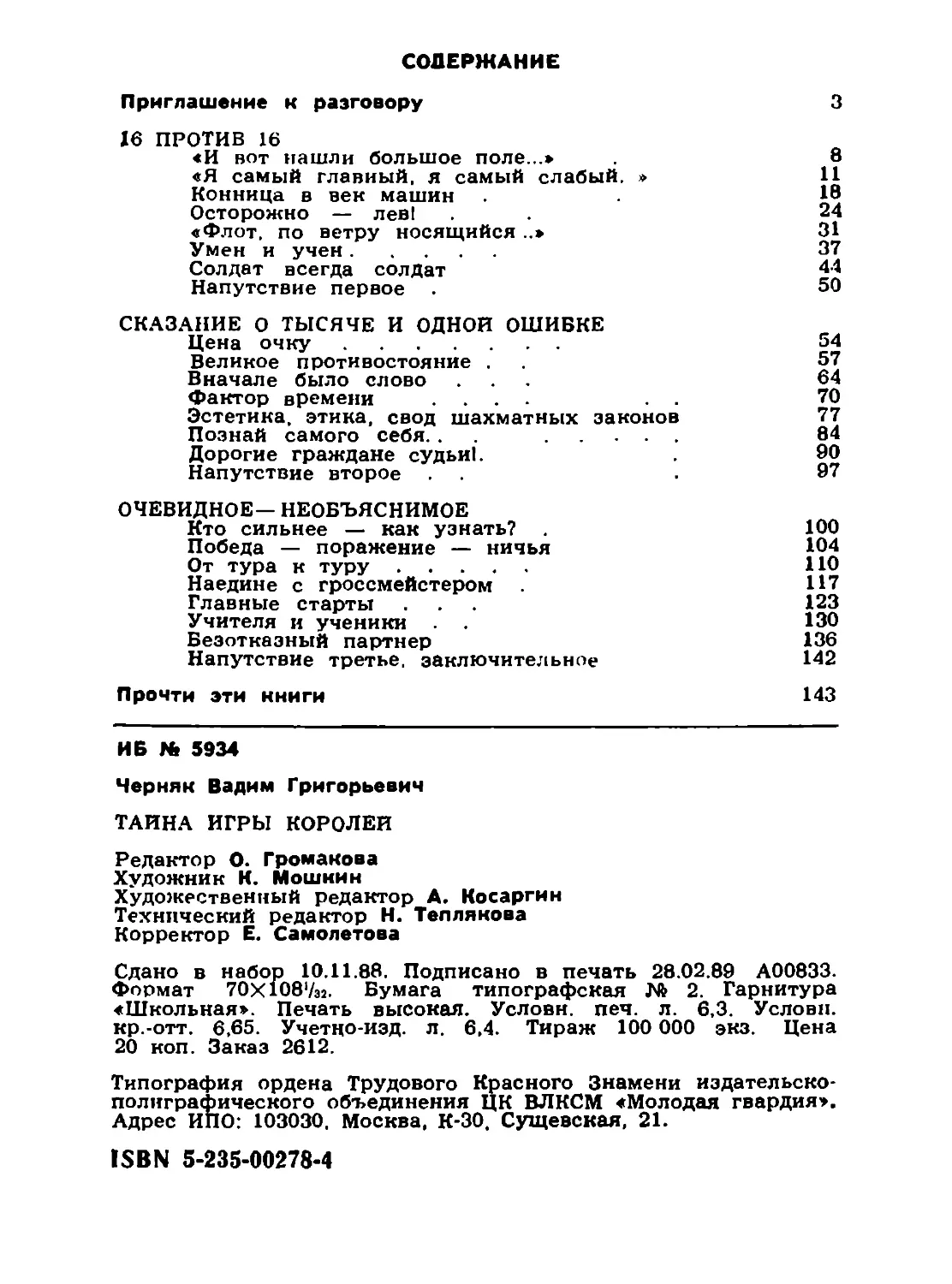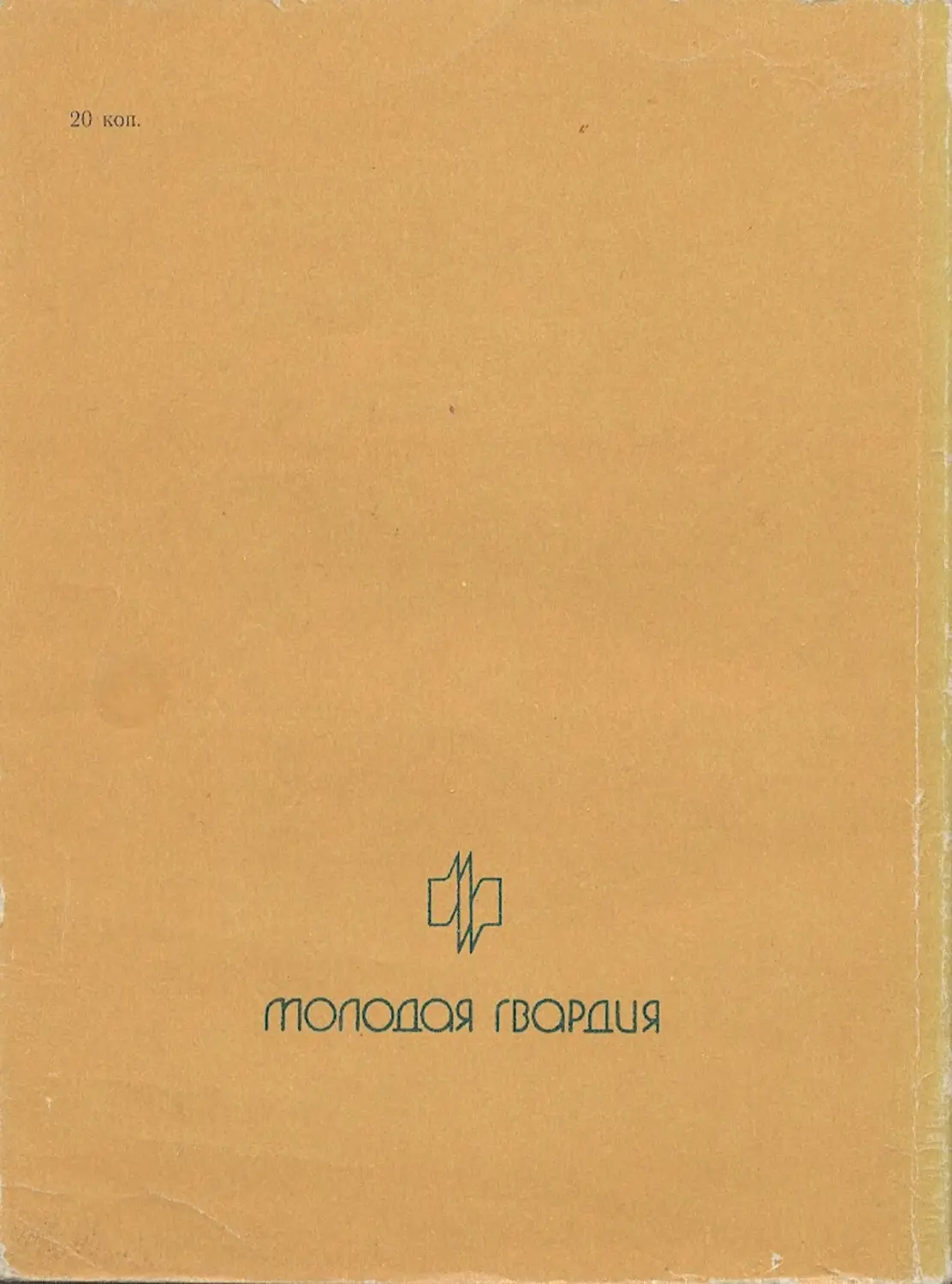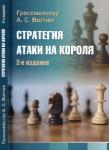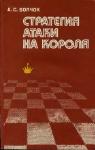Text
Вадим Черняк
ТАЙНА
ИГРЫ
КОРОЛЕЙ
МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИИ
Вадим Черняк
ТАЙНА
ИГРЫ
КОРОЛЕЙ
ф
МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1989
ББК 75.581
Черняк В. Г.
Ч—49 Тайна игры королей. — М. Мол. гвардия,
1989. — 142(2] с., ил. — (Мир твоих увлечений).
ISBN 5-235-00278-4
Книга в увлекательной форме рассказывает о том, что
SaKoe шахматы, о разнообразных стбронах этой игры —
оспитательной, творческой, эстетической, научной и т. Д.
р формах спортивной и массовой работы: сеансах одновре-
менной игры, блиц-турнирах, игре не глядя на доску и по
переписке, телефону; личных, командных, легких н других
шахматах; о компьютерной игре, о школьных и пионерских
соревнованиях. Адресована детям среднего школьного воз-
раста.
ч 4306030000—146^ В9
078(02)—89
ББК75.581
© Издательство
< Молодая
гвардия»,
1989 г.
ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ
Снимем с полки обычный «Словарь русского язы-
ка», например С. И. Ожегова, и откроем на слове
«язык». Что это такое? Оказывается, помимо прочего,
«то, что выражает, объясняет собой что-нибудь (о
предметах и явлениях, о звуках животных)». Если го-
ворить о шахматах (а в дальнейшем речь у нас пой-
дет именно о них), то особый — ясный и сравнительно
несложный — язык служит едва ли не главной при-
метой, отличающей эту игру от других похожих.
Язык шахмат — это в первую очередь так назы-
ваемая нотация, с помощью которой можно записато
текст любой партии, будь то встреча прославленных
гроссмейстеров или обычный дачный поединок. Легко
высказать и свое отношение к происходящему на дос-
ке, порой для этого требуется всего лишь несколько об-
щеупотребимых знаков: восклицательный, поставлен-
ный к какому-то продолжению, означает восхищение
и одобрение, вопросительный — порицание или недо-
умение, два этих знака рядом — сомнение. Шахмат-
ный язык не требует переводов. Его глубины вполне
достаточно, чтобы ответить на все мыслимые «как» и
«что», возникающие в шахматах. На этом языке гово-
рят и профессионалы, и начинающие, отлично пони-
мая друг друга. Благодаря ему удалось сохранить
шахматные ценности, созданные трудом многих поко-
лений, запечатлеть шахматный опыт в культурной
памяти человечества.
Однако у шахматного языка есть и существенные
изъяны. Они кроются в самой его информативности,
3
что вообще характерно для языков, созданных искус-
ственно, — они еще называются формализованными...
Изъяны, например, такие: давая на этом языке пре-
дельно точные ответы на вопросы «как» и «что», мы
крайне мало можем сказать по поводу массы других
вопросов, а ведь зачастую не менее важно знать «за-
чем», «почему», «откуда» и т. д. Зачем сделан такой-
то ход? Почему партнеры отказались от ранее встре-
чавшегося в их партиях варианта? Откуда появилась
та или другая идея? Ответы приходится искать уже не
в самом шахматном тексте, а в комментариях к нему,
написанных частично шахматным, частично тем язы-
ком, которым мы пользуемся в обыденной жизни.
Бывает и более сложный случай: когда автор со-
всем отказывается от, казалось бы, главного — чисто
шахматного содержания. Некоторых это может даже
рассердить. Как это? Книга о шахматах, а нет в ней
ни партий, ни диаграмм! Чему такой труд научит?!
Возразить действительно нечего. Разве что вспомнить
слова гроссмейстера Д. Бронштейна: «Нельзя же, на
самом деле, все время учить шахматам, надо найти
час, чтобы просто рассказать о них».
Не рассказано о шахматах еще очень и очень мно-
го. Да вряд ли и понято до конца... Ведь даже воспри-
нимались они в разные времена по-разному — доста-
точно вспомнить, как определяли понятие «шахматы»
самые авторитетные их представители — чемпионы
мира.
Вильгельм Стейниц, первый шахматный «король»,
видит в них всего лишь «полезное умственное упраж-
нение», нечто вроде «гимнастики для мысли». Его
преемник Эмануил Ласкер обращает внимание на воз-
можность борьбы, спортивного соревнования. А вот
первый русский чемпион Александр Алехин считал
шахматы искусством, так же, как и наш современник
Михаил Таль. «Шахматы, как и жизнь, — это тоталь-
ная война!» — не раз говорил Роберт Фишер. А Бо-
рису Спасскому они дороги прежде всего как увлека-
тельная игра.
Нынешний, тринадцатый по счету, чемпион мира
Гарри Каспаров, как это случалось и прежде, попы-
тался обобщить мнения своих предшественников:
«Шахматы — игра древняя, они прошли путь от игры
развлекательной, так сказать «кафейной», до игры и
даже искусства, которое привлекает к себе внимание
миллионов людей на планете. Определенная доступ-
ность и одновременно некий таинственный ореол при-
влекают к игре все новых энтузиастов, заставляя их
совершенствовать самих себя и сами шахматы.
Можно вспомнить традиционное толкование о том,
что есть шахматы: гармоничный сплав спорта, науки
и искусства. И, пожалуй, тут добавить что-либо труд-
но. Хочет того чемпион или нет, ему более близка по
духу одна из составляющих. Ботвинник, скажем, выде-
лял научный аспект. Карпов по-настоящему развил
ту спортивную сторону шахмат, которая до него оста-
валась как бы в тени. Мой подход универсален.
Шахматы для меня борьба и спорт. Но я осязаю оче-
видность шахмат как сплава науки и искусства».
Игра, наука, искусство, спорт, даже черты «то-
тальной войны...». Как далеко все это друг от друга и
как вместе с тем близко! Но исчерпывают ли богатство
шахмат определения, предложенные чемпионами ми-
ра? Пожалуй, лишь до известной степени. Математики,
ощущавшие сходные трудности, остановились на шут-
ливом утверждении, что математика — это все, чем
занимаются математики. Для шахматистов такая фор-
мула тоже вполне приемлема — круг их интересов
отнюдь не ограничен шестьюдесятью четырьмя клет-
ками доски!
Шахматный мир огромен, многолик и сложен. По
сути, это целая страна, живущая по своим законам.
И на редкость справедливым, надо признать! У этой
страны имеется своя история, свято хранимая и пере-
5
дающаяся из поколения в поколение: этика, то есть
совокупность норм поведения; эстетика — представле-
ние о прекрасном и т. д. Поразительно разнообразна
шахматная литература, насчитывающая сотни тысяч
томов — и специальная, и популярная, и беллетристи-
ческая...
В нашем разговоре мы еще не раз коснемся тех или
иных сторон шахматной жизни. Собственно, цель в том
и состоит, чтобы рассказать о некоторых тайнах игры
королей, как иногда называют шахматы. Не только о
фигурах и пешках (хотя речь пойдет и об этом), но и
о видах соперничества, спортивной форме, происхожде-
нии дебютных названий, турнирной или матчевой стра-
тегии, игре машин и т. д. Знания эти полезны и сами
по себе, и еще потому, что составляют часть обще-
шахматной культуры.
Так что условимся: не учим, а рассказываем...
И в путь!
16 ПРОТИВ 16
«И ВОТ НАШЛИ БОЛЬШОЕ
ПОЛЕ...»
Лермонтовское «Бородино» все наверняка читали.
Как там говорится? «И вот нашли большое поле: есть
разгуляться где на воле...» Шахматная доска, с ее
64-мя клеточками-полями, не так уж велика, кроме
того, в начальном положении свободна только полови-
на этой территории, на остальных клетках расположе-
ны изготовившиеся к бою фигуры. Однако драматизм и
острота борьбы в шахматах настолько высоки, что пло-
щадь, на которой действуют, то сходясь, то расходясь,
белая и черная армии, временами кажется огромной!
Типов фигур, которыми мы располагаем, тоже не-
много — всего шесть, включая пешку, строго говоря,
к числу фигур не относящуюся. Еще — король, ферзь,
ладья, слон и конь. Это и есть те силы, которыми ру-
ководят соперники-полководцы. Главная фигура
(король) и сильнейшая (ферзь) присутствуют
на поле брани в единственном экземпляре для каждой
стороны. Остальных — по две, сперва они выстраива-
ются справа и слева от короля, образуя фланги. До-
бавим для тех, кто пока не очень хорошо знаком с
практической игрой, что в начальном положении бе-
лые фигуры занимают первую линию, а черные —
восьмую. Перед фигурами ставятся пешки. Цель иг-
ры — уничтожить неприятельского короля, то есть
напасть на него так, чтобы он никуда не мог скрыть-
ся от этого нападения, — такое положение в шахма-
тах называется матом. Начинают белые, а затем ходы
делаются поочередно. Отсюда, наверное, и еще одно
из определений шахмат, едва ли не первое научное:
8
это «приятная, хотя и запутанная игра, в которой два
ряда фигур движутся навстречу друг другу с противо-
положных сторон 64-клеточной доски» — так понимал
наше древнее занятие известный английский языко-
вед XVII века Сэмюэл Джонсон, о чем и поведал в
своем знаменитом «Словаре».
Ладно, не будем особо придирчивы к средневековой
науке. Приятная? Пожалуй... Запутанная? Возможно,
кому-то она покажется и такой... Но как быть с фи-
гурами, которые «движутся навстречу друг другу»?
Ведь это принципиально неверно! В том-то и дело, что
каждая из фигур обладает своим, только ей прису-
щим рисунком движения, и все они — какие-то лучше,
какие-то хуже — умеют маневрировать, то есть пере-
мещаться по всей доске. Пешки — те действительно не
слишком поворотливы, вернуться на исходные пози-
ции они не могут. Но не зря говорится: «В ранце каж-
дого солдата лежит маршальский жезл!» Пешкам да-
но замечательное свойство: достигнув последней гори-
зонтали, они превращаются в любую из фигур. Стало
быть, способность к маневрированию изначально за-
ложена и в них.
Разнообразие перемещений, которое демонстрирует-
ся фигурами на шахматной доске, — это еще одно ка-
чество, отличающее нашу игру, в ее нынешнем виде,
от многих предшественниц. Например, от распростра-
ненного в древности шатранджа — противоборствую-
щие армии в нем укомплектованы так же, как и в
шахматах, но насколько меньше их ударная мощь!
Ферзь, краса и гордость современного шахматного вой-
ска, в шантрандже имеет право передвигаться всего
на одно поле по диагонали. У слона почти такие же
ограничения. Пешка лишена первого хода на две клет-
ки. Рокировка отсутствует. Лишь конь и ладья те же,
что и сейчас. Понятно, что все это не способствует бы-
строму развитию событий на доске. Действие разво-
рачивается, как при киносъемке рапидом. Игроки в
шатрандже предпочитали начинать свои встречи с так
называемых «табий» — типовых, обычно симметрич-
ных, позиций. К выигрышу приводили не только мат
неприятельскому королю, но и полное уничтожение
наличных шахматных сил соперника.
Сегодняшние, привычные нам всем шахматы утвер-
дились где-то к XVI веку, хотя название их встречает-
ся гораздо раньше. В России, например, еще в 1262 го-
ду — тогда перевели с греческого языка так называе-
мую кормчую книгу, в ней-то и употребляется впер-
вые в нашем отечестве слово «шахматы». Современные
названия фигур ввел в обиход петербургский шахма-
тист Алексей Леонтьевич Леонтьев, написавший в
1775 году первый шахматный труд на русском языке.
Леонтьев много лет служил секретарем посольства в
Китае и, вернувшись на родину, решил познакомить
10
соотечественников с описанием «китайской шахматной
игры».
Уже в наши дни предпринималось несколько по-
пыток реформировать шахматы: расширялась доска,
вводились новые фигуры, старые наделялись иными
качествами. Д. Бронштейн предложил как-то разре-
шить рокировку ферзя... Капабланка сыграл на сто-
клеточной доске матч с венгерским гроссмейстером
Гезой Мароци. Писатель Юрий Олеша придумал фи-
гуру «Дракон» — она была непобедима! Однако шах-
матисты этих начинаний не одобрили, ведь и в тради-
ционных, казалось бы, хорошо изученных шахматах
еще так много непознанного!
Василий Смыслов сказал однажды:
— Запомнить, как ходят фигуры, нетрудно, а вот
ощутить их особенности, их силу и бессилие в разных
ситуациях на доске, пределы возможностей, что они
«любят» и чего «не любят» и как ведут себя в различ-
ных передрягах своей шахматной судьбы, — понять и
«прочувствовать» все это и значительно труднее, и зна-
чительно важнее. Позже, когда шахматист постигнет
технику игры и приобретет необходимые знания — а
это доступно каждому, — такое «взаимопонимание»
между фигУРами раскрепостит его мысль, позволит
ему видеть то, что часто остается скрытым от чисто
логического анализа. Тогда и проявляется та врожден-
ная способность шахматиста, которую я называю чув-
ством гармонии.
Что ж, пора, пожалуй, нам познакомиться с фи-
гурами поближе.
«Я САМЫЙ ГЛАВНЫЙ,
Я САМЫЙ СЛАБЫЙ...»
Так мог бы сказать о себе, умей он говорить, шах-
матный король. И действительно: нет на доске фигу-
ры ценней и нет слабей ее! Все остальные шахматные
11
силы даны нам как раз для того, чтобы защитить от
нападений собственного монарха и поставить в безвы-
ходное положение короля соперника. В этом заклю-
чается цель сражения на 64-х клетках, или, как гово-
рил один из персонажей Алексея Максимовича Горь-
кого: «Там суть игры — мат королю...»
Положение шахматного властелина на доске доста-
точно беспокойное. Ходит он, правда, куда хочет, но
всегда на одну клетку... Придуман для него и специ-
альный ход — рокировка, выполняемый лишь раз за
всю партию, если, конечно, вы заинтересованы в этом
ходе: король переставляется на два поля по направ-
лению к ладье, после чего ладья переступает через ко-
роля и становится на соседнее с ним поле. Но вот
чего король не терпит, так это угроз со стороны непри-
ятельских фигур — под удар он становиться не может
(поэтому, к слову, никогда не встречаются король с
королем), а от нападения («шаха») должен быть сразу
защищен.
Термин «шах» можно перевести, как «Король в
опасности!». Надо сказать, что некоторые начинающие
(а иногда и не очень начинающие) шахматисты явно
неравнодушны к прямой атаке на чужого короля. За-
манчиво, конечно, объявить «шах»! Вдруг у соперника
не найдется пути для отступления... Однако, как пра-
вило, путь находится, а плохо подготовленное нападе-
ние приводит лишь к ухудшению собственной пози-
ции.
В 1953 году в Цюрихе венгерский гроссмейстер Лас-
ло Сабо в принятом ферзевом гамбите уже на пятом
ходу объявил шах Паулю Кересу. Продумав минут
пятнадцать, Керес спокойно защитился — он понял,
что Сабо просто забыл сделать еще один промежуточ-
ный ход. И «получилось, что он дает Кересу вперед
пешку и ход; во времена Чигорина на такую фору иг-
рали в турнирах-гандикапах (то есть соревнованиях с
форой. — В. Ч.) мастера с первокатегорниками» — так
12
прокомментировал создавшуюся ситуацию Давид
Бронштейн. Не удивительно, что эта встреча оказа-
лась, по существу, самой короткой на турнире — Сабо
пытался еще организовать контригру, но положение
его можно было счесть безнадежным уже к восьмому
ходу.
Не менее аккуратно, конечно, следует обращаться и
с собственным королем. У того же Бронштейна после
пятой партии в матче на первенство мира с М. Бот-
винником (1951 г.) был перевес в одно очко. Шестую
встречу партнеры довели до совершенно ничейной по-
зиции, в которой от игравшего белыми Бронштейна
требовалось сделать заключительный ход конем...
Цейтнот окончился, зрители ждали, а Бронштейн все
не делал хода. Сорок пять минут просидел гроссмей-
стер на сцене, словно в какой-то прострации, а потом
неожиданно тронул своего короля... Еще через ход он
сдался. «Этим проигрышем я, конечно, был раздосадо-
ван, — писал потом Бронштейн, — но понимал, что
ничего страшного не произошло. Матч должен был
начаться сначала. Счет 3:3 — или, по-нынешнему,
1:1 — при четырех ничьих. Но я недооценил силы
болельщиков. Они так дружно критиковали мою игру
в эндшпиле, очно и по телефону, что совершенно ме-
ня загипнотизировали. Я стал думать, что совершил
нечто непоправимое. Следующую, седьмую, партию я
фактически проиграл без борьбы. Да и вообще неско-
ро пришел в себя. Из-за одного только прикосновения
к королю...» Этот матч, напомним, закончился со сче-
том 12 : 12. А что было бы, не проиграй Бронштейн
шестой встречи, не тронь он случайно своего короля!
Умение искусно действовать королем — ив защи-
те, и в нападении (хоть это кому-то покажется стран-
ным, но король — самая слабая фигура — не раз
оказывал существенную помощь и в атаке), и в пози-
ционном маневрировании, и особенно в эндшпиле —
все это издавна считалось чрезвычайно важным для
13
совершенствования шахматиста, причем взгляд на роль
короля в шахматной партии никогда не был единооб-
разным. Споры о том, как нужно относиться к своему
королю — смело или осторожно — особенно обостри-
лись, например, во второй половине прошлого века,
когда Вильгельм Стейниц окончательно сформулиро-
вал положения так называемой «современной шахмат-
ной школы». Его авторитет к тому времени был очень
велик; вызывала уважение и последовательность, с
которой Стейниц отстаивал свои взгляды, утверждал
их на практике — он выиграл множество турниров и
матчей, стал первым официальным чемпионом мира.
Однако суть его учения понимали далеко не все, тем
более что некоторые выводы, сформулированные им,
казались чересчур сухими, академичными, грубо-пря-
молинейными. Игра «старых» мастеров в этом смысле
выглядела более раскованной, эффектной, живой. Вот
и получалось: чем «правильней» действовал Стейниц,
тем чаще вспоминали, например, Пола Морфи, к тому
времени совершенно отошедшего от шахмат, но оста-
вившего по себе добрую память — его партии с ори-
гинальными жертвами, искрометными атаками, не-
очевидными маневрами шахматисты тогда разыгрыва-
ли без конца! Стейниц нервничал. Однажды, затронув
в разговоре с американским чемпионом Джорджем Мэ-
кензи «королевскую» тему, Стейниц нашел нужным
специально пояснить свое отношение к этой фигуре:
— Я играю королем по всей доске! Я заставляю
его сражаться! С его помощью я получаю как бы лиш-
нюю фигуру. А что делал Морфи? Он рокировал. Он
прятал своего короля в безопасное место...
Невозмутимый американец, улыбаясь, ответил:
— Недурные идеи. Как та, так и другая...
И он был прав! В конце концов шахматисты при-
шли к выводу, что руководствоваться в данном случае
нужно конкретной позицией, сложившейся на доске.
Бывает ведь, что даже в начале партии король попа-
14
дает на поля, казалось бы, совершенно не предназна-
ченные для его местонахождения.
В первенстве РСФСР 1970 года показательную в
этом смысле партию сыграли между собой будущий
чемпион мира Анатолий Карпов и гроссмейстер Алек-
сандр Зайцев. Дело, думается, было еще и в психоло-
гическом настрое участников. Зайцев, двумя годами
раньше уже завоевавший в аналогичном соревновании
золотую медаль, не прочь был повторить успех. Но во
встрече с Карповым он вряд ли планировал победу в
обычной для себя остротактической манере — репу-
тация Карпова уже тогда была высока. Отсюда дебют,
избранный первым гроссмейстером Азии, — Зайцев
остановил выбор на спокойной защите Каро-Канн, с
которой у Карпова до сих пор непростые взаимоотно-
шения. «Эта защита, — писал он в примечаниях к
партии, — всегда производила на меня удручающее
впечатление своей, если можно так выразиться, пас-
сивной безысходностью. Впрочем, по-настоящему я по-
знакомился с этим дебютом значительно позже, ко-
гда решил сам применить Каро-Канн в полуфинальном
матче претендентов 1974 года против Б. Спасского.
Должен, однако, заметить, что отношение мое к дебю-
ту тем не менее не изменилось, а выбор его в 1974 го-
ду связывался с конкретными планами ведения мат-
чевой борьбы».
До 11-го хода все развивалось по знакомым сцена-
риям, но вдруг Карпов, подспудно видимо, так и не
поверивший в возможности Каро-Канна для черных,
сделал импульсивный ход крайней пешкой королевско-
го фланга. Завязались острейшие осложнения, в ре-
зультате которых белый король под ударами неприя-
тельских фигур смело двинулся в самый центр доски.
Черные изо всех сил пытались наладить атаку на «иг-
рающего» предводителя белых войск, но Карпов «от-
бился», увел короля назад и спокойно доказал преи-
мущество своего слона над чужим конем. Ко всему
плану белых, осуществленному в партии, он поставил
восклицательный знак. Вполне заслуженно!
Между прочим, тот же Стейниц, верный своим
творческим установкам, еще за сто лет до этой партии
пытался провести аналогичную идею, связанную с ран-
ним выходом короля, — гамбит, носящий его имя,
был некогда популярен, хотя в наши дни это начало
сошло со сцены. Название же известно потомкам ско-
рей по великолепной трехходовке знаменитого состави-
теля шахматных задач Сэмюэля Лойда, так и озаглав-
ленной — «Гамбит Стейница». На первом ходу король
становится под удары черных фигур, на втором про-
должает двигаться так же, как в упомянутом гамби-
те, а третьим ходом белые матуют во всех вари-
антах!
Коль скоро речь зашла о дебютных названиях, на-
16
помним, что в прошлом веке были разработаны основ-
ные продолжения королевского гамбита — начала, при-
меняемого, хоть и не так часто, до сих пор. Цель — за
счет пешки, жертвуемой на втором ходу, захватить
центр и, используя перевес в развитии, организовать
атаку на позицию неприятеля. Из наших современни-
ков королевский гамбит с успехом играли П. Керес,
Д. Бронштейн и Б. Спасский. Все же мастера нашли
за черных хорошие контршансы. Слава королевского
гамбита далеко в романтическом шахматном про-
шлом.
Остается рассказать еще об одном своеобразном
шахматном правиле, имеющем прямое отношение к
королю, — о пате.
Пат — такое положение, когда король стороны,
обладающей очередью хода, не атакован неприятель-
ской фигурой, но ходов у него нет, точно так же, как
и у остальных фигур и пешек, принадлежащих его
армии. Такая позиция признается ничейной, несмотря
на внушительный перевес, который бывает иногда у
соперника, допустившего пат. В практической игре,
особенно если противники сильны, пат встречается
редко, зато в композиции составлено множество этю-
дов на эту тему.
Из патовых «казусов» едва ли не самый знамени-
тый — партия американского гроссмейстера С. Ре-
шевского с Ефимом Геллером (Цюрих, 1953 г.). Встре-
ча была отложена в ладейном эндшпиле с двумя лиш-
ними пешками у американца. Тот настолько уверовал
в свою легкую победу, что даже спросил у появивше-
гося в зале партнера: «Неужели вы будете доигрывать
эту позицию?» Геллер молча сел за столик. А еще через
полчаса выяснилось, что советский шахматист нашел
для своего короля убежище, взять которое было невоз-
можно! Встречу признали ничейной.
Заканчивая разговор о главной шахматной фигуре,
вспомним и о том, откуда произошло само ее назва-
2 В Черняк 17
ние. Русские шахматные исследователи прошлого и
позапрошлого веков сперва употребляли термин
«царь» — по аналогии с арабско-персидским «шах», то
есть верховный правитель. Но применение этого терми-
на в России, которая была «царством», приводило ко
многим недоразумениям. Тогда лучший русский шах-
матист тех лет Александр Петров, живший в Варшаве,
использовал для обозначения главной шахматной фи-
гуры польский термин «король». Название сохрани-
лось до настоящего времени.
КОННИЦА В ВЕК МАШИН
Так иногда называют наше время — век машин.
И правда, машины и механизмы играют в жизни все
большую роль. Шахматы не исключение. Компьютеры,
например, отлично разобрались в их тонкостях, научи-
лись выполнять множество сопутствующих заданий:
хранить информацию, заниматься с новичками, пере-
давать с помощью дисплейных устройств ходы на рас-
стояние, вести учет и т. д. Обо всем этом мы еще по-
говорим... Но правила шахмат, назначение фигур, це-
ли и средства игры эпоха, что называется,
пощадила — они остались теми же, что в давние ры-
царские времена. Так что, в общем-то, перед нами мо-
дель средневекового сражения. Вот и вспомним, какой
род войск тогда считался важнейшим. Правильно —
конница! У разных народов по-разному назывались
шахматные короли, ферзи, слоны, ладьи, пешки, но
конь или всадник обязательно входил в любой ком-
плект шахмат, где бы он ни был изготовлен.
Общеизвестно: конь ходит буквой «г». Причем все-
го на три клетки — две по прямой и одна в сторону.
Движение это выглядит несколько искусственным. По-
нятно почему: все шахматное войско перемещается по
линиям — горизонталям, вертикалям, диагоналям, а
конь в полном смысле слова скачет. Через белые и чер-
18
ные фигуры тоже, если они встают на его пути. Отсю-
да, видимо, и бытовое выражение «ход конем», то есть
нечто хитроумное, замысловатое.
Давайте сразу отметим несколько типовых особен-
ностей в движении коня. Первое — он всегда попадает
с поля одного цвета на поле другого. Второе — макси-
мальное количество полей, которые конь может кон-
тролировать одновременно, — восемь, на девятом он
стоит сам. Третье — коню, в отличие от другой лег-
кой фигуры, слона, доступны все без исключения клет-
ки доски. Он способен совершить по ней целое путеше-
ствие! Гораздо медленнее, чем ферзь или ладья, но по-
падет куда надо обязательно. Есть даже специальная
шахматная задача: найти кратчайший путь для ко-
ня, обходящего доску таким образом.
Перечисленные свойства делают коня, при опреде-
ленных обстоятельствах, фигурой достаточно опасной.
Такой технический прием, как «вилка», наиболее
успешно осуществляет конь. Он хороший блокер. Пре-
красно охраняет коммуникации. Незаменим при за-
хвате пунктов и во главе пешечных фаланг. Улучив
момент, когда свои же фигуры мешают чужому коро-
лю уйти от стремительной атаки, может объявить то-
му так называемый «спертый мат». Хуже действует он
на больших пространствах и обычно в эндшпиле, ко-
гда доска становится пустынной, ему не хватает даль-
нобойности.
Естественно, по силе коня всегда сравнивали со
слоном. Один из примеров такого сравнения: два сло-
на легко ставят мат одинокому королю соперника, ко-
ни в аналогичных случаях оказываются бессильны.
Есть, правда, группа позиций, в которых два коня ма-
туют короля при наличии у слабейшей стороны еще од-
ной пешки — классическое исследование на эту тему
написал советский этюдист Алексей Троицкий.
В прошлом веке выдающийся английский мастер
Г. Стаунтон попытался математически выразить силу
2* 19
шахматных фигур. Он пришел к выводу, что конь со-
ставит 2,57 пешечные единицы, а слон — 3,08. Эти же
цифры называл и Вильгельм Стейниц. Ни с тем, ни с
другим решительно не согласился основоположник
русской шахматной школы Михаил Чигорин, зачастую
предпочитавший коней слонам и умевший действовать
ими великолепно. И верно: в некоторых позициях конь
способен выполнить огромный объем работы. В 26-й
партии матча на первенство мира 1935 года между
А. Алехиным и М. Эйве, проходившей очень напря-
женно, голландский гроссмейстер из последних вось-
ми ходов шесть сделал конем и, одержав победу, ска-
зал: «Белый конь честно заработал свой мешок овса!»
В самом начале встречи мощь коней прекрасно умел
использовать Эмануил Ласкер. Он даже пошутил од-
нажды, что весь его вклад в теорию позиционной игры
заключается в рекомендации развивать коней раньше
слонов. Пошутить-то пошутил, но шахматисты отнес-
лись к его совету с полной серьезностью.
Вообще, уж если речь зашла о коневых поединках
в начале встречи, то мы без труда можем обнаружить
в них массу поучительного.
В 1950 году в Щавно-Здруй (Польша) Пауль Керес
поставил мат польскому мастеру В. Арламовскому все-
го за шесть ходов: в защите Каро-Канн гроссмейстер
неожиданно вывел в самой ранней стадии своего фер-
зя, Арламовский, не обратив на это внимания, авто-
матически сделал обычный в данном положении ход
ферзевым конем... Говорят, что Керес в ответ не стал
даже садиться за доску, а передвинул свою фигуру —
тоже коня — из-за спины партнера, и тот некоторое
время еще не мог понять, что все кончено. Самое уди-
вительное в этой истории, что через шесть лет на все-
мирной шахматной олимпиаде в Москве у того же
Кереса случилась похожая ситуация во встрече с дру-
гим польским мастером, 3. Дворжанским. И тот, на
том же шестом ходу сделав роковой ход конем, еще
20
долго потом смотрел на доску, не веря в столь быст-
рое завершение коневой схватки.
Есть в прыжках коня, порой грациозных, порой
стремительных, нечто завораживающее и подкупающее
эстетическим совершенством. Как ни странно, для
шахматистов, обостренно воспринимающих шахматную
красоту, в этом таится известная опасность, особенно
если мастер чувствует, что он в хорошей форме. Ис-
пытывая особое душевное волнение, которое появляет-
ся не только перед каким-то определенным турниром
или партнером, но и в процессе самого поединка, когда
вдруг приходит уверенность, варианты рассчитывают-
ся легко и свободно, идеи возникают, казалось бы, ни-
откуда и т. д., можно неожиданно для себя перейти
незримую грань, отделяющую реальность от вообра-
жения.
В 1938 году на турнире в Ленинграде мастер Ген-
рих Каспарян получил против своего старшего по воз-
расту коллеги Петра Романовского черными мощную
позицию — у него была лишняя пешка и атака. Кас-
парян мог победить добрым десятком способов, но
ереванского шахматиста, уже в то время добившегося
немалых успехов в композиции (впоследствии он стал
одним из лучших этюдистов мира, гроссмейстером),
увлекла этюдная идея, связанная с жертвой ладьи и
построением матовой сети с помощью ферзя и коня.
Черные, чуть подумав, пожертвовали ладью и сделали
«матующий» ход конем, на что смущенный Романов-
ский указал:
— Такой ход невозможен, конь связан...
Каспарян несколько секунд даже не мог сообра-
зить, почему партнер возражает, настолько его за-
хватил замысел, увы, в данном положении неосущест-
вимый. Вместо заслуженной единицы в графе у ереван-
ца появился ноль.
Один из претендентов на мировое шахматное пер-
венство и большой шахматный философ, Зигберт Тар-
21
раш, писал когда-то: «Если выигрываешь проигран-
ную партию, это счастье, но если проигрываешь выиг-
ранную, это слабая игра*. Справедливые слова, но уж
очень обидно такой просмотр отнести к категории сла-
бой игры. Ход, которым «матовал* связанный конь,
был, по-настоящему эффектным. Может быть, сочтем
лучше эпизод просто обманом зрения, а для себя все
же сделаем вывод, что с конями тоже требуется обра-
щаться осторожно...
Решающий ход конем — это отдельная и увлека-
тельная тема. Случалось, такие ходы значили очень
много не только для самого мастера, но и вообще для
шахматного искусства.
В начале 1960 года у признанного лидера шахмат-
ного мира Михаила Ботвинника получил право оспа-
ривать чемпионский титул молодой и честолюбивый
Михаил Таль, ворвавшийся как метеор в самые плот-
ные слои шахматной атмосферы и за короткий срок
опередивший целую группу тогдашних гроссмейстеров
экстракласса. Однако матч с Ботвинником, уже немо-
лодым и, видимо, не настолько грозным, как раньше,
все же сперва развивался отнюдь не так, как предпо-
лагали пылкие болельщики рижанина. Потерпев, прав-
да, поражение в первой партии, чемпион в следующих
четырех поединках неизменно владел инициативой.
Перед шестой встречей Таль почувствовал, что так
дальше продолжаться не может — ботвинниковский
пресс просто раздавит его...
На доске позиция из староиндийской защиты.
К 21-му ходу у черных, которыми руководит рижский
шахматист, некоторый перевес на ферзевом фланге, но
на королевском Ботвинник готовит контригру, а чер-
ный конь к тому же забрался на крайнюю линию и
стоит там неважно («Конь на краю доски — всегда
позор!» — так писал о подобной позиции 3. Тарраш).
И Таль положился на свою изобретательность, которая
неоднократно приносила ему успех в шахматных сра-
жениях любого ранга, — буквально на ровном месте
пожертвовал неудачно стоящего коня всего на одну
пешку! Сам он впоследствии так оценил эту жертву:
«Аналитики привели целые вереницы вариантов, до-
казывающих, что я в шестой партии должен был по-
терпеть поражение... Возможно, очень возможно... Но
в том-то и отличие шахматной борьбы за доской от
неторопливого домашнего анализа, что аргументы на-
до находить немедленно! Да, я рисковал, когда на
21-м ходу поставил под бой коня, но опровергнуть жер-
тву было непросто! Все мои оставшиеся фигуры приба-
вили в силе. Особенно грозным стал боевой староин-
дийский слон, который до этого упирался в собствен-
ные пешки».
Так в те годы против Ботвинника не осмеливался
играть никто. Да и вообще такой стиль был не в поче-
23
те — рискованный, боевой, артистичный... Шестая пар-
тия, которую Ботвинник проиграл, стала поистине ре-
шающей в матче, «по инерции» Таль победил и в сле-
дующей встрече, и от поражений в этих поединках его
партнер не оправился до конца соревнования. Несмот-
ря на то, что всего через год Ботвинник блестяще вер-
нул утраченный титул, пойдя, как он выразился, «на
выучку» к молодому Талю», исполненная свежести
игра рижанина вдохновила целые поколения шахматис-
тов — за Таля болели, ему подражали, у него учились
умению комбинировать.
Возвращаясь к разговору о коне, как о шахматной
фигуре, добавим, что свойства коня позволили анали-
тикам создать такие оригинальные дебютные системы,
как, например, дебюты трех и четырех коней, защиту
двух коней, гамбит коня в королевском гамбите и т. д.
Парадоксальную идею фигурной контратаки пешечно-
го центра белых с помощью смелого рейда коня нашел
Александр Алехин — этот способ защиты носит с тех
пор его имя. Точно так же на первом ходу конь вы-
двигается в дебюте Рети, защите Грюнфельда, начале
Нимцовича, индийских защитах. Специальные иссле-
дования посвящены коневым эндшпилям, роли коня в
середине игры. Кажется, все о коне мы знаем, а он
нет-нет да и преподнесет сюрприз — и практикам, и
шахматным композиторам, и просто любителям наше-
го древнего искусства.
ОСТОРОЖНО — ЛЕВ!
Что бы вы сказали, прочитав в шахматном ком-
ментарии такие строки: «Львы белых, нацеленные на
королевский фланг соперника, быстро решили исход
борьбы»? Наверное, очень бы удивились, а то и воз-
мутились! Откуда на шахматной доске взяться львам?!
Между тем языковеды в последнее время все больше
склоняются к мысли, что название шахматной фигу-
24
ры «слон» произошло от тюркского «арслан» — «лев».
На других языках эта шахматная фигура называется
очень по-разному: «шут», «безумец», «дурак» — у
французов, «епископ» — у англичан, «бегун» — у нем-
цев, «офицер» — у болгар и т. д. В шатрандже слон
звался «алфилом» и ходил по диагонали через одну
клетку. Мог, правда, при этом перешагивать через фи-
гуры подобно коню.
В шахматах слон, правильно расположенный и ис-
пользуемый, — большая сила. Особенно два слона.
Хотя на то, чтобы осознать и прочувствовать наиболее
эффективные расстановки слонов, шахматистам потре-
бовалось время. Этот путь, впрочем, приходится пре-
одолевать любому начинающему...
В 1982 году в Тбилиси проходил очередной межзо-
нальный турнир на первенство мира среди женщин.
В пресс-центре кто-то из журналистов играл легкую
партию с юной перворазрядницей из Самтредиа Софи-
ко Тереладзе. В какой-то момент шахматистка поме-
няла своего чернопольного слона на коня соперника.
Наблюдавший за встречей гроссмейстер Эдуард Гу-
фельд извинился и остановил часы.
— Софико! Я хочу спросить у тебя, вот если бы ты
пришла в зоопарк и тебе сказали бы: «Можешь взять
домой на выбор слона или лошадку», кого бы ты вы-
брала?
После некоторого раздумья девочка ответила, что
хочет увести с собой слона и покраснела, поняв, что
допустила на доске ошибку. Увы, сходные ошибки со-
вершались не раз даже на гроссмейстерском уровне.
Слон или конь — это вообще, как помним, сложная
проблема...
В 1977 году в Бад-Лаутенберге Светозар Глигорич
в партии с Эугенио Торре добился, играя черными, так
называемого, «преимущества двух слонов», однако
комментировавший встречу Анатолий Карпов отнесся
к этим достижениям без всякого восторга: «Подводя
25
итоги дебютного сражения, — пишет он, — необходи-
мо отметить следующее: белые прочно захватили
центр... Правда, у черных два слона, но в данной по-
зиции это скорее недостаток, нежели преимущество.
Чернопольный слон упирается в собственные пешки, и
ввести его в действие гораздо сложнее. Белопольный
слон черным очень нужен, но более для защиты сла-
бых пешек и полей, чем для активных действий, кото-
рые ограничиваются мощным центральным клином бе-
лых пешек». Не удивительно, что Глигорич вскоре по-
пытался избавиться от приобретенного «преимуще-
ства» и получить позицию с обоюдными шансами.
Гарри Каспаров признавался, что когда-то питал
тайную слабость к слону, который импонировал ему
своей дальнобойностью. Он сыграл даже необычный
матч с другом своего детства, впоследствии шахмат-
ным мастером Ростиславом Корсунским. Все фигуры
Каспарова действовали на доске только как слоны.
А его оппонент управлял конницей — такую они изо-
брели модификацию шахмат. Победителем в этом со-
ревновании вышел Каспаров, но, может быть, просто
уже тогда он играл лучше?
Термин «преимущество двух слонов» ввел в прак-
тику еще Вильгельм Стейниц — это входило в его
теорию накопления мелких преимуществ. Позднее не-
сколько «уроков» использования такого преимущества
дал Тарраш — известна, в частности, его партия с мас-
тером Метгером из турнира в Нюрнберге (1888 г.), в
которой мастер выполнил как бы обязанности «ассис-
тента», а Тарраш продемонстрировал, как преимуще-
ство двух слонов преобразуется в наглядные очки. Ин-
тересно, что Тарраш, по общему мнению склонный к
догматизму и излишней категоричности, в отношении
слонов был на удивление «терпим». А фигуры эти при-
носили ему не только радости...
Как не вспомнить в связи со сказанным знамени-
тый слоновый эндшпиль, который в 1914 году в Петер-
26
бурге не сумел выиграть Тарраш у своего извечного
соперника Эмануила Ласкера! Претендовавший за
шесть лет до этого на мировую шахматную корону,
Тарраш проиграл матч Ласкеру со счетом +8,—3,=5.
Но все равно игра чемпиона ему не нравилась, проти-
воречила классическим представлениям о логике и
порядке. В Петербурге Тарраш сделал, кажется, все
возможное для того, чтобы воззрения его восторжест-
вовали: прекрасно разыграл дебют, сильно и целе-
устремленно провел миттельшпиль и получил практи-
чески выигранное окончание. Но Ласкер непостижи-
мым образом ушел, от поражения. Партия эта
оказалась для Тарраша роковой не только в петербург-
ском турнире, она повлияла на вею его игру в после-
дующие годы — в 1916 году в матче с тем же Ласке-
ром он не сумел выиграть ни одной встречи, проиг-
рав целых пять. В дебюте он еще сопротивлялся, но
затем игра его становилась все слабей и неуверенней,
как будто над доской парил призрак того ничейного
эндшпиля! «Доктор Тарраш держит партию первые
10—15 ходов, — писал Ласкер, — а по мере прибли-
жения к концу играет как в тумане». Вот что значит
попасться под ноги безжалостным слонам!
Конечно, у слона наряду с массой привлекатель-
ных черт есть и легко различимые недостатки. Поэто-
му шахматисты в борьбе учитывают силу и слабость
своих и чужих слонов. Например, слон почти беспо-
мощен при защите пространства — это отмечал еще
крупнейший шахматный теоретик А. Нимцович. Нахо-
дящийся на белых полях слон никак не может воздей-
ствовать на черные пункты. В запертых позициях слон
тоже теряет свои боевые качества. Нимцович во встре-
че с ван Флитом запер слона партнера уже на первых
ходах, а в преддверии развязки, когда белые, которы-
ми играл ван Флит, сделали судорожную попытку
освободиться, Нимцович иронически прокомментиро-
вал их действия: «Наконец-то решается выглянуть на
27
свет этот слон, запертый на протяжении 24 ходов; но
он появляется лишь для того, чтобы пережить гибель
своего лагеря».
Поразительно слабы, как считал Нимцович, слоны
в позициях, где неприятельскому коню удалось утвер-
диться в центре. И в борьбе со своими разнопольными
партнерами слоны порой оказываются не на высоте,
особенно в эндшпиле. Имея несколько лишних пешек,
шахматист в такой позиции часто вынужден соглашать-
ся на ничью. Тем красивее победы, одержанные в подоб-
ных, с виду явно ничейных концовках. В 1955 году
Ботвинник выиграл у гроссмейстера Александра Кото-
ва позицию с разнопольными слонами, которая носит
не очень эстетическое название «штаны». Это случи-
лось в 22-м чемпионате СССР, Ботвиннику было нужно
очко (выступал он в турнире, прямо скажем, средне),
и в результате коллекция типовых эндшпилей попол-
нилась великолепным экспонатом. Путь к выигрышу,
продемонстрированный Ботвинником, был затем ис-
пользован в нескольких этюдах.
Ну а особенно эффектно действуют слоны, когда
под их контролем оказываются открытые диагонали,
тут они могут соперничать и с ладьями, и даже с фер-
зем. Некоторые шахматисты специально занимались
методикой расположения слонов в подобных позициях.
Известны, например, так называемые «слоны Гор-
вица» — в середине прошлого века английский мастер
Бернгардт Горвиц показал в ряде партий, как сильны
эти дальнобойные фигуры, когда они располагаются
на двух смежных диагоналях — шахматистам прием
понравился и запомнился. Оказалось, что подобным
образом размещенные слоны не только оказывают
страшное давление на чужие бастионы, но и в какой-то
момент с успехом могут быть пожертвованы, если вклю-
чаются в прямую атаку на неприятельского короля.
Великолепную партию в 1889 году в Амстердаме у
мастера Бауэра выиграл Эмануил Ласкер. Встреча бы-
ла для него тем более важна, что лишь после этой
победы современники стали выделять Ласкера из сре-
ды его сверстников, тоже талантливых молодых шах-
матистов: Мизеса, Липке, Ломана и других. В дебю-
те Берда будущий чемпион мира (он применил этот
дебют первый и последний раз в жизни) быстро полу-
чил атаку и завершил ее блестящей жертвой обоих
слонов за пешки, прикрывавшие черного короля. Жер-
тва с тех пор стала типовой. Из партий, выигранных
таких способом (а они позже встречались в творчестве
Александра Алехина, Пауля Кереса и других масте-
ров), выделяется победа Тарраша над Нимцовичем в
том же петербургском турнире 1914 года. Тарраш дей-
ствительно выиграл отличную партию, причем не скры-
вал, что использована в ней ласкеровская идея. Но у
Тарраша жертва выглядела и сложней и эффектней —
29
король Нимцовича продефилировал через всю доску и
получил мат в самой глубине расположения черных
фигур. Однако приз за красоту эта победа не получи-
ла, организаторы отдали предпочтение выигрышу Ка-
пабланки у Осипа Бернштейна, сочтя комбинацию не-
мецкого гроссмейстера все-таки вторичной. К тому же
выяснилось, что у черных был и более простой путь
к успеху; увлеченный красивым замыслом, Тарраш
его проглядел...
В последние годы на страницах шахматных изда-
ний замелькали новые словосочетания. Объявился, в
частности, некий «слон Гуфельда». Злые языки утвер-
ждали, что название придумал сам Гуфельд, славя-
щийся остроумием и некоторой экстравагантностью.
Это, конечно, не так. Процитируем хотя бы Сало Фло-
ра: «Хорошо известно, когда черными играет Гуфельд,
можно заранее поставить его слона на g7. Этот слон —
«конек» Гуфельда». Гроссмейстер и правда питает сла-
бость к староиндийским построениям, где в большин-
стве вариантов слон выводится именно на это поле.
С помощью староиндийского слона Гуфельд выиграл
несколько запоминающихся поединков, но в самой из-
вестной из своих партий обошелся без него.
В конце семидесятых годов Белградское телевиде-
ние провело оригинальный конкурс, предложив зрите-
лям в качестве задания... десять специально отобран-
ных встреч, проведенных в соревнованиях XX века.
Первое место двухмиллионное жюри отдало партии
Ботвинник — Капабланка из АВРО-турнира 1938 года
(в ней, к слову, советский шахматист тоже одержал
победу с помощью комбинации, начатой замечатель-
ной жертвой слона!), следующей была названа партия
Багиров — Гуфельд из полуфинала первенства СССР
1973 года. Она-то и имеется в виду.
Как бы то ни было, «слон Гуфельда» ныне такая
же реальность, как и «слоны Горвица». Да почему бы
и не назвать его так?!
30
Нимцович, сделавший множество открытий в об-
ласти шахматной стратегии, полагал достойным ана-
лиза лишь элементы игры и проблемы, с ними свя-
занные. Слоны же, по его собственным словам, — это
просто род оружия, хотя и такой, который в силу са-
мого своего существования ставит перед исследовате-
лем шахмат множество вопросов. Но так, наверное,
можно сказать о любом обоюдоостром оружии.
«ФЛОТ, ПО ВЕТРУ
НОСЯЩИЙСЯ...»
Шахматная ладья по внешнему виду больше похо-
жа не на военный корабль, а на башню замка. В не-
которых европейских языках она так и называется:
башня, форт, крепость и т. д. Происхождение этих тер-
минов весьма запутанное и до конца историками не
выясненное. Не будем вдаваться в их споры, отметим
только, что «крепостные» очертания повсеместно при-
няты для этой фигуры и сделались международным
стандартом. Что касается названий, то придется нам
сперва вспомнить древнюю боевую повозку-колесницу
индусов — именно она была когда-то представлена на
доске в качестве основной ударной силы. Повозка по-
степенно превратилась в сказочную птицу «рух» —
героиню восточноязычного фольклора, помогавшую
людям бороться со злом. У большинства азиатских на-
родов термин этот сохранился поныне. А славяне,
знакомясь с шахматами в конце первого тысячелетия,
усмотрели в контурах «руха» более известный им ри-
сунок лодки — ведь в те времена даже дальние похо-
ды по рекам и морям они совершали преимущественно
на лодках, Отсюда «флот, по ветру носящийся», что
прочно утвердился у них на шахматном поле брани.
Показательно, что расположение ладьи на доске и
ее ходы дошли до наших дней без всяких изменений.
Ладья — одна из двух тяжелых фигур. Слабей-
31
шая... Но вместе со слоном или с конем и еще одной
пешкой, как правило, спокойно противостоит ферзю
или даже превосходит его. Неискушенному любителю
шахмат в дебютной стадии она зачастую кажется не-
сколько «заторможенной». Вероятно, потому, что в ис-
ходном положении место ее — с самого края. Есте-
ственно, до какого-то момента ладья лишь наблюдает
за разворачивающимися на доске событиями и всту-
пает в дело позже других. Но едва лишь освободятся
вертикали и горизонтали, как способности ладьи начи-
нают проявляться со всевозрастающей интенсивно-
стью. Савелий Тартаковер, один из лидеров шахмат-
ного мира в 20—30-е годы и остроумный журналист,
писал по этому поводу: «Ладья не любит, правда, во-
рочать мозгами, но иногда пробуждается от созерца-
тельной жизни и тогда, при всей своей неуклюжей пря-
молинейности, проделывает атакующие маневры... сме-
лые вылазки... или даже чисто акробатические трюки».
Вообще, ладья в начале, середине и конце игры —
это очень разные по возможностям фигуры. В дебюте
ладья выполняет скорей вспомогательные функции:
поддерживает или атакует центральные пешки, конт-
ролирует линии и поля вторжения, готовится выйти на
оперативный простор и т. д. В этих условиях одна из
главных дебютных задач — наладить координацию в
действиях ладей, особенно если они лишены привыч-
ных взаимосвязей по крайним горизонталям, — Макс
Эйве считал, что в некоторых дебютных системах это
имеет решающее значение.
Аксиома: нужно как можно быстрее захватить ла-
дьями открытые и полуоткрытые линии. Да, но ка-
кую линию и какой ладьей? Сколько партий проигра-
но лишь потому, что шахматист в этот момент допу-
стил неточность!
Еще аксиома: перевеса в дебюте можно достигнуть
главным образом за счет более быстрой мобилизации
ресурсов, если, конечно, она не в ущерб всему осталь-
32
ному. Ладьи, как помним, составляют один из послед-
них ресурсов. И вот Тигран Петросян счел нужным
специально отметить в комментариях к первой партии
матча Ботвинник — Таль (1960 г.): «Поучительнопро-
следить, как искусно Таль находит пути, позволяющие
его ладьям вовремя прибыть на главный театр воен-
ных действий». Рижанин выиграл эту встречу техни-
чески безукоризненно.
Еще одна особенность — дальнобойность ладьи не
зависит от места ее расположения на доске. Сравните:
слон контролирует наибольшее для себя количество
полей (13) только с четырех центральных клеток, а
ладья простреливает на одно поле больше с любого
угла. Она единственная из шахматных фигур, не нуж-
дающаяся в централизации для усиления своего дей-
ствия. Стоит появиться открытой линии, и ладья может
ворваться на седьмую (соответственно, вторую) гори-
зонталь, наделав тем самым массу непоправимых бед,
поскольку пешкам, находящимся там, самостоятельно
от эгого хищника не защититься. Пропустить чужую
ладью в свой лагерь — большой риск, и не каждый
мастер на него отважится. Александр Алехин, упре-
кая своего соперника Хосе Рауля Капабланку за чрез-
мерно развившийся у того инстинкт самосохранения,
«в жертву которому он принес так много красивых,
заманчивых замыслов», вспоминает прежде всего о
ладьях, поставленных на открытые линии для разме-
на третьим чемпионом мира во множестве партий. Ка-
пабланка таким способом делал ничьи как бы с пози-
ции силы, но это были всего лишь ничьи... Характер-
но, что Алехин осуждает не сам маневр, а скорей при-
чины, его породившие. Маневр же, направленный на
сохранение равновесия, используется широко.
Несмотря на кажущуюся примитивность ладейных
ходов, умело действовать этой фигурой отнюдь не про-
сто. То она попадет под вилку, то завязнет на исход-
ном рубеже, то запутается среди пешек и ее «пойма-
3 В. Черняк
33
ют» неприятельские фигуры — случается и такое.
Зато уж когда ладья сознательно жертвуется и жертва
оказывается правильной, это почти всегда красиво!
Особенно если отдаются сразу две ладьи, как было,
например, во встрече Родзинский — Алехин (Париж,
1913 г.), когда русский гроссмейстер, игравший черны-
ми, уже 15-м ходом объявил сопернику мат.
Некоторые ладейные комбинации имеют свою за-
нятную историю.
Партию Адольфа Андерсена с Лионелем Кизериц-
ким, сыгранную в Лондоне в 1851 году, шахматисты
называют «бессмертной». Андерсен в дополнение к
двум ладьям отдал сопернику еще и ферзя, поставив
в заключение редкой красоты мат. Много лет спустя
в игре белых и черных обнаружились изъяны, однако
на оценку всей партии это никак не повлияло — она
была признана шахматным шедевром.
Матч чешского гроссмейстера Рихарда Рети с Мак-
сом Эйве (Амстердам, 1920 г.) закончился со счетом
3 : 1 в пользу Рети. Две из трех выигранных встреч
Рети завершил жертвой двух ладей за матовую атаку.
В 1974 году в Дортмунде Нона Гаприндашвили
изящной комбинацией с жертвой все тех же двух ла-
дей заставила сдаться мастера Сервати. Буквально че-
рез пару месяцев в Галле встреча Михаила Таля с
мастером Пэцом из ФРГ пришла к положению, с ко-
торого начиналась комбинация. Таль сыграл «по Гап-
риндашвили», и Пэц разгадал его замысел, лишь взяв
первую ладью... Увы, сделать он уже ничего не мог:
черные сдались. «Я приношу искреннюю признатель-
ность Ноне Гаприндашвили за ее активное участие в
моем выступлении в Галле», — пошутил Таль, под-
водя итоги турнира.
Наконец, знаменитый поединок мексиканца Карло-
са Торре с Дж. Адамсом. В Нью-Орлеане в 1920 'году
Торре и его партнер одновременно увидели возмож-
ность красивой комбинации, но последствия ее оцени-
34
ли по-разному. Когда на доске у белых, которыми иг-
рал мексиканский шахматист, уже не хватало двух
ладей и кончились шахи, Адамс облегченно вздохнул.
Но, оказывается, Торре все это предвидел заранее —
он сделал заключительный ход коневой пешкой коро-
левского фланга, и выяснилось, что защиты у черных
нет. Партия обошла мировую шахматную печать. Од-
нако через год там же, в Нью-Орлеане, Адамс взял
блестящий реванш: воспользовавшись слабостью вось-
мой горизонтали у соперника, он предложил ему це-
лую серию жертв ферзя! Шесть раз подряд становилась
сильнейшая фигура белых под неприятельские удары.
В конце концов Торре был вынужден ее побить и тут
же остановил часы. 25 лет спустя почти такую же ком-
бинацию осуществил мастер Ровнер против Камыше-
ва. Но уже зная о ее великой предшественнице!
3*
Итак, в середине игры ладья полностью оправды-
вает характеристику, данную Тартаковером. Что ка-
сается ее роли в окончаниях, то об этом говорит хотя
бы такой факт: более половины эндшпилей, встречаю-
щихся в шахматных партиях, — ладейные. А это, по
общему мнению, труднейшие концовки, поскольку в
них содержится немалое количество тонкостей. «Ни в
каком другом эндшпиле, — писал когда-то австрий-
ский гроссмейстер Рудольф Шпильман, — нельзя раз-
личить с достаточной четкостью отдельные стратеги-
ческие моменты. В ладейных же эндшпилях мы ясно
видим атаку и защиту, атаку с жертвой и контратаку,
мирную позиционную игру и дикие осложнения; в них
мы часто встречаем ловушки и матовые угрозы, спер-
тые и открытые позиции; короче говоря, ладейный энд-
шпиль содержит в себе полную картину серединной
стадии партии». То есть такую концовку нужно иг-
рать, учитывая все хитросплетения миттельшпиля,
только... лучше.
Хотя Алехин считал, что в его время техникой ве-
дения ладейных окончаний в совершенстве не владел
никто (он специально подчеркнул, что небезгрешны в
в этом отношении ни Эм. Ласкер, ни Капабланка),
все же шахматисты его филиппики не поддержали.
Импонировала им, например, игра признанного масте-
ра подобных концовок Акибы Рубинштейна. Сам Але-
хин посвятил этой теме глубокое исследование, да и
на практике добрый десяток ладейных окончаний в
партиях с выдающимися гроссмейстерами тех лет был
проведен им виртуозно. Позже появился Ботвинник с
его огромным аналитическим даром. Потом П. Керес,
В. Смыслов, Т. Петросян. А в наши дни Анатолий Кар-
пов и Гарри Каспаров, которые довели технику ладей-
ных окончаний до высочайшего уровня. '
Не будет преувеличением сказать, что порой ладьи
в полном смысле слова решали судьбы шахмат. Такой
случай произошел на первом после Великой Отече-
36
ственной войны и очень важном для советских шах-
матистов турнире в голландском городе Гронингене
(1946 г.). Шахматный мир к тому моменту остался без
чемпиона; претендовали на это звание семь или во-
семь гроссмейстеров, в том числе Ботвинник и Эйве,
уже владевший ранее этим титулом. Съехались в Гро-
нинген едва ли не все сильнейшие шахматисты плане-
ты, и в случае успеха в столь представительном со-
ревновании голландец мог быть провозглашен чемпио-
ном мира путем простого голосования в Международ-
ной шахматной федерации.
К середине турнира Ботвинник и Эйве шли впере-
ди, но встреча между ними была отложена в трудной
для нашего шахматиста позиции — на доске стоял
ладейный эндшпиль, похожий на тот, что встретился
(с переменой фигур) у Эм. Ласкера с А. Рубинштей-
ном (Петербург, 1914 г.). В обеденный перерыв Ботвин-
ник нашел удивительную возможность спасти партию,
и эти пол-очка в конце соревнования вывели его впе-
ред. А еще через два года он был увенчан лавровым
венком чемпиона мира.
В общем, ладья — фигура интересная, а в чем-то
и загадочная. Не зря один из самых популярных в ми-
ре шахматистов, Остап Бендер, во время своего «эпо-
хального» сеанса одновременной игры в Вашоках
украл у одноглазого любителя именно ладью — зна-
чит, чем-то она привлекла его внимание, хотя «гросс-
мейстер» играл в шахматы тогда всего второй раз в
жизни. А может быть, просто не смог в горячке отли-
чить ладью от слона или пешки?
УМЕН И УЧЕН...
Что бы там ни говорили историки, остается загад-
кой, почему безвестный изобретатель (или изобретате-
ли) шахмат сделал сильнейшей фигурой на доске не
короля, а ферзя. И это во времена беспрекословного
37
абсолютизма! На что он намекал? На то, что царь
владеет, а помощники правят? Или на то, что трон —
сооружение шаткое и все время нуждается в защите?
Одни исследователи считают, что термин «ферзь»
произошел от арабско-персидского «визирь», то есть
главнокомандующий, второй по значению человек в
государстве, обладающий зачастую более значительной
реальной властью, чем сам правитель. Другие же скло-
няются к версии, по которой в основе слова «ферзь»
лежит арабское «фарзин», что означает «умный, уче-
ный человек, советник». Как бы то ни было, на доске
ферзь сосредоточил в своих руках гигантскую силу —
по желанию он действует как любая из фигур, кроме
коня. А в ранних русских шахматах ходил и как
конь — «Словарь Академии Российской» за 1774 год
называет такую фигуру «ферзь всяческая», она была
впоследствии отменена, поскольку не соответствовала
международным шахматным стандартам.
Трудно даже перечислить обязанности, которые мо-
жет выполнять на доске ферзь. Но, понятно, что основ-
ные атакующие фигуры — и своя, и соперника — тре-
буют к себе повышенного внимания. Бессмысленная
гибель ферзя — это верный проигрыш партии. И, по-
жалуй, нет для шахматиста большего разочарования
во время игры, чем такого рода просмотр. Между тем
совершать подобные ошибки, круто меняющие, а ино-
гда и искажающие течение борьбы, случалось даже
очень крупным мастерам.
В 1959 году в очередном поединке встретились
крайне остро соперничавшие тогда Роберт Фишер и
Сэмуэль Решевский. Фишер, только что отметивший
свое совершеннолетие и твердо объявивший о намере
нии бороться за титул чемпиона мира, пользовался у
болельщиков особой симпатией, но и Решевский, столь-
ко лет лидировавший в американских шахматах, от-
нюдь не собирался уступать свои позиции без боя.
Партии между ними развивались бескомпромиссно и
38
нередко сопровождались скандальными происшествия-
ми. Вот и на этот раз уже десятым ходом Фишер по-
жертвовал слона, а затем и коня, которых раздражен-
ный Решевский, не задумываясь, побил. Но оказалось,
что молодой гроссмейстер поймал своего опытного ви-
зави на вариант, ранее встретившийся в одной из пар-
тий советского мастера Г. Бастрикова, — в итоге при-
шлось отдавать ферзя... Две легкие фигуры за него,
конечно, компенсация слабая, и позиция Решевского
была к тому моменту сильно скомпрометирована, од-
нако черные еще долго тянули безнадежное сопротив-
ление. Фишер довел партию до победы.
Считается, что в наши дни резко повысилась тех-
ника проведения шахматных поединков: известны
сотни типовых положений, в которых описаны мето-
ды атаки и защиты, проанализированы психологиче-
ские нюансы борьбы в условиях ограниченного време-
ни. Дебюты, миттельшпили, окончания — все, кажет-
ся, досконально изучено! Однако и гроссмейстерская
игра, доведенная почти до автоматизма, оказывается
несвободной от ошибок. Порой элементарных, однохо-
довых, грубых, совершаемых в самый неподходящий
момент.
В начале 1988 года в канадском городке Сент-
Джон в претендентском матче встретились наш гросс-
мейстер Андрей Соколов и канадец Кеннет Спраггетт.
Играть было сложно обоим. Соколов до недавнего вре-
мени стоял на ступенях шахматной лестницы треть-
им. К началу соревнования, правда, турнирные успе-
хи его потускнели, но репутация по-прежнему остава-
лась высокой. Спраггетт был включен в состав
участников по приглашению, как представитель стра-
ны, организовавшей встречи претендентов. Но у него
за плечами было тоже немало выступлений на самых
различных уровнях, в том числе и в соревнованиях за
мировую шахматную корону. Первые десять партий
не дали результата: гроссмейстеры выиграли по одно-
39
му поединку, а остальные закончили вничью. Пред-
стояли две дополнительные партии, причем в них каж-
дый из участников имел лишь по пятнадцати минут
времени на всю игру. Спраггетт как шахматист фор-
мировался в таких турнирах: за рубежом они прово-
дятся повсеместно — в воскресные дни, на каникулах,
в отпускные месяцы и т. д. Так что у канадца в двух
последних встречах появилось определенное преиму-
щество, хотя бы психологическое. В одиннадцатой
партии Соколов, играя белыми, в сицилийской защите
маневрировал с большой изобретательностью и устоял.
Но последняя встреча закончилась для него трагиче-
ски: в несколько худшей позиции он не заметил эле-
ментарной коневой вилки и остался без ферзя...
Спраггетт, думается, был рад, что это неожиданное
происшествие случилось именно в последней партии —
известны примеры, когда в аналогичной ситуации
больший урон нес, как ни странно, тот, кто приобре-
тал ферзя. Зевок есть зевок — свой ли, чужой...
Вспомним хотя бы ничем не мотивированную «под-
ставку» Т. Петросяна, когда во встрече с Д. Бронштей-
ном в Амстердаме (1956 г.) будущий чемпион мира
забыл увести из-под боя ферзя и тут же остановил
часы — Бронштейн после такого «подарка» долго не
мог играть в полную силу.
Мало кто из мастеров, потеряв сильнейшую фигу-
ру и не получив за это компенсации, будет подобно
С. Решевскому продолжать борьбу. Но в шахматной
стратегии, помимо чисто материальных подсчетов, су-
щественное значение имеет, так сказать, «динамиче-
ская» оценка позиции. Иногда удачное взаимодействие
фигур, инициатива, конкретная угроза или еще что-то
оказываются сильнее даже самой грозной фигуры —
тогда шахматист предпочтет отдать за такие возмож-
ности ферзя добровольно!
Если пешечные жертвы, по единодушному мнению
мастеров, относятся к самым трудным и непредсказу-
40
емым по последствиям, то жертва ферзя, безусловно,
самая эффектная. В залах крупных соревнований слов-
но волна прокатывается по рядам болельщиков, стоит
кому-нибудь из участников подставить под удары со-
перника своего ферзя. И тем неприятнее подобные хо-
ды, чем они неожиданней.
В 1935 году в Гастингсе Капабланка черными
неосторожно предложил в чуть худшем положении раз-
мен ферзей Андре Лилиенталю — последовала потря-
сающе красивая и неожиданная жертва ферзя всего за
одну пешку. Черные продержались еще семь ходов...
С. Флор сказал, имея в виду эту партию: «Так жутко
Капабланку никто не громил!»
Макс Эйве всегда неважно играл против второго
чемпиона мира Эмануила Ласкера. Голландец тяготел
к логичным, упорядоченным шахматам, тогда как
Ласкер был в этом смысле его полной противополож-
ностью. В Цюрихе в 1934 году Эйве получил белыми
чуть худшую позицию в их встрече и совсем не обя-
зан был проигрывать в несколько ходов, тем более что
грозил побить у партнера ферзя. Но Ласкер, вместо то-
го чтобы пресечь эту угрозу, вдруг как бы не стал об-
ращать на нее внимания. Ситуацией заинтересовался
Александр Алехин: «Черные теперь получили за фер-
зя ладью, коня и пешку, устранили активные фигуры
белых; в то же время их ладьи и кони могут развить
сильное давление на слабые пункты в лагере белых.
Если подробно рассмотреть положение, то мы убедим-
ся, что ударность и взаимодействие черных фигур зна-
чительно больше, чем у белых...» Эйве, совершенно не
готовый к такому повороту событий, не решился вер-
нуть ферзя назад и, попав под сокрушительную атаку,
быстро проиграл.
Что ж, о сходных проигрышах мог бы рассказать
едва ли не любой шахматист. У самого Ласкера на
московском турнире 1925 года случился еще более
жестокий конфуз во встрече с упоминавшимся уже
Карлосом Торре. Впрочем, у гроссмейстера были смяг-
чающие обстоятельства. Дело в том, что где-то в сере-
дине партии посыльный принес Ласкеру долго ожида-
емую телеграмму — из Берлина сообщили, что напи-
санная им совместно с братом Бертольдом пьеса в сти-
хах принята к постановке. Обрадованный экс-чемпион
мира единственный раз в жизни нарушил им же заве-
денное и рекомендованное правило — никогда не от-
влекаться во время игры. Он допустил несколько оши-
бок подряд и позволил мексиканцу провести замеча-
тельную комбинацию с жертвой ферзя, известную с
тех пор под названием «чертова мельница», — она
входит во все учебники по тактике шахмат.
К слову, ферзевые комбинации, особенно ловушеч-
ного типа, мастера сразу берут на заметку. Иногда
используется чужой — «безболезненный» — опыт,
42
иногда учиться приходится на своих промахах. В Ле-
нинграде (1939 г.) М. Ботвинник в очень важной пар-
тии, решавшей судьбу первенства СССР, поймал А. Ко-
това на несложную жертву ферзя — комбинация была
♦ длиной» всего в два хода. А. Котов учел урок и не-
сколько лет спустя в Гронингене успешно использовал
эту идею во встрече с аргентинским мастером Карло
сом Гимаром.
Наиболее красивые комбинации, связанные с жерт-
вой ферзя, составляют золотой фонд шахматного ис-
кусства — на них шахматисты учатся тактическому
мастерству. Один из самых коротких шедевров такого
рода датирован еще 1787 годом — «второй шахматист»
столицы Франции Кюрмир сир де Легаль через семь
ходов поставил своему партнеру кавалеру Сен-Бри мат
тремя легкими фигурами в центре доски, пожертвовав
предварительно ферзя. Справедливости ради, заметим,
что комбинация опровергалась, но соперники опровер
жения не разглядели — этот мат с тех пор носит имя
победителя.
Еще один ферзь, пожертвованный вообще в блице,
дал жизнь другому выдающемуся шахматному произ-
ведению. Речь идет о партии Эд. Ласкера с Д. Тома-
сом, сыгранной в Лондоне в 1911 году. Всего один не-
точный ход черных привел их к мгновенной катастро-
фе: белые фигуры прогнали неприятельского короля
через всю доску, и после единственного сделанного в
партии хода белого короля чужому монарху был объ-
явлен «приговор»... «Если бы Эдуард Ласкер сыграл в
своей жизни только одну эту партию, — говорил по-
том Михаил Ботвинник, — этого было бы достаточно,
чтобы обессмертить свое имя».
Гроссмейстер А. Константинопольский, посвятив-
ший жертве ферзя серьезную работу, высказал мысль
о том, что понимание взаимодействия фигур и пешек,
компенсирующих ферзя, обогащает творческие возмож-
ности шахматиста. Равно, как и умение максимально
43
использовать ударную мощь этой фигуры вообще. Что
касается ферзевых жертв, то сами мастера, привыкшие
оценивать красоту шахмат не по «толщине» пожертво-
ванной фигуры, относятся к такого рода комбинаци-
ям гораздо спокойнее, чем болельщики. Сказал же
однажды чем-то оскорбленный Василий Панов своему
коллеге:
— Что толку, что вы пожертвовали в своих парти-
ях десяток каких-то паршивых ферзей! Половину из
них вы просто зевнули...
Но, понятно, что это уже совершенно иные про-
блемы.
СОЛДАТ ВСЕГДА СОЛДАТ
Чтобы не задерживаться долго на формальном объ-
яснении роли пешек в борьбе на 64-х клетках, проци-
тируем лучше «Шахматный словарь»:
«Пешка ходит вперед по вертикали на одно поле;
из начального положения может пойти по вертикали
сразу на два поля; в отличие от фигур берет не по пу-
ти своего движения, а по диагонали, на одно поле впе-
ред; если пешка с первоначального места идет на два
поля и оказывается рядом по горизонтали с пешкой
противника, последний может произвести взятие на
проходе. В начальном положении каждая из сторон
имеет по восьми пешек, занимающих все поля второй
(для черных седьмой) горизонтали. Пешка, достигшая
последней горизонтали (восьмой для белых, первой для
черных), должна быть тем же ходом заменена фер-
зем, ладьей, слоном или конем того же цвета по выбо-
ру совершающего ход, независимо от наличия на дос-
ке этих фигур. Такая замена называется превращени-
ем пешки».
Вроде бы самая простая из боевых шахматных еди-
ниц — пешка, а описание вышло довольно длинным.
Случайно ли? Конечно, нет! От того, как расположат-
44
ся с самого начала пешечные цепи, зависит вся стра-
тегия, техника и тактика будущего сражения. В шах-
матной теории специально выделены разделы, посвя-
щенные сдвоенным, изолированным, связанным, отста-
лым, проходным и прочим пешкам. Жертва пешки не
зря относится к сложнейшим приемам в шахматной
борьбе, поскольку, пожертвовав фигуру, шахматист
обычно в короткие сроки отыгрывает отданное, полу-
чая какие-то дополнительные выгоды, тогда как пе-
шечная жертва в подавляющем большинстве случа-
ев — чисто интуитивная, позиции, возникающие пос-
ле нее, не поддаются однозначной оценке.
Анатолий Карпов однажды назвал жертву пешки
тончайшим стратегическим инструментом и специаль-
но подчеркнул, что уметь пользоваться им обязан каж-
дый шахматист. Под этими словами, наверное, с удо-
вольствием подписался бы и Гарри Каспаров. Во вся-
ком случае, в матче на первенство мира (1985 г.) ба-
кинец ради захвата инициативы двенадцать раз жерт-
вовал пешку своему сопернику. Конечно, это была и
определенная тактика — такой прием выбивал Карпо-
ва из колеи, сводил игру к сложным позициям с
неясными шансами, психологически воздействовал на
него.
К слову, психология подобных жертв достаточно
тонка. В 1956 году мастер Юрий Катков отложил
встречу с Михаилом Талем в позиции, где тот мог
сразу взять одну из сдвоенных пешек соперника. Таль
со своим тренером Александром Кобленцем быстро
установил, что брать пешку не следует, так как это
активизирует чужого коня. Перед началом доигрыва-
ния тренер еще раз предупредил Таля, что пешку бить
нельзя, и тот, смеясь, согласился с ним. И что же? Сев
за доску, рижанин тут же побил сдвоенную пешку...
Встреча натурально окончилась вничью, причем Таль
так и не смог объяснить мотивов, которыми он руко-
водствовался.
45
Жертвы пешек вызывают, пожалуй, наибольшие
разногласия среди комментаторов. На турнире в Цю-
рихе (1953 г.) Эйве пожертвовал пешку в эндшпиле
Глигоричу, поставив к этому ходу восклицательный
знак — по его мнению, жертва давала богатые перс-
пективы. Земляк Глигорича гроссмейстер Петар Три-
фунович, чуть позже комментируя партию, категори-
чески не согласился с этим выводом, он посчитал жер-
тву пешки решающей ошибкой. Эйве действительно
встречу проиграл. «Я полагаю, что оба они не совсем
правы...» — высказался по этому поводу и Давид
Бронштейн. Вот уж востину: ни мира, ни войны!
Впрочем, разногласия среди комментаторов не раз
вызывали и обычные пешечные ходы, особенно те,
что делаются в дебюте. Общепринято, например, счи-
тать ошибкой, когда в самом начале партии шахматист
действует одними пешками. «Стремитесь к развитию
фигур!» — этот тезис в шахматах относится к числу
основополагающих. Но вот в десятой партии матча-
реванша Таль — Ботвинник (1961 г.) рижский гросс-
мейстер против защиты Каро-Канн сделал подряд че-
тыре пешечных хода, причем четвертый — крайней
пешкой королевского фланга. «В серьезных соревнова-
ниях, насколько мне известно, так никто не играл»,—
сердито прокомментировал такой способ ведения борь-
бы Тигран Петросян в одной из газет, вышедших на
следующий день. «Не играли, но будут играть, ибо в
этом ходе заложены глубокие идеи — шахматные и
психологические. Подобные опыты в матчах на пер-
венство мира не раз завершались победным итогом» —
так возразил будущему чемпиону тот же Бронштейн
и, к слову, оказался прав! Но самое забавное, что по-
следующие три хода Таль тоже сделал пешками...
«В этот момент Таль, вероятно, подумал: «Как же ме-
ня будет критиковать вся Рига за то, что я, сделав
семь ходов, не развил ни одной фигуры!» — коммен-
тирует далее Бронштейн и продолжает после ошибоч-
46
ного, на его взгляд, очередного хода белых — слоном:
«Надо было, не смущаясь возможной критикой, сде-
лать восьмой ход пешкой... и построить надежную пе-
шечную цепь...» Вот какие разные взгляды, и что по-
казательно: спорят ведь не начинающие шахматис-
ты, а популярнейшие гроссмейстеры...
Даже вне доски с пешками случалось множество
приключений — они тоже дают кое-какие поводы для
размышления.
В 1963 году в Ленинграде на 31-м чемпионате стра-
ны Алексей Суэтин встречался с Владимиром Багиро-
вым. Оба еще не были гроссмейстерами, хотя входи-
ли в число сильнейших советских мастеров. Встречи
между ними протекали остро. Поединок в Ленинграде
не составил исключения. Накануне тура организаторы
соревнования установили специальный приз за краси-
вейшую партию, которая будет сыграна в этот вечер...
К 17-му ходу Суэтин увидел, что может ферзем по-
бить черную пешку, защищающую короля и получить
за пожертвованную фигуру сильнейшую атаку. Види-
мо, сосредоточенность его на этой возможности была
настолько высока, что в чашечку с кофе, которую ему
подали по его просьбе, вместо сахара, он бросил...
черную пешку.
А как интересна судьба пешки, после заключитель-
ного хода которой Михаил Ботвинник был официаль-
но провозглашен в 1948 году чемпионом мира! Согла-
сившись в партии с Максом Эйве на ничью, Ботвин-
ник тут же покинул сцену, но кинооператоры очень
хотели зафиксировать последнее мгновение этой встре-
чи. Внимание их привлек Яков Эстрин — его костюм
оказался того же цвета, что и у Ботвинника. Эстрин
согласился воспроизвести на доске сделанный в пар-
тии ход, руку с пешкой запечатлели кинообъективы.
А через много лет Эстрин тоже добился звания гросс-
мейстера (только по переписке) и стал чемпионом ми-
ра в заочных шахматах. И это еще не все! Елизавета
Быкова, присутствовавшая в тот вечер в зале, унесла
домой памятную пешку как сувенир. Пять лет спустя
Елизавета Ивановна завоевала женскую мировую шах-
матную корону... Может, и вправду пешка помогла?!
Поставим на пустую доску обыкновенную рядовую
пешку из шахматного комплекта. Как много ассоциа-
ций — шахматных и нешахматных — вызывает она!
Тигран Петросян говорил, что время от времени
просматривает партии старых мастеров, сравнивает их
подход к шахматным проблемам с нынешним:
— Современный шахматный мастер видит и учи-
тывает все, у него играет вся доска. И если, допустим,
он ведет атаку на королевском фланге, то одним гла-
зом обязательно косится на другую сторону. Например,
я атакую неприятельского короля, но вдруг начинаю
сомневаться: а удастся ли атака? Не лучше ли спо-
48
койно передвинуть вот эту пешечку с аЗ на а4 и за-
хватить пункт Ь5? Глядишь, ходов эдак через 30 туда
попадет король, и эндшпиль окажется выигранным... Та-
кие сомнения нашим предкам были неведомы, они эту
пешечку просто не видели, не замечали. Они не знали,
что так тоже можно играть.
Шахматист наших дней говорит устами экс-чемпи-
она мира, а исходным звеном для монолога послужи-
ло неприметное движение крайней пешки на одно по-
ле вперед! Что ж, простые пешечные ходы не раз да-
вали толчок для очень глубоких выводов. Вспомним
хотя бы книгу «Анализ», написанную великим фран-
цузским шахматистом XVIII века Андре Даниканом
Филидором. Этой книге, законченной в 1749 году, бы-
ла уготована счастливая судьба, она выдержала более
ста изданий, переводилась на многие языки. О чем
же говорится в ней? О роли пешек в шахматной дра-
ме! Пешек, которым большинство шахматистов того
времени отводили вспомогательную роль, предпочитая
с первых ходов вести наступление с помощью фигур.
Да, конечно, в ранце каждого солдата лежит маршаль-
ский жезл, любая пешка может стать ферзем, но ты-
сячи солдат погибали, не успев даже открыть застеж-
ку на заветном отделении своего ранца, тысячи пешек
приносились в жертву на исходных позициях, ради со-
мнительных, на скорую руку организованных атак.
Откуда тогда столь пристальное внимание к пешкам?
Интересную гипотезу высказал мастер Виктор Хен-
кин: «Привлекательность пешечной теории, помимо ее
шахматной ценности, заключалась еще и в том, что
в ней было нечто демократическое, может, что-то от
Руссо с его критикой социального неравенства». И дей-
ствительно, это были годы, когда на подмостки миро-
вой истории медленно, но неудержимо выходили на-
родные массы, «серая скотинка» обретала голос, и че-
рез четыре десятка лет на баррикадах Великой фран-
цузской революции ее голос оказался решающим.
4 В Черняк 49
Шахматы всегда были связаны с укладом обще-
ственной жизни, сферой человеческих отношений, во-
обще с ходом исторического процесса, причудливые
зигзаги которого оказывали на них столь же причуд-
ливое влияние. По-своему они отражали и отражают
те или иные явления действительности. В маневрах
шахматных фигур, в их ударах, защитах, перестрое-
ниях — глаз, склонный к образному восприятию мира,
способен рассмотреть весьма злободневную символи-
ку. Давид Бронштейн, например, так вывел соотноше-
ние «технического» и «человеческого» на шахматной
доске: «Огневая сила ферзя, ладьи, слона отвечает
требованиям дальнобойных орудий, танков, пулеме
тов, если можно сравнивать шахматные фигуры с са-
мыми простыми средствами локальных войн начала
нашего века. И лишь пешки... и в будущих столетиях
будут ассоциироваться с живыми людьми, потому что
так Хочется, чтобы на шахматном поле чувствовалось
не только дыхание войны, но и пульс человеческой
мысли, биение живых сердец».
На всех языках понятие «пешка» связывается с
пешим солдатом, рядовым воином. Обычно первыми
вступают пешки в соприкосновение с неприятельски-
ми силами и, как правило, последними остаются на
поле брани — свидетелями триумфа своей армии или
ее поражения. И, возможно, правы те, кто считает, что
в шахматах все держится на маленькой пешке, кото-
рую Филидор отождествляет с душой шахматной
партии.
НАПУТСТВИЕ ПЕРВОЕ
Мы условились: не учим, а рассказываем. Но не
побеседовать ли напоследок о том, как и что учить?
А попутно подведем итоги разговора о шахматных фи-
гурах.
На прямой вопрос корреспондента «Какая фигура
50
вам больше нравится? » Анатолий Карпов однажды от-
ветил: «Та, которая лучше всего стоит на доске».
В этих словах заключена большая правда. Что толку,
если нам по душе, например, ладья и особенно в ла-
дейном эндшпиле? Партия-то начинается с дебюта, ко-
гда основная нагрузка приходится на долю коней, сло-
нов, ферзя... А между дебютом и эндшпилем, как ост-
роумно выразился Тартаковер, бог создал еще и мит-
тельшпиль. Не научись мы умело руководить своим
войском в этих стадиях, поединок может завершиться
задолго до эндшпиля!
Методов изучения доски и фигур немало. Видимо,
потому столь разнообразны советы, которые дают из-
вестные шахматисты новичкам, начинающим знако-
миться с шахматами. Капабланка считал, что, усвоив
ходы и шахматную нотацию, следует далее изучать
элементарные маты: для этой цели надо «комбиниро-
вать разными фигурами, увеличивая и уменьшая их
число, чтобы овладеть особенностями их действия и
ознакомиться с силой тех или иных фигур, атакую-
щих короля». Нимцович предлагал уже на первых за-
нятиях уделять больше внимания понятию о границе
между белыми и черными, центральных пунктах дос-
ки, горизонталях, вертикалях, диагоналях. Чтоб не
было при этом скучно, нужно сразу «играть» — впе-
чатление, которое выносит ученик после первого уро-
ка, по мнению гроссмейстера, имеет решающее зна-
чение для дальнейшего шахматного развития. Начи-
нать лучше с эндшпиля: «Умение использовать в
окончании материальный перевес никоим образом не
должно быть упущено из виду».
Стоит ли приводить прочие рекомендации? В каж-
дой из них заключен свой резон. Признаем это, не вда-
ваясь в подробности и добавив, что правила шахматной
игры, ходы фигур, даже основы стратегии и тактики
могут быть освоены, в общем-то, быстро. Сложнее по-
нять, как соотносятся боевые шахматные единицы в
4* 51
атаке, защите, позиционном маневрировании. Мы убе-
дились, что фигуры наделены неодинаковыми способ-
ностями, функции у них на доске тоже очень различ-
ные. Существуют и объективные обстоятельства, ис-
ключить которые не в силах ни один шахматист.
Дело в том, что происходящее на 64-х клетках огра-
ничивается определенными нормами — они сравнимы,
например, с законами природы. В жизни, где мы вы-
нуждены исходить из целого ряда закономерностей
(река течет по склону вниз; шар, наполненный легким
газом, поднимается и т. д.), нам приходится поступать,
сообразуясь с условиями среды обитания и принимая
их как данность. Точно так же ограничены наши дей-
ствия в шахматной борьбе. Победа придет к тому, кто
лучше распорядится предоставленными ему возможно-
стями. А сделать это можно, только «прочувствовав»
силу и слабость собственной армии.
Теперь, когда мы разобрались в свойствах фигур,
самое время перейти непосредственно к шахматной
партии, разговор об этом — в следующем разделе.
СКАЗАНИЕ
О ТЫСЯЧЕ И ОДНОЙ
ОШИБКЕ
ЦЕНА ОЧКУ
Конечная цель шахматной партии, как уже было
сказано, — уничтожение неприятельского короля. На-
до напасть на него так, чтобы он никуда не мог
скрыться от нападения, — такое положение в шахма-
тах называется матом. Поставил мат, и можно сме-
шать фигуры, убрать их в коробку, пусть занесут в
таблицу очко за победу и ноль за проигрыш! Задача
решена... Во всех руководствах цель игры формулиру-
ется одинаково. Однако в своем «Самоучителе» Давид
Бронштейн сопровождает эту формулировку неожидан-
ным комментарием: «Теперь, когда вы знаете конеч-
ную цель шахматной партии, я прошу вас забыть о
ней на долгое время». Гроссмейстер поясняет почему:
матом завершается не более одного процента сыгран-
ных встреч. Начиная игру, приходится стремиться к
реальным целям: наилучшим образом расставить свои
силы, правильно распределить время, нейтрализовать
замыслы партнера и т. д.
Любое очко завоевывается, как правило, в длитель-
ной этапной борьбе. Заметим попутно, что в ходе тур-
нира или матча нам случается в каких-то конкретных
партиях ставить перед собой и менее значительные за-
дачи, скажем, свести партию вничью — «половинка»
против заведомо более сильного партнера нас бы впол-
не устроила. Или такой итог гарантирует почетное мес-
то, а риск, связанный с игрой на выигрыш, может и
повредить... Но пусть — очко. По всему выходит, что
оно и составляет венец наших усилий. Больше оч-
ков — выше место в турнире, представительней шах-
54
матное звание, почетней титулы. Почему же тогда мно-
гие выдающиеся мастера специально подчеркивали,
что отнюдь не ставят во главу угла то самое пресло-
вутое очко?
Тигран Петросян незадолго до своей безвременной
кончины сказал:
— Не думаю, чтобы шахматист, искренне любя-
щий шахматы, получал удовольствие лишь от числа
набранных очков, каким бы внушительным оно ни
было.
Василий Смыслов поддержал его:
— Я всегда стремился и стремлюсь к максималь-
ному результату. Но утилитарные цели — «очко»,
«пол-очка» — для меня никогда не были главными.
И пояснил почему:
— Лично меня в шахматах интересует прежде все-
го истина, а не психологические детали, которым ис-
ключительную роль придавал Ботвинник.
Михаил Таль выразился еще короче:
— Не результатом единым жива шахматная
партия!
Это, в общем, понятно: победа, одержанная с по-
мощью тонких стратегических маневров, красивой ата-
ки, остроумных тактических операций, запоминается
надолго, а партии, решенные в одночасье, благодаря
чужому «зевку», хитрой нешахматной уловке, стече-
нию обстоятельств, навряд ли найдут себе место за
пределами турнирного сборника или даже просто су-
дейской папки с использованными бланками для за-
писи. Но как все-таки быть с результатом? Какой вы-
брать способ оценки игры, учитывающий и собствен-
но достижение цели, и эффективность пути к ней?
Давид Бронштейн сыграл в 1960 году 128-ходовую
партию с Алексеем Суэтиным. В течение 50 из этих
ходов он пытался реализовать перевес в лишнего ко-
ня. Встреча же окончилась ничьей, поскольку у парт-
неров оставалось еще по ладье и королю, а такие по-
зиции выигрываются крайне редко. Но ведь на выиг-
рыш коня в предыдущей борьбе были потрачены уси-
лия! Почему их не учел итог? Бронштейн впослед-
ствии с горечью говорил:
— Вот если бы за «лишнего» коня можно было
автоматически приобрести дополнительную четверть
очка, тогда была бы сладкая жизнь для шахматистов.
Я бы сразу, добровольно, а не на аркане разменял ла-
дьи и на своих плечах отнес бы лишнего скакуна в
счетно-судейскую коллегию. Но пока эти счастливые
времена, о которых мечтали такие виртуозы, как Эма-
нуил Ласкер, еще не наступили...
Доля истины в этих словах заключена.
Ласкер, между прочим, говорил, что шахматы —
это интеллектуальный бокс. А в обычном боксе, на-
пример, кроме выигрыша нокаутом (в шахматах это
56
соответствует мату), учитываются победы и по очкам.
Более того, нокаутом тоже кончается не так уж много
встреч. Ласкер предлагал объявлять победителем унич-
тожившего все неприятельские силы, как это делалось
в древности. Правда, целое очко он давал лишь за
мат, а остальные виды выигрыша оценивал дробной
величиной от пол-очка до единицы. Бронштейн счита-
ет такой способ зачета более справедливым, чем ны-
нешний.
Итак, цель объявлена, но о ней лучше забыть, побе-
да оценивается в целое очко, но от количества на-
бранных очков некоторые мастера особого удоволь-
ствия не получают... Глупо все это выглядит лишь на
первый взгляд. Вспомним, что в шахматах присутству-
ют элементы спорта, науки, искусства, игры — и они
не всегда совпадают, если попытаться сформулировать
цель соперничества однозначно.
В шахматах вообще много проблем, о них нам и
предстоит побеседовать. Пока, так сказать, в пределах
партии, то есть поединка двух соперников, но и его
Тартаковер назвал когда-то «сказанием о тысяче и
одной ошибке». Можно ли более или менее точно опре-
делить шансы сторон? Откуда пошли названия дебю-
тов, схем, вариантов? Какую роль играет третий ингре-
диент шахматного сражения — время? Этика, эстети-
ка, шахматный кодекс... Подготовка к турниру...
Наконец, совершенно особые проблемы судейства шах-
матных поединков. Поговорим об этом, пока наши фи-
гуры находятся еще на исходных позициях.
ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
А все-таки стоит ли терять время на разговоры?
Может быть, лучше прямо сделать ход? Давайте, но
какой? Тот, что считается сильнейшим... А какой из
начальных ходов — сильнейший? Капабланка утвер-
ждал, что хорошую партию можно начать любым хо-
57
дом. Эрнст Грюнфельд, крупнейший специалист по
теории дебютов, лишь однажды за всю свою шахмат-
ную карьеру сделал первый ход королевской пешкой.
На недоуменные вопросы по этому поводу Грюнфельд
важно отвечал: «Я никогда не совершаю ошибок в на-
чале партии...» Впрочем, можно ли слепо доверять
Грюнфельду — говорят, что австрийский гроссмейстер
был склонен к формализму... «Он опирается на кос-
тыль теории, но ему недостает посоха гения», — писал
3. Тарраш. Но так, кажется, мы никогда не начнем
партии! Знаете, был такой случай: открыли большое
строительство, на площадке день за днем толпились
люди, а дело не двигалось с места. За этой неразбе-
рихой некоторое время наблюдал Илья Ильф, а потом
сказал: «Что за чушь! Вырыли большой котлован и
ведут в нем общественную работу...» Похоже, что и
мы рассуждаем слишком долго. Не лучше ли все же
сделать ход? Да, но какой?..
Вы уже поняли, наверное, что подобный диалог мо-
жно продолжать еще лет сто! Потому что уже пер-
вые ходы в партии ко многому обязывают, они опре-
деляют все будущие события на доске. Особенно важно
это для белых, которым принадлежит право вы-
ступки и которые, избрав более соответствующее их
вкусам продолжение, могут попытаться сразу овладеть
инициативой.
Белые, по общему мнению, имеют преимущество
в начальной позиции. Велико ли оно? Этого мастера
не могут установить до сих пор...
Матч-реванш, сыгранный осенью 1986 года Анато-
лием Карповым и Гарри Каспаровым, закончился со
счетом 12,5 : 11,5 в пользу чемпиона мира. Он оказал-
ся плодотворным и в области дебютной теории, и в
тактико-стратегическом плане. Скажем, ряд симмет-
ричных позиций, традиционно относившихся исследо-
вателями к категории ничейных, стал с тех пор
оцениваться иначе. Но главное, о чем после матча заду-
58
мались шахматисты, это о шансах в начальном поло-
жении — дело в том, что черные пережили формен-
ный разгром: всего одна победа и восемь проигрышей,
причем и единственная единичка никакого отношения
к дебюту не имела — Каспаров, получив перевес, в
дальнейшем напутал и даже не смог «убежать» на ни-
чью... Факт бросающейся в глаза неудачи черных чем-
пион мира специально прокомментировал:
— «Пророки» утверждали, что мы «высушиваем»
шахматы. Лучший ответ — результативность наших
встреч. А она растет, подтверждая неисчерпаемость
шахмат. Если бы шахматы действительно «высушива-
лись», то, естественно, белый цвет должен был бы ней-
трализоваться. Однако все было наоборот в этом
матче...
Ведя борьбу между собой, соперники с понятным
вниманием относились к информации, поступавшей в
Лондон, а затем в Ленинград из столицы Латвии, где
одновременно проходил матч претендентов Артура
Юсупова и Андрея Соколова. Интрига этого соревнова-
ния постепенно захватила всех, кто интересуется
шахматами. Ни один из 35 дней рижского матча не
прошел спокойно! Результативность поединка достиг-
ла 50 процентов, да к тому же — редчайший случай —
перевеса добились как раз черные! Матч завершился
победой Соколова — 7,5 : 6,5.
Вот и разберись тут, каковы же на самом деле
шансы сторон! Неоднократно делались попытки выра-
зить это арифметически. Когда-то пропорция состав-
ляла 55 : 45 в пользу белых. Ныне отношение чуть-
чуть выравнялось: 53 : 47. Цифры, конечно, весьма
условные... Но факт, что подавляющее большинство
мастеров (однако не все!) предпочитает белый цвет
черному. У некоторых известных шахматистов разни-
ца во владении белыми и черными фигурами довольно
значительна — например, у гроссмейстера Семена
Фурмана, разработавшего в свое время даже ориги-
59
нальную систему турнирного выступления: белыми —
на выигрыш, черными — на ничью. В лучшие свои
годы прекрасно действовал белыми и Михаил Таль.
Почти все его партии, выигранные белым цветом, отно-
сятся к жанру миниатюр. Он ухитрялся получить ре-
шающее преимущество порой через десяток ходов, ко-
гда у соперников было разменено всего по одной фи-
гуре... Таль, правда, сам никогда особенно не следил
за числом фигур, оставшихся на доске или покинув-
ших ее. Под тяжелую руку рижанина в дебюте попа-
дали такие известные мастера шахмат, как Смыслов,
Бенко, Ваганян, Найдорф, Ульман, Портиш, и многие
другие. В этих встречах им не удалось выстоять до
тридцатого хода.
Углубленное внимание к проблемам дебюта отли-
чало Михаила Ботвинника, которому принадлежит не
одно исследование в разного рода дебютных построе-
ниях. Он умел находить новинки в досконально изу-
ченных позициях. Но суть не просто в новинках. Пер-
вый советский чемпион мира предложил новую мето-
дику работы с теорией начал. Ее необходимо прежде
всего «тесно связать с серединой игры», и лучше не
гнаться за ловушками — разрабатывать целые систе-
мы, которые годились бы не на одну партию и не для
одного соревнования, а могли бы выдержать ряд со-
ревнований в течение нескольких лет. Показательно,
что Ботвинник старался навязать сопернику «свою»
игру независимо от цвета фигур. Обладая еще и несо-
мненным психологическим даром, он никогда не упу-
скал случая ошеломить партнера в самом начале, за-
ставить решать его необычные задачи. Так было, на-
пример, в известной партии Ботвинника с Рудольфом
Шпильманом из второго московского международного
турнира 1935 года.
Шпильман, отличавшийся повышенной игровой
смелостью, избрал против советского шахматиста но-
вый и мгновенно ставший популярным вариант защи-
60
ты Каро-Канн, детально проанализированный Г. Рей-
фиржем, — система эта согласно анализам давала
черным атаку, которую Шпильман любил. Однако уже
седьмым ходом Ботвинник опроверг «изобретение»
Рейфиржа, а еще через пять ходов Шпильман остался
без фигуры. Можно было, конечно, держаться, но он
предпочел остановить часы, чувствуя, что «выход на
охоту» оказался неудачным.
Поучительный дебютный поединок, а вернее целая
серия поединков состоялись у Ботвинника с Паулем
Кересом, когда оба они претендовали на высшее шах-
матное звание. Ботвинник всегда был очень высокого
мнения об игре эстонского гроссмейстера, считал его
сильнейшим турнирным бойцом в период с 1936-го по
1975 год, то есть на протяжении почти сорока лет.
Однако он неоднократно подчеркивал и то, что у Ке-
реса в сложных ситуациях порой сдают нервы. Это
обстоятельство Ботвинник учел и, когда борьба всту-
пила в решающую стадию, постарался использовать.
В матч-турнире 1941 года Керес начал их встречу
защитой Нимцовича — вариант уже встречался в твор-
честве Ботвинника (например, в партиях против А. Ко-
това и В. Микенаса) и разыгрывался им не очень уве-
ренно. Расчет был правильным, поскольку позиция
получалась открытая, как раз такая, к которым тя-
готел Керес. Однако уже в дебюте Ботвинник сделал
два очень сильных хода подряд, и перспективное
с виду построение белых стало быстро разваливаться.
На высоком уровне Ботвинник провел и атаку. «Меня
всегда недооценивали как мастера атаки, — писал
он. — Керес, очевидно, и находился под влиянием
этого распространенного мнения, считая, что в острых
ситуациях должны проявиться мои шахматные недо-
статки. Случилось, как видим, все наоборот».
Спустя семь лет, когда два советских шахматиста
встретились непосредственно в матч-турнире на зва-
ние сильнейшего шахматиста планеты, Ботвинник, иг-
61
равший уже белыми, в той же защите Нимцовича про-
демонстрировал верный план и снова блестяще про-
вел атаку. Партия закончилась на 23-м ходу пораже-
нием Кереса и, как считает Анатолий Карпов, стала
переломной — от этой неудачи эстонский шахматист
уже не оправился.
Мощная, хорошо организованная атака составляет
в подавляющем большинстве таких дебютных разгро-
мов их творческое содержание. Осуществление тонких
позиционных планов, упорные осады, затяжное ма-
неврирование — это, как говорится, из другой оперы.
А тут главное — идея во всей своей обнаженности, ко-
гда варианты форсированы, тактические приемы дове-
дены до уровня схемы, а ошибки типичны. Такие ми-
ниатюры, может быть, и проигрывают многоходовым
партиям в глубине, но зато дают прекрасный учебный
материал, по которому мы постигаем принципы де-
бютной стратегии и тактики.
Ну а как быть вообще с изучением дебютов? Чи-
тать соответствующие книжки? Работать самому? По-
ложиться на опыт и советы коллег? Вопросы непрос-
тые... Тот же Ботвинник предупреждал: «Не нужно
зубрить варианты: они должны запоминаться сами по
себе. Лучше всего изучение теории начал совмещать с
практической игрой в соревнованиях. Зубрить вариан-
ты еще хуже, нежели играть в турнирах, не загляды-
вая в дебютные справочники».
Действительно, слепое копирование дебютных ва-
риантов никогда не приводило к добру. Тем более что
шахматная теория в наши дни развивается необычай-
но быстро, не успеешь оглянуться, а только что быв-
ший модным вариант сдан в архив! Бессмысленно,
стало быть, искать и «сильнейший» первый ход. Шах-
матисты-профессионалы поступают мудрее: они опира-
ются на основные стратегические идеи той или иной
дебютной системы. Отдельные «ветви» дебюта могут
устареть, потерять актуальность, но если само начало
базируется на здравой основе, если оно выдержало
проверку временем, то никого не смущают регулярные
его «опровержения».
В 1981 году в Мерано новинка Анатолия Карпова
в открытом варианте испанской партии, по остроумно-
му выражению комментаторов, на некоторое время
«закрыла» весь вариант: Корчной был разгромлен в
быстротечном сражении, которое можно назвать еще
«аналитическим». Казалось, что способы защиты у
черных исчерпаны. И что же? Не прошло и несколь-
ких месяцев, как в позиции обнаружились новые ре-
сурсы — вариант снова стал модным.
Среди гроссмейстеров всегда выделялись знатоки
дебютов. Таким когда-то считался Макс Эйве. Или Ро-
берт Фишер. В наши дни широкими дебютными позна-
ниями отличается Гарри Каспаров. По его собствен-
63
ным словам, он в год просматривает до 6 тысяч чу-
жих партий, внимательно следит за шахматными но-
винками. И еще он, как отмечает Ботвинник, «знает
и то, что другие не знают! Его противники боятся по-
пасть на крючок этой каспаровской удочки, что дает
Каспарову большое практическое превосходство».
Не будем все же преувеличивать значения дебюта.
Кто спорит, хорошо «ставить» партию — очень важ-
но. Но эпицентр шахматной борьбы приходится на
другие стадии: миттельшпиль, эндшпиль. Там прини-
мать правильные решения зачастую еще сложнее.
ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
В разговоре о дебютах мы намеренно оставили в
стороне одну тему, которую условно можно обозна-
чить как «дебютные названия». Именно условно, по-
скольку речь у нас пойдет не только о самих назва-
ниях, но и о том, что связано с отдельными варианта-
ми, системами, защитами и атаками. Ведь даже пер-
вые дебютные ходы не раз вызывали споры, принима-
лись с оговорками, дискутировались. Скажем, ферзе-
вой гамбит — ходом ферзевой пешки сейчас
начинается больше половины играющихся партий.
Между тем еще сравнительно недавно начало это счи-
талось вялым и бесперспективным. Потребовалась
основательная ломка представлений, связанная с име-
нами Г. Стаунтона, Г. Пильсбери, А. Рубинштейна и
других мастеров, чтобы оно закрепилось в шахматной
практике.
Или аналогичный ход королевской пешкой — ког-
да-то королевский гамбит играли все, но потом спосо-
бы защиты усовершенствовались, появились новые ме-
тоды игры в закрытых и полуоткрытых системах, и
популярность этого начала резко пошла на убыль. Кто
знает, что принесет завтрашний день? После матча на
первенство мира 1985 года Гарри Каспарову был за-
64
дан вопрос о том, программировал ли он заранее при-
ем, настойчиво использовавшийся им в матче — жер-
тву пешки за инициативу? Каспаров ответил:
— У меня выработался свой собственный стиль,
который основан на самых общих законах шахмат.
Я не хочу сказать, что это самый правильный стиль.
Но тем не менее я усвоил от Ботвинника, что шахма-
ты — игра абсолютно правильная и имеет общие зако-
ны, которые надо попытаться понять... Поэтому, если
в позиции надо было жертвовать пешку ради чего-ли-
бо, я это делал. Карпов считал, что жертвы надо брать.
Таким образом Карпов защищал свое собственное кре-
до. Я эти пешки отдавал, Карпов их брал, но каждый
из нас играл по позиции. Кстати, не забудьте, что и
Карпов был готов жертвовать, но, правда, очень ред-
ко. Надо иметь огромный запас идей. И тогда можно
понять, что на что менять. Все средства на шахматной
доске служат достижению цели. Обладание каким-то
пунктом может оказаться важнее пешки или темпа.
Надо понять, что менять на что: пешку на пункт,
пешку на темп...
Всего лишь об известном приеме говорит чемпион,
но сложилась у него законченная концепция. Вот и в
королевском гамбите тоже все основано на простень-
кой жертве пешки... Те или иные способы ведения пар-
тии приобретают популярность, умирают и снова воз-
рождаются, как Феникс из пепла.
В 1922 году Эрнст Грюнфельд играл матч с Аль-
бертом Беккером. В четвертой партии, намереваясь
воздвигнуть староиндийские бастионы, Грюнфельд по
рассеянности продвинул на 3-м ходу ферзевую пешку
на два поля вместо одного. Говорят, сперва он даже
расстроился от своей оплошности, но ход сделан —
пришлось задачи развития решать по аналогии с за-
щитой Алехина, тоже еще почти неизвестной. «Опе-
чатке» Грюнфельда было суждено большое будущее —
она всем пришлась по вкусу, поскольку случилась как
5 В Черняк 65
раз вовремя. В 20-х годах, когда ломались и пересмат-
ривались многие классические способы ведения борь-
бы, шахматисты остро ощутили нужду именно в та-
ких системах — гибких, эластичных, активных. Да и
сегодня защита Грюнфельда — одна из самых распро-
страненных, она применялась, например, в матч-реван-
ше Карпов — Каспаров 1986 года.
Столь же популярна ныне и атака Маршалла. А ее
появление было не менее симптоматичным...
В 1918 году на турнире Манхэттенского клуба в
Нью-Йорке Капабланка белыми играл с Маршаллом,
который применил против него новую систему защи-
ты — над ней Маршалл трудился добрых десять лет.
В известной позиции черные пожертвовали пешку...
«Я раздумывал некоторое время, — пишет Капа-
бланка, — прежде чем взять пешку, зная, что после
этого подвергнуть страшной атаке, тщательно разра-
ботанной моим противником. Однако меня охватила
жажда битвы. Я чувствовал, что мне брошен вызов
шахматистом, который имел все основания бояться
моего понимания и умения (как это показали наши
прошлые встречи), но который приготовил мне ряд
неожиданностей и хотел использовать мое незнаком-
ство с тем, чему он посвятил немало ночей тяжелой и
упорной работы... Я рассмотрел положение и решил,
что моя репутация, так сказать, обязывает меня взять
пешку и принять вызов, ибо мое понимание и проница-
тельность подсказывали мне, что в дальнейшем пози-
ция белых защитима».
В данной встрече Капабланка оказался на высоте
и после головоломных осложнений добился победы. Но
идея Маршалла тоже понравилась шахматистам —
«испанская» контратака с тех пор стала регулярно
применяться в соревнованиях. Ее исследовали на са-
мых различных уровнях, изучают до сих пор. Напри-
мер, газета «Советская Россия» провела как-то тема-
тический сеанс сразу против ста читателей — исход-
66
ной позицией послужила табия атаки Маршалла. Ра-
бота мастера Анатолия Мацукевича «Приближение к
истине», родившаяся в итоге этого интересного сорев-
нования, была отмечена в качестве лучшего теоретиче-
ского исследования за год и награждена всесоюзной
премией.
Показательно, что защите Грюнфельда и атаке
Маршалла были сразу присвоены имена их изобрета-
телей. Такой чести удостаивались, увы, не все.
Вестфальский вариант ферзевого гамбита, детально
проанализированный Шпильманом и Видмаром, свя-
зан не с их именами, а с названием парохода «Вест-
фалия», на котором гроссмейстеры в 1927 году плыли,
направляясь на Нью-Йоркский турнир, — по дороге
они и разработали весь вариант. Кембридж-спрингскую
систему сделал популярной Гарри Пильсбери, внеся в
нее много новых идей. Меранский вариант играли
Шлехтер и мастер Перлис, а впоследствии Акиба Ру-
бинштейн.
Подводя итоги турнира в Кечкемете (1927 г.), мас-
тер Ганс Кмох специально оговорил, что не называет
только что введенный Алехиным вариант в испанской
партии именем автора в силу сложившейся тради
ции — Кмох нарек его кечкеметским, причем Алехин
отреагировал на это довольно болезненно, хотя и не
сразу. Лет шесть спустя в комментариях к выигран-
ной им партии с Л. Штейнером из командного «турни-
ра наций» в Фолькстоне Алехин дает выход накопив-
шемуся раздражению. В той же испанской партии он
опять применил новый ход и пишет, как бы опережая
возможных толкователей: «Хорош или плох этот ход,
он — мое изобретение... Поскольку этому ходу еще не
успели присвоить имя какого-нибудь особенно госте-
приимного города или особенно щедрого мецената
(как случилось, например, с «кечкеметским» ходом
Се8), я предлагаю назвать его «тимбуктским» вариан-
том. Таков, по крайней мере, выбор автора».
о*
67
Становление дебютных наименований, как видим,
отражало не только борьбу творческих стилей, но и
кое-какие детали развития веего шахматного искус-
ства. Кмох действительно следовал установившейся,
даже трудно сказать почему, традиции, согласно кото-
рой в разграничении начал широко использовался
«географический» принцип. Испанская, итальянская,
скандинавская, французская защиты, колонна индий-
ских... Список бесконечен- Дело, возможно, в том, что
над разработкой некоторых систем трудилась целая
группа шахматистов из одной страны, одного города.
Скажем, варианты венской партии анализировались в
столице Австрии. Способ обороны против хода коро-
левской пешкой, регулярно избиравшийся Петровым и
глубоко изученный Янишем, стал называться русской
защитой. Скандинавскую предложили стокгольмцы, и,
хотя первую монографию о ней написал Я. Мизес, еще
в начале века прочно взявший это начало на вооруже-
ние, «география» и тут восторжествовала.
В то же время никто не сомневается в правомочно-
сти таких наименований, как дебют Берда, гамбит Ста-
унтона, защита Нимцовича и т. д. Они прижились в
отличие от некоторых других, настойчиво порой про-
пагандируемых... Кто помнит, к примеру, что дебют
Рети еще до того, как он был в деталях разработан
чешским гроссмейстером, носил шутовское имя «шос-
сейного гамбита»? Или титулы, которые щедро разда-
вал любимым началам Тартаковер: «дебют будуще-
го»— тот же дебют Рети... «Дебют сверхбудущего»...
Будущее, как известно, в сжатые сроки становится
настоящим и вносит в пророчества чувствительные
уточнения.
С появлением некоторых дебютных названий свя-
зано немало забавного. Откуда, например, взялся ва-
риант дракона в сицилианской защите?
— Впервые это название было произнесено в Кие-
ве в 1901 году, — рассказывал известный русский шах-
матист Федор Иванович Дуз-Хотимирский. — Увлека-
ясь астрономией, изучая звездное небо, я подметил
внешнее сходство очертаний созвездия Дракона с кон-
фигурацией пешек в сицилианской защите. Эта зри-
тельная ассоциация дала мне повод назвать этот вари-
ант «вариантом дракона».
Или ход 1. Ь2—Ь4, применение которого в серьез-
ных соревнованиях теперь мало кого удивит... Когда-
то с легкой руки того же Тартаковера это начало в
шахматной литературе значилось как «дебют оран-
гутанга» — было так названо... в честь обезьяны из
Берлинского зоопарка.
Алехинская ирония в отношении меценатов тоже
вполне объяснима. Далеко не всегда они бывали так-
тичны и сдержанны. В 1903 году, например, амери-
канский профессор И. Райс, человек богатый и, объек-
69
тивно говоря, немало делавший для шахматного
движения, организовал тематический матч между
Эмануилом Ласкером и Михаилом Чигориным. Все
шесть партий этого соревнования начинались, по су-
ществу, с позиции, возникшей после 15-го хода бе-
лых в одном из малообязательных вариантов королев-
ского гамбита. Дело в том, что вариант этот придумал
сам Райс и хотел дать ему свое имя. Матч со счетом
+ 2,—1, =3 выиграл Чигорин, но интересного в по-
единках было немного. Имя изобретателя действитель-
но осталось в дебютной теории, но лишь в теории, так
как на практике этот вариант, кажется, никогда боль-
ше не применялся.
В шахматах, где все время приходится работать с
книгой, журналом, справочником, область названий и
символов — совершенно особая. Не случайно она из-
давна привлекает внимание тех, кто по роду своих за-
нятий связан с проблемами развития языка: филосо-
фов, текстологов, литераторов и т. д. Многие из де-
бютных терминов прочно утвердились в обыденной
речи. Дебютные названия непрерывно уточняются: су-
ществуют десятки способов их систематизации, новые,
завоевывающие популярность варианты тут же берут-
ся на заметку. С тех пор, как у нас появились энци-
клопедии и сборник «Информатор», в шахматной ли-
тературе введены специальные обозначения для каж-
дого дебюта и его основных вариаций. О труде шах-
матных систематизаторов и лингвистов, как и прежде,
спорят, но необходимость и полезность его ясны каж-
дому шахматисту — ведь иначе мы перестанем пони-
мать друг друга.
ФАКТОР ВРЕМЕНИ
В течение долгих веков шахматисты не признава-
ли для своих поединков никаких ограничений по вре-
мени. Думай сколько хочешь! И думали... Некоторые
70
партии продолжались по 10—12 часов, причем кто-то
из партнеров размышлял дольше, кто-то меньше. Это
ставило их в неравное положение, вызывало споры и
конфликты. Кое-какой порядок внесло в шахматное
соперничество появление часов — двухциферблатные
шахматные часы, изобретенные манчестерским меха-
ником Томасом Брайтом Уилсоном, впервые были
опробованы на IV лондонском турнире в 1883 году.
Но одновременно часы поставили перед шахматным
миром и новые проблемы. Главная из них: как быть с
просрочкой времени? Пробовали наказывать за нее...
денежным штрафом. Вводили довольно сложные си-
стемы зачета. Например, в матче Л. Паульсена с
И. Колишем в случае просрочки времени выигрыш
партии засчитывался за ничью, ничья — за проиг-
рыш, проигрыш — за двойной проигрыш. На первых
российских соревнованиях тоже действовали сходные
правила — так играли в Петербурге (1878—1879 гг.)
на турнире сильнейших русских шахматистов. Лишь
после больших споров пришли к норме — карать про-
срочку времени нулем в таблице. Это условие действу-
ет и поныне.
Еще одна проблема — регламент партии. Сколько
времени давать партнерам? Соглашения по этому во-
просу шахматисты тоже не достигли до сих пор! И по-
нятно почему — малейшее изменение в привычном
регламенте влияет на качество игры, ее содержание и
результаты. В межзональных соревнованиях 1987 го-
да очень неудачно выступили шахматисты старшего
поколения. Многие из них объясняли свой неуспех
только что введенным регламентом: участники за
один вечер проходили два контроля. В час делалось
20 ходов вместо ранее принятых 16. Ветеранам, при-
выкшим по-другому распределять минуты, отпущен-
ные на партии, пришлось, что и говорить, нелегко.
С появлением часов рациональное использование
шахматного времени сделалось одним из важнейших
71
элементов борьбы. Умению этому учатся даже гросс-
мейстеры. На 30-м чемпионате СССР, проходившем в
Ереване (1962 г.), Тигран Петросян с удивлением на-
блюдал за игрой юного тогда Александра Зайцева:
«Он ведет любую партию, с любым соперником на-
столько быстро (недаром его окрестили «реактив-
ным»), что после партии не поймешь даже, какие ва-
рианты Зайцев видел, а какие не заметил вовсе.
О том, что он видел и просчитал все, не может быть и
речи — при такой «скорострельности» это не под силу
не то чтобы самому могучему таланту, но и быстро-
действующей электронной машине».
Чемпион мира удивлялся не понапрасну. Дело в
том, что «естественные» ходы любой гроссмейстер ви-
дит сразу. Но лучшие ли это продолжения? Иногда
лучшие, а иногда — нет! Потому и необходимо пре-
дельно углубиться в позицию, поискать потаенные
возможности. Учитывая, конечно, что стрелки-то дви-
жутся...
Тренеры сейчас уделяют обращению с часами са-
мое пристальное внимание. Для некоторых из их по-
допечных эти уроки оказываются решающими.
В 1983 году на очередном первенстве мира среди
«кадетов» (юниоров до 16 лет) внешне легкую победу
одержал Алексей Дреев, воспитанник Марка Дворец-
кого. Ранее подобные соревнования уже выигрывали
наши шахматисты Валерий Салов и Евгений Бареев,
но они и до этого выступали в представительных тур-
нирах, имели на своем счету всеми замеченные успе-
хи. Железноводский школьник Алеша Дреев обладал
менее внушительным послужным списком, и поездка
его в Колумбию на престижный чемпионат кое-кого
беспокоила. Сомнения оказались напрасными — Дре-
ев набрал 10 очков из 11 возможных, расправившись
с соперниками грамотно и непринужденно. Вернув-
шись домой, он объяснил, за счет чего добился столь
безоговорочного успеха. Оказалось, что опытный тре-
72
нер Марк Дворецкий сразу подметил недостатки в
подготовке талантливого шахматиста — почти полное
неумение правильно распределять время.
— Мы стали специально развивать чувство време-
ни, — рассказывал победитель. — Скучное занятие!
Зато в Колумбии я играл, почти не глядя на часы,
спокойно, хотя регламент был укороченный... Сопер-
ники же при подготовке в основном разрабатывали
дебютные схемы.
Схемы схемами, но за одни знания очка не полу-
чишь... Хорошо поставить партию — полдела, а если
вся постройка рухнет в цейтноте? Сколько раз быва-
ло: потратив большую часть лимита на получение де-
бютного преимущества, шахматист затем начинает
нервничать и суетиться в цейтнотной горячке, делает
неожиданную ошибку и терпит поражение. Значит,
временем тоже нужно распоряжаться рационально.
Правда, цейтнот цейтноту — рознь. То, что для одно-
го цейтнот, для другого вполне нормальное течение
партии. Например, Виталия Цешковского не особенно
беспокоит, когда у него остается на 10 ходов пять-
шесть минут, а для Анатолия Карпова это уже серьез-
ное испытание. В восьмой партии матч-реванша с
Г. Каспаровым он был в жестоком для себя цейтноте
уже к 28-му ходу — последовала ужасная ошибка, а
еще через два хода гроссмейстер просрочил время.
В любом случае игра в цейтноте — занятие не из
легких. Гарри Каспаров говорил:
— Сознание уже полностью не контролирует дей-
ствия. Все уходит в сферу подсознания, когда ходы
нужно делать просто пальцами. Решения в такой мо-
мент не принять... Только на пальцы ориентируюсь.
Чемпион мира пояснил разницу между игрой в
цейтноте и игрой блиц. В цейтноте решается судьба
пятичасовой партии, в которую вложена частица жиз-
ни, а результат зависит от того, что случится в счи-
танные секунды... Для блица же характерно совсем не
73
то чувство ответственности. Даже хорошо играющий
блиц шахматист в цейтноте может растеряться.
В детстве Гарри Каспаров молниеносные встречи
проводил с удовольствием. В Никшиче в 1983 году,
после победы в очень сильном турнире, Каспаров под-
твердил свой успех и в состоявшемся затем грандиоз-
ном блице — от ближайшего преследователя Виктора
Корчного он оторвался на целых три очка! Но, когда
бакинский гроссмейстер сделался чемпионом мира,
блиц стал интересовать его гораздо меньше.
А вообще «быстрые» шахматы — детище наших
дней. Они очень популярны, зрелищны, увлекательны
по самой своей природе. Конечно, полноценных за-
мыслов за десять минут, отведенных партнерам, удает-
ся осуществить немного, зато в спортивном, игровом
отношении блиц стоит на одном из первых мест среди
способов шахматного соперничества.
В начале семидесятых годов был впервые проведен
всесоюзный турнир по молниеносным шахматам. Пер-
венствовал тогда Тигран Петросян. Через год с рав-
ным итогом к финишу пришли Владимир Тукмаков и
Анатолий Карпов. В третьем турнире (он был приуро-
чен к 30-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не) впереди оказался Юрий Балашов. Эти соревнова-
ния заставили по-новому взглянуть на молниеносную
игру. Кто-то посетовал на то, что блиц-партии почти
никогда не анализируются и не собираются, вспомни-
лись великолепные специалисты этого вида шахмат —
Ласкер, Флор, Капабланка. О кубинском гроссмейсте-
ре Александр Алехин писал: «Никогда прежде и ни-
когда впоследствии я не видел — и даже не мог себе
представить — такой поразительной быстроты шах-
матного мышления, какой обладал Капабланка... До-
статочно сказать, что он давал в молниеносных парти-
ях всем петербургским мастерам «фору» (по време-
ни. — В. Ч.) 5:1 — и выигрывал!» Между тем
известно, что вообще-то Капабланка был к блицу абсо-
74
лютно равнодушен. Впрочем, как и многие другие зна-
менитые мастера, например, М. Ботвинник или И. Бон-
даревский. Другие же, и среди них М. Таль, А. Кар-
пов, Б. Спасский, Р. Фишер и еще множество их кол-
лег, относились и относятся к этому виду соперниче-
ства вполне по-доброму.
В 1988 году на Всемирном шахматном фестивале
в Сент-Джоне был разыгран первый, пока, правда, не-
официальный чемпионат мира по молниеносным шах-
матам. В нем участвовали вместе с рядом сильнейших
гроссмейстеров мира Гарри Каспаров и Анатолий Кар-
пов, которым и организаторы, и зрители заранее отда-
вали почти единодушно пальму первенства. Увы, все
оказалось сложнее: уже в Vie финала (соревнования
проходили по олимпийской системе) А. Чернин «вы-
бил» из борьбы А. Карпова, а на следующем этапе
Г- Каспаров проиграл болгарскому шахматисту Кири-
лу Георгиеву. Победителем был провозглашен Михаил
Таль, выигравший в финале у Рафаэла Ваганяна.
«Успех Михаила Таля, — писал подводивший итоги
турнира Сергей Макарычев, — как мне кажется, в
первую очередь как раз и объясняется тем, что ему
удавалось играть в почти нормальные шахматы, не-
смотря на крайний дефицит времени. Экс-чемпион ми-
ра проводил «человеческие» планы, иногда жертвовал
и очень редко допускал чисто блицевые просчеты».
Во время четвертого матча на первенство мира
между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым в
Севилье (1987 г.) состоялся конгресс Международной
шахматной федерации, утвердивший порядок розыг-
рыша еще одного шахматного первенства мира — по
так называемой «активной» игре. Была использована
идея, когда-то высказанная еще Игорем Бондарев-
ским, — вместо блица проводить получасовые встре-
чи. У нас по таким правилам проходят, например, ме-
мориалы Пауля Кереса и некоторые другие турниры.
Как ни странно, решение ФИДЕ вызвало среди гросс-
мейстеров большую полемику. Одни говорили, что та-
кое мероприятие носит чисто развлекательный харак-
тер и нельзя его участникам присваивать мастерские
и гроссмейстерские звания, тем более титул чемпиона
мира. Другие возражали: существует же чемпионат
мира по переписке, «активные» шахматы как раз и
уравновесят систему первенств. Президиум советской
шахматной федерации идею о проведении мировых
чемпионатов по «активным» шахматам не поддержал.
Ясно, что сегодня шахматный мир мучительно
ищет новые регламенты шахматной партии — процесс
этот остановить нельзя. Но он никоим образом не дол-
жен захватывать основы шахмат — правила самой иг-
ры, сложившуюся систему определения сильнейших.
Общую тревогу на сей счет высказал тот же Сергей
Макарычев:
76
— Думаю, большинством гроссмейстеров отчетли-
во осознается опасность резкого сокращения контроля
времени. За бортом может оказаться «все то, за что
мы любим шахматы». Тонкие замыслы, глубокие не-
очевидные решения практически исчезнут, ведь их
поиск станет чуть ли не самоубийственным в этой
игре. Взамен мы получим всего лишь зрелище...
Тут гроссмейстер, безусловно, прав. Настоящие
«большие» шахматы вряд ли смогут долго конкуриро-
вать с коммерческими, если в тех, других, будут свои
чемпионы, турниры, фестивали и празднества. А со-
хранить завоеванное с таким трудом шахматный мир
обязан!
ЭСТЕТИКА, ЭТИКА, СВОД
ШАХМАТНЫХ ЗАКОНОВ
Красоту шахмат нередко называют загадочной.
Почему? Может быть, потому, что нет никакой воз-
можности оценить ее математически однозначно. О ре-
зультате партии, например, мы спорим гораздо мень-
ше: выиграл — получи очко, проиграл — ноль, сде-
лал ничью — очки пополам... Спорим в основном о
точном соответствии потраченных усилий и возна-
граждения. А как при таком подходе оценить эстети-
ку поединка? В композиции, правда, с этим справи-
лись — разработали систему шкал, по которым судьи
выставляют свои баллы. Но и там мнения существен-
но расходятся. В практических шахматах расхожде-
ний такого рода еще больше. А. Нимцович, стремив-
шийся в свое время сформулировать правила «новой»
шахматной эстетики, писал: «Прекрасно не накапли-
вание мелких преимуществ и не цельные «монолит-
ные» партии красивы, а прекрасно все то, что в какой-
то мере увязывает пестроту событий на доске с зако-
нами природы». Согласится ли с таким выводом
современный шахматист? Полностью — вряд ли!
77
А кое-кто сразу начнет возражать, усмотрев в ирони-
ческом термине «монолитные» покушение на цель-
ность партии.
Все же присутствие эстетики на шахматной доске
отрицать не решится никто. Просто каждый понимает
красоту по-своему, и то, что одним будет принято
очень тепло, для другого не составит никакой ценно-
сти. Да и само отношение к шахматному искусству,
как таковому, с годами существенно менялось. Ска-
жем, первой партией, удостоенной отличия за красо-
ту (его учредил в 1876 году американский шахматный
меценат Сол Лидере), была встреча Генри Берда с
Джеймсом Мэзоном — белые, которыми играл Берд,
действительно неплохо провели атаку, хотя и допусти-
ли несколько ошибок. Но предложите эту встречу лю-
бому нынешнему жюри — она наверняка не наберет
большого количества голосов. Лихо проведенная ата-
ка — это еще не вся красота сражения на 64 клет-
ках! И даже в те времена находились мастера, и сре-
ди них, например, классик шахмат Адольф Андерсен,
отдававшие предпочтение комбинации, «дремлющей
под тонким покровом», то есть скрытой, прове-
денной вкупе с неочевидными маневрами фигур.
Вообще присуждение призов за красоту неодно-
кратно вызывало нарекания. Тартаковер написал од-
нажды: «Всем известно или должно быть известно,
что призы за красоту в шахматных турнирах присуж-
даются за что угодно, но только не за подлинную
красоту...» Однако сколько-нибудь убедительных спо-
собов оценки подлинной красоты он не привел. Пока-
зательно в этом смысле, что, когда в нашей стране
возникла надобность несколько уравновесить спортив-
ную сторону шахмат с той, которая приближает к
искусству, было принято решение поощрять шахмати-
стов не за красиво проведенные поединки, а за выс-
шее творческое достижение. В 1983 году были распре-
делены первые такие награды. Лауреатами стали
78
Г. Каспаров — за партию с Л. Портишем из турнира
в Никитиче, В. Смыслов — за 7-ю партию лондонско-
го матча с 3. Рибли и Майя Чибурданидзе — за побе-
ду над М. Чандлером в Дортмунде.
Если столько сложностей вызывают проблемы
шахматной эстетики — красоты происходящего на до-
ске, то вряд ли кто станет утверждать, что в соверша-
ющемся вне доски проблем меньше... Речь идет о той
обстановке, в которой борются шахматисты, об их вза-
имоотношениях, правилах, регулирующих эти взаимо-
отношения. Да, конечно, существует свод законов —
«Шахматный кодекс» — в нем довольно полно пере-
числены наиважнейшие нормы поведения. Скажем,
шахматист обязан соблюдать правило «тронул — хо-
ди», то есть, дотронувшись до своей фигуры, должен
сделать ею ход. Нельзя брать ходы назад. Турнир
следует довести до конца, даже при неблагоприятных
обстоятельствах, когда проиграно много партий. Сле-
дует поздравить выигравшего с победой. Перед нача-
лом встречи соперники обмениваются рукопожатиями
и т. д. Однако предусмотреть все просто невозможно!
Например, в кодексе записано: «Прикосновение к
своей фигуре, у которой не оказывается никакого хо-
да, а также прикосновение к неприятельской фигуре,
которую взять нельзя, не влечет за собой послед-
ствий». Ну а если соперник, особенно в вашем цейтно-
те, начинает нарочно хвататься за фигуры, даже ког-
да те не имеют хода или их нельзя взять? Кодекс не
нарушен, но вам-то каково «творить» в подобной об-
становке!
Кодекс запрещает указывать или трогать поля до-
ски во время обдумывания ходов. Однако нигде не
сказано, можно ли низко склоняться над ней, загора-
живая вам обзор, можно ли далеко вытянуть ноги,
мешая вам занять удобное положение за столиком,
можно ли комментировать ваши ходы мимикой и т. п.
Да и как регламентировать все это?!
В одном из нью-йоркских турниров гроссмейстер
Уолтер Браун встречался с мастером Е. Цукерманом.
Перед контролем оба находились в ужасном цейтноте.
Судья уже приготовил конверты, но откладывать пар-
тию не пришлось: когда Цукерман собрался поставить
на восьмую горизонталь свою проходную пешку, Бра-
ун схватил лежавшего в коробке для фигур белого
ферзя и забросил его в зрительный зал. Пока Цукер-
ман разыскивал злополучного ферзя, у него упал
флажок.
Ясно, что тут никакой этикой не пахнет, но вот
другой случай. На турнире первой лиги 1975 года уже
в первом туре у судей возникли трудности с партией
Э. Гуфельд — И. Дорфман. Дело в том, что обычно
жизнерадостный тбилисец что-то разнервничался и в
80
значительно лучшем положении предложил соперни-
ку ничью.
— Сделай ход, — спокойно ответил Дорфман, ви-
димо, не чувствуя опасности, но зато в полном соот-
ветствии с действовавшим тогда отечественным ко-
дексом.
Гуфельд не очень любит разбираться в абстракт-
ных проблемах, а вот конкретная задача (в данном
случае — обдумывание хода) быстро вернула ему рав-
новесие, и ход он сделал, да такой, что поставил со-
перника в положение критическое! Естественно,
Дорфман тут же принял предложенную ничью. Гу-
фельд обратился к судье:
— Ведь сейчас уже не та позиция, в которой я
предлагал ничью!
Однако судья лишь развел руками — предложе-
ние остается в силе и после сделанного хода.
Марк Тайманов так прокомментировал ситуацию:
«Случись это, скажем, в зональном турнире, проходив-
шем по правилам ФИДЕ, правда была бы на стороне
Гуфельда». Как этически разрешить эту проблему?
Теперь уже совершенно ясно, что обстановка шах-
матного соперничества из года в год ужесточается.
Этому пытаются найти оправдания, думают над тем,
какие меры избрать для пресечения грубости на «шах-
матном поле», как усовершенствовать шахматные за-
коны, чтобы толкование их было одинаковым для
всех, что предпринять для сохранения истинно рыцар-
ского, гордого и человеческого духа шахмат. Не все
усилия уходят в песок, но даже в детских и юноше-
ских соревнованиях число неэтичных поступков
растет.
С какой горечью воспринимает шахматный мир
возникающие время от времени конфликты между са-
мыми известными героями шахматной сцены! И с ка-
кой готовностью приветствует даже скромные эпизо-
G в. Черняк 81
ды, в которых проявляются со стороны соперников де-
монстративное уважение друг к другу.
Искреннее недоумение вызвал у шахматистов об-
мен колкими посланиями между чемпионом мира
Гарри Каспаровым и его предшественником на шах-
матном троне Анатолием Карповым. Перечитывая эти
раздраженные сетования, любители шахмат вспомина-
ли совсем другие эпизоды их беспримерного соперни-
чества.
Во время лондонского матча Анатолий Карпов по
независящим от него причинам чуть-чуть опоздал к
началу десятой партии. Конечно, Гарри Каспаров
имел полное право, играя белыми, сделать первый ход
и в отсутствии партнера. Но этим правом чемпион ми-
ра предпочел не воспользоваться, он дождался прихо-
да Карпова, принял извинения и лишь после этого
двинул вперед ферзевую пешку. Переполненный зал
лондонского отеля «Парк-Лейн» приветствовал посту-
пок бакинца продолжительными аплодисментами.
Вспомним попутно, что во многом благодаря уси-
лиям А. Карпова были в 1983 году «спасены» претен-
дентские матчи, победив в которых Гарри Каспаров
вообще смог участвовать в дальнейшей борьбе за шах-
матную корону.
Лучшие тренеры мира сейчас все больше внима-
ния уделяют этической подготовке своих воспитанни-
ков и делают это они во имя шахмат, понимая, что
ответственность, доброжелательность к партнеру, идей-
ность в лучшем смысле этого слова не менее важны
для ребят, чем приобретение чисто шахматного опыта
и занятия по теории. Вот один из таких фактов: на
закрытии чемпионата Великобритании для ребят
младшего школьного возраста главный судья турнира
Л. Барден высказал ряд претензий к участникам:
— Некоторые юные джентльмены, получив плохие
позиции во встречах с юными леди, позволяли себе
бестактнейшим образом предлагать партнерше ничью,
82
а некоторые юные леди, проиграв партию, вели себя
крайне несдержанно и, в частности, норовили укусить
партнера или расцарапать ему лицо...
Кое у кого из участников соревнования в процессе
этого <воспитательного» монолога все ниже опуска-
лись головы и начинали гореть уши. Но вот что инте-
ресно: Марк Дворецкий, международный мастер и
ведущий наш тренер, беседовал однажды с участни-
ком претендентских матчей 1988 года Джонатаном
Спилмэном и выразил удивление тем, что английские
шахматисты много времени проводят вместе, много
совместно анализируют и вообще отношения у них
дружные даже во время соревнований.
— Да, это так, — ответил Д. Спилмэн. — И такие
наши отношения полезны всем. Выступая командой,
мы всегда хотим, чтобы побеждал каждый из нас...
Почему мы вообще дружны, я даже не знаю...
Потому, наверное, и дружны, хочется дополнить
ответ английского гроссмейстера, что хорошо воспи-
таны!
В конце прошлого века один из крупнейших фран-
цузских психологов Альфред Бине посвятил изучению
шахматной игры большую работу, основанную на бе-
седах с такими известными мастерами, как Тарраш,
Блэкберн, и другие. Психология шахматного творче-
ства оказалась непростой. Бине установил, что силь-
ные шахматисты обладают способностями не только к
логическому мышлению, но и к улавливанию мало-
очевидной связи между явлениями. Кроме того, им
требуется сосредоточенность, знание, умение рассчи-
тывать варианты, память, внутреннее зрение и хладно-
кровие. «Если можно было бы заглянуть во внутрен-
ний мир шахматиста, — пишет Бине, — мы увидели
бы там целую гамму ощущений, образов, страстей,
бесконечную смену настроений, перед которыми наши
описания не более чем грубая и упрощенная схема».
Не все эти страсти и ощущения положительного свой-
6* 83
ства, но этические нормы, о которых мы говорили, как
раз и призваны держать в узде грубые инстинкты —
ведь, кроме шахматной чести, в мире существуют и
более высокие понятия, например, человеческое досто-
инство...
ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ...
Кажется, едва ли не первым Капабланка попытал-
ся обратить внимание шахматистов на связь челове-
ческой личности с типом игры, к которому склоняет-
ся человек. «Если рассматривать шахматы как точную
науку, — писал он, — то, очевидно, должна суще-
ствовать лишь одна правильная норма ведения игры,
какова бы она ни была, и следовательно, остается
только найти такую норму. Если же рассматривать
шахматы как искусство, то тогда должны существо-
вать различные нормы ведения игры, и их выбор за-
висит целиком от индивидуальных особенностей шах-
матиста. Шахматист, естественно, склонен к такому
типу игры, при котором его натура проявляется пол-
нее всего».
Итак, следствия наших успехов и причины неудач
надобно искать, помимо самих шахмат, еще и в том,
насколько хорошо знаем мы собственную личность.
Стиль — это человек, так говорили древние. В шахма-
тах мы демонстрируем не только знания и не только
навыки. Это еще и борьба характеров, столкновение
жизненных взглядов. Уверен в себе шахматист или
уязвим, медлителен он в принятии решений или скло-
нен к скоропалительным поступкам, смел или осторо-
жен — все это обязательно скажется и в избираемых
им шахматных продолжениях. Может быть, потому
чаще терпят неудачи за доской те, кто несвободен от
подражания, робок в самостоятельных суждениях и
оценках.
Интересно в этом смысле, что одинаковые ходы,
84
сделанные в разных партиях, могут содержать отнюдь
не одинаковую информацию. В 42-м чемпионате стра-
ны (Ленинград, 1974 г.) была, к примеру, сыграна
партия Р. Ваганян — В. Купрейчик. Белорусский шах-
матист провел ее в обычной для себя манере, но уже
в самом начале недооценил защитительный ресурс
белых и в итоге проиграл. Вряд ли гроссмейстер
остался доволен своими действиями, но речь сейчас
вообще не о них. Оказалось, что в этой встрече (на
это обратил внимание известный английский мастери
шахматный комментатор Гарри Голомбек) партнеры
исправно повторили порядок ходов от первого до по-
следнего, уже знакомый по партии, сыгранной в нача-
ле века на одной из досок в матче двух лондонских
клубов. Для того из соперников, который руководил
теми же фигурами, что и Купрейчик, поражение име-
ло гораздо более трагические последствия. В зале
сидел его дядя, испытавший от игры племянника силь-
нейшее разочарование. Настолько горькое, что в серд-
цах он лишил своего родственника наследства. Недо-
умевающий племянник попытался оспорить это реше-
ние через суд, утверждая, что дяде попросту отказал
рассудок, однако судья, неплохо разбирающийся к то-
му же и в шахматах, его возражений не принял. Озна-
комившись с материалами дела, судья вынес вердикт:
«Человеку, который после (тут приводился весь сыг-
ранный вариант) отваживается побить ферзем белую
пешку на Ь2, следовало бы вместо того, чтобы под-
вергать сомнению умственные способности своих
ближних, более критически оценить свои собствен-
ные...»
Неужели мы должны отнести эти слова и к Куп-
рейчику? Ни в коем случае! Ясно, что он вкладывал
в игру совсем не тот смысл, которым руководствовал-
ся его предшественник. У того ходы были хаотичны,
а для Купрейчика составляли определенный план, в
данном случае неудачный, ну и что из того?! Купрей-
85
чик, увлекшись, может иногда и проиграть, но зато
он всегда стремится к полнокровной борьбе, и победы,
одержанные им, редко кого оставят равнодушным.
Да и не результатом единым жива шахматная игра!
Так что отнести мнение британского судьи, в чем-то,
может, и справедливое для безвестного любителя, ли-
шившегося наследства, к Купрейчику мы никоим об-
разом не должны. В одном случае «неестественные»
ходы сделаны, грубо говоря, профаном, в другом —
самобытным и сильным шахматистом. Большая разни-
ца, а ходы одинаковые!
К слову, «неестественно» еще не значит «плохо».
Сколько раз естественные, надежные, проверенные ав-
торитетами ходы увлекали нас прямиком в пропасть!
И, наоборот, самостоятельные суждения, основанные
на реальности, выручали. Иной вопрос, как воспитать
в себе критический склад шахматного мышления.
Даже у больших мастеров на первых порах, как пра-
вило, игра не была свободна от посторонних влияний.
Тигран Петросян, всю жизнь размышлявший над
своим творчеством, признавался, что в юности излиш-
не доверял авторитетам и ничего хорошего из этого не
получалось. Пятнадцати лет в чемпионате Грузии
Петросян встретился с опытным мастером Владасом
Микенасом — это было в 1944 году.
— Я был юн, — вспоминал Петросян, — обладал
отличной памятью, страшно любил читать шахмат-
ные книги, впитывая в себя как губка все, что попада-
лось мне на глаза. В Тбилиси, где я родился, вырос и
практически сформировался как шахматист, мои шах-
матные знания не подвергались серьезному экзамену.
И вот встреча с Микенасом, который в те годы был
чуть ли не единственным поклонником защиты Але-
хина. Меня это не смущало. Ведь у меня имелась кни-
га «X чемпионат СССР» Г. Лисицына, в которой при-
мечания к дебютной части партии В. Панов — И. Ра-
бинович звучали панихидой по этой защите...
86
Стоит ли рассказывать, что случилось дальше?
Петросян играл «по теории», а Микенас — «по пози-
ции». Уже к 20-му ходу будущий чемпион мира попал
в безнадежное положение и сдался. Забавно, что сам
Петросян счел весь этот эпизод случайностью и через
год во встрече с тем же В. Микенасом снова ввязался
в теоретическую дуэль, на этот раз в защите Грюн-
фельда. И снова доверился авторитету — мастеру
П. Романовскому. Исход опять-таки был плачевный.
Эти поражения оставили в душе будущего чемпиона
мира долго не заживающие рубцы, но в то же время
научили его самокритичности и осторожности в обра-
щении с чужими новинками, сослужив таким образом
немалую пользу для формирования шахматной лично-
сти Петросяна. Много лет спустя, обращаясь к моло-
дым мастерам, он писал: «Я призываю вас к осмотри-
тельности, удерживаю от излишнего преклонения пе-
ред книжными премудростями, даже если они вышли
из-под пера именитых шахматистов. И из-под моего
пера тоже...»
У крупного мастера умение понять себя сочетает-
ся и с другим — стремлением верно почувствовать и
оценить личность партнера. Впрочем, такое качество
необходимо каждому.
На XXI шахматной олимпиаде в Ницце (1974 г.)
представитель Уэльса Гарри Уильямс, игравший белы-
ми с Анатолием Карповым, не стал откладывать пар-
тию, а просто сдался на 41-м ходу. Коллеги сочли его
решение преждевременным. Кто-то сказал, что Кар-
пов, окажись он на месте Уильямса, никогда не сдал-
ся бы в такой позиции.
— Будь Карпов на моем месте, — возразил
Уильямс, — он никогда бы не получил такой позиции,
играя белыми...
А все же какая обреченность чувствуется в словах
уэльского шахматиста! Видимо, еще до начала встре-
чи он испытывал и волнение, и беспокойство, вполне
понятные, когда предстоит встреча с будущим чемпи-
оном мира. Однако суть-то как раз в том, чтобы пре-
одолеть их. Иначе зачем вообще садиться за доску?
Помочь шахматисту в решении двух этих очень
разных задач — познать самого себя и почувствовать
себя на равных с партнером — в современных шахма-
тах призван тренер. Значение такой работы, наряду с
аналитическим трудом, возрастает год от года. Чем-
пионы, великие мастера прошлого, могли себе позво-
лить готовиться к соревнованиям в одиночку, отка-
заться от помощи наставников и учителей, как, напри-
мер, М. Ботвинник, но сегодня борьбу на гроссмейстер-
ском уровне зачастую ведут целые команды — брига-
ды специалистов, и качество их работы выглядит
решающим в этой борьбе. Значит, важно, кто пригла-
шен в подобную команду...
88
Готовясь к матчу с М. Ботвинником, М. Таль в
1960 году попросил помочь ему в анализах Рашида
Нежметдинова. Это выглядело странным. Во-первых,
мастер из Казани никогда не слыл теоретиком — ни
картотеками он не располагал, ни подборками мате-
риалов, ни досье. Во-вторых, до этого Нежметдинов
сыграл с Талем четыре партии, три из них выиграл,
имел перевес и в четвертой. В-третьих, и психологом
казанский шахматист был посредственным — предпо-
читал исходить из позиции, сложившейся на доске:
нравилась позиция — играл очень сильно, не нрави-
лась, была не по вкусу — откровенно скучал... Но вот
что говорит по поводу своего решения сам М. Таль:
— Считаю «ход», сделанный мной, удивительно
удачным... У Нежметдинова было много идей. Они за-
поминались, привлекали внимание своей неординар-
ностью. Не всегда эти мысли выдерживали испытание
временем, но всегда поначалу выглядели очень опас-
ными для соперников. А идеи, высказанные Рашидом
Гибятовичем в сицилианской защите, в испанской пар-
тии, в староиндийской, до сих пор встречаются в прак-
тике мастеров.
Скажем проще: Таль почувствовал в Нежметдино-
ве родственную душу, огонь, горевший в сердце казан-
ского шахматиста, был близок и понятен рижанину.
В такой компании Таль готов был трудиться над ана-
лизом сколько угодно, а это как раз и требовалось в
тот момент.
Как тепло говорит о своем тренере один из силь-
нейших наших гроссмейстеров Андрей Соколов: «Мне
удивительно повезло с выбором». Собственно, выбрал
его сам Владимир Николаевич Юрков — взял Соколо-
ва к себе в секцию на стадионе Юных пионеров, когда
тому было 11 лет. С тех пор они не расставались и
расставаться не собираются, хотя уже несколько раз
высказывались соображения насчет того, чтобы уси-
лить тренерский коллектив, работающий с Соколовым.
89
Тренер-гроссмейстер — это важно, но не менее важно
и тренер-друг.
Юрков готовил в свое время таких известных шах-
матистов, как Ю. Разуваев и Ю. Балашов. Самые зна-
чительные успехи оказались у А. Соколова...
Порой вокруг удивляются: что может связывать
тренера и его подопечного, такие разные шахмати-
сты!.. Но как не вспомнить тут Виталия Цешковского,
которому лет десять назад пришлось побывать в роли
секунданта Льва Полугаевского. Краснодарского
гроссмейстера поразили знания и глубина понимания
шахмат, которые он увидел у своего старшего товари-
ща. Под влиянием Полугаевского он сам стал больше
времени уделять занятиям по теории, хотя добрался,
по собственным словам, лишь до тех табий, с которых
у Полугаевского все только начиналось. Тогда, отда-
вая должное значительности исследований Полугаев-
ского, его бывший секундант заявил «решительный
протест»:
— И мне подумалось: «Если так все время рабо-
тать над теорией, то и сами шахматы в тягость ста-
нут». Я же все-таки больше всего люблю игру, люблю
придумывать что-нибудь этакое непосредственно за
доской, в процессе самой борьбы.... Короче, у каждо-
го должен быть свой подход к шахматам.
Правильно! Но, видимо, как раз в таком помощни-
ке, советчике и друге ощущал нужду Полугаевский, и
он его нашел...
ДОРОГИЕ ГРАЖДАНЕ СУДЬИ!..
Двое партнеров ведут диалог за доской. Собствен-
но, участников может быть и несколько (играются же,
к примеру, консультативные партии), но партнеров
всегда двое: белые и черные. Кроме них, на большой
шахматной сцене — на сколько-нибудь серьезных со-
ревнованиях присутствует еще лишь одно действую-
90
щее лицо... Человек это строгий, но доброжелатель-
ный, неумолимый, но все понимающий, стремящийся
быть неприметным, но ничего не упускающий из зоны
своего внимания. Речь идет, естественно, об арбитре.
Зачем в шахматах судьи? Разве не могут соперни-
ки сами разрешать возникающие по ходу борьбы кон-
фликты? Так ли сложны их взаимоотношения, что на
помощь приходится призывать третьих лиц? Да и не
вредно ли в принципе такое вмешательство, ведь чье-
то мнение, причем необязательно разделяемое обоими
противниками, может существенно повлиять на ход
борьбы! Между тем в шахматах в отличие, скажем,
от таких видов спорта, как футбол, баскетбол или вод-
ное поло, нарушения правил установить гораздо про-
ще, наша игра — статичная.
Однако, едва шахматы оформились в спортивную
игру, сразу же появились люди, на чьи плечи легла
ответственность за полную «законность» происходя-
щего. Более того, должность судьи стали доверять тем,
кто имел репутацию человека объективного, уравнове-
шенного, гибкого, короче, достойного по самым стро-
гим меркам. Так повелось с первых крупных шахмат-
ных соревнований.
Обратимся к прошлому веку. Среди организаторов
первого матча на звание чемпиона мира (1886 г.) вы-
деляется фигура американского мастера Джорджа
Генри Мэкензи. Человек это был незаурядный. Он пе-
реселился в США из Англии как раз накануне граж-
данской войны, вступил в армию северян, дослужился
до звания капитана, причем командовал пехотным
полком, состоявшим целиком из негров. Стейниц пи-
сал о нем: «В этом человеке отвага сочетается с доб-
родушием, а прямота с изысканными манерами».
В 80-х годах прошлого столетия Мэкензи входил в пя-
терку сильнейших шахматистов мира, а у себя в США
был до самой смерти (1891 г.), безусловно, сильней-
шим. Во время матча он исполнял обязанности, как
91
сейчас сказали бы, судьи-информатора. «Капитан
Мэкензи воспроизводил ходы на настенной доске.
Эти ходы тотчас передавались по телеграфу не только
в различные американские клубы, но даже в Лон-
дон», — писал журнал «Интернейшнл чесс мэгэзин».
И все же, почему бы разного рода конфликты не
разрешать самим участникам соревнований? Да, ви-
димо, просто потому, что они и так заняты достаточно
серьезным делом. В условиях ограниченного времени,
повышенного нервного напряжения, громадного объ-
ема чхсто шахматной работы кто из мастеров рискнет
поручиться, что его вывод относительно той или иной
спорной ситуации окажется справедливым и вер-
ным?
Вспомним, сколь замысловато складывались сюже-
ты некоторых соревнований!
30 сентября 1971 года в Буэнос-Айресе сели за до-
ску Роберт Фишер и Тигран Петросян, чтобы выявить
претендента на матч с чемпионом мира Борисом
Спасским. Американский гроссмейстер, закончивший
перед этим два коротких поединка (против М. Тайма-
нова и Б. Ларсена) с одинаковым счетом 6 : 0 в свою
пользу, имел, как считали болельщики, явное психо-
логическое преимущество. Но Петросяна не зря назы-
вали в ту пору «железным» — он тщательно подгото-
вился к матчу и не собирался сдаваться так легко.
Уже в первой встрече к одиннадцатому ходу он полу-
чил значительное преимущество, использовав подго-
товленную дома новинку. А еще через два хода... в за-
ле погас свет, и главный судья Лотар Шмид вынуж-
ден был остановить часы. Петросян ушел за кулисы, а
Фишер продолжал сидеть за столиком — очередь хода
была как раз его. Конечно, Петросян попросил судью
переговорить с Фишером: пусть тоже уйдет со сцены.
Но едва Шмид направился к Фишеру, как тот сделал
ход. Арбитру потребовался весь его огромный опыт,
чтобы уладить сложившуюся ситуацию. Инцидент был
92
исчерпан после того, как организаторы заверили
участников, что такие случаи больше не повторятся.
Свет действительно уже не гас до конца матча, но во
время шестой партии (счет в этот момент был равный
2,5 : 2,5) кто-то бросил в зал несколько самодельных
дымовых шашек, и партию пришлось снова прервать.
Оказалось, артисты театра «Сан-Мартин», в помеще-
нии которого проходил матч, были недовольны тем,
что у них в связи с этим соревнованием снизились за-
работки. Ясно, что и тут арбитру выпало на долю не-
мало работы!
Еще лет десять назад все вопросы, связанные с
судейством соревнований, главный арбитр решал лич-
но. Но вот на второй матч Гарри Каспарова с Анато-
лием Карповым было выделено даже два главных ар-
битра: Андрей Малчев из Болгарии и Владас Мике-
нас, представляющий нашу страну. Кроме того, был
создан специальный комитет для разбора жалоб, если
они поступят от участников. В помощь главным арбит-
рам назначили помощников. Без дела не остался ни-
кто. В нынешних шахматах цена каждого хода, по-
ступка, решения неизмеримо выросла. От малозначи-
тельной с виду детали зависит порой очень многое.
И судья должен не только внимательно следить за те-
чением самого поединка (или, если идет турнир, по-
единков), но и предусмотреть возможность возникно-
вения критических ситуаций. Иначе он рискует ока-
заться в положении, которое контролировать уже
тяжело... К тому же многие суперсоревнования факти-
чески начинаются еще до того, как пущены часы. Ве-
дутся переговоры, вырабатываются условия и согла-
шения — арбитр должен хорошо ориентироваться в
них, не оставляя в стороне ни одну мелочь.
Многие любители шахмат до сих пор помнят, с ка-
ким трудом согласовалось положение о матче Р. Фи-
шер — А. Карпов, к сожалению, так и не состоявшем-
ся... Американцы настаивали тогда на том, чтобы
провести его в Нью-Йорке. Наш представитель Виктор
Батуринский принимал лишь половинное решение:
часть в США, часть в Москве. И, когда Фред Крамер,
отстаивавший интересы Роберта Фишера, согласился,
Батуринский предложил точно обговорить, какие ав-
томобили следует выделить в распоряжение участни-
ков. Это был важный момент, ведь можно запросить
машину такой марки и такой фирмы, которых уже
нет на свете. О том, как далее развивалась беседа, с
большим юмором рассказывал впоследствии Алек-
сандр Котов: «Откажитесь играть в Москве, — настаи-
вал Крамер. — Мы с охотой проведем весь матч в
Нью-Йорке». Что было делать? Упорство непоколеби-
мое! Вдруг в голову советскому представителю при-
шла счастливая идея. «Хорошо! — решительно ска-
зал он. — Записываем пункт насчет автомобиля.
94
Но обязательно добавим: «Можно заменить на рус-
скую тройку».
Несколько мгновений американец испытующе
смотрел в глаза Батуринскому. «Запишешь насчет
тройки, — видимо, вихрились мысли у него в голо-
ве, — хлопот не оберешься. Будут капризничать: не
те оглобли, не тот хомут. Бубенцы плохо звенят...»
Крамер пошел на попятную. Увы, матч спасти так
и не удалось. Но, с уверенностью можно сказать, что,
если бы он состоялся, не одна проблема возникла бы
уже по ходу соперничества.
Шахматы сами по себе сложны. Как ни печально,
однако параллельно с этими — главными — сложно-
стями существует немало других: поведение публики,
языковые барьеры, климат, инвентарь, наконец, истол-
кование правил — тут арбитру приходится порой
проявлять недюжинную находчивость.
В матч-реванше 1958 года М. Ботвинник — В. Смы-
слов произошло несколько совершенно непостижимых
для соревнования такого класса происшествий. В од-
ной из партий на старте грубую ошибку допустил
В. Смыслов. В пятнадцатой Ботвинник «отреванширо-
вался». Позиция у его соперника ко времени отклады-
вания уже вызывала большие сомнения, но Ботвин-
ник, что с ним крайне редко случалось, поверхностно
проанализировал эндшпиль. За два хода до контроля
были разменены ферзи. «В подсознании, — пишет
Ботвинник, — это ассоциировалось с тем, что будто
контроль прошел — такое состояние бывает у мастера
после контрольного хода». Ботвинник сидел спокойно
и обдумывал позицию. Его секундант Г. Гольдберг не
находил себе места, арбитры сгрудились вокруг стола,
но согласно действовавшим тогда законам никто не
мог вмешаться. В положенный срок флажок на часах
Ботвинника упал, и ему был зачтен проигрыш. Гиде-
он Штальберг, арбитр того памятного матча, внес пос-
ле этого инцидента специальное предложение: разре-
95
шить судье подсказать участнику, что контрольный
ход еще не сделан.
Вообще, как ни запутана бывает околошахматная
обстановка, все же для арбитра куда существеннее со-
стояние основных шахматных законов, поскольку он
стремится следовать им неукоснительно. А что греха
таить, еще до недавнего времени наши шахматисты и
остальной шахматный мир жили кое-где как бы в раз-
ных измерениях, что приводило (а в ряде случаев и
поныне приводит!) к казусам. Сколько нервов испорти-
ло мастерам и гроссмейстерам пресловутое правило
30 ходов! То действует оно, то не действует... В турни-
ре первой лиги чемпионата СССР 1975 года у К. Гри-
горяна с Я. Клованом к двадцатому ходу сложилась
совершенно ничейная позиция, партнеры обратились
к судье, но тот предложил им доиграть до 30-го хода.
И что же: Григорян, огорченный и расстроенный, до-
пустив подряд несколько промахов, сдался. Как тут
не вспомнить эпизод с Р. Фишером на олимпиаде в
Варне в 1962 году, когда Сало Флор, главный судья
олимпиады, не принял у американца подписанные им
и Падевским уже на 19-м ходу бланки оконченной
партии, опираясь на только что утвержденное ФИДЕ
правило 30-ти ходов. Возмущенный Фишер без обиня-
ков заявил: «Я лучше, чем вся ваша ФИДЕ, знаю, ка-
кая позиция ничейная, а какая нет!»
Марк Тайманов так прокомментировал ситуацию,
случившуюся у К. Григоряна с Я. Клованом:
— Возникают вопросы: во-первых, должен ли су-
дья вмешиваться в творческий процесс, навязывая
партнерам свою оценку позиции, отличную от их
оценки? И во-вторых, заслужил ли Клован очко, если
он был согласен на половинку?
Тут мы, конечно, попадаем уже в область судей-
ских проблем, а разговор шел о другом: о том, чем
занимаются арбитры, насколько настоятельна необхо-
димость их присутствия на турнирах и матчах, како-
96
вы взаимоотношения у судей с участниками и органи-
заторами соревнований и т. д.? Из сказанного ясно,
что даже у ведущих, всеми «признаваемых» и наибо-
лее желанных арбитров жизнь далеко не легка и не
безоблачна, ведь многие из них — сами действующие
гроссмейстеры, как, например, тот же Лотар Шмид.
Уж он-то мог бы порассказать о том, сколько «своих»
турниров ему пришлось прервать в связи с очередным
крупным соревнованием, сколько важнейших дел (по-
профессии он издатель) оставить незаконченными!
НАПУТСТВИЕ ВТОРОЕ
Оказавшись в сфере шахматной партии, мы поста-
рались освоиться в ней. Будем надеяться, что нам это
удалось. Но учтем также, что за пределами нашего
разговора осталось еще очень и очень многое. Мы, на-
пример, уделили внимание дебютной стадии игры, но
практически не коснулись ни миттельшпиля, ни энд-
шпиля, а это не менее, если не более важные части
шахматной партии. Стратегия и тактика борьбы, прин-
ципы ее организации... О них мы тоже почти не бе-
седовали. Правда, вопросы это более сложные, и по-
дробно знакомиться с ними следует тем, кто намерен
заниматься шахматами профессионально.
X. Капабланка говорил, что нет лучшего способа
усовершенствования, чем занятия под руководством
какого-нибудь сильного шахматиста — и теоретиче-
ские, и практические... Это скорее даже не трениро-
вочные семинары, а просто дружеские собеседования,
сопровождаемые разбором партий, анализом самых
разнообразных положений из любой стадии игры, зна-
комство с вариантами и т. д. Опыт показал, что вели-
кий кубинский шахматист был прав.
Перед самой войной в Ленинградском Дворце пио-
неров, который помещается в Аничковом дворце —
месте пребывания императора Александра 111, был
7 В Черняк 97
открыт пионерский шахматный клуб. Забавно, что под
него отдали ни много ни мало царский кабинет. Ребя-
та быстро освоили и полюбили это место. С наиболее
талантливыми юными шахматистами занимался сам
М. Ботвинник. Вот что рассказывал об этом первый
советский чемпион мира: «Я нашел хорошую мето-
дику: занимались мы по воскресеньям, один раз в две
недели, занимались все вместе (человек 10—12). Один
у демонстрационной доски докладывал, другие слуша-
ли и критиковали. Докладчики намечались заранее,
они сообщали о выполненных заданиях, причем самых
различных: тематическая коллекция эндшпилей, ком-
ментирование партий, анализ, какого-либо дебюта и
т. д. Характер заданий определялся шахматными ка-
чествами ученика: скажем, он неудачно разыгрывал
начало партии или эндшпиль или небрежно анализи-
ровал свои партии — именно это и определяло тип и
тему задания».
Занимались в кружке будущий гроссмейстер Марк
Тайманов, ребята, ставшие в скором времени мастера-
ми. Найденная методика действительно оказалась
удачной. Ее, к слову, можно взять на вооружение в
любой школе или Доме пионеров, где есть хоть один
шахматист первого-второго разряда, а таких ребят
среди учащихся 5—8-х классов сегодня немало. Может
быть, уровень подготовки кружковцев окажется не так
высок, как в классе М. Ботвинника, но стоит ли бо-
яться этого?! Совместные занятия сдружат вас, помо-
гут в массе других дел — это уж точно!..
Шахматист, садясь за доску, должен уметь в огра-
ниченное время принять самостоятельное решение. Это
один из самых главных навыков, который дают шахма-
ты. А вот учиться хорошо играть лучше всего в кол-
лективе — этот вывод напрашивается сам собой...
Ну а теперь, когда мы чувствуем себя за шахмат-
ной доской более уверенно, нам предстоит окунуться в
гущу сражений на 64 клетках. Так что снова в путь!
ОЧЕВИДНОЕ —
НЕОБЪЯСНИМОЕ
7*
КТО СИЛЬНЕЕ — КАК УЗНАТЬ?
Странно выглядели бы шахматы, если отнять у
них соревновательную идею. Что же останется? Не-
скончаемый анализ, огромная, но лишенная содержа-
ния коллекция позиций, бессмысленные споры...
Правда, и «дуэльные поединки», проведенные экс-
промтом, со всем, что характерно для такой игры —
внезапными озарениями, сомнительными жертвами,
примитивной стратегией и т. д., — это далекий поза-
вчерашний день шахмат. Ныне разработаны и опробо-
ваны многие виды соперничества, позволяющие с
большой степенью точности установить, кто же из
участников играет сильнее. В основном это турниры и
матчи.
Борьба в турнире и борьба в матче — вещи очень
разные. Пауль Керес и Василий Смыслов были перво-
классными турнирными бойцами, но матчевые поедин-
ки давались им хуже. А Эмануил Ласкер, например,
провел за годы своих выступлений 24 матча и лишь в
двух потерпел поражение — в 1903 году от Михаила
Чигорина (6 встреч на тему «Гамбит Райса», +1, —2,
= 3) и в 1921 году от Хосе Рауля Капабланки ( + 0,
—4, =10). Гарри Каспаров, подойдя к самому подно-
жию мирового шахматного трона, одержал несколько
внушительных турнирных побед, но признавался, что
представление о том, как строить и как вести матче-
вую схватку, перед началом претендентских выступле-
ний у него было смутное.
Все это объяснимо. В турнире — противников мно-
го, среди них есть и сильные, и более слабые, есть
100
представители разных шахматных направлений.
Матч — это игра все с одним и тем же, как правило,
очень сильным, соперником, к тому же готовым отста-
ивать свое понимание шахмат, свое игровое мировозз-
рение, готовым работать, что называется, не за страх,
а за совесть.
Во время гастрольной поездки Вильгельма Стейни-
ца в Ригу в 1896 году местные мастера задали ему во-
прос о том, какой вид состязаний служит более вер-
ной пробой мастерства для шахматиста: турнир или
матч? Стейниц заявил, что может доказать математи-
чески равноценность одного матча двадцати семи тур-
нирам. В ответ на недоуменные возражения окружа-
ющих Стейниц пояснил:
— Дело очень простое. Тарраш в трех турнирах
(Бреславль, Манчестер и Дрезден) проиграл всего од-
ну партию, но в петербургском матче с Чигориным
(1893 г.) — девять; это доказывает, что один матч
равноценен трем турнирам, помноженным на девять,
а это и есть двадцать семь.
Конечно, он пошутил, но в каждой шутке, как из-
вестно, содержится доля истины. Показательно, что
для определения чемпиона мира шахматисты сразу
выбрали матч, и эта форма с тех пор осталась един-
ственной в соревнованиях на высшем шахматном уро-
вне. Напомним еще раз, что первый матч, в котором
определился сильнейший шахматист планеты, был
сыгран в 1886 году: Стейниц победил Иоганна Цукер-
торта со счетом +10, —5, =5.
У женщин же аналогичные соревнования долгое
время проходили по турнирной системе, первое состо-
ялось в 1927 году и принесло победу знаменитой Вере
Менчик, сделавшей всего одну ничью в одиннадцати
встречах.
В том же 1927 году стало разыгрываться и команд-
ное мировое первенство — сперва эти состязания на-
зывали «турнирами наций». Победитель до сих пор
101
получает кубок, учрежденный известным английским
шахматным деятелем Гамильтоном-Расселом. Первый
такой турнир выиграла венгерская сборная, а больше
всего побед сдержали в шахматных олимпиадах, как
теперь зовется этот турнир, советские шахматисты —
с 1952 года они, лишь однажды уступив победу тем
же венграм, на олимпиадах были неизменно пер-
выми.
Сейчас шахматных соревнований устраивается ве-
ликое множество. Только в рамках ФИДЕ проводится
около двух десятков мировых чемпионатов. Свои чем-
пионские звания есть у шахматистов-заочников, у
шахматных композиторов.
В композиции, к слову, — этой совершенно осо-
бой и прекрасной области шахмат, — основной вид со-
перничества конкурс. Задачи и этюды (то есть искус-
ственно составленные положения с определенным за*
данием) поступают в судейскую коллегию, которая и
распределяет их по степени ценности. Первенства ми-
ра в шахматной композиции не разыгрываются, одна-
ко и многие шахматисты-практики отлично знают име-
на Самюэля Лойда, Леонида Куббеля, Льва Лошинско-
го, Алексея Троицкого, Генри Ринка, Мирослава
Хавеля и других великих проблемистов и составите-
лей этюдов.
О «поэзии шахмат» вообще стоит сказать подроб-
нее. Она зародилась в глубокой древности. Сперва кое-
кто из шахматистов стал записывать концовки игр,
собирать их в коллекции. Этим позициям дали даже
специальное название — «мансубы», что по-арабски
означает «окончание партии». Демонстраторы мансуб
иногда сочиняли о своих задачах занятные мифы. Не-
которые из легенд пережили века, например, сказа-
ние о жене визиря Диларам, якобы посоветовавшей
мужу в критической ситуации жертву двух ладей, что
и было воспроизведено на мансубе.
Так, собственно, и родилась шахматная компози-
ция. Конечно, к ней можно относиться по-разному:
как, впрочем, и к поэзии вообще. Лев Толстой считал,
что писать стихи — это все равно, что идти за плугом,
приплясывая. А известный советский поэт Леонид
Мартынов, когда ему пришлось работать в газете, пер-
вые свои очерковые материалы сначала создавал в
стихах, а потом переписывал прозой. Шахматисту-
практику обычно ближе этюд. Многие известные шах-
матисты, такие, скажем, как М. Ботвинник, В. Смыс-
лов, Д. Бронштейн, сами составляли этюды. А вот
Пауль Керес предпочитал задачи и составил их око-
ло 170!
Возвращаясь к теме нашего вступления в этот раз-
дел, добавим, что именно соревновательная сторона
шахмат делает их особенно привлекательными для лю-
103
дей самого разного возраста, темперамента, способ-
ностей, характера. Впрочем, об этом как раз нам и
предстоит сейчас довольно долгий разговор.
ПОБЕДА — ПОРАЖЕНИЕ —
НИЧЬЯ
Других результатов в шахматной борьбе не бы-
вает, только эти: победа, поражение, ничья...
О победе что долго говорить? Победителей не су-
дят, выигравший всегда прав! Факт, однако, что побе-
ды в некоторых партиях и целых турнирах, с виду и
весомые и убедительные, оставляли любителей шах-
мат совершенно равнодушными, а другие — одержан-
ные, казалось бы, с неимоверным трудом, а то и слу-
чайно, вызывали бурные эмоции и запоминались на-
долго. Значит, все же победа победе рознь.
Сейчас уже стало постепенно забываться, что со-
бой представлял за шахматным столиком одиннадца-
тый чемпион мира Роберт Фишер, но гроссмейстеры
старшего поколения, видевшие американца, что назы-
вается, в деле, могли бы многое поведать о его шах-
матной мощи, а заодно и о невиданно целеустремлен-
ной настроенности на победу в каждой встрече.
Фишер был фанатиком шахмат в полном смысле
этого слова. На турнире в Цюрихе в 1959 году в пар-
тии со старейшим участником Гедеоном Барцей он не
добился перевеса, но продолжал упорно отыскивать
атакующие возможности. Партнеры трижды отклады-
вали встречу и доигрались до голых королей — в этой
позиции Фишер все-таки сделал еще 2 хода! Когда на
103-м ходу партия была признана ничьей, Барца чув-
ствовал себя полностью изможденным в отличие от
Фишера, который как ни в чем не бывало предложил
посмотреть ее с первого хода: «Где-то ведь я мог сыг-
рать посильнее!» Пришедший в ужас Барца наотрез
отказался:
104
— Что вы, у меня жена, дети, кто будет их кор-
мить в случае моей безвременной смерти!
Признаться, такой игры с фишерских времен мы
больше не видели. С выступлениями американского
гроссмейстера связаны и сенсации, и скандалы, но в
нашей памяти он остался прежде всего неукротимым
бойцом, глубоко эрудированным, преданным шахма-
там и обладавшим удивительно чистым и логичным
стилем игры.
Шахматисты всегда были особенно придирчивы к
тому, за счет чего одержана победа, какие ценности
утверждаются ею, что привнес победитель в нашу об-
щую шахматную копилку? Не надо думать, что шах-
матный мир неизменно оказывался при этом справед-
ливым и правым. Увы, некоторых победителей, случа-
лось, совершенно незаслуженно обвиняли в тех или
иных «грехах». Так было, например, с Эмануилом
Ласкером — его подхода к игре долго не понимали.
Ласкер делал порой заведомо слабые ходы, не боялся
ставить партию на грань поражения, упорствовал в
позициях, не дававших, по общему мнению, ни малей-
ших оснований для рискованных операций. И что
же? Соперники его получали преимущество, Лас-
кер — очко! Чемпиона даже заподозрили в гипноти-
ческом воздействии на партнеров. Ранее, к слову, та-
кие же претензии предъявлялись Морфи, а позже Та-
лю и тому же Фишеру.
После нюрнбергского турнира 1896 года Тарраш
составил специальную «таблицу везения». В ней отра-
жались результаты каждого участника — и те очки,
что были завоеваны шахматистами в соответствии с
логикой событий, развернувшихся на доске, и те, ко-
торые были получены, благодаря «случайным» ошиб-
кам соперников. На счету Ласкера оказалось целых
пять партий, выигранных в худших позициях, причем
ошибки, совершенные его противниками, как говорит-
ся, «не лезли ни в какие ворота». Тарраш все их акку-
105
ратно проанализировал и сделал вывод: «Но кто же
может сражаться против волшебства!»
Трудно пришлось уже в наше время Андрею Соко-
лову. Его победы, одержанные зачастую в критических
обстоятельствах, внешне вопреки логике, у некоторых
любителей шахмат, да и у мастеров вызывали плохо
скрытое раздражение. Гроссмейстеру, тоже с большой
досадой воспринявшему пересуды относительно харак-
тера его достижений, пришлось даже выступить с объ-
яснениями :
— Наслышан о своем везении... Можно подумать,
что я просто так сижу за доской, а это пресловутое
везение заставляет соперников ошибаться, разгадывает
их ловушки. Нет, дело в другом.
И действительно, многие любители шахмат обра-
щали в тот момент основное внимание не на то, за
счет чего был достигнут успех. Как-то вне поля зре-
ния оставались волевые качества шахматиста, отме-
ченные разве что двумя-тремя комментаторами, осо-
бенности его стиля, в частности, универсальность,
стремление к импровизации, изобретательность и т. д.
Когда мастера попристальней присмотрелись к твор-
честву московского гроссмейстера, выявили и его не-
достатки, играть А. Соколову стало неизмеримо слож-
ней, отсюда и последовавший за сенсационными уда-
чами и тоже сразу всеми отмеченный спад.
Если столько проблем вызывает успех, то понятно,
что неудачи влекут их еще больше. Что бы ни говори-
лось о поражении вообще, главное — оно есть след-
ствие ошибки. Допускать неточности приходилось на
своем веку всем — и гроссмейстерам, и любителям.
Но если вряд ли кого удивят ошибки в любительской
игре, то как их совершают шахматисты, способные
«схватить» позицию мгновенно, знающие множество
типовых способов ведения борьбы, хорошо тренирован-
ные и подготовленные? Возникает все же встречный
вопрос: а какое продолжение считать ошибочным?
106
Интересное примечание дает Бент Ларсен к на-
чальным ходам одной из партий Савелия Тартакове-
ра: «Продолжение не из сильнейших, но почему надо
всегда избирать именно сильнейшие?» Тартаковер,
принципиально стремившийся уйти подальше от об-
щепринятых норм, не колеблясь, выбрал из многих
путей наиболее замысловатый. Естественно, он видел
другие — простые и более эффективные, но отдал
предпочтение своей трактовке, поскольку учитывая,
делая ход, еще множество факторов: турнирную ситу-
ацию, личность соперника, собственные пристрастия,
настроение в данную конкретную минуту. Он надеял-
ся, например, переиграть партнера в сложном мит-
тельшпиле. Или решил сразу сдать центр с тем, чтобы
организовать в дальнейшем его осаду. Или просто
имел в виду заготовленную еще дома ловушку. Что
гадать? Ясно, что сделанный ход, хотя и отдающий
сопернику пешку, уступающий центральные поля,
имеющий и еще немало пороков, нельзя оценить од-
нозначно — для кого-то он будет выглядеть ошибкой,
для кого-то нет. Шахматы — задача неточная...
Безоговорочное осуждение вызывают лишь наибо-
лее грубые ошибки, так называемые просмотры. Их
опытные мастера переживают особенно остро.
В 1950 году на первом турнире претендентов в
Будапеште Котов, игравший со Смысловым, уже к
двадцатому ходу получил подавляющую позицию.
Встреча была для него очень важной, поскольку побе-
да давала шансы попасть в первую пятерку, а значит,
и право в следующий раз участвовать в аналогичном
соревновании без отбора. Имея в запасе несколько вы-
игрывающих продолжений, Котов решил не форсиро-
вать события, отложить партию и проверить все в спо-
койной обстановке. Но, когда до контроля осталось
всего три хода, он вдруг передумал — ему померещи-
лась короткая финальная комбинация. Смыслов хлад-
нокровно забрал пожертвованный материал... «Вместо
верной единицы я получил обидный ноль, — писал
Котов, еще двадцать лет спустя переживавший свою
неудачу. — Как это случилось, почему, я до сих пор
понять не могу. Когда теперь мне говорят о непонят-
ных ошибках, о странных казусах мышления шахма-
тиста, я вспоминаю этот случай, доказывающий, что
в процессе утомительной борьбы в серьезном соревно-
вании возможны самые невероятные заблуждения».
Не оттого ли ныне шахматисты, поставленные в
жесткие условия отбора, стремятся совершенно созна-
тельно действовать с повышенной надежностью, что, в
свою очередь, увеличивает процент ничьих? «Лучше-
го результата добиваются не те, кто делает много хо-
роших ходов, а те, кто делает мало плохих», — подме-
тил как-то Артур Юсупов. Ничья, таким образом, ста-
108
ла едва ли не самой больной проблемой современных
шахмат.
Затронув эту тему, нам снова придется обратиться
к истории. Дело в том, что не так давно сами шахма-
ты выглядели несколько иначе. Игрались, как сегодня,
турниры и матчи, но это были в основном творческие
соревнования, в которых шахматисты стремились от-
стоять свое понимание игры, утвердить истины, рож-
денные в итоге многолетних поисков и раздумий.
Иерархическую гроссмейстерскую лестницу выстраи-
вало обычно общественное мнение, что имело свои
плюсы и минусы. Все понимали, к примеру, что Мизес
может провести красивую комбинацию, что Маршалл
способен продемонстрировать каскад ловушек, что Ру-
бинштейн или Мароци умеют бороться в эндшпиле,
как никто другой, но шансов завоевать мировую шах-
матную корону у всех у них немного, так как для
борьбы на высшем шахматном уровне требовался еще
целый ряд качеств, которыми эти гроссмейстеры не
обладали. Случались споры, интриги, заблуждения,
многое случалось... Вот почему шахматисты едино-
душно приветствовали появление стройной системы
выявления лучших из их среды: казалось, что теперь
все будет решаться непосредственно за шахматной до-
ской. К сожалению, любая схема, как и отсутствие
таковой, имеет свои недостатки...
Заметим попутно, что перевес в средствах защиты
над атакующим шахматным потенциалом заложен в
шахматные правила изначально. На это обратил вни-
мание ведущий исследователь эндшпиля гроссмейстер
Юрий Авербах:
— Ведь путь к победе только один — мат неприя-
тельскому королю. А сколько путей к ничьей! Во-пер-
вых, это достижение позиций, где материальный пере-
вес недостаточен, чтобы дать мат. Во-вторых, пат.
В-третьих, вечное преследование (частный случай
его — вечный шах). В-четвертых, построение непри-
109
ступной крепости. И, наконец, в-пятых, блокада, когда
из игры выключается по крайней мере одна из фи-
гур противника и тем самым нейтрализуется его ма-
териальный перевес. Все эти пять путей спасения,
разработанные теоретиками и этюдистами, нашли свое
место в теории эндшпиля.
Слов нет, при этом органическом «несовершенстве»
шахмат игралось и играется множество партий, где за
победу идет настоящая борьба, а ничья служит всего
лишь итогом равновесия сил. Значит, думать нужно
над тем, чтобы исключить из шахматной практики
другие ничьи — бесстрастные, заведомые, легкие...
Ведь если «щит» в сегодняшних шахматах торже-
ствует, видимо, что-то неладно с «мечом».
Ну а теперь подведем итоги нашего разговора.
Можно с уверенностью сказать: сердцу истинного лю-
бителя шахмат наиболее близок выигрыш, особенно
красивый — с жертвами, тонкими позиционными хо-
дами, психологическими нюансами. Поражения дают
пищу для размышлений — правильно считают, что из
проигранных партий можно научиться большему, чем
из выигранных. К ничьей же, признаться, у шахмати-
стов отношение отрицательное, поскольку она не раз-
решает конфликт на доске. Но и с ничьими скрепя
сердце приходится мириться.
ОТ ТУРА К ТУРУ
В любом турнире можно по-разному построить
стратегию своего выступления. Например, спокойно
играть партию за партией, исходя из позиций и не
тратя времени на изучение личностей соперников, не
интересуясь турнирной ситуацией, не придавая боль-
шого значения спортивным целям. Так или примерно
так, случалось, действовали и достаточно известные
мастера, скажем, Акиба Рубинштейн. Можно избрать
и еще более упрощенный стиль игры, стремясь, так
110
сказать, к «ничьей в кармане» и рискуя лишь от слу-
чая к случаю, а то и вовсе отказываясь от риска.
В дни, когда проходило первенство страны 1986 года,
корреспонденты спросили у одного из самых юных
его участников, Евгения Бареева, какие цели он пре-
следует в каждой партии? Тот ответил, что в основ-
ном предпочитает выжидать — «самому играть резко
страшно...». Что ж, много очков таким образом не на-
брать, но «зацепиться» за приличное место в середине
турнирной таблицы вполне возможно. Есть, наконец,
и третий путь, и четвертый. Есть и определенные зако-
номерности... Для подавляющего большинства сего-
дняшних мастеров любое выступление разбивается
как бы на три этапа: подготовка к турниру, сам тур-
нир, подведение итогов. Вот и попробуем «пройтись»
по всем трем этапам.
Гарри Каспаров после второго матча с Анатолием
Карповым (1986 г.), завоевав высший шахматный ти-
тул, специально остановился в беседе с журналистом
на значении того труда, который был потрачен перед
матчем. О чем же рассказал гроссмейстер?
— Если говорить о чисто теоретической подготов-
ке, то нам пришлось переработать огромный объем
информации и правильно ее оценить. Мы многое учли.
Исходя из этого, кстати, шел подбор новых дебютов.
Скажем, выбор защиты Нимцовича оказался очень
удачным. Между тем это один из краеугольных дебю-
тов Карпова, до сих пор не встречавшийся в наших
партиях. И он набрал именно в партиях с этим дебю-
том, как у нас говорят, «минус три» — трижды проиг-
рал. Вот что значит подготовительная теоретико-ис-
следовательская работа! И я убежден: навязать свою
игру можно только путем лучшей шахматной подго-
товки, создав ряд неожиданностей для соперника.
Мысль чемпиона мира абсолютно ясна: шахма-
тист, лучше подготовившийся, имеющий в запасе но-
винки, любящий и умеющий анализировать, внима-
111
тельно изучивший творчество своего соперника, по
всем канонам должен иметь преимущество. Однако...
На XVII всемирной олимпиаде в Гаване (1966 г.)
игравшему на первой доске за команду Болгарии Ни-
коле Миневу предстояла встреча с Робертом Фише-
ром, в то время еще далеко не чемпионом мира. Опыт-
ный международный мастер Н. Минев отнесся к делу
со всей серьезностью. «Я не располагал коллекцией
партий Фишера, — писал он потом, — но большин-
ство из них просматривал и имел достаточно полное
представление о его дебютных вкусах. Какой дебют
из моего репертуара будет для него наименее прият-
ным?» Сицилианская защита отпала сразу, так как ее
Фишер сам успешно применял. В испанской болгары
уже однажды пытались «выловить» Фишера — его со-
перник Бобоцов получил позицию, которая стояла на
доске у всей болгарской сборной в период подготовки
и была оценена вполне оптимистично. Ко всеобщему
удивлению, Фишер, вместо пяти-шести ожидаемых
продолжений, избрал седьмое — по виду самое неле-
пое — и... уже через два хода имел выигрыш! От «ис-
панки» Н. Минев тоже отказался и вспомнил об одном
редком варианте французской защиты, который про-
тив американца еще никто не играл. Между тем во
французской Р. Фишер не раз испытывал трудности,
например, во встречах с Э. Меднисом, которому он
проиграл на первенстве США, и с Н. Падевским в
1962 году в Варне — эту партию Фишер не без труда
свел вничью. Минев нашел в дебюте несколько инте-
ресных новинок (их, к слову, потом применяли) и сел
за доску, исполненный честолюбивых надежд.
До седьмого хода все шло по плану. «Здесь, — пи-
шет Н. Минев, — моя подготовка закончилась, теоре-
тическая новинка должна была принести успех». Свой
восьмой ход Р. Фишер сделал мгновенно, очень про-
стой ход конем... И Минев с ужасом понял, что аме-
риканец просто не обратил на его новинку никакого
112
внимания, что он вообще не видит в этой позиции ни
малейших проблем. Мастер был огорчен и раздосадо-
ван, играл как обреченный, попал в цейтнот и на
34-м ходу сдался. «Конечно, Фишеру может проиг-
рать каждый, — заканчивает Н. Минев свою печаль-
ную повесть, — но я был подавлен разгромом. До этой
партии я играл на олимпиаде неплохо, после нее же
наступил необъяснимый спад, которому я нахожу од-
но толкование: я ожидал эффекта от новинки, а его
не последовало. И подобно бумерангу новинка «сыгра-
ла» против меня».
Да, увлечение исследованиями, как видим, штука
обоюдоострая... Все же большинство современных ма-
стеров придают подготовительной работе первостепен-
ное значение. Михаил Ботвинник неоднократно напо-
минал, что умение правильно подготовиться к турни-
ру — один из главных компонентов будущего успеха.
Тем интереснее послушать и другие мнения на этот
счет, не такие, конечно, многочисленные, но тоже ав-
торитетные. Кое-кто считает тезис М. Ботвинника от-
нюдь не бесспорным. Например, из этических сообра-
жений. «В условиях «массированной» домашней под-
готовки шахматы на мастерском уровне превратились
в соперничество не столько талантов, интуиции, фан-
тазии, сколько знаний и памяти...» — это Давид
Бронштейн. А вот еще — эти сожаления высказаны
Мигелем Найдорфом:
— Наши шахматы были другими. Сейчас в них
слишком много науки. Все стараются все знать, самые
молодые знают больше всех. Слишком много науки,
слишком мало игры!
Как и следовало ожидать, с большой подозритель-
ностью отнеслись к рекомендациям Ботвинника шах-
матисты практического склада. Суть сомнений заклю-
чалась примерно в следующем: у мастера, потратив-
шего бездну времени на теоретические разработки в
подготовительный период, нет гарантии, что они ока-
8 В. Черняк ИЗ
жутся безукоризненно точными, а стало быть, можно
нарваться на опровержение уже где-то в начале ана-
лиза. Бент Ларсен заявил однажды, что вообще не
верит в обстоятельные исследования: «Анализ слиш-
ком длинен!.. Этого достаточно, чтобы не доверять
ему. Длинные анализы полны ошибок и упущений...
Меня длинные варианты не интересуют». Продолжая
эти возражения, можно сформулировать и подобие
другой, не ботвинниковской программы: работай боль-
ше уже во время турнира, внимательно следи за тем,
что и как играют вокруг, мотай на ус...
Приоткрыл Бент Ларсен завесу и над своей мето-
дикой опровержения длинных вариантов. Он предла-
гает как минимум две возможности: во-первых, сле-
дует обратить внимание на все слишком естественные
ходы, а во-вторых, на те, которые комментаторы снаб-
дили восклицательными знаками. В качестве примера
датский гроссмейстер подробно разобрал партию Пи-
отровский — Пытель, сыгранную по переписке и кра-
сиво завершенную черными. Наиболее уязвимыми в
ней оказались как раз такие продолжения. Рекомендо-
ванные атаки при точной игре не приводили к цели, а
рекомендованные защиты ничего не защищали. В за-
ключение Ларсен добавил, что не хочет критиковать
шахматные издания, пользующиеся для своих оценок
символами, но «не стоит забывать, что символами лег-
че сказать «да» и «нет», и труднее «может быть».
Иными словами, Ларсен выступает противником
всякой категоричности, а без нее какой же смысл го-
товить анализы?! Ведь в конце должна быть постав-
лена точка: «Здесь у белых лучше» или: «Черные
имеют равенство». Впрочем, для некоторых шахмати-
стов и это еще не точка! Стоит вспомнить, например,
Пауля Кереса, блестящего аналитика и турнирного
бойца. Даже в простейших положениях он умел отыс-
кать нешаблонный путь. Да и сложность Кереса ни-
когда не смущала. А вот недостатки его впору при-
знать уникальными! Об одном из них рассказывал
Александр Котов:
— Мне случалось анализировать партию с Паулем
Кересом или разбирать какую-нибудь позицию. Меня
поражала в нем одна особенность. Найдя один путь к
победе, эстонский гроссмейстер тут же принимался ис-
кать другой. Кажется, все ясно — белые выигрыва-
ют фигуру, так нет, ему мало: а нельзя ли выиграть
ферзя? Найдет, как остаться с лишним ферзем, тотчас
ищет мат. «Зачем все это нужно?» — не раз выходил
я из себя. Мой друг молча продолжал передвигать фи-
гурки на доске.
Котов не зря сетовал на эту особенность Кереса —
она мешала эстонскому шахматисту и в практической
игре. В 1966 году в Амстердаме, имея выигрышную
позицию против Филипа, Керес нашел целых пять
8* 115
продолжений, позволявших реализовать преимуще-
ство немедленно. А на доске сделал ход из шестого
варианта, который... проигрывал.
Дело, видимо, и в том, что искать в каждой пози-
ции, в каждой встрече: практические пути к победе
или ничьей — многие шахматисты поступают именно
так — или возможности, которые вообще в данном по-
ложении содержатся. Это разные подходы, и за каж-
дым из них — свои плюсы и минусы. Кто-то с легкой
душой откажется от сомнительного варианта, пусть
там и есть крупицы истины, но можно отыскать более
богатые шансами продолжения! Кто-то будет снова и
снова докапываться до самых глубин, рискуя при этом
ошибиться, но не в силах изменить самому себе.
Здесь мы, конечно, чуть отклоняемся от темы в
сторону других проблем — условно их можно назвать
проблемами стиля. Но разве не от стиля игры зависит
и выработка турнирной или матчевой стратегии?
После матча на первенство мира 1951 года его
участники М. Ботвинник и Д. Бронштейн несколько
раз возвращались к итогам этого соревнования. Разно-
речивые объяснения вызвали уже первые два хода,
сделанные в матче, — Бронштейн, игравший черны-
ми, остановил свой выбор на голландской защите, ко-
торую в те годы с успехом применял сам Ботвинник.
Как не вспомнить попутно, что сходной тактики при-
держивались А. Карпов и Г. Каспаров. Оба сочли та-
кой подход плодотворным. Ботвинник же решил, что у
его соперника просто не было подготовлено к матчу
ничего существенного: «Результаты, однако, хороши-
ми быть не могли». Бронштейн с этим выводом не со-
гласился и привел аргументы в защиту выбранного
им способа борьбы — ведь матч окончился вничью —
против Ботвинника тех лет любой признал бы такой
результат успешным. Скорей всего соперники ставили
при подготовке к партиям разные задачи и, естествен-
но, не сошлись на том, сколь эти задачи важны. Ана-
пе
литику Ботвиннику казался поверхностным метод
Бронштейна, а импровизатору Бронштейну — сухим
и слишком рационалистичным исследовательский па-
фос его партнера.
Может показаться, что, говоря о стратегии выступ-
лений, мы опустили третью часть — подведение ито-
гов. Но их анализу, если приглядеться, посвящен весь
наш разговор — мы ведь все время обращаемся к ре-
зультатам соревнований!
НАЕДИНЕ С ГРОССМЕЙСТЕРОМ
Трудно, наверное, представить себе шахматиста,
никогда не участвовавшего в шахматных соревновани-
ях. Уж хоть в одном-двух он сыграл! Не в турнире,
так в матче, не в матче, так в сеансе одновременной
игры... Последнее наиболее вероятно. Какие только
нынче не устраиваются сеансы! И очень хорошо, ведь
для некоторых любителей шахмат — это практически
единственная возможность оказаться с глазу на глаз
за доской с шахматистом высокой квалификации, да-
же с гроссмейстером. Особенно для тех, кто живет в
маленьком городке или на селе и не избалован избыт-
ком шахматных мероприятий.
Стоит ли удивляться, если партия, сыгранная в та-
ком сеансе, запоминается человеком надолго, а чаще
навсегда! И не только сама партия — все, связанное
с игрой.
Михаил Ботвинник описывает один из сеансов
Эмануила Ласкера, данный им во время пребывания
в нашей стране в 1924 году: «Зрелище было для меня
необычным: 55-летний Ласкер медленно передвигал-
ся внутри квадрата, образованного шахматными сто-
ликами. Он играл как белыми, так и черными (ему это
было безразлично). Я знал многих из его противни-
ков. За исключением нескольких мастеров, все силь-
нейшие шахматисты Ленинграда пришли встретиться
117
за доской с великим маэстро... Игра развивалась
очень медленно, и я покинул зал что-то после первых
15 ходов, так как школьнику уже пора было спать...»
Надо сказать, что Ботвинник всего за несколько меся-
цев до этого сеанса научился играть в шахматы, ему
была интересна обстановка большого соревнования,
отсюда такая точность и скрупулезность в изображе-
нии деталей.
Участие в сеансе — это проверка собственных сил,
некий экзамен. Можно сыграть десятки партий в сво-
ем кругу, но всего одна встреча с мастером или гросс-
мейстером, пусть сеансовая, зачастую дает неизмери-
мо больше. Шахматисты это знают. Мастера, как пра-
вило, тоже, выступая в сеансе, ставят перед собой
определенные задачи, стремятся, например, ориенти-
руясь на результат сеансового выступления, сделать
выводы относительно своей спортивной формы.
В период подготовки к матчу с Анатолием Карпо-
вым, следуя своей проверенной предстартовой про-
грамме, Гарри Каспаров, тогда еще не чемпион мира,
дал сеанс одновременной игры основному составу
сборной сильного шахматного клуба ФРГ «Гамбург».
Команда была укомплектована мастерами, причем
коллектив получился интернациональный: возглавил
же его гроссмейстер М. Чандлер. Претендент на миро-
вую шахматную корону действовал по обыкновению
энергично и изобретательно, однако общий результат
все же оказался не в его пользу — 3,5 : 4,5.
С тех пор Гарри Каспаров провел десятки шахмат-
ных соревнований, выиграл матч на звание сильней-
шего шахматиста планеты, отстоял его и победил пре-
имущественно в личных встречах почти всех супер-
гроссмейстеров. И вот, завершив, так сказать, дела не-
отложные, он вспомнил о своем неожиданном «долге».
После выигрыша у очередного «конкурента» (им был
англичанин Н. Шорт, счет 4 : 2 в пользу чемпиона)
Гарри Каспаров отправился в ФРГ и сел за доску
118
«против всего «Гамбурга». В сеансе на этот раз уча-
ствовали два международных мастера и четыре масте-
ра ФИДЕ, средний рейтинг команды — 2354. Но, ка-
жется, такой состав соперников только повысил мощь
каспаровской игры. «Реванш» завершился убедитель-
ной победой гроссмейстера со счетом 7:1.
По инерции чемпион с сухим счетом 32 : 0 выиг-
рал еще один сеанс, где против него играли, помимо
людей, два компьютера. Комментаторы единодушно
отметили исключительно высокий для «легкого» жан-
ра уровень партий, сыгранных в обоих сеансах. И, ду-
мается, состоянием своей спортивной формы Г. Кас-
паров в тот момент был вполне удовлетворен, равно
как и его тренеры.
Роберт Фишер, как известно, став чемпионом, из-
бегал встречаться с шахматистами в турнирах, сетуя
на девальвацию гроссмейстерского звания. Он гово-
рил, что в его адрес поступали предложения сыграть
матч с такого рода «гроссмейстерами», но он неизмен-
но отказывался:
— Если бы речь шла о том, чтобы дать им всем
сеанс одновременной игры, я бы, может быть, и согла-
сился, а так — слуга покорный!
Не будем ввязываться в полемику относительно
гроссмейстерской силы, дело это тонкое и деликатное,
но, похоже, что нынешний обладатель шахматной ко-
роны прочно принял идею Фишера на вооружение.
Недавно, например, Г. Каспаров дал в Цюрихе сеанс
одновременной игры с часами шести шахматистам,
входящим в сборную Швейцарии. Лишь Вернеру Хугу,
носившему в свое время звание чемпиона мира среди
юношей и поставившему чуть позже рекорд в сеансах
(560 досок, +385, —49, =126), удалось свести партию
вничью. Остальные потерпели поражения.
Между прочим, в городском зале конгрессов, где
проходил сеанс, незадолго до того состоялась между-
народная встреча предсказателей судьбы — астроло-
119
гов. В некоторых странах эта «наука» популярна.
Швейцарский журналист Ив Краусхаар, занимающий
пост пресс-секретаря национальной шахматной феде-
рации, попросил кое-кого из участников встречи вы-
сказать свое мнение по поводу предстоящего сеанса,
однако вразумительного ответа не получил.
— Я был склонен объяснить это недостаточным
профессионализмом, — сказал И. Краусхаар сразу же
по окончании сеанса, — но теперь вижу, что это было
скорей проявлением тактичности...
Именно И. Краусхаару когда-то Р. Фишер дал свое
знаменитое интервью, строки из которого цитирова-
лись выше.
Занятно, что мысль Р. Фишера реализовал не один
Г. Каспаров. Сеансы сильнейших шахматистов мира,
данные довольно крепкому составу участников, стано-
вятся все популярнее. Там ясе в Швейцарии Артур
Юсупов, например, встретился с десяткой лучших
шахматистов Женевы. Гроссмейстер проиграл одну
партию и еще одну свел вничью, в остальных победа
осталась за ним.
Давно уже подобные сеансы устраивают не только
с рекламной целью и не только в тот момент, когда
идет подготовка к какому-то ответственному состяза-
нию. Мастера, особенно играющие за сборную страны,
безусловно, способны оказать серьезное сопротивле-
ние, кто бы против них ни выступал. Вот почему сего-
дня сеансы используются и в качестве своеобразного
испытательного полигона. Партии, сыгранные в не-
принужденной обстановке, анализируются столь же
строго, как и те, что проведены в обычных турнирах.
Опытные шахматные бойцы, подчас вопреки тренер-
скому скептицизму, отстаивают в сеансовых поедин-
ках идеи, за которые в ином случае пришлось бы рас-
плачиваться по гораздо более дорогой цене. Это сдела-
ло и сеансы более содержательными.
Какой интересный сеанс провели английские гросс-
120
мейстеры Энтони Майлс и Джон Нанн в Утрехте (Гол-
ландия)! Это тематическое соревнование было органи-
зовано в честь столетнего юбилея местного шахматно-
го клуба. Против гроссмейстеров выступили кандида-
ты в мастера, оставившие за собой белые фигуры.
Старшим по шахматному званию пришлось начинать
партии с довольно сомнительной табии в сицилиан-
ской защите. Тем не менее успех сопутствовал гросс-
мейстерам, набравшим в общей сложности 8 очков из
9 возможных. Кто-то из журналистов высказал мне-
ние, что и белым цветом они набрали бы очков не
меньше... Но разве дело только в очках?! Проверялся
проблемный вариант, получена ценная информация,
за перипетиями борьбы с удовольствием следили зри-
тели — что еще требовать от «легкого» жанра?
Испытание модных систем в сеансах тоже неново.
Правда, испытывать можно по-разному: или чисто
механически, демонстрируя неизмеримо большую
осведомленность, или творчески, когда, невзирая на
скоротечные и специфические условия сеанса, из
множества продолжений выбирается самое парадок-
сальное и неожиданное, такое, что еще почти не
встречалось на практике!
Игорь Зайцев, многолетний тренер экс-чемпиона
мира Анатолия Карпова и сам сильный гроссмейстер,
сразу же после завершения серии матчей на высшем
уровне, отправился в Воронеж, где выступил с лекци-
ями и сеансами одновременной игры.
— За последние три года, — рассказывал потом
гроссмейстер, — мне только раз удалось сыграть в тур-
нире — его организовала шахматная федерация Мос-
ковской области. Почти все время съедает аналитиче-
ская работа. Печать этой специфики лежала и на сеансо-
вых встречах. Даже в них срабатывала ставшая, по-види-
мому, уже профессиональной нацеленность на новинку.
Оригинальные планы были опробованы И. Зайце-
вым едва ли не в каждом сеансе и выдержали, следует
признать, довольно жесткую проверку на прочность.
Несколько позиций сеансер опубликовал с целью при-
влечь к ним внимание любителей шахмат.
Мы здесь говорили главным образом про обычные
сеансы. Но вообще-то видов их очень много: «всле-
пую», когда мастер играет, не глядя на доску, аль-
тернативные — в одном из таких сеансов как раз и
участвовали Э. Майлс и Д. Нанн; заочные и т. д. Сто-
ит в связи с этим коротко остановиться на рекордных
достижениях в области сеансовой игры.
О рекорде В. Ху га мы уже рассказывали. В так
называемых «беспроигрышных» сеансах, кажется, по-
ка так и не перекрыто достижение чехословацкого
гроссмейстера Властимила Горта, — в апреле 1977 го-
да он выступил в Исландии против 201 соперника и
сделал всего несколько ничьих. Лучший результат в
122
игре, не глядя на доску, показал американский ма-
стер Джордж Колтановский. Его сеанс на 56 досках,
состоявшийся в 1960 году в Сан-Франциско, продол-
жался 9 часов 45 минут и окончился великолепным
итогом: +50, —0, =6. Вряд ли когда-нибудь это до-
стижение будет повторено. Среди чемпионов мира
вслепую лучше всех играл Александр Алехин, на его
счету 32 встречи — этот рекорд был установлен в
1932 году в Чикаго.
Сегодня все большую популярность завоевывают
сеансы, проведенные на расстоянии. Один из самых
известных устроило Французское телевидение в
1988 году: Гарри Каспаров, находясь в Каннах,
«встретился» с десятью молодыми шахматистами, пре-
бывающими у себя дома. В команду входили два меж-
дународных мастера, три мастера ФИДЕ, национальные
мастера и вместе с юношами — Д. Северейд, междуна-
родный мастер среди женщин. Каспаров быстро наби-
рал очки, однако при счете 5 : 0 вдруг надолго «исчез»
из эфира — оказалось, что вице-чемпион мира среди
«кадетов» М. Адамс получил решающее преимущество,
которое довел до победы. Ничью с гроссмейстером сде-
лал наш Миша Улыбин, имевший в тот момент против
Г. Каспарова положительный счет в сеансах: 2 : 1.
Итак, сеансы издавна составляют увлекательную и
красочную сторону шахматной действительности. Они
как бы связывают в соревновательном плане сильных
шахматного мира с его рядовыми гражданами, нагляд-
но подтверждая девиз «Все мы одна семья». Из сеансов
выросли многие формы соревнований, в том числе пио-
нерских, об этом нам сейчас и предстоит побеседовать.
ГЛАВНЫЕ СТАРТЫ
Хорошо сохранившаяся фотография восьмидесяти-
летней давности... За доской шахматные «вундеркин-
ды» того времени Александр Алехин и Петр Романов-
123
ский. Обоим по семнадцать лет — для вундеркиндов
нынешних не так уж и мало. Каспаров, Карпов, Салов
и еще целая группа шахматистов в этом возрасте уве-
ренно стояли на мастерской отметке, а Роберт Фишер
был даже гроссмейстером. Удивительно ли?.. Ду-
мается, чемпионы прошлого века и начала нынешне-
го с большим недоверием отнеслись бы к тому факту,
что сегодня для молодых, а то и совсем юных героев
шахматной сцены устраиваются соревнования, каче-
ство проведения и популярность которых не уступают
лучшим из «взрослых» турниров, что в подавляющем
большинстве «шахматных» стран организуются пер-
венства мальчиков, юношей, девушек и девочек, что
становление юных дарований проходит теперь очень
быстро.
На межзональном турнире 1987 года финишную
черту первыми уверенно пересекли наш Валерий Са-
лов и исландец Йохан Хьяртарссон. Комментаторы
единодушно отметили сенсационность победы моло-
дых гроссмейстеров, особенно выделив успех исланд-
ского шахматиста. Но так ли неожидан был его
результат? Алексей Суэтин писал, например: «СХьяр-
тарссоном меня связывают давние воспоминания. Ле-
том 1981 года я в течение месяца работал тренером
сборной Исландии. Хьяртарссон был самым юным слу-
шателем. Тогда он еще учился в лицее. Обращали на
себя внимание его активность и любознательность. Та-
лант исландского шахматиста расцвел очень быстро.
Кстати, в маленькой Исландии, как и в нашей стране,
шахматы стали подлинно народной игрой — в каж-
дой третьей (а может быть, и второй) семье там стоят
шахматные столики». Понятно, почему сегодня Ислан-
дия далеко опередила другие страны по числу гросс-
мейстеров, приходящихся, так сказать, на душу насе-
ления.
С большим интересом любители шахмат следят за
юношескими и детскими турнирами в Венгрии, Румы-
124
нии, Болгарии, Югославии, Великобритании и многих
других странах. А ведь устраиваются еще и мировые
чемпионаты — для юношей, кадетов, то есть шахма-
тистов не старше 16 лет; для девушек и т. д.
Если говорить о пионерских соревнованиях, прово-
дящихся в нашей стране, то, пожалуй, из большого
их числа следует выделить два главных старта: «Бе-
лую ладью» (всесоюзный турнир пионерских дружин)
и командное первенство среди Дворцов пионеров и
школьников на приз «Комсомольской правды» — то-
же всесоюзное. Оба чемпионата весьма престижны и
представительны.
Первое плаванье «Белой ладьи» началось 27 сен-
тября 1968 года. В этот день «Пионерская правда»
опубликовала специальный «Указ королей шахмат-
ных», сопровождаемый напутствиями пяти чемпионов
мира — сопрезидентов только что созданного пионер-
ского шахматного клуба «Белая ладья». В дружинах
согласно «Указу» были отобраны команды — по че-
тыре мальчика и одной девочке из 3—7-х классов. Со-
ревнования проходили в два этапа и заканчивались
к новому году. В весенние каникулы встречались
команды в республиканских первенствах, а в летние —
разыгрывался финал. Победили тогда юные шахмати-
сты из пионерской дружины 56-й средней школы
г. Кишинева. Ну а в 1988 году состоялось юбилейное
двадцатое первенство.
Однажды, обращаясь к участникам «Белой ладьи»,
Михаил Ботвинник сказал:
— Пройдет время, и вы уже не будете пионерами.
Возможно, что многие из вас перестанут увлекаться
шахматами. Но те, кто посвятит им свою жизнь, могут
и должны стать гроссмейстерами. Это необходимо для
того, чтобы поддержать и умножить традиции совет-
ской шахматной школы.
Экс-чемпион мира не стал уточнять, что он имеет
в виду, но традиции наших шахмат, в общем-то, хоро-
125
шо известны. В этом смысле стоит вспомнить, напри-
мер, двенадцатый чемпионат, когда впервые был
учрежден приз имени Льва Кассиля «За волю к побе-
де». Известный советский писатель много делал для
организации детских шахматных соревнований. Пер-
выми эту награду завоевали ребята из далекого турк-
менского поселка Бахарден. До этого команда ни разу
не выезжала за пределы своей Ашхабадской области.
От волнения на старте бахарденцы потерпели несколь-
ко поражений. И тогда сказался характер. От тура к
туру улучшались их результаты, и в конце концов
тренер команды, тогда еще выпускник Государствен-
ного института физкультуры А. Гельдыев, успокоил-
ся — его воспитанники научились не бояться сопер-
ников, не робеть перед авторитетами, а это, может
быть, не менее важно, чем знание дебютов и энд-
шпилей.
Среди многих наград Валерия Салова тоже есть
аналогичная — пять раз он играл в турнирах «Белой
ладьи» и дальнейшими успехами обязан, по собствен-
ным словам, участию именно в пионерских соревнова-
ниях. Между прочим, награда за упорство и мужество
в спортивной борьбе была вручена В. Салову, когда
тот имел всего лишь третий разряд. Вообще же призов
в соревнованиях «Белой ладьи» — добрых два десят-
ка. Самый почетный — «Большой приз», он учрежден
редакцией журнала «Пионер».
Если «Белая ладья» — турнир, в котором ребята
соревнуются между собой, то у второго главного пио-
нерского соревнования — командного первенства стра-
ны среди Дворцов пионеров и школьников на приз
«Комсомольской правды» — главное отличие состоит
в том, что он проходит с участием взрослых и опыт-
ных шахматистов. О значении этого отличия хорошо
сказал однажды гроссмейстер Сергей Макарычев:
— Завидую сегодняшним мальчишкам и девоч-
кам, тому, что они за неделю сыграли по пять партий
126
с гроссмейстерами. Для них это отличная школа. Я, к
примеру, в их возрасте с сильными шахматистами иг-
рал от силы два-три раза в год.
Соревнования на приз «Комсомолки» целиком вы-
росли из сеансов. У них своя, только им присущая
структура: за каждую команду выступает капитан-
гроссмейстер или сильный мастер, который встречает-
ся одновременно со всей командой соперников. Итоги
партий гроссмейстера и пионеров складываются. Пио-
нерский коллектив состоит из шести мальчиков и од-
ной девочки. Многие опытные шахматисты, возглав-
ляющие команды, сами когда-то ходили в шахматный
кружок Дома пионеров, честь которого им теперь при-
ходится отстаивать. Таким образом, гроссмейстеры
оказываются вовлечены в свое соревнование — они
стремятся показать наилучший результат. Все это де-
лает пионерский турнир захватывающе интересным.
«Легких» партий он не обещает никому! Да и «бес-
конфликтности» тоже.
В 1987 году соревнования на приз «Комсомолки»
проходили в Баку. Естественно, за родной Дом пионе-
ров сыграл и Гарри Каспаров. Однако встречи с пио-
нерами потребовали от чемпиона нешуточного напря-
жения: на короткой дистанции он был вынужден
дважды остановить часы, несмотря на то, что в каж-
дой партии боролся так, словно речь шла о высшем
мировом шахматном звании. Выиграли у гроссмей-
стера представитель Грузии Алекси Лазарашвили
(тут, правда, Каспаров допустил одноходовый про-
смотр) и Михаил Улыбин из Свердловска, слушатель
школы Ботвинника — Каспарова, наделавший своей
победой много шума... Дело в том, что бакинский шах-
матист еще в дебюте без всякой компенсации потерял
качество, затем положение более или менее выравнял
и отложил встречу, уверенный, что худшее для него
позади. Сразу после того, как был записан ход, состо-
ялся экспресс-анализ: Каспаров доказывал, что у него
неплохие шансы на ничью, но Улыбин смело ему воз-
ражал, приводя победные варианты. К единому мне-
нию так и не пришли. Апелляционное жюри, куда бы-
ла передана партия, склонялось к тому, чтобы согла-
ситься с Каспаровым и признать отложенную позицию
ничейной, однако поздно вечером чемпион мира сооб-
щил, что сдает партию, так как «при абсолютно точ-
ной игре черные могли все же победить». Излишне по-
яснять, какие волнения сопровождали весь этот эпи-
зод, но какой сеанс обходится без волнений?!
Сходная ситуация случилась в 1977 году у Анато-
лия Карпова, выступавшего за Ленинградский Дворец
пионеров, и Саши Осьминина, который играл за Куй-
бышев. В отложенной позиции черные (ими владел
А. Карпов) имели четыре пешки за коня и, понятно,
рассчитывали на полновесное очко. Капитан куйбы-
128
шевской команды Лев Полугаевский согласился было
с поражением, однако Саша отважно вступил в спор
с гроссмейстерами и показал несколько ничейных воз-
можностей. Партию, по настоянию А. Карпова, пере-
дали главному арбитру Игорю Бондаревскому, и он
подтвердил, что Осьминин прав — ничья!
У турниров этих есть уже немало своих рекордов.
Например, лучший результат в игре против гроссмей-
стеров показал тогда же в мае 1977 года тбилисец
Зураб Азмайпарашвили: он победил в четырех встре-
чах и лишь одну свел вничью. Впоследствии, став ма-
стером, он не раз еще выступал в пионерских соревно-
ваниях, но на гроссмейстерской стороне.
— Когда вам было труднее: десять лет назад,
когда вы играли против гроссмейстеров, или сейчас,
когда в каждом матче вы даете ребятам сеанс с часа-
ми на семи досках? — такой вопрос задали рекордс-
мену журналисты, и он, не задумываясь, ответил:
— Конечно, сейчас! Уровень игры у школьников
заметно вырос, они смело идут на головоломные
осложнения, умеют и нападать и защищаться!
Эмблема пионерских соревнований на приз «Ком-
сомольской правды» — пешка на фоне ферзя. Символ,
безусловно, удачный и, самое главное, верно отражаю-
щий суть этих турниров. Почти пятьдесят их участни-
ков получили за последние пятнадцать лет звания ма-
стеров, а некоторые, как например, Александр Кочи-
ев, Артур Юсупов, Андрей Соколов и другие — гросс-
мейстеров. Гарри Каспаров, пять раз участвовавший в
«турнире надежд», стал даже чемпионом мира. Между
прочим, победы в гроссмейстерском соревновании он
добился лишь однажды — в Баку Г. Каспаров поте-
рял всего 3,5 очка в 35 поединках.
— Считаю этот турнир для себя вторым по значе-
нию после матча за мировую шахматную корону, —
так сказал журналистам Г. Каспаров после этой побе-
ды. Очень высокая оценка!
Э В. Черняк
129
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
Употребляя выражение «советская шахматная
школа», мы как-то редко задумываемся над тем, что
школа эта создана усилиями очень разных, а порой и
не совместимых по творческим установкам шахмати-
стов. Хорошо это или плохо? Наверное, все-таки хоро-
шо! Потому что, чем разнообразнее подход к шахма-
там, тем глубже проникновение в их глубины.
Прославленным гроссмейстерам всегда есть о чем
рассказать шахматной молодежи. Особенно такой, ко-
торая любит и умеет слушать. Вот почему у нас по
инициативе ЦК ВЛКСМ были в свое время созданы
школы юных шахматистов. Руководить же взялись
известные уважаемые наставники: Михаил Ботвин-
ник, Василий Смыслов, Тигран Петросян, Михаил
Таль, Ефим Геллер, Анатолий Карпов и другие. Что и
говорить, созвездие имен яркое... Стало быть, и каж-
дая школа отличается самобытностью.
Петросян считал, что в шахматах способный уче-
ник может постичь все. На вопрос «Можно ли научить
понимать шахматы так, как их понимает Петросян?»
гроссмейстер ответил:
— Я в это верю. В глубине души я лелею мечту,
что когда-нибудь встречу такого ученика, которому я
смог бы передать то, что знаю, что родилось в мучи-
тельных поисках истины. Я надеюсь встретить такого
парня, с которым мы могли бы искать вместе, и что-
бы он потом на практике за доской проверял наши
искания.
Встретить такого мальчишку Петросяну, увы, не
довелось... Но смысл выдвинутого им тезиса понятен:
идеально было бы вырастить второго Петросяна!
У Ботвинника учебный процесс выглядел несколь-
ко по-иному:
— Наш главный принцип — развитие самостоя-
тельности юных шахматистов.
130
Это было сказано в тот момент, когда занятия в
ботвинниковской школе стал проводить параллельно с
первым советским чемпионом мира Гарри Каспаров.
Впрочем, он в стенах школы далеко не новичок — с
самого юного возраста участвовал в ее сессиях.
На примере бакинского шахматиста можно просле-
дить, как и чему учатся ребята у Ботвинника.
Основы комбинационной игры Г. Каспаров освоил
очень рано, прекрасно умел вести атаку, неплохо за-
щищался в позициях, где у него просматривались воз-
можности активных контрдействий. Хуже обстояло
дело, когда приходилось вести «глухую» защиту, то
есть в течение длительного времени практически един-
ственными ходами отражать непосредственные угро-
зы, — тут юный шахматист порой «срывался» и тер-
пел поражения. Не любил он, сколько помнится, и
малознакомые схемы.
В 1975 году в Вильнюсе на первенстве страны сре-
ди школьников у Г. Каспарова во встрече с Л. Юртае-
вым возникла проблемная позиция из сицилианской
защиты. Л. Юртаеву она была известна по домашнему
анализу, а Г. Каспаров встретился с таким построени-
ем впервые. Не желая уступать преимущества выступ-
ки (Г. Каспаров играл белыми), бакинский шахматист
сперва попал в трудное положение, а затем начал не-
оправданную комбинацию и проиграл. Любопытно,
что всего через год в Тбилиси этот вариант повторился
у Г. Каспарова в партии с 3. Ланкой. Турнирная ситу-
ация была сложной: на первое место претендовали
сразу четыре участника, партнер Г. Каспарова в том
числе. Так что каждый ход в партии лидеров стоил
дорого. Соперники попали в ужасный цейтнот, и это
при сложнейшей позиции! Ничью бакинец все же сде-
лал, но тренеры высказали ему ряд претензий. Основ-
ная заключалась в том, что после встречи с Л. Юрта-
евым будущий чемпион посчитал себя вправе приме-
нить вариант снова, хотя положение требовало
9*
131
гораздо более существенного анализа, чем тот, кото-
рый был сделан в печати по горячим следам.
Известный советский тренер В. Зак писал тогда:
«Таким образом, Каспаров опять очутился в незнако-
мой ситуации, и вновь ему пришлось за доской решать
трудные проблемы. Всего этого, конечно, не случилось
бы, если бы он с достаточной скрупулезностью про-
анализировал свою партию с Юртаевым».
Сегодня игра чемпиона мира покоряет гармонично-
стью, остротой, истинно каспаровским способом реше-
ния задач, диктуемых позицией. Но кто скажет,
сколько соблазнов пришлось преодолеть Г. Каспарову,
сколько выдержать экзаменов! Смирить природную
горячность, выработать более рациональную систему
оценок, пополнить багаж знаний...
Один из таких экзаменов на сессии школы М. Бот-
винника особенно поучителен, о нем любят рассказы-
вать журналисты, излагая биографию чемпиона.
13-летний кандидат в мастера показывал М. Ботвин-
нику свою партию, демонстрируя обширную эруди-
цию и тонкое понимание дебютных проблем. Но на-
ставник хмурился. Наконец остановил подопечного:
— Не суетись, Гарик, дай подумать. Ты можешь
рассчитывать варианты так быстро, а я не могу.
Вскоре М. Ботвинник нашел ошибку в игре черных,
которыми действовал Г. Каспаров:
— Почему ты так сыграл?
Ученик объяснил, что этот ход уже встречался и
проверен на практике, назвал имена соперников, что
еще больше насторожило М. Ботвинника. И экс-чем-
пион мира дал Г. Каспарову одну из своих основопо-
лагающих рекомендаций:
— Никогда ничего не принимай на веру, всегда
сомневайся, ищи истину. Вот видишь, известный ход,
а оказался плохим. Проанализируй эту позицию само-
стоятельно, не ссылаясь на авторитеты.
Именно этим была ценна для будущего гроссмей-
132
стера школа Михаила Ботвинника — здесь учили
мыслить. Г. Каспарову, как видим, пришлось пере-
жить не одно разочарование, прежде чем он научил-
ся добираться до истины собственным путем. Вряд ли
в столь короткие сроки ему удалось бы справиться с
делом без помощи наставников.
Едва Всесоюзная научная детская юношеская шко-
ла возобновила свои сессии (был период простоя, но
он, слава богу, закончился!), в ней сразу появилось
много талантливых слушателей. Среди них, например,
Володя Акопян, завоевавший в 1986 году звание чем-
пиона мира среди кадетов. И вот что интересно:
жизнь стала проверять этих ребят «на прочность» с
первых шагов, и они проявили себя с лучшей стороны.
Турнир в Рио-Гальегосе (Аргентина), который выиг-
рал Володя Акопян, был для него совсем непростым:
переезд в другое полушарие, неизбежная акклиматиза-
ция, короткая дистанция самого соревнования, силь-
ные противники и т. д. Кроме того, дети есть дети...
К восьмому туру, когда, казалось, все волнения поза-
ди (В. Акопян сыграл с основными конкурентами, и
его ожидал сравнительно легкий финиш), непредви-
денный случай едва не перечеркнул всю предыдущую
работу.
— Мы поехали на берег океана, — рассказывал
потом победитель, — и увидели там пингвинов, кото-
рые убегали в воду. Я захотел погладить затерявшего-
ся в кустах пингвина, но тот цапнул меня за палец...
Можно представить, что пережил сопровождавший
Володю в Аргентине В. Купрейчик, когда мальчик с
окровавленным пальцем появился в гостинице!
Между тем стратегия турнирной борьбы была раз-
работана В. Акопяном с чисто взрослой последова-
тельностью :
— С первых туров я стал придерживаться турнир-
ной тактики, которую построил согласно рекоменда-
циям М. Ботвинника, полученным еще в Москве. Ми-
хаил Моисеевич, напоминая, что главная задача —
завоевание чемпионского титула, советовал играть
строго по позиции, не перегибая палку, так как пора-
жения, помимо потери очка, оборачиваются и нервны-
ми затратами. Самое главное, говорил он, не подда-
ваться эмоциям, не выкладываться полностью на стар-
те, сохранить силы для финиша.
Не дать себе за доской «расслабиться» ни разу —
это признак натуры одаренной и волевой, хотя в от-
сутствии эмоций Володю уж никак нельзя заподо-
зрить. Пройдя турнир без поражений и сыграв все
партии в предельно «солидном» стиле, он попытался
вознаградить себя чуть позже.
— Зайдя в Буэнос-Айресе в шахматный магазин, я.
сыграл партию с компьютером. Желая проверить счет-
ные возможности «партнера», я действовал в чересчур
134
гамбитном стиле, предлагал то и дело жертвы. «Удив-
ленная» машина, тратившая в дебюте много времени
на обдумывание, вдруг заиграла очень сильно, и мне
в конце концов пришлось отступить перед ее «желез-
ной» логикой.
Что ж, немало случаев, подобных описываемому,
могли бы вспомнить едва ли не все выпускники бот-
винниковской школы — и А. Карпов, и А. Соколов, и
А. Юсупов, и Ю. Балашов... Их характеры (со всеми
сильными и слабыми сторонами) никто не пытался в
школе ломать. Закалять — это да! Но закалка совсем
другое дело.
Умению работать над шахматами учат во всех без
исключения гроссмейстерских школах. Но задачи при
этом решаются очень и очень разные. Василий Смыс-
лов сказал как-то:
— Если молодой человек наделен талантом, обла-
дает творческим потенциалом и стремлением к борь-
бе — важно не обратить эти качества на утилитарные,
чисто спортивные цели. Мне хотелось бы видеть моло-
дого шахматиста не только хорошо ставящим дебют,
но и владеющим техникой эндшпиля, искусством иг-
ры в миттельшпиле, словом, образованным и разно-
сторонним. Это очень трудный путь, большая работа.
В своей, тоже достаточно известной, школе спорт-
общества «Буревестник» экс-чемпион мира знакомит
слушателей с творчеством великих шахматистов всех
эпох, поскольку твердо уверен, что молодежь «долж-
на впитать всю сумму знаний, весь опыт, накоплен-
ный веками». Во времена знаменитого противостоя-
ния М. Ботвинник — В. Смыслов шахматисты мысли-
ли не столько вариантами, сколько схемами, а споры
на доске выглядели зачастую принципиальней, чем
ныне. Шла борьба идей. Именно эту линию шахмат
стремится раскрыть перед ребятами гроссмейстер.
Именно так стремятся сегодня играть лучшие ученики
В. Смыслова, например, Валерий Салов, блестяще вы-
135
ступивший на первом турнире из серии «Кубок мира»
в Брюсселе (1988 г.). Ни одного поражения, четыре
победы и общее второе место — сразу ясе за Анатоли-
ем Карповым. И что может быть еще важнее: это бы-
ли настоящие творческие шахматы!
БЕЗОТКАЗНЫЙ ПАРТНЕР
Еще совсем недавно, каясется, машины, умеющие
играть в шахматы, как метко заметил Роберт Фишер,
«ходили в коротких штанишках». Ныне они повзрос-
лели и стремительно продолжают развиваться, оказы-
вая все большее влияние на шахматную жизнь. В Мо-
скве, например, появилось специализированное дет-
ское объединение «Компьютер», президентом которого
избран Гарри Каспаров.
Разговор об ЭВМ, вернее, о шахматных програм-
мах, используемых в компьютерах, может быть очень
долгим. Давайте поэтому ограничим его несколькими
конкретными вопросами: что умеет машина, как она
думает, в какую силу играет и что принципиально но-
вого появилось в шахматах вместе с вторжением в
них электроники?
Что умеет... Не так много все же, если присмот-
реться. Но и немало. Ведь чудо уже то, что она вооб-
ще играет! Машины, например, «любят» блиц, успеш-
но борются в этом виде шахмат даже с сильными со-
перниками — это почувствовал на себе однажды Макс
Эйве, сыгравший с ЭВМ несколько партий. В серьез-
ных шахматах некоторые компьютеры достигли уров-
ня кандидата в мастера или национального мастера,
но большинство играет в силу первого-второго разряда.
На гроссмейстерском уровне человек по-прежнему ока-
зывается сильнее любой машины.
В 1984 году в ФРГ Гарри Каспаров дал сеанс сразу
32 компьютерам: матч организовали четыре крупней-
шие электронные фирмы страны, выставив команды —
136
по восемь «участников» в каждой. Никакой сенсации
в поединке не произошло. Машины проиграли гросс-
мейстеру все встречи без особой борьбы. Чуть погодя
чемпион прокомментировал итоги:
— Дело в том, что, просчитывая варианты на мно-
го ходов вперед, компьютер видит и ставит перед со-
бой лишь конкретные задачи. Он лишен такого необ-
ходимого для гроссмейстера качества, как интуиция.
Помнится, об этом же говорил и Анатолий Кар-
пов. Когда Михаил Ботвинник, а вслед за ним Роберт
Фишер высказали мысль о том, что создать машину,
способную побеждать гроссмейстера, возможно, Ана-
толий Карпов с ними не согласился:
— Я в это не верю. Такая задача невыполнима.
Ну раз нет интуиции, а машина все же играет,
пусть и в свою «машинную» силу, значит, в ее уст-
ройстве есть нечто уравновешивающее до известной
степени этот недостаток. Что же? В первую очередь
отличные счетные способности. Тут ограничений для
машины не видно, все зависит от мощности вычисли-
тельной системы и времени, предоставленного маши-
не на обдумывание. В технических позициях, где ин-
туитивных решений принимать почти не требуется,
ЭВМ действует очень уверенно.
На всемирной шахматной олимпиаде в Дубае од-
ной из последних доигрывалась партия между Ясером
Сейраваном (США) и Кирилом Георгиевым (Болга-
рия). У американского гроссмейстера позиция, по об-
щему мнению, была безнадежна. Гарри Каспаров, слу-
чайно увидевший ее, тут же в холле гостиницы нашел
мат ходов в 15. Георгиев потратил времени чуть боль-
ше. Каково же было изумление шахматистов, когда
утром стал известен анализ нью-йоркской ЭВМ — ока-
зывается, Сейраван мог осуществить комбинацию, по-
зволявшую ему выстоять в сложившемся положении
необходимые для ничьей по кодексу 50 ходов. Требо-
137
вался точный расчет, и машина справилась с ним без-
укоризненно.
Вообще в игре машин немало особенностей, прису-
щих только им. Как, например, даже «опытную» ма-
шину заставить сыграть на удержание равновесия?
Ничьи «по заказу» делать она решительно отказы-
вается, стремясь всегда лишь к победе. Кроме того,
машина явно неравнодушна к материальным завоева-
ниям, как, впрочем, многие начинающие шахматисты.
Не стоит, однако, думать, что машина непременно
заберет все, чем ее попытаются заманить. Отнюдь...
Если представится возможность, она и сама может
что-нибудь пожертвовать. Мастер Е. Гик, имеющий
ученую степень в области математики и многие годы
следящий за развитием машинных шахмат, однажды
предложил компьютеру «Экспресс» целую серию из-
вестных позиций с целью проверить его комбинацион-
ное зрение, умение ориентироваться в положениях
разной сложности и, если можно так выразиться, гиб-
кость мышления. Машина прекрасно себя чувствовала
там, где имелся форсированный путь к победе. Эти,
порой довольно сложные, удары она легко находила.
А вот если у партнера игра была основана на тихих
промежуточных ходах, робот самого короткого пути к
цели мог и не обнаружить.
Какие бы успехи мы ни отмечали в развитии шах-
матных машин, все же находятся они пока на уровне,
близком к «неандертальскому». Но ЭВМ упорно учат-
ся, осваивают с помощью человека все новые и новые
глубины игры. Одна из главных проблем в этом смыс-
ле — преодолеть так называемый полный перебор ва-
риантов, как вынуждены еще работать многие маши-
ны. Представьте: компьютер «Белл», чемпион мира
среди машин 1980 года, в минуту перебирает до
10 миллионов позиций. Подавляющее большинство
этих положений можно не рассматривать, они бесс-
мысленны! Но как объяснить это компьютеру?! И вся
138
гигантская мощность его тратится, по существу, впу-
стую. А если «Белл» попытается рассчитать какой-
либо вариант так, как обычно это делают мастера, то
есть ходов на семь-восемь, ему потребуется около года
работы. Между тем рейтинг «Белла» составляет
2100 единиц. Сравните: у сильного любителя около
1600—1700. Эта машина еще одна из лучших...
Что касается профессиональных больших шахмат,
ЭВМ выполняют в них задачи скорей подсобные, ска-
жем, собирают и классифицируют информацию. Соз-
даны специальные «считывающие» устройства, и, так
как появилась возможность передавать на расстояние
происходящее на доске, в турнирных помещениях сра-
зу стало тесно от электроники.
Наиболее успешно используют шахматисты анали-
тические способности компьютеров. Наша «Каисса»
исследовала несколько эндшпилей, и согласно ее раз-
работкам пришлось даже вносить изменения в кодекс,
там, где говорится о «правиле 50-ти ходов». Для неко-
торых позиций расширился список исключений из
этого правила.
ЭВМ оказались незаменимы для шахматных ком-
позиторов. Машина, используя свою машинную точ-
ность, «расправляется» с двух- и трехходовками в сро-
ки, которые человеку явно недоступны. Например, на
проверку 243 двухходовок из «Альбома ФИДЕ»
1968—1970 гг. машина потратила всего пять с поло-
виной минут, обнаружив при этом все дефекты.
Сложнее для нее трехходовки, но и тут результат ве-
ликолепен — менее двух с половиной минут на зада-
чу. И она ничего «не прощает» составителю. Гросс-
мейстер по шахматной композиции Я. Владимиров
признался как-то:
— Сожалею, но компьютер обнаружил несовер-
шенства многих моих задач. Надо теперь думать, что
делать и как быть.
Хуже даются компьютерам этюды. И понятно по-
139
чему. В этюдах важна не столько счетная, сколько
художественная сторона. Сравнительно спокойно
справляясь с позиционными тонкостями и комбинаци-
онными взрывами, компьютеры становятся в тупик
перед наиболее неожиданными ходами решения.
Успехи ЭВМ поставили перед шахматистами и кое-
какие проблемы. Хорошо или плохо, например, если
компьютер помогает мастерам в игре? Если согласить-
ся, что это хорошо, то где провести границу такой по-
мощи? Как отразить это в правилах и кодексе? В по-
следнее время от судей и организаторов соревнований
уже не раз поступали жалобы на тайное использова-
ние компьютеров для анализа. Особенно этим недо-
вольны «заочники». А подготовка к турнирам? Допу-
стимо ли здесь использование ЭВМ? С одной стороны,
да! Есть же у шахматистов и тренеры, и секунданты!
Но, с другой стороны, не попадают ли в неравное по-
ложение шахматист, пользующийся обычным мини-
компьютером, и его соперник, имеющий доступ к боль-
шой вычислительной машине?
Все это сложные вопросы, ждущие своего разре-
шения. Настораживает только, что число их все уве-
личивается, а как подступиться к ним, неизвестно.
Уже не раз писалось о том, что некоторые зару-
бежные фирмы собираются создать своеобразные кар-
тотеки в области шахмат и за определенную плату
данные картотек предоставлять шахматистам. Техни-
чески задача вполне выполнима. Но какими станут
шахматы, если партнеры получат возможность по хо-
ду партии добывать справки с исчерпывающим ана-
лизом позиций? Пусть пока разговоры о таких карто-
теках — всего лишь реклама, но ясно, что в ближай-
шем будущем они появятся.
Еще проблема. Международная шахматная феде-
рация заключила соглашение о сотрудничестве с объ-
единением ученых, занимающихся шахматными про-
граммами. И сразу стали поступать предложения о
включении команды компьютеров в состав всемирных
шахматных олимпиад. В 1981 году на конгрессе
ФИДЕ в Атланте по этому поводу разгорелась жаркая
дискуссия. «В электронную память вводятся целые
библиотеки, а существующие правила запрещают ис-
пользование специальной литературы в турнирном по-
мещении», — говорили одни. «Но позвольте, — возра-
жали другие, — Гарри Каспаров тоже держит в уме
огромную библиотеку! Попробуйте запретить ему ею
пользоваться!..» Возник вопрос и о том, какую страну
должна представлять компьютерная команда. И еще
один вопрос: в какую из олимпиад следует включить
сборную ЭВМ — в мужскую или в женскую? Тогда в
Атланте ответить на все эти, тоже вполне понятные,
вопросы не удалось. Михаил Ботвинник, к слову, счи-
тал, что у компьютерной сборной неплохие шансы за-
141
нять место 15—16-е. Тоже своеобразная характеристи-
ка силы шахматных программ.
Главная проблема, волнующая шахматистов в свя-
зи с развитием компьютеров, заключается все же в
другом: не обесценит ли шахматы появление элект-
ронного гроссмейстера, не приведет ли это к тому, что
профессиональная большая игра станет никому не
нужной? Ученые почти единодушно утверждают, что
этого не произойдет, что творчество — основа шах-
мат — не может быть заменено никакой схемой, да-
же самой сложной! Пока ведь и Михаилу Ботвиннику,
пробующему научить свой «Пионер» избирательному
подходу к рассчитываемым вариантам, приходится
продвигаться вперед с огромным трудом.
Закончим же наш разговор о машинах, умеющих
играть в шахматы, еще одним соображением, его вы-
сказал Гарри Каспаров:
— Для любителя шахмат компьютер благодаря
своим размерам — безотказный партнер. Возможно,
сила его игры поднимется еще выше, и тогда он ста-
нет незаменимым спутником миллионов людей.
НАПУТСТВИЕ ТРЕТЬЕ,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
Наша игра простая, шутят иногда шахматисты,
сложны в ней лишь варианты... И действительно, овла-
деть началами мастерства в общем-то несложно. Оче-
видность, понятность, открытость шахмат привлекают
к ним сердца людей. Но там, где шахматные произ-
ведения соприкасаются с искусством, то есть на высо-
чайшем гроссмейстерском уровне, мы найдем в борьбе
на 64-х клетках и очарование чего-то необъяснимого,
некой тайны, которая, собственно, отличает эстетиче-
ски совершенную работу от пусть и прекрасно выпол-
ненного изделия ремесленника. Достичь такой силы,
прямо скажем, непросто! Осознавая это, некоторые иг-
142
роки, даже обладавшие талантом и знаниями, не ре-
шались посвятить шахматам всю жизнь целиком.
Все же вряд ли найдется человек, отвергающий
сам принцип шахматного совершенствования. Садясь
за доску, нужно надеяться на благоприятный исход
сражения. А для совершенствования, как мы убеди-
лись, разработаны шахматными педагогами целые сис-
темы овладения знаниями.
Поскольку разговор наш подходит к концу, посо-
ветуем всем внимательней познакомиться со списком
литературы, который напечатан ниже.
Ну а вообще-то, шахматы дают нам очень большой
выбор, и в этом тоже есть своеобразная прелесть: хо-
чешь играть для души, для разрядки — пожалуйста,
хочешь серьезно изучить их — у тебя для этого
все возможности, хочешь, наконец, заниматься ими от
случая к случаю — занимайся, богиня Каисса, покро-
вительница шахмат, будет тебе всегда рада...
ПРОЧТИ ЭТИ КНИГИ
Авербах Ю., Котов А., Ю д о в и ч М. Шахматная
школа. М. ФиС, 1976.
Бронштейн Д. Самоучитель шахматной игры. М. ФиС,
1987. Г о р т В., Янса Б. Вместе с гроссмейстерами. М. ФиС,
1976.
Зак В. Пути совершенствования. М. ФиС, 1981.
Капабланка Х.-Р. Учебник шахматной игры. Моя шах-
матная карьера. М. ФиС, 1983.
К о с т ь в А. Шахматный кружок в школе и пионерском
лагере. М. ФиС, 1980.
Ласкер Эм. Учебник шахматной игры. М. ФиС, 1980.
МайзелисИ. Шахматы. М. Детгиз, 1960.
Новотельнов Н. Знакомьтесь: шахматы. М. ФиС, 1981.
Хен кин В. Куда идет король... М. «Молодая гвардия»,
1979.
X е н к и н В. Последний шах. М. ФиС, 1979.
Ю д о в и ч М. Рассказы о шахматах. М. ФиС, 1959.
СОДЕРЖАНИЕ
Приглашение к разговору 3
16 ПРОТИВ 16
«И вот нашли большое поле...» 8
«Я самый главный, я самый слабый. » 11
Конница в век машин 18
Осторожно — лев! 24
«Флот, по ветру носящийся ..» 31
Умен и учен.................................... 37
Солдат всегда солдат 44
Напутствие первое 50
СКАЗАНИЕ О ТЫСЯЧЕ И ОДНОЙ ОШИБКЕ
Цена очку............................................ 54
Великое противостояние . 57
Вначале было слово ... 64
Фактор времени .... 70
Эстетика, этика, свод шахматных законов 77
Познай самого себя.. . 84
Дорогие граждане судьи!. 90
Напутствие второе 97
ОЧЕВИДНОЕ— НЕОБЪЯСНИМОЕ
Кто сильнее — как узнать? 100
Победа — поражение — ничья 104
От тура к туру.............................. 110
Наедине с гроссмейстером 117
Главные старты 123
Учителя и ученики . . 130
Безотказный партнер 136
Напутствие третье, заключительное 142
Прочти эти нниги 143
ИВ № 5934
Черняк Вадим Григорьевич
ТАИНА ИГРЫ КОРОЛЕЙ
Редактор О. Громакова
Художник К. Мошкин
Художественный редактор А. Косаргин
Технический редактор Н. Теплякова
Корректор Е. Самолетова
Сдано в набор 10.11.88. Подписано в печать 28.02.89 А00833.
Формат 70xi08‘/3j. Бумага типографская № 2. Гарнитура
«Школьная». Печать высокая. Условн. печ. л. 6,3. Условп.
кр.-отт. 6,65. Учетно-изд. л. 6,4. Тираж 100 000 экз. Цена
20 коп. Заказ 2612.
Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-
полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Адрес ИПО: 103030, Москва, К-30. Сущевская, 21.
ISBN 5-235-00278-4
20 коп.
топодая гвардия