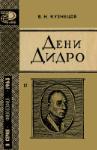/
Text
й
DENIS DIDEROT
UNE GRANDE FIGURE
DU MATERIALISME MILITANT
DU XVIIIе SIECLE
par
Jozsef Szigeti
Akademiai kiado, Budapest
1962
Йожеф Сигета
ДЕНИ ДИДРО—
выдающийся представитель
воинствующего
материализма
XVIII века
Перевод с французского
М. Н. ГРЕЦКОГО и Т. А. САХАРОВОЙ
Общая редакция и предисловие
члена-корреспондента АН СССР
М. А. ДЫННИКА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1963
Редактор О. И. ПОПОВ
Редакция литературы по философским наукам
ПРЕДИСЛОВИЕ
В октябре месяце 1963 года исполняется 250 лет
со дня рождения Дени Дидро, крупнейшего
идеолога предреволюционной французской буржуазии
XVIII века, великого философа-материалиста,
писателя и теоретика искусства, (просветителя, главы
энциклопедистов. Нет ни одной области идеологии,
в которой бы Дидро не сказал своего веского и
нового для XVIII века слова. Он внес большой вклад
в философию, технику, естественные -науки,
литературу, театр, искусство.
В связи с 250-летием со дня рождения Дидро
Издательство иностранной литературы публикует
на русском языке книгу видного венгерского
философа-марксиста, директора Института философии
Венгерской Академии наук Йожефа Сигети. В книге
Сигети дается анализ философских и атеистических
взглядов Дидро, анализируются его
естественнонаучные представления. Много внимания уделяет
автор (вопросу о связи развития философии XVIII
века, в частности философских взглядов Дидро, с
развитием промышленности и естествознания.
Автор отмечает, что Дени Дидро — один из
наиболее ярких 'представителей домарксового
материализма и атеизма. В его произведениях
материалистическая философия достигла более высокой по
сравнению с английским и голландским материа-
5
лизмом XVII века ступени. Автор убедительно
показывает, что Дидро отстаивал мысль о
'материальности мира и рассматривал все реально
существующее как конкретные формы проявления единой,
вечной, несотворенной материи. Большой заслугой
проф. Сигети является глубокий анализ
диалектических тенденций философской теории Дидро.
В особенности удачно характеризуется позиция
Дидро в понимании эволюции, в трактовке
категории времени, перехода мертвой материи в материю
живую. Дидро утверждал единство материи и
движения и считал абсолютный покой антинаучным
вымыслом. Дидро пытался преодолеть механицизм.
Он ближе других метафизических материалистов
XVIII века подошел к идее самодвижения материи
и видел в этом самый убедительный довод против
существования бога. Выступая против утверждения
о божественном происхождении сознания, Дидро
отстаивал единство материи и сознания и высказал
мысль, что в потенциальном виде ощущение
является всеобщим свойством материи. Материалистически
трактуя происхождение ощущений, Дидро, однако,
не сумел понять диалектический характер перехода
от ощущений к представлениям и понятиям.
Сигети показывает, что Дидро критиковал
агностицизм и утверждал познаваемость мира.
Выдающийся французский материалист решительно
критиковал философию Дж. Беркли, сделавшего
субъективно-идеалистические выводы из
сенсуализма Локка.
Дидро, отмечает В. И. Ленин, вплотную подошел
к взглядам диалектического материализма, но не
сумел понять роли общественно-исторической прак-
6
тики как критерртя истины и ее значения для
опровержения идеализма.
Характеризуя учение французских
материалистов о решающей роли общественной среды в
воспитании и формировании человека, Сигети показывает,
что оно служило теоретическим обоснованием
революционного требования отмены «порочных и
противоестественных» феодальных порядков. Однако
Дидро и его единомышленники под общественной
средой понимали главным образом политическую
форму правления, а не материальные условия
жизни общества. Дидро, отмечает автор, ошибочно
считал, что сознание, в частности сознание
законодателей, является решающим фактором исторического
развития общества. Таким образом, Дидро не
выходил за рам^и идеалистических взглядов на
историю.
Подобно другим французским
философам-материалистам XVIII века, Дидро придавал огромное
значение воспитанию и просвещению, выступая
как идеолог восходящей буржуазии против всей
системы феодально-религиозного воспитания.
Эстетические взгляды Дидро, не являющиеся
предметом специального рассмотрения Сигети,
отличались оригинальностью и глубиной мысли и
имели большое значение для развития реализма в
литературе, живописи, скульптуре, музыке в период
расцвета буржуазной культуры. Художник,
согласно Дидро, не только должен правильно
воспроизводить жизнь, но и высказывать о ней свои
критические суждения.
Слава Дидро как писателя основывается на его
художественных произведениях «Монахиня», «Жак-
7
фаталист», «Племянник Рамо», хорошо известных
советскому читателю.
Великий французский мыслитель, ученый и
просветитель был хорошо знаком с передовой русской
культурой и наукой XVIII века, давал им высокую
оценку и выражал твердую уверенность, что
русский народ в будущем достигнет огромных
успехов. Очень интересно и поучительно освещено в
книге отношение Дидро к Ломоносову, в частности
к объяснению Ломоносовым северного сияния.
Идеологи пришедшей к власти французской
буржуазии и идеологи современной реакционной
буржуазии пытались и пытаются фальсифицировать
боевое, революционное наследство Дидро, извратить
его взгляды, вытравить из них материализм и
атеизм.
Пролетариат и все передовое человечество
используют лучшие традиции творчества Дидро в
борьбе с клерикальной реакцией, в борьбе за
торжество разума и светлое 'будущее народов.
Предлагаемая вниманию советского читателя
работа Йожефа Сигети будет, несомненно, с
интересом встречена широкими кругами советской
общественности, торжественно отмечающей 250-летие
со дня рождения выдающегося французского
мыслителя.
М. Дынник
ОТ АВТОРА
Когда в июле 1751 года вышел в свет первый
том «Энциклопедии», реакция немедленно открыла
против него огонь. Начала она осторожно,
исподволь, затем усилила свои атаки. Жан-Франсуа
Буайе, епископ Мирпуа, сообщил 'королю
Людовику XV о крамольном произведении, и тут же было
решено, что статьи следующих томов будут
напечатаны лишь при условии предварительного
получения разрешения nihil obstat от теологов, этих
профессиональных распространителей обскурантизма.
Таким образом, 'как это нередко случается и в наши
дни, шредставители реакционного духовенства и
стоящих у 'власти угнетателей допытались в добром
христианском согласии утопить в святой воде этого
крепкого новорожденного, который изо всех сил
сопротивлялся.
Человеком, который не дал его потопить,
человеком, который не побоялся угодить в тюрьму по
королевскому указу, человеком, который сумел
обмануть бдительных цензоров-теологов и извлечь,
как только обстоятельства это позволили, открыто
революционные выводы из самих по себе
революционных учений «Энциклопедии», изложенных, как
правило, без напрашивавшихся выводов, человеком,
который, опираясь на прогрессивные- силы своего
9
времени, сумел в конце концов преодолеть все
внешние и внутренние препятствия и довести до
конца великое предприятие, — этим человеком был
Дени Дидро — выдающийся представитель
воинствующего атеистического материализма XVIII века.
Мыслитель-борец, Дидро был также
прирожденным организатором. Он сумел объединить вокруг
«Энциклопедии» хотя и разнородные, но так или
иначе противостоящие феодализму силы и
обеспечить на длительное время их сотрудничество. Он
сумел также повести эти силы в открытую атаку
в идеологической борьбе классов на
пошатнувшееся здание феодального строя. Таким образом,
Энгельс мог с полным основанием сказать, имея в
виду деятельность энциклопедистов, что в той или
иной форме, как открытый материализм или как
деизм, материализм стал мировоззрением всей
французской образованной молодежи: во время
Великой французской революции именно это учение
послужило республиканцам и сторонникам террора
теоретическим знаменем и основой Декларации
прав человека и гражданина.
Поэтому Дидро является не только одним из
членов многочисленной фаланги
философов-атеистов и материалистов XVIII века, произведения
которых, написанные живо и бойко, нападавшие на
клерикальный режим открыто и остроумно, могли
оказаться, как указывал Ленин, весьма полезным
идеологическим оружием и в битвах наших дней.
Универсальность его работ, революционная глубина
концепций и величие духа делают его 'крупнейшим
из великих французских материалистов века
просвещения.
10
Комментируя историю материализма, Плеханов
до некоторой степени прав в том, что он выбрал
учения Гольбаха и Гельвеция для изложения идей
передового французского материализма XVIII века.
Он прав, поскольку именно эти два мыслителя
наиболее методично и на высоком философском уровне
изложили учение механистического материализма и
сделали из него 'надлежащие выводы. Однако нам
кажется, что не случайно в своем «Материализме
и эмпириокритицизме» Ленин выбрал не Гольбаха
и не Гельвеция, а именно «главу энциклопедистов»
Дидро для противопоставления его идеалисту
Беркли— предшественнику в XVIII веке субъективного
идеализма Маха. В связи с этим Ленин отмечает,
что Дидро очень близко подошел к воззрениям
современного материализма, хотя его аргументы и
рассуждения недостаточны для опровержения
идеализма, и что это опровержение зависит не только от
теоретических аргументов. Как мы увидим, во
многих пунктах Дидро действительно оказывается
очень близок -к современным материалистическим
воззрениям, и эта особая актуальность взглядов
Дидро отличает его даже от его великих
современников. Однако мы увидим также, что эта близость
предполагает и известное различие. Сам факт, что
Дидро иногда очень близко подходит ik
современному материализму, означает в то же время, что он
до него не доходит. Среди мыслителей нового
времени, предшественников Великой французской
революции, Дидро, как это подчеркивает Энгельс, был
наиболее блестящим представителем диалектики. Но
этот факт означает «только», что он создал
шедевры диалектики в области эстетики, которая, строго
//
говоря, не относится к философии. В области
истолкования шрироды, которая также не относится к
философии в строгом омысле слова, Дидро сделал
значительный шаг вперед в направлении к
диалектике, но не дошел до нее. Это, наконец, означает,
что в собственно философском плане, в плане
познания и методологии, он остается, хотя и с более
или менее существенными 'колебаниями, в пределах
механистических и метафизических воззрений. Но,
говоря словами Ленина, об исторических заслугах
того или иного мыслителя следует судить не по
тому, чего он не дал в сравнении с современными
требованиями, а по тому, что нового он дал в
сравнении со своими предшественниками.
Нет ничего удивительного' в том, что проблема
Дидро, весьма сложная и спорная проблема, с
которой связано также наше отношение к
прогрессивному и революционному наследию человечества,
осталась не решенной буржуазными историками
философии и литературы. Непонимание и неправильное
толкование творчества Дидро началось в период, когда
буржуазия была еще революционной. Это тем
более не удивительно, что Дидро был в основном
идеологом простого народа. Его философские труды,
а также его художественные произведения и работы
по эстетике (правда, не являющиеся предметом
настоящего исследования) отражают не только
революционные порывы буржуазии, вступившей в
ожесточенную классовую борьбу с феодальным строем,
но также и революционные волю и устремления
эксплуатируемых масс простого народа, тех
городских и сельских масс, уже отчасти пролетарских,
которые тщетно надеялись, что буржуазная рево-
12
люция принесет им освобождение, масс
трудящихся, потомки которых сегодня, когда уже образовался
современный промышленный пролетариат,
стремятся под руководством рабочего класса,
единственного до конца революционного класса, сбросить
с себя цепи, навязанные им буржуазией. Отсюда
следует, что правильное понимание Дидро стало
возможным лишь в период подъема и побед
революционного рабочего движения и что оно связано
с именами великих вождей этого движения.
Но если Дидро остался непонятым «своей
собственной», французской буржуазией, то как могла
его понять буржуазия венгерская? Правда, до
1848 года, в ходе эволюции, ведущей от Бешеньеи
и Бачаньи к Петефи, выдающиеся деятели нашего
национального прогрессивного движения высоко
ценили наследие французских 'просветителей.
Однако насыщенный феодальными пережитками
капитализм, который характеризовал общественный
строй Венгрии, сложившийся в результате
компромисса 1867 года, а также развитие в Венгрии
классовой борьбы не создали условий для критического
изучения и усвоения домарксистского
материализма. Это могло быть осуществлено лишь передовой
партией нашего рабочего класса и нашего народа —
коммунистической партией.
Указанному выше обстоятельству как будто
противоречит тот факт, что Дидро был
единственным французским материалистом, труды которого
были переведены на венгерский язык еще до первой
мировой войны. Но это противоречие кажущееся.
Либеральная и космополитическая венгерская
буржуазия считала своим долгом 'подражать француз-
13
ской моде на Дидро, существовавшей в конце
прошлого столетия. Представляя Дидро читателю, она
изображала философа-материалиста позитивистом,
склонным к субъективному идеализму.
Для нас творчество Дидро будет тем, чем оно
было всегда, несмотря на все попытки искажения:
оружием на службе делу прогресса, оружием в
борьбе с клерикальным мировоззрением. Оно будет
оружием также и в том смысле, что критическое
изучение и усвоение домарксистского
материализма, безусловно, способствует более глубокому
пониманию и применению марксистско-ленинской
философии.
/• Деизм — неполный разрыв с богом
В своем первом зрелом произведении
«Философские мысли», написанном в 1746 году и нашедшем
широкий отклик, Дидро показал себя философом-
деистом. Он направляет свои удары главным
образом против -исторически сложившихся религий,
против бесчеловечных и бессмысленных догм
христианства и прежде всего католицизма, а также /против
библии, этой священной книги «божественного
откровения». Он отвергает этого «бесконечно
благостного» бога, который, не моргнув глазом,
отправляет в пламя ада или предает осуждению —
назовите как вам угодно—огромное большинство
людей; он хочет рассеять кошмар этого
ветхозаветного и новозаветного бога, который столь сильно
любит свои яблоки и столь мало — своих детей.
Вооруженный последними достижениями
естествознания, он выступает, однако, также и против
материалистов, тезисы которых он намерен
опровергнуть с помощью исследований Ньютона, Мальпиги
и Мушенброка. Впрочем, он считает почти
излишней роскошью призывать на помощь естествознание,
когда глаз насекомого или крыло бабочки дают
более неопровержимые доказательства
существования бога, чем сотни тарабарских грамот отцов
церкви и докторов богословия.
Откуда эти 'противоречия? Выразителем какого
духовного течения выступает здесь Дидро?
Маркс и Энгельс определяют деизм как
прогрессивное идейное течение во французской философии
XVIII века. Маркс рассматривает его как удобный
15
и легкий способ отделаться от бога. Энгельс видит
в нем, как мы уже отмечали, форму материализма.
Представители клерикализма также ясно поняли
прогрессивный и материалистический характер
этого предреволюционного деизма. И они принялись
его преследовать. Янсенистский парламент (суд)
Парижа постановил сжечь книгу Дидро, как только
она появилась. Даже после Великой французской
революции наиболее последовательные идеологи
духовенства продолжали видеть врага в деизме
XVIII столетия. Один из крупнейших идеологов
Реставрации де Бональд, всюду подозревавший
ересь, атеизм и революцию, сказал как-то, что
деист — это человек, не успевший еще стать
атеистом. Это определение справедливо, если только
принять его не в том смысле, какой придавал ему
де Бональд. Действительно, дело не в том, что
какой-то отдельный человек в ходе своего
индивидуального развития не успел еще дойти до атеизма,
а в том, что момент атеистического материализма
еще не наступил, в историческом смысле слова, ни
для отдельных 'мыслителей, 'ни для широких масс,
так как классовые отношения и политические
условия, при которых данная теория появилась во
Франции, не достигли еще своей зрелости. Деизм —
это теория, не достигшая зрелости и
соответствующая классовым отношениям, находившимся в таком
же состоянии. Это никогда не следует упускать
из виду. Хотя деизм был прогрессивным и
родственным материализму идейным течением, надо
всегда -помнить, что именно в том смысле, как это
указывал Энгельс, он являлся скрытой формой
материализма, формой, спрятанной под
идеалистической оболочкой.
Вначале деизм появился во Франции как
предмет импорта 'ИЗ Англии. Буржуазная революция в
Англии в основном ликвидировала феодальные
силы, во всяком случае, в том смысле, что она
заставила феодальную аристократию вступить на
путь капиталистического развития, так что после
16
революции аристократия обеспечивала свое
существование на основе уже не феодального, а
капиталистического хозяйства. Таким образом, первой
фаланге французских 'прогрессивных мыслителей
XVIII века, таким, как Монтескье -и его
последователи, Вольтер и вольтерьянцы, которые стонали —
иногда в буквальном смысле слова — в оковах
абсолютной феодальной монархии, условия жизни,
государственные и религиозные учреждения, нравы,
наука и философия буржуазного общества в том
виде, как оно сложилось и укрепилось в Англии,
шедшей во главе капиталистического развития,
неизбежно представлялись как прообраз будущего их
собственной страны, того будущего, к которому они
стремились всей душой. Однако мыслители из
второй фаланги просветителей — Дидро, Гольбах, Рей-
наль 'И их единомышленники — смотрели на
существующие в Англии условия уже более критически.
Они заметили и обратную сторону медали:
ужасную нищету масс — следствие первоначального
накопления капитала и развития капитализма,
зверства колонизации, порабощение и беспощадную
эксплуатацию, а иногда уничтожение целых
народов, бывших до того свободными, короче говоря,
наглядные результаты ненасытной жадности Джона
Буля. Их глаза открылись, и они увидели, что это
будущее, уже существующее в Англии и
оказавшееся столь угрожающим и жестоким, находится в
полном противоречии с их иллюзиями относительно
социального равенства и свободы. Во время войны
за независимость американских колоний Дидро
имел уже перед глазами ту Англию, которая спустя
несколько лет должна была выступить как злейший
враг социального прогресса во главе коалиции всех
феодальных сил Европы против революционной
Франции.
Но как бы благосклонно ни относились первые
французские просветители к английскому образцу,
следует отметить (хотя историки философии
—сторонники космополитического направления в исто*
2-641
17
рии идей — тщательно замалчивают этот
непреложный факт), что все, что они заимствовали у этого
образца, они приспособили к своим собственным
историческим потребностям, преобразовали и
развили в зависимости от условий своей собственной
классовой борьбы. Так же обстояло' дело и с
деизмом.
Зародившись в Англии, в основном после
революции, приведшей к классовому компромиссу, деизм
являлся в то Бремя течением, 'враждебным народу
и даже в некоторой степени буржуазии, поскольку
деизм считал опиум религии необходимым для того,
чтобы держать в подчинении угнетенные и
эксплуатируемые массы. Поэтому, вместо того чтобы
отвергнуть идею бога и выйти на улицы, деизм
предпочел замкнуться в салонах аристократии. Дойдя
до этого этапа в своем развитии, деизм из боязни
превратиться в «подрывное» учение пришел к
историческому самоубийству. Об этом красноречиво
свидетельствует заявление столь ценимого
Вольтером Болингброка — одного из крупнейших
представителей деизма. Болингброк сказал, что свободный
мыслитель-деист, который якшается с народом,
хуже чумы и должен -истребляться огнем и*мечом.
Он также рекомендовал государству всеми
имеющимися в его распоряжении средствами
распространять в народе идеи христианской религии.
В самом начале своего существования, то есть
в течение первой половины XVIII столетия, деизм
во Франции являлся аристократическим учением.
Но Франция в то время быстро шла к буржуазной
революции, и деистские идеи скоро наполнились
новым классовым содержанием. Французская
буржуазия, бывшая в первую половину XVIII века еще
слабой и незрелой, состояла, с одной стороны, из
крупной финансовой буржуазии, довольно тесно
связанной с абсолютизмом, а с другой стороны — хотя
четкой линии разграничения между ними никогда
не было — из торговой буржуазии, которая в ходе
своего развития все больше приходила в
столкновения
ние с режимом абсолютизма. Этот класс вскоре
обнаружил, что деизм, служащий действенным
оружием в борьбе с абсолютизмом, представлял собой
в то же время идеологический заслон против
крестьянских движений. (Простонародным деизм стал
только у молодого Дидро, а также — но в другом
варианте — у Ж.-Ж. Руссо.)
Несмотря на всю видимость аристократизма,
именно это чисто буржуазное классовое содержание
превалировало у Вольтера. И только эта столь
специфическая незрелость классовых отношений
объясняет тот факт, что Вольтер смотрел на «Верховное
Существо» английских деистов гораздо серьезнее,
чем сами англичане, хотя материалистические
элементы деизма (материалистический детерминизм
воли, отрицание бессмертия души и т. д.) он усвоил
лишь постепенно, с большими колебаниями, в
зависимости от эволюции классовых условий. Если
деизм Болингброка обратился в ничто, то
вольтеровский деизм стал воинствующей пропагандой,
подготовившей почву для открытого материализма
и в значительной мере способствовавшей тому, что
идеологические предшественники и главные
действующие лица Великой французской революции
отказались от всякой религиозной фразеологии и
смогли бороться за создание нового буржуазного
общества, руководствуясь чисто политическими
лозунгами, а не цитатами из библии.
Во Франции деизму было невозможно
оставаться замкнутым в стенах буржуазных салонов. Он
должен был показать свое острие, направленное
против церкви и религии. Феодальная католическая
церковь, будучи владельцем около одной трети всех
пахотных земель, являлась во Франции главным
союзником абсолютной феодальной монархии. В то
время как в Англии реформация,
сопровождавшаяся секуляризацией монастырских земель,
ликвидировала феодальную церковь, превратив ее в
незначительный придаток государства, во Франции
галликанские течения, благоприятствовавшие отде-
2*
19
лению церкви от Рима, сохранили в полной
неприкосновенности материальные ресурсы католической
церкви, оставшейся до конца важнейшей опорой
монархии и главной вдохновительницей всех мер,
направленных против буржуазии. Со смертью
Кольбера (1683 год) французский абсолютизм
завершил свою до некоторой степени прогрессивную
историческую миссию. С отменой На'нтского эдикта
(1685 год) и применением новых способов
эксплуатации крестьянства он явно вступил на
антибуржуазный путь. Более четырехсот тысяч гугенотов —
торговцев и ремесленников — потеряли свое
имущество и вынуждены были эмигрировать.
Галликанское движение заглохло, и в 1693 году
Людовик XIV заключил конкордат с папой.
Но что все это означало в действительности?
Что означало это укрепление политического союза
между Римом и «христианнейшим» королем, что
означало преследование протестантов и их
насильственное обращение? Это означало, как говорит
Энгельс, что французская буржуазия должна будет
совершать свою революцию в исключительно
политических формах, которые единственно подходят
для развитой буржуазии. Тем самым христианство
вступало в свою последнюю фазу, уже неспособное
выработать идеологию для прогрессивного класса.
«Раздавите гадину!» — добавлял Вольтер в
конце своих конфиденциальных писем, как когда-то
Катон кончал свои речи знаменитым caeterum cen-
seo. Борьба Вольтера против реакционной
католической церкви и шротив Рима послужила блестящей
прелюдией к борьбе лротив абсолютизма. Подобно
тарану, она открыла путь для атеистического
материализма, несмотря на то, что сам Вольтер «не
успел» стать атеистом. Выход на арену боя
молодого Дидро знаменовал собой важный этап этой
борьбы, начатой Вольтером.
Дидро, как и Вольтер, повел борьбу с
религиозными идеями, откровением, догмами и
учреждениями церкви iBO имя разума, здравого смысла, во
20
имя lumen naturale. В выражениях, напоминающих
стиль нашего Петефи, Дидро заявил, что его
долг — помочь 'проникнуть лучу света в совиное
гнездо. Здесь имеется в виду не феодальная
церковь, а человечество, погруженное во тьму этой
церковью. Небольшой шритчей, очень простой, но
бьющей прямо в цель, Дидро разоблачил клерикальный
обскурантизм: «Я заблудился ночью в дремучем
лесу, и слабый огонек в моих руках — мой
единственный путеводитель. Вдруг предо мной вырастает
незнакомец и говорит мне: «Мой друг, задуй свою
свечу, чтобы верней найти дорогу». Этот
незнакомец — богослов» К Эта маленькая притча — само
совершенство, ибо с помощью простейших средств
она убеждает в том, что «внутреннее откровение»,
«озарение души», о котором толкуют священники,
есть не что иное, как отказ от подлинного света и
сознательная дезориентация тех, кто ищет путь к
свободе. Духовная тьма, считает Дидро, является
основным условием всякого угнетения, поэтому он с
ней и борется. Уже в этот начальный период Дидро
отличает от Вольтера одна существенная черта.
Для Дидро разоблачать и клеймить клерикальную
реакцию означает всегда разоблачать и клеймить
также и светскую реакцию и феодальную власть.
(Так стоит вопрос если не в «Философских
мыслях», то по крайней мере уже через год в
«Прогулке скептика».) У Вольтера же проблема
реакционной светской власти часто заслоняется проблемой
клерикальной реакции. Однако между ними нет
принципиального различия — различие лишь в
расстановке ударения. И хотя, проследив за эволюцией
Дидро, 1Можно 'констатировать, что критика
правящих классов, государственного аппарата,
политических и правовых институтов абсолютной
монархии занимает у него все большее место, он даже
под конец своей жизни заявляет, что тиран есть
лишь ликтор священников и опора царства попов.
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, 1935, стр. 124.
21
Другой участок фронта, на котором деизм
совершает свою великую историческую миссию но
ликвидации религиозного мировоззрения,— это борьба
против аскетической морали феодального
христианства. Как и Вольтер, Дидро приложил для этого
все свои силы. Но позиция Дидро основывалась
отныне на понятии нового человека, контуры которого
вырисовывались все более четко и резко. Поэтому
уже в «Философских мыслях» он противопоставляет
положительный и закономерный характер
человеческих страстей лицемерному аскетизму
человеческого идеала церкви и отка~зу~от самых элементарных
потребностей и страстей, которого христианская
мораль требует... от трудового народа. «Воздай
добром за зло!» — провозглашает эта мораль
аскетизма. Нужно ли сейчас доказывать, каков был тот
общественный класс, который . всегда платил
злом — и часто со смертельным исходом,—
заставляя в то же время другой класс воздавать ему
добром?
Малоразборчивые в выборе средств, когда речь
идет о фальсификации, идеалистические историки,
находящиеся на службе фашистской буржуазии,
нередко противопоставляют «иссушенный» и
«анемичный» культ Разума эпохи просвещения
«глубинам», «сосредоточенности» и «грандиозным
страстям» романтизма, связанного с реакционной
Реставрацией, последовавшей за буржуазной революцией
во Франции. Они, не стесняясь, называют «предро-
мантическим» все то, что у просветителей прямо или
косвенно напоминает их каноны. Так, например,
мелкобуржуазный революционный демократ Ж.-Ж.
Руссо был отнесен к «предромантикам» на
основании его мнимой враждебности к Разуму и
подлинной глубины чувств, тогда как страстность
Руссо, которая в данном случае имеется в виду,—
это настоящая революционная страстность, хотя
иногда и недостаточно целеустремленная вследствие
своего классового содержания. Все это,
однако, лишь реакционные вымыслы, созданные, чтобы
22
угодить вкусам разлагающейся буржуазии, которая
с ненавистью смотрит на свое собственное прошлое.
Их задачей являлись дискредитация в глазах
трудящихся масс прогрессивного и революционного
наследия человечества, а также использование того
или иного элемента этого наследия (с искажением
его 'подлинного исторического характера), чтобы
создать для себя видимость оправдания.
Подчеркивая важную роль анализа человеческих страстей в
идеологической борьбе Дидро, мы далеки от
утверждения, что Дидро, поскольку он говорит о
страстях, является «предромантиком» и что
человеческий идеал, выдвинутый Вольтером в борьбе
против феодализма, — это какой-то бездушный автомат,
какая-то скелетоподобная персонификация
ледяного разума. Как Вольтер, так и Дидро боролись за
приход нового человека и более прогрессивного
общественного строя. Различие, существующее между
ними (классовое основание которого нам еще
предстоит рассмотреть), означает лишь, что новый
человек развивается и утверждается но мере
развертывания и обострения классовой борьбы, что дает
возможность последующим мыслителям,
пользующимся обобщениями своих предшественников,
понять этого человека лучше, чем его понимали
раньше. Но поскольку в теоретическом плане мыслители
века просвещения схватывали черты нового
человека главным образом в виде абстрактных
психологических качеств и способностей (в
художественном плане дело обстояло иначе), то
фальсификаторам истории нетрудно подменить действительность
вымыслом. Кстати говоря, если у Вольтера
проблема разума, по-видимому, действительно
превалирует над проблемой страстей, то у Дидро обе эти
проблемы уравновешены, а у Руссо основное
внимание уделяется проблеме чувства и страсти, хотя
нельзя считать, что он делал это в порядке какого-
либо противопоставления.
В особом и строго определенном смысле можно
и даже должно отметить, что культ разума, пред-
23
ставлявший разум как всеобщую норму вещей,
поступков и идей, был чем-то весьма абстрактным.
Но это тот смысл, который имеется в виду
марксизмом-ленинизмом, а не буржуазным
иррационализмом.
Вольтер и Дидро были сто раз правы, (выводя
на суд здравого смысла, на суд lumen naturale и
осуждая отвратительные преступления,
совершавшиеся клерикальной реакцией и римским «святым
престолом» против человеческого
прогресса,—преступления, список которых продолжает
увеличиваться и в наши дни. Они были правы, когда
неоднократно подчеркивали абсурдность и
бесчеловечность религиозной морали и с едкой иронией
«удивлялись» единственному подлинному чуду
библии— враждебному и поистине замечательному
равнодушию, проявленному еврейским народом к
бесчисленным «чудесам» Иисуса Христа, хотя эти
чудеса убедили бы в божественности их творца
самые варварские народы, живущие в самых глухих
местах земли. Они были сто раз правы, применяя
критерии здравого смысла к религии, к церкви, ко
всем административным, политическим и
юридическим учреждениям своей эпохи; и они были
правы, заявляя, что ни одно из этих учреждений не
может выдержать такой критики. Перед лицом
клонящегося к упадку феодализма и его религиозной
идеологии они действительно представляли ум,
творческую страсть и великое дело человеческого
прогресса.
Если инстанция естественного здравого смысла
была абстрактной инстанцией и, следовательно,
подлежала критике, то это, безусловно, не потому,
что она осудила то, что следовало осудить. Она
была абстрактной, так как не смогла объяснить
исторический генезис и развитие, то есть
конкретную историческую необходимость феодализма и его
религиозной идеологии. В своем понимании истории
просветители были идеалистами не потому, что они
считали идею движущей силой истории, а потому,
24
что видели в ней последнюю пружину истории. Вот
почему всякий раз, как им приходилось объяснять
господство обскурантизма, они попадали в
порочный круг. Откуда берется обскурантизм? Он
распространяется определенными людьми. Почему эти
люди смогли его распространить? Потому что
существовала темнота в умах. Единственное, что они
хорошо поняли, хотя и не до конца,— это
необходимость покончить с обскурантизмом.
Лишь марксизм оказался способным найти
исторически-конкретное решение этой проблемы,
касающееся не только феодализма, но и капитализма и
всей всемирной истории. Лишь марксизм, будучи
историко-диалектическим мировоззрением
'пролетариата, может понять, исходя из глубоких
экономических и социальных причин, «темноту», царящую
в умах, и положить конец ее господству.
Здравый смысл, lumen naturale эпохи
просвещения, одержавший столько решающих побед в
борьбе с феодализмом, представлял собой разум
прогрессивной борющейся буржуазии, разум неизбежно
исторически ограниченный и давным-давно уже
ставший вместе со своим реальным основанием
столь же абсурдным и иррациональным, каким
было в свое время феодальное неразумие. В
сравнении с нынешним иррационализмом буржуазии
философия подымающейся буржуазии имела в
целом 'несомненно рационалистический характер.
И это потому, что только новый и действенный
разум был способен разрешить задачи, поставленные
социальной эволюцией, которая, начавшись еще в
XVI веке, привела к разложению феодальной
структуры хозяйства и общества и к невиданному
подъему естественных наук. Но это столь широкое
экономическое и социальное преобразование не
уничтожило эксплуатации и угнетения широких
народных масс; оно только заменило одну форму
эксплуатации и угнетения другой. Производство
приобрело общественный характер, но присвоение
по-прежнему оставалось индивидуальным. Поэтому
25
рационализм зарождавшейся буржуазной
философии не был просто рационализмом, а был с
необходимостью рационализмом абстрактным, не
способным выразить противоречия и антагонизмы
складывавшегося нового общества. Иначе он стал бы
подрывать и отрицать свое собственное классовое
основание.
2. Атеистический материализм
Если деизм смог бороться против
идеалистической и теологической идеологии феодализма, то это
потому, что под его идеалистической оболочкой
скрывалось материалистическое ядро. Он был
идеалистическим, поскольку сохранял идею верховного
существа — творца, мудрого организатора и
двигателя вселенной. Однако м;ир,'будучи создан,
представляется как движимый своими внутренними
законами и имманентной необходимостью,
исключающими возможность всякого внешнего
вмешательства и всяких чудес, 1какие описываются
догматическими религиями. В этом отношении деизм,
следовательно, материалистичен. Использовав бога, он
затем зачисляет его в разряд бесполезных
аксессуаров и даже отказывается чтить его религиозными
ритуалами. (Однако 'после Великой французской
революции, в изменившихся исторических условиях,
идеалистические пережитки деизма берут верх и
устраняют его материалистический характер.)
Именно в силу указанных обстоятельств деизм
смог воспользоваться успехами, достигнутыми в
ходе развития современного естествознания,
которое, объясняя природу, отбросило идею всесильного
бога — творца чудес. Вольтер был пропагандистом
ньютоновской физики во Франции; деист Дидро
обладал глубокой научной культурой. Но как они
могли ссылаться на достижения того самого
естествознания, которое демистифицировало природу? На
26
чем они основывались, говоря об организации
вселенной как о доказательстве 'существования
божественного разума со своими (планами и целями,
тогда как все успехи естествознания были
достигнуты именно благодаря тому, что оно
освободилось от всяких телеологических категорий,
столь ценных и необходимых для любого
религиозного мировоззрения?
Известно, что человеческий труд — это
целенаправленная деятельность. Ка'к 'Подчеркивает Маркс
в «Капитале», самый плохой архитектор отличается
от наилучшей пчелы тем, что прежде, чем
предпринимать постройку дома, он имеет идею этого дома
в голове как цель своей деятельности, которая
должна получить материальное воплощение, тогда
как к пчеле все это не относится — она строит свои
соты, руководствуясь инстинктом. Наивный
антропоморфизм, характерный для средневековой
философии— служанки теологии, пользуется этим
целенаправленным характером человеческого труда,
основывая на нем свое объяснение мира. Считая,
что для объяснения всего окружающего достаточно
сказать, что природа или то или иное из ее явлений
были созданы «богом» для такой-то цели, эта
философия в действительности лишь обнаруживает
свое темное религиозное невежество, не давая
даже начатков какого-либо научного объяснения.
В чем причина морских приливов? Философ
средневековья не искал реальных естественных
причин этого явления (говоря языком современной
философии — «действующих» причин); он
удовлетворялся утверждением, что приливы существуют
для того, чтобы облегчать судам вход в порты
при мелководье. Но кто творец такого
замечательного устройства? Конечно, бог! — заявляет теолог
средневековья при поддержке философа, своего
прислужника. Прилив, конечная причина которого
заключается в том, чтобы облегчать судам вход
в порт, создан во славу бесконечной мудрости бога.
Великое дело античной мысли — поиски реальных
27
причин, то есть материальных условий,
необходимых для возникновения того или иного явления,—
выродилось в конце концов в пустую болтовню о
бесконечно благостном, а главное — о всесильном
боге, способном снабдить хитрую лису
человеческим рассудком, в то же время оставляя ее лисой,
способном также, если он того пожелает,
возвращать девицам утраченную девственность... но стоит
ли продолжать?
Конечно, наука противопоставляет конечным
причинам свои «действующие причины»
(выражение «действующая причина» есть, собственно
говоря, плеоназм, объясняющийся лишь потребностями
полемики, поскольку существует только один вид
причин, а именно причины действующие, иначе они
не были бы причинами), но было бы неправильно
полагать, что в XVIII столетии теология была уже
достаточно дискредитирована, чтобы сами теологи
перестали ею пользоваться. Наоборот, чем больше
были успехи науки и ее союзницы —
материалистической философии, тем с большим ожесточением
ортодоксальная теология защищала свои
«конечные причины». Это было время, когда рыба и дыня
считались самыми убедительными
доказательствами божественной мудрости: рыба — потому, что
она годилась для приготовления 212 различных
блюд, а дыня — потому, что, естественно
разделяясь на дольки, не дает ссориться членам семьи
при ее разделе. Но все эти нелепости были
связаны с жестокостями и кровопролитием, и Вольтер
разоблачает эту связь в своем «Философском
словаре», указывая, что конечные причины, столь
восхваляемые феодальной и клерикальной
реакцией, позволяют ей провозглашать, что конечная
цель человека в том, чтобы давать себя убивать
в войнах во имя укрепления власти священников и
тиранов.
Деисты Дидро и Вольтер восстают против
такого положения вещей со всем пылом страсти, на
который они способны. Всю свою жизнь они посвя-
28
тили борьбе за то, чтобы с ним покончить, и все
же они не смогли довести до конца борьбу против
учения о конечных причинах.
Основываясь на естественных науках, они
выступают против теолого-философского понятия
конечной причины, носящего на себе отпечаток
примитивного антропоморфизма, и заявляют, что
глупо предполагать, что божественная мудрость,
действуя во всем в соответствии с принципом
целесообразности, стремится повсюду служить
человеку. Например, глупо полагать, что божественная
мудрость придала человеческому носу известную
форму для того, чтобы на нем держались очки.
Однако они не смогли отказаться от примитивной
идеи о том, что порядок и гармония,
обнаруживаемые в мире, могут быть лишь продуктом высшего
разума. По мнению Вольтера и Дидро, форма носа
не объясняется тем, что на нем должны сидеть
очки, но его назначение — конечная причина — в
том, чтобы воспринимать, ощущать запахи, и,
'поскольку он соответствует этой функции, он
представляет собой чудесный механизм, славящий
мудрость своего создателя. Что же касается приливов,
го если их существование и не объясняется задачей
облегчать судам вход в порты, то, во всяком
случае, всемирное тяготение, открытое Ньютоном,
создано активным и целенаправленным разумом
для того, чтобы обеспечить связь между Луной и
океаном. Таким образом, ни Дидро, ни Вольтер,
будучи деистами, не отказываются от поисков
материальных, реальных причин; они не
отказываются ни от объяснения приливов силой притяжения
Луны, ни от рассмотрения механизма носа как
материальной реальности, но, с их точки зрения, эти
причины и закономерности предполагают наличие
абсолютного разума — их создателя. Можно даже
сказать, что они не только не отказываются от
поисков этих причин, но считают это основной
обязанностью, поскольку, по их мнению, причинные
отношения, раскрываемые естественными науками,
29
и «чудесный» механизм вселенной дают
единственное доказательство существования бога.
Именно в этом смысле Вольтер ссылается на
Ньютона, а Дидро — на Ньютона и Мушенброка, на
Мальпиги и Ньювентита и приводит в качестве
довода глаз насекомого и крыло бабочки.
Онтологическое доказательство бытия бога, приводимое
Декартом, очутилось на свалке истории; теперь
оно заменяется физико-телеологическим
доказательством.
Несмотря на все это, Вольтер и Дидро в конце
концов лишили средневековую идею бога большей
части содержания, сведя ее к идее
целенаправленного ума — организатора вселенной. Их бог не
имел ни антропоморфных черт усатого и
бородатого старца, тиранического «отца» людей, ни
магических и мистических качеств; он был чем-то
вроде абстрактно-телеологической проекции
человеческого труда.
Атеизм последовательного материализма
(последовательного для XVIII столетия) состоял в
том, что был отброшен и этот последний остаток.
Деисты боролись против атеистического
материализма, не признавали его истинность. ВЪльтер
публично выступил против атеистического
материализма Гольбаха, а Дидро, когда он в 1749 году
изложил свои аргументы в защиту атеизма,
приписав их одному слепому ученому, поспешил
подчеркнуть, что он «далеко не разделяет мнения
Саундерсона, который отрицает существование
бога потому, что он родился слепым». Мы видели,
как Дидро, будучи еще деистом, полемизировал
с материалистами-атеистами, и нам известно, что
деист Ж.-Ж. Руссо намеревался написать большой
труд, направленный против последовательного
материализма Гельвеция. Сохранившиеся записи
свидетельствуют, что и в этом случае налицо
конфликт между идеализмом и материализмом,
элементы которых содержатся в деизме. Подобных
примеров можно было бы привести сколько угодно.
30
Мы видим, таким образом, что деисты вступают
в полемику с последовательными материалистами.
Идеалистическая оболочка отделяется от
материалистического содержания и становится в
некотором роде самостоятельной. Неправильно было бы,
однако, из этого заключать, что борьба деистов
против феодально-клерикального идеализма была
во всем подобна их борьбе против
последовательного, открытого материализма. До 1789 года
борьба между деизмом и материализмом коренным
образом отличалась от той борьбы, которую они
вместе вели против феодально-клерикальной
идеологии. Эта вторая борьба ограничивает первую,
ставит ей определенные преграды. Если о
Гольбахе Вольтер говорит в тоне глубочайшего
уважения, то против Рима он пускает такие стрелы,
что два столетия спустя Ватикан все еще не может
их забыть. С 'Дидро Вольтер продолжал
сотрудничать до конца, несмотря на все разделяющие их
расхождения во мнениях. Руссо же отказался от
мысли написать большой труд против Гельвеция,
когда увидел, каким нападкам реакции
подверглась книга этого философа.
Для французского общества, ускоренным
шагом идущего к буржуазной революции,
существенное значение имеет лишь единство между деизмом
и материализмом, их общая ожесточенная борьба
против феодальной реакции; их расхождения
и конфликты представляют в данный момент ллшь
полемику различных тенденций внутри единой
группировки.
Но эти расхождения, которым предстоит стать
антагонистическими, уже существуют, и по мере
приближения революции (хотя это соответствие
далеко не формальное и не механическое) они
возрастают и сразу обостряются, как только
вспыхивает революция. Поэтому должно быть признано
неточным утверждение старой буржуазной
истории философии, еще в некоторой степени
считавшейся с действительностью, о том, что единство
31
деизма и материализма означало абсолютное
тождество, исключающее всякое различие между ними.
Буржуазная историография любит объединять под
одним слишком общим наименованием «третьего
сословия» революционную буржуазию,
готовившуюся создать основы будущего режима
эксплуатации, и широкие народно-пролетарские массы,
хотя между ними существует революционный
антагонизм, который пока скрывается под, казалось бы,
прочным союзом этих классов в революции.
Классики буржуазной истории философии любят также
сваливать в одну кучу различные идейные
течения, которые, несмотря на их общую
антифеодальную направленность, имеют различное классовое
содержание. Таким образом, задача марксистско-
ленинской истории философии не сводится только
к опровержению исторических мифов фашистского
и полуфашистского типа, она должна также
разоблачать легенды и извращения прогрессивных
буржуазных 'историков философии.
Подчеркивая фактически уже существующие
расхождения между деизмом и материализмом, мы
делаем значительный шаг как к лучшему
пониманию отношений между этими двумя течениями,
так и к лучшему пониманию творчества самого
Дени Дидро. Будучи деистом, Дидро выдвигал
аргументы против материализма. Но иной раз тому
же деисту Дидро в тот же самый период
случилось рассуждать совсем по-материалистически,
принимая за исходный пункт отсутствие всякого
«верховного существа». Об этом чрезвычайно ясно
свидетельствуют его «Философские мысли».
У Вольтера — ничего подобного. Правда, Вольтер
высказывался в материалистическом духе как в
своей основывающейся на Локке критике
картезианской теории врожденных идей, считая, что
идеи происходят от вещей, существующих
независимо от сознания, так и в критике двух
картезианских субстанций — протяженной и мыслящей. Но он
всегда при этом исходил из признания верховного
32
существа и даже заявлял, что, если бы его не
было, его нужно было бы выдумать.
Почему же, согласно Вольтеру, следовало бы
выдумать это верховное существо? Один из
зачинателей французского просвещения Пьер Бейль,
известный своим скептицизмом, направленным,
однако, главным образом против духовного
наследства своих предшественников, в конце XVII века
поставил вопрос: может ли существовать и
оставаться нравственным государство, населенное
атеистами? Он отвечал на этот вопрос положительно.
Спустя полстолетия Вольтер вернулся к этому
вопросу, но дал на него совсем иной ответ. По его
мнению, такое государство атеистов могло бы,
конечно, существовать и быть гораздо более
нравственным, чем, например, государство, населенное
ханжами, но только при условии, что все эти
атеисты будут философами. Если бы Бейль, говорит он,
попытался управлять даже не государством, а хотя
бы общиной из 500—600 крестьян-атеистов, ему
пришлось бы убедиться, что без идеи бога,
могущего вознаградить праведных и покарать злых на
том свете, это невозможно. Таким образом,
Вольтер не присоединяется к взглядам английских
деистов, считавших, что опиум религии должен
всячески распространяться среди народа, чтобы
помешать ему бороться с феодализмом и с
владеющей крупными угодьями церковью. Он не доходит
до этого, ибо буржуазия в борьбе не могла
обойтись без поддержки народа. Но для укрепления
господства буржуазии идея божества, хотя бы
и буржуазно анемичного и лишенного
большинства своих атрибутов, представляется ему
-необходимой.
В отношении Дидро дело обстоит иначе. Встав
на твердые материалистические позиции — хотя эту
идею он высказал еще в период деизма,— он не
только одобряет точку зрения Бейля, но
подчеркивает ее смысл. Человек сможет действовать
свободно, в соответствии со своими интересами и с
3-641
33
интересами других людей и, следовательно, в
соответствии с требованиями человеческого
прогресса лишь тогда, когда он освободится от этой
иллюзии. Крестьяне не беспокоят Дидро, так как он в
отличие от Вольтера не является представителем
финансовой и торговой буржуазии — разумеется,
антифеодально настроенной, но боящейся
крестьянских движений. Он также не является в отличие
от своего друга Гольбаха выразителем интересов
промышленной буржуазии, полной сил и
процветавшей уже в середине столетия и занятой
созданием французской промышленной базы. Дидро
представляет постепенно складывающийся
революционный блок, в котором объединяются средняя
буржуазия, постепенно усиливающаяся благодаря
подъему промышленной буржуазии, городская и
сельская мелкая буржуазия, а также «плебейские»
элементы города и деревни, живущие
непостоянным наемным трудом и подвергающиеся процессу
пролетаризации.
Плебейские элементы этого блока,
эксплуатируемые капиталистического «сегодня», еще
существующего в рамках феодализма, и
эксплуатируемые капиталистического «завтра», которое
последует за свержением феодализма, и определяют в
основном личную эволюцию Дидро. В частности,
именно так он преодолевает деизм. Однако не
следует полагать, что внутри этого антифеодального
блока атеистический материализм непосредственно
представляет 'идеологию плебейского элемента, а
деизм — идеологию элемента буржуазного. Это
было бы недопустимым упрощенчеством. Конечно,
представитель простого народа Дидро был
последовательным материалистом, и на него с полным
основанием ссылались как эбертисты,
находившиеся на крайнем левом фланге якобинской
диктатуры и явившиеся вдохновителями движения дехри-
стианизации, так и Бабеф — один из
провозвестников современного рабочего движения. Но Дидро
был не единственным последовательным материа-
34
листом. Таковым был и представитель
радикальной буржуазии Гольбах, а позже, во время
революции,— Дантон. Также и буржуазный деятель
Вольтер, на которого ссылались многие
жирондисты, не был единственным деистом. Им был и
мелкобуржуазный революционер Ж--Ж. Руссо —
вдохновитель Робеспьера и Сен-Жюста как в
отношении мер по уравнению имуществ, так и в
учреждении культа Верховного Существа как
государственной религии. Окрепнув и обретя уверенность
в своих силах, буржуазия второй половины
столетия перестала бояться., материализма. Впрочем,
вследствие отсталости широких масс городских и
сельских мелких собственников обязательно
требовался мелкобуржуазный вариант деизма, который
и выдвинул Руссо. В этой классической буржуазной
революции атеистический материализм мог быть
только идеологией наиболее передовых, городских
слоев простого народа и прежде всего рабочих
мануфактур. Подводя итоги опыта якобинской
диктатуры, Бабеф правильно упрекал эбертистов в
том, что они, пренебрегая тактикой, оторвались от
широких масс из-за своего доктринерского
идеологического радикализма.
3. Энциклопедисты, промышленная
революция и классовая борьба
Одной из основных проблем
предреволюционной Франции была крестьянская проблема. В
нечеловеческой нищете крестьян был повинен не
только старый феодальный строй с его тяготами,
но и бурно развивающееся товарное
производство — новое бремя, которое на них взваливали их
хозяева при содействии абсолютной монархии.
Положение было тем более тяжелым, что из-за
феодальной структуры общества сельское хозяйство
3* 35
находилось в невероятно отсталом состоянии —
«Энциклопедия» говорит об этом с
революционным пафосом, выдвигая соответствующие
предложения. В случае неурожая экстенсивное
земледелие приводило к тому, что голодали целые
области. «Люди едят траву, как овцы, и мрут, как
осенние мухи»,— говорится в одном из мемуаров того
времени. Не удивительно, что при такой нищете
крестьянские бунты следовали один за другим
(1729, 1737, 1739, 1752, 1764, 1766, 1767, 1768
годы). Неудача всех этих восстаний приводила к
единственному выводу: крестьянство не может
рассчитывать только на свои собственные силы, ему
необходимо руководство другого класса. Аббат
Мелье — крупный мыслитель-материалист первой
половины XVIII века и создатель первого
коммунистического учения того времени — полностью
ориентировался на крестьянство. Да и все
философы тогда определяли свое отношение к
крестьянскому вопросу, хотя и не обязательно принимая
его за основу для ориентации.
Новый господствующий класс как таковой
складывается в ходе предреволюционного развития
французской промышленности. Именно в этот
период, говоря словами Маркса, буржуазия
превратилась из класса в себе в класс для себя; тогда
и сложилось ее единство и возникло ее подлинное
классовое сознание. Действительно, хотя до
революции удельный вес промышленной буржуазии
среди всей французской буржуазии был невелик,
несомненно, что ее развитие должно было
сказаться на развитии торговой и даже финансовой
буржуазии, которой она подала идею вложить
накопленные ростовщичеством огромные капиталы уже
не в сельское хозяйство, а в доходные
промышленные предприятия. Таким образом промышленная
буржуазия стремилась оторвать и этот социальный
слой от режима абсолютизма, политика которого
в области налогов и монополий грозила полным
удушением промышленности. Немаловажным след-
36
ствием зарождавшейся промышленной
концентрации явилось также сосредоточение в городах
наемных рабочих и пролетаризующихся элементов.
В связи с этим следует еще раз подчеркнуть, что,
несмотря на малочисленность пролетарских и
полупролетарских элементов по сравнению с мелкими
собственниками, они тем не менее составляли
революционное ядро, которое вместе с
революционной мелкой буржуазией, и часто ускоряя брожение
этой буржуазии, было способно двигать вперед
буржуазную революцию в некоторых критических
ситуациях и гарантировать ее завоевания, даже
вопреки самой буржуазии. Известно, какую роль
сыграли в революции рабочие Сент-Антуанского
предместья в период от взятия Бастилии до
разгрома внешних врагов.
Социально-политическое значение
промышленного прогресса побудило Дидро и энциклопедистов,
в отличие от их предшественников, уделить этим
новым проблемам самое пристальное внимание.
Это побуждение выглядело скорее как
чувственный порыв, чем как ясное логическое открытие,
и сопровождалось всевозможными
физиократическими иллюзиями. Они считали, что только
сельскохозяйственный труд является
производительным, так как другие виды труда лишь изменяют
форму материала, а сельское хозяйство дает
чистый продукт. У Дидро, например,
физиократическими идеями проникнута статья «Общественный
человек». Маркс гениально доказал, что классовое
содержание учения физиократов было буржуазным
и что фактически их экономическая политика была
направлена на то, чтобы освободить
промышленность и торговлю от налогов и от вмешательства
государства и дать простор развитию
капиталистической конкуренции. Вот почему, говоря о
физиократах и подчеркивая в то же время связь между
энциклопедистами и буржуазией, укрепившейся в
ходе промышленного развития, Маркс отмечает,
что, несмотря на их обманчивую феодальную внеш-
37
ность, физиократы шли рука об руку с
энциклопедистами. Нет ни малейшего сомнения, что в этом
вопросе прав Маркс, а не некоторые марксисты,
поверившие «обманчивой феодальной внешности»
физиократов.
Дидро лучше всех понял значение
промышленности и ближе всех подошел к тому, чтобы увидеть
в ней основу производства в том новом обществе,
которое «вылуплялось» из феодализма. Когда
рождалась «Энциклопедия», именно он выдвинул
в ней на первый план «механические искусства»,
или, говоря более современным языком,
промышленную технику. Он же отверг старую
энциклопедию Чемберса на том основании, что она не
учитывала этот важный участок современной жизни.
С конца первой трети XVIII века и еще больше
к середине столетия развитие французской прот
мышленности пошло по линии создания все более
многочисленных, особенно в Париже,
централизованных мануфактур, вытеснявших пришедшие в
упадок ремесленные цеха и рассеянные
мануфактуры. Во второй половине столетия появляются
даже крупные капиталистические предприятия в
форме акционерных обществ, как, например,
созданное в 1757 году «Сосьете де Уйер д'Анзен»,
где было занято 4 тысячи рабочих. Все эти
явления означают, что еще до революции во
французской промышленности были созданы
экономические и технические условия для перехода к
машинному производству.
То, что Дидро видел вокруг себя, это было
мануфактурное производство, организованное
ремесленниками и торговцами на широкой основе
провинциальных домашних промыслов,
производство, обладающее, как это доказал Маркс, весьма
ограниченными внутренними возможностями
развития. Но дух, которым благодаря Дидро были
пронизаны статьи «Энциклопедии» о механических
искусствах, «Проспект Энциклопедии», а также его
«Мысли об объяснении природы», был духом без-
38
граничного прогресса, духом промышленного
переворота, машинного производства, тем духом,
который, начиная с Уатта, захватил английскую
промышленность.
Техника производства, промышленная
технология, машины и сырье, описанные в
«Энциклопедии», соответствуют мануфактурному способу
производства. Но в ней постоянно чувствуется этот дух
прогресса, не останавливающегося ни перед какими
препятствиями. Дидро определяет этот дух в
«Проспекте» следующими словами: «Факты
приводятся, опытные данные сравниваются и методы
придумываются только для того, чтобы пробудить
гений отыскания неисследованных путей и
приблизиться к новым открытиям...» 1
Но дело далеко не ограничивается общими
рассуждениями. В конце концов тот же дух
неуклонного, безграничного прогресса чувствуется уже у
Бэкона и даже в некоторой степени у Декарта,
когда речь идет о техническом применении науки.
Говоря об отражении промышленного переворота
в сознании Дидро, недостаточно отметить, что он
интересовался паровым насосом Ньюкомена,
который уже работал на набережной Сены и в
некоторых французских шахтах. Его интерес к машинам,
которые в усовершенствованном виде сыграли
впоследствии важную роль в промышленном
перевороте, является существенным, но не главным
фактором. Тем более что, как нам известно благодаря
гениальным исследованиям Маркса, создавшего
критическую историю техники, машиной, которая
явилась исходной точкой промышленного
переворота, была не машина-двигатель, а станок,
заменивший работу руки, вооруженной орудием. Именно
станок революционизировал паровой двигатель,
а не наоборот. Разумеется, Дидро не мог ясно
отдавать себе в этом отчет, он не мог
предначертать техническую программу промышленного
перецени Дидро, Собр. соч., т. VII, 1939, стр. 49.
39
ворота; это было дело Маркса, совершенным
a posteriori. Ведь история так не делается! Или,
вернее, она так делается лишь с октября 1917 года,
с тех пор как советское государство,
руководствуясь марксистско-ленинской наукой, создало
программу преобразования общества и природы в
виде четко поставленных задач. В отношении
предыдущей истории будем придерживаться того, что
было установлено Марксом: люди делают то или
иное, но они не знают, что они это делают.
Дидро знал «только», что широкое,
систематическое и организованное сотрудничество науки и
промышленности является условием прогресса. Но
это «только» было открытием гениального ума,
находящегося во главе идейного движения своей
эпохи. Все его творчество и вся «Энциклопедия»
носят на себе отпечаток этого открытия.
Одна из наиболее общих характерных
особенностей истории до социализма заключается в том,
что выразители новых крупных исторических
тенденций всегда считали себя продолжателями
какой-либо старой тенденции, внешние черты которой
вначале заимствовала новая тенденция. Это было
связано также с ограниченностью сознания людей,
действовавших в эти исторические эпохи. Так,
например, в период английской революции пуритане
искали в Ветхом завете мистическое оправдание
своим целям, хотя эти цели не имели ничего
религиозного. Буржуазные деятели французской
революции ссылались на демократию античного полиса,
и в некотором смысле так поступал и Бабеф, хотя
он опирался на рабочие массы. В этом же смысле
Дидро основывался на Бэконе.
Дидро вдохновлялся идеями Бэкона в отношении
внутренней структуры «Энциклопедии», он
ссылается на него в «Проспекте», цитирует его,
выдвигая как программное требование в
напечатанной в «Энциклопедии» статье «Искусства»
необходимость связи научной теории с практикой
промышленного производства, и его «Мысли об
40
объяснении природы» своим заглавием опять-таки
напоминают о Бэконе. В одном пункте их идеи,
во всяком случае, полностью совпадают.
Поскольку они вольно или невольно являются идеалистами
в объяснении истории, к ним полностью относится
мысль, высказанная Марксом в отношении
Декарта: они полагают, что изменение формы
производства и практическое господство человека над
природой являются следствием изменения методов
мышления.
Широко организованное сотрудничество науки
и промышленности действительно явилось
предпосылкой прогресса в области производства.
Однако оно не должно пониматься в абсолютном
смысле, в каком понимал его Дидро. Нельзя считать,
что крупная индустрия была создана наукой или,
точнее, естествознанием. Крупная современная
индустрия была результатом капиталистического
прогресса, но, чтобы достичь этого результата,
капитал должен был сначала полностью, «со всеми
потрохами» аннексировать естественные науки и
обеспечить им небывалое по важности место в
решении текущих задач производства.
До некоторой степени Дидро имел основание
ссылаться на Бэкона, ибо связь между наукой и
производством, открытая Бэконом, так сказать, в
философском плане, осуществлялась на практике
с начала мануфактурной эры. Почти все крупные
физики и математики XVII столетия занимались
проблемами, в той или иной форме
непосредственно порожденными развитием производства. Как
подчеркивает Маркс в своем письме Энгельсу от
28 января 1863 года, характерной чертой этой
эпохи было то, что двумя наиболее привлекавшими
внимание материальными основами были те, на
которых строилась подготовительная работа для
машинной индустрии, а именно часы и мельница.
Но если на первой материальной основе и
развились некоторые элементы машинной индустрии, она
все же была недостаточна, чтобы с нее началась
41
промышленная революция, и, следовательно,
недостаточна для осуществления широкой связи между
наукой и производством. Действительно,
изготовление часов, по своей природе основывающееся на
сочетании полухудожественного ремесла с теорией
в собственном смысле слова, позволяет проследить,
насколько соотношение между наукой и практикой
в эпоху ремесла отличается от этого соотношения
в период крупного производства. Вторая
материальная основа, а именно мельница,— теория
которой занимала начиная с XVII века всех ученых,
интересовавшихся практической механикой,—
принадлежит к такой категории машин, в
которых— как и в прессе, плуге и т. д.— собственная
работа, то есть битье, раздавливание,
размалывание и т. д., производится с самого начала без
человеческого труда. Поэтому хотя Бэкон, так же как
и Декарт, часто касался проблемы связи между
наукой и практикой, его идеи на этот счет были
либо весьма абстрактными, либо утопическими,
так как эта связь в тот период была весьма
ограниченной. Не случайно суть идей по этому вопросу
Бэкон изложил именно в своей утопии «Новая
Атлантида». Иначе и быть не могло. Исходным
фактором мануфактурного производства была не
машина, а человек. Именно поэтому принцип
разделения труда внутри мануфактуры оставался до
конца субъективным. Различные фазы
производственного процесса и организация этих фаз в
единое целое определялись не объективным
характером производимого продукта, а сноровкой и
специализацией рабочих, объединенных в одном месте
и работавших ручными орудиями. При таком
положении связанные с этим теоретические проблемы
неизбежно оставались ограниченными весьма
узкими рамками.
Хотя Дидро и смешивал свое собственное
положение с положением Бэкона, но, родившись в
более позднюю эпоху, он не мог не замечать
существующую между ними разницу и, во всяком слу-
42
чае, у него был более верный взгляд на это дело,
чем у его буржуазных комментаторов. Так,
например, Дидро писал о Бэконе, что он «набросал
план всеобщего словаря наук и искусств в то
время, когда, можно сказать, не было ни наук, ни
искусств»1 (в данном случае «искусства»
означает прежде всего «механические искусства», то
есть техника). Дидро не заметил лишь того, что
эта широко организованная связь, осуществления
которой он столь решительно требовал, именно по
причине своей широты и всесторонности
принадлежала к категории более высокой, чем предыдущая.
Мало было констатировать, что мануфактурная
эра реализовала стремления Бэкона; то, что тогда
начиналось, было вообще нечто совершенно новое.
Дидро этого не сознавал, так как при его жизни
новый процесс развития лишь только начинался
и его материальное выражение было
несущественным. К середине столетия используемые машины
достигли такого уровня совершенства, на какой
только мог их поднять стихийный труд прекрасных,
иногда даже гениальных ремесленников,
работавших эмпирически, без помощи теории. Теперь уже
были необходимы данные научного анализа и
теории, как об этом ярко свидетельствует пример
паровой машины, сыгравшей решающую роль в
промышленном перевороте. Ее развитие шло от
машины, построенной прекрасным механиком Нью-
коменом, через машину гениального русского
изобретателя Ползунова к машине двойного действия
Уатта, который был не только не менее гениален,
но и обладал, как подчеркивает Маркс, высшим
образованием. Таким образом, замечательная
общая формулировка Дидро основывалась на
довольно узкой базе.
Осуществление связи более высокого типа
между наукой и промышленностью стало теперь
необходимым потому, что в машинной индустрии
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. VII, стр. 45.
43
общий процесс труда рассматривается объективно.
Как указывает Маркс, он анализируется лишь с
точки зрения самого процесса и составляющих его
последовательных операций, а проблемы,
связанные с выполнением отдельных частных операций
и с их объединением, решаются путем технического
применения механики, химии и т. д. Эта новая
особенность находит свое выражение у Дидро в том,
что каждое «искусство», то есть каждую отрасль
производства, он связывает с соответствующей ему
наукой, определяя, таким образом, связь между
теорией и практикой более четко и более
всеобъемлюще, чем все его предшественники. «Очевидно...
что всякое искусство имеет свою спекуляцию и
свою практику»,— пишет он в статье «Искусство»,
помещенной в «Энциклопедическом словаре»
(современники считали эту статью довольно
туманной). «Свою спекуляцию, которая есть не что иное,
как неоперативное1 знание правил искусства;
свою практику, которая есть лишь привычное и
неосознанное применение тех же правил.
Трудно, чтобы не сказать невозможно, двигать вперед
практику без спекуляции, и наоборот, хорошо
владеть спекуляцией без практики. В каждом
искусстве есть большое количество обстоятельств,
относящихся к материалу, к инструменту и к маневру,
которым научает только употребление. Практике
надлежит предлагать трудности и давать явления,
а спекуляции — объяснять явления и снимать
трудности».
Различие исторического положения Дидро и
Бэкона проявилось также и в том, что если Бэкон
хотел объединить ученых в академию — «Дом
Соломона»,— чтобы они там работали над своими
изобретениями для содействия производству, то
Дидро предлагал вывести ученых из академий,
послать их на предприятия, к машинам. Машина
на бумаге весьма отличается от реальной машины,
Неоперативное — не осуществленное на практике.
44
отмечает он, говоря о тех «...кто, не приложив
руки к делу, никогда не знал, чем отличается
сама действующая машина от ее изображения».
И далее: «Пусть выйдет из академий человек,
спускающийся в мастерские, наблюдающий там
явления искусств и излагающий их в книге,
заставляющей умельцев читать, философов — мыслить с
пользой, а великих — найти наконец полезное
применение своей власти и своим наградам».
Если ученые академики после этого и не
принялись посещать мастерские, то, во всяком случае,
Дидро делал это за них. В «Проспекте» к
«Энциклопедии» он рассказывает, как он ходил к
рабочим, расспрашивал их о работе и машинах. Из
других произведений Дидро можно понять, что эти
расспросы определенно касались также условий
жизни и стремлений рабочих. Мы узнаем, кроме
того, что Дидро, знакомясь с производством,
научился, как он говорит, изготовлять довольно
посредственные детали, после чего в статьях
«Энциклопедии» он смог объяснить другим, как надо хорошо
работать.
Биографы Дидро не упускают случая
рассказать об этом, но они упускают главное. Они не
говорят, что Дидро интересовался не только
машинами, но и работающими около них людьми. Ведь
он боролся за то, чтобы труженик и его труд были
оценены по заслугам и, главное, чтобы
просвещение было также уделом и рабочих. Разум в
понимании Вольтера, как он говорит об этом сам,
существует не для башмачников и привратников. В
понимании Дидро разум существует и для рабочих.
Дидро призывал академиков идти в мастерские
не только для того, чтобы они там способствовали
совершенствованию техники, но также и для того,
чтобы они увеличивали знания рабочих, повышали
их образованность и укрепляли их общественное
сознание. К тому же Дидро не ограничивался
наукой и философией; он хотел, чтобы и изящные
искусства стали орудием пробуждения сознания
45
трудящихся и воспевали труд. «Воздадим,
наконец, должное умельцам. Свободные искусства
довольно уже воспевали сами себя. Они могли
бы теперь употребить свой голос на прославление
механических искусств. Пусть свободные искусства
выведут механические искусства из унижения,, в
котором их так долго держал предрассудок. Пусть
королевская протекция х гарантирует их от
скудости, в которой они еще прозябают. Ремесленники
сочли себя презренными, потому что их презирали.
Научим их быть лучшего мнения о самих себе: это
единственное средство получить от них более
совершенную продукцию». Это идеализм?
Разумеется. Но, за исключением разве одного Жан-Жака
Руссо (да и то он имел в виду лишь
ремесленников, владеющих своими орудиями производства),
кто в ту пору думал о применении науки и
изящных искусств для пробуждения общественного
сознания ремесленников и подмастерьев, наемных
рабочих и вообще тех самых трудящихся масс,
которые через каких-нибудь сорок лет после
написания этих строк показали свою столь огромную
революционную мощь? Кто, кроме Дидро,
стремился тогда поставить искусство и летературу
на службу народным массам, их радостям и
печалям?
Всего этого, то есть распространения
просвещения среди народных масс и прежде всего
городских рабочих, уже достаточно, чтобы полностью
опровергнуть утверждения о том, будто интерес
Дидро к технике был проявлением абстрактного
«техницизма». Ничего подобного! Рост
производительных сил, с точки зрения Дидро, должен был
выражаться в увеличении благосостояния народа.
Французские материалисты часто обсуждали
вопрос о роскоши в связи с теми излишествами,
которым предавалось феодальное дворянство, ускоряя
тем самым себе свое неизбежное исчезновение со
Мы еще вернемся к этому предрассудку Дидро.
46
сцены истории. Большинство просветителей
осуждало роскошь. Но Дидро подошел к этому вопросу
с более тонкой меркой, различая хорошую и
дурную роскошь. Когда богатство распределено
неравномерно, а «...общество разделено на два
класса— весьма узкий класс богатых граждан и весьма
многочисленный класс бедных граждан...», роскошь
наверху представляет собой безумное
расточительство, а внизу — лицемерное прикрытие
нищеты. «Если же предположить более равномерное
распределение богатства и наличие
общенационального достатка, соразмерного различным
условиям, если золото перестанет быть воплощением
всевозможных заслуг, тогда появится другая
роскошь. Эта роскошь, которую я называю хорошей
роскошью, приведет к результатам, прямо
противоположным прежней роскоши. Если, например,
женщина из народа захочет купить себе платье,
она не будет спрашивать легкое и броское, потому
что ей будет чем заплатить за прочное, добротное
и хорошо сшитое... Будет мало преступлений, но
много пороков, а именно таких пороков, которые
делают людей счастливыми в этом мире, а
наказываются лишь в том, другом мире» (A s s ё z a t,
Oeuvres completes de Diderot, vol. II, p. 416). Здесь
вместе с проявлением некоторых мелкобуржуазных
уравнительных иллюзий в духе Руссо, которые,
впрочем, для Дидро не так уж характерны,
высказана идея, что с подъемом промышленного
производства и увеличением количества промышленной
продукции (что соответствовало тогдашнему
уровню развития капитализма), и в частности
предметов потребления, которые физиократы, однако,
считали предметами роскоши, можно будет поднять
уровень жизни общества.
Таким образом, народ заинтересован в
развитии науки и производства. Но заинтересованность
в какой-либо вещи означает, что эта вещь
интересует. Поэтому Дидро пишет: «Народ всегда
спрашивает: к чему это? и никогда не следует отвечать
47
ему: ни к чему» К Вместо схоластических споров,
говорит Дидро, «истинный прием
философствования заключался и, вероятно, будет заключаться в
том, чтобы приходить на помощь разумом разуму,
разумом и опытом — чувствам, приспособлять
чувства к природе, пользоваться природой для
изобретения инструментов, инструментами — для
исследований и усовершенствования ремесел,
которые необходимо предоставлять народу, чтобы
научить его уважать философию»2.
Такова была общая идейная основа борьбы,
которую Дидро вел против сознательной изоляции
и замкнутости, довольно распространенных в то
время среди промышленников и ученых и
упроченных впоследствии капитализмом на иных
основаниях. «Нужно раскрыть знание и ведущие к нему
средства»,— заявляет Дидро. Это означает, с одной
стороны, что знания должны распространяться
среди народа, а с другой стороны, что ученые и
ремесленники должны обмениваться между собой
опытом. И это означает также, что «не следует
судить о вещах слишком поспешно и осуждать
какое-либо изобретение как бесполезное лишь
потому, что оно с самого начала не дало тех выгод,
которых можно было бы от него требовать...»
Ремесленники же должны обращаться за советом к
ученым и не допускать, чтобы «их открытия
погибали вместе с ними». «Пусть они знают, что
скрывать полезный секрет — это значит совершать кражу
по отношению к обществу и что в таких случаях
предпочитать интересы одного интересам всех не
менее низко, чем в сотне других, когда они сами
осудили бы такое предпочтение без колебания».
Дидро сделал из всего этого определенные
выводы для науки. Он первым выдвинул по
отношению к науке демократическое требование
общедоступности. Он хотел, чтобы научные работы
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 310.
2 Там же, стр. 309.
48
были непосредственно, сразу понятны всякому,
кто обладает необходимым минимумом знаний для
их понимания. «Но недостаточно показать, —
нужно, чтобы было показано все ясно и без утайки.
Есть некоторая туманность в произведениях
ученых, которую я назвал бы аффектацией великих
мастеров. Они любят застилать природу от глаз
народа покровом. Если бы я не питал должного
уважения к славным именам, я сказал бы, что
такого рода туманность преобладает в некоторых
трудах Сталя и в Математических принципах
Ньютона. Достаточно было понять эти книги, чтобы
оценить их по достоинству...» 1 «Не достаточно ли у
природы своих покровов, чтобы умножать их еще
покровом туманности..?»2
Возвышенность мысли и решительный
демократизм Дидро ясно видны из того факта, что
выдвинутое им демократическое требование
общедоступности науки было отнюдь не формальным
требованием. Установив, что распространение знаний в
массах не только просвещает массы, но и
способствует научному прогрессу, он открыл глубоко
демократическую черту этого прогресса.
«Поспешим сделать философию популярной. Если мы
хотим, чтобы философы прогрессировали, доведем
народ до уровня философов»3. Дидро смог столь
глубоко постигнуть некоторые стороны реальной
диалектики научного прогресса потому, что он не
только стремился к распространению философии
среди народа и рабочих. В отличие от обычной
позиции просветителей, которые неоднократно
обращались к народу, но был-и неспособны у него
учиться, Дидро умел и хотел учиться у народа.
Дидро обращался к народу, выражая стремление
у него учиться. И он не довольствовался одним
стремлением.
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 331.
2 Там же, стр. 332.
3 Там же, стр. 331.
4-641
49
Как французский патриот, для которого
патриотизм и демократизм слиты воедино, Дидро
испытывал стыд, оттого что французская сталь хуже,
чем английская и немецкая. Несмотря на свои
обширные научные познания, Дидро не
постеснялся обратиться к рабочим, чтобы узнать у них,
каким образом можно изготовить лучшую сталь,
более высокого качества, чем заграничная.
«Сколько раз делали безуспешные попытки превратить
наше железо в сталь, которая сравнялась бы со
сталью английской и немецкой и которую можно
было бы употреблять для изготовления изящных
вещей. Я не знаю, к каким приемам при этом
прибегали, но мне кажется, что до этого важного
открытия дошли бы путем подражания и
усовершенствования (курсив мой. — Я. С.) одного очень
употребительного в железопрокатных мастерских
приема. Его называют закалка пачкой» К В данном
случае для нас неважно, мог ли способ закалки
пачкой привести в то время к усовершенствованию
стали. Главное то, что человек науки стремился
учиться на практическом опыте рабочих, что он
при этом не собирался погрязнуть в эмпиризме,
а рассматривал этот опыт как исходный пункт
нового развития и создания более эффективных
теорий. Этот глубоко народный и в то же время
научный демократизм, и объясняет тот факт, что
даже в труде «самых грубых ремесленников»
Дидро сумел обнаружить творческий элемент или
по крайней мере его возможность. «Благодаря
огромному навыку в производстве опытов, у самых
грубых ремесленников этого дела вырабатывается
чутье, граничащее с вдохновением»2.
Такое невиданное до тех пор уважение к труду
и признание его творческого характера были у
Дидро по сравнению с его предшественниками
новыми элементами, в то же время связанными и
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 329.
2 Там же, стр. 314.
50
с некоторыми старыми элементами.
Действительно, личные способности еще играют некоторую
роль в профессиональном умении рабочего
мануфактуры, тогда как капиталистическая машинная
индустрия совершенно подавляет личные
склонности и способности рабочего. К тому же крупная
капиталистическая промышленность неспособна
осуществить свободное сотрудничество науки и труда,
которое может по-настоящему развернуться лишь
при социализме. Вместо того чтобы объединить на
более высоком уровне физические и духовные
факторы труда, крупная капиталистическая
промышленность, наоборот, завершает их разъединение и
восстанавливает их друг против друга. Становясь
самодействующим, орудие труда, как указывает
Маркс, противостоит рабочему в процессе труда
в виде капитала, мертвого труда, господствующего
над живой рабочей силой и эксплуатирующего ее.
Отделение от производства духовных факторов и
их превращение в факторы власти,
осуществляемой капиталом над трудом, завершаются в
крупной промышленности, основывающейся на
машинном оборудовании. Умение отдельного
механизированного рабочего, индивидуальный труд
которого сам по себе уже не имеет смысла, становится
чем-то незначительным и несущественным в
сравнении с наукой, с гигантскими силами природы и
массовым общественным трудом, воплощенными в
системе машин и создающими вместе с ним власть
хозяина.
И все же идее Дидро суждено было
осуществиться (в рамках зарождающегося нового буржуазного
общества) в форме, примерно соответствующей его
уравнительным мелкобуржуазным иллюзиям.
Разумеется, она осуществилась лишь в течение
краткого исторического момента. Осенью 1793 года,
когда, по выражению Ленина, революционная
Франция вынуждена была защищаться против
реакционной монархической Европы, якобинский
Конвент — орудие революционной диктатуры го-
4*
51
родской и сельской мелкой буржуазии и народных
масс — призвал ученых помочь в организации
защиты родины, оказавшейся в опасности.
Объединившись с рабочими, эти ученые, воспитанные в
духе «Энциклопедии», учившиеся на работах
Дидро, справились с поставленными задачами
буквально в несколько дней. Выдающийся математик
Карно взялся за организацию революционной
армии, составил для нее военные планы и был
заслуженно назван народом «организатором победы».
Пороховым заводам не хватало селитры. «Найдите
нам селитристые земли, и через три дня пушки
будут заряжены!» — заявили ученые. А чтобы дело
шло еще скорее, они с помощью рабочих
сократили время изготовления пороха с 12 до 3 часов.
В ноябре 1793 года Монж, Бертолле и Вандермонд
написали"'"совместно для рабочих «Записку о
железе», в которой они разрешали задачу,
поставленную Дидро 40 лет назад, и от которой зависела
теперь судьба революционного отечества. Тот же
Монж вместе с другими академиками посещал
заводы, где проводил занятия и читал лекции, с тем
чтобы повысить профессиональный уровень
рабочих и подготовить техников. В невероятно короткие
сроки рабочие снабдили армию отличными
ружьями и пушками. Не хватало ботинок, у солдат
мерзли ноги. Замечательный химик Фуркруа, также
бывший академиком, использовал метод,
рекомендованный Дидро. Основываясь на старом опыте
кожевников, но усовершенствовав его средствами
науки, он значительно сократил сроки дубления
кож, и в результате ботинок для солдат стало
достаточно. В это же время, как рекомендовал ранее
Дидро, обратились к некоторым непризнанным
изобретениям. Когда Клод Шапп представил в
Комитет общественного спасения свой проект
воздушного телеграфа, значение этого уже давно
известного, но неиспользованного изобретения
было тотчас же признано, и в 1794 году вооруженные
силы французской революции имели уже в своем
52
распоряжении самую быстродействующую во всей
Европе систему «связи.
Но все это, повторяем, было лишь кратким
эпизодом. Развиваясь беспрепятственно после периода
термидорианской реакции, капитализм создал
совсем иные условия.
4. Новые науки и философия
Открытие этой принципиально новой связи
между наукой и производством, несомненно, явилось
одним из основных философских побуждений, в
силу которых Дидро отошел от деизма или,
вернее, покончил с идеалистическими пережитками
деизма в своих собственных воззрениях. Наука
стремится в объективных естественных процессах
вскрыть причинные отношения и проверить
реальность знаний с точки зрения господства человека
над природой и постоянного усиления этого
господства. К чему ей верховное существо деистов,
этот абсолютный ум — организатор вселенной?
Материалист Дидро неоднократно ставил вопрос о
том, насколько полезен этот абсолютный ум с
точки зрения понимания природы. И он неизменно
приходил к заключению о его полнейшей
бесполезности, ибо мало того, что он ничего не объясняет,—
эта абсурдная и сама по себе противоречивая идея
существа, пребывающего вне времени и
пространства и все же присутствующего в каждой точке
пространства и в каждом моменте времени, лишь
заменяет реальную, но еще не разрешенную
трудность сотней других, неразрешимых и к тому же
фиктивных.
Отказ от идеи бога у Дидро произошел
одновременно с недвусмысленным отказом от конечных
причин и с исключительным признанием
«действующих причин», то есть реальной причинности.
Ссылаясь на Бэкона, Дидро заявил, что конечная
причина — это бесплодная девственница, которая
53
должна быть осуждена, ибо она никогда ничего не
родит. Но он был прав лишь наполовину. Конечная
причина средневековой философии была
блудницей, рождавшей бесчисленных чудовищ;
бесплодной девственницей была лишь конечная причина
деистов. В своей работе «Мысли об объяснении
природы» (1754) Дидро отбрасывает конечные
причины, утверждая, что нет необходимости искать,
почему то или иное происходит в природе, а надо
уметь ограничиваться исследованием того, как это
происходит, то есть каким образом
развертываются в действительности природные явления.
Буржуазные философы-идеалисты, начиная с отца
позитивизма Огюста Конта и кончая венгерским
издателем философских работ Дидро Шаму Куном,
читая эти строки ликовали от радости и
восхваляли Дидро за то, что он якобы отказался от
поисков реальных причин («почему?») явлений
природы и с характерной для него «глубиной»
остановился на поверхности явлений, удовлетворившись
описанием их хронологической последовательности
(«как?»). Но эти господа кое-что упустили. А
вместе с ними это упустил и ревизионист Лефевр,
который в своей работе о Дидро повторяет эту
старую сказку. Дело в том, что вопрос почему?х у
Дидро касался конечных причин, а вопрос как?
относился к действующим причинам. В
действительности Дидро призывал людей науки оставить
погоню за химерами и приняться за исследование
причинных отношений материальной
действительности, существующей независимо от их сознания
и от их произвольных идей.
Было бы неправильно, однако, относить эту
неточную терминологию на счет недостатков стиля.
Надо сказать, что в этой работе, с самого начала
предназначавшейся для опубликования, Дидро за-
1 Французское слово «pourquoi» может быть переведено
на русский не только как «почему», но и как «зачем».
Именно так сделано в русском переводе «Мыслей об объяснении
природы» (см. Собр. соч., т. I, стр. 348), — Прим. перев.
54
маскировал свои истинные идеи под покровом
иронического теизма. Причем этот покров столь же
скрывал, сколь и обнаруживал суть его мысли.
Для посвященных эта ирония обнаруживала
материалистический атеизм Дидро, разоблачая в то же
время антинаучный характер теизма, а для
непосвященных цензоров она скрывала его
материалистический атеизм под маской теизма. Вот почему
Дидро здесь упоминает истины откровения, шесть
дней творения и прочие подобные вещи, которые,
как он говорит, одни только способны избавить нас
от утомительных исследований эволюции природы,
тогда как в действительности Дидро имел в виду
именно эту самую эволюцию выдвинуть на первый
план научного исследования. Вот почему Дидро
столь энергично опровергает доктора Баумана
(Мопертюи), заявляя, что его теории рушатся
ввиду «существования бога», тогда как в
действительности он громил именно фидеистический идеализм
Мопертюи. Вот почему, наконец, Дидро
притворяется, будто верит в то, что воля «всесильного»
правит природой по принципам целесообразности,
а почему она так или иначе поступает, дескать, не
дано знать нашему конечному рассудку, что и
заставляет нас ограничиваться поисками ответов
лишь на вопрос как? Весь этот «танец с
покрывалом», остроумно и изобретательно придуманный и
исполненный перед цензурой, помимо своих
несомненных преимуществ, представлял, разумеется, и
некоторые неудобства как для читателей того
времени, так и для потомства. Из этого, в частности,
исходят некоторые «специалисты» по Дидро,
которые за невозможностью изобразить Дидро
правоверным христианином пытаются представить его
фидеистом, используя при этом некоторые места из
«Мыслей об объяснении природы». Этим же
объясняется, почему в начале своей книги Дидро
обратился со столь ясным предупреждением к
молодым читателям, призывая их никогда не
истолковывать природу на манер деистов или теистов: «Еще
55
одно слово, и я оставлю тебя. Помни всегда, что
природа не бог, человек не машина, гипотеза не
факт, и будь уверен, что ты неверно поймешь меня
во всех тех местах этого произведения, где, по
твоему мнению, ты заметишь что-нибудь,
противоречащее этим принципам» К Многим нынешним
читателям Дидро было бы полезно учесть это
предупреждение!
Разумеется, отсюда еще нельзя заключить, что
в философском плане Дидро превзошел
механистический материализм в том виде, в каком он
существовал у его предшественников. Ведь
решительный отказ от конечных причин и
исключительное признание действующих причин были как раз
с самого начала одной из характернейших черт
механистического материализма. К тому же этого
отказа при всей его решительности все же
недостаточно. Это видно из того, что деизм, столь
близкий к материализму, что в некоторых пунктах он
прямо с ним совпадает, сохраняет понятие
целесообразности, хотя и в измененной форме. В этом
выражаются некоторые недостатки
механистического материализма, зародившегося в XVII веке и
получившего свое наиболее четкое выражение у
Гоббса и Локка. Великим философским открытием
Дидро было как раз то, что он уловил эту
недостаточность и попытался ее преодолеть.
В блестящих анализах Энгельса мы находим
самое основательное разъяснение причин, по
которым этот материализм, представлявший собой
странную смесь материалистической теории с
метафизическим методом, носил механистический
характер. Дело в том, что, как далеко ни ушли
некоторые гениальные мыслители по сравнению с
современным им состоянием различных наук, в целом
этот материализм основывался на старейшей из
этих наук — на небесной и земной механике.
Этапы последовательного развития механики связаны
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 299.
56
с именами Коперника, Кеплера, Галилея и
Ньютона. Объединив обе механики — земную и
небесную,— Ньютон создал основы, исходя из которых
стала успешно развиваться механика в XVIII веке.
Одни последователи Ньютона занялись
классификацией и систематизацией руководящих принципов
и основных идей механики, другие развили
формальный аппарат математического анализа
настолько, что в предисловии к своей «Аналитической
механике» (1788), знаменующей собой вершину
этого развития, Лагранж мог с гордостью
заявить, что он завершил превращение механики в
математическую физику, которая столь мало
нуждается в опоре на материальные представления, что
данная работа обошлась без единой иллюстрации.
Будучи прекрасным математиком, одним из
авторов учебника математики, зная механику
настолько, что он мог о ней дискутировать с
Эйлером, Дидро подверг ход этого развития
критическому анализу с точки зрения естествознания и
философии. Смысл этой критики, однако, не тот,
который обычно пытаются ей приписать буржуазные
историки философии. Дидро отнюдь не собирается
выступать против методологически оправданного
стремления физики находить количественные
определения явлений; и он вовсе не намерен,
возвращаясь к Бэкону, противопоставлять этой тенденции
чисто качественный подход к действительности.
Утверждать обратное невозможно даже при чисто
внешнем, поверхностном рассмотрении. В данном
случае внешняя сторона по причинам
исторического характера выглядит довольно противоречиво.
Но при всей ее противоречивости даже эта
внешняя сторона показывает, что Дидро, насколько это
было возможно и необходимо, оставался твердым
сторонником математической точности.
Действительное, точное историческое значение этой
полемики заключалось в том, что математические
методы аналитической механики Дидро считал
недостаточными для познания конкретной материаль-
57
ной действительности природы и выступал за
развитие экспериментальной физики и других новых
наук, которые он собирался сделать наряду с
механикой стержнем философской мысли. «Мы — в
преддверии великой революции в научной области.
По той склонности умов к морали, к литературе, к
истории природы, к опытной физике, которая
замечается в настоящее время, я почти с уверенностью
скажу, что не пройдет и ста лет, как в Европе
нельзя будет насчитать трех великих геометров.
Геометрия остановится на том месте, где ее
оставят Бернулли, Эйлер, Мопертюи, Клеро, Фонтэн,
Даламбер и Лагранж. Они поставят Геркулесовы
столбы» К Дидро здесь имеет в виду в основном
аналитическую механику. И хотя было не совсем
верно, что эта наука достигла «Геркулесовых
столбов», то есть крайних пределов своего развития,
это пророчество тем не менее оправдалось в том
смысле, что движущая сила дальнейшего развития
исходила от естественных наук, в которых Дидро
первым увидел основу для философских
обобщений.
В то время естественные науки, и особенно
физика, находились на пороге нового периода
развития. Этот период в истории наук, пишет
замечательный советский специалист по истории
естествознания П. С. Кудрявцев в своей «Истории
физики», отличается прежде всего значительным
расширением культурных связей. Превосходство
позднего средневековья перед античностью Энгельс
видел в том, что оно расширило узкую
прибрежную полосу, создало культурное единство,
охватившее всю Европу, включая и Польшу. Теперь в
научный прогресс включились также Россия и
Америка. В этих двух странах основы научной
жизни были созданы Ломоносовым и
Франклином. Дидро цитировал одну из работ Франклина.
Но знал л'и он Ломоносова как физика?
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 302.
58
В то время, когда Дидро писал свои «Мысли об
объяснении природы», у него практически не было
связей с Россией. Действительно, мы знаем, что
эти связи возникли в 60-е годы. Мы знаем также,
что Дидро тогда прочел только что переведенный
на французский язык учебник истории
Ломоносова. И, однако, именно текст «Мыслей об
объяснении природы» позволяет предположить, что
научная деятельность Ломоносова была ему известна.
Правда, он не цитирует Ломоносова, но это ничего
не значит, ибо, излагая свои научные соображения,
Дидро почти никого не цитировал. Будучи
философом, не претендующим на личные открытия в
области естественных наук, Дидро заимствовал все
то, что могло ему послужить для обоснования его
научных теорий. Впрочем, и Франклина он
цитировал лишь как представителя демократически
общедоступного научного стиля. В своей работе
Дидро высказывает гипотезу о том, что северное
сияние есть, «вероятно, не что иное, как ток
электрической материи» К Но первым, кто установил связь
между северным сиянием и электричеством, был
Ломоносов, писавший об этом в своей оде 1746
года. Сам по себе этот факт еще не позволяет,
конечно, говорить о существовании какой-либо связи
между Ломоносовым и Дидро. Он доказывает
только, что приоритет этой идеи принадлежит
Ломоносову, так как другие физики и философы того
времени были весьма далеки от установления
связи между северным сиянием и электричеством. Но
вот что любопытно: Дидро написал свою работу в
1754 году и тогда же опубликовал ее, а осенью
1753 года Ломоносов выступил в петербургской
Академии -с большим докладом об электрических
явлениях. Этому докладу предшествовала
оживленная полемика, ибо незадолго до этого во время
своих опытов с «электрической силой» был убит
молнией Рихман, научный сотрудник Ломоносова.
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 318,
59
Известие о смерти Рихмана моментально
распространилось в Европе. В самой России этим
попыталось воспользоваться православное духовенство,
чтобы не допустить доклада Ломоносова. Как раз
в связи с этой полемикой доклад Ломоносова был
напечатан и разослан иностранным членам
Академии, и в частности Эйлеру. Есть все основания
полагать, что, будучи столь тесно связан с
трагической смертью Рихмана, оживленно
комментируемой во всей Европе, доклад Ломоносова
действительно дошел до научных кругов Запада. Но в нем
великий русский ученый набросал общую теорию
электрических явлений и, выдвигая давно созрев-
щукг идею, поставил вопрос о создании
электрической теории северного сияния. Притом именно
Ломоносов проявлял особый интерес к природным
явлениям крайнего севера; для Дидро же это было
не характерно. Таким образом, все это
подтверждает предположение о том, что Дидро в данном
случае заимствовал идею Ломоносова. В пользу
вероятности такого заимствования говорит и еще
одно обстоятельство. После указанного доклада
петербургская Академия объявила конкурсную
задачу, условия которой Ломоносов сформулировал
в следующих словах: «Сыскать подлинную
электрической силы причину и составить ее точную
теорию». Но когда вы читаете «Вторую группу
догадок» в «Мыслях об объяснении природы», то не
кажется ли вам, что Дидро здесь как будто
отвечает на вопрос, поставленный великим русским
физиком в «далеком» Петербурге? Конечно, Дидро
не претендовал на то, чтобы дать здесь точную
теорию электричества, но он шел именно в
направлении, указанном конкурсом: он говорит даже о
«подлинной причине» электричества К Кстати, в
одном пункте Дидро опередил всех своих совре-
1 Исходя из вышеизложенных фактов, мы считаем, что
влияние Ломоносова на Дидро должно рассматриваться как
весьма вероятное. Окончательное доказательство может
быть дано лишь в результате исследования текстов.
60
менников, выдвинув следующую гениальную идею:
«Весьма вероятно, что магнетизм и электричество
зависят от тех же причин» К
Это небольшое отступление в историю науки
отнюдь не бесполезно, ибо оно позволяет полнее
охарактеризовать Дидро как мыслителя,
способного на лету подхватить идеи, высказанные
самыми гениальными современниками, и сделать из них
далеко идущие выводы. Дидро выделяется среди
всех своих современников удивительным чувством
нового и восприимчивостью к возможностям
будущего развития.
Но каковы же были те науки, на основе
которых должен был произойти новый подъем
естествознания и, как надеялся Дидро, также и новый
поворот в философии? В приведенном выше отрывке
Дидро упоминает лишь опытную физику и историю
природы, но из других его высказываний явствует,
что он имел в виду и другие науки. Так, в одном
месте «Энциклопедии» Дидро пишет: «Новое
всеобщее движение влечет умы к истории природы, к
анатомии, химии и опытной физике». Если учесть,
что под опытной физикой Дидро понимал в
основном теорию электричества и теорию теплоты, то
станет ясно, что речь здесь идет о науках, которые
достигли очень высокого уровня развития в XIX
веке и которые, сыграв определенную роль в
становлении немецкой идеалистической диалектики,
привели к трем великим открытиям — открытию
закона сохранения и превращения энергии, живой
клетки и эволюции живых существ,— которые
Энгельс с полным правом рассматривает как
обоснование и научное подтверждение
материалистической диалектики. Исследования, предпринятые в
области теории теплоты и электричества,
обнаружили новые формы энергии. Но познание
множественности видов энергии является предпосылкой
для понимания ее единства и превращений. Без вы-
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 318.
61
сокоразвитой химии было бы невозможно
открытие клетки — основной ячейки живого организма.
Без ботаники и зоологии, без сравнительной
анатомии не было бы научной генетики и не было бы
дарвинизма, основывающегося как раз на этих
морфологических науках. Тем не менее сам факт, что
на основе этих наук началась новая линия
развития, отнюдь не оправдывает те выводы, которые
пытается из этого сделать автор известной работы по
истории философии Г. Ф. Александров. Согласно
изложенным в книге соображениям, развитие
естествознания уже во второй половине XVIII века
подготовило создание диалектики. На самом же
деле упомянутые выше факты позволяют лишь
заключить, что в связи с вторжением этих наук в
область философии возникли вопросы, ответы на
которые в конечном итоге могли быть лишь диалек-
тико-материалистическими. Но, хотя относительный
уровень развития этих наук был достаточен для
того, чтобы эти вопросы уже могли возникнуть
в уме гениального мыслителя, в абсолютном
смысле этот уровень был недостаточен для того, чтобы
можно было дать на них диалектические ответы.
Поэтому, как мы увидим далее, инстинктивный
диалектик, каковым был Дидро, в конце концов,
вольно или невольно, завяз в категориях
механистического и метафизического мышления.
В данном случае положение Дидро было в
некотором роде аналогично тому, в каком он
находился по отношению к промышленной революции.
Дидро присутствовал лишь при начале этого
процесса; он был свидетелем превращения этих
спекулятивных наук в науки, основанные на
наблюдении фактов, но он не мог еще воспользоваться
результатами этого процесса, оказавшимися
впоследствии решающими для развития философской
мысли. Между промышленной революцией и
новыми науками существует внутренняя связь:
недостаточный уровень развития в одном случае в общем
соответствует такому же уровню в другом.
62
Исследование законов теплоты, явлений
плавления, испарения и сгорания диктовалось
развитием металлургии, а также необходимостью
добиться экономичности в использовании
двигательной силы пара. Однако прошло еще несколько
десятилетий, прежде чем были сформулированы
основные законы термодинамики и знание теории
теплоты стало необходимым для развития
крупной промышленности.
Исследования электрических явлений были еще
менее связаны с промышленностью. Прошло целое
столетие, прежде чем они начали играть заметную
роль в производстве. Электростатика уже
возникла— весь Париж сбегался смотреть фокусы
«электрических» шарлатанов; но господствовавшие в то
время теории основывались на гипотезе о
существовании электрической жидкости, родственной по
своей природе «теплороду».
В области химии Лавуазье готовился к
решающему штурму, чтобы изгнать из науки
«флогистон», Ломоносов, отметив важность
количественно точного подхода, создал для химии твердый
экспериментальный фундамент. Химия Лавуазье
сыграла все же свою роль в промышленной
революции, дав, в частности, толчок развитию
текстильной промышленности, вступившей в
поворотный момент своей истории. Но в целом химия была
еще весьма далека от обоснования своих
важнейших положений — важнейших именно с точки
зрения диалектики. В своей области отношение
между количеством и качеством она смогла
сформулировать лишь после революции, в 1798 году,
благодаря закону определенных пропорций — закону
Пруста. Согласно этому закону, для того чтобы
образовались качественно новые сложные вещества,
простые вещества должны соединяться между
собой в определенных относительных пропорциях.
С точки зрения диалектики это представляет
исключительно важное значение, так как переход
количественных изменений в качественные являет-
63
ся центральным моментом диалектического
понимания развития. К такой концепции, несмотря на
все свои усилия, Дидро так и не пришел. В
производстве закон определенных пропорций применялся
чисто эмпирически в течение тысячелетий, но для
того, чтобы сформулировать его теоретически,
химия должна была достигнуть высокого уровня
развития. Однако при благоприятных
социально-исторических условиях оказалось достаточно всего
нескольких лет, чтобы сделать из него философские
выводы. Именно на этом законе основывался
диалектик-идеалист Гегель, создавая понятие меры,
то есть количественно определенного качества.
В области нефизических естественных наук
существовало примерно такое же положение — с той
разницей, что они еще менее были связаны со
складывавшимся в то время капиталистическим
сельским хозяйством. В этих науках делались лишь
первые шаги на пути к будущим великим
открытиям, которые были совершены уже после
революции.
Каков же был вклад этих новых наук в
философию? Прежде всего именно этот вклад дал
возможность Дидро совершенно определенно
превзойти старые формы механистического материализма
в том виде, как они были созданы в XVII веке и в
начале XVIII века главным образом Гоббсом и
Локком. Добавим, кстати, что сенсуализм Локка,
несмотря на свой в основном материалистический
характер, содержал в себе уже некоторые
идеалистические отклонения, которые, как подчеркивается
в гениальных трудах Ленина, оставляли лазейку
для субъективного идеалиста и реакционера
Беркли. Маркс, несомненно, был прав, указывая, что
французская философия XVIII века шла от
философии Локка (сочетая ее, как отметил Энгельс, с
материалистическим наследием Декарта), но
Маркс при этом замечал, что исходный пункт и
конечный результат были довольно далеки друг
от друга.
64
Успехи нбвых наук прежде всего побудили
Дидро восстановить в своих правах качественную
сторону действительности и отказаться от слишком
односторонней механистической ориентации. У Лок-
ка вследствие его исключительно механистического
подхода качество было чисто субъективной
категорией. Он различал первичные и вторичные
качества, считая, что только первичные качества
объективны, так как только они существуют
независимо от сознания, и выводил из них вторичные
качества. Но первичные качества Локка —
протяженность, форма, непроницаемость и т. д.— все
определялись количественно. Выведение из них
вторичных качеств полностью соответствовало
методам механики, стремившейся все качественные
стороны действительности выразить в
количественных данных, например цвета определить через
частоту колебаний. Но если для физики и механики
это была методологически необходимая
абстракция, то философия Локка превратила это в догму
и основную характеристику самой объективной
действительности. Однако категория качества
представляет собой нечто объективное и неустранимое
в теории электричества — не говоря уже о других
естественных науках, на которые теперь стал
опираться Дидро,— точно так же, как в химии и в
естественной истории. Различие между
положительным и отрицательным электричеством является
фактом, с которым физика должна постоянно
считаться. Конечно, она может количественно
измерить напряжение электрического заряда и ряд
других факторов, но существует качественно
несводимое различие — такого типа, который не известен
механике,— между тем фактом, что два тела,
заряженные одноименно, отталкиваются, и тем фактом,
что два тела, заряженные разноименно,
притягиваются. Таким образом, если у Локка и его
предшественника Гоббса мир в своей основе выглядел
однородным — это была математическая проекция
реального мира (как остроумно замечает молодой
5-641
65
Маркс, «чувственность теряет свои яркие краски и
превращается в абстрактную чувственность
геометра»),— то у Дидро мир снова обретает свои
яркие и пестрые краски — краски реальной,
чувственно воспринимаемой материи. Выражаясь опять же
словами Маркса, материализм аскетический,
умерщвлявший свою плоть, теперь снова
становится материализмом гуманистическим,
человечным, выступает во всем блеске жизненных красок.
Однако — и это следует подчеркнуть — он не
отбросил при этом завоеваний механистического
периода развития.
Именно этот поворот в развитии
механистического и метафизического материализма Дидро
отразил в своих «Мыслях об объяснении природы».
Французский материализм в лице Ламетри,
который видел в человеке лишь машину, или в лице
Кондильяка, исходившего непосредственно из Лок-
ка, не дорос до этой проблемы. Дидро же в своем
обращении к молодым читателям, начав с
предупреждения, что природа не бог, добавляет второе,
не менее важное для понимания его философии
положение, а именно: человек не машина. Таким
образом, Дидро первым почувствовал, что всю
природу, полную качественных различий, невозможно
уложить в схемы полностью механистической
концепции, угадав тем самым существование законов
более высокого типа и более сложных, чем законы
механики.
Это еще неясное предчувствие у Дидро было
неразрывно связано с проблемой материальной
однородности природы. Поскольку обрисованная
выше концепция разлагает природу на
разнородные материальные образования, тогда как
предыдущая философская система видела в ней единство
количественно измеримых движений однородной
материи, перед Дидро встала проблема единства
в многообразии. С признанием разнородности
материи не разрушается ли сама материя — залог
единства природы? «Если бросить взгляд на жи-
66
вотных и на грубую землю, которую они топчут
ногами; на органические молекулы и на жидкость,
в которой они двигаются, на микроскопических
насекомых и на вещество, которое производит и
окружает их, то станет очевидным, что материя
вообще делится на мертвую и живую. Но как может
быть, что материя не одна: живая или мертвая?» 1
Энгельс уже давно отметил, что реальное
единство мира является одним из наиболее трудных
постулатов философии, доказательство которого
может строиться лишь постепенно и именно
потому, что единство мира состоит в его
материальности и что оно может подтверждаться не иначе,
как в ходе все более полного открытия форм
движения и развития материи. «Действительное
единство мира заключается в его материальности, и
оно доказывается не с помощью нескольких
фокуснических фраз, а путем долгого и медленного
развития философии и естествознания»2,— пишет
Энгельс в своей полемической работе, направленной
против того самого Дюринга, который, «как и
Дидро», был сторонником механистического
материализма, с той только разницей, что за истекшее
столетие философы-материалисты буржуазии
сознательно стали «фокусничать».
Постулировав единство мира как исходную
точку и результат философской мысли, наконец
освободившейся от теологического рабства, Дидро
по-боевому выступил против теологии:
«Абсолютная независимость хотя бы одного факта
несовместима с представлением о целом, а без
представления о целом нет философии»3. Однако, твердо стоя
на материалистических позициях, Дидро знал, что
единство мира может быть доказано лишь
совместными усилиями естествознания и философии:
«Как в математике, при рассмотрении свойств кри-
1Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 353.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 44—45.
3Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 306.
5*
67
вой, убеждаешься, что они являются, в сущности,
одним и тем же свойством, представленным в
различных видах, так и в природе, когда опытная
физика сделает большие успехи, придется признать,
что все явления — тяжесть, упругость, притяжение,
магнетизм, электричество — не что иное, как
различные проявления одного и того же свойства. Но
между известными явлениями, относящимися к
одной из этих причин, сколько еще предстоит
найти промежуточных явлений, чтобы образовать
звенья, заполнить пустоту между ними и показать
их идентичность? Этого теперь еще нельзя
определить. Может быть, существует центральное
явление, которое бросит свет не только на имеющиеся
в наличности, но и на все те, которые будут со
временем открыты, которое, может быть, соединит их
все и образует целую систему. Но пока, за
недостатком такого центра всеобщего объединения, они
остаются изолированными; все открытия опытной
физики будут лишь способствовать их сближению,
становясь между ними посредниками, но никогда
не соединяя их, а когда этим открытиям удастся
соединить их, тогда образуется беспрерывный
замкнутый круг явлений, в котором нельзя будет
распознать, где находится первое явление и где —
последнее. Такой удивительный случай, когда
опытная физика, благодаря своим работам
образовала бы лабиринт, в котором рациональная
физика крутилась бы безустанно, сбитая с толку и
смущенная, не невозможен в природе, но он
невозможен в математике» К Как мы увидим далее,
Дидро считает таким центром всеобщего
объединения простейшие формы материи, так как они
могут объяснить происхождение более высоких форм,
и прежде всего форм жизни.
Только сотрудничество философии с
естествознанием может сделать понятным это единство и
эти связи. Дидро знал, что эмпирические естест-
1Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 334—335.
68
венные науки крайне нуждаются в философии, в
правильной теории и в твердой методологии; в
свою очередь философия может создать такую
теорию и методологию лишь в том случае, если она
будет двигаться вместе с естественными науками
и даже, когда это необходимо, обгонять их в своих
общих положениях, могущих дать направление
конкретным исследованиям. Дидро даже заявляет
в несколько мудреной, но недвусмысленной форме,
что без философии эмпирическая наука сведется к
блужданию вслепую, а философия без
эмпирического вклада науки превратится в словопрения.
«У одних из них, по моему мнению, много
инструментов и мало :идей \ у других—много идей и
вовсе нет инструментов2. Интересы истины,
казалось бы, требуют, чтобы те, которые размышляют,
соблаговолили, наконец, объединиться с теми,
которые действуют, чтобы умозрительный философ
предавался движению, чтобы экспериментатор
видел перед собой цель своих бесконечных движений,
чтобы объединить и одновременно направить
против покорной природы все наши силы и чтобы в
этой, так сказать, лиге философов каждый
исполнял свою роль»3. Не требуется специальных
объяснений, чтобы понять, что эта идея о
сотрудничестве философии и естествознания перекликается с
идеей сотрудничества науки и промышленности,
которую также пропагандировал Дидро.
Благодаря развертыванию классовой борьбы во Франции,
идущей к буржуазной революции, и благодаря
постепенно совершающемуся промышленному
перевороту в Англии появилась возможность поставить
все проблемы на новом, более высоком уровне.
Но как, по мысли Дидро, должно было
конкретно осуществляться это сотрудничество? Однажды
1 У представителей экспериментальной философии, то
есть естественных наук.
2 У представителей рациональной философии.
3Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 300.
69
Дидро обратился с вопросом биологического
характера к лучшим врачам Парижа, в том числе и
к доктору Борде, имя которого встречается в «Сне
Даламбера». Врачи не отрицали полнейшей
обоснованности вопроса, но они также вынуждены
были признать, что не могут дать на него научный
ответ. Но, по-видимому, не будет преувеличением
сказать, что то, что произошло с Дидро в данном
случае, произошло бы и во всех других подобных
случаях. Получив подобное письмо, специалисты
ответили бы таким же вежливым и искренним
признанием своего невежества. Действительно,
относительное развитие новых наук означало только, что
они сделали шаг вперед по сравнению с прежним
уровнем, который уже ничем не мог обогатить
философию, а этот шаг позволял гениальному
мыслителю сформулировать некоторые основные
вопросы. Но ввиду недостаточности абсолютного уровня
развития этих наук, выражавшейся в том, что они
еще не решили своих собственных коренных
проблем, не вскрыли наиболее существенных связей,
действующих на их участке объективной
реальности, никакой философский гений не был в
состоянии дать конкретные ответы на им самим
поставленные вопросы.
Некоторые авторы, в частности немецкие
историки философии — идеалисты, часто упрекают
Дидро в том, что он не развивал методически
философию, а обычно удовлетворялся изложением
своих мыслей в форме афоризмов. Но так же как
в реалистическом искусстве, достойном этого
имени, жизненный опыт, отображаемый художником,
определяет форму его произведения — в результате
чего форма не является просто фасадом, а
вытекает из глубокой сущности содержания, — так и у
крупных философов форма высказываемых ими
мыслей определяется уровнем развития
содержания. Поэтому было бы большой ошибкой считать,
что афористичность, присущая Дидро, была
результатом отсутствия метода и последовательно-
70
сти. Подобное мнение было бы не чем иным, как
проекцией в прошлое позиции какого-нибудь
Ницше — представителя разлагающейся буржуазной
философии — или, например, Зиммеля —
представителя реакционной профессуры. У подобных
философов такая позиция и такой стиль имеют
объективное социальное основание: это хаос
распадающегося буржуазного мира, которому уже ничто не
может помочь. Но никоим образом нельзя себе
представить, что глава энциклопедистов,
создавший ценой двадцатилетних усилий, несмотря на
все внешние и внутренние трудности, капитальный
труд своего времени, «Энциклопедию», был
поражен моральным, интеллектуальным и
литературным недугом философов упадочной буржуазии.
Афористический -стиль Дидро свидетельствует
об интеллектуальной честности
мыслителя-материалиста. Данные, которые ему предлагала наука,,
представляли собой нечто незрелое и
многозначное, не поддающееся теоретическому обобщению.
Поэтому Дидро оказался перед альтернативой: или
сидеть сложа руки, ожидая, что нового даст еще
наука, или же, пользуясь имеющимися
отрывочными данными, сформулировать теоретические
взгляды, которые, за недостаточностью
фактического материала, получат афористическую форму.
Таким образом, афористический стиль у Дидро
означает следующее: вот что может быть сказано
сегодня, остальное — дело будущего.
Как это ни парадоксально на первый взгляд,
но французский материалист Дидро в некотором
смысле и иногда вопреки своим намерениям был
предшественником немецких
натурфилософов-идеалистов. Это тем более парадоксально, что
французский материализм XVIII века не только
боролся против теологического и открыто религиозного
мировоззрения, но также, как это подчеркивал
молодой Маркс, вел непримиримую борьбу против
метафизических систем XVII века. Но если, борясь
против теологических концепций, французские
71
материалисты стремились их уничтожить без
остатка, то в борьбе с метафизическими системами они
ставили себе целью разрушить произвольные
конструкции и извлечь из них «светское» и научное
содержание. И эта борьба, в которой Дидро
принимал столь активное участие, была далеко не
напрасной. Как спекулятивная наука,
натурфилософия рухнула, а ее светское содержание обрело свое
место в механике. Таким образом, опираясь на
достигнутые значительные успехи, механика
отобрала у философии то, что ей принадлежало по
праву. Достаточно вспомнить, например, о проблеме
меры движения, которая еще у Лейбница была
глубоко философской проблемой, но стала
полностью позитивной, относящейся к чистой механике
у Даламбера, крторый постоянно с негодованием
выступал против ее философской мистификации.
Но странное дело: тогда как, с одной стороны,
происходила такая позитивная эволюция, с другой
стороны, недостаточность уровня развития новых
наук опять приводила к возрождению
натурфилософии, вмешательство которой прямо-таки
требовалось из-за фрагментарного характера
результатов конкретных исследований. Натурфилософия не
может и не должна культивироваться, и все же
получается, что без нее не обойтись!
Со своей стороны Дидро разрешал это
противоречие следующим образом: он культивировал
натурфилософию, не культивируя ее. Он советовал
ученым строить гипотезы с тем, чтобы объяснять
различные явления и их связи. (Собственно, он
говорит не о гипотезах, а о догадках, употребляя
гораздо более широкий и в то же время более
гибкий термин.) И он сам шел вперед, подавая
пример. Для нас в данном случае не важно,
правильны ли были эти догадки Дидро. Впрочем, в
своем большинстве они оказались настоящими
научными пророчествами, как, например, догадка о
связи между электричеством и магнетизмом или
догадка о происхождении маточного клубка, как
72
теория вибрации твердых тел, или идея о
едином происхождении живых существ. Но главное в
том, что почти все его догадки служили тому,
чтобы доказать материальное единство мира, или,
вернее, вдохновить на такое доказательство
естественные науки. При помощи своих догадок Дидро
стремился установить единую систему природы.
Немецкие натурфилософы-идеалисты, начиная
с Шеллинга с его «спекулятивной физикой» и
кончая Океном, Тревиранусом и Штеффенсом с их
теориями, включая также Гегеля с его
натурфилософией, стремились к той же цели, но в иных
социальных и научных условиях. Однако во
Франции XVIII века замечательные успехи
естествознания не позволяли делать так, как это делали
немцы, то есть заполнять идеалистическими
измышлениями зияющие пустоты между установленными
научными результатами. Впрочем, Дидро не мог
бы так поступать, даже если бы он был
идеалистом и если бы не обладал огромной научной
эрудицией. Но, как мы уже констатировали, Дидро
был как нельзя более далек от идеализма;
наоборот, он был самым боевым, самым воинствующим
материалистом своего века, ненавидевшим
идеализм во всех его формах. Поэтому он
беспрестанно и очень решительно выставлял напоказ
пробелы в существующих знаниях, стремясь заполнить
их догадками, которые он представлял именно как
догадки. «Признание недостаточности своих
знаний — великий урок; — пишет Дидро, — у людей
часто бывает повод давать такой урок» '.Ив другом
месте: «Поскольку вещи существуют только в
нашем разумении, они являются лишь нашими
мнениями; это наши понятия, которые могут быть
истинными или ложными, спорными или
бесспорными. Они становятся устойчивыми только в связи
с внешними предметами» (то есть в результате
проверки их действительностью.— Я. С). «Поня-
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 305.
73
тия, не имеющие никакой опоры в природе, можно
сравнить с теми лесами севера, где деревья — без
корней. Достаточно легкого порыва ветра, чтобы
перевернуть целый такой лес,— достаточно
незначительного факта, чтобы перевернуть целый лес
представлений» 1. Поэтому Дидро и советовал
ученым строить системы и вырабатывать
теоретические объяснения, но не слишком цепляться за эти
объяснения и в то же время не слишком легко от
них отказываться. Природа, проявляющая себя в
опыте, в конце концов решит судьбу этих догадок.
Разумеется, этого вовсе нет в натурфилософии
немецких идеалистов. Они заимствовали у Дидро
идею единства природы — через посредство Гёте,
что нетрудно было бы показать путем анализа
текстов,— но в соответствии с объективным
идеализмом, на котором они основывались, и их
«материализмом наоборот» они старались сохранить это
единство любой ценой. Действительность, опыт,
как пробный камень для гипотез, были полностью
изгнаны. Дело дошло до того, что они
представляли свои самые рискованные догадки как
установленные факты, а реальные факты укладывали в
прокрустово ложе своих систем. 'Их заслуга,
однако, состояла в том, что они сделали значительный
вклад в разработку философских категорий
диалектики.
Было и еще кое-что, позволившее немецким
философам представить в виде -систем даже самые
невероятные свои идеи, в отличие от Дидро,
который даже самые гениальные свои мысли
представлял в виде догадок. Мы имеем в виду уровень
развития нового естествознания. Крупные успехи,
столь быстро достигнутые после французской
революции, в области теории теплоты, электричества,
химии, биологии, явились необходимой
предпосылкой для построения немецким идеализмом таких
систем; к тому же эти успехи подготовили почву
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 304—305.
74
и для трех великих открытий, о которых говорит
Энгельс. Во времена же Дидро никакая
идеалистическая конструкция не дала бы возможности
заполнить пустоты между отрывочными научными
данными — слишком изолированы они были друг
от друга, чтобы можно было их объединить в
какую-либо систему.
5. Этапы механистического
материализма
Создав однородный мир, механистический
материализм, предшествовавший Дидро, обрек себя на
слепоту по отношению к качественным аспектам
действительности. Однако его главный недостаток
заключался в том, что он не сумел найти реальное
решение проблемы взаимоотношения материи и
движения.
Механика, на которую ориентировался этот
материализм, объясняет движение тел при помощи
извне действующих сил. Тела, будучи инертными,
всегда приводятся в движение силами извне.
Более того, в большинстве случаев эти внешние силы
принимаются как окончательные данные; их
измеряют, ими манипулируют, но их материальное
происхождение не исследуют. (Энгельс, например,
обнаруживает, что Ньютон был вынужден допустить
существование так называемой тангенциальной
силы, противопоставив ее всемирному тяготению,
которое без этой силы неизбежно привело бы к
тому, что планеты упали бы на Солнце. При этом
Ньютон лишь предполагал существование такой
силы, выяснение же ее материального
происхождения началось значительно позже — в кантовской
космогонии.) Но даже показав материальное
происхождение этой силы, даже заявив — если взять
самый простой пример,— что тело, находящееся в
покое или двигающееся по прямой линии, может
быть приведено в движение или отклонено от
75
направления своего движения лишь силой другого
движущегося тела, силу всегда принимали за
фактор, внешний по отношению к материи. В
таком случае можно и даже нужно поставить вопрос
о том, чем приведено в движение это второе тело.
Механика ответит, ссылаясь на третье тело, и так
далее до бесконечности. В общем, если материя
считается инертной, приходится признать, что где-
то существует нематериальная движущая сила —
не важно, назовем ли мы ее богом или нет,—
которая якобы привела в движение всю совокупность
инертной материи.
От Николая Кузанского до Кардана, Телезия и
Бруно и даже в некотором смысле до Бэкона и
Декарта стихийные диалектики первого великого
периода современной философии всегда считали
движение существенным свойством, присущим
материи; к атрибутам материи они причисляли даже
чувствительность. Таким образом, в период
стихийной диалектики (во время которого эта
диалектика часто сочеталась с путаным материализмом)
природа рассматривалась как живое существо.
Конечно, философия уже опиралась на достижения
бурно развивавшейся небесной механики и даже
на успехи общей механики; происходивший в то
время процесс складывания общества более
высокого типа позволял философии ставить и иногда
даже разрешать свои проблемы на более высоком
уровне, чем уровень античной мысли, тем не менее
она не отказывалась от непосредственного
представления о природе как о движущейся, живой и
«одушевленной». Быстрое развитие механики
положило конец этому непосредственному
представлению о природе — установленному, кстати, через
посредство общества,— поместив между человеком
и природой новый и решающий фактор —
естественные науки. Таким образом, было раз навсегда
покончено с непосредственным представлением о
природе; его продолжали придерживаться разве
только идеалисты-мистики, такие, как Бёме, Флюдд
76
и другие. Даже идеалистические и метафизические
системы XVII века наполняются содержанием по
существу механистическим и светским. Природа,
рассматривавшаяся стихийными диалектиками как
живое существо, в глазах мыслителей следующего
периода превращается в бездушный механизм.
Этот контраст прекрасно выразил Кеплер, излагая
свою программу: «Моя цель состоит в том, чтобы
представить небесную механику не как какое-то
божественное животное, а как часовой механизм».
И действительно, естествоиспытатели и философы
начали рассматривать природу как часовой
механизм, в котором все формы материи, от
неорганического вещества до живых существ, движутся, как
детали одной машины. Но идея часов влекла за
собой идею часовщика, который должен был их
завести, чтобы пустить в ход. Последовательные
идеалисты-механицисты — как, например, Лейбниц,
допускающий собственное движение материи лишь
на этой основе,— ограничились предположением,
что механизм был заведен лишь один раз на все
время божественным часовщиком; менее
последовательные, такие, как Ньютон, решили, что он
должен заводиться время от времени. Так внешние
силы механики, приводящие в движение якобы
инертные тела, превратились в философии в
первопричину движения, то есть в бога. Единство
материи и движения было нарушено.
Это единство нарушилось даже у
последовательных материалистов, которые, именно в силу
того, что они были материалистами, еще теснее
были связаны с механикой — самой передовой из
естественных наук. Только у них этот разрыв
между материей и движением произошел в
скрытой форме. Пожалуй, никаким физическим
принуждением нельзя было бы заставить такого
воинствующего и убежденного материалиста, как
Гоббс, написать, что инертная материя приводится
в движение богом. Но если бы его попросили
определить причину движения материи, он не мог
77
бы сделать ничего лучшего, как, положившись на
механику, отослать ко второй, третьей и т. д.
движущейся материи. В результате он оказался бы
на наклонной плоскости, у которой нет конца.
Материалистический сенсуализм Локка дает не
более удовлетворительный ответ. Правда,
способность к движению является у него одним из
атрибутов материи, но только в ограниченном
смысле: материя способна к движению, только
если она движима другой материей. Таким
образом, у всех этих мыслителей движение было
внешним атрибутом материи, инерция же,
наоборот, являлась одним из ее существенных качеств.
И это полностью соответствовало взглядам
механики того времени, постулировавшей инертные
тела и извне действующие силы.
Этот недостаток был хотя и скрытым, но тем
не менее реальным: он становится очевидным в
системе деизма, являющейся вариантом
механистического материализма под идеалистическим
покровом. Деизм признает материальный мир
объективно существующим, но движение материи он
объясняет ссылкой на бога. Самое выразительное
свидетельство на этот счет — следующее
четверостишие Вольтера:
«Вселенная ждет объяснения,
и мысль от меня далека,
Что эти часы существуют,
Но нет у них часовщика».
Однако было бы неверно заключить на
основании предшествующих соображений, что этот
разрыв между материей и движением явился только
шагом назад по сравнению с концепциями XVI
столетия. В классовом обществе всякий прогресс
противоречив и каждый iiiar вперед сопровождается
относительным отступлением. Вот почему этот
разрыв представлял собой не просто шаг назад по
сравнению с уровнем, достигнутым прежней
натурфилософией. Он явился необходимой предпо-
78
сылкой для того, чтобы на следующем этапе
философского развития можно было постулировать
единство материи и движения уже не инстинктивно, а
категорически и сознательно.
Материалист Дидро столь же мало верил в
существование великого часовщика, заводящего
механизм вселенной, как и в творца этого
часового механизма. В своем «Добавлении к
«Путешествию» Бугенвилля» он называет часовщика
«великим работником», из чего можно заключить, что
идея божества была в его глазах небесной и
притом искаженной проекцией человеческого труда,
всегда имеющего целенаправленный характер.
И Дидро принимается громить эту жалкую
марионетку, за которую держится как теология, так и
ее противник — деизм. Исходная точка его
рассуждений была такова: «Предположение о каком-
нибудь существе, стоящем вне материальной
вселенной, невозможно. Никогда не следует делать
подобных предположений, потому что из них
никогда нельзя сделать никакого вывода» К
Дидро был не единственным, кто ставил
вопрос подобным образом. Еще до него философ
Толанд и химик Пристли стали рассматривать
движение как существенный атрибут материи.
Так что материя из инертной стала теперь
субъектом, обладающим с аподиктической
необходимостью предикатом движения. На чем
основывалось это изменение? Конечно, значительную роль
здесь сыграло развитие новых наук. Но еще
прежде, чем эти науки нашли свое отражение в
философии, идея часов претерпела определенное
функциональное изменение. XVII век — век
мануфактуры— видел в них продукт человеческого труда;
но с начала XVIII века, когда проблема
движущей силы все более решительно ставилась в
плане промышленного производства, стали
интересоваться уже не столько часовщиком, сколько авто-
1 Лени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 362.
79
матическим механизмом часов. А как
подчеркивает Маркс, нет сомнения, что именно часы в
XVIII веке подали идею использования в
производстве автоматов, и притом автоматов на
пружинах. Поэтому более чем вероятно, что в связи с
проблемой движущей силы часы и автоматы и
натолкнули на рассмотрение движения как
внутренне присущего материи. Известно, как ценил
Дидро искусство ученого-механика Вокансона —
создателя автоматов.
Постулат субстанциального единства
материи и движения уже совершенно определенно
выходит за рамки механистического материализма.
В отношении метафизической концепции движения
Ленин в своих «Философских тетрадях»
подчеркивает, что, во-первых, она оставляет в тени
самодвижение материи, а, во-вторых, движущая сила,
источник самодвижения материи не объясняются
или же приписываются какому-либо внешнему
фактору — субъекту, богу и т. д. Эти моменты,
столь гениально схваченные Лениным, знаменуют
собой различные исторические этапы. Стихийно
постулируемое единство движения и материи
вначале распадается, затем, именно вследствие
такого разъединения, полагается уже сознательно, как
субстанциальное единство. На следующем этапе
задача состоит уже в том, чтобы определить
источник самодвижения материи. Но заслуга в
постановке вопроса об источнике движения
принадлежит Дидро, и он же дал начатки
правильного ответа.
Исходя из постулата о мире как о единстве
многообразного, Дидро понял, что идея
гомогенности материи, постигаемой лишь количественно,
необходимо связана с концепцией, по которой
движение вносится извне, а материя по самой
своей сути является инертной массой. Он пишет:
«Тело, по мнению некоторых философов, не
одарено само по себе ни действием, ни силой. Это —
ужасное заблуждение, стоящее в прямом проти-
80
воречии со всякой физикой, со всякой химией...
Чтобы представить себе движение,— прибавляют
они,— вне существующей материи, следует
вообразить силу, действующую на нес. Это не так...
В основе всех этих паралогизмов лежит ложное
предположение о гомогенной материи» К «Если они
полагают, что во всяком теле одинакова
тенденция как к покою, так и к движению, то они,
очевидно, считают материю гомогенной,
абстрагируют от нее все присущие ей свойства, смотрят
на нее как на неизменяемую в почти неделимый
момент их спекуляции.., забывают, что в то время,
как они рассуждают об индифферентности тела к
движению или к покою, в глыбе мрамора
происходит процесс разложения...»2
Существует ли, по Дидро, какая-либо связь
между различными формами материи, ее
гетерогенностью и движением? Да, ибо он сам
относит себя к тем, которые «выводят движение в
материи из ее гетерогенности»3. Тем самым
Дидро удивительным образом и очень близко подошел
к диалектическому материализму. В самом деле,
что значит выводить движение из гетерогенности
материи? Это значит, что материя существует
лишь через напряжение, возникающее между ее
гетерогенными элементами, и это напряжение
разрешается посредством движения. Другими
словами, материя представляет собой единство
качественно различных элементов; она есть единство
тождественного и нетождественного, и эта
внутренняя антиномия и есть источник движения. Но
как ни был близок Дидро к современному
материализму, выводя движение из гетерогенности
материи, сам он так и не довел до конца это
выведение. Нет материи вообще: существуют только
конкретные, определенные материи. Говоря о ма-
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 358.
2 Там же, стр. 357—358.
3 Там же, стр. 362.
6-641
81
терии вообще, Дидро подразумевал «материальное
качество», то есть всю совокупность природы:
«Когда люди откажутся рассматривать вещи в
своей голове и будут рассматривать их во
вселенной, тогда они, на основании разнообразия в
явлениях, убедятся в разнообразии элементарных
веществ, в разнообразии сил, в разнообразии
действий и противодействий, в необходимости
движения...» 1 «Представляя себе так хорошо материю
спокойной, можете ли вы вообразить себе огонь
в состоянии покоя? В природе все обладает
разнообразным действием, подобно той совокупности
молекул, которую вы называете огнем. Каждая
молекула этой совокупности, называемой огнем,
имеет свою природу, свое действие»2. Но, как это
видно также из данной цитаты, это движение,
выводимое из напряжения, существующего между
гетерогенными материями, в отношении всей
природы остается довольно туманным общим местом.
Оно могло бы быть логически и диалектически
уточнено лишь в том случае, если бы Дидро смог
применить свою идею к «элементарному телу»,
каковым, по понятиям тогдашней науки, была
молекула. Во времена Дидро наука не знала еще
нашего атома, движение которого объясняется
напряжением, существующим между
противоположными зарядами составляющих его частиц.
Молекула считалась тогда неразложимой
элементарной единицей, и Дидро не мог развить дальше
свою идею о том, что движение является
результатом напряжения между гетерогенными, то есть
разнородными, частицами. Вот почему Дидро
говорит, что элементарная материя движется
просто «благодаря своей внутренней силе», что
представляет собой довольно туманное общее
положение. «Чтобы молекулу привести в движение,
говорят еще, нужно действие, нужна сила. Да, или
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 362.
2 Там же, стр. 358.
82
сила внешняя по отношению к молекуле, или
внутренняя, интимная, присущая молекуле,
конституирующая ее природу, делающая ее молекулой
огня, воды, селитры, щелочи, серы; какова бы ни
была ее природа, из нее исходит сила,
действующая вне ее, и из других молекул тоже исходят
силы, действующие на нее» К Таким образом,
Дидро не смог объяснить происхождение
движения в элементарной частице, и это отрицательно
сказалось на развитии складывавшейся уже
диалектики.
Посмотрим теперь, как относится эта
концепция, более прогрессивная, чем концепции Толан-
да и Пристли, к идеям стихийных диалектиков
XVI века. Известно, что Дидро считал Бэкона
образцом в области философии. Но в данном
конкретном пункте Бэкон оставался еще мыслителем
XVI века, и молодой Маркс недаром сопоставляет
его взгляды со взглядами немецкого мистика
Якоба Бёме — последователя великих итальянских
мыслителей XVI века и в первую очередь
Джордано Бруно. «Первым и самым важным из
прирожденных свойств материи, — пишет Маркс, —
является движение, — не только как механическое
и математическое движение, но еще больше как
стремление, жизненный дух, напряжение, или,
употребляя выражение Якоба Бёме, мука [Qua[\
материи»2. Как объясняет Энгельс: «Qual»
буквально означает мучение, боль, которая толкает
на какое-нибудь действие. В то же самое время
мистик Бёме вносит в это немецкое слово и нечто
от латинского слова qualitas (качество). Его
«Qual» это — в противоположность боли,
причиняемой извне,— активное начало, возникающее из
самопроизвольного развития вещи, отношения
или личности, ему подверженной, а также в свою
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 359.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, Госполитиздат,
1958, стр. 142.
6* 83
очередь вызывающее к жизни это развитие» *.
У Дидро «мука» материи не имеет ничего общего
с антропоморфной идеей боли, так же как и с
идеалистическим представлением о жизненном
духе, которое в скрытом виде имеется у всех
стихийных диалектиков XVI века. «Qual» теперь уже
просто «qualitas», высокая напряженность
которого проявляется в более сложных действиях, чем
те, которые изучает механика твердых тел, но
которые все же остаются физическими и
химическими действиями. Следовательно, единство материи
и движения у Дидро должно рассматриваться как
вариант взглядов XVI века, но вариант,
очищенный от всяких идеалистических и фаталистических
примесей благодаря достижениям
механистического периода. Поэтому он оказывается на более
высоком уровне, являясь в пределах категорий
метафизики прямым провозвестником
диалектической концепции. Именно по этой причине
природа у Дидро является уже не живым существом,
а вечно работающим часовым механизмом,
который может отныне обойтись без божественного
часовщика и должен развить из самого себя
живой органический мир.
Но будучи очищенным от идеалистических и
фаталистических примесей и сформулированным
на более высоком уровне вариантом взглядов,
которые мыслители XVI века часто излагали в
фантастической форме, концепция Дидро тем не менее
заключала в себе непреодолимый для ее
автора элемент неясности, и это как раз то, что
отделяет ее от диалектического материализма.
Действительно, если диалектический материализм
усматривает источник развития и движения в
развертывании противоречий, внутренне присущих
явлениям, то Дидро, подойдя очень близко к этой
формулировке, остановился на в общем довольно
1 Ф. Энгельс, Развитие социализма от утопии к
науке, Госполитиздат, 1940, стр. 15.
84
неточной идее «внутренней силы», которую он не
мог определить конкретнее.
Постулат материи, существующей независимо
от сознания и находящейся в состоянии вечного
движения благодаря своим собственным
внутренним неисчерпаемым силам, — «сила, действующая
на молекулу, иссякает; сила, присущая молекуле,
не иссякает; она неизменна, вечна» 1 —
представляет собой философскую платформу,
позволяющую дать окончательное решение проблемы покоя.
«Вот истинная разница между покоем и
движением: абсолютный покой — абстрактное
понятие, не существующее в природе; движение же
есть такое же реальное свойство, как длина,
ширина, глубина»2. В другом месте Дидро почти
предвосхитил формулировку Энгельса, давая
точное, единственно правильное определение покоя:
«Я не знаю, какой смысл придавать
предположению философов о том, что материя
индифферентна к движению и покою... может быть, они говорят
об относительном покое, о покое одной массы по
отношению к другой. Все находится в
относительном покое на судне, терзаемом бурей. Нет ничего
там в абсолютном покое, даже составные
молекулы судна и заключающихся в нем тел не
находятся в абсолютном покое»3.
Эту глубокую концепцию единства материи и
движения — концепцию, диалектическую если не
по форме изложения, то, во всяком случае, по
духу — Дидро связал с одним из самых гениальных
положений картезианской физики, которым
Декарт предвосхитил закон сохранения энергии. Это
положение, утверждающее постоянство
количества движения, существующего в мире, в частности,
гласит, что движение не может быть ни создано,
ни разрушено, что оно вечно. Дидро различал два
вида движения: во-первых, внутреннее напряже-
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 359.
2 Там же, стр. 358.
3 Там же, стр, 357.
85
ние, потенциальную энергию материи и,
во-вторых, механическое, математическое движение,
выражающееся в трансляции — перемене места.
«Количество силы постоянно в природе, но сумма
nisus и сумма трансляций переменны. Чем
больше сумма nisus, тем меньше сумма трансляций,
и обратно: чем больше сумма трансляций, тем
меньше сумма nisus. Пожар, охвативший город,
увеличивает сумму трансляций внезапно на
чудовищную величину» К Учитывая провозглашенное
Дидро единство движения и материи, эта
формулировка говорит о сохранении энергии, которая
не создается и не разрушается, — закон, впервые
выдвинутый великим современником Дидро
Ломоносовым. Соответствующий вывод, не
сделанный здесь из этой формулировки, был сделан
Дидро ранее, в одном месте «Энциклопедии» (в
статье «Производство»), где говорится о
совокупности материи, то есть о самой природе: «Однако
если рассмотреть поближе, то окажется, что в
природе, собственно, нет никакого абсолютного
производства и разрушения, никакого начала,
никакого конца; то, что есть, всегда было и всегда
будет, проходя только через бесконечное
количество последовательных форм».
Подобное понимание единства материи и дви-
жения, существенно превосходящее идеи
собственно механистического материализма и
приближающееся уже к диалектике, было теоретически
необходимым для выработки такого
методического обобщения взглядов французского
материализма XVIII века на природу, какое было сделано в
книге Гольбаха «Система природы». Историки
французской литературы приложили немало
усилий для выяснения того, чем Гольбах был обязан
Дидро. Но за отдельными деталями они всякий
раз упускали целое, общую идею, весьма ясно,
однако, сформулированную в «Системе природы»:
1 Д е н и Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 359.
86
«Если под природой мы станем понимать груду
мертвых, лишенных всяких свойств и чисто
пассивных веществ, то, разумеется, мы должны
будем искать вне этой природы принцип ее
движений; но если под природой мы будем понимать то,
что она есть в действительности, именно целое,
разные части которого имеют разные свойства,
действуют согласно этим свойствам, находятся в
непрерывном взаимодействии между собой, имеют
вес, тяготеют к общему центру, в то время как
другие части удаляются по направлению к
периферии — притягивают и отталкивают друг друга,
соединяются и разъединяются, производят и
разлагают своими непрерывными столкновениями и
сближениями все наблюдаемые нами тела, —
тогда ничто не заставит нас прибегать к содействию
сверхъестественных сил, чтобы понять
образование наблюдаемых нами вещей и явлений» К
Лежащая в основе «Системы природы» идея
единства в движении гетерогенных частиц материи —
это идея Дидро. Возможно даже, что приведенные
выше строки были написаны самим Дидро, ибо
основные идеи второй главы книги Гольбаха
почти слово в слово соответствуют идеям написанной
Дидро в 1770 году заметки о материи и движении.
Однако нельзя сказать, что работа Гольбаха раз-
вивает дальше основные идеи Дидро; наоборот,
именно для того, чтобы построить свою систему,
Гольбах должен был не принимать во внимание
самые гениальные, самые пророческие мысли
Дидро, так как они меньше всего поддавались
систематической обработке.
Одна из важнейших особенностей борьбы
Дидро против разъединения материи и движения
состояла в том, что он не стремился к логически-
методическому опровержению положений своих
противников. Пробным камнем всякой идеи о дви-
1 Поль Гольбах, Система природы или о законах
мира физического и мира духовного, Соцэкгиз, М., 1940, стр. 20.
87
жении и материи для него была природная
действительность, проявляющаяся в физических и
химических опытах, на которые он все время
ссылался. Обращаясь к тем, кто не считался со
свойствами материи, Дидро ставил вопрос следующим
образом: «Какое мне дело до того, что,
абстрагируясь от ее свойств и принимая во внимание лишь
ее существование, вы увидели ее в состоянии
покоя?.. Вы можете делать из геометрии и
метафизики все, что угодно; но я, физик и химик,
который берет тела такими, какими они бывают в
природе, а не в моей голове, — я вижу их
жизнедеятельными во всем их разнообразии,
одаренными свойствами, способностью к действиям и
подвижными как во вселенной, так и в лаборатории,
где искра в соединении с тремя
комбинированными молекулами селитры, угля и серы необходимо
вызывает взрыв» К Следующая мысль
подчеркивает еще лучше эту роль опыта как пробного
камня: «В нашем распоряжении имеются три главных
способа изучения: наблюдение природы,
размышление и опыт. Наблюдение собирает факты,
размышление комбинирует их, опыт проверяет
результаты комбинаций»2.
Признав, что не существует другой
гносеологически последовательной позиции, кроме
материализма или идеализма — как об этом говорит
Ламетри в книге «Человек — машина», —
воинствующие французские материалисты XVIII века в
ходе своей борьбы против идеализма часто
ссылались на действительность, и для большинства из
них опыт представлял собой пробный камень
познания природы. Это особенно относится к
Дидро, который более глубоко и с более широких
позиций, чем все его современники, ставил вопрос
об объединении теории с практикой. Тем более
примечательно, что, несмотря на такой подход,
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 358—359.
2 Там же, стр. 308.
88
Дидро не сумел сделать практику общим
критерием всех человеческих знаний и в общем остался
в пределах созерцательного материализма, как
его определил Маркс. Только в области познания
природы практика, то есть опыт, возведена у
Дидро в ранг пробного камня теории в соответствии
с современной материалистической философией.
Дидро, больше чем кто-либо из его
предшественников, стремился сформулировать общие
положения теории познания, и мы полагаем, что
приведенные выше примеры не требуют дальнейших,
комментариев. Но как объяснить, что философ-
материалист, пришедший к такому глубокому и
правильному пониманию единства теории и
практики, не смог сформулировать правильный тезис
в гносеологии?
Философские обобщения основываются на
данных двоякого рода: с одной стороны, это
явления природы, с другой стороны — общественные
явления. Всеобщность философских категорий,
таких, например, как превращение
количественных изменений в качественные или единство
противоположностей, состоит в том (и здесь видно,
что эта всеобщность, мистифицированная
идеализмом, не заключает в себе ничего таинственного
и неясного), что эти категории прекрасно
применяются ко многим как естественным, так и
общественным явлениям, поскольку они отвлечены
именно от этих явлений в ходе прогресса
философской мысли. Но всеобщий процесс природы был
истолкован философией подымающейся
буржуазии как процесс, совершающийся в
соответствии с внутренними закономерностями и в
конечном итоге с необходимостью проявляющий свою
собственную реальность. Поэтому опыт,
обнаруживая тот или иной закон природы, оказывается
пробным камнем идей о природе. Однако в силу
различных причин общественно-исторического
характера подобный подход к истории общества для
буржуазии был невозможен; для буржуазных мыс-
89
лителей исторические процессы должны были
сохранять случайный, незакономерный характер.
Именно такое непонимание истории
обнаруживает и Дидро, когда он не признает полной силы
за историческими доказательствами. Так, во
«Введении к великим принципам» он вкладывает в
уста Прозелита следующие слова: «Есть
доказательства различных типов, и соответственно
различна степень их достоверности. Физическое и
математическое доказательство должно идти
прежде морального, а моральное доказательство
должно предпочитаться историческому. Стоит
отклониться от этого порядка, и вы уже ни в чем не
будете уверены. От нарушения этого порядка и
возникли все ошибки, господствующие на земле.
Все ложные религии пошли оттого, что
историческому доказательству отдали предпочтение перед
другими». Разумеется, там, где история до такой
степени лишена своего исторического характера,
только суверенный случай может решить, какие
принципы будут оправданы необратимым ходом
исторического процесса. Поэтому в данной
области истинность теории будет зависеть не от опыта,
а от иных гносеологических критериев: история
уже не будет пробным камнем разума,
наоборот — абстрактный разум станет пробным камнем
истории. Но когда философская абстракция
лишена одного из своих оснований, как здесь она
лишена исторического основания, она оказывается
парализованной. Вот почему опыт, будучи
критерием теории в научной методологии Дидро, не
становится таким критерием познания вообще,
несмотря на то, что Дидро симпатизировал
концепции подобного рода.
6. Материалистическая идея эволюции
Принадлежавший к «плебейскому» поколению
мыслителей, сложившемуся на новом этапе
развития французской мысли, содержанием которого
была непосредственная подготовка французской
революции, Дидро прекрасно понимал, что ничто не
препятствует открыть народу всю правду; более
того, он был убежден, что должен распространять
эту правду среди самых широких народных масс.
Поэтому Дидро боролся против современного ему
идеализма во всех его разновидностях и оттенках:
он выступал против объективного идеализма
теологов, против субъективного идеализма Беркли, а
также против идеалистических ухищрений деизма. Не
ограничиваясь только своим личным участием в
опровержении идеалистов, Дидро вовлек в эту
борьбу своих друзей. Ленин отмечает, что Дидро
поощрял Кондильяка, сочувствовавшего
энциклопедистам, «заняться опровержением Беркли»х и
четко отграничить свой сенсуализм от крайнего
субъективного идеализма Беркли.
Во Франции накануне революции
субъективный идеализм был чужеродным, еще
малоизвестным явлением. Для его опровержения не надо
было расходовать много энергии. Что же
касается антинаучного характера объективного
идеализма теологов, то он уже был достаточно
энергично вскрыт предшественниками энциклопедистов.
Идеалистические же пережитки деизма, напротив,
представляли собой еще серьезное препятствие для
научного прогресса. И хотя Дидро очень хорошо
понимал значение деизма для борьбы против
феодальной идеологии, он также вполне ясно
осознавал, что ныне его долг — включиться в борьбу
против окаменелых идеалистических догм деизма.
Поэтому в своих философских работах Дидро уделил
большое внимание опровержению идеалистических
1 В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 18, стр. 28.
91
положений деизма. Выше было показано, как
Дидро боролся против деистского разделения
материи и движения. Однако одного только
восстановления единства материи и движения было
недостаточно для окончательного ниспровержения
деистского идеализма. Это подтвердилось 'на примере
Толанда и Пристли, которые, несомненно,
восстановили это единство, оставаясь деистами в вопросе
о конечных причинах.
Мы видим, таким образом, насколько стойким
было это представление о высшем разуме как
творце справедливого устройства мира. Это
объясняется, в частности, тем фактом, что финалистская
теория выдвигает реальную проблему, решить которую
традиционные формы механистического
материализма были не в силах. Каким же по существу был
смысл аргумента, который деист Дидро выдвигал
против материалистов, говоря о глазе насекомых и
крыле бабочки? Он означал, с одной стороны, что
крыло бабочки и глаз насекомого прекрасно
выполняли присущие им функции, с другой — что
механистический материализм был неспособен
объяснить эту целесообразную взаимозависимость
между органом и функцией. Деизм использовал эту
брешь в научном знании, чтобы протащить таким
образом на сцену Высший Разум;
механистический материализм тщетно выступал против
целесообразности деистов; ему не удалось найти
решение весьма реальной проблемы, которую
скрывала в себе целесообразность. Маркс сразу
же обнаружил это рациональное зерно деистской
целесообразности. В письме к Лассалю от 16
января 1861 года он писал по поводу основной
работы Дарвина, что «несмотря на все ее
недостатки здесь впервые не только нанесен
смертельный удар «телеологии» в естественных науках, но и
эмпирически выяснен ее рациональный смысл» К
Выступая против телеологии деистов,
механистический материализм был тысячу раз прав, когда под-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXV, стр. 377,
92
черкивал, что телеологическое «объяснение» в
действительности ничего не объясняло. Однако
статическая концепция природы самого
механистического материализма мешала ему нанести
окончательный удар деизму. Механистический
материализм представлял себе природу и ее явления как
неизменные и никогда не ставил вопроса ни об их
происхождении, ни о той эволюции, которую они
претерпели, прежде чем достичь современных форм.
Он рассматривал природу не в ее эволюционном
динамизме, а статично, такой, какой она является
в данный момент. В конечном счете механистиче.-
ский материализм основывался на том же
фундаменте, что и деизм, но выводы его были иными.
Так, он считал, что там, где природа является
суммой неизменных материальных явлений, разумно
согласованных друг с другом, эта согласованность
практически тоже должна быть признана
неизменной. Рациональное объяснение этих явлений можно
было получить лишь при генетическом и
динамическом подходе к ним, то есть не методом
механистического и метафизического материализма, а
методом диалектического материализма —
единственно научным методом.
Именно это объясняет агностические
тенденции механистического материализма, легко
прослеживаемые у Гольбаха и его современников. В
скрытом виде эти тенденции имелись уже в
механистическом материализме XVII века и очень ясно были
выражены у Локка, который считал субстанцию
непознаваемой. Гольбах по этому поводу говорил:
«...мы не знаем ни сущности, ни истинной природы
материи, хотя мы в состоянии познать некоторые
из ее свойств и качеств по способу ее воздействия
на нас...» {
Этот агностицизм является следствием того, что
данные мыслители рассматривали мир в его
статическом состоянии. В действительности же, если
Поль Гольбах. Система природы, стр. 289.
93
исследовать материю с учетом динамизма ее
эволюции, она не обнаружит никакого загадочного
непознаваемого «в себе», потому что эволюция
природы состоит именно в том, чтобы реализовать в
ходе своей истории все присущие ей возможности.
Под влиянием Дидро Гольбах вплотную подошел к
проблеме эволюции, но он был все же убежден —
и именно в этом различие между талантливым
мыслителем и гениальным философом,— что для
объяснения мира статическая концепция была
более убедительна, чем динамическая. Вот что он
писал:
«Если бы отказались принять все предыдущие
соображения (соображения, признающие идею
эволюции.— Я. С), утверждая, что природа действует
согласно известной сумме неизменных и общих
законов; если бы предполагали, что человек,
четвероногое, рыба, насекомое, растение и т. д. существуют
от века и вечно остаются тем, что они есть теперь;
если бы допустили, что звезды от века сияют на
небосклоне, и сказали, что так же разумно
спрашивать, почему человек таков, каков он есть, как
спрашивать, почему природа такова, какой мы ее
видим, или почему существует мир, то мы ничего
не возразили бы против этого. На какую бы из
двух точек зрения ни стать, они, вероятно,
одинаково успешно справятся с открывающимися здесь
трудностями; при более внимательном
рассмотрении можно будет убедиться, что эти трудности
нисколько не ослабляют силы установленных нами в
согласии с опытом истин. Человеку не дано знать
всего; ему не дано познать своего происхождения;
ему не дано проникнуть в сущность вещей и
добраться до первых принципов...» 1
Здесь ясно видно, как агностицизм и
статическая концепция мира тесно связаны друг с другом;
впрочем, здесь также видно, как агностицизм,
основываясь на необходимости борьбы против идеа-
Поль Гольбах. Система природы, стр. 56.
94
лизма, восстанавливает этот последний. В
сущности, с того самого момента, как основные принципы
бытия объявляются непознаваемыми, теология и
деизм вольны придать им метафизический
характер. Наоборот, конкретное понятие эволюции
заставляет исчезнуть это последнее прибежище
идеалистической софистики. Как только делается
понятным, что сущность эволюции состоит в развитии
от простого к сложному, исчезает необходимость
признавать основой эволюции всемогущий,
совершенный и всеведущий дух; бог тогда — но только
тогда — «окончательно изгоняется из природы».
Гольбах сделал последовательный для себя
вывод из этой агностической беспомощности
механистического материализма, отнеся к неразрешимым
проблемам проблему предшествования курицы
яйцу или яйца курице.
В философии средних веков объективный
идеализм, игнорировал эту проблему. Доктор Экхарт1
в одной из своих речей объявил, что этот вопрос
не является проблемой, потому что всемогущий
бог мог так же хорошо создать курицу до яйца,
как и яйцо до курицы. Однако механистический
материализм в его обычных формах увидел здесь
проблему, которую он считал неразрешимой.
Дидро не любил оставлять нерешенными
вопросы подобного рода. «Если вас смущает вопрос о
приоритете яйца перед курицей или курицы перед
яйцом,— говорил он великому математику в своем
«Разговоре Даламбера с Дидро»,— то это
происходит оттого, что вы предполагаете, что животные
вначале были такими же, какими мы их видим
теперь. Какая бессмыслица! Ведь совершенно же
неизвестно, чем они были прежде, равно как
неизвестно и то, чем они будут впоследствии.
Невидимый червячок, который возится в грязи, находится,
может быть, на пути к превращению в большое
1 Средневековый философ-мистик. — Прим. перев.
95
животное, а огромное животное, которое ужасает
нас своей громадой, является, может быть,
случайным, эфемерным произведением нашей планеты» {.
Здесь это «неизвестно» не означало тенденции
к агностицизму, а, наоборот, очень точно отражало
фактическое положение вещей, когда естественные
науки были почти неспособны сказать что-либо
конкретное об эволюции. Выдвигая проблему
эволюции на первый план, Дидро тем самым создал
основу, исходя из которой стало возможным
преодолеть агностицизм. Этим Дидро значительно
превзошел всех своих великих современников и
предшественников — представителей механистического
материализма, потому что он был первым
мыслителем, который после абстрактных и туманных
спекуляций XVI века относительно стихийной
диалектической эволюции и после механистического
периода, игнорирующего проблему эволюции,
выдвинул эту основную проблему современной
философии на первый план и поставил ее более
ясно и на более высоком уровне, чем кто-либо до
него.
Дидро не удалось с позиций механистического
материализма определить в гносеологическом
плане связь между статической концепцией
природы и агностицизмом, хотя он довольно ясно осознал
ее. Фактически Дидро была совершенно не присуща
тенденция к агностицизму: «неизвестно» означало
у него отсутствие необходимых знаний о проблеме
или же временное затруднение из-за
недостаточности фактических данных, в то время как у
Гольбаха выражение «неизвестно» было тесно связано
с занимаемой им философской позицией. Это
уточнение относится главным образом к тем, кто хотел
бы выдать Дидро — мыслителя, который пошел
дальше всех в опровержении агностических
тенденций механистического материализма,— за
предшественника агностического позитивизма.
1 Д е н и Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 371—372.
96
Такая философская позиция, возможно, не
полностью осознавалась Дидро, но это не помешало
ему со всей точностью и ясностью сказать, что
уничтожить «высший разум» деистов можно лишь
путем рационального объяснения целесообразности.
Эта идея нашла свое отчетливое литературное
выражение уже в его работе «Письмо о слепых в
назидание зрячим» (1749). «Умный
священнослужитель», который умел так же хорошо говорить
с учеными, как и с простыми людьми, стремился
обратить в свою веру слепого математика Саун-
дерсона, повторяя умирающему привычные фразы
деистов о чудесной гармонии, господствующей в
мире. Но Саундерсон остался непреклонен:
«— Господин Холмс,— ответил Саундерсон,—
повторяю вам, все это не так прекрасно для меня,
как для вас. Но допустим, что животный механизм
столь совершенен, как вы это утверждаете,., какое
отношение это имеет к верховному разумному
существу? Если этот механизм поражает вас, то,
может быть, потому, что вы привыкли считать чудом
все, что кажется вам превышающим ваши силы.
Я так часто был для вас предметом удивления, что
я составил себе плохое мнение насчет того, что
вас изумляет... Если какое-нибудь явление
превышает, по нашему мнению, силы человека, то мы
тотчас же говорим: это — дело божие; наше
тщеславие не может удовольствоваться меньшим. Не
лучше ли было бы, если, бы мы вкладывали в свои
рассуждения несколько меньше гордости и
несколько больше философии? Если природа представляет
нам какую-нибудь загадку, какой-нибудь трудно
распутываемый узел, то оставим его таким, каков
он есть, и не будем стараться разрубить его рукой
существа, которое становится затем для нас новым
узлом, еще труднее распутываемым, чем первый.
Спросите у индийца, как это земля висит в
воздухе, и он вам ответит, что она покоится на спине
слона. А на чем находится слон? На черепахе.
А кто поддерживает черепаху?.. Этот индиец вну-
7-641
97
шает вам сострадание. Но вам можно было бы
сказать, как и ему: «Господин Холмс, друг мой,
признайте сперва свое невежество и избавьте меня
от слона и черепахи!» 1 Затем, поскольку
священник Холмс сослался на взгляды Лейбница,
Ньютона и Кларка, Саундерсон говорит ему: «Заметьте,
господин Холмс, какое доверие я должен питать к
вашим словам и к словам Ньютона. Я ничего не
вижу, однако я допускаю во всем изумительный
порядок. Но не требуйте от меня большего. Я готов
уступить вам по вопросу о теперешнем состоянии
вселенной, но за это я требую от вас свободы
думать, что мне угодно, по вопросу об ее
изначальном состоянии, насчет которого вы такой же
слепец, как и я... Поэтому воображайте себе, если вам
это нравится, что столь поражающий вас порядок
во вселенной существовал всегда, но разрешите мне
думать, что так было не всегда и что если бы мы
стали восходить к истоку вещей и времени, если бы
мы стали рассматривать, как начала двигаться
материя и проясняться хаос, то мы встретили бы лишь
несколько хорошо организованных существ среди
массы уродливых. Если я не могу ничего возразить
вам по поводу теперешнего состояния вещей, то я
могу, по крайней мере, задать вам вопрос об их
прошлом состоянии. Я могу, например, спросить у
вас, спросить у Лейбница, Кларка, Ньютона,
откуда они знают, что животные, при первоначальном
своем образовании, не были одни без головы, а
другие без ног. Я могу утверждать, что некоторые из
них не имели желудка, а другие не имели кишок,
что животные, которым наличность желудка, нёба
и зубов обещала, как будто, длительное
существование, вымерли из-за какого-нибудь недостатка в
сердце или легких, что постепенно вывелись
чудовища, что исчезли все неудачные комбинации и что
сохранились лишь те из них, строение которых не
1 Дсни Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 252—253.
98
заключало в себе серьезного противоречия и
которые могли существовать и продолжать свой
род» К
Мы процитировали здесь весьма
значительный отрывок, и сделали это по двум причинам.
Прежде всего потому, что первый аргумент Саун-
дерсона очень ясно показывает, что он понимает
неразделимость статической концепции мира и
агностицизма; кроме того, потому, что второй ряд
аргументов Саундерсона с предельной ясностью
свидетельствует, что только идея эволюции
позволяет полностью, коренным образом опровергнуть
идеалистические положения деизма. Двадцать лет
спустя в работе «Сон Даламбера» (1763) Дидро
сформулировал эту же проблему еще более ясно и
убедительно, вложив свои собственные мысли в
ответы доктора Борде на вопросы мадемуазель де
Леспинас.
«Леспинас. Почему ваши философы не
выражаются так грациозно, как Фонтенель? Нам легче
было бы понимать их.
Борде. Откровенно скажу: не знаю, приличен ли
такой фривольный тон в серьезных предметах.
Леспинас. А что именно вы называете
серьезными предметами?
Борде. Всеобщую чувствительность,
образование чувствующего существа, его единство,
происхождение животных, продолжительность их
существования и все связанные с этим вопросы.
Леспинас. Я же называю все это бессмыслицей,
которой, допускаю, можно бредить во время сна,
но которой никогда не будет заниматься
здравомыслящий человек в бодром состоянии.
Борде. Почему же?
Леспинас. Потому, что одни из этих вопросов
так ясны, что не к чему разыскивать их основания,
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 253—254.
7* 99
а другие так темны, что в них ничего не разберешь;
но и те, и другие в высокой степени бесполезны.
Борде. Вы думаете, что безразлично, допускать
ли или отрицать существование высшего разума?
Леспинас. Нет.
Борде. Думаете ли вы, что можно решить
вопрос о высшем разуме, не зная, какого мнения
держаться по вопросу о вечности материи и ее свойств,
о различии двух субстанций, о природе человека и
происхождения животных?
Леспинас. Нет.
Борде. Значит, это не праздные, как вы сказали,
вопросы.
Леспинас. Но какое мне дело до их важности,
если я не могу разрешить их?
Борде. А как вы разрешите их, если не вникнете
в них?..» 1
Здесь Дидро достигает вершины философской
мысли своего времени. Он с поразительной
точностью формулирует вопросы, которые будут
поставлены в дальнейшем диалектическим
материализмом, концепция эволюции которого послужит
научным опровержением всех — светских и
теологических— направлений идеализма и не остановится
на том, чтобы только изгнать из природы «высшее
существо» деистов, как этого добивался Дидро, но
раз и навсегда покончит со всеми попытками
тайком протащить это «высшее существо» через
посредство истории.
Аргументация Саундерсона — Дидро в пользу
эволюции состоит из двух частей. Первая часть,
касающаяся эволюции мира, начиная с хаоса до
возникновения органической природы, связана с
гениальной идеей Декарта: с одной из тех идей,
которые позволили Энгельсу считать Декарта
блестящим представителем диалектики в прежней
философии. Хотя Декарт был одним из основателей
механистического материализма, он, как и Бэкон,
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 393—394.
100
оставался еще весь во власти стихийной диалектики
XVI века. Однако декартовская космогония —
которую из всех современников Дидро лишь один Кант
сумел превзойти своей собственной
космогонической теорией, опубликованной в 1755 году, и
которую Дидро еще не мог знать — объясняет, что
«законы природы достаточно могущественны,
чтобы разобраться в хаосе частиц материи и заставить
их расположиться в великолепном порядке».
Именно эта мысль Декарта послужит главным
обоснованием космогонической концепции Дидро. Впрочем,
в этом вопросе Дидро ограничился тем, что при
помощи теории вероятностей дал более прочное
обоснование мысли Декарта. Первая попытка
Дидро в этом направлении относится еще к его
«деистическому» периоду (см. «Философские мысли»,
1746 год).
Вторая часть этой аргументации, относящаяся
к реминисценциям Лукреция, еще более важна и
более оригинальна. Впоследствии Дидро вывел из
нее основные идеи, из которых исходит теория
эволюции XIX века. Как бы ни были фантастичны
образы, которыми пользовался Саундерсон —
Дидро, говоря об уродах без желудка, нёб и зубов,
исходной идеей в его борьбе против деизма была,
вне всякого сомнения, идея естественного отбора,
согласно которой только организмы,
приспособленные к условиям жизни, могут выжить, в то время
как все остальные должны рано или поздно
погибнуть, вымереть. Это была именно та идея, которую
Дарвин, почти веком позже, изложил во всей ее
глубине, основываясь на наблюдении; идея,
которая первая, как указал Маркс, нанесла
смертельный удар телеологии в естественных науках.
Спустя 20 лет, изучая физиологию, чтобы
определить законы эволюции жизни не только в
отношении происхождения видов, но и в отношении
индивидуального развития, Дидро сформулировал
этот вопрос с еще большей четкостью. Но и тогда
он говорил об уродах. Посмотрим, что это за уроды.
101
Уже в своих «Мыслях об объяснении природы»
Дидро подчеркивал методологическое значение
изучения диковинных и аномальных явлений.
Интерес, который он проявлял к патологическим и
тератологическим явлениям, не имел ничего общего
с тем нездоровым интересом, который руководит
извращенными прислужниками
империалистической науки, изучающими больных лишь для того,
чтобы найти способы уничтожить здоровых. Дидро
подчеркивал необходимость изучения аномалий для
борьбы с деизмОхМ и его плоским преклонением
перед гармонией природы. Он действительно понял,
что в природе, кроме гармонии, существуют еще и
конфликты и дисгармонии; что гармония и
дисгармония неразрывно связаны и могут быть поняты
лишь через посредство друг друга. Этому открытию
способствовал «плебейский» революционный
характер мысли Дидро; Дидро — как об этом
свидетельствует его творчество — предчувствовал
противоречия нового, зарождающегося общества. Именно в
этом смысле он говорил, на этот раз сознательно,
о единстве противоположностей: «Добро и зло
неразлучны, неотделимы: уничтожьте одно — и вы
уничтожите другое; одно и другое происходит из
одних и тех же причин. Именно присущие материи
законы, законы сохранения всеобщего движения и
жизни, вызывают физические аномалии:
извержения вулканов, землетрясения, бури и т. п.».
Дисгармония играла у Дидро особую роль, потому что
естественные аномалии и переходные состояния («les
cas-limite») между видами более ясно
обнаруживают в биологии действие тех сил, которые в
скрытом виде содержатся в нормальных и средних
формах. Так же и в обществе чрезвычайные,
революционные периоды обнаруживают силы классовой
борьбы, которые остаются скрытыми во время
спокойных, нереволюционных периодов. Ламарк, а
вслед за ним и Дарвин придавали огромное
значение аномальным формам, прежде всего потому,
что они ясно показывают конфликт между живым
102
существом и условиями его жизни, а также
потому, что они образуют своего рода соединительную
черту между видами и доказывают их
изменчивость. Однако значение этих аномальностей было
сильно преувеличено первоначальным
дарвинизмом, отрицавшим скачки в природе.
В «Элементах физиологии» Дидро
характеризует уродов как противоречивые существа.
«Это — такие существа, организация которых
не гармонирует с остальной частью вселенной.
Порождающая их слепая природа истребляет их; она
оставляет лишь те из них, которые могут более или
менее сносно существовать совместно со столь
прославляемым панегиристами природы общим
порядком»1. Как видим, здесь идея естественного отбора
сформулирована значительно яснее. Не уделяя
внимания самой патологии как таковой, если только
она не помогает понять эволюцию биологическую,
Дидро распространяет свою идею на все виды.
«Почему не рассматривать человека, почему не
рассматривать всех животных как своего рода
несколько более долговечные виды уродов? Урод
рождается и гибнет. Природа истребляет индивид
меньше, чем в сто лет. Почему же природа не
способна была бы истребить вид в более долгий
промежуток времени?... Что такое урод? Это —
существо, длительное существование которого
несовместимо с наличным порядком»2. Таким образом,
понятие «урод» стало относительным. Существо
становится уродом, когда его существование не
согласуется более с условиями его жизни. Тогда
природа уничтожает его или преобразует. Эта
мысль натолкнула Дидро на идею об изменчивости
видов. «Но общий порядок вещей непрерывно
изменяется. Как же может оставаться неизменной
продолжительность существования вида посреди
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. II, стр. 340—341.
2 Там же, стр. 524, 525.
103
всех этих перемен? Только молекула остается
вечной и неизменной» К
Уже в «Мыслях об объяснении природы»
Дидро поставил проблему изменчивости видов:
«Рассматривая животное царство,— говорит Дидро,
основываясь на исследованиях по сравнительной ано-
томии Добентона,— и замечая, что среди
четвероногих нет ни одного животного, функции и части
которого, особенно внутренние, целиком не
походили бы на таковые же другого четвероногого, разве
не поверишь охотно, что некогда было одно первое
животное, прототип всех животных, некоторые
органы которого природа удлинила, укоротила,
трансформировала, умножила, срастила — и только...
Видя, как последовательные метаморфозы покрова
прототипа, каков бы он ни был, незаметными
переходами сближают одно царство с другим, как
они заселяют межи двух царств (если мне будет
позволено употребить термин межи для
обозначения границ там, где на самом деле нет никакого
деления) и как они заселяют, говорю я, межи двух
царств существами сомнительными,
неопределенными, по большей части лишенными форм, свойств и
функций одного царства и снабженными формами,
свойствами и функциями другого,— видя все это,
кто не почувствовал бы в себе склонность поверить
тому, что некогда было только одно первое
существо — прототип всех живых существ?»2 И позднее,
в очень важном отрывке, к которому мы еще
вернемся и который показывает ограниченность его
мысли, Дидро писал: «Все существа взаимно
скрещиваются, следовательно, и все виды их...»
Признав, таким образом, принцип изменчивости
видов и естественного отбора, Дидро принял
также наблюдения Ламарка о роли приспособления в
эволюции — приспособления в том смысле, в
каком его позднее понимал Ламарк. Действительно, у
1 Лени Дидро, Собр. соч., т. II, стр. 525.
2 Там же, т. I, стр. 306—307.
104
Ламарка приспособления являлись следствием
непосредственной ассимиляции живыми существами
окружающей среды. Медленное изменение внешнего
мира и условий жизни вызывает соответствующие
изменения в деятельности живого существа и, как
следствие этого, заканчивается трансформацией
его органов и всего организма в целом. На той
первоначальной стадии, на которой находилась
физиология, Ламарк доказывал эту теорию при помощи
морфологических трансформаций, подчеркивая при
этом как важность привычки, так и полезность или
бесполезность трансформации различных органов.
Ламарк в противоположность
психоламаркистам, его пресловутым преемникам, полагал, что
здесь не может быть и речи о сознательном и
произвольном приспособлении живого существа, а
это—свидетельство его отказа от этого
предрассудка телеологии. Трансформации происходят
вследствие взаимодействия условий жизни,
представленных окружающей средой, и стремления
живого существа к самосохранению. Шея
жирафы, например, удлиняется потому, что, живя в
сухом климате и питаясь листьями деревьев, жирафа
должна постоянно вытягивать шею, чтобы
прокормить себя; приобретенное изменение становится
наследственным, постоянным и полным. За
отсутствием данных наблюдения Дидро изложил этот
принцип при помощи примеров, частично
выдуманных, частично, несомненно, достоверных, и он это
сделал как нельзя более убедительно. В заметке,
озаглавленной «Наследственное строение», он
писал: «У фессалийского кабана, бывшего когда-то
однокопытным, теперь раздвоенная нога.
Постоянное отсутствие упражнения уничтожает органы.
Непрерывное упражнение усиливает их и
увеличивает их размеры. У гребцов могучие руки, у
крючников могучие спины. Воздержание от женщин
превращает монахов в евнухов» К В своем «Сне Далам-
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. II, стр. 526.
105
бера» Дидро заставляет говорить Даламбера во
сне; несмотря на фантастическую форму,
последний выражает свои мысли с поразительным
реализмом: «Почему я такой? Разве нужно было,
чтобы я был таким... Здесь — да, а в другом
месте? На полюсе? Под экватором? На Сатурне?..
Если на расстоянии нескольких тысяч лье мой вид
изменяется, то что же может произойти на
расстоянии нескольких тысяч земных диаметров?..
Если все находится в общем водовороте, то что
могут произвести здесь и в других местах
продолжительность и смена нескольких миллионов веков?
Кто знает, что такое мыслящее и чувствующее
существо на Сатурне?.. Но есть ли на Сатурне
чувство и мысль?.. Почему нет?.. Быть может, у
мыслящего и чувствующего существа на Сатурне
больше чувств, чем у меня?.. Если это так,— о,—
как он несчастен, этот житель Сатурна!.. Чем
больше чувств, тем больше потребностей» К
Мадемуазель Леспинас, подруга Даламбера, и
доктор Борде, его врач, комментируют сон
Даламбера следующим образом:
«Борде. Он прав: органы производят
потребности, и, наоборот, потребности производят
органы.
Леспинас. Доктор, вы тоже бредите?
Борде. Почему это кажется вам невероятным?
Я видел, как из двух обрубков с течением времени
выросли две руки.
Леспинас. Вы лжете.
Борде. Это правда. Но я видел, как, за
отсутствием рук, лопатки стали удлиняться, двигаться
наподобие клешней и превращаться в зачатки рук.
Леспинас. Какая бессмыслица!
Борде. Это факт. Предположите длинный ряд
безруких поколений, предположите наличность
беспрестанных усилий, и вы увидите, как обе эти
оконечности все больше и больше удлиняются, сокра-
Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 396.
106
щаются на спине, вытягиваются напереди,
образуют, может быть, пальцы и превращаются в руки.
Первоначальное строение их изменяется или
совершенствуется под влиянием необходимости и
отправления обычных для них функций»1. И вот
наиболее широкое обобщение этой идеи у Дидро:
«Организация определяет функции и потребности;
а иногда наоборот, потребности воздействуют на
организацию, и это воздействие может быть
настолько сильным, что в результате его всегда
происходит трансформация, а иногда и возникновение
новых органов».
Эта идея основывалась на совершенно
очевидной и не подлежащей сомнению уверенности в том,
что видоизменения форм являются
наследственными.
Между тем совершенно невозможно объяснить
морфологические изменения одним лишь
непосредственным приспособлением. Дополняя этот
последний принцип принципом естественного отбора,
Дарвин продвинул биологию далеко вперед
(несмотря на то — отметим попутно,— что принцип,
открытый Дидро и уточненный Ламарком, отошел
у Дарвина на второй план; Дарвин не связывал эти
изменения с постоянным взаимодействием между
стремлением существ к самосохранению и
влиянием окружающей среды и рассматривал их как
простые эмпирические факты).
Таким образом, как мы уже видели, идея
естественного отбора была в очень ясной форме
высказана еще Дидро. Но сумел ли он связать эти два
принципа так, чтобы на основании их дать общее
объяснение морфологических видоизменений?
Отнюдь нет. Дидро не хватало многих фактов, чтобы
подтвердить свою идею; эти два принципа
оставались у него несвязанными друг с другом,
независимыми друг от друга, неспособными образовать
единый метод.
Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 396.
107
Любопытно, что эта нехватка данных
наблюдения предоставляла Дидро больше возможностей для
свободного размышления, возможностей, которые
в следующий раз представились лишь значительно
позднее. В силу того, что данные наблюдений
еще долгое время оставались исключительно
морфологическими, первые эволюционисты целиком
посвящали себя их исследованию, оставляя в стороне
всякие соображения физиологического порядка.
В то время проблемы морфологии нисколько не
увлекали Дидро, который дерзнул проникнуть в
почти девственную область. Вот почему, не
смущаясь весьма примитивным состоянием
физиологии своего времени, Дидро смог, будучи
последовательным материалистом, предвосхитить даже
значение метаболизма (обмена веществ). В третьей
части диалога между доктором Борде и
мадемуазель де Леспинас, где Дидро высмеял
распущенность, господствовавшую в салонах высшего
французского общества, он высказал идею получения
новых видов путем скрещивания. Чтобы уменьшить
разрыв между различными, весьма отдаленными
друг от друга видами, Дидро полагал возможным
прибегнуть к изменению питания.
«Борде. ...Но если вы хотите, то я скажу вам,
что у нас очень мало произведено опытов благодаря
нашей трусости, нашему отвращению, нашим
законам и предрассудкам; что нам неизвестно, какие
совокупления были бы совершенно бесплодными;
что мы не знаем случаев, когда полезное
сочеталось бы с приятным, какие виды можно было бы
создать благодаря последовательным и
разнообразным попыткам...
Леспинас. А что подразумеваете вы под
последовательными попытками?
Борде. Я предполагаю, что распространение
животного царства идет постепенно, и ассимиляцию
животных нужно подготовлять; поэтому, чтобы
иметь успех в таких опытах, следовало бы начинать
издалека и поработать сначала над сближением
108
животных, поставив их в одинаковые условия
существования» К
Историки биологии, начиная с Геккеля,
рассматривают Гёте, Ламарка и Жоффруа де Сент-
Илера как непосредственных предшественников
дарвинизма. Не следует ли прибавить, наконец, к
этим именам имя Дидро, к которому Гёте и Ла-
марк имели непосредственное и неоспоримое
отношение и который, несмотря на обобщенный и
философский характер его мысли, предугадал гораздо
лучше, чем они сами, основные великие идеи
будущих обобщений?
7. Ограниченность механистической
идеи эволюции
На каком же научном экспериментальном
фундаменте основывал Дидро свои обобщения?
В Европе непререкаемым авторитетом в
ботанике и зоологии пользовался Линней. Но Линней
был сторонником неизменности видов; он
утверждал, что существует столько различных видов,
сколько их было первоначально создано богом.
Один Бюффон, противник Линнея, признавал в
известной мере изменчивость видов. Но это открытие
имело у Бюффона весьма ограниченное значение,
поскольку он не хотел признать, что все
многообразие видов происходит из одного или нескольких
простейших видов. Блестящие основополагающие
идеи Дидро опирались, таким образом, больше на
наблюдения, чем на теоретические рассуждения
Бюффона. Кроме того, он должен был, вне всякого
сомнения, широко опираться на касающуюся
индивидуальной эволюции теорию К. Ф. Вольфа (1759),
которая отвергла теорию преформизма, одного из
самых значительных «научных» оплотов клерикаль-
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 442.
109
ной идеологии. В самом деле, согласно теории
преформизма, половая клетка содержит в себе живое
существо, уже совершенно организованное, готовое,
но бесконечно малых размеров, обладающее и
собственными половыми клетками, которые в свою
очередь заключают в себе живое существо, также
совершенно готовое, размеры которого
соответствуют... и так далее, до бесконечности. Галлер,
который изгнал Вольфа из Германии, дошел до
такого абсурда, что вполне серьезно высчитал, будто
бы на шестой день творения бог сотворил не менее
200 000 миллионов человеческих существ, то есть
всех будущих потомков Адама и Евы, с
непревзойденным искусством заставляя их всех находиться
в яичниках Евы. Вольфу, несомненно, принадлежит
заслуга строго научного опровержения этого
абсурда, но его современники почти не были знакомы с
его трудами, которые были заново открыты гораздо
позднее. Огромная любознательность и
исключительно верный глаз Дидро привели к тому, что он
стал одним из тех немногочисленных ученых,
которые приняли теорию Вольфа ещё при его
жизни.
В 1754 году идея эволюции могла быть
сформулирована Дидро лишь как гипотеза. Даже позднее
он смог выражать свои мысли только в
литературной форме, в философских диалогах, а именно в
«Разговоре Даламбера с Дидро» и в «Сне Далам-
бера». Впрочем, эти диалоги (наряду с некоторыми
сочинениями подобного же рода Джордано
Бруно) наиболее живые и наиболее правдивые из
всей новой философии. Их живость и полнокров-
ность обусловлены тем, что в противоположность
псевдодиалогам романтической философии эти
диалоги Дидро глубоко пронизаны, вплоть до их
композиции и характеристики собеседников,
философской и исторической правдой о положении и
идеях того времени. «Разговор Даламбера с
Дидро»— это акт борьбы убежденного
мыслителя-материалиста против деистического идеализма. Тот
но
факт, что, несмотря на напряженность и
идеологическую интенсивность, эта борьба приняла здесь
форму мирной беседы-разговора, объясняется
исторической ситуацией: в то время деисты и
материалисты были союзниками в философии, в борьбе
против феодальной идеологии. Однако единство в
главном не ослабило силу столкновения идей ми
в литературном, ни в идеологическом плане, ибо
завтра сегодняшние союзники столкнутся как
непримиримые враги. Если Даламбер и его
единомышленники не присоединятся к делу Дидро, они
научно и политически окажутся в лагере реакции.
Впрочем, Даламбер в «Разговоре» это более или
менее сознает. Он чувствует, что диалог поднимает
вопросы исключительной важности, от которых он
не сможет отделаться скептическим пожиманием
плеч, которые требуют, чтобы он высказал свою
собственную точку зрения. Он это чувствует тем
более, что в конце «Разговора» его собеседник с
непоколебимой логикой доказывает ему, что его
скептические оговорки вовсе не соответствуют
беспристрастности в философии, потому что эта
видимость беспристрастности прикрывает всегда
реальную позицию человека, защищающего одно какое-
нибудь дело и выступающего против другого.
Скептик и деист Даламбер не способен, однако,
открыто занять определенную позицию по
отношению к этим решающим вопросам, и они продолжают
его преследовать во сне, поскольку он не смог
окончательно уклониться от них.
Исключительно высокий уровень философского
сознания Дидро проявился в том, что он выдвинул
в первом диалоге лишь те из своих
эволюционистских идей, которые он считал более или менее
философски обоснованными, и жанр диалога, ни к
чему не обязывая, позволял выявить
проблематичный характер этих идей. Это дало возможность
Дидро пойти гораздо дальше во второй части,
сформулировать в ней идеи генетики и эволюционизма,
признания которых, как он предвидел, следует ожи-
111
дать лишь в далеком будущем; поэтому он и
вложил эти идеи в уста человека, говорящего во сне,
непрестанно занятого этими проблемами, решение
которых он силился найти. Этому высокому уровню
философского сознания соответствовал и высокий
уровень художественного сознания Дидро. Его
первым намерением было придать «Разговору»
античный характер и действующими лицами в нем
сделать великих философов древности. Но поняв, что
его идеи абсолютно современны, а в античной
мысли существовали лишь в форме смутных
предвосхищений, он отказался от своего замысла. Высокий
уровень философского и литературного сознания
Дидро отражает его письмо от 11 сентября 1763
года к Софи Воллан: «Если б я захотел
пожертвовать богатством идеи ради благородства формы,
моими действующими лицами были бы Демокрит,
Гиппократ и Левкипп; но правдоподобие
заключило бы меня в слишком тесные рамки древней
философии, и диалог много бы потерял. В нем
сочетание необычайного сумасбродства с глубочайшей
философией, нужно было некоторое искусство,
чтобы вложить свои идеи в уста спящего человека;
чтобы мудрость сделать более доступной, следует
иногда облекать ее в форму безрассудства. Я
предпочитаю услышать: «Да, это все не так
бессмысленно, как кажется!», чем «Послушайте-ка, что за
премудрость!» К
Но Дидро не был бы великим писателем, каким
он был в действительности, если бы не стремился
заставить понять читателей, что «Сон Даламбе-
ра» — это не только сумасбродство, но и
глубочайшая философия. Вот почему он счел недостаточным
ограничиться лишь одним спящим Даламбером и
поместил у его изголовья еще двух лиц:
мадемуазель Леспинас, подругу Далам*бера, и Борде, его
врача. Благодаря этим персонажам Дидро создал
очень реальную и вместе с тем весьма забавную си-
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. VIII, 1937, стр. 472.
112
туацию: молодая женщина, недостаточно
образованная, но очень умная, до тех пор ничего не
понимала в речах своего спящего друга, которые
казались ей совершенно бессвязными, пока доктор
Борде, ученый, разделявший взгляды Даламбера,
не разъяснил их ей. Когда доктор рассказал ей
продолжение сна, мадемуазель Леспинас поняла,
что речи Даламбера не так уж и нелепы, поскольку
врач наяву говорит то же самое, что философ во
сне:
«Леспинас. Я смущена: именно так, и почти
слово в слово. Теперь я могу засвидетельствовать
перед всем миром, что нет никакой разницы между
бодрствующим врачом и спящим философом»1.
Чем больше проясняется ситуация, тем больше
Леспинас убеждается в истинности и значимости
эволюционных идей, доказательством чему служит
то, что она и сама начинает задавать вопросы. Этим
Дидро дал понять, что рано или поздно
эволюционная идея восторжествует, потому что именно ее
«экстравагантность» больше всего соответствует
требованиям человеческого разума. Чтобы уточнить
свою мысль, Дидро одной фразой доктора Борде
подчеркнул реальность сна Даламбера:
«Борде... Вот поистине возвышенная
философия; приведенная только что в систему, она тем
более будет себя оправдывать, чем больше будут
прогрессировать человеческиеу знания»2.
В нашу задачу не входит дальнейший
литературный и формальный анализ этого произведения.
Однако мы считаем «Сон Даламбера» одним из
важнейших произведений Дидро, потому что оно
выражает — как всякое подлинное литературное
произведение — глубокие и твердые
идеологические и философские убеждения. Именно здесь
символ веры философа, глубоко убежденного, что
научный прогресс будущего не преминет подтвердить
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 387.
2 Там же, т. I, стр. 398.
8-641
ИЗ
эволюционную идею и сделает ее главным и
существенным элементом мышления культурного
человека.
В другом аспекте та же мысль Дидро нашла
свое выражение в том месте его труда «Мысли об
объяснении природы», где идея эволюции предстает
как гипотеза, но гипотеза, принятие и
подтверждение которой приведут к прогрессу науки и научной
философии: «Но признаете ли вы вместе с
доктором Бауманом истинной эту философскую догадку
или отвергнете ее, как ложную, вместе с Бюффо-
ном, — вы все-таки не будете отрицать, что следует
принять ее как гипотезу, важную для прогресса
опытной физики и рациональной философии, для
открытия и объяснений явлений, связанных с
организацией живых существ» *.
Плеханов, следовательно, был неправ, когда,
основываясь на своем анализе Гольбаха, хотел
отделаться от проблемы, выдвинутой Дидро,
несколькими строчками. Он был неправ, когда
охарактеризовал эволюционные идеи Дидро лишь как догадки, а
не как подлинно философское убеждение.
«Бесспорно слабая сторона французского
материализма XVIII века, как вообще и всякого материализма
до Маркса,— писал Плеханов,— состоит в почти
полном отсутствии какой бы то ни было идеи
эволюции. Правда, у таких людей, как Дидро, иногда
бывали гениальные догадки, которые сделали бы
честь самым выдающимся из наших современных
эволюционистов; но эти прозрения не были связаны
с сущностью их учения; они были только
исключениями и, как исключения, только подтверждали
правила»2.
То, что Плеханов говорил о Дидро, не может в
такой форме относиться даже к стихийным
диалектикам XVI века, которые, несмотря на некоторые
материалистические тенденции, были, несомненно,
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 307.
2 Г. В. Плеханов, Избранные философские
произведения в пяти томах, Госполитиздат, т. II, 1956, стр. 43.
114
весьма далеки от диалектического материализма.
Это неприменимо к Джордано Бруно, а тем более
к Дидро, чье понимание природы как единства
материи в развитии основывалось на его стремлении
связать науку с промышленностью, а философию
с естествознанием, на его предвосхищении законов,
более сложных и более высоких, чем законы
механики, на его поисках материального единства мира
и, наконец, на его опровержении идеализма. Мы,
несомненно, многим обязаны Плеханову в
отношении анализа и понимания домарксистского
материализма. Но вклад, внесенный в развитие
марксизма Лениным, дал возможность марксистской
философии, так же как и истории философии, очень
тесно связанной с вопросами систематики,
подняться на более высокий уровень. Плеханов исходит
из абсолютно ложной предпосылки, согласно
которой только лишь одна диалектика знала категорию
эволюции, категорию, которую механистическо-
метафизический метод якобы полностью
игнорировал. Эта точка зрения примыкает к общеизвестным
высказываниям оппортунистов о революции; в
теоретическом плане она приближается к вульгарному
пониманию диалектики, которое было полностью,
так же как и оппортунизм, разоблачено Лениным.
Это положение Плеханова означает, в сущности,
что эволюция и диалектика — однозначные понятия
и могут повсюду заменять друг друга. Однако
такое утверждение может лишь затушевать
революционное своеобразие, присущее диалектическому
пониманию эволюции. Труды Ленина полностью
опровергают такую точку зрения. Конечно, лишь
материалистическая диалектика подлинно научно и
во всех отношениях правильно рассматривает
эволюцию, но и метафизический метод тоже пытался,
в особенности когда он шел в ногу с
материалистической теорией, понять эволюцию. Ленин с
предельной ясностью показал противоположность между
этими двумя концепциями эволюции. В
«Философских тетрадях» Ленин пишет: «Развитие есть«борь-
8*
115
ба» противоположностей. Две основные (или две
возможные? или две в истории наблюдающиеся?)
концепции развития (эволюции) суть: развитие как
уменьшение и увеличение, как повторение, и
развитие как единство противоположностей (раздвоение
единого на взаимоисключающие
противоположности и взаимоотношение между ними). При первой
концепции движения остается в тени ошодвиже-
ние, его двигательная сила, его источник, его мотив
(или сей источник переносится во вне— бог, субъект
etc.). При второй концепции главное внимание
устремляется именно на познание источника «само»
движения. Первая концепция мертва, бледна,
суха. Вторая — жизненна»1.
Куда же следует отнести концепцию эволюции
Дидро? В конечном счете, несомненно, она
относится к первой категории, то есть к метафизике. Но
только в конечном счете. Следует, в самом деле,
уточнить разницу между механистическо-метафизи-
ческой концепцией эволюции, такой, какой она
была в момент, когда еще не существовало ни
сознательной диалектики, ни диалектической науки, то
есть когда идея эволюции, скованная категориями
метафизики, только еще пыталась проложить путь
к новым проблемам науки и философии,— следует,
повторяем, отличать ту концепцию, которую мы
определяем, от той, которая возникла тогда, когда
уже появились и сознательная диалектика и
диалектический материализм, когда имелась уже
современная наука, подкрепляющая и доказывающая
их положения, и, наконец, когда метафизическое
понимание эволюции становилось вследствие этих
же факторов платформой борьбы, направленной,
вольно или невольно, сознательно или
бессознательно, против диалектики. В первом случае эта
категория эволюции, развивающаяся в рамках ме-
ханистическо-метафизического метода, действует в
направлении разложения и преодоления механи-
1 В. И. Ленин, Соч., изд. 4-е, т. 38, стр. 358.
116
стическо-метафизической концепции,
подготавливая новый, высший этап в развитии философии.
(Достаточно вспомнить Вико или, после Дидро,
русских революционных демократов —
современников Маркса, но домарксистов в области
философии.) Во втором случае эта категория эволюции
действует в направлении сохранения
метафизического метода, заставляя философию неизбежно
возратиться к уже пройденному этапу ее развития,
со всеми его недостатками и слабостями.
(Вспомним, например, о буржуазном материализме после
Фейербаха, о его трансформации в «монизм», о
возрождении старых агностических тенденций и об
их кристаллизации в чистый агностицизм.) Не
понимать этого исторического изменения — значит не
понимать одного из основных принципов
марксизма, согласно которому в зависимости от
исторических условий одно и то же явление может
действовать то в одном, то в противоположном
направлении; это значит, кроме того, не понимать проблем
новой философии, предшествовавшей французской
революции, что приводит к пагубным
методологическим последствиям. Бывают случаи, когда
философия не в состоянии еще понять некоторые вещи, но
она изо всех сил стремится их понять, в то время
как в других случаях она и не хочет и не может
понять встающие перед ней проблемы; различие
между этими двумя случаями очень определенное и
конкретное. Отсюда проистекает, например, у Дидро
это обилие гениальных мыслей, которое, как
говорит Плеханов, сделало бы честь даже многим
наиболее выдающимся эволюционистам нашего
времени и равное которому напрасно было бы искать
у более поздних приверженцев метафизической
концепции эволюции.
Мы уже говорили о проблеме материи и
движения, которая составляет один из основных
элементов идеи эволюции у Дидро, и видели, что, хотя
Дидро и не сумел дойти до диалектического
понимания эволюции, его идея полностью выходит за
117
рамки механистическо-метафизического понимания,
потому что она не довольствуется одним лишь
постижением движения, присущего материи, но и
определяет его источник посредством силы,
присущей материи. Но если природа есть совокупность
материи в движении, если эта движущаяся
материя превращается из хаоса в космос, если живые
существа, происходя из одного общего
первоначального типа, дифференцируются и приобретают
более сложные формы, то время должно играть
важную роль в жизни природы. Функция времени
в природе составляет важную проблему в
философии природы, или по крайней мере в философии
природы нового времени. Современные
материалисты обычно рассматривают время и
пространство как основные формы бытия. Но для
механистических материалистов время выступало как
индифферентная и внешняя форма существующего,
поскольку оно якобы не оказывает никакого
действия на природу. Если органические и
неорганические формы природы принимаются за
неизменные, как это имело место у великих
механистических материалистов XVII и XVIII веков, то время
не дает ничего для определения природы,
поскольку оно никоим образом не затрагивает субстанции.
По этому поводу Энгельс очень остроумно
заметил, что в противоположность истории
человечества, которая развивается во времени, природа
обладает у этих мыслителей лишь
пространственной протяженностью. Всякая эволюция, всякое
изменение в природе отрицается ими. Естественные
науки, столь революционные при своем
возникновении, внезапно столкнулись с глубокой
консервативностью природы, где все остается таким, каким
было с самого начала, и где все должно остаться
на все времена таким же, каким оно было всегда.
Из нейтрального начала время могло превратиться
в органическую составную часть природы лишь в
том случае, если бы природа освободилась от своей
неподвижности и стала развивающейся природой.
118
Дидро удалось прийти к столь важному
выводу на основе своей концепции. Сделал он это очень
давно, а именно еще в 1754 году, включив в
определение природы наряду с понятиями смежности
и совпадения, относящимися к пространству,
также и понятие последовательности, которое
относится к категории времени: «Поэтому я называю
элементами различные гетерогенные вещества,
необходимые для создания всех феноменов
природы, и природой — общий актуальный результат
или общие последовательные результаты
комбинации элементов... Из первого, следующего ниже
вопроса будет видно, почему я ввел в некоторые мои
проблемы понятия прошлого, настоящего и
будущего и почему я включил идею последовательности
в данное мною определение природы»1.
Это вытекает, впрочем, не только из первого,
но также и из всех прочих вопросов: «Поэтому я
спрашиваю: всегда ли были и будут металлы
такими, каковы они теперь; всегда ли были и будут
растения такими, каковы они теперь; всегда ли
были и 'будут животные такими, каковы они теперь,
и т. д.? После глубокого размышления над
известными явлениями у нас появляется сомнение,
которое вам, о скептики, может быть, простится,—
сомнение, что мир не был создан, но что он остается
таким, каким был и будет»2.
Совершенно очевидно, что Дидро должен был
включить время в свое определение природы,
потому что в его понимании проблема времени
весьма определенно и вполне сознательно связывается
с идеей эволюции.
Среди множества вопросов, поднятых Дидро,
наибольшее значение имел вопрос об отношении
между живой и мертвой материей с точки зрения
эволюции природы и материи: «Но как может
быть, что материя не одна: живая или мертвая?
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 350—351,
2 Там же, стр. 351—352.
119
Живая материя всегда ли остается живой? И
мертвая материя всегда ли и действительно ли остается
мертвой? Разве живая материя не умирает? Разве
мертвая материя никогда не начинает жить?»{
Однако по этому вопросу естественные науки
того времени могли оказать Дидро еще меньше
поддержки, чем по вопросам теории эволюции. Не
удивительно поэтому, что Дидро считал первым
методологическим обоснованием теории эволюции,
как и вообще всех естественных наук, философию.
В 1754 году Дидро еще в какой-то степени пытался
удовлетвориться рассмотрением живой и неживой
материи как просто смежных, ссылаясь на Бюф-
фона, который вместе со многими учеными своего
времени допускал, кроме существования
неодушевленных молекул, существование живых
зародышей. Эта дуалистическая теория материи
проявлялась еще в полемике Дидро с Мопертюи.
Ученик Лейбница Мопертюи считал, что живое
существо образуется из соединения органических
молекул; эти молекулы, которые он наделял
желанием и отвращением, чувством и мыслью,
создавали, по его мнению, элементарную форму жизни.
Как настоящий идеалист, Мопертюи делал из
органической молекулы разумное существо,
обладающее сознанием и действующее сообразно своим
целям. Он дошел даже до того, что наделил
этими же атрибутами неорганические молекулы (хотя
и в самых общих чертах).
Под теологической завесой, которой он
пользовался с явной иронией, Дидро дал
материалистическую критику концепции Мопертюи,
основанной на лейбницевской монадологии, ставившей в
свою очередь вопрос об эволюции, но затемненной
идеалистической мистикой. Что хотел сказать
Дидро, когда он утверждал, что Мопертюи давал
материализм «в самом соблазнительном варианте»?
Здесь речь шла просто о том соблазнительном
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 353.
120
материализме, который был дорог теологам,
помещающим антропоморфного бога со всеми его
земными радостями и страданиями на небеса, или о
материализме философов-идеалистов, согласно
пантеистической концепции которых чисто
духовный бог составляет единое целое с материальным
миром. Контрвопрос, который Дидро предлагал
идеализму, заключался в следующем: создают^ ли
мыслящие и чувствующие молекулы Мопертюи
единое целое или не создают? Если они не создают
единого целого, то природа становится хаосом и
существование бога оказывается поколебленным в
самих своих основах, говорил Дидро, прекрасно
понимая, что именно идея бога, творящего чудеса
и разрывающего всеобщую причинную связь,
делает из природы хаос. Отрицание Мопертюи
приводит таким образом к защите объективного
идеализма и бога средних веков. Если же, наоборот,
эти молекулы составляют единое целое, «...тогда
придется признать, что, вследствие такого
всемирного сцепления, у мира, подобного громадному
животному, имеется душа; что, раз мир может быть
бесконечным, душа мира ... может быть
бесконечной системой перцепций, и что мир может быть
богом» 1.
Иными словами, Мопертюи, хотя он и очень
убежденно высказывался за единство молекул, тем
не менее остался идеалистом, и Дидро хорошо
знал, что отождествление природы с богом — шла
ли речь о deus sive natura Спинозы или о мировой
душе Бруно — прекрасно уживалось с идеализмом.
Глашатай нового и более высокого этапа в
развитии материализма, Дидро рассматривал эту
концепцию как чистый идеализм (не замечая
исторически закономерной материалистической
тенденции этих мыслителей). Наконец, чтобы разрешить
спор, он заявил, что органическая молекула, эта
элементарная форма живой материи, не обладает
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 341—342.
121
ни желанием, ни сознанием, ни памятью, ни
разумом, но только перцепцией. Из одного этого
свойства произойдут и все остальные, высшие
свойства.
Но в таком случае дуализм живой молекулы и
молекулы неодушевленной — или, пользуясь
современными научными понятиями, органической и
неорганической— оставался без изменения. Впрочем,
в этом дуализме Дидро справедливо угадывал
опасность идеализма. И именно это заставило его
поставить в конце «Мыслей об объяснении
природы» вопрос, который цитировался выше: «Разве
мертвая природа никогда не начинает жить?»
Ответ, который дал Дидро на этот вопрос, является
особенно важным, потому что поставленная
проблема требует, так сказать, диалектического
решения, поскольку она поднимает вопрос о единстве
противоположностей и переходе количества в
качество, то есть касается самых основных
категорий диалектики. Окончательный ответ (наиболее
точный в пределах данной исторической эпохи) на
этот вопрос Дидро дает в «Разговоре Даламбера с
Дидро». Здесь он решительно заявляет, не боясь
показаться парадоксальным в глазах Даламбера,
что мертвая материя может превратиться в
материю живую. Желая доказать обыденный,
повседневный характер этого превращения, Дидро
говорит, что эта трансформация осуществляется в
каждом процессе еды и что мраморная статуя
может сама превратиться в пищу, потому что,
истолченная и смешанная с землей, она превратится в
гумус, на котором вырастут прекрасные бобы и
горох. Но, конечно, это не есть решение проблемы.
(Впрочем, и здесь уже имеется научное
предвидение, поскольку превращение органических
веществ в живую клетку, как это доказали
советские биохимики, является исключительно важным
фактором в объяснении происхождения жизни.)
Решение, предложенное Дидро, не было
единственным, поскольку здесь он априори предполагал,
122
что живое вещество способно ассимилировать
неорганическое вещество. Он приводит другой
пример, свободный от недостатков первого. Речь идет
о превращении яйца в курицу. «Возьмите,
например, яйцо. Оно ниспровергает все теологические
школы и все храмы на земле. А что такое яйцо?
Бесчувственная масса, пока не введен туда
зародышевый пузырек. А когда он введен туда, что оно
представляет из себя? Опять-таки бесчувственную
массу, так как зародышевый пузырек сам по себе
является лишь инертной и простой жидкостью. Что
может сообщить этой массе другую организацию,
чувствительность, жизнь? Теплота. Что создает
теплоту? Движение. Каковы будут
последовательные результаты движения?..» 1 И Дидро объясняет,
основываясь на описании Вольфа, как курица
развивается в яйце. Она не машина, как это думал
Декарт, и отличается от человека лишь строением
своего организма. Затем Дидро ставит Даламбера
перед дилеммой: «...либо представить себе
наличность в инертной массе яйца скрытого элемента,
который ждет процесса развития, чтобы
обнаружить свое присутствие, либо предположить, что в
определенный момент развития этот невидимый
элемент проникает туда через скорлупу. Но что это
за элемент? Занимает он пространство или нет?
Как он проникает туда или развертывается там, не
двигаясь?.. Доверьтесь себе, и вы проникнетесь
сожалением к своей особе: вы почувствуете, что, для
того, чтобы не допустить простого, все
объясняющего предположения — чувствительности, как
общего свойства материи или продукта организации,
вы противоречите здравому смыслу и
низвергаетесь в пропасть, полную тайн, противоречий и
абсурдных выводов»2.
Не важно, что Дидро здесь ошибался, не
важно, что позднее наука доказала, что оплодотворяю-
1 Д е н и Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 376.
2 Там же, стр. 377.
123
щим началом является желток и именно он —
зародыш живого. Важен сам методологический
аспект проблемы: живое существо может
возникнуть из инертной и неживой материи лишь потому,
что чувствительность «есть общее свойство
материи или продукт организации».
Но если чувствительность есть общее свойство
материи и живая органическая молекула
составляет элементарную форму материи, то тогда не
существует, собственно говоря, ни живой материи,
ни материи мертвой, но вся материя — живая.
Если бы Дидро принял эту концепцию, он, вне
всякого сомнения, скатился бы до уровня
идеалиста Мопертюи, или, точнее, до достаточно близкого
к нему уровня натурфилософии XVI века, с едва
заметными примесями материализма и стихийной
диалектики. Дидро рассматривал бы, следовательно,
природу как живой организм в противоположность
механистической концепции, для которой природа
является часовым механизмом. Но его критика
Мопертюи, так же как и его концепция в целом, ясно
показывают, что Дидро не имел никакого
намерения отказаться от завоеваний механистического
периода (расходясь в данном вопросе с Гете,
который, выступая против ньютоновской механики и
объявив себя гилозоистом, видел в философии
Гольбаха лишь увлечение механикой); Дидро
хотел идти вперед. Он стремился превзойти механи-
стическо-метафизическую концепцию, но был не в
состоянии это сделать. Именно решение данной
проблемы свидетельствует о его желании идти
вперед и вместе с тем о невозможности это сделать.
Приняв чувствительность за общее свойство
материи, натурфилософия XVI века решительно
заявила, что вся материя, будь то живая или
мертвая, наделена чувствительностью и, следовательно,
перцепция является одной из функций материи.
Дидро так далеко не пошел. Для него
чувствительность была лишь одним из потенциальных свойств
мертвой материи, но отнюдь не ее деятельной
124
функцией. В старой натурфилософии совокупность
материи, наделенная чувствительностью,
составляла живую природу или живое существо; у Дидро
совокупность мертвой материи, таящая в себе
скрытую и потенциальную чувствительность, не
оказывающую никакого воздействия на
механическое движение, остается неизменной сущностью
этого часового механизма природы, который не
может быть заведен и никогда не остановится.
Элемент, скрытый в яйце,— это пбтенциальная
чувствительность, которая переходит в активное
состояние под действием тепла. Таким образом, то,
что делается в уменьшенном масштабе в яйце,
происходит в огромном масштабе в часовом
механизме природы, то есть в неодушевленной материи:
движение создает тепло, которое возбуждает
чувствительность определенного числа молекул,
превращая их в живую природу, присоединяющуюся
к природе мертвой.
Дидро сохранял, следовательно, результаты,
добытые механистической концепцией, и даже по
видимости превзошел их, но только по видимости.
На самом же деле концепция Дидро, совершенно
очевидно, покоилась на механике, точнее, на
понятии потенциальной и кинетической энергии, или, в
терминологии XVIII века, на понятии живой и
скрытой силы. В «Разговоре Даламбера с Дидро»
этому факту придается большое значение.
«Дидро... Из мрамора делают тело, из тела —
мрамор.
Даламбер. Но тело не то, что мрамор.
Дидро. Как то, что вы называете живой силой,
не то, что мертвая сила».
«Даламбер... Уж не признаете ли вы
существование деятельной и инертной чувствительности?...»
которая «...характеризуется у животного и, может
быть, у растения теми или другими заметными
действиями, а в существовании инертной
чувствительности можно удостовериться при переходе ее в
состояние деятельной.
125
Дидро. Великолепно. Вы указали эту связь.
Даламбер. Таким образом, у статуи только
инертная чувствительность, а человек, животное и,
может быть, растение одарены деятельной
чувствительностью» К
Однако механистическая концепция
рассматривает переход мертвой материи к материи живой с
механистическо-метафизических позиций, не
имеющих ничего общего с диалектикой. Согласно
диалектическому материализму, количественные
изменения порождают действительно новые
качества, которые до этого не существовали, и это
главным образом относится к переходу от неживого к
живому, в частности к различию между
процессами органической химии и живого белка, как
это было уже отмечено Энгельсом и доказано
крупным советским биохимиком Опариным. У
Дидро, наоборот, новое качество — жизнь — дано с
самого начала. Оно даже составляло общее
свойство элементарных форм материи, но только оно
там настолько сжато и стеснено в своем движении,
что не могло производить никакого действия. Его
развитие не является, однако, развитием в
буквальном смысле этого слова; здесь речь идет не о
рождении чего-то абсолютно нового, но об
изменении, аналогичном тому, которое происходит,
когда освобождают сжатую пружину, вследствие чего
она распрямляется.
В таком именно смысле говорил Дидро о
«чувствительности как общем свойстве материи». Но
он, кроме того, указывал, что чувствительность
является «продуктом организации» материи. Однако
эта вторая формулировка имеет смысл,
совершенно отличный от смысла первой. В самом деле,
эта не очень четкая формулировка означает,
что чувствительность появляется в определенный
момент, на определенной ступени эволюции
«организации материи» как новое качество. Иначе гово-
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 367—368.
126
ря, речь идет не об общем атрибуте, всегда и
всюду присутствующем, но о продукте, который
появляется в определенный отрезок времени. Эта точка
зрения уже диалектична, поскольку она
предполагает, что новое качество может быть результатом
количественных изменений. Что здесь у Дидро —
простая оговорка? Мы этого не думаем. Наоборот,
можно предполагать, что здесь речь идет об идее,
которую Дидро не переставал углублять.
Приведем по этому поводу весьма знаменательный
отрывок из письма к Софи Воллан от 15 октября
1759 года, когда Дидро еще не пришел к тому
заключению, которое цитировалось выше:
«Воображать, что можно составить живое тело, помещая
рядом с мертвой частицей одну, две, три мертвых
же частицы, значит утверждать величайшую
нелепость; или я, быть может, ничего не понимаю?
Как! Допустим, что частица а, помещенная влево
от частицы б, сознательно не существовала, не
чувствовала, была бездейственной и мертвой, но
вот та, что была налево, перемещена направо, а
та, что была направо, перемещена налево;
неужели же от этого они оживут, начнут сознательно
чувствовать? Нет! Вещь это немыслимая! Какое
значение имеет правая или левая сторона?
Существует ли в пространстве та или другая сторона?» х
Это рассуждение весьма наглядно показывает,
почему для Дидро было невозможно
рассматривать жизнь как продукт организации материи.
Причина здесь в том, что Дидро мог себе
представить организацию материи лишь как совокупность
механических и исключительно внешних связей,
которые не способны порождать жизнь. В этом
последнем пункте он не ошибался. Если бы он
решил этот вопрос положительно, он должен был бы
рассматривать вместе с Декартом животное как
машину и считать, подобно Ламетри, машиной и
человека. Процесс организации неживой материи,
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. VIII, стр. 50.
127
которая, достигнув своей наивысшей ступени,
превращается в материю живую, бесконечно сложен.
Его количественный характер вовсе не означает,
что он не обладает множеством качественных
различий, но, прежде чем произойдет основное
качественное изменение, эти количественные изменения
проявятся, все без исключения, в неживой
материи. Без знания органической химии Дидро не мог
даже и подозревать этого. Стремясь избежать
механистической концепции Декарта и Ламетри, так
же как и стихийной диалектики XVI века, Дидро
наделил инертную материю потенциальной
чувствительностью. В условиях того времени это было
единственно возможное и наиболее ценное
решение. Тем не менее Дидро сохранил и свою
формулировку чувствительности как продукта
организации материи, надеясь, что в будущем она обретет
новый смысл.
Если концепция Дидро и не совпадает с
диалектическим материализмом, она тем не менее
имеет с ним одну общую черту. Эта общая черта,
повторяем, состоит не в подчеркивании того, что
жизнь, или чувствительность, есть общее, то есть
всегда и повсюду присутствующее, свойство
материи, а не особое ее свойство, развившееся и
определившееся исторически. Эта общая черта наряду
с различием была отмечена Лениным в его ответе
на обвинение махистов. Согласно этому
обвинению, все материалисты, как прошлого, так и
современности, стремятся вывести жизнь из
механического движения материи или свести ее к этому
движению. В то время как у Декарта и Ламетри
это стремление все же соответствовало их общей
воинствующей материалистической позиции в
борьбе с идеализмом, после Дидро, а тем более после
возникновения диалектического материализма это
было бы вульгарным материализмом в духе Фогта
и Бюхнера.
«Что касается материализма,— писал Ленин,—
...то мы уже на примере Дидро видели настоящие
128
взгляды материалистов. Не в том состоят эти
взгляды, чтобы выводить ощущение из движения
материи, или сводить к движению материи, а в том,
что ощущение признается одним из свойств
движущейся материи. Энгельс в этом вопросе стоял на
точке зрения Дидро. ...Но Мах, постоянно
противополагающий свои взгляды материализму,
игнорирует, разумеется, всех великих материалистов, и
Дидро, и Фейербаха, и Маркса — Энгельса,
совершенно так же, как все прочие казенные профессора
казенной философии» К
Мы несколько задержались на анализе этого
вопроса, потому что он весьма убедительно
показывает все величие и оригинальность концепции
Дидро. Этот анализ вместе с тем показывает,
насколько сильно было желание Дидро дать
диалектическое решение этой проблемы и как скована
была его мысль, которая в конечном счете
оставалась пленницей метафизической и механистической
концепции. Это механистическо-метафизическое
понимание происхождения жизни как активации
скрытой и концентрированной чувствительности
означает также, что эволюция, по мнению Дидро,
была лишь чисто количественным изменением.
Эволюция сводилась Дидро к чисто
количественному увеличению и уменьшению, а не понималась им
как процесс непрерывных превращений
количественных изменений в качественные, внутри которых
происходят новые количественные изменения,
создающие новые качества. Эта концепция
проявляется и в литературном стиле Дидро: он
способен говорить о превращении незаметного червячка
в огромное животное и т. п.
Но разве мы не сказали, что именно Дидро
восстановил объективную категорию качества в
противовес старому, механистическому
материализму Гоббса и Локка? Какое же соотношение было
у него между качеством и количеством? Это было
1 В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 18, стр. 41, 42.
9-641 129
простое соотношение смежности, без всякой
внутренней связи.
Разве количественные изменения не вызывают
существенного качественного различия, когда один
вид переходит в другой? Разве не писал Дидро,
что «...все существа взаимно скрещиваются,
следовательно, и все виды их... и весь мир находится в
состоянии беспрерывного изменения»? Даже в
этом случае метафизическая концепция эволюции
Дидро игнорировала основные качественные
изменения. Качество — или, вернее, совокупность
характерных для нового вида качеств — было
фактически дано априори в старом виде, но только в
скрытом или латентном состоянии. Здесь
эволюция сводилась к тому, что" существующее заранее
качество проявляется благодаря количественному
увеличению, но никакое новое качество не
возникает. Впрочем, оно и не может возникнуть,
поскольку оно дано априори.
Природа, по мнению Дидро, была скоплением
разнородных качеств. Все существующее обладает
всеми качествами, имеющимися в природе. И
единственно лишь количественное преобладание
определяет то качество, которое должно доминировать
в этом смешении бесчисленных качеств, которое,
однако, вовсе не похоже на какую-нибудь
химическую смесь. Окончательные выводы из
философских воззрений Дидро с характерной для него
точностью и ясностью определяются вовсе не какой-
либо туманной гипотезой: «...Что же удивительного
в этом?.. Все существа взаимно скрещиваются,
следовательно, и все виды их... и все находится в
состоянии беспрерывного изменения. Всякое
животное— более или менее человек; всякий
минерал—более или менее растение; всякое
растение— более или менее животное. Нет ничего
определенного в природе... Всякая вещь более или
менее представляет собою что-нибудь, есть более
или менее земля, или вода, или воздух, или огонь,
более или менее то или другое царство... Нет' ниче-
130
го, что принадлежало бы к сущности
какого-нибудь особого существа»1. Приведенная цитата из
«Сна Даламбера» показывает, что, исходя из
подобного рода метафизической концепции, ничего
нового в принципе и не может возникнуть.
Созерцая природу в ее эволюции и развитии,
Дидро в итоге, образно выражаясь, растолок в
ступке (прием, который послужил ему в диалоге с
Даламбером для того, чтобы вдребезги разбить
великолепный мрамор Фальконе) все формы,
существующие в природе, включая и виды, так
тщательно описанные Линнеем. Затем он смешал эти
растолченные материалы, сведенные к их
качественным составным частям, и создал из них хаос.
Эволюция состоит, таким образом, в том, что
качественно различные элементы составляют
единое целое, как осколки разноцветного стекла
образуют калейдоскоп. Стремясь к механической
инерции или к наиболее благоприятному
состоянию для сохранения своего рода, каждая частица
в конце концов находит такое положение или
такую комбинацию условий, которые являются
наиболее выгодными для нее. Это, следовательно, ни
внешняя целесообразность, ни высший разум, ни
даже собственная телеологическая воля,
управляющая частицей; закон природы формируется и
и устанавливается, исходя из «необходимости
внутренней силы» материи.
Мы видим те пределы, которых достигает
концепция эволюции Дидро. Эти пределы присущи
всякой метафизической концепции вообще.
Однако у Дидро они играли роль как бы
смирительной рубашки, ограничивая взгляды и суждения,
вытекавшие из правильной идеи действительной
эволюции и развивавшиеся уже в направлении
диалектического материализма. Эта общая
метафизическая концепция Дидро явилась
философской и методологической основой для всех про-
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 397.
9* 131
грессивных буржуазных эволюционистов XIX
века, хотя они и не осознавали этого и не
исследовали ее до конца. Но, как конкретные научные
достижения этих ученых, казалось, так сказать,
требовали диалектической разработки, так и
мысли Дидро относительно эволюции, казалось,
также стремились к диалектическому материализму,
который остался для него недостижимым.
8. Дилемма Дидро
Почему Дидро не смог дойти до
диалектической концепции эволюции?
Для того чтобы ответить на этот вопрос,
недостаточно сослаться на крайне недостаточное
развитие новых естественных наук. Этот факт
представляет, разумеется, очень важный элемент
истины, но не всю истину. Чтобы раскрыть ее,
необходимо исследовать социальные причины
ограниченности мысли Дидро. По мнению некоторых,
это явилось следствием переоценки, говоря
философским языком, важности принципа
непрерывности Лейбница, согласно которому в
природе отсутствуют скачки. Однако эта переоценка
могла быть не более чем симптомом, но отнюдь
не причиной этой ограниченности мысли Дидро.
Тем не менее даже в качестве симптома она не
лишена интереса.
У великих материалистов XVIII века принцип
непрерывности служил действенным оружием в
борьбе, которую они вели против догматической
теологии, допускавшей чудеса и, следовательно,
иррациональные скачки в природе. Но принцип
непрерывности является слишком
исключительным. Чтобы подучить верное отражение
объективной действительности, его следует дополнить
принципом прерывности. Между тем синтез этих
принципов не мог быть осуществлен до Великой
французской революции, и принцип непрерывно-
132
сти способствовал утверждению плоской
социально-политической иллюзии буржуазии, согласно
которой ее политическая консолидация якобы
позволит ей захватить политическую власть без
революции и без боя. Эксплуатирующий класс,
буржуазия, не любила касаться идеи революции,
поэтому ее идеологи изменили свою позицию
только при наличии непосредственной
революционной ситуации.
Кроме вышеизложенных соображений,
следует учитывать тот факт, что революция в Англии
закончилась компромиссом между классами,
который выразился в форме конституционной
монархии. Однако в глазах антиклерикально
настроенных французов английская революция была не
чем иным, как религиозной войной. Они забыли,
что даже для того, чтобы осуществить этот
классовый компромисс, потребовались многие годы
кровавой гражданской войны. С их точки зрения, этот
классовый компромисс был равнозначен акту
центральной власти, то есть короля, положившему
конец войне между религиозными фанатиками.
Руководствуясь подобной социальной
идеологией и находясь в аналогичных социальных
условиях, просветители — мы имеем в виду тех,
которые творили до 1789 года, то есть до
непосредственной революционной ситуации,— не могли
рассматривать революцию иначе, как катаклизм,
прерывающий непрерывность эволюции.
Являясь представителем постепенно
формировавшегося революционного блока буржуазии и
народных масс, Дидро, разумеется, не мог целиком
отделаться от такой концепции, хотя, как это мы
уже видели и увидим в дальнейшем, его мысль и
его позиция, его эволюция как человека и
философа существенным образом определялись
широкими народными массами. Поэтому принцип
непрерывности, даже в применении к природе, являлся
для него фактом, исключавшим революцию и
придававшим ей отрицательное значение переворота.
133
«Люди ошибаются, если думают, что результат
останется тот же, если произведение
интенсивности действия на время применения останется
одним и тем же. Только лишь применение
постепенное, медленное и беспрерывное оказывает
трансформирующее действие. Всякое другое применение
действует разрушительно» К
А в «Предисловии» к VIII тому
«Энциклопедии» Дидро определенно касается вопроса о
социальной революции: «Пусть переворот, который
пускает росток в какой-нибудь неизвестной
области земли или тайно замышляется в самой средине
цивилизованных стран, вспыхнет со временем,
разрушит города, рассеет новые народы и снова
водворит невежество и мрак,— если сохранится хоть
один целый экземпляр этого труда, то не все
окажется погибшим»2. И далее он пишет: «О, если бы
всеобщее просвещение двигалось вперед
настолько быстро, что через двадцать лет в тысяче наших
страниц не нашлось бы ни одной строчки, которая
не была бы доступной всем! Властителям мира
надлежит торопить такую революцию, только они
расширяют или суживают кругозор знаний.
Блаженны те времена, ..когда они все поймут, что их
благополучие — это повелевать просвященными
людьми!»3.
При чтении этих строк создается впечатление,
что Дидро признавал лишь один вид революции:
революцию, которая осуществляется сверху и
которая, собственно, не является революцией. Идея
этого преобразования, предпринятого свыше, по
воле монарха, являлась самой стойкой иллюзией
мыслителей эпохи просвещения, которые с этой
точки зрения были далеко не просвещенными.
Являясь идеалистами в своих взглядах на историю,
они были так глубоко убеждены во всемогуществе
разума, что считали возможным завоевать даже
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. I, стр. 328.
2 Там же, т. VII, стр. 79.
3 Там же, стр. 80.
134
разум монархов, что якобы было бы достаточным
для того, чтобы решить все проблемы. Мудрец на
троне, государь-философ — вот deus ex machina
мыслителей просвещения. Потребовалась
плебейская дерзость и неустрашимость мысли Дидро,
чтобы до революции развенчать эту иллюзию.
Между тем Бурбоны упорно не порождали столь
желанного монарха-философа. Великие
французские просветители отправлялись за границу в
надежде найти там такового. Вольтер отправился в
Берлин, чтобы там философствовать с Фридрихом
Великим,— он не подозревал, какие неудачи там
его ждут! — и пытался даже убедить Дидро
приехать туда, чтобы завершить «Энциклопедию». Он
называл Екатерину II Северной Семирамидой... ту
самую Екатерину II, которой несколько позднее
Пушкин дал более удачную характеристику:
«коронованный Тартюф в юбке», поскольку она
потчевала философов чистейшими измышлениями.
Своему главному педагогическому произведению «О
человеке» Гельвеций предпослал следующие слова:
«Екатерина II, Фридрих желают стать любимцами
человечества; они понимают цену истины; они
побуждают говорить ее; они ценят также и усилия,
делаемые, чтобы ее открыть. Таким государям я
посвящаю этот труд; они должны просветить мир» 1.
Мы видим, однако, что характерным для Дидро
является не обращение к верхам, а, наоборот,
обращение к народным массам, и в первую очередь
к городским рабочим.
Эта «просветительская» иллюзия, имевшая под
собою, бесспорно, историческую почву, не всегда
являлась абсолютной иллюзией. Восхваление
монарха, которое берет свое начало у итальянских
гуманистов XV века, нашло выражение в следующем
столетии во взглядах мыслителей других
европейских стран. Однако как бы утопичны ни были пер-
1 К. А. Гельвеций, О человеке, его умственных
способностях и его воспитании, Соцэкгиз, 1938, стр. 3.
135
воначальные надежды гуманистов на монархов,
они тем не менее имеют реальное основание в той
мере, в какой центральная королевская власть
действительно означала значительный прогресс по
сравнению с варварской раздробленностью при
феодализме, с его бесконечными распрями и
раздорами между царьками различных рангов.
Гуманисты, следовательно, имели некоторое основание
рассматривать королевский двор как центр новой
цивилизации. Это относится в особенности к
Франции, где абсолютная монархия была вначале, как
это отмечает Маркс, очагом цивилизации и
средоточием социального единства. Абсолютная
монархия была горнилом, где соединялись и
перемешивались различные элементы общества таким
образом, что оказывалось возможным для городов
обменять свою местную автономию и свои
средневековые привилегии на установление всеобщего
господства среднего сословия и широкое
проникновение влияния буржуазного общества.
Разыскивая монарха-философа, просветители
стремились на деле к возобновлению союза между
буржуазией и центральной властью: они желали
более тесного союза, чем тот, который существовал
в период установления центральной власти, в
восходящий период абсолютной монархии. Этот новый
союз был призван, по их убеждению, смести
феодализм и его представителей. И в интересах этого
политического единства они требовали от
королевской власти ни больше, ни меньше, как взорвать
свои собственные социальные устои. (Отметим
попутно, что эти иллюзии еще очень прочно
удерживались вплоть до первого периода революции,
точнее, вплоть до попытки Людовика XVI к бегству.
Депутаты плакали от умиления, когда
Людовик XVI появился в Учредительном собрании и
расточал обещания, которые он и не помышлял
выполнять. И, как известно, даже Робеспьер
освободился от роялистских иллюзий лишь в ходе
революции.)
136
Таковы, следовательно, те основания, на
которых покоились у Дидро попытки пропаганды,
обращенной к верхам. В своих работах он не раз
упоминает Генриха IV, крупную фигуру
централизованной и консолидировавшейся королевской
власти, автора Нантского эдикта, гарантировавшего
легальный статут гугенотской буржуазии. И вот
в каких выражениях в одном из своих писем к
Софи Воллан Дидро противопоставляет его
Людовику XVI, который отменил этот же Нантский
эдикт: «Среди сада,— отдавая должное
восхищение Ленотру, в чем я не мог ему отказать, ибо это,
кажется, его создание, его шедевр,— я воскресил в
памяти своей Генриха IV и Людовика XVI.
Последний- показывает первому великолепное здание,
а тот говорит: «Вы правы, сын мой, это весьма
красиво; но я хотел бы посмотреть на дома моих
бедных гонесских крестьян». Что подумал бы он,
если бы увидел вокруг этих огромных и пышных
дворцов людей, не имеющих ни крова, ни хлеба,
живущих в нищете!» 1
Вот в чем суть демократизма Дидро. Сейчас
можно понять, что все его попытки обращаться к
верхам ничего не меняют. Маркс был прав,
отмечая, что работам просветителей была присуща
«аристократическая оболочка», но совершенно
очевидно, что у Дидро эта оболочка была весьма
прозрачной, и было бы глубоким заблуждением не
замечать плебейской основы, которая постоянно
прорывается наружу.
Эта плебейская основа ярче всего проявляется
в отождествлении эксплуатируемых масс с
нацией. Труды Дидро наглядно свидетельствуют о
его французском патриотизме. Но Вольтер был
патриотом, так же как и Гольбах, друг Дидро
и идеолог консолидировавшейся буржуазии.
Однако у Вольтера и Гольбаха защита интересов нации
осуществлялась лишь в той мере, в какой она со-
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. VIII, стр. 303.
137
впадала с защитой интересов буржуазии. Дидро
же становился выразителем интересов буржуазии
лишь в той степени, в какой они совпадали с
интересами нации и трудящихся масс. Вольтер и в
какой-то степени Гольбах также отождествляли
нацию с буржуазией. Поэтому в «Философском
словаре» Вольтера этот принцип сформулирован явно
в буржуазном духе: «Человеческий род может
существовать лишь при наличии достаточного
количества рабочих рук, лишенных собственных орудий
труда», а это означает, другими словами, что
капиталистическое общество может существовать,
лишь располагая достаточным количеством
рабочих рук, лишенных собственных орудий труда.
(За исключением чрезвычайных обстоятельств,
например нехватка рабочей силы, вызванная
эпидемией, эксплуататор-феодал не желает иметь
рабочих, у которых нет орудий труда; ему нужен
крестьянин с его скотом, его землей и т. д.)
Проницательность Гольбаха простиралась лишь
настолько, что он видел источник всех зол в
обществе во властолюбии тупой феодальной солдатни,
желавшей управлять добрыми и кроткими
ремесленниками и торговцами. Дидро впервые
отождествил нацию с трудовым и эксплуатируемым
народом. Это отождествление явилось органической
частью всей его деятельности, хотя над ним еще
тяготела иллюзия правителя-мудреца. В
небольшой статье «Энциклопедии» Дидро писал:
«Поденщик— это рабочий, который работает своими
руками и который получает поденную плату. Этот
вид людей составляет большую часть нации, и
именно его судьбу хорошее правительство должно
иметь главным образом в виду. Если этот
поденщик беден, то бедна и нация».
Этот плебейский демократизм рано или поздно
должен был полностью освободиться от
аристократической оболочки. И произошло это вскоре после
того, как Дидро побывал при дворе Екатерины II.
Начиная с Нежона, маленького сеида великого
138
мыслителя, все последующие биографы, вплоть до
современных, любят выдавать произведение Дидро
«Принципы политики правителей», в котором
автор начисто порывает с иллюзией просвещенного
монарха, то есть с наиболее стойким воззрением,
еще сохранявшимся в умах философов того
времени, за сочинение, направленное исключительно
против Фридриха II. Фридрих II, которому до этого
Дидро возносил похвалы, получил, конечно, по
заслугам. Но надо быть слепым, чтобы не видеть,
что это суровое суждение о политических
принципах правителей обязано своим появлением прежде
всего опыту, почерпнутому при дворе
«коронованного Тартюфа в юбке», позволившему Дидро
окончательно освободиться от остатков иллюзий,
сохранявшихся у него на этот счет. Дидро очень хорошо
понял, что, обращаясь к монарху со своим
проектом реформ, он глаголет в пустыне. Биографы
Дидро, возможно, думают, что он случайно сделал
намек на то, каким образом Екатерина взошла на
трон. (Афоризмы XXVIII и XXIX.) Может быть,
они полагают, что Дидро из своего пристрастия к
абстрагированию начинает видеть в личности
царицы только царицу и не говорит о ней как о
поэте, как в свое время он говорил о Фридрихе II
или о женщине-философе, имея в виду
Екатерину II, тогда, когда он еще не знал ее? «Монарх —
ни отец, ни сын, ни брат, ни родственник, ни
супруг, ни друг. Кто же он? Монарх, даже когда он
спит». Фамильярность отношений между Дидро и
императрицей,— биографы Дидро из числа снобов
говорят с трепетом ужаса (например, о том, что
он позволял себе положить руку на колено
императрицы, которая при этом нисколько не теряла
своего достоинства),— не только не помешала, а,
напротив, помогла извлечь из этого знакомства
соответствующие выводы: «Никогда не отделять
монарха от личности. Какую бы фамильярность
ни позволяли нам великие люди, как бы они,
казалось, ни давали нам забыть об их положении,
139
никогда не следует ловить их на слове». Может
ли этот афоризм относиться к Фридриху II,
которому Дидро никогда не клал руку на колени,
потому что он его никогда не видел?
«Принципы политики правителей» — это
произведение критичное и самокритичное. Дидро в
нем подвергает сокрушительной критике иллюзию
о просвещенном монархе и самого себя — равно как
и своих единомышленников — за то, что
способствовал поддержанию этой иллюзии. «Надо, чтобы
тебя хвалили, и это нетрудно. Литераторов
развращают за недорогую плату; побольше
приветливости и ласки и немного денег».
Дидро не вкладывает эти «Принципы» в уста
Фридриха или Екатерины, а заставляет
абстрактного правителя произносить их. Этот факт
постоянно истолковывается как знак того, что Дидро
хотел якобы пощадить Фридриха II. Мы же не
думаем, что Дидро намеревался пощадить Фридриха
или Екатерину. Обобщение, которое он в данном
случае допускает, означает попросту то, что
политические принципы всех правителей, включая и
правителей-философов, таковы, как они здесь им
изложены.
Но Дидро не довольствовался тем, что
заставлял говорить воображаемого правителя. Он сам
делал из этого соответствующие выводы — часто в
комментариях, сопровождающих формулируемый
принцип. Каковы же были эти выводы? Прежде
всего возьмем хотя бы такой вывод: «В
«Политике» Аристотеля мы читали, что в его время в
некоторых городах клялись в ненависти к народу.
Это имело место повсюду. Но клянутся уже в
обратном. Этот цинизм просто непостижим». И вот
какое следует отсюда заключение: «Когда народ
хочет быть свободным, а король хочет управлять—
это нескончаемая война». Исходя из этих
соображений, Дидро недвусмысленно подчеркивает
историческую необходимость насилия: «При любом
правительстве единственное средство завоевать
140
свободу —это всем стать солдатами; следовало
бы, чтобы жители в любых условиях имели два
вида одежды: одежду, соответствующую их
сословному званию, и военную одежду. Ни один из
правителей не усвоил этого». Здесь Дидро впервые
извлекает подлинный урок из революции в Англии
и из казни короля Карла I: «Публичная расправа
с'королем изменила умонастроение нации раз и
навсегда».
Дидро, таким образом, по-плебейски и
по-революционному расправился с иллюзией о монархе-
философе. Новое здесь заключается не только в
одобрении революционного насилия, но и в
отождествлении просвещенного монарха с тираном.
Начиная с 1758 года мы находим в высказываниях
Дидро одобрение революции и революционного
насилия, но одновременно с этим у него можно найти
и призывы к мудрости монархов, упования на
мирный ход эволюции. Весьма примечательно то, что,
по убеждению Дидро, эволюция и революция
совершаются параллельно и независимо одна от
другой, не сливаясь в единый диалектический процесс.
Дидро не учитывал того, что эволюция
подготовляет революцию, которая в свою очередь служит
отправным пунктом новой эволюции на более
высоком ее уровне. Однако он приближался к этой
диалектической концепции, так как не считал
революцию некой катастрофой или нарушением
деятельности общества. Напротив, он видел в ней
историческую очистительную бурю, призванную
вымести весь мусор, накопившийся на протяжении
столетий.
В 1771 году парижский парламент, орган
буржуазии, разбогатевшей на банковских операциях
и производстве скверного туалетного мыла, оплот
абсолютистского строя, хотя и не без
некоторых поползновений к оппозиции, вступил в
конфликт с этим строем. Дидро, который очень
хорошо знал, что ничто не является более чуждым
этому парламенту, чем защита прав народа, и кото-
141
рый однажды назвал его более реакционным и
злобным, чем иезуиты, высказал мысль о том, что
абсолютистский строй начинает превращаться в
незамаскированную тиранию, поскольку
отменяются различные привилегии, которые до сих пор
служили предохранительным клапаном. Полный
революционного нетерпения, он пишет княгине
Дашковой следующие пророческие слова: «Каждый век
имеет свой дух, который характеризует его. Духом
нашего века представляется свобода. Первая
атака против суеверий была бурной, неудержимой.
Если уж люди осмелились пойти на штурм такого
могущественного и почитаемого оплота, как
религия, то их не остановишь. После того как люди
обратили свои угрожающие взоры на небесного
владыку, они не остановятся перед тем, чтобы через
некоторое время обратить их на земных владык.
Канат, которым связывают и угнетают
человечество, состоит из двух веревок; только тогда, когда
будет разорвана одна, возможно освободиться от
другой». Дидро всегда гордился тем, что он был
человеком, верно понимавшим свою эпоху. «Время
всегда в конце концов присоединяется к моим
вкусам и к моим взглядам...» Из вышеприведенного
отрывка действительно явствует, что Дидро видел
в революции завершение эволюции,
происходившей на его глазах. В заключение своего письма к
княгине Дашковой он добавляет, уточняя мысль,
высказанную выше: «В самом деле,
представляется, что любой вещи, как добру, так и злу, присуща
своя пора зрелости. Если добро достигает своего
высшего совершенства, оно начинает превращаться
в зло; когда зло достигает своей полноты, оно
переходит в добро».
Дидро, как и Руссо, был мыслителем своей
эпохи, стремившимся дать теоретическое
оправдание революции. И он это сделал в одной из статей
«Энциклопедии», не заботясь о том, какому риску
он себя подвергал: «...Народ может быть угнетаем
своим правителем, один народ может угнетать дру-
142
гой. Флешье говорит, что для угнетателей свободы
народов нет большой опасности; но это только на
первых порах. С течением времени они теряют
всякие чувства, становятся жестокими и доходят до
преклонения перед тиранией и обожествления
самых жестоких своих действий. Тогда для нации не
остается никаких путей, кроме великой революции,
которая приводит к ее возрождению. Ей
необходим кризис». Этот отрывок из «Энциклопедии»
является, собственно говоря, единственным во всей
дореволюционной французской литературе, где
революция рассматривается совершенно определенно
и без обиняков как необходимое условие
национального обновления.
Небезынтересно отметить, что в
противоположность Руссо, который оправдывал революцию с
точки зрения естественного права, Дидро
оправдывал ее при помощи аргументов морального
характера, указывая на необходимость нравственного
возрождения нации. В период формирования
центральной королевской власти, затем во время
абсолютной монархии юристы восходящего класса —
буржуазии — главным образом с целью защиты прав
третьего сословия, то есть буржуазии,
всесторонне обосновали теорию права на
сопротивление. Эта теория признавала за сословиями право
оказывать сопротивление, в случае необходимости
с оружием в руках, центральной власти,
переродившейся в тиранию. Революционный характер
этой теории особенно явственно выступал, когда
ее связывали с принципом народного
суверенитета, как это делали теоретики английской
революции Мильтон и Олжернон Сидней, работы которых
малоизвестны. Теоретическое оправдание
революции у Руссо — на этом мы здесь не будем
останавливаться— базируется на праве сопротивления.
Его основное отличие, которое, кстати, служило
основой совершенно новых юридических
построений, состояло в том, что у Руссо эта теория
трактовалась в духе революционной мелкой буржуа-
143
зии, что придавало всем ее элементам
дотоле.неизвестный радикальный смысл. Дидро же
оправдывал революцию при помощи юридических
построений, аналогичных аргументам Руссо, но
несколько менее последовательных (см. статьи
«Политическая власть» и «Представительство»
«Энциклопедии» и др.)- Мы, однако, полагаем, что
Дидро, открыто говоря о революции, вместо
политической аргументации предпочитал ссылаться на
необходимость национального обновления.
Какое значение имеет это отличие? Оно вкратце
заключается в том, что, по мысли Дидро,
революция не должна с необходимостью приводить к
возникновению нового общества, основанного на
новых юридических устоях, поскольку Дидро
рассматривал кодифицированное право как
выражение частной собственности. За три года до Ленге —
вся глубина которого, по мнению Маркса, уже
выражена в одном его замечании против Монтескье:
«Собственность — вот дух законов»,— то есть в
1764 году, Дидро, полемизируя с реакционным
священником, написал следующие слова по поводу
источника и основы законов: «Имели ли люди,
прежде чем создавать свои законы, понятия о
справедливости и возникли ли эти законы на основе
именно этих понятий? Чтобы решить этот вопрос,
проанализируем, как должны были сформироваться
первые законы. Именно собственность,
приобретенная трудом или на основе права первого
захватчика, породила первую .потребность, в законах. Два
человека, каждый из которых засевал свое поле
или окружал рвом свой участок и говорил
другому: «Не трогай моего зерна или моих плодов, и я
не трону твоих»,— были первыми законодателями.
Предполагали ли подобные соглашения
существование каких-либо понятий о справедливости?
И требовались ли для их создания другие знания,
кроме понимания их общего интереса? Думается,
что нет. Каким же образом возникли идеи
справедливости и несправедливости? Они сформирова-
144
лись в их умах в результате соблюдения и
несоблюдения соглашений. Первое получило
наименование справедливости, второе — несправедливости»
(«Введение к великим принципам...»).
Отмечаемая Дидро связь между частной соб-.
ственностью и позитивным правом, то есть
законами, объясняет, почему именно в толковании
понятия равенства ярче всего проявляется различие
между буржуазным и «плебейским»
направлениями в дореволюционной французской философии.
Вольтер и все его соратники по борьбе во весь
голос призывали к равенству. Но в их понимании
равенство являлось лишь формальным равенством в
правах, подобным тому, которое клеймил Анатоль
Франс, когда он писал, что закон запрещает как
безработным, так и миллионерам спать под
мостами. Руссо вообще считали самым решительным
борцом за действительное равенство, то есть
равенство экономическое и политическое, и наиболее
ярым противником частной собственности. Когда
говорят о такой работе Руссо, как его
«Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства
между людьми», это мнение не лишено оснований.
(Однако было бы ошибкой забывать, что сам
Руссо в своей «Исповеди», говоря о «Рассуждении...»,
заявил: «...Это произведение более, чем другие, в
духе Дидро, и его советы были для меня весьма
полезны». Это уточнение касается, очевидно, не
только формы, но прожде всего содержания, так
же как это имело место и в отношении
предыдущей работы Руссо, получившей премию Дижон-
ской Академии наук, идея которой была
подсказана ему Дидро.) Хотя тема «Рассуждения...» Руссо
очень живо обсуждалась современниками, однако
тогда не были замечены противоречия между его
высказываниями в этом произведении и в его
«Общественном договоре». В самом деле, тогда как в
первом ставился вопрос о полном упразднении
частной собственности, второй исходил из
предпосылки, что частную собственность уничтожить не-
10-641
145
возможно, а можно лишь в какой-то степени
произвести ее уравнение. Именно этим стремлением
сохранить частную собственность и объясняется
то, что Руссо прибегал к юридическим
построениям для оправдания революции. Идея
сохранения и даже освящения частной собственности
при ее более или менее уравнительных формах
соответствовала интересам революционной мелкой
буржуазии, и, разумеется, не случайно, что
Робеспьер, великий революционный вождь мелкой
якобинской буржуазии, поехал к Руссо, чтобы
познакомиться с ним. Став у власти, Робеспьер именно
в трудах Руссо находил свое идеологическое
оружие: это относится как к его уравнительным и
мелкобуржуазным тенденциям, так и к культу
Верховного Существа.
Идеи уравнительности не были также чужды и
Дидро, но они не являлись его окончательными
убеждениями. «Богатство нации составляет
совокупный продукт суммы всех работ, остающийся
сверх издержек на оплату рабочей силы. Чем
больше чистый продукт и чем равномернее он
распределяется, тем лучше правительство. Чистый
продукт, равномерно распределяемый, может быть
предпочтительнее большего чистого продукта, но
неравномерно распределяемого и приводящего к
делению народа на два класса, один из которых
поглощает все богатства, а другой прозябает в
нищете».
Прогрессивное и радикальное развитие
стремления философов прошлого положить конец
экономическому и социальному неравенству людей
привело их к революции, к идее упразднения классов
и гнета частной собственности. Здесь идет речь,
разумеется, не о чистой и логической идее
уравнительности, а о глубоком выражении насущных
запросов, определяемых революционными
устремлениями городских эксплуатируемых масс, и о
предвосхищении противоречий нарождавшегося
капитализма. Первым выражением этой новой доктрины
146
был аскетический коммунизм, презиравший
радости жизни и возрождавший традиции древней
Спарты, подчеркивает Энгельс, говоря о
мыслителях-коммунистах XVIII века, таких, как Морелли
и Мабли.
Известно, что появившийся без подписи вскоре
после выхода в свет «Рассуждения...» Руссо
«Кодекс природы» Морелли, где он излагал свое
коммунистическое учение, вначале приписывали
Дидро. Это мнение было опровергнуто лишь при
Реставрации. Хотя авторство Морелли было гораздо
более вероятным, однако не случайно все
первоначально предполагали, что это произведение
принадлежит перу Дидро. Ибо именно он, как и Лен-
ге, глубоко задумывался над противоречиями
нарождавшегося капиталистического общества,
которые он подмечал не только в области морали,
что отражено особенно в «Племяннике Рамо», но
и при изучении условий жизни рабочих. «...Есть
много профессий в обществе, которые утомляют
до крайности, быстро истощают силы и сокращают
жизнь, и какова бы ни была плата, получаемая за
работы, вы не можете ни воспрепятствовать
бесконечным жалобам рабочих, ни признать их
несправедливыми. Думали ли вы когда-нибудь о том,
сколько несчастий, увечий и смертей влечет работа
в рудниках, изготовление свинцовых белил, сплав
леса, очистка выгребных ям? Но не только страх
перед нищетой, забитость могут заставить
человека выполнять эти работы... возможно, бедных
нужно было бы поставить в положение богатых, а
богатых— в положение бедных. Тунеядцы
объедаются питательными блюдами, а человек труда пьет
воду и ест один хлеб... Рудники Гарца скрывают в
своих глубинах тысячи людей, которые едва ли
видели солнечный свет и которые редко доживают
до тридцати лет... Сколько мастерских в самой
Франции менее многолюдных, но почти столь же
гибельных... Человек объединяется с себе
подобными для более успешной борьбы против своего по-
10*
147
стоянного врага — природы... Он нашел, что
хижина удобнее, чем пещера, и стал жить в хижине;
очень хорошо, но какая огромная дистанция
между хижиной и дворцом!»
Здесь идет речь о противоречии между
богатством и бедностью в недрах нарождавшегося
буржуазного общества. Дидро совершенно
определенно говорит здесь о наемных рабочих,
предшественниках современного пролетариата. Анализ их
положения позволил ему сделать вывод о том, что
современное ему общество не способно
гарантировать свободное развитие человеческой природы.
Человеческая природа — важная категория у
мыслителей революционной буржуазии. Не сумев
понять в основном социальный характер
человеческой жизни, они рассматривали индивид не как
продукт социальной эволюции, а в соответствии с
буржуазным индивидуализмом — как продукт
природы. Чтобы доказать вечность буржуазного
общества, они представляли его как социальный строй,
который лучше всего соответствует этой
абстрактной человеческой природе. Дидро также
обращается к этой обескровленной идее абстрактной
человеческой природы. Но, столкнувшись с
противоречиями буржуазного общества, он уже не считал,
что цивилизация и частная собственность по
необходимости представляют тот социальный строй,
который лучше всего соответствует человеческой
природе. Его «Добавление к «Путешествию» Бу-
генвилля» знаменует возвращение к первобытному
коммунистическому обществу. Но это возвращение
представляло собою также поиски путей,
уводящих за пределы общества, основанного на частной
собственности. Разумеется, только поиски, а не
открытие этих путей.
Желая оправдать будущее, буржуазные
мыслители действуют совершенно логично, когда они
ссылаются на прошлое. Если человек есть продукт
природы, то человек природы, предшествующий
цивилизации, представляет человеческую природу
148
во всей ее «чистоте». «Дикарь» XVIII века, это
дитя природы, нисколько не похож, несмотря на
все усилия буржуазных историков литературы
доказать это, на фантастических обитателей Марса
или Луны, описываемых в произведениях XIX века.
«Дикарь» XVIII века — прогрессивное явление,
хотя следует различать, с точки зрения какого
класса оно оценивается. Вольтеровский Гурон,
выступая с позиций буржуазного разума, критикует
прошлую цивилизацию, предшествовавшую
буржуазному обществу, «дикарь» Руссо —
плебей-статист, который не представляет будущего и
исчезнет со сцены в конце первого акта; у Дидро дитя
природы подвергает критике общества, основанные
на частной собственности, в том числе и
буржуазное общество; личность призвана выполнить
определенную роль в будущем, которое сам Дидро не
очень ясно себе представлял. Образ дикаря
эволюционировал от Вольтера через Руссо и затем
Дидро. Поверхностная вначале критика цивилизации
постепенно приобретала глубокий социальный
характер, затрагивая даже устои частной
собственности. Не следует забывать, что открытие
существования первобытного коммунистического общества в
Америке и на архипелагах Тихого океана, так
поразившее европейцев, ошеломило не одного
исследователя превосходством древней демократии и
организацией семьи, столь отличной от привычной
им организации и столь непостижимой для них.
Прогрессивные мыслители следили с восхищением
за героической борьбой индейцев против
европейцев, с ожесточением стремившихся подавить и
истребить их при помощи различных видов оружия
и соблазнов современной цивилизации. Проблема
первобытного общества завладела умами;
выдающийся шотландский ученый Адам Фергюсон
высказал довольно глубокую идею о первобытном
коллективизме.
Описание первобытного общества, которое
Дидро дает в своем «Добавлении к «Путешествию»
149
Бугенвилля», было навеяно ему действительностью,
но действительностью непостижимой, увиденной
Бугенвиллем. Он рисует образ жизни туземцев
Таити, у которых отношения между полами были
свободными от всяких ограничений и регламента-
ций, как это сказано у Энгельса, то есть
свободными от всех стеснений, установленных позднее
моралью. Маловероятно, чтобы это был подлинный
образ Таити второй половины XVIII века. Там
действительно была обнаружена форма семьи,
названная punalua, в которой наименование
различных степеней родства напоминало эпоху самых
беспорядочных отношений между полами.
Величие мысли Дидро состоит и в том, что он не
позволял себе рассматривать эти условия как
беспорядок, что было обычным до Энгельса и Моргана.
Из этого следует, во-первых, что он порвал с
представлением, разделявшимся просвещенными
мыслителями его века, согласно которому женщина в
период возникновения общества была рабыней
мужчины, и, во-вторых,— здесь его внимание было
устремлено в будущее,— что он противопоставлял
свободу женщины первобытного общества ее
рабскому угнетенному положению в моногамной семье
обществ, базирующихся на частной собственности.
(Основанная на праве частной собственности и
праве наследования, буржуазная моногамия
нисколько не сходна с моногамией социалистической
семьи, которая зиждется на упразднении частной
собственности и свободном выборе супругов, что и
обусловливает прочность их союза.) Дидро очень
хорошо понимал, что в обществе, основанном на
частной собственности, женщина становится
объектом купли и продажи: «Разве ты не понимаешь,
что в твоей стране ту вещь, которая не обладает
ни чувствительностью, ни мыслью, ни желанием,
ни волей, которую покидают, берут, хранят,
обменивают без страдания и без жалоб с ее стороны,
смешали с вещью, которую нельзя обменять,
нельзя приобрести; которая обладает свободой, волей,
150
желанием; которая может отдаваться или не
соглашаться отдаваться на время, навсегда; которая
способна жаловаться и страдать и которая не
может стать предметом торговли без насилия над
природой и над ее свойствами?»1 Исходя из этого
соображения, Дидро подвергал глубокой и острой
критике буржуазное общество и проституирование
буржуазной семьи, которое тщетно пытаются
скрыть лицемерными фразами. Он подчеркивает,
что, тогда как в обществе, основанном на частной
собственности, появление ребенка и связанные с
этим заботы, представляются нежелательными, в
обществе, основанном на коллективной
собственности, ребенок является источником индивидуального
и общественного блага. Такая критика позволяет
считать Дидро непосредственным
предшественником Фурье. Энгельс отмечает огромную заслугу
последнего в том, что он сумел направить острие
своей критики против «буржуазной эволюции
отношений между полами» и тех условий, в которые
поставлена женщина в буржуазном обществе. Он
первый также высказал мысль, что в каждом
обществе степень эмансипации женщины служит
естественным мерилом общей эмансипации. Дидро
не дает четкой формулировки этой идеи, но дух
его высказываний вполне соответствует ей.
Дидро не ограничился утверждением, что
женщина не является частной собственностью, но
вскрыл социальные основы этого факта:
«Работы и жатва производились там сообща. Слово
собственность имело там очень ограниченный
смысл»2. Старик таитянин говорил Бугенвиллю:
«Здесь все принадлежит всем, а ты проповедывал
нам какое-то неизвестное различие между твоим и
моим... Ору! Ты знаешь язык этих людей; скажи
нам всем, как ты это сказал мне, что они написали
на этой металлической пластинке: «Эта страна
1 ДениДидро, Собр. соч., т. II, стр, 53—54.
2 Там же, стр. 73.
151
принадлежит нам». Эта страна принадлежит тебе!
Но почему? Потому что ты высадился на берег ее?
Что бы ты подумал, если бы какой-нибудь
таитянин высадился вдруг на ваших берегах и начертал
на одном из ваших камней или на коре одного из
ваших деревьев: «Эта страна принадлежит
жителям Таити»?» К На протяжении всего этого
произведения подчеркивается противоположность между
моральным превосходством этого
коллективистского общества и позорными гнусностями общества,
основанного на частной собственности, которая
приводит к рабству и истреблению целых народов.
Совет, который дает европейцу туземец, может
быть претворен в жизнь — Дидро не оставляет
никаких сомнений на этот счет — только в обществе,
основанном на общественной собственности:
«Хочешь ты знать,— везде и всегда,— что хорошо и
что дурно? Для этого обрати внимание на
природу вещей и поступков, на свои отношения к
ближним, на влияние, оказываемое твоим поведением
на твою частную выгоду и на общее благо. Ты
предаешься бредням, если воображаешь, что
существует что-нибудь во вселенной,— на небе или на
земле,— что можно прибавить или отнять от
законов природы.- Неизменная воля природы гласит,
что следует предпочитать добро злу и общее
благо— частному благу»2.
После всего сказанного выше становится
понятным, почему Дидро в противоположность Руссо
предпочитал оправдывать революцию моральными
аргументами, именно необходимостью морального
возрождения нации, а не юридическими
категориями. Рассматривая позитивное право и закон,
который его резюмирует, как выражение частной
собственности, Дидро оставлял открытой возможность
революции, которая вместо замены одной формы
■■'лаза другой, то есть одной формы частной собст-
1 Ден-и Дидро, Собр. соч., т. II, стр, 43.
2 Там же, стр. 55—56.
152
венности другой, упразднила бы всякую частную
собственность и восстановила «действительную
природу человека» и его естественные права путем
отмены позитивного права. Именно в этом духе
следует понимать слова героя поэмы Дидро «Les
Eleutheromanes». Это дитя природы, готовое
сбросить с себя цепи частной собственности и рабства,
говорит:
«Природа не творит господ или рабов,
Законы ни писать я не хочу, ни чтить.
В один тугой шнурок сплетем кишки попов,
Чтоб ими королей последних удавить...».
Нужно ли говорить, что не из кишок тех
священников, которые были друзьями прогресса,
Дидро намеревался сплести веревку на шею королей.
Это было бы, разумеется, весьма слабой
компенсацией за зло, причиненное угнетением и ограблением
миллионов трудящихся. Дидро был другом и
соратником по оружию Праде и Кондильяка,
священников, выступавших против обскурантизма.
Важнейший смысл процитированного выше
четверостишия состоит в том, что Дидро одобрял
создание путем революционного насилия общества,
основанного на упразднении частной собственности.
1789 год — год буржуазной революции. Но эта
революция уже породила надежды на то, что
равенство должно привести к ликвидации классов.
Однако начиная с «бешеных», включая эбертистов
и кончая Бабефом, который стремился найти
поддержку исключительно у пролетариата, движение
плебейских элементов в городах опиралось на
Дидро, а не на Руссо. Бабеф называл Дидро
«нашим мудрым и главным предшественником».
Возможно, некоторые станут утверждать, что здесь
допускается историческая ошибка, так как если
Бабеф и упоминает Дидро, то в действительности он
цитирует все время книгу Морелли, авторство
которой приписывалось Дидро. Но совершенно
очевидно, что Бабеф знал и другие произведения
Дидро, прежде всего его «Добавление к «Путеше-
153.
ствию» Бугенвилля», которое распространялось в
многочисленных списках и которое, по мнению
реакционного священника Бурле де Вокселя, было
известно также эбертистам. Далее, этот же Бурле
де Воксель выпустил в свет одно издание этой
книги в 1796 году, незадолго до ареста бабувис-
тов.. Наконец, не следует забывать, что первые две
строки приведенного четверостишия служили
девизом заговора Бабефа.
Однако невольно при этом напрашивается
вопрос: Имел ли Бабеф основание, учитывая всю
совокупность трудов Дидро, считать его
мыслителем, симпатизирующим идеям коммунизма?
Суждения Бабефа о Дидро покоились, разумеется, на
хорошем знании его произведений и не лишены
были оснований; тем не менее надо сказать, что
Бабеф был не совсем прав. В самом деле, нельзя
ставить Дидро в один ряд с мыслителями XVIII
века, сочувствующими идеям коммунизма. Для этого
имеется много оснований. Среди них можно
назвать такие анархистские идеи, как общность жен
или упразднение всякой власти, которые у Дидро
преподносились в качестве основных
коммунистических идей. Вплоть до появления промышленного
пролетариата классовые позиции мыслителей того
времени, симпатизирующих идеям коммунизма,
были противоречивыми, чем и объясняются многие
анархистские идеи. Но чтобы найти
действительные причины этого, требуется специальное
исследование.
Энгельс, вскрыв в своем анализе аскетический,
спартанский характер коммунистической мысли
XVIII века, ее «презрение к жизни», со всей
ясностью показал, что мыслители — коммунисты этого
века строили свои утопии на категориях, в которых
нашли свое преломление нужда и убожество
классового общества. Они не понимали того, что
социалистическое и коммунистическое общество должно
привести к полному изобилию, непрерывное
возрастание которого в Советском Союзе, стране, по-
154
строившей социалистическое общество, служит
предметом восхищения всего мира. Но
необходимым предварительным условием этого изобилия
является высокий уровень развития
производительных сил, который должен быть достигнут при
капитализме. Оно предполагает развитие крупной
современной промышленности и общество, в
котором— это утопист Фурье очень хорошо понимал —
крайняя нищета широких масс порождается не
недостаточностью развития производительных сил
или скудностью материальных благ, а «самим
изобилием». Аскетический характер коммунистической
мысли XVIII века нашел весьма яркое выражение
у Дидро: «Мы обладаем всем, что необходимо и
полезно нам. Неужели мы заслуживаем презрения
за то, что не сумели создать себе излишних
потребностей? Когда мы голодны, у нас есть что
поесть; когда нам холодно, у нас есть во что одеться.
Ты был внутри наших хижин: чего в них не
хватало, по твоему мнению? Гоняйся, сколько хочешь,
за тем, что ты называешь жизненными удобствами,
но позволь благоразумным людям остановиться,
когда они замечают, что могут получить от
продолжения своего тягостного труда лишь мнимые
блага. Если тебе удастся уговорить нас
переступить тесные пределы того, что необходимо, то
когда перестанем мы трудиться?.. Не внушай нам ни
твоих мнимых потребностей, ни твоих
химерических добродетелей»1. Дидро и представители
коммунистической мысли XVIII века поступали
совершенно логично, проповедуя уравнительный
коммунизм с его узкими рамками, предполагающими
удовлетворение самых элементарных потребностей,
который диаметрально противоположен
современному научному коммунизму, .и отрицая,
следовательно, необходимость развития производительных
сил, которое служит, по их мнению, лишь росту
неестественной потребности в предметах роскоши. Их
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. II, стр. 44.
155
коммунистическая утопия в силу необходимости
основывалась на ремесленном производстве. Они
были последовательными в своих убеждениях, во-
первых, потому, что капитализм еще не развил
производительных сил современной крупной
механизированной промышленности, единственно
способных обеспечить изобилие материальных благ,—
во всяком случае, в сравнении с любым
предшествующим экономическим и социальным строем,— и
вследствие этого составляющих необходимую
предпосылку современного социализма, и, во-вторых,
потому, что развитие производительных сил тогда
неизбежно требовало частной собственности, так
же как накопления и сосредоточения средств
производства в руках меньшинства за счет
беспримерного обнищания широких народных масс. Как
коммунисты, они должны были отрицать частную
собственность, а вместе с нею и развитие
производительных сил. И наоборот, если бы они требовали
развития производительных сил, они должны были
бы признать частную собственность, но тогда они
не были бы коммунистами. Прогресс не может
осуществляться иначе, как путем столкновения
противоположностей.
Но как Дидро, который подчеркивал
необходимость связи науки с производством, всемерного
расширения господства человека над природой для
обеспечения изобилия, учитывая непрерывный рост
этого изобилия («bon luxe»), повышение
жизненного уровня народа и общественного
благосостояния,— как он мог отрицать необходимость
развития производства материальных и духовных благ?
Должен ли был Дидро рассматривать их, подобно
:тарому таитянину, как «мнимые потребности» и
«химерические добродетели»? Наверняка нет, хотя
ему становилось все более и более ясным, что
цаже новое общество отказывается предоставить
«bon luxe» женщинам и людям из народа.
Но как мог «плебейский» демократ Дидро,
представитель «другой нации», нации эксплуатируемых,
156.
яростный критик классового общества и частной
собственности, глубоко убежденный в том, что
огромное большинство рода человеческого,
практически все человечество в этом обществе права и
закона, то есть в обществе частной собственности,
«на протяжении веков гнулось под ярмом, которое
осмелилась надеть на него кучка мошенников»,—
как он мог отказаться видеть, что равенство может
быть осуществлено путем упразднения классов?
Нет, он не мог отказаться от этого.
Как же Дидро решил эту дилемму? Он ее не
решил. Вот почему Дидро постоянно колебался
между двумя неизбежными крайностями. То он
становился глашатаем интересов революционной
буржуазии со всеми ее иллюзиями относительно
эволюционизма — и часто идеями
мелкобуржуазной уравнительности, в которые он верил все
меньше и меньше и противоречивый характер которых
он в противоположность Руссо уже начинал
сознавать,— то воплощал революционный дух
плебейских масс, врагов частной собственности. Этим
объясняется также идеализация и восхваление
буржуазной семьи наряду с прямым и полным ее
отрицанием в его литературных произведениях,
которые не являются в данном случае объектом
исследования. Этим также объясняется то, что
Дидро не смог подняться до диалектической концепции
развития, поскольку перерыв постепенности,
качественный скачок и последовательно до конца
понимаемая революция у него устремлены не
вперед, к более высокой ступени, а назад. И в этом
заключается секрет той покорности (resignation),
которая так. явственно сквозит в словах одного из
персонажей «Добавления к «Путешествию» Буген-
вилля», призванного, очевидно, выразить мысли
самого Дидро: «Мне часто приходило в голову,
что сумма добра и зла для каждого индивида
является переменной величиной, но что счастье или
несчастье какой-нибудь животной породы имеет
свой предел, которого нельзя переступить, и что,
157
может быть, все наши усилия дают в конце концов
столько же плюсов, сколько и минусов, так что мы
мучаемся лишь для того, чтобы увеличить оба
члена уравнения, между которыми существует вечное
и необходимое равенство»1. Эта покорность судьбе
далека, однако, от чувства обреченности
современной буржуазии. Собственно говоря, здесь идет речь
об обобщении изложенной выше дилеммы, что не
помешало Дидро до последнего своего вздоха
бороться против феодальной тирании и
поддерживать в угнетенных и эксплуатируемых массах
высокое стремление к полному и окончательному
освобождению.
Дилемма Дидро была неразрешима в условиях
классической буржуазной революции, какой была
Великая французская революция, так как ее
неразрешимое противоречие являлось отражением
самой жизни. Данная дилемма была,
следовательно, поставлена самой жизнью, однако это не
означает, что экономические и социальные основы
общества XVIII века позволяли осуществить
уравнительные утопии. Механизм социальной эволюции
препятствует повороту назад, в прошлое. История
французской революции наглядно показала, что
даже уравнительные и мелкобуржуазные
устремления якобинцев, которые были осуществлены
далеко не полностью (если даже иметь в виду
упразднение классов), были вскоре сметены
стремительным развитием капитализма, который,
однако, не был единственно возможным путем
исторического развития, позволяющим избавиться от
гнусностей. Никакой социальный строй не исчезает,
пока он не разовьет дремлющие в нем
производительные силы; и капитализм, который ныне
находится при своем последнем издыхании и который
вытеснен социализмом более чем на одной шестой
части нашей планеты, еще далеко не выполнил
тогда своей исторической миссии. Дилемма Дидро
1 Дени Дидро, Собр. соч., т. II, стр. 82—83.
158
была выдвинута самой жизнью в том смысле, что
последовательный до конца мыслитель, сердце
которого бьется в унисон с сердцем народных масс и
который может поэтому охватить своим взором
весь исторический горизонт, должен был
неизбежно столкнуться с нею.
Дилемма Дидро была решена социальным
прогрессом, который последовал за революцией.
Появление крупной промышленности и современного
пролетариата, классовые битвы этого пролетариата
и зарождение революционного рабочего движения
открыли путь к созданию такого общества, которое
не довольствуется уровнем развития
производительных сил, достигнутым капитализмом, но
развивает их в такой степени, о которой можно
только мечтать, осуществляет господство человека над
природой, упраздняет классы и становится
свободной ассоциацией свободных людей. Дилемма
Дидро ныне устарела, но это не относится к самому
Дидро, заслуга которого заключается главным
образом в том, что он пытался решить эту дилемму.
И то, что он не смог этого .сделать, объясняется
социальными условиями того времени, ибо лишь
утопические социалисты XIX века начали
предугадывать исторически верный ответ на нее. Что же
касается научного и практического ответа, то он
был дан Марксом, Энгельсом и Лениным. И Дени
Дидро, который с полным правом мог
предоставить решение этой дилеммы будущему, является
единственным из всех крупных французских
материалистов XVIII века мыслителем,
способствовавшим подготовке почвы для социалистической
мысли XIX века.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 5
От автора 9
1. Деизм—неполный разрыв с богом 15
2. Атеистический материализм ........ 26
3. Энциклопедисты, промышленная революция и
классовая борьба 35
4. Новые науки и философия 53
5. Этапы механистического материализма ... 75
6. Материалистическая идея эволюции .... 91
7. Ограниченность механистической идеи эволюции 109
8. Дилемма Дидро 132
Йожеф Сигети
ДЕНИ ДИДРО —ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ВОИНСТВУЮЩЕГО МАТЕРИАЛИЗМА XVIII ВЕКА
Художник А. П. Купцов
Художественный редактор И. И. Каледин
Технический редактор Л. М. Харьковская
Сдано в производство 18/IX 1963 г.
Подписано к печати 25/IX 1963 г.
Бумага 84X108732 = 2,5 бум. л. 8,2 печ. л.,
Уч.-изд. л. 7,2. Изд. № 9/2355. Зак. № 641
Цена 43 к.
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1-й Рижский пер., 2
Московская типография № 8
Управления полиграфической промышленности
Мосгорсовнархоза
Москва, 1-й Рижский пер., 2