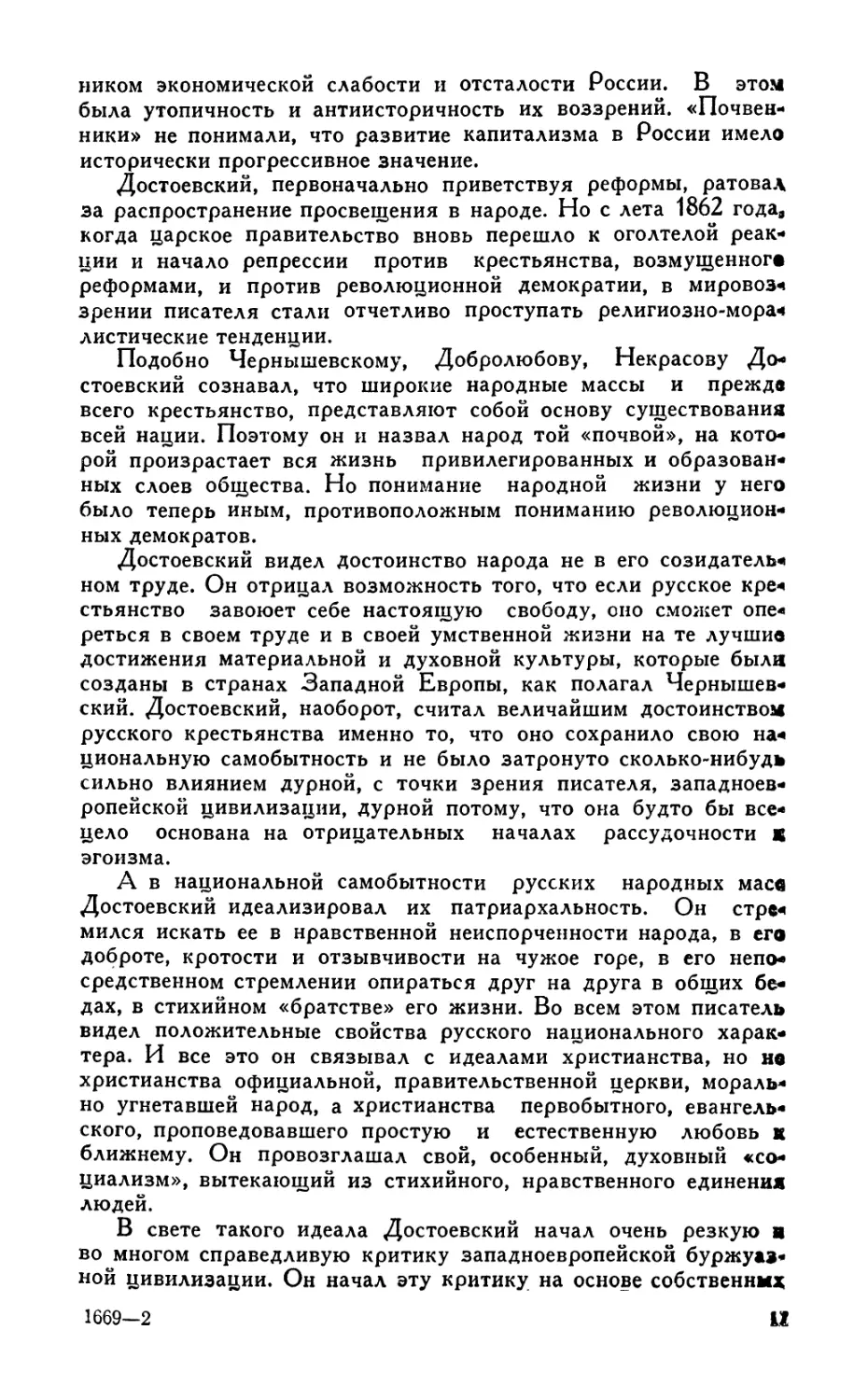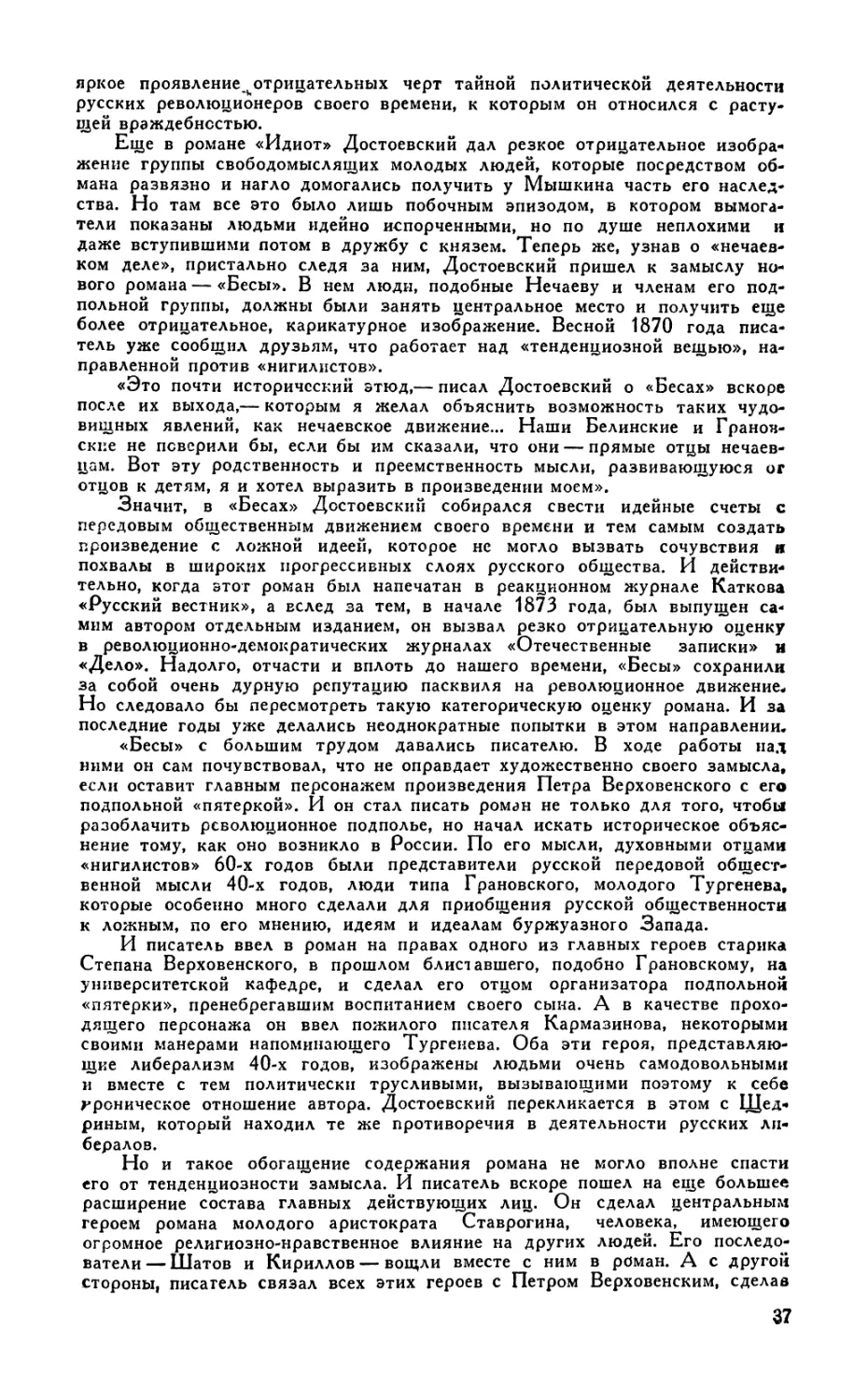Author: Поспелов Г.Н.
Tags: русская литература биографии достоевский жизнеописание издательство знание серия литература
Year: 1971
Text
г.н.п осзшелов
творчеств
ф.м. двстоевекого
Г.Н* ПОСПЕЛОВ
тзво р ч е ©т в о
ф.м.до©т©е®с кого
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
Москва 1971
8Р1
1162
Поспелов Геннадий Николаевич
П62 Творчество Ф. М. Достоевского. М., «Знание», 197Ь
64 с, (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Литература», 9).
Брошюра выпускается к 150-летию со дня рождения выдающегося
русского писателя, гуманиста Федора Михайловича Достоевского.
Автор — доктор филологических наук, профессор МГУ, известный
советский ученый, перу которого принадлежит много книг и статей по
теории и истории русской литературы,
7-2-2 8Р1
Т. п. 1971 г., 110
Содержание
Начало литературной деятельности 4
После каторги и ссылки 13
Новое миропонимание * 16
Роман о «праве на кровь» 22
«Вполне прекрасный человек» , . .... 31
Антианархистский роман Достоевского . 36
«Случайное семейство» * *...... 41
Роман о «двух безднах» в душе человека .... 43
Принципы художественного изображения ... 52
Значение творчества Достоевского .... * 53
Редактор //. М. Краснопольская<
Худож. редактор В. Н. Конюхов
Техн. редактор Т. В. Самсонова
Корректор Л К. Храпова
А 09184. Сдано в набор 29/УН 1971 г. Подписано к печати 27/УШ 1971 г.
Формат бумага 60х90/1б. Бумага типографская № 3. Бум. л. 2,0. Печ,
л. 4,0. Уч.-изд. л. 4,77. Тираж 200 000 экз. Издательство «Знание».
Москва, Центр, Ноцая пл,. д. 3/4. Заказ 1669. Типография Всесоюзного
общества «Знание», Москва, Центр, Новая пл., д, 3/4.
Цена 12 коп.
В ноябре 1971 года советская и мировая литературная об*
щественность отмечает знаменательную дату— 150-летие со дня
рождения великого русского писателя Федора Михайловича
Достоевского.
Нет в русской литературе такого писателя-классика, кото*
рый возбуждал бы своим творчеством столь различные,
нередко даже противоположные суждения и оценки, как Достоев-*
ский.
Объясняется это, конечно, глубочайшими противоречиями
миропонимания Достоевского и вытекающей отсюда
сложностью и разносторонностью содержания и формы его
произведений. Но такая сложность и противоречивость не была
просто личным, прирожденным свойством его мышления и
таланта. Она была по-своему порождена напряженной
общественной борьбой, которая происходила в русском обществе в
1840—1870-е годы, во время формирования мышления и
таланта писателя, и в которой он постепенно занял совершенно
особенное и самостоятельное место. Для того чтобы это понять,
необходимо проследить хотя бы коротко путь идейного и
творческого развития писателя.
3
Начало литературной деятельности
Сороковые годы XIX века, когда начали складываться
идейные интересы и* идеалы Достоевского, были началом очень
большого и глубокого перелома во всей русской общественной
жизни — постепенного превращения России крепостнической в
Россию буржуазную. Назревал общий кризис самодержавно-
крепостнической системы. Это уже смутно сознавали лучшие
люди из русской интеллигенции, особенно разночинской,
демократически мыслящей, такие, как Белинский, Петрашевский,
их соратники и ученики.
В начале 1840-х годов, когда напряженность и острота
идейных исканий особенно усилились, Белинский начал осторожно
пропагандировать идеи социализма и демократии в
критических статьях, выходивших в журнале «Отечественные записки»,
а затем и в более передовом журнале — «Современнике»
Некрасова. К 1845 году вокруг Белинского сформировалась
группа молодых писателей, вскоре получивших название
гоголевской, или «натуральной», школы. Некрасов начал выпускать
сборники их произведений, отличавшихся ярко выраженным
демократизмом своего содержания и художественной формы.
С 1845 года начал свои собрания кружок Петрашевского.
Противопоставляя себя всему старому, деградирующему,
самодержавно-крепостническому укладу жизни, эти передовые
люди намечали для своей страны, для своего народа пути в
будущее, и эти пути освещались для них идеалом социализма. Это
был социализм мечтательный, утопический, еще не
опиравшийся на понимание законов общественного развития,
подобный тому, какой несколько раньше во Франции
провозглашали Сен-Симон и Фурье, а в Англии — Оуэн. Но для мыслящих
русских разночинцев-демократов и такой социализм был тогда
путеводной звездой и основой для критики всего старого
уклада жизни. Он был для них не только идеалом социального
переустройства и политической борьбы с самодержавно-помещичьем
строем, но и основой для постановки и разрешения
философских и эстетических вопросов и мерилом нравственной оценки
поведения человека.
В такой идейной атмосфере и начал свое творчество
молодой разночинец, Федор Достоевский. Он родился 11 ноября
(н. ст.) 1821 года в семье московского врача; детство свое
провел в патриархально-интеллигентском бытовом укладе жизни,
затем с 1839 по 1843 год учился в петербургском Инженерном
училище. В это время он часто испытывал материальную нужду
из-за скудной поддержки семьи, чувствуя себя одним из
петербургских бедняков. И это сближало его с демократическими
низами населения столицы, быт которых он уже тогда
стремился «изучать». Отсюда возникали и его первые творческие
замыслы.
Летом 1845 года Достоевский представил Некрасову свою
4
первую повесть «Бедные люди» и познакомился через него с
Белинским, который пришел в восторг от повести и назвал ее
«первым русским социальным романом». Весной 1847 года
Достоевский познакомился с Петрашевским, вскоре стал
посещать собрания его кружка, где обсуждались самые острые
общественные вопросы, и пользоваться библиотекой кружка, в
которой было много запрещенных социалистических книг.
Через два года он становится членом кружка Дурова,
объединявшего более активных петрашевцев, участвует там в
обсуждении вопросов об освобождении крестьян и об организации
тайной типографии.
Однако в этот период идеалы утопического социализма,
гголь привлекательные для молодого Достоевского в своей
отвлеченности, не имели, видимо, очень глубокого
проникновения в его собственно творческое мышление и лишь в слабой
степени нашли непосредственное выражение в его
произведениях. Гораздо большее значение имели для него наблюдения
и впечатления жизни Петербурга. Уже став известным
писателем, он вел в столице необеспеченное существование
профессионального литератора, которое, однако, не пугало его. Он
вышел в отставку вскоре после получения незначительного
канцелярского места и навсегда отказался от служебной карьеры,
веря в свое творческое призвание.
А Петербург — не только место пребывания царского
двора и высшей знати, но и крупнейший в стране бюрократически-
буржуазный центр — являл поражающие, резкие контрасты
богатства и бедности, неограниченной власти и произвола
высших чиновников и бесправия, нравственной забитости
служилой бедноты. И с первых шагов своего творчества Достоевский
проявил себя писателем — «урбанистом», по-своему
продолжавшим творческую традицию гоголевских петербургских повестей.
«Все мы вышли из «Шинели»,— сказал он впоследствии о себе
и других молодых писателях «натуральной школы».
«Натуральная школа» ко времени выступления
Достоевского уже вполне сложилась под теоретическим руководством
Белинского и заявила о себе в печати двумя сборниками под
названием «Физиология Петербурга». Они были составлены из
рассказов, изображавших жизнь городской бедноты и имеющих,
в большинстве своем, очерковую композицию. Очерк вообще
стал тогда очень распространенным, ведущим жанром.
В третьем, подобном же, «Петербургском сборнике» и были
опубликованы «Бедные люди». Но они были не очерком, а
повестью.
Достоевский вообще не писал очерков. Уже в своих ранних
произведениях он проявил преобладающий интерес не к
бытовому укладу своих героев, а к их внутреннему, нравственному
миру в его развитии. В нем уже тогда таился будущий
великий романист. Его ранние произведения представляли собой
психологические повести и рассказы, иногда приближавшиеся
б
к роману. Этим они походили на некоторые петербургские
повести Гоголя и вместе с тем сильно отличались от них.
В «Шинели» Гоголя Башмачкин, мелкий чиновник,
способный лишь «переписывать», достоин не только жалости, но и
глубоко юмористического изображения. Это потому, что он
забит до предела не только внешне, но и внутренне, поэтому он и
трогателен, и несколько смешон. Так, он интересуется не
смыслом переписываемых бумаг, но разными буквами в этих
бумагах. Или в новой шинели, которую шьет ему Петрович, он
заранее видит свою «будущую подругу жизни» и т. п.
Достоевский в «Бедных людях» тоже изобразил забитого
маленького чиновника Девушкина в его нравственной жизни п
этим «вышел» из «Шинели», но он осознал такой характер
несколько иначе, отчасти даже по контрасту с Гоголем. Башмачкин
изображен как бы извне, Макар Алексеевич Девушкин как бы
изнутри — в его переписке с бедной девушкой, Варенькой Доб-
роселовой, живущей с ним по соседству. Оба они в своих
письмах не только рассказывают об очень тяжелых
обстоятельствах своей жизни, но вместе с тем широко раскрывают в них
свои чувства, душевные состояния, почти всегда добрые и
грустные, а иногда даже возвышаются до смутного
нравственного протеста. Поэтому герои этой повести не смешны, они
вызывают у читателей жалость и сочувствие.
При всей своей крайней бедности, нравственно
подавляющей его, при всей своей полной зависимости и робости перед
начальством мелкий чиновник у Достоевского не только сознает,
но и внутренне защищает в себе, на уровне своих понятий, свое
человеческое достоинство, свою глубоко затаенную гордость
маленького, незаметного, но честного труженика, которую он
называет «амбицией». «Служу безукоризненно,— пишет он,—
поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как
гражданин, считаю себя... как имеющего свои недостатки, но
вместе с тем и добродетели», «амбиция моя мне дороже всего».
Увидев на улице шарманщика, который «милостыни просить
не хочет» и «хоть целый день ходит да мается... зато сам себе
господин, сам себя кормит», Девушкин пишет о себе: «Вот и я
точно так же, как этот шарманщик... в своем смысле, в
благородном-то, в дворянском-то отношении точно так же, как и он,
по мере сил тружусь, чем могу, дескать».
В сознании своего незаметного, но честного и полезного
труда Девушкин доходит иногда до сознания глубоких
контрастов социальной жизни, боится этого в себе как явного
«вольнодумства», но не может отказаться от таких мыслей.
Особенно возбуждает их в нем судьба бедной Вареньки. «Отчего
вы, Варенька, такая несчастная...— пишет он.— Отчего это
так все случается, что вот хороший-то человек в запустенье
находится, а другому кому счастье само напрашивается? Знаю,
знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это
вольнодумство...».
0.
Однако все, что происходит в повести с Девушкиным, пока*
зывает, насколько бесплодно его тайное «вольнодумство» и на*
сколько обольщается он своей честной трудовой «амбицией».
Прочитав повесть «Шинель», присланную ему Варенькой, он
поражен сходством между собою и горемычным героем Гоголя:
ведь он тоже бережет сапоги и радуется, если сошьет себе что-
нибудь новое. И он возмущен, что теперь все это, комически
изображенное в повести, станет известным всем: «...и вот уже
вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит,
все напечатано, прочитано, осмеяно, пересуждено! Да тут и на
улицу нельзя показаться будет...». Он пишет Вареньке и о том,
как «убивают» его долги и «худое положение» его одежды, и
как он «горел», «в адском огне горел», «умирал», когда его
вызывали к самому «его превосходительству», чтобы дать на-»
гоняй за пропуск строки в переписанной важной бумаге.
Самое важное и новое в характере забитого человека у
Достоевского — это его способность к «погружению в себя са«
мого», к психологическому самоанализу, «рефлексии» и к
соответствующим обобщениям. «Он, бедный-то человек, он взыска*
телен,— пишет Девушкин о себе и ему подобных,— он и на
свет-то божий иначе смотрит... да вокруг себя смущенным
взором поводит, да прислушивается к каждому слову,— дескать на
про него ли там что говорят? Что вот, дескать, что же он такой
незаметный?» После первого письма к Вареньке он в должч
ность пошел «таким гоголем-щеголем; сиянье такое было на
сердце». Когда же он решился пойти занимать деньги, настрое*
ния у него иные: «...ни на что и глядеть не хотелось; грусть,
тоска такая напала! На сердце холодно, на душе темно...». Даже
в лучшую минуту жизни, когда начальник дал ему из жалости
сто рублей, он не может не страдать. «Мне, впрочем, покойно,
очень покойно,— пишет он.— Только душу ломит, и слышно
там, в глубине, душа моя дрожит, трепещет, шевелится».
При таком характере и положении одинокого, пожилого, бед*
ного чиновника вполне естественна внезапно пробудившаяся в
нем нежная привязанность его к тоже бедной и обиженной
молодой девушке, которую еще больше «изнуряет
мечтательность», у которой также так много чувствительных
переживаний и «болезненных впечатлений», а «душа так часто просит
слез». «...Как вы мне явились, так вы всю мою жизнь осветили
темную»,— признается Девушкин. Тем драматичнее для них
обоих внезапная разлука, когда Варенька вынуждена
согласиться на брак со своим обидчиком, помещиком Быковым, а
Девушкин снова остался одиноким.
Сама переписка героев, в которой так много искренности и
душевных излияний, и сердечных надрывов, представляет собой
наилучшее выражение внутреннего мира «бедных людей».
А психологическая обстоятельность этой переписки, ее
многословие и выспренность слога, особенно заметные в письмах Де-
вушкииа, вытекают из того свойства характера бедного чинов-
7
ника, которое он сам в себе назвал «говорливостью сердца*
(внешне это несколько затянуло повесть).
Во всем этом была большая оригинальность и
художественная значительность первой повести Достоевского, поразившая
Белинского, Некрасова и весь круг активных участников,
«натуральной школы». Ни у кого из них, в их очерках, повестях,
стихотворениях, сочувственно изображавших быт и нравы
городской бедноты, а потом и крепостного крестьянства, не было
такой неторопливой и сосредоточенной психологической проник-*
новенности и глубины изображения характеров действующих
лиц. После появления повести в «Петербургском сборнике» на
начинающего писателя вдруг стали смотреть как на «новую
«звезду» (слова И. Аксакова). «Это талант необыкновенный и
самобытный,— писал Белинский,— который сразу, еще первым
произведением своим, резко отделился от всей толпы наших
писателей, более или менее обязанных Гоголю направлением и
характером ...своего таланта» *.
«В русской литературе,— писал Белинский в другой статье,—
еще не было примера так скоро, так быстро сделанной славы,
как слава г. Достоевского» 2.
«Бедных людей», написанных до знакомства начинавшего
писателя с Белинским, по содержанию продолжает повесть
«Слабое сердце», созданная почти через год после того, как автор
сблизился с кружком Петрашевского. В ней мотивы
«вольнодумства» и протеста маленького человека получают иное,
гораздо более острое звучание.
Макар Девушкин трудится над канцелярскими бумагами
только на службе, а дома он свободен и может переписываться
с Варенькой. В повести «Слабое сердце» писатель показал
другую ситуацию, когда высший начальник канцелярии Юлиал
Мастакович, дав из милости первый служебный чин бедному
юноше, Васе Шумкову, и сделавшись его «благодетелем»,
заставляет его трудиться не только на службе, но, в своих личных
интересах, также и дома, поручив ему переписывать в срок
какое-то очень длинное и важное «дело» и оплачивая это скудными
и редкими подачками.
По «слабости сердца» Вася не смог вынести такого
беспросветного труда. Он полон благодарности начальнику и готов на
него работать, но у него есть и свои личные интересы и
стремления — любовь к бедной девушке, Лизоньке. Сначала он часто
ходил к ней, «мучась неизвестностью», а затем, став ее
женихом, впал в восторженно-мечтательное состояние и в результате
безнадежно запустил свою срочную переписку, рискуя тем
самым потерять милость своего «благодетеля».
В этой повести Достоевский не изображает непосредственно
1 В. Г. Белинский. «Петербургский сборник». Издание Некрасова.
Поль. собр. соч., т. IX. М., 1955, стр. 551.
2 В. Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1846 года,
Поли. собр. соч.! т» Хг М., стр. 40е
3
переживания своего несчастного героя, но глазами его друга и
сожителя, Аркадия, показывает, что творится с Васей, все
более сознающим безвыходность своего положения. Достоевский
при этом нарочно сгущает краски — у него уже появилось
стремление к психологическим гиперболам. Вася впадает в тя*
желую задумчивость; работая по ночам, он доходит до того, что
бессмысленно водит по бумаге сухим пером и наконец впадает
в умопомешательство. Особенно устрашающа сцена в кабинете
начальника, куда Вася пришел с повинной и где он в присут*
ствии сослуживцев ведет себя как солдат: ступает с левой ноги,
пристукивает правым сапогом, «как делают солдаты, подойдя
к подозвавшему их офицеру». И тут его увозят в сумасшедший
дом.
Очень значительна концовка повести, заключающая в себе
широкое сирдволическое обобщение, вытекающая из всего в ней
изображенного. Вечером того же дня, когда погиб Вася,
Аркадий в морозные сумерки смотрит на Петербург, и «весь этот
мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми», кажется ему
походящим «на фантастическую, волшебную грезу, на сон,
который, в свою очередь, тотчас исчезнет...». «Какая-то странная
дума посетила осиротелого товарища бедного Васи. Он вздрог*
нул... Он как будто только теперь понял... отчего сошел с ума
его бедный, не вынесший своего счастья Вася. Губы его задро*
жали, глаза вспыхнули, он побледнел и как будто прозрел во
что-то новое в эту минуту...» Эта концовка повести,
напоминающая кульминацию сюжета «Медного всадника» Пушкина,
наряду с некоторыми эпизодами из «Бедных людей» — самое
значительное из всего, что успел написать молодой
Достоевский до своего ареста. В этой концовке, как и в боязни Васи,
что ему «забреют лоб», несомненно проявились критика
привилегированного русского общества. Эта критика постепенно все
усиливалась в Достоевском под влиянием социалистических
идей Петрашевского и его кружка.
В лице Дезушкина и Шумкова Достоевский изобразил
«маленьких людей», являющихся безвинными жертвами того
незаметного, повседневного угнетения, на котором основывалась
вся жизнь самодержавно-бюрократической России. Но уже з
ранний период творчества писателя стали интересовать и люди,
в характерах которых переживания угнетенности противоречиво
соединялись со смутным стремлением к угнетательству. Это и
далее было характерно для писателя, выражавшего в своем
творчестве идейные искания промежуточных городских слоев
русского общества эпохи его перехода к буржуазным отноше*
ниям.
Так появилась повесть «Двойник» (1846), которая была написана
вскоре по выходе «Бедных людей» и которой Достоевский, видимо, хотел
упрочить свою славу.
В характер главного героя этой повести, чиновника Голядкина, снова,
как и в характере Девушкина, выдвинуто на первый план противоречие
между его робостью перед начальством и его «амбицией»^ Но «амбиция»
9
героя здесь совсем иная, чем у героя «Бедных людей». Голядкин — не
совсем мелкий чиновник, он имеет некоторый достаток, держит слугу*
Петрушку, именуется «господином» Голядкиным. Поэтому он не таится В
своем скрытом нравственном достоинстве от чужих взглядов, как бедняк
Девушкин. Наоборот, он стремится преодолеть в себе свою робость, по*
казать, что он не хуже других, что он тоже не только может ездить в
карете, покупать дорогие вещи, но даже присутствовать на званом обеде у
статского советника Берендеева и ухаживать за его хорошенькой дочкой
Кларой. При этом он и получает в своей заносчивости непоправимый удар,,
Не званный на обед, он старается проникнуть в дом Берендеевых то с
парадного, то с заднего входа, нарывается этим на скандал и с позором
изгоняется из «порядочного общества».
Тут сразу и начинается цепь его душевных злоключений. Ему так
хотелось бы быть смелым, внутренне свободным и преуспевающим в кругу
сослуживцев и в личной жизни. А на деле он принижен и робок даже
перед своим слугой Петрушкой. И вот ему представляется, что у них на
службе появляется другой чиновник Голядкин, его «двойник», внешне
точно такой же, как он сам, и тоже сначала робкий, но затем все более
нахальный, удачливый, признаваемый сослуживцами и начальством. Или же
главный герой по\учает письмо от Клары (он сам его написал!), в
котором она просит его увезти ее из дома, и он тщетно ждет ее под дождем,
боясь, что она и в самом деле выйдет к нему. Все кончается тем, что Го-
лядкина увольняют со службы и он сходит с ума.
Достоевский воспользовался в «Двойнике» мошвом раздвоения
личности (как Гоголь в «Носе») и мотивом сумасшедствия (как Гоголь в
«Записках сумасшедшего») для гиперболизованного художественного
«исследования» очень глубокого психологического противоречия, свойственного
не только характерам бедных чиновников. И здесь в отличие от повести
«Слабое сердце» художественная гипербола служит средством выражения
идейного отрицания той индивидуалистической «амбициозности», которой
страдает Голядкин и которая приводит его к поражению. При этом
Достоевский чрезвычайно растянул свое повествование, далеко не все в нем
ясно мотивировал и этим лишил свою повесть внутренней соразмерности
и ослабил эстетическую убедительность. «В «Двойнике»,— писал
Белинский,— автор обнаружил огромную силу творчества, характер героя
принадлежит к числу самых глубоких, смелых и истинных концепций, какими
только может похвалиться русская литература... но вместе с тем тут видно
страшное неумение владеть и распоряжаться экономически избытком
собственных сил».
Однако далее критик указал и на более существенные недостатки
«Двойника» — на «фантастический колорит» его образности, вследствие
чего он «не имел никакого успеха у публики». Этот отзыв был первым
проявлением разочарования критика в таланте Достоевского, который он
так высоко поставил в своей оценке «Бедных людей». Следующие
повести писателя, появившиеся в печати при жизни Белинского,
удовлетворяли последнего еще в меньшей степени. Так, о «Господине Прохарчине»,
критик писал, что эта повесть привела всех почитателей таланта
Достоевского «в неприятное изумление». Повесть «Хозяйка» — последнее
произведение писателя, на которое Белинский еще мог откликнуться до своей
смерти,— получила от него совсем отрицательную оценку.
Однако еще одна очень оригинальная повесть писателя — «Белые
ночи» (1848) показала, что творческий талант Достоевского находится в
расцвете. Главный герой повести, опять по-своему приниженный и робкий
человек, резко контрастирует своим характером с «господином
Голядкиным» и имеет нечто общее с героями «Бедных людей» и «Слабого сердца»*
Варенька признается Девушкину, что ее «изнуряет мечтательность»*
Аркадий, друг Васи Шумкова, называет его «мечтателем». Но у этих
героев такая черта их характера лишь упоминается, не получая развития и
социально-психологического обоснования. В «Белых ночах» она получает и
то и другое от лица их безымянного главного героя и рассказчика. Его
характер показывает, что «слабость сердца» и «изнуренность мечтателъ-
10
ностью» могут и не быть проявлением только личной, физической и
нервной слабости «бедных людей», живущих в трудных условиях
петербургской действительности. Они могут, очевидно, быть показателями их
нравственной неиспорченности, способности некоторых из них остаться
незатронутыми, сколько-нибудь заметно и сильно, дурными влияниями растущих
социальных противоречий городской, буржуазно-бюрократической жизни.
Это были люди, еще сохранившие в своем сознании значительную долю
патриархальности.
Как показывают «Белые ночи», отношение к таким людям у молодого
Достоевского было противоречивым. В течение четырех «белых»
петербургских ночей, и до встречи с Настенькой, и встречаясь с нею, герой и
рассказчик повести очень много говорит о себе и сам себя разъясняет, а
затем проявляет свой характер и в действии. В его характере как будто,
по автору, есть немало положительного. «Мечтателя» явно отвращают
бюрократические и деляческие нравы столичного общества. Он, видимо,
где-то служит, но к концу служебного дня бывает «доволен», что
«покончил до завтра с досадными для него делами». Он явно сторонится тол
жизни, которая кипит вокруг «в наше серьезное-пресерьезное время», и
стремится «селиться» в каком-нибудь «неприступном углу» города и «как
будто таится там даже от дневного света».
Все это и делает его человеком «одиноким» и «мечтателем». Он —
«сам по себе, то есть один, совершенно один», говорит он Настеньке. «Я
мечтатель, у меня так мало действительной жизни...— как бы жалуется
он.— Я создаю в мечтах целые романы». Он живет воображением и
сердечными переживаниями. «Я не могу молчать, когда сердце во мне
говорит»,— признается он. Когда девушка заплакала, у него «стеснилось
сердце». Когда он создает себе «волшебные призраки» у него «стесняется дух»,
«брызжут слезы из глаз» и «такой неотразимой отрадой наполняется» все
его существо. Но душой он тянется к другим людям: он так рад услышать
от других «два слова братские с участьем...». «Когда мы несчастны, мы
сильнее чувствуем несчастье других»,— утверждает «мечтатель».
В нем есть нечто детское. «Мы были как дети»,— говорит он о своих
отношениях с Настенькой. И в этих отношениях, в вытекающих из них
действиях «мечтатель» проявляет душевное благородство и
самоотверженность. Полюбив Настеньку и узнав, что у нее уже есть жених, который
куда-то уехал, а затем вернулся, но почему-то не идет к ней, он сам готов
идти к своему сопернику, чтобы защитить девушку от обиды и обмана. Во
всем этом «мечтатель» Достоевского, человек относительно образованный,
напоминает нам созсем необразованного, но такого доброго и честного
Макара Девушкина.
Но в жизни «мечтателя», в его характере есть и другая сторона,
которую он сам хорошо понимает и разъясняет Настеньке. «Вот эта-го
жизнь,— говорит он о себе,— есть смесь чего-то чисто фантастического,
горячо-идеального и вместе с тем... тускло-прозаичного, обыкновенного, чтобы
не сказать: до невероятности пошлого». «...Затхлая, ненужная жизнь»,—
говорит он далее. «На меня иногда находят минуты такой тоски,—
признается он,— меня теснят такие темные ощущения». Все это происходит
потому, что бедный одинокий «мечтатель» «потерял» всякий такт, всякое
чутье о настоящем, действительном». Развязка его сентиментального
романа с Настенькой, для которого достаточно четырех «белых ночей»,
показывает это: к девушке внезапно вернулся ее жених, и «мечтатель», уже
объяснившийся с нею в любви, опять остается одиноким. Но он не сетует
на это, он благословляет девушку за «минуту блаженства». «Целая минута
блаженства!—восклицает он.— Да разве этого мало хоть бы и на всю
жизнь человеческую?..»
Обрисовав характер петербургского «мечтателя», человека столь
далекого от тех высоких и значительных идей, которые обсуждались в кружках
Петрашевского и Дурова, молодой Достоевский видимо, сам еще не понимал
тогда, какое значение подобный характер будет иметь в его последующих,
даже самых зрелых и поздних произведениях,
а
Таким образом, Достоевский начал свое творчество с
изображения жизни «униженных и оскорбленных». Он хорошо
сознавал, что их страдания, а иногда и гибель обусловлены
глубокими и все усиливающимися противоречиями русской
социальной жизни. Но конфликты угнетенных с их угнетателями в
своих ранних произведениях он прямо не изображал.
Первую попытку раскрыть характеры начальников в их
собственной жизни он сделал в рассказе «Елка и свадьба»,
явившемся отчасти как бы продолжением «Слабого сердца».
Здесь выявляется существо деятельности Юлиана Мастаковича,
начальника Васи Шумкова. Сначала, на детской елке, молодой
человек, от лица которого ведется рассказ, случайно видит, как
этот сановник, перед которым все заискивают, сам тайком ог
всех заискивает перед хорошенькой девочкой, дочерью
откупщика, узнав об ее большом денежном приданом и сообразив,
что через пять лет, к моменту возможного замужества девочки,
оно достигнет полумиллиона. А потом, по истечении этого
срока, рассказчик случайно видит богатую свадьбу сияющего
пожилого сановника с юной грустной красавицей, вспоминает все
виденное им тогда, на детской елке, и понимает, что расчеты
Юлиана Мастаковича вполне оправдались. Он стал мужем
красавицы и владельцем ее богатого приданого. И конечно, у
него скоро и в семейной жизни проявятся те деспотические
склонности и лицемерие, которые, несомненно, развивала в нем
служебная жизнь, его безраздельная власть над безответными
подчиненными. Но об этом можно лишь догадываться.
Только в последнем своем произведении 40-х годов,
вышедшем незадолго до ареста, в романе «Неточка Незванова»,
Достоевский сделал попытку как-то соединить изображение
«униженных» и «унижающих». Но в опубликованной его части,
представляющей собою лишь начало истории жизни главной героини,
сама она еще не занимает значительного места и выступает
больше как свидетельница жизненных драм других героев,
также не получивших завершения. Роман этот остался
незаконченным. Произошло это из-за внезапного крутого перелома в
жизни писателя.
Испуганное революционными событиями 1848 года в
Европе, русское самодержавие резко усилило свою реакционную
политику и обрушилось с репрессиями на передовую
общественность. Весной 1849 года Достоевский вместе с другими
петрашевцами был арестован, получил на суде смертный приговор,
стоял на эшафоте в ожидании расстрела и за минуту до
предстоящей гибели узнал о замене казни каторжными работами.
Четыре года провел он затем в Омской каторжной тюрьме,
описанной им потом в «Записках из Мертвого дома», а по
истечении срока заключения был отдан в солдаты и еще долго
вынужден был жить в Сибири. Только в конце 1859 года, через
10 с лишним лет после ареста, он, по разрешению властей, смог
12
возвратиться в Петербург, чтобы активно отдаться
литературной деятельности.
Так поплатился будущий великий писатель за свое участие
в нелегальном политическом движении 40-х годов. Но это
участие оставило неизгладимый след на всем складе его
умственной жизни. Достоевский навсегда сохранил демократичность
своих стремлений и идеалов, постоянное сочувствие к людям
унижаемым и оскорбляемым. Он вынес вместе с тем из
испытаний своей молодости не только неизменный, но все
возрастающий (по обстоятельствам дальнейшего развития России)
жгучий интерес к важнейшим, кардинальнейшим проблемам
устройства человеческой оюизни, исключительную склонность
к нравственным исканиям и, наконец, глубокую страстность
своего художественного мышления. Однако все это сказалось
в полную силу в мировоззрении и творчестве писателя лишь
позднее — в пореформенные десятилетия.
После каторги и ссылки
В тяжелых переживаниях каторги и ссылки у Достоевского произошел
идейный перелом. Он отказался от прогрессивно-демократических
общественных идеалов, которые возбуждало в нем участие в передовом движении
40-х годов. Но иного мировоззрения у него еще не было. Поэтому з его
произведениях продолжали развиваться в основном те же художественные
интересы и творческие принципы, которые были характерны для его
произведений 40-х годов. И все задуманное и написанное Достоевским в
ссылке и вскоре по возвращении в столицу относится, в сущности, к тому
же, первому периоду его творчества. Последние из этих произведений —
роман «Униженные и оскорбленные» и «Записки из Мертвого дома», пред-*
ставляющие собой воспоминания писателя о пребывании на каторге,—
напечатаны в журнале «Время» в 1861—1862 годах.
Некоторые произведения, созданные в этот период, значительно более
сложны по своему содержанию, нежели повести и рассказы 40-х годов.
Вместе с тем они отличаются друг от друга по изображаемым характерам
и идейной направленности, и это затрудняет выяснение их единства. Но
самые большие среди новых собственно художественных произведений —
повесть «Село Степанчиково и его обитатели» и роман «Униженные и
оскорбленные» — обнаруживают некоторую прямую связь с ранними
повестями и рассказами писателя.
В «Селе Степанчикове» Достоевский впервые обращается к
изображению усадебной жизни и в центр повествования ставит взаимоотношения
богатого помещика Ростанева, его матери и его «приживальщика», Фомы
Опискина. Приживальщик этот совсем особенный, не такой, каких обычно
изображали писатели — знатоки усадебных нравов. Это не какой-нибудь
бедный родственник или сосед, скромно живущий из милости в богатом
доме. Это — разночинец, человек пожилой и неудачник в жизни, по
полной никчемности своей попавший в прошлом сначала б чтецы, а потом в
шуты к помещику-генералу, отчиму Ростанева, вошедший там благодаря
своему ханжеству и подхалимству в милость к его матери-генеральше, а
затем, пользуясь этим, после смерти генерала переселившийся вместе с ней
в дом ее сына.
Добродушие, скромность и мягкость характера Ростанева и
покровительство генеральши позволяют Фоме Опискину занять в отношениях с
ними и со всеми их домочадцами господствующее положение. Чем больше
тиранил и оскорблял Фому покойный генерал, тем с большей силой Фома
13
сам стремится теперь нравственно угнетать и принижать других,
тиранствовать над ними с помощью своих заносчивых и ханжеских поучений,
которые едва прикрывают его затаенную озлобленность и трусость.
Значит, своим характером Фома Опискин несколько напоминает Голядкина,
главного героя «Двойника». В нем также автор показывает противоречивое
сочетание забитости и зазнайства. Но вне столичной бюрократической
субординации, в простоте усадебных нравов эти противоречия
раскрываются с гораздо большей силой. Идейное отрицание автором такого
характера выражается в образе Фомы без всякой фантастики, гораздо
определеннее, доходя иногда до сатиры.
Фома вместе с генеральшей обретает над Ростаневым нравственную
власть тем, что постоянно упрекает его в «непочтительности» и «эгоизме»*
И тот, по слабости натуры, доходит даже до того, что почти готов
подчиниться своим тиранам в их намерении женить его на нелюбимой им
пожилой девице ради ее богатого приданого, хотя сам, долго не осознавая
этого, любит молодую, бедную и честную Настеньку. Крутая развязка
этого конфликта приводит и к временному поражению Фомы, и к
разоблачению крайней изворотливости и живучести этого лицемерного ханжи.
В повести много очень колоритных образов второстепенных персонажей,
в ней много характерных и эмоционально-напряженных диалогов, и она
может быть эффективно перестроена для комедийной постановки на сцене..
Такова же и другая повесть Достоевского 50-х годов «Дядюшкин сон»,
изображающая скандальное комическое происшествие в провинциальном
дворянском доме.
Иначе связан с ранними произведениями Достоевского его роман
«Униженные и оскорбленные». В лице его главного героя и рассказчика,
Ивана Петровича, писатель вывел как будто бы самого себя в прошлом—*
начинающего писателя «натуральной школы» 40-х годов, автора
замечательной повести о «бедных людях», одобренной Белинским. Но если
внимательно присмотреться к характеру этого героя, то нельзя не прийти к
выводу, что перед нами снова петербургский «мечтатель», уже
изображавшийся в «Белых ночах», действующий теперь в иной, гораздо более сложной
обстановке.
Подобно «мечтателю», Иван Петрович сердечно и безответно любит
бедную и добрую девушку и готов защищать ее от своего соперника и
возможного ее обидчика. Но обиженной теперь оказывается вся семья
девушки, Наташи Ихменевой, и прежде всего ее старый отец, помещик с
патриархальным складом своих взглядов и семейной жизни. Обидчиком его
выступает богатый и знатный дворянин, князь Валковский, человек
жестокий и циничный, который разорил старика, несправедливо обвинив в
краже и выжив из родного дома. Обидчиком же самой Наташи становится
сын князя, Алеша, бесхарактерный и крайней избалованный, но пока еще
добрый и наивный юноша. Наташа влюблена в него и уходит к нему от
своих родителей, к глубокому их огорчению и еще большей оскорбленности.
А князь, зная все это, хочет женить Алешу на богатой наследнице и милой
девушке Кате и распускает слух, будто Наташа ушла из дому но
наущению родителей, ищущих ей богатого жениха.
Вместе с тем в роман вводится и другая, еще более несчастная жертва
жестокости и цинизма князя Валковского — его дочь, девочка-подросток
Нелли. Князь был тайно женат на матери Нелли, но потом обокрал и
бросил ее с ребенком, оставив в нищете. Нелли, одинокая и затравленная
после смерти матери, находит, наконец, приют у Ивана Петровича. Таким
образом, роман строится на глубоком социально-нравственном контрасте
между людьми бедными или разоренными, добрыми и честными,
унижаемыми и оскорбляемыми — с одной стороны, а с другой — богачом,
аристократом, чьими страдающими жертвами все они так или иначе
оказываются. В сцене принципиального разговора князя с Иваном Петровичем
в ресторане князь с полной ясностью раскрывает всю свою циничную,
зверскую, садистскую сущность, излагает свою «философию» жизни. «Все
для меня,— говорит он,— и весь мир для меня создан...», «идеалов я не
имею и не хочу иметь...», «нравственность, в сущности, тот же комфорт,
И
то есть изобретена исключительно для комфорта...», «надо ловить минуту
и насладиться жизнью...». Он признается, что когда-то «из каприза даже
был метафизиком и филантропом», «приехал в деревню с гуманными
целями», но стал там «волочиться» за «хорошенькими девочками» и насмерть
засек молодого мужа «одной пастушки»...
Словом, перед нами характер ряда будущих дворянских героев До-
стовского — Свидригайлова, Ставрогина, старика Карамазова, а видимо, и
его сына Ивана. Но здесь этот характер взят еще вне тех сложных фило-
софско-моралистических идей, к которым писатель вскоре обратится.
И другие герои романа, жертвы жестокости и корысти Валковского, также
даны вне связи с этими идеями — в своей обыденной нравственности и
житейской наивности, за которые князь считает их «дурачками», и в их
душевном благородстве, которое тот называет «пасторалями» и «шилле-
ровщиной». Но в речах молодых людей уже звучит тема «общего
счастья», «братства» и «прощения», которая вскоре получит у
Достоевского новое развитие. «Ах, зачем мы не все счастливы! Зачем, зачем!»,—
восклицает Алеша. «Да, да, Алеша,— говорит Наташа об Иване
Петровиче,— он наш, он наш брат, он уже простил нас! И без него мы не будем
счастливы!..»
Конфликт романа разрешается реалистически. Никто из оскорбленных
ничего не может сделать против намерений своих оскорбителей. Алеша,
уже охладевший к Наташе, уезжает с Катей; Нелли, принятая было в
семью Ихменевых, умирает; Наташа, желающая как будто сделать Ваню
счастливым, уезжает тем не менее <; отцом на его новое место службы, и
бедный рассказчик, покинутый всеми, умирает в больнице от чахотки.
В связи с появлением в печати этого романа Добролюбов написал
статью «Забитые люди», которая оказалась как бы подведением итогов
всей первой половины творчества Достоевского. В ней он верно указал на
сходство характеров Ивана Петровича и «мечтателя» в «Белых ночах» и
справедливо упрекнул автора за то, что внутренний мир главного героя
нового романа и некоторых других его героев (Наташи, Валковского)
раскрыт очень слабо и поэтому поступки их недостаточно мотивированы.
А затем критик дал общую очень положительную оценку творчества
Писателя 40—50-х годов. Он назвал его «замечательным деятелем того на-»
правления», которое являлось, «по преимуществу гуманистическим». «В
произведениях Достоевского,— писал критик,— мы находим одну общую
черту, более или менее заметную во всем, что он писал: это боль о человеке,
который признает себя не в силах или, наконец, даже не в праве быть
человеком...». «Каждый человек должен быть человеком и относиться к
другим, как человек к человеку» — вот идеал, сложившийся в душе
автора... как что-то, составляющее часть его собственной натуры» !. Это свое
обобщение Добролюбов обосновывает подробными характеристиками глав-»
ных героев ранних повестей писателя — главным Образом «Бедных людей»*
а также «Двойника» и «Слабого сердца», а в «Униженных и
оскорбленных» указывает в этой связи только на характеры Нелли и старика Ихме*
нева. Спрашивая, почему в «забитых людях», изображенных писателем,
чувство протеста затаилось так глубоко, критик намекает в конце статьи
на «громадность» «обстоятельств», подавляющих их, и
многозначительно уклоняется от того, чтобы указать какой-то выход из этого
положения.
Одновременно с «Униженными и оскорбленными» Достоевский
выпустил «Записки из Мертвого дома». В них он раскрыл всю тяжесть
жизни каторжной тюрьмы, в которой сам томился 4 года, подробно изобразил
ее быт и нравы и дал характеристики наиболее страшных уголовных
преступников, истязателей и убийц, с которыми он там общался. Интересно,
что в пору создания «Записок», когда в нем уже происходил переход к
религиозно-нравственным воззрениям, писатель именно в каторжанах — в
1 Н. А. Добролюбов. Забитые люди.— Собр. соч. В 3-х т. Т. 3.
М., 1952, стр. 472,
15
наиболее энергичных и стойких из них, способных к протесту, увидел
лучших людей среди всех русских народных масс. «Ведь надо уже все
сказать,— писал он,— ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это,
может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ изо всего
народа нашего. Но логибли даром могучие силы, погибли ненормально,
незаконно, безвозвратно. А кто виноват?—То-то, кто виноват?» Важно
также и то, что писатель не находил тогда у каторжан раскаяния в
совершенных ими преступлениях. Писатель понимал, что в среде угнетенного
народа преступления могут быть извращенной формой протеста. Конечно,
позже Достоевский уже не мог видеть в каторжанах лучшие силы народа.
Такова была первая половина творчества Достоевского. Его лучшие
произведения были посвящены в основном изображению бедного люда —>
мелких чиновников и низовой разночинной интеллигенции—в их
униженности и оскорбленности, в их страданиях и одиночестве. С большой
художественной силой писатель раскрывал внутренний мир своих героев, но в
этом изображении еще не было той идейной глубины и силы, той
внутренней противоречивости, которые стали выдающейся чертой его
последующих больших проблемных романов. Для их создания необходимо было,
чтобы у Достоевского вполне сложилось его новое миропонимание.
Новое миропонимание
Достоевский возвратился в Петербург в то время, когда
революционно-демократическое движение, возглавляемое
Чернышевским, Добролюбовым, Некрасовым, было на большом
подъеме, когда шла идейная борьба между демократами и
либералами, когда в стране складывалась революционная ситуация.
Вскоре Достоевский начал активную публицистическую
деятельность в журналах «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864),
издаваемых его братом Михаилом. Он теоретически возглавил
формирующееся вокруг редакции этих журналов новое идейное
течение, получившее название «почвенничества». Небольшая
группа разночинной интеллигенции, образовавшая это течение,
выражала в своих взглядах глубокую тревогу и недовольство,
охватившее широкие промежуточные слои старого русского
общества в результате развития капитализма и роста буржуазных
отношений и в результате начавшихся реформ, подрывавших
прежний, сложившийся уклад жизни. В свете своих
патриархально-демократических взглядов и идеалов «почвенники»
поднимались до осознания больших перспектив исторического
развития России. Но они не сумели увидеть путей, ведущих к этим
перспективам, не могли осознать передовых идей своего
времени, оставаясь часто в плену у патриархального, даже
консервативного мышления.
Они сознавали антинародность буржуазных отношений на
Западе и боялись их развития в России. Но они обольщались
возможностью возврата к докрепостническим отношениям в
русском обществе, идеализировали будто бы существовавшие
тогда свободные «ассоциации» крестьян и ремесленников, видя
в них воплощение нравственной природы людей и
национального русского характера, не замечая, что в патриархальности
были свои противоречия, жестокость, что она часто была источ-
16
ником экономической слабости и отсталости России. В этом
была утопичность и антиисторичность их воззрений.
«Почвенники» не понимали, что развитие капитализма в России имело
исторически прогрессивное значение.
Достоевский, первоначально приветствуя реформы, ратовал
за распространение просвещения в народе. Но с лета 1862 годаа
когда царское правительство вновь перешло к оголтелой
реакции и начало репрессии против крестьянства, возмущенного
реформами, и против революционной демократии, в мировоз*
зрении писателя стали отчетливо проступать религиозно-мора«
листические тенденции.
Подобно Чернышевскому, Добролюбову, Некрасову
Достоевский сознавал, что широкие народные массы и прежде
всего крестьянство, представляют собой основу существования
всей нации. Поэтому он и назвал народ той «почвой», на
которой произрастает вся жизнь привилегированных и
образованных слоев общества. Но понимание народной жизни у него
было теперь иным, противоположным пониманию
революционных демократов.
Достоевский видел достоинство народа не в его созидатель*
ном труде. Он отрицал возможность того, что если русское кре«
стьянство завоюет себе настоящую свободу, оно сможет опе«
реться в своем труде и в своей умственной жизни на те лучшие
достижения материальной и духовной культуры, которые были
созданы в странах Западной Европы, как полагал
Чернышевский. Достоевский, наоборот, считал величайшим достоинством
русского крестьянства именно то, что оно сохранило свою на*
циональную самобытность и не было затронуто сколько-нибудь
сильно влиянием дурной, с точки зрения писателя,
западноевропейской цивилизации, дурной потому, что она будто бы
всецело основана на отрицательных началах рассудочности к
эгоизма.
А в национальной самобытности русских народных масв
Достоевский идеализировал их патриархальность. Он стре«
милея искать ее в нравственной неиспорченности народа, в его
доброте, кротости и отзывчивости на чужое горе, в его непо*
средственном стремлении опираться друг на друга в общих
бедах, в стихийном «братстве» его жизни. Во всем этом писатель
видел положительные свойства русского национального
характера. И все это он связывал с идеалами христианства, но но
христианства официальной, правительственной церкви,
морально угнетавшей народ, а христианства первобытного,
евангельского, проповедовавшего простую и естественную любовь к
ближнему. Он провозглашал свой, особенный, духовный
«социализм», вытекающий из стихийного, нравственного единения
людей.
В свете такого идеала Достоевский начал очень резкую ш
во многом справедливую критику западноевропейской буржуаз*
ной цивилизации. Он начал эту критику на основе собственных
1669-2
II
впечатлений, полученных летом и осенью 1862 года при своем
первом пребывании за границей, главным образом во Франции
и Англии, наиболее развитых тогда буржуазных странах. В
напечатанном вслед за тем фельетоне «Зимние заметки о летних
впечатлениях» он стремился показать, чем обернулись на деле в
общественной жизни Запада знаменитые лозунги Великой
французской революции — лозунги свободы, равенства и
братства,
«Какая свобода?—рассуждает писатель.— Одинаковая
свобода всем делать все что угодно, в пределах закона. Когда
можно делать все что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли
свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без
миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает
все что угодно, а тот, с которым делают все что угодно».
Значит, на самом деле свободны только очень немногие. А отсюда
ясно, что и равенства нет в том обществе, где все решают
миллионы.
Еще более был важен для писателя вопрос о братстве между
людьми. Он-то и являлся, по его мнению, «главным камнем
преткновения на Западе». Достоевский полагал, что «негде
взять братства, если его нет в действительности», что «в
природе французской, да и вообще западной его в наличности не
оказалось», что его «сделать никак нельзя, а надо, чтоб оно
само собой сделалось, чтобы оно было в натуре,
бессознательно в природе всего племени заключалось», что для того,
«чтобы было братское, любящее начало — надо любить», надо,
чтобы «инстинктивно тянуло на братство, общину, на
согласие...».
Такую «тягу на братство» имеет по своей «натуре» только
русский народ, русские народные массы, полагает Достоевский.
На Западе же всецело господствует «начало особняка,
усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в
своем собственном я», начало эгоизма и индивидуализма. А
другое, столь же отрицательное свойство «западного человека»,—
это его склонность к рассудочности и расчету. «В отчаянии»,
что нет настоящего братства, западные социалисты, по его
мнению, начинают «определять будущее братство»,
рассчитывать его «на вес и меру» и соблазнять «выгодой» такого
рассчитанного братства. Русские же простые люди, думает
писатель, тянутся на братство, на согласие не по расчету, не ради
выгоды, а бессознательно, по самой сущности своего
национального характера.
Но это — только простой русский народ, представляющий
собой «почву» всего общества. А русские привилегированные и
•бразованиые слои, больше всего дворянство, давно, еще со
времен преобразований Петра I, приобщивших Россию к
западной цивилизации, утеряли эти положительные
национальные свойства, заимствовали с Запада весь уклад своей жизни,
•се особенности своего мышления а чувствования. Они тоже?
ы
живут началами «особняка» и эгоизма, рассудочности и
расчета, гордости и самодовольства.
Но теперь, после уничтожения крепостного права, по
убеждению Достоевского, всей русской интеллигенции необходимо
понять это, преодолеть в себе эти ложные начала жизни и
найти пути возвращения к родной «почве», к народу, к признанию
его нравственной правды, к смирению и преклонению перед
ней. Самое важное на таком пути, по его убеждению, это
способность к раскаянию в своих пороках, созданных эгоизмом и
рассудочностью, это способность просить прощения и прощать
других, это готовность к самоотвержению и к страданию,
которое все искупает и нравственно очищает человека. Конечно,
такое обоснование братства было утопично, обоснование
действительного братства людей дала лишь теория научного
социализма.
Отрицая мнимую, существующую только по букве закона
свободу в буржуазном обществе, Достоевский видит истинную
свободу совсем в другом. «Поймите меня,— пишет он в том же
фельетоне,— самовольное, совершенно сознательное и никем не
принужденное самопожертвование себя в пользу всех (заметьте:
в пользу всех!— Г. П.) есть, по-моему, признак величайшего
развития личности... высочайшей свободы собственной воли».
Противопоставляя русские образованные слои простому
народу, западную «цивилизацию» — русской крестьянской
«почве» и характер «западного человека» — неиспорченной русской
«натуре», Достоевский тем самым рассматривал реформы,
происходившие в русском обществе, в широком национальном или
даже во всемирном, философско-историческом масштабе.
Писатель высказывал убеждение, что «русский идеал — всецелость,
всепримирение, всечеловечность», что «русская нация —
необыкновенное явление в истории всего человечества», что
«России именно предназначено», поняв в будущем идеалы других
народов, «возвысить их до общечеловеческого значения» и
«двинуть в новую, широкую, еще неведомую в истории
деятельность», увлекая за собой другие народы.
Эти мысли придавали идеалам писателя исключительную
возвышенность. В этом свете само его представление о русской
народной «почве» получило очень широкое и общее значение.
Это была не русская, пореформенная деревенская жизнь с ее
реальными противоречиями и заботами (Достоевский и не знал
повседневной жизни народа), а скорее лишь прообраз
возвышенного нравственного патриархально-демократического идеала
писателя.
Исходя из таких идеалов, Достоевский и пришел к
отрицанию и критике теорий утопического социализма. В этих теориях
и в самом деле было много отвлеченного и рассудочного, потому,
что теоретики-утописты, не зная исторически конкретных путей
перехода общества к социализму, больше писали о том, каким
будет это новое общество, и увлекались идеалом его полной
18
внутренней гармонии. Такой утопизм проявился отчасти и в
романе Чернышевского «Что делать?» В памфлете «Записки из
подполья» (1864) Достоевский, не называя ни этот роман, ни
его автора, пытался опровергнуть такие утопические
представления и доводил их в своей иронической полемике до нелепых
крайностей. Так, он утверждал, что люди по своей натуре
всегда капризны и своевольны, и им будет поэтому скучно в
регламентированной гармонии «хрустального дворца». Тот же
прием он применял и в критике теорий, стремящихся
определить поведение людей условиями их существования.
Однако новые моралистические идеалы самого Достоевского
были еще более утопическими и несбыточными. В какое
вопиющее противоречие вступало все его новое миропонимание с
реальной русской действительностью пореформенных
десятилетий!
Россия встала тогда на путь буржуазного развития при
сохранении самодержавно-полицейско-помещичьего строя.
Отмена крепостного права положила начало буржуазным реформам
в России, которые, однако, затянулись на десятилетия и были
непоследовательны и противоречивы. Чтобы удержать в своих
руках политическую власть, крепостники проводили
буржуазные преобразования сверху. Началось быстрое имущественное
разорение и обнищание трудящихся крестьянских масс, быстрая
утеря ими своей былой патриархальности. Происходило также
обеднение, а нередко и разорение низовых слоев дворянства, не
умевших приспособиться к новым условиям жизни,
отчаявшихся и ожзсточившихся. Стала быстро расти новая, хищническая
буржуазия, которая беззастенчиво сколачивала себе капиталы
путем всякого рода спекуляций, обманов, лихоимства. Возросли
политическая ожесточенность самодержавной власти и ее
репрессии против недовольного и бунтующего народа и
протестующей демократической интеллигенции, защищавшей его
интересы. Разве кто-либо мог в этих условиях следовать
призывам к нравственному возвращению образованных слоев
общества на родную, патриархально-народную «почву», обращению их
к идеалу смирения и раскаяния, которые были присущи, как
думал писатель, народу?
Достоевский остро сознавал все эти новые и глубокие
социальные антагонизмы русского общества и сокрушался об его
резко усиливавшемся нравственном развале. Поэтому во второй
половине своего творчества он и выступил как художник с очень
ярко и остро выраженной моралистической тенденцией своих
произведений. Он был убежден, что в изменениях и улучшении
жизни людей и всей жизни общества, в достижении высокого
всемирного идеала человеческого «братства» решающее
значение имеют не социально-экономические перемены. Это значение
сн видел единственно в разрешении вопросов нравственного
бытия людей — победы добра над злом в их духовной жизни, в
их сознании, игнорируя социально-экономические причины зла*
за
И как художник он всецело сосредоточивался на этой стороне
характеров своих главных героев, почти всегда —
представителей привилегированных или же промежуточных образованных
слоев русского общества его времени.
В свете своих нравственных идеалов он с удивительной
психологической глубиной и проникновенностью вскрывал
умственные заблуждения своих героев, вытекающие из «ложных начал
рассудочности и расчета», а также их душевные падения,
бездны их гордыни, себялюбия, сладострастия, порожденные
дурными свойствами индивидуализма и эгоизма. В этой,
основной, разоблачающей, критической стороне творчества
писателя была его сила. Лишь изредка он пытался
противопоставить миру умственных гордецов и душевных сластолюбцев —
людей высокой нравственной чистоты, носителей своих
отвлеченно-моралистических идеалов. Но такие характеры были
лишены жизненной убедительности, и в попытках их
идеализации была слабость писателя.
Таким образом, в идейно-творческих позициях зрелого
Достоевского таилась глубочайшая внутренняя трагическая
противоречивость. По своим высоким патриархально-демократическим
идеалам, прообраз которых он искал в народной «почве»
русской национальной жизни, писатель, по существу, был врагом
всего того мира, в котором он жил и выступал как xVдожник
и публицист — мира буржуазно-дворянской собствелности и
самодержавно-полицейской власти. Но единственный путь к
достижению своего идеала он видел в преодолении зла добром
в душе каждого отдельного человека. Такое преодоление
должно было бы произойти, по мысли Достоевского, прежде всего в
душах людей, владеющих и властвующих. Но на самом деле
именно они были более других подвержены эгоизму и
самодовольству, корысти и расчету и, значит, были особенно далеки
от нравственного идеала писателя, наиболее чужды этому
идеалу, неспособны к нему прийти. Все реальное развитие русской
жизни постепенно только усиливало такое отчуждение общества
от идеала, только углубляло его. Намечаемые писателем пути к
возвышенному нравственному идеалу национальной, а по его
взглядам — даже и мировой жизни трагически не
оправдывали реального достижения этого идеала.
Писатель не мог этого не чувствовать и хотя бы смутно этого
не сознавать. Тем с большей силой, одержимостью, иногда даже
исступленностью он стремился как художник разоблачать
нравственное зло в душах людей из привилегированных слоев
общества и утверждать свои высокие, философско-моралистиче-
ские воззрения в своем художественном творчестве в
публицистике. Это и придавало его романам ту нагнетенность
событиями и психологическую напряженность повествования, а героям
этих романов — ту одержимость идеями и экзальтированность
переживаний, которые в них так поражают читателей и
которыми романы Достоевского так сильно выделяются среди про-
21
изведений других писателей русской и мировой классической
литературы. Эти лучшие произведения Достоевского нередко
называют «романами-трагедиями», но трагизм существовал не
столько в сознании и поступках героев этих романов, он таился,
прежде всего, в самом идейном и творческом мышлении их
создателя.
Величайшим достоинством больших романов Достоевского
является то, что в свете крайне отвлеченных творческих
замыслов писателя, вытекающих из его моралистического и
идеалистического миропонимания, и при большой гиперболичности
приемов изображения в них отразились характеры реальных
людей разных слоев русского общества 60—70-х годов
прошлого столетия. Абстрактные идеи в каждом романе
пронизывают воспроизведение подлинной русской действительности
того времени. Моралистический идеализм писателя и реализм
его творческого мышления взаимодействуют друг с другом ч
придают его романам исключительное художественное
своеобразие.
Роман о «праве па кровь»
Первый большой проблемный роман Достоезского
«Преступление и наказание» печатался в журнале М. Каткова «Русский
вестник» в течение 1866 года. Перед нами снова Петербург, но
не эпохи Белинского и писателей, «выходивших» в своем
творчестве «из «Шинели», а Петербург пореформенный (лета
1864 года), где стало еще больше бедности, но где беднота
страдает в основном уже не от канцелярских начальников, а от
полной необеспеченности, от жестоких заимодавцев и хитрых
богатых соблазнителей. Эти новые обстоятельства с большой
силой и остротой проявляются в жизни главных героев романа —
бедного студента Родиона Раскольникова, его сестры, и еще
более бедной девушки Сони Мармеладовой и всей ее семьи, обре-*
ченной на вымирание.
Раскольников два года учился в университете, перебиваясь
кое-как дешевыми уроками и скудной поддержкой матери,
жившей в провинции. А потом он не выдержал, «озлился», бросил
учиться, «как паук в свою конуру забился», лишь изредка
получая от ростовщицы Алены Ивановны жалкие ссуды за свои
последние ценные вещи под чудовищные проценты. Теперь оя
еще глубже, чем прежде, раздумывает о том, что же это проис->
ходит в окружающей его жизни, какой найти в ней дая себя
выход.
Соня, оскорбленная попреками своей больной и озлобленной
бедностью мачехи Катерины Ивановны, жалея ее, малолетних ее
голодающих детишек и своего отца, постоянно пьянствующего и
остающегося без места, в отчаянии «пошла на панель». Став
жертвою чужого разврата, но сама не развращенная душевно и
22
тяжело страдающая, она ищет себе утешения в религии, в
чтении Евангелия.
Сестра Раскольникова, Дуня, тоже готова пожертвовать
своей красотой и молодостью ради горячо любимого брата —
продать себя, выйдя замуж за преуспевающего дельца Лужина,
чтобы иметь возможность помогать Родиону. Придя в отчаяние
от такого намерения сестры, Раскольников думает, что
предстоящий ей «жребий» ничуть не лучше «жребия» Сони Марме-
ладовой, и в порыве жалости к ним мысленно объединяет обеих
девушек в одном трагическом образе «вечной Сонечки, пока мир
стоит».
Вместе с Дуней приезжает в Петербург из провинции и ее
жених, соблазнивший ее перспективой выгодного брака.
Знакомясь с Раскольниковым, Лужин восхваляет перед ним эгоизм и
расчетливость как принципы жизни, ведущие к карьере и
выгоде, и этим оправдывает догадки Родиона и его матери, что
он женится на Дуне для того, чтобы взять ее в семейное рабство
и господствовать над ее красотой.
А вслед за Лужиным в столице появляется еще более
коварный и опасный соблазнитель Дуни — помещик Свидригай-
лов, человек развращенный и циничный не менее князя Вал-
ковского, подобно ему «присматривавший» прежде у себя и
усадьбе, с согласия жены, за дворовыми девушками и своими
издевательствами доведший до петли крепостного лакея. В его
семье Дуня по бедности служила в гувернантках, он доби*
вался тогда ее любви и теперь приехал в Петербург, чтобы
продолжать эти свои происки, а заодно поразвратничать в
трущобах столицы.
Значит, и этот новый роман, подобно «Униженным и
оскорбленным», построен на контрасте между людьми, униженными и
оскорбленными в своей бедности и беззащитности, и людьми,
их унижающими и оскорбляющими в силу своего богатства и
предприимчивости. Но теперь этот контраст гораздо резче,
теперь он далеко выходит за пределы любовных и семейных
отношений. Поэтому и характеры ряда героев — ожесточенного
бедностью студента, девушки-проститутки, наглого
преуспевающего дельца, старухи-ростовщицы, а затем и следователя
по уголовным делам — в этом романе совсем новые, небывалые
еще у писателя.
Но главное не в этом расширении творческих горизонтов
Достоевского. Главное в том, что он изображает все эти
углубившиеся противоречия пореформенной столичной жизни в
свете своего нового «почвеннического» миропонимания, своих
новых, религиозно-моралистических идеалов. Отсюда и
проистекает основная идейно-психологическая антитеза романа —
рассудочные теории Раскольникова, ведущие его к злу, и
религиозно-нравственные порывы Сони, в которых так много
добра. Они резко противоположны друг другу. И писатель
всем своим романом хочет показать неправду первых и истин-
23
ность вторых. Однако при этом не навязывает своего
«приговора» читателям. Он зовет их проникнуть во внутренний,
душевный мир Раскольникова. Этот герой в течение всего
романа находится на первом плане повествования: для
изображения его внутреннего нравственного конфликта в основном и
написано произведение.
Раскольников по своему положению — рядовой русский
студент, из-за невзноса платы бросивший ученье и бедствующий,
обносившийся, ютящийся в жалкой каморке, похожей на шкаф.
Но вместе с тем он человек исключительный по активности и
принципиальности своего отвлеченного мышления, отточенного
изучением юридических наук. Он горд и озлоблен. По своему
духовному складу он — индивидуалистический протестант,
негодующий на окружающую его жизнь. И во всем этом он
выступает как выдающийся представитель тех отрицательных для
автора принципов жизни—принципов «рассудочности» и
«особняка», которые будто бы пришли в русские образованные умы
из буржуазного Запада.
Но, с другой стороны, по условиям своей жизни бедного
разночинца, Раскольников — человек, глубоко сочувствующий
всему обездоленному люду, способный к стихийным
демократическим стремлениям. В прошлом он заботился о больной
девушке, вынес из огня детей, на наших глазах, в романе, он
оставляет свои последние деньги голодающей семье Мармела-
довых, старается спасти соблазненную девушку от полной
гибели. Характер Родиона сложен и противоречив. Отсюда
противоречивы и его рассудочные теории.
В одной из этих теорий, которую он изложил в статье,
напечатанной в столичной газете еще за полгода до роковых событий
его жизни, он утверждал, что люди в обществе всегда
разделены на две неравные части — на «обыкновенных» и
«необыкновенных». Первые созданы для повседневного существования и
повиновения существующим законам; вторые по самой своей
натуре — смелые новаторы, учредители новых идей и законов.
Ради этого они имеют высокое нравственное право нарушать
старые законы и, если понадобится, проливать при этом кровь
человеческую. В своей статье Раскольников упоминает в связи
с этим великих ученых — Кеплера, Ньютона, но главными
историческими примерами и образцами выступают у него
политические деятели и преобразователи общества — Солон, Ликург,
Магомет и в особенности Наполеон, который наиболее смело
жертвовал множеством чужих жизней для достижения своей
личной власти.
Пример Наполеона кружит Родиону голову. Почему? Ведь
Наполеона вынесло к власти огромное общественное движение,
борьба революции и контрреволюции во Франции на рубеже
веков. А Раскольников — жалкий и слабый бедняк-одиночка,
которому совсем не на кого опереться. Какой уж он Наполеон!
Но все дело в том, что теоретически думая о Наполеонах и их
24
«праве» на пролитие крови, бедный студент у Достоевского
выражал этим свой смутный протест против социального уклада
русской жизни, обрекшего его и его семью на бедность и
унижения. А вместе с тем своей теорией он бессознательно готовил
себя самого к преступлению, в результате которого он и сам
мог бы выйти из тупика. Он изображал себе дело так, что ему
необходимо проверить, не рожден ли он сам с «натурой»
Наполеона — проверить себя, конечно, пока не захватом власти (куда
уж там!), а всего только убийством и ограблением старушки-
процентщицы, Алены Ивановны, которой он сам носил
заклады. Для него было бы выходом, если бы он нравственно вынес
пролитие крови и оказался бы тем самым из породы новаторов.
А на полученные деньги он мог бы спасти себя и свою семью
от безысходной нужды и выбиться в люди и проявить далее
выдающиеся способности и искупить этим свое преступление.
Но Раскольников был юноша честный и совестливый.
Убивать в своих личных целях, совершать обыкновенное уголовное
преступление ему было мерзко и отвратительно. Поэтому вслед
за первой теорией о Наполеонах он создал другую теорию,
которая смягчала и оправдывала жестокость первой, но тоже была
основана на бессознательном самообмане. Он придумал, что
может убить старушонку для того, чтобы на украденные у нее
большие деньги помогать другим людям, спасти «сотни молодых
жизней» от гибели и разврата.
Эта вторая теория была как будто альтруистической и
благородной. Но все-таки это была «теория» — рассудочное,
умственное построение, основанное на расчете. Так и говорили о
ней в подслушанном Родионом разговоре студент и офицер, уА
которых, оказалось, было такое же направление мыслей.
Значит, Раскольников внутренне готовил себя к пролитию
крови отвлеченными теориями, в которых жизнь и смерть
человеческая определялись не нравственными побуждениями, а
умственными расчетами. Такие теории оправдывали
преступление, толкали на него бедного, голодающего студента в жестокой
жизни пореформенного Петербурга. Раскольников еще долго
мучился бы противоречиями между своими тайными,
теоретически оправданными намерениями и своим глубоким душевным
протестом против них. И он, может быть, так и не убил бы
старушонку, если бы необходимость немедленно спасать свою
сестру и мать от Лужина не встала бы перед ним внезапно со
всей силой. Тогда он взял топор, застал Алену Ивановну одну
в квартире и зверски убил ее. Если бы он не подготовил себя
к этому своими теориями, он не совершил бы преступления.
Основной замысел романа Достоевского и заключался в том,
чтобы показать, до чего могут довести образованных русских
людей отвлеченные эгоистические расчеты, навеянные будто бы
извне, чуждые им по национальным особенностям их «натуры»,
и до какой степени могут быть безнравственны и ужасны
результаты этих расчетов.
85
Но роман имел и свой политический «подтекст». Идеей
безнравственности пролития крови по расчету, писатель, видимо,
хотел уязвить и враждебное ему теперь передовое
демократическое движение с его революционными теориями,
оправдывающими насилие, и уже намечавшейся тогда политикой
индивидуального террора. Достоевский работал над романом, когда
Каракозов совершил покушение на Александра II.
Но все это относится к политическому «подтексту» романа.
В тексте же его писатель изобразил не общественную борьбу,
а уголовное преступление отчаявшегося в своей бедности
студента, рассудочно возомнившего себя маленьким Наполеоном.
В осуждении безнравственности такой идеи и такого поступка
своего несчастного героя Достовский был вполне справедлив.
Однако как и во имя чего писатель идейно осуждает бедняка-
студента? При всей религиозности обоснования своих
патриархально-демократических, «почвеннических» идеалов
Достоевский уже в 60-х годах был глубоко убежден, что преступления
и всякие вообще грехи человеческие караются не вечными
адскими муками по смерти, «на том свете», а муками
преступников «на этом свете», их тяжелыми нравственными страданиями,
в частности их мучительным отчуждением от других людей.
И он полагал, что в результате этих страданий преступники
должны прийти к раскаянию и к новому, более высокому
единению с людьми в «братстве» с ними. При таком понимании
проблема преступления переносилась в отвлеченный моральный
план, в котором игнорировались реальные характеры и
отношения людей в обществе. Получалось, что все и всякие люди — и
подобные Раскольникову, с их стихийными демократическими
стремлениями, и подобные Свидригайлову или Лужину, с их
нравственной растленностью, богатством и властью,—
одинаково могут и грешить, и страдать от грехов, и преодолевать свою
греховность страданиями. В этом была глубокая и трагическая
ошибка теоретических убеждений Достоевского, но он остался
ей верен до конца.
Однако как художник, умеющий всматриваться в
изображаемые характеры и постигать их внутреннюю «логику»,
Достоевский осознавал их глубокие различия. Он не обнаружил
способности страдать из-за своих жестокостеи и преступлений
у Лужина, но в полной мере обнаружил ее у Раскольникова. На
всем протяжении событий, изображенных в романе, писатель
показывает нарастающие нравственные мучения Раскольникова
и до убийства, и в его момент, и особенно после него. Мучения
эти усиливаются слабостью натуры Родиона — вовсе не
наполеоновской натуры, напротив!— а сознание своей слабости
глубоко оскорбляет его, так как он был горд и был о себе и своих
способностях самого высокого мнения.
Но писатель не довольствуется этими внутренними,
психологическими причинами глубоких страданий героя, он
усиливает их наоочитыми стечениями обстоятельств и всякими неожи*
26
данностями. Убивая старуху, Родион в возбуждении не запер
дверь, а это обрекло его на убийство бедной и кроткой Лизаве-
ты; затем его едва не схватили на месте преступления, и только
случай помог ему незаметно выбраться из дома; наутро его
вызвали в полицию из-за старого денежного долга, но он долго
ждал там, боясь, что все уже открылось, и упал в обморок,
вызывая подозрения. Лежа в горячке, он боялся, что в бреду
выдал себя, и выздоравливая, с тайной дрожью слушал рассказы
Разумихина и Зосимова о только что происшедшем страшном
двойном убийстве, которое он сам-то и совершил. Потом его
потянуло читать газетные сообщения о своем преступлении, и
далее — в квартиру убитой, чтобы еще раз послушать, как {звенит
ее дверной колокольчик, и вновь испытать «холод в спинном
мозгу», и спрашивать маляров о пятнах крови на полу, явно
выдавая себя. А там незнакомый мещанин вдруг называет его
убийцей, и он видит во сне свою жертву, которая смеется над
ним, а он снова бьет ее по голове... Так мучает Достоевский
своего преступного героя.
Но все это были тайные переживания убийцы, вызванные
благородством его души и его нервной слабостью, и о них никто
не знал. Настоящая опасность надвинулась на Раскольникова
тогда, когда его стал вызывать на допросы опытный и
вдумчивый следователь Порфирий Петрович. Скоро эти допросы стали
для убийцы настоящей пыткой, и он все больше чувствовал, что
долго этого не выйесет. И следователь у Достоевского совсем
не обычный, а особенный. Уже до первой своей встречи с
Родионом он успел найти и изучить его юридическую статью о
«Наполеонах» и «дрожащей твари» и со скрытой иронией заставил
на вид излишне развязного и веселого студента разъяснять ее
зловещее содержание (тут только читатель и узнает о
существовании у героя его ранней и оснозной теории). А главное,
Порфирий оказался психологом совсем в духе самого автора.
Он полагает, что Раскольников не обыкновенный уголовник,
что он одержим не выгодой, а идеей, что он не скроется поэтому
из-под следствия, что он уже теперь глубоко страдает и в
дальнейшем сможет взять на себя еще большее страдание, чтобы
им искупить свое преступление. «Что же, страдание тоже дело
хорошее. Пострадайте...— говорит он убийце,— а вы лукаво не
мудрствуйте; отдайтесь жизни прямо, не рассуждая... прямо на
берег вынесет и на ноги поставит».
Значит, представитель следственной власти у Достоевского
заботится не о внешнем наказании преступника, а его наказании
нравственном, внутреннем и о его духовном возрождении. И это
не случайно. Позднее, ко времени создания «Братьев
Карамазовых», у писателя вполне созреет совершенно уже отвлеченная,
внеисторическая и неисполнимая, но тем более захватывающая
его идея о будто бы существующей необходимости и
возможности постепенного превращения «государства» (русского
самодержавно-бюрократического государства!) в церковь — не в ка-
27
зенную церковь, а в церковь как свободный союз верующих.
Следователь Порфирий и выступает у него отчасти прообразом
такого превращения — получиновником-полупроповедником.
Но как же душевно слабому и умственно гордому Расколь-
никову одному, без чьей-либо живой, любящей поддержки
принять на себя раскаяние, страдание и искупление? Достоевский
и посылает ему на помощь Соню Мармеладову. Отношение
Родиона к Соне также показывает, что он бессознательно уже
стремится к страданию. Если с обыкновенными и самыми
близкими себе людьми — с матерью, Дуней, Разумихиным — он
действительно чувствует глубокое отчуждение, то к Соне его
влечет сознание общей тяжелой судьбы. Ведь Соня — тоже
преступница, с тем только большим различием, что она ке другого
убила по своим эгоистическим расчетам, а себя саму
самоотверженно погубила для блага других. Но все же и она поставила
этим себя вне нормальной человеческой жизни и также
нуждается в искуплении.
Раскольников пошел к Соне только после того, как
разглядел ее получше на поминках по ее раздавленному на улице отцу.
Его встречи с Соней в ее бедной комнатке обнаружили в нем
приближение к нравственному перелому. Ему ведь было так
трудно, преодолеть в себе гордость, самомнение, уверенность в
правоте своих теорий. При первой встрече его сердит кротость
и безответность Сони, ее надежда на бога, и он срывает на
ней свои мрачные чувства вызывающим утверждением, что бога
нет, побуждая ее этим на отчаянный протест. Но затем он все
же сам заставляет ее читать евангельскую сцену воскрешения
Лазаря, в душе относя ее, быть может, и к самому себе. А потом
он склоняется перед падшей девушкой, целует ее ногу и говорит,
что это ов в ее лице «всему страданию человеческому
поклонился». Второй раз он идет к ней уже как к близкому другу, сам
признается ей в своем убийстве, пытается, путаясь в причинах,
объяснить ей, зачем он это сделал, просит ее не оставить его в
несчастье и получает от нее полный трагического вдохновения
наказ—идти на площадь, целовать землю и каяться перед всем
народом. Это так естественно для верующей Сони, но в этом
звучит уже и голос автора, ведущего своего главного героя к
страданию и искуплению его вины.
Но прежде чем Раскольников и в самом деле донес на себя,
автор изображает новую встречу его и Дуни со Свидригайло-
вым, чтобы свести с этим героем свои последние счеты. Родиона
тянет к Свидригайлову, так как он смутно чувствует, что у него
и с ним есть нечто общее. И в самом деле, по роману рассыпаны
намеки на то, что этот соблазнитель Дуни до приезда в
Петербург убил свою жену, но сумел это скрыть от закона. Значит,
он такой же преступник, как и Раскольников, но какое глубокое
различие между ними в этом их положении! Родион, совершив
убийство в тяжелом интеллектуальном надрыве, мучается
содеянным, места себе на находит; Свидригайлов по самому харак-
28
теру своему способен к преступлениям (в прошлом он был шу-*
лером и довел до смерти своего крепостного слугу), а теперь со
своей барской избалованностью он как будто спокойно
наслаждается жизнью и собирается даже жениться на
девочке-подростке. Вместе с тем, подслушав признания Раскольникова Соне, он
пытается воздействовать этим на Дуню, добиться ее
благосклонности ценой своего молчания. Заманив девушку в
уединенное место, он едва не доходит до насилия над нею. Что же
остановило его?
Достоевский хочет показать, что если разночинец
Раскольников при всем своем тяжелом падении может инстинктивно
тянуться к страданию, которое приведет его к нравственному
возрождению, то барин Свидригайлов может только тайно
скучать и томиться от безмерной пресыщенности всякими
наслаждениями, пресыщенности такой глубокой и невыносимой, что
она даже приводит его к намерению покончить с собой. Он^
беседует с пришедшим к нему Раскольниковым, и их встреча
показывает, как глубока нравственная пропасть между ними.
Свидригайлов считает Родиона «гражданином и человеком»,
«Шиллером и идеалистом», а тот видит в нем «грубого злодея»,
«развратника и подлеца». «Даже злодейство не могло быть у
них одинаковым»,— думает Родион. Для такой
социально-психологической антитезы и введен в роман о бедных людях
помещик Свидригайлов. Кошмарной дождливой ночью в гостинице
он страдает совсем не так, как Раскольников,— никакого
просвета нет в его опустошенной душе — и под утро он совершает
давно задуманное самоубийство. Однако перед смертью он все
же сделал два нужных автору добрых дела — пристроил
осиротевших детишек Катерины Ивановны, умершей от чахотки в
тяжелом душевном надрыве, и оставил деньги Соне.
В сцене публичного покаяния Родиона на площади ясно
проявилось двойственное понимание Достоевским человеческого
сознания. Он изображает это так, что глубоко таившиеся в душе
Раскольникова его добрые, человеческие чувства как бы
прорвались наружу сквозь его эгоистическое, рассудочное
самосознание. «...Он так и ринулся,— пишет Достоевский,— в
возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то
припадком оно вдруг к нему подступило... Все разом в
нем размягчилось, и хлынули слезы».
Но, несмотря на это внезапное покаяние, суд и приговор к
каторге, Раскольников не сразу смог до конца преодолеть в себе
свою эгоистическую замкнутость и рассудочную гордость. Он
жил в остроге среди простых людей, но долго не мог прийти к
столь желаемому автором нравственному единению с ними.
Достоевский теперь совсем иначе изображает каторжан, чем в
«Записках из Мертвого дома». Там он ценил среди
преступников особенно сильных и стойких людей, которых он называл
«самым даровитым, самым сильным народом», не знающим
религиозного раскаяния. Теперь же каторжане становятся рели-
29
гиозно-нравственными судьями умственно заблудившегося
интеллигента. Тот болел от своей «уязвленной гордости», а
они ненавидели его как «барина» и как бездельника, и ему
«казалось, что он и они были разных наций». И только тогда,
когда в герое произошел окончательный нравственный перелом,
когда «вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к
ногам Сони» (снова автор подчеркивает стихийность
переживаний Родиона!), каторжане перестали его ненавидеть и стали
ласково относиться к нему. Все эти сцены эпилога романа вытекают
не столько из особенностей характера героя, сколько из
«почвеннических» идеалов самого писателя.
Таким образом, антитеза характеров главных героев
«Преступления и наказания» и внутренние противоречия этих
характеров воспроизведены Достоевским с глубоким реализмом.
Уголовно-детективный конфликт романа представляет собой
гиперболическое усиление этих противоречий, выражающее основную
истинную идею романа — нравственное отрицание и
разоблачение индивидуалистического и рассудочного протестантства,
вытекающего не из понимания сущности жизни, а из
субъективной к ней враждебности. Такое протестантство было
свойственно некоторым кругам демократической молодежи 1860-х годов.
Но оно существовало и в другие исторические эпохи. Однако
то, что писатель стремился привести своего главного героя к
пассивному страданию и религиозно-нравственному смирению
перед противоречиями жизни, было ложной стороной идейной
направленности его романа, выражающей слабые стороны его
мировоззрения. В этом не было реализма.
Итак, «Преступление и наказание» — это, действительно,
роман-трагедия, и его главный герой — лицо трагическое.
Обосновав свое преступление, нужное ему самому, хотя и
рассудочными, но высокими и «сверхличными» идеями,
Раскольников пришел в этом противоречии к полному нравственному
поражению. «Болезнь уязвленной гордости», которая мучила его
на каторге, была не укором самолюбия, а крахом всех идейных
основ его прежней жизни. И внезапно возникшая любовь к
Соне, которая автору казалась «зарей обновления», не вытекала,
конечно, из существа его характера. В этом он несколько
напоминает лермонтовского Демона, которого тоже не могла
спасти чистая, но наивная и детская любовь.
По выходе романа на него откликнулся Д. Писарев своей
статьей «Борьба за жизнь». Подобно Добролюбову, этот
критик-демократ считал ненужным рассматривать и оценивать
художественный замысел писателя, субъективную идейную
тенденцию его произведения. Он подробно разобрал роман для
того, чтобы показать читателю, что все переживания,
стремления, идеи бедного студента Раскольникова ужасны и
ненормальны только потому, что ненормальны и ужасны те условия
жизни, в которые он, как и другие бедняки, поставлен общест*
30
вом их времени. Своей статьей критик намекал читателям на
необходимость радикального изменения этих условий.
Одновременно с «Преступлением и наказанием»
Достоевский быстро написал повесть «Игрок» (1866). В ней, по его
признаниям, он хотел показать русского
интеллигента-разночинца за границей. Это человек с «натурой непосредственной»,
но «недоконченной», который одновременно и «изверился» в
жизни, и «не смел не верить» в нее, который, отдав все свои
«жизненные силы» игре в рулетку, чувствовал в ней и «поэзию»
риска и всю ее «низость». Изображение такого героя и рядом
с ним целой дворянской семьи, растрачивающей свои деньги за
границей, было связано, несомненно, с личными зарубежными
впечатлениями писателя.
«Вполне прекрасный человек»
В декабре 1866 года закончилось печатание первого проблемного
романа Достоевского, а уже в середине мая следующего года
писатель выражает свои надежды на создание нового
произведения, которое— ему кажется — должно превзойти
«Преступление и наказание». Он только еще задумал тогда роман «Идиот»,
а в течение всего 1868 года этот роман уже печатался в том же
журнале. Какая быстрота и напряженность творческой работы!
Это тем более удивительно, что новый роман очень сильно
отличался от предыдущего и идейной направленностью, и
изображенными характерами. В «Преступлении и наказании»
ка авансцене повествования — бедные, униженные и
оскорбленные своей бедностью люди, и лишь в глубине сцены —
пресыщенный наслаждениями барин и самодовольный,
преуспевающий делец. «Идиот» же только начинается с приезда в
столицу очень простоватого, робкого и на вид очень бедного
молодого человека, который, однако, оказывается родовитым
русским князем Мышкиным, получающим затем богатое
наследство. И вместе с ним мы, читатели, вступаем в чиновно-аристо-
кратические круги Петербурга, в семью генерала Епанчина,
знакомимся с его дочерьми, особенно с младшей, красавицей
Аглаей, и с другой красавицей, Настасьей Филипповной,
бывшей любовницей большого барина Тоцкого, и с молодым
купцом — миллионером Рогожиным и остаемся в этой
привилегированной среде до конца романа. Какое же все это имеет
отношение к «почвенническим» взглядам Достоевского? Ведь
русской народной «почвы» в новом романе вовсе нет.
«Идиот» — это новый этап в развитии миропонимания
Достоевского. Писатель только что привел идейно заблудившегося
студента Раскольникова к страдающему и верующему в бога
каторжному народу. Теперь его мучила более сложная и
трудная проблема — мысль о том, как может стихийное
демократическое русское «братство», ставшее его идеалом, изменить всю
31
национальную жизнь и, прежде всего, жизнь людей богатых
и знатных. Не забудем, что Достоевский не признавал иных
путей к достижению идеала, кроме нравственного воздействия
одних людей на душу и совесть других. Вот он и привел
Мышкина в среду Епанчиных, Тоцких, Рогожкных. Он считал —
как это видно из его переписки — основной задачей своего
нового романа изображение «вполне прекрасного человека» или
«положительно прекрасного человека». Что же «положительно
прекрасного» в Мышкине и чем он лучше всех окружающих его
в романе героев?
Почти все прочие герои романа — люди гордые и
самодовольные, они живут своими эгоистическими стремлениями,
капризами или же интересами выгоды и карьеры, проявляют
скрытность, хитрость, лицемерие. Мышкин введен в роман как
их нравственная антитеза. Он лишен эгоизма и гордости, в
своих отношениях с людьми он неизменно проявляет доброту
и сострадание, простоту, искренность и доверчивость, почти
детскую. При этом он явно инфантилен и кажется иногда
*идиотом».
На этом и строит писатель исходный конфликт романа,
сразу же затянувший в себя и только что приехавшего из
Швейцарии Мышкина. Конфликт этот очень характерен для
изображаемой среды и эпохи — четверо мужчин «торгуют» красавицу-
женщину. Тоцкий в прошлом особо воспитав красивую девочку
Настю для своих любовных утех и сделав ее своей наложницей,
теперь хочет освободиться от нее ради выгодной женитьбы на
старшей дочери Епанчина и предлагает Насте в виде
«отступного» большие деньги. Епанчин помогает ему и хочет женить
на Настасье Филипповне и ее деньгах своего секретаря Ганю
Иволгина, с тайной надеждой и самому купить расположение
его будущей жены богатыми подарками. Ганя мучительно
колеблется между соблазном получить красавицу-жену с ее
богатым «приданым» и боязнью позора для себя и для своей
семьи. Но в Настасью Филипповну страстно влюбился
Рогожин, и он прямо, по-своему, по-купечески, хочет перекупить ее
себе, предлагая ей вместо 75 тысяч Тоцкого свои 100 тысяч
рублей. Всем этим героям с их эгоистическим и расчетливым
соперничеством, граничащим со скандалом, и противостоит князь
Мышкин, человек совсем иного душевного склада,
почувствовавший к женщине, которую «торгуют» как вещь, только любовь-
жалость, только уважение к ее поруганной личности.
Но кто же сам Мышкин? Это — герой всецело
«выдуманный» писателем, созданный им для воплощения его высоких и
отвлеченных нравственных идеалов? Или же у него все-таки
есть вместе с тем какой-то определенный социальный характер,
обусловленный обстоятельствами? Конечно, последнее!
Вглядываясь в Мышкина, робко защищающего Настасью Филипповну
от ее обидчиков, мы легко узнаем в нем петербургского
«мечтателя^ которого писатель уже изображал и в лице рассказчика
32
в «белых ночах», и в лице Ивана Петровича, главного героя
«Униженных и оскорбленных». Это — русский разночинец
патриархально-демократического склада.
Подобно «мечтателю» из «Белых ночей», Мышкин пере*
жил — еще в Швейцарии, в лечебнице для душевнобольных—«
период крайнего одиночества. И теперь, оказавшись в сутолоке
петербургской жизни, окруженный множеством новых для него
лиц, он постоянно жаждет одиночества и в самые напряжен*
ные моменты жизни чувствует свою душевную слабость. Так,
после первой публичной выходки Настасьи Филипповны, в
разгар всяких пересудов о ней, Мышкину «ужасно вдруг
захотелось оставить все здесь, а самому уехать назад... куда-нибудь
подальше». Или в сцене общей прогулки в парке, на музыке,
рядом с Аглаей он чувствовал, что «ему хотелось уйти куда-
нибудь... чтобы быть одному со своими мыслями, чтобы никто
не знал, где он находится».
Как и «мечтатель», Мышкин всегда готов погрузиться в мир
отрешенных от практической жизни переживаний, в любованиз
природой. Он уверен, что «лучше птички ничего нет на свете»*
Но в своем одиноком мечтательстве он, видимо, отражает в
какой-то мере жизненный опыт автора. Так, он уверен, что в
тюрьме можно «огромную жизнь найти», и вполне понимает,
заключенного, у которого «все знакомство-то... было с пауком
и деревцем, что под окном выросло». Подобно «мечтателю»,
Мышкин склонен впадать иногда в экстатическое состояние,
когда «одна минута» продолжается «целую вечност.»». Но эти
состояния у него мотивированы эпилепсией.
Гораздо сильнее, чем у «мечтателя», развита у Мышкина
«детскость» его характера, что вытекает из основной
нравственной антитезы между героями романа. И другие герои — горде*
цы, сладострастники и карьеристы — обращают на это
усиленное внимание. Генерал Епанчин называет Мышкина
«искренним и задушевным человеком», генеральша — «добрейшим
молодым человеком», Фердыщенко понимает его поступки как
результат «невинности», Рогожин на своем простом языке
называет его «овцой», Настасья Филипповна не хочет «этакого-то
младенца сгубить». Сам герой говорит о себе: «Я сам
совершенный ребенок, то есть вполне ребенок... я только ростом и
лицом похож на взрослого...». И еще в большей мере, чем
«мечтатель» из «Белых ночей», Мышкин выступает среди героев и
героинь как «существо среднего рода».
Со своей детской искренностью, с чистотой своих помыслов
Мышкин введен Достоевским в среду светско-чиновных
гордецов и карьеристов для того, чтобы нравственно противостоять
им, чтобы оказывать на них моральное воздействие, душевно
просветлять их. В этом смысле он для автора —
«положительно прекрасный человек». Для того чтобы облегчить быстрое
сближение Мышкина со знатными и богатыми людьми, автор
и сделал его князем. Но это такой князь, который вышел из
23
давно обедневшего и захиревшего рода и отец которого был
простым офицером, сам же он воспитывался из милости по
чужим усадьбам. По фамилии Мышкин — князь, по существу
же своего характера он разночинец; в дворянской среде Епан-
чиных он чувствует себя чужим, гораздо спокойнее и
естественнее чувствует он себя в семье мелкого чиновника Лебедева, в
общении с его скромной дочерью Верой, с мальчиком Колей
Иволгиным.
Но Достоевский по своему основному замыслу сразу вводит
своего положительного героя в светскую среду (генеральша
оказалась по воле автора дальней родственницей Мышкина),
делает его свидетелем, а потом и участником решения судьбы
Настасьи Филипповны. Она сразу потянулась к нему всей
душой, и Мышкин сделался тем самым соперником Рогожина.
А вместе с тем он стал предметом сначала тайного, а затем и
явного дружески-любовного участия избалованной барышни,
Аглаи Епанчиной. Она решила, далее, выйти за него замуж, к
изумлению всей семьи и окружения, и поэтому стала
соперницей Настасьи Филипповны. Словом, автор поставил своего
«вполне прекрасного человека» в центр очень острых любовно-
семейных противоречий, целого клубка личных, эгоистических
страстей. Мышкин и призван был в этих труднейших условиях
просветлять других людей своей нравственной «детскостью».
Что же из всего это получилось? Оправдал ли Мышкин
большие надежды автора?
Если бы Достоевский был в своем творчестве в большей
мере публицистом и проповедником нравственных идей, нежели
художником, тогда ему ничего не стоило бы подчинить
характеры и отношения героев своему моралистическому замыслу и
обеспечить Мышкину полный успех в его трудной миссии. Но
й Достоевском, при всей страстности его стремления к идеалу,
художник все же почти всегда брал верх над абстрактным
Мыслителем. И в «Идиоте» весь конфликт развертывается и
разрешается не в соответствии с отвлеченным замыслом автора,
а в соответствии с «логикой» изображаемых социальных
характеров.
Так возникают и развиваются отношения Мышкина и
Настасьи Филипповны. Они встретились в разгар «торга» из-за
ее красоты, когда перед соблазненной и брошенной женщиной
встал выбор: или на большие деньги Тоцкого купить себе
честное замужество с Ганей Иволгиным и войти в честную, семью,
или же продаться Рогожину за еще большие деньги и потом,
может быть, стать «порядочной» женщиной в законном браке
с ним. Никого из них она не любила, и никто из них не любил
ее той любовью, о которой она мечтала. И никаких других
понятий о своем прошлом и о своей возможной жизненной дороге
у этой жертвы барского сластолюбия не было. А между тем в
душе Насти Достоевского — подобно тому, как это было с
Настей Горького в пьесе «На дне»,— жил идеал настоящей*
34
глубокой взаимной любви с неведомым избранником.
«Думаешь-думаешь, бывало-то мечтаешь-мечтаешь,— говорит она
князю,— и вот все такого, как ты воображала, доброго,
честного, хорошего... что вдруг придет да и скажет: Вы не
виноваты, Настасья Филипповна, а я вас обожаю!».
Нечто подобное и говорит ей Мышкин и, только что
получив богатое наследство, перед всеми заявляет, что готов на ней
жениться. Однако Настасья Филипповна тут же бежит с Ро-
гожиным (и князь за ними!). Почему это? Потому что она
видела все великодушие князя и считала себя не вправе им
воспользоваться. Потому, еще более, что ей страшно хотелось
бросить резкий вызов всему погубившему ее и торгующему ею,
такому на вид «добропорядочному» чиновно-дворянскому
«обществу» и демонстративно назвать себя «рогожинской». Все это
психологически очень точно.
Также осознаны автором и отношения Настасьи Филипповны
с Рогожиным. Его внезапно вспыхнувшая страсть к
красавице — это очень характерное для богатой и некультурной
купеческой среды проявление семейно-бытового самодурства.
Рогожин и в самом деле думал сначала, что может купить женщину
за свои тысячи. Но глубоко оскорбленная Тоцким и Ганей,
Настасья Филипповна вымещает свое оскорбление на Рогожине
и оскорбляет его. После того как она несколько раз «убегала»
от него, даже из-под венца, когда он почувствовал, что самая
мысль о браке с ним для нее «омерзела», тогда лишь он
превратился из самоуверенного самодура в человека глубоко
оскорбленного и озлобленного, одержимого своей страстью. Он
уже поглядывает на нож, которым может зарезать
издевавшуюся над ним красавицу, он даже едва не убивает своего со-
лерника Мышкина. И в этом автор верен сущности характера
героя.
Но Мышкин, скрываясь с Рогожиным и Настей где-то под
Москвой, может только умерять своей кротостью их оскорблен-
ность и страстность и становится «побратимом» Рогожина. Сам
же он любит несчастную женщину только любовью-жалостью.
Ни на что другое, как спасать ее от Рогожина, он не способен.
То время (в конце романа), когда Настасья Филипповна
готовится стать его женой, хорошо показывает его. Когда она
была спокойна, он только слушал ее, а «сам ничего не говорил»,
в минуты же ее отчаяния он только «гладил ее по головке»,
«утешая и уговаривая ее, как ребенка».
Мышкин любит и Аглаю, но не как мужчина, а как
«ребенок», «любовью-восхищением». Поэтому в глубине души
он очень боится ее, чем дальше, тем больше краснеет,
«обмирает», «погибает» в ее присутствии, отвечая невпопад на ее
вопросы. Но Аглая и сама «ребенок», очень характерное явление
для своей среды и для своего времени. Она избалована в семье,
но все же смутно сознает ограниченность и пустоту жизни своей
среды и хочет «бежать из дому», «изменить свое социальное
35
положение» и «пользу приносить». Плененная чистотой и
искренностью Мышкина, она выбирает его своим «другом» и
наивно видит в нем своего наставника. Но чему князь мог бы
научить ее? Став ее мужем, он и с ней молчал бы или же
утешал бы ее как ребенка в случаях ее недовольства.
Однако Мышкин становится женихом Аглаи и выступает
таковым перед аристократическими знакомыми ее семьи. Это
дает повод писателю вложить ему в уста длинную резонерскую
речь. Формой своей эта речь по-мышкински сумбурна, но до
содержания ее Мышкин никак не мог бы додуматься; она
целиком принадлежит самому Достоевскому, выразившему в ней
свои «почвеннические» идеи («обновление человечества»
произойдет, «может быть, одной русской мыслью, русским богом
и Христом», католицизм — «нехристианская вера», социализм—
«порождение католичества» и т. д.).
Хотя Мышкин действительно нравственно . «просветлял»
многих людей, это «просветление» не только ничего не изменило,
по существу, в их жизни, но еще более усилило и углубило ее
противоречия. А сам князь, измученный напряжением страстей,
кипевших вокруг него, вновь потерял рассудок, проведя ночь с
Рогожиным у трупа Настасьи Филипповны, и снова
отправился в Швейцарию, в лечебницу для душевнобольных.
Так под пером Достоевского-реалиста «вполне прекрасный
человек», задуманный для выражения
отвлеченно-моралистического идеала, не оправдал возлагавшихся на него надежд.
Искренность и доброта не могли противостоять напору
эгоистических стремлений и корыстных расчетов.
Однако сама постановка проблемы, что такое «вполне
прекрасный человек», была очень важна.
И это понял М. Салтыков-Щедрин. Упрекнув Достоевского в
карикатурном изображении демократической молодежи, он дал
ему такую высокую общую оценку: «По глубине замысла, по
ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им,
этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только
признает законность тех интересов, которые волнуют
современное общество, но даже идет далее, вступает в область
предвидений и предчувствий, которые составляют цель не
непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества»!.
Антианархистский роман Достоевского
В конце 1869 года, находясь за границей, Достоевский очень
заинтересовался сообщениями о том, что последователь анархиста Михаила
Бакунина, Сергей Нечаев, и участники его подпольного кружка убили под
Москвой одного из своих товарищей из-за каких-то разногласий с ним, были
арестованы и отданы под суд. Писатель увидел в этом событии особенно
1 М. Е. Салтыков-Щедрин. Поли. собр. соч., т. VIII. М.»
ГИХЛ, 1957, стРг 438,
36
яркое проявление^отрицательных черт тайной политической деятельности
русских революционеров своего времени, к которым он относился с
растущей враждебностью.
Еще в романе «Идиот» Достоевский дал резкое отрицательное
изображение группы свободомыслящих молодых людей, которые посредством
обмана развязно и нагло домогались получить у Мышкина часть его
наследства. Но там все это было лишь побочным эпизодом, в котором
вымогатели показаны людьми идейно испорченными, но по душе неплохими и
даже вступившими потом в дружбу с князем. Теперь же, узнав о «нечаев-
ком деле», пристально следя за ним, Достоевский пришел к замыслу
нового романа — «Бесы». В нем люди, подобные Нечаеву и членам его
подпольной группы, должны были занять центральное место и получить еще
более отрицательное, карикатурное изображение. Весной 1870 года
писатель уже сообщил друзьям, что работает над «тенденциозной вещью»,
направленной против «нигилистов».
«Это почти исторический зтюд,— писал Достоевский о «Бесах» вскоре
после их выхода,— которым я желал объяснить возможность таких
чудовищных явлений, как нечаевское движение... Наши Белинские и Граноч-
екпе не поверили бы, если бы им сказали, что они — прямые отцы нечаев-
цам. Вот эту родственность и преемственность мысли, развивающуюся ог
отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем».
Значит, в «Бесах» Достоевский собирался свести идейные счеты с
передовым общественным движением своего времени и тем самым создать
произведение с ложной идеей, которое не могло вызвать сочувствия и
похвалы в широких прогрессивных слоях русского общества. И
действительно, когда этот роман был напечатан в реакционном журнале Каткова
«Русский вестник», а вслед за тем, в начале 1873 года, был выпущен
самим автором отдельным изданием, он вызвал резко отрицательную оценку
в революционно-демократических журналах «Отечественные записки» и
«Дело». Надолго, отчасти и вплоть до нашего времени, «Бесы» сохранили
за собой очень дурную репутацию пасквиля на революционное движение*
Но следовало бы пересмотреть такую категорическую оценку романа. И за
последние годы уже делались неоднократные попытки в этом направлении.
«Бесы» с большим трудом давались писателю. В ходе работы над
ними он сам почувствовал, что не оправдает художественно своего замысла,
если оставит главным персонажем произведения Петра Верховенского с его
подпольной «пятеркой». И он стал писать роман не только для того, чтобы
разоблачить революционное подполье, но начал искать историческое
объяснение тому, как оно возникло в России. По его мысли, духовными отцами
«нигилистов» 60-х годов были представители русской передовой
общественной мысли 40-х годов, люди типа Грановского, молодого Тургенева,
которые особенно много сделали для приобщения русской общественности
к ложным, по его мнению, идеям и идеалам буржуазного Запада.
И писатель ввел в роман на правах одного из главных героев старика
Степана Верховенского, в прошлом блиставшего, подобно Грановскому, на
университетской кафедре, и сделал его отцом организатора подпольной
«пятерки», пренебрегавшим воспитанием своего сына. А в качестве
проходящего персонажа он ввел пожилого писателя Кармазинова, некоторыми
своими манерами напоминающего Тургенева. Оба эти героя,
представляющие либерализм 40-х годов, изображены людьми очень самодовольными
и вместе с тем политически трусливыми, вызывающими поэтому к себе
ироническое отношение автора. Достоевский перекликается в этом с
Щедриным, который находил те же противоречия в деятельности русских
либералов.
Но и такое обогащение содержания романа не могло вполне спасти
его от тенденциозности замысла. И писатель вскоре пошел на еще большее
расширение состава главных действующих лиц. Он сделал центральным
героем романа молодого аристократа Ставрогина, человека, имеющего
огромное религиозно-нравственное влияние на других людей. Его
последователи — Шатов и Кириллов — вощли вместе с ним в роман. А с другой
стороны, писатель связал всех этих героев с Петром Верховенским, сделав
37
Шатова и Кириллова в прошлом участниками подпольного движения, а
Ставрогина даже отчасти его организатором. «Все заключается в характере
Ставрогина, Ставрогин все»,— такая запись появилась в рабочей тетради
автора летом 1870 года. Таким образом, «нигилисты» потеряли в романе
свое исключительное значение. Роман усложнился вместе с тем философско-
моралистической проблематикой и стал более характерным для творчества
Достоевского.
Каков же характер ставшего как будто в центре романа Ставрогина
и все ли в нем заключается? Чтобы лучше понять этого героя, следует
указать, что и у него есть предшественник в более раннем произведении
писателя. Надо снова обратиться к «Униженным и оскорбленным» — к
князю Валковскому. Вспомним его долгий разговор с рассказчиком,
Иваном Петровичем. «...Когда-то я,— говорит там о себе этот циничный и
нравственно опустошенный аристократ,— из каприза даже был метафизиком
и филантропом и вращался чуть не в таких идеях, как вы...» (рассказчик
изображен в романе человеком, близким Белинскому!). «От скуки я начал
знакомиться с хорошенькими девочками».
Подобно этому и Ставрогин, получив утонченное аристократическое
воспитание, сначала, также из каприза и от скуки, стал наглым и опасным
бретером, потом кутил и развратничал в грязных столичных притонах.
Здесь-то он и женился «на скудоумной и нищей хромоножке», Марии Ле-
бядкиной, потому что «тут и позор и бессмыслица доходили до
гениальности».
Позднее, когда Ставрогин путешествовал за границей, его
аристократические капризы стали проявляться, как у Валковского, в интеллектуальной
сфере. Он тоже сделался «метафизиком», и настолько активным, что
одновременно развивал совершенно различные и даже противоположные
идейные концепции с такой серьезностью и убежденностью, что увлекал ими
людей, подпавших под его обаяние.
«...В то же самое время,— говорит Шатов Ставрогину при их ночном
свидании,— когда вы насаждали в моем сердце бога и родину... вы
отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом» (идеей
«человекобога».— Г. П.). И Ставрогин подтверждает, что это происходило
в одно и то же время, и признается, что он «ни того, ни другого не
обманывал». Но в годы своего пребывания за границей Ставрогин участвовал
и в «переорганизации общества по новому плану». Это то самое тайное
революционное общество, представителем которого в романе выступает
Петр Верховенский. Ставрогин признает, что он делал и это, но как
«праздный человек».
Значит, высокие идеи «народа и родины» и «человекобога»
соединяются в душе Ставрогина с поступками «позорными и бессмысленными^..
Недаром Шатов называет его «праздным, шатающимся барчонком»,
потерявшим «различия добра и зла». «Правда ли,— спрашивает он,— будто вы
уверяли, что не знаете различия в красоте между какой-нибудь
сладострастной, зверской штукой и каким угодно подвигом?» И Ставрогин
бледнеет перед таким допросом и называет Шатова «психологом».
Несмотря на это, Шатов еще верит, что один Ставрогин мог бы
«поднять это знамя» — знамя тех идей о «русском народе-богоносце», которые
тот ему внушил когда-то И главарь «пятерки», Петр Верховенский, тоже
возлагает на Ставрогина большие надежды, считая, что тот мог бы
«поднять знамя» его движения. «Он задался мыслью,— говорит Ставрогин,—
что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина «по необыкновенной
способности к преступлению».
Но все это — тщетные надежды. Ставрогин, в прошлом игравший от
скуки в различные идеи, в чем, может быть, отчасти проявлялись его
умственные искания, приехал домой человеком совершенно нравственно
опустошенным. Самообладание у него очень велико, (это показывает и то,
как он вынес пощечину Шатова, и его дуэль с Гагановым, и публичное
признание себя мужем «хромоножки»), но никакое «знамя» он поднять не
ножет. Он с любопытством приглядывается к мыслям и поступкам Петра
Верховенского, смутно интересуясь им также и потому, что тот, вместе о,
38
Федькой-каторжником, может помочь ему избавиться от жены. Отношения
с Лизой Тушиной вполне проясняют его внутреннее бессилие, и в эпилоге
романа он, подобно Свидригайлову, сводит счеты с жизнью, признаваясь
в предсмертном письме, что одинаково «чувствует удовольствие» и от
«доброго дела» и от «злого».
Характер Шатова имеет свою логику развития. Этот сын «крепостного
лакея Пашки» из ставрогинской усадьбы воспринял идею «русского
народа-богоносца» совершенно серьезно и сам вдохновенно провозглашает
ее перед своим «учителем». Но по существу Шатов выражает в своем
ночном разговоре «почвеннические» идеи, совпадающие с мыслями самого
Достоевского. В значительной мере от автора идут и убеждения Шатова в
необходимости «добывать бога» «мужицким трудом» и его уверенность
в том, что на смену барству идет «новое поколение прямо из сердца
народного...». Шатов признается при этом, что сам он еще не верует в бога,
а только будет в него веровать.
Но писатель, видимо, хочет показать далее, что вера в бога не может
быть добыта потугами ума, что она должна родиться в душе Шатова и что
эта вера есть любовь к людям. К концу романа в характере героя активно
проявляются черты, напоминающие Мышкина. Особенно тогда, когда к
Шатову приехала его жена, Мари (изменившая ему в прошлом со Ставро-
гиным), когда она, по приезде, родила в комнате Шатова сына Ставро-
гина и когда Шатов принял все это с душевной простотой и
самоотверженностью, любя простил изменницу и собирался начать с ней и ее сыном
новую жизнь. В эту светлую минуту к нему и явился посланный Верхо-
венского, чтобы завлечь его ночью в парк и там убить.
Так же своеобразен и характер Кириллова. Этот герой со всей
серьезностью и глубиной мысли утверждается в идее «человекобога», подобно
Раскольникову, выражая в ней отрицательный — для автора —
индивидуалистический атеизм и недовольство жизнью. Кириллов видит, что люди
несчастны, злы, жестоки, но он уверен, что они по природе своей хороши
и только не знают этого, и им надо это показать. И он доходит в своей
идее до маниакальной одержимости, граничащей с юродством. Он убежден,
что человек обязан проявить всю полноту своеволия и для этого
покончить с собой, после чего не умрет, но обретет высшее земное
существование. Будучи в прошлом членом подпольного общества, Кириллов готов
взять на себя при самоубийстве его злодеяния. Он также становится
жертвой Верховенского.
Что же представляет собой этот последний и члены его «пятерки»?
Нет сомнения, что Достоевский хотел изобразить их людьми,
связанными с тайными революционными группами, о которых он судил только
по действиям Нечаева и его кружка. Как относился Достоевский к
русской революционной демократии вообще? Он не понимал ее, не принимал
ее идей и очень плохо знал. Поэтому в действиях Нечаева и его кружка
писатель увидел ее сущность. А между тем нечаевское дело отразило самые
слабые стороны революционно-демократического движения. Ленин
справедливо указывал, что «народничество... никогда не могло, как
общественное течение, отмежеваться от либерализма справа и от анархизма слева» '<
Сергей Нечаев был последователем Бакунина, его идеалов анархизма.
Анархизм2 теоретическим отрицал только централизованную
государственную власть, признавал необходимость управления обществом в его
низовых, местных организациях и их свободных союзах. Тем не менее вожаки
анархизма часто претендовали в политической борьбе на свое
исключительное личное влияние и добивались своей личной власти среди участников
движения.
Таким был в особенности Михаил Бакунин, который выступал против
Интернационала Маркса до своего вступления в его члены, а вступив,
тотчас же начал внутри него устраивать заговоры, создал для этого тай-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 94.
2 Анархизм — по-дрсвнегреч. «безвластие»
39
яый «Альянс социалистической демократии», проявил себя ярым врагом
марксизма и в 1872 году был исключен из Интернационала,
подвергнувшись резкому разоблачению со стороны Маркса и Энгельса1. Связь
Бакунина с Нечаевым и самого Нечаева Энгельс разоблачал и в своей
переписке. «Насколько здесь замешана русская полиция,— писал он,— этот
вопрос я пока оставляю открытым, но Бакунин был сильно запутан в не-
чаевской истории... Нечаев же либо русский агент-провокатор, либо, во
всяком случае, действовал как таковой; да и, кроме того, среди русских
друзей Бакунина есть всякого рода подозрительные личности»2.
Вот какого рода «русскую революцию» представлял собой Нечаев,
прототип Петра Верховенского. Достоевский видел в действиях Нечаева н
его кружка характерные черты всего русского революционного движения
своего времени. И чтобы выразить со всей силой идейное отрицание их
со своих «почвеннических» позиций, он как художник резко усилил и
сгустил эти черты в вымышленных персонажах своего романа, в его сюжете.
Отношения, поступки, высказывания, манеры, сама наружность Петра
Верховенского, а отчасти и членов его «пятерки» — Липутина, Лямшина,
Виргинского,— а также многих подобных им обывателей изображенного
города выглядят поэтому часто внешне неправдоподобными, иногда даже
гротескными. Но от этого объективная отрицательная сущность
анархизма, о которой писатель судил по «нечаевскому делу» и которую так резко
осудили Маркс и Энгельс, раскрылась в «Бесах» с еще большей обобщающей
силой, чем она раскрывалась в реальной жизни. Достоевский, конечно,
ошибался, видя в «нечаевщине» сущность всего русского революционного
народничества. Но он не ошибался в своей резко отрицательной оценке
ультрааиархической сущности самой «нечаевщины». Его оценка отчасти
совпадала в этом отношении, даже и хронологически, с той оценкой,
которую дали «нечаевщине» Маркс и Энгельс, но, конечно, он даже и не
подозревал об этом.
Нечаев, по Энгельсу, «действовал как... агент-провокатор»* Петр
Верховенский в «Бесах», при всем гиперболизме изображения, ведет
себя в общем так же, и не только в организации своей «пятерки», но и в
масштабах целого города — в связях с местной администрацией и с
преступным миром. У него есть программа, которая в основной, негативной
своей цели перекликается с бакунизмом. «Весь ваш шаг пока в том,—
убеждает Верховенский свою «пятерку»,— чтобы все рушилось: и
государство, и его нравственность».
Какова же положительная задача «общего дела» по Верховенскому?
«Ну-с, и начинается смута!—в «исступлении» откровенничает
Верховенский перед Ставрогиным.— Раскачка такая пойдет, какой еще мир не
видел...» И тогда: «Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...
тут-то мы и пустим... Ивана-царевича...». «Самозванца?— в глубоком
удивлении спрашивает Ставрогин.— Э! так вот, наконец, ваш план».
Действия и признания Верховенского заставляют Ставрогина не только
удивляться, но и предполагать, что тот на самом деле «агент-провокатора
1 «Перед нами общество,— писали Маркс и Энгельс,— под маской
самого крайнего анархизма направляющее свои удары не против
существующих правительств, а против тех революционеров, которые не приемлют его
догм и руководства». «...Оно втирается в ряды международной организации
рабочего класса и пытается сначала захватить руководство ею, а когда
атот план не удается, стремится ее дезорганизовать». «Для достижения
ссоих целей это общество не отступает ни перед какими средствами, ни
перед каким вероломством; ложь, клевета, запугивание, нападение из-за
угла — все это свойственно ему в равной мере. Наконец, в России это
общество полностью подменяет собой Интернационал и, прикрываясь его
именем, совершает уголовные преступления, мошенничества, убийство,
ответственность за которые правительственная и буржуазная пресса
возлагает на наше Товарищество». («Альянс и международное товарищество
рабочих».— К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 329).
2 К, Маркс и Ф* Энгельс Соч., тг 33, стрг 332—333.
40
«...Ь$ы, стало быть, и впрямь не социалист, а какой-нибудь политический..*
честолюбец?» — говорит он. «А слущайте, Верхозенский, вы не из высшей
полиции, а?» — спрашивает он в другом разговоре. А тот отвечает, чт«
«покамест» еще нег, и называет себя «мошенником, а не социалистом*.
Однако в своих тайных замыслах Верховенский проявляет себя ужа
не только не анархистом, но даже и не «агентом-провокатором»,
подосланным существующей зластью, а предшественником будущего черносотенного
движения, созданного впоследствии русскими ультрареакционными при-
дворно-аристократическими кругами или даже прообразом деятелей
фашистского толка. «А главное — новая сила идет,— говорит Верховенский
далее.— Ну что в социализме (разумеется, бакунинского толка!—Г. П.)й
старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая,
неслыханная!» Под такой «новой силой», видимо, надо разуметь не
дворянскую, а мелкобуржуазную оголтелую политическую реакцию.
Для осуществления этих бунтарских замыслов Петр Верховенский и
организует свою «пятерку».
Выдавая себя за лидера движения, действующего «по инструкции
центрального комитета», Верховенский требует от членов «пятерки»
полного повиновения, заставляет их печатать и разбрасывать прокламации и
учас1возать в устройстве большого ночного пожара в Заречье и т. п. Но
не веря в их стойкость и преданность, он, по совету Ставрогина,
стремится связать «пятерку» кровью, запугивает ее членов возможным доносом
Шатова и принуждает участвовать в его ночном убийстве. А затем
понуждает к самоубийству Кириллова, вымогая у него записку, в которой
Кириллов берет на себя убийство Шатова.
Всему этому способствует слабость местной, губернаторской власти*
Все это происходит даже «под ее крылышком». Достоевский не только не
идеализирует эту власть, как это делали авторы действительно «охрани*»
тельных» романов 60—70-х годов — Лесков, Крестовский, Маркевич. Ом
почти сатирически изображает ее, да и все окружающее ее дворянское
«общество», сближаясь в этом отношении с Щедриным.
«Бесы» — это наиболее сложный — и по системе изображенных харак-
теров, и по идейной направленности — роман Достоевского. В нем
выражено исторически правдивое идейное отрицание и деградирующей
аристократии, и поверхностного дворянского либерализма, и играющей в
либерализм царской администрации, и, в наибольшей мере, отрицание мещан«
ского анархизма. Но Достоевский, не видя в русском освободительном
движении других течений, кроме нечаевщины, тем самым ничего не
противопоставил ей. Поэтому объективно его отрицание нечаевщины распро*
странялось на все революционно-демократическое движение. Поэтому
«Бесы» и считались пасквилем на него.
«Случайное семейство»
Между публикацией «Бесов» в журнале «Русский вестник» (1871—1872) и
публикацией нового романа Достоевского «Подросток» в журнале
«Отечественные записки» Некрасова (1875) прошло три года. За это время
Достоевский более года редактировал журнал «Гражданин»,
принадлежащий В. Мацерскомут и публиковал там свой «Дневник писателя». В те
же годы, в атмосфере происходившего тогда нового общественного подъема
и «хождения в народ» революционно-демократической молодежи, писатель»
отчасти изменил свое прежнее, отрицательное отношение ко всей прогрес-
сивной русской демократии, несколько сблизился с Некрасовым и
Щедриным и даже согласился на предложение стать сотрудником «Отечественных
записок». Все это наложило свой отпечаток на идейное содержание
«Подростка».
Содержание это — совершенно новое, почти не развивающее того, чго
было уже сказано писателем в его предыдущих романах. Оно представляет
собой отклик Достоевского на ту «острую ломку» всего старого уклада об-
41
щественной жизни России, которая стала вполне ощутимой именно к
середине 70-х годов. Эта ломка особенно больно затрагивала писателя своими
крайне отрицательными нравственными последствиями. «Разложение —
главная видимая мысль романа...» «Беспорядок всеобщий, везде и всюду, в
обществе... в руководящих идеях... в убеждениях, в разложении семейного
начала». «Нравственных идей не имеется»,— писал Достоевский в черновых
набросках к роману.
Этот «всеобщий беспорядок» писатель осознавал в социальном плане.
Он связывал его с судьбой различных слоев общества, а эту судьбу —
со своим пониманием развития России. Интересовали его отношения
русского разночинства и русского дворянства, особенно аристократического,
и вместе с тем отношение этих образованных слоев к русскому
крестьянству с его патриархальностью. В общем разложении ему казалось наиболее
опасным «вырождение русской семьи».
Отсюда и вытекает самый подбор и развитие характеров главных героев
романа. На первом плане — «случайное семейство» аристократа Версилова,
который соблазнил молодую жену своего пожилого дворового, «начетчика
и грамотея», Макара Долгорукого, разлучил ее с мужем, не отпускал ее
затем от себя и проявлял полное пренебрежение к воспитанию своих
«незаконных» детей, особенно сына Аркадия. Глубоко страдающий от
«незаконности» своего рождения и своей «безотцовщины», подросток,
Аркадий Долгорукий, испытывает к Версилову очень сложное чувство —
обиды и вместе с тем тайного восхищения. Сын аристократа и крестьянки,
он становится нравственным судьей своего отца и, по выходе из пансиона»
кщет сближения с ним. Как сын Версилова он находит доступ в
аристократические семьи Петербурга, как разночинец он знакомится с кружком
революционной молодежи, он втянут также в общение и с людьми, занятыми
денежными спекуляциями, а вместе с тем в доме своей матери встречается
и со своим юридическим отцом, Макаром Ивановичем, который, с тех пор
как уступил свою жену Версилову, стал «странником» по святым местам..
Юношеская наивность и восприимчивость «подростка» делает его очень
нужным для автора наблюдателем над всеми этими сферами столичной
жизни, а вместе с тем он выступает в романе героем, от лица которого
ведется повествование.
Весь роман и строится на социально-нравственной антитезе между
людьми знатными, богатыми, образованными, идейно и морально
заблуждающимися, испорченными, а нередко и порочными, и людьми,
воплощающими в себе доброту, простосердечие и душевную чистоту патриархально-
крестьянской жизни. Первые — это носители того «разложения»,
«всеобщего хаоса, неурядицы и развала», которые так удручали писателя в
русской современности; вторые — мать «подростка», Софья Андреевна, и
Макар Иванович — это носители нравственного «благообразия»,
питающегося народной «почвой». А сам Аркадий колеблется между теми и другими.
Его отношения с отцом — в .центре сложных событий, изображенных
в романе. Версилов ие похож на Валковского, Свидригайлова, Ставрогина.
В его дворянском характере есть как будто положительные черты, которые
и делают его для Аркадия пленительной «загадкой». Это человек
«древнейшего рода», воплощение «высшего культурного типа» в русском
дворянстве. «Наше дворянство,— мечтает он,— и теперь, потеряв права, могло бы
оставаться высшим сословием в виде хранителя чести, света, науки и
высшей идеи... не замыкаясь уже в отдельную касту». Он надеется, что лучшие
круги дворянства могут стать наследниками высших достижений
европейской культуры (мысль, не чуждая самому автору!). Но это — лишь
прекраснодушные иллюзии, которые Версилов даже собственным примером не
может оправдать в жизни. Он бездеятелен и легко поддается соблазнам
жизни. Он прожил ранее три крупных «состояния», а теперь добивается
четвертого — но суду. Он аристократически обаятелен, но вместе с тем
ограничен и, по существу, полон скептицизма и безверия. Всю слабость его
характера выдает его тайная любовь к аристократке и красавице Ахма-
ковой, которую в решающий момент их отношений он чуть не застрелил и
едва не застрелился сам, оставшись затем расслабленным стариком на ру*
42
ках у «мамы». Лишь к концу романа нравственно он становится отцом
Аркадия.
Настоящим воплощением «разложения» жизни являются в романе
другие аристократы. В наибольшей мере — это законная дочь Версилова
Анна, стремящаяся продать себя в жены полоумному старику князю
Сокольскому за его титул и богатство, и брат Версиловой, помогающий ей в
ее интригах, Эго и молодой князь, Сергей Сокольский, человек
беззольный и опустошенный, совершенно разорившийся, но беззаботно кутящий
и играющий в кругу светской молодежи, занявшийся подделкой акций,
попавший за это в тюрьму и покончивший там с собой. Это в какой-то
мере и Ахмакова, дочь Николая Сокольского, стремящаяся взять под
опеку своего старика-отца, чтобы присвоить его наследство. Всем этим
героям не хватает денег на их роскошную жизнь, и все они гоняются за
«наследствами» и «состояниями», не брезгуя при этом обманами и
подлогами.
И естественно, что с ними тесно связаны дельцы и спекулянты,
аферисты шантажисты, стремящиеся их обмануть и воспользоваться их
барской непрактичностью для собственного обогащения. Таков, прежде всего*
Стебельков, втянувший Сергея Сокольского в свои грязные махинации*
Таков такж^ и Ламберт, который выкрал у «подростка» документ,
изобличающий происки Ахмаковой, с целью ее шантажировать.
Всему этому миру знатных и богатых противостоит в романе
революционная молодежь, члены кружка Дергачева, с которыми «подросток»
знакомится на одном из их собраний. В отличие от Бурдоаского и его друзей
в «Идиоте» и еще более от Петра Верховенского и его «пятерки» в «Бесах*
дергачевцы обрисованы мягкими и сдержанными красками, без какой-либо
карикатурности. В основном—это порядочные люди. Но «подростку» чужды
дергачевцы и своими ложными, по его мнению, идеями, и тем, что живут
они «формулами» и категориями».
«Подросток» ищет «благообразия» и «живой «изни» не рассудком, а
своим нравственным чувством. Хотя он влюбляется в Ахмакову, становясь
тем самым соперником своего отца, и близко сходится с Сергеем
Сокольским, не понимая всей его порочности, и вообще увлекается светской
жизнью, он все же выходит из этих столкновений с «беспорядком» и
«разложениехМ» нравственно окрепшим и даже способен начать какую-то
«новую жизнь». Какую именно, не раскрывается в романе.
Большое значение имело при этом для героя его общение с Макаром
Ивановичем, который, подобно Мышкину в «Идиоте», отличается от всех
других людей «чрезвычайным чистосердечием и отсутствием малейшего
самолюбия», а также склонностью к «умилению» (в нем уже намечается
будущий старец Зосима). Идеал этого человека из народа, из «почвы»
заключается в том, что каждый должен «раздать свое богатство и стать
всем слугой». Таково идейное содержание «Подростка», основанное на
антитезе вполне реального нравственного «разложения» образованны»
слоев русского общества и идеализированного нравственного
«благообразия» патриархальных народных низов и на идейных исканиях юноши,
связанного и с той и с другой средой.
Роман о «двух безднах» в дугие человека
Новый и последний свой роман «Братья Карамазовы»
Достоевский задумал еще весной 1876 года. Но в этом и следующем
году он отдавал много времени и сил «Дневнику писателя»,
который он стал выпускать теперь как собственное ежемесячное
издание. Номера его состояли из публицистических статей пич
сателя, в которых он выражал свои философско-моралистиче*
ские взгляды и откликался на различные события а обществен-*
43
ной и литературной жизни. Своей основной задачей писатель
считал «по возможности разъяснять идею о нашей
национальной духовной самостоятельности и указывать ее, по
возможности, в текущих представляющихся фактах». С этой точки
зрения он рассматривал вопросы о Европе и России, о католицизме
и православии, о будущем России и человечества, об
интеллигенции и ее задачах, о суде и образовании, о развитии русской
литературы и многие другие.
Всецело сосредоточиться на создании романа писатель смог
только с конца 1878 года, но и потом многое отвлекало его.
Особенно—торжественное открытие в начале июня 1880 года в
Москве памятника Пушкину и связанные с ним многолюдные
литературные собрания, на одном из которых, 8 июня,
Достоевский выступил с большой речью. В ней он выразил свое
понимание творчества Пушкина; он противопоставлял нравственные
качала, которые находил в произведениях поэта, современной
Достоевскому русской жизни. Разъясняя по-своему отношения
Онегина и Татьяны, он высказал мысль о невозможности
счастья, «основанного на чужом несчастьи». Этим он опять
протестовал против эгоизма и своеволия людей. «Смирись,
гордый человек!» — воскликнул писатель, обращаясь к
интеллигенции. Речь его имела огромный успех у слушателей и вызвала
овации.
«Братья Карамазовы» писались с осени 1878 года и
печатались в течение двух следующих лет в журнале «Русский
вестник». Отдельным изданием роман вышел в декабре
1880 года, за месяц до внезапной смерти писателя. Достоевский
умер 9 февраля 1881 года.
Последний роман по своему содержанию продолжает
предыдущие большие романы писателя, но возводит те философ-
ско-моралистические проблемы, которыми он жил, на новую,
более высокую ступень. Нравственное «разложение» и «хаос»
акизни образованных слоев русского общества, представленные
в «Подростке» целой группой персонажей, в новом романе
получили сгущенное воплощение в членах одной, карамазовской
семьи. Это — снова «случайное семейство», но в нем вражда
поколений достигла такой силы, что трое братьев участвуют,
так или иначе, в убийстве своего родного отца.
Этот «хаос» и здесь имеет свою антитезу. «Чистосердечие»,
полное «отсутствие самолюбия», склонность к «умилению»
были раскрыты в «Подростке» лишь в характере крестьяни-
на-«странника», идеалом которого было полное религиозное
уединение человека, жизнь в «пустыне». В новом романе
«пустынножительство» — уже не мечта, а реальность русской
жизни. Это — монастырь в глухом провинциальном городке, и
не только обычный монастырь, но главным образом «скит»
при нем, где некоторые монахи во главе со старцем Зосимой
ашвут в полном уединении и подвижничестве.
44
В новом романе нет ничего, подобного «пятерке» Верхо-
венского или кружку Дергачева. В нем и мирским соблазнам,
и монастырской «святости» противопоставлены «мальчики» —
группа «школьников», молодое поколение русского разночин-
ства, на будущее которого писатель и возлагал все свои
надежды. Их нравственным руководителем в романе выступает
Алеша Карамазов. Тенденции «нигилизма» выражает лишь
один побочный герой — Ракитин.
В предыдущих романах отвлеченные высказывания героев
(Мышкина, Шатова, Версилова, Макара Долгорукого) имели
большое значение для раскрытия их характеров, но не
занимали очень много места и не отражались непосредственно на
ходе событий. В новом романе нравственно-философским раз»
мышлениям героев уделяются целые главы («Бунт», «Великий
инквизитор») или даже целая «книга» («Русский инок»), к
воздействие их на сюжет гораздо большее.
Среди философских концепций романа наибольшее значение
имеет «поэма» о Великом инквизиторе. Она представлена как
плод раздумий Ивана Карамазова, который и рассказывает е$
Алеше. По существу же, это — завершение давних раздумий
самого Достоевского, неоднократно писавшего о духовных на'
чалах католической и православной церквей. Еще в «Идиоте»,
за 10 лет до «поэмы» Ивана, Мышкин-резонер заявлял на ве*
чере у Аглаи, будто «католицизм верует, что без всемирной
государственной власти церковь не устоит», будто «папа
захватил... земной престол и взял меч» и «к мечу прибавил
ложь, обман, суеверие...».
Однако Достоевский интересуется не только принципами
церковности, но и нравственно-религиозными идеалами
человечества вообще. Такие его взгляды выражены отчасти в
поучениях Зосимы, записанных Алешей. Здесь мы находим и
уже известное нам отрицание жизни, основанной на промыт*
лении и богатстве, на рассудочности и науке, на гордости п
самолюбии, и идеал русского народного братства, которое
может быть достигнуто не насилием, а только нравственным
возрождением всех членов общества, в частности — готовностью»
богатых, «устыдившись», разделить свое имущество с бед*
ными.
Но в поучениях Зосимы есть и много нового. Это и идея
виновности каждого перед всеми, и призывы любить ни
только взрослых и детей, но и животных, и «птичек», и даже
«всякую вещь», так как и в ней можно постичь «тайну божию»,
Зосима приходит далее к утверждению высокой и
всеобъемлющей духовности мировой жизни. «...Все как океан,— гово-
рит он,— все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, а
другом конце мира отдается». В этом единстве духовной
жизни, видимо, уже нет места абсолютной и неизбывной
греховности, нет и изгнания «грешников» за пределы такого
единства. Грех — это зло, которое человек причиняет другим лю-
43
дям, но которое он может искупить раскаянием и духовными
страданиями. В «робости сердца» своего Зосима отрицает
вечные «материальные» муки, по существу, отрицает
церковный «ад», принимая его как «страдание о том, что нельзя уже
любить». Все поучения Зосимы ведут к признанию по-своему
понятой духовной мировой «гармонии».
Противником такой гармонии в романе выступает Иван
Карамазов в своем «бунте». Но он выражает здесь
антицерковную точку зрения самого Достоевского, которую писатель,
гораздо короче, изложил в своей речи на пушкинских
торжествах, на примере нравственного долга Татьяны перед ее
мужем. В романе ©ти же мысли изложены гораздо подробнее:
Иван много говорит о страданиях людей, особенно маленьких
детей, чтобы затем бросить вызов церковной мифологии.
Согласно этой мифологии Христос при своем «втором
пришествии» даст праведникам вечное блаженство, грешников же
обречет на адские мучения, чтобы этим искупить то зло,
которое они сделали другим людям. Тогда и наступит «гармония».
Но Иван не хочет принять такую «гармонию», так как муки
«грешников», по его мнению, не могут искупить слезы тех
людей, в особенности детей, которых они замучали. «Но зачем
мне их отмщение,— говорит он,— зачем мне ад для мучителей,
что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И
какая же гармония, «ели ад_» Значит, у Ивана (у самого
Достоевского!) больше гуманности, чем в учении церкви, хотя
гуманность его, конечно, совершенно отвлеченная,
пренебрегающая закономерностями общественной жизни.
И все же размышления Ивана — это, действительно,
«бунт», это вызов основам церковного учения. «Бунт» Ивана
и «поэма» о Великом инквизиторе, и проповедь Зосимы
показывают, что, создавая свой последний роман, Достоевский уже
встал на путь отрицания церковной религии, подобно тому,
как это, почти в то же время и в том же направлении, делал
в Л. Толстой.
Итак, идейные концепции романа заключают в себе резкие
%нтитезы: церковь, основанная на принуждении и соблазнах
верующих, и церковь, основанная на свободной вере;
признание духовной мировой гармонии и ее неприятие. Как же
отражается вся эта концепция на развитии характеров и ходе
событий романа?
В сценах, связанных со смертью Зосимы, писатель
показывает отсутствий истинной веры даже и в православном
монастыре. Еще при жизни Зосимы многие монахи
сомневались в его «святости». Но когда от тела умершего Зосимы
пошел «тлетворный дух», почти все монахи и даже сам игумен
монастыря «соблазнились»: для их веры в «святость»
умершего необходимо было «чудо»; их вера лишена была истинной
духовной свободы.
<А
Судьба «случайного» карамазовского семейства, конечно,
не является иллюстрацией к отвлеченным построениям автора.
Характеры членов этой семьи развиваются в основном по
законам реалистического искусства.
Достоевский, подобно некоторым другим русским писате*
лям, например Гончарову в «Обломове», несомненно,
стремился придать фамилии своих главных героев — Карамазовы -—
обобщающее, нарицательное значение. В этом смысле Иван
говорит Алеше о «силе низости Карамазовской». И прокурор
Ипполит Кириллович в своем выступлении на суде над Митей
Карамазовым утверждает, что «в картине этой семейки как бы
мелькают некоторые общие основные элементы нашего
современного интеллигентного общества». Определение это,
конечно, слишком широко и неточно. Карамазовы — это, прежде
всего, нравственно разложившаяся рядовая дворянская семья,
из членов которой, пожалуй, только один Иван достиг уровня
настоящей интеллигентности. Прочие же обнаруживают
только некоторый уровень образованности.
Глава семьи, Федор Павлович, получает от того же
прокурора очень Еерную социальную характеристику. Разорившийся
«рядовой дворянин», вначале «бедненький приживальщик»,
«мелкий плут и льстивый шут», а позднее, с получением в
приданое «небольшого капитальчика»,— «прежде всего
ростовщик», в котором «приниженность и заискивание исчезают,
остается лишь насмешливый и злой циник и сладострастник».
В социальном плане все это очень характерно для 70-х годов;
разорение низовых слоев дворянства, жажда денежных
приобретений, растовщичество как легкое, ни к чему не
обязывающее средство накопительства и беззаботной жизни на
проценты и вполне паразитическое существование со всеми
вытекающими отсюда психологическими последствиями. Такой
характер, взятый только в социально-психологическом планел
вполне мог бы быть и бывал у героев Щедрина. Иудушка
Головлев, в конце концов,— в том же ряду.
Но для Достоевского важна другая сторона — религиозно*
нравственная. И о ней говорит прокурор: «Духовная сторока
вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная». Полное
отсутствие духовности, а отсюда и разнузданность, и цинизм —■
цинизм по отношению к женщине, к собственным детям, к
самому себе и даже к богу, в которого Федор Карамазов не
верит и готов побогохульствовать, но которого в глубине души
совсем по-детски побаивается. Таков герой Достоевского, вы*
зывающий чувство гадливости даже у своих сыновей.
Но у прокурора есть и более сложная психологическая ха*
рактеристика «карамазовщины»: «...мы натуры широкие, Ка-
рамазовские... способные вмещать всевозможные
противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над намц
бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низ*-
кого и зловонного падения». Приложима ли эта характеристик
а
ка к Федору Павловичу? Конечно, нет. Ни о какой «бездне
высших идеалов» он и понятия не имеет, а «бездна самого
низкого падения» для него не бездна, в которую можно было бы
«упасть», а нормальное состояние.
И все же старик Карамазов — более сложная натура. Всю
жизнь он смотрел на женщин с плотоядной точки зрения,
тянулся к каждой из них только как к существу иного пола (его
поступок с Лизаветой Смердящей это хорошо показывает). Он
возвел это в принцип, учил этому своих сыновей и вдруг, в
пожилых годах, влюбился. Соблазняя Грушеньку большими
деньгами, он написал на конверте: «Ангелу моему...» — и это
не было фразой. Вспомним, как часто и беспокойно спрашивал
он у Смердякова, почему не идет Аграфена Александровна,
как звал ее из окна при стуке Мити. Смердяков, хорошо
понимавший, что происходит в доме, говорит потом Ивану: «А
много ли тогда до венца-то оставалось? Один волосок: стоило
атой барыне вот так только мизинчиком перед ним сделать, и
они бы тотчас в церковь с ними высуня язык побежали». Эта
личная страсть уже не отвратительна и не смешна. В ней нет
ни цинизма, ни лукавства. Она делает Федора Павловича
несчастным и даже чуть-чуть трогательным. И в опустившейся
до скотского состояния личности Достоевский нашел что-то
человеческое!
Но в прошлом Федор Павлович по преимуществу
«дебоширил», и он сам сделал старшего сына Митю своим возможным
убийцей. Митя рос с сознанием, что у него есть «некоторое
состояние», а когда вырос, отец стал его обманывать и
обкрадывать, сделавшись этим «мучителем его жизни». При вялой
и спокойной натуре сына это обошлось бы. Но в основе
социального характера Мити лежали те же черты: склонность к
паразитизму и жажда наслаждений. При более сильном
дворянском гоноре (убить могу, но воровство — подлость) Митя
был «легкомыслен, буен, со страстями, нетерпелив, кутила»...
Его офицерская служба только способствовала развитию этих
черт, и он сам сознает, что выглядит, как «хам в офицерском
чине, который пьет коньяк и развратничает». В этих границах
изображали характер молодого дворянчика-дебошира Щедрин
и Островский (вспомним хотя бы Степку-балбеса или Мурза-
вецкого). Достоевский же осознал этот характер по-своему.
Митя у него немножко «философ» и умеет порассуждать на
«карамазовские» темы. Он имеет понятие об «идеале
Мадонны» и «идеале Содома» и цитирует Алеше стихотворение
Шиллера, напирая на последний стих: «Насекомым — с адо-
страстье... Ангел — богу предстоит». Иметь понятие, однако,
не значит «созерцать» в себе. В себе Митя созерцает «бездну
содомскую», ему пока «только и случалось», что «погружаться
в самый глубокий позор разврата» и видеть в нем «красоту»;
и он называет себя «насекомым» и даже «злым насекомым».
Подобно своему отцу, он любит «глухие, темные закоулочки*
48
и ищет там «самородки в грязи». Митя, однако, не совсем
справедлив к себе. У него нет, конечно, никаких «высших
идеалов» и тем более их «бездны», и «созерцать» ему тут
нечего. Но у него есть молодая сердечная восторженность,
иногда даже исступленная. Она и выражается словами: «слава
Вышнему во мне», и в ней таится возможность большого
личного чувства. Значит, Митя воплощает «карамазовщину» в
сфере своих страстей и чувств.
Противоположность ему в той же сфере представляет
Алеша. Он живет высшими религиозными идеалами, может
«созерцать» их в своей душе и даже испытать состояние
религиозного экстаза, в котором «тайна земная соприкасалась со
звездой». Но в его душе нет «бездны содомской», которую он
мог бы «созерцать», он испытывает, видимо, пока только
смутные плотские вожделения, в которых и признается Мите.
Алеша — это связующее звено между монастырем и семьей
Карамазовых.
Предметом большого личного чувства Мити в романе
выступает та же самая Грушенька, которую так ждал к себе
старик Карамазов. Сын и отец стали соперниками, и это резко
усилило ту ненависть Мити к отцу, которая возникла из-за их
семейных денежных счетов. Эта ненависть побудила Митю
избить- старика, а потом бегать по городу и кричать, что оп его
убьет. В доме Карамазовых назревала тяжелая, страшная
драма.
Но в драме этой приняли участие и еще два сына Федора
Павловича: законный — Иван и незаконный — Смердяков,
служивший в дворянском доме отца лакеем. Каков пгрвый из
них по своему характеру? Характер этот сложен. Достоевский
поручил Ивану высказывать почти все отвлеченные, в
основном — религиозные концепции, которые он Евел в роман.
Иван оказался автором и статьи о «церковном суде», и
«поэмы» о Великом инквизиторе, и антицерковного «бунта».
Пусть все эти концепции — развитие давних идей самого
автора. Мог ли их, по складу своего характера, сочинить сам
Иван? Он мог это сделать, ко не совсем так, как Ставрогин,
который, в припадках своих интеллектуальных «капризов»,
одновременно внушал Шатову идею «народа-богоносца», а
Кириллову — идею «человекобога». У Ивана, несомненно,
есть глубокие идейные искания, очень рассудочные и
отвлеченные. Но все же какая из его теорий выражала существа
собственного карамазовского его характера?
Видимо, Иван лучше всего выразил это свое существо в
разговоре с «чертом», который был его галлюцинацией. Черт,
по словам Ивана, воплощал собой его «самые гадкие и глупые»
«мысли и чувства». Однако ничего глупого нет в речах черта,
наоборот — они полны остроумия, и именно черт раскрыл нам
еще одну «поэмку» «милейшего русского барчонка». Она имеет
название «Геологический переворот» и роднит в какой-то мере
49
идеал Ивана с идеалом Кириллова. Между ними только то
существенное различие, что «человекобог» у Кириллова —
индивидуалистическая личность, а у Ивана — все человечество.
«Переворот» в этой «поэмке» заключается в том, что люди,
полностью «отрешившись от бога» и всей прежней
нравственности, соединяются «для счастья и радости в одном только
здешнем мире». Они победят «без границ природу волею своей
и наукой», ощутят высокое наслаждение, заменяющее им
«упования наслаждений небесных» и каждый «возлюбит брата
своего уже безо всякой мзды». Это, быть может, глубоко
верное представление о возможном будущем человечества, и оно
идет, конечно, тоже от автора. Но какие нравственные выводы
делает отсюда сам Иван?
Отрицательные, индивидуалистические! Он уверен, что по
«закоренелой глупости» людей (в этом Иван перекликается
со своим «инквизитором») «переворот» в их сознании и через
«тысячу лет» не произойдет. А пока человеку, знающему, что
бога нет, «позволительно устроиться... как ему угодно», и для
него «все дозволено» (здесь Иван повторяет ход мыслей Рас-
кольникова). В разговоре с Алешей, упрекающим его в
атеизме, Иван признается, что не «отрекается» от идеи о «вседозво*
ленности», хотя и чувствует, что она должна вызвать в нем
разочарование, отвращение, отчаяние и что от всего этого его
может спасти пока только молодость и возбуждаемая ею
«исступленная и неприличная... жажда жизни», соединенная с
«подлостью карамазовской».
Значит, в отличие от Мити, воплощающего в себе
«карамазовщину» чувства, но могущего «созерцать» в своей душе
лишь «бездну содомскую», а к «бездне высших идеалов» лишь
тянуться в своей душевной восторженности, Иван воплощает
в себе «карамазовщину» мысли. Он только рассудком может
«созерцать» эту «высшую бездну», а отсюда и гуманистически
бунтовать против церковной гармонии, но вместе с тем и
писать статьи о церковном суде и поэмы о Великом инквизиторе.
В душе же своей он может «созерцать» лишь «бездну»
цинизма и отвращения к жизни. Он и ведет себя в романе как
«герой». Он не любит и даже «ненавидит» и отца, и брата; он
хочет, чтобы «один гад съел другую гадину». Он внушает
лакею Смердякову идею «вседозволенности». Предчувствуя, что
в семье назревает катастрофа, он с затаенным любопытством
прислушивается в темноте дома, как там «шевелится»
обреченный на смерть старик-отец. Не признаваясь в этом себе
самому, он своим отъездом в Москву развязывает руки
Смердякову. После убийства Иван старается себя убедить, что отца
убил брат Дмитрий и что, значит, он к этому совсем
непричастен. Только признание Смердякова и затем его
самоубийство вынуждает Ивана заботиться о бегстве Мити и идти в
суд, чтобы раскрыть всю правду. И именно в этот момент
происходит у него затмение рассудка. И убийством старика-
50
отца по принципу «вседозволенности», и сумасшествием
Ивана автор выразил свое идейное отрицание рассудочной
карамазовщины.
То же значение получает в романе и злодейство Смердяко-
ва, духовного ученика Ивана. Незаконный сын Федора
Павловича не унаследовал от него ничего карамазовского. В нем
нет никаких «бездн», он пошлая середина. Он стал лакеем в
доме отца, но он — лакей не только по положению, но и по
душевному складу. Постоянно вынося барское презрение отца и
старших братьев, он таит в душе глубокую оскорбленность.
Он мечтает уйти из дома и обосноваться в жизни
самостоятельно, по его лакейским представлениям,— с помощью тор*
гового дела, на которое ему нужны деньги. И он знает, где
спрятаны тысячи рублей, приготовленные для Грушеньки. Но
он трус, и он никогда не убил бы старика, если бы теория,
внушенная ему Иваном, не одобряла его. Тут вступила в свои
права и его трусливая лакейская хитрость. Смердяков втайне
расчетливо готовится к тому, чтобы в темноте, сзади веролом*
но нанести свой удар и сейчас же притвориться больным па*
дучей.
Но лакейский практический рассудок Смердякова, так же
как и философский рассудок Ивана, не выносит содеянного. На
свиданиях этих героев, представляющих собой поединок озлоб*
ленного идеолога убийства с озлобленным его исполнителем,
Смердяков признается, что все совершил «с этих самых слов».
Ивана, возвращает деньги и потом кончает с собой, не
упомянув в предсмертной записке о своем преступлении.
Митя тоже был готов к убийству отца. Он уже стоял у
открытого окна и мог бы первым нанести удар, но что-то
удержало его — видимо, то хорошее, что все-таки жило в его бес*
шабашной душе. Тяжелые события, происшедшие с ним
потом,— арест, допрос, неопровержимые обвинения в убийстве,—
перевернули эту бесшабашную душу. Сначала, увидев сон о
страдающем крестьянском «дите», Митя захотел принять на
себя страдание за всех, идти на каторгу, петь «из недр земли
трагический гимн богу» и нравственно воскрешать
каторжников (новый поворот этой темы, противоположный данному в
эпилоге «Преступления и наказания»!). Но все это были
только слова. Митя скоро понял, что неспособен и не приготовлен
к страданию. И он определяет себе другое будущее — убежать
с этапа, скрыться вместе с Грушенькой в Америку, а потом
жить в местах, не затронутых машинной цивилизацией, и «в
глуши землю пахать».
Это стремление Мити очень напоминает и мечты Разумихи-
на и Дуни о жизни и труде в Сибири вместе с Раскольнико-
вым и Соней, и предсмертные мечты Шатова о новой жизни,
в которой он осуществил бы свой идеал «мужицкого труда».
И совсем по-мышкински завершает роман Алеша своей речью
к мальчикам, напоминающим ему «хорошеньких птичек»,
51
своими призывами к ним быть всегда в жизни «добрыми, сме*
лыми и честными». Это последние страницы, написанные иг*
ред смертью Достоевским!
Итак, «Братья Карамазовы» — весьма сложный и много-*
сторонний по своему содержанию роман Достоевского, с наи*
большей ясностью воплощающий в себе основные особенности
его творческой мысли. В нем писатель с особенной полнотой
развил те свои отвлеченные философско-моралистические идеи,
которые намечались раньше в других его романах.
Раскрытие этих идей показало, что у Достоевского не
было какой-то вполне сложившейся, законченной системы
взглядов на пути и перспективы социально-нравственного
развития России и человечества. До конца своей жизни он искал
ответы на эти важнейшие вопросы бытия человеческого
общества, и искал их в разных направлениях. Духовная
«гармония» Зосимы, «бунт» Ивана Карамазова, поэма.
«Геологический переворот», о которой напомнил «черт»,— все это разные
концепции мысли самого писателя, и все они противоречат
друг другу. Достоевский выступал идеологом «очищенного» от
церковной скверны христианства, но он готов был вместе с
тем подрывать нравственные устои его основного
догматического идеала, и он не отрекался совсем от идеи атеистической
гармонии общественной жизни в ее власти над силами
природы.
В свете этих философско-исторических проблем
Достоевский в своем последнем романе с особенной глубиной и силой
осудил нравственное разложение дворянско-буржуазных слоев
русского общества пореформенной эпохи, дав ему
сатирическое название «карамазовщины».
Принципы худоэ/сественною изобраэ/сения
Через полтора года после смерти Достоевского в журнале
«Отечественные записки» появилась статья народнического
критика Н. Михайловского, в которой он попытался дать
общую оценку всему творчеству писателя, подобно тому, как в
статье «Забитые люди» это сделал Добролюбов применительно
к его первой половине.
Исторический субъективизм взглядов народничества
привел Михайловского к обобщающим оценкам, прямо
противоположным оценкам Добролюбова, и даже к скрытой полемике
с ним. Добролюбов видел основную черту «гуманического»
творчества Достоевского в его «боли о человеке».
Михайловский писал: «Мы не только не видим в нем (Достоевском,—
Г. П.) «боли» за оскорбленного и униженного человека, а
напротив,— видим инстинктивное стремление причинить боль
этому униженному и оскорбленному». Это стремление критик
назвал «жестокостью», «мучительством», свойственным вооб-
52
ще таланту писателя. Он полагал, что у Достоевского
«развитие таланта шло рядом с его ожесточением». «Дело могло
происходить так,— обобщал Михайловский,— что, сознав свою
специальную силу художественного мучительства,
Достоевский увлекся игрой... и чем дальше, тем искуснее стал
ущемлять сердца своих героев и читателей» 1.
Справедлив ли был этот упрек, и кто в своем суждении
более прав — Добролюбов или Михайловский? А может быть,
они оба были правы? Может быть, «художественное
мучительство» вовсе и не противоречит действительной «боли
о человеке»? Для ответа на этот вопрос рассмотрим
особенности художественного изображения жизни у Достоевского.
Ценность произведений искусства заключается не только в
глубине и правдивости их идейного содержания, но и в
совершенстве их художественной формы, выражающей это
содержание, соответствующей ему во всех своих особенностях. Каковы
же особенности формы в романах Достоевского и какими
свойствами их содержания они созданы?
Сам отдаваясь со всей страстностью мысли и чувства
решению великих, «роковых» вопросов человеческого
существования, Достоевский и в жизни интересовался людьми, которых
занимали эти проблемы. И, естественно, в качестве главных —
а иногда и второстепенных — героев своих больших
проблемных романов он всегда выводил личности с активностью
мысли, с напряженностью чувства и всегда стремился к тому же
резко усилить и сконцентрировать в них эти свойства
путем своего творческого воображения, фантазии. Герои
писателя обладают обычно очень сильными и ярко выраженными
отвлеченными идейными убеждениями, а нередко и
склонностью к нравственно-философским исканиям. Этим они
отличаются от героев других писателей, едва ли не всех
писателей — классиков мировой литературы.
Поэтому в романах Достоевского так много размышлений
и высказываний героев на те или иные темы, часто очень
общие и отвлеченные, и так много бывает между ними
напряженных и взволнованных разговоров, горячих и страстных
споров. Иногда его герои выступают с целыми теоретическими
декларациями — статьями, программами, завещаниями,
проповедями. При этом писатель не просто рассказывает о том, что
его герои ведут такие-то разговоры, но приводит их полностью,
заполняя речами героев многие страницы своих ро?ланов.
Но писатель заставляет героев высказывать свои
убеждения и спорить о них не только потому, что само содержание их
мыслей и чувств имеет большой общий интерес и для него, и
для них самих, и для читателей. В убеждениях героев, в ходе их
1 Н. К. Михайловский. Жестокий талант.— Лит.-крит. статьи*
М., ГИХЛ, 1957, стр. 234-235.
53
мыслей, в эмоциональности их высказываний, нередко даже
в самих свойствах их речи всегда находят сильное,
сконцентрированное проявление особенности их характеров.
Размышления героев Достоевского, их разговоры и споры — это всегда
их ярчайшее умственное и эмоциональное самовыражение.
Недаром один литературный критик справедливо заметил, что
«мы видим героев Достоевского, потому что их слышим».
Недаром один историк литературы правильно сказал, что
каждый большой роман писателя — это, прежде всего,
«голоса» его основных героев и что, тем самым, каждый из этих
романов — это своеобразное литературное «многоголосие» или,
если применять термин из теории музыки,— «полифония».
Герои Достоевского так сильно и ярко выражают себя в
своих теориях, размышлениях, спорах, что многие из них
доходят при этом до какой-то умственной и эмоциональной
одержимости, иногда до маниакальности, подчас даже болезненной.
Поэтому и сами идеи героев, как бы они ни были нередко
отвлечены, рассудочны, все же всегда пронизаны их чувствами,
переживаниями, идущими из самой глубины их души. И в
критике давно уже замечено, что каждый главный герой
Достоевского обладает своей «идеей-чувством» и как бы воплощает в
себе эту идею. Некоторые герои писателя доходят в этом до
такой крайности, за которую Митя Карамазов сам себя назвал
На допросе человеком «инфернальным», то есть страшным,
ужасным в своих эмоциональных крайностях.
Но герои романов Достоевского — это все же лишь
создания его собственного творческого воображения. Это он
создавал их такими — глубоко убежденными, страстно ищущими,
одержимыми своими «идеями-чувствами», доходящими нередко
при этом до резких крайностей. Зачем он делал их такими?,
Потому ли только, что и самому ему был свойствен в какой-то
мере подобный же склад духовной жизни?
Главное, конечно, было не в этом, а в критической
направленности романов Достоевского. Ведь в большинстве
своем их герои воплощали в своей личности те черты
умственных и нравственных исканий и проистекающих из них
заблуждений, которые писатель находил в жизни образованных слоев
русского общества своего времени и которые так тревожили и
ужасали его. Эти заблуждения, эту отрицательную сущность
жизни писатель-моралист и раскрывал с огромной силой во
внутреннем мире своих героев. С исключительным
художественным гиперболизмом заставлял он их выявлять
одержимость своего гордого рассудка и крайности своего
индивидуализма и эгоизма для того, чтобы выразить всему этому свой
отрицательный идейно-нравственный приговор.
Так, когда Раскольников, скрывая волнение, подробно
разъясняет следователю Порфирию свою теорию о
Наполеонах и «дрожащей твари» и спорит с ним о ней, или когда он
лихорадочно говорит Соне о своих взглядах на жизнь общест-
64
ва, приведших его к убийству С«кто силен умом и духом, тот
над ними и властелин»), то всем этим он в полной мере
обнаруживает отрицательную сущность своего рассудочного и
индивидуалистического протестантства. Или когда Петр Верхо-
венский, уходя со Ставрогиным от «наших», судорожно, иногда
доходя до юродства, рисует ему невероятную картину
всеобщего замутнения умов, то этим он со всей силой проявляет
провокационность своей анархической «деятельности». Или,
когда Митя Карамазов с надрывом раскрывает Алеше свою
душу, в которой «сладострастие насекомого» соединяется со
«славой Вышнему», то этим он с особенной яркостью
показывает всю нравственную неустойчивость своего существования
и противоречивость своей натуры.
Лишь некоторые герои романов Достоевского — Соня Мар-
меладова, Мышкин, Макар Долгорукий, Алеша Карамазов—
проявляли в своих характерах — положительные для
писателя — черты простонародной патриархальности. Но и эти
герои, в той или иной мере, обнаруживали при этом большую
идейную и эмоциональную целеустремленность. Соня
экстатически верит в бога и его помощь несчастным; Мышкин глубоко
убежден в нравственной силе всепрощения.
При таком обостренном интересе к убеждениям и
связанным с ними переживаниям своих героев, к их
«идеям-чувствам» Достоевский, естественно, стремится поглубже
проникнуть в их внутренний мир и изобразить самый поток их
сознания. Он выступает при этом художником-психологом,
способным показать развитие мыслей и чувств героев в их
сцеплениях и взаимодействиях. Чернышевский в статье о
ранних повестях Л. Толстого, в которых проявилась подобная же
склонность к раскрытию тончайших душевных движений
героев, назвал ее способностью к «изображению диалектики
души». Такое определение вполне применимо и к
психологической живописи Достоевского. Различие между ними при
этом состоит в том, что Л. Толстой как бы неторопливо
анализирует, как бы исследует то, что происходит в душе его
героев, преимущественно в положительных. Достоевский же,
наоборот, как бы синтетически нагнетает мысли и чувства
героев, по преимуществу отрицательных, показывает их в
драматическом взаимодействии.
Вот, например, изображение душевного состояния Расколь-
никова после получения письма от матери, накануне убийства:,
«Вдруг он вздрогнул: одна, та же вчерашняя мысль опять про*
неслась в его голове... Он ведь знал, он предчувствовал, что
она непременно «пронесется», и уже ждал ее... Но разница
была в том, что... даже вчера еще она была только мечтой, а
теперь... теперь явилась не мечтой, а в каком-то новом, грозном
и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это...
Ему стукнуло в голову и потемнело в глазах». Эти
мучительные переживания героя показывают- читателю, к чему может
55
привести человека отчаянное и озлобленное
индивидуалистическое бунтарство.
Но не только гиперболическим изображением внутреннего
мира своих героев выражал писатель свой отрицательный
приговор нравственной деградации русского
привилегированного общества. Такое же значение имеет у него и изображение
внешних действий и отношений героев, и всего того хода
событий, который складывается из их действий, и тех глубоких
противоречий, которые всегда возникают в событиях,
изображаемых в его романах. Ход событий, изображенных в
художественном произведении,— это его сюжет; противоречия,
проявляющиеся в ходе событий.— это конфликты сюжета.
По своим конфликтам романы Достоевского — совершенно
необычное явление среди произведений других русских, да и
мировых писателей-классиков. Конфликты эти создаются
стремлениями и страстями, вытекающими из одержимости
героев своими «идеями-чувствами» и доходящими обычно до
крайней напряженности и драматизма. В завязках,
кульминациях, развязках этих конфликтов обычно со всей резкостью
проявляется глубокая внутренняя противоречивость
характеров главных героев и столкновения их интересов.
В изображении этих противоречий и столкновений писатель
также очень часто применяет приемы сильного
гиперболизма. Он доводит своих героев, в особенности тех, чьи
характеры, мысли, чувства он идейно отрицает, до последних
крайностей проявления их недовольства жизнью, их отчаяния,
кх глубоких нравственных кризисов. В этих состояниях герои
Достоевского и доходят так часто до маниакальности и
душевных заболеваний, до убийства или же самоубийства. Болезни
и преступления очень часто служат средством
художественного разоблачения ложных «идей-чувств».
Так, в «Преступлении и наказании» автор доводит Рас-
кольникова в его стремлениях рассудочно оправдать свое
право на пролитие крови до двойного убийства, которое он затем
изживает в тяжелых страданиях, а Свидригайлова — в его
духовной опустошенности — до диких ночных кошмаров и
самоубийства. Так, в «Идиоте» Настасья Филипповна в своей
глубокой и непоправимой нравственной оскорбленности доходит
до полубезумных метаний, Рогожин, оскорбленный в своих
индивидуалистических чувствах,— до убийства Настасьи
Филипповны, Мышкин с его светлой, детской душой и слабым
характером — до нового приступа душевной болезни после
ночи у трупа погибшей. В «Бесах» автор карает Ставрогина в
его беспредельной умственной и нравственной опустошенности
тяжелым самоубийством, а Петра Верховенского в его
гнусном провокаторстве — участием в трех убийствах других
людей. Весь конфликт «Братьев Карамазовых» основан на
причастности к отцеубийству трех сыновей, из которых один ис-
56
купает это страданиями тюрьмы, суда и приговора к каторге,
другой — сумасшествием, третий — самоубийством.
Здесь, видимо, нам можно возвратиться к мысли критика
80-х годов Н. Михайловского, что Достоевский был
чрезвычайно склонен к «художественному мучительству» своих героев
и, далее, читателей и что это определялось будто бы
«жестокостью» его таланта. «Мучительство» героев у писателя заклю*
чалось в резком творческом преувеличении, гиперболизации
душевных страданий героев, вызванных обстоятельствами их
жизни. А такое преувеличение, как и сам повышенный интерес
писателя к душевным страданиям героев в их жизни, был
обусловлен не свойствами его прирожденного таланта, а острой,
моралистической направленностью его произведений, которая
вытекала из особенностей его миропонимания, созданного об*
стоятельствами русской общественной жизни, из его гуманизм
ма, «боли о человеке», о которой говорил Добролюбов.
Напряженность конфликтов, катастрофичность их развязок,
создаваемые глубокими нравственными кризисами героев,
столкновениями их «идей-чувств», усиливаются у Достоевского
также и строением сюжетов романов. Он обычно концентрирует
все события, происходящие в романе, в очень узких границах
пространства и времени. Вследствие этого каждый день
жизни героев оказывается насыщенным событиями. Встречи,
столкновения идей и интересов, часто доходящие до резких
споров, до оскорблений, обид, до неожиданных и поразительных
разоблачений, иногда даже до скандалов,— все это с большой
быстротой сменяется в развитии сюжета, герои живут обычно
в очень нервной и напряженной атмосфере и за один день часто
испытывают столько сильных и неожиданных впечатлений и
переживаний, сколько герои романов других писателей не полу-»
чают за целую неделю или даже месяц.
Так, первая из четырех частей «Идиота» охватывает
события только одного дня. За этот день Мышкин рано утром
приезжает в Петербург, представляется Епанчину, знакомится
с его семьей, становится свидетелем отношений Аглаи и Гани,
днем посещает с ним его семью, встречается там с Настасьей
Филипповной, присутствует при напряженных сценах между
нею и семьей Иволгиных, затем между всеми ими и Рогожиным,
а вечером участвует в огромном скандале, происходящем между
претендентами на обладание бывшей любовницей Тоцкого.
Для того чтобы создать наибольшую концентрацию событий
в ходе самого повествования, писатель иногда утаивает от
читателей важные обстоятельства в прошлой жизни героев. Эти
обстоятельства только потом внезапно становятся известными
читателям из взволнованных рассказов самих героев, из их
намеков. Так, в «Преступлении и наказании» читатели долго
находятся в неведении того, что Раскольников еще за полгода
до убийства написал статью о праве великих людей на
пролитие крови, и не подозревают, что, убивая старуху, он испытывал
57
самого себя в этом отношении. Только потом, при первом
допросе Порфирия, они вдруг узнают обо всем этом.
Но сильный психологический и сюжетный гиперболизм,
являющийся характерной особенностью формы романов
Достоевского, не только не препятствует их реализму, но в основном
усиливает и углубляет его. Это в особенности относится к
критической стороне содержания его романов, к воспроизведению
характеров отрицательных персонажей.
Сам писатель хорошо сознавал эту очень важную черту
своего творчества. «У меня,— писал он Н. Страхову в 1869
году,— свой особенный взгляд на действительность (в
искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и
исключительным, то для меня иногда составляет самую
сущность действительного. Обыденность явлений и
казенный взгляд по-моему не есть еще реализм, а даже напротив».
Что хотел этим сказать Достоевский? Он правильно
полагал, что «действительность» отражается «искусством» в «самой»
своей «сущности» и что существенные свойства
действительности часто гораздо лучше — яснее, активнее — выражаются
именно в «исключительных» ее явлениях, а не в «обыденных».
Поэтому он и делал героями своих романов совсем не обычных
людей, а сюжетами их — как будто даже невероятные события.
Но в них с гораздо большей верностью отражалась самая
сущность жизни, нежели в героях и событиях, лишь внешне
копирующих действительность. Реализм же — это и есть верность
художественного отражения жизни в ее социальной сущности.
И Достоевский правильно называл свое творчество,
«реализмом в высшем смысле». Таковы основные принципы
изображения жизни в романах Достоевского. И в этом отношении его
романы — очень значительное и исключительно оригинальное
явление и в русской, и во всей мировой литературе.
Значение творчества Достоевского
Какое же значение имели эти романы для русского общества в
эпоху их создания и в последующие периоды исторической
жизни вплоть до нашего времени?
Прежде всего, Достоевский по-своему осуществлял в них
ту же великую художественно-познавательную задачу, какую
выполняли своим творчеством и другие крупнейшие русские
писатели второй половины XIX века — Салтыков-Щедрин,
Л. Толстой, Чехов. Достоевский дал в своих романах очень
широкое изображение жизни русского общества своего времени,
по преимуществу жизни образованных, привилегированных,
господствующих его слоев, определявших как будто своим
положением, влиянием, властью будущее России. И не уступая всем
названным писателям, в чем-то даже их превосходя, Достоев-
58
ский раскрыл в этом своем широком изображении процесс все
усиливавшегося и непоправимого идейного и нравственного
разложения этих слоев.
Но он не только показал в типических характерах своих
героев этот процесс. В свете своих
патриархально-демократических идеалов, пусть обращенных в прошлое и поэтому
неисторичных, пусть очень отвлеченно и даже религиозно
осознаваемых, писатель выразил в образах своих романов очень резкую
разоблачающую оценку идейно-нравственной деградации людей,
стоявших над народом, вынес им свой суровый осуждающий
приговор. Изображенная писателем жизнь была по самой
своей общественной сущности вполне достойна такого
осуждающего приговора. Романы Достоевского и ценны прежде всего
этой исторической правдивостью выраженного в них идейно-
эмоционального осознания и оценки изображенной жизни.
Значит, несмотря на свою веру в идейно-нравственное
возрождения людей, подобных Раскольникову, Шатову, Мите
Карамазову, несмотря на свое упование на незлобивость и
нравственное «благообразие» людей, подобных Мышкину, Макару
Долгорукому, Алеше Карамазову, Достоевский рисовал
будущее дворянско-буржуазной и дворяиско-разночинской России в
очень мрачных перспективах. Эту мрачную, почти трагическую
тревогу за ближайшее будущее русского «общества»,
господствующего над народом, писатель выразил в большой речи
прокурора Ипполита Кирилловича во время суда над Митей
Карамазовым. Напоминая о символе скачущей русской тройки в
конце гоголевских «Мертвых душ», прокурор говорил, явно
выражая мысль автора, о «бешеной, беспардонной скачке» этой
тройки, о том, что она «несется стремглав и, может, к
погибели». Это сказано в одной из последних глав последнего романа
писателя, вышедшего за месяц до его смерти.
Никто из названных выше крупнейших русских писателей
пореформенной эпохи не смог выразить с такой обобщающей
ясностью предчувствие исторической обреченности
привилегированных слоев России. Они действительно шли к своей
«погибели», которая была неотвратима. Ни русское дворянство, ни
тесно связанная с ним буржуазия, ни буржуазно-дворянская
интеллигенция — никто из них в пореформенную эпоху уже не
мог стать в своей жизни и деятельности руководящей
прогрессивной силой в историческом развитии всего русского
общества. У них не было ни соответствующих гражданских
интересов, ни политического мужества, ни передовых идеалов
для того, чтобы смело перестроить всю национальную жизнь.
Они лишены были всякой возможности сделать так, чтобы по
русским деревням больше не «плакало дите», как этого вдруг
захотелось арестованному Мите Карамазову, понявшему все
мерзости своей паразитической жизни. «Достоевский,— писал
Луначарский,— отражая в себе ту колоссальную этическую
разруху, которую пестрота капиталистических отношений, бурно
59
хлынувших на пореформенную Россию, породила, является ху*
дожественным зеркалом, в котором это разнообразие нашло
свое адекватное отражение» *.
Резко критическое изображение русского общества, данное
Достоевским в его произведениях, находилось, следовательно, в
вопиющем трагическом противоречии с его неосуществимым
идеалом нравственного «братства» всех людей. Поучениями
старца Зосимы, как бы ни были они «благообразны»,
невозможно было приостановить быстрое развитие всяческой,
умственной и нравственной, «карамазовщины» в
привилегированных слоях России.
К подобным же выводам приводило мыслящих читателей и
творчество Щедрина, Л. Толстого, Чехова, но иначе, чем
творчество Достоевского. Щедрин показывал жизнь дворянства,
чиновничества, буржуазии по преимуществу извне, сатирически
осознавая внешние проявления их отрицательной сущности,
доводя сатиричность их изображения до резкого преувеличения,
до гротеска. Л. Толстой, при всем своем морализме и
вытекавшем отсюда преобладающем интересе к внутреннему миру своих
дворянских героев, к их нравственному развитию и судьбе, все
же осознавал этот внутренний мир через множество детально
выписанных подробностей семейно-бытовой жизни.
«Диалектика души» его героев редко выявлялась непосредственно и
обычно включалась в характерные картины этой бытовой жизни.
Художественно-психологический «микроскоп» Толстого (а он
как художник-моралист создал его себе) и был направлен
преимущественно на эти связи душевных движений героев с
мельчайшими обстоятельствами их повседневного существования.
Для Достоевского картины быта и бытовых отношений не
имели существенного значения.
Художественно-психологический «микроскоп» его романов имел другую направленность. Он
был направлен в основном на выявление «идей-чувств» героев,
на напряженные искания их мысли, столкновения их мнений, на
эмоциональную одержимость героев своими идеями, сеоими
идейно-нравственными, а чаще — безнравственными
стремлениями, на маниакальность их душевных переживаний. И самые
принципы изображения жизни в романах писателя —
исключительная напряженность диалогов и монологов, концентрация
быстро развивающихся событий и конфликтов в очень узких
пределах пространства и времени — в высшей степени
способствовали такому глубокому проникновению творческой мысли
Достоевского в мятущийся внутренний мир его героев. Эта
исключительная глубина психологических проникновений во
внутреннюю жизнь деградирующих слоев русского общества —
величайшая ценность романов писателя.
'А. В. Луначарский. О «многоголосности» Достоевского.—
В кн. А. В. Луначарский. Классики русской литературы. М.,
Гослитиздат, 1937, стр. 10^
60
Но ценность романов Достоевского во много раз
увеличивается также тем, что он — как уже сказано выше — осознавал
глубины духовной жизни своих героев в тесной связи с
разрешением важнейших, «роковых» вопросов жизни
цивилизованных обществ вообще. Главные его герои — Раскольников и
Мышкин, Ставрогин и Петр Верховенский, Аркадий
Долгорукий и Иван Карамазов — это прежде всего характеры русской
разночинной и дворянской интеллигенции второй половины
XIX века, идейно ищущей и заблуждающейся. Но ее искания
и заблуждения раскрыты писателем так глубоко и так
значительно, что в них проступают и некоторые гораздо более общие
черты, которые могут проявляться в характерах людей других
стран и другого времени.
Раскольников — это бедный петербургский студент 1860-х
годов. Но его мысли, переживания, действия, изображенные з
романе, имеют и более широкий мысл. Это — человек,
стремящийся в своих индивидуалистических дерзаниях теоретически
оправдать свое право на пролитие крови других людей и
потерпевший страшное нравственное поражение на этом пути. Похож
на него и Иван Карамазов своей теорией «вседозволенности».
А сколько подобных же оголтелых индивидуалистов, часто
очень опасных для общества, существовало не только в те годы
и не только в России, сколько их существует в буржуазном
мире и в наше время!
Но в характерах студента Карамазова и аристократа Став-
рогина Достоевский воплотил и другое общее свойство. Эти, по
выражению «черта», «милейшие русские барчата» и «молодые
мыслители» были очень склонны отдаваться разнообразным
умственным построениям не ради познания истины жизни, а
для того чтобы насладиться созерцанием своих собственных
самодовлеющих умственных «бездн», полюбоваться самими
собой и вскружить головы другим. Сколько, как в их время, так
и сейчас, и в разных странах можно найти людей, склонных
очень гордо и самодовольно кокетничать всякими «последними
словами» науки и философии, тратящих массу сил на создание
совершенно произвольных и субъективистских теорий,
наслаждающихся ими и стремящихся уйти в них с головой от реальной
жизни с ее подлинными противоречиями. Это — своего рода
индивидуалистическое отщепенство и протестантство.
Еще более социально опасные и исторически повторяющиеся
черты раскрыл Достоевский в характере Петра Верховенского.
Для своего времени этот организатор подпольных «пятерок»
был не только возможным полицейским провокатором, но и
прообразом реакционного «черносотенного» движения.
Не менее поучительны и общие черты в характерах
положительных героев романов Достоевского — Мышкина, Макара
Долгорукова, Зосимы и Алеши Карамазова. Все они
воплощают в себе великий идеал всечеловеческого братства, не
меркнущий и в наше время в передовом общественном сознании.
.61
Но этот идеал они осуществляли не на путях социального
преобразования общества, а на путях смирения, всепрощения*
ухода от общественной жизни с ее глубокой противоречивостью
и ее борьбой. К этому привело их развитие мысли самого
писателя. Слова, сказанные Мышкину: «Рай на земле не легко
достается... рай вещь трудная, гораздо труднее, чем кажется
вашему прекрасному сердцу»,— могли быть обращены и к са-
мому Достоевскому. Но на доводы о неизбежности борьбы и ее
жертв писатель ответил бы ссылкой на «бунт» Ивана и повто*
рил бы основное положение своей пушкинской речи — «невоз-
можно счастье, основанное на чужом несчастье». Здесь есть
глубокие противоречия.
Таково мировое значение проблематики и персонажей ро-
манов писателя.
Но Достоевский, как это видно из всего сказанного выше,
выступил вместе с тем первооткрывателем новых
художественных принципов создания психологических романов. В. И. Ле-
нин писал о Толстом: «Эпоха подготовки революции в одной
из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря
гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в
художественном развитии всего человечества» *. Эту мысль в какой-то
мере можно применить и к Достоевскому. Его романы освещали
ту же историческую эпоху, в той же стране и освещали ее тоже
гениально, хотя во многом совсем иначе, чем произведения
Толстого. Оба они были художниками-моралистами с очень
высокими общественными идеалами, и именно поэтому
проникновение их творческой мысли в человеческий «внутренний мир»
было особенно глубоким и значительным. М. Горький писал об
этом: «Толстой и Достоевский — два величайших гения, силою
своих талантов они потрясли весь мир, они обратили на
Россию изумленное внимание всей Европы и оба встали, как
равные, в великие ряды людей, чьи имена — Шекспир, Данте,
Сервантес, Руссо и Гете»2,
К творчеству Достоевского проявляют интерес различные
течения общественной мысли разных стран. Передовые люди
капиталистического мира ценят в его творчестве критику
буржуазного общества. Они видят, что те зловещие симптомы
разложения буржуазного общества, о которых писал Достоевский,
в их странах в настоящее время приобрели колоссальный
размах. Деградация личности, индивидуализм, озлобленное
бунтарство, вытекающая отсюда преступность — все это
расцветает в мире капитализма и обо всем этом уже писал
Достоевский. Поэтому его громадный критицизм и сейчас не утратил
своей силы.
У Достоевского не было прямых идейных и творческих
преемников; он — уникальное явление в духовной культуре челове-
1 В. И. Ленин. Полне собр. соч., т. 20, стр. 19.
2М. Горький. Заметки о мещанстве..,—Собр. соч. В 30-ти т* Т* 23*
М., Гослитиздат, 1953, стр8 111*
60
чества. Но многие писатели испытывали на себе его творческое
влияние. Среди русских писателей можно назвать Л. Андреева,
А. Белого, Л. Леонова, отчасти М. Горького. На Западе это
были Р. Мартен дю Гар и А. Жид, Г. и Т. Манны, У. Фолкнер
и Ш. Андерсен, Г. Фаллада и Г. Бёлль и многие другие.
Огромно было влияние Достоевского и на различные направления
философско-этической мысли.
Каждый брал в разносторонности и противоречивости
художественного творчества и публицистики писателя то, что ему
казалось наиболее важным, и обычно развивал взятое у него
по-своему и в своих целях. Отсюда и возникла та
исключительная противоречивость в понимании и оценках Достоевского, с
указания на которую начата эта брошюра.
При рассмотрении всей этой разноголосицы суждений
следует различать Достоевского и «достоевщину». Когда писатель
стремился распознавать сущность жизни в «исключительном»,
а не в «обыденном», когда он ставил для этого своих героев в
невероятно сложные положения, сталкивая их интересы и
мнения с поразительной силой, доводил их мысли и переживания
до последней крайности, вызывал всем этим в них склонность
к нервной взвинченности, истеричности и болезненности
впечатлений — он совершал все это как художник. Все неестественное
и ненормальное в изображаемой им жизни было для него
средством особенного, напряженного и сгущенного выражения
идейно-эмоционального осмысления таких человеческих
характеров, которые сами по себе были совершенно естественны.
Но такие же судорожные и болезненные действия и
переживания у реальных людей в реальной жизни мы назовем
«достоевщиной».
Читая романы, эпические произведения, очень трудно прямо
отождествлять изображаемые в них картины с реальной
жизнью. Картины живут только в нашем читательском
воображении. Другое дело — драма, театр. Там все происходит на
сцене перед глазами зрителей. При переделке романов
Достоевского для постановки их в театре и кино можно впасть в
«достоевщину».
«Достоевщину» можно найти и в художественной литературе.
Некоторые романисты и драматурги Запада, ложно подражая
Достоевскому, превращают судорожность действий своих героев
и болезненность их переживаний из гиперболических приемов
художественной выразительности в нечто самодовлеющее.
Они передают е них подобные же особенности самого
содержания своих произведений — болезненные и извращенные
мироощущения тех слоев буржуазной интеллигенции, которые
потрясены и напуганы непонятными для них противоречиями всего
буржуазного мира и которые так погружены в свои
субъективные и упадочнические переживания, что даже испытывают
враждебность к объективному пониманию перспектив развития
общества.
63
Так называемые западные подражатели Достоевского,
внешне, словесно присоединяясь к нему, играют на некоторых
противоречиях, встречающихся в творчестве великого писателя,
приписывая ему мысль о полной замкнутости в себе
человеческой личности вообще, ее непознаваемости и т. д., используют
его приемы нагнетания ужасов, пытаются «пужать и свое
воображение и читателя» (В. И. Ленин).
Достоевскому нельзя и не нужно подражать. Но созданные
им новые принципы психологического изображения жизни,
которые он сам назвал «реализмом в высшем смысле», вошли в
художественную культуру человечества. И они могут быть
использованы, переработаны на основе иного содержания
современными писателями-реалистами. Теми писателями, которые
смогут поставить перед собой очень важные задачи
проникновения во «внутренний мир» людей нашей современности — эпохи
гораздо более сложной и противоречивой, нежели эпоха,
создавшая Достоевского и его творчество.
Итак, миропонимание Достоевского обладало
исключительной глубиной проникновения в противоречия духовной жизни
буржуазного общества, исключительной силой критицизма и
своеобразным гуманизмом. Все это при громадном таланте
писателя и привело его к созданию выдающихся произведений
словесного искусства. Как великий художник, оригинально и во
многом верно отразивший и осознавший определенный этап в
историческом развитии общества, Достоевский прочно вошел в
идейное и эстетическое наследство всего человечества.
12 коп.
Индекс 70069
-8-
ИЗДАТЕЛЬСТВО
зна^и©
*^° ^
москва
1.9 ЭД