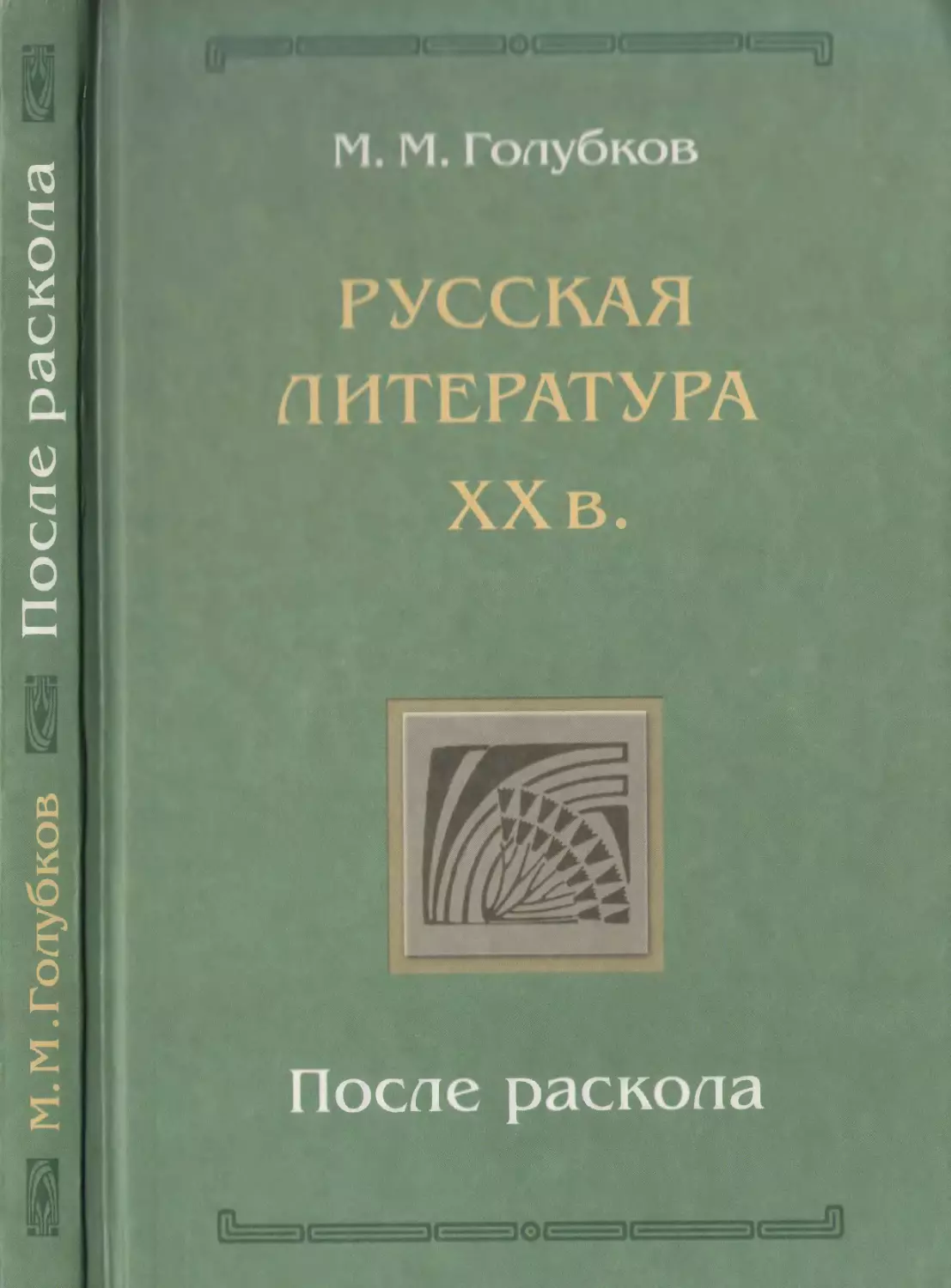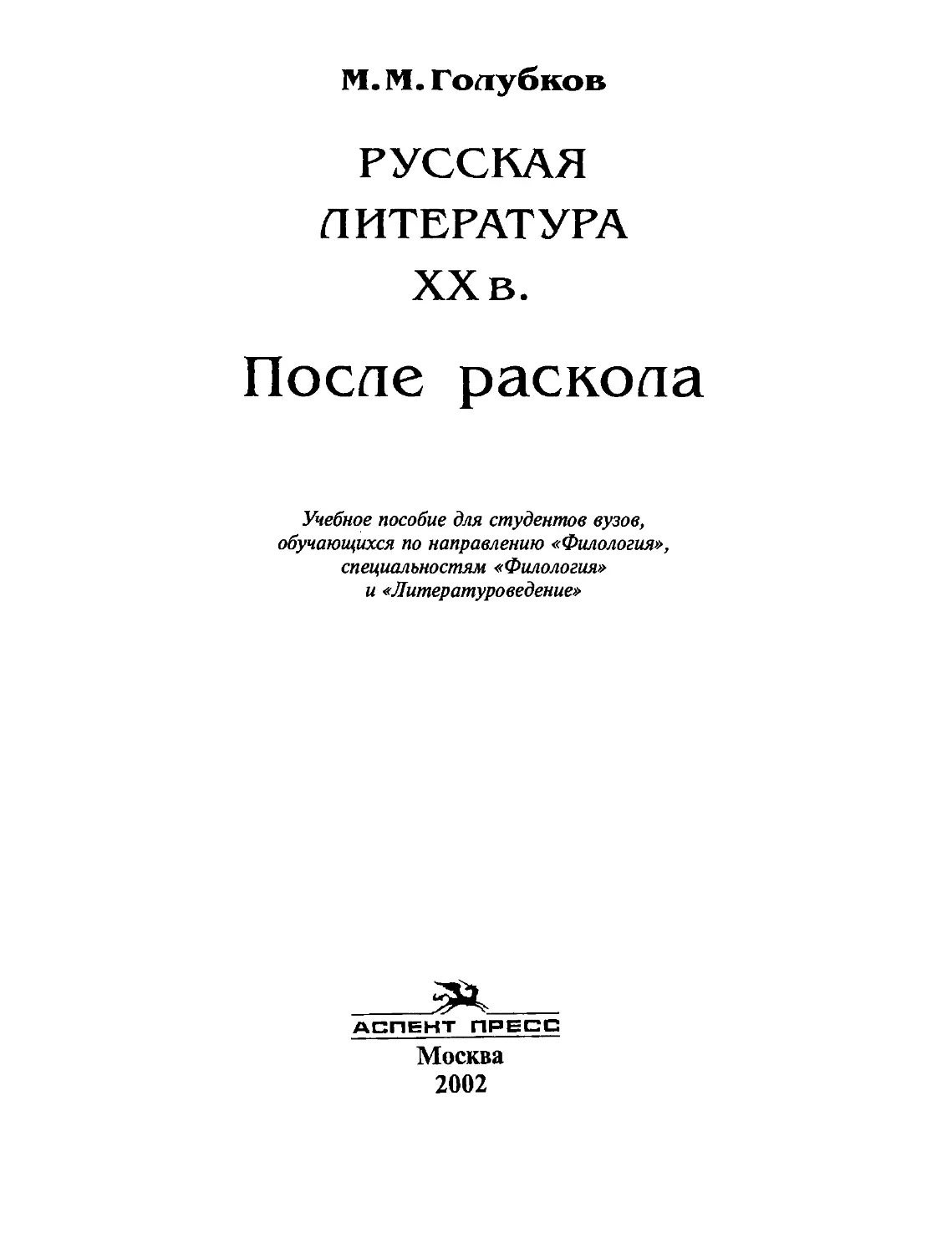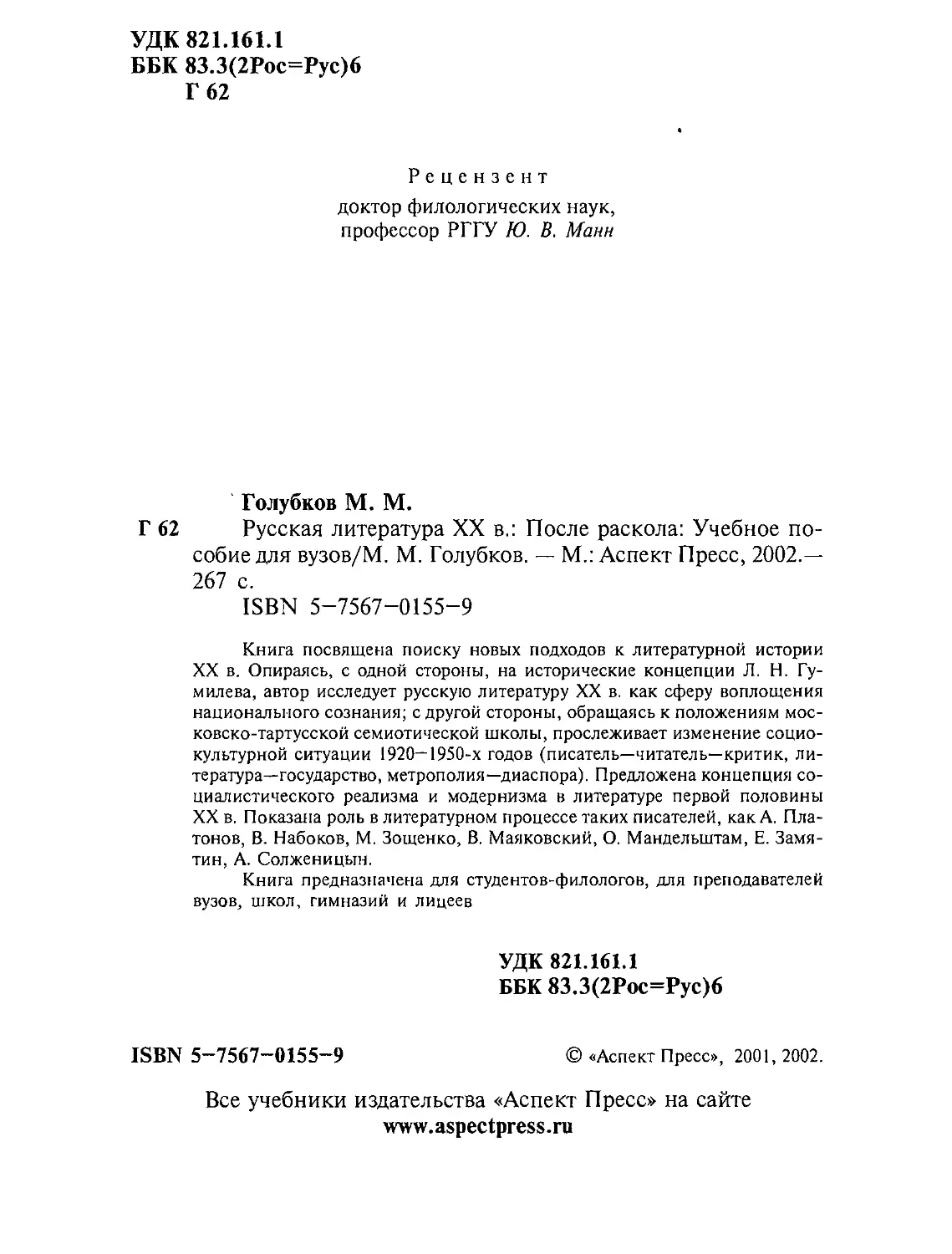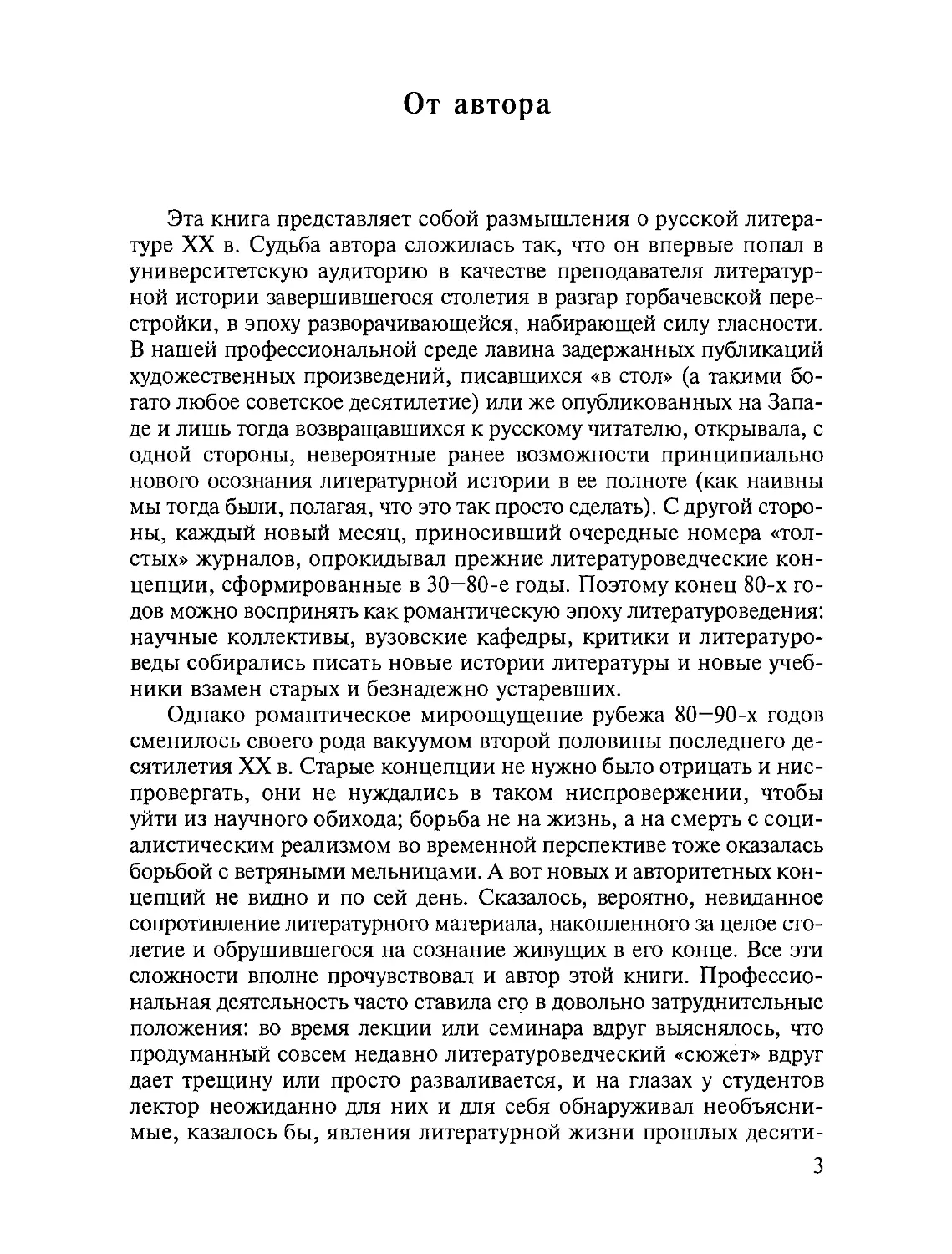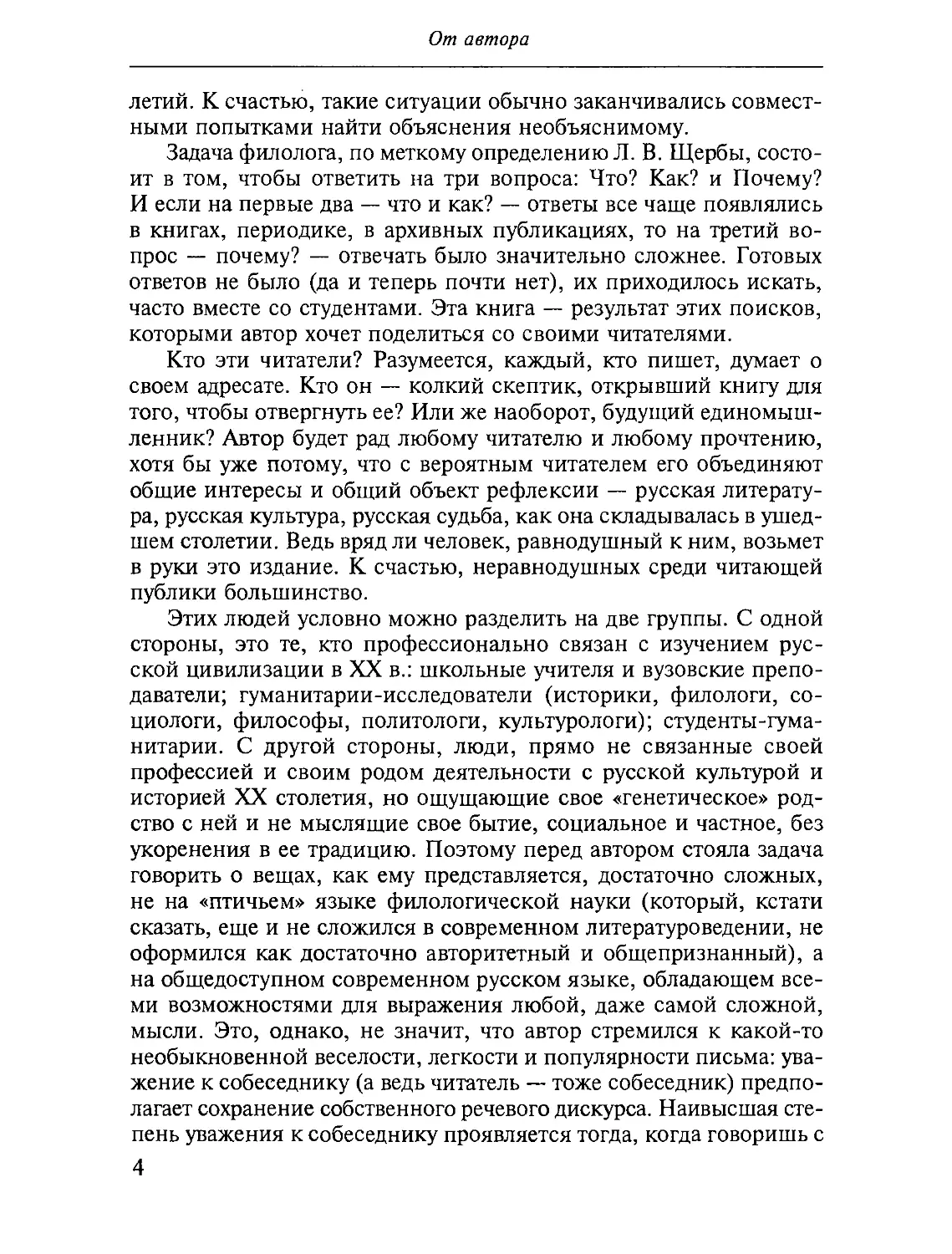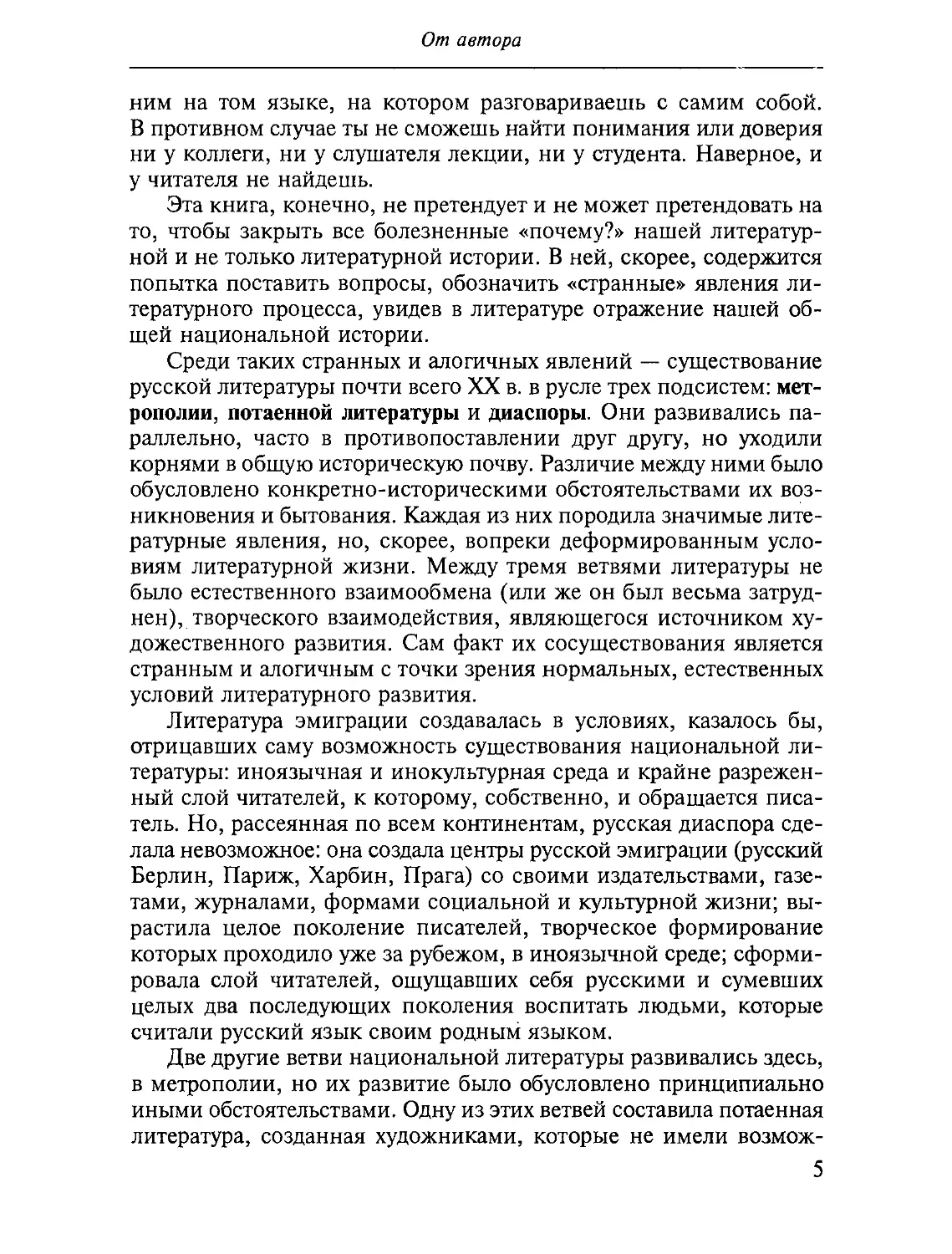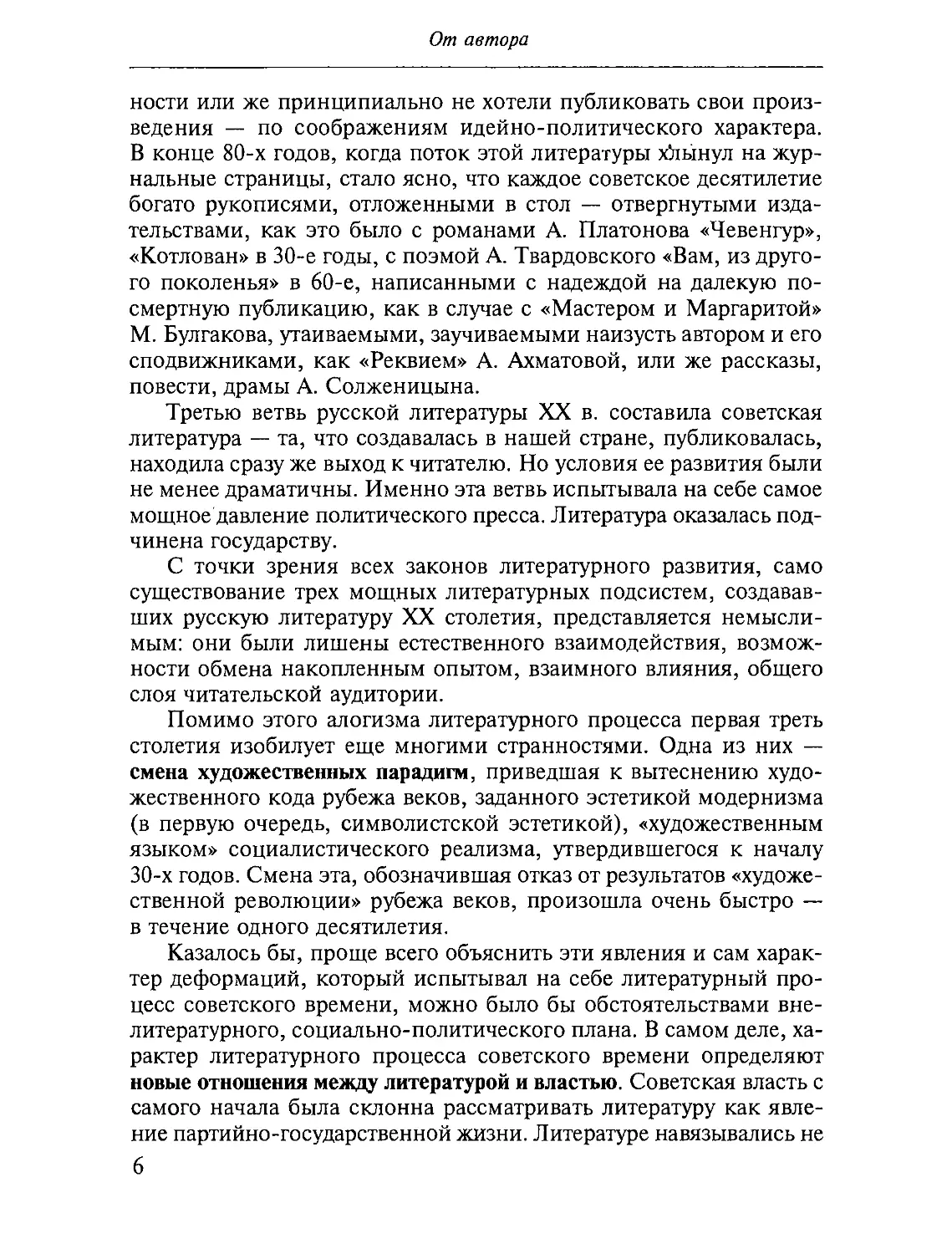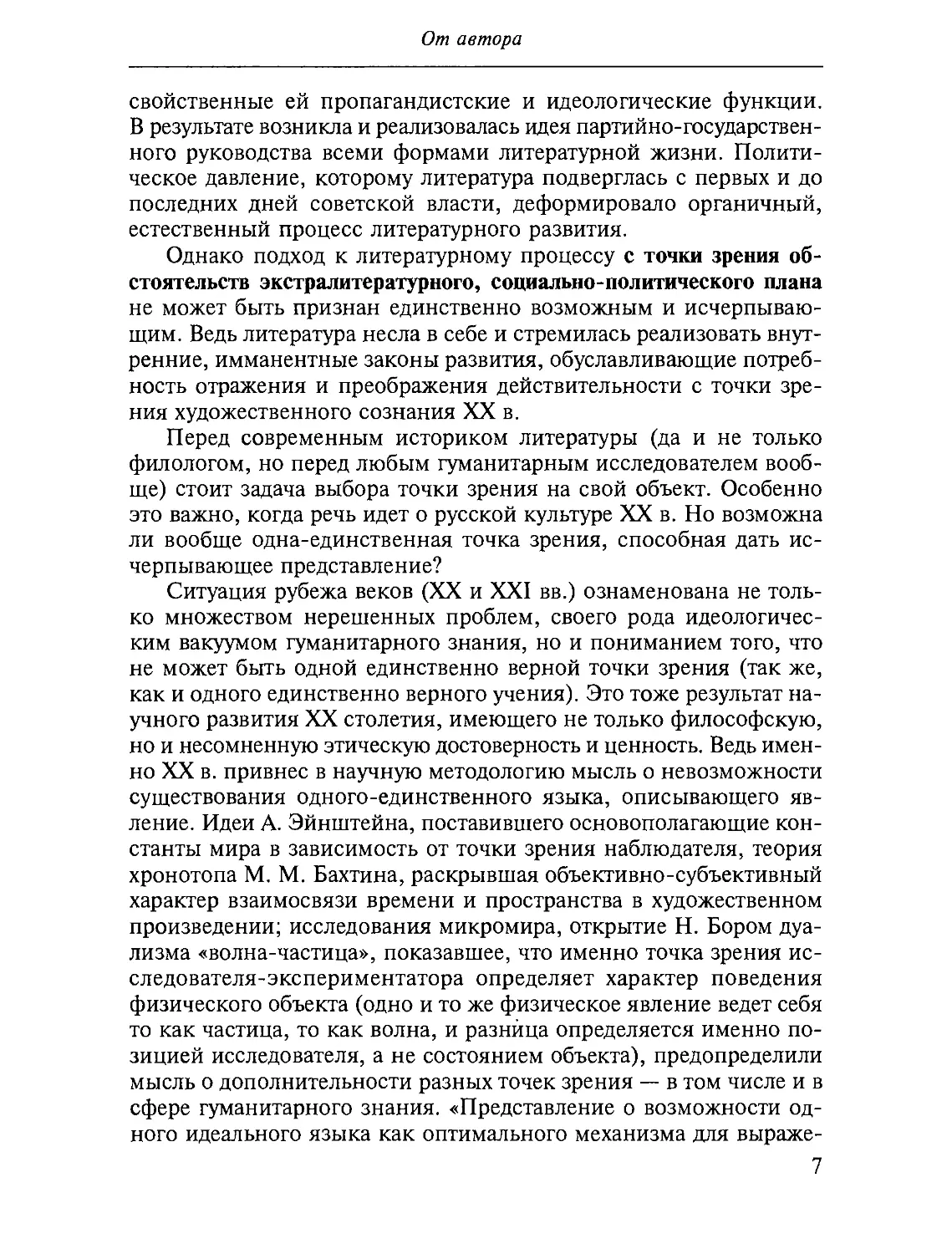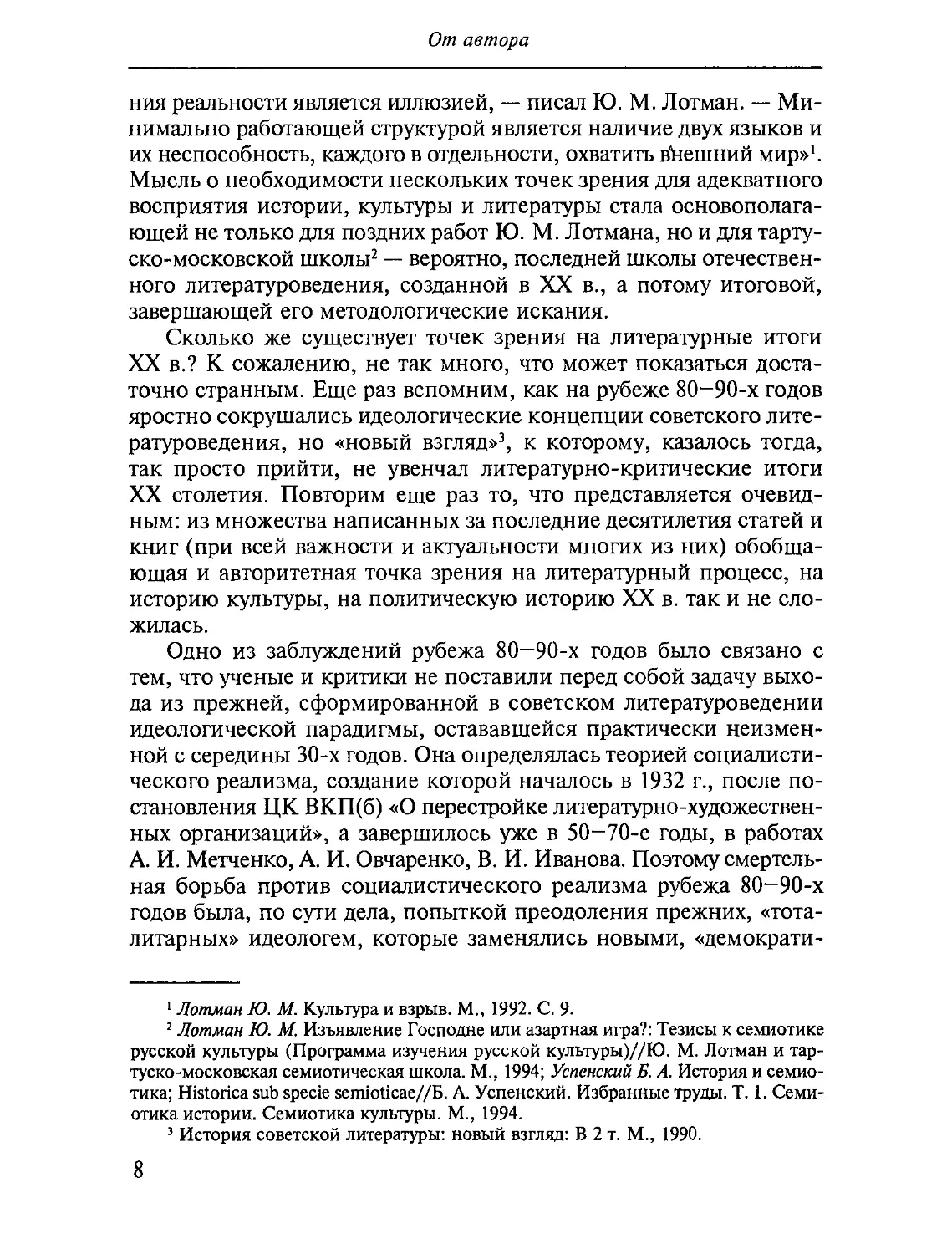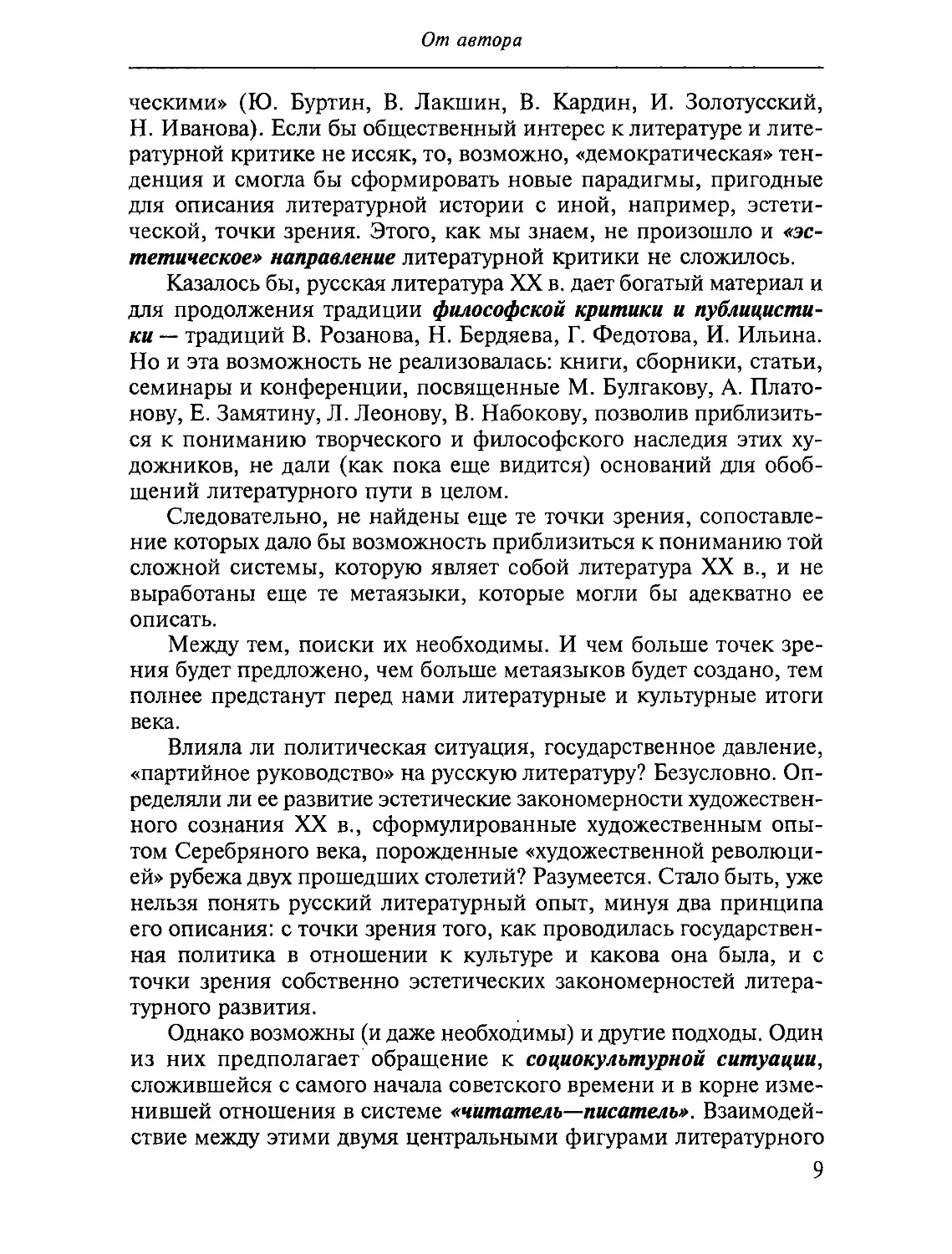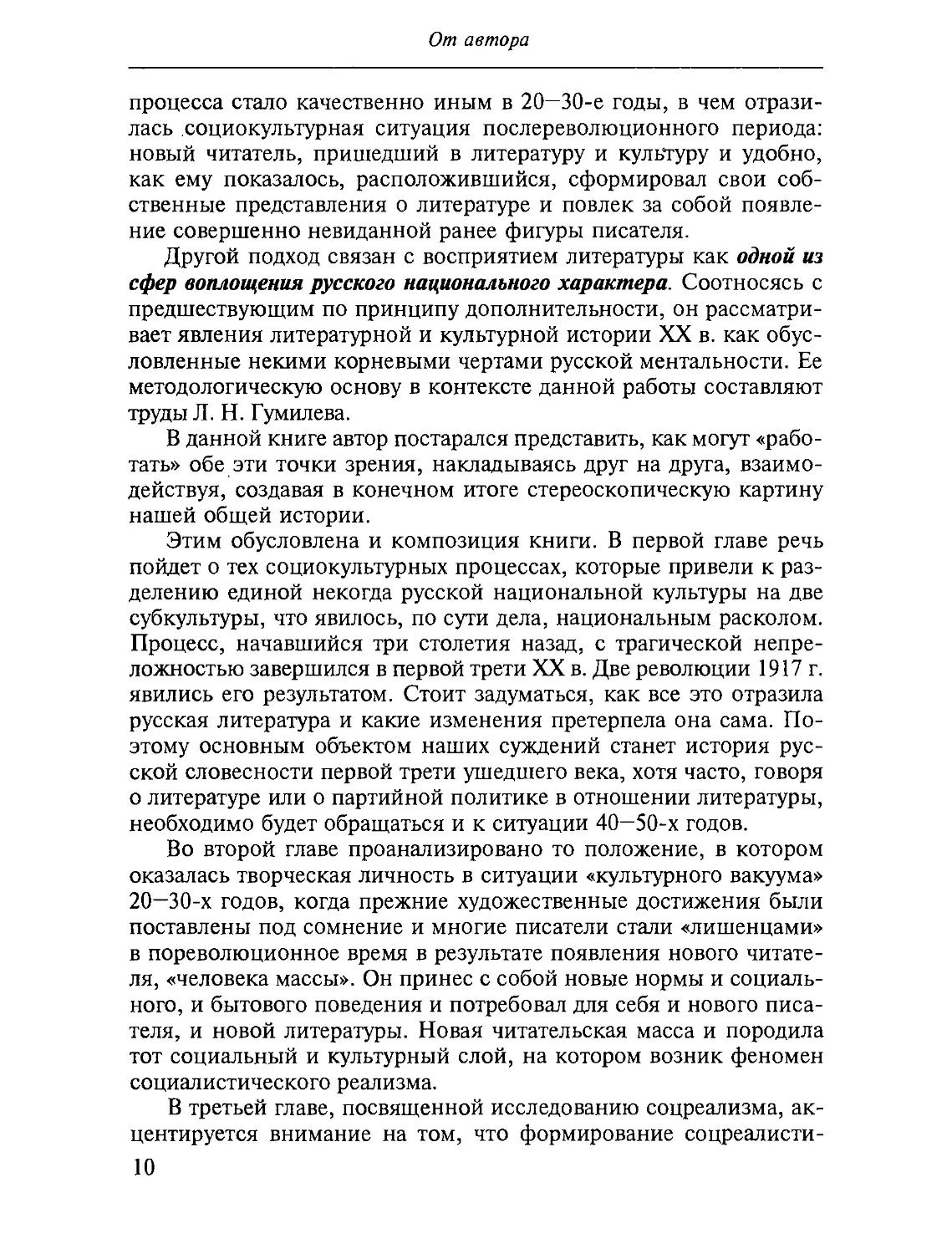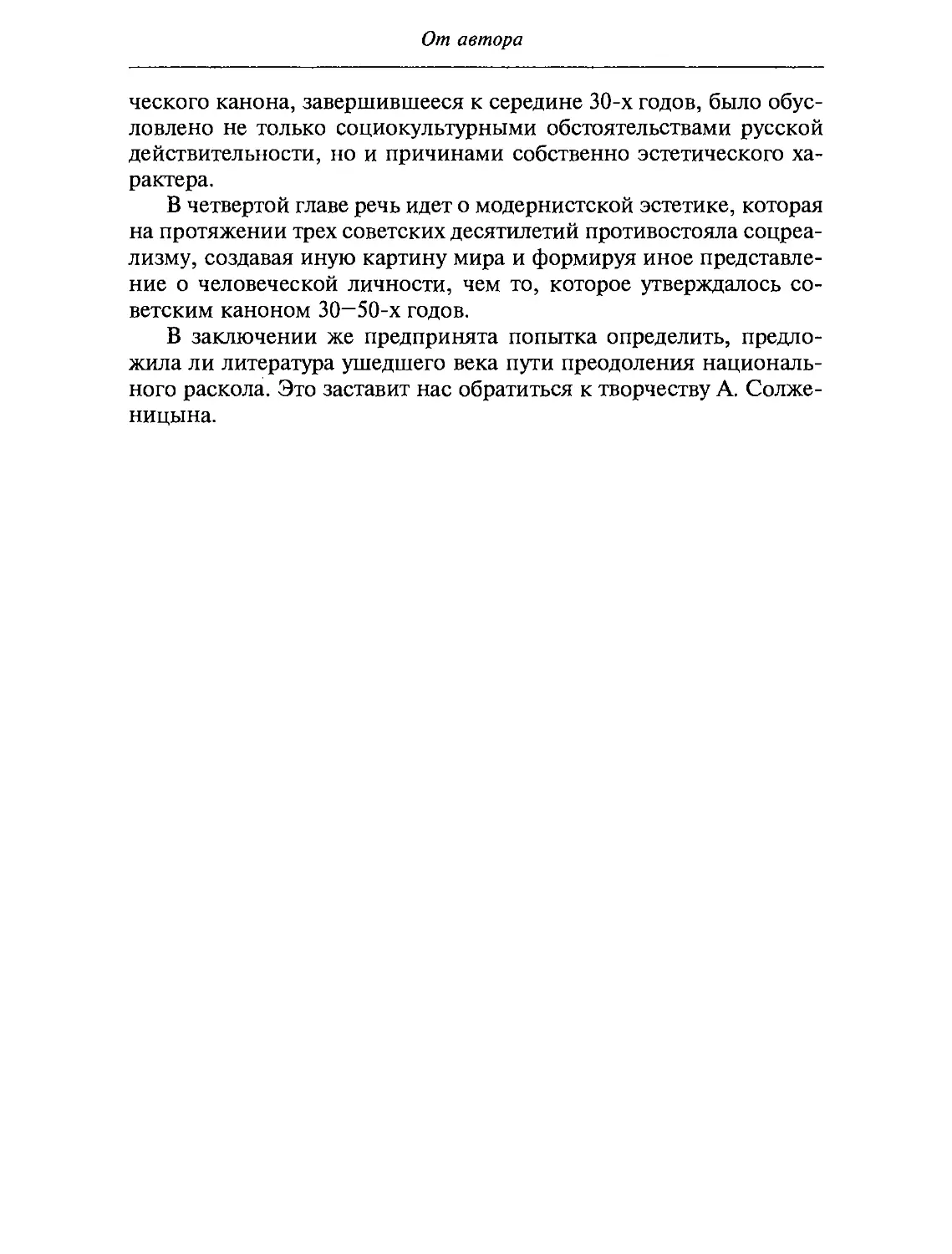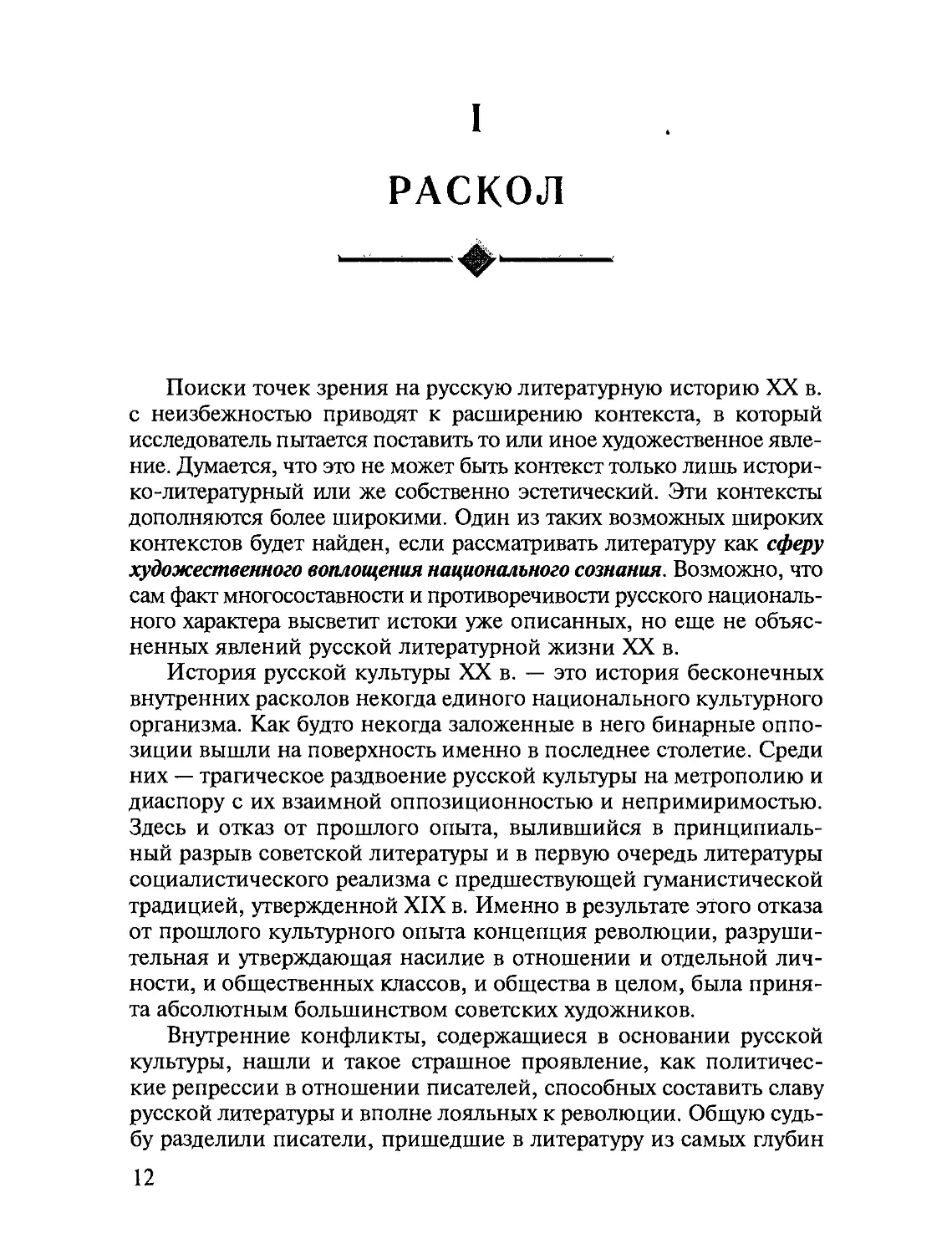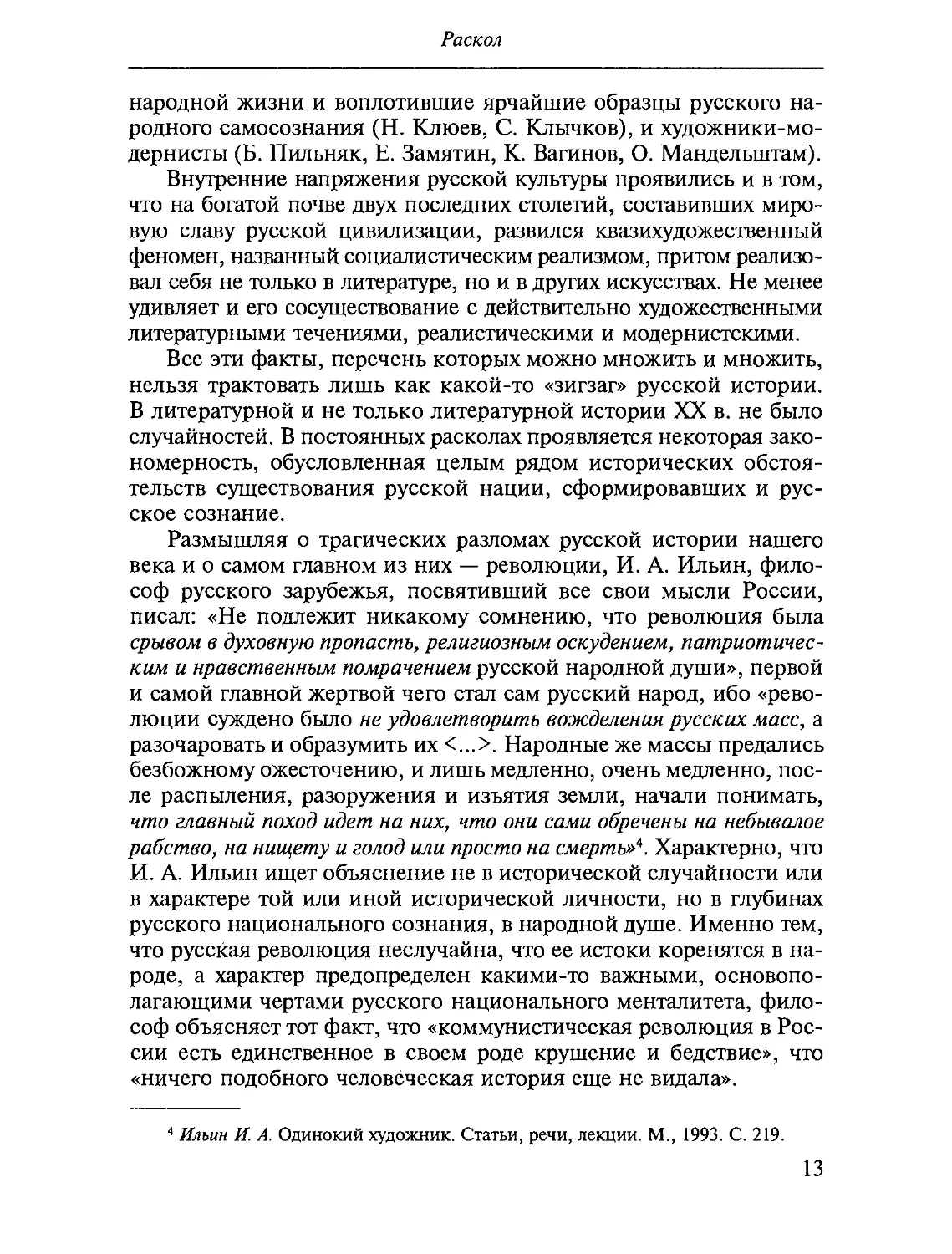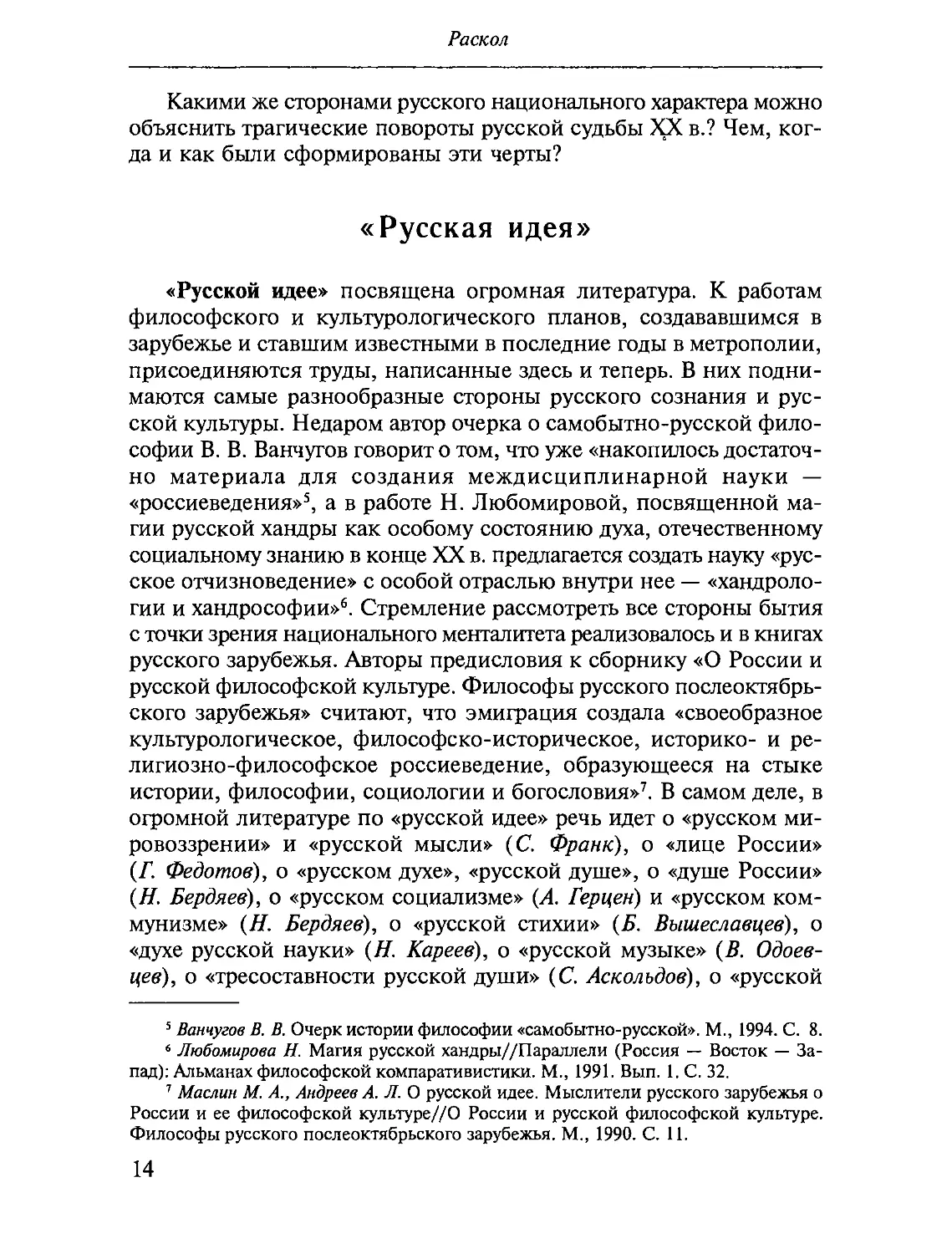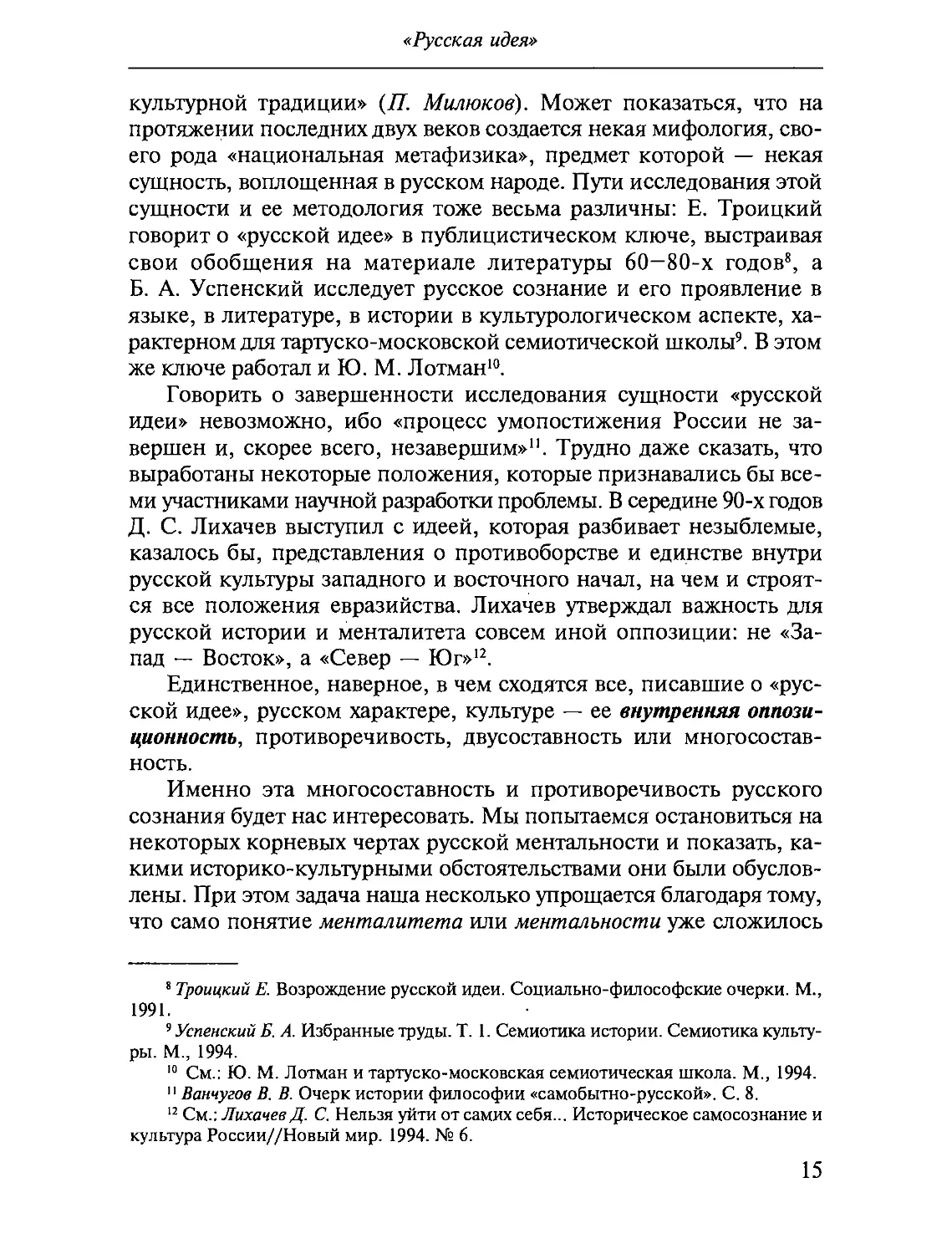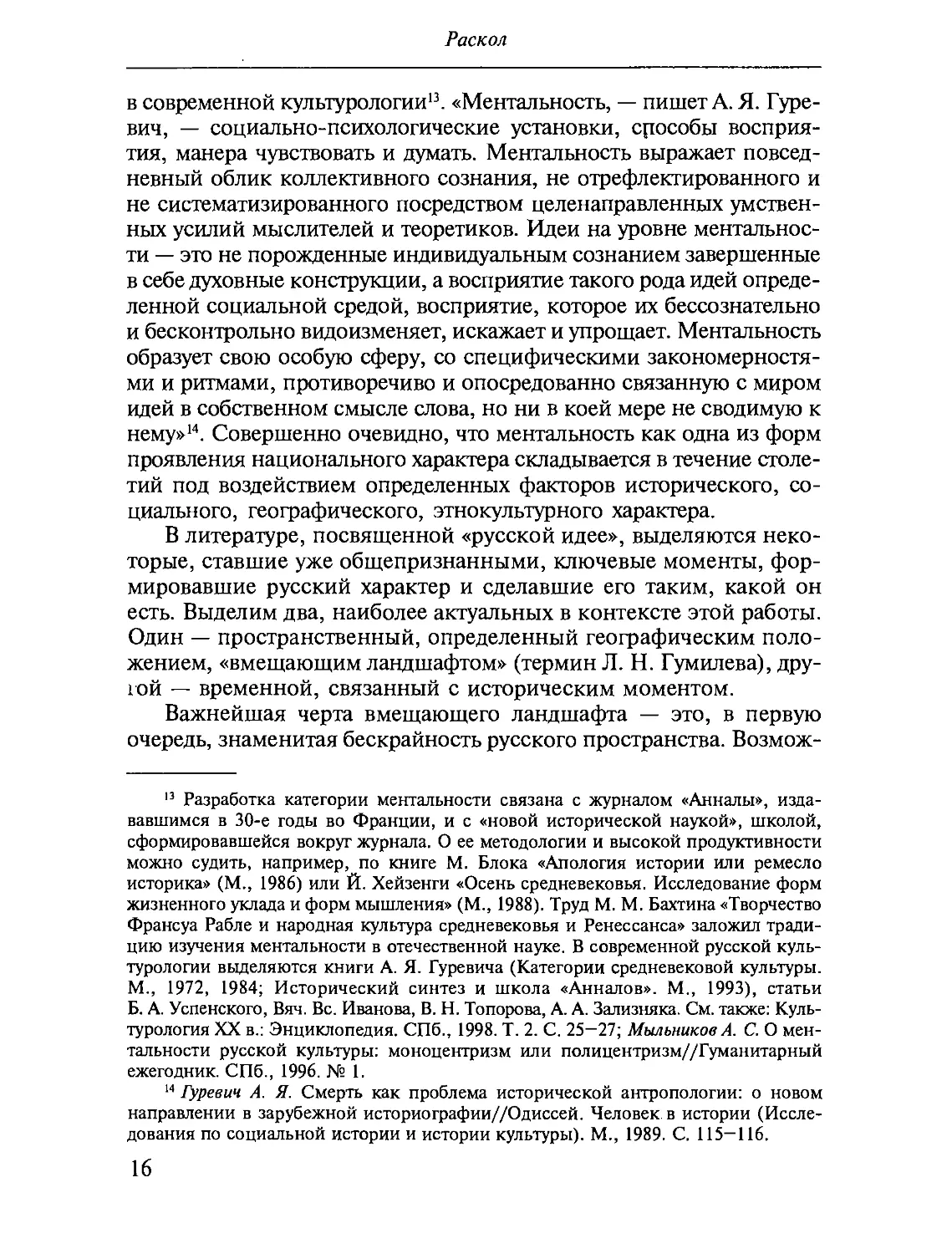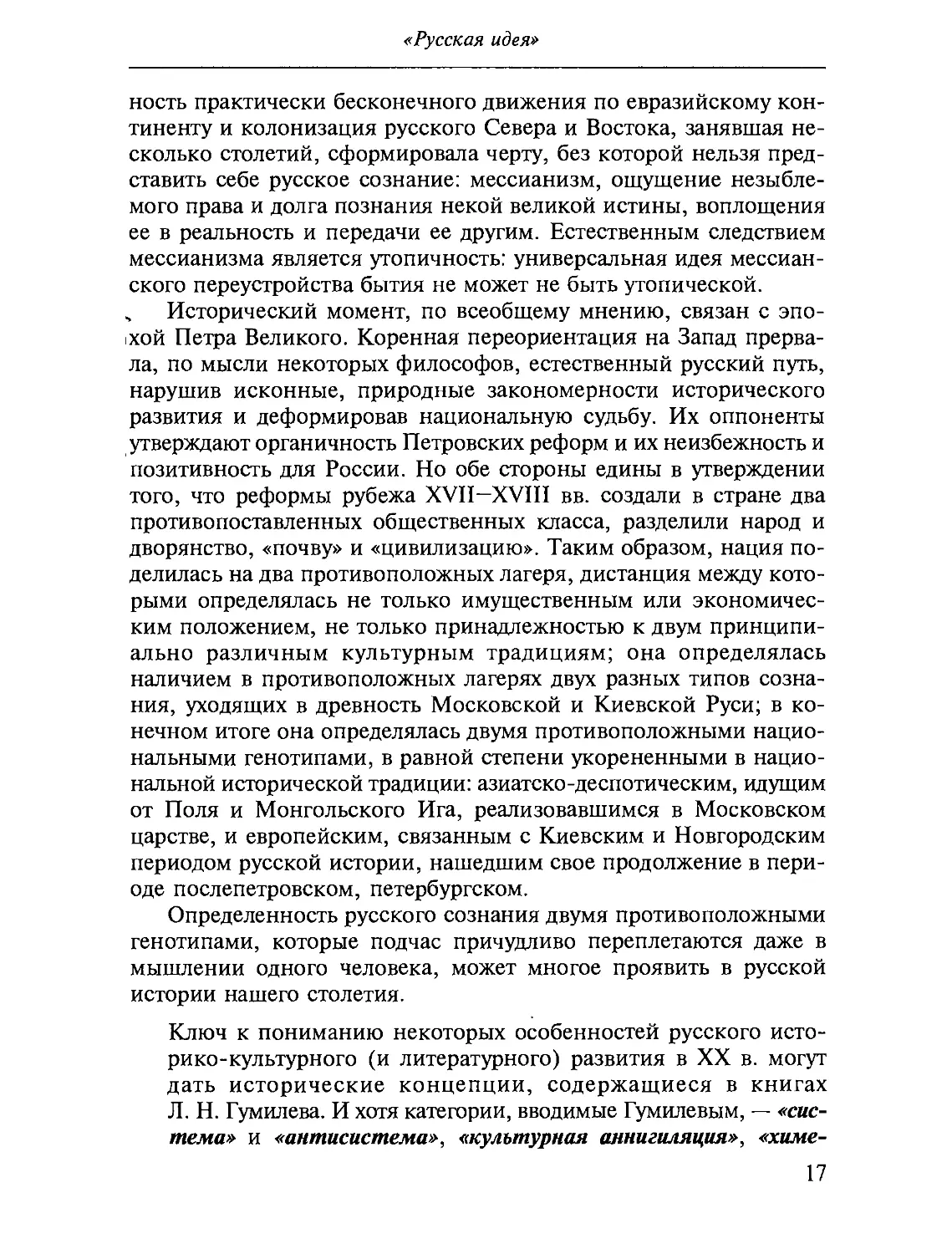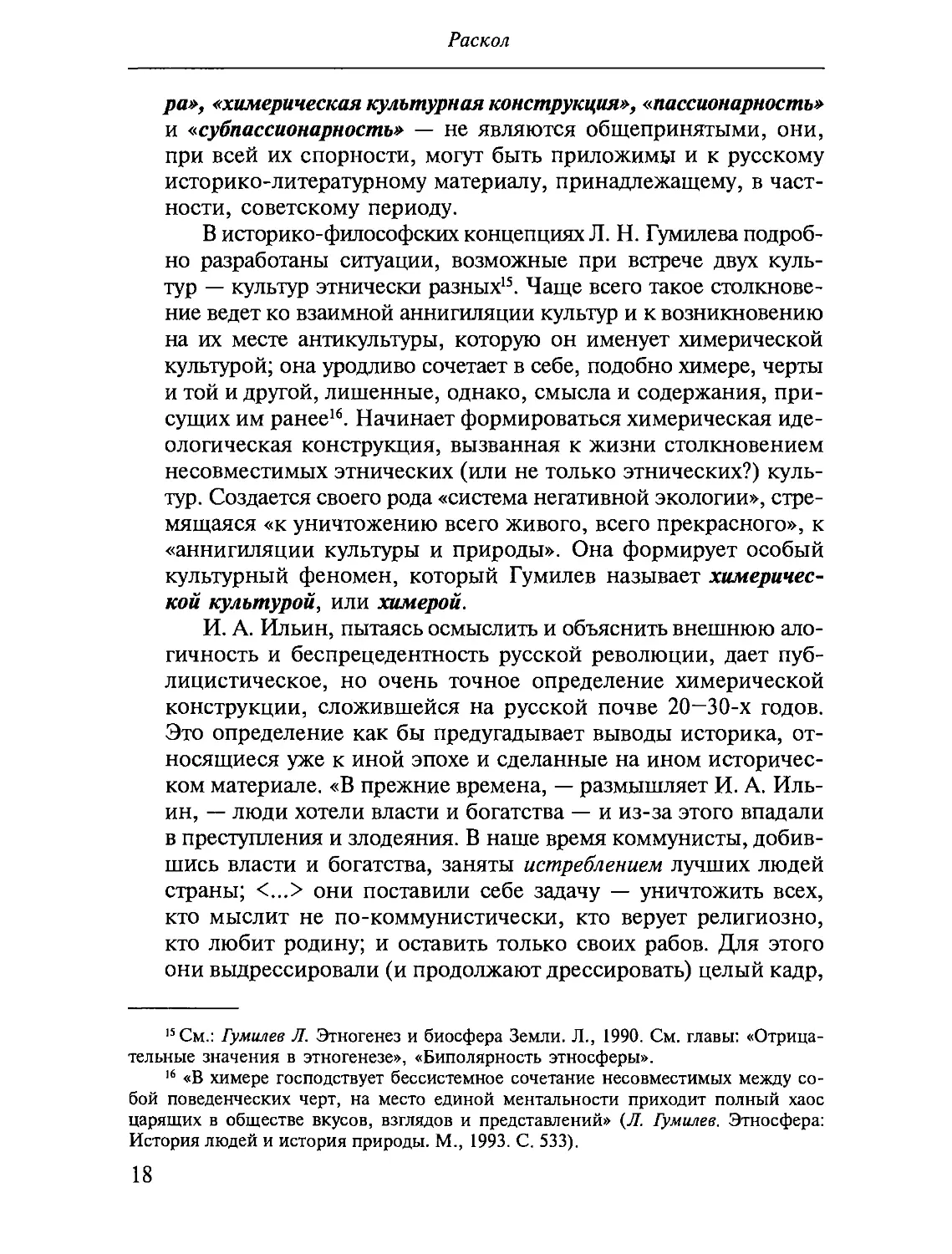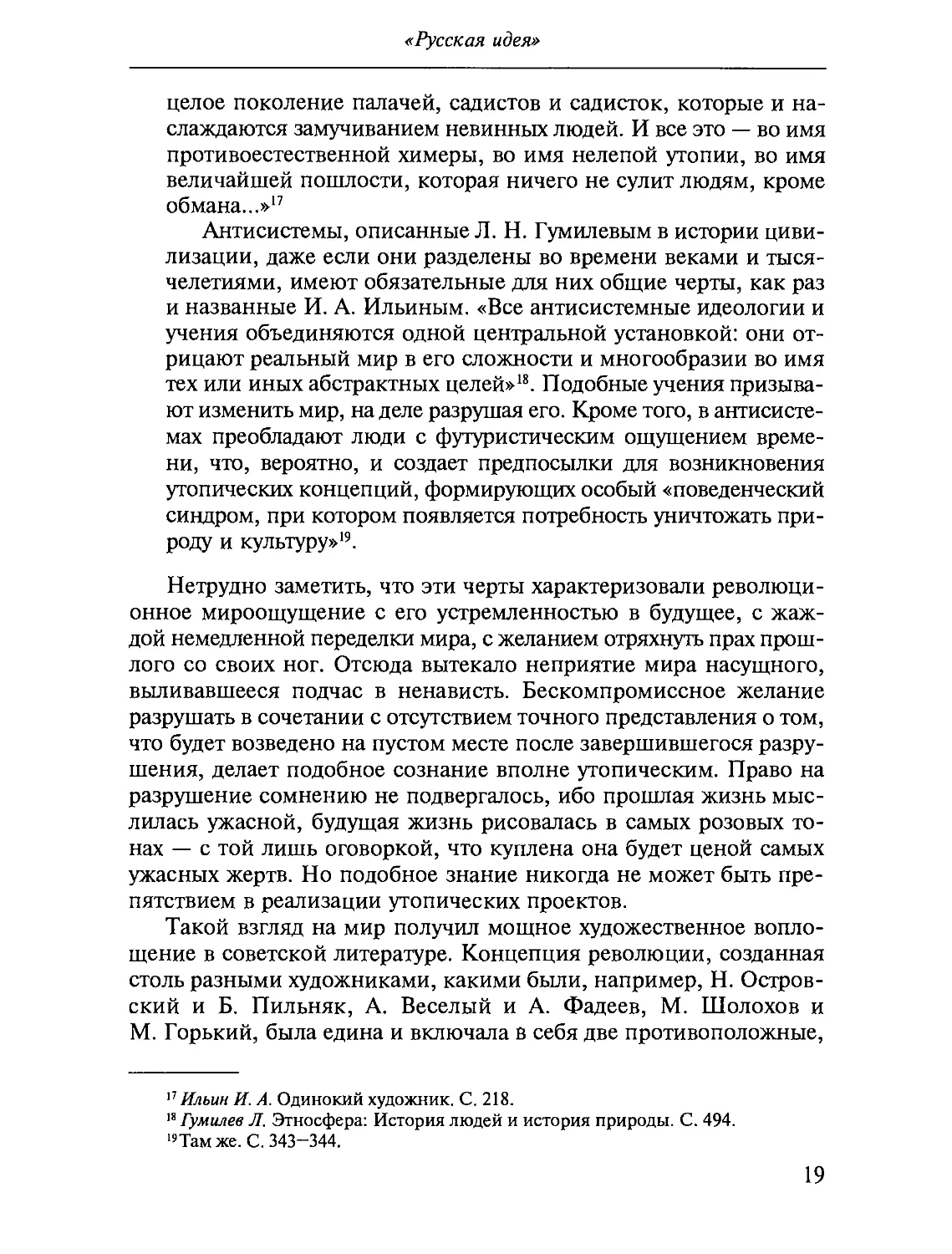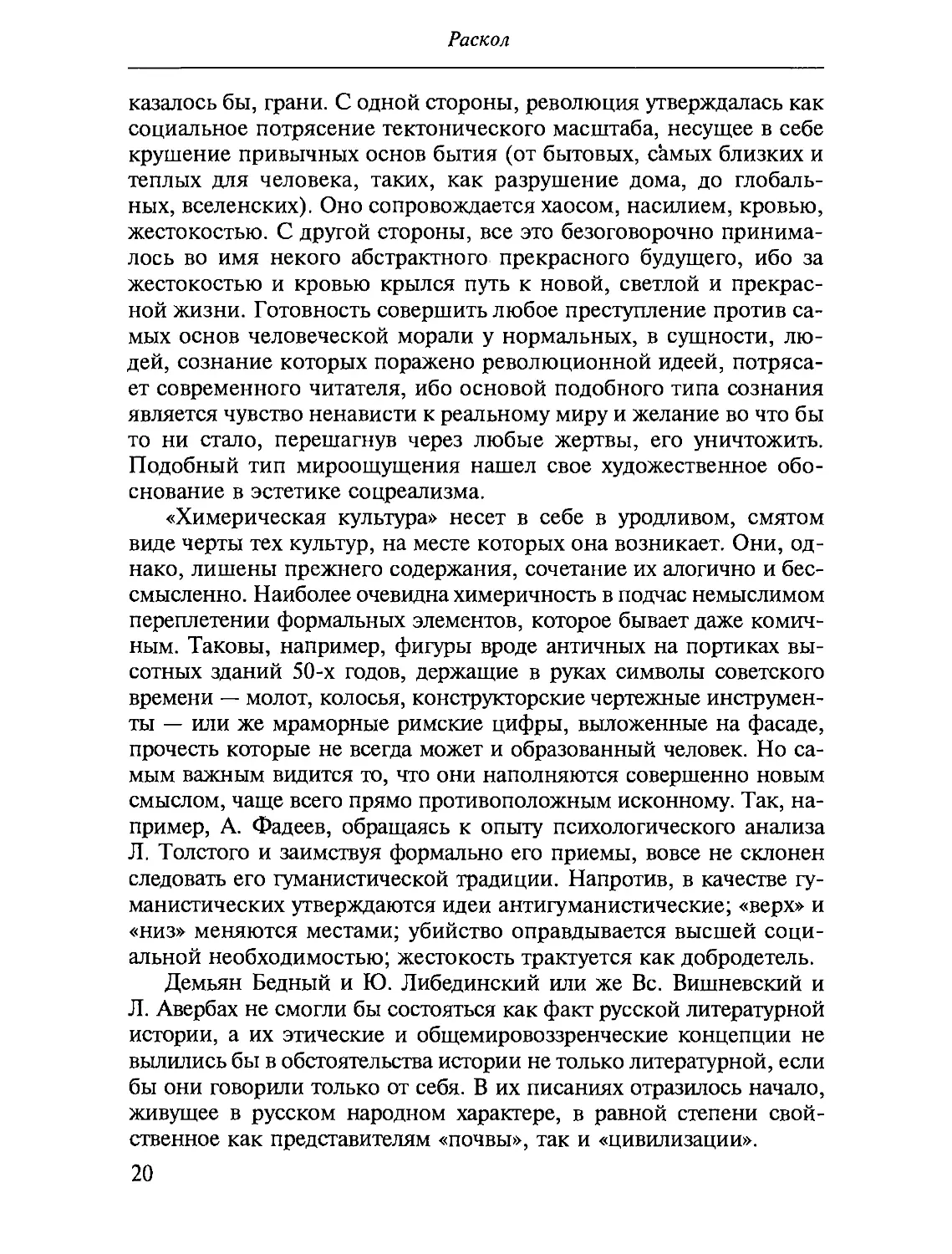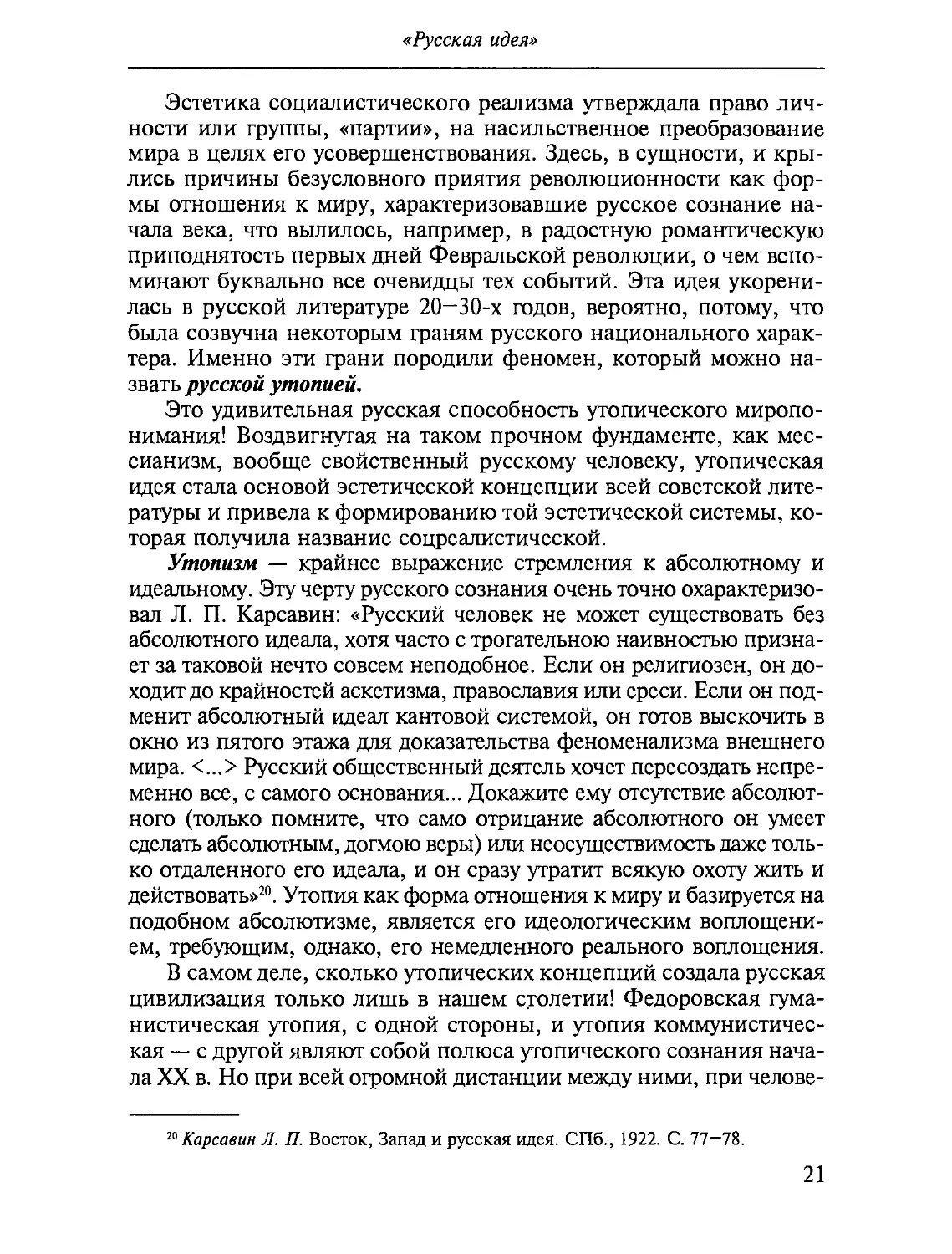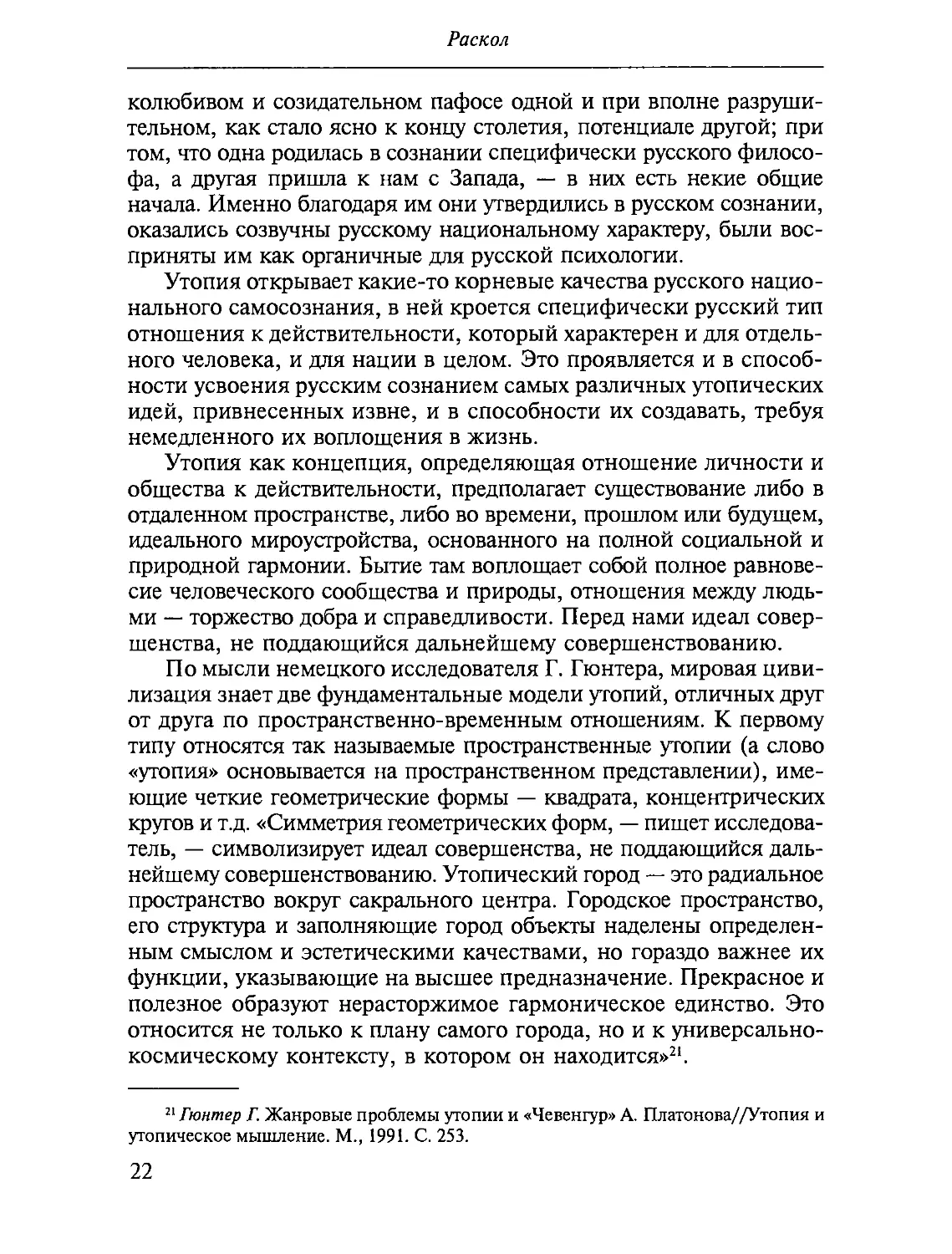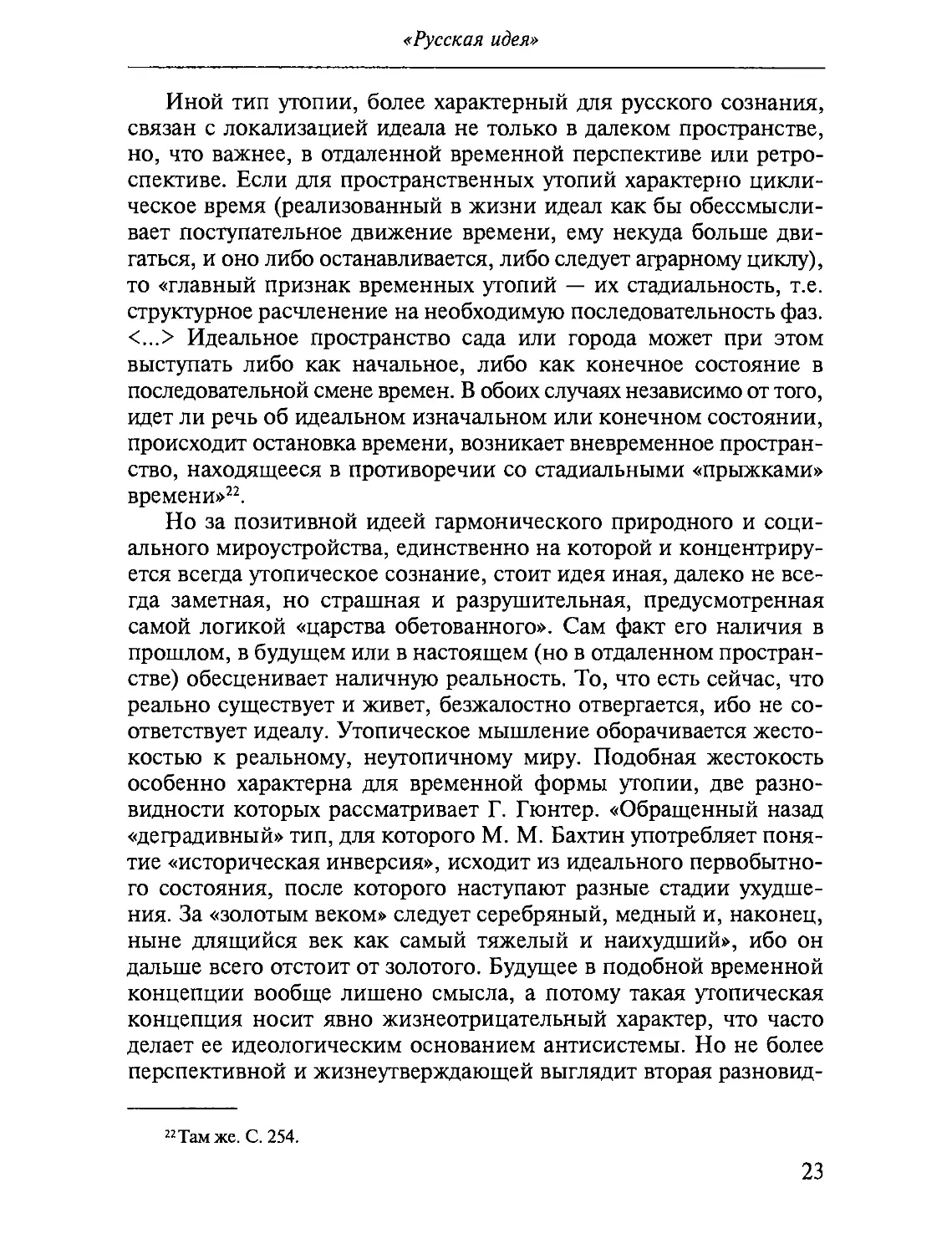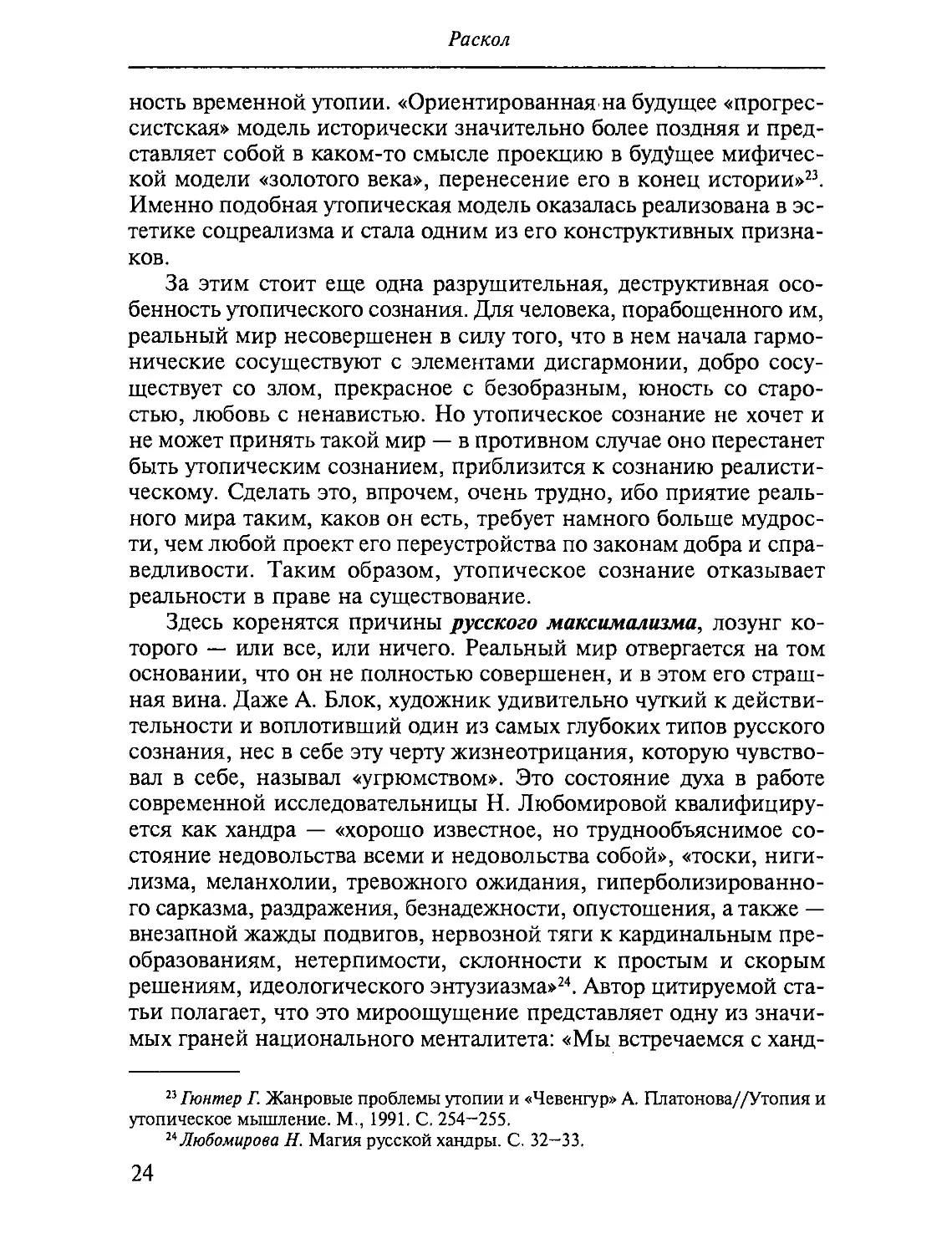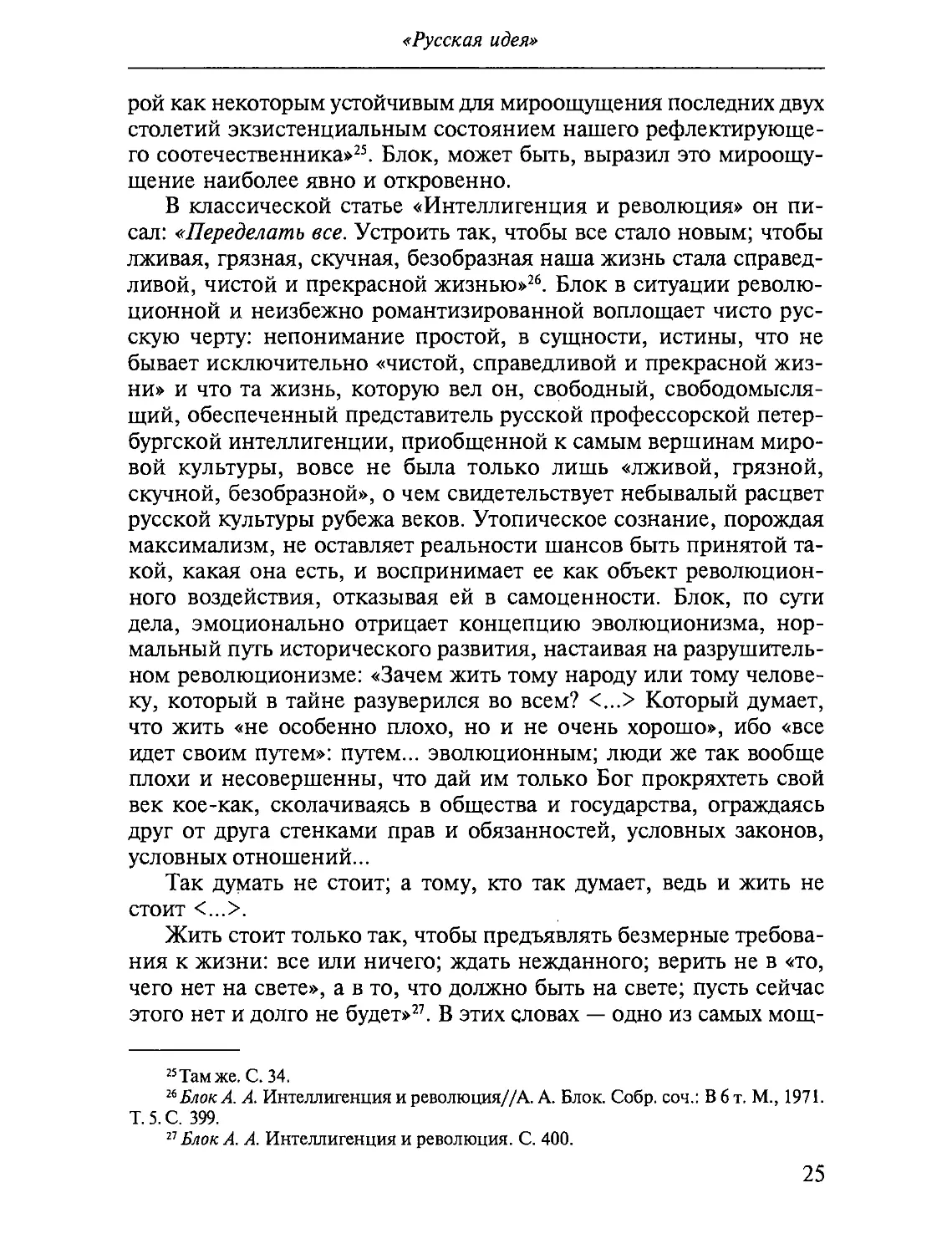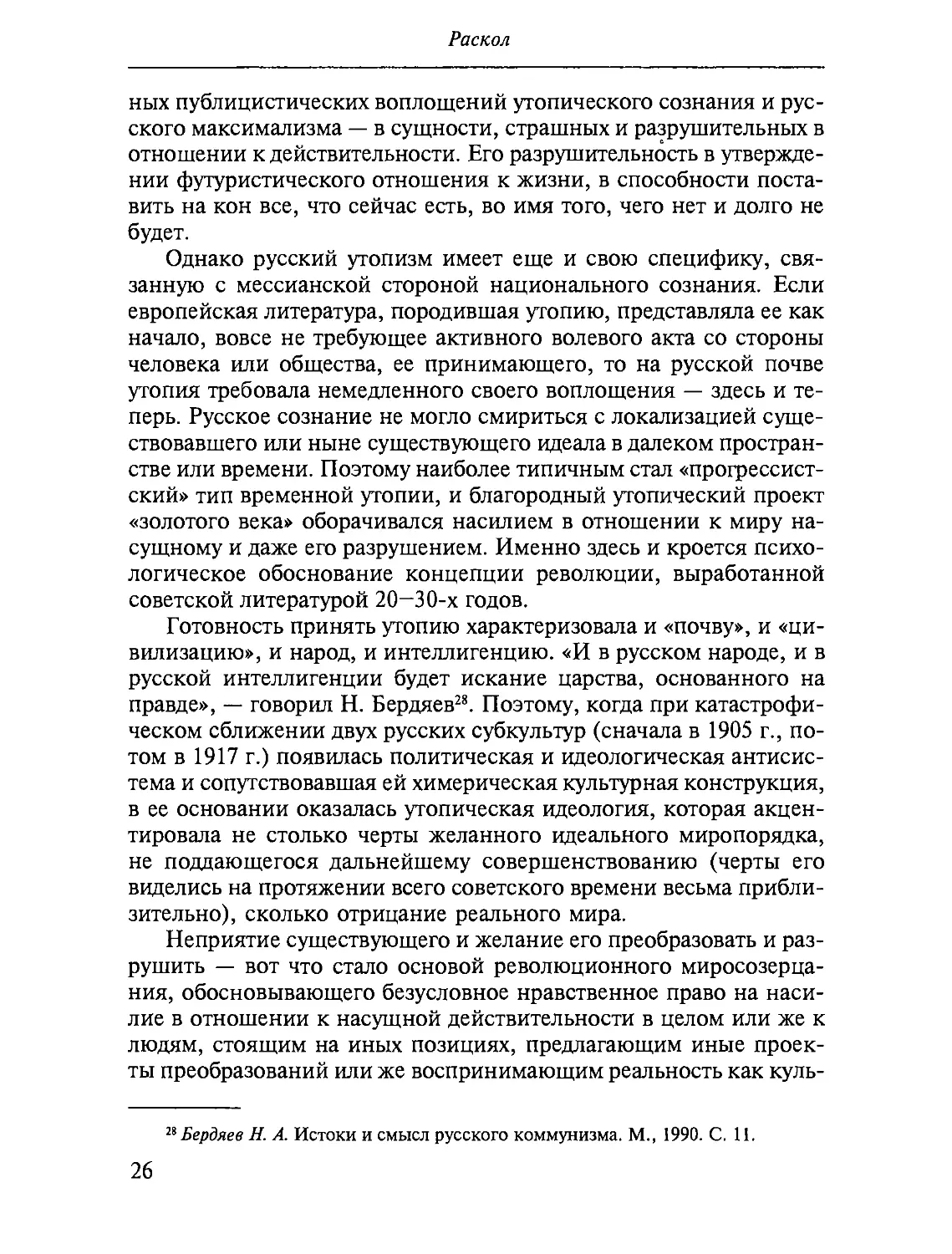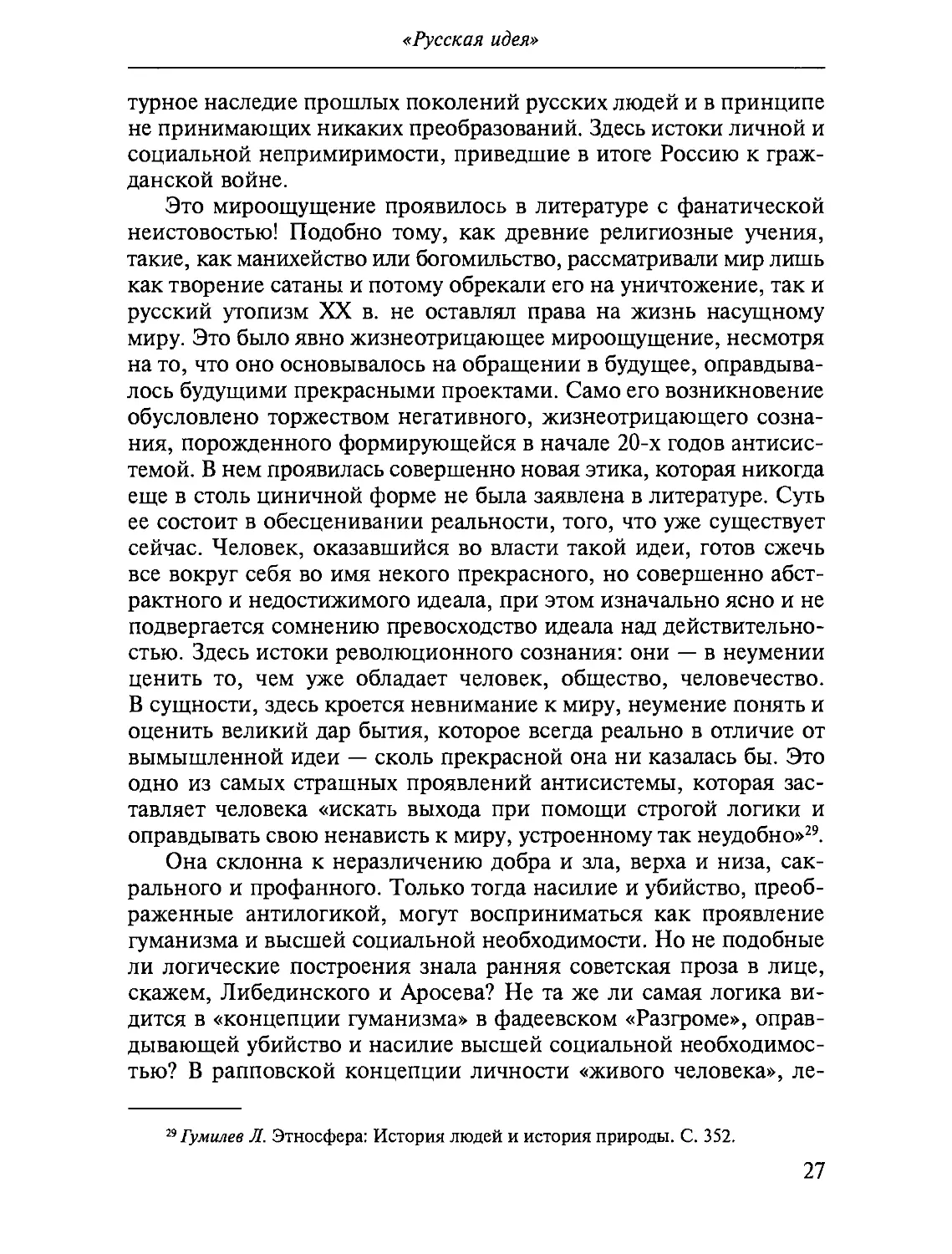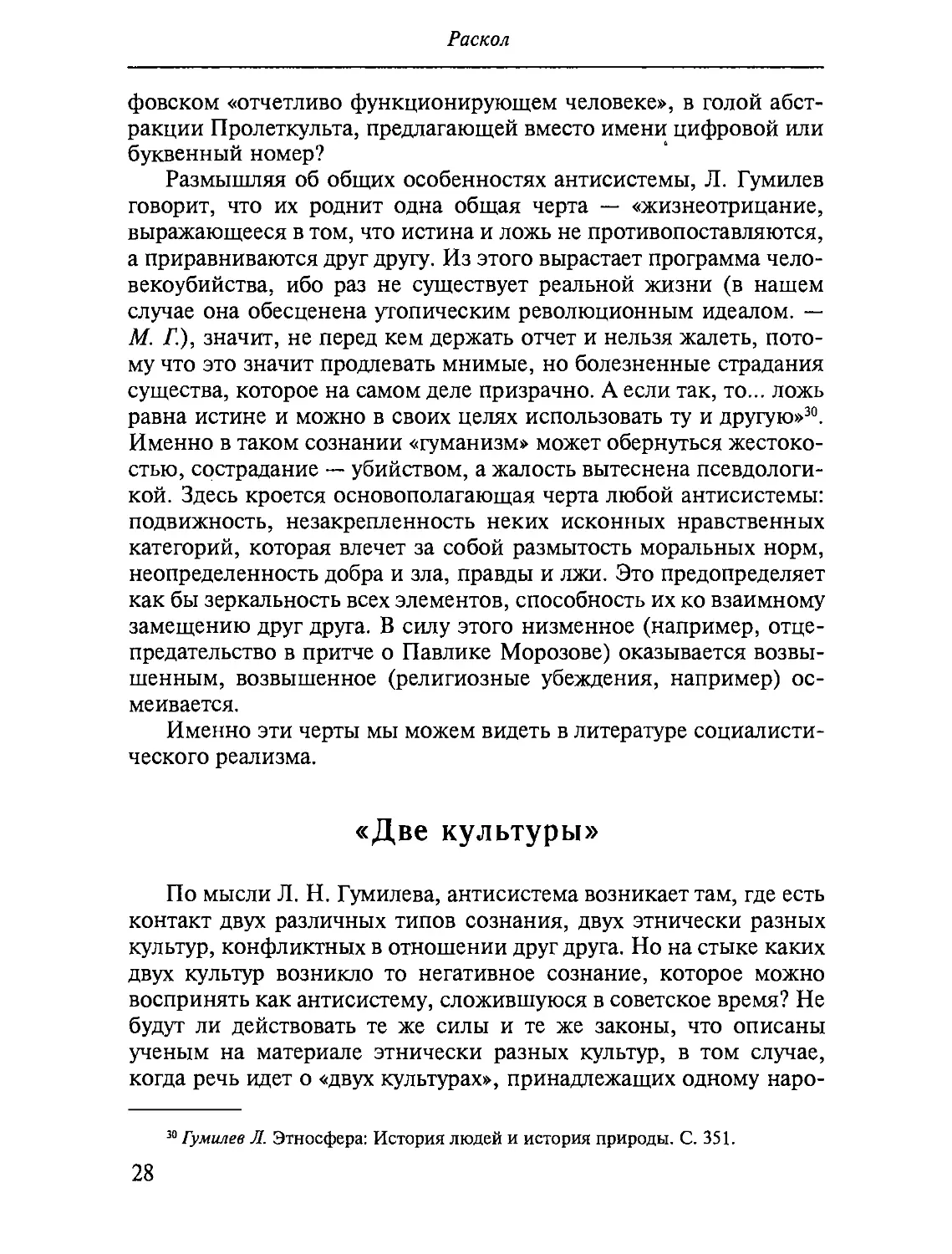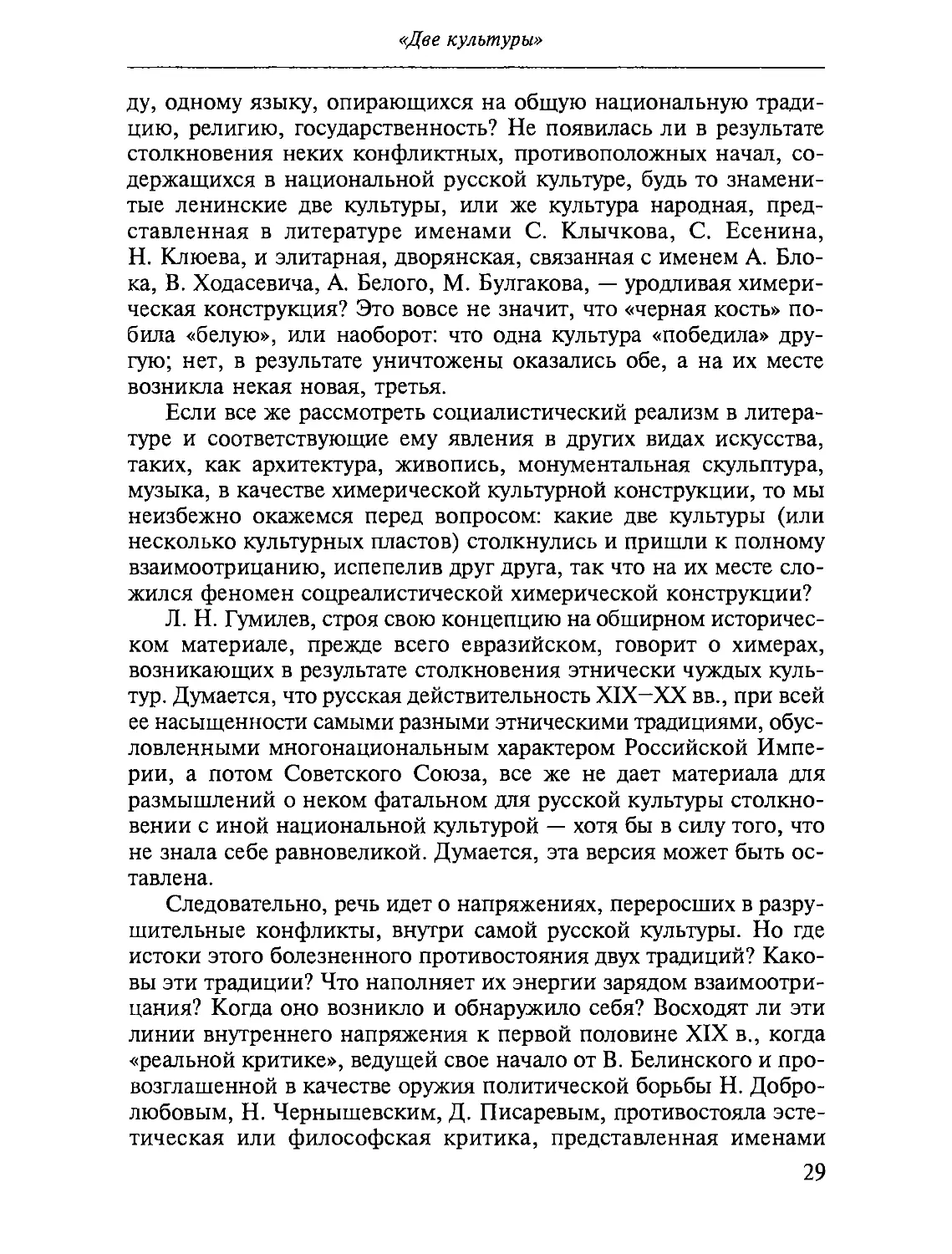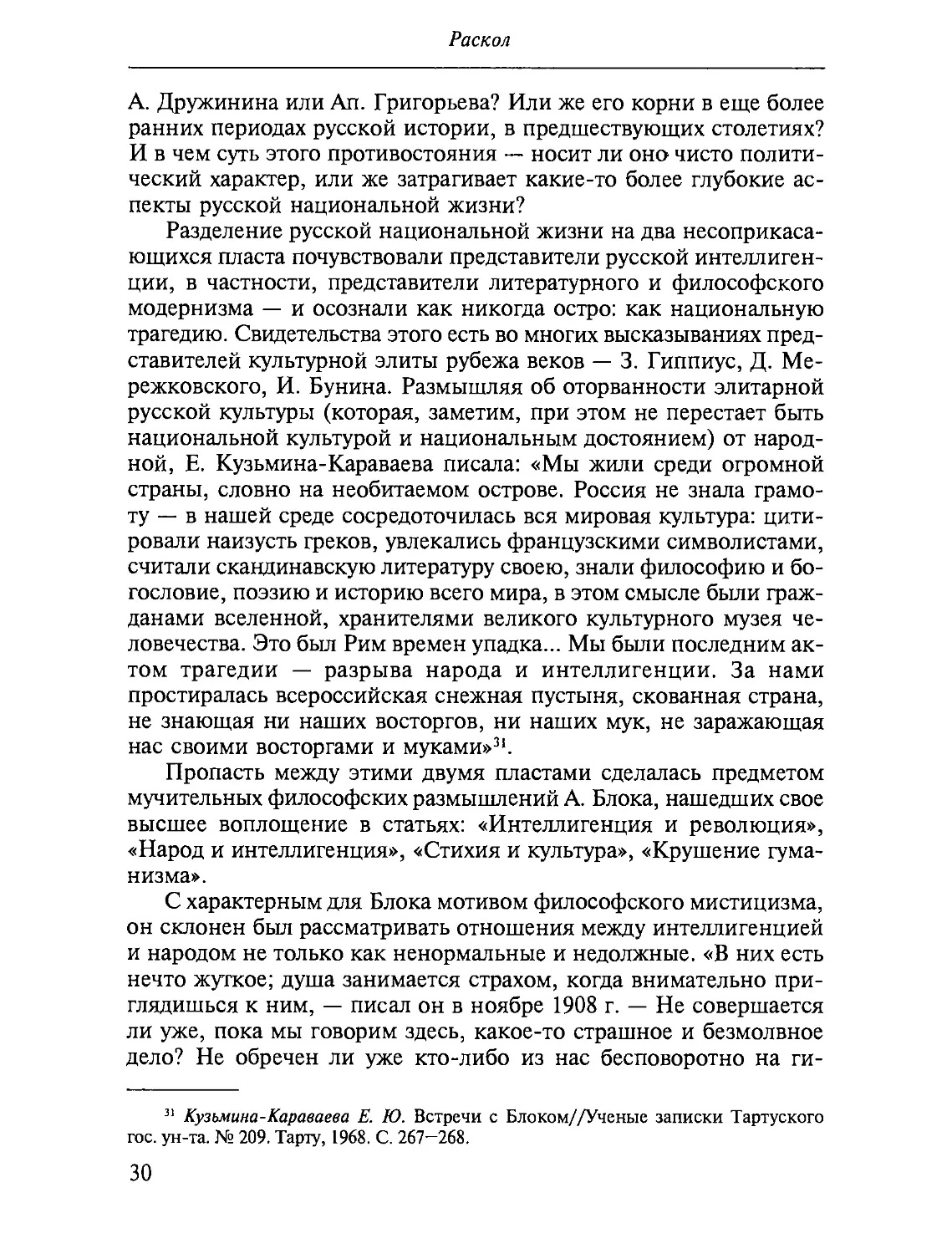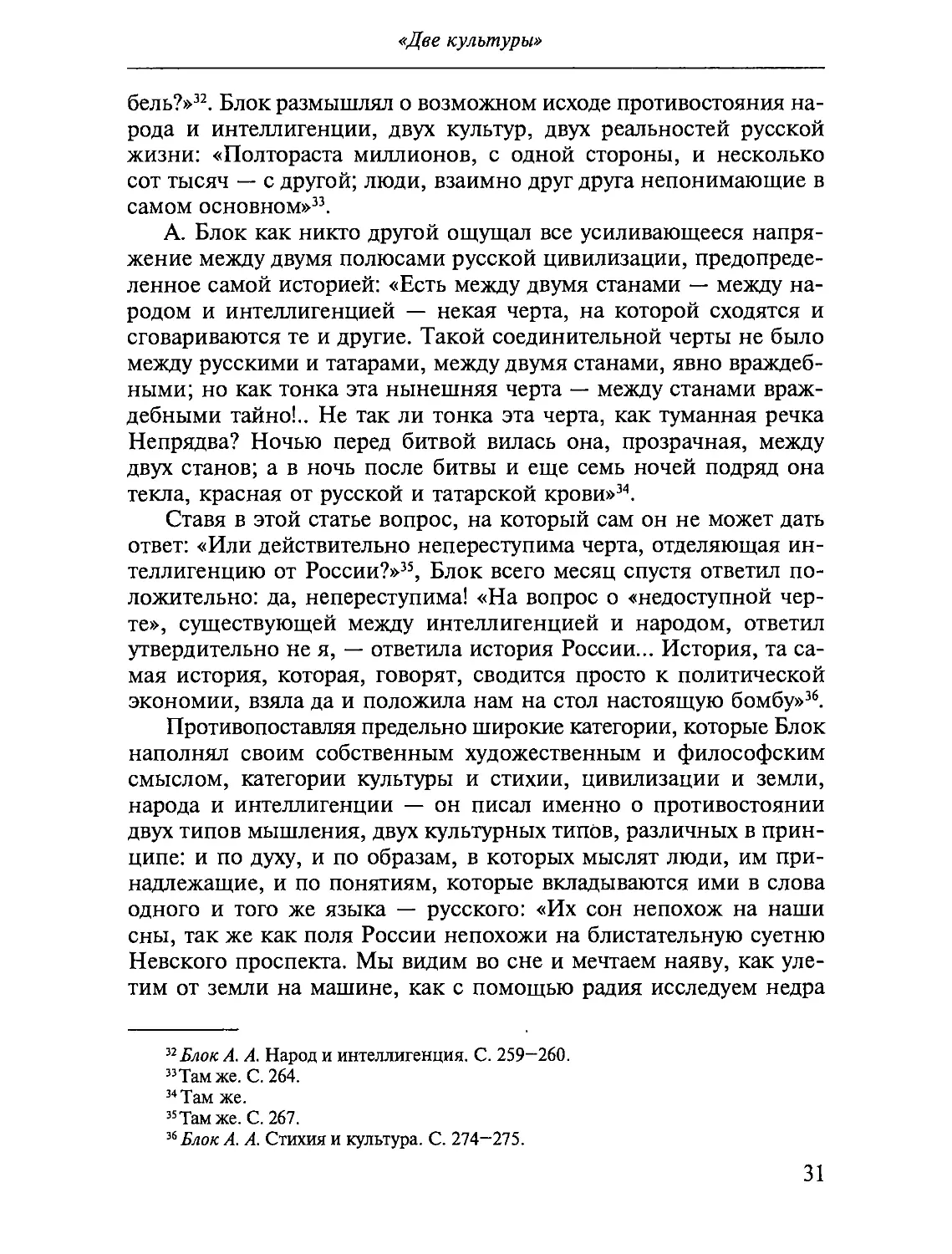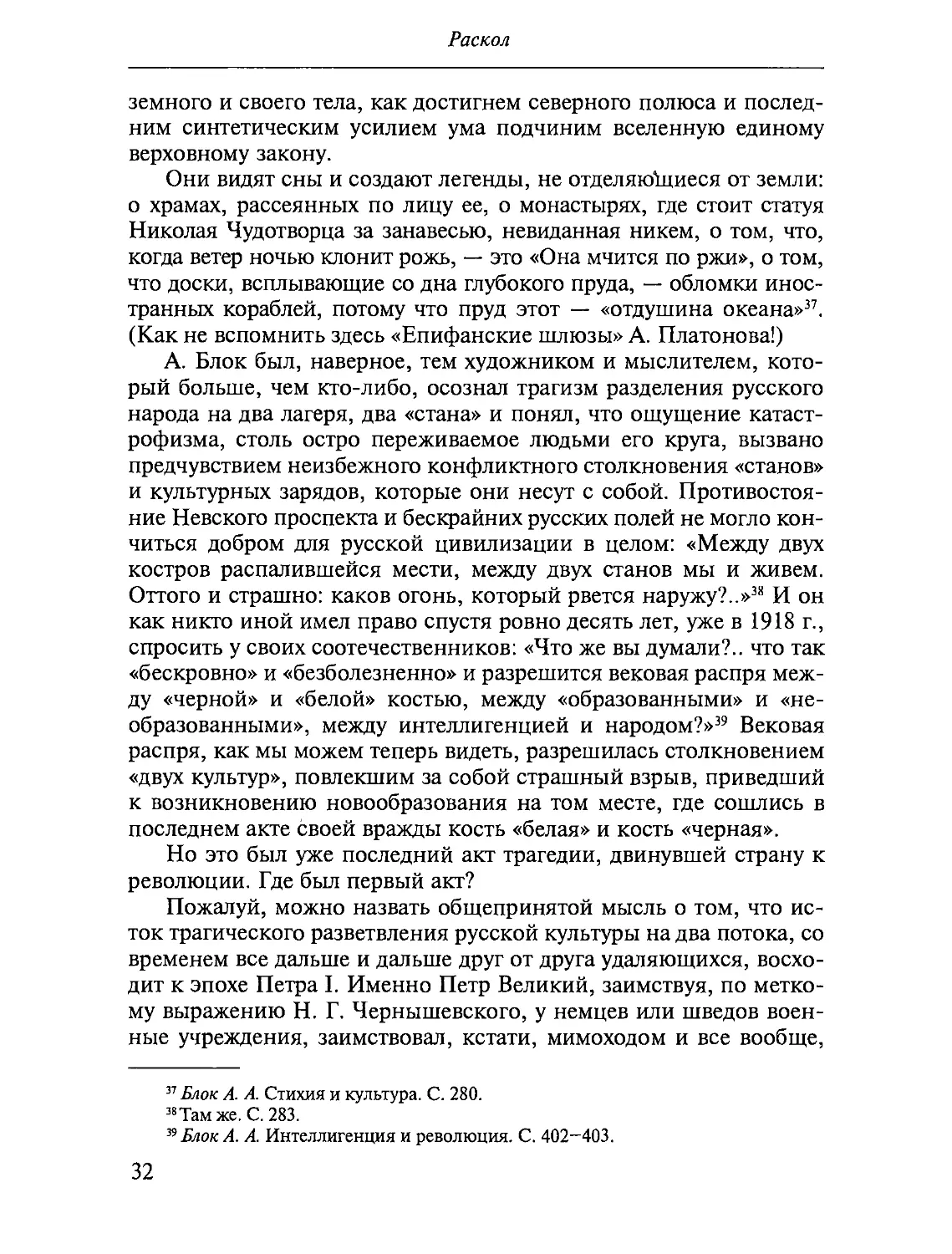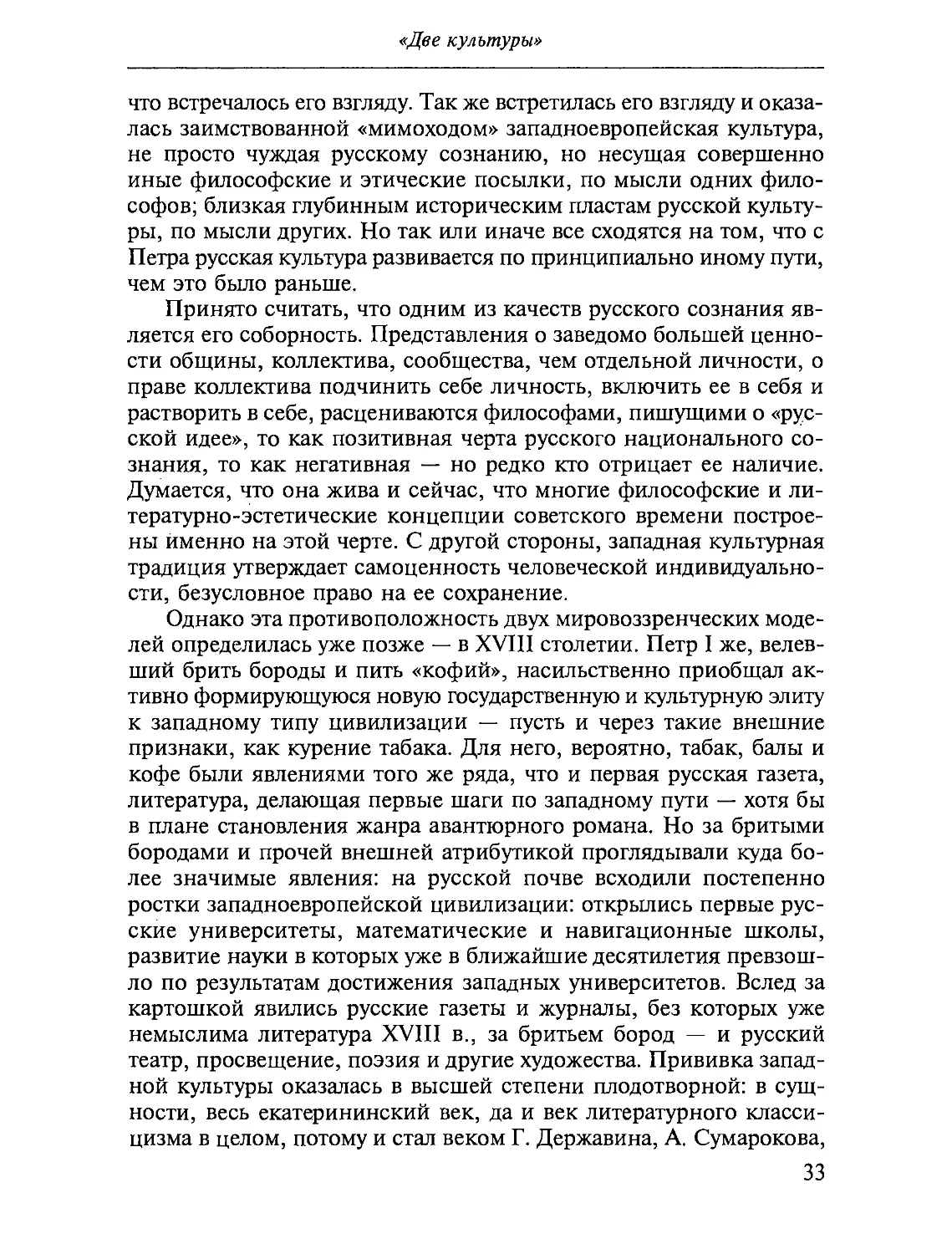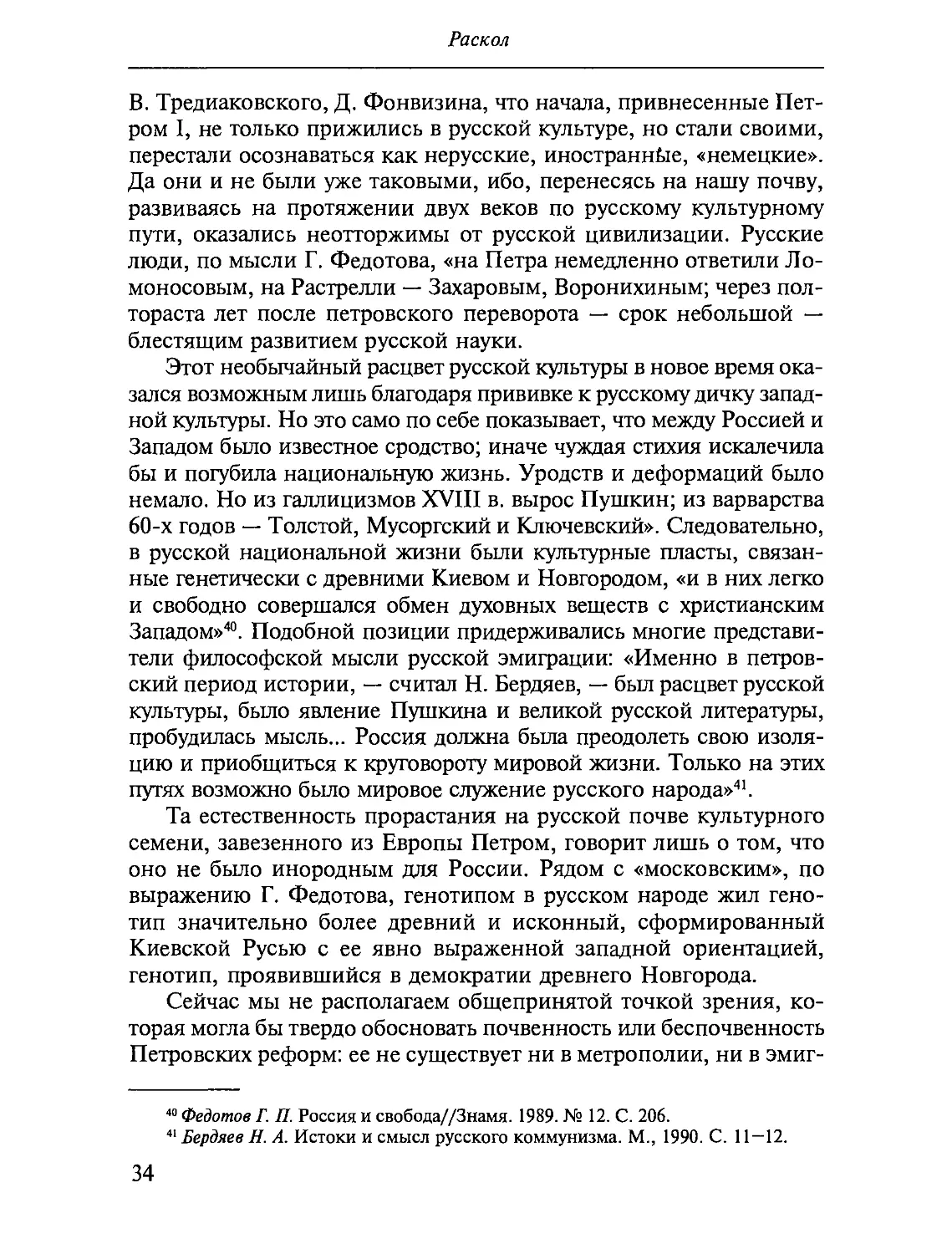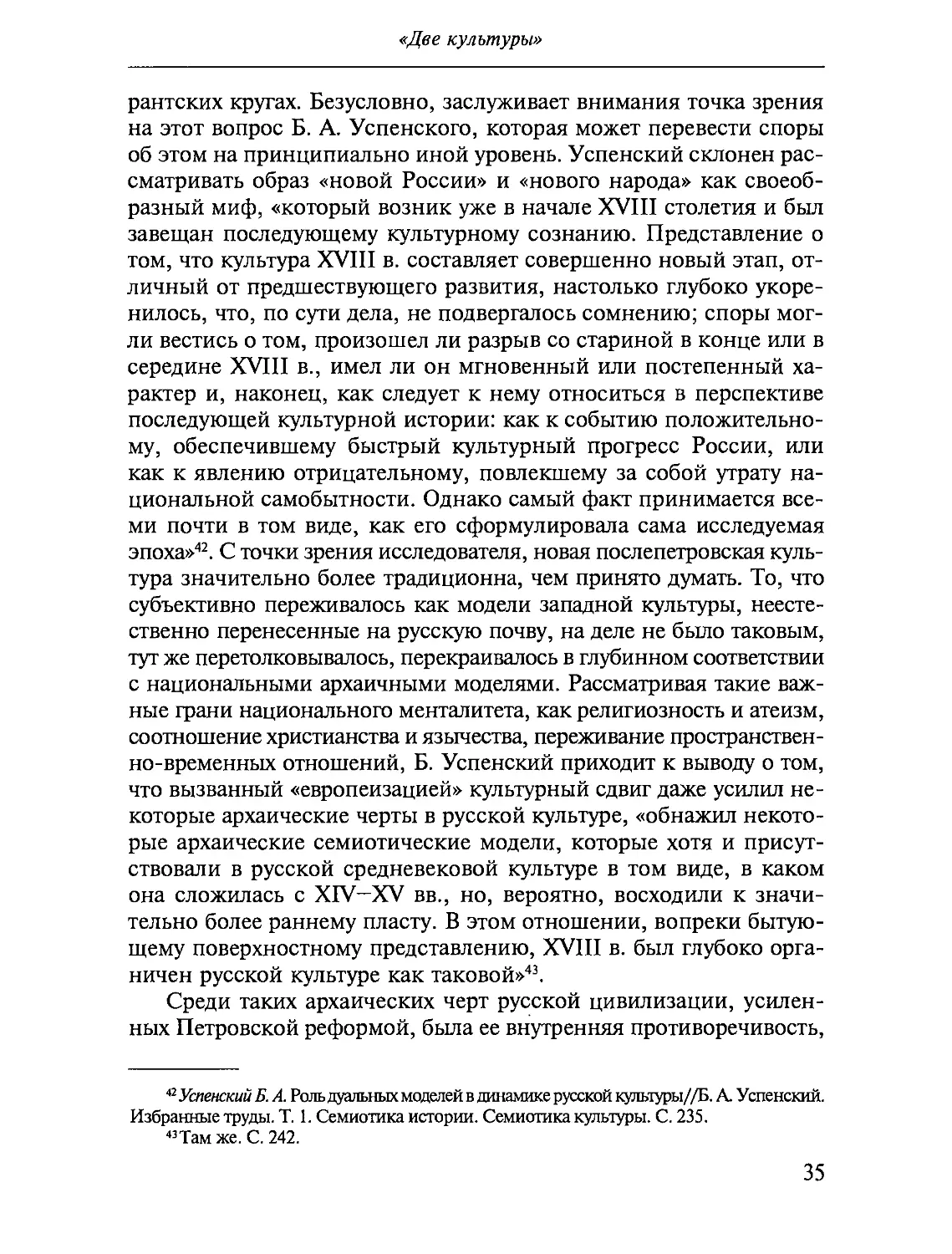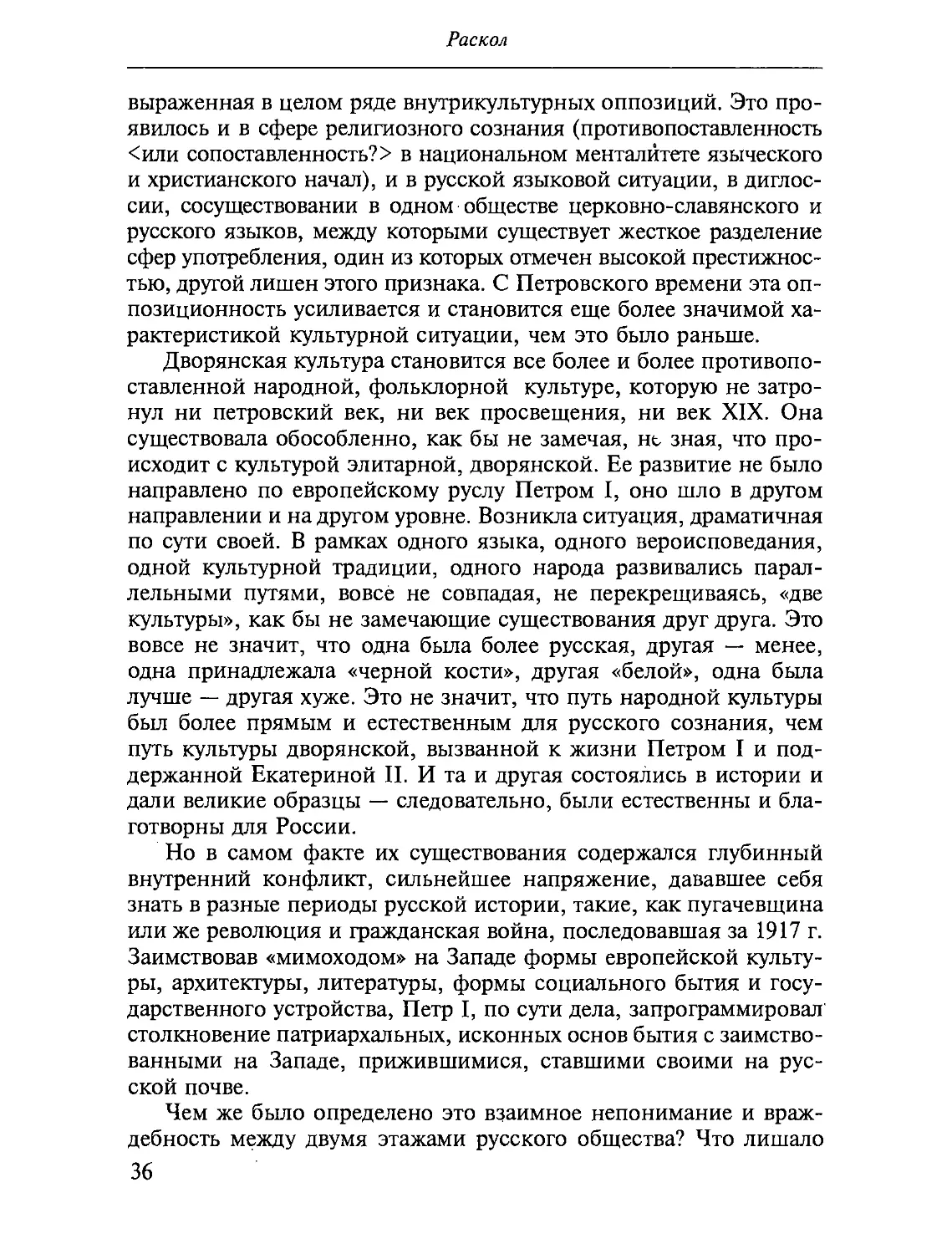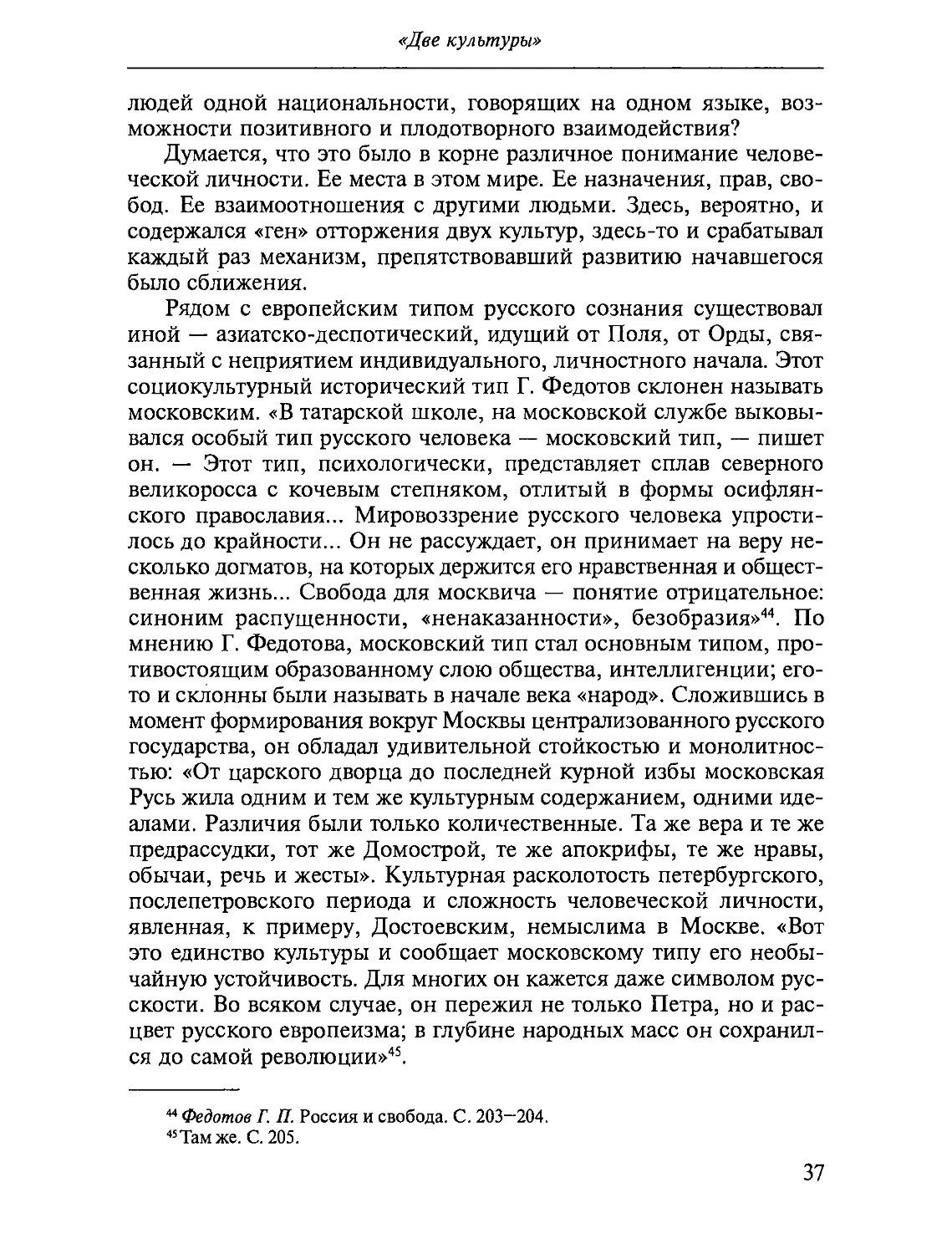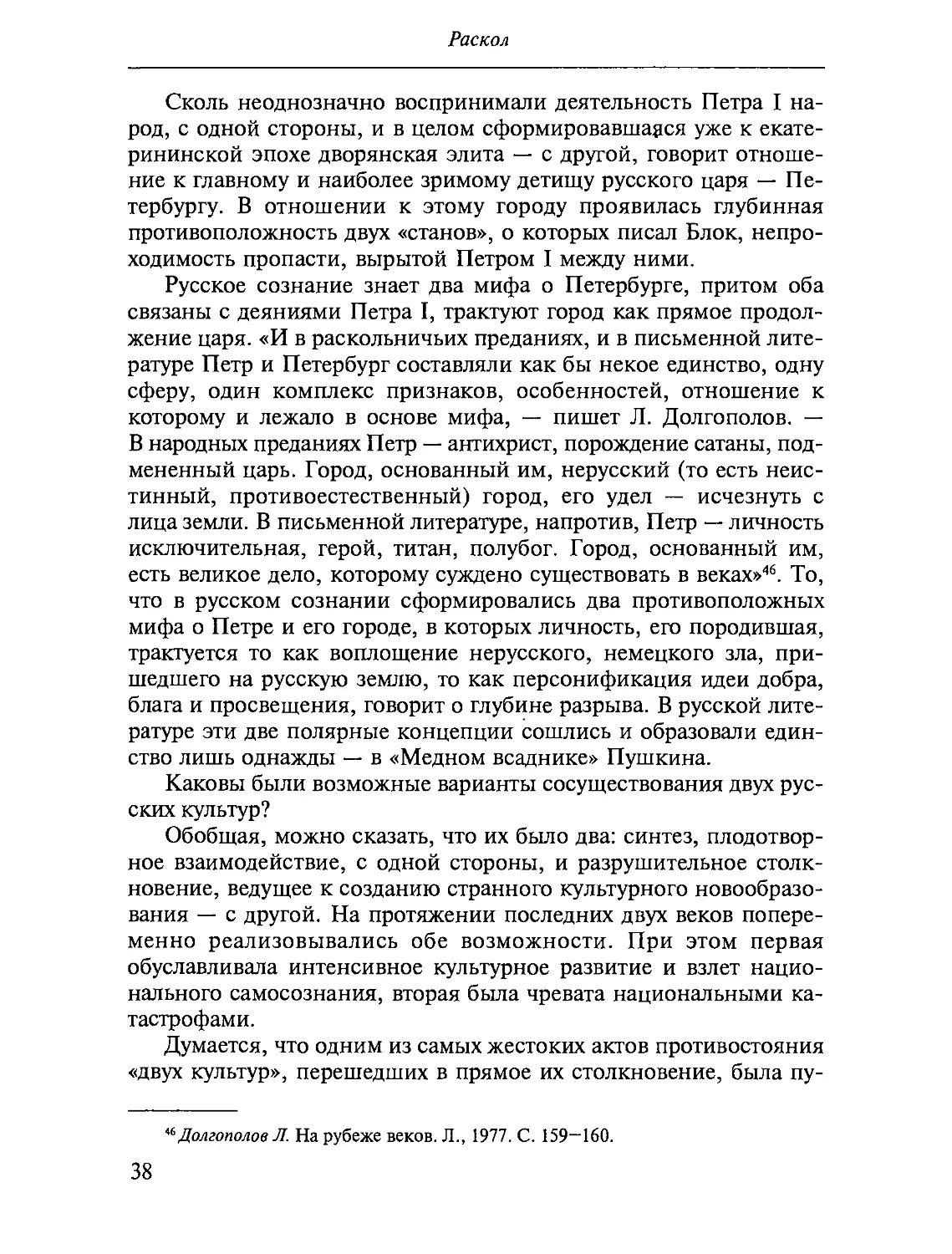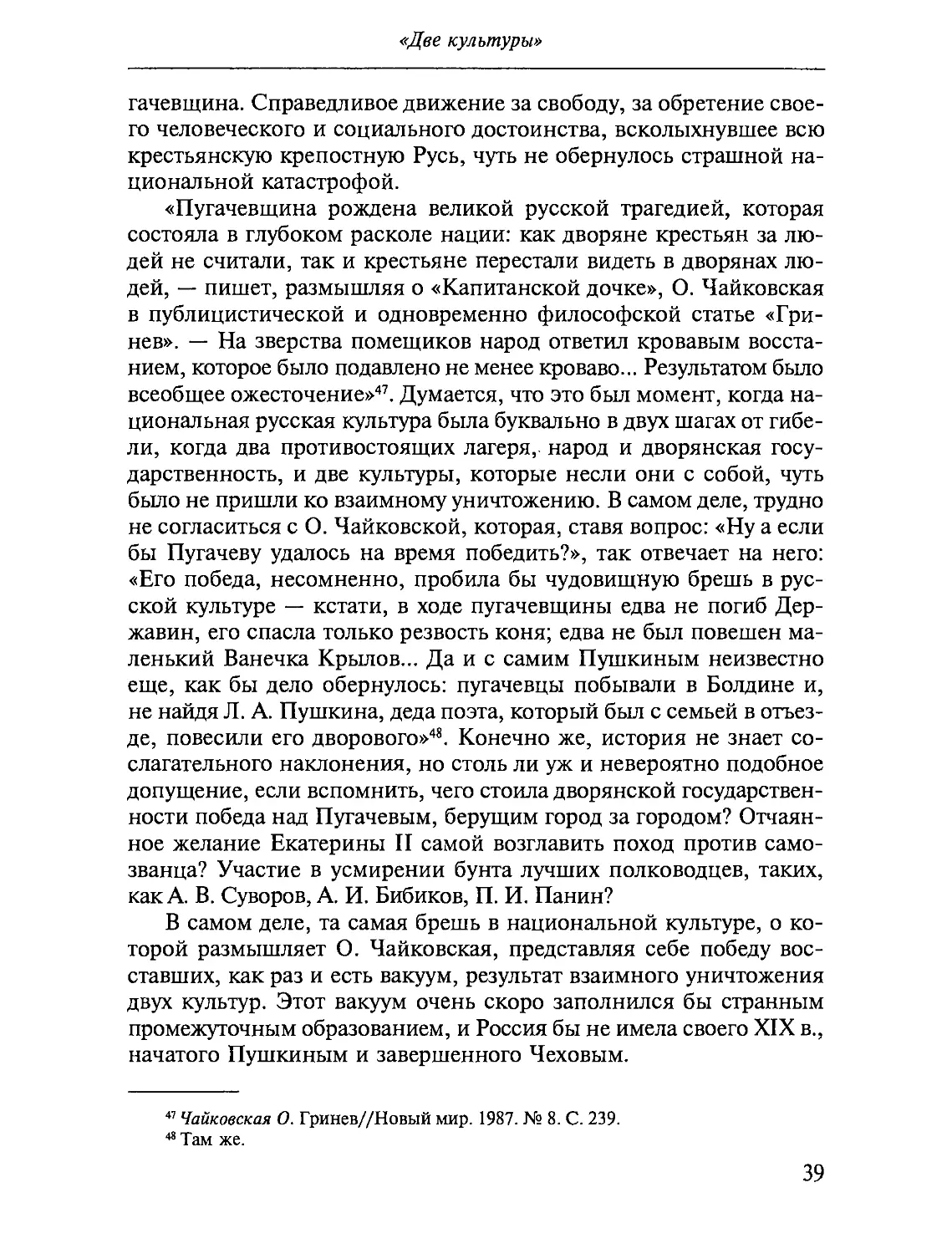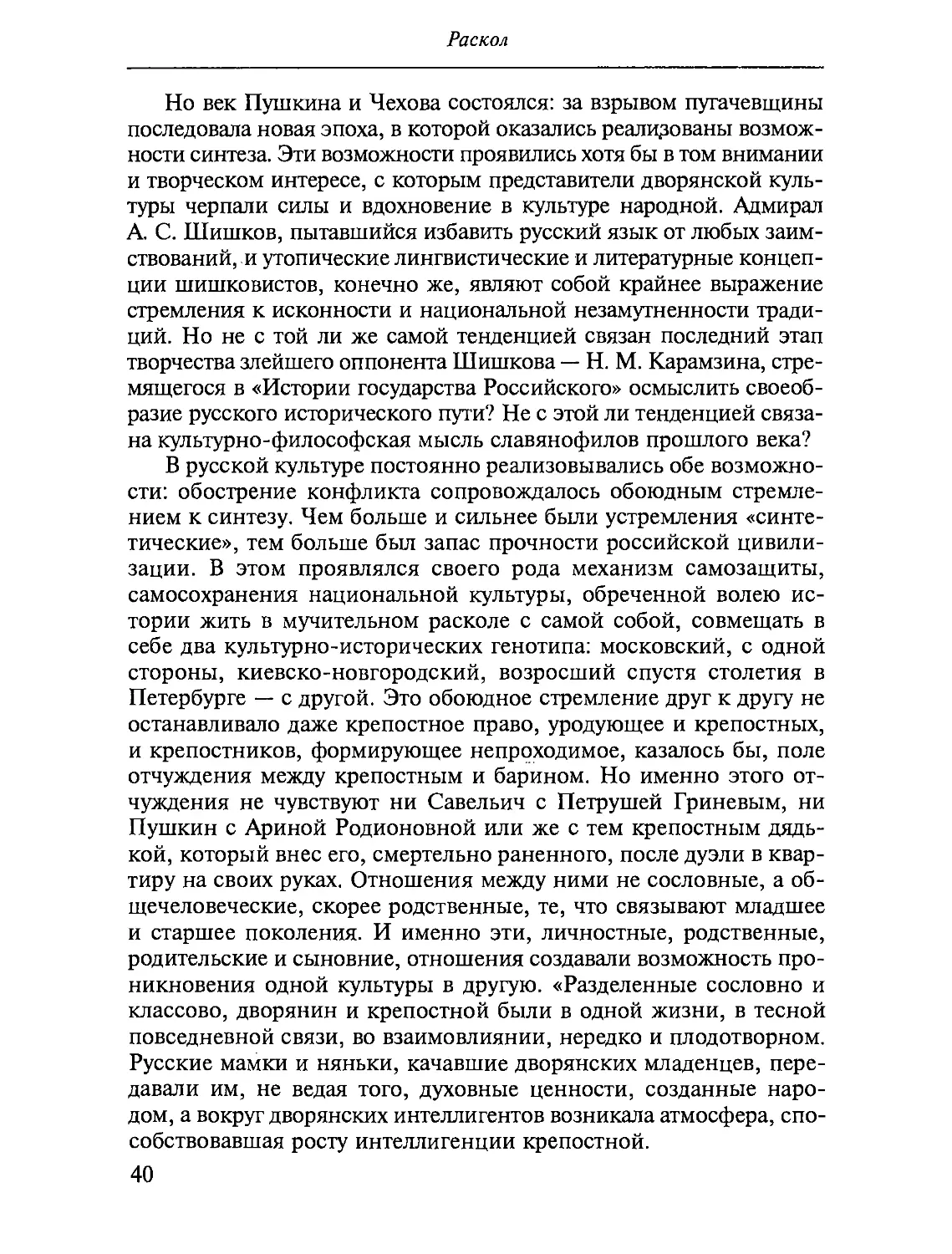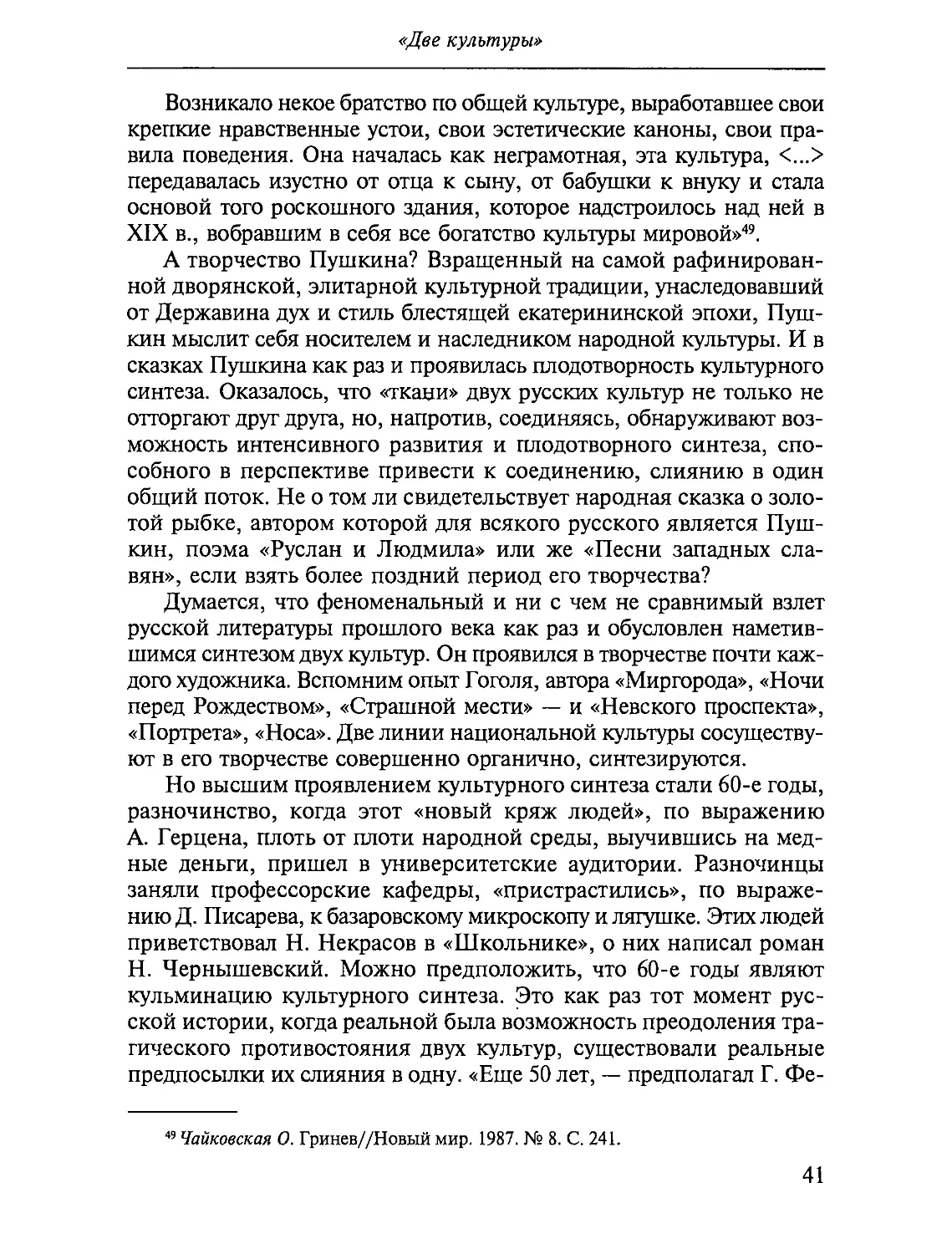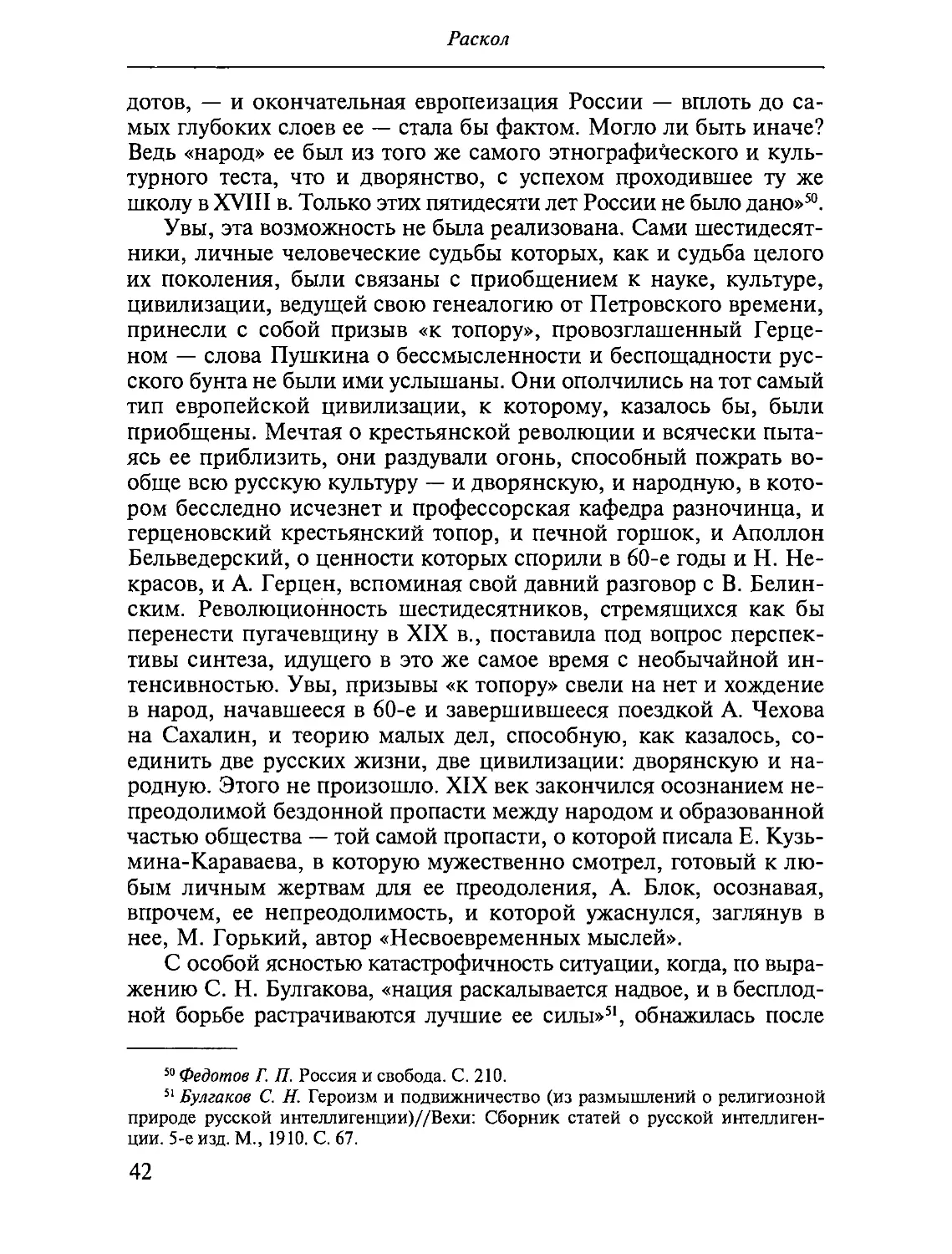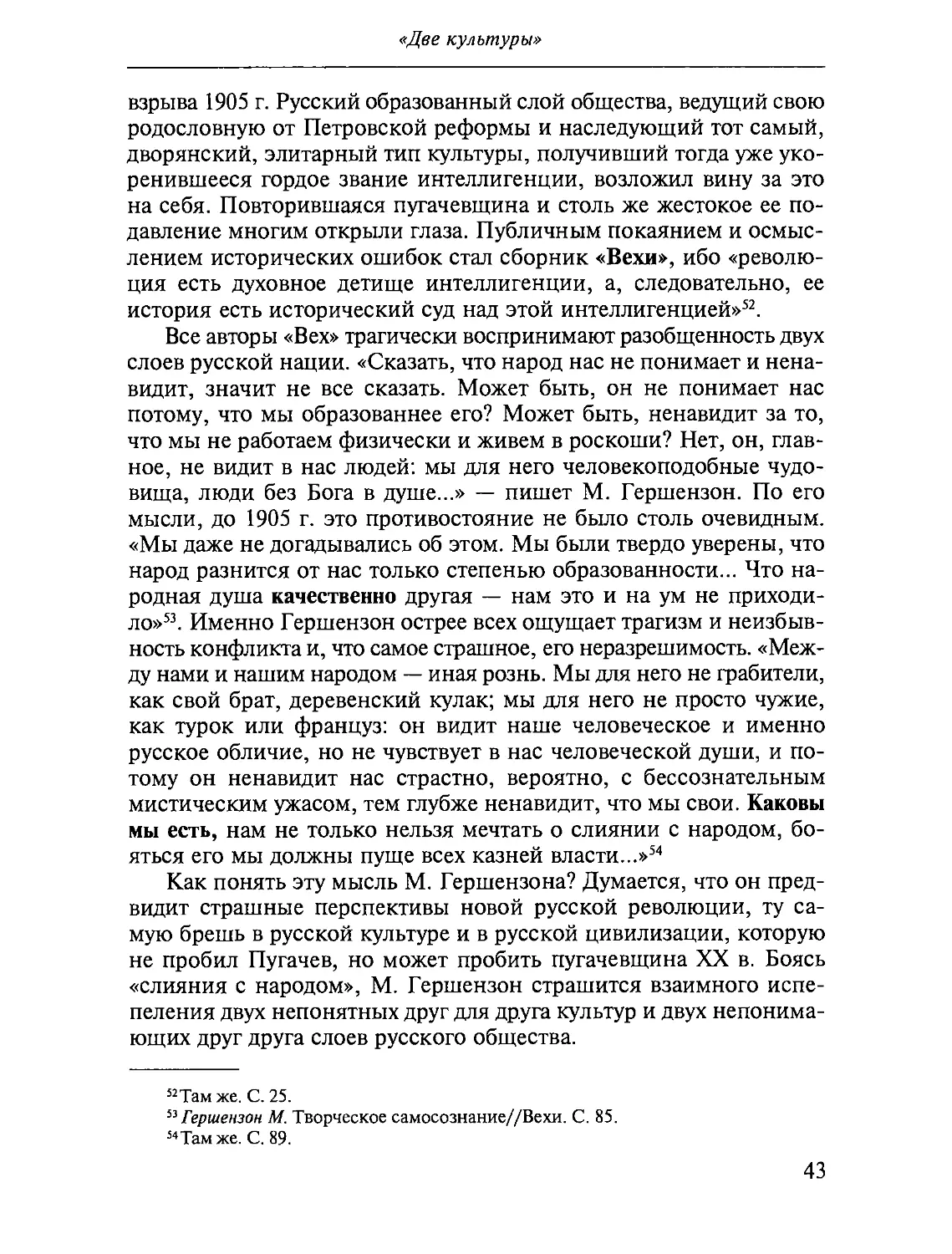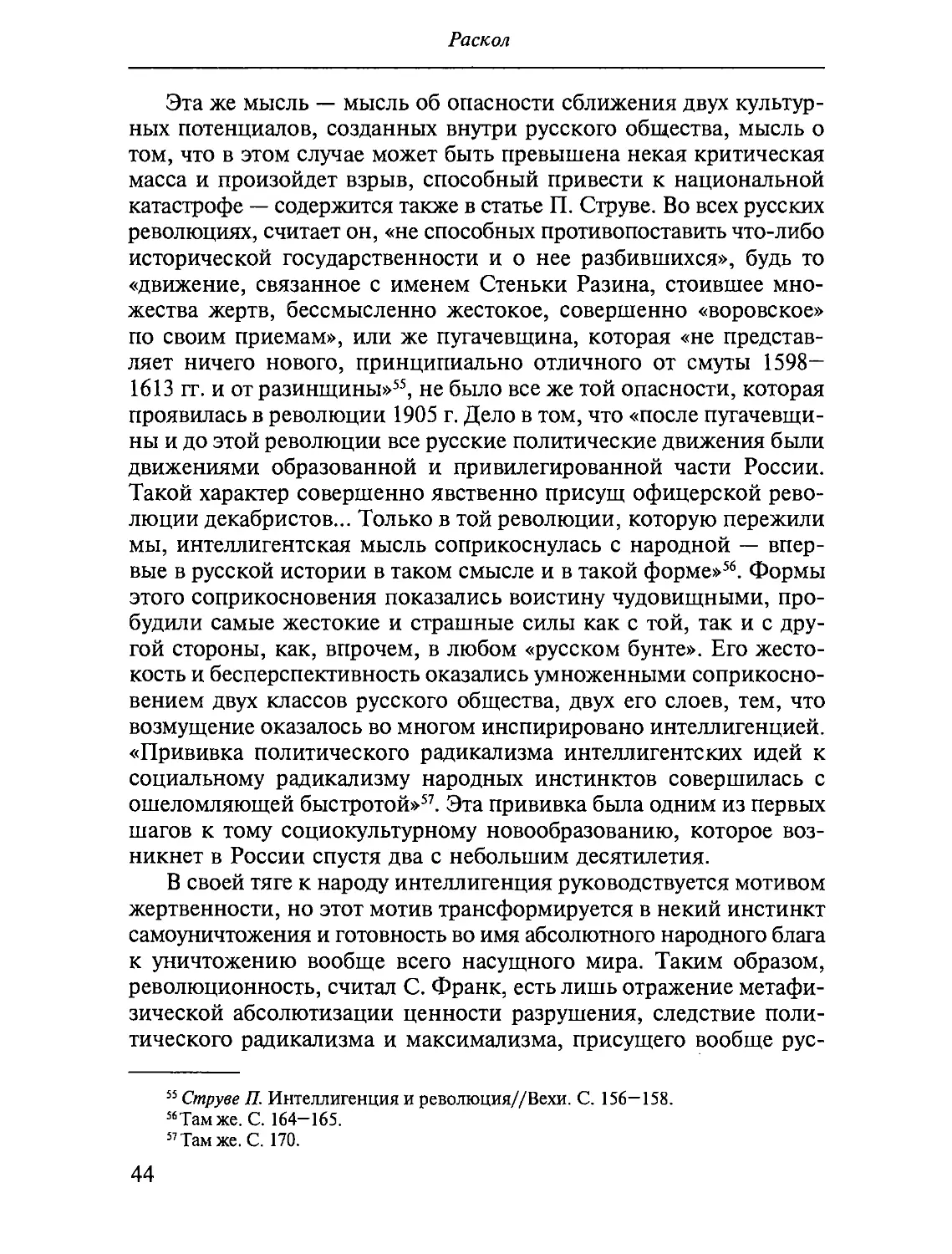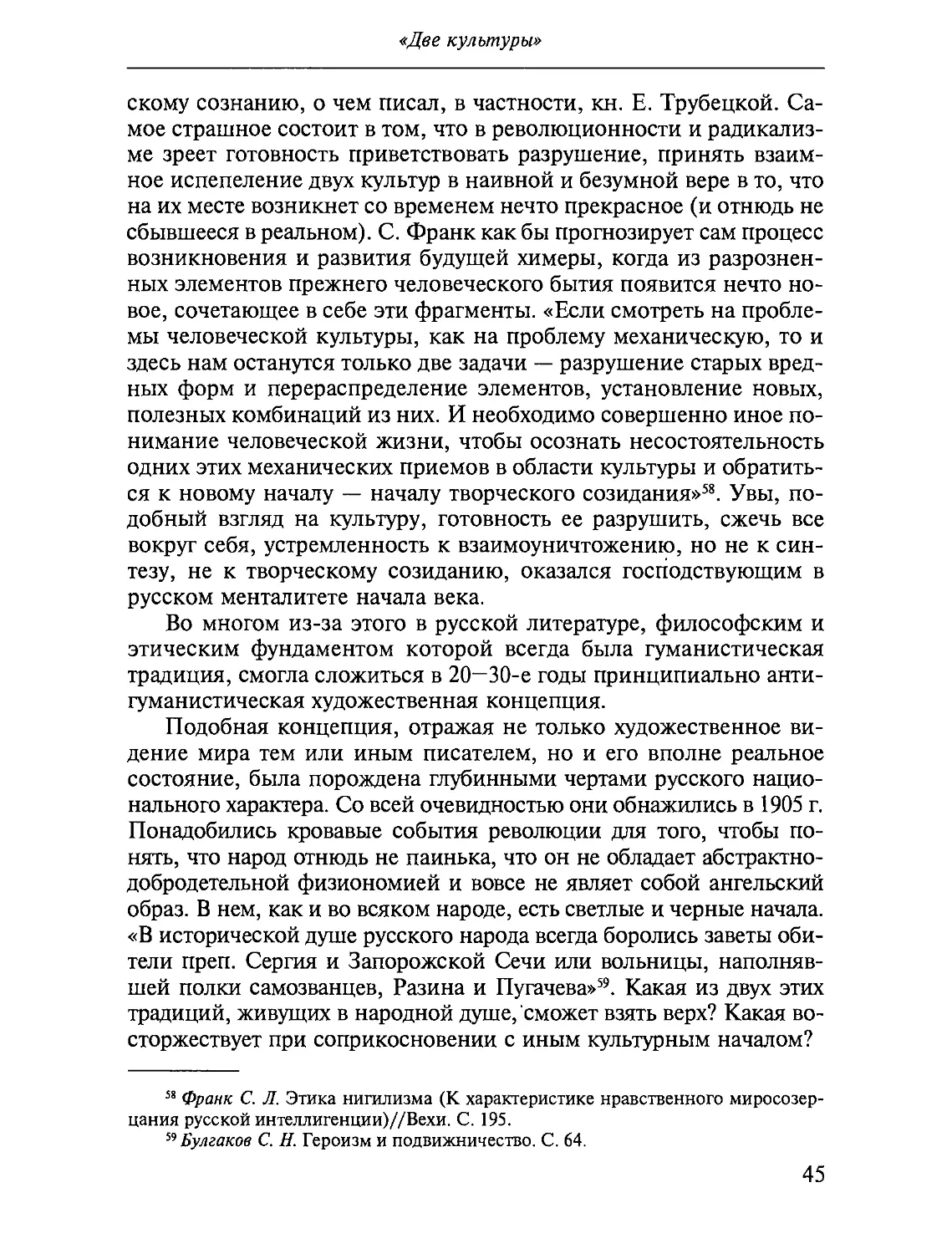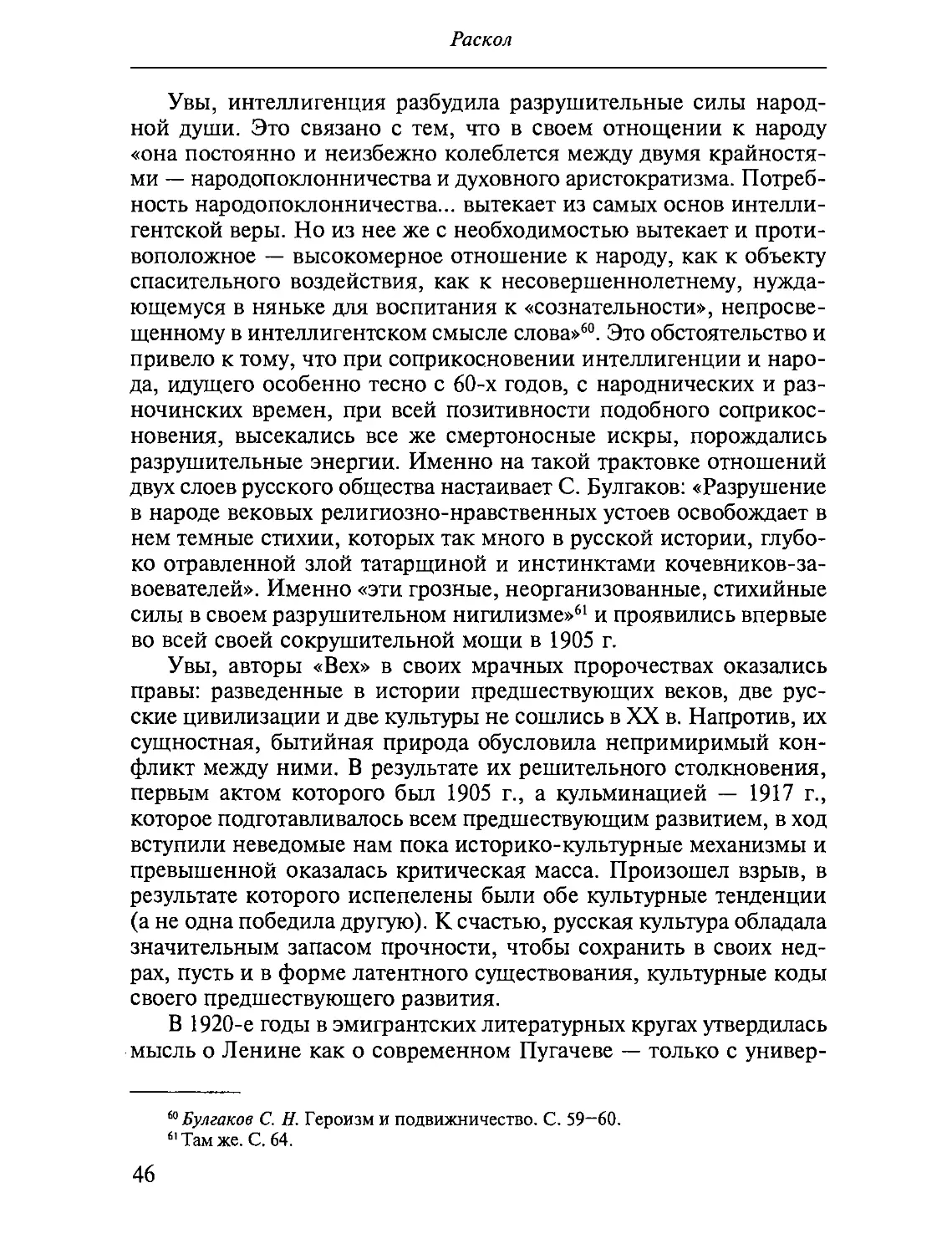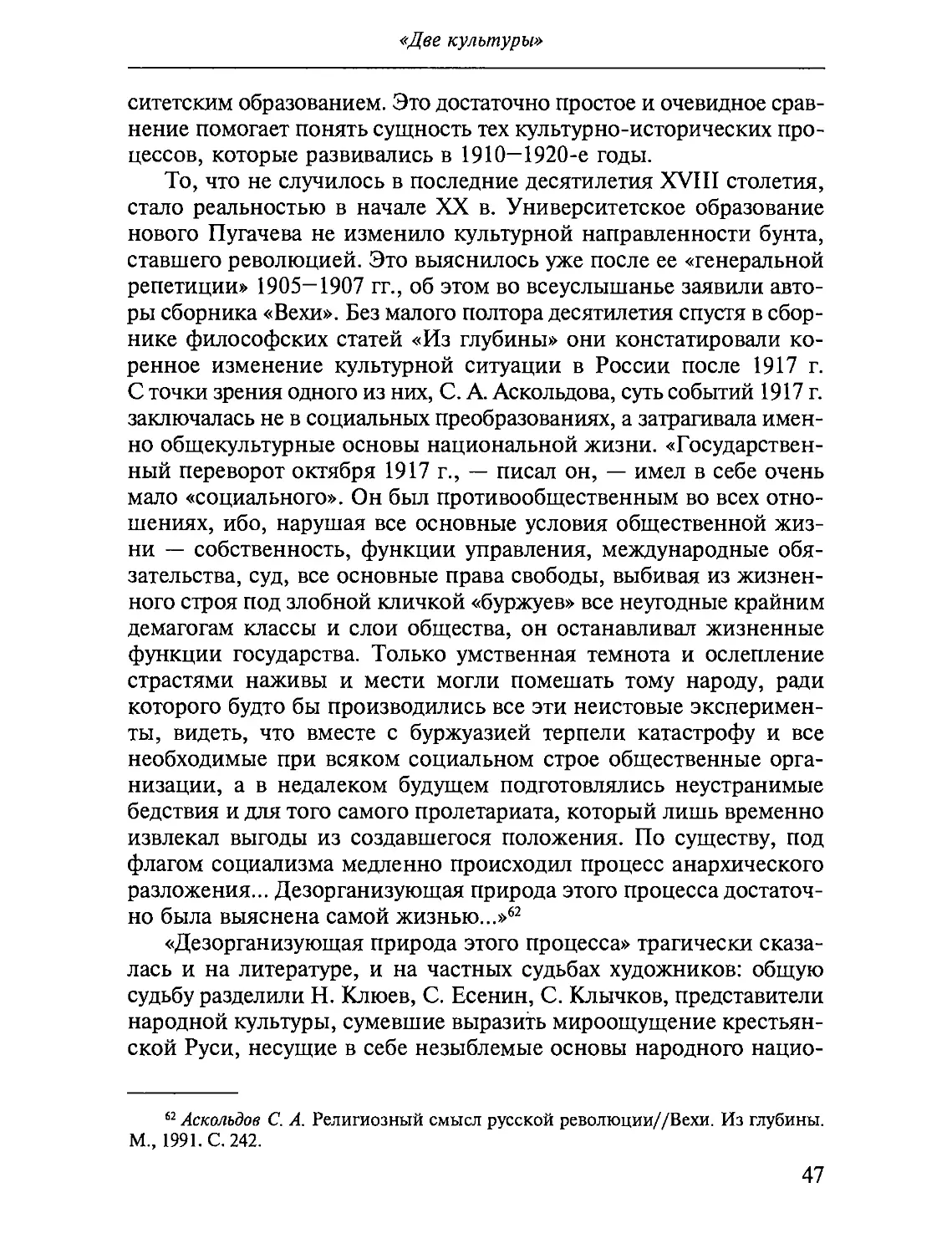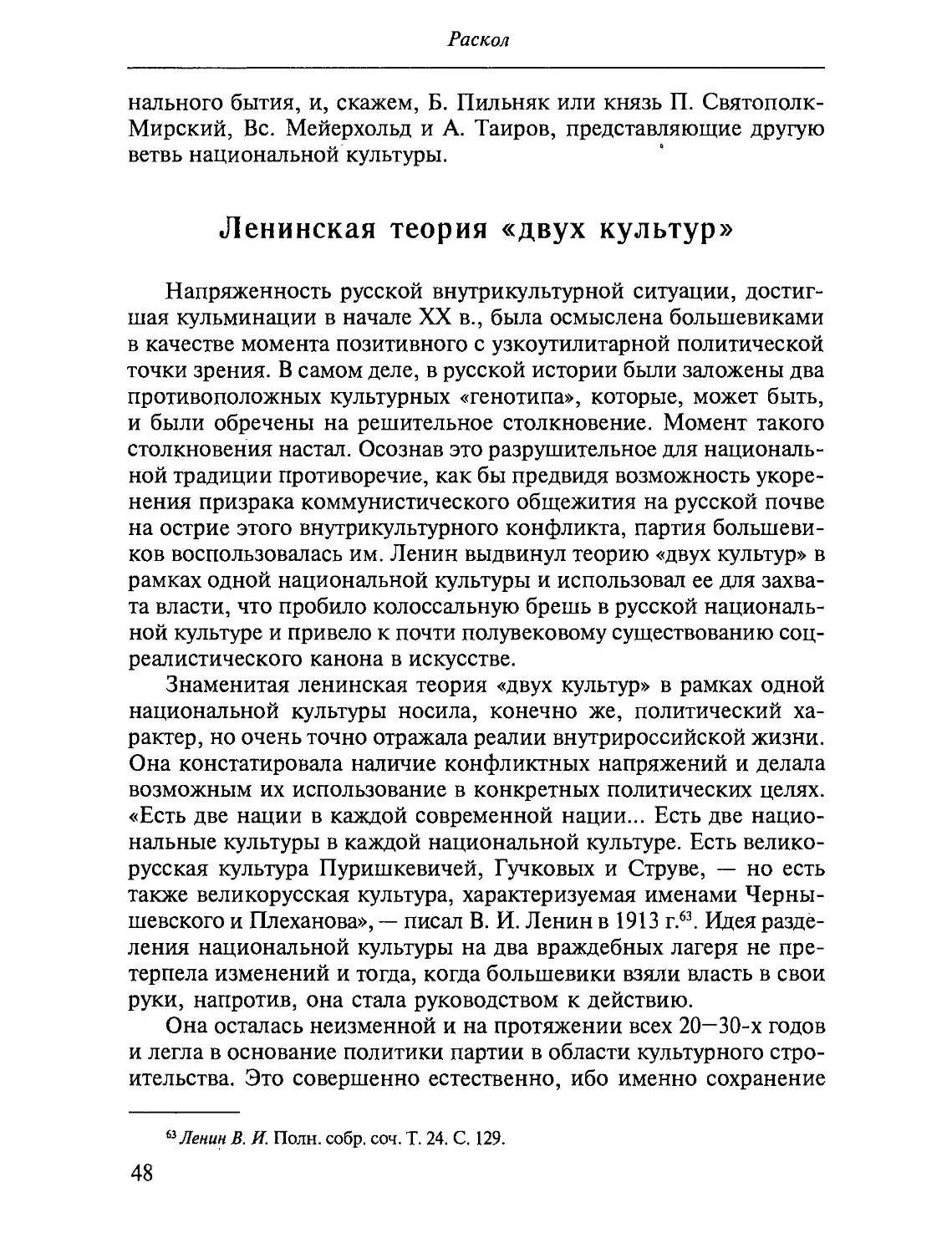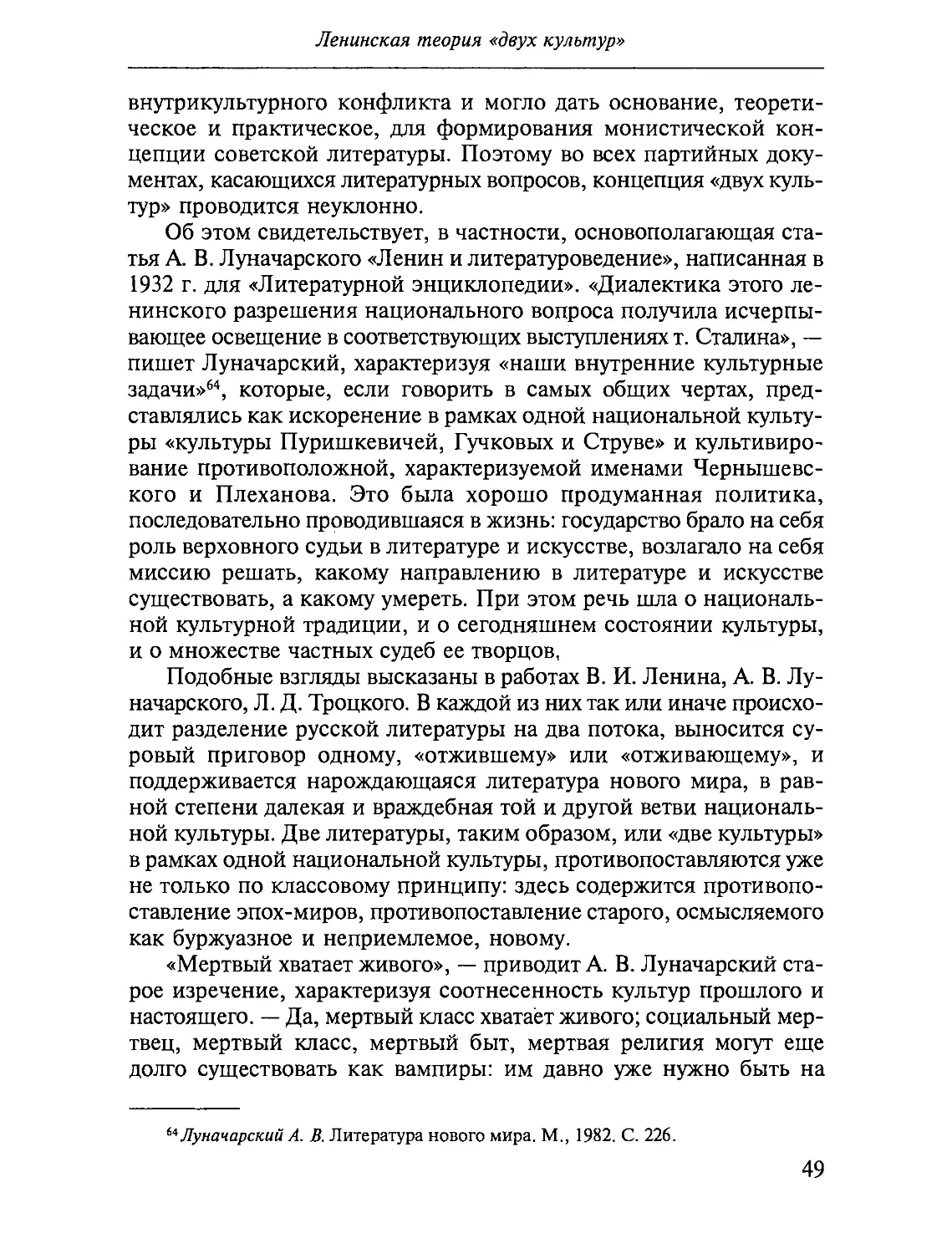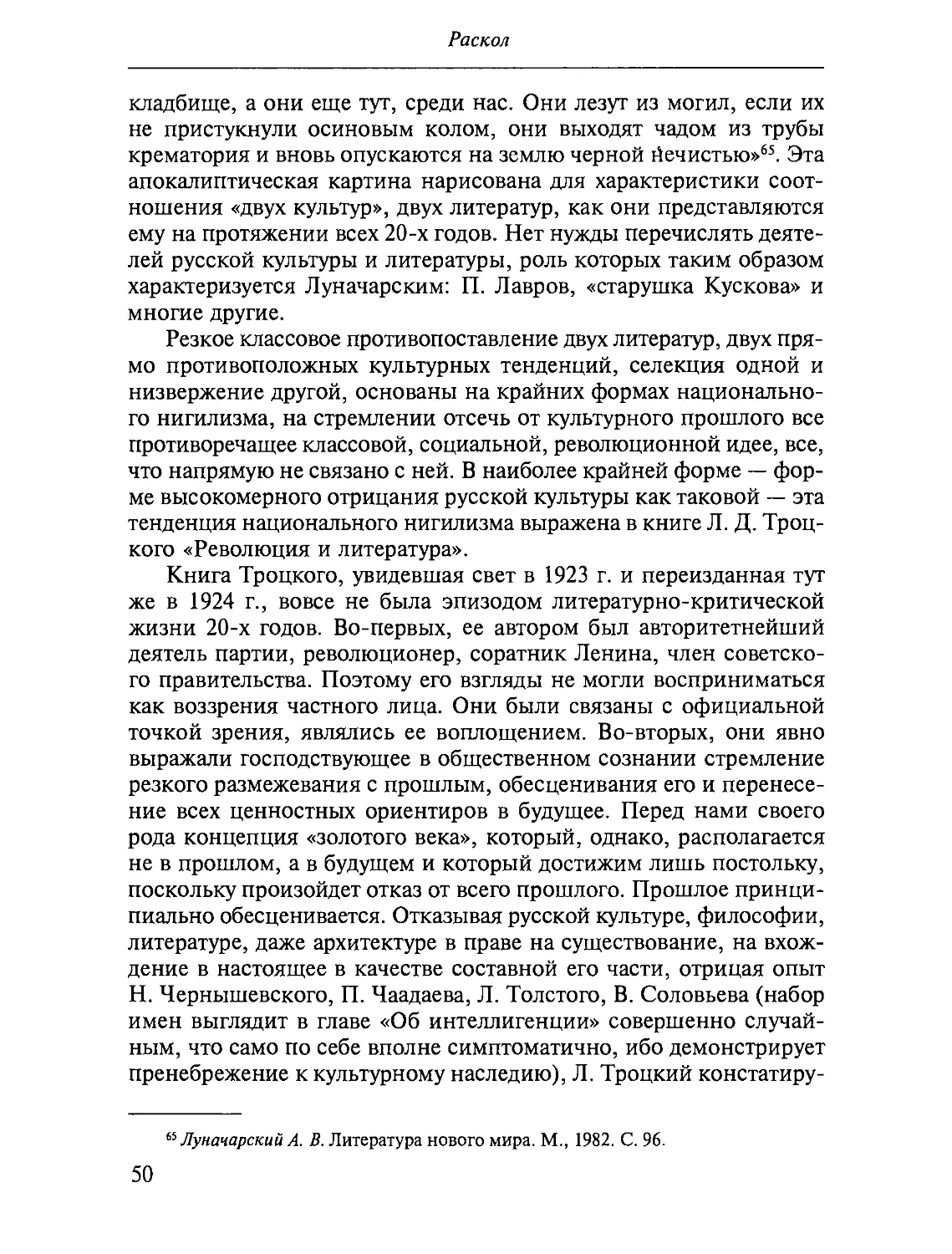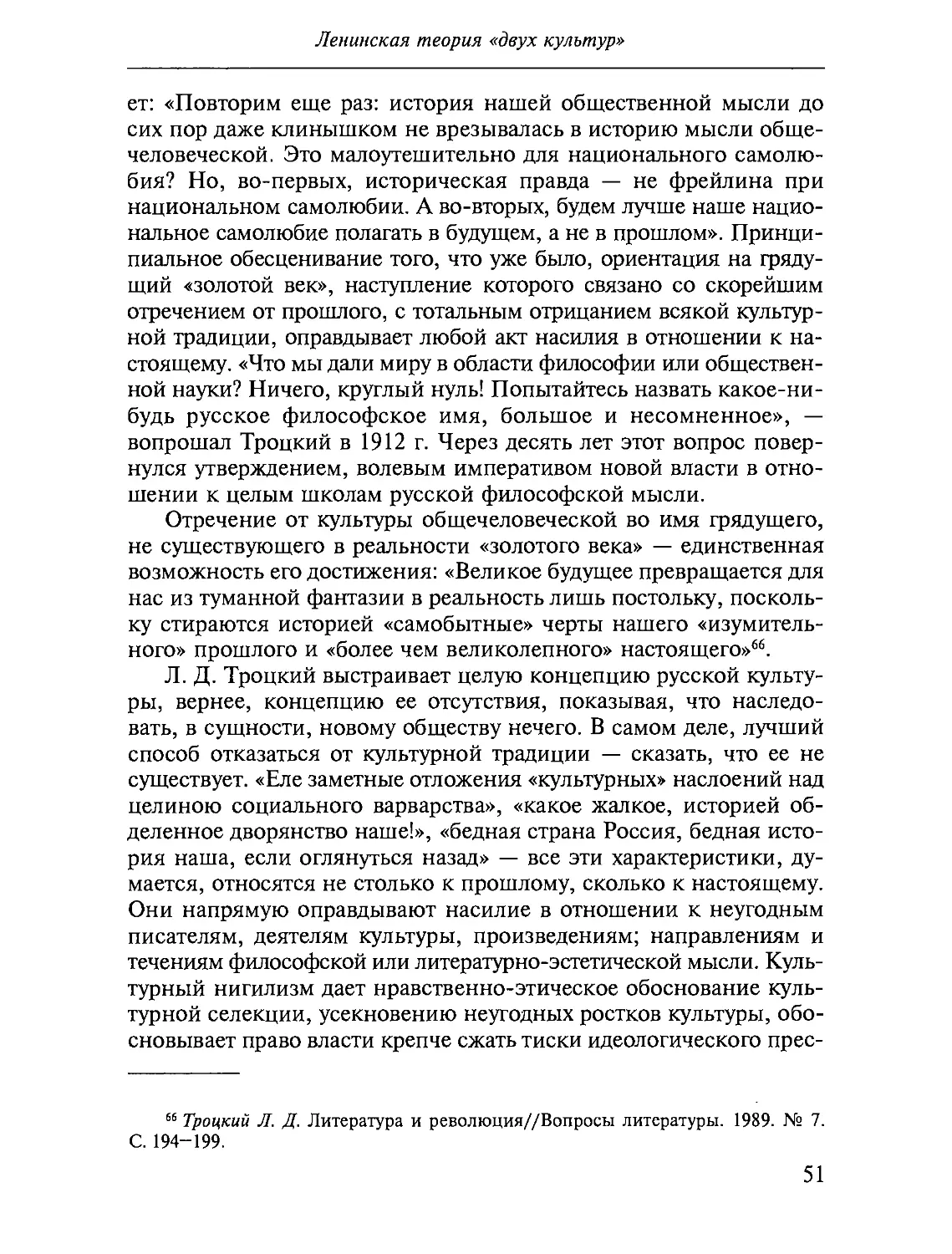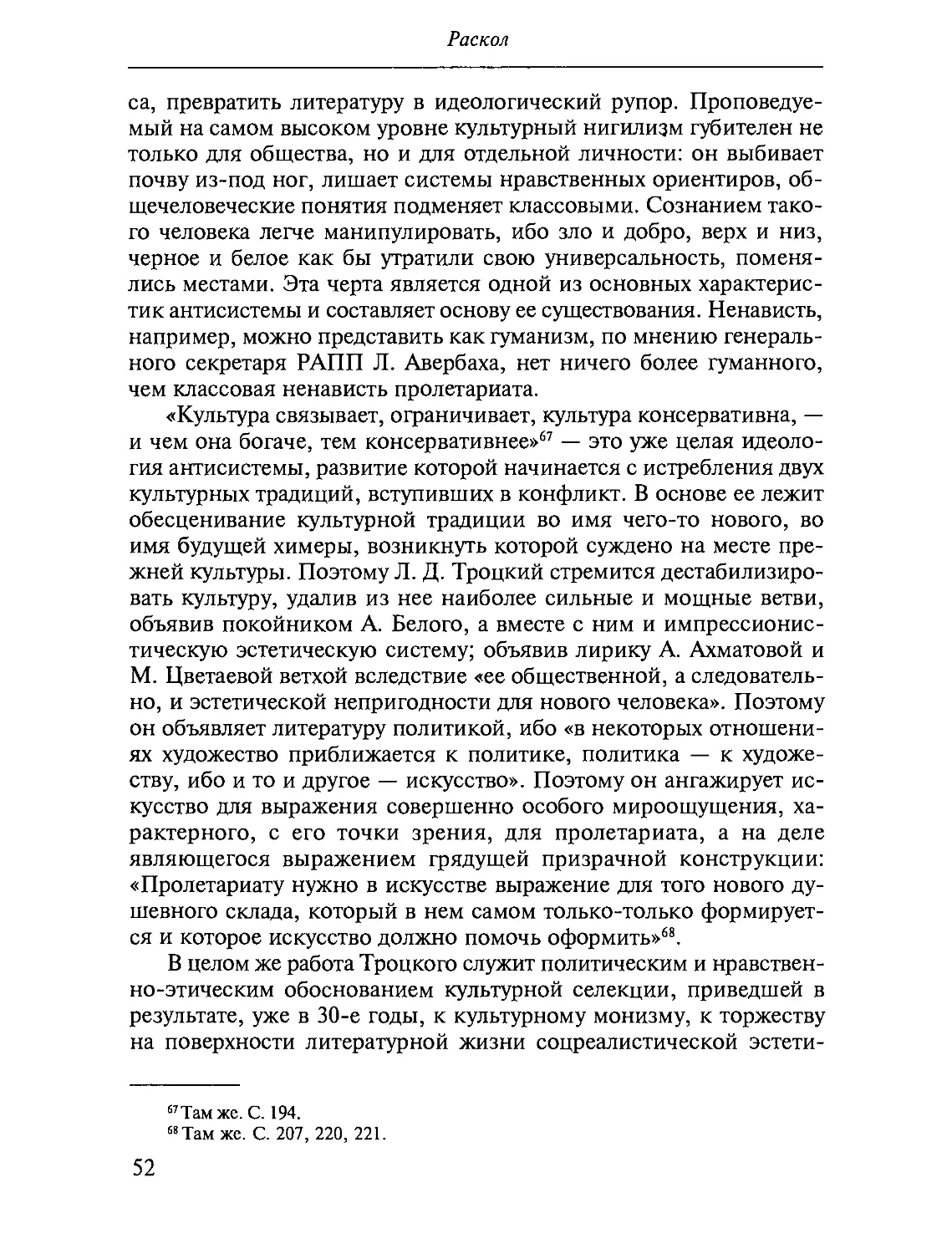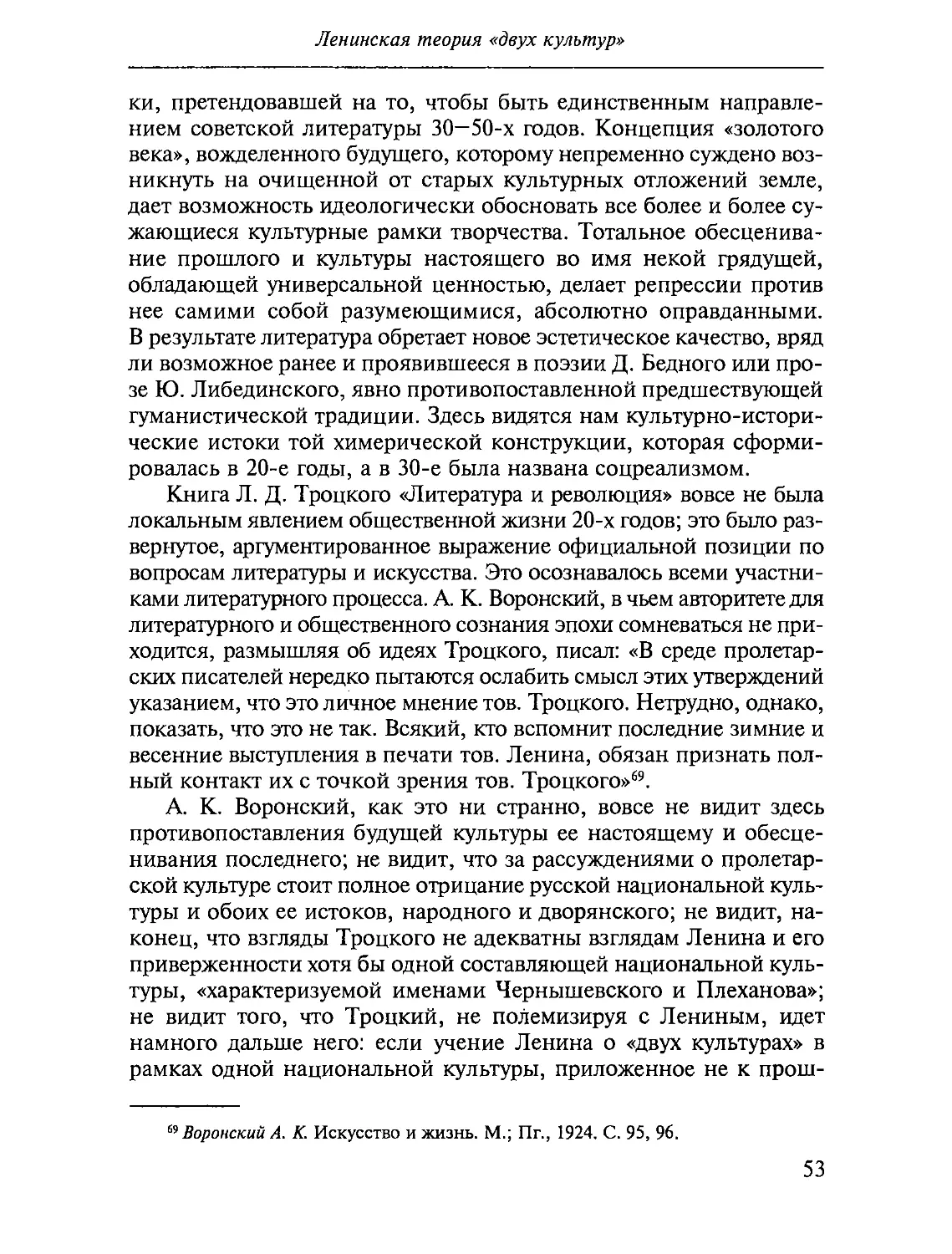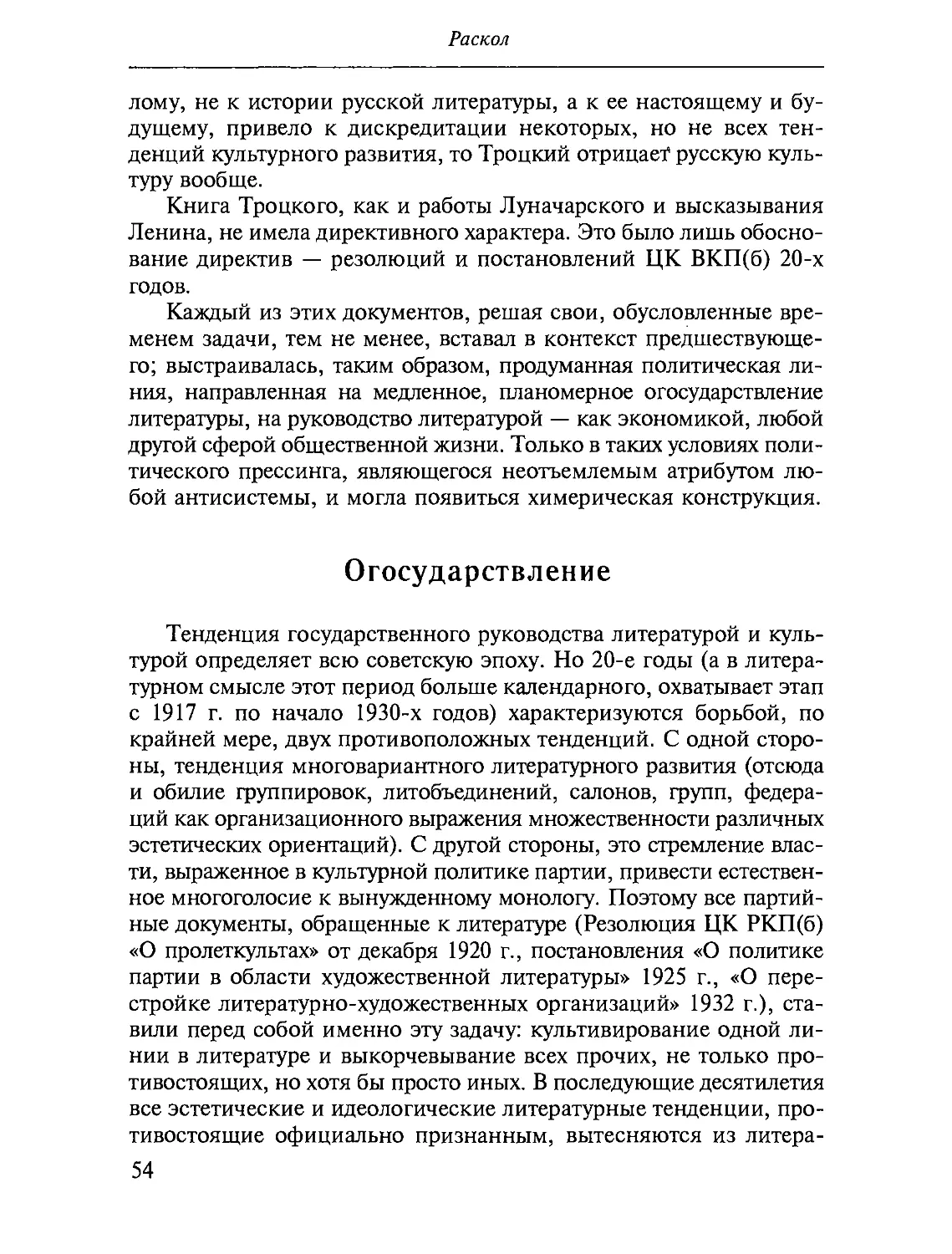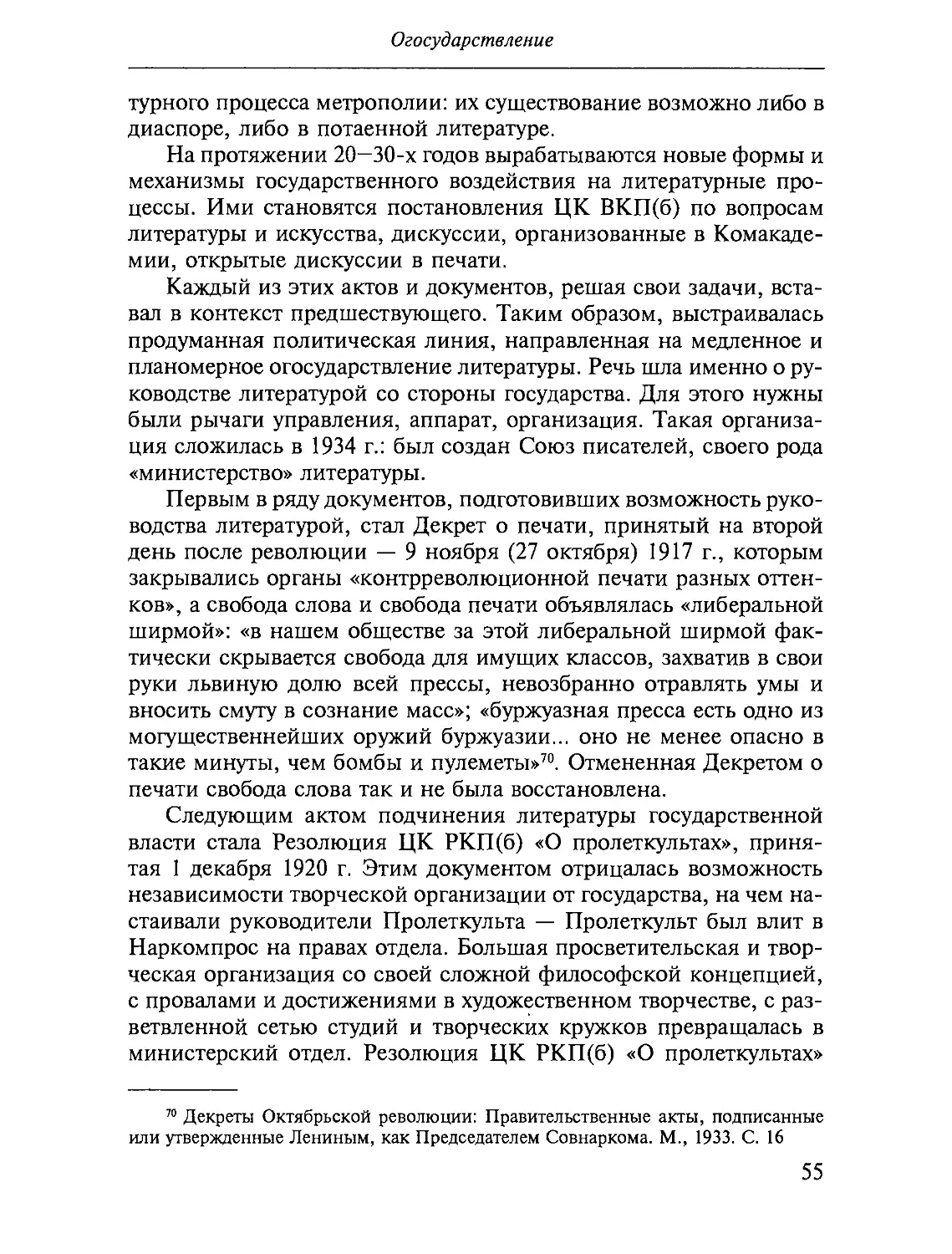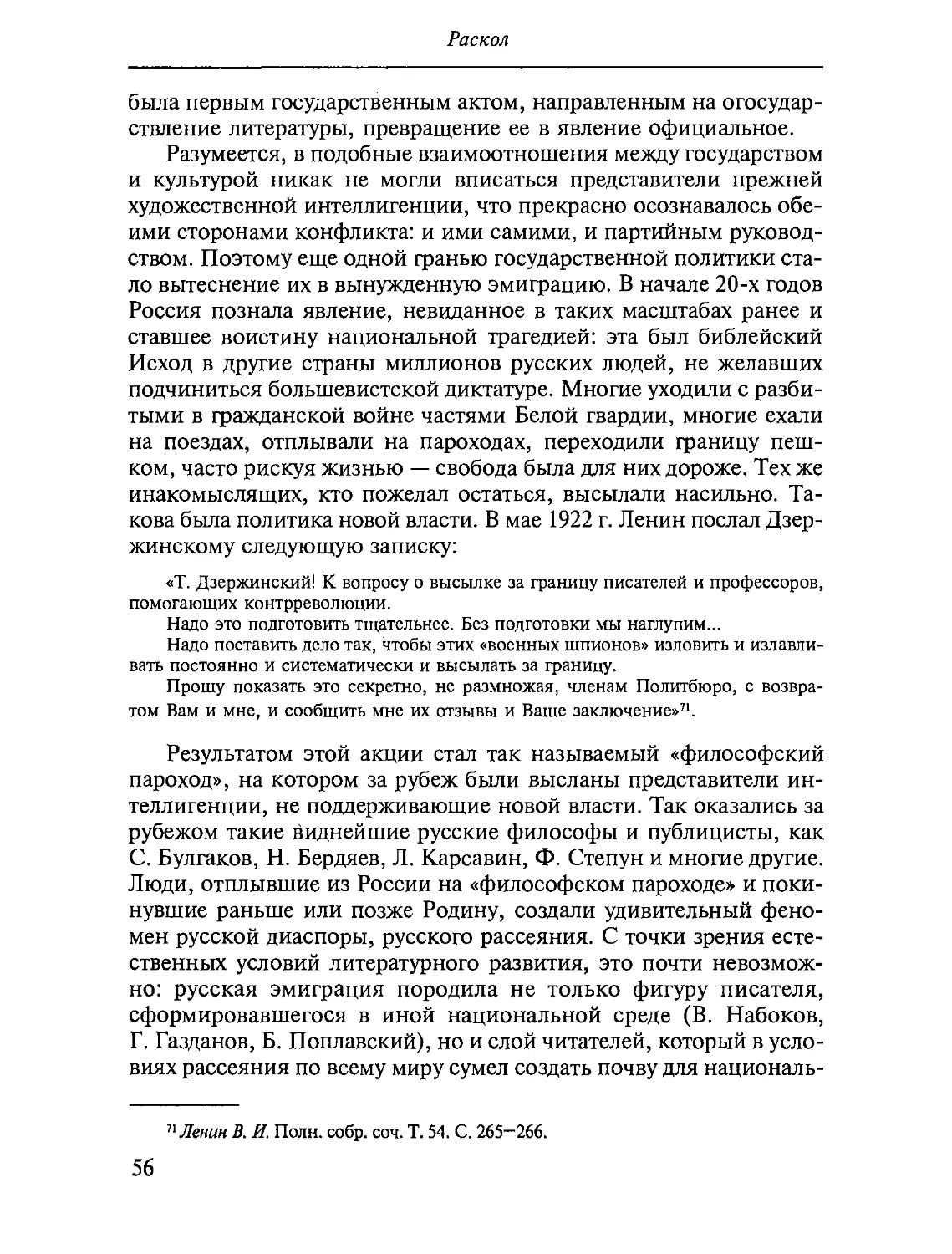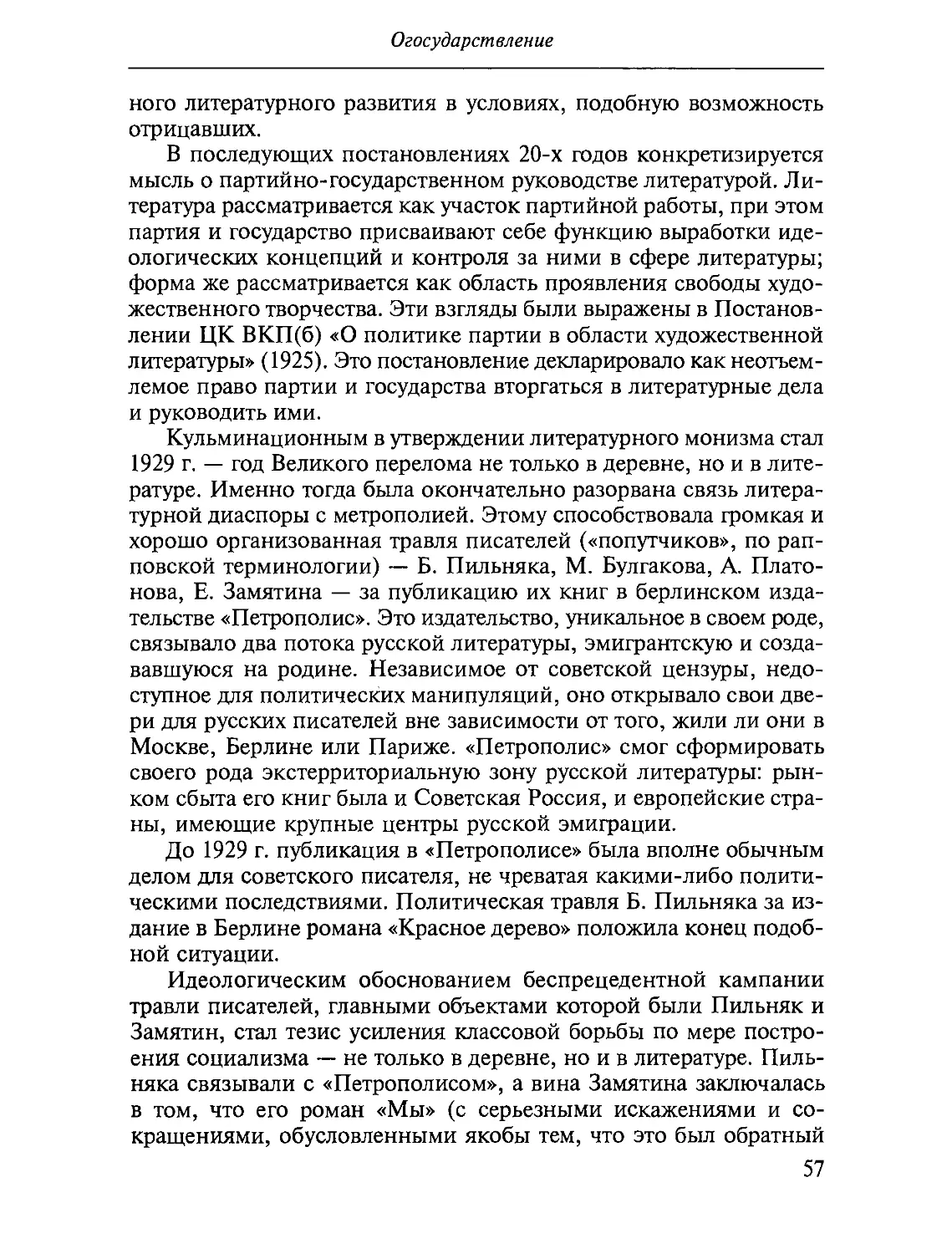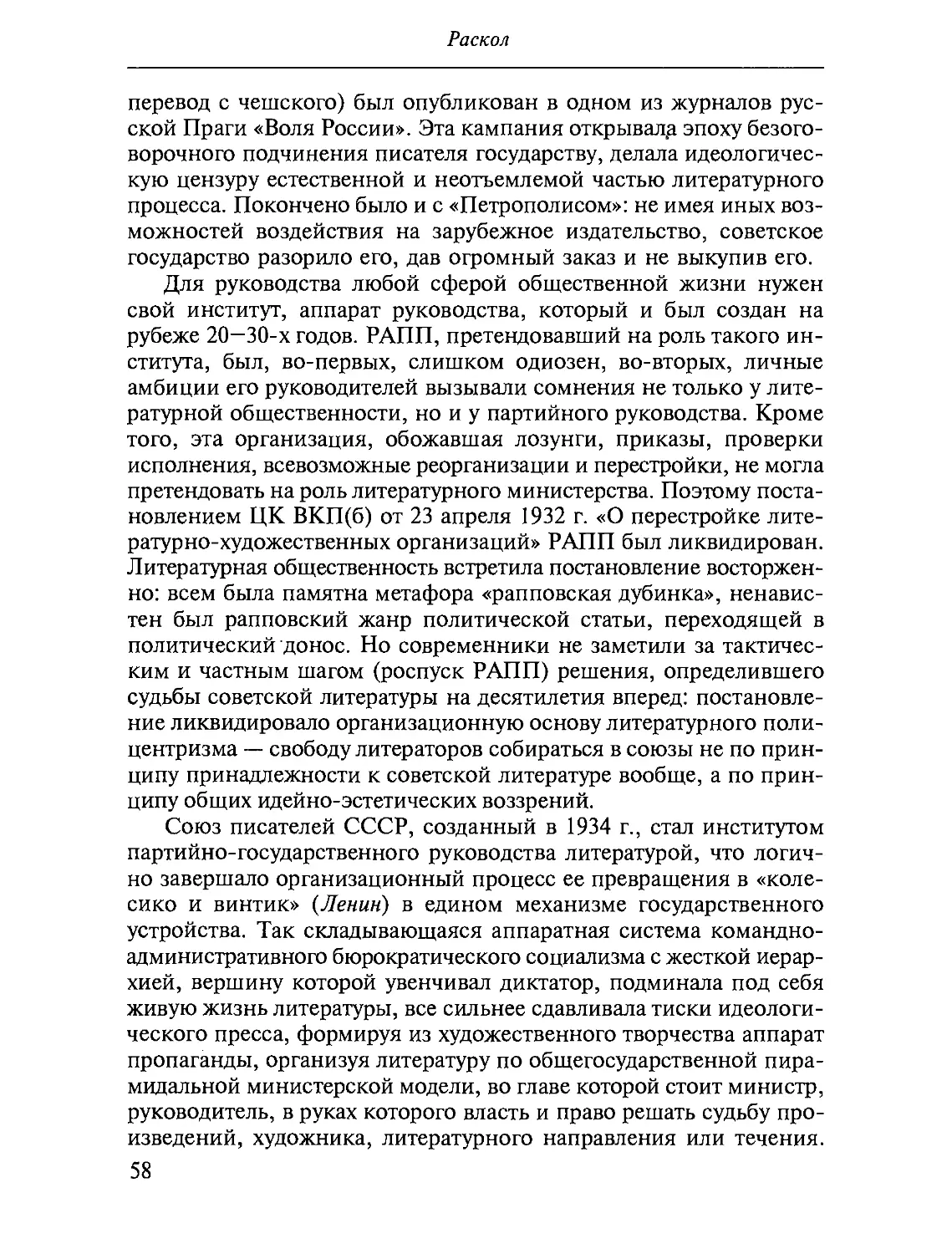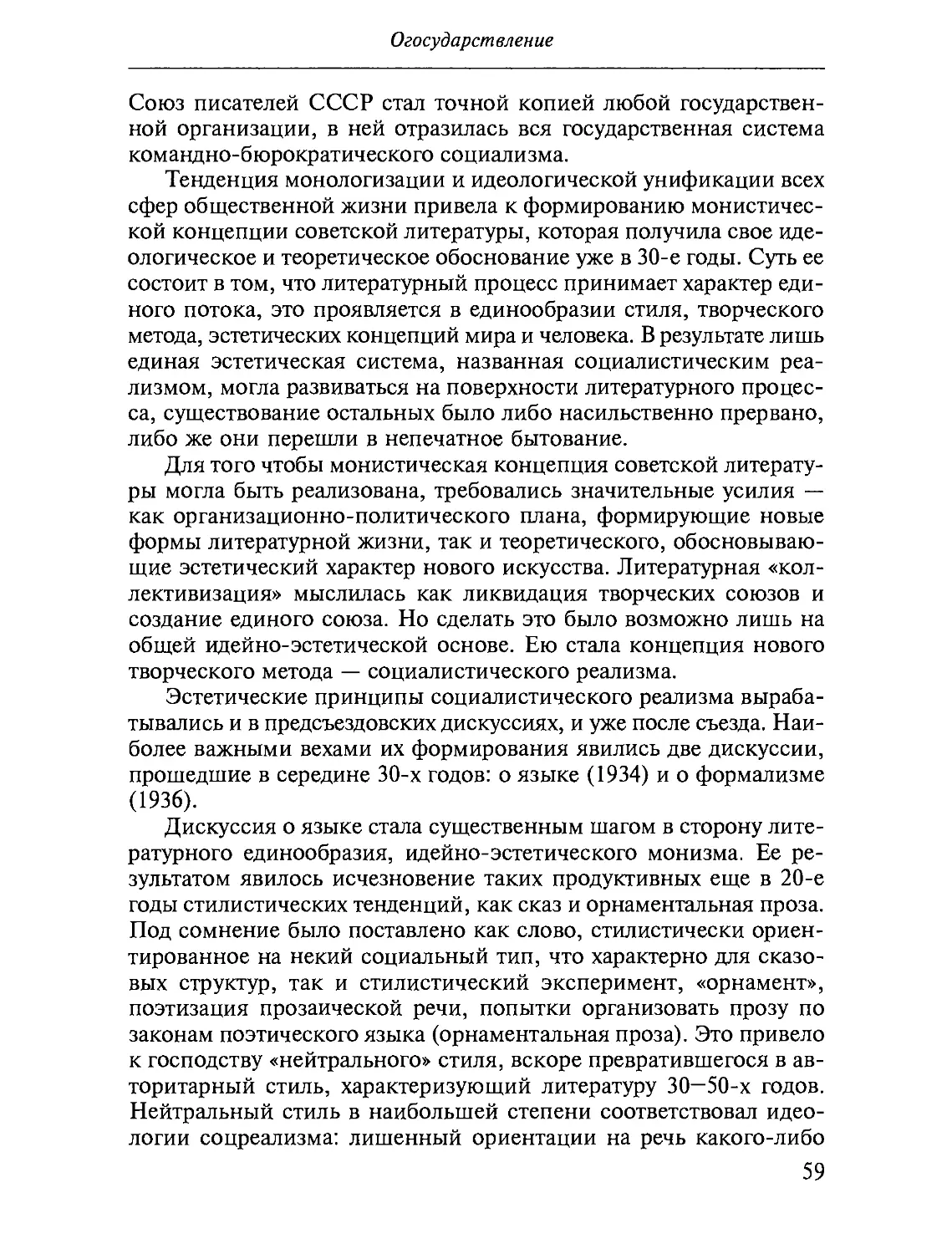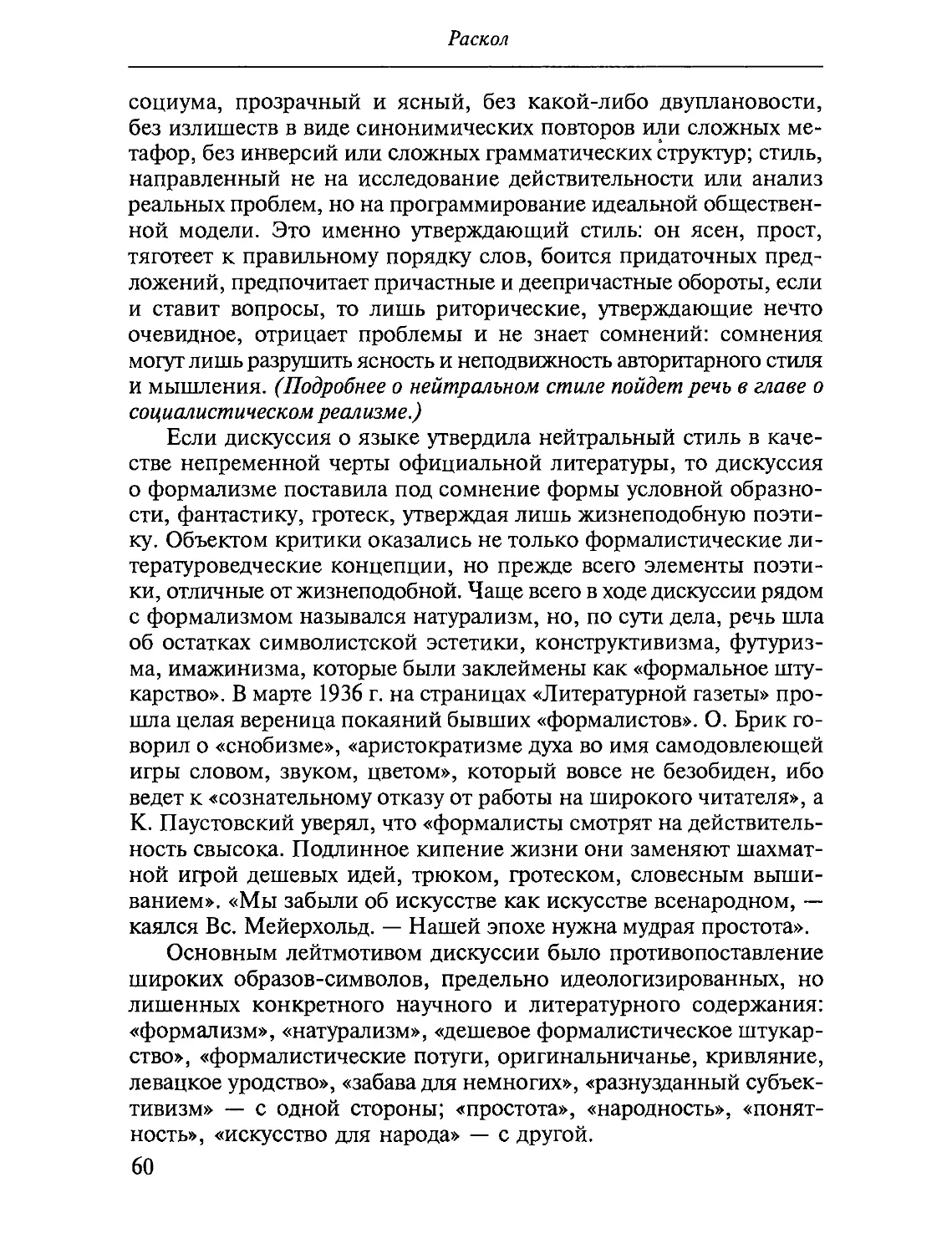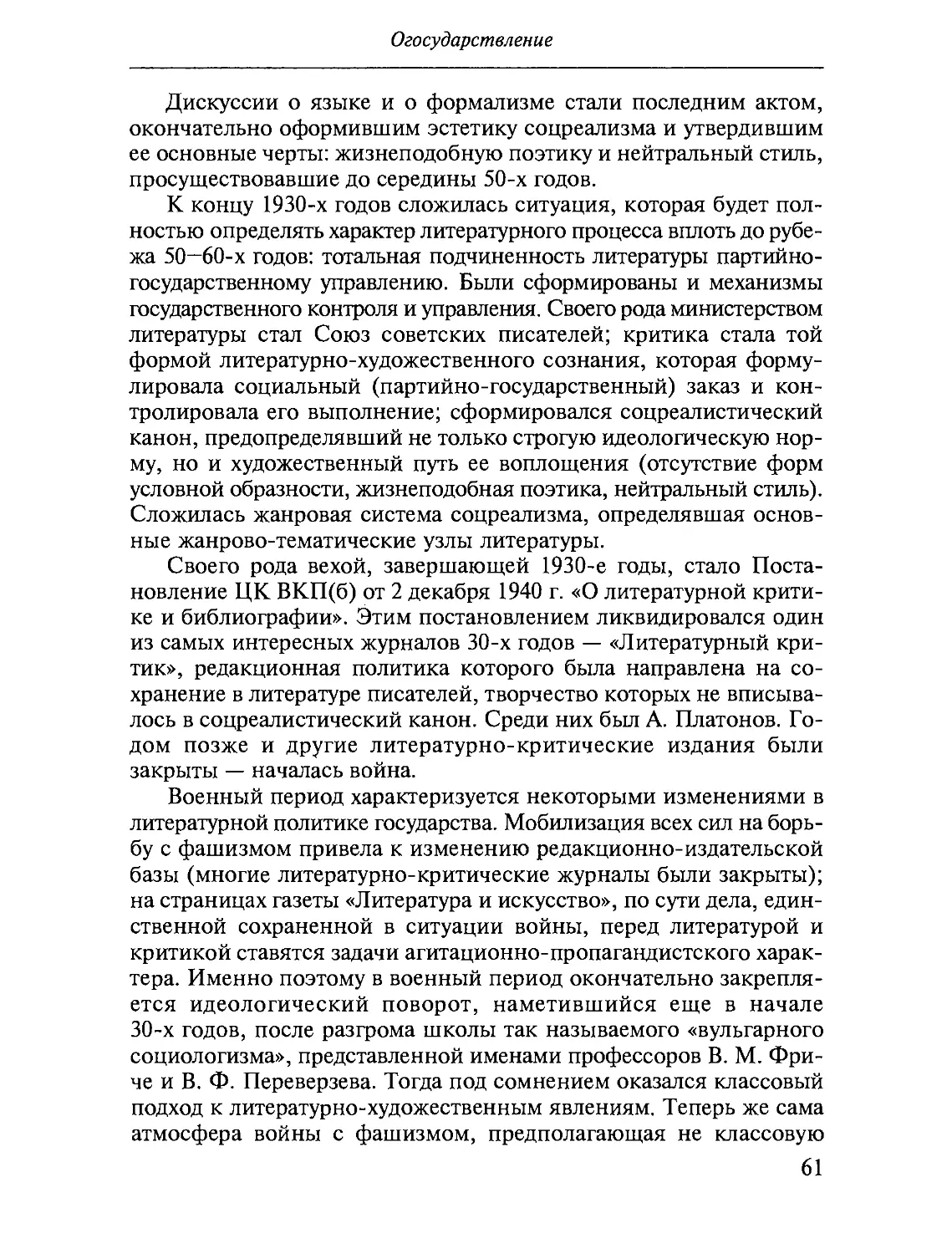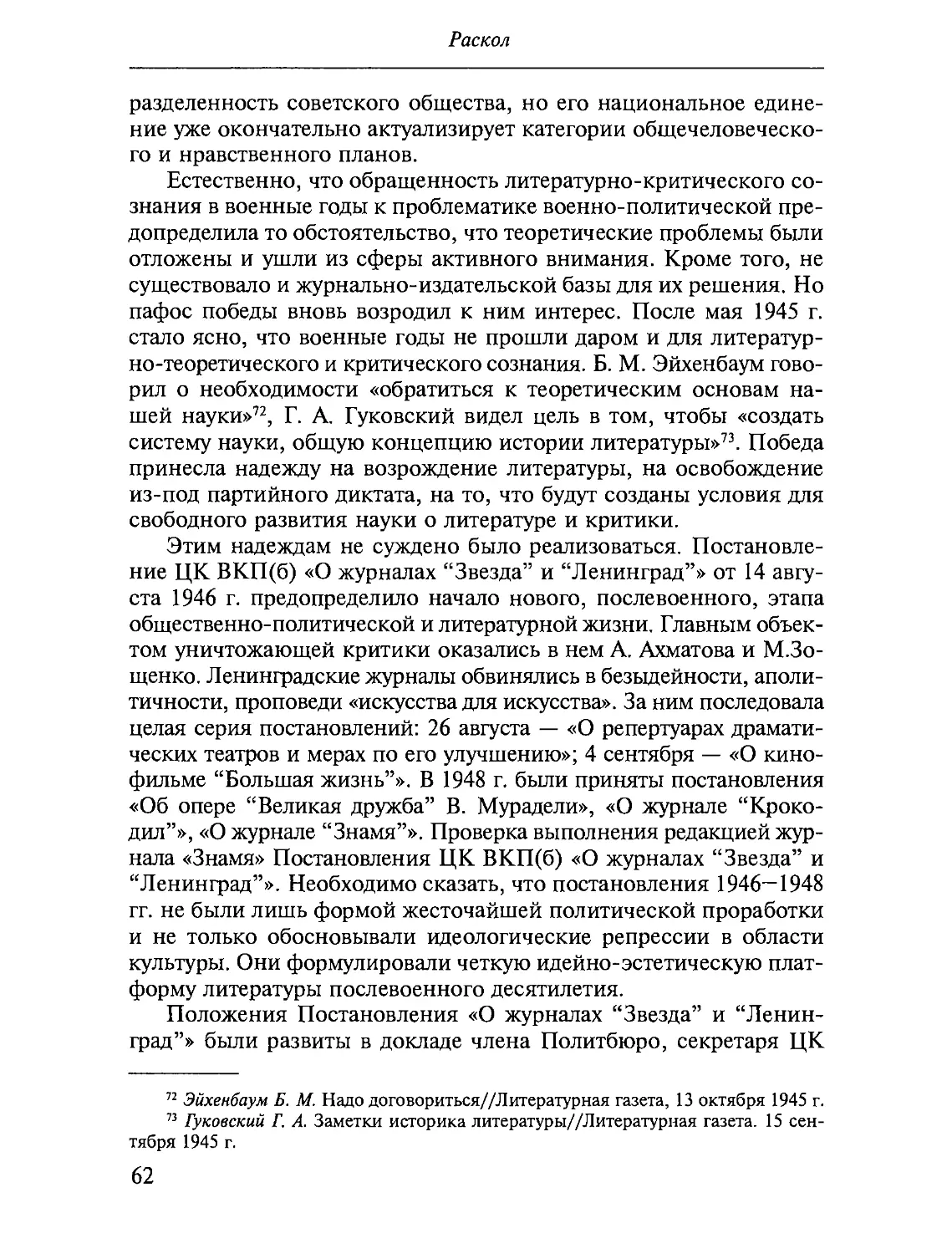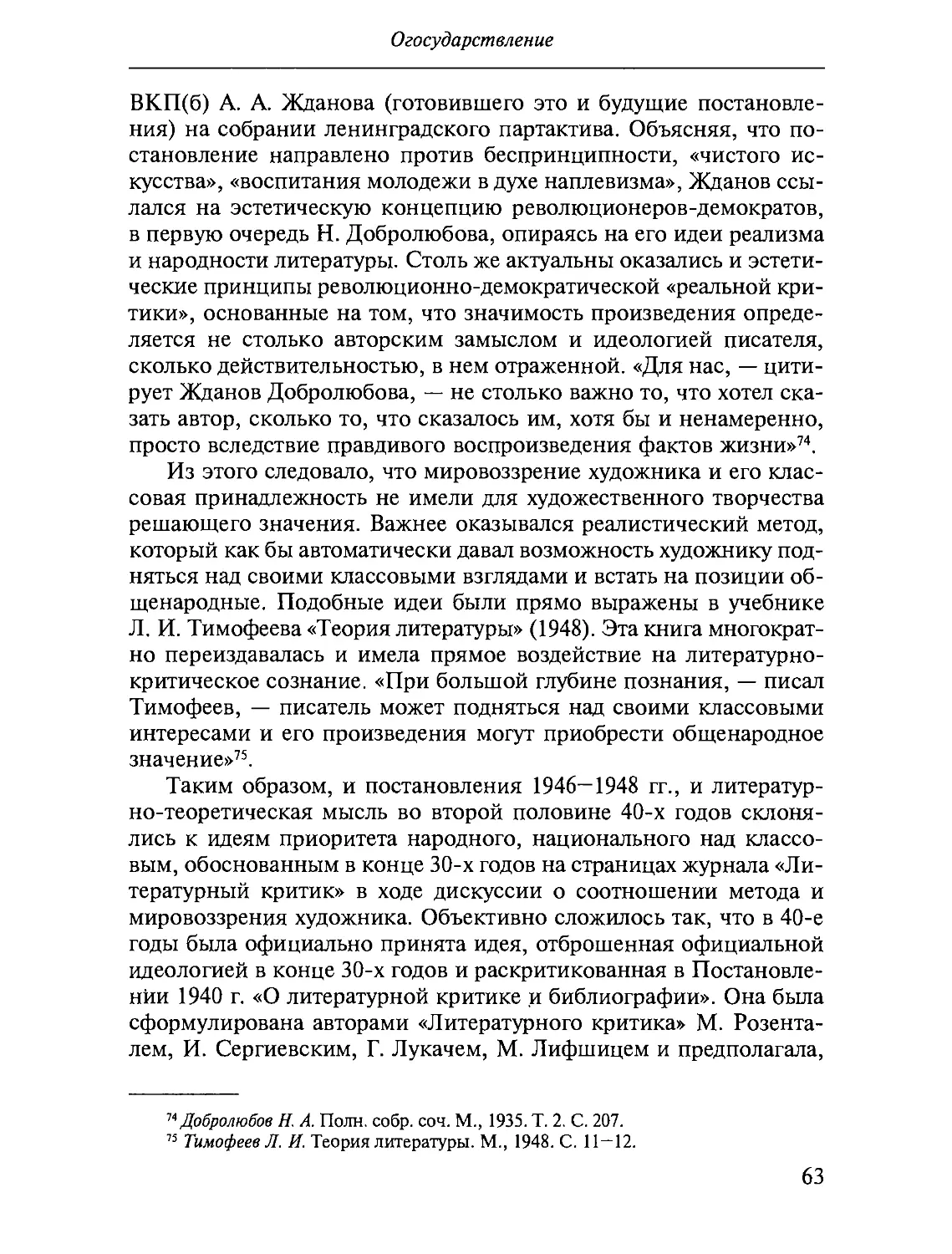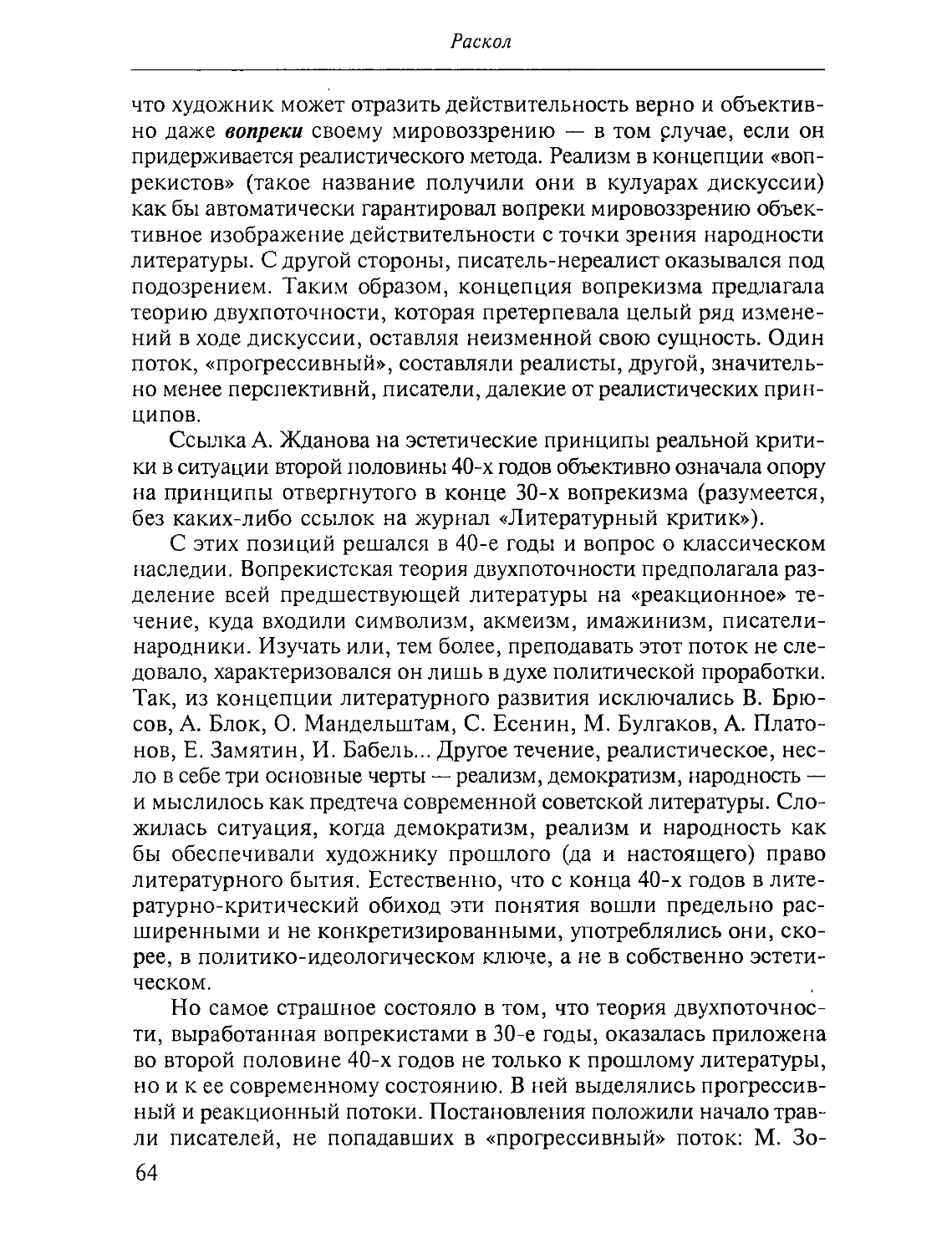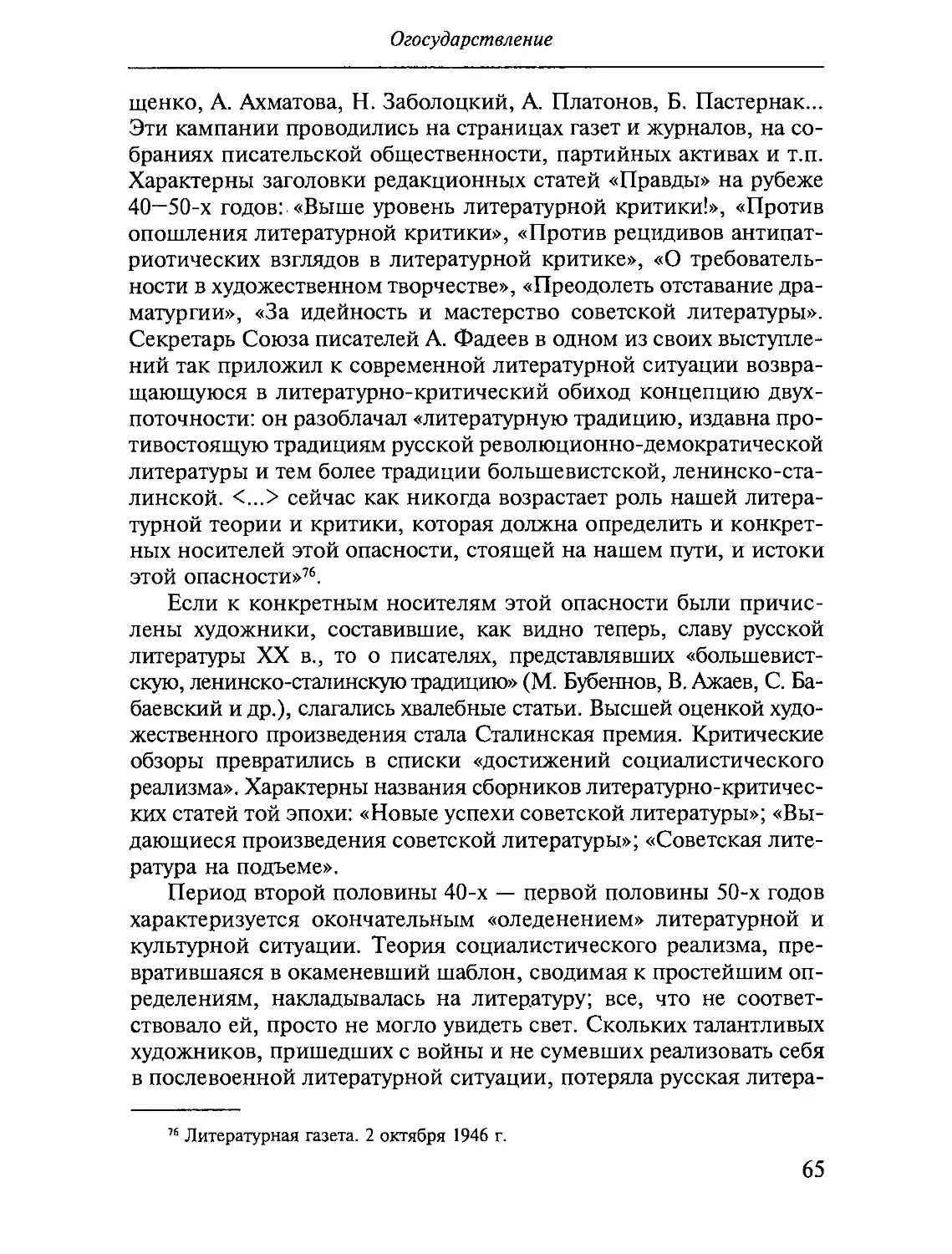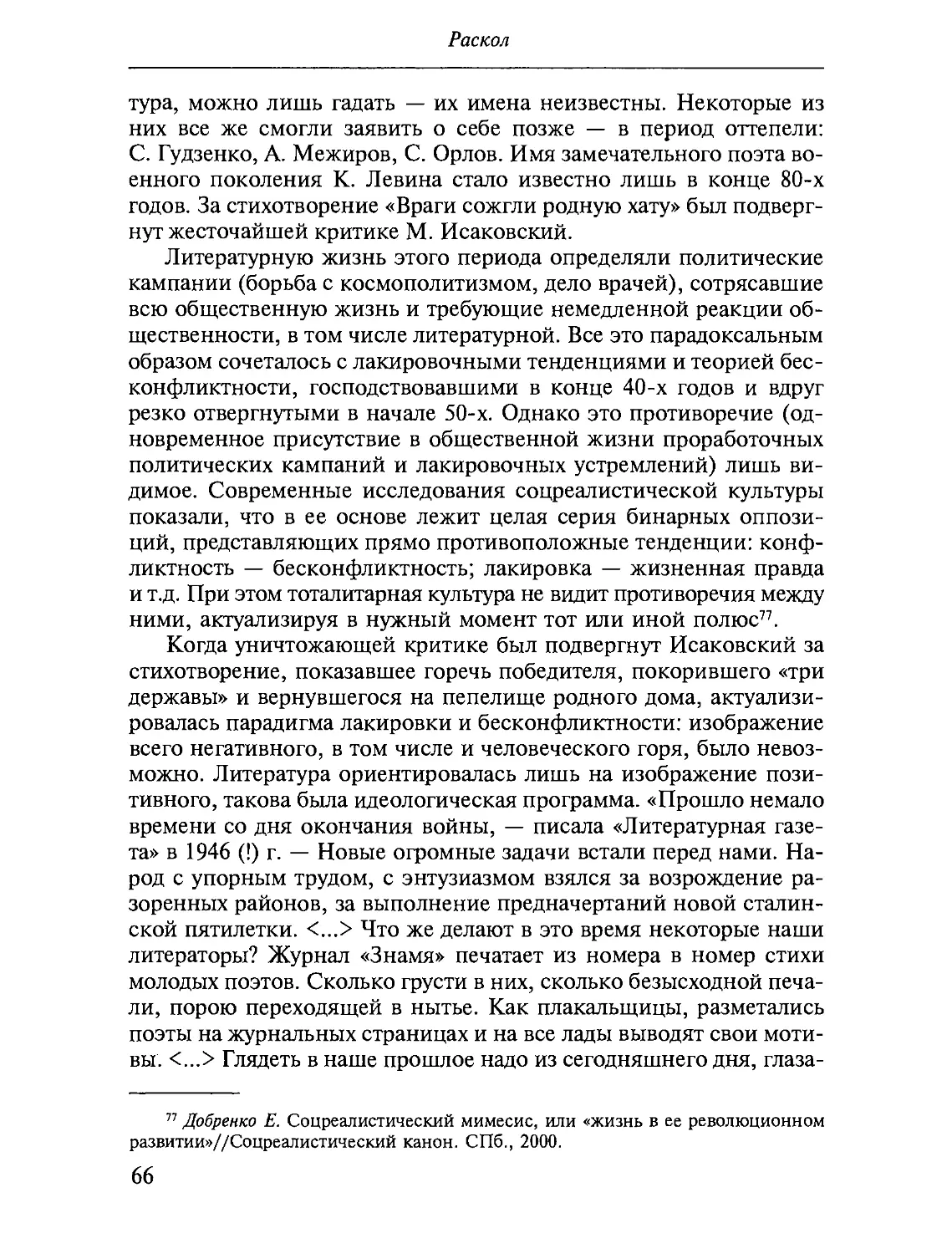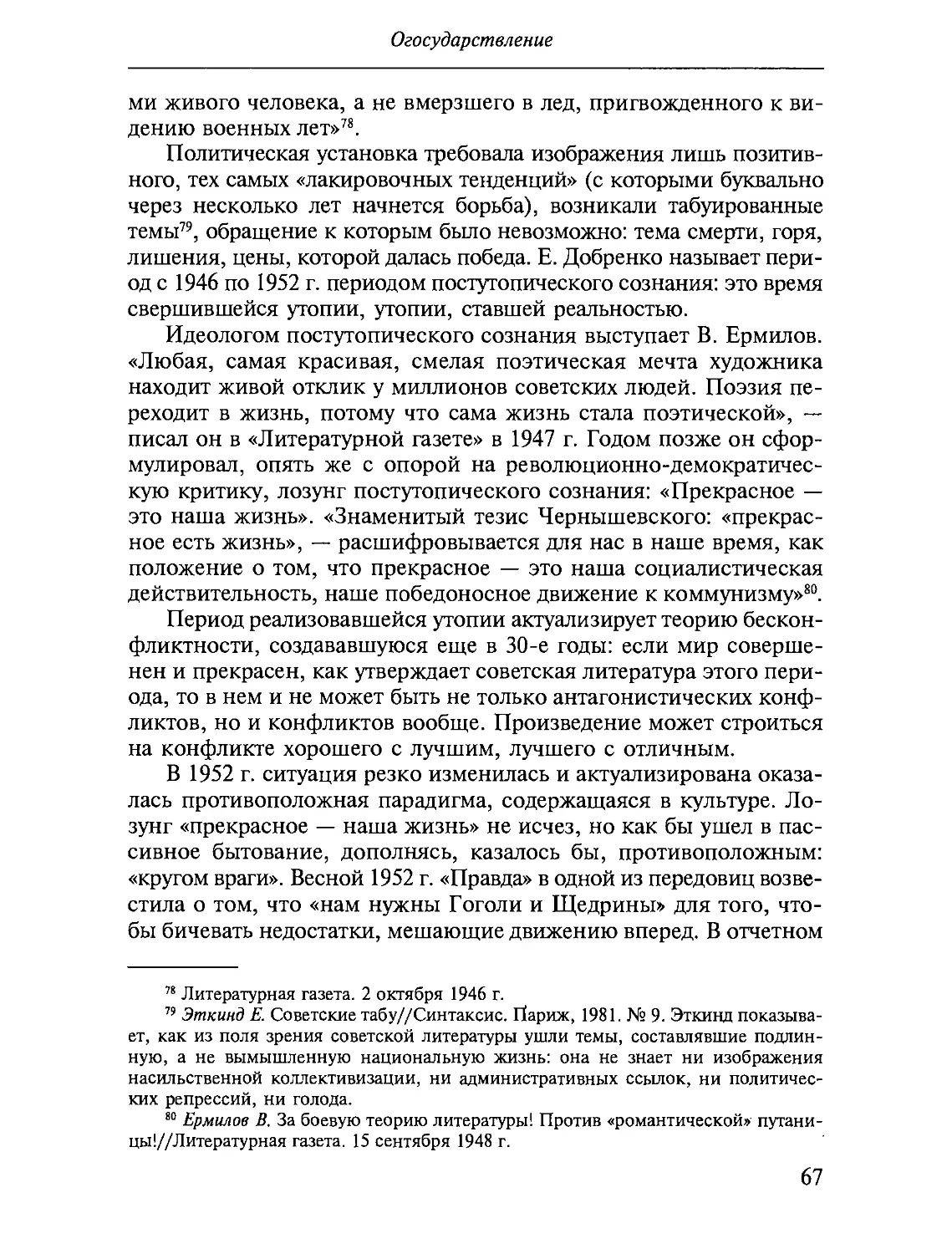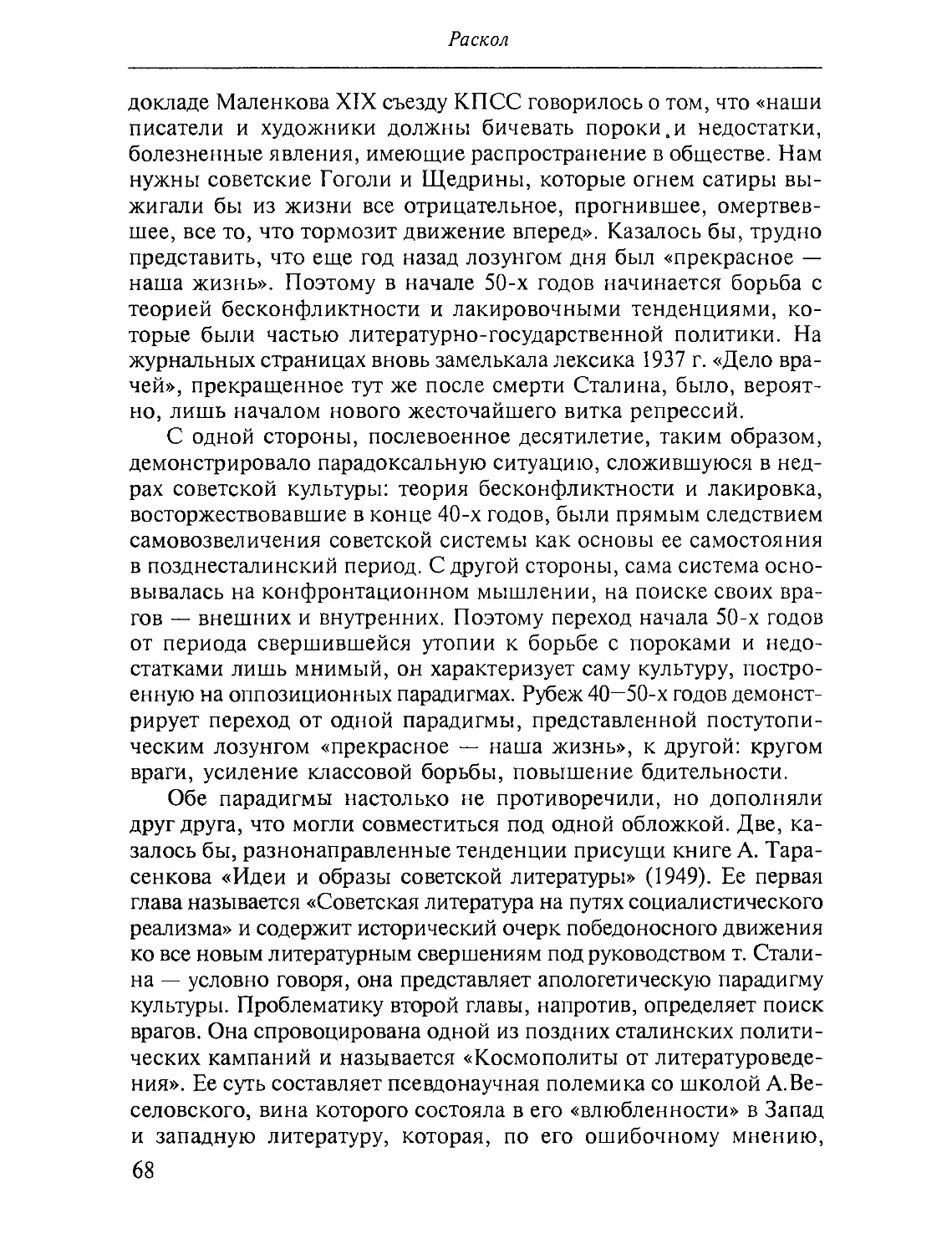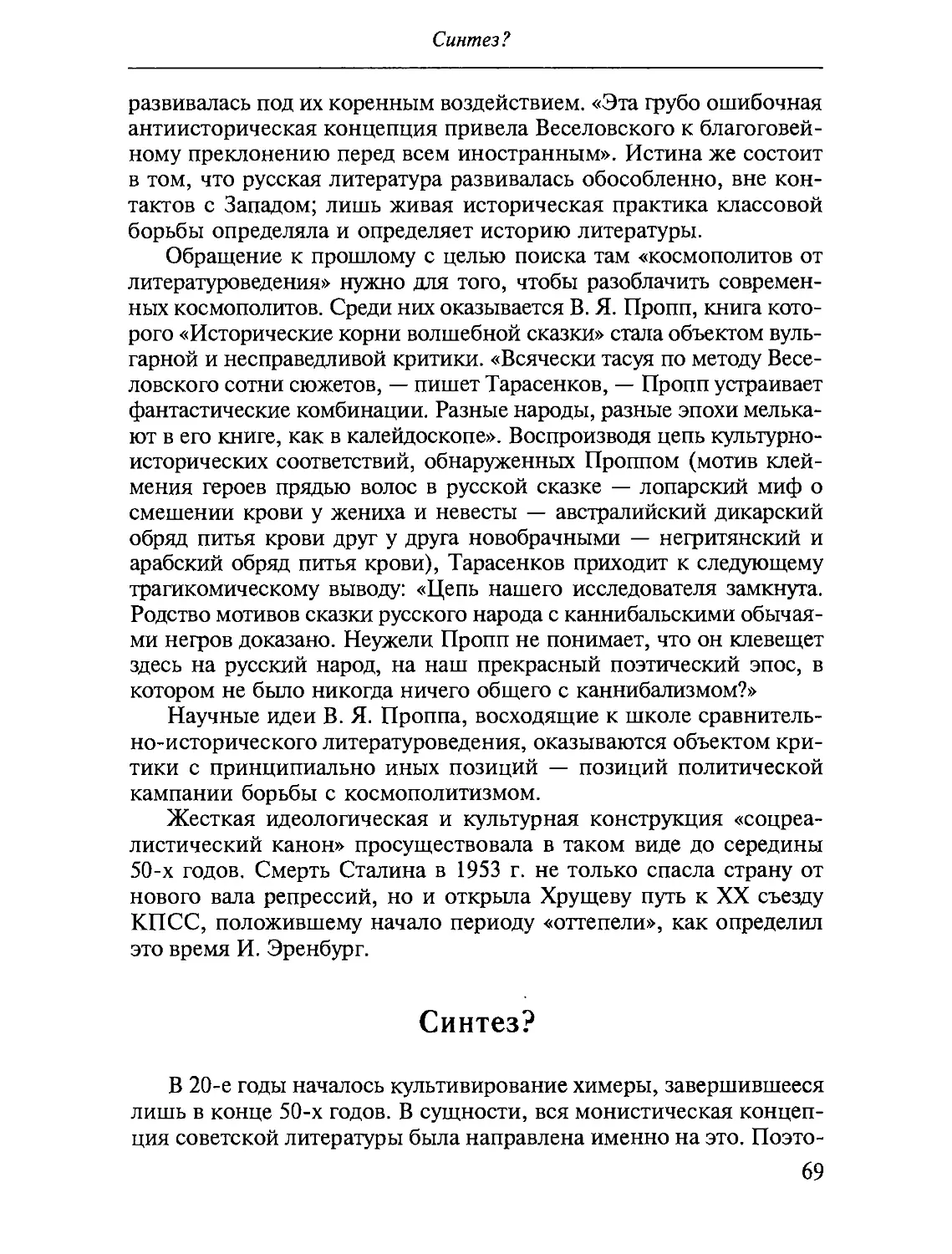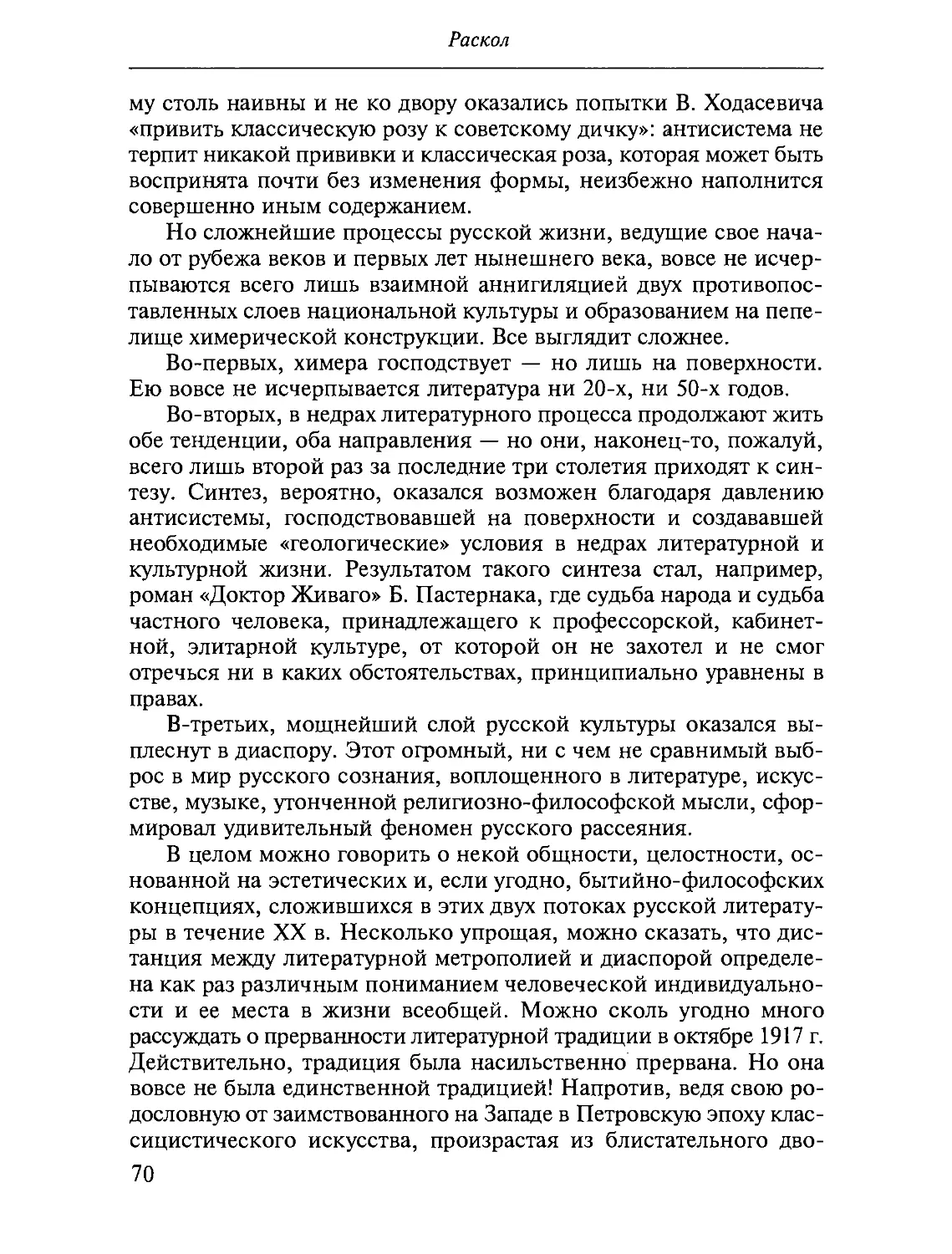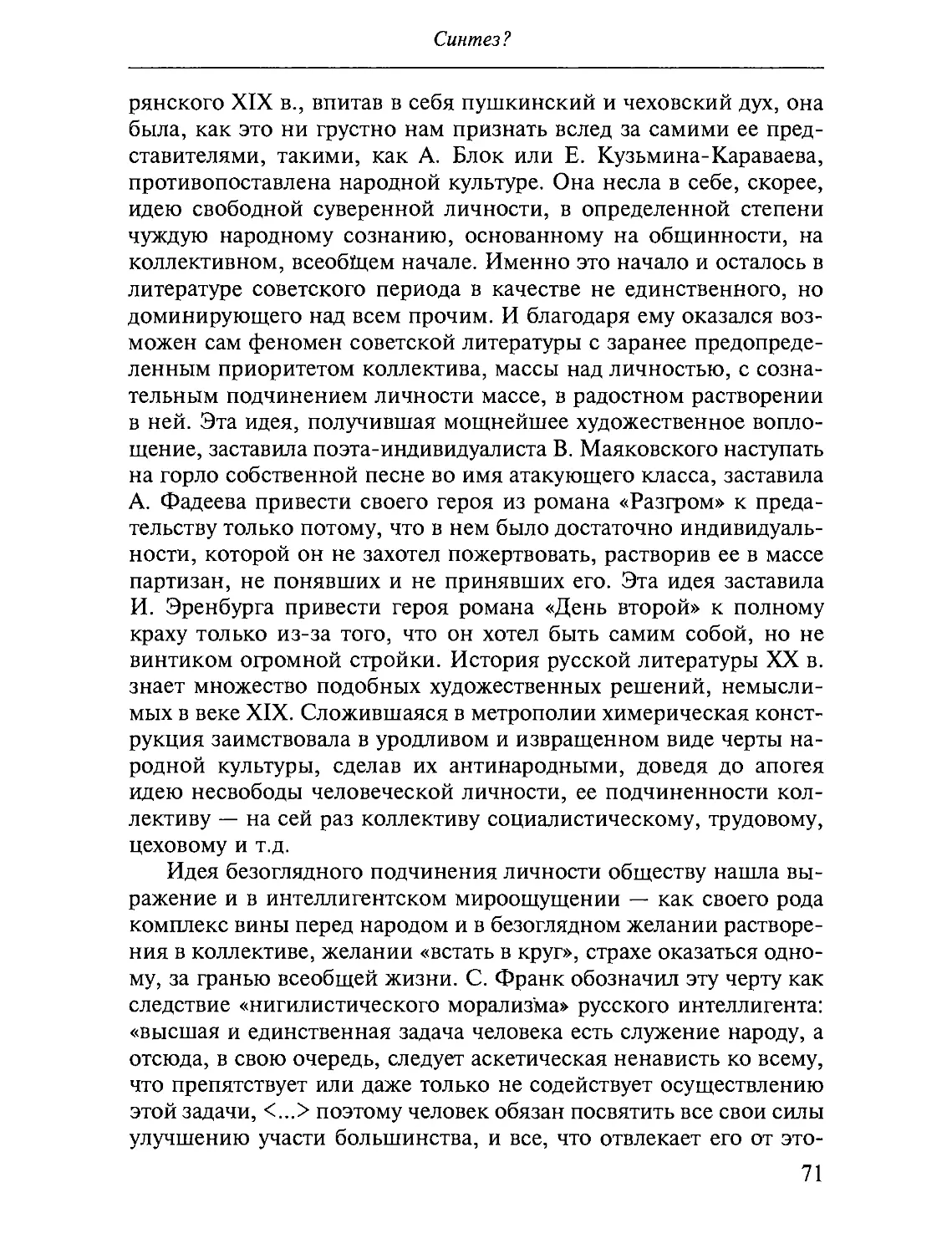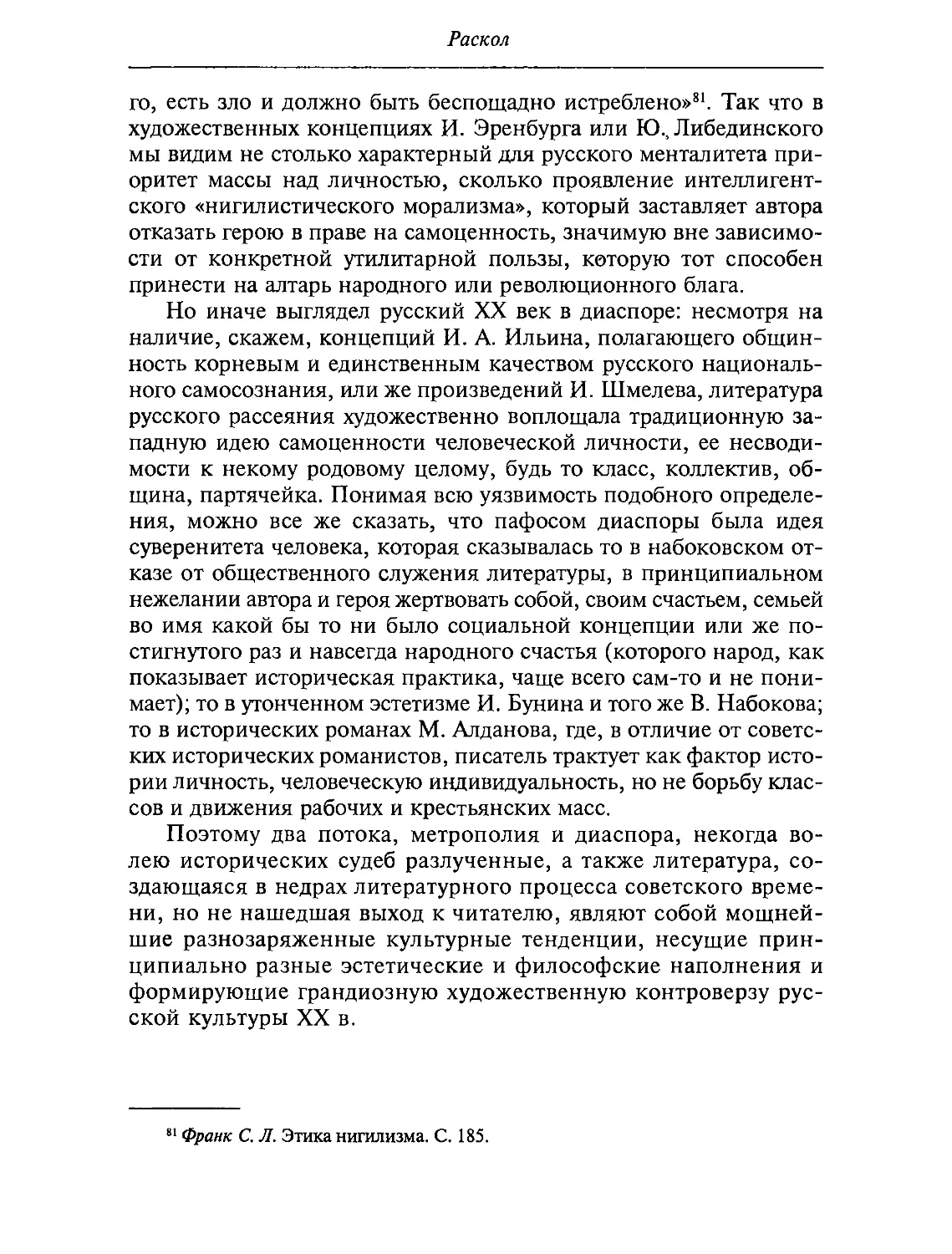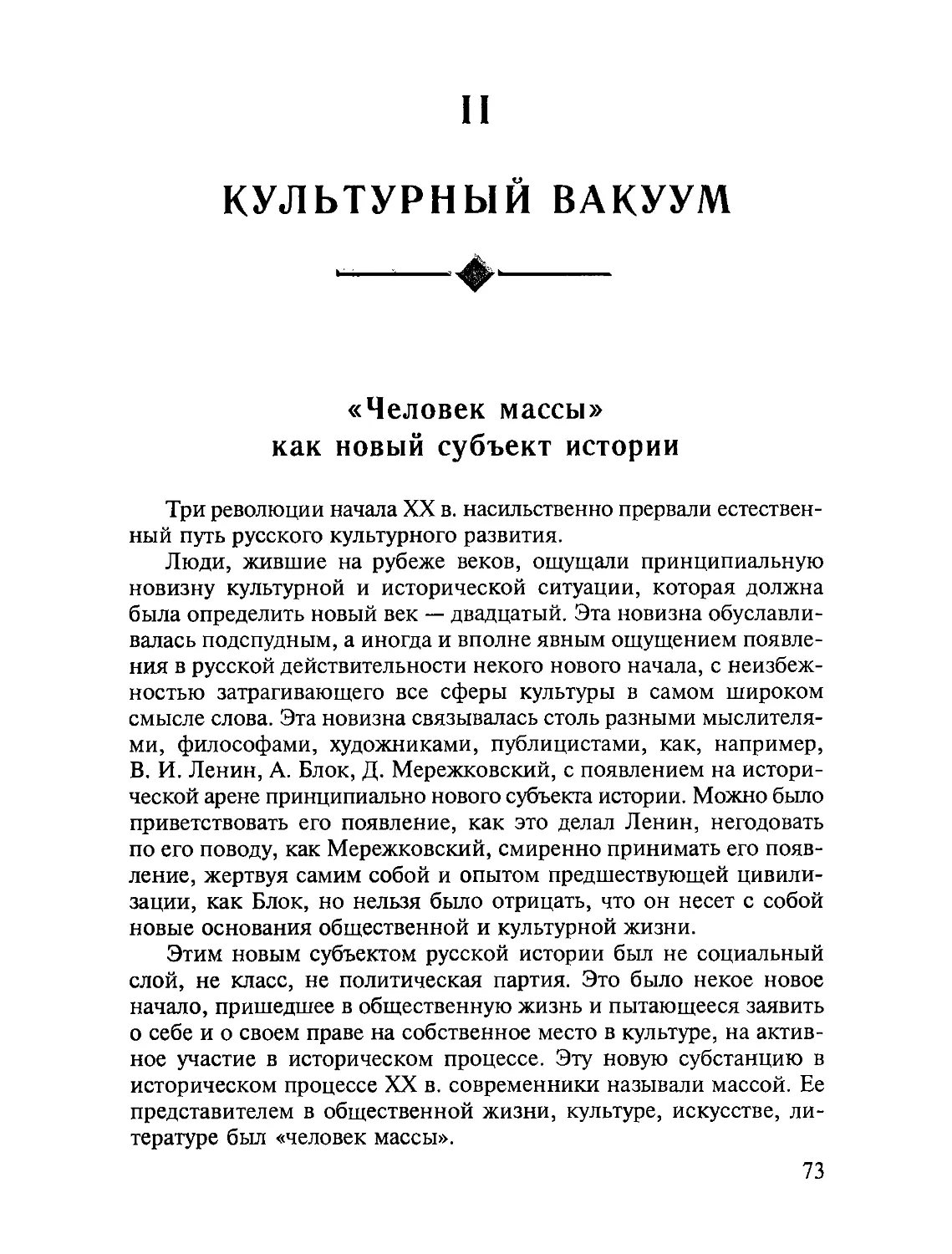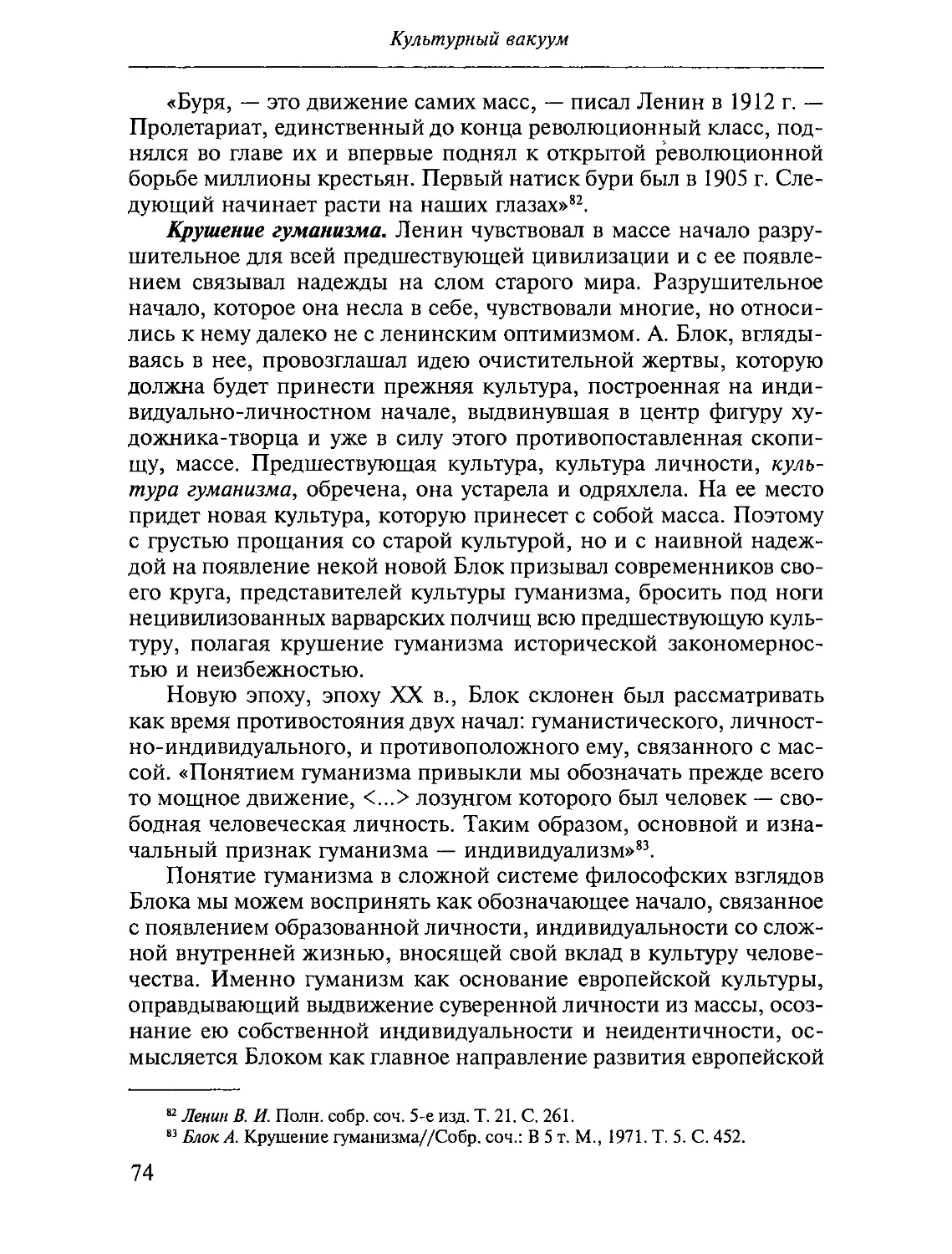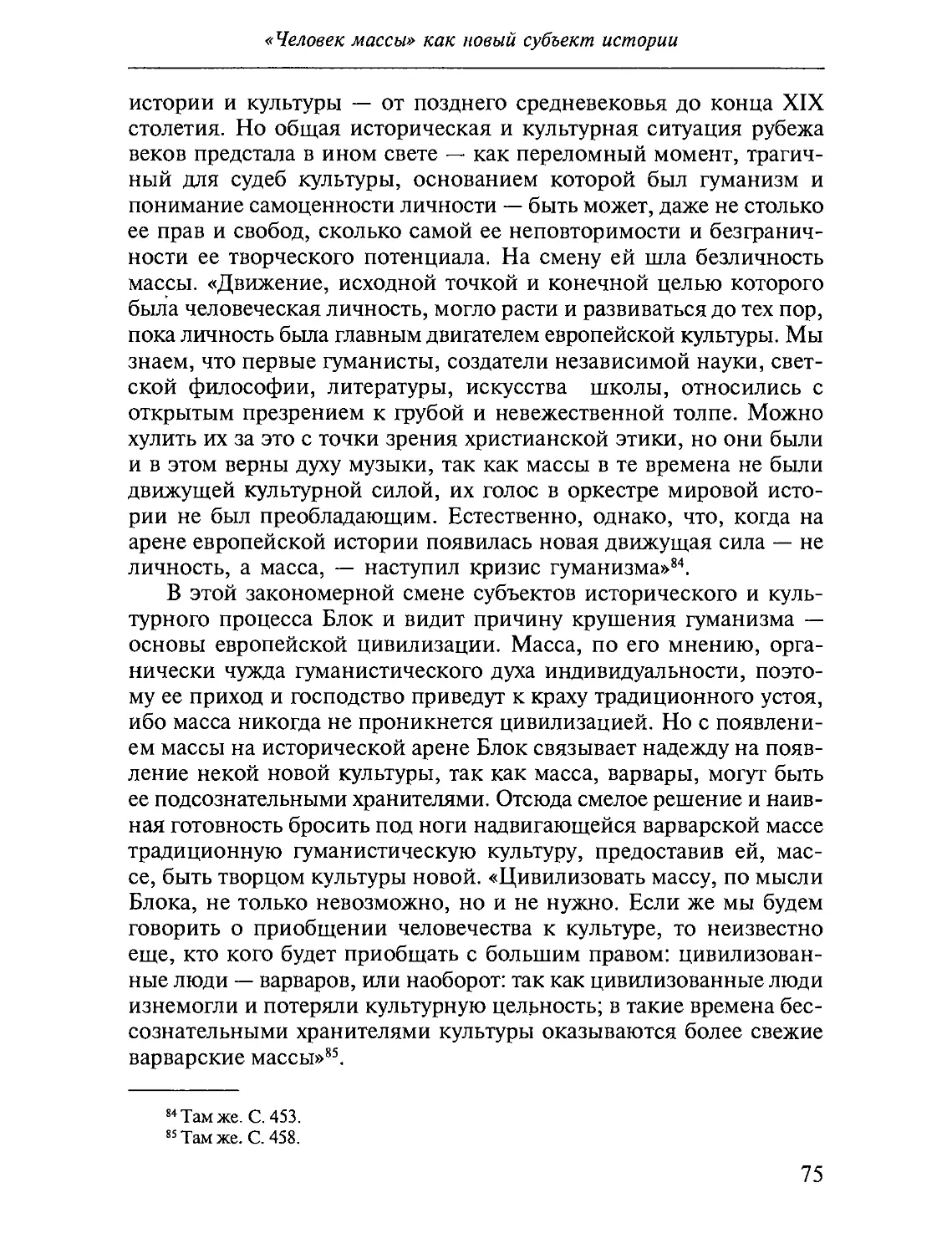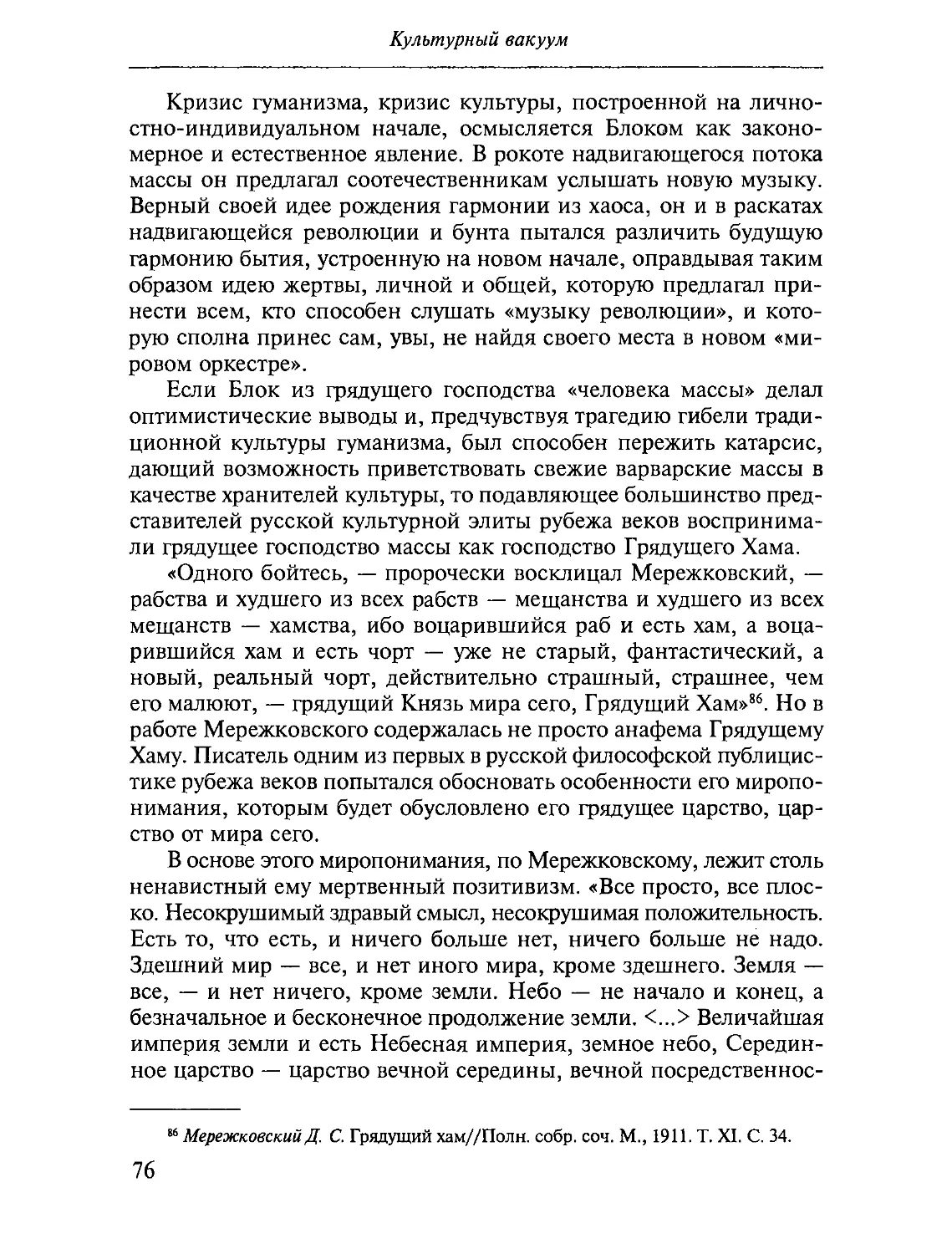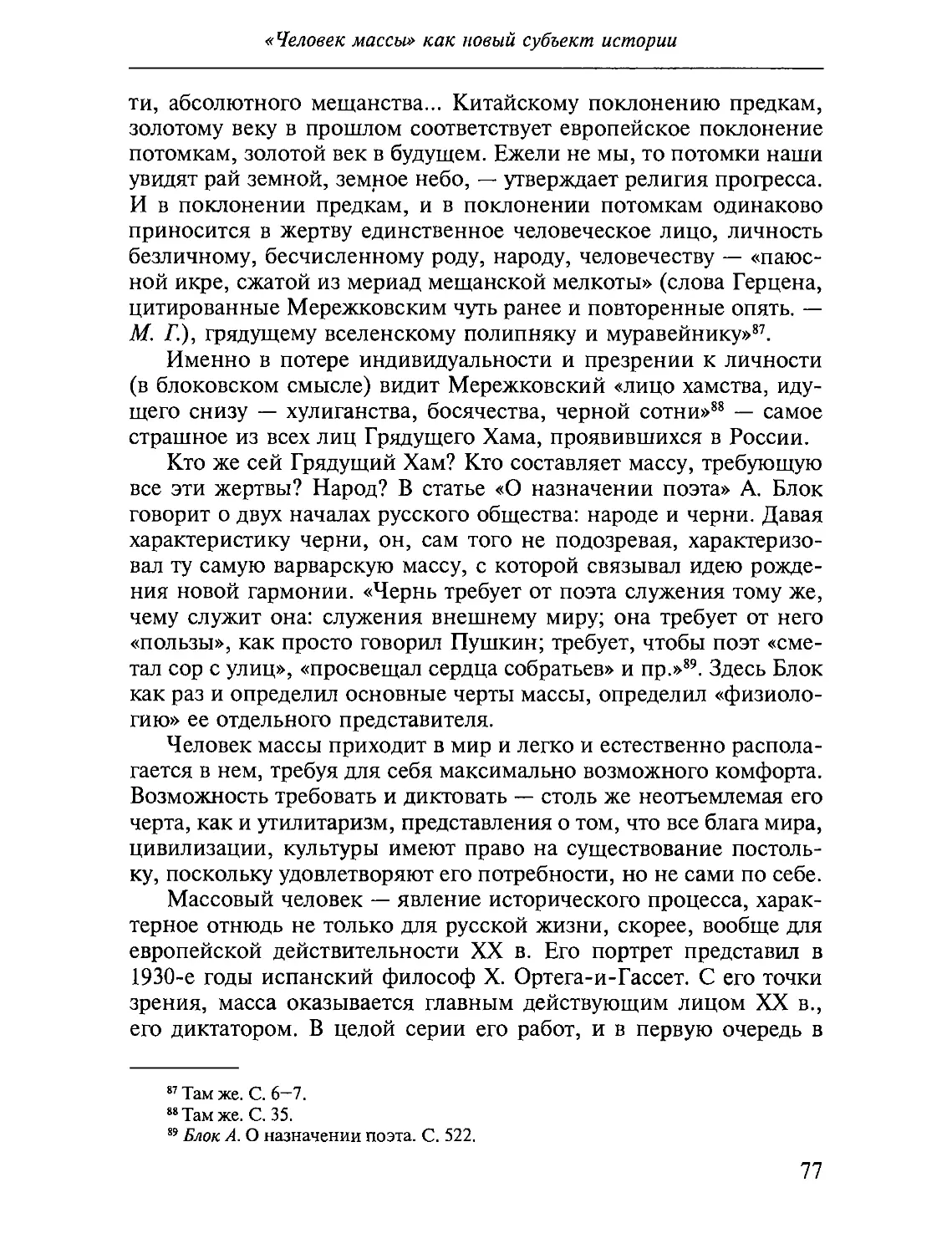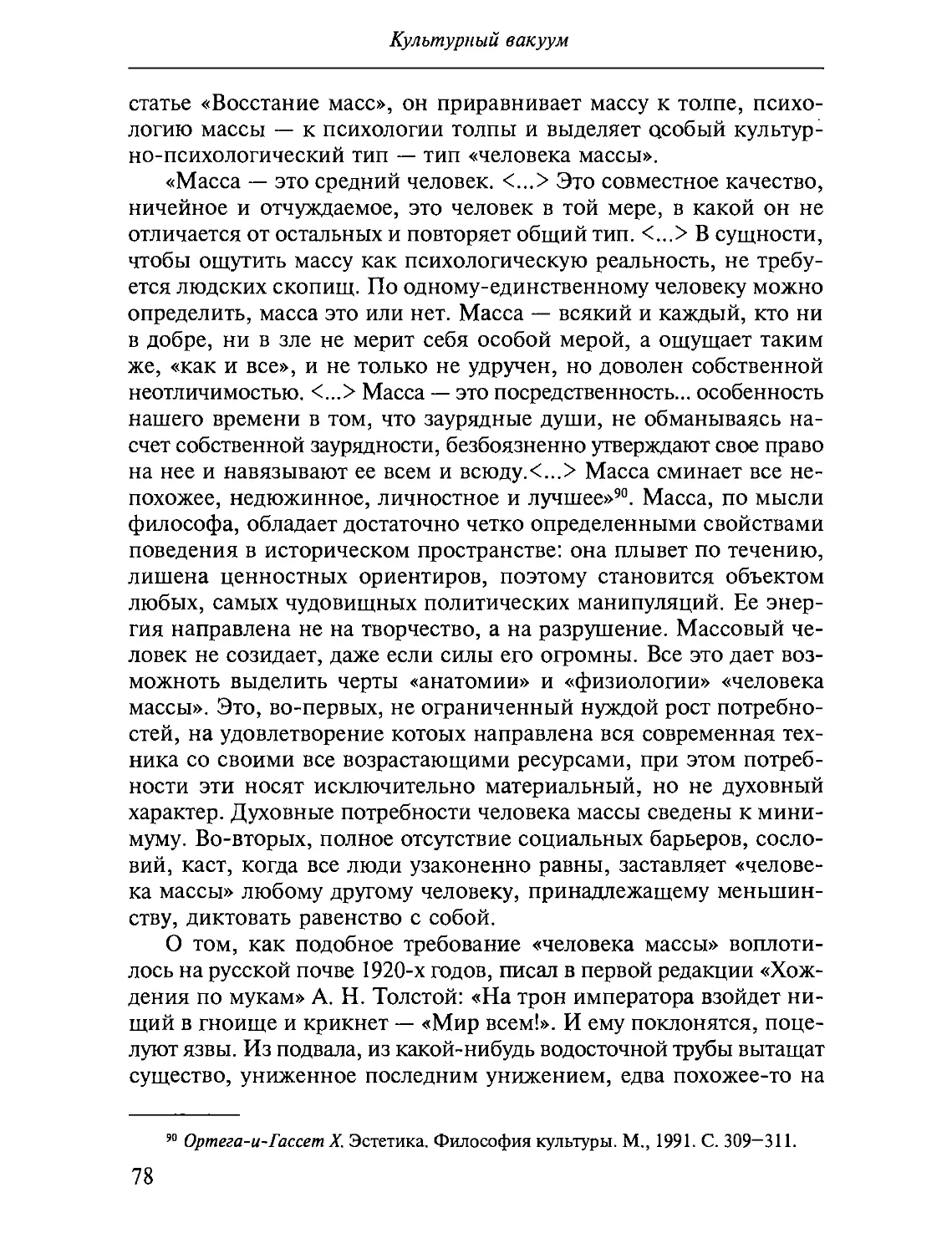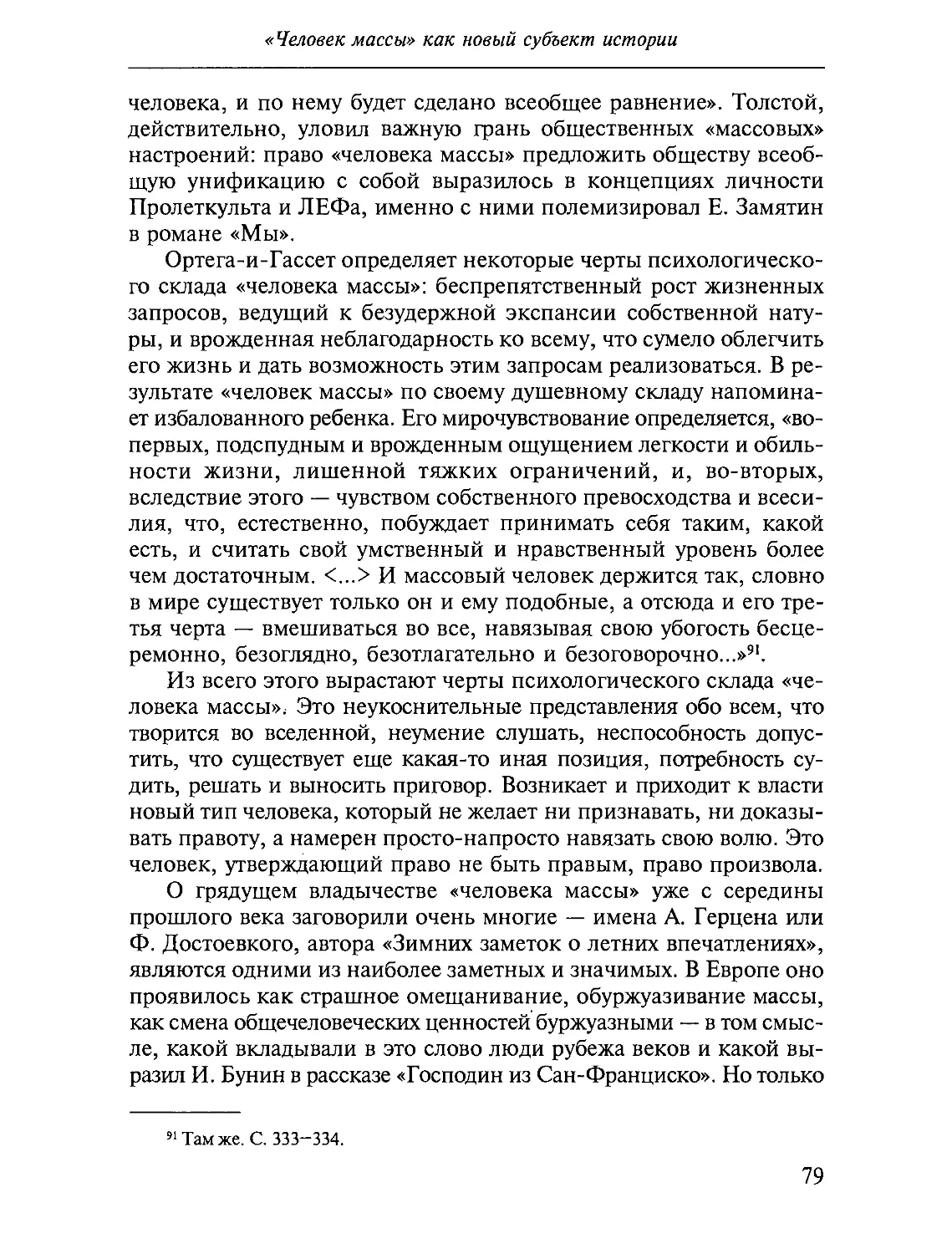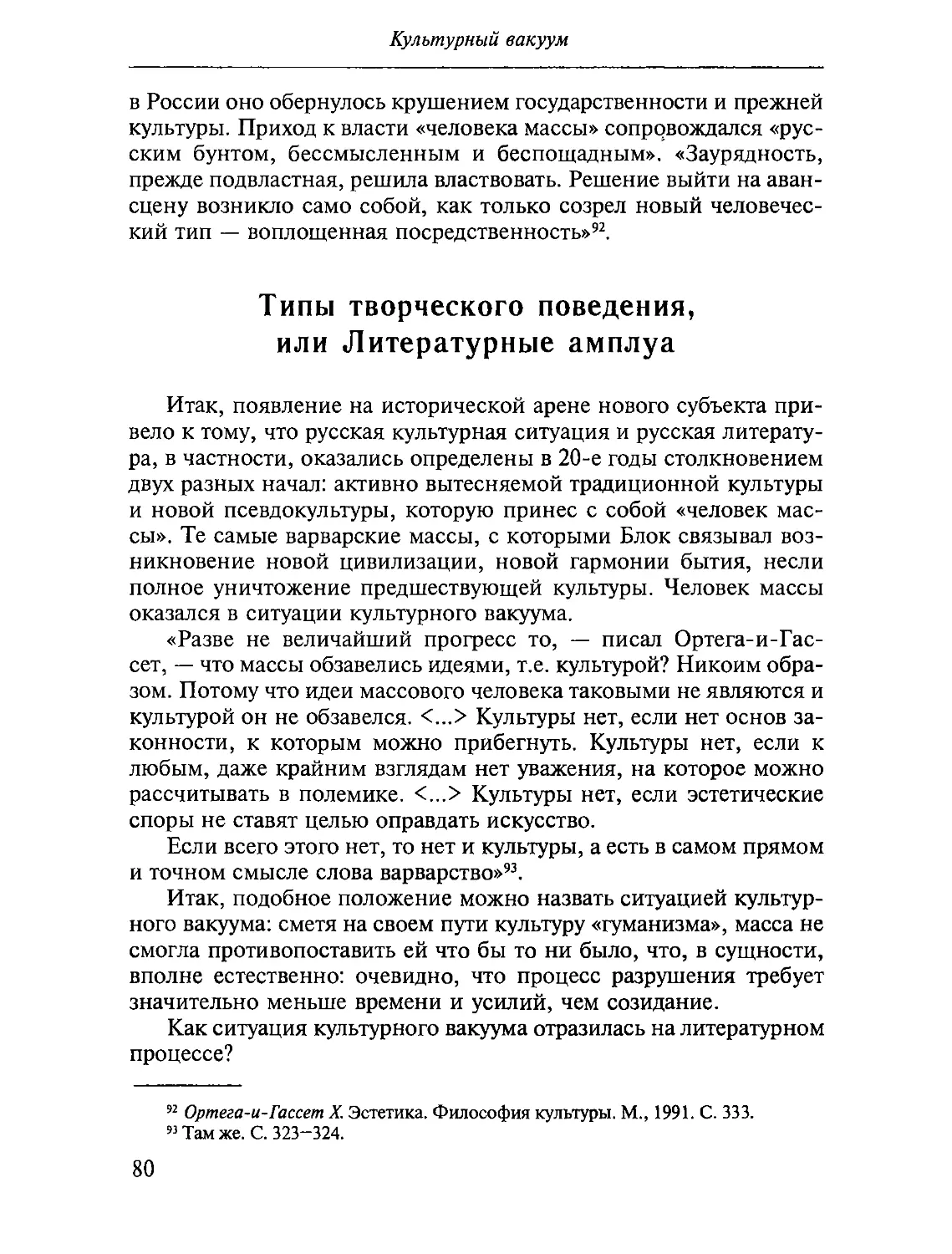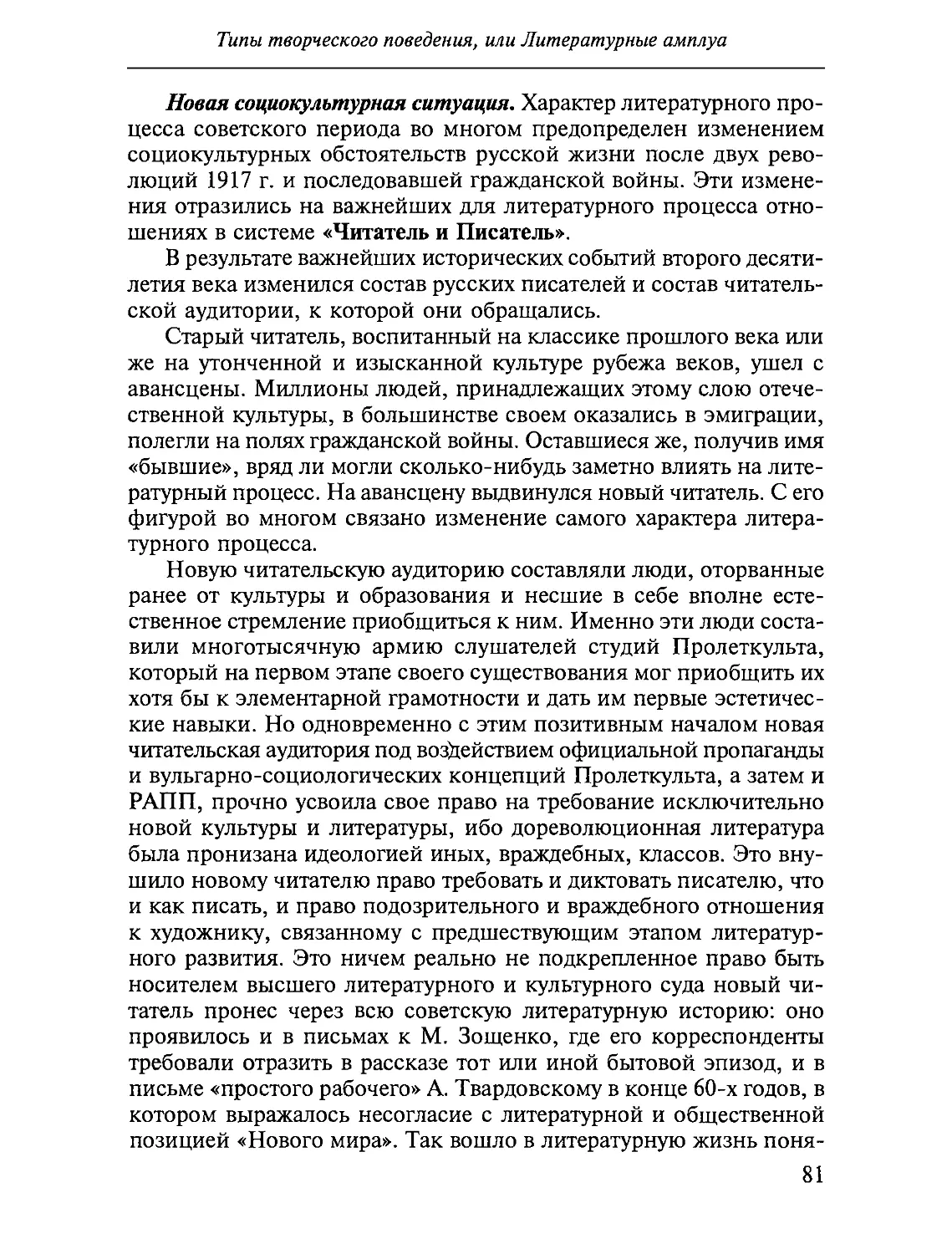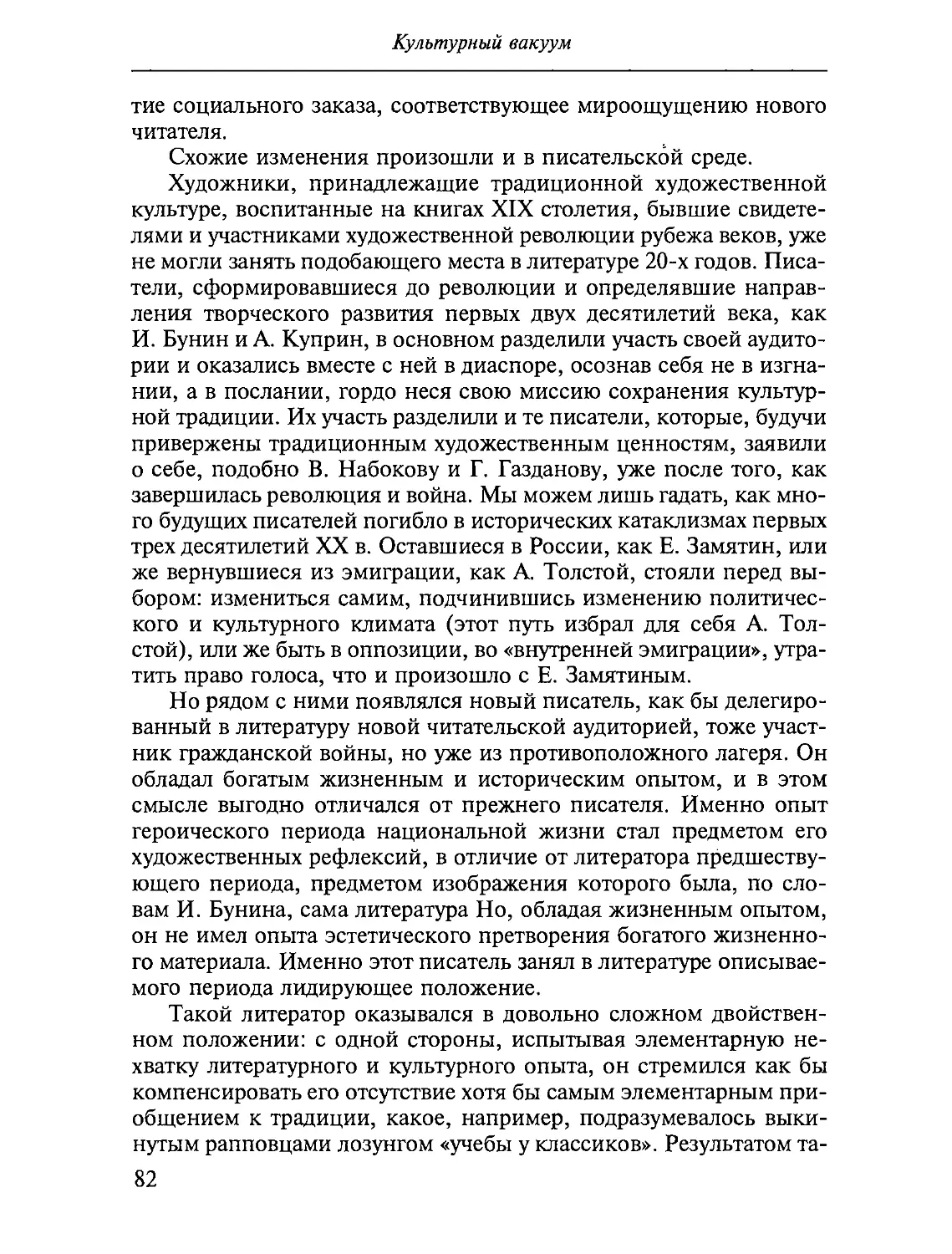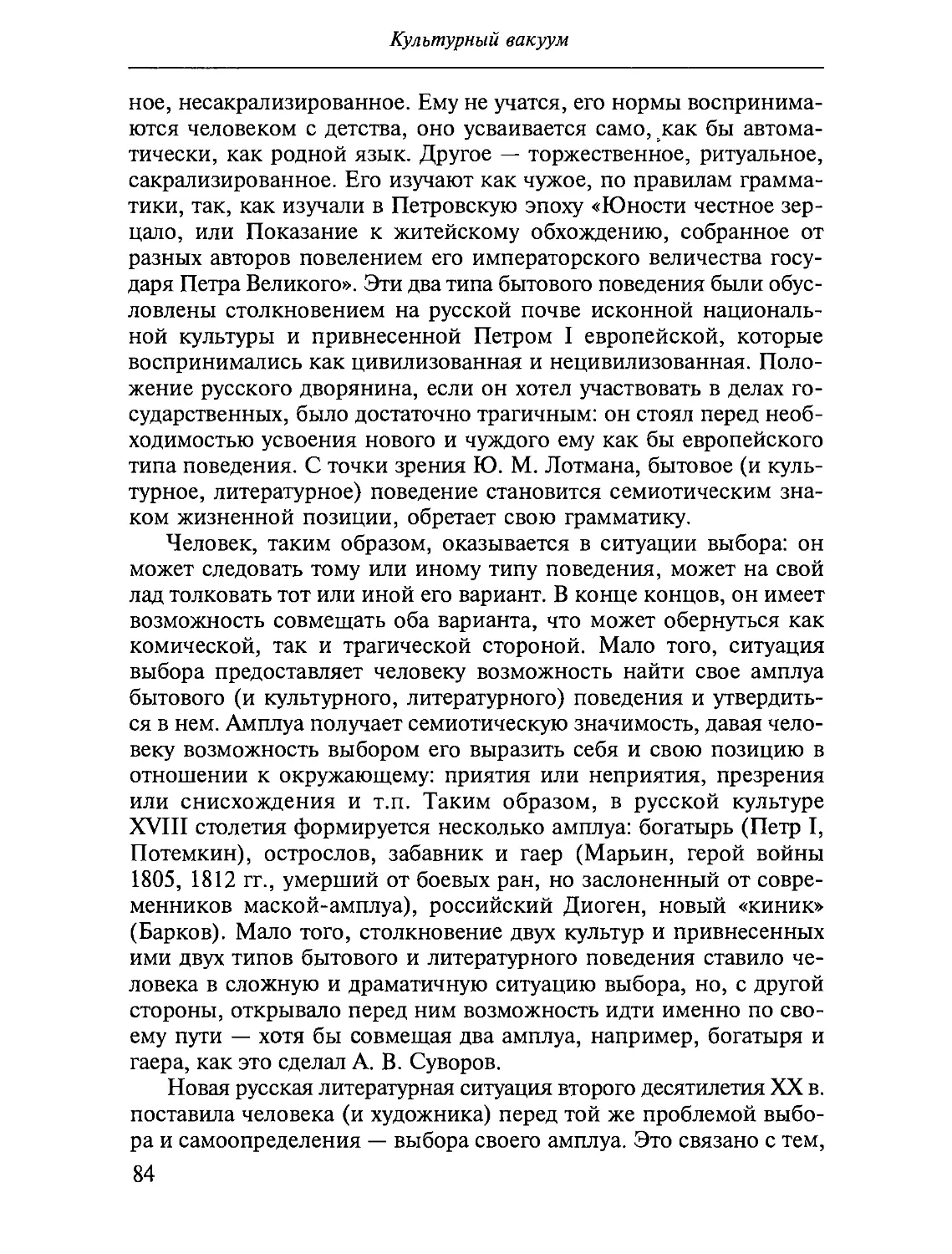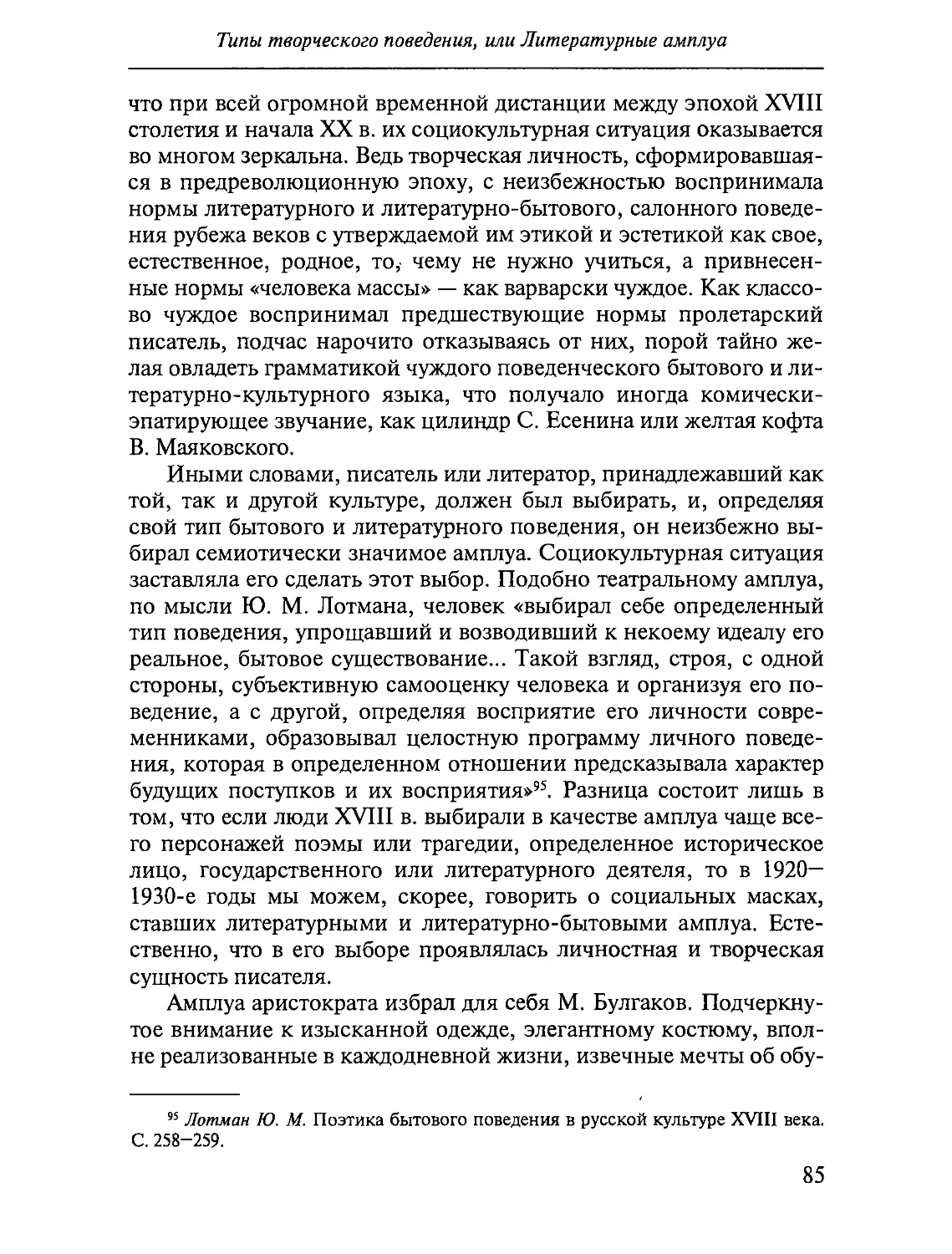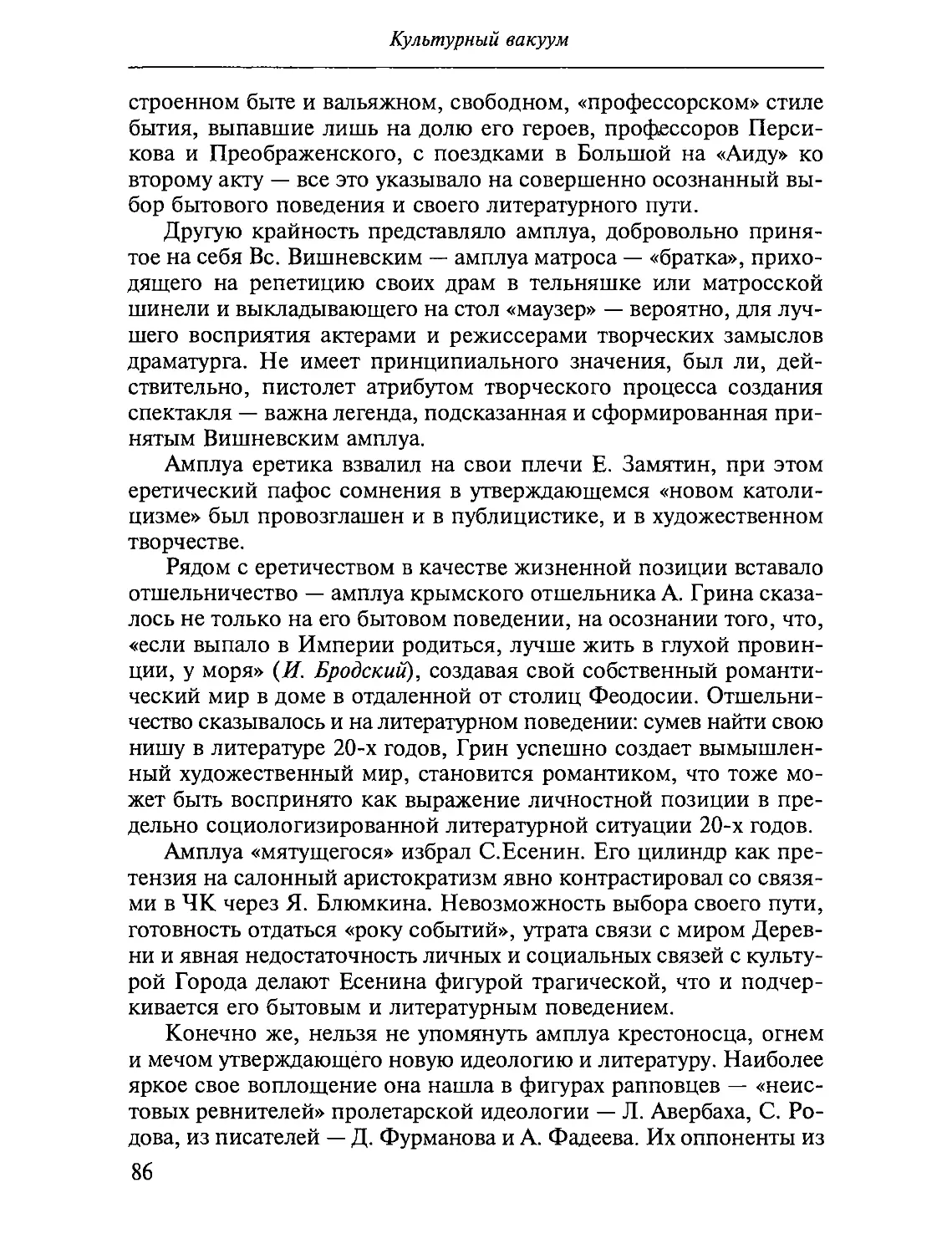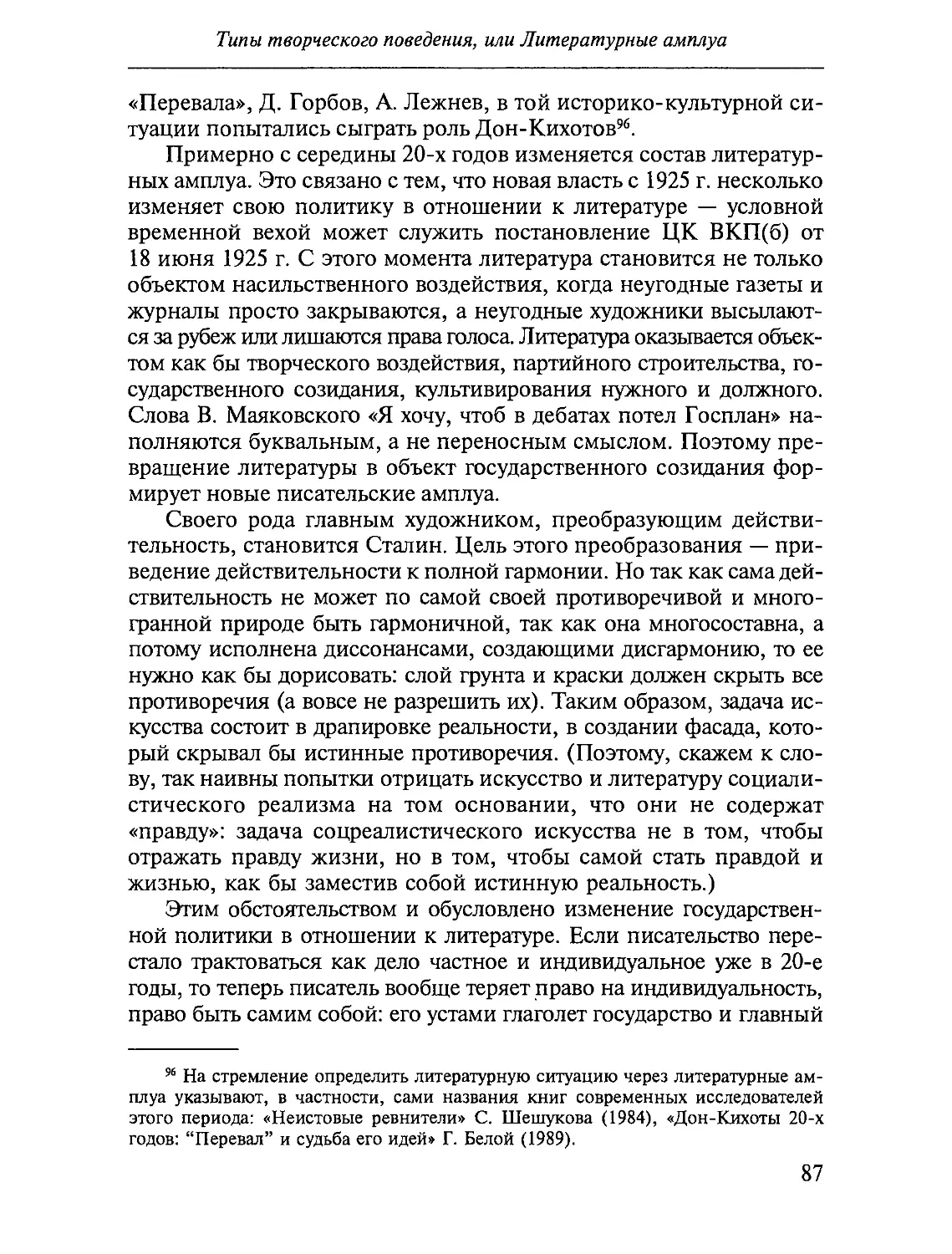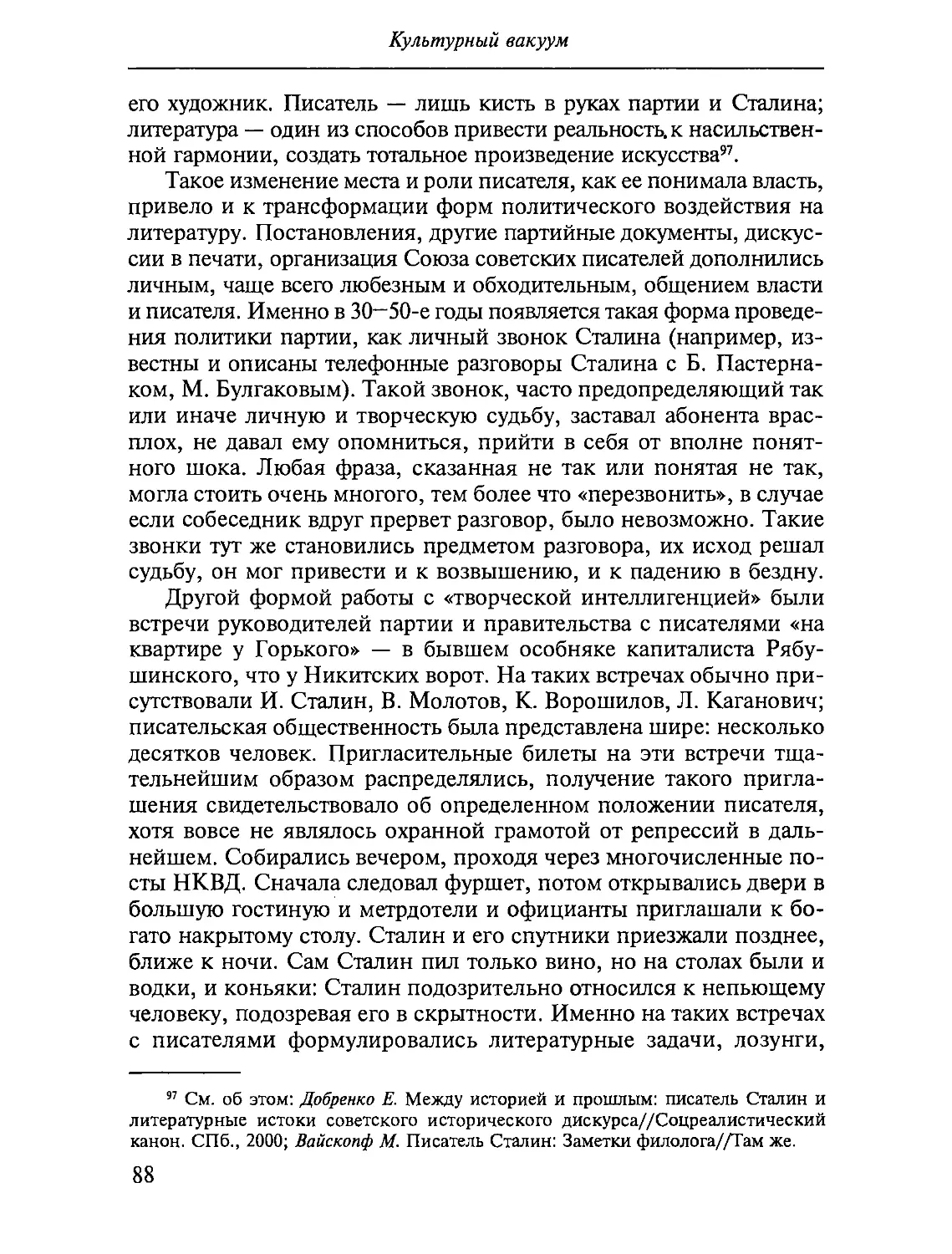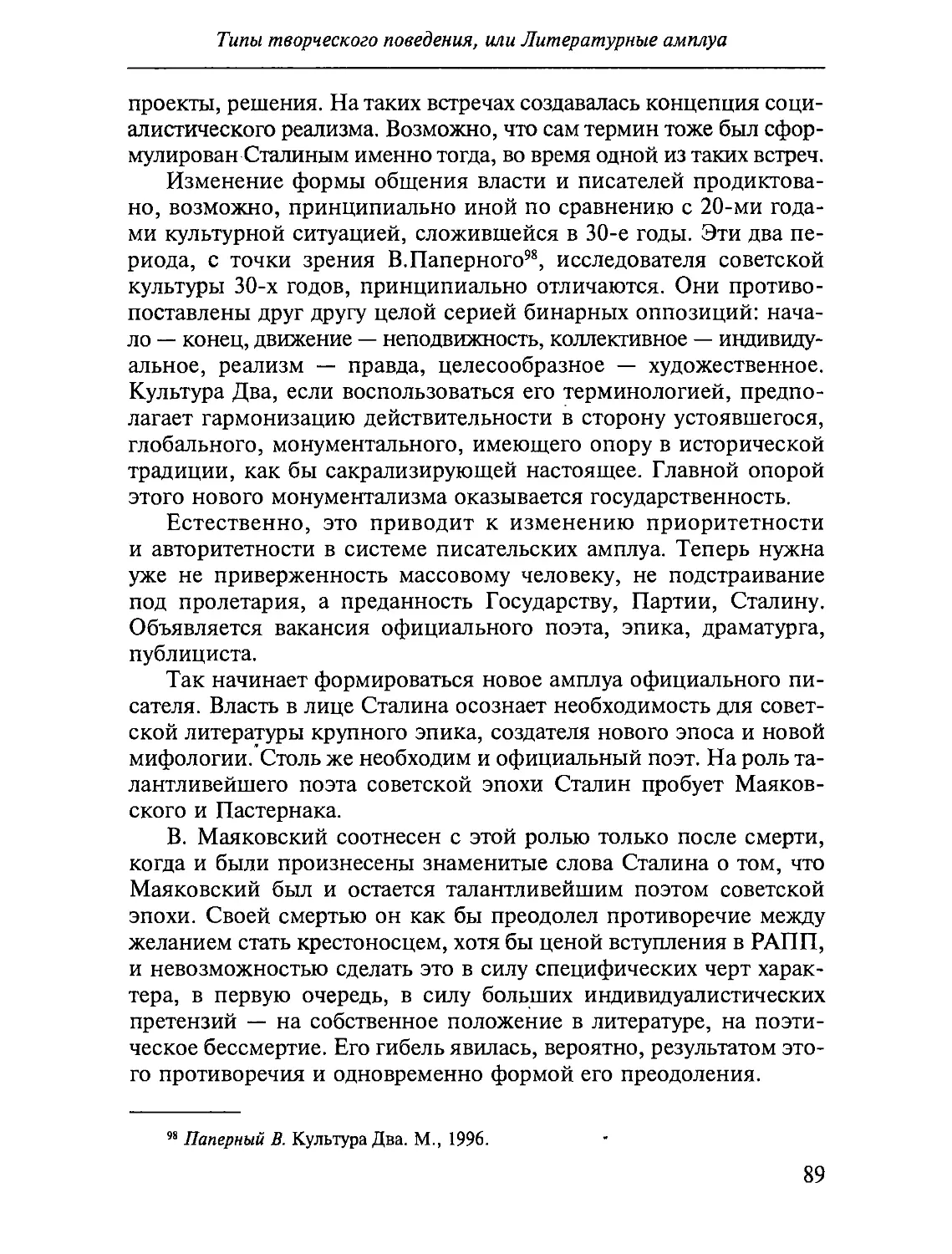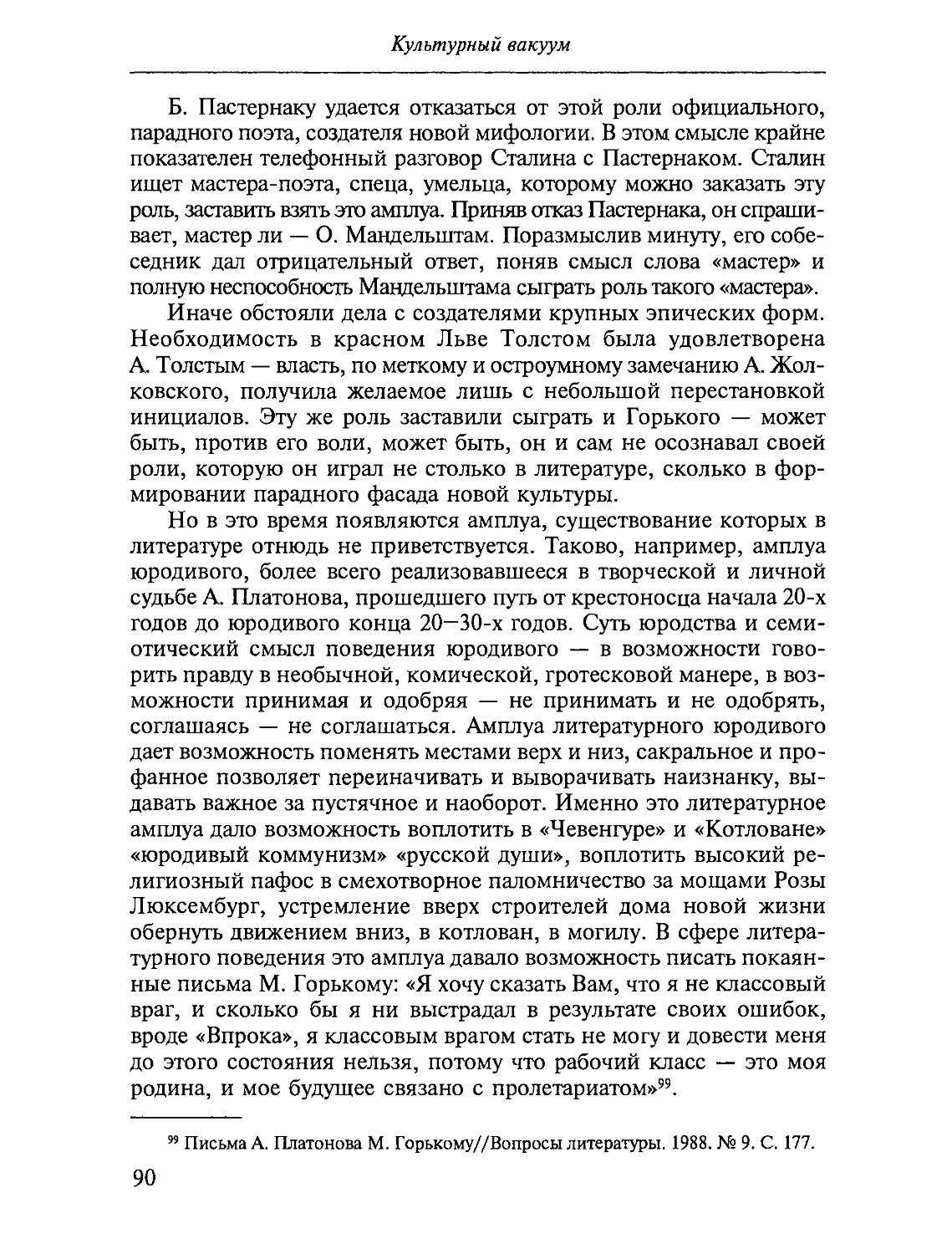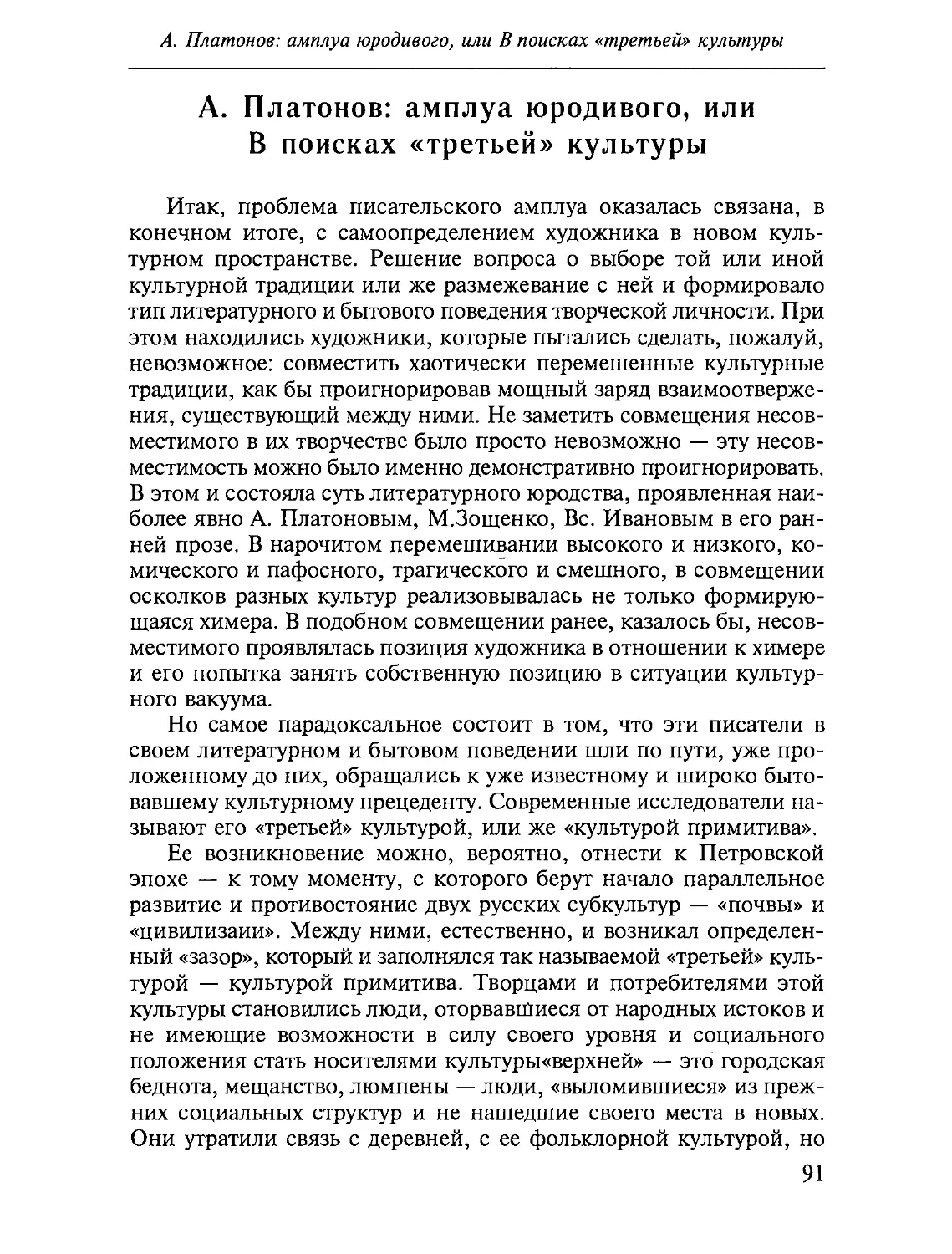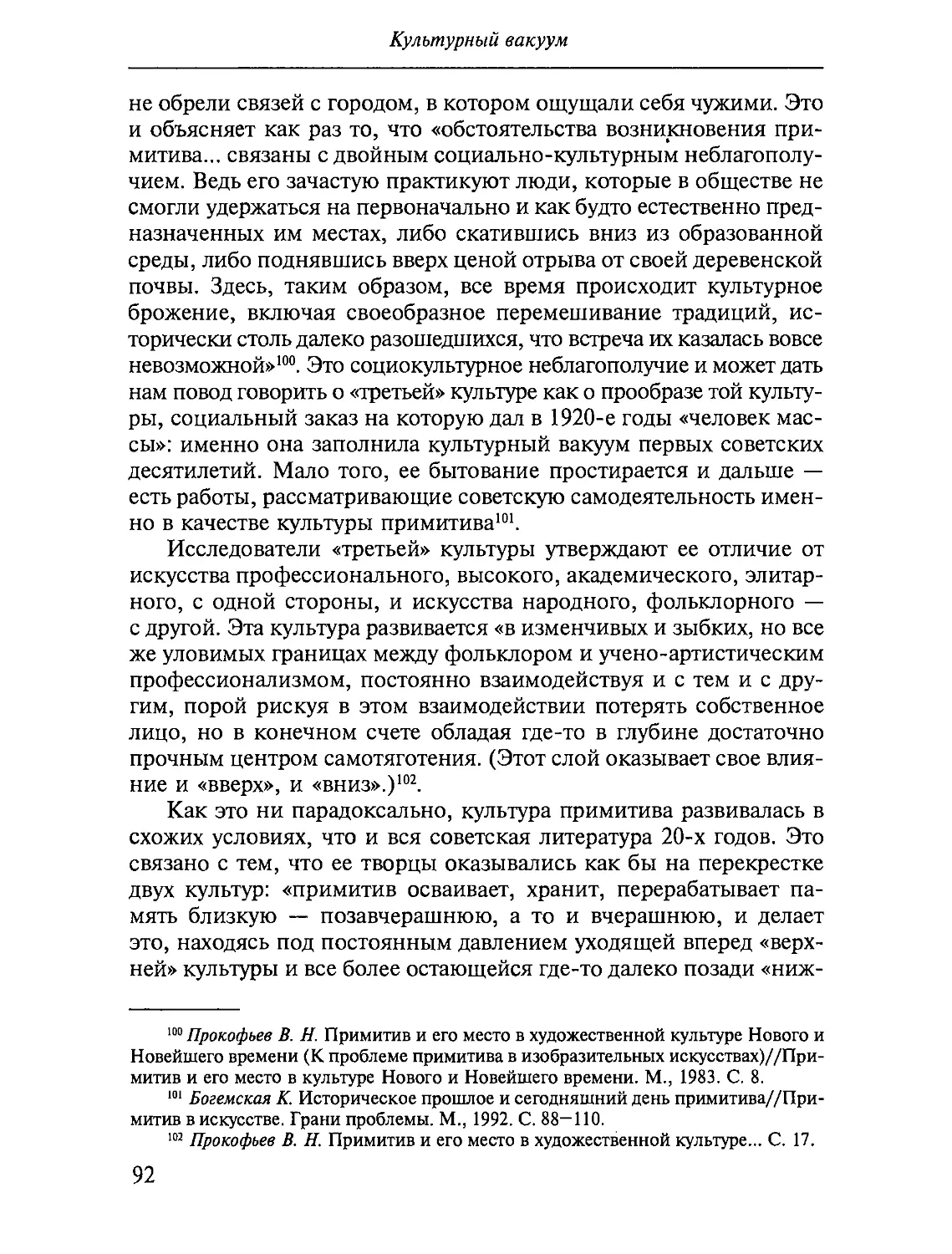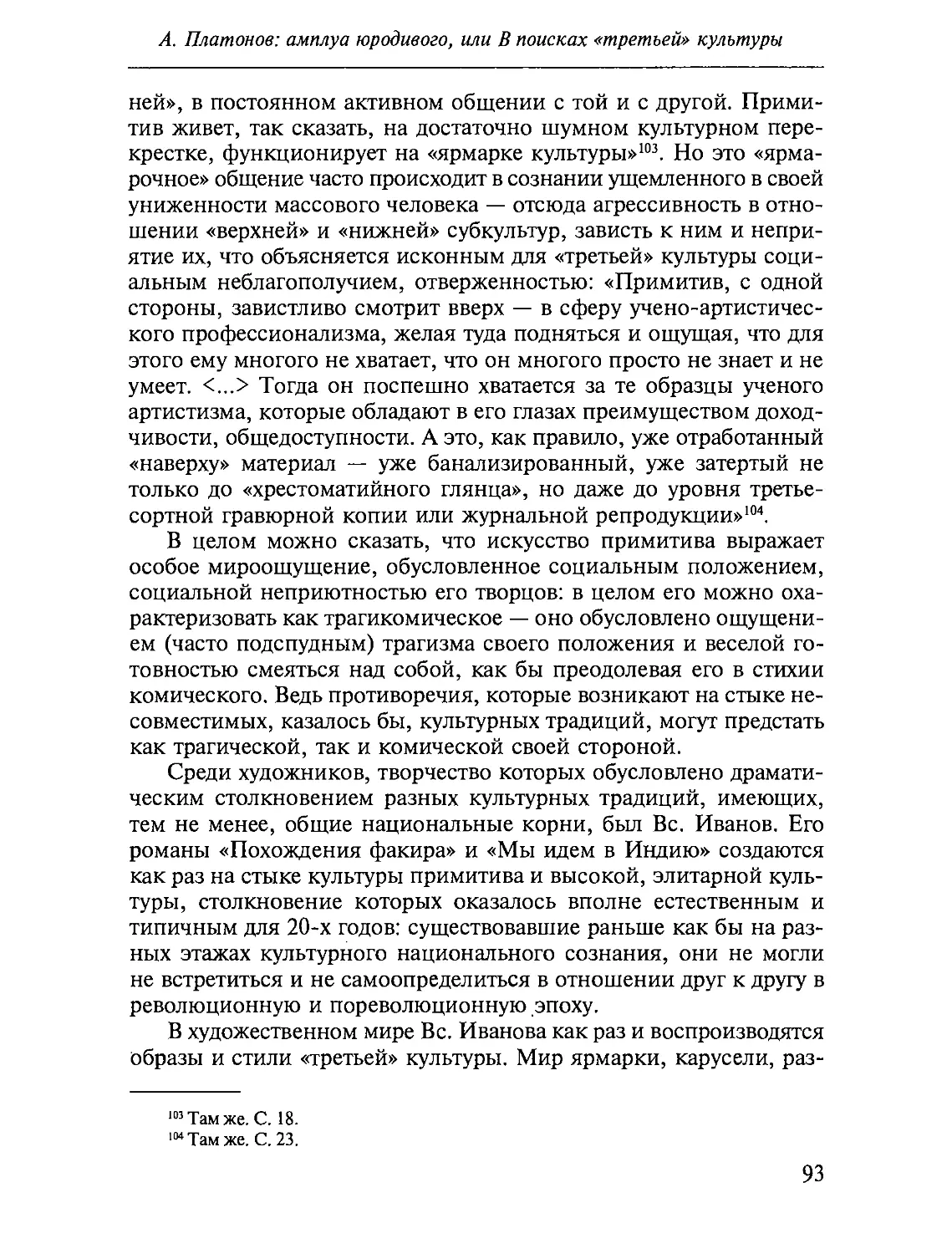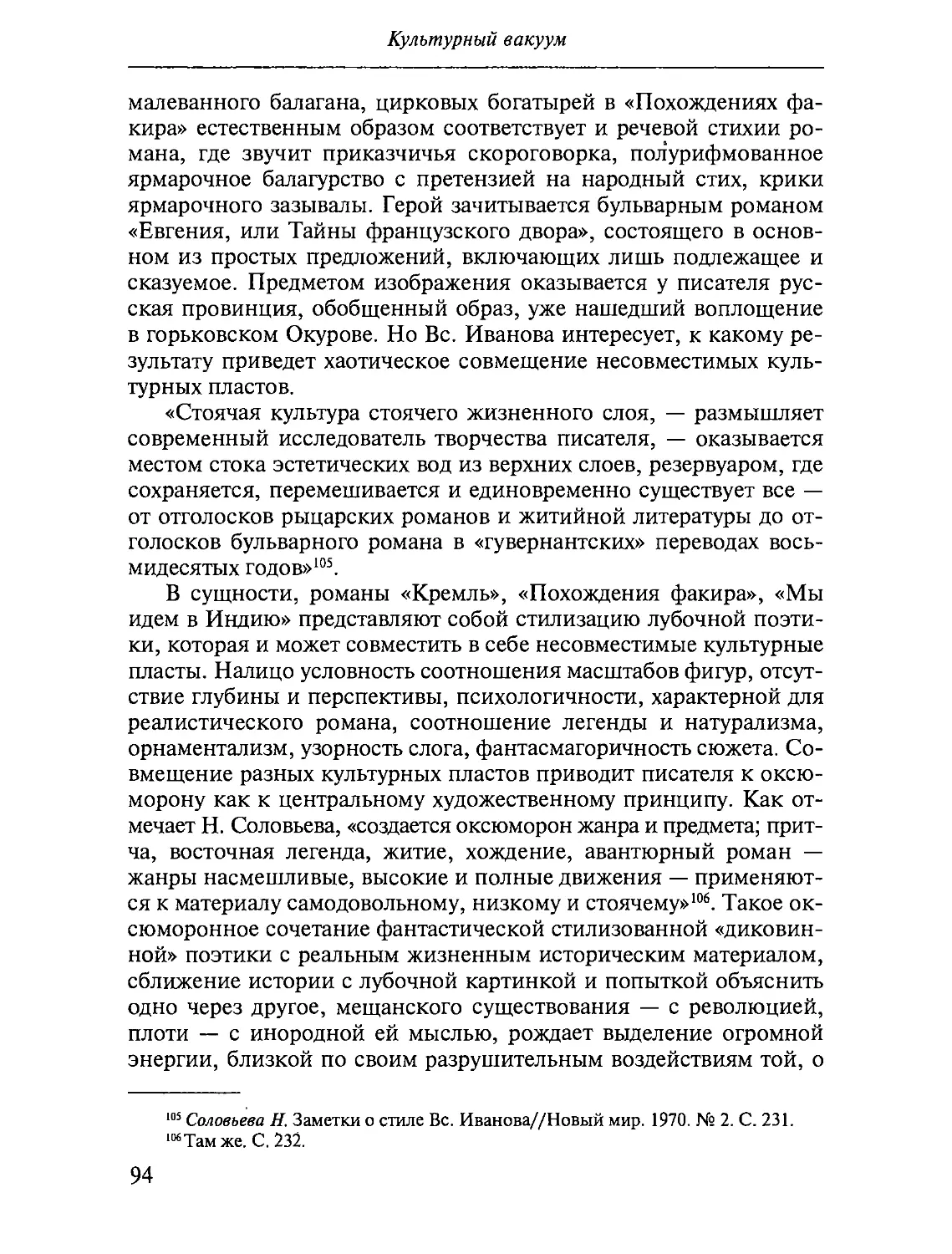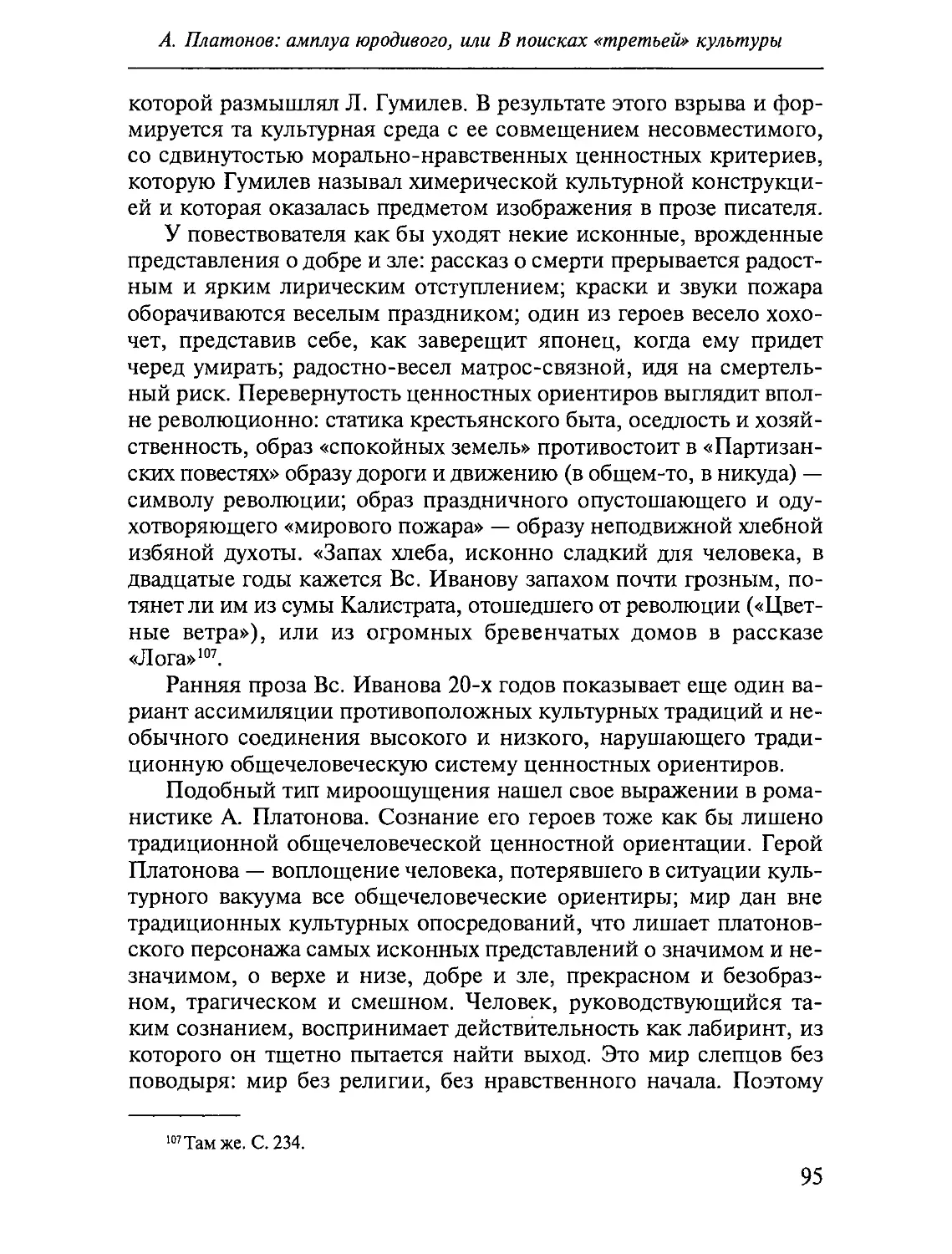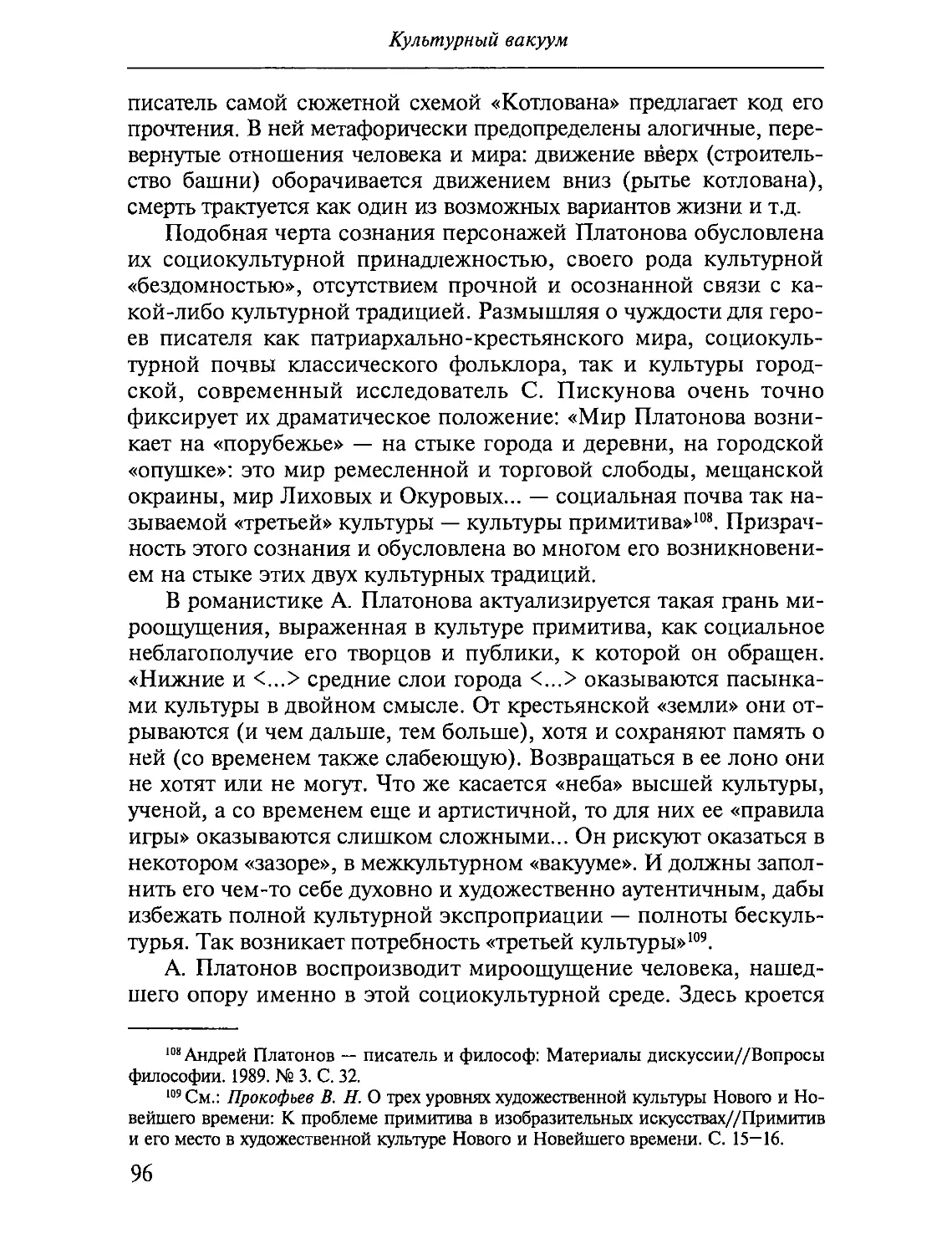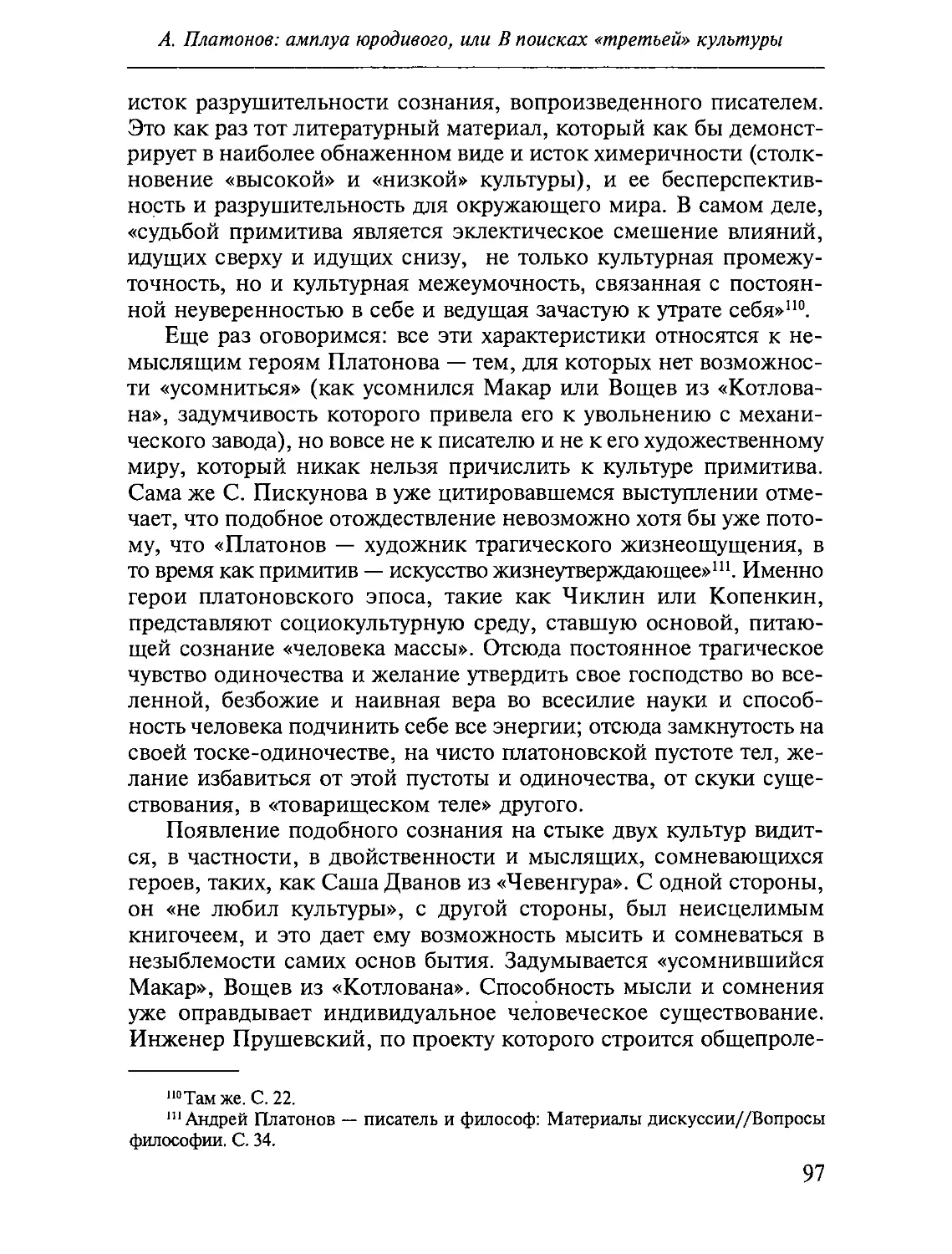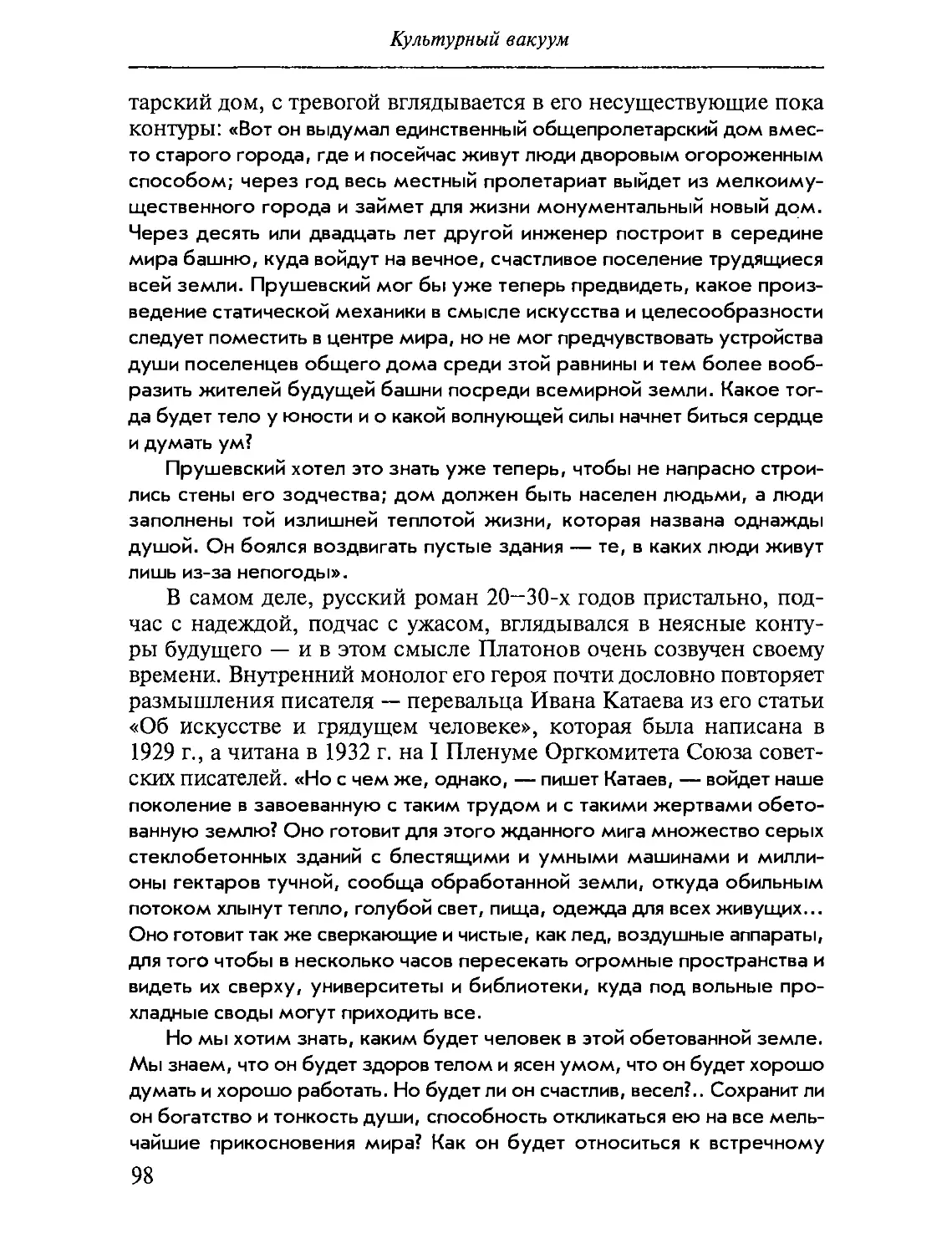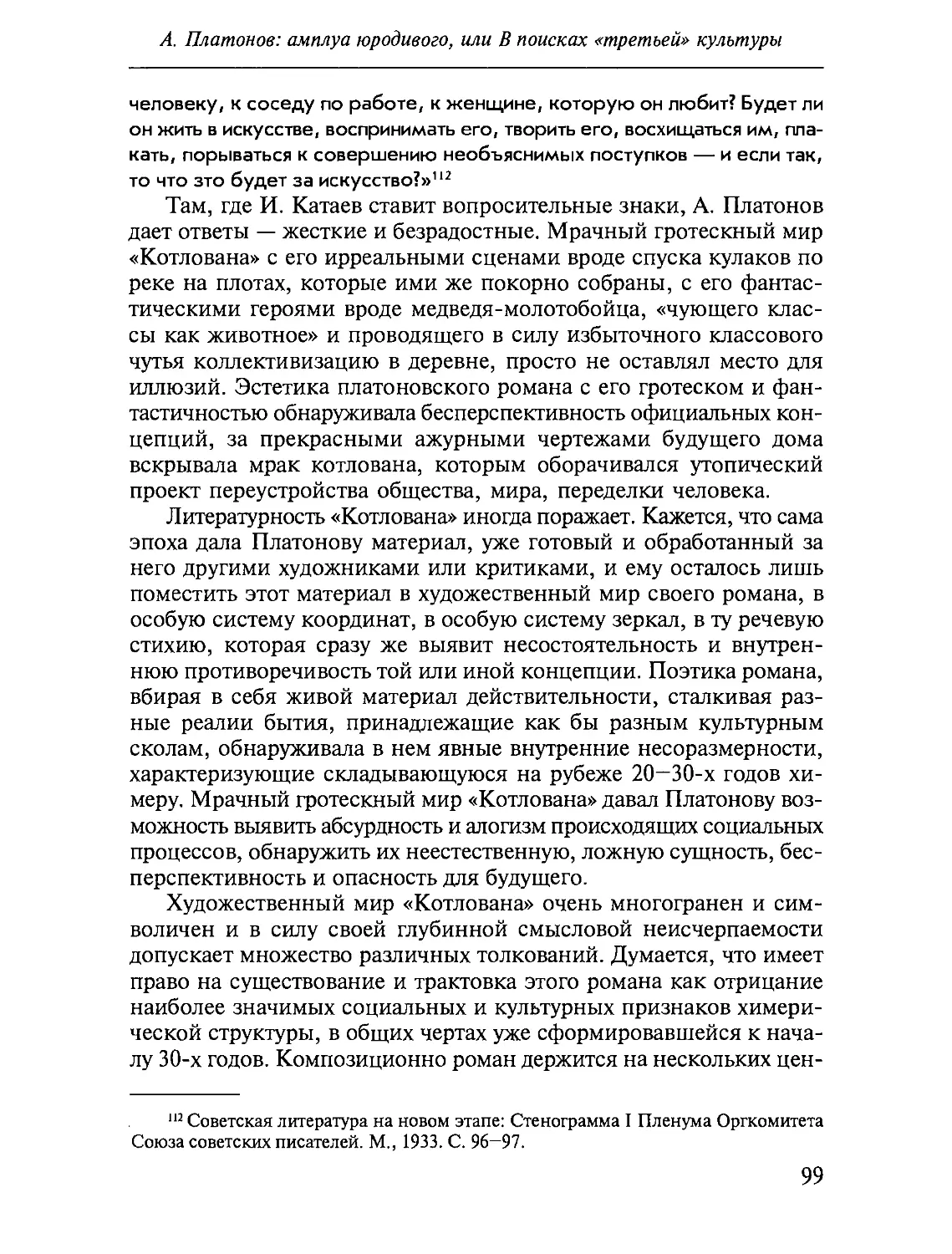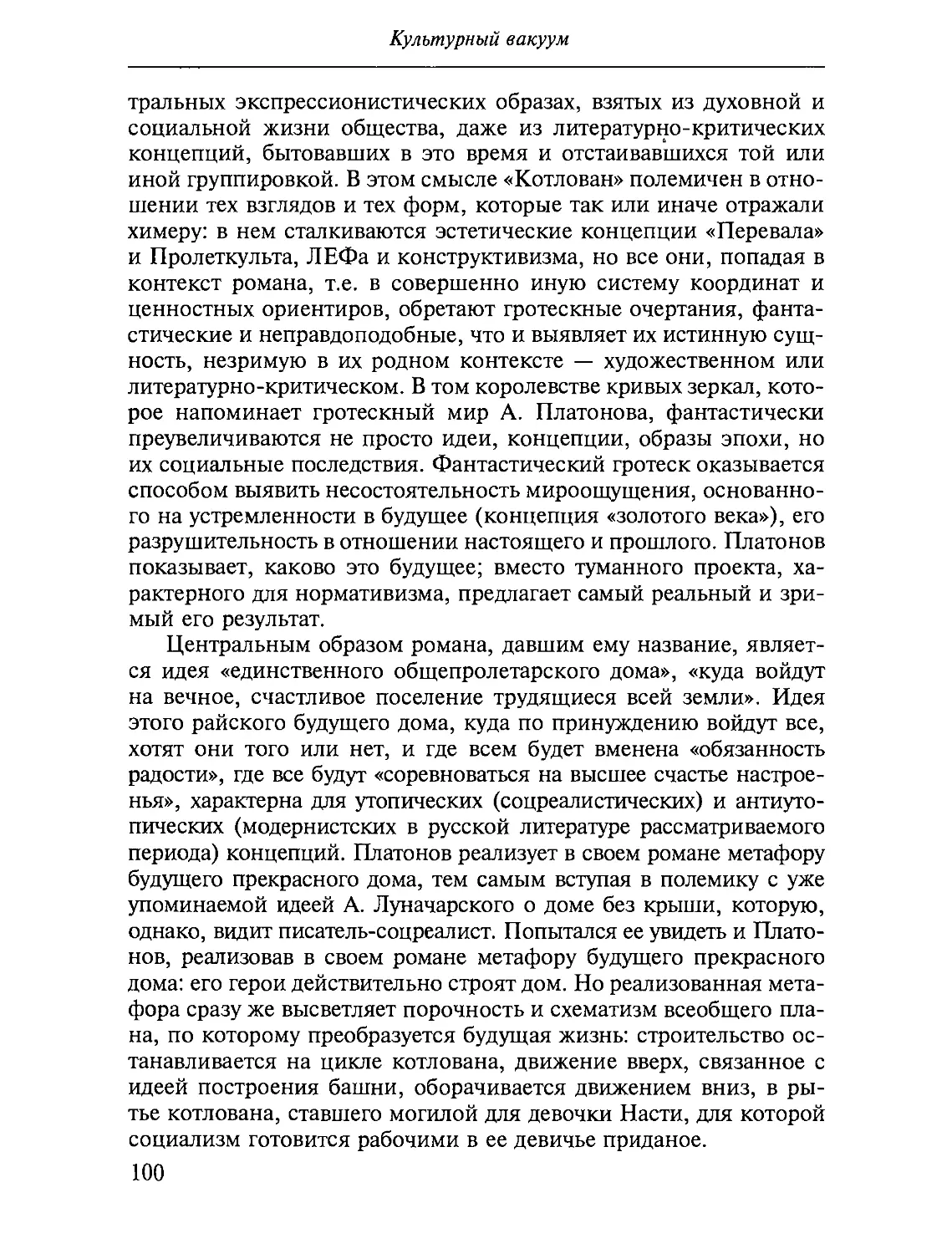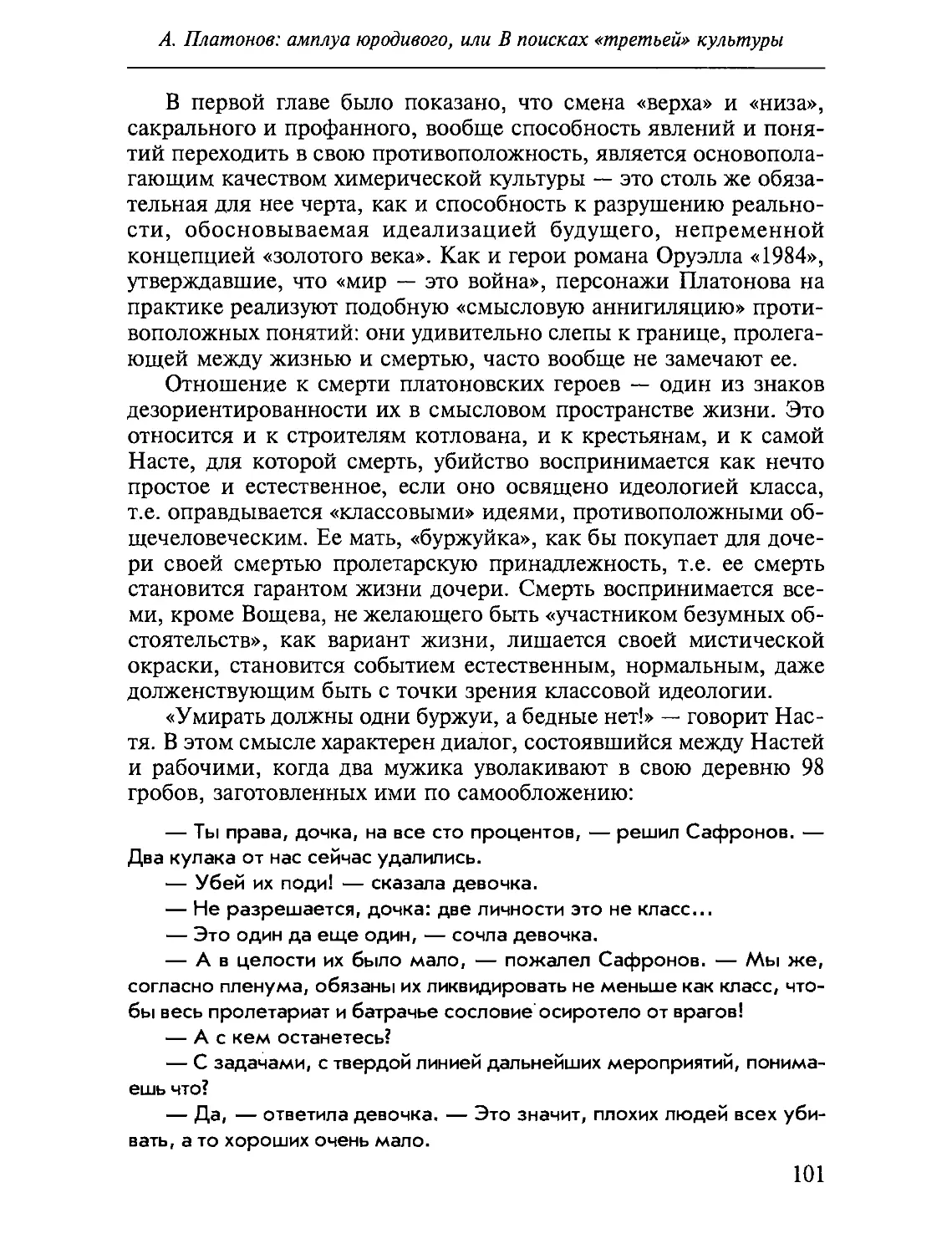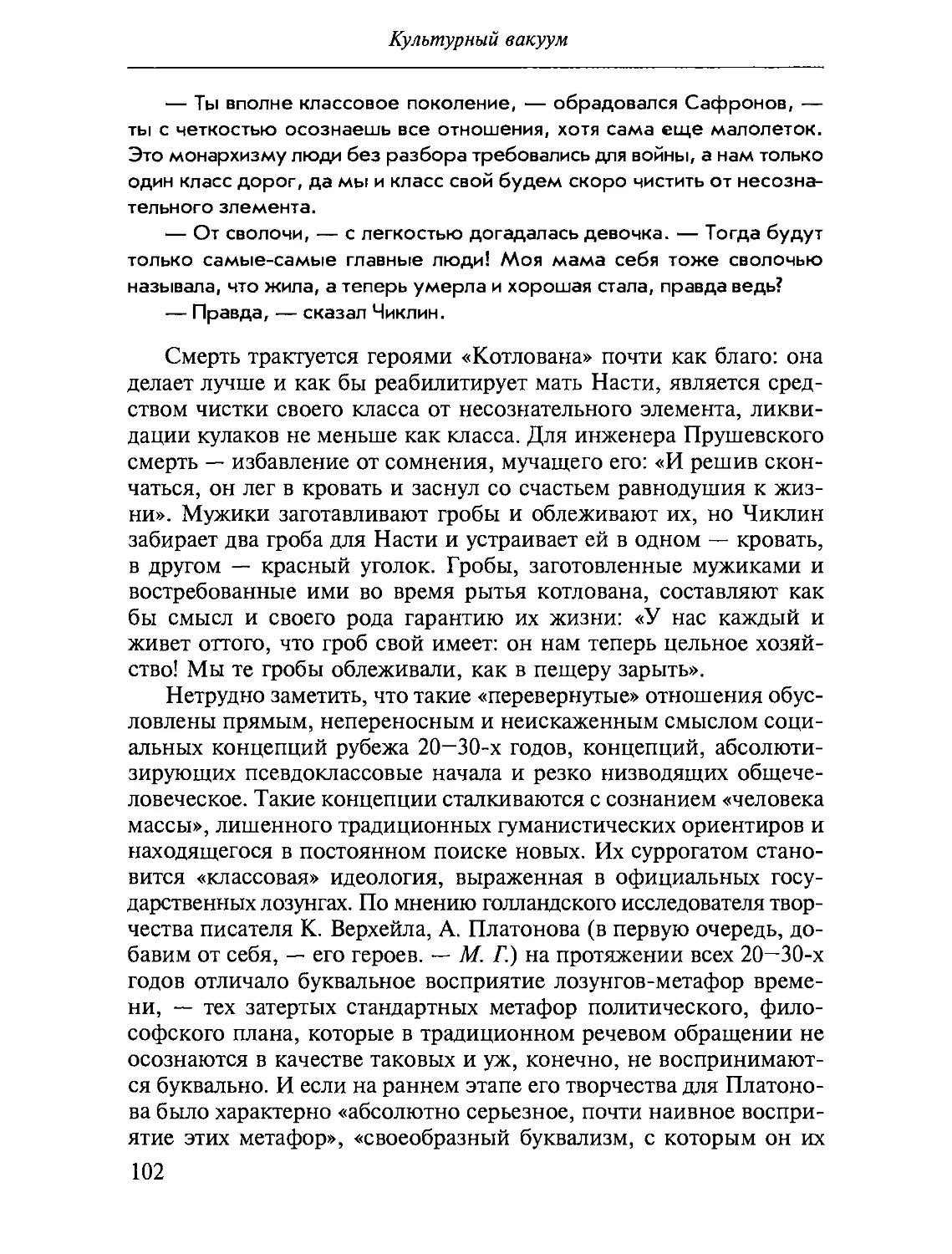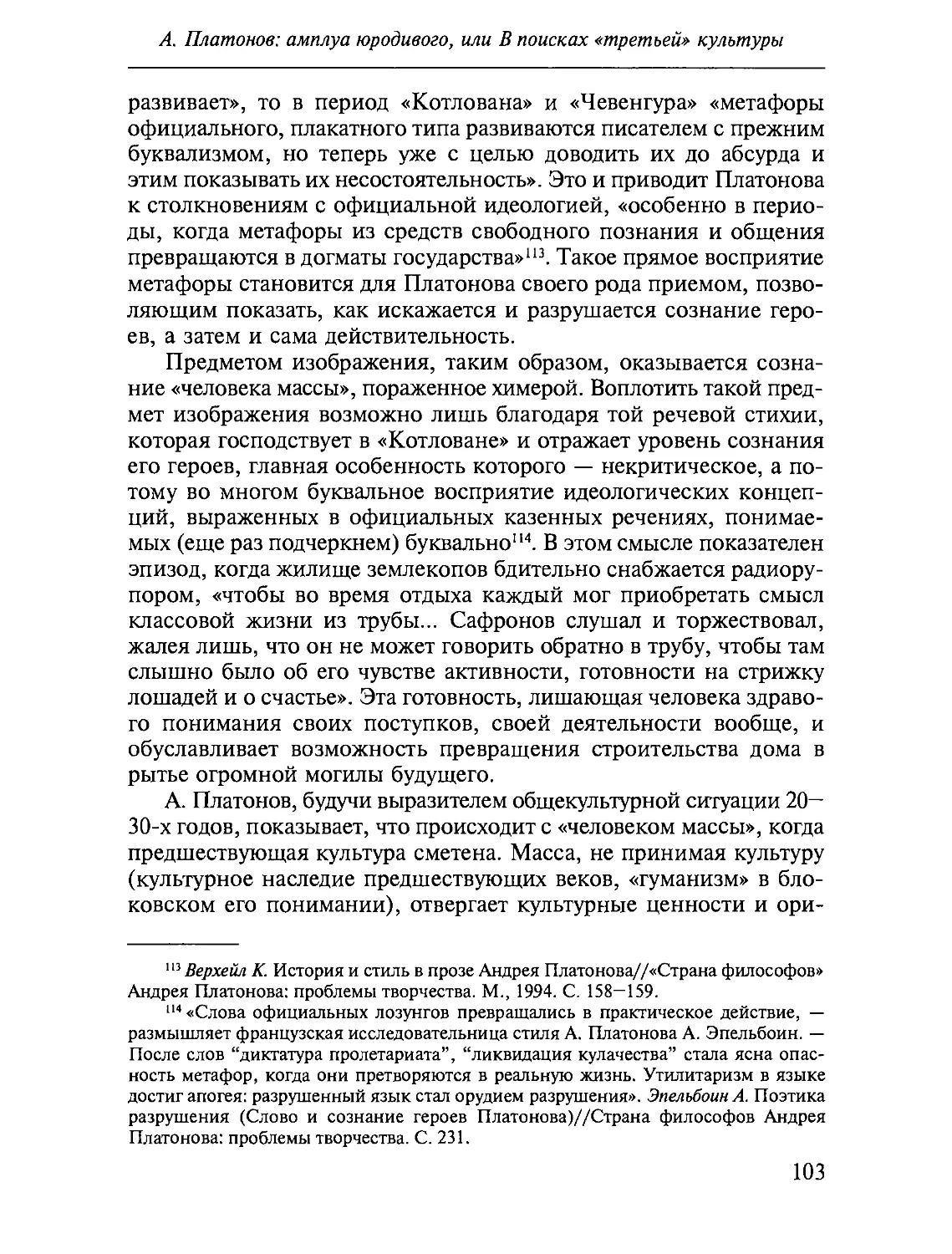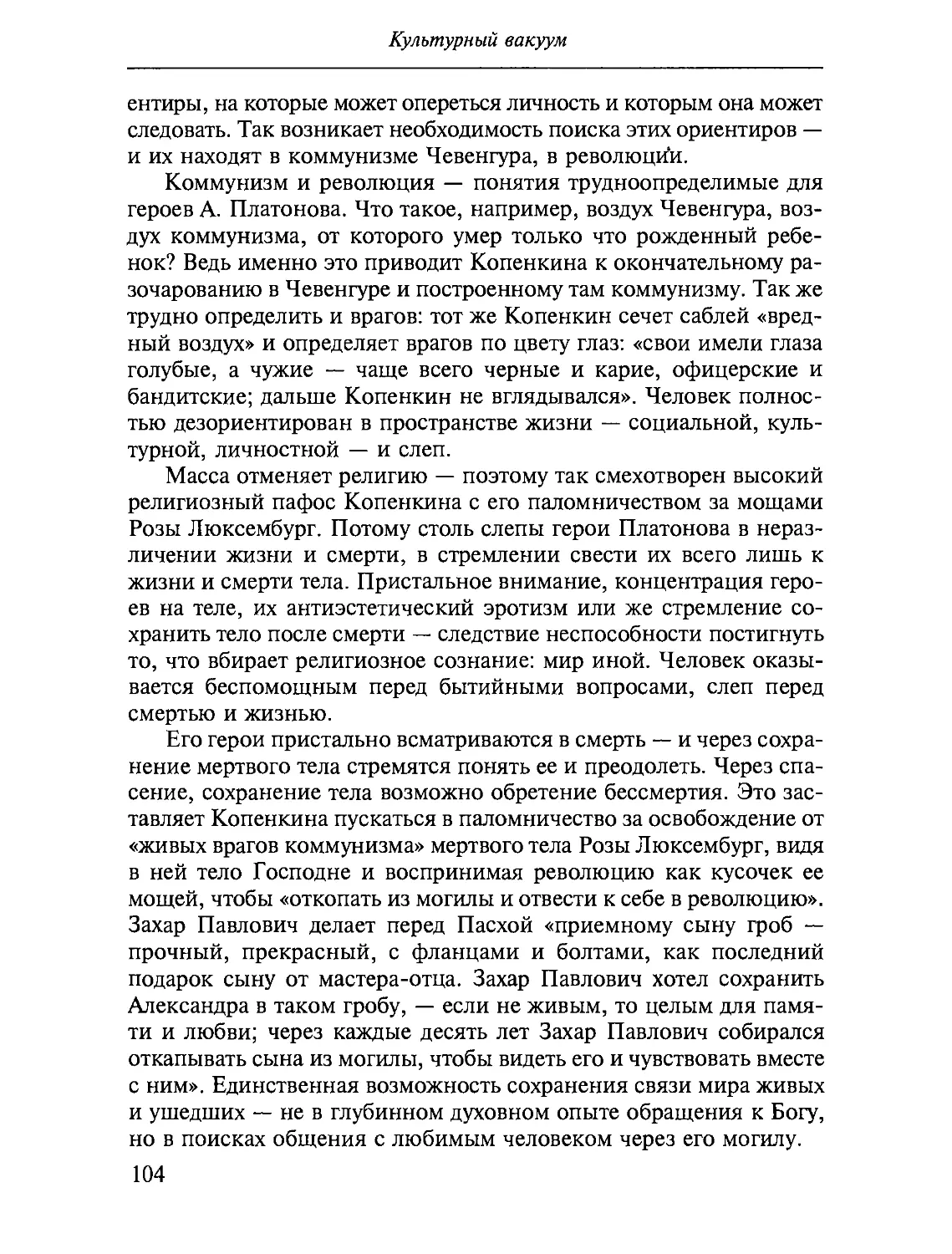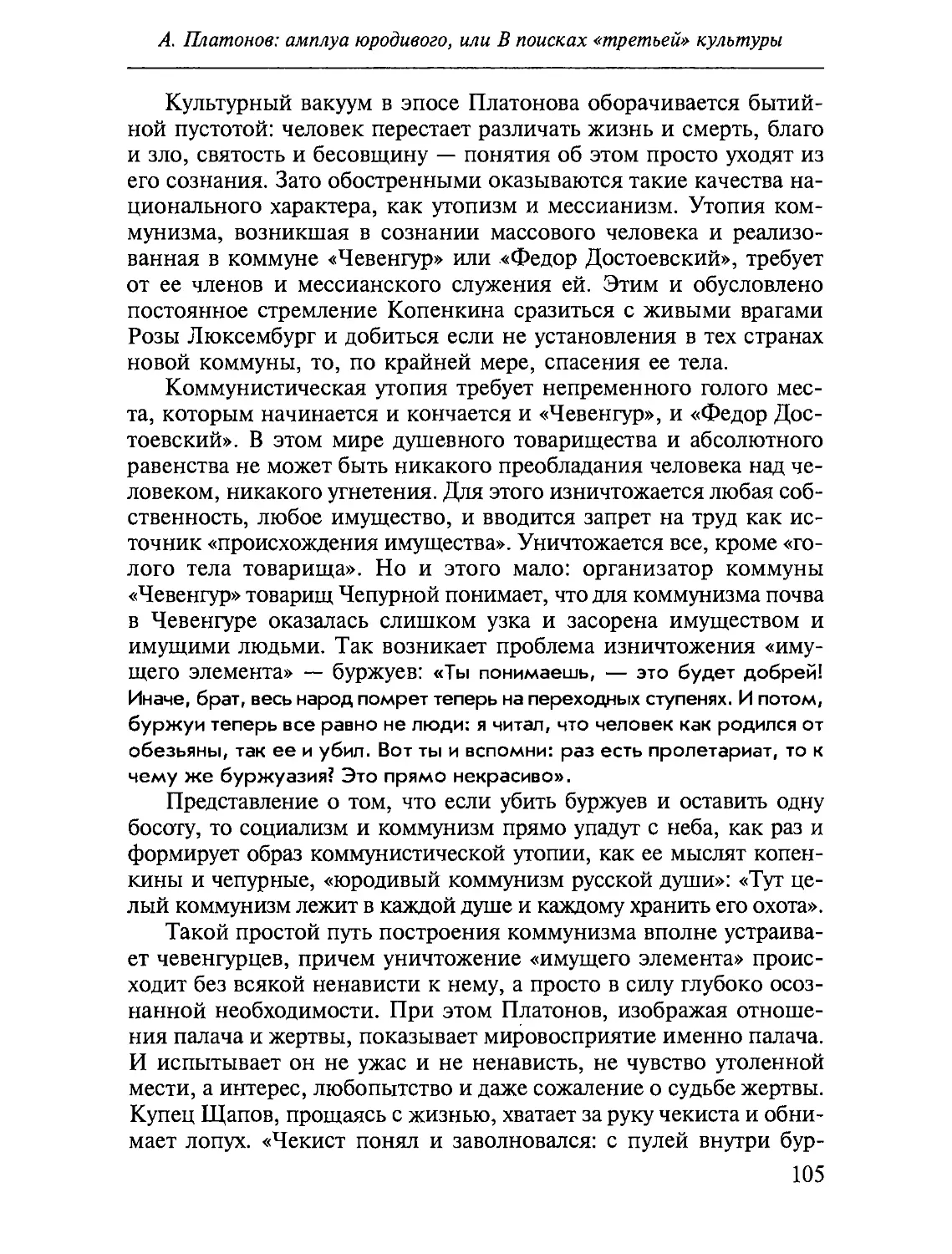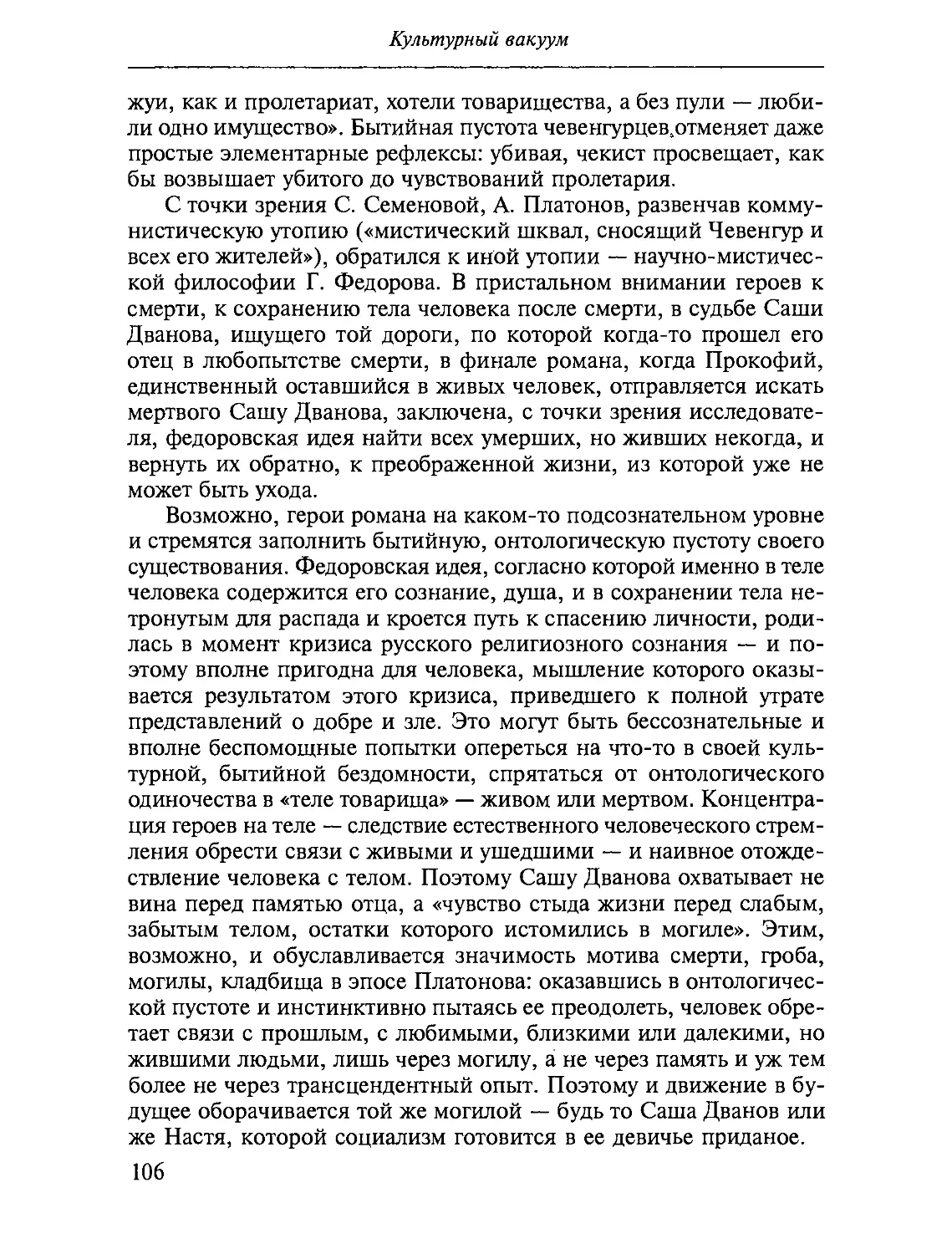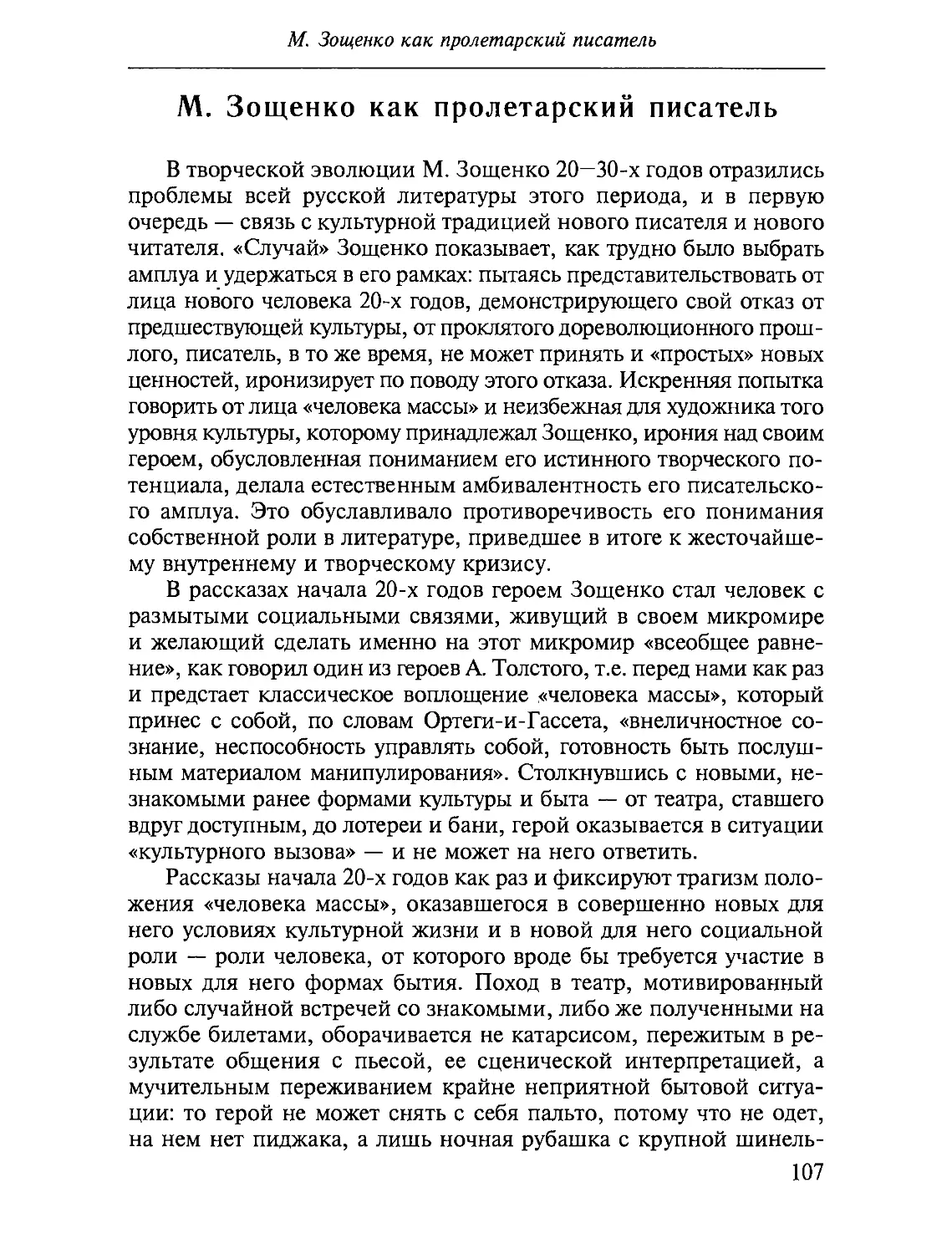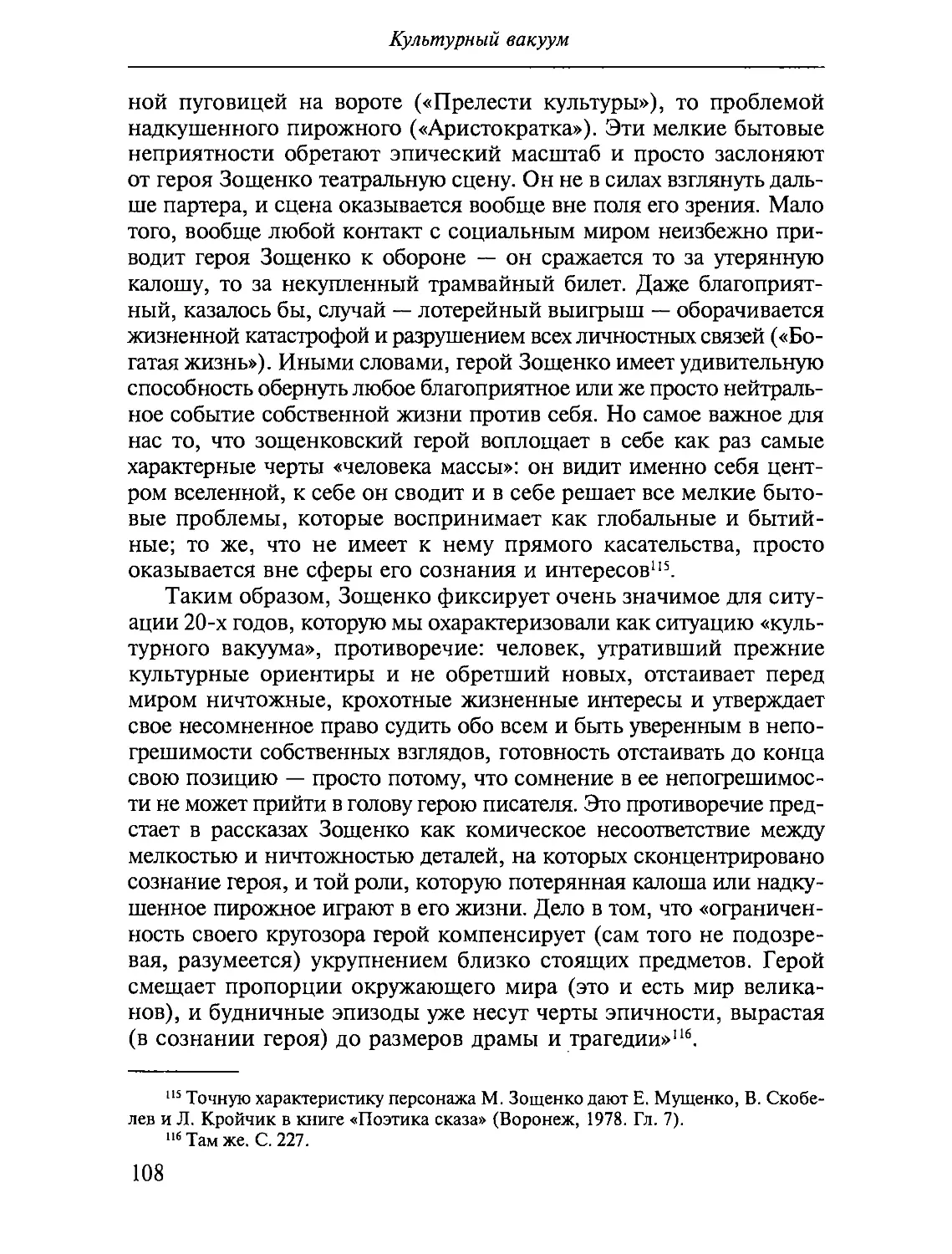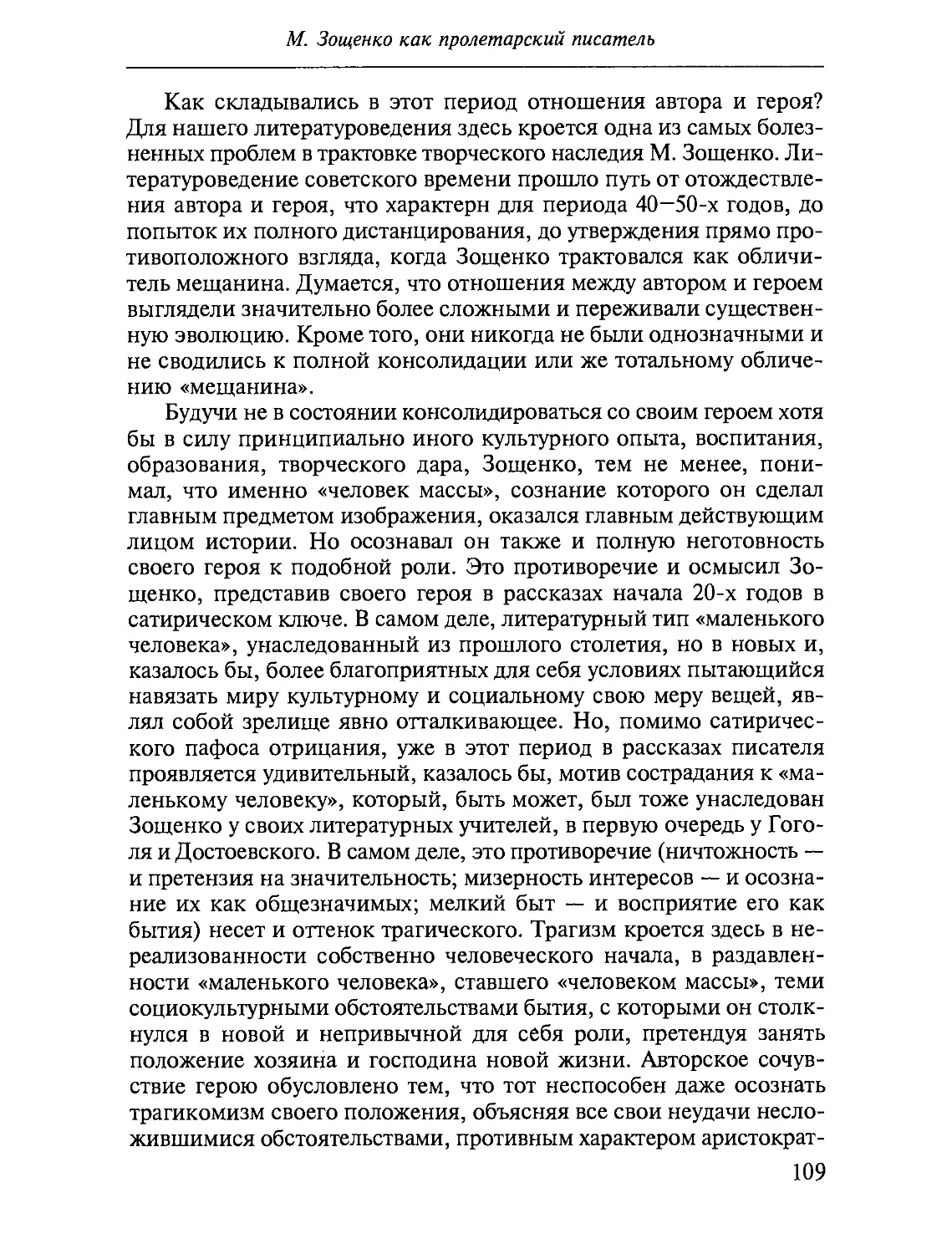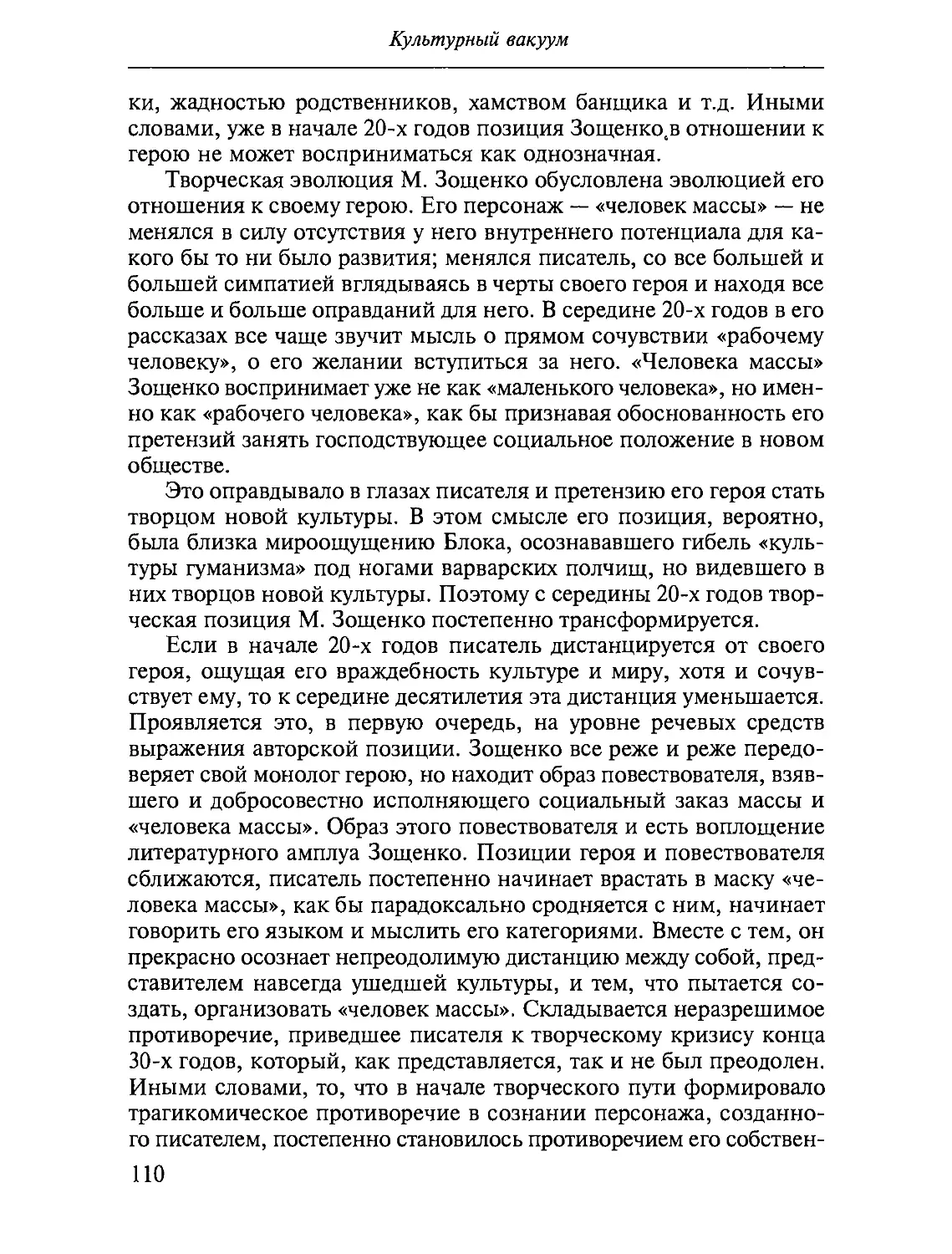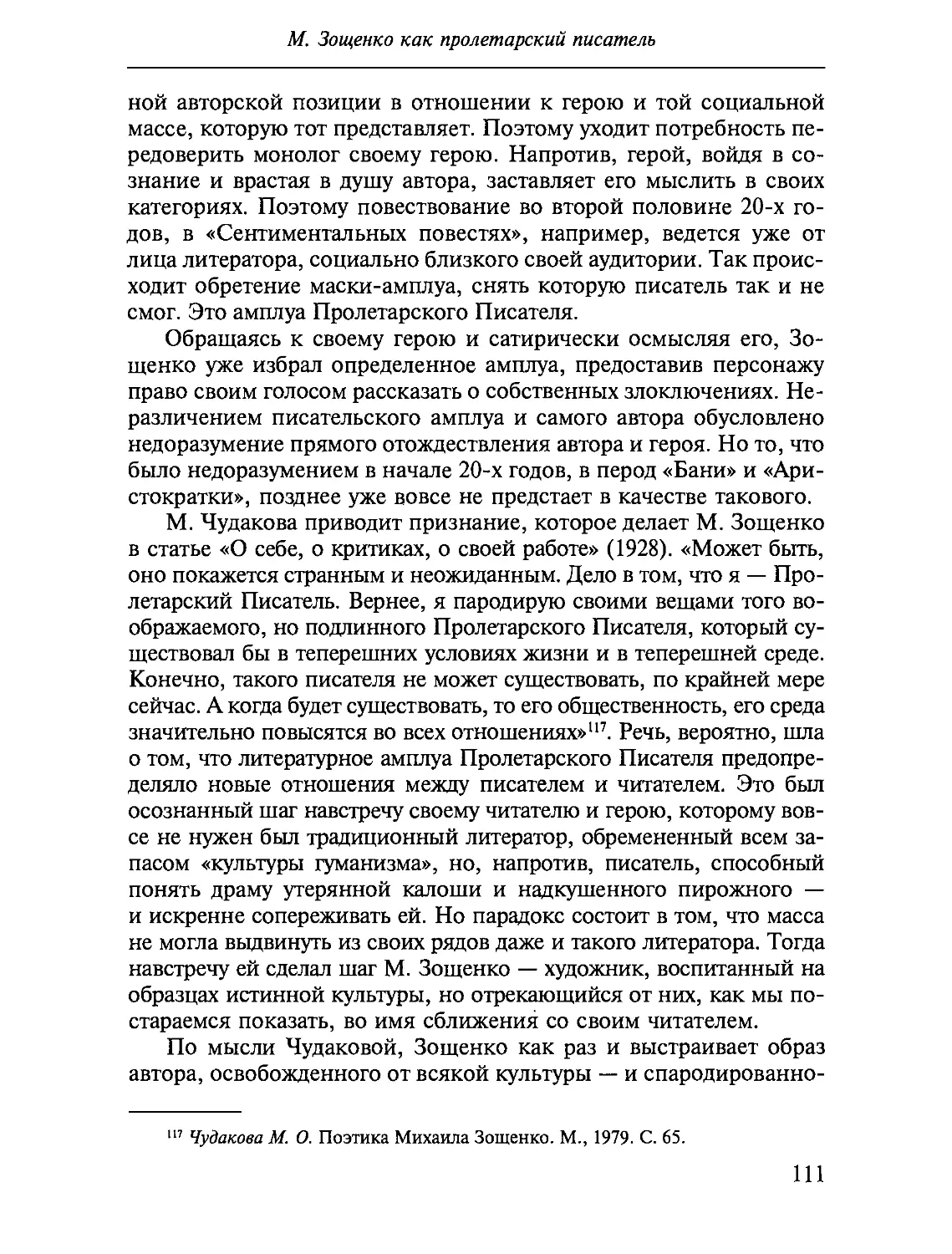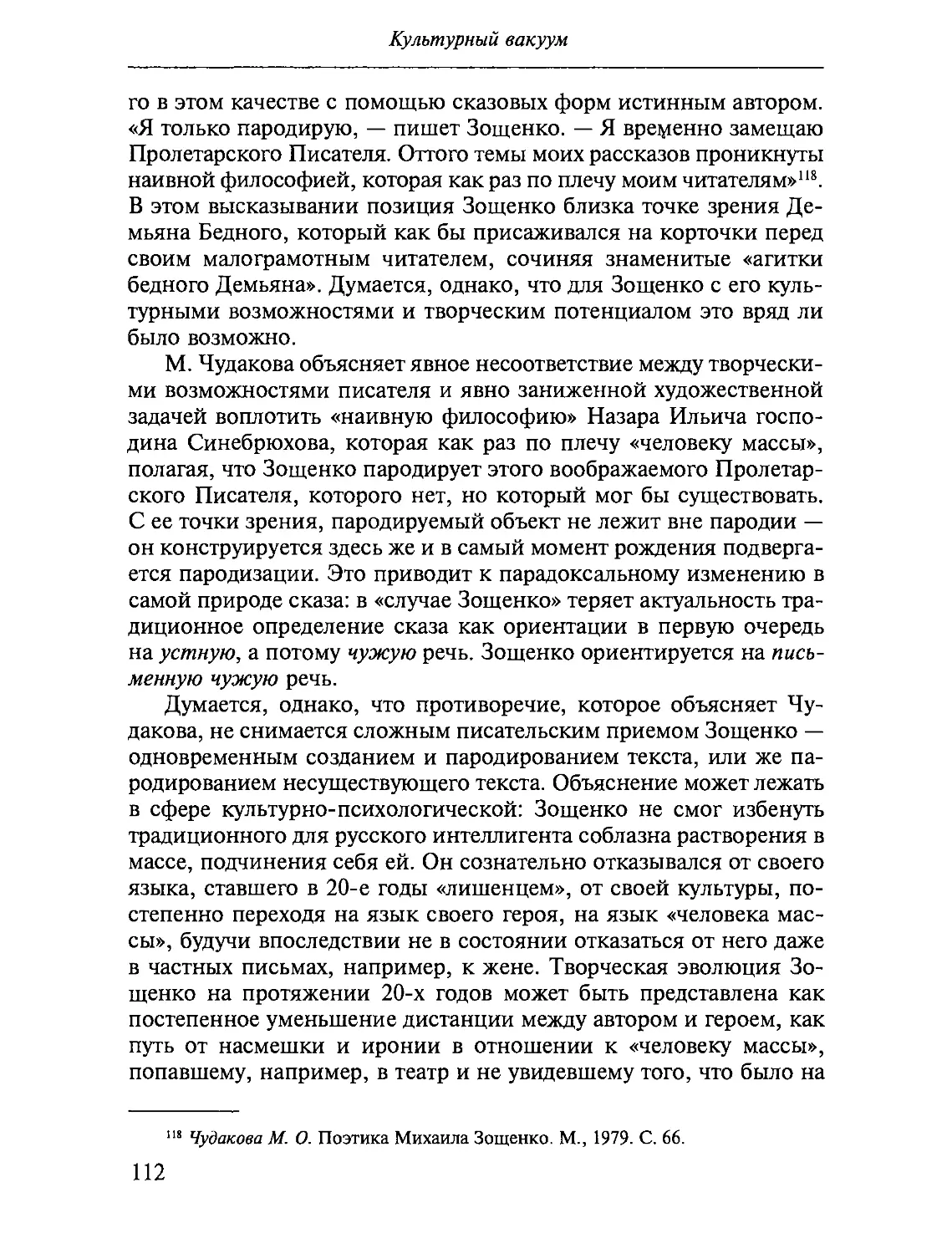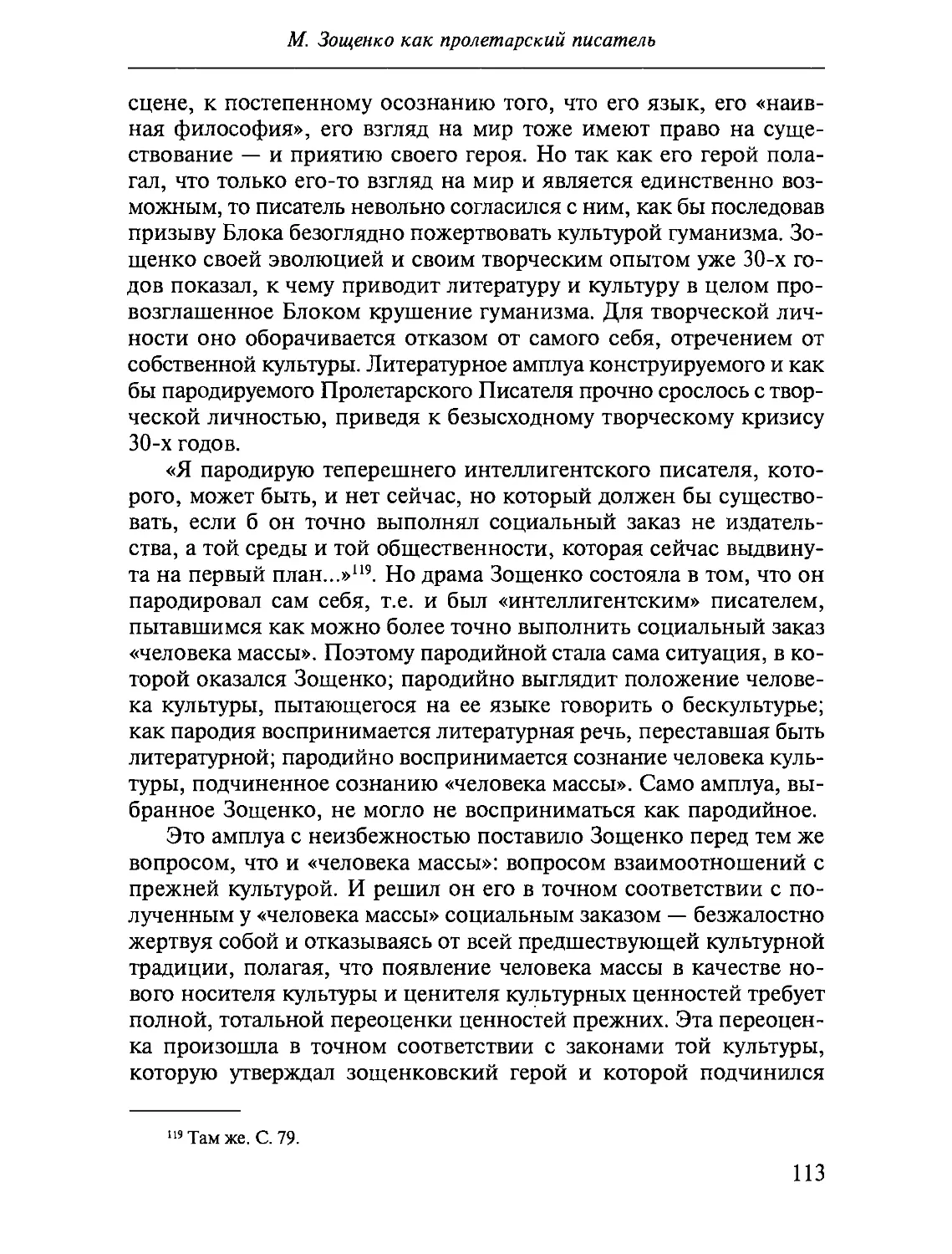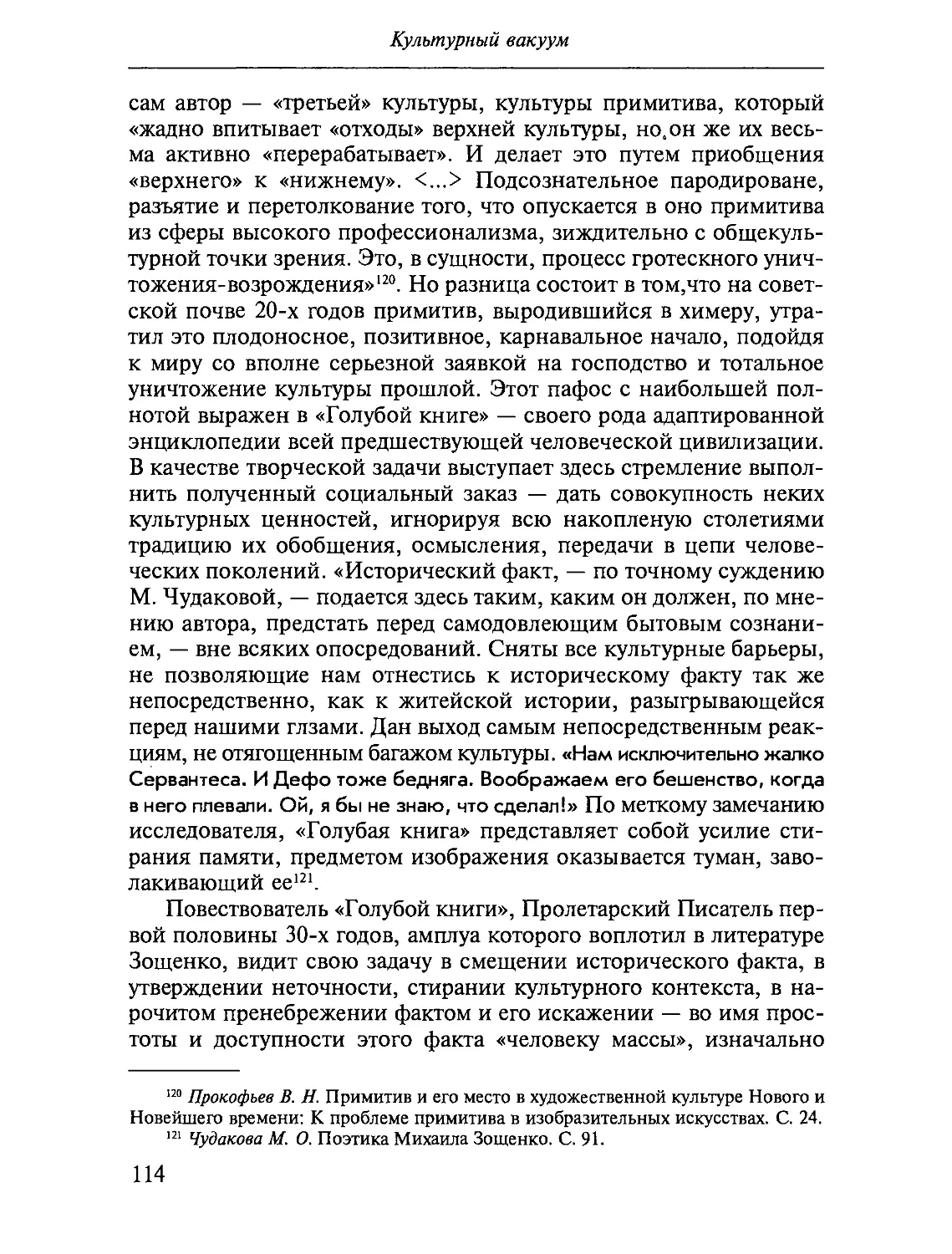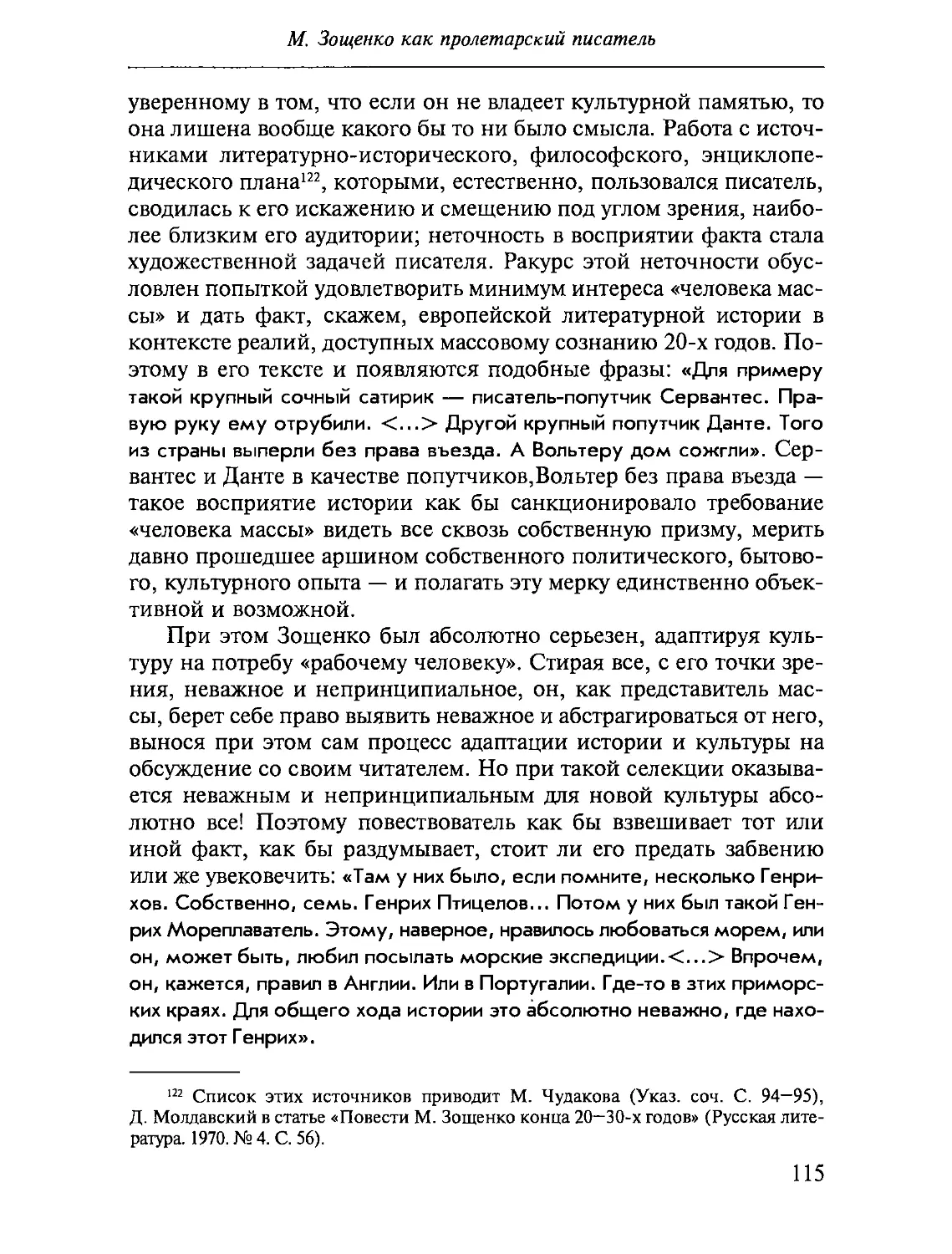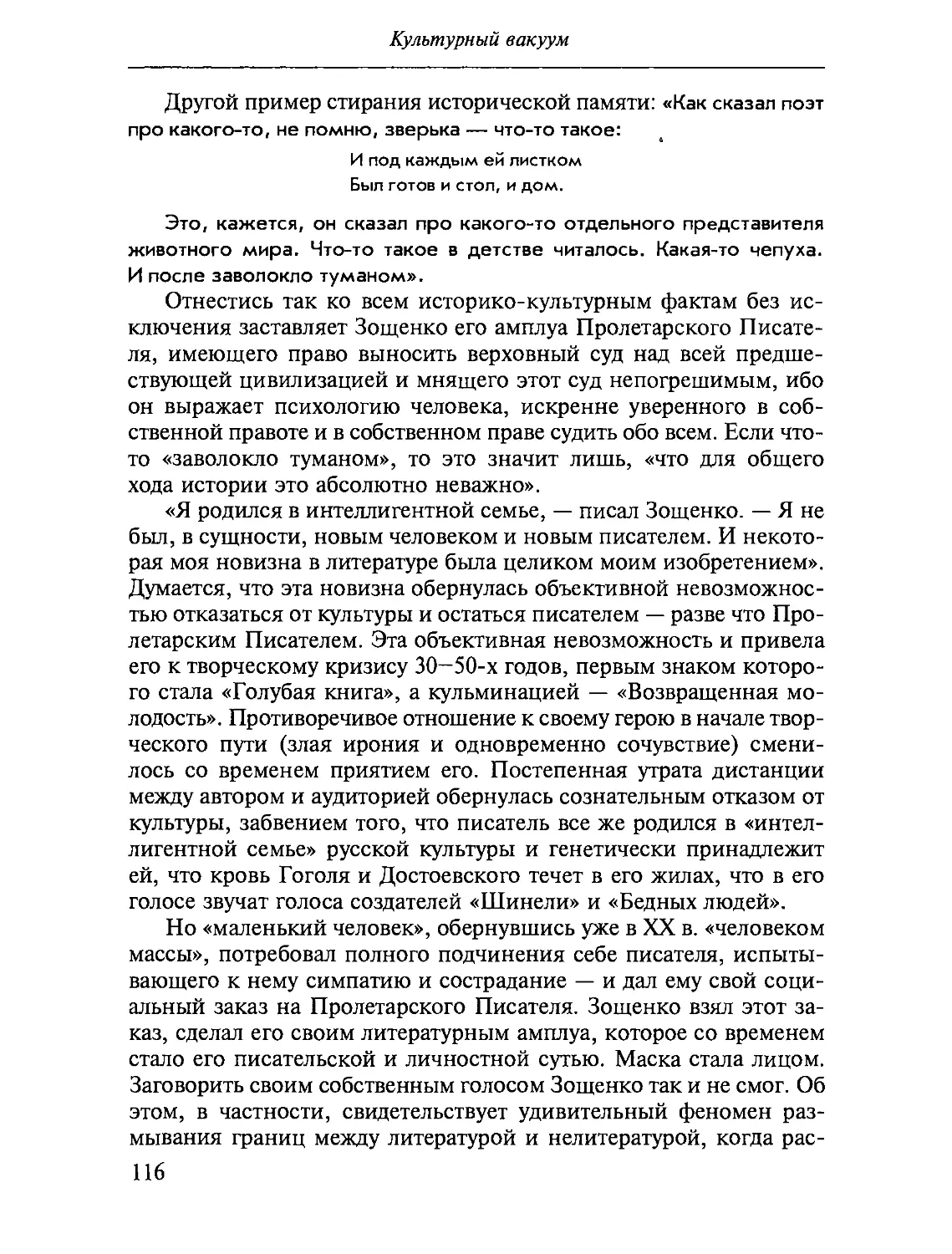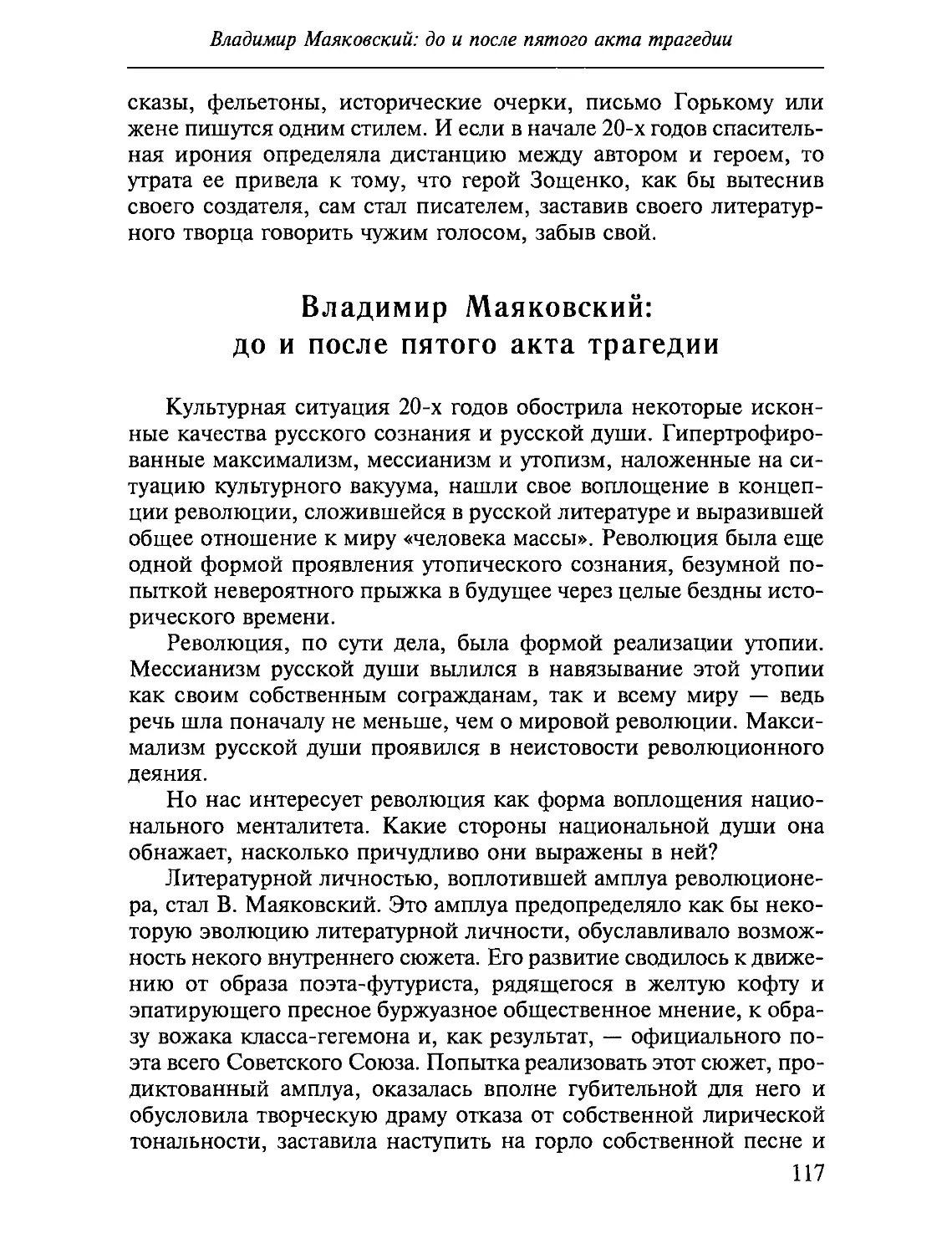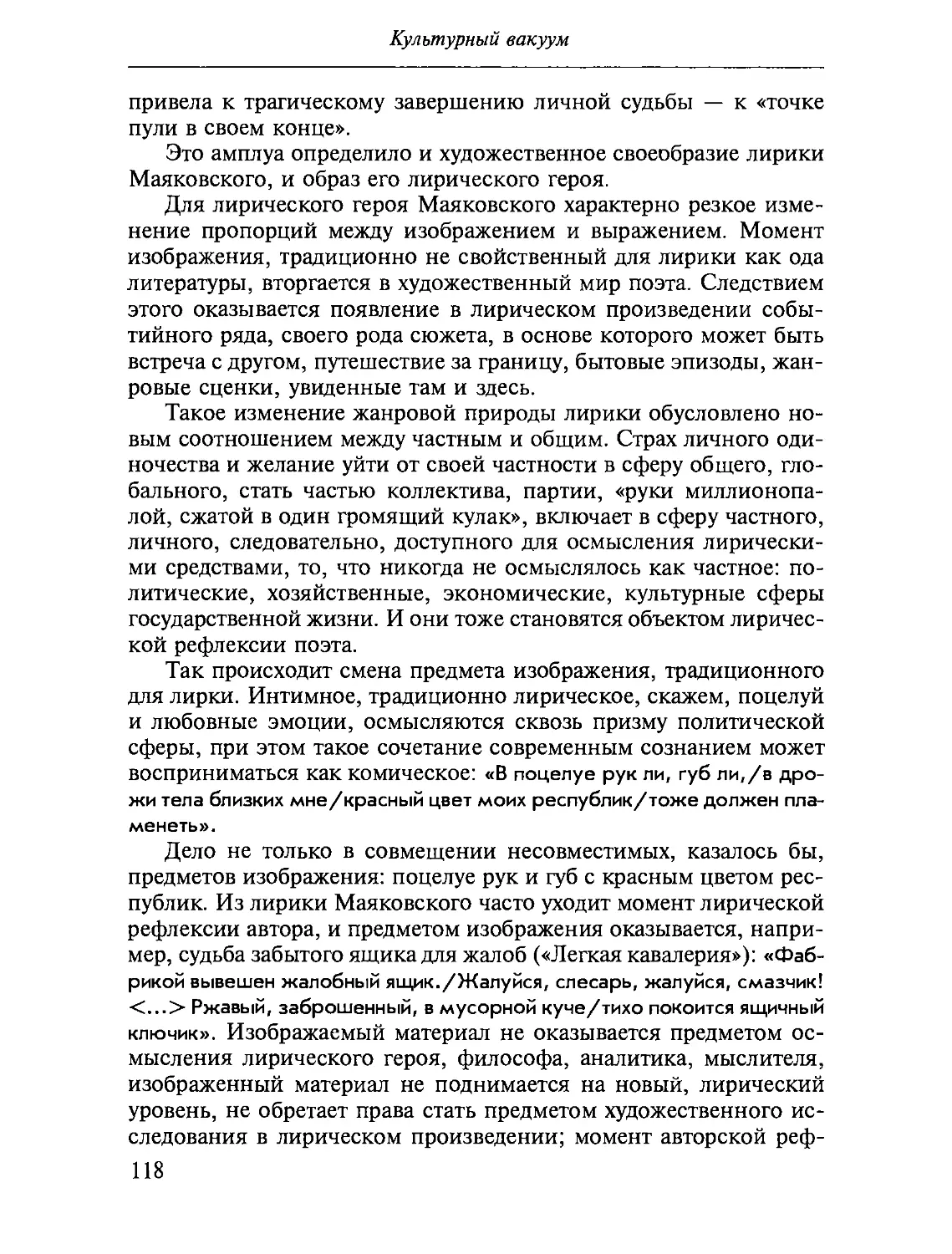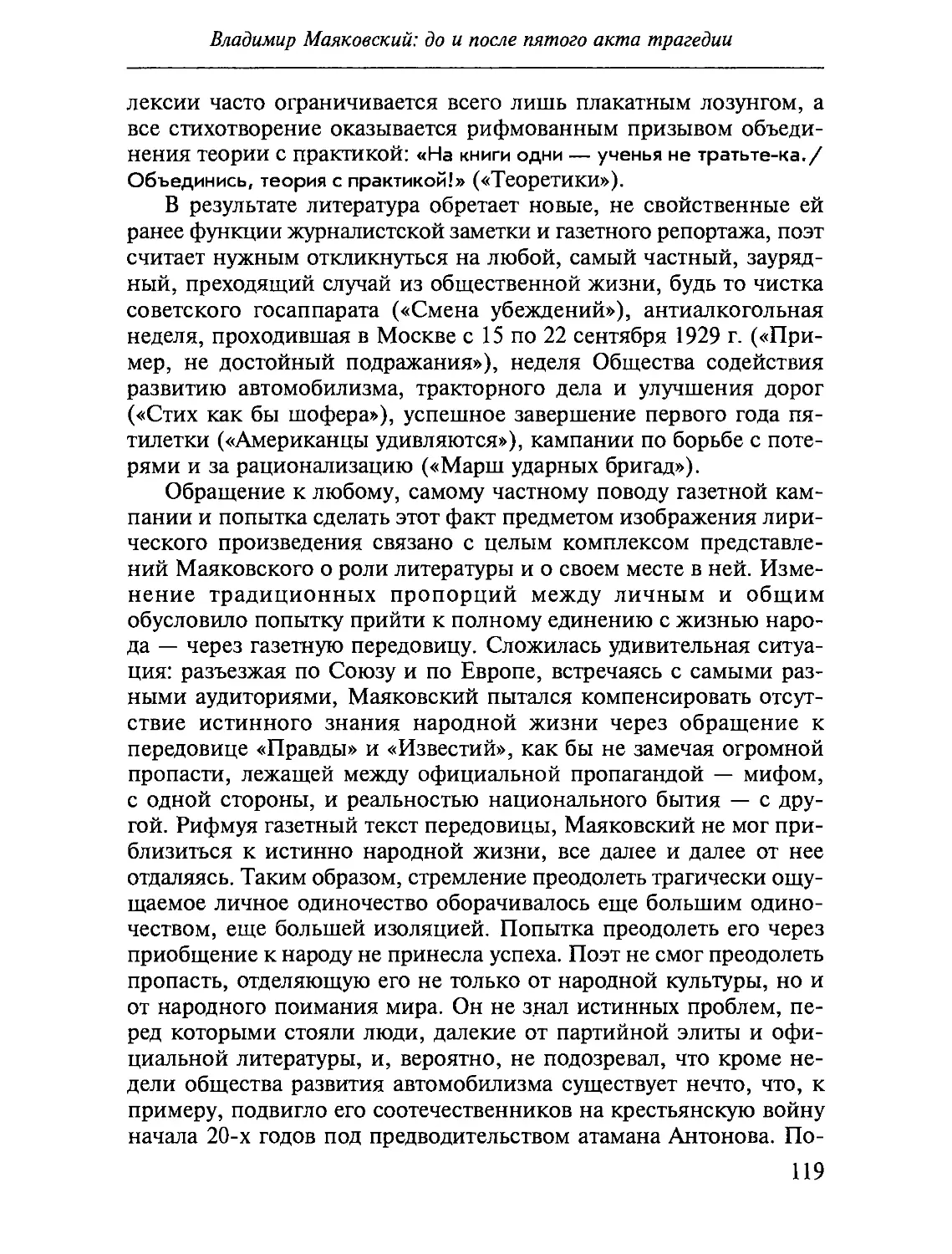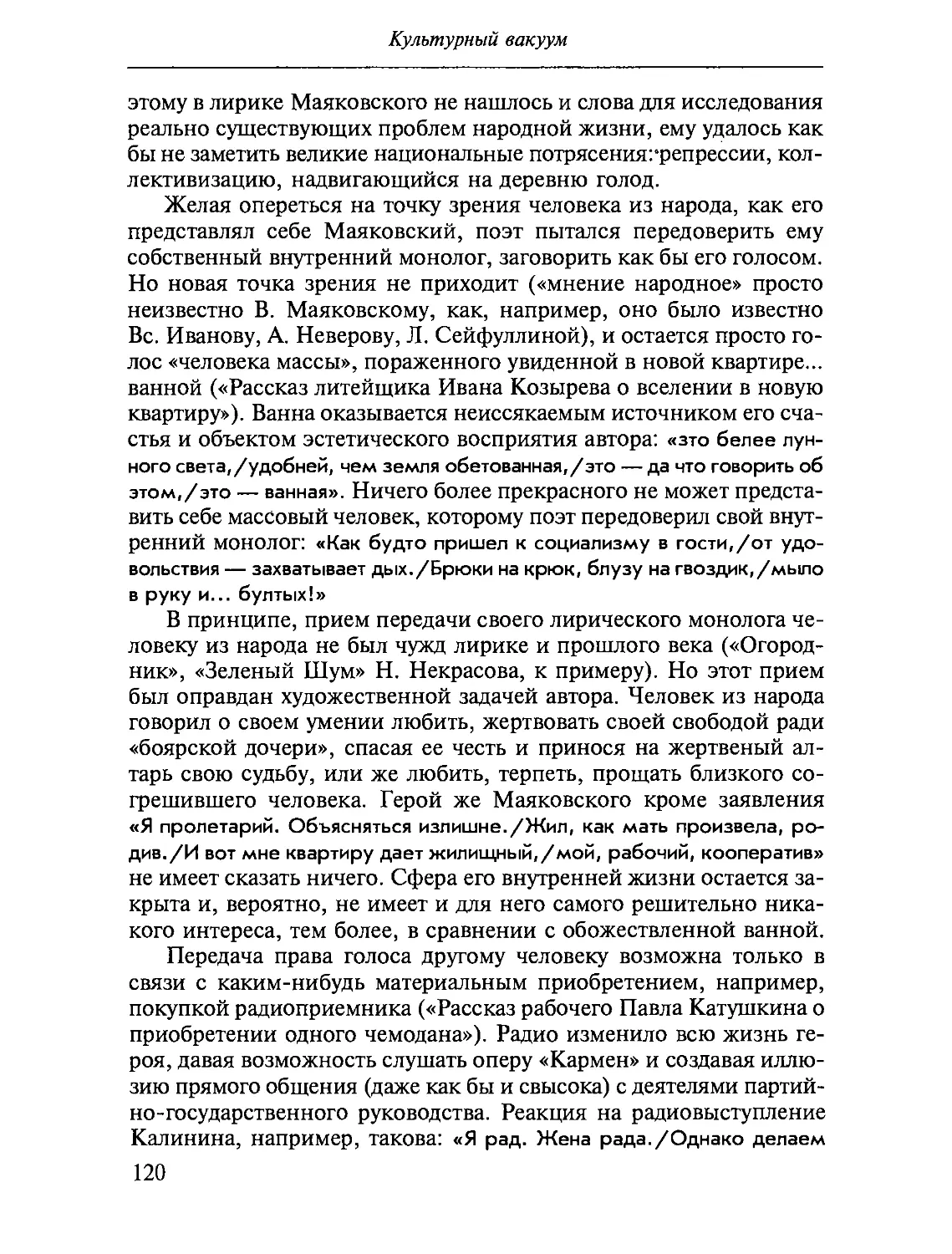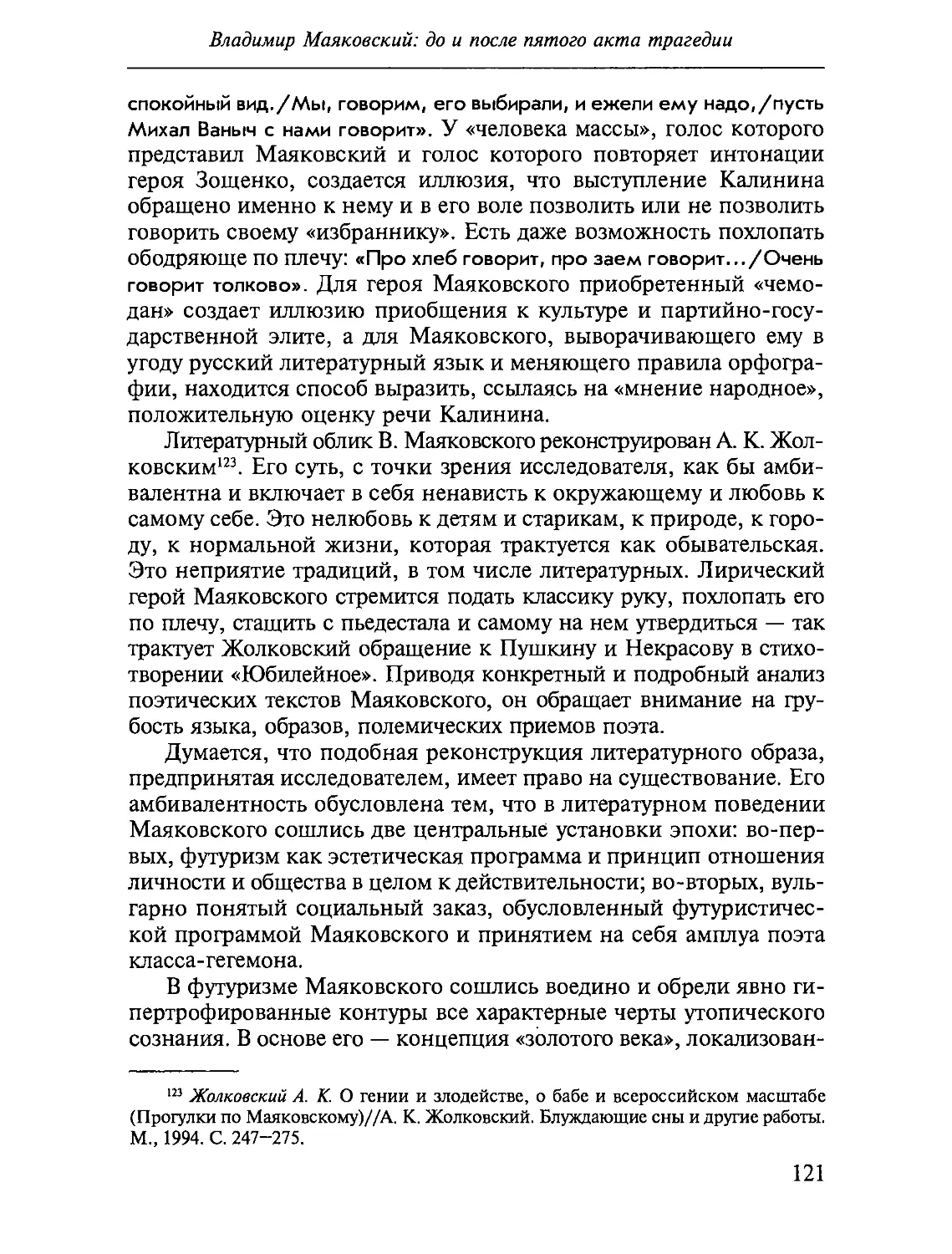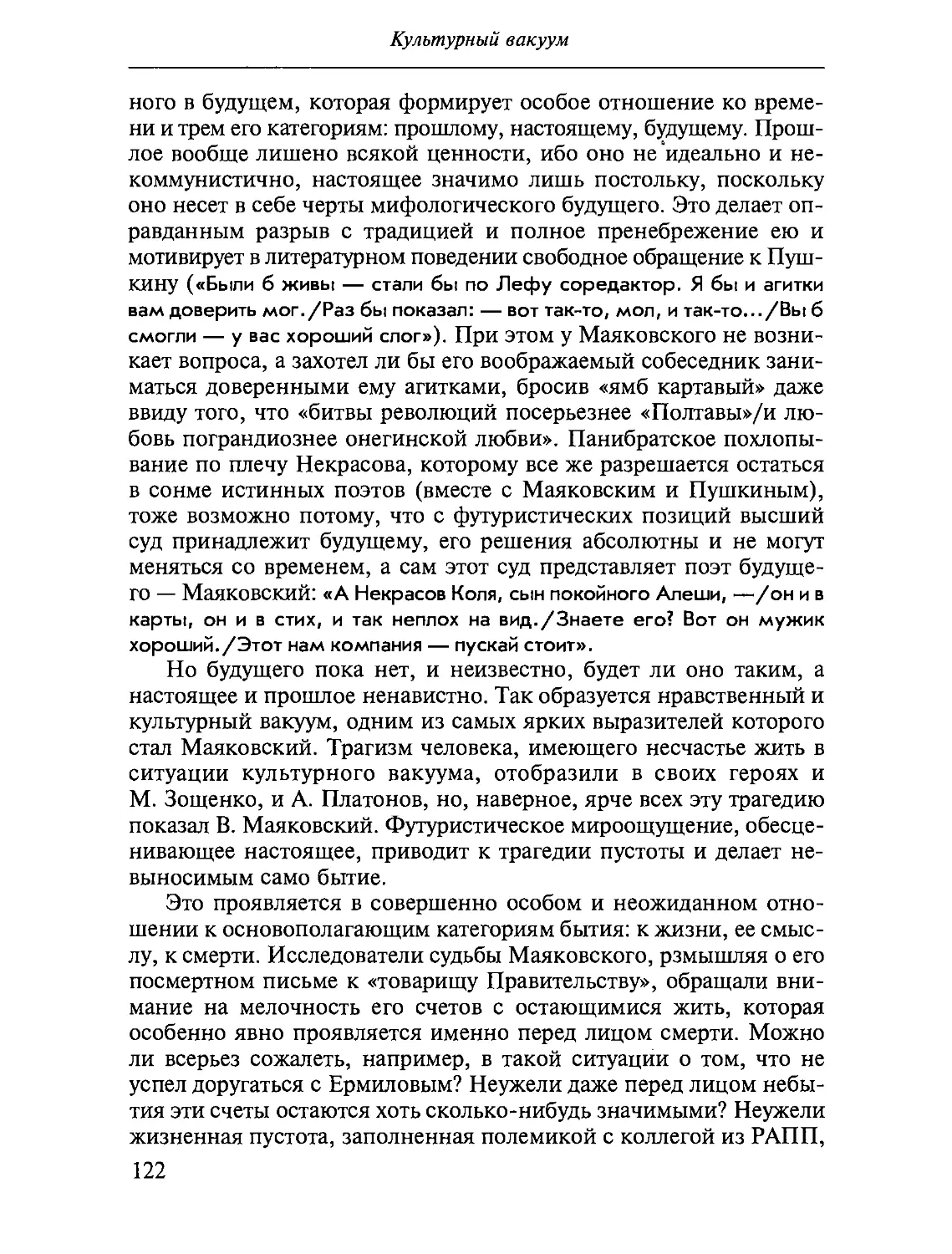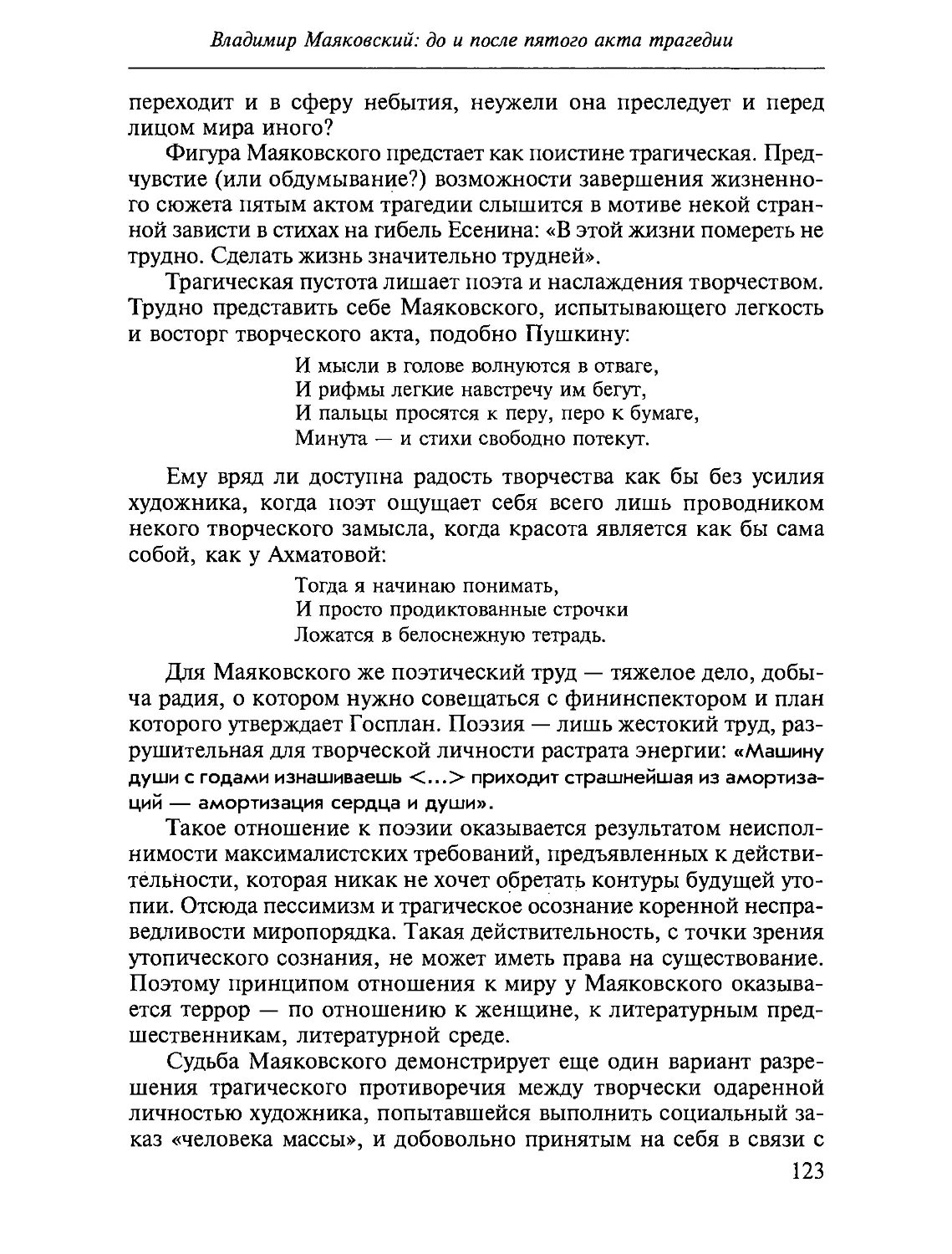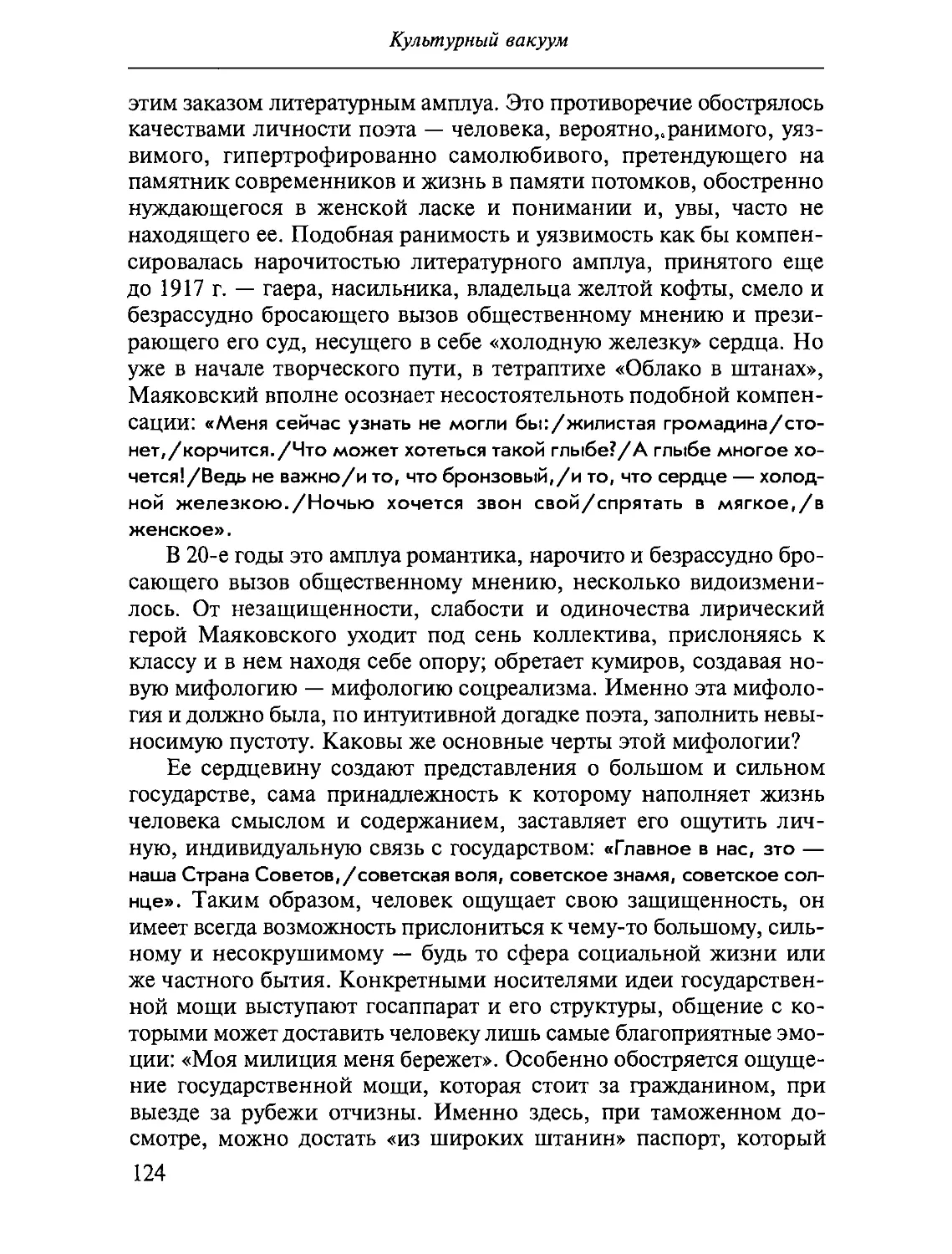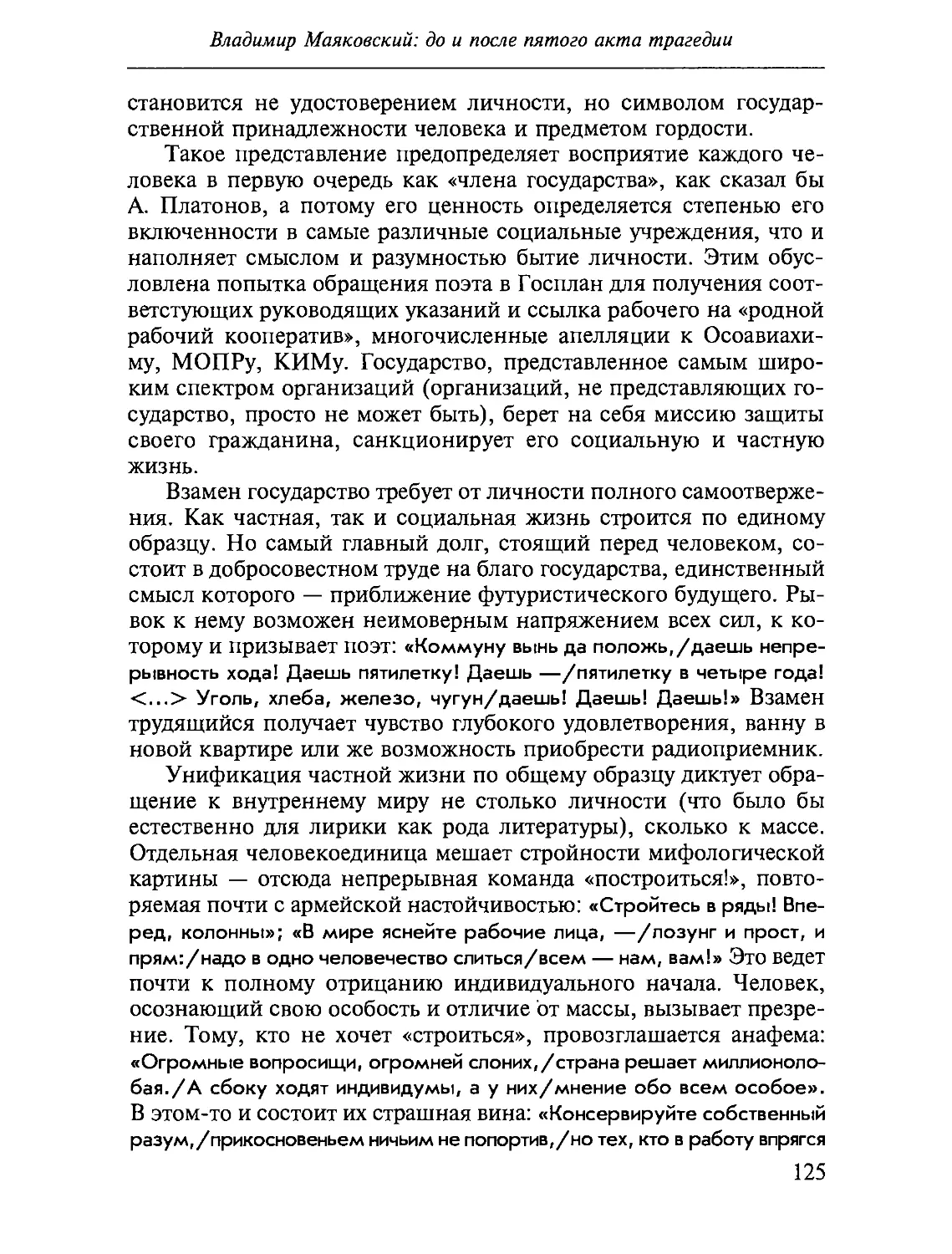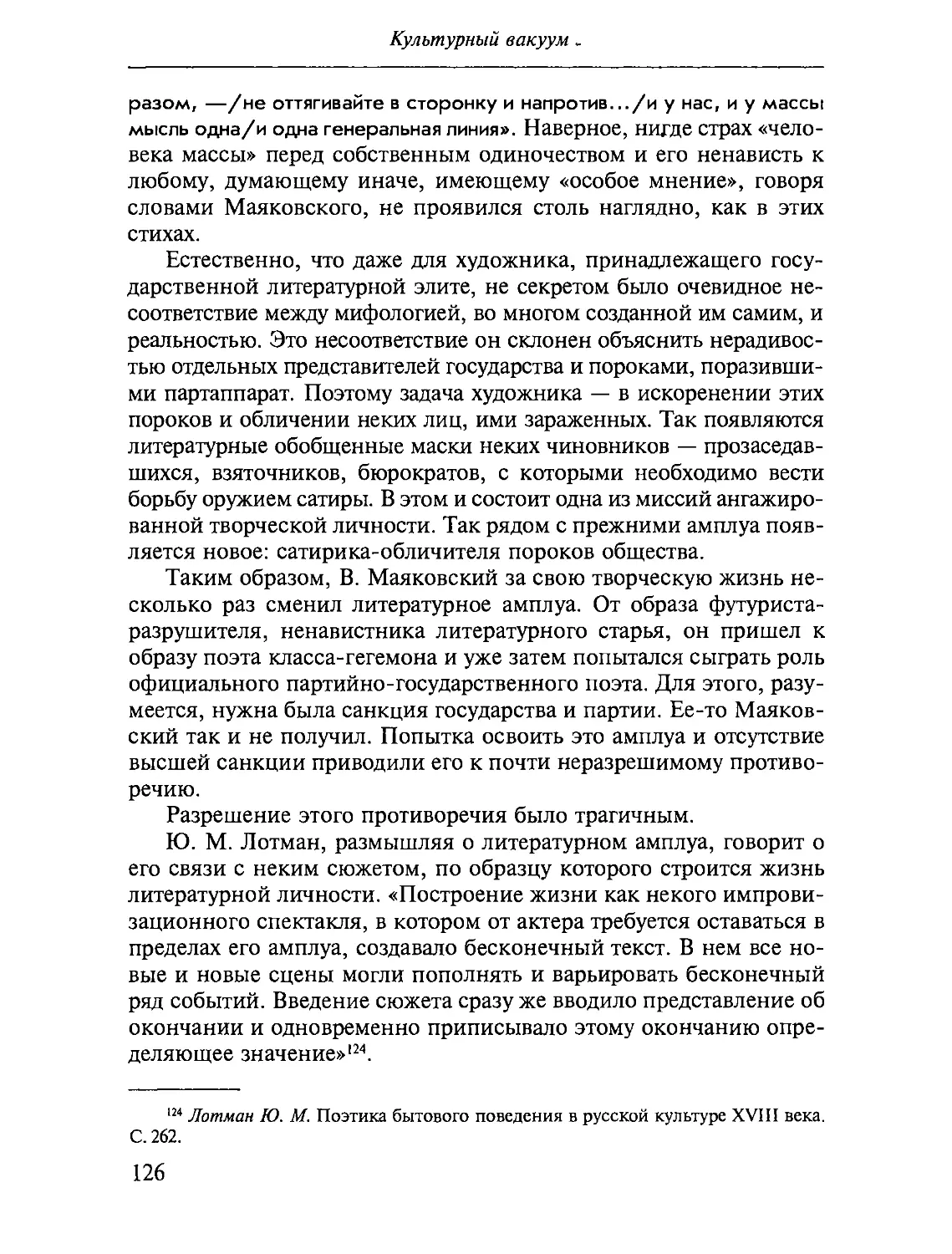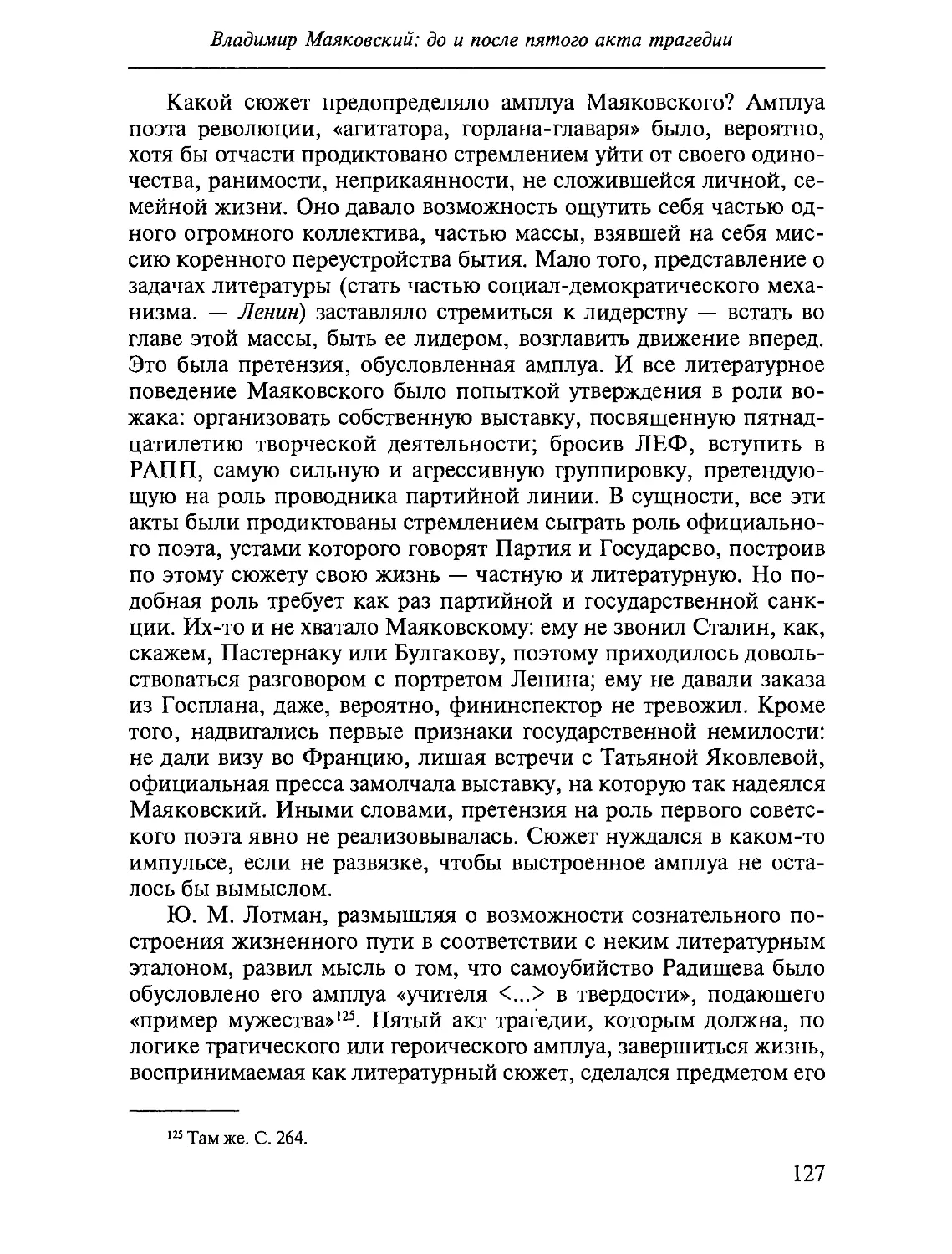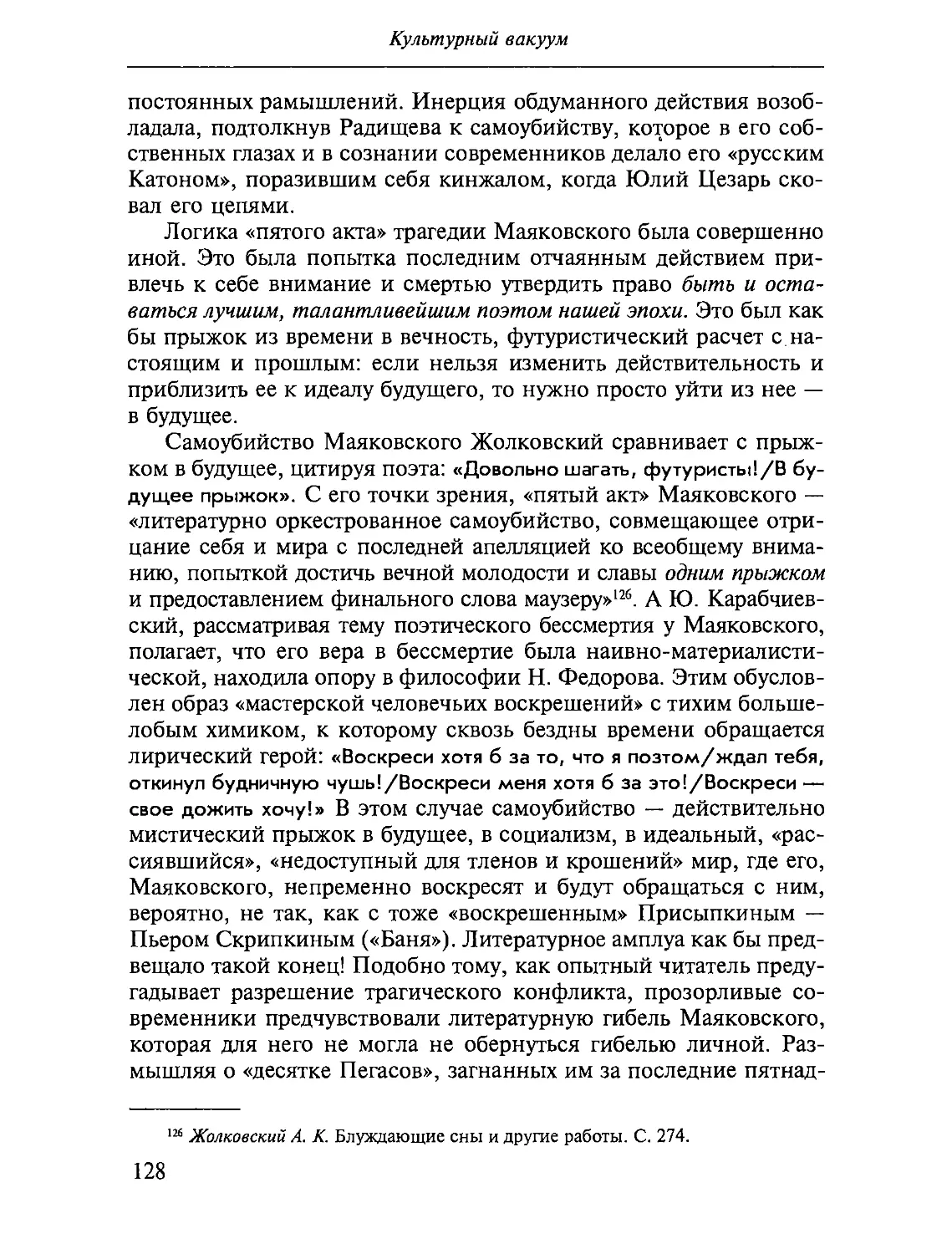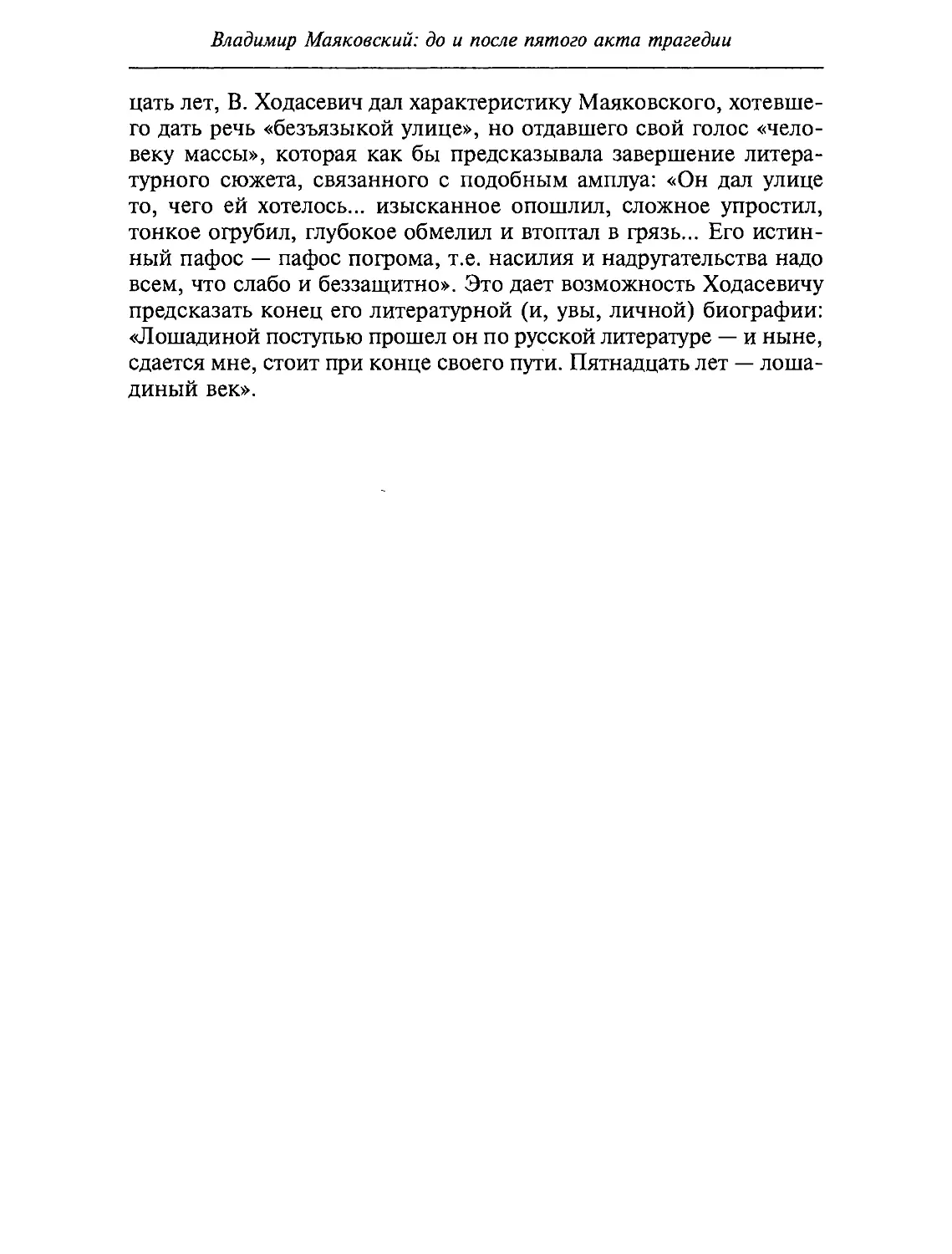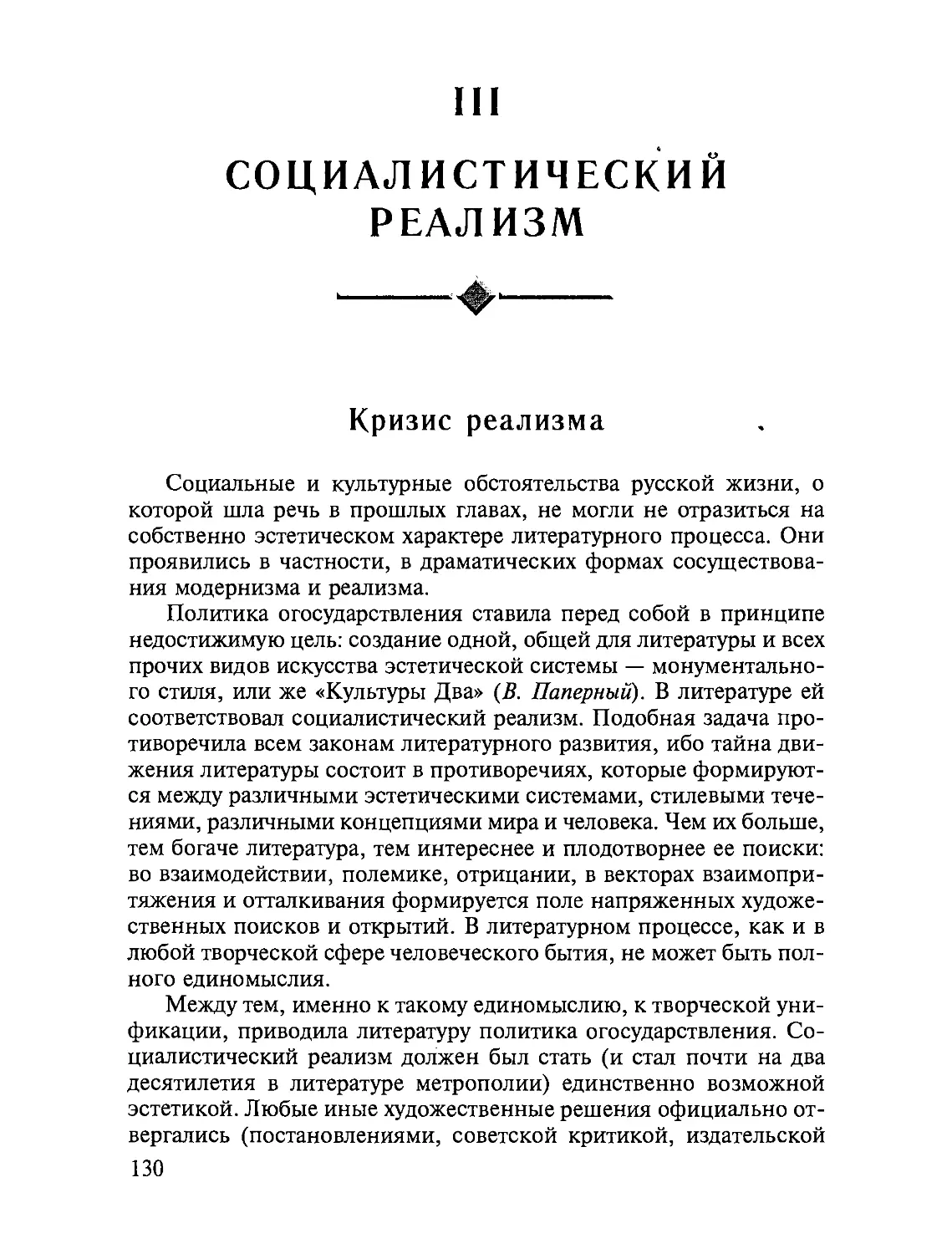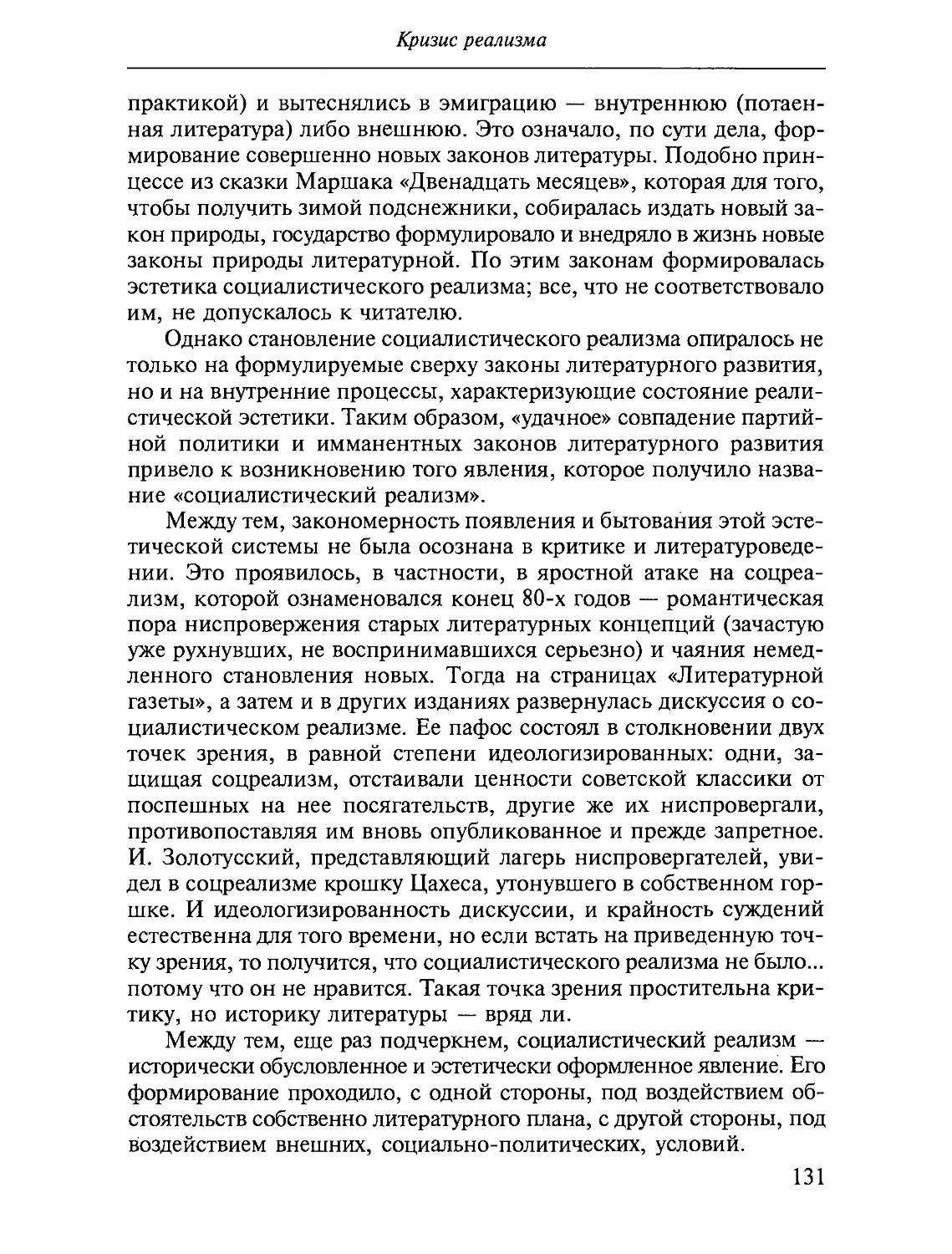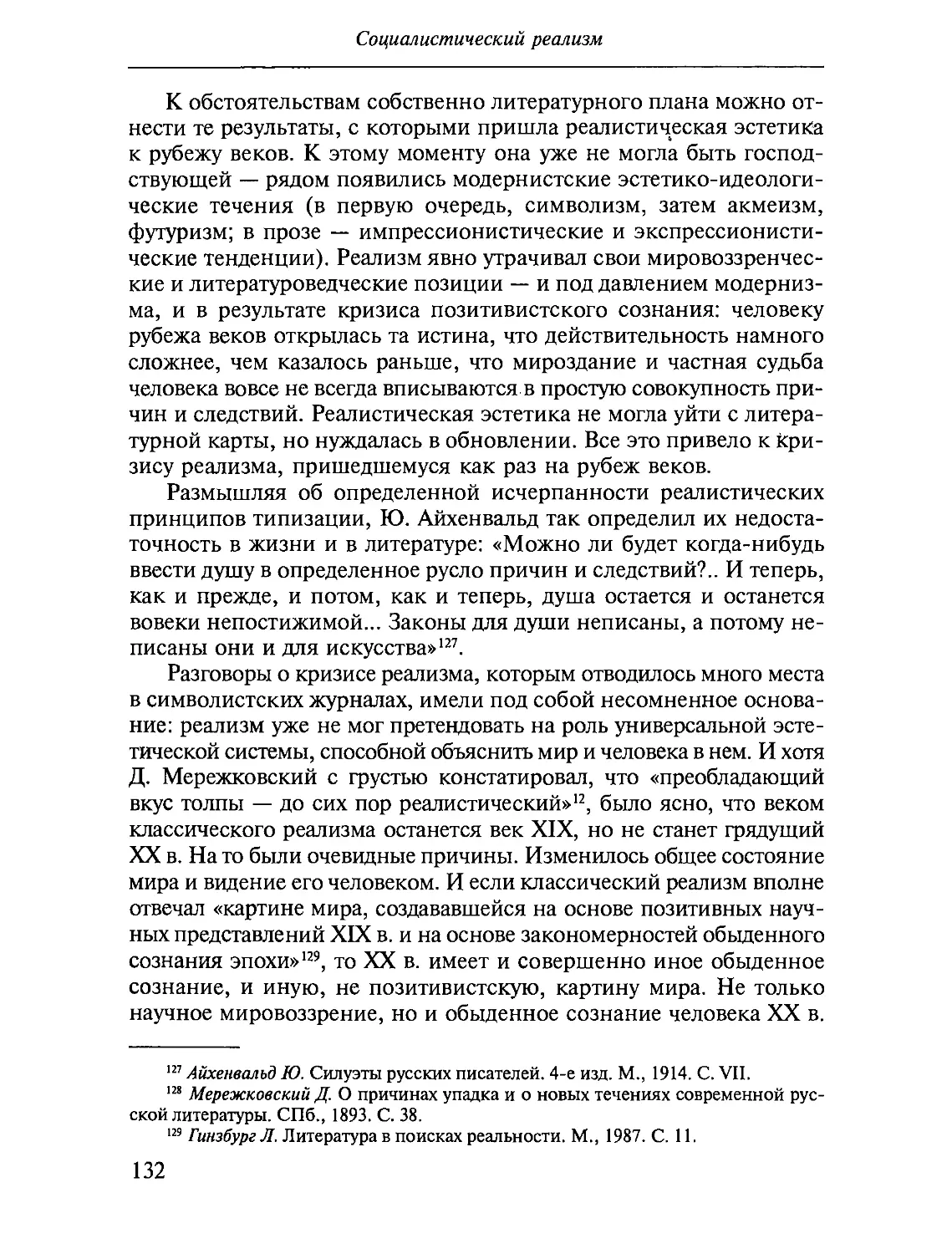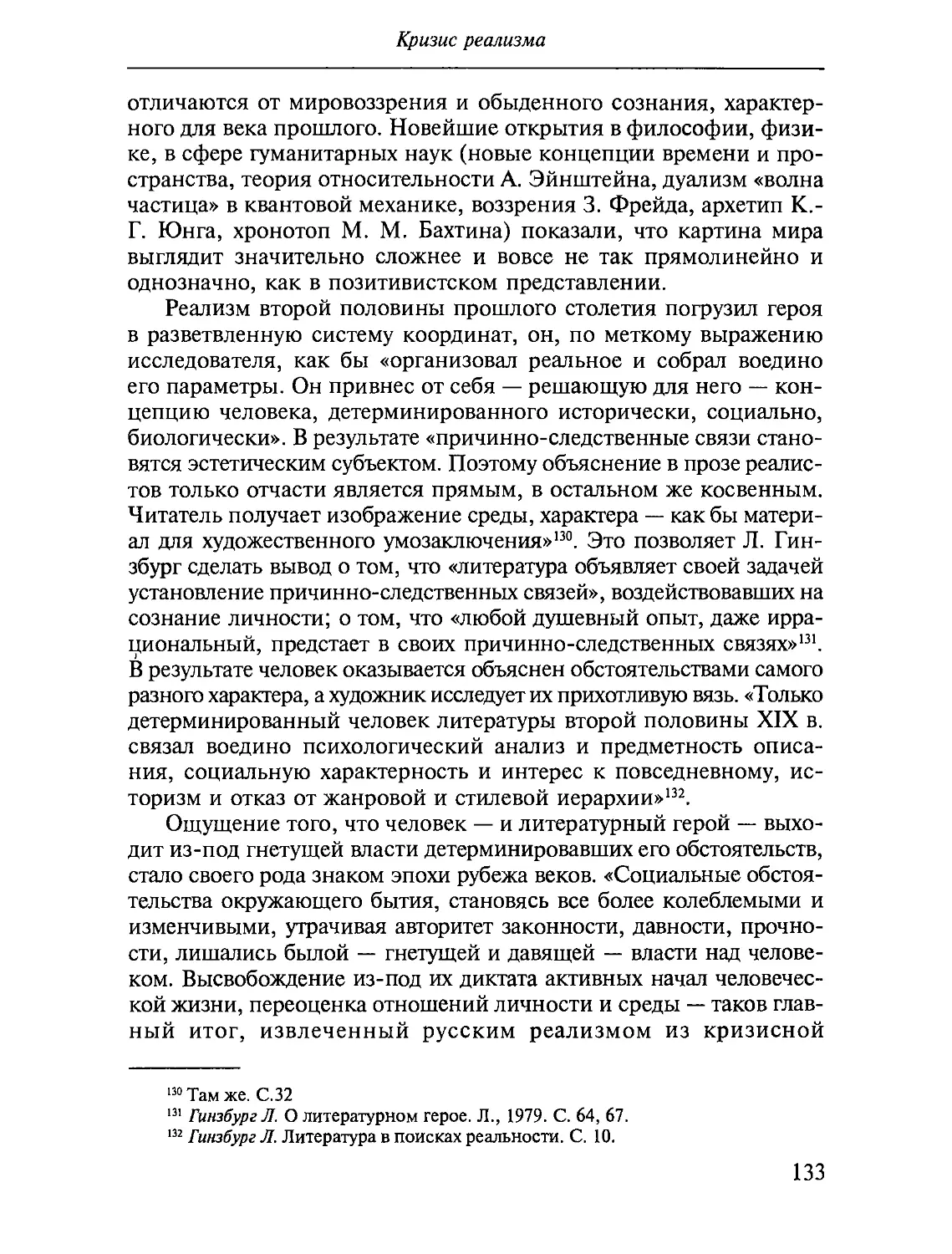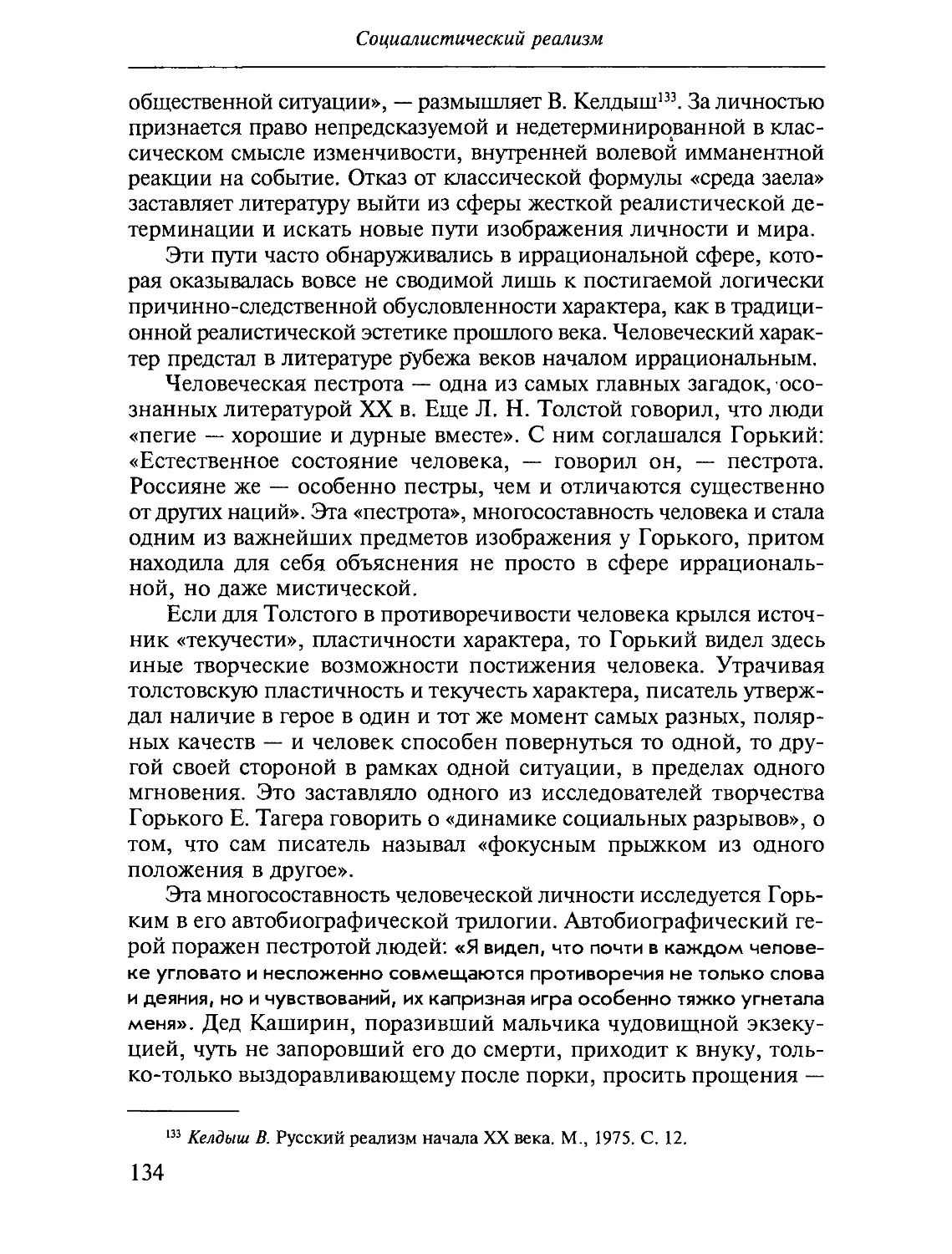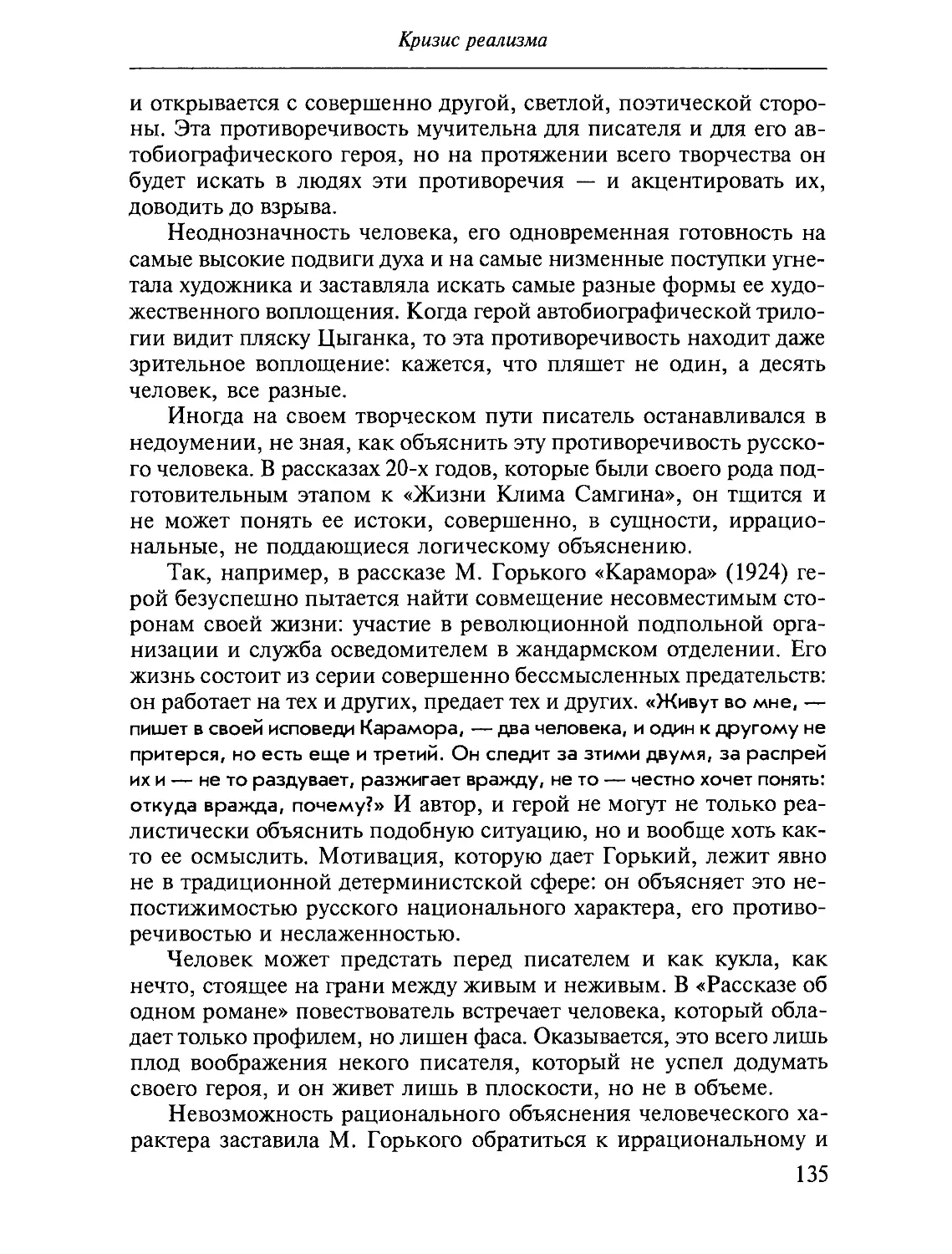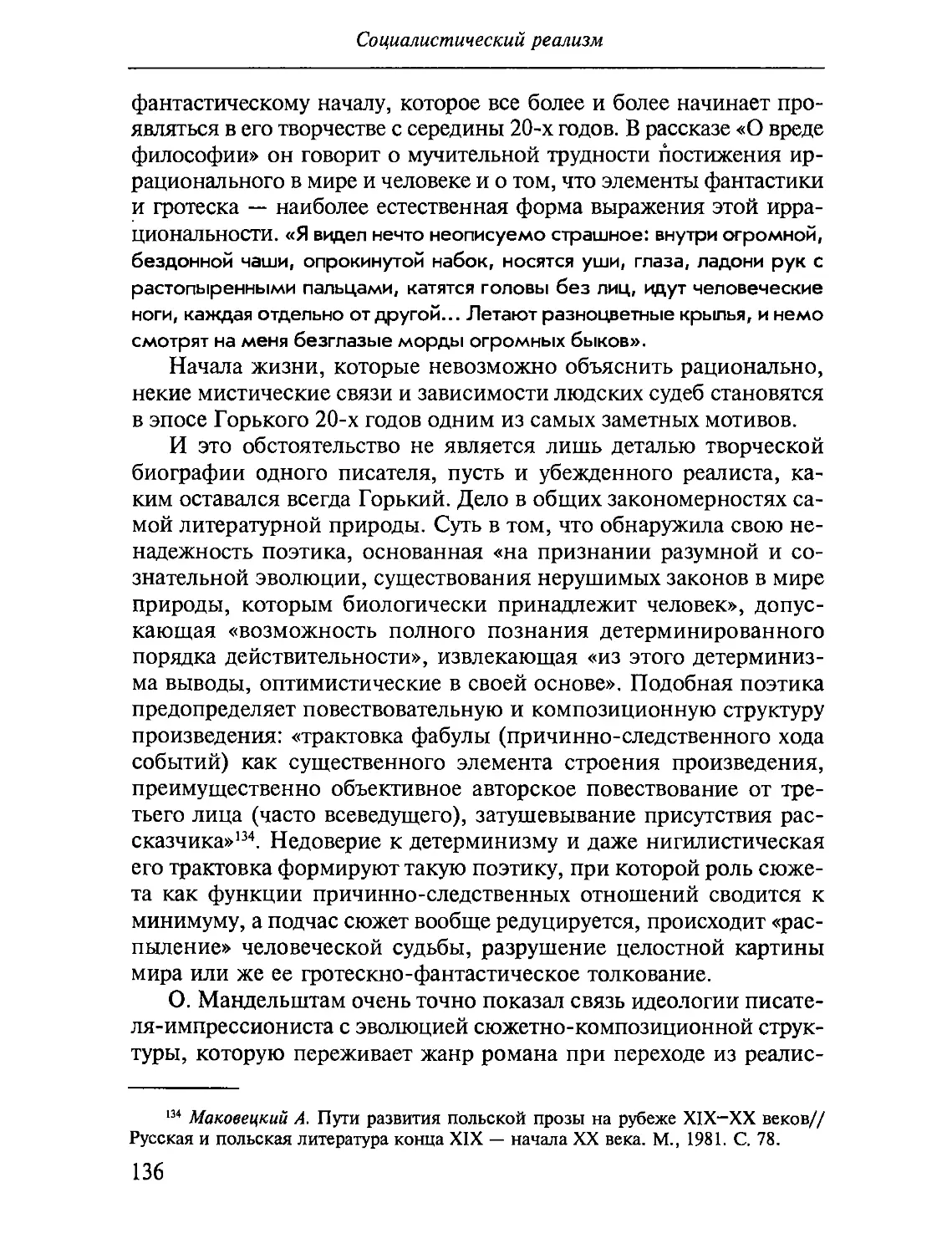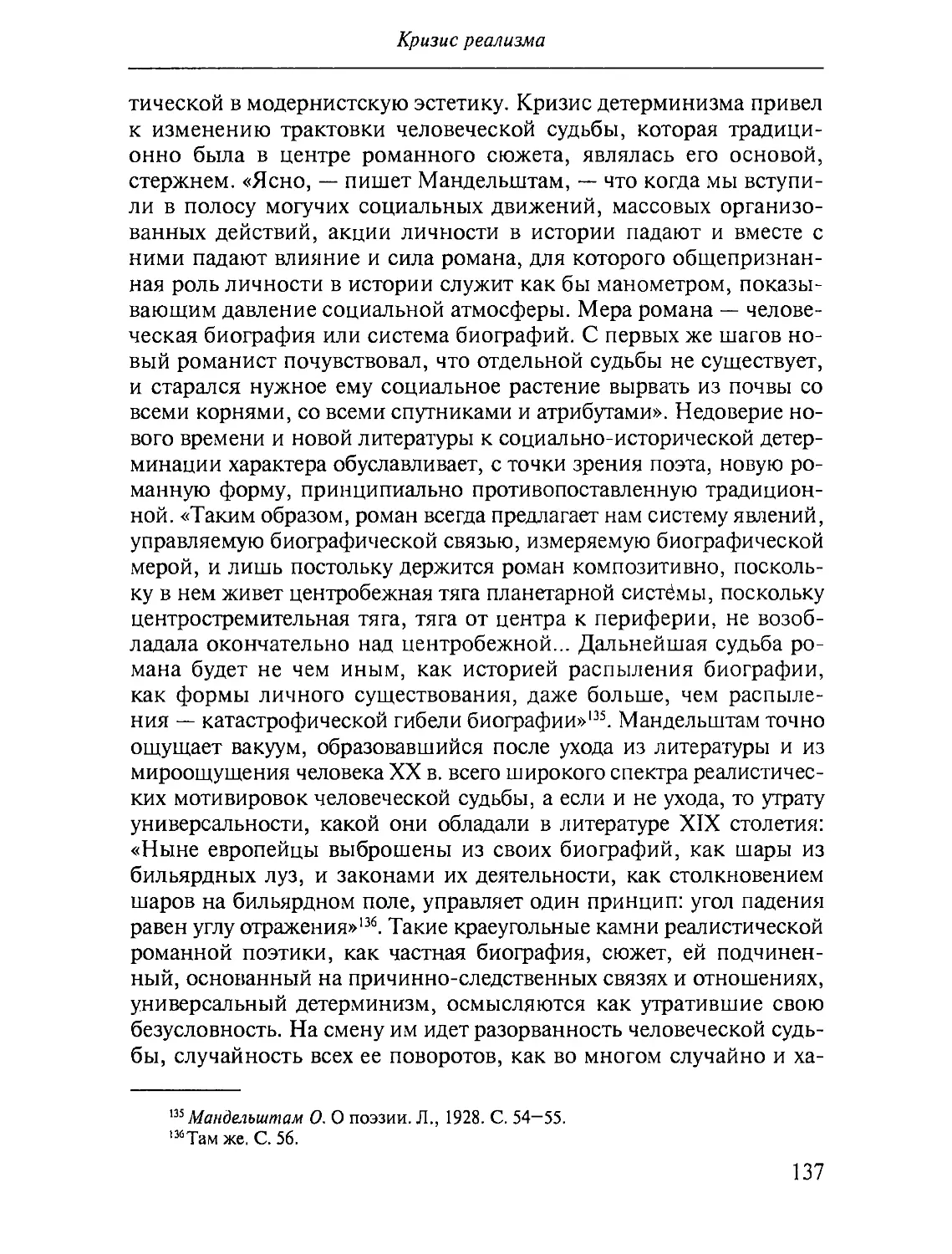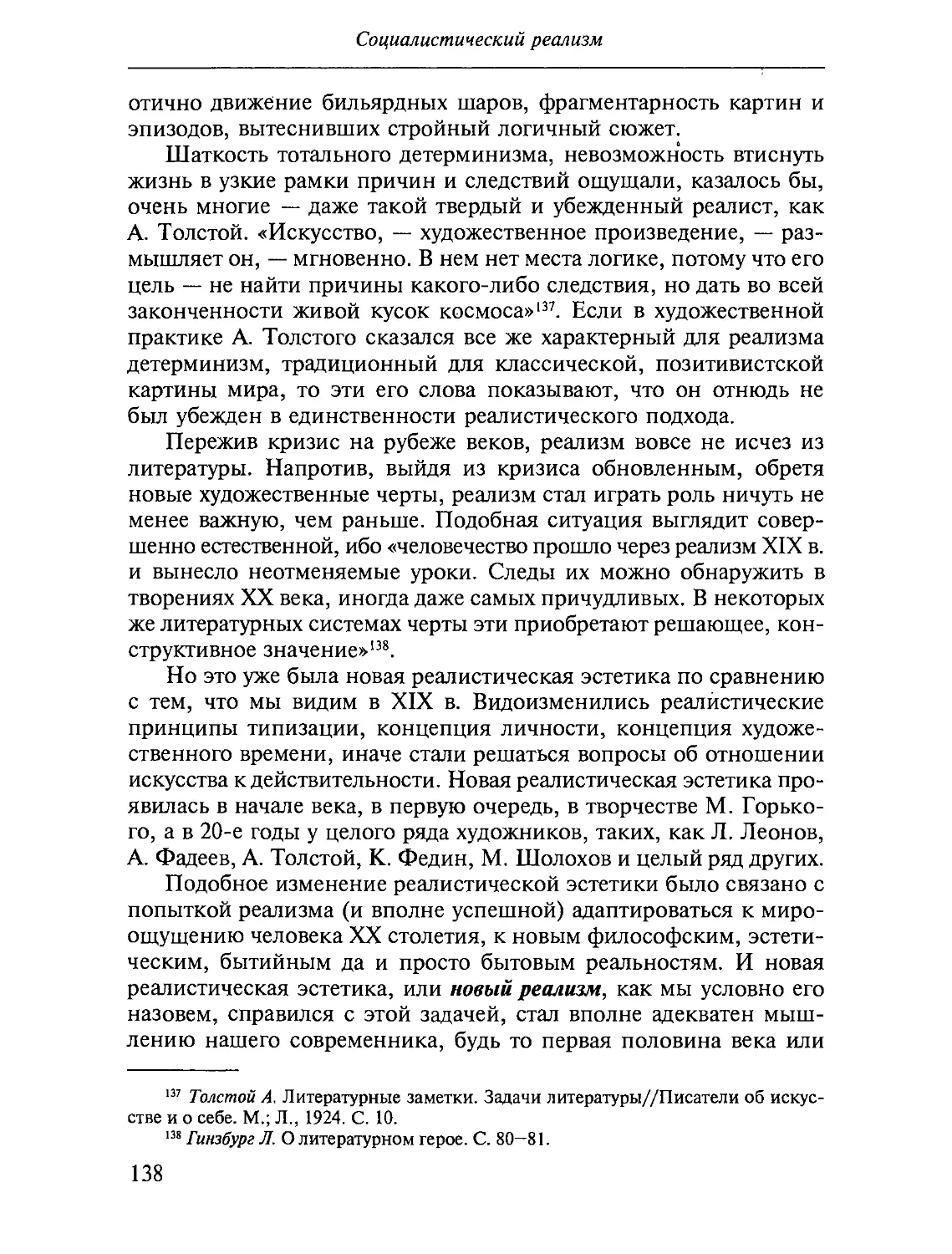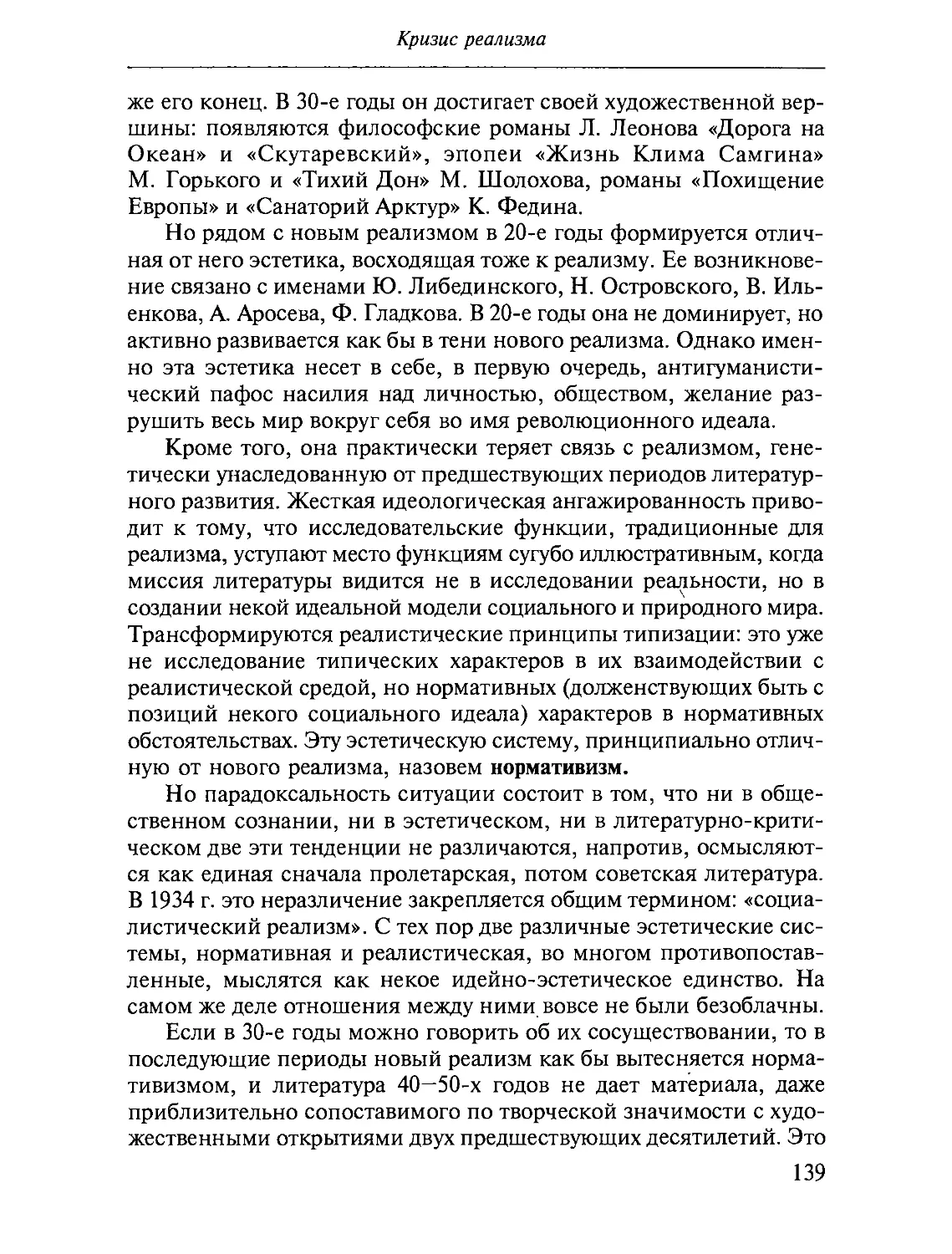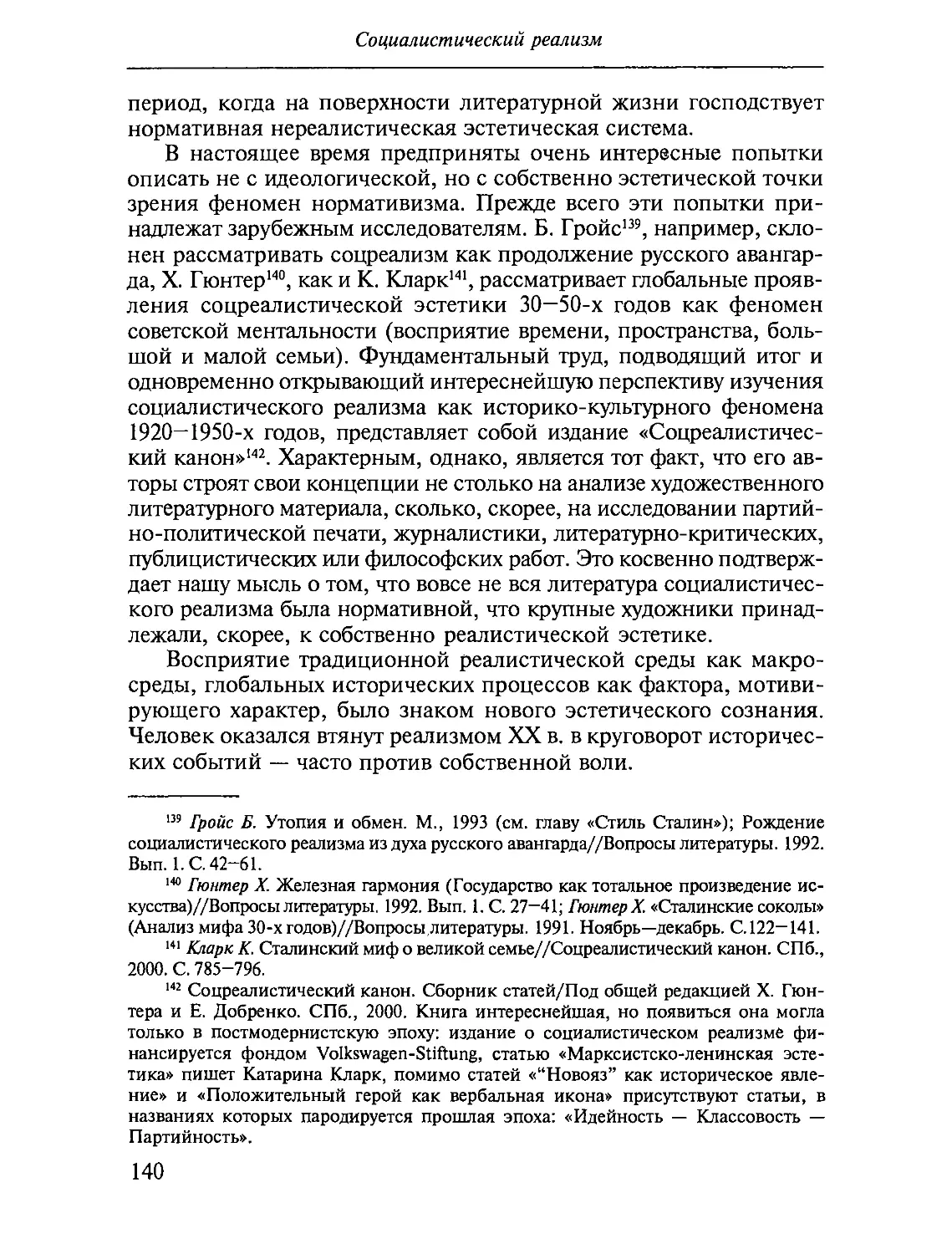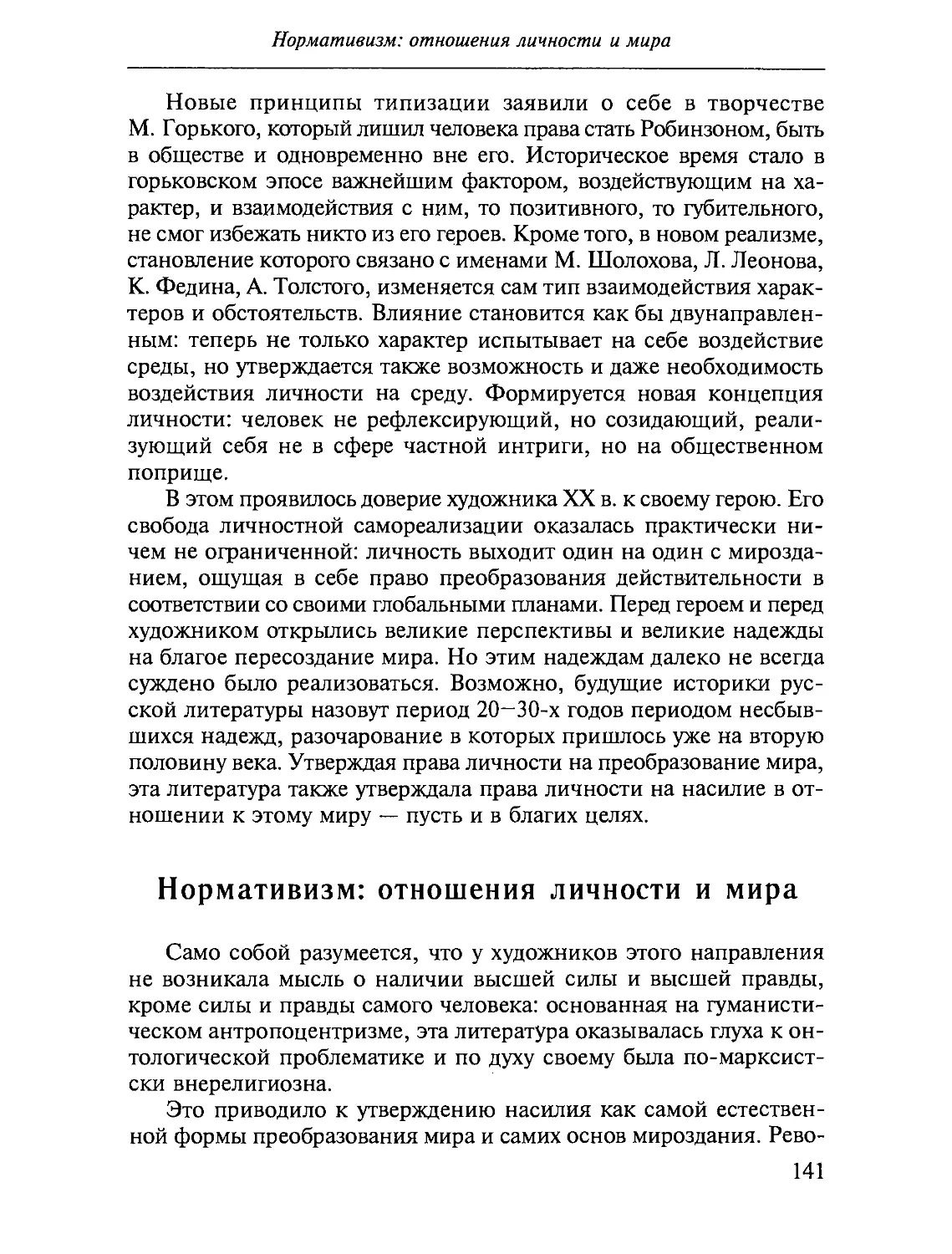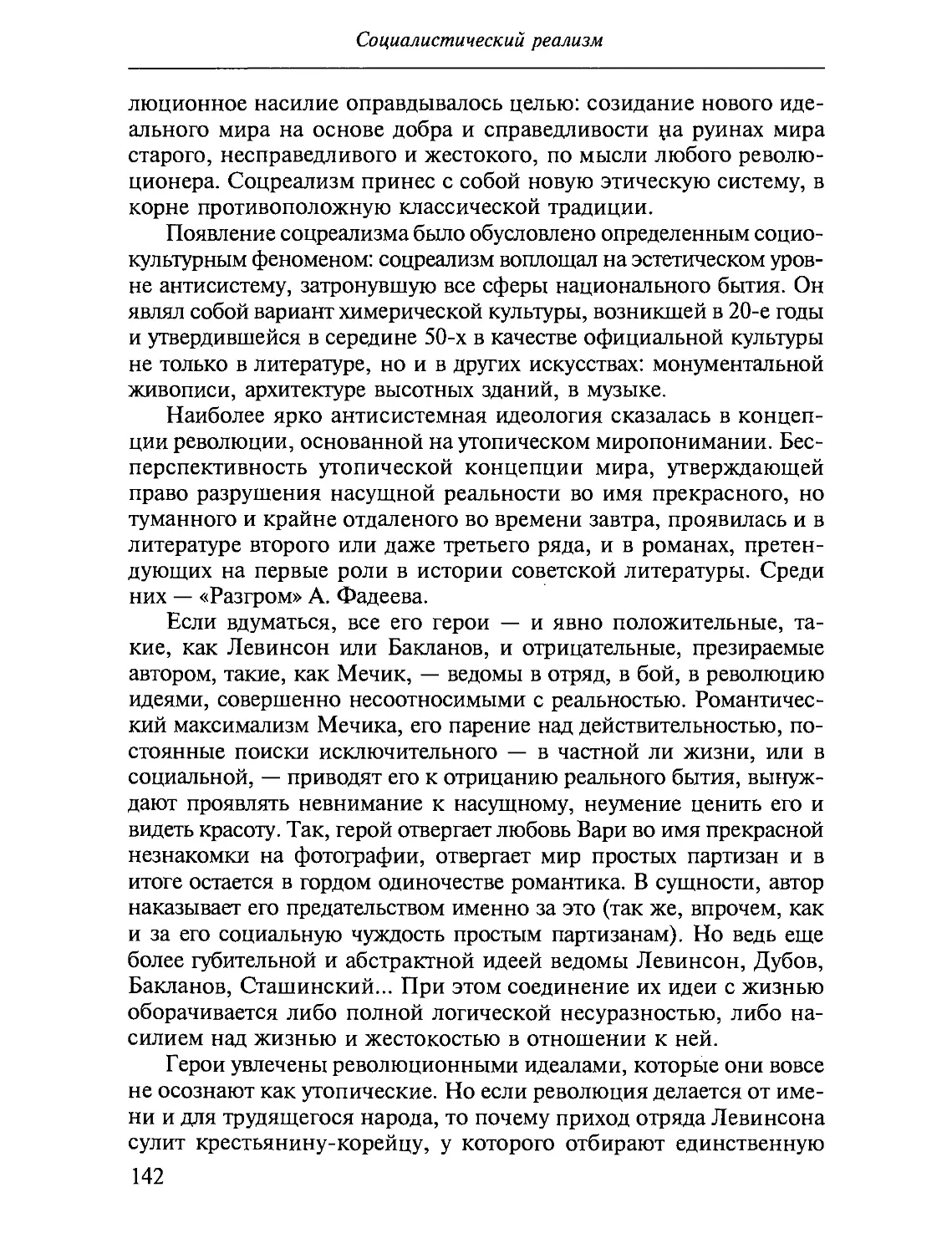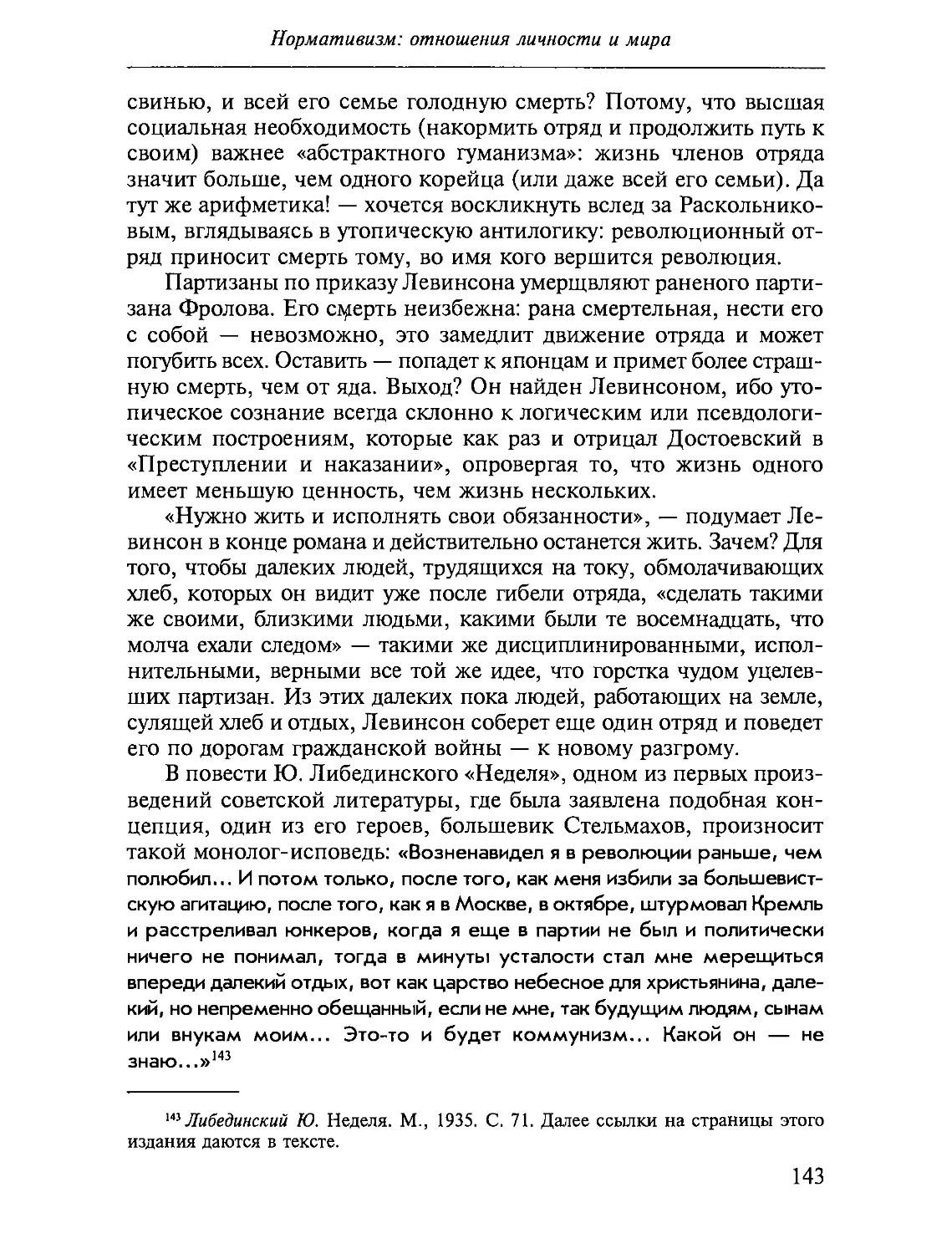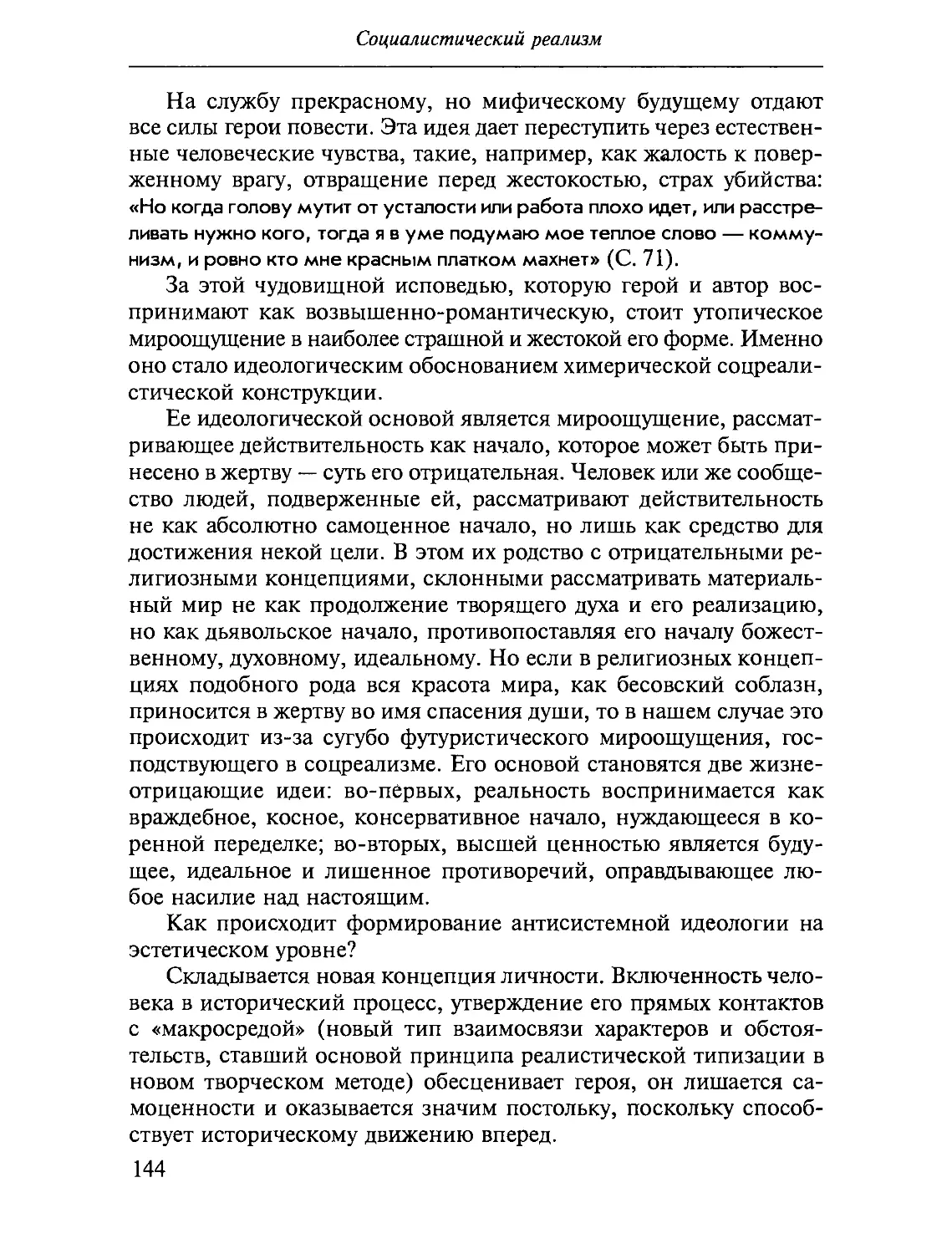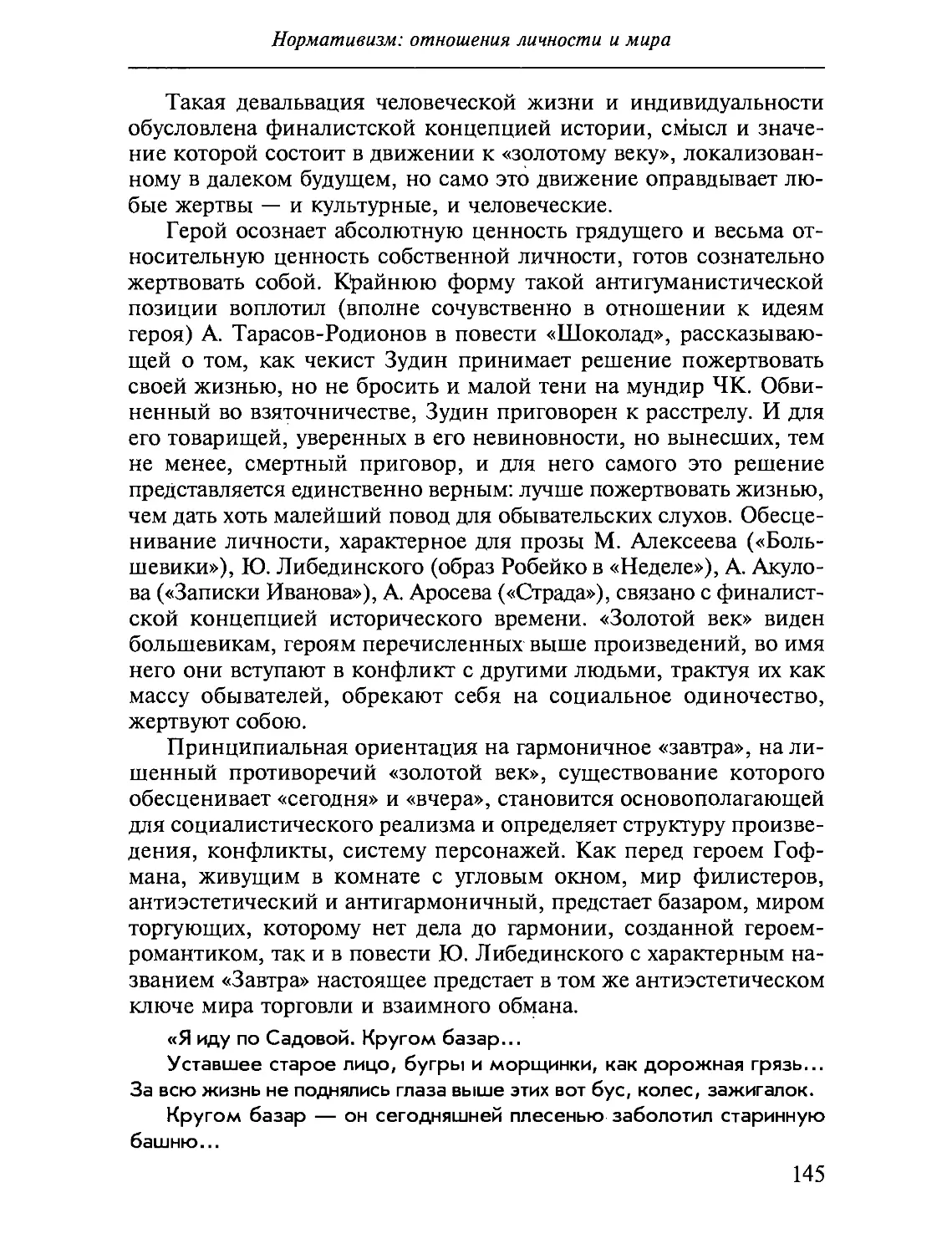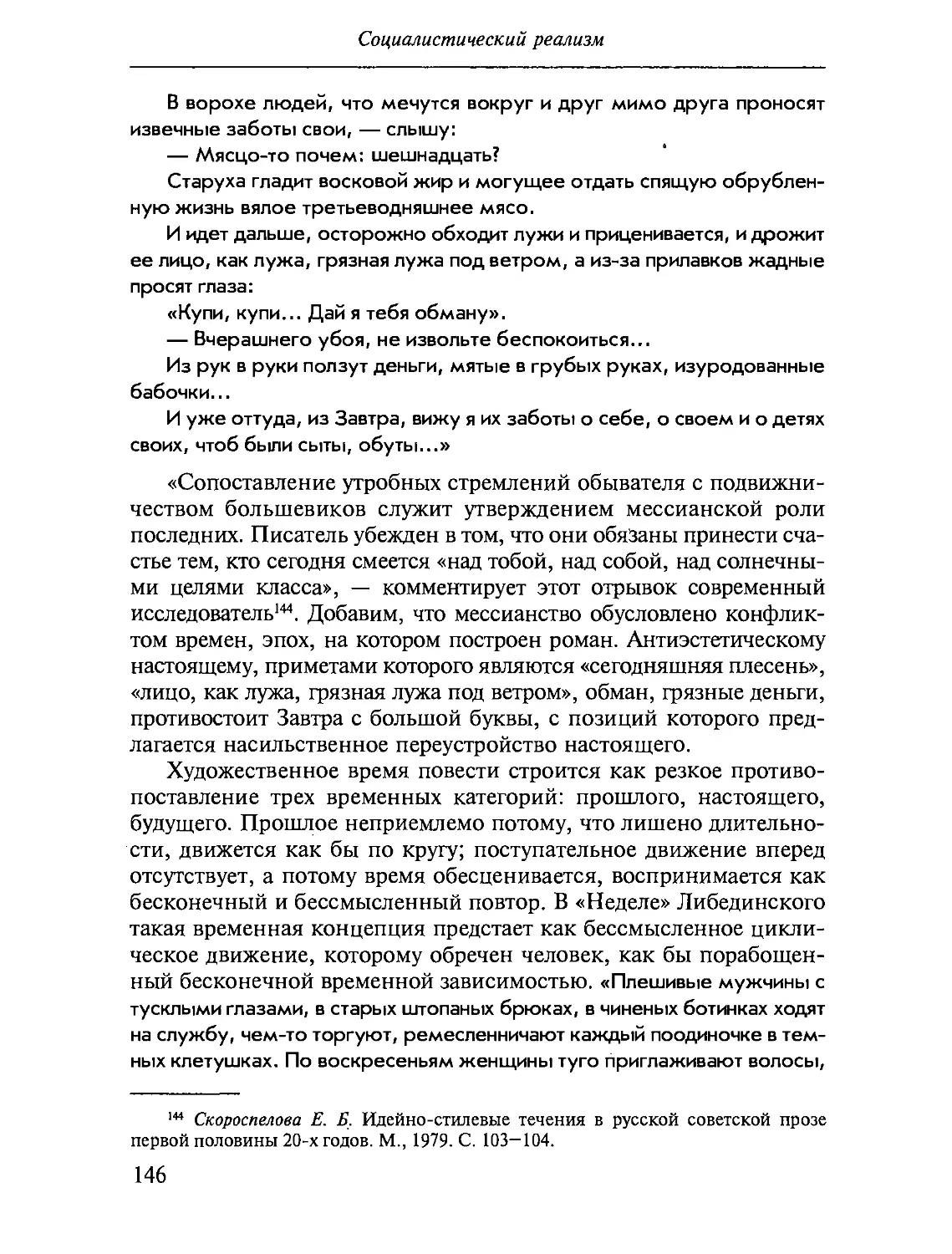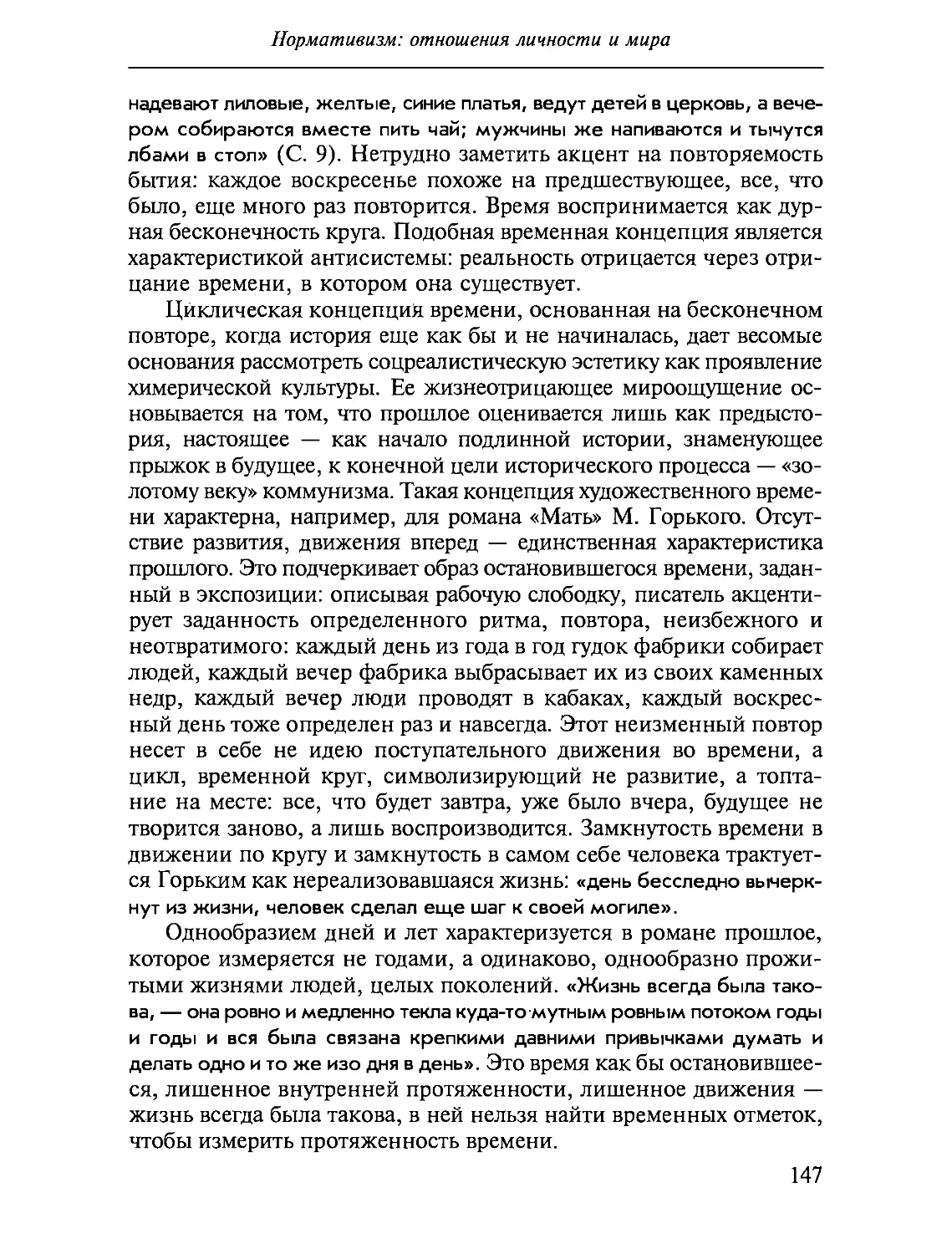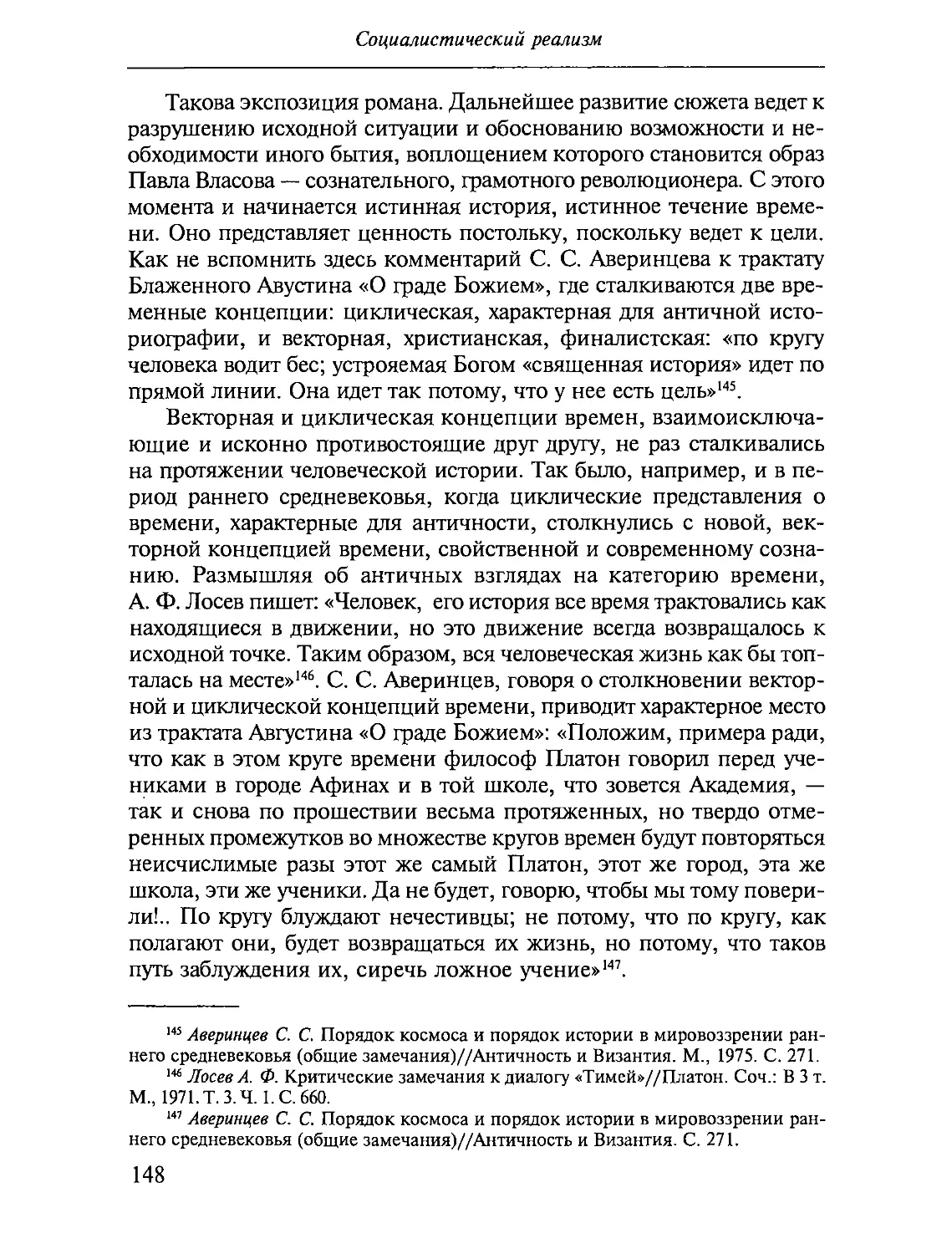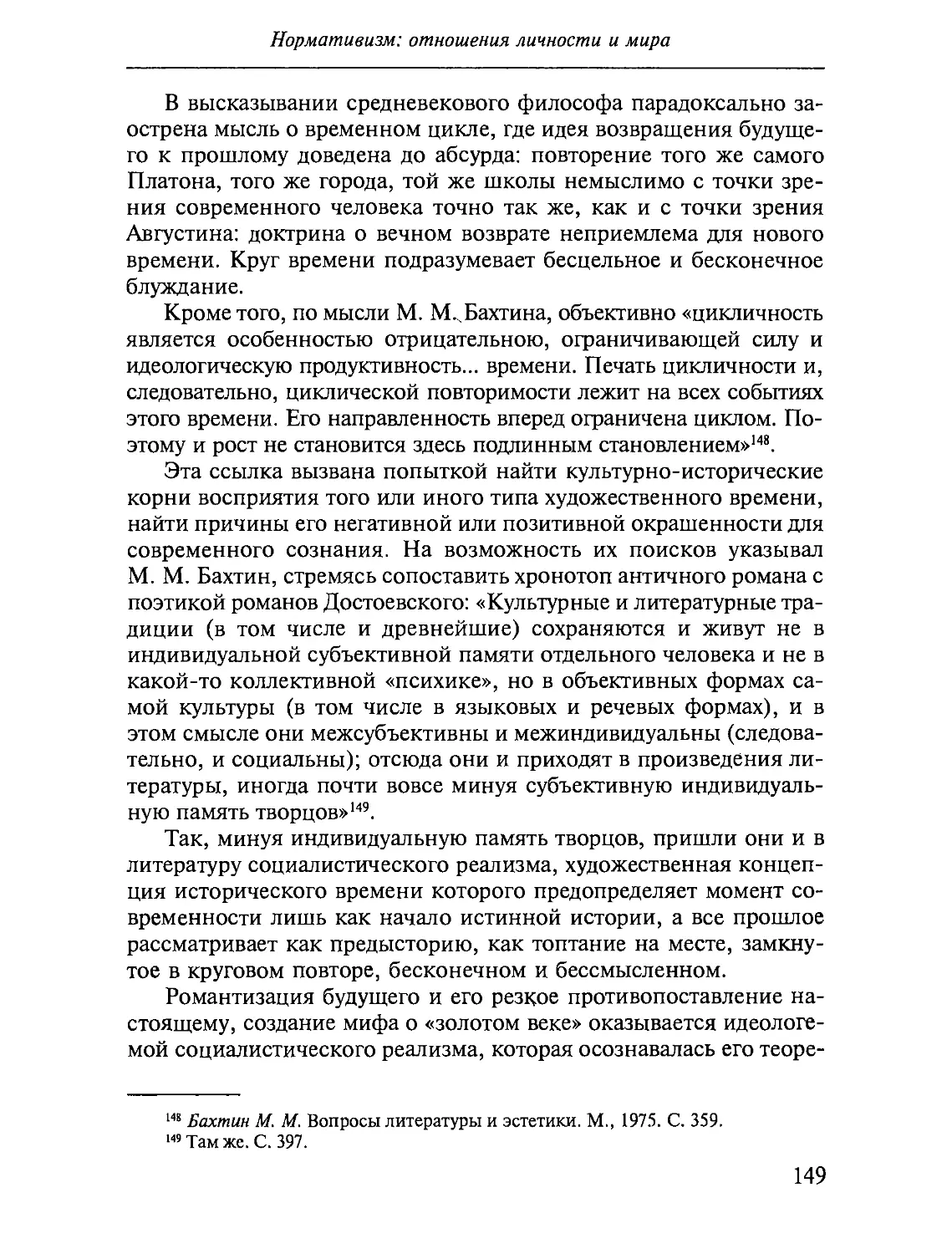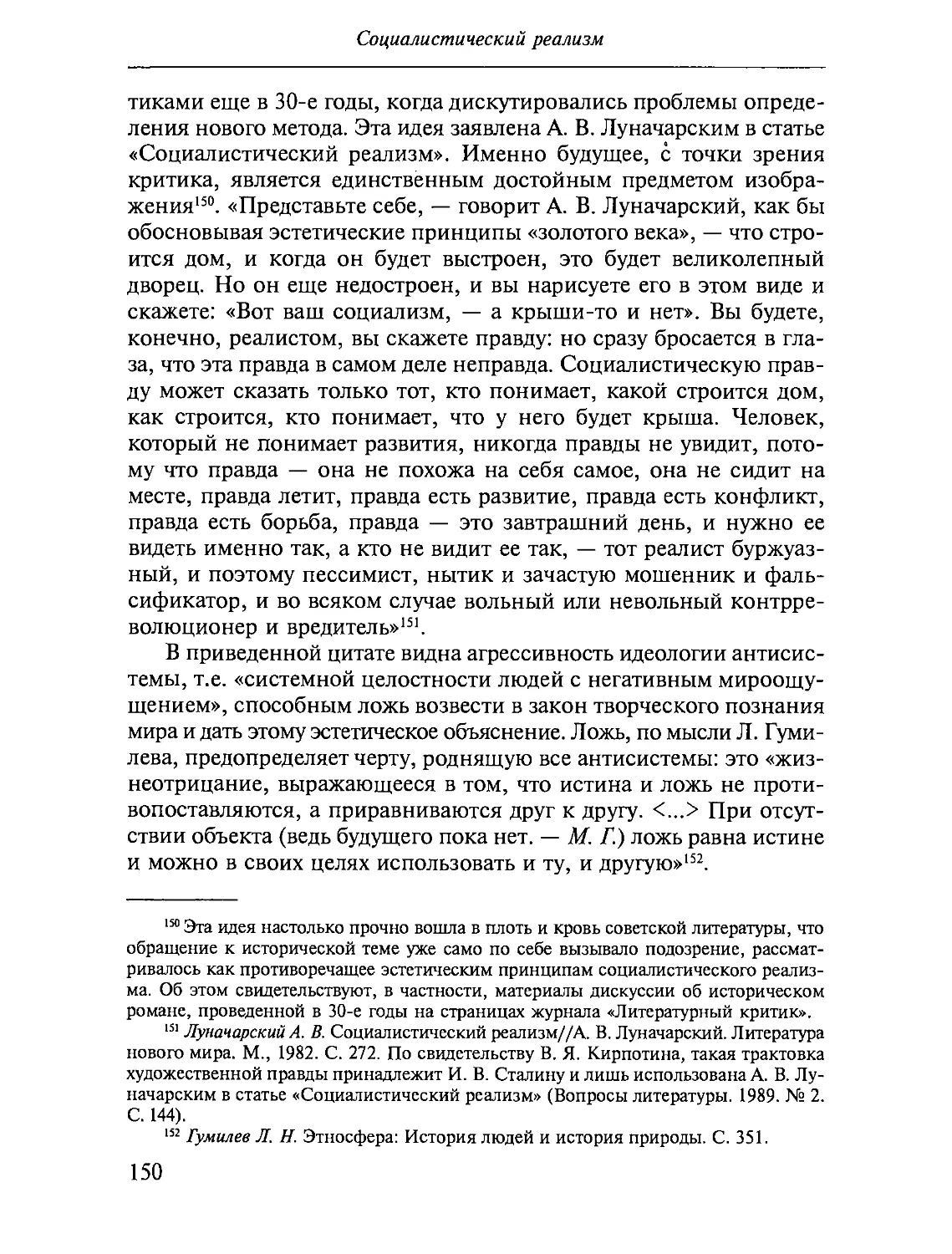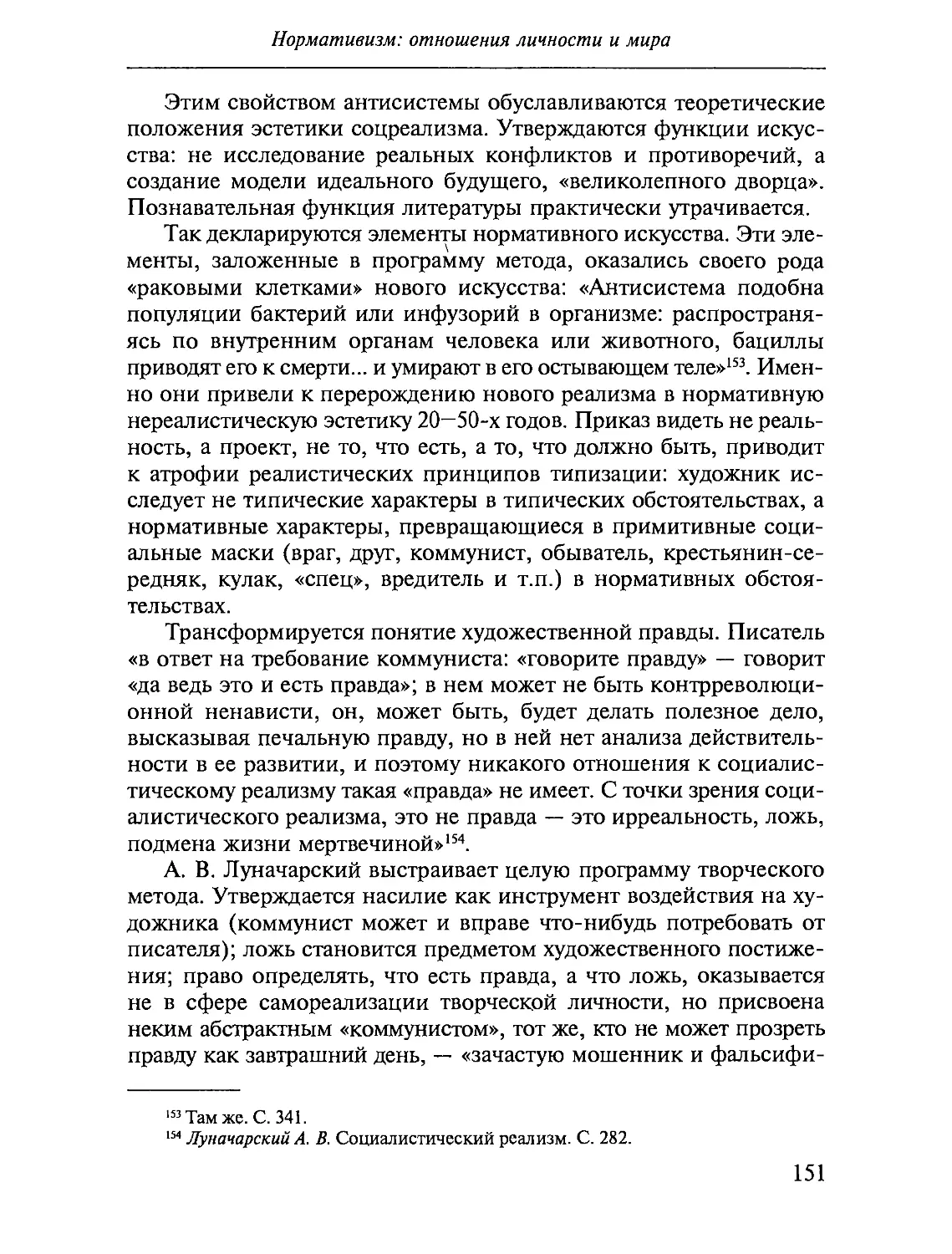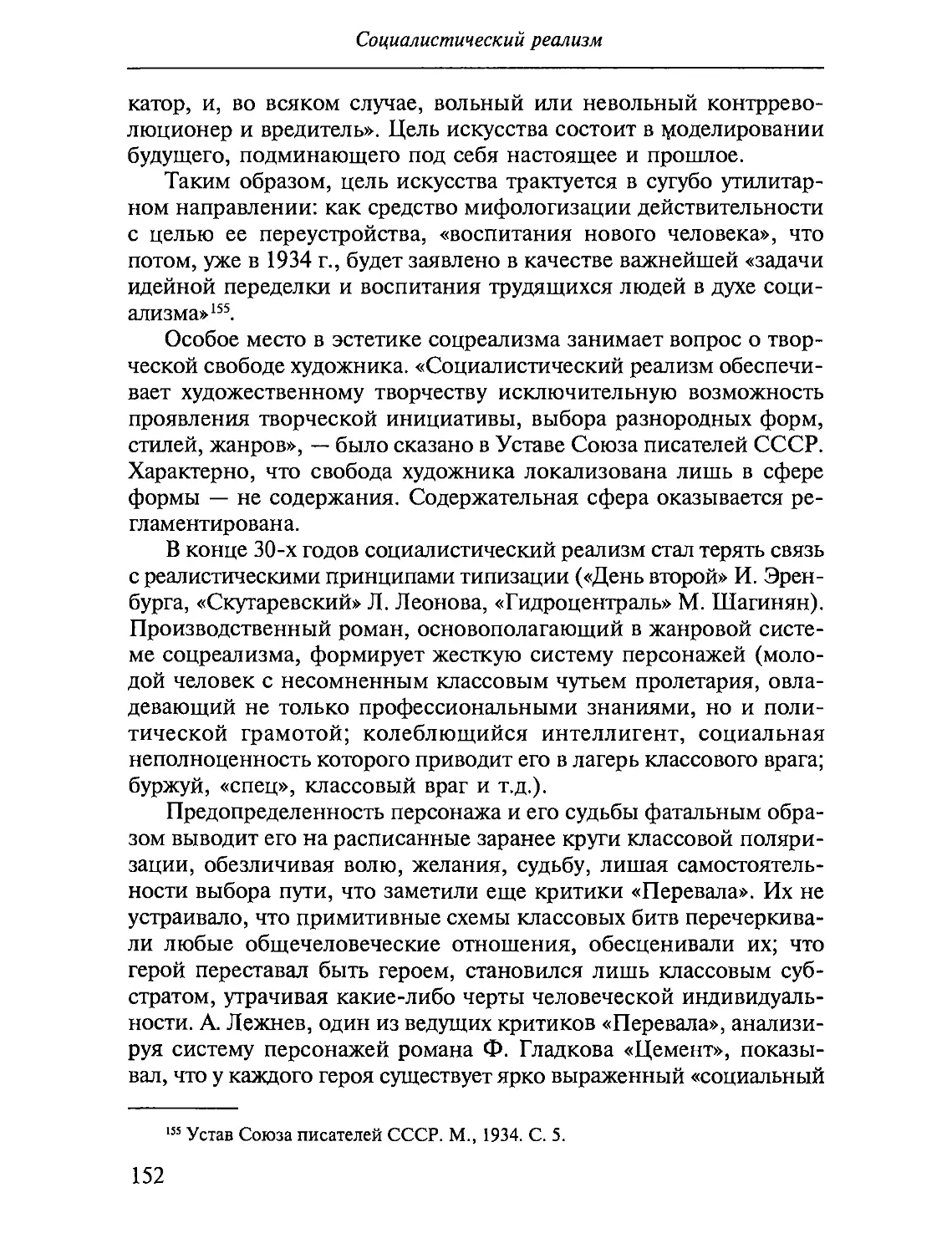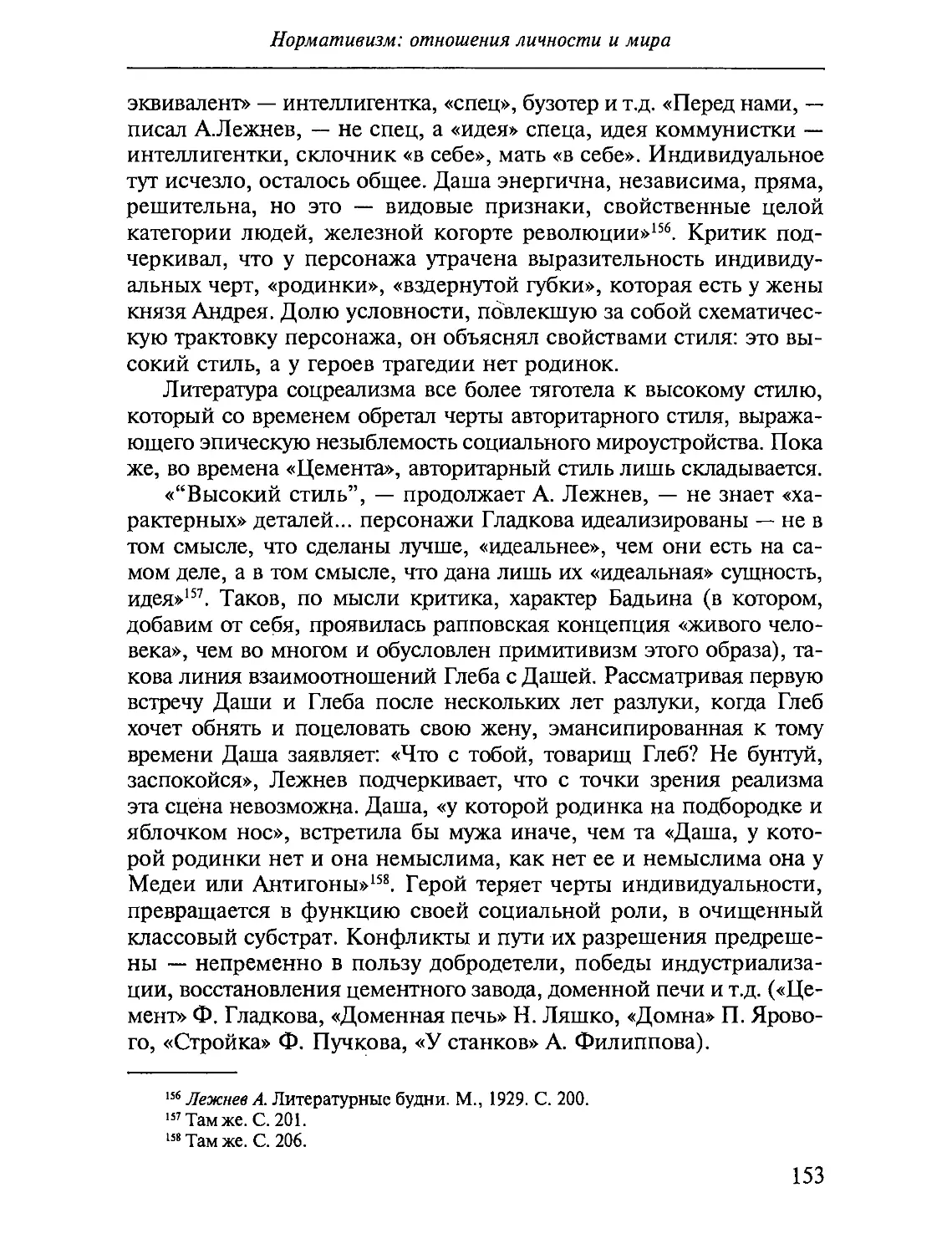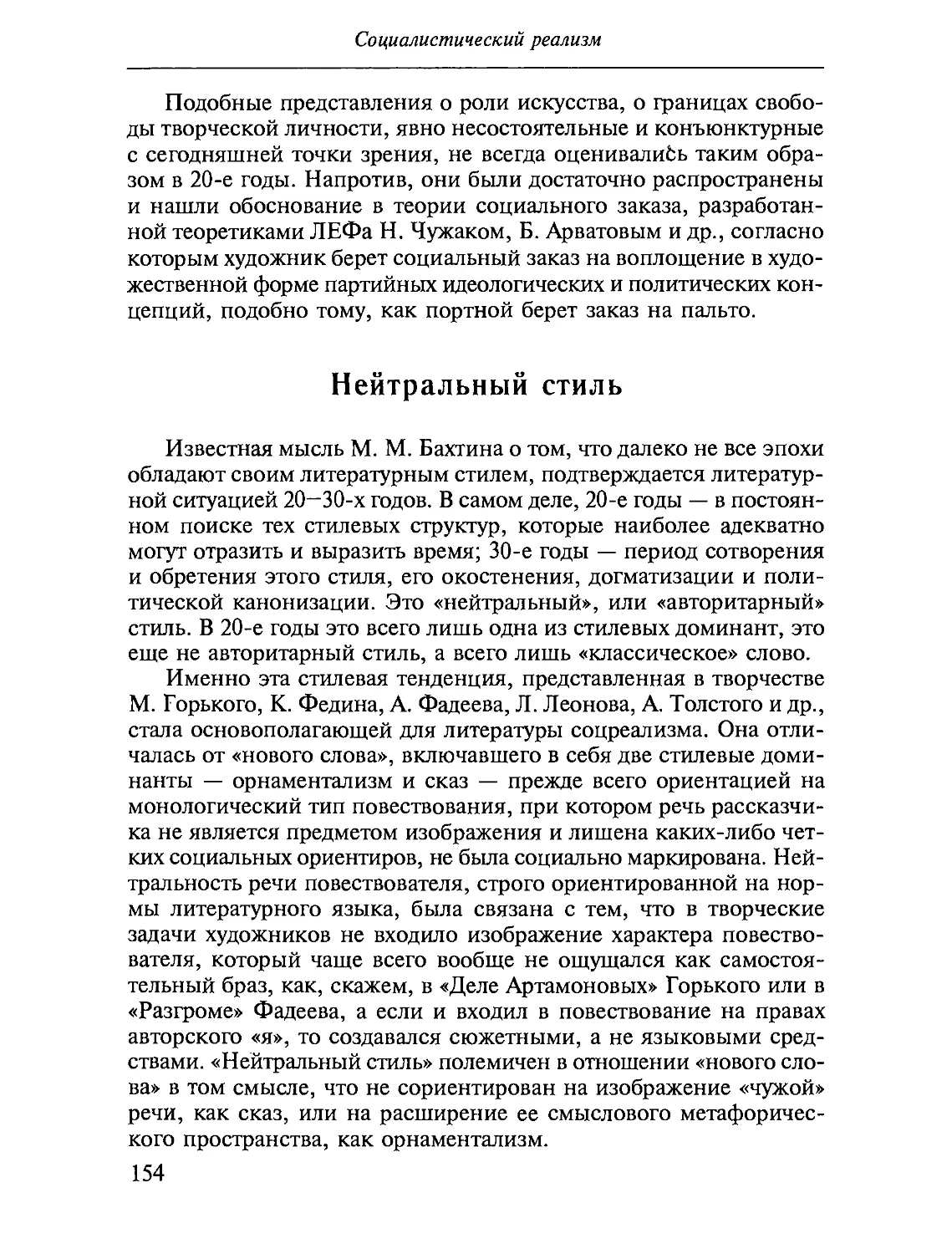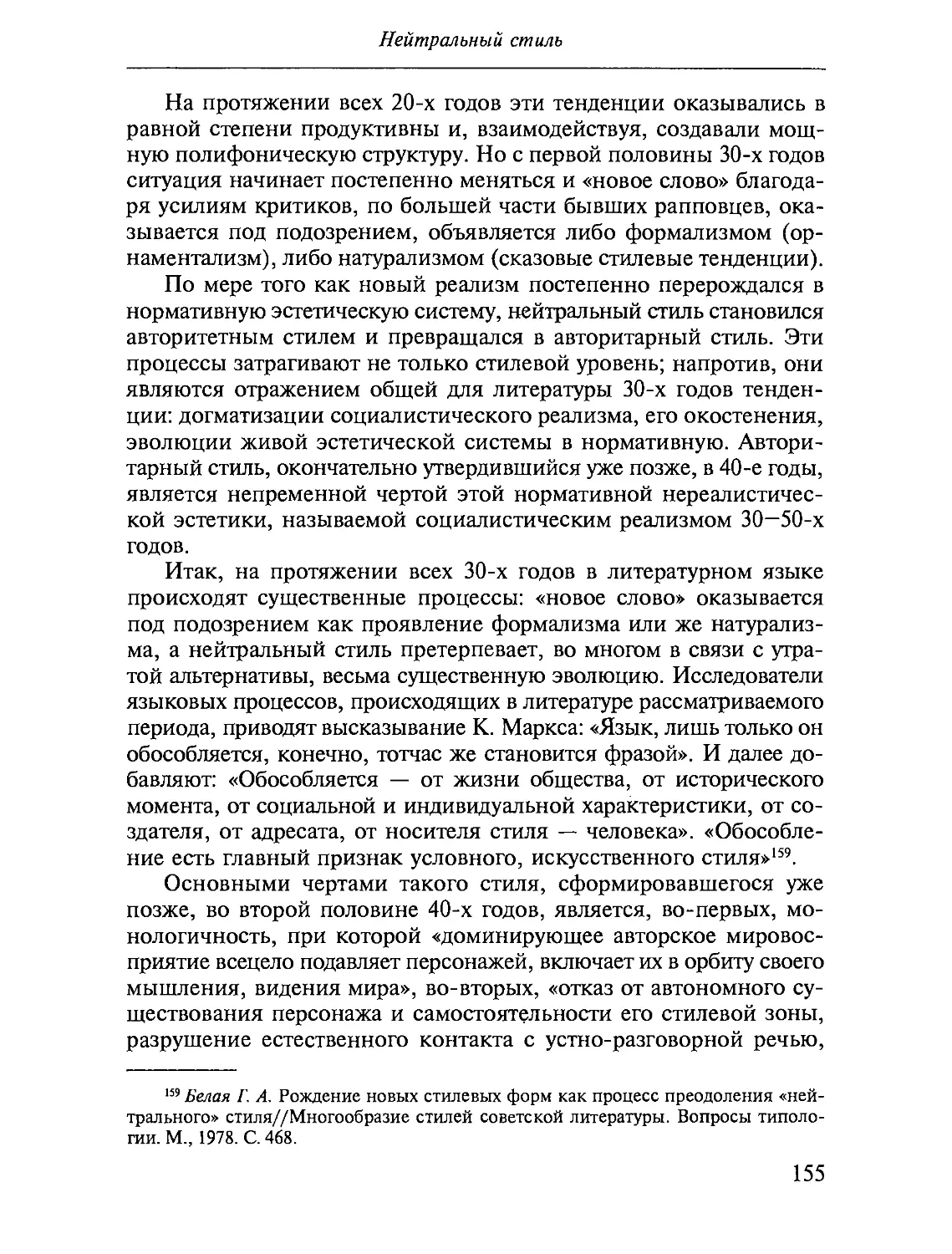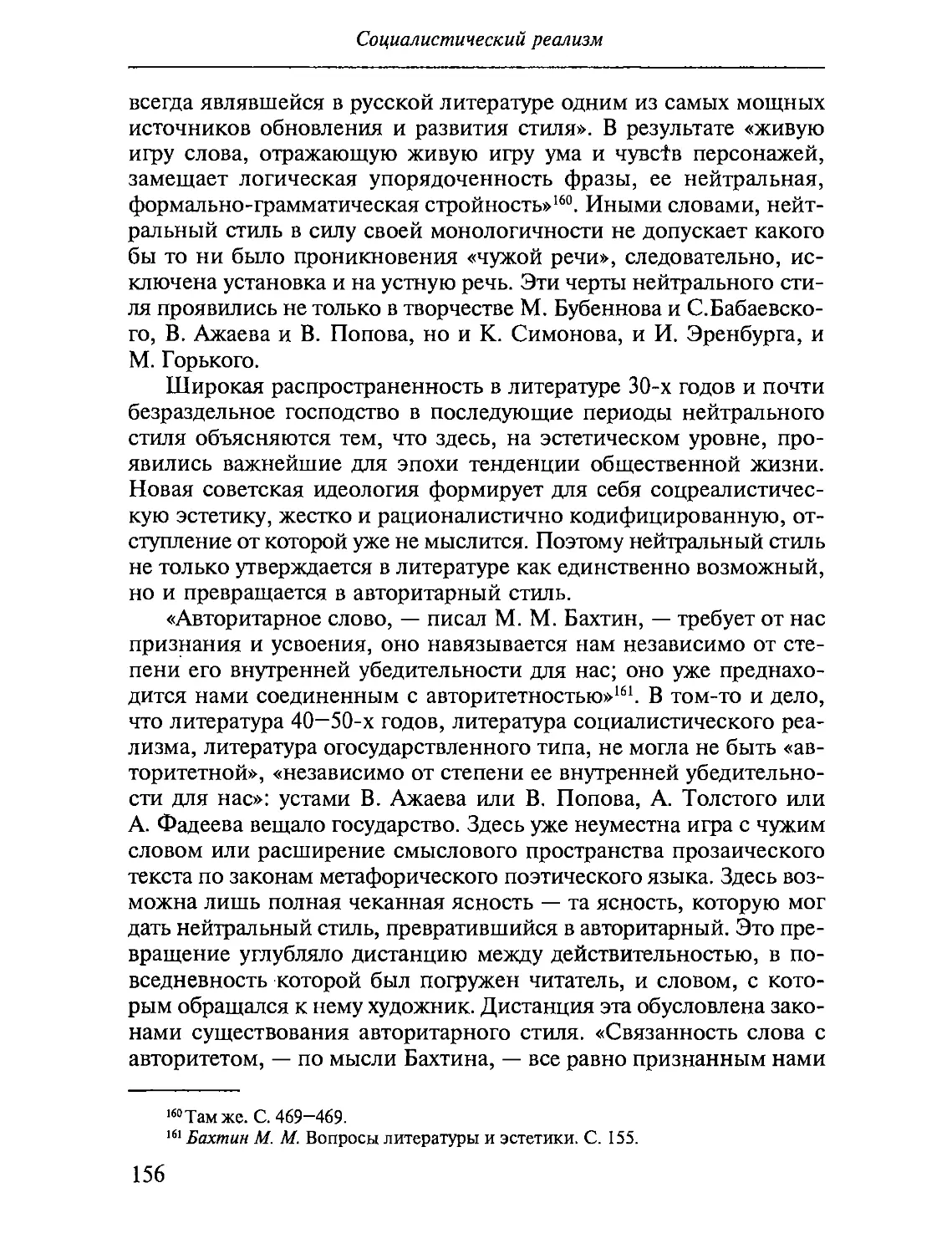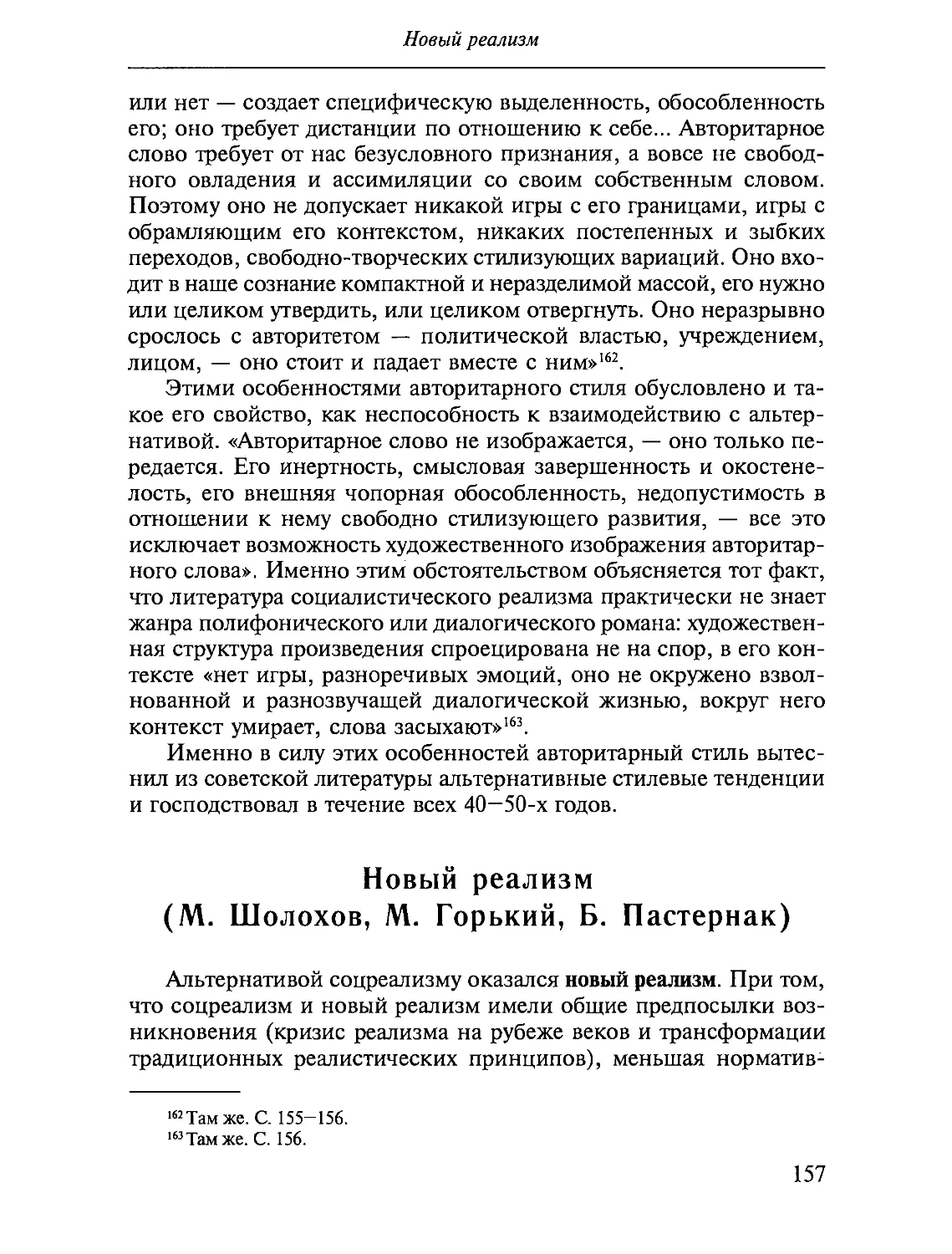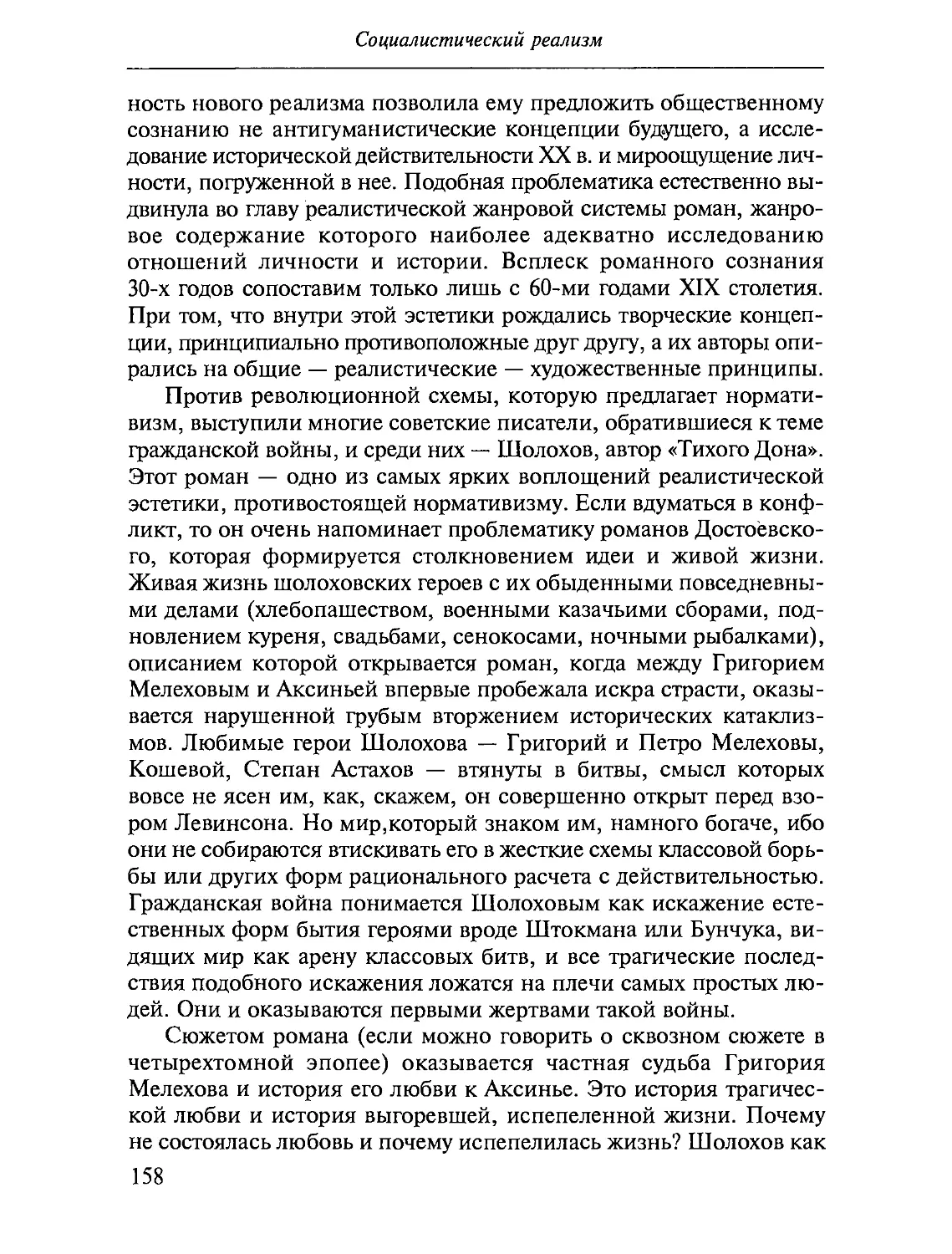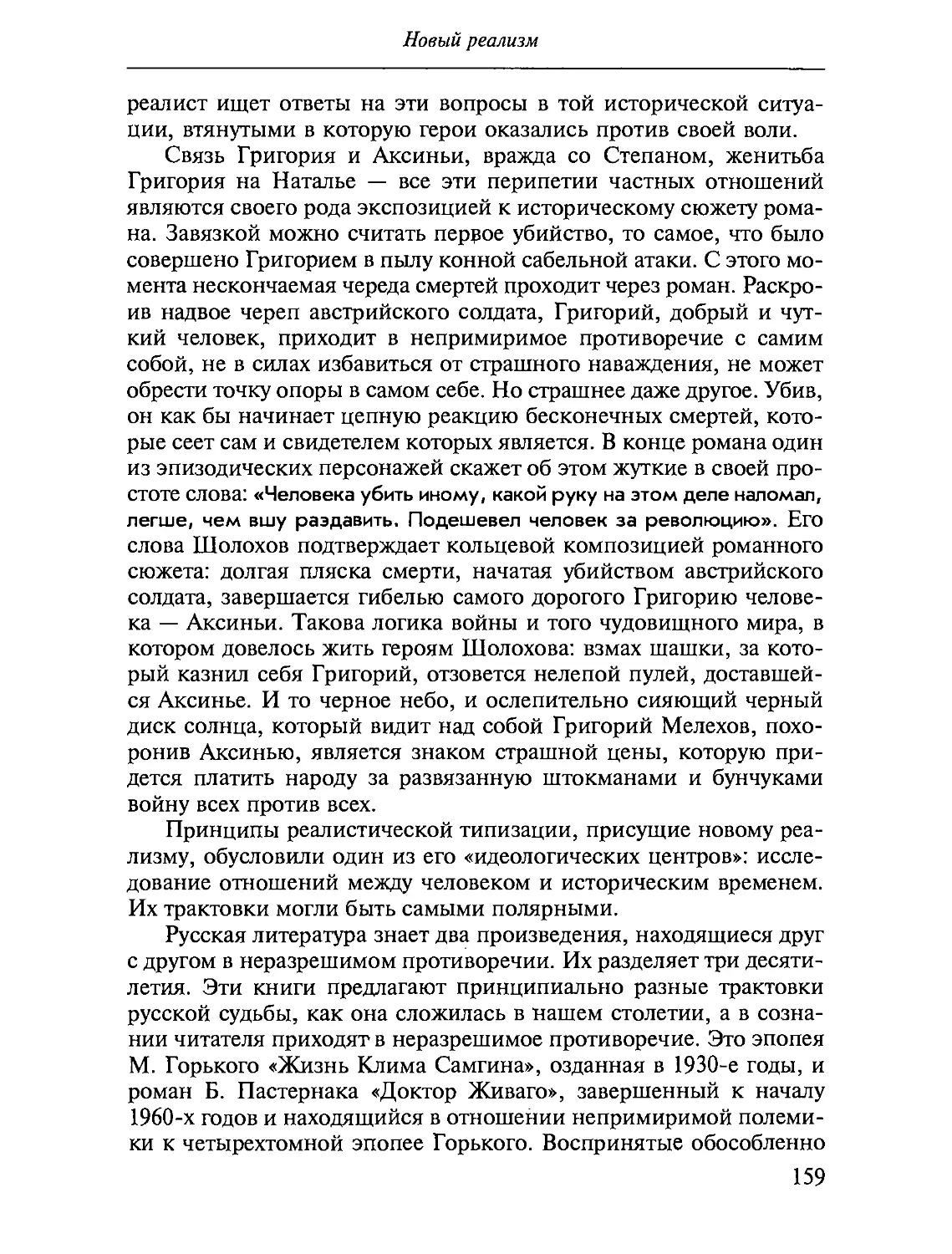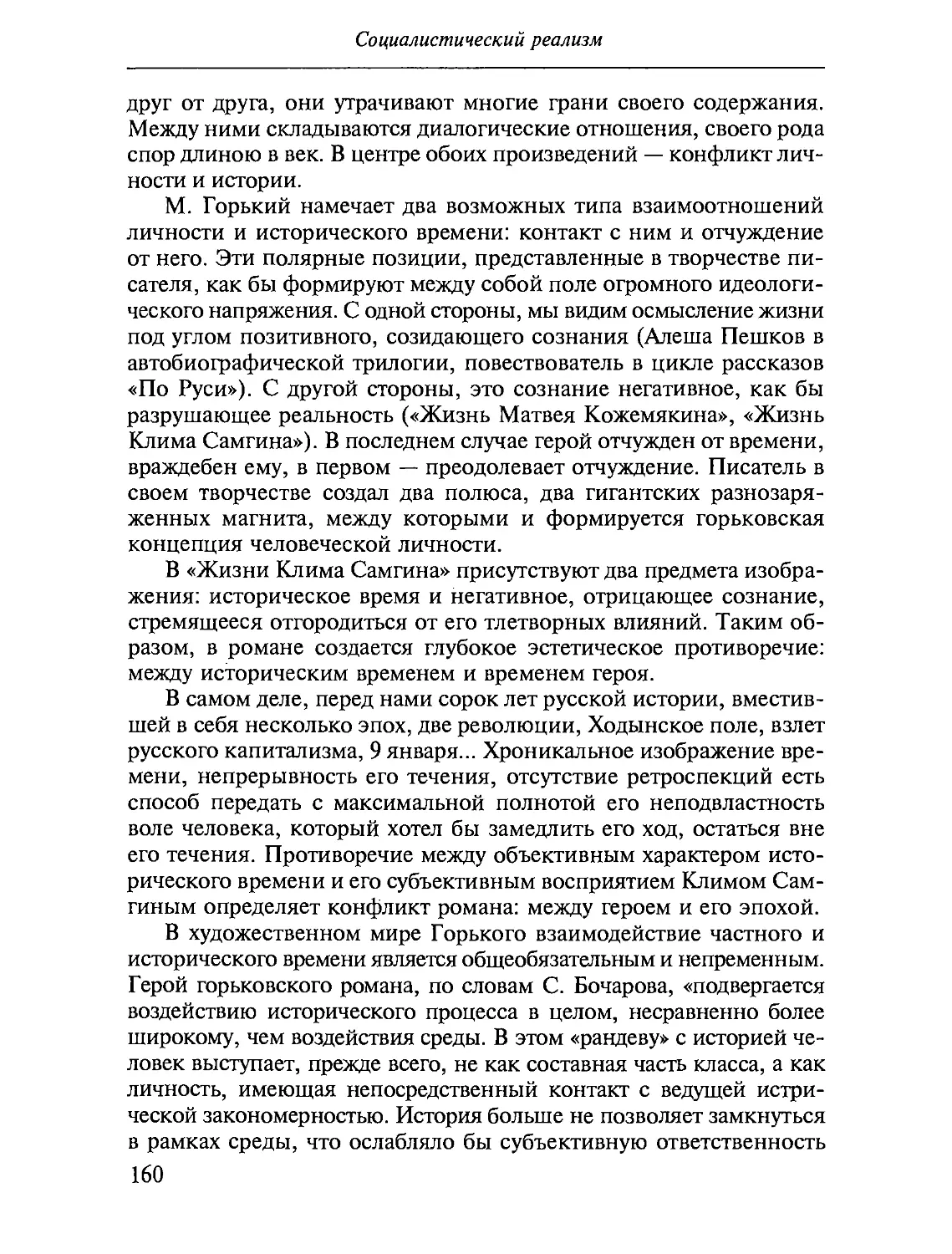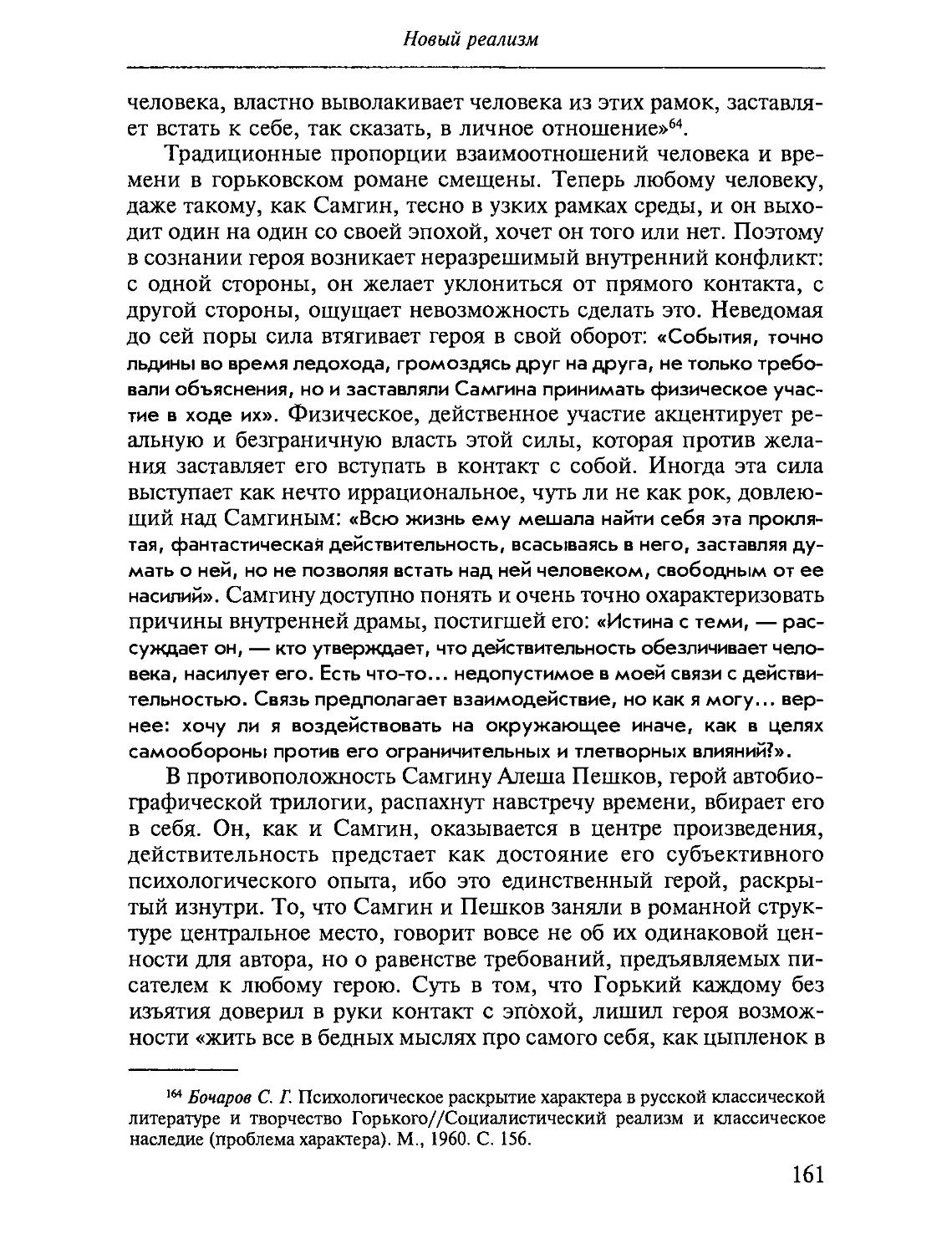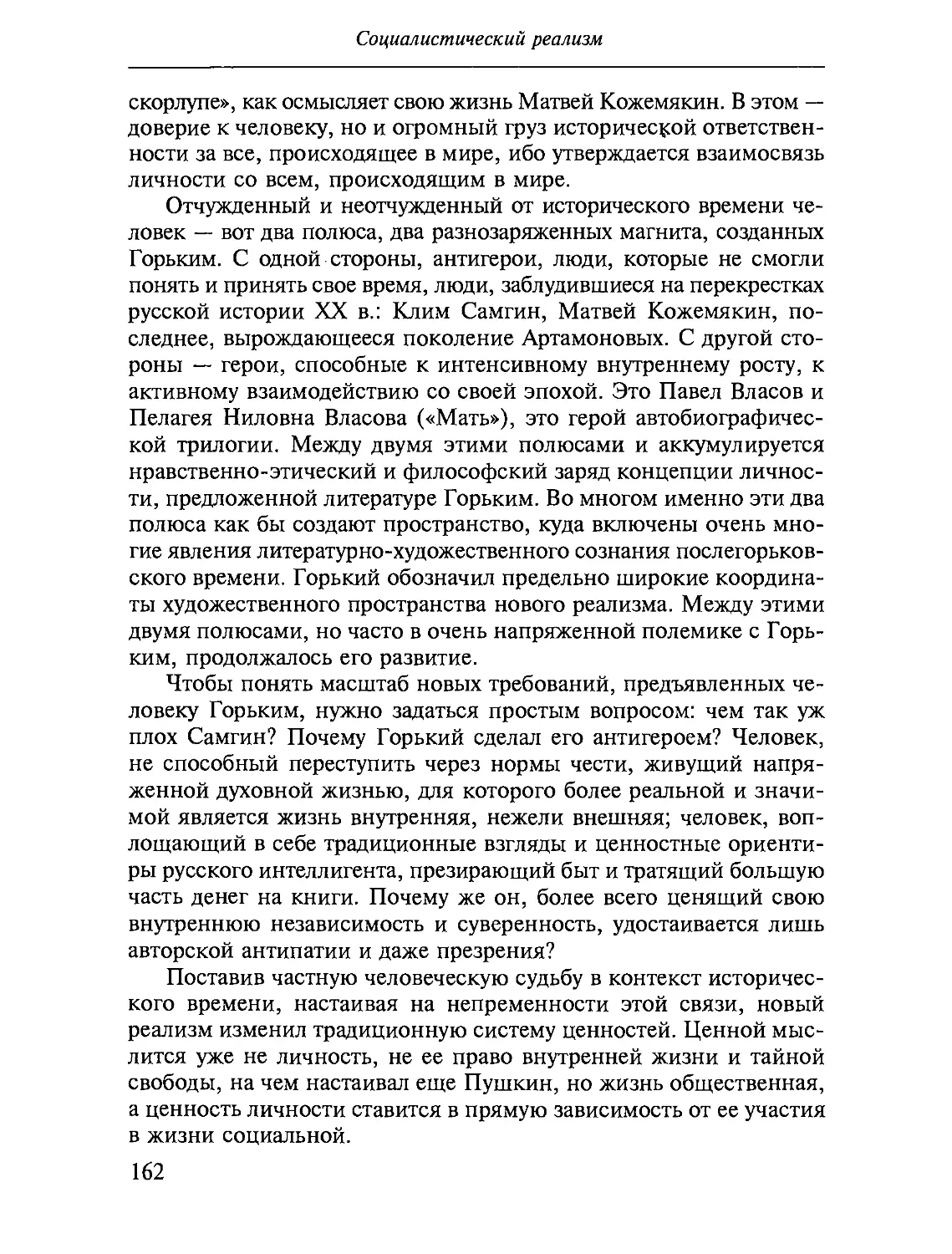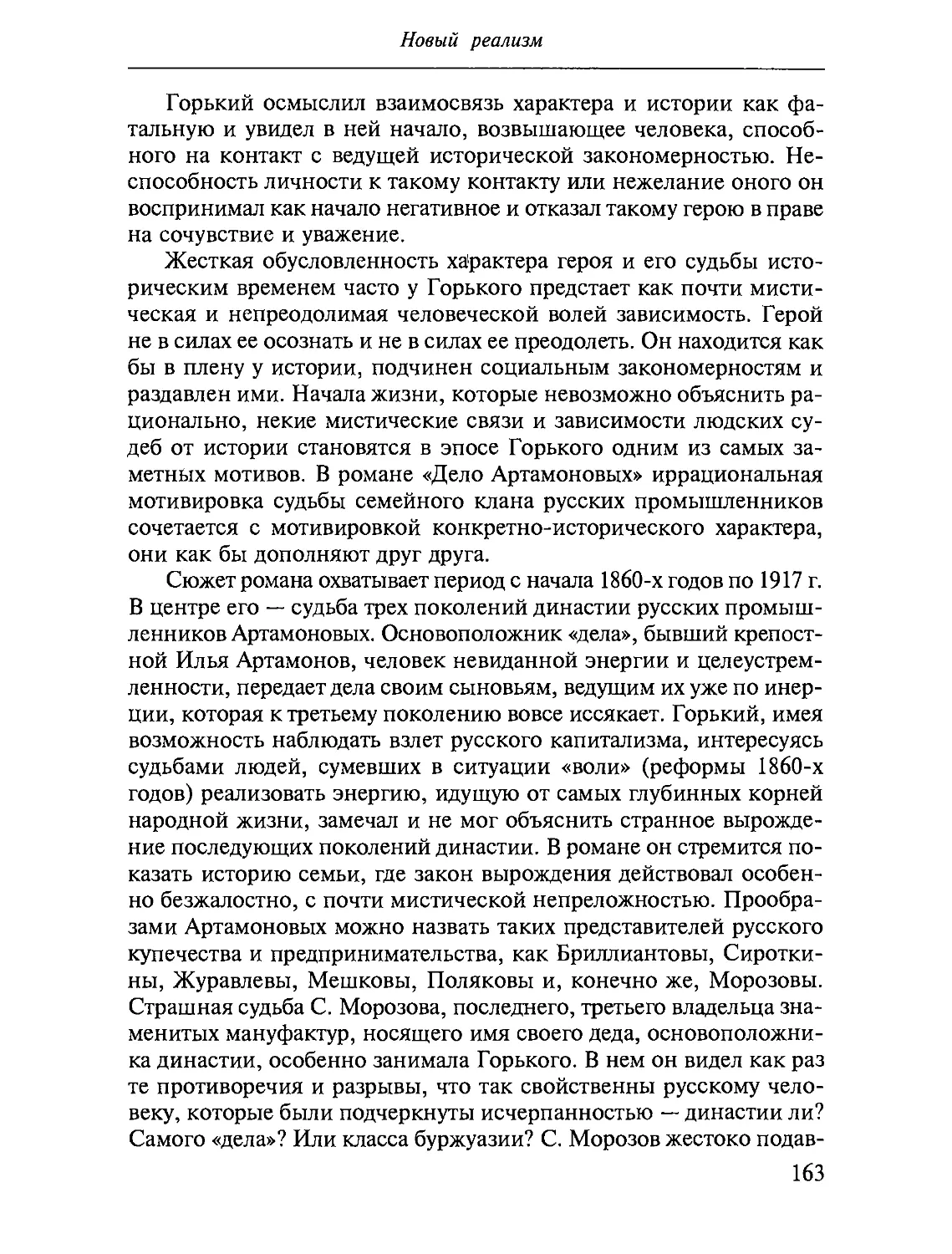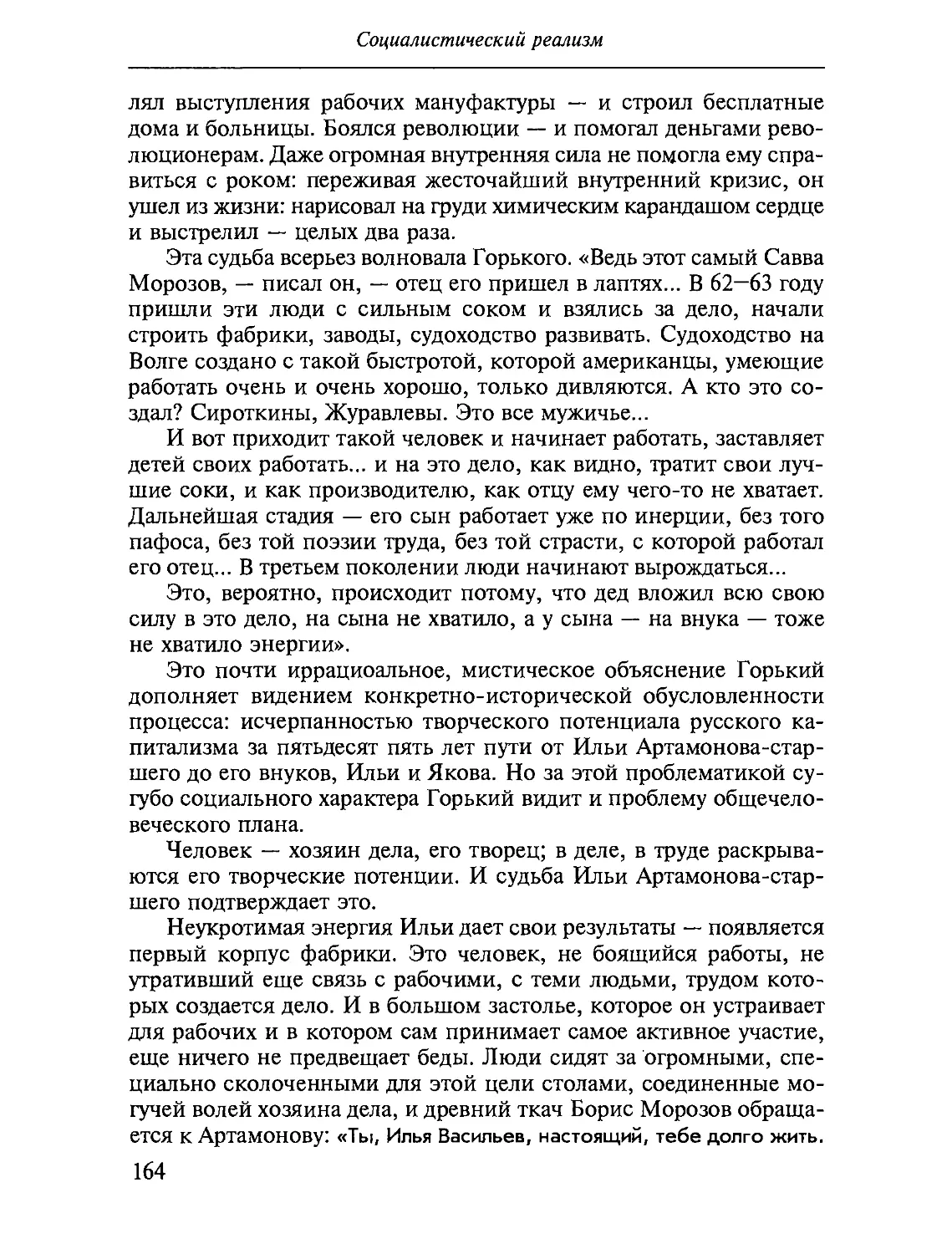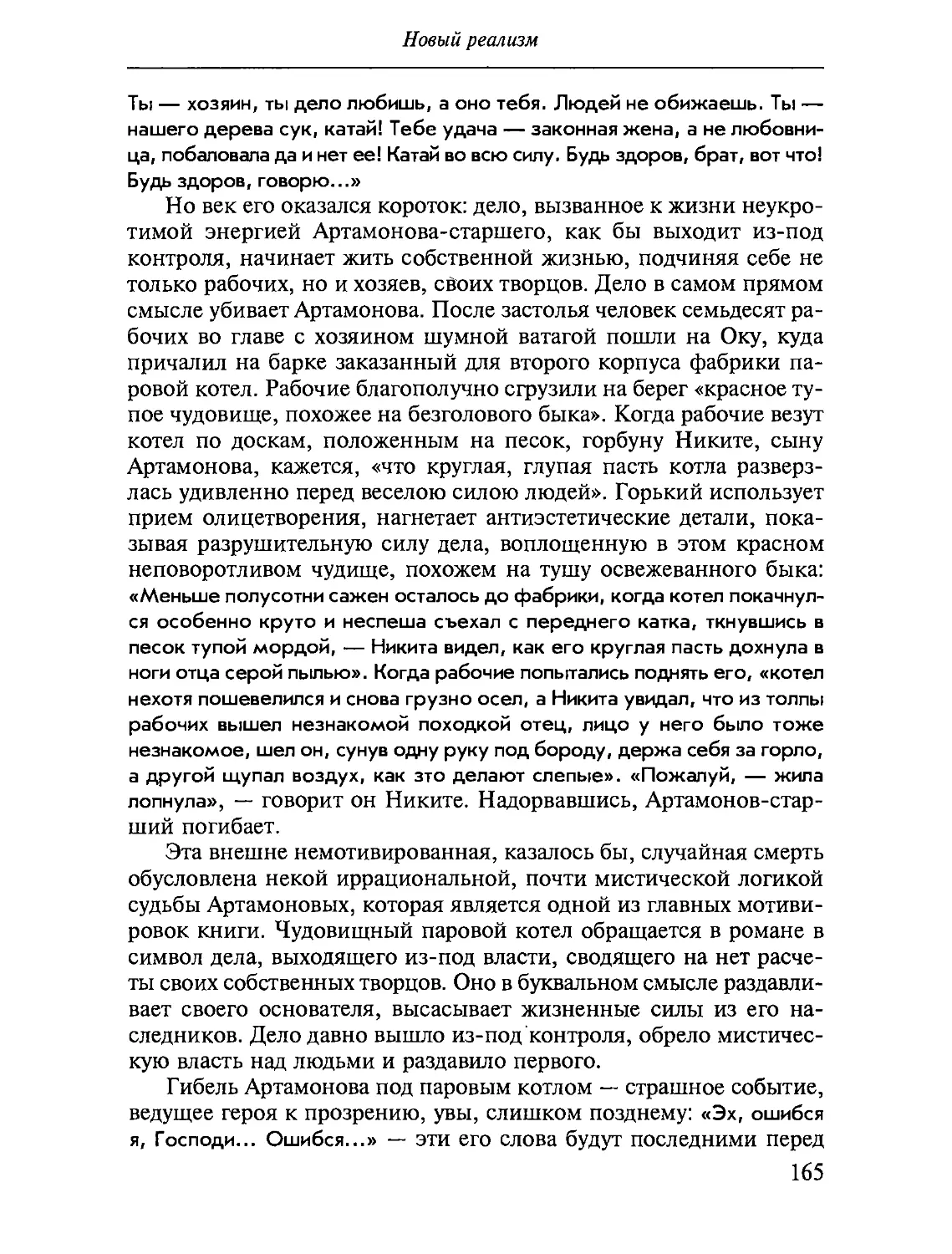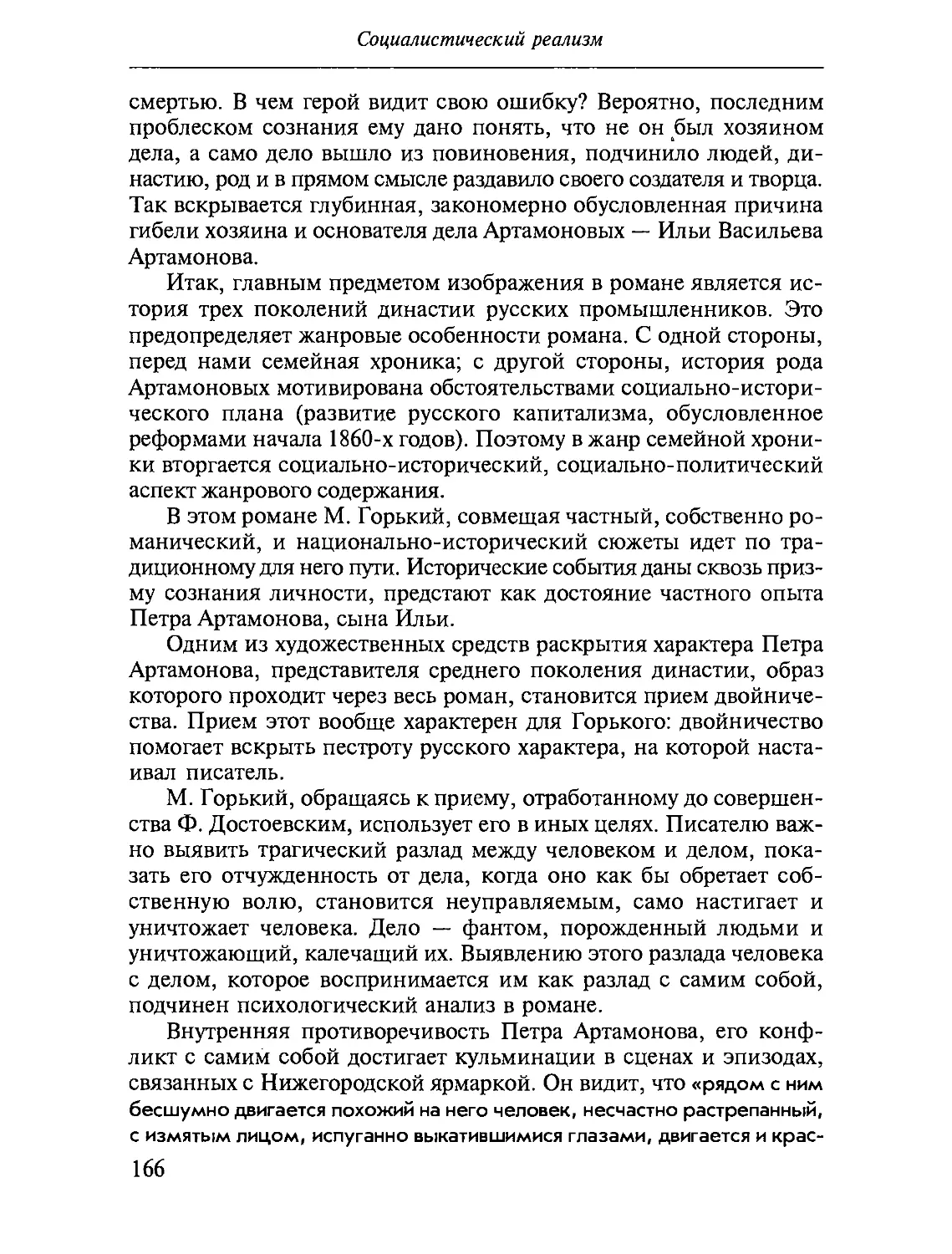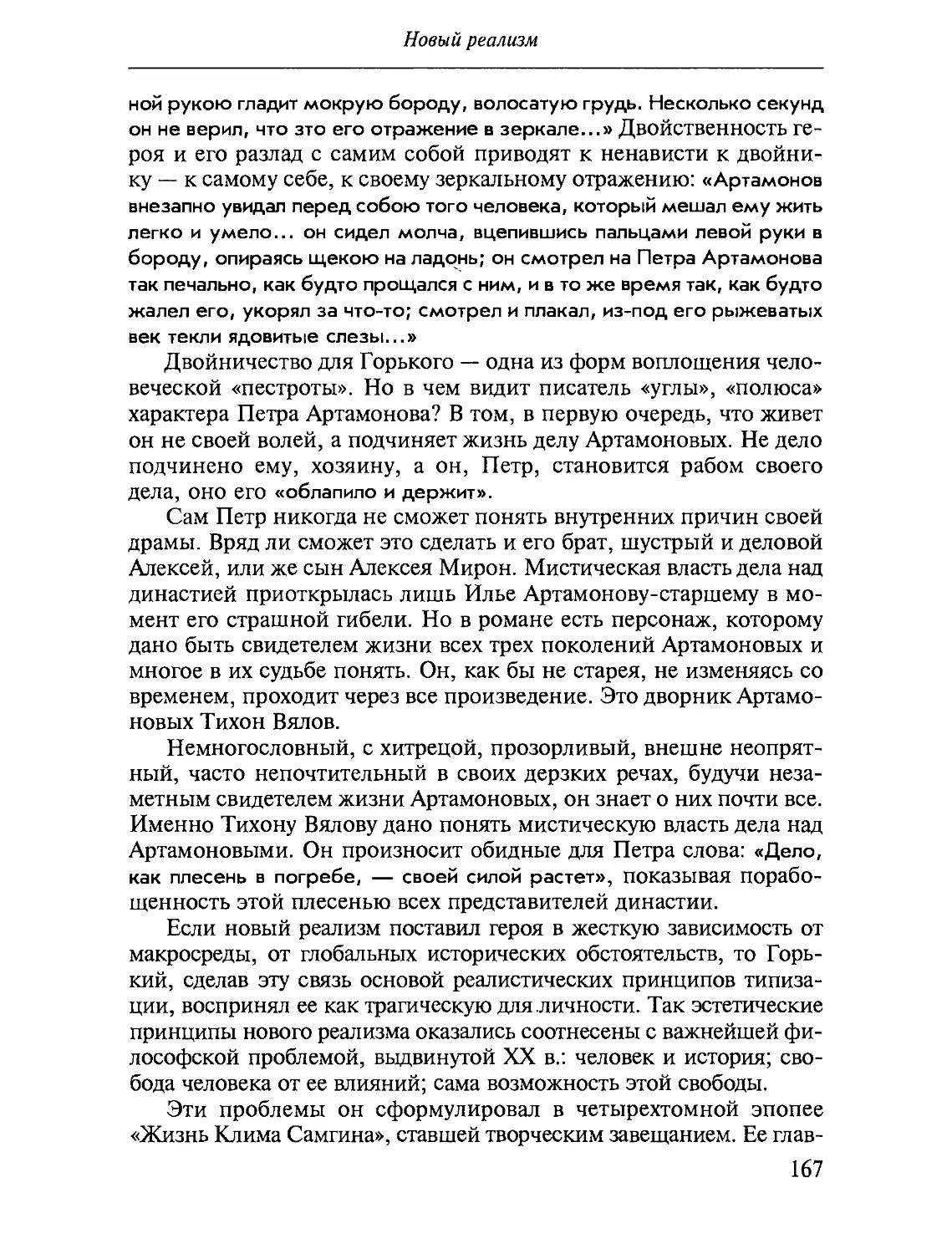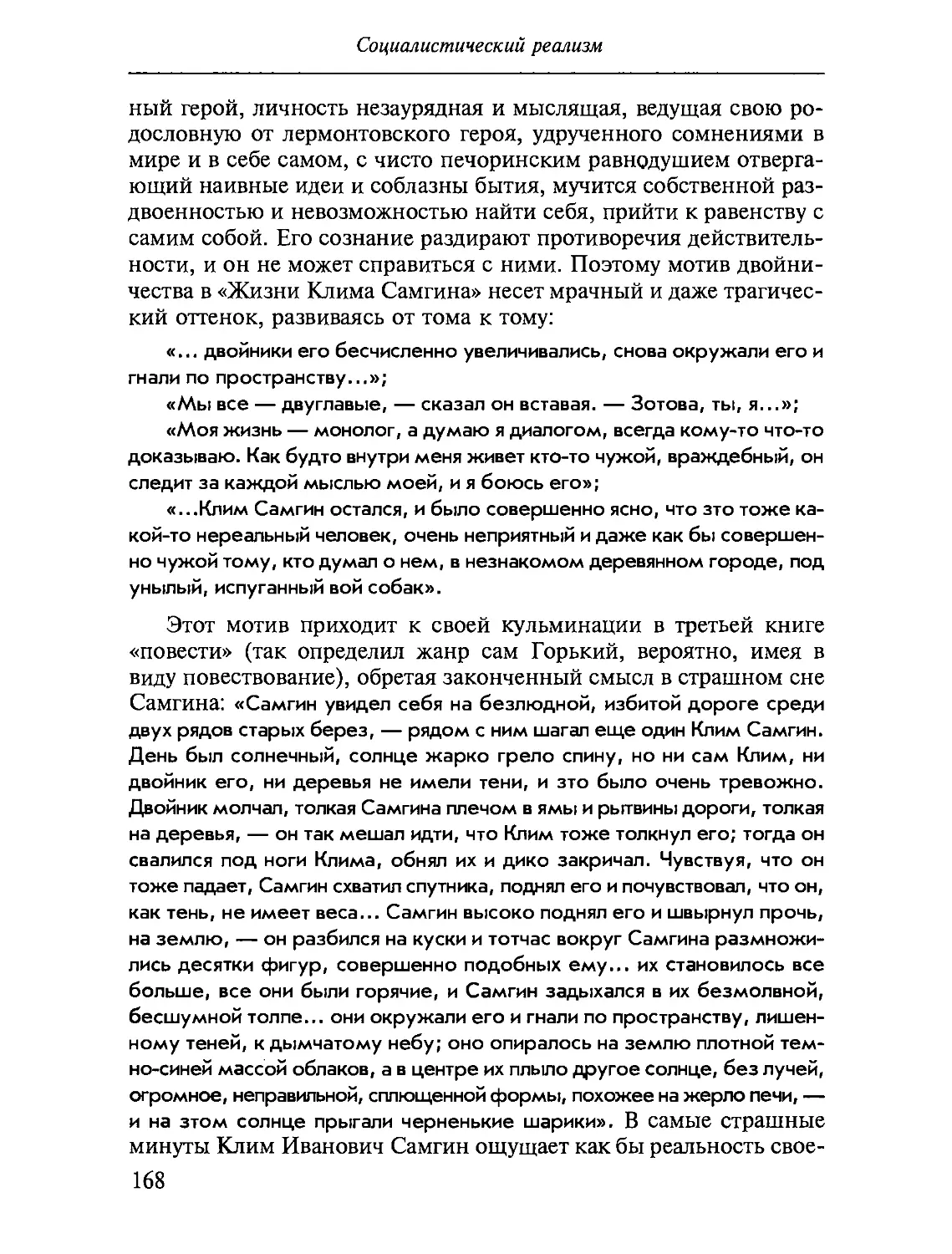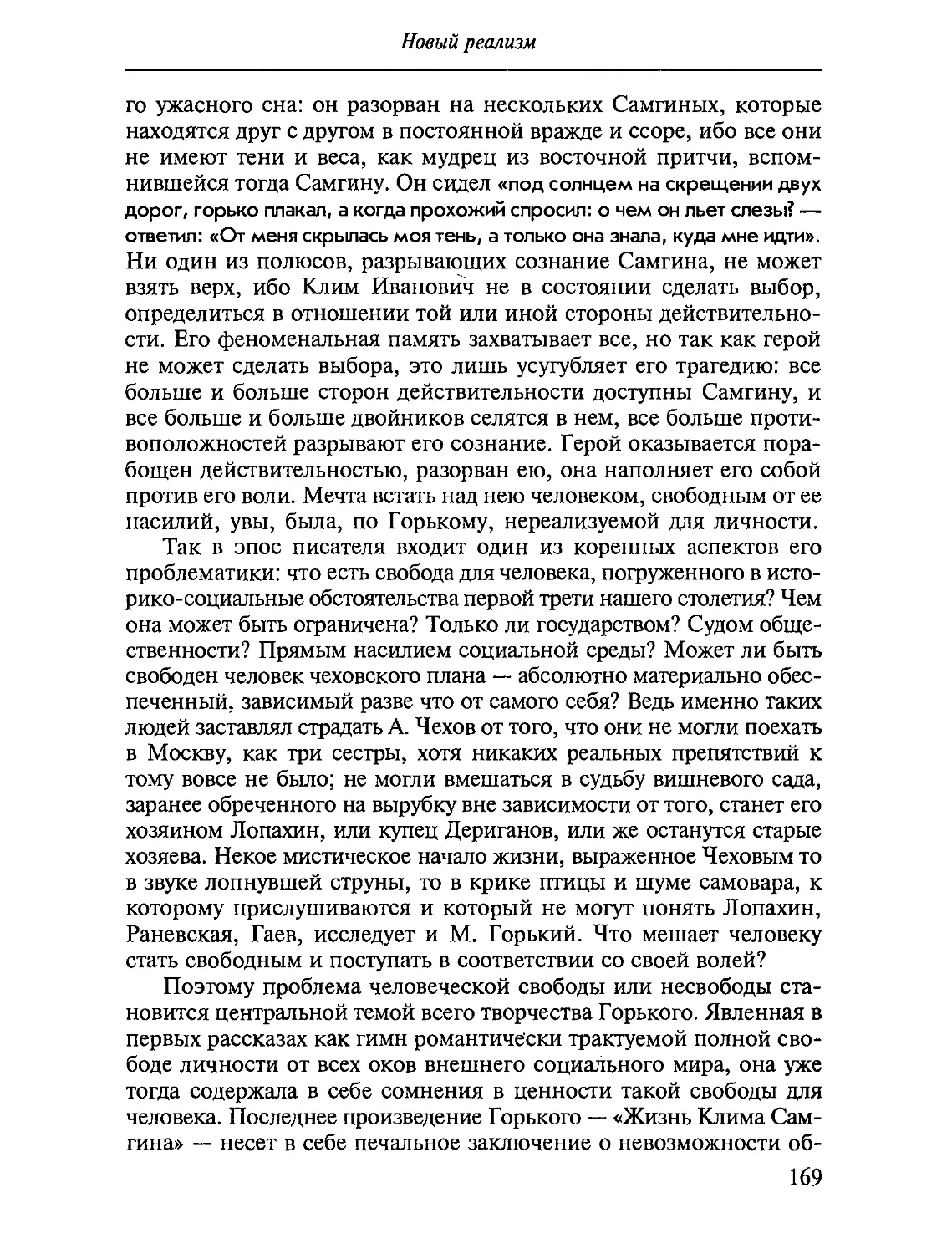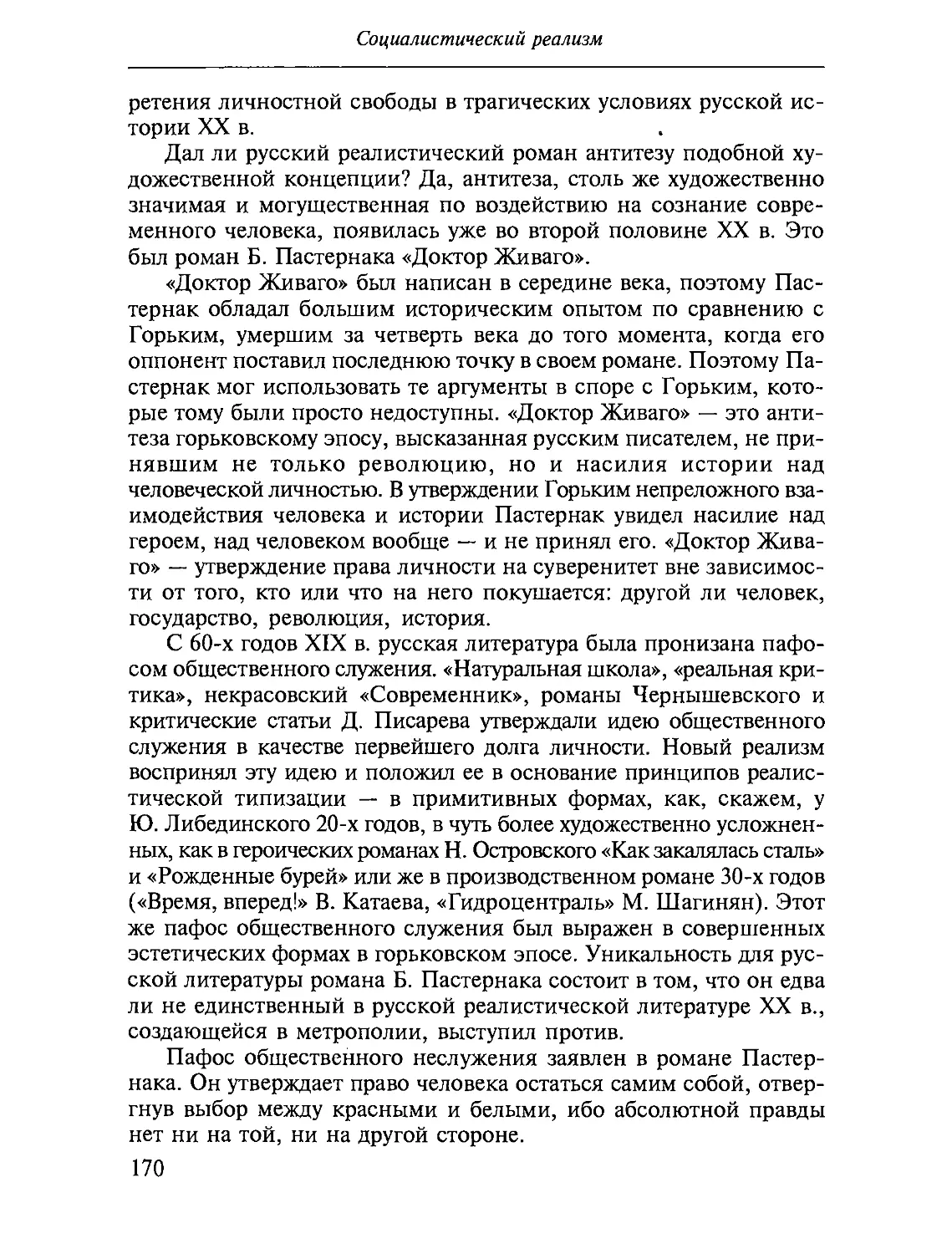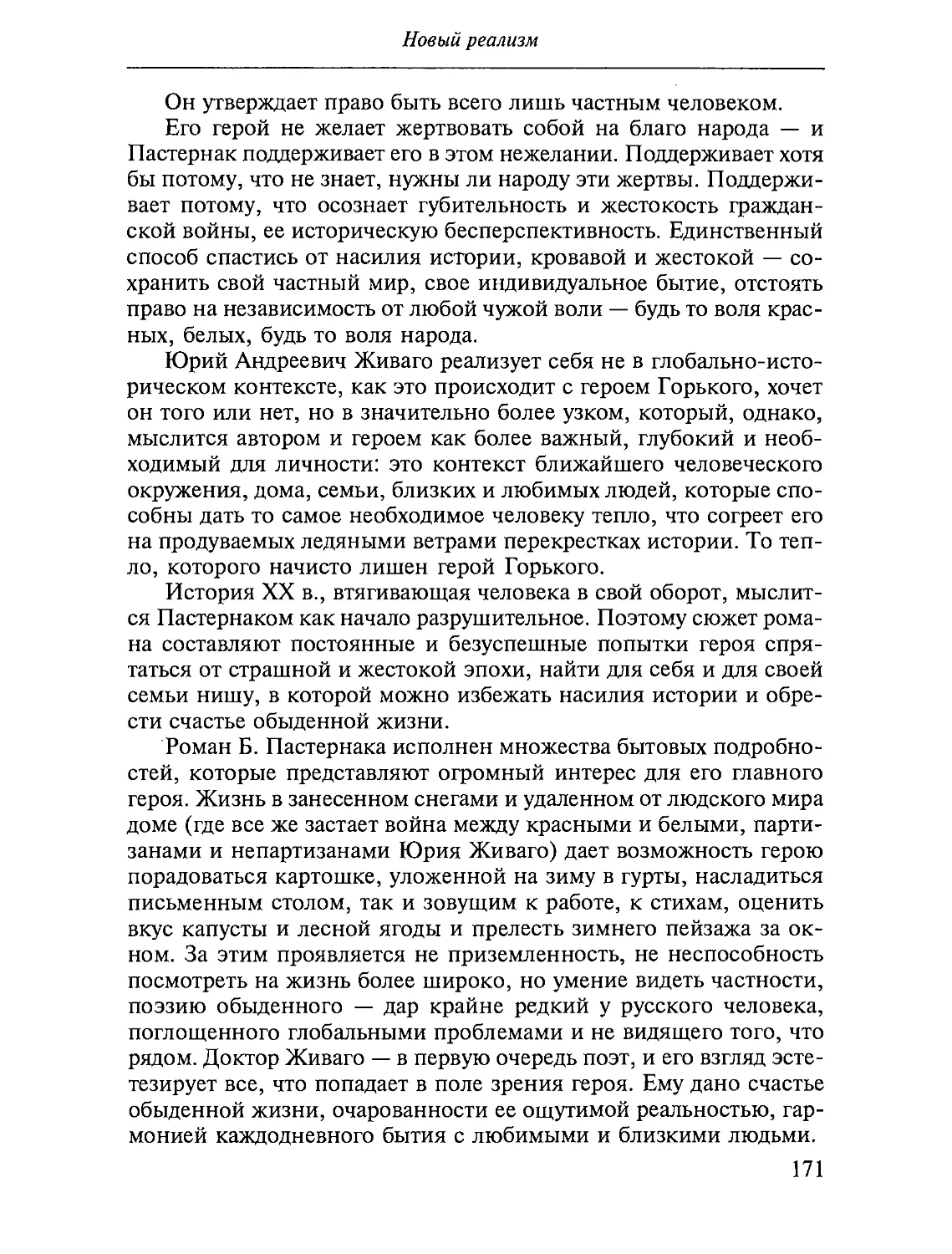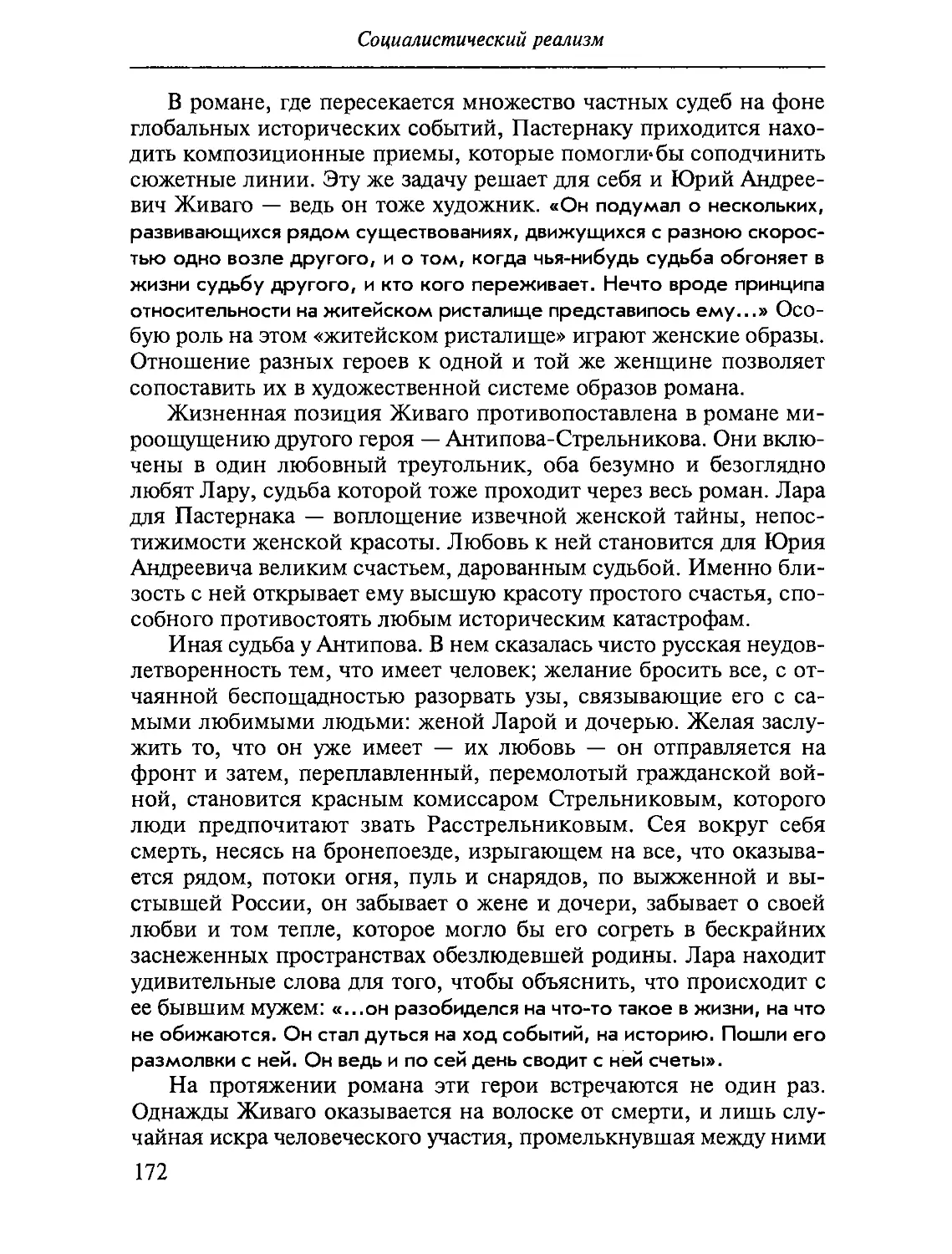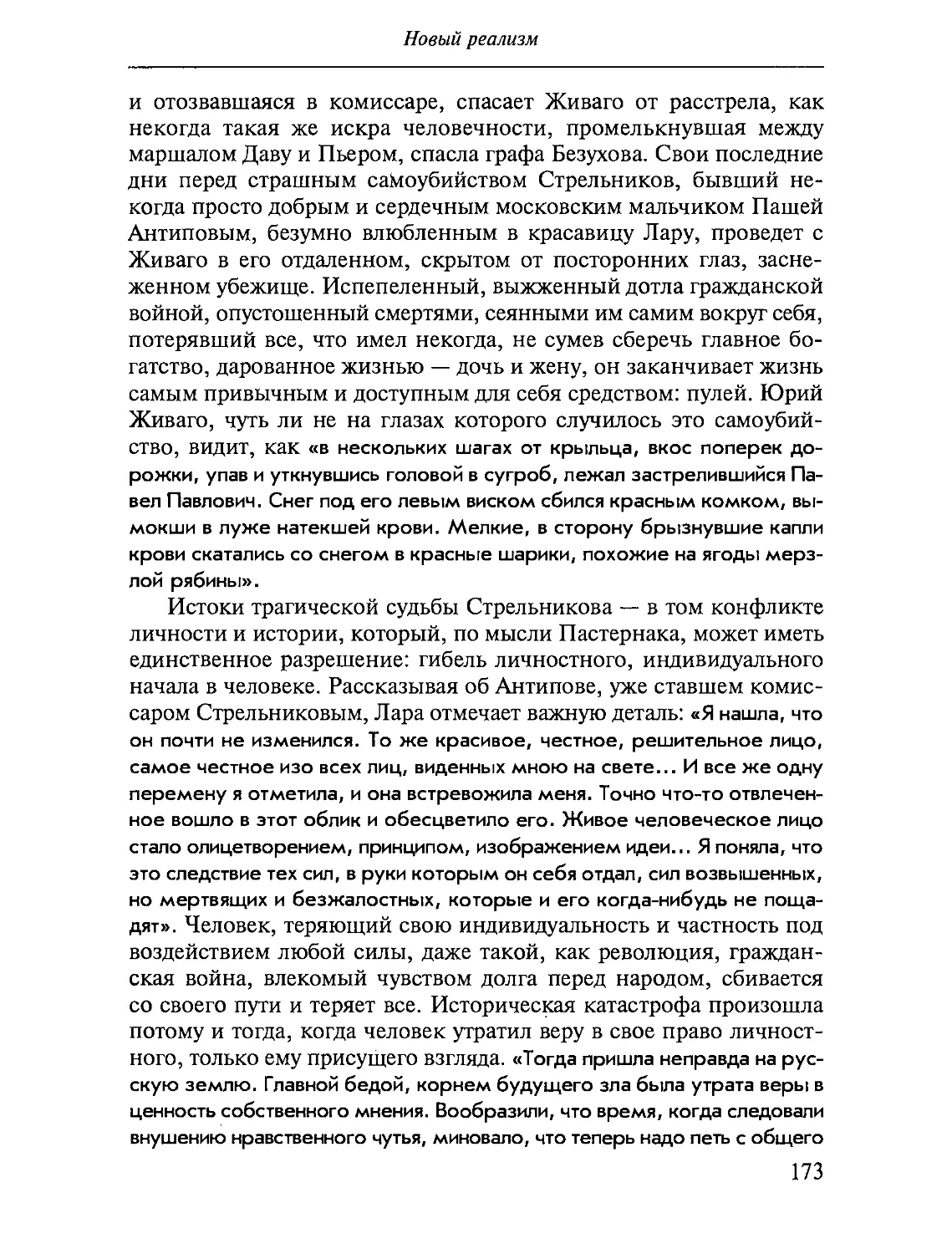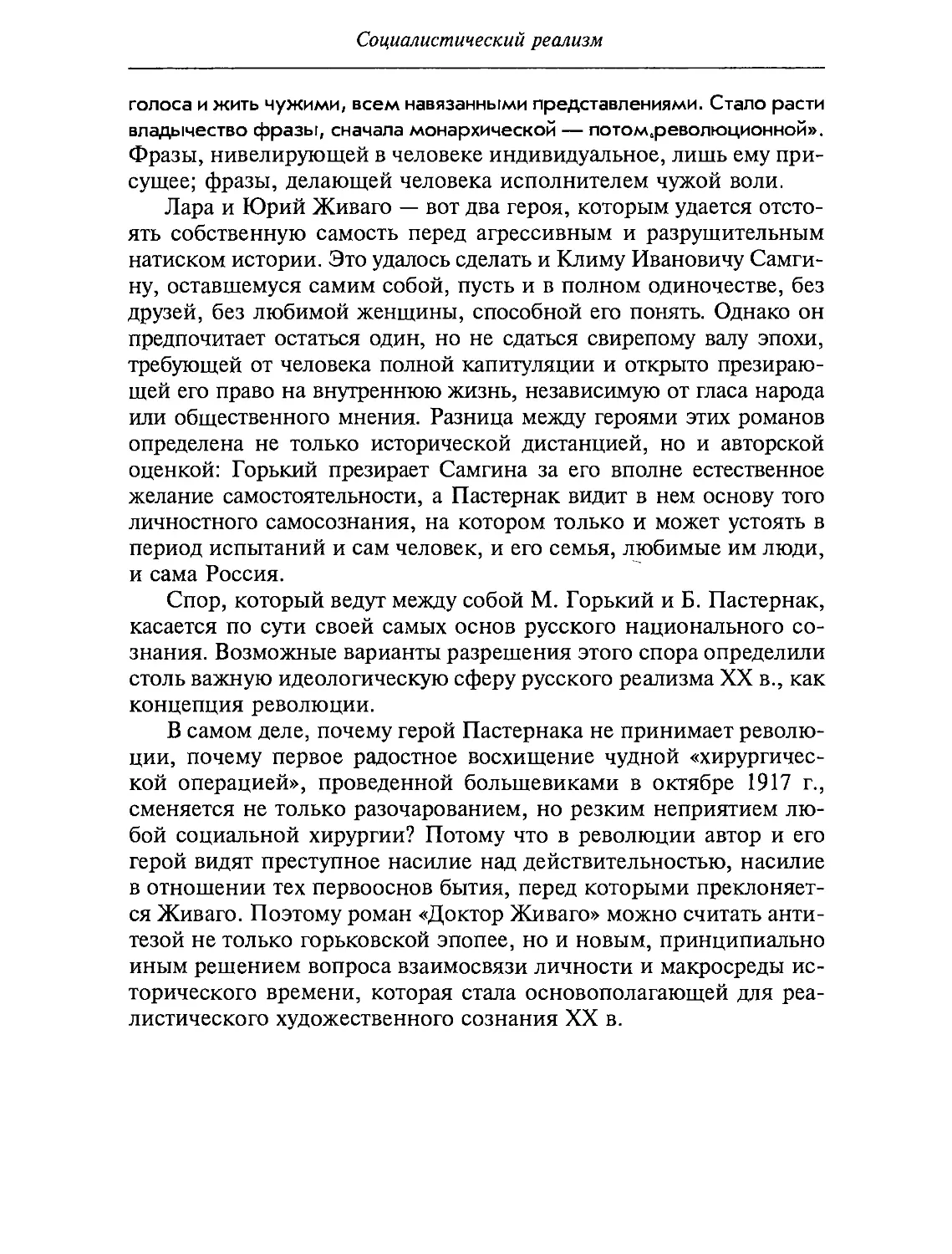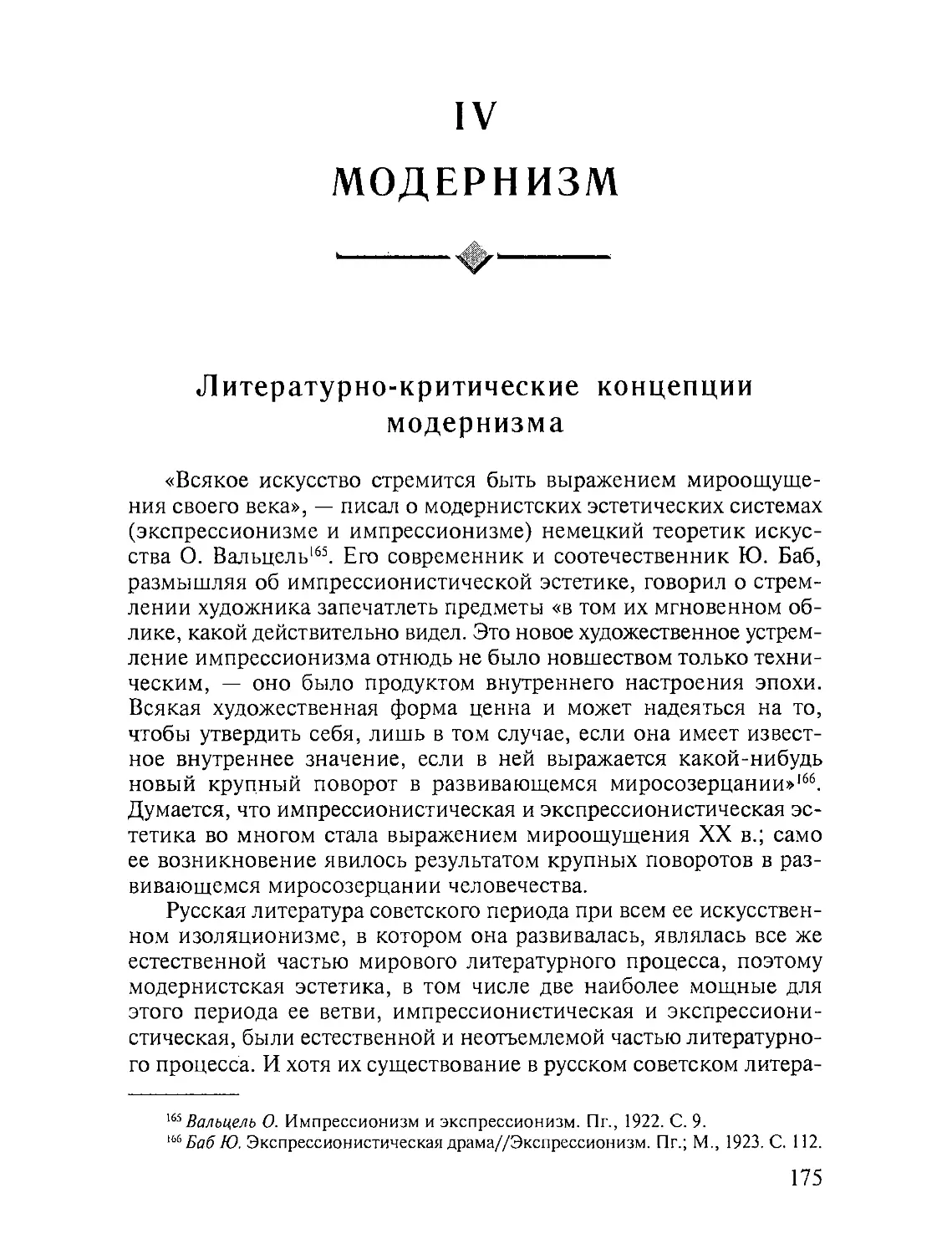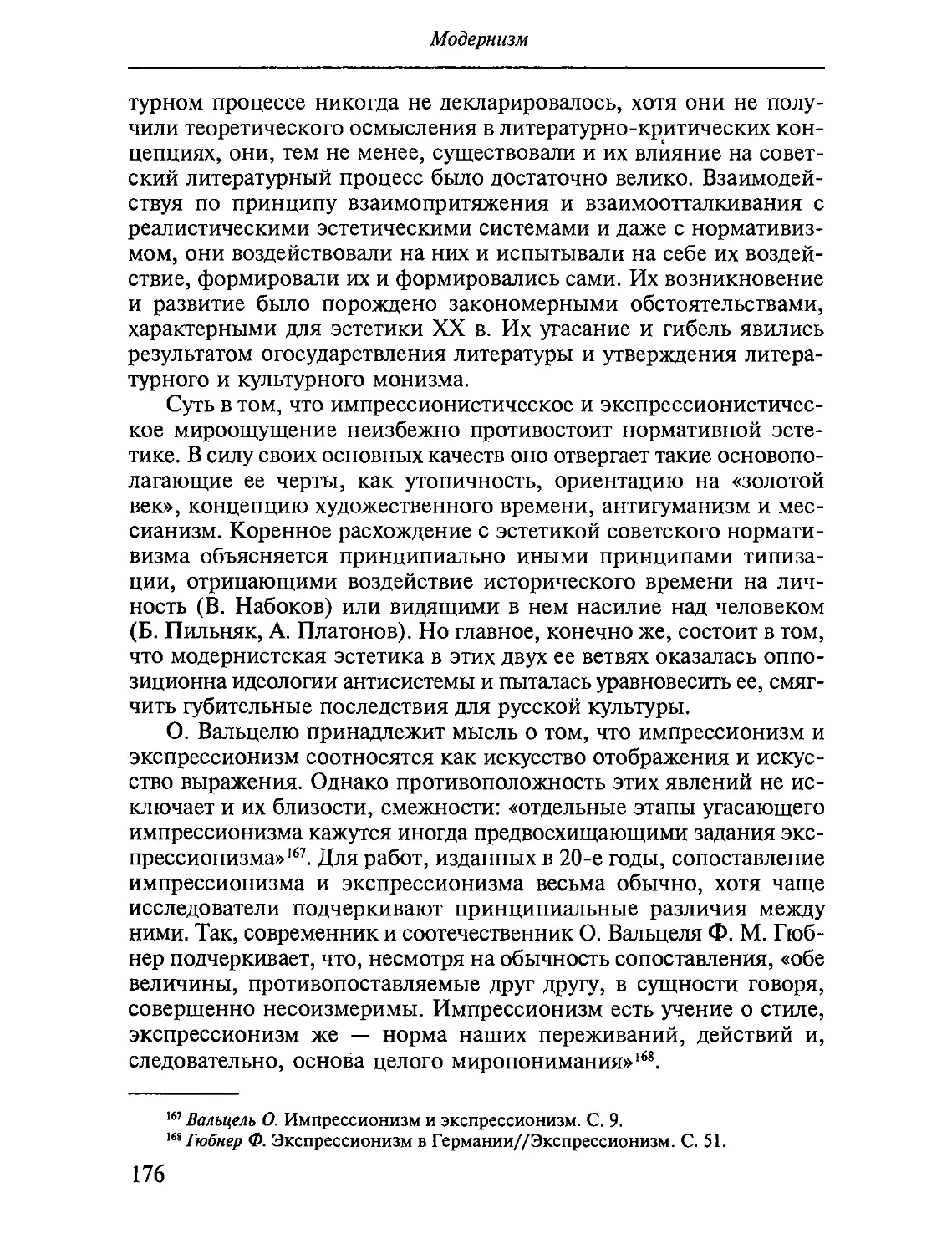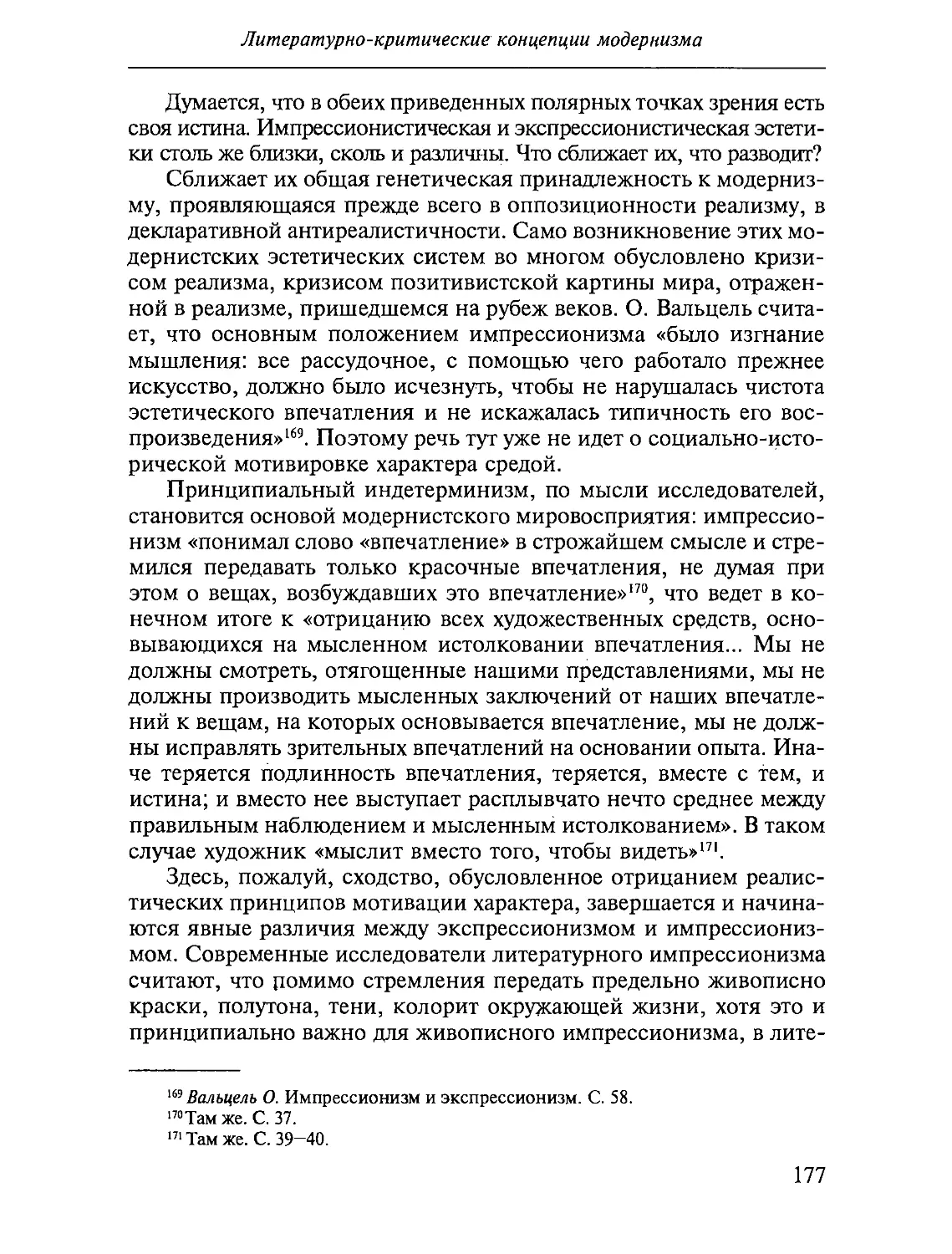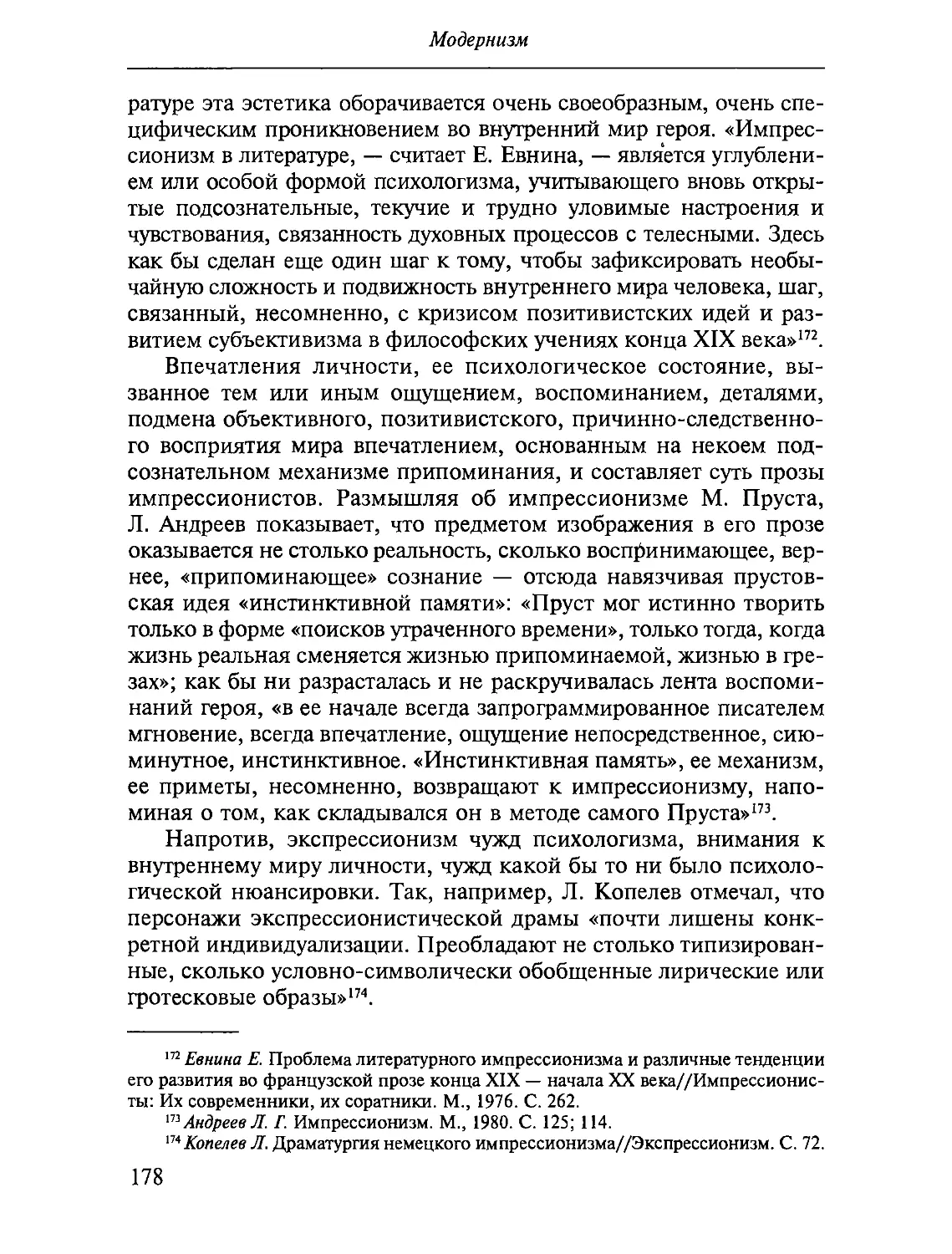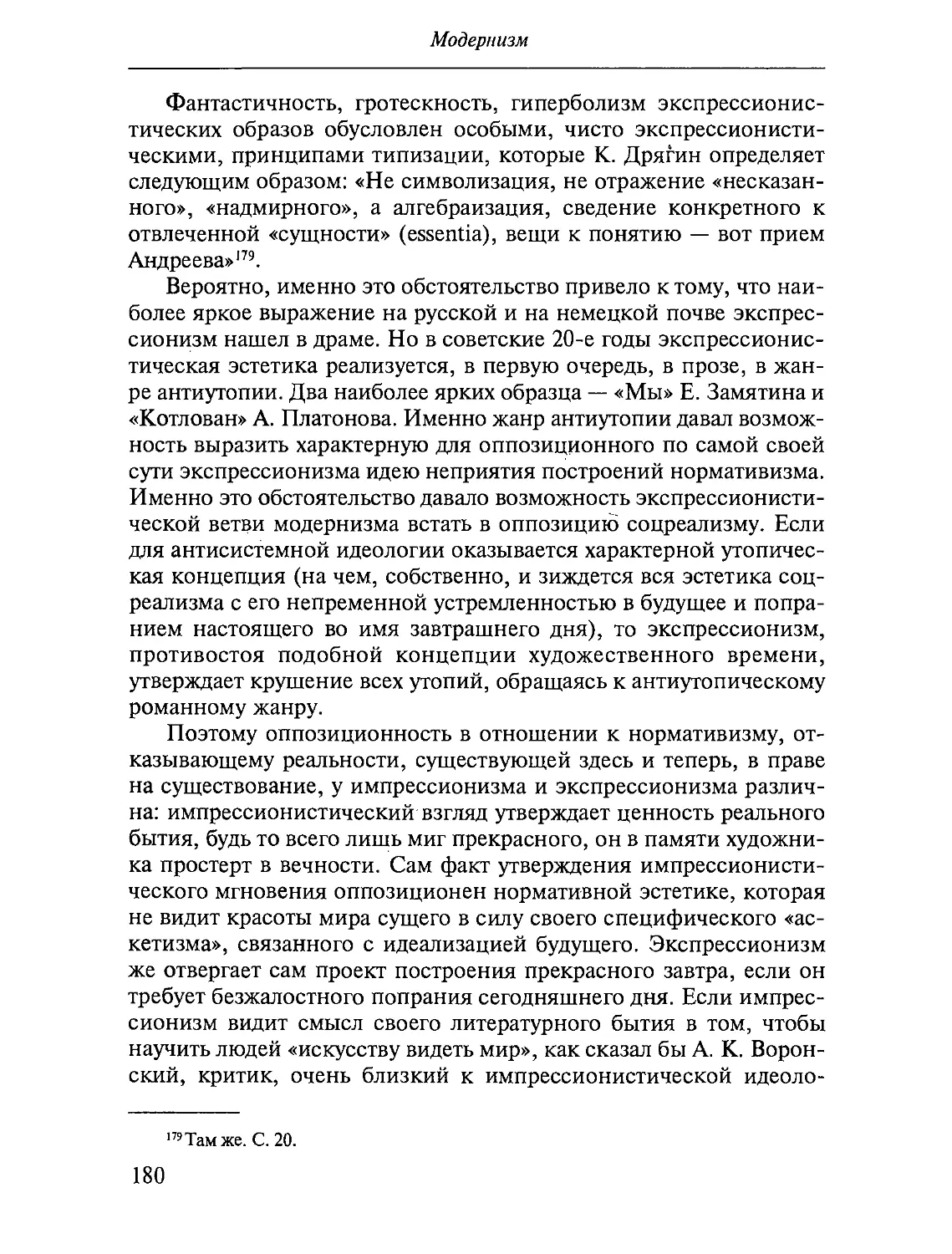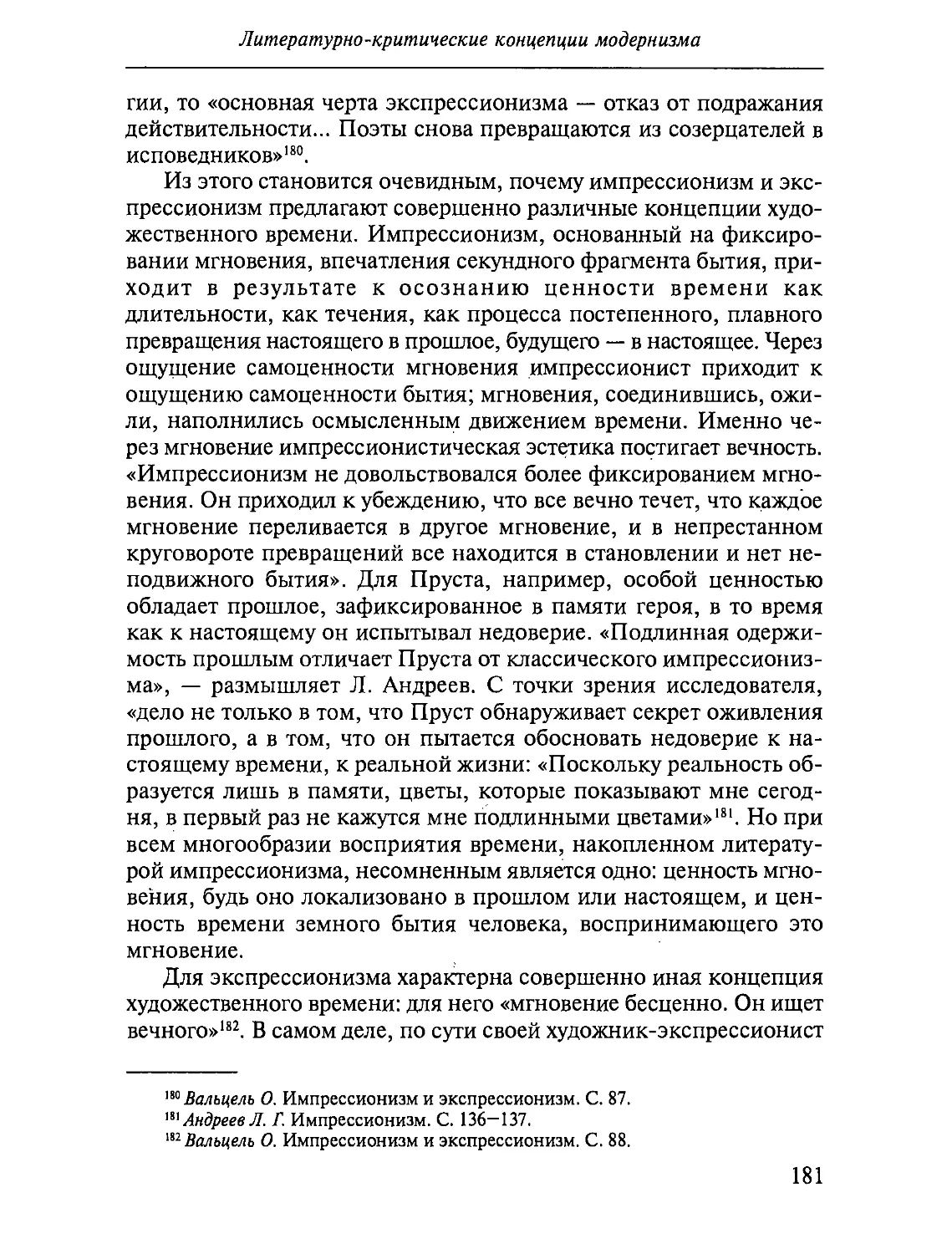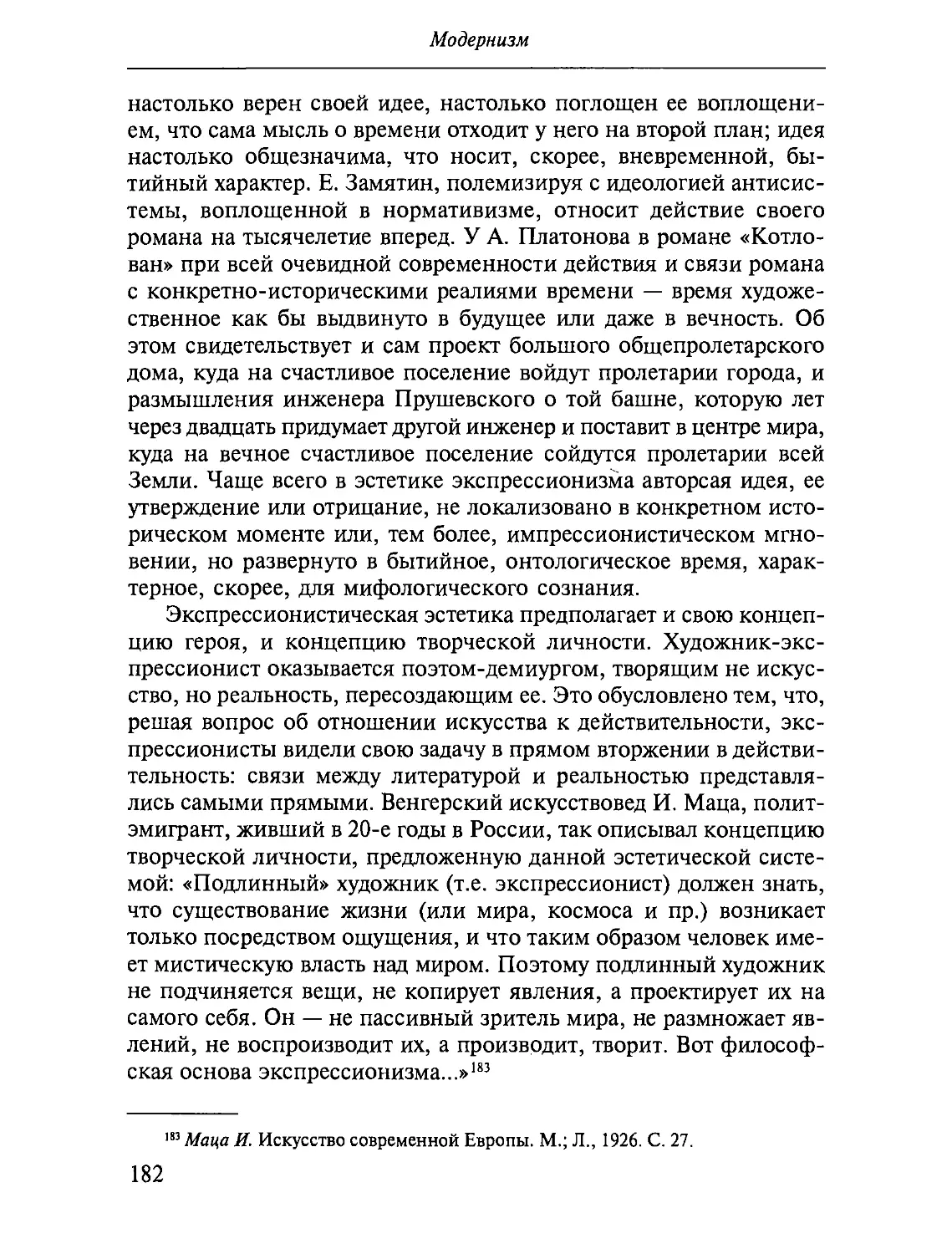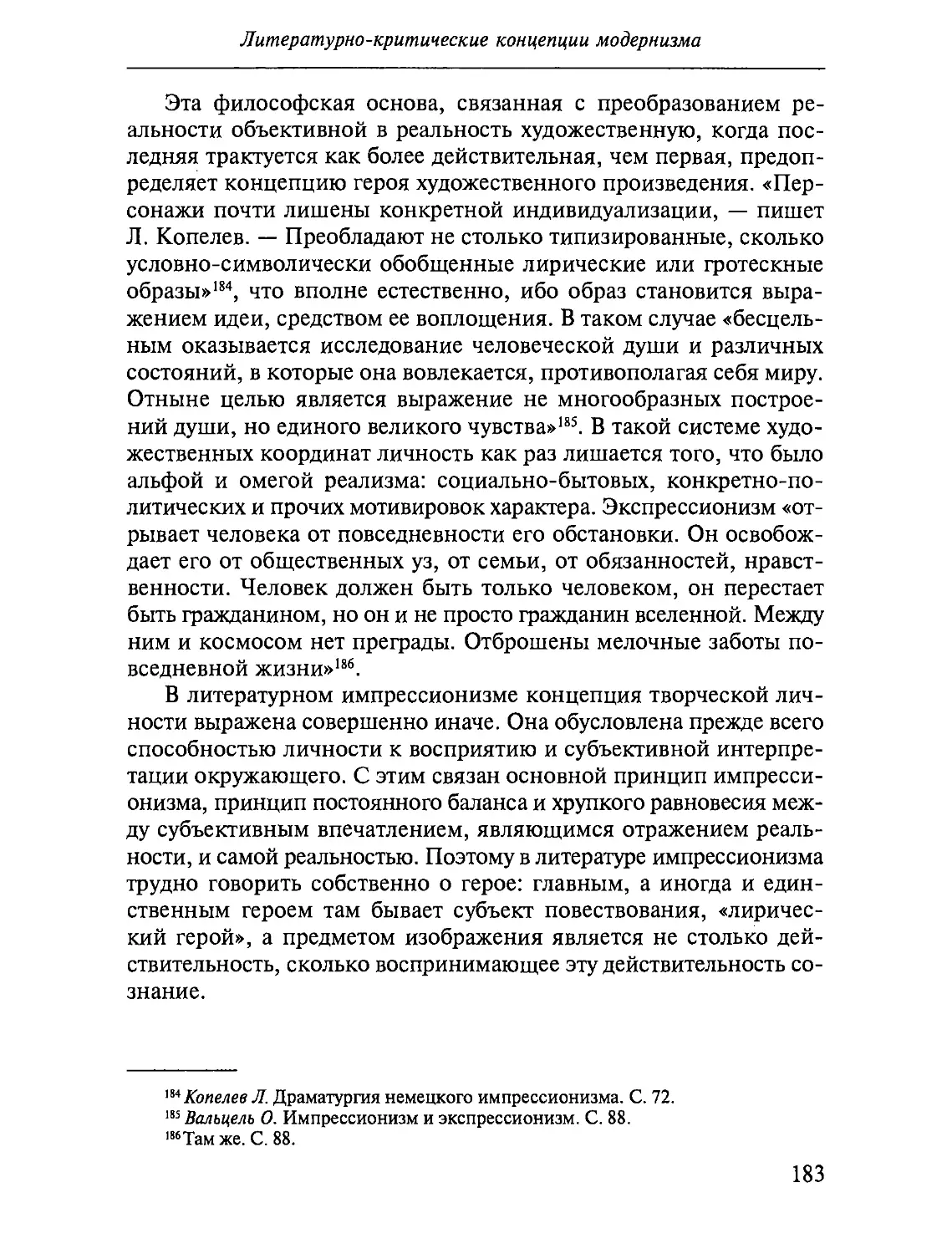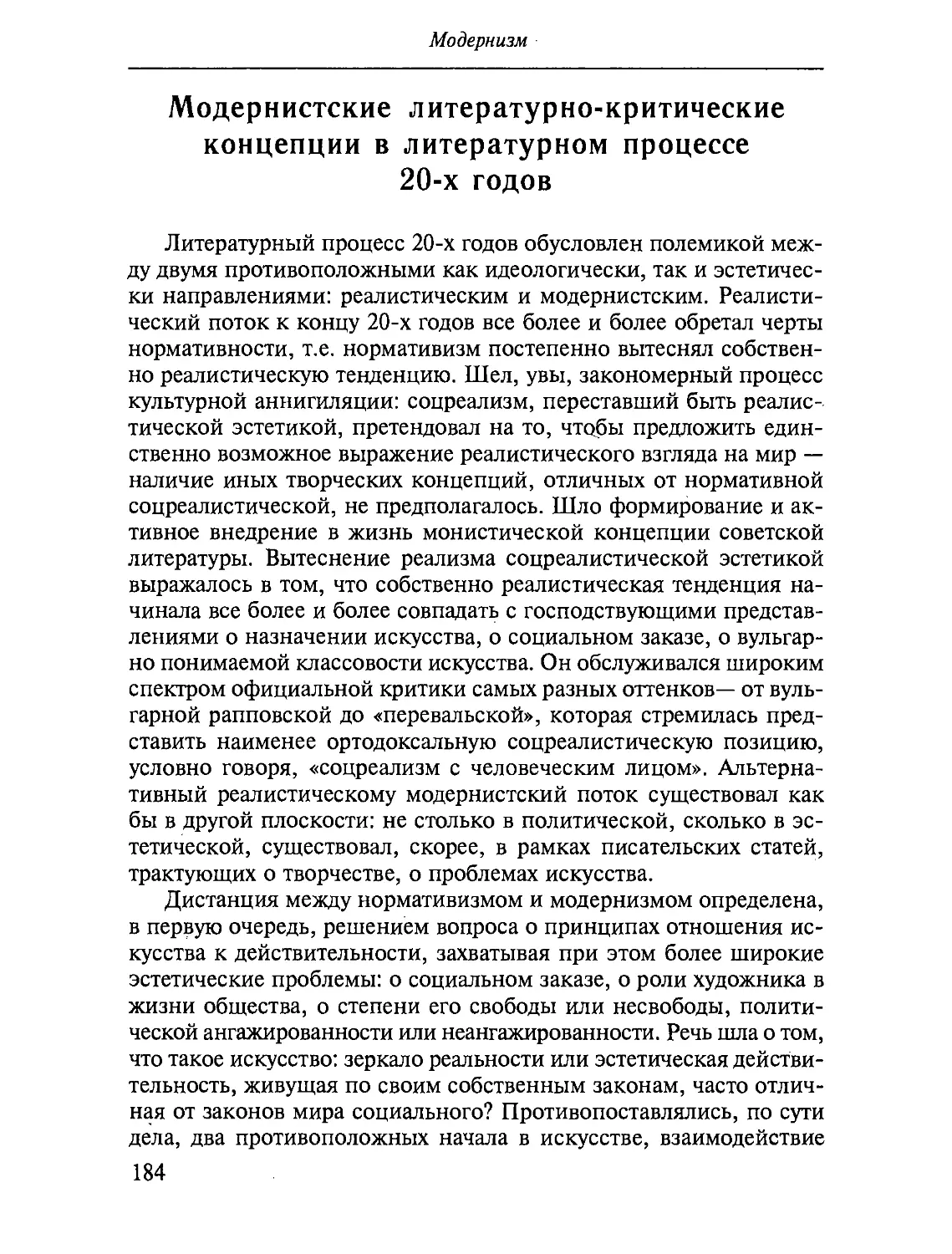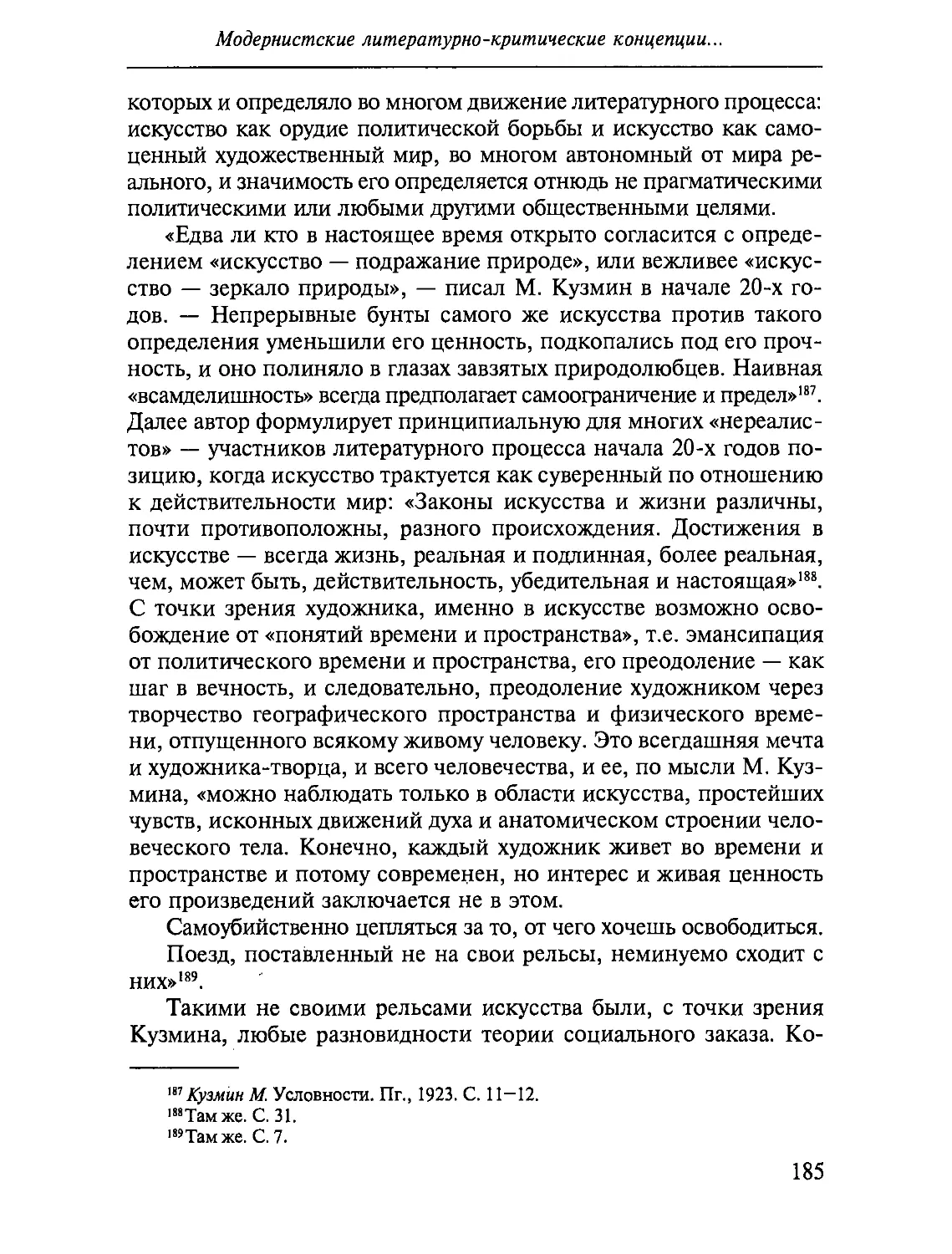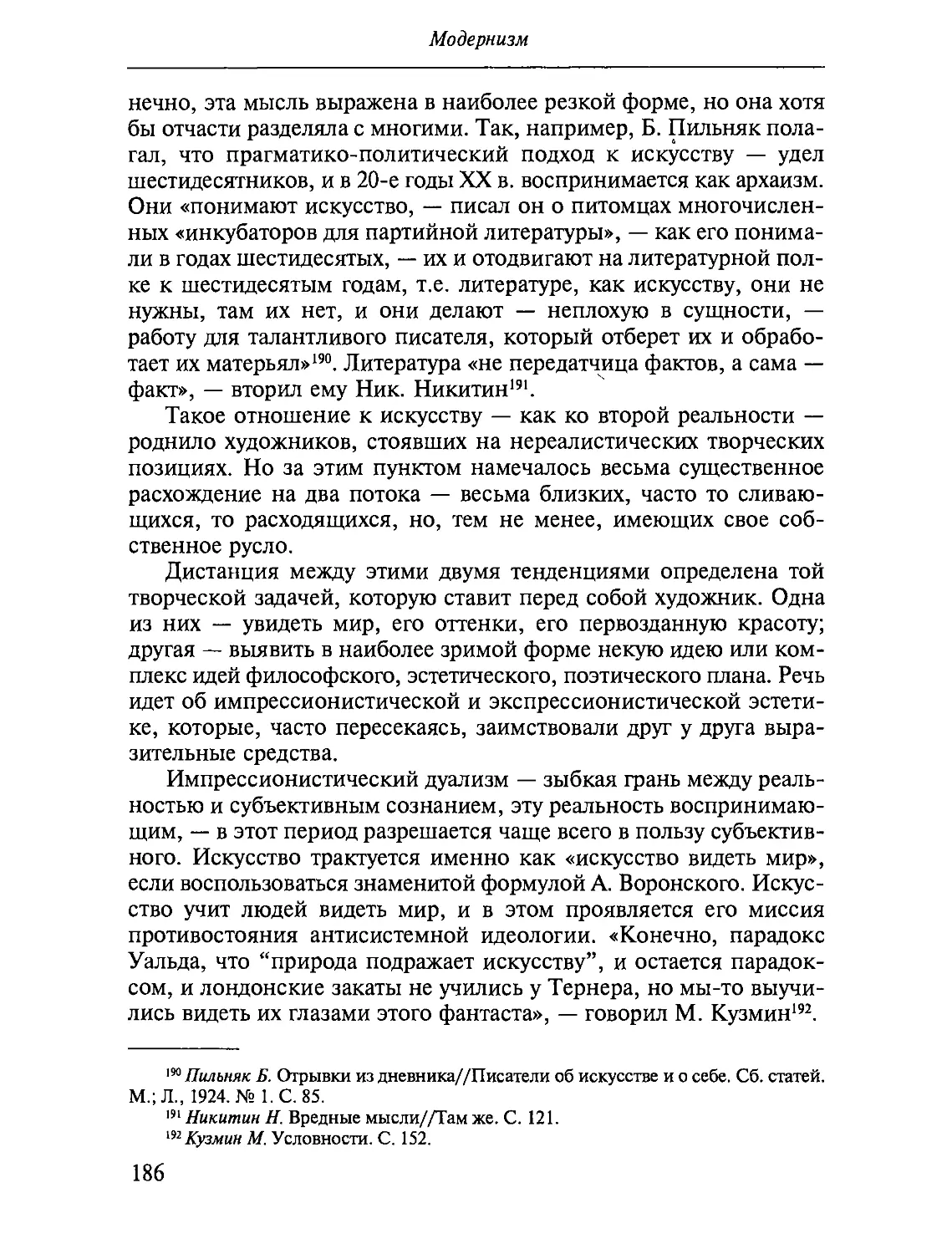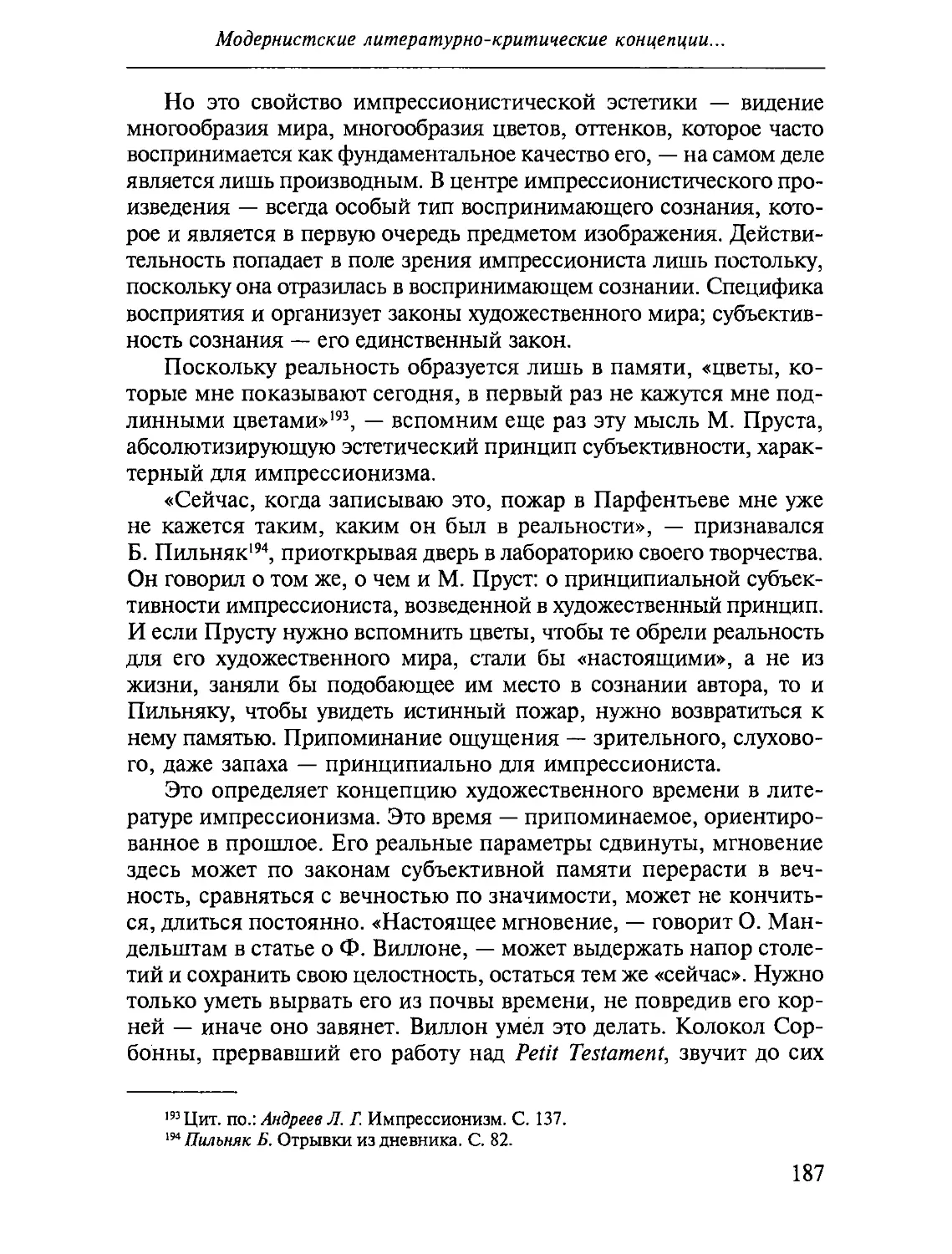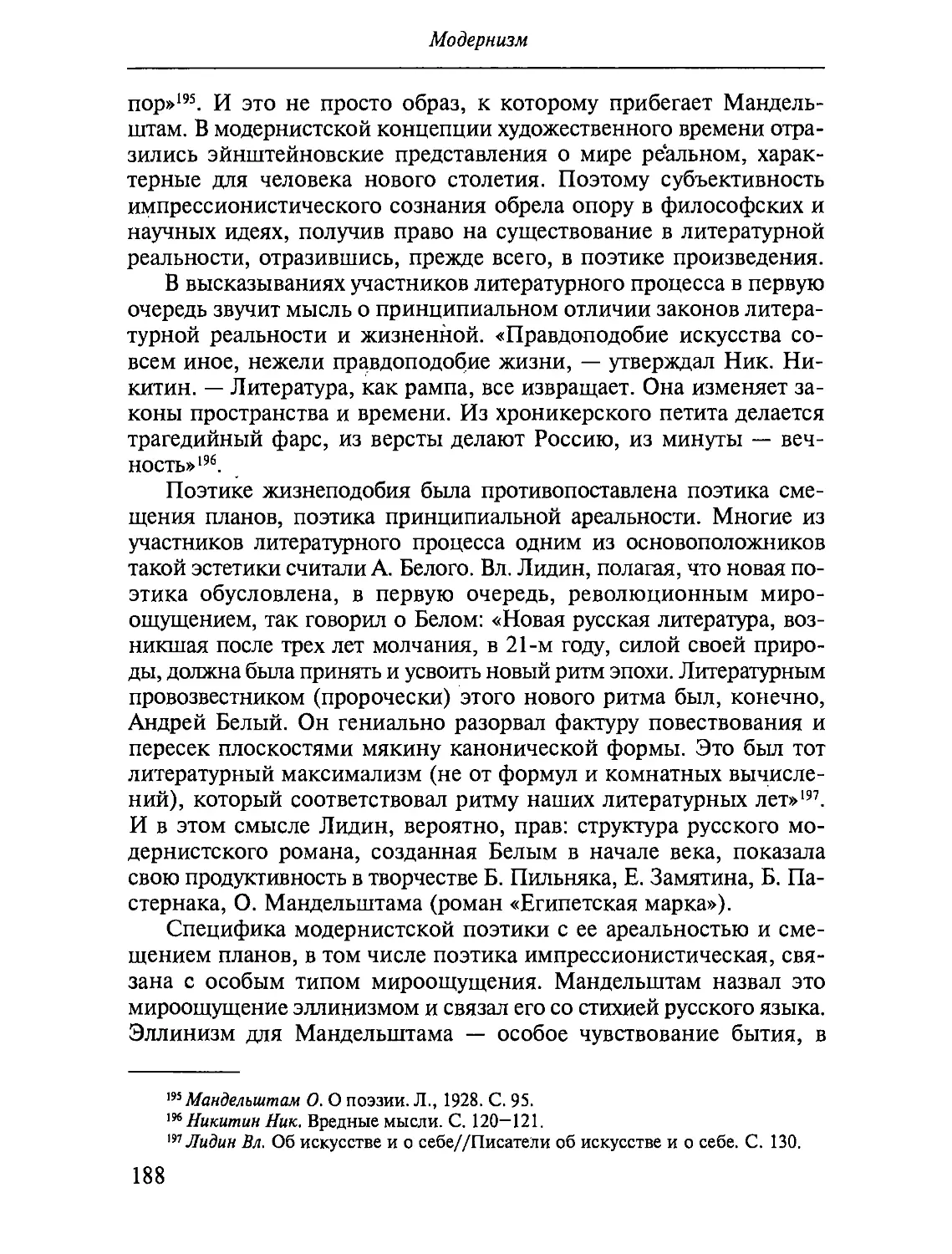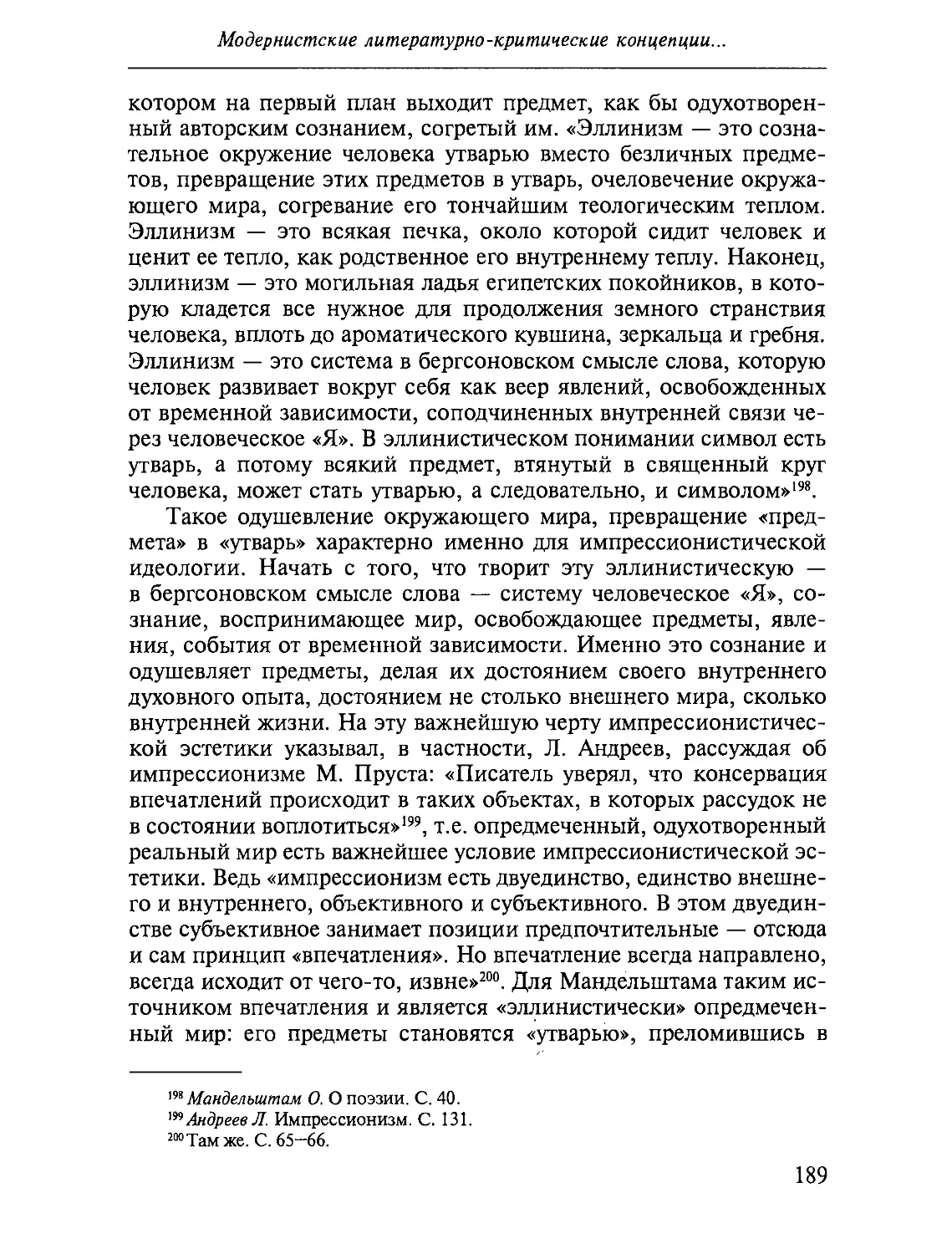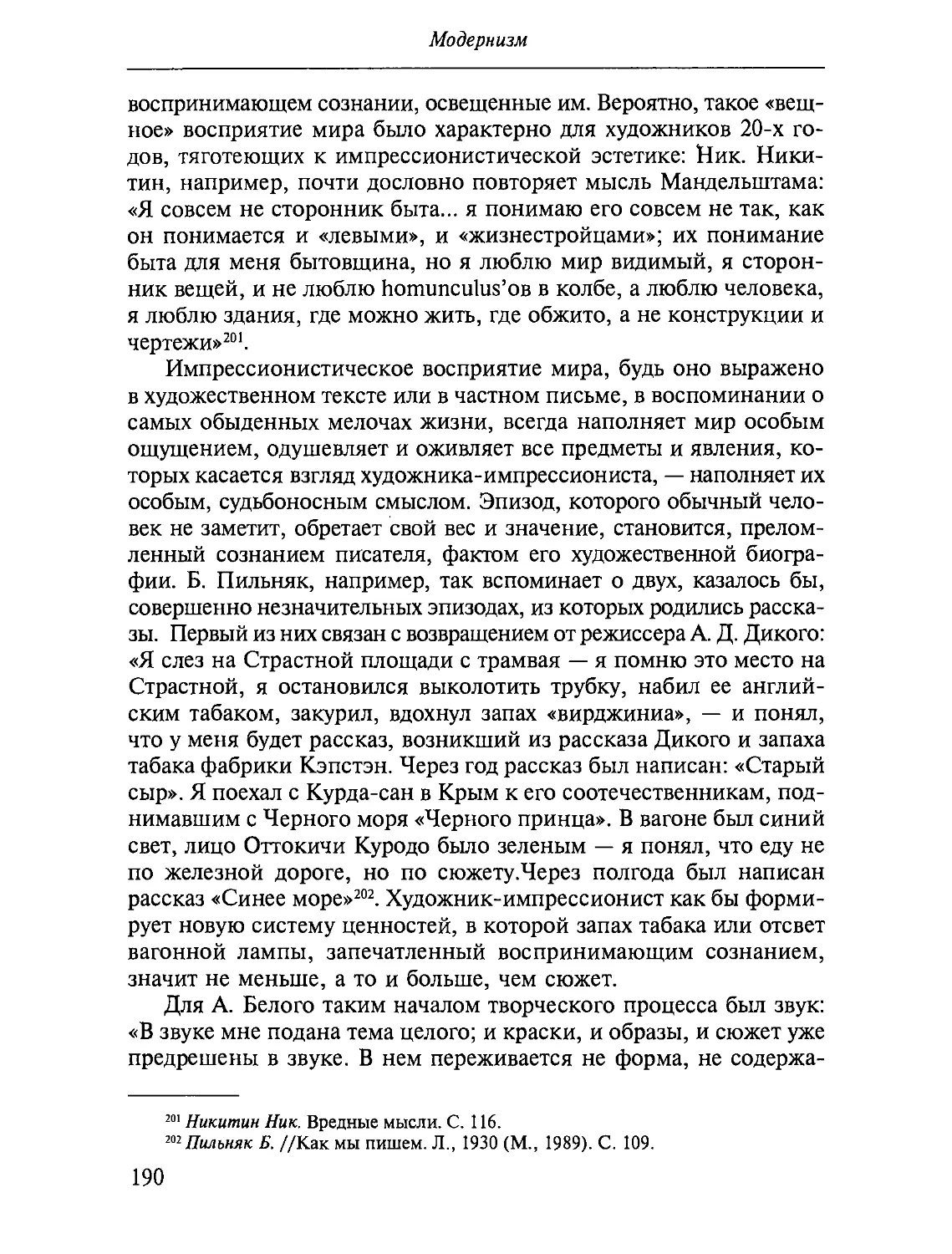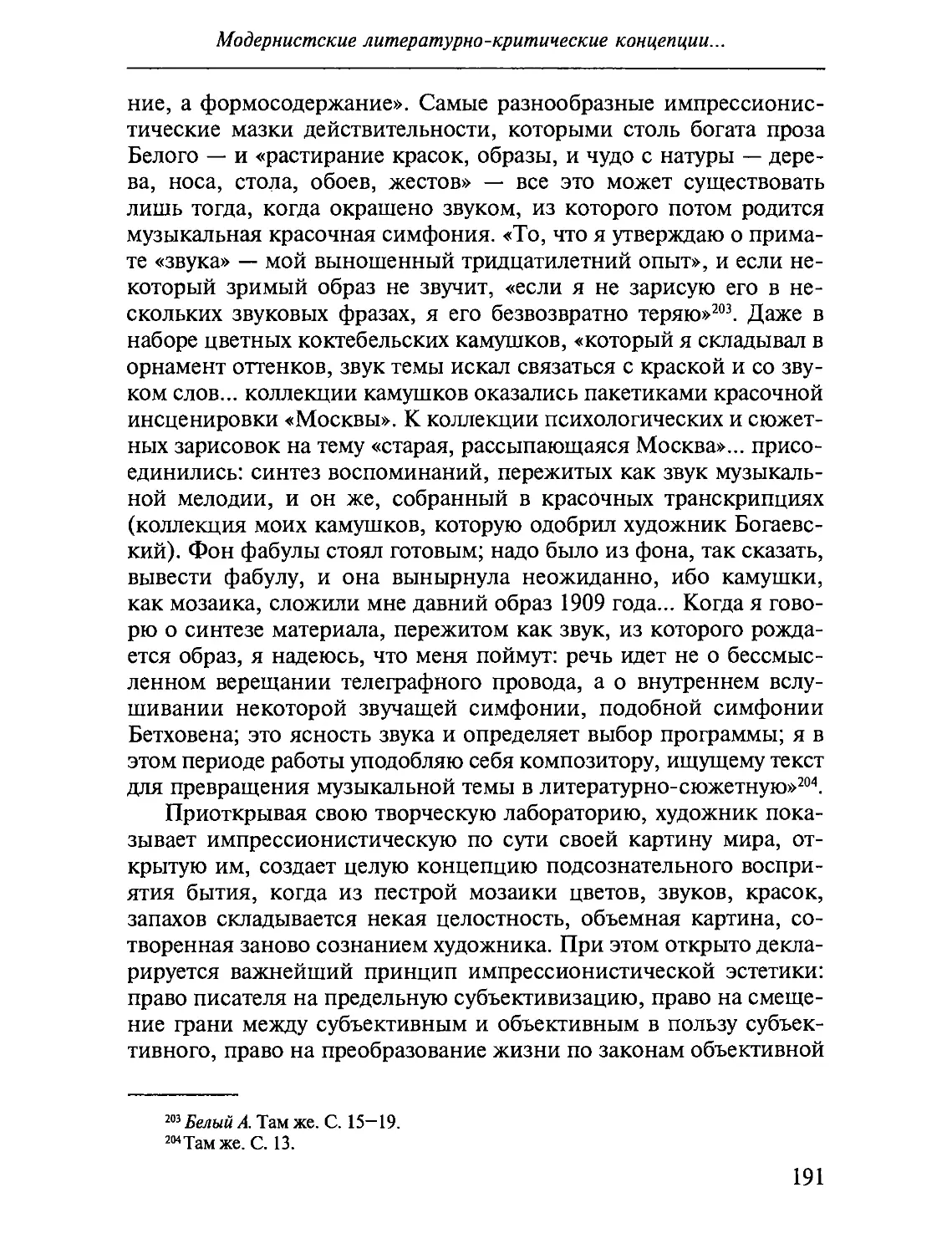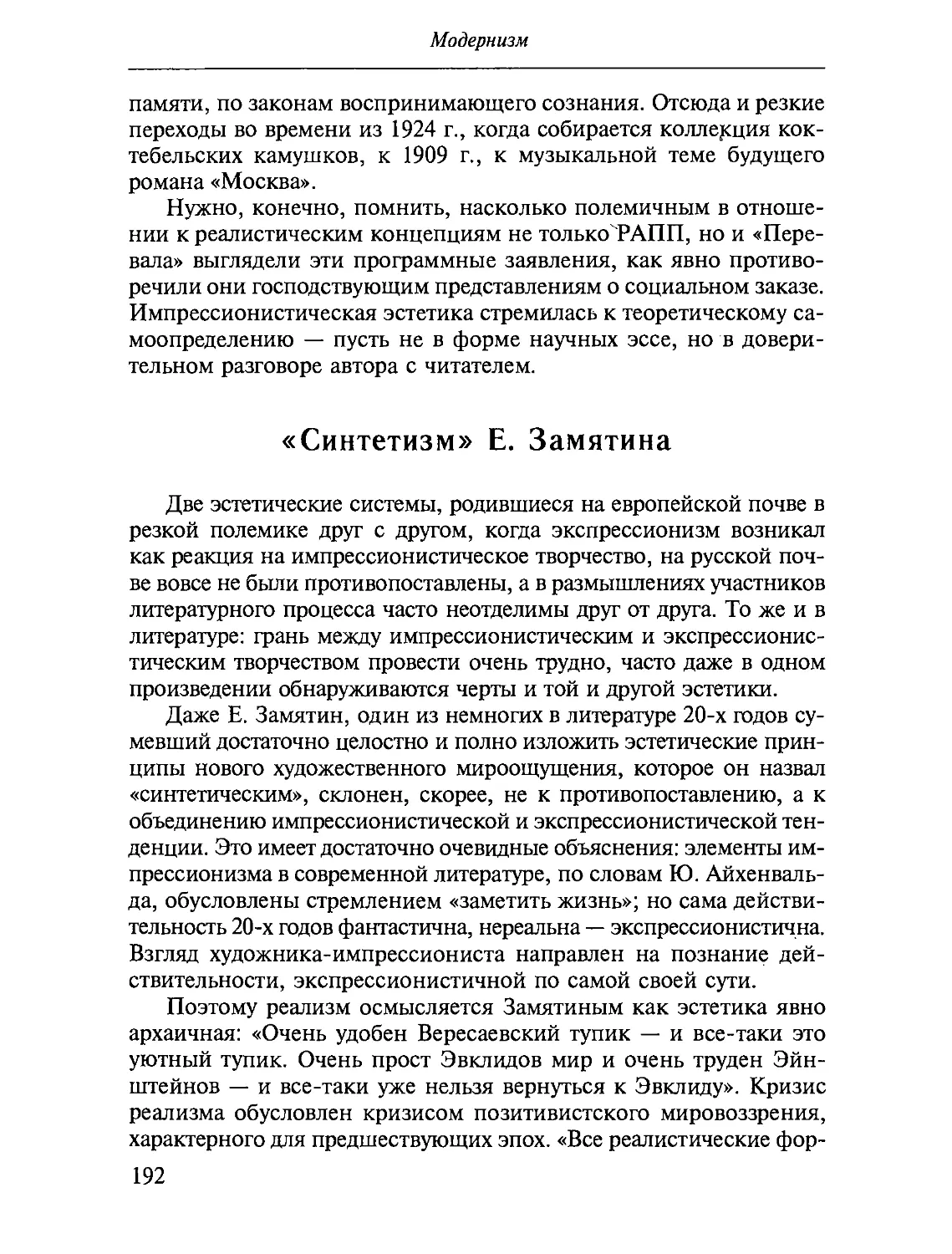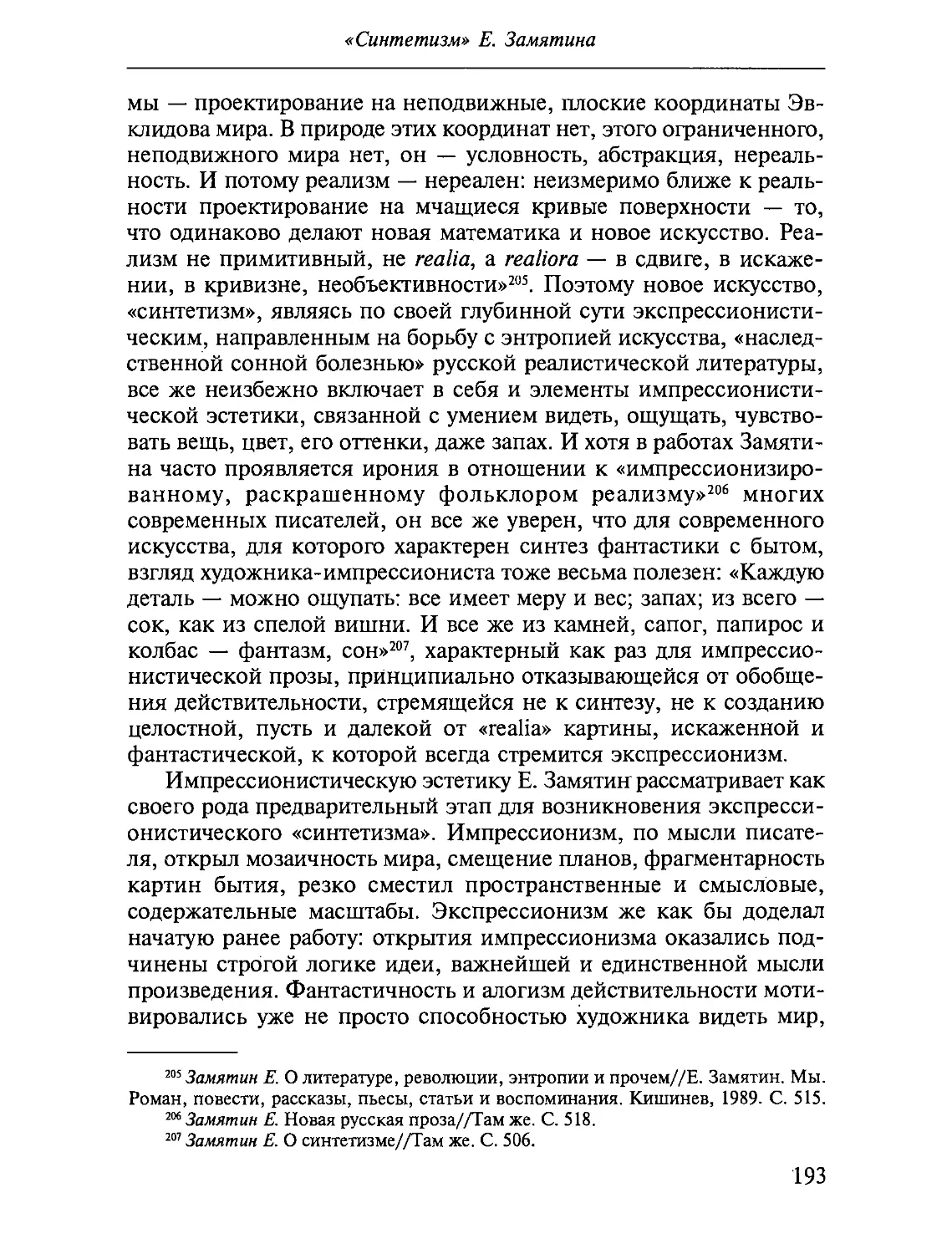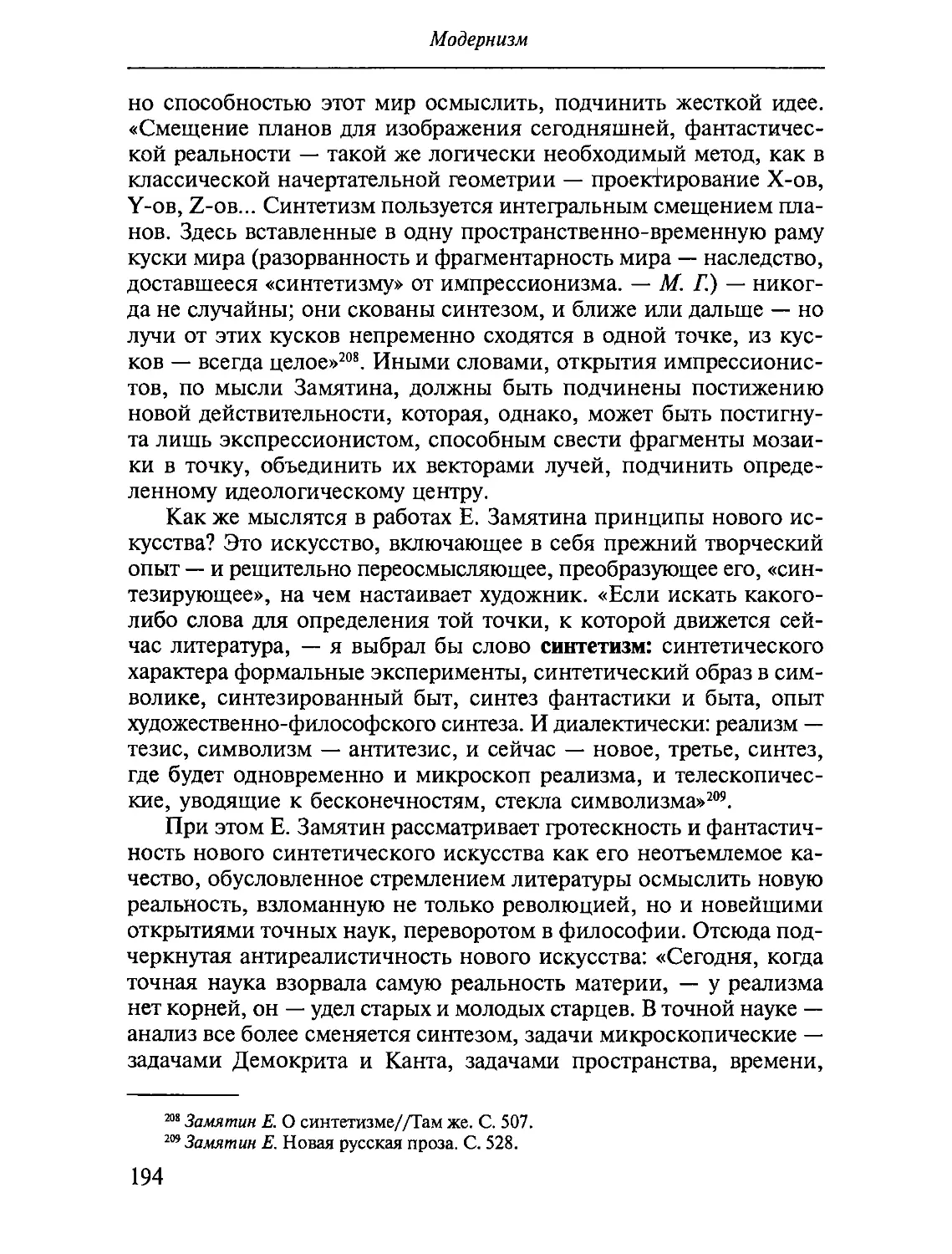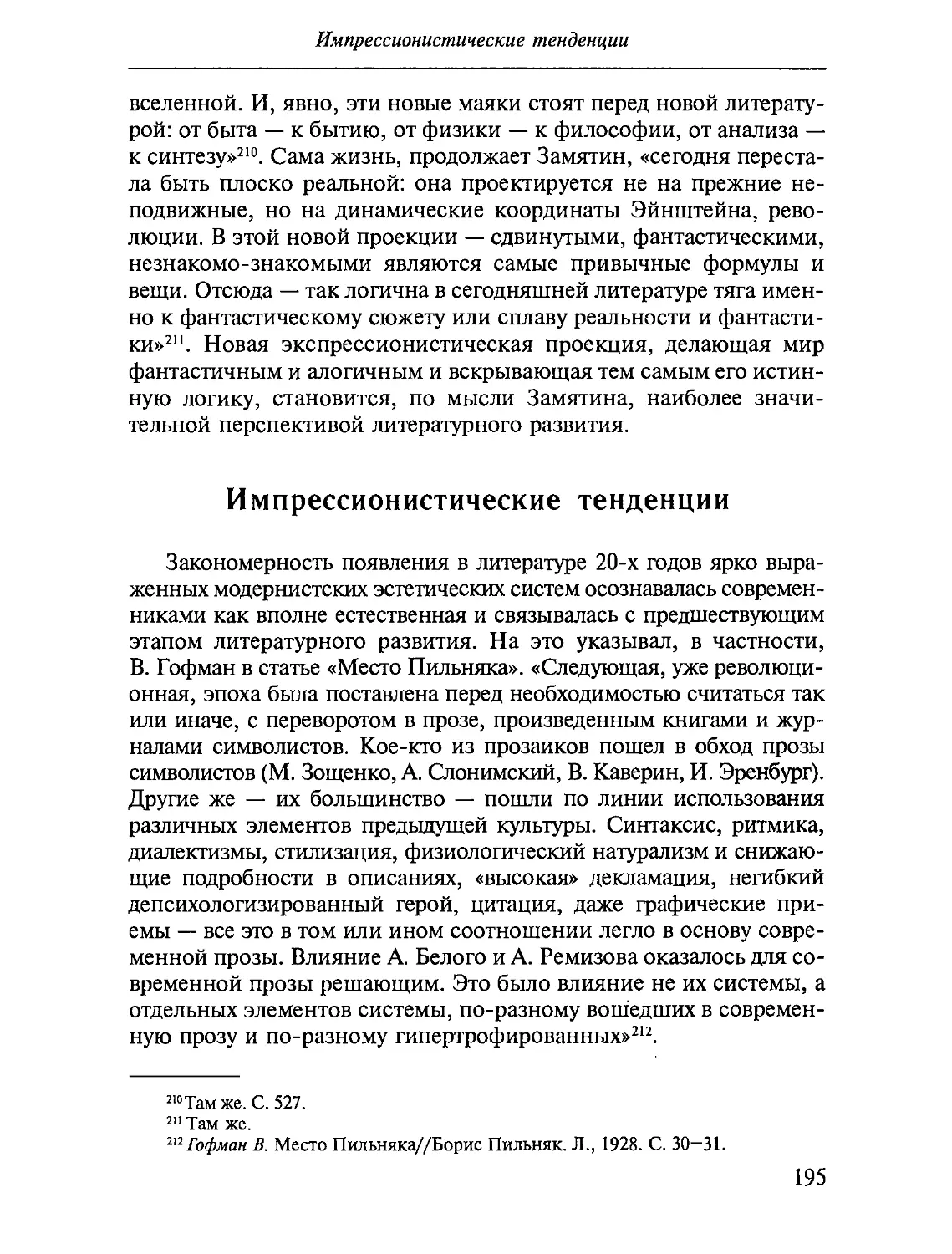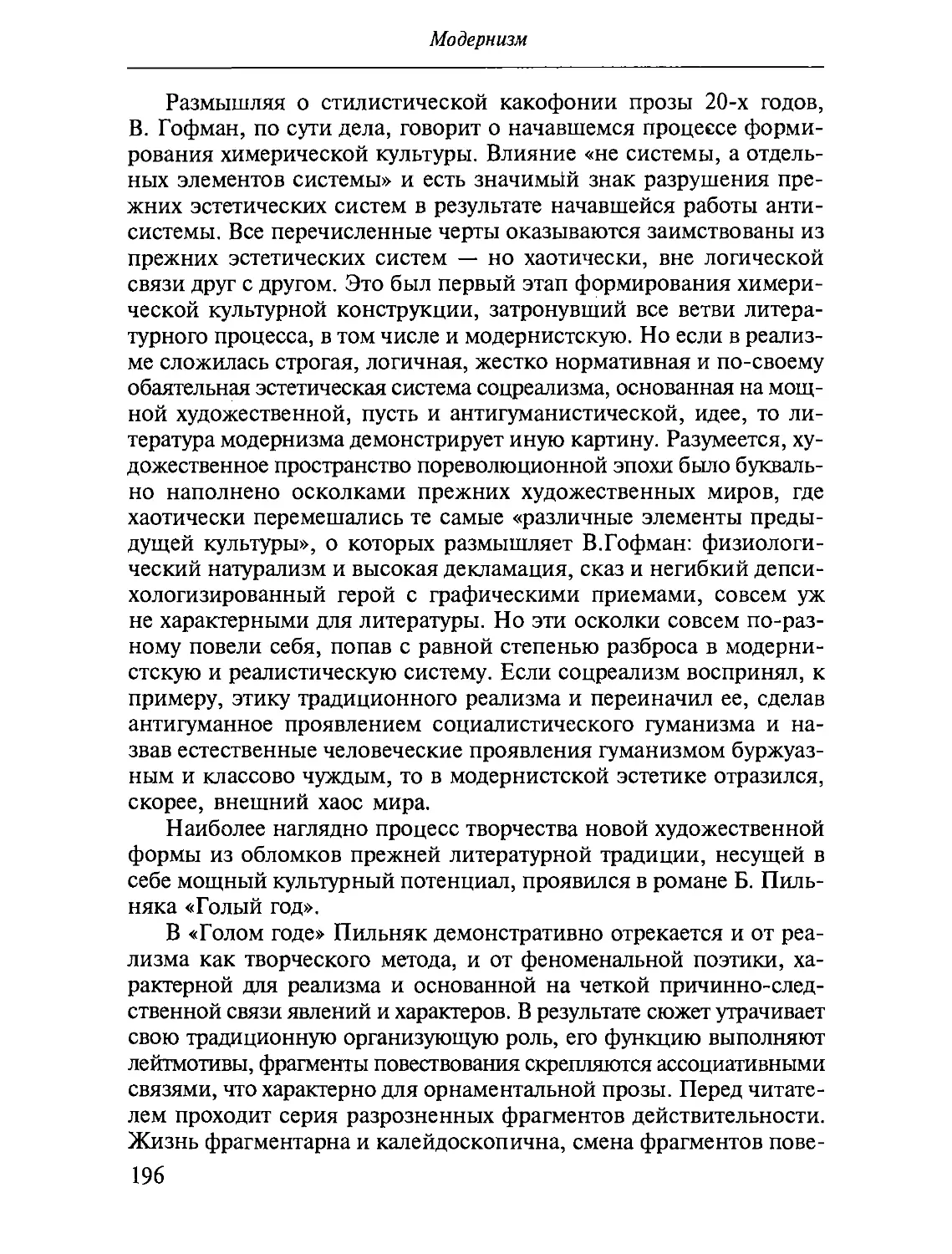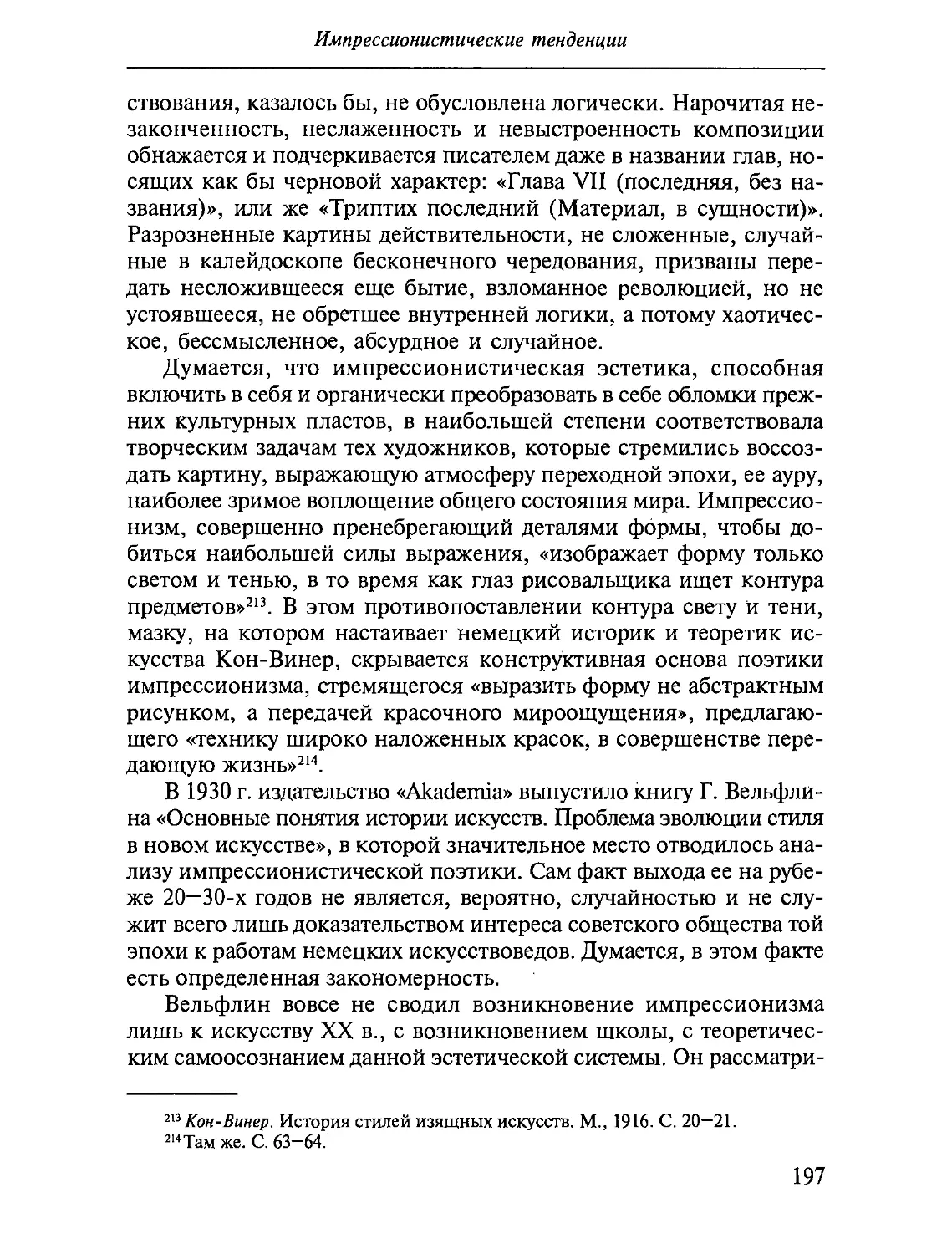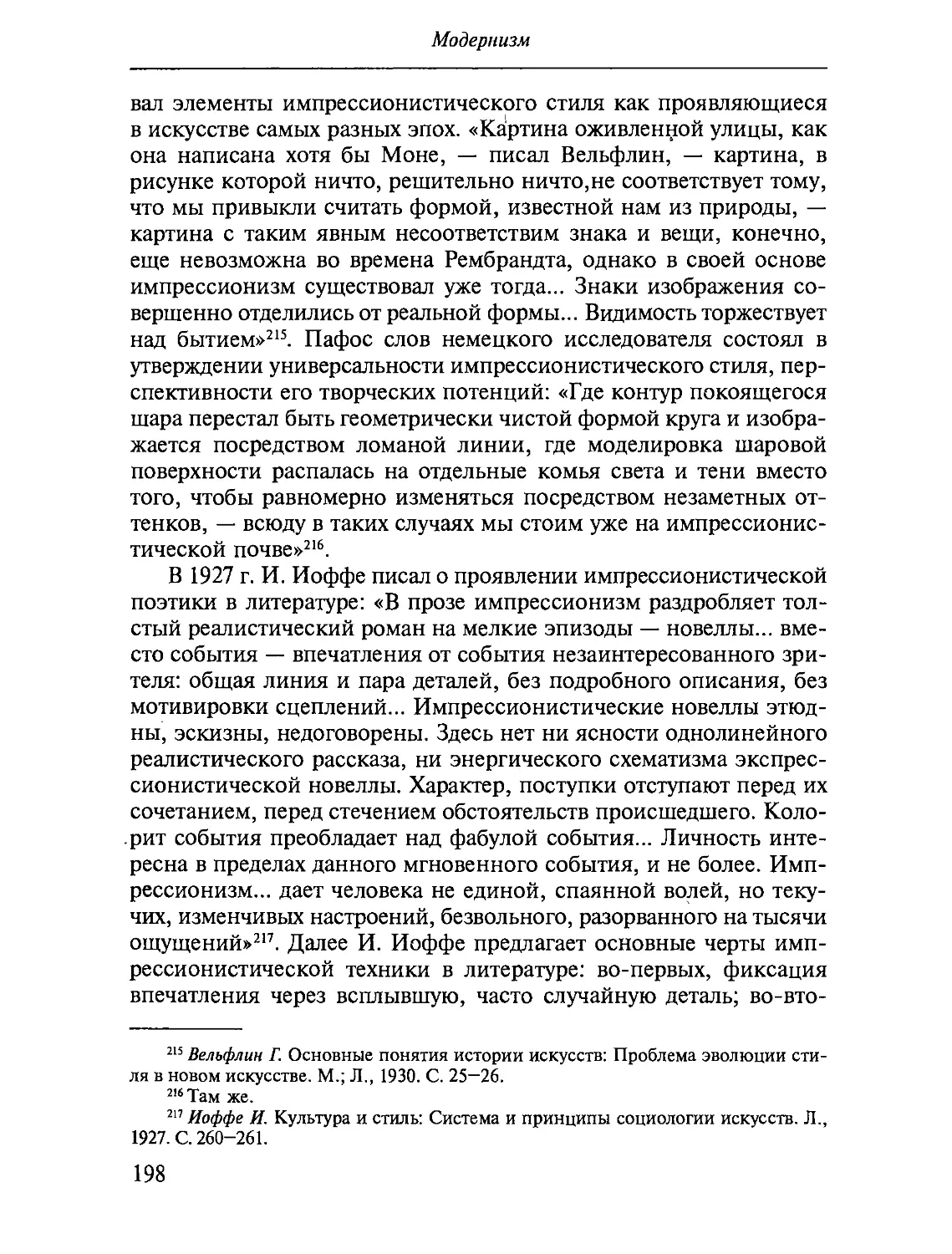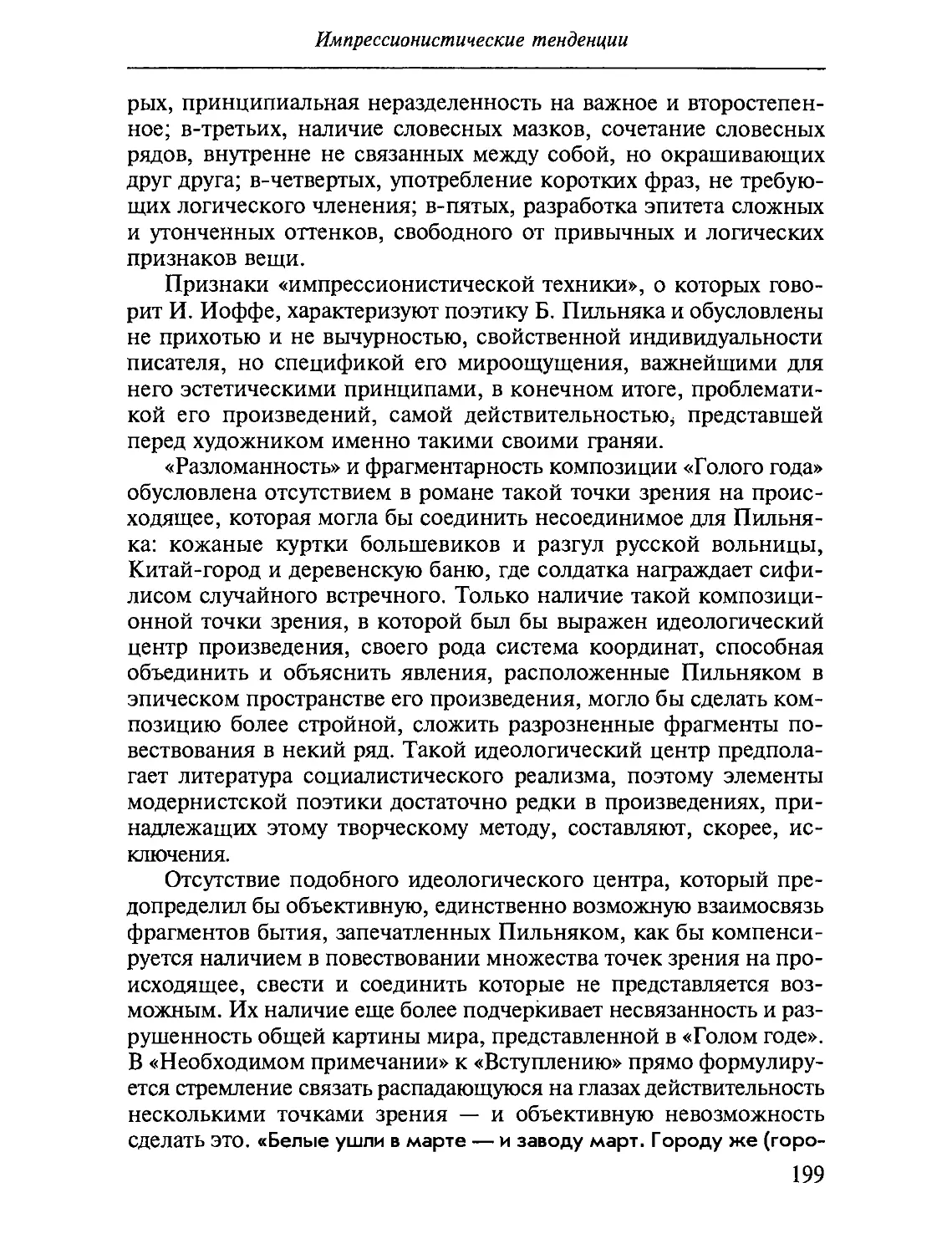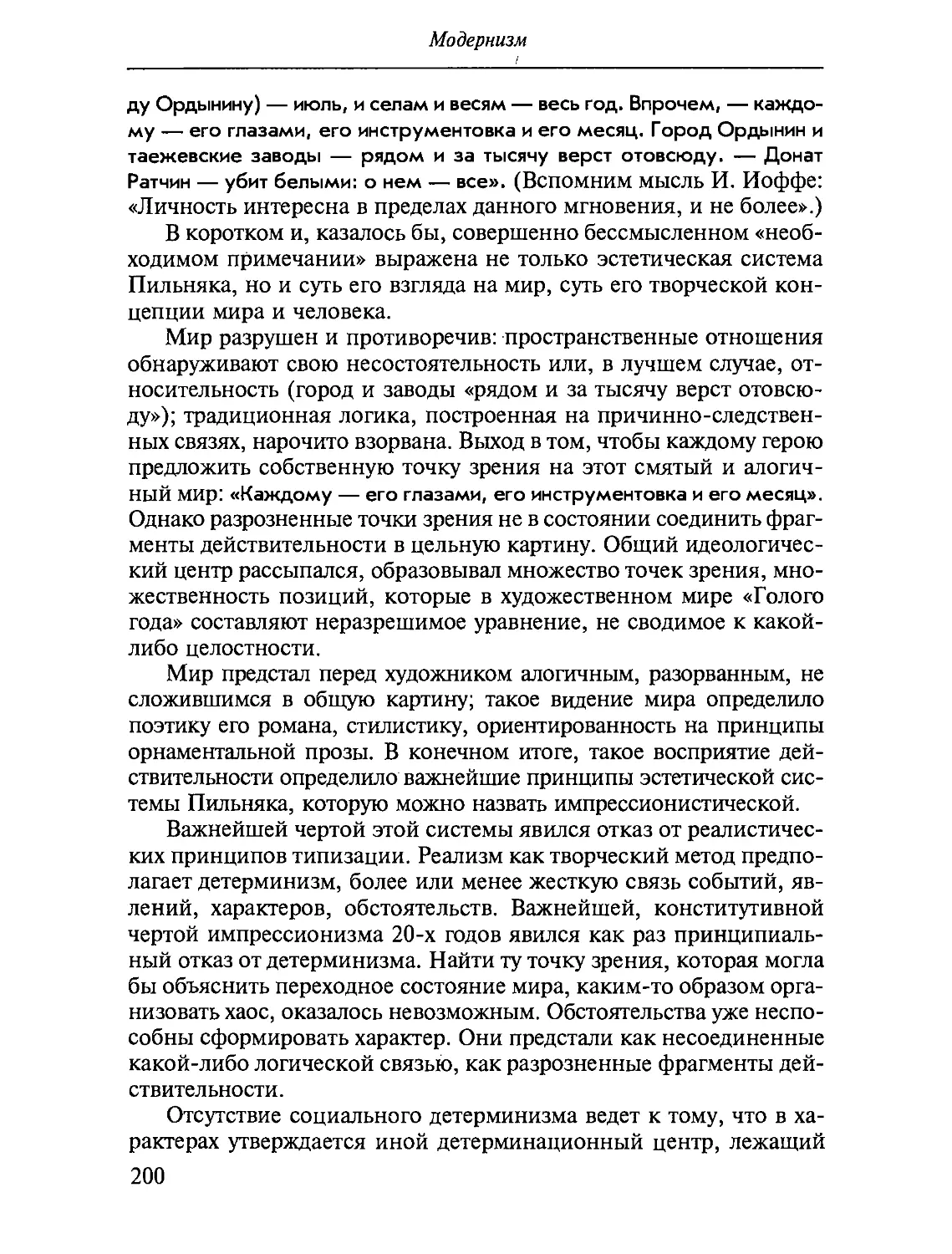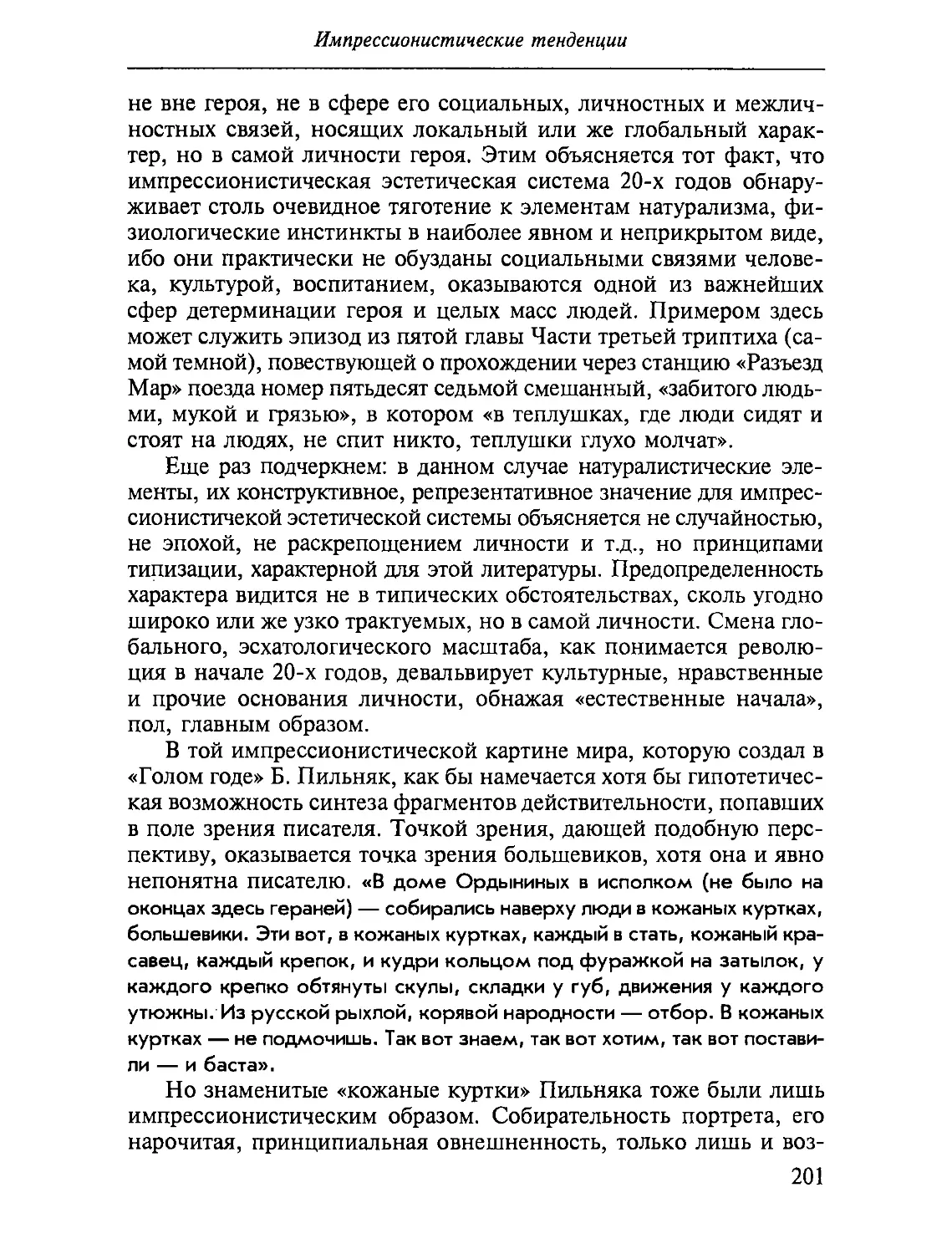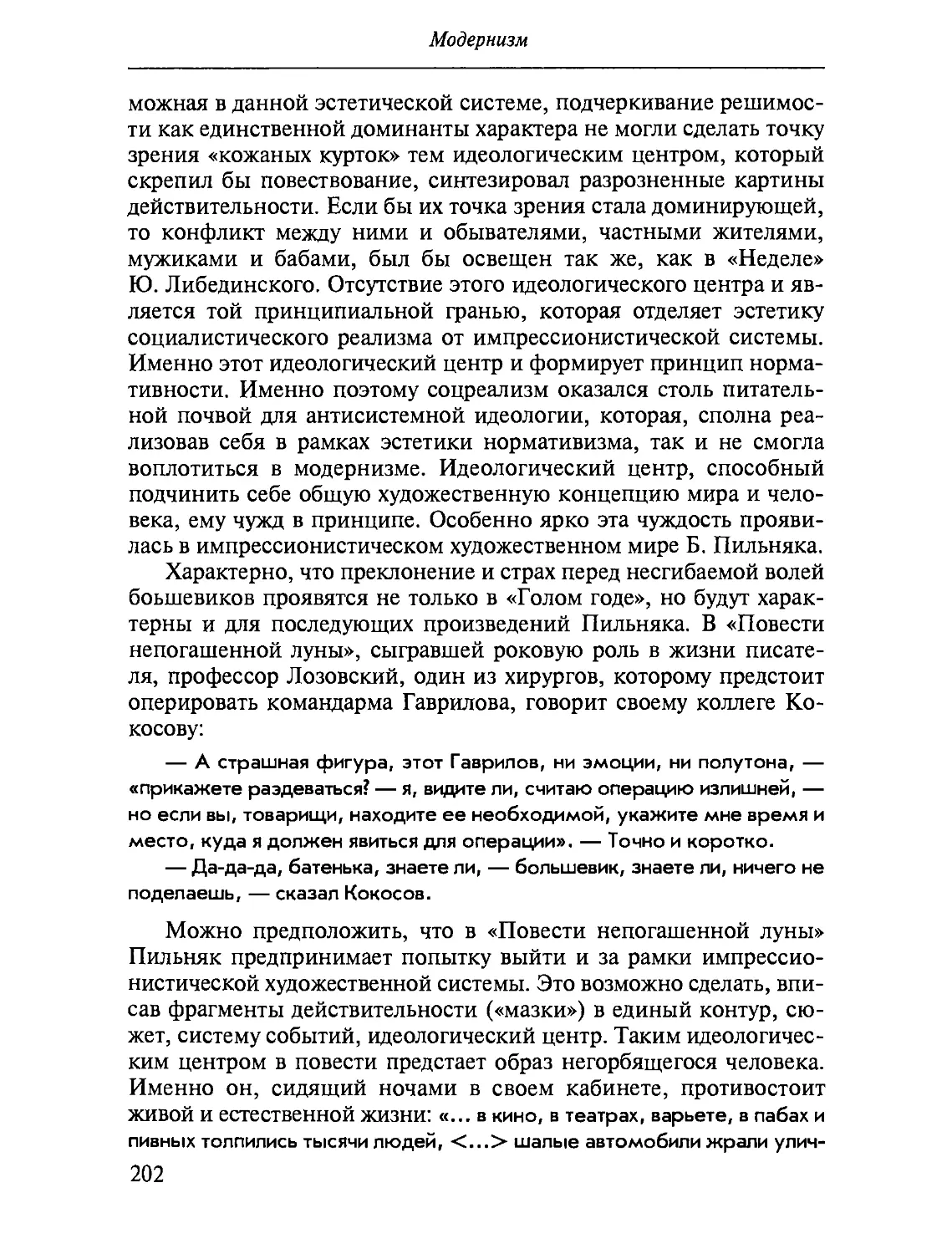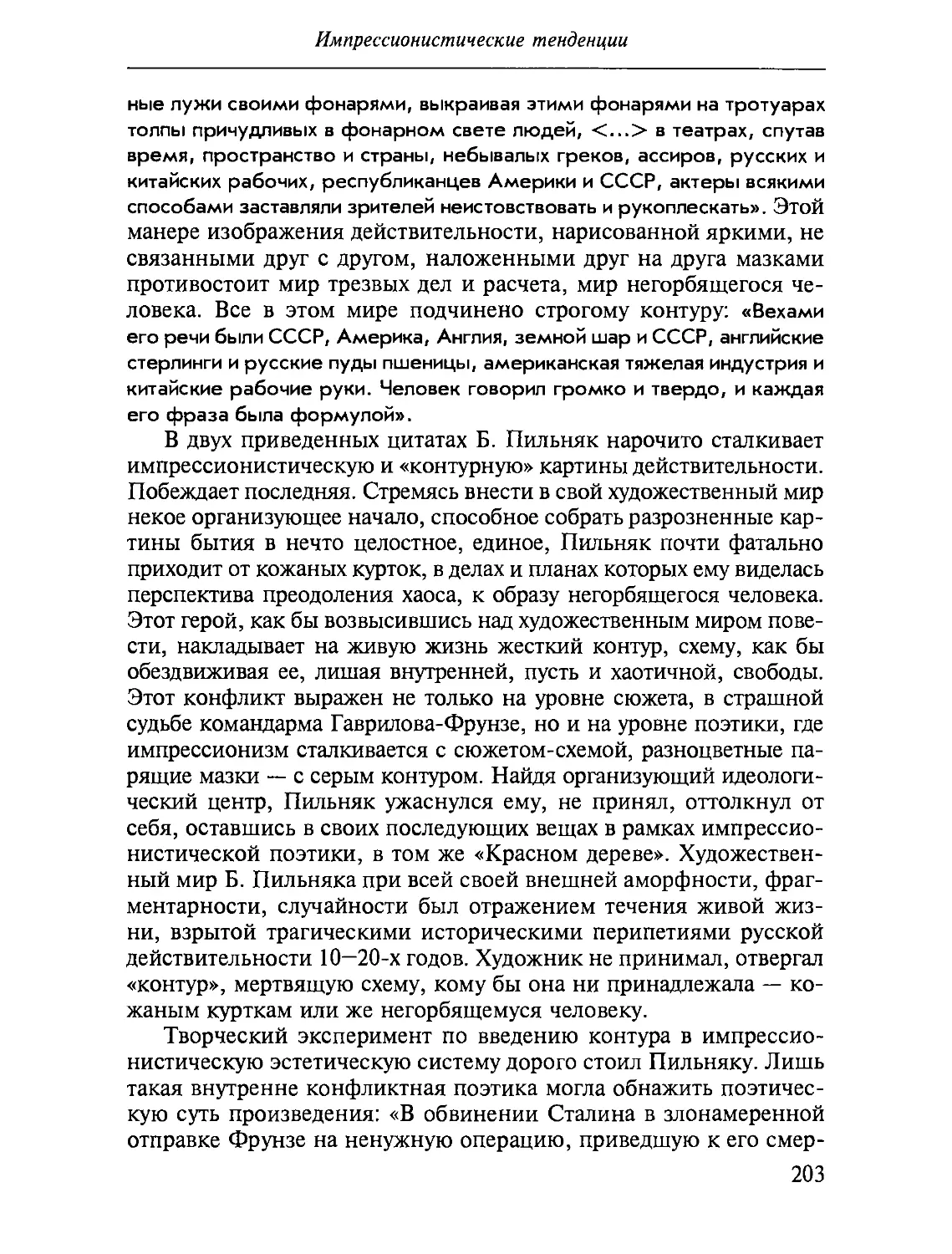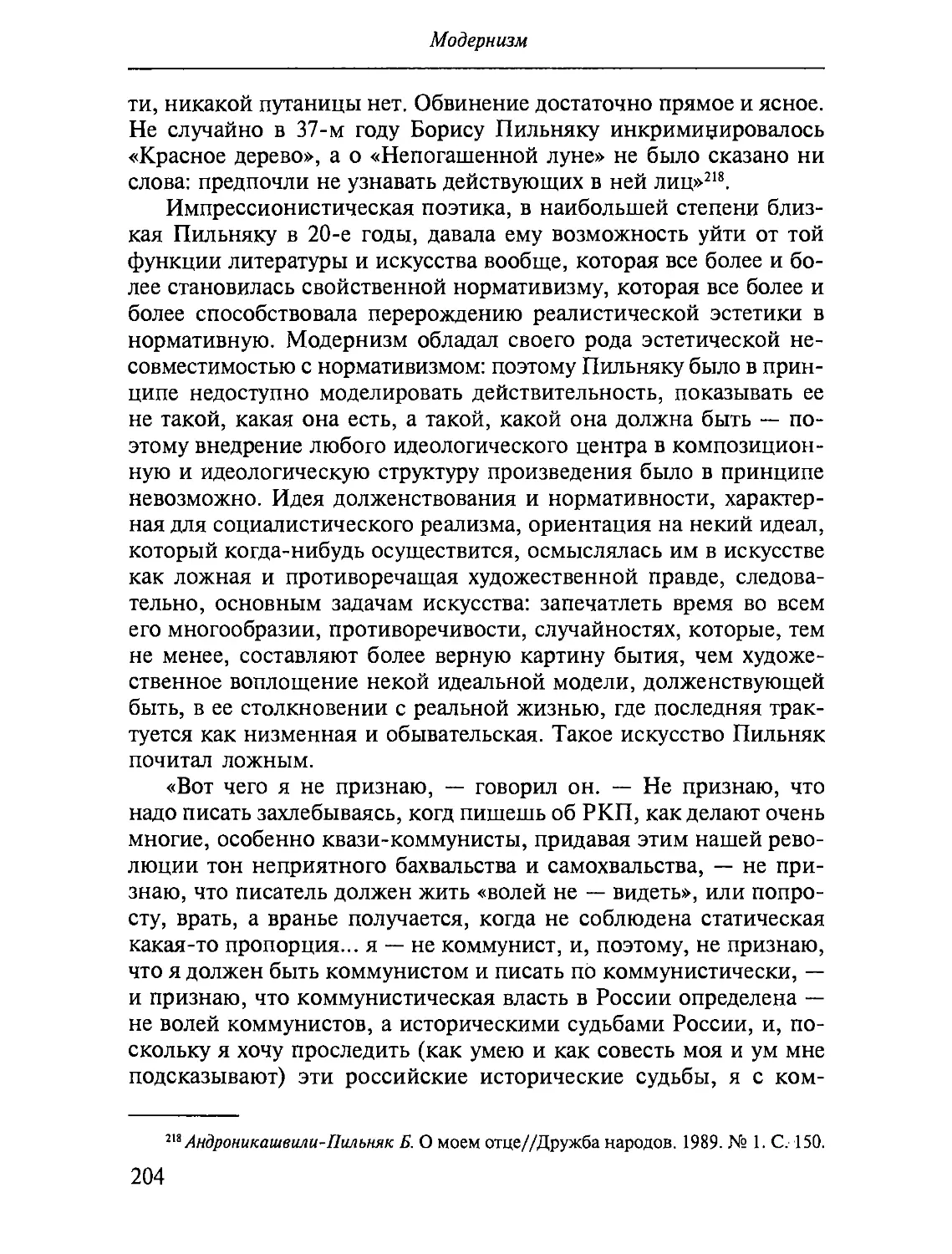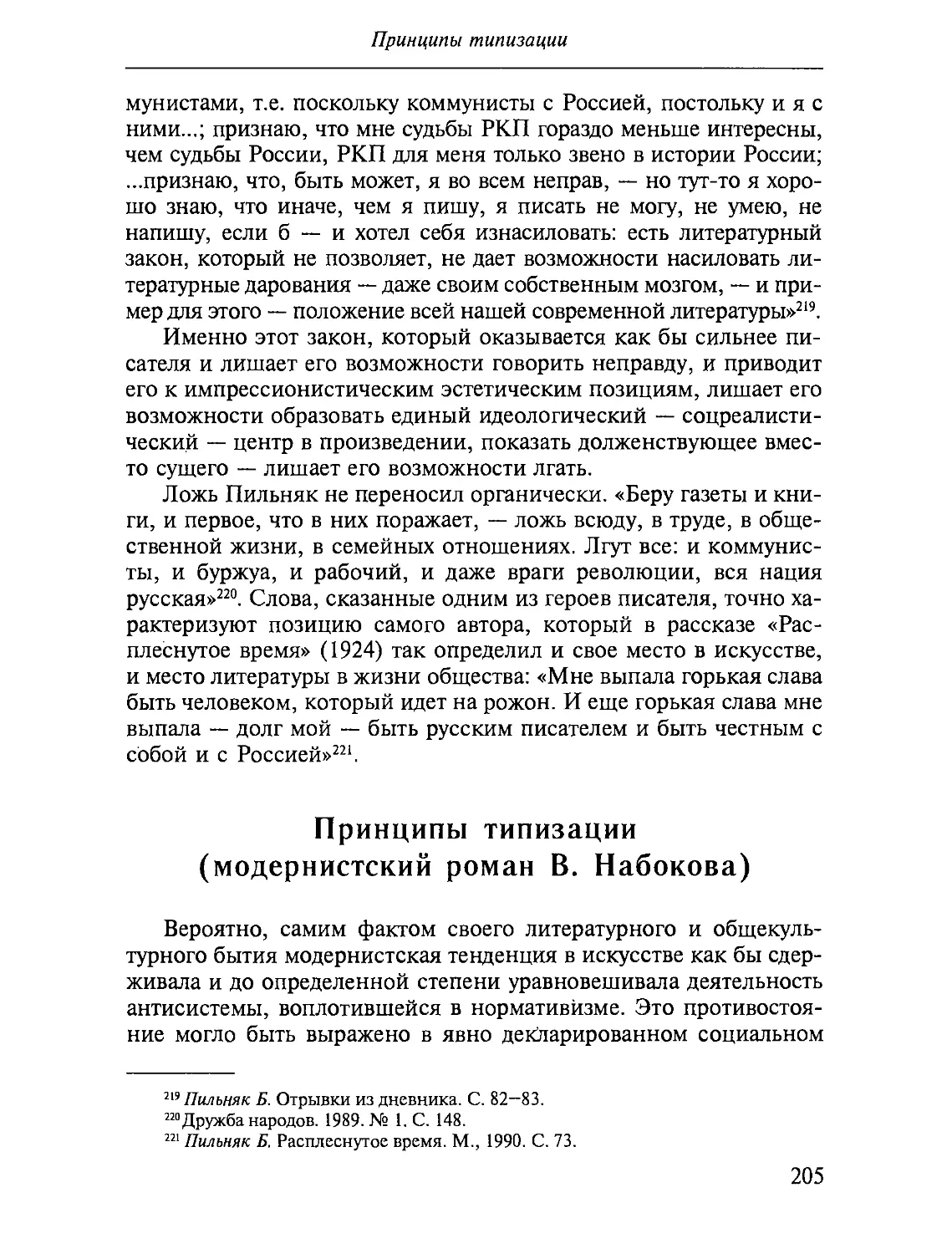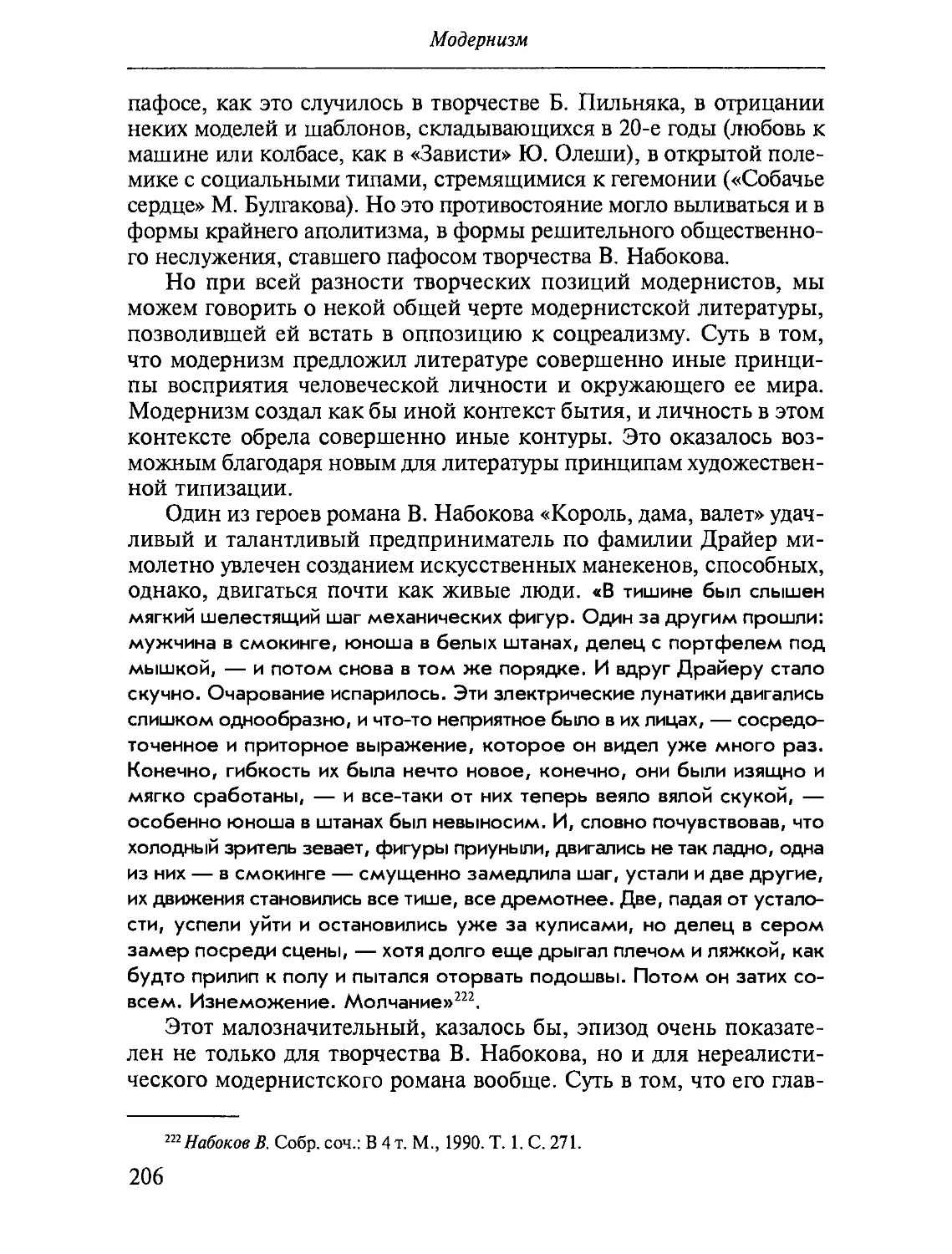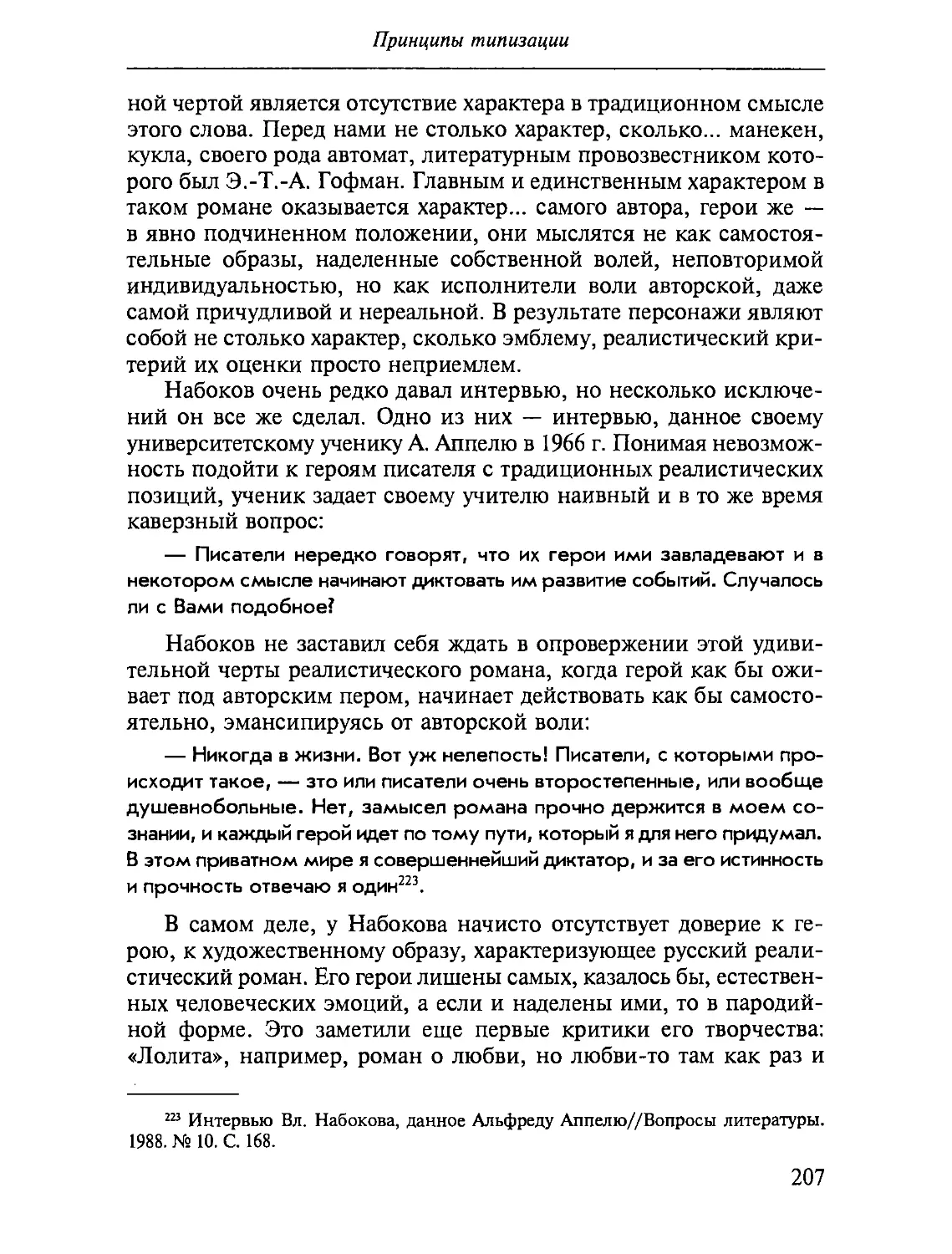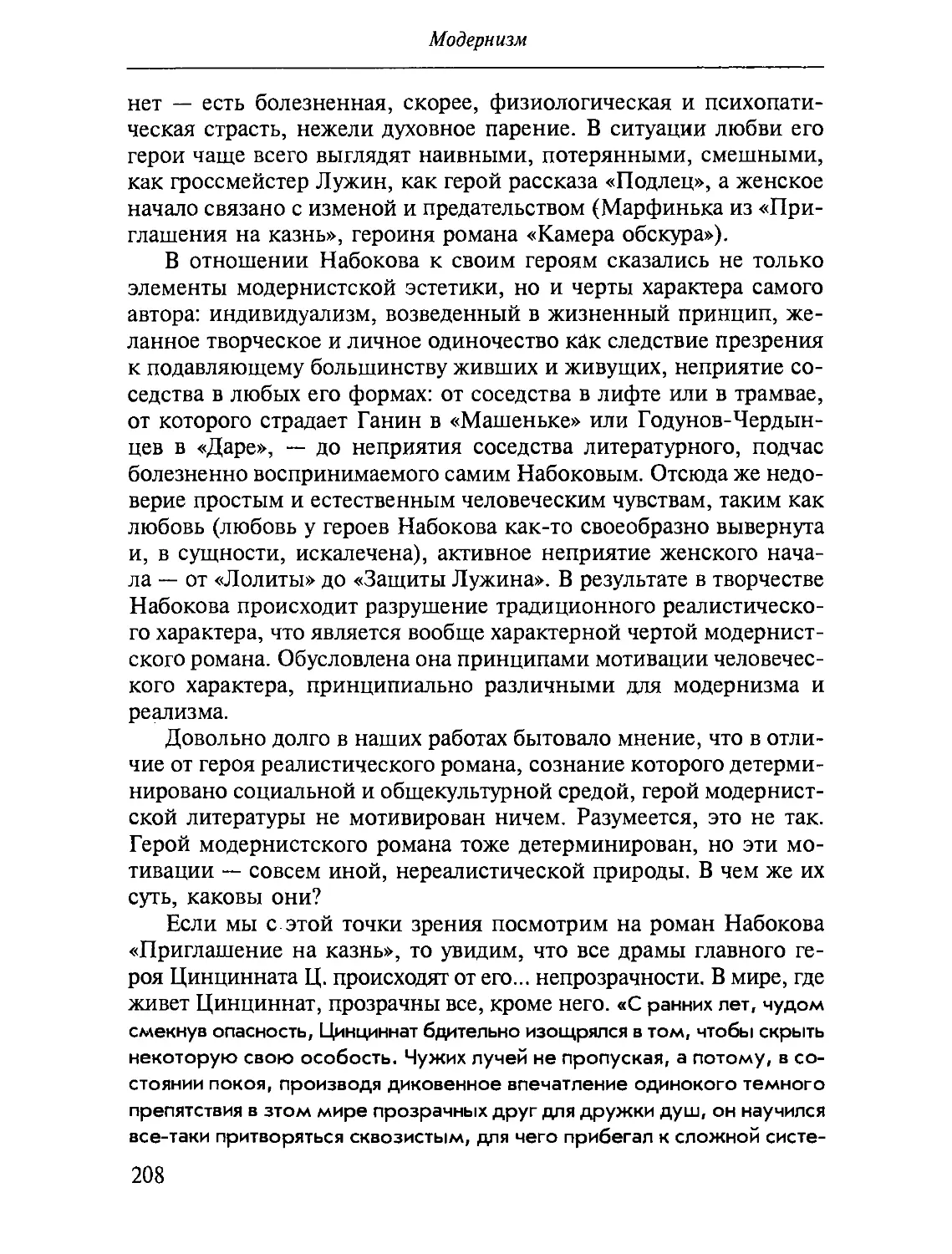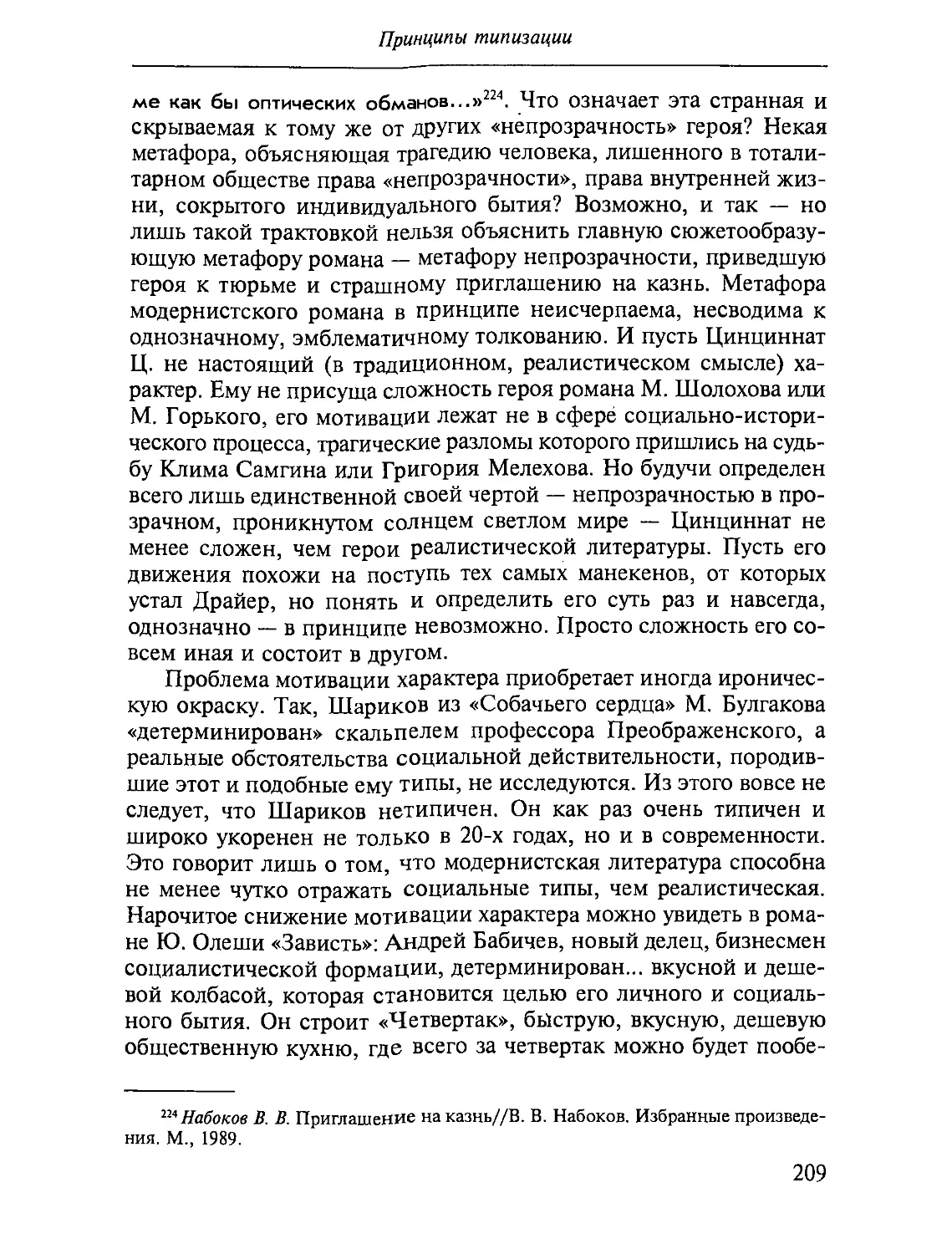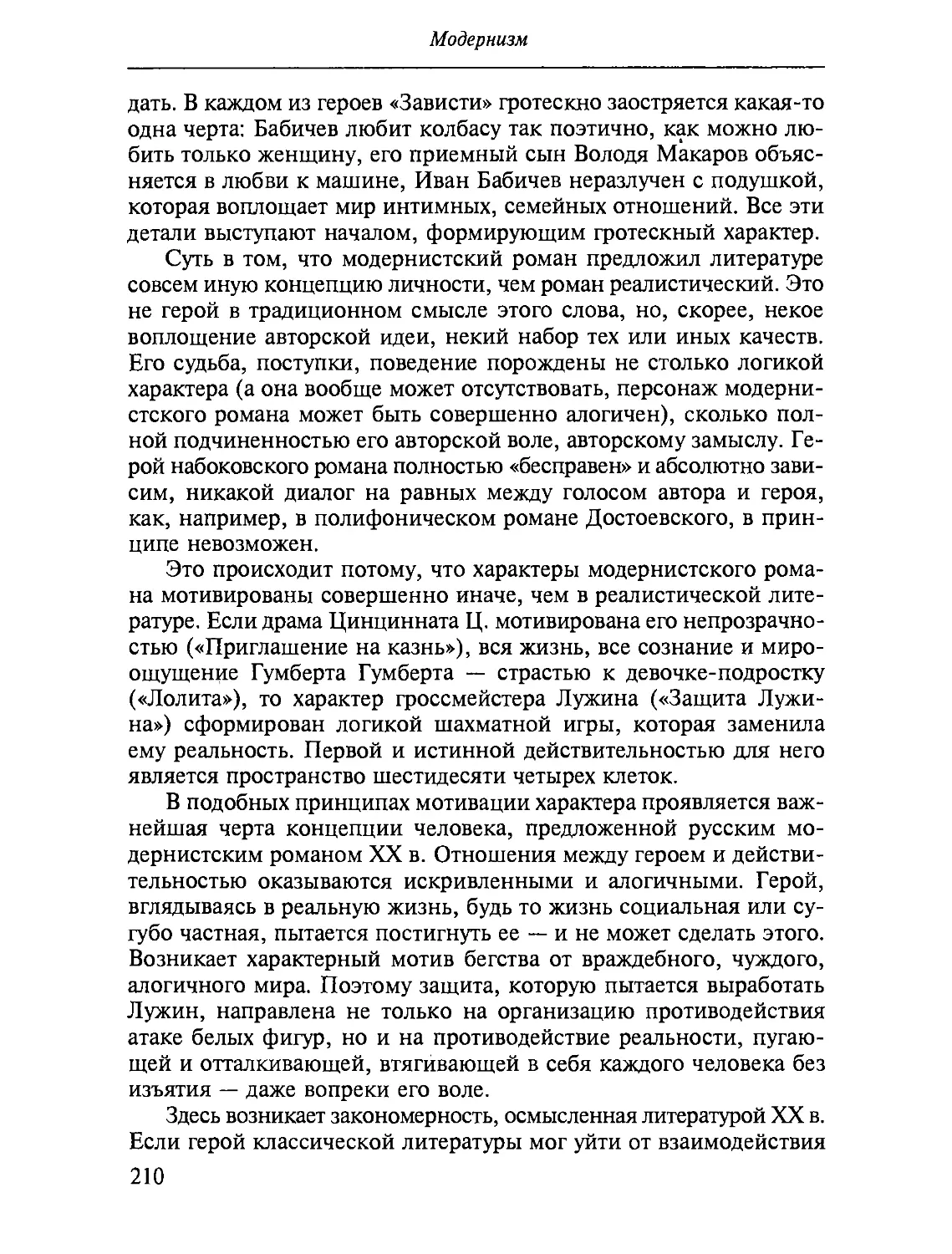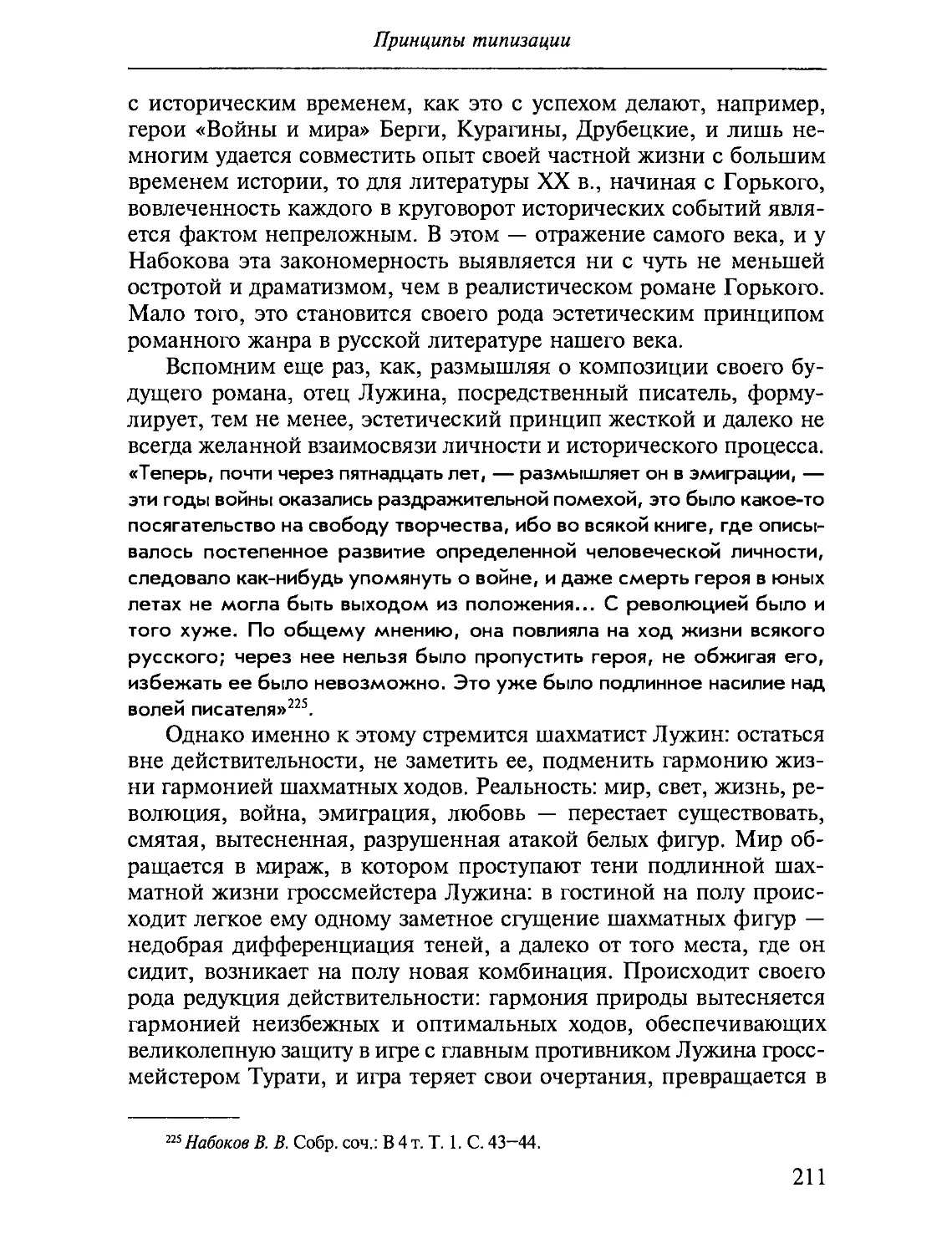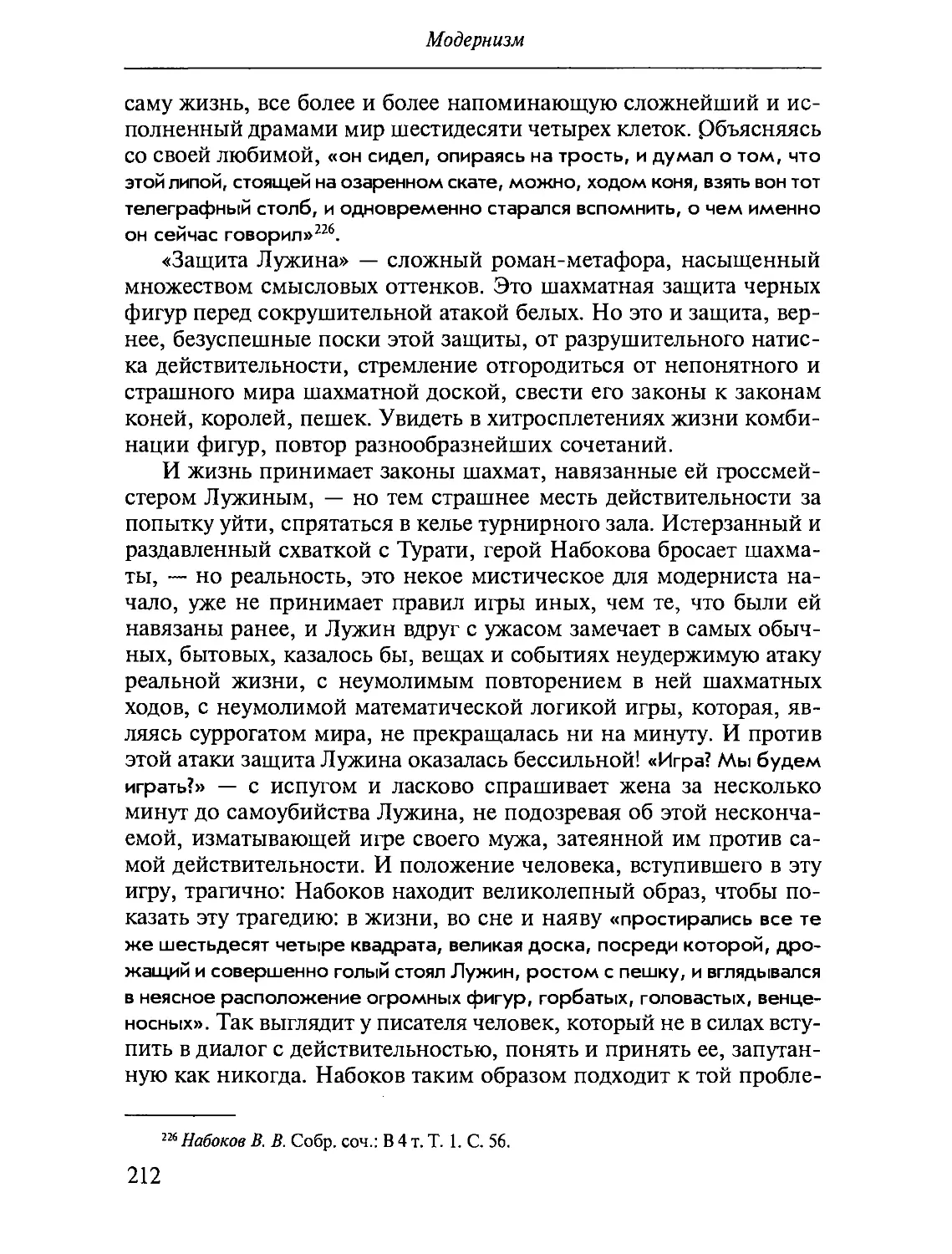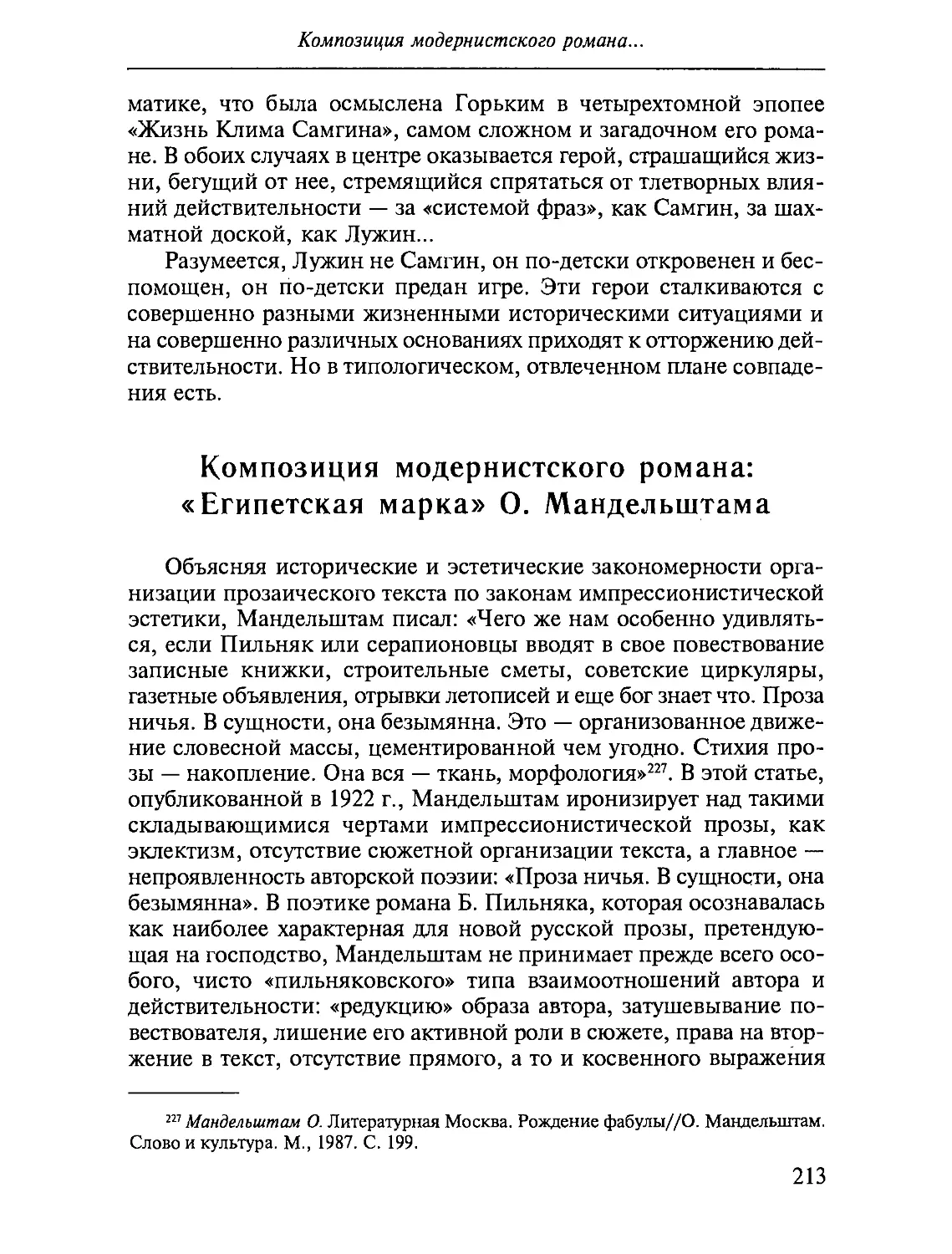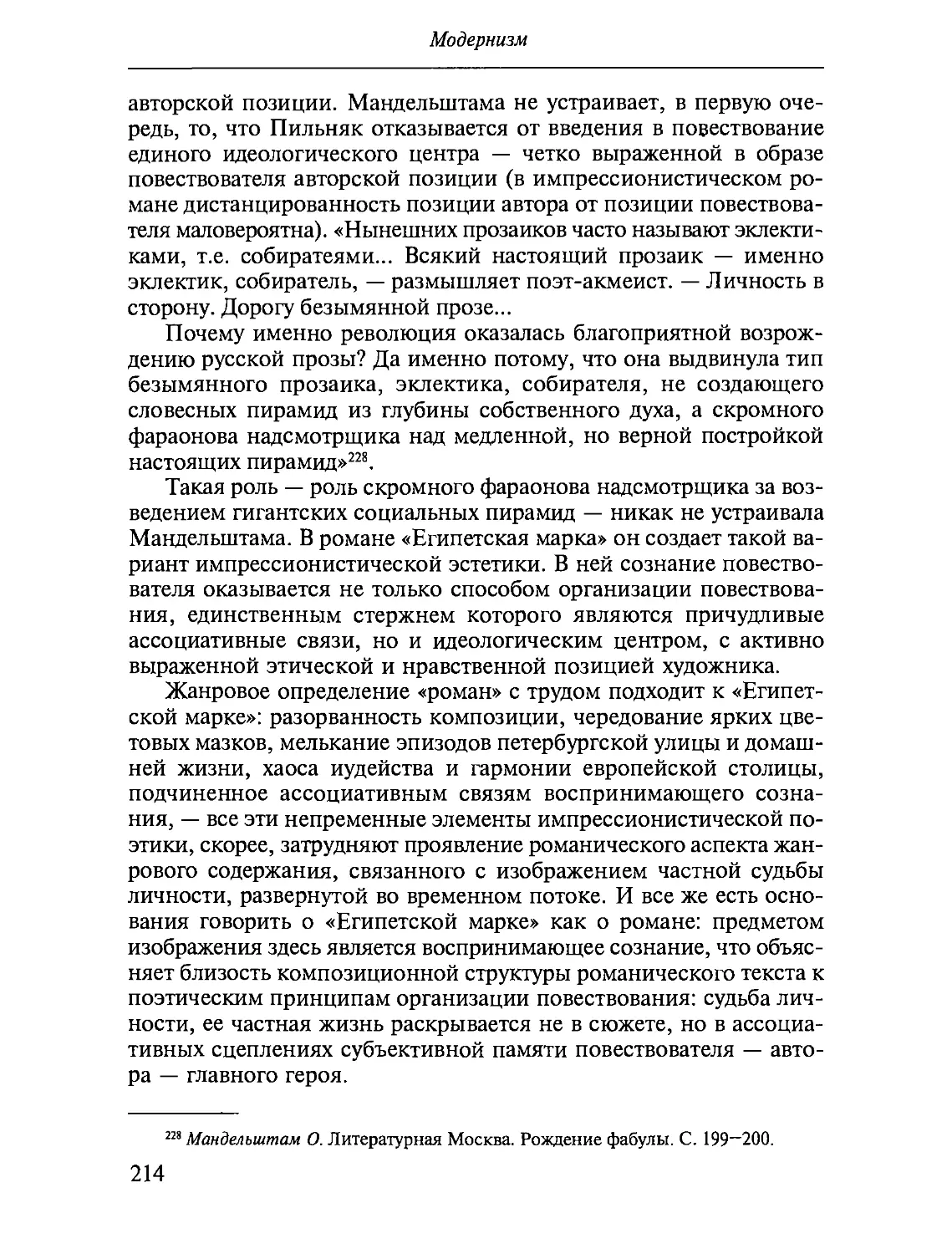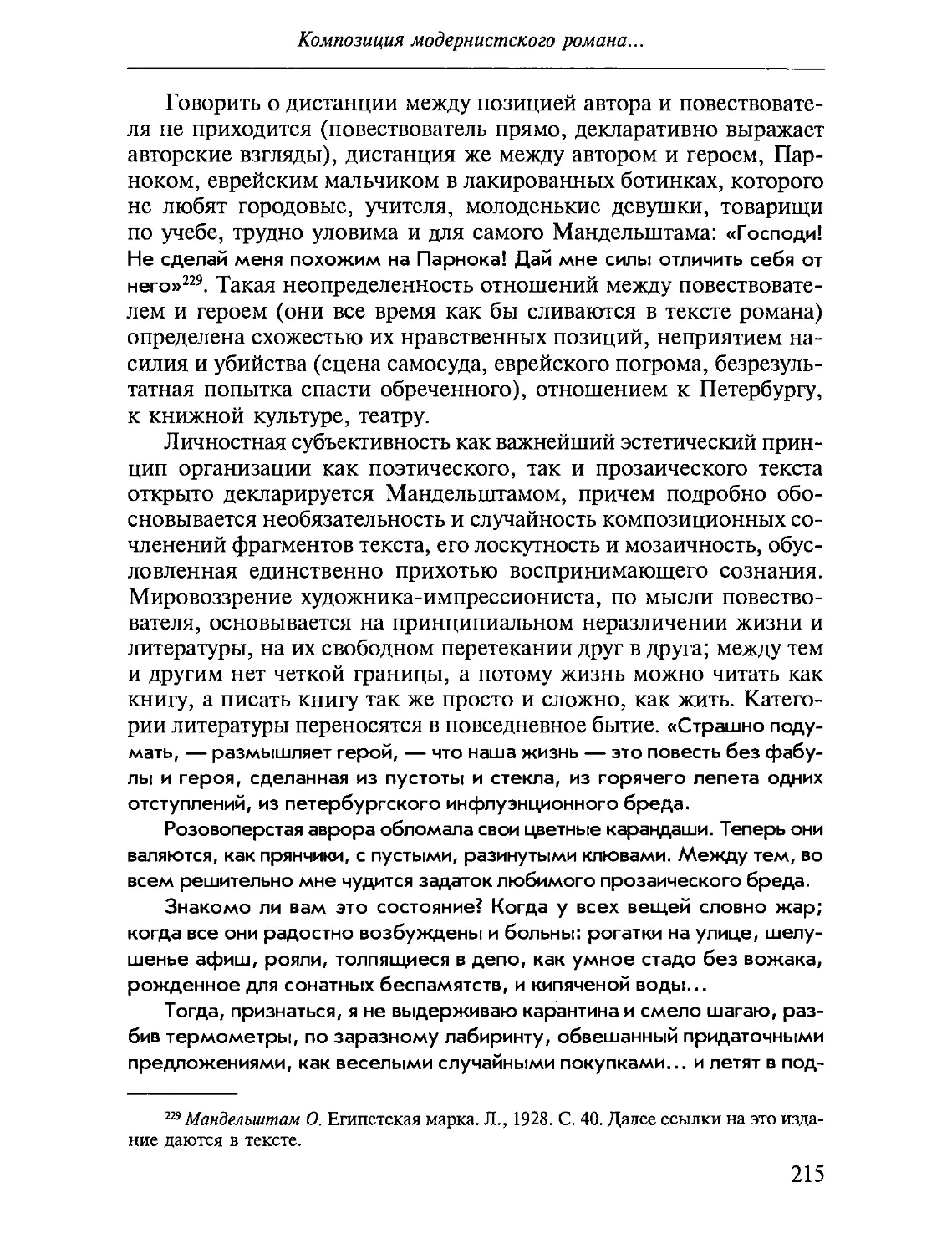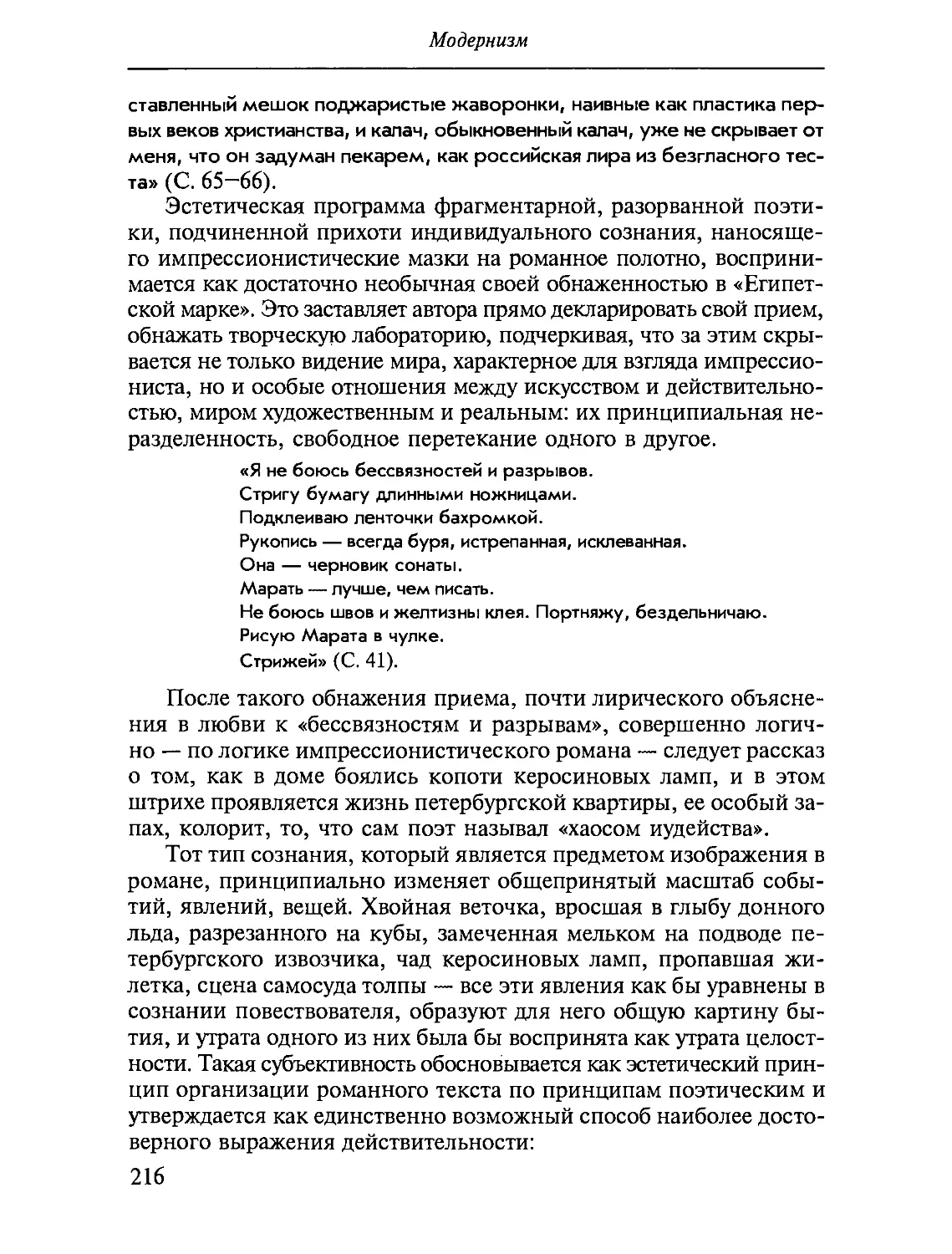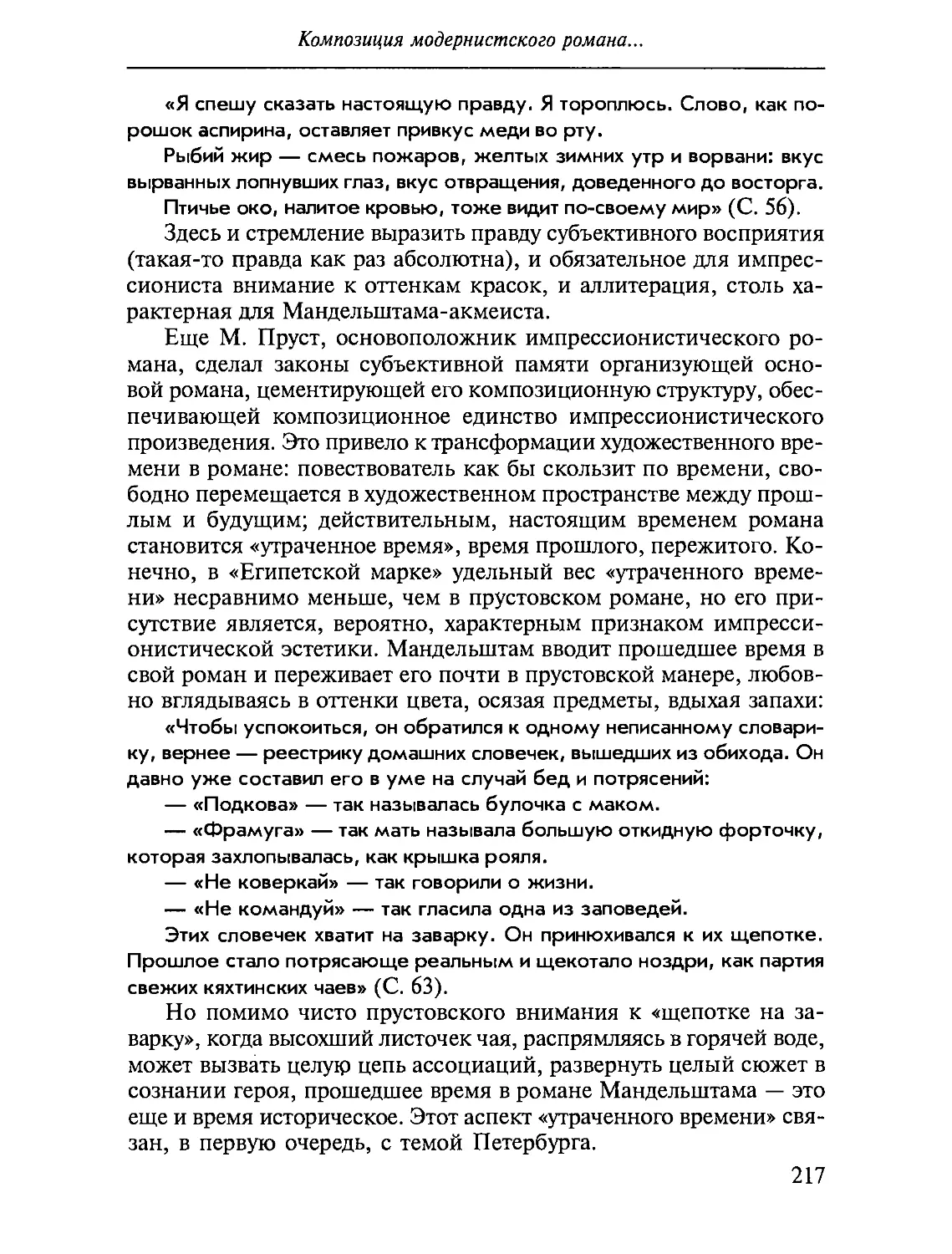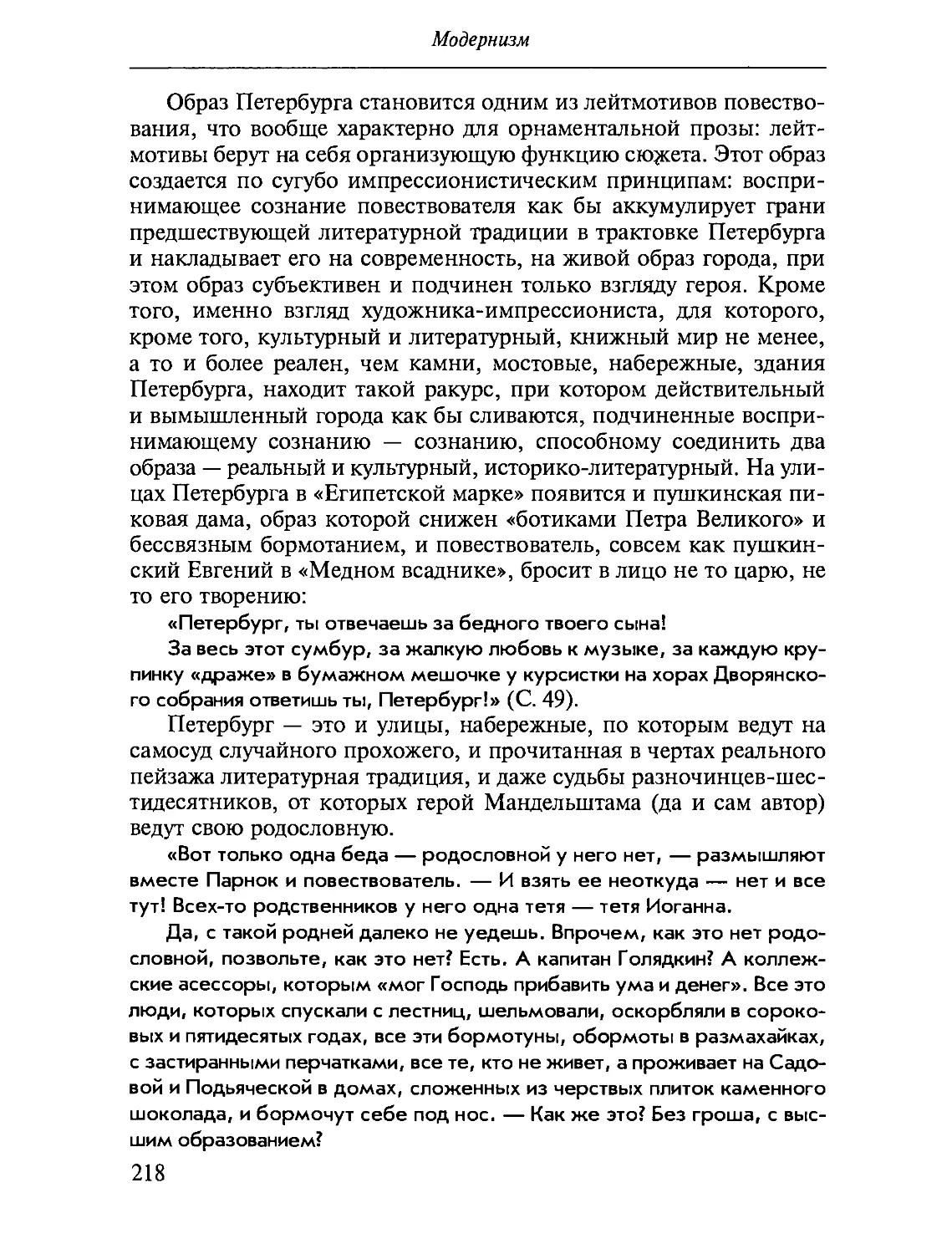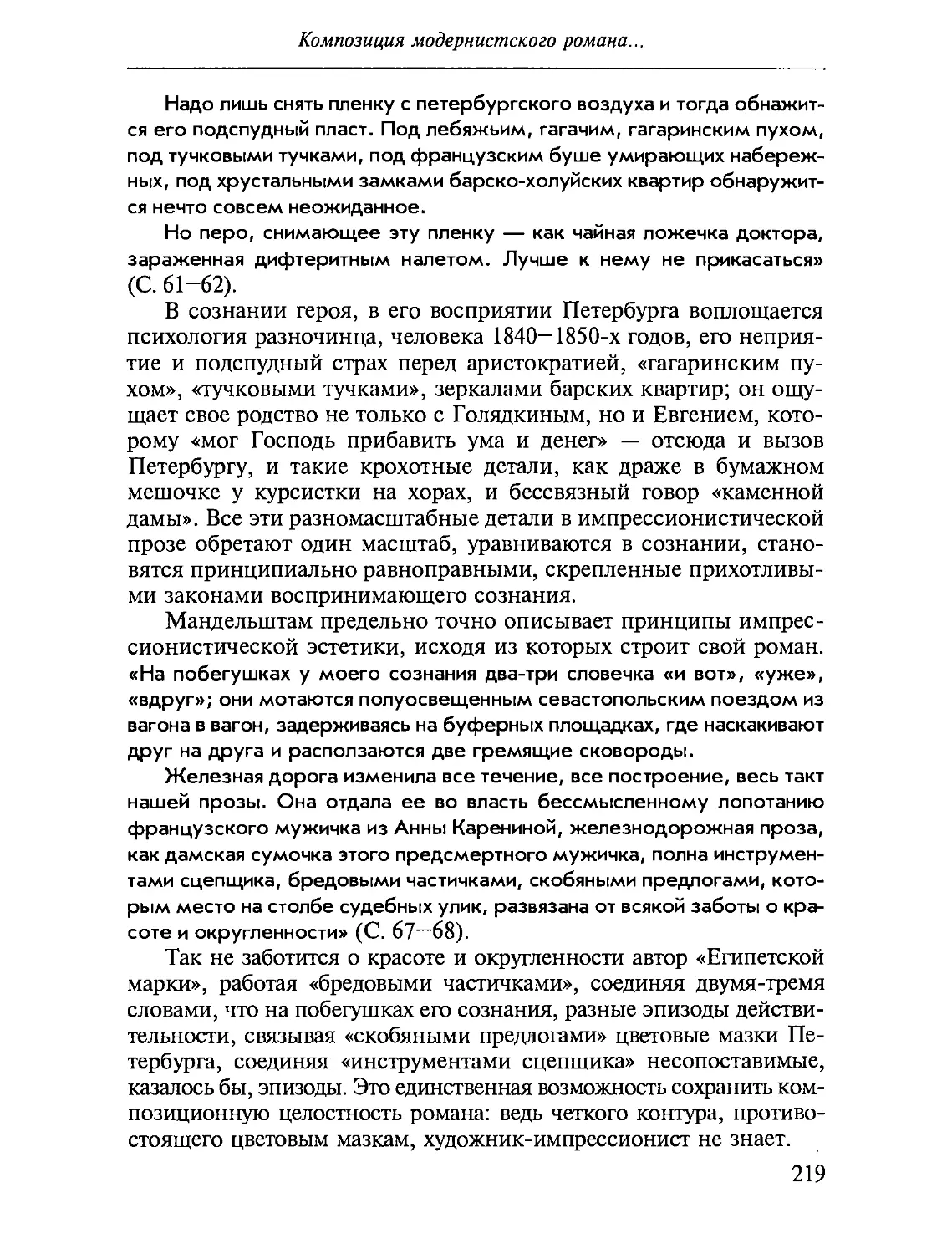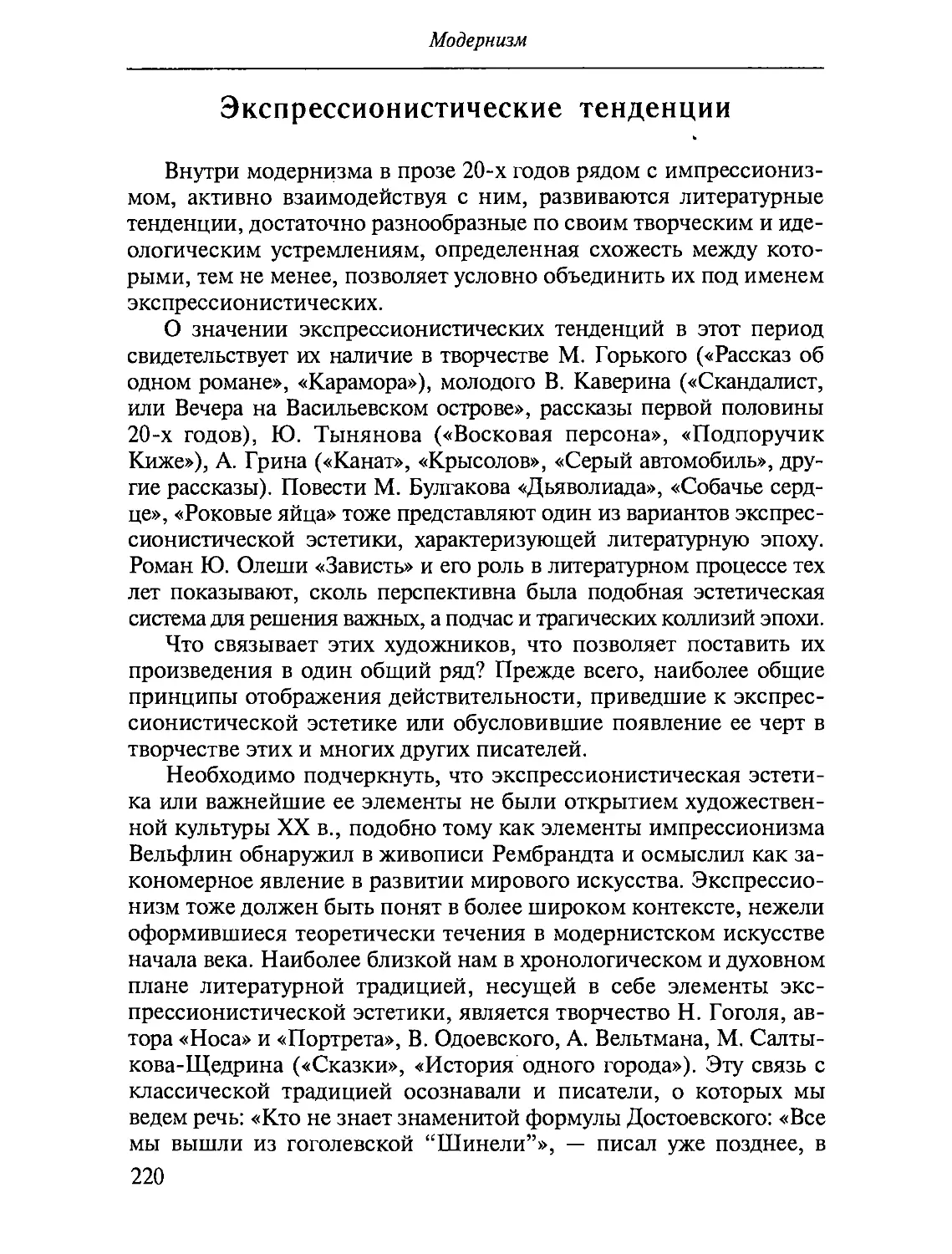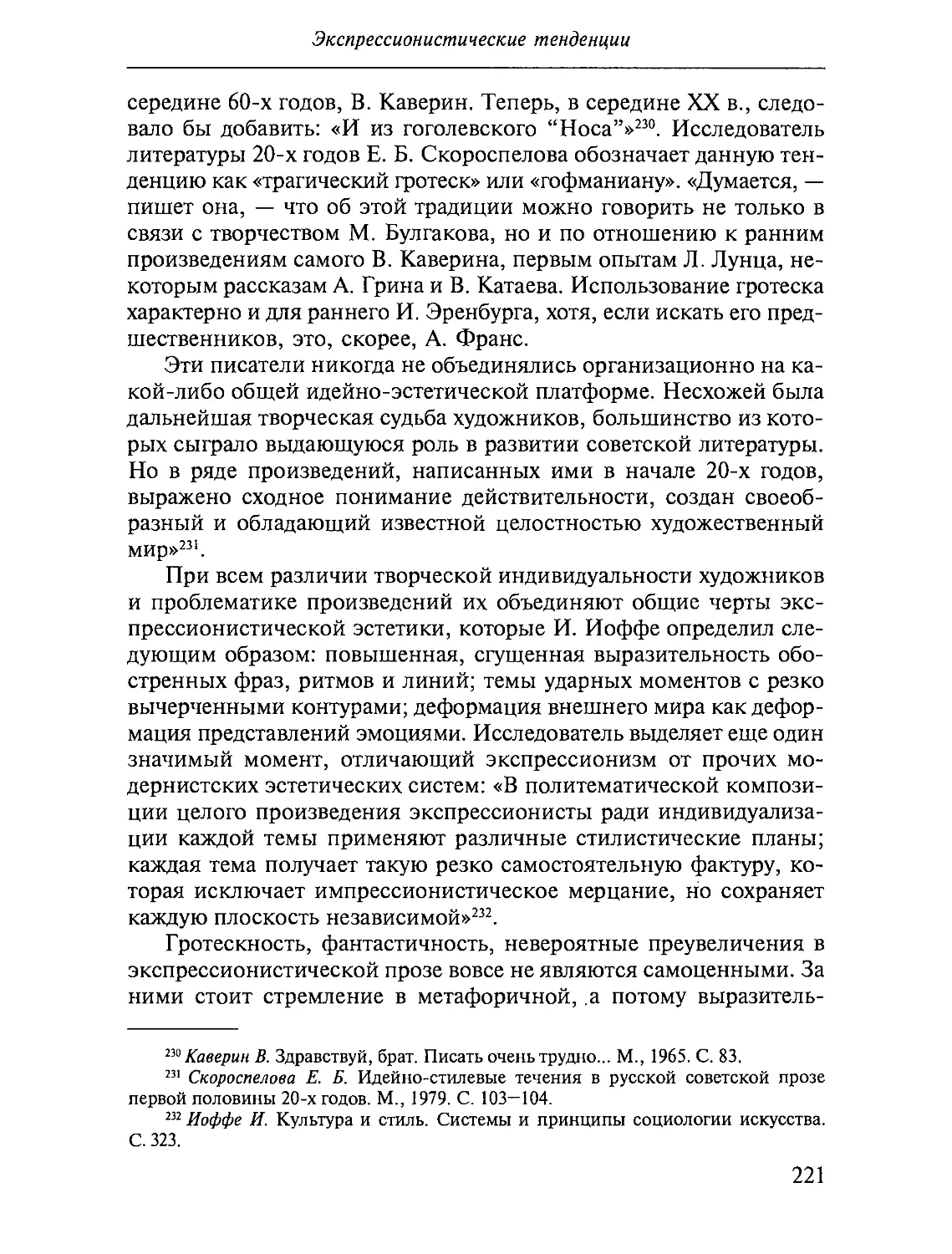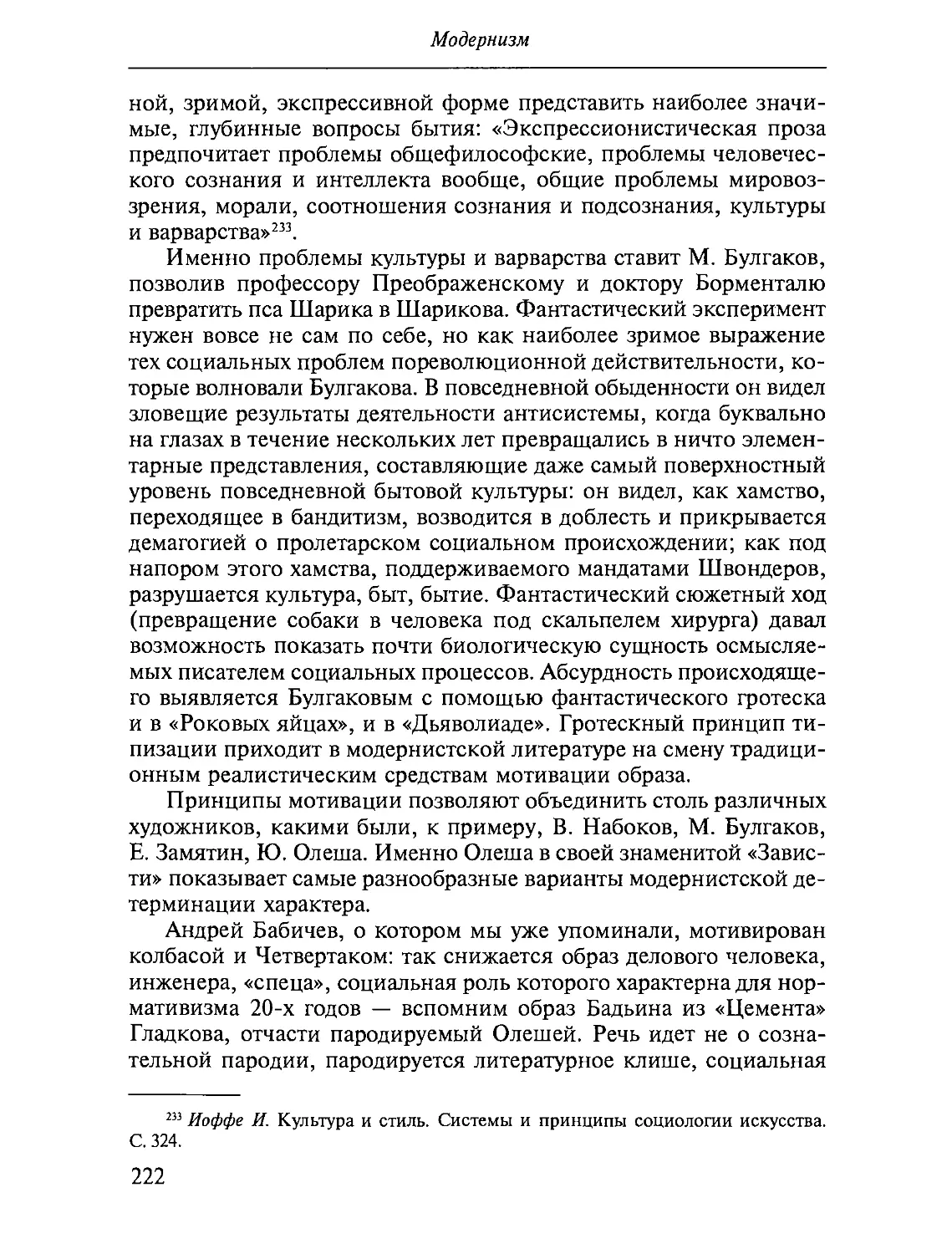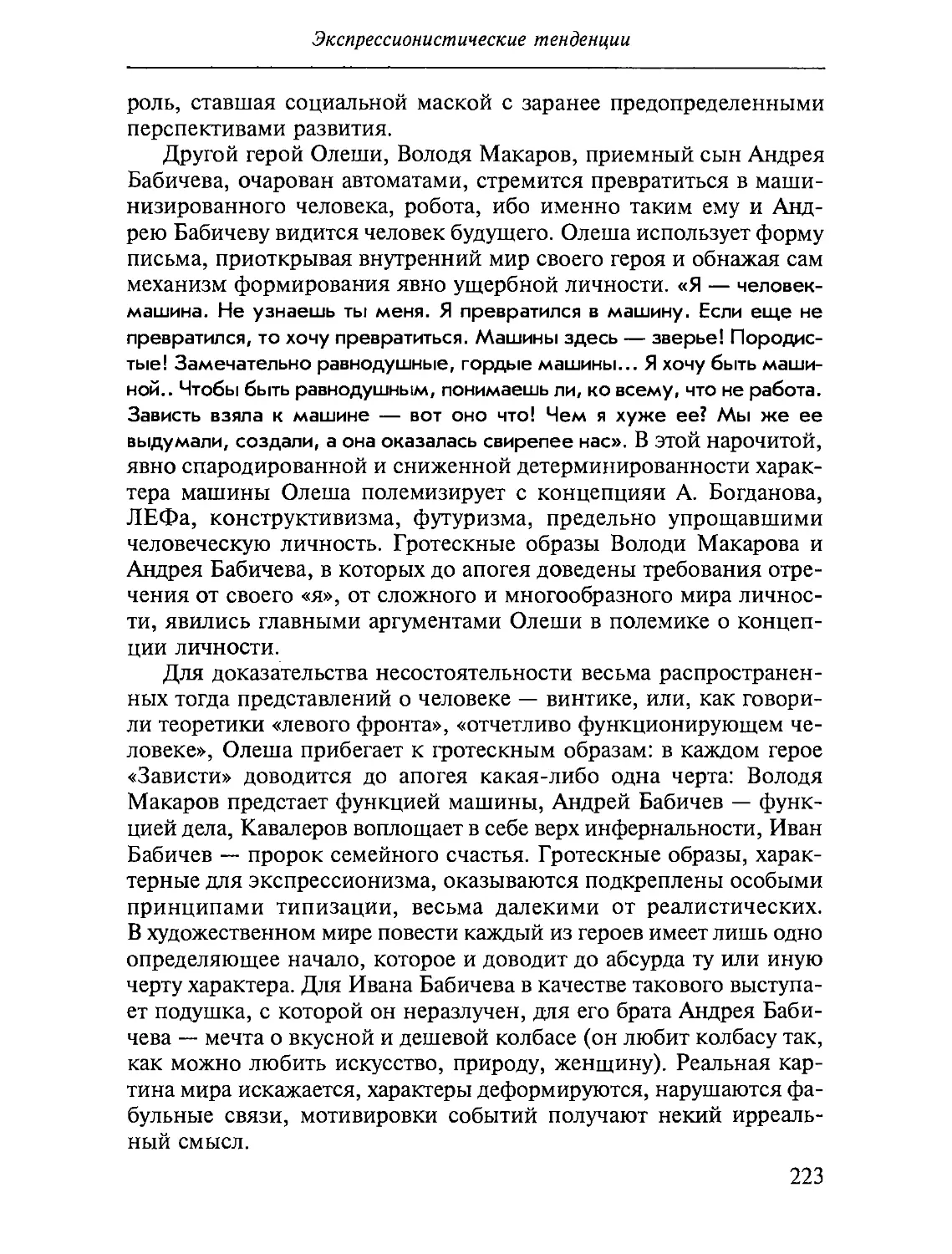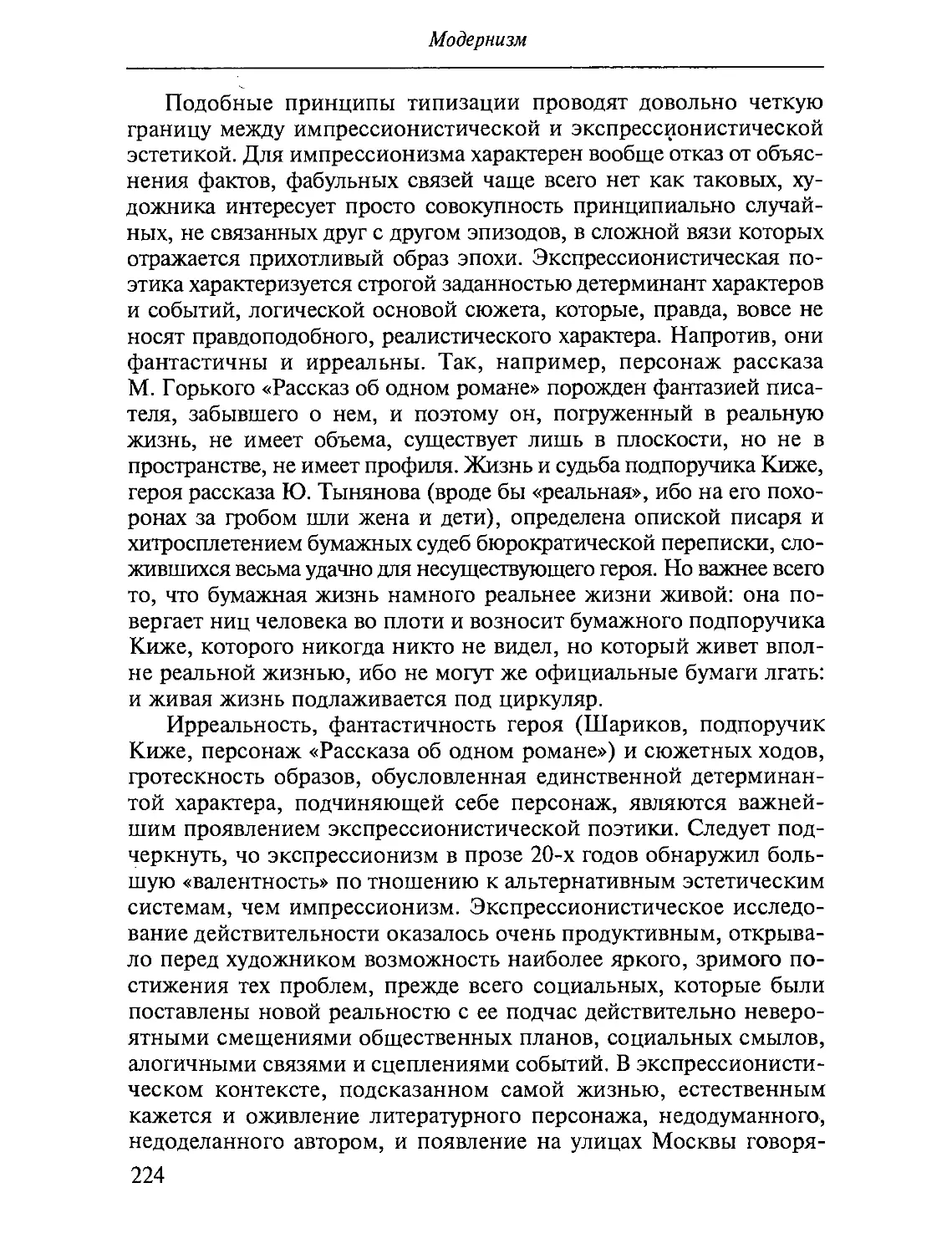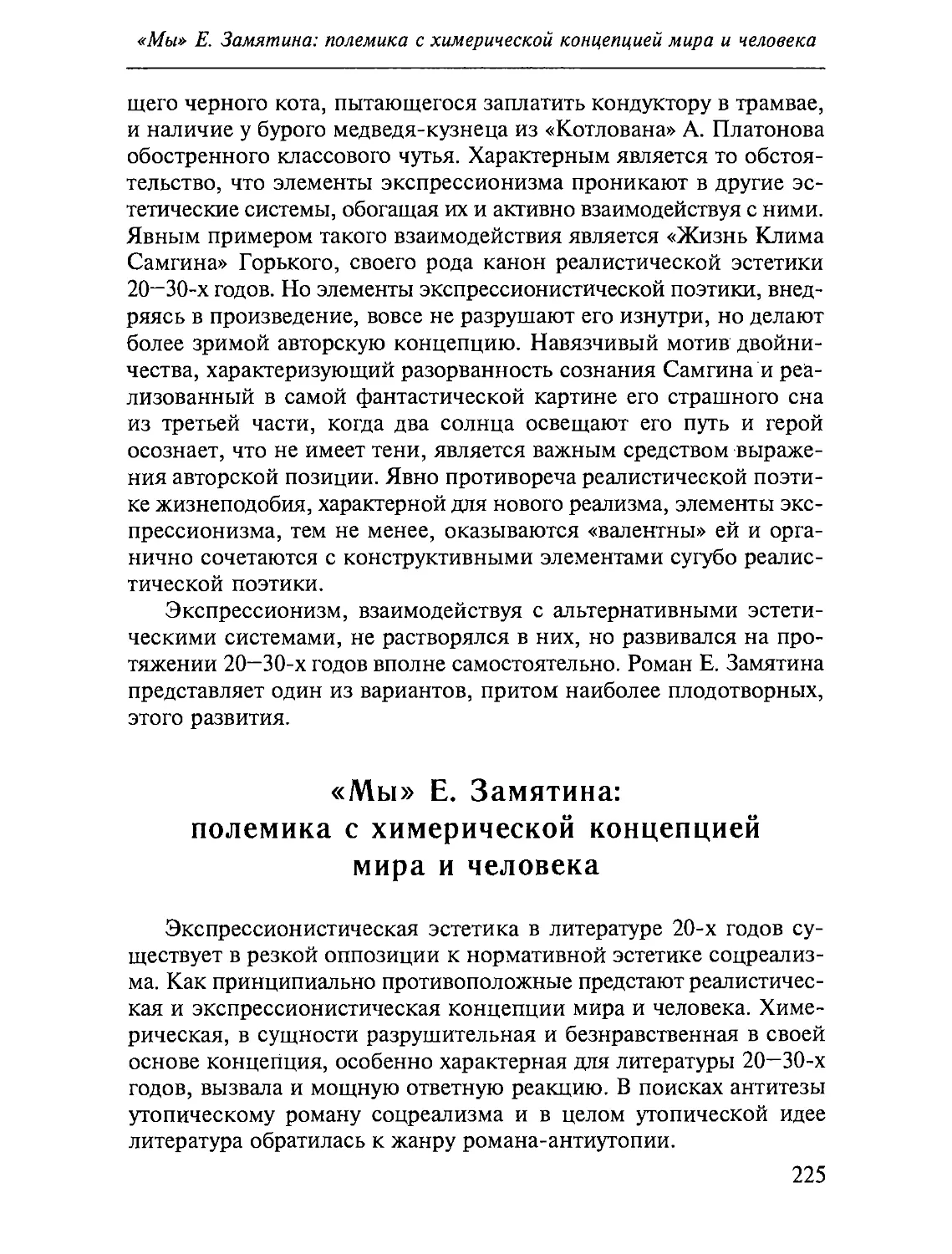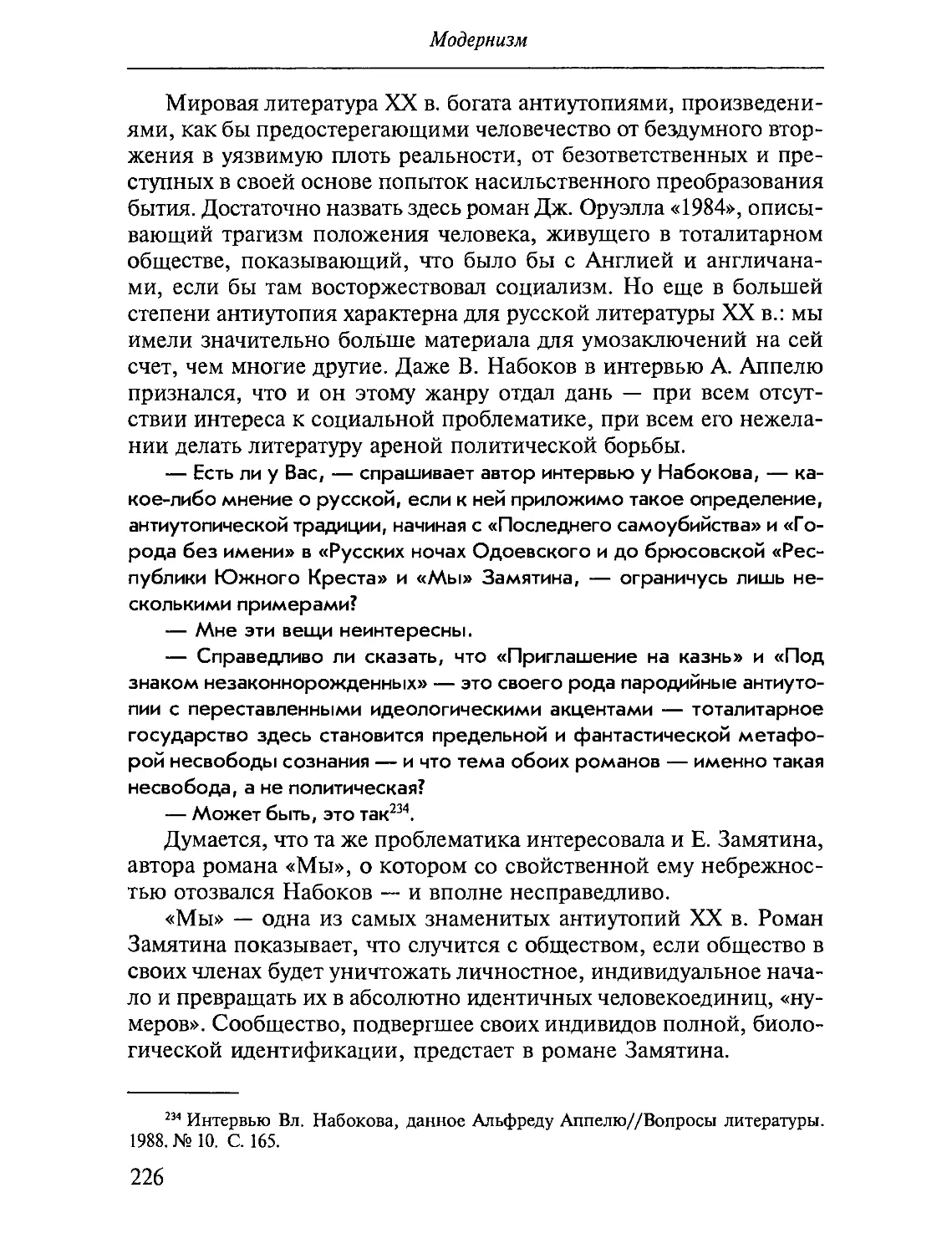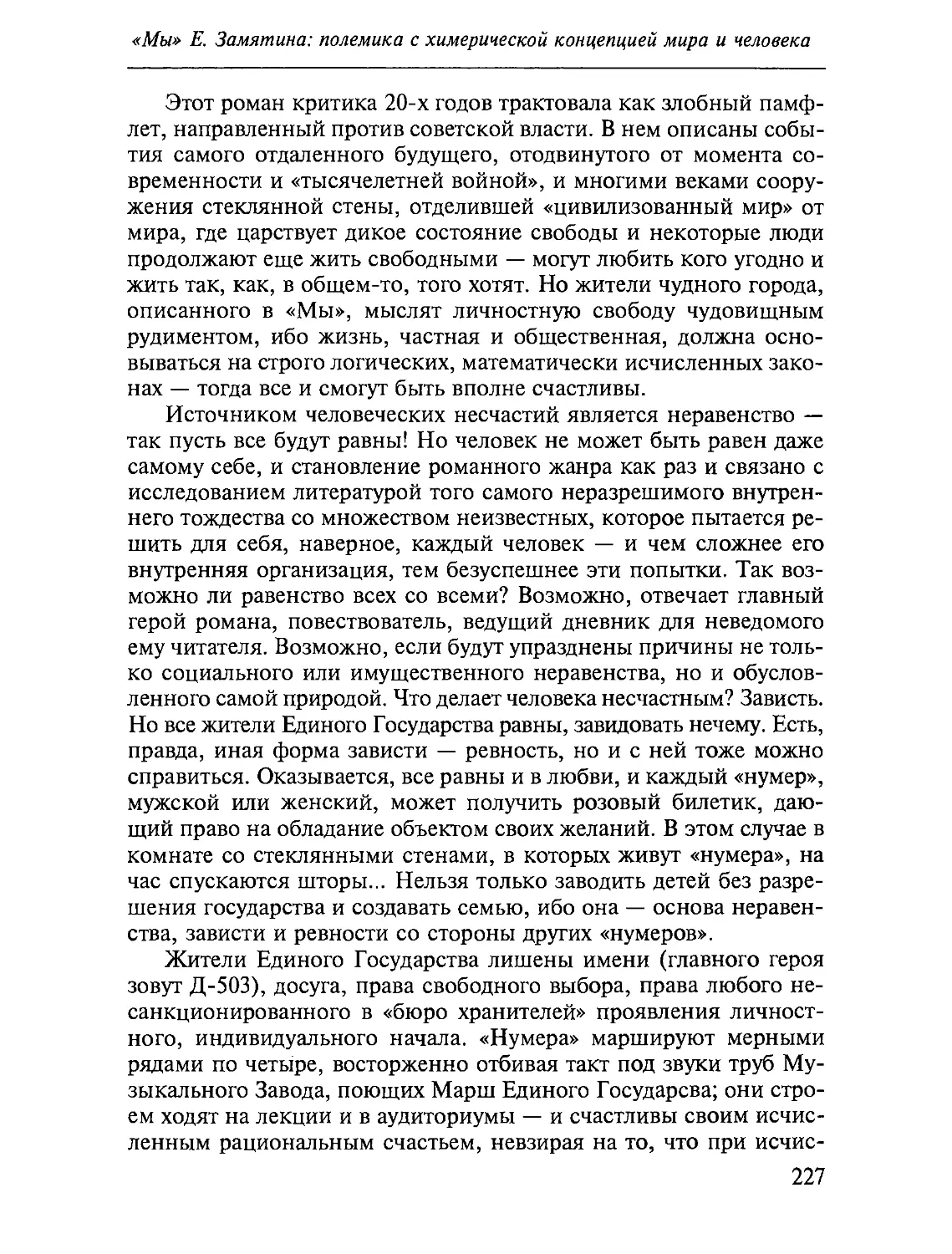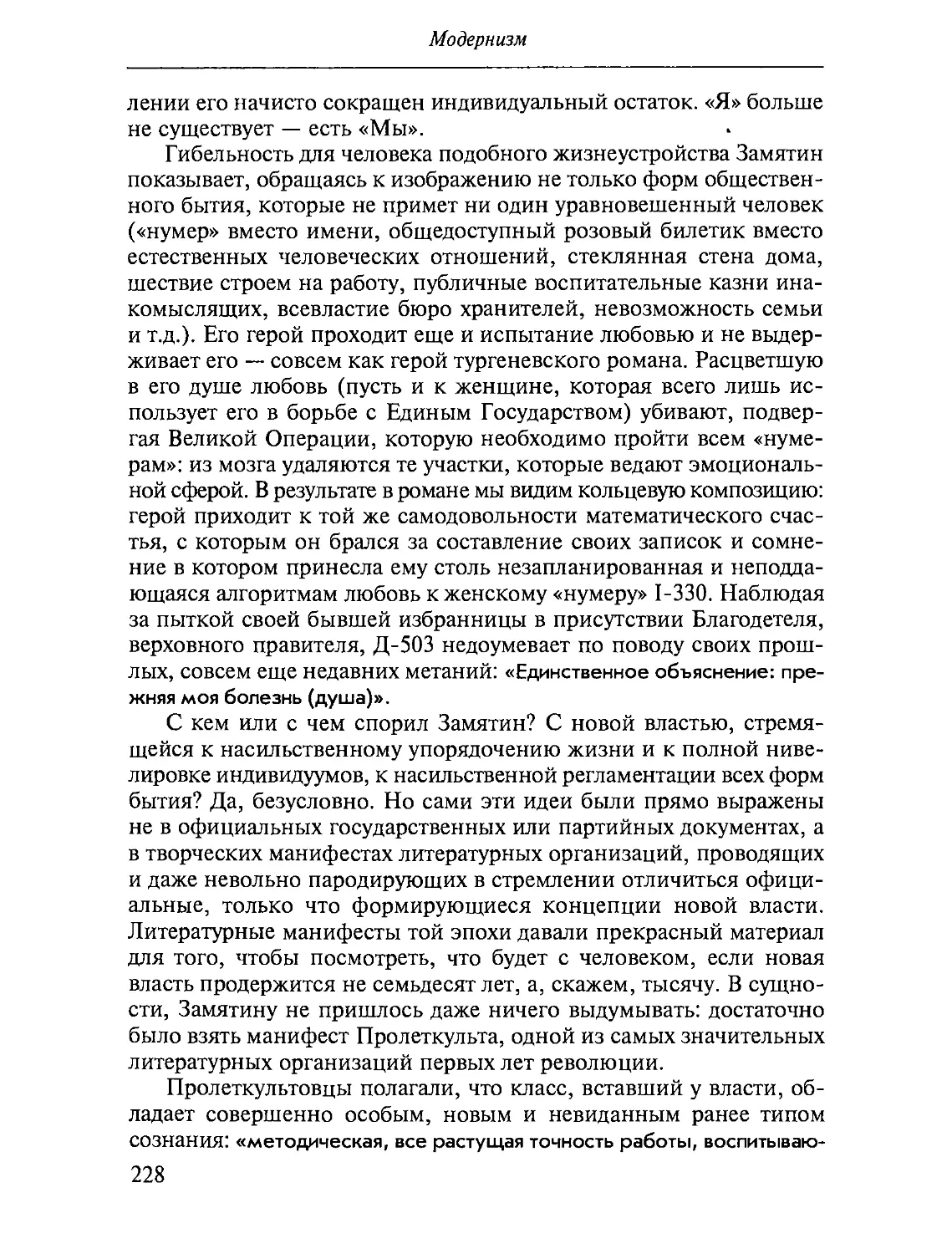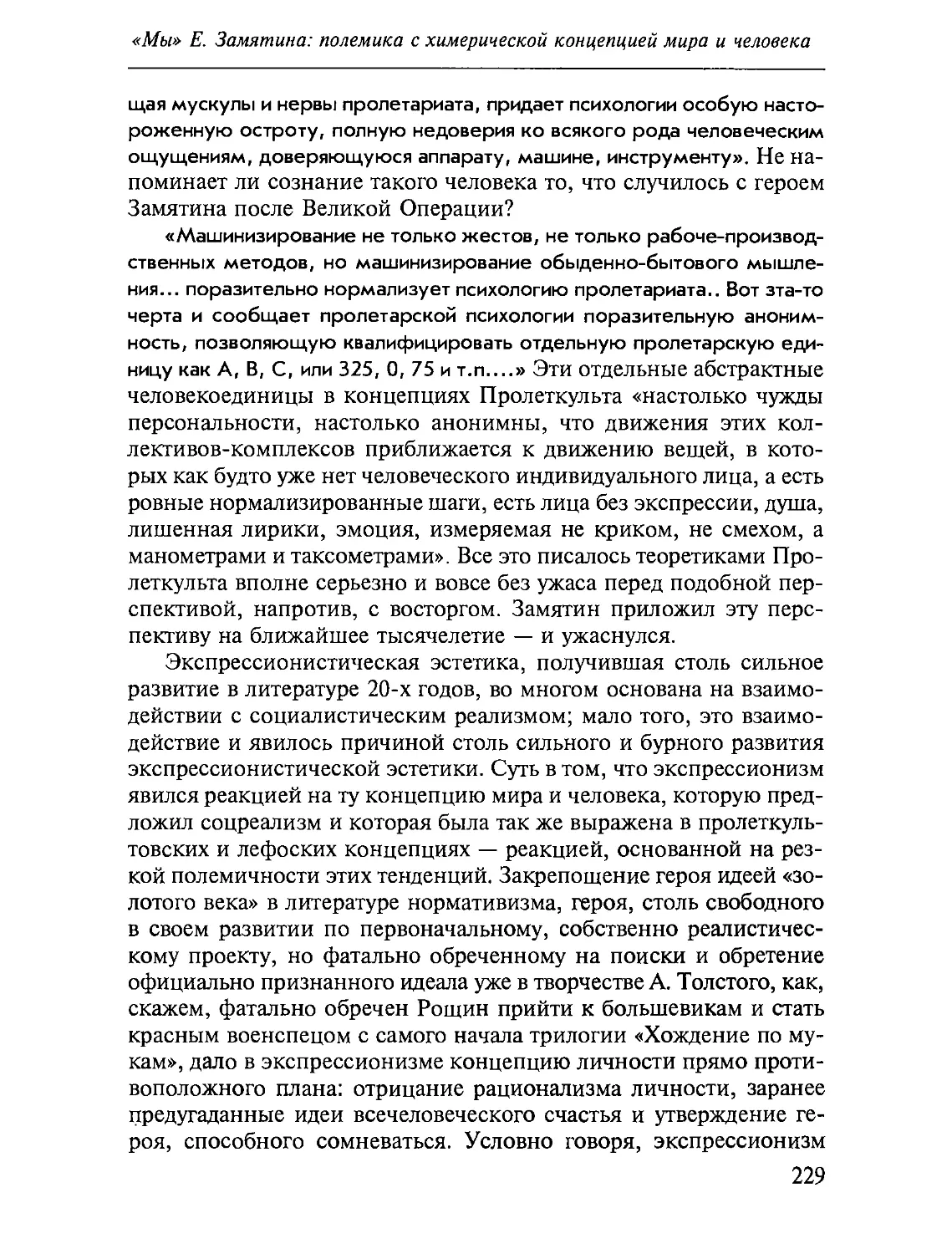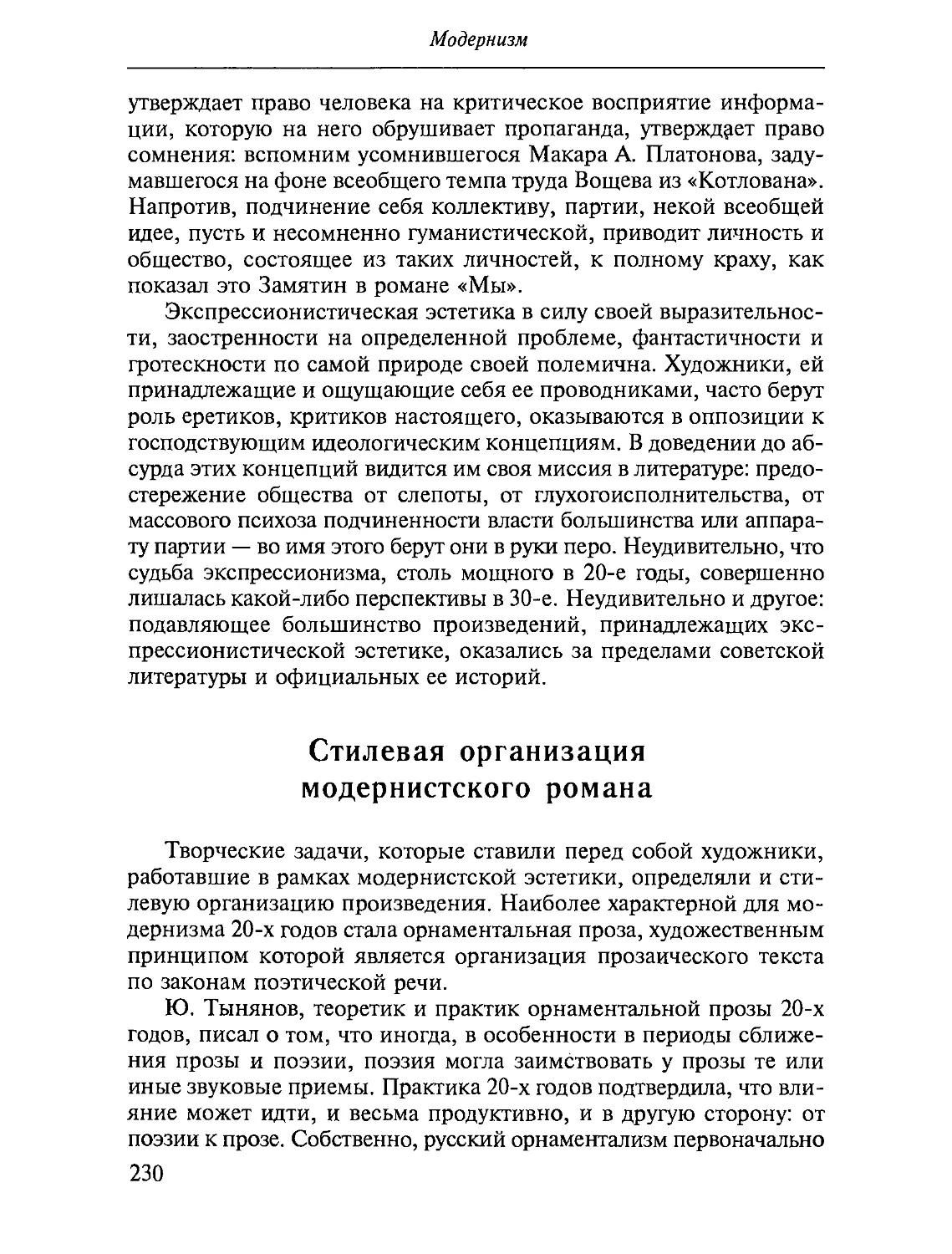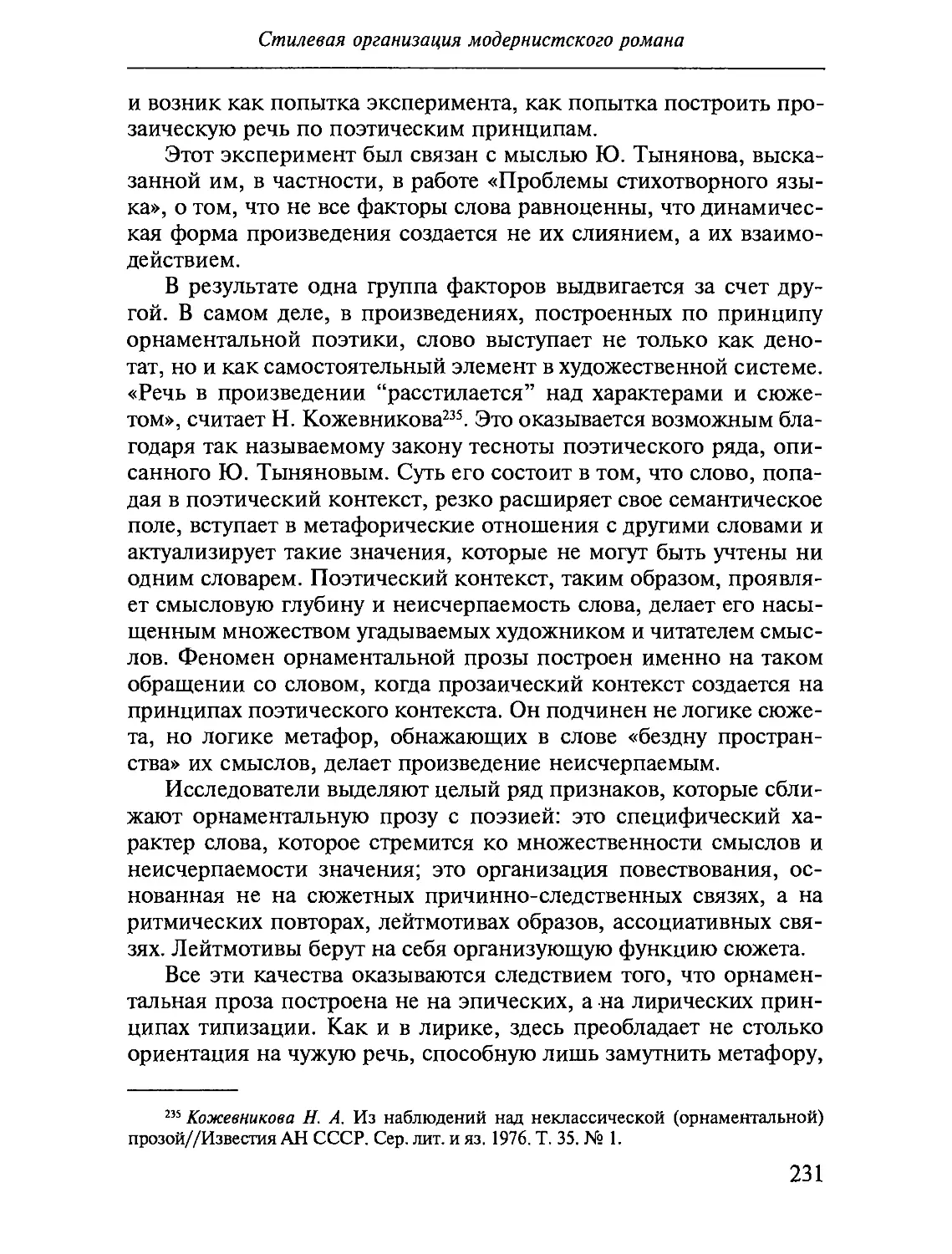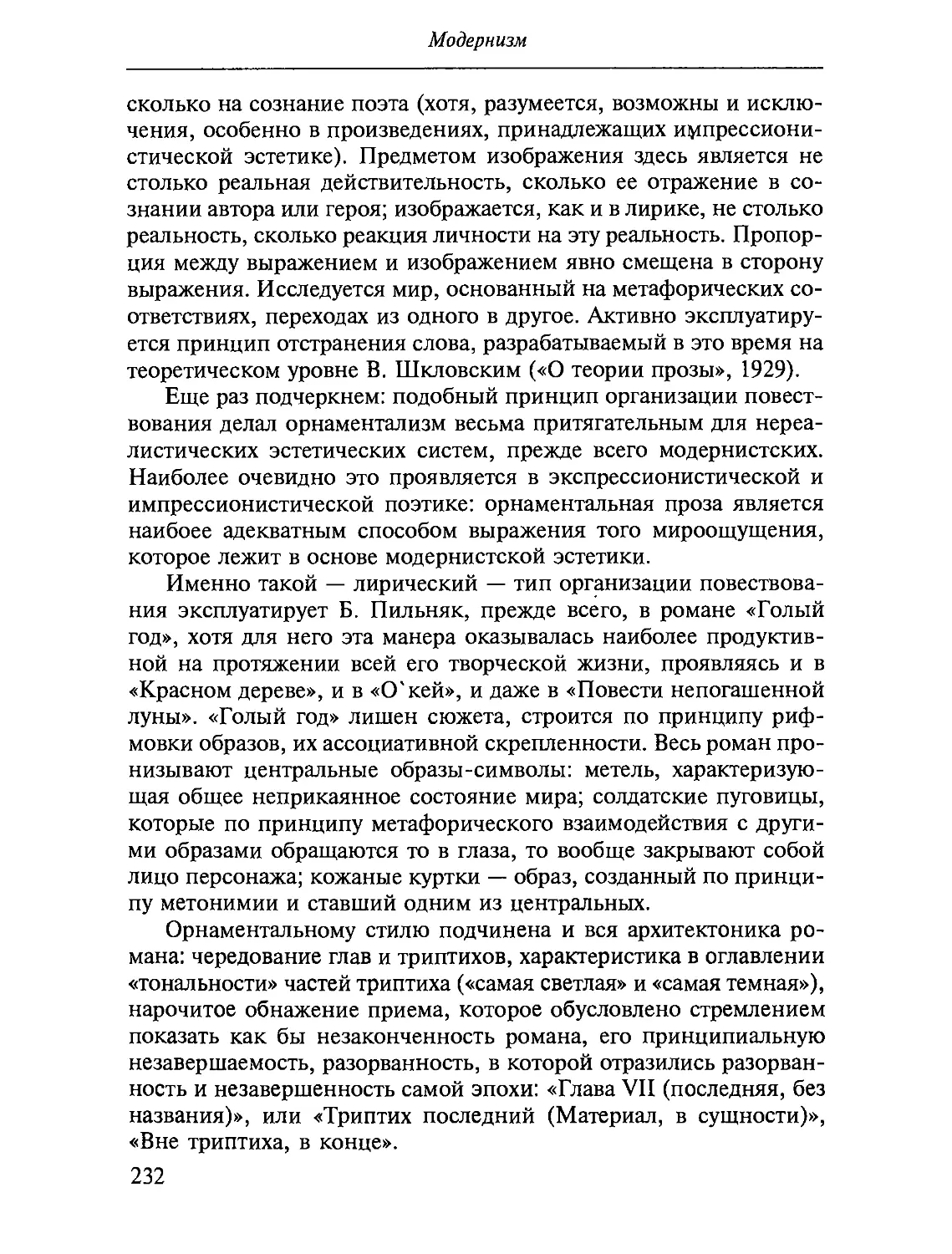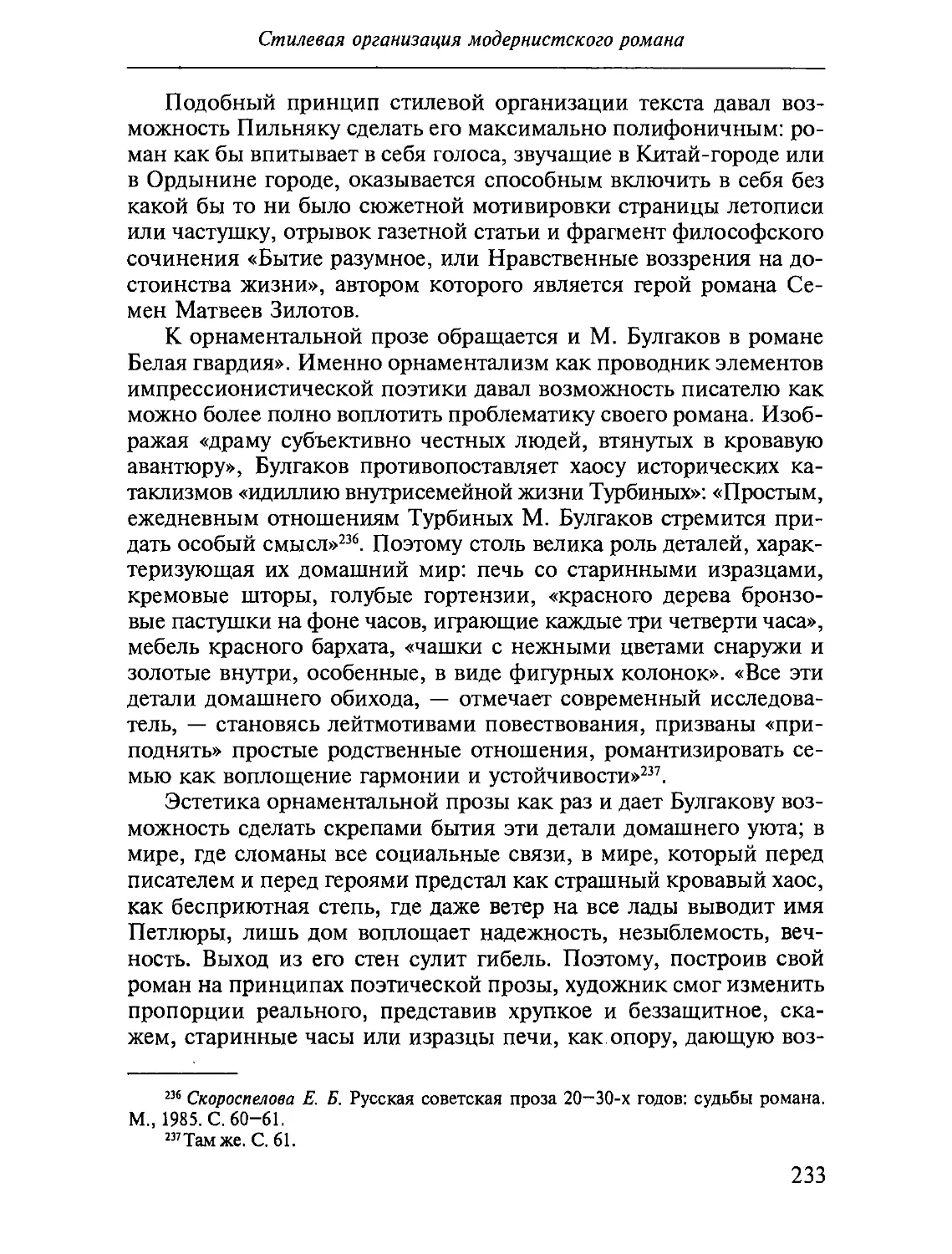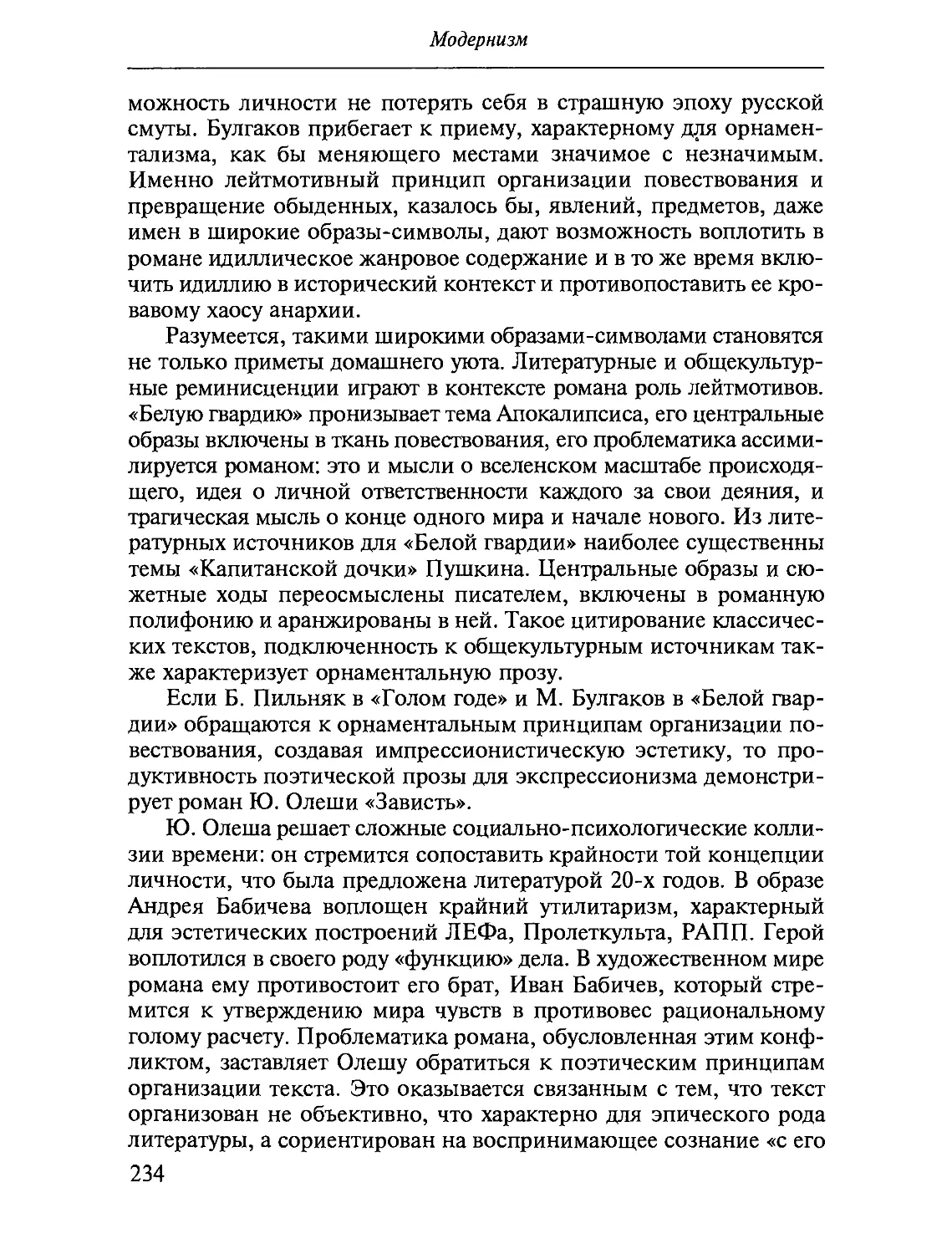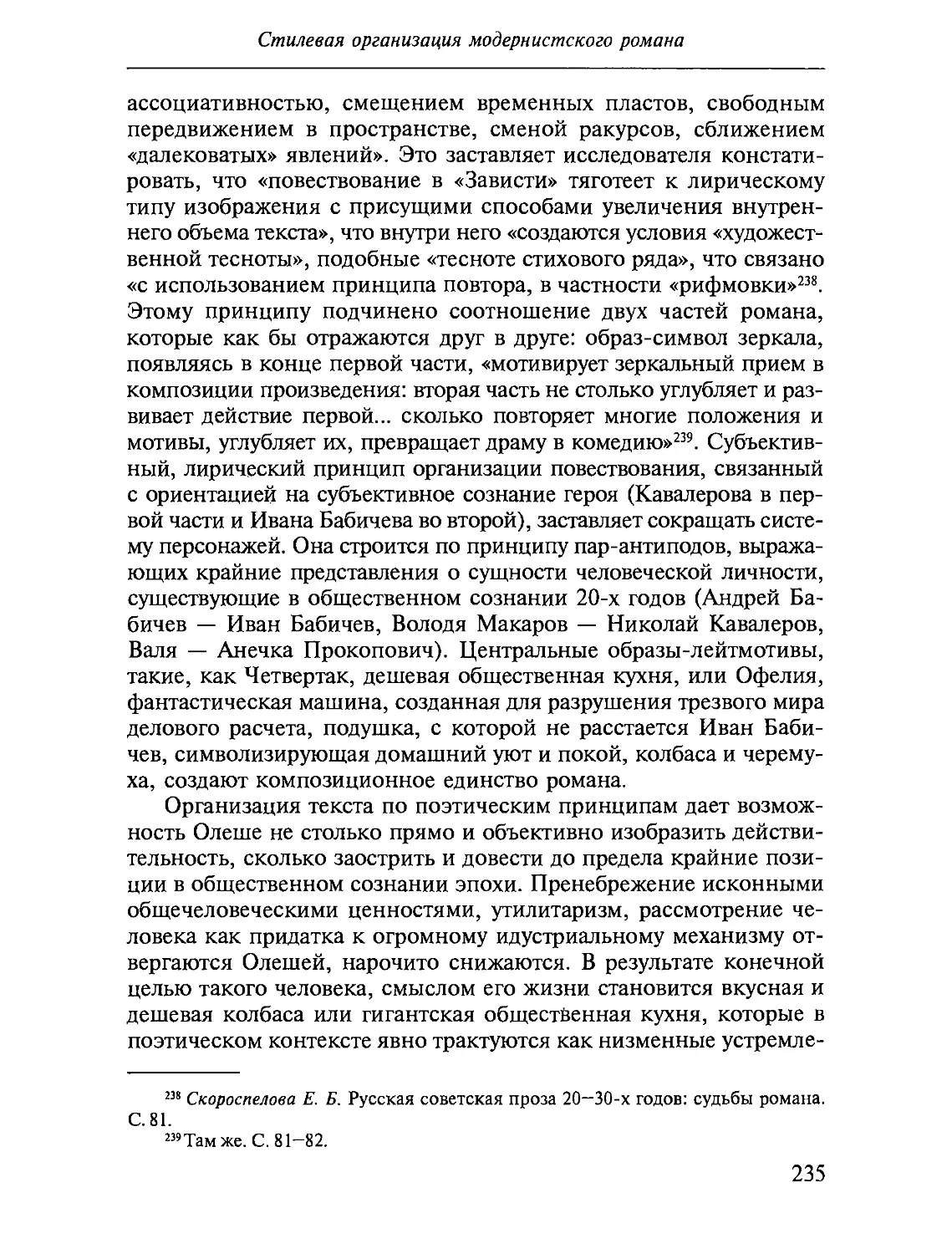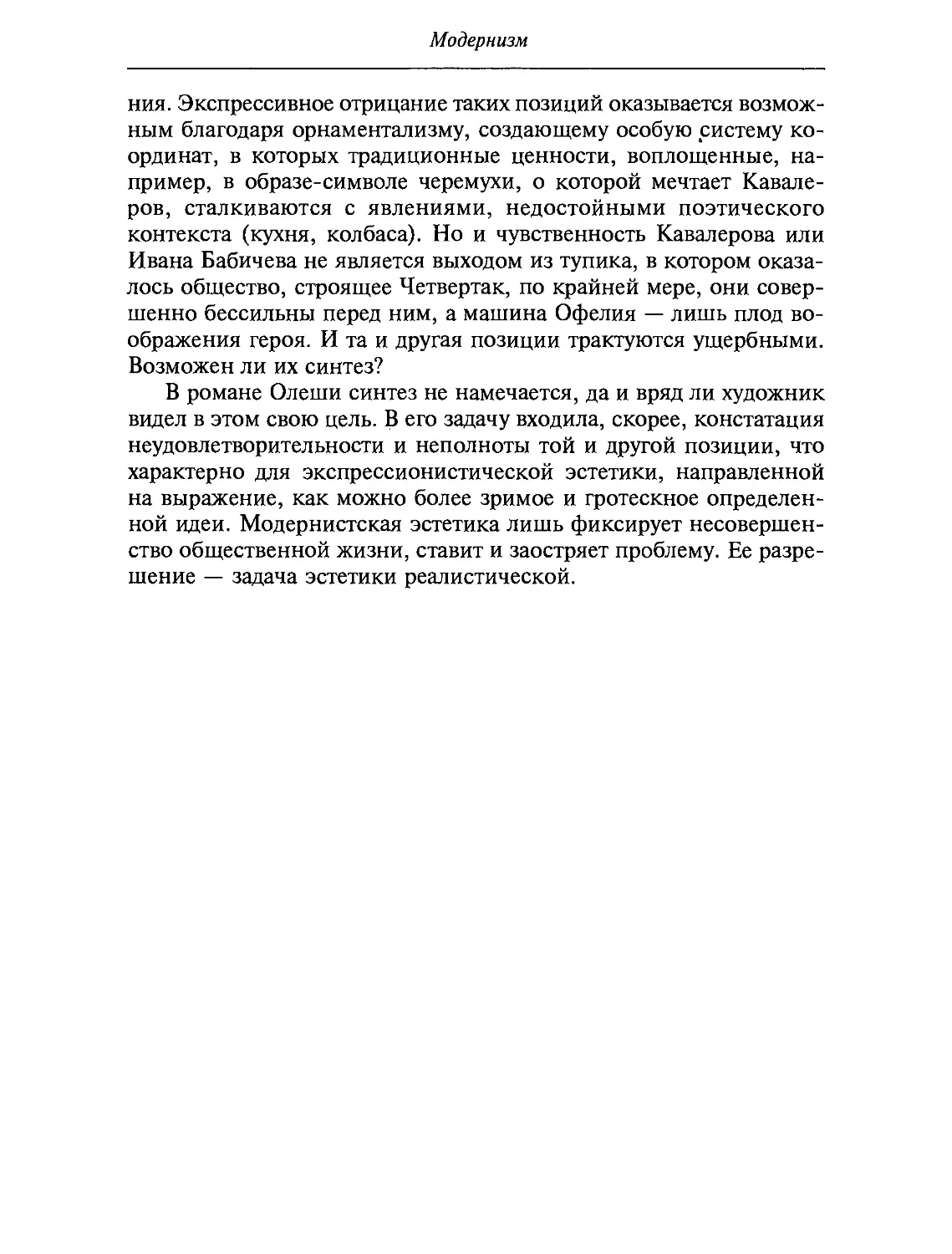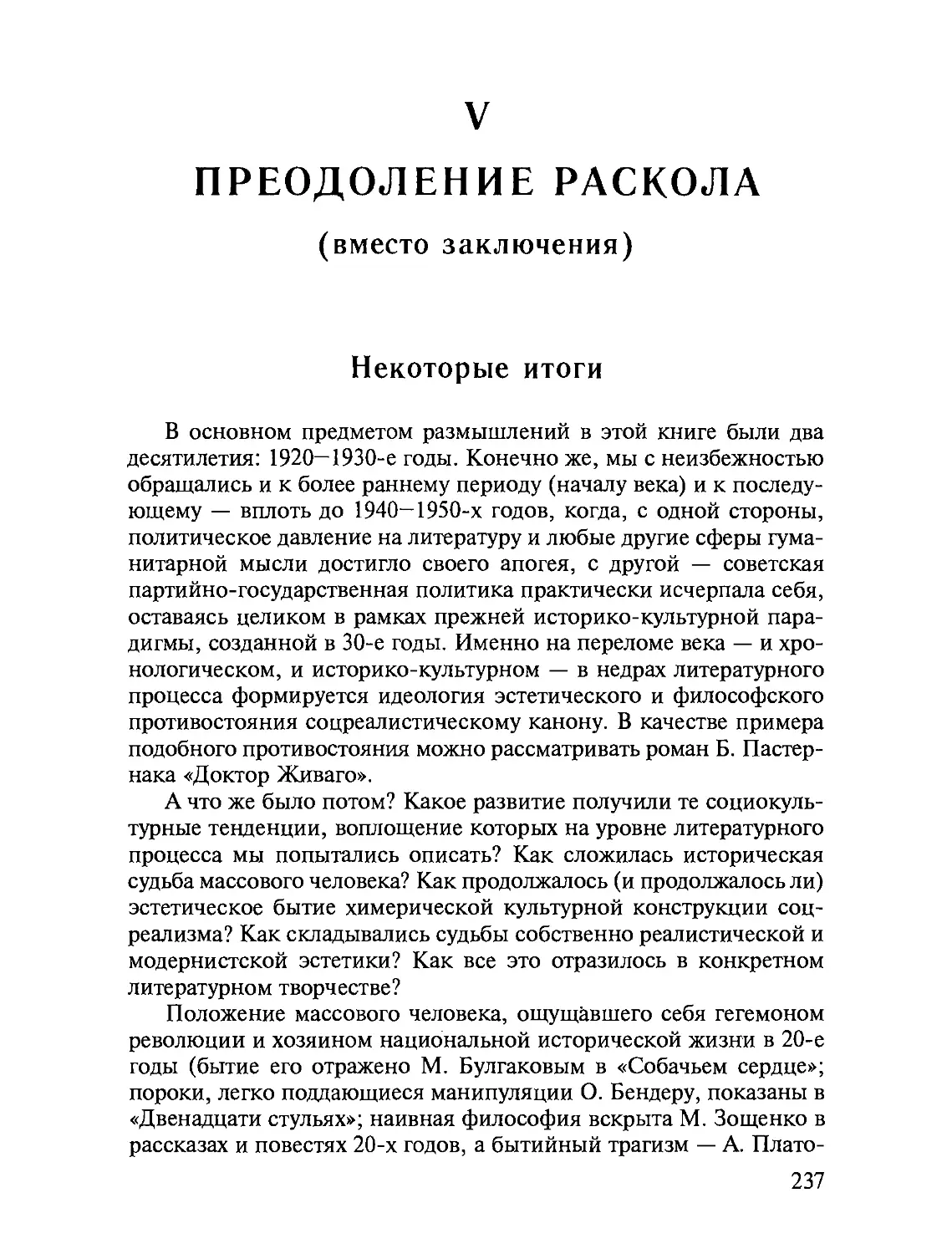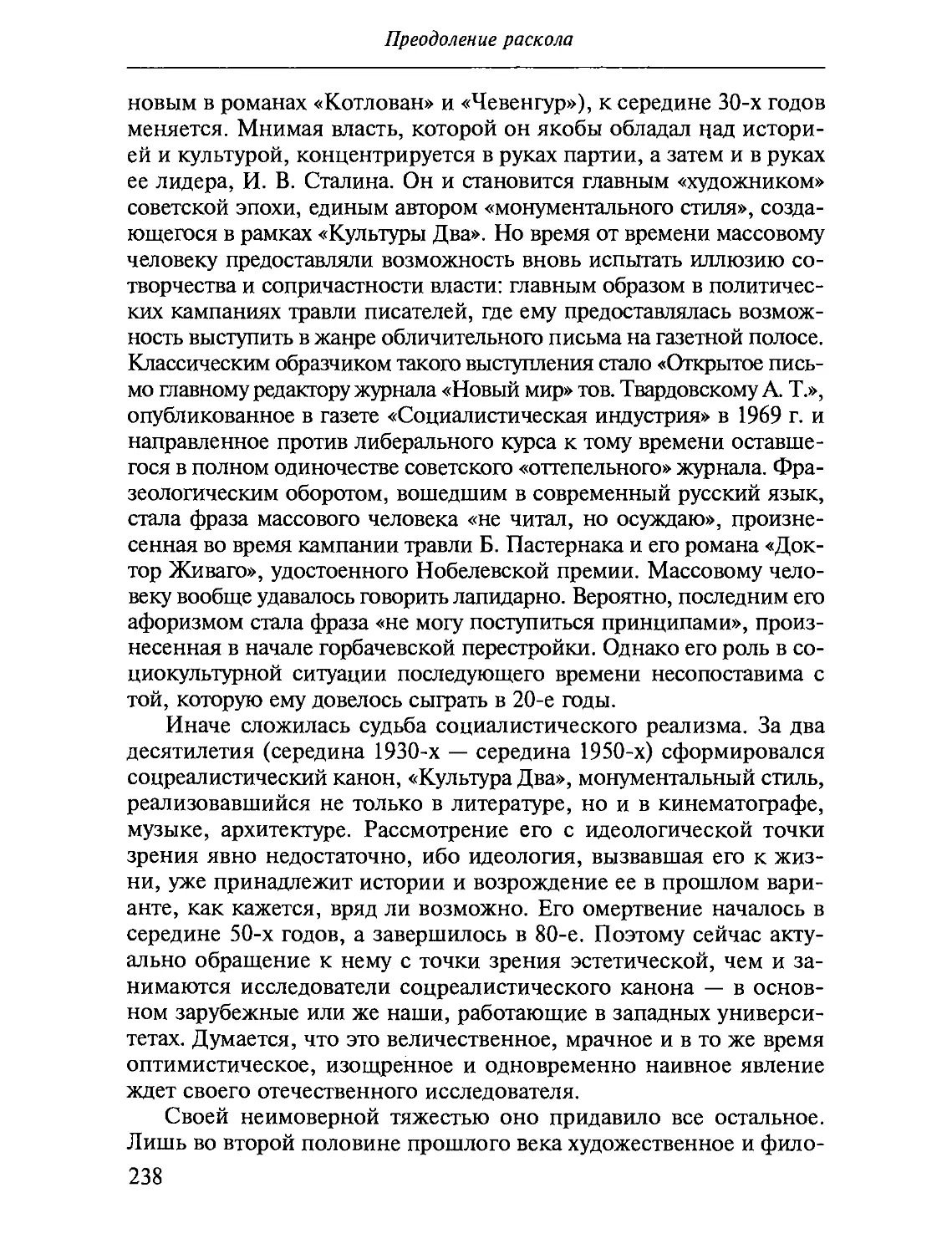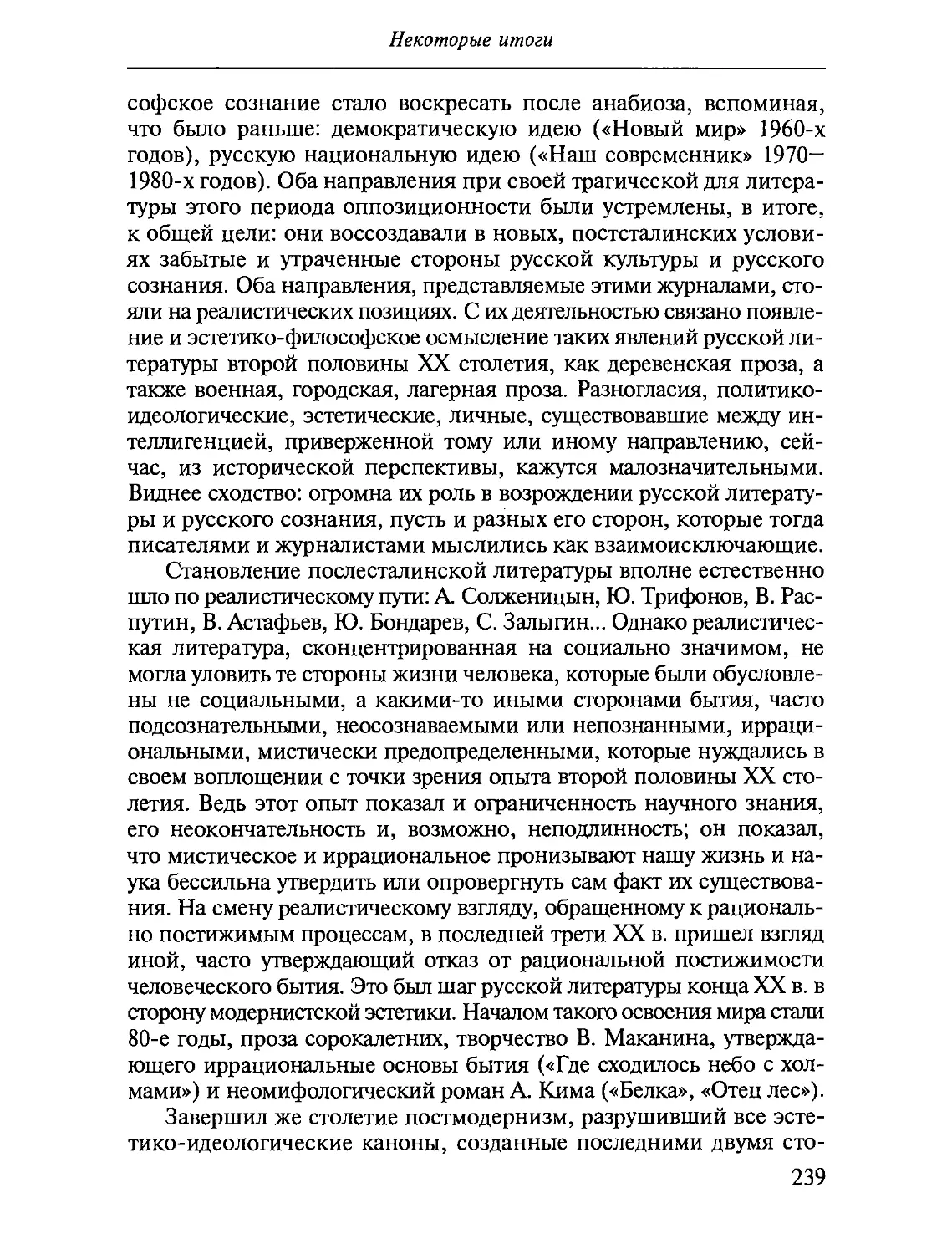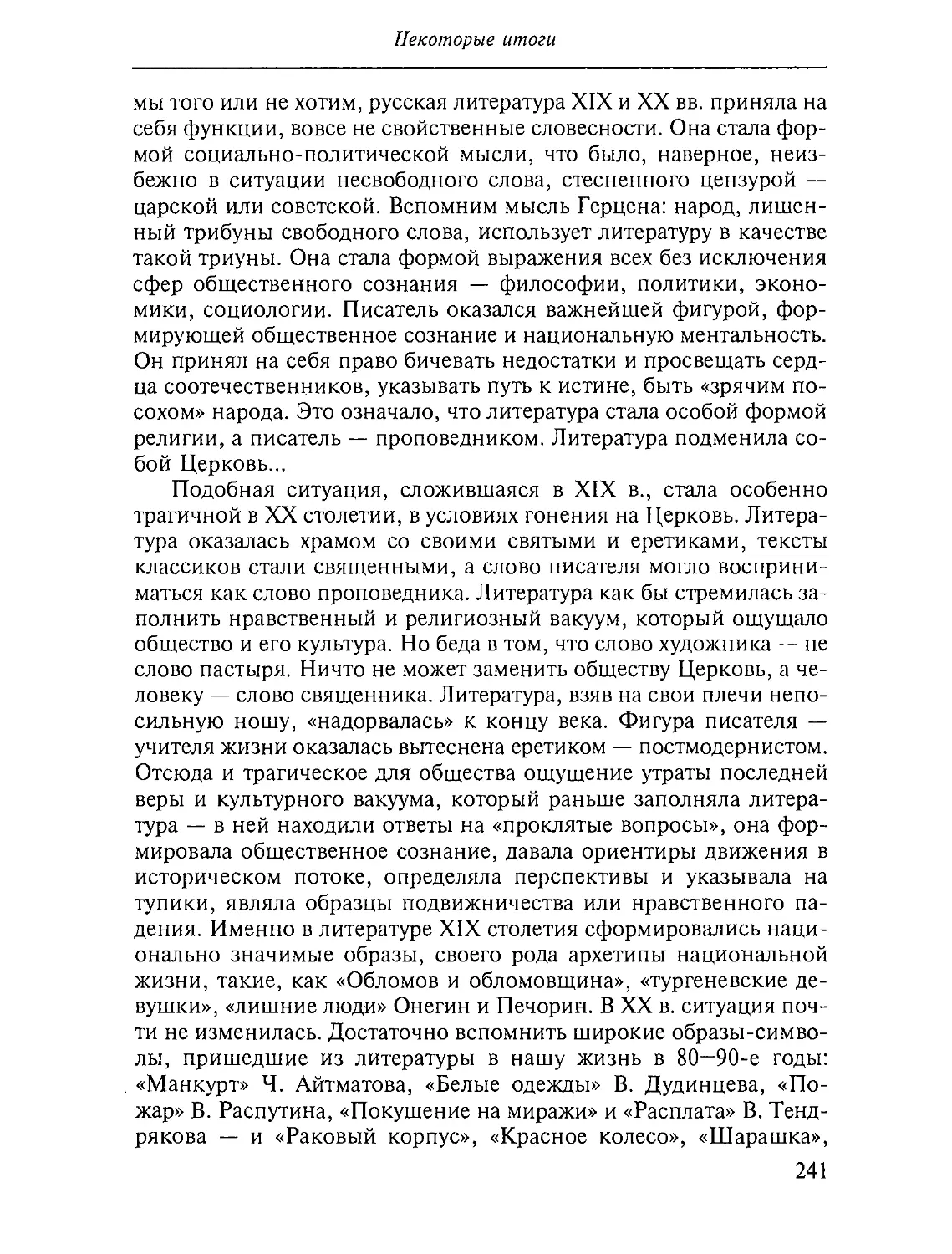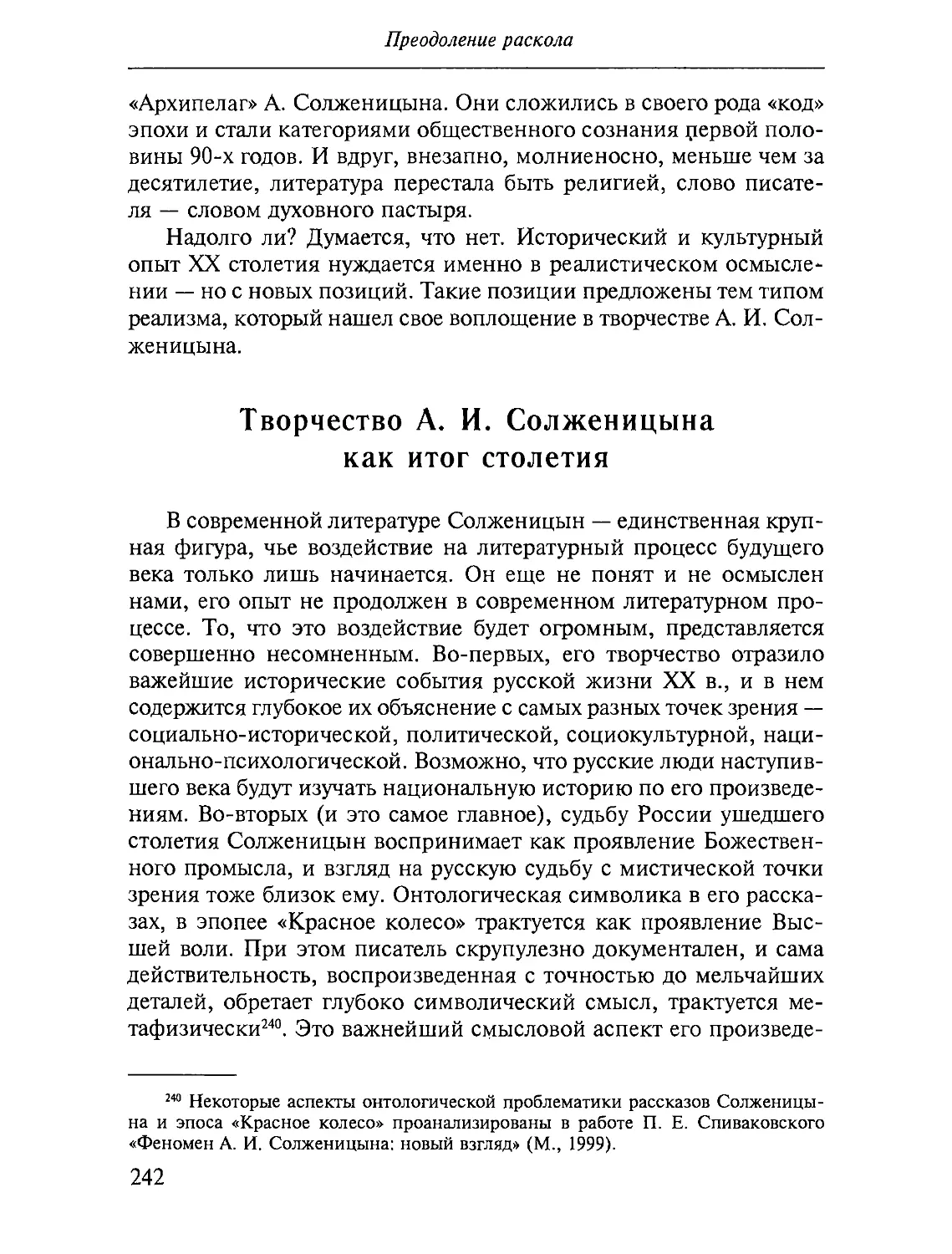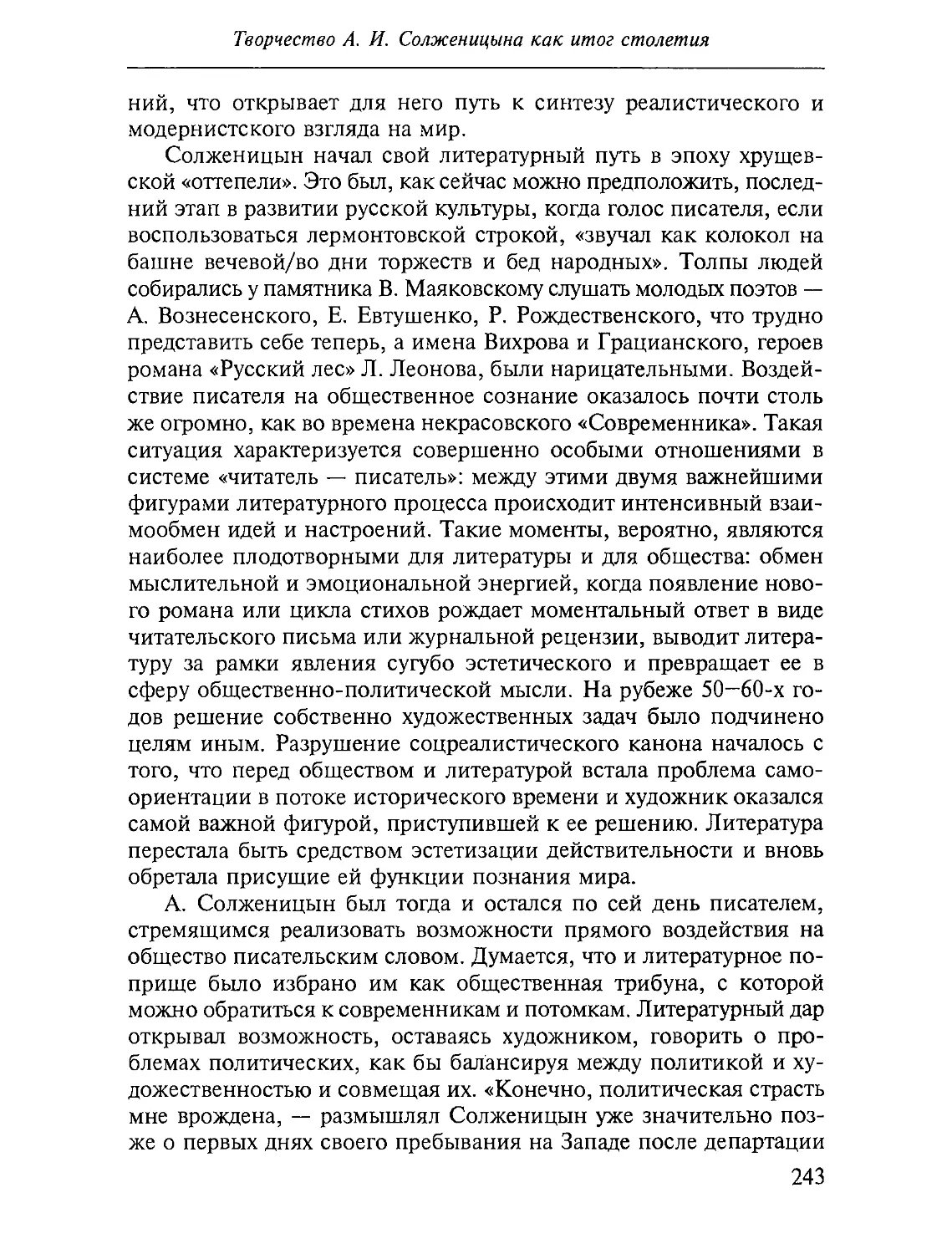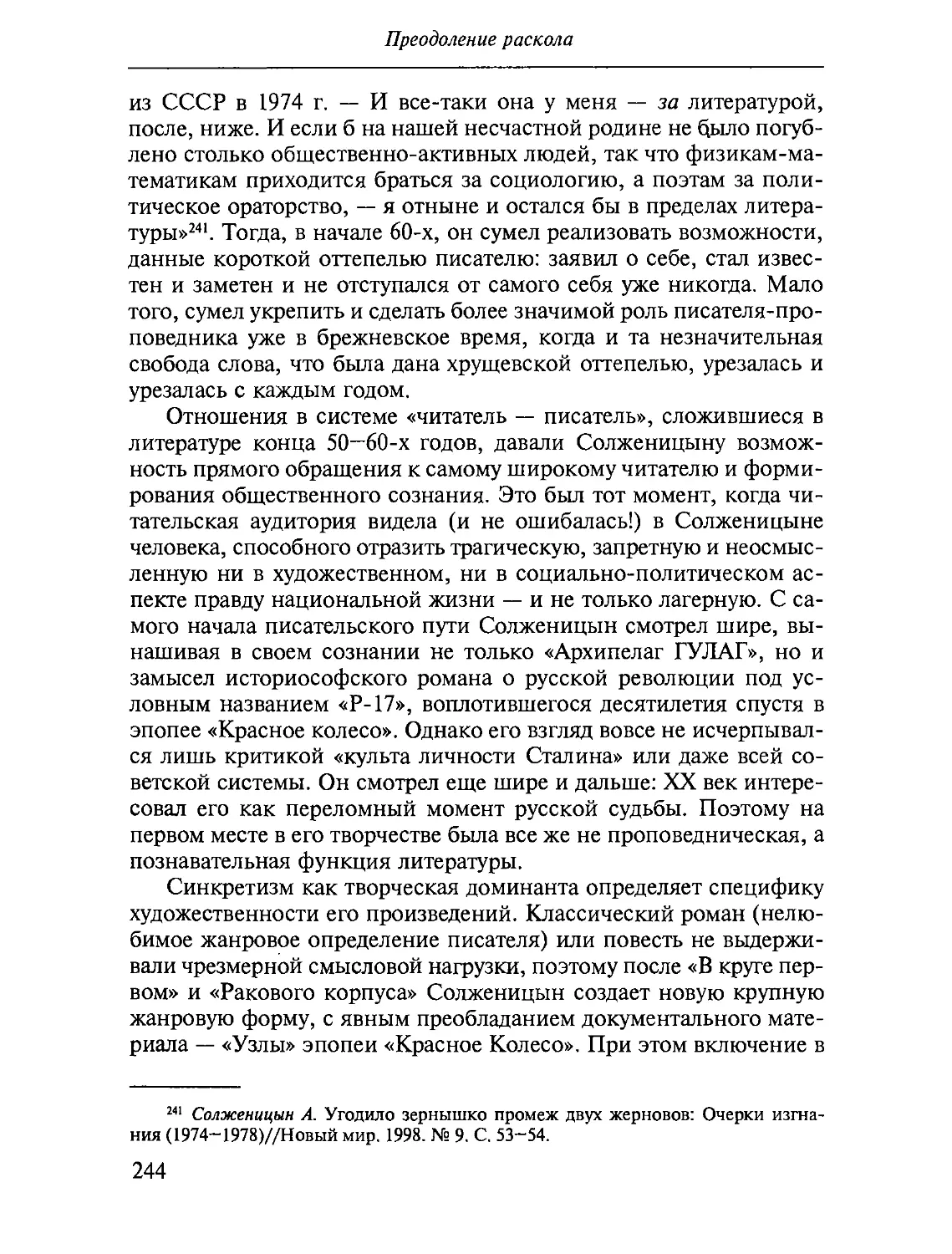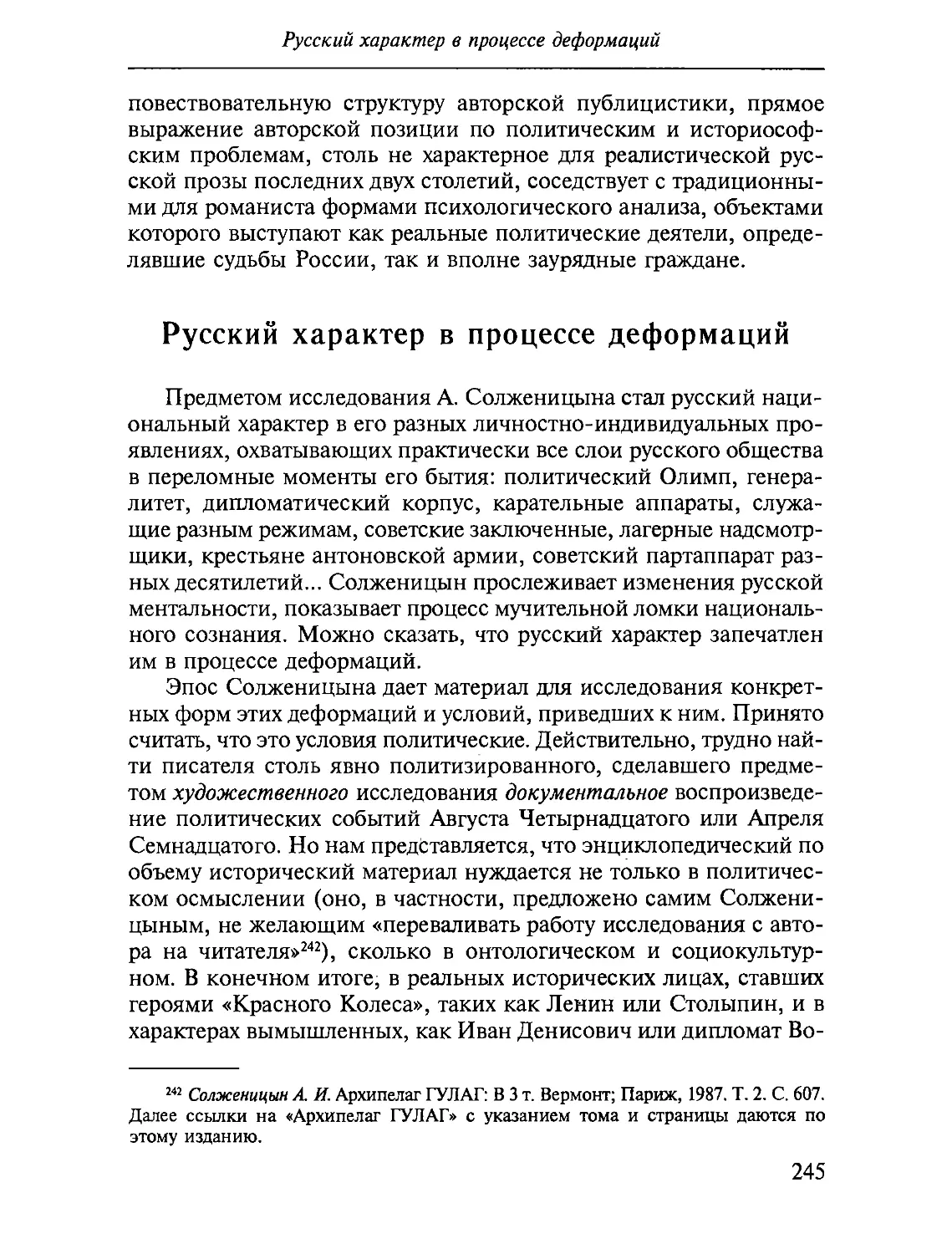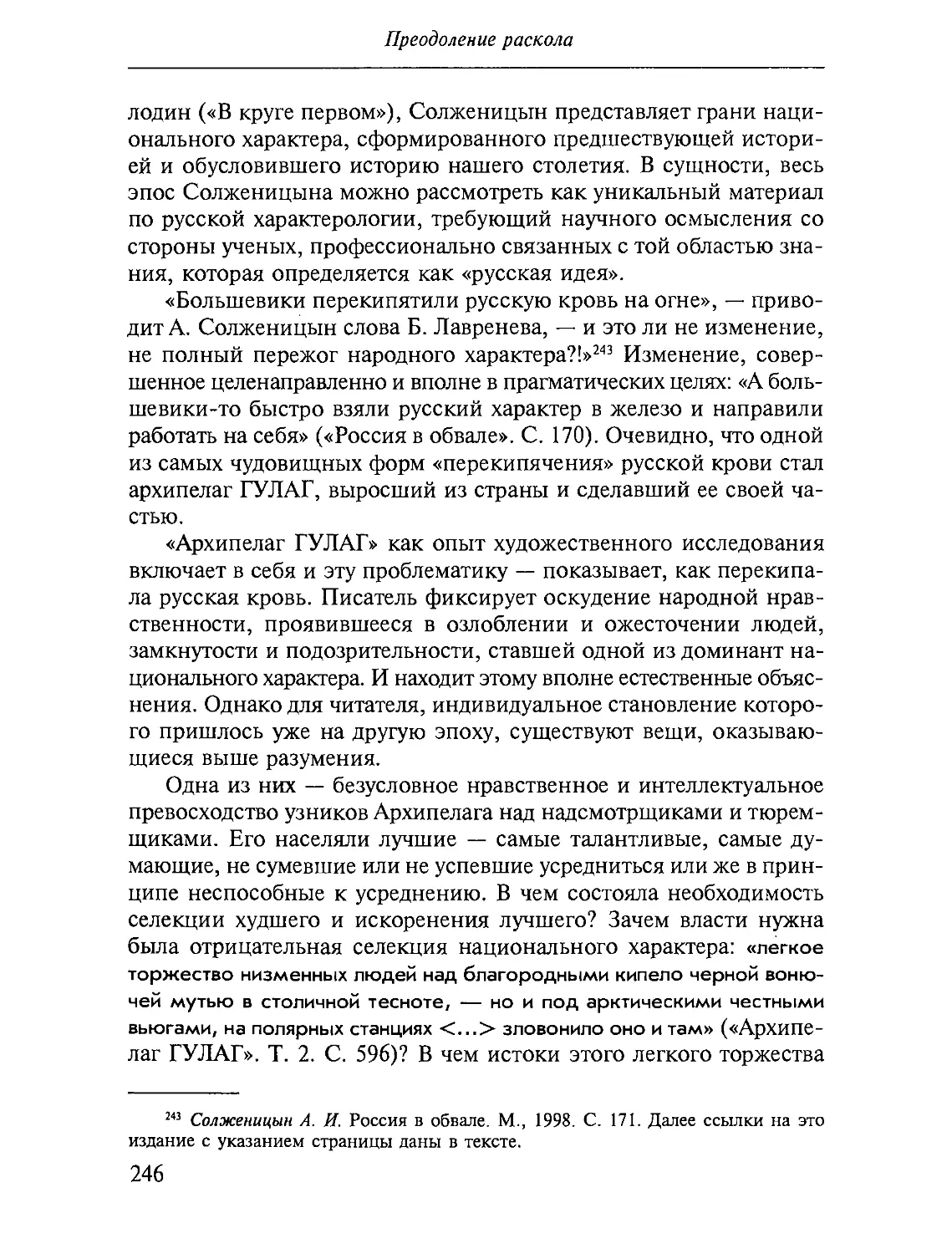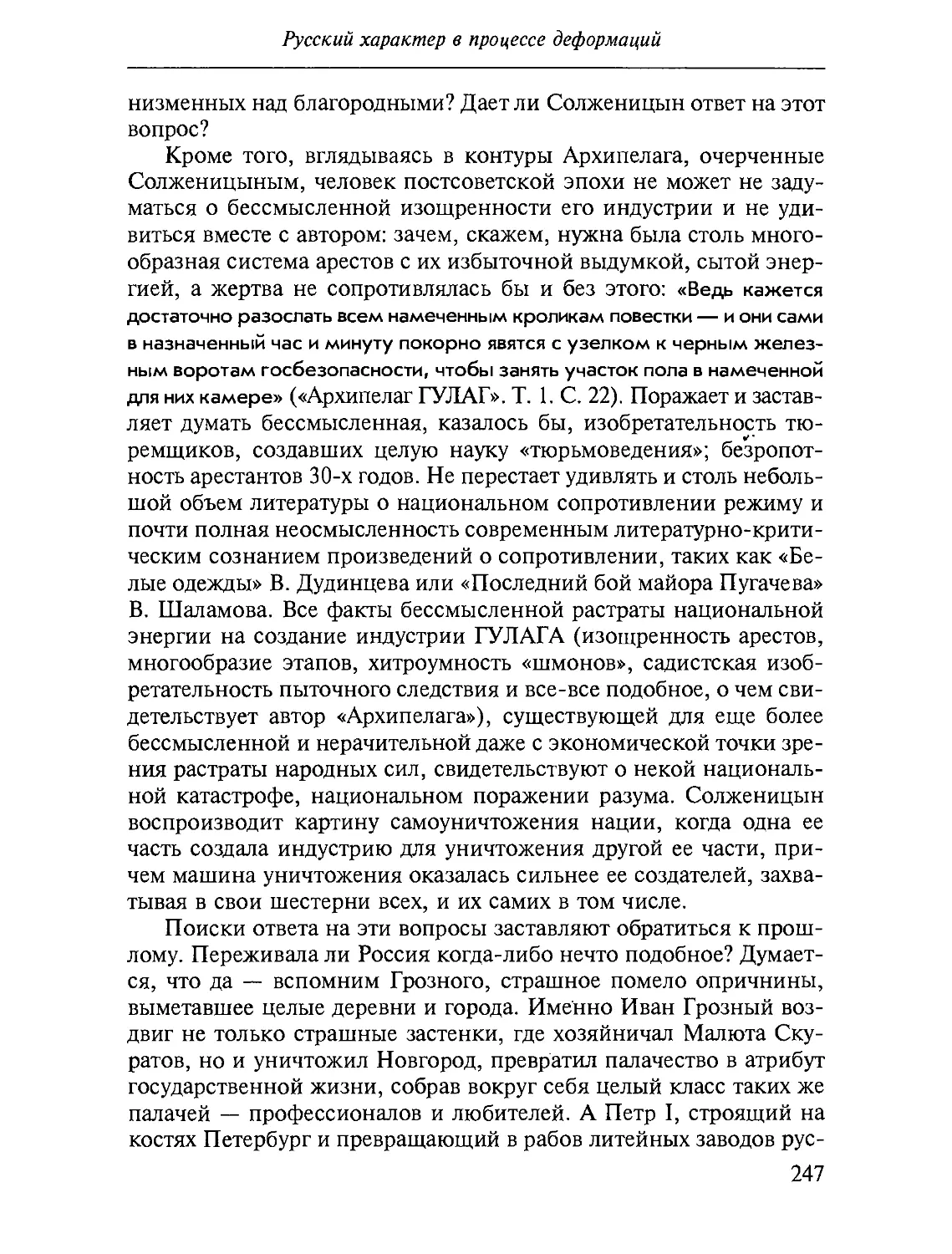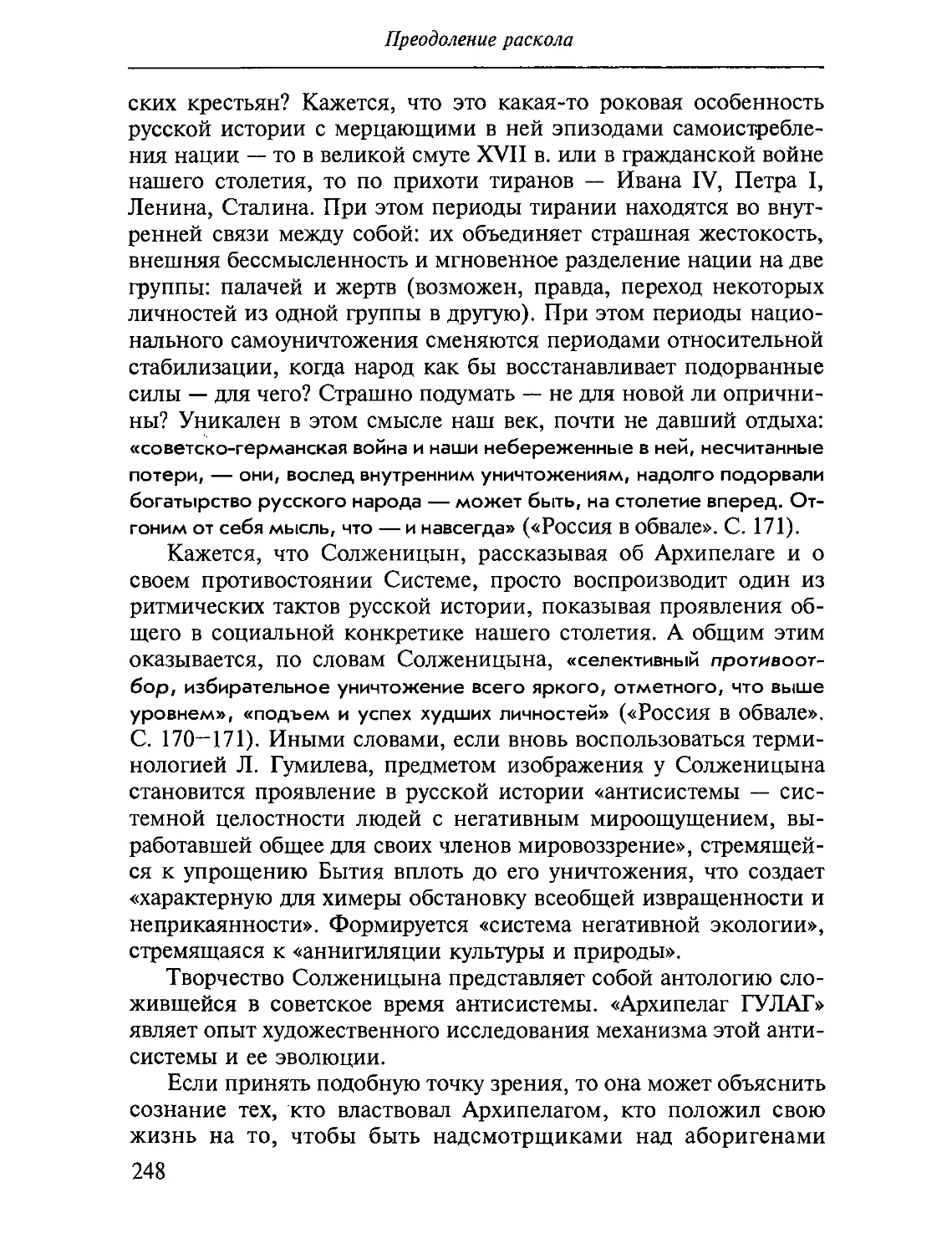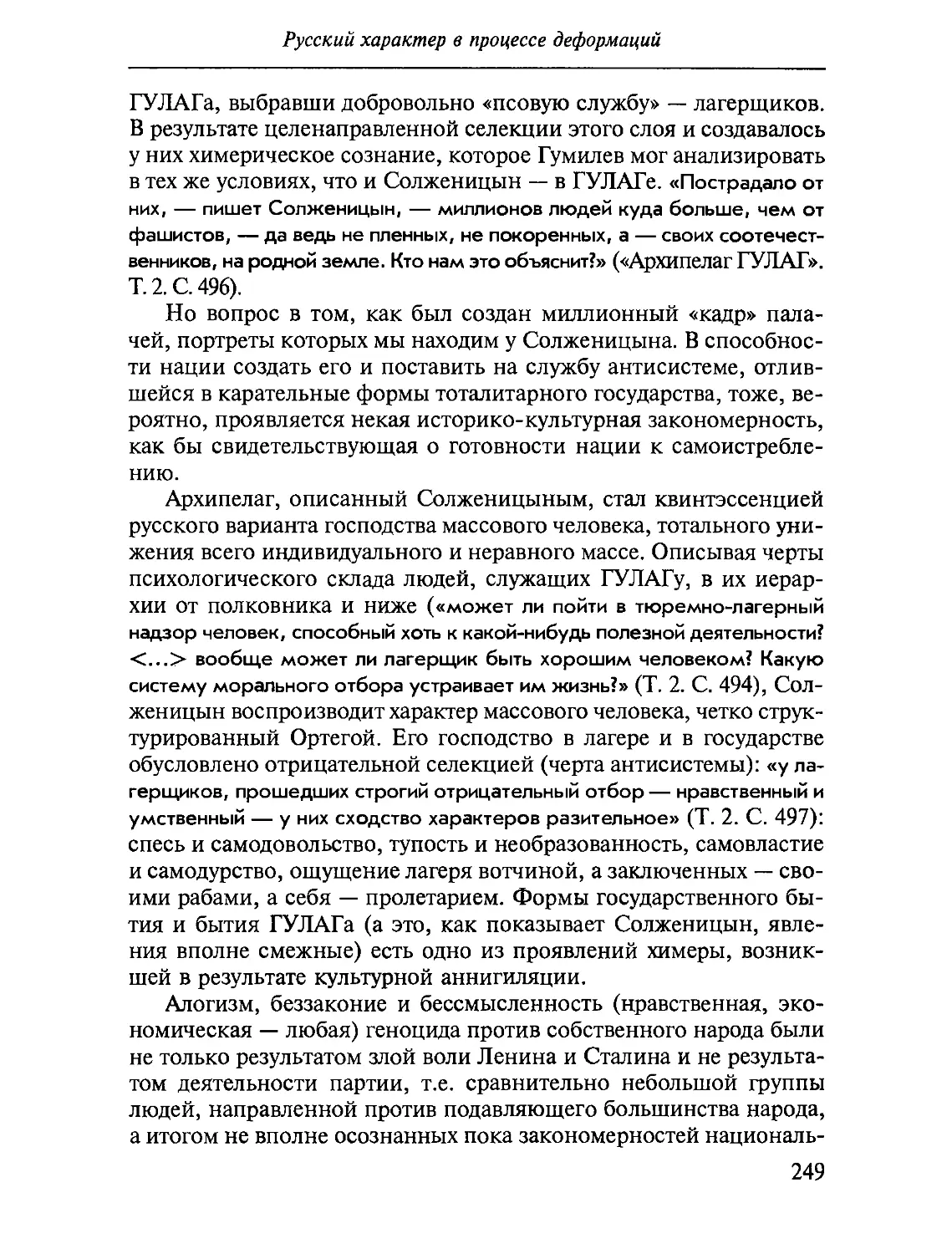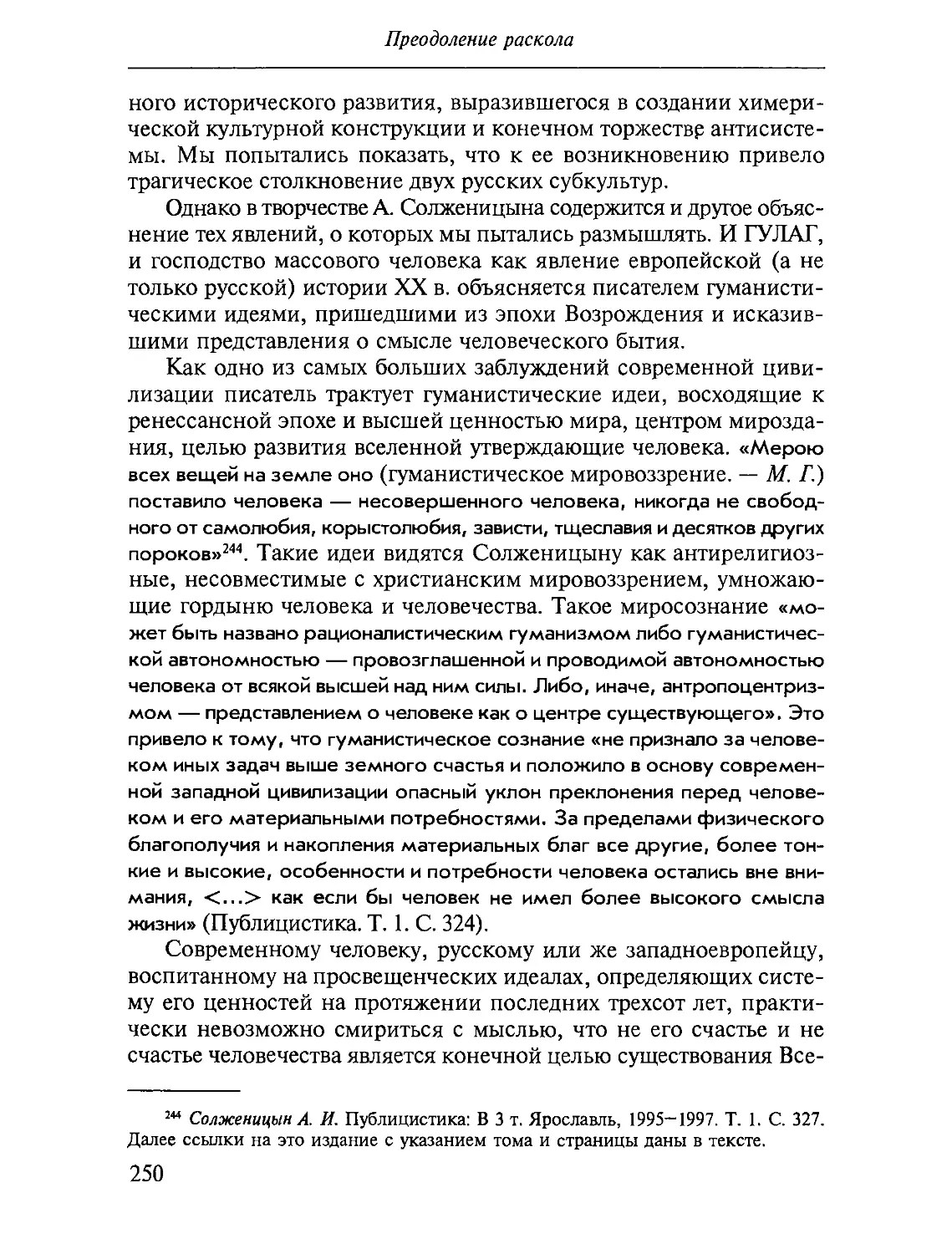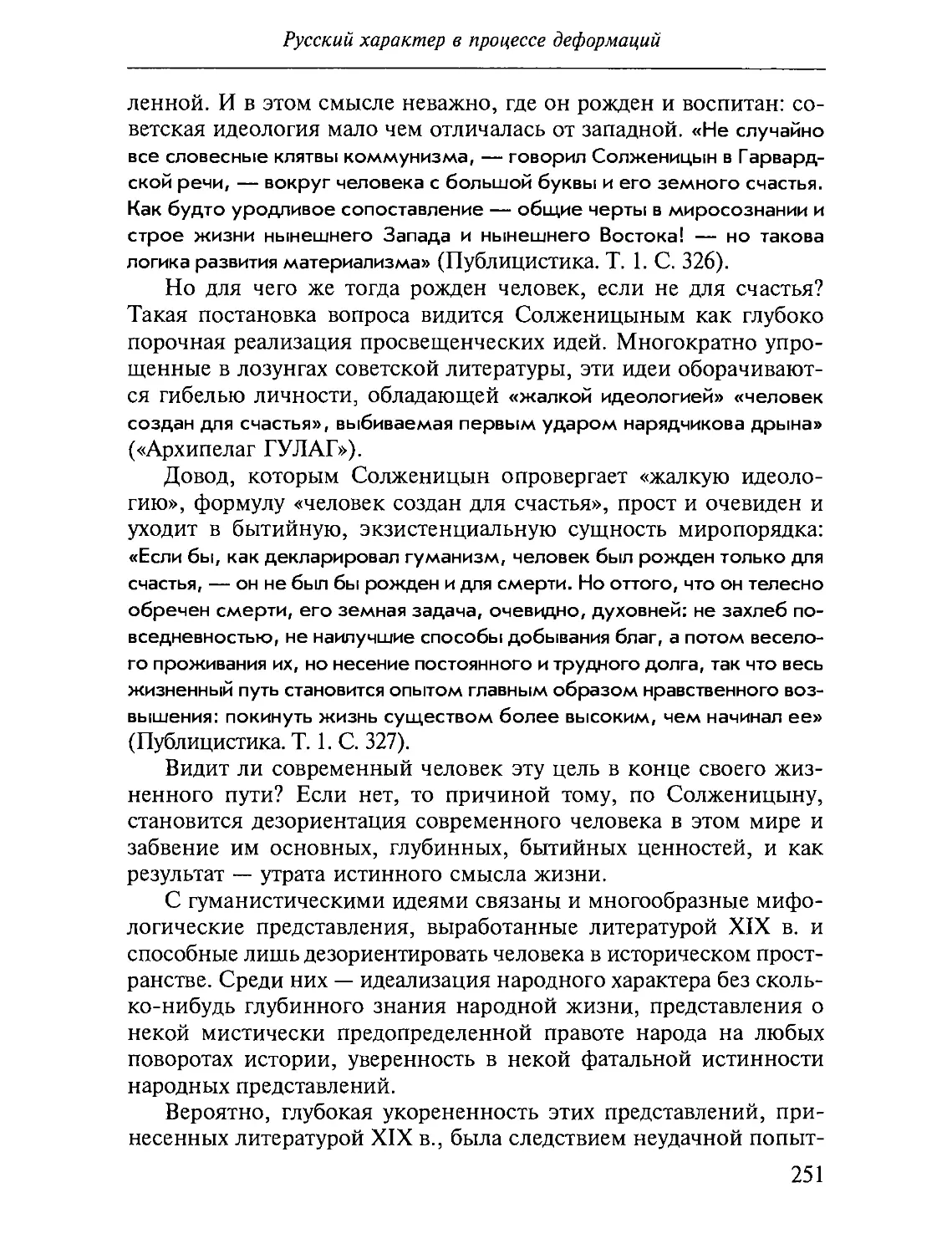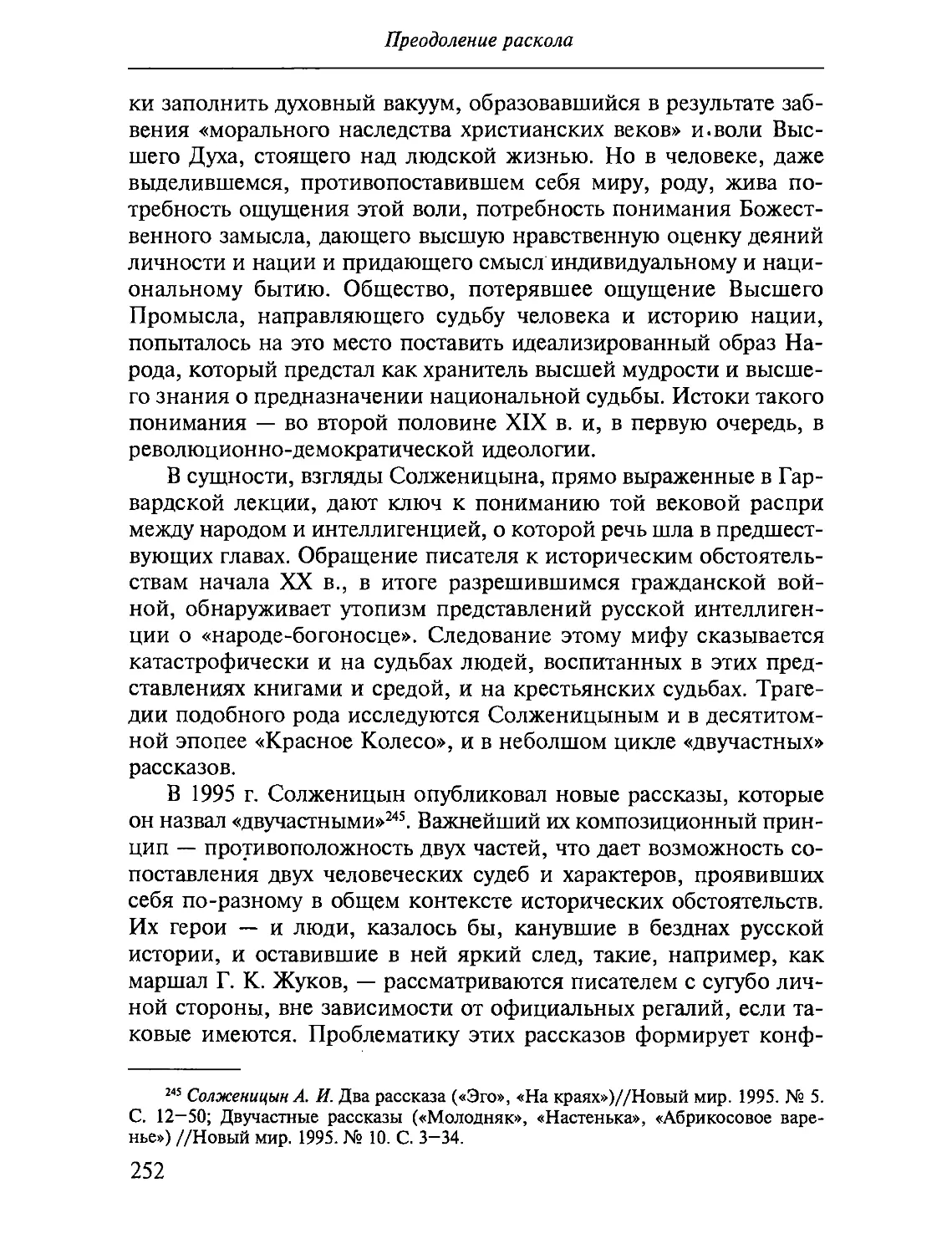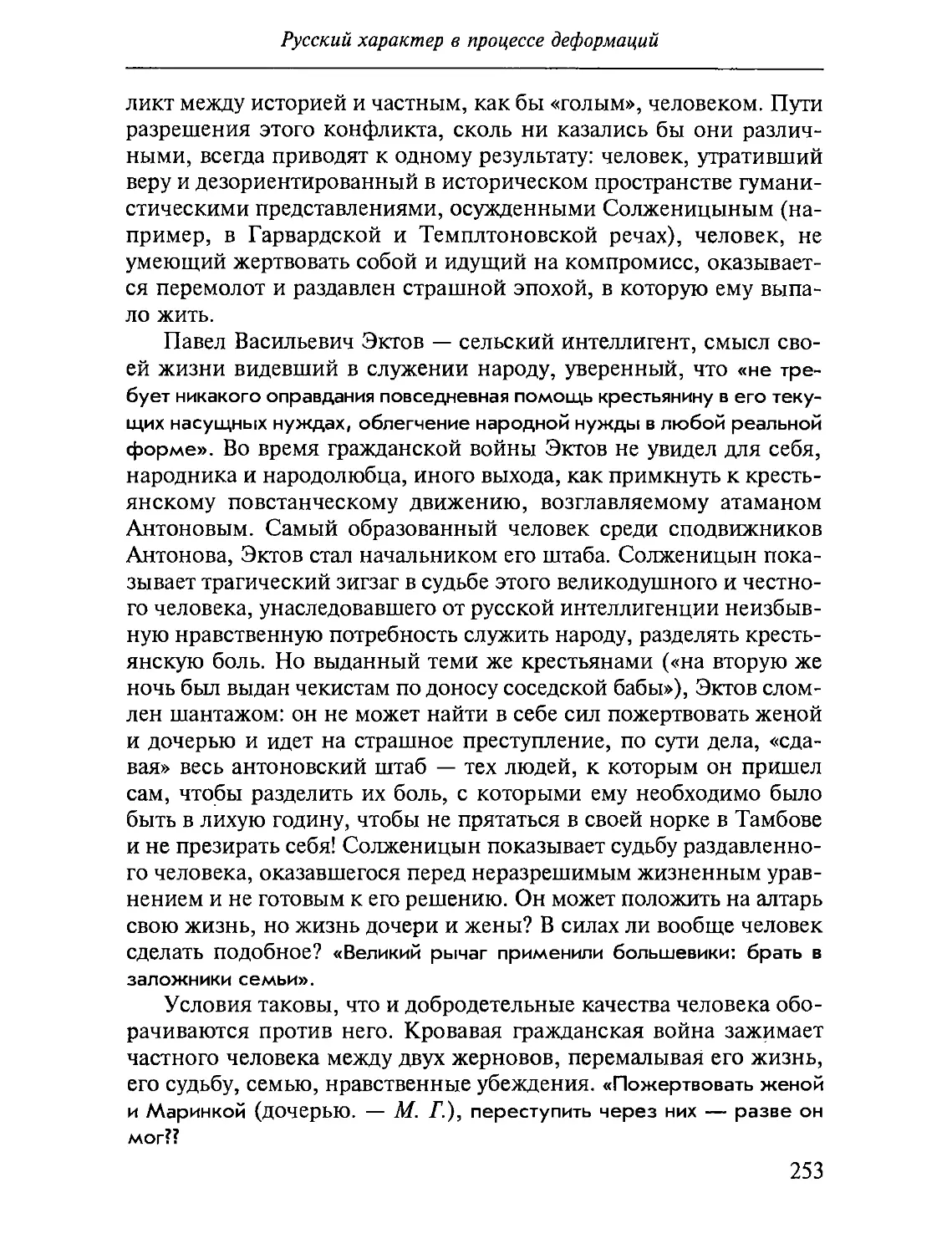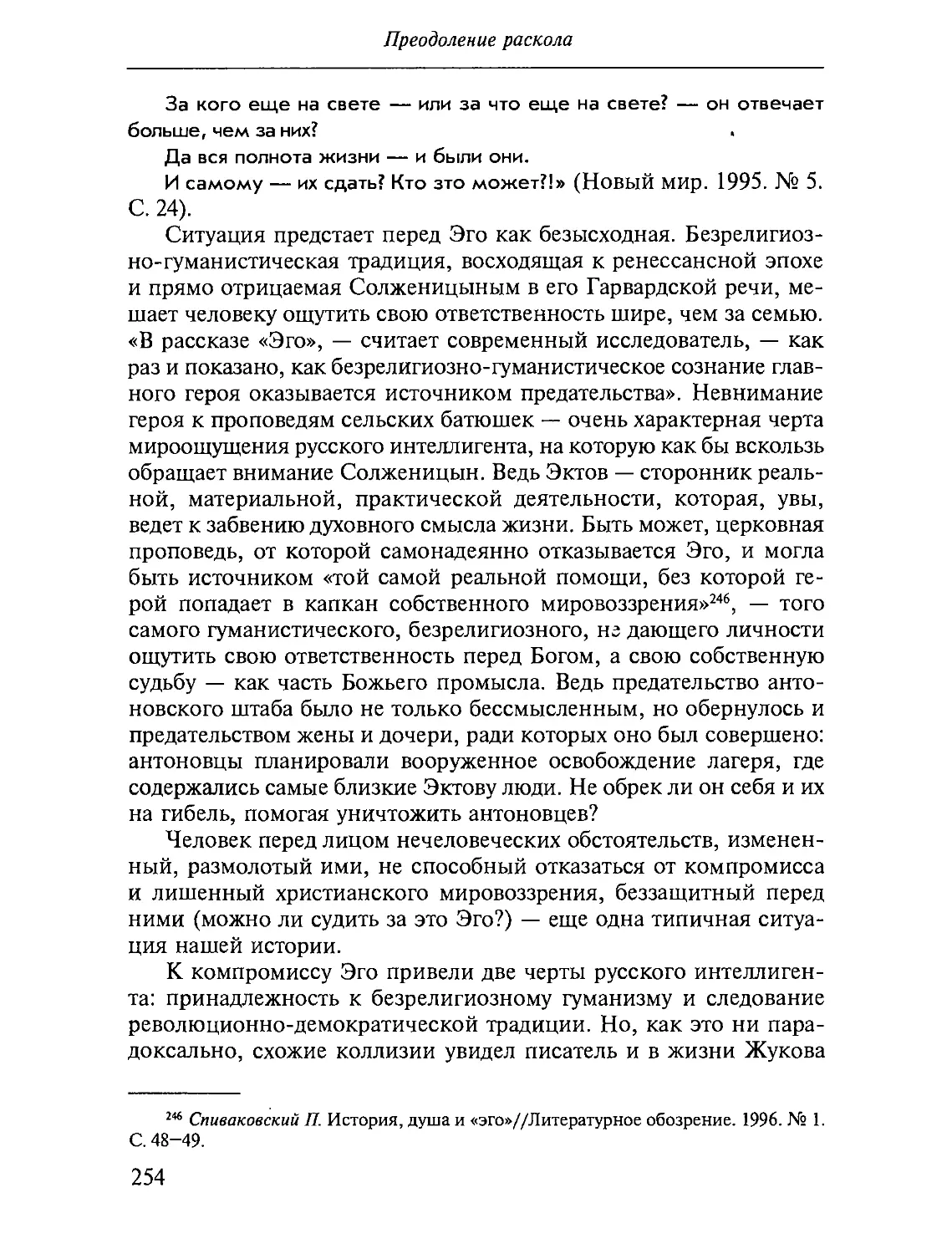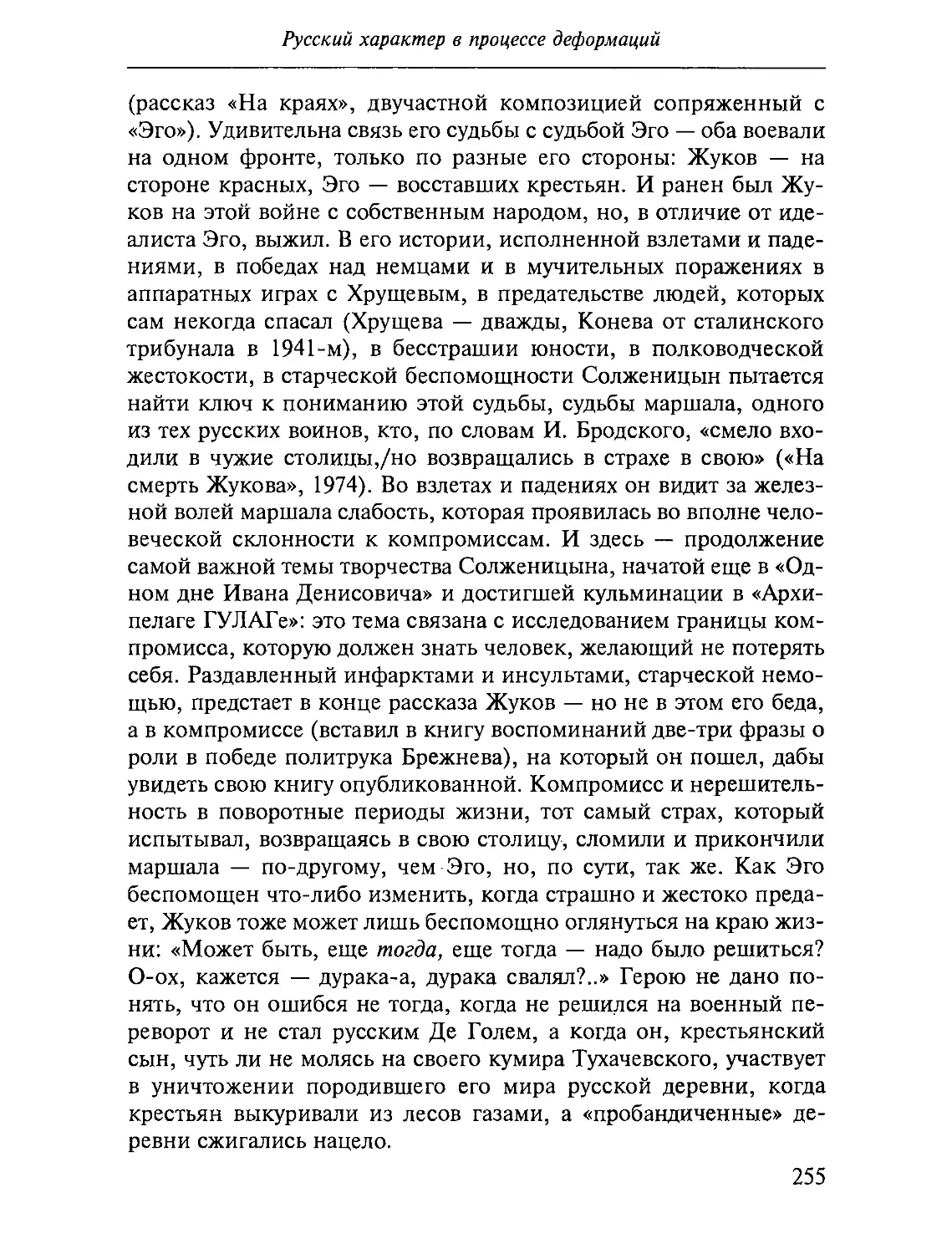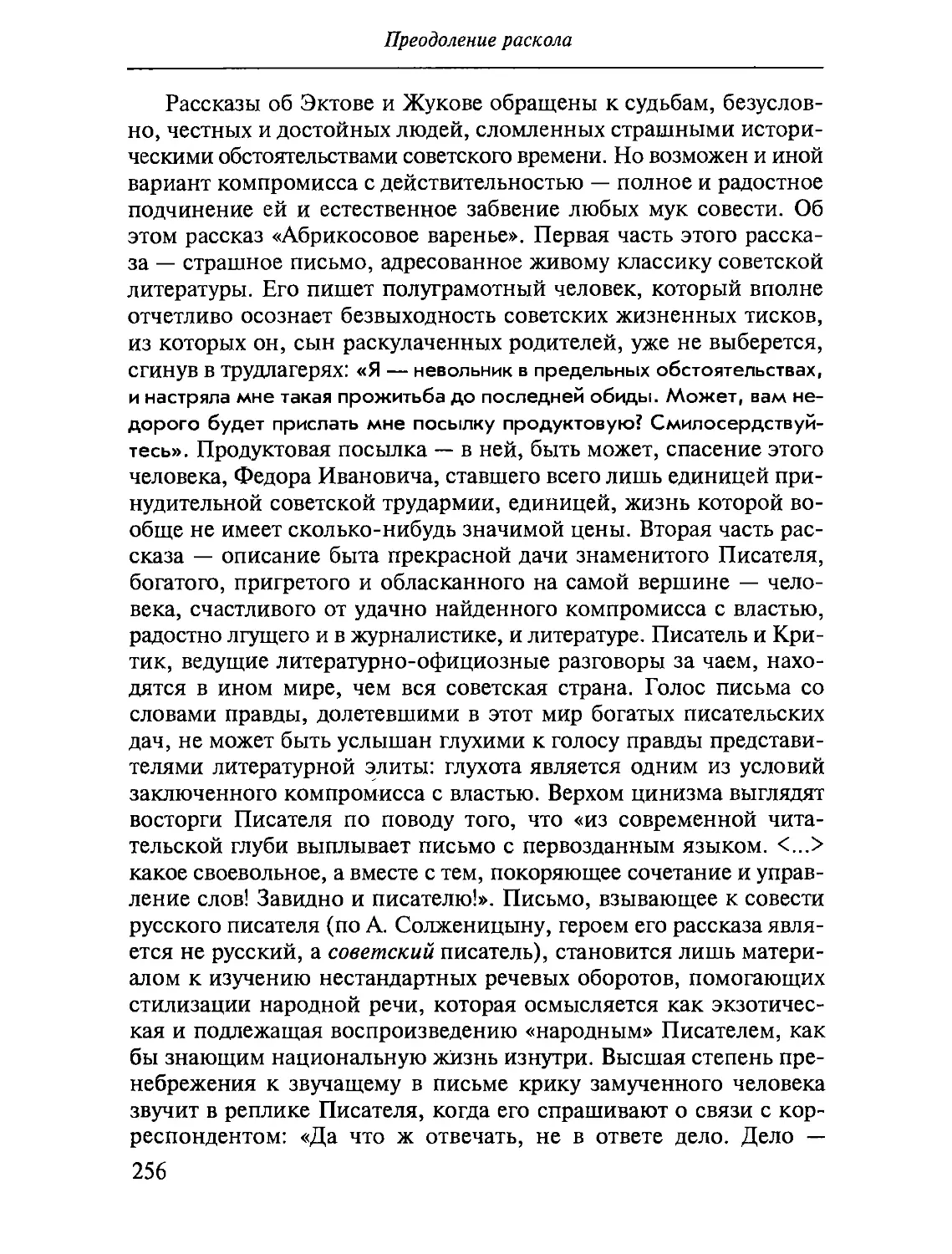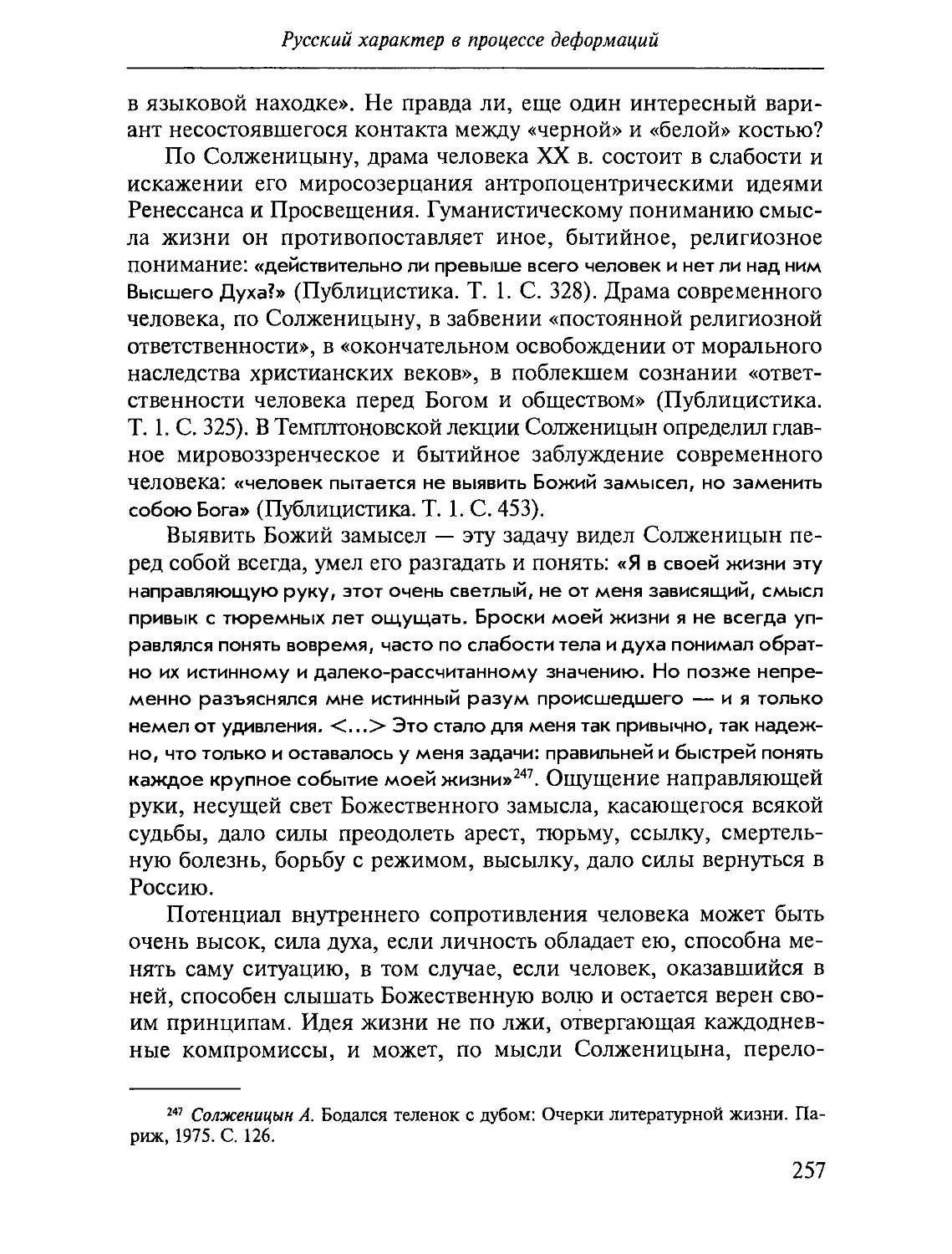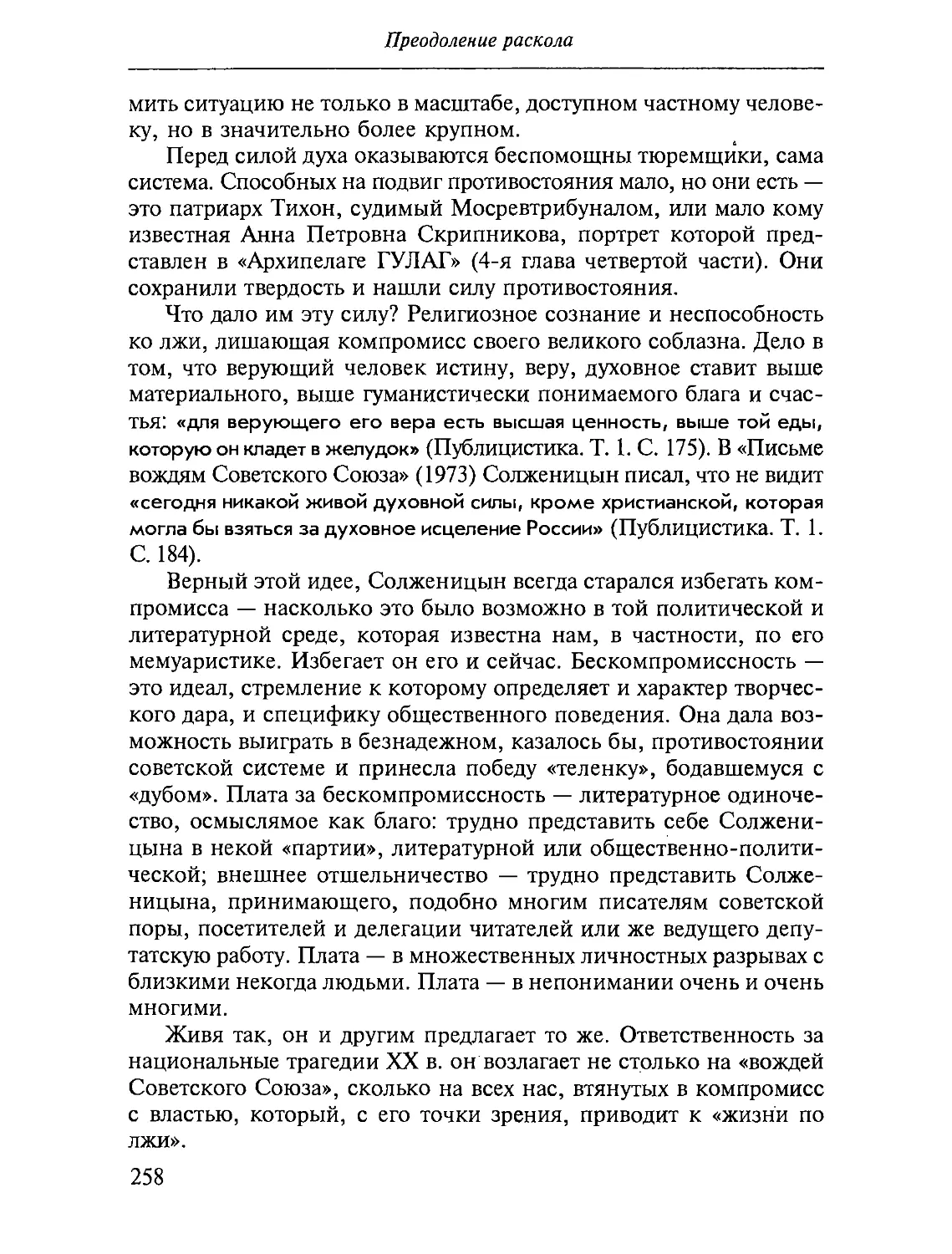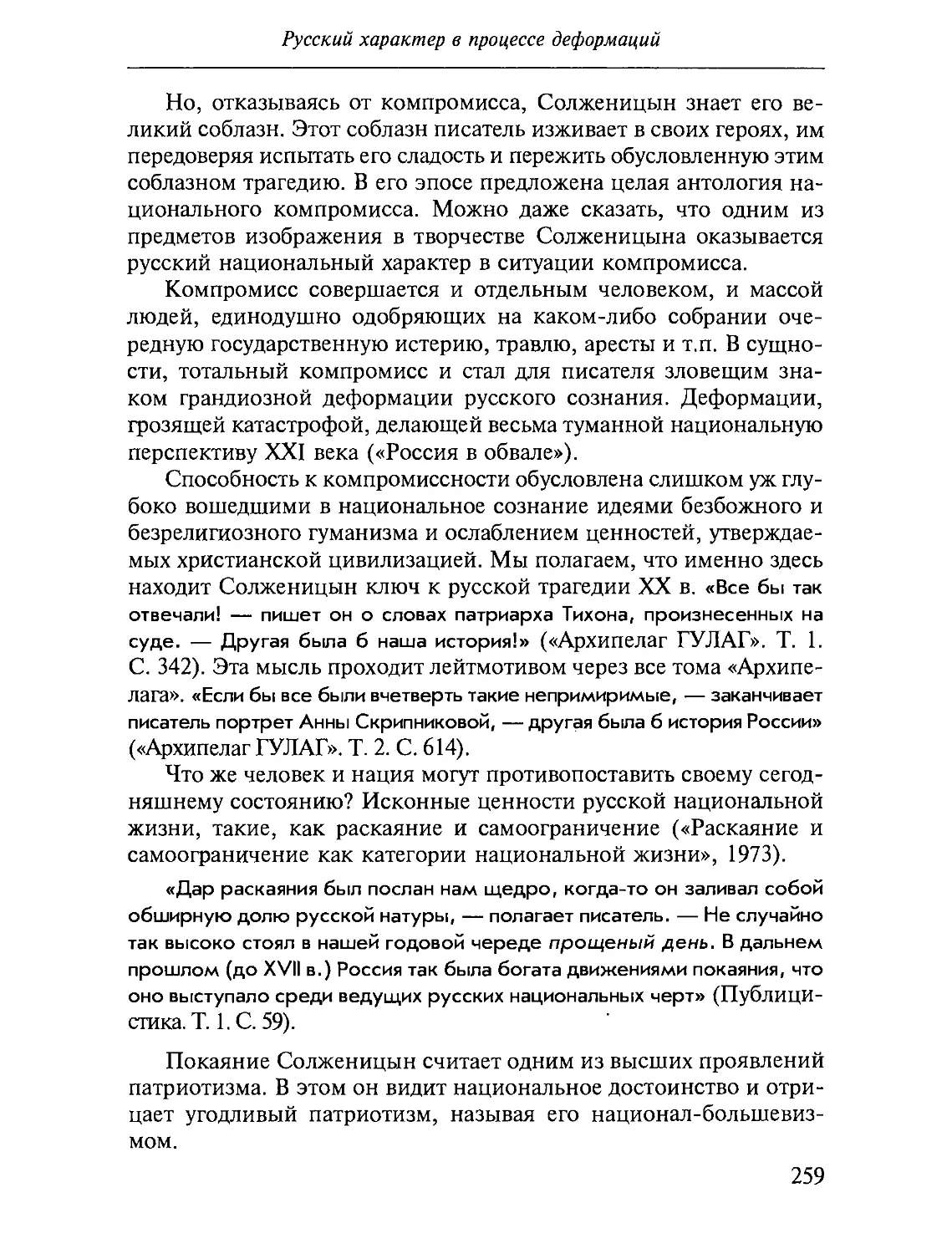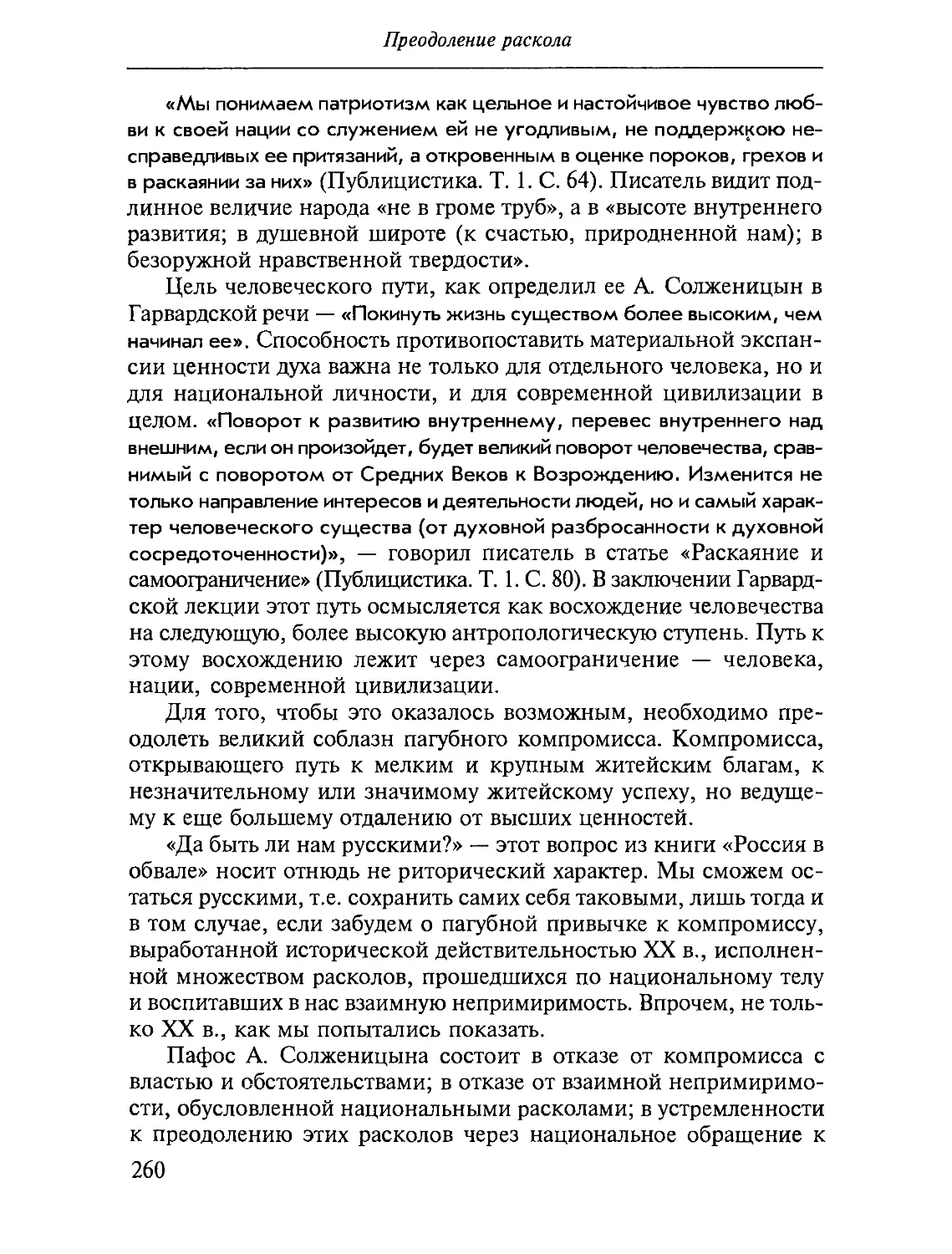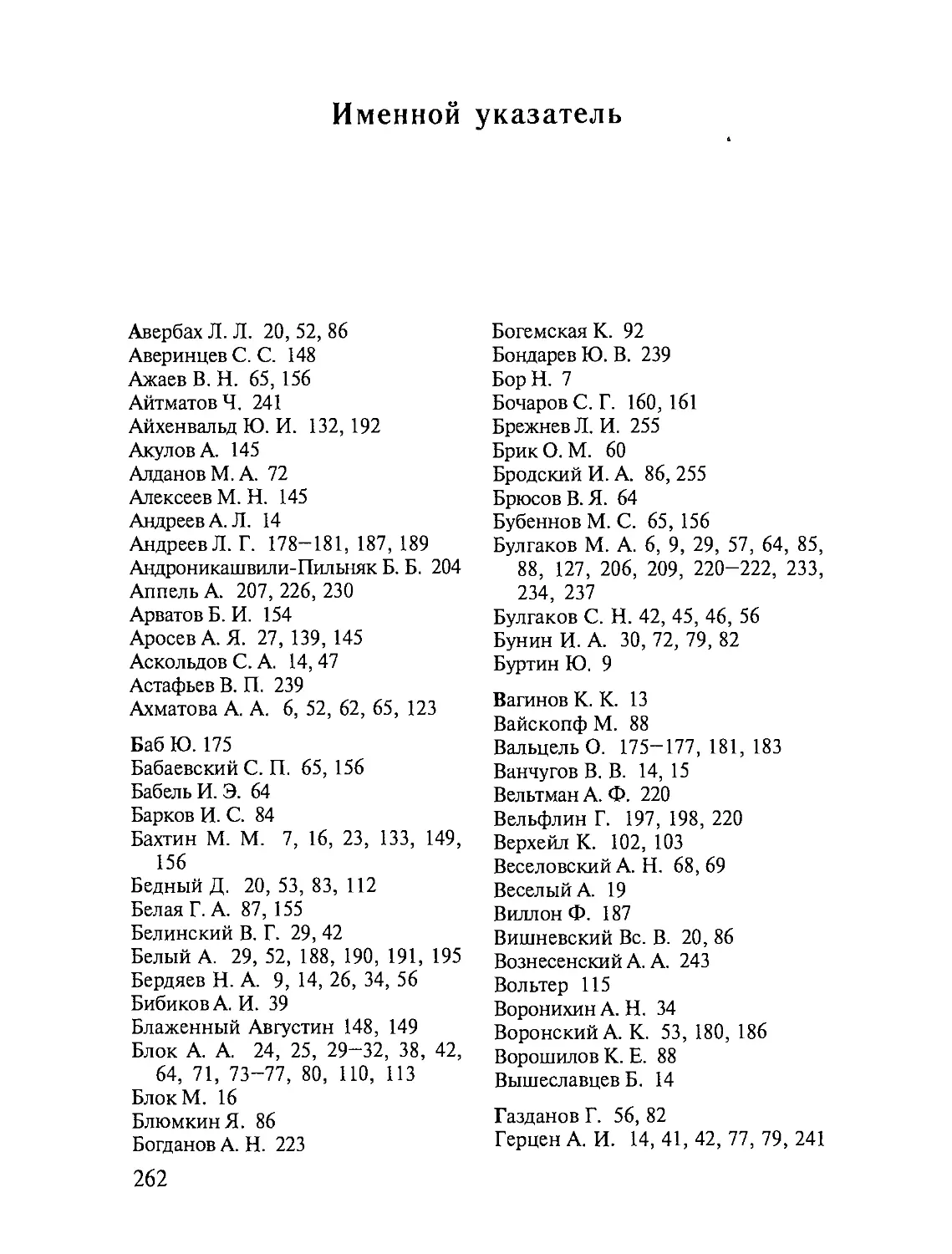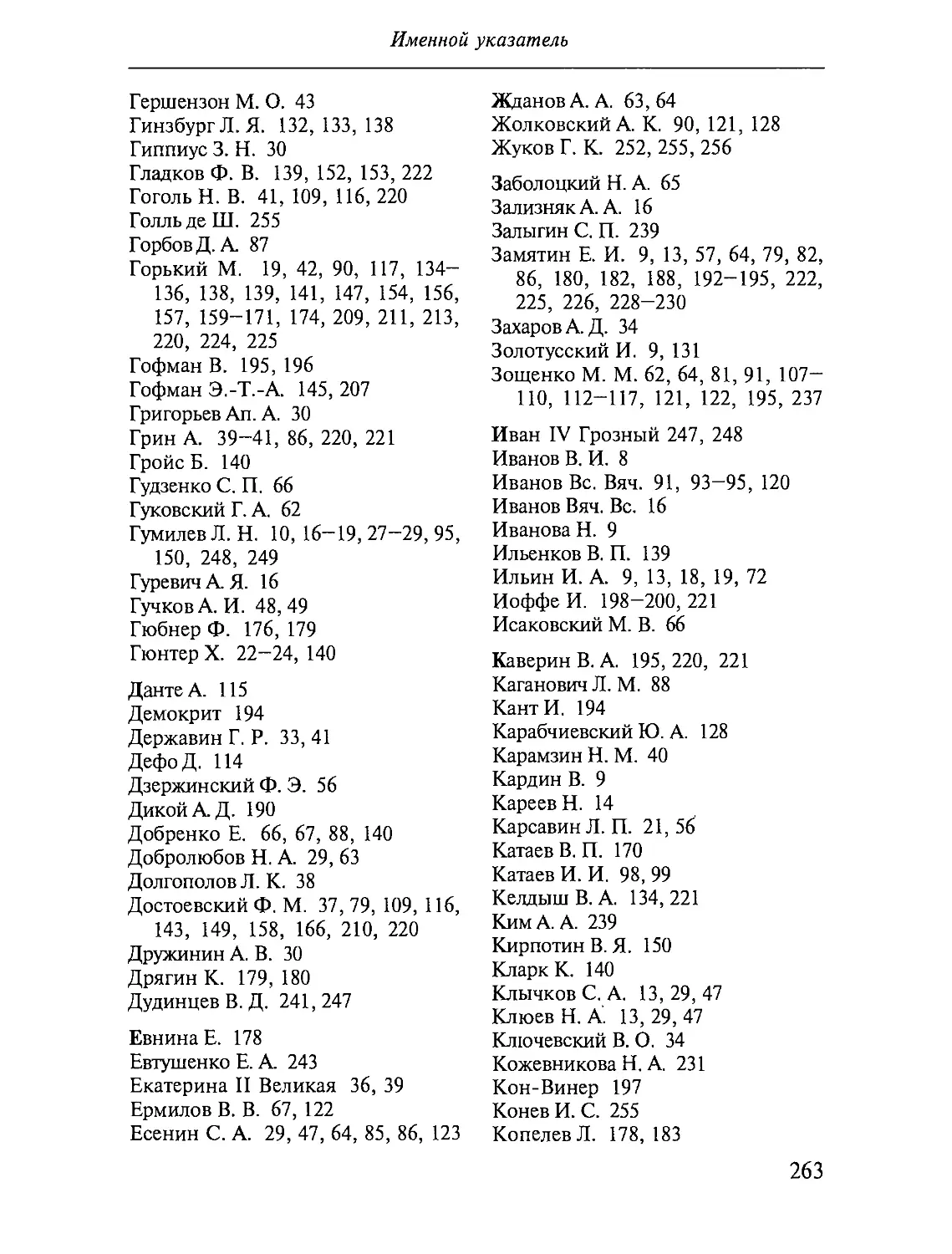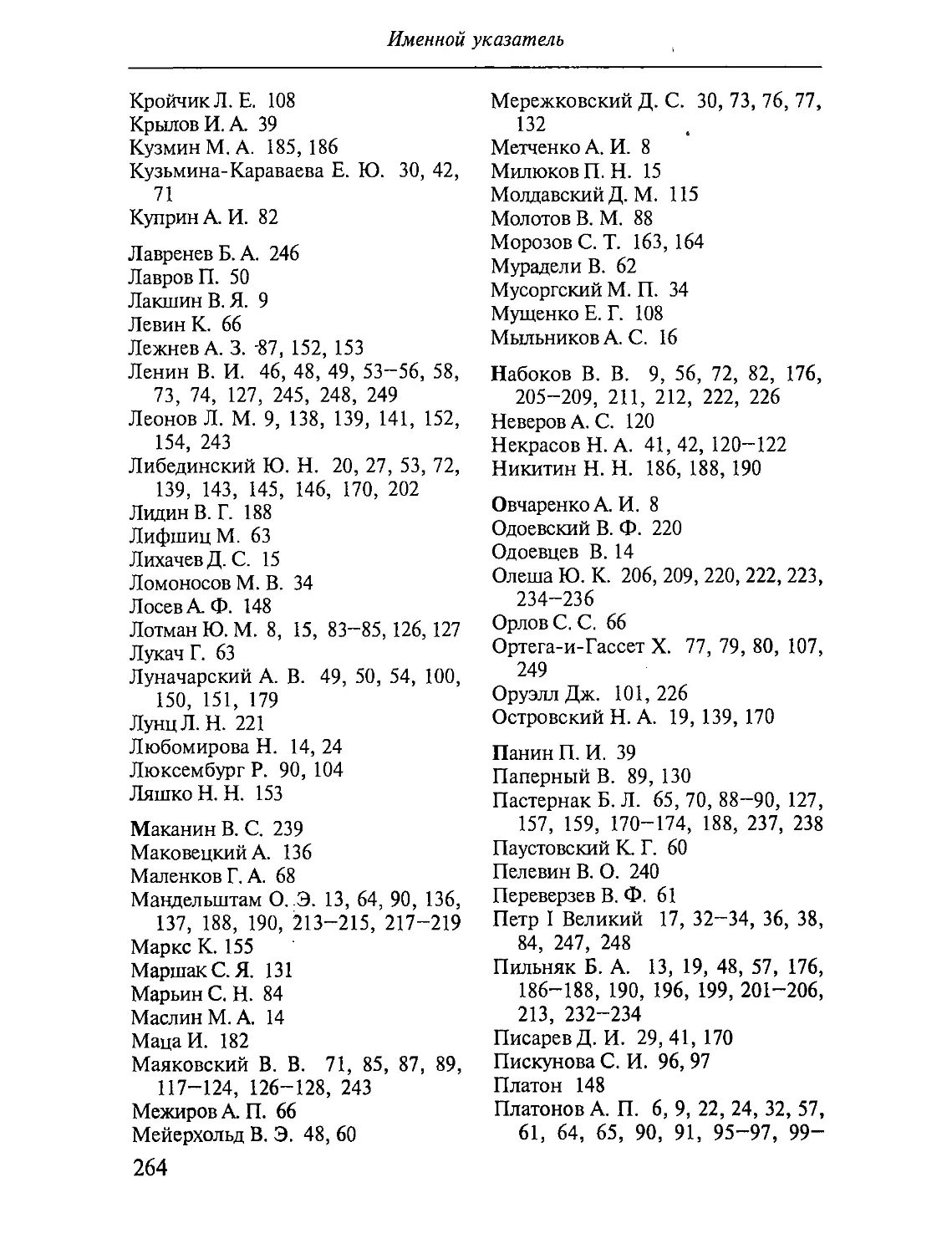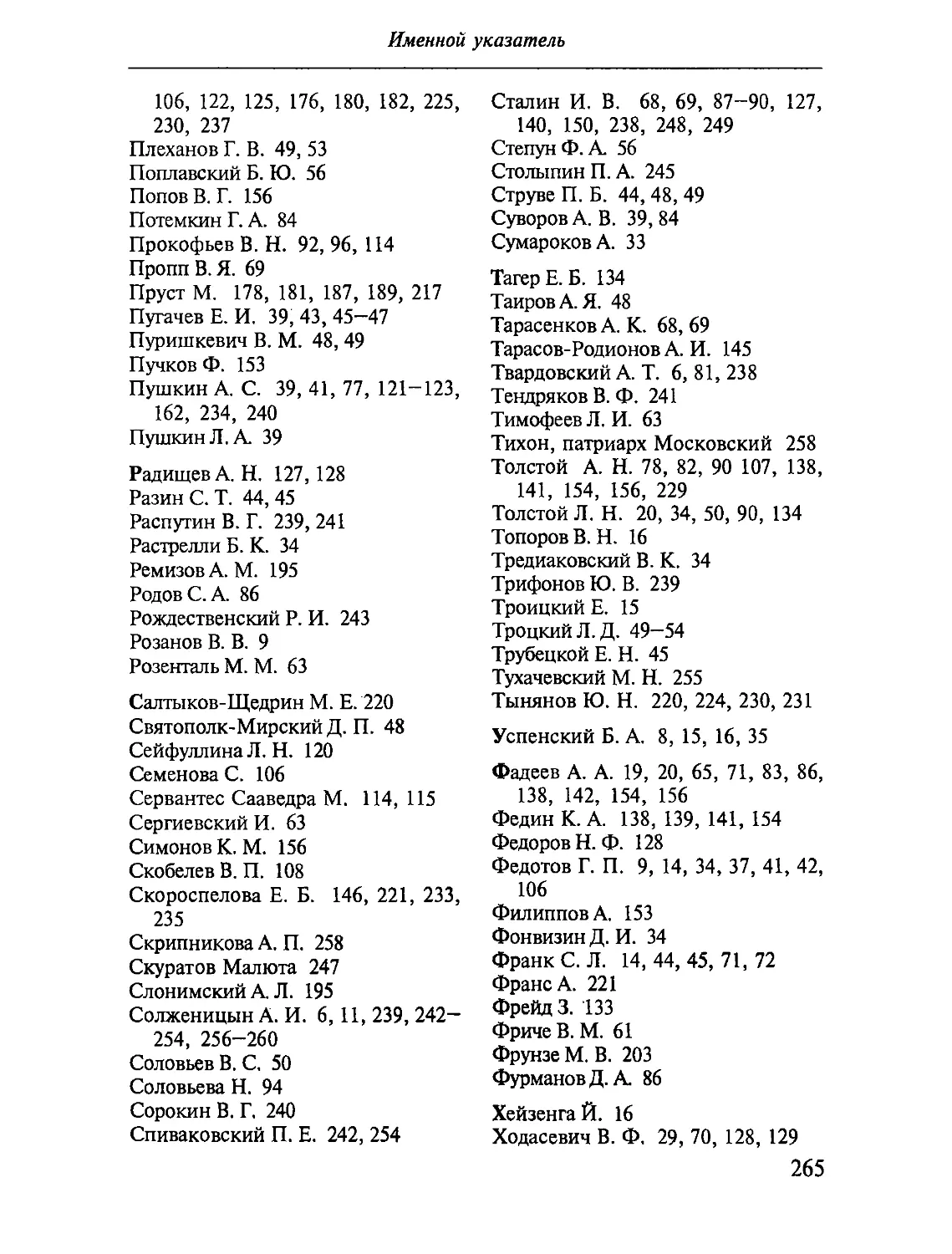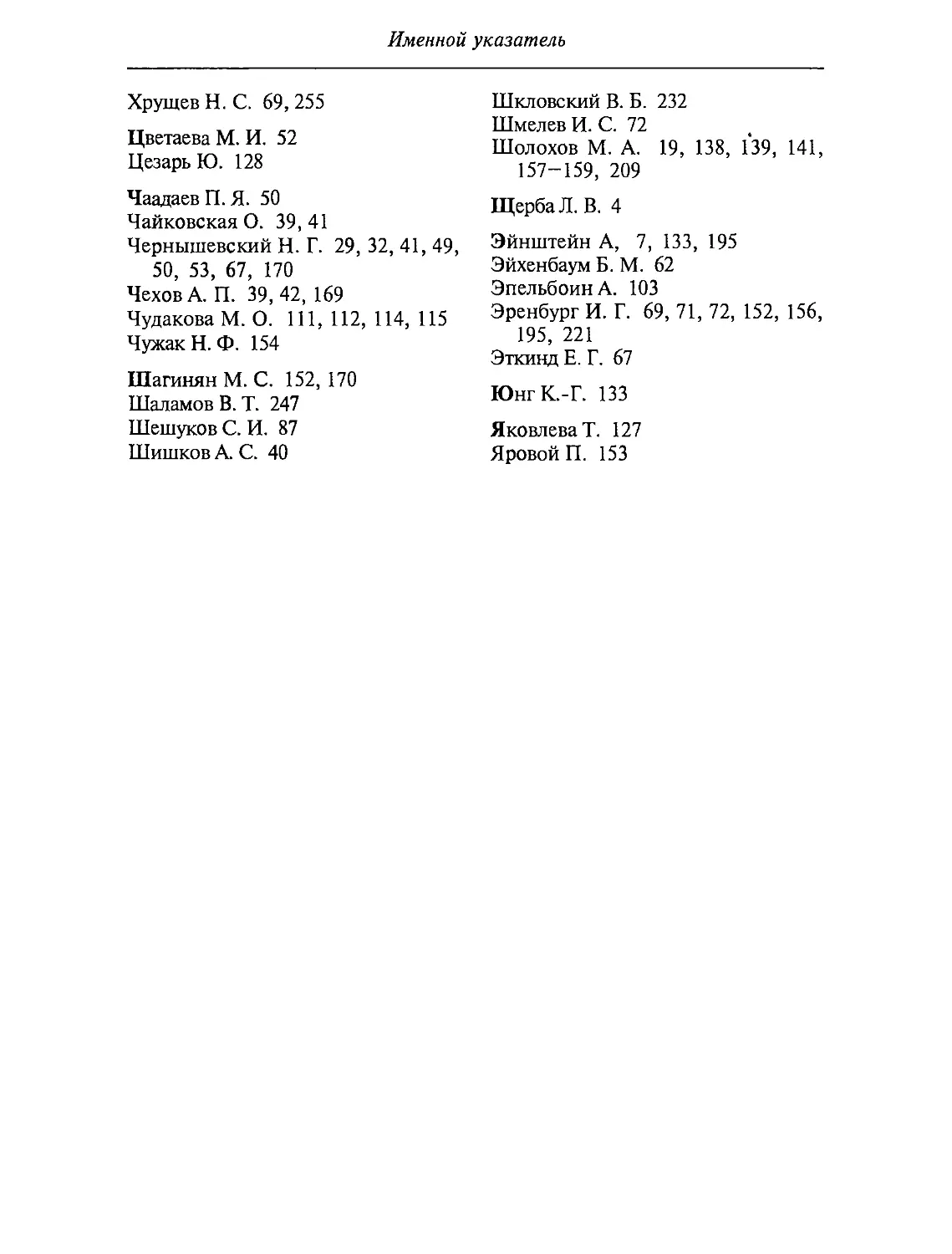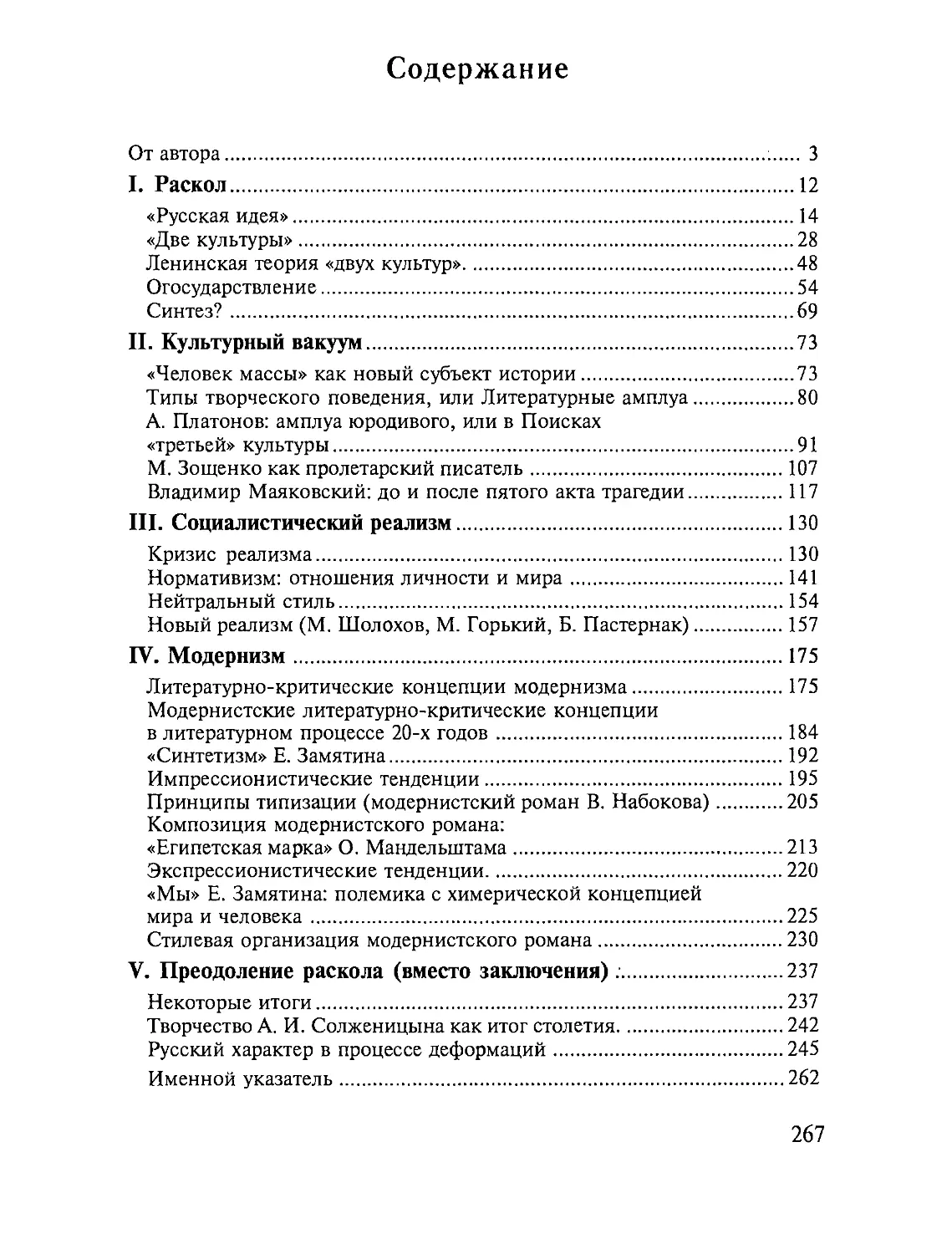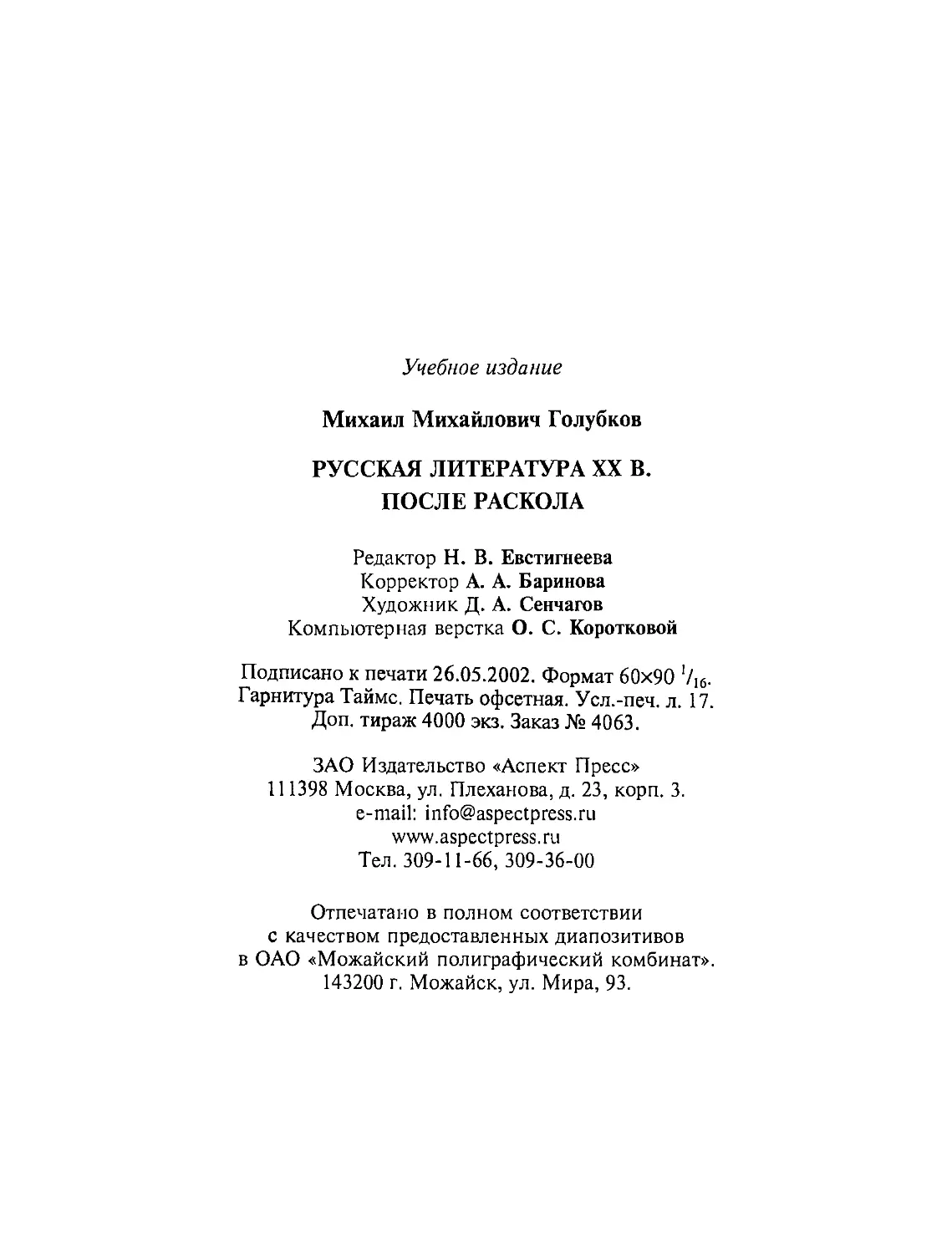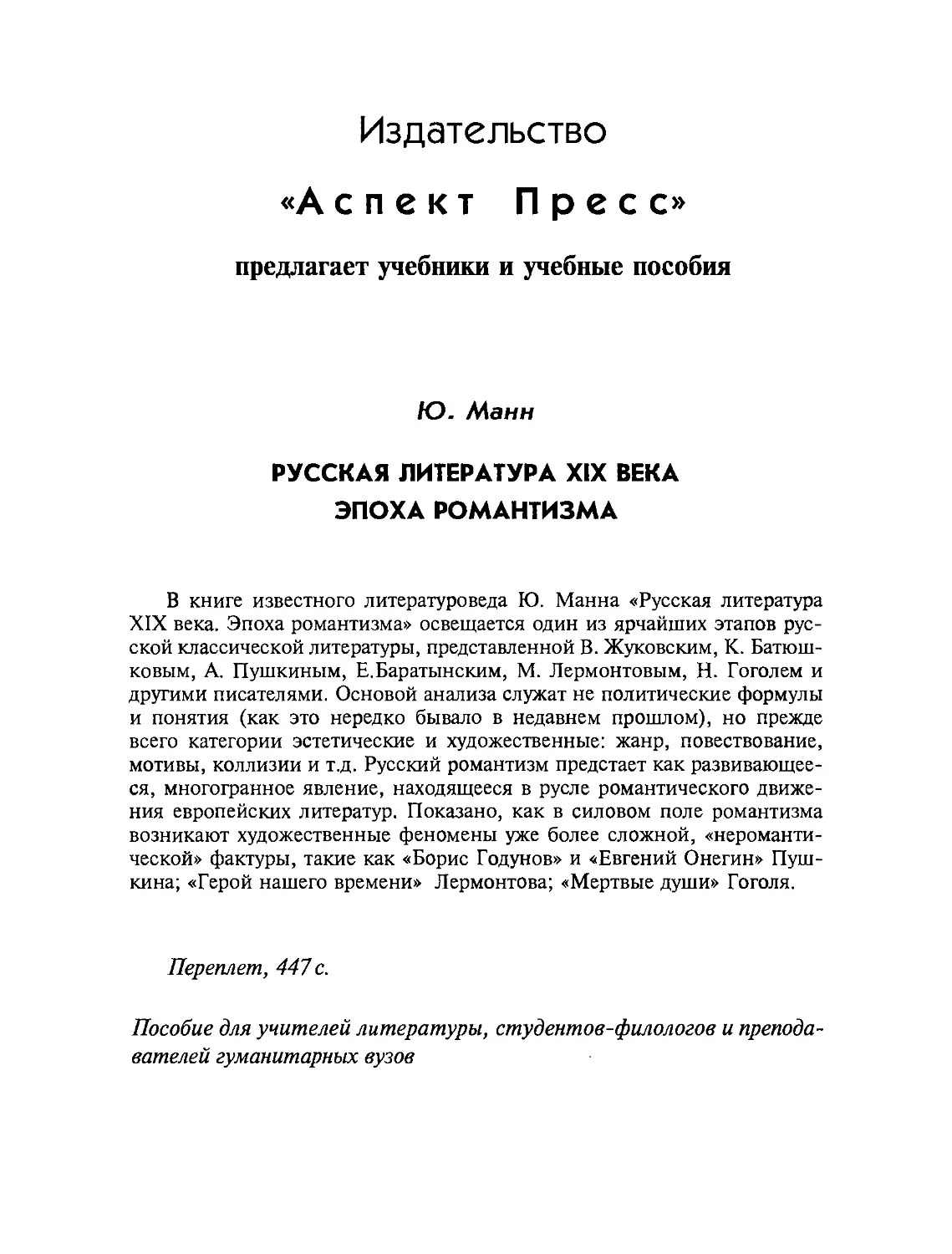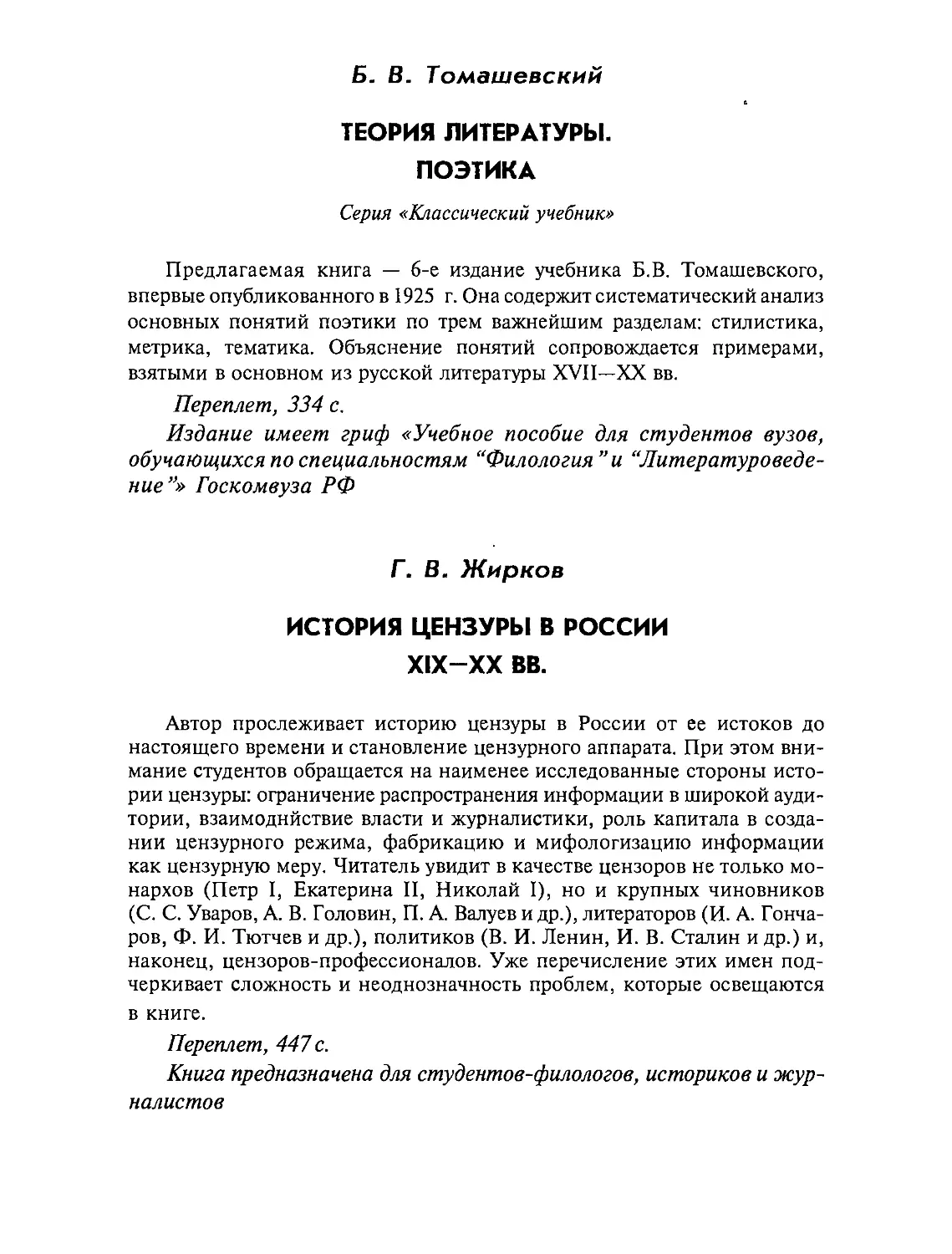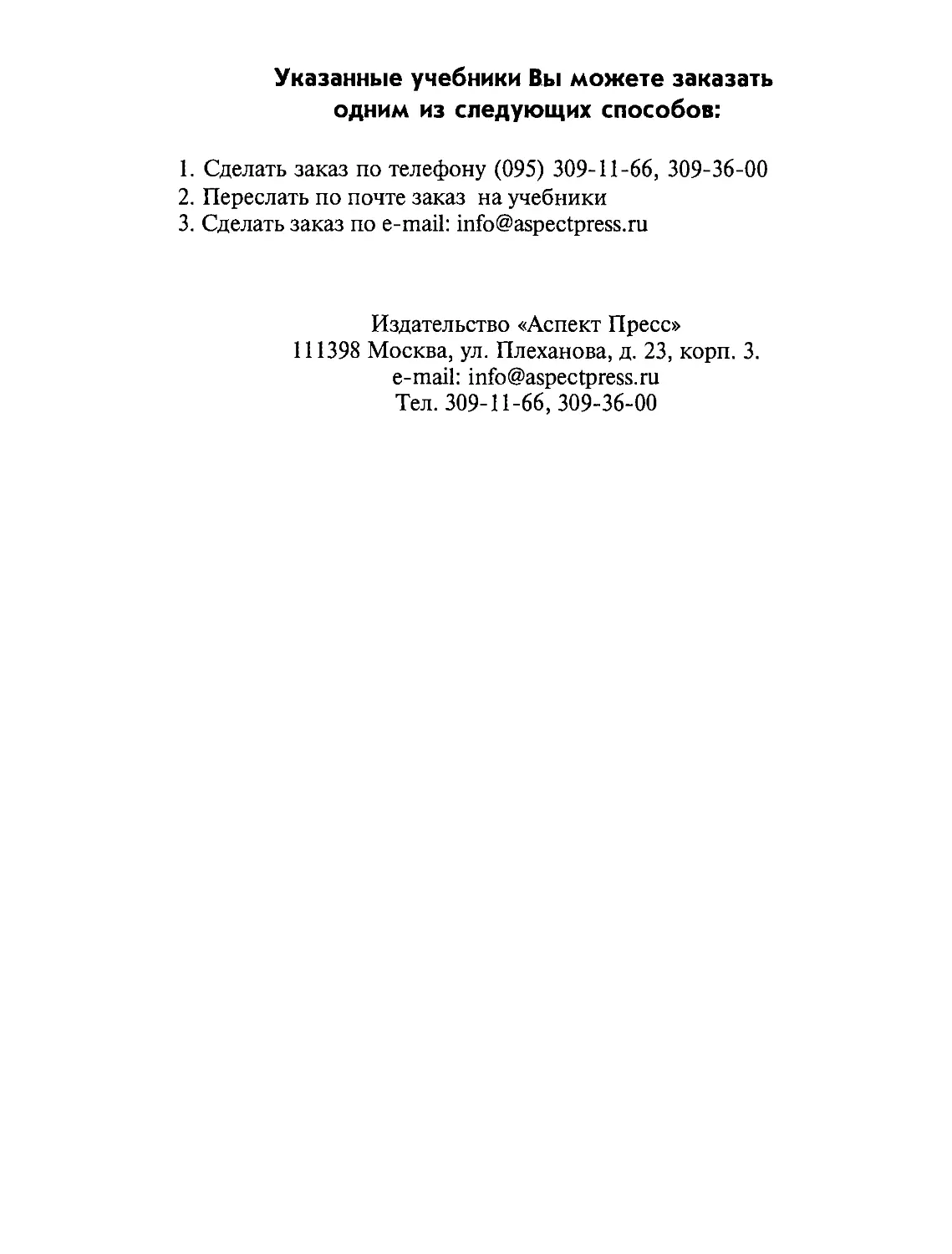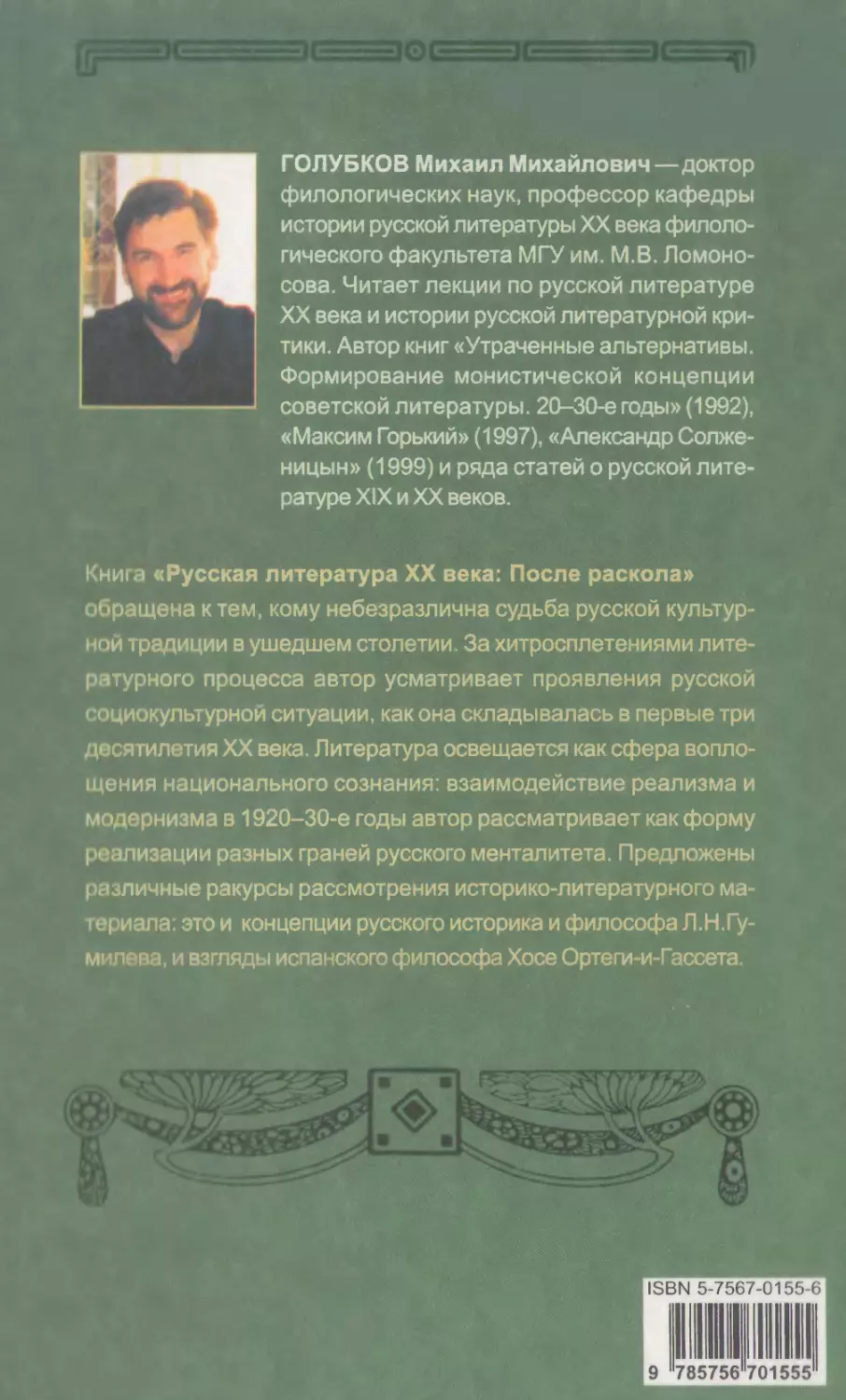Author: Голубков М.М.
Tags: русская литература история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран история литературы
ISBN: 5-7567-0155-9
Year: 2002
Text
М. М. Голубков
РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
После раскола
М. М. Голубков
РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
XX в.
После раскола
Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Филология»,
специальностям «Филология»
и «Литературоведение»
АСПЕКТ ПРЕСС
Москва
2002
УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Г 62
Рецензент
доктор филологических наук,
профессор РГГУ Ю. В. Манн
Голубков М. М.
Г 62 Русская литература XX в.: После раскола: Учебное по-
собие для вузов/М. М. Голубков. — М.: Аспект Пресс, 2002.—
267 с.
ISBN 5-7567-0155-9
Книга посвящена поиску новых подходов к литературной истории
XX в. Опираясь, с одной стороны, на исторические концепции Л. Н. Гу-
милева, автор исследует русскую литературу XX в. как сферу воплощения
национального сознания; с другой стороны, обращаясь к положениям мос-
ковско-тартусской семиотической школы, прослеживает изменение социо-
культурной ситуации 1920—1950-х годов (писатель—читатель—критик, ли-
тература-государство, метрополия—диаспора). Предложена концепция со-
циалистического реализма и модернизма в литературе первой половины
XX в. Показана роль в литературном процессе таких писателей, как А. Пла-
тонов, В. Набоков, М. Зощенко, В. Маяковский, О. Мандельштам, Е. Замя-
тин, А. Солженицын.
Книга предназначена для студентов-филологов, для преподавателей
вузов, школ, гимназий и лицеев
УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
ISBN 5~7567—0155—9 © «Аспект Пресс», 2001,2002.
Все учебники издательства «Аспект Пресс» на сайте
www.aspectpress.ru
От автора
Эта книга представляет собой размышления о русской литера-
туре XX в. Судьба автора сложилась так, что он впервые попал в
университетскую аудиторию в качестве преподавателя литератур-
ной истории завершившегося столетия в разгар горбачевской пере-
стройки, в эпоху разворачивающейся, набирающей силу гласности.
В нашей профессиональной среде лавина задержанных публикаций
художественных произведений, писавшихся «в стол» (а такими бо-
гато любое советское десятилетие) или же опубликованных на Запа-
де и лишь тогда возвращавшихся к русскому читателю, открывала, с
одной стороны, невероятные ранее возможности принципиально
нового осознания литературной истории в ее полноте (как наивны
мы тогда были, полагая, что это так просто сделать). С другой сторо-
ны, каждый новый месяц, приносивший очередные номера «тол-
стых» журналов, опрокидывал прежние литературоведческие кон-
цепции, сформированные в 30-80-е годы. Поэтому конец 80-х го-
дов можно воспринять как романтическую эпоху литературоведения;
научные коллективы, вузовские кафедры, критики и литературо-
веды собирались писать новые истории литературы и новые учеб-
ники взамен старых и безнадежно устаревших.
Однако романтическое мироощущение рубежа 80-90-х годов
сменилось своего рода вакуумом второй половины последнего де-
сятилетия XX в. Старые концепции не нужно было отрицать и нис-
провергать, они не нуждались в таком ниспровержении, чтобы
уйти из научного обихода; борьба не на жизнь, а на смерть с соци-
алистическим реализмом во временной перспективе тоже оказалась
борьбой с ветряными мельницами. А вот новых и авторитетных кон-
цепций не видно и по сей день. Сказалось, вероятно, невиданное
сопротивление литературного материала, накопленного за целое сто-
летие и обрушившегося на сознание живущих в его конце. Все эти
сложности вполне прочувствовал и автор этой книги. Профессио-
нальная деятельность часто ставила его в довольно затруднительные
положения: во время лекции или семинара вдруг выяснялось, что
продуманный совсем недавно литературоведческий «сюжет» вдруг
дает трещину или просто разваливается, и на глазах у студентов
лектор неожиданно для них и для себя обнаруживал необъясни-
мые, казалось бы, явления литературной жизни прошлых десяти-
3
От автора
летий. К счастью, такие ситуации обычно заканчивались совмест-
ными попытками найти объяснения необъяснимому.
Задача филолога, по меткому определению Л. В. Щербы, состо-
ит в том, чтобы ответить на три вопроса: Что? Как? и Почему?
И если на первые два — что и как? — ответы все чаще появлялись
в книгах, периодике, в архивных публикациях, то на третий во-
прос — почему? — отвечать было значительно сложнее. Готовых
ответов не было (да и теперь почти нет), их приходилось искать,
часто вместе со студентами. Эта книга — результат этих поисков,
которыми автор хочет поделиться со своими читателями.
Кто эти читатели? Разумеется, каждый, кто пишет, думает о
своем адресате. Кто он — колкий скептик, открывший книгу для
того, чтобы отвергнуть ее? Или же наоборот, будущий единомыш-
ленник? Автор будет рад любому читателю и любому прочтению,
хотя бы уже потому, что с вероятным читателем его объединяют
общие интересы и общий объект рефлексии — русская литерату-
ра, русская культура, русская судьба, как она складывалась в ушед-
шем столетии. Ведь вряд ли человек, равнодушный к ним, возьмет
в руки это издание. К счастью, неравнодушных среди читающей
публики большинство.
Этих людей условно можно разделить на две группы. С одной
стороны, это те, кто профессионально связан с изучением рус-
ской цивилизации в XX в.: школьные учителя и вузовские препо-
даватели; гуманитарии-исследователи (историки, филологи, со-
циологи, философы, политологи, культурологи); студенты-гума-
нитарии. С другой стороны, люди, прямо не связанные своей
профессией и своим родом деятельности с русской культурой и
историей XX столетия, но ощущающие свое «генетическое» род-
ство с ней и не мыслящие свое бытие, социальное и частное, без
укоренения в ее традицию. Поэтому перед автором стояла задача
говорить о вещах, как ему представляется, достаточно сложных,
не на «птичьем» языке филологической науки (который, кстати
сказать, еще и не сложился в современном литературоведении, не
оформился как достаточно авторитетный и общепризнанный), а
на общедоступном современном русском языке, обладающем все-
ми возможностями для выражения любой, даже самой сложной,
мысли. Это, однако, не значит, что автор стремился к какой-то
необыкновенной веселости, легкости и популярности письма: ува-
жение к собеседнику (а ведь читатель — тоже собеседник) предпо-
лагает сохранение собственного речевого дискурса. Наивысшая сте-
пень уважения к собеседнику проявляется тогда, когда говоришь с
4
От автора
ним на том языке, на котором разговариваешь с самим собой.
В противном случае ты не сможешь найти понимания или доверия
ни у коллеги, ни у слушателя лекции, ни у студента. Наверное, и
у читателя не найдешь.
Эта книга, конечно, не претендует и не может претендовать на
то, чтобы закрыть все болезненные «почему?» нашей литератур-
ной и не только литературной истории. В ней, скорее, содержится
попытка поставить вопросы, обозначить «странные» явления ли-
тературного процесса, увидев в литературе отражение нашей об-
щей национальной истории.
Среди таких странных и алогичных явлений — существование
русской литературы почти всего XX в. в русле трех подсистем: мет-
рополии, потаенной литературы и диаспоры. Они развивались па-
раллельно, часто в противопоставлении друг другу, но уходили
корнями в общую историческую почву. Различие между ними было
обусловлено конкретно-историческими обстоятельствами их воз-
никновения и бытования. Каждая из них породила значимые лите-
ратурные явления, но, скорее, вопреки деформированным усло-
виям литературной жизни. Между тремя ветвями литературы не
было естественного взаимообмена (или же он был весьма затруд-
нен), творческого взаимодействия, являющегося источником ху-
дожественного развития. Сам факт их сосуществования является
странным и алогичным с точки зрения нормальных, естественных
условий литературного развития.
Литература эмиграции создавалась в условиях, казалось бы,
отрицавших саму возможность существования национальной ли-
тературы: иноязычная и инокультурная среда и крайне разрежен-
ный слой читателей, к которому, собственно, и обращается писа-
тель. Но, рассеянная по всем континентам, русская диаспора сде-
лала невозможное: она создала центры русской эмиграции (русский
Берлин, Париж, Харбин, Прага) со своими издательствами, газе-
тами, журналами, формами социальной и культурной жизни; вы-
растила целое поколение писателей, творческое формирование
которых проходило уже за рубежом, в иноязычной среде; сформи-
ровала слой читателей, ощущавших себя русскими и сумевших
целых два последующих поколения воспитать людьми, которые
считали русский язык своим родным языком.
Две другие ветви национальной литературы развивались здесь,
в метрополии, но их развитие было обусловлено принципиально
иными обстоятельствами. Одну из этих ветвей составила потаенная
литература, созданная художниками, которые не имели возмож-
5
От автора
ности или же принципиально не хотели публиковать свои произ-
ведения — по соображениям идейно-политического характера.
В конце 80-х годов, когда поток этой литературы х'лынул на жур-
нальные страницы, стало ясно, что каждое советское десятилетие
богато рукописями, отложенными в стол — отвергнутыми изда-
тельствами, как это было с романами А. Платонова «Чевенгур»,
«Котлован» в 30-е годы, с поэмой А. Твардовского «Вам, из друго-
го поколенья» в 60-е, написанными с надеждой на далекую по-
смертную публикацию, как в случае с «Мастером и Маргаритой»
М. Булгакова, утаиваемыми, заучиваемыми наизусть автором и его
сподвижниками, как «Реквием» А. Ахматовой, или же рассказы,
повести, драмы А. Солженицына.
Третью ветвь русской литературы XX в. составила советская
литература — та, что создавалась в нашей стране, публиковалась,
находила сразу же выход к читателю. Но условия ее развития были
не менее драматичны. Именно эта ветвь испытывала на себе самое
мощное давление политического пресса. Литература оказалась под-
чинена государству.
С точки зрения всех законов литературного развития, само
существование трех мощных литературных подсистем, создавав-
ших русскую литературу XX столетия, представляется немысли-
мым: они были лишены естественного взаимодействия, возмож-
ности обмена накопленным опытом, взаимного влияния, общего
слоя читательской аудитории.
Помимо этого алогизма литературного процесса первая треть
столетия изобилует еще многими странностями. Одна из них —
смена художественных парадигм, приведшая к вытеснению худо-
жественного кода рубежа веков, заданного эстетикой модернизма
(в первую очередь, символистской эстетикой), «художественным
языком» социалистического реализма, утвердившегося к началу
30-х годов. Смена эта, обозначившая отказ от результатов «художе-
ственной революции» рубежа веков, произошла очень быстро —
в течение одного десятилетия.
Казалось бы, проще всего объяснить эти явления и сам харак-
тер деформаций, который испытывал на себе литературный про-
цесс советского времени, можно было бы обстоятельствами вне-
литературного, социально-политического плана. В самом деле, ха-
рактер литературного процесса советского времени определяют
новые отношения между литературой и властью. Советская власть с
самого начала была склонна рассматривать литературу как явле-
ние партийно-государственной жизни. Литературе навязывались не
6
От автора
свойственные ей пропагандистские и идеологические функции.
В результате возникла и реализовалась идея партийно-государствен-
ного руководства всеми формами литературной жизни. Полити-
ческое давление, которому литература подверглась с первых и до
последних дней советской власти, деформировало органичный,
естественный процесс литературного развития.
Однако подход к литературному процессу с точки зрения об-
стоятельств экстралитературного, социально-политического плана
не может быть признан единственно возможным и исчерпываю-
щим. Ведь литература несла в себе и стремилась реализовать внут-
ренние, имманентные законы развития, обуславливающие потреб-
ность отражения и преображения действительности с точки зре-
ния художественного сознания XX в.
Перед современным историком литературы (да и не только
филологом, но перед любым гуманитарным исследователем вооб-
ще) стоит задача выбора точки зрения на свой объект. Особенно
это важно, когда речь идет о русской культуре XX в. Но возможна
ли вообще одна-единственная точка зрения, способная дать ис-
черпывающее представление?
Ситуация рубежа веков (XX и XXI вв.) ознаменована не толь-
ко множеством нерешенных проблем, своего рода идеологичес-
ким вакуумом гуманитарного знания, но и пониманием того, что
не может быть одной единственно верной точки зрения (так же,
как и одного единственно верного учения). Это тоже результат на-
учного развития XX столетия, имеющего не только философскую,
но и несомненную этическую достоверность и ценность. Ведь имен-
но XX в. привнес в научную методологию мысль о невозможности
существования одного-единственного языка, описывающего яв-
ление. Идеи А. Эйнштейна, поставившего основополагающие кон-
станты мира в зависимость от точки зрения наблюдателя, теория
хронотопа М. М. Бахтина, раскрывшая объективно-субъективный
характер взаимосвязи времени и пространства в художественном
произведении; исследования микромира, открытие Н. Бором дуа-
лизма «волна-частица», показавшее, что именно точка зрения ис-
следователя-экспериментатора определяет характер поведения
физического объекта (одно и то же физическое явление ведет себя
то как частица, то как волна, и разница определяется именно по-
зицией исследователя, а не состоянием объекта), предопределили
мысль о дополнительности разных точек зрения — в том числе и в
сфере гуманитарного знания. «Представление о возможности од-
ного идеального языка как оптимального механизма для выраже-
7
От автора
ния реальности является иллюзией, — писал Ю. М. Лотман. — Ми-
нимально работающей структурой является наличие двух языков и
их неспособность, каждого в отдельности, охватить внешний мир»1.
Мысль о необходимости нескольких точек зрения для адекватного
восприятия истории, культуры и литературы стала основополага-
ющей не только для поздних работ Ю. М. Лотмана, но и для тарту-
ско-московской школы2 — вероятно, последней школы отечествен-
ного литературоведения, созданной в XX в., а потому итоговой,
завершающей его методологические искания.
Сколько же существует точек зрения на литературные итоги
XX в.? К сожалению, не так много, что может показаться доста-
точно странным. Еще раз вспомним, как на рубеже 80-90-х годов
яростно сокрушались идеологические концепции советского лите-
ратуроведения, но «новый взгляд»3, к которому, казалось тогда,
так просто прийти, не увенчал литературно-критические итоги
XX столетия. Повторим еще раз то, что представляется очевид-
ным: из множества написанных за последние десятилетия статей и
книг (при всей важности и актуальности многих из них) обобща-
ющая и авторитетная точка зрения на литературный процесс, на
историю культуры, на политическую историю XX в. так и не сло-
жилась.
Одно из заблуждений рубежа 80—90-х годов было связано с
тем, что ученые и критики не поставили перед собой задачу выхо-
да из прежней, сформированной в советском литературоведении
идеологической парадигмы, остававшейся практически неизмен-
ной с середины 30-х годов. Она определялась теорией социалисти-
ческого реализма, создание которой началось в 1932 г., после по-
становления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художествен-
ных организаций», а завершилось уже в 50-70-е годы, в работах
А. И. Метченко, А. И. Овчаренко, В. И. Иванова. Поэтому смертель-
ная борьба против социалистического реализма рубежа 80-90-х
годов была, по сути дела, попыткой преодоления прежних, «тота-
литарных» идеологем, которые заменялись новыми, «демократи-
1 Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 9.
2 Лотман Ю. М. Изъявление Господне или азартная игра?: Тезисы к семиотике
русской культуры (Программа изучения русской культуры)//Ю. М. Лотман и тар-
туско-московская семиотическая школа. М., 1994; Успенский Б. А. История и семио-
тика; Historica sub specie semioticae//B. А. Успенский. Избранные труды. Т. 1. Семи-
отика истории. Семиотика культуры. М., 1994.
3 История советской литературы: новый взгляд: В 2 т. М., 1990.
8
От автора
ческими» (Ю. Буртин, В. Лакшин, В. Кардин, И. Золотусский,
Н. Иванова). Если бы общественный интерес к литературе и лите-
ратурной критике не иссяк, то, возможно, «демократическая» тен-
денция и смогла бы сформировать новые парадигмы, пригодные
для описания литературной истории с иной, например, эстети-
ческой, точки зрения. Этого, как мы знаем, не произошло и «эс-
тетическое» направление литературной критики не сложилось.
Казалось бы, русская литература XX в. дает богатый материал и
для продолжения традиции философской критики и публицисти-
ки — традиций В. Розанова, Н. Бердяева, Г. Федотова, И. Ильина.
Но и эта возможность не реализовалась: книги, сборники, статьи,
семинары и конференции, посвященные М. Булгакову, А. Плато-
нову, Е. Замятину, Л. Леонову, В. Набокову, позволив приблизить-
ся к пониманию творческого и философского наследия этих ху-
дожников, не дали (как пока еще видится) оснований для обоб-
щений литературного пути в целом.
Следовательно, не найдены еще те точки зрения, сопоставле-
ние которых дало бы возможность приблизиться к пониманию той
сложной системы, которую являет собой литература XX в., и не
выработаны еще те метаязыки, которые могли бы адекватно ее
описать.
Между тем, поиски их необходимы. И чем больше точек зре-
ния будет предложено, чем больше метаязыков будет создано, тем
полнее предстанут перед нами литературные и культурные итоги
века.
Влияла ли политическая ситуация, государственное давление,
«партийное руководство» на русскую литературу? Безусловно. Оп-
ределяли ли ее развитие эстетические закономерности художествен-
ного сознания XX в., сформулированные художественным опы-
том Серебряного века, порожденные «художественной революци-
ей» рубежа двух прошедших столетий? Разумеется. Стало быть, уже
нельзя понять русский литературный опыт, минуя два принципа
его описания: с точки зрения того, как проводилась государствен-
ная политика в отношении к культуре и какова она была, и с
точки зрения собственно эстетических закономерностей литера-
турного развития.
Однако возможны (и даже необходимы) и другие подходы. Один
из них предполагает обращение к социокультурной ситуации,
сложившейся с самого начала советского времени и в корне изме-
нившей отношения в системе «читатель—писатель». Взаимодей-
ствие между этими двумя центральными фигурами литературного
9
От автора
процесса стало качественно иным в 20—30-е годы, в чем отрази-
лась социокультурная ситуация послереволюционного периода:
новый читатель, пришедший в литературу и культуру и удобно,
как ему показалось, расположившийся, сформировал свои соб-
ственные представления о литературе и повлек за собой появле-
ние совершенно невиданной ранее фигуры писателя.
Другой подход связан с восприятием литературы как одной из
сфер воплощения русского национального характера. Соотносясь с
предшествующим по принципу дополнительности, он рассматри-
вает явления литературной и культурной истории XX в. как обус-
ловленные некими корневыми чертами русской ментальности. Ее
методологическую основу в контексте данной работы составляют
труды Л. Н. Гумилева.
В данной книге автор постарался представить, как могут «рабо-
тать» обе эти точки зрения, накладываясь друг на друга, взаимо-
действуя, создавая в конечном итоге стереоскопическую картину
нашей общей истории.
Этим обусловлена и композиция книги. В первой главе речь
пойдет о тех социокультурных процессах, которые привели к раз-
делению единой некогда русской национальной культуры на две
субкультуры, что явилось, по сути дела, национальным расколом.
Процесс, начавшийся три столетия назад, с трагической непре-
ложностью завершился в первой трети XX в. Две революции 1917 г.
явились его результатом. Стоит задуматься, как все это отразила
русская литература и какие изменения претерпела она сама. По-
этому основным объектом наших суждений станет история рус-
ской словесности первой трети ушедшего века, хотя часто, говоря
о литературе или о партийной политике в отношении литературы,
необходимо будет обращаться и к ситуации 40—50-х годов.
Во второй главе проанализировано то положение, в котором
оказалась творческая личность в ситуации «культурного вакуума»
20—30-х годов, когда прежние художественные достижения были
поставлены под сомнение и многие писатели стали «лишенцами»
в пореволюционное время в результате появления нового читате-
ля, «человека массы». Он принес с собой новые нормы и социаль-
ного, и бытового поведения и потребовал для себя и нового писа-
теля, и новой литературы. Новая читательская масса и породила
тот социальный и культурный слой, на котором возник феномен
социалистического реализма.
В третьей главе, посвященной исследованию соцреализма, ак-
центируется внимание на том, что формирование соцреалисти-
10
От автора
ческого канона, завершившееся к середине 30-х годов, было обус-
ловлено не только социокультурными обстоятельствами русской
действительности, но и причинами собственно эстетического ха-
рактера.
В четвертой главе речь идет о модернистской эстетике, которая
на протяжении трех советских десятилетий противостояла соцреа-
лизму, создавая иную картину мира и формируя иное представле-
ние о человеческой личности, чем то, которое утверждалось со-
ветским каноном 30—50-х годов.
В заключении же предпринята попытка определить, предло-
жила ли литература ушедшего века пути преодоления националь-
ного раскола. Это заставит нас обратиться к творчеству А. Солже-
ницына.
I
РАСКОЛ
Поиски точек зрения на русскую литературную историю XX в.
с неизбежностью приводят к расширению контекста, в который
исследователь пытается поставить то или иное художественное явле-
ние. Думается, что это не может быть контекст только лишь истори-
ко-литературный или же собственно эстетический. Эти контексты
дополняются более широкими. Один из таких возможных широких
контекстов будет найден, если рассматривать литературу как сферу
художественного воплощения национального сознания. Возможно, что
сам факт многосоставное™ и противоречивое™ русского националь-
ного характера высветит истоки уже описанных, но еще не объяс-
ненных явлений русской литературной жизни XX в.
История русской культуры XX в. — это история бесконечных
внутренних расколов некогда единого национального культурного
организма. Как будто некогда заложенные в него бинарные оппо-
зиции вышли на поверхность именно в последнее столетие. Среди
них — трагическое раздвоение русской культуры на метрополию и
диаспору с их взаимной оппозиционностью и непримиримостью.
Здесь и отказ от прошлого опыта, вылившийся в принципиаль-
ный разрыв советской литературы и в первую очередь литературы
социалистического реализма с предшествующей гуманистической
традицией, утвержденной XIX в. Именно в результате этого отказа
от прошлого культурного опыта концепция революции, разруши-
тельная и утверждающая насилие в отношении и отдельной лич-
ности, и общественных классов, и общества в целом, была приня-
та абсолютным большинством советских художников.
Внутренние конфликты, содержащиеся в основании русской
культуры, нашли и такое страшное проявление, как политичес-
кие репрессии в отношении писателей, способных составить славу
русской литературы и вполне лояльных к революции. Общую судь-
бу разделили писатели, пришедшие в литературу из самых глубин
12
Раскол
народной жизни и воплотившие ярчайшие образцы русского на-
родного самосознания (Н. Клюев, С. Клычков), и художники-мо-
дернисты (Б. Пильняк, Е. Замятин, К. Вагинов, О. Мандельштам).
Внутренние напряжения русской культуры проявились и в том,
что на богатой почве двух последних столетий, составивших миро-
вую славу русской цивилизации, развился квазихудожественный
феномен, названный социалистическим реализмом, притом реализо-
вал себя не только в литературе, но и в других искусствах. Не менее
удивляет и его сосуществование с действительно художественными
литературными течениями, реалистическими и модернистскими.
Все эти факты, перечень которых можно множить и множить,
нельзя трактовать лишь как какой-то «зигзаг» русской истории.
В литературной и не только литературной истории XX в. не было
случайностей. В постоянных расколах проявляется некоторая зако-
номерность, обусловленная целым рядом исторических обстоя-
тельств существования русской нации, сформировавших и рус-
ское сознание.
Размышляя о трагических разломах русской истории нашего
века и о самом главном из них — революции, И. А. Ильин, фило-
соф русского зарубежья, посвятивший все свои мысли России,
писал: «Не подлежит никакому сомнению, что революция была
срывом в духовную пропасть, религиозным оскудением, патриотичес-
ким и нравственным помрачением русской народной души», первой
и самой главной жертвой чего стал сам русский народ, ибо «рево-
люции суждено было не удовлетворить вожделения русских масс, а
разочаровать и образумить их <...>. Народные же массы предались
безбожному ожесточению, и лишь медленно, очень медленно, пос-
ле распыления, разоружения и изъятия земли, начали понимать,
что главный поход идет на них, что они сами обречены на небывалое
рабство, на нищету и голод или просто на смерть»^. Характерно, что
И. А. Ильин ищет объяснение не в исторической случайности или
в характере той или иной исторической личности, но в глубинах
русского национального сознания, в народной душе. Именно тем,
что русская революция неслучайна, что ее истоки коренятся в на-
роде, а характер предопределен какими-то важными, основопо-
лагающими чертами русского национального менталитета, фило-
соф объясняет тот факт, что «коммунистическая революция в Рос-
сии есть единственное в своем роде крушение и бедствие», что
«ничего подобного человеческая история еще не видала».
4 Ильин И. А. Одинокий художник. Статьи, речи, лекции. М., 1993. С. 219.
13
Раскол
Какими же сторонами русского национального характера можно
объяснить трагические повороты русской судьбы XX в.? Чем, ког-
да и как были сформированы эти черты?
«Русская идея»
«Русской идее» посвящена огромная литература. К работам
философского и культурологического планов, создававшимся в
зарубежье и ставшим известными в последние годы в метрополии,
присоединяются труды, написанные здесь и теперь. В них подни-
маются самые разнообразные стороны русского сознания и рус-
ской культуры. Недаром автор очерка о самобытно-русской фило-
софии В. В. Ванчугов говорит о том, что уже «накопилось достаточ-
но материала для создания междисциплинарной науки —
«россиеведения»5, а в работе Н. Любомировой, посвященной ма-
гии русской хандры как особому состоянию духа, отечественному
социальному знанию в конце XX в. предлагается создать науку «рус-
ское отчизноведение» с особой отраслью внутри нее — «хандроло-
гии и хандрософии»6. Стремление рассмотреть все стороны бытия
с точки зрения национального менталитета реализовалось и в книгах
русского зарубежья. Авторы предисловия к сборнику «О России и
русской философской культуре. Философы русского послеоктябрь-
ского зарубежья» считают, что эмиграция создала «своеобразное
культурологическое, философско-историческое, историке- и ре-
лигиозно-философское россиеведение, образующееся на стыке
истории, философии, социологии и богословия»7. В самом деле, в
огромной литературе по «русской идее» речь идет о «русском ми-
ровоззрении» и «русской мысли» (С. Франк), о «лице России»
(Г. Федотов), о «русском духе», «русской душе», о «душе России»
(Я. Бердяев), о «русском социализме» (А. Герцен) и «русском ком-
мунизме» (Я. Бердяев), о «русской стихии» (Б. Вышеславцев), о
«духе русской науки» (Я. Кареев), о «русской музыке» (В. Одоев-
цев), о «тресоставности русской души» (С. Аскольдов), о «русской
5 Ванчугов В. В. Очерк истории философии «самобытно-русской». М., 1994. С. 8.
6 Любомирова Н. Магия русской хандры//Параллели (Россия — Восток — За-
пад): Альманах философской компаративистики. М., 1991. Вып. 1. С. 32.
7 Маслин М. А., Андреев А. Л. О русской идее. Мыслители русского зарубежья о
России и ее философской культуре//О России и русской философской культуре.
Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 11.
14
«Русская идея»
культурной традиции» (П. Милюков). Может показаться, что на
протяжении последних двух веков создается некая мифология, сво-
его рода «национальная метафизика», предмет которой — некая
сущность, воплощенная в русском народе. Пути исследования этой
сущности и ее методология тоже весьма различны: Е. Троицкий
говорит о «русской идее» в публицистическом ключе, выстраивая
свои обобщения на материале литературы 60—80-х годов8, а
Б. А. Успенский исследует русское сознание и его проявление в
языке, в литературе, в истории в культурологическом аспекте, ха-
рактерном для тартуско-московской семиотической школы9. В этом
же ключе работал и Ю. М. Лотман10.
Говорить о завершенности исследования сущности «русской
идеи» невозможно, ибо «процесс умопостижения России не за-
вершен и, скорее всего, незавершим»11. Трудно даже сказать, что
выработаны некоторые положения, которые признавались бы все-
ми участниками научной разработки проблемы. В середине 90-х годов
Д. С. Лихачев выступил с идеей, которая разбивает незыблемые,
казалось бы, представления о противоборстве и единстве внутри
русской культуры западного и восточного начал, на чем и строят-
ся все положения евразийства. Лихачев утверждал важность для
русской истории и менталитета совсем иной оппозиции: не «За-
пад — Восток», а «Север — Юг»12.
Единственное, наверное, в чем сходятся все, писавшие о «рус-
ской идее», русском характере, культуре — ее внутренняя оппози-
ционность, противоречивость, двусоставность или многосостав-
ность.
Именно эта многосоставность и противоречивость русского
сознания будет нас интересовать. Мы попытаемся остановиться на
некоторых корневых чертах русской ментальности и показать, ка-
кими историко-культурными обстоятельствами они были обуслов-
лены. При этом задача наша несколько упрощается благодаря тому,
что само понятие менталитета или ментальности уже сложилось
8 Троицкий Е. Возрождение русской идеи. Социально-философские очерки. М.,
1991.
9 Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культу-
ры. М., 1994.
10 См.: Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
" Ванчугов В. В. Очерк истории философии «самобытно-русской». С. 8.
12 См.: Лихачев Д. С. Нельзя уйти от самих себя... Историческое самосознание и
культура России//Новый мир. 1994. № 6.
15
Раскол
в современной культурологии13. «Ментальность, — пишет А. Я. Гуре-
вич, — социально-психологические установки, способы восприя-
тия, манера чувствовать и думать. Ментальность выражает повсед-
невный облик коллективного сознания, не отрефлектированного и
не систематизированного посредством целенаправленных умствен-
ных усилий мыслителей и теоретиков. Идеи на уровне ментальнос-
ти — это не порожденные индивидуальным сознанием завершенные
в себе духовные конструкции, а восприятие такого рода идей опреде-
ленной социальной средой, восприятие, которое их бессознательно
и бесконтрольно видоизменяет, искажает и упрощает. Ментальность
образует свою особую сферу, со специфическими закономерностя-
ми и ритмами, противоречиво и опосредованно связанную с миром
идей в собственном смысле слова, но ни в коей мере не сводимую к
нему»14. Совершенно очевидно, что ментальность как одна из форм
проявления национального характера складывается в течение столе-
тий под воздействием определенных факторов исторического, со-
циального, географического, этнокультурного характера.
В литературе, посвященной «русской идее», выделяются неко-
торые, ставшие уже общепризнанными, ключевые моменты, фор-
мировавшие русский характер и сделавшие его таким, какой он
есть. Выделим два, наиболее актуальных в контексте этой работы.
Один — пространственный, определенный географическим поло-
жением, «вмещающим ландшафтом» (термин Л. Н. Гумилева), дру-
гой — временной, связанный с историческим моментом.
Важнейшая черта вмещающего ландшафта — это, в первую
очередь, знаменитая бескрайность русского пространства. Возмож-
13 Разработка категории ментальности связана с журналом «Анналы», изда-
вавшимся в ЗО-е годы во Франции, и с «новой исторической наукой», школой,
сформировавшейся вокруг журнала. О ее методологии и высокой продуктивности
можно судить, например, по книге М. Блока «Апология истории или ремесло
историка» (М., 1986) или Й. Хейзенги «Осень средневековья. Исследование форм
жизненного уклада и форм мышления» (М., 1988). Труд М. М. Бахтина «Творчество
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» заложил тради-
цию изучения ментальности в отечественной науке. В современной русской куль-
турологии выделяются книги А. Я. Гуревича (Категории средневековой культуры.
М., 1972, 1984; Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993), статьи
Б. А. Успенского, Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова, А. А. Зализняка. См. также: Куль-
турология XX в.: Энциклопедия. СПб., 1998. Т. 2. С. 25-27; Мыльников А. С. О мен-
тальности русской культуры: моноцентризм или полицентризм//Гуманитарный
ежегодник. СПб., 1996. № 1.
14 Гуревич А. Я. Смерть как проблема исторической антропологии: о новом
направлении в зарубежной историографии//Одиссей. Человек в истории (Иссле-
дования по социальной истории и истории культуры). М., 1989. С. 115-116.
16
«Русская идея»
ность практически бесконечного движения по евразийскому кон-
тиненту и колонизация русского Севера и Востока, занявшая не-
сколько столетий, сформировала черту, без которой нельзя пред-
ставить себе русское сознание: мессианизм, ощущение незыбле-
мого права и долга познания некой великой истины, воплощения
ее в реальность и передачи ее другим. Естественным следствием
мессианизма является утопичность: универсальная идея мессиан-
ского переустройства бытия не может не быть утопической.
, Исторический момент, по всеобщему мнению, связан с эпо-
хой Петра Великого. Коренная переориентация на Запад прерва-
ла, по мысли некоторых философов, естественный русский путь,
нарушив исконные, природные закономерности исторического
развития и деформировав национальную судьбу. Их оппоненты
утверждают органичность Петровских реформ и их неизбежность и
позитивность для России. Но обе стороны едины в утверждении
того, что реформы рубежа XVII—XVIII вв. создали в стране два
противопоставленных общественных класса, разделили народ и
дворянство, «почву» и «цивилизацию». Таким образом, нация по-
делилась на два противоположных лагеря, дистанция между кото-
рыми определялась не только имущественным или экономичес-
ким положением, не только принадлежностью к двум принципи-
ально различным культурным традициям; она определялась
наличием в противоположных лагерях двух разных типов созна-
ния, уходящих в древность Московской и Киевской Руси; в ко-
нечном итоге она определялась двумя противоположными нацио-
нальными генотипами, в равной степени укорененными в нацио-
нальной исторической традиции: азиатско-деспотическим, идущим
от Поля и Монгольского Ига, реализовавшимся в Московском
царстве, и европейским, связанным с Киевским и Новгородским
периодом русской истории, нашедшим свое продолжение в пери-
оде послепетровском, петербургском.
Определенность русского сознания двумя противоположными
генотипами, которые подчас причудливо переплетаются даже в
мышлении одного человека, может многое проявить в русской
истории нашего столетия.
Ключ к пониманию некоторых особенностей русского исто-
рико-культурного (и литературного) развития в XX в. могут
дать исторические концепции, содержащиеся в книгах
Л. Н. Гумилева. И хотя категории, вводимые Гумилевым, — «сис-
тема» и «антисистема», «культурная аннигиляция», «химе-
17
Раскол
ра», «химерическая культурная конструкция», «пассионарность»
и «субпассионарность» — не являются общепринятыми, они,
при всей их спорности, могут быть приложимы и к русскому
историко-литературному материалу, принадлежащему, в част-
ности, советскому периоду.
В историко-философских концепциях Л. Н. Гумилева подроб-
но разработаны ситуации, возможные при встрече двух куль-
тур — культур этнически разных15. Чаще всего такое столкнове-
ние ведет ко взаимной аннигиляции культур и к возникновению
на их месте антикультуры, которую он именует химерической
культурой; она уродливо сочетает в себе, подобно химере, черты
и той и другой, лишенные, однако, смысла и содержания, при-
сущих им ранее16. Начинает формироваться химерическая иде-
ологическая конструкция, вызванная к жизни столкновением
несовместимых этнических (или не только этнических?) куль-
тур. Создается своего рода «система негативной экологии», стре-
мящаяся «к уничтожению всего живого, всего прекрасного», к
«аннигиляции культуры и природы». Она формирует особый
культурный феномен, который Гумилев называет химеричес-
кой культурой, или химерой.
И. А. Ильин, пытаясь осмыслить и объяснить внешнюю ало-
гичность и беспрецедентность русской революции, дает пуб-
лицистическое, но очень точное определение химерической
конструкции, сложившейся на русской почве 20—30-х годов.
Это определение как бы предугадывает выводы историка, от-
носящиеся уже к иной эпохе и сделанные на ином историчес-
ком материале. «В прежние времена, — размышляет И. А. Иль-
ин, — люди хотели власти и богатства — и из-за этого впадали
в преступления и злодеяния. В наше время коммунисты, добив-
шись власти и богатства, заняты истреблением лучших людей
страны; <...> они поставили себе задачу — уничтожить всех,
кто мыслит не по-коммунистически, кто верует религиозно,
кто любит родину; и оставить только своих рабов. Для этого
они выдрессировали (и продолжают дрессировать) целый кадр,
15 См.: Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990. См. главы: «Отрица-
тельные значения в этногенезе», «Биполярность этносферы».
16 «В химере господствует бессистемное сочетание несовместимых между со-
бой поведенческих черт, на место единой ментальности приходит полный хаос
царящих в обществе вкусов, взглядов и представлений» (Л. Гумилев. Этносфера:
История людей и история природы. М., 1993. С. 533).
18
«Русская идея»
целое поколение палачей, садистов и садисток, которые и на-
слаждаются замучиванием невинных людей. И все это — во имя
противоестественной химеры, во имя нелепой утопии, во имя
величайшей пошлости, которая ничего не сулит людям, кроме
обмана...»17
Антисистемы, описанные Л. Н. Гумилевым в истории циви-
лизации, даже если они разделены во времени веками и тыся-
челетиями, имеют обязательные для них общие черты, как раз
и названные И. А. Ильиным. «Все антисистемные идеологии и
учения объединяются одной центральной установкой: они от-
рицают реальный мир в его сложности и многообразии во имя
тех или иных абстрактных целей»18. Подобные учения призыва-
ют изменить мир, на деле разрушая его. Кроме того, в антисисте-
мах преобладают люди с футуристическим ощущением време-
ни, что, вероятно, и создает предпосылки для возникновения
утопических концепций, формирующих особый «поведенческий
синдром, при котором появляется потребность уничтожать при-
роду и культуру»19.
Нетрудно заметить, что эти черты характеризовали революци-
онное мироощущение с его устремленностью в будущее, с жаж-
дой немедленной переделки мира, с желанием отряхнуть прах прош-
лого со своих ног. Отсюда вытекало неприятие мира насущного,
выливавшееся подчас в ненависть. Бескомпромиссное желание
разрушать в сочетании с отсутствием точного представления о том,
что будет возведено на пустом месте после завершившегося разру-
шения, делает подобное сознание вполне утопическим. Право на
разрушение сомнению не подвергалось, ибо прошлая жизнь мыс-
лилась ужасной, будущая жизнь рисовалась в самых розовых то-
нах — с той лишь оговоркой, что куплена она будет ценой самых
ужасных жертв. Но подобное знание никогда не может быть пре-
пятствием в реализации утопических проектов.
Такой взгляд на мир получил мощное художественное вопло-
щение в советской литературе. Концепция революции, созданная
столь разными художниками, какими были, например, Н. Остров-
ский и Б. Пильняк, А. Веселый и А. Фадеев, М. Шолохов и
М. Горький, была едина и включала в себя две противоположные,
17 Ильин И. А. Одинокий художник. С. 218.
18 Гумилев Л. Этносфера: История людей и история природы. С. 494.
19Тамже. С. 343-344.
19
Раскол
казалось бы, грани. С одной стороны, революция утверждалась как
социальное потрясение тектонического масштаба, несущее в себе
крушение привычных основ бытия (от бытовых, самых близких и
теплых для человека, таких, как разрушение дома, до глобаль-
ных, вселенских). Оно сопровождается хаосом, насилием, кровью,
жестокостью. С другой стороны, все это безоговорочно принима-
лось во имя некого абстрактного прекрасного будущего, ибо за
жестокостью и кровью крылся путь к новой, светлой и прекрас-
ной жизни. Готовность совершить любое преступление против са-
мых основ человеческой морали у нормальных, в сущности, лю-
дей, сознание которых поражено революционной идеей, потряса-
ет современного читателя, ибо основой подобного типа сознания
является чувство ненависти к реальному миру и желание во что бы
то ни стало, перешагнув через любые жертвы, его уничтожить.
Подобный тип мироощущения нашел свое художественное обо-
снование в эстетике соцреализма.
«Химерическая культура» несет в себе в уродливом, смятом
виде черты тех культур, на месте которых она возникает. Они, од-
нако, лишены прежнего содержания, сочетание их алогично и бес-
смысленно. Наиболее очевидна химеричность в подчас немыслимом
переплетении формальных элементов, которое бывает даже комич-
ным. Таковы, например, фигуры вроде античных на портиках вы-
сотных зданий 50-х годов, держащие в руках символы советского
времени — молот, колосья, конструкторские чертежные инструмен-
ты — или же мраморные римские цифры, выложенные на фасаде,
прочесть которые не всегда может и образованный человек. Но са-
мым важным видится то, что они наполняются совершенно новым
смыслом, чаще всего прямо противоположным исконному. Так, на-
пример, А. Фадеев, обращаясь к опыту психологического анализа
Л. Толстого и заимствуя формально его приемы, вовсе не склонен
следовать его гуманистической традиции. Напротив, в качестве гу-
манистических утверждаются идеи антигуманистические; «верх» и
«низ» меняются местами; убийство оправдывается высшей соци-
альной необходимостью; жестокость трактуется как добродетель.
Демьян Бедный и Ю. Либединский или же Вс. Вишневский и
Л. Авербах не смогли бы состояться как факт русской литературной
истории, а их этические и общемировоззренческие концепции не
вылились бы в обстоятельства истории не только литературной, если
бы они говорили только от себя. В их писаниях отразилось начало,
живущее в русском народном характере, в равной степени свой-
ственное как представителям «почвы», так и «цивилизации».
20
«Русская идея»
Эстетика социалистического реализма утверждала право лич-
ности или группы, «партии», на насильственное преобразование
мира в целях его усовершенствования. Здесь, в сущности, и кры-
лись причины безусловного приятия революционности как фор-
мы отношения к миру, характеризовавшие русское сознание на-
чала века, что вылилось, например, в радостную романтическую
приподнятость первых дней Февральской революции, о чем вспо-
минают буквально все очевидцы тех событий. Эта идея укорени-
лась в русской литературе 20-30-х годов, вероятно, потому, что
была созвучна некоторым граням русского национального харак-
тера. Именно эти грани породили феномен, который можно на-
звать русской утопией.
Это удивительная русская способность утопического миропо-
нимания! Воздвигнутая на таком прочном фундаменте, как мес-
сианизм, вообще свойственный русскому человеку, утопическая
идея стала основой эстетической концепции всей советской лите-
ратуры и привела к формированию той эстетической системы, ко-
торая получила название соцреалистической.
Утопизм — крайнее выражение стремления к абсолютному и
идеальному. Эту черту русского сознания очень точно охарактеризо-
вал Л. П. Карсавин: «Русский человек не может существовать без
абсолютного идеала, хотя часто с трогательною наивностью призна-
ет за таковой нечто совсем неподобное. Если он религиозен, он до-
ходит до крайностей аскетизма, православия или ереси. Если он под-
менит абсолютный идеал кантовой системой, он готов выскочить в
окно из пятого этажа для доказательства феноменализма внешнего
мира. <...> Русский общественный деятель хочет пересоздать непре-
менно все, с самого основания... Докажите ему отсутствие абсолют-
ного (только помните, что само отрицание абсолютного он умеет
сделать абсолютным, догмою веры) или неосуществимость даже толь-
ко отдаленного его идеала, и он сразу утратит всякую охоту жить и
действовать»20. Утопия как форма отношения к миру и базируется на
подобном абсолютизме, является его идеологическим воплощени-
ем, требующим, однако, его немедленного реального воплощения.
В самом деле, сколько утопических концепций создала русская
цивилизация только лишь в нашем столетии! Федоровская гума-
нистическая утопия, с одной стороны, и утопия коммунистичес-
кая — с другой являют собой полюса утопического сознания нача-
ла XX в. Но при всей огромной дистанции между ними, при челове-
20 Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея. СПб., 1922. С. 77—78.
21
Раскол
колюбивом и созидательном пафосе одной и при вполне разруши-
тельном, как стало ясно к концу столетия, потенциале другой; при
том, что одна родилась в сознании специфически русского филосо-
фа, а другая пришла к нам с Запада, — в них есть некие общие
начала. Именно благодаря им они утвердились в русском сознании,
оказались созвучны русскому национальному характеру, были вос-
приняты им как органичные для русской психологии.
Утопия открывает какие-то корневые качества русского нацио-
нального самосознания, в ней кроется специфически русский тип
отношения к действительности, который характерен и для отдель-
ного человека, и для нации в целом. Это проявляется и в способ-
ности усвоения русским сознанием самых различных утопических
идей, привнесенных извне, и в способности их создавать, требуя
немедленного их воплощения в жизнь.
Утопия как концепция, определяющая отношение личности и
общества к действительности, предполагает существование либо в
отдаленном пространстве, либо во времени, прошлом или будущем,
идеального мироустройства, основанного на полной социальной и
природной гармонии. Бытие там воплощает собой полное равнове-
сие человеческого сообщества и природы, отношения между людь-
ми — торжество добра и справедливости. Перед нами идеал совер-
шенства, не поддающийся дальнейшему совершенствованию.
По мысли немецкого исследователя Г. Гюнтера, мировая циви-
лизация знает две фундаментальные модели утопий, отличных друг
от друга по пространственно-временным отношениям. К первому
типу относятся так называемые пространственные утопии (а слово
«утопия» основывается на пространственном представлении), име-
ющие четкие геометрические формы — квадрата, концентрических
кругов и т.д. «Симметрия геометрических форм, — пишет исследова-
тель, — символизирует идеал совершенства, не поддающийся даль-
нейшему совершенствованию. Утопический город — это радиальное
пространство вокруг сакрального центра. Городское пространство,
его структура и заполняющие город объекты наделены определен-
ным смыслом и эстетическими качествами, но гораздо важнее их
функции, указывающие на высшее предназначение. Прекрасное и
полезное образуют нерасторжимое гармоническое единство. Это
относится не только к плану самого города, но и к универсально-
космическому контексту, в котором он находится»21.
21 Гюнтер Г. Жанровые проблемы утопии и «Чевенгур» А. Платонова//Утопия и
утопическое мышление. М., 1991. С. 253.
22
«Русская идея»
Иной тип утопии, более характерный для русского сознания,
связан с локализацией идеала не только в далеком пространстве,
но, что важнее, в отдаленной временной перспективе или ретро-
спективе. Если для пространственных утопий характерно цикли-
ческое время (реализованный в жизни идеал как бы обессмысли-
вает поступательное движение времени, ему некуда больше дви-
гаться, и оно либо останавливается, либо следует аграрному циклу),
то «главный признак временных утопий — их стадиальность, т.е.
структурное расчленение на необходимую последовательность фаз.
<...> Идеальное пространство сада или города может при этом
выступать либо как начальное, либо как конечное состояние в
последовательной смене времен. В обоих случаях независимо от того,
идет ли речь об идеальном изначальном или конечном состоянии,
происходит остановка времени, возникает вневременное простран-
ство, находящееся в противоречии со стадиальными «прыжками»
времени»22.
Но за позитивной идеей гармонического природного и соци-
ального мироустройства, единственно на которой и концентриру-
ется всегда утопическое сознание, стоит идея иная, далеко не все-
гда заметная, но страшная и разрушительная, предусмотренная
самой логикой «царства обетованного». Сам факт его наличия в
прошлом, в будущем или в настоящем (но в отдаленном простран-
стве) обесценивает наличную реальность. То, что есть сейчас, что
реально существует и живет, безжалостно отвергается, ибо не со-
ответствует идеалу. Утопическое мышление оборачивается жесто-
костью к реальному, неутопичному миру. Подобная жестокость
особенно характерна для временной формы утопии, две разно-
видности которых рассматривает Г. Гюнтер. «Обращенный назад
«деградивный» тип, для которого М. М. Бахтин употребляет поня-
тие «историческая инверсия», исходит из идеального первобытно-
го состояния, после которого наступают разные стадии ухудше-
ния. За «золотым веком» следует серебряный, медный и, наконец,
ныне длящийся век как самый тяжелый и наихудший», ибо он
дальше всего отстоит от золотого. Будущее в подобной временной
концепции вообще лишено смысла, а потому такая утопическая
концепция носит явно жизнеотрицательный характер, что часто
делает ее идеологическим основанием антисистемы. Но не более
перспективной и жизнеутверждающей выглядит вторая разновид-
22 Там же. С. 254.
23
Раскол
ность временной утопии. «Ориентированная на будущее «прогрес-
систская» модель исторически значительно более поздняя и пред-
ставляет собой в каком-то смысле проекцию в будущее мифичес-
кой модели «золотого века», перенесение его в конец истории»23.
Именно подобная утопическая модель оказалась реализована в эс-
тетике соцреализма и стала одним из его конструктивных призна-
ков.
За этим стоит еще одна разрушительная, деструктивная осо-
бенность утопического сознания. Для человека, порабощенного им,
реальный мир несовершенен в силу того, что в нем начала гармо-
нические сосуществуют с элементами дисгармонии, добро сосу-
ществует со злом, прекрасное с безобразным, юность со старо-
стью, любовь с ненавистью. Но утопическое сознание не хочет и
не может принять такой мир — в противном случае оно перестанет
быть утопическим сознанием, приблизится к сознанию реалисти-
ческому. Сделать это, впрочем, очень трудно, ибо приятие реаль-
ного мира таким, каков он есть, требует намного больше мудрос-
ти, чем любой проект его переустройства по законам добра и спра-
ведливости. Таким образом, утопическое сознание отказывает
реальности в праве на существование.
Здесь коренятся причины русского максимализма, лозунг ко-
торого — или все, или ничего. Реальный мир отвергается на том
основании, что он не полностью совершенен, и в этом его страш-
ная вина. Даже А. Блок, художник удивительно чуткий к действи-
тельности и воплотивший один из самых глубоких типов русского
сознания, нес в себе эту черту жизнеотрицания, которую чувство-
вал в себе, называл «угрюмством». Это состояние духа в работе
современной исследовательницы Н. Любомировой квалифициру-
ется как хандра — «хорошо известное, но труднообъяснимое со-
стояние недовольства всеми и недовольства собой», «тоски, ниги-
лизма, меланхолии, тревожного ожидания, гиперболизированно-
го сарказма, раздражения, безнадежности, опустошения, а также —
внезапной жажды подвигов, нервозной тяги к кардинальным пре-
образованиям, нетерпимости, склонности к простым и скорым
решениям, идеологического энтузиазма»24. Автор цитируемой ста-
тьи полагает, что это мироощущение представляет одну из значи-
мых граней национального менталитета: «Мы встречаемся с ханд-
23 Гюнтер Г. Жанровые проблемы утопии и «Чевенгур» А. Платонова//Утопия и
утопическое мышление. М., 1991. С. 254—255.
24Любомирова Н. Магия русской хандры. С. 32—33.
24
«Русская идея»
рой как некоторым устойчивым для мироощущения последних двух
столетий экзистенциальным состоянием нашего рефлектирующе-
го соотечественника»25. Блок, может быть, выразил это мироощу-
щение наиболее явно и откровенно.
В классической статье «Интеллигенция и революция» он пи-
сал: «Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы
лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справед-
ливой, чистой и прекрасной жизнью»26. Блок в ситуации револю-
ционной и неизбежно романтизированной воплощает чисто рус-
скую черту: непонимание простой, в сущности, истины, что не
бывает исключительно «чистой, справедливой и прекрасной жиз-
ни» и что та жизнь, которую вел он, свободный, свободомысля-
щий, обеспеченный представитель русской профессорской петер-
бургской интеллигенции, приобщенной к самым вершинам миро-
вой культуры, вовсе не была только лишь «лживой, грязной,
скучной, безобразной», о чем свидетельствует небывалый расцвет
русской культуры рубежа веков. Утопическое сознание, порождая
максимализм, не оставляет реальности шансов быть принятой та-
кой, какая она есть, и воспринимает ее как объект революцион-
ного воздействия, отказывая ей в самоценности. Блок, по сути
дела, эмоционально отрицает концепцию эволюционизма, нор-
мальный путь исторического развития, настаивая на разрушитель-
ном революционизме: «Зачем жить тому народу или тому челове-
ку, который в тайне разуверился во всем? <...> Который думает,
что жить «не особенно плохо, но и не очень хорошо», ибо «все
идет своим путем»: путем... эволюционным; люди же так вообще
плохи и несовершенны, что дай им только Бог прокряхтеть свой
век кое-как, сколачиваясь в общества и государства, ограждаясь
друг от друга стенками прав и обязанностей, условных законов,
условных отношений...
Так думать не стоит; а тому, кто так думает, ведь и жить не
стоит <...>.
Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требова-
ния к жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить не в «то,
чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас
этого нет и долго не будет»27. В этих словах — одно из самых мощ-
25 Там же. С. 34.
26 Блок А. А. Интеллигенция и революция//А. А. Блок. Собр. соч.: В 6 т. М., 1971.
Т. 5. С. 399.
27 Блок А. А. Интеллигенция и революция. С. 400.
25
Раскол
ных публицистических воплощений утопического сознания и рус-
ского максимализма — в сущности, страшных и разрушительных в
отношении к действительности. Его разрушительность в утвержде-
нии футуристического отношения к жизни, в способности поста-
вить на кон все, что сейчас есть, во имя того, чего нет и долго не
будет.
Однако русский утопизм имеет еще и свою специфику, свя-
занную с мессианской стороной национального сознания. Если
европейская литература, породившая утопию, представляла ее как
начало, вовсе не требующее активного волевого акта со стороны
человека или общества, ее принимающего, то на русской почве
утопия требовала немедленного своего воплощения — здесь и те-
перь. Русское сознание не могло смириться с локализацией суще-
ствовавшего или ныне существующего идеала в далеком простран-
стве или времени. Поэтому наиболее типичным стал «прогрессист-
ский» тип временной утопии, и благородный утопический проект
«золотого века» оборачивался насилием в отношении к миру на-
сущному и даже его разрушением. Именно здесь и кроется психо-
логическое обоснование концепции революции, выработанной
советской литературой 20-30-х годов.
Готовность принять утопию характеризовала и «почву», и «ци-
вилизацию», и народ, и интеллигенцию. «И в русском народе, и в
русской интеллигенции будет искание царства, основанного на
правде», — говорил Н. Бердяев28. Поэтому, когда при катастрофи-
ческом сближении двух русских субкультур (сначала в 1905 г., по-
том в 1917 г.) появилась политическая и идеологическая антисис-
тема и сопутствовавшая ей химерическая культурная конструкция,
в ее основании оказалась утопическая идеология, которая акцен-
тировала не столько черты желанного идеального миропорядка,
не поддающегося дальнейшему совершенствованию (черты его
виделись на протяжении всего советского времени весьма прибли-
зительно), сколько отрицание реального мира.
Неприятие существующего и желание его преобразовать и раз-
рушить — вот что стало основой революционного миросозерца-
ния, обосновывающего безусловное нравственное право на наси-
лие в отношении к насущной действительности в целом или же к
людям, стоящим на иных позициях, предлагающим иные проек-
ты преобразований или же воспринимающим реальность как куль-
28 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 11.
26
«Русская идея»
турное наследие прошлых поколений русских людей и в принципе
не принимающих никаких преобразований. Здесь истоки личной и
социальной непримиримости, приведшие в итоге Россию к граж-
данской войне.
Это мироощущение проявилось в литературе с фанатической
неистовостью! Подобно тому, как древние религиозные учения,
такие, как манихейство или богомильство, рассматривали мир лишь
как творение сатаны и потому обрекали его на уничтожение, так и
русский утопизм XX в. не оставлял права на жизнь насущному
миру. Это было явно жизнеотрицающее мироощущение, несмотря
на то, что оно основывалось на обращении в будущее, оправдыва-
лось будущими прекрасными проектами. Само его возникновение
обусловлено торжеством негативного, жизнеотрицающего созна-
ния, порожденного формирующейся в начале 20-х годов антисис-
темой. В нем проявилась совершенно новая этика, которая никогда
еще в столь циничной форме не была заявлена в литературе. Суть
ее состоит в обесценивании реальности, того, что уже существует
сейчас. Человек, оказавшийся во власти такой идеи, готов сжечь
все вокруг себя во имя некого прекрасного, но совершенно абст-
рактного и недостижимого идеала, при этом изначально ясно и не
подвергается сомнению превосходство идеала над действительно-
стью. Здесь истоки революционного сознания: они — в неумении
ценить то, чем уже обладает человек, общество, человечество.
В сущности, здесь кроется невнимание к миру, неумение понять и
оценить великий дар бытия, которое всегда реально в отличие от
вымышленной идеи — сколь прекрасной она ни казалась бы. Это
одно из самых страшных проявлений антисистемы, которая зас-
тавляет человека «искать выхода при помощи строгой логики и
оправдывать свою ненависть к миру, устроенному так неудобно»29.
Она склонна к неразличению добра и зла, верха и низа, сак-
рального и профанного. Только тогда насилие и убийство, преоб-
раженные антилогикой, могут восприниматься как проявление
гуманизма и высшей социальной необходимости. Но не подобные
ли логические построения знала ранняя советская проза в лице,
скажем, Либединского и Аросева? Не та же ли самая логика ви-
дится в «концепции гуманизма» в фалеевском «Разгроме», оправ-
дывающей убийство и насилие высшей социальной необходимос-
тью? В рапповской концепции личности «живого человека», ле-
29 Гумилев Л. Этносфера: История людей и история природы. С. 352.
27
Раскол
фовском «отчетливо функционирующем человеке», в голой абст-
ракции Пролеткульта, предлагающей вместо имени цифровой или
буквенный номер?
Размышляя об общих особенностях антисистемы, Л. Гумилев
говорит, что их роднит одна общая черта — «жизнеотрицание,
выражающееся в том, что истина и ложь не противопоставляются,
а приравниваются друг другу. Из этого вырастает программа чело-
векоубийства, ибо раз не существует реальной жизни (в нашем
случае она обесценена утопическим революционным идеалом. —
М. Г.), значит, не перед кем держать отчет и нельзя жалеть, пото-
му что это значит продлевать мнимые, но болезненные страдания
существа, которое на самом деле призрачно. А если так, то... ложь
равна истине и можно в своих целях использовать ту и другую»30.
Именно в таком сознании «гуманизм» может обернуться жестоко-
стью, сострадание — убийством, а жалость вытеснена псевдологи-
кой. Здесь кроется основополагающая черта любой антисистемы:
подвижность, незакрепленность неких исконных нравственных
категорий, которая влечет за собой размытость моральных норм,
неопределенность добра и зла, правды и лжи. Это предопределяет
как бы зеркальность всех элементов, способность их ко взаимному
замещению друг друга. В силу этого низменное (например, отце-
предательство в притче о Павлике Морозове) оказывается возвы-
шенным, возвышенное (религиозные убеждения, например) ос-
меивается.
Именно эти черты мы можем видеть в литературе социалисти-
ческого реализма.
«Две культуры»
По мысли Л. Н. Гумилева, антисистема возникает там, где есть
контакт двух различных типов сознания, двух этнически разных
культур, конфликтных в отношении друг друга. Но на стыке каких
двух культур возникло то негативное сознание, которое можно
воспринять как антисистему, сложившуюся в советское время? Не
будут ли действовать те же силы и те же законы, что описаны
ученым на материале этнически разных культур, в том случае,
когда речь идет о «двух культурах», принадлежащих одному наро-
30 Гумилев Л. Этносфера: История людей и история природы. С. 351.
28
«Две культуры»
ду, одному языку, опирающихся на общую национальную тради-
цию, религию, государственность? Не появилась ли в результате
столкновения неких конфликтных, противоположных начал, со-
держащихся в национальной русской культуре, будь то знамени-
тые ленинские две культуры, или же культура народная, пред-
ставленная в литературе именами С. Клычкова, С. Есенина,
Н. Клюева, и элитарная, дворянская, связанная с именем А. Бло-
ка, В. Ходасевича, А. Белого, М. Булгакова, — уродливая химери-
ческая конструкция? Это вовсе не значит, что «черная кость» по-
била «белую», или наоборот: что одна культура «победила» дру-
гую; нет, в результате уничтожены оказались обе, а на их месте
возникла некая новая, третья.
Если все же рассмотреть социалистический реализм в литера-
туре и соответствующие ему явления в других видах искусства,
таких, как архитектура, живопись, монументальная скульптура,
музыка, в качестве химерической культурной конструкции, то мы
неизбежно окажемся перед вопросом: какие две культуры (или
несколько культурных пластов) столкнулись и пришли к полному
взаимоотрицанию, испепелив друг друга, так что на их месте сло-
жился феномен соцреалистической химерической конструкции?
Л. Н. Гумилев, строя свою концепцию на обширном историчес-
ком материале, прежде всего евразийском, говорит о химерах,
возникающих в результате столкновения этнически чуждых куль-
тур. Думается, что русская действительность XIX—XX вв., при всей
ее насыщенности самыми разными этническими традициями, обус-
ловленными многонациональным характером Российской Импе-
рии, а потом Советского Союза, все же не дает материала для
размышлений о неком фатальном для русской культуры столкно-
вении с иной национальной культурой — хотя бы в силу того, что
не знала себе равновеликой. Думается, эта версия может быть ос-
тавлена.
Следовательно, речь идет о напряжениях, переросших в разру-
шительные конфликты, внутри самой русской культуры. Но где
истоки этого болезненного противостояния двух традиций? Како-
вы эти традиции? Что наполняет их энергии зарядом взаимоотри-
цания? Когда оно возникло и обнаружило себя? Восходят ли эти
линии внутреннего напряжения к первой половине XIX в., когда
«реальной критике», ведущей свое начало от В. Белинского и про-
возглашенной в качестве оружия политической борьбы Н. Добро-
любовым, Н. Чернышевским, Д. Писаревым, противостояла эсте-
тическая или философская критика, представленная именами
29
Раскол
А. Дружинина или Ап. Григорьева? Или же его корни в еще более
ранних периодах русской истории, в предшествующих столетиях?
И в чем суть этого противостояния — носит ли оно чисто полити-
ческий характер, или же затрагивает какие-то более глубокие ас-
пекты русской национальной жизни?
Разделение русской национальной жизни на два несоприкаса-
ющихся пласта почувствовали представители русской интеллиген-
ции, в частности, представители литературного и философского
модернизма — и осознали как никогда остро: как национальную
трагедию. Свидетельства этого есть во многих высказываниях пред-
ставителей культурной элиты рубежа веков — 3. Гиппиус, Д. Ме-
режковского, И. Бунина. Размышляя об оторванности элитарной
русской культуры (которая, заметим, при этом не перестает быть
национальной культурой и национальным достоянием) от народ-
ной, Е. Кузьмина-Караваева писала: «Мы жили среди огромной
страны, словно на необитаемом острове. Россия не знала грамо-
ту — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура: цити-
ровали наизусть греков, увлекались французскими символистами,
считали скандинавскую литературу своею, знали философию и бо-
гословие, поэзию и историю всего мира, в этом смысле были граж-
данами вселенной, хранителями великого культурного музея че-
ловечества. Это был Рим времен упадка... Мы были последним ак-
том трагедии — разрыва народа и интеллигенции. За нами
простиралась всероссийская снежная пустыня, скованная страна,
не знающая ни наших восторгов, ни наших мук, не заражающая
нас своими восторгами и муками»31.
Пропасть между этими двумя пластами сделалась предметом
мучительных философских размышлений А. Блока, нашедших свое
высшее воплощение в статьях: «Интеллигенция и революция»,
«Народ и интеллигенция», «Стихия и культура», «Крушение гума-
низма».
С характерным для Блока мотивом философского мистицизма,
он склонен был рассматривать отношения между интеллигенцией
и народом не только как ненормальные и недолжные. «В них есть
нечто жуткое; душа занимается страхом, когда внимательно при-
глядишься к ним, — писал он в ноябре 1908 г. — Не совершается
ли уже, пока мы говорим здесь, какое-то страшное и безмолвное
дело? Не обречен ли уже кто-либо из нас бесповоротно на ги-
31 Кузьмина-Караваева Е. Ю. Встречи с Блоком//Ученые записки Тартуского
гос. ун-та. № 209. Тарту, 1968. С. 267—268.
30
«Две культуры»
бель?»32. Блок размышлял о возможном исходе противостояния на-
рода и интеллигенции, двух культур, двух реальностей русской
жизни: «Полтораста миллионов, с одной стороны, и несколько
сот тысяч — с другой; люди, взаимно друг друга непонимающие в
самом основном»33.
А. Блок как никто другой ощущал все усиливающееся напря-
жение между двумя полюсами русской цивилизации, предопреде-
ленное самой историей: «Есть между двумя станами — между на-
родом и интеллигенцией — некая черта, на которой сходятся и
сговариваются те и другие. Такой соединительной черты не было
между русскими и татарами, между двумя станами, явно враждеб-
ными; но как тонка эта нынешняя черта — между станами враж-
дебными тайно!.. Не так ли тонка эта черта, как туманная речка
Непрядва? Ночью перед битвой вилась она, прозрачная, между
двух станов; а в ночь после битвы и еще семь ночей подряд она
текла, красная от русской и татарской крови»34.
Ставя в этой статье вопрос, на который сам он не может дать
ответ: «Или действительно непереступима черта, отделяющая ин-
теллигенцию от России?»35, Блок всего месяц спустя ответил по-
ложительно: да, непереступима! «На вопрос о «недоступной чер-
те», существующей между интеллигенцией и народом, ответил
утвердительно не я, — ответила история России... История, та са-
мая история, которая, говорят, сводится просто к политической
экономии, взяла да и положила нам на стол настоящую бомбу»36.
Противопоставляя предельно широкие категории, которые Блок
наполнял своим собственным художественным и философским
смыслом, категории культуры и стихии, цивилизации и земли,
народа и интеллигенции — он писал именно о противостоянии
двух типов мышления, двух культурных типов, различных в прин-
ципе: и по духу, и по образам, в которых мыслят люди, им при-
надлежащие, и по понятиям, которые вкладываются ими в слова
одного и того же языка — русского: «Их сон непохож на наши
сны, так же как поля России непохожи на блистательную суетню
Невского проспекта. Мы видим во сне и мечтаем наяву, как уле-
тим от земли на машине, как с помощью радия исследуем недра
32 Блок А. А. Народ и интеллигенция. С. 259-260.
33 Там же. С. 264.
34 Там же.
35 Там же. С. 267.
* Блок А. А. Стихия и культура. С. 274-275.
31
Раскол
земного и своего тела, как достигнем северного полюса и послед-
ним синтетическим усилием ума подчиним вселенную единому
верховному закону.
Они видят сны и создают легенды, не отделякйциеся от земли:
о храмах, рассеянных по лицу ее, о монастырях, где стоит статуя
Николая Чудотворца за занавесью, невиданная никем, о том, что,
когда ветер ночью клонит рожь, — это «Она мчится по ржи», о том,
что доски, всплывающие со дна глубокого пруда, — обломки инос-
транных кораблей, потому что пруд этот — «отдушина океана»37.
(Как не вспомнить здесь «Епифанские шлюзы» А. Платонова!)
А. Блок был, наверное, тем художником и мыслителем, кото-
рый больше, чем кто-либо, осознал трагизм разделения русского
народа на два лагеря, два «стана» и понял, что ощущение катаст-
рофизма, столь остро переживаемое людьми его круга, вызвано
предчувствием неизбежного конфликтного столкновения «станов»
и культурных зарядов, которые они несут с собой. Противостоя-
ние Невского проспекта и бескрайних русских полей не могло кон-
читься добром для русской цивилизации в целом: «Между двух
костров распалившейся мести, между двух станов мы и живем.
Оттого и страшно: каков огонь, который рвется наружу?..»38 И он
как никто иной имел право спустя ровно десять лет, уже в 1918 г.,
спросить у своих соотечественников: «Что же вы думали?., что так
«бескровно» и «безболезненно» и разрешится вековая распря меж-
ду «черной» и «белой» костью, между «образованными» и «не-
образованными», между интеллигенцией и народом?»39 Вековая
распря, как мы можем теперь видеть, разрешилась столкновением
«двух культур», повлекшим за собой страшный взрыв, приведший
к возникновению новообразования на том месте, где сошлись в
последнем акте своей вражды кость «белая» и кость «черная».
Но это был уже последний акт трагедии, двинувшей страну к
революции. Где был первый акт?
Пожалуй, можно назвать общепринятой мысль о том, что ис-
ток трагического разветвления русской культуры на два потока, со
временем все дальше и дальше друг от друга удаляющихся, восхо-
дит к эпохе Петра I. Именно Петр Великий, заимствуя, по метко-
му выражению Н. Г. Чернышевского, у немцев или шведов воен-
ные учреждения, заимствовал, кстати, мимоходом и все вообще,
37 Блок А. А. Стихия и культура. С. 280.
38 Там же. С. 283.
39 Блок А. А. Интеллигенция и революция. С. 402-403.
32
«Две культуры»
что встречалось его взгляду. Так же встретилась его взгляду и оказа-
лась заимствованной «мимоходом» западноевропейская культура,
не просто чуждая русскому сознанию, но несущая совершенно
иные философские и этические посылки, по мысли одних фило-
софов; близкая глубинным историческим пластам русской культу-
ры, по мысли других. Но так или иначе все сходятся на том, что с
Петра русская культура развивается по принципиально иному пути,
чем это было раньше.
Принято считать, что одним из качеств русского сознания яв-
ляется его соборность. Представления о заведомо большей ценно-
сти общины, коллектива, сообщества, чем отдельной личности, о
праве коллектива подчинить себе личность, включить ее в себя и
растворить в себе, расцениваются философами, пишущими о «рус-
ской идее», то как позитивная черта русского национального со-
знания, то как негативная — но редко кто отрицает ее наличие.
Думается, что она жива и сейчас, что многие философские и ли-
тературно-эстетические концепции советского времени построе-
ны именно на этой черте. С другой стороны, западная культурная
традиция утверждает самоценность человеческой индивидуально-
сти, безусловное право на ее сохранение.
Однако эта противоположность двух мировоззренческих моде-
лей определилась уже позже — в XVIII столетии. Петр I же, велев-
ший брить бороды и пить «кофий», насильственно приобщал ак-
тивно формирующуюся новую государственную и культурную элиту
к западному типу цивилизации — пусть и через такие внешние
признаки, как курение табака. Для него, вероятно, табак, балы и
кофе были явлениями того же ряда, что и первая русская газета,
литература, делающая первые шаги по западному пути — хотя бы
в плане становления жанра авантюрного романа. Но за бритыми
бородами и прочей внешней атрибутикой проглядывали куда бо-
лее значимые явления: на русской почве всходили постепенно
ростки западноевропейской цивилизации: открылись первые рус-
ские университеты, математические и навигационные школы,
развитие науки в которых уже в ближайшие десятилетия превзош-
ло по результатам достижения западных университетов. Вслед за
картошкой явились русские газеты и журналы, без которых уже
немыслима литература XVIII в., за бритьем бород — и русский
театр, просвещение, поэзия и другие художества. Прививка запад-
ной культуры оказалась в высшей степени плодотворной: в сущ-
ности, весь екатерининский век, да и век литературного класси-
цизма в целом, потому и стал веком Г. Державина, А. Сумарокова,
33
Раскол
В. Тредиаковского, Д. Фонвизина, что начала, привнесенные Пет-
ром I, не только прижились в русской культуре, но стали своими,
перестали осознаваться как нерусские, иностранное, «немецкие».
Да они и не были уже таковыми, ибо, перенесясь на нашу почву,
развиваясь на протяжении двух веков по русскому культурному
пути, оказались неотторжимы от русской цивилизации. Русские
люди, по мысли Г. Федотова, «на Петра немедленно ответили Ло-
моносовым, на Растрелли — Захаровым, Воронихиным; через пол-
тораста лет после петровского переворота — срок небольшой —
блестящим развитием русской науки.
Этот необычайный расцвет русской культуры в новое время ока-
зался возможным лишь благодаря прививке к русскому дичку запад-
ной культуры. Но это само по себе показывает, что между Россией и
Западом было известное сродство; иначе чуждая стихия искалечила
бы и погубила национальную жизнь. Уродств и деформаций было
немало. Но из галлицизмов XVIII в. вырос Пушкин; из варварства
60-х годов — Толстой, Мусоргский и Ключевский». Следовательно,
в русской национальной жизни были культурные пласты, связан-
ные генетически с древними Киевом и Новгородом, «и в них легко
и свободно совершался обмен духовных веществ с христианским
Западом»40. Подобной позиции придерживались многие представи-
тели философской мысли русской эмиграции: «Именно в петров-
ский период истории, — считал Н. Бердяев, — был расцвет русской
культуры, было явление Пушкина и великой русской литературы,
пробудилась мысль... Россия должна была преодолеть свою изоля-
цию и приобщиться к круговороту мировой жизни. Только на этих
путях возможно было мировое служение русского народа»41.
Та естественность прорастания на русской почве культурного
семени, завезенного из Европы Петром, говорит лишь о том, что
оно не было инородным для России. Рядом с «московским», по
выражению Г. Федотова, генотипом в русском народе жил гено-
тип значительно более древний и исконный, сформированный
Киевской Русью с ее явно выраженной западной ориентацией,
генотип, проявившийся в демократии древнего Новгорода.
Сейчас мы не располагаем общепринятой точкой зрения, ко-
торая могла бы твердо обосновать почвенность или беспочвенность
Петровских реформ: ее не существует ни в метрополии, ни в эмиг-
40 Федотов Г. П. Россия и свобода//3намя. 1989. № 12. С. 206.
41 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 11—12.
34
«Две культуры»
рантских кругах. Безусловно, заслуживает внимания точка зрения
на этот вопрос Б. А. Успенского, которая может перевести споры
об этом на принципиально иной уровень. Успенский склонен рас-
сматривать образ «новой России» и «нового народа» как своеоб-
разный миф, «который возник уже в начале XVIII столетия и был
завещан последующему культурному сознанию. Представление о
том, что культура XVIII в. составляет совершенно новый этап, от-
личный от предшествующего развития, настолько глубоко укоре-
нилось, что, по сути дела, не подвергалось сомнению; споры мог-
ли вестись о том, произошел ли разрыв со стариной в конце или в
середине XVIII в., имел ли он мгновенный или постепенный ха-
рактер и, наконец, как следует к нему относиться в перспективе
последующей культурной истории: как к событию положительно-
му, обеспечившему быстрый культурный прогресс России, или
как к явлению отрицательному, повлекшему за собой утрату на-
циональной самобытности. Однако самый факт принимается все-
ми почти в том виде, как его сформулировала сама исследуемая
эпоха»42. С точки зрения исследователя, новая послепетровская куль-
тура значительно более традиционна, чем принято думать. То, что
субъективно переживалось как модели западной культуры, неесте-
ственно перенесенные на русскую почву, на деле не было таковым,
тут же перетолковывалось, перекраивалось в глубинном соответствии
с национальными архаичными моделями. Рассматривая такие важ-
ные грани национального менталитета, как религиозность и атеизм,
соотношение христианства и язычества, переживание пространствен-
но-временных отношений, Б. Успенский приходит к выводу о том,
что вызванный «европеизацией» культурный сдвиг даже усилил не-
которые архаические черты в русской культуре, «обнажил некото-
рые архаические семиотические модели, которые хотя и присут-
ствовали в русской средневековой культуре в том виде, в каком
она сложилась с XIV—XV вв., но, вероятно, восходили к значи-
тельно более раннему пласту. В этом отношении, вопреки бытую-
щему поверхностному представлению, XVIII в. был глубоко орга-
ничен русской культуре как таковой»43.
Среди таких архаических черт русской цивилизации, усилен-
ных Петровской реформой, была ее внутренняя противоречивость,
42 Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры//Б. А. Успенский.
Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 235.
43Там же. С. 242.
35
Раскол
выраженная в целом ряде внутрикультурных оппозиций. Это про-
явилось и в сфере религиозного сознания (противопоставленность
Сили сопоставленность?> в национальном менталитете языческого
и христианского начал), и в русской языковой ситуации, в диглос-
сии, сосуществовании в одном обществе церковно-славянского и
русского языков, между которыми существует жесткое разделение
сфер употребления, один из которых отмечен высокой престижнос-
тью, другой лишен этого признака. С Петровского времени эта оп-
позиционность усиливается и становится еще более значимой ха-
рактеристикой культурной ситуации, чем это было раньше.
Дворянская культура становится все более и более противопо-
ставленной народной, фольклорной культуре, которую не затро-
нул ни петровский век, ни век просвещения, ни век XIX. Она
существовала обособленно, как бы не замечая, не зная, что про-
исходит с культурой элитарной, дворянской. Ее развитие не было
направлено по европейскому руслу Петром I, оно шло в другом
направлении и на другом уровне. Возникла ситуация, драматичная
по сути своей. В рамках одного языка, одного вероисповедания,
одной культурной традиции, одного народа развивались парал-
лельными путями, вовсе не совпадая, не перекрещиваясь, «две
культуры», как бы не замечающие существования друг друга. Это
вовсе не значит, что одна была более русская, другая — менее,
одна принадлежала «черной кости», другая «белой», одна была
лучше — другая хуже. Это не значит, что путь народной культуры
был более прямым и естественным для русского сознания, чем
путь культуры дворянской, вызванной к жизни Петром I и под-
держанной Екатериной II. И та и другая состоялись в истории и
дали великие образцы — следовательно, были естественны и бла-
готворны для России.
Но в самом факте их существования содержался глубинный
внутренний конфликт, сильнейшее напряжение, дававшее себя
знать в разные периоды русской истории, такие, как пугачевщина
или же революция и гражданская война, последовавшая за 1917 г.
Заимствовав «мимоходом» на Западе формы европейской культу-
ры, архитектуры, литературы, формы социального бытия и госу-
дарственного устройства, Петр I, по сути дела, запрограммировал
столкновение патриархальных, исконных основ бытия с заимство-
ванными на Западе, прижившимися, ставшими своими на рус-
ской почве.
Чем же было определено это взаимное непонимание и враж-
дебность между двумя этажами русского общества? Что лишало
36
«Две культуры»
людей одной национальности, говорящих на одном языке, воз-
можности позитивного и плодотворного взаимодействия?
Думается, что это было в корне различное понимание челове-
ческой личности. Ее места в этом мире. Ее назначения, прав, сво-
бод. Ее взаимоотношения с другими людьми. Здесь, вероятно, и
содержался «ген» отторжения двух культур, здесь-то и срабатывал
каждый раз механизм, препятствовавший развитию начавшегося
было сближения.
Рядом с европейским типом русского сознания существовал
иной — азиатско-деспотический, идущий от Поля, от Орды, свя-
занный с неприятием индивидуального, личностного начала. Этот
социокультурный исторический тип Г. Федотов склонен называть
московским. «В татарской школе, на московской службе выковы-
вался особый тип русского человека — московский тип, — пишет
он. — Этот тип, психологически, представляет сплав северного
великоросса с кочевым степняком, отлитый в формы осифлян-
ского православия... Мировоззрение русского человека упрости-
лось до крайности... Он не рассуждает, он принимает на веру не-
сколько догматов, на которых держится его нравственная и общест-
венная жизнь... Свобода для москвича — понятие отрицательное:
синоним распущенности, «ненаказанности», безобразия»44. По
мнению Г. Федотова, московский тип стал основным типом, про-
тивостоящим образованному слою общества, интеллигенции; его-
то и склонны были называть в начале века «народ». Сложившись в
момент формирования вокруг Москвы централизованного русского
государства, он обладал удивительной стойкостью и монолитнос-
тью: «От царского дворца до последней курной избы московская
Русь жила одним и тем же культурным содержанием, одними иде-
алами. Различия были только количественные. Та же вера и те же
предрассудки, тот же Домострой, те же апокрифы, те же нравы,
обычаи, речь и жесты». Культурная расколотость петербургского,
послепетровского периода и сложность человеческой личности,
явленная, к примеру, Достоевским, немыслима в Москве. «Вот
это единство культуры и сообщает московскому типу его необы-
чайную устойчивость. Для многих он кажется даже символом рус-
скости. Во всяком случае, он пережил не только Петра, но и рас-
цвет русского европеизма; в глубине народных масс он сохранил-
ся до самой революции»45.
44 Федотов Г. П. Россия и свобода. С. 203—204.
45 Там же. С. 205.
37
Раскол
Сколь неоднозначно воспринимали деятельность Петра I на-
род, с одной стороны, и в целом сформировавшаяся уже к екате-
рининской эпохе дворянская элита — с другой, говорит отноше-
ние к главному и наиболее зримому детищу русского царя — Пе-
тербургу. В отношении к этому городу проявилась глубинная
противоположность двух «станов», о которых писал Блок, непро-
ходимость пропасти, вырытой Петром I между ними.
Русское сознание знает два мифа о Петербурге, притом оба
связаны с деяниями Петра I, трактуют город как прямое продол-
жение царя. «И в раскольничьих преданиях, и в письменной лите-
ратуре Петр и Петербург составляли как бы некое единство, одну
сферу, один комплекс признаков, особенностей, отношение к
которому и лежало в основе мифа, — пишет Л. Долгополов. —
В народных преданиях Петр — антихрист, порождение сатаны, под-
мененный царь. Город, основанный им, нерусский (то есть неис-
тинный, противоестественный) город, его удел — исчезнуть с
лица земли. В письменной литературе, напротив, Петр — личность
исключительная, герой, титан, полубог. Город, основанный им,
есть великое дело, которому суждено существовать в веках»46. То,
что в русском сознании сформировались два противоположных
мифа о Петре и его городе, в которых личность, его породившая,
трактуется то как воплощение нерусского, немецкого зла, при-
шедшего на русскую землю, то как персонификация идеи добра,
блага и просвещения, говорит о глубине разрыва. В русской лите-
ратуре эти две полярные концепции сошлись и образовали един-
ство лишь однажды — в «Медном всаднике» Пушкина.
Каковы были возможные варианты сосуществования двух рус-
ских культур?
Обобщая, можно сказать, что их было два: синтез, плодотвор-
ное взаимодействие, с одной стороны, и разрушительное столк-
новение, ведущее к созданию странного культурного новообразо-
вания — с другой. На протяжении последних двух веков попере-
менно реализовывались обе возможности. При этом первая
обуславливала интенсивное культурное развитие и взлет нацио-
нального самосознания, вторая была чревата национальными ка-
тастрофами.
Думается, что одним из самых жестоких актов противостояния
«двух культур», перешедших в прямое их столкновение, была пу-
46 Долгополов Л. На рубеже веков. Л., 1977. С. 159-160.
38
«Две культуры»
гачевщина. Справедливое движение за свободу, за обретение свое-
го человеческого и социального достоинства, всколыхнувшее всю
крестьянскую крепостную Русь, чуть не обернулось страшной на-
циональной катастрофой.
«Пугачевщина рождена великой русской трагедией, которая
состояла в глубоком расколе нации: как дворяне крестьян за лю-
дей не считали, так и крестьяне перестали видеть в дворянах лю-
дей, — пишет, размышляя о «Капитанской дочке», О. Чайковская
в публицистической и одновременно философской статье «Гри-
нев». — На зверства помещиков народ ответил кровавым восста-
нием, которое было подавлено не менее кроваво... Результатом было
всеобщее ожесточение»47. Думается, что это был момент, когда на-
циональная русская культура была буквально в двух шагах от гибе-
ли, когда два противостоящих лагеря, народ и дворянская госу-
дарственность, и две культуры, которые несли они с собой, чуть
было не пришли ко взаимному уничтожению. В самом деле, трудно
не согласиться с О. Чайковской, которая, ставя вопрос: «Ну а если
бы Пугачеву удалось на время победить?», так отвечает на него:
«Его победа, несомненно, пробила бы чудовищную брешь в рус-
ской культуре — кстати, в ходе пугачевщины едва не погиб Дер-
жавин, его спасла только резвость коня; едва не был повешен ма-
ленький Ванечка Крылов... Да и с самим Пушкиным неизвестно
еще, как бы дело обернулось: пугачевцы побывали в Болдине и,
не найдя Л. А. Пушкина, деда поэта, который был с семьей в отъез-
де, повесили его дворового»48. Конечно же, история не знает со-
слагательного наклонения, но столь ли уж и невероятно подобное
допущение, если вспомнить, чего стоила дворянской государствен-
ности победа над Пугачевым, берущим город за городом? Отчаян-
ное желание Екатерины II самой возглавить поход против само-
званца? Участие в усмирении бунта лучших полководцев, таких,
как А. В. Суворов, А. И. Бибиков, П. И. Панин?
В самом деле, та самая брешь в национальной культуре, о ко-
торой размышляет О. Чайковская, представляя себе победу вос-
ставших, как раз и есть вакуум, результат взаимного уничтожения
двух культур. Этот вакуум очень скоро заполнился бы странным
промежуточным образованием, и Россия бы не имела своего XIX в.,
начатого Пушкиным и завершенного Чеховым.
47 Чайковская О. Гринев//Новый мир. 1987. № 8. С. 239.
48 Там же.
39
Раскол
Но век Пушкина и Чехова состоялся: за взрывом пугачевщины
последовала новая эпоха, в которой оказались реализованы возмож-
ности синтеза. Эти возможности проявились хотя бы в том внимании
и творческом интересе, с которым представители дворянской куль-
туры черпали силы и вдохновение в культуре народной. Адмирал
А. С. Шишков, пытавшийся избавить русский язык от любых заим-
ствований, и утопические лингвистические и литературные концеп-
ции шишковистов, конечно же, являют собой крайнее выражение
стремления к исконности и национальной незамутненности тради-
ций. Но не с той ли же самой тенденцией связан последний этап
творчества злейшего оппонента Шишкова — Н. М. Карамзина, стре-
мящегося в «Истории государства Российского» осмыслить своеоб-
разие русского исторического пути? Не с этой ли тенденцией связа-
на культурно-философская мысль славянофилов прошлого века?
В русской культуре постоянно реализовывались обе возможно-
сти: обострение конфликта сопровождалось обоюдным стремле-
нием к синтезу. Чем больше и сильнее были устремления «синте-
тические», тем больше был запас прочности российской цивили-
зации. В этом проявлялся своего рода механизм самозащиты,
самосохранения национальной культуры, обреченной волею ис-
тории жить в мучительном расколе с самой собой, совмещать в
себе два культурно-исторических генотипа: московский, с одной
стороны, киевско-новгородский, возросший спустя столетия в
Петербурге — с другой. Это обоюдное стремление друг к другу не
останавливало даже крепостное право, уродующее и крепостных,
и крепостников, формирующее непроходимое, казалось бы, поле
отчуждения между крепостным и барином. Но именно этого от-
чуждения не чувствуют ни Савельич с Петрушей Гриневым, ни
Пушкин с Ариной Родионовной или же с тем крепостным дядь-
кой, который внес его, смертельно раненного, после дуэли в квар-
тиру на своих руках. Отношения между ними не сословные, а об-
щечеловеческие, скорее родственные, те, что связывают младшее
и старшее поколения. И именно эти, личностные, родственные,
родительские и сыновние, отношения создавали возможность про-
никновения одной культуры в другую. «Разделенные сословно и
классово, дворянин и крепостной были в одной жизни, в тесной
повседневной связи, во взаимовлиянии, нередко и плодотворном.
Русские мамки и няньки, качавшие дворянских младенцев, пере-
давали им, не ведая того, духовные ценности, созданные наро-
дом, а вокруг дворянских интеллигентов возникала атмосфера, спо-
собствовавшая росту интеллигенции крепостной.
40
«Две культуры»
Возникало некое братство по общей культуре, выработавшее свои
крепкие нравственные устои, свои эстетические каноны, свои пра-
вила поведения. Она началась как неграмотная, эта культура, <...>
передавалась изустно от отца к сыну, от бабушки к внуку и стала
основой того роскошного здания, которое надстроилось над ней в
XIX в., вобравшим в себя все богатство культуры мировой»49.
А творчество Пушкина? Взращенный на самой рафинирован-
ной дворянской, элитарной культурной традиции, унаследовавший
от Державина дух и стиль блестящей екатерининской эпохи, Пуш-
кин мыслит себя носителем и наследником народной культуры. И в
сказках Пушкина как раз и проявилась плодотворность культурного
синтеза. Оказалось, что «ткани» двух русских культур не только не
отторгают друг друга, но, напротив, соединяясь, обнаруживают воз-
можность интенсивного развития и плодотворного синтеза, спо-
собного в перспективе привести к соединению, слиянию в один
общий поток. Не о том ли свидетельствует народная сказка о золо-
той рыбке, автором которой для всякого русского является Пуш-
кин, поэма «Руслан и Людмила» или же «Песни западных сла-
вян», если взять более поздний период его творчества?
Думается, что феноменальный и ни с чем не сравнимый взлет
русской литературы прошлого века как раз и обусловлен наметив-
шимся синтезом двух культур. Он проявился в творчестве почти каж-
дого художника. Вспомним опыт Гоголя, автора «Миргорода», «Ночи
перед Рождеством», «Страшной мести» — и «Невского проспекта»,
«Портрета», «Носа». Две линии национальной культуры сосуществу-
ют в его творчестве совершенно органично, синтезируются.
Но высшим проявлением культурного синтеза стали 60-е годы,
разночинство, когда этот «новый кряж людей», по выражению
А. Герцена, плоть от плоти народной среды, выучившись на мед-
ные деньги, пришел в университетские аудитории. Разночинцы
заняли профессорские кафедры, «пристрастились», по выраже-
нию Д. Писарева, к базаровскому микроскопу и лягушке. Этих людей
приветствовал Н. Некрасов в «Школьнике», о них написал роман
Н. Чернышевский. Можно предположить, что 60-е годы являют
кульминацию культурного синтеза. Это как раз тот момент рус-
ской истории, когда реальной была возможность преодоления тра-
гического противостояния двух культур, существовали реальные
предпосылки их слияния в одну. «Еще 50 лет, — предполагал Г. Фе-
49 Чайковская О. Гринев//Новый мир. 1987. № 8. С. 241.
41
Раскол
дотов, — и окончательная европеизация России — вплоть до са-
мых глубоких слоев ее — стала бы фактом. Могло ли быть иначе?
Ведь «народ» ее был из того же самого этнографического и куль-
турного теста, что и дворянство, с успехом проходившее ту же
школу в XVIII в. Только этих пятидесяти лет России не было дано»50.
Увы, эта возможность не была реализована. Сами шестидесят-
ники, личные человеческие судьбы которых, как и судьба целого
их поколения, были связаны с приобщением к науке, культуре,
цивилизации, ведущей свою генеалогию от Петровского времени,
принесли с собой призыв «к топору», провозглашенный Герце-
ном — слова Пушкина о бессмысленности и беспощадности рус-
ского бунта не были ими услышаны. Они ополчились на тот самый
тип европейской цивилизации, к которому, казалось бы, были
приобщены. Мечтая о крестьянской революции и всячески пыта-
ясь ее приблизить, они раздували огонь, способный пожрать во-
обще всю русскую культуру — и дворянскую, и народную, в кото-
ром бесследно исчезнет и профессорская кафедра разночинца, и
герценовский крестьянский топор, и печной горшок, и Аполлон
Бельведерский, о ценности которых спорили в 60-е годы и Н. Не-
красов, и А. Герцен, вспоминая свой давний разговор с В. Белин-
ским. Революционность шестидесятников, стремящихся как бы
перенести пугачевщину в XIX в., поставила под вопрос перспек-
тивы синтеза, идущего в это же самое время с необычайной ин-
тенсивностью. Увы, призывы «к топору» свели на нет и хождение
в народ, начавшееся в 60-е и завершившееся поездкой А. Чехова
на Сахалин, и теорию малых дел, способную, как казалось, со-
единить две русских жизни, две цивилизации: дворянскую и на-
родную. Этого не произошло. XIX век закончился осознанием не-
преодолимой бездонной пропасти между народом и образованной
частью общества — той самой пропасти, о которой писала Е. Кузь-
мина-Караваева, в которую мужественно смотрел, готовый к лю-
бым личным жертвам для ее преодоления, А. Блок, осознавая,
впрочем, ее непреодолимость, и которой ужаснулся, заглянув в
нее, М. Горький, автор «Несвоевременных мыслей».
С особой ясностью катастрофичность ситуации, когда, по выра-
жению С. Н. Булгакова, «нация раскалывается надвое, и в бесплод-
ной борьбе растрачиваются лучшие ее силы»51, обнажилась после
50 Федотов Г. П. Россия и свобода. С. 210.
51 Булгаков С. И. Героизм и подвижничество (из размышлений о религиозной
природе русской интеллигенции)//Вехи: Сборник статей о русской интеллиген-
ции. 5-е изд. М., 1910. С. 67.
42
«Две культуры»
взрыва 1905 г. Русский образованный слой общества, ведущий свою
родословную от Петровской реформы и наследующий тот самый,
дворянский, элитарный тип культуры, получивший тогда уже уко-
ренившееся гордое звание интеллигенции, возложил вину за это
на себя. Повторившаяся пугачевщина и столь же жестокое ее по-
давление многим открыли глаза. Публичным покаянием и осмыс-
лением исторических ошибок стал сборник «Вехи», ибо «револю-
ция есть духовное детище интеллигенции, а, следовательно, ее
история есть исторический суд над этой интеллигенцией»52.
Все авторы «Вех» трагически воспринимают разобщенность двух
слоев русской нации. «Сказать, что народ нас не понимает и нена-
видит, значит не все сказать. Может быть, он не понимает нас
потому, что мы образованнее его? Может быть, ненавидит за то,
что мы не работаем физически и живем в роскоши? Нет, он, глав-
ное, не видит в нас людей: мы для него человекоподобные чудо-
вища, люди без Бога в душе...» — пишет М. Гершензон. По его
мысли, до 1905 г. это противостояние не было столь очевидным.
«Мы даже не догадывались об этом. Мы были твердо уверены, что
народ разнится от нас только степенью образованности... Что на-
родная душа качественно другая — нам это и на ум не приходи-
ло»53. Именно Гершензон острее всех ощущает трагизм и неизбыв-
ность конфликта и, что самое страшное, его неразрешимость. «Меж-
ду нами и нашим народом — иная рознь. Мы для него не грабители,
как свой брат, деревенский кулак; мы для него не просто чужие,
как турок или француз: он видит наше человеческое и именно
русское обличие, но не чувствует в нас человеческой души, и по-
тому он ненавидит нас страстно, вероятно, с бессознательным
мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои. Каковы
мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бо-
яться его мы должны пуще всех казней власти...»54
Как понять эту мысль М. Гершензона? Думается, что он пред-
видит страшные перспективы новой русской революции, ту са-
мую брешь в русской культуре и в русской цивилизации, которую
не пробил Пугачев, но может пробить пугачевщина XX в. Боясь
«слияния с народом», М. Гершензон страшится взаимного испе-
пеления двух непонятных друг для друга культур и двух непонима-
ющих друг друга слоев русского общества.
52Тамже. С. 25.
53 Гершензон М. Творческое самосознание//Вехи. С. 85.
54Там же. С. 89.
43
Раскол
Эта же мысль — мысль об опасности сближения двух культур-
ных потенциалов, созданных внутри русского общества, мысль о
том, что в этом случае может быть превышена некая критическая
масса и произойдет взрыв, способный привести к национальной
катастрофе — содержится также в статье П. Струве. Во всех русских
революциях, считает он, «не способных противопоставить что-либо
исторической государственности и о нее разбившихся», будь то
«движение, связанное с именем Стеньки Разина, стоившее мно-
жества жертв, бессмысленно жестокое, совершенно «воровское»
по своим приемам», или же пугачевщина, которая «не представ-
ляет ничего нового, принципиально отличного от смуты 1598—
1613 гг. и от разинщины»55, не было все же той опасности, которая
проявилась в революции 1905 г. Дело в том, что «после пугачевщи-
ны и до этой революции все русские политические движения были
движениями образованной и привилегированной части России.
Такой характер совершенно явственно присущ офицерской рево-
люции декабристов... Только в той революции, которую пережили
мы, интеллигентская мысль соприкоснулась с народной — впер-
вые в русской истории в таком смысле и в такой форме»56. Формы
этого соприкосновения показались воистину чудовищными, про-
будили самые жестокие и страшные силы как с той, так и с дру-
гой стороны, как, впрочем, в любом «русском бунте». Его жесто-
кость и бесперспективность оказались умноженными соприкосно-
вением двух классов русского общества, двух его слоев, тем, что
возмущение оказалось во многом инспирировано интеллигенцией.
«Прививка политического радикализма интеллигентских идей к
социальному радикализму народных инстинктов совершилась с
ошеломляющей быстротой»57. Эта прививка была одним из первых
шагов к тому социокультурному новообразованию, которое воз-
никнет в России спустя два с небольшим десятилетия.
В своей тяге к народу интеллигенция руководствуется мотивом
жертвенности, но этот мотив трансформируется в некий инстинкт
самоуничтожения и готовность во имя абсолютного народного блага
к уничтожению вообще всего насущного мира. Таким образом,
революционность, считал С. Франк, есть лишь отражение метафи-
зической абсолютизации ценности разрушения, следствие поли-
тического радикализма и максимализма, присущего вообще рус-
55 Струве П. Интеллигенция и революция//Вехи. С. 156—158.
56Тамже. С. 164—165.
57 Там же. С. 170.
44
«Две культуры»
скому сознанию, о чем писал, в частности, кн. Е. Трубецкой. Са-
мое страшное состоит в том, что в революционности и радикализ-
ме зреет готовность приветствовать разрушение, принять взаим-
ное испепеление двух культур в наивной и безумной вере в то, что
на их месте возникнет со временем нечто прекрасное (и отнюдь не
сбывшееся в реальном). С. Франк как бы прогнозирует сам процесс
возникновения и развития будущей химеры, когда из разрознен-
ных элементов прежнего человеческого бытия появится нечто но-
вое, сочетающее в себе эти фрагменты. «Если смотреть на пробле-
мы человеческой культуры, как на проблему механическую, то и
здесь нам останутся только две задачи — разрушение старых вред-
ных форм и перераспределение элементов, установление новых,
полезных комбинаций из них. И необходимо совершенно иное по-
нимание человеческой жизни, чтобы осознать несостоятельность
одних этих механических приемов в области культуры и обратить-
ся к новому началу — началу творческого созидания»58. Увы, по-
добный взгляд на культуру, готовность ее разрушить, сжечь все
вокруг себя, устремленность к взаимоуничтожению, но не к син-
тезу, не к творческому созиданию, оказался господствующим в
русском менталитете начала века.
Во многом из-за этого в русской литературе, философским и
этическим фундаментом которой всегда была гуманистическая
традиция, смогла сложиться в 20—30-е годы принципиально анти-
гуманистическая художественная концепция.
Подобная концепция, отражая не только художественное ви-
дение мира тем или иным писателем, но и его вполне реальное
состояние, была порождена глубинными чертами русского нацио-
нального характера. Со всей очевидностью они обнажились в 1905 г.
Понадобились кровавые события революции для того, чтобы по-
нять, что народ отнюдь не паинька, что он не обладает абстрактно-
добродетельной физиономией и вовсе не являет собой ангельский
образ. В нем, как и во всяком народе, есть светлые и черные начала.
«В исторической душе русского народа всегда боролись заветы оби-
тели преп. Сергия и Запорожской Сечи или вольницы, наполняв-
шей полки самозванцев, Разина и Пугачева»59. Какая из двух этих
традиций, живущих в народной душе, сможет взять верх? Какая во-
сторжествует при соприкосновении с иным культурным началом?
58 Франк С. Л. Этика нигилизма (К характеристике нравственного миросозер-
цания русской интеллигенции)//Вехи. С. 195.
59 Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество. С. 64.
45
Раскол
Увы, интеллигенция разбудила разрушительные силы народ-
ной души. Это связано с тем, что в своем отнощении к народу
«она постоянно и неизбежно колеблется между двумя крайностя-
ми — народопоклонничества и духовного аристократизма. Потреб-
ность народопоклонничества... вытекает из самых основ интелли-
гентской веры. Но из нее же с необходимостью вытекает и проти-
воположное — высокомерное отношение к народу, как к объекту
спасительного воздействия, как к несовершеннолетнему, нужда-
ющемуся в няньке для воспитания к «сознательности», непросве-
щенному в интеллигентском смысле слова»60. Это обстоятельство и
привело к тому, что при соприкосновении интеллигенции и наро-
да, идущего особенно тесно с 60-х годов, с народнических и раз-
ночинских времен, при всей позитивности подобного соприкос-
новения, высекались все же смертоносные искры, порождались
разрушительные энергии. Именно на такой трактовке отношений
двух слоев русского общества настаивает С. Булгаков: «Разрушение
в народе вековых религиозно-нравственных устоев освобождает в
нем темные стихии, которых так много в русской истории, глубо-
ко отравленной злой татарщиной и инстинктами кочевников-за-
воевателей». Именно «эти грозные, неорганизованные, стихийные
силы в своем разрушительном нигилизме»61 и проявились впервые
во всей своей сокрушительной мощи в 1905 г.
Увы, авторы «Вех» в своих мрачных пророчествах оказались
правы: разведенные в истории предшествующих веков, две рус-
ские цивилизации и две культуры не сошлись в XX в. Напротив, их
сущностная, бытийная природа обусловила непримиримый кон-
фликт между ними. В результате их решительного столкновения,
первым актом которого был 1905 г., а кульминацией — 1917 г.,
которое подготавливалось всем предшествующим развитием, в ход
вступили неведомые нам пока историко-культурные механизмы и
превышенной оказалась критическая масса. Произошел взрыв, в
результате которого испепелены были обе культурные тенденции
(а не одна победила другую). К счастью, русская культура обладала
значительным запасом прочности, чтобы сохранить в своих нед-
рах, пусть и в форме латентного существования, культурные коды
своего предшествующего развития.
В 1920-е годы в эмигрантских литературных кругах утвердилась
мысль о Ленине как о современном Пугачеве — только с универ-
60 Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество. С. 59—60.
61 Там же. С. 64.
46
«Две культуры»
ситетским образованием. Это достаточно простое и очевидное срав-
нение помогает понять сущность тех культурно-исторических про-
цессов, которые развивались в 1910—1920-е годы.
То, что не случилось в последние десятилетия XVIII столетия,
стало реальностью в начале XX в. Университетское образование
нового Пугачева не изменило культурной направленности бунта,
ставшего революцией. Это выяснилось уже после ее «генеральной
репетиции» 1905—1907 гг., об этом во всеуслышанье заявили авто-
ры сборника «Вехи». Без малого полтора десятилетия спустя в сбор-
нике философских статей «Из глубины» они констатировали ко-
ренное изменение культурной ситуации в России после 1917 г.
С точки зрения одного из них, С. А. Аскольдова, суть событий 1917 г.
заключалась не в социальных преобразованиях, а затрагивала имен-
но общекультурные основы национальной жизни. «Государствен-
ный переворот октября 1917 г., — писал он, — имел в себе очень
мало «социального». Он был противообщественным во всех отно-
шениях, ибо, нарушая все основные условия общественной жиз-
ни — собственность, функции управления, международные обя-
зательства, суд, все основные права свободы, выбивая из жизнен-
ного строя под злобной кличкой «буржуев» все неугодные крайним
демагогам классы и слои общества, он останавливал жизненные
функции государства. Только умственная темнота и ослепление
страстями наживы и мести могли помешать тому народу, ради
которого будто бы производились все эти неистовые эксперимен-
ты, видеть, что вместе с буржуазией терпели катастрофу и все
необходимые при всяком социальном строе общественные орга-
низации, а в недалеком будущем подготовлялись неустранимые
бедствия и для того самого пролетариата, который лишь временно
извлекал выгоды из создавшегося положения. По существу, под
флагом социализма медленно происходил процесс анархического
разложения... Дезорганизующая природа этого процесса достаточ-
но была выяснена самой жизнью...»62
«Дезорганизующая природа этого процесса» трагически сказа-
лась и на литературе, и на частных судьбах художников: общую
судьбу разделили Н. Клюев, С. Есенин, С. Клычков, представители
народной культуры, сумевшие выразить мироощущение крестьян-
ской Руси, несущие в себе незыблемые основы народного нацио-
62 Аскольдов С. А. Религиозный смысл русской революции//Вехи. Из глубины.
М., 1991. С. 242.
47
Раскол
нального бытия, и, скажем, Б. Пильняк или князь П. Святополк-
Мирский, Вс. Мейерхольд и А. Таиров, представляющие другую
ветвь национальной культуры.
Ленинская теория «двух культур»
Напряженность русской внутрикультурной ситуации, достиг-
шая кульминации в начале XX в., была осмыслена большевиками
в качестве момента позитивного с узкоутилитарной политической
точки зрения. В самом деле, в русской истории были заложены два
противоположных культурных «генотипа», которые, может быть,
и были обречены на решительное столкновение. Момент такого
столкновения настал. Осознав это разрушительное для националь-
ной традиции противоречие, как бы предвидя возможность укоре-
нения призрака коммунистического общежития на русской почве
на острие этого внутрикультурного конфликта, партия большеви-
ков воспользовалась им. Ленин выдвинул теорию «двух культур» в
рамках одной национальной культуры и использовал ее для захва-
та власти, что пробило колоссальную брешь в русской националь-
ной культуре и привело к почти полувековому существованию соц-
реалистического канона в искусстве.
Знаменитая ленинская теория «двух культур» в рамках одной
национальной культуры носила, конечно же, политический ха-
рактер, но очень точно отражала реалии внутрироссийской жизни.
Она констатировала наличие конфликтных напряжений и делала
возможным их использование в конкретных политических целях.
«Есть две нации в каждой современной нации... Есть две нацио-
нальные культуры в каждой национальной культуре. Есть велико-
русская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, — но есть
также великорусская культура, характеризуемая именами Черны-
шевского и Плеханова», — писал В. И. Ленин в 1913 г.63. Идея разде-
ления национальной культуры на два враждебных лагеря не пре-
терпела изменений и тогда, когда большевики взяли власть в свои
руки, напротив, она стала руководством к действию.
Она осталась неизменной и на протяжении всех 20—30-х годов
и легла в основание политики партии в области культурного стро-
ительства. Это совершенно естественно, ибо именно сохранение
63 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 24. С. 129.
48
Ленинская теория «двух культур»
внутрикультурного конфликта и могло дать основание, теорети-
ческое и практическое, для формирования монистической кон-
цепции советской литературы. Поэтому во всех партийных доку-
ментах, касающихся литературных вопросов, концепция «двух куль-
тур» проводится неуклонно.
Об этом свидетельствует, в частности, основополагающая ста-
тья А. В. Луначарского «Ленин и литературоведение», написанная в
1932 г. для «Литературной энциклопедии». «Диалектика этого ле-
нинского разрешения национального вопроса получила исчерпы-
вающее освещение в соответствующих выступлениях т. Сталина», —
пишет Луначарский, характеризуя «наши внутренние культурные
задачи»64, которые, если говорить в самых общих чертах, пред-
ставлялись как искоренение в рамках одной национальной культу-
ры «культуры Пуришкевичей, Гучковых и Струве» и культивиро-
вание противоположной, характеризуемой именами Чернышевс-
кого и Плеханова. Это была хорошо продуманная политика,
последовательно проводившаяся в жизнь: государство брало на себя
роль верховного судьи в литературе и искусстве, возлагало на себя
миссию решать, какому направлению в литературе и искусстве
существовать, а какому умереть. При этом речь шла о националь-
ной культурной традиции, и о сегодняшнем состоянии культуры,
и о множестве частных судеб ее творцов,
Подобные взгляды высказаны в работах В. И. Ленина, А. В. Лу-
начарского, Л. Д. Троцкого. В каждой из них так или иначе происхо-
дит разделение русской литературы на два потока, выносится су-
ровый приговор одному, «отжившему» или «отживающему», и
поддерживается нарождающаяся литература нового мира, в рав-
ной степени далекая и враждебная той и другой ветви националь-
ной культуры. Две литературы, таким образом, или «две культуры»
в рамках одной национальной культуры, противопоставляются уже
не только по классовому принципу: здесь содержится противопо-
ставление эпох-миров, противопоставление старого, осмысляемого
как буржуазное и неприемлемое, новому.
«Мертвый хватает живого», — приводит А. В. Луначарский ста-
рое изречение, характеризуя соотнесенность культур прошлого и
настоящего. — Да, мертвый класс хватает живого; социальный мер-
твец, мертвый класс, мертвый быт, мертвая религия могут еще
долго существовать как вампиры: им давно уже нужно быть на
64Луначарский А. В. Литература нового мира. М., 1982. С. 226.
49
Раскол
кладбище, а они еще тут, среди нас. Они лезут из могил, если их
не пристукнули осиновым колом, они выходят чадом из трубы
крематория и вновь опускаются на землю черной йечистью»65. Эта
апокалиптическая картина нарисована для характеристики соот-
ношения «двух культур», двух литератур, как они представляются
ему на протяжении всех 20-х годов. Нет нужды перечислять деяте-
лей русской культуры и литературы, роль которых таким образом
характеризуется Луначарским: П. Лавров, «старушка Кускова» и
многие другие.
Резкое классовое противопоставление двух литератур, двух пря-
мо противоположных культурных тенденций, селекция одной и
низвержение другой, основаны на крайних формах национально-
го нигилизма, на стремлении отсечь от культурного прошлого все
противоречащее классовой, социальной, революционной идее, все,
что напрямую не связано с ней. В наиболее крайней форме — фор-
ме высокомерного отрицания русской культуры как таковой — эта
тенденция национального нигилизма выражена в книге Л. Д. Троц-
кого «Революция и литература».
Книга Троцкого, увидевшая свет в 1923 г. и переизданная тут
же в 1924 г., вовсе не была эпизодом литературно-критической
жизни 20-х годов. Во-первых, ее автором был авторитетнейший
деятель партии, революционер, соратник Ленина, член советско-
го правительства. Поэтому его взгляды не могли восприниматься
как воззрения частного лица. Они были связаны с официальной
точкой зрения, являлись ее воплощением. Во-вторых, они явно
выражали господствующее в общественном сознании стремление
резкого размежевания с прошлым, обесценивания его и перенесе-
ние всех ценностных ориентиров в будущее. Перед нами своего
рода концепция «золотого века», который, однако, располагается
не в прошлом, а в будущем и который достижим лишь постольку,
поскольку произойдет отказ от всего прошлого. Прошлое принци-
пиально обесценивается. Отказывая русской культуре, философии,
литературе, даже архитектуре в праве на существование, на вхож-
дение в настоящее в качестве составной его части, отрицая опыт
Н. Чернышевского, П. Чаадаева, Л. Толстого, В. Соловьева (набор
имен выглядит в главе «Об интеллигенции» совершенно случай-
ным, что само по себе вполне симптоматично, ибо демонстрирует
пренебрежение к культурному наследию), Л. Троцкий констатиру-
65 Луначарский А. В. Литература нового мира. М., 1982. С. 96.
50
Ленинская теория «двух культур»
ет: «Повторим еще раз: история нашей общественной мысли до
сих пор даже клинышком не врезывалась в историю мысли обще-
человеческой. Это малоутешительно для национального самолю-
бия? Но, во-первых, историческая правда — не фрейлина при
национальном самолюбии. А во-вторых, будем лучше наше нацио-
нальное самолюбие полагать в будущем, а не в прошлом». Принци-
пиальное обесценивание того, что уже было, ориентация на гряду-
щий «золотой век», наступление которого связано со скорейшим
отречением от прошлого, с тотальным отрицанием всякой культур-
ной традиции, оправдывает любой акт насилия в отношении к на-
стоящему. «Что мы дали миру в области философии или обществен-
ной науки? Ничего, круглый нуль! Попытайтесь назвать какое-ни-
будь русское философское имя, большое и несомненное», —
вопрошал Троцкий в 1912 г. Через десять лет этот вопрос повер-
нулся утверждением, волевым императивом новой власти в отно-
шении к целым школам русской философской мысли.
Отречение от культуры общечеловеческой во имя грядущего,
не существующего в реальности «золотого века» — единственная
возможность его достижения: «Великое будущее превращается для
нас из туманной фантазии в реальность лишь постольку, посколь-
ку стираются историей «самобытные» черты нашего «изумитель-
ного» прошлого и «более чем великолепного» настоящего»66.
Л. Д. Троцкий выстраивает целую концепцию русской культу-
ры, вернее, концепцию ее отсутствия, показывая, что наследо-
вать, в сущности, новому обществу нечего. В самом деле, лучший
способ отказаться от культурной традиции — сказать, что ее не
существует. «Еле заметные отложения «культурных» наслоений над
целиною социального варварства», «какое жалкое, историей об-
деленное дворянство наше!», «бедная страна Россия, бедная исто-
рия наша, если оглянуться назад» — все эти характеристики, ду-
мается, относятся не столько к прошлому, сколько к настоящему.
Они напрямую оправдывают насилие в отношении к неугодным
писателям, деятелям культуры, произведениям; направлениям и
течениям философской или литературно-эстетической мысли. Куль-
турный нигилизм дает нравственно-этическое обоснование куль-
турной селекции, усекновению неугодных ростков культуры, обо-
сновывает право власти крепче сжать тиски идеологического прес-
66 Троцкий Л. Д. Литература и революция//Вопросы литературы. 1989. № 7.
С. 194-199.
51
Раскол
са, превратить литературу в идеологический рупор. Проповедуе-
мый на самом высоком уровне культурный нигилизм губителен не
только для общества, но и для отдельной личности: он выбивает
почву из-под ног, лишает системы нравственных ориентиров, об-
щечеловеческие понятия подменяет классовыми. Сознанием тако-
го человека легче манипулировать, ибо зло и добро, верх и низ,
черное и белое как бы утратили свою универсальность, поменя-
лись местами. Эта черта является одной из основных характерис-
тик антисистемы и составляет основу ее существования. Ненависть,
например, можно представить как гуманизм, по мнению генераль-
ного секретаря РАПП Л. Авербаха, нет ничего более гуманного,
чем классовая ненависть пролетариата.
«Культура связывает, ограничивает, культура консервативна, —
и чем она богаче, тем консервативнее»67 — это уже целая идеоло-
гия антисистемы, развитие которой начинается с истребления двух
культурных традиций, вступивших в конфликт. В основе ее лежит
обесценивание культурной традиции во имя чего-то нового, во
имя будущей химеры, возникнуть которой суждено на месте пре-
жней культуры. Поэтому Л. Д. Троцкий стремится дестабилизиро-
вать культуру, удалив из нее наиболее сильные и мощные ветви,
объявив покойником А. Белого, а вместе с ним и импрессионис-
тическую эстетическую систему; объявив лирику А. Ахматовой и
М. Цветаевой ветхой вследствие «ее общественной, а следователь-
но, и эстетической непригодности для нового человека». Поэтому
он объявляет литературу политикой, ибо «в некоторых отношени-
ях художество приближается к политике, политика — к художе-
ству, ибо и то и другое — искусство». Поэтому он ангажирует ис-
кусство для выражения совершенно особого мироощущения, ха-
рактерного, с его точки зрения, для пролетариата, а на деле
являющегося выражением грядущей призрачной конструкции:
«Пролетариату нужно в искусстве выражение для того нового ду-
шевного склада, который в нем самом только-только формирует-
ся и которое искусство должно помочь оформить»68.
В целом же работа Троцкого служит политическим и нравствен-
но-этическим обоснованием культурной селекции, приведшей в
результате, уже в 30-е годы, к культурному монизму, к торжеству
на поверхности литературной жизни соцреалистической эстети-
67 Там же. С. 194.
68 Там же. С. 207, 220, 221.
52
Ленинская теория «двух культур»
ки, претендовавшей на то, чтобы быть единственным направле-
нием советской литературы 30—50-х годов. Концепция «золотого
века», вожделенного будущего, которому непременно суждено воз-
никнуть на очищенной от старых культурных отложений земле,
дает возможность идеологически обосновать все более и более су-
жающиеся культурные рамки творчества. Тотальное обесценива-
ние прошлого и культуры настоящего во имя некой грядущей,
обладающей универсальной ценностью, делает репрессии против
нее самими собой разумеющимися, абсолютно оправданными.
В результате литература обретает новое эстетическое качество, вряд
ли возможное ранее и проявившееся в поэзии Д. Бедного или про-
зе Ю. Либединского, явно противопоставленной предшествующей
гуманистической традиции. Здесь видятся нам культурно-истори-
ческие истоки той химерической конструкции, которая сформи-
ровалась в 20-е годы, а в 30-е была названа соцреализмом.
Книга Л. Д. Троцкого «Литература и революция» вовсе не была
локальным явлением общественной жизни 20-х годов; это было раз-
вернутое, аргументированное выражение официальной позиции по
вопросам литературы и искусства. Это осознавалось всеми участни-
ками литературного процесса. А. К. Воронский, в чьем авторитете для
литературного и общественного сознания эпохи сомневаться не при-
ходится, размышляя об идеях Троцкого, писал: «В среде пролетар-
ских писателей нередко пытаются ослабить смысл этих утверждений
указанием, что это личное мнение тов. Троцкого. Нетрудно, однако,
показать, что это не так. Всякий, кто вспомнит последние зимние и
весенние выступления в печати тов. Ленина, обязан признать пол-
ный контакт их с точкой зрения тов. Троцкого»69.
А. К. Воронский, как это ни странно, вовсе не видит здесь
противопоставления будущей культуры ее настоящему и обесце-
нивания последнего; не видит, что за рассуждениями о пролетар-
ской культуре стоит полное отрицание русской национальной куль-
туры и обоих ее истоков, народного и дворянского; не видит, на-
конец, что взгляды Троцкого не адекватны взглядам Ленина и его
приверженности хотя бы одной составляющей национальной куль-
туры, «характеризуемой именами Чернышевского и Плеханова»;
не видит того, что Троцкий, не полемизируя с Лениным, идет
намного дальше него: если учение Ленина о «двух культурах» в
рамках одной национальной культуры, приложенное не к прош-
69 Воронский А. К. Искусство и жизнь. М.; Пг., 1924. С. 95, 96.
53
Раскол
лому, не к истории русской литературы, а к ее настоящему и бу-
дущему, привело к дискредитации некоторых, но не всех тен-
денций культурного развития, то Троцкий отрицает русскую куль-
туру вообще.
Книга Троцкого, как и работы Луначарского и высказывания
Ленина, не имела директивного характера. Это было лишь обосно-
вание директив — резолюций и постановлений ЦК ВКП(б) 20-х
годов.
Каждый из этих документов, решая свои, обусловленные вре-
менем задачи, тем не менее, вставал в контекст предшествующе-
го; выстраивалась, таким образом, продуманная политическая ли-
ния, направленная на медленное, планомерное огосударствление
литературы, на руководство литературой — как экономикой, любой
другой сферой общественной жизни. Только в таких условиях поли-
тического прессинга, являющегося неотъемлемым атрибутом лю-
бой антисистемы, и могла появиться химерическая конструкция.
Огосударствление
Тенденция государственного руководства литературой и куль-
турой определяет всю советскую эпоху. Но 20-е годы (а в литера-
турном смысле этот период больше календарного, охватывает этап
с 1917 г. по начало 1930-х годов) характеризуются борьбой, по
крайней мере, двух противоположных тенденций. С одной сторо-
ны, тенденция многовариантного литературного развития (отсюда
и обилие группировок, литобъединений, салонов, групп, федера-
ций как организационного выражения множественности различных
эстетических ориентаций). С другой стороны, это стремление влас-
ти, выраженное в культурной политике партии, привести естествен-
ное многоголосие к вынужденному монологу. Поэтому все партий-
ные документы, обращенные к литературе (Резолюция ЦК РКП(б)
«О пролеткультах» от декабря 1920 г., постановления «О политике
партии в области художественной литературы» 1925 г., «О пере-
стройке литературно-художественных организаций» 1932 г.), ста-
вили перед собой именно эту задачу: культивирование одной ли-
нии в литературе и выкорчевывание всех прочих, не только про-
тивостоящих, но хотя бы просто иных. В последующие десятилетия
все эстетические и идеологические литературные тенденции, про-
тивостоящие официально признанным, вытесняются из литера-
54
Огосударствление
турного процесса метрополии: их существование возможно либо в
диаспоре, либо в потаенной литературе.
На протяжении 20—30-х годов вырабатываются новые формы и
механизмы государственного воздействия на литературные про-
цессы. Ими становятся постановления ЦК ВКП(б) по вопросам
литературы и искусства, дискуссии, организованные в Комакаде-
мии, открытые дискуссии в печати.
Каждый из этих актов и документов, решая свои задачи, вста-
вал в контекст предшествующего. Таким образом, выстраивалась
продуманная политическая линия, направленная на медленное и
планомерное огосударствление литературы. Речь шла именно о ру-
ководстве литературой со стороны государства. Для этого нужны
были рычаги управления, аппарат, организация. Такая организа-
ция сложилась в 1934 г.: был создан Союз писателей, своего рода
«министерство» литературы.
Первым в ряду документов, подготовивших возможность руко-
водства литературой, стал Декрет о печати, принятый на второй
день после революции — 9 ноября (27 октября) 1917 г., которым
закрывались органы «контрреволюционной печати разных оттен-
ков», а свобода слова и свобода печати объявлялась «либеральной
ширмой»: «в нашем обществе за этой либеральной ширмой фак-
тически скрывается свобода для имущих классов, захватив в свои
руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и
вносить смуту в сознание масс»; «буржуазная пресса есть одно из
могущественнейших оружий буржуазии... оно не менее опасно в
такие минуты, чем бомбы и пулеметы»70. Отмененная Декретом о
печати свобода слова так и не была восстановлена.
Следующим актом подчинения литературы государственной
власти стала Резолюция ЦК РКП(б) «О пролеткультах», приня-
тая 1 декабря 1920 г. Этим документом отрицалась возможность
независимости творческой организации от государства, на чем на-
стаивали руководители Пролеткульта — Пролеткульт был влит в
Наркомпрос на правах отдела. Большая просветительская и твор-
ческая организация со своей сложной философской концепцией,
с провалами и достижениями в художественном творчестве, с раз-
ветвленной сетью студий и творческих кружков превращалась в
министерский отдел. Резолюция ЦК РКП(б) «О пролеткультах»
70 Декреты Октябрьской революции: Правительственные акты, подписанные
или утвержденные Лениным, как Председателем Совнаркома. М., 1933. С. 16
55
Раскол
была первым государственным актом, направленным на огосудар-
ствление литературы, превращение ее в явление официальное.
Разумеется, в подобные взаимоотношения между государством
и культурой никак не могли вписаться представители прежней
художественной интеллигенции, что прекрасно осознавалось обе-
ими сторонами конфликта: и ими самими, и партийным руковод-
ством. Поэтому еще одной гранью государственной политики ста-
ло вытеснение их в вынужденную эмиграцию. В начале 20-х годов
Россия познала явление, невиданное в таких масштабах ранее и
ставшее воистину национальной трагедией: эта был библейский
Исход в другие страны миллионов русских людей, не желавших
подчиниться большевистской диктатуре. Многие уходили с разби-
тыми в гражданской войне частями Белой гвардии, многие ехали
на поездах, отплывали на пароходах, переходили границу пеш-
ком, часто рискуя жизнью — свобода была для них дороже. Тех же
инакомыслящих, кто пожелал остаться, высылали насильно. Та-
кова была политика новой власти. В мае 1922 г. Ленин послал Дзер-
жинскому следующую записку:
«Т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров,
помогающих контрреволюции.
Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим...
Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавли-
вать постоянно и систематически и высылать за границу.
Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро, с возвра-
том Вам и мне, и сообщить мне их отзывы и Ваше заключение»71.
Результатом этой акции стал так называемый «философский
пароход», на котором за рубеж были высланы представители ин-
теллигенции, не поддерживающие новой власти. Так оказались за
рубежом такие виднейшие русские философы и публицисты, как
С. Булгаков, Н. Бердяев, Л. Карсавин, Ф. Степун и многие другие.
Люди, отплывшие из России на «философском пароходе» и поки-
нувшие раньше или позже Родину, создали удивительный фено-
мен русской диаспоры, русского рассеяния. С точки зрения есте-
ственных условий литературного развития, это почти невозмож-
но: русская эмиграция породила не только фигуру писателя,
сформировавшегося в иной национальной среде (В. Набоков,
Г. Газданов, Б. Поплавский), но и слой читателей, который в усло-
виях рассеяния по всему миру сумел создать почву для националь-
71 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 54. С. 265-266.
56
Огосударст вление
ного литературного развития в условиях, подобную возможность
отрицавших.
В последующих постановлениях 20-х годов конкретизируется
мысль о партийно-государственном руководстве литературой. Ли-
тература рассматривается как участок партийной работы, при этом
партия и государство присваивают себе функцию выработки иде-
ологических концепций и контроля за ними в сфере литературы;
форма же рассматривается как область проявления свободы худо-
жественного творчества. Эти взгляды были выражены в Постанов-
лении ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной
литературы» (1925). Это постановление декларировало как неотъем-
лемое право партии и государства вторгаться в литературные дела
и руководить ими.
Кульминационным в утверждении литературного монизма стал
1929 г. — год Великого перелома не только в деревне, но и в лите-
ратуре. Именно тогда была окончательно разорвана связь литера-
турной диаспоры с метрополией. Этому способствовала громкая и
хорошо организованная травля писателей («попутчиков», по рап-
повской терминологии) — Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Плато-
нова, Е. Замятина — за публикацию их книг в берлинском изда-
тельстве «Петрополис». Это издательство, уникальное в своем роде,
связывало два потока русской литературы, эмигрантскую и созда-
вавшуюся на родине. Независимое от советской цензуры, недо-
ступное для политических манипуляций, оно открывало свои две-
ри для русских писателей вне зависимости от того, жили ли они в
Москве, Берлине или Париже. «Петрополис» смог сформировать
своего рода экстерриториальную зону русской литературы: рын-
ком сбыта его книг была и Советская Россия, и европейские стра-
ны, имеющие крупные центры русской эмиграции.
До 1929 г. публикация в «Петрополисе» была вполне обычным
делом для советского писателя, не чреватая какими-либо полити-
ческими последствиями. Политическая травля Б. Пильняка за из-
дание в Берлине романа «Красное дерево» положила конец подоб-
ной ситуации.
Идеологическим обоснованием беспрецедентной кампании
травли писателей, главными объектами которой были Пильняк и
Замятин, стал тезис усиления классовой борьбы по мере постро-
ения социализма — не только в деревне, но и в литературе. Пиль-
няка связывали с «Петрополисом», а вина Замятина заключалась
в том, что его роман «Мы» (с серьезными искажениями и со-
кращениями, обусловленными якобы тем, что это был обратный
57
Раскол
перевод с чешского) был опубликован в одном из журналов рус-
ской Праги «Воля России». Эта кампания открывалд эпоху безого-
ворочного подчинения писателя государству, делала идеологичес-
кую цензуру естественной и неотъемлемой частью литературного
процесса. Покончено было и с «Петрополисом»: не имея иных воз-
можностей воздействия на зарубежное издательство, советское
государство разорило его, дав огромный заказ и не выкупив его.
Для руководства любой сферой общественной жизни нужен
свой институт, аппарат руководства, который и был создан на
рубеже 20—30-х годов. РАПП, претендовавший на роль такого ин-
ститута, был, во-первых, слишком одиозен, во-вторых, личные
амбиции его руководителей вызывали сомнения не только у лите-
ратурной общественности, но и у партийного руководства. Кроме
того, эта организация, обожавшая лозунги, приказы, проверки
исполнения, всевозможные реорганизации и перестройки, не могла
претендовать на роль литературного министерства. Поэтому поста-
новлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке лите-
ратурно-художественных организаций» РАПП был ликвидирован.
Литературная общественность встретила постановление восторжен-
но: всем была памятна метафора «рапповская дубинка», ненавис-
тен был рапповский жанр политической статьи, переходящей в
политический донос. Но современники не заметили за тактичес-
ким и частным шагом (роспуск РАПП) решения, определившего
судьбы советской литературы на десятилетия вперед: постановле-
ние ликвидировало организационную основу литературного поли-
центризма — свободу литераторов собираться в союзы не по прин-
ципу принадлежности к советской литературе вообще, а по прин-
ципу общих идейно-эстетических воззрений.
Союз писателей СССР, созданный в 1934 г., стал институтом
партийно-государственного руководства литературой, что логич-
но завершало организационный процесс ее превращения в «коле-
сико и винтик» {Ленин) в едином механизме государственного
устройства. Так складывающаяся аппаратная система командно-
административного бюрократического социализма с жесткой иерар-
хией, вершину которой увенчивал диктатор, подминала под себя
живую жизнь литературы, все сильнее сдавливала тиски идеологи-
ческого пресса, формируя из художественного творчества аппарат
пропаганды, организуя литературу по общегосударственной пира-
мидальной министерской модели, во главе которой стоит министр,
руководитель, в руках которого власть и право решать судьбу про-
изведений, художника, литературного направления или течения.
58
Огосударст вление
Союз писателей СССР стал точной копией любой государствен-
ной организации, в ней отразилась вся государственная система
командно-бюрократического социализма.
Тенденция монологизации и идеологической унификации всех
сфер общественной жизни привела к формированию монистичес-
кой концепции советской литературы, которая получила свое иде-
ологическое и теоретическое обоснование уже в 30-е годы. Суть ее
состоит в том, что литературный процесс принимает характер еди-
ного потока, это проявляется в единообразии стиля, творческого
метода, эстетических концепций мира и человека. В результате лишь
единая эстетическая система, названная социалистическим реа-
лизмом, могла развиваться на поверхности литературного процес-
са, существование остальных было либо насильственно прервано,
либо же они перешли в непечатное бытование.
Для того чтобы монистическая концепция советской литерату-
ры могла быть реализована, требовались значительные усилия —
как организационно-политического плана, формирующие новые
формы литературной жизни, так и теоретического, обосновываю-
щие эстетический характер нового искусства. Литературная «кол-
лективизация» мыслилась как ликвидация творческих союзов и
создание единого союза. Но сделать это было возможно лишь на
общей идейно-эстетической основе. Ею стала концепция нового
творческого метода — социалистического реализма.
Эстетические принципы социалистического реализма выраба-
тывались и в предсъездовских дискуссиях, и уже после съезда. Наи-
более важными вехами их формирования явились две дискуссии,
прошедшие в середине 30-х годов: о языке (1934) и о формализме
(1936).
Дискуссия о языке стала существенным шагом в сторону лите-
ратурного единообразия, идейно-эстетического монизма. Ее ре-
зультатом явилось исчезновение таких продуктивных еще в 20-е
годы стилистических тенденций, как сказ и орнаментальная проза.
Под сомнение было поставлено как слово, стилистически ориен-
тированное на некий социальный тип, что характерно для сказо-
вых структур, так и стилистический эксперимент, «орнамент»,
поэтизация прозаической речи, попытки организовать прозу по
законам поэтического языка (орнаментальная проза). Это привело
к господству «нейтрального» стиля, вскоре превратившегося в ав-
торитарный стиль, характеризующий литературу 30—50-х годов.
Нейтральный стиль в наибольшей степени соответствовал идео-
логии соцреализма: лишенный ориентации на речь какого-либо
59
Раскол
социума, прозрачный и ясный, без какой-либо двуплановости,
без излишеств в виде синонимических повторов или сложных ме-
тафор, без инверсий или сложных грамматических структур; стиль,
направленный не на исследование действительности или анализ
реальных проблем, но на программирование идеальной обществен-
ной модели. Это именно утверждающий стиль: он ясен, прост,
тяготеет к правильному порядку слов, боится придаточных пред-
ложений, предпочитает причастные и деепричастные обороты, если
и ставит вопросы, то лишь риторические, утверждающие нечто
очевидное, отрицает проблемы и не знает сомнений: сомнения
могут лишь разрушить ясность и неподвижность авторитарного стиля
и мышления. (Подробнее о нейтральном стиле пойдет речь в главе о
социалистическом реализме.)
Если дискуссия о языке утвердила нейтральный стиль в каче-
стве непременной черты официальной литературы, то дискуссия
о формализме поставила под сомнение формы условной образно-
сти, фантастику, гротеск, утверждая лишь жизнеподобную поэти-
ку. Объектом критики оказались не только формалистические ли-
тературоведческие концепции, но прежде всего элементы поэти-
ки, отличные от жизнеподобной. Чаще всего в ходе дискуссии рядом
с формализмом назывался натурализм, но, по сути дела, речь шла
об остатках символистской эстетики, конструктивизма, футуриз-
ма, имажинизма, которые были заклеймены как «формальное шту-
карство». В марте 1936 г. на страницах «Литературной газеты» про-
шла целая вереница покаяний бывших «формалистов». О. Брик го-
ворил о «снобизме», «аристократизме духа во имя самодовлеющей
игры словом, звуком, цветом», который вовсе не безобиден, ибо
ведет к «сознательному отказу от работы на широкого читателя», а
К. Паустовский уверял, что «формалисты смотрят на действитель-
ность свысока. Подлинное кипение жизни они заменяют шахмат-
ной игрой дешевых идей, трюком, гротеском, словесным выши-
ванием». «Мы забыли об искусстве как искусстве всенародном, —
каялся Вс. Мейерхольд. — Нашей эпохе нужна мудрая простота».
Основным лейтмотивом дискуссии было противопоставление
широких образов-символов, предельно идеологизированных, но
лишенных конкретного научного и литературного содержания:
«формализм», «натурализм», «дешевое формалистическое штукар-
ство», «формалистические потуги, оригинальничанье, кривляние,
левацкое уродство», «забава для немногих», «разнузданный субъек-
тивизм» — с одной стороны; «простота», «народность», «понят-
ность», «искусство для народа» — с другой.
60
Огосударствление
Дискуссии о языке и о формализме стали последним актом,
окончательно оформившим эстетику соцреализма и утвердившим
ее основные черты: жизнеподобную поэтику и нейтральный стиль,
просуществовавшие до середины 50-х годов.
К концу 1930-х годов сложилась ситуация, которая будет пол-
ностью определять характер литературного процесса вплоть до рубе-
жа 50—60-х годов: тотальная подчиненность литературы партийно-
государственному управлению. Были сформированы и механизмы
государственного контроля и управления. Своего рода министерством
литературы стал Союз советских писателей; критика стала той
формой литературно-художественного сознания, которая форму-
лировала социальный (партийно-государственный) заказ и кон-
тролировала его выполнение; сформировался соцреалистический
канон, предопределявший не только строгую идеологическую нор-
му, но и художественный путь ее воплощения (отсутствие форм
условной образности, жизнеподобная поэтика, нейтральный стиль).
Сложилась жанровая система соцреализма, определявшая основ-
ные жанрово-тематические узлы литературы.
Своего рода вехой, завершающей 1930-е годы, стало Поста-
новление ЦК ВКП(б) от 2 декабря 1940 г. «О литературной крити-
ке и библиографии». Этим постановлением ликвидировался один
из самых интересных журналов 30-х годов — «Литературный кри-
тик», редакционная политика которого была направлена на со-
хранение в литературе писателей, творчество которых не вписыва-
лось в соцреалистический канон. Среди них был А. Платонов. Го-
дом позже и другие литературно-критические издания были
закрыты — началась война.
Военный период характеризуется некоторыми изменениями в
литературной политике государства. Мобилизация всех сил на борь-
бу с фашизмом привела к изменению редакционно-издательской
базы (многие литературно-критические журналы были закрыты);
на страницах газеты «Литература и искусство», по сути дела, един-
ственной сохраненной в ситуации войны, перед литературой и
критикой ставятся задачи агитационно-пропагандистского харак-
тера. Именно поэтому в военный период окончательно закрепля-
ется идеологический поворот, наметившийся еще в начале
30-х годов, после разгрома школы так называемого «вульгарного
социологизма», представленной именами профессоров В. М. Фри-
че и В. Ф. Переверзева. Тогда под сомнением оказался классовый
подход к литературно-художественным явлениям. Теперь же сама
атмосфера войны с фашизмом, предполагающая не классовую
61
Раскол
разделенность советского общества, но его национальное едине-
ние уже окончательно актуализирует категории общечеловеческо-
го и нравственного планов.
Естественно, что обращенность литературно-критического со-
знания в военные годы к проблематике военно-политической пре-
допределила то обстоятельство, что теоретические проблемы были
отложены и ушли из сферы активного внимания. Кроме того, не
существовало и журнально-издательской базы для их решения. Но
пафос победы вновь возродил к ним интерес. После мая 1945 г.
стало ясно, что военные годы не прошли даром и для литератур-
но-теоретического и критического сознания. Б. М. Эйхенбаум гово-
рил о необходимости «обратиться к теоретическим основам на-
шей науки»72, Г. А. Гуковский видел цель в том, чтобы «создать
систему науки, общую концепцию истории литературы»73. Победа
принесла надежду на возрождение литературы, на освобождение
из-под партийного диктата, на то, что будут созданы условия для
свободного развития науки о литературе и критики.
Этим надеждам не суждено было реализоваться. Постановле-
ние ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 14 авгу-
ста 1946 г. предопределило начало нового, послевоенного, этапа
общественно-политической и литературной жизни. Главным объек-
том уничтожающей критики оказались в нем А. Ахматова и М.Зо-
щенко. Ленинградские журналы обвинялись в безыдейности, аполи-
тичности, проповеди «искусства для искусства». За ним последовала
целая серия постановлений: 26 августа — «О репертуарах драмати-
ческих театров и мерах по его улучшению»; 4 сентября — «О кино-
фильме “Большая жизнь”». В 1948 г. были приняты постановления
«Об опере “Великая дружба” В. Мурадели», «О журнале “Кроко-
дил”», «О журнале “Знамя”». Проверка выполнения редакцией жур-
нала «Знамя» Постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и
“Ленинград”». Необходимо сказать, что постановления 1946—1948
гг. не были лишь формой жесточайшей политической проработки
и не только обосновывали идеологические репрессии в области
культуры. Они формулировали четкую идейно-эстетическую плат-
форму литературы послевоенного десятилетия.
Положения Постановления «О журналах “Звезда” и “Ленин-
град”» были развиты в докладе члена Политбюро, секретаря ЦК
72 Эйхенбаум Б. М. Надо договориться//Литературная газета, 13 октября 1945 г.
73 Гуковский Г. А. Заметки историка литературы//Литературная газета. 15 сен-
тября 1945 г.
62
Огосударствление
ВКП(б) А. А. Жданова (готовившего это и будущие постановле-
ния) на собрании ленинградского партактива. Объясняя, что по-
становление направлено против беспринципности, «чистого ис-
кусства», «воспитания молодежи в духе наплевизма», Жданов ссы-
лался на эстетическую концепцию революционеров-демократов,
в первую очередь Н. Добролюбова, опираясь на его идеи реализма
и народности литературы. Столь же актуальны оказались и эстети-
ческие принципы революционно-демократической «реальной кри-
тики», основанные на том, что значимость произведения опреде-
ляется не столько авторским замыслом и идеологией писателя,
сколько действительностью, в нем отраженной. «Для нас, — цити-
рует Жданов Добролюбова, — не столько важно то, что хотел ска-
зать автор, сколько то, что сказалось им, хотя бы и ненамеренно,
просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни»74.
Из этого следовало, что мировоззрение художника и его клас-
совая принадлежность не имели для художественного творчества
решающего значения. Важнее оказывался реалистический метод,
который как бы автоматически давал возможность художнику под-
няться над своими классовыми взглядами и встать на позиции об-
щенародные. Подобные идеи были прямо выражены в учебнике
Л. И. Тимофеева «Теория литературы» (1948). Эта книга многократ-
но переиздавалась и имела прямое воздействие на литературно-
критическое сознание. «При большой глубине познания, — писал
Тимофеев, — писатель может подняться над своими классовыми
интересами и его произведения могут приобрести общенародное
значение»75.
Таким образом, и постановления 1946—1948 гг., и литератур-
но-теоретическая мысль во второй половине 40-х годов склоня-
лись к идеям приоритета народного, национального над классо-
вым, обоснованным в конце 30-х годов на страницах журнала «Ли-
тературный критик» в ходе дискуссии о соотношении метода и
мировоззрения художника. Объективно сложилось так, что в 40-е
годы была официально принята идея, отброшенная официальной
идеологией в конце 30-х годов и раскритикованная в Постановле-
нии 1940 г. «О литературной критике и библиографии». Она была
сформулирована авторами «Литературного критика» М. Розента-
лем, И. Сергиевским, Г. Лукачем, М. Лифшицем и предполагала,
™ Добролюбов Н. А. Поли. собр. соч. М., 1935. Т. 2. С. 207.
75 Тимофеев Л. И. Теория литературы. М., 1948. С. 11—12.
63
Раскол
что художник может отразить действительность верно и объектив-
но даже вопреки своему мировоззрению — в том рлучае, если он
придерживается реалистического метода. Реализм в концепции «воп-
рекистов» (такое название получили они в кулуарах дискуссии)
как бы автоматически гарантировал вопреки мировоззрению объек-
тивное изображение действительности с точки зрения народности
литературы. С другой стороны, писатель-нереалист оказывался под
подозрением. Таким образом, концепция вопрекизма предлагала
теорию двухпоточности, которая претерпевала целый ряд измене-
ний в ходе дискуссии, оставляя неизменной свою сущность. Один
поток, «прогрессивный», составляли реалисты, другой, значитель-
но менее перспективнй, писатели, далекие от реалистических прин-
ципов.
Ссылка А. Жданова на эстетические принципы реальной крити-
ки в ситуации второй половины 40-х годов объективно означала опору
на принципы отвергнутого в конце 30-х вопрекизма (разумеется,
без каких-либо ссылок на журнал «Литературный критик»).
С этих позиций решался в 40-е годы и вопрос о классическом
наследии. Вопрекистская теория двухпоточности предполагала раз-
деление всей предшествующей литературы на «реакционное» те-
чение, куда входили символизм, акмеизм, имажинизм, писатели-
народники. Изучать или, тем более, преподавать этот поток не сле-
довало, характеризовался он лишь в духе политической проработки.
Так, из концепции литературного развития исключались В. Брю-
сов, А. Блок, О. Мандельштам, С. Есенин, М. Булгаков, А. Плато-
нов, Е. Замятин, И. Бабель... Другое течение, реалистическое, нес-
ло в себе три основные черты — реализм, демократизм, народность —
и мыслилось как предтеча современной советской литературы. Сло-
жилась ситуация, когда демократизм, реализм и народность как
бы обеспечивали художнику прошлого (да и настоящего) право
литературного бытия. Естественно, что с конца 40-х годов в лите-
ратурно-критический обиход эти понятия вошли предельно рас-
ширенными и не конкретизированными, употреблялись они, ско-
рее, в политико-идеологическом ключе, а не в собственно эстети-
ческом.
Но самое страшное состояло в том, что теория двухпоточнос-
ти, выработанная вопрекистами в 30-е годы, оказалась приложена
во второй половине 40-х годов не только к прошлому литературы,
но и к ее современному состоянию. В ней выделялись прогрессив-
ный и реакционный потоки. Постановления положили начало трав-
ли писателей, не попадавших в «прогрессивный» поток: М. Во-
64
Огосударствление
щенко, А. Ахматова, Н. Заболоцкий, А. Платонов, Б. Пастернак...
Эти кампании проводились на страницах газет и журналов, на со-
браниях писательской общественности, партийных активах и т.п.
Характерны заголовки редакционных статей «Правды» на рубеже
40—50-х годов: «Выше уровень литературной критики!», «Против
опошления литературной критики», «Против рецидивов антипат-
риотических взглядов в литературной критике», «О требователь-
ности в художественном творчестве», «Преодолеть отставание дра-
матургии», «За идейность и мастерство советской литературы».
Секретарь Союза писателей А. Фадеев в одном из своих выступле-
ний так приложил к современной литературной ситуации возвра-
щающуюся в литературно-критический обиход концепцию двух-
поточности: он разоблачал «литературную традицию, издавна про-
тивостоящую традициям русской революционно-демократической
литературы и тем более традиции большевистской, ленинско-ста-
линской. <...> сейчас как никогда возрастает роль нашей литера-
турной теории и критики, которая должна определить и конкрет-
ных носителей этой опасности, стоящей на нашем пути, и истоки
этой опасности»76.
Если к конкретным носителям этой опасности были причис-
лены художники, составившие, как видно теперь, славу русской
литературы XX в., то о писателях, представлявших «большевист-
скую, ленинско-сталинскую традицию» (М. Бубеннов, В. Ажаев, С. Ба-
баевский и др.), слагались хвалебные статьи. Высшей оценкой худо-
жественного произведения стала Сталинская премия. Критические
обзоры превратились в списки «достижений социалистического
реализма». Характерны названия сборников литературно-критичес-
ких статей той эпохи: «Новые успехи советской литературы»; «Вы-
дающиеся произведения советской литературы»; «Советская лите-
ратура на подъеме».
Период второй половины 40-х — первой половины 50-х годов
характеризуется окончательным «оледенением» литературной и
культурной ситуации. Теория социалистического реализма, пре-
вратившаяся в окаменевший шаблон, сводимая к простейшим оп-
ределениям, накладывалась на литературу; все, что не соответ-
ствовало ей, просто не могло увидеть свет. Скольких талантливых
художников, пришедших с войны и не сумевших реализовать себя
в послевоенной литературной ситуации, потеряла русская литера-
76 Литературная газета. 2 октября 1946 г.
65
Раскол
тура, можно лишь гадать — их имена неизвестны. Некоторые из
них все же смогли заявить о себе позже — в период оттепели:
С. Гудзенко, А. Межиров, С. Орлов. Имя замечательного поэта во-
енного поколения К. Левина стало известно лишь в конце 80-х
годов. За стихотворение «Враги сожгли родную хату» был подверг-
нут жесточайшей критике М. Исаковский.
Литературную жизнь этого периода определяли политические
кампании (борьба с космополитизмом, дело врачей), сотрясавшие
всю общественную жизнь и требующие немедленной реакции об-
щественности, в том числе литературной. Все это парадоксальным
образом сочеталось с лакировочными тенденциями и теорией бес-
конфликтности, господствовавшими в конце 40-х годов и вдруг
резко отвергнутыми в начале 50-х. Однако это противоречие (од-
новременное присутствие в общественной жизни проработочных
политических кампаний и лакировочных устремлений) лишь ви-
димое. Современные исследования соцреалистической культуры
показали, что в ее основе лежит целая серия бинарных оппози-
ций, представляющих прямо противоположные тенденции: конф-
ликтность — бесконфликтность; лакировка — жизненная правда
и т.д. При этом тоталитарная культура не видит противоречия между
ними, актуализируя в нужный момент тот или иной полюс77.
Когда уничтожающей критике был подвергнут Исаковский за
стихотворение, показавшее горечь победителя, покорившего «три
державы» и вернувшегося на пепелище родного дома, актуализи-
ровалась парадигма лакировки и бесконфликтности: изображение
всего негативного, в том числе и человеческого горя, было невоз-
можно. Литература ориентировалась лишь на изображение пози-
тивного, такова была идеологическая программа. «Прошло немало
времени со дня окончания войны, — писала «Литературная газе-
та» в 1946 (!) г. — Новые огромные задачи встали перед нами. На-
род с упорным трудом, с энтузиазмом взялся за возрождение ра-
зоренных районов, за выполнение предначертаний новой сталин-
ской пятилетки. <...> Что же делают в это время некоторые наши
литераторы? Журнал «Знамя» печатает из номера в номер стихи
молодых поэтов. Сколько грусти в них, сколько безысходной печа-
ли, порою переходящей в нытье. Как плакальщицы, разметались
поэты на журнальных страницах и на все лады выводят свои моти-
вы. <...> Глядеть в наше прошлое надо из сегодняшнего дня, глаза-
77 Добренко Е. Соцреалистический мимесис, или «жизнь в ее революционном
развитии»//Соцреалистический канон. СПб., 2000.
66
Огосударствление
ми живого человека, а не вмерзшего в лед, пригвожденного к ви-
дению военных лет»78.
Политическая установка требовала изображения лишь позитив-
ного, тех самых «лакировочных тенденций» (с которыми буквально
через несколько лет начнется борьба), возникали табуированные
темы79, обращение к которым было невозможно: тема смерти, горя,
лишения, цены, которой далась победа. Е. Добренко называет пери-
од с 1946 по 1952 г. периодом постутопического сознания: это время
свершившейся утопии, утопии, ставшей реальностью.
Идеологом постутопического сознания выступает В. Ермилов.
«Любая, самая красивая, смелая поэтическая мечта художника
находит живой отклик у миллионов советских людей. Поэзия пе-
реходит в жизнь, потому что сама жизнь стала поэтической», —
писал он в «Литературной газете» в 1947 г. Годом позже он сфор-
мулировал, опять же с опорой на революционно-демократичес-
кую критику, лозунг постутопического сознания: «Прекрасное —
это наша жизнь». «Знаменитый тезис Чернышевского: «прекрас-
ное есть жизнь», — расшифровывается для нас в наше время, как
положение о том, что прекрасное — это наша социалистическая
действительность, наше победоносное движение к коммунизму»80.
Период реализовавшейся утопии актуализирует теорию бескон-
фликтности, создававшуюся еще в ЗО-е годы: если мир соверше-
нен и прекрасен, как утверждает советская литература этого пери-
ода, то в нем и не может быть не только антагонистических конф-
ликтов, но и конфликтов вообще. Произведение может строиться
на конфликте хорошего с лучшим, лучшего с отличным.
В 1952 г. ситуация резко изменилась и актуализирована оказа-
лась противоположная парадигма, содержащаяся в культуре. Ло-
зунг «прекрасное — наша жизнь» не исчез, но как бы ушел в пас-
сивное бытование, дополнясь, казалось бы, противоположным:
«кругом враги». Весной 1952 г. «Правда» в одной из передовиц возве-
стила о том, что «нам нужны Гоголи и Щедрины» для того, что-
бы бичевать недостатки, мешающие движению вперед. В отчетном
78 Литературная газета. 2 октября 1946 г.
” Эткинд Е. Советские табу//Синтаксис. Париж, 1981. № 9. Эткинд показыва-
ет, как из поля зрения советской литературы ушли темы, составлявшие подлин-
ную, а не вымышленную национальную жизнь: она не знает ни изображения
насильственной коллективизации, ни административных ссылок, ни политичес-
ких репрессий, ни голода.
80 Ермилов В. За боевую теорию литературы! Против «романтической» путани-
цы!//Литературная газета. 15 сентября 1948 г.
67
Раскол
докладе Маленкова XIX съезду КПСС говорилось о том, что «наши
писатели и художники должны бичевать пороки,и недостатки,
болезненные явления, имеющие распространение в обществе. Нам
нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры вы-
жигали бы из жизни все отрицательное, прогнившее, омертвев-
шее, все то, что тормозит движение вперед». Казалось бы, трудно
представить, что еще год назад лозунгом дня был «прекрасное —
наша жизнь». Поэтому в начале 50-х годов начинается борьба с
теорией бесконфликтности и лакировочными тенденциями, ко-
торые были частью литературно-государственной политики. На
журнальных страницах вновь замелькала лексика 1937 г. «Дело вра-
чей», прекращенное тут же после смерти Сталина, было, вероят-
но, лишь началом нового жесточайшего витка репрессий.
С одной стороны, послевоенное десятилетие, таким образом,
демонстрировало парадоксальную ситуацию, сложившуюся в нед-
рах советской культуры: теория бесконфликтности и лакировка,
восторжествовавшие в конце 40-х годов, были прямым следствием
самовозвеличения советской системы как основы ее самостояния
в позднесталинский период. С другой стороны, сама система осно-
вывалась на конфронтационном мышлении, на поиске своих вра-
гов — внешних и внутренних. Поэтому переход начала 50-х годов
от периода свершившейся утопии к борьбе с пороками и недо-
статками лишь мнимый, он характеризует саму культуру, постро-
енную на оппозиционных парадигмах. Рубеж 40—50-х годов демонст-
рирует переход от одной парадигмы, представленной постутопи-
ческим лозунгом «прекрасное — наша жизнь», к другой: кругом
враги, усиление классовой борьбы, повышение бдительности.
Обе парадигмы настолько не противоречили, но дополняли
друг друга, что могли совместиться под одной обложкой. Две, ка-
залось бы, разнонаправленные тенденции присущи книге А. Тара-
сенкова «Идеи и образы советской литературы» (1949). Ее первая
глава называется «Советская литература на путях социалистического
реализма» и содержит исторический очерк победоносного движения
ко все новым литературным свершениям под руководством т. Стали-
на — условно говоря, она представляет апологетическую парадигму
культуры. Проблематику второй главы, напротив, определяет поиск
врагов. Она спровоцирована одной из поздних сталинских полити-
ческих кампаний и называется «Космополиты от литературоведе-
ния». Ее суть составляет псевдонаучная полемика со школой А.Ве-
селовского, вина которого состояла в его «влюбленности» в Запад
и западную литературу, которая, по его ошибочному мнению,
68
Синтез?
развивалась под их коренным воздействием. «Эта грубо ошибочная
антиисторическая концепция привела Веселовского к благоговей-
ному преклонению перед всем иностранным». Истина же состоит
в том, что русская литература развивалась обособленно, вне кон-
тактов с Западом; лишь живая историческая практика классовой
борьбы определяла и определяет историю литературы.
Обращение к прошлому с целью поиска там «космополитов от
литературоведения» нужно для того, чтобы разоблачить современ-
ных космополитов. Среди них оказывается В. Я. Пропп, книга кото-
рого «Исторические корни волшебной сказки» стала объектом вуль-
гарной и несправедливой критики. «Всячески тасуя по методу Весе-
ловского сотни сюжетов, — пишет Тарасенков, — Пропп устраивает
фантастические комбинации. Разные народы, разные эпохи мелька-
ют в его книге, как в калейдоскопе». Воспроизводя цепь культурно-
исторических соответствий, обнаруженных Проппом (мотив клей-
мения героев прядью волос в русской сказке — лопарский миф о
смешении крови у жениха и невесты — австралийский дикарский
обряд питья крови друг у друга новобрачными — негритянский и
арабский обряд питья крови), Тарасенков приходит к следующему
трагикомическому выводу: «Цепь нашего исследователя замкнута.
Родство мотивов сказки русского народа с каннибальскими обычая-
ми негров доказано. Неужели Пропп не понимает, что он клевещет
здесь на русский народ, на наш прекрасный поэтический эпос, в
котором не было никогда ничего общего с каннибализмом?»
Научные идеи В. Я. Проппа, восходящие к школе сравнитель-
но-исторического литературоведения, оказываются объектом кри-
тики с принципиально иных позиций — позиций политической
кампании борьбы с космополитизмом.
Жесткая идеологическая и культурная конструкция «соцреа-
листический канон» просуществовала в таком виде до середины
50-х годов. Смерть Сталина в 1953 г. не только спасла страну от
нового вала репрессий, но и открыла Хрущеву путь к XX съезду
КПСС, положившему начало периоду «оттепели», как определил
это время И. Эренбург.
Синтез?
В 20-е годы началось культивирование химеры, завершившееся
лишь в конце 50-х годов. В сущности, вся монистическая концеп-
ция советской литературы была направлена именно на это. Поэто-
69
Раскол
му столь наивны и не ко двору оказались попытки В. Ходасевича
«привить классическую розу к советскому дичку»: антисистема не
терпит никакой прививки и классическая роза, которая может быть
воспринята почти без изменения формы, неизбежно наполнится
совершенно иным содержанием.
Но сложнейшие процессы русской жизни, ведущие свое нача-
ло от рубежа веков и первых лет нынешнего века, вовсе не исчер-
пываются всего лишь взаимной аннигиляцией двух противопос-
тавленных слоев национальной культуры и образованием на пепе-
лище химерической конструкции. Все выглядит сложнее.
Во-первых, химера господствует — но лишь на поверхности.
Ею вовсе не исчерпывается литература ни 20-х, ни 50-х годов.
Во-вторых, в недрах литературного процесса продолжают жить
обе тенденции, оба направления — но они, наконец-то, пожалуй,
всего лишь второй раз за последние три столетия приходят к син-
тезу. Синтез, вероятно, оказался возможен благодаря давлению
антисистемы, господствовавшей на поверхности и создававшей
необходимые «геологические» условия в недрах литературной и
культурной жизни. Результатом такого синтеза стал, например,
роман «Доктор Живаго» Б. Пастернака, где судьба народа и судьба
частного человека, принадлежащего к профессорской, кабинет-
ной, элитарной культуре, от которой он не захотел и не смог
отречься ни в каких обстоятельствах, принципиально уравнены в
правах.
В-третьих, мощнейший слой русской культуры оказался вы-
плеснут в диаспору. Этот огромный, ни с чем не сравнимый выб-
рос в мир русского сознания, воплощенного в литературе, искус-
стве, музыке, утонченной религиозно-философской мысли, сфор-
мировал удивительный феномен русского рассеяния.
В целом можно говорить о некой общности, целостности, ос-
нованной на эстетических и, если угодно, бытийно-философских
концепциях, сложившихся в этих двух потоках русской литерату-
ры в течение XX в. Несколько упрощая, можно сказать, что дис-
танция между литературной метрополией и диаспорой определе-
на как раз различным пониманием человеческой индивидуально-
сти и ее места в жизни всеобщей. Можно сколь угодно много
рассуждать о прерванности литературной традиции в октябре 1917 г.
Действительно, традиция была насильственно прервана. Но она
вовсе не была единственной традицией! Напротив, ведя свою ро-
дословную от заимствованного на Западе в Петровскую эпоху клас-
сицистического искусства, произрастая из блистательного дво-
70
Синтез?
рянского XIX в., впитав в себя пушкинский и чеховский дух, она
была, как это ни грустно нам признать вслед за самими ее пред-
ставителями, такими, как А. Блок или Е. Кузьмина-Караваева,
противопоставлена народной культуре. Она несла в себе, скорее,
идею свободной суверенной личности, в определенной степени
чуждую народному сознанию, основанному на общинности, на
коллективном, всеобщем начале. Именно это начало и осталось в
литературе советского периода в качестве не единственного, но
доминирующего над всем прочим. И благодаря ему оказался воз-
можен сам феномен советской литературы с заранее предопреде-
ленным приоритетом коллектива, массы над личностью, с созна-
тельным подчинением личности массе, в радостном растворении
в ней. Эта идея, получившая мощнейшее художественное вопло-
щение, заставила поэта-индивидуалиста В. Маяковского наступать
на горло собственной песне во имя атакующего класса, заставила
А. Фадеева привести своего героя из романа «Разгром» к преда-
тельству только потому, что в нем было достаточно индивидуаль-
ности, которой он не захотел пожертвовать, растворив ее в массе
партизан, не понявших и не принявших его. Эта идея заставила
И. Эренбурга привести героя романа «День второй» к полному
краху только из-за того, что он хотел быть самим собой, но не
винтиком огромной стройки. История русской литературы XX в.
знает множество подобных художественных решений, немысли-
мых в веке XIX. Сложившаяся в метрополии химерическая конст-
рукция заимствовала в уродливом и извращенном виде черты на-
родной культуры, сделав их антинародными, доведя до апогея
идею несвободы человеческой личности, ее подчиненности кол-
лективу — на сей раз коллективу социалистическому, трудовому,
цеховому и т.д.
Идея безоглядного подчинения личности обществу нашла вы-
ражение и в интеллигентском мироощущении — как своего рода
комплекс вины перед народом и в безоглядном желании растворе-
ния в коллективе, желании «встать в круг», страхе оказаться одно-
му, за гранью всеобщей жизни. С. Франк обозначил эту черту как
следствие «нигилистического морализма» русского интеллигента:
«высшая и единственная задача человека есть служение народу, а
отсюда, в свою очередь, следует аскетическая ненависть ко всему,
что препятствует или даже только не содействует осуществлению
этой задачи, <...> поэтому человек обязан посвятить все свои силы
улучшению участи большинства, и все, что отвлекает его от это-
71
Раскол
го, есть зло и должно быть беспощадно истреблено»81. Так что в
художественных концепциях И. Эренбурга или Ю., Либединского
мы видим не столько характерный для русского менталитета при-
оритет массы над личностью, сколько проявление интеллигент-
ского «нигилистического морализма», который заставляет автора
отказать герою в праве на самоценность, значимую вне зависимо-
сти от конкретной утилитарной пользы, которую тот способен
принести на алтарь народного или революционного блага.
Но иначе выглядел русский XX век в диаспоре: несмотря на
наличие, скажем, концепций И. А. Ильина, полагающего общин-
ность корневым и единственным качеством русского националь-
ного самосознания, или же произведений И. Шмелева, литература
русского рассеяния художественно воплощала традиционную за-
падную идею самоценности человеческой личности, ее несводи-
мое™ к некому родовому целому, будь то класс, коллектив, об-
щина, партячейка. Понимая всю уязвимость подобного определе-
ния, можно все же сказать, что пафосом диаспоры была идея
суверенитета человека, которая сказывалась то в набоковском от-
казе от общественного служения литературы, в принципиальном
нежелании автора и героя жертвовать собой, своим счастьем, семьей
во имя какой бы то ни было социальной концепции или же по-
стигнутого раз и навсегда народного счастья (которого народ, как
показывает историческая практика, чаще всего сам-то и не пони-
мает); то в утонченном эстетизме И. Бунина и того же В. Набокова;
то в исторических романах М. Алданова, где, в отличие от советс-
ких исторических романистов, писатель трактует как фактор исто-
рии личность, человеческую индивидуальность, но не борьбу клас-
сов и движения рабочих и крестьянских масс.
Поэтому два потока, метрополия и диаспора, некогда во-
лею исторических судеб разлученные, а также литература, со-
здающаяся в недрах литературного процесса советского време-
ни, но не нашедшая выход к читателю, являют собой мощней-
шие разнозаряженные культурные тенденции, несущие прин-
ципиально разные эстетические и философские наполнения и
формирующие грандиозную художественную контроверзу рус-
ской культуры XX в.
81 Франк С. Л. Этика нигилизма. С. 185.
II
КУЛЬТУРНЫЙ вакуум
«Человек массы»
как новый субъект истории
Три революции начала XX в. насильственно прервали естествен-
ный путь русского культурного развития.
Люди, жившие на рубеже веков, ощущали принципиальную
новизну культурной и исторической ситуации, которая должна
была определить новый век — двадцатый. Эта новизна обуславли-
валась подспудным, а иногда и вполне явным ощущением появле-
ния в русской действительности некого нового начала, с неизбеж-
ностью затрагивающего все сферы культуры в самом широком
смысле слова. Эта новизна связывалась столь разными мыслителя-
ми, философами, художниками, публицистами, как, например,
В. И. Ленин, А. Блок, Д. Мережковский, с появлением на истори-
ческой арене принципиально нового субъекта истории. Можно было
приветствовать его появление, как это делал Ленин, негодовать
по его поводу, как Мережковский, смиренно принимать его появ-
ление, жертвуя самим собой и опытом предшествующей цивили-
зации, как Блок, но нельзя было отрицать, что он несет с собой
новые основания общественной и культурной жизни.
Этим новым субъектом русской истории был не социальный
слой, не класс, не политическая партия. Это было некое новое
начало, пришедшее в общественную жизнь и пытающееся заявить
о себе и о своем праве на собственное место в культуре, на актив-
ное участие в историческом процессе. Эту новую субстанцию в
историческом процессе XX в. современники называли массой. Ее
представителем в общественной жизни, культуре, искусстве, ли-
тературе был «человек массы».
73
Культурный вакуум
«Буря, — это движение самих масс, — писал Ленин в 1912 г. —
Пролетариат, единственный до конца революционный класс, под-
нялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной
борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 г. Сле-
дующий начинает расти на наших глазах»82.
Крушение гуманизма. Ленин чувствовал в массе начало разру-
шительное для всей предшествующей цивилизации и с ее появле-
нием связывал надежды на слом старого мира. Разрушительное
начало, которое она несла в себе, чувствовали многие, но относи-
лись к нему далеко не с ленинским оптимизмом. А. Блок, вгляды-
ваясь в нее, провозглашал идею очистительной жертвы, которую
должна будет принести прежняя культура, построенная на инди-
видуально-личностном начале, выдвинувшая в центр фигуру ху-
дожника-творца и уже в силу этого противопоставленная скопи-
щу, массе. Предшествующая культура, культура личности, куль-
тура гуманизма, обречена, она устарела и одряхлела. На ее место
придет новая культура, которую принесет с собой масса. Поэтому
с грустью прощания со старой культурой, но и с наивной надеж-
дой на появление некой новой Блок призывал современников сво-
его круга, представителей культуры гуманизма, бросить под ноги
нецивилизованных варварских полчищ всю предшествующую куль-
туру, полагая крушение гуманизма исторической закономернос-
тью и неизбежностью.
Новую эпоху, эпоху XX в., Блок склонен был рассматривать
как время противостояния двух начал: гуманистического, личност-
но-индивидуального, и противоположного ему, связанного с мас-
сой. «Понятием гуманизма привыкли мы обозначать прежде всего
то мощное движение, <...> лозунгом которого был человек — сво-
бодная человеческая личность. Таким образом, основной и изна-
чальный признак гуманизма — индивидуализм»83.
Понятие гуманизма в сложной системе философских взглядов
Блока мы можем воспринять как обозначающее начало, связанное
с появлением образованной личности, индивидуальности со слож-
ной внутренней жизнью, вносящей свой вклад в культуру челове-
чества. Именно гуманизм как основание европейской культуры,
оправдывающий выдвижение суверенной личности из массы, осоз-
нание ею собственной индивидуальности и неидентичности, ос-
мысляется Блоком как главное направление развития европейской
82 Ленин В. И. Поли. собр. соч. 5-е изд. Т. 21. С. 261.
83 БлокА. Крушение гуманизма//Собр. соч.: В 5 т. М., 1971. Т. 5. С. 452.
74
«Человек массы» как новый субъект истории
истории и культуры — от позднего средневековья до конца XIX
столетия. Но общая историческая и культурная ситуация рубежа
веков предстала в ином свете — как переломный момент, трагич-
ный для судеб культуры, основанием которой был гуманизм и
понимание самоценности личности — быть может, даже не столько
ее прав и свобод, сколько самой ее неповторимости и безгранич-
ности ее творческого потенциала. На смену ей шла безличность
массы. «Движение, исходной точкой и конечной целью которого
была человеческая личность, могло расти и развиваться до тех пор,
пока личность была главным двигателем европейской культуры. Мы
знаем, что первые гуманисты, создатели независимой науки, свет-
ской философии, литературы, искусства школы, относились с
открытым презрением к грубой и невежественной толпе. Можно
хулить их за это с точки зрения христианской этики, но они были
и в этом верны духу музыки, так как массы в те времена не были
движущей культурной силой, их голос в оркестре мировой исто-
рии не был преобладающим. Естественно, однако, что, когда на
арене европейской истории появилась новая движущая сила — не
личность, а масса, — наступил кризис гуманизма»84.
В этой закономерной смене субъектов исторического и куль-
турного процесса Блок и видит причину крушения гуманизма —
основы европейской цивилизации. Масса, по его мнению, орга-
нически чужда гуманистического духа индивидуальности, поэто-
му ее приход и господство приведут к краху традиционного устоя,
ибо масса никогда не проникнется цивилизацией. Но с появлени-
ем массы на исторической арене Блок связывает надежду на появ-
ление некой новой культуры, так как масса, варвары, могут быть
ее подсознательными хранителями. Отсюда смелое решение и наив-
ная готовность бросить под ноги надвигающейся варварской массе
традиционную гуманистическую культуру, предоставив ей, мас-
се, быть творцом культуры новой. «Цивилизовать массу, по мысли
Блока, не только невозможно, но и не нужно. Если же мы будем
говорить о приобщении человечества к культуре, то неизвестно
еще, кто кого будет приобщать с большим правом: цивилизован-
ные люди — варваров, или наоборот: так как цивилизованные люди
изнемогли и потеряли культурную цельность; в такие времена бес-
сознательными хранителями культуры оказываются более свежие
варварские массы»85.
84 Там же. С. 453.
85 Там же. С. 458.
75
Культурный вакуум
Кризис гуманизма, кризис культуры, построенной на лично-
стно-индивидуальном начале, осмысляется Блоком как законо-
мерное и естественное явление. В рокоте надвигающегося потока
массы он предлагал соотечественникам услышать новую музыку.
Верный своей идее рождения гармонии из хаоса, он и в раскатах
надвигающейся революции и бунта пытался различить будущую
гармонию бытия, устроенную на новом начале, оправдывая таким
образом идею жертвы, личной и общей, которую предлагал при-
нести всем, кто способен слушать «музыку революции», и кото-
рую сполна принес сам, увы, не найдя своего места в новом «ми-
ровом оркестре».
Если Блок из грядущего господства «человека массы» делал
оптимистические выводы и, предчувствуя трагедию гибели тради-
ционной культуры гуманизма, был способен пережить катарсис,
дающий возможность приветствовать свежие варварские массы в
качестве хранителей культуры, то подавляющее большинство пред-
ставителей русской культурной элиты рубежа веков воспринима-
ли грядущее господство массы как господство Грядущего Хама.
«Одного бойтесь, — пророчески восклицал Мережковский, —
рабства и худшего из всех рабств — мещанства и худшего из всех
мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воца-
рившийся хам и есть чорт — уже не старый, фантастический, а
новый, реальный чорт, действительно страшный, страшнее, чем
его малюют, — грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам»86. Но в
работе Мережковского содержалась не просто анафема Грядущему
Хаму. Писатель одним из первых в русской философской публицис-
тике рубежа веков попытался обосновать особенности его миропо-
нимания, которым будет обусловлено его грядущее царство, цар-
ство от мира сего.
В основе этого миропонимания, по Мережковскому, лежит столь
ненавистный ему мертвенный позитивизм. «Все просто, все плос-
ко. Несокрушимый здравый смысл, несокрушимая положительность.
Есть то, что есть, и ничего больше нет, ничего больше не надо.
Здешний мир — все, и нет иного мира, кроме здешнего. Земля —
все, — и нет ничего, кроме земли. Небо — не начало и конец, а
безначальное и бесконечное продолжение земли. <...> Величайшая
империя земли и есть Небесная империя, земное небо, Середин-
ное царство — царство вечной середины, вечной посредственное -
86 Мережковский Д. С. Грядущий хам//Полн. собр. соч. М., 1911. Т. XL С. 34.
76
«Человек массы» как новый субъект истории
ти, абсолютного мещанства... Китайскому поклонению предкам,
золотому веку в прошлом соответствует европейское поклонение
потомкам, золотой век в будущем. Ежели не мы, то потомки наши
увидят рай земной, земное небо, — утверждает религия прогресса.
И в поклонении предкам, и в поклонении потомкам одинаково
приносится в жертву единственное человеческое лицо, личность
безличному, бесчисленному роду, народу, человечеству — «паюс-
ной икре, сжатой из мериад мещанской мелкоты» (слова Герцена,
цитированные Мережковским чуть ранее и повторенные опять. —
М. Г.), грядущему вселенскому полипняку и муравейнику»87.
Именно в потере индивидуальности и презрении к личности
(в блоковском смысле) видит Мережковский «лицо хамства, иду-
щего снизу — хулиганства, босячества, черной сотни»88 — самое
страшное из всех лиц Грядущего Хама, проявившихся в России.
Кто же сей Грядущий Хам? Кто составляет массу, требующую
все эти жертвы? Народ? В статье «О назначении поэта» А. Блок
говорит о двух началах русского общества: народе и черни. Давая
характеристику черни, он, сам того не подозревая, характеризо-
вал ту самую варварскую массу, с которой связывал идею рожде-
ния новой гармонии. «Чернь требует от поэта служения тому же,
чему служит она: служения внешнему миру; она требует от него
«пользы», как просто говорил Пушкин; требует, чтобы поэт «сме-
тал сор с улиц», «просвещал сердца собратьев» и пр.»89. Здесь Блок
как раз и определил основные черты массы, определил «физиоло-
гию» ее отдельного представителя.
Человек массы приходит в мир и легко и естественно распола-
гается в нем, требуя для себя максимально возможного комфорта.
Возможность требовать и диктовать — столь же неотъемлемая его
черта, как и утилитаризм, представления о том, что все блага мира,
цивилизации, культуры имеют право на существование постоль-
ку, поскольку удовлетворяют его потребности, но не сами по себе.
Массовый человек — явление исторического процесса, харак-
терное отнюдь не только для русской жизни, скорее, вообще для
европейской действительности XX в. Его портрет представил в
1930-е годы испанский философ X. Ортега-и-Гассет. С его точки
зрения, масса оказывается главным действующим лицом XX в.,
его диктатором. В целой серии его работ, и в первую очередь в
87 Там же. С. 6—7.
88 Там же. С. 35.
85 Блок А. О назначении поэта. С. 522.
77
Культурный вакуум
статье «Восстание масс», он приравнивает массу к толпе, психо-
логию массы — к психологии толпы и выделяет особый культур-
но-психологический тип — тип «человека массы».
«Масса — это средний человек. <...> Это совместное качество,
ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере, в какой он не
отличается от остальных и повторяет общий тип. <...> В сущности,
чтобы ощутить массу как психологическую реальность, не требу-
ется людских скопищ. По одному-единственному человеку можно
определить, масса это или нет. Масса — всякий и каждый, кто ни
в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким
же, «как и все», и не только не удручен, но доволен собственной
неотличимостью. <...> Масса — это посредственность... особенность
нашего времени в том, что заурядные души, не обманываясь на-
счет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право
на нее и навязывают ее всем и всюду.<...> Масса сминает все не-
похожее, недюжинное, личностное и лучшее»90. Масса, по мысли
философа, обладает достаточно четко определенными свойствами
поведения в историческом пространстве: она плывет по течению,
лишена ценностных ориентиров, поэтому становится объектом
любых, самых чудовищных политических манипуляций. Ее энер-
гия направлена не на творчество, а на разрушение. Массовый че-
ловек не созидает, даже если силы его огромны. Все это дает воз-
можноть выделить черты «анатомии» и «физиологии» «человека
массы». Это, во-первых, не ограниченный нуждой рост потребно-
стей, на удовлетворение котоых направлена вся современная тех-
ника со своими все возрастающими ресурсами, при этом потреб-
ности эти носят исключительно материальный, но не духовный
характер. Духовные потребности человека массы сведены к мини-
муму. Во-вторых, полное отсутствие социальных барьеров, сосло-
вий, каст, когда все люди узаконенно равны, заставляет «челове-
ка массы» любому другому человеку, принадлежащему меньшин-
ству, диктовать равенство с собой.
О том, как подобное требование «человека массы» воплоти-
лось на русской почве 1920-х годов, писал в первой редакции «Хож-
дения по мукам» А. Н. Толстой: «На трон императора взойдет ни-
щий в гноище и крикнет — «Мир всем!». И ему поклонятся, поце-
луют язвы. Из подвала, из какой-нибудь водосточной трубы вытащат
существо, униженное последним унижением, едва похожее-то на
50 Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 309—311.
78
«Человек массы» как новый субъект истории
человека, и по нему будет сделано всеобщее равнение». Толстой,
действительно, уловил важную грань общественных «массовых»
настроений: право «человека массы» предложить обществу всеоб-
щую унификацию с собой выразилось в концепциях личности
Пролеткульта и ЛЕФа, именно с ними полемизировал Е. Замятин
в романе «Мы».
Ортега-и-Гассет определяет некоторые черты психологическо-
го склада «человека массы»: беспрепятственный рост жизненных
запросов, ведущий к безудержной экспансии собственной нату-
ры, и врожденная неблагодарность ко всему, что сумело облегчить
его жизнь и дать возможность этим запросам реализоваться. В ре-
зультате «человек массы» по своему душевному складу напомина-
ет избалованного ребенка. Его мирочувствование определяется, «во-
первых, подспудным и врожденным ощущением легкости и обиль-
ности жизни, лишенной тяжких ограничений, и, во-вторых,
вследствие этого — чувством собственного превосходства и всеси-
лия, что, естественно, побуждает принимать себя таким, какой
есть, и считать свой умственный и нравственный уровень более
чем достаточным. <...> И массовый человек держится так, словно
в мире существует только он и ему подобные, а отсюда и его тре-
тья черта — вмешиваться во все, навязывая свою убогость бесце-
ремонно, безоглядно, безотлагательно и безоговорочно...»91.
Из всего этого вырастают черты психологического склада «че-
ловека массы». Это неукоснительные представления обо всем, что
творится во вселенной, неумение слушать, неспособность допус-
тить, что существует еще какая-то иная позиция, потребность су-
дить, решать и выносить приговор. Возникает и приходит к власти
новый тип человека, который не желает ни признавать, ни доказы-
вать правоту, а намерен просто-напросто навязать свою волю. Это
человек, утверждающий право не быть правым, право произвола.
О грядущем владычестве «человека массы» уже с середины
прошлого века заговорили очень многие — имена А. Герцена или
Ф. Достоевкого, автора «Зимних заметок о летних впечатлениях»,
являются одними из наиболее заметных и значимых. В Европе оно
проявилось как страшное омещанивание, обуржуазивание массы,
как смена общечеловеческих ценностей буржуазными — в том смыс-
ле, какой вкладывали в это слово люди рубежа веков и какой вы-
разил И. Бунин в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Но только
51 Там же. С. 333-334.
79
Культурный вакуум
в России оно обернулось крушением государственности и прежней
культуры. Приход к власти «человека массы» сопровождался «рус-
ским бунтом, бессмысленным и беспощадным». «Заурядность,
прежде подвластная, решила властвовать. Решение выйти на аван-
сцену возникло само собой, как только созрел новый человечес-
кий тип — воплощенная посредственность»92.
Типы творческого поведения,
или Литературные амплуа
Итак, появление на исторической арене нового субъекта при-
вело к тому, что русская культурная ситуация и русская литерату-
ра, в частности, оказались определены в 20-е годы столкновением
двух разных начал: активно вытесняемой традиционной культуры
и новой псевдокультуры, которую принес с собой «человек мас-
сы». Те самые варварские массы, с которыми Блок связывал воз-
никновение новой цивилизации, новой гармонии бытия, несли
полное уничтожение предшествующей культуры. Человек массы
оказался в ситуации культурного вакуума.
«Разве не величайший прогресс то, — писал Ортега-и-Гас-
сет, — что массы обзавелись идеями, т.е. культурой? Никоим обра-
зом. Потому что идеи массового человека таковыми не являются и
культурой он не обзавелся. <...> Культуры нет, если нет основ за-
конности, к которым можно прибегнуть. Культуры нет, если к
любым, даже крайним взглядам нет уважения, на которое можно
рассчитывать в полемике. <...> Культуры нет, если эстетические
споры не ставят целью оправдать искусство.
Если всего этого нет, то нет и культуры, а есть в самом прямом
и точном смысле слова варварство»93.
Итак, подобное положение можно назвать ситуацией культур-
ного вакуума: сметя на своем пути культуру «гуманизма», масса не
смогла противопоставить ей что бы то ни было, что, в сущности,
вполне естественно: очевидно, что процесс разрушения требует
значительно меньше времени и усилий, чем созидание.
Как ситуация культурного вакуума отразилась на литературном
процессе?
52 Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 333.
53 Там же. С. 323-324.
80
Типы творческого поведения, или Литературные амплуа
Новая социокультурная ситуация. Характер литературного про-
цесса советского периода во многом предопределен изменением
социокультурных обстоятельств русской жизни после двух рево-
люций 1917 г. и последовавшей гражданской войны. Эти измене-
ния отразились на важнейших для литературного процесса отно-
шениях в системе «Читатель и Писатель».
В результате важнейших исторических событий второго десяти-
летия века изменился состав русских писателей и состав читатель-
ской аудитории, к которой они обращались.
Старый читатель, воспитанный на классике прошлого века или
же на утонченной и изысканной культуре рубежа веков, ушел с
авансцены. Миллионы людей, принадлежащих этому слою отече-
ственной культуры, в большинстве своем оказались в эмиграции,
полегли на полях гражданской войны. Оставшиеся же, получив имя
«бывшие», вряд ли могли сколько-нибудь заметно влиять на лите-
ратурный процесс. На авансцену выдвинулся новый читатель. С его
фигурой во многом связано изменение самого характера литера-
турного процесса.
Новую читательскую аудиторию составляли люди, оторванные
ранее от культуры и образования и несшие в себе вполне есте-
ственное стремление приобщиться к ним. Именно эти люди соста-
вили многотысячную армию слушателей студий Пролеткульта,
который на первом этапе своего существования мог приобщить их
хотя бы к элементарной грамотности и дать им первые эстетичес-
кие навыки. Но одновременно с этим позитивным началом новая
читательская аудитория под воздействием официальной пропаганды
и вульгарно-социологических концепций Пролеткульта, а затем и
РАПП, прочно усвоила свое право на требование исключительно
новой культуры и литературы, ибо дореволюционная литература
была пронизана идеологией иных, враждебных, классов. Это вну-
шило новому читателю право требовать и диктовать писателю, что
и как писать, и право подозрительного и враждебного отношения
к художнику, связанному с предшествующим этапом литератур-
ного развития. Это ничем реально не подкрепленное право быть
носителем высшего литературного и культурного суда новый чи-
татель пронес через всю советскую литературную историю: оно
проявилось и в письмах к М. Зощенко, где его корреспонденты
требовали отразить в рассказе тот или иной бытовой эпизод, и в
письме «простого рабочего» А. Твардовскому в конце 60-х годов, в
котором выражалось несогласие с литературной и общественной
позицией «Нового мира». Так вошло в литературную жизнь поня-
81
Культурный вакуум
тие социального заказа, соответствующее мироощущению нового
читателя.
Схожие изменения произошли и в писательской среде.
Художники, принадлежащие традиционной художественной
культуре, воспитанные на книгах XIX столетия, бывшие свидете-
лями и участниками художественной революции рубежа веков, уже
не могли занять подобающего места в литературе 20-х годов. Писа-
тели, сформировавшиеся до революции и определявшие направ-
ления творческого развития первых двух десятилетий века, как
И. Бунин и А. Куприн, в основном разделили участь своей аудито-
рии и оказались вместе с ней в диаспоре, осознав себя не в изгна-
нии, а в послании, гордо неся свою миссию сохранения культур-
ной традиции. Их участь разделили и те писатели, которые, будучи
привержены традиционным художественным ценностям, заявили
о себе, подобно В. Набокову и Г. Газданову, уже после того, как
завершилась революция и война. Мы можем лишь гадать, как мно-
го будущих писателей погибло в исторических катаклизмах первых
трех десятилетий XX в. Оставшиеся в России, как Е. Замятин, или
же вернувшиеся из эмиграции, как А. Толстой, стояли перед вы-
бором: измениться самим, подчинившись изменению политичес-
кого и культурного климата (этот путь избрал для себя А. Тол-
стой), или же быть в оппозиции, во «внутренней эмиграции», утра-
тить право голоса, что и произошло с Е. Замятиным.
Но рядом с ними появлялся новый писатель, как бы делегиро-
ванный в литературу новой читательской аудиторией, тоже участ-
ник гражданской войны, но уже из противоположного лагеря. Он
обладал богатым жизненным и историческим опытом, и в этом
смысле выгодно отличался от прежнего писателя. Именно опыт
героического периода национальной жизни стал предметом его
художественных рефлексий, в отличие от литератора предшеству-
ющего периода, предметом изображения которого была, по сло-
вам И. Бунина, сама литература Но, обладая жизненным опытом,
он не имел опыта эстетического претворения богатого жизненно-
го материала. Именно этот писатель занял в литературе описывае-
мого периода лидирующее положение.
Такой литератор оказывался в довольно сложном двойствен-
ном положении: с одной стороны, испытывая элементарную не-
хватку литературного и культурного опыта, он стремился как бы
компенсировать его отсутствие хотя бы самым элементарным при-
общением к традиции, какое, например, подразумевалось выки-
нутым рапповцами лозунгом «учебы у классиков». Результатом та-
82
Типы творческого поведения, или Литературные амплуа
кой учебы явился роман А. Фадеева «Разгром». С другой стороны,
такой писатель, выдвинутый и ангажированный массой, приобща-
ясь к культуре, мог отдалиться от своей почвы и в перспективе поте-
рять связь с ней. Подобная опасность тоже, вероятно, ощущалась
новым писателем. Так появляется Демьян Бедный, вовсе не испыты-
вающий дискомфорта от отсутствия какого бы то ни было элемента
художественности в своих произведениях, зато чутко улавливаю-
щий социальный заказ и говорящий на одном языке со своим чи-
тателем, уверенным в том, что именно это и есть литература.
Двойственность этого положения, когда новый (да и старый)
писатель оказывался между литературной традицией и массой, не
знающей и отвергающей эту традицию, стала следствием социо-
культурной ситуации 1920-х годов. Это тот момент, когда в обще-
стве, раздираемом противоречиями, в конфликт входят еще неис-
чезнувшие обломки прежней культуры и элементы активно фор-
мирующейся новой. Условно этот момент, когда старые основания
культуры рушатся, а новые еще не сложились, можно определить
как ситуацию культурного вакуума.
Каково было положение художника в этой ситуации? Разуме-
ется, он оказался перед выбором собственной культурной ориен-
тации, которая захватывала буквально все сферы бытия — от по-
литического, литературно-эстетического, религиозно-нравствен-
ного до бытового поведения. Он оказался перед выбором как бы
двух полярных моделей литературного и личного бытия: либо сле-
довать дореволюционной, «доварварской» традиции, либо же при-
нять новые нормы, пока еще только складывающиеся, но во всем
оппозиционные прежним, «элитарным, «высоким».
Размышляя о русской социокультурной ситуации XVIII в.,
Ю. М. Лотман говорил о поэтике бытового поведения русского дво-
рянина, утверждая, что определенные формы обычной, бытовой
деятельности сознательно ориентированы на нормы и законы ли-
тературы, т.е переживаются эстетически94. Каждодневная жизнь
становится знаком литературного поведения. Это происходит по-
тому, что на русской почве в Петровскую и Екатерининскую эпо-
хи сталкиваются две культуры, несущие с собой два совершенно
разных типа бытового (и литературного, культурного) поведения.
Одно из них — нормальное естественное, единственно возмож-
94 Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века//
Ю. М. Лотман. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1.
83
Культурный вакуум
ное, несакрализированное. Ему не учатся, его нормы воспринима-
ются человеком с детства, оно усваивается само, как бы автома-
тически, как родной язык. Другое — торжественное, ритуальное,
сакрализированное. Его изучают как чужое, по правилам грамма-
тики, так, как изучали в Петровскую эпоху «Юности честное зер-
цало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от
разных авторов повелением его императорского величества госу-
даря Петра Великого». Эти два типа бытового поведения были обус-
ловлены столкновением на русской почве исконной националь-
ной культуры и привнесенной Петром I европейской, которые
воспринимались как цивилизованная и нецивилизованная. Поло-
жение русского дворянина, если он хотел участвовать в делах го-
сударственных, было достаточно трагичным: он стоял перед необ-
ходимостью усвоения нового и чуждого ему как бы европейского
типа поведения. С точки зрения Ю. М. Лотмана, бытовое (и куль-
турное, литературное) поведение становится семиотическим зна-
ком жизненной позиции, обретает свою грамматику.
Человек, таким образом, оказывается в ситуации выбора: он
может следовать тому или иному типу поведения, может на свой
лад толковать тот или иной его вариант. В конце концов, он имеет
возможность совмещать оба варианта, что может обернуться как
комической, так и трагической стороной. Мало того, ситуация
выбора предоставляет человеку возможность найти свое амплуа
бытового (и культурного, литературного) поведения и утвердить-
ся в нем. Амплуа получает семиотическую значимость, давая чело-
веку возможность выбором его выразить себя и свою позицию в
отношении к окружающему: приятия или неприятия, презрения
или снисхождения и т.п. Таким образом, в русской культуре
XVIII столетия формируется несколько амплуа: богатырь (Петр I,
Потемкин), острослов, забавник и гаер (Марьин, герой войны
1805, 1812 гг., умерший от боевых ран, но заслоненный от совре-
менников маской-амплуа), российский Диоген, новый «киник»
(Барков). Мало того, столкновение двух культур и привнесенных
ими двух типов бытового и литературного поведения ставило че-
ловека в сложную и драматичную ситуацию выбора, но, с другой
стороны, открывало перед ним возможность идти именно по сво-
ему пути — хотя бы совмещая два амплуа, например, богатыря и
гаера, как это сделал А. В. Суворов.
Новая русская литературная ситуация второго десятилетия XX в.
поставила человека (и художника) перед той же проблемой выбо-
ра и самоопределения — выбора своего амплуа. Это связано с тем,
84
Типы творческого поведения, или Литературные амплуа
что при всей огромной временной дистанции между эпохой XVIII
столетия и начала XX в. их социокультурная ситуация оказывается
во многом зеркальна. Ведь творческая личность, сформировавшая-
ся в предреволюционную эпоху, с неизбежностью воспринимала
нормы литературного и литературно-бытового, салонного поведе-
ния рубежа веков с утверждаемой им этикой и эстетикой как свое,
естественное, родное, то,- чему не нужно учиться, а привнесен-
ные нормы «человека массы» — как варварски чуждое. Как классо-
во чуждое воспринимал предшествующие нормы пролетарский
писатель, подчас нарочито отказываясь от них, порой тайно же-
лая овладеть грамматикой чуждого поведенческого бытового и ли-
тературно-культурного языка, что получало иногда комически-
эпатирующее звучание, как цилиндр С. Есенина или желтая кофта
В. Маяковского.
Иными словами, писатель или литератор, принадлежавший как
той, так и другой культуре, должен был выбирать, и, определяя
свой тип бытового и литературного поведения, он неизбежно вы-
бирал семиотически значимое амплуа. Социокультурная ситуация
заставляла его сделать этот выбор. Подобно театральному амплуа,
по мысли Ю. М. Лотмана, человек «выбирал себе определенный
тип поведения, упрощавший и возводивший к некоему идеалу его
реальное, бытовое существование... Такой взгляд, строя, с одной
стороны, субъективную самооценку человека и организуя его по-
ведение, а с другой, определяя восприятие его личности совре-
менниками, образовывал целостную программу личного поведе-
ния, которая в определенном отношении предсказывала характер
будущих поступков и их восприятия»95. Разница состоит лишь в
том, что если люди XVIII в. выбирали в качестве амплуа чаще все-
го персонажей поэмы или трагедии, определенное историческое
лицо, государственного или литературного деятеля, то в 1920—
1930-е годы мы можем, скорее, говорить о социальных масках,
ставших литературными и литературно-бытовыми амплуа. Есте-
ственно, что в его выборе проявлялась личностная и творческая
сущность писателя.
Амплуа аристократа избрал для себя М. Булгаков. Подчеркну-
тое внимание к изысканной одежде, элегантному костюму, впол-
не реализованные в каждодневной жизни, извечные мечты об обу-
95 Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века.
С. 258-259.
85
Культурный вакуум
строенном быте и вальяжном, свободном, «профессорском» стиле
бытия, выпавшие лишь на долю его героев, профессоров Перси-
кова и Преображенского, с поездками в Большой на «Аиду» ко
второму акту — все это указывало на совершенно осознанный вы-
бор бытового поведения и своего литературного пути.
Другую крайность представляло амплуа, добровольно приня-
тое на себя Вс. Вишневским — амплуа матроса — «братка», прихо-
дящего на репетицию своих драм в тельняшке или матросской
шинели и выкладывающего на стол «маузер» — вероятно, для луч-
шего восприятия актерами и режиссерами творческих замыслов
драматурга. Не имеет принципиального значения, был ли, дей-
ствительно, пистолет атрибутом творческого процесса создания
спектакля — важна легенда, подсказанная и сформированная при-
нятым Вишневским амплуа.
Амплуа еретика взвалил на свои плечи Е. Замятин, при этом
еретический пафос сомнения в утверждающемся «новом католи-
цизме» был провозглашен и в публицистике, и в художественном
творчестве.
Рядом с еретичеством в качестве жизненной позиции вставало
отшельничество — амплуа крымского отшельника А. Грина сказа-
лось не только на его бытовом поведении, на осознании того, что,
«если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провин-
ции, у моря» {И. Бродский), создавая свой собственный романти-
ческий мир в доме в отдаленной от столиц Феодосии. Отшельни-
чество сказывалось и на литературном поведении: сумев найти свою
нишу в литературе 20-х годов, Грин успешно создает вымышлен-
ный художественный мир, становится романтиком, что тоже мо-
жет быть воспринято как выражение личностной позиции в пре-
дельно социологизированной литературной ситуации 20-х годов.
Амплуа «мятущегося» избрал С. Есенин. Его цилиндр как пре-
тензия на салонный аристократизм явно контрастировал со связя-
ми в ЧК через Я. Блюмкина. Невозможность выбора своего пути,
готовность отдаться «року событий», утрата связи с миром Дерев-
ни и явная недостаточность личных и социальных связей с культу-
рой Города делают Есенина фигурой трагической, что и подчер-
кивается его бытовым и литературным поведением.
Конечно же, нельзя не упомянуть амплуа крестоносца, огнем
и мечом утверждающего новую идеологию и литературу. Наиболее
яркое свое воплощение она нашла в фигурах рапповцев — «неис-
товых ревнителей» пролетарской идеологии — Л. Авербаха, С. Ро-
дова, из писателей — Д. Фурманова и А. Фадеева. Их оппоненты из
86
Типы творческого поведения, или Литературные амплуа
«Перевала», Д. Горбов, А. Лежнев, в той историко-культурной си-
туации попытались сыграть роль Дон-Кихотов96.
Примерно с середины 20-х годов изменяется состав литератур-
ных амплуа. Это связано с тем, что новая власть с 1925 г. несколько
изменяет свою политику в отношении к литературе — условной
временной вехой может служить постановление ЦК ВКП(б) от
18 июня 1925 г. С этого момента литература становится не только
объектом насильственного воздействия, когда неугодные газеты и
журналы просто закрываются, а неугодные художники высылают-
ся за рубеж или лишаются права голоса. Литература оказывается объек-
том как бы творческого воздействия, партийного строительства, го-
сударственного созидания, культивирования нужного и должного.
Слова В. Маяковского «Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан» на-
полняются буквальным, а не переносным смыслом. Поэтому пре-
вращение литературы в объект государственного созидания фор-
мирует новые писательские амплуа.
Своего рода главным художником, преобразующим действи-
тельность, становится Сталин. Цель этого преобразования — при-
ведение действительности к полной гармонии. Но так как сама дей-
ствительность не может по самой своей противоречивой и много-
гранной природе быть гармоничной, так как она многосоставна, а
потому исполнена диссонансами, создающими дисгармонию, то ее
нужно как бы дорисовать: слой грунта и краски должен скрыть все
противоречия (а вовсе не разрешить их). Таким образом, задача ис-
кусства состоит в драпировке реальности, в создании фасада, кото-
рый скрывал бы истинные противоречия. (Поэтому, скажем к сло-
ву, так наивны попытки отрицать искусство и литературу социали-
стического реализма на том основании, что они не содержат
«правду»: задача соцреалистического искусства не в том, чтобы
отражать правду жизни, но в том, чтобы самой стать правдой и
жизнью, как бы заместив собой истинную реальность.)
Этим обстоятельством и обусловлено изменение государствен-
ной политики в отношении к литературе. Если писательство пере-
стало трактоваться как дело частное и индивидуальное уже в 20-е
годы, то теперь писатель вообще теряет право на индивидуальность,
право быть самим собой: его устами глаголет государство и главный
96 На стремление определить литературную ситуацию через литературные ам-
плуа указывают, в частности, сами названия книг современных исследователей
этого периода: «Неистовые ревнители» С. Шешукова (1984), «Дон-Кихоты 20-х
годов: “Перевал” и судьба его идей» Г. Белой (1989).
87
Культурный вакуум
его художник. Писатель — лишь кисть в руках партии и Сталина;
литература — один из способов привести реальности к насильствен-
ной гармонии, создать тотальное произведение искусства97.
Такое изменение места и роли писателя, как ее понимала власть,
привело и к трансформации форм политического воздействия на
литературу. Постановления, другие партийные документы, дискус-
сии в печати, организация Союза советских писателей дополнились
личным, чаще всего любезным и обходительным, общением власти
и писателя. Именно в 30—50-е годы появляется такая форма проведе-
ния политики партии, как личный звонок Сталина (например, из-
вестны и описаны телефонные разговоры Сталина с Б. Пастерна-
ком, М. Булгаковым). Такой звонок, часто предопределяющий так
или иначе личную и творческую судьбу, заставал абонента врас-
плох, не давал ему опомниться, прийти в себя от вполне понят-
ного шока. Любая фраза, сказанная не так или понятая не так,
могла стоить очень многого, тем более что «перезвонить», в случае
если собеседник вдруг прервет разговор, было невозможно. Такие
звонки тут же становились предметом разговора, их исход решал
судьбу, он мог привести и к возвышению, и к падению в бездну.
Другой формой работы с «творческой интеллигенцией» были
встречи руководителей партии и правительства с писателями «на
квартире у Горького» — в бывшем особняке капиталиста Рябу-
шинского, что у Никитских ворот. На таких встречах обычно при-
сутствовали И. Сталин, В. Молотов, К. Ворошилов, Л. Каганович;
писательская общественность была представлена шире: несколько
десятков человек. Пригласительные билеты на эти встречи тща-
тельнейшим образом распределялись, получение такого пригла-
шения свидетельствовало об определенном положении писателя,
хотя вовсе не являлось охранной грамотой от репрессий в даль-
нейшем. Собирались вечером, проходя через многочисленные по-
сты НКВД. Сначала следовал фуршет, потом открывались двери в
большую гостиную и метрдотели и официанты приглашали к бо-
гато накрытому столу. Сталин и его спутники приезжали позднее,
ближе к ночи. Сам Сталин пил только вино, но на столах были и
водки, и коньяки: Сталин подозрительно относился к непьющему
человеку, подозревая его в скрытности. Именно на таких встречах
с писателями формулировались литературные задачи, лозунги,
97 См. об этом: Добренко Е. Между историей и прошлым: писатель Сталин и
литературные истоки советского исторического дискурса//Соцреалистический
канон. СПб., 2000; Вайскопф М. Писатель Сталин: Заметки филолога//Там же.
88
Типы творческого поведения, или Литературные амплуа
проекты, решения. На таких встречах создавалась концепция соци-
алистического реализма. Возможно, что сам термин тоже был сфор-
мулирован Сталиным именно тогда, во время одной из таких встреч.
Изменение формы общения власти и писателей продиктова-
но, возможно, принципиально иной по сравнению с 20-ми года-
ми культурной ситуацией, сложившейся в 30-е годы. Эти два пе-
риода, с точки зрения В.Паперного98, исследователя советской
культуры 30-х годов, принципиально отличаются. Они противо-
поставлены друг другу целой серией бинарных оппозиций: нача-
ло — конец, движение — неподвижность, коллективное — индивиду-
альное, реализм — правда, целесообразное — художественное.
Культура Два, если воспользоваться его терминологией, предпо-
лагает гармонизацию действительности в сторону устоявшегося,
глобального, монументального, имеющего опору в исторической
традиции, как бы сакрализирующей настоящее. Главной опорой
этого нового монументализма оказывается государственность.
Естественно, это приводит к изменению приоритетности
и авторитетности в системе писательских амплуа. Теперь нужна
уже не приверженность массовому человеку, не подстраивание
под пролетария, а преданность Государству, Партии, Сталину.
Объявляется вакансия официального поэта, эпика, драматурга,
публициста.
Так начинает формироваться новое амплуа официального пи-
сателя. Власть в лице Сталина осознает необходимость для совет-
ской литературы крупного эпика, создателя нового эпоса и новой
мифологии. Столь же необходим и официальный поэт. На роль та-
лантливейшего поэта советской эпохи Сталин пробует Маяков-
ского и Пастернака.
В. Маяковский соотнесен с этой ролью только после смерти,
когда и были произнесены знаменитые слова Сталина о том, что
Маяковский был и остается талантливейшим поэтом советской
эпохи. Своей смертью он как бы преодолел противоречие между
желанием стать крестоносцем, хотя бы ценой вступления в РАПП,
и невозможностью сделать это в силу специфических черт харак-
тера, в первую очередь, в силу больших индивидуалистических
претензий — на собственное положение в литературе, на поэти-
ческое бессмертие. Его гибель явилась, вероятно, результатом это-
го противоречия и одновременно формой его преодоления.
98 Паперный В. Культура Два. М., 1996.
89
Культурный вакуум
Б. Пастернаку удается отказаться от этой роли официального,
парадного поэта, создателя новой мифологии. В этом смысле крайне
показателен телефонный разговор Сталина с Пастернаком. Сталин
ищет мастера-поэта, спеца, умельца, которому можно заказать эту
роль, заставить взять это амплуа. Приняв отказ Пастернака, он спраши-
вает, мастер ли — О. Мандельштам. Поразмыслив минуту, его собе-
седник дал отрицательный ответ, поняв смысл слова «мастер» и
полную неспособность Мандельштама сыграть роль такого «мастера».
Иначе обстояли дела с создателями крупных эпических форм.
Необходимость в красном Льве Толстом была удовлетворена
А. Толстым — власть, по меткому и остроумному замечанию А. Жол-
ковского, получила желаемое лишь с небольшой перестановкой
инициалов. Эту же роль заставили сыграть и Горького — может
быть, против его воли, может быть, он и сам не осознавал своей
роли, которую он играл не столько в литературе, сколько в фор-
мировании парадного фасада новой культуры.
Но в это время появляются амплуа, существование которых в
литературе отнюдь не приветствуется. Таково, например, амплуа
юродивого, более всего реализовавшееся в творческой и личной
судьбе А. Платонова, прошедшего путь от крестоносца начала 20-х
годов до юродивого конца 20—30-х годов. Суть юродства и семи-
отический смысл поведения юродивого — в возможности гово-
рить правду в необычной, комической, гротесковой манере, в воз-
можности принимая и одобряя — не принимать и не одобрять,
соглашаясь — не соглашаться. Амплуа литературного юродивого
дает возможность поменять местами верх и низ, сакральное и про-
фанное позволяет переиначивать и выворачивать наизнанку, вы-
давать важное за пустячное и наоборот. Именно это литературное
амплуа дало возможность воплотить в «Чевенгуре» и «Котловане»
«юродивый коммунизм» «русской души», воплотить высокий ре-
лигиозный пафос в смехотворное паломничество за мощами Розы
Люксембург, устремление вверх строителей дома новой жизни
обернуть движением вниз, в котлован, в могилу. В сфере литера-
турного поведения это амплуа давало возможность писать покаян-
ные письма М. Горькому: «Я хочу сказать Вам, что я не классовый
враг, и сколько бы я ни выстрадал в результате своих ошибок,
вроде «Впрока», я классовым врагом стать не могу и довести меня
до этого состояния нельзя, потому что рабочий класс — это моя
родина, и мое будущее связано с пролетариатом»99.
” Письма А. Платонова М. Горькому//Вопросы литературы. 1988. № 9. С. 177.
90
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
А. Платонов: амплуа юродивого, или
В поисках «третьей» культуры
Итак, проблема писательского амплуа оказалась связана, в
конечном итоге, с самоопределением художника в новом куль-
турном пространстве. Решение вопроса о выборе той или иной
культурной традиции или же размежевание с ней и формировало
тип литературного и бытового поведения творческой личности. При
этом находились художники, которые пытались сделать, пожалуй,
невозможное: совместить хаотически перемешенные культурные
традиции, как бы проигнорировав мощный заряд взаимоотверже-
ния, существующий между ними. Не заметить совмещения несов-
местимого в их творчестве было просто невозможно — эту несов-
местимость можно было именно демонстративно проигнорировать.
В этом и состояла суть литературного юродства, проявленная наи-
более явно А. Платоновым, М.Зощенко, Вс. Ивановым в его ран-
ней прозе. В нарочитом перемешивании высокого и низкого, ко-
мического и пафосного, трагического и смешного, в совмещении
осколков разных культур реализовывалась не только формирую-
щаяся химера. В подобном совмещении ранее, казалось бы, несов-
местимого проявлялась позиция художника в отношении к химере
и его попытка занять собственную позицию в ситуации культур-
ного вакуума.
Но самое парадоксальное состоит в том, что эти писатели в
своем литературном и бытовом поведении шли по пути, уже про-
ложенному до них, обращались к уже известному и широко быто-
вавшему культурному прецеденту. Современные исследователи на-
зывают его «третьей» культурой, или же «культурой примитива».
Ее возникновение можно, вероятно, отнести к Петровской
эпохе — к тому моменту, с которого берут начало параллельное
развитие и противостояние двух русских субкультур — «почвы» и
«цивилизаии». Между ними, естественно, и возникал определен-
ный «зазор», который и заполнялся так называемой «третьей» куль-
турой — культурой примитива. Творцами и потребителями этой
культуры становились люди, оторвавшиеся от народных истоков и
не имеющие возможности в силу своего уровня и социального
положения стать носителями культуры«верхней» — это городская
беднота, мещанство, люмпены — люди, «выломившиеся» из преж-
них социальных структур и не нашедшие своего места в новых.
Они утратили связь с деревней, с ее фольклорной культурой, но
91
Культурный вакуум
не обрели связей с городом, в котором ощущали себя чужими. Это
и объясняет как раз то, что «обстоятельства возникновения при-
митива... связаны с двойным социально-культурным неблагополу-
чием. Ведь его зачастую практикуют люди, которые в обществе не
смогли удержаться на первоначально и как будто естественно пред-
назначенных им местах, либо скатившись вниз из образованной
среды, либо поднявшись вверх ценой отрыва от своей деревенской
почвы. Здесь, таким образом, все время происходит культурное
брожение, включая своеобразное перемешивание традиций, ис-
торически столь далеко разошедшихся, что встреча их казалась вовсе
невозможной»100. Это социокультурное неблагополучие и может дать
нам повод говорить о «третьей» культуре как о прообразе той культу-
ры, социальный заказ на которую дал в 1920-е годы «человек мас-
сы»: именно она заполнила культурный вакуум первых советских
десятилетий. Мало того, ее бытование простирается и дальше —
есть работы, рассматривающие советскую самодеятельность имен-
но в качестве культуры примитива101.
Исследователи «третьей» культуры утверждают ее отличие от
искусства профессионального, высокого, академического, элитар-
ного, с одной стороны, и искусства народного, фольклорного —
с другой. Эта культура развивается «в изменчивых и зыбких, но все
же уловимых границах между фольклором и учено-артистическим
профессионализмом, постоянно взаимодействуя и с тем и с дру-
гим, порой рискуя в этом взаимодействии потерять собственное
лицо, но в конечном счете обладая где-то в глубине достаточно
прочным центром самотяготения. (Этот слой оказывает свое влия-
ние и «вверх», и «вниз».)102.
Как это ни парадоксально, культура примитива развивалась в
схожих условиях, что и вся советская литература 20-х годов. Это
связано с тем, что ее творцы оказывались как бы на перекрестке
двух культур: «примитив осваивает, хранит, перерабатывает па-
мять близкую — позавчерашнюю, а то и вчерашнюю, и делает
это, находясь под постоянным давлением уходящей вперед «верх-
ней» культуры и все более остающейся где-то далеко позади «ниж-
100 Прокофьев В. И. Примитив и его место в художественной культуре Нового и
Новейшего времени (К проблеме примитива в изобразительных искусствах)//При-
митив и его место в культуре Нового и Новейшего времени. М., 1983. С. 8.
101 Богемская К. Историческое прошлое и сегодняшний день примитива//При-
митив в искусстве. Грани проблемы. М., 1992. С. 88—110.
102 Прокофьев В. Н. Примитив и его место в художественной культуре... С. 17.
92
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
ней», в постоянном активном общении с той и с другой. Прими-
тив живет, так сказать, на достаточно шумном культурном пере-
крестке, функционирует на «ярмарке культуры»103. Но это «ярма-
рочное» общение часто происходит в сознании ущемленного в своей
униженности массового человека — отсюда агрессивность в отно-
шении «верхней» и «нижней» субкультур, зависть к ним и непри-
ятие их, что объясняется исконным для «третьей» культуры соци-
альным неблагополучием, отверженностью: «Примитив, с одной
стороны, завистливо смотрит вверх — в сферу учено-артистичес-
кого профессионализма, желая туда подняться и ощущая, что для
этого ему многого не хватает, что он многого просто не знает и не
умеет. <...> Тогда он поспешно хватается за те образцы ученого
артистизма, которые обладают в его глазах преимуществом доход-
чивости, общедоступности. А это, как правило, уже отработанный
«наверху» материал — уже банализированный, уже затертый не
только до «хрестоматийного глянца», но даже до уровня третье-
сортной гравюрной копии или журнальной репродукции»104.
В целом можно сказать, что искусство примитива выражает
особое мироощущение, обусловленное социальным положением,
социальной неприютностью его творцов: в целом его можно оха-
рактеризовать как трагикомическое — оно обусловлено ощущени-
ем (часто подспудным) трагизма своего положения и веселой го-
товностью смеяться над собой, как бы преодолевая его в стихии
комического. Ведь противоречия, которые возникают на стыке не-
совместимых, казалось бы, культурных традиций, могут предстать
как трагической, так и комической своей стороной.
Среди художников, творчество которых обусловлено драмати-
ческим столкновением разных культурных традиций, имеющих,
тем не менее, общие национальные корни, был Вс. Иванов. Его
романы «Похождения факира» и «Мы идем в Индию» создаются
как раз на стыке культуры примитива и высокой, элитарной куль-
туры, столкновение которых оказалось вполне естественным и
типичным для 20-х годов: существовавшие раньше как бы на раз-
ных этажах культурного национального сознания, они не могли
не встретиться и не самоопределиться в отношении друг к другу в
революционную и пореволюционную эпоху.
В художественном мире Вс. Иванова как раз и воспроизводятся
образы и стили «третьей» культуры. Мир ярмарки, карусели, раз-
103 Там же. С. 18.
104 Там же. С. 23.
93
Культурный вакуум
малеванного балагана, цирковых богатырей в «Похождениях фа-
кира» естественным образом соответствует и речевой стихии ро-
мана, где звучит приказчичья скороговорка, полурифмованное
ярмарочное балагурство с претензией на народный стих, крики
ярмарочного зазывалы. Герой зачитывается бульварным романом
«Евгения, или Тайны французского двора», состоящего в основ-
ном из простых предложений, включающих лишь подлежащее и
сказуемое. Предметом изображения оказывается у писателя рус-
ская провинция, обобщенный образ, уже нашедший воплощение
в горьковском Окурове. Но Вс. Иванова интересует, к какому ре-
зультату приведет хаотическое совмещение несовместимых куль-
турных пластов.
«Стоячая культура стоячего жизненного слоя, — размышляет
современный исследователь творчества писателя, — оказывается
местом стока эстетических вод из верхних слоев, резервуаром, где
сохраняется, перемешивается и единовременно существует все —
от отголосков рыцарских романов и житийной литературы до от-
голосков бульварного романа в «гувернантских» переводах вось-
мидесятых годов»105.
В сущности, романы «Кремль», «Похождения факира», «Мы
идем в Индию» представляют собой стилизацию лубочной поэти-
ки, которая и может совместить в себе несовместимые культурные
пласты. Налицо условность соотношения масштабов фигур, отсут-
ствие глубины и перспективы, психологичности, характерной для
реалистического романа, соотношение легенды и натурализма,
орнаментализм, узорность слога, фантасмагоричность сюжета. Со-
вмещение разных культурных пластов приводит писателя к оксю-
морону как к центральному художественному принципу. Как от-
мечает Н. Соловьева, «создается оксюморон жанра и предмета; прит-
ча, восточная легенда, житие, хождение, авантюрный роман —
жанры насмешливые, высокие и полные движения — применяют-
ся к материалу самодовольному, низкому и стоячему»106. Такое ок-
сюморонное сочетание фантастической стилизованной «диковин-
ной» поэтики с реальным жизненным историческим материалом,
сближение истории с лубочной картинкой и попыткой объяснить
одно через другое, мещанского существования — с революцией,
плоти — с инородной ей мыслью, рождает выделение огромной
энергии, близкой по своим разрушительным воздействиям той, о
105 Соловьева Н. Заметки о стиле Вс. Иванова//Новый мир. 1970. № 2. С. 231.
‘“Там же. С. 232.
94
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
которой размышлял Л. Гумилев. В результате этого взрыва и фор-
мируется та культурная среда с ее совмещением несовместимого,
со сдвинутостью морально-нравственных ценностных критериев,
которую Гумилев называл химерической культурной конструкци-
ей и которая оказалась предметом изображения в прозе писателя.
У повествователя как бы уходят некие исконные, врожденные
представления о добре и зле: рассказ о смерти прерывается радост-
ным и ярким лирическим отступлением; краски и звуки пожара
оборачиваются веселым праздником; один из героев весело хохо-
чет, представив себе, как заверещит японец, когда ему придет
черед умирать; радостно-весел матрос-связной, идя на смертель-
ный риск. Перевернутость ценностных ориентиров выглядит впол-
не революционно: статика крестьянского быта, оседлость и хозяй-
ственность, образ «спокойных земель» противостоит в «Партизан-
ских повестях» образу дороги и движению (в общем-то, в никуда) —
символу революции; образ праздничного опустошающего и оду-
хотворяющего «мирового пожара» — образу неподвижной хлебной
избяной духоты. «Запах хлеба, исконно сладкий для человека, в
двадцатые годы кажется Вс. Иванову запахом почти грозным, по-
тянет ли им из сумы Калистрата, отошедшего от революции («Цвет-
ные ветра»), или из огромных бревенчатых домов в рассказе
«Лога»107.
Ранняя проза Вс. Иванова 20-х годов показывает еще один ва-
риант ассимиляции противоположных культурных традиций и не-
обычного соединения высокого и низкого, нарушающего тради-
ционную общечеловеческую систему ценностных ориентиров.
Подобный тип мироощущения нашел свое выражении в рома-
нистике А. Платонова. Сознание его героев тоже как бы лишено
традиционной общечеловеческой ценностной ориентации. Герой
Платонова — воплощение человека, потерявшего в ситуации куль-
турного вакуума все общечеловеческие ориентиры; мир дан вне
традиционных культурных опосредований, что лишает платонов-
ского персонажа самых исконных представлений о значимом и не-
значимом, о верхе и низе, добре и зле, прекрасном и безобраз-
ном, трагическом и смешном. Человек, руководствующийся та-
ким сознанием, воспринимает действительность как лабиринт, из
которого он тщетно пытается найти выход. Это мир слепцов без
поводыря: мир без религии, без нравственного начала. Поэтому
107 Там же. С. 234.
95
Культурный вакуум
писатель самой сюжетной схемой «Котлована» предлагает код его
прочтения. В ней метафорически предопределены алогичные, пере-
вернутые отношения человека и мира: движение вверх (строитель-
ство башни) оборачивается движением вниз (рытье котлована),
смерть трактуется как один из возможных вариантов жизни и т.д.
Подобная черта сознания персонажей Платонова обусловлена
их социокультурной принадлежностью, своего рода культурной
«бездомностью», отсутствием прочной и осознанной связи с ка-
кой-либо культурной традицией. Размышляя о чуждости для геро-
ев писателя как патриархально-крестьянского мира, социокуль-
турной почвы классического фольклора, так и культуры город-
ской, современный исследователь С. Пискунова очень точно
фиксирует их драматическое положение: «Мир Платонова возни-
кает на «порубежье» — на стыке города и деревни, на городской
«опушке»: это мир ремесленной и торговой слободы, мещанской
окраины, мир Лиховых и Окуровых... — социальная почва так на-
зываемой «третьей» культуры — культуры примитива»108. Призрач-
ность этого сознания и обусловлена во многом его возникновени-
ем на стыке этих двух культурных традиций.
В романистике А. Платонова актуализируется такая грань ми-
роощущения, выраженная в культуре примитива, как социальное
неблагополучие его творцов и публики, к которой он обращен.
«Нижние и <...> средние слои города <...> оказываются пасынка-
ми культуры в двойном смысле. От крестьянской «земли» они от-
рываются (и чем дальше, тем больше), хотя и сохраняют память о
ней (со временем также слабеющую). Возвращаться в ее лоно они
не хотят или не могут. Что же касается «неба» высшей культуры,
ученой, а со временем еще и артистичной, то для них ее «правила
игры» оказываются слишком сложными... Он рискуют оказаться в
некотором «зазоре», в межкультурном «вакууме». И должны запол-
нить его чем-то себе духовно и художественно аутентичным, дабы
избежать полной культурной экспроприации — полноты бескуль-
турья. Так возникает потребность «третьей культуры»109.
А. Платонов воспроизводит мироощущение человека, нашед-
шего опору именно в этой социокультурной среде. Здесь кроется
108 Андрей Платонов — писатель и философ: Материалы дискуссии//Вопросы
философии. 1989. № 3. С. 32.
109 См.: Прокофьев В. Н. О трех уровнях художественной культуры Нового и Но-
вейшего времени: К проблеме примитива в изобразительных искусствах//Примитив
и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени. С. 15—16.
96
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
исток разрушительности сознания, вопроизведенного писателем.
Это как раз тот литературный материал, который как бы демонст-
рирует в наиболее обнаженном виде и исток химеричности (столк-
новение «высокой» и «низкой» культуры), и ее бесперспектив-
ность и разрушительность для окружающего мира. В самом деле,
«судьбой примитива является эклектическое смешение влияний,
идущих сверху и идущих снизу, не только культурная промежу-
точность, но и культурная межеумочность, связанная с постоян-
ной неуверенностью в себе и ведущая зачастую к утрате себя»110.
Еще раз оговоримся: все эти характеристики относятся к не-
мыслящим героям Платонова — тем, для которых нет возможнос-
ти «усомниться» (как усомнился Макар или Вощев из «Котлова-
на», задумчивость которого привела его к увольнению с механи-
ческого завода), но вовсе не к писателю и не к его художественному
миру, который никак нельзя причислить к культуре примитива.
Сама же С. Пискунова в уже цитировавшемся выступлении отме-
чает, что подобное отождествление невозможно хотя бы уже пото-
му, что «Платонов — художник трагического жизнеощущения, в
то время как примитив — искусство жизнеутверждающее»111. Именно
герои платоновского эпоса, такие как Чиклин или Копенкин,
представляют социокультурную среду, ставшую основой, питаю-
щей сознание «человека массы». Отсюда постоянное трагическое
чувство одиночества и желание утвердить свое господство во все-
ленной, безбожие и наивная вера во всесилие науки и способ-
ность человека подчинить себе все энергии; отсюда замкнутость на
своей тоске-одиночестве, на чисто платоновской пустоте тел, же-
лание избавиться от этой пустоты и одиночества, от скуки суще-
ствования, в «товарищеском теле» другого.
Появление подобного сознания на стыке двух культур видит-
ся, в частности, в двойственности и мыслящих, сомневающихся
героев, таких, как Саша Дванов из «Чевенгура». С одной стороны,
он «не любил культуры», с другой стороны, был неисцелимым
книгочеем, и это дает ему возможность мысить и сомневаться в
незыблемости самих основ бытия. Задумывается «усомнившийся
Макар», Вощев из «Котлована». Способность мысли и сомнения
уже оправдывает индивидуальное человеческое существование.
Инженер Прушевский, по проекту которого строится общепроле-
““Там же. С. 22.
111 Андрей Платонов — писатель и философ: Материалы дискуссии//Вопросы
философии. С. 34.
97
Культурный вакуум
тарский дом, с тревогой вглядывается в его несуществующие пока
контуры: «Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вмес-
то старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным
способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоиму-
щественного города и займет для жизни монументальный новый дом.
Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине
мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся
всей земли. Прушевский мог бы уже теперь предвидеть, какое произ-
ведение статической механики в смысле искусства и целесообразности
следует поместить в центре мира, но не мог предчувствовать устройства
души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вооб-
разить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тог-
да будет тело у юности и о какой волнующей силы начнет биться сердце
и думать ум?
Прушевский хотел это знать уже теперь, чтобы не напрасно строи-
лись стены его зодчества; дом должен быть населен людьми, а люди
заполнены той излишней теплотой жизни, которая названа однажды
душой. Он боялся воздвигать пустые здания — те, в каких люди живут
лишь из-за непогоды».
В самом деле, русский роман 20—30-х годов пристально, под-
час с надеждой, подчас с ужасом, вглядывался в неясные конту-
ры будущего — и в этом смысле Платонов очень созвучен своему
времени. Внутренний монолог его героя почти дословно повторяет
размышления писателя — перевальца Ивана Катаева из его статьи
«Об искусстве и грядущем человеке», которая была написана в
1929 г., а читана в 1932 г. на I Пленуме Оргкомитета Союза совет-
ских писателей. «Но с чем же, однако, — пишет Катаев, — войдет наше
поколение в завоеванную с таким трудом и с такими жертвами обето-
ванную землю? Оно готовит для этого жданного мига множество серых
стеклобетонных зданий с блестящими и умными машинами и милли-
оны гектаров тучной, сообща обработанной земли, откуда обильным
потоком хлынут тепло, голубой свет, пища, одежда для всех живущих...
Оно готовит так же сверкающие и чистые, как лед, воздушные аппараты,
для того чтобы в несколько часов пересекать огромные пространства и
видеть их сверху, университеты и библиотеки, куда под вольные про-
хладные своды могут приходить все.
Но мы хотим знать, каким будет человек в этой обетованной земле.
Мы знаем, что он будет здоров телом и ясен умом, что он будет хорошо
думать и хорошо работать. Но будет ли он счастлив, весел?.. Сохранит ли
он богатство и тонкость души, способность откликаться ею на все мель-
чайшие прикосновения мира? Как он будет относиться к встречному
98
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
человеку, к соседу по работе, к женщине, которую он любит? Будет ли
он жить в искусстве, воспринимать его, творить его, восхищаться им, пла-
кать, порываться к совершению необъяснимых поступков — и если так,
то что это будет за искусство?»112
Там, где И. Катаев ставит вопросительные знаки, А. Платонов
дает ответы — жесткие и безрадостные. Мрачный гротескный мир
«Котлована» с его ирреальными сценами вроде спуска кулаков по
реке на плотах, которые ими же покорно собраны, с его фантас-
тическими героями вроде медведя-молотобойца, «чующего клас-
сы как животное» и проводящего в силу избыточного классового
чутья коллективизацию в деревне, просто не оставлял место для
иллюзий. Эстетика платоновского романа с его гротеском и фан-
тастичностью обнаруживала бесперспективность официальных кон-
цепций, за прекрасными ажурными чертежами будущего дома
вскрывала мрак котлована, которым оборачивался утопический
проект переустройства общества, мира, переделки человека.
Литературность «Котлована» иногда поражает. Кажется, что сама
эпоха дала Платонову материал, уже готовый и обработанный за
него другими художниками или критиками, и ему осталось лишь
поместить этот материал в художественный мир своего романа, в
особую систему координат, в особую систему зеркал, в ту речевую
стихию, которая сразу же выявит несостоятельность и внутрен-
нюю противоречивость той или иной концепции. Поэтика романа,
вбирая в себя живой материал действительности, сталкивая раз-
ные реалии бытия, принадлежащие как бы разным культурным
сколам, обнаруживала в нем явные внутренние несоразмерности,
характеризующие складывающуюся на рубеже 20—30-х годов хи-
меру. Мрачный гротескный мир «Котлована» давал Платонову воз-
можность выявить абсурдность и алогизм происходящих социальных
процессов, обнаружить их неестественную, ложную сущность, бес-
перспективность и опасность для будущего.
Художественный мир «Котлована» очень многогранен и сим-
воличен и в силу своей глубинной смысловой неисчерпаемости
допускает множество различных толкований. Думается, что имеет
право на существование и трактовка этого романа как отрицание
наиболее значимых социальных и культурных признаков химери-
ческой структуры, в общих чертах уже сформировавшейся к нача-
лу 30-х годов. Композиционно роман держится на нескольких цен-
112 Советская литература на новом этапе: Стенограмма I Пленума Оргкомитета
Союза советских писателей. М., 1933. С. 96-97.
99
Культурный вакуум
тральных экспрессионистических образах, взятых из духовной и
социальной жизни общества, даже из литературно-критических
концепций, бытовавших в это время и отстаивавшихся той или
иной группировкой. В этом смысле «Котлован» полемичен в отно-
шении тех взглядов и тех форм, которые так или иначе отражали
химеру: в нем сталкиваются эстетические концепции «Перевала»
и Пролеткульта, ЛЕФа и конструктивизма, но все они, попадая в
контекст романа, т.е. в совершенно иную систему координат и
ценностных ориентиров, обретают гротескные очертания, фанта-
стические и неправдоподобные, что и выявляет их истинную сущ-
ность, незримую в их родном контексте — художественном или
литературно-критическом. В том королевстве кривых зеркал, кото-
рое напоминает гротескный мир А. Платонова, фантастически
преувеличиваются не просто идеи, концепции, образы эпохи, но
их социальные последствия. Фантастический гротеск оказывается
способом выявить несостоятельность мироощущения, основанно-
го на устремленности в будущее (концепция «золотого века»), его
разрушительность в отношении настоящего и прошлого. Платонов
показывает, каково это будущее; вместо туманного проекта, ха-
рактерного для нормативизма, предлагает самый реальный и зри-
мый его результат.
Центральным образом романа, давшим ему название, являет-
ся идея «единственного общепролетарского дома», «куда войдут
на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли». Идея
этого райского будущего дома, куда по принуждению войдут все,
хотят они того или нет, и где всем будет вменена «обязанность
радости», где все будут «соревноваться на высшее счастье настрое-
нья», характерна для утопических (соцреалистических) и антиуто-
пических (модернистских в русской литературе рассматриваемого
периода) концепций. Платонов реализует в своем романе метафору
будущего прекрасного дома, тем самым вступая в полемику с уже
упоминаемой идеей А. Луначарского о доме без крыши, которую,
однако, видит писатель-соцреалист. Попытался ее увидеть и Плато-
нов, реализовав в своем романе метафору будущего прекрасного
дома: его герои действительно строят дом. Но реализованная мета-
фора сразу же высветляет порочность и схематизм всеобщего пла-
на, по которому преобразуется будущая жизнь: строительство ос-
танавливается на цикле котлована, движение вверх, связанное с
идеей построения башни, оборачивается движением вниз, в ры-
тье котлована, ставшего могилой для девочки Насти, для которой
социализм готовится рабочими в ее девичье приданое.
100
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
В первой главе было показано, что смена «верха» и «низа»,
сакрального и профанного, вообще способность явлений и поня-
тий переходить в свою противоположность, является основопола-
гающим качеством химерической культуры — это столь же обяза-
тельная для нее черта, как и способность к разрушению реально-
сти, обосновываемая идеализацией будущего, непременной
концепцией «золотого века». Как и герои романа Оруэлла «1984»,
утверждавшие, что «мир — это война», персонажи Платонова на
практике реализуют подобную «смысловую аннигиляцию» проти-
воположных понятий: они удивительно слепы к границе, пролега-
ющей между жизнью и смертью, часто вообще не замечают ее.
Отношение к смерти платоновских героев — один из знаков
дезориентированности их в смысловом пространстве жизни. Это
относится и к строителям котлована, и к крестьянам, и к самой
Насте, для которой смерть, убийство воспринимается как нечто
простое и естественное, если оно освящено идеологией класса,
т.е. оправдывается «классовыми» идеями, противоположными об-
щечеловеческим. Ее мать, «буржуйка», как бы покупает для доче-
ри своей смертью пролетарскую принадлежность, т.е. ее смерть
становится гарантом жизни дочери. Смерть воспринимается все-
ми, кроме Вощева, не желающего быть «участником безумных об-
стоятельств», как вариант жизни, лишается своей мистической
окраски, становится событием естественным, нормальным, даже
долженствующим быть с точки зрения классовой идеологии.
«Умирать должны одни буржуи, а бедные нет!» — говорит Нас-
тя. В этом смысле характерен диалог, состоявшийся между Настей
и рабочими, когда два мужика уволакивают в свою деревню 98
гробов, заготовленных ими по самообложению:
— Ты права, дочка, на все сто процентов, — решил Сафронов. —
Два кулака от нас сейчас удалились.
— Убей их поди! — сказала девочка.
— Не разрешается, дочка: две личности это не класс...
— Это один да еще один, — сочла девочка.
— Ав целости их было мало, — пожалел Сафронов. — Мы же,
согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, что-
бы весь пролетариат и батрачье сословие'осиротело от врагов!
— Ас кем останетесь?
— С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий, понима-
ешь что?
— Да, — ответила девочка. — Это значит, плохих людей всех уби-
вать, а то хороших очень мало.
101
Культурный вакуум
— Ты вполне классовое поколение, — обрадовался Сафронов, —
ты с четкостью осознаешь все отношения, хотя сама еще малолеток.
Это монархизму люди без разбора требовались для войны, а нам только
один класс дорог, да мы и класс свой будем скоро чистить от несозна-
тельного элемента.
— От сволочи, — с легкостью догадалась девочка. — Тогда будут
только самые-самые главные люди! Моя мама себя тоже сволочью
называла, что жила, а теперь умерла и хорошая стала, правда ведь?
— Правда, — сказал Чиклин.
Смерть трактуется героями «Котлована» почти как благо: она
делает лучше и как бы реабилитирует мать Насти, является сред-
ством чистки своего класса от несознательного элемента, ликви-
дации кулаков не меньше как класса. Для инженера Прушевского
смерть — избавление от сомнения, мучащего его: «И решив скон-
чаться, он лег в кровать и заснул со счастьем равнодушия к жиз-
ни». Мужики заготавливают гробы и облеживают их, но Чиклин
забирает два гроба для Насти и устраивает ей в одном — кровать,
в другом — красный уголок. Гробы, заготовленные мужиками и
востребованные ими во время рытья котлована, составляют как
бы смысл и своего рода гарантию их жизни: «У нас каждый и
живет оттого, что гроб свой имеет: он нам теперь цельное хозяй-
ство! Мы те гробы облеживали, как в пещеру зарыть».
Нетрудно заметить, что такие «перевернутые» отношения обус-
ловлены прямым, непереносным и неискаженным смыслом соци-
альных концепций рубежа 20—30-х годов, концепций, абсолюти-
зирующих псевдоклассовые начала и резко низводящих общече-
ловеческое. Такие концепции сталкиваются с сознанием «человека
массы», лишенного традиционных гуманистических ориентиров и
находящегося в постоянном поиске новых. Их суррогатом стано-
вится «классовая» идеология, выраженная в официальных госу-
дарственных лозунгах. По мнению голландского исследователя твор-
чества писателя К. Верхейла, А. Платонова (в первую очередь, до-
бавим от себя, — его героев. — М. Г.) на протяжении всех 20—30-х
годов отличало буквальное восприятие лозунгов-метафор време-
ни, — тех затертых стандартных метафор политического, фило-
софского плана, которые в традиционном речевом обращении не
осознаются в качестве таковых и уж, конечно, не воспринимают-
ся буквально. И если на раннем этапе его творчества для Платоно-
ва было характерно «абсолютно серьезное, почти наивное воспри-
ятие этих метафор», «своеобразный буквализм, с которым он их
102
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
развивает», то в период «Котлована» и «Чевенгура» «метафоры
официального, плакатного типа развиваются писателем с прежним
буквализмом, но теперь уже с целью доводить их до абсурда и
этим показывать их несостоятельность». Это и приводит Платонова
к столкновениям с официальной идеологией, «особенно в перио-
ды, когда метафоры из средств свободного познания и общения
превращаются в догматы государства»113. Такое прямое восприятие
метафоры становится для Платонова своего рода приемом, позво-
ляющим показать, как искажается и разрушается сознание геро-
ев, а затем и сама действительность.
Предметом изображения, таким образом, оказывается созна-
ние «человека массы», пораженное химерой. Воплотить такой пред-
мет изображения возможно лишь благодаря той речевой стихии,
которая господствует в «Котловане» и отражает уровень сознания
его героев, главная особенность которого — некритическое, а по-
тому во многом буквальное восприятие идеологических концеп-
ций, выраженных в официальных казенных речениях, понимае-
мых (еще раз подчеркнем) буквально114. В этом смысле показателен
эпизод, когда жилище землекопов бдительно снабжается радиору-
пором, «чтобы во время отдыха каждый мог приобретать смысл
классовой жизни из трубы... Сафронов слушал и торжествовал,
жалея лишь, что он не может говорить обратно в трубу, чтобы там
слышно было об его чувстве активности, готовности на стрижку
лошадей и о счастье». Эта готовность, лишающая человека здраво-
го понимания своих поступков, своей деятельности вообще, и
обуславливает возможность превращения строительства дома в
рытье огромной могилы будущего.
А. Платонов, будучи выразителем общекультурной ситуации 20—
30-х годов, показывает, что происходит с «человеком массы», когда
предшествующая культура сметена. Масса, не принимая культуру
(культурное наследие предшествующих веков, «гуманизм» в бло-
ковском его понимании), отвергает культурные ценности и ори-
113 Верхейл К. История и стиль в прозе Андрея Платонова//«Страна философов»
Андрея Платонова: проблемы творчества. М., 1994. С. 158—159.
114 «Слова официальных лозунгов превращались в практическое действие, —
размышляет французская исследовательница стиля А. Платонова А. Эпельбоин. —
После слов “диктатура пролетариата”, “ликвидация кулачества” стала ясна опас-
ность метафор, когда они претворяются в реальную жизнь. Утилитаризм в языке
достиг апогея: разрушенный язык стал орудием разрушения». Эпельбоин А. Поэтика
разрушения (Слово и сознание героев Платонова)//Страна философов Андрея
Платонова: проблемы творчества. С. 231.
103
Культурный вакуум
ентиры, на которые может опереться личность и которым она может
следовать. Так возникает необходимость поиска этих ориентиров —
и их находят в коммунизме Чевенгура, в революции.
Коммунизм и революция — понятия трудноопределимые для
героев А. Платонова. Что такое, например, воздух Чевенгура, воз-
дух коммунизма, от которого умер только что рожденный ребе-
нок? Ведь именно это приводит Копенкина к окончательному ра-
зочарованию в Чевенгуре и построенному там коммунизму. Так же
трудно определить и врагов: тот же Копенкин сечет саблей «вред-
ный воздух» и определяет врагов по цвету глаз: «свои имели глаза
голубые, а чужие — чаще всего черные и карие, офицерские и
бандитские; дальше Копенкин не вглядывался». Человек полнос-
тью дезориентирован в пространстве жизни — социальной, куль-
турной, личностной — и слеп.
Масса отменяет религию — поэтому так смехотворен высокий
религиозный пафос Копенкина с его паломничеством за мощами
Розы Люксембург. Потому столь слепы герои Платонова в нераз-
личении жизни и смерти, в стремлении свести их всего лишь к
жизни и смерти тела. Пристальное внимание, концентрация геро-
ев на теле, их антиэстетический эротизм или же стремление со-
хранить тело после смерти — следствие неспособности постигнуть
то, что вбирает религиозное сознание: мир иной. Человек оказы-
вается беспомощным перед бытийными вопросами, слеп перед
смертью и жизнью.
Его герои пристально всматриваются в смерть — и через сохра-
нение мертвого тела стремятся понять ее и преодолеть. Через спа-
сение, сохранение тела возможно обретение бессмертия. Это зас-
тавляет Копенкина пускаться в паломничество за освобождение от
«живых врагов коммунизма» мертвого тела Розы Люксембург, видя
в ней тело Господне и воспринимая революцию как кусочек ее
мощей, чтобы «откопать из могилы и отвести к себе в революцию».
Захар Павлович делает перед Пасхой «приемному сыну гроб —
прочный, прекрасный, с фланцами и болтами, как последний
подарок сыну от мастера-отца. Захар Павлович хотел сохранить
Александра в таком гробу, — если не живым, то целым для памя-
ти и любви; через каждые десять лет Захар Павлович собирался
откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать вместе
с ним». Единственная возможность сохранения связи мира живых
и ушедших — не в глубинном духовном опыте обращения к Богу,
но в поисках общения с любимым человеком через его могилу.
104
А. Платонов: амплуа юродивого, или В поисках «третьей» культуры
Культурный вакуум в эпосе Платонова оборачивается бытий-
ной пустотой: человек перестает различать жизнь и смерть, благо
и зло, святость и бесовщину — понятия об этом просто уходят из
его сознания. Зато обостренными оказываются такие качества на-
ционального характера, как утопизм и мессианизм. Утопия ком-
мунизма, возникшая в сознании массового человека и реализо-
ванная в коммуне «Чевенгур» или «Федор Достоевский», требует
от ее членов и мессианского служения ей. Этим и обусловлено
постоянное стремление Копенкина сразиться с живыми врагами
Розы Люксембург и добиться если не установления в тех странах
новой коммуны, то, по крайней мере, спасения ее тела.
Коммунистическая утопия требует непременного голого мес-
та, которым начинается и кончается и «Чевенгур», и «Федор Дос-
тоевский». В этом мире душевного товарищества и абсолютного
равенства не может быть никакого преобладания человека над че-
ловеком, никакого угнетения. Для этого изничтожается любая соб-
ственность, любое имущество, и вводится запрет на труд как ис-
точник «происхождения имущества». Уничтожается все, кроме «го-
лого тела товарища». Но и этого мало: организатор коммуны
«Чевенгур» товарищ Чепурной понимает, что для коммунизма почва
в Чевенгуре оказалась слишком узка и засорена имуществом и
имущими людьми. Так возникает проблема изничтожения «иму-
щего элемента» — буржуев: «Ты понимаешь, — это будет добрей!
Иначе, брат, весь народ помрет теперь на переходных ступенях. И потом,
буржуи теперь все равно не люди: я читал, что человек как родился от
обезьяны, так ее и убил. Вот ты и вспомни: раз есть пролетариат, то к
чему же буржуазия? Это прямо некрасиво».
Представление о том, что если убить буржуев и оставить одну
босоту, то социализм и коммунизм прямо упадут с неба, как раз и
формирует образ коммунистической утопии, как ее мыслят копен-
кины и чепурные, «юродивый коммунизм русской души»: «Тут це-
лый коммунизм лежит в каждой душе и каждому хранить его охота».
Такой простой путь построения коммунизма вполне устраива-
ет чевенгурцев, причем уничтожение «имущего элемента» проис-
ходит без всякой ненависти к нему, а просто в силу глубоко осоз-
нанной необходимости. При этом Платонов, изображая отноше-
ния палача и жертвы, показывает мировосприятие именно палача.
И испытывает он не ужас и не ненависть, не чувство утоленной
мести, а интерес, любопытство и даже сожаление о судьбе жертвы.
Купец Щапов, прощаясь с жизнью, хватает за руку чекиста и обни-
мает лопух. «Чекист понял и заволновался: с пулей внутри бур-
105
Культурный вакуум
жуй, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули — люби-
ли одно имущество». Бытийная пустота чевенгурцев.отменяет даже
простые элементарные рефлексы: убивая, чекист просвещает, как
бы возвышает убитого до чувствований пролетария.
С точки зрения С. Семеновой, А. Платонов, развенчав комму-
нистическую утопию («мистический шквал, сносящий Чевенгур и
всех его жителей»), обратился к иной утопии — научно-мистичес-
кой философии Г. Федорова. В пристальном внимании героев к
смерти, к сохранению тела человека после смерти, в судьбе Саши
Дванова, ищущего той дороги, по которой когда-то прошел его
отец в любопытстве смерти, в финале романа, когда Прокофий,
единственный оставшийся в живых человек, отправляется искать
мертвого Сашу Дванова, заключена, с точки зрения исследовате-
ля, федоровская идея найти всех умерших, но живших некогда, и
вернуть их обратно, к преображенной жизни, из которой уже не
может быть ухода.
Возможно, герои романа на каком-то подсознательном уровне
и стремятся заполнить бытийную, онтологическую пустоту своего
существования. Федоровская идея, согласно которой именно в теле
человека содержится его сознание, душа, и в сохранении тела не-
тронутым для распада и кроется путь к спасению личности, роди-
лась в момент кризиса русского религиозного сознания — и по-
этому вполне пригодна для человека, мышление которого оказы-
вается результатом этого кризиса, приведшего к полной утрате
представлений о добре и зле. Это могут быть бессознательные и
вполне беспомощные попытки опереться на что-то в своей куль-
турной, бытийной бездомности, спрятаться от онтологического
одиночества в «теле товарища» — живом или мертвом. Концентра-
ция героев на теле — следствие естественного человеческого стрем-
ления обрести связи с живыми и ушедшими — и наивное отожде-
ствление человека с телом. Поэтому Сашу Дванова охватывает не
вина перед памятью отца, а «чувство стыда жизни перед слабым,
забытым телом, остатки которого истомились в могиле». Этим,
возможно, и обуславливается значимость мотива смерти, гроба,
могилы, кладбища в эпосе Платонова: оказавшись в онтологичес-
кой пустоте и инстинктивно пытаясь ее преодолеть, человек обре-
тает связи с прошлым, с любимыми, близкими или далекими, но
жившими людьми, лишь через могилу, а не через память и уж тем
более не через трансцендентный опыт. Поэтому и движение в бу-
дущее оборачивается той же могилой — будь то Саша Дванов или
же Настя, которой социализм готовится в ее девичье приданое.
106
М. Зощенко как пролетарский писатель
М. Зощенко как пролетарский писатель
В творческой эволюции М. Зощенко 20—30-х годов отразились
проблемы всей русской литературы этого периода, и в первую
очередь — связь с культурной традицией нового писателя и нового
читателя. «Случай» Зощенко показывает, как трудно было выбрать
амплуа и удержаться в его рамках: пытаясь представительствовать от
лица нового человека 20-х годов, демонстрирующего свой отказ от
предшествующей культуры, от проклятого дореволюционного прош-
лого, писатель, в то же время, не может принять и «простых» новых
ценностей, иронизирует по поводу этого отказа. Искренняя попытка
говорить от лица «человека массы» и неизбежная для художника того
уровня культуры, которому принадлежал Зощенко, ирония над своим
героем, обусловленная пониманием его истинного творческого по-
тенциала, делала естественным амбивалентность его писательско-
го амплуа. Это обуславливало противоречивость его понимания
собственной роли в литературе, приведшее в итоге к жесточайше-
му внутреннему и творческому кризису.
В рассказах начала 20-х годов героем Зощенко стал человек с
размытыми социальными связями, живущий в своем микромире
и желающий сделать именно на этот микромир «всеобщее равне-
ние», как говорил один из героев А. Толстого, т.е. перед нами как раз
и предстает классическое воплощение «человека массы», который
принес с собой, по словам Ортеги-и-Гассета, «внеличностное со-
знание, неспособность управлять собой, готовность быть послуш-
ным материалом манипулирования». Столкнувшись с новыми, не-
знакомыми ранее формами культуры и быта — от театра, ставшего
вдруг доступным, до лотереи и бани, герой оказывается в ситуации
«культурного вызова» — и не может на него ответить.
Рассказы начала 20-х годов как раз и фиксируют трагизм поло-
жения «человека массы», оказавшегося в совершенно новых для
него условиях культурной жизни и в новой для него социальной
роли — роли человека, от которого вроде бы требуется участие в
новых для него формах бытия. Поход в театр, мотивированный
либо случайной встречей со знакомыми, либо же полученными на
службе билетами, оборачивается не катарсисом, пережитым в ре-
зультате общения с пьесой, ее сценической интерпретацией, а
мучительным переживанием крайне неприятной бытовой ситуа-
ции: то герой не может снять с себя пальто, потому что не одет,
на нем нет пиджака, а лишь ночная рубашка с крупной шинель-
107
Культурный вакуум
ной пуговицей на вороте («Прелести культуры»), то проблемой
надкушенного пирожного («Аристократка»). Эти мелкие бытовые
неприятности обретают эпический масштаб и просто заслоняют
от героя Зощенко театральную сцену. Он не в силах взглянуть даль-
ше партера, и сцена оказывается вообще вне поля его зрения. Мало
того, вообще любой контакт с социальным миром неизбежно при-
водит героя Зощенко к обороне — он сражается то за утерянную
калошу, то за некупленный трамвайный билет. Даже благоприят-
ный, казалось бы, случай — лотерейный выигрыш — оборачивается
жизненной катастрофой и разрушением всех личностных связей («Бо-
гатая жизнь»). Иными словами, герой Зощенко имеет удивительную
способность обернуть любое благоприятное или же просто нейтраль-
ное событие собственной жизни против себя. Но самое важное для
нас то, что зощенковский герой воплощает в себе как раз самые
характерные черты «человека массы»: он видит именно себя цент-
ром вселенной, к себе он сводит и в себе решает все мелкие быто-
вые проблемы, которые воспринимает как глобальные и бытий-
ные; то же, что не имеет к нему прямого касательства, просто
оказывается вне сферы его сознания и интересов115.
Таким образом, Зощенко фиксирует очень значимое для ситу-
ации 20-х годов, которую мы охарактеризовали как ситуацию «куль-
турного вакуума», противоречие: человек, утративший прежние
культурные ориентиры и не обретший новых, отстаивает перед
миром ничтожные, крохотные жизненные интересы и утверждает
свое несомненное право судить обо всем и быть уверенным в непо-
грешимости собственных взглядов, готовность отстаивать до конца
свою позицию — просто потому, что сомнение в ее непогрешимос-
ти не может прийти в голову герою писателя. Это противоречие пред-
стает в рассказах Зощенко как комическое несоответствие между
мелкостью и ничтожностью деталей, на которых сконцентрировано
сознание героя, и той роли, которую потерянная калоша или надку-
шенное пирожное играют в его жизни. Дело в том, что «ограничен-
ность своего кругозора герой компенсирует (сам того не подозре-
вая, разумеется) укрупнением близко стоящих предметов. Герой
смещает пропорции окружающего мира (это и есть мир велика-
нов), и будничные эпизоды уже несут черты эпичности, вырастая
(в сознании героя) до размеров драмы и трагедии»116.
115 Точную характеристику персонажа М. Зощенко дают Е. Мущенко, В. Скобе-
лев и Л. Кройчик в книге «Поэтика сказа» (Воронеж, 1978. Гл. 7).
116 Там же. С. 227.
108
М. Зощенко как пролетарский писатель
Как складывались в этот период отношения автора и героя?
Для нашего литературоведения здесь кроется одна из самых болез-
ненных проблем в трактовке творческого наследия М. Зощенко. Ли-
тературоведение советского времени прошло путь от отождествле-
ния автора и героя, что характерн для периода 40—50-х годов, до
попыток их полного дистанцирования, до утверждения прямо про-
тивоположного взгляда, когда Зощенко трактовался как обличи-
тель мещанина. Думается, что отношения между автором и героем
выглядели значительно более сложными и переживали существен-
ную эволюцию. Кроме того, они никогда не были однозначными и
не сводились к полной консолидации или же тотальному обличе-
нию «мещанина».
Будучи не в состоянии консолидироваться со своим героем хотя
бы в силу принципиально иного культурного опыта, воспитания,
образования, творческого дара, Зощенко, тем не менее, пони-
мал, что именно «человек массы», сознание которого он сделал
главным предметом изображения, оказался главным действующим
лицом истории. Но осознавал он также и полную неготовность
своего героя к подобной роли. Это противоречие и осмысил Зо-
щенко, представив своего героя в рассказах начала 20-х годов в
сатирическом ключе. В самом деле, литературный тип «маленького
человека», унаследованный из прошлого столетия, но в новых и,
казалось бы, более благоприятных для себя условиях пытающийся
навязать миру культурному и социальному свою меру вещей, яв-
лял собой зрелище явно отталкивающее. Но, помимо сатиричес-
кого пафоса отрицания, уже в этот период в рассказах писателя
проявляется удивительный, казалось бы, мотив сострадания к «ма-
ленькому человеку», который, быть может, был тоже унаследован
Зощенко у своих литературных учителей, в первую очередь у Гого-
ля и Достоевского. В самом деле, это противоречие (ничтожность —
и претензия на значительность; мизерность интересов — и осозна-
ние их как общезначимых; мелкий быт — и восприятие его как
бытия) несет и оттенок трагического. Трагизм кроется здесь в не-
реализованности собственно человеческого начала, в раздавлен-
ности «маленького человека», ставшего «человеком массы», теми
социокультурными обстоятельствами бытия, с которыми он столк-
нулся в новой и непривычной для себя роли, претендуя занять
положение хозяина и господина новой жизни. Авторское сочув-
ствие герою обусловлено тем, что тот неспособен даже осознать
трагикомизм своего положения, объясняя все свои неудачи несло-
жившимися обстоятельствами, противным характером аристократ-
109
Культурный вакуум
ки, жадностью родственников, хамством банщика и т.д. Иными
словами, уже в начале 20-х годов позиция Зощенко.в отношении к
герою не может восприниматься как однозначная.
Творческая эволюция М. Зощенко обусловлена эволюцией его
отношения к своему герою. Его персонаж — «человек массы» — не
менялся в силу отсутствия у него внутреннего потенциала для ка-
кого бы то ни было развития; менялся писатель, со все большей и
большей симпатией вглядываясь в черты своего героя и находя все
больше и больше оправданий для него. В середине 20-х годов в его
рассказах все чаще звучит мысль о прямом сочувствии «рабочему
человеку», о его желании вступиться за него. «Человека массы»
Зощенко воспринимает уже не как «маленького человека», но имен-
но как «рабочего человека», как бы признавая обоснованность его
претензий занять господствующее социальное положение в новом
обществе.
Это оправдывало в глазах писателя и претензию его героя стать
творцом новой культуры. В этом смысле его позиция, вероятно,
была близка мироощущению Блока, осознававшего гибель «куль-
туры гуманизма» под ногами варварских полчищ, но видевшего в
них творцов новой культуры. Поэтому с середины 20-х годов твор-
ческая позиция М. Зощенко постепенно трансформируется.
Если в начале 20-х годов писатель дистанцируется от своего
героя, ощущая его враждебность культуре и миру, хотя и сочув-
ствует ему, то к середине десятилетия эта дистанция уменьшается.
Проявляется это, в первую очередь, на уровне речевых средств
выражения авторской позиции. Зощенко все реже и реже передо-
веряет свой монолог герою, но находит образ повествователя, взяв-
шего и добросовестно исполняющего социальный заказ массы и
«человека массы». Образ этого повествователя и есть воплощение
литературного амплуа Зощенко. Позиции героя и повествователя
сближаются, писатель постепенно начинает врастать в маску «че-
ловека массы», как бы парадоксально сродняется с ним, начинает
говорить его языком и мыслить его категориями. Вместе с тем, он
прекрасно осознает непреодолимую дистанцию между собой, пред-
ставителем навсегда ушедшей культуры, и тем, что пытается со-
здать, организовать «человек массы». Складывается неразрешимое
противоречие, приведшее писателя к творческому кризису конца
30-х годов, который, как представляется, так и не был преодолен.
Иными словами, то, что в начале творческого пути формировало
трагикомическое противоречие в сознании персонажа, созданно-
го писателем, постепенно становилось противоречием его собствен-
но
М. Зощенко как пролетарский писатель
ной авторской позиции в отношении к герою и той социальной
массе, которую тот представляет. Поэтому уходит потребность пе-
редоверить монолог своему герою. Напротив, герой, войдя в со-
знание и врастая в душу автора, заставляет его мыслить в своих
категориях. Поэтому повествование во второй половине 20-х го-
дов, в «Сентиментальных повестях», например, ведется уже от
лица литератора, социально близкого своей аудитории. Так проис-
ходит обретение маски-амплуа, снять которую писатель так и не
смог. Это амплуа Пролетарского Писателя.
Обращаясь к своему герою и сатирически осмысляя его, Зо-
щенко уже избрал определенное амплуа, предоставив персонажу
право своим голосом рассказать о собственных злоключениях. Не-
различением писательского амплуа и самого автора обусловлено
недоразумение прямого отождествления автора и героя. Но то, что
было недоразумением в начале 20-х годов, в перед «Бани» и «Ари-
стократки», позднее уже вовсе не предстает в качестве такового.
М. Чудакова приводит признание, которое делает М. Зощенко
в статье «О себе, о критиках, о своей работе» (1928). «Может быть,
оно покажется странным и неожиданным. Дело в том, что я — Про-
летарский Писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того во-
ображаемого, но подлинного Пролетарского Писателя, который су-
ществовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде.
Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере
сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда
значительно повысятся во всех отношениях»117. Речь, вероятно, шла
о том, что литературное амплуа Пролетарского Писателя предопре-
деляло новые отношения между писателем и читателем. Это был
осознанный шаг навстречу своему читателю и герою, которому вов-
се не нужен был традиционный литератор, обремененный всем за-
пасом «культуры гуманизма», но, напротив, писатель, способный
понять драму утерянной калоши и надкушенного пирожного —
и искренне сопереживать ей. Но парадокс состоит в том, что масса
не могла выдвинуть из своих рядов даже и такого литератора. Тогда
навстречу ей сделал шаг М. Зощенко — художник, воспитанный на
образцах истинной культуры, но отрекающийся от них, как мы по-
стараемся показать, во имя сближения со своим читателем.
По мысли Чудаковой, Зощенко как раз и выстраивает образ
автора, освобожденного от всякой культуры — и спародированно-
117 Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. М., 1979. С. 65.
111
Культурный вакуум
го в этом качестве с помощью сказовых форм истинным автором.
«Я только пародирую, — пишет Зощенко. — Я временно замещаю
Пролетарского Писателя. Оттого темы моих рассказов проникнуты
наивной философией, которая как раз по плечу моим читателям»118.
В этом высказывании позиция Зощенко близка точке зрения Де-
мьяна Бедного, который как бы присаживался на корточки перед
своим малограмотным читателем, сочиняя знаменитые «агитки
бедного Демьяна». Думается, однако, что для Зощенко с его куль-
турными возможностями и творческим потенциалом это вряд ли
было возможно.
М. Чудакова объясняет явное несоответствие между творчески-
ми возможностями писателя и явно заниженной художественной
задачей воплотить «наивную философию» Назара Ильича госпо-
дина Синебрюхова, которая как раз по плечу «человеку массы»,
полагая, что Зощенко пародирует этого воображаемого Пролетар-
ского Писателя, которого нет, но который мог бы существовать.
С ее точки зрения, пародируемый объект не лежит вне пародии —
он конструируется здесь же и в самый момент рождения подверга-
ется пародизации. Это приводит к парадоксальному изменению в
самой природе сказа: в «случае Зощенко» теряет актуальность тра-
диционное определение сказа как ориентации в первую очередь
на устную, а потому чужую речь. Зощенко ориентируется на пись-
менную чужую речь.
Думается, однако, что противоречие, которое объясняет Чу-
дакова, не снимается сложным писательским приемом Зощенко —
одновременным созданием и пародированием текста, или же па-
родированием несуществующего текста. Объяснение может лежать
в сфере культурно-психологической: Зощенко не смог избенуть
традиционного для русского интеллигента соблазна растворения в
массе, подчинения себя ей. Он сознательно отказывался от своего
языка, ставшего в 20-е годы «лишенцем», от своей культуры, по-
степенно переходя на язык своего героя, на язык «человека мас-
сы», будучи впоследствии не в состоянии отказаться от него даже
в частных письмах, например, к жене. Творческая эволюция Зо-
щенко на протяжении 20-х годов может быть представлена как
постепенное уменьшение дистанции между автором и героем, как
путь от насмешки и иронии в отношении к «человеку массы»,
попавшему, например, в театр и не увидевшему того, что было на
18 Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. М., 1979. С. 66.
112
М. Зощенко как пролетарский писатель
сцене, к постепенному осознанию того, что его язык, его «наив-
ная философия», его взгляд на мир тоже имеют право на суще-
ствование — и приятию своего героя. Но так как его герой пола-
гал, что только его-то взгляд на мир и является единственно воз-
можным, то писатель невольно согласился с ним, как бы последовав
призыву Блока безоглядно пожертвовать культурой гуманизма. Зо-
щенко своей эволюцией и своим творческим опытом уже 30-х го-
дов показал, к чему приводит литературу и культуру в целом про-
возглашенное Блоком крушение гуманизма. Для творческой лич-
ности оно оборачивается отказом от самого себя, отречением от
собственной культуры. Литературное амплуа конструируемого и как
бы пародируемого Пролетарского Писателя прочно срослось с твор-
ческой личностью, приведя к безысходному творческому кризису
30-х годов.
«Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, кото-
рого, может быть, и нет сейчас, но который должен бы существо-
вать, если б он точно выполнял социальный заказ не издатель-
ства, а той среды и той общественности, которая сейчас выдвину-
та на первый план...»119. Но драма Зощенко состояла в том, что он
пародировал сам себя, т.е. и был «интеллигентским» писателем,
пытавшимся как можно более точно выполнить социальный заказ
«человека массы». Поэтому пародийной стала сама ситуация, в ко-
торой оказался Зощенко; пародийно выглядит положение челове-
ка культуры, пытающегося на ее языке говорить о бескультурье;
как пародия воспринимается литературная речь, переставшая быть
литературной; пародийно воспринимается сознание человека куль-
туры, подчиненное сознанию «человека массы». Само амплуа, вы-
бранное Зощенко, не могло не восприниматься как пародийное.
Это амплуа с неизбежностью поставило Зощенко перед тем же
вопросом, что и «человека массы»: вопросом взаимоотношений с
прежней культурой. И решил он его в точном соответствии с по-
лученным у «человека массы» социальным заказом — безжалостно
жертвуя собой и отказываясь от всей предшествующей культурной
традиции, полагая, что появление человека массы в качестве но-
вого носителя культуры и ценителя культурных ценностей требует
полной, тотальной переоценки ценностей прежних. Эта переоцен-
ка произошла в точном соответствии с законами той культуры,
которую утверждал зощенковский герой и которой подчинился
119 Там же. С. 79.
113
Культурный вакуум
сам автор — «третьей» культуры, культуры примитива, который
«жадно впитывает «отходы» верхней культуры, но.он же их весь-
ма активно «перерабатывает». И делает это путем приобщения
«верхнего» к «нижнему». <...> Подсознательное пародироване,
разъятие и перетолкование того, что опускается в оно примитива
из сферы высокого профессионализма, зиждительно с общекуль-
турной точки зрения. Это, в сущности, процесс гротескного унич-
тожения-возрождения»120. Но разница состоит в том,что на совет-
ской почве 20-х годов примитив, выродившийся в химеру, утра-
тил это плодоносное, позитивное, карнавальное начало, подойдя
к миру со вполне серьезной заявкой на господство и тотальное
уничтожение культуры прошлой. Этот пафос с наибольшей пол-
нотой выражен в «Голубой книге» — своего рода адаптированной
энциклопедии всей предшествующей человеческой цивилизации.
В качестве творческой задачи выступает здесь стремление выпол-
нить полученный социальный заказ — дать совокупность неких
культурных ценностей, игнорируя всю накопленую столетиями
традицию их обобщения, осмысления, передачи в цепи челове-
ческих поколений. «Исторический факт, — по точному суждению
М. Чудаковой, — подается здесь таким, каким он должен, по мне-
нию автора, предстать перед самодовлеющим бытовым сознани-
ем, — вне всяких опосредований. Сняты все культурные барьеры,
не позволяющие нам отнестись к историческому факту так же
непосредственно, как к житейской истории, разыгрывающейся
перед нашими глзами. Дан выход самым непосредственным реак-
циям, не отягощенным багажом культуры. «Нам исключительно жалко
Сервантеса. И Дефо тоже бедняга. Воображаем его бешенство, когда
в него плевали. Ой, я бы не знаю, что сделал!» По меткому замечанию
исследователя, «Голубая книга» представляет собой усилие сти-
рания памяти, предметом изображения оказывается туман, заво-
лакивающий ее121.
Повествователь «Голубой книги», Пролетарский Писатель пер-
вой половины 30-х годов, амплуа которого воплотил в литературе
Зощенко, видит свою задачу в смещении исторического факта, в
утверждении неточности, стирании культурного контекста, в на-
рочитом пренебрежении фактом и его искажении — во имя прос-
тоты и доступности этого факта «человеку массы», изначально
120 Прокофьев В. Н. Примитив и его место в художественной культуре Нового и
Новейшего времени: К проблеме примитива в изобразительных искусствах. С. 24.
121 Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. С. 91.
114
М. Зощенко как пролетарский писатель
уверенному в том, что если он не владеет культурной памятью, то
она лишена вообще какого бы то ни было смысла. Работа с источ-
никами литературно-исторического, философского, энциклопе-
дического плана122, которыми, естественно, пользовался писатель,
сводилась к его искажению и смещению под углом зрения, наибо-
лее близким его аудитории; неточность в восприятии факта стала
художественной задачей писателя. Ракурс этой неточности обус-
ловлен попыткой удовлетворить минимум интереса «человека мас-
сы» и дать факт, скажем, европейской литературной истории в
контексте реалий, доступных массовому сознанию 20-х годов. По-
этому в его тексте и появляются подобные фразы: «Для примеру
такой крупный сочный сатирик — писатель-попутчик Сервантес. Пра-
вую руку ему отрубили. <...> Другой крупный попутчик Данте. Того
из страны выперли без права въезда. А Вольтеру дом сожгли». Сер-
вантес и Данте в качестве попутчиков, Вольтер без права въезда —
такое восприятие истории как бы санкционировало требование
«человека массы» видеть все сквозь собственную призму, мерить
давно прошедшее аршином собственного политического, бытово-
го, культурного опыта — и полагать эту мерку единственно объек-
тивной и возможной.
При этом Зощенко был абсолютно серьезен, адаптируя куль-
туру на потребу «рабочему человеку». Стирая все, с его точки зре-
ния, неважное и непринципиальное, он, как представитель мас-
сы, берет себе право выявить неважное и абстрагироваться от него,
вынося при этом сам процесс адаптации истории и культуры на
обсуждение со своим читателем. Но при такой селекции оказыва-
ется неважным и непринципиальным для новой культуры абсо-
лютно все! Поэтому повествователь как бы взвешивает тот или
иной факт, как бы раздумывает, стоит ли его предать забвению
или же увековечить: «Там у них было, если помните, несколько Генри-
хов. Собственно, семь. Генрих Птицелов... Потом у них был такой Ген-
рих Мореплаватель. Этому, наверное, нравилось любоваться морем, или
он, может быть, любил посылать морские экспедиции.<...> Впрочем,
он, кажется, правил в Англии. Или в Португалии. Где-то в этих приморс-
ких краях. Для общего хода истории это абсолютно неважно, где нахо-
дился этот Генрих».
122 Список этих источников приводит М. Чудакова (Указ. соч. С. 94—95),
Д. Молдавский в статье «Повести М. Зощенко конца 20—30-х годов» (Русская лите-
ратура. 1970. № 4. С. 56).
115
Культурный вакуум
Другой пример стирания исторической памяти: «Как сказал поэт
про какого-то, не помню, зверька — что-то такое:
И под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
Это, кажется, он сказал про какого-то отдельного представителя
животного мира. Что-то такое в детстве читалось. Какая-то чепуха.
И после заволокло туманом».
Отнестись так ко всем историко-культурным фактам без ис-
ключения заставляет Зощенко его амплуа Пролетарского Писате-
ля, имеющего право выносить верховный суд над всей предше-
ствующей цивилизацией и мнящего этот суд непогрешимым, ибо
он выражает психологию человека, искренне уверенного в соб-
ственной правоте и в собственном праве судить обо всем. Если что-
то «заволокло туманом», то это значит лишь, «что для общего
хода истории это абсолютно неважно».
«Я родился в интеллигентной семье, — писал Зощенко. — Я не
был, в сущности, новым человеком и новым писателем. И некото-
рая моя новизна в литературе была целиком моим изобретением».
Думается, что эта новизна обернулась объективной невозможнос-
тью отказаться от культуры и остаться писателем — разве что Про-
летарским Писателем. Эта объективная невозможность и привела
его к творческому кризису 30—50-х годов, первым знаком которо-
го стала «Голубая книга», а кульминацией — «Возвращенная мо-
лодость». Противоречивое отношение к своему герою в начале твор-
ческого пути (злая ирония и одновременно сочувствие) смени-
лось со временем приятием его. Постепенная утрата дистанции
между автором и аудиторией обернулась сознательным отказом от
культуры, забвением того, что писатель все же родился в «интел-
лигентной семье» русской культуры и генетически принадлежит
ей, что кровь Гоголя и Достоевского течет в его жилах, что в его
голосе звучат голоса создателей «Шинели» и «Бедных людей».
Но «маленький человек», обернувшись уже в XX в. «человеком
массы», потребовал полного подчинения себе писателя, испыты-
вающего к нему симпатию и сострадание — и дал ему свой соци-
альный заказ на Пролетарского Писателя. Зощенко взял этот за-
каз, сделал его своим литературным амплуа, которое со временем
стало его писательской и личностной сутью. Маска стала лицом.
Заговорить своим собственным голосом Зощенко так и не смог. Об
этом, в частности, свидетельствует удивительный феномен раз-
мывания границ между литературой и нелитературой, когда рас-
116
Владимир Маяковский: до и после пятого акта трагедии
сказы, фельетоны, исторические очерки, письмо Горькому или
жене пишутся одним стилем. И если в начале 20-х годов спаситель-
ная ирония определяла дистанцию между автором и героем, то
утрата ее привела к тому, что герой Зощенко, как бы вытеснив
своего создателя, сам стал писателем, заставив своего литератур-
ного творца говорить чужим голосом, забыв свой.
Владимир Маяковский:
до и после пятого акта трагедии
Культурная ситуация 20-х годов обострила некоторые искон-
ные качества русского сознания и русской души. Гипертрофиро-
ванные максимализм, мессианизм и утопизм, наложенные на си-
туацию культурного вакуума, нашли свое воплощение в концеп-
ции революции, сложившейся в русской литературе и выразившей
общее отношение к миру «человека массы». Революция была еще
одной формой проявления утопического сознания, безумной по-
пыткой невероятного прыжка в будущее через целые бездны исто-
рического времени.
Революция, по сути дела, была формой реализации утопии.
Мессианизм русской души вылился в навязывание этой утопии
как своим собственным согражданам, так и всему миру — ведь
речь шла поначалу не меньше, чем о мировой революции. Макси-
мализм русской души проявился в неистовости революционного
деяния.
Но нас интересует революция как форма воплощения нацио-
нального менталитета. Какие стороны национальной души она
обнажает, насколько причудливо они выражены в ней?
Литературной личностью, воплотившей амплуа революционе-
ра, стал В. Маяковский. Это амплуа предопределяло как бы неко-
торую эволюцию литературной личности, обуславливало возмож-
ность некого внутреннего сюжета. Его развитие сводилось к движе-
нию от образа поэта-футуриста, рядящегося в желтую кофту и
эпатирующего пресное буржуазное общественное мнение, к обра-
зу вожака класса-гегемона и, как результат, — официального по-
эта всего Советского Союза. Попытка реализовать этот сюжет, про-
диктованный амплуа, оказалась вполне губительной для него и
обусловила творческую драму отказа от собственной лирической
тональности, заставила наступить на горло собственной песне и
117
Культурный вакуум
привела к трагическому завершению личной судьбы — к «точке
пули в своем конце».
Это амплуа определило и художественное своеобразие лирики
Маяковского, и образ его лирического героя.
Для лирического героя Маяковского характерно резкое изме-
нение пропорций между изображением и выражением. Момент
изображения, традиционно не свойственный для лирики как ода
литературы, вторгается в художественный мир поэта. Следствием
этого оказывается появление в лирическом произведении собы-
тийного ряда, своего рода сюжета, в основе которого может быть
встреча с другом, путешествие за границу, бытовые эпизоды, жан-
ровые сценки, увиденные там и здесь.
Такое изменение жанровой природы лирики обусловлено но-
вым соотношением между частным и общим. Страх личного оди-
ночества и желание уйти от своей частности в сферу общего, гло-
бального, стать частью коллектива, партии, «руки миллионопа-
лой, сжатой в один громящий кулак», включает в сферу частного,
личного, следовательно, доступного для осмысления лирически-
ми средствами, то, что никогда не осмыслялось как частное: по-
литические, хозяйственные, экономические, культурные сферы
государственной жизни. И они тоже становятся объектом лиричес-
кой рефлексии поэта.
Так происходит смена предмета изображения, традиционного
для лирки. Интимное, традиционно лирическое, скажем, поцелуй
и любовные эмоции, осмысляются сквозь призму политической
сферы, при этом такое сочетание современным сознанием может
восприниматься как комическое: «В поцелуе рук ли, губ ли,/в дро-
жи тела близких мне/красный цвет моих республик/тоже должен пла-
менеть».
Дело не только в совмещении несовместимых, казалось бы,
предметов изображения: поцелуе рук и губ с красным цветом рес-
публик. Из лирики Маяковского часто уходит момент лирической
рефлексии автора, и предметом изображения оказывается, напри-
мер, судьба забытого ящика для жалоб («Легкая кавалерия»): «Фаб-
рикой вывешен жалобный ящик./Жалуйся, слесарь, жалуйся, смазчик!
<...> Ржавый, заброшенный, в мусорной куче/тихо покоится ящичный
ключик». Изображаемый материал не оказывается предметом ос-
мысления лирического героя, философа, аналитика, мыслителя,
изображенный материал не поднимается на новый, лирический
уровень, не обретает права стать предметом художественного ис-
следования в лирическом произведении; момент авторской реф-
118
Владимир Маяковский: до и после пятого акта трагедии
лексии часто ограничивается всего лишь плакатным лозунгом, а
все стихотворение оказывается рифмованным призывом объеди-
нения теории с практикой: «На книги одни — ученья не тратьте-ка./
Объединись, теория с практикой!» («Теоретики»).
В результате литература обретает новые, не свойственные ей
ранее функции журналистской заметки и газетного репортажа, поэт
считает нужным откликнуться на любой, самый частный, зауряд-
ный, преходящий случай из общественной жизни, будь то чистка
советского госаппарата («Смена убеждений»), антиалкогольная
неделя, проходившая в Москве с 15 по 22 сентября 1929 г. («При-
мер, не достойный подражания»), неделя Общества содействия
развитию автомобилизма, тракторного дела и улучшения дорог
(«Стих как бы шофера»), успешное завершение первого года пя-
тилетки («Американцы удивляются»), кампании по борьбе с поте-
рями и за рационализацию («Марш ударных бригад»).
Обращение к любому, самому частному поводу газетной кам-
пании и попытка сделать этот факт предметом изображения лири-
ческого произведения связано с целым комплексом представле-
ний Маяковского о роли литературы и о своем месте в ней. Изме-
нение традиционных пропорций между личным и общим
обусловило попытку прийти к полному единению с жизнью наро-
да — через газетную передовицу. Сложилась удивительная ситуа-
ция: разъезжая по Союзу и по Европе, встречаясь с самыми раз-
ными аудиториями, Маяковский пытался компенсировать отсут-
ствие истинного знания народной жизни через обращение к
передовице «Правды» и «Известий», как бы не замечая огромной
пропасти, лежащей между официальной пропагандой — мифом,
с одной стороны, и реальностью национального бытия — с дру-
гой. Рифмуя газетный текст передовицы, Маяковский не мог при-
близиться к истинно народной жизни, все далее и далее от нее
отдаляясь. Таким образом, стремление преодолеть трагически ощу-
щаемое личное одиночество оборачивалось еще большим одино-
чеством, еще большей изоляцией. Попытка преодолеть его через
приобщение к народу не принесла успеха. Поэт не смог преодолеть
пропасть, отделяющую его не только от народной культуры, но и
от народного поимания мира. Он не знал истинных проблем, пе-
ред которыми стояли люди, далекие от партийной элиты и офи-
циальной литературы, и, вероятно, не подозревал, что кроме не-
дели общества развития автомобилизма существует нечто, что, к
примеру, подвигло его соотечественников на крестьянскую войну
начала 20-х годов под предводительством атамана Антонова. По-
119
Культурный вакуум
этому в лирике Маяковского не нашлось и слова для исследования
реально существующих проблем народной жизни, ему удалось как
бы не заметить великие национальные потрясениягрепрессии, кол-
лективизацию, надвигающийся на деревню голод.
Желая опереться на точку зрения человека из народа, как его
представлял себе Маяковский, поэт пытался передоверить ему
собственный внутренний монолог, заговорить как бы его голосом.
Но новая точка зрения не приходит («мнение народное» просто
неизвестно В. Маяковскому, как, например, оно было известно
Вс. Иванову, А. Неверову, Л. Сейфуллиной), и остается просто го-
лос «человека массы», пораженного увиденной в новой квартире...
ванной («Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую
квартиру»). Ванна оказывается неиссякаемым источником его сча-
стья и объектом эстетического восприятия автора: «зто белее лун-
ного света,/удобней, чем земля обетованная,/это — да что говорить об
этом,/это — ванная». Ничего более прекрасного не может предста-
вить себе массовый человек, которому поэт передоверил свой внут-
ренний монолог: «Как будто пришел к социализму в гости,/от удо-
вольствия — захватывает дых./Брюки на крюк, блузу на гвоздик,/мыло
в руку и... бултых!»
В принципе, прием передачи своего лирического монолога че-
ловеку из народа не был чужд лирике и прошлого века («Огород-
ник», «Зеленый Шум» Н. Некрасова, к примеру). Но этот прием
был оправдан художественной задачей автора. Человек из народа
говорил о своем умении любить, жертвовать своей свободой ради
«боярской дочери», спасая ее честь и принося на жертвеный ал-
тарь свою судьбу, или же любить, терпеть, прощать близкого со-
грешившего человека. Герой же Маяковского кроме заявления
«Я пролетарий. Объясняться излишне./Жил, как мать произвела, ро-
див./И вот мне квартиру дает жилищный,/мой, рабочий, кооператив»
не имеет сказать ничего. Сфера его внутренней жизни остается за-
крыта и, вероятно, не имеет и для него самого решительно ника-
кого интереса, тем более, в сравнении с обожествленной ванной.
Передача права голоса другому человеку возможна только в
связи с каким-нибудь материальным приобретением, например,
покупкой радиоприемника («Рассказ рабочего Павла Катушкина о
приобретении одного чемодана»). Радио изменило всю жизнь ге-
роя, давая возможность слушать оперу «Кармен» и создавая иллю-
зию прямого общения (даже как бы и свысока) с деятелями партий-
но-государственного руководства. Реакция на радиовыступление
Калинина, например, такова: «Я рад. Жена рада./Однако делаем
120
Владимир Маяковский: до и после пятого акта трагедии
спокойный вид./Мы, говорим, его выбирали, и ежели ему надо,/пусть
Михал Ваныч с нами говорит». У «человека массы», голос которого
представил Маяковский и голос которого повторяет интонации
героя Зощенко, создается иллюзия, что выступление Калинина
обращено именно к нему и в его воле позволить или не позволить
говорить своему «избраннику». Есть даже возможность похлопать
ободряюще по плечу: «Про хлеб говорит, про заем говорит.../Очень
говорит толково». Для героя Маяковского приобретенный «чемо-
дан» создает иллюзию приобщения к культуре и партийно-госу-
дарственной элите, а для Маяковского, выворачивающего ему в
угоду русский литературный язык и меняющего правила орфогра-
фии, находится способ выразить, ссылаясь на «мнение народное»,
положительную оценку речи Калинина.
Литературный облик В. Маяковского реконструирован А. К. Жол-
ковским123. Его суть, с точки зрения исследователя, как бы амби-
валентна и включает в себя ненависть к окружающему и любовь к
самому себе. Это нелюбовь к детям и старикам, к природе, к горо-
ду, к нормальной жизни, которая трактуется как обывательская.
Это неприятие традиций, в том числе литературных. Лирический
герой Маяковского стремится подать классику руку, похлопать его
по плечу, стащить с пьедестала и самому на нем утвердиться — так
трактует Жолковский обращение к Пушкину и Некрасову в стихо-
творении «Юбилейное». Приводя конкретный и подробный анализ
поэтических текстов Маяковского, он обращает внимание на гру-
бость языка, образов, полемических приемов поэта.
Думается, что подобная реконструкция литературного образа,
предпринятая исследователем, имеет право на существование. Его
амбивалентность обусловлена тем, что в литературном поведении
Маяковского сошлись две центральные установки эпохи: во-пер-
вых, футуризм как эстетическая программа и принцип отношения
личности и общества в целом к действительности; во-вторых, вуль-
гарно понятый социальный заказ, обусловленный футуристичес-
кой программой Маяковского и принятием на себя амплуа поэта
класса-гегемона.
В футуризме Маяковского сошлись воедино и обрели явно ги-
пертрофированные контуры все характерные черты утопического
сознания. В основе его — концепция «золотого века», локализован-
123 Жолковский А. К. О гении и злодействе, о бабе и всероссийском масштабе
(Прогулки по Маяковскому)//А. К. Жолковский. Блуждающие сны и другие работы.
М., 1994. С. 247-275.
121
Культурный вакуум
ного в будущем, которая формирует особое отношение ко време-
ни и трем его категориям: прошлому, настоящему, будущему. Прош-
лое вообще лишено всякой ценности, ибо оно не "идеально и не-
коммунистично, настоящее значимо лишь постольку, поскольку
оно несет в себе черты мифологического будущего. Это делает оп-
равданным разрыв с традицией и полное пренебрежение ею и
мотивирует в литературном поведении свободное обращение к Пуш-
кину («Были б живы — стали бы по Лефу соредактор. Я бы и агитки
вам доверить мог./Раз бы показал: — вот так-то, мол, и так-то.../Вы б
смогли — у вас хороший слог»). При этом у Маяковского не возни-
кает вопроса, а захотел ли бы его воображаемый собеседник зани-
маться доверенными ему агитками, бросив «ямб картавый» даже
ввиду того, что «битвы революций посерьезнее «Полтавы»/и лю-
бовь пограндиознее онегинской любви». Панибратское похлопы-
вание по плечу Некрасова, которому все же разрешается остаться
в сонме истинных поэтов (вместе с Маяковским и Пушкиным),
тоже возможно потому, что с футуристических позиций высший
суд принадлежит будущему, его решения абсолютны и не могут
меняться со временем, а сам этот суд представляет поэт будуще-
го — Маяковский: «А Некрасов Коля, сын покойного Алеши, —/он и в
карты, он и в стих, и так неплох на вид./Знаете его? Вот он мужик
хороший./Этот нам компания — пускай стоит».
Но будущего пока нет, и неизвестно, будет ли оно таким, а
настоящее и прошлое ненавистно. Так образуется нравственный и
культурный вакуум, одним из самых ярких выразителей которого
стал Маяковский. Трагизм человека, имеющего несчастье жить в
ситуации культурного вакуума, отобразили в своих героях и
М. Зощенко, и А. Платонов, но, наверное, ярче всех эту трагедию
показал В. Маяковский. Футуристическое мироощущение, обесце-
нивающее настоящее, приводит к трагедии пустоты и делает не-
выносимым само бытие.
Это проявляется в совершенно особом и неожиданном отно-
шении к основополагающим категориям бытия: к жизни, ее смыс-
лу, к смерти. Исследователи судьбы Маяковского, рзмышляя о его
посмертном письме к «товарищу Правительству», обращали вни-
мание на мелочность его счетов с остающимися жить, которая
особенно явно проявляется именно перед лицом смерти. Можно
ли всерьез сожалеть, например, в такой ситуации о том, что не
успел доругаться с Ермиловым? Неужели даже перед лицом небы-
тия эти счеты остаются хоть сколько-нибудь значимыми? Неужели
жизненная пустота, заполненная полемикой с коллегой из РАПП,
122
Владимир Маяковский: до и после пятого акта трагедии
переходит и в сферу небытия, неужели она преследует и перед
лицом мира иного?
Фигура Маяковского предстает как поистине трагическая. Пред-
чувстие (или обдумывание?) возможности завершения жизненно-
го сюжета пятым актом трагедии слышится в мотиве некой стран-
ной зависти в стихах на гибель Есенина: «В этой жизни помереть не
трудно. Сделать жизнь значительно трудней».
Трагическая пустота лишает поэта и наслаждения творчеством.
Трудно представить себе Маяковского, испытывающего легкость
и восторг творческого акта, подобно Пушкину:
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Ему вряд ли доступна радость творчества как бы без усилия
художника, когда поэт ощущает себя всего лишь проводником
некого творческого замысла, когда красота является как бы сама
собой, как у Ахматовой:
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.
Для Маяковского же поэтический труд — тяжелое дело, добы-
ча радия, о котором нужно совещаться с фининспектором и план
которого утверждает Госплан. Поэзия — лишь жестокий труд, раз-
рушительная для творческой личности растрата энергии: «Машину
души с годами изнашиваешь <...> приходит страшнейшая из амортиза-
ций — амортизация сердца и души».
Такое отношение к поэзии оказывается результатом неиспол-
нимости максималистских требований, предъявленных к действи-
тельности, которая никак не хочет обретать контуры будущей уто-
пии. Отсюда пессимизм и трагическое осознание коренной неспра-
ведливости миропорядка. Такая действительность, с точки зрения
утопического сознания, не может иметь права на существование.
Поэтому принципом отношения к миру у Маяковского оказыва-
ется террор — по отношению к женщине, к литературным пред-
шественникам, литературной среде.
Судьба Маяковского демонстрирует еще один вариант разре-
шения трагического противоречия между творчески одаренной
личностью художника, попытавшейся выполнить социальный за-
каз «человека массы», и добовольно принятым на себя в связи с
123
Культурный вакуум
этим заказом литературным амплуа. Это противоречие обострялось
качествами личности поэта — человека, вероятно,.ранимого, уяз-
вимого, гипертрофированно самолюбивого, претендующего на
памятник современников и жизнь в памяти потомков, обостренно
нуждающегося в женской ласке и понимании и, увы, часто не
находящего ее. Подобная ранимость и уязвимость как бы компен-
сировалась нарочитостью литературного амплуа, принятого еще
до 1917 г. — гаера, насильника, владельца желтой кофты, смело и
безрассудно бросающего вызов общественному мнению и прези-
рающего его суд, несущего в себе «холодную железку» сердца. Но
уже в начале творческого пути, в тетраптихе «Облако в штанах»,
Маяковский вполне осознает несостоятельноть подобной компен-
сации: «Меня сейчас узнать не могли бы:/жилистая громадина/сто-
нет,/корчится./Что может хотеться такой глыбе?/А глыбе многое хо-
чется! /Ведь не важно/и то, что бронзовый,/и то, что сердце — холод-
ной железкою./Ночью хочется звон свой/спрятать в мягкое,/в
женское».
В 20-е годы это амплуа романтика, нарочито и безрассудно бро-
сающего вызов общественному мнению, несколько видоизмени-
лось. От незащищенности, слабости и одиночества лирический
герой Маяковского уходит под сень коллектива, прислоняясь к
классу и в нем находя себе опору; обретает кумиров, создавая но-
вую мифологию — мифологию соцреализма. Именно эта мифоло-
гия и должно была, по интуитивной догадке поэта, заполнить невы-
носимую пустоту. Каковы же основные черты этой мифологии?
Ее сердцевину создают представления о большом и сильном
государстве, сама принадлежность к которому наполняет жизнь
человека смыслом и содержанием, заставляет его ощутить лич-
ную, индивидуальную связь с государством: «Главное в нас, зто —
наша Страна Советов,/советская воля, советское знамя, советское сол-
нце». Таким образом, человек ощущает свою защищенность, он
имеет всегда возможность прислониться к чему-то большому, силь-
ному и несокрушимому — будь то сфера социальной жизни или
же частного бытия. Конкретными носителями идеи государствен-
ной мощи выступают госаппарат и его структуры, общение с ко-
торыми может доставить человеку лишь самые благоприятные эмо-
ции: «Моя милиция меня бережет». Особенно обостряется ощуще-
ние государственной мощи, которая стоит за гражданином, при
выезде за рубежи отчизны. Именно здесь, при таможенном до-
смотре, можно достать «из широких штанин» паспорт, который
124
Владимир Маяковский: до и после пятого акта трагедии
становится не удостоверением личности, но символом государ-
ственной принадлежности человека и предметом гордости.
Такое представление предопределяет восприятие каждого че-
ловека в первую очередь как «члена государства», как сказал бы
А. Платонов, а потому его ценность определяется степенью его
включенности в самые различные социальные учреждения, что и
наполняет смыслом и разумностью бытие личности. Этим обус-
ловлена попытка обращения поэта в Госплан для получения соот-
ветстующих руководящих указаний и ссылка рабочего на «родной
рабочий кооператив», многочисленные апелляции к Осоавиахи-
му, МОПРу, КИМу. Государство, представленное самым широ-
ким спектром организаций (организаций, не представляющих го-
сударство, просто не может быть), берет на себя миссию защиты
своего гражданина, санкционирует его социальную и частную
жизнь.
Взамен государство требует от личности полного самоотверже-
ния. Как частная, так и социальная жизнь строится по единому
образцу. Но самый главный долг, стоящий перед человеком, со-
стоит в добросовестном труде на благо государства, единственный
смысл которого — приближение футуристического будущего. Ры-
вок к нему возможен неимоверным напряжением всех сил, к ко-
торому И призывает поэт: «Коммуну вынь да положь,/даешь непре-
рывность хода! Даешь пятилетку! Даешь —/пятилетку в четыре года!
<...> Уголь, хлеба, железо, чугун/даешь! Даешь! Даешь!» Взамен
трудящийся получает чувство глубокого удовлетворения, ванну в
новой квартире или же возможность приобрести радиоприемник.
Унификация частной жизни по общему образцу диктует обра-
щение к внутреннему миру не столько личности (что было бы
естественно для лирики как рода литературы), сколько к массе.
Отдельная человекоединица мешает стройности мифологической
картины — отсюда непрерывная команда «построиться!», повто-
ряемая почти с армейской настойчивостью: «Стройтесь в ряды! Впе-
ред, колонны»; «В мире яснейте рабочие лица, —/лозунг и прост, и
прям:/надо в одно человечество слиться/всем — нам, вам!» Это ведет
почти к полному отрицанию индивидуального начала. Человек,
осознающий свою особость и отличие от массы, вызывает презре-
ние. Тому, кто не хочет «строиться», провозглашается анафема:
«Огромные вопросищи, огромней слоних,/страна решает миллионоло-
бая./А сбоку ходят индивид умы, а у них/мнение обо всем особое».
В этом-то и состоит их страшная вина: «Консервируйте собственный
разум,/прикосновеньем ничьим не попортив,/но тех, кто в работу впрягся
125
Культурный вакуум
разом, —/не оттягивайте в сторонку и напротив.../и у нас, и у массы
мысль одна/и одна генеральная линия». Наверное, нигде страх «чело-
века массы» перед собственным одиночеством и его ненависть к
любому, думающему иначе, имеющему «особое мнение», говоря
словами Маяковского, не проявился столь наглядно, как в этих
стихах.
Естественно, что даже для художника, принадлежащего госу-
дарственной литературной элите, не секретом было очевидное не-
соответствие между мифологией, во многом созданной им самим, и
реальностью. Это несоответствие он склонен объяснить нерадивос-
тью отдельных представителей государства и пороками, поразивши-
ми партаппарат. Поэтому задача художника — в искоренении этих
пороков и обличении неких лиц, ими зараженных. Так появляются
литературные обобщенные маски неких чиновников — прозаседав-
шихся, взяточников, бюрократов, с которыми необходимо вести
борьбу оружием сатиры. В этом и состоит одна из миссий ангажиро-
ванной творческой личности. Так рядом с прежними амплуа появ-
ляется новое: сатирика-обличителя пороков общества.
Таким образом, В. Маяковский за свою творческую жизнь не-
сколько раз сменил литературное амплуа. От образа футуриста-
разрушителя, ненавистника литературного старья, он пришел к
образу поэта класса-гегемона и уже затем попытался сыграть роль
официального партийно-государственного поэта. Для этого, разу-
меется, нужна была санкция государства и партии. Ее-то Маяков-
ский так и не получил. Попытка освоить это амплуа и отсутствие
высшей санкции приводили его к почти неразрешимому противо-
речию.
Разрешение этого противоречия было трагичным.
Ю. М. Лотман, размышляя о литературном амплуа, говорит о
его связи с неким сюжетом, по образцу которого строится жизнь
литературной личности. «Построение жизни как некого импрови-
зационного спектакля, в котором от актера требуется оставаться в
пределах его амплуа, создавало бесконечный текст. В нем все но-
вые и новые сцены могли пополнять и варьировать бесконечный
ряд событий. Введение сюжета сразу же вводило представление об
окончании и одновременно приписывало этому окончанию опре-
деляющее значение»124.
124 Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века.
С. 262.
126
Владимир Маяковский: до и после пятого акта трагедии
Какой сюжет предопределяло амплуа Маяковского? Амплуа
поэта революции, «агитатора, горлана-главаря» было, вероятно,
хотя бы отчасти продиктовано стремлением уйти от своего одино-
чества, ранимости, неприкаянности, не сложившейся личной, се-
мейной жизни. Оно давало возможность ощутить себя частью од-
ного огромного коллектива, частью массы, взявшей на себя мис-
сию коренного переустройства бытия. Мало того, представление о
задачах литературы (стать частью социал-демократического меха-
низма. — Ленин) заставляло стремиться к лидерству — встать во
главе этой массы, быть ее лидером, возглавить движение вперед.
Это была претензия, обусловленная амплуа. И все литературное
поведение Маяковского было попыткой утверждения в роли во-
жака: организовать собственную выставку, посвященную пятнад-
цатилетию творческой деятельности; бросив ЛЕФ, вступить в
РАПП, самую сильную и агрессивную группировку, претендую-
щую на роль проводника партийной линии. В сущности, все эти
акты были продиктованы стремлением сыграть роль официально-
го поэта, устами которого говорят Партия и Государево, построив
по этому сюжету свою жизнь — частную и литературную. Но по-
добная роль требует как раз партийной и государственной санк-
ции. Их-то и не хватало Маяковскому: ему не звонил Сталин, как,
скажем, Пастернаку или Булгакову, поэтому приходилось доволь-
ствоваться разговором с портретом Ленина; ему не давали заказа
из Госплана, даже, вероятно, фининспектор не тревожил. Кроме
того, надвигались первые признаки государственной немилости:
не дали визу во Францию, лишая встречи с Татьяной Яковлевой,
официальная пресса замолчала выставку, на которую так надеялся
Маяковский. Иными словами, претензия на роль первого советс-
кого поэта явно не реализовывалась. Сюжет нуждался в каком-то
импульсе, если не развязке, чтобы выстроенное амплуа не оста-
лось бы вымыслом.
Ю. М. Лотман, размышляя о возможности сознательного по-
строения жизненного пути в соответствии с неким литературным
эталоном, развил мысль о том, что самоубийство Радищева было
обусловлено его амплуа «учителя <...> в твердости», подающего
«пример мужества»125. Пятый акт трагедии, которым должна, по
логике трагического или героического амплуа, завершиться жизнь,
воспринимаемая как литературный сюжет, сделался предметом его
125 Там же. С. 264.
127
Культурный вакуум
постоянных рамышлений. Инерция обдуманного действия возоб-
ладала, подтолкнув Радищева к самоубийству, которое в его соб-
ственных глазах и в сознании современников делало его «русским
Катоном», поразившим себя кинжалом, когда Юлий Цезарь ско-
вал его цепями.
Логика «пятого акта» трагедии Маяковского была совершенно
иной. Это была попытка последним отчаянным действием при-
влечь к себе внимание и смертью утвердить право быть и оста-
ваться лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи. Это был как
бы прыжок из времени в вечность, футуристический расчет с на-
стоящим и прошлым: если нельзя изменить действительность и
приблизить ее к идеалу будущего, то нужно просто уйти из нее —
в будущее.
Самоубийство Маяковского Жолковский сравнивает с прыж-
ком в будущее, цитируя поэта: «Довольно шагать, футуристы!/В бу-
дущее прыжок». С его точки зрения, «пятый акт» Маяковского —
«литературно оркестрованное самоубийство, совмещающее отри-
цание себя и мира с последней апелляцией ко всеобщему внима-
нию, попыткой достичь вечной молодости и славы одним прыжком
и предоставлением финального слова маузеру»126. А Ю. Карабчиев-
ский, рассматривая тему поэтического бессмертия у Маяковского,
полагает, что его вера в бессмертие была наивно-материалисти-
ческой, находила опору в философии Н. Федорова. Этим обуслов-
лен образ «мастерской человечьих воскрешений» с тихим больше-
лобым химиком, к которому сквозь бездны времени обращается
лирический герой: «Воскреси хотя б за то, что я позтом/ждал тебя,
откинул будничную чушь!/Воскреси меня хотя б за это!/Воскреси —
свое дожить хочу!» В этом случае самоубийство — действительно
мистический прыжок в будущее, в социализм, в идеальный, «рас-
сиявшийся», «недоступный для тленов и крошений» мир, где его,
Маяковского, непременно воскресят и будут обращаться с ним,
вероятно, не так, как с тоже «воскрешенным» Присыпкиным —
Пьером Скрипкиным («Баня»), Литературное амплуа как бы пред-
вещало такой конец! Подобно тому, как опытный читатель преду-
гадывает разрешение трагического конфликта, прозорливые со-
временники предчувствовали литературную гибель Маяковского,
которая для него не могла не обернуться гибелью личной. Раз-
мышляя о «десятке Пегасов», загнанных им за последние пятнад-
126 Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. С. 274.
128
Владимир Маяковский: до и после пятого акта трагедии
цать лет, В. Ходасевич дал характеристику Маяковского, хотевше-
го дать речь «безъязыкой улице», но отдавшего свой голос «чело-
веку массы», которая как бы предсказывала завершение литера-
турного сюжета, связанного с подобным амплуа: «Он дал улице
то, чего ей хотелось... изысканное опошлил, сложное упростил,
тонкое огрубил, глубокое обмелил и втоптал в грязь... Его истин-
ный пафос — пафос погрома, т.е. насилия и надругательства надо
всем, что слабо и беззащитно». Это дает возможность Ходасевичу
предсказать конец его литературной (и, увы, личной) биографии:
«Лошадиной поступью прошел он по русской литературе — и ныне,
сдается мне, стоит при конце своего пути. Пятнадцать лет — лоша-
диный век».
HI
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ
РЕАЛИЗМ
Кризис реализма
Социальные и культурные обстоятельства русской жизни, о
которой шла речь в прошлых главах, не могли не отразиться на
собственно эстетическом характере литературного процесса. Они
проявились в частности, в драматических формах сосуществова-
ния модернизма и реализма.
Политика огосударствления ставила перед собой в принципе
недостижимую цель: создание одной, общей для литературы и всех
прочих видов искусства эстетической системы — монументально-
го стиля, или же «Культуры Два» {В. Паперныи). В литературе ей
соответствовал социалистический реализм. Подобная задача про-
тиворечила всем законам литературного развития, ибо тайна дви-
жения литературы состоит в противоречиях, которые формируют-
ся между различными эстетическими системами, стилевыми тече-
ниями, различными концепциями мира и человека. Чем их больше,
тем богаче литература, тем интереснее и плодотворнее ее поиски:
во взаимодействии, полемике, отрицании, в векторах взаимопри-
тяжения и отталкивания формируется поле напряженных художе-
ственных поисков и открытий. В литературном процессе, как и в
любой творческой сфере человеческого бытия, не может быть пол-
ного единомыслия.
Между тем, именно к такому единомыслию, к творческой уни-
фикации, приводила литературу политика огосударствления. Со-
циалистический реализм должен был стать (и стал почти на два
десятилетия в литературе метрополии) единственно возможной
эстетикой. Любые иные художественные решения официально от-
вергались (постановлениями, советской критикой, издательской
130
Кризис реализма
практикой) и вытеснялись в эмиграцию — внутреннюю (потаен-
ная литература) либо внешнюю. Это означало, по сути дела, фор-
мирование совершенно новых законов литературы. Подобно прин-
цессе из сказки Маршака «Двенадцать месяцев», которая для того,
чтобы получить зимой подснежники, собиралась издать новый за-
кон природы, государство формулировало и внедряло в жизнь новые
законы природы литературной. По этим законам формировалась
эстетика социалистического реализма; все, что не соответствовало
им, не допускалось к читателю.
Однако становление социалистического реализма опиралось не
только на формулируемые сверху законы литературного развития,
но и на внутренние процессы, характеризующие состояние реали-
стической эстетики. Таким образом, «удачное» совпадение партий-
ной политики и имманентных законов литературного развития
привело к возникновению того явления, которое получило назва-
ние «социалистический реализм».
Между тем, закономерность появления и бытования этой эсте-
тической системы не была осознана в критике и литературоведе-
нии. Это проявилось, в частности, в яростной атаке на соцреа-
лизм, которой ознаменовался конец 80-х годов — романтическая
пора ниспровержения старых литературных концепций (зачастую
уже рухнувших, не воспринимавшихся серьезно) и чаяния немед-
ленного становления новых. Тогда на страницах «Литературной
газеты», а затем и в других изданиях развернулась дискуссия о со-
циалистическом реализме. Ее пафос состоял в столкновении двух
точек зрения, в равной степени идеологизированных: одни, за-
щищая соцреализм, отстаивали ценности советской классики от
поспешных на нее посягательств, другие же их ниспровергали,
противопоставляя им вновь опубликованное и прежде запретное.
И. Золотусский, представляющий лагерь ниспровергателей, уви-
дел в соцреализме крошку Цахеса, утонувшего в собственном гор-
шке. И идеологизированность дискуссии, и крайность суждений
естественна для того времени, но если встать на приведенную точ-
ку зрения, то получится, что социалистического реализма не было...
потому что он не нравится. Такая точка зрения простительна кри-
тику, но историку литературы — вряд ли.
Между тем, еще раз подчеркнем, социалистический реализм —
исторически обусловленное и эстетически оформленное явление. Его
формирование проходило, с одной стороны, под воздействием об-
стоятельств собственно литературного плана, с другой стороны, под
воздействием внешних, социально-политических, условий.
131
Социалистический реализм
К обстоятельствам собственно литературного плана можно от-
нести те результаты, с которыми пришла реалистическая эстетика
к рубежу веков. К этому моменту она уже не могла быть господ-
ствующей — рядом появились модернистские эстетико-идеологи-
ческие течения (в первую очередь, символизм, затем акмеизм,
футуризм; в прозе — импрессионистические и экспрессионисти-
ческие тенденции). Реализм явно утрачивал свои мировоззренчес-
кие и литературоведческие позиции — и под давлением модерниз-
ма, и в результате кризиса позитивистского сознания: человеку
рубежа веков открылась та истина, что действительность намного
сложнее, чем казалось раньше, что мироздание и частная судьба
человека вовсе не всегда вписываются в простую совокупность при-
чин и следствий. Реалистическая эстетика не могла уйти с литера-
турной карты, но нуждалась в обновлении. Все это привело к кри-
зису реализма, пришедшемуся как раз на рубеж веков.
Размышляя об определенной исчерпанности реалистических
принципов типизации, Ю. Айхенвальд так определил их недоста-
точность в жизни и в литературе: «Можно ли будет когда-нибудь
ввести душу в определенное русло причин и следствий?.. И теперь,
как и прежде, и потом, как и теперь, душа остается и останется
вовеки непостижимой... Законы для души неписаны, а потому не-
писаны они и для искусства»127.
Разговоры о кризисе реализма, которым отводилось много места
в символистских журналах, имели под собой несомненное основа-
ние: реализм уже не мог претендовать на роль универсальной эсте-
тической системы, способной объяснить мир и человека в нем. И хотя
Д. Мережковский с грустью констатировал, что «преобладающий
вкус толпы — до сих пор реалистический»12, было ясно, что веком
классического реализма останется век XIX, но не станет грядущий
XX в. На то были очевидные причины. Изменилось общее состояние
мира и видение его человеком. И если классический реализм вполне
отвечал «картине мира, создававшейся на основе позитивных науч-
ных представлений XIX в. и на основе закономерностей обыденного
сознания эпохи»129, то XX в. имеет и совершенно иное обыденное
сознание, и иную, не позитивистскую, картину мира. Не только
научное мировоззрение, но и обыденное сознание человека XX в.
127 Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. 4-е изд. М., 1914. С. VII.
128 Мережковский Д. О причинах упадка и о новых течениях современной рус-
ской литературы. СПб., 1893. С. 38.
129 Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. М., 1987. С. 11.
132
Кризис реализма
отличаются от мировоззрения и обыденного сознания, характер-
ного для века прошлого. Новейшие открытия в философии, физи-
ке, в сфере гуманитарных наук (новые концепции времени и про-
странства, теория относительности А. Эйнштейна, дуализм «волна
частица» в квантовой механике, воззрения 3. Фрейда, архетип К.-
P. Юнга, хронотоп М. М. Бахтина) показали, что картина мира
выглядит значительно сложнее и вовсе не так прямолинейно и
однозначно, как в позитивистском представлении.
Реализм второй половины прошлого столетия погрузил героя
в разветвленную систему координат, он, по меткому выражению
исследователя, как бы «организовал реальное и собрал воедино
его параметры. Он привнес от себя — решающую для него — кон-
цепцию человека, детерминированного исторически, социально,
биологически». В результате «причинно-следственные связи стано-
вятся эстетическим субъектом. Поэтому объяснение в прозе реалис-
тов только отчасти является прямым, в остальном же косвенным.
Читатель получает изображение среды, характера — как бы матери-
ал для художественного умозаключения»130. Это позволяет Л. Гин-
збург сделать вывод о том, что «литература объявляет своей задачей
установление причинно-следственных связей», воздействовавших на
сознание личности; о том, что «любой душевный опыт, даже ирра-
циональный, предстает в своих причинно-следственных связях»131.
В результате человек оказывается объяснен обстоятельствами самого
разного характера, а художник исследует их прихотливую вязь. «Только
детерминированный человек литературы второй половины XIX в.
связал воедино психологический анализ и предметность описа-
ния, социальную характерность и интерес к повседневному, ис-
торизм и отказ от жанровой и стилевой иерархии»132.
Ощущение того, что человек — и литературный герой — выхо-
дит из-под гнетущей власти детерминировавших его обстоятельств,
стало своего рода знаком эпохи рубежа веков. «Социальные обстоя-
тельства окружающего бытия, становясь все более колеблемыми и
изменчивыми, утрачивая авторитет законности, давности, прочно-
сти, лишались былой — гнетущей и давящей — власти над челове-
ком. Высвобождение из-под их диктата активных начал человечес-
кой жизни, переоценка отношений личности и среды — таков глав-
ный итог, извлеченный русским реализмом из кризисной
130 Там же. С. 32
131 Гинзбург Л. О литературном герое. Л., 1979. С. 64, 67.
132 Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. С. 10.
133
Социалистический реализм
общественной ситуации», — размышляет В. Келдыш133. За личностью
признается право непредсказуемой и недетерминированной в клас-
сическом смысле изменчивости, внутренней волевой имманентной
реакции на событие. Отказ от классической формулы «среда заела»
заставляет литературу выйти из сферы жесткой реалистической де-
терминации и искать новые пути изображения личности и мира.
Эти пути часто обнаруживались в иррациональной сфере, кото-
рая оказывалась вовсе не сводимой лишь к постигаемой логически
причинно-следственной обусловленности характера, как в традици-
онной реалистической эстетике прошлого века. Человеческий харак-
тер предстал в литературе рубежа веков началом иррациональным.
Человеческая пестрота — одна из самых главных загадок, осо-
знанных литературой XX в. Еще Л. Н. Толстой говорил, что люди
«пегие — хорошие и дурные вместе». С ним соглашался Горький:
«Естественное состояние человека, — говорил он, — пестрота.
Россияне же — особенно пестры, чем и отличаются существенно
от других наций». Эта «пестрота», многосоставность человека и стала
одним из важнейших предметов изображения у Горького, притом
находила для себя объяснения не просто в сфере иррациональ-
ной, но даже мистической.
Если для Толстого в противоречивости человека крылся источ-
ник «текучести», пластичности характера, то Горький видел здесь
иные творческие возможности постижения человека. Утрачивая
толстовскую пластичность и текучесть характера, писатель утверж-
дал наличие в герое в один и тот же момент самых разных, поляр-
ных качеств — и человек способен повернуться то одной, то дру-
гой своей стороной в рамках одной ситуации, в пределах одного
мгновения. Это заставляло одного из исследователей творчества
Горького Е. Тагера говорить о «динамике социальных разрывов», о
том, что сам писатель называл «фокусным прыжком из одного
положения в другое».
Эта многосоставность человеческой личности исследуется Горь-
ким в его автобиографической трилогии. Автобиографический ге-
рой поражен пестротой людей: «Я видел, что почти в каждом челове-
ке угловато и несложенно совмещаются противоречия не только слова
и деяния, но и чувствований, их капризная игра особенно тяжко угнетала
меня». Дед Каширин, поразивший мальчика чудовищной экзеку-
цией, чуть не запоровший его до смерти, приходит к внуку, толь-
ко-только выздоравливающему после порки, просить прощения —
133 Келдыш В. Русский реализм начала XX века. М., 1975. С. 12.
134
Кризис реализма
и открывается с совершенно другой, светлой, поэтической сторо-
ны. Эта противоречивость мучительна для писателя и для его ав-
тобиографического героя, но на протяжении всего творчества он
будет искать в людях эти противоречия — и акцентировать их,
доводить до взрыва.
Неоднозначность человека, его одновременная готовность на
самые высокие подвиги духа и на самые низменные поступки угне-
тала художника и заставляла искать самые разные формы ее худо-
жественного воплощения. Когда герой автобиографической трило-
гии видит пляску Цыганка, то эта противоречивость находит даже
зрительное воплощение: кажется, что пляшет не один, а десять
человек, все разные.
Иногда на своем творческом пути писатель останавливался в
недоумении, не зная, как объяснить эту противоречивость русско-
го человека. В рассказах 20-х годов, которые были своего рода под-
готовительным этапом к «Жизни Клима Самгина», он тщится и
не может понять ее истоки, совершенно, в сущности, иррацио-
нальные, не поддающиеся логическому объяснению.
Так, например, в рассказе М. Горького «Карамора» (1924) ге-
рой безуспешно пытается найти совмещение несовместимым сто-
ронам своей жизни: участие в революционной подпольной орга-
низации и служба осведомителем в жандармском отделении. Его
жизнь состоит из серии совершенно бессмысленных предательств:
он работает на тех и других, предает тех и других. «Живут во мне, —
пишет в своей исповеди Карамора, — два человека, и один к другому не
притерся, но есть еще и третий. Он следит за этими двумя, за распрей
их и — не то раздувает, разжигает вражду, не то — честно хочет понять:
откуда вражда, почему?» И автор, и герой не могут не только реа-
листически объяснить подобную ситуацию, но и вообще хоть как-
то ее осмыслить. Мотивация, которую дает Горький, лежит явно
не в традиционной детерминистской сфере: он объясняет это не-
постижимостью русского национального характера, его противо-
речивостью и неслаженностью.
Человек может предстать перед писателем и как кукла, как
нечто, стоящее на грани между живым и неживым. В «Рассказе об
одном романе» повествователь встречает человека, который обла-
дает только профилем, но лишен фаса. Оказывается, это всего лишь
плод воображения некого писателя, который не успел додумать
своего героя, и он живет лишь в плоскости, но не в объеме.
Невозможность рационального объяснения человеческого ха-
рактера заставила М. Горького обратиться к иррациональному и
135
Социалистический реализм
фантастическому началу, которое все более и более начинает про-
являться в его творчестве с середины 20-х годов. В рассказе «О вреде
философии» он говорит о мучительной трудности постижения ир-
рационального в мире и человеке и о том, что элементы фантастики
и гротеска — наиболее естественная форма выражения этой ирра-
циональности. «Я видел нечто неописуемо страшное: внутри огромной,
бездонной чаши, опрокинутой набок, носятся уши, глаза, ладони рук с
растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человеческие
ноги, каждая отдельно от другой... Летают разноцветные крылья, и немо
смотрят на меня безглазые морды огромных быков».
Начала жизни, которые невозможно объяснить рационально,
некие мистические связи и зависимости людских судеб становятся
в эпосе Горького 20-х годов одним из самых заметных мотивов.
И это обстоятельство не является лишь деталью творческой
биографии одного писателя, пусть и убежденного реалиста, ка-
ким оставался всегда Горький. Дело в общих закономерностях са-
мой литературной природы. Суть в том, что обнаружила свою не-
надежность поэтика, основанная «на признании разумной и со-
знательной эволюции, существования нерушимых законов в мире
природы, которым биологически принадлежит человек», допус-
кающая «возможность полного познания детерминированного
порядка действительности», извлекающая «из этого детерминиз-
ма выводы, оптимистические в своей основе». Подобная поэтика
предопределяет повествовательную и композиционную структуру
произведения: «трактовка фабулы (причинно-следственного хода
событий) как существенного элемента строения произведения,
преимущественно объективное авторское повествование от тре-
тьего лица (часто всеведущего), затушевывание присутствия рас-
сказчика»134. Недоверие к детерминизму и даже нигилистическая
его трактовка формируют такую поэтику, при которой роль сюже-
та как функции причинно-следственных отношений сводится к
минимуму, а подчас сюжет вообще редуцируется, происходит «рас-
пыление» человеческой судьбы, разрушение целостной картины
мира или же ее гротескно-фантастическое толкование.
О. Мандельштам очень точно показал связь идеологии писате-
ля-импрессиониста с эволюцией сюжетно-композиционной струк-
туры, которую переживает жанр романа при переходе из реалис-
134 Маковецкий А. Пути развития польской прозы на рубеже XIX-XX веков//
Русская и польская литература конца XIX — начала XX века. М., 1981. С. 78.
136
Кризис реализма
тической в модернистскую эстетику. Кризис детерминизма привел
к изменению трактовки человеческой судьбы, которая традици-
онно была в центре романного сюжета, являлась его основой,
стержнем. «Ясно, — пишет Мандельштам, — что когда мы вступи-
ли в полосу могучих социальных движений, массовых организо-
ванных действий, акции личности в истории падают и вместе с
ними падают влияние и сила романа, для которого общепризнан-
ная роль личности в истории служит как бы манометром, показы-
вающим давление социальной атмосферы. Мера романа — челове-
ческая биография или система биографий. С первых же шагов но-
вый романист почувствовал, что отдельной судьбы не существует,
и старался нужное ему социальное растение вырвать из почвы со
всеми корнями, со всеми спутниками и атрибутами». Недоверие но-
вого времени и новой литературы к социально-исторической детер-
минации характера обуславливает, с точки зрения поэта, новую ро-
манную форму, принципиально противопоставленную традицион-
ной. «Таким образом, роман всегда предлагает нам систему явлений,
управляемую биографической связью, измеряемую биографической
мерой, и лишь постольку держится роман композитивно, посколь-
ку в нем живет центробежная тяга планетарной систёмы, поскольку
центростремительная тяга, тяга от центра к периферии, не возоб-
ладала окончательно над центробежной... Дальнейшая судьба ро-
мана будет не чем иным, как историей распыления биографии,
как формы личного существования, даже больше, чем распыле-
ния — катастрофической гибели биографии»135 *. Мандельштам точно
ощущает вакуум, образовавшийся после ухода из литературы и из
мироощущения человека XX в. всего широкого спектра реалистичес-
ких мотивировок человеческой судьбы, а если и не ухода, то утрату
универсальности, какой они обладали в литературе XIX столетия:
«Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из
бильярдных луз, и законами их деятельности, как столкновением
шаров на бильярдном поле, управляет один принцип: угол падения
равен углу отражения»1315. Такие краеугольные камни реалистической
романной поэтики, как частная биография, сюжет, ей подчинен-
ный, основанный на причинно-следственных связях и отношениях,
универсальный детерминизм, осмысляются как утратившие свою
безусловность. На смену им идет разорванность человеческой судь-
бы, случайность всех ее поворотов, как во многом случайно и ха-
135 Мандельштам О. О поэзии. Л., 1928. С. 54—55.
|36Там же. С. 56.
137
Социалистический реализм
отично движение бильярдных шаров, фрагментарность картин и
эпизодов, вытеснивших стройный логичный сюжет.
Шаткость тотального детерминизма, невозможность втиснуть
жизнь в узкие рамки причин и следствий ощущали, казалось бы,
очень многие — даже такой твердый и убежденный реалист, как
А. Толстой. «Искусство, — художественное произведение, — раз-
мышляет он, — мгновенно. В нем нет места логике, потому что его
цель — не найти причины какого-либо следствия, но дать во всей
законченности живой кусок космоса»137. Если в художественной
практике А. Толстого сказался все же характерный для реализма
детерминизм, традиционный для классической, позитивистской
картины мира, то эти его слова показывают, что он отнюдь не
был убежден в единственности реалистического подхода.
Пережив кризис на рубеже веков, реализм вовсе не исчез из
литературы. Напротив, выйдя из кризиса обновленным, обретя
новые художественные черты, реализм стал играть роль ничуть не
менее важную, чем раньше. Подобная ситуация выглядит совер-
шенно естественной, ибо «человечество прошло через реализм XIX в.
и вынесло неотменяемые уроки. Следы их можно обнаружить в
творениях XX века, иногда даже самых причудливых. В некоторых
же литературных системах черты эти приобретают решающее, кон-
структивное значение»138.
Но это уже была новая реалистическая эстетика по сравнению
с тем, что мы видим в XIX в. Видоизменились реалистические
принципы типизации, концепция личности, концепция художе-
ственного времени, иначе стали решаться вопросы об отношении
искусства к действительности. Новая реалистическая эстетика про-
явилась в начале века, в первую очередь, в творчестве М. Горько-
го, а в 20-е годы у целого ряда художников, таких, как Л. Леонов,
А. Фадеев, А. Толстой, К. Федин, М. Шолохов и целый ряд других.
Подобное изменение реалистической эстетики было связано с
попыткой реализма (и вполне успешной) адаптироваться к миро-
ощущению человека XX столетия, к новым философским, эстети-
ческим, бытийным да и просто бытовым реальностям. И новая
реалистическая эстетика, или новый реализм, как мы условно его
назовем, справился с этой задачей, стал вполне адекватен мыш-
лению нашего современника, будь то первая половина века или
137 Толстой А. Литературные заметки. Задачи литературы//Писатели об искус-
стве и о себе. М.; Л., 1924. С. 10.
138 Гинзбург Л. О литературном герое. С. 80—81.
138
Кризис реализма
же его конец. В 30-е годы он достигает своей художественной вер-
шины: появляются философские романы Л. Леонова «Дорога на
Океан» и «Скутаревский», эпопеи «Жизнь Клима Самгина»
М. Горького и «Тихий Дон» М. Шолохова, романы «Похищение
Европы» и «Санаторий Арктур» К. Федина.
Но рядом с новым реализмом в 20-е годы формируется отлич-
ная от него эстетика, восходящая тоже к реализму. Ее возникнове-
ние связано с именами Ю. Либединского, Н. Островского, В. Иль-
енкова, А. Аросева, Ф. Гладкова. В 20-е годы она не доминирует, но
активно развивается как бы в тени нового реализма. Однако имен-
но эта эстетика несет в себе, в первую очередь, антигуманисти-
ческий пафос насилия над личностью, обществом, желание раз-
рушить весь мир вокруг себя во имя революционного идеала.
Кроме того, она практически теряет связь с реализмом, гене-
тически унаследованную от предшествующих периодов литератур-
ного развития. Жесткая идеологическая ангажированность приво-
дит к тому, что исследовательские функции, традиционные для
реализма, уступают место функциям сугубо иллюстративным, когда
миссия литературы видится не в исследовании реальности, но в
создании некой идеальной модели социального и природного мира.
Трансформируются реалистические принципы типизации: это уже
не исследование типических характеров в их взаимодействии с
реалистической средой, но нормативных (долженствующих быть с
позиций некого социального идеала) характеров в нормативных
обстоятельствах. Эту эстетическую систему, принципиально отлич-
ную от нового реализма, назовем нормативизм.
Но парадоксальность ситуации состоит в том, что ни в обще-
ственном сознании, ни в эстетическом, ни в литературно-крити-
ческом две эти тенденции не различаются, напротив, осмысляют-
ся как единая сначала пролетарская, потом советская литература.
В 1934 г. это неразличение закрепляется общим термином: «социа-
листический реализм». С тех пор две различные эстетические сис-
темы, нормативная и реалистическая, во многом противопостав-
ленные, мыслятся как некое идейно-эстетическое единство. На
самом же деле отношения между ними вовсе не были безоблачны.
Если в 30-е годы можно говорить об их сосуществовании, то в
последующие периоды новый реализм как бы вытесняется норма-
тивизмом, и литература 40—50-х годов не дает материала, даже
приблизительно сопоставимого по творческой значимости с худо-
жественными открытиями двух предшествующих десятилетий. Это
139
Социалистический реализм
период, когда на поверхности литературной жизни господствует
нормативная нереалистическая эстетическая система.
В настоящее время предприняты очень интересные попытки
описать не с идеологической, но с собственно эстетической точки
зрения феномен нормативизма. Прежде всего эти попытки при-
надлежат зарубежным исследователям. Б. Гройс139, например, скло-
нен рассматривать соцреализм как продолжение русского авангар-
да, X. Гюнтер140, как и К. Кларк141, рассматривает глобальные прояв-
ления соцреалистической эстетики 30—50-х годов как феномен
советской ментальности (восприятие времени, пространства, боль-
шой и малой семьи). Фундаментальный труд, подводящий итог и
одновременно открывающий интереснейшую перспективу изучения
социалистического реализма как историко-культурного феномена
1920—1950-х годов, представляет собой издание «Соцреалистичес-
кий канон»142. Характерным, однако, является тот факт, что его ав-
торы строят свои концепции не столько на анализе художественного
литературного материала, сколько, скорее, на исследовании партий-
но-политической печати, журналистики, литературно-критических,
публицистических или философских работ. Это косвенно подтверж-
дает нашу мысль о том, что вовсе не вся литература социалистичес-
кого реализма была нормативной, что крупные художники принад-
лежали, скорее, к собственно реалистической эстетике.
Восприятие традиционной реалистической среды как макро-
среды, глобальных исторических процессов как фактора, мотиви-
рующего характер, было знаком нового эстетического сознания.
Человек оказался втянут реализмом XX в. в круговорот историчес-
ких событий — часто против собственной воли.
139 Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993 (см. главу «Стиль Сталин»); Рождение
социалистического реализма из духа русского авангарда//Вопросы литературы. 1992.
Вып. 1.С. 42-61.
140 Гюнтер X. Железная гармония (Государство как тотальное произведение ис-
кусства)//Вопросы литературы. 1992. Вып. 1. С. 27-41; Гюнтер X. «Сталинские соколы»
(Анализ мифа 30-х годов)//Вопросы литературы. 1991. Ноябрь—декабрь. С. 122-141.
141 Кларк К. Сталинский миф о великой семье//Соцреалистический канон. СПб.,
2000. С. 785-796.
142 Соцреалистический канон. Сборник статей/Под общей редакцией X. Гюн-
тера и Е. Добренко. СПб., 2000. Книга интереснейшая, но появиться она могла
только в постмодернистскую эпоху: издание о социалистическом реализме фи-
нансируется фондом Volkswagen-Stiftung, статью «Марксистско-ленинская эсте-
тика» пишет Катарина Кларк, помимо статей «“Новояз” как историческое явле-
ние» и «Положительный герой как вербальная икона» присутствуют статьи, в
названиях которых пародируется прошлая эпоха: «Идейность — Классовость —
Партийность».
140
Нормативизм: отношения личности и мира
Новые принципы типизации заявили о себе в творчестве
М. Горького, который лишил человека права стать Робинзоном, быть
в обществе и одновременно вне его. Историческое время стало в
горьковском эпосе важнейшим фактором, воздействующим на ха-
рактер, и взаимодействия с ним, то позитивного, то губительного,
не смог избежать никто из его героев. Кроме того, в новом реализме,
становление которого связано с именами М. Шолохова, Л. Леонова,
К. Федина, А. Толстого, изменяется сам тип взаимодействия харак-
теров и обстоятельств. Влияние становится как бы двунаправлен-
ным: теперь не только характер испытывает на себе воздействие
среды, но утверждается также возможность и даже необходимость
воздействия личности на среду. Формируется новая концепция
личности: человек не рефлексирующий, но созидающий, реали-
зующий себя не в сфере частной интриги, но на общественном
поприще.
В этом проявилось доверие художника XX в. к своему герою. Его
свобода личностной самореализации оказалась практически ни-
чем не ограниченной: личность выходит один на один с мирозда-
нием, ощущая в себе право преобразования действительности в
соответствии со своими глобальными планами. Перед героем и перед
художником открылись великие перспективы и великие надежды
на благое пересоздание мира. Но этим надеждам далеко не всегда
суждено было реализоваться. Возможно, будущие историки рус-
ской литературы назовут период 20—30-х годов периодом несбыв-
шихся надежд, разочарование в которых пришлось уже на вторую
половину века. Утверждая права личности на преобразование мира,
эта литература также утверждала права личности на насилие в от-
ношении к этому миру — пусть и в благих целях.
Нормативизм: отношения личности и мира
Само собой разумеется, что у художников этого направления
не возникала мысль о наличии высшей силы и высшей правды,
кроме силы и правды самого человека: основанная на гуманисти-
ческом антропоцентризме, эта литература оказывалась глуха к он-
тологической проблематике и по духу своему была по-марксист-
ски внерелигиозна.
Это приводило к утверждению насилия как самой естествен-
ной формы преобразования мира и самих основ мироздания. Рево-
141
Социалистический реализм
люционное насилие оправдывалось целью: созидание нового иде-
ального мира на основе добра и справедливости ца руинах мира
старого, несправедливого и жестокого, по мысли любого револю-
ционера. Соцреализм принес с собой новую этическую систему, в
корне противоположную классической традиции.
Появление соцреализма было обусловлено определенным социо-
культурным феноменом: соцреализм воплощал на эстетическом уров-
не антисистему, затронувшую все сферы национального бытия. Он
являл собой вариант химерической культуры, возникшей в 20-е годы
и утвердившейся в середине 50-х в качестве официальной культуры
не только в литературе, но и в других искусствах: монументальной
живописи, архитектуре высотных зданий, в музыке.
Наиболее ярко антисистемная идеология сказалась в концеп-
ции революции, основанной на утопическом миропонимании. Бес-
перспективность утопической концепции мира, утверждающей
право разрушения насущной реальности во имя прекрасного, но
туманного и крайне отдаленого во времени завтра, проявилась и в
литературе второго или даже третьего ряда, и в романах, претен-
дующих на первые роли в истории советской литературы. Среди
них — «Разгром» А. Фадеева.
Если вдуматься, все его герои — и явно положительные, та-
кие, как Левинсон или Бакланов, и отрицательные, презираемые
автором, такие, как Мечик, — ведомы в отряд, в бой, в революцию
идеями, совершенно несоотносимыми с реальностью. Романтичес-
кий максимализм Мечика, его парение над действительностью, по-
стоянные поиски исключительного — в частной ли жизни, или в
социальной, — приводят его к отрицанию реального бытия, вынуж-
дают проявлять невнимание к насущному, неумение ценить его и
видеть красоту. Так, герой отвергает любовь Вари во имя прекрасной
незнакомки на фотографии, отвергает мир простых партизан и в
итоге остается в гордом одиночестве романтика. В сущности, автор
наказывает его предательством именно за это (так же, впрочем, как
и за его социальную чуждость простым партизанам). Но ведь еще
более губительной и абстрактной идеей ведомы Левинсон, Дубов,
Бакланов, Сташинский... При этом соединение их идеи с жизнью
оборачивается либо полной логической несуразностью, либо на-
силием над жизнью и жестокостью в отношении к ней.
Герои увлечены революционными идеалами, которые они вовсе
не осознают как утопические. Но если революция делается от име-
ни и для трудящегося народа, то почему приход отряда Левинсона
сулит крестьянину-корейцу, у которого отбирают единственную
142
Нормативизм: отношения личности и мира
свинью, и всей его семье голодную смерть? Потому, что высшая
социальная необходимость (накормить отряд и продолжить путь к
своим) важнее «абстрактного гуманизма»: жизнь членов отряда
значит больше, чем одного корейца (или даже всей его семьи). Да
тут же арифметика! — хочется воскликнуть вслед за Раскольнико-
вым, вглядываясь в утопическую антилогику: революционный от-
ряд приносит смерть тому, во имя кого вершится революция.
Партизаны по приказу Левинсона умерщвляют раненого парти-
зана Фролова. Его смерть неизбежна: рана смертельная, нести его
с собой — невозможно, это замедлит движение отряда и может
погубить всех. Оставить — попадет к японцам и примет более страш-
ную смерть, чем от яда. Выход? Он найден Левинсоном, ибо уто-
пическое сознание всегда склонно к логическим или псевдологи-
ческим построениям, которые как раз и отрицал Достоевский в
«Преступлении и наказании», опровергая то, что жизнь одного
имеет меньшую ценность, чем жизнь нескольких.
«Нужно жить и исполнять свои обязанности», — подумает Ле-
винсон в конце романа и действительно останется жить. Зачем? Для
того, чтобы далеких людей, трудящихся на току, обмолачивающих
хлеб, которых он видит уже после гибели отряда, «сделать такими
же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что
молча ехали следом» — такими же дисциплинированными, испол-
нительными, верными все той же идее, что горстка чудом уцелев-
ших партизан. Из этих далеких пока людей, работающих на земле,
сулящей хлеб и отдых, Левинсон соберет еще один отряд и поведет
его по дорогам гражданской войны — к новому разгрому.
В повести ТО. Либединского «Неделя», одном из первых произ-
ведений советской литературы, где была заявлена подобная кон-
цепция, один из его героев, большевик Стельмахов, произносит
такой монолог-исповедь: «Возненавидел я в революции раньше, чем
полюбил... И потом только, после того, как меня избили за большевист-
скую агитацию, после того, как я в Москве, в октябре, штурмовал Кремль
и расстреливал юнкеров, когда я еще в партии не был и политически
ничего не понимал, тогда в минуты усталости стал мне мерещиться
впереди далекий отдых, вот как царство небесное для христьянина, дале-
кий, но непременно обещанный, если не мне, так будущим людям, сынам
или внукам моим... Это-то и будет коммунизм... Какой он — не
знаю...»143
143 Либединский Ю. Неделя. М., 1935. С. 71. Далее ссылки на страницы этого
издания даются в тексте.
143
Социалистический реализм
На службу прекрасному, но мифическому будущему отдают
все силы герои повести. Эта идея дает переступить через естествен-
ные человеческие чувства, такие, например, как жалость к повер-
женному врагу, отвращение перед жестокостью, страх убийства:
«Но когда голову мутит от усталости или работа плохо идет, или расстре-
ливать нужно кого, тогда я в уме подумаю мое теплое слово — комму-
низм, и ровно кто мне красным платком махнет» (С. 71).
За этой чудовищной исповедью, которую герой и автор вос-
принимают как возвышенно-романтическую, стоит утопическое
мироощущение в наиболее страшной и жестокой его форме. Именно
оно стало идеологическим обоснованием химерической соцреали-
стической конструкции.
Ее идеологической основой является мироощущение, рассмат-
ривающее действительность как начало, которое может быть при-
несено в жертву — суть его отрицательная. Человек или же сообще-
ство людей, подверженные ей, рассматривают действительность
не как абсолютно самоценное начало, но лишь как средство для
достижения некой цели. В этом их родство с отрицательными ре-
лигиозными концепциями, склонными рассматривать материаль-
ный мир не как продолжение творящего духа и его реализацию,
но как дьявольское начало, противопоставляя его началу божест-
венному, духовному, идеальному. Но если в религиозных концеп-
циях подобного рода вся красота мира, как бесовский соблазн,
приносится в жертву во имя спасения души, то в нашем случае это
происходит из-за сугубо футуристического мироощущения, гос-
подствующего в соцреализме. Его основой становятся две жизне-
отрицающие идеи: во-первых, реальность воспринимается как
враждебное, косное, консервативное начало, нуждающееся в ко-
ренной переделке; во-вторых, высшей ценностью является буду-
щее, идеальное и лишенное противоречий, оправдывающее лю-
бое насилие над настоящим.
Как происходит формирование антисистемной идеологии на
эстетическом уровне?
Складывается новая концепция личности. Включенность чело-
века в исторический процесс, утверждение его прямых контактов
с «макросредой» (новый тип взаимосвязи характеров и обстоя-
тельств, ставший основой принципа реалистической типизации в
новом творческом методе) обесценивает героя, он лишается са-
моценности и оказывается значим постольку, поскольку способ-
ствует историческому движению вперед.
144
Нормативизм: отношения личности и мира
Такая девальвация человеческой жизни и индивидуальности
обусловлена финалистской концепцией истории, смысл и значе-
ние которой состоит в движении к «золотому веку», локализован-
ному в далеком будущем, но само это движение оправдывает лю-
бые жертвы — и культурные, и человеческие.
Герой осознает абсолютную ценность грядущего и весьма от-
носительную ценность собственной личности, готов сознательно
жертвовать собой. Крайнюю форму такой антигуманистической
позиции воплотил (вполне сочувственно в отношении к идеям
героя) А. Тарасов-Родионов в повести «Шоколад», рассказываю-
щей о том, как чекист Зудин принимает решение пожертвовать
своей жизнью, но не бросить и малой тени на мундир ЧК. Обви-
ненный во взяточничестве, Зудин приговорен к расстрелу. И для
его товарищей, уверенных в его невиновности, но вынесших, тем
не менее, смертный приговор, и для него самого это решение
представляется единственно верным: лучше пожертвовать жизнью,
чем дать хоть малейший повод для обывательских слухов. Обесце-
нивание личности, характерное для прозы М. Алексеева («Боль-
шевики»), Ю. Либединского (образ Робейко в «Неделе»), А. Акуло-
ва («Записки Иванова»), А. Аросева («Страда»), связано с финалист-
ской концепцией исторического времени. «Золотой век» виден
большевикам, героям перечисленных выше произведений, во имя
него они вступают в конфликт с другими людьми, трактуя их как
массу обывателей, обрекают себя на социальное одиночество,
жертвуют собою.
Принципиальная ориентация на гармоничное «завтра», на ли-
шенный противоречий «золотой век», существование которого
обесценивает «сегодня» и «вчера», становится основополагающей
для социалистического реализма и определяет структуру произве-
дения, конфликты, систему персонажей. Как перед героем Гоф-
мана, живущим в комнате с угловым окном, мир филистеров,
антиэстетический и антигармоничный, предстает базаром, миром
торгующих, которому нет дела до гармонии, созданной героем-
романтиком, так и в повести Ю. Либединского с характерным на-
званием «Завтра» настоящее предстает в том же антиэстетическом
ключе мира торговли и взаимного обмана.
«Я иду по Садовой. Кругом базар...
Уставшее старое лицо, бугры и морщинки, как дорожная грязь...
За всю жизнь не поднялись глаза выше этих вот бус, колес, зажигалок.
Кругом базар — он сегодняшней плесенью заболотил старинную
башню...
145
Социалистический реализм
В ворохе людей, что мечутся вокруг и друг мимо друга проносят
извечные заботы свои, — слышу:
— Мясцо-то почем: шешнадцать?
Старуха гладит восковой жир и могущее отдать спящую обрублен-
ную жизнь вялое третьеводняшнее мясо.
И идет дальше, осторожно обходит лужи и приценивается, и дрожит
ее лицо, как лужа, грязная лужа под ветром, а из-за прилавков жадные
просят глаза:
«Купи, купи... Дай я тебя обману».
— Вчерашнего убоя, не извольте беспокоиться...
Из рук в руки ползут деньги, мятые в грубых руках, изуродованные
бабочки...
И уже оттуда, из Завтра, вижу я их заботы о себе, о своем и о детях
своих, чтоб были сыты, обуты...»
«Сопоставление утробных стремлений обывателя с подвижни-
чеством большевиков служит утверждением мессианской роли
последних. Писатель убежден в том, что они обязаны принести сча-
стье тем, кто сегодня смеется «над тобой, над собой, над солнечны-
ми целями класса», — комментирует этот отрывок современный
исследователь144. Добавим, что мессианство обусловлено конфлик-
том времен, эпох, на котором построен роман. Антиэстетическому
настоящему, приметами которого являются «сегодняшняя плесень»,
«лицо, как лужа, грязная лужа под ветром», обман, грязные деньги,
противостоит Завтра с большой буквы, с позиций которого пред-
лагается насильственное переустройство настоящего.
Художественное время повести строится как резкое противо-
поставление трех временных категорий: прошлого, настоящего,
будущего. Прошлое неприемлемо потому, что лишено длительно-
сти, движется как бы по кругу; поступательное движение вперед
отсутствует, а потому время обесценивается, воспринимается как
бесконечный и бессмысленный повтор. В «Неделе» Либединского
такая временная концепция предстает как бессмысленное цикли-
ческое движение, которому обречен человек, как бы порабощен-
ный бесконечной временной зависимостью. «Плешивые мужчины с
тусклыми глазами, в старых штопаных брюках, в чиненых ботинках ходят
на службу, чем-то торгуют, ремесленничают каждый поодиночке в тем-
ных клетушках. По воскресеньям женщины туго приглаживают волосы,
144 Скороспелова Е. Б. Идейно-стилевые течения в русской советской прозе
первой половины 20-х годов. М., 1979. С. 103—104.
146
Нормативизм: отношения личности и мира
надевают лиловые, желтые, синие платья, ведут детей в церковь, а вече-
ром собираются вместе пить чай; мужчины же напиваются и тычутся
лбами в стол» (С. 9). Нетрудно заметить акцент на повторяемость
бытия: каждое воскресенье похоже на предшествующее, все, что
было, еще много раз повторится. Время воспринимается как дур-
ная бесконечность круга. Подобная временная концепция является
характеристикой антисистемы: реальность отрицается через отри-
цание времени, в котором она существует.
Циклическая концепция времени, основанная на бесконечном
повторе, когда история еще как бы и не начиналась, дает весомые
основания рассмотреть соцреалистическую эстетику как проявление
химерической культуры. Ее жизнеотрицающее мироощущение ос-
новывается на том, что прошлое оценивается лишь как предысто-
рия, настоящее — как начало подлинной истории, знаменующее
прыжок в будущее, к конечной цели исторического процесса — «зо-
лотому веку» коммунизма. Такая концепция художественного време-
ни характерна, например, для романа «Мать» М. Горького. Отсут-
ствие развития, движения вперед — единственная характеристика
прошлого. Это подчеркивает образ остановившегося времени, задан-
ный в экспозиции: описывая рабочую слободку, писатель акценти-
рует заданность определенного ритма, повтора, неизбежного и
неотвратимого: каждый день из года в год гудок фабрики собирает
людей, каждый вечер фабрика выбрасывает их из своих каменных
недр, каждый вечер люди проводят в кабаках, каждый воскрес-
ный день тоже определен раз и навсегда. Этот неизменный повтор
несет в себе не идею поступательного движения во времени, а
цикл, временной круг, символизирующий не развитие, а топта-
ние на месте: все, что будет завтра, уже было вчера, будущее не
творится заново, а лишь воспроизводится. Замкнутость времени в
движении по кругу и замкнутость в самом себе человека трактует-
ся Горьким как нереализовавшаяся жизнь: «день бесследно вычерк-
нут из жизни, человек сделал еще шаг к своей могиле».
Однообразием дней и лет характеризуется в романе прошлое,
которое измеряется не годами, а одинаково, однообразно прожи-
тыми жизнями людей, целых поколений. «Жизнь всегда была тако-
ва, — она ровно и медленно текла куда-то мутным ровным потоком годы
и годы и вся была связана крепкими давними привычками думать и
делать одно и то же изо дня в день». Это время как бы остановившее-
ся, лишенное внутренней протяженности, лишенное движения —
жизнь всегда была такова, в ней нельзя найти временных отметок,
чтобы измерить протяженность времени.
147
Социалистический реализм
Такова экспозиция романа. Дальнейшее развитие сюжета ведет к
разрушению исходной ситуации и обоснованию возможности и не-
обходимости иного бытия, воплощением которого становится образ
Павла Власова — сознательного, грамотного революционера. С этого
момента и начинается истинная история, истинное течение време-
ни. Оно представляет ценность постольку, поскольку ведет к цели.
Как не вспомнить здесь комментарий С. С. Аверинцева к трактату
Блаженного Авустина «О граде Божием», где сталкиваются две вре-
менные концепции: циклическая, характерная для античной исто-
риографии, и векторная, христианская, финалистская: «по кругу
человека водит бес; устрояемая Богом «священная история» идет по
прямой линии. Она идет так потому, что у нее есть цель»145.
Векторная и циклическая концепции времен, взаимоисключа-
ющие и исконно противостоящие друг другу, не раз сталкивались
на протяжении человеческой истории. Так было, например, и в пе-
риод раннего средневековья, когда циклические представления о
времени, характерные для античности, столкнулись с новой, век-
торной концепцией времени, свойственной и современному созна-
нию. Размышляя об античных взглядах на категорию времени,
А. Ф. Лосев пишет: «Человек, его история все время трактовались как
находящиеся в движении, но это движение всегда возвращалось к
исходной точке. Таким образом, вся человеческая жизнь как бы топ-
талась на месте»146. С. С. Аверинцев, говоря о столкновении вектор-
ной и циклической концепций времени, приводит характерное место
из трактата Августина «О граде Божием»: «Положим, примера ради,
что как в этом круге времени философ Платон говорил перед уче-
никами в городе Афинах и в той школе, что зовется Академия, —
так и снова по прошествии весьма протяженных, но твердо отме-
ренных промежутков во множестве кругов времен будут повторяться
неисчислимые разы этот же самый Платон, этот же город, эта же
школа, эти же ученики. Да не будет, говорю, чтобы мы тому повери-
ли!.. По кругу блуждают нечестивцы; не потому, что по кругу, как
полагают они, будет возвращаться их жизнь, но потому, что таков
путь заблуждения их, сиречь ложное учение»147.
145 Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении ран-
него средневековья (общие замечания)//Античность и Византия. М., 1975. С. 271.
144 Лосев А. Ф. Критические замечания к диалогу «Тимей»//Платон. Соч.: В 3 т.
М„ 1971.Т.З.Ч. 1.С. 660.
147 Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении ран-
него средневековья (общие замечания)//Античность и Византия. С. 271.
148
Нормативизм: отношения личности и мира
В высказывании средневекового философа парадоксально за-
острена мысль о временном цикле, где идея возвращения будуще-
го к прошлому доведена до абсурда: повторение того же самого
Платона, того же города, той же школы немыслимо с точки зре-
ния современного человека точно так же, как и с точки зрения
Августина: доктрина о вечном возврате неприемлема для нового
времени. Круг времени подразумевает бесцельное и бесконечное
блуждание.
Кроме того, по мысли М. М. Бахтина, объективно «цикличность
является особенностью отрицательною, ограничивающей силу и
идеологическую продуктивность... времени. Печать цикличности и,
следовательно, циклической повторимости лежит на всех событиях
этого времени. Его направленность вперед ограничена циклом. По-
этому и рост не становится здесь подлинным становлением»148.
Эта ссылка вызвана попыткой найти культурно-исторические
корни восприятия того или иного типа художественного времени,
найти причины его негативной или позитивной окрашенности для
современного сознания. На возможность их поисков указывал
М. М. Бахтин, стремясь сопоставить хронотоп античного романа с
поэтикой романов Достоевского: «Культурные и литературные тра-
диции (в том числе и древнейшие) сохраняются и живут не в
индивидуальной субъективной памяти отдельного человека и не в
какой-то коллективной «психике», но в объективных формах са-
мой культуры (в том числе в языковых и речевых формах), и в
этом смысле они межсубъективны и межиндивидуальны (следова-
тельно, и социальны); отсюда они и приходят в произведения ли-
тературы, иногда почти вовсе минуя субъективную индивидуаль-
ную память творцов»149.
Так, минуя индивидуальную память творцов, пришли они и в
литературу социалистического реализма, художественная концеп-
ция исторического времени которого предопределяет момент со-
временности лишь как начало истинной истории, а все прошлое
рассматривает как предысторию, как топтание на месте, замкну-
тое в круговом повторе, бесконечном и бессмысленном.
Романтизация будущего и его резкое противопоставление на-
стоящему, создание мифа о «золотом веке» оказывается идеологе-
мой социалистического реализма, которая осознавалась его теоре-
148 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 359.
149 Там же. С. 397.
149
Социалистический реализм
тиками еще в 30-е годы, когда дискутировались проблемы опреде-
ления нового метода. Эта идея заявлена А. В. Луначарским в статье
«Социалистический реализм». Именно будущее, с точки зрения
критика, является единственным достойным предметом изобра-
жения150. «Представьте себе, — говорит А. В. Луначарский, как бы
обосновывая эстетические принципы «золотого века», — что стро-
ится дом, и когда он будет выстроен, это будет великолепный
дворец. Но он еще недостроен, и вы нарисуете его в этом виде и
скажете: «Вот ваш социализм, — а крыши-то и нет». Вы будете,
конечно, реалистом, вы скажете правду: но сразу бросается в гла-
за, что эта правда в самом деле неправда. Социалистическую прав-
ду может сказать только тот, кто понимает, какой строится дом,
как строится, кто понимает, что у него будет крыша. Человек,
который не понимает развития, никогда правды не увидит, пото-
му что правда — она не похожа на себя самое, она не сидит на
месте, правда летит, правда есть развитие, правда есть конфликт,
правда есть борьба, правда — это завтрашний день, и нужно ее
видеть именно так, а кто не видит ее так, — тот реалист буржуаз-
ный, и поэтому пессимист, нытик и зачастую мошенник и фаль-
сификатор, и во всяком случае вольный или невольный контрре-
волюционер и вредитель»151.
В приведенной цитате видна агрессивность идеологии антисис-
темы, т.е. «системной целостности людей с негативным мироощу-
щением», способным ложь возвести в закон творческого познания
мира и дать этому эстетическое объяснение. Ложь, по мысли Л. Гуми-
лева, предопределяет черту, роднящую все антисистемы: это «жиз-
неотрицание, выражающееся в том, что истина и ложь не проти-
вопоставляются, а приравниваются друг к другу. <...> При отсут-
ствии объекта (ведь будущего пока нет. — М. Г.) ложь равна истине
и можно в своих целях использовать и ту, и другую»152.
150 Эта идея настолько прочно вошла в плоть и кровь советской литературы, что
обращение к исторической теме уже само по себе вызывало подозрение, рассмат-
ривалось как противоречащее эстетическим принципам социалистического реализ-
ма. Об этом свидетельствуют, в частности, материалы дискуссии об историческом
романе, проведенной в 30-е годы на страницах журнала «Литературный критик».
151 Луначарский А. В. Социалистический реализм//А. В. Луначарский. Литература
нового мира. М., 1982. С. 272. По свидетельству В. Я. Кирпотина, такая трактовка
художественной правды принадлежит И. В. Сталину и лишь использована А. В. Лу-
начарским в статье «Социалистический реализм» (Вопросы литературы. 1989. № 2.
С. 144).
152 Гумилев Л. Н. Этносфера: История людей и история природы. С. 351.
150
Нормативизм: отношения личности и мира
Этим свойством антисистемы обуславливаются теоретические
положения эстетики соцреализма. Утверждаются функции искус-
ства: не исследование реальных конфликтов и противоречий, а
создание модели идеального будущего, «великолепного дворца».
Познавательная функция литературы практически утрачивается.
Так декларируются элементы нормативного искусства. Эти эле-
менты, заложенные в программу метода, оказались своего рода
«раковыми клетками» нового искусства: «Антисистема подобна
популяции бактерий или инфузорий в организме: распространя-
ясь по внутренним органам человека или животного, бациллы
приводят его к смерти... и умирают в его остывающем теле»153. Имен-
но они привели к перерождению нового реализма в нормативную
нереалистическую эстетику 20—50-х годов. Приказ видеть не реаль-
ность, а проект, не то, что есть, а то, что должно быть, приводит
к атрофии реалистических принципов типизации: художник ис-
следует не типические характеры в типических обстоятельствах, а
нормативные характеры, превращающиеся в примитивные соци-
альные маски (враг, друг, коммунист, обыватель, крестьянин-се-
редняк, кулак, «спец», вредитель и т.п.) в нормативных обстоя-
тельствах.
Трансформируется понятие художественной правды. Писатель
«в ответ на требование коммуниста: «говорите правду» — говорит
«да ведь это и есть правда»; в нем может не быть контрреволюци-
онной ненависти, он, может быть, будет делать полезное дело,
высказывая печальную правду, но в ней нет анализа действитель-
ности в ее развитии, и поэтому никакого отношения к социалис-
тическому реализму такая «правда» не имеет. С точки зрения соци-
алистического реализма, это не правда — это ирреальность, ложь,
подмена жизни мертвечиной»154.
А. В. Луначарский выстраивает целую программу творческого
метода. Утверждается насилие как инструмент воздействия на ху-
дожника (коммунист может и вправе что-нибудь потребовать от
писателя); ложь становится предметом художественного постиже-
ния; право определять, что есть правда, а что ложь, оказывается
не в сфере самореализации творческой личности, но присвоена
неким абстрактным «коммунистом», тот же, кто не может прозреть
правду как завтрашний день, — «зачастую мошенник и фальсифи-
153 Там же. С. 341.
154 Луначарский А. В. Социалистический реализм. С. 282.
151
Социалистический реализм
катор, и, во всяком случае, вольный или невольный контррево-
люционер и вредитель». Цель искусства состоит в моделировании
будущего, подминающего под себя настоящее и прошлое.
Таким образом, цель искусства трактуется в сугубо утилитар-
ном направлении: как средство мифологизации действительности
с целью ее переустройства, «воспитания нового человека», что
потом, уже в 1934 г., будет заявлено в качестве важнейшей «задачи
идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе соци-
ализма»155.
Особое место в эстетике соцреализма занимает вопрос о твор-
ческой свободе художника. «Социалистический реализм обеспечи-
вает художественному творчеству исключительную возможность
проявления творческой инициативы, выбора разнородных форм,
стилей, жанров», — было сказано в Уставе Союза писателей СССР.
Характерно, что свобода художника локализована лишь в сфере
формы — не содержания. Содержательная сфера оказывается ре-
гламентирована.
В конце 30-х годов социалистический реализм стал терять связь
с реалистическими принципами типизации («День второй» И. Эрен-
бурга, «Скутаревский» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян).
Производственный роман, основополагающий в жанровой систе-
ме соцреализма, формирует жесткую систему персонажей (моло-
дой человек с несомненным классовым чутьем пролетария, овла-
девающий не только профессиональными знаниями, но и поли-
тической грамотой; колеблющийся интеллигент, социальная
неполноценность которого приводит его в лагерь классового врага;
буржуй, «спец», классовый враг и т.д.).
Предопределенность персонажа и его судьбы фатальным обра-
зом выводит его на расписанные заранее круги классовой поляри-
зации, обезличивая волю, желания, судьбу, лишая самостоятель-
ности выбора пути, что заметили еще критики «Перевала». Их не
устраивало, что примитивные схемы классовых битв перечеркива-
ли любые общечеловеческие отношения, обесценивали их; что
герой переставал быть героем, становился лишь классовым суб-
стратом, утрачивая какие-либо черты человеческой индивидуаль-
ности. А. Лежнев, один из ведущих критиков «Перевала», анализи-
руя систему персонажей романа Ф. Гладкова «Цемент», показы-
вал, что у каждого героя существует ярко выраженный «социальный
155 Устав Союза писателей СССР. М., 1934. С. 5.
152
Нормативизм: отношения личности и мира
эквивалент» — интеллигентка, «спец», бузотер и т.д. «Перед нами, —
писал А.Лежнев, — не спец, а «идея» спеца, идея коммунистки —
интеллигентки, склочник «в себе», мать «в себе». Индивидуальное
тут исчезло, осталось общее. Даша энергична, независима, пряма,
решительна, но это — видовые признаки, свойственные целой
категории людей, железной когорте революции»156. Критик под-
черкивал, что у персонажа утрачена выразительность индивиду-
альных черт, «родинки», «вздернутой губки», которая есть у жены
князя Андрея. Долю условности, повлекшую за собой схематичес-
кую трактовку персонажа, он объяснял свойствами стиля: это вы-
сокий стиль, а у героев трагедии нет родинок.
Литература соцреализма все более тяготела к высокому стилю,
который со временем обретал черты авторитарного стиля, выража-
ющего эпическую незыблемость социального мироустройства. Пока
же, во времена «Цемента», авторитарный стиль лишь складывается.
«“Высокий стиль”, — продолжает А. Лежнев, — не знает «ха-
рактерных» деталей... персонажи Гладкова идеализированы — не в
том смысле, что сделаны лучше, «идеальнее», чем они есть на са-
мом деле, а в том смысле, что дана лишь их «идеальная» сущность,
идея»157. Таков, по мысли критика, характер Бадьина (в котором,
добавим от себя, проявилась рапповская концепция «живого чело-
века», чем во многом и обусловлен примитивизм этого образа), та-
кова линия взаимоотношений Глеба с Дашей. Рассматривая первую
встречу Даши и Глеба после нескольких лет разлуки, когда Глеб
хочет обнять и поцеловать свою жену, эмансипированная к тому
времени Даша заявляет: «Что с тобой, товарищ Глеб? Не бунтуй,
заспокойся», Лежнев подчеркивает, что с точки зрения реализма
эта сцена невозможна. Даша, «у которой родинка на подбородке и
яблочком нос», встретила бы мужа иначе, чем та «Даша, у кото-
рой родинки нет и она немыслима, как нет ее и немыслима она у
Медеи или Антигоны»158. Герой теряет черты индивидуальности,
превращается в функцию своей социальной роли, в очищенный
классовый субстрат. Конфликты и пути их разрешения предреше-
ны — непременно в пользу добродетели, победы индустриализа-
ции, восстановления цементного завода, доменной печи и т.д. («Це-
мент» Ф. Гладкова, «Доменная печь» Н. Ляшко, «Домна» П. Ярово-
го, «Стройка» Ф. Пучкова, «У станков» А. Филиппова).
156 Лежнев А. Литературные будни. М., 1929. С. 200.
157 Там же. С. 201.
158 Там же. С. 206.
153
Социалистический реализм
Подобные представления о роли искусства, о границах свобо-
ды творческой личности, явно несостоятельные и конъюнктурные
с сегодняшней точки зрения, не всегда оценивались таким обра-
зом в 20-е годы. Напротив, они были достаточно распространены
и нашли обоснование в теории социального заказа, разработан-
ной теоретиками ЛЕФа Н. Чужаком, Б. Арватовым и др., согласно
которым художник берет социальный заказ на воплощение в худо-
жественной форме партийных идеологических и политических кон-
цепций, подобно тому, как портной берет заказ на пальто.
Нейтральный стиль
Известная мысль М. М. Бахтина о том, что далеко не все эпохи
обладают своим литературным стилем, подтверждается литератур-
ной ситуацией 20—30-х годов. В самом деле, 20-е годы — в постоян-
ном поиске тех стилевых структур, которые наиболее адекватно
могут отразить и выразить время; 30-е годы — период сотворения
и обретения этого стиля, его окостенения, догматизации и поли-
тической канонизации. Это «нейтральный», или «авторитарный»
стиль. В 20-е годы это всего лишь одна из стилевых доминант, это
еще не авторитарный стиль, а всего лишь «классическое» слово.
Именно эта стилевая тенденция, представленная в творчестве
М. Горького, К. Федина, А. Фадеева, Л. Леонова, А. Толстого и др.,
стала основополагающей для литературы соцреализма. Она отли-
чалась от «нового слова», включавшего в себя две стилевые доми-
нанты — орнаментализм и сказ — прежде всего ориентацией на
монологический тип повествования, при котором речь рассказчи-
ка не является предметом изображения и лишена каких-либо чет-
ких социальных ориентиров, не была социально маркирована. Ней-
тральность речи повествователя, строго ориентированной на нор-
мы литературного языка, была связана с тем, что в творческие
задачи художников не входило изображение характера повество-
вателя, который чаще всего вообще не ощущался как самостоя-
тельный браз, как, скажем, в «Деле Артамоновых» Горького или в
«Разгроме» Фадеева, а если и входил в повествование на правах
авторского «я», то создавался сюжетными, а не языковыми сред-
ствами. «Нейтральный стиль» полемичен в отношении «нового сло-
ва» в том смысле, что не сориентирован на изображение «чужой»
речи, как сказ, или на расширение ее смыслового метафоричес-
кого пространства, как орнаментализм.
154
Нейтральный стиль
На протяжении всех 20-х годов эти тенденции оказывались в
равной степени продуктивны и, взаимодействуя, создавали мощ-
ную полифоническую структуру. Но с первой половины 30-х годов
ситуация начинает постепенно меняться и «новое слово» благода-
ря усилиям критиков, по большей части бывших рапповцев, ока-
зывается под подозрением, объявляется либо формализмом (ор-
наментализм), либо натурализмом (сказовые стилевые тенденции).
По мере того как новый реализм постепенно перерождался в
нормативную эстетическую систему, нейтральный стиль становился
авторитетным стилем и превращался в авторитарный стиль. Эти
процессы затрагивают не только стилевой уровень; напротив, они
являются отражением общей для литературы 30-х годов тенден-
ции: догматизации социалистического реализма, его окостенения,
эволюции живой эстетической системы в нормативную. Автори-
тарный стиль, окончательно утвердившийся уже позже, в 40-е годы,
является непременной чертой этой нормативной нереалистичес-
кой эстетики, называемой социалистическим реализмом 30—50-х
годов.
Итак, на протяжении всех 30-х годов в литературном языке
происходят существенные процессы: «новое слово» оказывается
под подозрением как проявление формализма или же натурализ-
ма, а нейтральный стиль претерпевает, во многом в связи с утра-
той альтернативы, весьма существенную эволюцию. Исследователи
языковых процессов, происходящих в литературе рассматриваемого
периода, приводят высказывание К. Маркса: «Язык, лишь только он
обособляется, конечно, тотчас же становится фразой». И далее до-
бавляют: «Обособляется — от жизни общества, от исторического
момента, от социальной и индивидуальной характеристики, от со-
здателя, от адресата, от носителя стиля — человека». «Обособле-
ние есть главный признак условного, искусственного стиля»159.
Основными чертами такого стиля, сформировавшегося уже
позже, во второй половине 40-х годов, является, во-первых, мо-
нологичность, при которой «доминирующее авторское мировос-
приятие всецело подавляет персонажей, включает их в орбиту своего
мышления, видения мира», во-вторых, «отказ от автономного су-
ществования персонажа и самостоятельности его стилевой зоны,
разрушение естественного контакта с устно-разговорной речью,
159 Белая Г. А. Рождение новых стилевых форм как процесс преодоления «ней-
трального» стиля//Многообразие стилей советской литературы. Вопросы типоло-
гии. М., 1978. С. 468.
155
Социалистический реализм
всегда являвшейся в русской литературе одним из самых мощных
источников обновления и развития стиля». В результате «живую
игру слова, отражающую живую игру ума и чувсТв персонажей,
замещает логическая упорядоченность фразы, ее нейтральная,
формально-грамматическая стройность»160. Иными словами, нейт-
ральный стиль в силу своей монологичности не допускает какого
бы то ни было проникновения «чужой речи», следовательно, ис-
ключена установка и на устную речь. Эти черты нейтрального сти-
ля проявились не только в творчестве М. Бубеннова и С.Бабаевско-
го, В. Ажаева и В. Попова, но и К. Симонова, и И. Эренбурга, и
М. Горького.
Широкая распространенность в литературе 30-х годов и почти
безраздельное господство в последующие периоды нейтрального
стиля объясняются тем, что здесь, на эстетическом уровне, про-
явились важнейшие для эпохи тенденции общественной жизни.
Новая советская идеология формирует для себя соцреалистичес-
кую эстетику, жестко и рационалистично кодифицированную, от-
ступление от которой уже не мыслится. Поэтому нейтральный стиль
не только утверждается в литературе как единственно возможный,
но и превращается в авторитарный стиль.
«Авторитарное слово, — писал М. М. Бахтин, — требует от нас
признания и усвоения, оно навязывается нам независимо от сте-
пени его внутренней убедительности для нас; оно уже преднахо-
дится нами соединенным с авторитетностью»161. В том-то и дело,
что литература 40—50-х годов, литература социалистического реа-
лизма, литература огосударствленного типа, не могла не быть «ав-
торитетной», «независимо от степени ее внутренней убедительно-
сти для нас»: устами В. Ажаева или В. Попова, А. Толстого или
А. Фадеева вещало государство. Здесь уже неуместна игра с чужим
словом или расширение смыслового пространства прозаического
текста по законам метафорического поэтического языка. Здесь воз-
можна лишь полная чеканная ясность — та ясность, которую мог
дать нейтральный стиль, превратившийся в авторитарный. Это пре-
вращение углубляло дистанцию между действительностью, в по-
вседневность которой был погружен читатель, и словом, с кото-
рым обращался к нему художник. Дистанция эта обусловлена зако-
нами существования авторитарного стиля. «Связанность слова с
авторитетом, — по мысли Бахтина, — все равно признанным нами
‘“Там же. С. 469-469.
161 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. С. 155.
156
Новый реализм
или нет — создает специфическую выделенность, обособленность
его; оно требует дистанции по отношению к себе... Авторитарное
слово требует от нас безусловного признания, а вовсе не свобод-
ного овладения и ассимиляции со своим собственным словом.
Поэтому оно не допускает никакой игры с его границами, игры с
обрамляющим его контекстом, никаких постепенных и зыбких
переходов, свободно-творческих стилизующих вариаций. Оно вхо-
дит в наше сознание компактной и неразделимой массой, его нужно
или целиком утвердить, или целиком отвергнуть. Оно неразрывно
срослось с авторитетом — политической властью, учреждением,
лицом, — оно стоит и падает вместе с ним»162.
Этими особенностями авторитарного стиля обусловлено и та-
кое его свойство, как неспособность к взаимодействию с альтер-
нативой. «Авторитарное слово не изображается, — оно только пе-
редается. Его инертность, смысловая завершенность и окостене-
лость, его внешняя чопорная обособленность, недопустимость в
отношении к нему свободно стилизующего развития, — все это
исключает возможность художественного изображения авторитар-
ного слова». Именно этим обстоятельством объясняется тот факт,
что литература социалистического реализма практически не знает
жанра полифонического или диалогического романа: художествен-
ная структура произведения спроецирована не на спор, в его кон-
тексте «нет игры, разноречивых эмоций, оно не окружено взвол-
нованной и разнозвучащей диалогической жизнью, вокруг него
контекст умирает, слова засыхают»163.
Именно в силу этих особенностей авторитарный стиль вытес-
нил из советской литературы альтернативные стилевые тенденции
и господствовал в течение всех 40—50-х годов.
Новый реализм
(М. Шолохов, М. Горький, Б. Пастернак)
Альтернативой соцреализму оказался новый реализм. При том,
что соцреализм и новый реализм имели общие предпосылки воз-
никновения (кризис реализма на рубеже веков и трансформации
традиционных реалистических принципов), меньшая норматив-
162Тамже. С. 155-156.
163 Там же. С. 156.
157
Социалистический реализм
ность нового реализма позволила ему предложить общественному
сознанию не антигуманистические концепции будущего, а иссле-
дование исторической действительности XX в. и мироощущение лич-
ности, погруженной в нее. Подобная проблематика естественно вы-
двинула во главу реалистической жанровой системы роман, жанро-
вое содержание которого наиболее адекватно исследованию
отношений личности и истории. Всплеск романного сознания
30-х годов сопоставим только лишь с 60-ми годами XIX столетия.
При том, что внутри этой эстетики рождались творческие концеп-
ции, принципиально противоположные друг другу, а их авторы опи-
рались на общие — реалистические — художественные принципы.
Против революционной схемы, которую предлагает нормати-
визм, выступили многие советские писатели, обратившиеся к теме
гражданской войны, и среди них — Шолохов, автор «Тихого Дона».
Этот роман — одно из самых ярких воплощений реалистической
эстетики, противостоящей нормативизму. Если вдуматься в конф-
ликт, то он очень напоминает проблематику романов Достоевско-
го, которая формируется столкновением идеи и живой жизни.
Живая жизнь шолоховских героев с их обыденными повседневны-
ми делами (хлебопашеством, военными казачьими сборами, под-
новлением куреня, свадьбами, сенокосами, ночными рыбалками),
описанием которой открывается роман, когда между Григорием
Мелеховым и Аксиньей впервые пробежала искра страсти, оказы-
вается нарушенной грубым вторжением исторических катаклиз-
мов. Любимые герои Шолохова — Григорий и Петро Мелеховы,
Кошевой, Степан Астахов — втянуты в битвы, смысл которых
вовсе не ясен им, как, скажем, он совершенно открыт перед взо-
ром Левинсона. Но мир,который знаком им, намного богаче, ибо
они не собираются втискивать его в жесткие схемы классовой борь-
бы или других форм рационального расчета с действительностью.
Гражданская война понимается Шолоховым как искажение есте-
ственных форм бытия героями вроде Штокмана или Бунчука, ви-
дящих мир как арену классовых битв, и все трагические послед-
ствия подобного искажения ложатся на плечи самых простых лю-
дей. Они и оказываются первыми жертвами такой войны.
Сюжетом романа (если можно говорить о сквозном сюжете в
четырехтомной эпопее) оказывается частная судьба Григория
Мелехова и история его любви к Аксинье. Это история трагичес-
кой любви и история выгоревшей, испепеленной жизни. Почему
не состоялась любовь и почему испепелилась жизнь? Шолохов как
158
Новый реализм
реалист ищет ответы на эти вопросы в той исторической ситуа-
ции, втянутыми в которую герои оказались против своей воли.
Связь Григория и Аксиньи, вражда со Степаном, женитьба
Григория на Наталье — все эти перипетии частных отношений
являются своего рода экспозицией к историческому сюжету рома-
на. Завязкой можно считать первое убийство, то самое, что было
совершено Григорием в пылу конной сабельной атаки. С этого мо-
мента нескончаемая череда смертей проходит через роман. Раскро-
ив надвое череп австрийского солдата, Григорий, добрый и чут-
кий человек, приходит в непримиримое противоречие с самим
собой, не в силах избавиться от страшного наваждения, не может
обрести точку опоры в самом себе. Но страшнее даже другое. Убив,
он как бы начинает цепную реакцию бесконечных смертей, кото-
рые сеет сам и свидетелем которых является. В конце романа один
из эпизодических персонажей скажет об этом жуткие в своей про-
стоте слова: «Человека убить иному, какой руку на этом деле наломал,
легше, чем вшу раздавить. Подешевел человек за революцию». Его
слова Шолохов подтверждает кольцевой композицией романного
сюжета: долгая пляска смерти, начатая убийством австрийского
солдата, завершается гибелью самого дорогого Григорию челове-
ка — Аксиньи. Такова логика войны и того чудовищного мира, в
котором довелось жить героям Шолохова: взмах шашки, за кото-
рый казнил себя Григорий, отзовется нелепой пулей, доставшей-
ся Аксинье. И то черное небо, и ослепительно сияющий черный
диск солнца, который видит над собой Григорий Мелехов, похо-
ронив Аксинью, является знаком страшной цены, которую при-
дется платить народу за развязанную Штокманами и бунчуками
войну всех против всех.
Принципы реалистической типизации, присущие новому реа-
лизму, обусловили один из его «идеологических центров»: иссле-
дование отношений между человеком и историческим временем.
Их трактовки могли быть самыми полярными.
Русская литература знает два произведения, находящиеся друг
с другом в неразрешимом противоречии. Их разделяет три десяти-
летия. Эти книги предлагают принципиально разные трактовки
русской судьбы, как она сложилась в нашем столетии, а в созна-
нии читателя приходят в неразрешимое противоречие. Это эпопея
М. Горького «Жизнь Клима Самгина», озданная в 1930-е годы, и
роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», завершенный к началу
1960-х годов и находящийся в отношении непримиримой полеми-
ки к четырехтомной эпопее Горького. Воспринятые обособленно
159
Социалистический реализм
друг от друга, они утрачивают многие грани своего содержания.
Между ними складываются диалогические отношения, своего рода
спор длиною в век. В центре обоих произведений — конфликт лич-
ности и истории.
М. Горький намечает два возможных типа взаимоотношений
личности и исторического времени: контакт с ним и отчуждение
от него. Эти полярные позиции, представленные в творчестве пи-
сателя, как бы формируют между собой поле огромного идеологи-
ческого напряжения. С одной стороны, мы видим осмысление жизни
под углом позитивного, созидающего сознания (Алеша Пешков в
автобиографической трилогии, повествователь в цикле рассказов
«По Руси»). С другой стороны, это сознание негативное, как бы
разрушающее реальность («Жизнь Матвея Кожемякина», «Жизнь
Клима Самгина»). В последнем случае герой отчужден от времени,
враждебен ему, в первом — преодолевает отчуждение. Писатель в
своем творчестве создал два полюса, два гигантских разнозаря-
женных магнита, между которыми и формируется горьковская
концепция человеческой личности.
В «Жизни Клима Самгина» присутствуют два предмета изобра-
жения: историческое время и негативное, отрицающее сознание,
стремящееся отгородиться от его тлетворных влияний. Таким об-
разом, в романе создается глубокое эстетическое противоречие:
между историческим временем и временем героя.
В самом деле, перед нами сорок лет русской истории, вместив-
шей в себя несколько эпох, две революции, Ходынское поле, взлет
русского капитализма, 9 января... Хроникальное изображение вре-
мени, непрерывность его течения, отсутствие ретроспекций есть
способ передать с максимальной полнотой его неподвластность
воле человека, который хотел бы замедлить его ход, остаться вне
его течения. Противоречие между объективным характером исто-
рического времени и его субъективным восприятием Климом Сам-
гиным определяет конфликт романа: между героем и его эпохой.
В художественном мире Горького взаимодействие частного и
исторического времени является общеобязательным и непременным.
Герой горьковского романа, по словам С. Бочарова, «подвергается
воздействию исторического процесса в целом, несравненно более
широкому, чем воздействия среды. В этом «рандеву» с историей че-
ловек выступает, прежде всего, не как составная часть класса, а как
личность, имеющая непосредственный контакт с ведущей истри-
ческой закономерностью. История больше не позволяет замкнуться
в рамках среды, что ослабляло бы субъективную ответственность
160
Новый реализм
человека, властно выволакивает человека из этих рамок, заставля-
ет встать к себе, так сказать, в личное отношение»64.
Традиционные пропорции взаимоотношений человека и вре-
мени в горьковском романе смещены. Теперь любому человеку,
даже такому, как Самгин, тесно в узких рамках среды, и он выхо-
дит один на один со своей эпохой, хочет он того или нет. Поэтому
в сознании героя возникает неразрешимый внутренний конфликт:
с одной стороны, он желает уклониться от прямого контакта, с
другой стороны, ощущает невозможность сделать это. Неведомая
до сей поры сила втягивает героя в свой оборот: «События, точно
льдины во время ледохода, громоздясь друг на друга, не только требо-
вали объяснения, но и заставляли Самгина принимать физическое учас-
тие в ходе их». Физическое, действенное участие акцентирует ре-
альную и безграничную власть этой силы, которая против жела-
ния заставляет его вступать в контакт с собой. Иногда эта сила
выступает как нечто иррациональное, чуть ли не как рок, довлею-
щий над Самгиным: «Всю жизнь ему мешала найти себя эта прокля-
тая, фантастическая действительность, всасываясь в него, заставляя ду-
мать о ней, но не позволяя встать над ней человеком, свободным от ее
насилий». Самгину доступно понять и очень точно охарактеризовать
причины внутренней драмы, постигшей его: «Истина с теми, — рас-
суждает он, — кто утверждает, что действительность обезличивает чело-
века, насилует его. Есть что-то... недопустимое в моей связи с действи-
тельностью. Связь предполагает взаимодействие, но как я могу... вер-
нее: хочу ли я воздействовать на окружающее иначе, как в целях
самообороны против его ограничительных и тлетворных влияний?».
В противоположность Самгину Алеша Пешков, герой автобио-
графической трилогии, распахнут навстречу времени, вбирает его
в себя. Он, как и Самгин, оказывается в центре произведения,
действительность предстает как достояние его субъективного
психологического опыта, ибо это единственный герой, раскры-
тый изнутри. То, что Самгин и Пешков заняли в романной струк-
туре центральное место, говорит вовсе не об их одинаковой цен-
ности для автора, но о равенстве требований, предъявляемых пи-
сателем к любому герою. Суть в том, что Горький каждому без
изъятия доверил в руки контакт с эпохой, лишил героя возмож-
ности «жить все в бедных мыслях про самого себя, как цыпленок в
164 Бочаров С. Г. Психологическое раскрытие характера в русской классической
литературе и творчество Горького//Социалистический реализм и классическое
наследие (проблема характера). М., 1960. С. 156.
161
Социалистический реализм
скорлупе», как осмысляет свою жизнь Матвей Кожемякин. В этом —
доверие к человеку, но и огромный груз исторической ответствен-
ности за все, происходящее в мире, ибо утверждается взаимосвязь
личности со всем, происходящим в мире.
Отчужденный и неотчужденный от исторического времени че-
ловек — вот два полюса, два разнозаряженных магнита, созданных
Горьким. С одной стороны, антигерои, люди, которые не смогли
понять и принять свое время, люди, заблудившиеся на перекрестках
русской истории XX в.: Клим Самгин, Матвей Кожемякин, по-
следнее, вырождающееся поколение Артамоновых. С другой сто-
роны — герои, способные к интенсивному внутреннему росту, к
активному взаимодействию со своей эпохой. Это Павел Власов и
Пелагея Ниловна Власова («Мать»), это герой автобиографичес-
кой трилогии. Между двумя этими полюсами и аккумулируется
нравственно-этический и философский заряд концепции личнос-
ти, предложенной литературе Горьким. Во многом именно эти два
полюса как бы создают пространство, куда включены очень мно-
гие явления литературно-художественного сознания послегорьков-
ского времени. Горький обозначил предельно широкие координа-
ты художественного пространства нового реализма. Между этими
двумя полюсами, но часто в очень напряженной полемике с Горь-
ким, продолжалось его развитие.
Чтобы понять масштаб новых требований, предъявленных че-
ловеку Горьким, нужно задаться простым вопросом: чем так уж
плох Самгин? Почему Горький сделал его антигероем? Человек,
не способный переступить через нормы чести, живущий напря-
женной духовной жизнью, для которого более реальной и значи-
мой является жизнь внутренняя, нежели внешняя; человек, воп-
лощающий в себе традиционные взгляды и ценностные ориенти-
ры русского интеллигента, презирающий быт и тратящий большую
часть денег на книги. Почему же он, более всего ценящий свою
внутреннюю независимость и суверенность, удостаивается лишь
авторской антипатии и даже презрения?
Поставив частную человеческую судьбу в контекст историчес-
кого времени, настаивая на непременное™ этой связи, новый
реализм изменил традиционную систему ценностей. Ценной мыс-
лится уже не личность, не ее право внутренней жизни и тайной
свободы, на чем настаивал еще Пушкин, но жизнь общественная,
а ценность личности ставится в прямую зависимость от ее участия
в жизни социальной.
162
Новый реализм
Горький осмыслил взаимосвязь характера и истории как фа-
тальную и увидел в ней начало, возвышающее человека, способ-
ного на контакт с ведущей исторической закономерностью. Не-
способность личности к такому контакту или нежелание оного он
воспринимал как начало негативное и отказал такому герою в праве
на сочувствие и уважение.
Жесткая обусловленность характера героя и его судьбы исто-
рическим временем часто у Горького предстает как почти мисти-
ческая и непреодолимая человеческой волей зависимость. Герой
не в силах ее осознать и не в силах ее преодолеть. Он находится как
бы в плену у истории, подчинен социальным закономерностям и
раздавлен ими. Начала жизни, которые невозможно объяснить ра-
ционально, некие мистические связи и зависимости людских су-
деб от истории становятся в эпосе Горького одним из самых за-
метных мотивов. В романе «Дело Артамоновых» иррациональная
мотивировка судьбы семейного клана русских промышленников
сочетается с мотивировкой конкретно-исторического характера,
они как бы дополняют друг друга.
Сюжет романа охватывает период с начала 1860-х годов по 1917 г.
В центре его — судьба трех поколений династии русских промыш-
ленников Артамоновых. Основоположник «дела», бывший крепост-
ной Илья Артамонов, человек невиданной энергии и целеустрем-
ленности, передает дела своим сыновьям, ведущим их уже по инер-
ции, которая к третьему поколению вовсе иссякает. Горький, имея
возможность наблюдать взлет русского капитализма, интересуясь
судьбами людей, сумевших в ситуации «воли» (реформы 1860-х
годов) реализовать энергию, идущую от самых глубинных корней
народной жизни, замечал и не мог объяснить странное вырожде-
ние последующих поколений династии. В романе он стремится по-
казать историю семьи, где закон вырождения действовал особен-
но безжалостно, с почти мистической непреложностью. Прообра-
зами Артамоновых можно назвать таких представителей русского
купечества и предпринимательства, как Бриллиантовы, Сиротки-
ны, Журавлевы, Мешковы, Поляковы и, конечно же, Морозовы.
Страшная судьба С. Морозова, последнего, третьего владельца зна-
менитых мануфактур, носящего имя своего деда, основоположни-
ка династии, особенно занимала Горького. В нем он видел как раз
те противоречия и разрывы, что так свойственны русскому чело-
веку, которые были подчеркнуты исчерпанностью — династии ли?
Самого «дела»? Или класса буржуазии? С. Морозов жестоко подав-
163
Социалистический реализм
лял выступления рабочих мануфактуры — и строил бесплатные
дома и больницы. Боялся революции — и помогал деньгами рево-
люционерам. Даже огромная внутренняя сила не помогла ему спра-
виться с роком: переживая жесточайший внутренний кризис, он
ушел из жизни: нарисовал на груди химическим карандашом сердце
и выстрелил — целых два раза.
Эта судьба всерьез волновала Горького. «Ведь этот самый Савва
Морозов, — писал он, — отец его пришел в лаптях... В 62—63 году
пришли эти люди с сильным соком и взялись за дело, начали
строить фабрики, заводы, судоходство развивать. Судоходство на
Волге создано с такой быстротой, которой американцы, умеющие
работать очень и очень хорошо, только дивляются. А кто это со-
здал? Сироткины, Журавлевы. Это все мужичье...
И вот приходит такой человек и начинает работать, заставляет
детей своих работать... и на это дело, как видно, тратит свои луч-
шие соки, и как производителю, как отцу ему чего-то не хватает.
Дальнейшая стадия — его сын работает уже по инерции, без того
пафоса, без той поэзии труда, без той страсти, с которой работал
его отец... В третьем поколении люди начинают вырождаться...
Это, вероятно, происходит потому, что дед вложил всю свою
силу в это дело, на сына не хватило, а у сына — на внука — тоже
не хватило энергии».
Это почти иррациоальное, мистическое объяснение Горький
дополняет видением конкретно-исторической обусловленности
процесса: исчерпанностью творческого потенциала русского ка-
питализма за пятьдесят пять лет пути от Ильи Артамонова-стар-
шего до его внуков, Ильи и Якова. Но за этой проблематикой су-
губо социального характера Горький видит и проблему общечело-
веческого плана.
Человек — хозяин дела, его творец; в деле, в труде раскрыва-
ются его творческие потенции. И судьба Ильи Артамонова-стар-
шего подтверждает это.
Неукротимая энергия Ильи дает свои результаты — появляется
первый корпус фабрики. Это человек, не боящийся работы, не
утративший еще связь с рабочими, с теми людьми, трудом кото-
рых создается дело. И в большом застолье, которое он устраивает
для рабочих и в котором сам принимает самое активное участие,
еще ничего не предвещает беды. Люди сидят за огромными, спе-
циально сколоченными для этой цели столами, соединенные мо-
гучей волей хозяина дела, и древний ткач Борис Морозов обраща-
ется к Артамонову: «Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить.
164
Новый реализм
Ты — хозяин, ты дело любишь, а оно тебя. Людей не обижаешь. Ты —
нашего дерева сук, катай! Тебе удача — законная жена, а не любовни-
ца, побаловала да и нет ее! Катай во всю силу. Будь здоров, брат, вот что!
Будь здоров, говорю...»
Но век его оказался короток: дело, вызванное к жизни неукро-
тимой энергией Артамонова-старшего, как бы выходит из-под
контроля, начинает жить собственной жизнью, подчиняя себе не
только рабочих, но и хозяев, своих творцов. Дело в самом прямом
смысле убивает Артамонова. После застолья человек семьдесят ра-
бочих во главе с хозяином шумной ватагой пошли на Оку, куда
причалил на барке заказанный для второго корпуса фабрики па-
ровой котел. Рабочие благополучно сгрузили на берег «красное ту-
пое чудовище, похожее на безголового быка». Когда рабочие везут
котел по доскам, положенным на песок, горбуну Никите, сыну
Артамонова, кажется, «что круглая, глупая пасть котла разверз-
лась удивленно перед веселою силою людей». Горький использует
прием олицетворения, нагнетает антиэстетические детали, пока-
зывая разрушительную силу дела, воплощенную в этом красном
неповоротливом чудище, похожем на тушу освежеванного быка:
«Меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котел покачнул-
ся особенно круто и неспеша съехал с переднего катка, ткнувшись в
песок тупой мордой, — Никита видел, как его круглая пасть дохнула в
ноги отца серой пылью». Когда рабочие попытались поднять его, «котел
нехотя пошевелился и снова грузно осел, а Никита увидал, что из толпы
рабочих вышел незнакомой походкой отец, лицо у него было тоже
незнакомое, шел он, сунув одну руку под бороду, держа себя за горло,
а другой щупал воздух, как зто делают слепые». «Пожалуй, — жила
лопнула», — говорит он Никите. Надорвавшись, Артамонов-стар-
ший погибает.
Эта внешне немотивированная, казалось бы, случайная смерть
обусловлена некой иррациональной, почти мистической логикой
судьбы Артамоновых, которая является одной из главных мотиви-
ровок книги. Чудовищный паровой котел обращается в романе в
символ дела, выходящего из-под власти, сводящего на нет расче-
ты своих собственных творцов. Оно в буквальном смысле раздавли-
вает своего основателя, высасывает жизненные силы из его на-
следников. Дело давно вышло из-под контроля, обрело мистичес-
кую власть над людьми и раздавило первого.
Гибель Артамонова под паровым котлом — страшное событие,
ведущее героя к прозрению, увы, слишком позднему: «Эх, ошибся
я, Господи... Ошибся...» — эти его слова будут последними перед
165
Социалистический реализм
смертью. В чем герой видит свою ошибку? Вероятно, последним
проблеском сознания ему дано понять, что не он был хозяином
дела, а само дело вышло из повиновения, подчинило людей, ди-
настию, род и в прямом смысле раздавило своего создателя и творца.
Так вскрывается глубинная, закономерно обусловленная причина
гибели хозяина и основателя дела Артамоновых — Ильи Васильева
Артамонова.
Итак, главным предметом изображения в романе является ис-
тория трех поколений династии русских промышленников. Это
предопределяет жанровые особенности романа. С одной стороны,
перед нами семейная хроника; с другой стороны, история рода
Артамоновых мотивирована обстоятельствами социально-истори-
ческого плана (развитие русского капитализма, обусловленное
реформами начала 1860-х годов). Поэтому в жанр семейной хрони-
ки вторгается социально-исторический, социально-политический
аспект жанрового содержания.
В этом романе М. Горький, совмещая частный, собственно ро-
манический, и национально-исторический сюжеты идет по тра-
диционному для него пути. Исторические события даны сквозь приз-
му сознания личности, предстают как достояние частного опыта
Петра Артамонова, сына Ильи.
Одним из художественных средств раскрытия характера Петра
Артамонова, представителя среднего поколения династии, образ
которого проходит через весь роман, становится прием двойниче-
ства. Прием этот вообще характерен для Горького: двойничество
помогает вскрыть пестроту русского характера, на которой наста-
ивал писатель.
М. Горький, обращаясь к приему, отработанному до совершен-
ства Ф. Достоевским, использует его в иных целях. Писателю важ-
но выявить трагический разлад между человеком и делом, пока-
зать его отчужденность от дела, когда оно как бы обретает соб-
ственную волю, становится неуправляемым, само настигает и
уничтожает человека. Дело — фантом, порожденный людьми и
уничтожающий, калечащий их. Выявлению этого разлада человека
с делом, которое воспринимается им как разлад с самим собой,
подчинен психологический анализ в романе.
Внутренняя противоречивость Петра Артамонова, его конф-
ликт с самим собой достигает кульминации в сценах и эпизодах,
связанных с Нижегородской ярмаркой. Он видит, что «рядом с ним
бесшумно двигается похожий на него человек, несчастно растрепанный,
с измятым лицом, испуганно выкатившимися глазами, двигается и крас-
166
Новый реализм
ной рукою гладит мокрую бороду, волосатую грудь. Несколько секунд
он не верил, что это его отражение в зеркале...» Двойственность ге-
роя и его разлад с самим собой приводят к ненависти к двойни-
ку — к самому себе, к своему зеркальному отражению: «Артамонов
внезапно увидал перед собою того человека, который мешал ему жить
легко и умело... он сидел молча, вцепившись пальцами левой руки в
бороду, опираясь щекою на ладонь; он смотрел на Петра Артамонова
так печально, как будто прощался с ним, и в то же время так, как будто
жалел его, укорял за что-то; смотрел и плакал, из-под его рыжеватых
век текли ядовитые слезы...»
Двойничество для Горького — одна из форм воплощения чело-
веческой «пестроты». Но в чем видит писатель «углы», «полюса»
характера Петра Артамонова? В том, в первую очередь, что живет
он не своей волей, а подчиняет жизнь делу Артамоновых. Не дело
подчинено ему, хозяину, а он, Петр, становится рабом своего
дела, оно его «облапило и держит».
Сам Петр никогда не сможет понять внутренних причин своей
драмы. Вряд ли сможет это сделать и его брат, шустрый и деловой
Алексей, или же сын Алексея Мирон. Мистическая власть дела над
династией приоткрылась лишь Илье Артамонову-старшему в мо-
мент его страшной гибели. Но в романе есть персонаж, которому
дано быть свидетелем жизни всех трех поколений Артамоновых и
многое в их судьбе понять. Он, как бы не старея, не изменяясь со
временем, проходит через все произведение. Это дворник Артамо-
новых Тихон Вялов.
Немногословный, с хитрецой, прозорливый, внешне неопрят-
ный, часто непочтительный в своих дерзких речах, будучи неза-
метным свидетелем жизни Артамоновых, он знает о них почти все.
Именно Тихону Вялову дано понять мистическую власть дела над
Артамоновыми. Он произносит обидные для Петра слова: «Дело,
как плесень в погребе, — своей силой растет», показывая порабо-
щенность этой плесенью всех представителей династии.
Если новый реализм поставил героя в жесткую зависимость от
макросреды, от глобальных исторических обстоятельств, то Горь-
кий, сделав эту связь основой реалистических принципов типиза-
ции, воспринял ее как трагическую для .личности. Так эстетические
принципы нового реализма оказались соотнесены с важнейшей фи-
лософской проблемой, выдвинутой XX в.: человек и история; сво-
бода человека от ее влияний; сама возможность этой свободы.
Эти проблемы он сформулировал в четырехтомной эпопее
«Жизнь Клима Самгина», ставшей творческим завещанием. Ее глав-
167
Социалистический реализм
ный герой, личность незаурядная и мыслящая, ведущая свою ро-
дословную от лермонтовского героя, удрученного сомнениями в
мире и в себе самом, с чисто печоринским равнодушием отверга-
ющий наивные идеи и соблазны бытия, мучится собственной раз-
двоенностью и невозможностью найти себя, прийти к равенству с
самим собой. Его сознание раздирают противоречия действитель-
ности, и он не может справиться с ними. Поэтому мотив двойни-
чества в «Жизни Клима Самгина» несет мрачный и даже трагичес-
кий оттенок, развиваясь от тома к тому:
«... двойники его бесчисленно увеличивались, снова окружали его и
гнали по пространству...»;
«Мы все — двуглавые, — сказал он вставая. — Зотова, ты, я...»;
«Моя жизнь — монолог, а думаю я диалогом, всегда кому-то что-то
доказываю. Как будто внутри меня живет кто-то чужой, враждебный, он
следит за каждой мыслью моей, и я боюсь его»;
«...Юлим Самгин остался, и было совершенно ясно, что зто тоже ка-
кой-то нереальный человек, очень неприятный и даже как бы совершен-
но чужой тому, кто думал о нем, в незнакомом деревянном городе, под
унылый, испуганный вой собак».
Этот мотив приходит к своей кульминации в третьей книге
«повести» (так определил жанр сам Горький, вероятно, имея в
виду повествование), обретая законченный смысл в страшном сне
Самгина: «Самгин увидел себя на безлюдной, избитой дороге среди
двух рядов старых берез, — рядом с ним шагал еще один Юлим Самгин.
День был солнечный, солнце жарко грело спину, но ни сам Юлим, ни
двойник его, ни деревья не имели тени, и зто было очень тревожно.
Двойник молчал, толкая Самгина плечом в ямы и рытвины дороги, толкая
на деревья, — он так мешал идти, что Юлим тоже толкнул его; тогда он
свалился под ноги Клима, обнял их и дико закричал. Чувствуя, что он
тоже падает, Самгин схватил спутника, поднял его и почувствовал, что он,
как тень, не имеет веса... Самгин высоко поднял его и швырнул прочь,
на землю, — он разбился на куски и тотчас вокруг Самгина размножи-
лись десятки фигур, совершенно подобных ему... их становилось все
больше, все они были горячие, и Самгин задыхался в их безмолвной,
бесшумной толпе... они окружали его и гнали по пространству, лишен-
ному теней, к дымчатому небу; оно опиралось на землю плотной тем-
но-синей массой облаков, а в центре их плыло другое солнце, без лучей,
огромное, неправильной, сплющенной формы, похожее на жерло печи, —
и на зтом солнце прыгали черненькие шарики». В самые страшные
минуты Клим Иванович Самгин ощущает как бы реальность свое-
168
Новый реализм
го ужасного сна: он разорван на нескольких Самгиных, которые
находятся друг с другом в постоянной вражде и ссоре, ибо все они
не имеют тени и веса, как мудрец из восточной притчи, вспом-
нившейся тогда Самгину. Он сидел «под солнцем на скрещении двух
дорог, горько плакал, а когда прохожий спросил: о чем он льет слезы? —
ответил: «От меня скрылась моя тень, а только она знала, куда мне идти».
Ни один из полюсов, разрывающих сознание Самгина, не может
взять верх, ибо Клим Иванович не в состоянии сделать выбор,
определиться в отношении той или иной стороны действительно-
сти. Его феноменальная память захватывает все, но так как герой
не может сделать выбора, это лишь усугубляет его трагедию: все
больше и больше сторон действительности доступны Самгину, и
все больше и больше двойников селятся в нем, все больше проти-
воположностей разрывают его сознание. Герой оказывается пора-
бощен действительностью, разорван ею, она наполняет его собой
против его воли. Мечта встать над нею человеком, свободным от ее
насилий, увы, была, по Горькому, нереализуемой для личности.
Так в эпос писателя входит один из коренных аспектов его
проблематики: что есть свобода для человека, погруженного в исто-
рико-социальные обстоятельства первой трети нашего столетия? Чем
она может быть ограничена? Только ли государством? Судом обще-
ственности? Прямым насилием социальной среды? Может ли быть
свободен человек чеховского плана — абсолютно материально обес-
печенный, зависимый разве что от самого себя? Ведь именно таких
людей заставлял страдать А. Чехов от того, что они не могли поехать
в Москву, как три сестры, хотя никаких реальных препятствий к
тому вовсе не было; не могли вмешаться в судьбу вишневого сада,
заранее обреченного на вырубку вне зависимости от того, станет его
хозяином Лопахин, или купец Дериганов, или же останутся старые
хозяева. Некое мистическое начало жизни, выраженное Чеховым то
в звуке лопнувшей струны, то в крике птицы и шуме самовара, к
которому прислушиваются и который не могут понять Лопахин,
Раневская, Гаев, исследует и М. Горький. Что мешает человеку
стать свободным и поступать в соответствии со своей волей?
Поэтому проблема человеческой свободы или несвободы ста-
новится центральной темой всего творчества Горького. Явленная в
первых рассказах как гимн романтически трактуемой полной сво-
боде личности от всех оков внешнего социального мира, она уже
тогда содержала в себе сомнения в ценности такой свободы для
человека. Последнее произведение Горького — «Жизнь Клима Сам-
гина» — несет в себе печальное заключение о невозможности об-
169
Социалистический реализм
ретения личностной свободы в трагических условиях русской ис-
тории XX в.
Дал ли русский реалистический роман антитезу подобной ху-
дожественной концепции? Да, антитеза, столь же художественно
значимая и могущественная по воздействию на сознание совре-
менного человека, появилась уже во второй половине XX в. Это
был роман Б. Пастернака «Доктор Живаго».
«Доктор Живаго» был написан в середине века, поэтому Пас-
тернак обладал большим историческим опытом по сравнению с
Горьким, умершим за четверть века до того момента, когда его
оппонент поставил последнюю точку в своем романе. Поэтому Па-
стернак мог использовать те аргументы в споре с Горьким, кото-
рые тому были просто недоступны. «Доктор Живаго» — это анти-
теза горьковскому эпосу, высказанная русским писателем, не при-
нявшим не только революцию, но и насилия истории над
человеческой личностью. В утверждении Горьким непреложного вза-
имодействия человека и истории Пастернак увидел насилие над
героем, над человеком вообще — и не принял его. «Доктор Жива-
го» — утверждение права личности на суверенитет вне зависимос-
ти от того, кто или что на него покушается: другой ли человек,
государство, революция, история.
С 60-х годов XIX в. русская литература была пронизана пафо-
сом общественного служения. «Натуральная школа», «реальная кри-
тика», некрасовский «Современник», романы Чернышевского и
критические статьи Д. Писарева утверждали идею общественного
служения в качестве первейшего долга личности. Новый реализм
воспринял эту идею и положил ее в основание принципов реалис-
тической типизации — в примитивных формах, как, скажем, у
Ю. Либединского 20-х годов, в чуть более художественно усложнен-
ных, как в героических романах Н. Островского «Как закалялась сталь»
и «Рожденные бурей» или же в производственном романе 30-х годов
(«Время, вперед!» В. Катаева, «Гидроцентраль» М. Шагинян). Этот
же пафос общественного служения был выражен в совершенных
эстетических формах в горьковском эпосе. Уникальность для рус-
ской литературы романа Б. Пастернака состоит в том, что он едва
ли не единственный в русской реалистической литературе XX в.,
создающейся в метрополии, выступил против.
Пафос общественного неслужения заявлен в романе Пастер-
нака. Он утверждает право человека остаться самим собой, отвер-
гнув выбор между красными и белыми, ибо абсолютной правды
нет ни на той, ни на другой стороне.
170
Новый реализм
Он утверждает право быть всего лишь частным человеком.
Его герой не желает жертвовать собой на благо народа — и
Пастернак поддерживает его в этом нежелании. Поддерживает хотя
бы потому, что не знает, нужны ли народу эти жертвы. Поддержи-
вает потому, что осознает губительность и жестокость граждан-
ской войны, ее историческую бесперспективность. Единственный
способ спастись от насилия истории, кровавой и жестокой — со-
хранить свой частный мир, свое индивидуальное бытие, отстоять
право на независимость от любой чужой воли — будь то воля крас-
ных, белых, будь то воля народа.
Юрий Андреевич Живаго реализует себя не в глобально-исто-
рическом контексте, как это происходит с героем Горького, хочет
он того или нет, но в значительно более узком, который, однако,
мыслится автором и героем как более важный, глубокий и необ-
ходимый для личности: это контекст ближайшего человеческого
окружения, дома, семьи, близких и любимых людей, которые спо-
собны дать то самое необходимое человеку тепло, что согреет его
на продуваемых ледяными ветрами перекрестках истории. То теп-
ло, которого начисто лишен герой Горького.
История XX в., втягивающая человека в свой оборот, мыслит-
ся Пастернаком как начало разрушительное. Поэтому сюжет рома-
на составляют постоянные и безуспешные попытки героя спря-
таться от страшной и жестокой эпохи, найти для себя и для своей
семьи нишу, в которой можно избежать насилия истории и обре-
сти счастье обыденной жизни.
Роман Б. Пастернака исполнен множества бытовых подробно-
стей, которые представляют огромный интерес для его главного
героя. Жизнь в занесенном снегами и удаленном от людского мира
доме (где все же застает война между красными и белыми, парти-
занами и непартизанами Юрия Живаго) дает возможность герою
порадоваться картошке, уложенной на зиму в гурты, насладиться
письменным столом, так и зовущим к работе, к стихам, оценить
вкус капусты и лесной ягоды и прелесть зимнего пейзажа за ок-
ном. За этим проявляется не приземленность, не неспособность
посмотреть на жизнь более широко, но умение видеть частности,
поэзию обыденного — дар крайне редкий у русского человека,
поглощенного глобальными проблемами и не видящего того, что
рядом. Доктор Живаго — в первую очередь поэт, и его взгляд эсте-
тезирует все, что попадает в поле зрения героя. Ему дано счастье
обыденной жизни, очарованности ее ощутимой реальностью, гар-
монией каждодневного бытия с любимыми и близкими людьми.
171
Социалистический реализм
В романе, где пересекается множество частных судеб на фоне
глобальных исторических событий, Пастернаку приходится нахо-
дить композиционные приемы, которые помогли*бы соподчинить
сюжетные линии. Эту же задачу решает для себя и Юрий Андрее-
вич Живаго — ведь он тоже художник. «Он подумал о нескольких,
развивающихся рядом существованиях, движущихся с разною скорос-
тью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в
жизни судьбу другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа
относительности на житейском ристалище представилось ему...» Осо-
бую роль на этом «житейском ристалище» играют женские образы.
Отношение разных героев к одной и той же женщине позволяет
сопоставить их в художественной системе образов романа.
Жизненная позиция Живаго противопоставлена в романе ми-
роощущению другого героя — Антипова-Стрельникова. Они вклю-
чены в один любовный треугольник, оба безумно и безоглядно
любят Лару, судьба которой тоже проходит через весь роман. Лара
для Пастернака — воплощение извечной женской тайны, непос-
тижимости женской красоты. Любовь к ней становится для Юрия
Андреевича великим счастьем, дарованным судьбой. Именно бли-
зость с ней открывает ему высшую красоту простого счастья, спо-
собного противостоять любым историческим катастрофам.
Иная судьба у Антипова. В нем сказалась чисто русская неудов-
летворенность тем, что имеет человек; желание бросить все, с от-
чаянной беспощадностью разорвать узы, связывающие его с са-
мыми любимыми людьми: женой Ларой и дочерью. Желая заслу-
жить то, что он уже имеет — их любовь — он отправляется на
фронт и затем, переплавленный, перемолотый гражданской вой-
ной, становится красным комиссаром Стрельниковым, которого
люди предпочитают звать Расстрельниковым. Сея вокруг себя
смерть, несясь на бронепоезде, изрыгающем на все, что оказыва-
ется рядом, потоки огня, пуль и снарядов, по выжженной и вы-
стывшей России, он забывает о жене и дочери, забывает о своей
любви и том тепле, которое могло бы его согреть в бескрайних
заснеженных пространствах обезлюдевшей родины. Лара находит
удивительные слова для того, чтобы объяснить, что происходит с
ее бывшим мужем: «...он разобиделся на что-то такое в жизни, на что
не обижаются. Он стал дуться на ход событий, на историю. Пошли его
размолвки с ней. Он ведь и по сей день сводит с ней счеты».
На протяжении романа эти герои встречаются не один раз.
Однажды Живаго оказывается на волоске от смерти, и лишь слу-
чайная искра человеческого участия, промелькнувшая между ними
172
Новый реализм
и отозвавшаяся в комиссаре, спасает Живаго от расстрела, как
некогда такая же искра человечности, промелькнувшая между
маршалом Даву и Пьером, спасла графа Безухова. Свои последние
дни перед страшным самоубийством Стрельников, бывший не-
когда просто добрым и сердечным московским мальчиком Пашей
Антиповым, безумно влюбленным в красавицу Лару, проведет с
Живаго в его отдаленном, скрытом от посторонних глаз, засне-
женном убежище. Испепеленный, выжженный дотла гражданской
войной, опустошенный смертями, сеянными им самим вокруг себя,
потерявший все, что имел некогда, не сумев сберечь главное бо-
гатство, дарованное жизнью — дочь и жену, он заканчивает жизнь
самым привычным и доступным для себя средством: пулей. Юрий
Живаго, чуть ли не на глазах которого случилось это самоубий-
ство, видит, как «в нескольких шагах от крыльца, вкос поперек до-
рожки, упав и уткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Па-
вел Павлович. Снег под его левым виском сбился красным комком, вы-
мокши в луже натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли
крови скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерз-
лой рябины».
Истоки трагической судьбы Стрельникова — в том конфликте
личности и истории, который, по мысли Пастернака, может иметь
единственное разрешение: гибель личностного, индивидуального
начала в человеке. Рассказывая об Антипове, уже ставшем комис-
саром Стрельниковым, Лара отмечает важную деталь: «Я нашла, что
он почти не изменился. То же красивое, честное, решительное лицо,
самое честное изо всех лиц, виденных мною на свете... И все же одну
перемену я отметила, и она встревожила меня. Точно что-то отвлечен-
ное вошло в этот облик и обесцветило его. Живое человеческое лицо
стало олицетворением, принципом, изображением идеи... Я поняла, что
это следствие тех сил, в руки которым он себя отдал, сил возвышенных,
но мертвящих и безжалостных, которые и его когда-нибудь не поща-
дят». Человек, теряющий свою индивидуальность и частность под
воздействием любой силы, даже такой, как революция, граждан-
ская война, влекомый чувством долга перед народом, сбивается
со своего пути и теряет все. Историческая катастрофа произошла
потому и тогда, когда человек утратил веру в свое право личност-
ного, только ему присущего взгляда. «Тогда пришла неправда на рус-
скую землю. Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в
ценность собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали
внушению нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего
173
Социалистический реализм
голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти
владычество фразы, сначала монархической — потом.революционной».
Фразы, нивелирующей в человеке индивидуальное, лишь ему при-
сущее; фразы, делающей человека исполнителем чужой воли.
Лара и Юрий Живаго — вот два героя, которым удается отсто-
ять собственную самость перед агрессивным и разрушительным
натиском истории. Это удалось сделать и Климу Ивановичу Самги-
ну, оставшемуся самим собой, пусть и в полном одиночестве, без
друзей, без любимой женщины, способной его понять. Однако он
предпочитает остаться один, но не сдаться свирепому валу эпохи,
требующей от человека полной капитуляции и открыто презираю-
щей его право на внутреннюю жизнь, независимую от гласа народа
или общественного мнения. Разница между героями этих романов
определена не только исторической дистанцией, но и авторской
оценкой: Горький презирает Самгина за его вполне естественное
желание самостоятельности, а Пастернак видит в нем основу того
личностного самосознания, на котором только и может устоять в
период испытаний и сам человек, и его семья, любимые им люди,
и сама Россия.
Спор, который ведут между собой М. Горький и Б. Пастернак,
касается по сути своей самых основ русского национального со-
знания. Возможные варианты разрешения этого спора определили
столь важную идеологическую сферу русского реализма XX в., как
концепция революции.
В самом деле, почему герой Пастернака не принимает револю-
ции, почему первое радостное восхищение чудной «хирургичес-
кой операцией», проведенной большевиками в октябре 1917 г.,
сменяется не только разочарованием, но резким неприятием лю-
бой социальной хирургии? Потому что в революции автор и его
герой видят преступное насилие над действительностью, насилие
в отношении тех первооснов бытия, перед которыми преклоняет-
ся Живаго. Поэтому роман «Доктор Живаго» можно считать анти-
тезой не только горьковской эпопее, но и новым, принципиально
иным решением вопроса взаимосвязи личности и макросреды ис-
торического времени, которая стала основополагающей для реа-
листического художественного сознания XX в.
IV
МОДЕРНИЗМ
Литературно-критические концепции
модернизма
«Всякое искусство стремится быть выражением мироощуще-
ния своего века», — писал о модернистских эстетических системах
(экспрессионизме и импрессионизме) немецкий теоретик искус-
ства О. Вальцель165. Его современник и соотечественник Ю. Баб,
размышляя об импрессионистической эстетике, говорил о стрем-
лении художника запечатлеть предметы «в том их мгновенном об-
лике, какой действительно видел. Это новое художественное устрем-
ление импрессионизма отнюдь не было новшеством только техни-
ческим, — оно было продуктом внутреннего настроения эпохи.
Всякая художественная форма ценна и может надеяться на то,
чтобы утвердить себя, лишь в том случае, если она имеет извест-
ное внутреннее значение, если в ней выражается какой-нибудь
новый крупный поворот в развивающемся миросозерцании»166.
Думается, что импрессионистическая и экспрессионистическая эс-
тетика во многом стала выражением мироощущения XX в.; само
ее возникновение явилось результатом крупных поворотов в раз-
вивающемся миросозерцании человечества.
Русская литература советского периода при всем ее искусствен-
ном изоляционизме, в котором она развивалась, являлась все же
естественной частью мирового литературного процесса, поэтому
модернистская эстетика, в том числе две наиболее мощные для
этого периода ее ветви, импрессионистическая и экспрессиони-
стическая, были естественной и неотъемлемой частью литературно-
го процесса. И хотя их существование в русском советском литера-
165Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм. Пг., 1922. С. 9.
166 БабЮ. Экспрессионистическая драма//Экспрессионизм. Пг.; М., 1923. С. 112.
175
Модернизм
турном процессе никогда не декларировалось, хотя они не полу-
чили теоретического осмысления в литературно-критических кон-
цепциях, они, тем не менее, существовали и их влияние на совет-
ский литературный процесс было достаточно велико. Взаимодей-
ствуя по принципу взаимопритяжения и взаимоотталкивания с
реалистическими эстетическими системами и даже с нормативиз-
мом, они воздействовали на них и испытывали на себе их воздей-
ствие, формировали их и формировались сами. Их возникновение
и развитие было порождено закономерными обстоятельствами,
характерными для эстетики XX в. Их угасание и гибель явились
результатом огосударствления литературы и утверждения литера-
турного и культурного монизма.
Суть в том, что импрессионистическое и экспрессионистичес-
кое мироощущение неизбежно противостоит нормативной эсте-
тике. В силу своих основных качеств оно отвергает такие основопо-
лагающие ее черты, как утопичность, ориентацию на «золотой
век», концепцию художественного времени, антигуманизм и мес-
сианизм. Коренное расхождение с эстетикой советского нормати-
визма объясняется принципиально иными принципами типиза-
ции, отрицающими воздействие исторического времени на лич-
ность (В. Набоков) или видящими в нем насилие над человеком
(Б. Пильняк, А. Платонов). Но главное, конечно же, состоит в том,
что модернистская эстетика в этих двух ее ветвях оказалась оппо-
зиционна идеологии антисистемы и пыталась уравновесить ее, смяг-
чить губительные последствия для русской культуры.
О. Вальцелю принадлежит мысль о том, что импрессионизм и
экспрессионизм соотносятся как искусство отображения и искус-
ство выражения. Однако противоположность этих явлений не ис-
ключает и их близости, смежности: «отдельные этапы угасающего
импрессионизма кажутся иногда предвосхищающими задания экс-
прессионизма»167. Для работ, изданных в 20-е годы, сопоставление
импрессионизма и экспрессионизма весьма обычно, хотя чаще
исследователи подчеркивают принципиальные различия между
ними. Так, современник и соотечественник О. Вальцеля Ф. М. Гюб-
нер подчеркивает, что, несмотря на обычность сопоставления, «обе
величины, противопоставляемые друг другу, в сущности говоря,
совершенно несоизмеримы. Импрессионизм есть учение о стиле,
экспрессионизм же — норма наших переживаний, действий и,
следовательно, основа целого миропонимания»168.
167 Вальцелъ О. Импрессионизм и экспрессионизм. С. 9.
168 Гюбнер Ф. Экспрессионизм в Германии//Экспрессионизм. С. 51.
176
Литературно-критические концепции модернизма
Думается, что в обеих приведенных полярных точках зрения есть
своя истина. Импрессионистическая и экспрессионистическая эстети-
ки столь же близки, сколь и различны. Что сближает их, что разводит?
Сближает их общая генетическая принадлежность к модерниз-
му, проявляющаяся прежде всего в оппозиционности реализму, в
декларативной антиреалистичности. Само возникновение этих мо-
дернистских эстетических систем во многом обусловлено кризи-
сом реализма, кризисом позитивистской картины мира, отражен-
ной в реализме, пришедшемся на рубеж веков. О. Вальцель счита-
ет, что основным положением импрессионизма «было изгнание
мышления: все рассудочное, с помощью чего работало прежнее
искусство, должно было исчезнуть, чтобы не нарушалась чистота
эстетического впечатления и не искажалась типичность его вос-
произведения»169. Поэтому речь тут уже не идет о социально-исто-
рической мотивировке характера средой.
Принципиальный индетерминизм, по мысли исследователей,
становится основой модернистского мировосприятия: импрессио-
низм «понимал слово «впечатление» в строжайшем смысле и стре-
мился передавать только красочные впечатления, не думая при
этом о вещах, возбуждавших это впечатление»170, что ведет в ко-
нечном итоге к «отрицанию всех художественных средств, осно-
вывающихся на мысленном истолковании впечатления... Мы не
должны смотреть, отягощенные нашими представлениями, мы не
должны производить мысленных заключений от наших впечатле-
ний к вещам, на которых основывается впечатление, мы не долж-
ны исправлять зрительных впечатлений на основании опыта. Ина-
че теряется подлинность впечатления, теряется, вместе с тем, и
истина; и вместо нее выступает расплывчато нечто среднее между
правильным наблюдением и мысленным истолкованием». В таком
случае художник «мыслит вместо того, чтобы видеть»171.
Здесь, пожалуй, сходство, обусловленное отрицанием реалис-
тических принципов мотивации характера, завершается и начина-
ются явные различия между экспрессионизмом и импрессиониз-
мом. Современные исследователи литературного импрессионизма
считают, что помимо стремления передать предельно живописно
краски, полутона, тени, колорит окружающей жизни, хотя это и
принципиально важно для живописного импрессионизма, в лите-
Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм. С. 58.
17°Там же. С. 37.
171 Там же. С. 39-40.
177
Модернизм
ратуре эта эстетика оборачивается очень своеобразным, очень спе-
цифическим проникновением во внутренний мир героя. «Импрес-
сионизм в литературе, — считает Е. Евнина, — является углублени-
ем или особой формой психологизма, учитывающего вновь откры-
тые подсознательные, текучие и трудно уловимые настроения и
чувствования, связанность духовных процессов с телесными. Здесь
как бы сделан еще один шаг к тому, чтобы зафиксировать необы-
чайную сложность и подвижность внутреннего мира человека, шаг,
связанный, несомненно, с кризисом позитивистских идей и раз-
витием субъективизма в философских учениях конца XIX века»172.
Впечатления личности, ее психологическое состояние, вы-
званное тем или иным ощущением, воспоминанием, деталями,
подмена объективного, позитивистского, причинно-следственно-
го восприятия мира впечатлением, основанным на некоем под-
сознательном механизме припоминания, и составляет суть прозы
импрессионистов. Размышляя об импрессионизме М. Пруста,
Л. Андреев показывает, что предметом изображения в его прозе
оказывается не столько реальность, сколько воспринимающее, вер-
нее, «припоминающее» сознание — отсюда навязчивая прустов-
ская идея «инстинктивной памяти»: «Пруст мог истинно творить
только в форме «поисков утраченного времени», только тогда, когда
жизнь реальная сменяется жизнью припоминаемой, жизнью в гре-
зах»; как бы ни разрасталась и не раскручивалась лента воспоми-
наний героя, «в ее начале всегда запрограммированное писателем
мгновение, всегда впечатление, ощущение непосредственное, сию-
минутное, инстинктивное. «Инстинктивная память», ее механизм,
ее приметы, несомненно, возвращают к импрессионизму, напо-
миная о том, как складывался он в методе самого Пруста»173.
Напротив, экспрессионизм чужд психологизма, внимания к
внутреннему миру личности, чужд какой бы то ни было психоло-
гической нюансировки. Так, например, Л. Копелев отмечал, что
персонажи экспрессионистической драмы «почти лишены конк-
ретной индивидуализации. Преобладают не столько типизирован-
ные, сколько условно-символически обобщенные лирические или
гротесковые образы»174.
172 Бенина Е. Проблема литературного импрессионизма и различные тенденции
его развития во французской прозе конца XIX — начала XX века//Импрессионис-
ты: Их современники, их соратники. М., 1976. С. 262.
173 Андреев Л. Г. Импрессионизм. М., 1980. С. 125; 114.
174 Копелев Л. Драматургия немецкого импрессионизма//Экспрессионизм. С. 72.
178
Литературно-критические концепции модернизма
Эта принципиальная дистанция между двумя эстетическими
системами обусловлена творческой сверхзадачей. Если импрессио-
низм направлен на восприятие мельчайших оттенков и нюансов
бытия, что, в сущности, и формирует его оппозиционность нор-
мативизму с его принципиальным безразличием к реальности и
неумением ценить красоту, сокрытую в вечности ли, в мгновении
ли, а потому он далек от априорного утверждения некой идеи или
концепции, то «в экспрессионизме, как регулирующая норма,
скрыта идея»175. Об этом же пишет один из немногих русских ис-
следователей экспрессионизма 20-х годов К. Дрягин: «Не импрес-
сионистически схваченные моментальные снимки действительно-
сти, не обобщение и типизация реальной окружающей действи-
тельности, а отвлеченная мысль является основой и темой
произведения»176. Отсюда характерное для экспрессионизма стрем-
ление к гротеску, вообще к фантастическому, подчеркнутая ирре-
альность, нарушение жизненных пропорций: «Ставя своей зада-
чей лишь одно — резко и ярко представить перед читателями или
зрителями свою мысль, художник совершенно не заботится о том,
чтобы быть верным действительности, чтобы в самом быте найти
живое воплощение своей мысли (как не привык он вообще пове-
рять свои мысли действием). Он создает новую, фантастическую
действительность; создает образы, не встречающиеся в природе,
но резко и определенно выражающие его мысль»177.
«Рядом с рационализмом, — продолжает исследователь свою
мысль, — у экспрессионистов надо поставить ирреализм», — и
подтверждает свою мысль тезисом А. В. Луначарского: «Художник-
экспрессионист, выражая свои переживания... отнюдь не хочет быть
при том же еще верным внешней окружающей его природе, дей-
ствительности. Он считает себя вправе употреблять какие угодно
краски, увеличивать, уменьшать, видоизменять как угодно фор-
мы. Цель его — совсем не создание чего-либо подобного действи-
тельности, а как бы воплощение сна, кошмарного или райского,
или другого какого-нибудь, который передал бы чужой душе всю
сложность присущего самому художнику переживания»178.
175 Гюбнер Ф. Экспрессионизм в Германии. С. 54.
176Дрягин К. Экспрессионизм в России (Драматургия Леонида Андреева). Вят-
ка, 1928. С. 13.
177Там же. С.15.
178Там же. С. 22—23.
179
Модернизм
Фантастичность, гротескность, гиперболизм экспрессионис-
тических образов обусловлен особыми, чисто экспрессионисти-
ческими, принципами типизации, которые К. Дрягин определяет
следующим образом: «Не символизация, не отражение «несказан-
ного», «надмирного», а алгебраизация, сведение конкретного к
отвлеченной «сущности» (essentia), вещи к понятию — вот прием
Андреева»179.
Вероятно, именно это обстоятельство привело к тому, что наи-
более яркое выражение на русской и на немецкой почве экспрес-
сионизм нашел в драме. Но в советские 20-е годы экспрессионис-
тическая эстетика реализуется, в первую очередь, в прозе, в жан-
ре антиутопии. Два наиболее ярких образца — «Мы» Е. Замятина и
«Котлован» А. Платонова. Именно жанр антиутопии давал возмож-
ность выразить характерную для оппозиционного по самой своей
сути экспрессионизма идею неприятия построений нормативизма.
Именно это обстоятельство давало возможность экспрессионисти-
ческой ветви модернизма встать в оппозицию соцреализму. Если
для антисистемной идеологии оказывается характерной утопичес-
кая концепция (на чем, собственно, и зиждется вся эстетика соц-
реализма с его непременной устремленностью в будущее и попра-
нием настоящего во имя завтрашнего дня), то экспрессионизм,
противостоя подобной концепции художественного времени,
утверждает крушение всех утопий, обращаясь к антиутопическому
романному жанру.
Поэтому оппозиционность в отношении к нормативизму, от-
казывающему реальности, существующей здесь и теперь, в праве
на существование, у импрессионизма и экспрессионизма различ-
на: импрессионистический взгляд утверждает ценность реального
бытия, будь то всего лишь миг прекрасного, он в памяти художни-
ка простерт в вечности. Сам факт утверждения импрессионисти-
ческого мгновения оппозиционен нормативной эстетике, которая
не видит красоты мира сущего в силу своего специфического «ас-
кетизма», связанного с идеализацией будущего. Экспрессионизм
же отвергает сам проект построения прекрасного завтра, если он
требует безжалостного попрания сегодняшнего дня. Если импрес-
сионизм видит смысл своего литературного бытия в том, чтобы
научить людей «искусству видеть мир», как сказал бы А. К. Ворон-
ский, критик, очень близкий к импрессионистической идеоло-
179 Там же. С. 20.
180
Литературно-критические концепции модернизма
гии, то «основная черта экспрессионизма — отказ от подражания
действительности... Поэты снова превращаются из созерцателей в
исповедников»180.
Из этого становится очевидным, почему импрессионизм и экс-
прессионизм предлагают совершенно различные концепции худо-
жественного времени. Импрессионизм, основанный на фиксиро-
вании мгновения, впечатления секундного фрагмента бытия, при-
ходит в результате к осознанию ценности времени как
длительности, как течения, как процесса постепенного, плавного
превращения настоящего в прошлое, будущего — в настоящее. Через
ощущение самоценности мгновения импрессионист приходит к
ощущению самоценности бытия; мгновения, соединившись, ожи-
ли, наполнились осмысленным движением времени. Именно че-
рез мгновение импрессионистическая эстетика постигает вечность.
«Импрессионизм не довольствовался более фиксированием мгно-
вения. Он приходил к убеждению, что все вечно течет, что каждое
мгновение переливается в другое мгновение, и в непрестанном
круговороте превращений все находится в становлении и нет не-
подвижного бытия». Для Пруста, например, особой ценностью
обладает прошлое, зафиксированное в памяти героя, в то время
как к настоящему он испытывал недоверие. «Подлинная одержи-
мость прошлым отличает Пруста от классического импрессиониз-
ма», — размышляет Л. Андреев. С точки зрения исследователя,
«дело не только в том, что Пруст обнаруживает секрет оживления
прошлого, а в том, что он пытается обосновать недоверие к на-
стоящему времени, к реальной жизни: «Поскольку реальность об-
разуется лишь в памяти, цветы, которые показывают мне сегод-
ня, в первый раз не кажутся мне подлинными цветами»181. Но при
всем многообразии восприятия времени, накопленном литерату-
рой импрессионизма, несомненным является одно: ценность мгно-
вения, будь оно локализовано в прошлом или настоящем, и цен-
ность времени земного бытия человека, воспринимающего это
мгновение.
Для экспрессионизма характерна совершенно иная концепция
художественного времени: для него «мгновение бесценно. Он ищет
вечного»182. В самом деле, по сути своей художник-экспрессионист
Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм. С. 87.
181 Андреев Л. Г. Импрессионизм. С. 136-137.
182 Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм. С. 88.
181
Модернизм
настолько верен своей идее, настолько поглощен ее воплощени-
ем, что сама мысль о времени отходит у него на второй план; идея
настолько общезначима, что носит, скорее, вневременной, бы-
тийный характер. Е. Замятин, полемизируя с идеологией антисис-
темы, воплощенной в нормативизме, относит действие своего
романа на тысячелетие вперед. У А. Платонова в романе «Котло-
ван» при всей очевидной современности действия и связи романа
с конкретно-историческими реалиями времени — время художе-
ственное как бы выдвинуто в будущее или даже в вечность. Об
этом свидетельствует и сам проект большого общепролетарского
дома, куда на счастливое поселение войдут пролетарии города, и
размышления инженера Прушевского о той башне, которую лет
через двадцать придумает другой инженер и поставит в центре мира,
куда на вечное счастливое поселение сойдутся пролетарии всей
Земли. Чаще всего в эстетике экспрессионизма авторсая идея, ее
утверждение или отрицание, не локализовано в конкретном исто-
рическом моменте или, тем более, импрессионистическом мгно-
вении, но развернуто в бытийное, онтологическое время, харак-
терное, скорее, для мифологического сознания.
Экспрессионистическая эстетика предполагает и свою концеп-
цию героя, и концепцию творческой личности. Художник-экс-
прессионист оказывается поэтом-демиургом, творящим не искус-
ство, но реальность, пересоздающим ее. Это обусловлено тем, что,
решая вопрос об отношении искусства к действительности, экс-
прессионисты видели свою задачу в прямом вторжении в действи-
тельность: связи между литературой и реальностью представля-
лись самыми прямыми. Венгерский искусствовед И. Маца, полит-
эмигрант, живший в 20-е годы в России, так описывал концепцию
творческой личности, предложенную данной эстетической систе-
мой: «Подлинный» художник (т.е. экспрессионист) должен знать,
что существование жизни (или мира, космоса и пр.) возникает
только посредством ощущения, и что таким образом человек име-
ет мистическую власть над миром. Поэтому подлинный художник
не подчиняется вещи, не копирует явления, а проектирует их на
самого себя. Он — не пассивный зритель мира, не размножает яв-
лений, не воспроизводит их, а производит, творит. Вот философ-
ская основа экспрессионизма...»183
183 Маца И. Искусство современной Европы. М.; Л., 1926. С. 27.
182
Литературно-критические концепции модернизма
Эта философская основа, связанная с преобразованием ре-
альности объективной в реальность художественную, когда пос-
ледняя трактуется как более действительная, чем первая, предоп-
ределяет концепцию героя художественного произведения. «Пер-
сонажи почти лишены конкретной индивидуализации, — пишет
Л. Копелев. — Преобладают не столько типизированные, сколько
условно-символически обобщенные лирические или гротескные
образы»184, что вполне естественно, ибо образ становится выра-
жением идеи, средством ее воплощения. В таком случае «бесцель-
ным оказывается исследование человеческой души и различных
состояний, в которые она вовлекается, противополагая себя миру.
Отныне целью является выражение не многообразных построе-
ний души, но единого великого чувства»185. В такой системе худо-
жественных координат личность как раз лишается того, что было
альфой и омегой реализма: социально-бытовых, конкретно-по-
литических и прочих мотивировок характера. Экспрессионизм «от-
рывает человека от повседневности его обстановки. Он освобож-
дает его от общественных уз, от семьи, от обязанностей, нравст-
венности. Человек должен быть только человеком, он перестает
быть гражданином, но он и не просто гражданин вселенной. Между
ним и космосом нет преграды. Отброшены мелочные заботы по-
вседневной жизни»186.
В литературном импрессионизме концепция творческой лич-
ности выражена совершенно иначе. Она обусловлена прежде всего
способностью личности к восприятию и субъективной интерпре-
тации окружающего. С этим связан основной принцип импресси-
онизма, принцип постоянного баланса и хрупкого равновесия меж-
ду субъективным впечатлением, являющимся отражением реаль-
ности, и самой реальностью. Поэтому в литературе импрессионизма
трудно говорить собственно о герое: главным, а иногда и един-
ственным героем там бывает субъект повествования, «лиричес-
кий герой», а предметом изображения является не столько дей-
ствительность, сколько воспринимающее эту действительность со-
знание.
184 Копелев Л. Драматургия немецкого импрессионизма. С. 72.
'is Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм. С. 88.
|86Там же. С. 88.
183
Модернизм
Модернистские литературно-критические
концепции в литературном процессе
20-х годов
Литературный процесс 20-х годов обусловлен полемикой меж-
ду двумя противоположными как идеологически, так и эстетичес-
ки направлениями: реалистическим и модернистским. Реалисти-
ческий поток к концу 20-х годов все более и более обретал черты
нормативности, т.е. нормативизм постепенно вытеснял собствен-
но реалистическую тенденцию. Шел, увы, закономерный процесс
культурной аннигиляции: соцреализм, переставший быть реалис-
тической эстетикой, претендовал на то, чтобы предложить един-
ственно возможное выражение реалистического взгляда на мир —
наличие иных творческих концепций, отличных от нормативной
соцреалистической, не предполагалось. Шло формирование и ак-
тивное внедрение в жизнь монистической концепции советской
литературы. Вытеснение реализма соцреалистической эстетикой
выражалось в том, что собственно реалистическая тенденция на-
чинала все более и более совпадать с господствующими представ-
лениями о назначении искусства, о социальном заказе, о вульгар-
но понимаемой классовости искусства. Он обслуживался широким
спектром официальной критики самых разных оттенков— от вуль-
гарной рапповской до «перевальской», которая стремилась пред-
ставить наименее ортодоксальную соцреалистическую позицию,
условно говоря, «соцреализм с человеческим лицом». Альтерна-
тивный реалистическому модернистский поток существовал как
бы в другой плоскости: не столько в политической, сколько в эс-
тетической, существовал, скорее, в рамках писательских статей,
трактующих о творчестве, о проблемах искусства.
Дистанция между нормативизмом и модернизмом определена,
в первую очередь, решением вопроса о принципах отношения ис-
кусства к действительности, захватывая при этом более широкие
эстетические проблемы: о социальном заказе, о роли художника в
жизни общества, о степени его свободы или несвободы, полити-
ческой ангажированности или неангажированности. Речь шла о том,
что такое искусство: зеркало реальности или эстетическая действи-
тельность, живущая по своим собственным законам, часто отлич-
ная от законов мира социального? Противопоставлялись, по сути
дела, два противоположных начала в искусстве, взаимодействие
184
Модернистские литературно-критические концепции...
которых и определяло во многом движение литературного процесса:
искусство как орудие политической борьбы и искусство как само-
ценный художественный мир, во многом автономный от мира ре-
ального, и значимость его определяется отнюдь не прагматическими
политическими или любыми другими общественными целями.
«Едва ли кто в настоящее время открыто согласится с опреде-
лением «искусство — подражание природе», или вежливее «искус-
ство — зеркало природы», — писал М. Кузмин в начале 20-х го-
дов. — Непрерывные бунты самого же искусства против такого
определения уменьшили его ценность, подкопались под его проч-
ность, и оно полиняло в глазах завзятых природолюбцев. Наивная
«всамделишность» всегда предполагает самоограничение и предел»187.
Далее автор формулирует принципиальную для многих «нереалис-
тов» — участников литературного процесса начала 20-х годов по-
зицию, когда искусство трактуется как суверенный по отношению
к действительности мир: «Законы искусства и жизни различны,
почти противоположны, разного происхождения. Достижения в
искусстве — всегда жизнь, реальная и подлинная, более реальная,
чем, может быть, действительность, убедительная и настоящая»188.
С точки зрения художника, именно в искусстве возможно осво-
бождение от «понятий времени и пространства», т.е. эмансипация
от политического времени и пространства, его преодоление — как
шаг в вечность, и следовательно, преодоление художником через
творчество географического пространства и физического време-
ни, отпущенного всякому живому человеку. Это всегдашняя мечта
и художника-творца, и всего человечества, и ее, по мысли М. Куз-
мина, «можно наблюдать только в области искусства, простейших
чувств, исконных движений духа и анатомическом строении чело-
веческого тела. Конечно, каждый художник живет во времени и
пространстве и потому современен, но интерес и живая ценность
его произведений заключается не в этом.
Самоубийственно цепляться за то, от чего хочешь освободиться.
Поезд, поставленный не на свои рельсы, неминуемо сходит с
них»189.
Такими не своими рельсами искусства были, с точки зрения
Кузмина, любые разновидности теории социального заказа. Ко-
т Кузмин М. Условности. Пг., 1923. С. 11-12.
|88Тамже. С. 31.
|8’Тамже. С. 7.
185
Модернизм
нечно, эта мысль выражена в наиболее резкой форме, но она хотя
бы отчасти разделяла с многими. Так, например, Б. Пильняк пола-
гал, что прагматико-политический подход к искусству — удел
шестидесятников, и в 20-е годы XX в. воспринимается как архаизм.
Они «понимают искусство, — писал он о питомцах многочислен-
ных «инкубаторов для партийной литературы», — как его понима-
ли в годах шестидесятых, — их и отодвигают на литературной пол-
ке к шестидесятым годам, т.е. литературе, как искусству, они не
нужны, там их нет, и они делают — неплохую в сущности, —
работу для талантливого писателя, который отберет их и обрабо-
тает их матерьял»190. Литература «не передатчица фактов, а сама —
факт», — вторил ему Ник. Никитин191.
Такое отношение к искусству — как ко второй реальности —
роднило художников, стоявших на нереалистических творческих
позициях. Но за этим пунктом намечалось весьма существенное
расхождение на два потока — весьма близких, часто то сливаю-
щихся, то расходящихся, но, тем не менее, имеющих свое соб-
ственное русло.
Дистанция между этими двумя тенденциями определена той
творческой задачей, которую ставит перед собой художник. Одна
из них — увидеть мир, его оттенки, его первозданную красоту;
другая — выявить в наиболее зримой форме некую идею или ком-
плекс идей философского, эстетического, поэтического плана. Речь
идет об импрессионистической и экспрессионистической эстети-
ке, которые, часто пересекаясь, заимствовали друг у друга выра-
зительные средства.
Импрессионистический дуализм — зыбкая грань между реаль-
ностью и субъективным сознанием, эту реальность воспринимаю-
щим, — в этот период разрешается чаще всего в пользу субъектив-
ного. Искусство трактуется именно как «искусство видеть мир»,
если воспользоваться знаменитой формулой А. Воронского. Искус-
ство учит людей видеть мир, и в этом проявляется его миссия
противостояния антисистемной идеологии. «Конечно, парадокс
Уальда, что “природа подражает искусству”, и остается парадок-
сом, и лондонские закаты не учились у Тернера, но мы-то выучи-
лись видеть их глазами этого фантаста», — говорил М. Кузмин192.
190 Пильняк Б. Отрывки из дневника//Писатели об искусстве и о себе. Сб. статей.
М.;Л., 1924. № 1.С. 85.
1,1 Никитин Н. Вредные мысли//Там же. С. 121.
1,2 Кузмин М. Условности. С. 152.
186
Модернистские литературно-критические концепции...
Но это свойство импрессионистической эстетики — видение
многообразия мира, многообразия цветов, оттенков, которое часто
воспринимается как фундаментальное качество его, — на самом деле
является лишь производным. В центре импрессионистического про-
изведения — всегда особый тип воспринимающего сознания, кото-
рое и является в первую очередь предметом изображения. Действи-
тельность попадает в поле зрения импрессиониста лишь постольку,
поскольку она отразилась в воспринимающем сознании. Специфика
восприятия и организует законы художественного мира; субъектив-
ность сознания — его единственный закон.
Поскольку реальность образуется лишь в памяти, «цветы, ко-
торые мне показывают сегодня, в первый раз не кажутся мне под-
линными цветами»193, — вспомним еще раз эту мысль М. Пруста,
абсолютизирующую эстетический принцип субъективности, харак-
терный для импрессионизма.
«Сейчас, когда записываю это, пожар в Парфентьеве мне уже
не кажется таким, каким он был в реальности», — признавался
Б. Пильняк194, приоткрывая дверь в лабораторию своего творчества.
Он говорил о том же, о чем и М. Пруст: о принципиальной субъек-
тивности импрессиониста, возведенной в художественный принцип.
И если Прусту нужно вспомнить цветы, чтобы те обрели реальность
для его художественного мира, стали бы «настоящими», а не из
жизни, заняли бы подобающее им место в сознании автора, то и
Пильняку, чтобы увидеть истинный пожар, нужно возвратиться к
нему памятью. Припоминание ощущения — зрительного, слухово-
го, даже запаха — принципиально для импрессиониста.
Это определяет концепцию художественного времени в лите-
ратуре импрессионизма. Это время — припоминаемое, ориентиро-
ванное в прошлое. Его реальные параметры сдвинуты, мгновение
здесь может по законам субъективной памяти перерасти в веч-
ность, сравняться с вечностью по значимости, может не кончить-
ся, длиться постоянно. «Настоящее мгновение, — говорит О. Ман-
дельштам в статье о Ф. Виллоне, — может выдержать напор столе-
тий и сохранить свою целостность, остаться тем же «сейчас». Нужно
только уметь вырвать его из почвы времени, не повредив его кор-
ней — иначе оно завянет. Виллон умел это делать. Колокол Сор-
бонны, прервавший его работу над Petit Testament, звучит до сих
153 Цит. по.’. Андреев Л. Г. Импрессионизм. С. 137.
194 Пильняк Б. Отрывки из дневника. С. 82.
187
Модернизм
пор»195. И это не просто образ, к которому прибегает Мандель-
штам. В модернистской концепции художественного времени отра-
зились эйнштейновские представления о мире реальном, харак-
терные для человека нового столетия. Поэтому субъективность
импрессионистического сознания обрела опору в философских и
научных идеях, получив право на существование в литературной
реальности, отразившись, прежде всего, в поэтике произведения.
В высказываниях участников литературного процесса в первую
очередь звучит мысль о принципиальном отличии законов литера-
турной реальности и жизненной. «Правдоподобие искусства со-
всем иное, нежели правдоподобие жизни, — утверждал Ник. Ни-
китин. — Литература, как рампа, все извращает. Она изменяет за-
коны пространства и времени. Из хроникерского петита делается
трагедийный фарс, из версты делают Россию, из минуты — веч-
ность»196.
Поэтике жизнеподобия была противопоставлена поэтика сме-
щения планов, поэтика принципиальной ареальности. Многие из
участников литературного процесса одним из основоположников
такой эстетики считали А. Белого. Вл. Лидин, полагая, что новая по-
этика обусловлена, в первую очередь, революционным миро-
ощущением, так говорил о Белом: «Новая русская литература, воз-
никшая после трех лет молчания, в 21-м году, силой своей приро-
ды, должна была принять и усвоить новый ритм эпохи. Литературным
провозвестником (пророчески) этого нового ритма был, конечно,
Андрей Белый. Он гениально разорвал фактуру повествования и
пересек плоскостями мякину канонической формы. Это был тот
литературный максимализм (не от формул и комнатных вычисле-
ний), который соответствовал ритму наших литературных лет»197.
И в этом смысле Лидин, вероятно, прав: структура русского мо-
дернистского романа, созданная Белым в начале века, показала
свою продуктивность в творчестве Б. Пильняка, Е. Замятина, Б. Па-
стернака, О. Мандельштама (роман «Египетская марка»).
Специфика модернистской поэтики с ее ареальностью и сме-
щением планов, в том числе поэтика импрессионистическая, свя-
зана с особым типом мироощущения. Мандельштам назвал это
мироощущение эллинизмом и связал его со стихией русского языка.
Эллинизм для Мандельштама — особое чувствование бытия, в
1,5 Мандельштам О. О поэзии. Л., 1928. С. 95.
196 Никитин Ник. Вредные мысли. С. 120—121.
1,7 Лидин Вл. Об искусстве и о себе//Писатели об искусстве и о себе. С. 130.
188
Модернистские литературно-критические концепции...
котором на первый план выходит предмет, как бы одухотворен-
ный авторским сознанием, согретый им. «Эллинизм — это созна-
тельное окружение человека утварью вместо безличных предме-
тов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружа-
ющего мира, согревание его тончайшим теологическим теплом.
Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и
ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу. Наконец,
эллинизм — это могильная ладья египетских покойников, в кото-
рую кладется все нужное для продолжения земного странствия
человека, вплоть до ароматического кувшина, зеркальца и гребня.
Эллинизм — это система в бергсоновском смысле слова, которую
человек развивает вокруг себя как веер явлений, освобожденных
от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи че-
рез человеческое «Я». В эллинистическом понимании символ есть
утварь, а потому всякий предмет, втянутый в священный круг
человека, может стать утварью, а следовательно, и символом»198.
Такое одушевление окружающего мира, превращение «пред-
мета» в «утварь» характерно именно для импрессионистической
идеологии. Начать с того, что творит эту эллинистическую —
в бергсоновском смысле слова — систему человеческое «Я», со-
знание, воспринимающее мир, освобождающее предметы, явле-
ния, события от временной зависимости. Именно это сознание и
одушевляет предметы, делая их достоянием своего внутреннего
духовного опыта, достоянием не столько внешнего мира, сколько
внутренней жизни. На эту важнейшую черту импрессионистичес-
кой эстетики указывал, в частности, Л. Андреев, рассуждая об
импрессионизме М. Пруста: «Писатель уверял, что консервация
впечатлений происходит в таких объектах, в которых рассудок не
в состоянии воплотиться»199, т.е. опредмеченный, одухотворенный
реальный мир есть важнейшее условие импрессионистической эс-
тетики. Ведь «импрессионизм есть двуединство, единство внешне-
го и внутреннего, объективного и субъективного. В этом двуедин-
стве субъективное занимает позиции предпочтительные — отсюда
и сам принцип «впечатления». Но впечатление всегда направлено,
всегда исходит от чего-то, извне»200. Для Мандельштама таким ис-
точником впечатления и является «эллинистически» опредмечен-
ный мир: его предметы становятся «утварью», преломившись в
198 Мандельштам О. О поэзии. С. 40.
'"АндреевЛ. Импрессионизм. С. 131.
200 Там же. С. 65—66.
189
Модернизм
воспринимающем сознании, освещенные им. Вероятно, такое «вещ-
ное» восприятие мира было характерно для художников 20-х го-
дов, тяготеющих к импрессионистической эстетике: Ник. Ники-
тин, например, почти дословно повторяет мысль Мандельштама:
«Я совсем не сторонник быта... я понимаю его совсем не так, как
он понимается и «левыми», и «жизнестройцами»; их понимание
быта для меня бытовщина, но я люблю мир видимый, я сторон-
ник вещей, и не люблю homunculus’oB в колбе, а люблю человека,
я люблю здания, где можно жить, где обжито, а не конструкции и
чертежи»201.
Импрессионистическое восприятие мира, будь оно выражено
в художественном тексте или в частном письме, в воспоминании о
самых обыденных мелочах жизни, всегда наполняет мир особым
ощущением, одушевляет и оживляет все предметы и явления, ко-
торых касается взгляд художника-импрессиониста, — наполняет их
особым, судьбоносным смыслом. Эпизод, которого обычный чело-
век не заметит, обретает свой вес и значение, становится, прелом-
ленный сознанием писателя, фактом его художественной биогра-
фии. Б. Пильняк, например, так вспоминает о двух, казалось бы,
совершенно незначительных эпизодах, из которых родились расска-
зы. Первый из них связан с возвращением от режиссера А. Д. Дикого:
«Я слез на Страстной площади с трамвая — я помню это место на
Страстной, я остановился выколотить трубку, набил ее англий-
ским табаком, закурил, вдохнул запах «вирджиниа», — и понял,
что у меня будет рассказ, возникший из рассказа Дикого и запаха
табака фабрики Кэпстэн. Через год рассказ был написан: «Старый
сыр». Я поехал с Курда-сан в Крым к его соотечественникам, под-
нимавшим с Черного моря «Черного принца». В вагоне был синий
свет, лицо Оттокичи Куродо было зеленым — я понял, что еду не
по железной дороге, но по сюжету.Через полгода был написан
рассказ «Синее море»202. Художник-импрессионист как бы форми-
рует новую систему ценностей, в которой запах табака или отсвет
вагонной лампы, запечатленный воспринимающим сознанием,
значит не меньше, а то и больше, чем сюжет.
Для А. Белого таким началом творческого процесса был звук:
«В звуке мне подана тема целого; и краски, и образы, и сюжет уже
предрешены в звуке. В нем переживается не форма, не содержа-
201 Никитин Ник. Вредные мысли. С. 116.
202 Пильняк Б. //Как мы пишем. Л., 1930 (М., 1989). С. 109.
190
Модернистские литературно-критические концепции...
ние, а формосодержание». Самые разнообразные импрессионис-
тические мазки действительности, которыми столь богата проза
Белого — и «растирание красок, образы, и чудо с натуры — дере-
ва, носа, стола, обоев, жестов» — все это может существовать
лишь тогда, когда окрашено звуком, из которого потом родится
музыкальная красочная симфония. «То, что я утверждаю о прима-
те «звука» — мой выношенный тридцатилетний опыт», и если не-
который зримый образ не звучит, «если я не зарисую его в не-
скольких звуковых фразах, я его безвозвратно теряю»203. Даже в
наборе цветных коктебельских камушков, «который я складывал в
орнамент оттенков, звук темы искал связаться с краской и со зву-
ком слов... коллекции камушков оказались пакетиками красочной
инсценировки «Москвы». К коллекции психологических и сюжет-
ных зарисовок на тему «старая, рассыпающаяся Москва»... присо-
единились: синтез воспоминаний, пережитых как звук музыкаль-
ной мелодии, и он же, собранный в красочных транскрипциях
(коллекция моих камушков, которую одобрил художник Богаевс-
кий). Фон фабулы стоял готовым; надо было из фона, так сказать,
вывести фабулу, и она вынырнула неожиданно, ибо камушки,
как мозаика, сложили мне давний образ 1909 года... Когда я гово-
рю о синтезе материала, пережитом как звук, из которого рожда-
ется образ, я надеюсь, что меня поймут: речь идет не о бессмыс-
ленном верещании телеграфного провода, а о внутреннем вслу-
шивании некоторой звучащей симфонии, подобной симфонии
Бетховена; это ясность звука и определяет выбор программы; я в
этом периоде работы уподобляю себя композитору, ищущему текст
для превращения музыкальной темы в литературно-сюжетную»204.
Приоткрывая свою творческую лабораторию, художник пока-
зывает импрессионистическую по сути своей картину мира, от-
крытую им, создает целую концепцию подсознательного воспри-
ятия бытия, когда из пестрой мозаики цветов, звуков, красок,
запахов складывается некая целостность, объемная картина, со-
творенная заново сознанием художника. При этом открыто декла-
рируется важнейший принцип импрессионистической эстетики:
право писателя на предельную субъективизацию, право на смеще-
ние грани между субъективным и объективным в пользу субъек-
тивного, право на преобразование жизни по законам объективной
203 Белый А. Там же. С. 15—19.
2МТамже. С. 13.
191
Модернизм
памяти, по законам воспринимающего сознания. Отсюда и резкие
переходы во времени из 1924 г., когда собирается коллекция кок-
тебельских камушков, к 1909 г., к музыкальной теме будущего
романа «Москва».
Нужно, конечно, помнить, насколько полемичным в отноше-
нии к реалистическим концепциям не только РАПП, но и «Пере-
вала» выглядели эти программные заявления, как явно противо-
речили они господствующим представлениям о социальном заказе.
Импрессионистическая эстетика стремилась к теоретическому са-
моопределению — пусть не в форме научных эссе, но в довери-
тельном разговоре автора с читателем.
«Синтетизм» Е. Замятина
Две эстетические системы, родившиеся на европейской почве в
резкой полемике друг с другом, когда экспрессионизм возникал
как реакция на импрессионистическое творчество, на русской поч-
ве вовсе не были противопоставлены, а в размышлениях участников
литературного процесса часто неотделимы друг от друга. То же и в
литературе: грань между импрессионистическим и экспрессионис-
тическим творчеством провести очень трудно, часто даже в одном
произведении обнаруживаются черты и той и другой эстетики.
Даже Е. Замятин, один из немногих в литературе 20-х годов су-
мевший достаточно целостно и полно изложить эстетические прин-
ципы нового художественного мироощущения, которое он назвал
«синтетическим», склонен, скорее, не к противопоставлению, а к
объединению импрессионистической и экспрессионистической тен-
денции. Это имеет достаточно очевидные объяснения: элементы им-
прессионизма в современной литературе, по словам Ю. Айхенваль-
да, обусловлены стремлением «заметить жизнь»; но сама действи-
тельность 20-х годов фантастична, нереальна — экспрессионистична.
Взгляд художника-импрессиониста направлен на познание дей-
ствительности, экспрессионистичной по самой своей сути.
Поэтому реализм осмысляется Замятиным как эстетика явно
архаичная: «Очень удобен Вересаевский тупик — и все-таки это
уютный тупик. Очень прост Эвклидов мир и очень труден Эйн-
штейнов — и все-таки уже нельзя вернуться к Эвклиду». Кризис
реализма обусловлен кризисом позитивистского мировоззрения,
характерного для предшествующих эпох. «Все реалистические фор-
192
«Синтетизм» Е. Замятина
мы — проектирование на неподвижные, плоские координаты Эв-
клидова мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного,
неподвижного мира нет, он — условность, абстракция, нереаль-
ность. И потому реализм — нереален: неизмеримо ближе к реаль-
ности проектирование на мчащиеся кривые поверхности — то,
что одинаково делают новая математика и новое искусство. Реа-
лизм не примитивный, не realia, a realiora — в сдвиге, в искаже-
нии, в кривизне, необъективности»205. Поэтому новое искусство,
«синтетизм», являясь по своей глубинной сути экспрессионисти-
ческим, направленным на борьбу с энтропией искусства, «наслед-
ственной сонной болезнью» русской реалистической литературы,
все же неизбежно включает в себя и элементы импрессионисти-
ческой эстетики, связанной с умением видеть, ощущать, чувство-
вать вещь, цвет, его оттенки, даже запах. И хотя в работах Замяти-
на часто проявляется ирония в отношении к «импрессионизиро-
ванному, раскрашенному фольклором реализму»206 многих
современных писателей, он все же уверен, что для современного
искусства, для которого характерен синтез фантастики с бытом,
взгляд художника-импрессиониста тоже весьма полезен: «Каждую
деталь — можно ощупать: все имеет меру и вес; запах; из всего —
сок, как из спелой вишни. И все же из камней, сапог, папирос и
колбас — фантазм, сон»207, характерный как раз для импрессио-
нистической прозы, принципиально отказывающейся от обобще-
ния действительности, стремящейся не к синтезу, не к созданию
целостной, пусть и далекой от «realia» картины, искаженной и
фантастической, к которой всегда стремится экспрессионизм.
Импрессионистическую эстетику Е. Замятин рассматривает как
своего рода предварительный этап для возникновения экспресси-
онистического «синтетизма». Импрессионизм, по мысли писате-
ля, открыл мозаичность мира, смещение планов, фрагментарность
картин бытия, резко сместил пространственные и смысловые,
содержательные масштабы. Экспрессионизм же как бы доделал
начатую ранее работу: открытия импрессионизма оказались под-
чинены строгой логике идеи, важнейшей и единственной мысли
произведения. Фантастичность и алогизм действительности моти-
вировались уже не просто способностью художника видеть мир,
205 Замятин Е. О литературе, революции, энтропии и прочем//Е. Замятин. Мы.
Роман, повести, рассказы, пьесы, статьи и воспоминания. Кишинев, 1989. С. 515.
206 Замятин Е. Новая русская проза//Там же. С. 518.
207 Замятин Е. О синтетизме//Там же. С. 506.
193
Модернизм
но способностью этот мир осмыслить, подчинить жесткой идее.
«Смещение планов для изображения сегодняшней, фантастичес-
кой реальности — такой же логически необходимый метод, как в
классической начертательной геометрии — проектирование Х-ов,
Y-ов, Z-ов... Синтетизм пользуется интегральным смещением пла-
нов. Здесь вставленные в одну пространственно-временную раму
куски мира (разорванность и фрагментарность мира — наследство,
доставшееся «синтетизму» от импрессионизма. — М. Г.) — никог-
да не случайны; они скованы синтезом, и ближе или дальше — но
лучи от этих кусков непременно сходятся в одной точке, из кус-
ков — всегда целое»208. Иными словами, открытия импрессионис-
тов, по мысли Замятина, должны быть подчинены постижению
новой действительности, которая, однако, может быть постигну-
та лишь экспрессионистом, способным свести фрагменты мозаи-
ки в точку, объединить их векторами лучей, подчинить опреде-
ленному идеологическому центру.
Как же мыслятся в работах Е. Замятина принципы нового ис-
кусства? Это искусство, включающее в себя прежний творческий
опыт — и решительно переосмысляющее, преобразующее его, «син-
тезирующее», на чем настаивает художник. «Если искать какого-
либо слова для определения той точки, к которой движется сей-
час литература, — я выбрал бы слово синтетизм: синтетического
характера формальные эксперименты, синтетический образ в сим-
волике, синтезированный быт, синтез фантастики и быта, опыт
художественно-философского синтеза. И диалектически: реализм —
тезис, символизм — антитезис, и сейчас — новое, третье, синтез,
где будет одновременно и микроскоп реализма, и телескопичес-
кие, уводящие к бесконечностям, стекла символизма»209.
При этом Е. Замятин рассматривает гротескность и фантастич-
ность нового синтетического искусства как его неотъемлемое ка-
чество, обусловленное стремлением литературы осмыслить новую
реальность, взломанную не только революцией, но и новейшими
открытиями точных наук, переворотом в философии. Отсюда под-
черкнутая антиреалистичность нового искусства: «Сегодня, когда
точная наука взорвала самую реальность материи, — у реализма
нет корней, он — удел старых и молодых старцев. В точной науке —
анализ все более сменяется синтезом, задачи микроскопические —
задачами Демокрита и Канта, задачами пространства, времени,
208 Замятин Е. О синтетизме//Там же. С. 507.
209 Замятин Е. Новая русская проза. С. 528.
194
Импрессионистические тенденции
вселенной. И, явно, эти новые маяки стоят перед новой литерату-
рой: от быта — к бытию, от физики — к философии, от анализа —
к синтезу»210. Сама жизнь, продолжает Замятин, «сегодня переста-
ла быть плоско реальной: она проектируется не на прежние не-
подвижные, но на динамические координаты Эйнштейна, рево-
люции. В этой новой проекции — сдвинутыми, фантастическими,
незнакомо-знакомыми являются самые привычные формулы и
вещи. Отсюда — так логична в сегодняшней литературе тяга имен-
но к фантастическому сюжету или сплаву реальности и фантасти-
ки»211. Новая экспрессионистическая проекция, делающая мир
фантастичным и алогичным и вскрывающая тем самым его истин-
ную логику, становится, по мысли Замятина, наиболее значи-
тельной перспективой литературного развития.
Импрессионистические тенденции
Закономерность появления в литературе 20-х годов ярко выра-
женных модернистских эстетических систем осознавалась современ-
никами как вполне естественная и связывалась с предшествующим
этапом литературного развития. На это указывал, в частности,
В. Гофман в статье «Место Пильняка». «Следующая, уже революци-
онная, эпоха была поставлена перед необходимостью считаться так
или иначе, с переворотом в прозе, произведенным книгами и жур-
налами символистов. Кое-кто из прозаиков пошел в обход прозы
символистов (М. Зощенко, А. Слонимский, В. Каверин, И. Эренбург).
Другие же — их большинство — пошли по линии использования
различных элементов предыдущей культуры. Синтаксис, ритмика,
диалектизмы, стилизация, физиологический натурализм и снижаю-
щие подробности в описаниях, «высокая» декламация, негибкий
депсихологизированный герой, цитация, даже графические при-
емы — все это в том или ином соотношении легло в основу совре-
менной прозы. Влияние А. Белого и А. Ремизова оказалось для со-
временной прозы решающим. Это было влияние не их системы, а
отдельных элементов системы, по-разному вошедших в современ-
ную прозу и по-разному гипертрофированных»212.
210Там же. С. 527.
211 Там же.
2X2 Гофман В. Место Пильняка//Борис Пильняк. Л., 1928. С. 30—31.
195
Модернизм
Размышляя о стилистической какофонии прозы 20-х годов,
В. Гофман, по сути дела, говорит о начавшемся процессе форми-
рования химерической культуры. Влияние «не системы, а отдель-
ных элементов системы» и есть значимый знак разрушения пре-
жних эстетических систем в результате начавшейся работы анти-
системы. Все перечисленные черты оказываются заимствованы из
прежних эстетических систем — но хаотически, вне логической
связи друг с другом. Это был первый этап формирования химери-
ческой культурной конструкции, затронувший все ветви литера-
турного процесса, в том числе и модернистскую. Но если в реализ-
ме сложилась строгая, логичная, жестко нормативная и по-своему
обаятельная эстетическая система соцреализма, основанная на мощ-
ной художественной, пусть и антигуманистической, идее, то ли-
тература модернизма демонстрирует иную картину. Разумеется, ху-
дожественное пространство пореволюционной эпохи было букваль-
но наполнено осколками прежних художественных миров, где
хаотически перемешались те самые «различные элементы преды-
дущей культуры», о которых размышляет В.Гофман: физиологи-
ческий натурализм и высокая декламация, сказ и негибкий депси-
хологизированный герой с графическими приемами, совсем уж
не характерными для литературы. Но эти осколки совсем по-раз-
ному повели себя, попав с равной степенью разброса в модерни-
стскую и реалистическую систему. Если соцреализм воспринял, к
примеру, этику традиционного реализма и переиначил ее, сделав
антигуманное проявлением социалистического гуманизма и на-
звав естественные человеческие проявления гуманизмом буржуаз-
ным и классово чуждым, то в модернистской эстетике отразился,
скорее, внешний хаос мира.
Наиболее наглядно процесс творчества новой художественной
формы из обломков прежней литературной традиции, несущей в
себе мощный культурный потенциал, проявился в романе Б. Пиль-
няка «Голый год».
В «Голом годе» Пильняк демонстративно отрекается и от реа-
лизма как творческого метода, и от феноменальной поэтики, ха-
рактерной для реализма и основанной на четкой причинно-след-
ственной связи явлений и характеров. В результате сюжет утрачивает
свою традиционную организующую роль, его функцию выполняют
лейтмотивы, фрагменты повествования скрепляются ассоциативными
связями, что характерно для орнаментальной прозы. Перед читате-
лем проходит серия разрозненных фрагментов действительности.
Жизнь фрагментарна и калейдоскопична, смена фрагментов пове-
196
Импрессионистические тенденции
ствования, казалось бы, не обусловлена логически. Нарочитая не-
законченность, неслаженность и невыстроенность композиции
обнажается и подчеркивается писателем даже в названии глав, но-
сящих как бы черновой характер: «Глава VII (последняя, без на-
звания)», или же «Триптих последний (Материал, в сущности)».
Разрозненные картины действительности, не сложенные, случай-
ные в калейдоскопе бесконечного чередования, призваны пере-
дать несложившееся еще бытие, взломанное революцией, но не
устоявшееся, не обретшее внутренней логики, а потому хаотичес-
кое, бессмысленное, абсурдное и случайное.
Думается, что импрессионистическая эстетика, способная
включить в себя и органически преобразовать в себе обломки преж-
них культурных пластов, в наибольшей степени соответствовала
творческим задачам тех художников, которые стремились воссоз-
дать картину, выражающую атмосферу переходной эпохи, ее ауру,
наиболее зримое воплощение общего состояния мира. Импрессио-
низм, совершенно пренебрегающий деталями формы, чтобы до-
биться наибольшей силы выражения, «изображает форму только
светом и тенью, в то время как глаз рисовальщика ищет контура
предметов»213. В этом противопоставлении контура свету и тени,
мазку, на котором настаивает немецкий историк и теоретик ис-
кусства Кон-Винер, скрывается конструктивная основа поэтики
импрессионизма, стремящегося «выразить форму не абстрактным
рисунком, а передачей красочного мироощущения», предлагаю-
щего «технику широко наложенных красок, в совершенстве пере-
дающую жизнь»214.
В 1930 г. издательство «Akademia» выпустило книгу Г. Вельфли-
на «Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля
в новом искусстве», в которой значительное место отводилось ана-
лизу импрессионистической поэтики. Сам факт выхода ее на рубе-
же 20—30-х годов не является, вероятно, случайностью и не слу-
жит всего лишь доказательством интереса советского общества той
эпохи к работам немецких искусствоведов. Думается, в этом факте
есть определенная закономерность.
Вельфлин вовсе не сводил возникновение импрессионизма
лишь к искусству XX в., с возникновением школы, с теоретичес-
ким самоосознанием данной эстетической системы. Он рассматри-
213 Кон-Винер. История стилей изящных искусств. М., 1916. С. 20-21.
214Там же. С. 63—64.
197
Модернизм
вал элементы импрессионистического стиля как проявляющиеся
в искусстве самых разных эпох. «Картина оживленной улицы, как
она написана хотя бы Моне, — писал Вельфлин, — картина, в
рисунке которой ничто, решительно ничто, не соответствует тому,
что мы привыкли считать формой, известной нам из природы, —
картина с таким явным несоответствим знака и вещи, конечно,
еще невозможна во времена Рембрандта, однако в своей основе
импрессионизм существовал уже тогда... Знаки изображения со-
вершенно отделились от реальной формы... Видимость торжествует
над бытием»215. Пафос слов немецкого исследователя состоял в
утверждении универсальности импрессионистического стиля, пер-
спективности его творческих потенций: «Где контур покоящегося
шара перестал быть геометрически чистой формой круга и изобра-
жается посредством ломаной линии, где моделировка шаровой
поверхности распалась на отдельные комья света и тени вместо
того, чтобы равномерно изменяться посредством незаметных от-
тенков, — всюду в таких случаях мы стоим уже на импрессионис-
тической почве»216.
В 1927 г. И. Иоффе писал о проявлении импрессионистической
поэтики в литературе: «В прозе импрессионизм раздробляет тол-
стый реалистический роман на мелкие эпизоды — новеллы... вме-
сто события — впечатления от события незаинтересованного зри-
теля: общая линия и пара деталей, без подробного описания, без
мотивировки сцеплений... Импрессионистические новеллы этюд-
ны, эскизны, недоговорены. Здесь нет ни ясности однолинейного
реалистического рассказа, ни энергического схематизма экспрес-
сионистической новеллы. Характер, поступки отступают перед их
сочетанием, перед стечением обстоятельств происшедшего. Коло-
рит события преобладает над фабулой события... Личность инте-
ресна в пределах данного мгновенного события, и не более. Имп-
рессионизм... дает человека не единой, спаянной волей, но теку-
чих, изменчивых настроений, безвольного, разорванного на тысячи
ощущений»217. Далее И. Иоффе предлагает основные черты имп-
рессионистической техники в литературе: во-первых, фиксация
впечатления через всплывшую, часто случайную деталь; во-вто-
215 Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции сти-
ля в новом искусстве. М.; Л., 1930. С. 25-26.
2,6 Там же.
217 Иоффе И. Культура и стиль: Система и принципы социологии искусств. Л.,
1927. С. 260-261.
198
Импрессионистические тенденции
рых, принципиальная неразделенность на важное и второстепен-
ное; в-третьих, наличие словесных мазков, сочетание словесных
рядов, внутренне не связанных между собой, но окрашивающих
друг друга; в-четвертых, употребление коротких фраз, не требую-
щих логического членения; в-пятых, разработка эпитета сложных
и утонченных оттенков, свободного от привычных и логических
признаков вещи.
Признаки «импрессионистической техники», о которых гово-
рит И. Иоффе, характеризуют поэтику Б. Пильняка и обусловлены
не прихотью и не вычурностью, свойственной индивидуальности
писателя, но спецификой его мироощущения, важнейшими для
него эстетическими принципами, в конечном итоге, проблемати-
кой его произведений, самой действительностью^ представшей
перед художником именно такими своими граняи.
«Разломанность» и фрагментарность композиции «Голого года»
обусловлена отсутствием в романе такой точки зрения на проис-
ходящее, которая могла бы соединить несоединимое для Пильня-
ка: кожаные куртки большевиков и разгул русской вольницы,
Китай-город и деревенскую баню, где солдатка награждает сифи-
лисом случайного встречного. Только наличие такой композици-
онной точки зрения, в которой был бы выражен идеологический
центр произведения, своего рода система координат, способная
объединить и объяснить явления, расположенные Пильняком в
эпическом пространстве его произведения, могло бы сделать ком-
позицию более стройной, сложить разрозненные фрагменты по-
вествования в некий ряд. Такой идеологический центр предпола-
гает литература социалистического реализма, поэтому элементы
модернистской поэтики достаточно редки в произведениях, при-
надлежащих этому творческому методу, составляют, скорее, ис-
ключения.
Отсутствие подобного идеологического центра, который пре-
допределил бы объективную, единственно возможную взаимосвязь
фрагментов бытия, запечатленных Пильняком, как бы компенси-
руется наличием в повествовании множества точек зрения на про-
исходящее, свести и соединить которые не представляется воз-
можным. Их наличие еще более подчеркивает несвязанность и раз-
рушенность общей картины мира, представленной в «Голом годе».
В «Необходимом примечании» к «Вступлению» прямо формулиру-
ется стремление связать распадающуюся на глазах действительность
несколькими точками зрения — и объективную невозможность
сделать это. «Белые ушли в марте — и заводу март. Городу же (горо-
199
Модернизм
ду Ордынину) — июль, и селам и весям — весь год. Впрочем, — каждо-
му — его глазами, его инструментовка и его месяц. Город Ордынин и
таежевские заводы — рядом и за тысячу верст отовсюду. — Донат
Ратчин — убит белыми: о нем — все». (Вспомним мысль И. Иоффе:
«Личность интересна в пределах данного мгновения, и не более».)
В коротком и, казалось бы, совершенно бессмысленном «необ-
ходимом примечании» выражена не только эстетическая система
Пильняка, но и суть его взгляда на мир, суть его творческой кон-
цепции мира и человека.
Мир разрушен и противоречив: пространственные отношения
обнаруживают свою несостоятельность или, в лучшем случае, от-
носительность (город и заводы «рядом и за тысячу верст отовсю-
ду»); традиционная логика, построенная на причинно-следствен-
ных связях, нарочито взорвана. Выход в том, чтобы каждому герою
предложить собственную точку зрения на этот смятый и алогич-
ный мир: «Каждому — его глазами, его инструментовка и его месяц».
Однако разрозненные точки зрения не в состоянии соединить фраг-
менты действительности в цельную картину. Общий идеологичес-
кий центр рассыпался, образовывал множество точек зрения, мно-
жественность позиций, которые в художественном мире «Голого
года» составляют неразрешимое уравнение, не сводимое к какой-
либо целостности.
Мир предстал перед художником алогичным, разорванным, не
сложившимся в общую картину; такое видение мира определило
поэтику его романа, стилистику, ориентированность на принципы
орнаментальной прозы. В конечном итоге, такое восприятие дей-
ствительности определило важнейшие принципы эстетической сис-
темы Пильняка, которую можно назвать импрессионистической.
Важнейшей чертой этой системы явился отказ от реалистичес-
ких принципов типизации. Реализм как творческий метод предпо-
лагает детерминизм, более или менее жесткую связь событий, яв-
лений, характеров, обстоятельств. Важнейшей, конститутивной
чертой импрессионизма 20-х годов явился как раз принципиаль-
ный отказ от детерминизма. Найти ту точку зрения, которая могла
бы объяснить переходное состояние мира, каким-то образом орга-
низовать хаос, оказалось невозможным. Обстоятельства уже неспо-
собны сформировать характер. Они предстали как несоединенные
какой-либо логической связью, как разрозненные фрагменты дей-
ствительности.
Отсутствие социального детерминизма ведет к тому, что в ха-
рактерах утверждается иной детерминационный центр, лежащий
200
Импрессионистические тенденции
не вне героя, не в сфере его социальных, личностных и межлич-
ностных связей, носящих локальный или же глобальный харак-
тер, но в самой личности героя. Этим объясняется тот факт, что
импрессионистическая эстетическая система 20-х годов обнару-
живает столь очевидное тяготение к элементам натурализма, фи-
зиологические инстинкты в наиболее явном и неприкрытом виде,
ибо они практически не обузданы социальными связями челове-
ка, культурой, воспитанием, оказываются одной из важнейших
сфер детерминации героя и целых масс людей. Примером здесь
может служить эпизод из пятой главы Части третьей триптиха (са-
мой темной), повествующей о прохождении через станцию «Разъезд
Мар» поезда номер пятьдесят седьмой смешанный, «забитого людь-
ми, мукой и грязью», в котором «в теплушках, где люди сидят и
стоят на людях, не спит никто, теплушки глухо молчат».
Еще раз подчеркнем: в данном случае натуралистические эле-
менты, их конструктивное, репрезентативное значение для импрес-
сионистичекой эстетической системы объясняется не случайностью,
не эпохой, не раскрепощением личности и т.д., но принципами
типизации, характерной для этой литературы. Предопределенность
характера видится не в типических обстоятельствах, сколь угодно
широко или же узко трактуемых, но в самой личности. Смена гло-
бального, эсхатологического масштаба, как понимается револю-
ция в начале 20-х годов, девальвирует культурные, нравственные
и прочие основания личности, обнажая «естественные начала»,
пол, главным образом.
В той импрессионистической картине мира, которую создал в
«Голом годе» Б. Пильняк, как бы намечается хотя бы гипотетичес-
кая возможность синтеза фрагментов действительности, попавших
в поле зрения писателя. Точкой зрения, дающей подобную перс-
пективу, оказывается точка зрения большевиков, хотя она и явно
непонятна писателю. «В доме Ордыниных в исполком (не было на
оконцах здесь гераней) — собирались наверху люди в кожаных куртках,
большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый в стать, кожаный кра-
савец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у
каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого
утюжны. Из русской рыхлой, корявой народности — отбор. В кожаных
куртках — не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот постави-
ли — и баста».
Но знаменитые «кожаные куртки» Пильняка тоже были лишь
импрессионистическим образом. Собирательность портрета, его
нарочитая, принципиальная овнешненность, только лишь и воз-
201
Модернизм
можная в данной эстетической системе, подчеркивание решимос-
ти как единственной доминанты характера не могли сделать точку
зрения «кожаных курток» тем идеологическим центром, который
скрепил бы повествование, синтезировал разрозненные картины
действительности. Если бы их точка зрения стала доминирующей,
то конфликт между ними и обывателями, частными жителями,
мужиками и бабами, был бы освещен так же, как в «Неделе»
Ю. Либединского. Отсутствие этого идеологического центра и яв-
ляется той принципиальной гранью, которая отделяет эстетику
социалистического реализма от импрессионистической системы.
Именно этот идеологический центр и формирует принцип норма-
тивности. Именно поэтому соцреализм оказался столь питатель-
ной почвой для антисистемной идеологии, которая, сполна реа-
лизовав себя в рамках эстетики нормативизма, так и не смогла
воплотиться в модернизме. Идеологический центр, способный
подчинить себе общую художественную концепцию мира и чело-
века, ему чужд в принципе. Особенно ярко эта чуждость прояви-
лась в импрессионистическом художественном мире Б. Пильняка.
Характерно, что преклонение и страх перед несгибаемой волей
боьшевиков проявятся не только в «Голом годе», но будут харак-
терны и для последующих произведений Пильняка. В «Повести
непогашенной луны», сыгравшей роковую роль в жизни писате-
ля, профессор Лозовский, один из хирургов, которому предстоит
оперировать командарма Гаврилова, говорит своему коллеге Ко-
косову:
— А страшная фигура, этот Гаврилов, ни эмоции, ни полутона, —
«прикажете раздеваться? — я, видите ли, считаю операцию излишней, —
но если вы, товарищи, находите ее необходимой, укажите мне время и
место, куда я должен явиться для операции». — Точно и коротко.
— Да-да-да, батенька, знаете ли, — большевик, знаете ли, ничего не
поделаешь, — сказал Кокосов.
Можно предположить, что в «Повести непогашенной луны»
Пильняк предпринимает попытку выйти и за рамки импрессио-
нистической художественной системы. Это возможно сделать, впи-
сав фрагменты действительности («мазки») в единый контур, сю-
жет, систему событий, идеологический центр. Таким идеологичес-
ким центром в повести предстает образ негорбящегося человека.
Именно он, сидящий ночами в своем кабинете, противостоит
живой и естественной жизни: «... в кино, в театрах, варьете, в пабах и
пивных толпились тысячи людей, <...> шалые автомобили жрали улич-
202
Импрессионистические тенденции
Hbie лужи своими фонарями, выкраивая этими фонарями на тротуарах
толпы причудливых в фонарном свете людей, <...> в театрах, спутав
время, пространство и страны, небывалых греков, ассиров, русских и
китайских рабочих, республиканцев Америки и СССР, актеры всякими
способами заставляли зрителей неистовствовать и рукоплескать». Этой
манере изображения действительности, нарисованной яркими, не
связанными друг с другом, наложенными друг на друга мазками
противостоит мир трезвых дел и расчета, мир негорбящегося че-
ловека. Все в этом мире подчинено строгому контуру: «Вехами
его речи были СССР, Америка, Англия, земной шар и СССР, английские
стерлинги и русские пуды пшеницы, американская тяжелая индустрия и
китайские рабочие руки. Человек говорил громко и твердо, и каждая
его фраза была формулой».
В двух приведенных цитатах Б. Пильняк нарочито сталкивает
импрессионистическую и «контурную» картины действительности.
Побеждает последняя. Стремясь внести в свой художественный мир
некое организующее начало, способное собрать разрозненные кар-
тины бытия в нечто целостное, единое, Пильняк почти фатально
приходит от кожаных курток, в делах и планах которых ему виделась
перспектива преодоления хаоса, к образу негорбящегося человека.
Этот герой, как бы возвысившись над художественным миром пове-
сти, накладывает на живую жизнь жесткий контур, схему, как бы
обездвиживая ее, лишая внутренней, пусть и хаотичной, свободы.
Этот конфликт выражен не только на уровне сюжета, в страшной
судьбе командарма Гаврилова-Фрунзе, но и на уровне поэтики, где
импрессионизм сталкивается с сюжетом-схемой, разноцветные па-
рящие мазки — с серым контуром. Найдя организующий идеологи-
ческий центр, Пильняк ужаснулся ему, не принял, оттолкнул от
себя, оставшись в своих последующих вещах в рамках импрессио-
нистической поэтики, в том же «Красном дереве». Художествен-
ный мир Б. Пильняка при всей своей внешней аморфности, фраг-
ментарности, случайности был отражением течения живой жиз-
ни, взрытой трагическими историческими перипетиями русской
действительности 10—20-х годов. Художник не принимал, отвергал
«контур», мертвящую схему, кому бы она ни принадлежала — ко-
жаным курткам или же негорбящемуся человеку.
Творческий эксперимент по введению контура в импрессио-
нистическую эстетическую систему дорого стоил Пильняку. Лишь
такая внутренне конфликтная поэтика могла обнажить поэтичес-
кую суть произведения: «В обвинении Сталина в злонамеренной
отправке Фрунзе на ненужную операцию, приведшую к его смер-
203
Модернизм
ти, никакой путаницы нет. Обвинение достаточно прямое и ясное.
Не случайно в 37-м году Борису Пильняку инкриминировалось
«Красное дерево», а о «Непогашенной луне» не было сказано ни
слова: предпочли не узнавать действующих в ней лиц»218.
Импрессионистическая поэтика, в наибольшей степени близ-
кая Пильняку в 20-е годы, давала ему возможность уйти от той
функции литературы и искусства вообще, которая все более и бо-
лее становилась свойственной нормативизму, которая все более и
более способствовала перерождению реалистической эстетики в
нормативную. Модернизм обладал своего рода эстетической не-
совместимостью с нормативизмом: поэтому Пильняку было в прин-
ципе недоступно моделировать действительность, показывать ее
не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть — по-
этому внедрение любого идеологического центра в композицион-
ную и идеологическую структуру произведения было в принципе
невозможно. Идея долженствования и нормативности, характер-
ная для социалистического реализма, ориентация на некий идеал,
который когда-нибудь осуществится, осмыслялась им в искусстве
как ложная и противоречащая художественной правде, следова-
тельно, основным задачам искусства: запечатлеть время во всем
его многообразии, противоречивости, случайностях, которые, тем
не менее, составляют более верную картину бытия, чем художе-
ственное воплощение некой идеальной модели, долженствующей
быть, в ее столкновении с реальной жизнью, где последняя трак-
туется как низменная и обывательская. Такое искусство Пильняк
почитал ложным.
«Вот чего я не признаю, — говорил он. — Не признаю, что
надо писать захлебываясь, когд пишешь об РКП, как делают очень
многие, особенно квази-коммунисты, придавая этим нашей рево-
люции тон неприятного бахвальства и самохвальства, — не при-
знаю, что писатель должен жить «волей не — видеть», или попро-
сту, врать, а вранье получается, когда не соблюдена статическая
какая-то пропорция... я — не коммунист, и, поэтому, не признаю,
что я должен быть коммунистом и писать по коммунистически, —
и признаю, что коммунистическая власть в России определена —
не волей коммунистов, а историческими судьбами России, и, по-
скольку я хочу проследить (как умею и как совесть моя и ум мне
подсказывают) эти российские исторические судьбы, я с ком-
218 Андроникашвили-Пильняк Б. О моем отце//Дружба народов. 1989. № 1. С. 150.
204
Принципы типизации
мунистами, т.е. поскольку коммунисты с Россией, постольку и я с
ними...; признаю, что мне судьбы РКП гораздо меньше интересны,
чем судьбы России, РКП для меня только звено в истории России;
...признаю, что, быть может, я во всем неправ, — но тут-то я хоро-
шо знаю, что иначе, чем я пишу, я писать не могу, не умею, не
напишу, если б — и хотел себя изнасиловать: есть литературный
закон, который не позволяет, не дает возможности насиловать ли-
тературные дарования — даже своим собственным мозгом, — и при-
мер для этого — положение всей нашей современной литературы»219.
Именно этот закон, который оказывается как бы сильнее пи-
сателя и лишает его возможности говорить неправду, и приводит
его к импрессионистическим эстетическим позициям, лишает его
возможности образовать единый идеологический — соцреалисти-
ческий — центр в произведении, показать долженствующее вмес-
то сущего — лишает его возможности лгать.
Ложь Пильняк не переносил органически. «Беру газеты и кни-
ги, и первое, что в них поражает, — ложь всюду, в труде, в обще-
ственной жизни, в семейных отношениях. Лгут все: и коммунис-
ты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация
русская»220. Слова, сказанные одним из героев писателя, точно ха-
рактеризуют позицию самого автора, который в рассказе «Рас-
плеснутое время» (1924) так определил и свое место в искусстве,
и место литературы в жизни общества: «Мне выпала горькая слава
быть человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне
выпала — долг мой — быть русским писателем и быть честным с
собой и с Россией»221.
Принципы типизации
(модернистский роман В. Набокова)
Вероятно, самим фактом своего литературного и общекуль-
турного бытия модернистская тенденция в искусстве как бы сдер-
живала и до определенной степени уравновешивала деятельность
антисистемы, воплотившейся в нормативизме. Это противостоя-
ние могло быть выражено в явно декларированном социальном
219 Пильняк Б. Отрывки из дневника. С. 82—83.
220 Дружба народов. 1989. № 1. С. 148.
221 Пильняк Б. Расплеснутое время. М., 1990. С. 73.
205
Модернизм
пафосе, как это случилось в творчестве Б. Пильняка, в отрицании
неких моделей и шаблонов, складывающихся в 20-е годы (любовь к
машине или колбасе, как в «Зависти» Ю. Олеши), в открытой поле-
мике с социальными типами, стремящимися к гегемонии («Собачье
сердце» М. Булгакова). Но это противостояние могло выливаться и в
формы крайнего аполитизма, в формы решительного общественно-
го неслужения, ставшего пафосом творчества В. Набокова.
Но при всей разности творческих позиций модернистов, мы
можем говорить о некой общей черте модернистской литературы,
позволившей ей встать в оппозицию к соцреализму. Суть в том,
что модернизм предложил литературе совершенно иные принци-
пы восприятия человеческой личности и окружающего ее мира.
Модернизм создал как бы иной контекст бытия, и личность в этом
контексте обрела совершенно иные контуры. Это оказалось воз-
можным благодаря новым для литературы принципам художествен-
ной типизации.
Один из героев романа В. Набокова «Король, дама, валет» удач-
ливый и талантливый предприниматель по фамилии Драйер ми-
молетно увлечен созданием искусственных манекенов, способных,
однако, двигаться почти как живые люди. «В тишине был слышен
мягкий шелестящий шаг механических фигур. Один за другим прошли:
мужчина в смокинге, юноша в белых штанах, делец с портфелем под
мышкой, — и потом снова в том же порядке. И вдруг Драйеру стало
скучно. Очарование испарилось. Эти электрические лунатики двигались
слишком однообразно, и что-то неприятное было в их лицах, — сосредо-
точенное и приторное выражение, которое он видел уже много раз.
Конечно, гибкость их была нечто новое, конечно, они были изящно и
мягко сработаны, — и все-таки от них теперь веяло вялой скукой, —
особенно юноша в штанах был невыносим. И, словно почувствовав, что
холодный зритель зевает, фигуры приуныли, двигались не так ладно, одна
из них — в смокинге — смущенно замедлила шаг, устали и две другие,
их движения становились все тише, все дремотнее. Две, падая от устало-
сти, успели уйти и остановились уже за кулисами, но делец в сером
замер посреди сцены, — хотя долго еще дрыгал плечом и ляжкой, как
будто прилип к полу и пытался оторвать подошвы. Потом он затих со-
всем. Изнеможение. Молчание»222.
Этот малозначительный, казалось бы, эпизод очень показате-
лен не только для творчества В. Набокова, но и для нереалисти-
ческого модернистского романа вообще. Суть в том, что его глав-
222 Набоков В. Собр. соч.:В4т.М., 1990.Т. 1.С.271.
206
Принципы типизации
ной чертой является отсутствие характера в традиционном смысле
этого слова. Перед нами не столько характер, сколько... манекен,
кукла, своего рода автомат, литературным провозвестником кото-
рого был Э.-Т.-А. Гофман. Главным и единственным характером в
таком романе оказывается характер... самого автора, герои же —
в явно подчиненном положении, они мыслятся не как самостоя-
тельные образы, наделенные собственной волей, неповторимой
индивидуальностью, но как исполнители воли авторской, даже
самой причудливой и нереальной. В результате персонажи являют
собой не столько характер, сколько эмблему, реалистический кри-
терий их оценки просто неприемлем.
Набоков очень редко давал интервью, но несколько исключе-
ний он все же сделал. Одно из них — интервью, данное своему
университетскому ученику А. Аппелю в 1966 г. Понимая невозмож-
ность подойти к героям писателя с традиционных реалистических
позиций, ученик задает своему учителю наивный и в то же время
каверзный вопрос:
— Писатели нередко говорят, что их герои ими завладевают и в
некотором смысле начинают диктовать им развитие событий. Случалось
ли с Вами подобное?
Набоков не заставил себя ждать в опровержении этой удиви-
тельной черты реалистического романа, когда герой как бы ожи-
вает под авторским пером, начинает действовать как бы самосто-
ятельно, эмансипируясь от авторской воли:
— Никогда в жизни. Вот уж нелепость! Писатели, с которыми про-
исходит такое, — зто или писатели очень второстепенные, или вообще
душевнобольные. Нет, замысел романа прочно держится в моем со-
знании, и каждый герой идет по тому пути, который я для него прццумал.
В этом приватном мире я совершеннейший диктатор, и за его истинность
и прочность отвечаю я один223.
В самом деле, у Набокова начисто отсутствует доверие к ге-
рою, к художественному образу, характеризующее русский реали-
стический роман. Его герои лишены самых, казалось бы, естествен-
ных человеческих эмоций, а если и наделены ими, то в пародий-
ной форме. Это заметили еще первые критики его творчества:
«Лолита», например, роман о любви, но любви-то там как раз и
223 Интервью Вл. Набокова, данное Альфреду Аппелю//Вопросы литературы.
1988. № 10. С. 168.
207
Модернизм
нет — есть болезненная, скорее, физиологическая и психопати-
ческая страсть, нежели духовное парение. В ситуации любви его
герои чаще всего выглядят наивными, потерянными, смешными,
как гроссмейстер Лужин, как герой рассказа «Подлец», а женское
начало связано с изменой и предательством (Марфинька из «При-
глашения на казнь», героиня романа «Камера обскура»).
В отношении Набокова к своим героям сказались не только
элементы модернистской эстетики, но и черты характера самого
автора: индивидуализм, возведенный в жизненный принцип, же-
ланное творческое и личное одиночество как следствие презрения
к подавляющему большинству живших и живущих, неприятие со-
седства в любых его формах: от соседства в лифте или в трамвае,
от которого страдает Ганин в «Машеньке» или Годунов-Чердын-
цев в «Даре», — до неприятия соседства литературного, подчас
болезненно воспринимаемого самим Набоковым. Отсюда же недо-
верие простым и естественным человеческим чувствам, таким как
любовь (любовь у героев Набокова как-то своеобразно вывернута
и, в сущности, искалечена), активное неприятие женского нача-
ла — от «Лолиты» до «Защиты Лужина». В результате в творчестве
Набокова происходит разрушение традиционного реалистическо-
го характера, что является вообще характерной чертой модернист-
ского романа. Обусловлена она принципами мотивации человечес-
кого характера, принципиально различными для модернизма и
реализма.
Довольно долго в наших работах бытовало мнение, что в отли-
чие от героя реалистического романа, сознание которого детерми-
нировано социальной и общекультурной средой, герой модернист-
ской литературы не мотивирован ничем. Разумеется, это не так.
Герой модернистского романа тоже детерминирован, но эти мо-
тивации — совсем иной, нереалистической природы. В чем же их
суть, каковы они?
Если мы с этой точки зрения посмотрим на роман Набокова
«Приглашение на казнь», то увидим, что все драмы главного ге-
роя Цинцинната Ц. происходят от его... непрозрачности. В мире, где
живет Цинциннат, прозрачны все, кроме него. «С ранних лет, чудом
смекнув опасность, Цинциннат бдительно изощрялся в том, чтобы скрыть
некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская, а потому, в со-
стоянии покоя, производя диковенное впечатление одинокого темного
препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился
все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной систе-
208
Принципы типизации
ме как бы оптических обманов...»224. Что означает эта странная и
скрываемая к тому же от других «непрозрачность» героя? Некая
метафора, объясняющая трагедию человека, лишенного в тотали-
тарном обществе права «непрозрачности», права внутренней жиз-
ни, сокрытого индивидуального бытия? Возможно, и так — но
лишь такой трактовкой нельзя объяснить главную сюжетообразу-
ющую метафору романа — метафору непрозрачности, приведшую
героя к тюрьме и страшному приглашению на казнь. Метафора
модернистского романа в принципе неисчерпаема, несводима к
однозначному, эмблематичному толкованию. И пусть Цинциннат
Ц. не настоящий (в традиционном, реалистическом смысле) ха-
рактер. Ему не присуща сложность героя романа М. Шолохова или
М. Горького, его мотивации лежат не в сфере социально-истори-
ческого процесса, трагические разломы которого пришлись на судь-
бу Клима Самгина или Григория Мелехова. Но будучи определен
всего лишь единственной своей чертой — непрозрачностью в про-
зрачном, проникнутом солнцем светлом мире — Цинциннат не
менее сложен, чем герои реалистической литературы. Пусть его
движения похожи на поступь тех самых манекенов, от которых
устал Драйер, но понять и определить его суть раз и навсегда,
однозначно — в принципе невозможно. Просто сложность его со-
всем иная и состоит в другом.
Проблема мотивации характера приобретает иногда ироничес-
кую окраску. Так, Шариков из «Собачьего сердца» М. Булгакова
«детерминирован» скальпелем профессора Преображенского, а
реальные обстоятельства социальной действительности, породив-
шие этот и подобные ему типы, не исследуются. Из этого вовсе не
следует, что Шариков нетипичен. Он как раз очень типичен и
широко укоренен не только в 20-х годах, но и в современности.
Это говорит лишь о том, что модернистская литература способна
не менее чутко отражать социальные типы, чем реалистическая.
Нарочитое снижение мотивации характера можно увидеть в рома-
не Ю. Олеши «Зависть»: Андрей Бабичев, новый делец, бизнесмен
социалистической формации, детерминирован... вкусной и деше-
вой колбасой, которая становится целью его личного и социаль-
ного бытия. Он строит «Четвертак», быструю, вкусную, дешевую
общественную кухню, где всего за четвертак можно будет пообе-
224Набоков В. В. Приглашение на казнь//В. В. Набоков. Избранные произведе-
ния. М., 1989.
209
Модернизм
дать. В каждом из героев «Зависти» гротескно заостряется какая-то
одна черта: Бабичев любит колбасу так поэтично, как можно лю-
бить только женщину, его приемный сын Володя Макаров объяс-
няется в любви к машине, Иван Бабичев неразлучен с подушкой,
которая воплощает мир интимных, семейных отношений. Все эти
детали выступают началом, формирующим гротескный характер.
Суть в том, что модернистский роман предложил литературе
совсем иную концепцию личности, чем роман реалистический. Это
не герой в традиционном смысле этого слова, но, скорее, некое
воплощение авторской идеи, некий набор тех или иных качеств.
Его судьба, поступки, поведение порождены не столько логикой
характера (а она вообще может отсутствовать, персонаж модерни-
стского романа может быть совершенно алогичен), сколько пол-
ной подчиненностью его авторской воле, авторскому замыслу. Ге-
рой набоковского романа полностью «бесправен» и абсолютно зави-
сим, никакой диалог на равных между голосом автора и героя,
как, например, в полифоническом романе Достоевского, в прин-
ципе невозможен.
Это происходит потому, что характеры модернистского рома-
на мотивированы совершенно иначе, чем в реалистической лите-
ратуре. Если драма Цинцинната Ц. мотивирована его непрозрачно-
стью («Приглашение на казнь»), вся жизнь, все сознание и миро-
ощущение Гумберта Гумберта — страстью к девочке-подростку
(«Лолита»), то характер гроссмейстера Лужина («Защита Лужи-
на») сформирован логикой шахматной игры, которая заменила
ему реальность. Первой и истинной действительностью для него
является пространство шестидесяти четырех клеток.
В подобных принципах мотивации характера проявляется важ-
нейшая черта концепции человека, предложенной русским мо-
дернистским романом XX в. Отношения между героем и действи-
тельностью оказываются искривленными и алогичными. Герой,
вглядываясь в реальную жизнь, будь то жизнь социальная или су-
губо частная, пытается постигнуть ее — и не может сделать этого.
Возникает характерный мотив бегства от враждебного, чуждого,
алогичного мира. Поэтому защита, которую пытается выработать
Лужин, направлена не только на организацию противодействия
атаке белых фигур, но и на противодействие реальности, пугаю-
щей и отталкивающей, втягивающей в себя каждого человека без
изъятия — даже вопреки его воле.
Здесь возникает закономерность, осмысленная литературой XX в.
Если герой классической литературы мог уйти от взаимодействия
210
Принципы типизации
с историческим временем, как это с успехом делают, например,
герои «Войны и мира» Берги, Курагины, Друбецкие, и лишь не-
многим удается совместить опыт своей частной жизни с большим
временем истории, то для литературы XX в., начиная с Горького,
вовлеченность каждого в круговорот исторических событий явля-
ется фактом непреложным. В этом — отражение самого века, и у
Набокова эта закономерность выявляется ни с чуть не меньшей
остротой и драматизмом, чем в реалистическом романе Горького.
Мало того, это становится своего рода эстетическим принципом
романного жанра в русской литературе нашего века.
Вспомним еще раз, как, размышляя о композиции своего бу-
дущего романа, отец Лужина, посредственный писатель, форму-
лирует, тем не менее, эстетический принцип жесткой и далеко не
всегда желанной взаимосвязи личности и исторического процесса.
«Теперь, почти через пятнадцать лет, — размышляет он в эмиграции, —
эти годы войны оказались раздражительной помехой, это было какое-то
посягательство на свободу творчества, ибо во всякой книге, где описы-
валось постепенное развитие определенной человеческой личности,
следовало как-нибудь упомянуть о войне, и даже смерть героя в юных
летах не могла быть выходом из положения... С революцией было и
того хуже. По общему мнению, она повлияла на ход жизни всякого
русского; через нее нельзя было пропустить героя, не обжигая его,
избежать ее было невозможно. Это уже было подлинное насилие над
волей писателя»2 .
Однако именно к этому стремится шахматист Лужин: остаться
вне действительности, не заметить ее, подменить гармонию жиз-
ни гармонией шахматных ходов. Реальность: мир, свет, жизнь, ре-
волюция, война, эмиграция, любовь — перестает существовать,
смятая, вытесненная, разрушенная атакой белых фигур. Мир об-
ращается в мираж, в котором проступают тени подлинной шах-
матной жизни гроссмейстера Лужина: в гостиной на полу проис-
ходит легкое ему одному заметное сгущение шахматных фигур —
недобрая дифференциация теней, а далеко от того места, где он
сидит, возникает на полу новая комбинация. Происходит своего
рода редукция действительности: гармония природы вытесняется
гармонией неизбежных и оптимальных ходов, обеспечивающих
великолепную защиту в игре с главным противником Лужина гросс-
мейстером Турати, и игра теряет свои очертания, превращается в
225 Набоков В. В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 43—44.
211
Модернизм
саму жизнь, все более и более напоминающую сложнейший и ис-
полненный драмами мир шестидесяти четырех клеток. Рбъясняясь
со своей любимой, «он сидел, опираясь на трость, и думал о том, что
этой липой, стоящей на озаренном скате, можно, ходом коня, взять вон тот
телеграфный столб, и одновременно старался вспомнить, о чем именно
он сейчас говорил»226.
«Защита Лужина» — сложный роман-метафора, насыщенный
множеством смысловых оттенков. Это шахматная защита черных
фигур перед сокрушительной атакой белых. Но это и защита, вер-
нее, безуспешные поски этой защиты, от разрушительного натис-
ка действительности, стремление отгородиться от непонятного и
страшного мира шахматной доской, свести его законы к законам
коней, королей, пешек. Увидеть в хитросплетениях жизни комби-
нации фигур, повтор разнообразнейших сочетаний.
И жизнь принимает законы шахмат, навязанные ей гроссмей-
стером Лужиным, — но тем страшнее месть действительности за
попытку уйти, спрятаться в келье турнирного зала. Истерзанный и
раздавленный схваткой с Турати, герой Набокова бросает шахма-
ты, — но реальность, это некое мистическое для модерниста на-
чало, уже не принимает правил игры иных, чем те, что были ей
навязаны ранее, и Лужин вдруг с ужасом замечает в самых обыч-
ных, бытовых, казалось бы, вещах и событиях неудержимую атаку
реальной жизни, с неумолимым повторением в ней шахматных
ходов, с неумолимой математической логикой игры, которая, яв-
ляясь суррогатом мира, не прекращалась ни на минуту. И против
этой атаки защита Лужина оказалась бессильной! «Игра? Мы будем
играть?» — с испугом и ласково спрашивает жена за несколько
минут до самоубийства Лужина, не подозревая об этой несконча-
емой, изматывающей игре своего мужа, затеянной им против са-
мой действительности. И положение человека, вступившего в эту
игру, трагично: Набоков находит великолепный образ, чтобы по-
казать эту трагедию: в жизни, во сне и наяву «простирались все те
же шестьдесят четыре квадрата, великая доска, посреди которой, дро-
жащий и совершенно голый стоял Лужин, ростом с пешку, и вглядывался
в неясное расположение огромных фигур, горбатых, головастых, венце-
носных». Так выглядит у писателя человек, который не в силах всту-
пить в диалог с действительностью, понять и принять ее, запутан-
ную как никогда. Набоков таким образом подходит к той пробле-
226 Набоков В. В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 56.
212
Композиция модернистского романа...
матике, что была осмыслена Горьким в четырехтомной эпопее
«Жизнь Клима Самгина», самом сложном и загадочном его рома-
не. В обоих случаях в центре оказывается герой, страшащийся жиз-
ни, бегущий от нее, стремящийся спрятаться от тлетворных влия-
ний действительности — за «системой фраз», как Самгин, за шах-
матной доской, как Лужин...
Разумеется, Лужин не Самгин, он по-детски откровенен и бес-
помощен, он по-детски предан игре. Эти герои сталкиваются с
совершенно разными жизненными историческими ситуациями и
на совершенно различных основаниях приходят к отторжению дей-
ствительности. Но в типологическом, отвлеченном плане совпаде-
ния есть.
Композиция модернистского романа:
«Египетская марка» О. Мандельштама
Объясняя исторические и эстетические закономерности орга-
низации прозаического текста по законам импрессионистической
эстетики, Мандельштам писал: «Чего же нам особенно удивлять-
ся, если Пильняк или серапионовцы вводят в свое повествование
записные книжки, строительные сметы, советские циркуляры,
газетные объявления, отрывки летописей и еще бог знает что. Проза
ничья. В сущности, она безымянна. Это — организованное движе-
ние словесной массы, цементированной чем угодно. Стихия про-
зы — накопление. Она вся — ткань, морфология»227. В этой статье,
опубликованной в 1922 г., Мандельштам иронизирует над такими
складывающимися чертами импрессионистической прозы, как
эклектизм, отсутствие сюжетной организации текста, а главное —
непроявленность авторской поэзии: «Проза ничья. В сущности, она
безымянна». В поэтике романа Б. Пильняка, которая осознавалась
как наиболее характерная для новой русской прозы, претендую-
щая на господство, Мандельштам не принимает прежде всего осо-
бого, чисто «пильняковского» типа взаимоотношений автора и
действительности: «редукцию» образа автора, затушевывание по-
вествователя, лишение его активной роли в сюжете, права на втор-
жение в текст, отсутствие прямого, а то и косвенного выражения
227 Мандельштам О. Литературная Москва. Рождение фабулы//О. Мандельштам.
Слово и культура. М., 1987. С. 199.
213
Модернизм
авторской позиции. Мандельштама не устраивает, в первую оче-
редь, то, что Пильняк отказывается от введения в повествование
единого идеологического центра — четко выраженной в образе
повествователя авторской позиции (в импрессионистическом ро-
мане дистанцированность позиции автора от позиции повествова-
теля маловероятна). «Нынешних прозаиков часто называют эклекти-
ками, т.е. собиратеями... Всякий настоящий прозаик — именно
эклектик, собиратель, — размышляет поэт-акмеист. — Личность в
сторону. Дорогу безымянной прозе...
Почему именно революция оказалась благоприятной возрож-
дению русской прозы? Да именно потому, что она выдвинула тип
безымянного прозаика, эклектика, собирателя, не создающего
словесных пирамид из глубины собственного духа, а скромного
фараонова надсмотрщика над медленной, но верной постройкой
настоящих пирамид»228.
Такая роль — роль скромного фараонова надсмотрщика за воз-
ведением гигантских социальных пирамид — никак не устраивала
Мандельштама. В романе «Египетская марка» он создает такой ва-
риант импрессионистической эстетики. В ней сознание повество-
вателя оказывается не только способом организации повествова-
ния, единственным стержнем которого являются причудливые
ассоциативные связи, но и идеологическим центром, с активно
выраженной этической и нравственной позицией художника.
Жанровое определение «роман» с трудом подходит к «Египет-
ской марке»: разорванность композиции, чередование ярких цве-
товых мазков, мелькание эпизодов петербургской улицы и домаш-
ней жизни, хаоса иудейства и гармонии европейской столицы,
подчиненное ассоциативным связям воспринимающего созна-
ния, — все эти непременные элементы импрессионистической по-
этики, скорее, затрудняют проявление романического аспекта жан-
рового содержания, связанного с изображением частной судьбы
личности, развернутой во временном потоке. И все же есть осно-
вания говорить о «Египетской марке» как о романе: предметом
изображения здесь является воспринимающее сознание, что объяс-
няет близость композиционной структуры романического текста к
поэтическим принципам организации повествования: судьба лич-
ности, ее частная жизнь раскрывается не в сюжете, но в ассоциа-
тивных сцеплениях субъективной памяти повествователя — авто-
ра — главного героя.
228 Мандельштам О. Литературная Москва. Рождение фабулы. С. 199~200.
214
Композиция модернистского романа...
Говорить о дистанции между позицией автора и повествовате-
ля не приходится (повествователь прямо, декларативно выражает
авторские взгляды), дистанция же между автором и героем, Пар-
ноком, еврейским мальчиком в лакированных ботинках, которого
не любят городовые, учителя, молоденькие девушки, товарищи
по учебе, трудно уловима и для самого Мандельштама: «Господи!
Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от
него»229. Такая неопределенность отношений между повествовате-
лем и героем (они все время как бы сливаются в тексте романа)
определена схожестью их нравственных позиций, неприятием на-
силия и убийства (сцена самосуда, еврейского погрома, безрезуль-
татная попытка спасти обреченного), отношением к Петербургу,
к книжной культуре, театру.
Личностная субъективность как важнейший эстетический прин-
цип организации как поэтического, так и прозаического текста
открыто декларируется Мандельштамом, причем подробно обо-
сновывается необязательность и случайность композиционных со-
членений фрагментов текста, его лоскутность и мозаичность, обус-
ловленная единственно прихотью воспринимающего сознания.
Мировоззрение художника-импрессиониста, по мысли повество-
вателя, основывается на принципиальном неразличении жизни и
литературы, на их свободном перетекании друг в друга; между тем
и другим нет четкой границы, а потому жизнь можно читать как
книгу, а писать книгу так же просто и сложно, как жить. Катего-
рии литературы переносятся в повседневное бытие. «Страшно поду-
мать, — размышляет герой, — что наша жизнь — это повесть без фабу-
лы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних
отступлений, из петербургского инфлуэнционного бреда.
Розовоперстая аврора обломала свои цветные карандаши. Теперь они
валяются, как прянчики, с пустыми, разинутыми клювами. Между тем, во
всем решительно мне чудится задаток любимого прозаического бреда.
Знакомо ли вам это состояние? Когда у всех вещей словно жар;
когда все они радостно возбуждены и больны: рогатки на улице, шелу-
шенье афиш, рояли, толпящиеся в депо, как умное стадо без вожака,
рожденное для сонатных беспамятств, и кипяченой воды...
Тогда, признаться, я не выдерживаю карантина и смело шагаю, раз-
бив термометры, по заразному лабиринту, обвешанный придаточными
предложениями, как веселыми случайными покупками... и летят в под-
229 Мандельштам О. Египетская марка. Л., 1928. С. 40. Далее ссылки на это изда-
ние даются в тексте.
215
Модернизм
ставленный мешок поджаристые жаворонки, наивные как пластика пер-
вых веков христианства, и калач, обыкновенный калач, уже не скрывает от
меня, что он задуман пекарем, как российская лира из безгласного тес-
та» (С. 65~66).
Эстетическая программа фрагментарной, разорванной поэти-
ки, подчиненной прихоти индивидуального сознания, наносяще-
го импрессионистические мазки на романное полотно, восприни-
мается как достаточно необычная своей обнаженностью в «Египет-
ской марке». Это заставляет автора прямо декларировать свой прием,
обнажать творческую лабораторию, подчеркивая, что за этим скры-
вается не только видение мира, характерное для взгляда импрессио-
ниста, но и особые отношения между искусством и действительно-
стью, миром художественным и реальным: их принципиальная не-
разделенность, свободное перетекание одного в другое.
«Я не боюсь бессвязностей и разрывов.
Стригу бумагу длинными ножницами.
Подклеиваю ленточки бахромкой.
Рукопись — всегда буря, истрепанная, исклеванная.
Она — черновик сонаты.
Марать — лучше, чем писать.
Не боюсь швов и желтизны клея. Портняжу, бездельничаю.
Рисую Марата в чулке.
Стрижей» (С. 41).
После такого обнажения приема, почти лирического объясне-
ния в любви к «бессвязностям и разрывам», совершенно логич-
но — по логике импрессионистического романа — следует рассказ
о том, как в доме боялись копоти керосиновых ламп, и в этом
штрихе проявляется жизнь петербургской квартиры, ее особый за-
пах, колорит, то, что сам поэт называл «хаосом иудейства».
Тот тип сознания, который является предметом изображения в
романе, принципиально изменяет общепринятый масштаб собы-
тий, явлений, вещей. Хвойная веточка, вросшая в глыбу донного
льда, разрезанного на кубы, замеченная мельком на подводе пе-
тербургского извозчика, чад керосиновых ламп, пропавшая жи-
летка, сцена самосуда толпы — все эти явления как бы уравнены в
сознании повествователя, образуют для него общую картину бы-
тия, и утрата одного из них была бы воспринята как утрата целост-
ности. Такая субъективность обосновывается как эстетический прин-
цип организации романного текста по принципам поэтическим и
утверждается как единственно возможный способ наиболее досто-
верного выражения действительности:
216
Композиция модернистского романа...
«Я спешу сказать настоящую правду. Я тороплюсь. Слово, как по-
рошок аспирина, оставляет привкус меди во рту.
Рыбий жир — смесь пожаров, желтых зимних утр и ворвани: вкус
вырванных лопнувших глаз, вкус отвращения, доведенного до восторга.
Птичье око, налитое кровью, тоже видит по-своему мир» (С. 56).
Здесь и стремление выразить правду субъективного восприятия
(такая-то правда как раз абсолютна), и обязательное для импрес-
сиониста внимание к оттенкам красок, и аллитерация, столь ха-
рактерная для Мандельштама-акмеиста.
Еще М. Пруст, основоположник импрессионистического ро-
мана, сделал законы субъективной памяти организующей осно-
вой романа, цементирующей его композиционную структуру, обес-
печивающей композиционное единство импрессионистического
произведения. Это привело к трансформации художественного вре-
мени в романе: повествователь как бы скользит по времени, сво-
бодно перемещается в художественном пространстве между прош-
лым и будущим; действительным, настоящим временем романа
становится «утраченное время», время прошлого, пережитого. Ко-
нечно, в «Египетской марке» удельный вес «утраченного време-
ни» несравнимо меньше, чем в прустовском романе, но его при-
сутствие является, вероятно, характерным признаком импресси-
онистической эстетики. Мандельштам вводит прошедшее время в
свой роман и переживает его почти в прустовской манере, любов-
но вглядываясь в оттенки цвета, осязая предметы, вдыхая запахи:
«Чтобы успокоиться, он обратился к одному неписанному словари-
ку, вернее — реестрику домашних словечек, вышедших из обихода. Он
давно уже составил его в уме на случай бед и потрясений:
— «Подкова» — так называлась булочка с маком.
— «Фрамуга» — так мать называла большую откидную форточку,
которая захлопывалась, как крышка рояля.
— «Не коверкай» — так говорили о жизни.
— «Не командуй» — так гласила одна из заповедей.
Этих словечек хватит на заварку. Он принюхивался к их щепотке.
Прошлое стало потрясающе реальным и щекотало ноздри, как партия
свежих кяхтинских чаев» (С. 63).
Но помимо чисто прустовского внимания к «щепотке на за-
варку», когда высохший листочек чая, распрямляясь в горячей воде,
может вызвать целущ цепь ассоциаций, развернуть целый сюжет в
сознании героя, прошедшее время в романе Мандельштама — это
еще и время историческое. Этот аспект «утраченного времени» свя-
зан, в первую очередь, с темой Петербурга.
217
Модернизм
Образ Петербурга становится одним из лейтмотивов повество-
вания, что вообще характерно для орнаментальной прозы: лейт-
мотивы берут на себя организующую функцию сюжета. Этот образ
создается по сугубо импрессионистическим принципам: воспри-
нимающее сознание повествователя как бы аккумулирует грани
предшествующей литературной традиции в трактовке Петербурга
и накладывает его на современность, на живой образ города, при
этом образ субъективен и подчинен только взгляду героя. Кроме
того, именно взгляд художника-импрессиониста, для которого,
кроме того, культурный и литературный, книжный мир не менее,
а то и более реален, чем камни, мостовые, набережные, здания
Петербурга, находит такой ракурс, при котором действительный
и вымышленный города как бы сливаются, подчиненные воспри-
нимающему сознанию — сознанию, способному соединить два
образа — реальный и культурный, историко-литературный. На ули-
цах Петербурга в «Египетской марке» появится и пушкинская пи-
ковая дама, образ которой снижен «ботиками Петра Великого» и
бессвязным бормотанием, и повествователь, совсем как пушкин-
ский Евгений в «Медном всаднике», бросит в лицо не то царю, не
то его творению:
«Петербург, ты отвечаешь за бедного твоего сына!
За весь этот сумбур, за жалкую любовь к музыке, за каждую кру-
пинку «драже» в бумажном мешочке у курсистки на хорах Дворянско-
го собрания ответишь ты, Петербург!» (С. 49).
Петербург — это и улицы, набережные, по которым ведут на
самосуд случайного прохожего, и прочитанная в чертах реального
пейзажа литературная традиция, и даже судьбы разночинцев-шес-
тидесятников, от которых герой Мандельштама (да и сам автор)
ведут свою родословную.
«Вот только одна беда — родословной у него нет, — размышляют
вместе Парнок и повествователь. — И взять ее неоткуда — нет и все
тут! Всех-то родственников у него одна тетя — тетя Иоганна.
Да, с такой родней далеко не уедешь. Впрочем, как это нет родо-
словной, позвольте, как это нет? Есть. А капитан Голядкин? А коллеж-
ские асессоры, которым «мог Господь прибавить ума и денег». Все это
люди, которых спускали с лестниц, шельмовали, оскорбляли в сороко-
вых и пятидесятых годах, все эти бормотуны, обормоты в размахайках,
с застиранными перчатками, все те, кто не живет, а проживает на Садо-
вой и Подьяческой в домах, сложенных из черствых плиток каменного
шоколада, и бормочут себе под нос. — Как же это? Без гроша, с выс-
шим образованием?
218
Композиция модернистского романа...
Надо лишь снять пленку с петербургского воздуха и тогда обнажит-
ся его подспудный пласт. Под лебяжьим, гагачим, гагаринским пухом,
под Тучковыми тучками, под французским буше умирающих набереж-
ных, под хрустальными замками барско-холуйских квартир обнаружит-
ся нечто совсем неожиданное.
Но перо, снимающее эту пленку — как чайная ложечка доктора,
зараженная дифтеритным налетом. Лучше к нему не прикасаться»
(С. 61-62).
В сознании героя, в его восприятии Петербурга воплощается
психология разночинца, человека 1840—1850-х годов, его неприя-
тие и подспудный страх перед аристократией, «гагаринским пу-
хом», «Тучковыми тучками», зеркалами барских квартир; он ощу-
щает свое родство не только с Голядкиным, но и Евгением, кото-
рому «мог Господь прибавить ума и денег» — отсюда и вызов
Петербургу, и такие крохотные детали, как драже в бумажном
мешочке у курсистки на хорах, и бессвязный говор «каменной
дамы». Все эти разномасштабные детали в импрессионистической
прозе обретают один масштаб, уравниваются в сознании, стано-
вятся принципиально равноправными, скрепленные прихотливы-
ми законами воспринимающего сознания.
Мандельштам предельно точно описывает принципы импрес-
сионистической эстетики, исходя из которых строит свой роман.
«На побегушках у моего сознания два-три словечка «и вот», «уже»,
«вдруг»; они мотаются полуосвещенным севастопольским поездом из
вагона в вагон, задерживаясь на буферных площадках, где наскакивают
друг на друга и расползаются две гремящие сковороды.
Железная дорога изменила все течение, все построение, весь такт
нашей прозы. Она отдала ее во власть бессмысленному лопотанию
французского мужичка из Анны Карениной, железнодорожная проза,
как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструмен-
тами сцепщика, бредовыми частичками, скобяными предлогами, кото-
рым место на столбе судебных улик, развязана от всякой заботы о кра-
соте и округленности» (С. 67—68).
Так не заботится о красоте и округленности автор «Египетской
марки», работая «бредовыми частичками», соединяя двумя-тремя
словами, что на побегушках его сознания, разные эпизоды действи-
тельности, связывая «скобяными предлогами» цветовые мазки Пе-
тербурга, соединяя «инструментами сцепщика» несопоставимые,
казалось бы, эпизоды. Это единственная возможность сохранить ком-
позиционную целостность романа: ведь четкого контура, противо-
стоящего цветовым мазкам, художник-импрессионист не знает.
219
Модернизм
Экспрессионистические тенденции
Внутри модернизма в прозе 20-х годов рядом с импрессиониз-
мом, активно взаимодействуя с ним, развиваются литературные
тенденции, достаточно разнообразные по своим творческим и иде-
ологическим устремлениям, определенная схожесть между кото-
рыми, тем не менее, позволяет условно объединить их под именем
экспрессионистических.
О значении экспрессионистических тенденций в этот период
свидетельствует их наличие в творчестве М. Горького («Рассказ об
одном романе», «Карамора»), молодого В. Каверина («Скандалист,
или Вечера на Васильевском острове», рассказы первой половины
20-х годов), Ю. Тынянова («Восковая персона», «Подпоручик
Киже»), А. Грина («Канат», «Крысолов», «Серый автомобиль», дру-
гие рассказы). Повести М. Булгакова «Дьяволиада», «Собачье серд-
це», «Роковые яйца» тоже представляют один из вариантов экспрес-
сионистической эстетики, характеризующей литературную эпоху.
Роман Ю. Олеши «Зависть» и его роль в литературном процессе тех
лет показывают, сколь перспективна была подобная эстетическая
система для решения важных, а подчас и трагических коллизий эпохи.
Что связывает этих художников, что позволяет поставить их
произведения в один общий ряд? Прежде всего, наиболее общие
принципы отображения действительности, приведшие к экспрес-
сионистической эстетике или обусловившие появление ее черт в
творчестве этих и многих других писателей.
Необходимо подчеркнуть, что экспрессионистическая эстети-
ка или важнейшие ее элементы не были открытием художествен-
ной культуры XX в., подобно тому как элементы импрессионизма
Вельфлин обнаружил в живописи Рембрандта и осмыслил как за-
кономерное явление в развитии мирового искусства. Экспрессио-
низм тоже должен быть понят в более широком контексте, нежели
оформившиеся теоретически течения в модернистском искусстве
начала века. Наиболее близкой нам в хронологическом и духовном
плане литературной традицией, несущей в себе элементы экс-
прессионистической эстетики, является творчество Н. Гоголя, ав-
тора «Носа» и «Портрета», В. Одоевского, А. Вельтмана, М. Салты-
кова-Щедрина («Сказки», «История одного города»). Эту связь с
классической традицией осознавали и писатели, о которых мы
ведем речь: «Кто не знает знаменитой формулы Достоевского: «Все
мы вышли из гоголевской “Шинели”», — писал уже позднее, в
220
Экспрессионистические тенденции
середине 60-х годов, В. Каверин. Теперь, в середине XX в., следо-
вало бы добавить: «И из гоголевского “Носа”»230. Исследователь
литературы 20-х годов Е. Б. Скороспелова обозначает данную тен-
денцию как «трагический гротеск» или «гофманиану». «Думается, —
пишет она, — что об этой традиции можно говорить не только в
связи с творчеством М. Булгакова, но и по отношению к ранним
произведениям самого В. Каверина, первым опытам Л. Лунца, не-
которым рассказам А. Грина и В. Катаева. Использование гротеска
характерно и для раннего И. Эренбурга, хотя, если искать его пред-
шественников, это, скорее, А. Франс.
Эти писатели никогда не объединялись организационно на ка-
кой-либо общей идейно-эстетической платформе. Несхожей была
дальнейшая творческая судьба художников, большинство из кото-
рых сыграло выдающуюся роль в развитии советской литературы.
Но в ряде произведений, написанных ими в начале 20-х годов,
выражено сходное понимание действительности, создан своеоб-
разный и обладающий известной целостностью художественный
мир»231.
При всем различии творческой индивидуальности художников
и проблематике произведений их объединяют общие черты экс-
прессионистической эстетики, которые И. Иоффе определил сле-
дующим образом: повышенная, сгущенная выразительность обо-
стренных фраз, ритмов и линий; темы ударных моментов с резко
вычерченными контурами; деформация внешнего мира как дефор-
мация представлений эмоциями. Исследователь выделяет еще один
значимый момент, отличающий экспрессионизм от прочих мо-
дернистских эстетических систем: «В политематической компози-
ции целого произведения экспрессионисты ради индивидуализа-
ции каждой темы применяют различные стилистические планы;
каждая тема получает такую резко самостоятельную фактуру, ко-
торая исключает импрессионистическое мерцание, но сохраняет
каждую плоскость независимой»232.
Гротескность, фантастичность, невероятные преувеличения в
экспрессионистической прозе вовсе не являются самоценными. За
ними стоит стремление в метафоричной, .а потому выразитель-
230 Каверин В. Здравствуй, брат. Писать очень трудно... М., 1965. С. 83.
231 Скороспелова Е. Б. Идейно-стилевые течения в русской советской прозе
первой половины 20-х годов. М., 1979. С. 103—104.
232 Иоффе И. Культура и стиль. Системы и принципы социологии искусства.
С. 323.
221
Модернизм
ной, зримой, экспрессивной форме представить наиболее значи-
мые, глубинные вопросы бытия: «Экспрессионистическая проза
предпочитает проблемы общефилософские, проблемы человечес-
кого сознания и интеллекта вообще, общие проблемы мировоз-
зрения, морали, соотношения сознания и подсознания, культуры
и варварства»233.
Именно проблемы культуры и варварства ставит М. Булгаков,
позволив профессору Преображенскому и доктору Борменталю
превратить пса Шарика в Шарикова. Фантастический эксперимент
нужен вовсе не сам по себе, но как наиболее зримое выражение
тех социальных проблем пореволюционной действительности, ко-
торые волновали Булгакова. В повседневной обыденности он видел
зловещие результаты деятельности антисистемы, когда буквально
на глазах в течение нескольких лет превращались в ничто элемен-
тарные представления, составляющие даже самый поверхностный
уровень повседневной бытовой культуры: он видел, как хамство,
переходящее в бандитизм, возводится в доблесть и прикрывается
демагогией о пролетарском социальном происхождении; как под
напором этого хамства, поддерживаемого мандатами Швондеров,
разрушается культура, быт, бытие. Фантастический сюжетный ход
(превращение собаки в человека под скальпелем хирурга) давал
возможность показать почти биологическую сущность осмысляе-
мых писателем социальных процессов. Абсурдность происходяще-
го выявляется Булгаковым с помощью фантастического гротеска
и в «Роковых яйцах», и в «Дьяволиаде». Гротескный принцип ти-
пизации приходит в модернистской литературе на смену традици-
онным реалистическим средствам мотивации образа.
Принципы мотивации позволяют объединить столь различных
художников, какими были, к примеру, В. Набоков, М. Булгаков,
Е. Замятин, Ю. Олеша. Именно Олеша в своей знаменитой «Завис-
ти» показывает самые разнообразные варианты модернистской де-
терминации характера.
Андрей Бабичев, о котором мы уже упоминали, мотивирован
колбасой и Четвертаком: так снижается образ делового человека,
инженера, «спеца», социальная роль которого характерна для нор-
мативизма 20-х годов — вспомним образ Бадьина из «Цемента»
Гладкова, отчасти пародируемый Олешей. Речь идет не о созна-
тельной пародии, пародируется литературное клише, социальная
233 Иоффе И. Культура и стиль. Системы и принципы социологии искусства.
С. 324.
222
Экспрессионистические тенденции
роль, ставшая социальной маской с заранее предопределенными
перспективами развития.
Другой герой Олеши, Володя Макаров, приемный сын Андрея
Бабичева, очарован автоматами, стремится превратиться в маши-
низированного человека, робота, ибо именно таким ему и Анд-
рею Бабичеву видится человек будущего. Олеша использует форму
письма, приоткрывая внутренний мир своего героя и обнажая сам
механизм формирования явно ущербной личности. «Я — человек-
машина. Не узнаешь ты меня. Я превратился в машину. Если еще не
превратился, то хочу превратиться. Машины здесь — зверье! Породис-
тые! Замечательно равнодушные, гордые машины... Я хочу быть маши-
ной.. Чтобы быть равнодушным, понимаешь ли, ко всему, что не работа.
Зависть взяла к машине — вот оно что! Чем я хуже ее? Мы же ее
выдумали, создали, а она оказалась свирепее нас». В этой нарочитой,
явно спародированной и сниженной детерминированности харак-
тера машины Олеша полемизирует с концепцияи А. Богданова,
ЛЕФа, конструктивизма, футуризма, предельно упрощавшими
человеческую личность. Гротескные образы Володи Макарова и
Андрея Бабичева, в которых до апогея доведены требования отре-
чения от своего «я», от сложного и многообразного мира личнос-
ти, явились главными аргументами Олеши в полемике о концеп-
ции личности.
Для доказательства несостоятельности весьма распространен-
ных тогда представлений о человеке — винтике, или, как говори-
ли теоретики «левого фронта», «отчетливо функционирующем че-
ловеке», Олеша прибегает к гротескным образам: в каждом герое
«Зависти» доводится до апогея какая-либо одна черта: Володя
Макаров предстает функцией машины, Андрей Бабичев — функ-
цией дела, Кавалеров воплощает в себе верх инфернальное™, Иван
Бабичев — пророк семейного счастья. Гротескные образы, харак-
терные для экспрессионизма, оказываются подкреплены особыми
принципами типизации, весьма далекими от реалистических.
В художественном мире повести каждый из героев имеет лишь одно
определяющее начало, которое и доводит до абсурда ту или иную
черту характера. Для Ивана Бабичева в качестве такового выступа-
ет подушка, с которой он неразлучен, для его брата Андрея Баби-
чева — мечта о вкусной и дешевой колбасе (он любит колбасу так,
как можно любить искусство, природу, женщину). Реальная кар-
тина мира искажается, характеры деформируются, нарушаются фа-
бульные связи, мотивировки событий получают некий ирреаль-
ный смысл.
223
Модернизм
Подобные принципы типизации проводят довольно четкую
границу между импрессионистической и экспрессионистической
эстетикой. Для импрессионизма характерен вообще отказ от объяс-
нения фактов, фабульных связей чаще всего нет как таковых, ху-
дожника интересует просто совокупность принципиально случай-
ных, не связанных друг с другом эпизодов, в сложной вязи которых
отражается прихотливый образ эпохи. Экспрессионистическая по-
этика характеризуется строгой заданностью детерминант характеров
и событий, логической основой сюжета, которые, правда, вовсе не
носят правдоподобного, реалистического характера. Напротив, они
фантастичны и ирреальны. Так, например, персонаж рассказа
М. Горького «Рассказ об одном романе» порожден фантазией писа-
теля, забывшего о нем, и поэтому он, погруженный в реальную
жизнь, не имеет объема, существует лишь в плоскости, но не в
пространстве, не имеет профиля. Жизнь и судьба подпоручика Киже,
героя рассказа Ю. Тынянова (вроде бы «реальная», ибо на его похо-
ронах за гробом шли жена и дети), определена опиской писаря и
хитросплетением бумажных судеб бюрократической переписки, сло-
жившихся весьма удачно для несуществующего героя. Но важнее всего
то, что бумажная жизнь намного реальнее жизни живой: она по-
вергает ниц человека во плоти и возносит бумажного подпоручика
Киже, которого никогда никто не видел, но который живет впол-
не реальной жизнью, ибо не могут же официальные бумаги лгать:
и живая жизнь подлаживается под циркуляр.
Ирреальность, фантастичность героя (Шариков, подпоручик
Киже, персонаж «Рассказа об одном романе») и сюжетных ходов,
гротескность образов, обусловленная единственной детерминан-
той характера, подчиняющей себе персонаж, являются важней-
шим проявлением экспрессионистической поэтики. Следует под-
черкнуть, чо экспрессионизм в прозе 20-х годов обнаружил боль-
шую «валентность» по тношению к альтернативным эстетическим
системам, чем импрессионизм. Экспрессионистическое исследо-
вание действительности оказалось очень продуктивным, открыва-
ло перед художником возможность наиболее яркого, зримого по-
стижения тех проблем, прежде всего социальных, которые были
поставлены новой реальностю с ее подчас действительно неверо-
ятными смещениями общественных планов, социальных смылов,
алогичными связями и сцеплениями событий. В экспрессионисти-
ческом контексте, подсказанном самой жизнью, естественным
кажется и оживление литературного персонажа, недодуманного,
недоделанного автором, и появление на улицах Москвы говоря-
224
«Мы» Е. Замятина: полемика с химерической концепцией мира и человека
щего черного кота, пытающегося заплатить кондуктору в трамвае,
и наличие у бурого медведя-кузнеца из «Котлована» А. Платонова
обостренного классового чутья. Характерным является то обстоя-
тельство, что элементы экспрессионизма проникают в другие эс-
тетические системы, обогащая их и активно взаимодействуя с ними.
Явным примером такого взаимодействия является «Жизнь Клима
Самгина» Горького, своего рода канон реалистической эстетики
20—30-х годов. Но элементы экспрессионистической поэтики, внед-
ряясь в произведение, вовсе не разрушают его изнутри, но делают
более зримой авторскую концепцию. Навязчивый мотив двойни-
чества, характеризующий разорванность сознания Самгина и реа-
лизованный в самой фантастической картине его страшного сна
из третьей части, когда два солнца освещают его путь и герой
осознает, что не имеет тени, является важным средством выраже-
ния авторской позиции. Явно противореча реалистической поэти-
ке жизнеподобия, характерной для нового реализма, элементы экс-
прессионизма, тем не менее, оказываются «валентны» ей и орга-
нично сочетаются с конструктивными элементами сугубо реалис-
тической поэтики.
Экспрессионизм, взаимодействуя с альтернативными эстети-
ческими системами, не растворялся в них, но развивался на про-
тяжении 20—30-х годов вполне самостоятельно. Роман Е. Замятина
представляет один из вариантов, притом наиболее плодотворных,
этого развития.
«Мы» Е. Замятина:
полемика с химерической концепцией
мира и человека
Экспрессионистическая эстетика в литературе 20-х годов су-
ществует в резкой оппозиции к нормативной эстетике соцреализ-
ма. Как принципиально противоположные предстают реалистичес-
кая и экспрессионистическая концепции мира и человека. Химе-
рическая, в сущности разрушительная и безнравственная в своей
основе концепция, особенно характерная для литературы 20—30-х
годов, вызвала и мощную ответную реакцию. В поисках антитезы
утопическому роману соцреализма и в целом утопической идее
литература обратилась к жанру романа-антиутопии.
225
Модернизм
Мировая литература XX в. богата антиутопиями, произведени-
ями, как бы предостерегающими человечество от бездумного втор-
жения в уязвимую плоть реальности, от безответственных и пре-
ступных в своей основе попыток насильственного преобразования
бытия. Достаточно назвать здесь роман Дж. Оруэлла «1984», описы-
вающий трагизм положения человека, живущего в тоталитарном
обществе, показывающий, что было бы с Англией и англичана-
ми, если бы там восторжествовал социализм. Но еще в большей
степени антиутопия характерна для русской литературы XX в.: мы
имели значительно больше материала для умозаключений на сей
счет, чем многие другие. Даже В. Набоков в интервью А. Аппелю
признался, что и он этому жанру отдал дань — при всем отсут-
ствии интереса к социальной проблематике, при всем его нежела-
нии делать литературу ареной политической борьбы.
— Есть ли у Вас, — спрашивает автор интервью у Набокова, — ка-
кое-либо мнение о русской, если к ней приложимо такое определение,
антиутопической традиции, начиная с «Последнего самоубийства» и «Го-
рода без имени» в «Русских ночах Одоевского и до брюсовской «Рес-
публики Южного Креста» и «Мы» Замятина, — ограничусь лишь не-
сколькими примерами?
— Мне эти вещи неинтересны.
— Справедливо ли сказать, что «Приглашение на казнь» и «Под
знаком незаконнорожденных» — это своего рода пародийные антиуто-
пии с переставленными идеологическими акцентами — тоталитарное
государство здесь становится предельной и фантастической метафо-
рой несвободы сознания — и что тема обоих романов — именно такая
несвобода, а не политическая?
— Может быть, это так234.
Думается, что та же проблематика интересовала и Е. Замятина,
автора романа «Мы», о котором со свойственной ему небрежнос-
тью отозвался Набоков — и вполне несправедливо.
«Мы» — одна из самых знаменитых антиутопий XX в. Роман
Замятина показывает, что случится с обществом, если общество в
своих членах будет уничтожать личностное, индивидуальное нача-
ло и превращать их в абсолютно идентичных человекоединиц, «ну-
меров». Сообщество, подвергшее своих индивидов полной, биоло-
гической идентификации, предстает в романе Замятина.
гм Интервью Вл. Набокова, данное Альфреду Аппелю//Вопросы литературы.
1988. № 10. С. 165.
226
«Мы» Е. Замятина: полемика с химерической концепцией мира и человека
Этот роман критика 20-х годов трактовала как злобный памф-
лет, направленный против советской власти. В нем описаны собы-
тия самого отдаленного будущего, отодвинутого от момента со-
временности и «тысячелетней войной», и многими веками соору-
жения стеклянной стены, отделившей «цивилизованный мир» от
мира, где царствует дикое состояние свободы и некоторые люди
продолжают еще жить свободными — могут любить кого угодно и
жить так, как, в общем-то, того хотят. Но жители чудного города,
описанного в «Мы», мыслят личностную свободу чудовищным
рудиментом, ибо жизнь, частная и общественная, должна осно-
вываться на строго логических, математически исчисленных зако-
нах — тогда все и смогут быть вполне счастливы.
Источником человеческих несчастий является неравенство —
так пусть все будут равны! Но человек не может быть равен даже
самому себе, и становление романного жанра как раз и связано с
исследованием литературой того самого неразрешимого внутрен-
него тождества со множеством неизвестных, которое пытается ре-
шить для себя, наверное, каждый человек — и чем сложнее его
внутренняя организация, тем безуспешнее эти попытки. Так воз-
можно ли равенство всех со всеми? Возможно, отвечает главный
герой романа, повествователь, ведущий дневник для неведомого
ему читателя. Возможно, если будут упразднены причины не толь-
ко социального или имущественного неравенства, но и обуслов-
ленного самой природой. Что делает человека несчастным? Зависть.
Но все жители Единого Государства равны, завидовать нечему. Есть,
правда, иная форма зависти — ревность, но и с ней тоже можно
справиться. Оказывается, все равны и в любви, и каждый «нумер»,
мужской или женский, может получить розовый билетик, даю-
щий право на обладание объектом своих желаний. В этом случае в
комнате со стеклянными стенами, в которых живут «нумера», на
час спускаются шторы... Нельзя только заводить детей без разре-
шения государства и создавать семью, ибо она — основа неравен-
ства, зависти и ревности со стороны других «нумеров».
Жители Единого Государства лишены имени (главного героя
зовут Д-503), досуга, права свободного выбора, права любого не-
санкционированного в «бюро хранителей» проявления личност-
ного, индивидуального начала. «Нумера» маршируют мерными
рядами по четыре, восторженно отбивая такт под звуки труб Му-
зыкального Завода, поющих Марш Единого Государева; они стро-
ем ходят на лекции и в аудиториумы — и счастливы своим исчис-
ленным рациональным счастьем, невзирая на то, что при исчис-
227
Модернизм
лении его начисто сокращен индивидуальный остаток. «Я» больше
не существует — есть «Мы».
Гибельность для человека подобного жизнеустройства Замятин
показывает, обращаясь к изображению не только форм обществен-
ного бытия, которые не примет ни один уравновешенный человек
(«нумер» вместо имени, общедоступный розовый билетик вместо
естественных человеческих отношений, стеклянная стена дома,
шествие строем на работу, публичные воспитательные казни ина-
комыслящих, всевластие бюро хранителей, невозможность семьи
и т.д.). Его герой проходит еще и испытание любовью и не выдер-
живает его — совсем как герой тургеневского романа. Расцветшую
в его душе любовь (пусть и к женщине, которая всего лишь ис-
пользует его в борьбе с Единым Государством) убивают, подвер-
гая Великой Операции, которую необходимо пройти всем «нуме-
рам»: из мозга удаляются те участки, которые ведают эмоциональ-
ной сферой. В результате в романе мы видим кольцевую композицию:
герой приходит к той же самодовольности математического счас-
тья, с которым он брался за составление своих записок и сомне-
ние в котором принесла ему столь незапланированная и неподда-
ющаяся алгоритмам любовь к женскому «нумеру» 1-330. Наблюдая
за пыткой своей бывшей избранницы в присутствии Благодетеля,
верховного правителя, Д-503 недоумевает по поводу своих прош-
лых, совсем еще недавних метаний: «Единственное объяснение: пре-
жняя моя болезнь (душа)».
С кем или с чем спорил Замятин? С новой властью, стремя-
щейся к насильственному упорядочению жизни и к полной ниве-
лировке индивидуумов, к насильственной регламентации всех форм
бытия? Да, безусловно. Но сами эти идеи были прямо выражены
не в официальных государственных или партийных документах, а
в творческих манифестах литературных организаций, проводящих
и даже невольно пародирующих в стремлении отличиться офици-
альные, только что формирующиеся концепции новой власти.
Литературные манифесты той эпохи давали прекрасный материал
для того, чтобы посмотреть, что будет с человеком, если новая
власть продержится не семьдесят лет, а, скажем, тысячу. В сущно-
сти, Замятину не пришлось даже ничего выдумывать: достаточно
было взять манифест Пролеткульта, одной из самых значительных
литературных организаций первых лет революции.
Пролеткультовцы полагали, что класс, вставший у власти, об-
ладает совершенно особым, новым и невиданным ранее типом
сознания: «методическая, все растущая точность работы, воспитываю-
228
«Мы» Е. Замятина: полемика с химерической концепцией мира и человека
щая мускулы и нервы пролетариата, придает психологии особую насто-
роженную остроту, полную недоверия ко всякого рода человеческим
ощущениям, доверяющуюся аппарату, машине, инструменту». Не на-
поминает ли сознание такого человека то, что случилось с героем
Замятина после Великой Операции?
«Машинизирование не только жестов, не только рабоче-производ-
ственных методов, но машинизирование обыденно-бытового мышле-
ния... поразительно нормализует психологию пролетариата.. Вот зта-то
черта и сообщает пролетарской психологии поразительную аноним-
ность, позволяющую квалифицировать отдельную пролетарскую еди-
ницу как А, В, С, или 325, 0, 75 и т.п....» Эти отдельные абстрактные
человекоединицы в концепциях Пролеткульта «настолько чужды
персональное™, настолько анонимны, что движения этих кол-
лективов-комплексов приближается к движению вещей, в кото-
рых как будто уже нет человеческого индивидуального лица, а есть
ровные нормализированные шаги, есть лица без экспрессии, душа,
лишенная лирики, эмоция, измеряемая не криком, не смехом, а
манометрами и таксометрами». Все это писалось теоретиками Про-
леткульта вполне серьезно и вовсе без ужаса перед подобной пер-
спективой, напротив, с восторгом. Замятин приложил эту перс-
пективу на ближайшее тысячелетие — и ужаснулся.
Экспрессионистическая эстетика, получившая столь сильное
развитие в литературе 20-х годов, во многом основана на взаимо-
действии с социалистическим реализмом; мало того, это взаимо-
действие и явилось причиной столь сильного и бурного развития
экспрессионистической эстетики. Суть в том, что экспрессионизм
явился реакцией на ту концепцию мира и человека, которую пред-
ложил соцреализм и которая была так же выражена в пролеткуль-
товских и лефоских концепциях — реакцией, основанной на рез-
кой полемичности этих тенденций. Закрепощение героя идеей «зо-
лотого века» в литературе нормативизма, героя, столь свободного
в своем развитии по первоначальному, собственно реалистичес-
кому проекту, но фатально обреченному на поиски и обретение
официально признанного идеала уже в творчестве А. Толстого, как,
скажем, фатально обречен Рощин прийти к большевикам и стать
красным военспецом с самого начала трилогии «Хождение по му-
кам», дало в экспрессионизме концепцию личности прямо проти-
воположного плана: отрицание рационализма личности, заранее
предугаданные идеи всечеловеческого счастья и утверждение ге-
роя, способного сомневаться. Условно говоря, экспрессионизм
229
Модернизм
утверждает право человека на критическое восприятие информа-
ции, которую на него обрушивает пропаганда, утверждает право
сомнения: вспомним усомнившегося Макара А. Платонова, заду-
мавшегося на фоне всеобщего темпа труда Вощева из «Котлована».
Напротив, подчинение себя коллективу, партии, некой всеобщей
идее, пусть и несомненно гуманистической, приводит личность и
общество, состоящее из таких личностей, к полному краху, как
показал это Замятин в романе «Мы».
Экспрессионистическая эстетика в силу своей выразительнос-
ти, заостренности на определенной проблеме, фантастичности и
гротескности по самой природе своей полемична. Художники, ей
принадлежащие и ощущающие себя ее проводниками, часто берут
роль еретиков, критиков настоящего, оказываются в оппозиции к
господствующим идеологическим концепциям. В доведении до аб-
сурда этих концепций видится им своя миссия в литературе: предо-
стережение общества от слепоты, от глухогоисполнительства, от
массового психоза подчиненности власти большинства или аппара-
ту партии — во имя этого берут они в руки перо. Неудивительно, что
судьба экспрессионизма, столь мощного в 20-е годы, совершенно
лишалась какой-либо перспективы в 30-е. Неудивительно и другое:
подавляющее большинство произведений, принадлежащих экс-
прессионистической эстетике, оказались за пределами советской
литературы и официальных ее историй.
Стилевая организация
модернистского романа
Творческие задачи, которые ставили перед собой художники,
работавшие в рамках модернистской эстетики, определяли и сти-
левую организацию произведения. Наиболее характерной для мо-
дернизма 20-х годов стала орнаментальная проза, художественным
принципом которой является организация прозаического текста
по законам поэтической речи.
Ю. Тынянов, теоретик и практик орнаментальной прозы 20-х
годов, писал о том, что иногда, в особенности в периоды сближе-
ния прозы и поэзии, поэзия могла заимствовать у прозы те или
иные звуковые приемы. Практика 20-х годов подтвердила, что вли-
яние может идти, и весьма продуктивно, и в другую сторону: от
поэзии к прозе. Собственно, русский орнаментализм первоначально
230
Стилевая организация модернистского романа
и возник как попытка эксперимента, как попытка построить про-
заическую речь по поэтическим принципам.
Этот эксперимент был связан с мыслью Ю. Тынянова, выска-
занной им, в частности, в работе «Проблемы стихотворного язы-
ка», о том, что не все факторы слова равноценны, что динамичес-
кая форма произведения создается не их слиянием, а их взаимо-
действием.
В результате одна группа факторов выдвигается за счет дру-
гой. В самом деле, в произведениях, построенных по принципу
орнаментальной поэтики, слово выступает не только как дено-
тат, но и как самостоятельный элемент в художественной системе.
«Речь в произведении “расстилается” над характерами и сюже-
том», считает Н. Кожевникова235. Это оказывается возможным бла-
годаря так называемому закону тесноты поэтического ряда, опи-
санного Ю. Тыняновым. Суть его состоит в том, что слово, попа-
дая в поэтический контекст, резко расширяет свое семантическое
поле, вступает в метафорические отношения с другими словами и
актуализирует такие значения, которые не могут быть учтены ни
одним словарем. Поэтический контекст, таким образом, проявля-
ет смысловую глубину и неисчерпаемость слова, делает его насы-
щенным множеством угадываемых художником и читателем смыс-
лов. Феномен орнаментальной прозы построен именно на таком
обращении со словом, когда прозаический контекст создается на
принципах поэтического контекста. Он подчинен не логике сюже-
та, но логике метафор, обнажающих в слове «бездну простран-
ства» их смыслов, делает произведение неисчерпаемым.
Исследователи выделяют целый ряд признаков, которые сбли-
жают орнаментальную прозу с поэзией: это специфический ха-
рактер слова, которое стремится ко множественности смыслов и
неисчерпаемости значения; это организация повествования, ос-
нованная не на сюжетных причинно-следственных связях, а на
ритмических повторах, лейтмотивах образов, ассоциативных свя-
зях. Лейтмотивы берут на себя организующую функцию сюжета.
Все эти качества оказываются следствием того, что орнамен-
тальная проза построена не на эпических, а на лирических прин-
ципах типизации. Как и в лирике, здесь преобладает не столько
ориентация на чужую речь, способную лишь замутнить метафору,
235 Кожевникова Н. А. Из наблюдений над неклассической (орнаментальной)
прозой//Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1976. Т. 35. № 1.
231
Модернизм
сколько на сознание поэта (хотя, разумеется, возможны и исклю-
чения, особенно в произведениях, принадлежащих импрессиони-
стической эстетике). Предметом изображения здесь является не
столько реальная действительность, сколько ее отражение в со-
знании автора или героя; изображается, как и в лирике, не столько
реальность, сколько реакция личности на эту реальность. Пропор-
ция между выражением и изображением явно смещена в сторону
выражения. Исследуется мир, основанный на метафорических со-
ответствиях, переходах из одного в другое. Активно эксплуатиру-
ется принцип отстранения слова, разрабатываемый в это время на
теоретическом уровне В. Шкловским («О теории прозы», 1929).
Еще раз подчеркнем: подобный принцип организации повест-
вования делал орнаментализм весьма притягательным для нереа-
листических эстетических систем, прежде всего модернистских.
Наиболее очевидно это проявляется в экспрессионистической и
импрессионистической поэтике: орнаментальная проза является
наибоее адекватным способом выражения того мироощущения,
которое лежит в основе модернистской эстетики.
Именно такой — лирический — тип организации повествова-
ния эксплуатирует Б. Пильняк, прежде всего, в романе «Голый
год», хотя для него эта манера оказывалась наиболее продуктив-
ной на протяжении всей его творческой жизни, проявляясь и в
«Красном дереве», и в «О'кей», и даже в «Повести непогашенной
луны». «Голый год» лишен сюжета, строится по принципу риф-
мовки образов, их ассоциативной скрепленности. Весь роман про-
низывают центральные образы-символы: метель, характеризую-
щая общее неприкаянное состояние мира; солдатские пуговицы,
которые по принципу метафорического взаимодействия с други-
ми образами обращаются то в глаза, то вообще закрывают собой
лицо персонажа; кожаные куртки — образ, созданный по принци-
пу метонимии и ставший одним из центральных.
Орнаментальному стилю подчинена и вся архитектоника ро-
мана: чередование глав и триптихов, характеристика в оглавлении
«тональности» частей триптиха («самая светлая» и «самая темная»),
нарочитое обнажение приема, которое обусловлено стремлением
показать как бы незаконченность романа, его принципиальную
незавершаемость, разорванность, в которой отразились разорван-
ность и незавершенность самой эпохи: «Глава VII (последняя, без
названия)», или «Триптих последний (Материал, в сущности)»,
«Вне триптиха, в конце».
232
Стилевая организация модернистского романа
Подобный принцип стилевой организации текста давал воз-
можность Пильняку сделать его максимально полифоничным: ро-
ман как бы впитывает в себя голоса, звучащие в Китай-городе или
в Ордынине городе, оказывается способным включить в себя без
какой бы то ни было сюжетной мотивировки страницы летописи
или частушку, отрывок газетной статьи и фрагмент философского
сочинения «Бытие разумное, или Нравственные воззрения на до-
стоинства жизни», автором которого является герой романа Се-
мен Матвеев Зилотов.
К орнаментальной прозе обращается и М. Булгаков в романе
Белая гвардия». Именно орнаментализм как проводник элементов
импрессионистической поэтики давал возможность писателю как
можно более полно воплотить проблематику своего романа. Изоб-
ражая «драму субъективно честных людей, втянутых в кровавую
авантюру», Булгаков противопоставляет хаосу исторических ка-
таклизмов «идиллию внутрисемейной жизни Турбиных»: «Простым,
ежедневным отношениям Турбиных М. Булгаков стремится при-
дать особый смысл»236. Поэтому столь велика роль деталей, харак-
теризующая их домашний мир: печь со старинными изразцами,
кремовые шторы, голубые гортензии, «красного дерева бронзо-
вые пастушки на фоне часов, играющие каждые три четверти часа»,
мебель красного бархата, «чашки с нежными цветами снаружи и
золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок». «Все эти
детали домашнего обихода, — отмечает современный исследова-
тель, — становясь лейтмотивами повествования, призваны «при-
поднять» простые родственные отношения, романтизировать се-
мью как воплощение гармонии и устойчивости»237.
Эстетика орнаментальной прозы как раз и дает Булгакову воз-
можность сделать скрепами бытия эти детали домашнего уюта; в
мире, где сломаны все социальные связи, в мире, который перед
писателем и перед героями предстал как страшный кровавый хаос,
как бесприютная степь, где даже ветер на все лады выводит имя
Петлюры, лишь дом воплощает надежность, незыблемость, веч-
ность. Выход из его стен сулит гибель. Поэтому, построив свой
роман на принципах поэтической прозы, художник смог изменить
пропорции реального, представив хрупкое и беззащитное, ска-
жем, старинные часы или изразцы печи, как опору, дающую воз-
236 Скороспелова Е. Б. Русская советская проза 20-30-х годов: судьбы романа.
М„ 1985. С. 60-61.
237 Там же. С. 61.
233
Модернизм
можность личности не потерять себя в страшную эпоху русской
смуты. Булгаков прибегает к приему, характерному для орнамен-
тализма, как бы меняющего местами значимое с незначимым.
Именно лейтмотивный принцип организации повествования и
превращение обыденных, казалось бы, явлений, предметов, даже
имен в широкие образы-символы, дают возможность воплотить в
романе идиллическое жанровое содержание и в то же время вклю-
чить идиллию в исторический контекст и противопоставить ее кро-
вавому хаосу анархии.
Разумеется, такими широкими образами-символами становятся
не только приметы домашнего уюта. Литературные и общекультур-
ные реминисценции играют в контексте романа роль лейтмотивов.
«Белую гвардию» пронизывает тема Апокалипсиса, его центральные
образы включены в ткань повествования, его проблематика ассими-
лируется романом: это и мысли о вселенском масштабе происходя-
щего, идея о личной ответственности каждого за свои деяния, и
трагическая мысль о конце одного мира и начале нового. Из лите-
ратурных источников для «Белой гвардии» наиболее существенны
темы «Капитанской дочки» Пушкина. Центральные образы и сю-
жетные ходы переосмыслены писателем, включены в романную
полифонию и аранжированы в ней. Такое цитирование классичес-
ких текстов, подключенность к общекультурным источникам так-
же характеризует орнаментальную прозу.
Если Б. Пильняк в «Голом годе» и М. Булгаков в «Белой гвар-
дии» обращаются к орнаментальным принципам организации по-
вествования, создавая импрессионистическую эстетику, то про-
дуктивность поэтической прозы для экспрессионизма демонстри-
рует роман Ю. Олеши «Зависть».
Ю. Олеша решает сложные социально-психологические колли-
зии времени: он стремится сопоставить крайности той концепции
личности, что была предложена литературой 20-х годов. В образе
Андрея Бабичева воплощен крайний утилитаризм, характерный
для эстетических построений ЛЕФа, Пролеткульта, РАПП. Герой
воплотился в своего роду «функцию» дела. В художественном мире
романа ему противостоит его брат, Иван Бабичев, который стре-
мится к утверждению мира чувств в противовес рациональному
голому расчету. Проблематика романа, обусловленная этим конф-
ликтом, заставляет Олешу обратиться к поэтическим принципам
организации текста. Это оказывается связанным с тем, что текст
организован не объективно, что характерно для эпического рода
литературы, а сориентирован на воспринимающее сознание «с его
234
Стилевая организация модернистского романа
ассоциативностью, смещением временных пластов, свободным
передвижением в пространстве, сменой ракурсов, сближением
«далековатых» явлений». Это заставляет исследователя констати-
ровать, что «повествование в «Зависти» тяготеет к лирическому
типу изображения с присущими способами увеличения внутрен-
него объема текста», что внутри него «создаются условия «художест-
венной тесноты», подобные «тесноте стихового ряда», что связано
«с использованием принципа повтора, в частности «рифмовки»238.
Этому принципу подчинено соотношение двух частей романа,
которые как бы отражаются друг в друге: образ-символ зеркала,
появляясь в конце первой части, «мотивирует зеркальный прием в
композиции произведения: вторая часть не столько углубляет и раз-
вивает действие первой... сколько повторяет многие положения и
мотивы, углубляет их, превращает драму в комедию»239. Субъектив-
ный, лирический принцип организации повествования, связанный
с ориентацией на субъективное сознание героя (Кавалерова в пер-
вой части и Ивана Бабичева во второй), заставляет сокращать систе-
му персонажей. Она строится по принципу пар-антиподов, выража-
ющих крайние представления о сущности человеческой личности,
существующие в общественном сознании 20-х годов (Андрей Ба-
бичев — Иван Бабичев, Володя Макаров — Николай Кавалеров,
Валя — Анечка Прокопович). Центральные образы-лейтмотивы,
такие, как Четвертак, дешевая общественная кухня, или Офелия,
фантастическая машина, созданная для разрушения трезвого мира
делового расчета, подушка, с которой не расстается Иван Баби-
чев, символизирующая домашний уют и покой, колбаса и черему-
ха, создают композиционное единство романа.
Организация текста по поэтическим принципам дает возмож-
ность Олеше не столько прямо и объективно изобразить действи-
тельность, сколько заострить и довести до предела крайние пози-
ции в общественном сознании эпохи. Пренебрежение исконными
общечеловеческими ценностями, утилитаризм, рассмотрение че-
ловека как придатка к огромному идустриальному механизму от-
вергаются Олешей, нарочито снижаются. В результате конечной
целью такого человека, смыслом его жизни становится вкусная и
дешевая колбаса или гигантская общественная кухня, которые в
поэтическом контексте явно трактуются как низменные устремле-
238 Скороспелова Е. Б. Русская советская проза 20—30-х годов: судьбы романа.
С. 81.
23’Тамже. С. 81-82.
235
Модернизм
ния. Экспрессивное отрицание таких позиций оказывается возмож-
ным благодаря орнаментализму, создающему особую систему ко-
ординат, в которых традиционные ценности, воплощенные, на-
пример, в образе-символе черемухи, о которой мечтает Кавале-
ров, сталкиваются с явлениями, недостойными поэтического
контекста (кухня, колбаса). Но и чувственность Кавалерова или
Ивана Бабичева не является выходом из тупика, в котором оказа-
лось общество, строящее Четвертак, по крайней мере, они совер-
шенно бессильны перед ним, а машина Офелия — лишь плод во-
ображения героя. И та и другая позиции трактуются ущербными.
Возможен ли их синтез?
В романе Олеши синтез не намечается, да и вряд ли художник
видел в этом свою цель. В его задачу входила, скорее, констатация
неудовлетворительности и неполноты той и другой позиции, что
характерно для экспрессионистической эстетики, направленной
на выражение, как можно более зримое и гротескное определен-
ной идеи. Модернистская эстетика лишь фиксирует несовершен-
ство общественной жизни, ставит и заостряет проблему. Ее разре-
шение — задача эстетики реалистической.
V
ПРЕОДОЛЕНИЕ РАСКОЛА
(вместо заключения)
Некоторые итоги
В основном предметом размышлений в этой книге были два
десятилетия: 1920—1930-е годы. Конечно же, мы с неизбежностью
обращались и к более раннему периоду (началу века) и к последу-
ющему — вплоть до 1940—1950-х годов, когда, с одной стороны,
политическое давление на литературу и любые другие сферы гума-
нитарной мысли достигло своего апогея, с другой — советская
партийно-государственная политика практически исчерпала себя,
оставаясь целиком в рамках прежней историко-культурной пара-
дигмы, созданной в ЗО-е годы. Именно на переломе века — и хро-
нологическом, и историко-культурном — в недрах литературного
процесса формируется идеология эстетического и философского
противостояния соцреалистическому канону. В качестве примера
подобного противостояния можно рассматривать роман Б. Пастер-
нака «Доктор Живаго».
А что же было потом? Какое развитие получили те социокуль-
турные тенденции, воплощение которых на уровне литературного
процесса мы попытались описать? Как сложилась историческая
судьба массового человека? Как продолжалось (и продолжалось ли)
эстетическое бытие химерической культурной конструкции соц-
реализма? Как складывались судьбы собственно реалистической и
модернистской эстетики? Как все это отразилось в конкретном
литературном творчестве?
Положение массового человека, ощущавшего себя гегемоном
революции и хозяином национальной исторической жизни в 20-е
годы (бытие его отражено М. Булгаковым в «Собачьем сердце»;
пороки, легко поддающиеся манипуляции О. Бендеру, показаны в
«Двенадцати стульях»; наивная философия вскрыта М. Зощенко в
рассказах и повестях 20-х годов, а бытийный трагизм — А. Плато-
237
Преодоление раскола
новым в романах «Котлован» и «Чевенгур»), к середине 30-х годов
меняется. Мнимая власть, которой он якобы обладал над истори-
ей и культурой, концентрируется в руках партии, а затем и в руках
ее лидера, И. В. Сталина. Он и становится главным «художником»
советской эпохи, единым автором «монументального стиля», созда-
ющегося в рамках «Культуры Два». Но время от времени массовому
человеку предоставляли возможность вновь испытать иллюзию со-
творчества и сопричастности власти: главным образом в политичес-
ких кампаниях травли писателей, где ему предоставлялась возмож-
ность выступить в жанре обличительного письма на газетной полосе.
Классическим образчиком такого выступления стало «Открытое пись-
мо главному редактору журнала «Новый мир» тов. Твардовскому А. Т.»,
опубликованное в газете «Социалистическая индустрия» в 1969 г. и
направленное против либерального курса к тому времени оставше-
гося в полном одиночестве советского «оттепельного» журнала. Фра-
зеологическим оборотом, вошедшим в современный русский язык,
стала фраза массового человека «не читал, но осуждаю», произне-
сенная во время кампании травли Б. Пастернака и его романа «Док-
тор Живаго», удостоенного Нобелевской премии. Массовому чело-
веку вообще удавалось говорить лапидарно. Вероятно, последним его
афоризмом стала фраза «не могу поступиться принципами», произ-
несенная в начале горбачевской перестройки. Однако его роль в со-
циокультурной ситуации последующего времени несопоставима с
той, которую ему довелось сыграть в 20-е годы.
Иначе сложилась судьба социалистического реализма. За два
десятилетия (середина 1930-х — середина 1950-х) сформировался
соцреалистический канон, «Культура Два», монументальный стиль,
реализовавшийся не только в литературе, но и в кинематографе,
музыке, архитектуре. Рассмотрение его с идеологической точки
зрения явно недостаточно, ибо идеология, вызвавшая его к жиз-
ни, уже принадлежит истории и возрождение ее в прошлом вари-
анте, как кажется, вряд ли возможно. Его омертвение началось в
середине 50-х годов, а завершилось в 80-е. Поэтому сейчас акту-
ально обращение к нему с точки зрения эстетической, чем и за-
нимаются исследователи соцреалистического канона — в основ-
ном зарубежные или же наши, работающие в западных универси-
тетах. Думается, что это величественное, мрачное и в то же время
оптимистическое, изощренное и одновременно наивное явление
ждет своего отечественного исследователя.
Своей неимоверной тяжестью оно придавило все остальное.
Лишь во второй половине прошлого века художественное и фило-
238
Некоторые итоги
софское сознание стало воскресать после анабиоза, вспоминая,
что было раньше: демократическую идею («Новый мир» 1960-х
годов), русскую национальную идею («Наш современник» 1970—
1980-х годов). Оба направления при своей трагической для литера-
туры этого периода оппозиционности были устремлены, в итоге,
к общей цели: они воссоздавали в новых, постсталинских услови-
ях забытые и утраченные стороны русской культуры и русского
сознания. Оба направления, представляемые этими журналами, сто-
яли на реалистических позициях. С их деятельностью связано появле-
ние и эстетико-философское осмысление таких явлений русской ли-
тературы второй половины XX столетия, как деревенская проза, а
также военная, городская, лагерная проза. Разногласия, политико-
идеологические, эстетические, личные, существовавшие между ин-
теллигенцией, приверженной тому или иному направлению, сей-
час, из исторической перспективы, кажутся малозначительными.
Виднее сходство: огромна их роль в возрождении русской литерату-
ры и русского сознания, пусть и разных его сторон, которые тогда
писателями и журналистами мыслились как взаимоисключающие.
Становление послесталинской литературы вполне естественно
шло по реалистическому пути: А. Солженицын, Ю. Трифонов, В. Рас-
путин, В. Астафьев, Ю. Бондарев, С. Залыгин... Однако реалистичес-
кая литература, сконцентрированная на социально значимом, не
могла уловить те стороны жизни человека, которые были обусловле-
ны не социальными, а какими-то иными сторонами бытия, часто
подсознательными, неосознаваемыми или непознанными, ирраци-
ональными, мистически предопределенными, которые нуждались в
своем воплощении с точки зрения опыта второй половины XX сто-
летия. Ведь этот опыт показал и ограниченность научного знания,
его неокончательность и, возможно, неподлинность; он показал,
что мистическое и иррациональное пронизывают нашу жизнь и на-
ука бессильна утвердить или опровергнуть сам факт их существова-
ния. На смену реалистическому взгляду, обращенному к рациональ-
но постижимым процессам, в последней трети XX в. пришел взгляд
иной, часто утверждающий отказ от рациональной постижимости
человеческого бытия. Это был шаг русской литературы конца XX в. в
сторону модернистской эстетики. Началом такого освоения мира стали
80-е годы, проза сорокалетних, творчество В. Маканина, утвержда-
ющего иррациональные основы бытия («Где сходилось небо с хол-
мами») и неомифологический роман А. Кима («Белка», «Отец лес»).
Завершил же столетие постмодернизм, разрушивший все эсте-
тико-идеологические каноны, созданные последними двумя сто-
239
Преодоление раскола
летиями (В. Сорокин), и осмысляющий современность сквозь приз-
му сознания человека, дезориентированного в обломках прошлых
эпох, среди которых и протекает жизнь современного человека
(В. Пелевин). Реалистическая эстетика оказалась вытесненной.
И это, думается, тоже неслучайно. На протяжении последней
четверти века, а в последние десять лет — все более и более явно
разрушались традиционные для русской литературы последних двух
столетий отношения в системе «читатель — писатель». Современ-
ная русская культура на наших глазах резко меняет свои очертания.
Изменился статус литературы: русская культура перестала быть
«литературоцентричной».
Перед ныне живущими поколениями русских людей, привык-
ших видеть в литературе одну из самых важных форм обществен-
ного сознания, подобная ситуация может предстать как драмати-
ческая. Новый писатель, пришедший в литературу в 1990-е годы,
часто не только не может, но и не хочет предстать реалистом, сле-
довательно, мыслителем, всерьез озабоченным ролью человека в
историческом процессе, философом, размышляющим о смысле че-
ловеческого бытия, историком и социологом, ищущим истоки се-
годняшнего положения дел и нравственную опору в национальном
прошлом. Если все эти темы и остаются, то в заниженном, комичес-
ком, переосмеянном варианте, как, к примеру, у В.Пелевина, в его
романах «Жизнь насекомых» или «Чапаев и пустота». Роль писателя
как учителя жизни на глазах оказалась поставлена под сомнение.
В самом деле, чем писатель отличается от других? Почему он дол-
жен учительствовать? Поэтому читателями, традиционно рас-
сматривавшими литературу как учебник жизни, а писателя — как
«инженера человеческих душ», нынешнее положение осмысляет-
ся как ситуация пустоты, своего рода культурного вакуума.
Масштабы подобного можно себе представить особенно на-
глядно, если вспомнить, что два последних столетия, начиная с
пушкинской эпохи, русская культура была именно литературо-
центрична: словесность, а не религия, философия или наука,
формировала национальный тип сознания, манеру мыслить и чув-
ствовать.
В результате литература сакрализировалась, стала священным
национальным достоянием. Формулы «Пушкин — наше все» или
«Пушкин у нас — начало всех начал» определяли место литерату-
ры в национальной культуре и место писателя в обществе.
Но естественна ли была сакрализация литературы? Ее культ в
сознании русской интеллигенции? Возможно, нет — ведь хотим
240
Некоторые итоги
мы того или не хотим, русская литература XIX и XX вв. приняла на
себя функции, вовсе не свойственные словесности. Она стала фор-
мой социально-политической мысли, что было, наверное, неиз-
бежно в ситуации несвободного слова, стесненного цензурой —
царской или советской. Вспомним мысль Герцена: народ, лишен-
ный трибуны свободного слова, использует литературу в качестве
такой триуны. Она стала формой выражения всех без исключения
сфер общественного сознания — философии, политики, эконо-
мики, социологии. Писатель оказался важнейшей фигурой, фор-
мирующей общественное сознание и национальную ментальность.
Он принял на себя право бичевать недостатки и просвещать серд-
ца соотечественников, указывать путь к истине, быть «зрячим по-
сохом» народа. Это означало, что литература стала особой формой
религии, а писатель — проповедником. Литература подменила со-
бой Церковь...
Подобная ситуация, сложившаяся в XIX в., стала особенно
трагичной в XX столетии, в условиях гонения на Церковь. Литера-
тура оказалась храмом со своими святыми и еретиками, тексты
классиков стали священными, а слово писателя могло восприни-
маться как слово проповедника. Литература как бы стремилась за-
полнить нравственный и религиозный вакуум, который ощущало
общество и его культура. Но беда в том, что слово художника — не
слово пастыря. Ничто не может заменить обществу Церковь, а че-
ловеку — слово священника. Литература, взяв на свои плечи непо-
сильную ношу, «надорвалась» к концу века. Фигура писателя —
учителя жизни оказалась вытеснена еретиком — постмодернистом.
Отсюда и трагическое для общества ощущение утраты последней
веры и культурного вакуума, который раньше заполняла литера-
тура — в ней находили ответы на «проклятые вопросы», она фор-
мировала общественное сознание, давала ориентиры движения в
историческом потоке, определяла перспективы и указывала на
тупики, являла образцы подвижничества или нравственного па-
дения. Именно в литературе XIX столетия сформировались наци-
онально значимые образы, своего рода архетипы национальной
жизни, такие, как «Обломов и обломовщина», «тургеневские де-
вушки», «лишние люди» Онегин и Печорин. В XX в. ситуация поч-
ти не изменилась. Достаточно вспомнить широкие образы-симво-
лы, пришедшие из литературы в нашу жизнь в 80-90-е годы:
«Манкурт» Ч. Айтматова, «Белые одежды» В. Дудинцева, «По-
жар» В. Распутина, «Покушение на миражи» и «Расплата» В. Тенд-
рякова — и «Раковый корпус», «Красное колесо», «Шарашка»,
241
Преодоление раскола
«Архипелаг» А. Солженицына. Они сложились в своего рода «код»
эпохи и стали категориями общественного сознания цервой поло-
вины 90-х годов. И вдруг, внезапно, молниеносно, меньше чем за
десятилетие, литература перестала быть религией, слово писате-
ля — словом духовного пастыря.
Надолго ли? Думается, что нет. Исторический и культурный
опыт XX столетия нуждается именно в реалистическом осмысле-
нии — но с новых позиций. Такие позиции предложены тем типом
реализма, который нашел свое воплощение в творчестве А. И. Сол-
женицына.
Творчество А. И. Солженицына
как итог столетия
В современной литературе Солженицын — единственная круп-
ная фигура, чье воздействие на литературный процесс будущего
века только лишь начинается. Он еще не понят и не осмыслен
нами, его опыт не продолжен в современном литературном про-
цессе. То, что это воздействие будет огромным, представляется
совершенно несомненным. Во-первых, его творчество отразило
важейшие исторические события русской жизни XX в., и в нем
содержится глубокое их объяснение с самых разных точек зрения —
социально-исторической, политической, социокультурной, наци-
онально-психологической. Возможно, что русские люди наступив-
шего века будут изучать национальную историю по его произведе-
ниям. Во-вторых (и это самое главное), судьбу России ушедшего
столетия Солженицын воспринимает как проявление Божествен-
ного промысла, и взгляд на русскую судьбу с мистической точки
зрения тоже близок ему. Онтологическая символика в его расска-
зах, в эпопее «Красное колесо» трактуется как проявление Выс-
шей воли. При этом писатель скрупулезно документален, и сама
действительность, воспроизведенная с точностью до мельчайших
деталей, обретает глубоко символический смысл, трактуется ме-
тафизически240. Это важнейший смысловой аспект его произведе-
240 Некоторые аспекты онтологической проблематики рассказов Солженицы-
на и эпоса «Красное колесо» проанализированы в работе П. Е. Спиваковского
«Феномен А. И. Солженицына: новый взгляд» (М., 1999).
242
Творчество А. И. Солженицына как итог столетия
ний, что открывает для него путь к синтезу реалистического и
модернистского взгляда на мир.
Солженицын начал свой литературный путь в эпоху хрущев-
ской «оттепели». Это был, как сейчас можно предположить, послед-
ний этап в развитии русской культуры, когда голос писателя, если
воспользоваться лермонтовской строкой, «звучал как колокол на
башне вечевой/во дни торжеств и бед народных». Толпы людей
собирались у памятника В. Маяковскому слушать молодых поэтов —
А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, что трудно
представить себе теперь, а имена Вихрова и Грацианского, героев
романа «Русский лес» Л. Леонова, были нарицательными. Воздей-
ствие писателя на общественное сознание оказалось почти столь
же огромно, как во времена некрасовского «Современника». Такая
ситуация характеризуется совершенно особыми отношениями в
системе «читатель — писатель»: между этими двумя важнейшими
фигурами литературного процесса происходит интенсивный взаи-
мообмен идей и настроений. Такие моменты, вероятно, являются
наиболее плодотворными для литературы и для общества: обмен
мыслительной и эмоциональной энергией, когда появление ново-
го романа или цикла стихов рождает моментальный ответ в виде
читательского письма или журнальной рецензии, выводит литера-
туру за рамки явления сугубо эстетического и превращает ее в
сферу общественно-политической мысли. На рубеже 50—60-х го-
дов решение собственно художественных задач было подчинено
целям иным. Разрушение соцреалистического канона началось с
того, что перед обществом и литературой встала проблема само-
ориентации в потоке исторического времени и художник оказался
самой важной фигурой, приступившей к ее решению. Литература
перестала быть средством эстетизации действительности и вновь
обретала присущие ей функции познания мира.
А. Солженицын был тогда и остался по сей день писателем,
стремящимся реализовать возможности прямого воздействия на
общество писательским словом. Думается, что и литературное по-
прище было избрано им как общественная трибуна, с которой
можно обратиться к современникам и потомкам. Литературный дар
открывал возможность, оставаясь художником, говорить о про-
блемах политических, как бы балансируя между политикой и ху-
дожественностью и совмещая их. «Конечно, политическая страсть
мне врождена, — размышлял Солженицын уже значительно поз-
же о первых днях своего пребывания на Западе после департации
243
Преодоление раскола
из СССР в 1974 г. — И все-таки она у меня — за литературой,
после, ниже. И если б на нашей несчастной родине не было погуб-
лено столько общественно-активных людей, так что физикам-ма-
тематикам приходится браться за социологию, а поэтам за поли-
тическое ораторство, — я отныне и остался бы в пределах литера-
туры»241. Тогда, в начале 60-х, он сумел реализовать возможности,
данные короткой оттепелью писателю: заявил о себе, стал извес-
тен и заметен и не отступался от самого себя уже никогда. Мало
того, сумел укрепить и сделать более значимой роль писателя-про-
поведника уже в брежневское время, когда и та незначительная
свобода слова, что была дана хрущевской оттепелью, урезалась и
урезалась с каждым годом.
Отношения в системе «читатель — писатель», сложившиеся в
литературе конца 50—60-х годов, давали Солженицыну возмож-
ность прямого обращения к самому широкому читателю и форми-
рования общественного сознания. Это был тот момент, когда чи-
тательская аудитория видела (и не ошибалась!) в Солженицыне
человека, способного отразить трагическую, запретную и неосмыс-
ленную ни в художественном, ни в социально-политическом ас-
пекте правду национальной жизни — и не только лагерную. С са-
мого начала писательского пути Солженицын смотрел шире, вы-
нашивая в своем сознании не только «Архипелаг ГУЛАГ», но и
замысел историософского романа о русской революции под ус-
ловным названием «Р-17», воплотившегося десятилетия спустя в
эпопее «Красное колесо». Однако его взгляд вовсе не исчерпывал-
ся лишь критикой «культа личности Сталина» или даже всей со-
ветской системы. Он смотрел еще шире и дальше: XX век интере-
совал его как переломный момент русской судьбы. Поэтому на
первом месте в его творчестве была все же не проповедническая, а
познавательная функция литературы.
Синкретизм как творческая доминанта определяет специфику
художественности его произведений. Классический роман (нелю-
бимое жанровое определение писателя) или повесть не выдержи-
вали чрезмерной смысловой нагрузки, поэтому после «В круге пер-
вом» и «Ракового корпуса» Солженицын создает новую крупную
жанровую форму, с явным преобладанием документального мате-
риала — «Узлы» эпопеи «Красное Колесо». При этом включение в
241 Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов: Очерки изгна-
ния (1974~1978)//Новый мир. 1998. № 9. С. 53-54.
244
Русский характер в процессе деформаций
повествовательную структуру авторской публицистики, прямое
выражение авторской позиции по политическим и историософ-
ским проблемам, столь не характерное для реалистической рус-
ской прозы последних двух столетий, соседствует с традиционны-
ми для романиста формами психологического анализа, объектами
которого выступают как реальные политические деятели, опреде-
лявшие судьбы России, так и вполне заурядные граждане.
Русский характер в процессе деформаций
Предметом исследования А. Солженицына стал русский наци-
ональный характер в его разных личностно-индивидуальных про-
явлениях, охватывающих практически все слои русского общества
в переломные моменты его бытия: политический Олимп, генера-
литет, дипломатический корпус, карательные аппараты, служа-
щие разным режимам, советские заключенные, лагерные надсмотр-
щики, крестьяне антоновской армии, советский партаппарат раз-
ных десятилетий... Солженицын прослеживает изменения русской
ментальности, показывает процесс мучительной ломки националь-
ного сознания. Можно сказать, что русский характер запечатлен
им в процессе деформаций.
Эпос Солженицына дает материал для исследования конкрет-
ных форм этих деформаций и условий, приведших к ним. Принято
считать, что это условия политические. Действительно, трудно най-
ти писателя столь явно политизированного, сделавшего предме-
том художественного исследования документальное воспроизведе-
ние политических событий Августа Четырнадцатого или Апреля
Семнадцатого. Но нам представляется, что энциклопедический по
объему исторический материал нуждается не только в политичес-
ком осмыслении (оно, в частности, предложено самим Солжени-
цыным, не желающим «переваливать работу исследования с авто-
ра на читателя»242), сколько в онтологическом и социокультур-
ном. В конечном итоге, в реальных исторических лицах, ставших
героями «Красного Колеса», таких как Ленин или Столыпин, и в
характерах вымышленных, как Иван Денисович или дипломат Во-
242 Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ: В 3 т. Вермонт; Париж, 1987. Т. 2. С. 607.
Далее ссылки на «Архипелаг ГУЛАГ» с указанием тома и страницы даются по
этому изданию.
245
Преодоление раскола
лодин («В круге первом»), Солженицын представляет грани наци-
онального характера, сформированного предшествующей истори-
ей и обусловившего историю нашего столетия. В сущности, весь
эпос Солженицына можно рассмотреть как уникальный материал
по русской характерологии, требующий научного осмысления со
стороны ученых, профессионально связанных с той областью зна-
ния, которая определяется как «русская идея».
«Большевики перекипятили русскую кровь на огне», — приво-
дит А. Солженицын слова Б. Лавренева, — и это ли не изменение,
не полный пережог народного характера?!»243 Изменение, совер-
шенное целенаправленно и вполне в прагматических целях: «А боль-
шевики-то быстро взяли русский характер в железо и направили
работать на себя» («Россия в обвале». С. 170). Очевидно, что одной
из самых чудовищных форм «перекипячения» русской крови стал
архипелаг ГУЛАГ, выросший из страны и сделавший ее своей ча-
стью.
«Архипелаг ГУЛАГ» как опыт художественного исследования
включает в себя и эту проблематику — показывает, как перекипа-
ла русская кровь. Писатель фиксирует оскудение народной нрав-
ственности, проявившееся в озлоблении и ожесточении людей,
замкнутости и подозрительности, ставшей одной из доминант на-
ционального характера. И находит этому вполне естественные объяс-
нения. Однако для читателя, индивидуальное становление которо-
го пришлось уже на другую эпоху, существуют вещи, оказываю-
щиеся выше разумения.
Одна из них — безусловное нравственное и интеллектуальное
превосходство узников Архипелага над надсмотрщиками и тюрем-
щиками. Его населяли лучшие — самые талантливые, самые ду-
мающие, не сумевшие или не успевшие усредниться или же в прин-
ципе неспособные к усреднению. В чем состояла необходимость
селекции худшего и искоренения лучшего? Зачем власти нужна
была отрицательная селекция национального характера: «легкое
торжество низменных людей над благородными кипело черной воню-
чей мутью в столичной тесноте, — но и под арктическими честными
вьюгами, на полярных станциях <...> зловонило оно и там» («Архипе-
лаг ГУЛАГ». Т. 2. С. 596)? В чем истоки этого легкого торжества
243 Солженицын А. И. Россия в обвале. М., 1998. С. 171. Далее ссылки на это
издание с указанием страницы даны в тексте.
246
Русский характер в процессе деформаций
низменных над благородными? Дает ли Солженицын ответ на этот
вопрос?
Кроме того, вглядываясь в контуры Архипелага, очерченные
Солженицыным, человек постсоветской эпохи не может не заду-
маться о бессмысленной изощренности его индустрии и не уди-
виться вместе с автором: зачем, скажем, нужна была столь много-
образная система арестов с их избыточной выдумкой, сытой энер-
гией, а жертва не сопротивлялась бы и без этого: «Ведь кажется
достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки — и они сами
в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к черным желез-
ным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной
для них камере» («Архипелаг ГУЛАГ». Т. 1. С. 22). Поражает и застав-
ляет думать бессмысленная, казалось бы, изобретательность тю-
ремщиков, создавших целую науку «тюрьмоведения»; безропот-
ность арестантов 30-х годов. Не перестает удивлять и столь неболь-
шой объем литературы о национальном сопротивлении режиму и
почти полная неосмысленность современным литературно-крити-
ческим сознанием произведений о сопротивлении, таких как «Бе-
лые одежды» В. Дудинцева или «Последний бой майора Пугачева»
В. Шаламова. Все факты бессмысленной растраты национальной
энергии на создание индустрии ГУЛАГА (изощренность арестов,
многообразие этапов, хитроумность «шмонов», садистская изоб-
ретательность пыточного следствия и все-все подобное, о чем сви-
детельствует автор «Архипелага»), существующей для еще более
бессмысленной и нерачительной даже с экономической точки зре-
ния растраты народных сил, свидетельствуют о некой националь-
ной катастрофе, национальном поражении разума. Солженицын
воспроизводит картину самоуничтожения нации, когда одна ее
часть создала индустрию для уничтожения другой ее части, при-
чем машина уничтожения оказалась сильнее ее создателей, захва-
тывая в свои шестерни всех, и их самих в том числе.
Поиски ответа на эти вопросы заставляют обратиться к прош-
лому. Переживала ли Россия когда-либо нечто подобное? Думает-
ся, что да — вспомним Грозного, страшное помело опричнины,
выметавшее целые деревни и города. Именно Иван Грозный воз-
двиг не только страшные застенки, где хозяйничал Малюта Ску-
ратов, но и уничтожил Новгород, превратил палачество в атрибут
государственной жизни, собрав вокруг себя целый класс таких же
палачей — профессионалов и любителей. А Петр I, строящий на
костях Петербург и превращающий в рабов литейных заводов рус-
247
Преодоление раскола
ских крестьян? Кажется, что это какая-то роковая особенность
русской истории с мерцающими в ней эпизодами самоистребле-
ния нации — то в великой смуте XVII в. или в гражданской войне
нашего столетия, то по прихоти тиранов — Ивана IV, Петра I,
Ленина, Сталина. При этом периоды тирании находятся во внут-
ренней связи между собой: их объединяет страшная жестокость,
внешняя бессмысленность и мгновенное разделение нации на две
группы: палачей и жертв (возможен, правда, переход некоторых
личностей из одной группы в другую). При этом периоды нацио-
нального самоуничтожения сменяются периодами относительной
стабилизации, когда народ как бы восстанавливает подорванные
силы — для чего? Страшно подумать — не для новой ли опрични-
ны? Уникален в этом смысле наш век, почти не давший отдыха:
«советско-германская война и наши небереженные в ней, несчитанные
потери, — они, вослед внутренним уничтожениям, надолго подорвали
богатырство русского народа — может быть, на столетие вперед. От-
гоним от себя мысль, что — и навсегда» («Россия в обвале». С. 171).
Кажется, что Солженицын, рассказывая об Архипелаге и о
своем противостоянии Системе, просто воспроизводит один из
ритмических тактов русской истории, показывая проявления об-
щего в социальной конкретике нашего столетия. А общим этим
оказывается, по словам Солженицына, «селективный противоот-
бор, избирательное уничтожение всего яркого, отметного, что выше
уровнем», «подъем и успех худших личностей» («Россия в обвале».
С. 170—171). Иными словами, если вновь воспользоваться терми-
нологией Л. Гумилева, предметом изображения у Солженицына
становится проявление в русской истории «антисистемы — сис-
темной целостности людей с негативным мироощущением, вы-
работавшей общее для своих членов мировоззрение», стремящей-
ся к упрощению Бытия вплоть до его уничтожения, что создает
«характерную для химеры обстановку всеобщей извращенности и
неприкаянности». Формируется «система негативной экологии»,
стремящаяся к «аннигиляции культуры и природы».
Творчество Солженицына представляет собой антологию сло-
жившейся в советское время антисистемы. «Архипелаг ГУЛАГ»
являет опыт художественного исследования механизма этой анти-
системы и ее эволюции.
Если принять подобную точку зрения, то она может объяснить
сознание тех, кто властвовал Архипелагом, кто положил свою
жизнь на то, чтобы быть надсмотрщиками над аборигенами
248
Русский характер в процессе деформаций
ГУЛАГа, выбравши добровольно «псовую службу» — лагерщиков.
В результате целенаправленной селекции этого слоя и создавалось
у них химерическое сознание, которое Гумилев мог анализировать
в тех же условиях, что и Солженицын — в ГУЛАГе. «Пострадало от
них, — пишет Солженицын, — миллионов людей куда больше, чем от
фашистов, — да ведь не пленных, не покоренных, а — своих соотечест-
венников, на родной земле. Кто нам это объяснит?» («Архипелаг ГУЛАГ».
Т. 2. С. 496).
Но вопрос в том, как был создан миллионный «кадр» пала-
чей, портреты которых мы находим у Солженицына. В способнос-
ти нации создать его и поставить на службу антисистеме, отлив-
шейся в карательные формы тоталитарного государства, тоже, ве-
роятно, проявляется некая историко-культурная закономерность,
как бы свидетельствующая о готовности нации к самоистребле-
нию.
Архипелаг, описанный Солженицыным, стал квинтэссенцией
русского варианта господства массового человека, тотального уни-
жения всего индивидуального и неравного массе. Описывая черты
психологического склада людей, служащих ГУЛАГу, в их иерар-
хии от полковника и ниже («может ли пойти в тюремно-лагерный
надзор человек, способный хоть к какой-нибудь полезной деятельности?
<...> вообще может ли лагерщик быть хорошим человеком? Какую
систему морального отбора устраивает им жизнь?» (Т. 2. С. 494), Сол-
женицын воспроизводит характер массового человека, четко струк-
турированный Ортегой. Его господство в лагере и в государстве
обусловлено отрицательной селекцией (черта антисистемы): «у ла-
герщиков, прошедших строгий отрицательный отбор — нравственный и
умственный — у них сходство характеров разительное» (Т. 2. С. 497):
спесь и самодовольство, тупость и необразованность, самовластие
и самодурство, ощущение лагеря вотчиной, а заключенных — сво-
ими рабами, а себя — пролетарием. Формы государственного бы-
тия и бытия ГУЛАГа (а это, как показывает Солженицын, явле-
ния вполне смежные) есть одно из проявлений химеры, возник-
шей в результате культурной аннигиляции.
Алогизм, беззаконие и бессмысленность (нравственная, эко-
номическая — любая) геноцида против собственного народа были
не только результатом злой воли Ленина и Сталина и не результа-
том деятельности партии, т.е. сравнительно небольшой группы
людей, направленной против подавляющего большинства народа,
а итогом не вполне осознанных пока закономерностей националь-
249
Преодоление раскола
но го исторического развития, выразившегося в создании химери-
ческой культурной конструкции и конечном торжеств? антисисте-
мы. Мы попытались показать, что к ее возникновению привело
трагическое столкновение двух русских субкультур.
Однако в творчестве А. Солженицына содержится и другое объяс-
нение тех явлений, о которых мы пытались размышлять. И ГУЛАГ,
и господство массового человека как явление европейской (а не
только русской) истории XX в. объясняется писателем гуманисти-
ческими идеями, пришедшими из эпохи Возрождения и исказив-
шими представления о смысле человеческого бытия.
Как одно из самых больших заблуждений современной циви-
лизации писатель трактует гуманистические идеи, восходящие к
ренессансной эпохе и высшей ценностью мира, центром мирозда-
ния, целью развития вселенной утверждающие человека. «Мерою
всех вещей на земле оно (гуманистическое мировоззрение. — М. Г.)
поставило человека — несовершенного человека, никогда не свобод-
ного от самолюбия, корыстолюбия, зависти, тщеславия и десятков других
пороков»244. Такие идеи видятся Солженицыну как антирелигиоз-
ные, несовместимые с христианским мировоззрением, умножаю-
щие гордыню человека и человечества. Такое миросознание «мо-
жет быть названо рационалистическим гуманизмом либо гуманистичес-
кой автономностью — провозглашенной и проводимой автономностью
человека от всякой высшей над ним силы. Либо, иначе, антропоцентриз-
мом — представлением о человеке как о центре существующего». Это
привело к тому, что гуманистическое сознание «не признало за челове-
ком иных задач выше земного счастья и положило в основу современ-
ной западной цивилизации опасный уклон преклонения перед челове-
ком и его материальными потребностями. За пределами физического
благополучия и накопления материальных благ все другие, более тон-
кие и высокие, особенности и потребности человека остались вне вни-
мания, <...> как если бы человек не имел более высокого смысла
жизни» (Публицистика. Т. 1. С. 324).
Современному человеку, русскому или же западноевропейцу,
воспитанному на просвещенческих идеалах, определяющих систе-
му его ценностей на протяжении последних трехсот лет, практи-
чески невозможно смириться с мыслью, что не его счастье и не
счастье человечества является конечной целью существования Все-
244 Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995—1997. Т. 1. С. 327.
Далее ссылки на это издание с указанием тома и страницы даны в тексте.
250
Русский характер в процессе деформаций
ленной. И в этом смысле неважно, где он рожден и воспитан: со-
ветская идеология мало чем отличалась от западной. «Не случайно
все словесные клятвы коммунизма, — говорил Солженицын в Гарвард-
ской речи, — вокруг человека с большой буквы и его земного счастья.
Как будто уродливое сопоставление — общие черты в миросознании и
строе жизни нынешнего Запада и нынешнего Востока! — но такова
логика развития материализма» (Публицистика. Т. 1. С. 326).
Но для чего же тогда рожден человек, если не для счастья?
Такая постановка вопроса видится Солженицыным как глубоко
порочная реализация просвещенческих идей. Многократно упро-
щенные в лозунгах советской литературы, эти идеи оборачивают-
ся гибелью личности, обладающей «жалкой идеологией» «человек
создан для счастья», выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына»
(«Архипелаг ГУЛАГ»),
Довод, которым Солженицын опровергает «жалкую идеоло-
гию», формулу «человек создан для счастья», прост и очевиден и
уходит в бытийную, экзистенциальную сущность миропорядка:
«Если бы, как декларировал гуманизм, человек был рожден только для
счастья, — он не был бы рожден и для смерти. Но оттого, что он телесно
обречен смерти, его земная задача, очевидно, духовней: не захлеб по-
вседневностью, не наилучшие способы добывания благ, а потом весело-
го проживания их, но несение постоянного и трудного долга, так что весь
жизненный путь становится опытом главным образом нравственного воз-
вышения: покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал ее»
(Публицистика. Т. 1. С. 327).
Видит ли современный человек эту цель в конце своего жиз-
ненного пути? Если нет, то причиной тому, по Солженицыну,
становится дезориентация современного человека в этом мире и
забвение им основных, глубинных, бытийных ценностей, и как
результат — утрата истинного смысла жизни.
С гуманистическими идеями связаны и многообразные мифо-
логические представления, выработанные литературой XIX в. и
способные лишь дезориентировать человека в историческом прост-
ранстве. Среди них — идеализация народного характера без сколь-
ко-нибудь глубинного знания народной жизни, представления о
некой мистически предопределенной правоте народа на любых
поворотах истории, уверенность в некой фатальной истинности
народных представлений.
Вероятно, глубокая укорененность этих представлений, при-
несенных литературой XIX в., была следствием неудачной попыт-
251
Преодоление раскола
ки заполнить духовный вакуум, образовавшийся в результате заб-
вения «морального наследства христианских веков» и.воли Выс-
шего Духа, стоящего над людской жизнью. Но в человеке, даже
выделившемся, противопоставившем себя миру, роду, жива по-
требность ощущения этой воли, потребность понимания Божест-
венного замысла, дающего высшую нравственную оценку деяний
личности и нации и придающего смысл индивидуальному и наци-
ональному бытию. Общество, потерявшее ощущение Высшего
Промысла, направляющего судьбу человека и историю нации,
попыталось на это место поставить идеализированный образ На-
рода, который предстал как хранитель высшей мудрости и высше-
го знания о предназначении национальной судьбы. Истоки такого
понимания — во второй половине XIX в. и, в первую очередь, в
революционно-демократической идеологии.
В сущности, взгляды Солженицына, прямо выраженные в Гар-
вардской лекции, дают ключ к пониманию той вековой распри
между народом и интеллигенцией, о которой речь шла в предшест-
вующих главах. Обращение писателя к историческим обстоятель-
ствам начала XX в., в итоге разрешившимся гражданской вой-
ной, обнаруживает утопизм представлений русской интеллиген-
ции о «народе-богоносце». Следование этому мифу сказывается
катастрофически и на судьбах людей, воспитанных в этих пред-
ставлениях книгами и средой, и на крестьянских судьбах. Траге-
дии подобного рода исследуются Солженицыным и в десятитом-
ной эпопее «Красное Колесо», и в неболшом цикле «двучастных»
рассказов.
В 1995 г. Солженицын опубликовал новые рассказы, которые
он назвал «двучастными»245. Важнейший их композиционный прин-
цип — противоположность двух частей, что дает возможность со-
поставления двух человеческих судеб и характеров, проявивших
себя по-разному в общем контексте исторических обстоятельств.
Их герои — и люди, казалось бы, канувшие в безднах русской
истории, и оставившие в ней яркий след, такие, например, как
маршал Г. К. Жуков, — рассматриваются писателем с сугубо лич-
ной стороны, вне зависимости от официальных регалий, если та-
ковые имеются. Проблематику этих рассказов формирует конф-
245 Солженицын А. И. Два рассказа («Эго», «На краях»)//Новый мир. 1995. № 5.
С. 12-50; Двучастные рассказы («Молодняк», «Настенька», «Абрикосовое варе-
нье») //Новый мир. 1995. № 10. С. 3-34.
252
Русский характер в процессе деформаций
ликт между историей и частным, как бы «голым», человеком. Пути
разрешения этого конфликта, сколь ни казались бы они различ-
ными, всегда приводят к одному результату: человек, утративший
веру и дезориентированный в историческом пространстве гумани-
стическими представлениями, осужденными Солженицыным (на-
пример, в Гарвардской и Темплтоновской речах), человек, не
умеющий жертвовать собой и идущий на компромисс, оказывает-
ся перемолот и раздавлен страшной эпохой, в которую ему выпа-
ло жить.
Павел Васильевич Эктов — сельский интеллигент, смысл сво-
ей жизни видевший в служении народу, уверенный, что «не тре-
бует никакого оправдания повседневная помощь крестьянину в его теку-
щих насущных нуждах, облегчение народной нужды в любой реальной
форме». Во время гражданской войны Эктов не увидел для себя,
народника и народолюбца, иного выхода, как примкнуть к кресть-
янскому повстанческому движению, возглавляемому атаманом
Антоновым. Самый образованный человек среди сподвижников
Антонова, Эктов стал начальником его штаба. Солженицын пока-
зывает трагический зигзаг в судьбе этого великодушного и честно-
го человека, унаследовавшего от русской интеллигенции неизбыв-
ную нравственную потребность служить народу, разделять кресть-
янскую боль. Но выданный теми же крестьянами («на вторую же
ночь был выдан чекистам по доносу соседской бабы»), Эктов слом-
лен шантажом: он не может найти в себе сил пожертвовать женой
и дочерью и идет на страшное преступление, по сути дела, «сда-
вая» весь антоновский штаб — тех людей, к которым он пришел
сам, чтобы разделить их боль, с которыми ему необходимо было
быть в лихую годину, чтобы не прятаться в своей норке в Тамбове
и не презирать себя! Солженицын показывает судьбу раздавленно-
го человека, оказавшегося перед неразрешимым жизненным урав-
нением и не готовым к его решению. Он может положить на алтарь
свою жизнь, но жизнь дочери и жены? В силах ли вообще человек
сделать подобное? «Великий рычаг применили большевики; брать в
заложники семьи».
Условия таковы, что и добродетельные качества человека обо-
рачиваются против него. Кровавая гражданская война зажимает
частного человека между двух жерновов, перемалывая его жизнь,
его судьбу, семью, нравственные убеждения. «Пожертвовать женой
и Маринкой (дочерью. — М. Г.), переступить через них — разве он
мог??
253
Преодоление раскола
За кого еще на свете — или за что еще на свете? — он отвечает
больше, чем за них?
Да вся полнота жизни — и были они.
И самому — их сдать? Кто зто может?!» (Новый мир. 1995. № 5.
С. 24).
Ситуация предстает перед Эго как безысходная. Безрелигиоз-
но-гуманистическая традиция, восходящая к ренессансной эпохе
и прямо отрицаемая Солженицыным в его Гарвардской речи, ме-
шает человеку ощутить свою ответственность шире, чем за семью.
«В рассказе «Эго», — считает современный исследователь, — как
раз и показано, как безрелигиозно-гуманистическое сознание глав-
ного героя оказывается источником предательства». Невнимание
героя к проповедям сельских батюшек — очень характерная черта
мироощущения русского интеллигента, на которую как бы вскользь
обращает внимание Солженицын. Ведь Эктов — сторонник реаль-
ной, материальной, практической деятельности, которая, увы,
ведет к забвению духовного смысла жизни. Быть может, церковная
проповедь, от которой самонадеянно отказывается Эго, и могла
быть источником «той самой реальной помощи, без которой ге-
рой попадает в капкан собственного мировоззрения»246, — того
самого гуманистического, безрелигиозного, не дающего личности
ощутить свою ответственность перед Богом, а свою собственную
судьбу — как часть Божьего промысла. Ведь предательство анто-
новского штаба было не только бессмысленным, но обернулось и
предательством жены и дочери, ради которых оно был совершено:
антоновцы планировали вооруженное освобождение лагеря, где
содержались самые близкие Эктову люди. Не обрек ли он себя и их
на гибель, помогая уничтожить антоновцев?
Человек перед лицом нечеловеческих обстоятельств, изменен-
ный, размолотый ими, не способный отказаться от компромисса
и лишенный христианского мировоззрения, беззащитный перед
ними (можно ли судить за это Эго?) — еще одна типичная ситуа-
ция нашей истории.
К компромиссу Эго привели две черты русского интеллиген-
та: принадлежность к безрелигиозному гуманизму и следование
революционно-демократической традиции. Но, как это ни пара-
доксально, схожие коллизии увидел писатель и в жизни Жукова
246 Спиваковский П. История, душа и «эго»//Литературное обозрение. 1996. № 1.
С. 48-49.
254
Русский характер в процессе деформаций
(рассказ «На краях», двучастной композицией сопряженный с
«Эго»). Удивительна связь его судьбы с судьбой Эго — оба воевали
на одном фронте, только по разные его стороны: Жуков — на
стороне красных, Эго — восставших крестьян. И ранен был Жу-
ков на этой войне с собственным народом, но, в отличие от иде-
алиста Эго, выжил. В его истории, исполненной взлетами и паде-
ниями, в победах над немцами и в мучительных поражениях в
аппаратных играх с Хрущевым, в предательстве людей, которых
сам некогда спасал (Хрущева — дважды, Конева от сталинского
трибунала в 1941-м), в бесстрашии юности, в полководческой
жестокости, в старческой беспомощности Солженицын пытается
найти ключ к пониманию этой судьбы, судьбы маршала, одного
из тех русских воинов, кто, по словам И. Бродского, «смело вхо-
дили в чужие столицы,/но возвращались в страхе в свою» («На
смерть Жукова», 1974). Во взлетах и падениях он видит за желез-
ной волей маршала слабость, которая проявилась во вполне чело-
веческой склонности к компромиссам. И здесь — продолжение
самой важной темы творчества Солженицына, начатой еще в «Од-
ном дне Ивана Денисовича» и достигшей кульминации в «Архи-
пелаге ГУЛАГе»: это тема связана с исследованием границы ком-
промисса, которую должен знать человек, желающий не потерять
себя. Раздавленный инфарктами и инсультами, старческой немо-
щью, предстает в конце рассказа Жуков — но не в этом его беда,
а в компромиссе (вставил в книгу воспоминаний две-три фразы о
роли в победе политрука Брежнева), на который он пошел, дабы
увидеть свою книгу опубликованной. Компромисс и нерешитель-
ность в поворотные периоды жизни, тот самый страх, который
испытывал, возвращаясь в свою столицу, сломили и прикончили
маршала — по-другому, чем Эго, но, по сути, так же. Как Эго
беспомощен что-либо изменить, когда страшно и жестоко преда-
ет, Жуков тоже может лишь беспомощно оглянуться на краю жиз-
ни: «Может быть, еще тогда, еще тогда — надо было решиться?
О-ох, кажется — дурака-а, дурака свалял?..» Герою не дано по-
нять, что он ошибся не тогда, когда не решился на военный пе-
реворот и не стал русским Де Голем, а когда он, крестьянский
сын, чуть ли не молясь на своего кумира Тухачевского, участвует
в уничтожении породившего его мира русской деревни, когда
крестьян выкуривали из лесов газами, а «пробандиченные» де-
ревни сжигались нацело.
255
Преодоление раскола
Рассказы об Эктове и Жукове обращены к судьбам, безуслов-
но, честных и достойных людей, сломленных страшными истори-
ческими обстоятельствами советского времени. Но возможен и иной
вариант компромисса с действительностью — полное и радостное
подчинение ей и естественное забвение любых мук совести. Об
этом рассказ «Абрикосовое варенье». Первая часть этого расска-
за — страшное письмо, адресованное живому классику советской
литературы. Его пишет полуграмотный человек, который вполне
отчетливо осознает безвыходность советских жизненных тисков,
из которых он, сын раскулаченных родителей, уже не выберется,
сгинув в трудлагерях: «Я — невольник в предельных обстоятельствах,
и настряла мне такая прожитьба до последней обиды. Может, вам не-
дорого будет прислать мне посылку продуктовую? Смилосердствуй-
тесь». Продуктовая посылка — в ней, быть может, спасение этого
человека, Федора Ивановича, ставшего всего лишь единицей при-
нудительной советской трудармии, единицей, жизнь которой во-
обще не имеет сколько-нибудь значимой цены. Вторая часть рас-
сказа — описание быта прекрасной дачи знаменитого Писателя,
богатого, пригретого и обласканного на самой вершине — чело-
века, счастливого от удачно найденного компромисса с властью,
радостно лгущего и в журналистике, и литературе. Писатель и Кри-
тик, ведущие литературно-официозные разговоры за чаем, нахо-
дятся в ином мире, чем вся советская страна. Голос письма со
словами правды, долетевшими в этот мир богатых писательских
дач, не может быть услышан глухими к голосу правды представи-
телями литературной элиты: глухота является одним из условий
заключенного компромисса с властью. Верхом цинизма выглядят
восторги Писателя по поводу того, что «из современной чита-
тельской глуби выплывает письмо с первозданным языком. <...>
какое своевольное, а вместе с тем, покоряющее сочетание и управ-
ление слов! Завидно и писателю!». Письмо, взывающее к совести
русского писателя (по А. Солженицыну, героем его рассказа явля-
ется не русский, а советский писатель), становится лишь матери-
алом к изучению нестандартных речевых оборотов, помогающих
стилизации народной речи, которая осмысляется как экзотичес-
кая и подлежащая воспроизведению «народным» Писателем, как
бы знающим национальную жизнь изнутри. Высшая степень пре-
небрежения к звучащему в письме крику замученного человека
звучит в реплике Писателя, когда его спрашивают о связи с кор-
респондентом: «Да что ж отвечать, не в ответе дело. Дело —
256
Русский характер в процессе деформаций
в языковой находке». Не правда ли, еще один интересный вари-
ант несостоявшегося контакта между «черной» и «белой» костью?
По Солженицыну, драма человека XX в. состоит в слабости и
искажении его миросозерцания антропоцентрическими идеями
Ренессанса и Просвещения. Гуманистическому пониманию смыс-
ла жизни он противопоставляет иное, бытийное, религиозное
понимание: «действительно ли превыше всего человек и нет ли над ним
Высшего Духа?» (Публицистика. Т. 1. С. 328). Драма современного
человека, по Солженицыну, в забвении «постоянной религиозной
ответственности», в «окончательном освобождении от морального
наследства христианских веков», в поблекшем сознании «ответ-
ственности человека перед Богом и обществом» (Публицистика.
Т. 1. С. 325). В Темплтоновской лекции Солженицын определил глав-
ное мировоззренческое и бытийное заблуждение современного
человека: «человек пытается не выявить Божий замысел, но заменить
собою Бога» (Публицистика. Т. 1. С. 453).
Выявить Божий замысел — эту задачу видел Солженицын пе-
ред собой всегда, умел его разгадать и понять: «Я в своей жизни эту
направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий, смысл
привык с тюремных лет ощущать. Броски моей жизни я не всегда уп-
равлялся понять вовремя, часто по слабости тела и духа понимал обрат-
но их истинному и далеко-рассчитанному значению. Но позже непре-
менно разъяснялся мне истинный разум происшедшего — и я только
немел от удивления. <...> Это стало для меня так привычно, так надеж-
но, что только и оставалось у меня задачи: правильней и быстрей понять
каждое крупное событие моей жизни»247. Ощущение направляющей
руки, несущей свет Божественного замысла, касающегося всякой
судьбы, дало силы преодолеть арест, тюрьму, ссылку, смертель-
ную болезнь, борьбу с режимом, высылку, дало силы вернуться в
Россию.
Потенциал внутреннего сопротивления человека может быть
очень высок, сила духа, если личность обладает ею, способна ме-
нять саму ситуацию, в том случае, если человек, оказавшийся в
ней, способен слышать Божественную волю и остается верен сво-
им принципам. Идея жизни не по лжи, отвергающая каждоднев-
ные компромиссы, и может, по мысли Солженицына, перело-
247 Солженицын А. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. Па-
риж, 1975. С. 126.
257
Преодоление раскола
мить ситуацию не только в масштабе, доступном частному челове-
ку, но в значительно более крупном.
Перед силой духа оказываются беспомощны тюремщики, сама
система. Способных на подвиг противостояния мало, но они есть —
это патриарх Тихон, судимый Мосревтрибуналом, или мало кому
известная Анна Петровна Скрипникова, портрет которой пред-
ставлен в «Архипелаге ГУЛАГ» (4-я глава четвертой части). Они
сохранили твердость и нашли силу противостояния.
Что дало им эту силу? Религиозное сознание и неспособность
ко лжи, лишающая компромисс своего великого соблазна. Дело в
том, что верующий человек истину, веру, духовное ставит выше
материального, выше гуманистически понимаемого блага и счас-
тья: «для верующего его вера есть высшая ценность, выше той еды,
которую он кладет в желудок» (Публицистика. Т. 1. С. 175). В «Письме
вождям Советского Союза» (1973) Солженицын писал, что не видит
«сегодня никакой живой духовной силы, кроме христианской, которая
могла бы взяться за духовное исцеление России» (Публицистика. Т. 1.
С. 184).
Верный этой идее, Солженицын всегда старался избегать ком-
промисса — насколько это было возможно в той политической и
литературной среде, которая известна нам, в частности, по его
мемуаристике. Избегает он его и сейчас. Бескомпромиссность —
это идеал, стремление к которому определяет и характер творчес-
кого дара, и специфику общественного поведения. Она дала воз-
можность выиграть в безнадежном, казалось бы, противостоянии
советской системе и принесла победу «теленку», бодавшемуся с
«дубом». Плата за бескомпромиссность — литературное одиноче-
ство, осмыслямое как благо: трудно представить себе Солжени-
цына в некой «партии», литературной или общественно-полити-
ческой; внешнее отшельничество — трудно представить Солже-
ницына, принимающего, подобно многим писателям советской
поры, посетителей и делегации читателей или же ведущего депу-
татскую работу. Плата — в множественных личностных разрывах с
близкими некогда людьми. Плата — в непонимании очень и очень
многими.
Живя так, он и другим предлагает то же. Ответственность за
национальные трагедии XX в. он возлагает не столько на «вождей
Советского Союза», сколько на всех нас, втянутых в компромисс
с властью, который, с его точки зрения, приводит к «жизни по
лжи».
258
Русский характер в процессе деформаций
Но, отказываясь от компромисса, Солженицын знает его ве-
ликий соблазн. Этот соблазн писатель изживает в своих героях, им
передоверяя испытать его сладость и пережить обусловленную этим
соблазном трагедию. В его эпосе предложена целая антология на-
ционального компромисса. Можно даже сказать, что одним из
предметов изображения в творчестве Солженицына оказывается
русский национальный характер в ситуации компромисса.
Компромисс совершается и отдельным человеком, и массой
людей, единодушно одобряющих на каком-либо собрании оче-
редную государственную истерию, травлю, аресты и т.п. В сущно-
сти, тотальный компромисс и стал для писателя зловещим зна-
ком грандиозной деформации русского сознания. Деформации,
грозящей катастрофой, делающей весьма туманной национальную
перспективу XXI века («Россия в обвале»).
Способность к компромиссности обусловлена слишком уж глу-
боко вошедшими в национальное сознание идеями безбожного и
безрелигиозного гуманизма и ослаблением ценностей, утверждае-
мых христианской цивилизацией. Мы полагаем, что именно здесь
находит Солженицын ключ к русской трагедии XX в. «Все бы так
отвечали! — пишет он о словах патриарха Тихона, произнесенных на
суде. — Другая была б наша история!» («Архипелаг ГУЛАГ». Т. 1.
С. 342). Эта мысль проходит лейтмотивом через все тома «Архипе-
лага». «Если бы все были вчетверть такие непримиримые, — заканчивает
писатель портрет Анны Скрипниковой, — другая была б история России»
(«Архипелаг ГУЛАГ». Т. 2. С. 614).
Что же человек и нация могут противопоставить своему сегод-
няшнему состоянию? Исконные ценности русской национальной
жизни, такие, как раскаяние и самоограничение («Раскаяние и
самоограничение как категории национальной жизни», 1973).
«Дар раскаяния был послан нам щедро, когда-то он заливал собой
обширную долю русской натуры, — полагает писатель. — Не случайно
так высоко стоял в нашей годовой череде прощеный день. В дальнем
прошлом (до XVII в.) Россия так была богата движениями покаяния, что
оно выступало среди ведущих русских национальных черт» (Публици-
стика. Т. 1. С. 59).
Покаяние Солженицын считает одним из высших проявлений
патриотизма. В этом он видит национальное достоинство и отри-
цает угодливый патриотизм, называя его национал-большевиз-
мом.
259
Преодоление раскола
«Мы понимаем патриотизм как цельное и настойчивое чувство люб-
ви к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою не-
справедливых ее притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и
в раскаянии за них» (Публицистика. Т. 1. С. 64). Писатель видит под-
линное величие народа «не в громе труб», а в «высоте внутреннего
развития; в душевной широте (к счастью, природненной нам); в
безоружной нравственной твердости».
Цель человеческого пути, как определил ее А. Солженицын в
Гарвардской речи — «Покинуть жизнь существом более высоким, чем
начинал ее». Способность противопоставить материальной экспан-
сии ценности духа важна не только для отдельного человека, но и
для национальной личности, и для современной цивилизации в
целом. «Поворот к развитию внутреннему, перевес внутреннего над
внешним, если он произойдет, будет великий поворот человечества, срав-
нимый с поворотом от Средних Веков к Возрождению. Изменится не
только направление интересов и деятельности людей, но и самый харак-
тер человеческого существа (от духовной разбросанности к духовной
сосредоточенности)», — говорил писатель в статье «Раскаяние и
самоограничение» (Публицистика. Т. 1. С. 80). В заключении Гарвард-
ской лекции этот путь осмысляется как восхождение человечества
на следующую, более высокую антропологическую ступень. Путь к
этому восхождению лежит через самоограничение — человека,
нации, современной цивилизации.
Для того, чтобы это оказалось возможным, необходимо пре-
одолеть великий соблазн пагубного компромисса. Компромисса,
открывающего путь к мелким и крупным житейским благам, к
незначительному или значимому житейскому успеху, но ведуще-
му к еще большему отдалению от высших ценностей.
«Да быть ли нам русскими?» — этот вопрос из книги «Россия в
обвале» носит отнюдь не риторический характер. Мы сможем ос-
таться русскими, т.е. сохранить самих себя таковыми, лишь тогда и
в том случае, если забудем о пагубной привычке к компромиссу,
выработанной исторической действительностью XX в., исполнен-
ной множеством расколов, прошедшихся по национальному телу
и воспитавших в нас взаимную непримиримость. Впрочем, не толь-
ко XX в., как мы попытались показать.
Пафос А. Солженицына состоит в отказе от компромисса с
властью и обстоятельствами; в отказе от взаимной непримиримо-
сти, обусловленной национальными расколами; в устремленности
к преодолению этих расколов через национальное обращение к
260
Русский характер в процессе деформаций
высшим христианским ценностям; в преодолении гуманистичес-
кого антропоцентризма, дезориентирующего современного чело-
века в историческом и частном бытии.
В сущности, это то напутствие, которое дает нам литература ушед-
шего века в лице писателя, не выронившего из рук посох праведни-
ка и проповедника в эпоху постмодернизма, воспевающего хаос,
профанацию и десакрализацию всех высших ценностей. Он не отка-
зался учительствовать и представительствовать в русской литературе
от лица множества творцов и участников русской истории; не отка-
зался от суда над ними от лица замученных в лагерях и убитых в
многочисленных войнах. И самое главное, он не отказался от поис-
ков Высшего смысла, сказавшегося в русской истории XX в. Эти
поиски и оправдывают в конечном итоге факт исторического сущест-
вования русской литературы ушедшего столетия.
Именной указатель
Авербах Л. Л. 20, 52, 86
Аверинцев С. С. 148
Ажаев В. Н. 65, 156
Айтматов Ч. 241
Айхенвальд Ю. И. 132, 192
АкуловА. 145
Алданов М. А. 72
Алексеев М. Н. 145
Андреев А. Л. 14
АндреевЛ. Г. 178-181, 187, 189
Андроникашвили-Пильняк Б. Б. 204
Аппель А. 207, 226, 230
Арватов Б. И. 154
АросевА. Я. 27, 139, 145
Аскольдов С. А. 14, 47
Астафьев В. П. 239
Ахматова А. А. 6, 52, 62, 65, 123
Баб Ю. 175
Бабаевский С. П. 65, 156
Бабель И. Э. 64
Барков И. С. 84
Бахтин М. М. 7, 16, 23, 133, 149,
156
Бедный Д. 20, 53, 83, 112
Белая Г. А. 87, 155
Белинский В. Г. 29, 42
Белый А. 29, 52, 188, 190, 191, 195
Бердяев Н. А. 9, 14, 26, 34, 56
Бибиков А. И. 39
Блаженный Августин 148, 149
Блок А. А. 24, 25, 29-32, 38, 42,
64, 71, 73-77, 80, 110, 113
БлокМ. 16
Блюмкин Я. 86
Богданов А. Н. 223
Богемская К. 92
Бондарев Ю. В. 239
Бор Н. 7
Бочаров С. Г. 160, 161
Брежнев Л. И. 255
Брик О. М. 60
Бродский И. А. 86, 255
Брюсов В. Я. 64
Бубеннов М. С. 65, 156
Булгаков М. А. 6, 9, 29, 57, 64, 85,
88, 127, 206, 209, 220-222, 233,
234, 237
Булгаков С. Н. 42, 45, 46, 56
Бунин И. А. 30, 72, 79, 82
Буртин Ю. 9
Ватинов К. К. 13
Вайскопф М. 88
Вальцель О. 175-177,181,183
Ванчугов В. В. 14, 15
Вельтман А. Ф. 220
Вельфлин Г. 197, 198, 220
Верхейл К. 102, 103
Веселовский А. Н. 68, 69
Веселый А. 19
Виллон Ф. 187
Вишневский Вс. В. 20, 86
Вознесенский А. А. 243
Вольтер 115
Воронихин А. Н. 34
Воронский А. К. 53, 180, 186
Ворошилов К. Е. 88
Вышеславцев Б. 14
Газданов Г. 56, 82
Герцен А. И. 14, 41, 42, 77, 79, 241
262
Именной указатель
Гершензон М. О. 43
Гинзбург Л. Я. 132,133,138
Гиппиус 3. Н. 30
Гладков Ф. В. 139, 152, 153, 222
Гоголь Н. В. 41, 109, 116,220
Голль де Ш. 255
Горбов Д. А. 87
Горький М. 19, 42, 90, 117, 134—
136, 138, 139, 141, 147, 154, 156,
157, 159-171, 174, 209, 211, 213,
220, 224, 225
Гофман В. 195, 196
Гофман Э.-Т.-А. 145,207
Григорьев Ап. А. 30
Грин А. 39-41, 86, 220, 221
Гройс Б. 140
Гудзенко С. П. 66
Гуковский Г. А. 62
Гумилев Л. Н. 10, 16-19, 27-29, 95,
150, 248, 249
Гуревич А. Я. 16
ГучковА. И. 48, 49
Гюбнер Ф. 176, 179
Гюнтер X. 22—24, 140
Данте А. 115
Демокрит 194
Державин Г. Р. 33, 41
ДефоД. 114
Дзержинский Ф. Э. 56
ДикойА. Д. 190
Добренко Е. 66, 67, 88, 140
Добролюбов Н. А. 29, 63
Долгополов Л. К. 38
Достоевский Ф. М. 37, 79, 109, 116,
143, 149, 158, 166, 210, 220
Дружинин А. В. 30
Дрягин К. 179, 180
Дудинцев В. Д. 241,247
Евнина Е. 178
Евтушенко Е. А. 243
Екатерина II Великая 36, 39
Ермилов В. В. 67, 122
Есенин С. А. 29, 47, 64, 85, 86, 123
Жданов А. А. 63,64
Жолковский А. К. 90, 121, 128
Жуков Г. К. 252, 255, 256
Заболоцкий Н. А. 65
Зализняк А. А. 16
Залыгин С. П. 239
Замятин Е. И. 9, 13, 57, 64, 79, 82,
86, 180, 182, 188, 192-195, 222,
225, 226, 228-230
Захаров А. Д. 34
Золотусский И. 9, 131
Зощенко М. М. 62, 64, 81, 91, 107—
ПО, 112-117, 121, 122, 195, 237
Иван IV Грозный 247, 248
Иванов В. И. 8
Иванов Вс. Вяч. 91, 93—95, 120
Иванов Вяч. Вс. 16
Иванова Н. 9
Ильенков В. П. 139
Ильин И. А. 9, 13, 18, 19, 72
Иоффе И. 198-200, 221
Исаковский М. В. 66
Каверин В. А. 195,220, 221
Каганович Л. М. 88
Кант И. 194
Карабчиевский Ю. А. 128
Карамзин Н. М. 40
Кардин В. 9
Кареев Н. 14
Карсавин Л. П. 21,56
Катаев В. П. 170
Катаев И. И. 98, 99
Келдыш В. А. 134,221
Ким А. А. 239
Кирпотин В. Я. 150
Кларк К. 140
Клычков С. А. 13,29,47
Клюев Н. А. 13,29,47
Ключевский В. О. 34
Кожевникова Н. А. 231
Кон-Винер 197
Конев И. С. 255
Копелев Л. 178, 183
263
Именной указатель
КройчикЛ. Е. 108
Крылов И. А. 39
Кузмин М. А. 185,186
Кузьмина-Караваева Е. Ю. 30, 42,
71
Куприн А. И. 82
Лавренев Б. А. 246
Лавров П. 50
Лакшин В. Я. 9
Левин К. 66
Лежнев А. 3. -87, 152, 153
Ленин В. И. 46, 48, 49, 53-56, 58,
73, 74, 127, 245, 248, 249
Леонов Л. М. 9, 138, 139, 141, 152,
154, 243
Либединский Ю. Н. 20, 27, 53, 72,
139, 143, 145, 146, 170, 202
Лидин В. Г. 188
Лифшиц М. 63
Лихачев Д. С. 15
Ломоносов М. В. 34
Лосев А. Ф. 148
Лотман Ю. М. 8, 15, 83-85, 126, 127
Лукач Г. 63
Луначарский А. В. 49, 50, 54, 100,
150, 151, 179
Лунц Л. Н. 221
Любомирова Н. 14, 24
Люксембург Р. 90, 104
Ляшко Н. Н. 153
Маканин В. С. 239
Маковецкий А. 136
Маленков Г. А. 68
Мандельштам О. Э. 13, 64, 90, 136,
137, 188, 190, 213-215, 217-219
Маркс К. 155
Маршак С. Я. 131
Марьин С. Н. 84
Маслин М. А. 14
Маца И. 182
Маяковский В. В. 71, 85, 87, 89,
117-124, 126-128, 243
Межиров А. П. 66
Мейерхольд В. Э. 48, 60
264
Мережковский Д. С. 30, 73, 76, 77,
132
Метченко А. И. 8
Милюков ГТ. Н. 15
Молдавский Д. М. 115
Молотов В. М. 88
Морозов С. Т. 163, 164
Мурадели В. 62
Мусоргский М. П. 34
Мущенко Е. Г. 108
Мыльников А. С. 16
Набоков В. В. 9, 56, 72, 82, 176,
205-209, 211, 212, 222, 226
Неверов А. С. 120
Некрасов Н. А. 41, 42, 120-122
Никитин Н. Н. 186, 188, 190
Овчаренко А. И. 8
Одоевский В. Ф. 220
Одоевцев В. 14
Олеша Ю. К. 206, 209, 220, 222, 223,
234-236
Орлов С. С. 66
Ортега-и-Гассет X. 77, 79, 80, 107,
249
Оруэлл Дж. 101, 226
Островский Н. А. 19, 139, 170
Панин П. И. 39
Паперный В. 89, 130
Пастернак Б. Л. 65, 70, 88—90, 127,
157, 159, 170-174, 188, 237, 238
Паустовский К. Г. 60
Пелевин В. О. 240
Переверзев В. Ф. 61
Петр I Великий 17, 32-34, 36, 38,
84, 247, 248
Пильняк Б. А. 13, 19, 48, 57, 176,
186-188, 190, 196, 199, 201-206,
213, 232-234
Писарев Д. И. 29, 41, 170
Пискунова С. И. 96, 97
Платон 148
Платонов А. П. 6, 9, 22, 24, 32, 57,
61, 64, 65, 90, 91, 95-97, 99-
Именной указатель
106, 122, 125, 176, 180, 182, 225,
230, 237
Плеханов Г. В. 49, 53
Поплавский Б. Ю. 56
Попов В. Г. 156
Потемкин Г. А. 84
Прокофьев В. Н. 92, 96, 114
Пропп В. Я. 69
Пруст М. 178, 181, 187, 189, 217
Пугачев Е. И. 39, 43, 45—47
Пуришкевич В. М. 48, 49
Пучков Ф. 153
Пушкин А. С. 39, 41, 77, 121-123,
162, 234, 240
Пушкин Л. А. 39
Радищев А. Н. 127,128
Разин С. Т. 44, 45
Распутин В. Г. 239, 241
Растрелли Б. К. 34
Ремизов А. М. 195
Родов С. А. 86
Рождественский Р. И. 243
Розанов В. В. 9
Розенталь М. М. 63
Салтыков-Щедрин М. Е. 220
Святополк-Мирский Д. П. 48
Сейфуллина Л. Н. 120
Семенова С. 106
Сервантес Сааведра М. 114,115
Сергиевский И. 63
Симонов К. М. 156
Скобелев В. П. 108
Скороспелова Е. Б. 146, 221, 233,
235
Скрипникова А. П. 258
Скуратов Малюта 247
Слонимский А. Л. 195
Солженицын А. И. 6, 11, 239, 242-
254, 256-260
Соловьев В. С, 50
Соловьева Н. 94
Сорокин В. Г, 240
Спиваковский П. Е. 242, 254
Сталин И. В. 68, 69, 87-90, 127,
140, 150, 238, 248, 249
Степун Ф. А. 56
Столыпин П. А. 245
Струве П. Б. 44, 48, 49
СуворовА. В. 39,84
Сумароков А. 33
Тагер Е. Б. 134
Таиров А. Я. 48
Тарасенков А. К. 68, 69
Тарасов-Родионов А. И. 145
Твардовский А. Т. 6, 81, 238
Тендряков В. Ф. 241
Тимофеев Л. И. 63
Тихон, патриарх Московский 258
Толстой А. Н. 78, 82, 90 107, 138,
141, 154, 156, 229
Толстой Л. Н. 20, 34, 50, 90, 134
Топоров В. Н. 16
Тредиаковский В. К. 34
Трифонов Ю. В. 239
Троицкий Е. 15
Троцкий Л. Д. 49-54
Трубецкой Е. Н. 45
Тухачевский М. Н. 255
Тынянов Ю. Н. 220, 224, 230, 231
Успенский Б. А. 8, 15, 16, 35
Фадеев А. А. 19, 20, 65, 71, 83, 86,
138, 142, 154, 156
Федин К. А. 138,139,141,154
Федоров Н. Ф. 128
Федотов Г. П. 9, 14, 34, 37, 41, 42,
106
ФилипповА. 153
Фонвизин Д. И. 34
ФранкС. Л. 14,44,45,71,72
Франс А. 221
Фрейд 3. 133
Фриче В. М. 61
Фрунзе М. В. 203
Фурманов Д. А. 86
ХейзенгаЙ. 16
Ходасевич В. Ф. 29, 70, 128, 129
265
Именной указатель
Хрущев Н. С. 69, 255
Цветаева М. И. 52
Цезарь Ю. 128
Чаадаев П. Я. 50
Чайковская О. 39, 41
Чернышевский Н. Г. 29, 32, 41, 49,
50, 53, 67, 170
Чехов А. П. 39,42, 169
Чудакова М. О. 111,112,114,115
Чужак Н. Ф. 154
Шагинян М. С. 152, 170
Шаламов В. Т. 247
Шешуков С. И. 87
Шишков А. С. 40
Шкловский В. Б. 232
Шмелев И. С. 72
Шолохов М. А. 19, 138, 139, 141,
157-159, 209
Щерба Л. В. 4
Эйнштейн А, 7, 133, 195
Эйхенбаум Б. М. 62
ЭпельбоинА. 103
Эренбург И. Г. 69, 71, 72, 152, 156,
195, 221
Эткинд Е. Г. 67
ЮнгК.-Г. 133
Яковлева Т. 127
Яровой П. 153
Содержание
От автора................................................:... 3
I. Раскол..................................................12
«Русская идея»...........................................14
«Две культуры»...........................................28
Ленинская теория «двух культур»..........................48
Огосударствление.........................................54
Синтез?..................................................69
II. Культурный вакуум......................................73
«Человек массы» как новый субъект истории................73
Типы творческого поведения, или Литературные амплуа......80
А. Платонов: амплуа юродивого, или в Поисках
«третьей» культуры.......................................91
М. Зощенко как пролетарский писатель....................107
Владимир Маяковский: до и после пятого акта трагедии....117
III. Социалистический реализм.............................130
Кризис реализма.........................................130
Нормативизм: отношения личности и мира..................141
Нейтральный стиль.......................................154
Новый реализм (М. Шолохов, М. Горький, Б. Пастернак)....157
IV. Модернизм............................................175
Литературно-критические концепции модернизма............175
Модернистские литературно-критические концепции
в литературном процессе 20-х годов......................184
«Синтетизм» Е. Замятина.................................192
Импрессионистические тенденции..........................195
Принципы типизации (модернистский роман В. Набокова)....205
Композиция модернистского романа:
«Египетская марка» О. Мандельштама......................213
Экспрессионистические тенденции.........................220
«Мы» Е. Замятина: полемика с химерической концепцией
мира и человека.........................................225
Стилевая организация модернистского романа..............230
V. Преодоление раскола (вместо заключения)...............237
Некоторые итоги.........................................237
Творчество А. И. Солженицына как итог столетия..........242
Русский характер в процессе деформаций..................245
Именной указатель.......................................262
267
Учебное издание
Михаил Михайлович Голубков
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX В.
ПОСЛЕ РАСКОЛА
Редактор Н. В. Евстигнеева
Корректор А. А. Баринова
Художник Д. А. Сенчагов
Компьютерная верстка О. С. Коротковой
Подписано к печати 26.05.2002. Формат 60x90 '/1б.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 17.
Доп. тираж 4000 экз. Заказ № 4063.
ЗАО Издательство «Аспект Пресс»
И 1398 Москва, ул. Плеханова, д. 23, корп. 3.
e-mail: info@aspectpress.ru
www .aspectpress.ru
Тел. 309-11-66, 309-36-00
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93.
Издательство
«Аспект Пресс»
предлагает учебники и учебные пособия
Ю. Манн
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
ЭПОХА РОМАНТИЗМА
В книге известного литературоведа Ю. Манна «Русская литература
XIX века. Эпоха романтизма» освещается один из ярчайших этапов рус-
ской классической литературы, представленной В. Жуковским, К. Батюш-
ковым, А. Пушкиным, Е.Баратынским, М. Лермонтовым, Н. Гоголем и
другими писателями. Основой анализа служат не политические формулы
и понятия (как это нередко бывало в недавнем прошлом), но прежде
всего категории эстетические и художественные: жанр, повествование,
мотивы, коллизии и т.д. Русский романтизм предстает как развивающее-
ся, многогранное явление, находящееся в русле романтического движе-
ния европейских литератур. Показано, как в силовом поле романтизма
возникают художественные феномены уже более сложной, «нероманти-
ческой» фактуры, такие как «Борис Годунов» и «Евгений Онегин» Пуш-
кина; «Герой нашего времени» Лермонтова; «Мертвые души» Гоголя.
Переплет, 447 с.
Пособие для учителей литературы, студентов-филологов и препода-
вателей гуманитарных вузов
Б. В. Томашевский
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.
ПОЭТИКА
Серия «Классический учебник»
Предлагаемая книга — 6-е издание учебника Б.В. Томашевского,
впервые опубликованного в 1925 г. Она содержит систематический анализ
основных понятий поэтики по трем важнейшим разделам: стилистика,
метрика, тематика. Объяснение понятий сопровождается примерами,
взятыми в основном из русской литературы XVII—XX вв.
Переплет, 334 с.
Издание имеет гриф «Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям “Филология” и “Литературоведе-
ние”» Госкомвуза РФ
Г. В. Жирков
ИСТОРИЯ ЦЕНЗУРЫ В РОССИИ
XIX-XX вв.
Автор прослеживает историю цензуры в России от ее истоков до
настоящего времени и становление цензурного аппарата. При этом вни-
мание студентов обращается на наименее исследованные стороны исто-
рии цензуры: ограничение распространения информации в широкой ауди-
тории, взаимоднйствие власти и журналистики, роль капитала в созда-
нии цензурного режима, фабрикацию и мифологизацию информации
как цензурную меру. Читатель увидит в качестве цензоров не только мо-
нархов (Петр I, Екатерина II, Николай I), но и крупных чиновников
(С. С. Уваров, А. В. Головин, П. А. Валуев и др.), литераторов (И. А. Гонча-
ров, Ф. И. Тютчев и др.), политиков (В. И. Ленин, И. В. Сталин и др.) и,
наконец, цензоров-профессионалов. Уже перечисление этих имен под-
черкивает сложность и неоднозначность проблем, которые освещаются
в книге.
Переплет, 447 с.
Книга предназначена для студентов-филологов, историков и жур-
налистов
Указанные учебники Вы можете заказать
одним из следующих способов:
1. Сделать заказ по телефону (095) 309-11-66, 309-36-00
2. Переслать по почте заказ на учебники
3. Сделать заказ по e-mail: info@aspectpress.ru
Издательство «Аспект Пресс»
111398 Москва, ул. Плеханова, д. 23, корп. 3.
e-mail: info@aspectpress.ru
Тел. 309-11-66,309-36-00
ГОЛУБКОВ Михаил Михайлович—доктор
филологических наук, профессор кафедры
истории русской литературы XX века филоло-
гического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. Читает лекции по русской литературе
XX века и истории русской литературной кри-
тики. Автор книг «Утраченные альтернативы.
Формирование монистической концепции
советской литературы. 20-30-е годы» (1992),
«Максим Горький» (1997), «Александр Солже-
ницын» (1999) и ряда статей о русской лите-
ратуре XIX и XX веков.
Книга «Русская литература XX века: После раскола»
обращена к тем, кому небезразлична судьба русской культур-
ной традиции в ушедшем столетии. За хитросплетениями лите-
ратурного процесса автор усматривает проявления русской
социокультурной ситуации, как она складывалась в первые три
десятилетия XX века. Литература освещается как сфера вопло-
щения национального сознания: взаимодействие реализма и
модернизма в 1920-30-е годы автор рассматривает как форму
реализации разных граней русского менталитета. Предложены
различные ракурсы рассмотрения историко-литературного ма-
териала: это и концепции русского историка и философа Л.Н.Гу-
милева, и взгляды испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета.