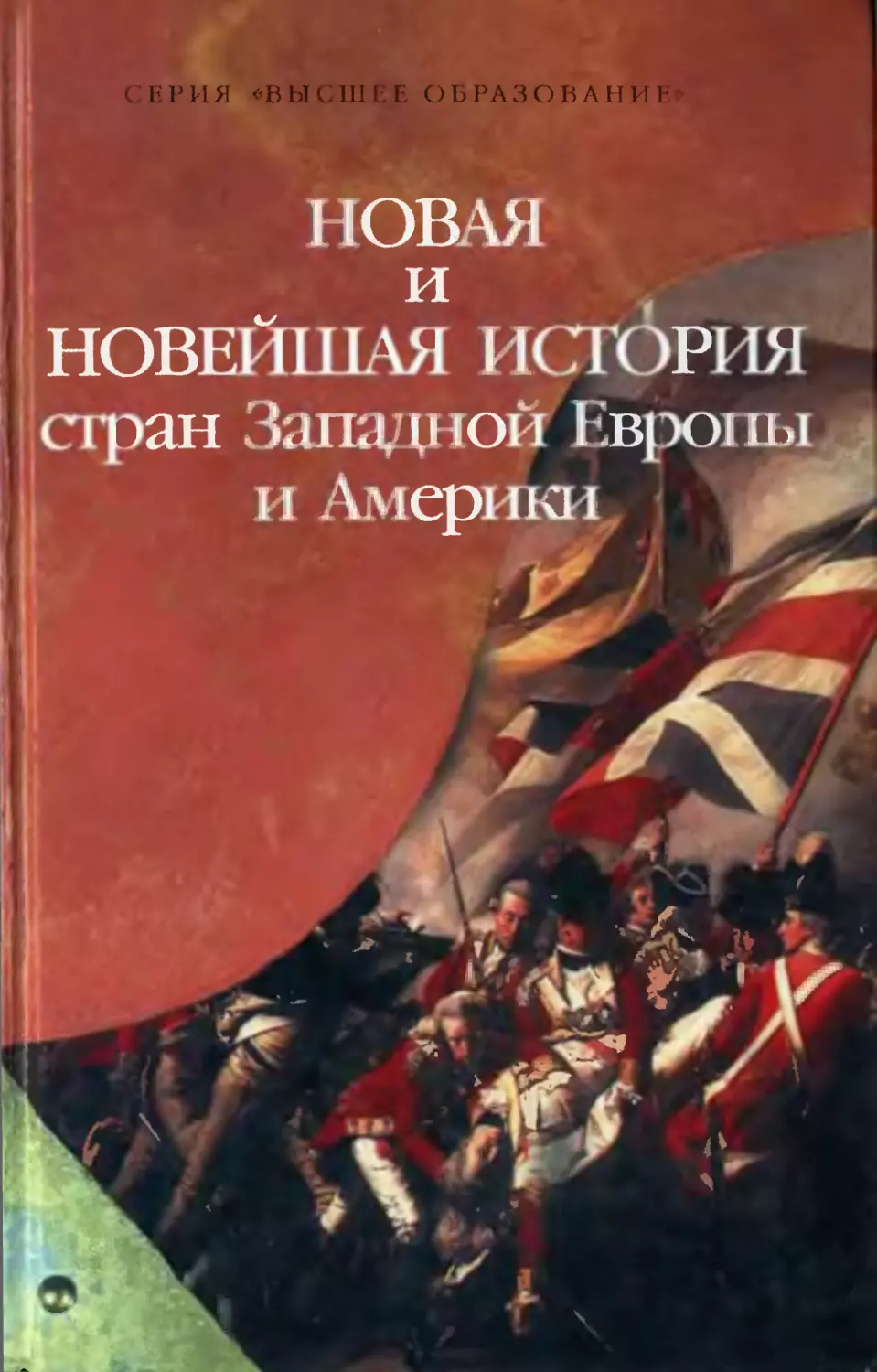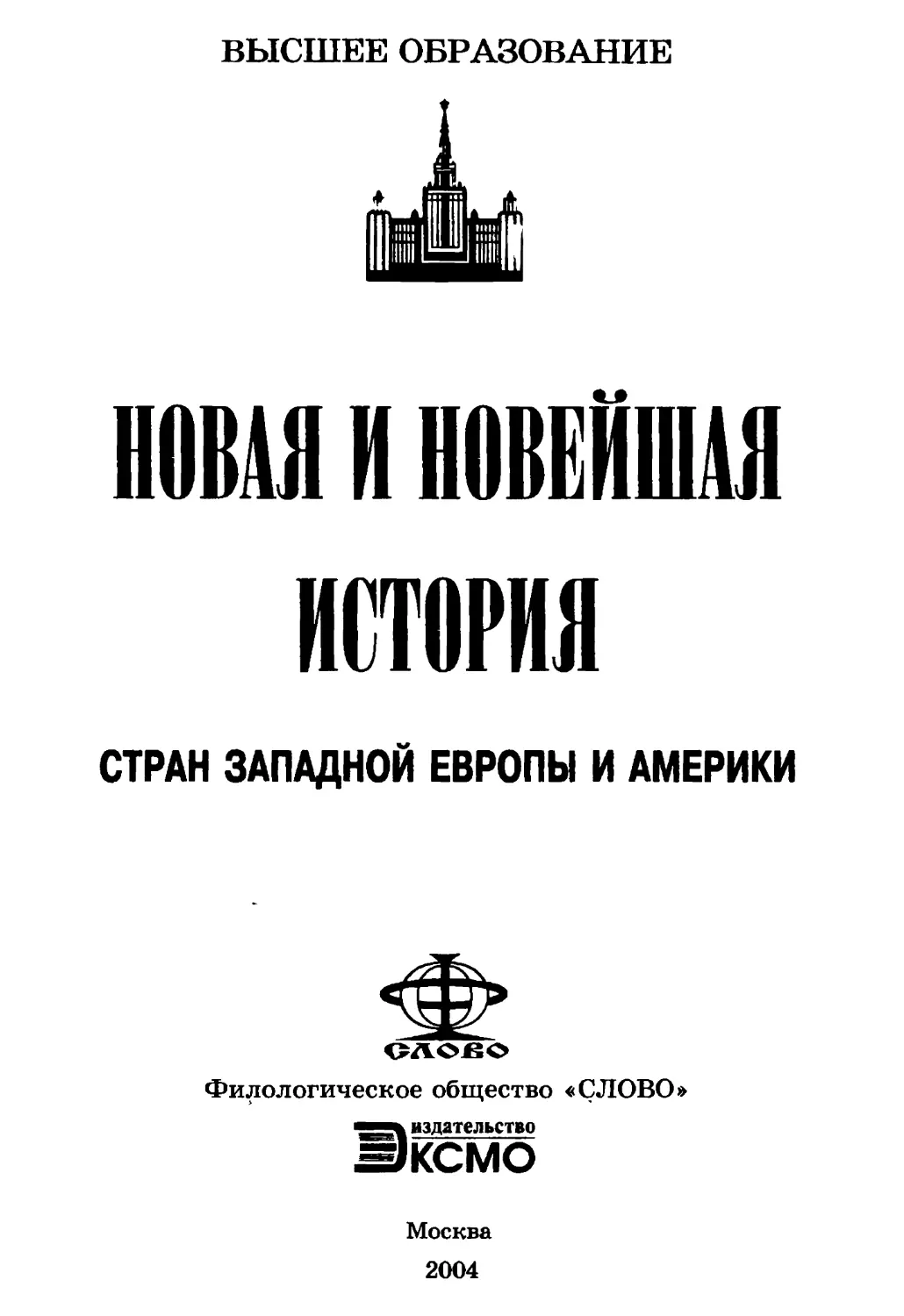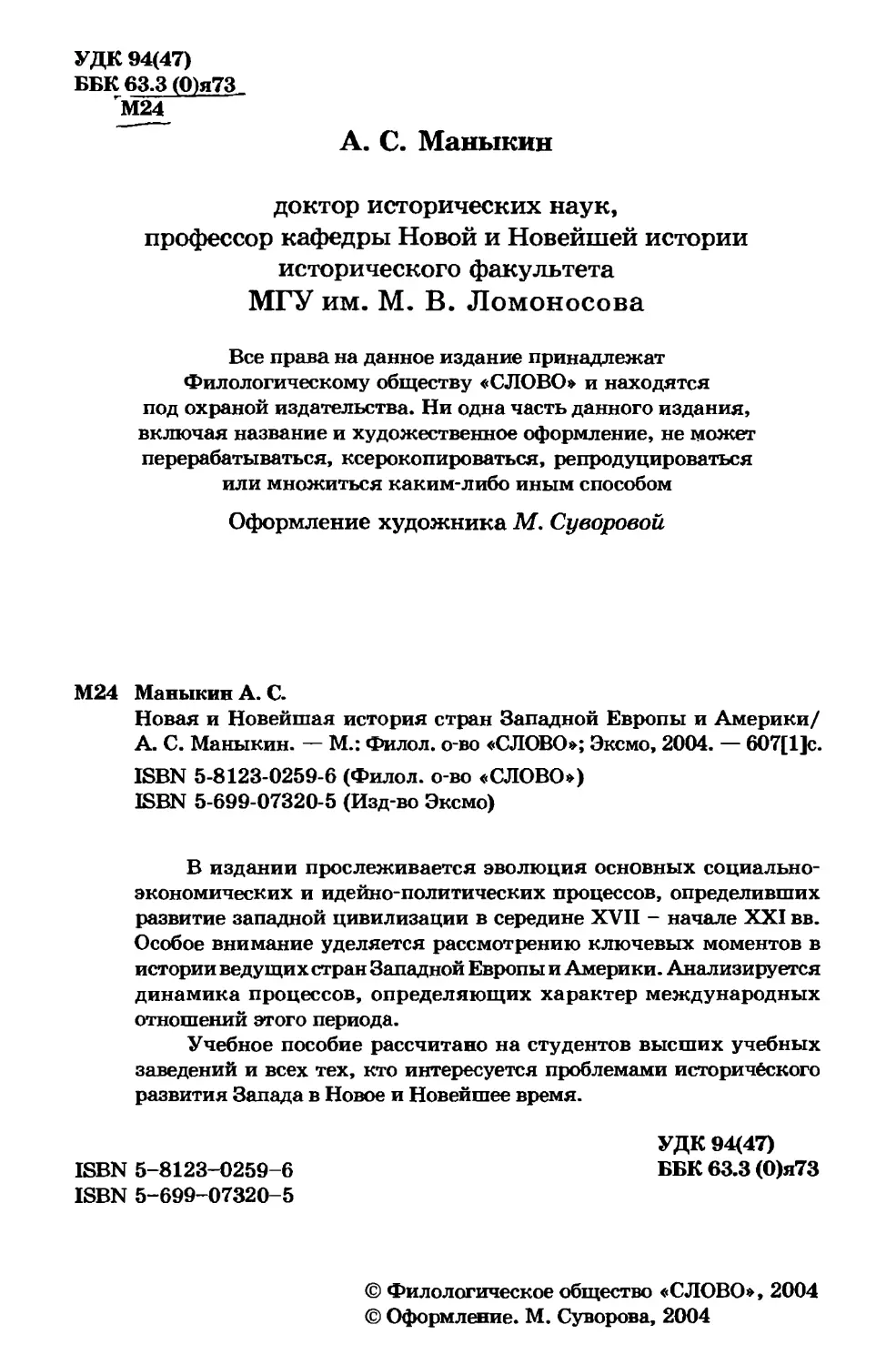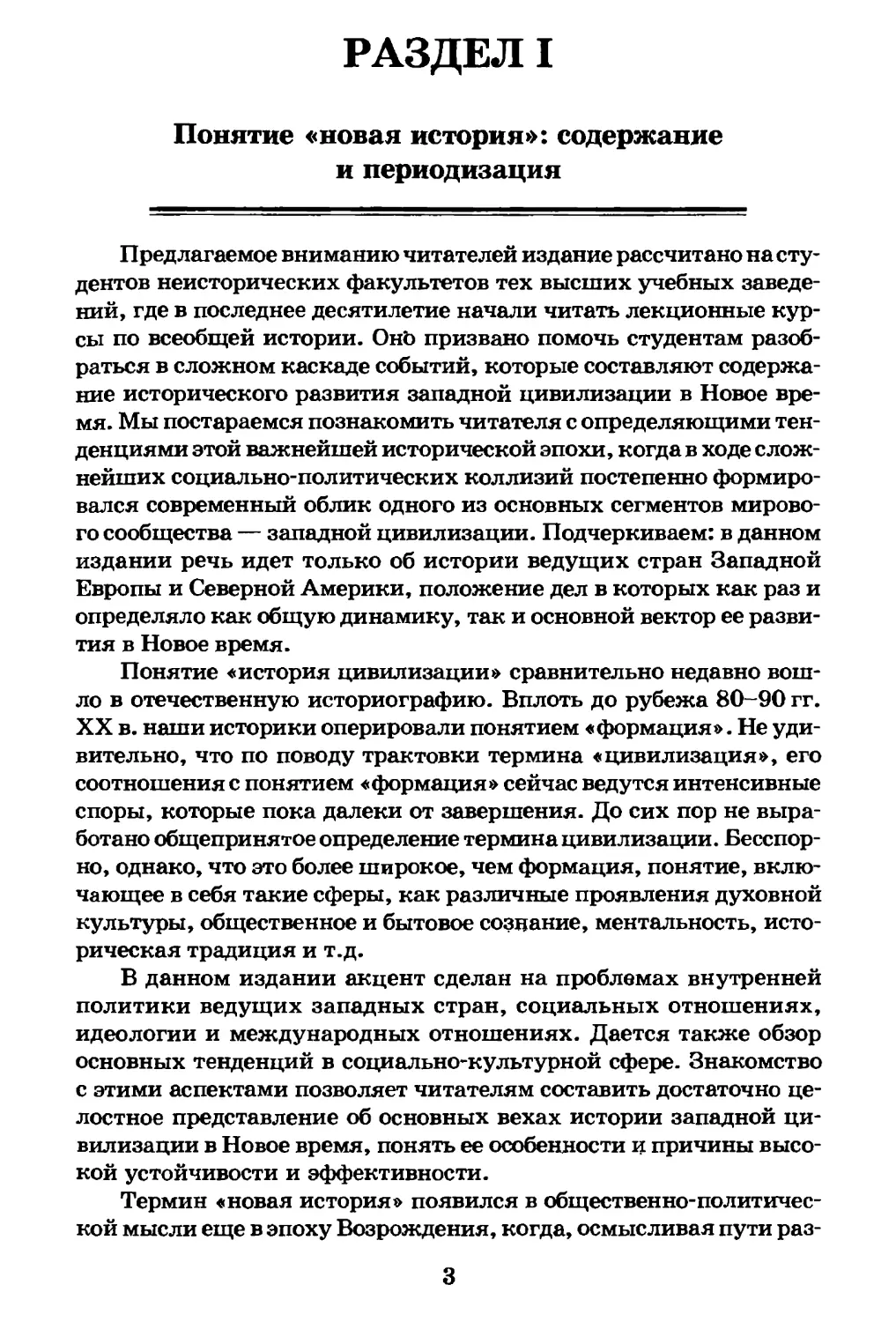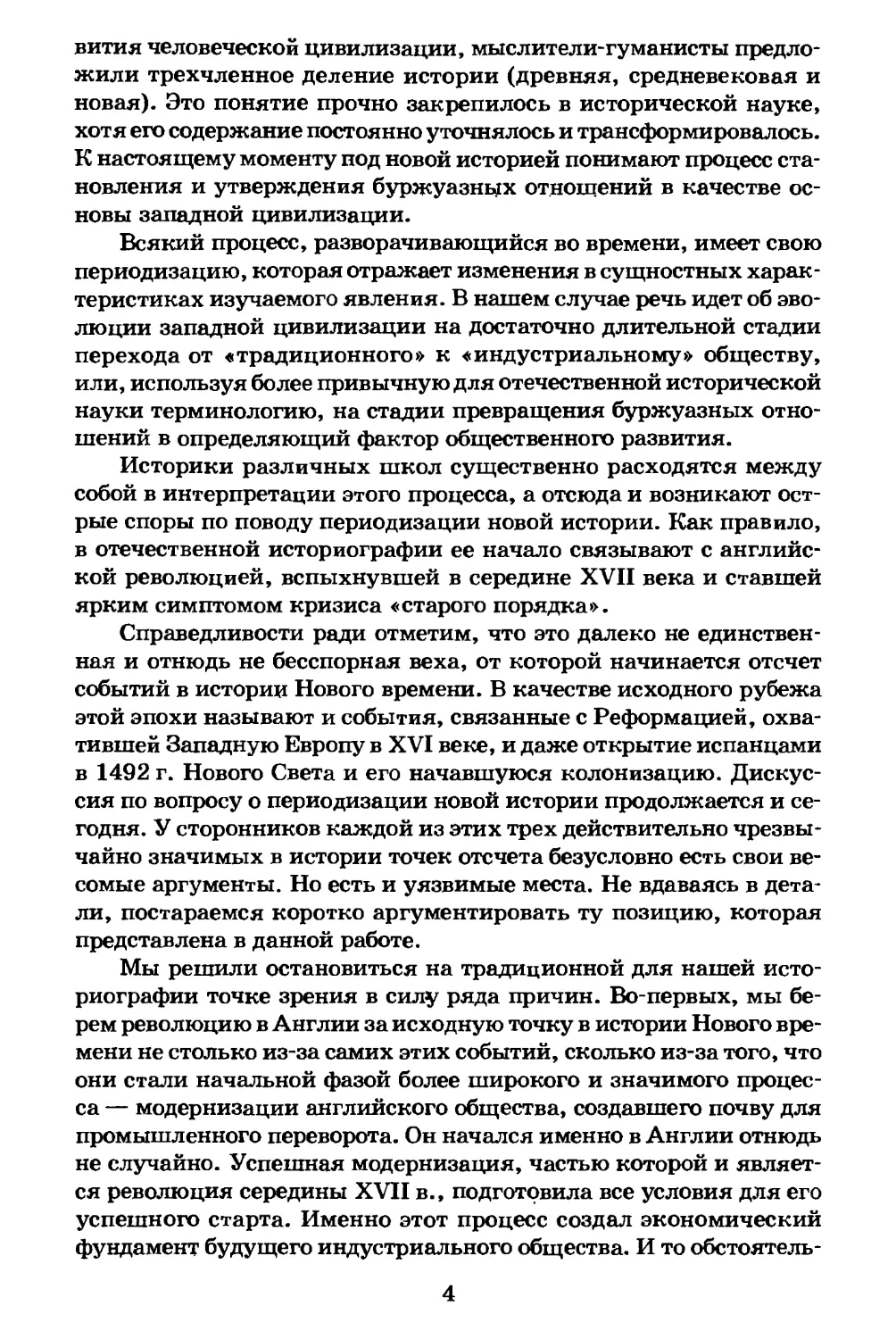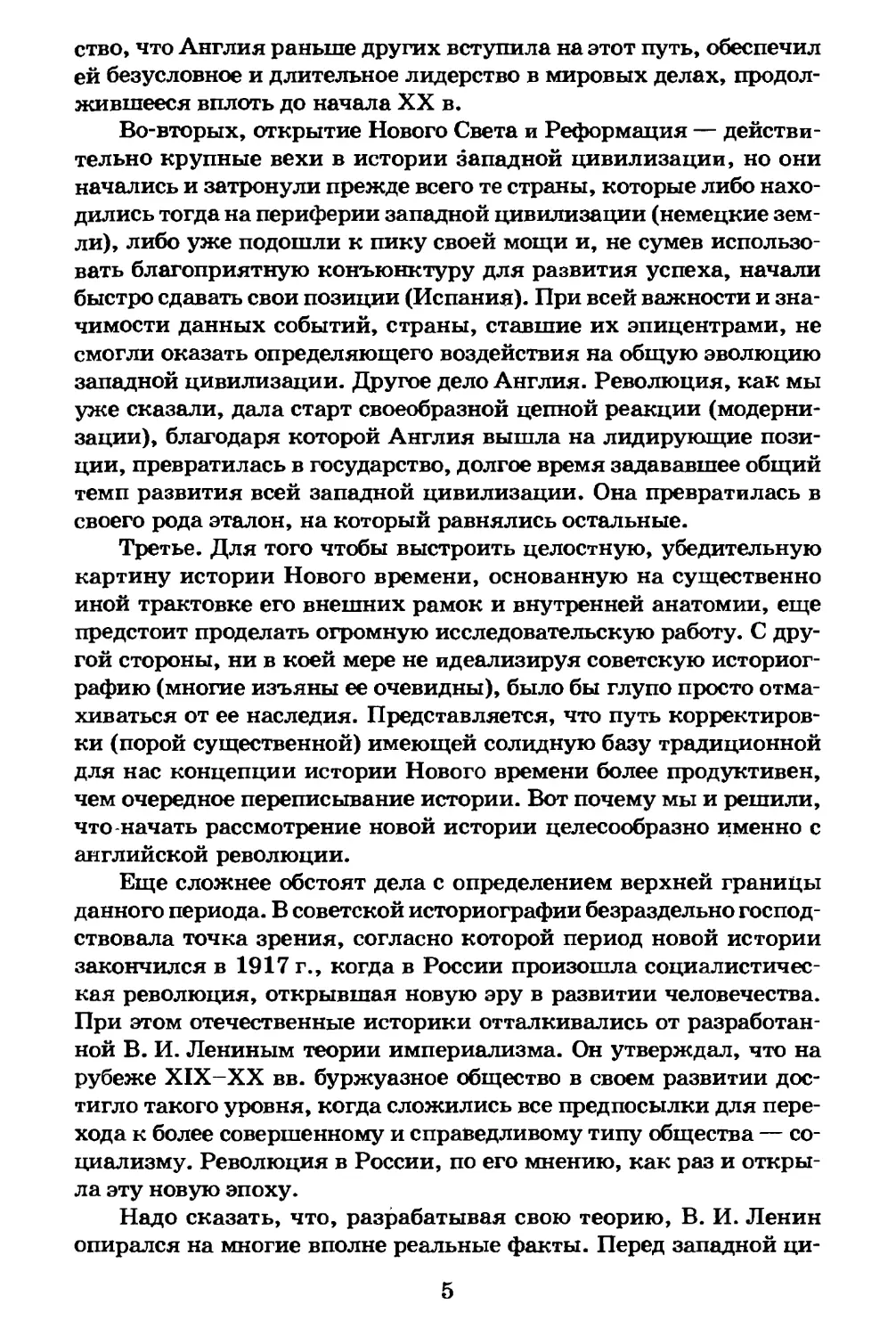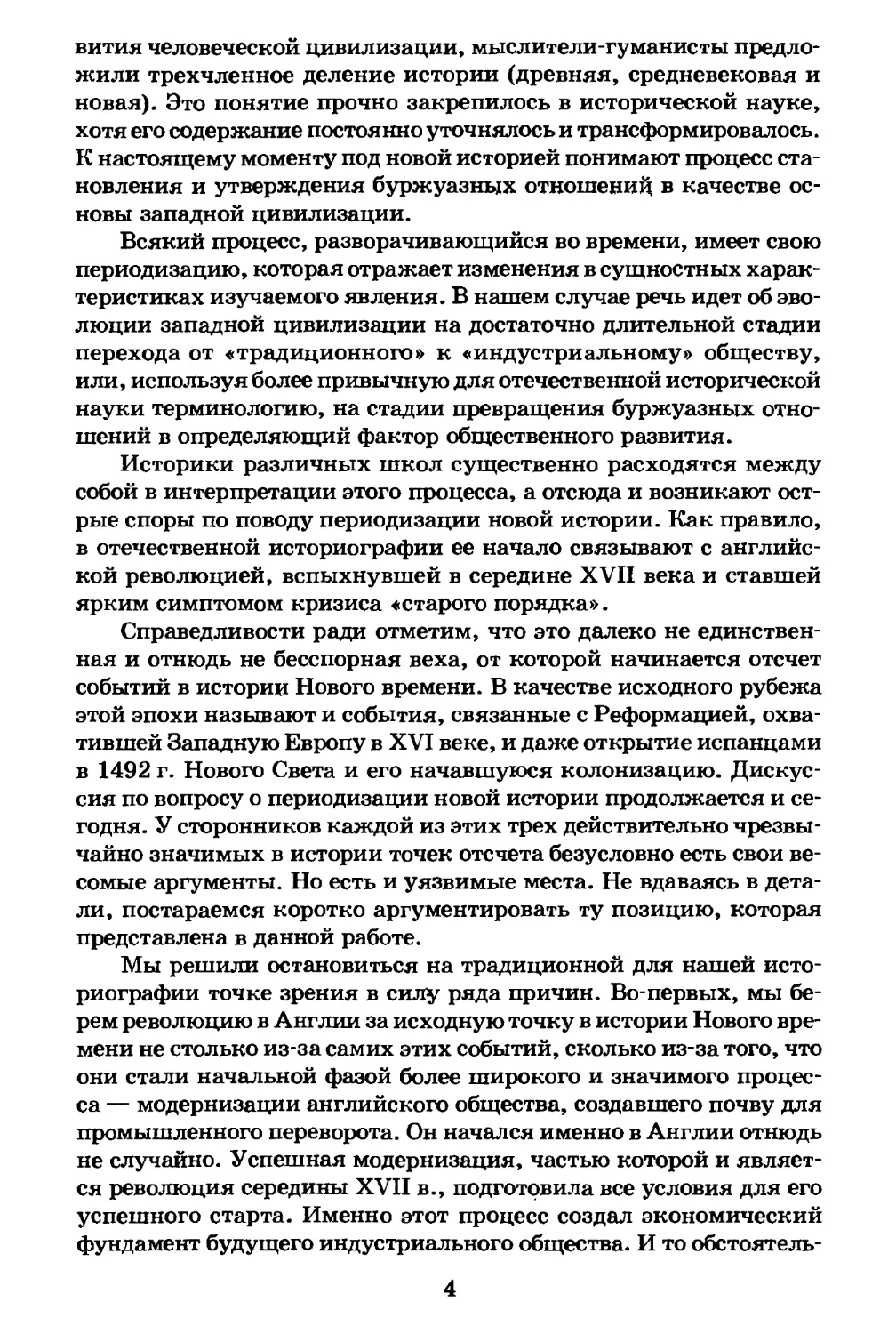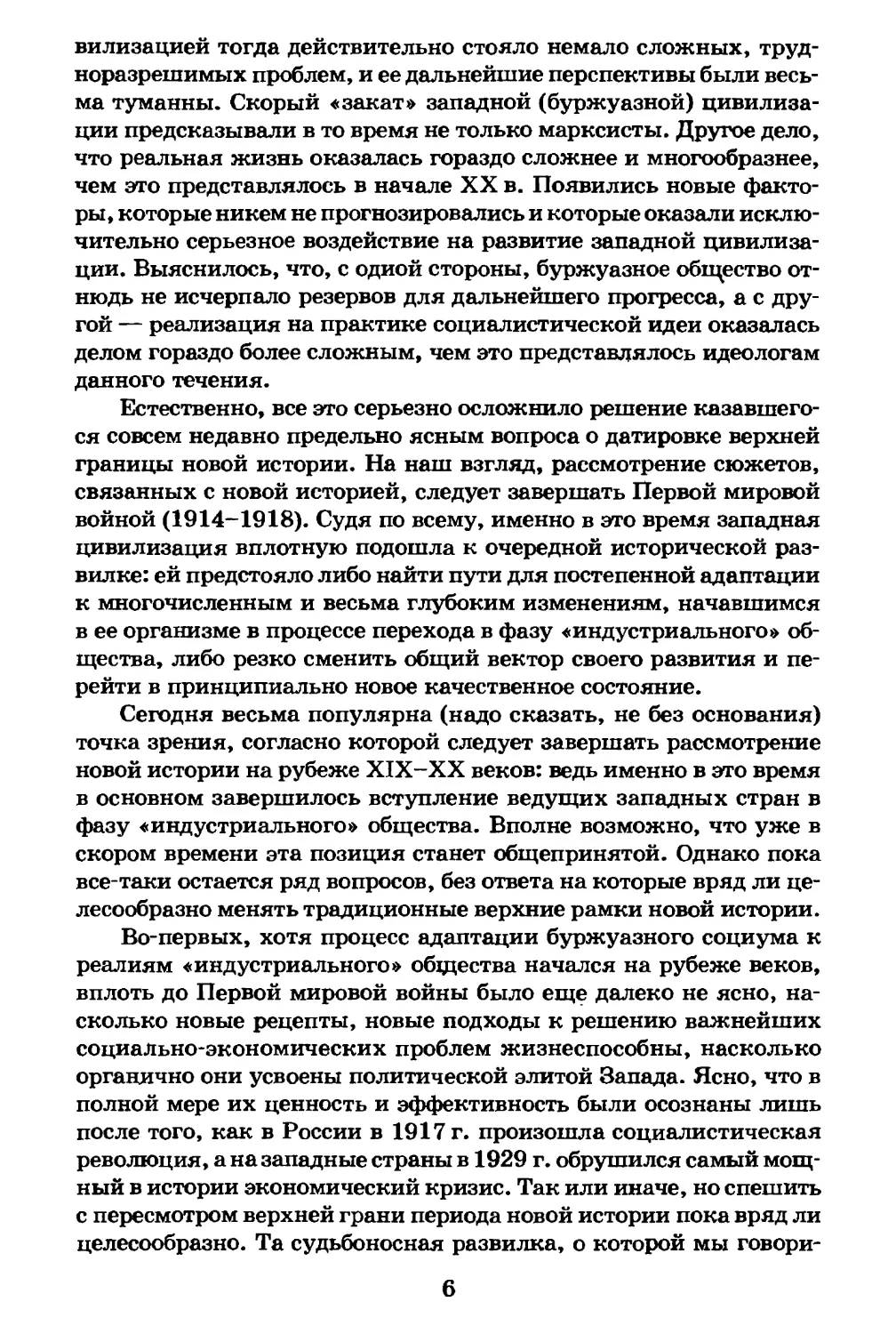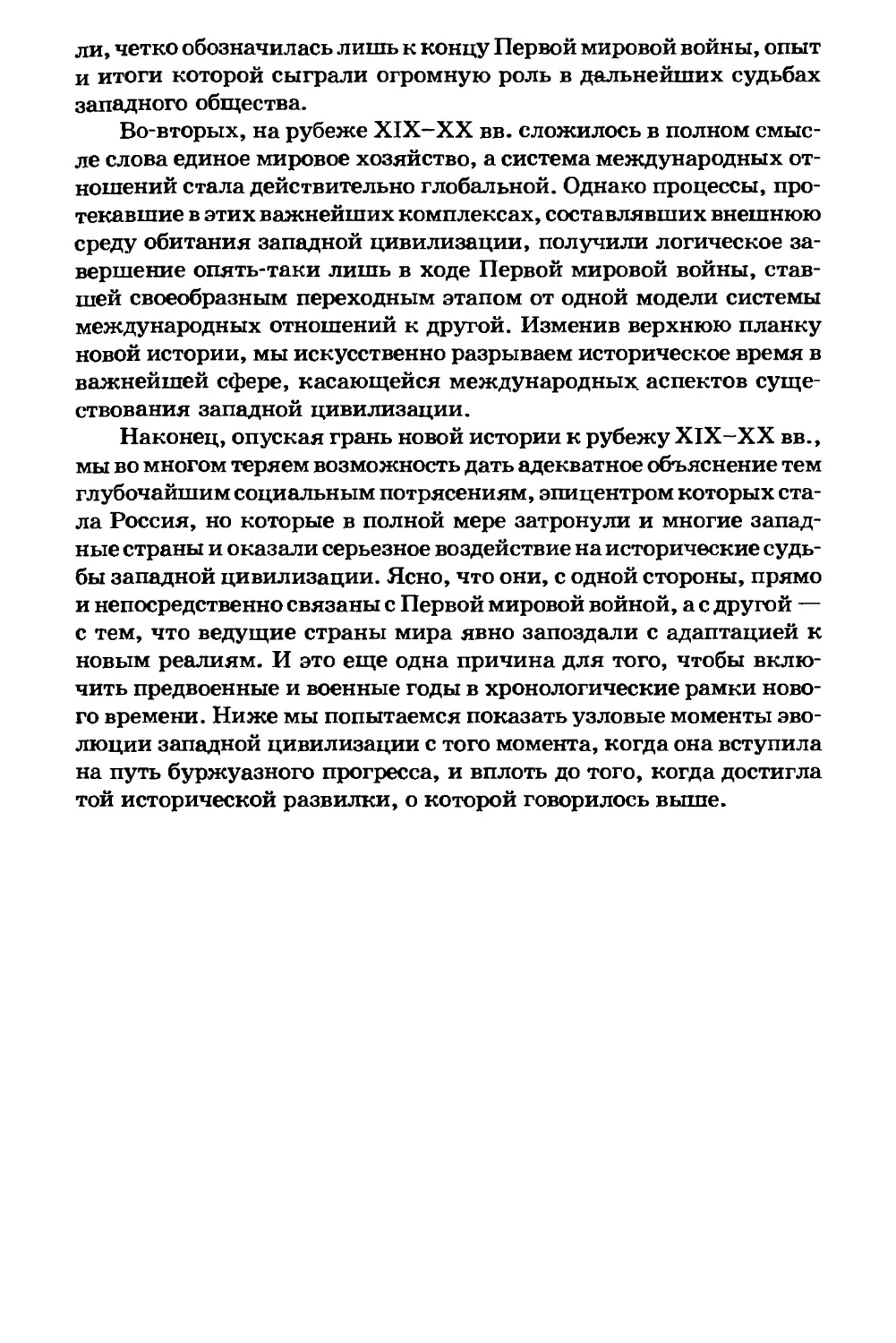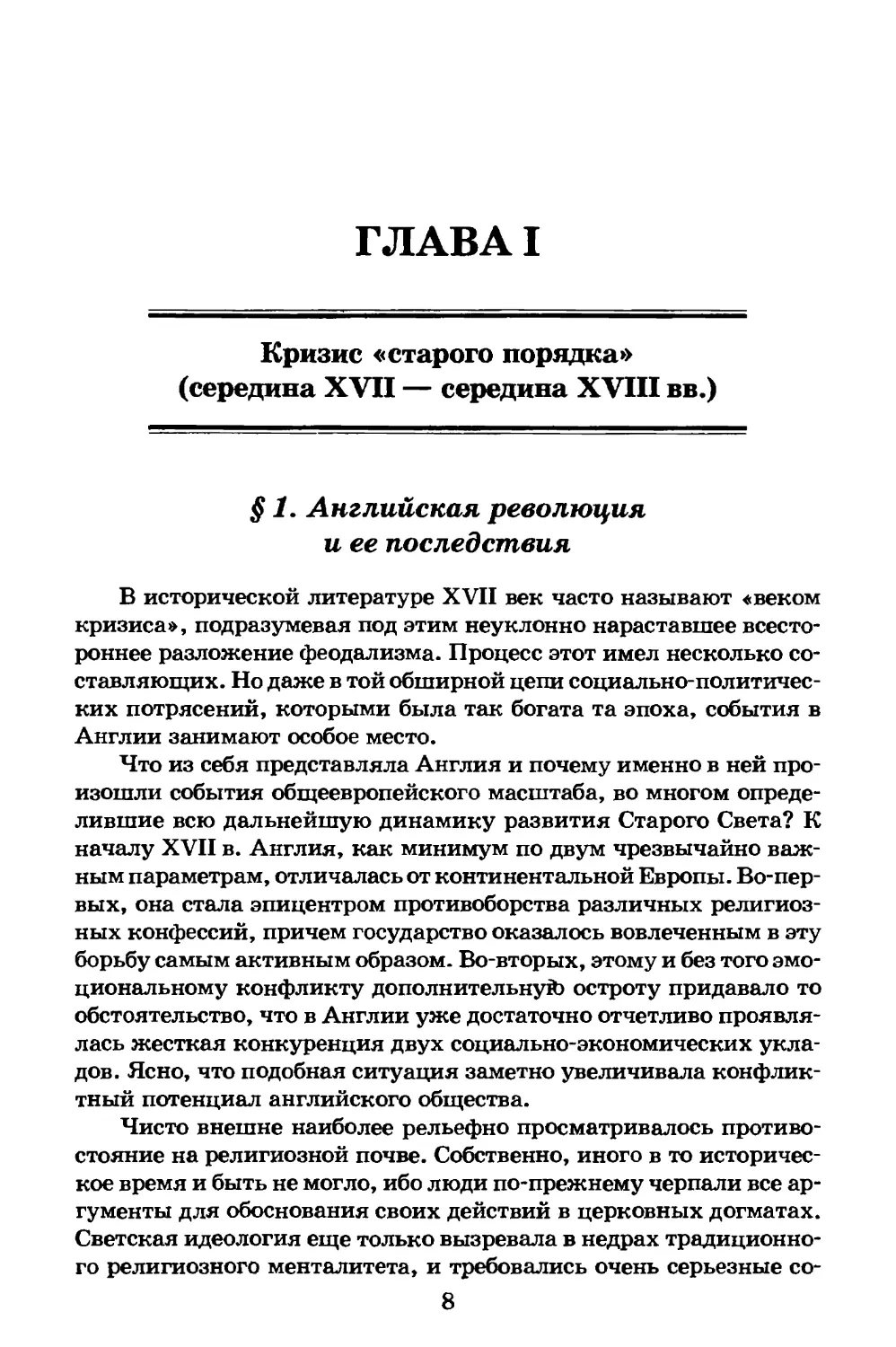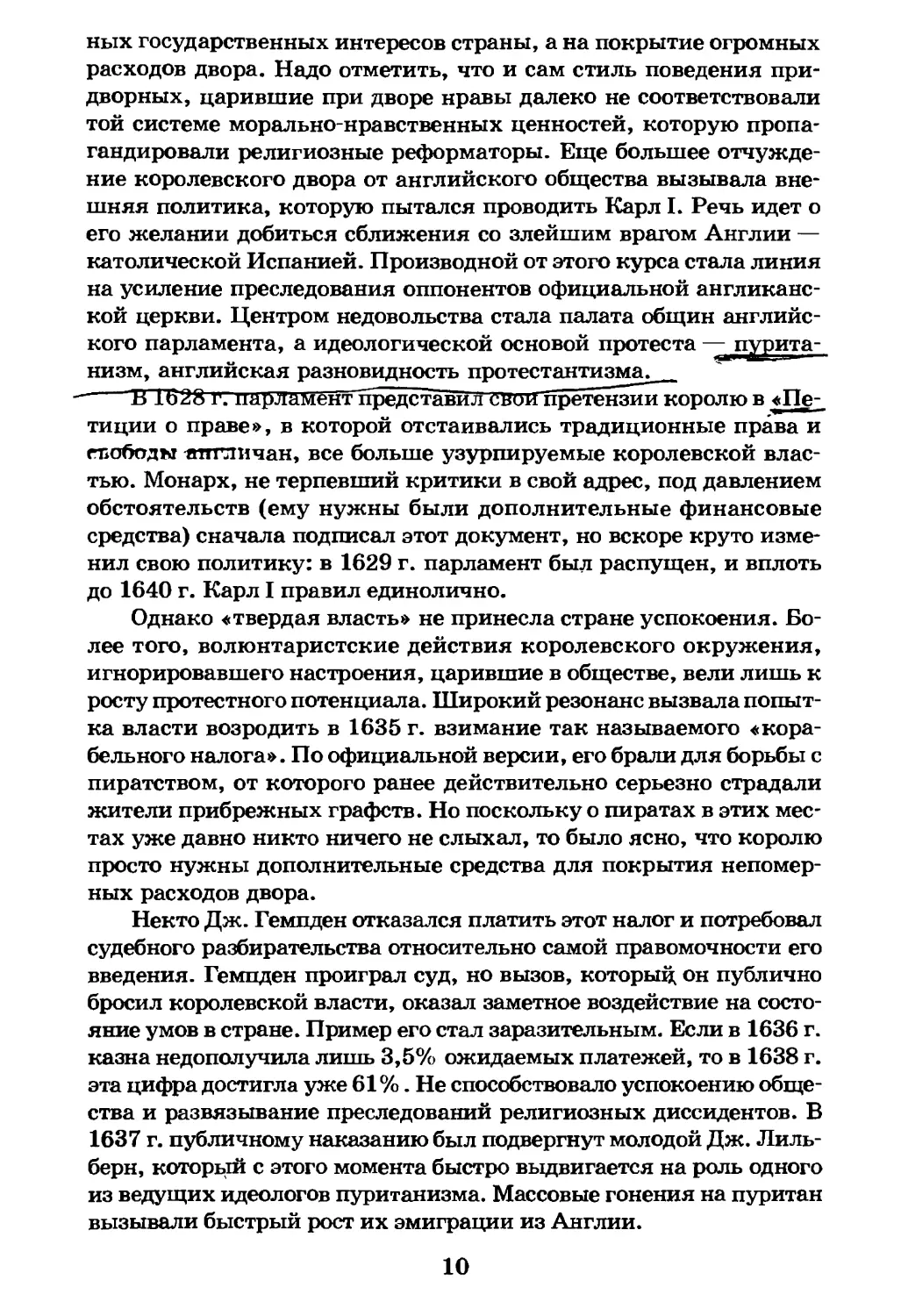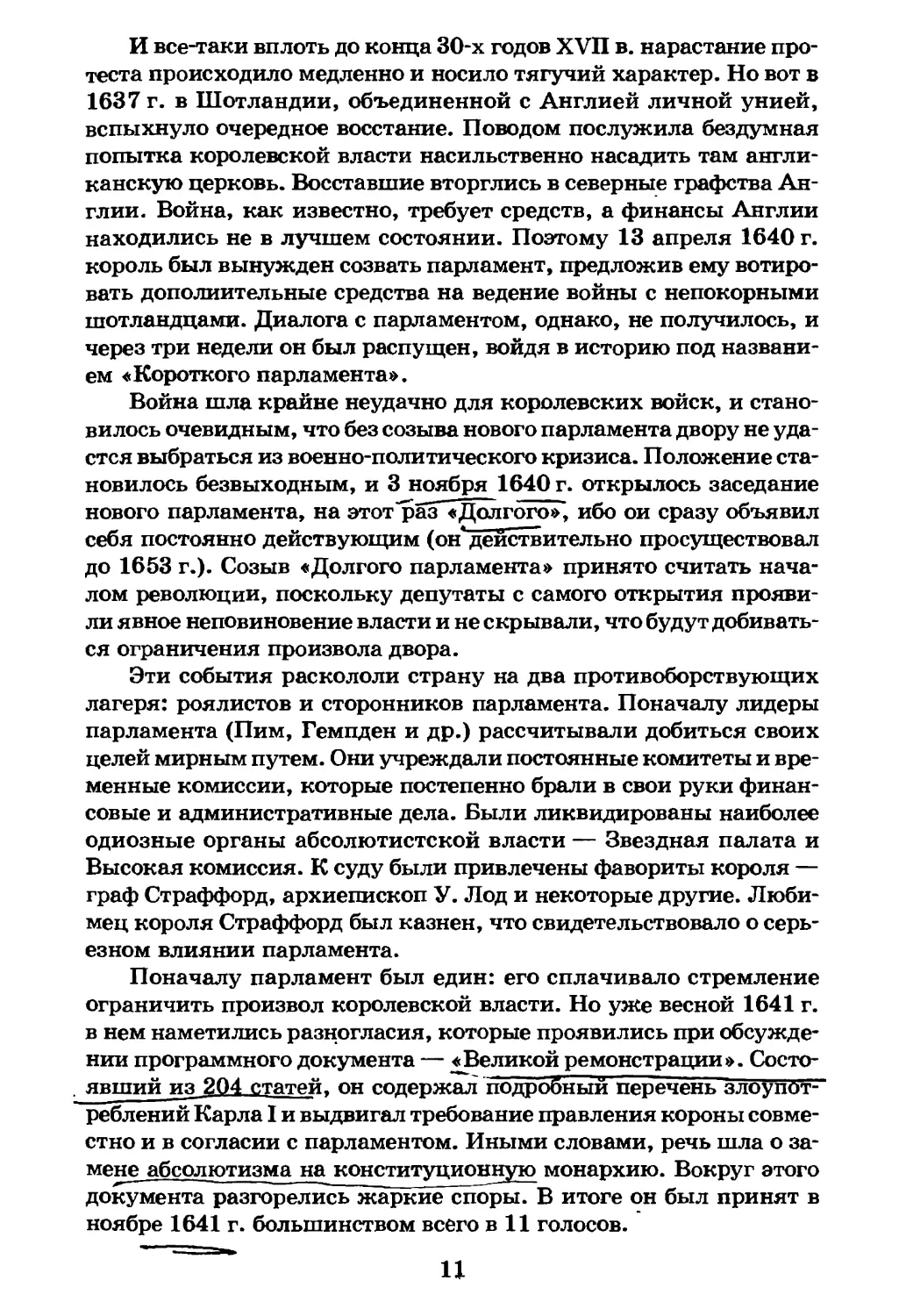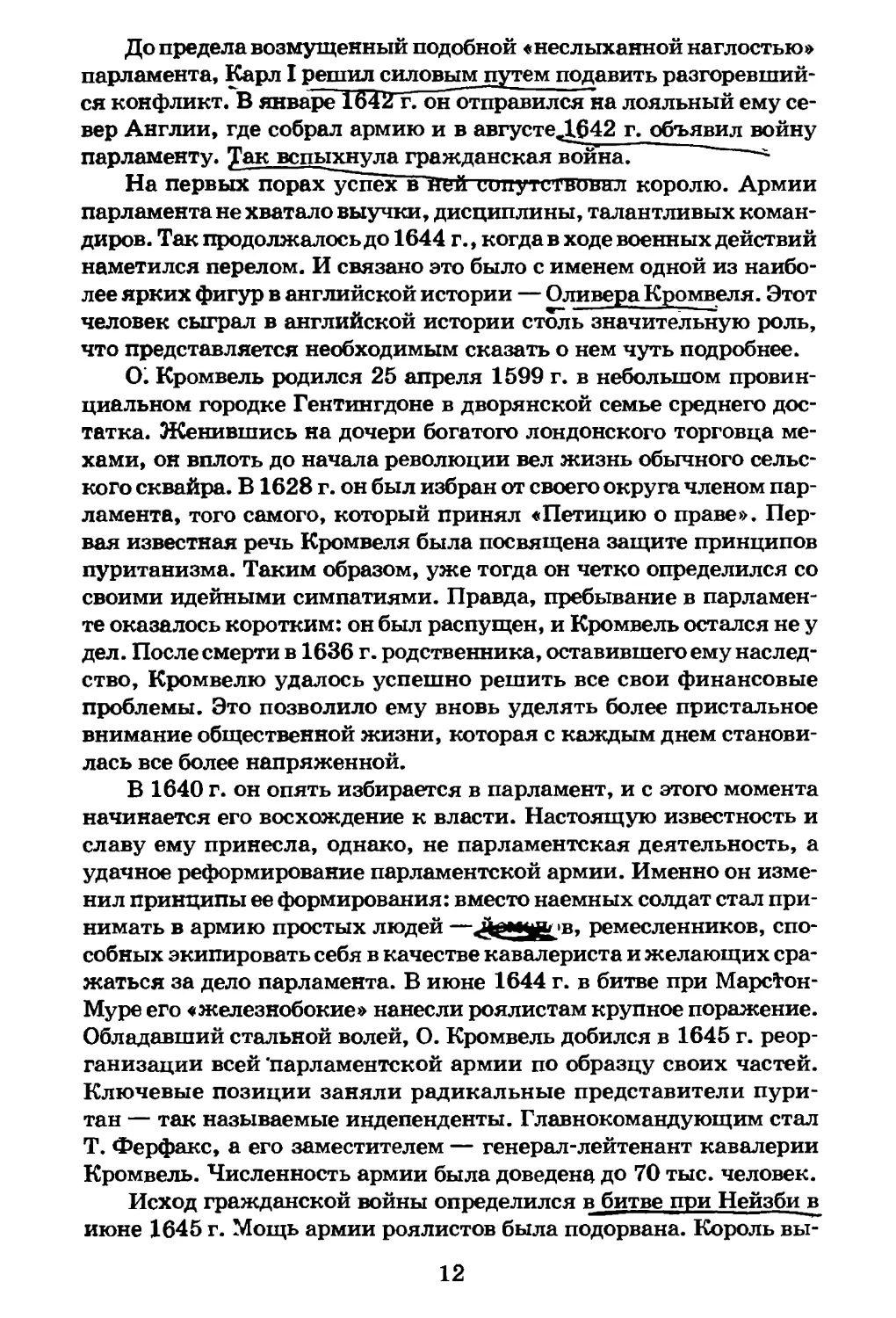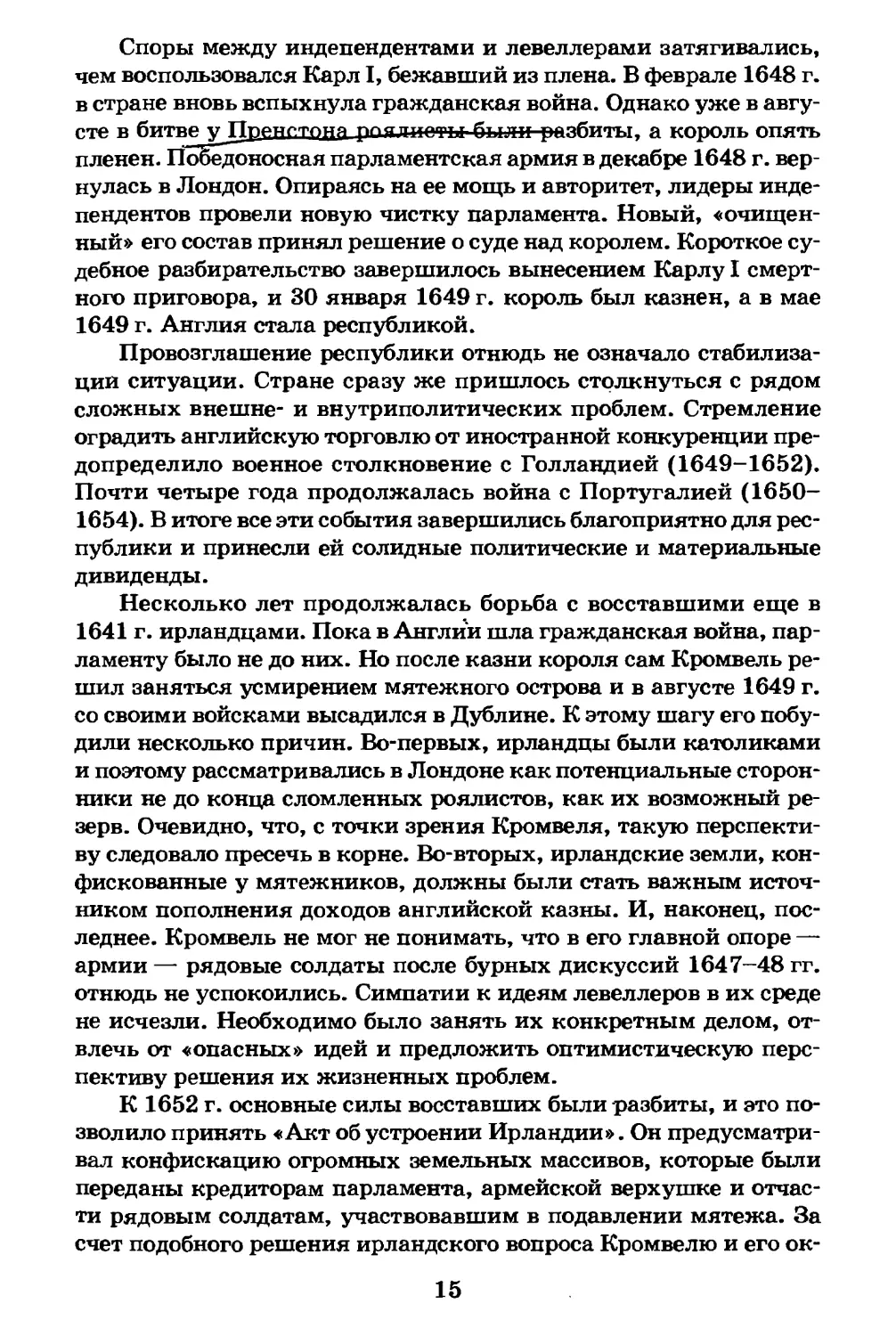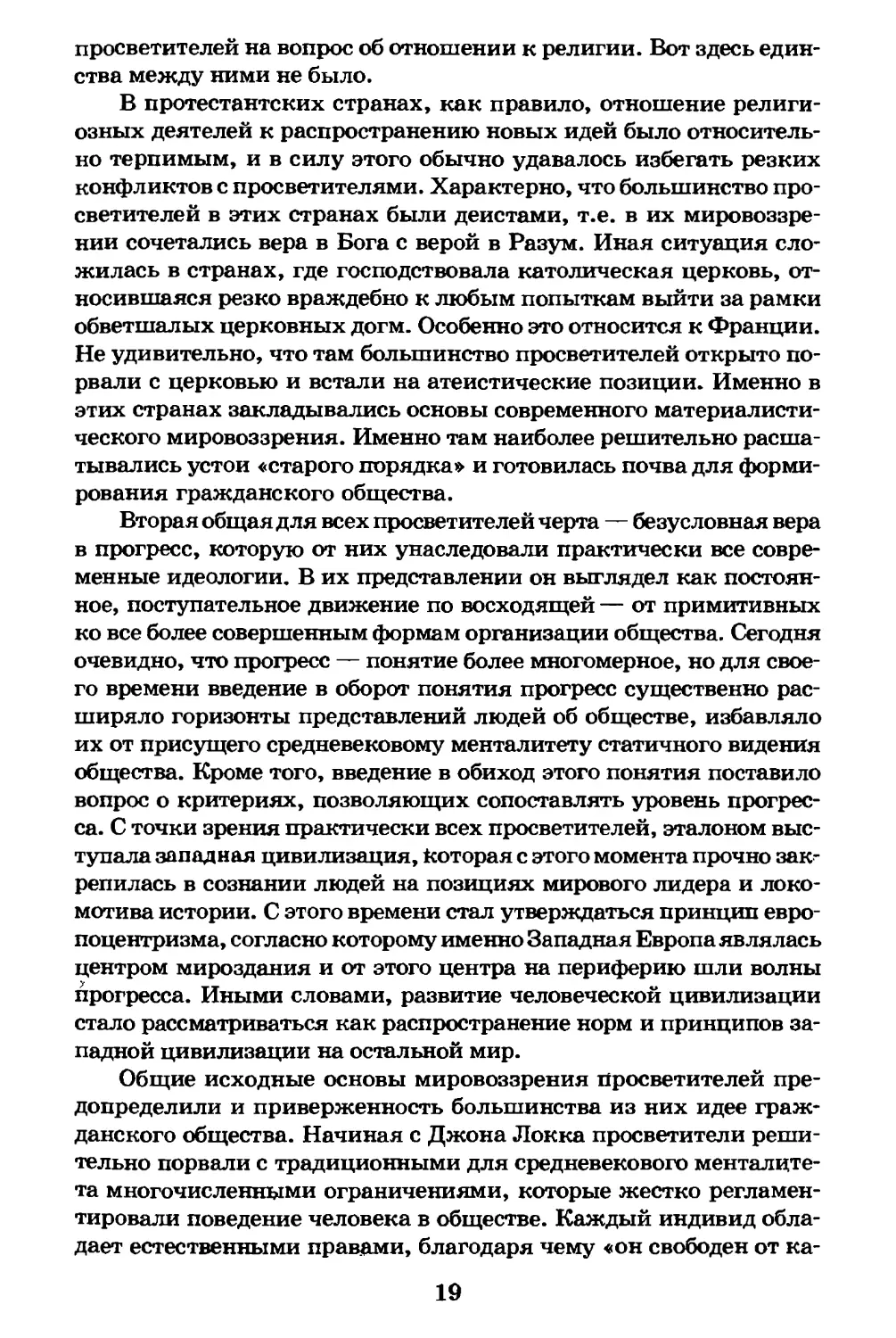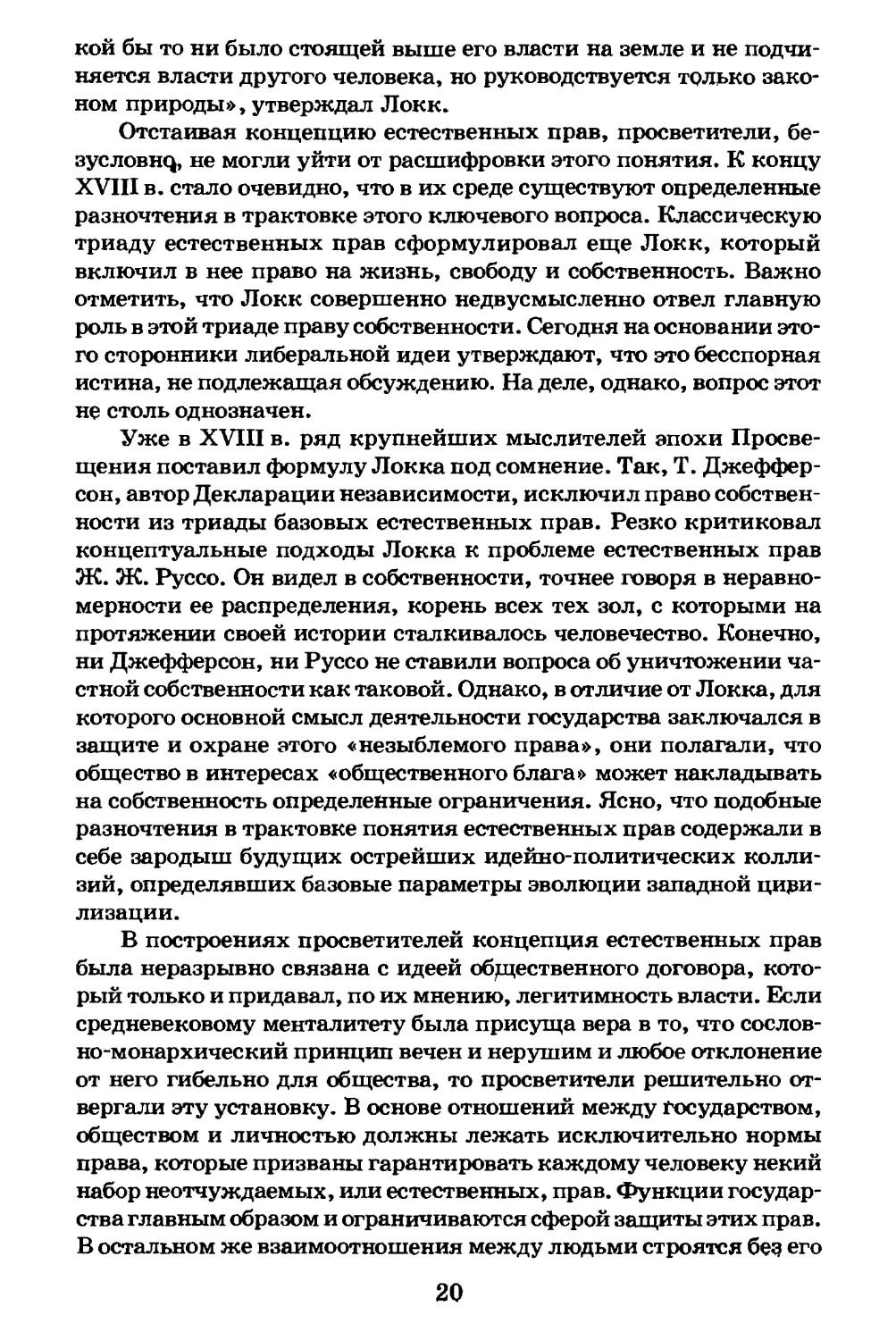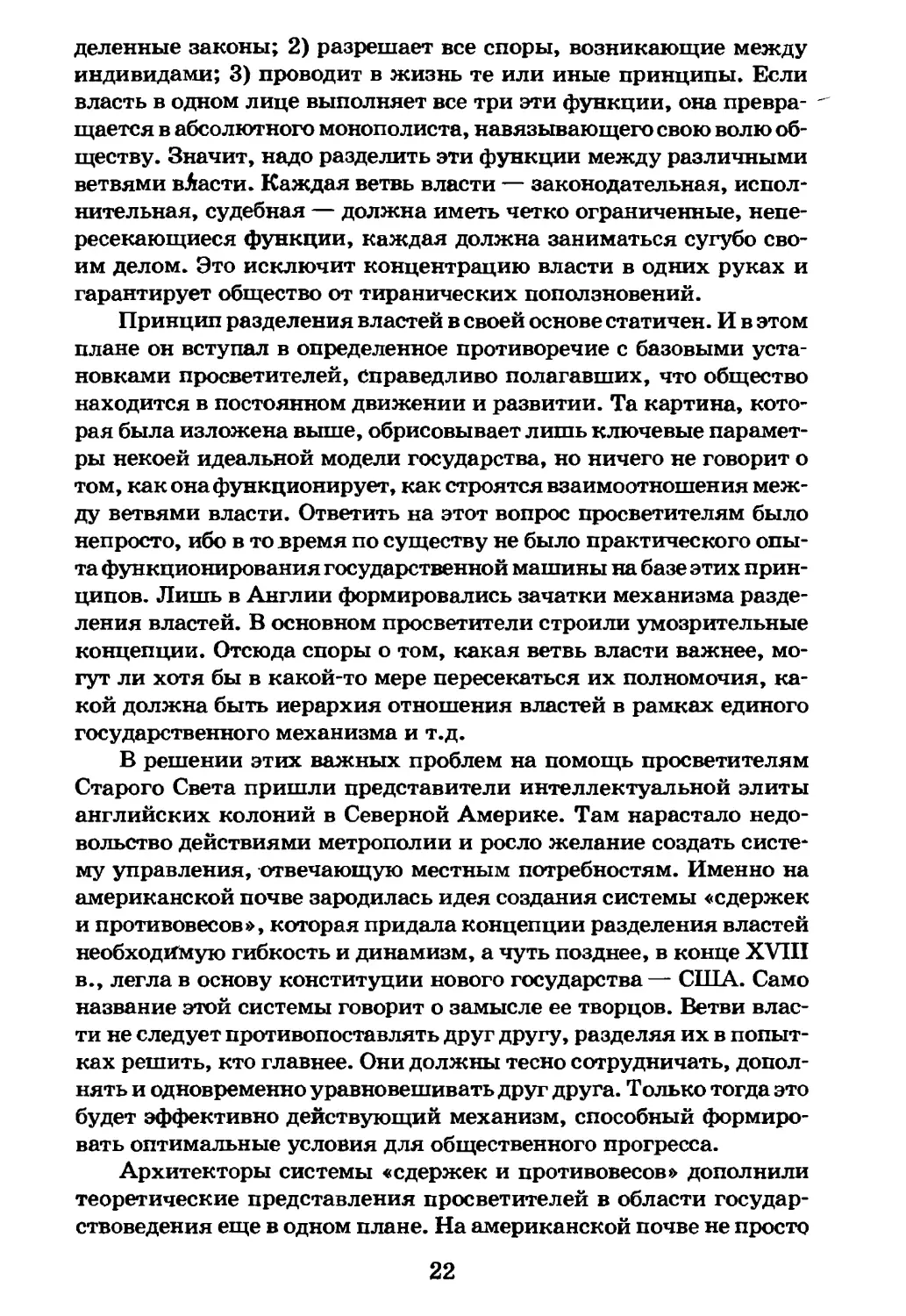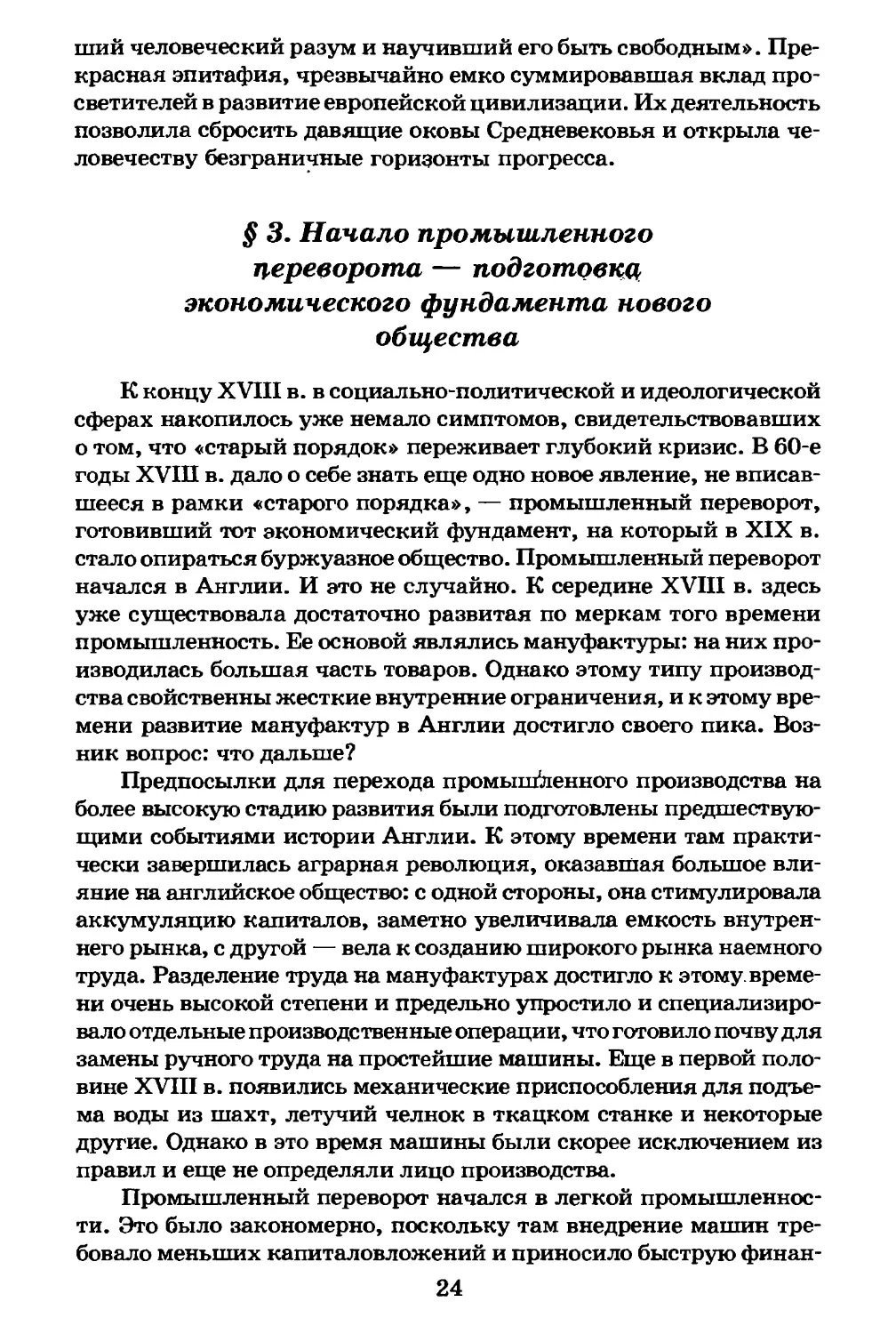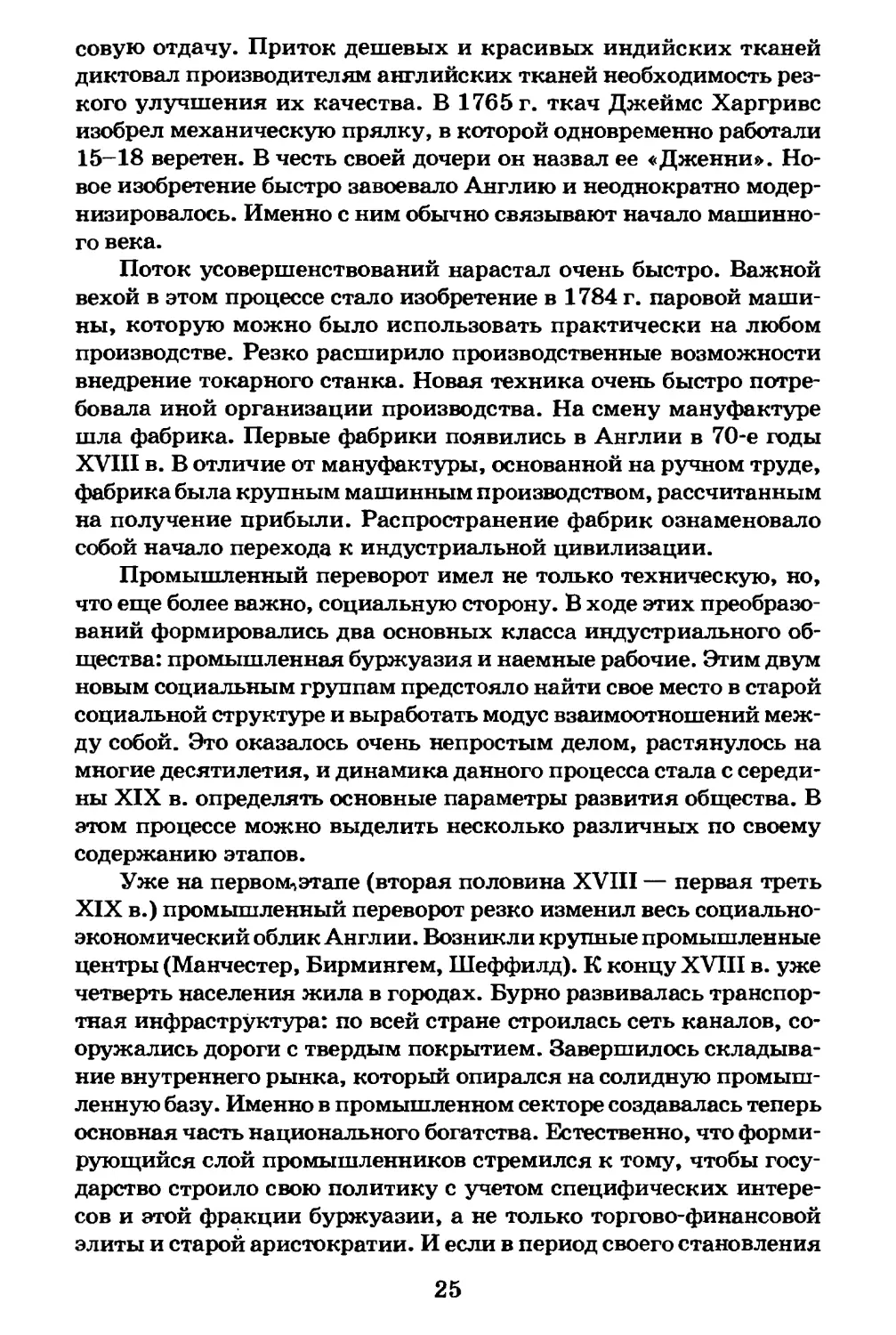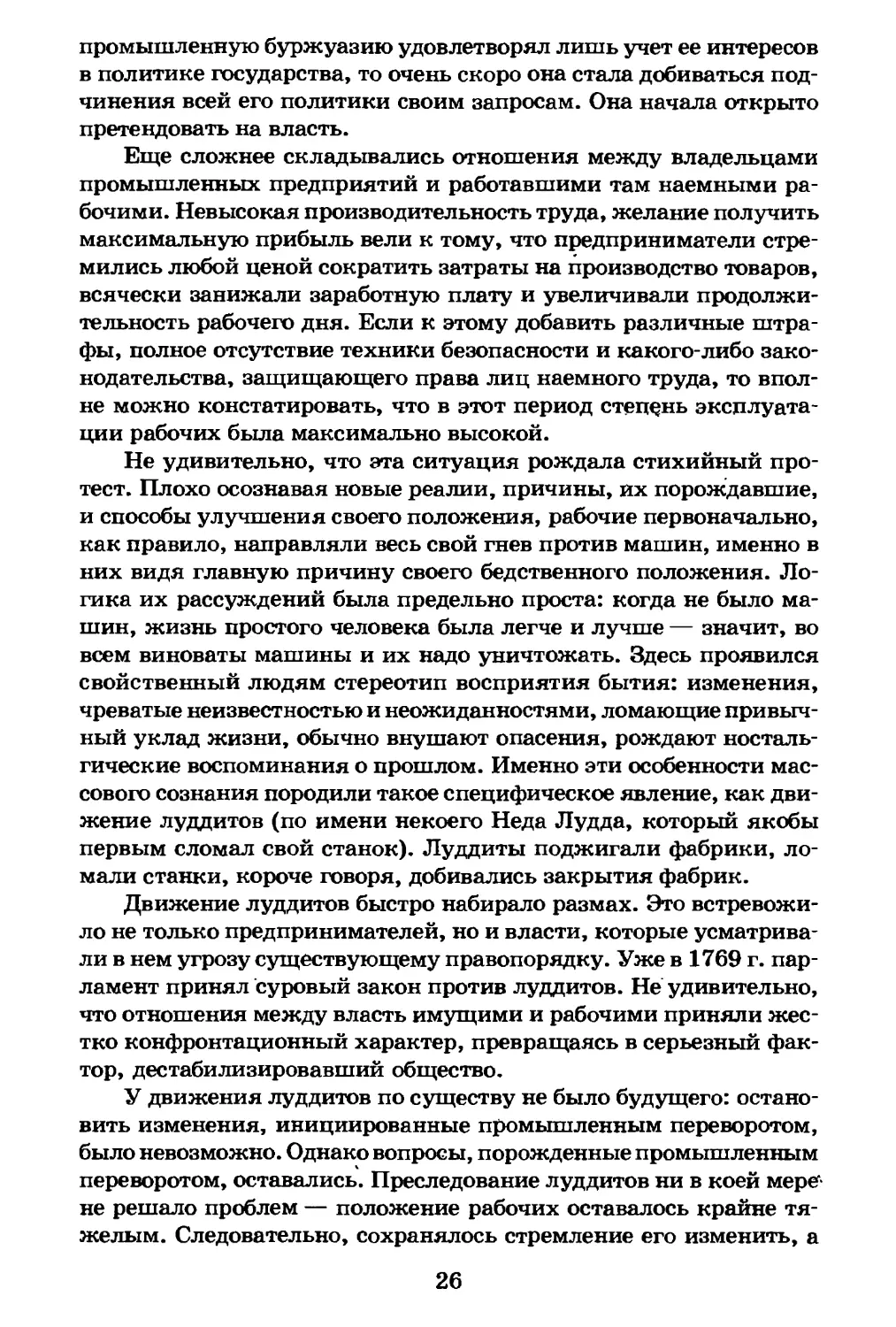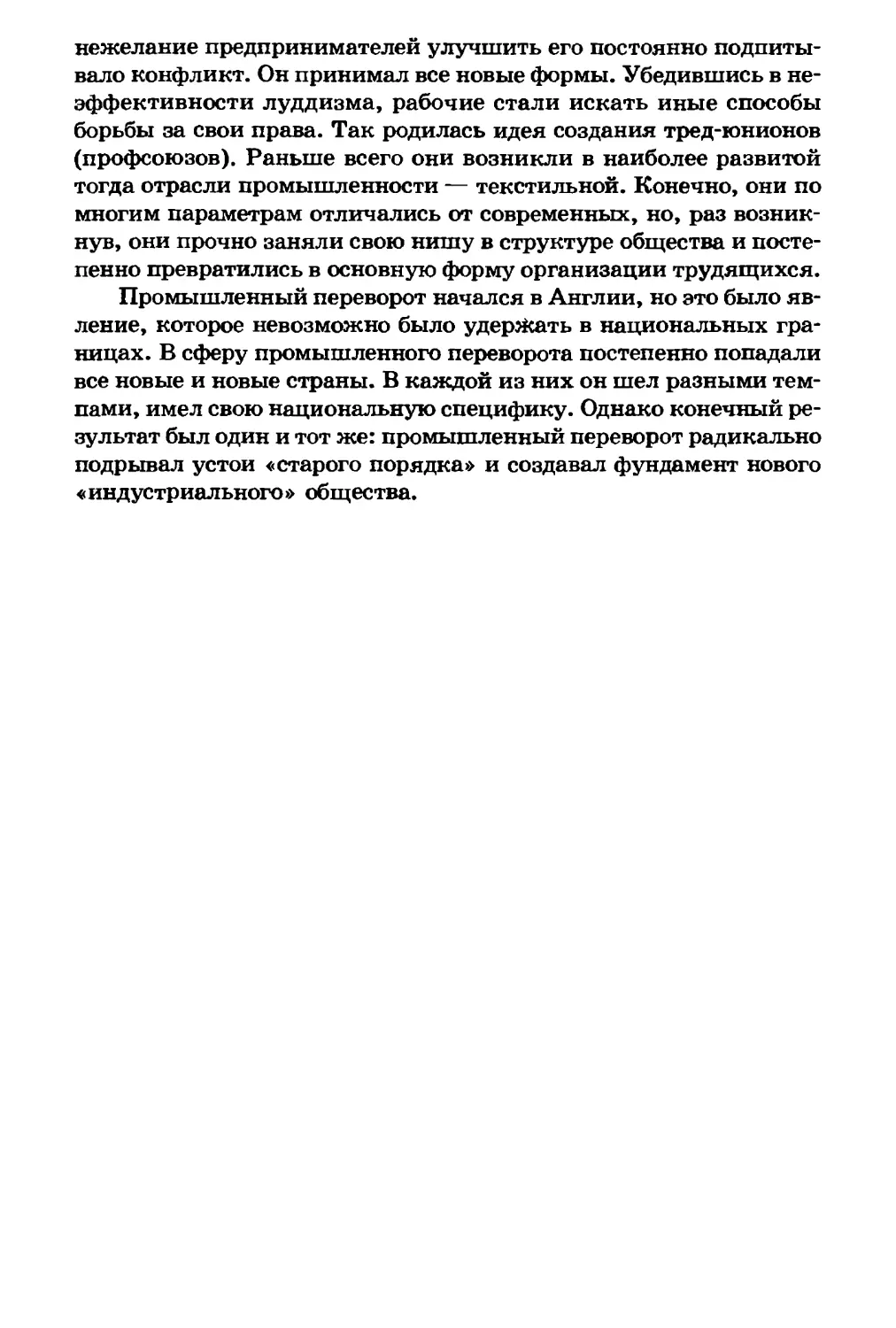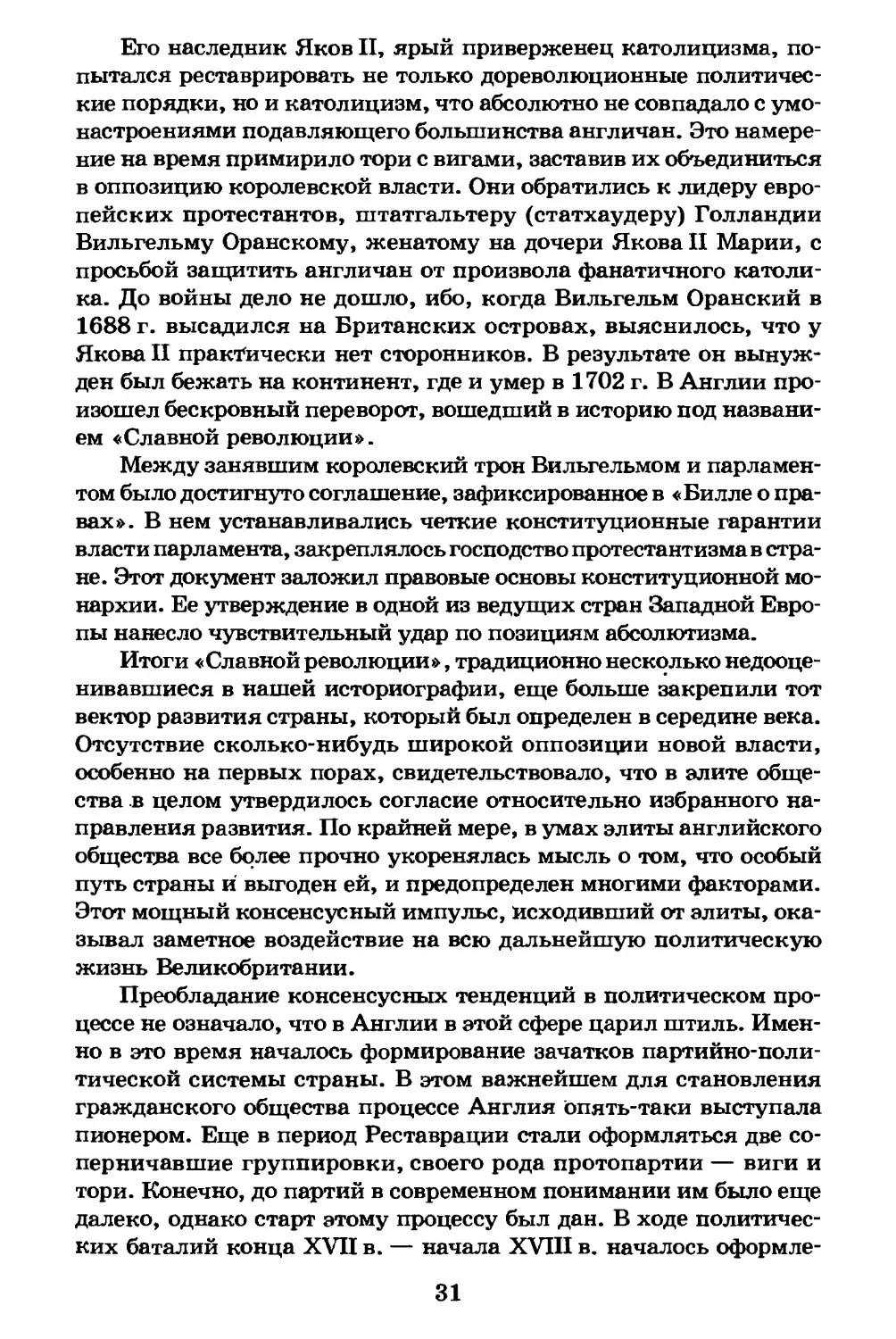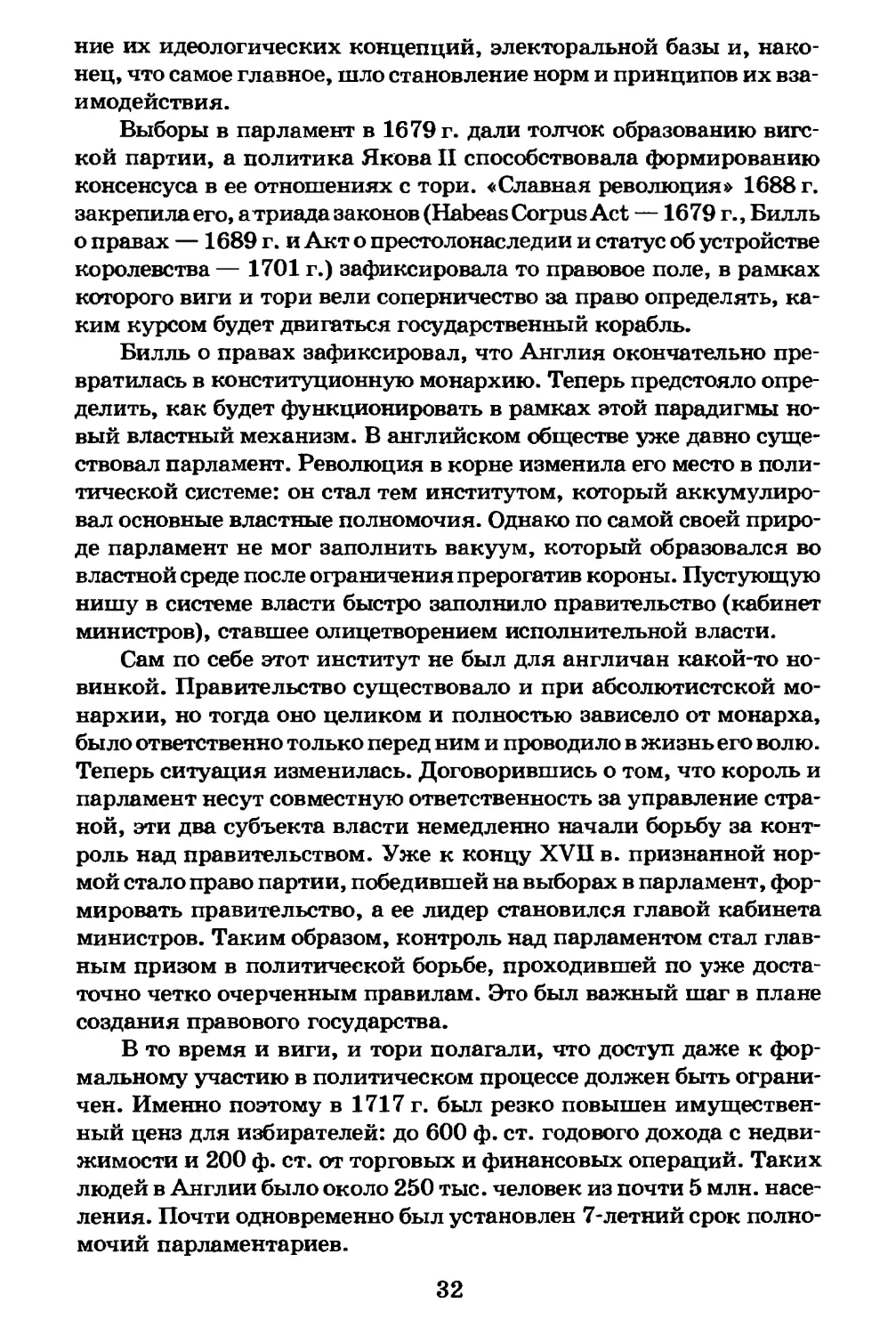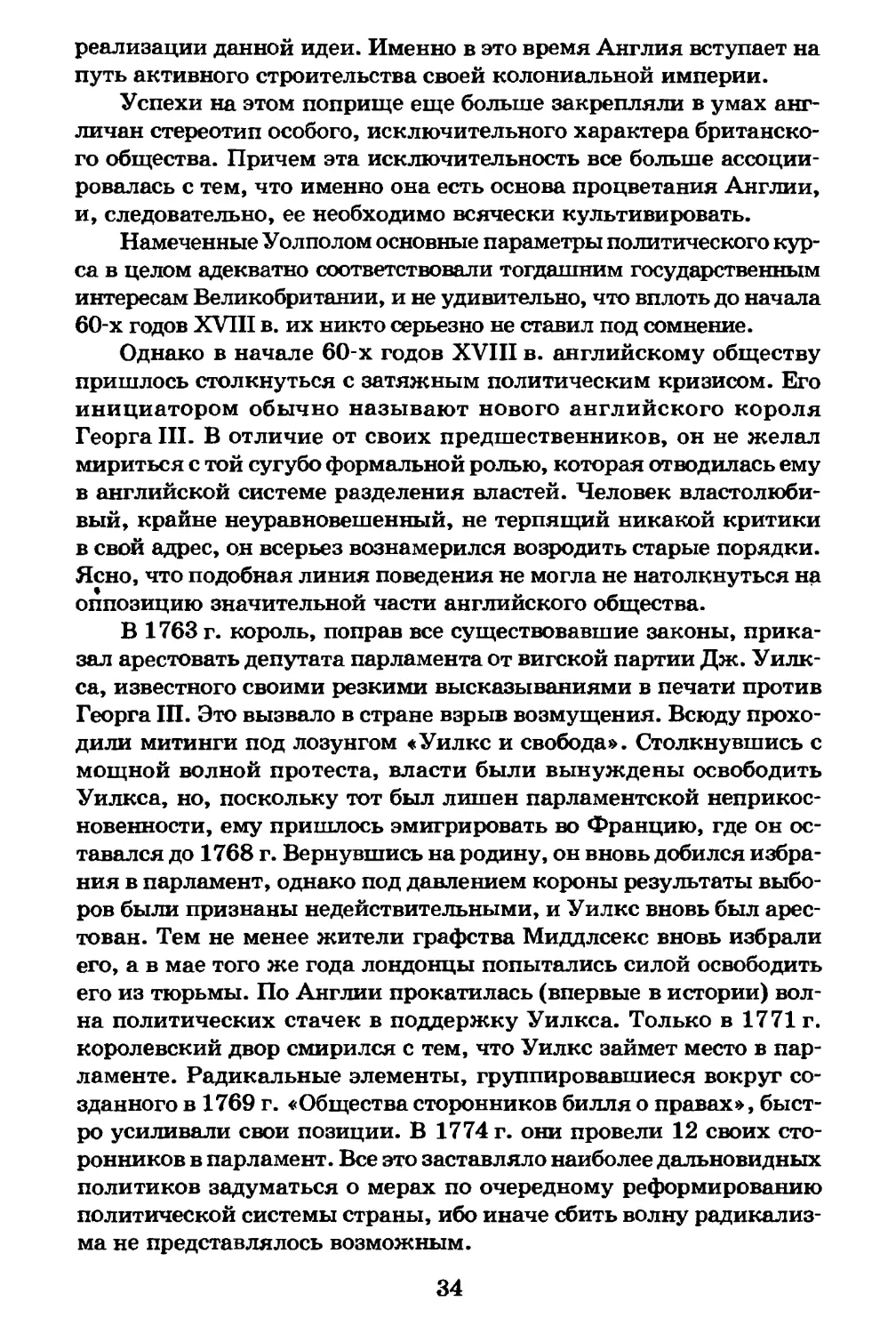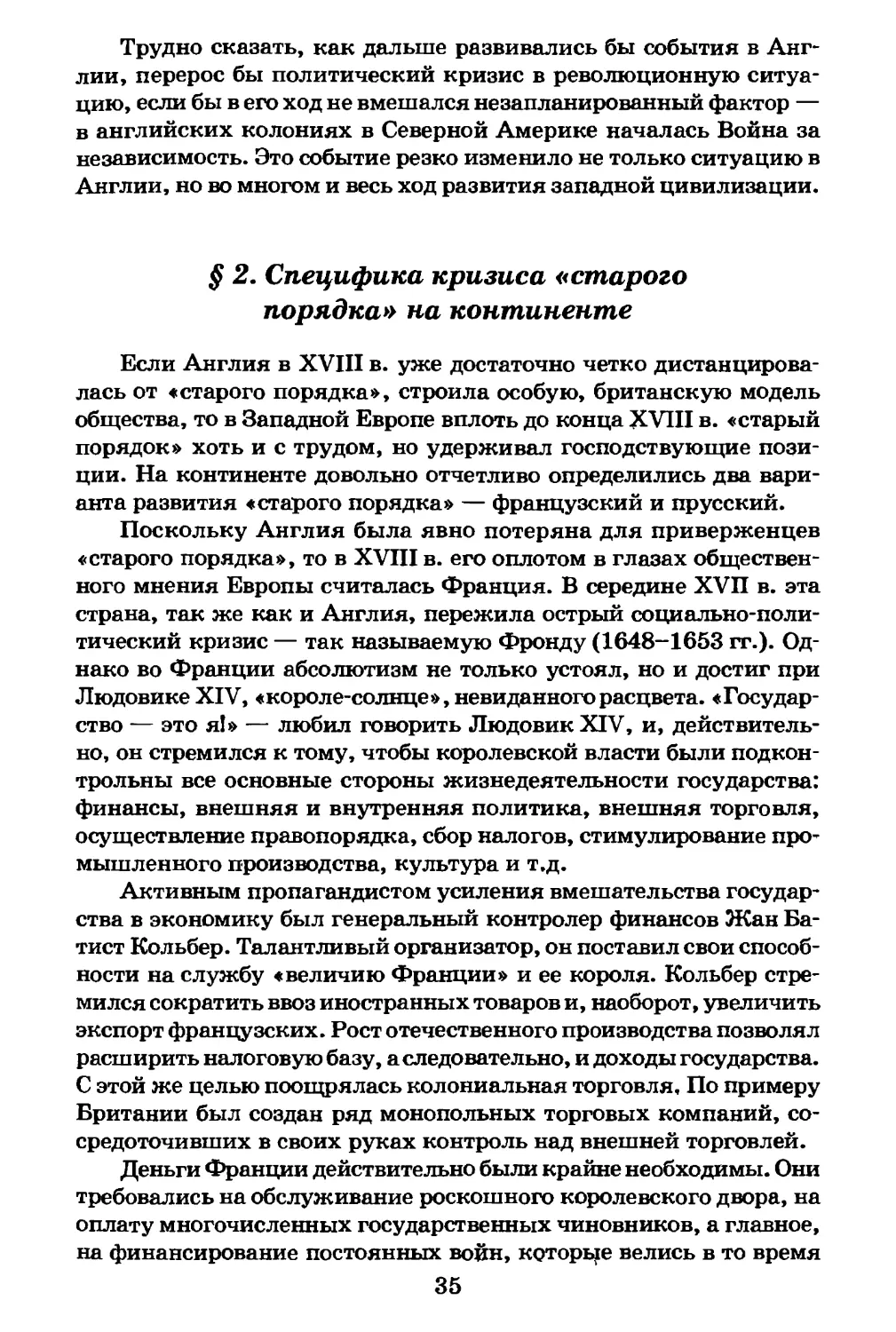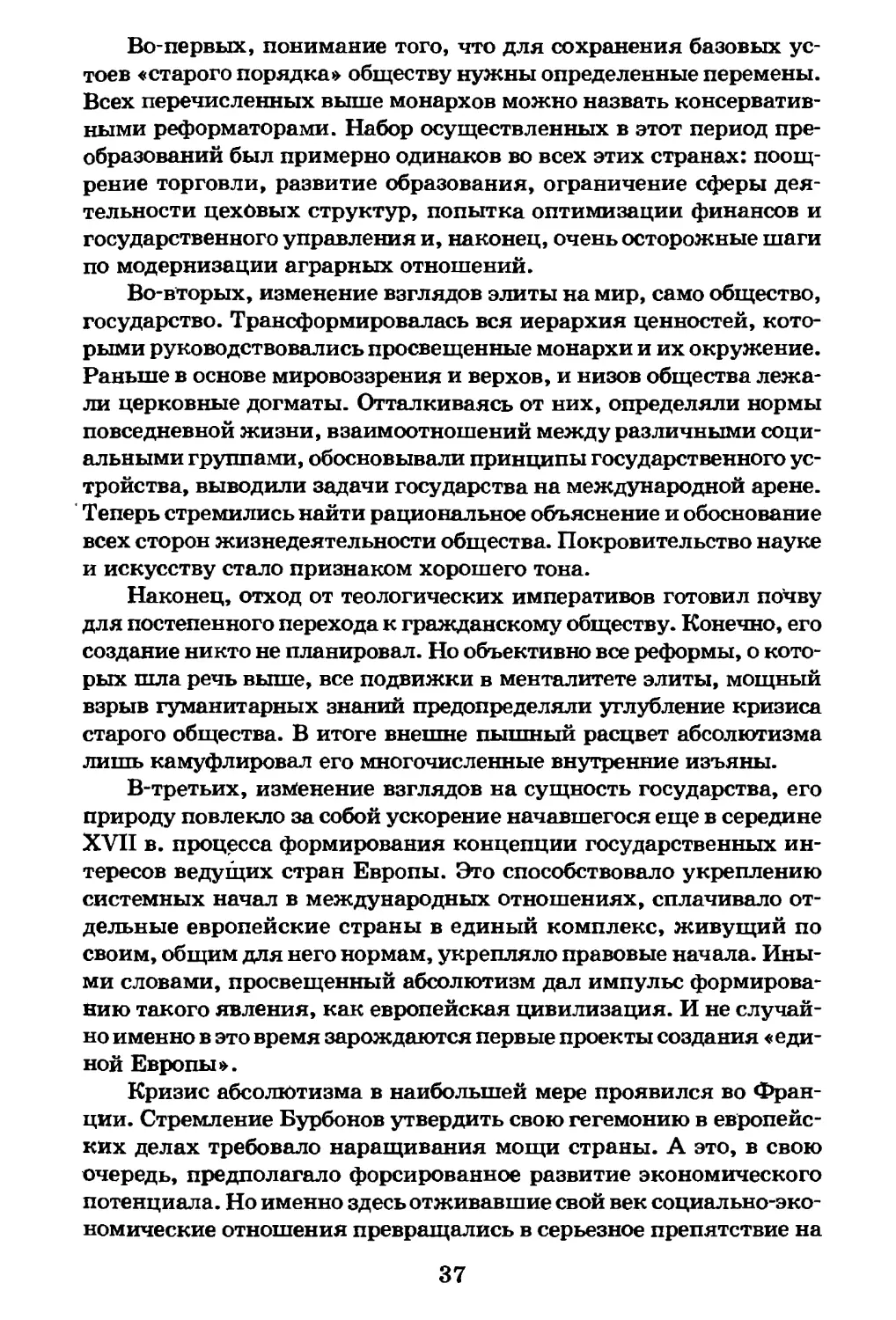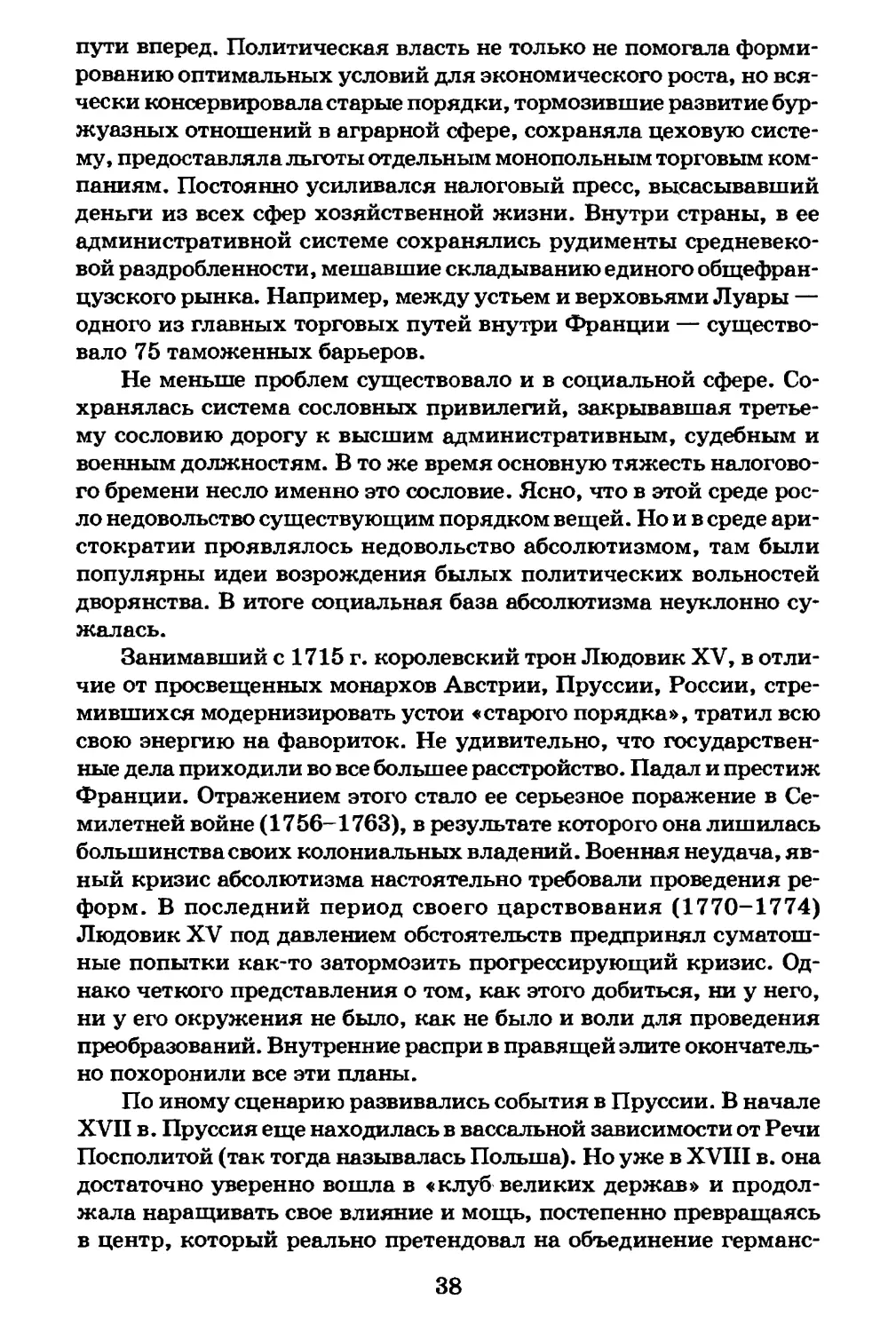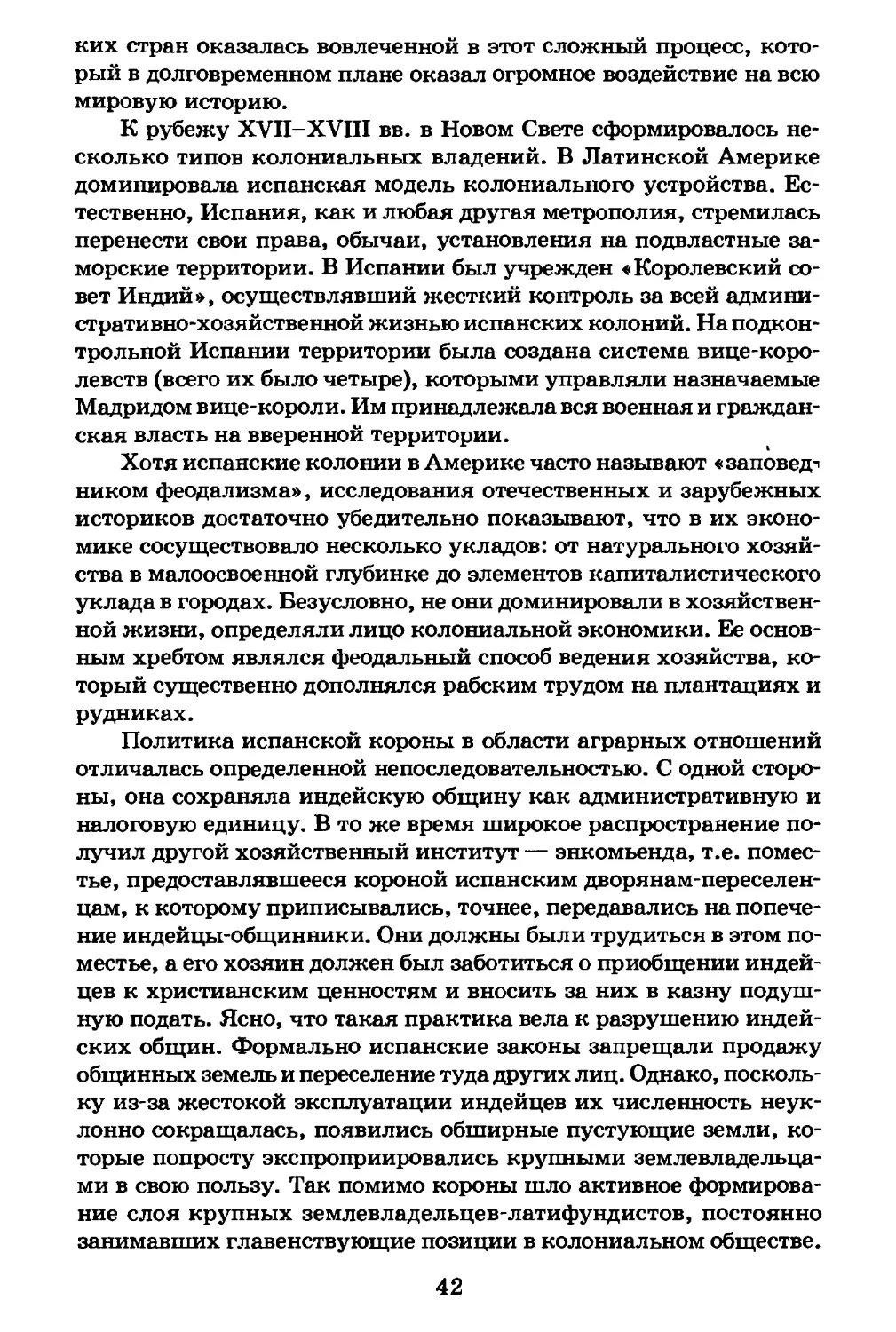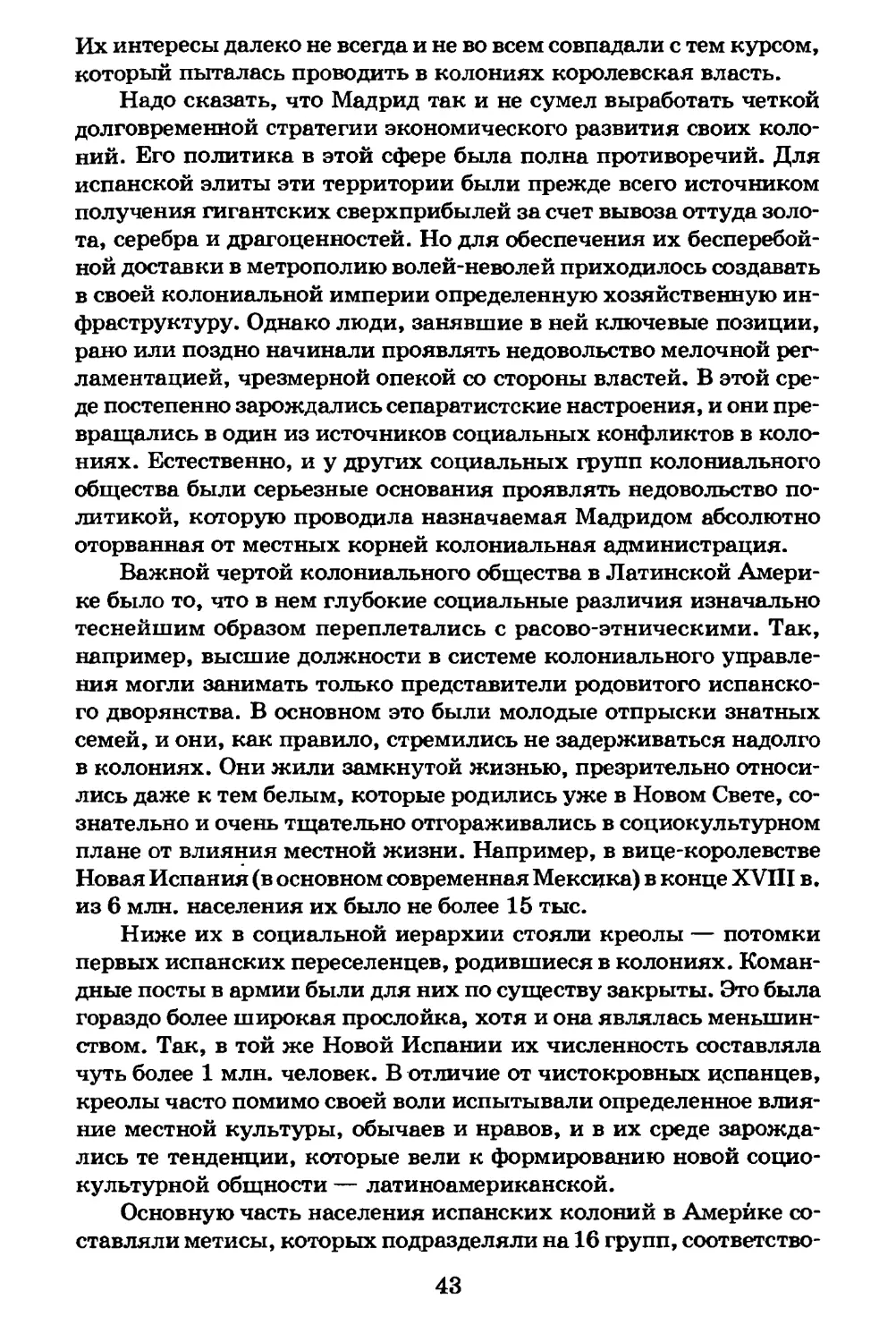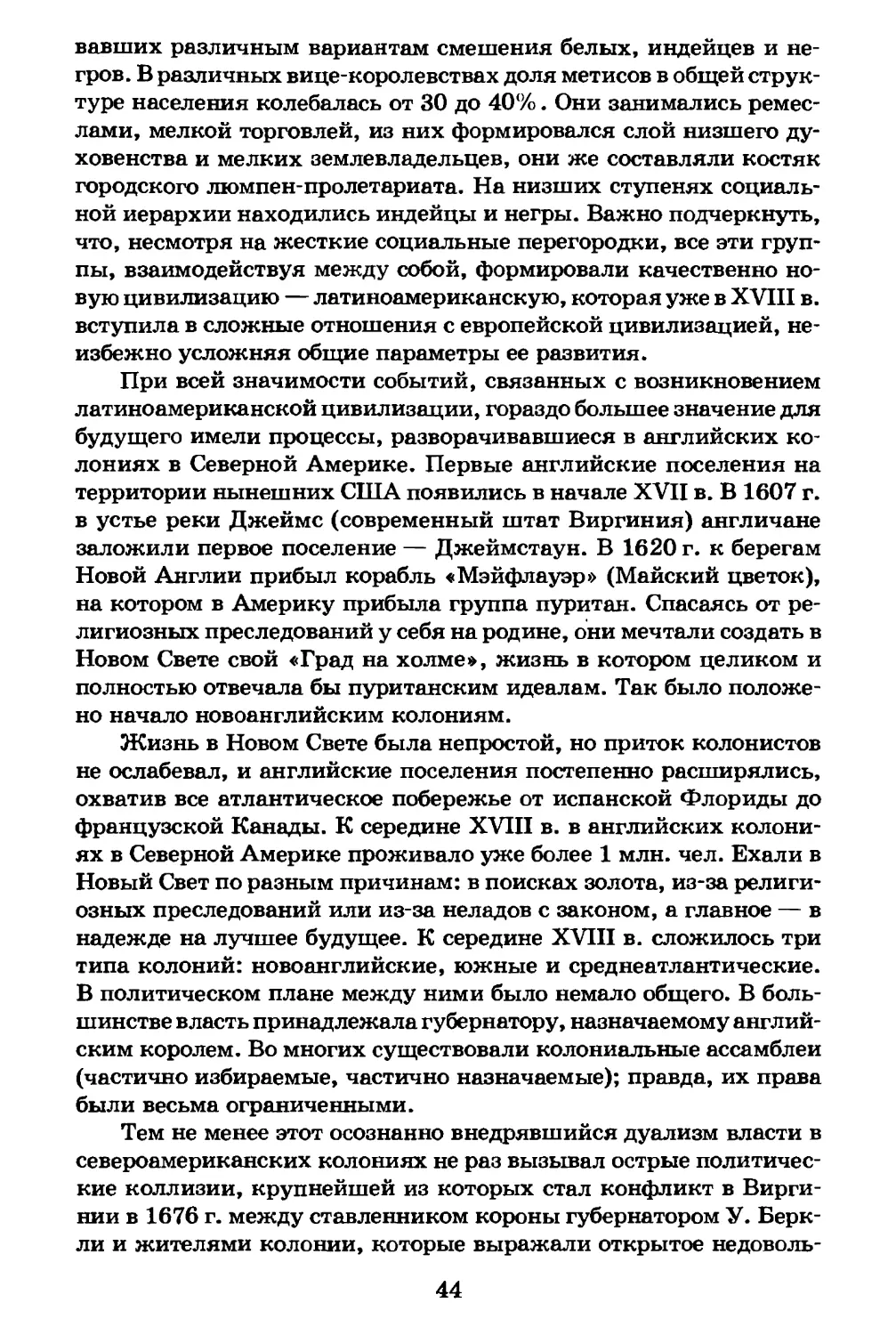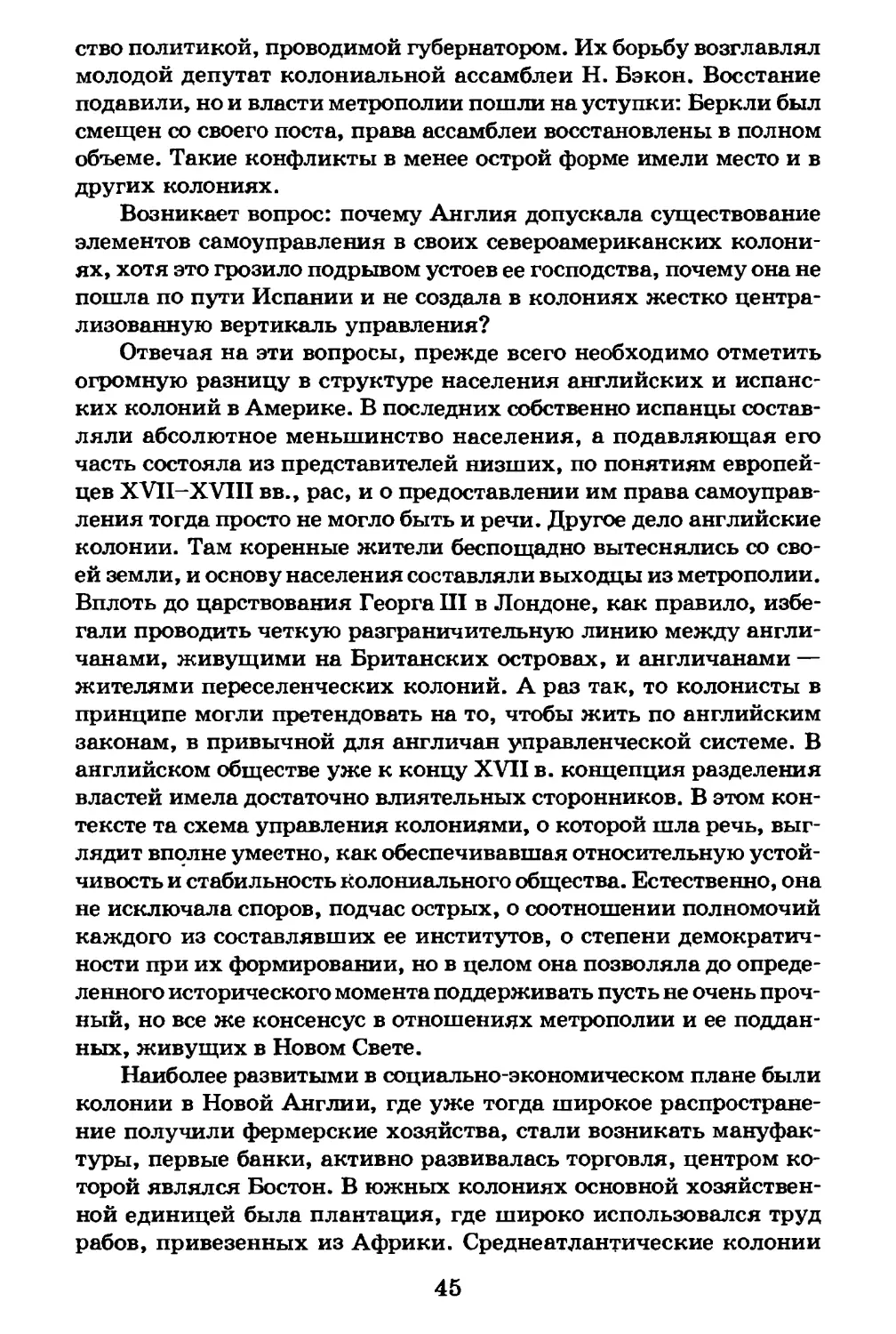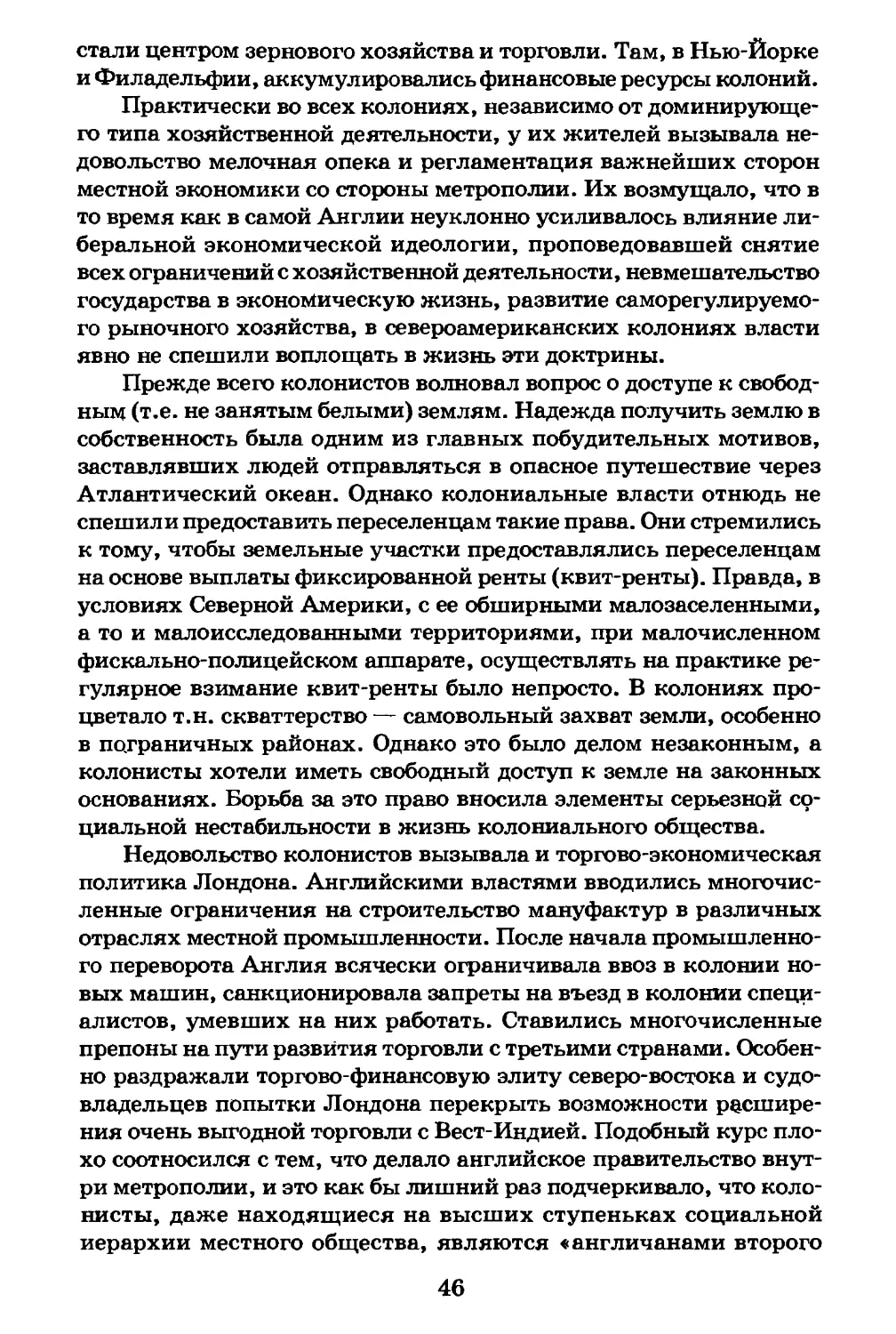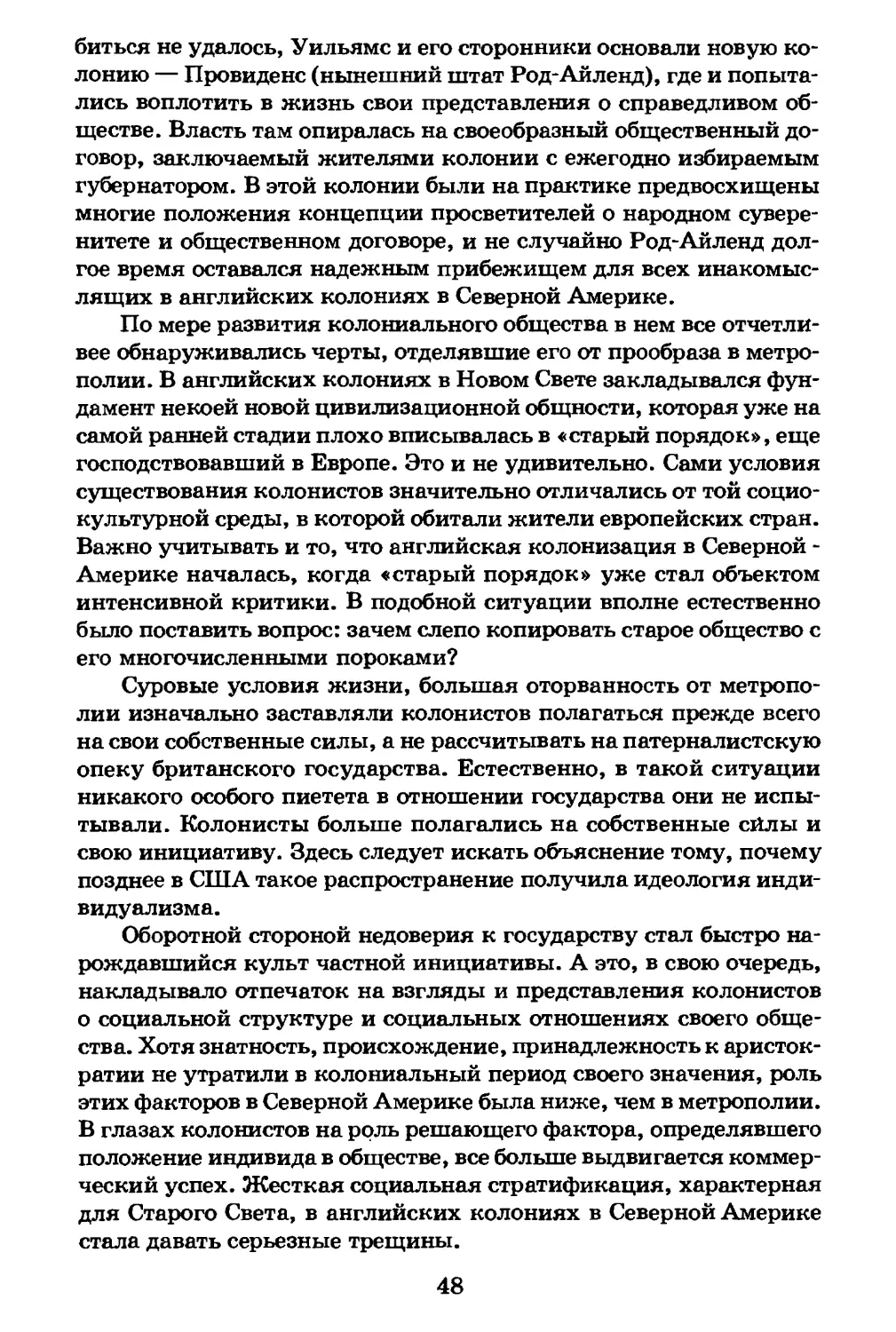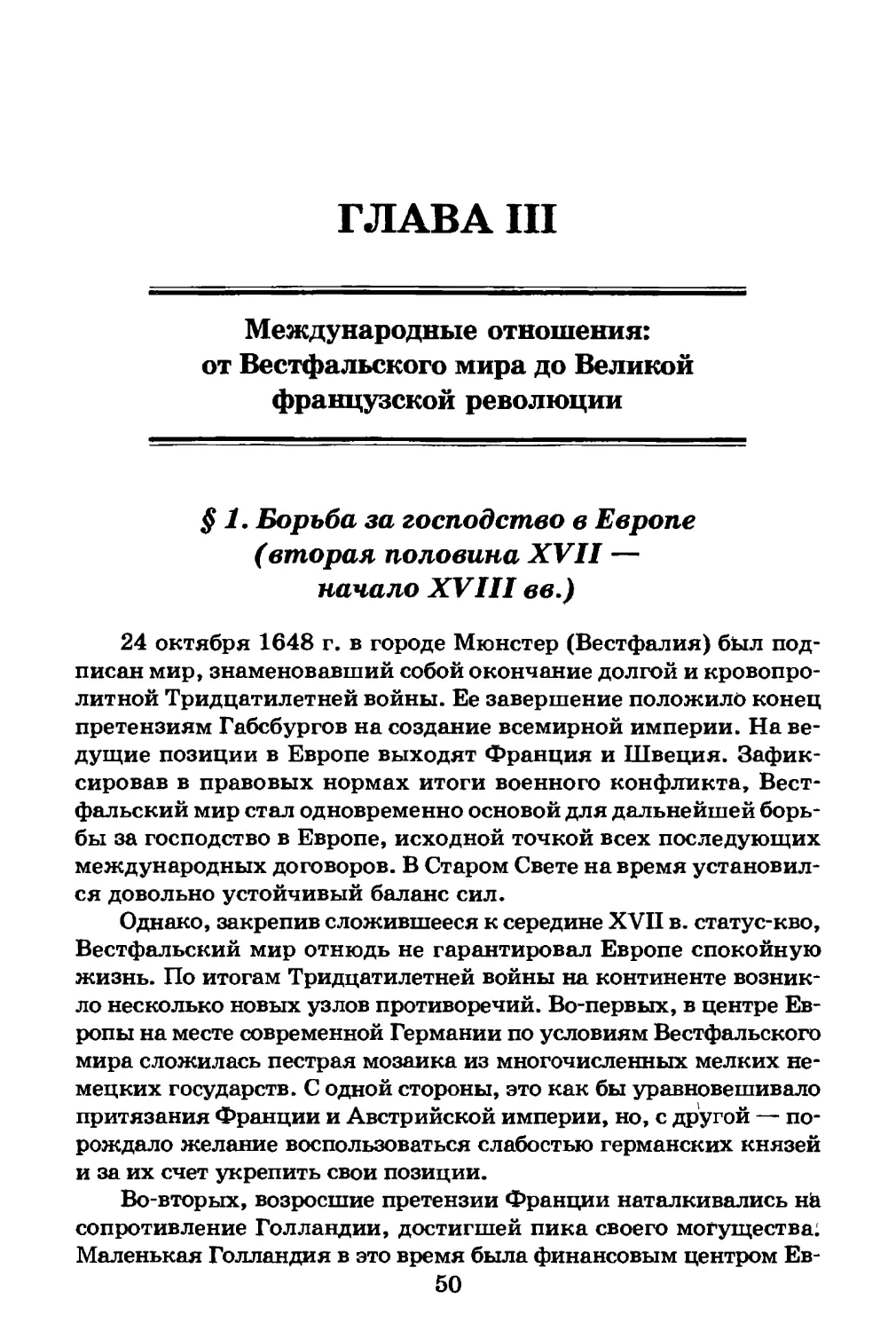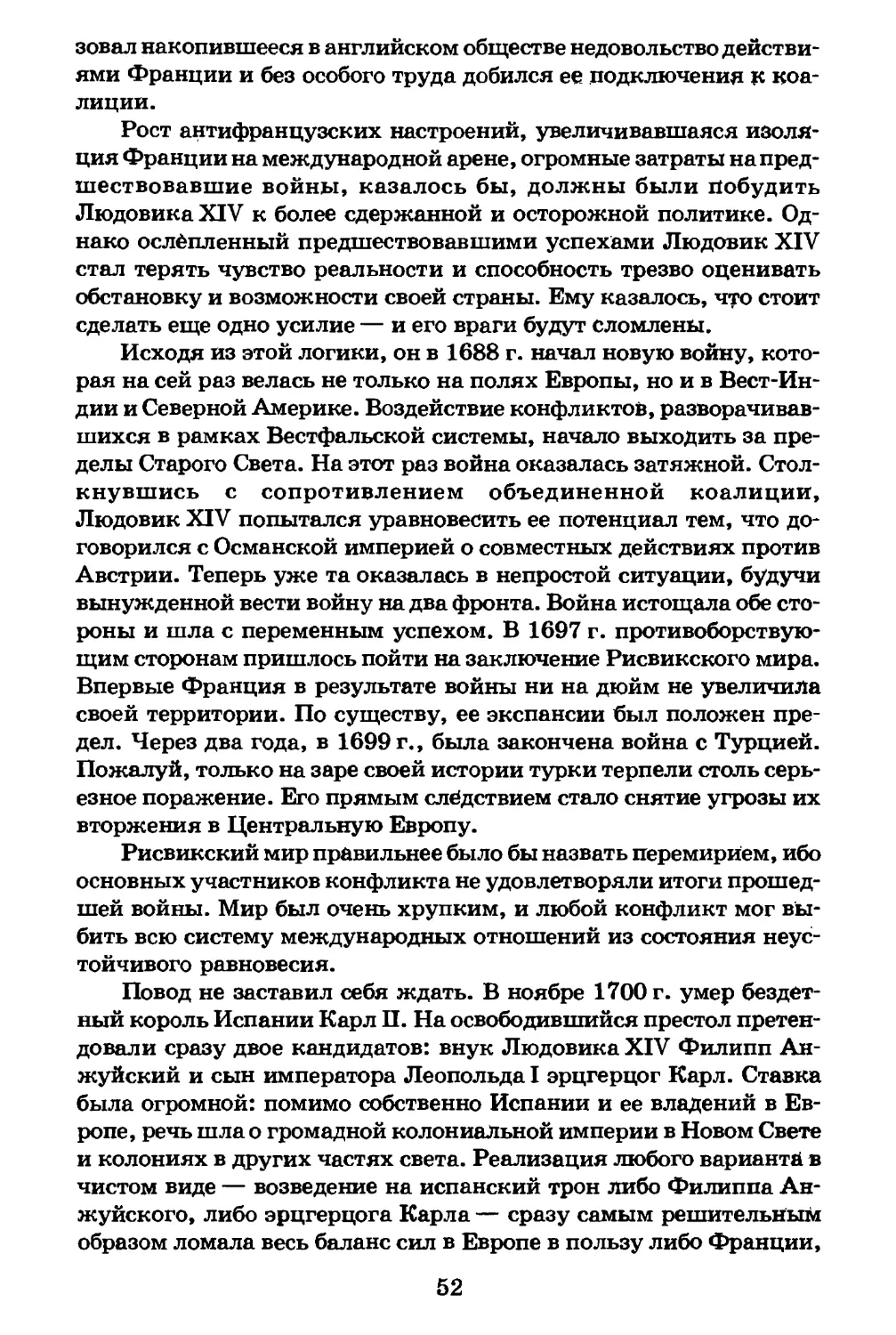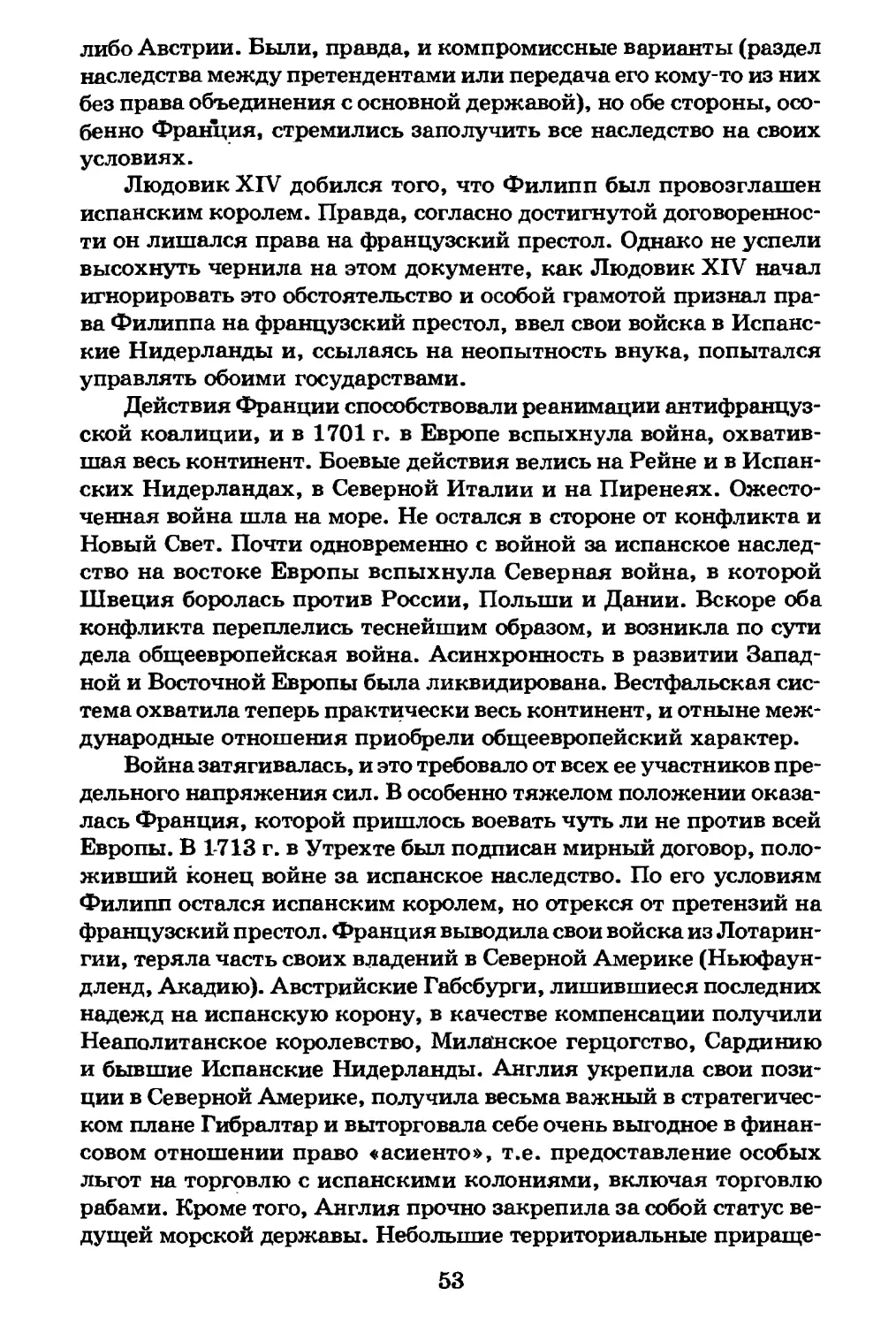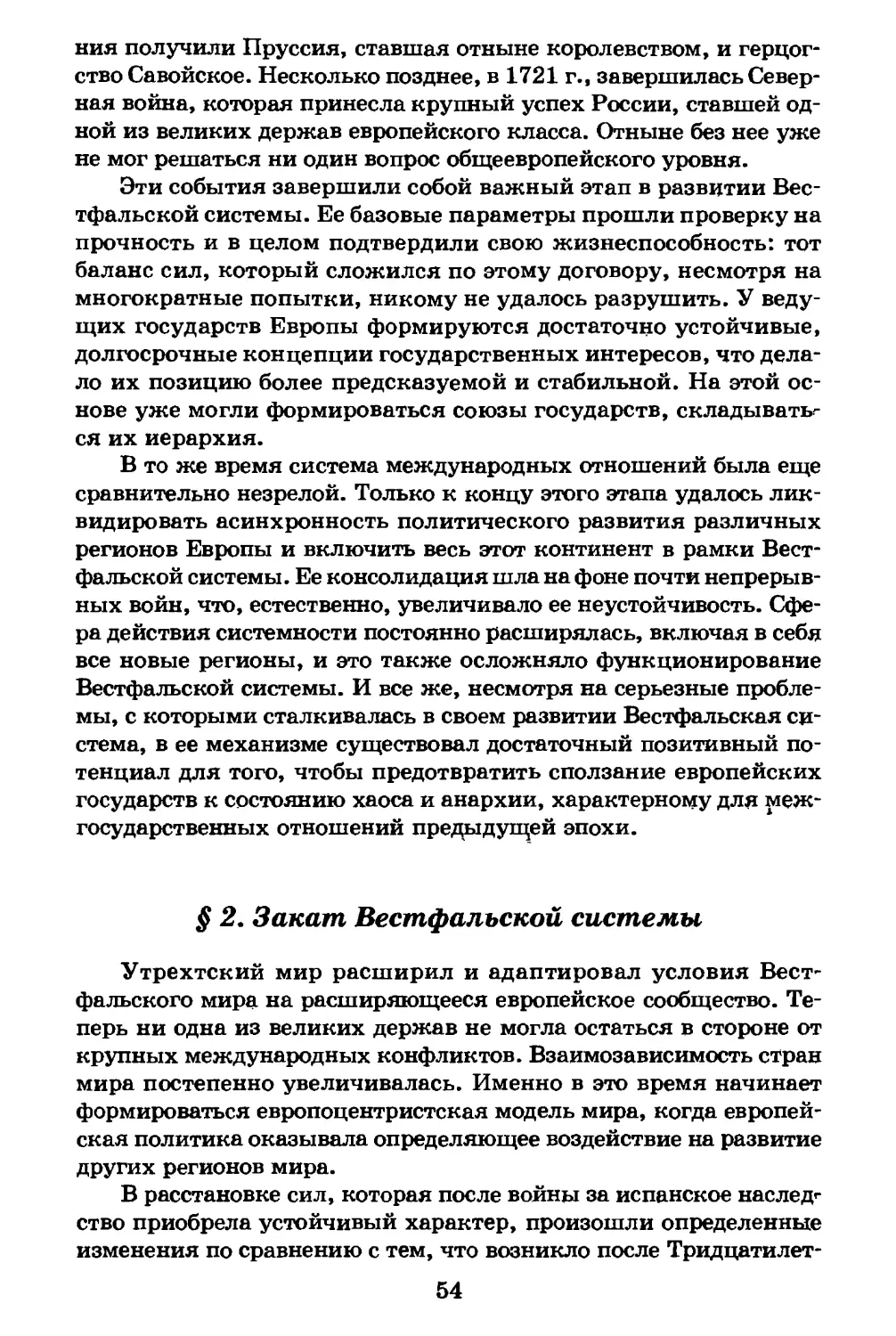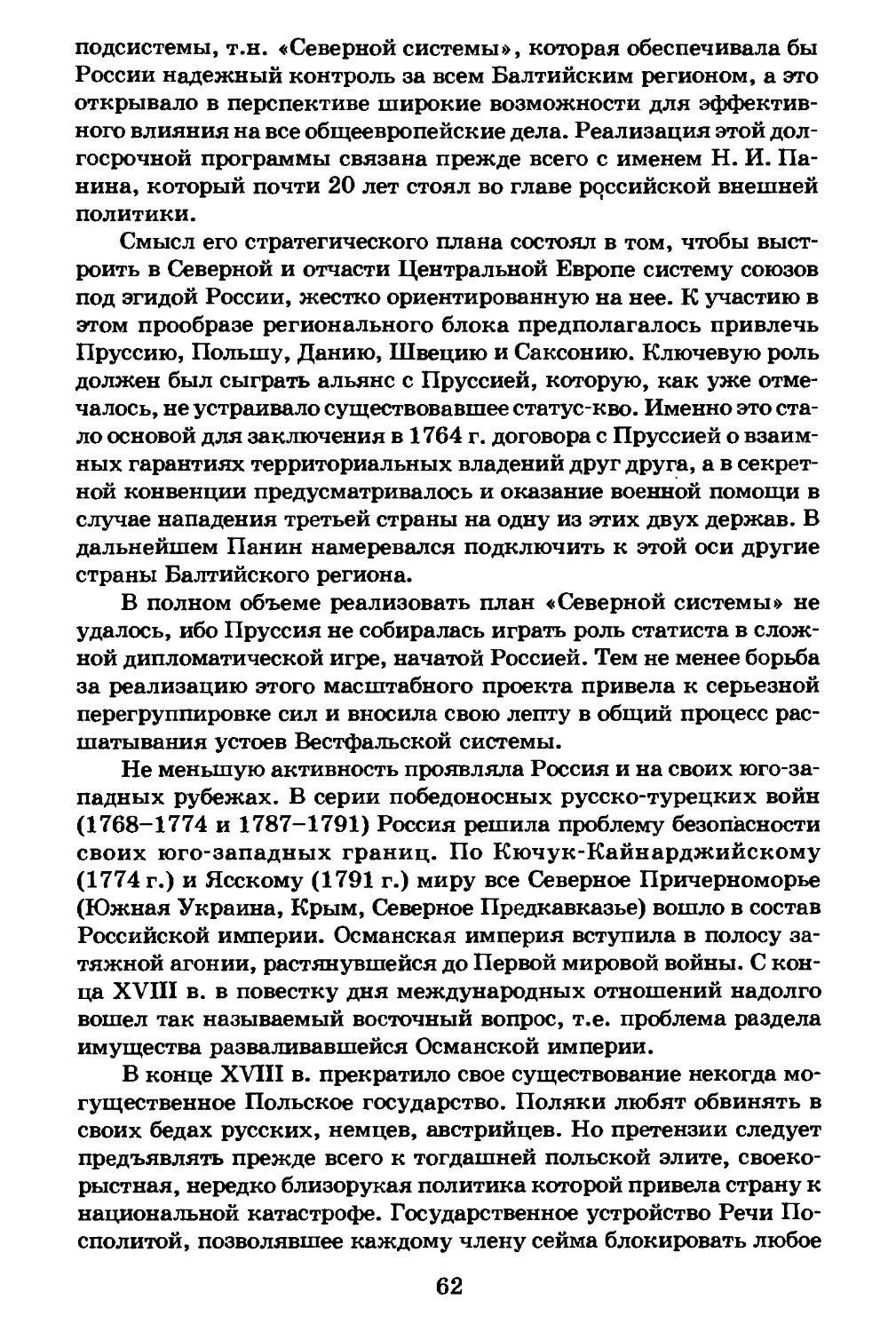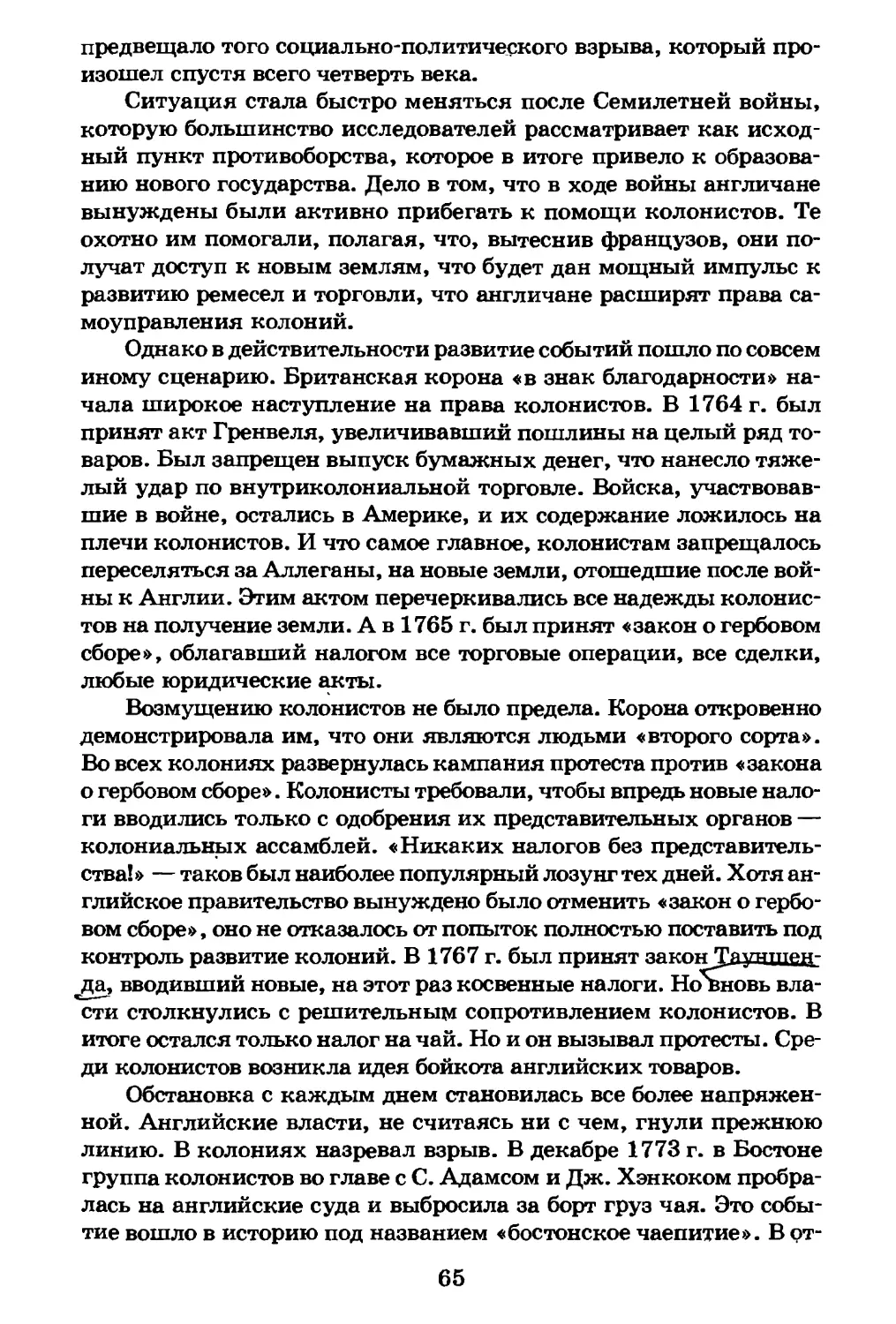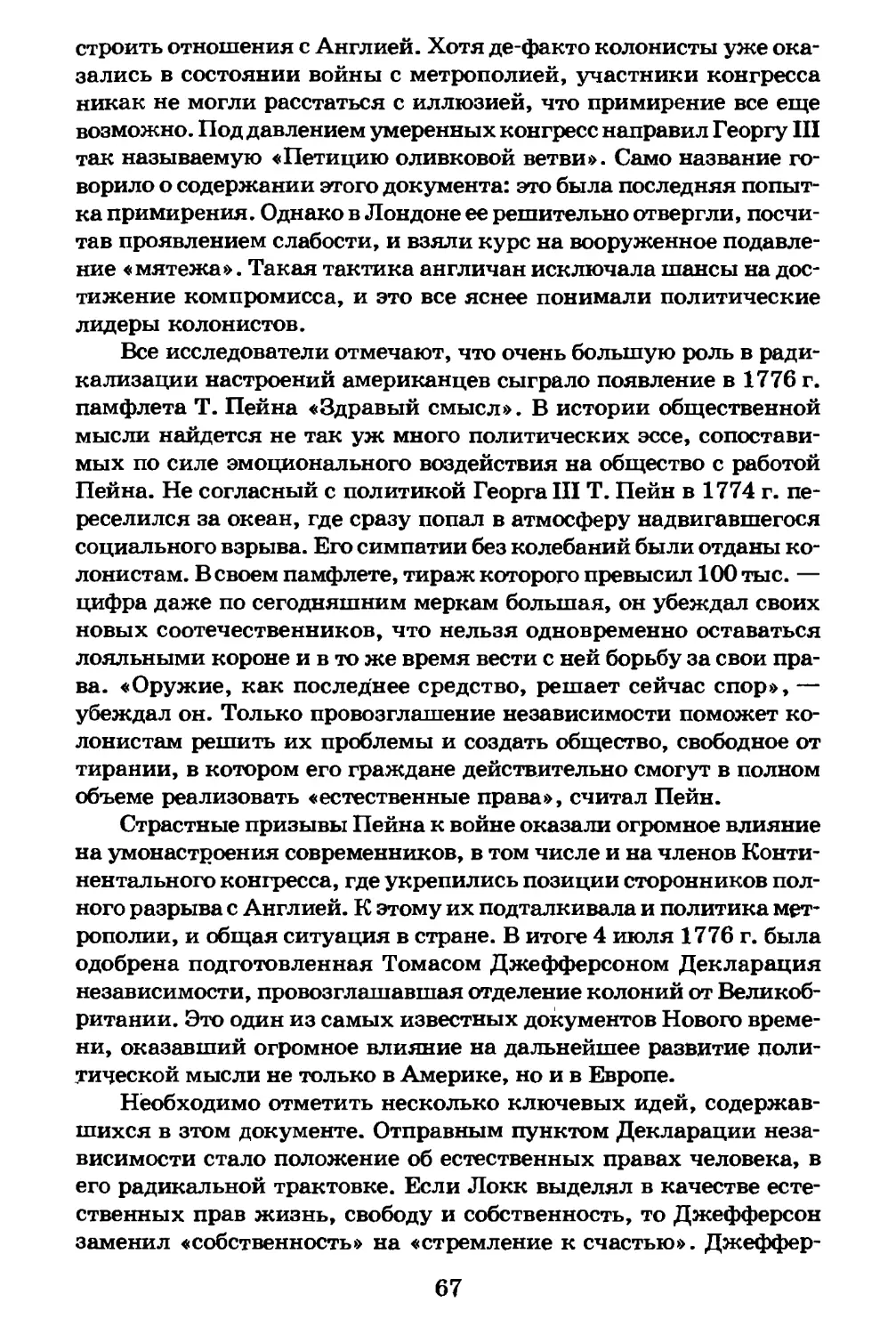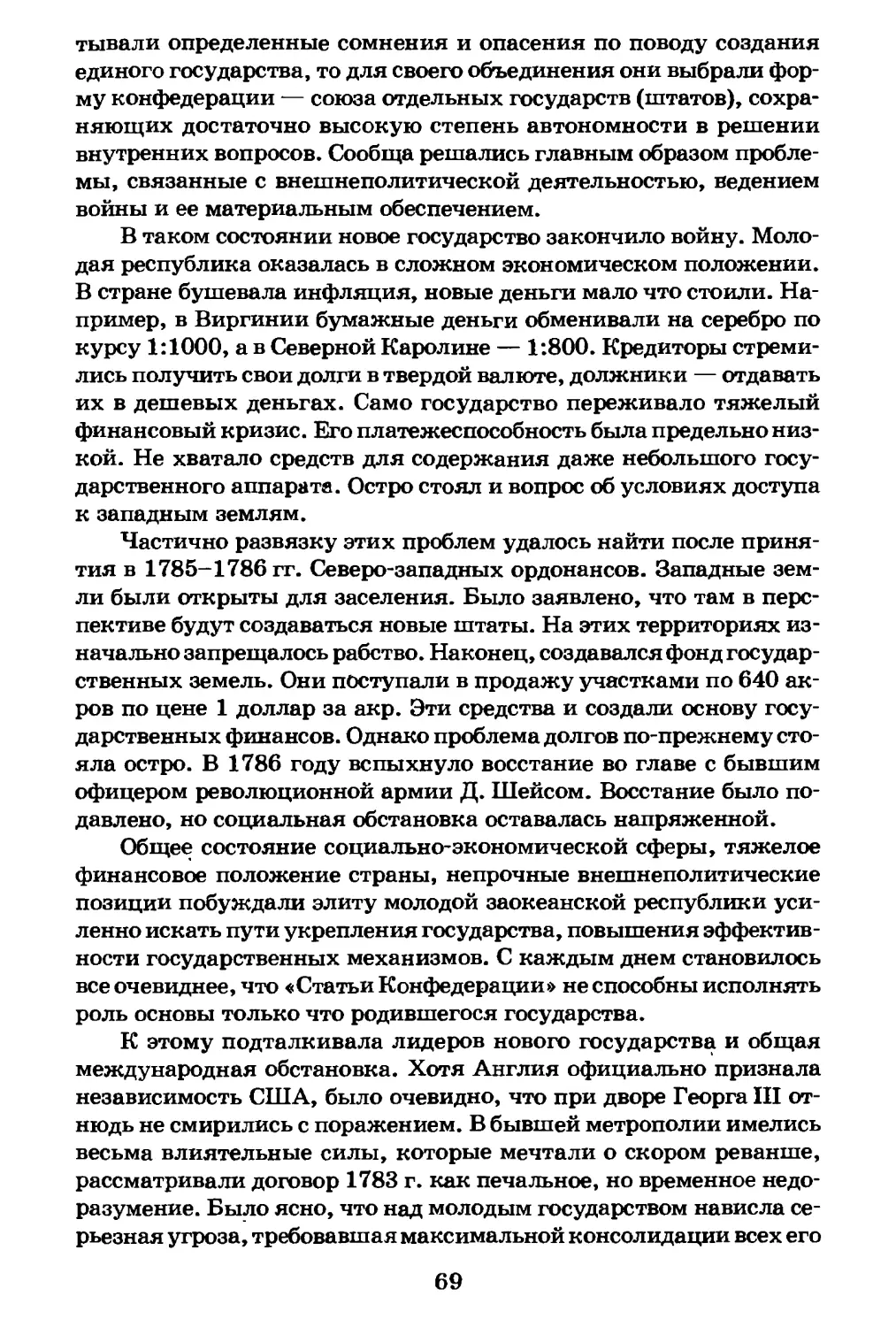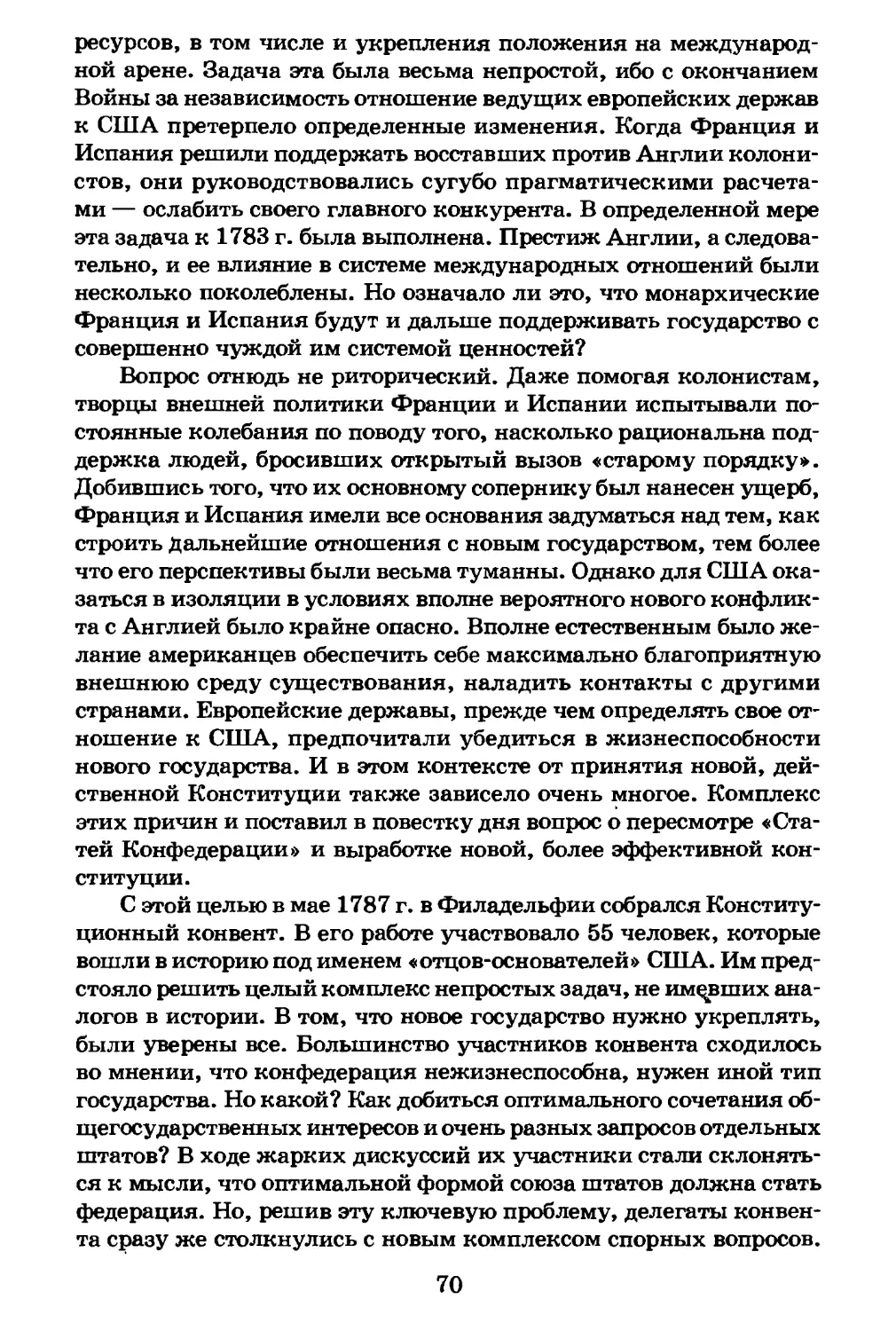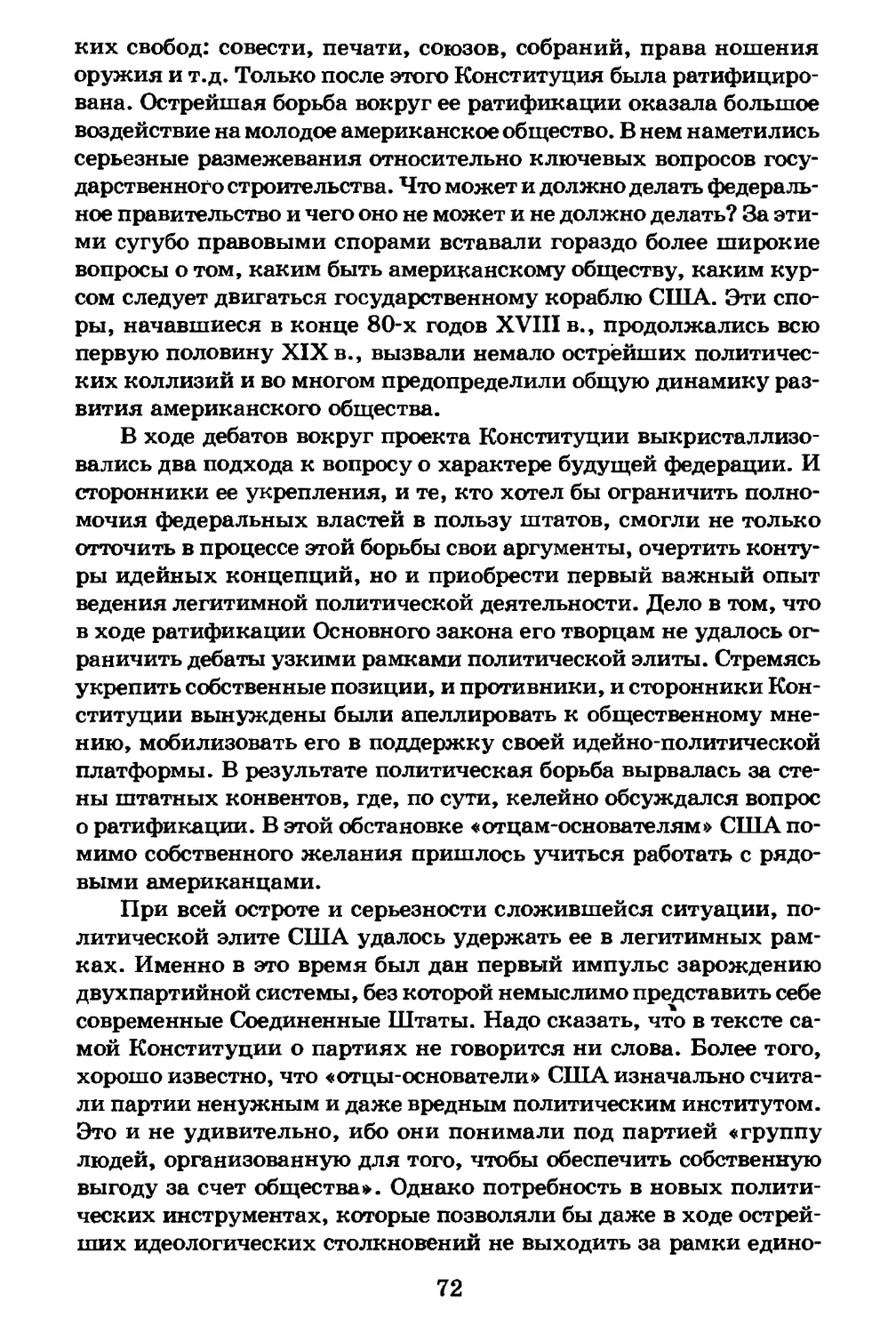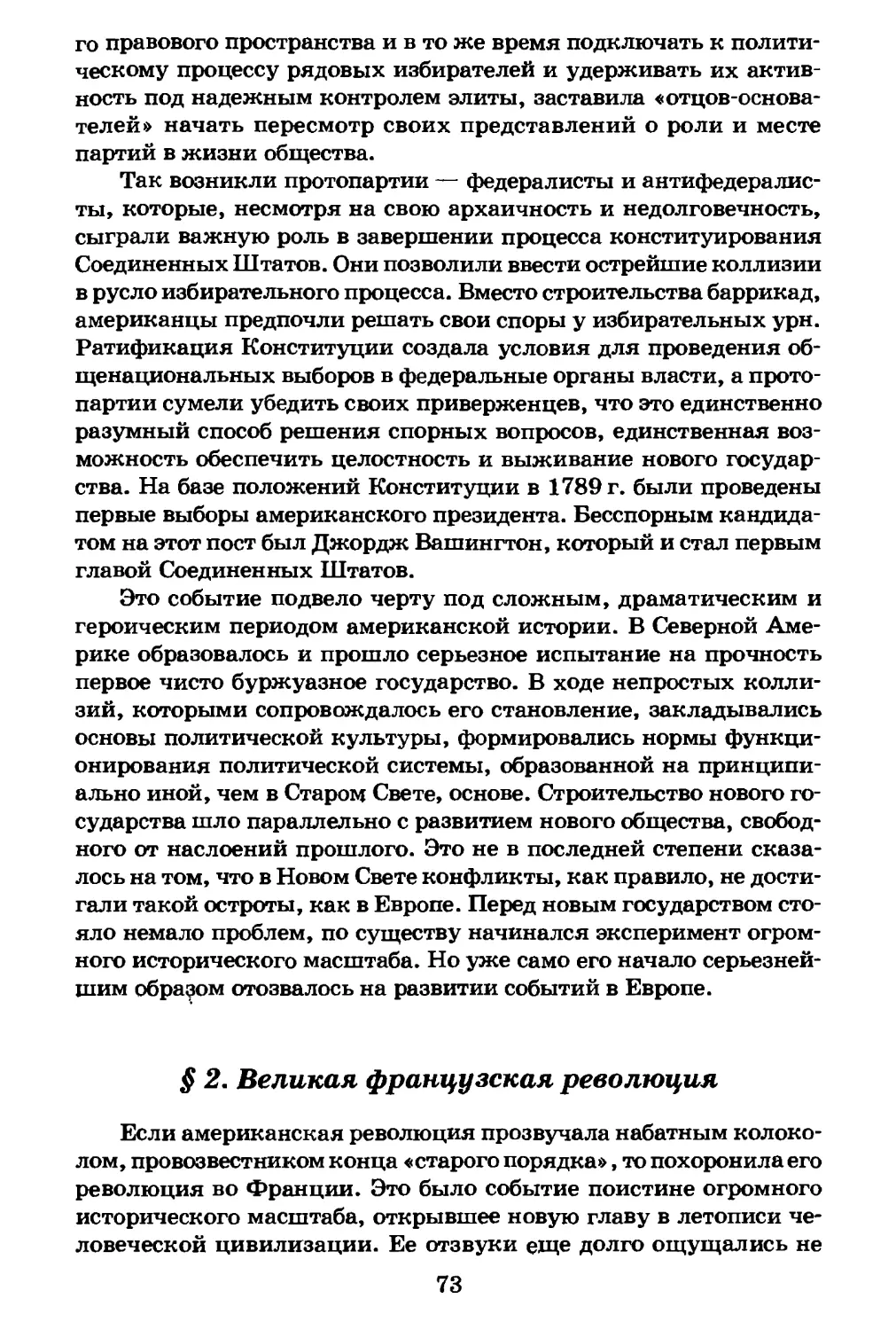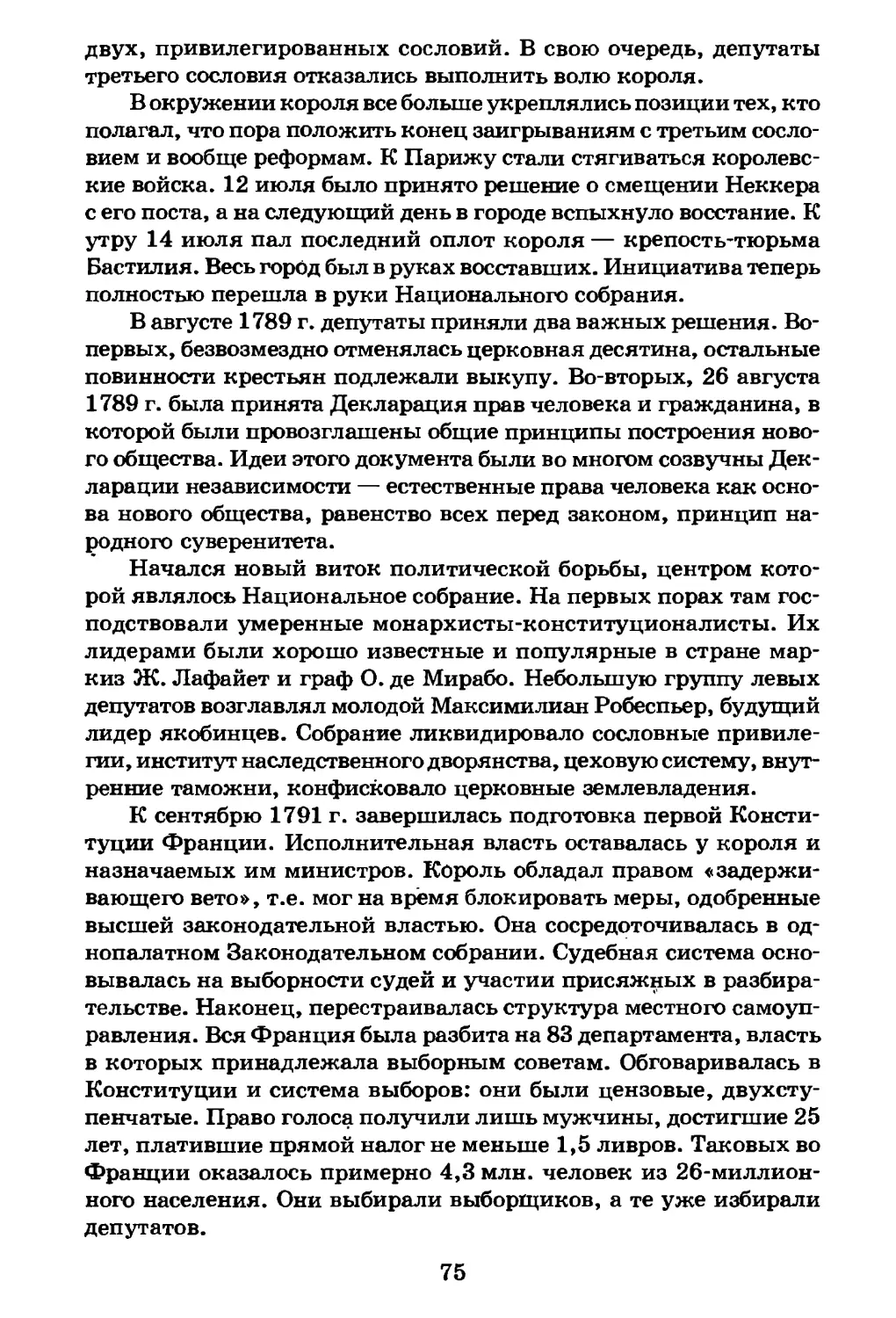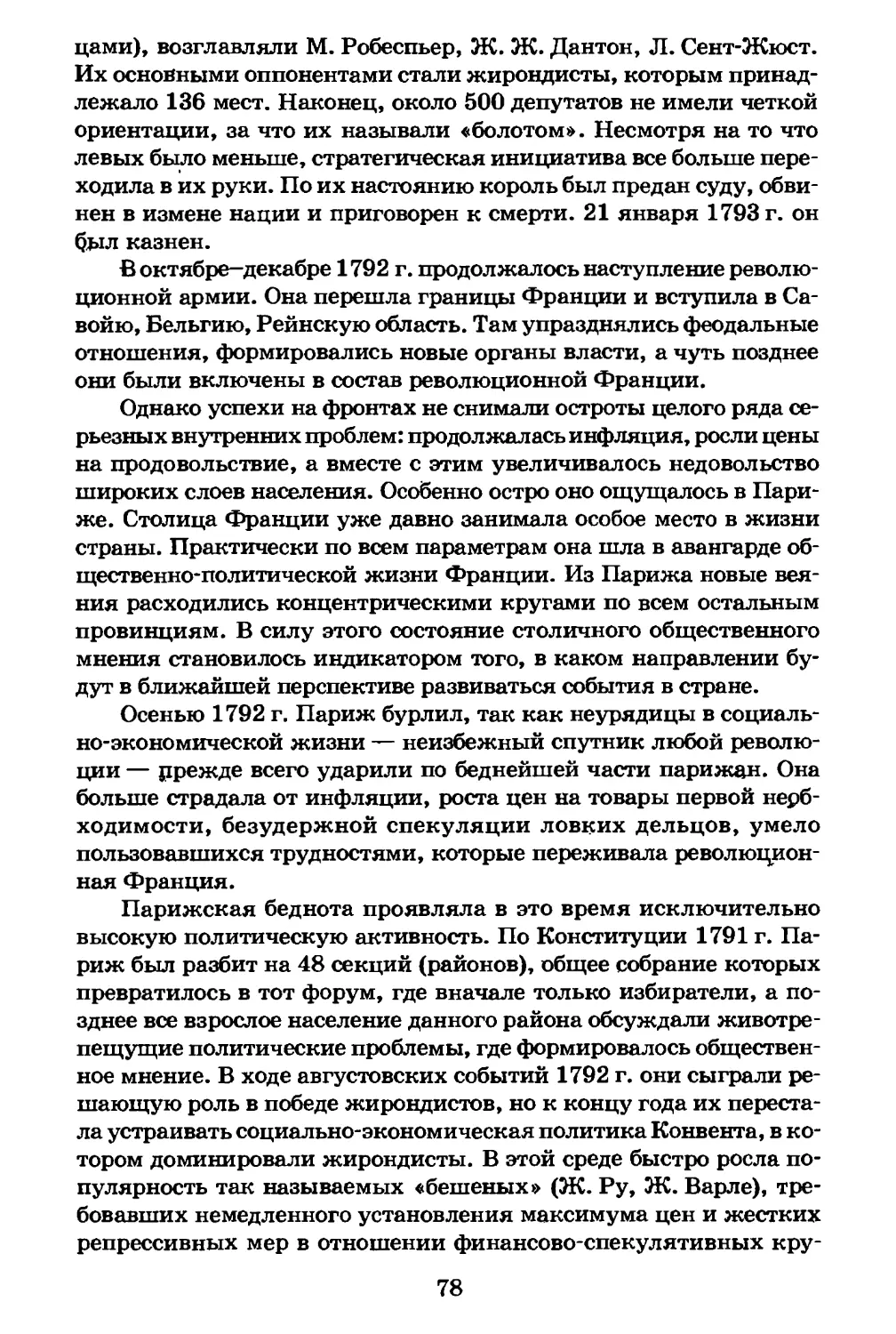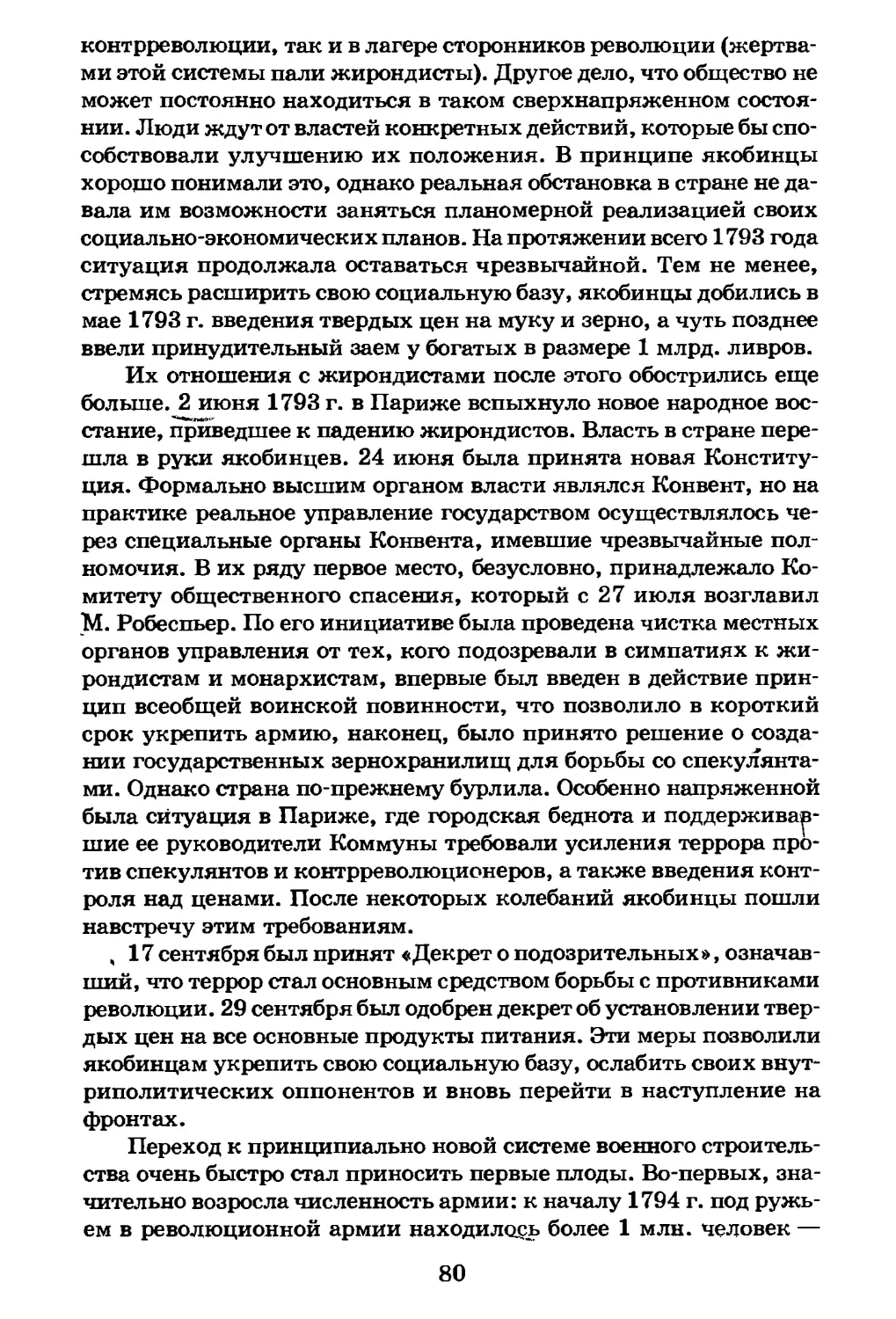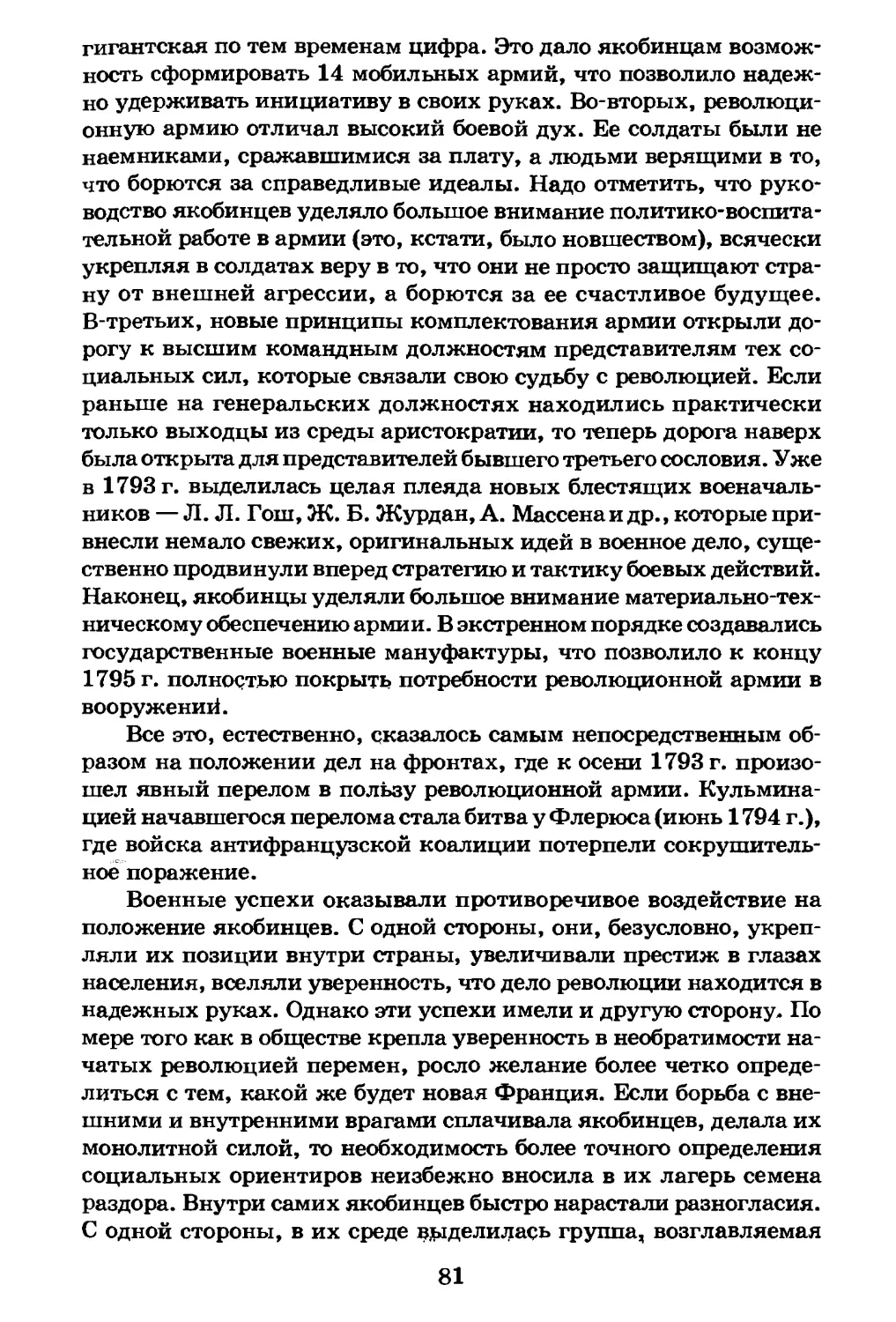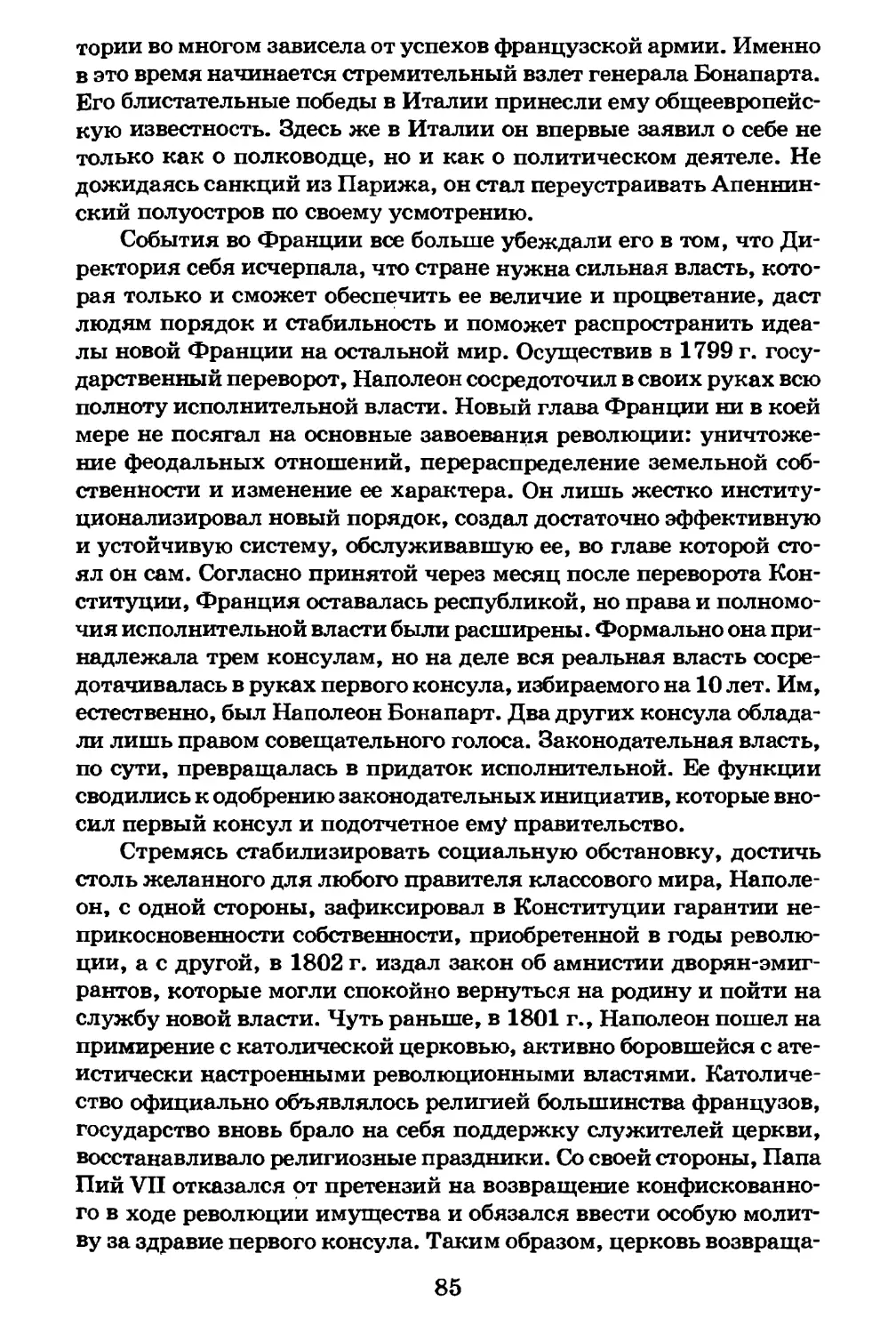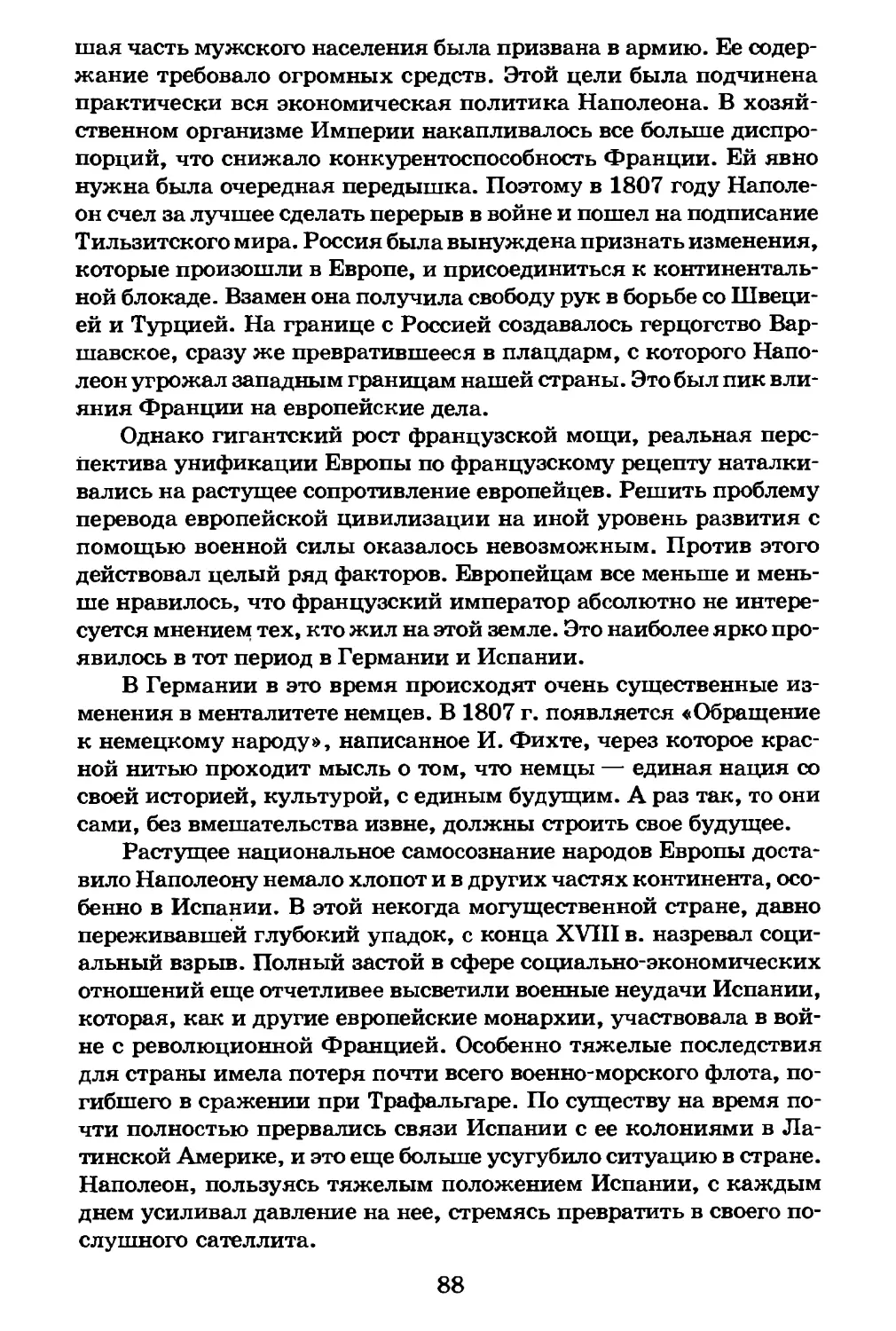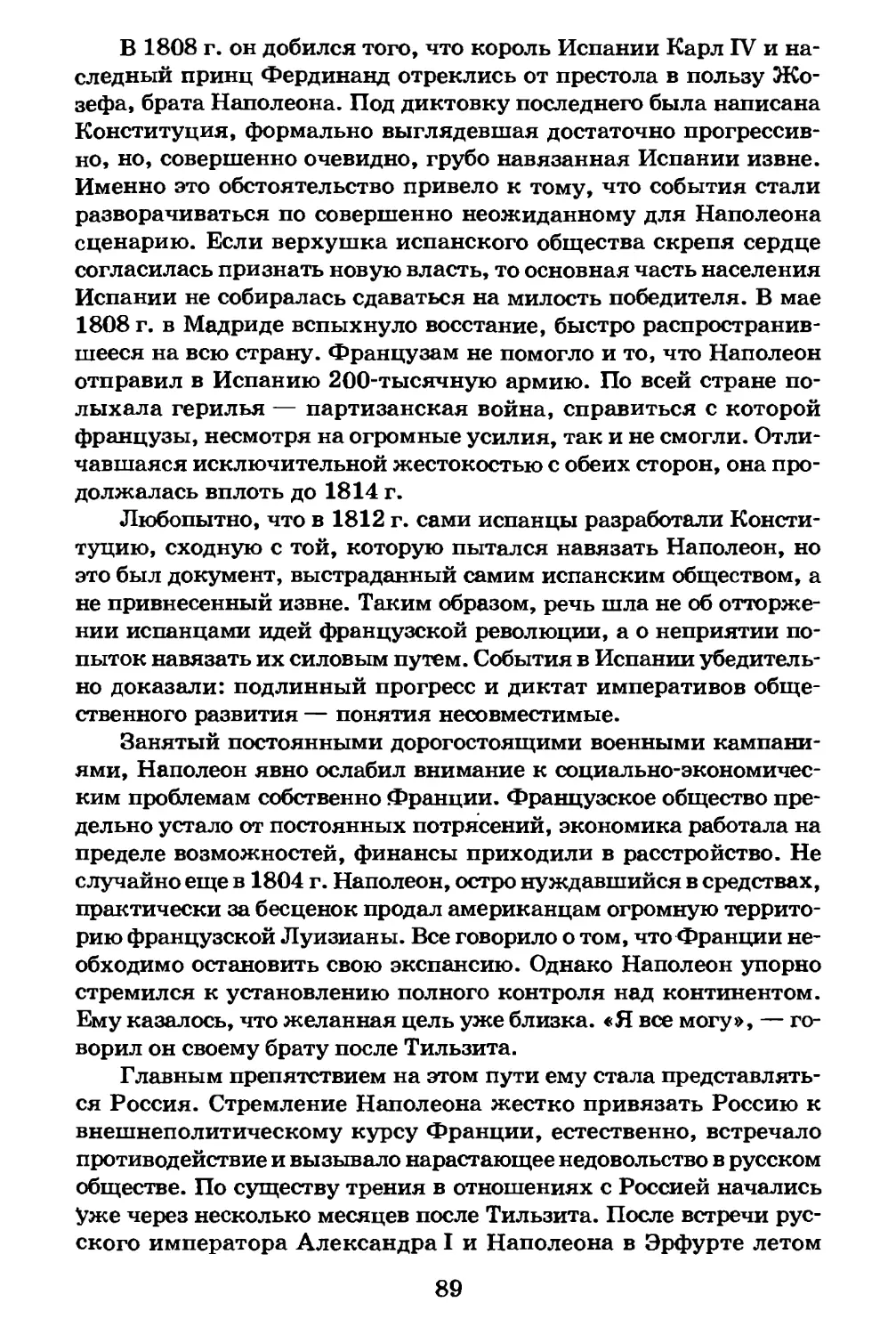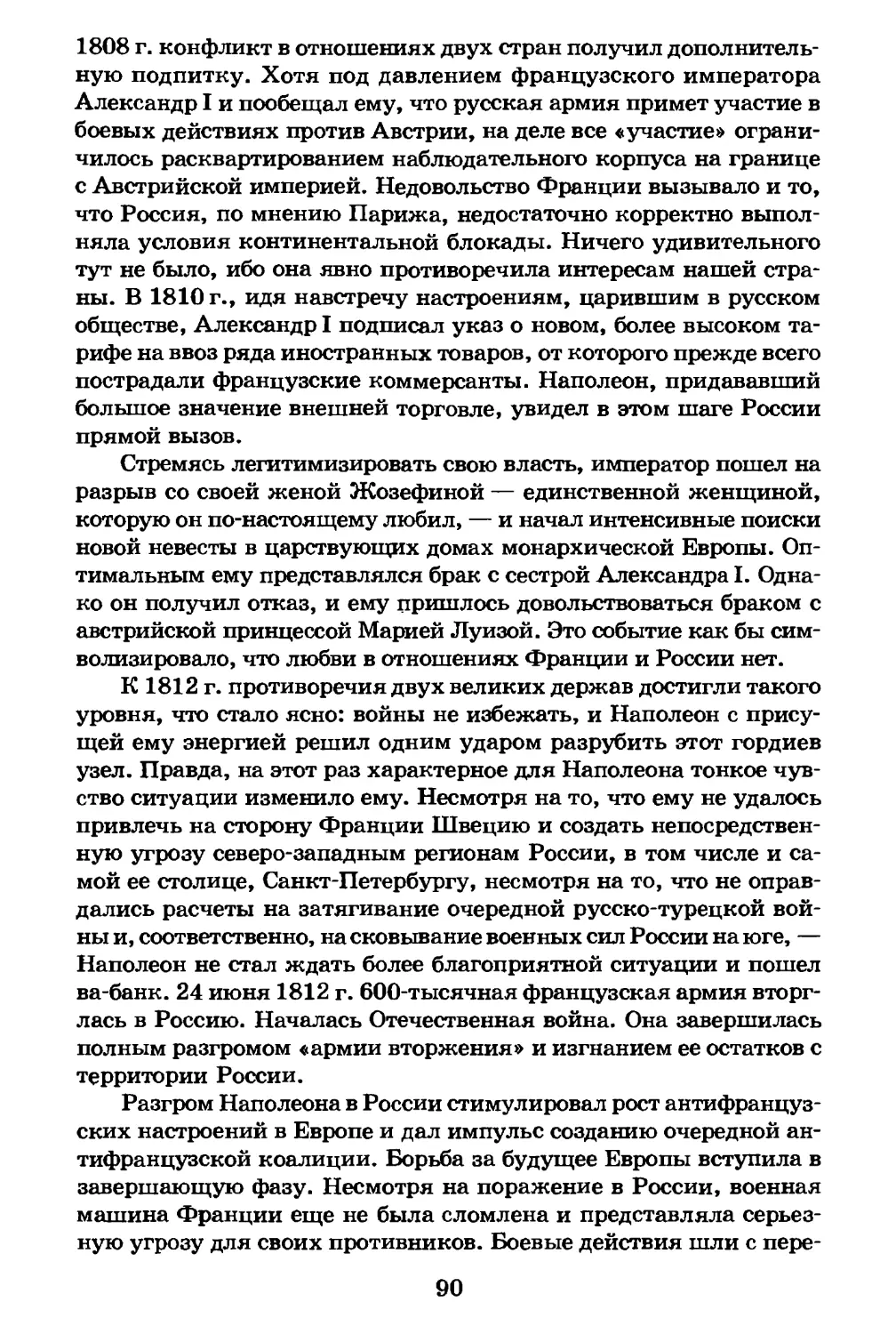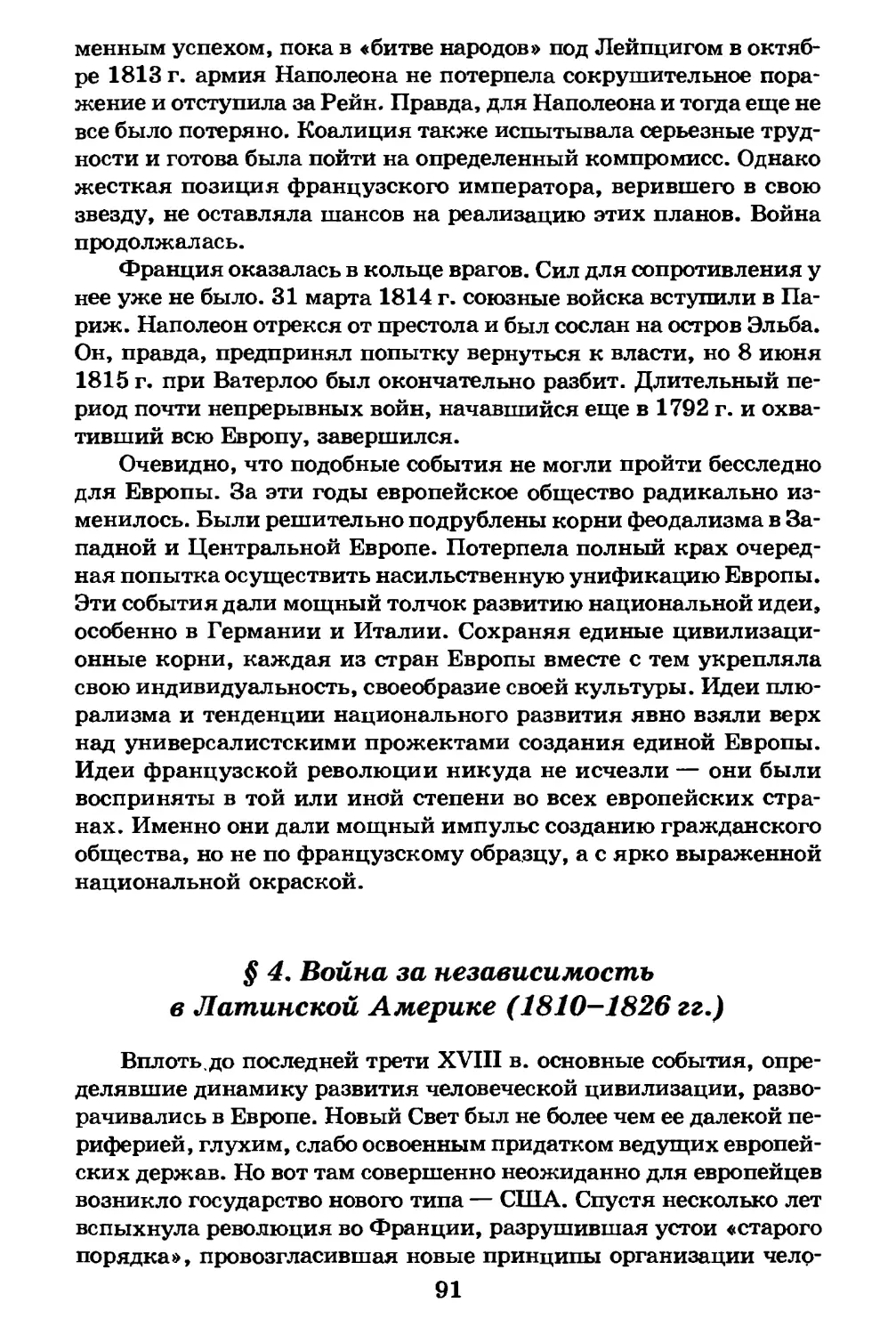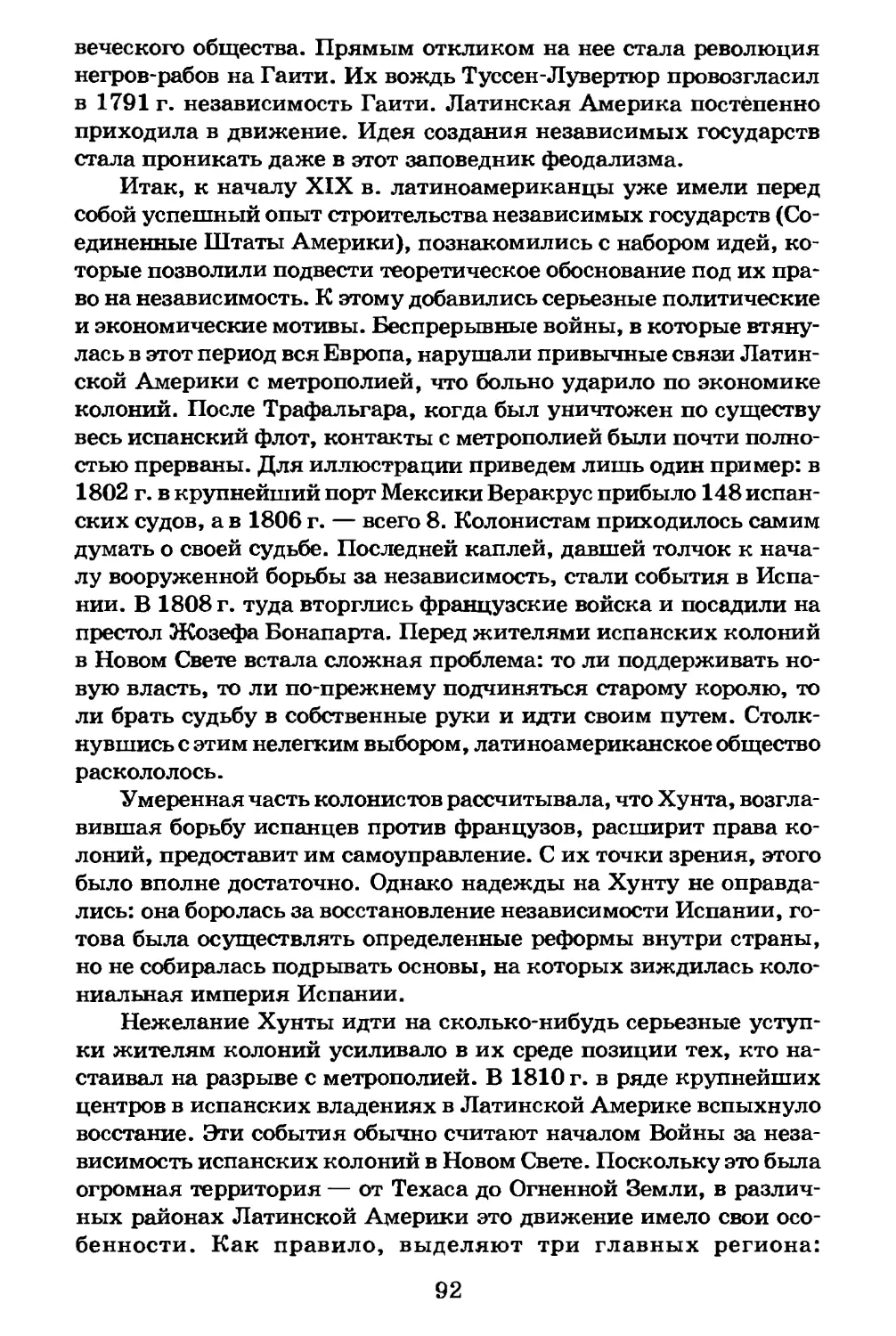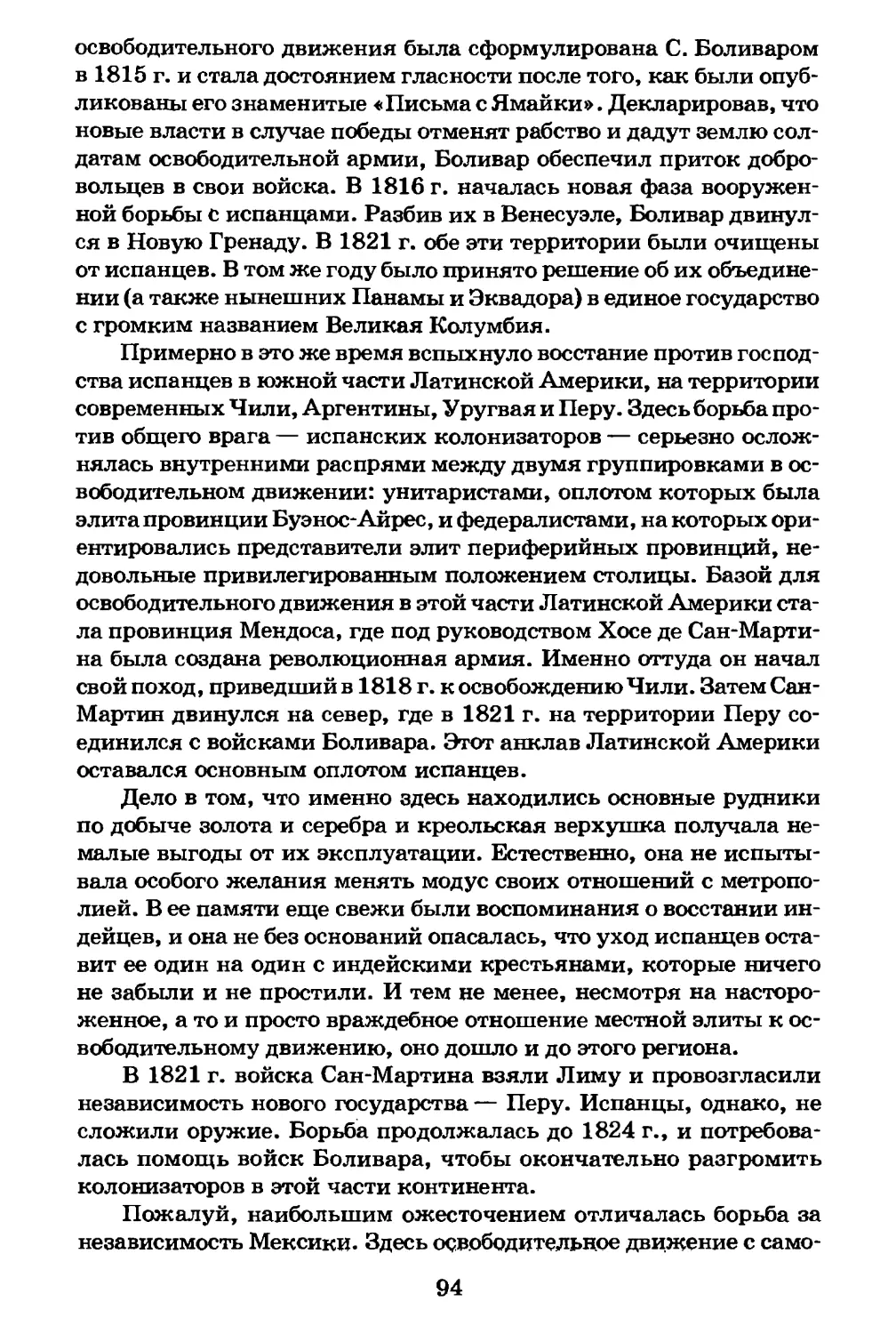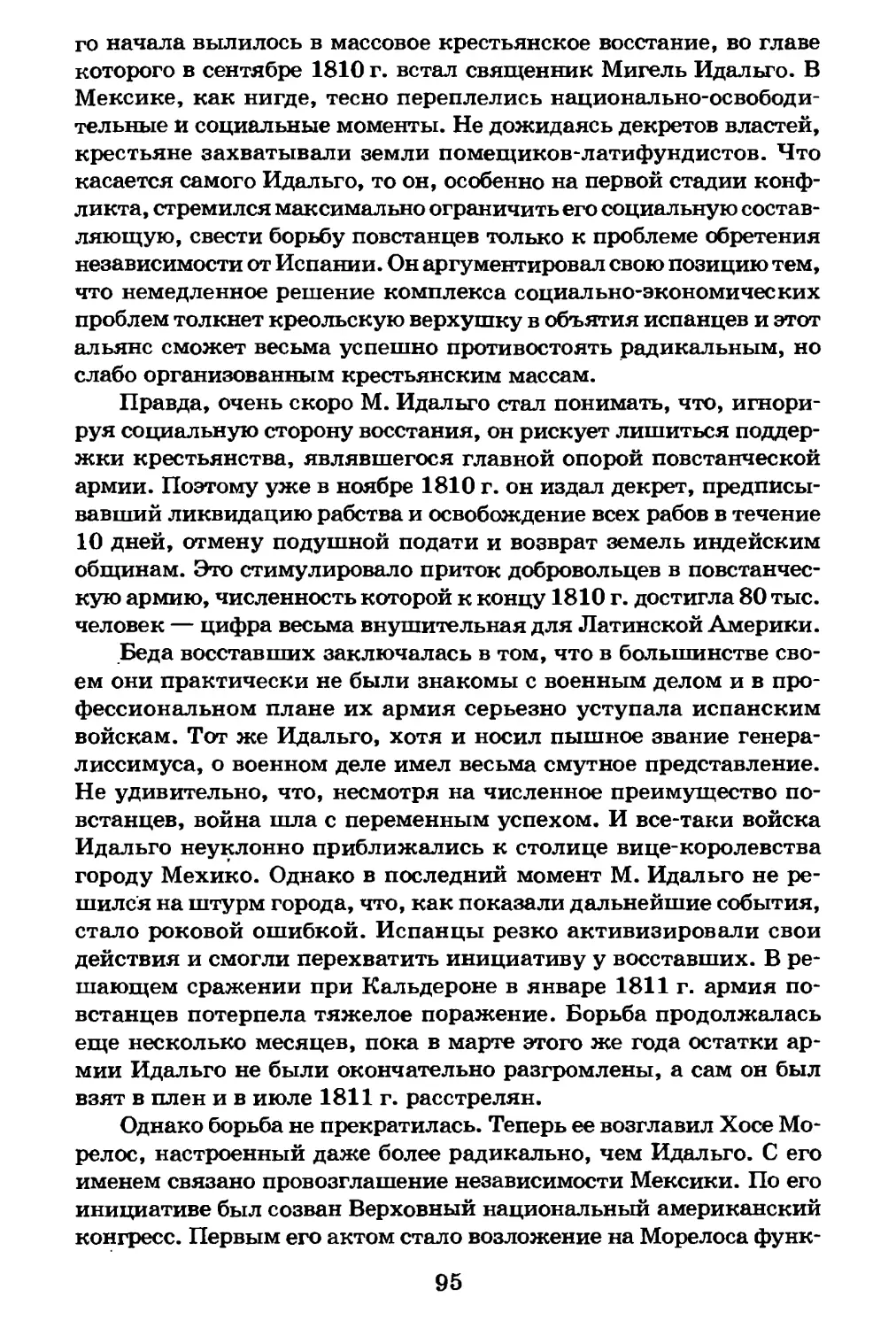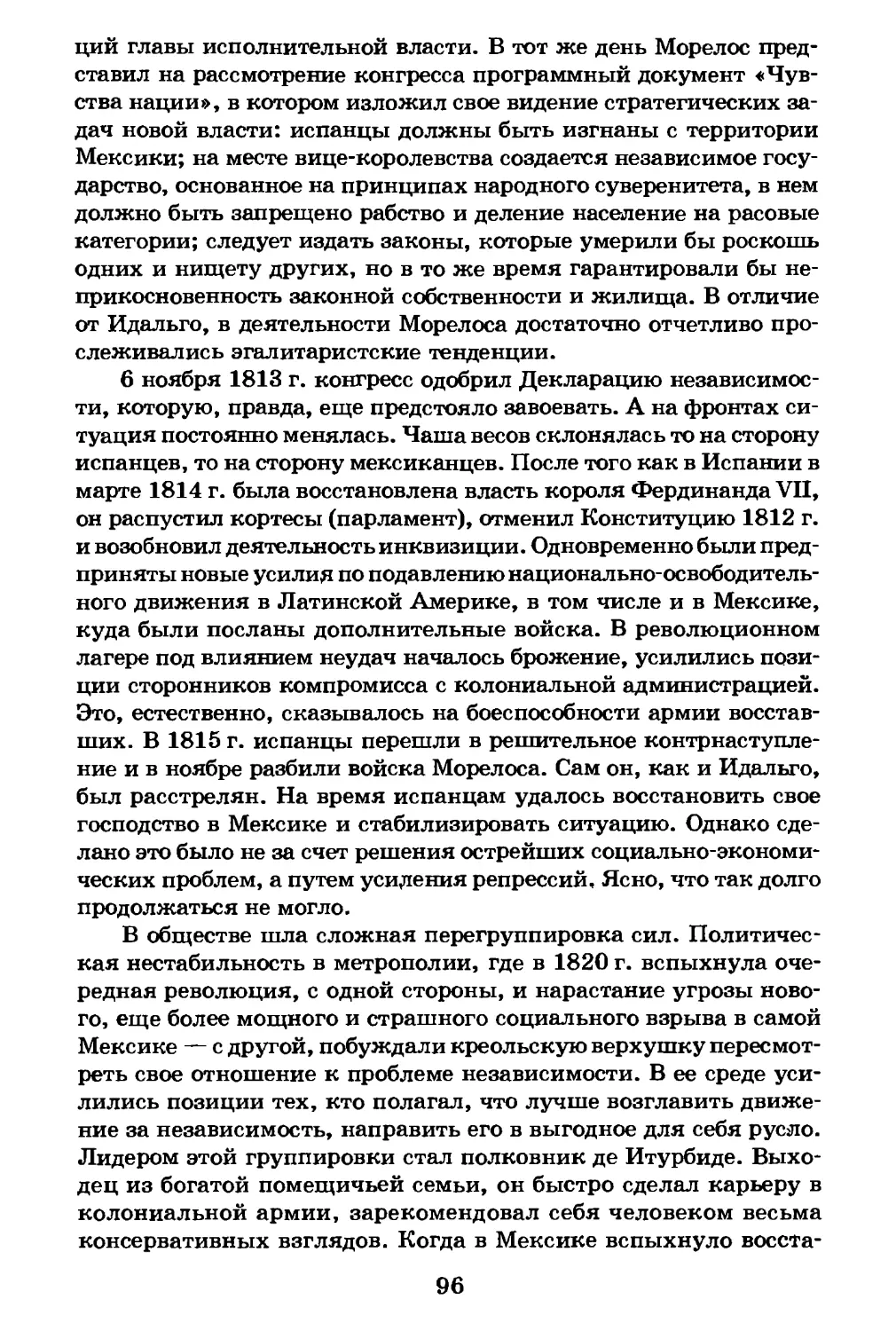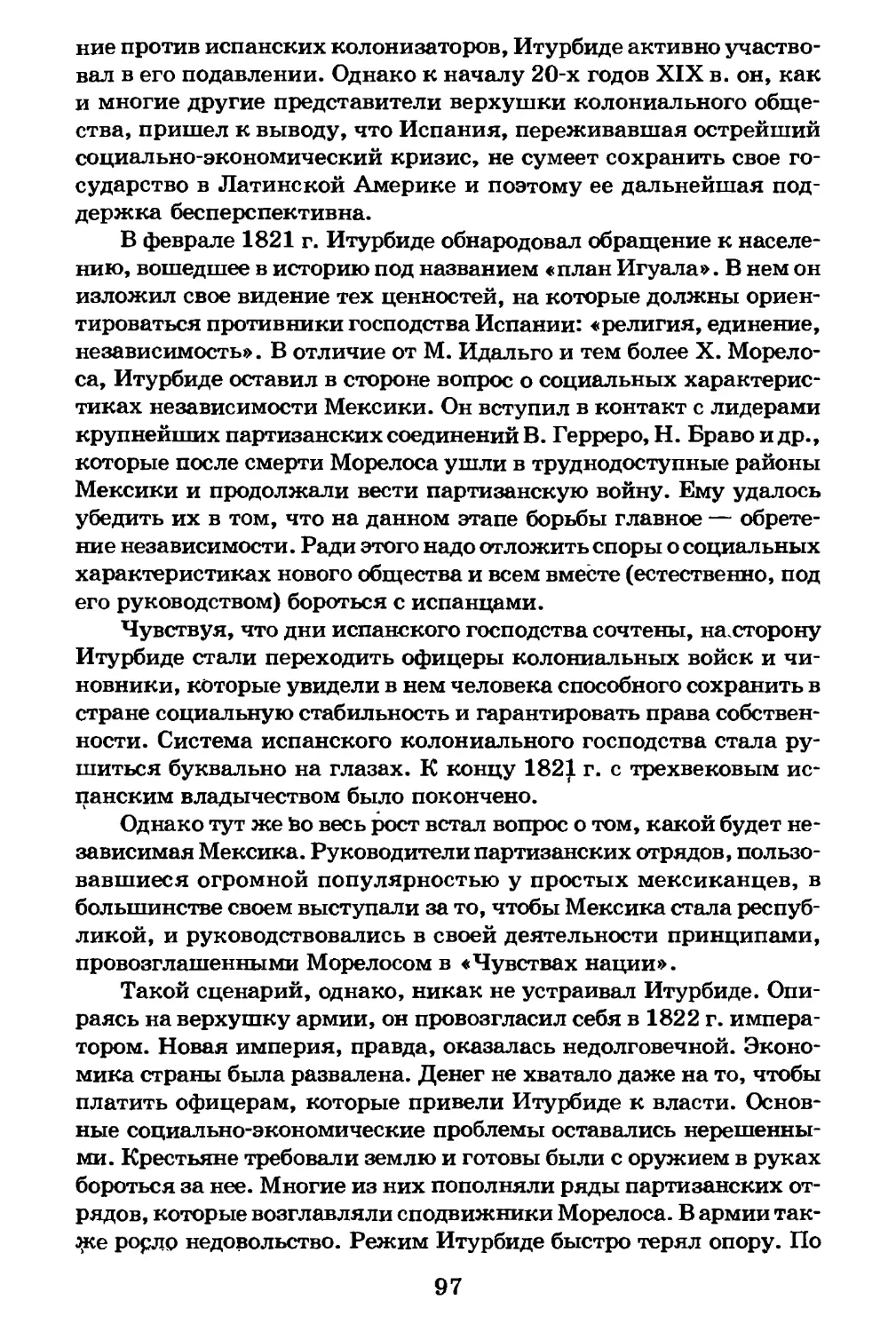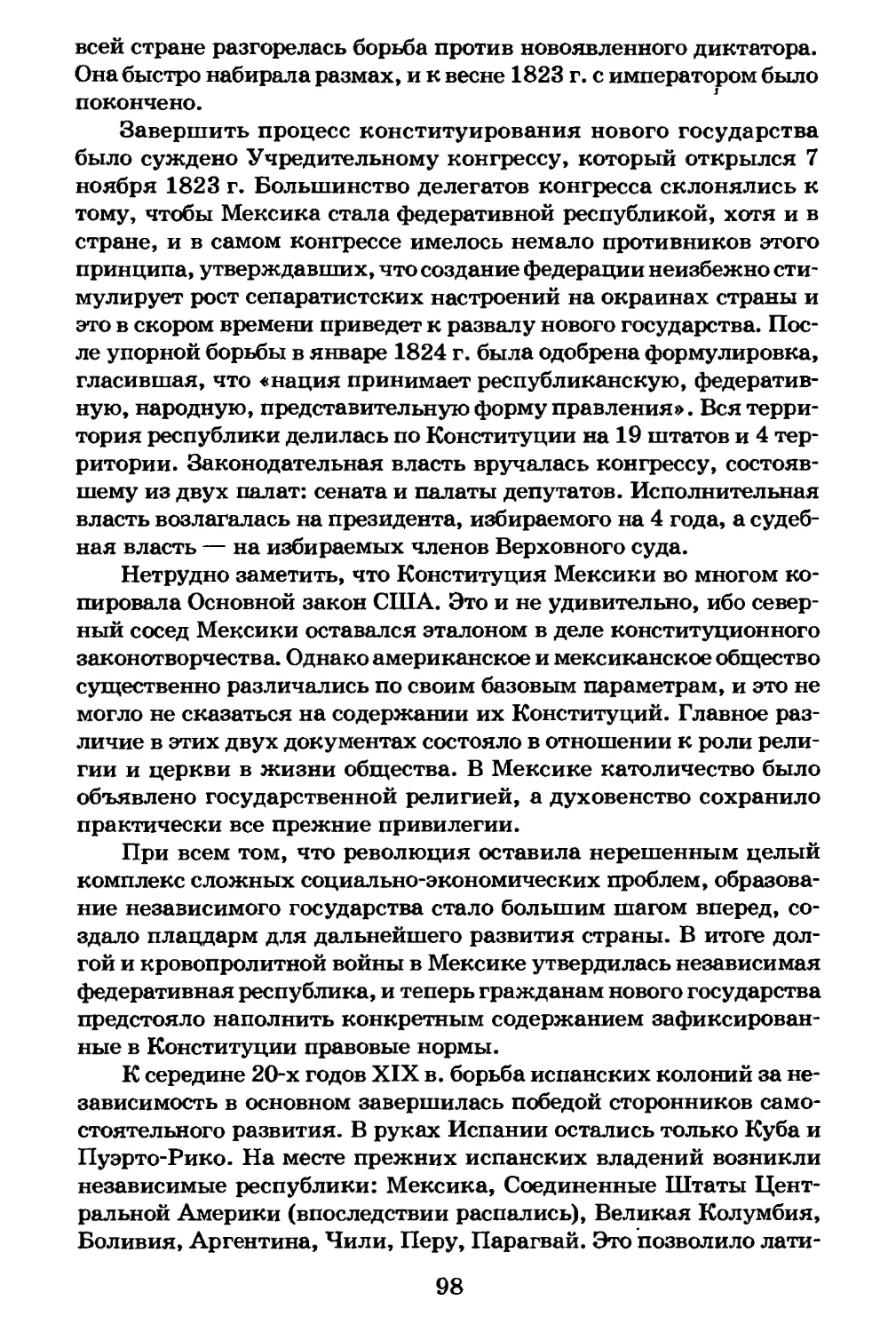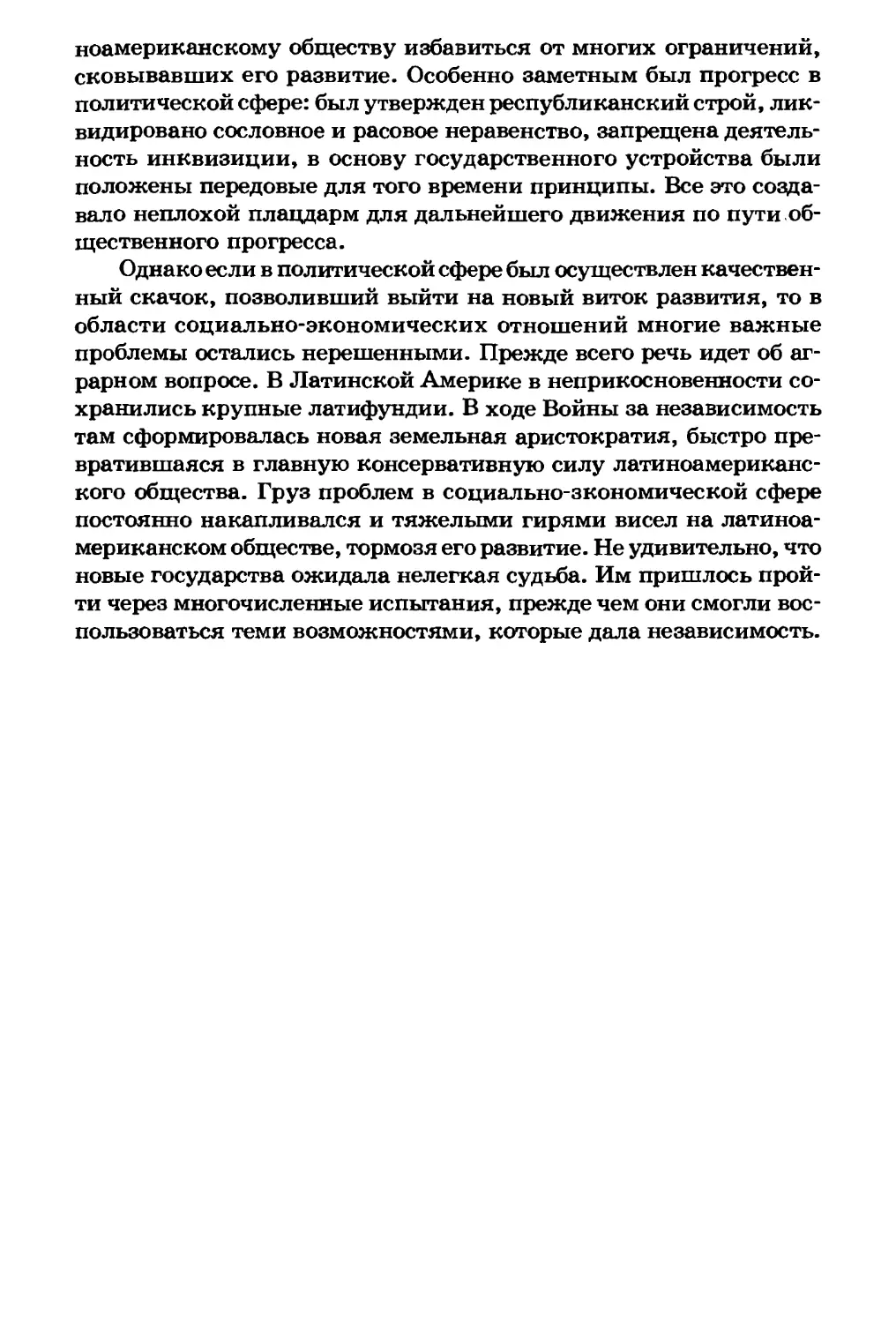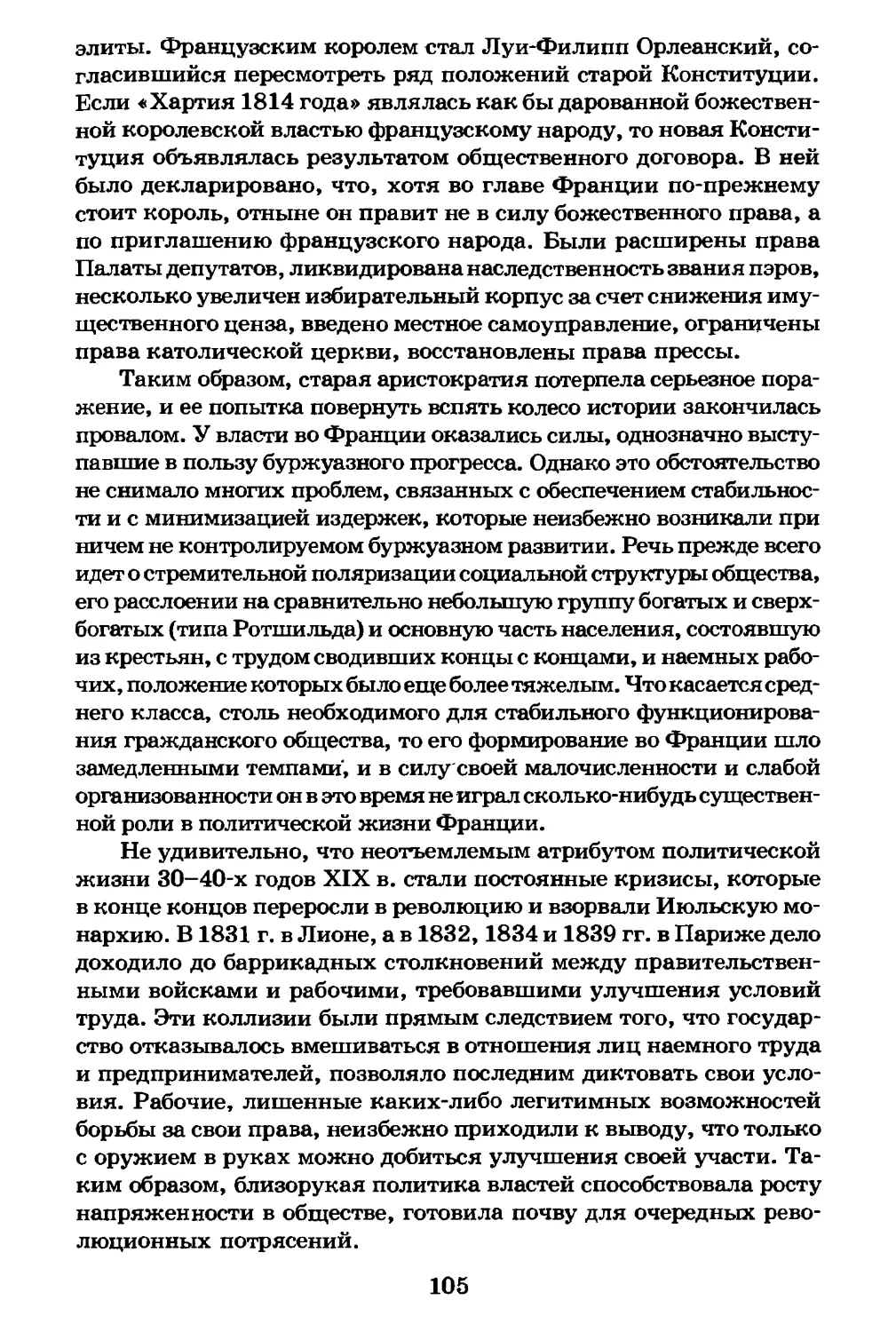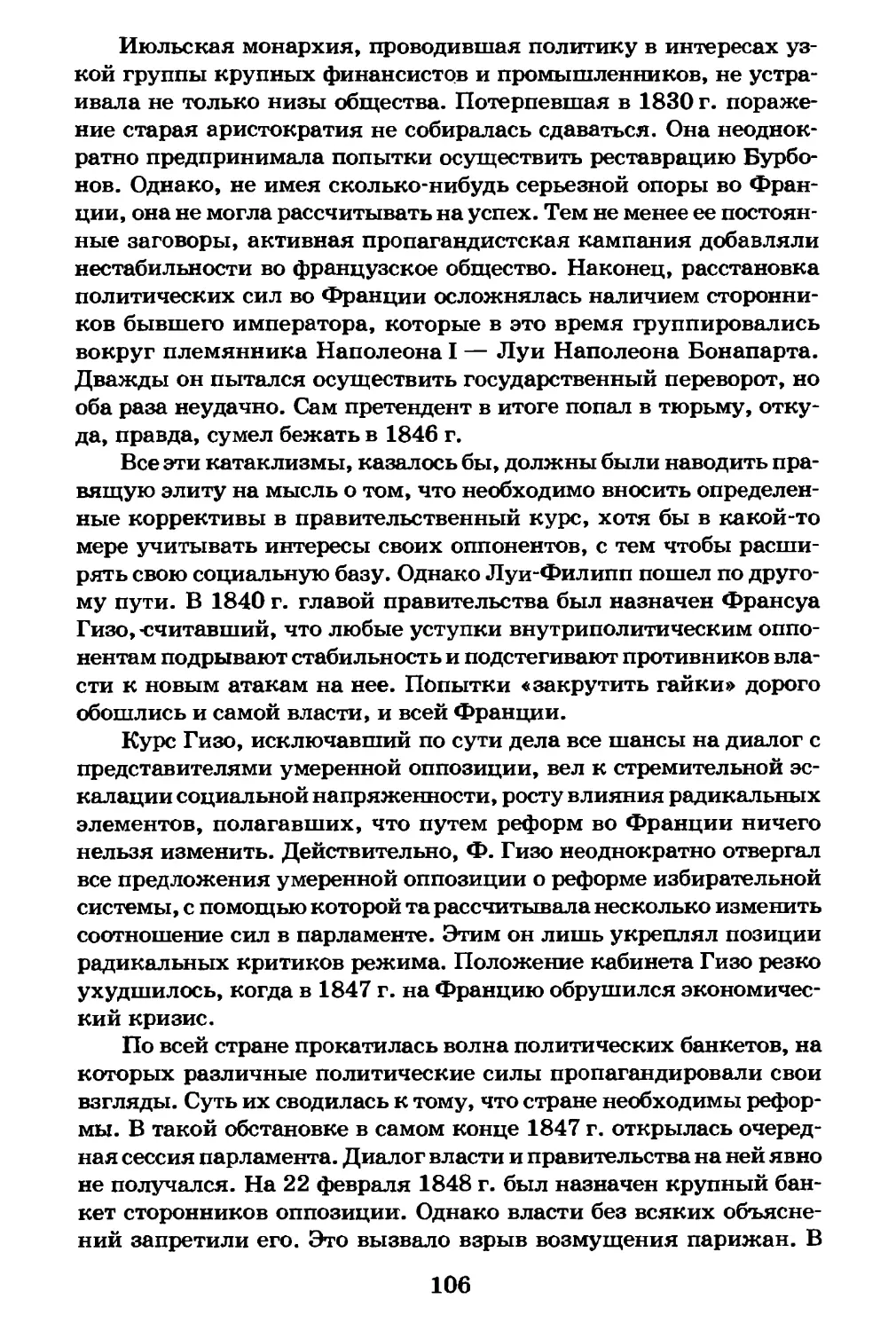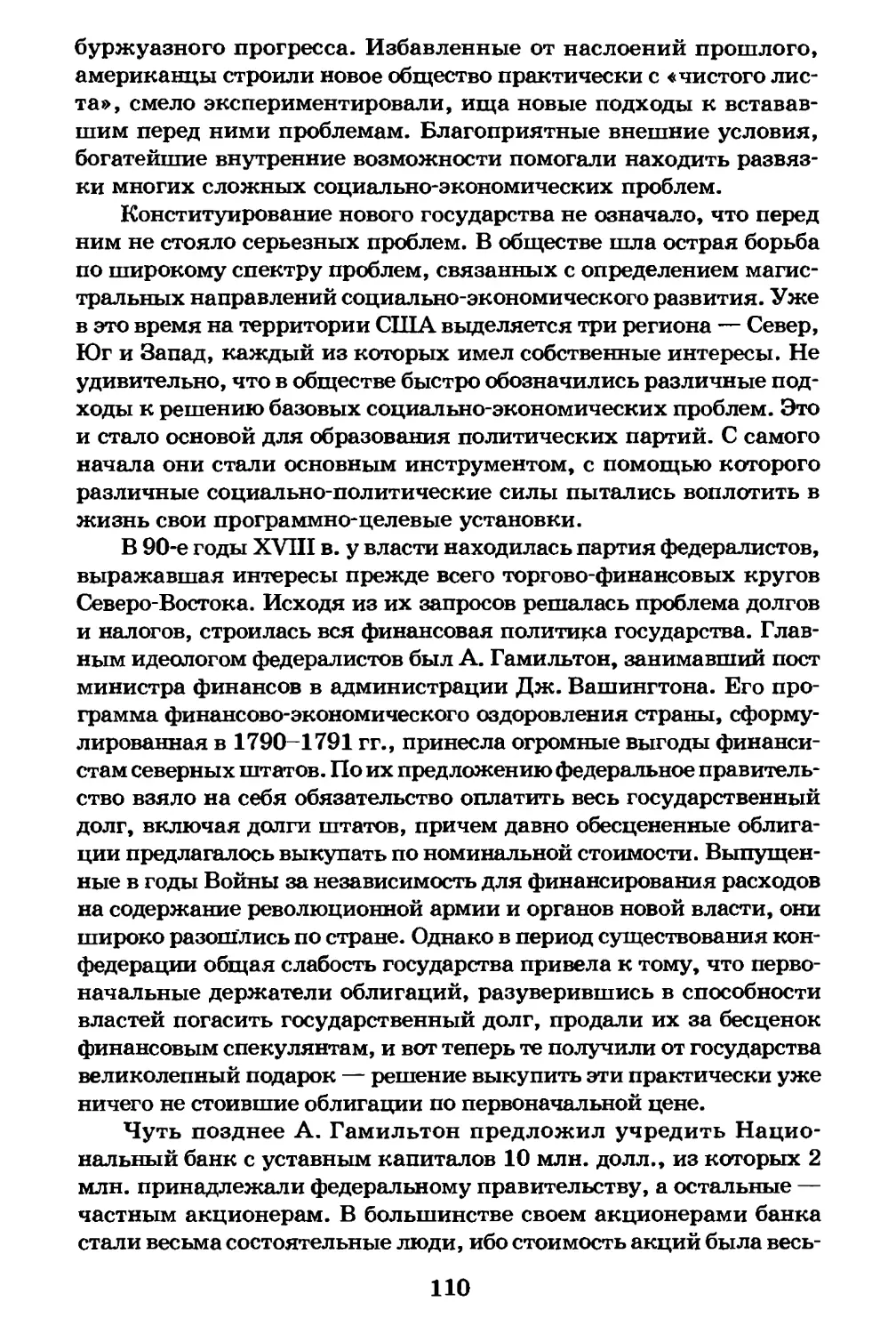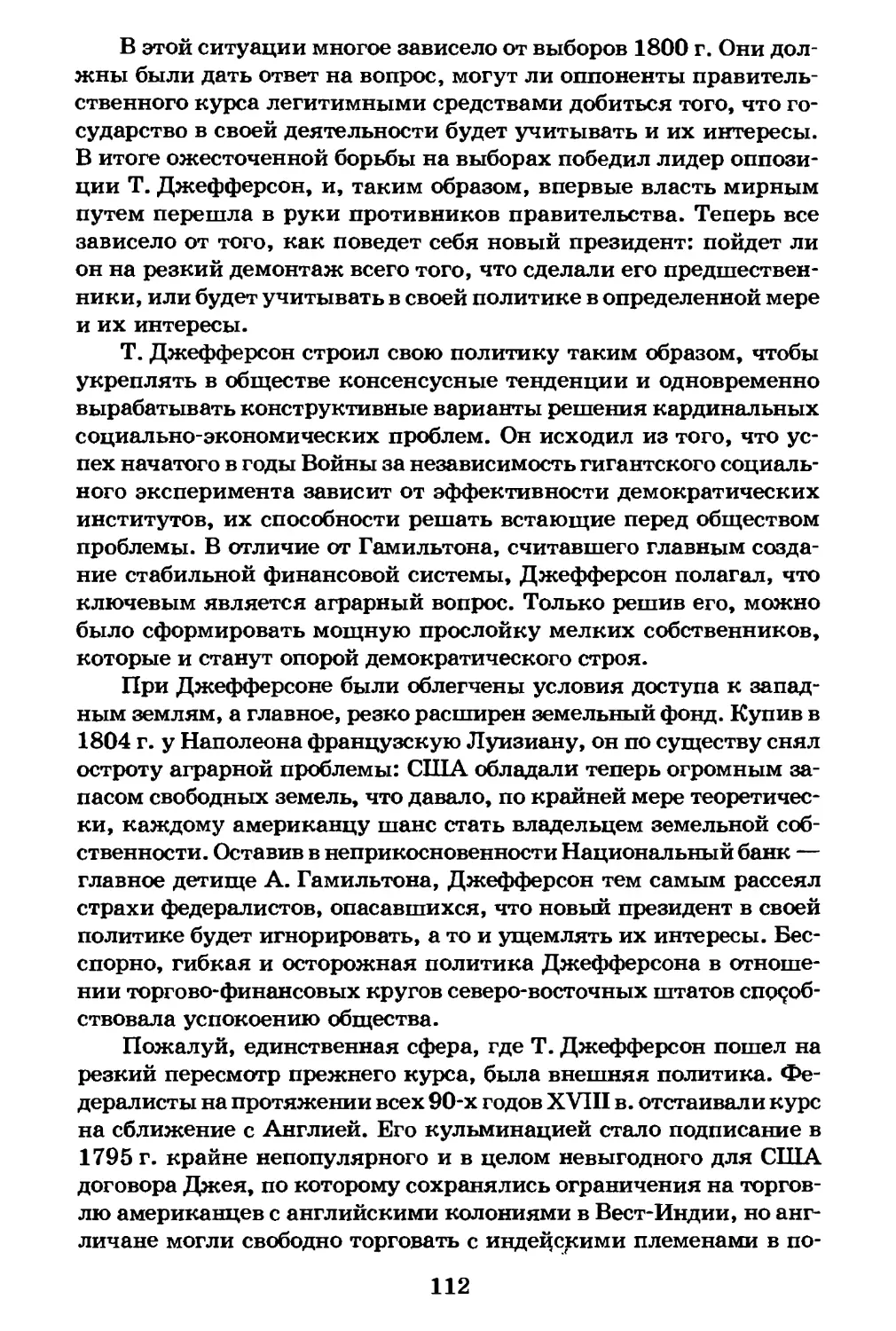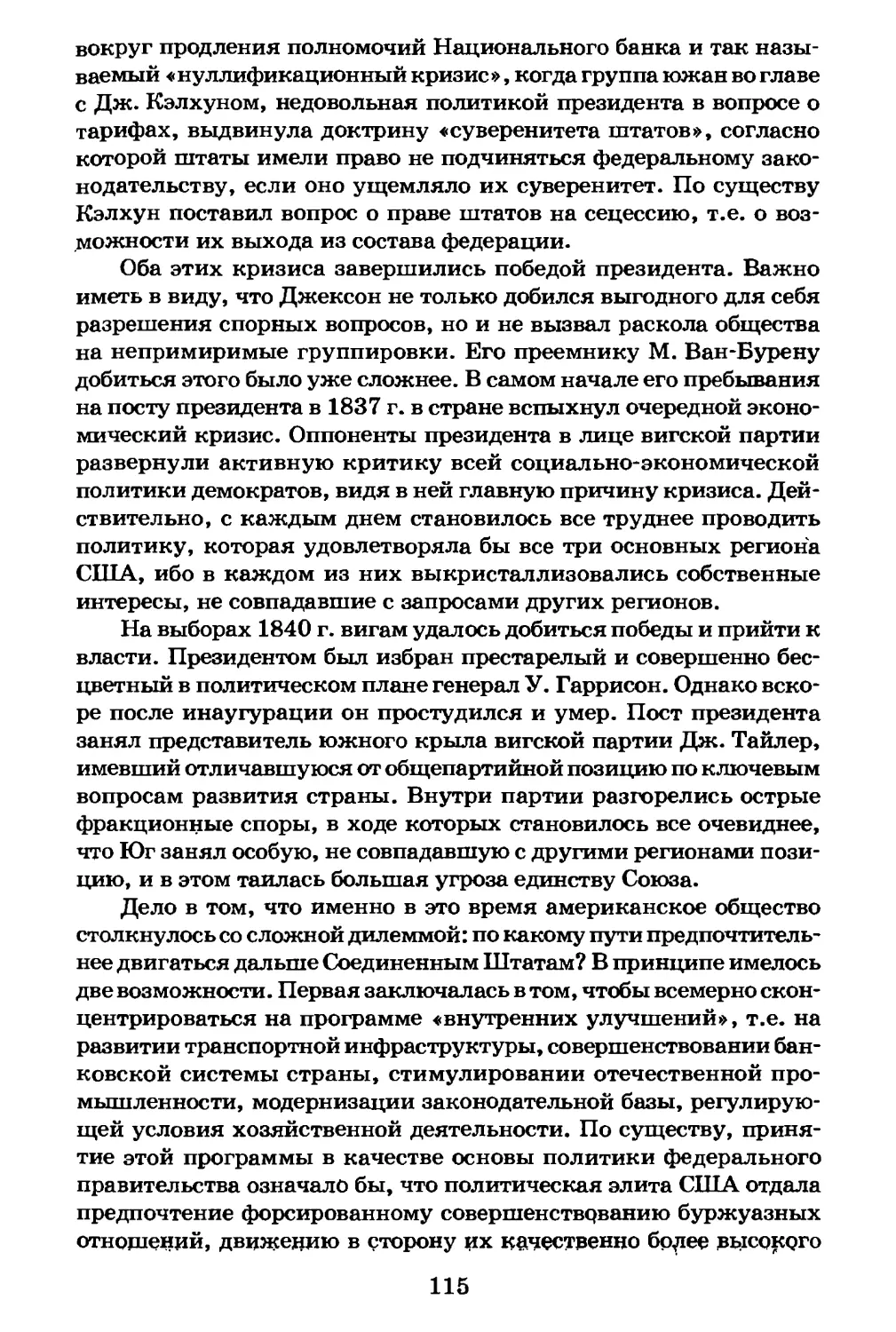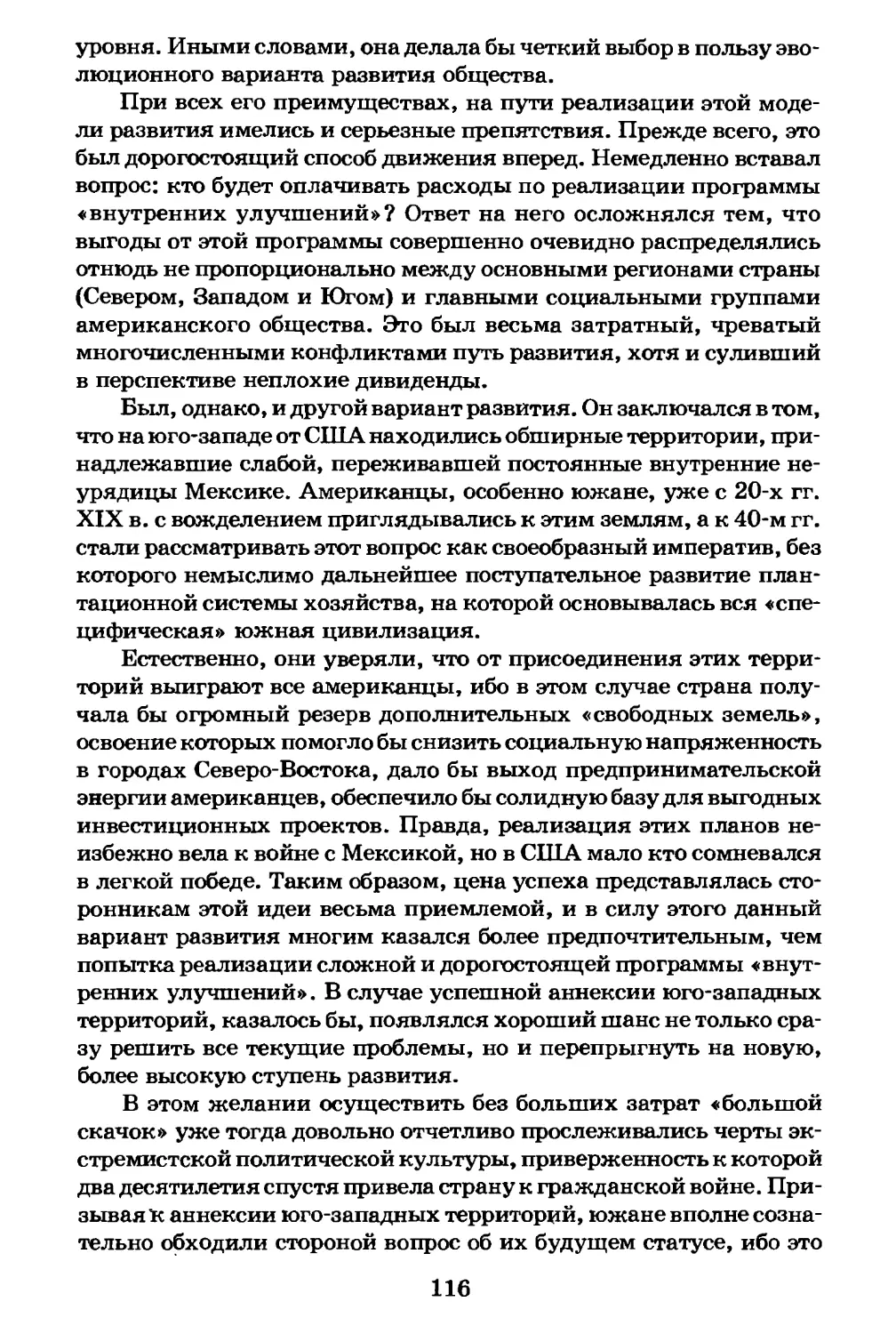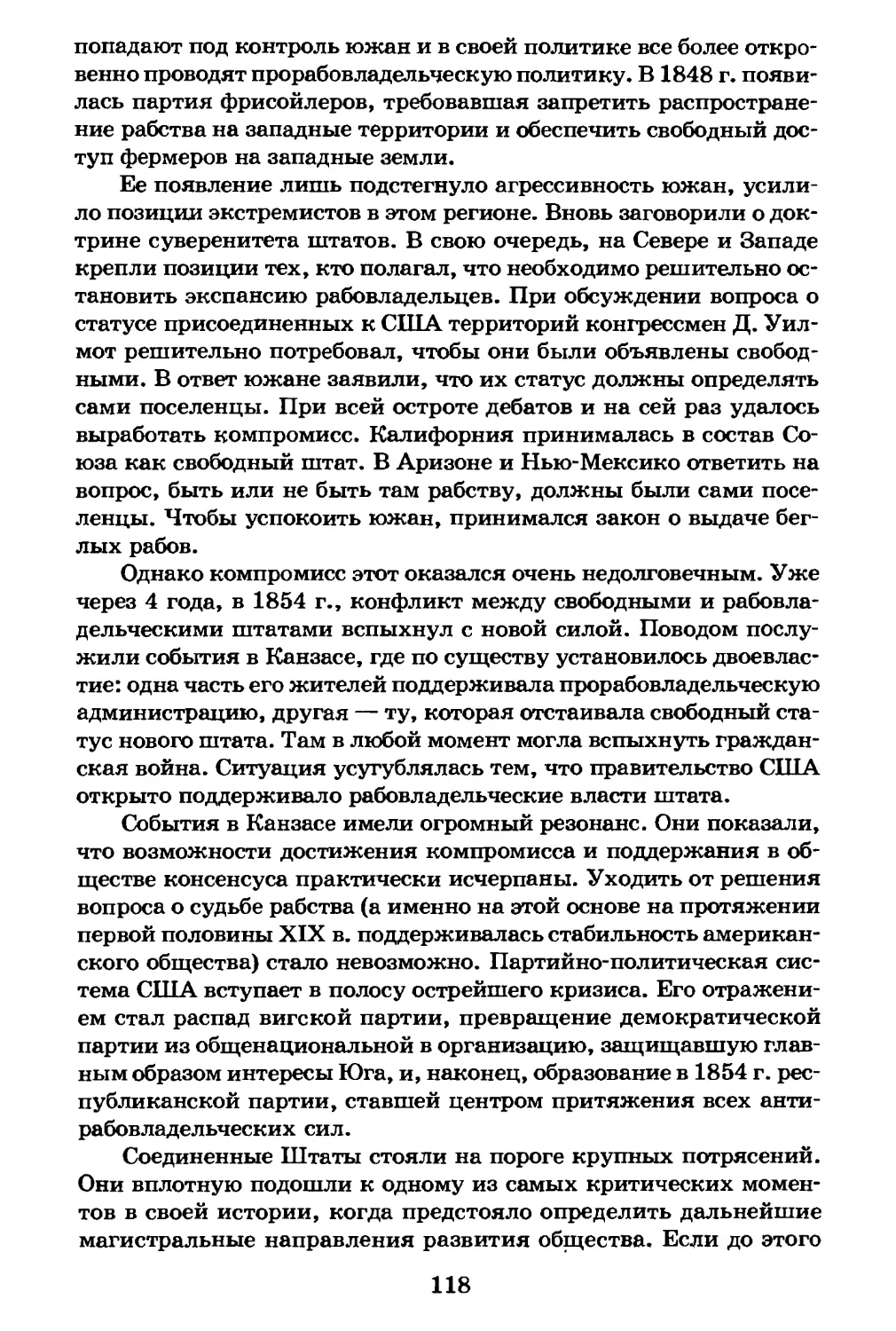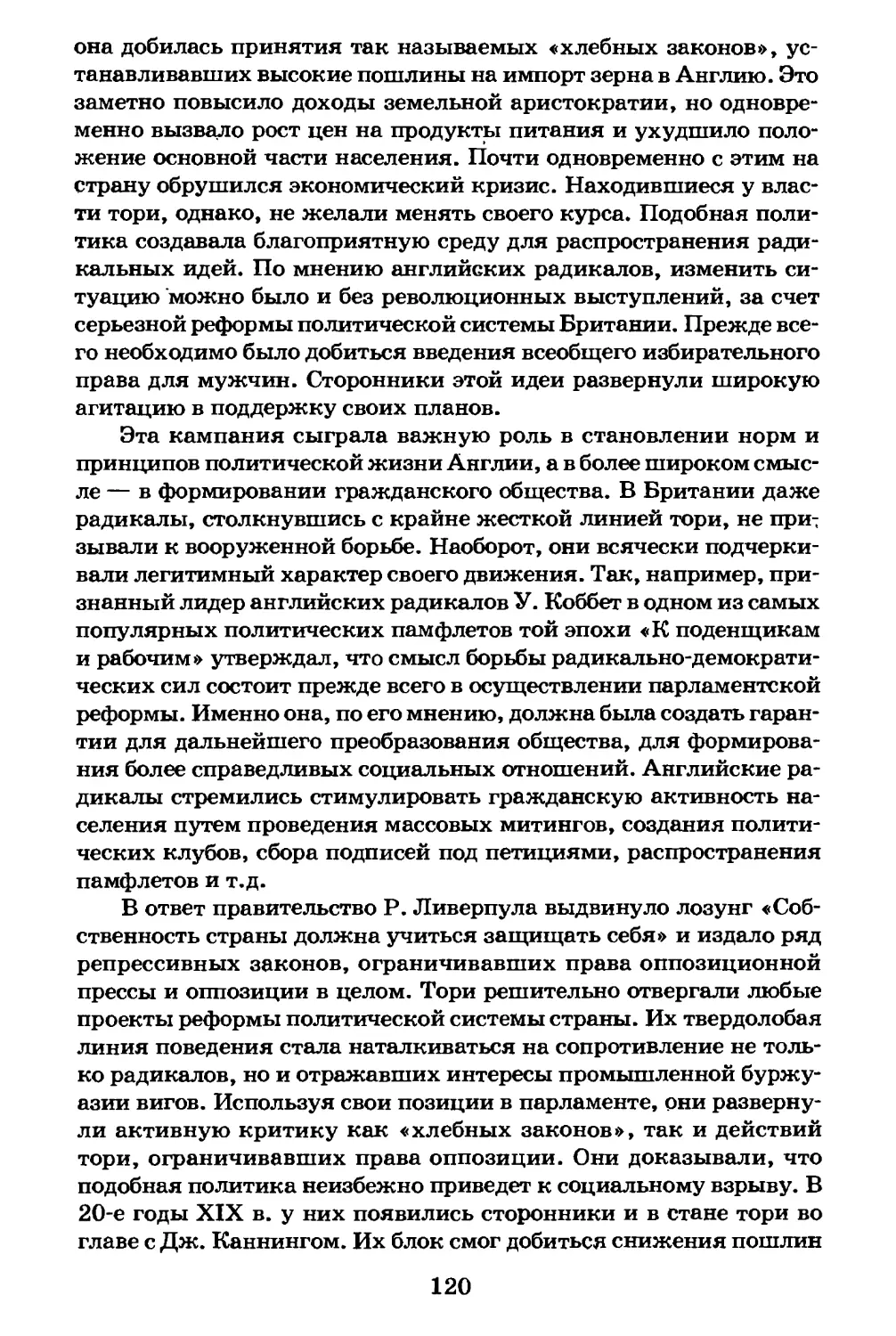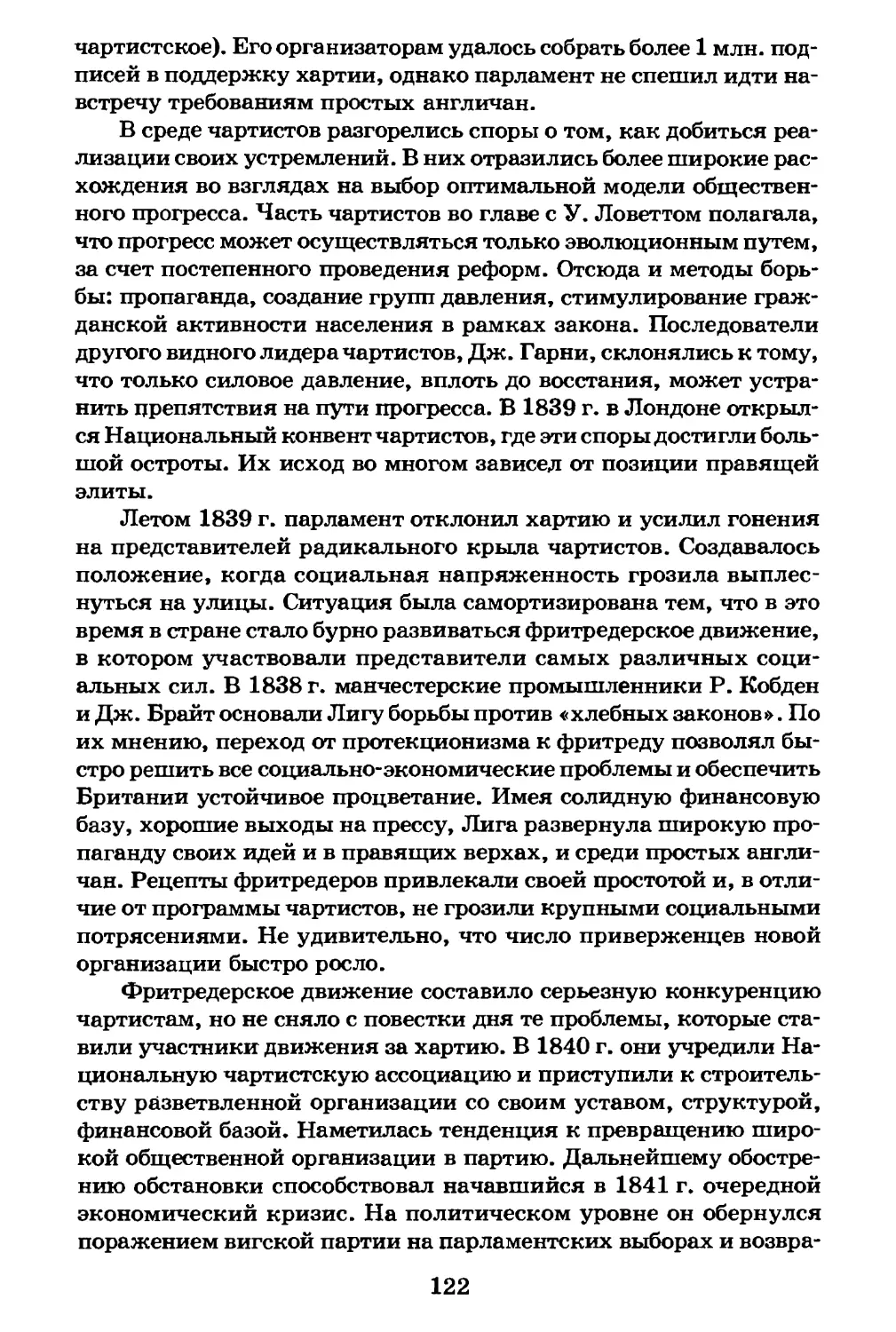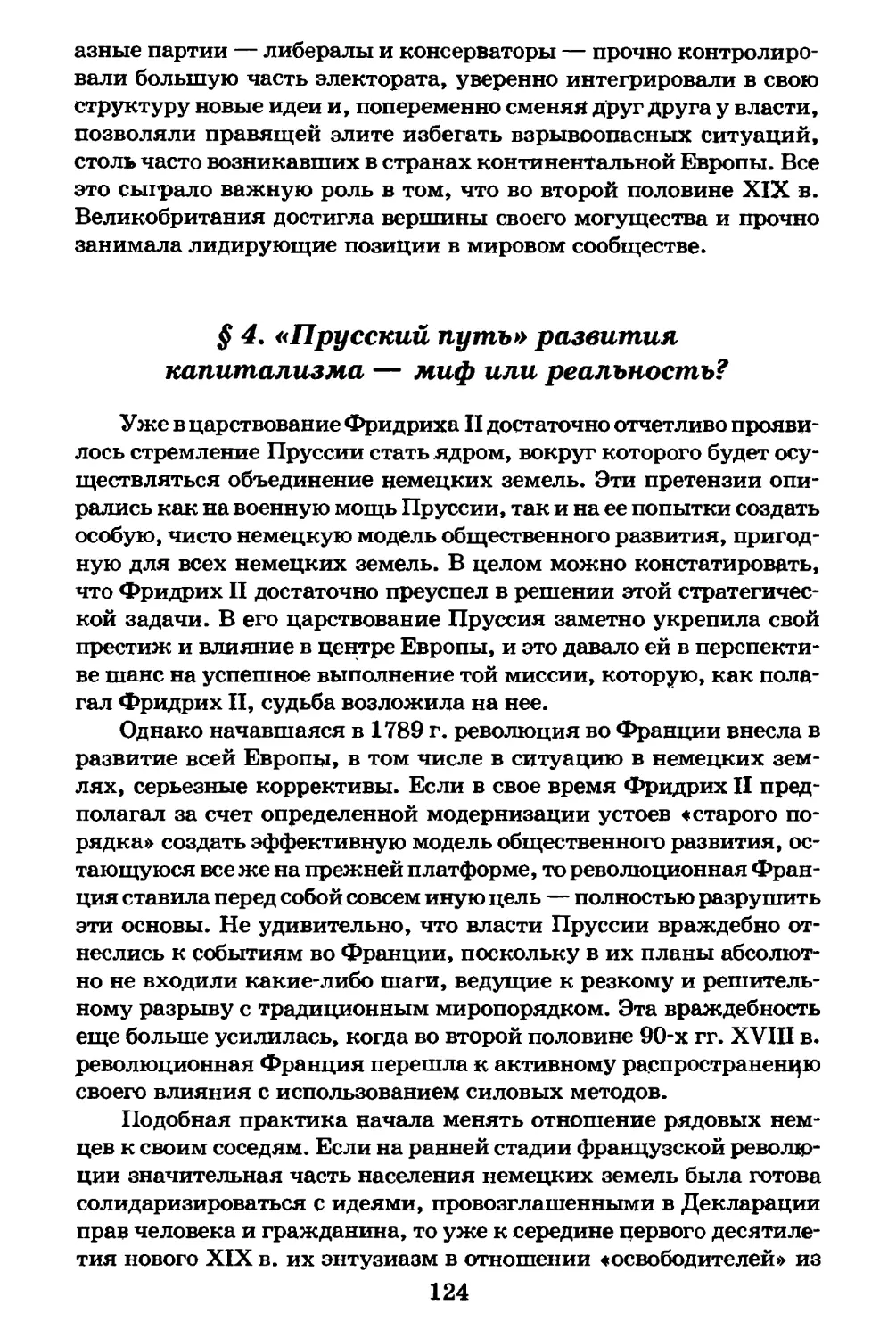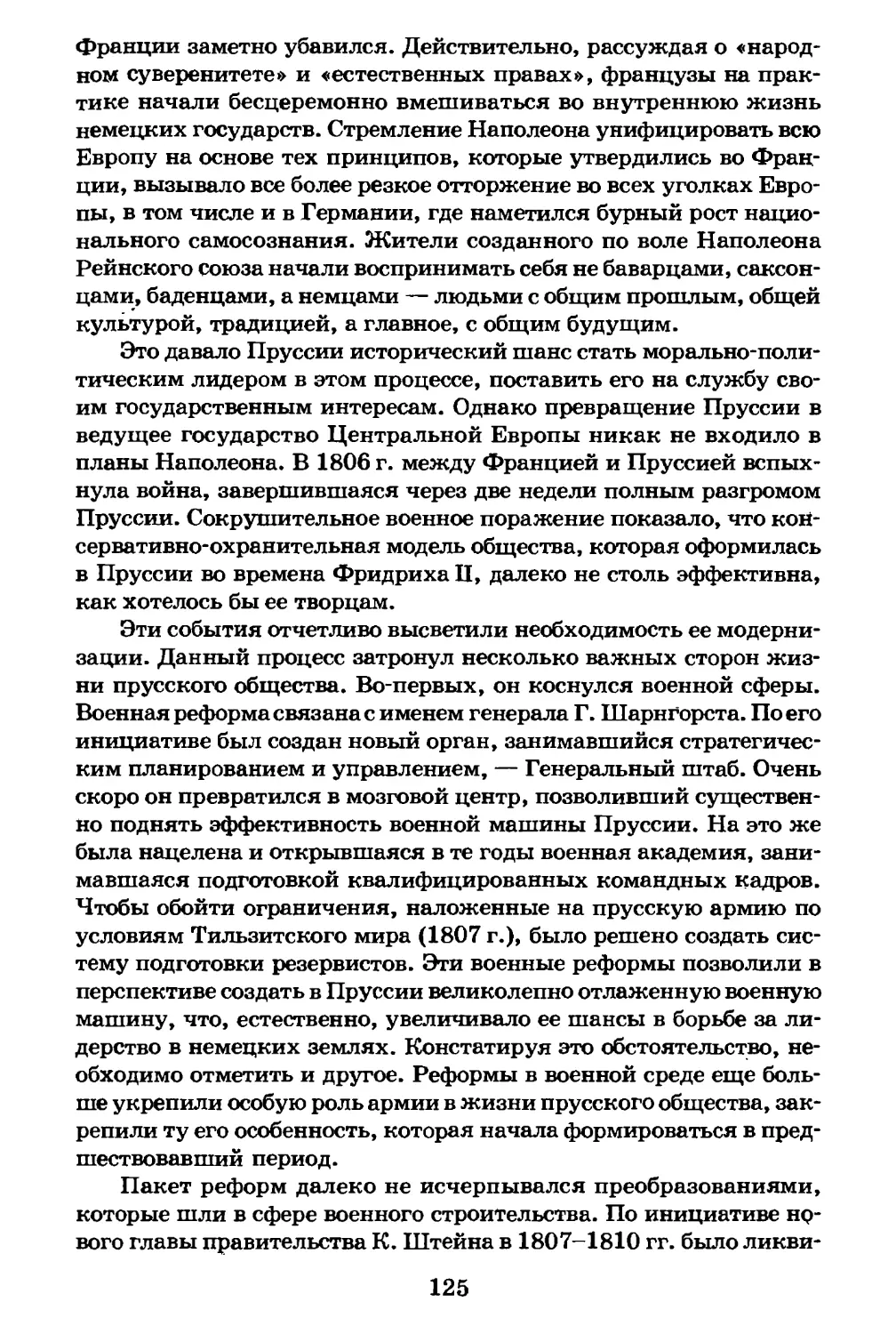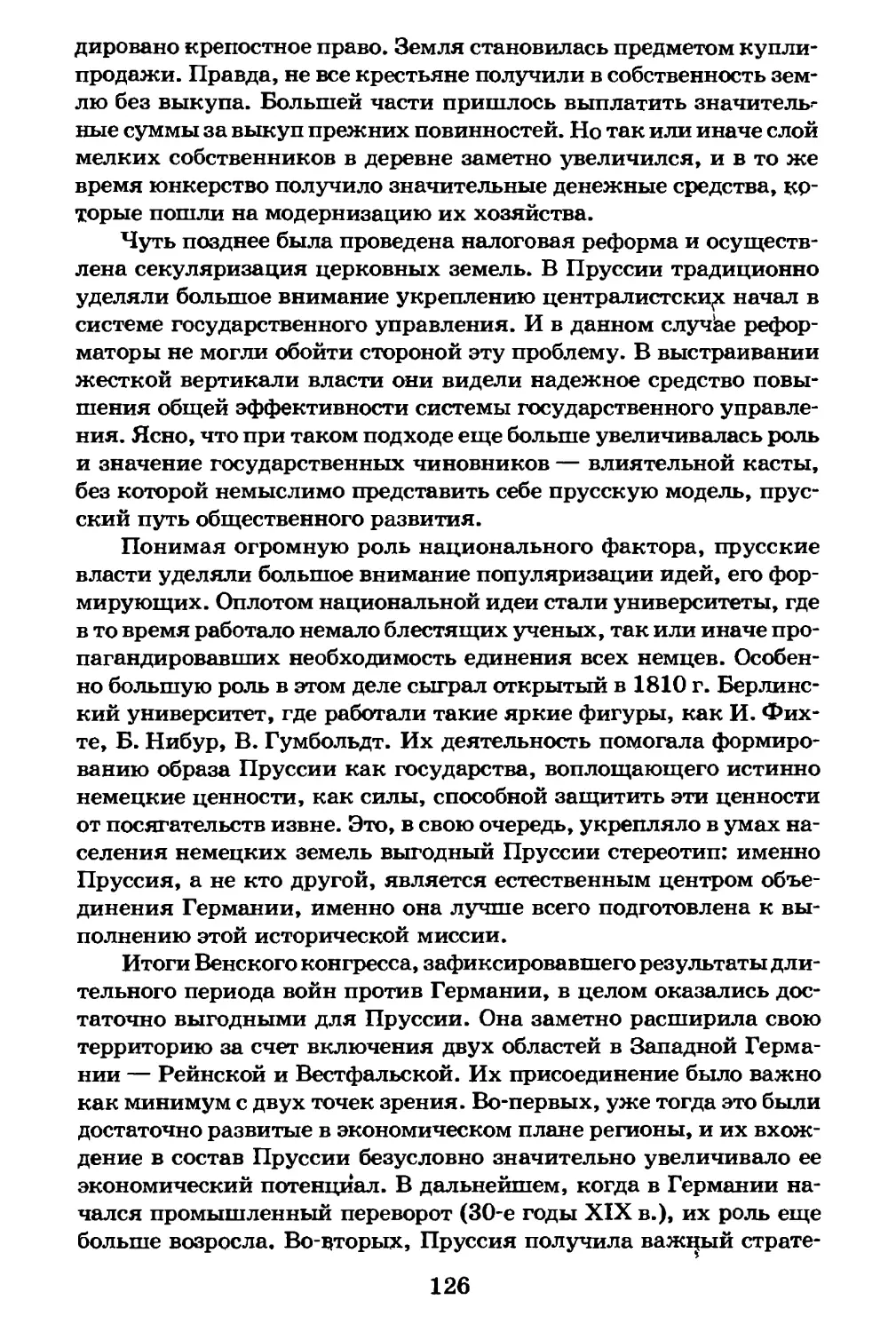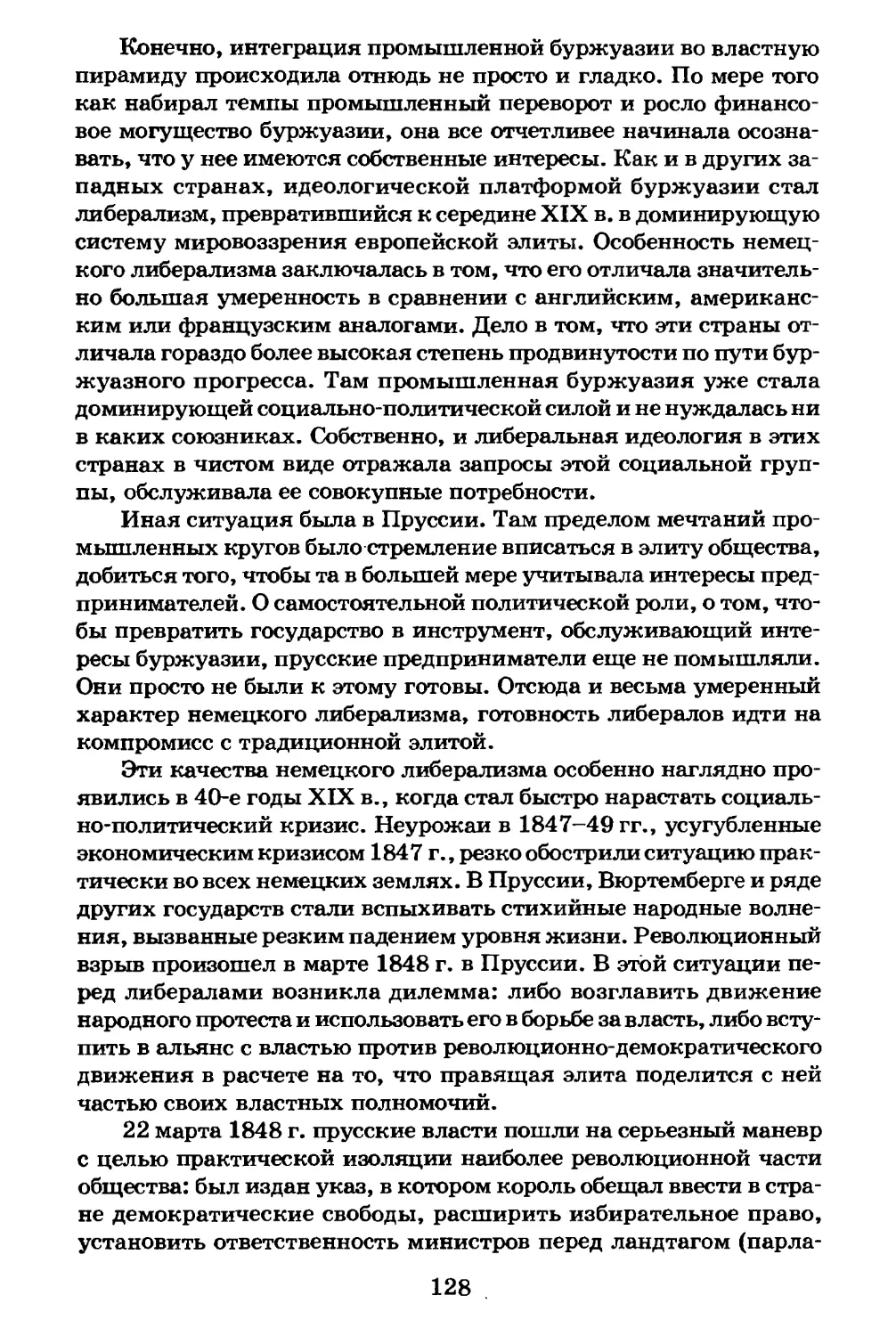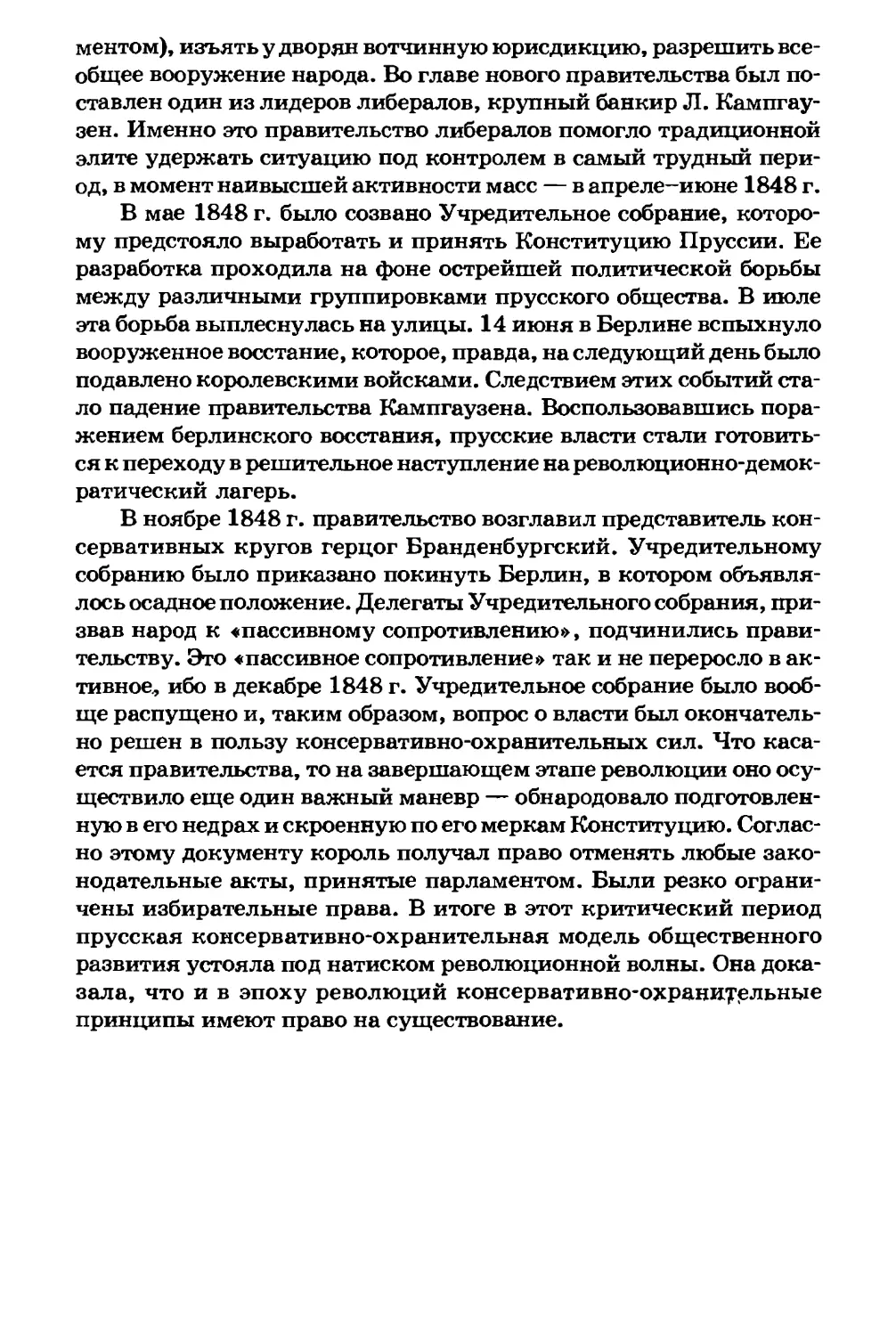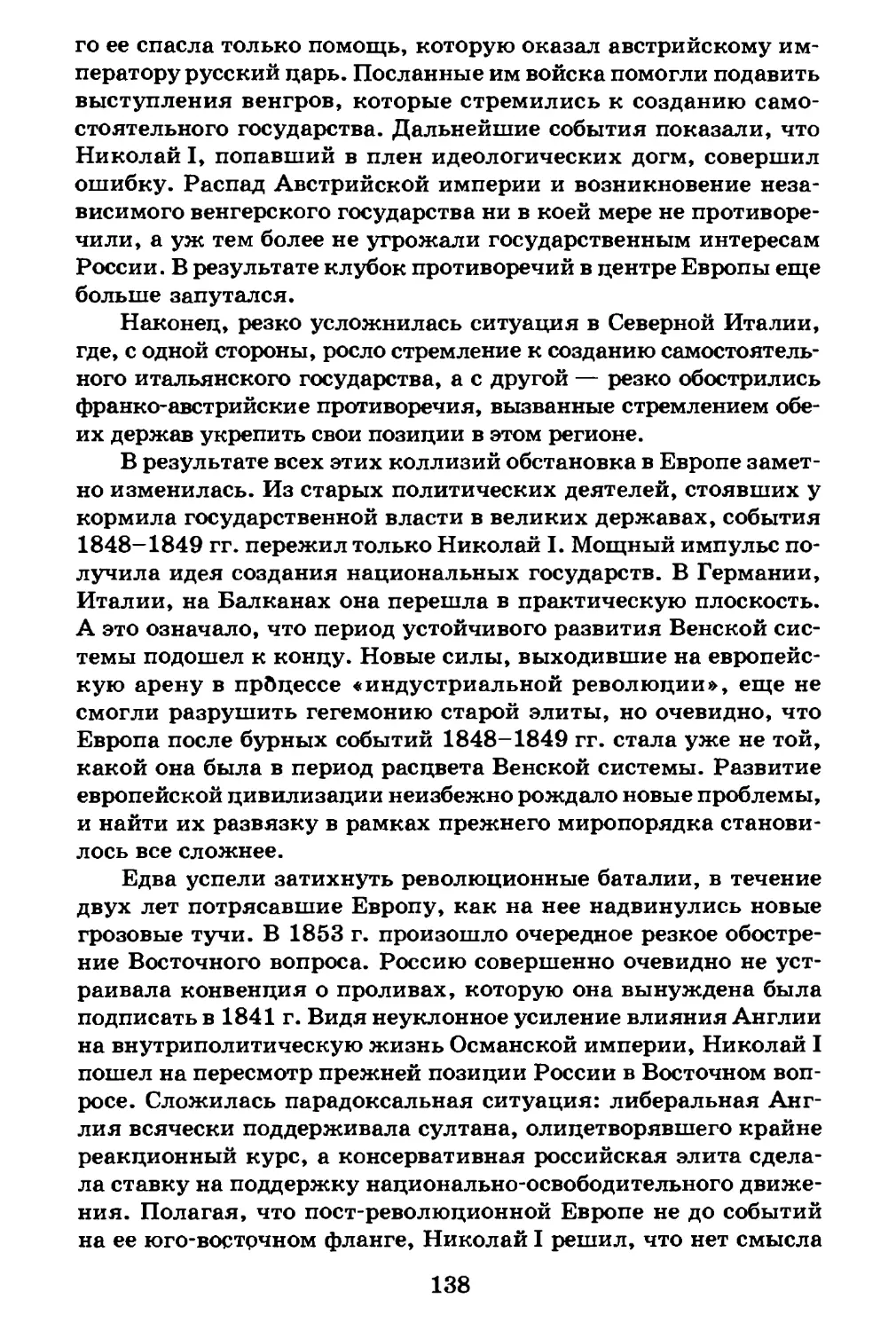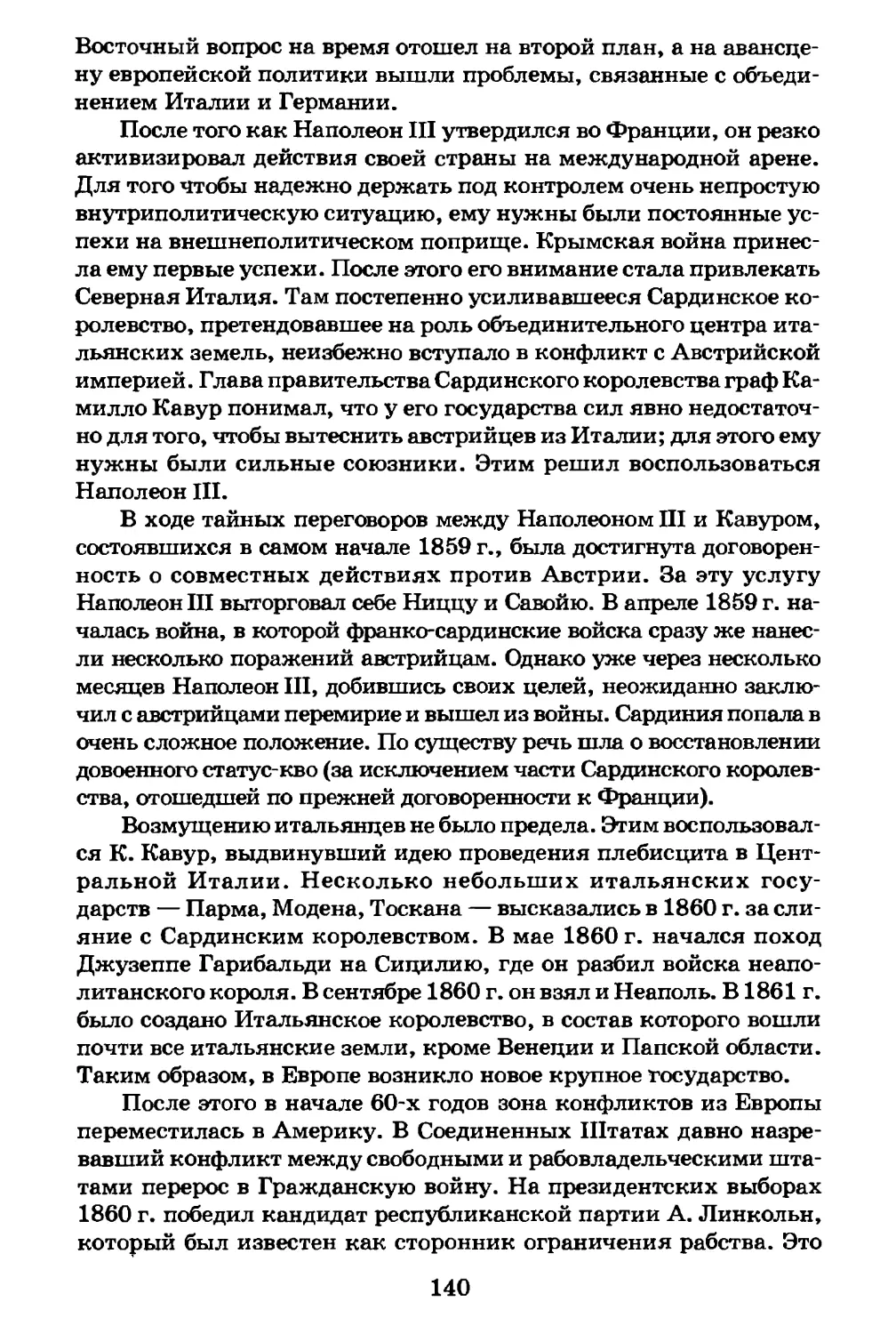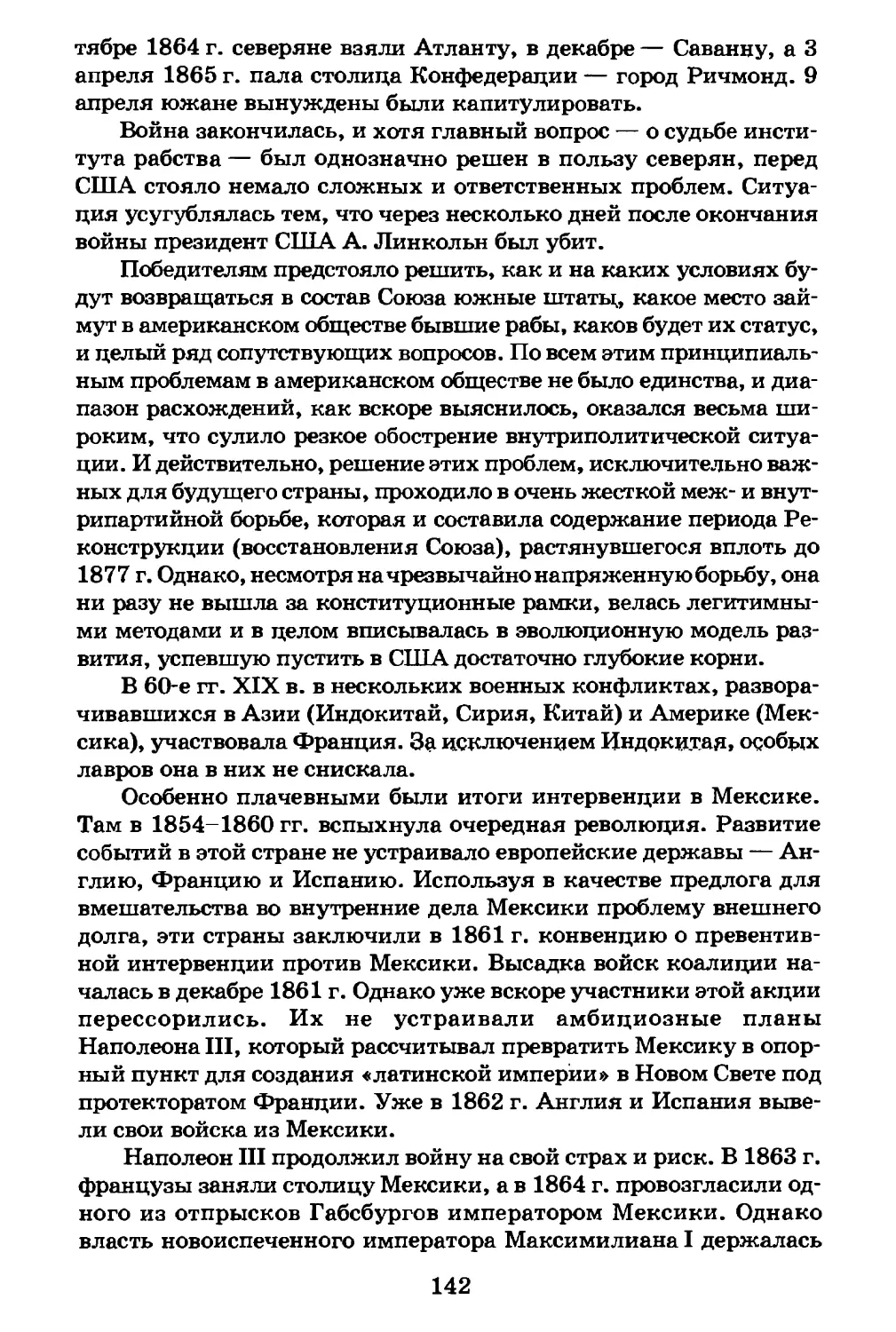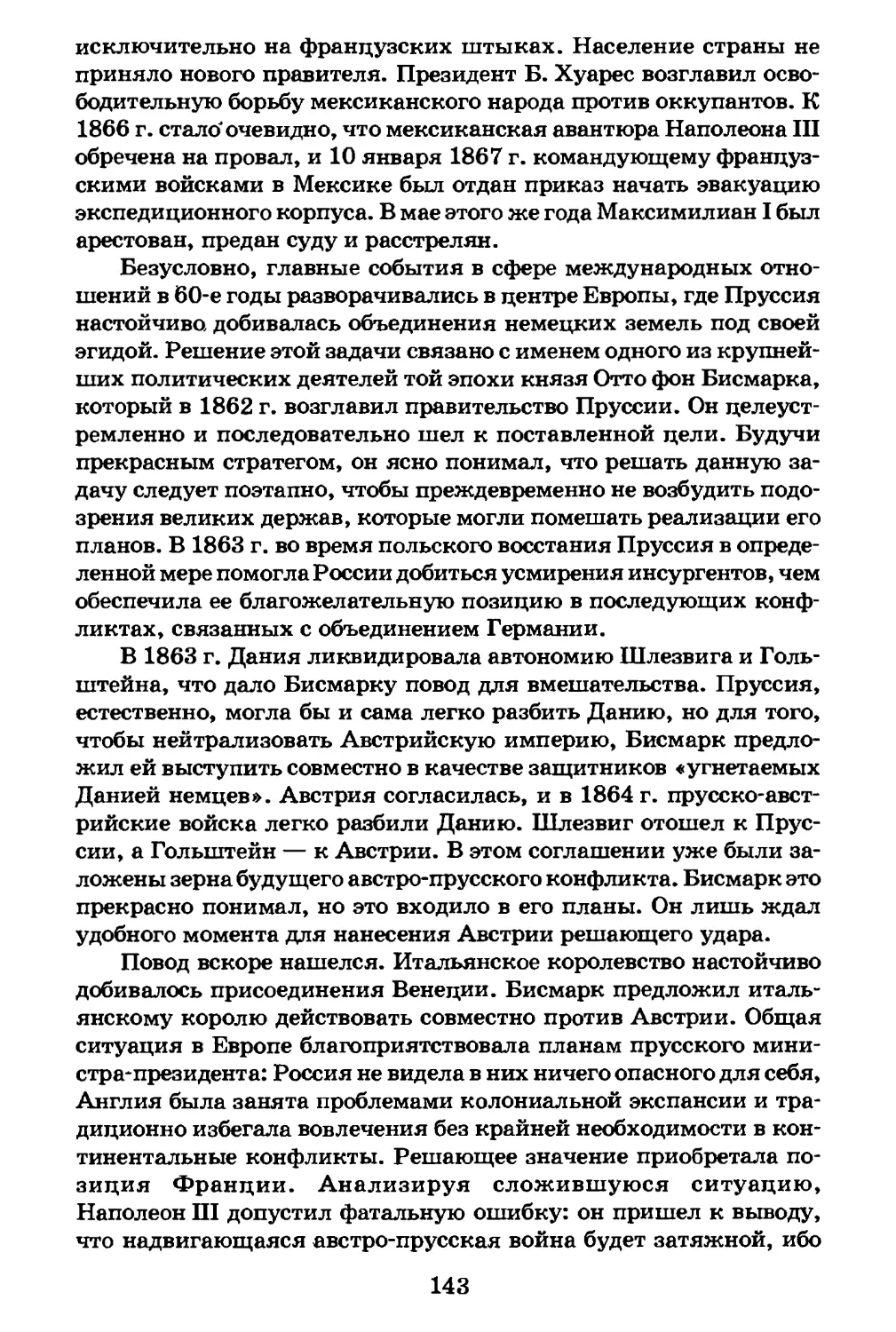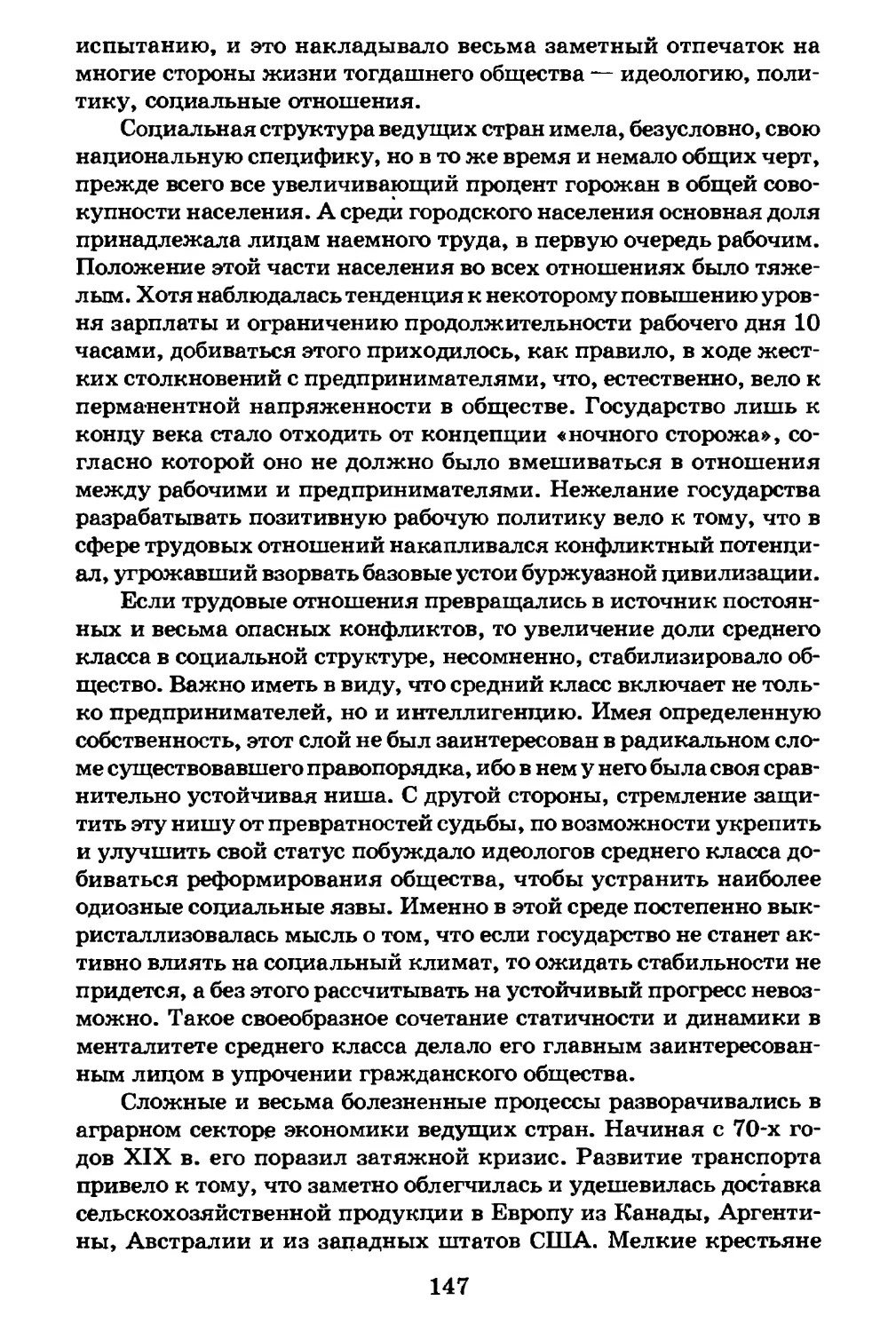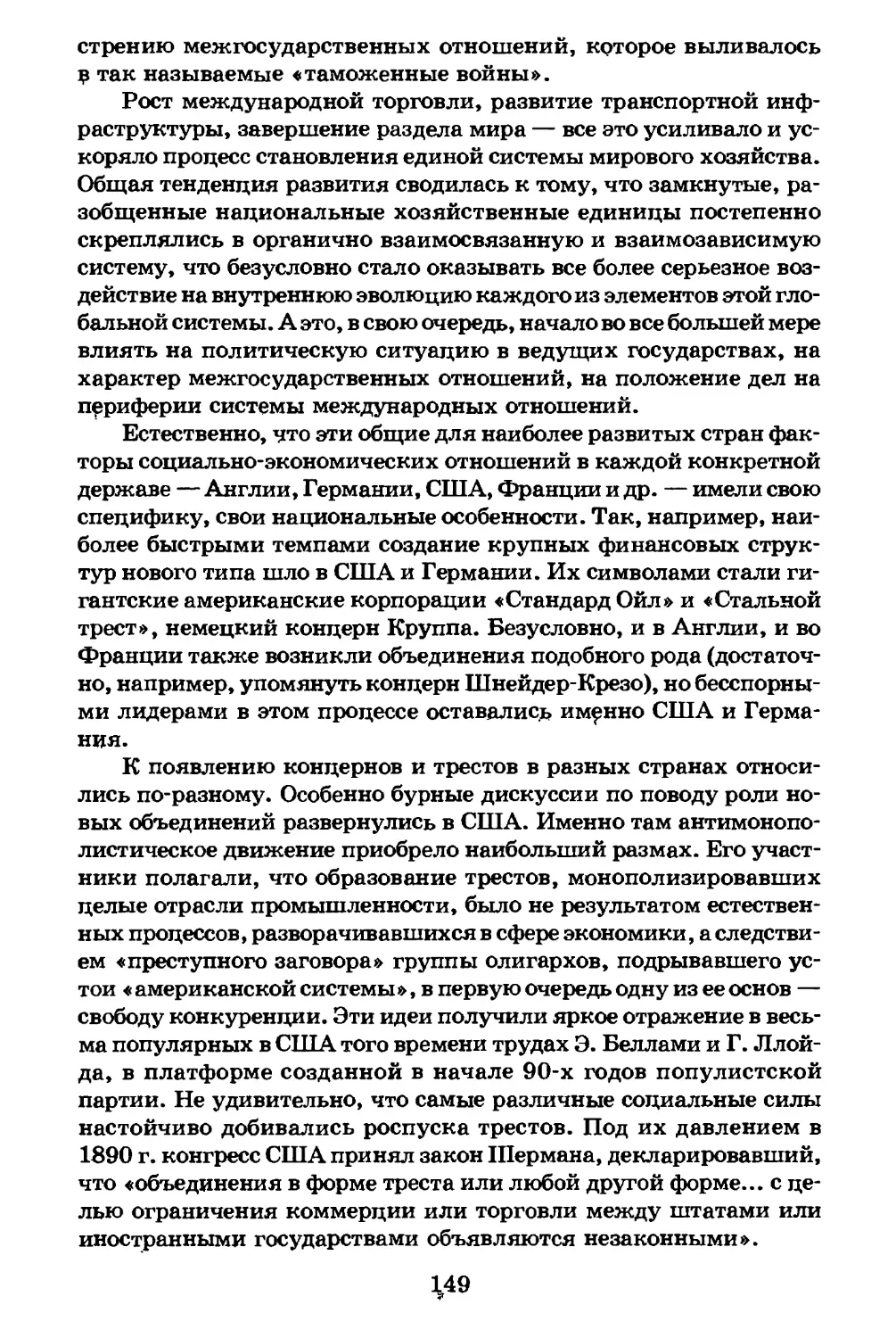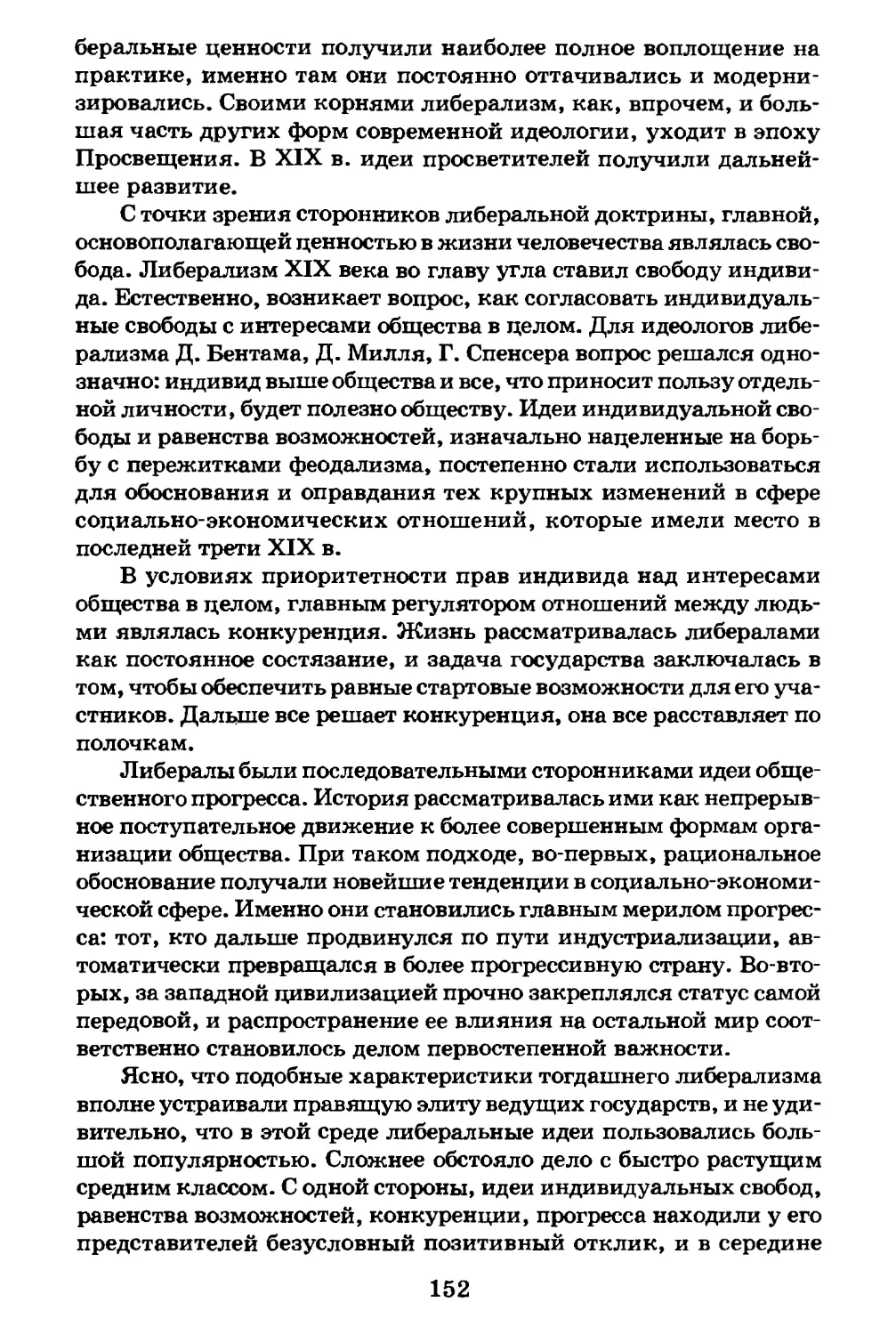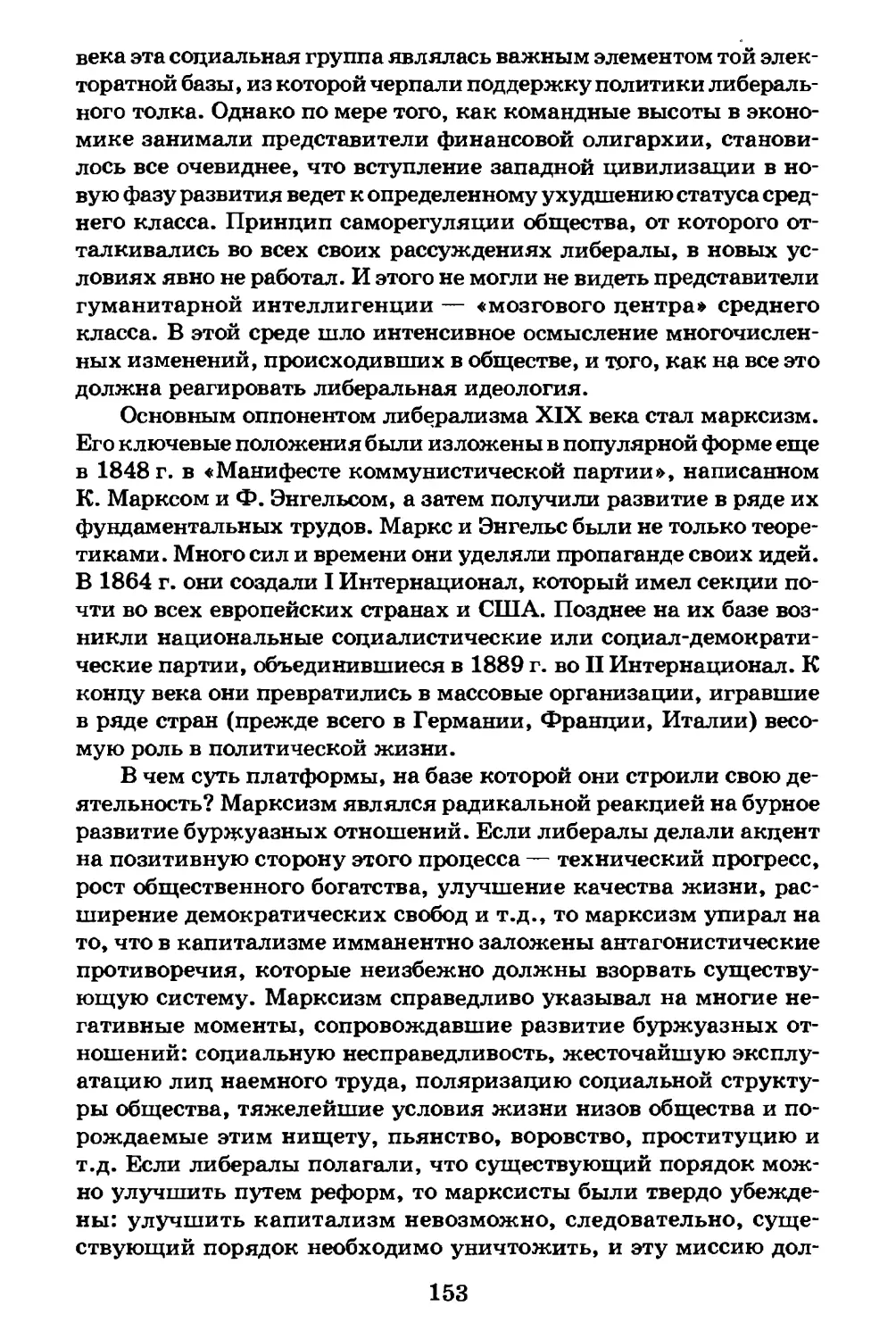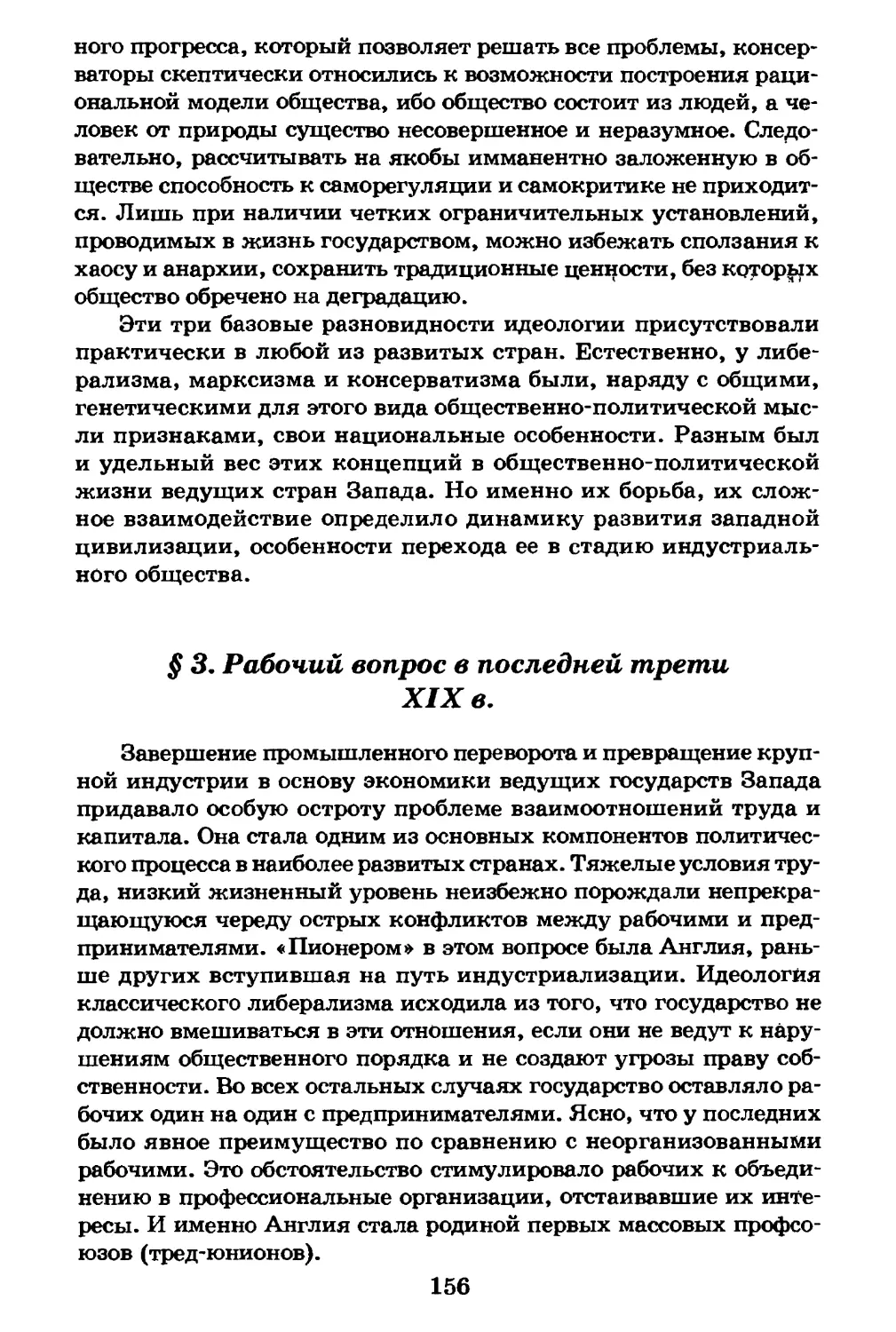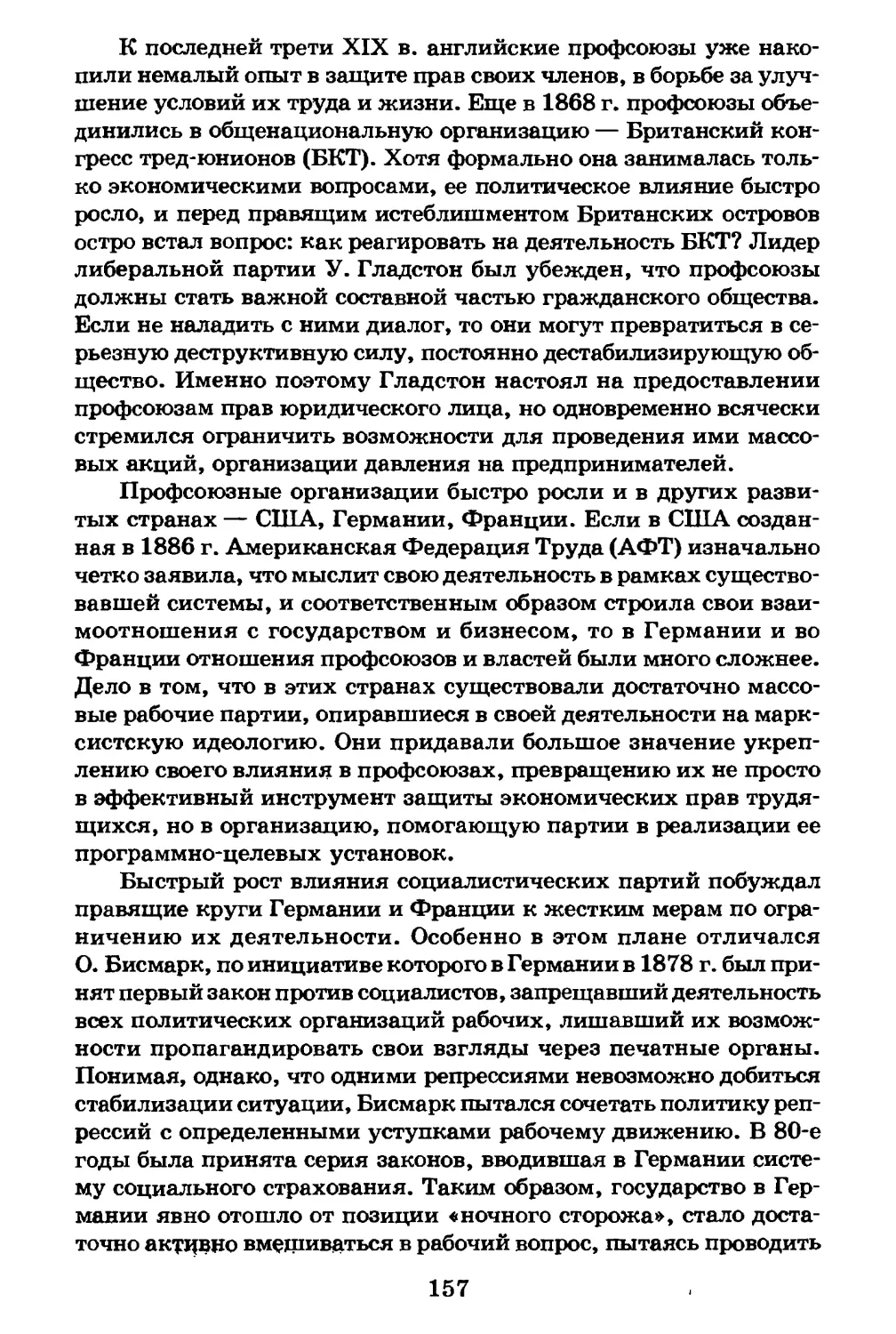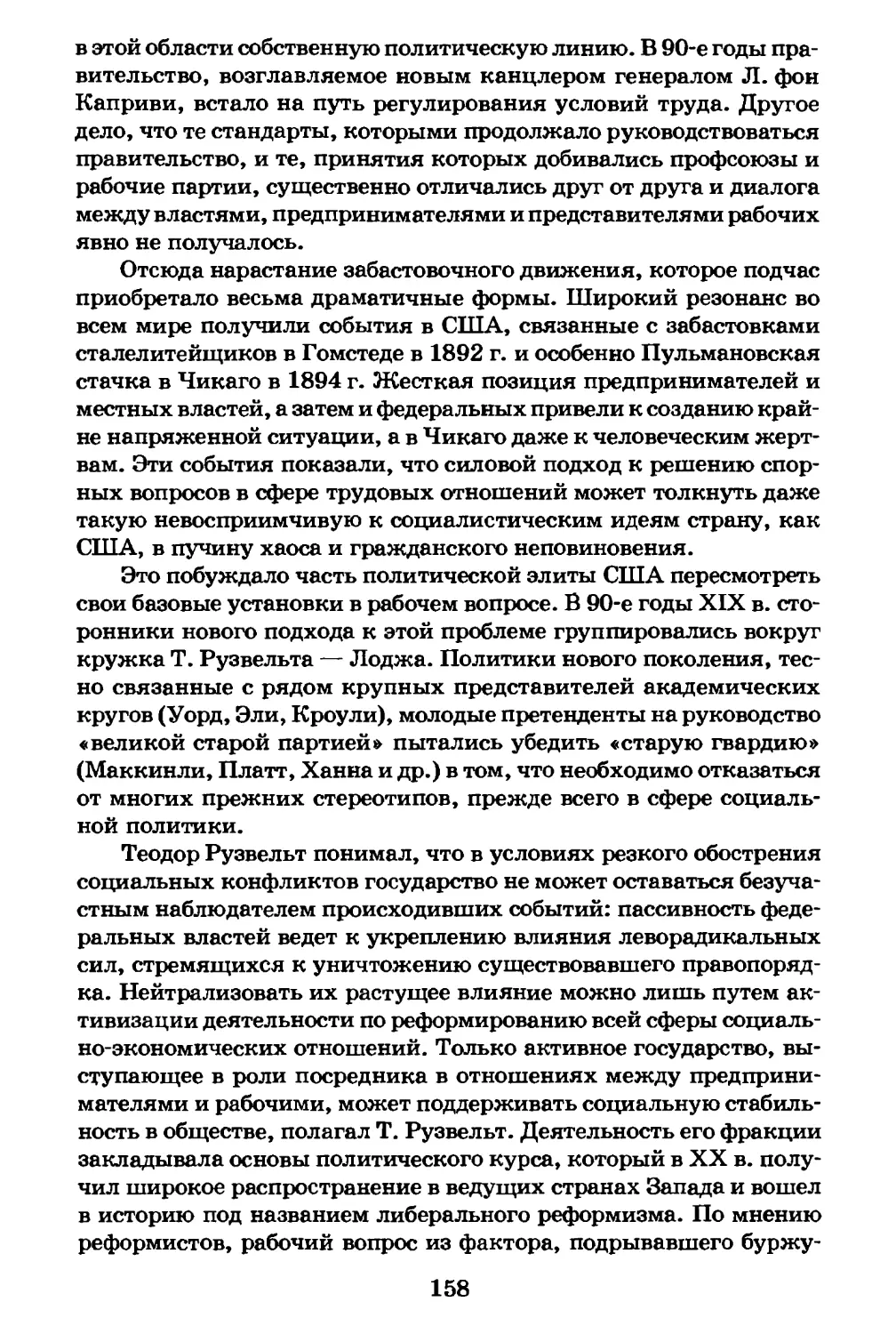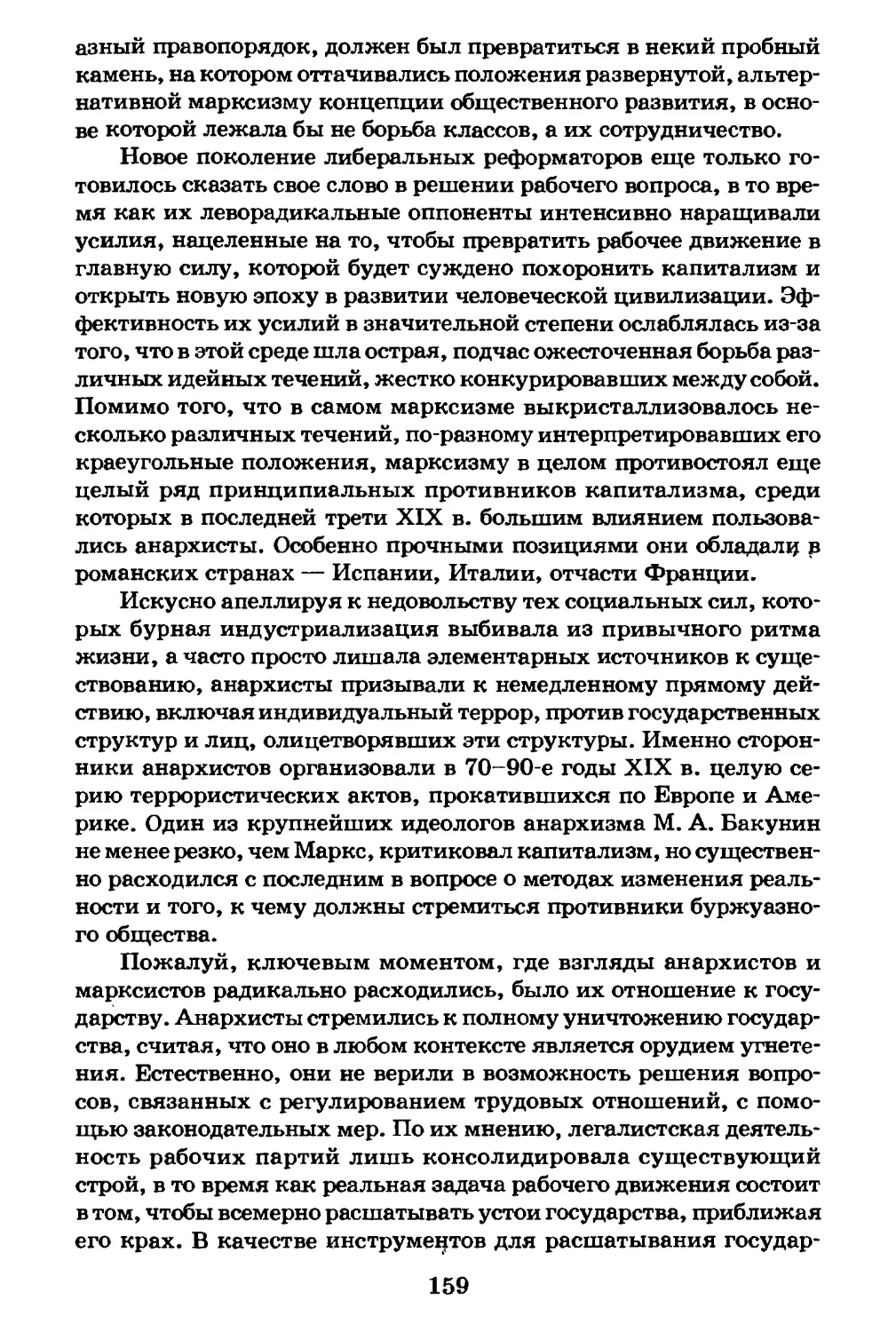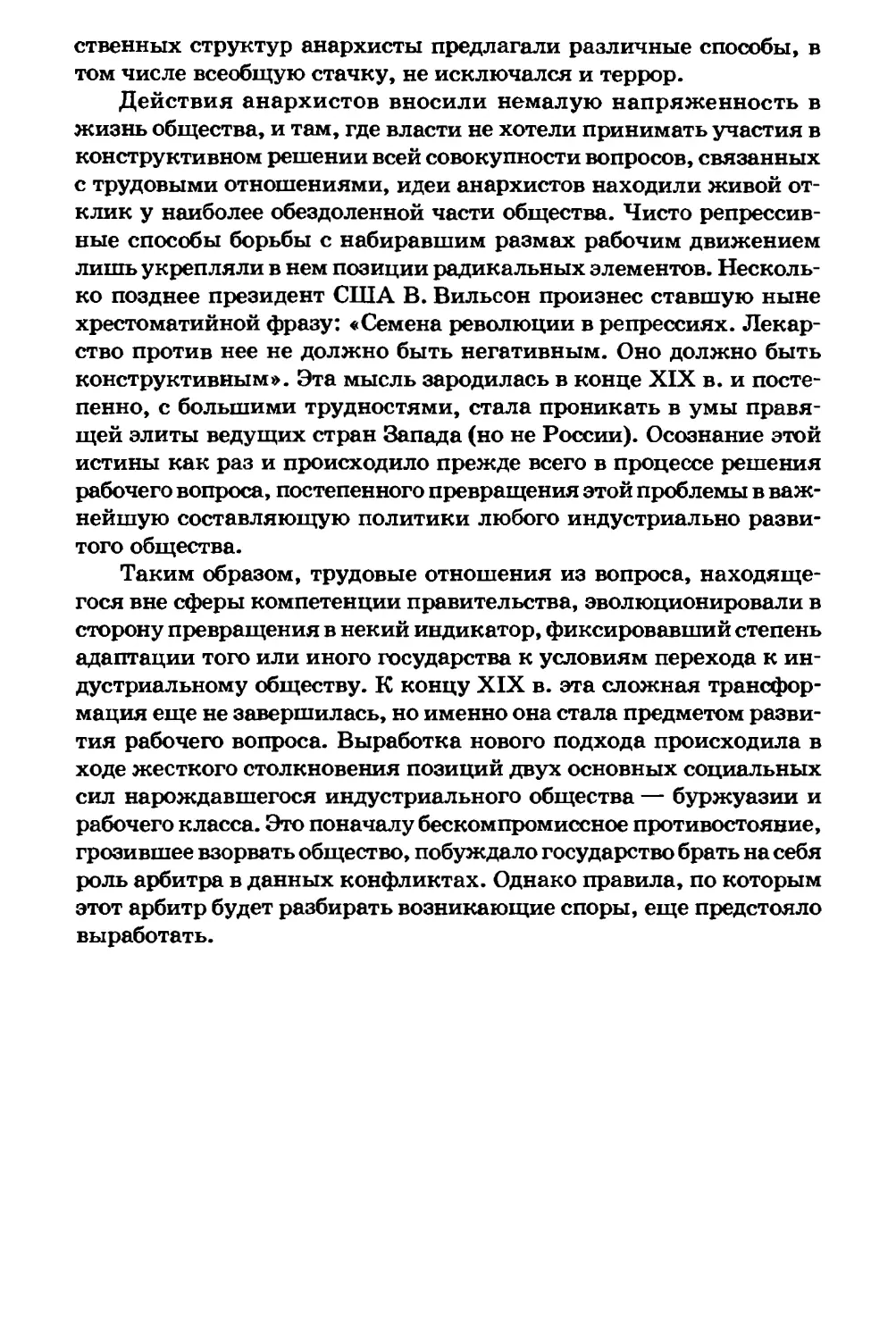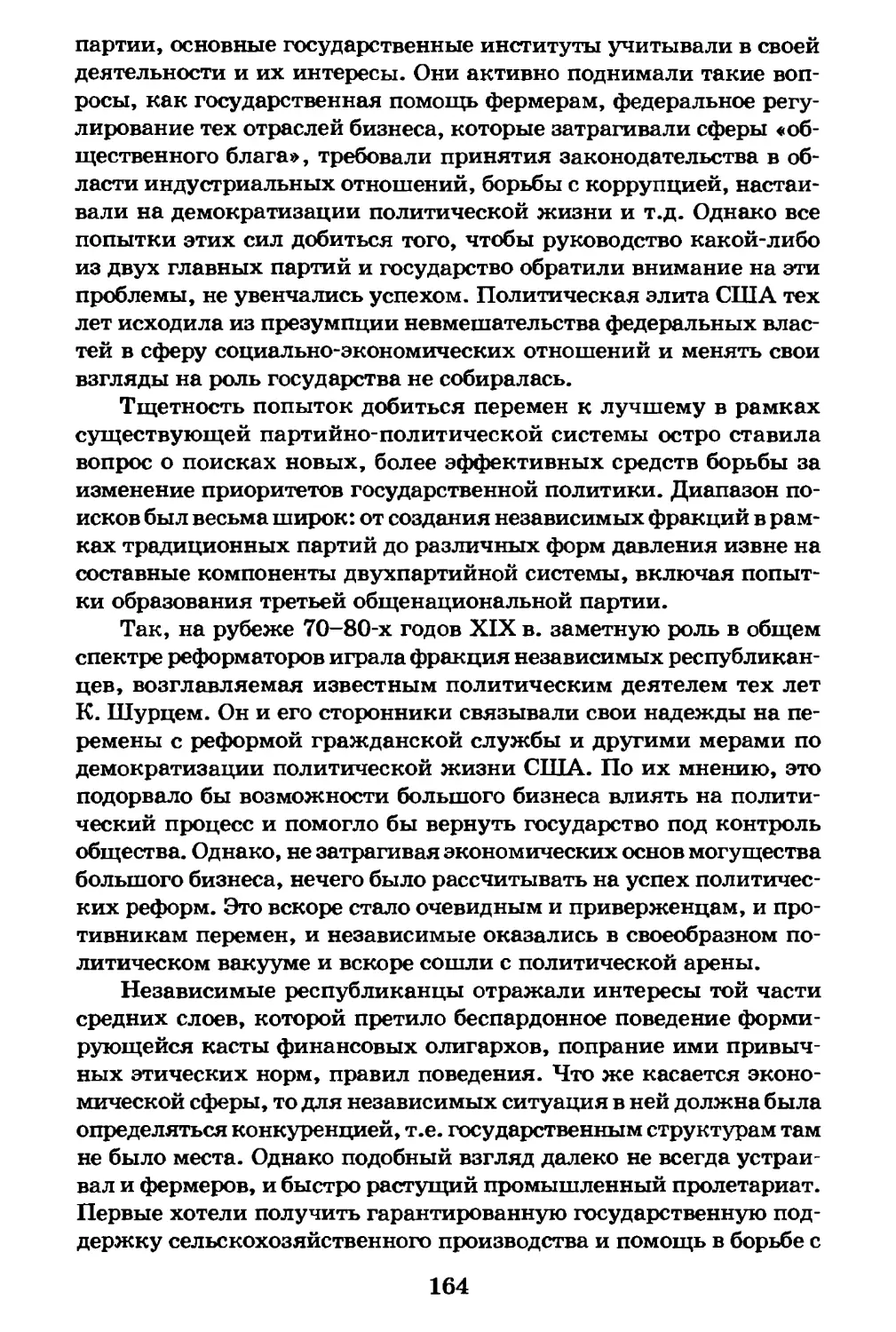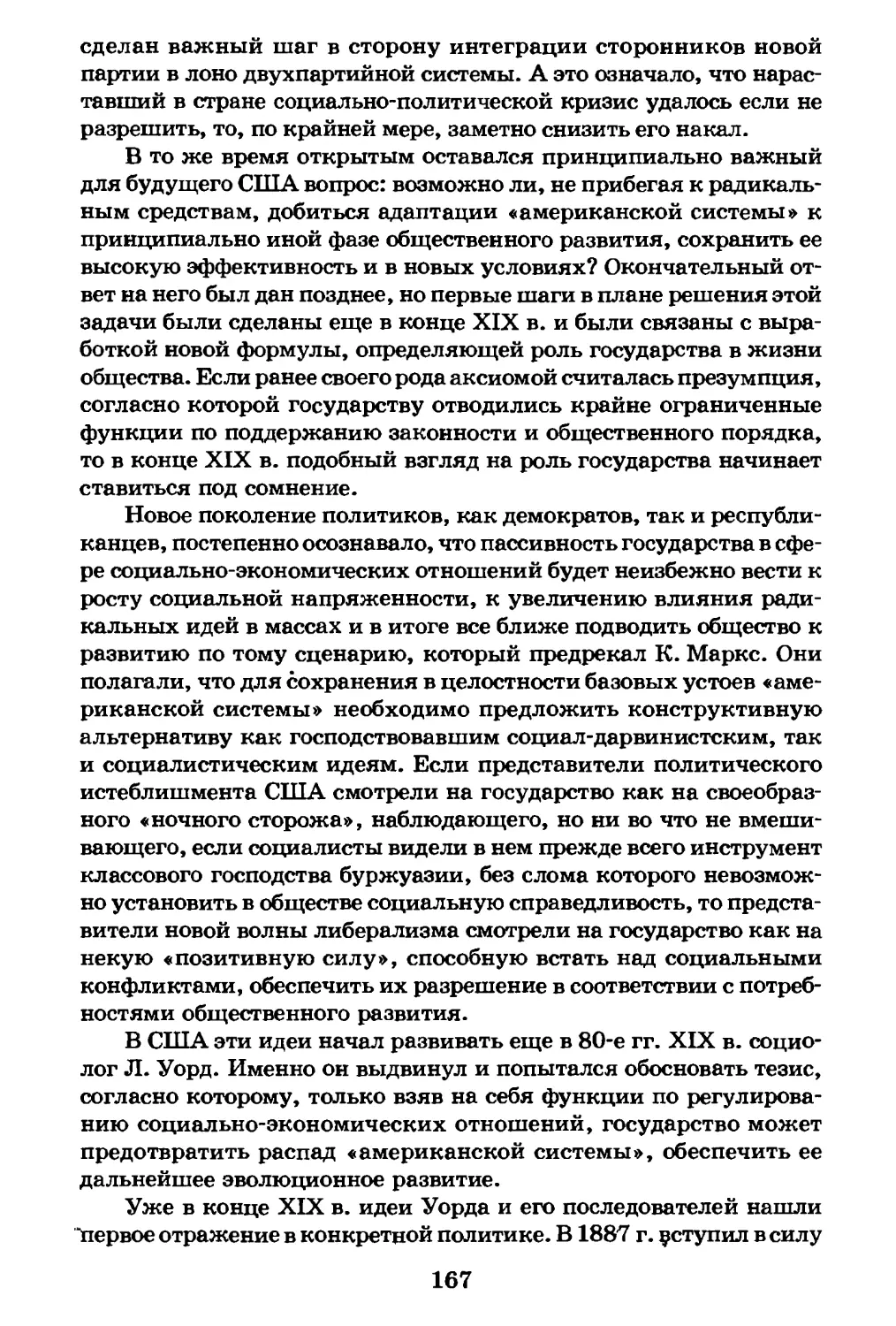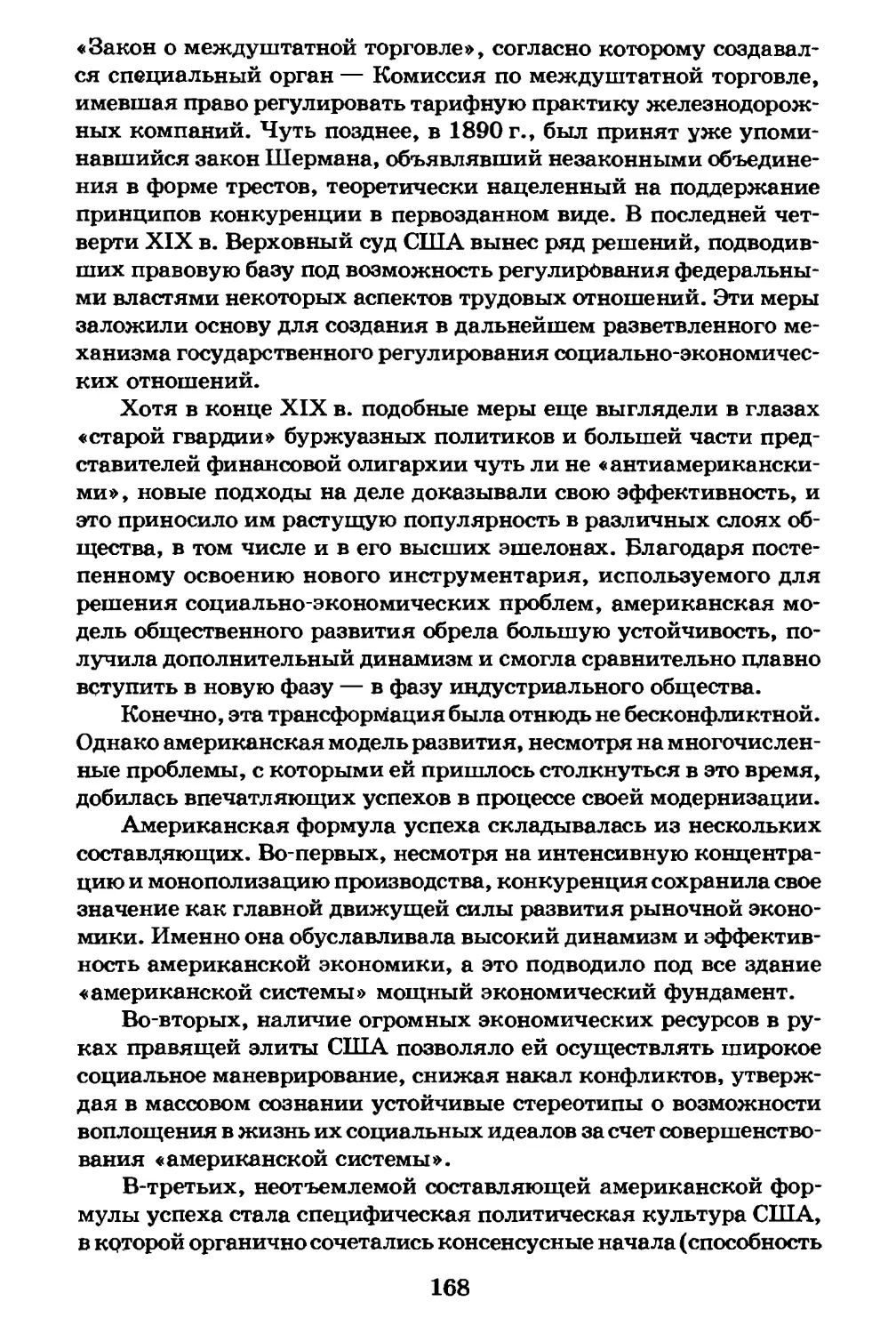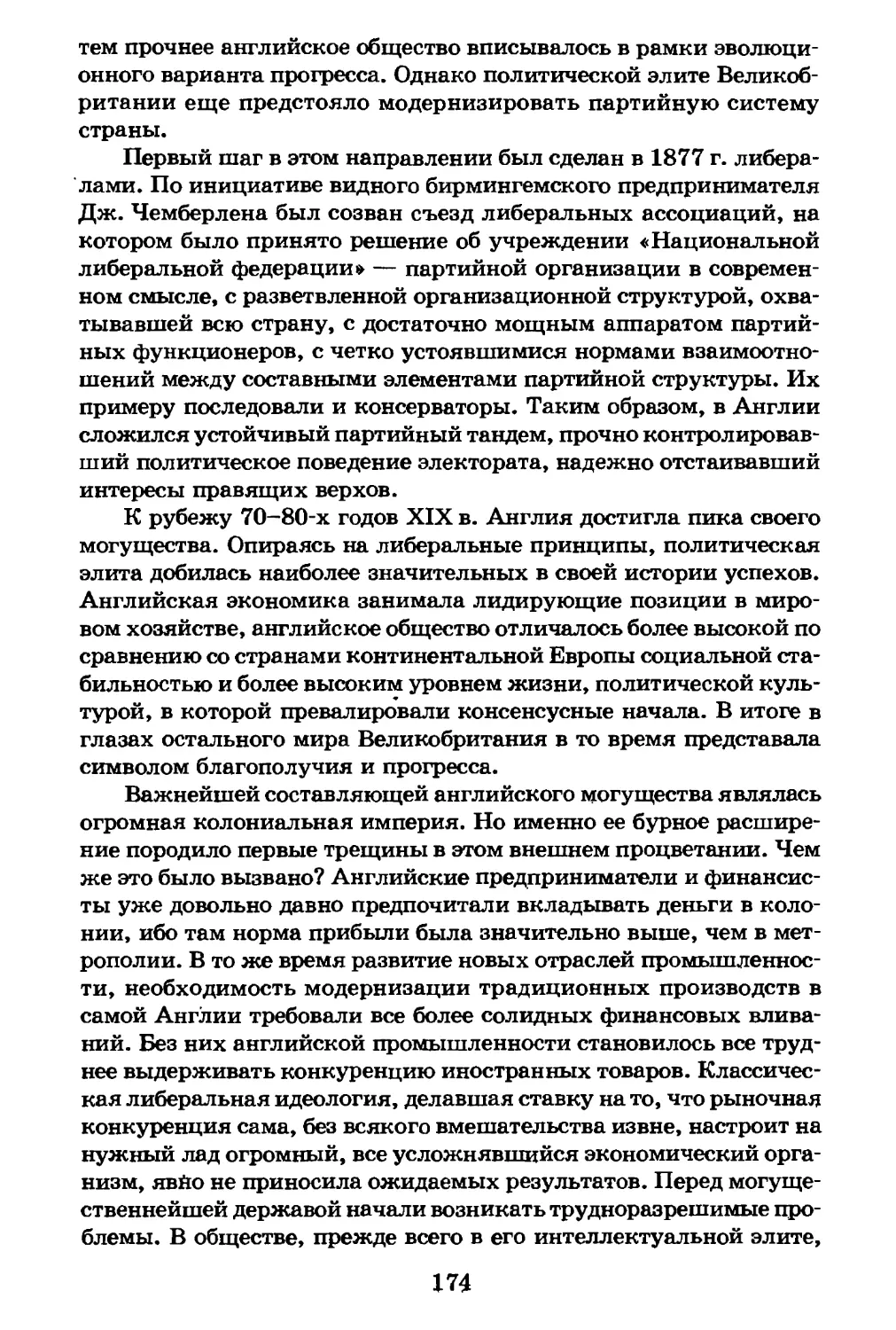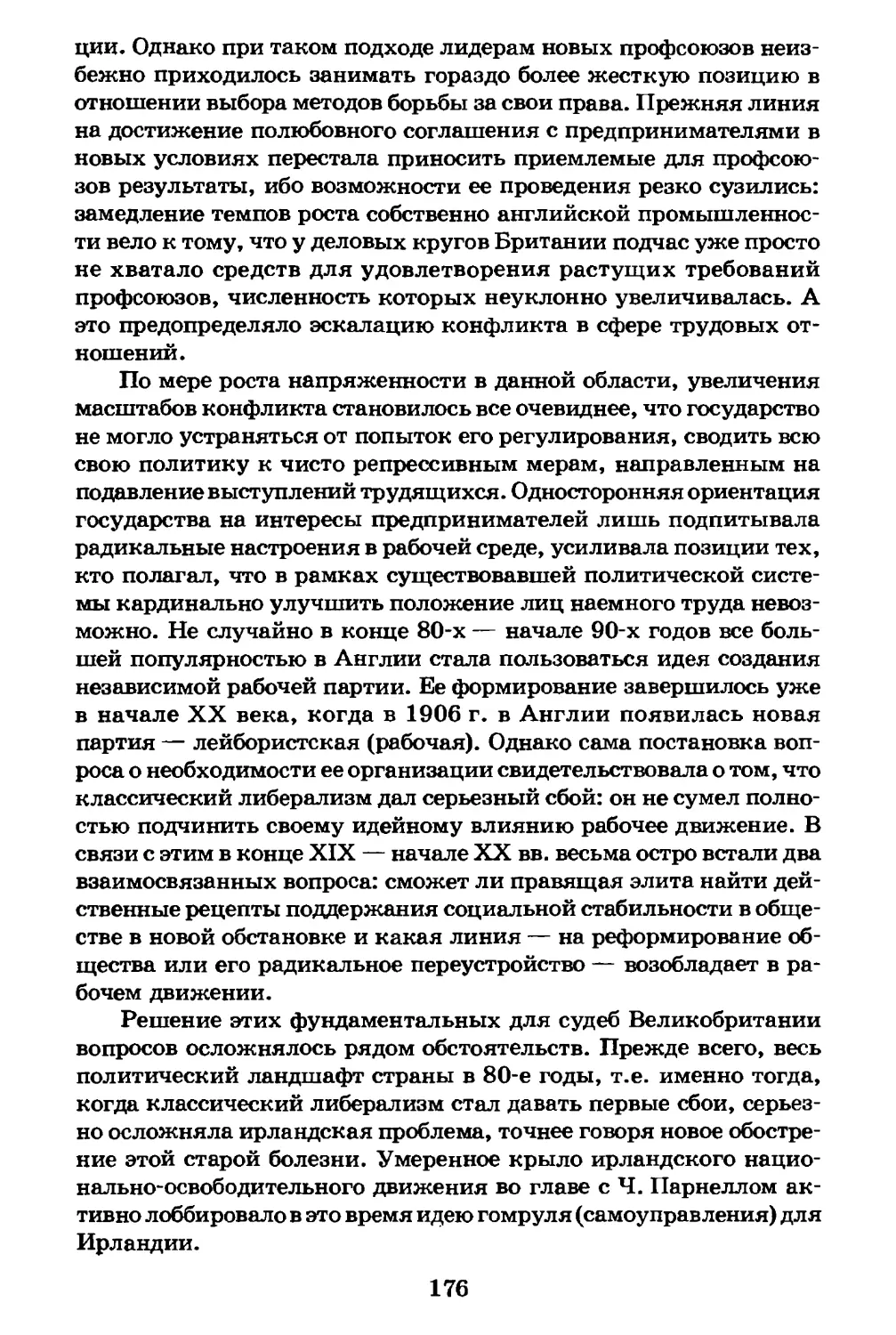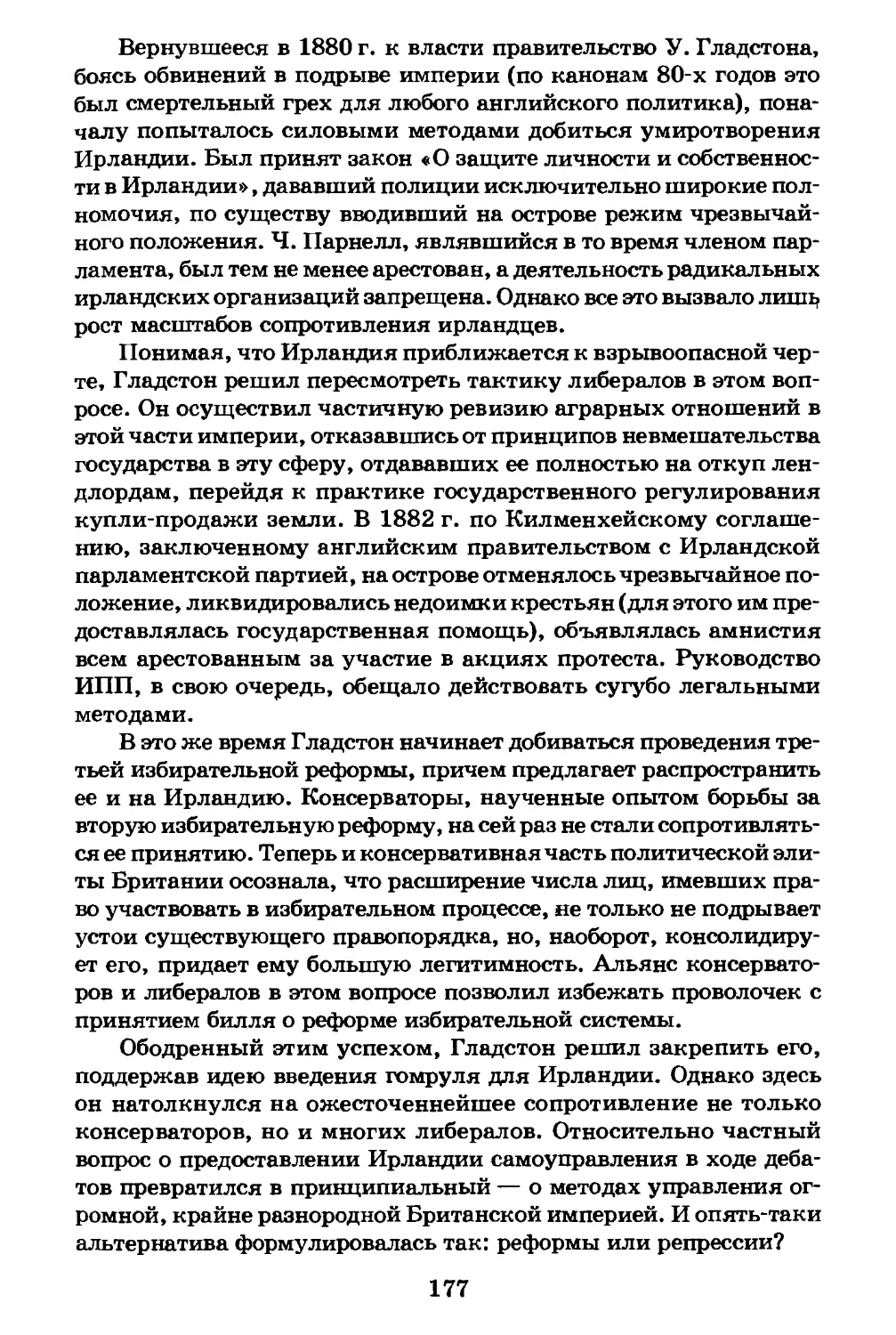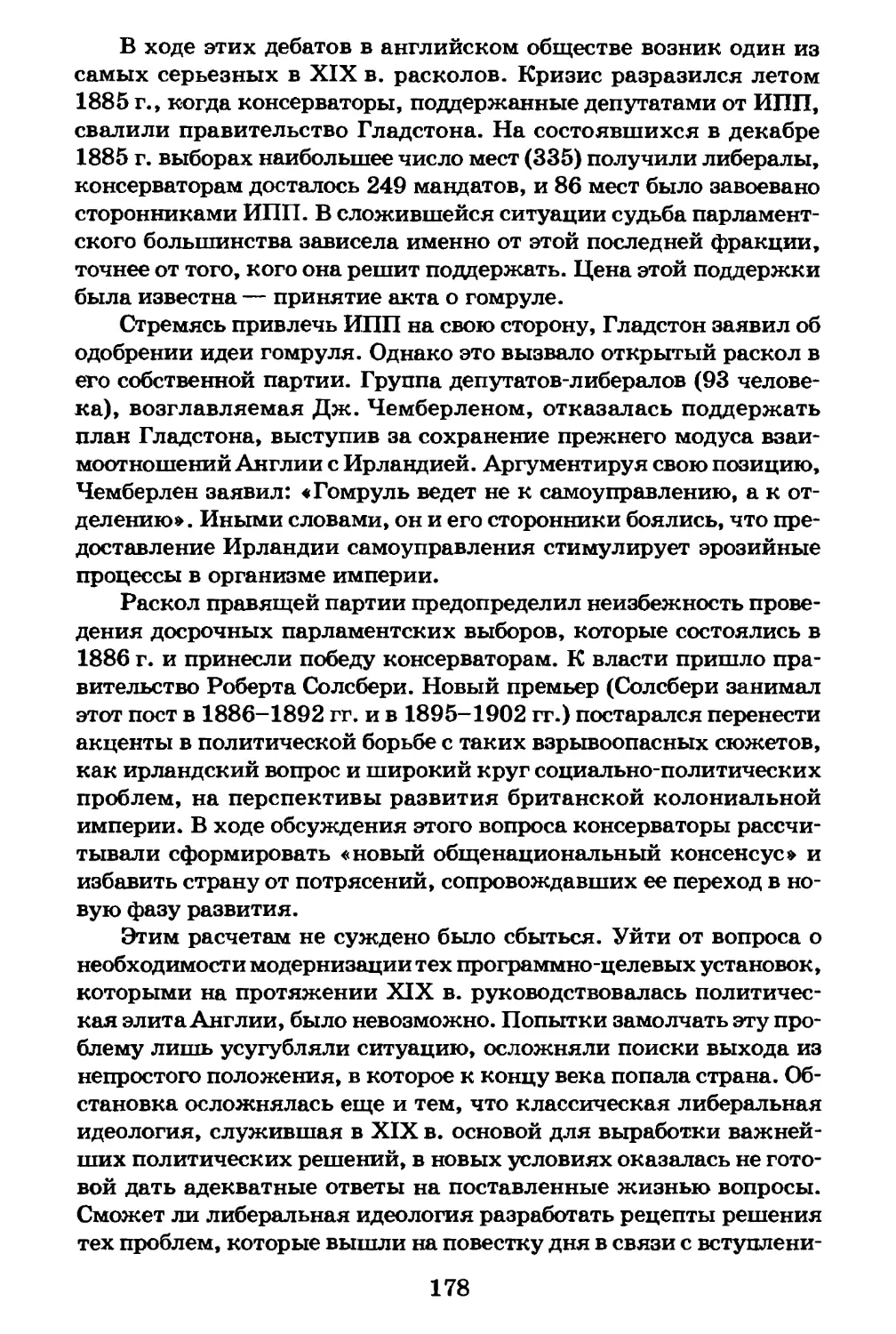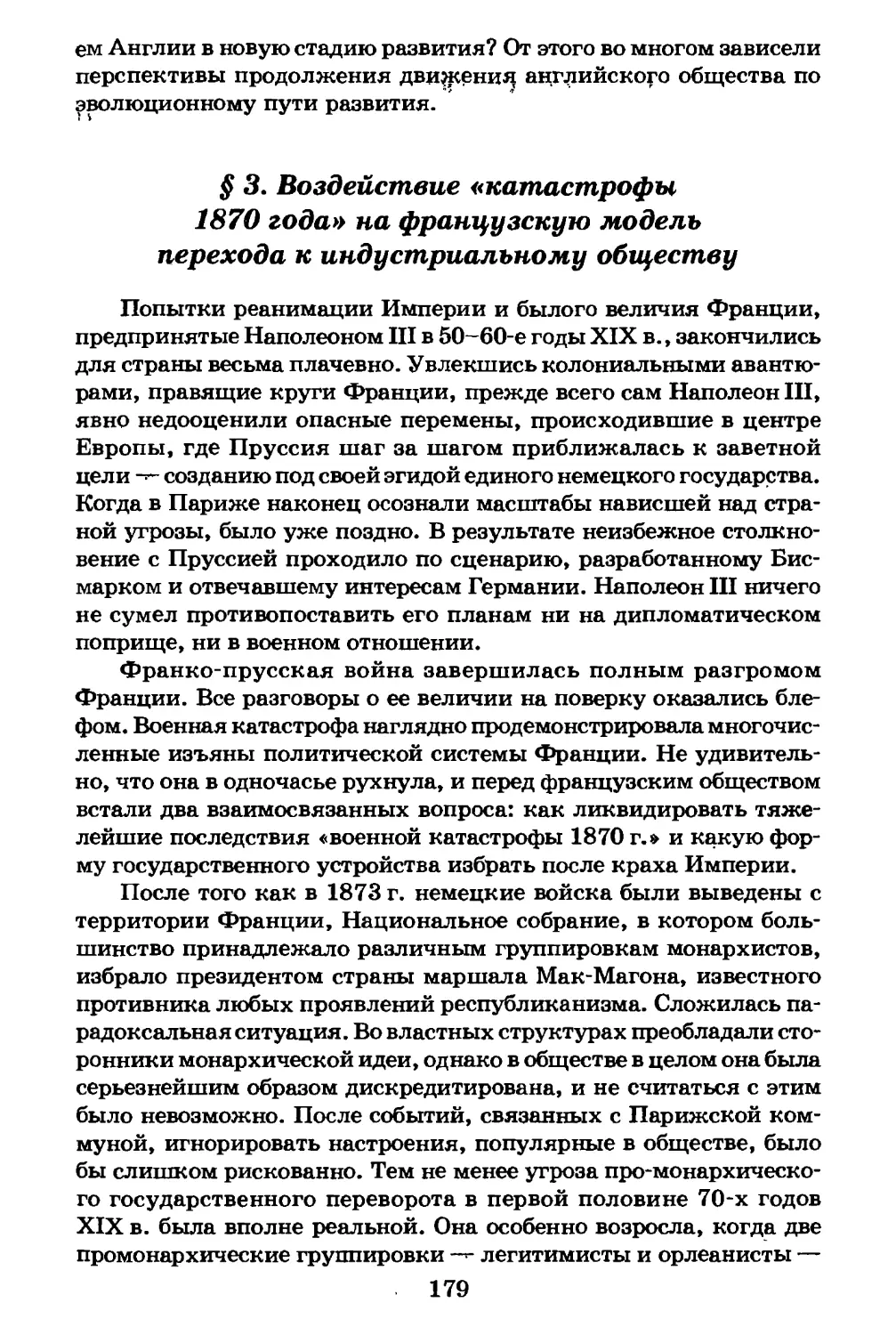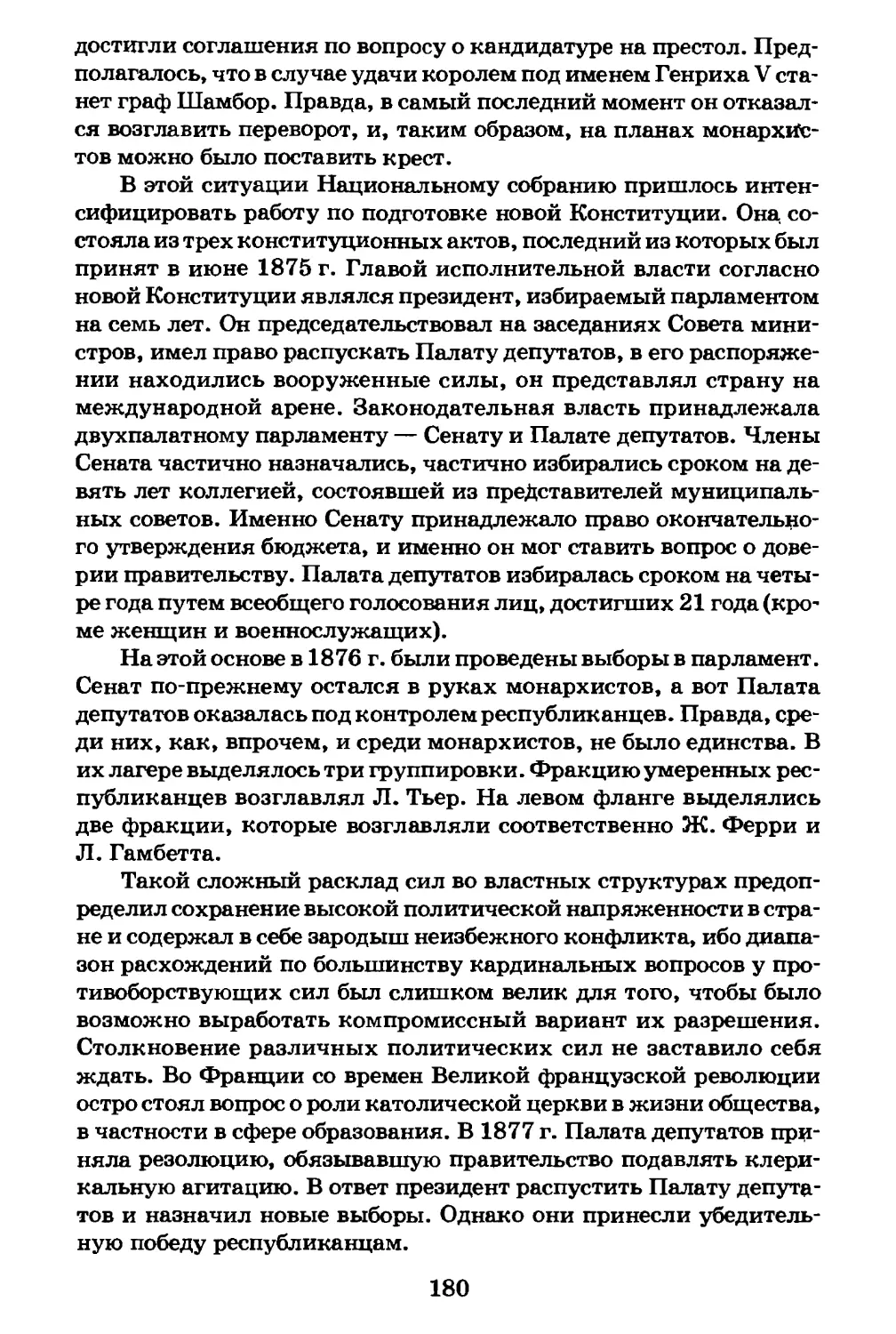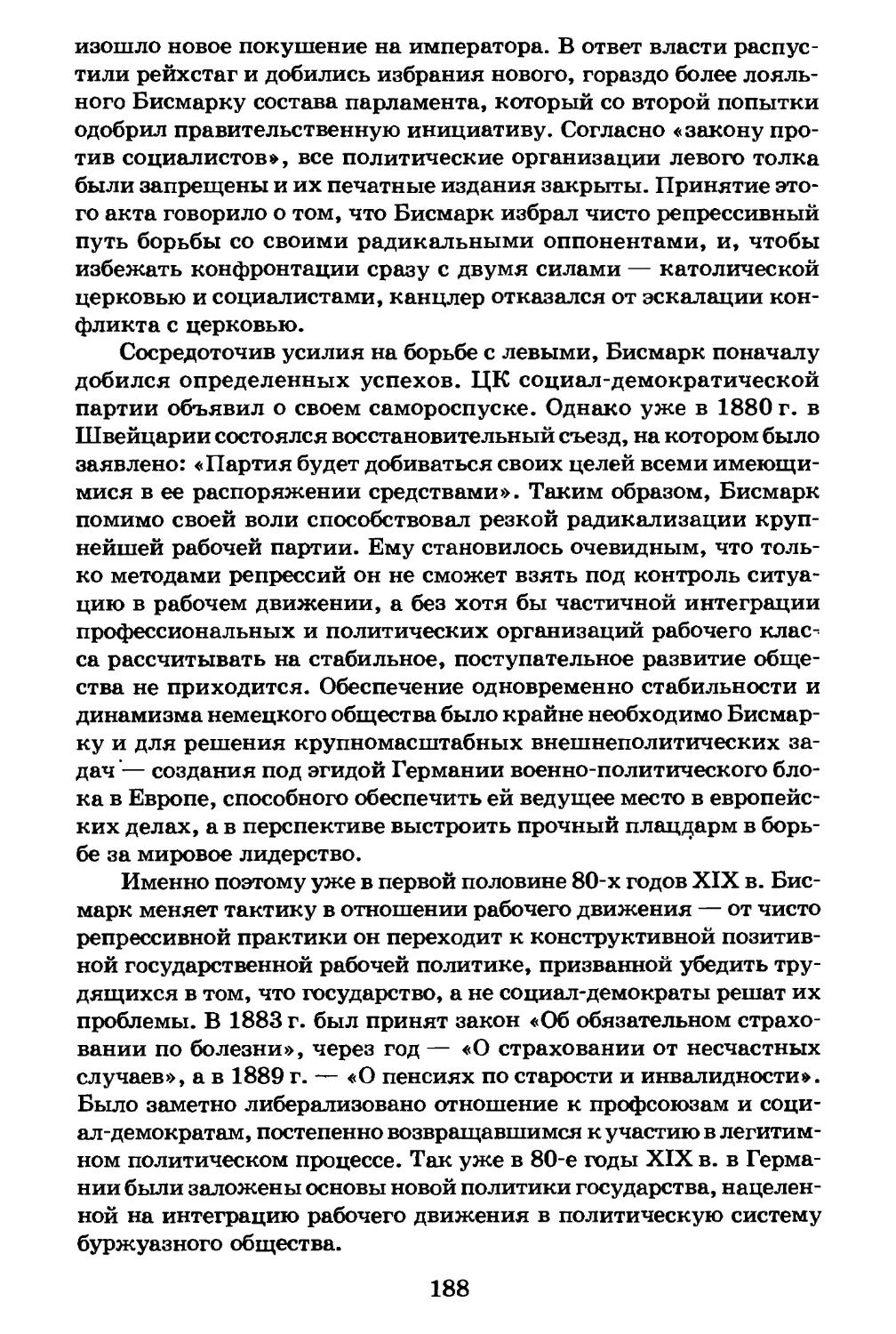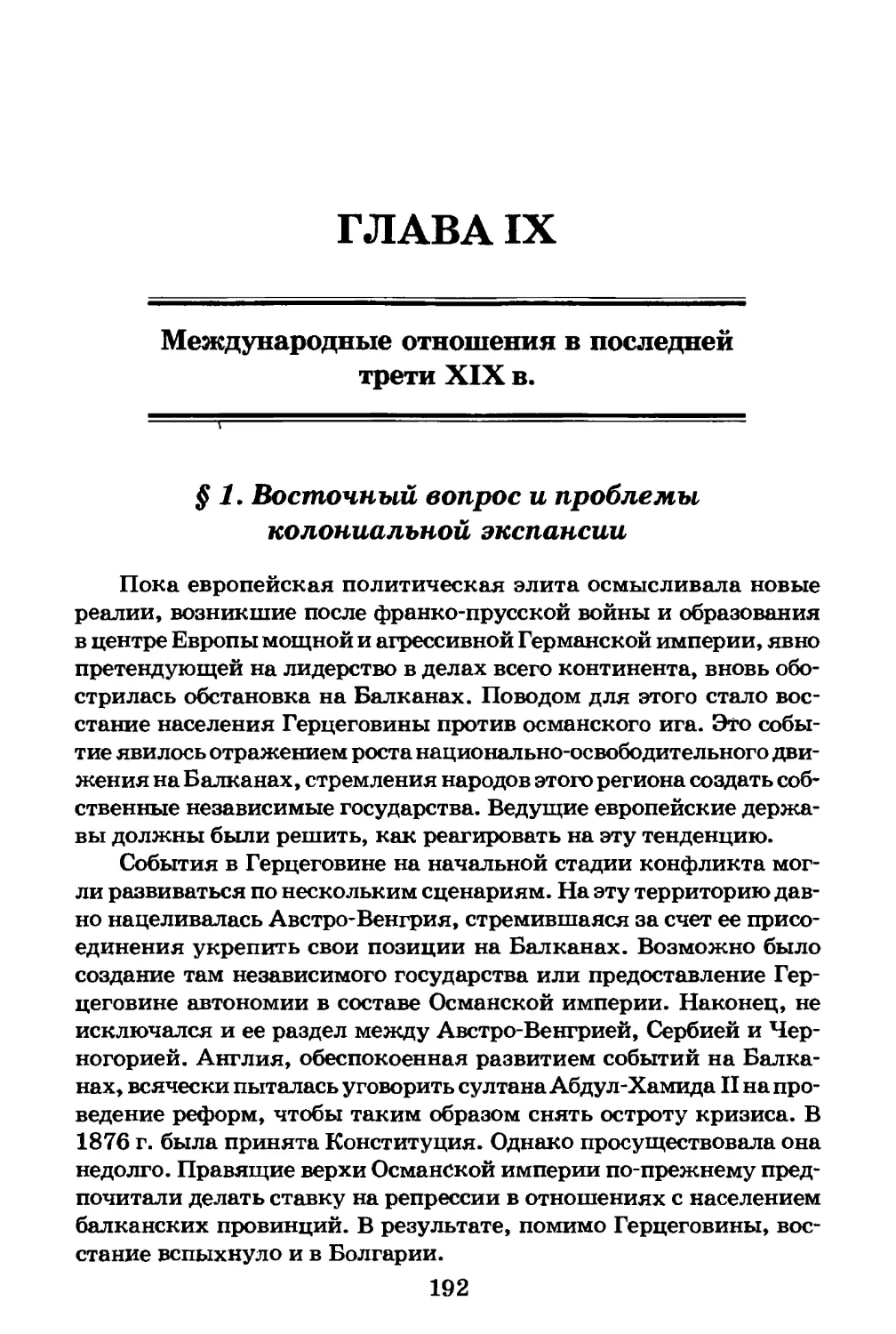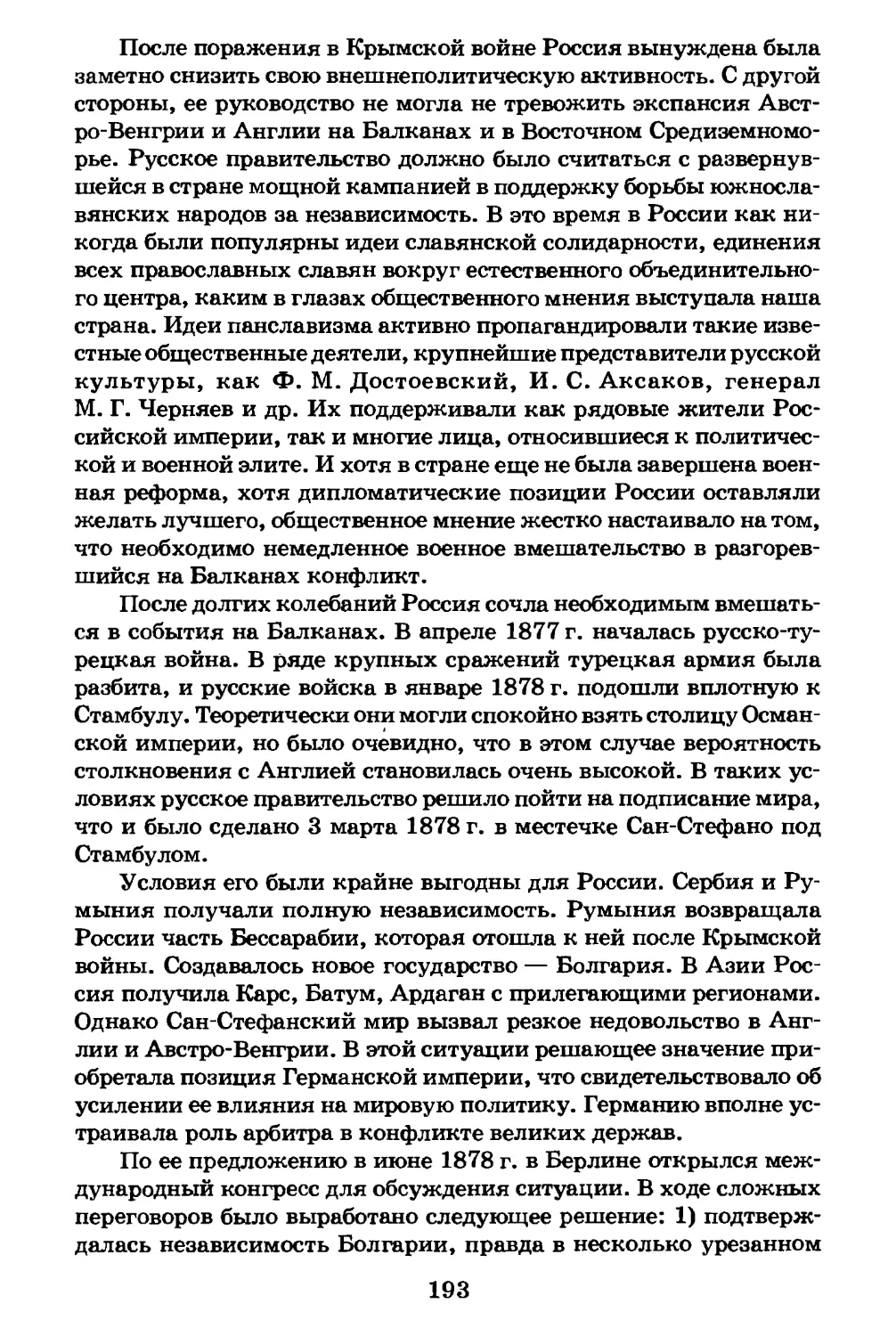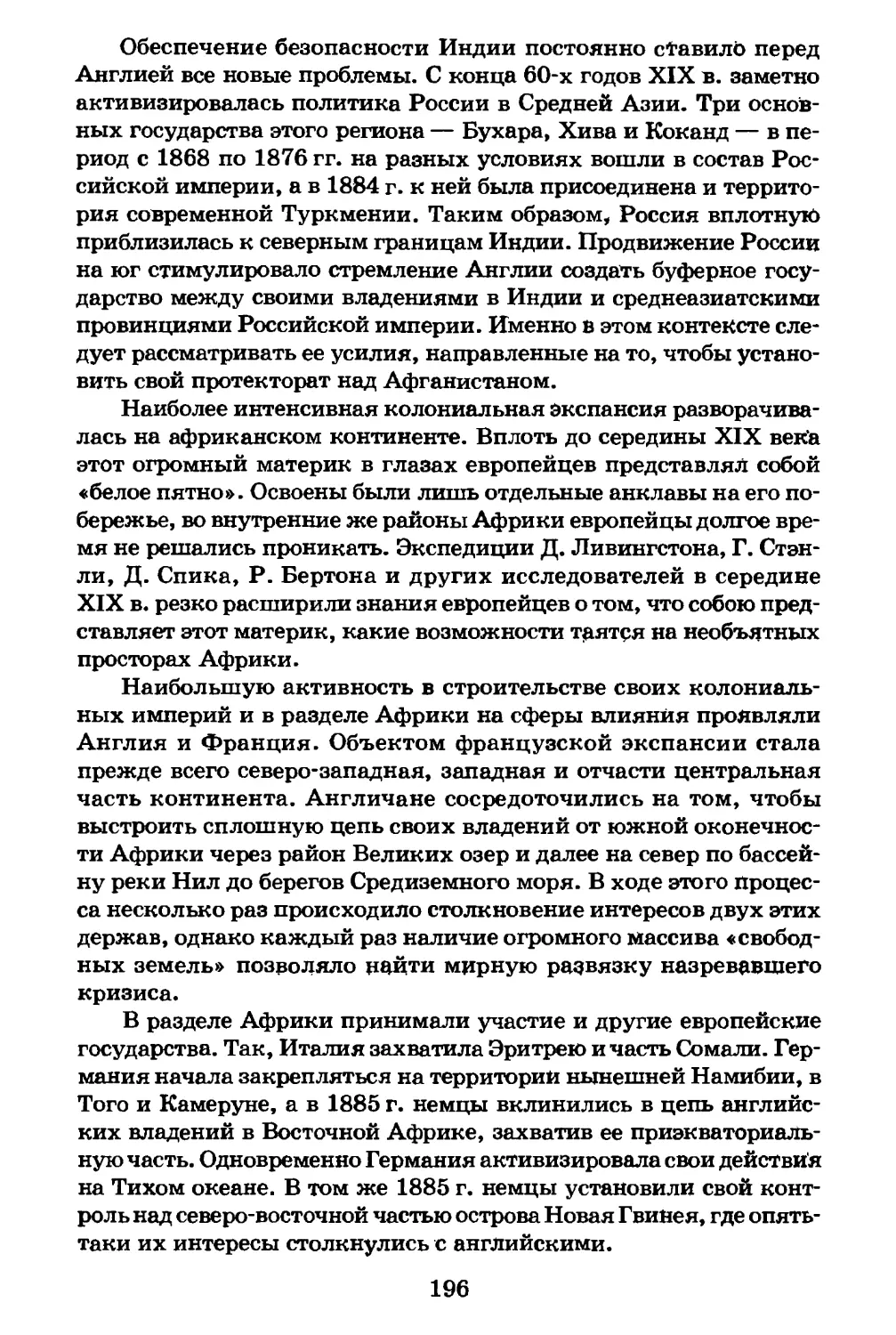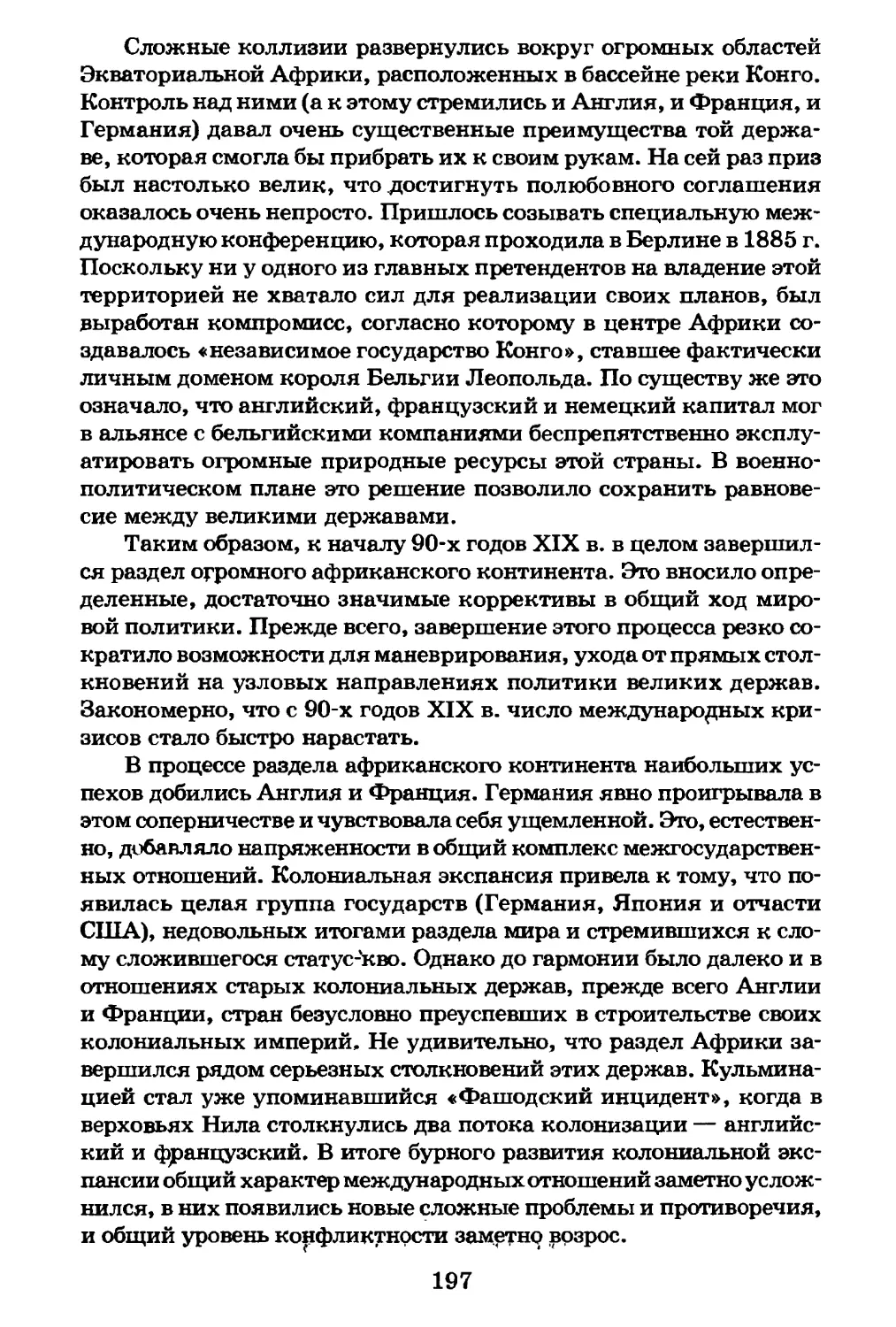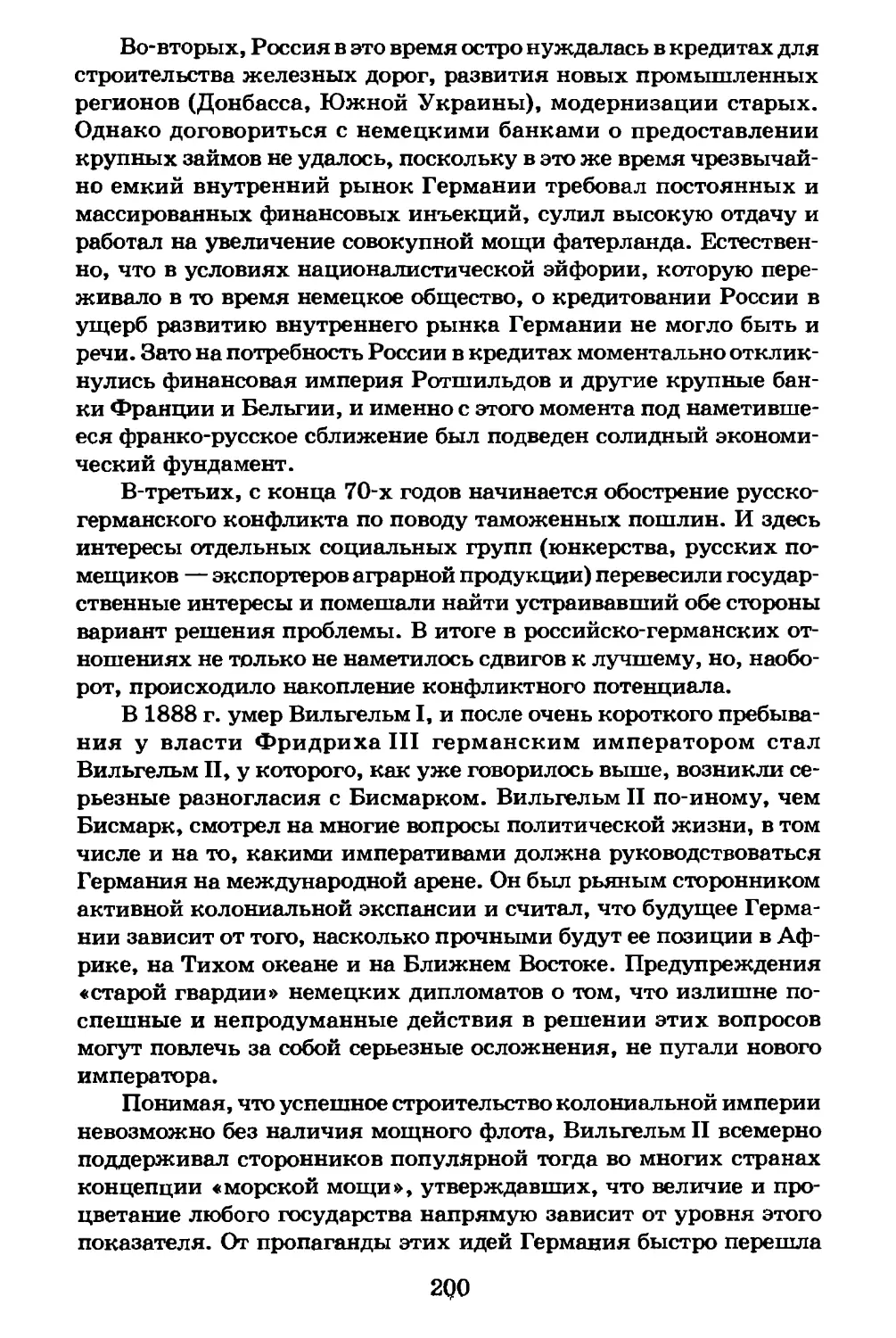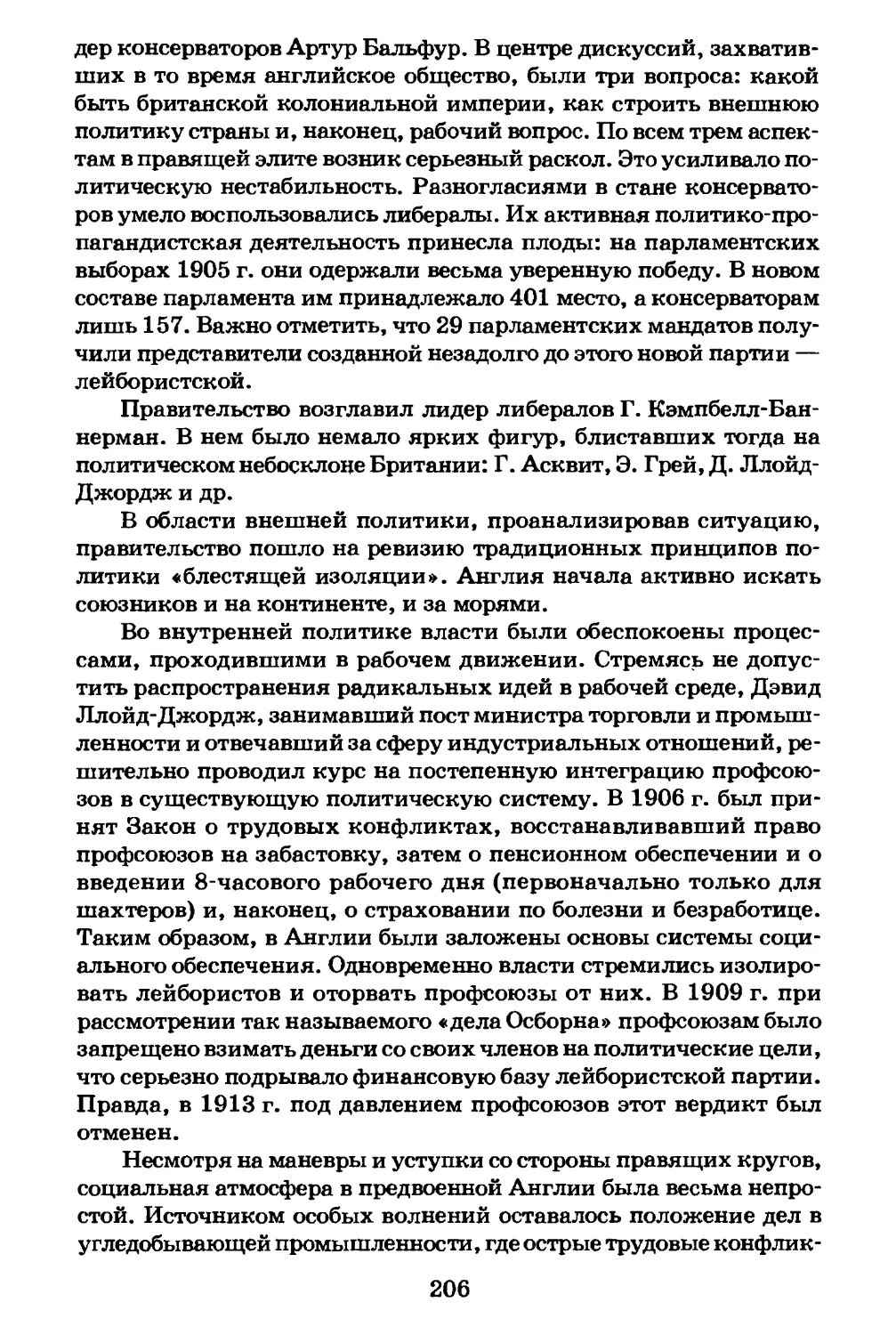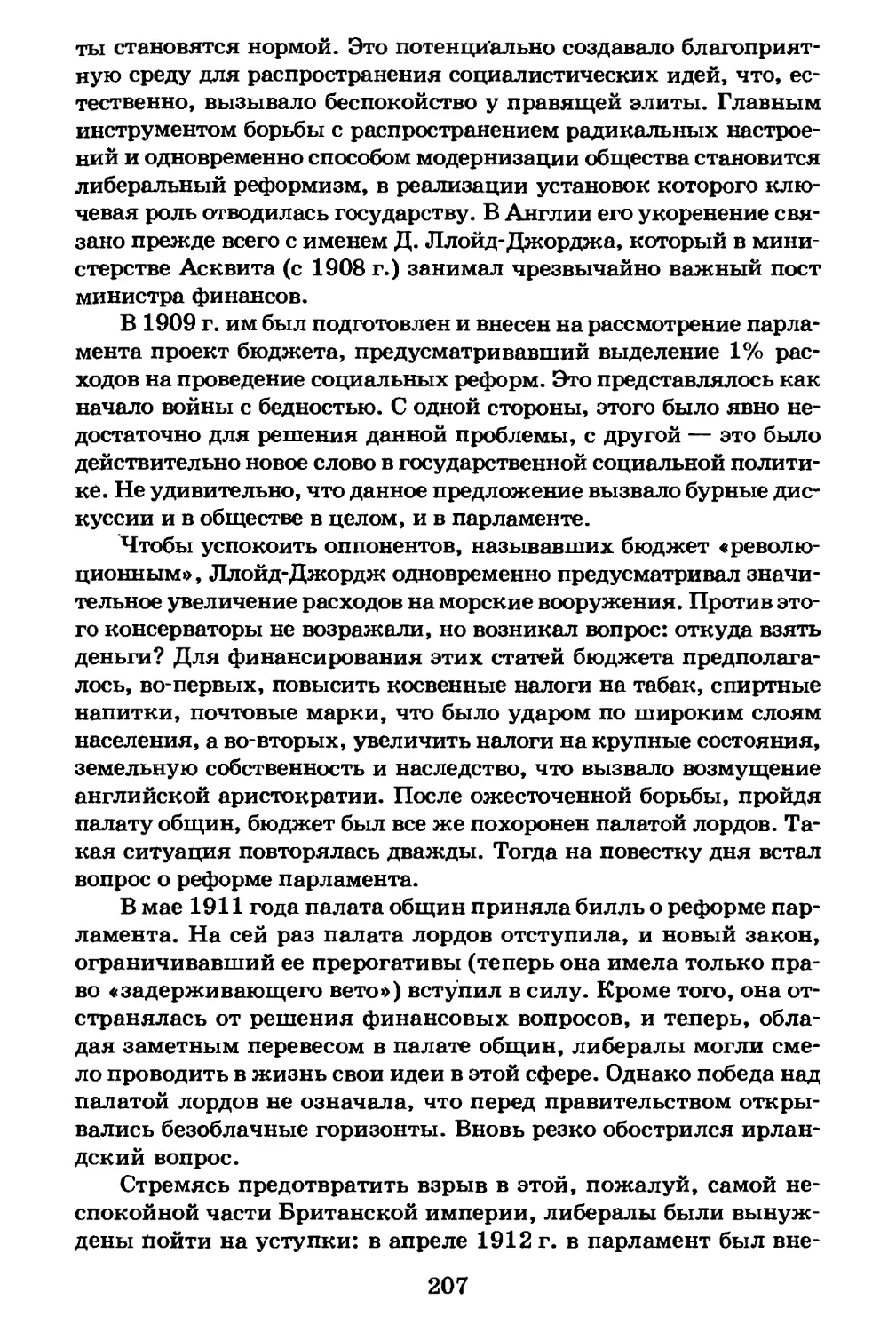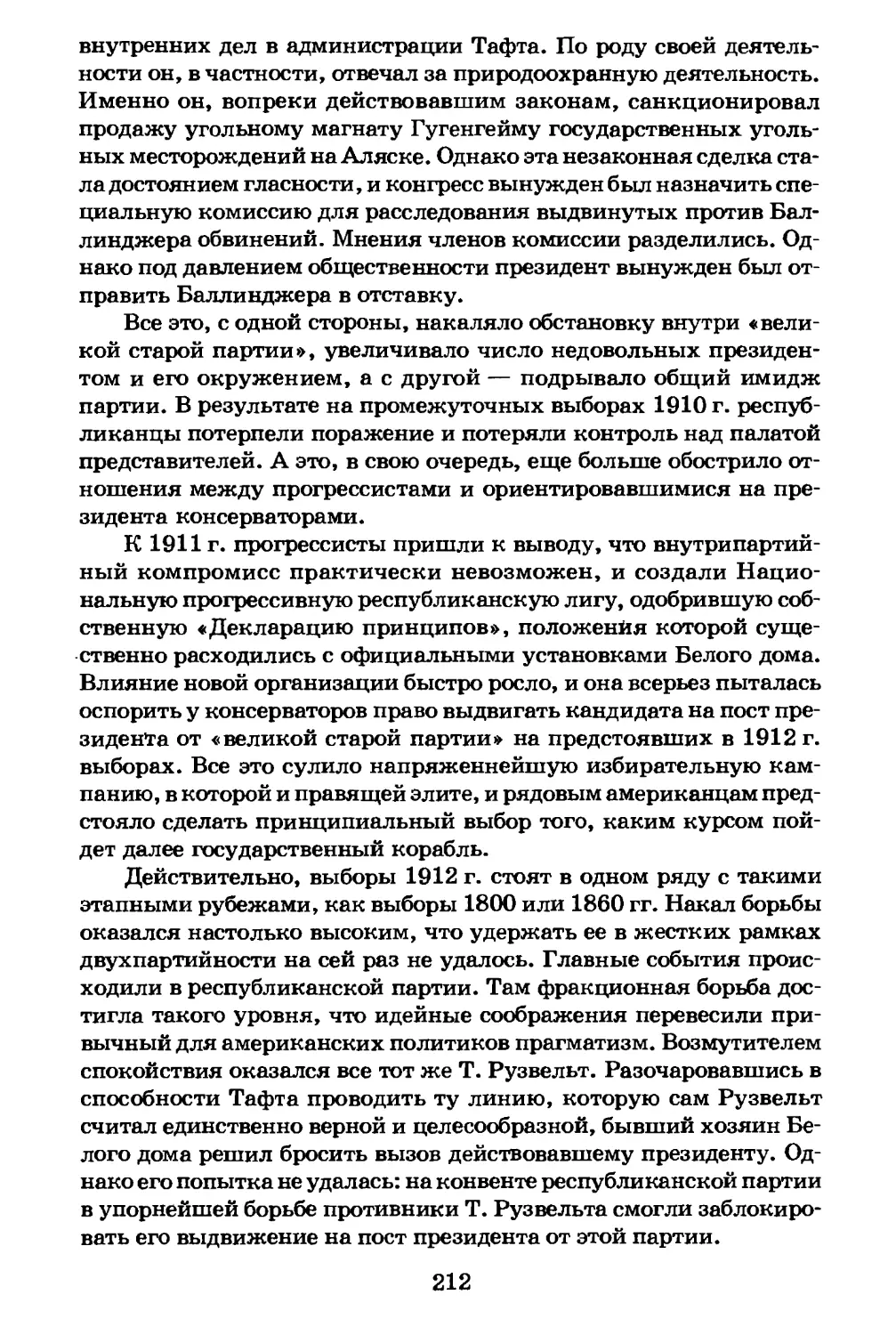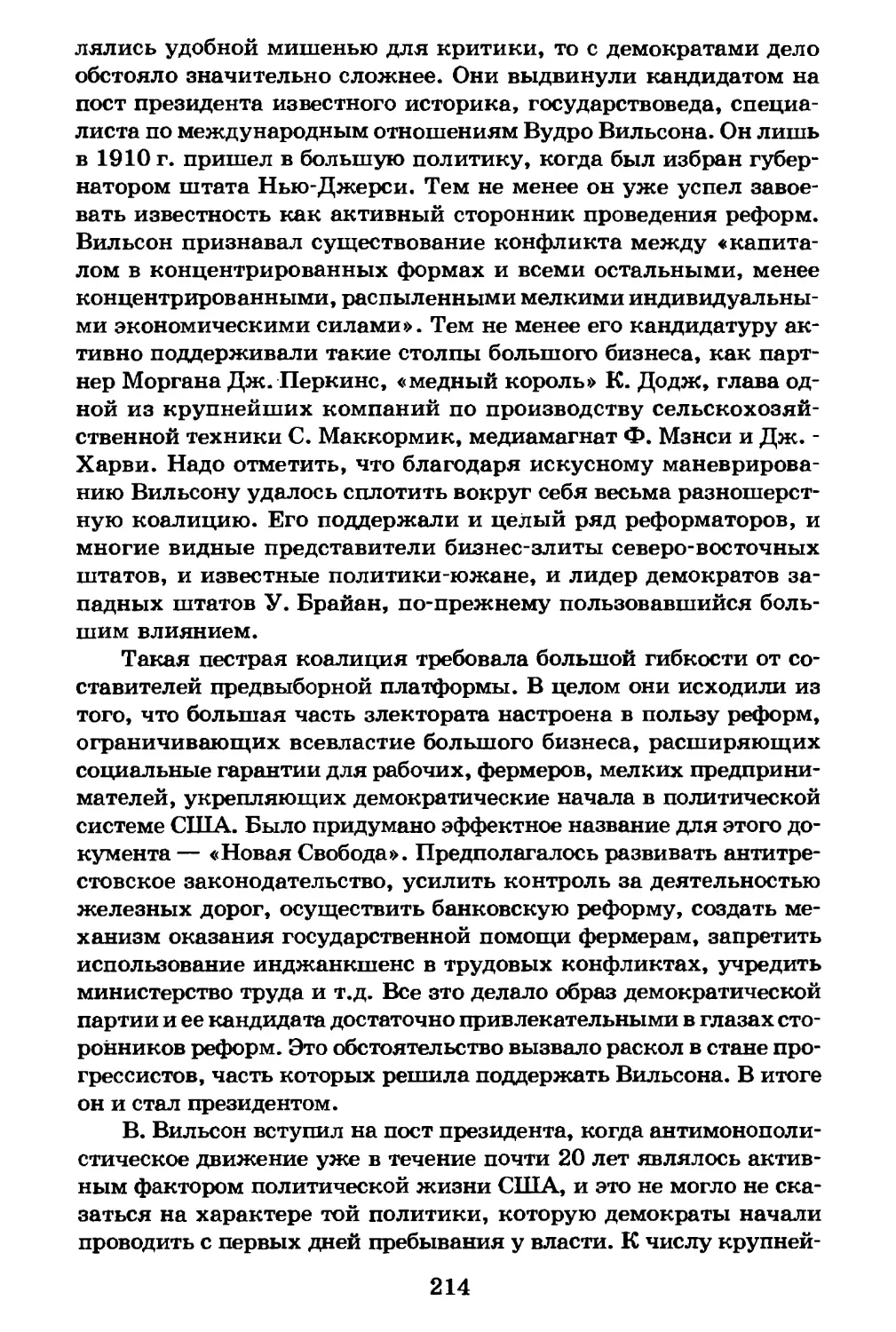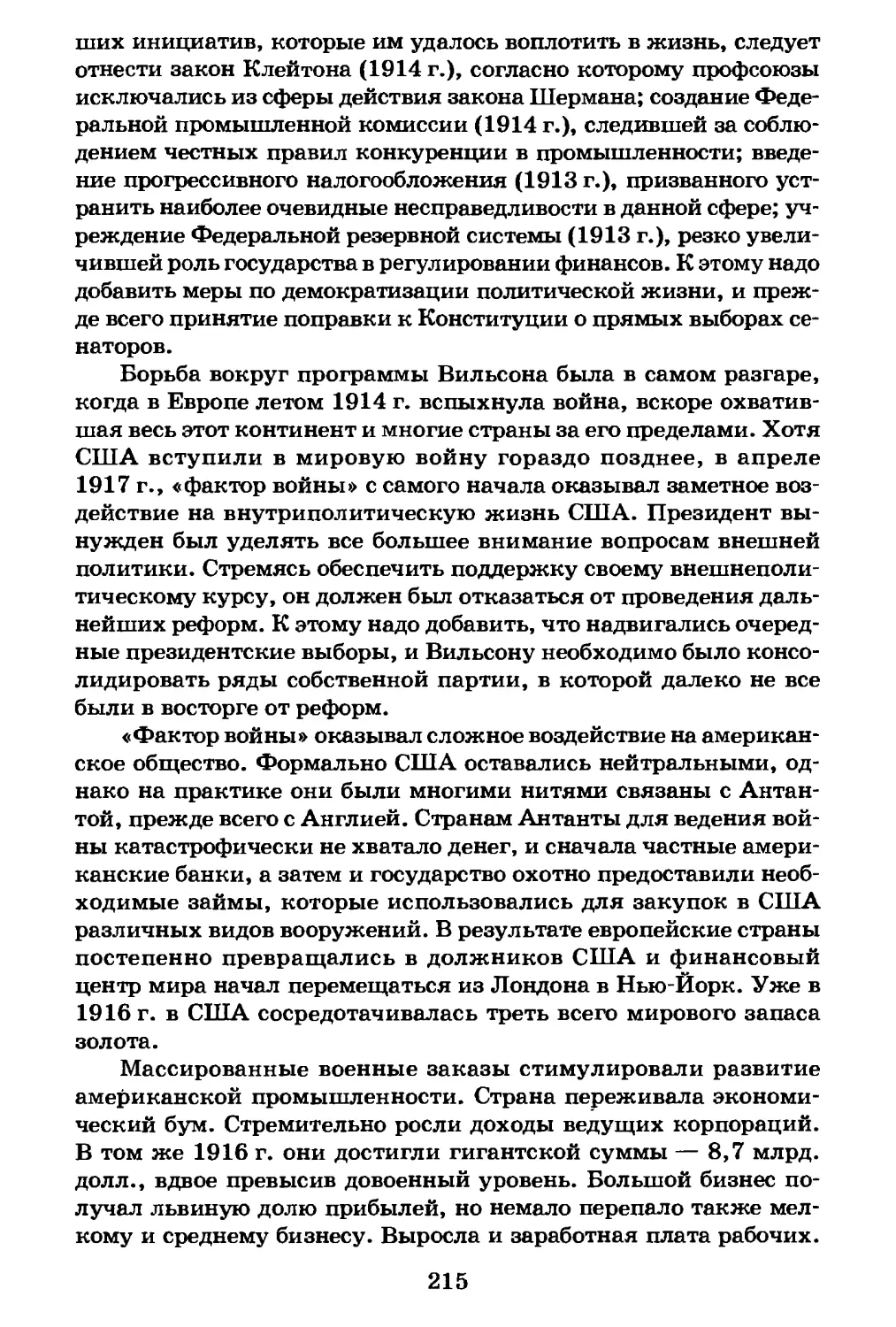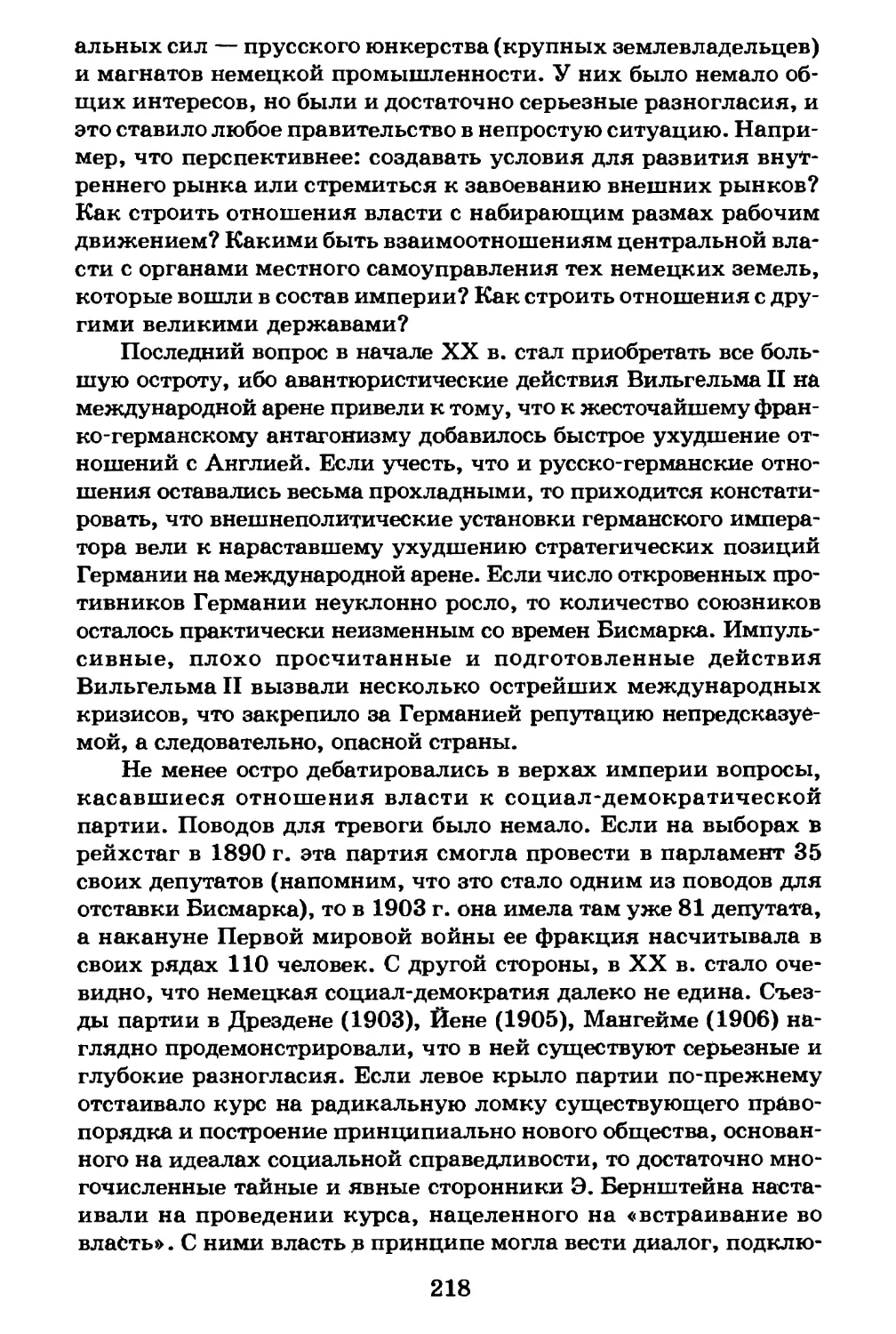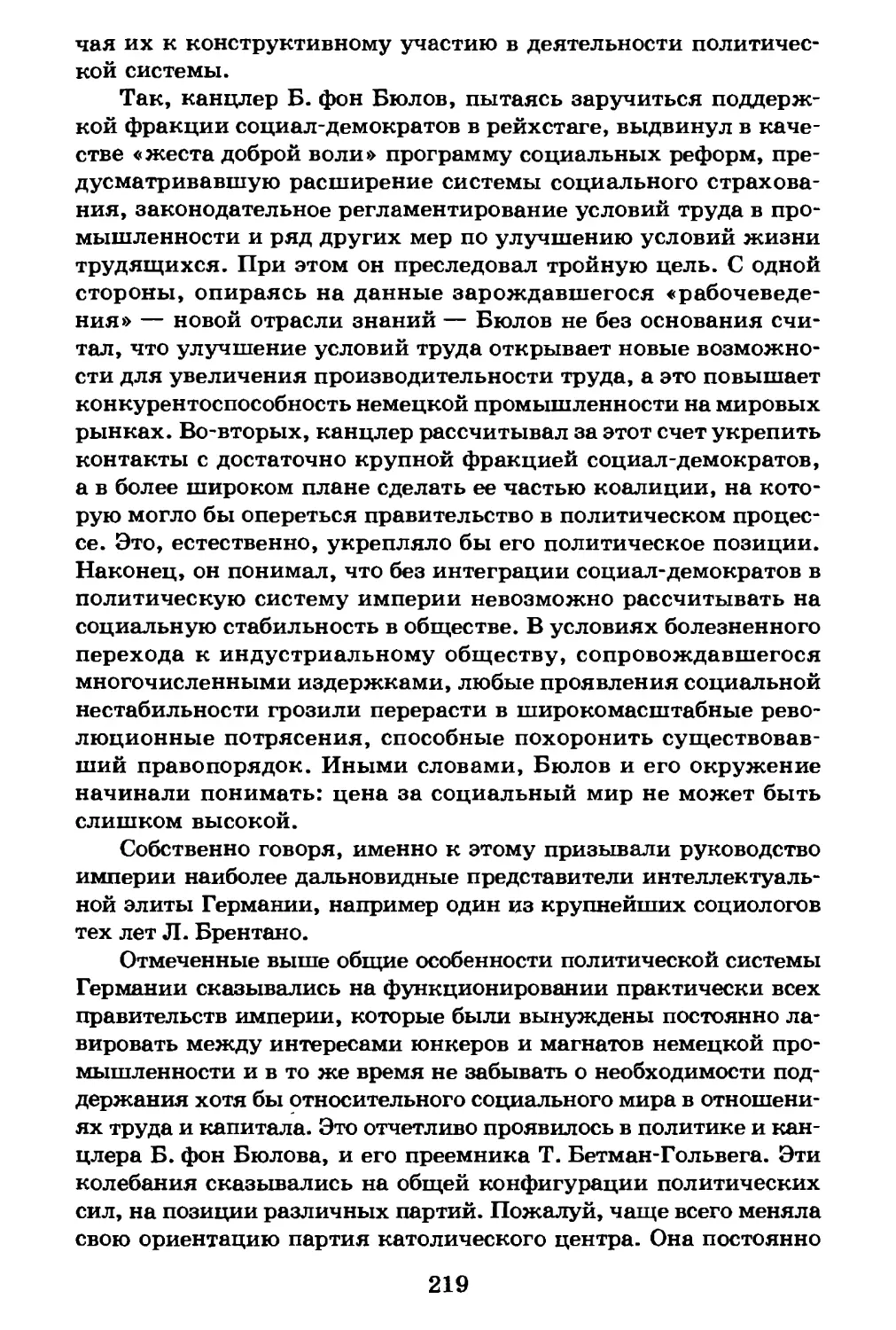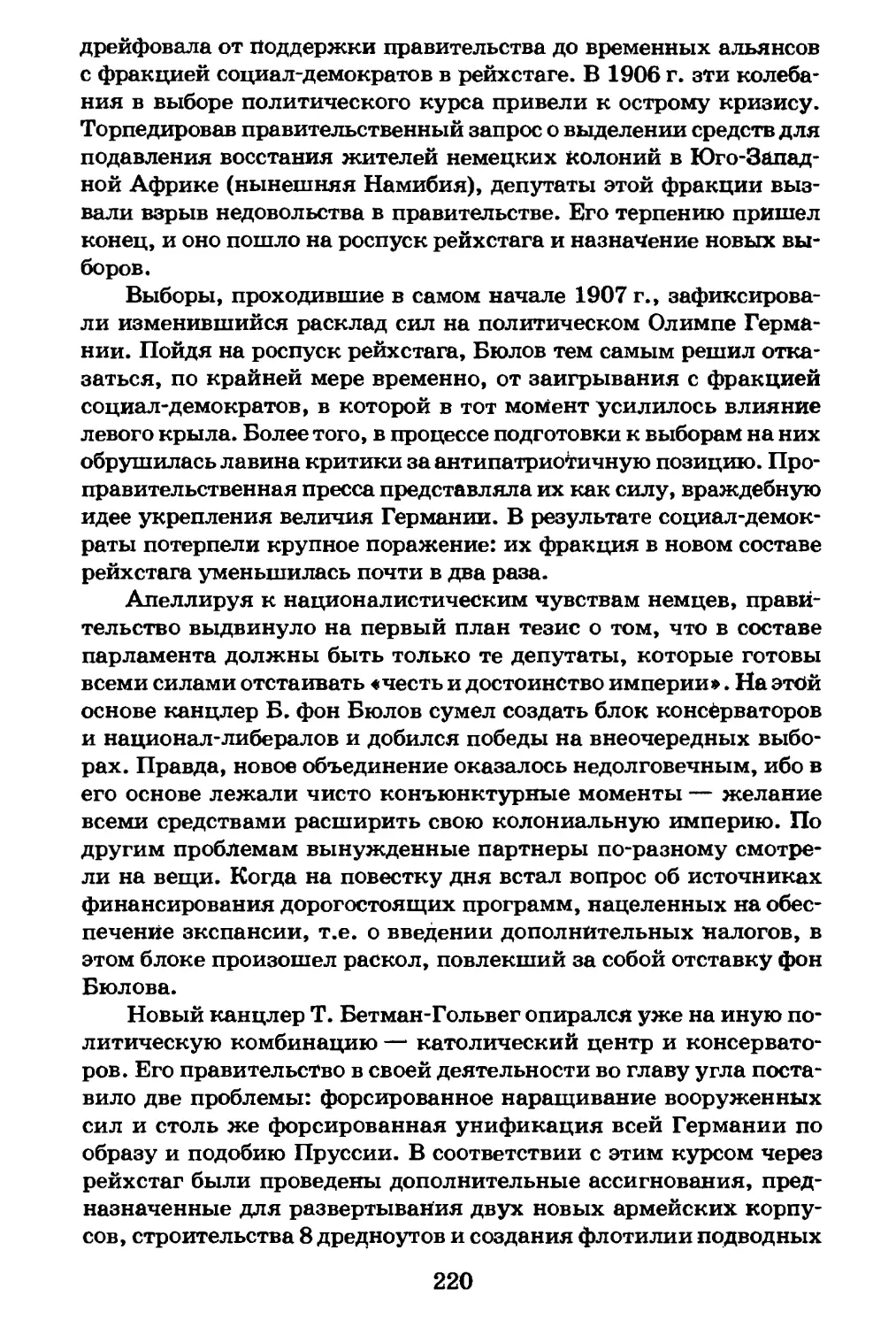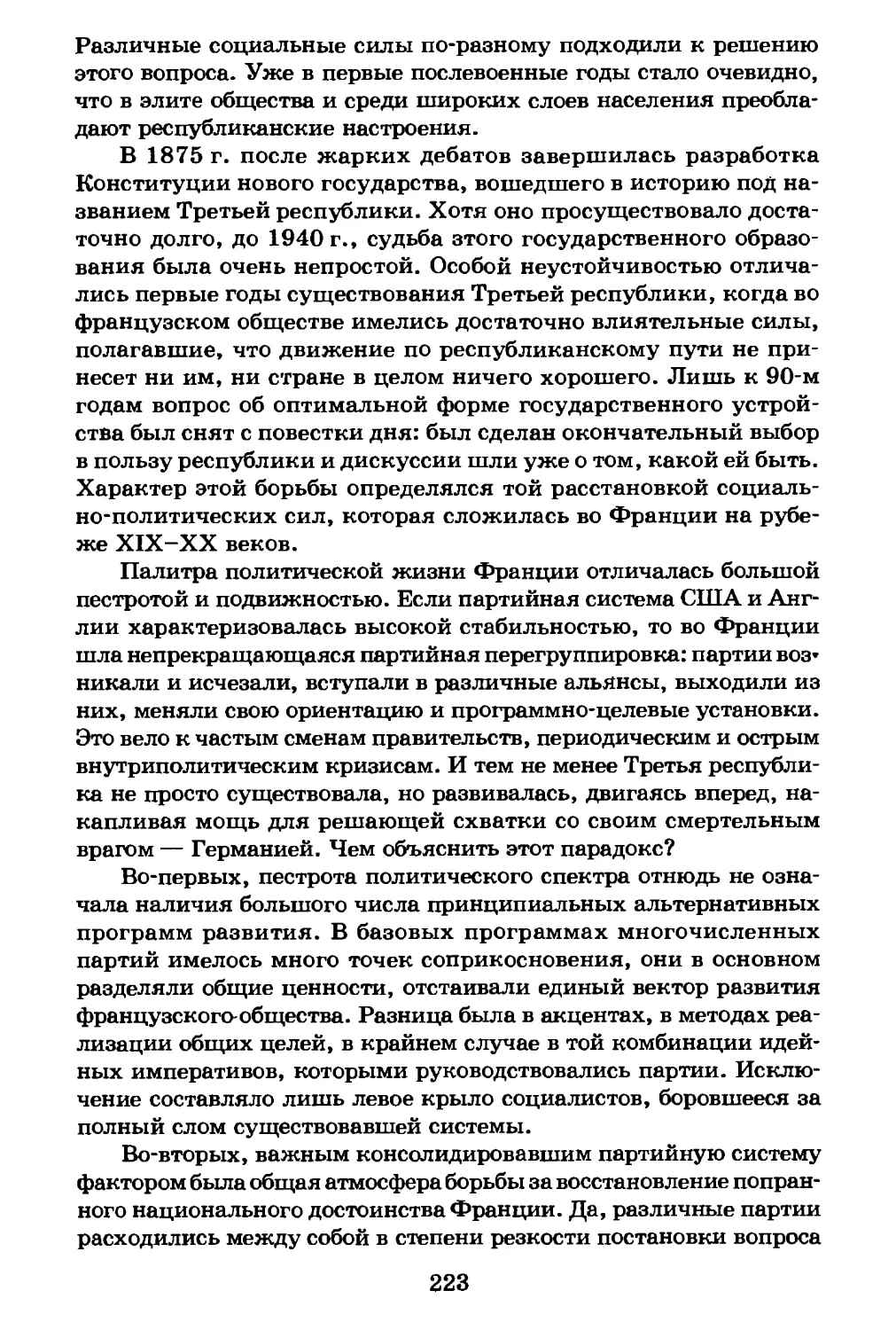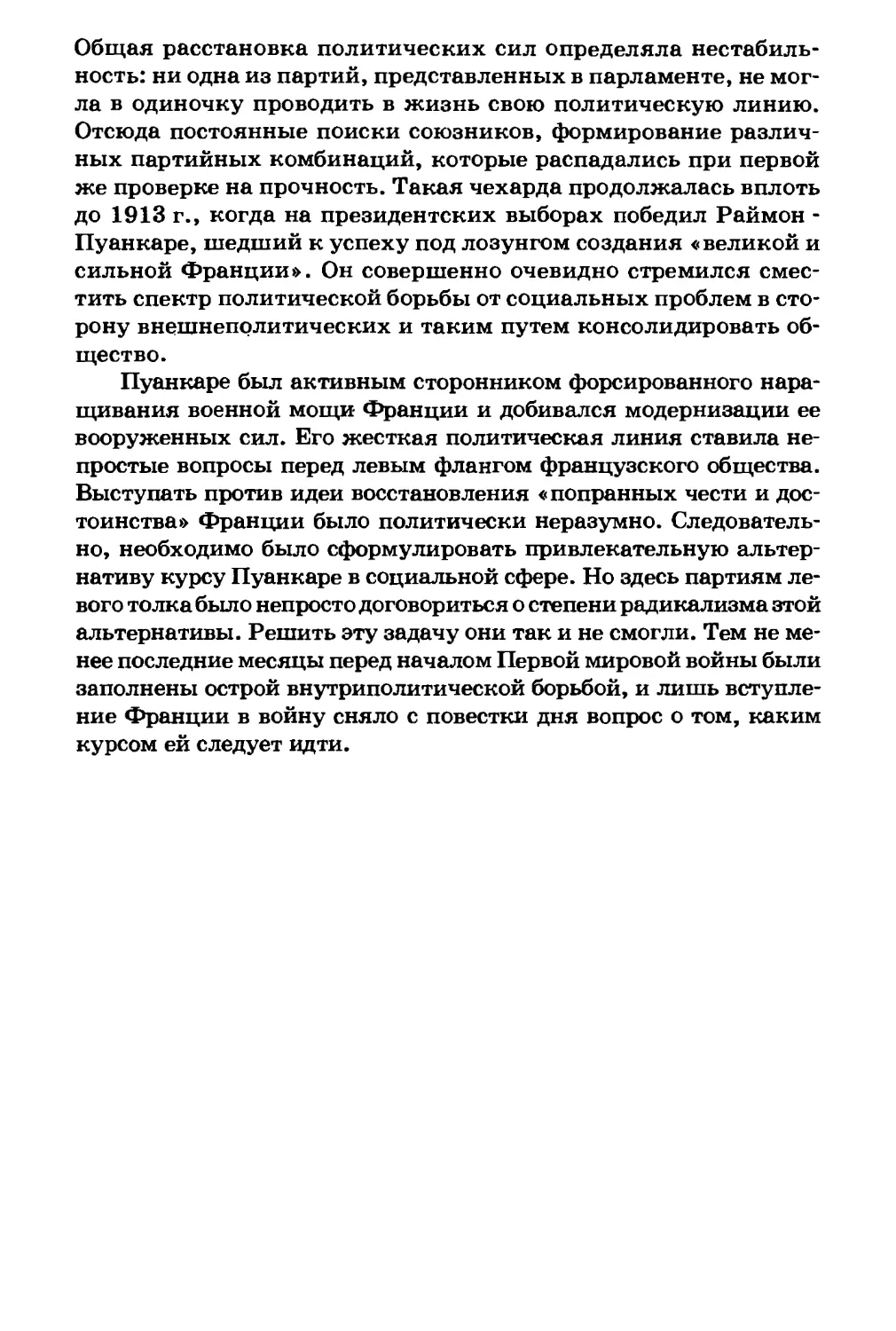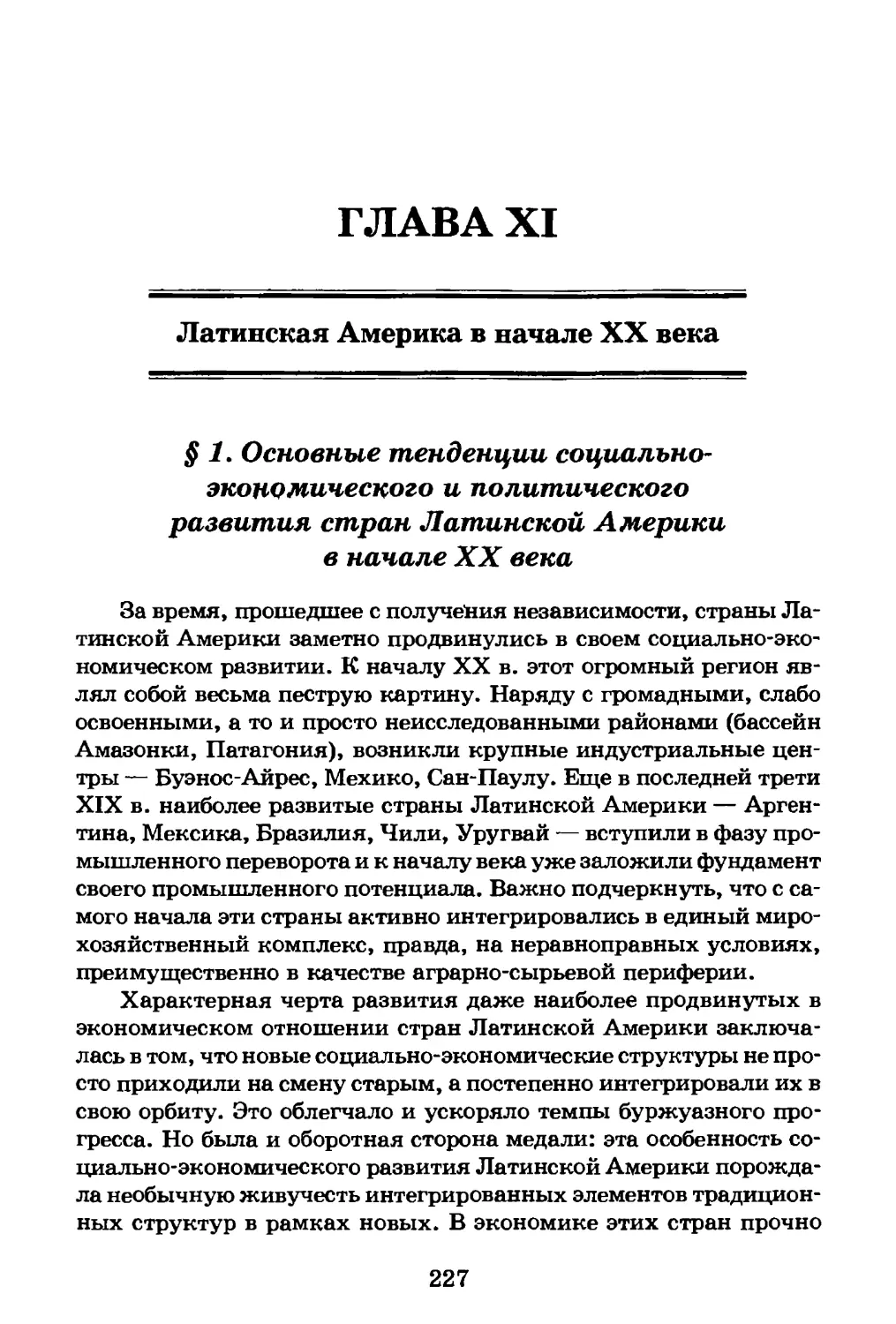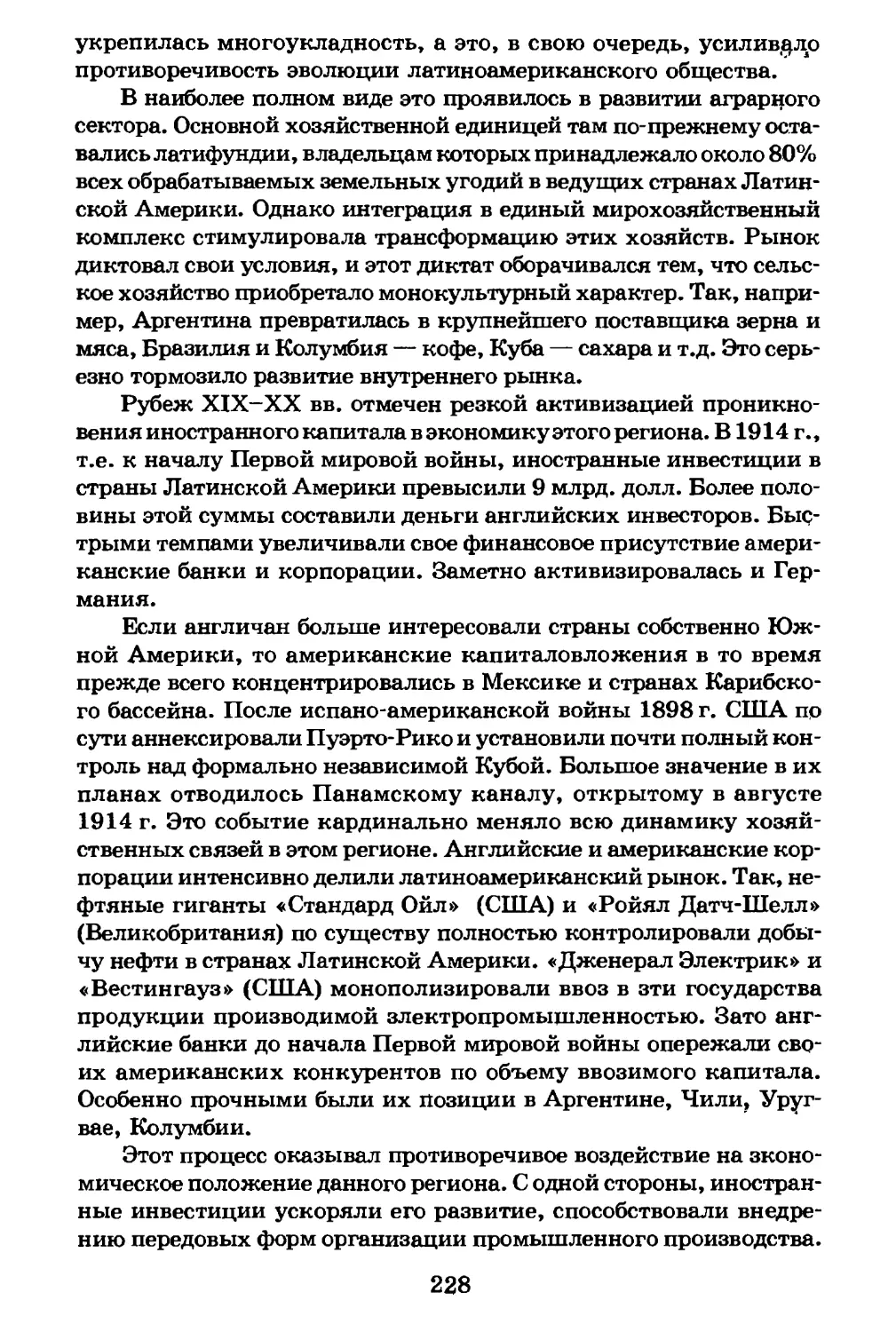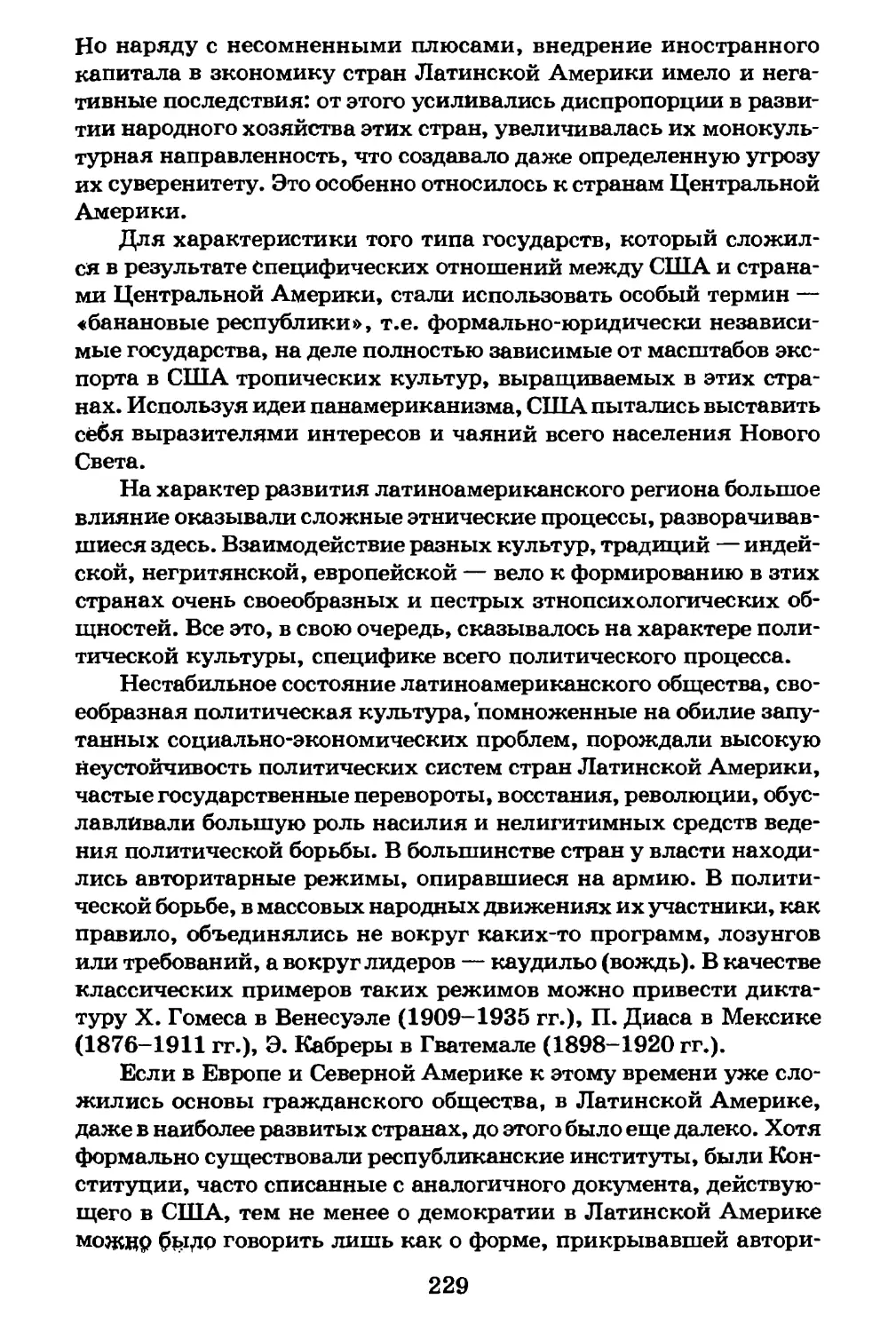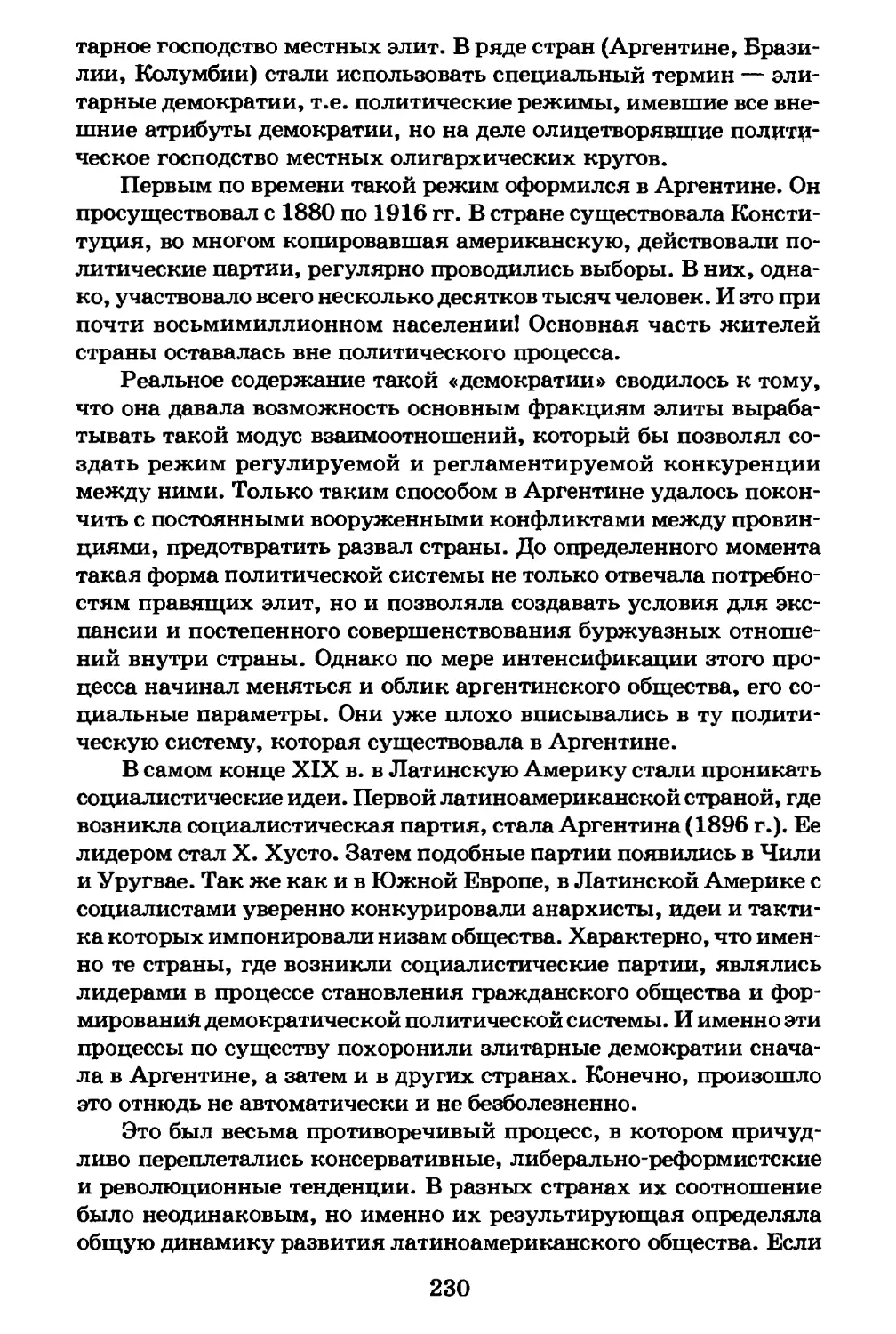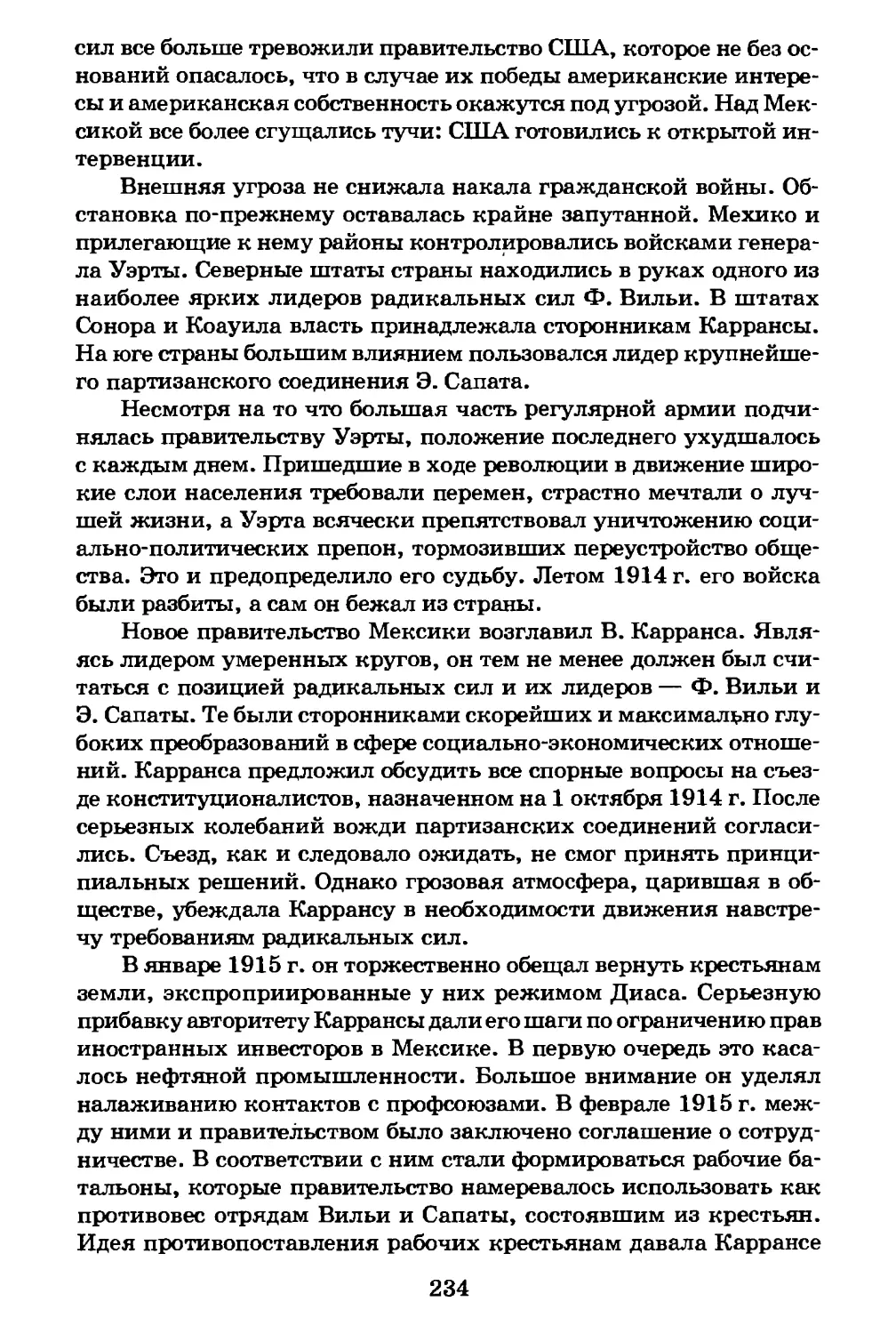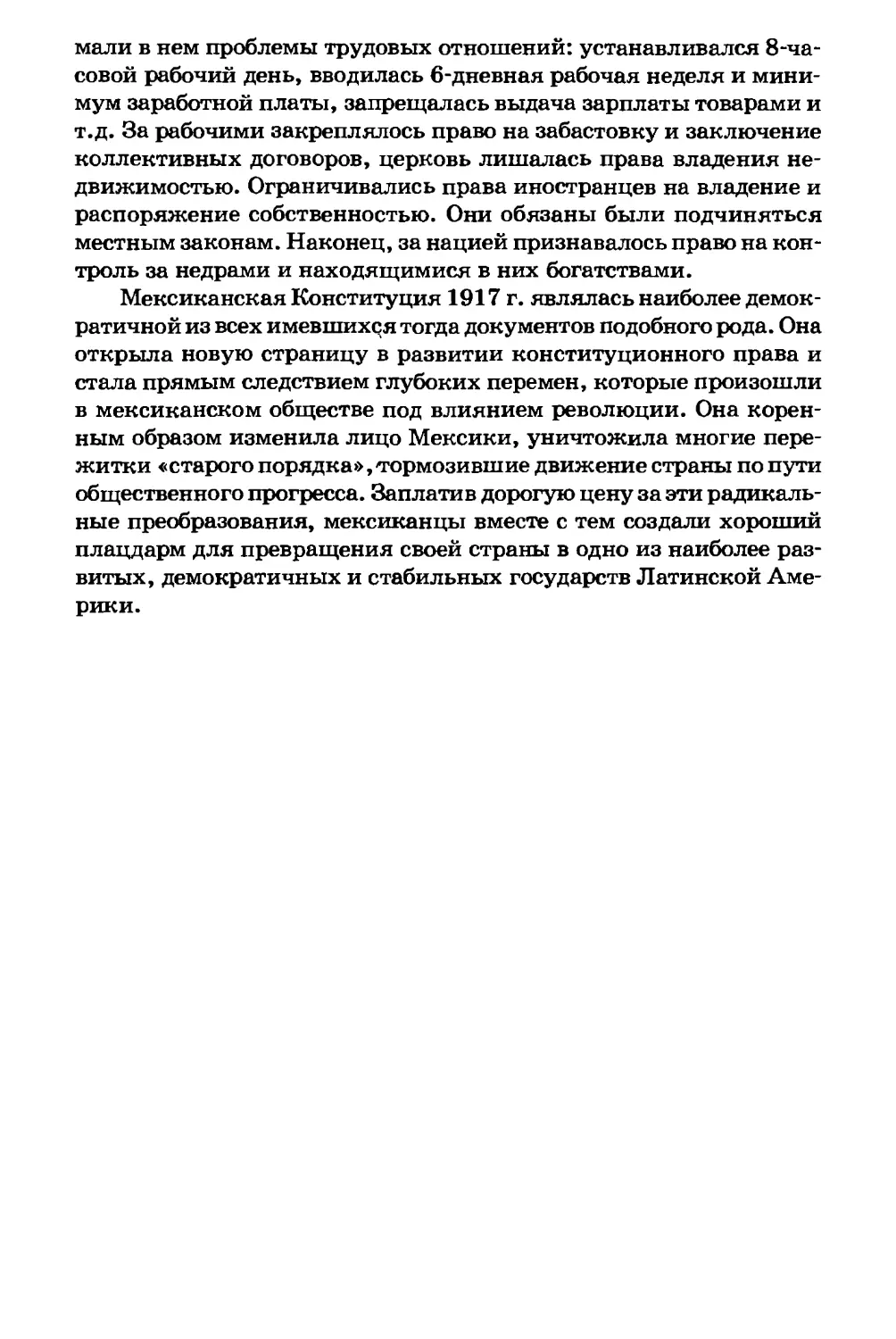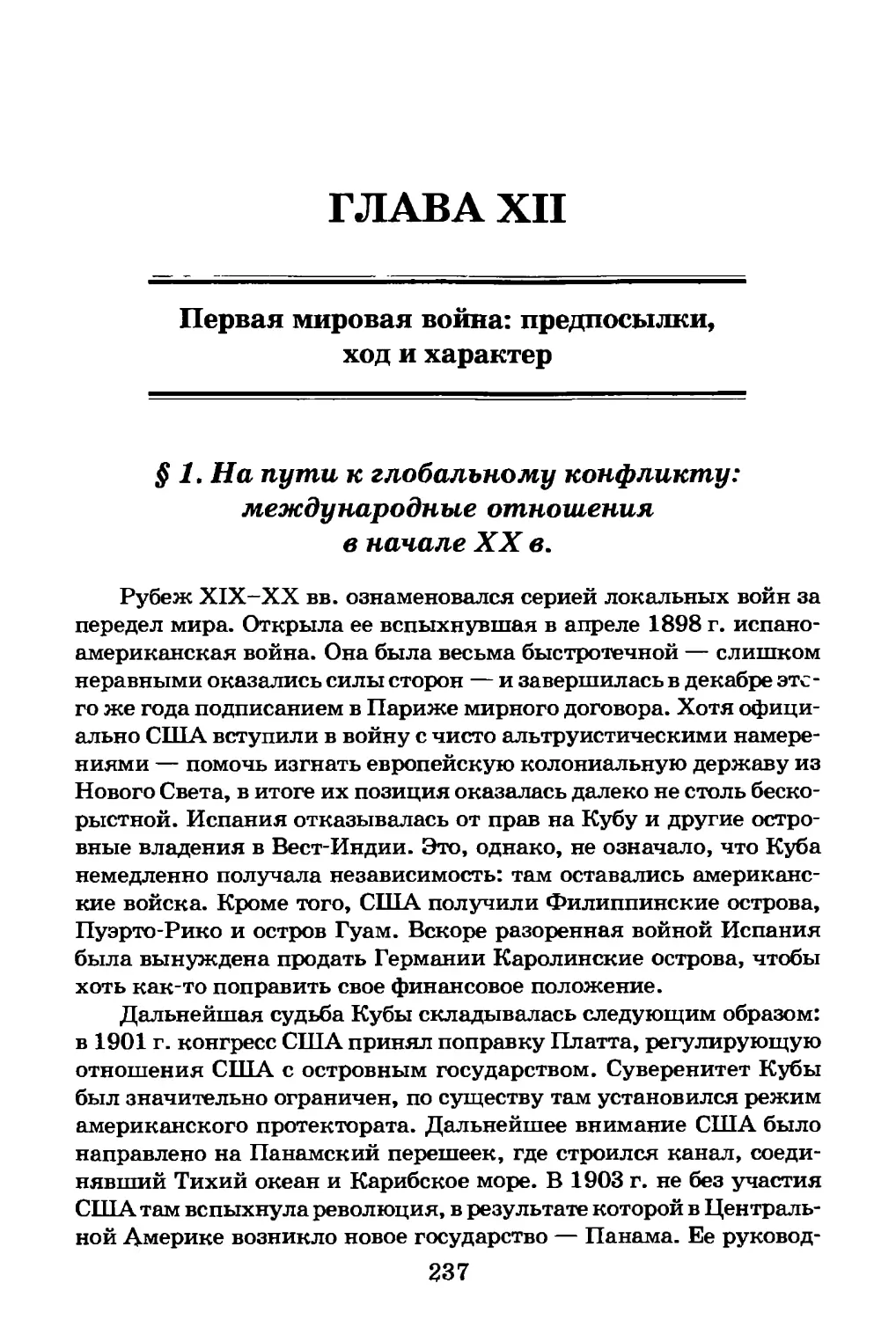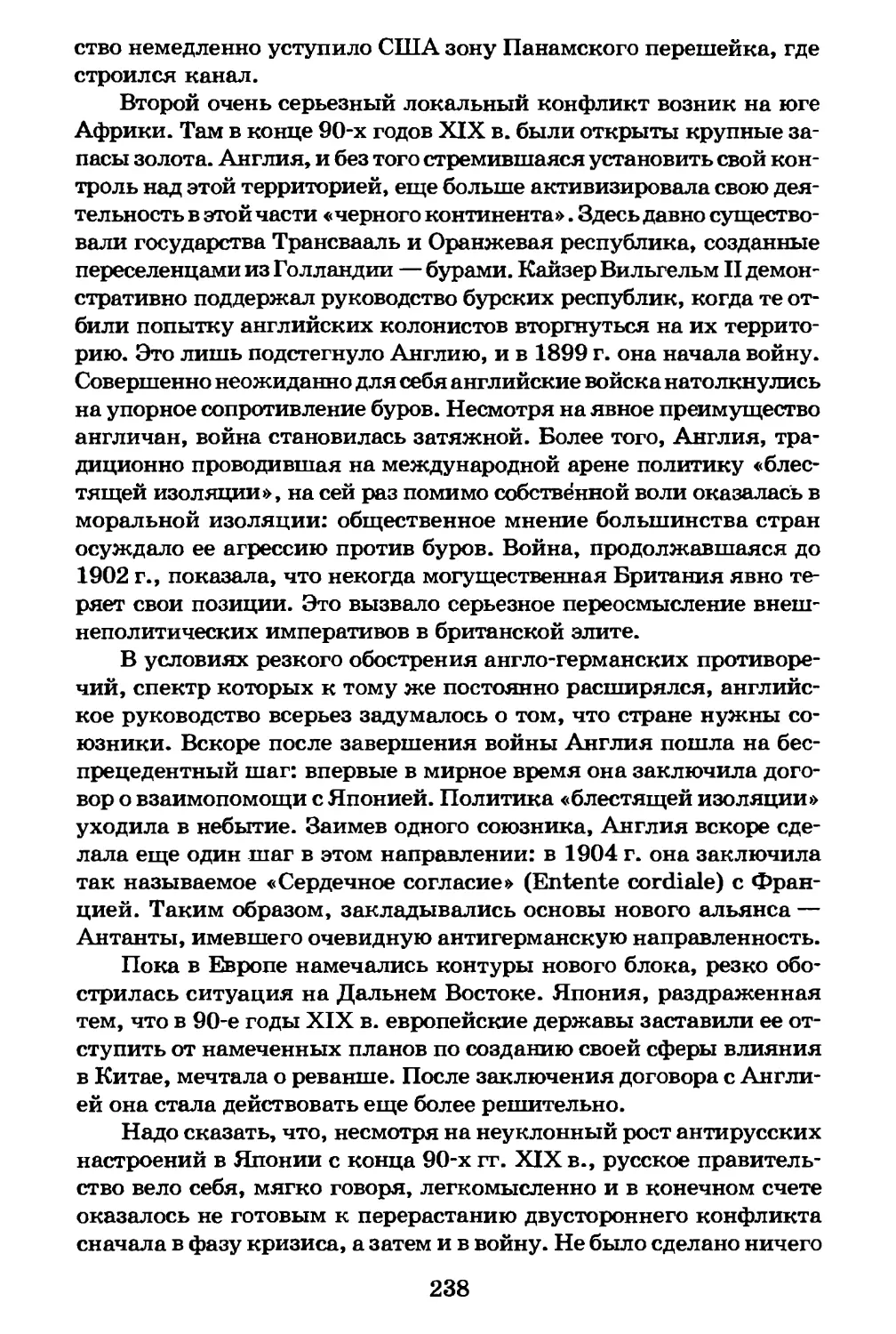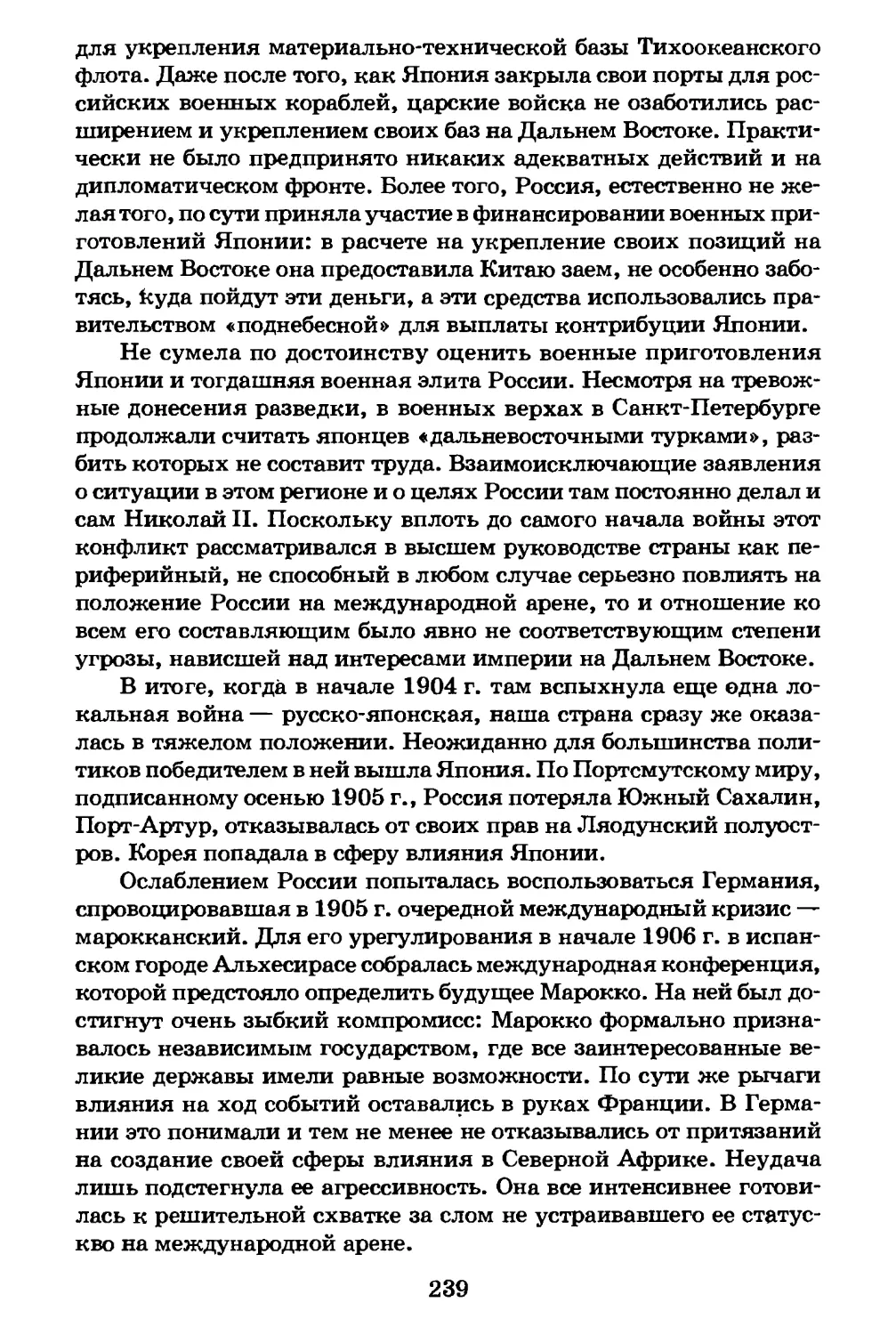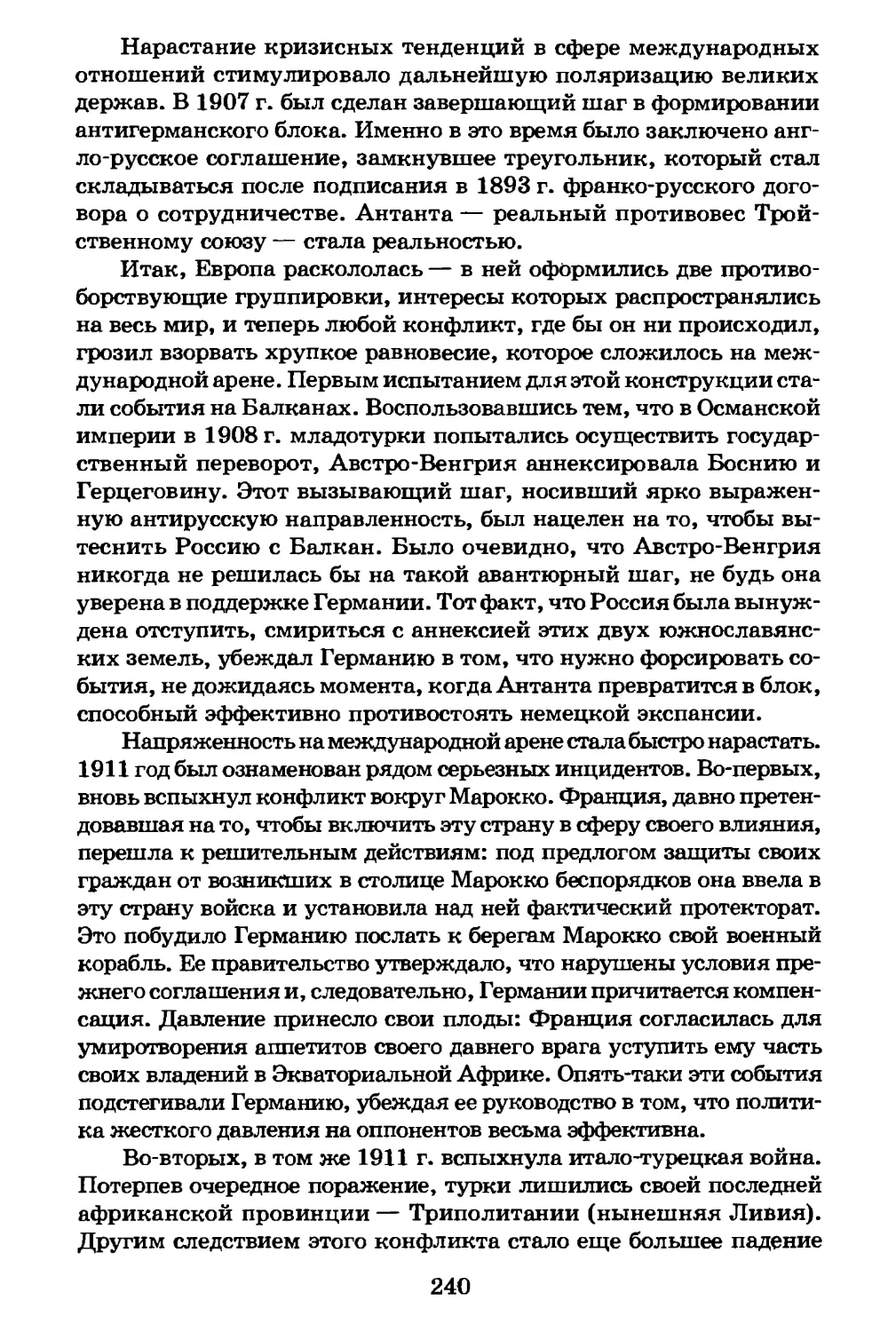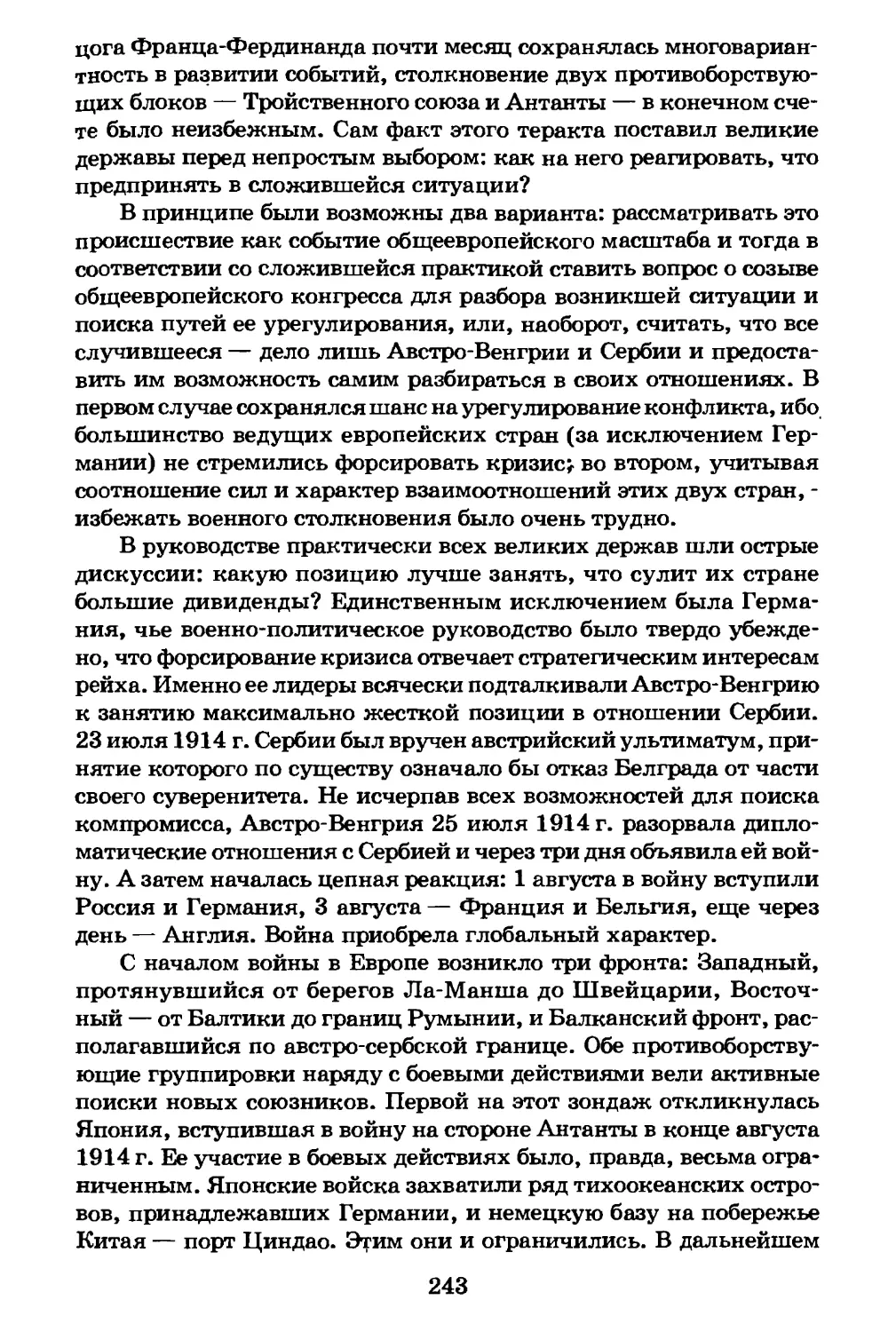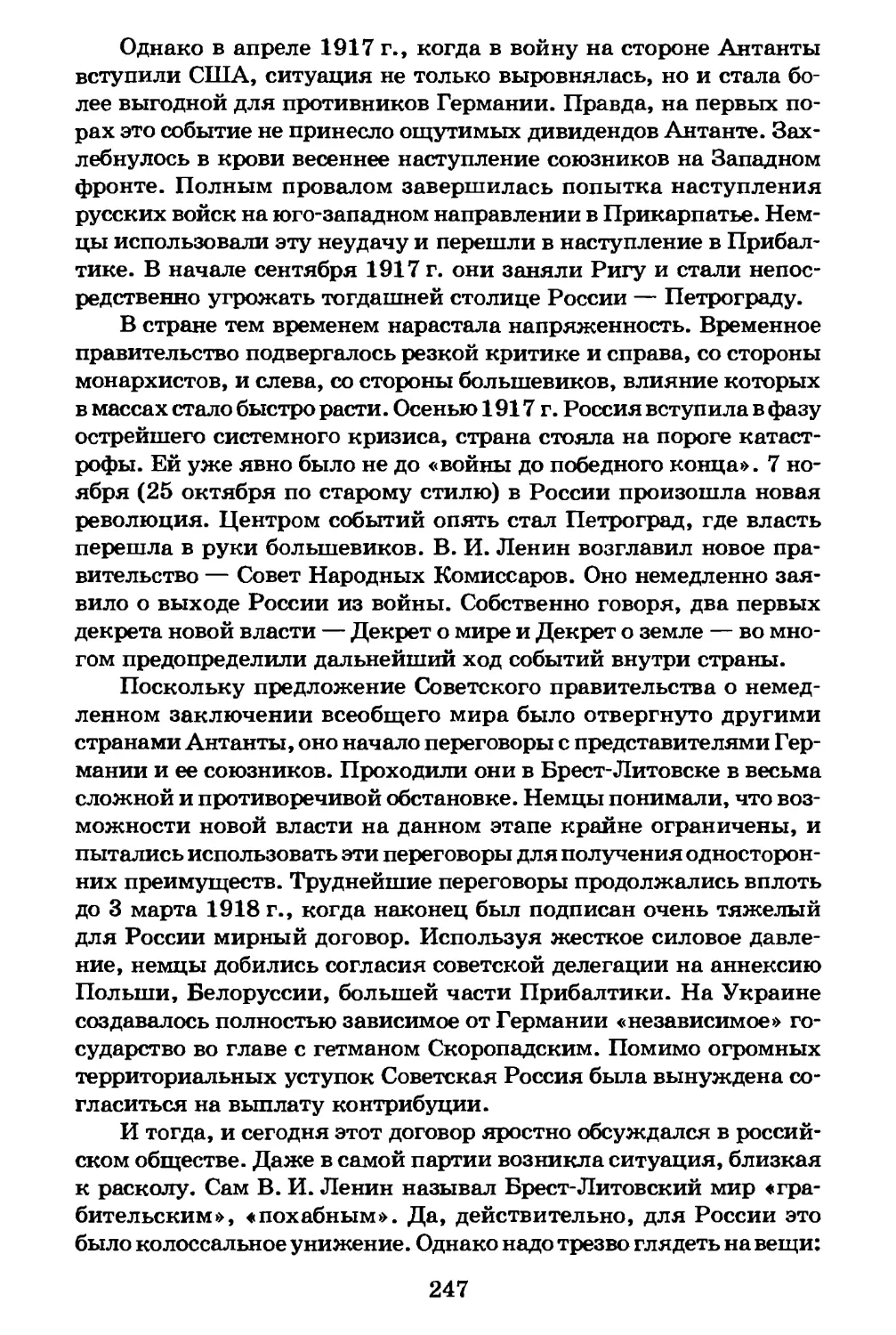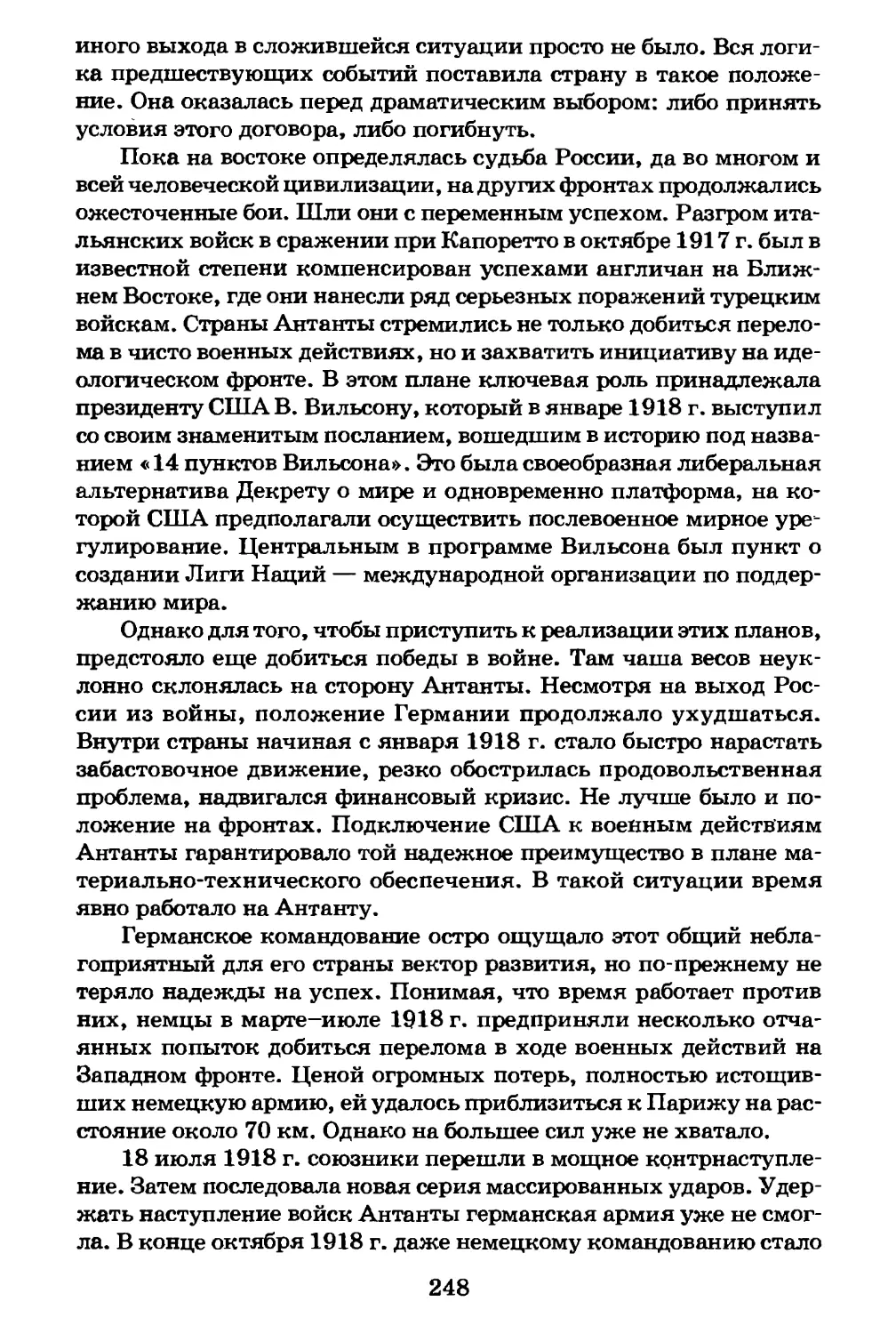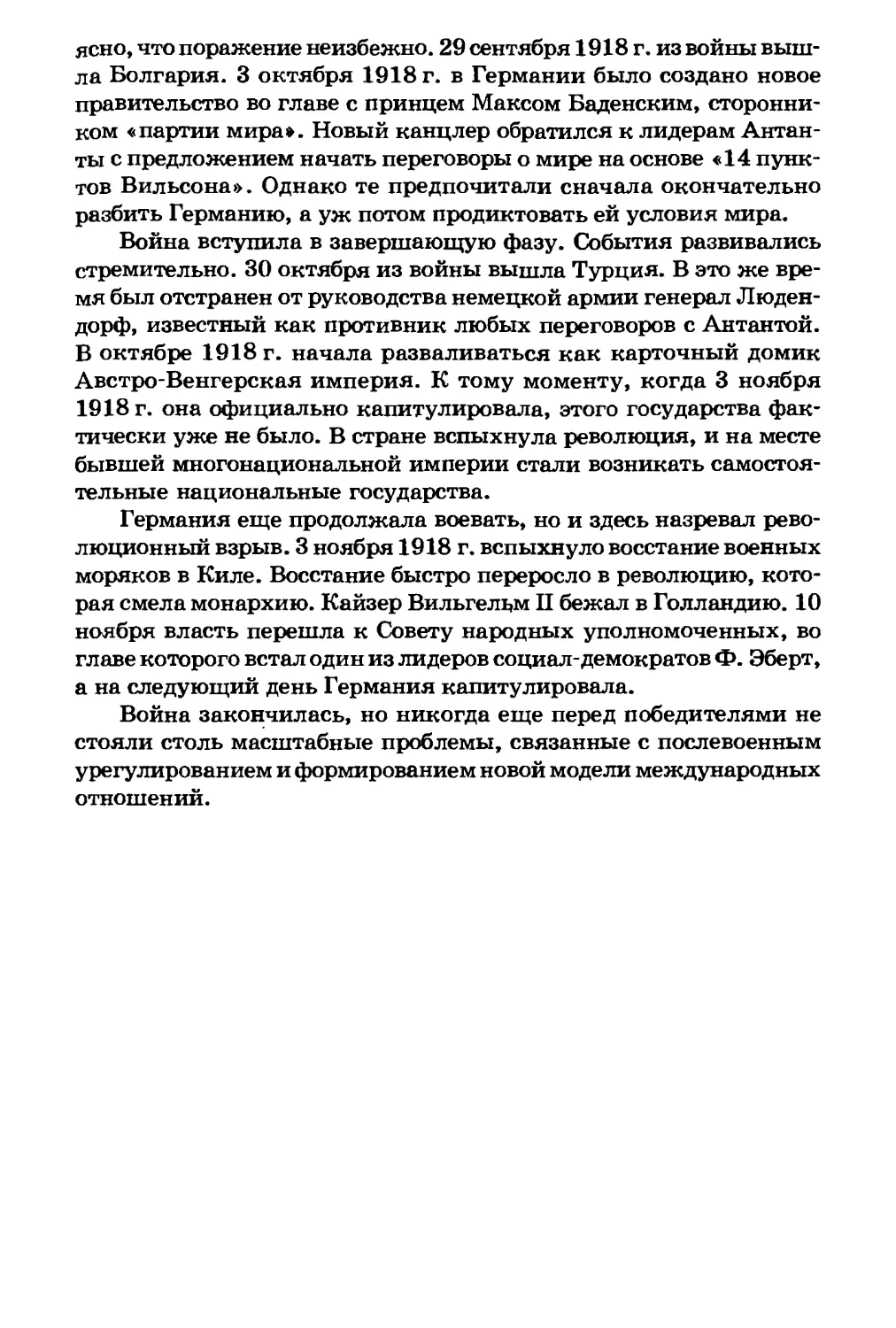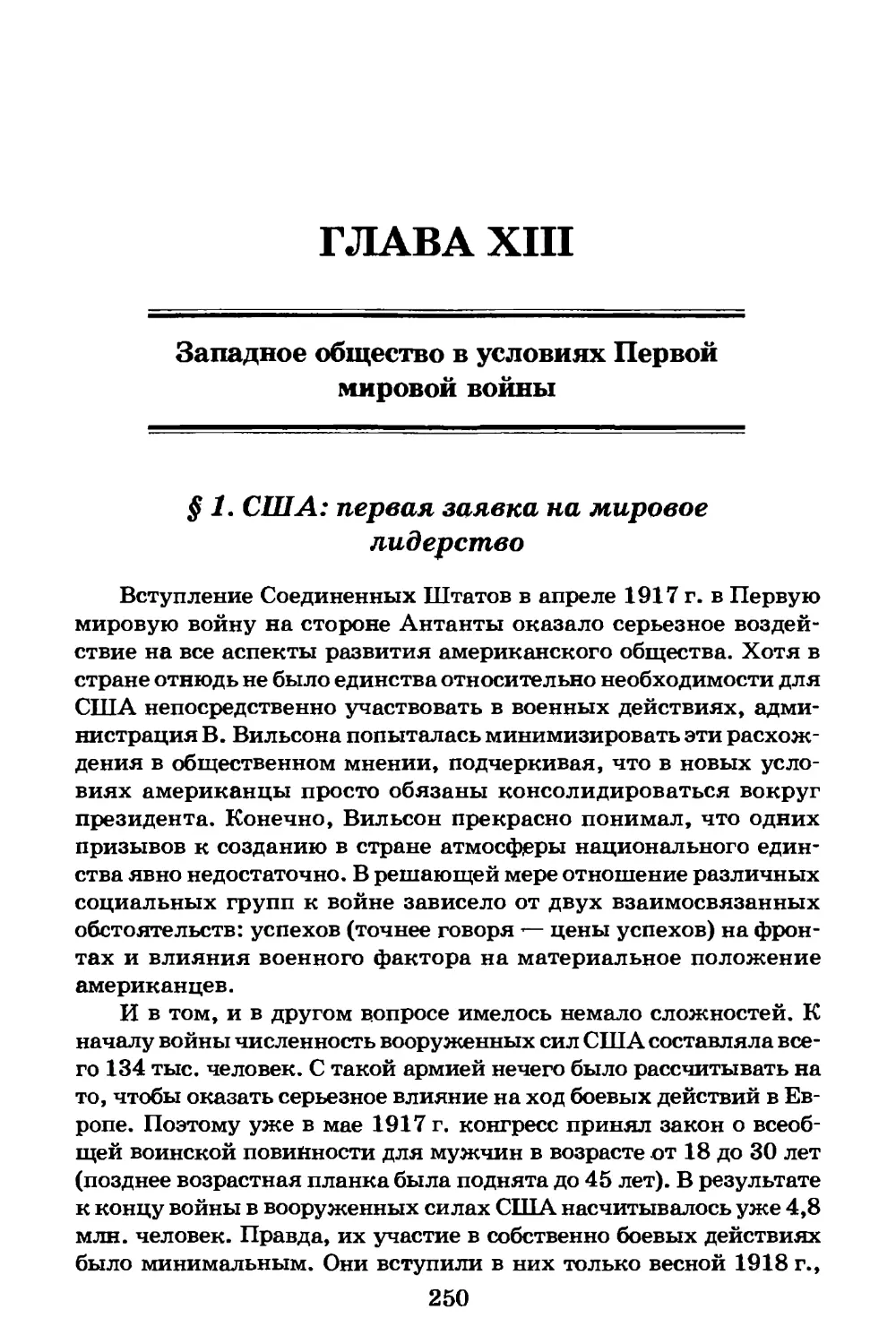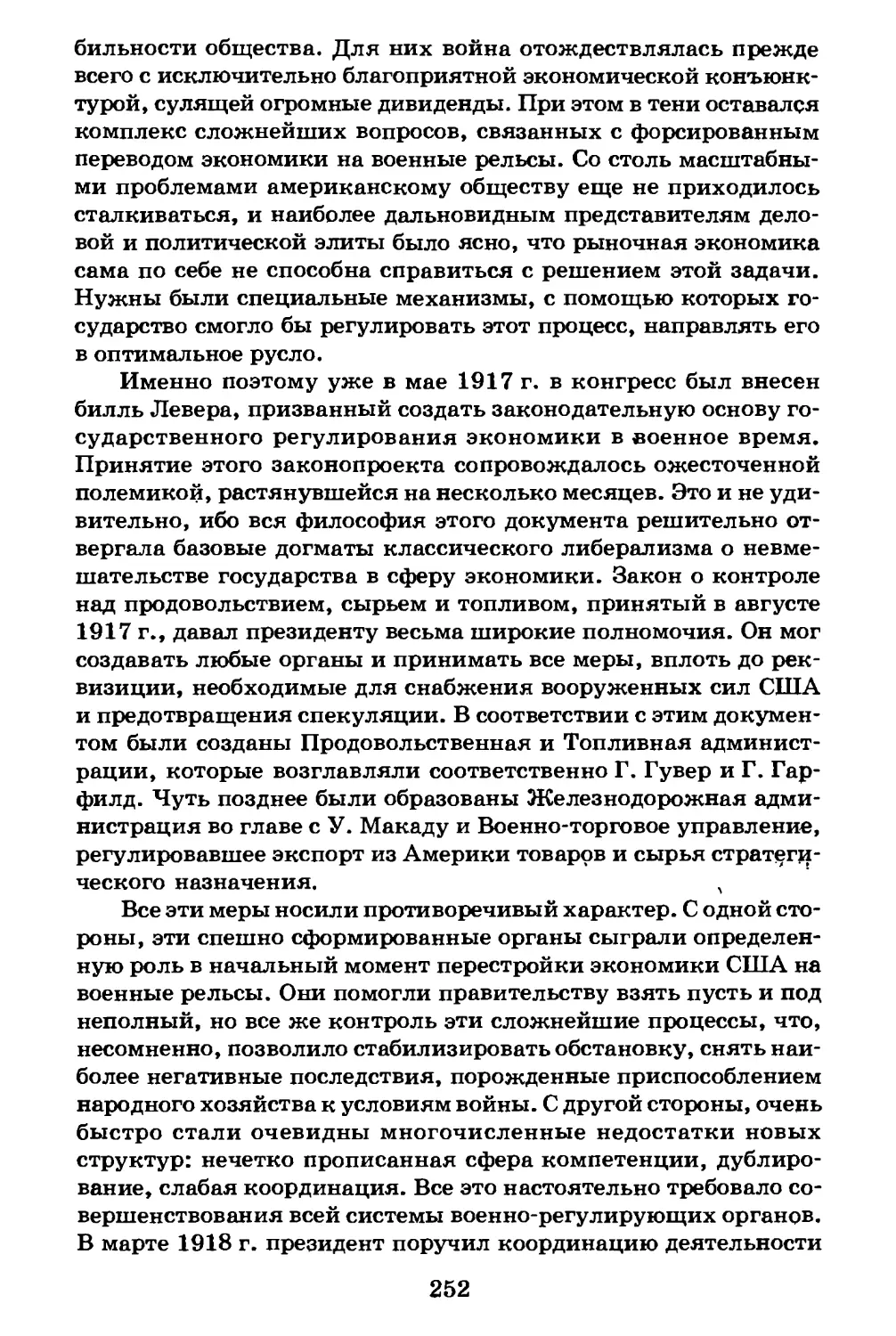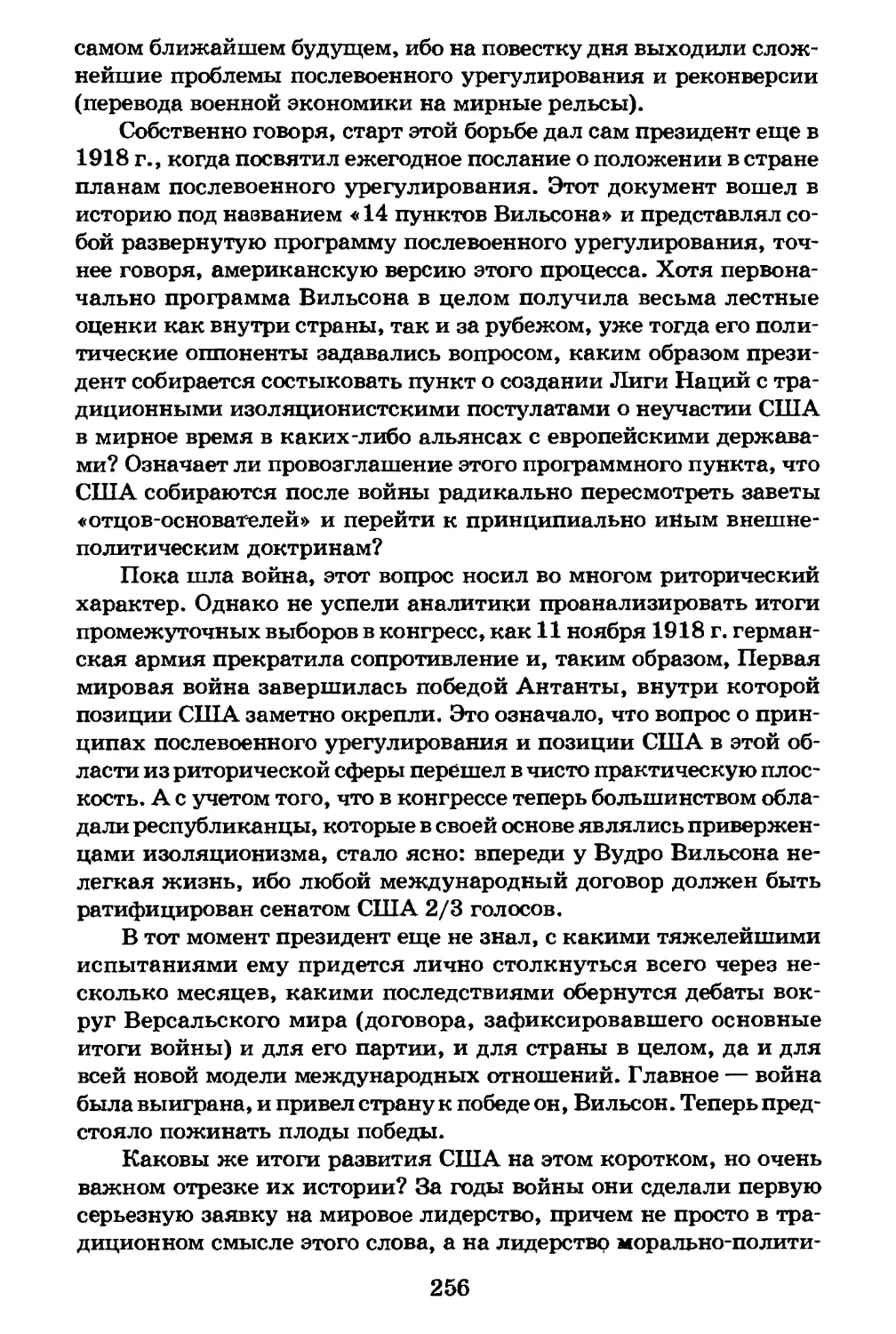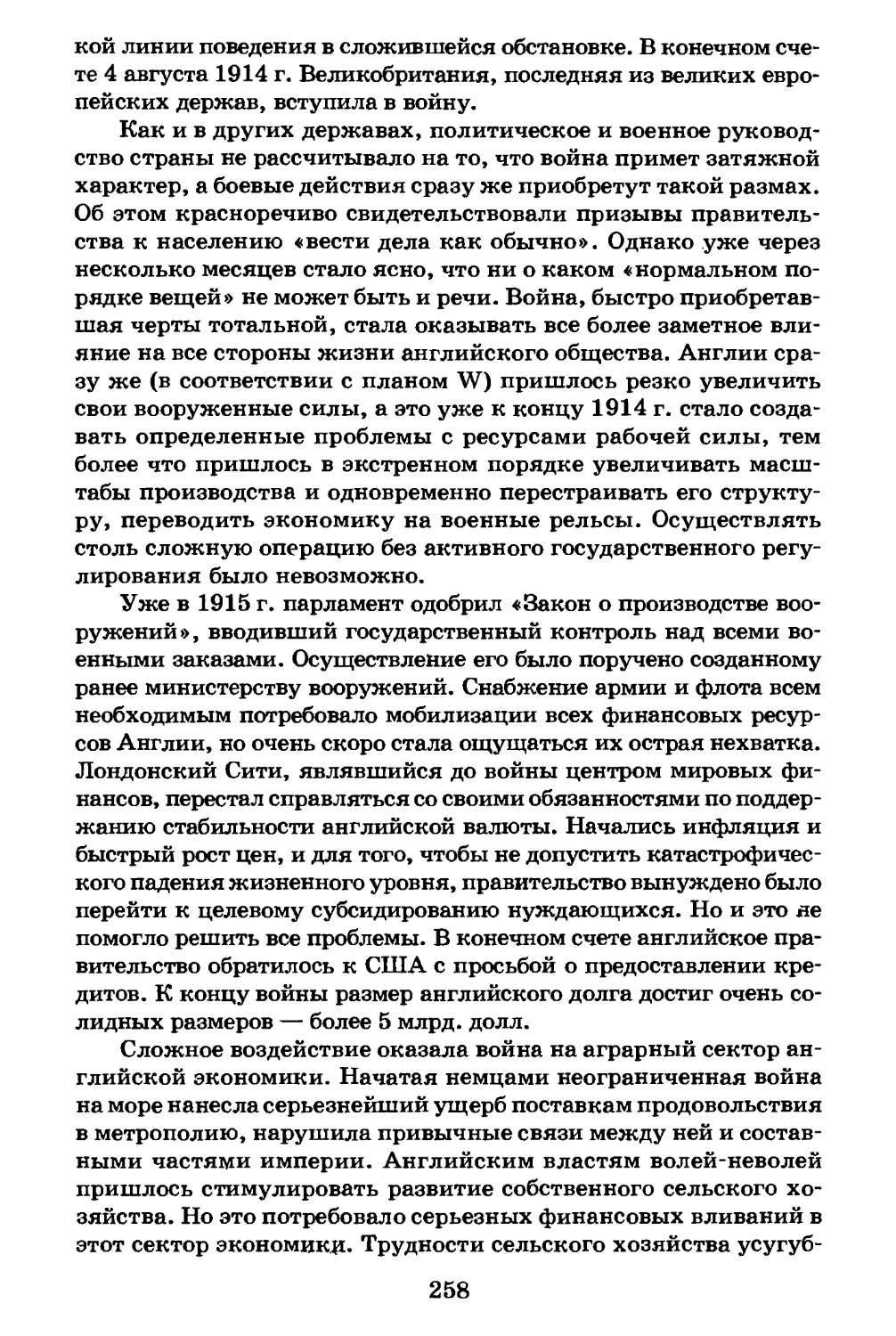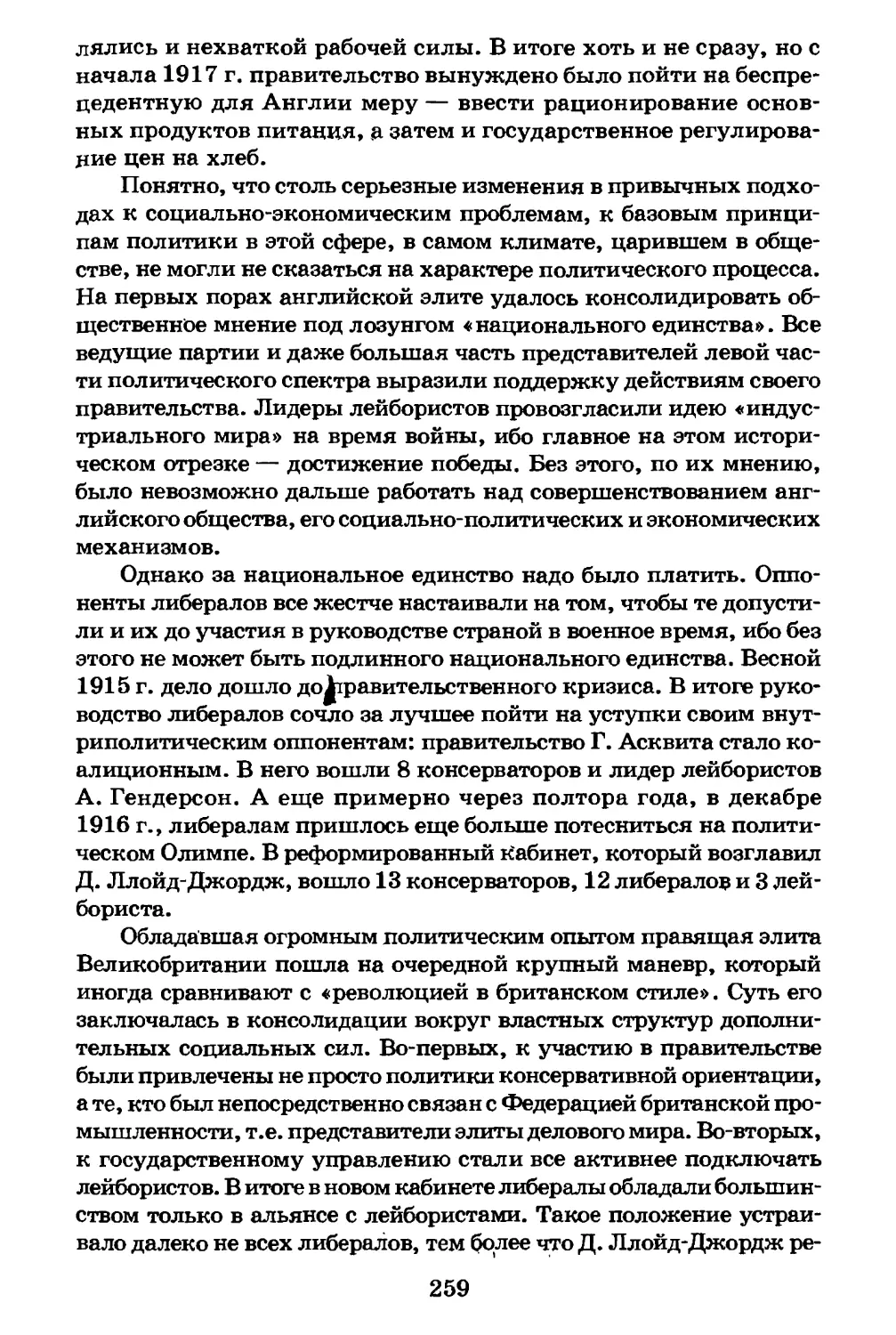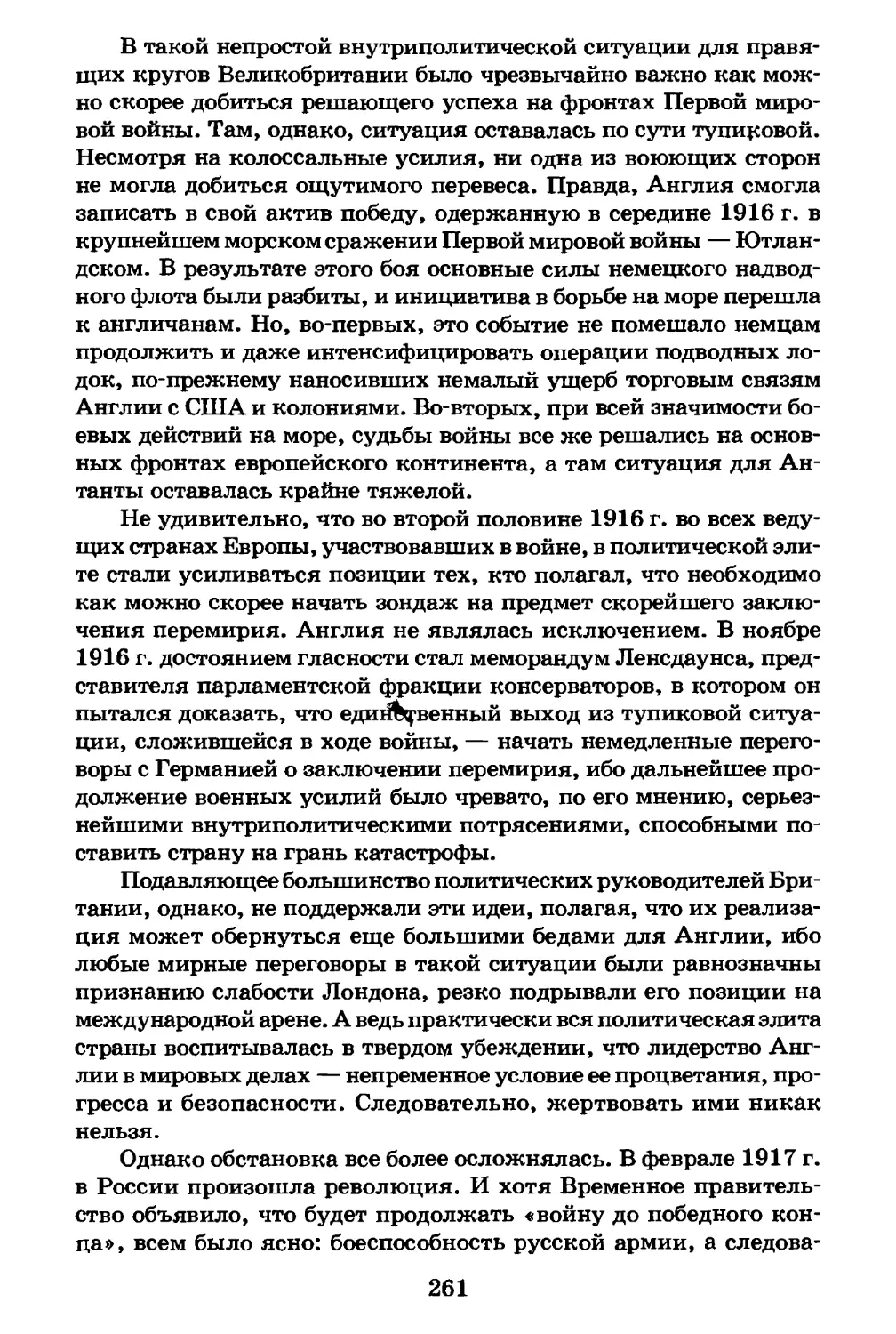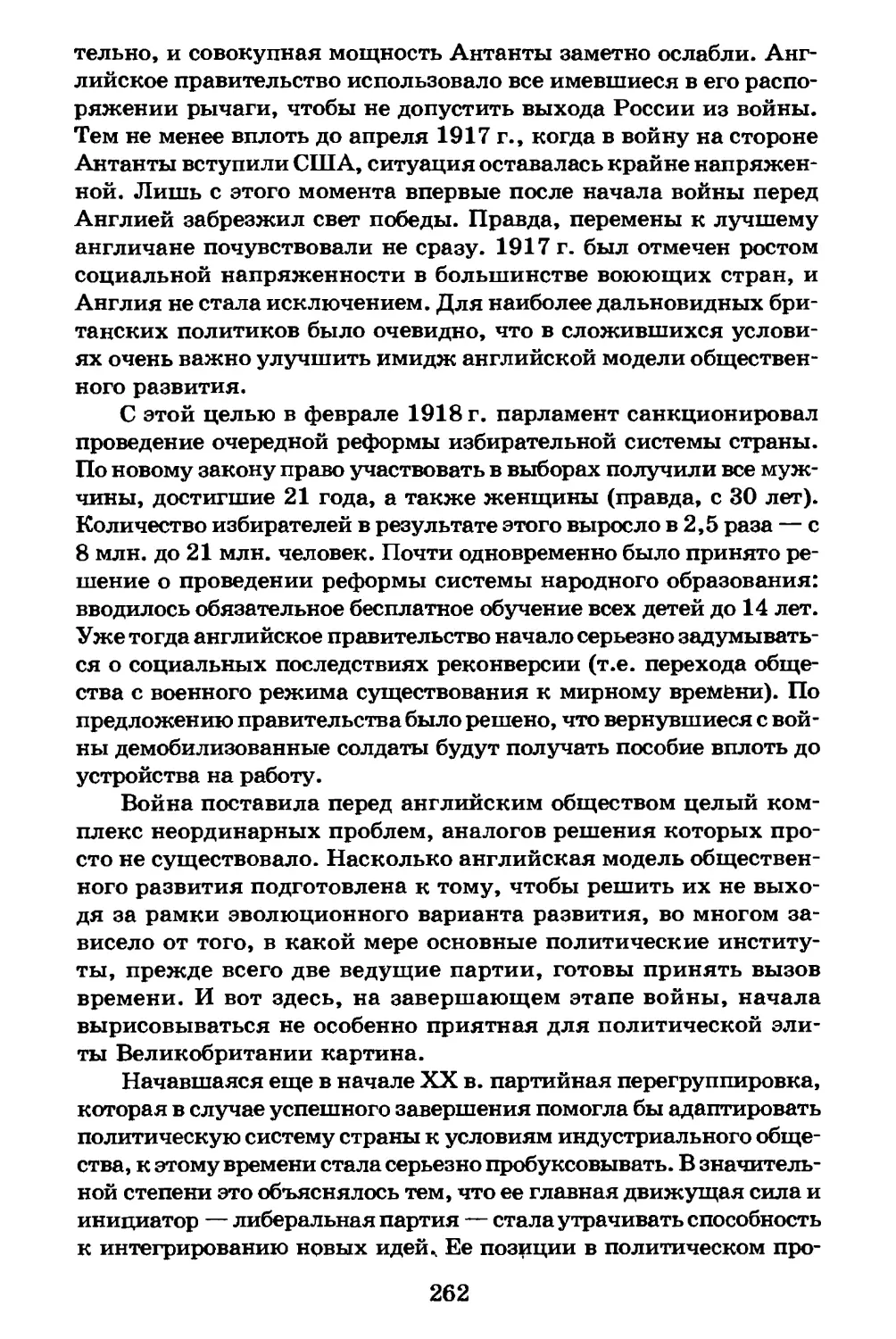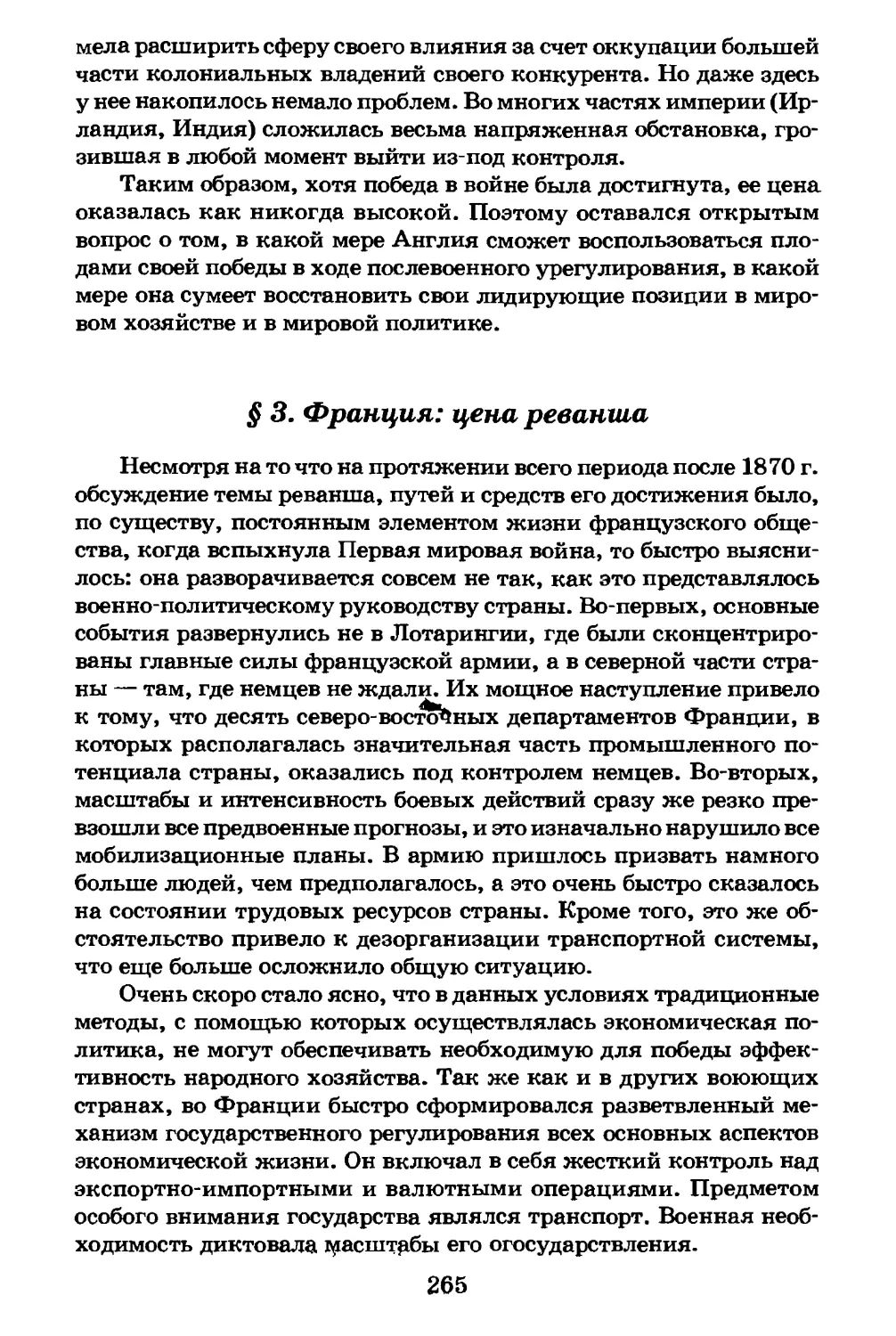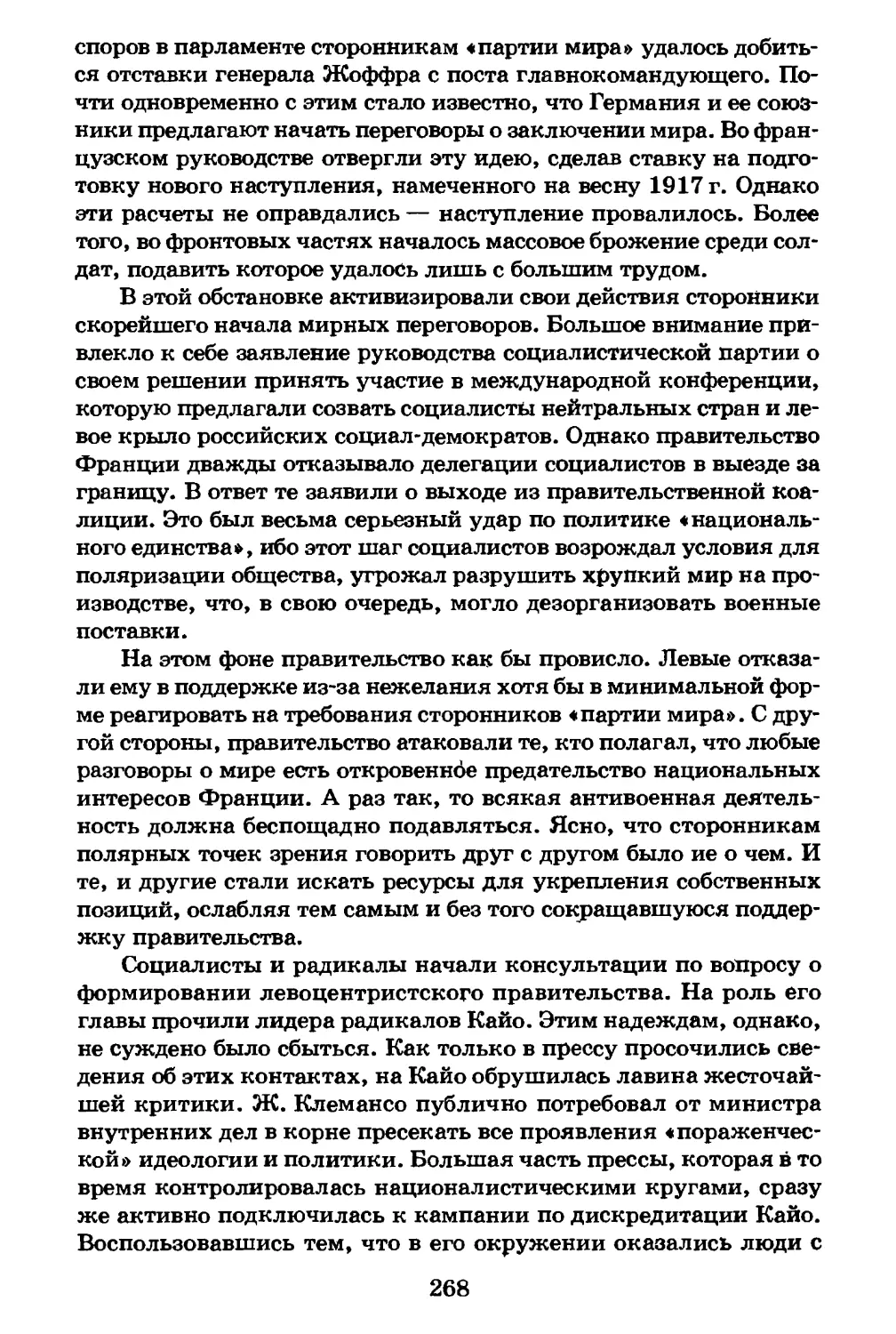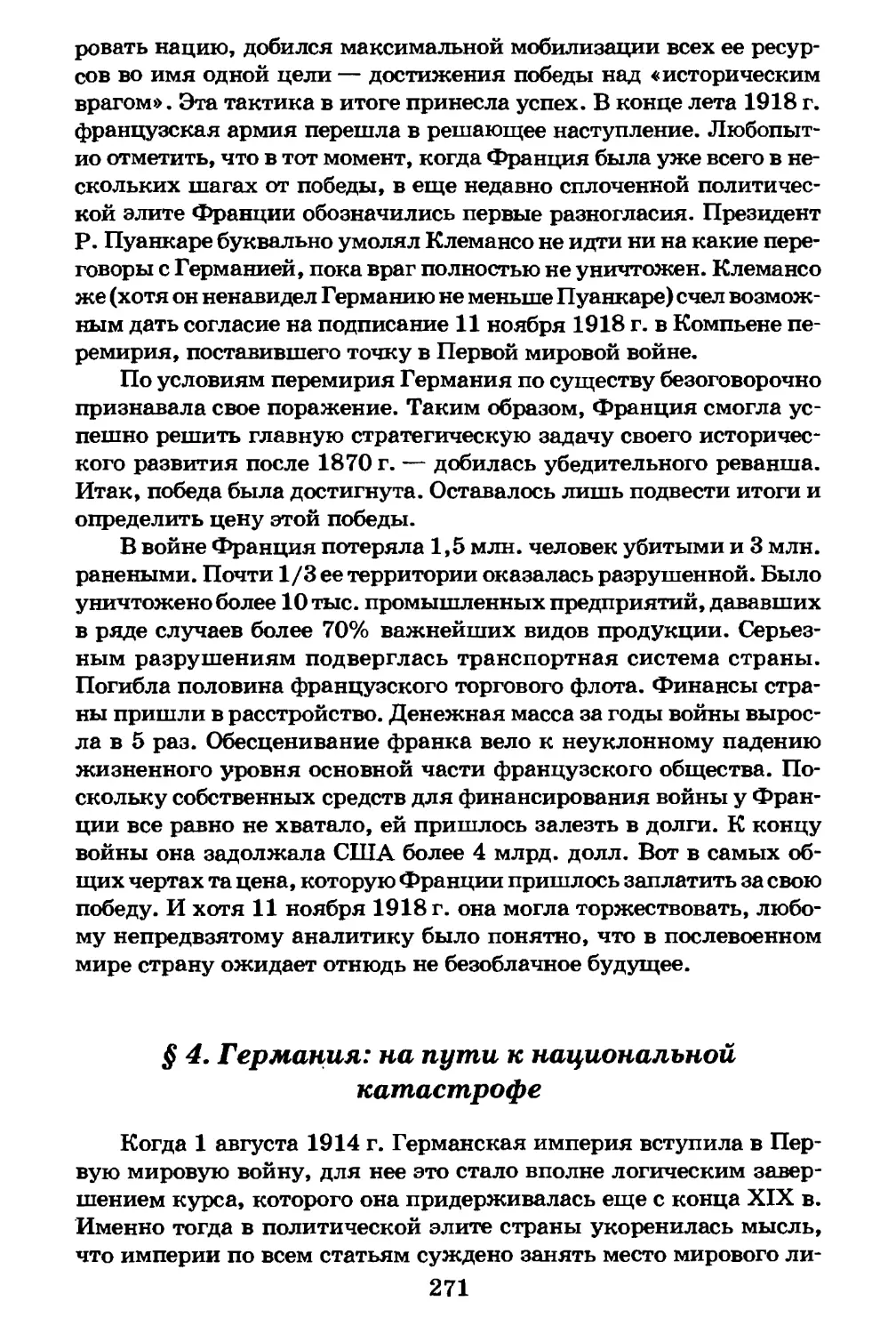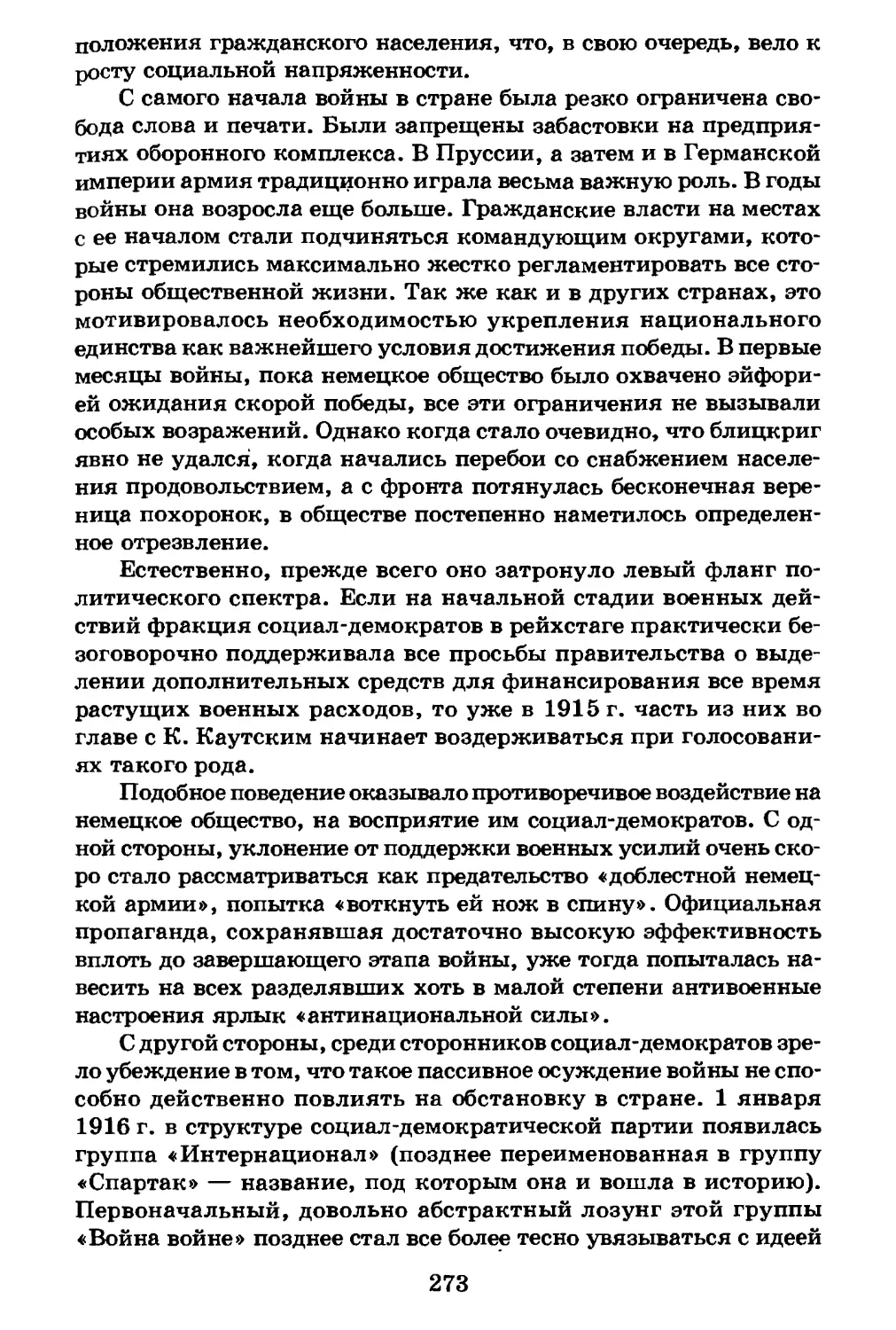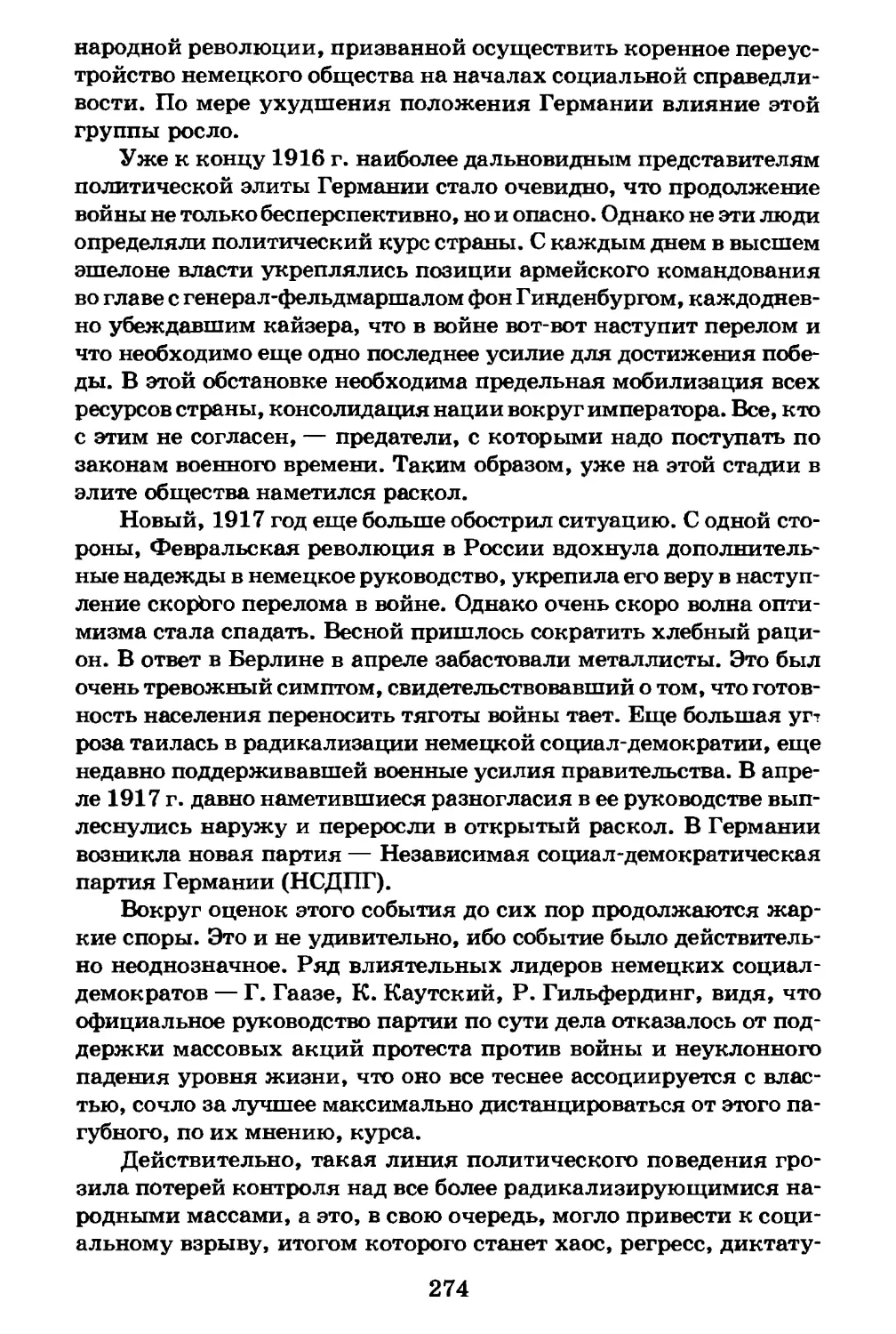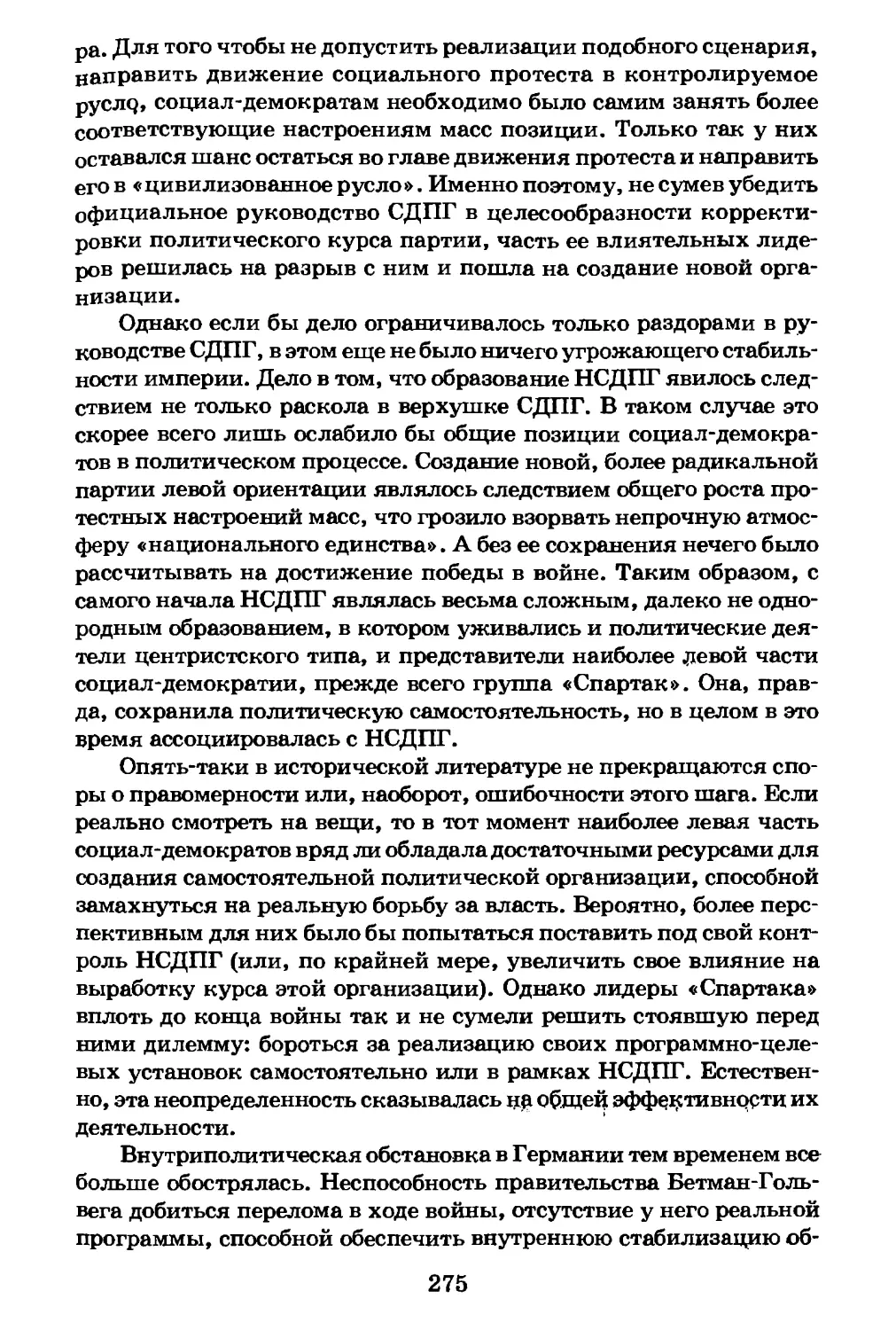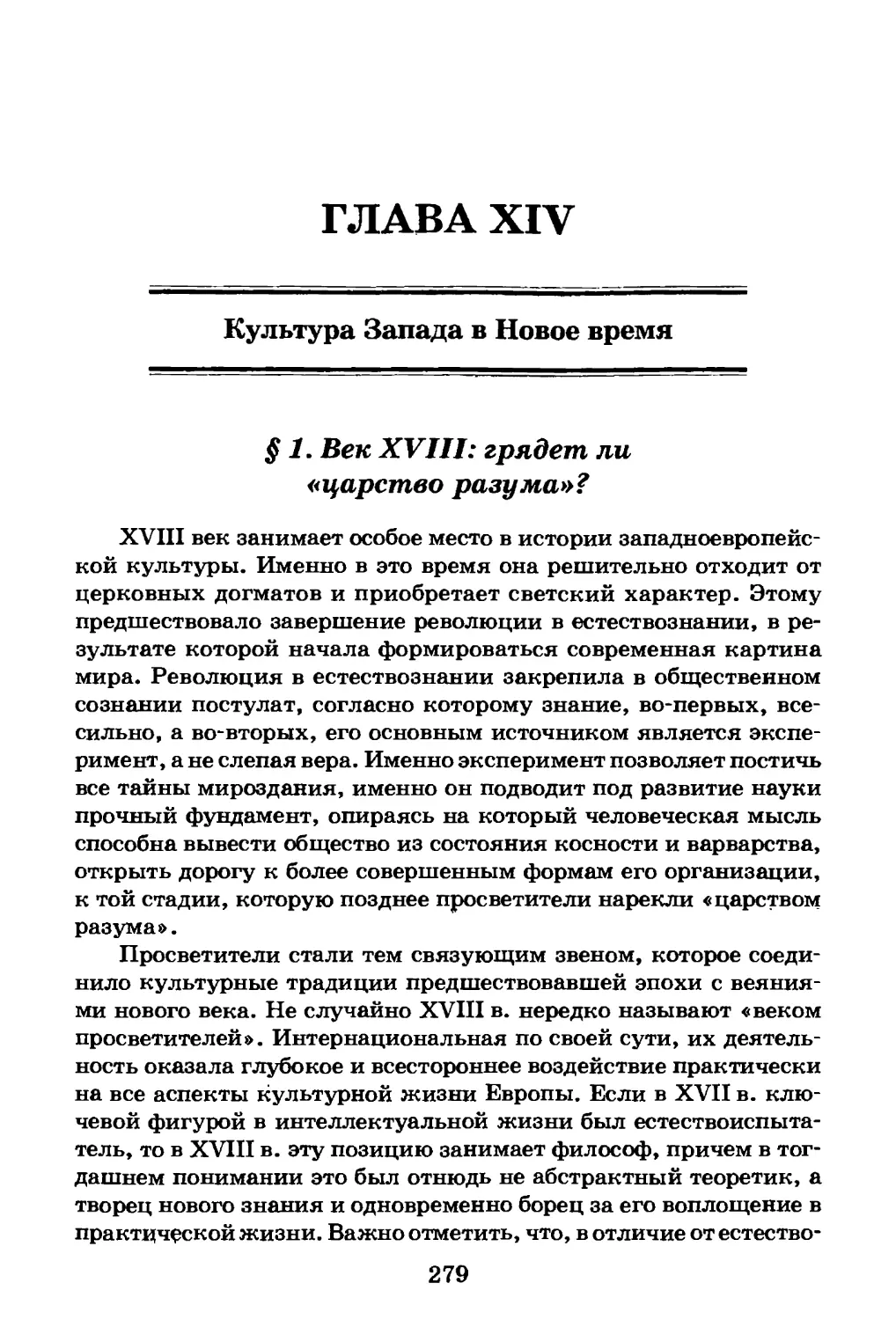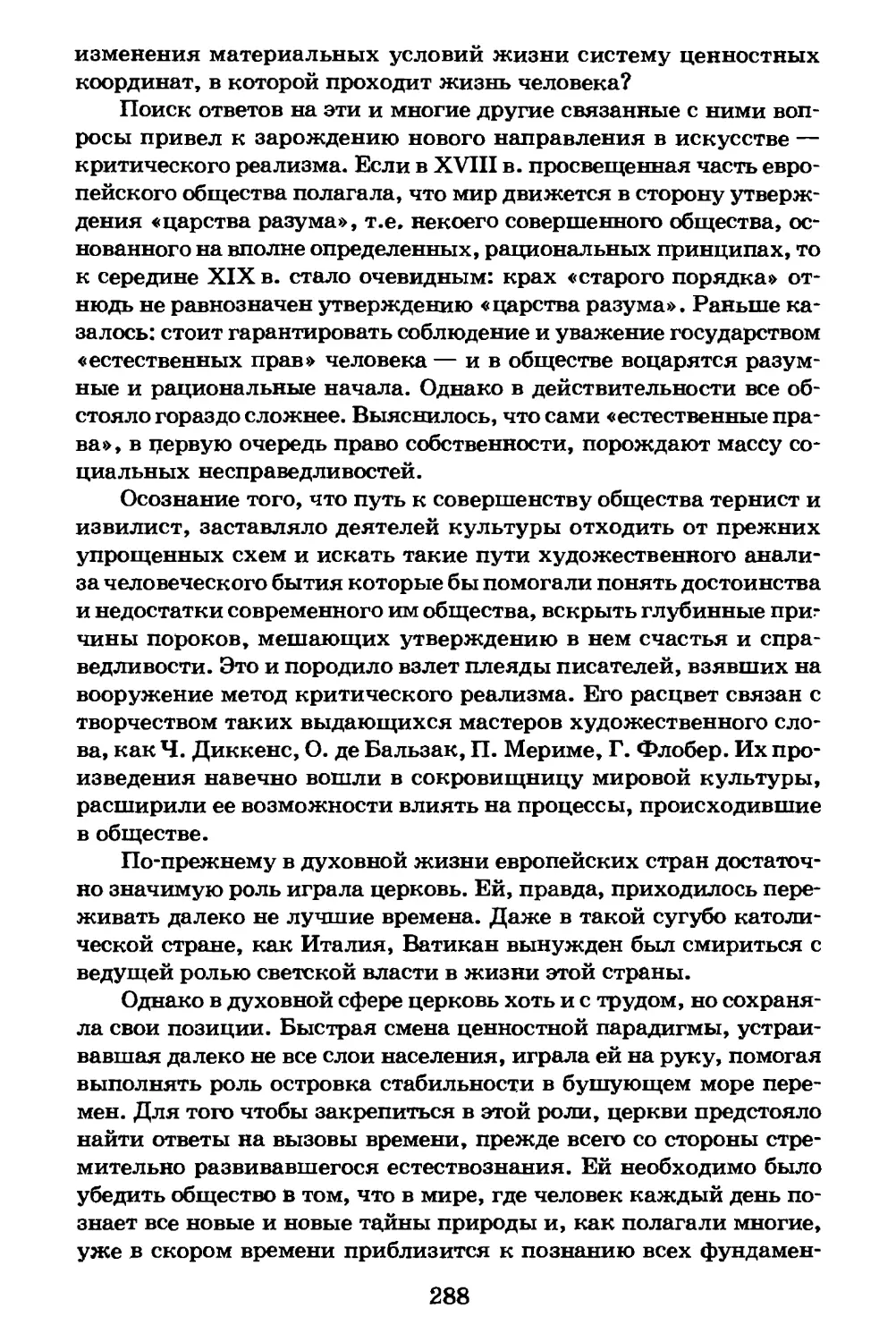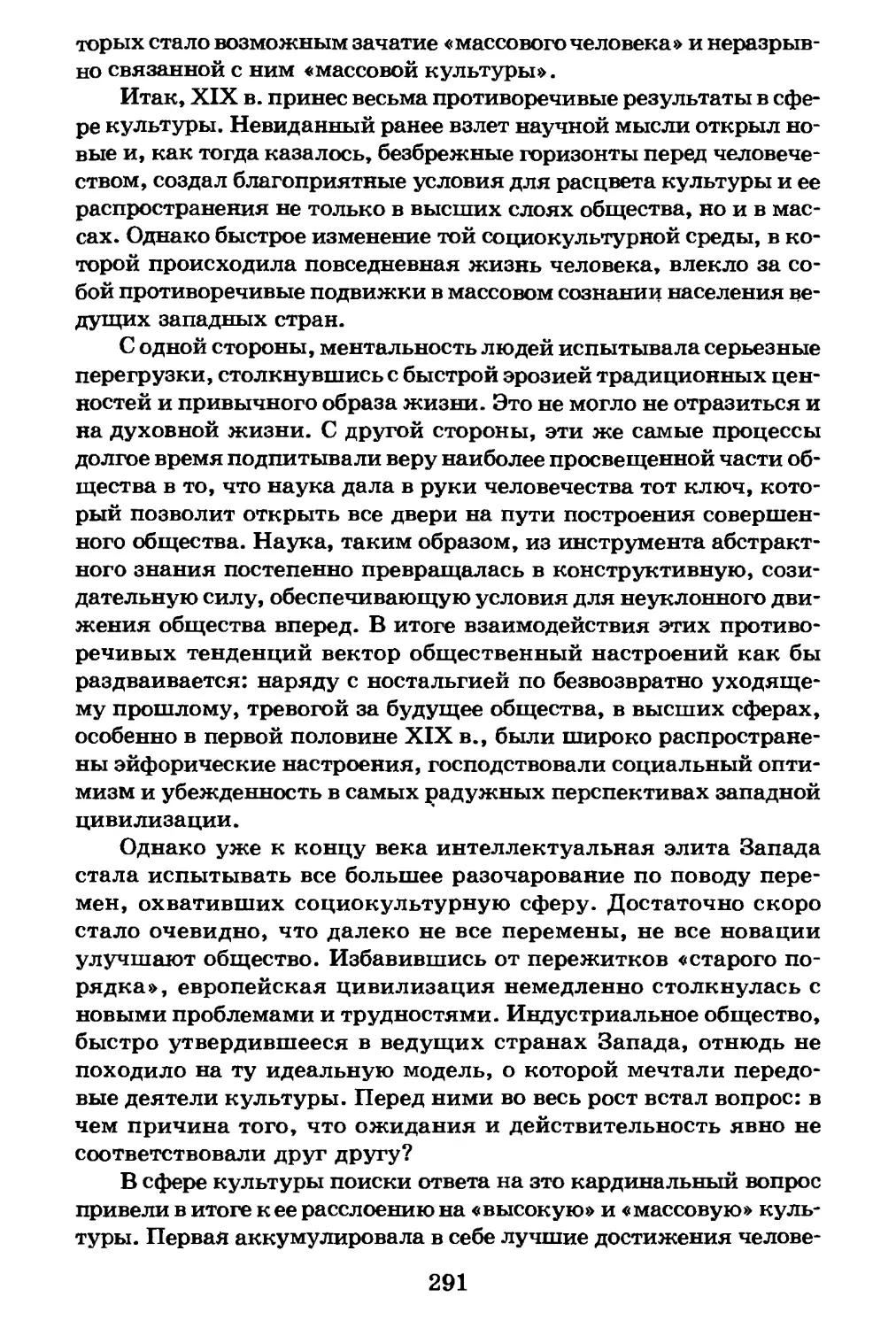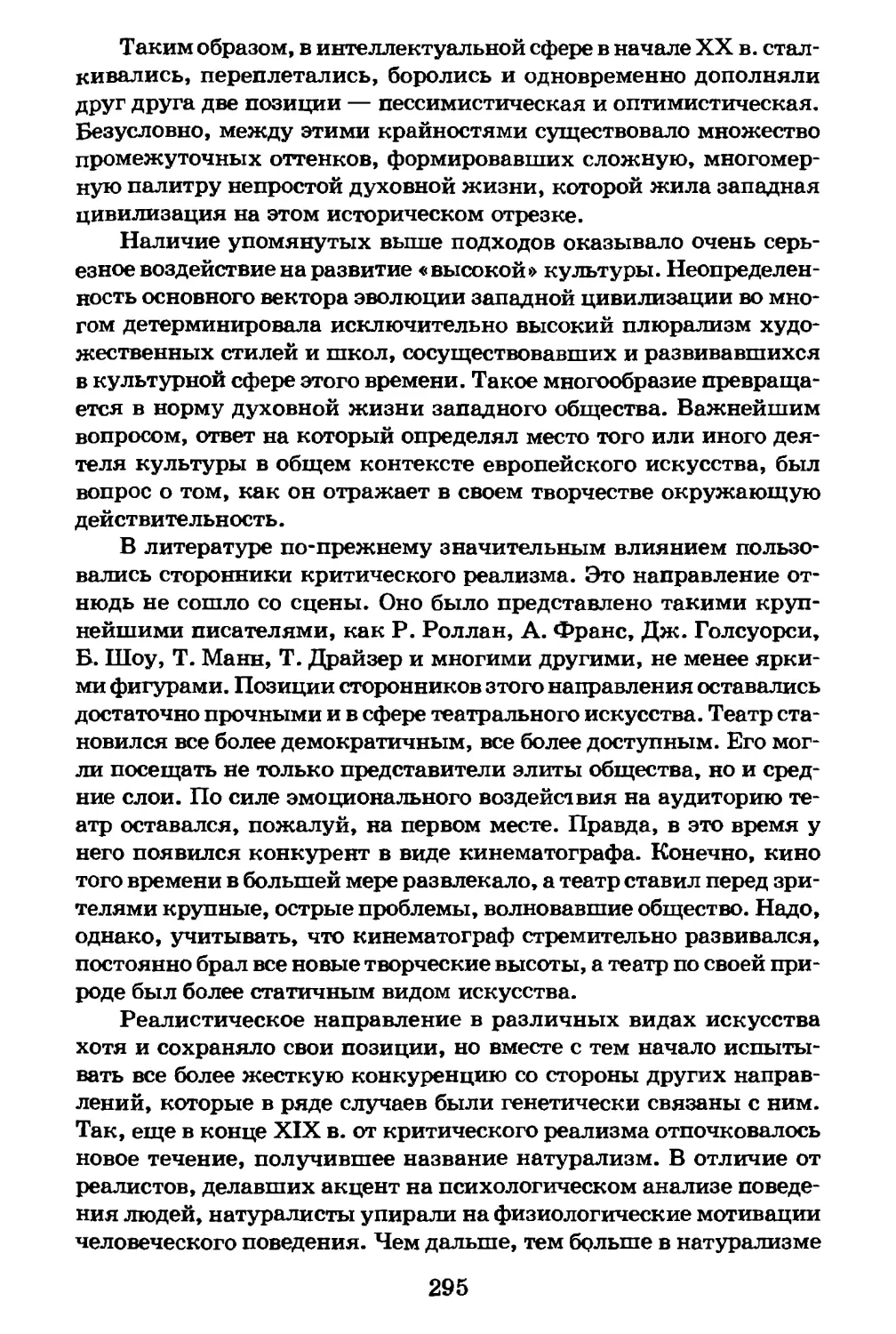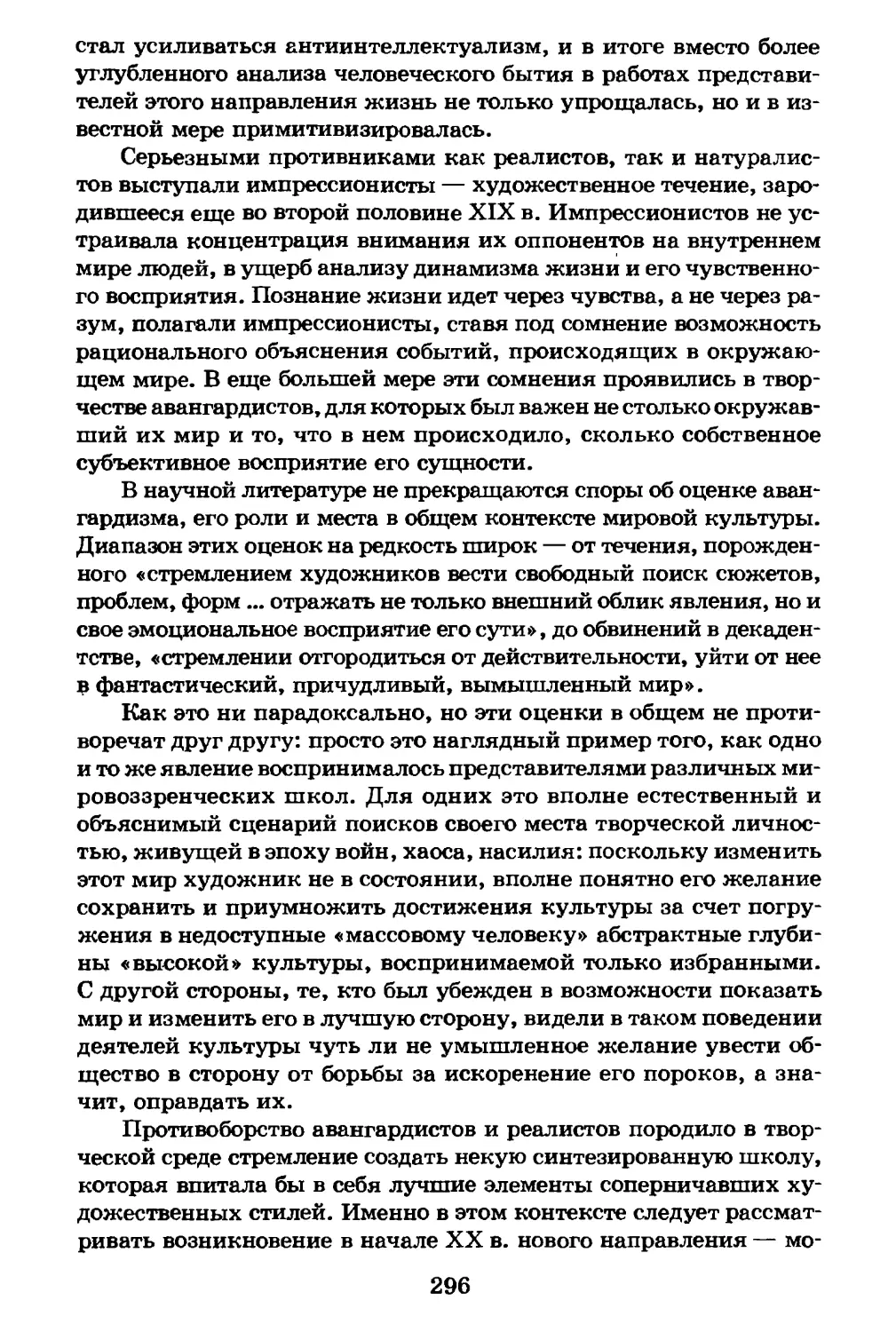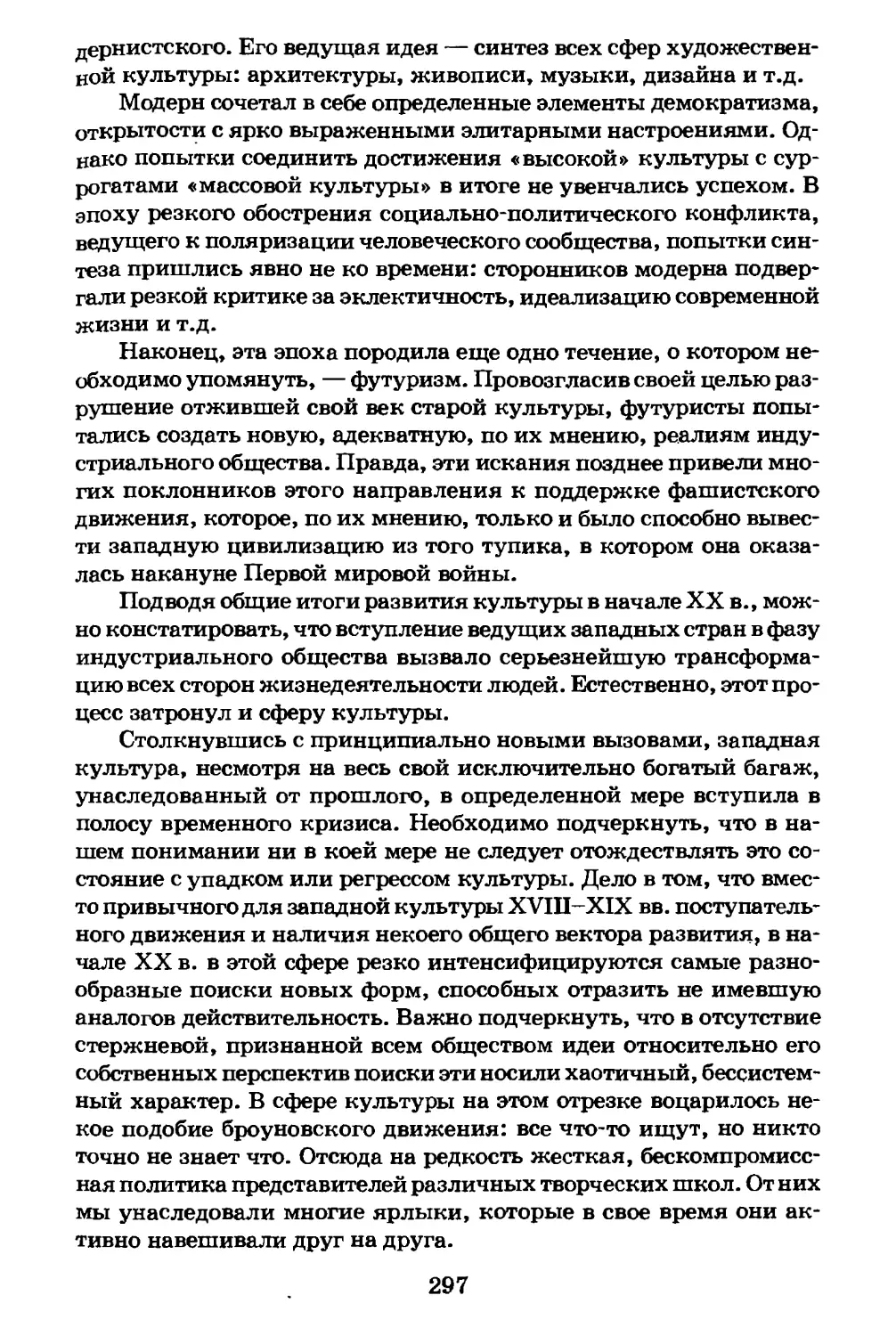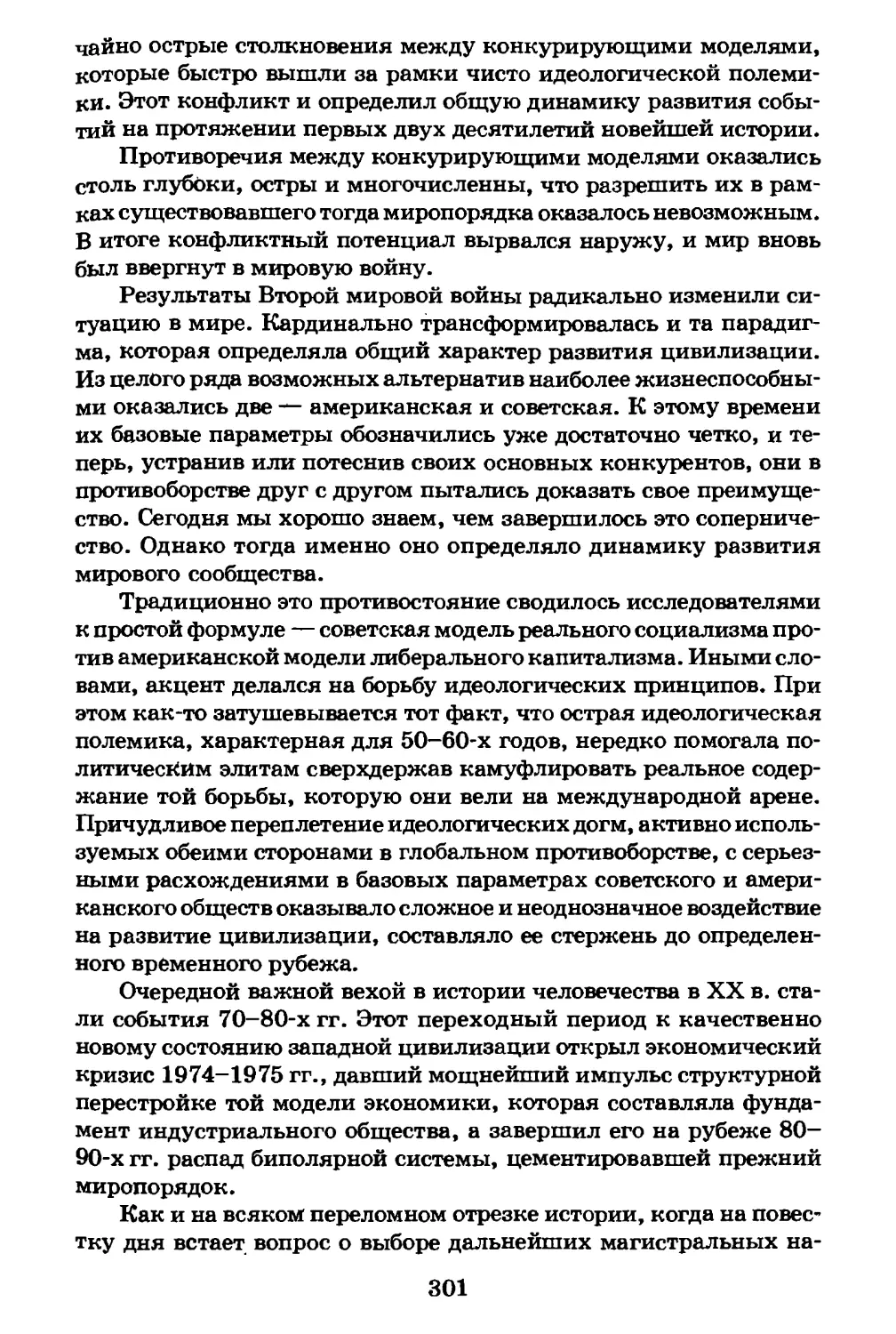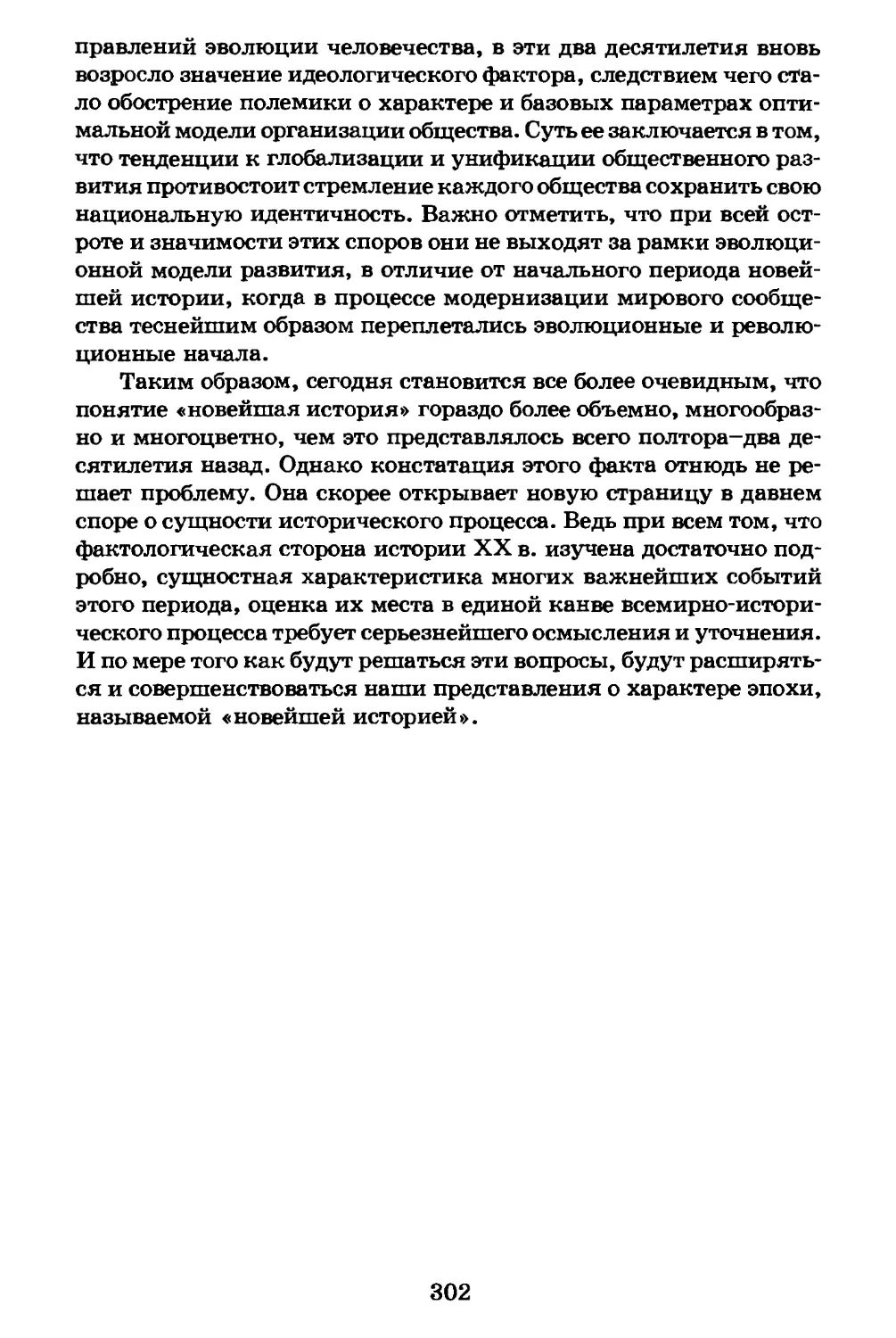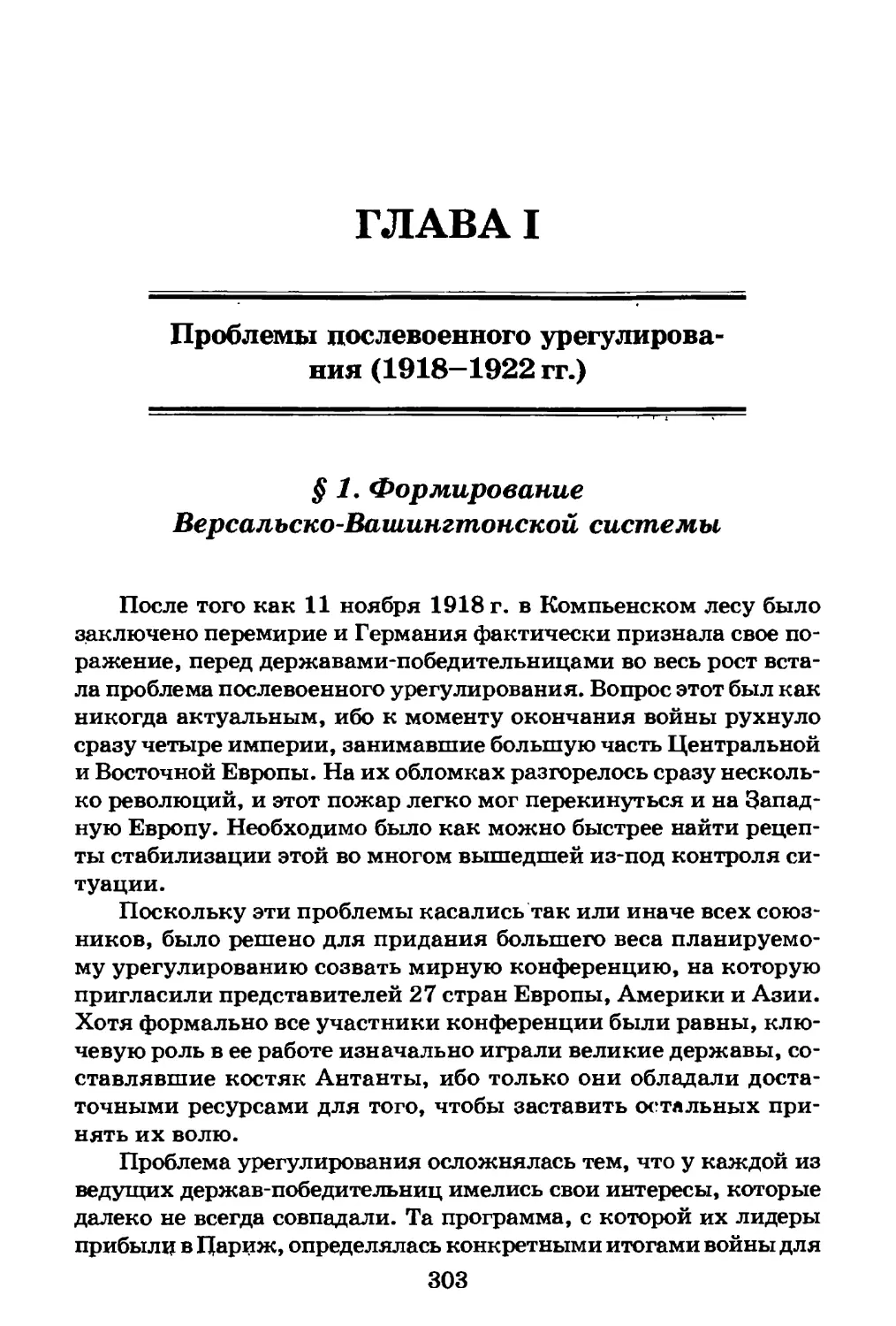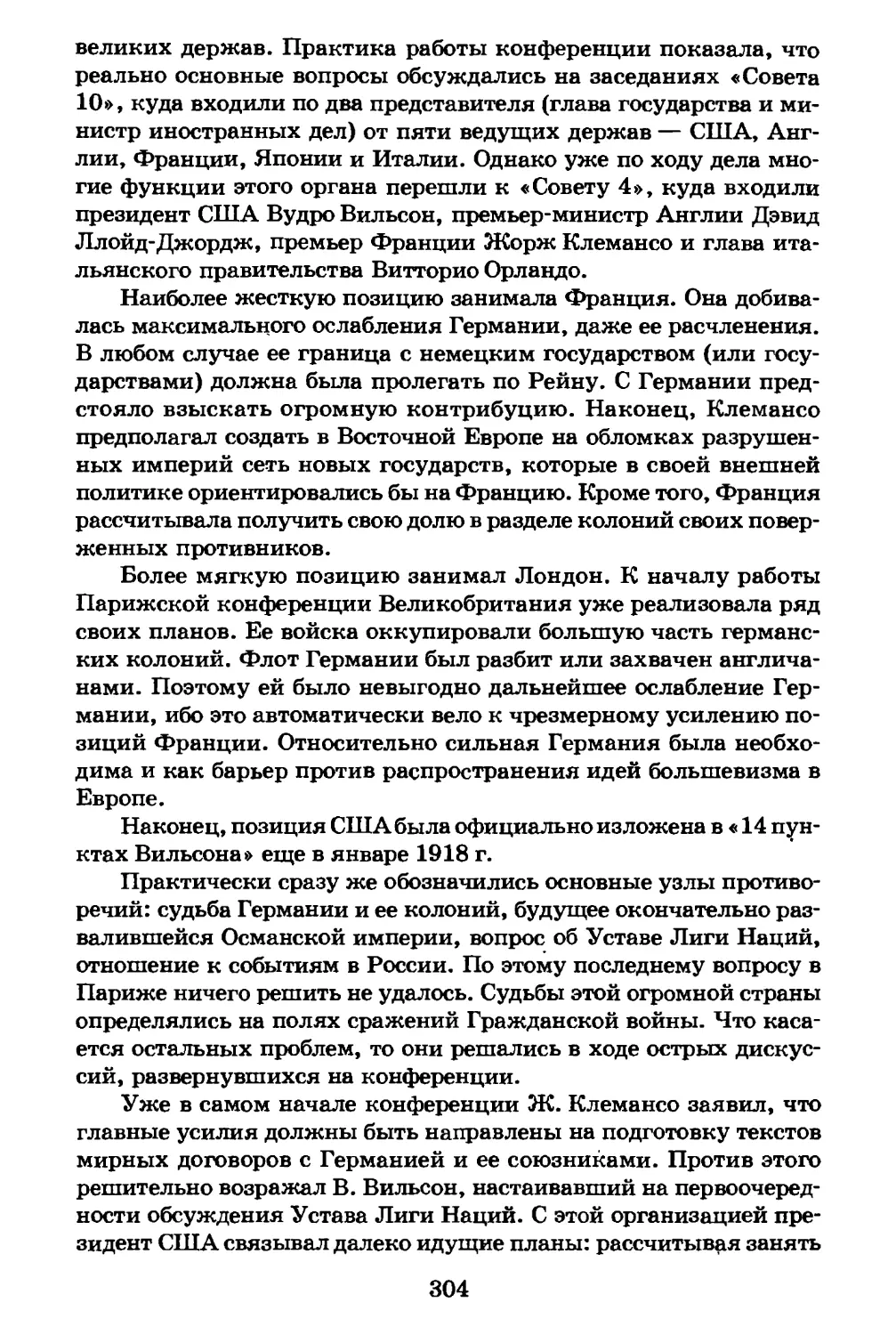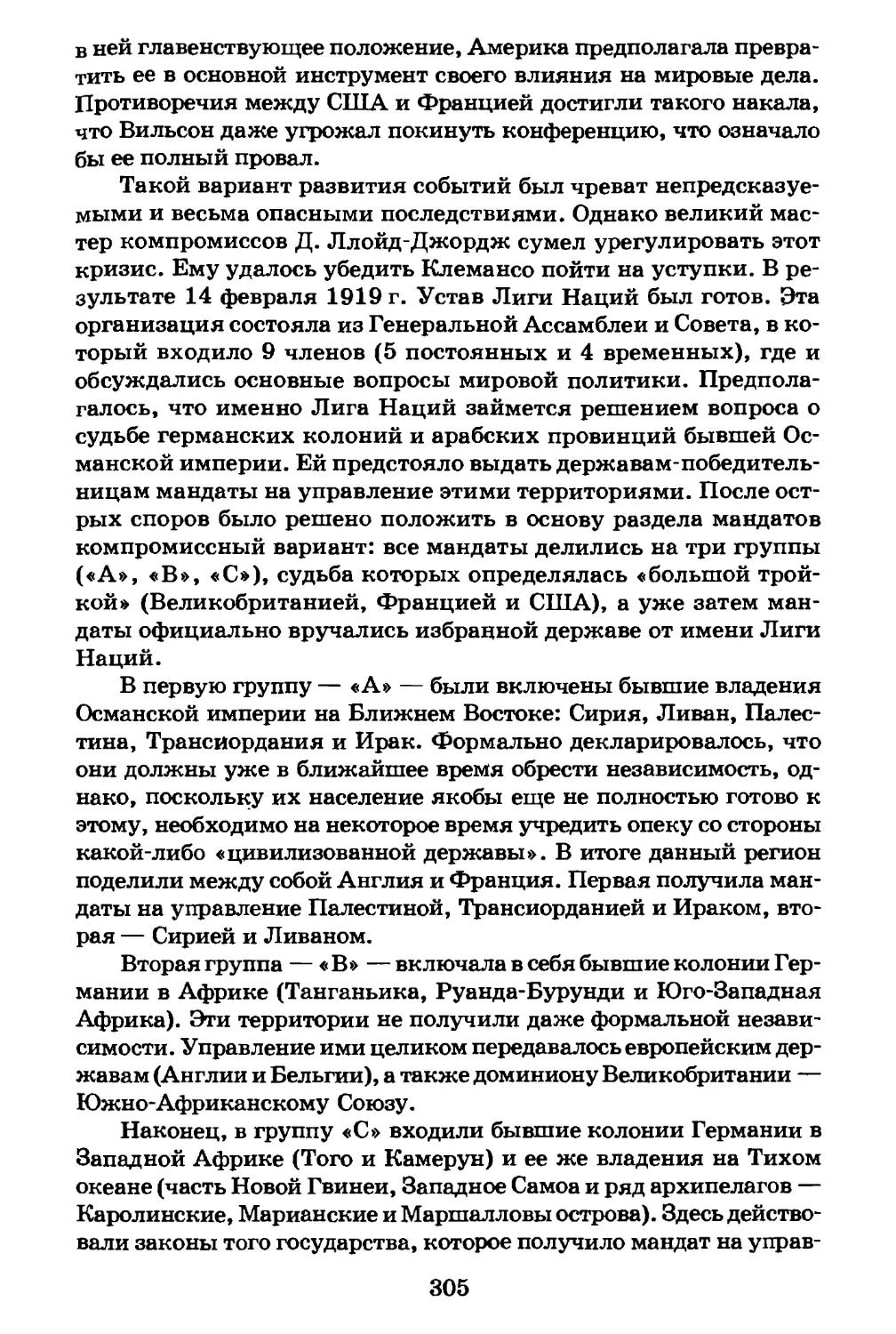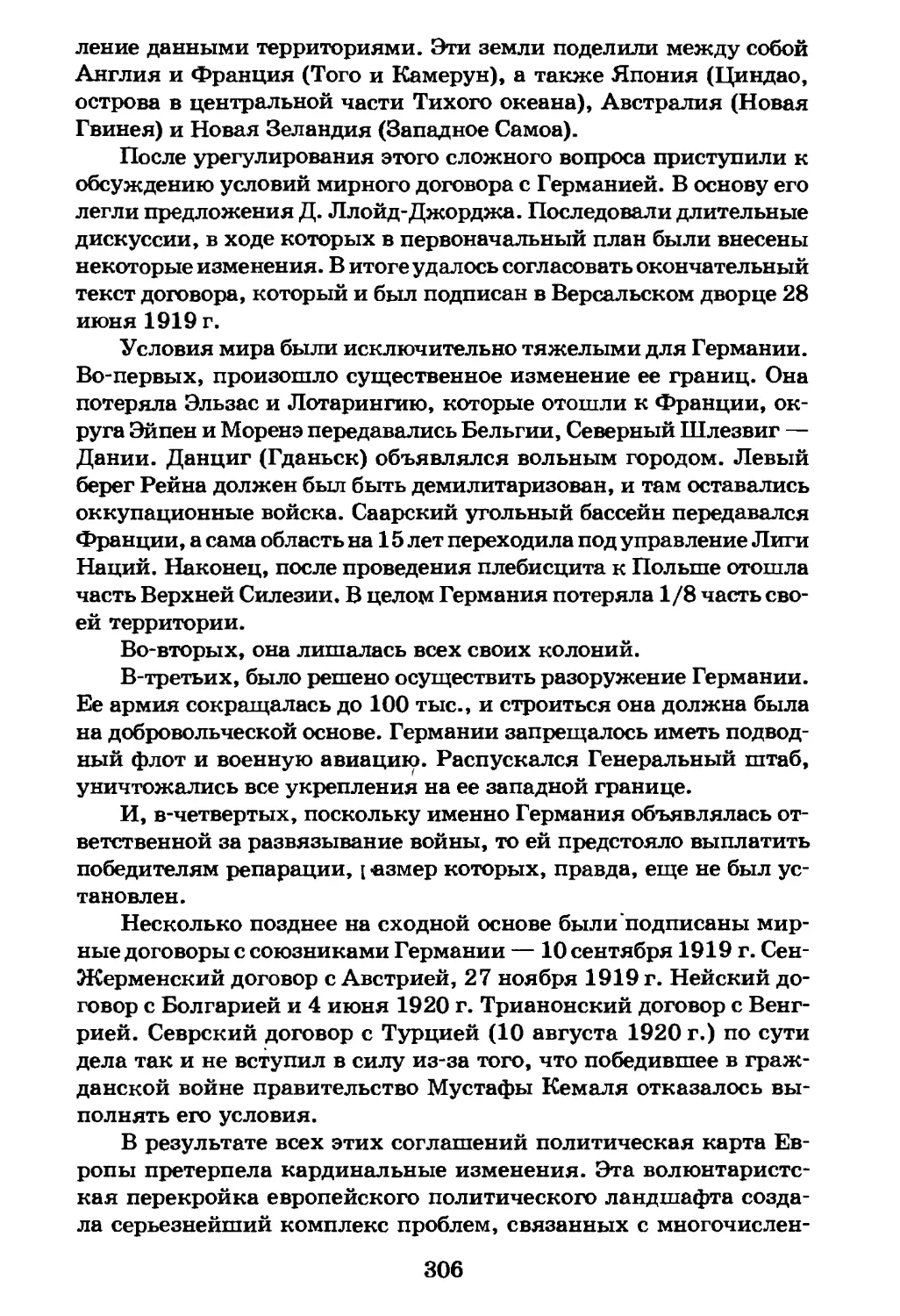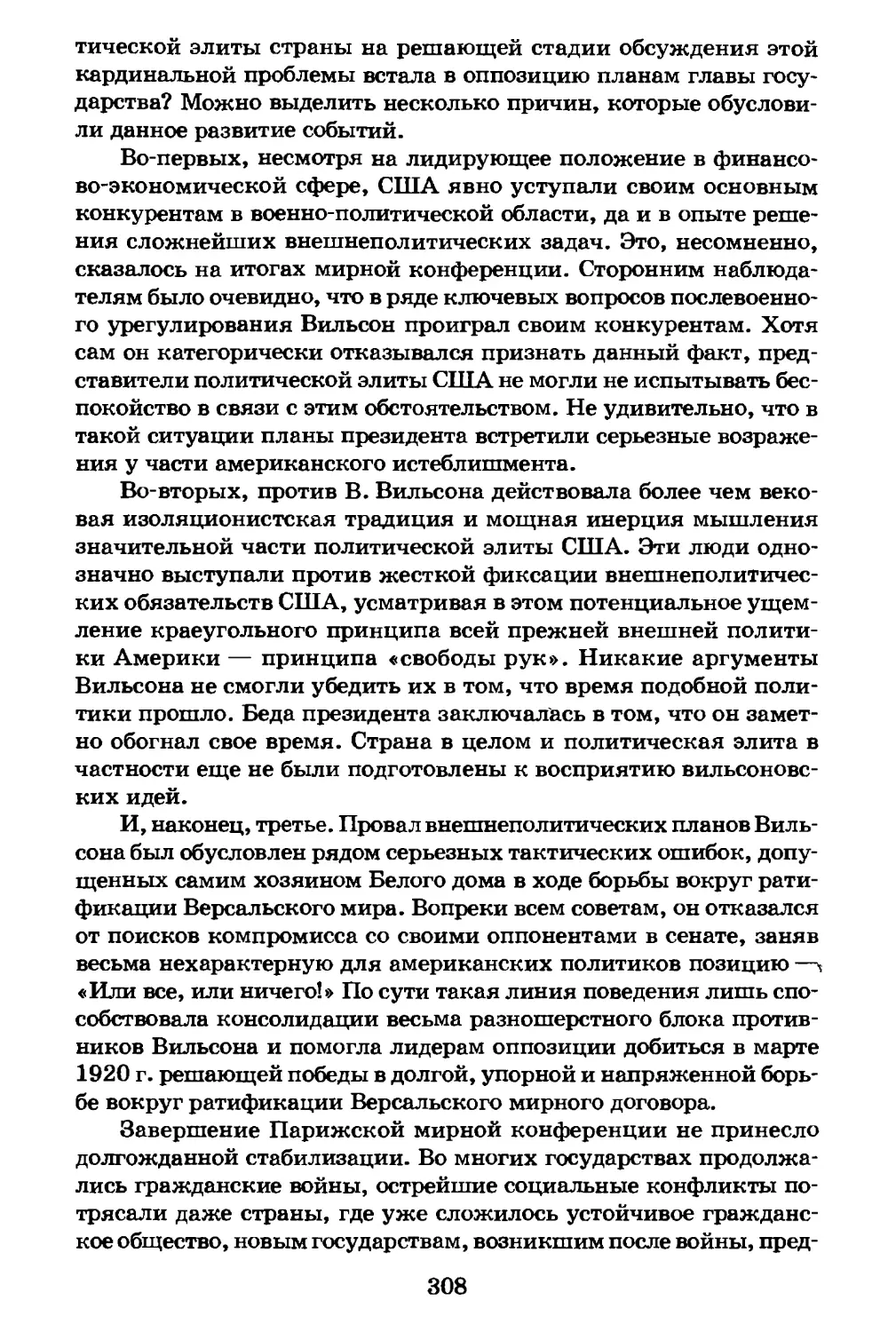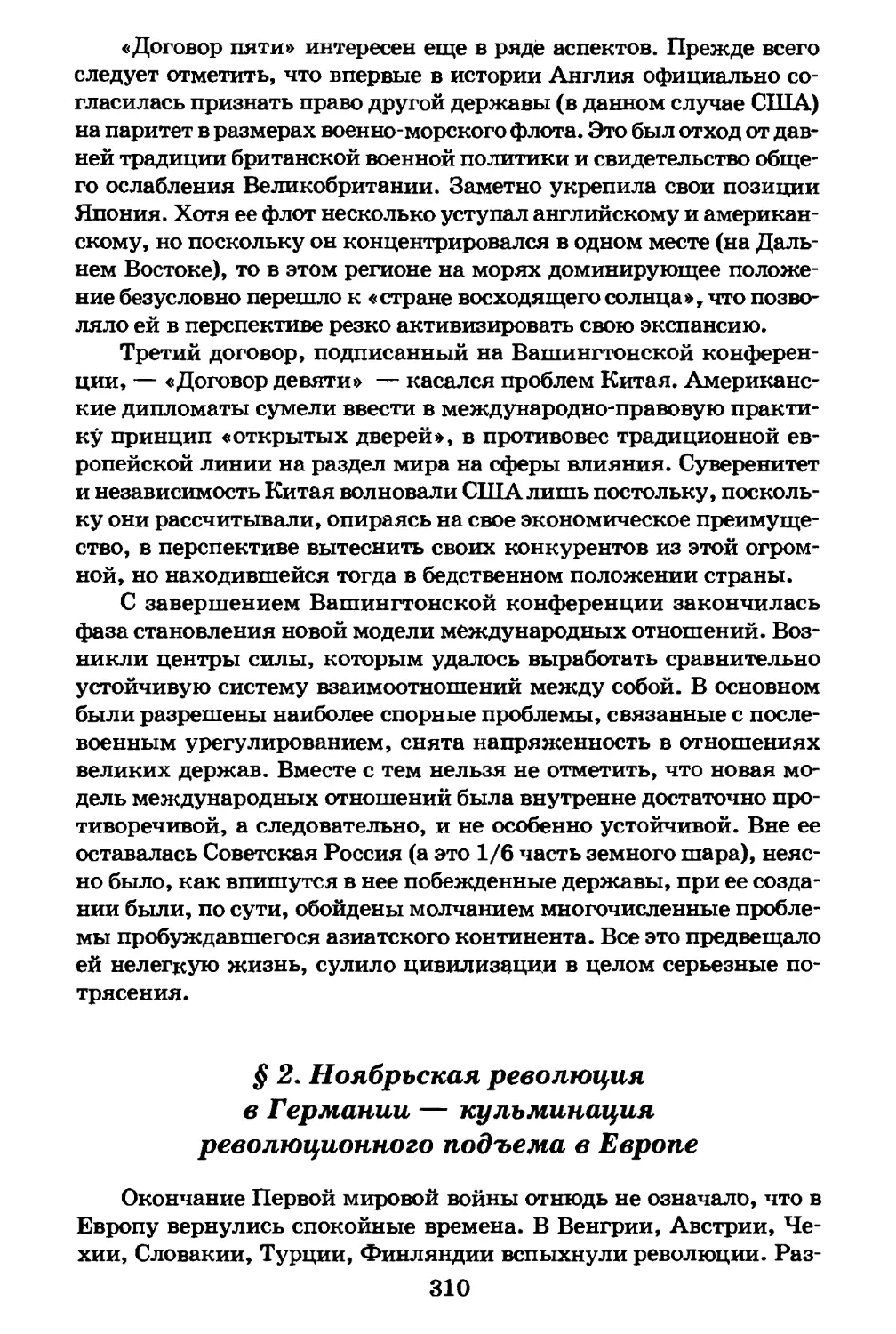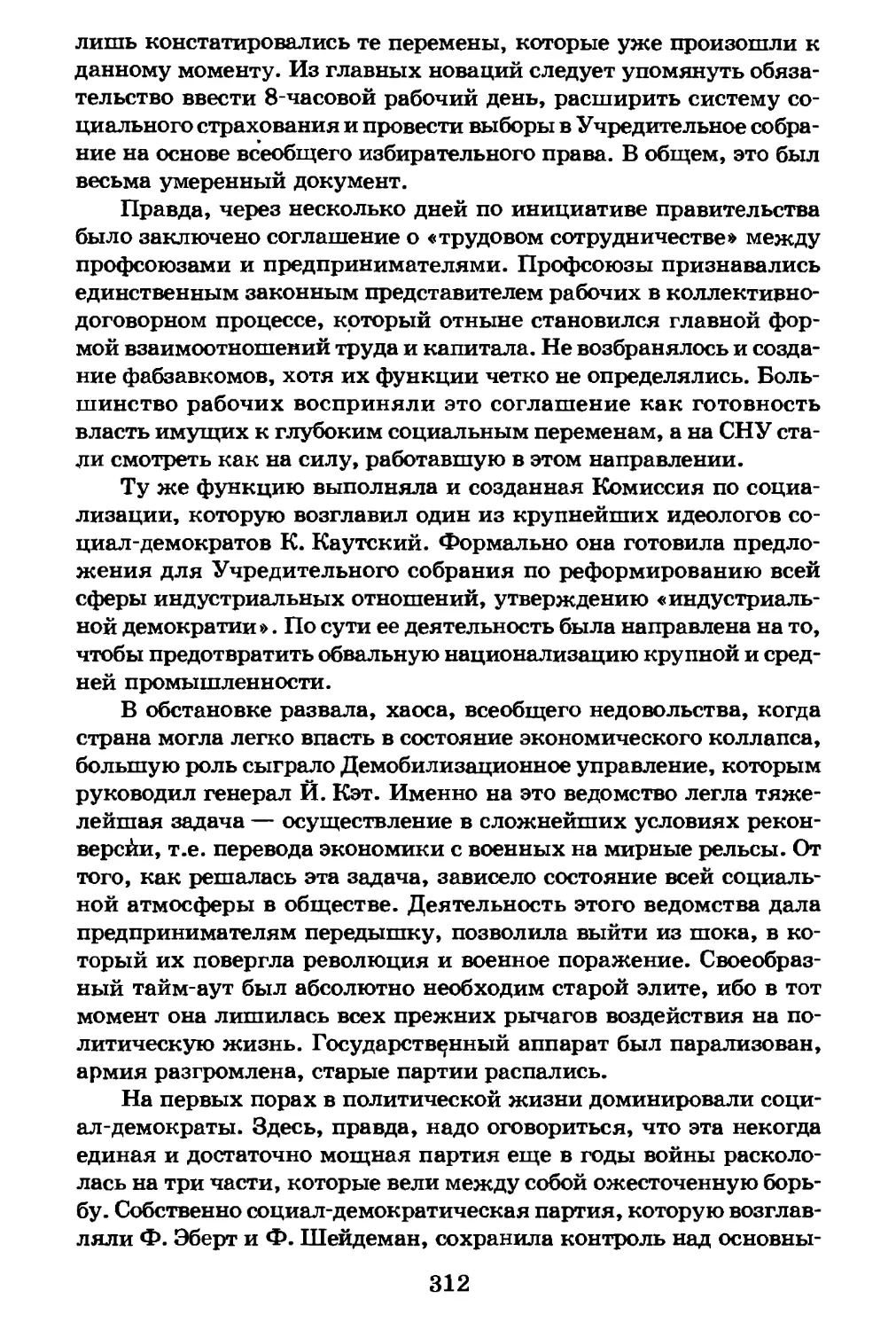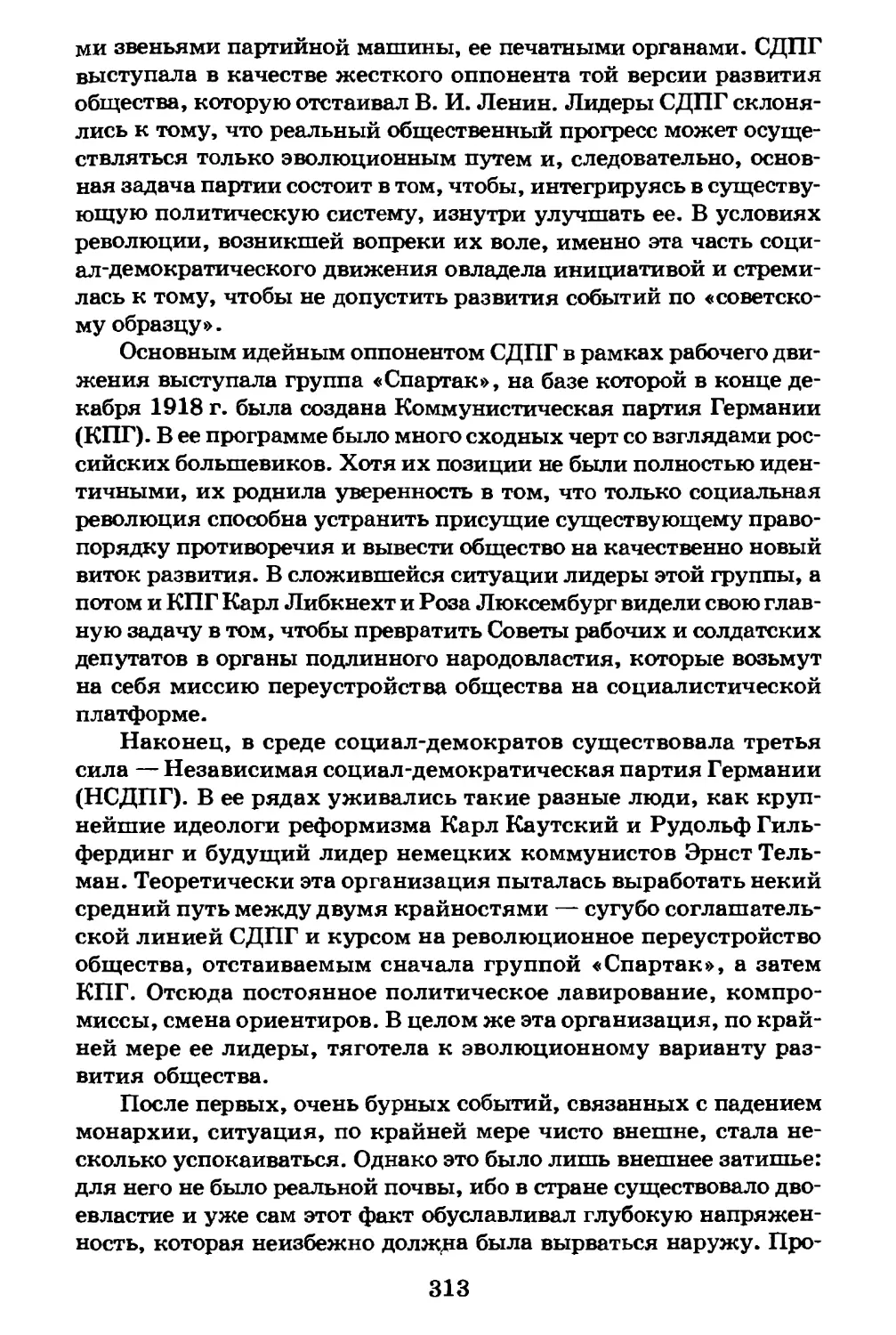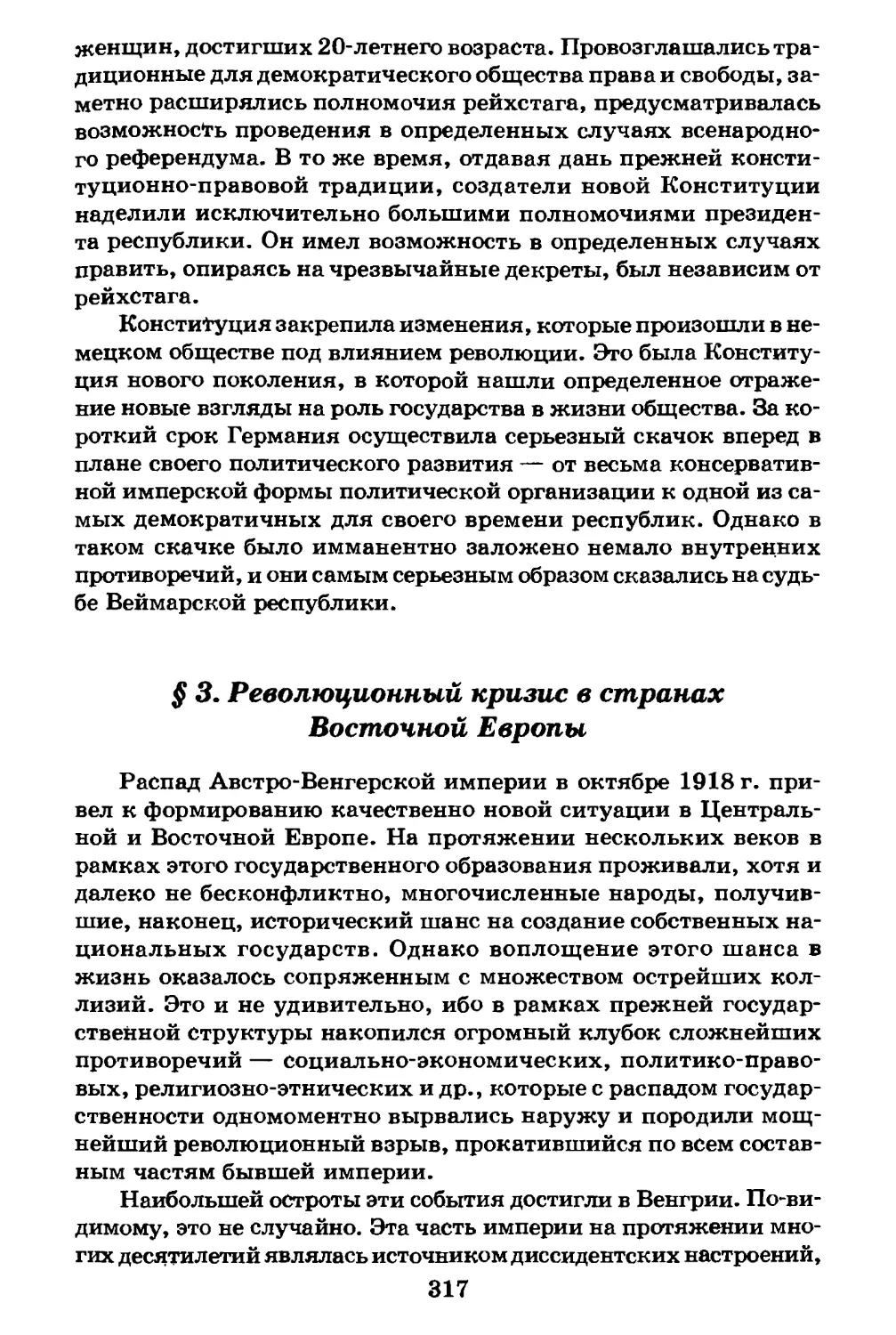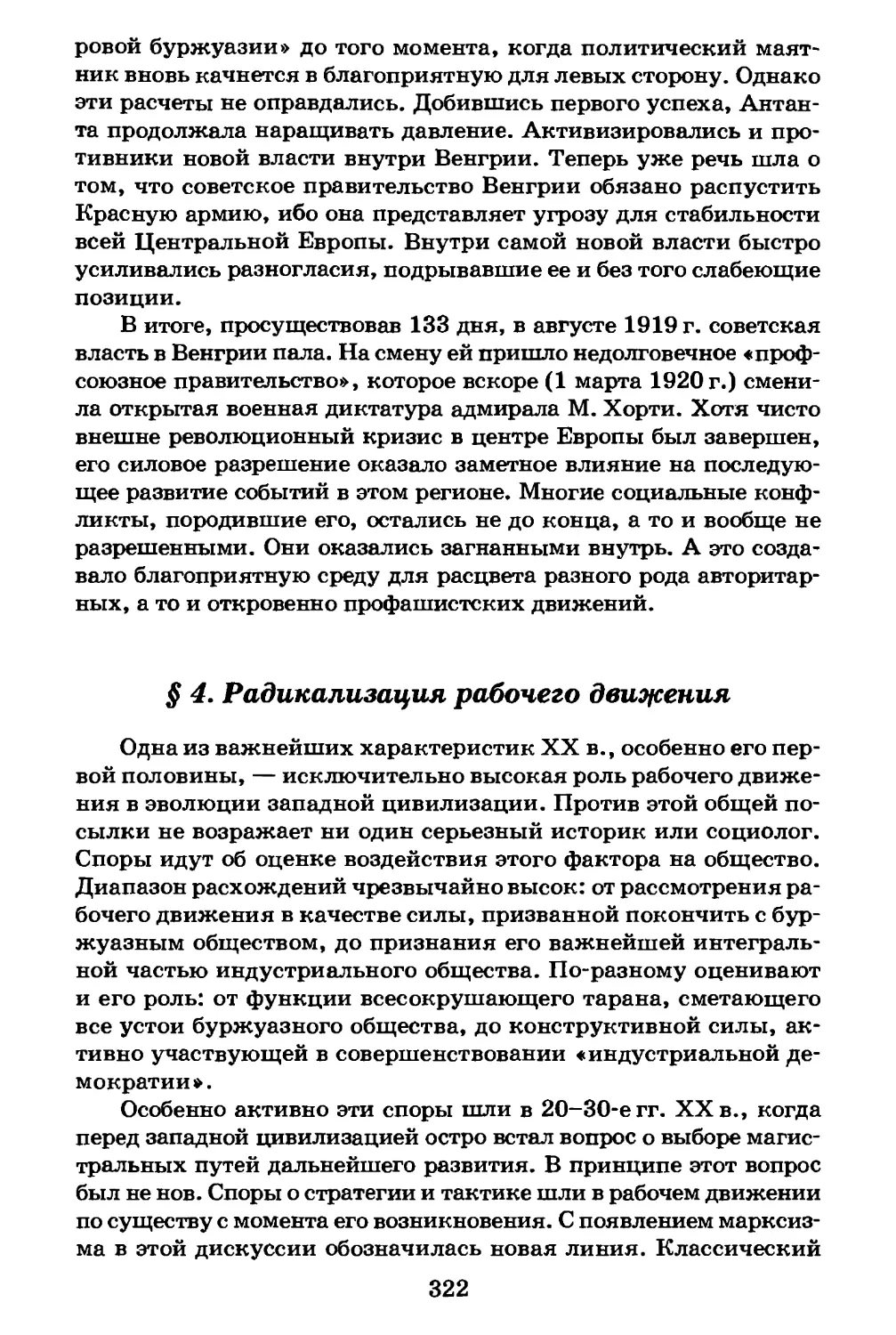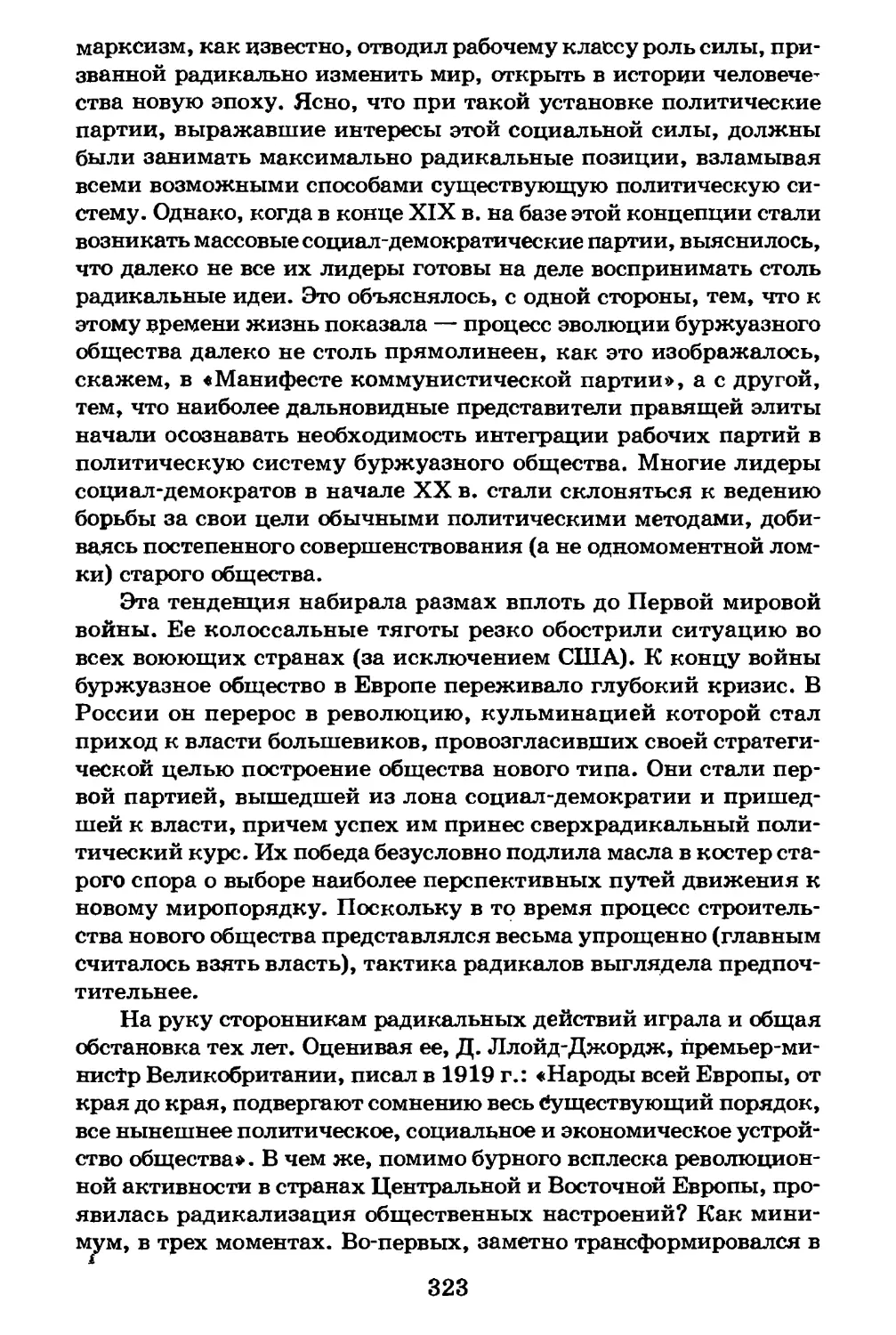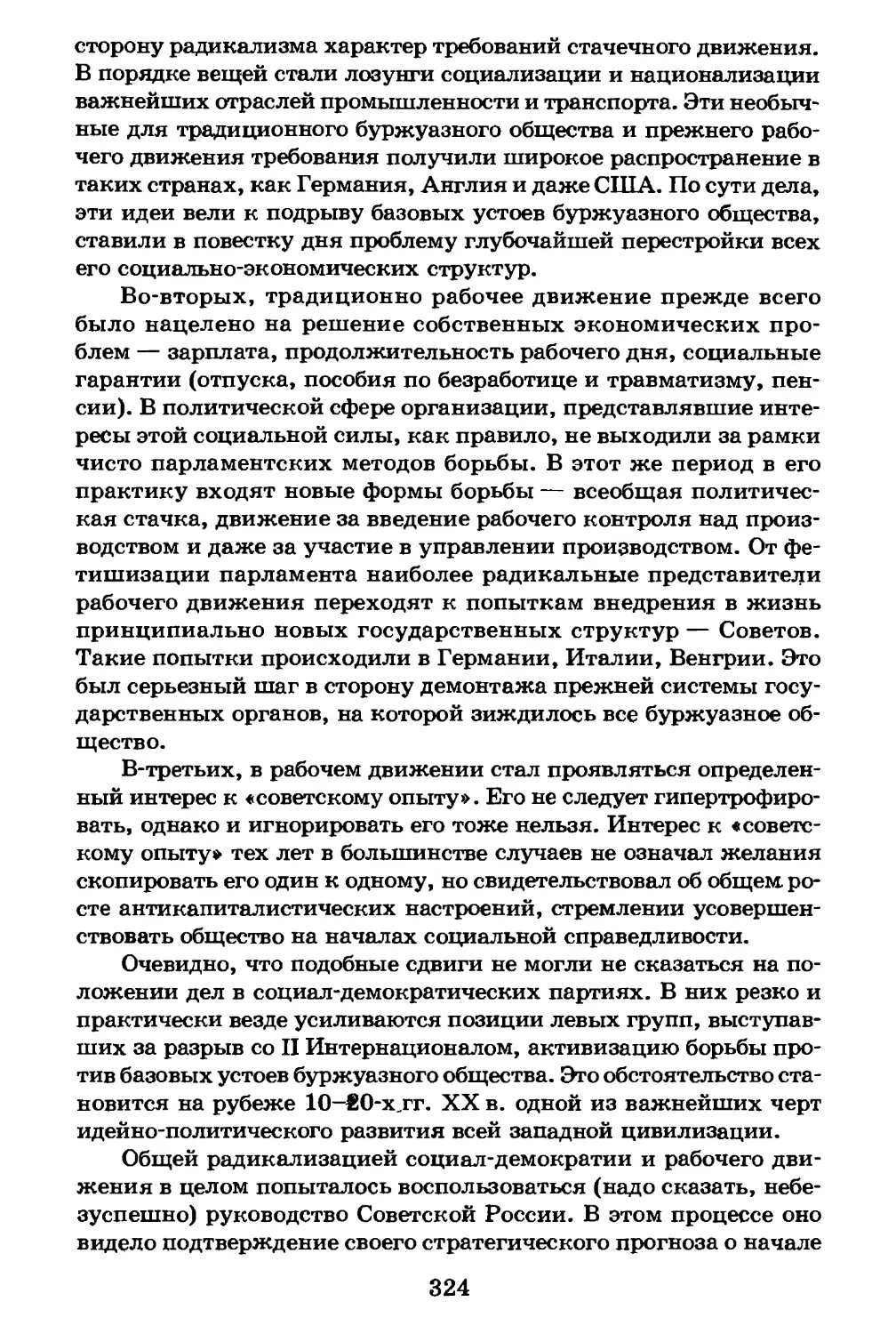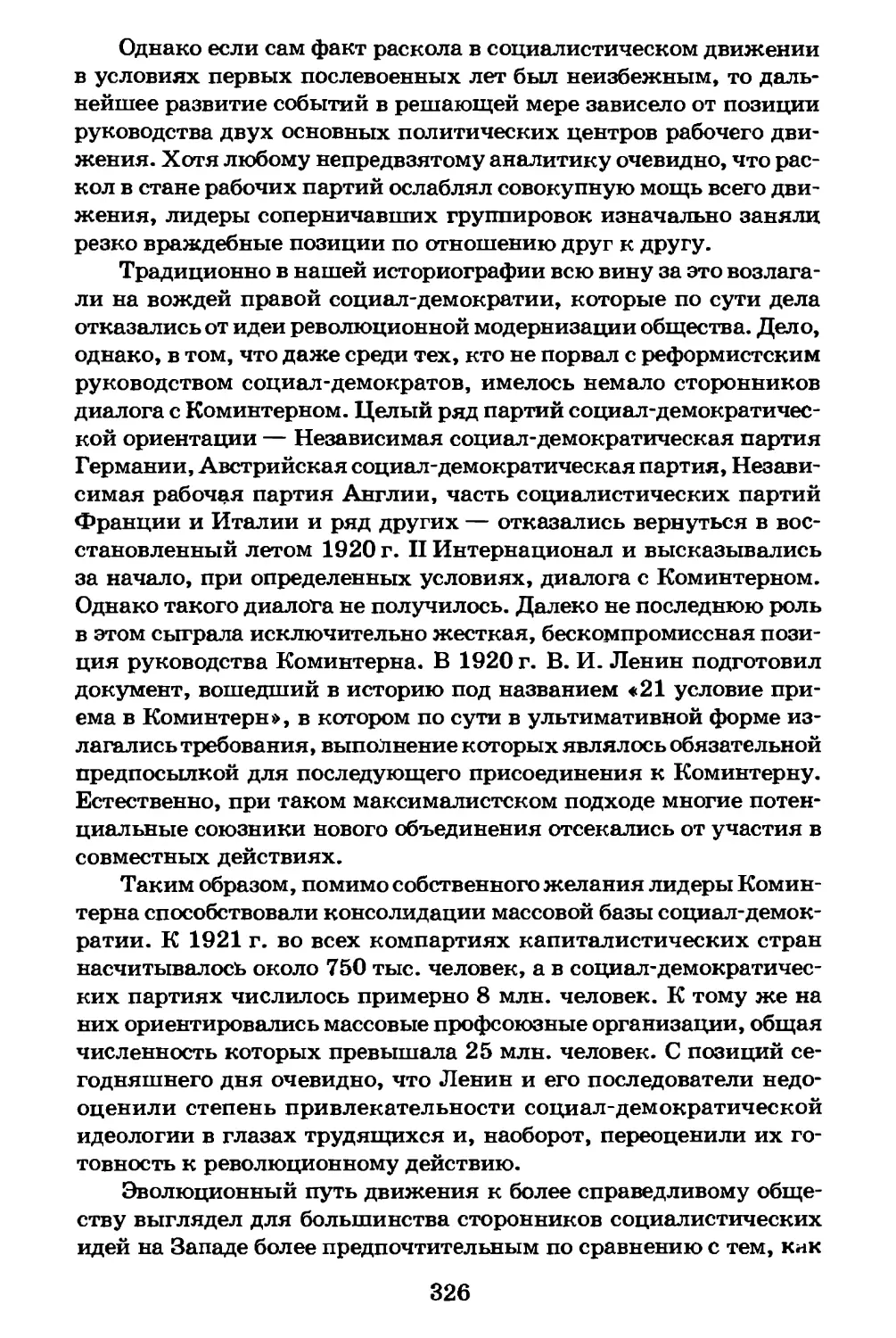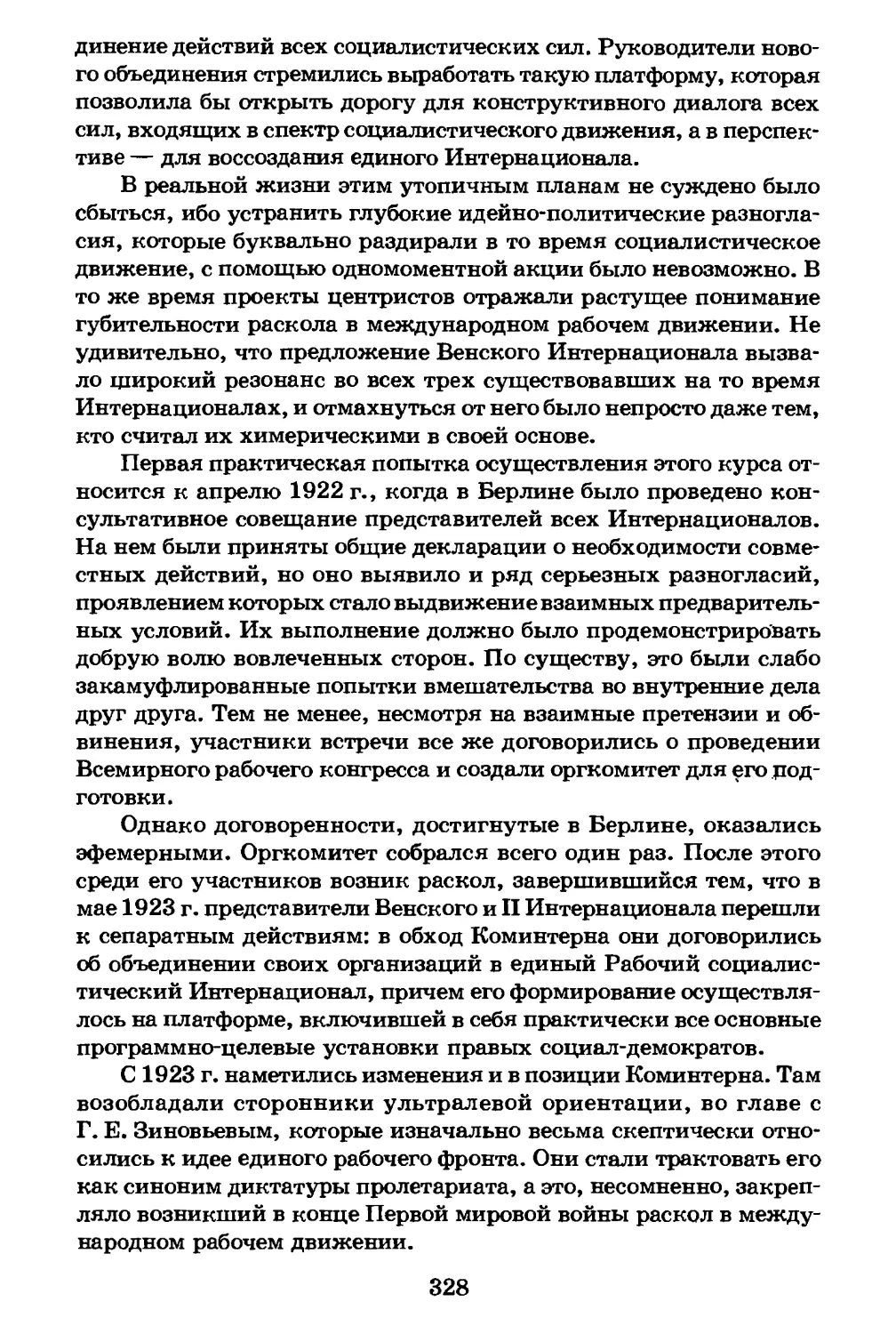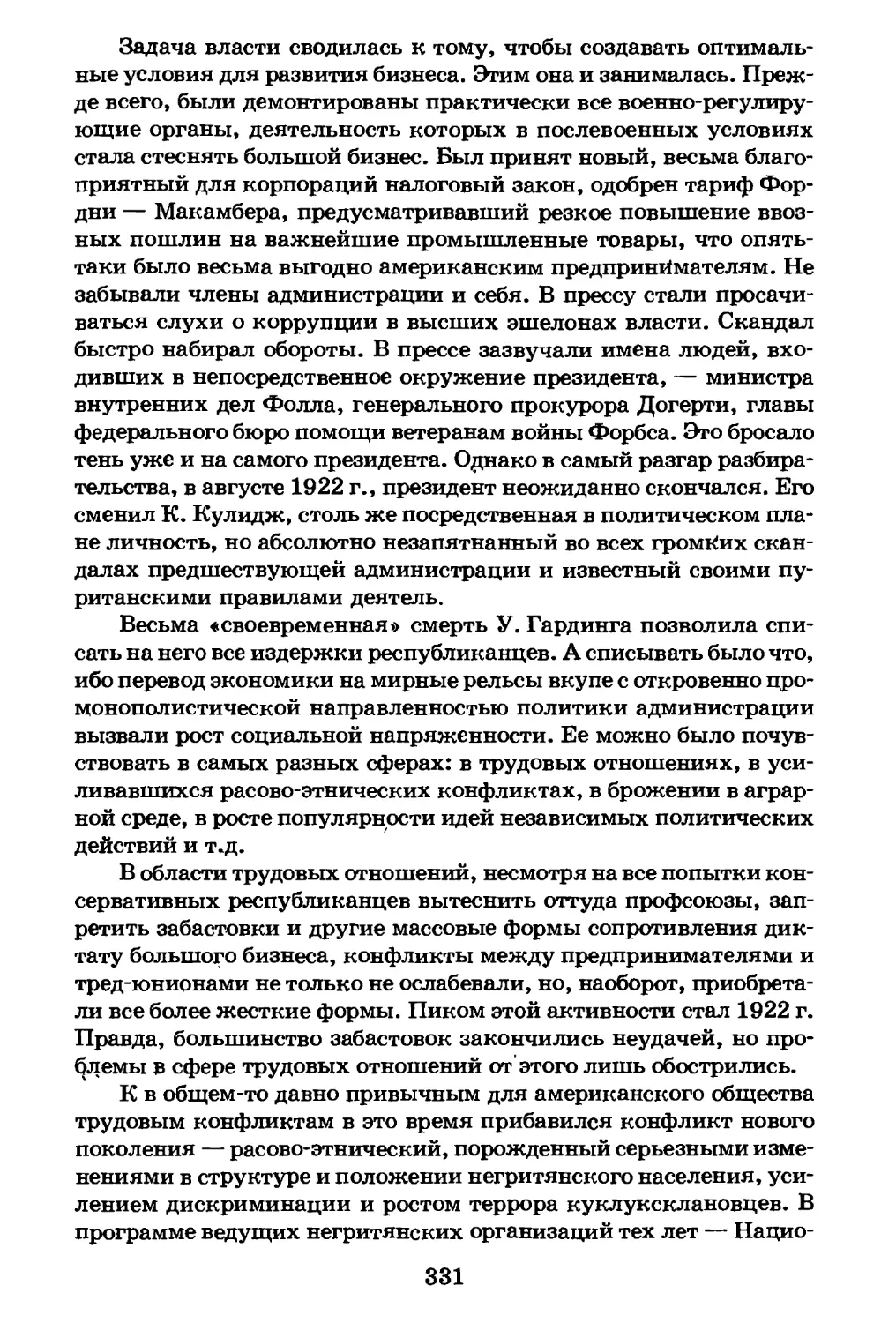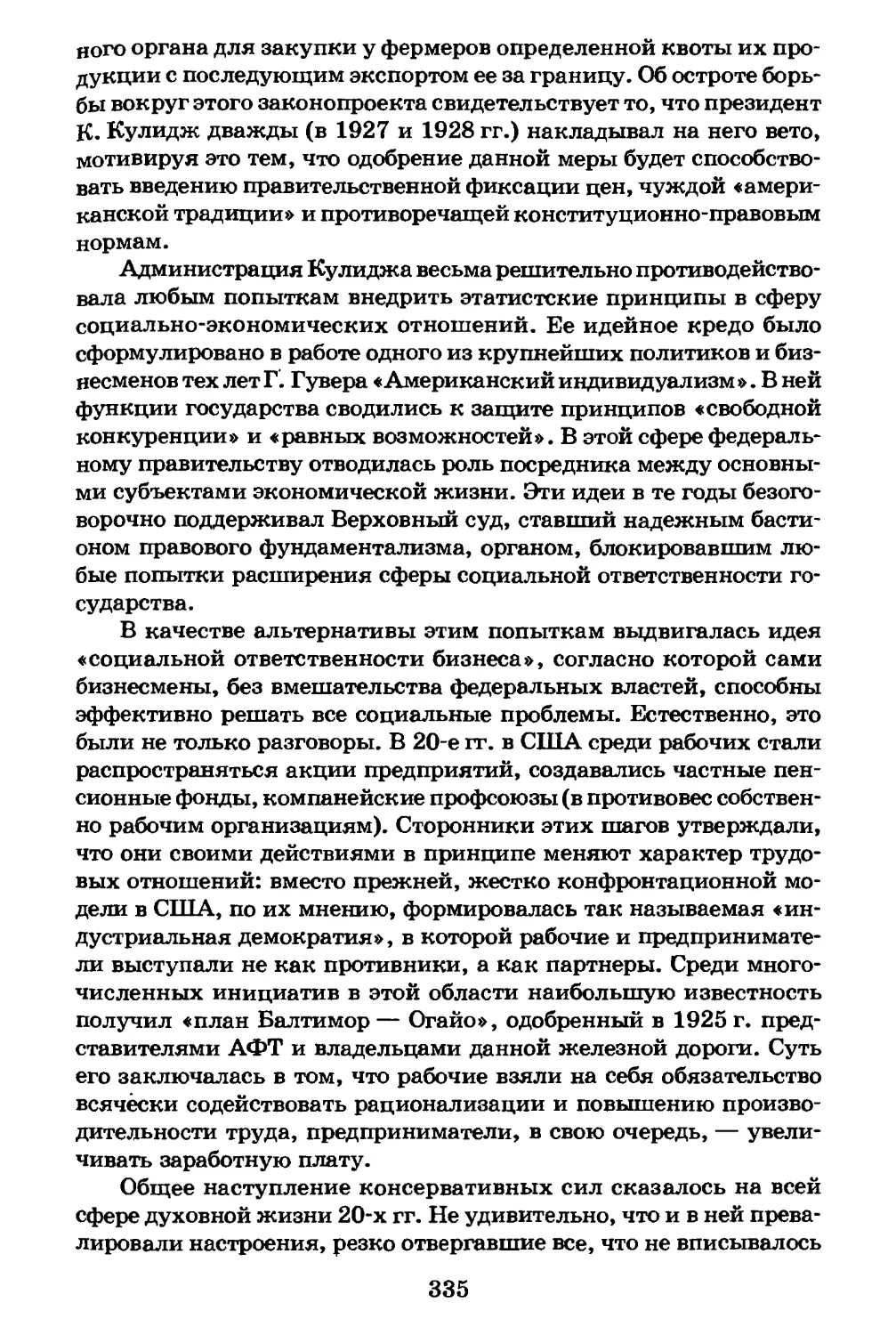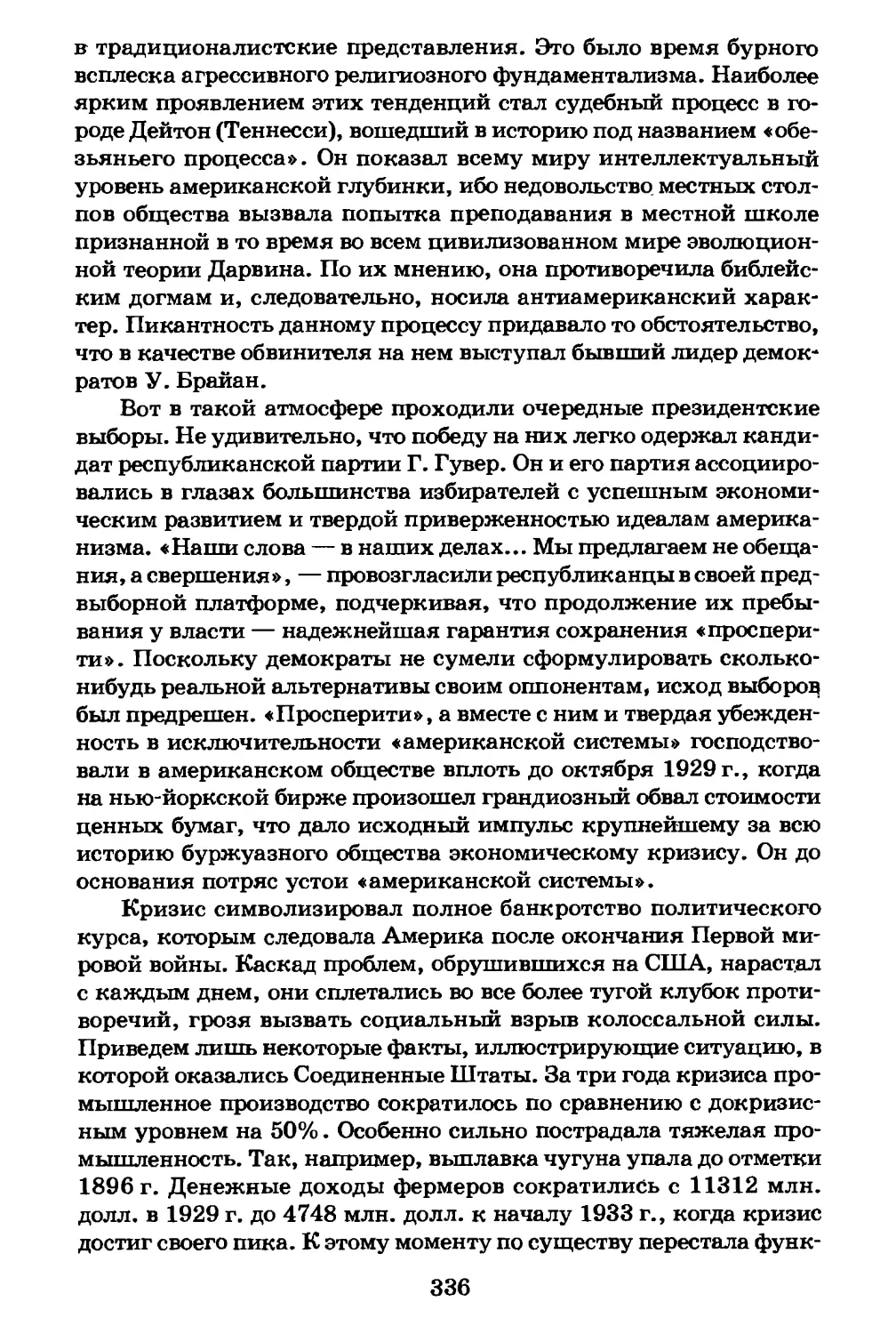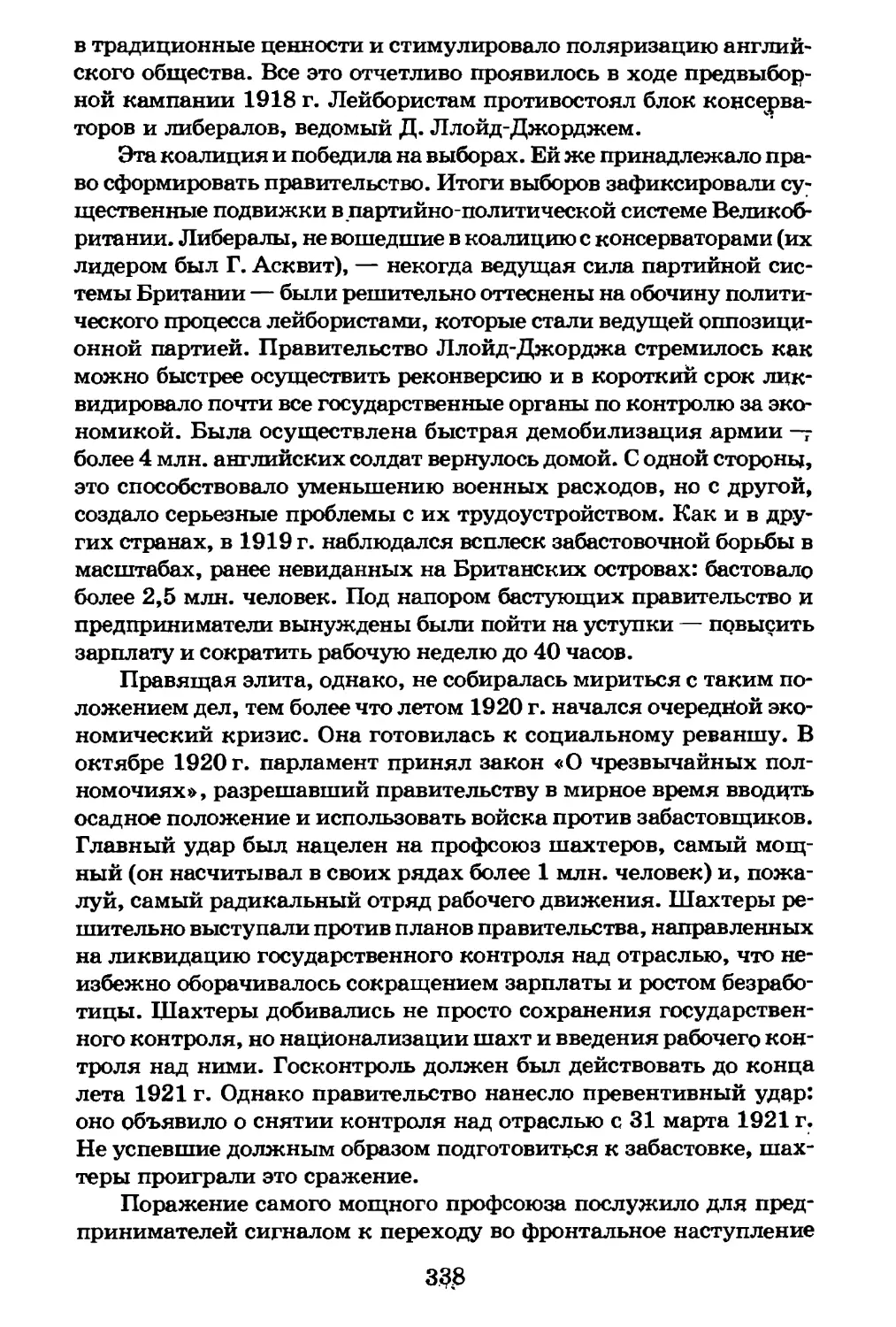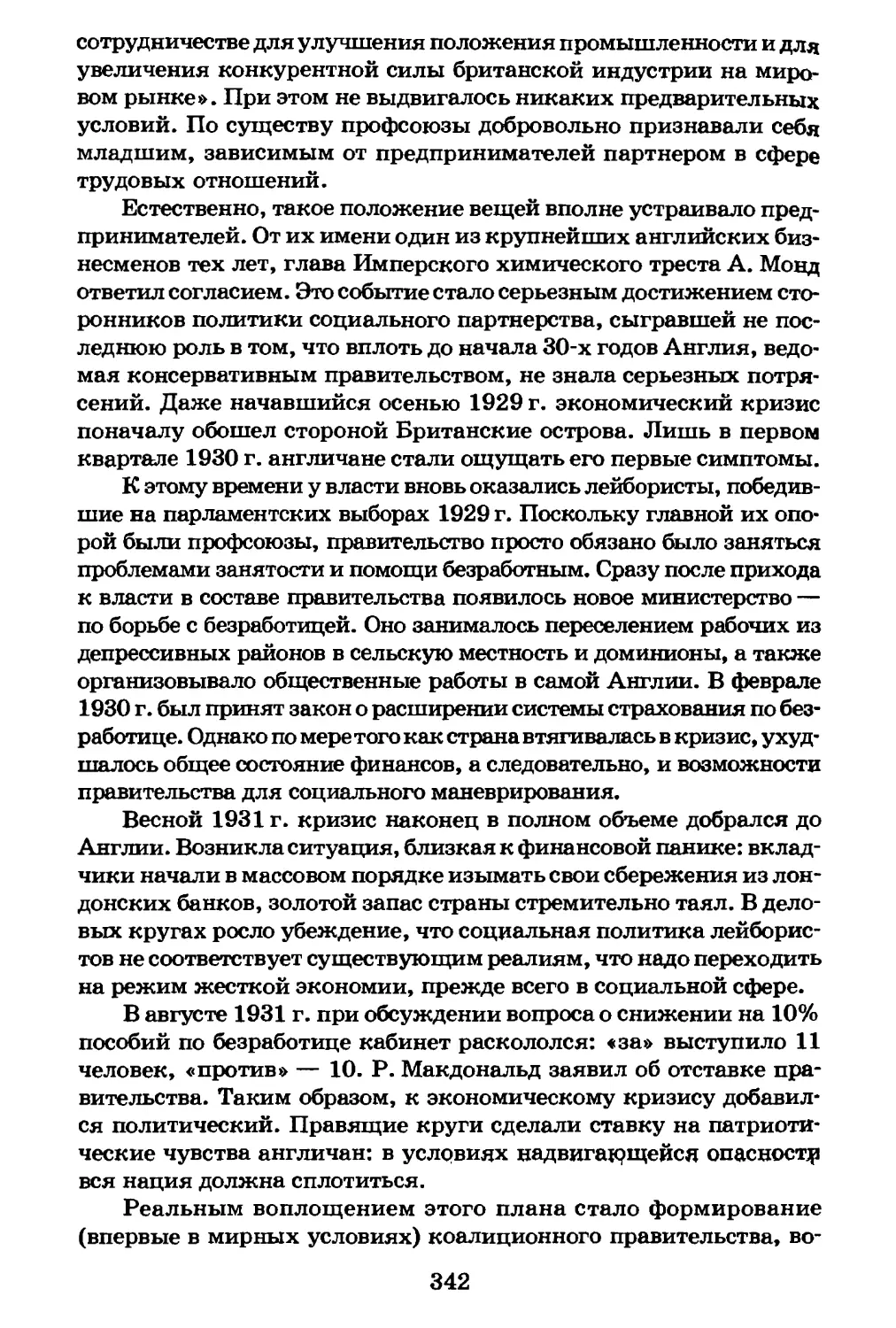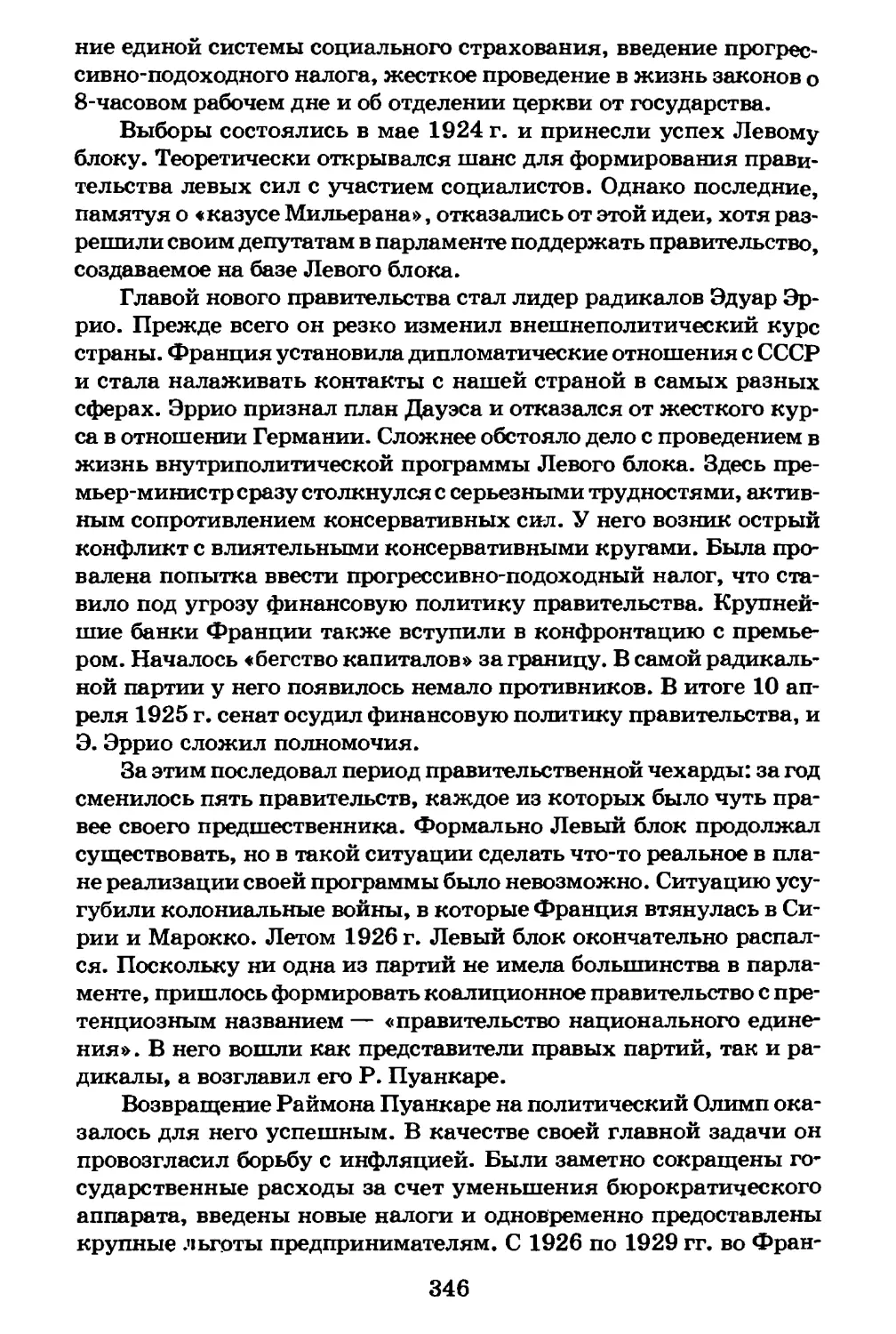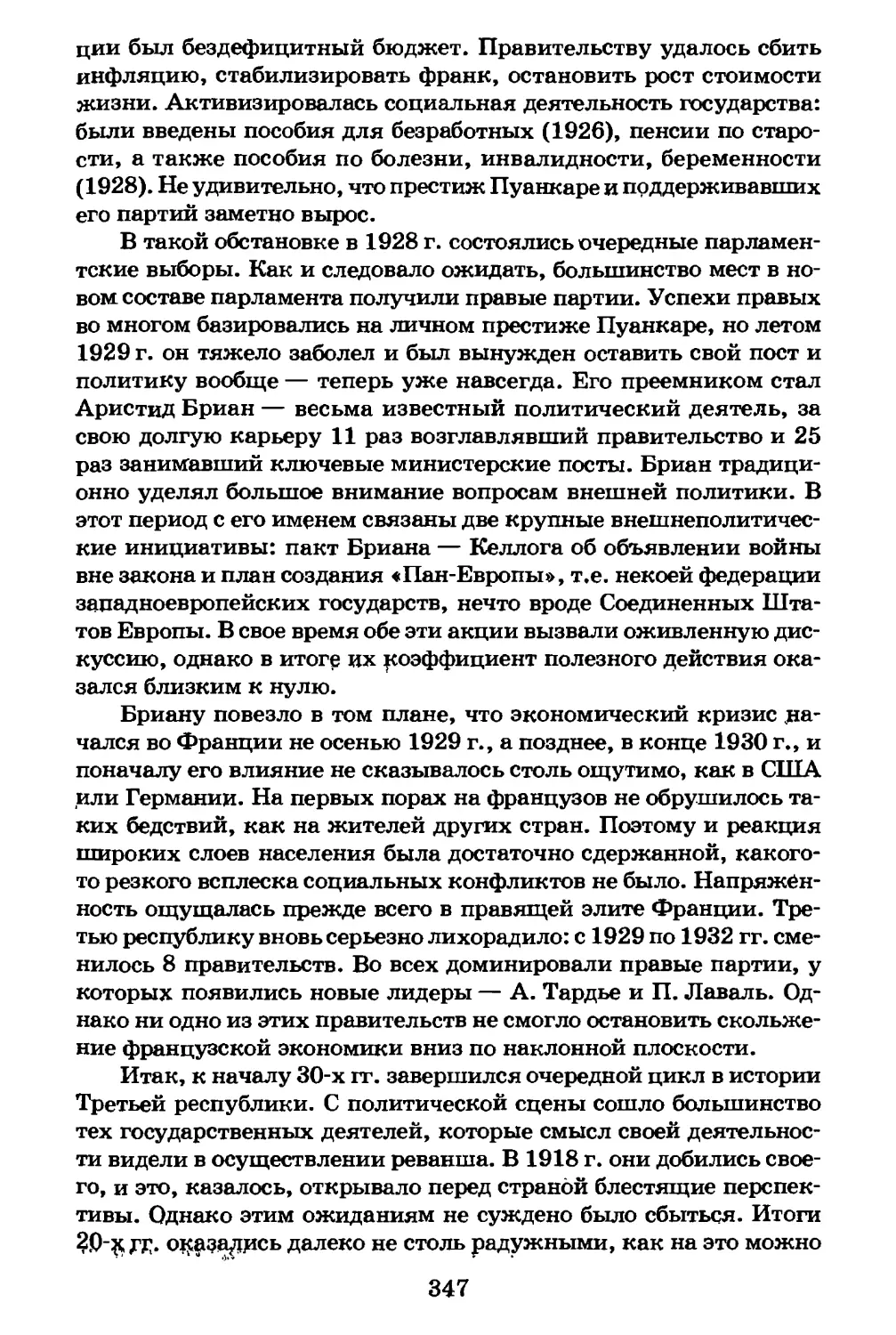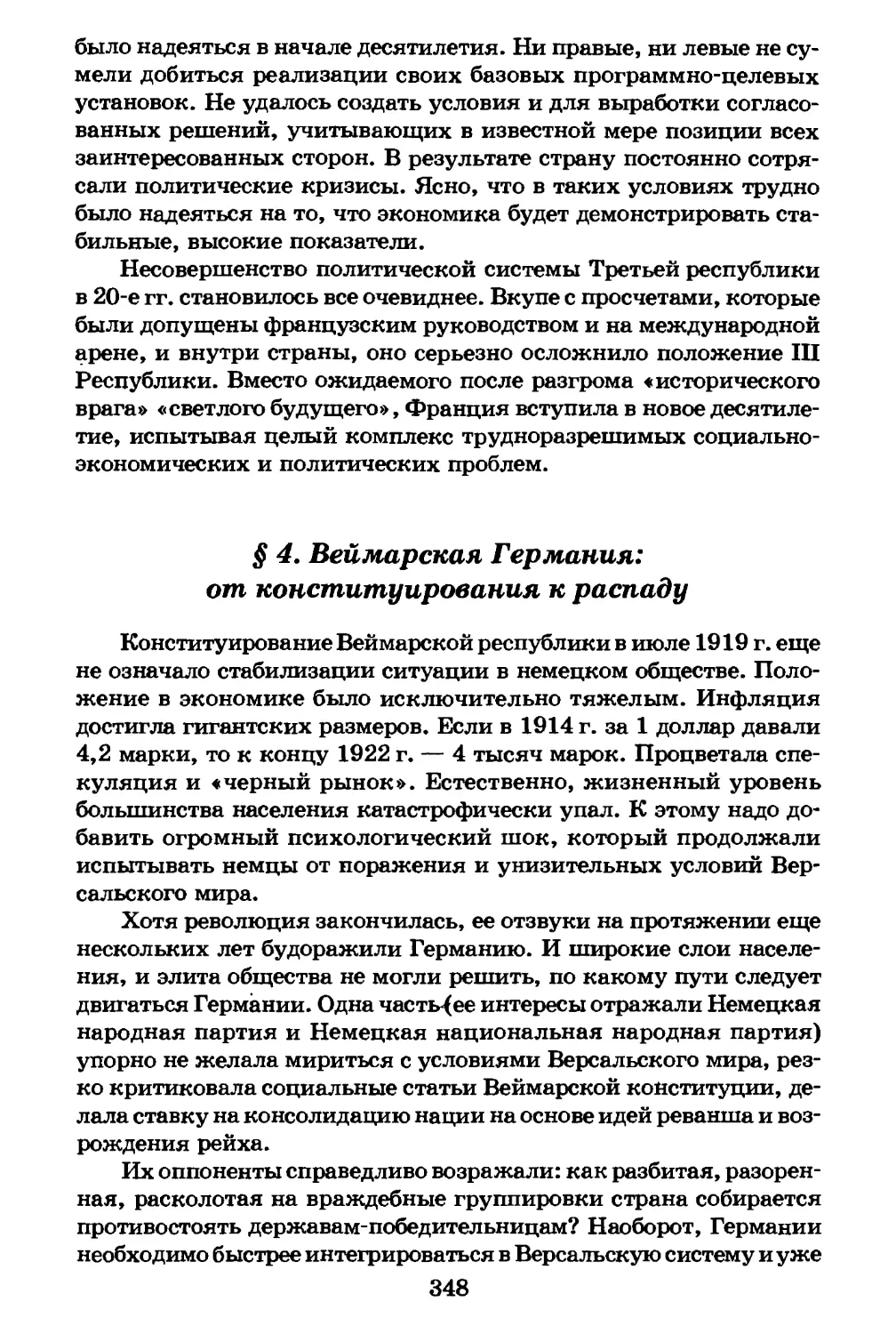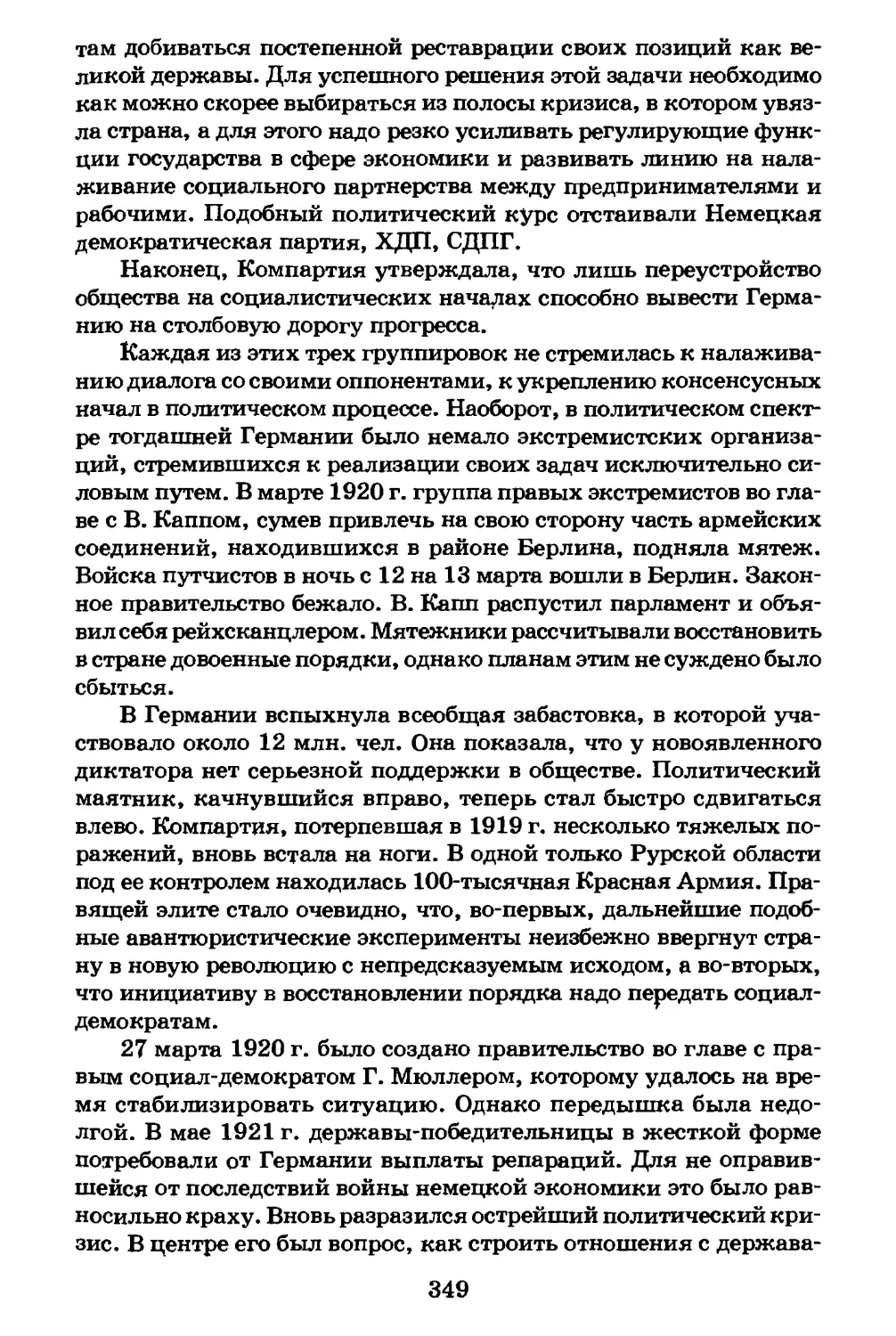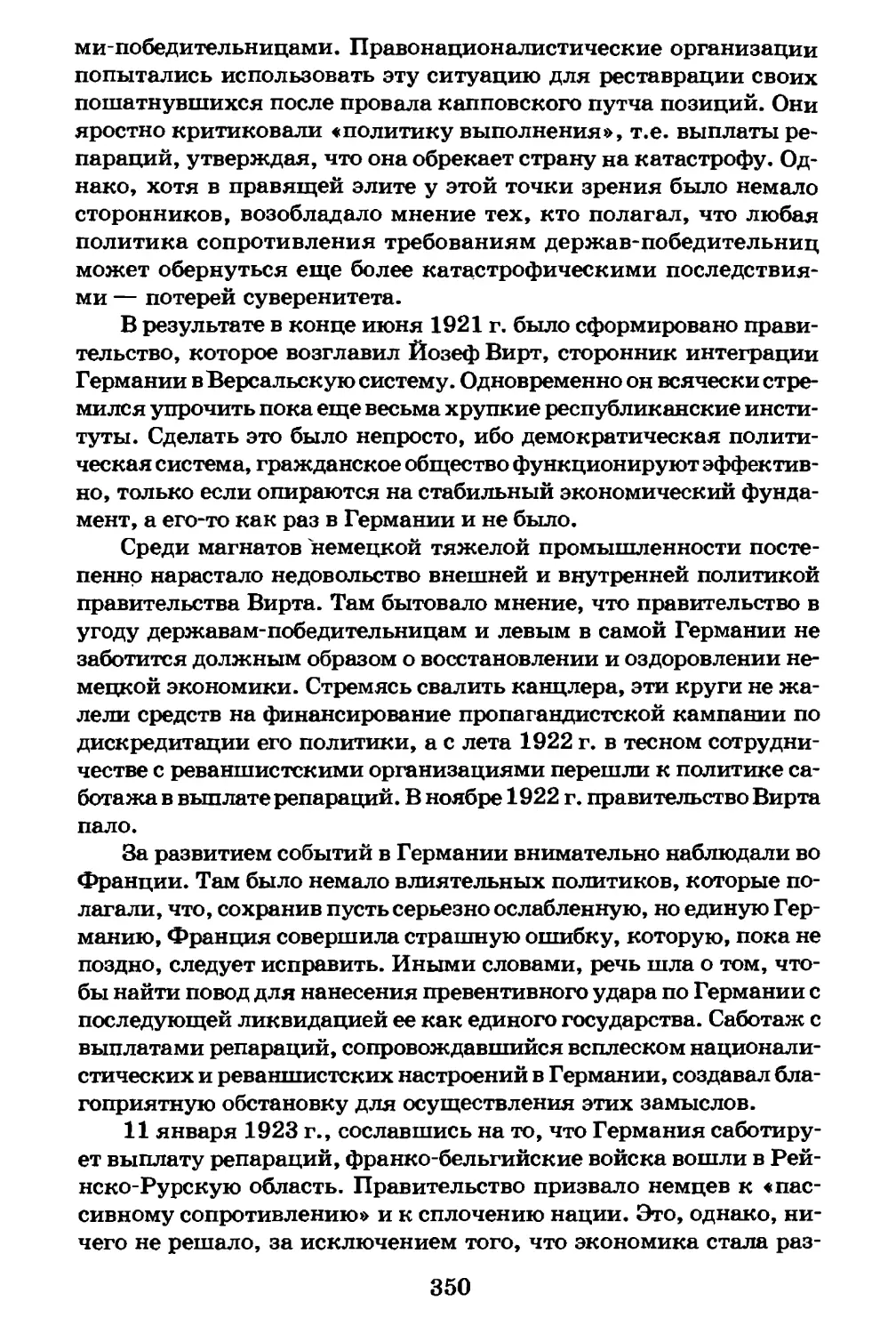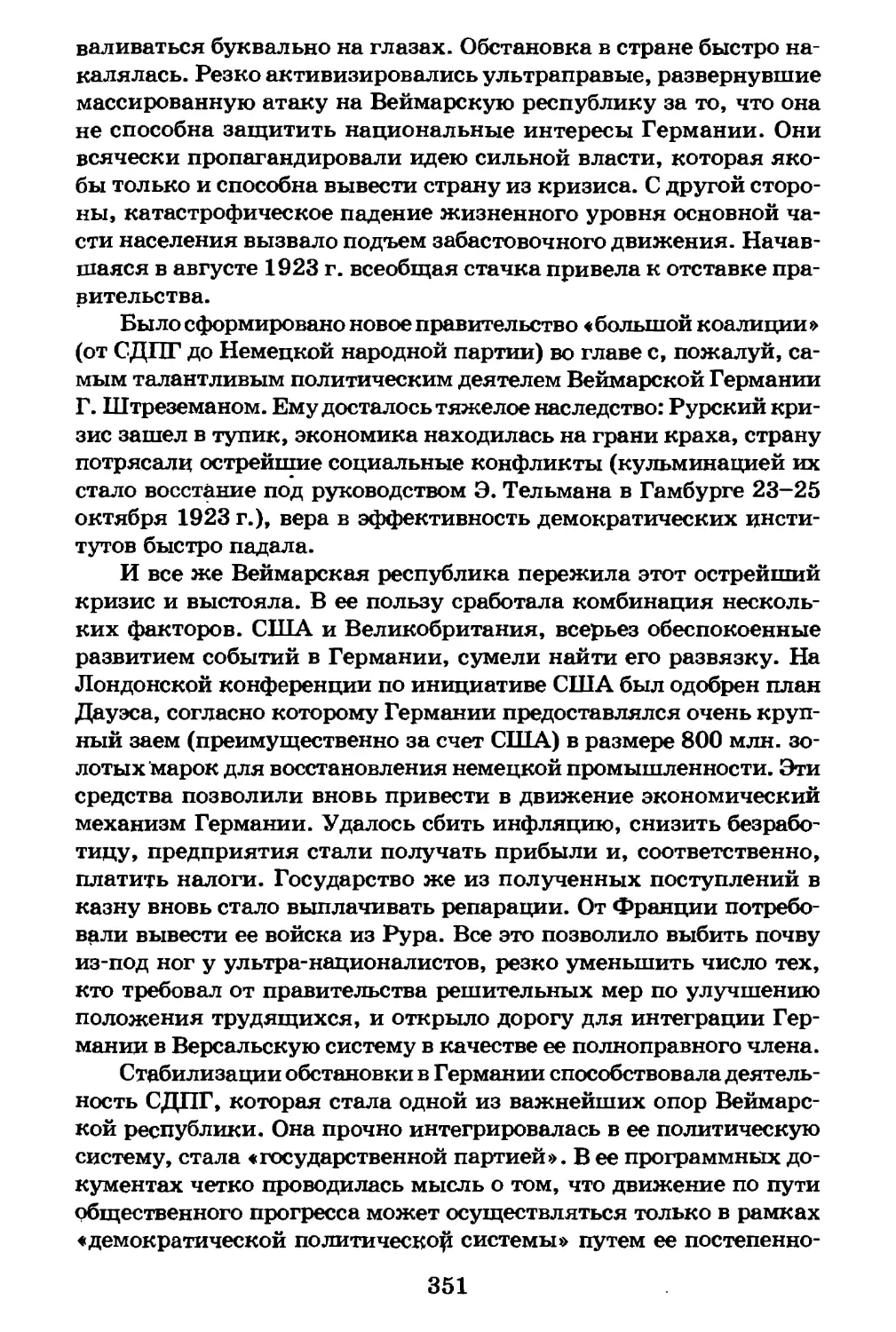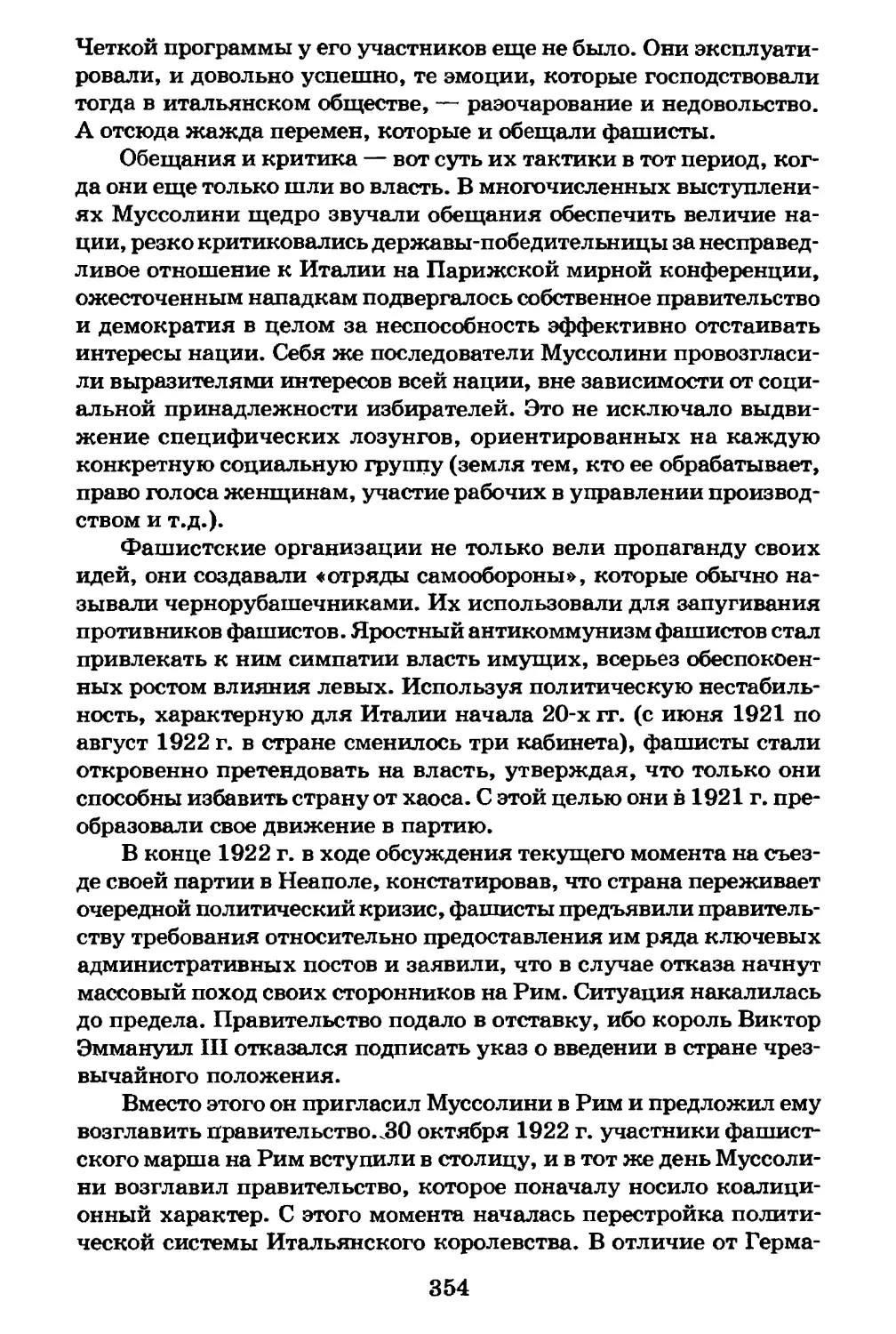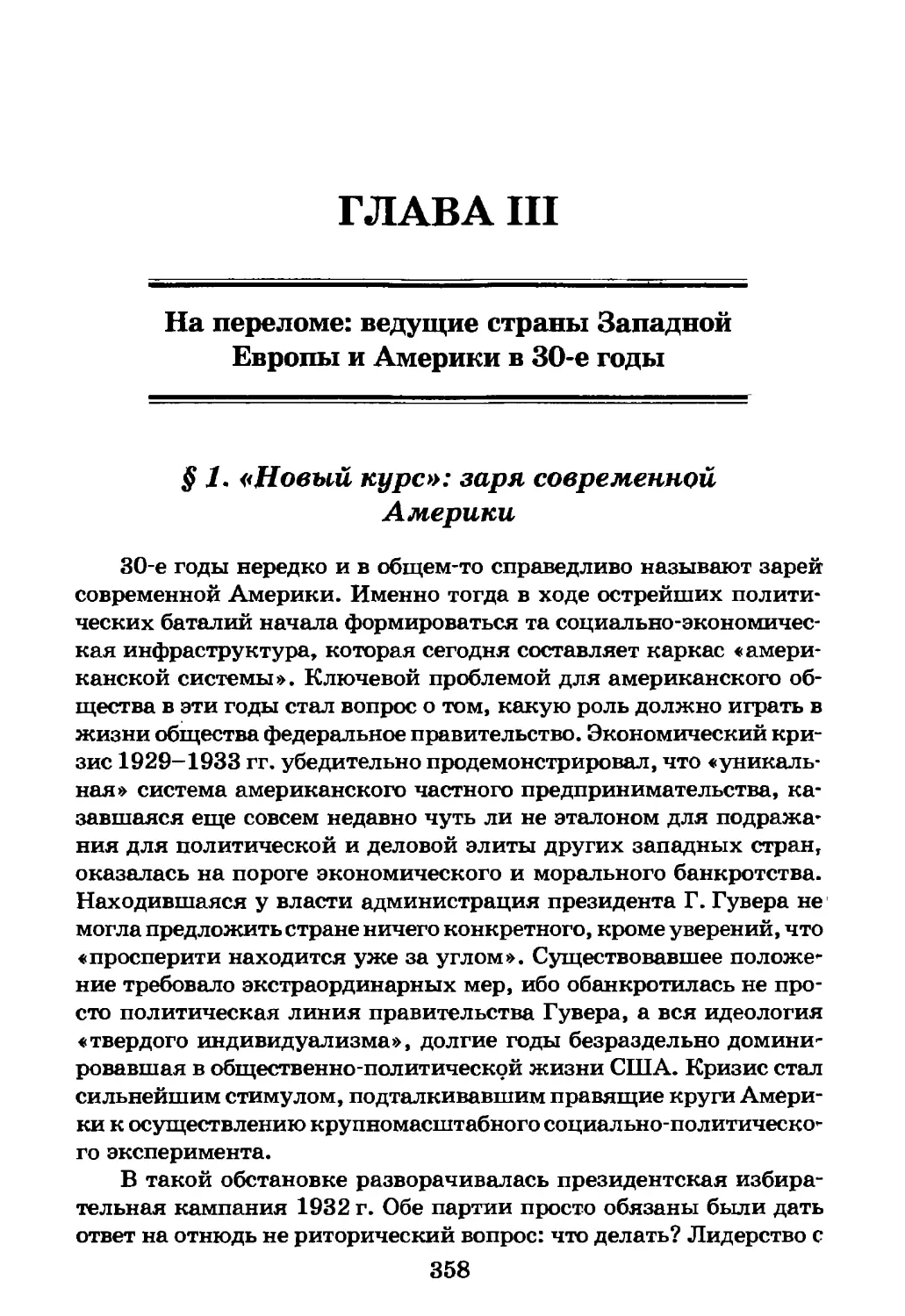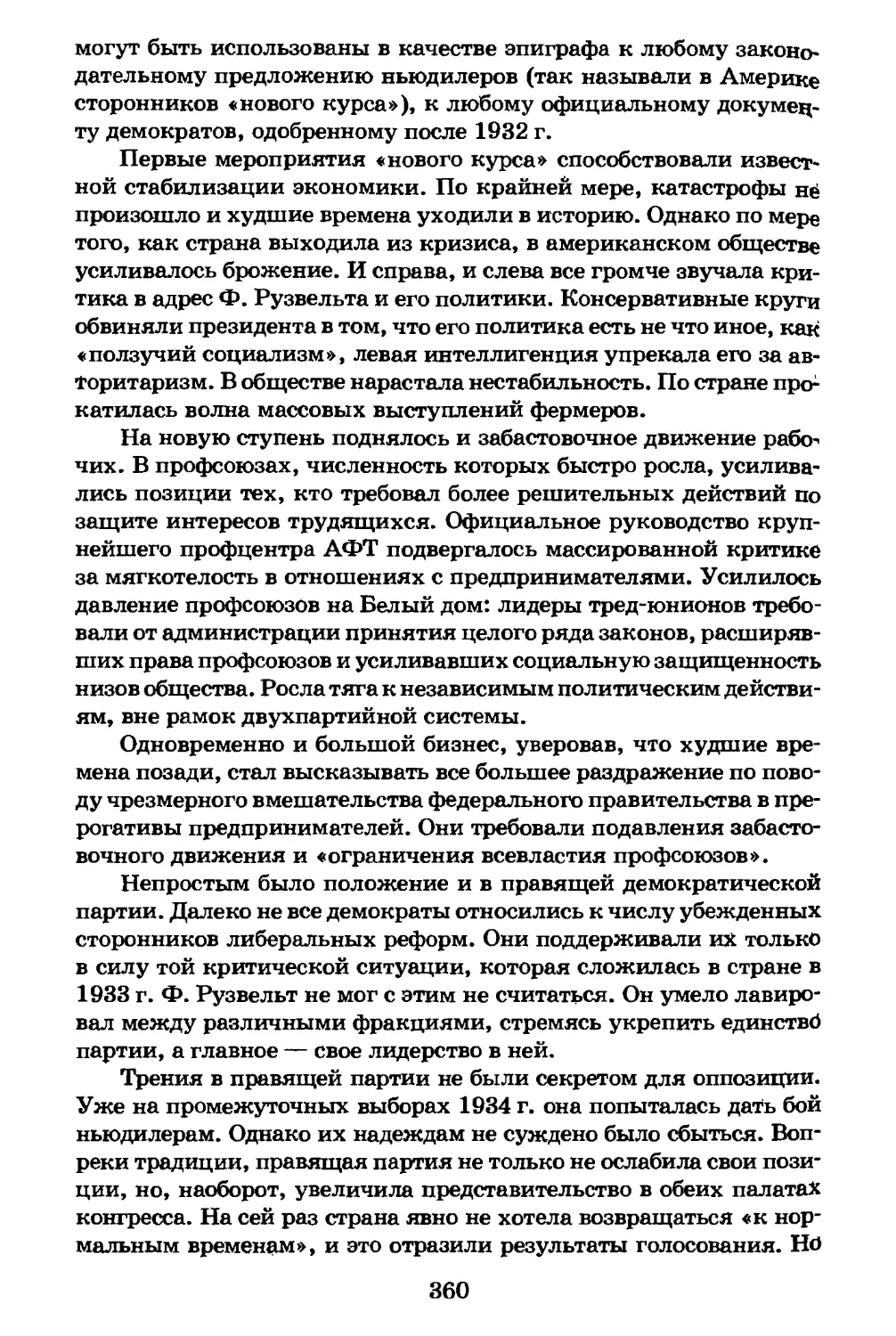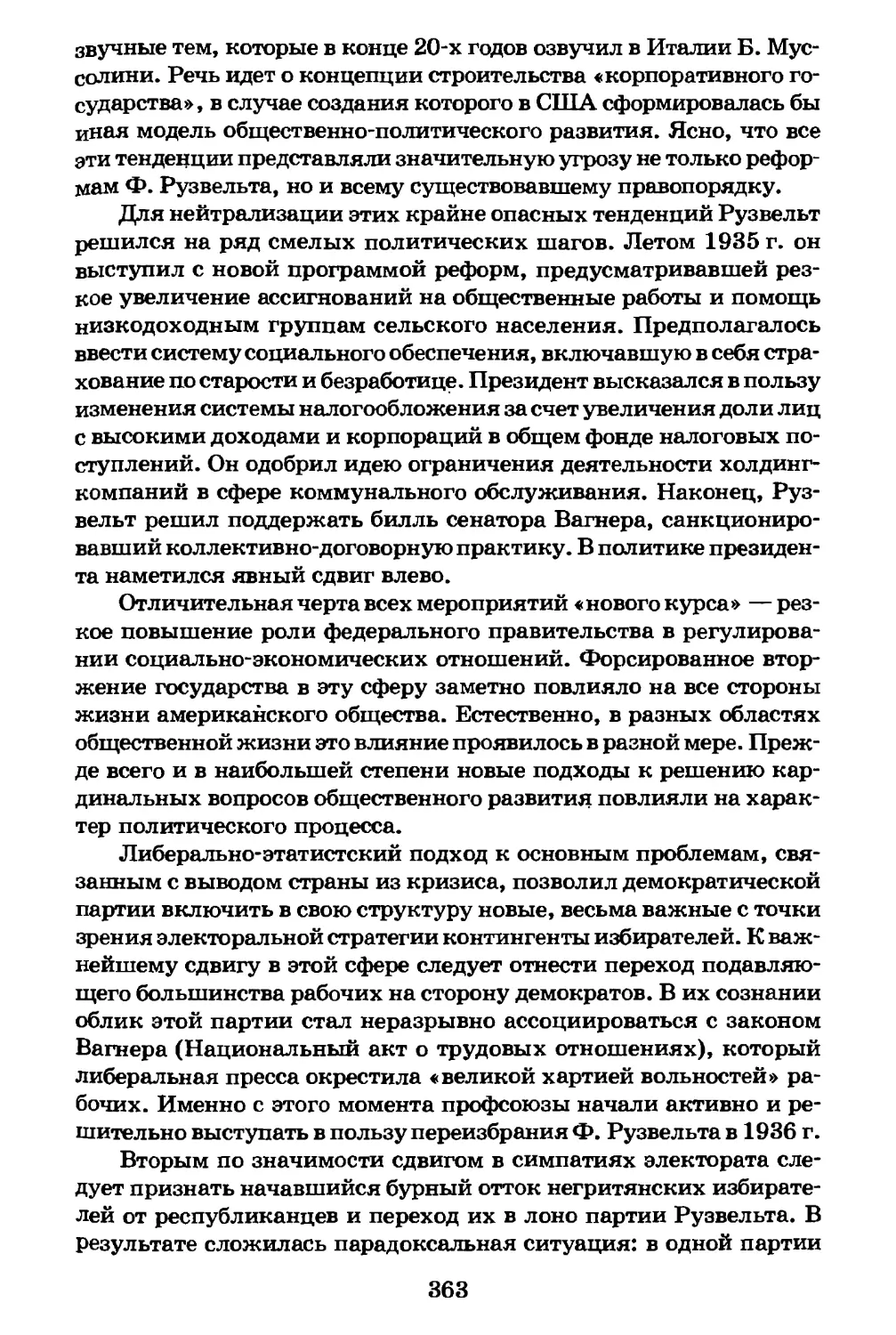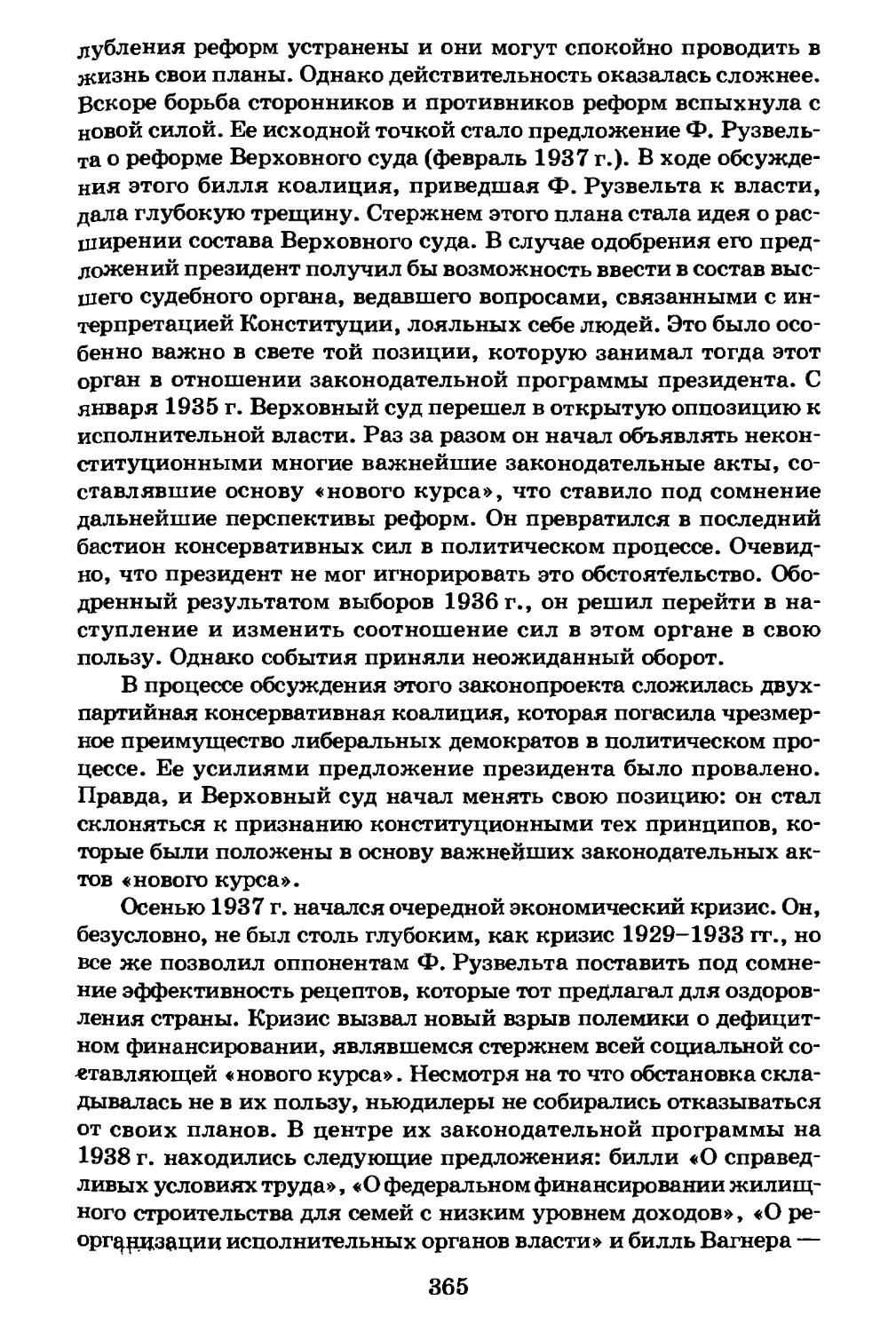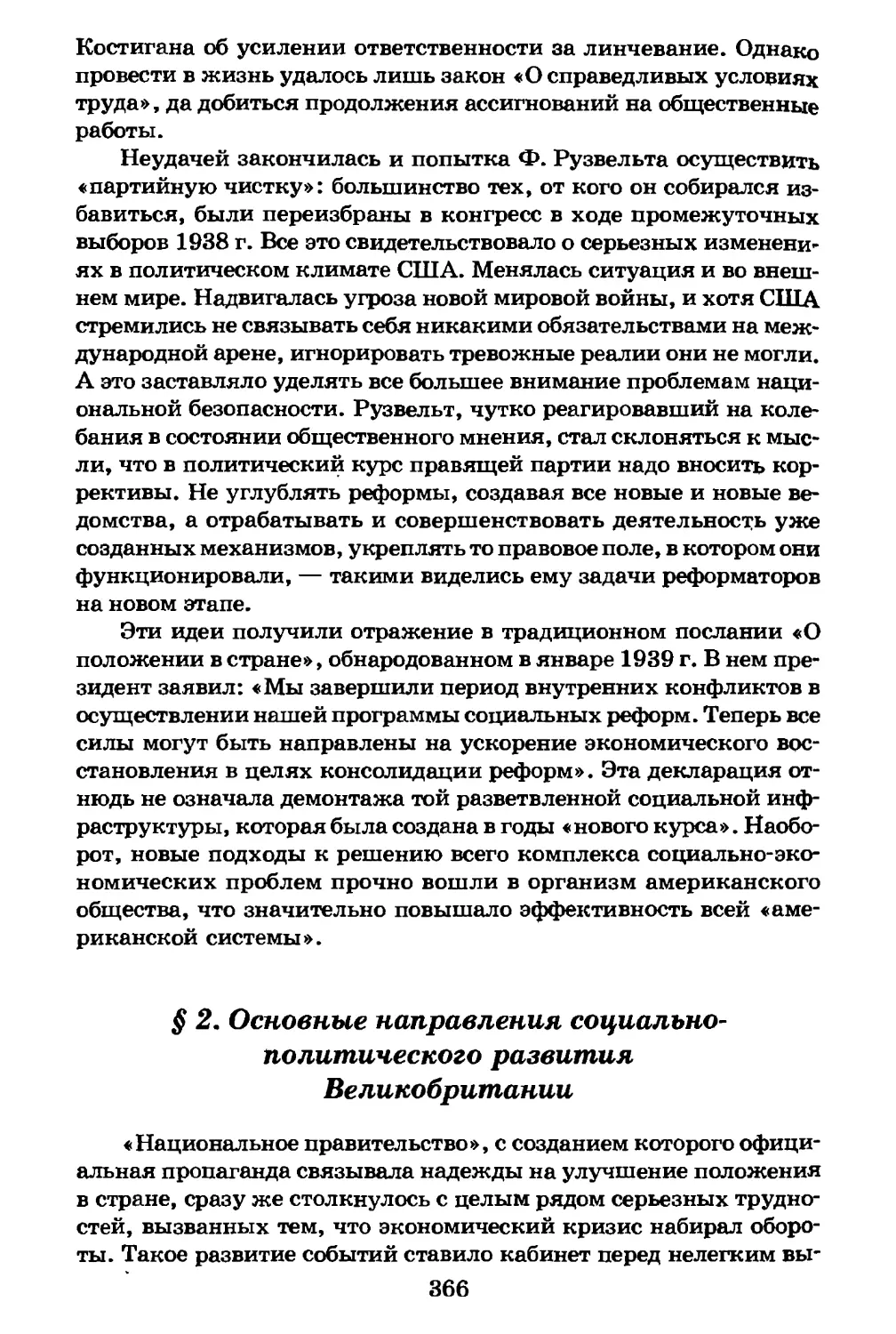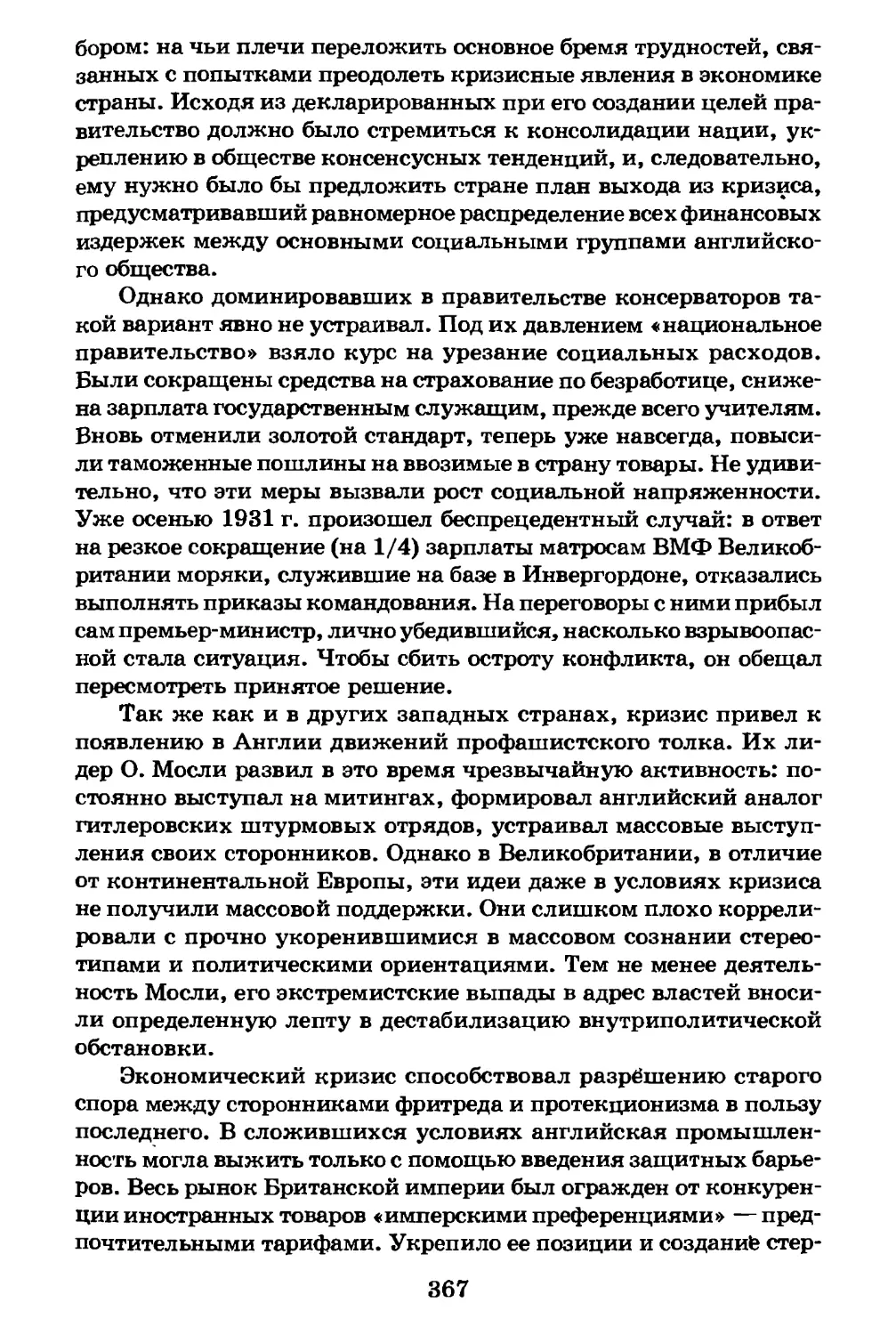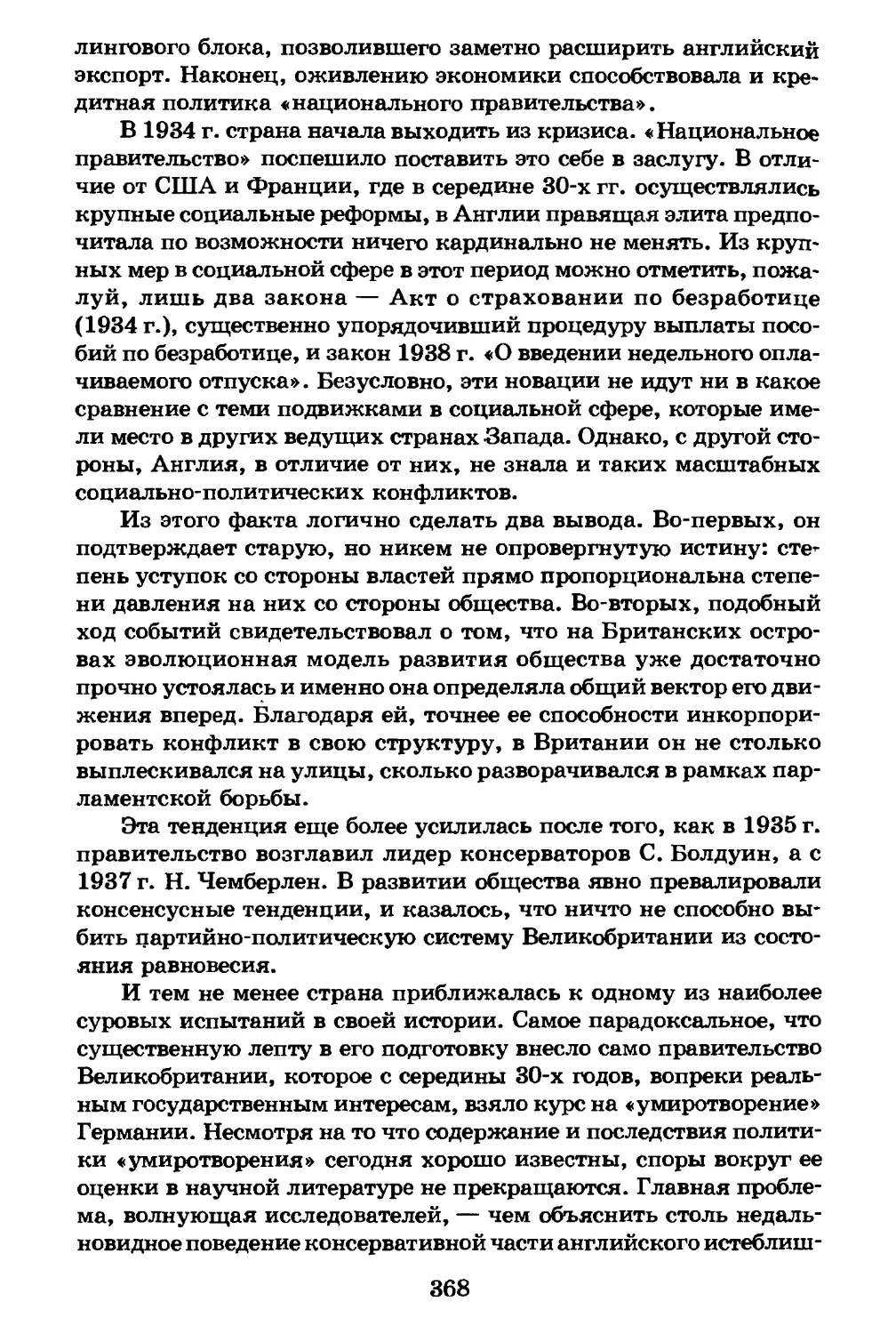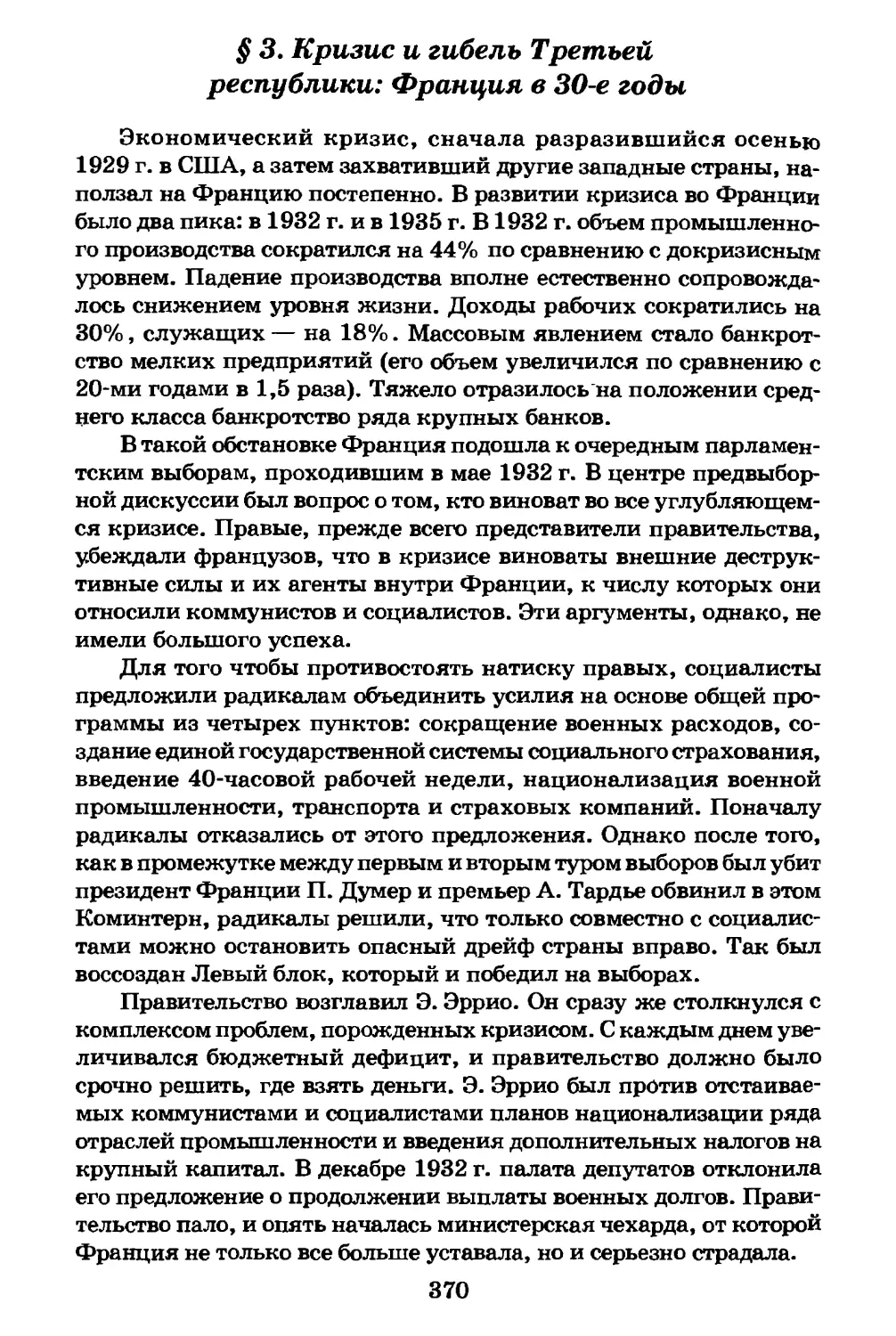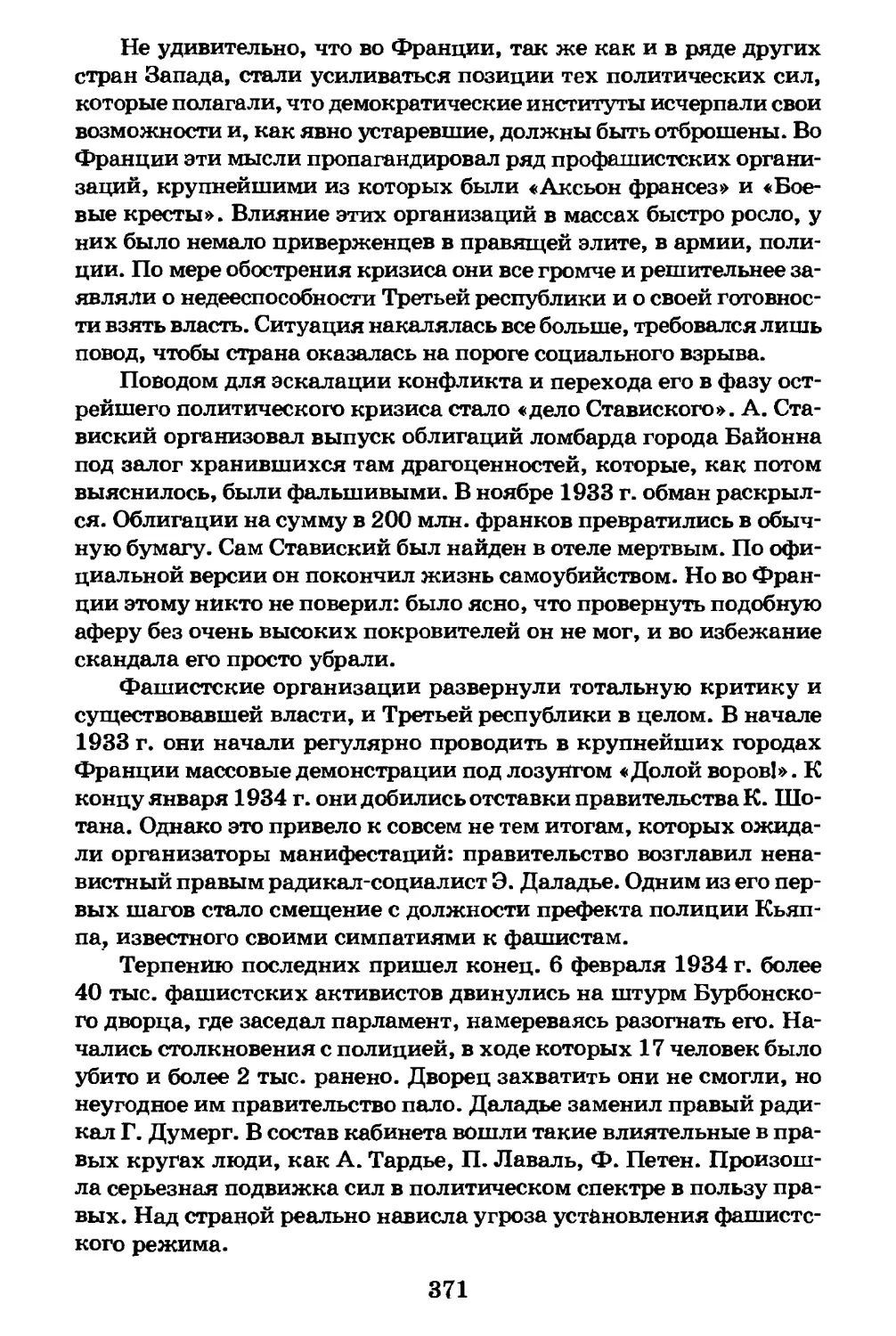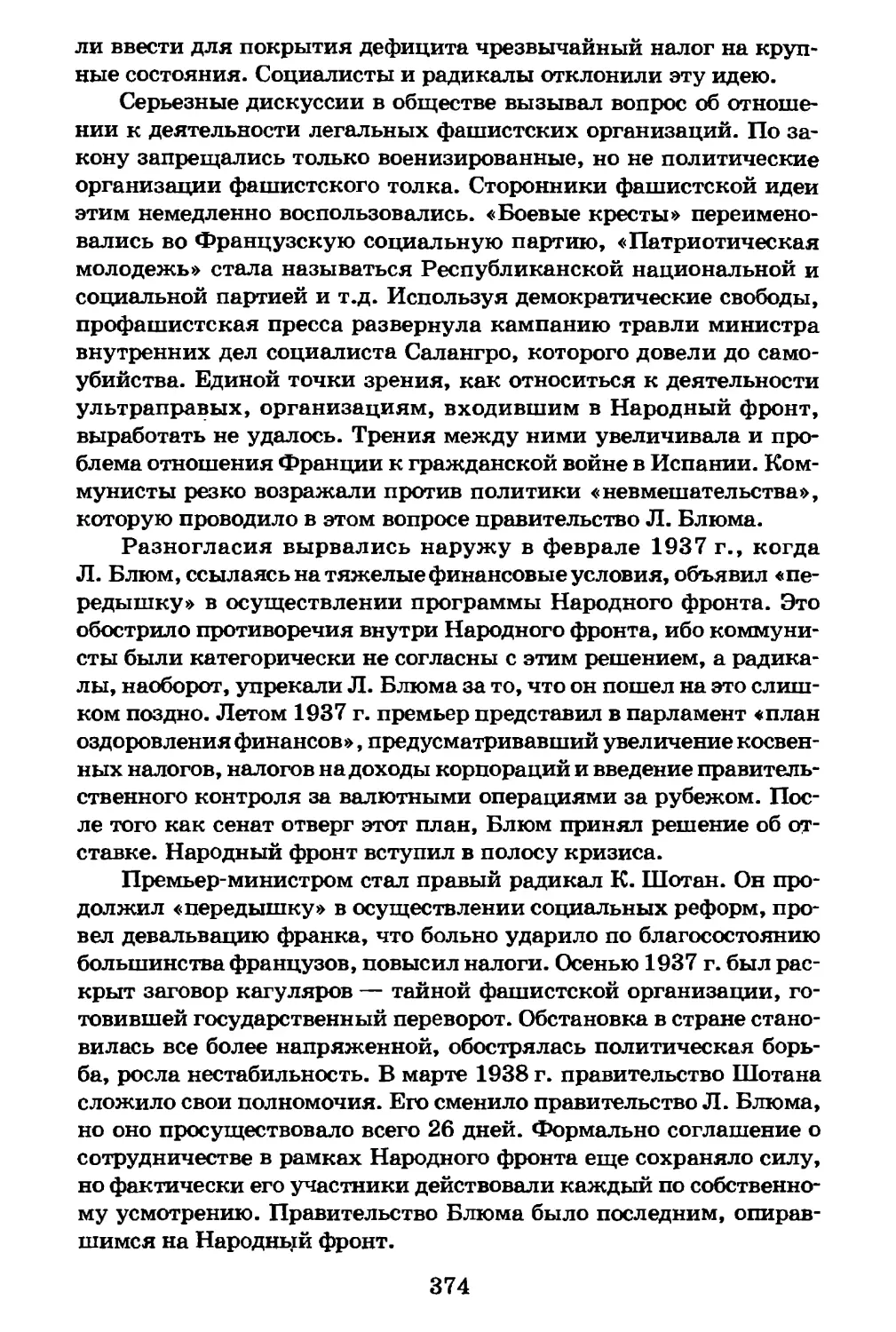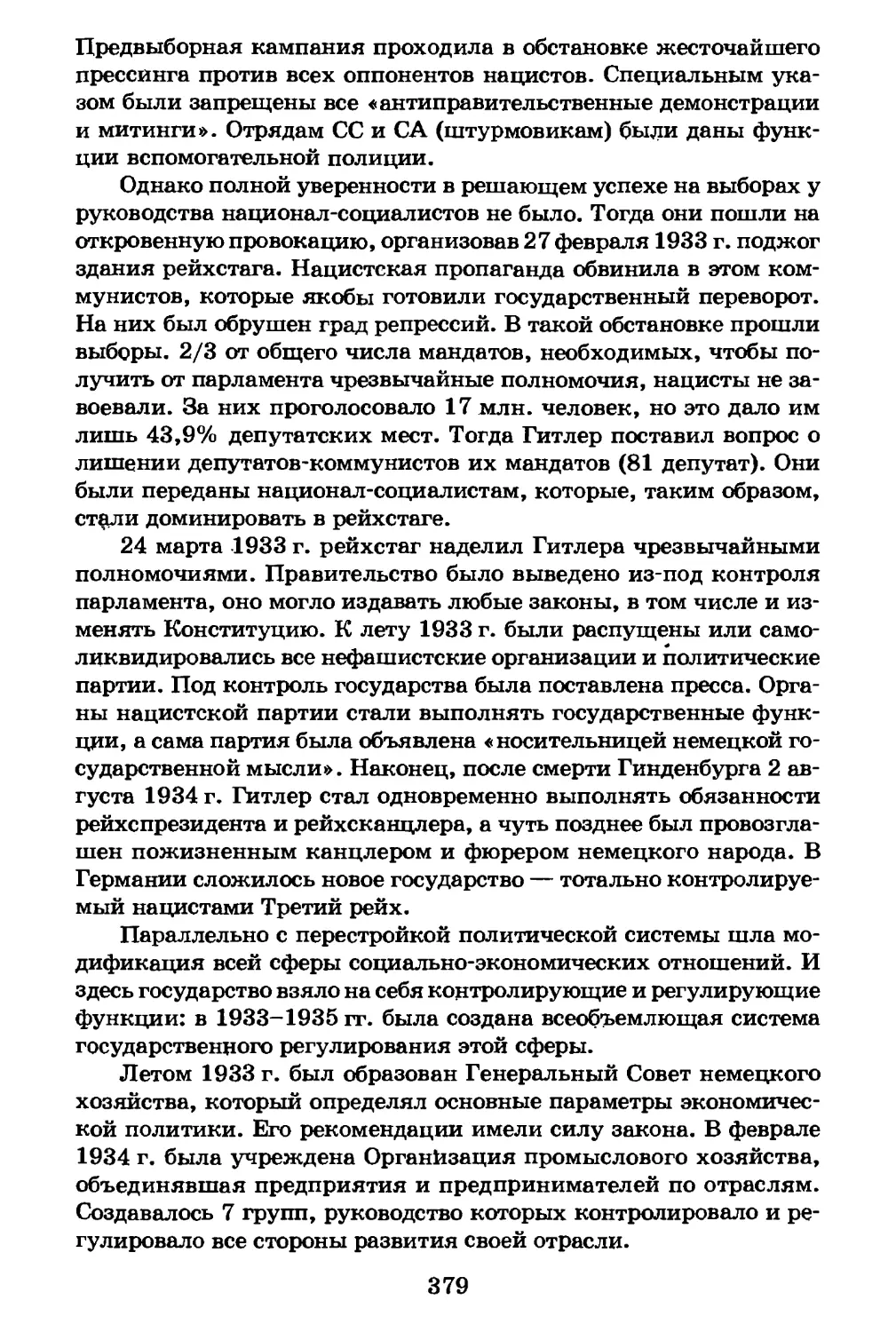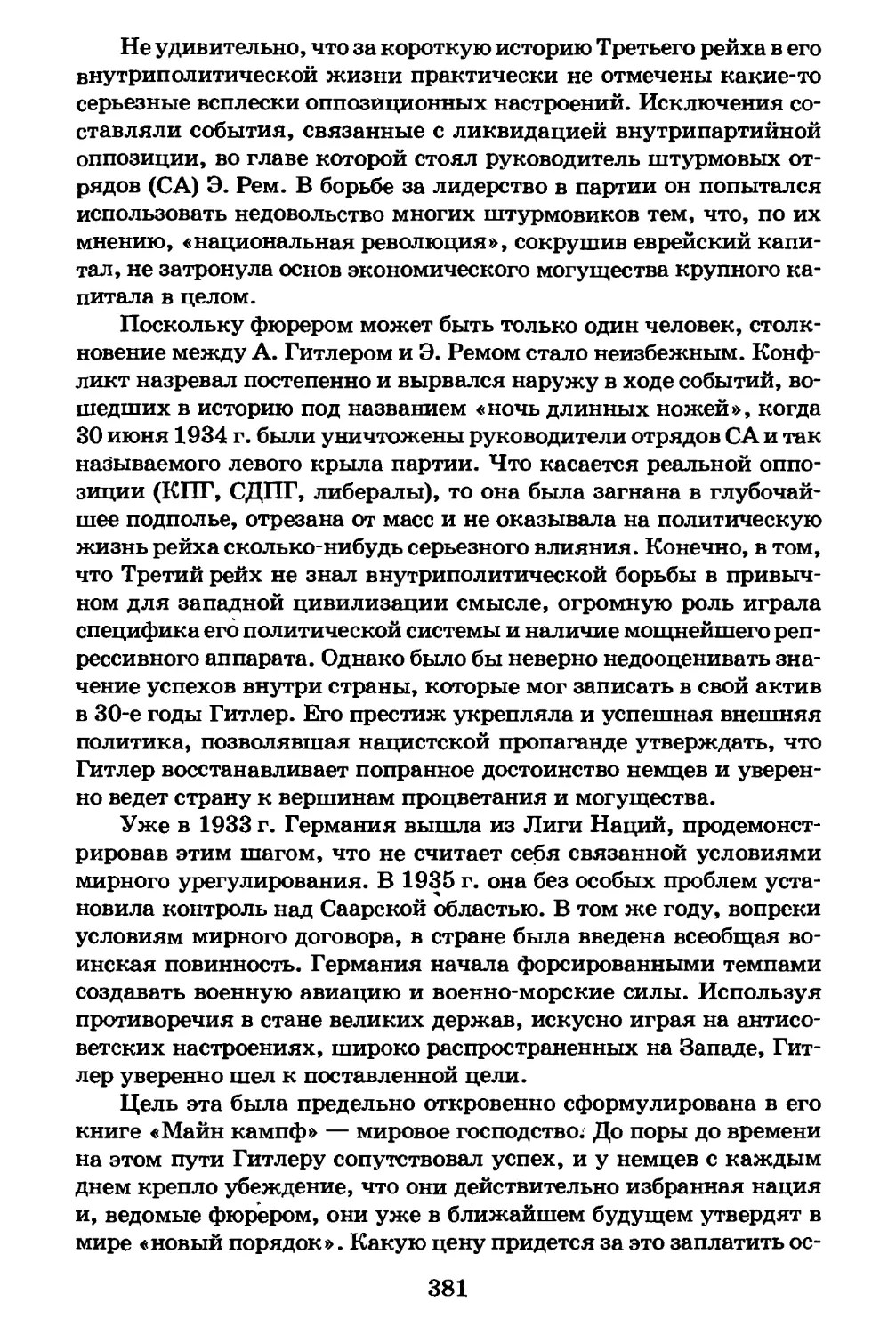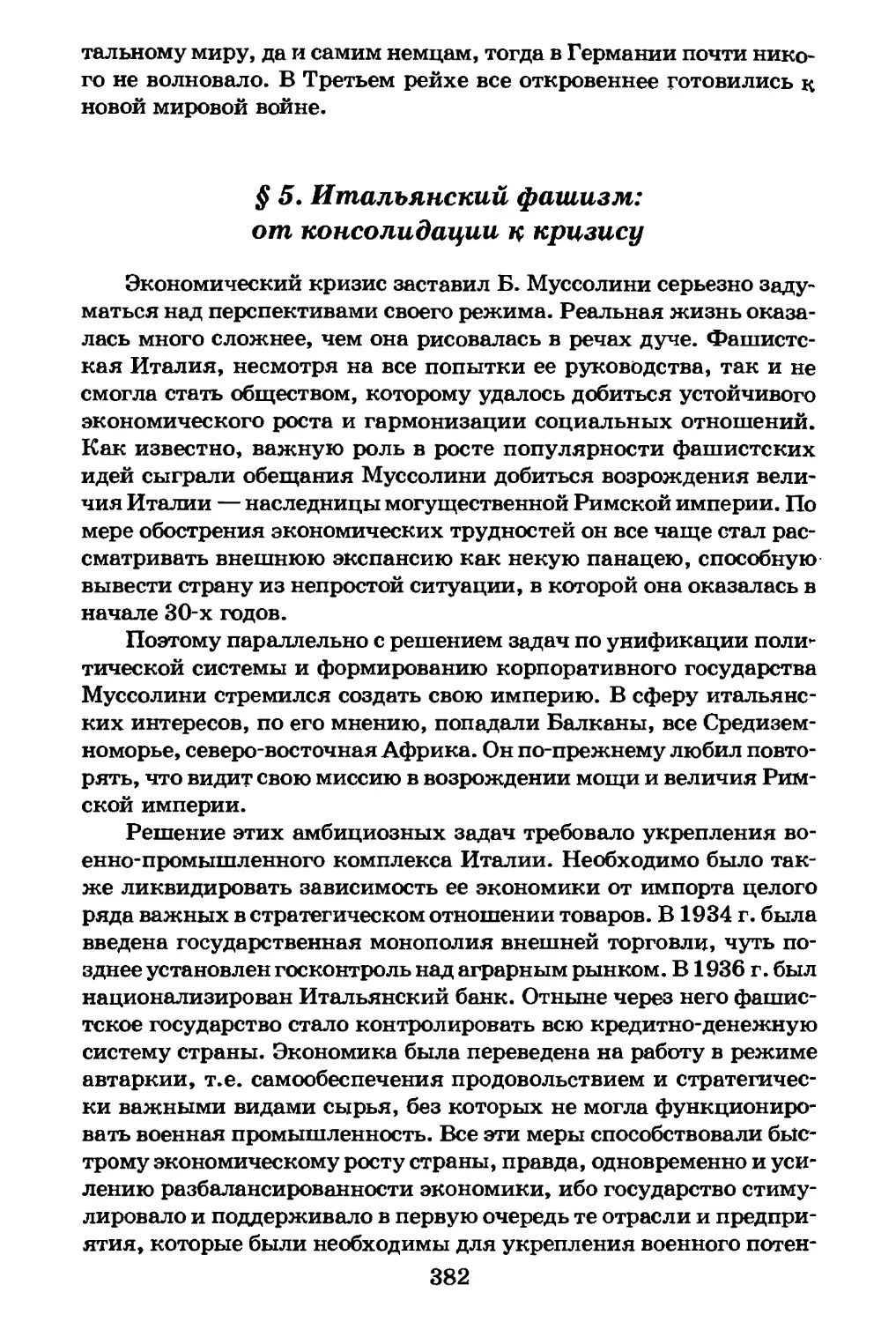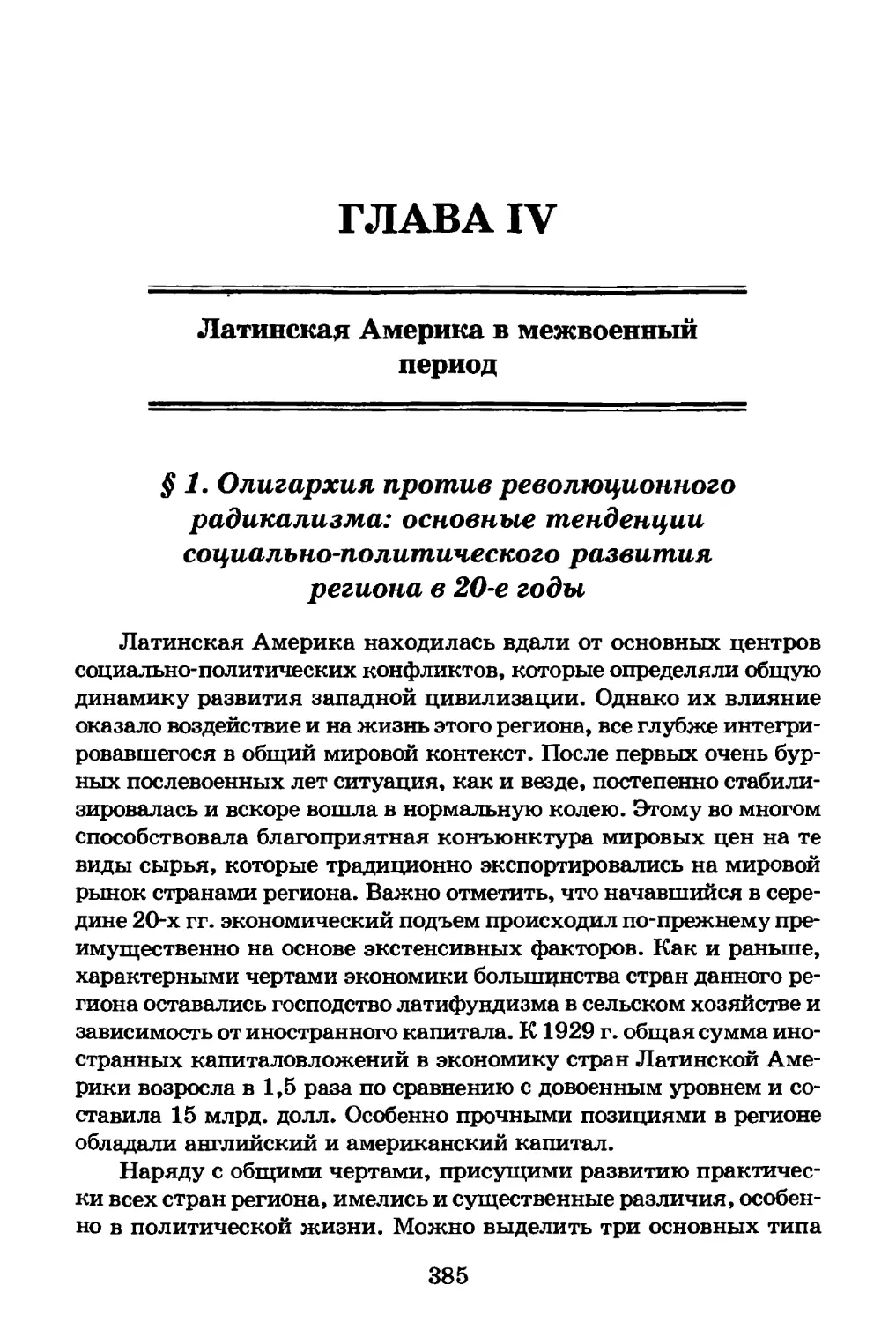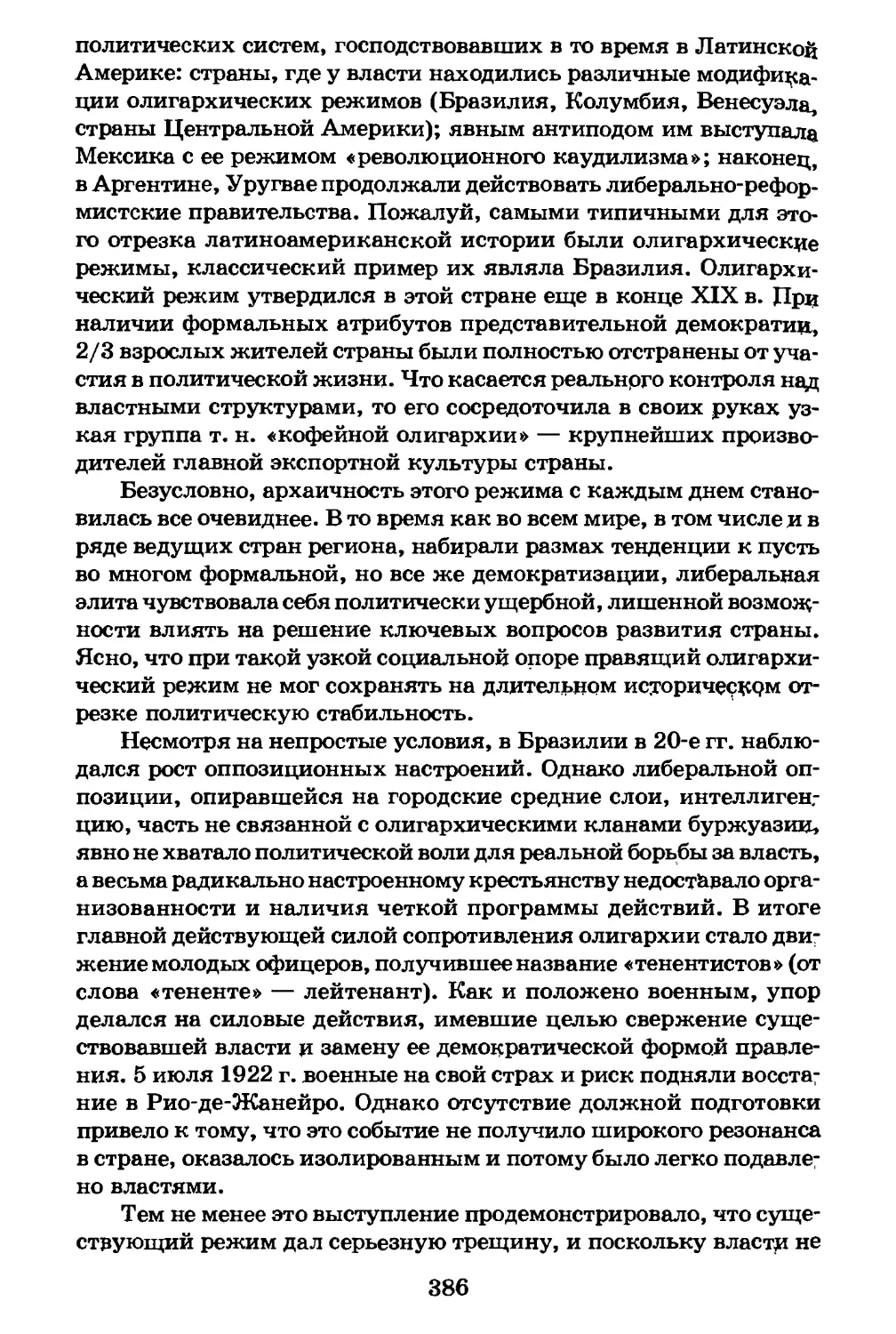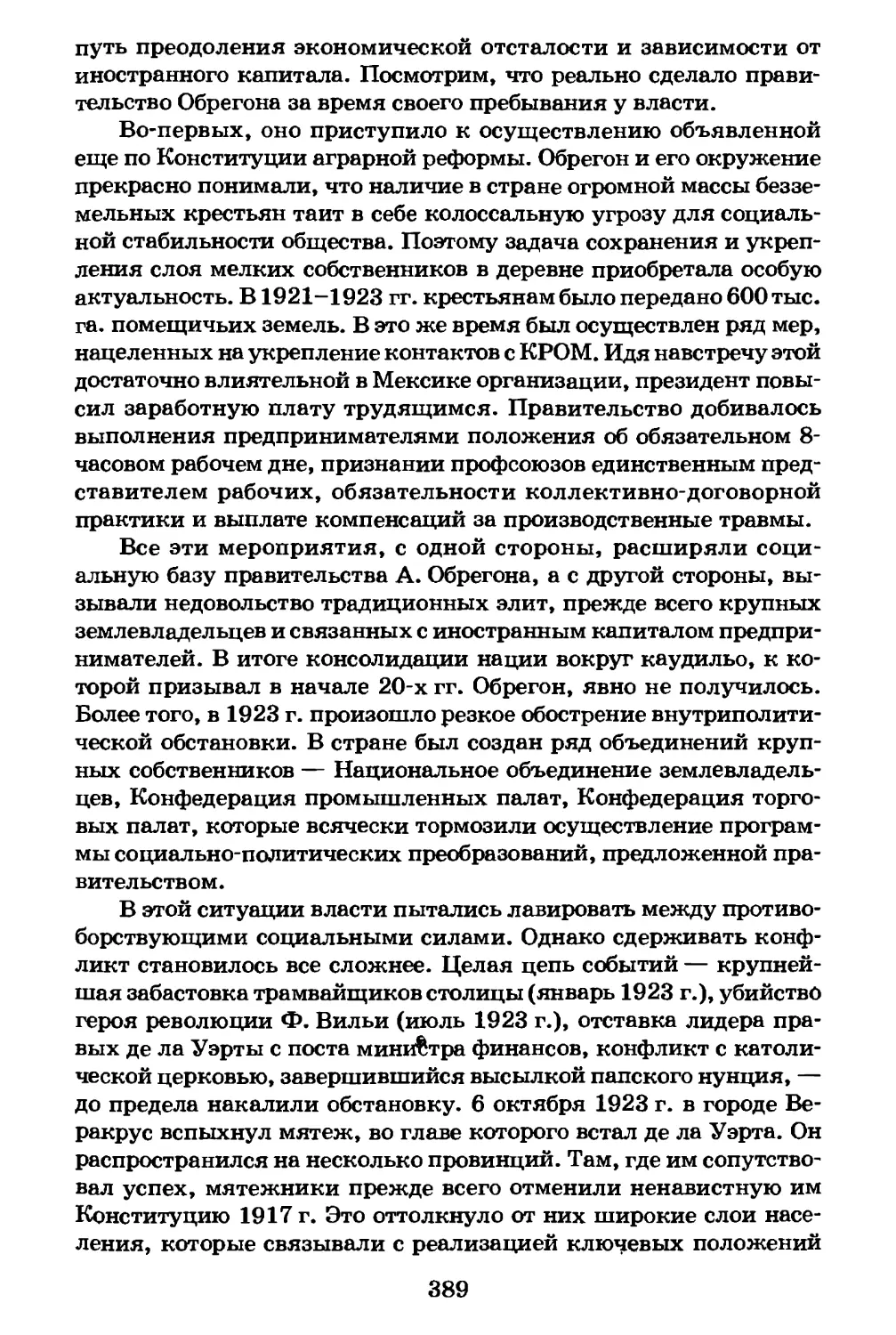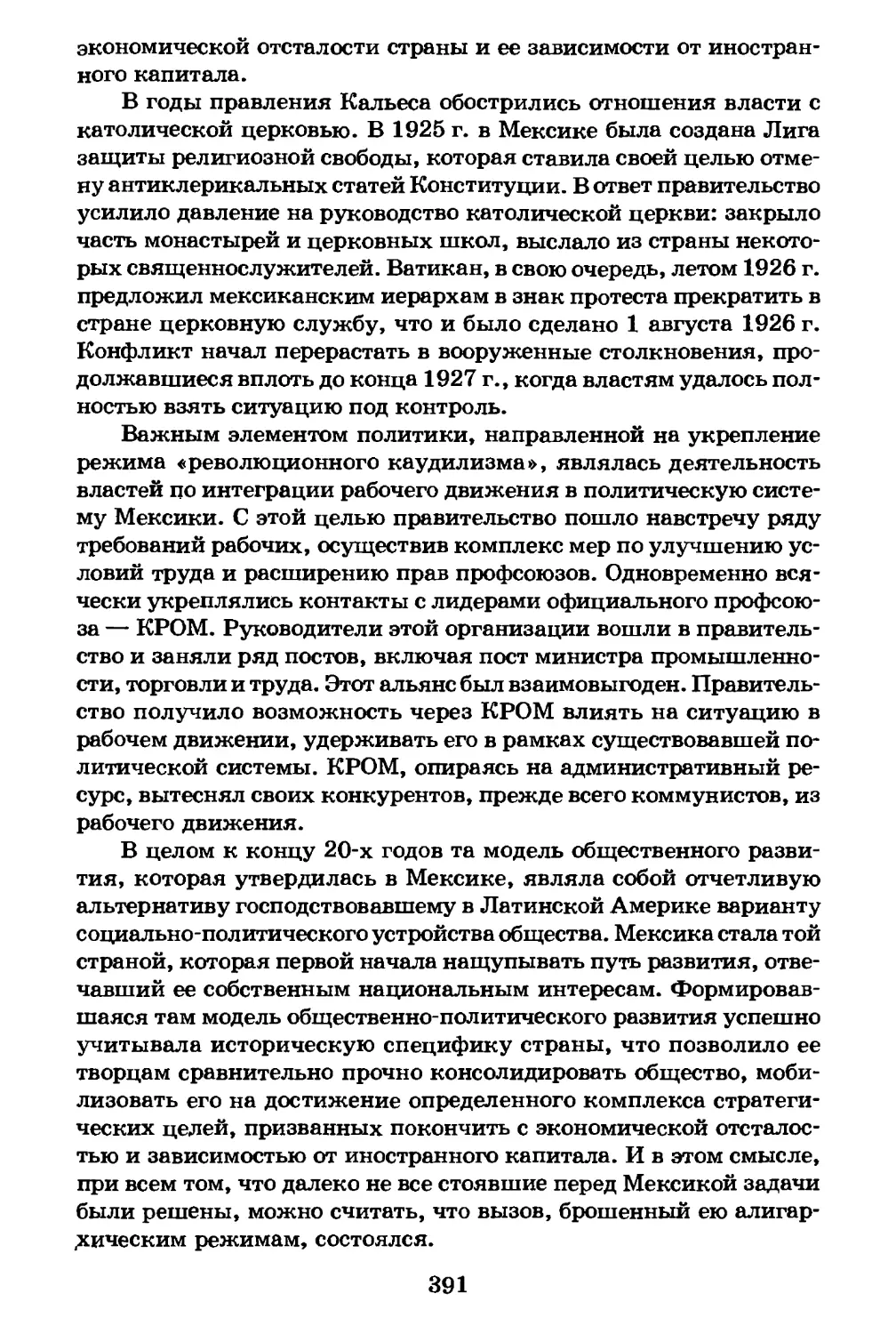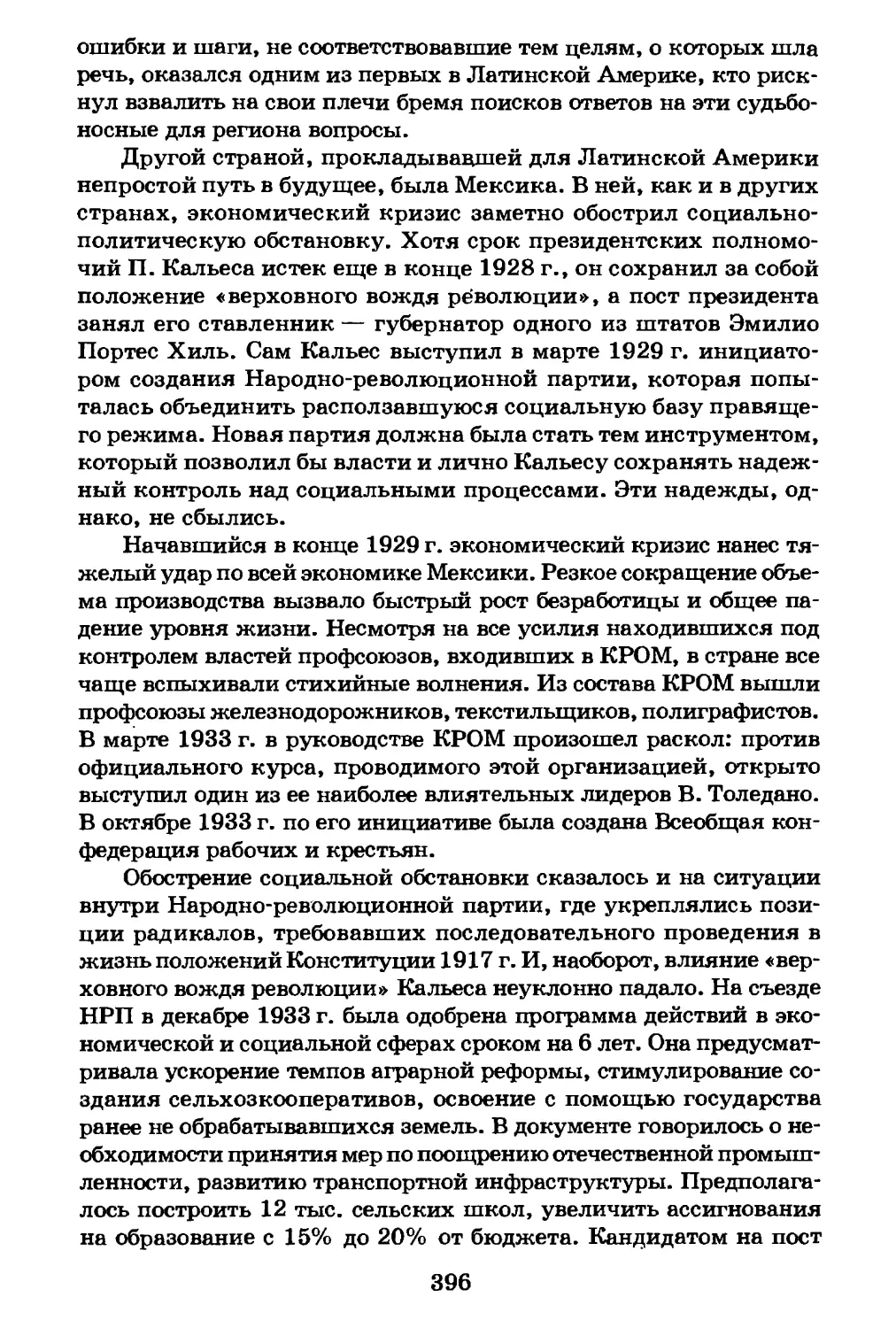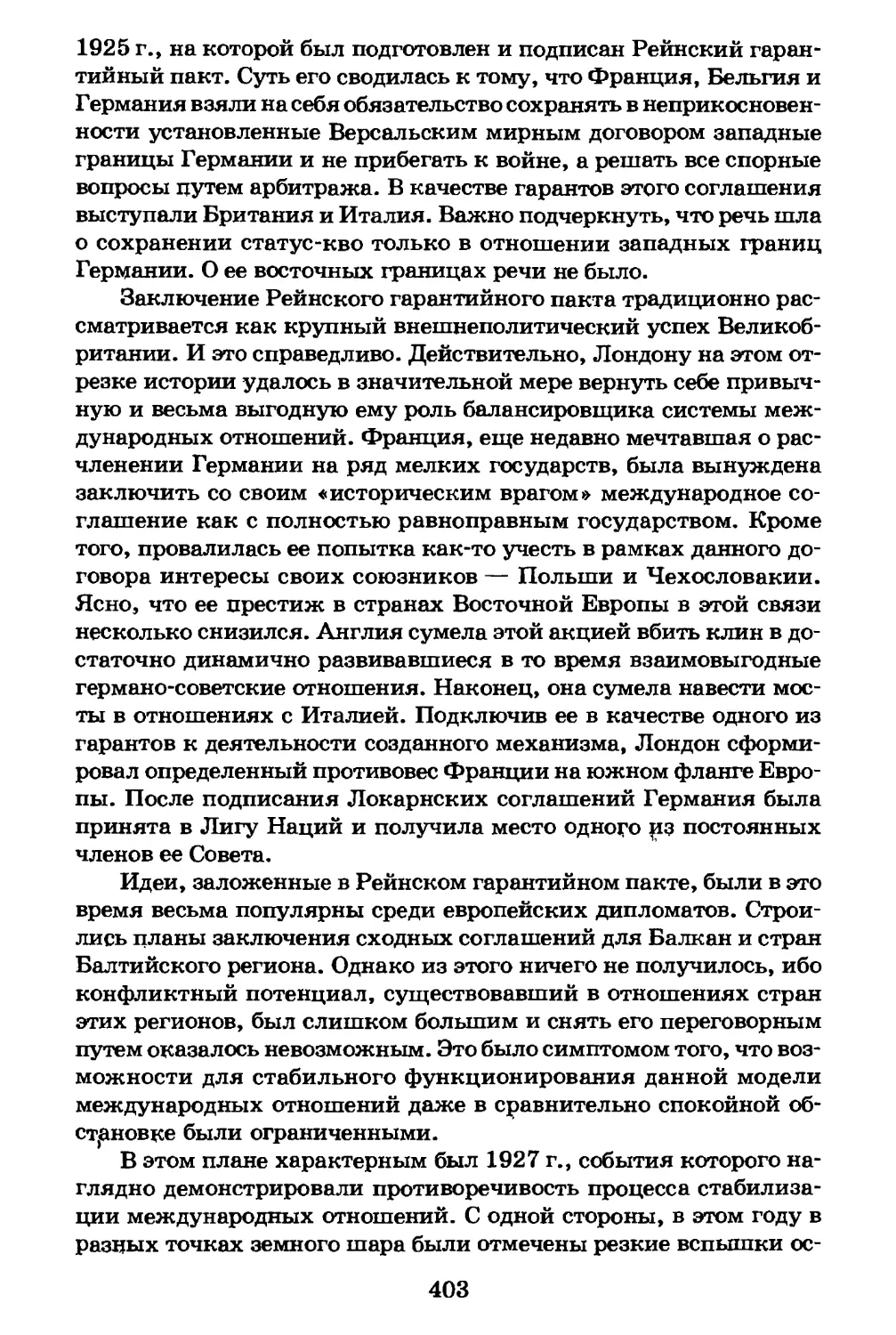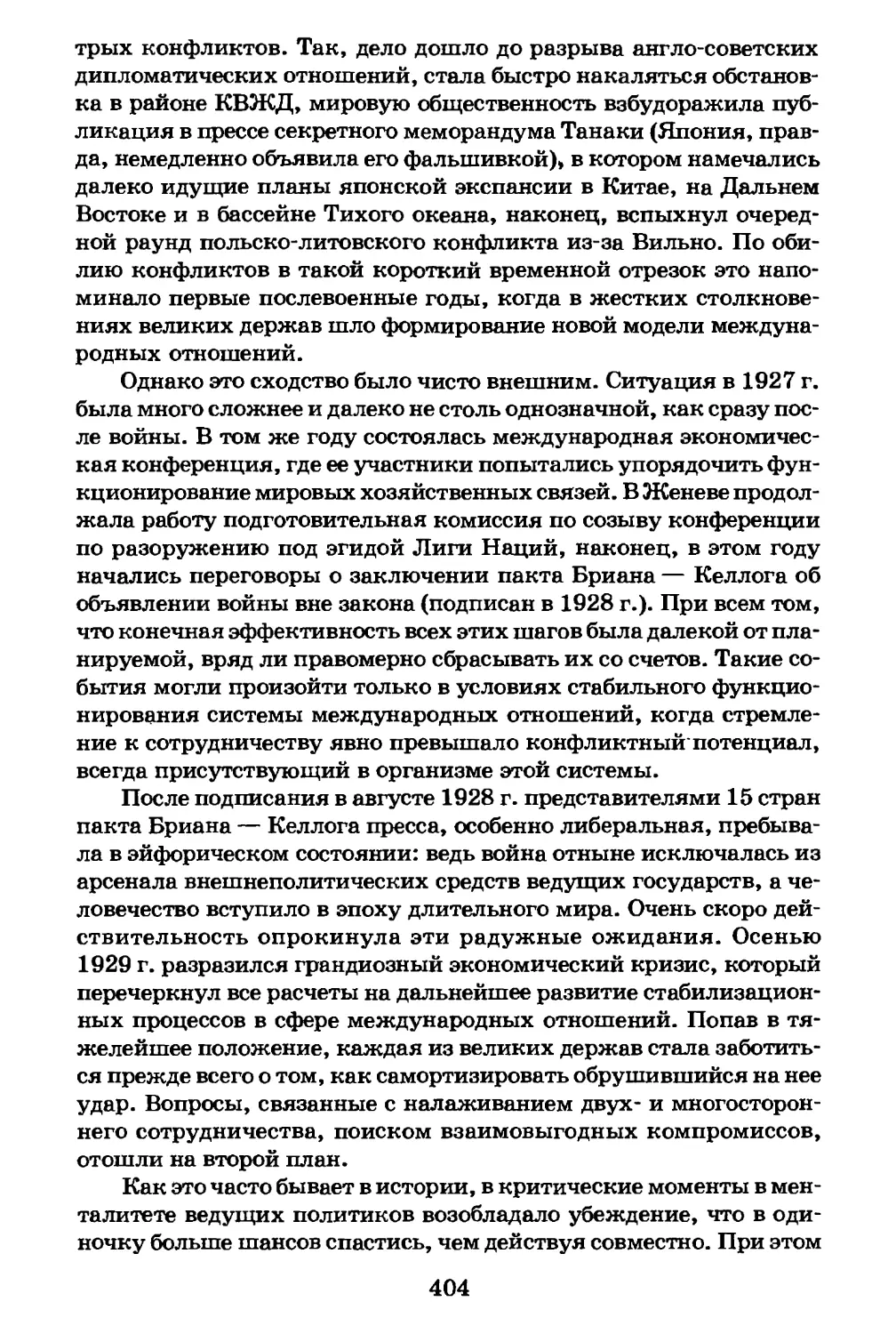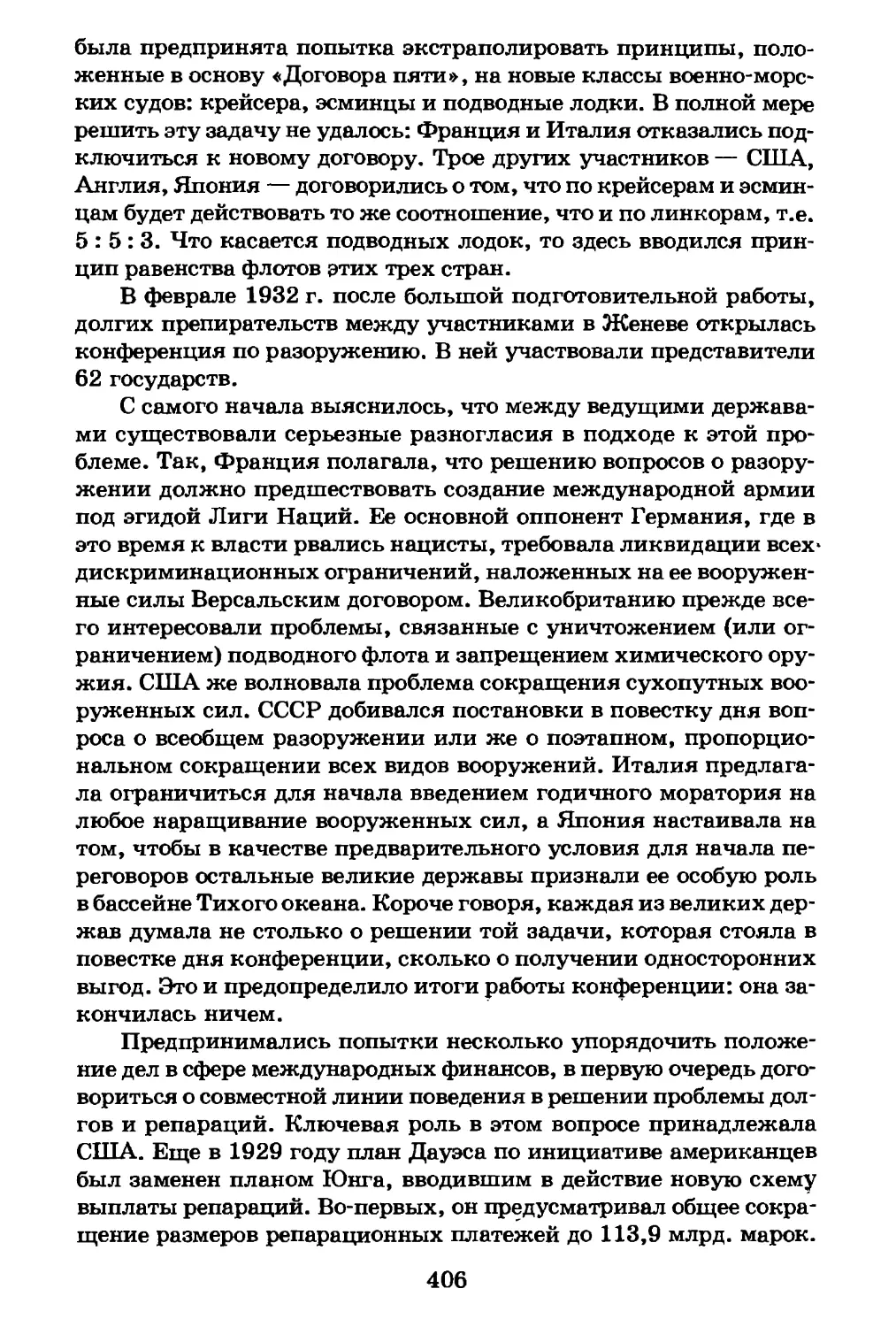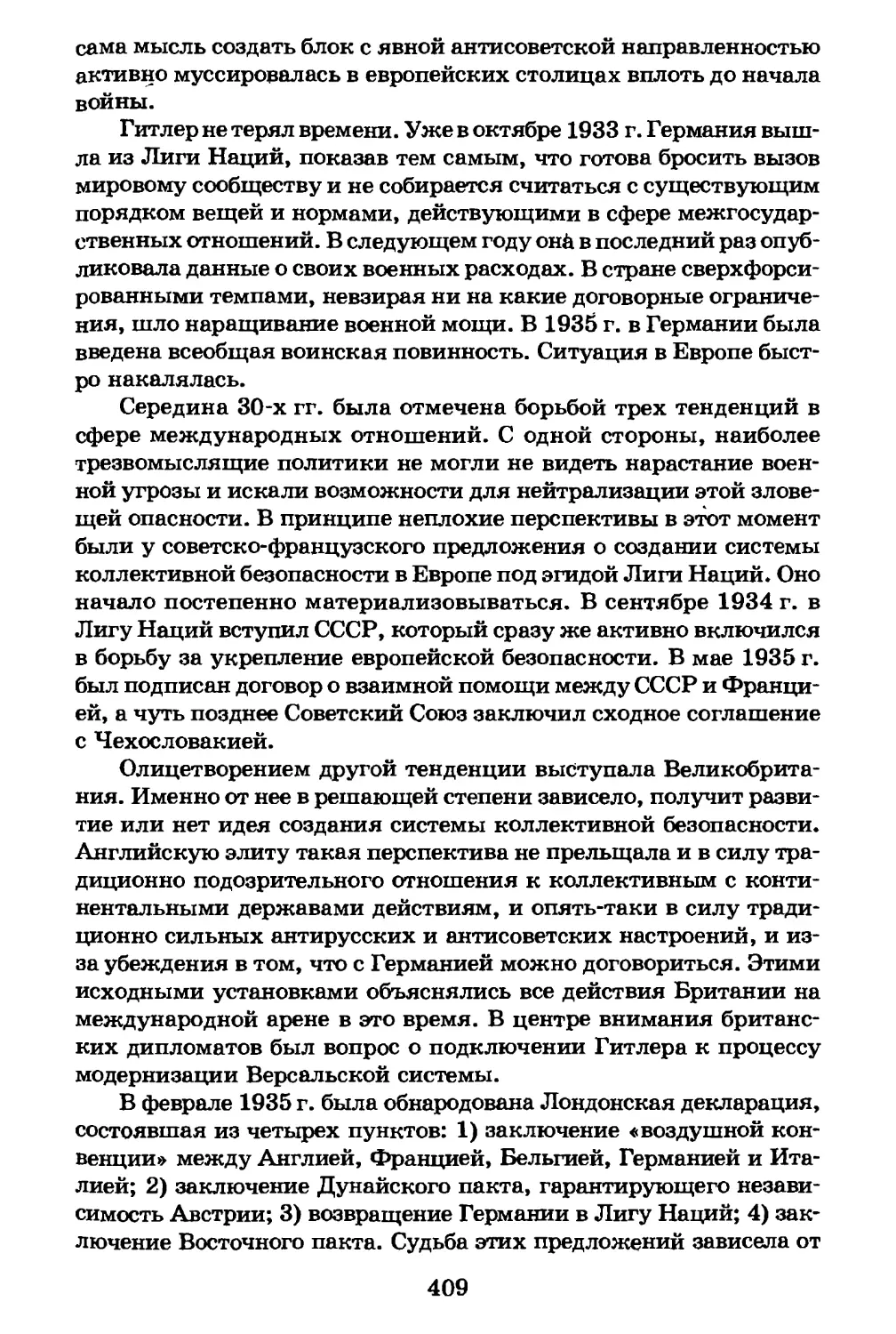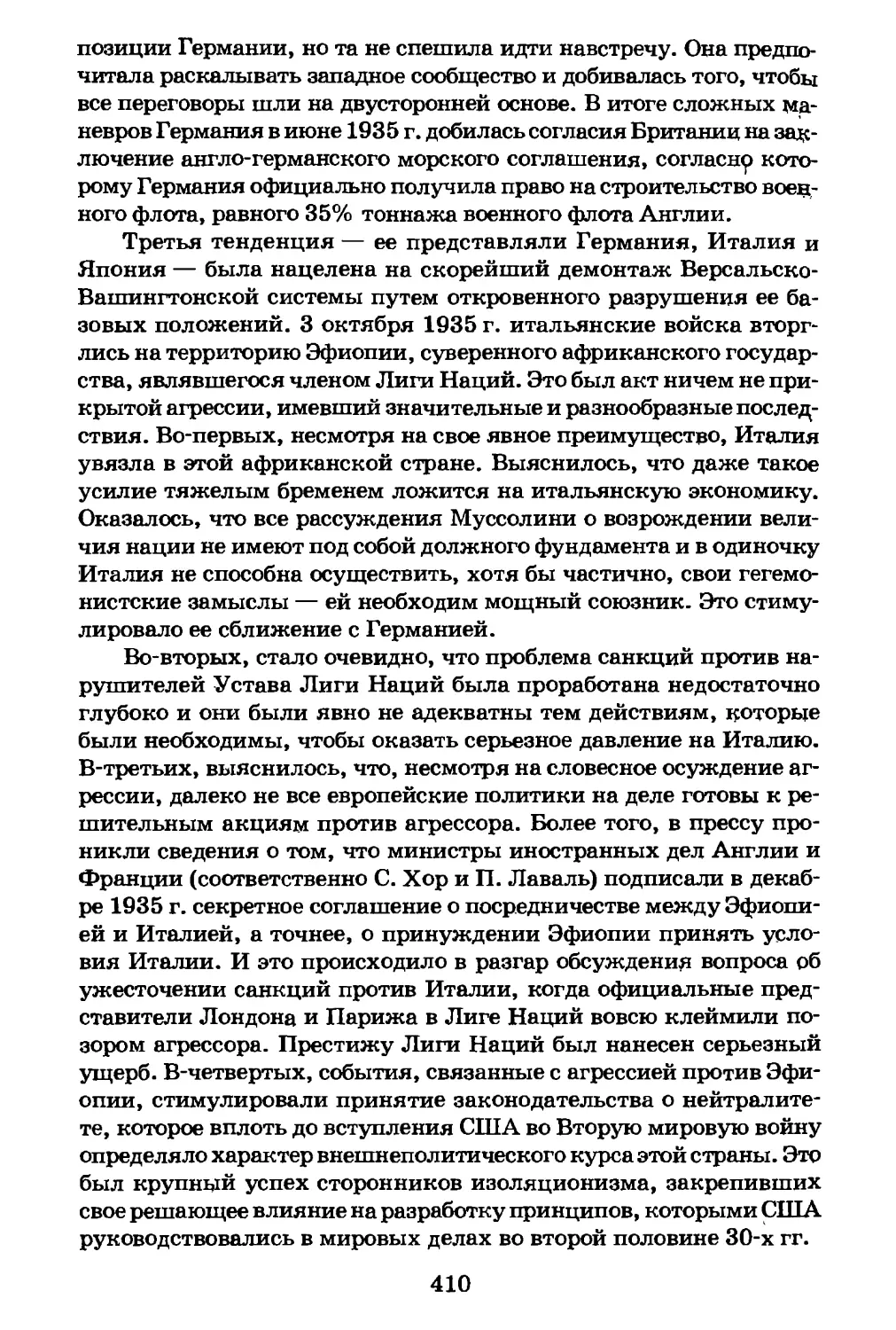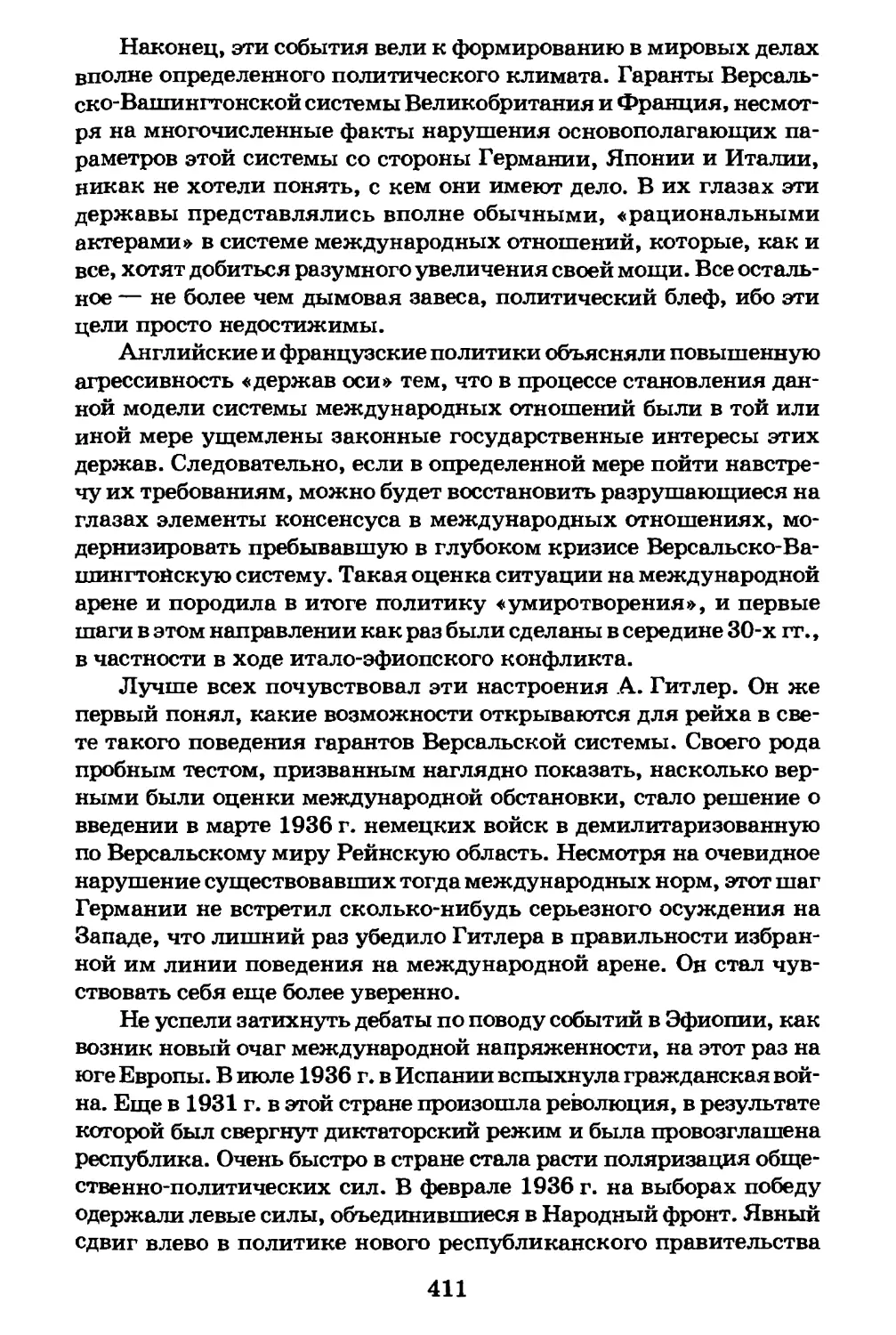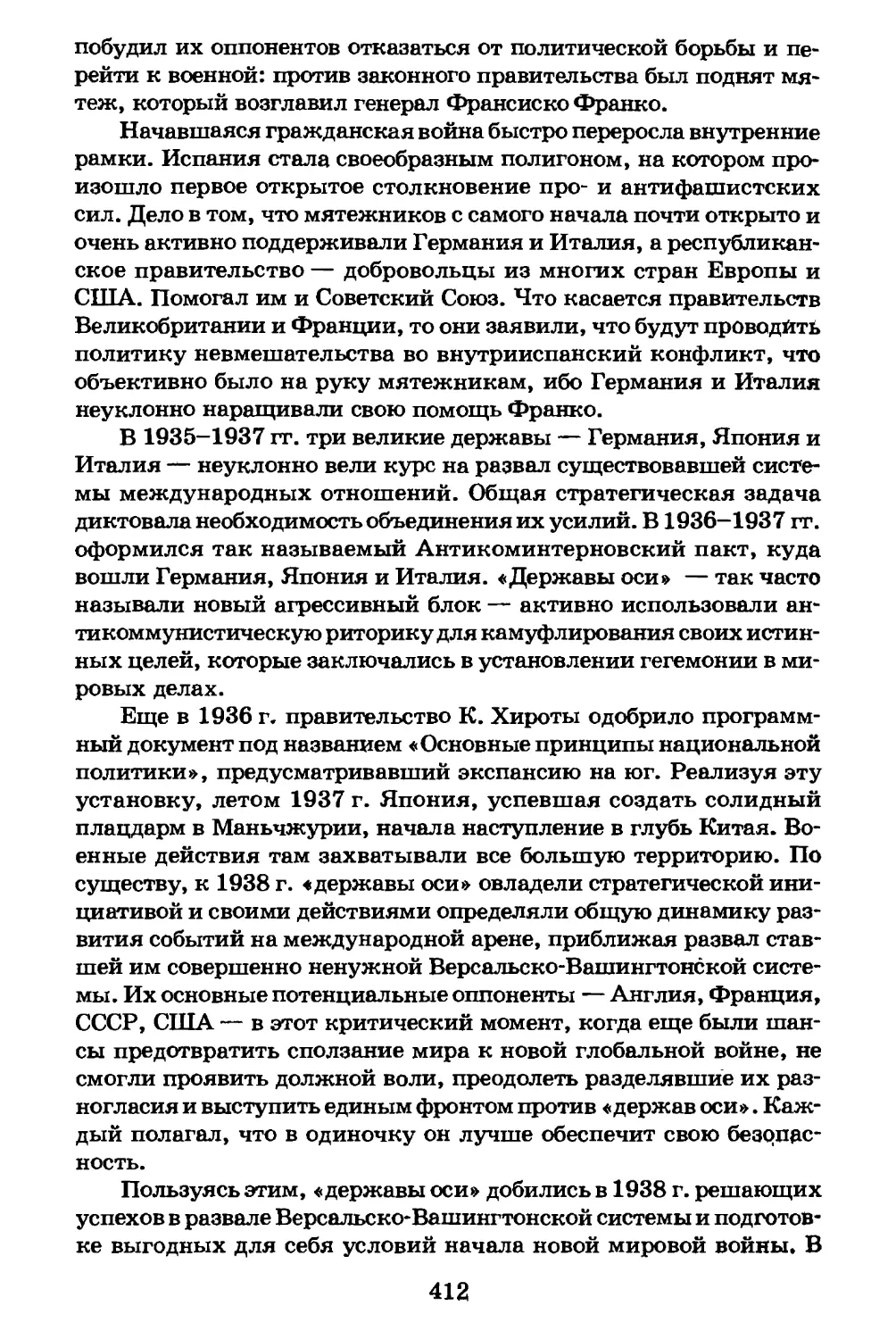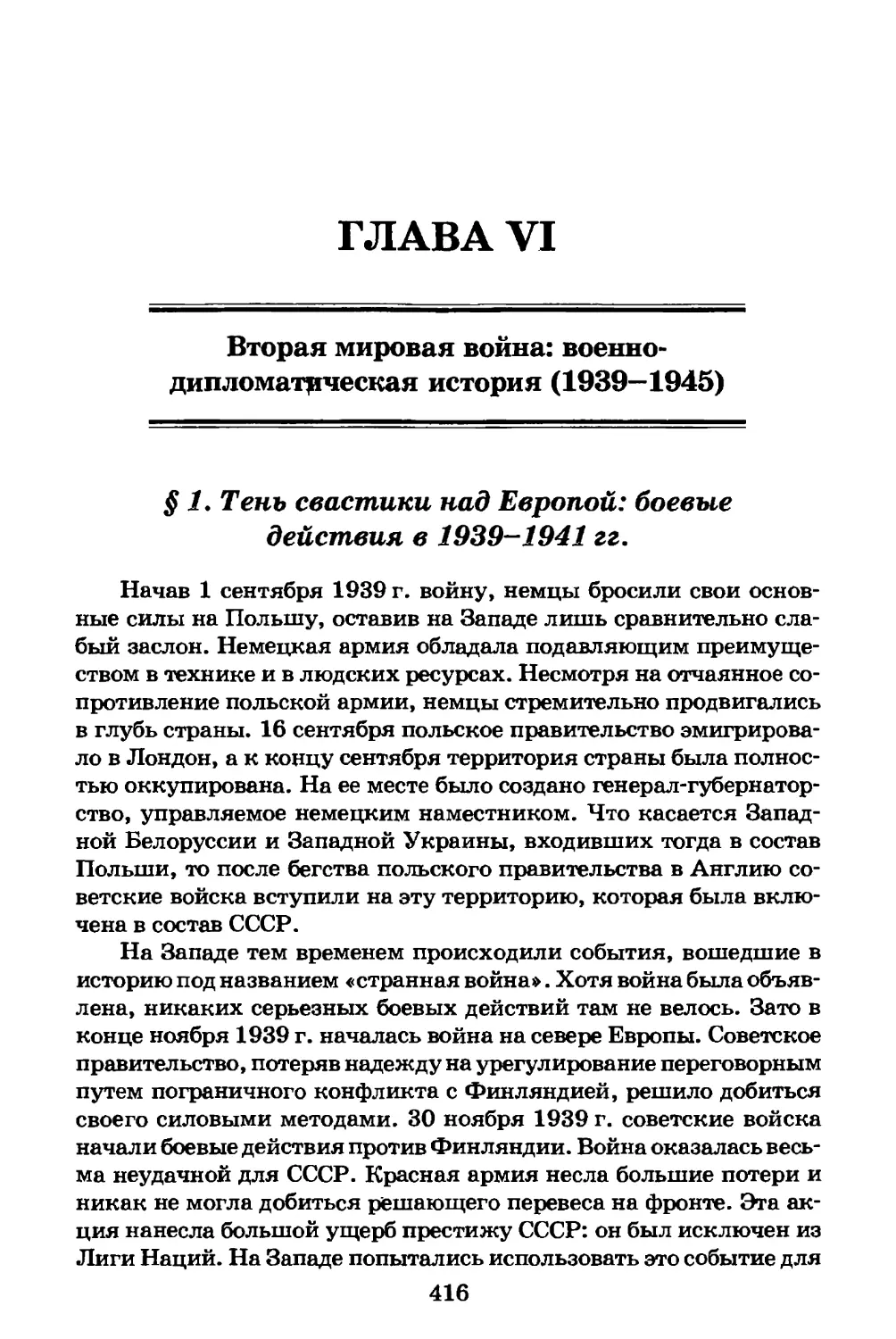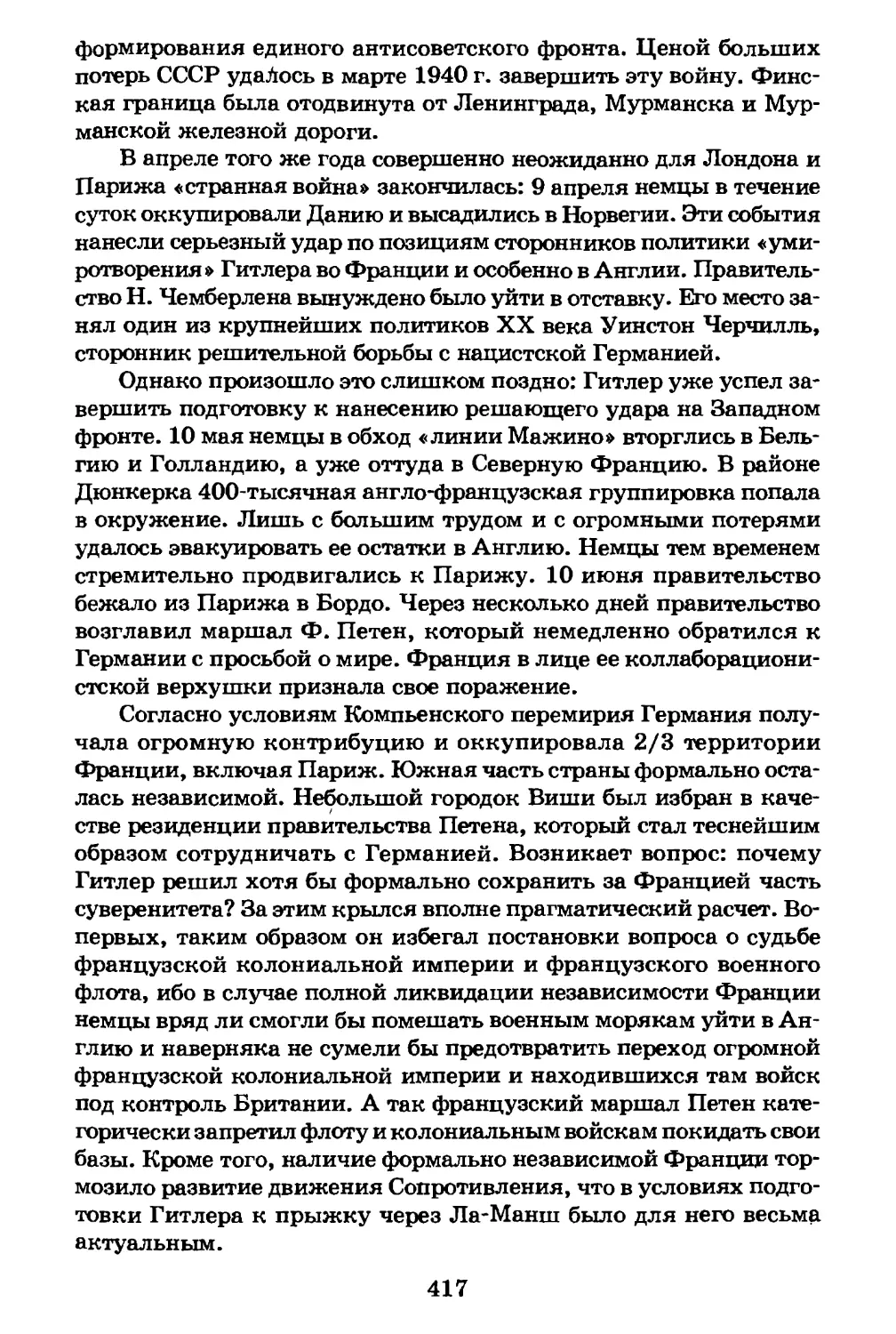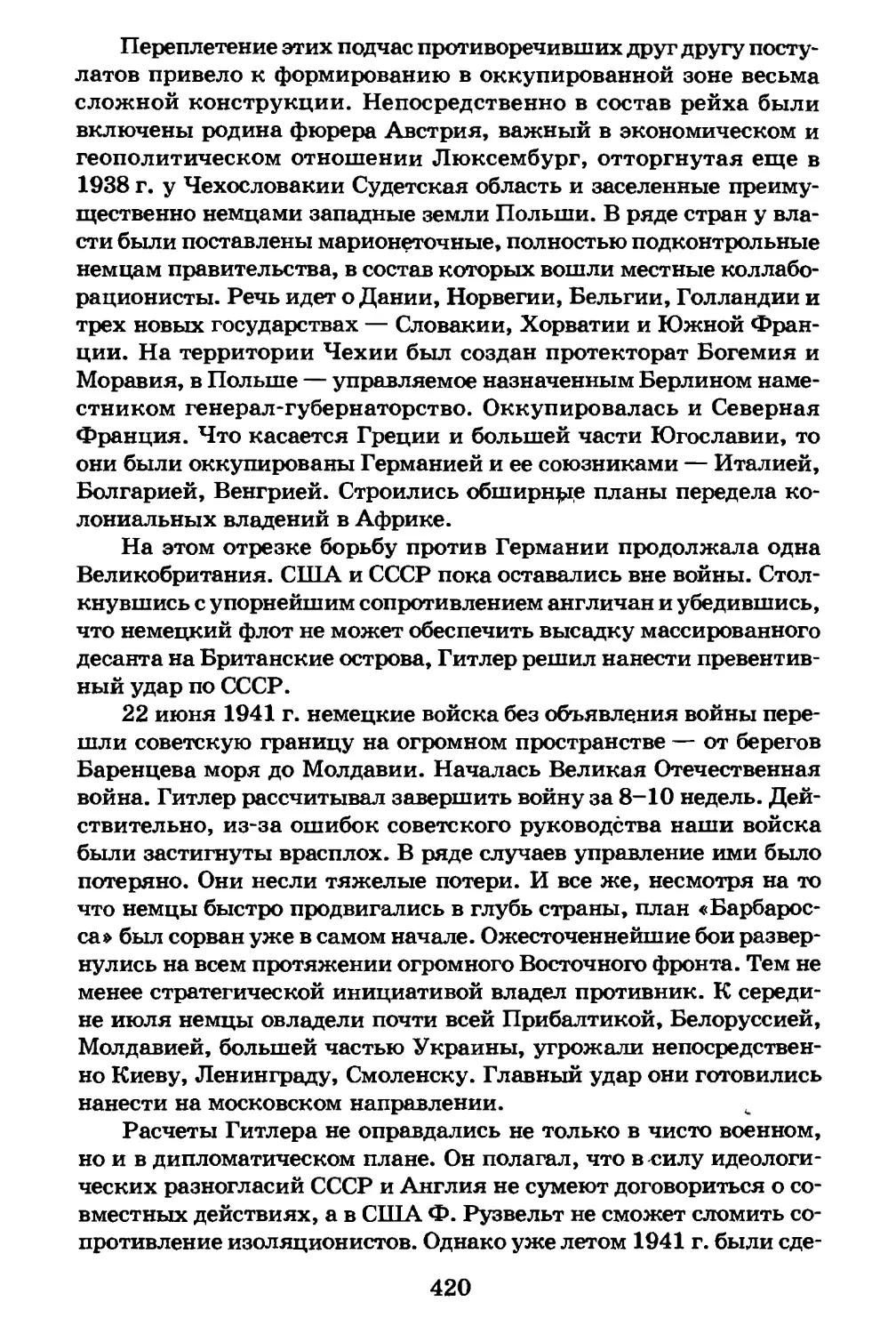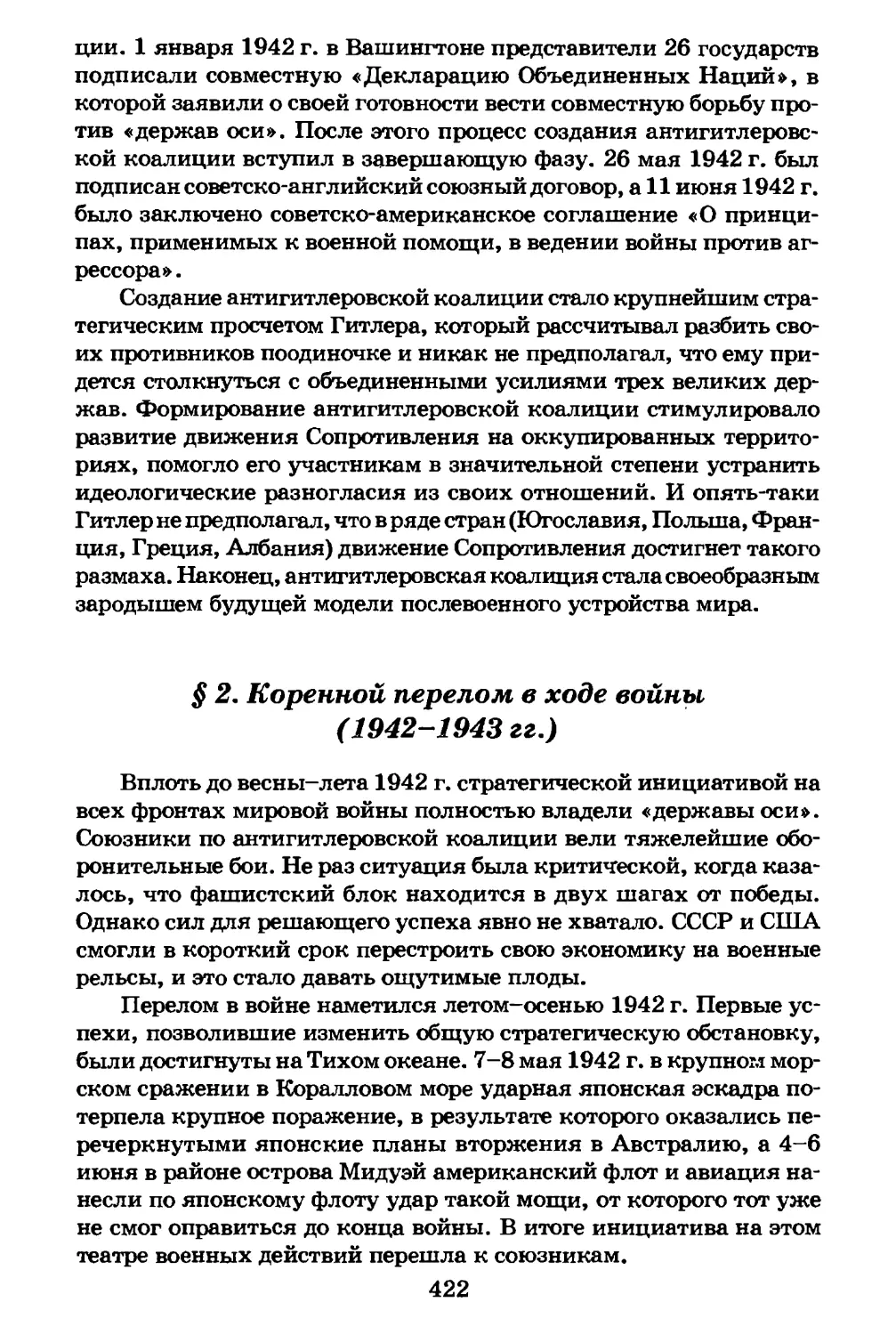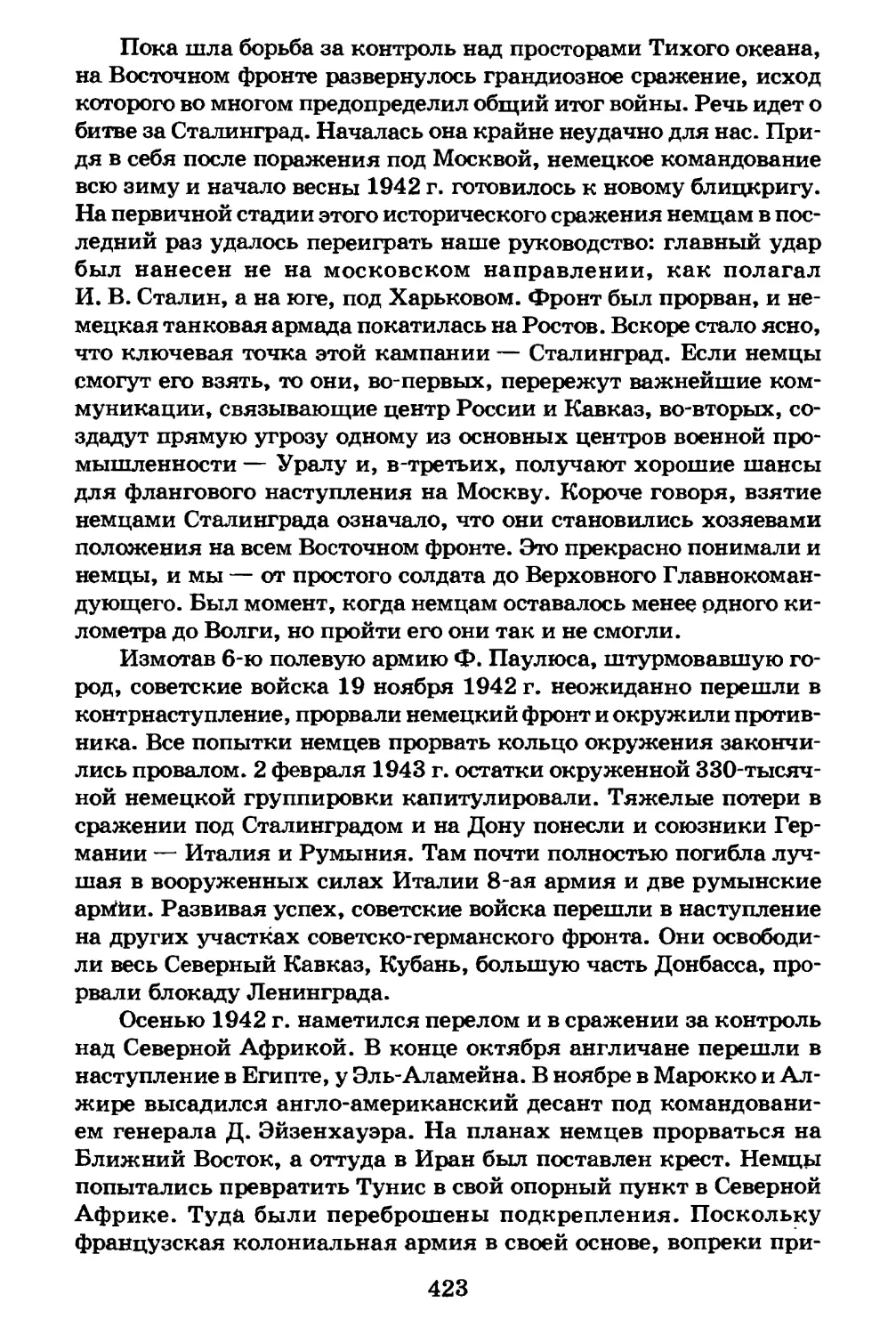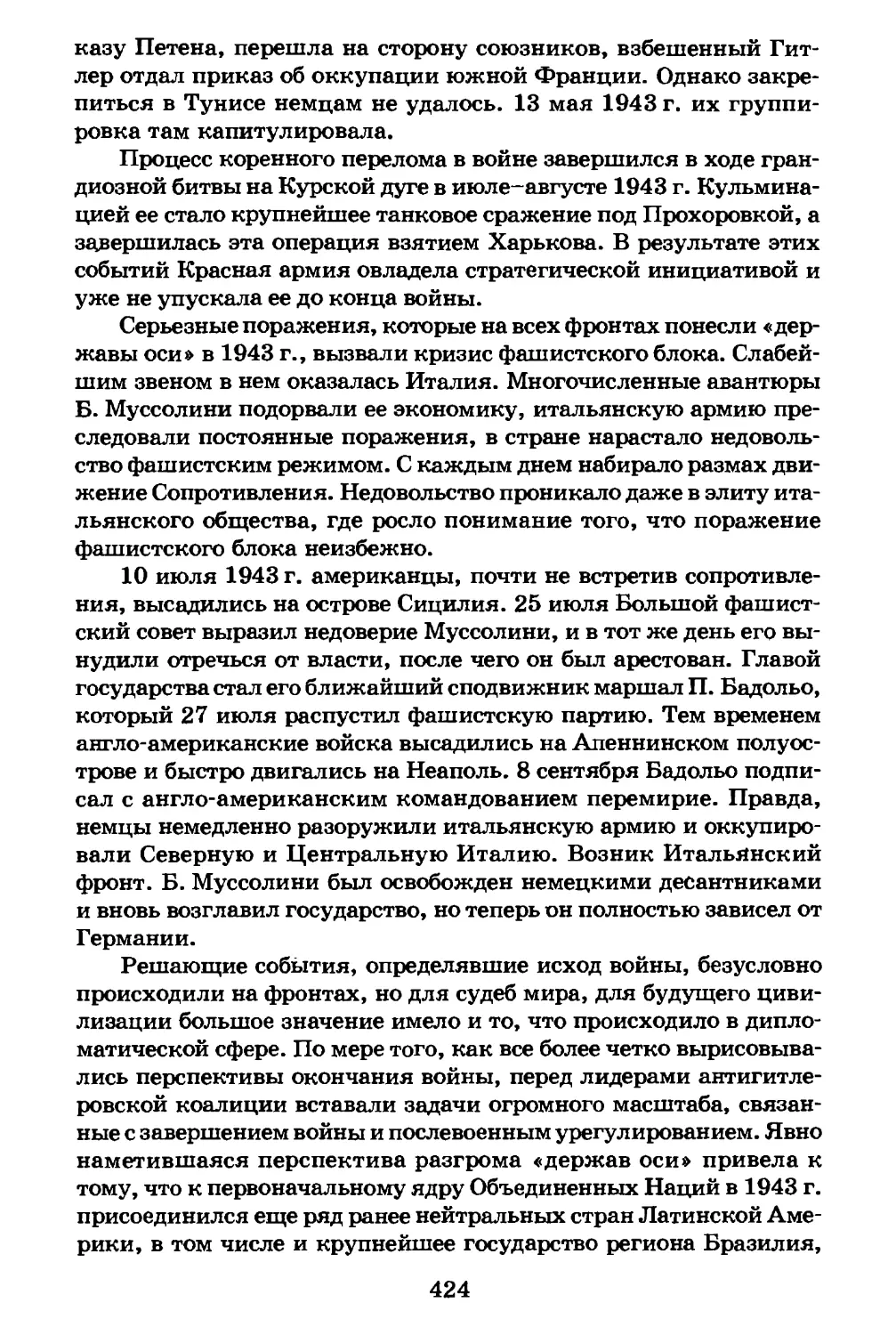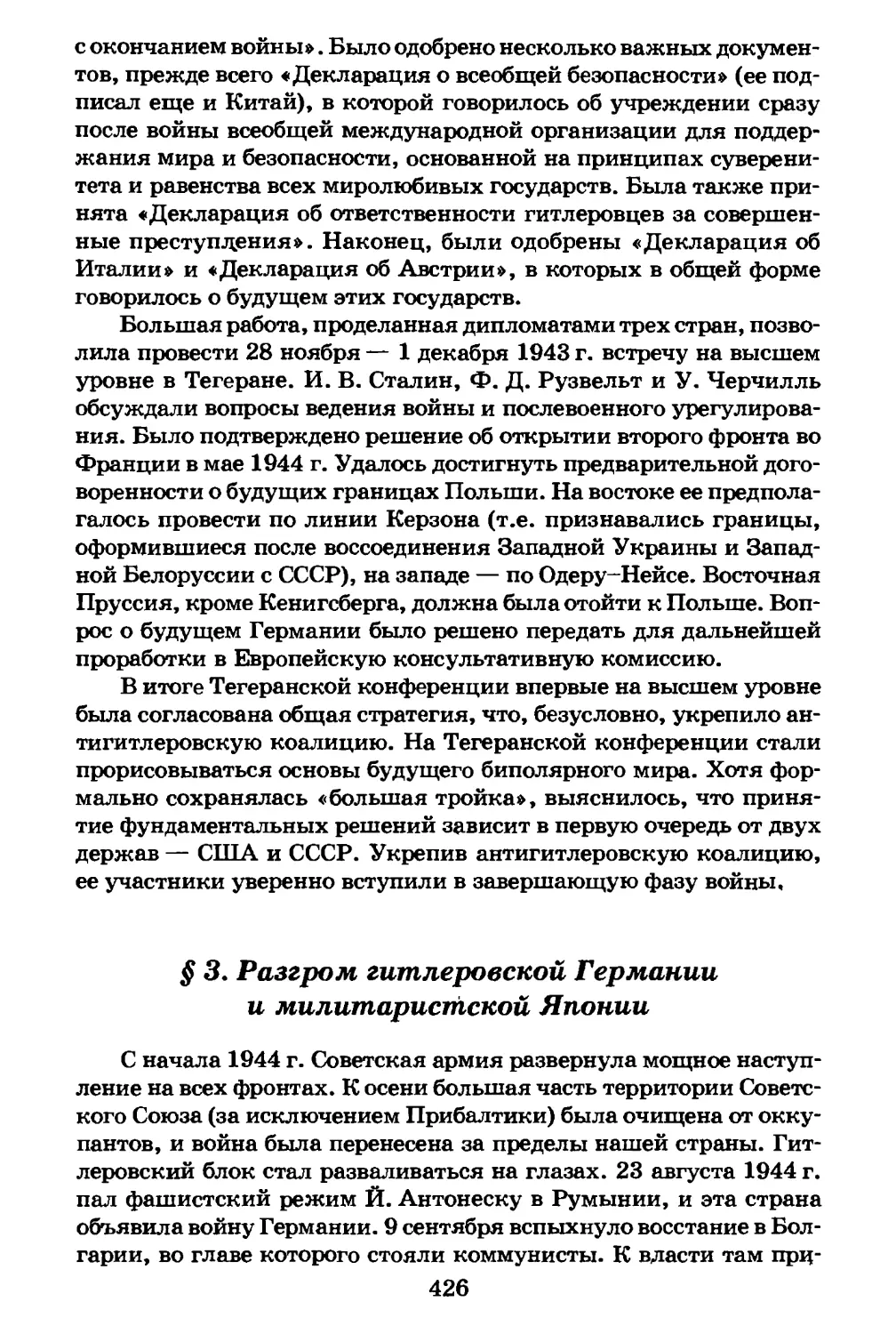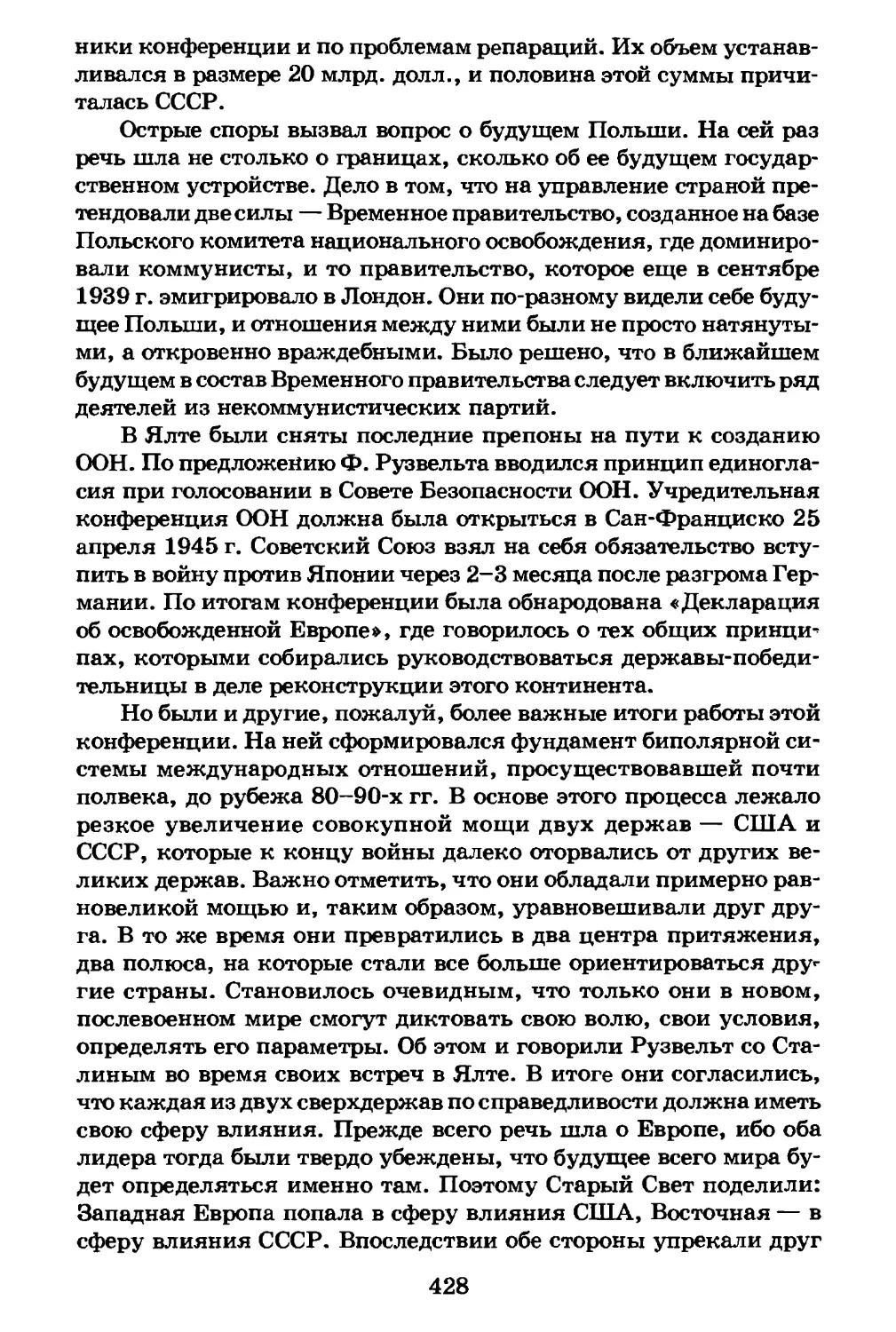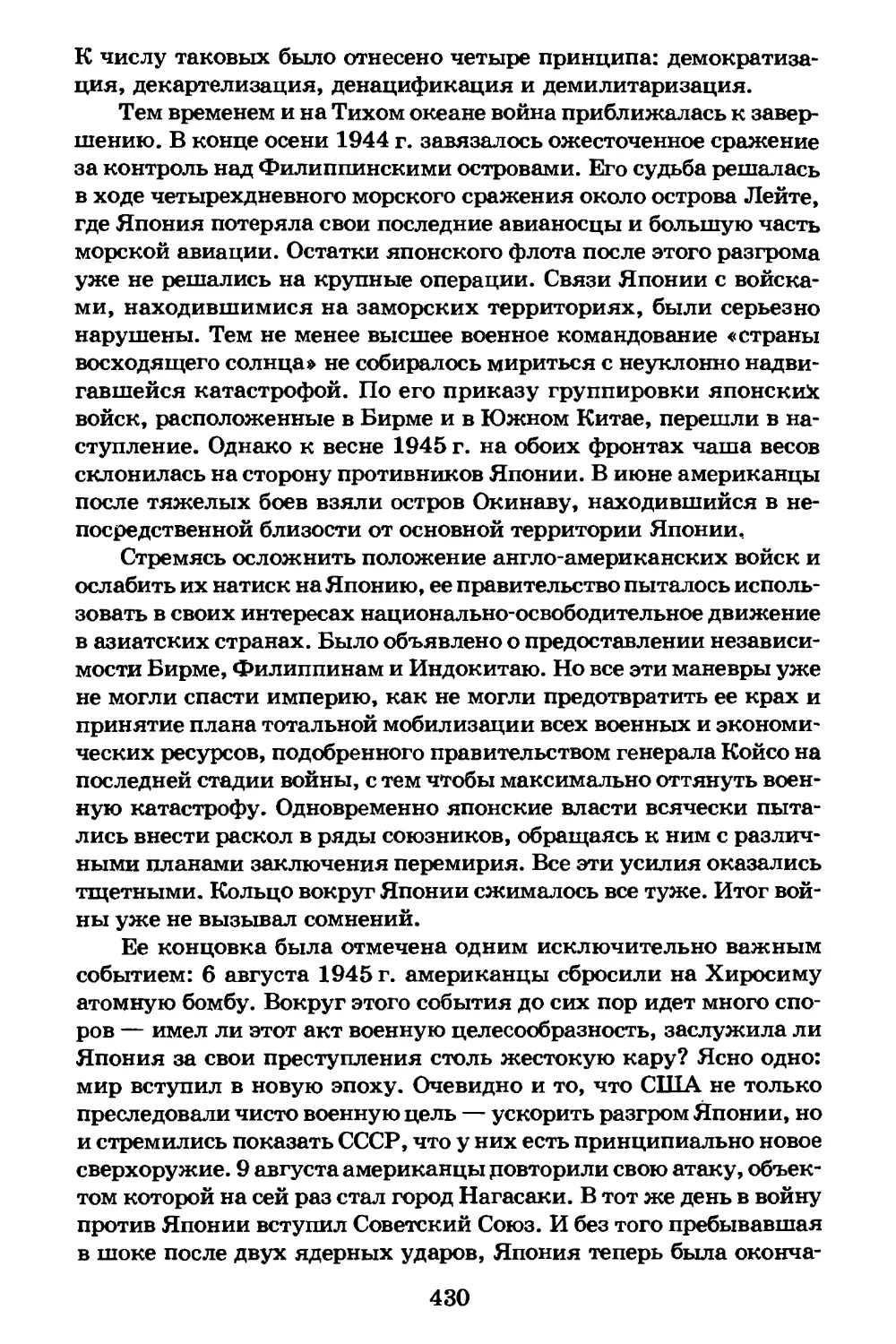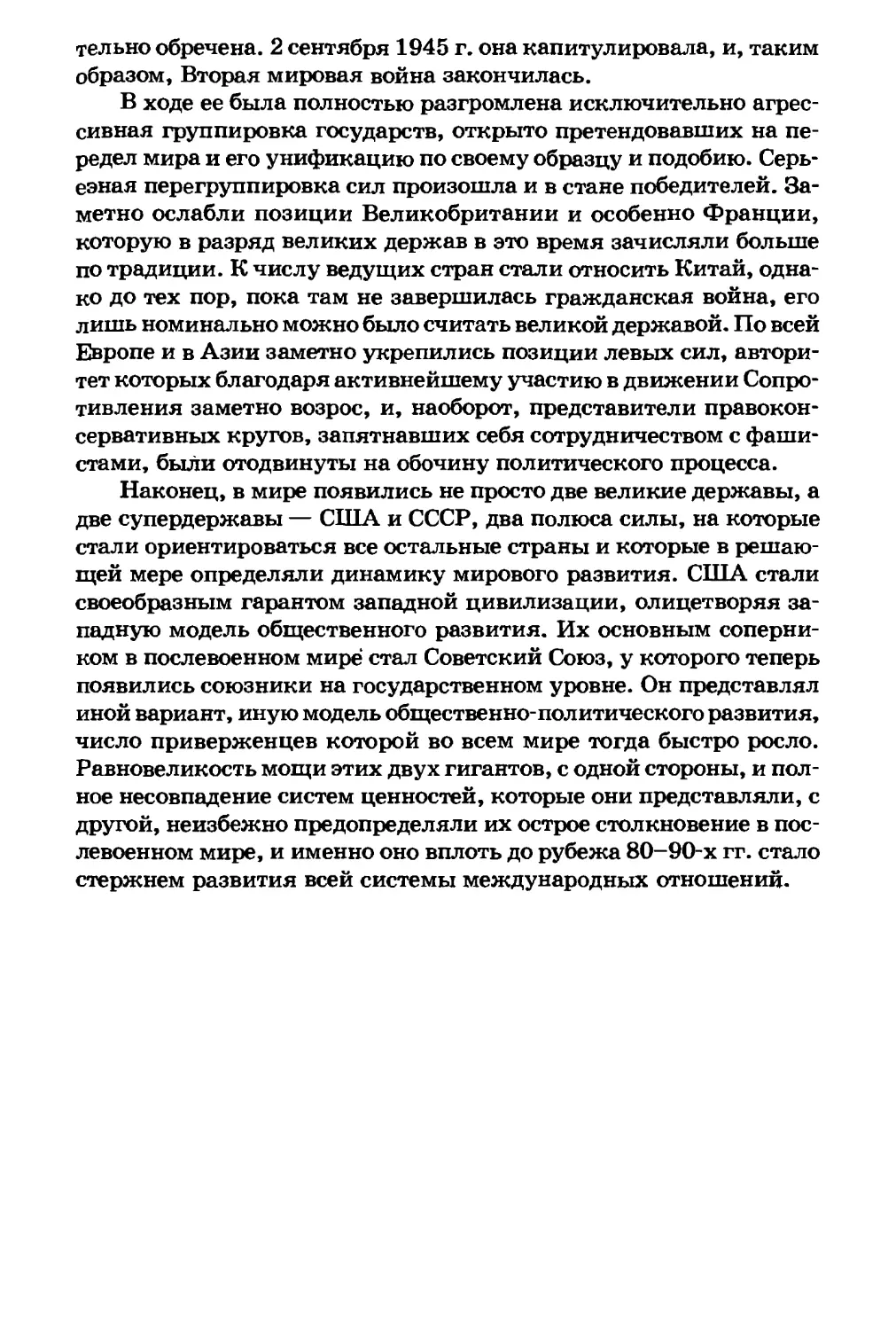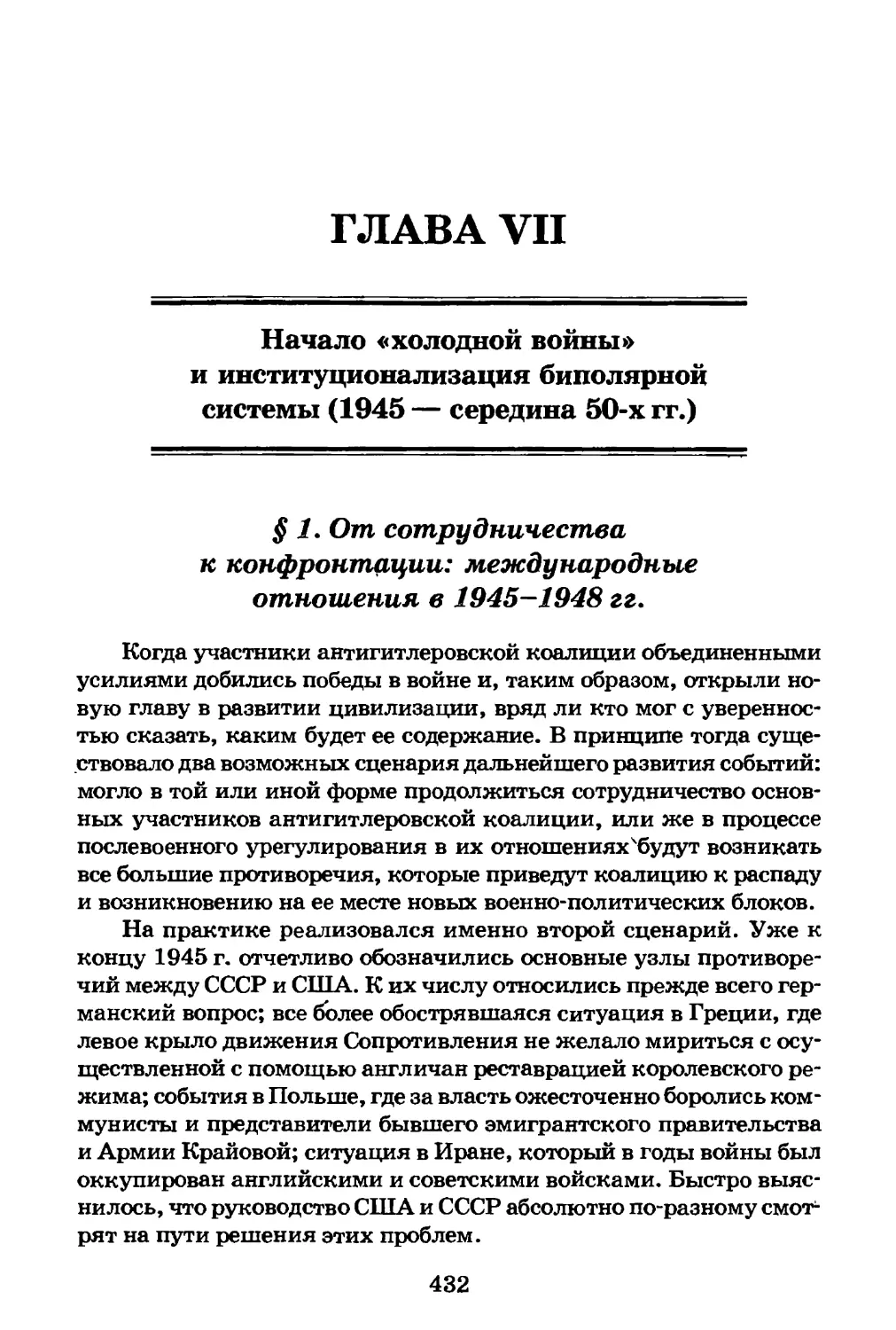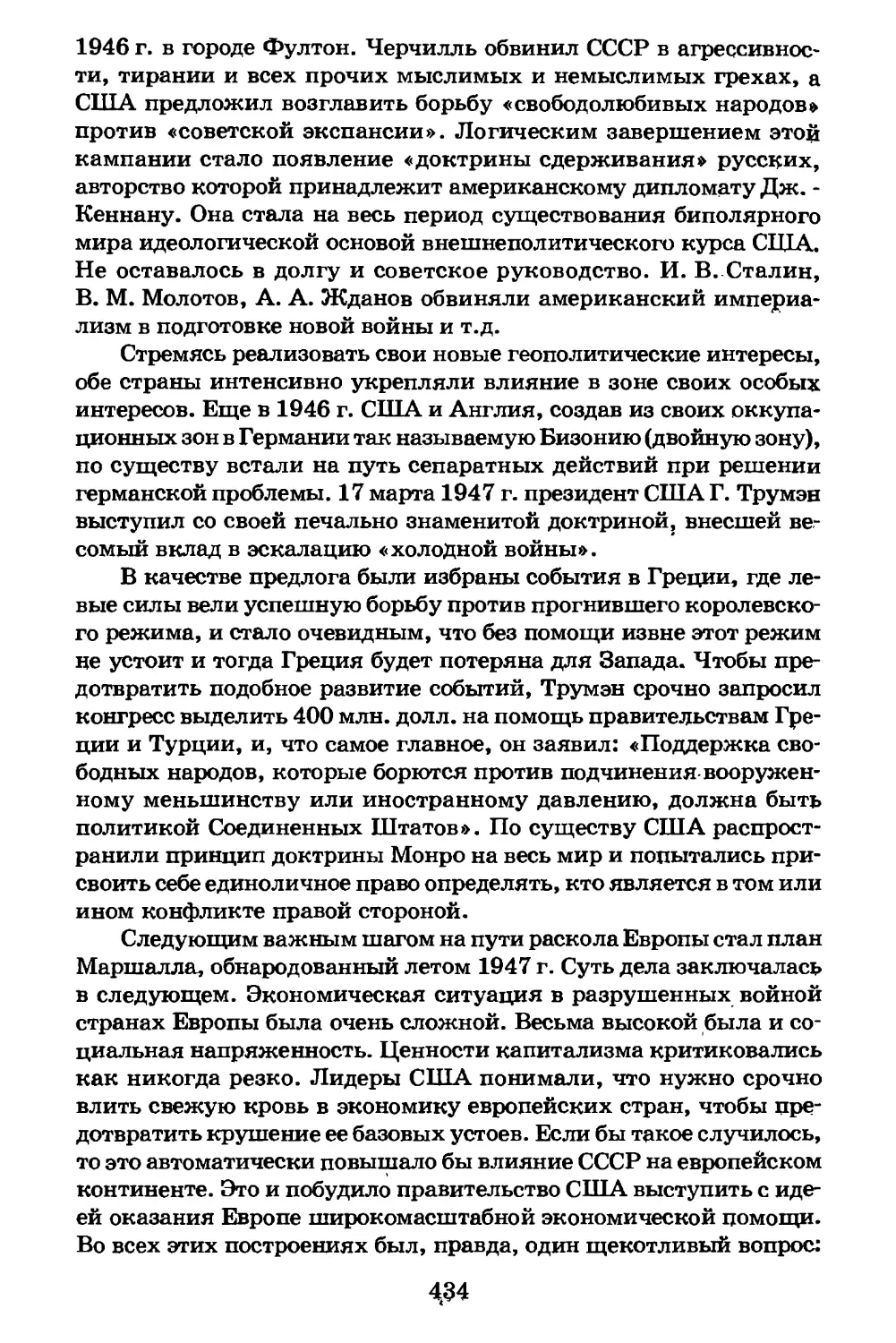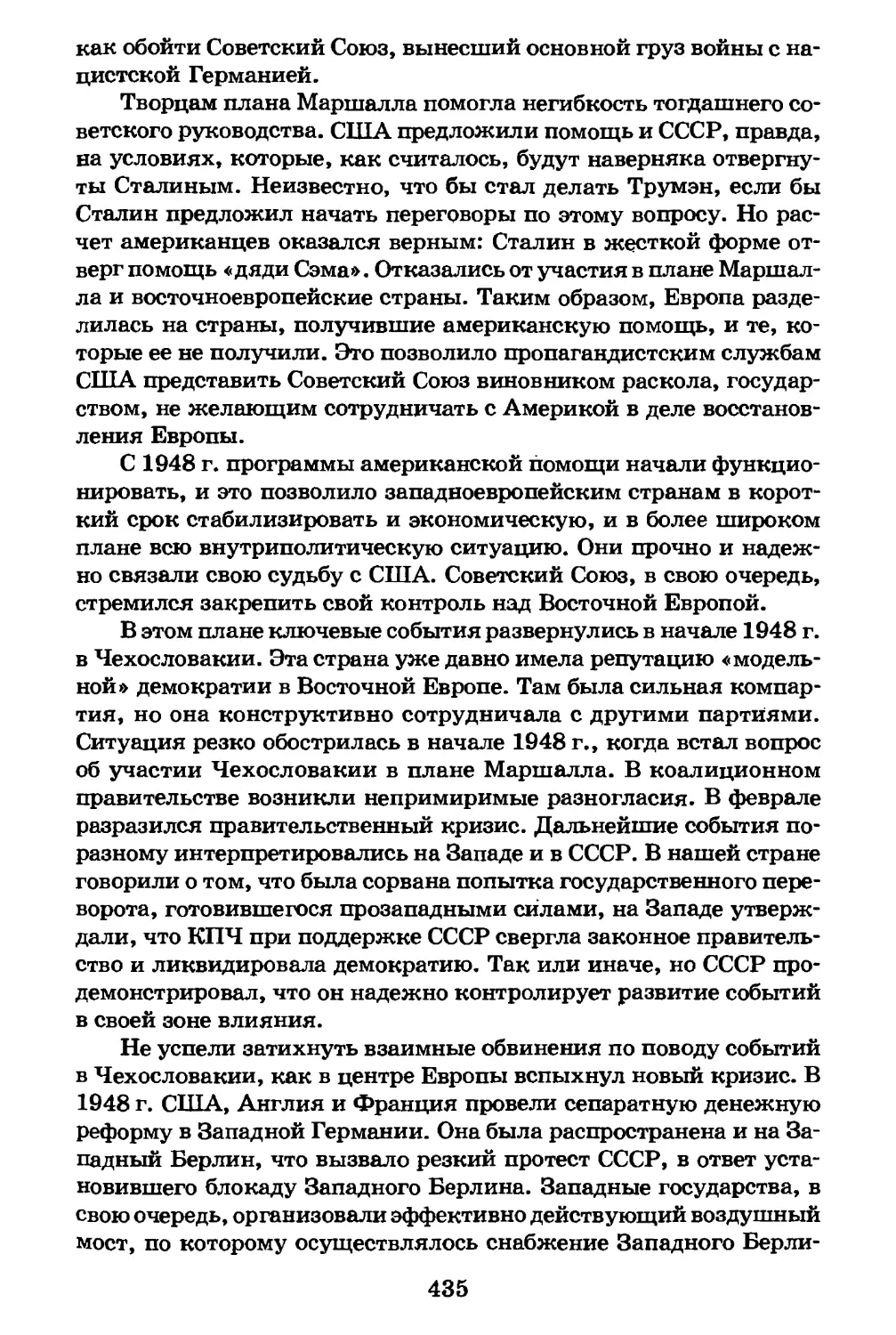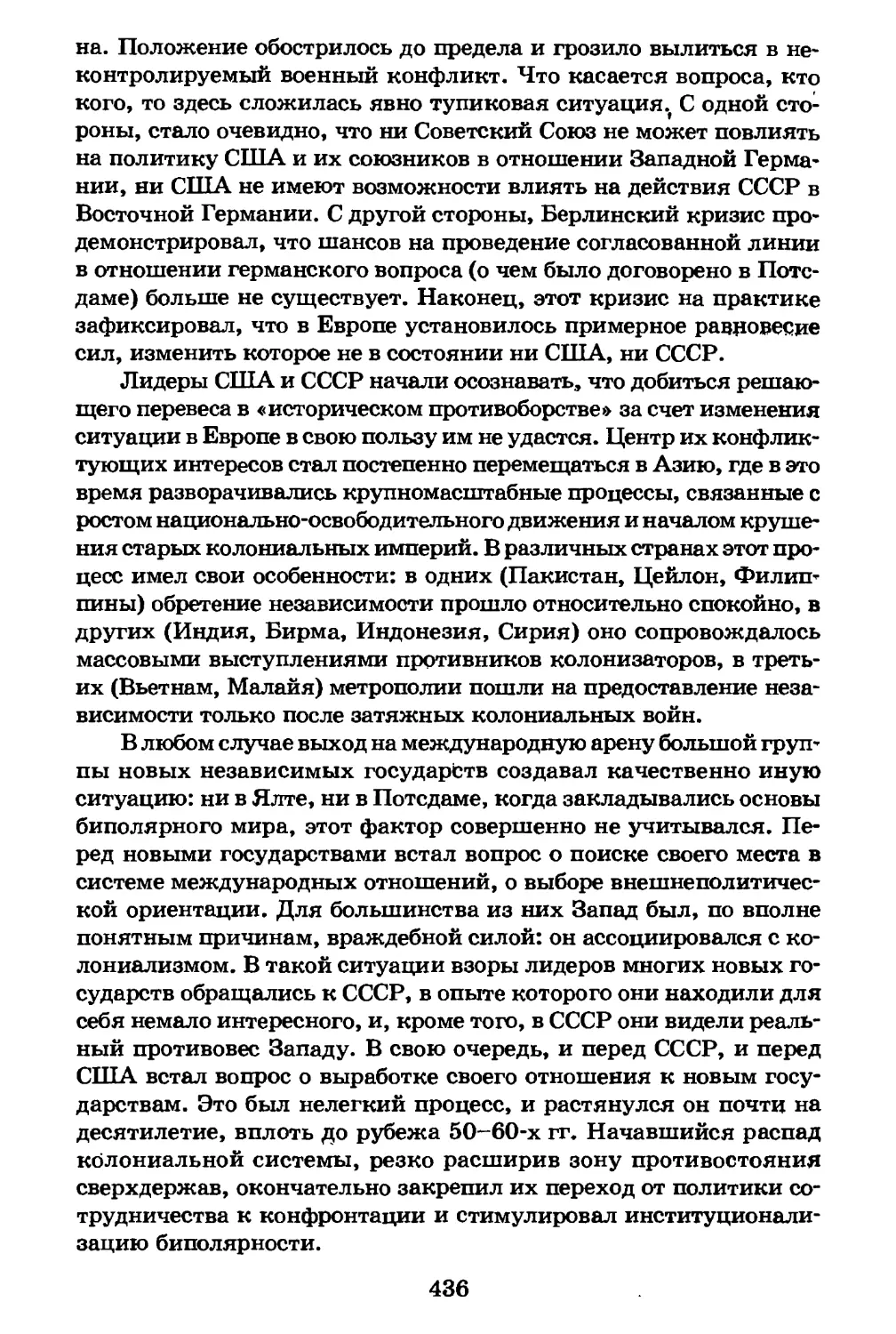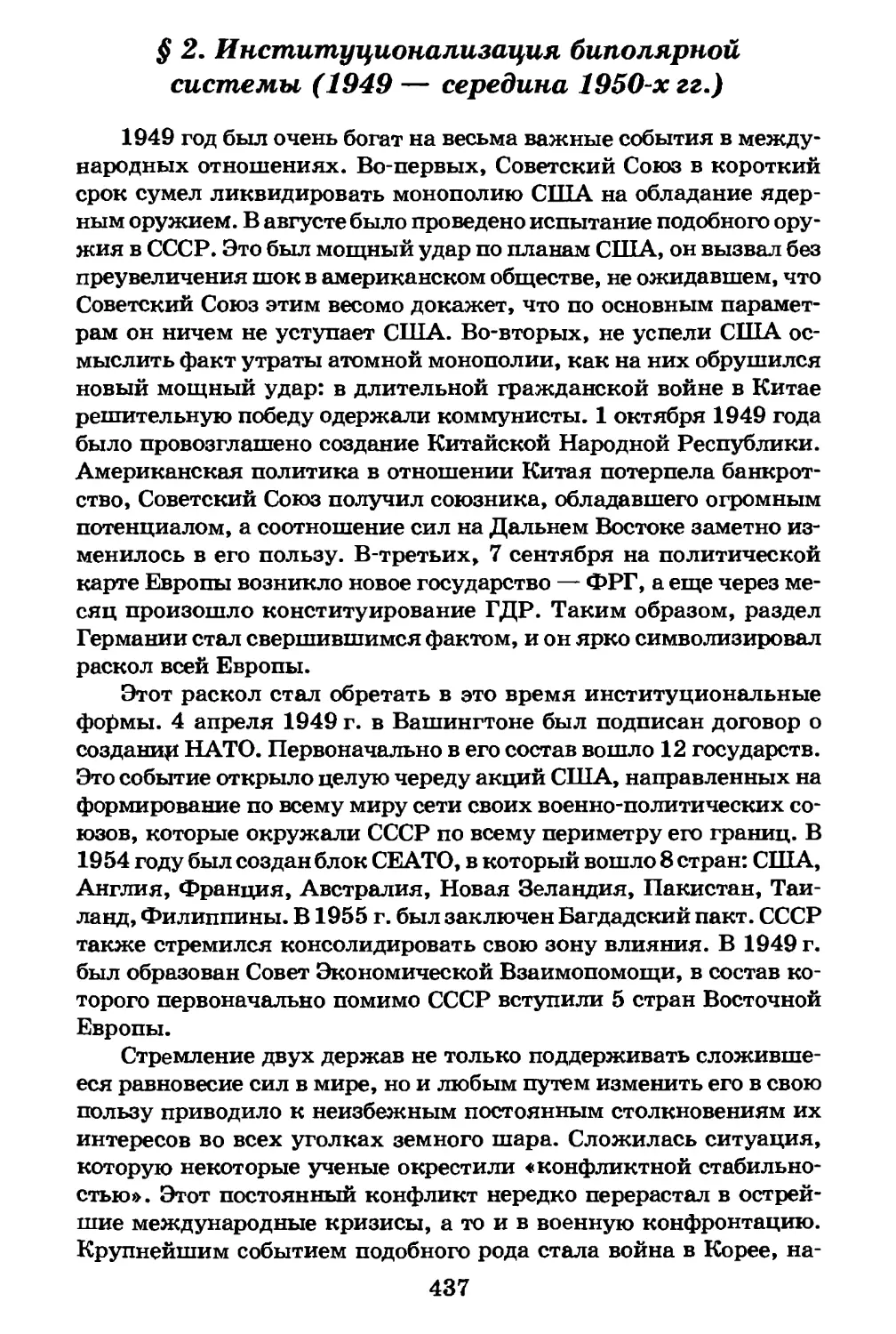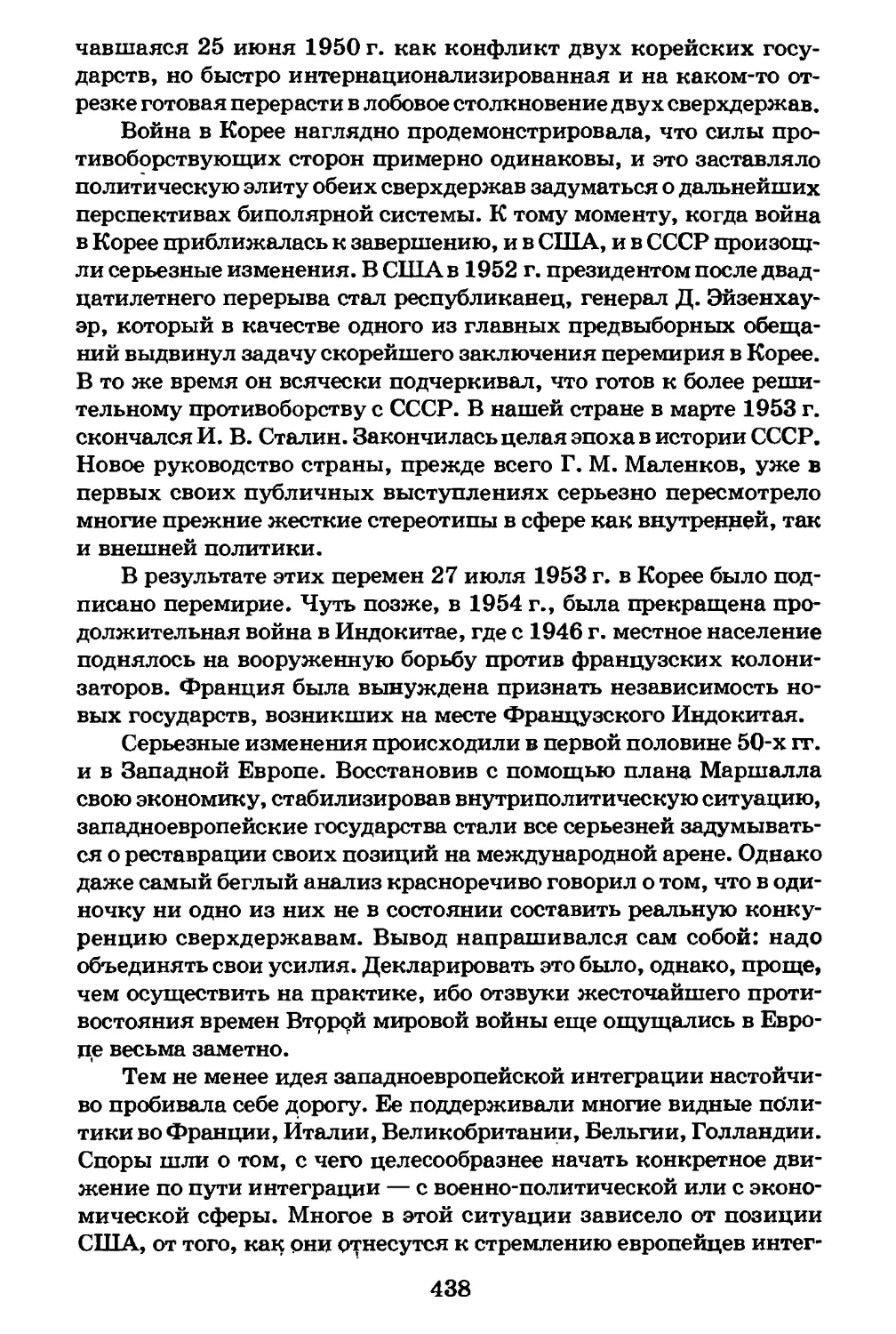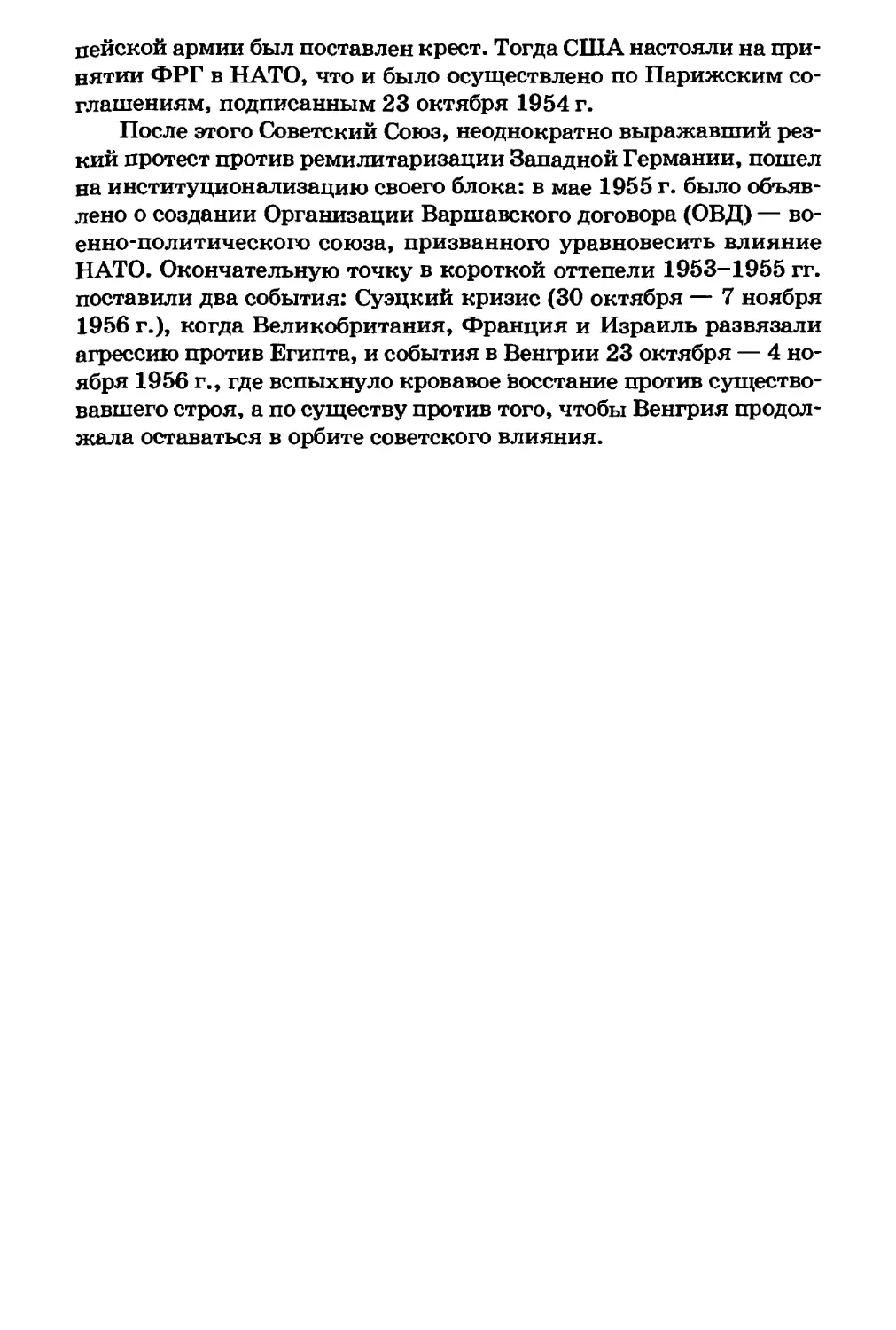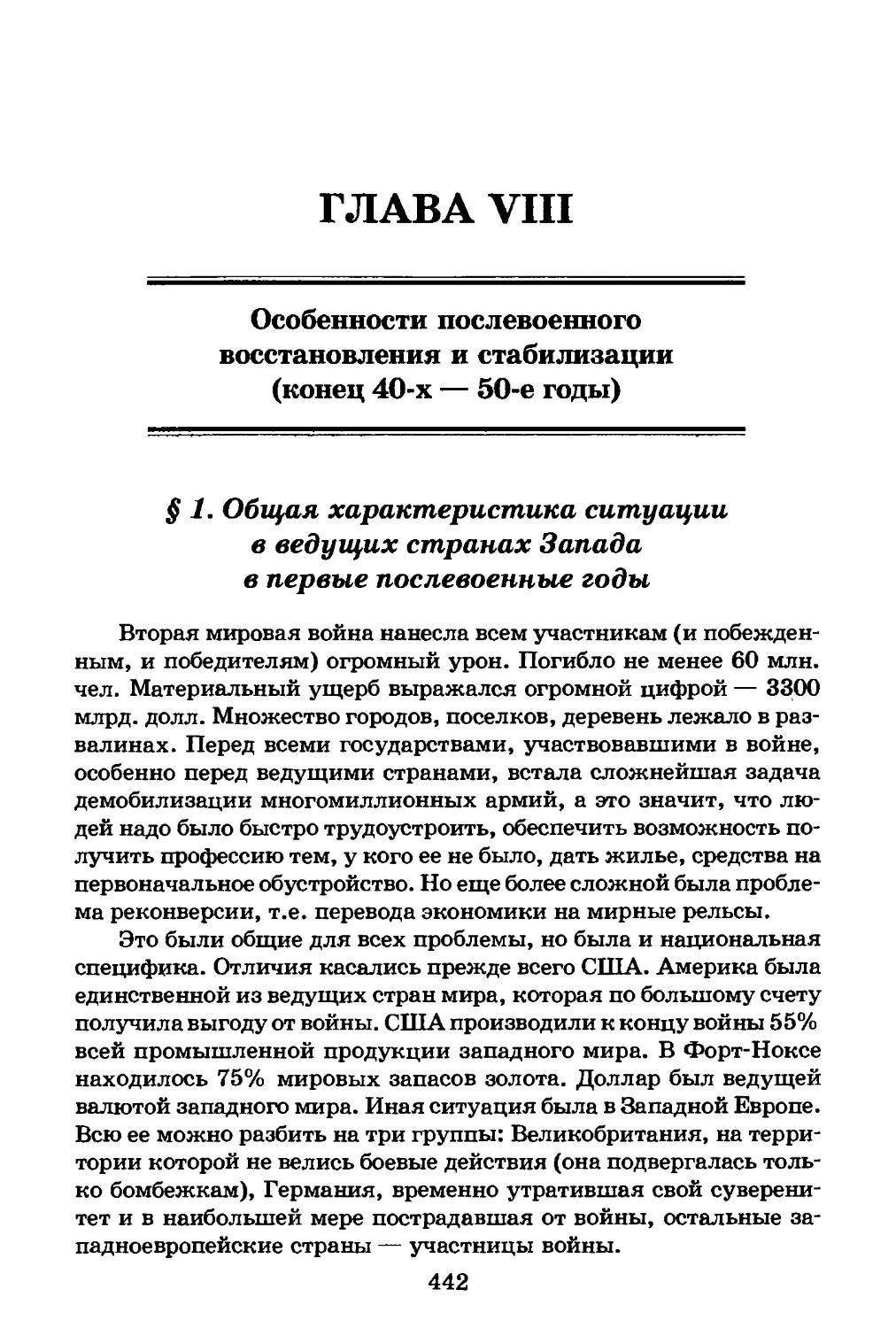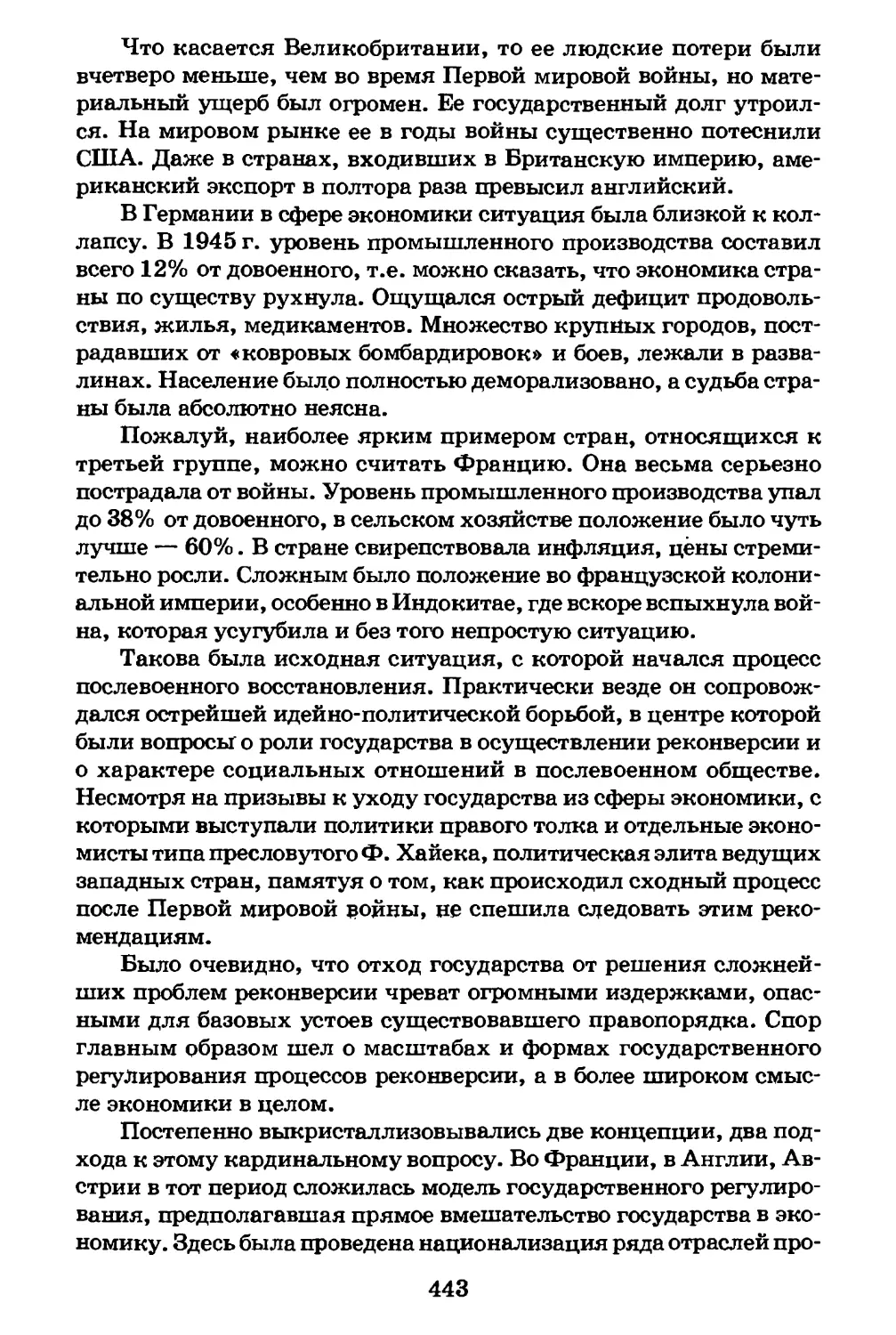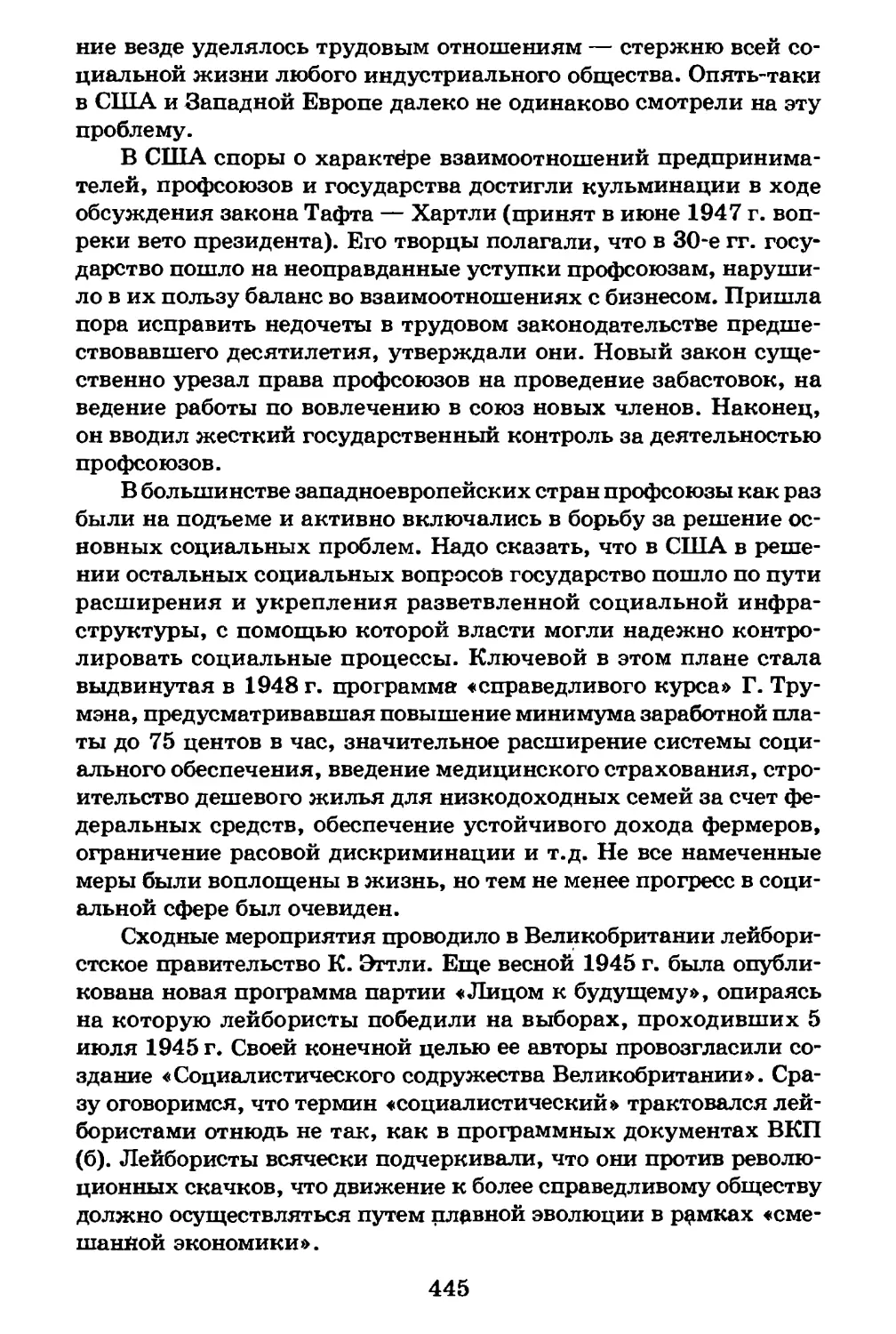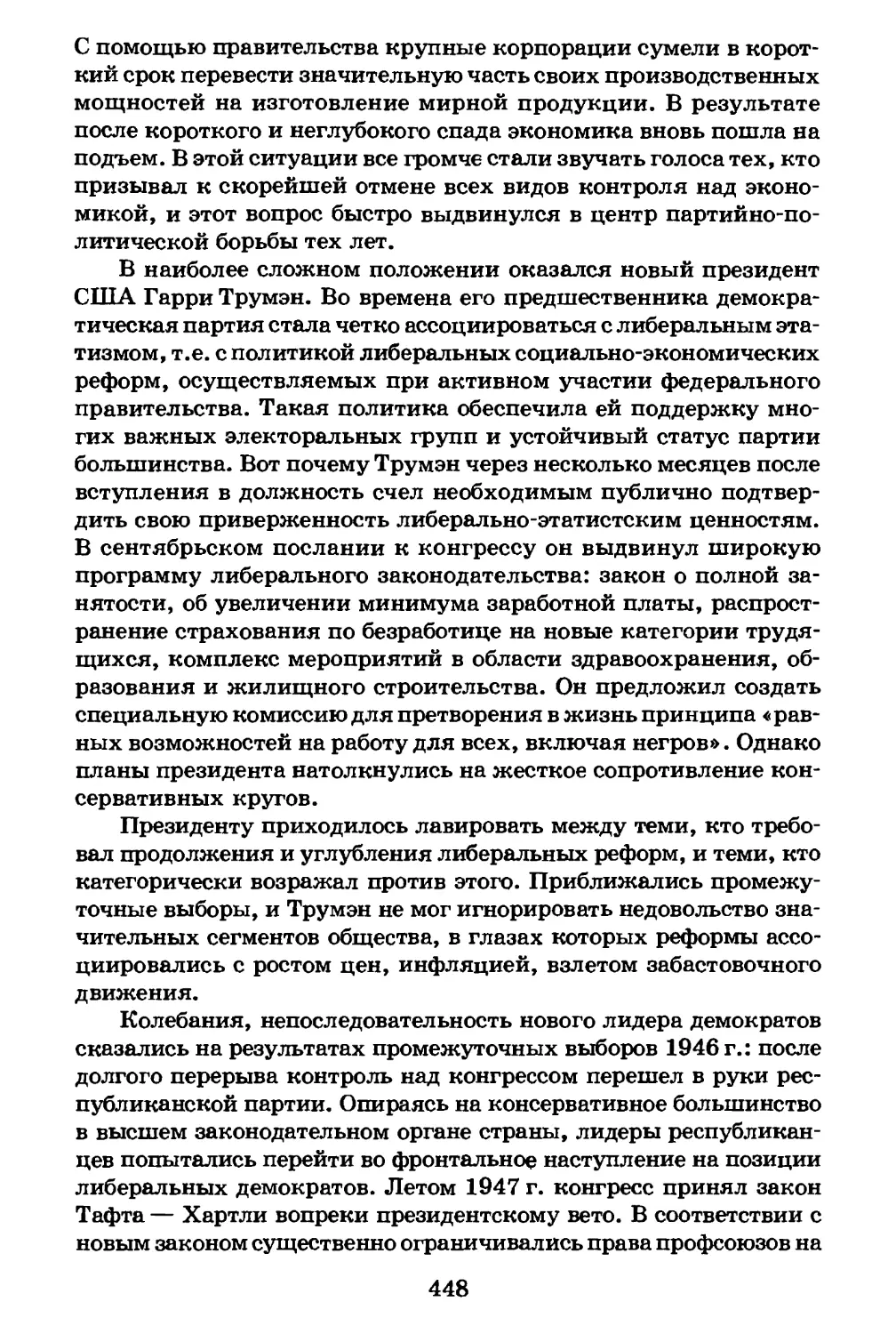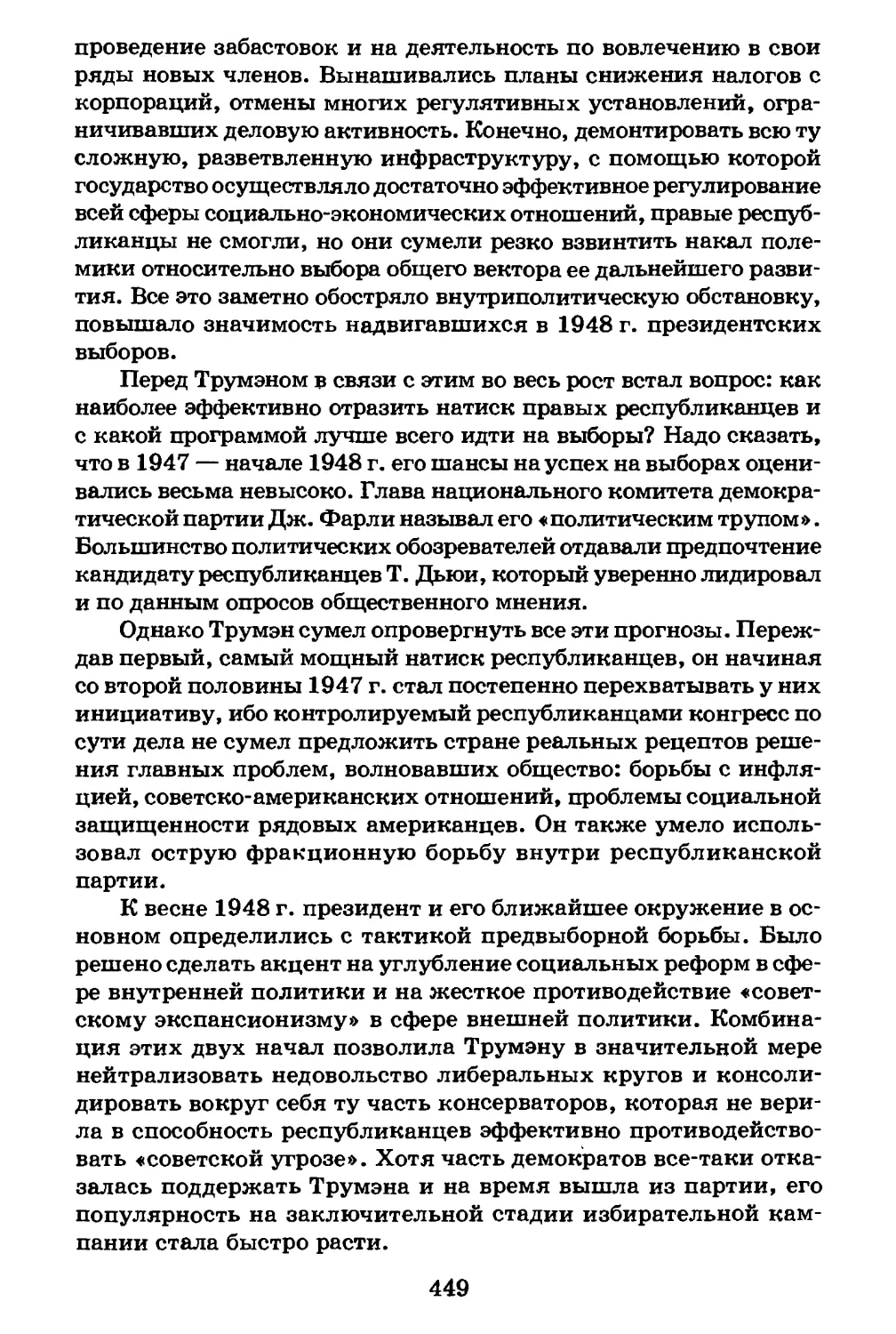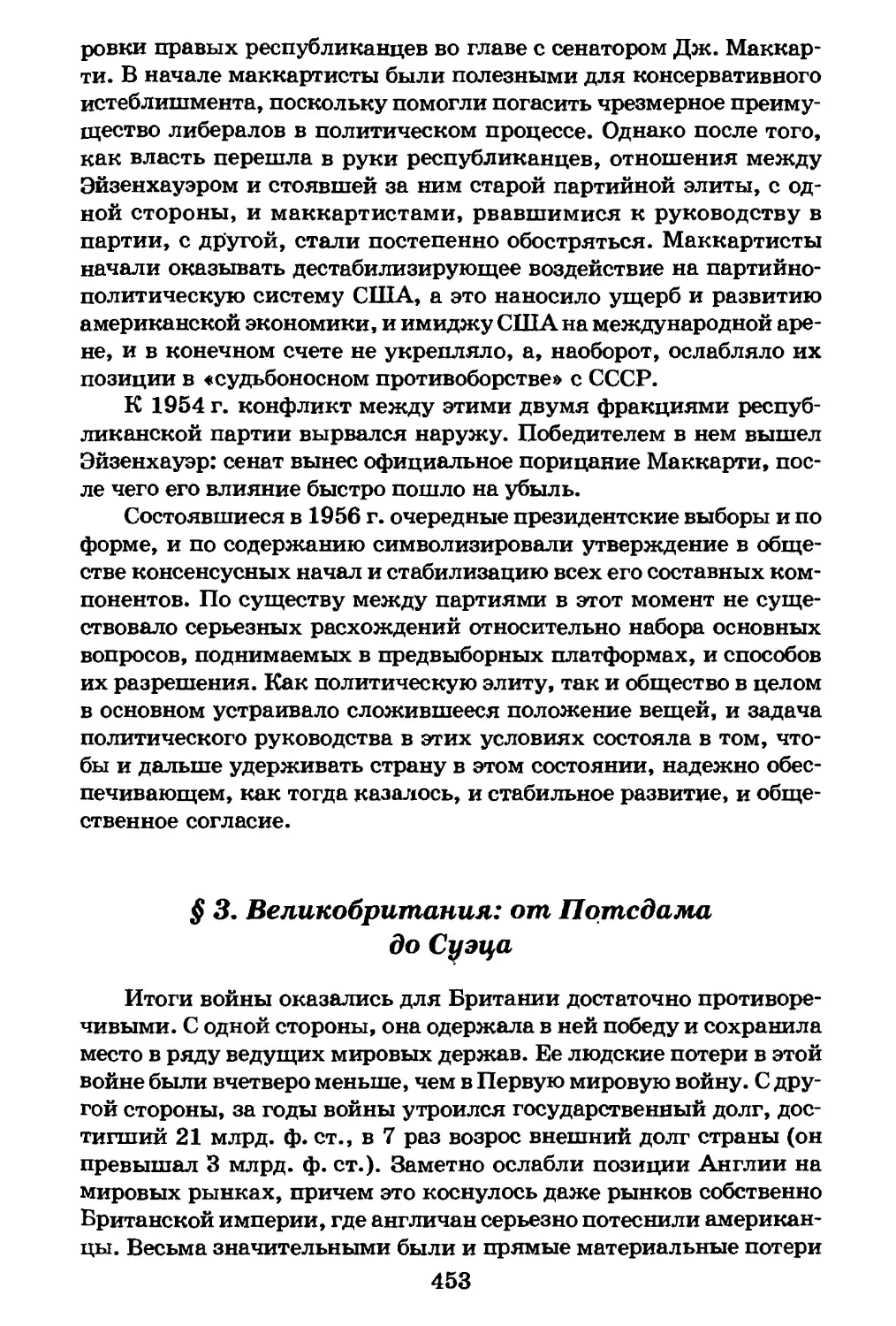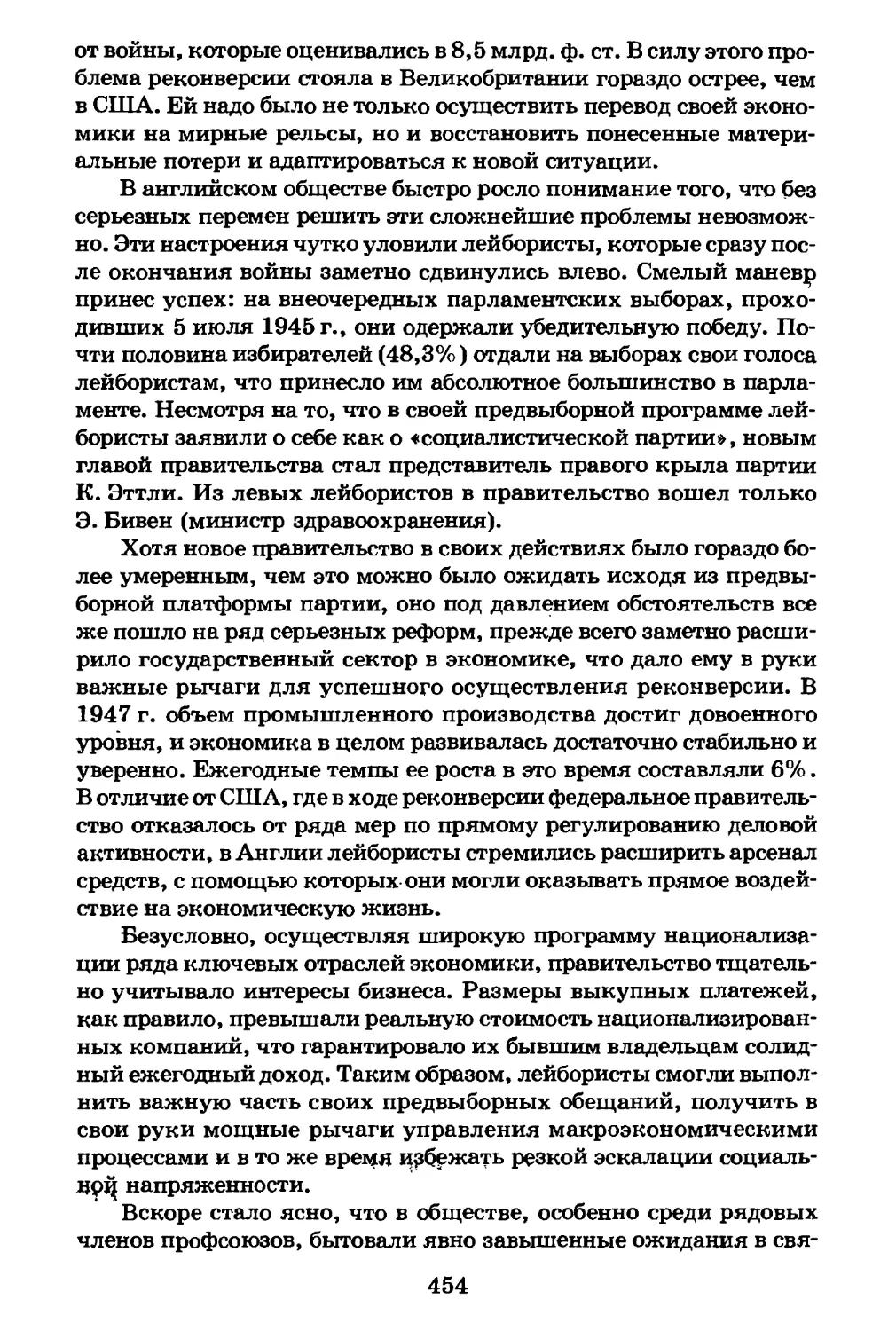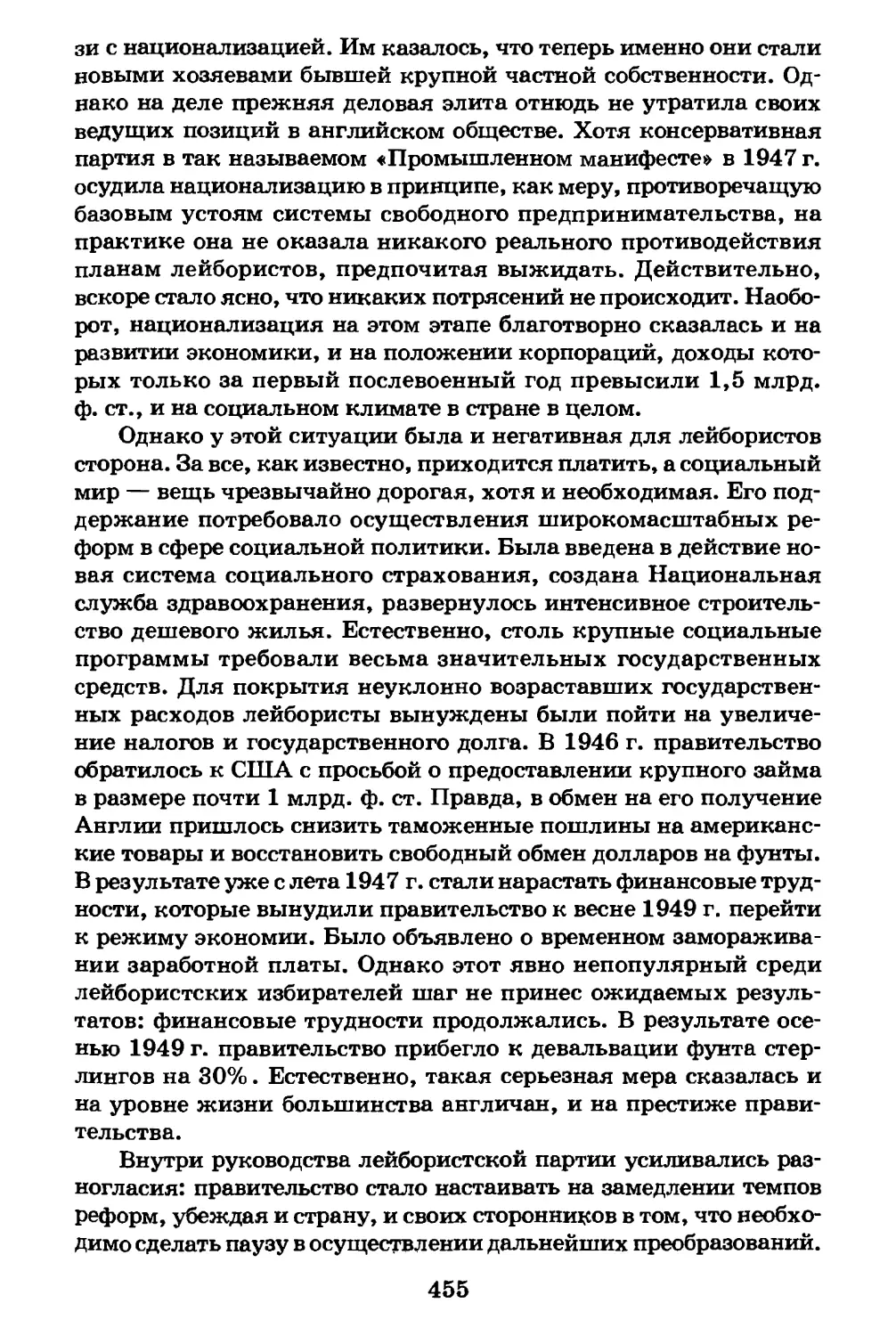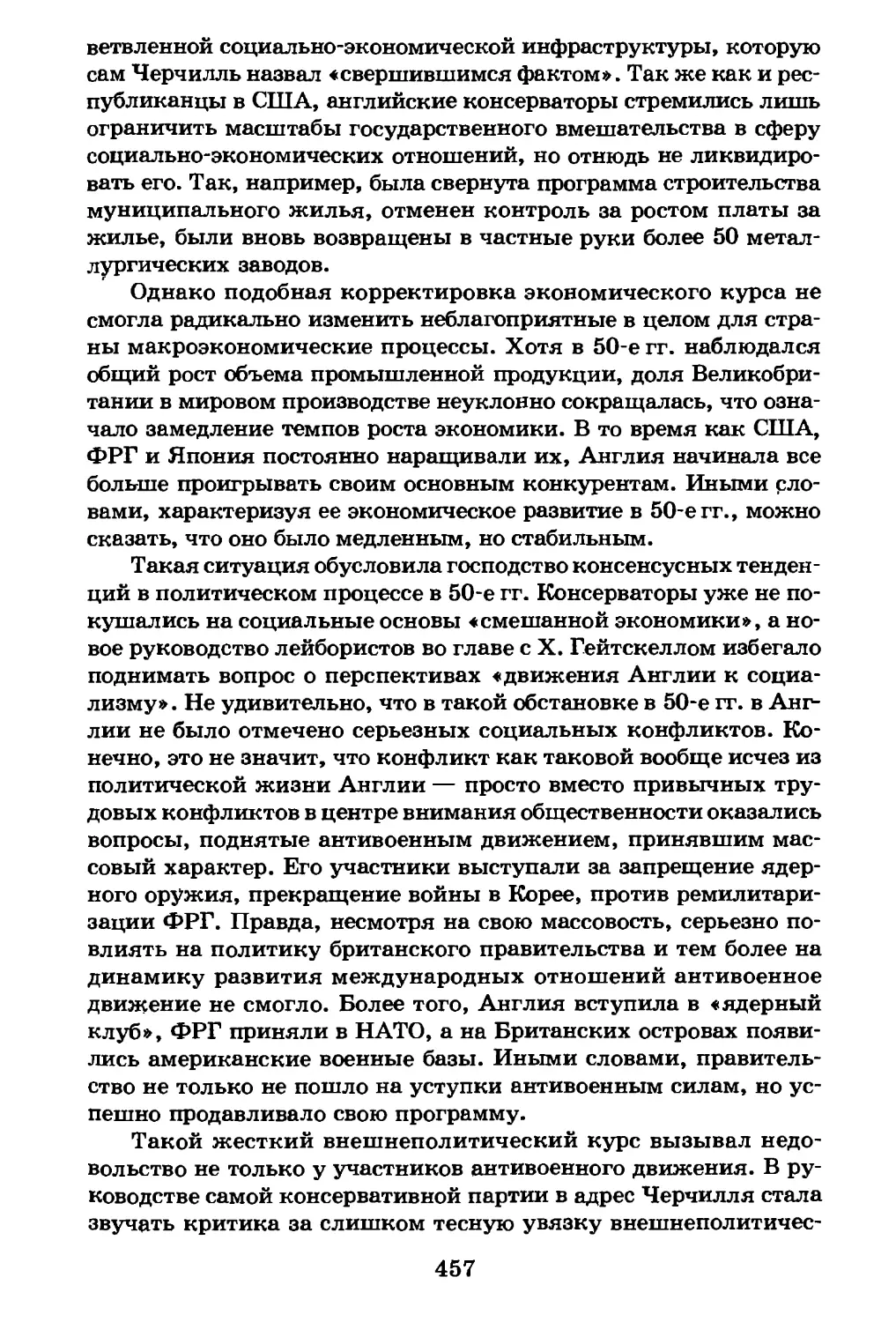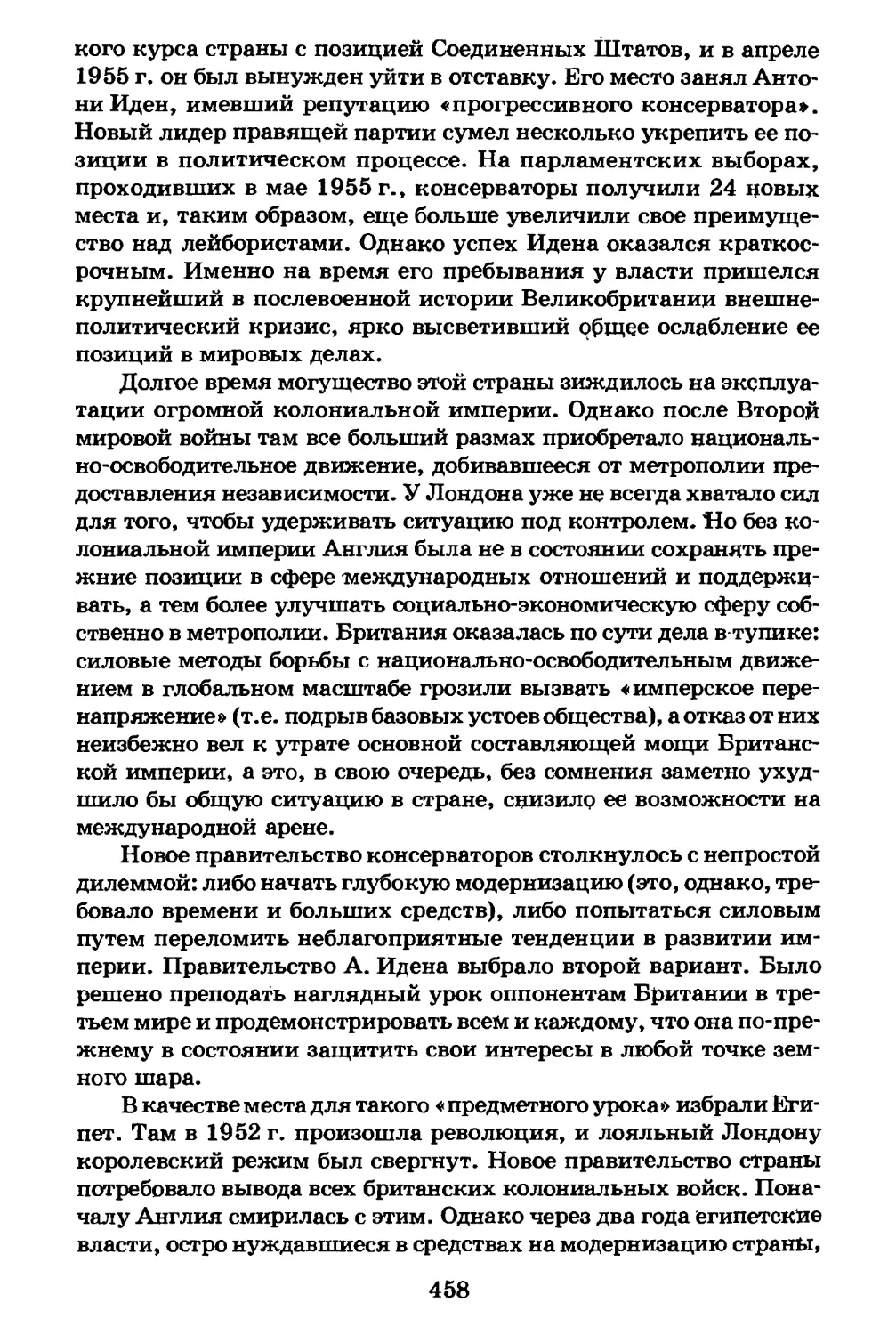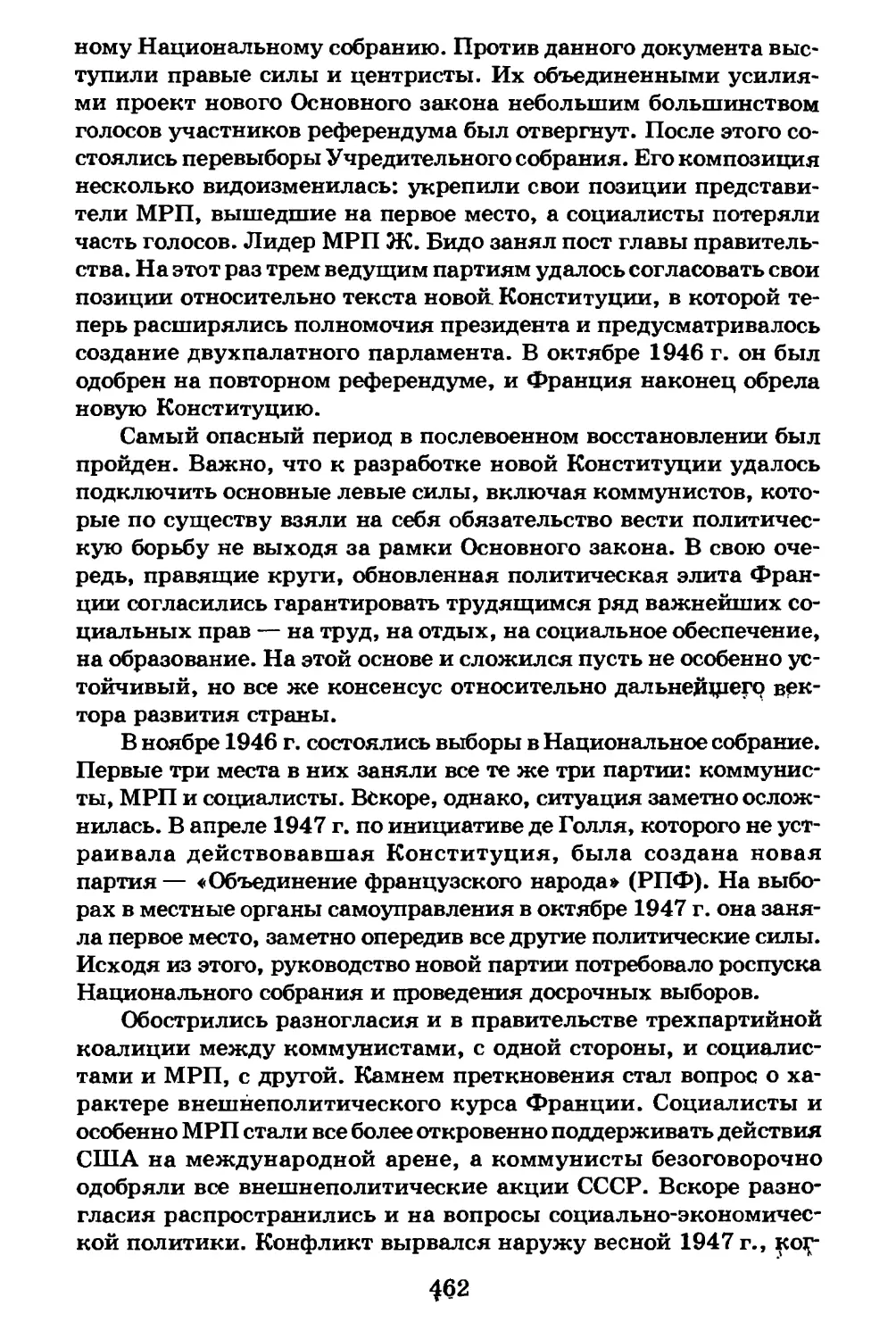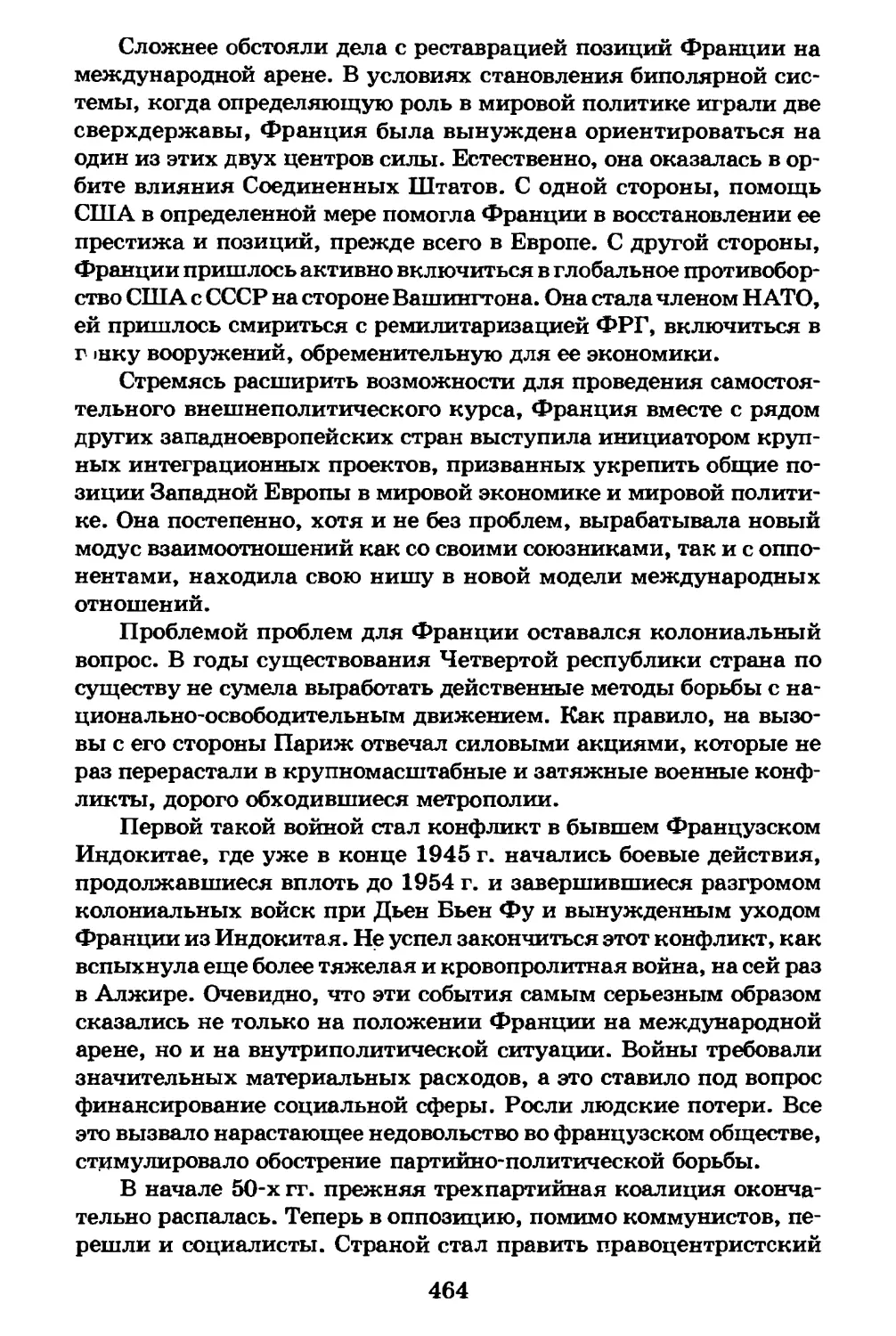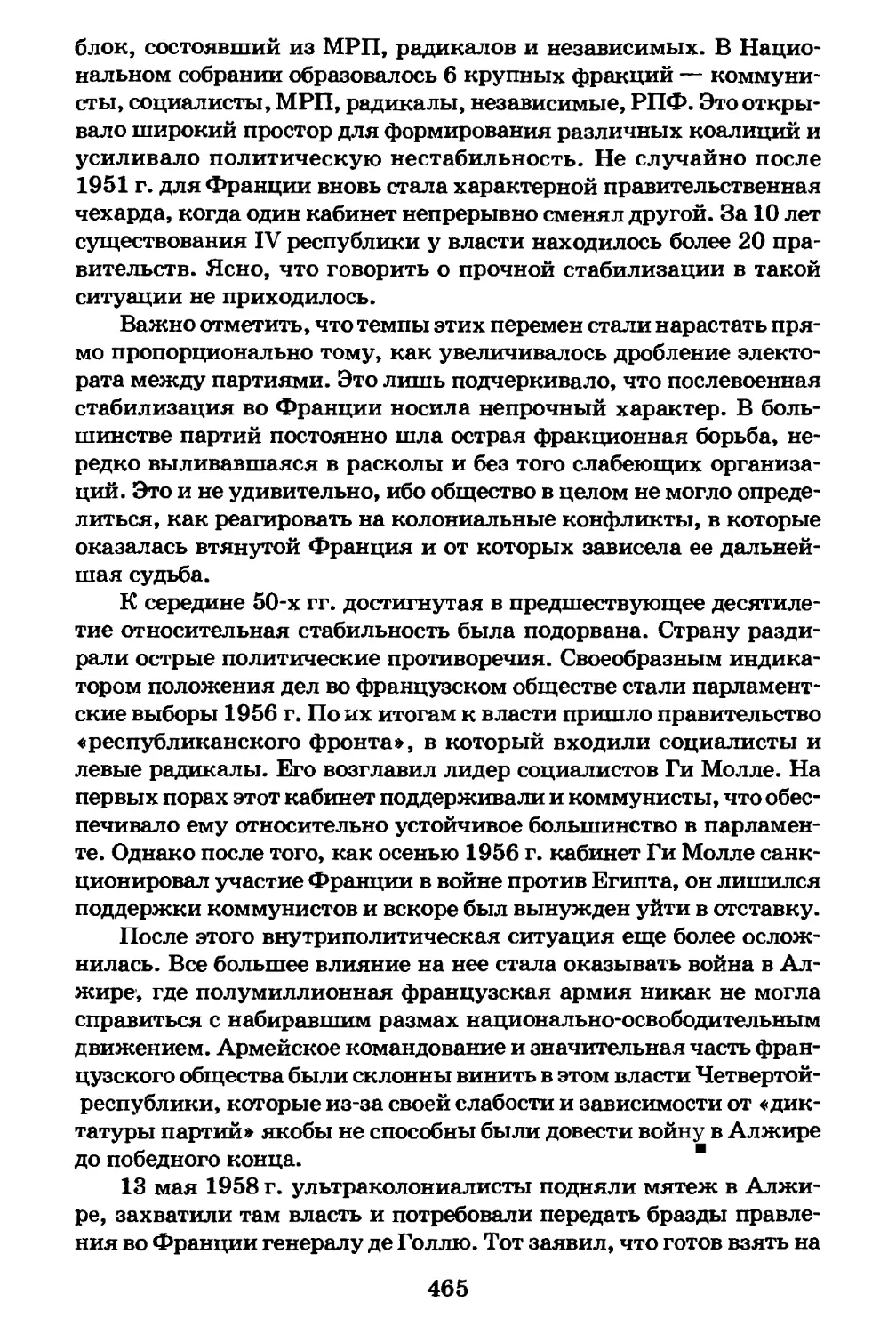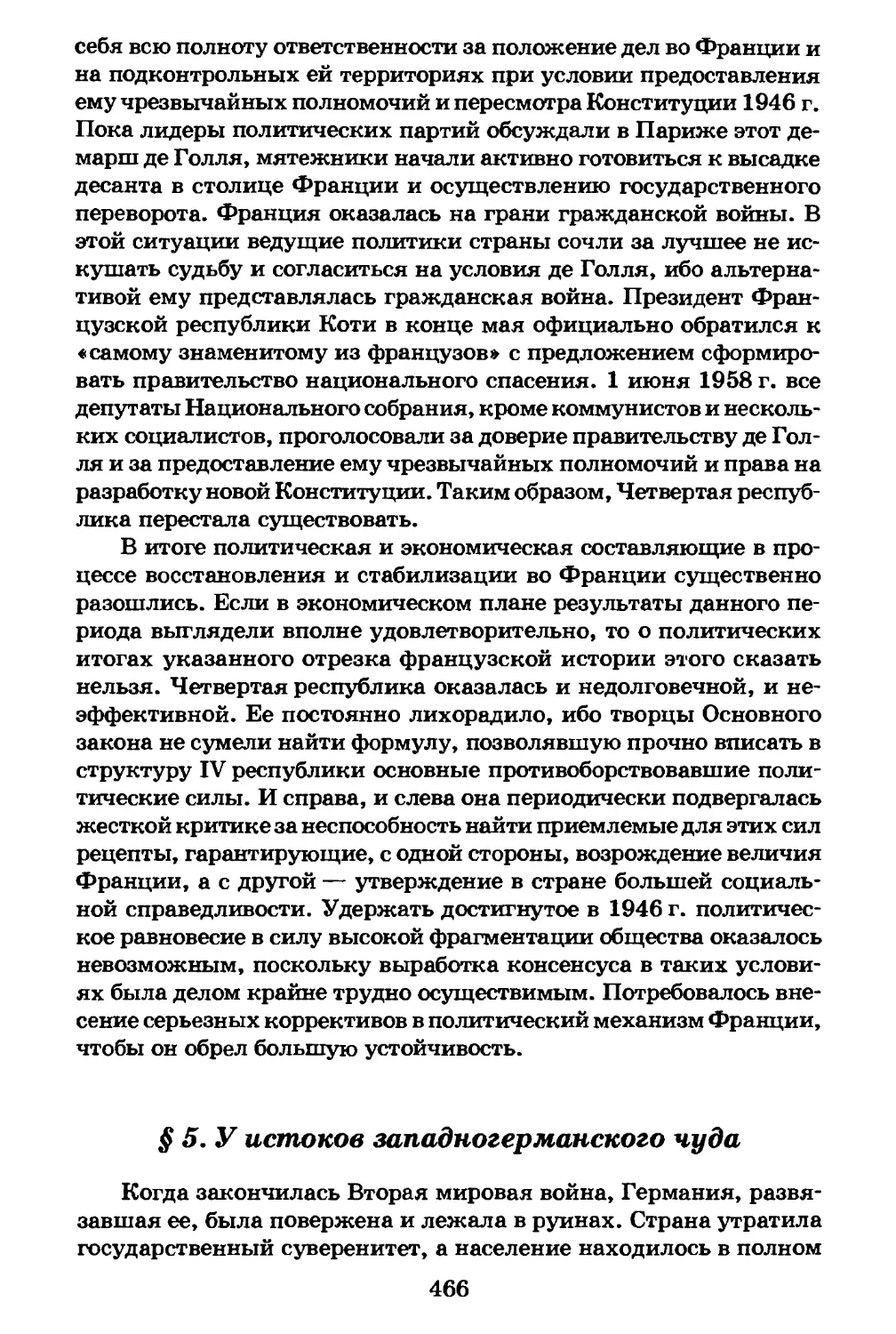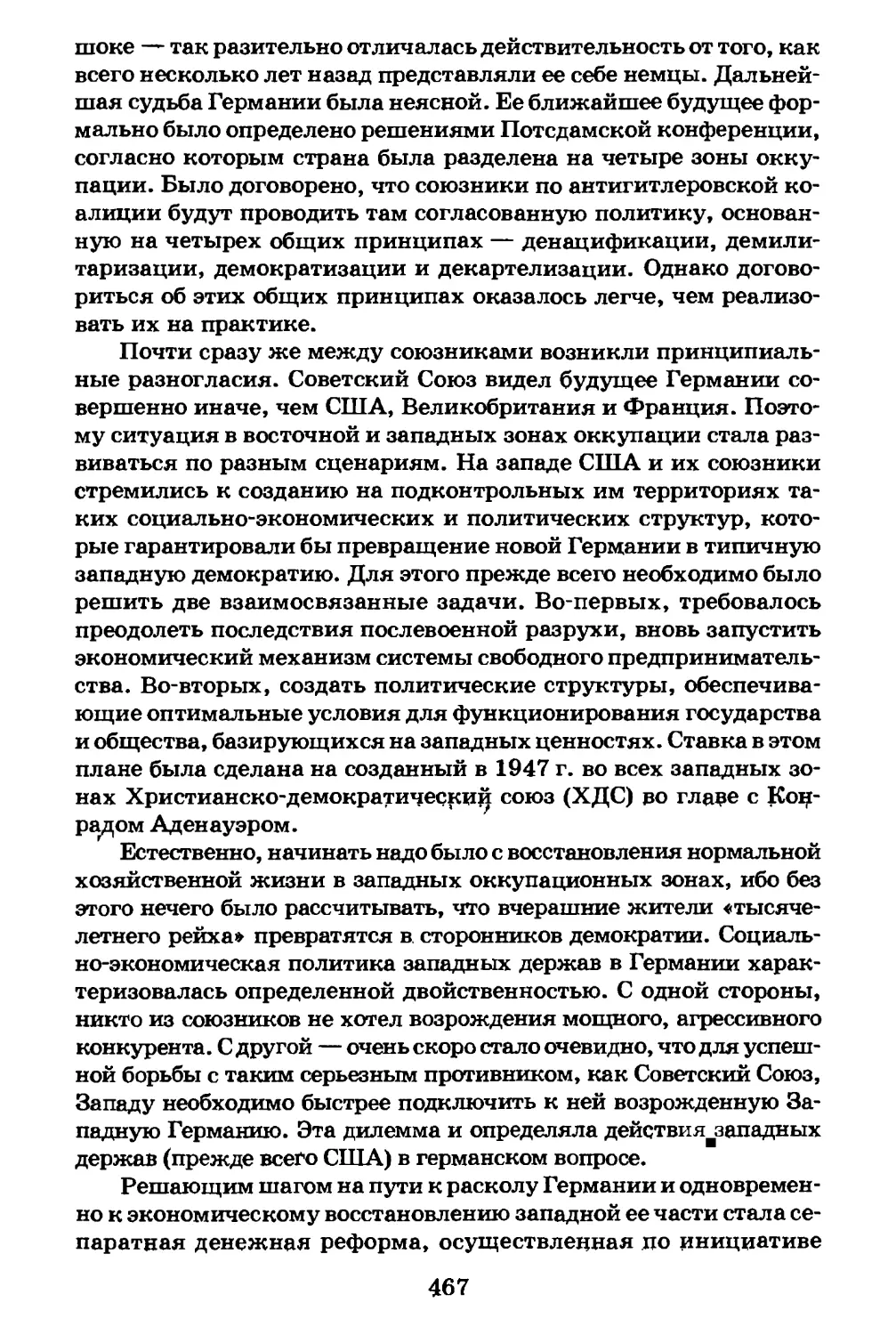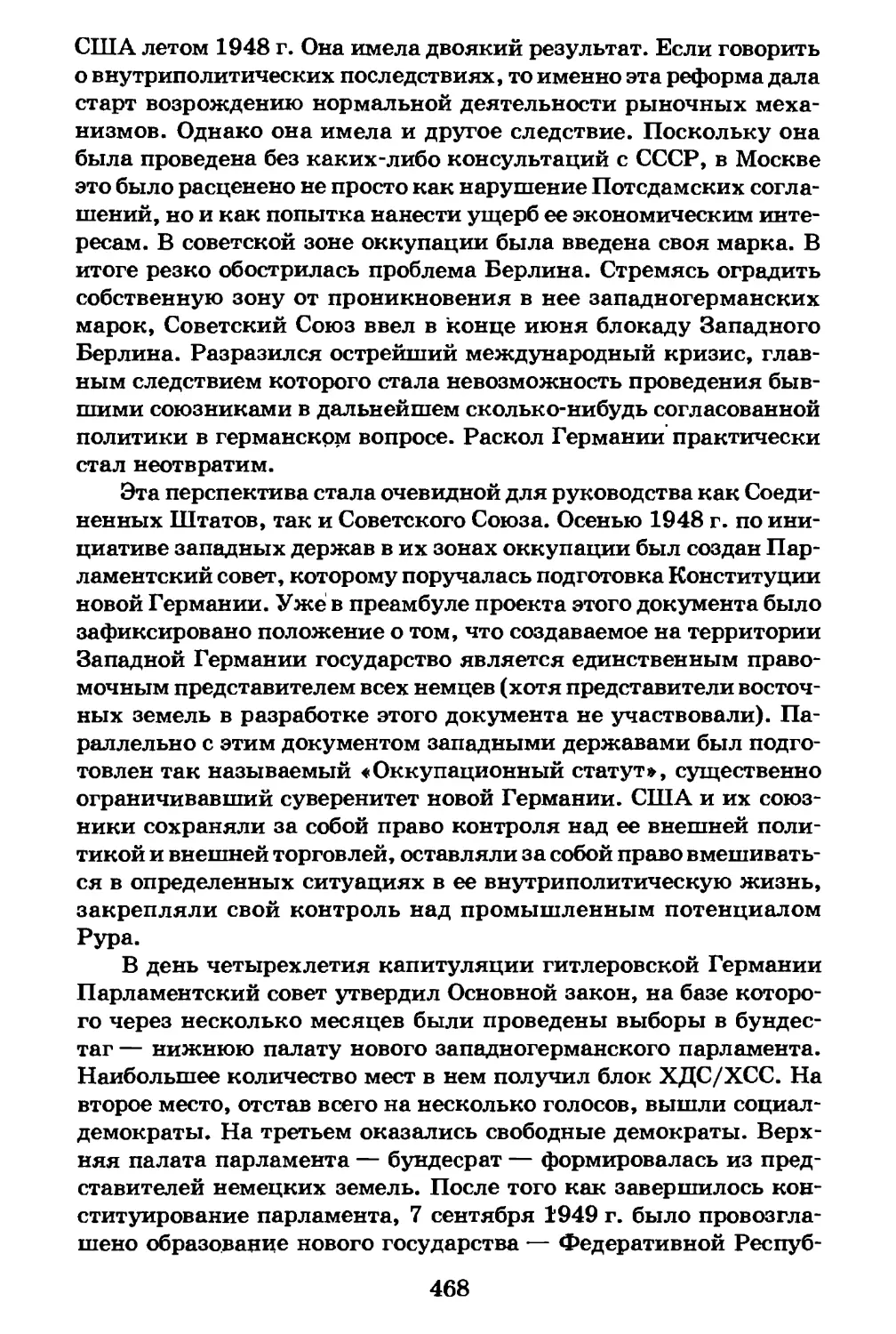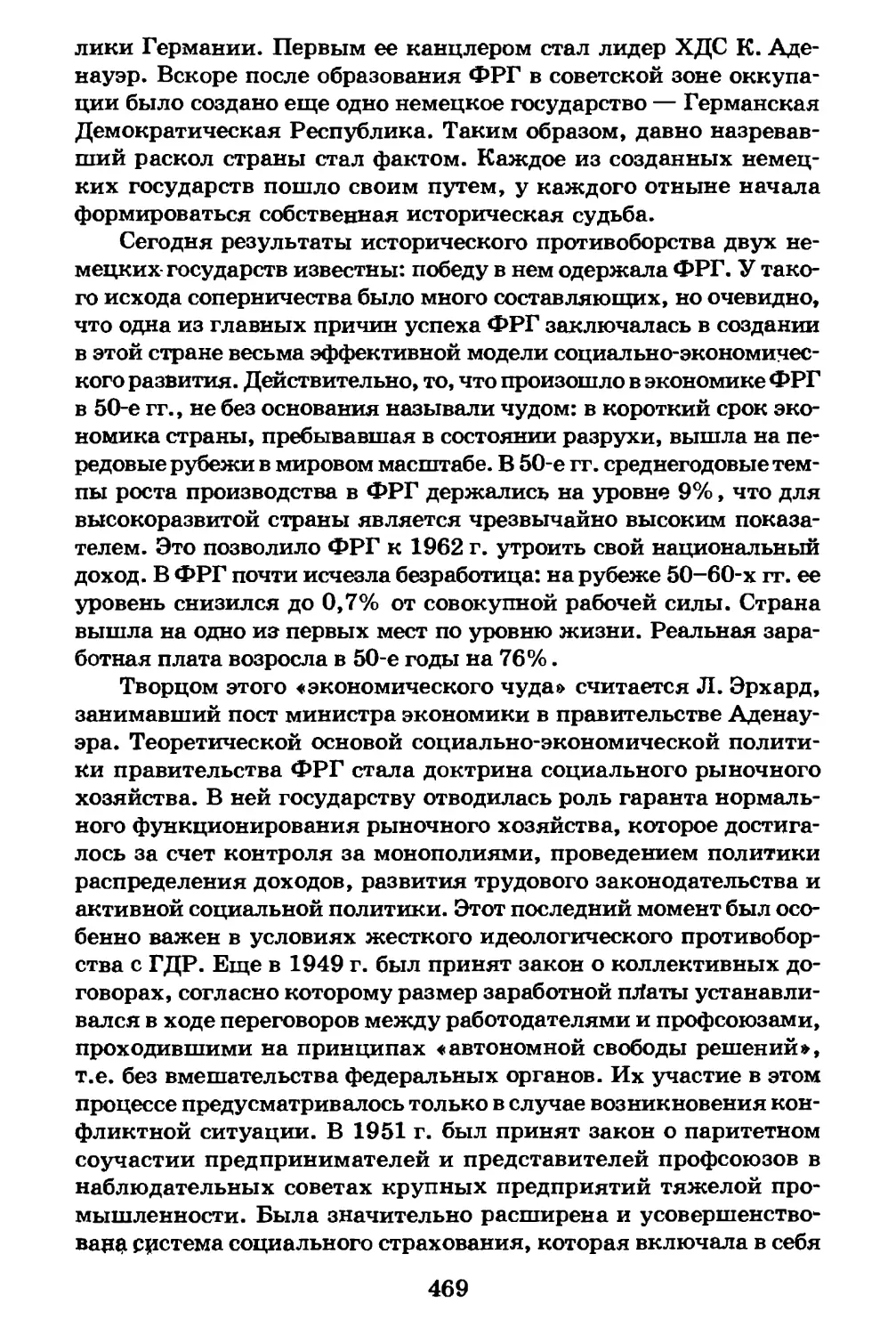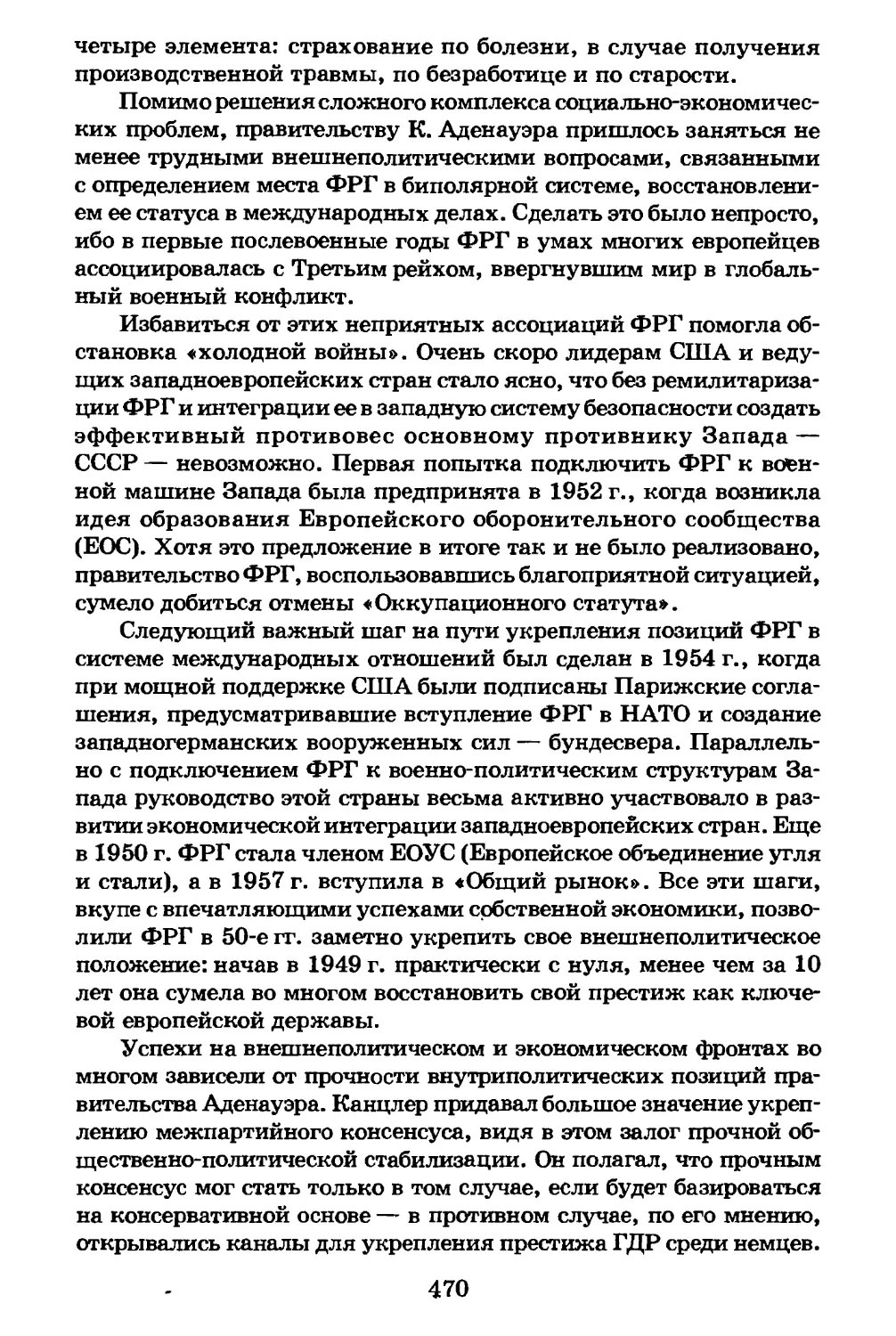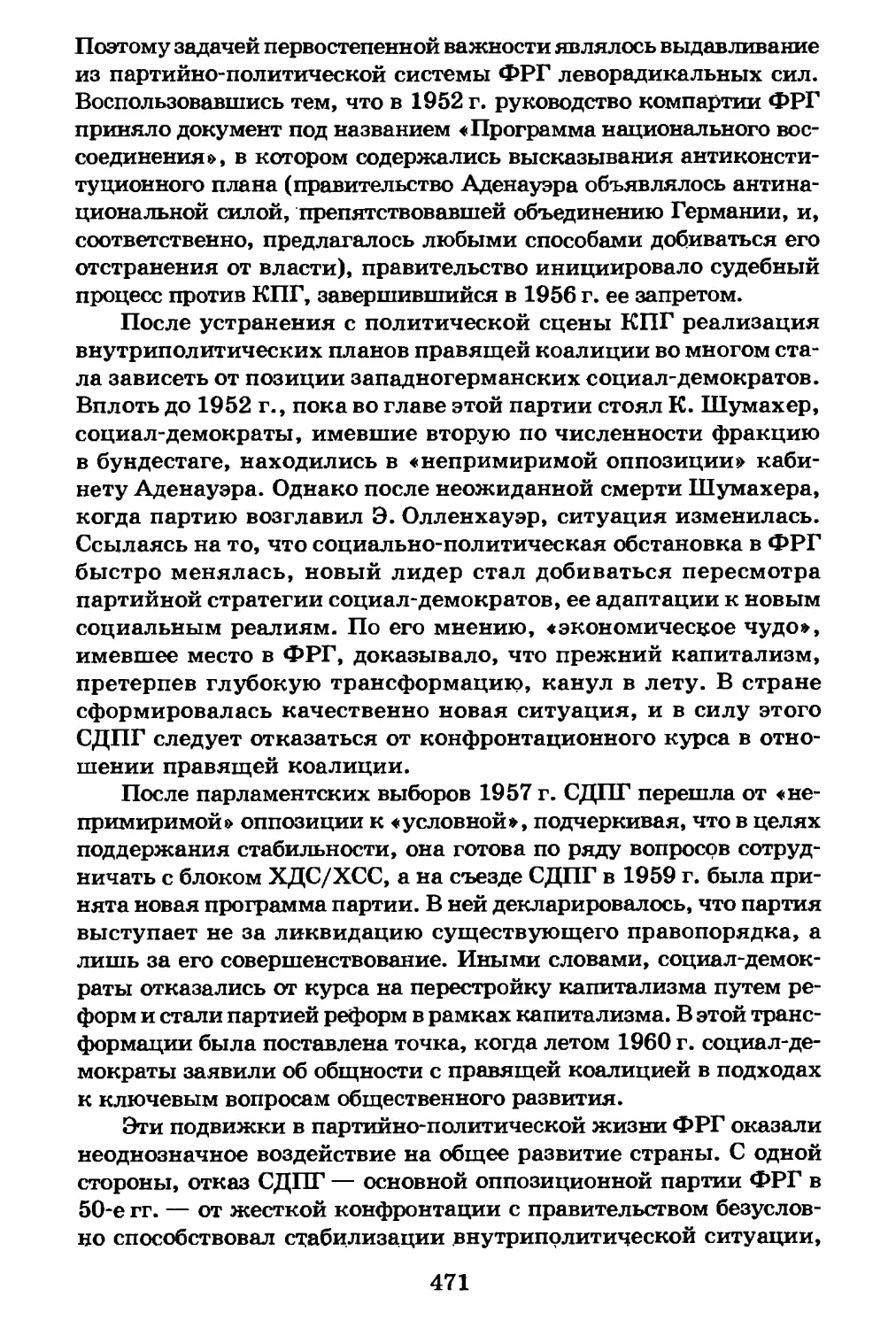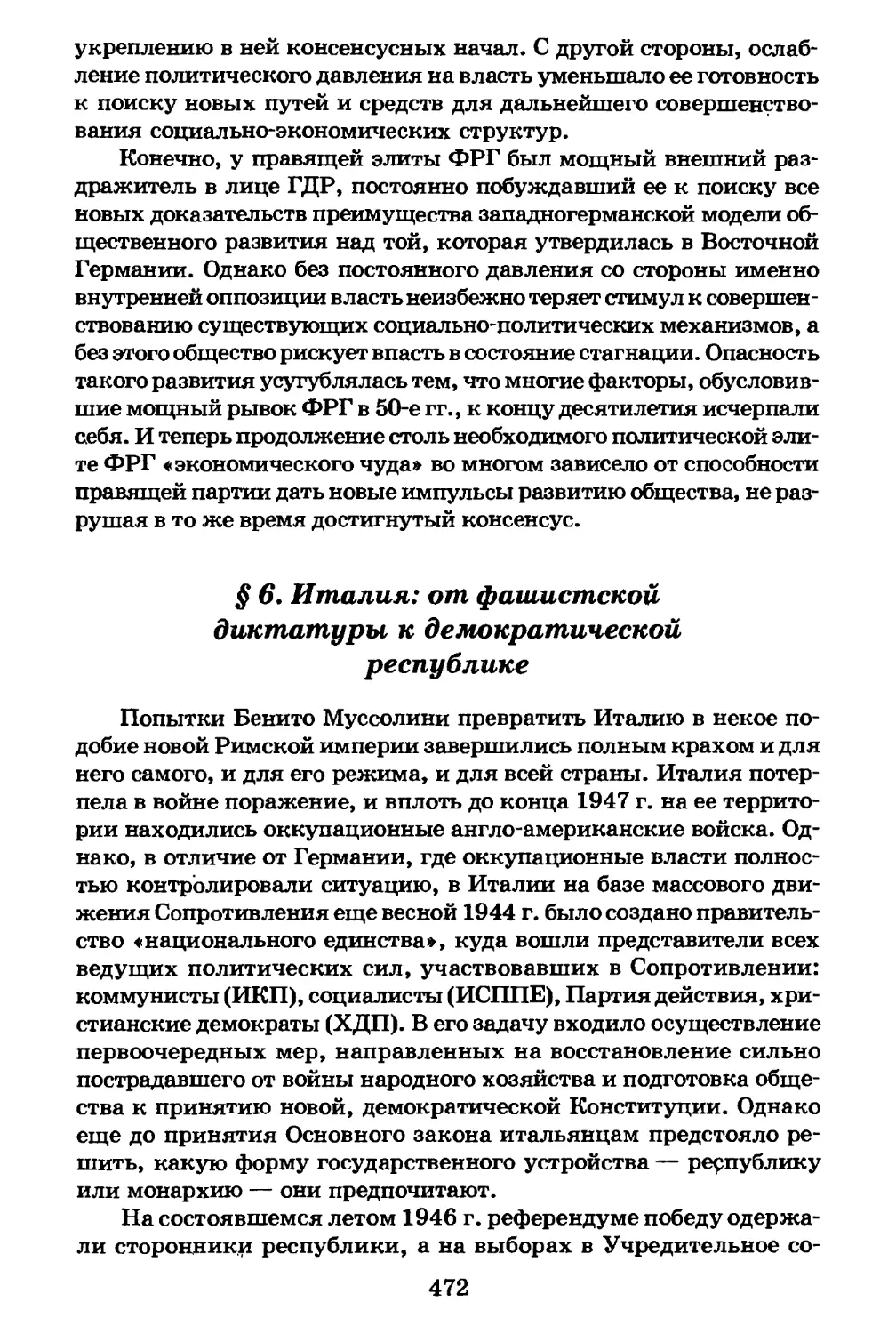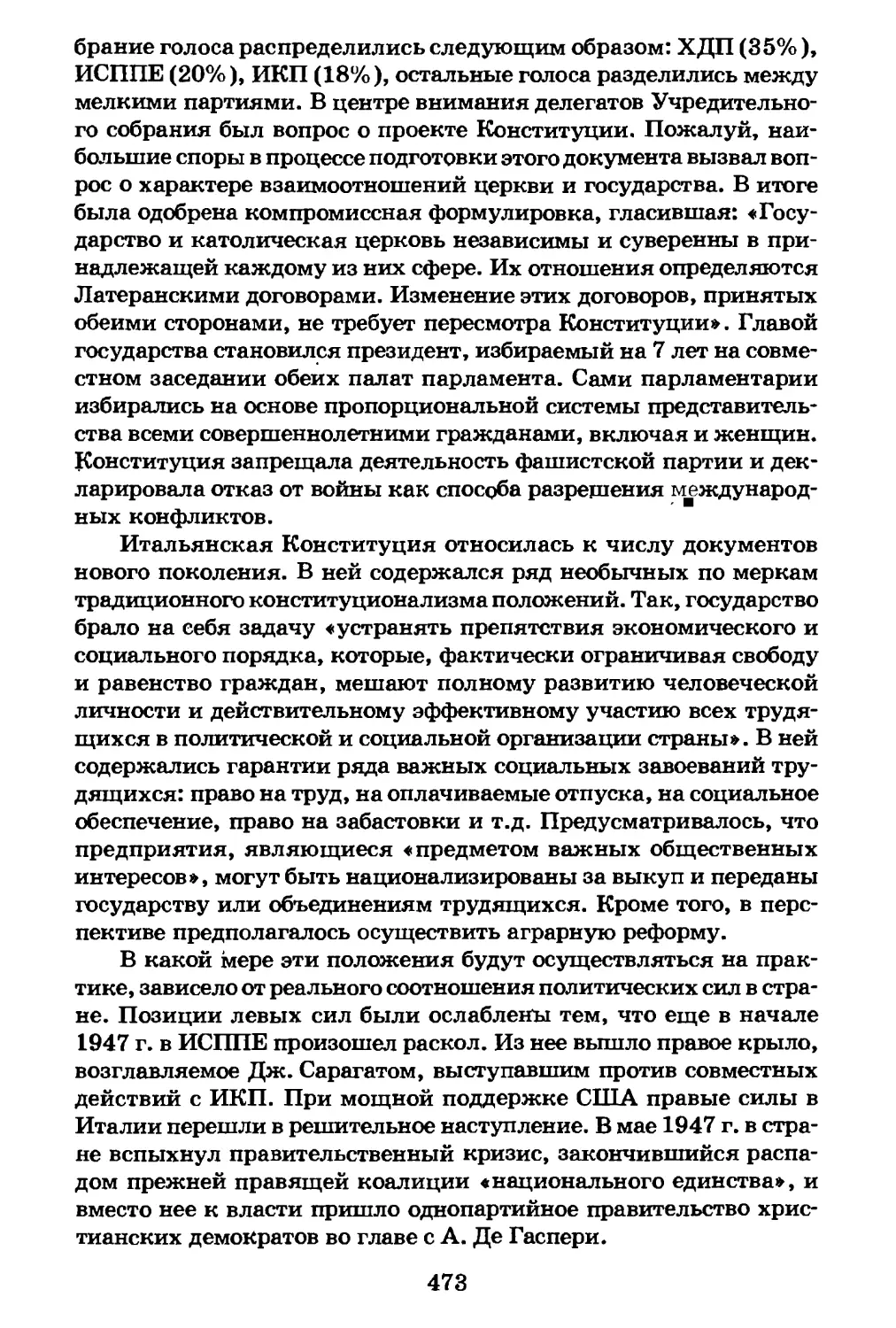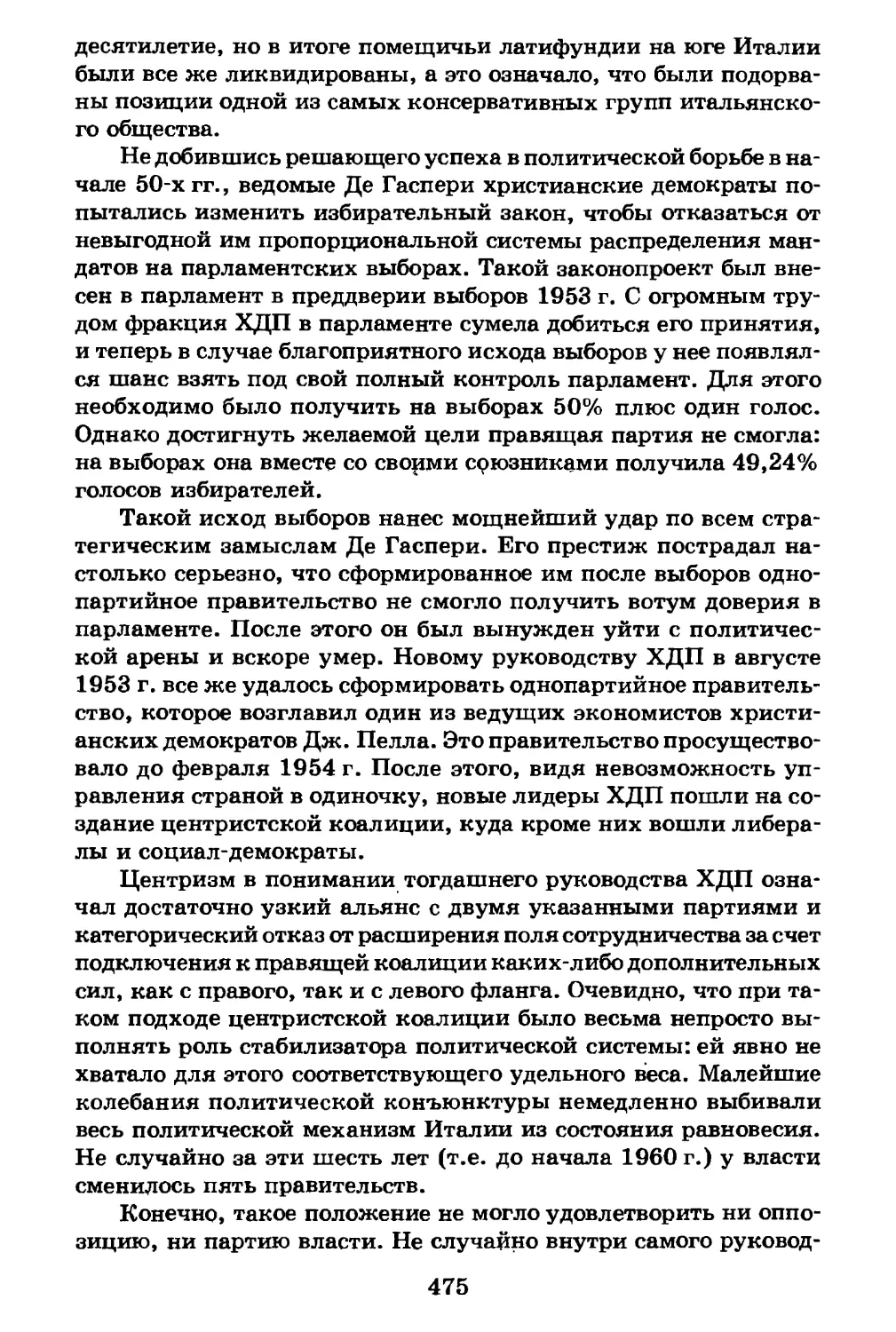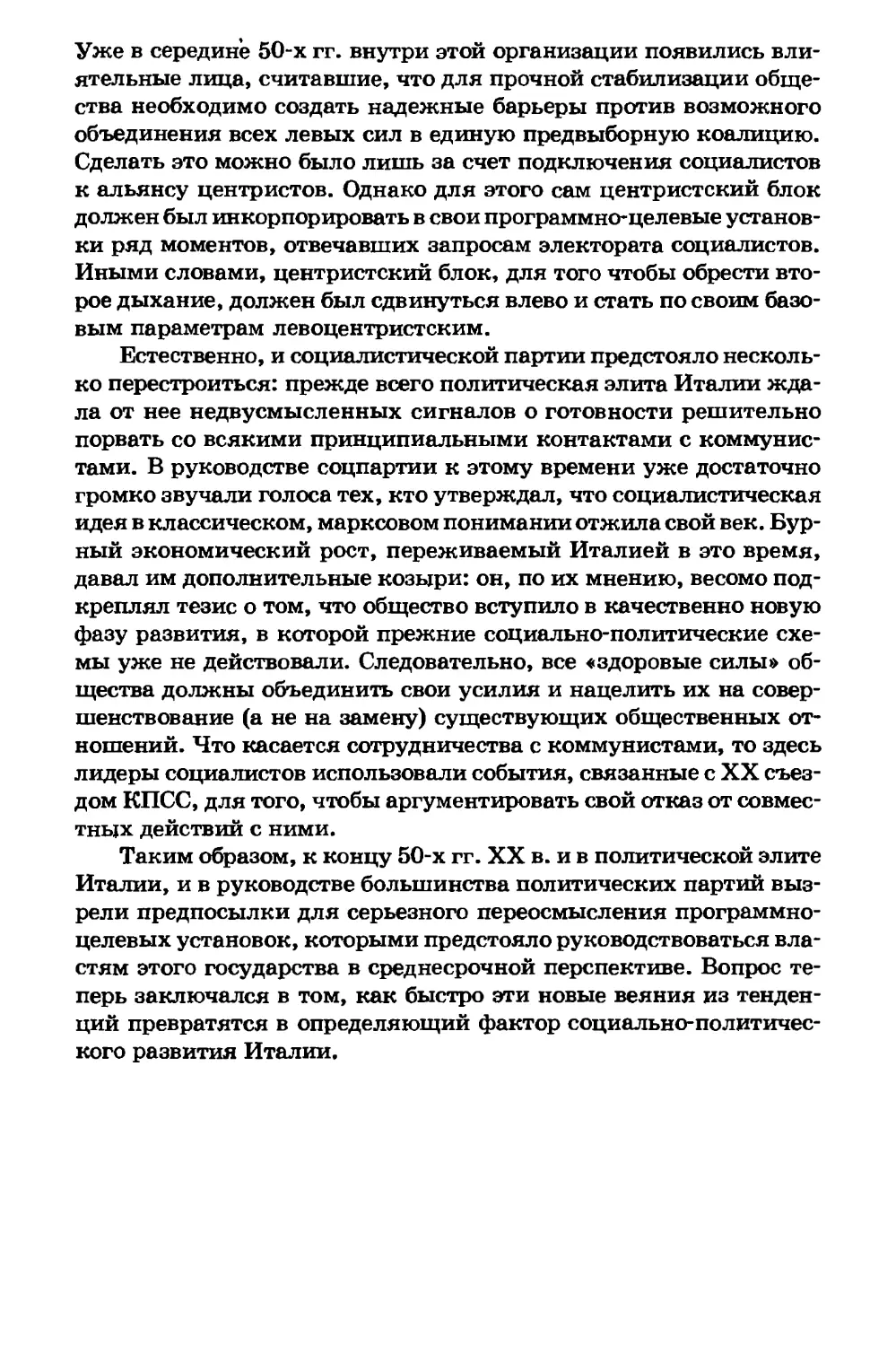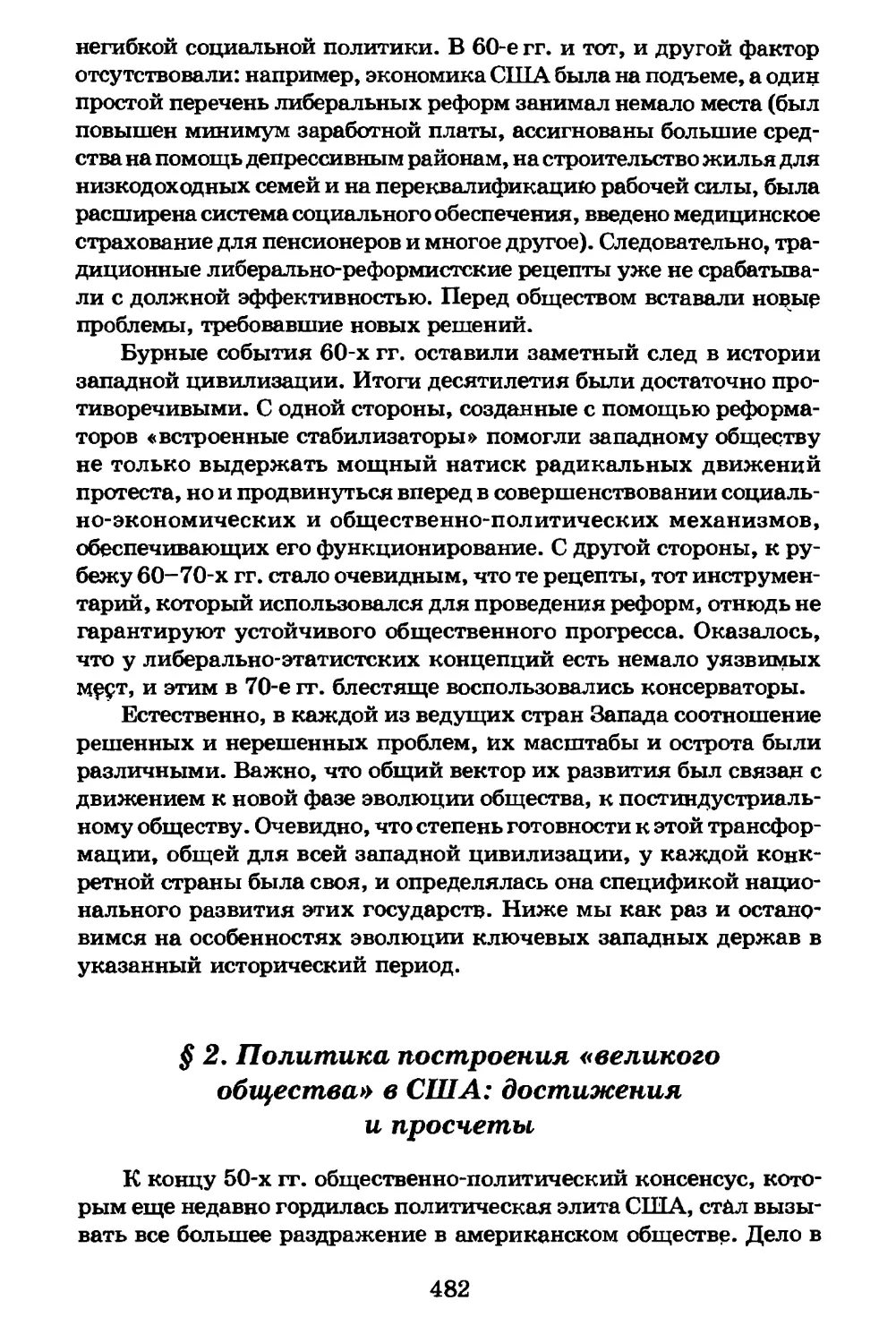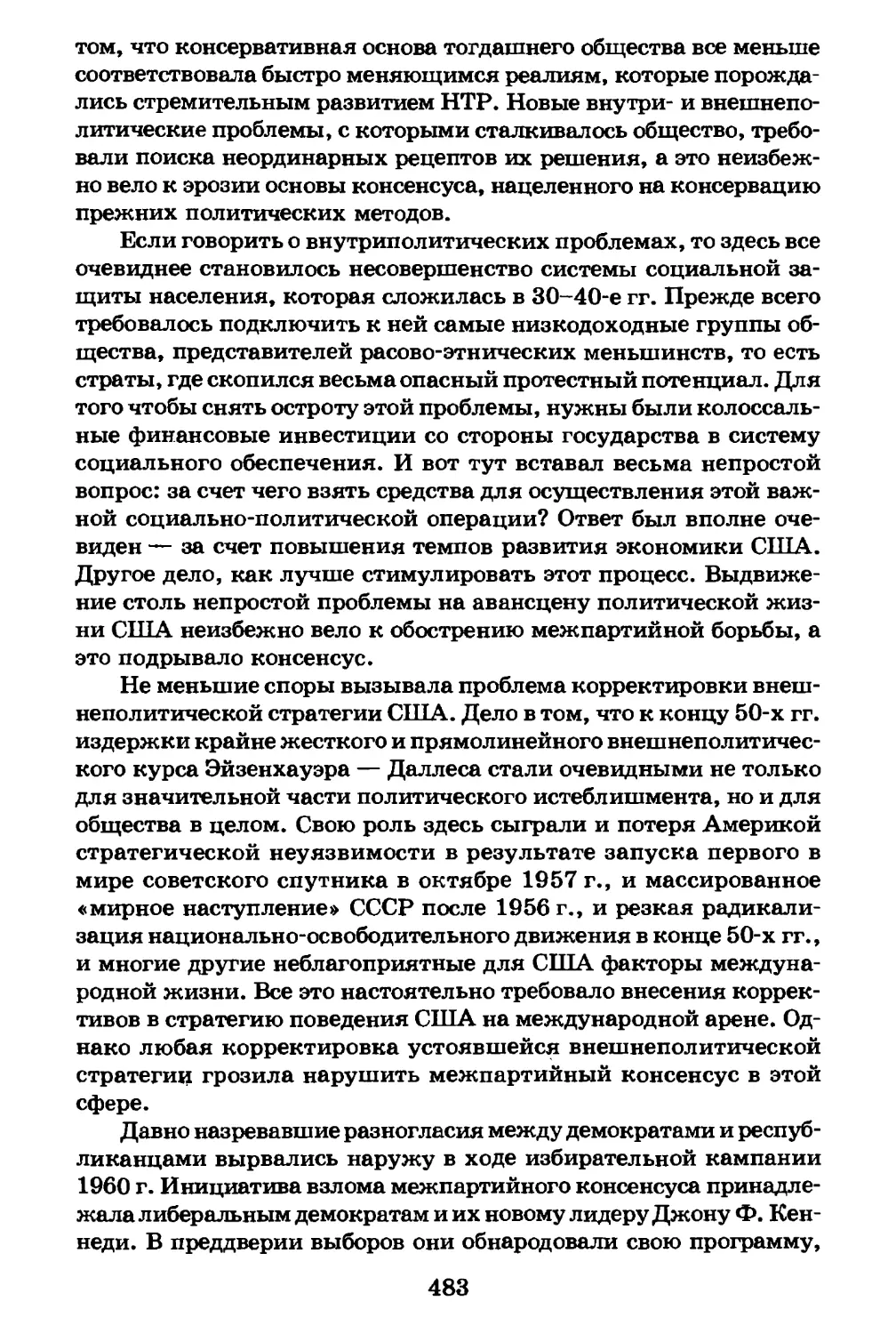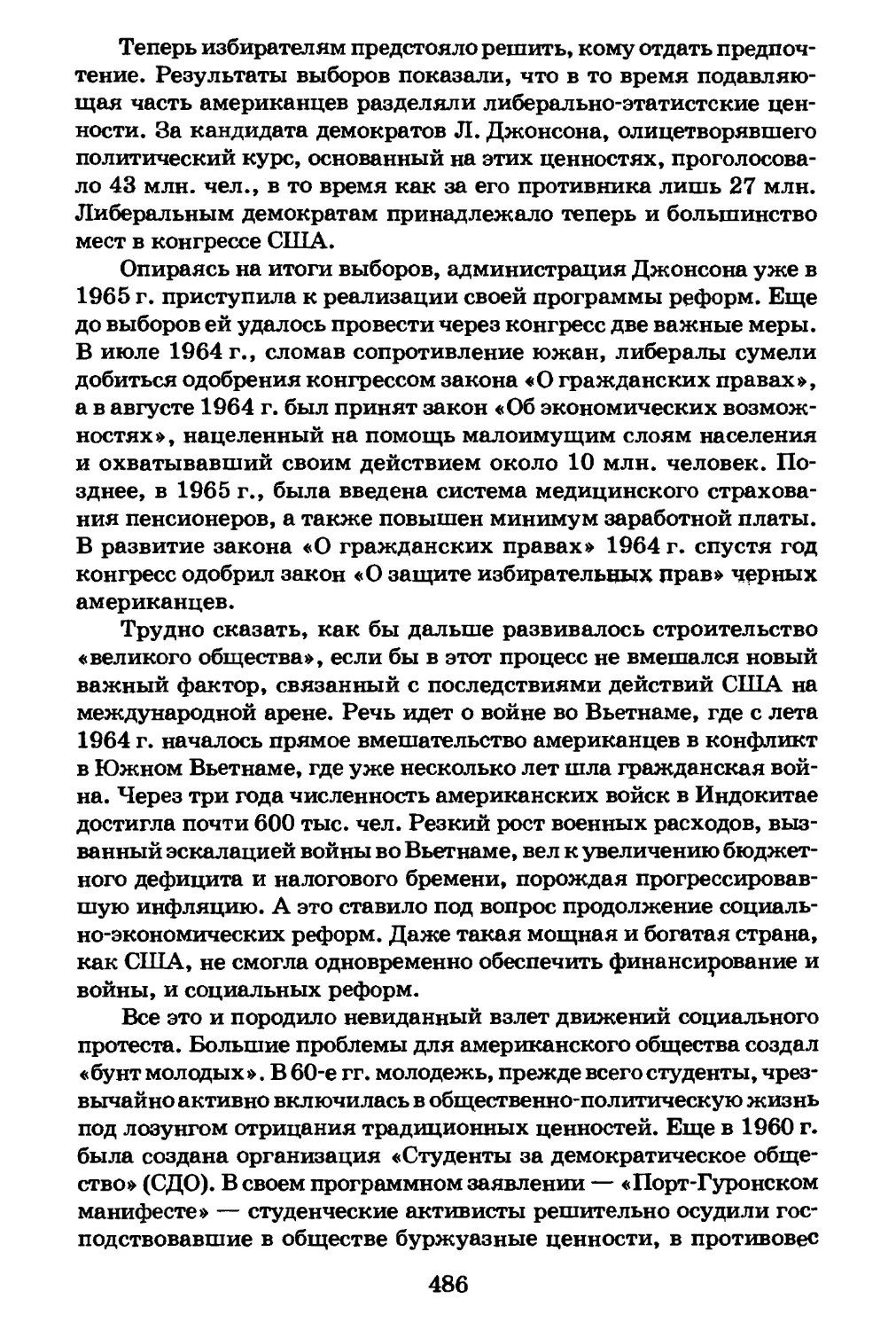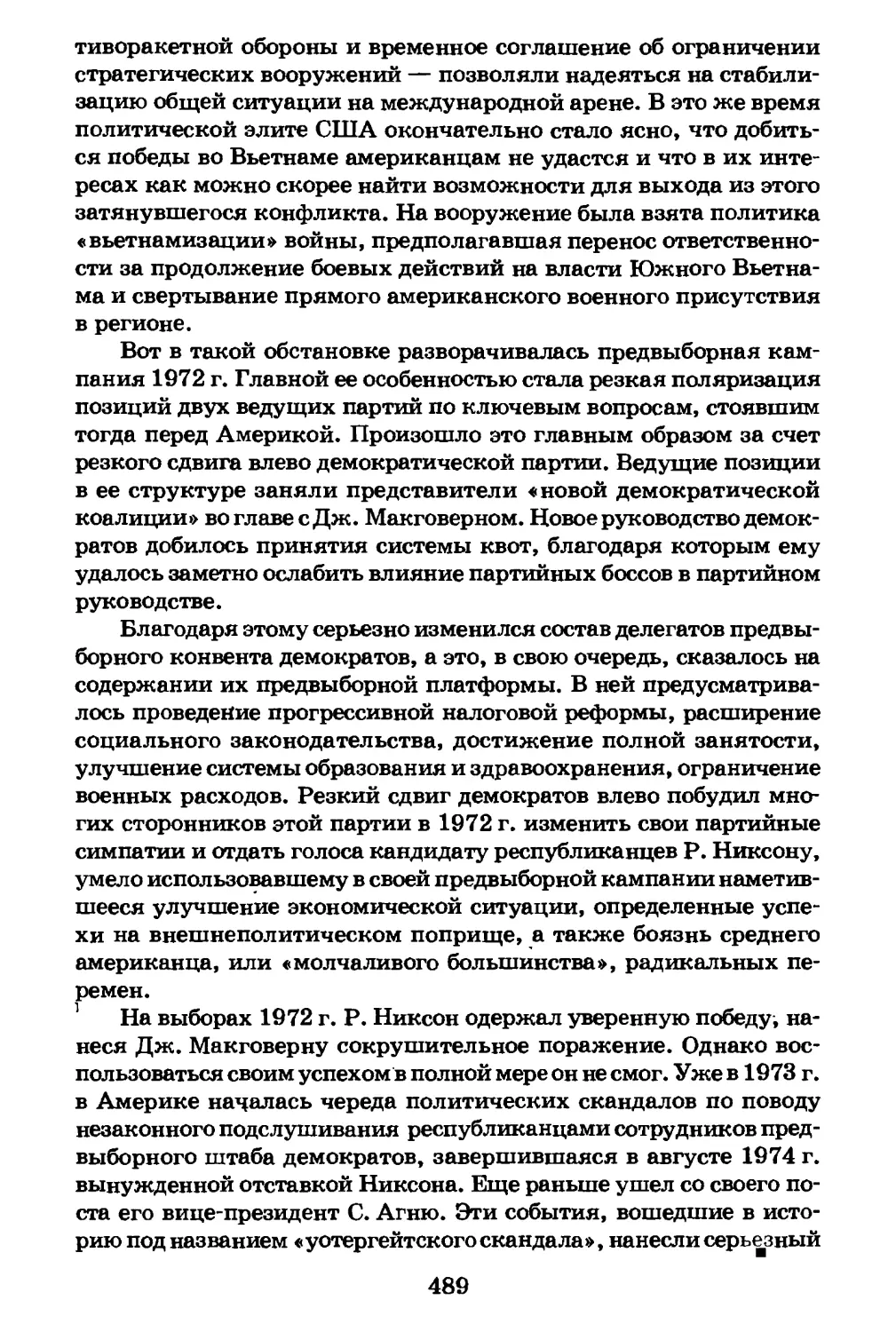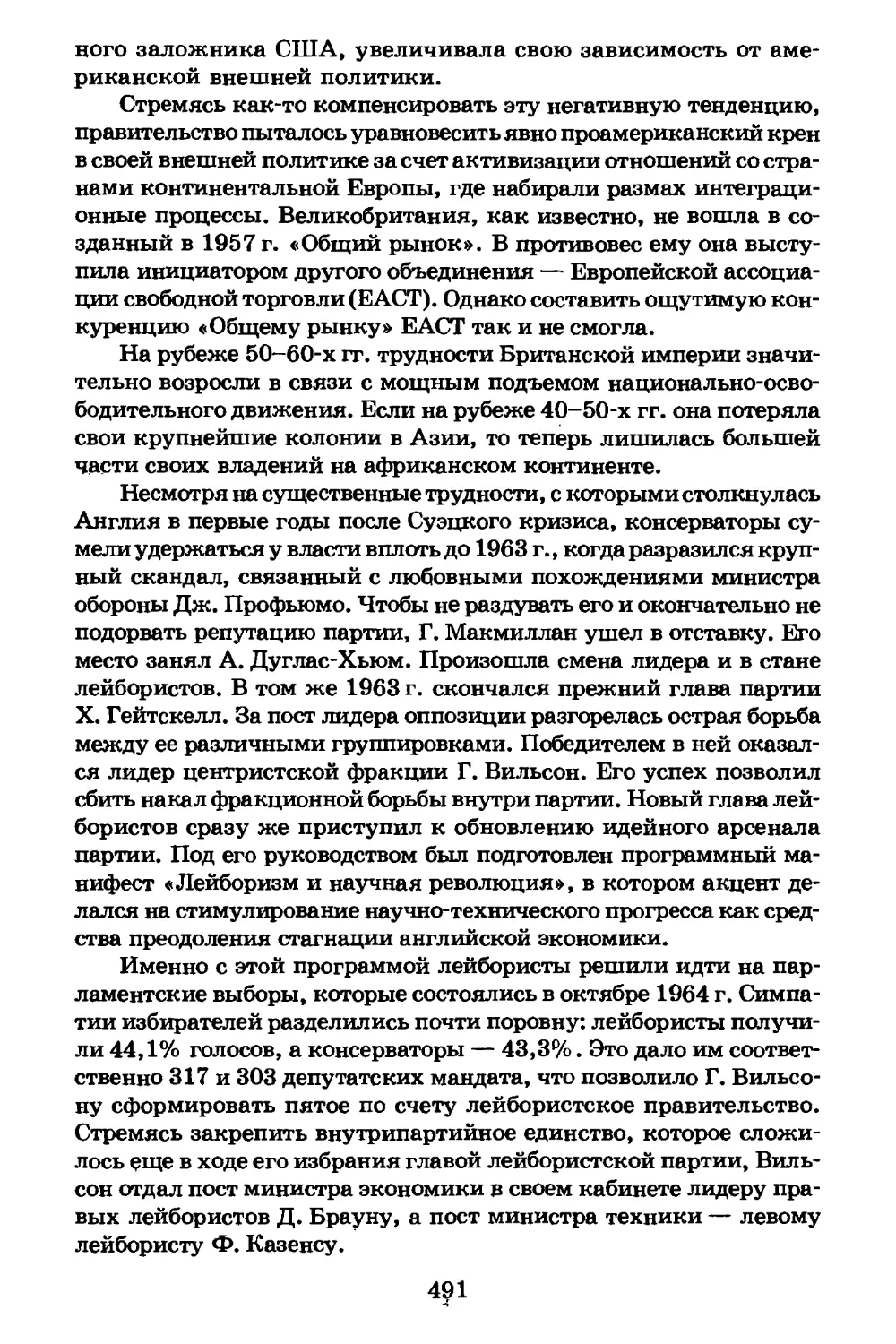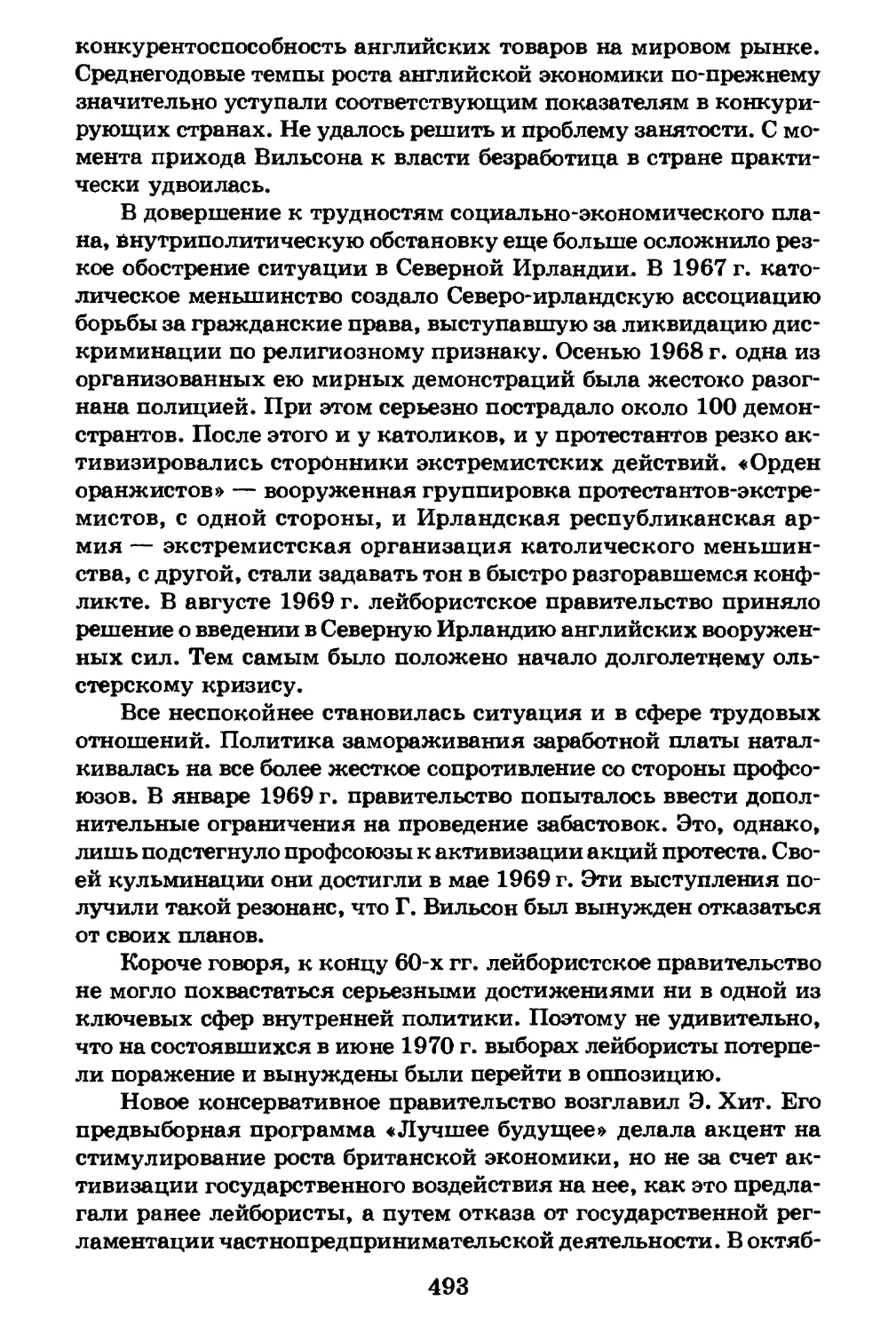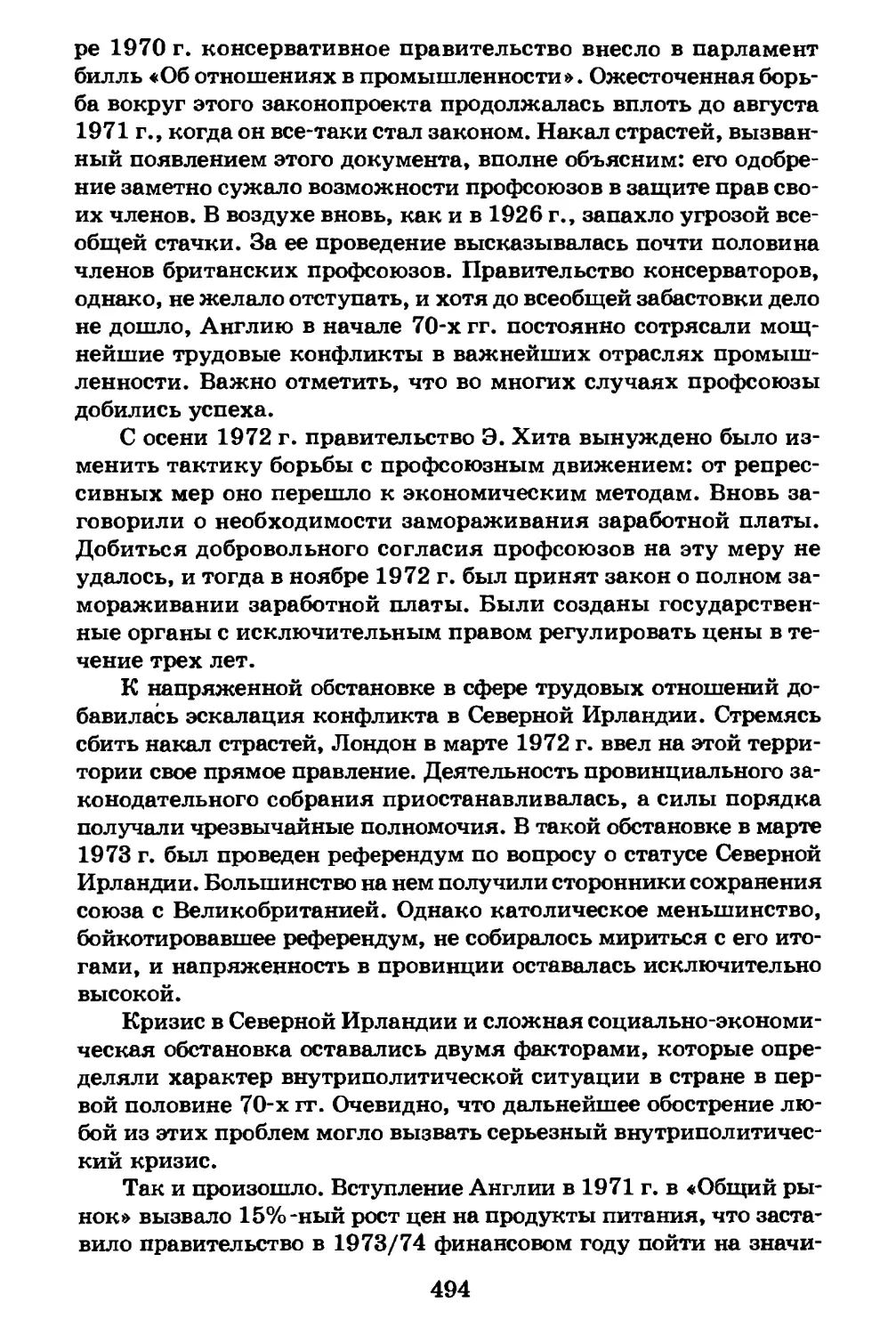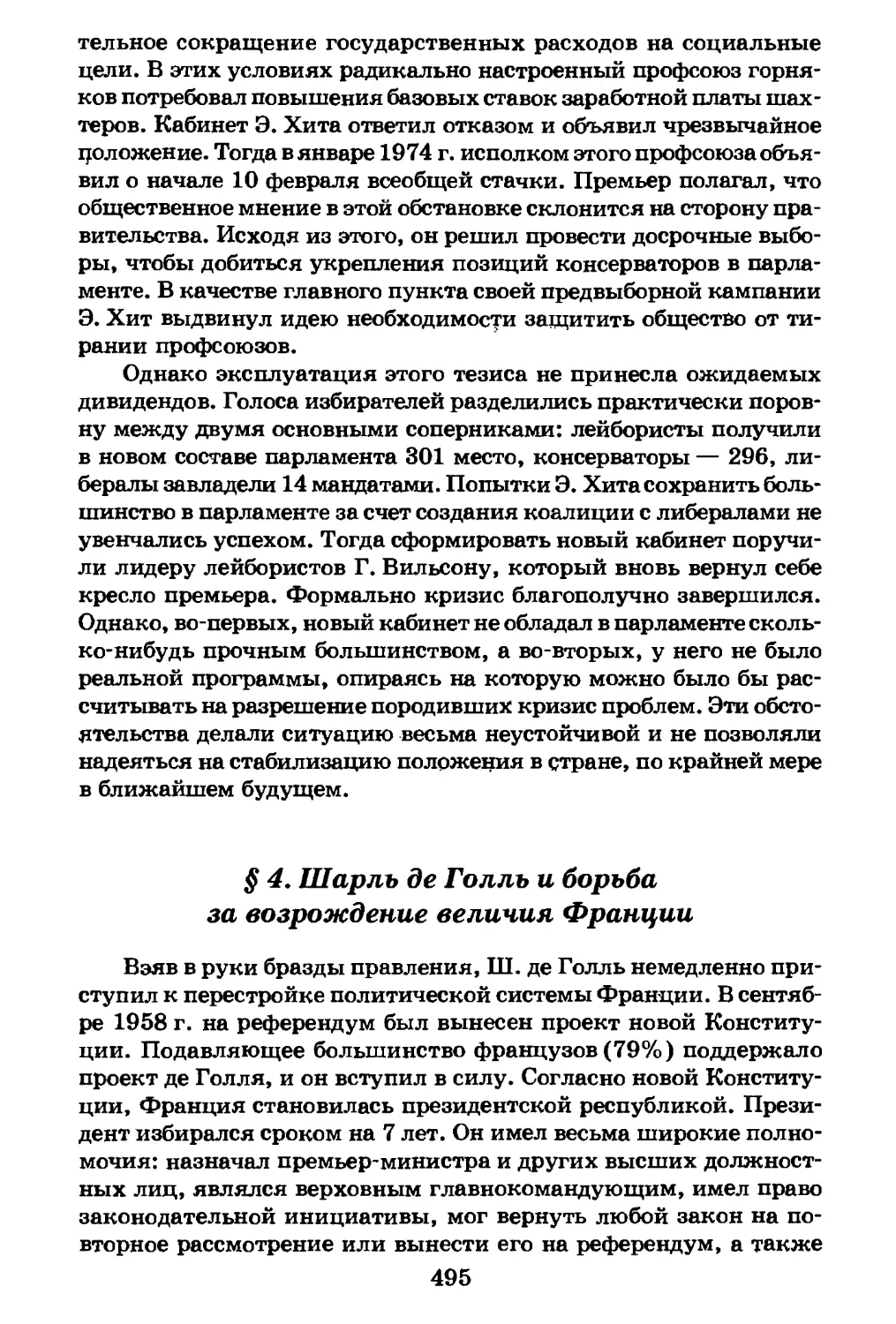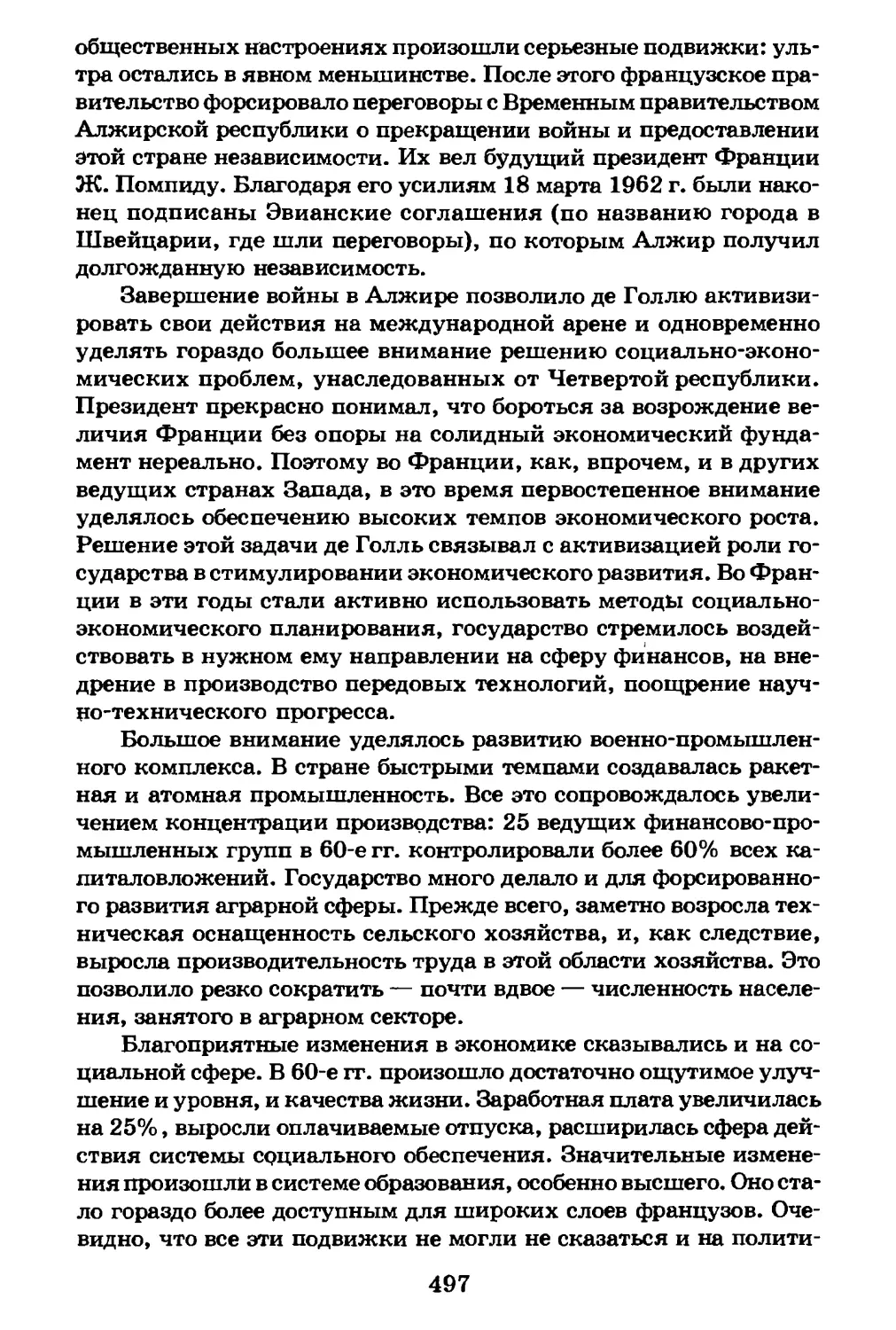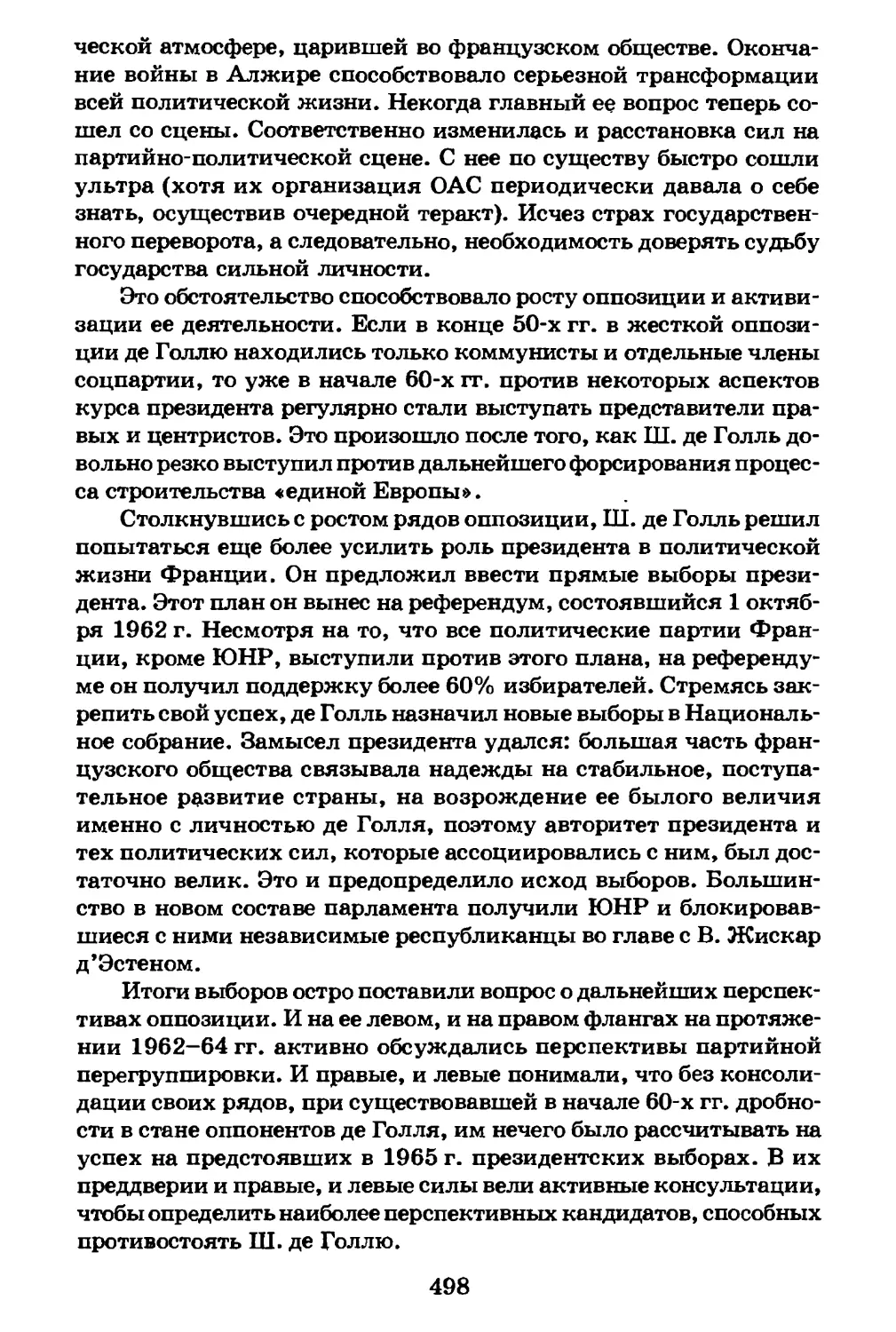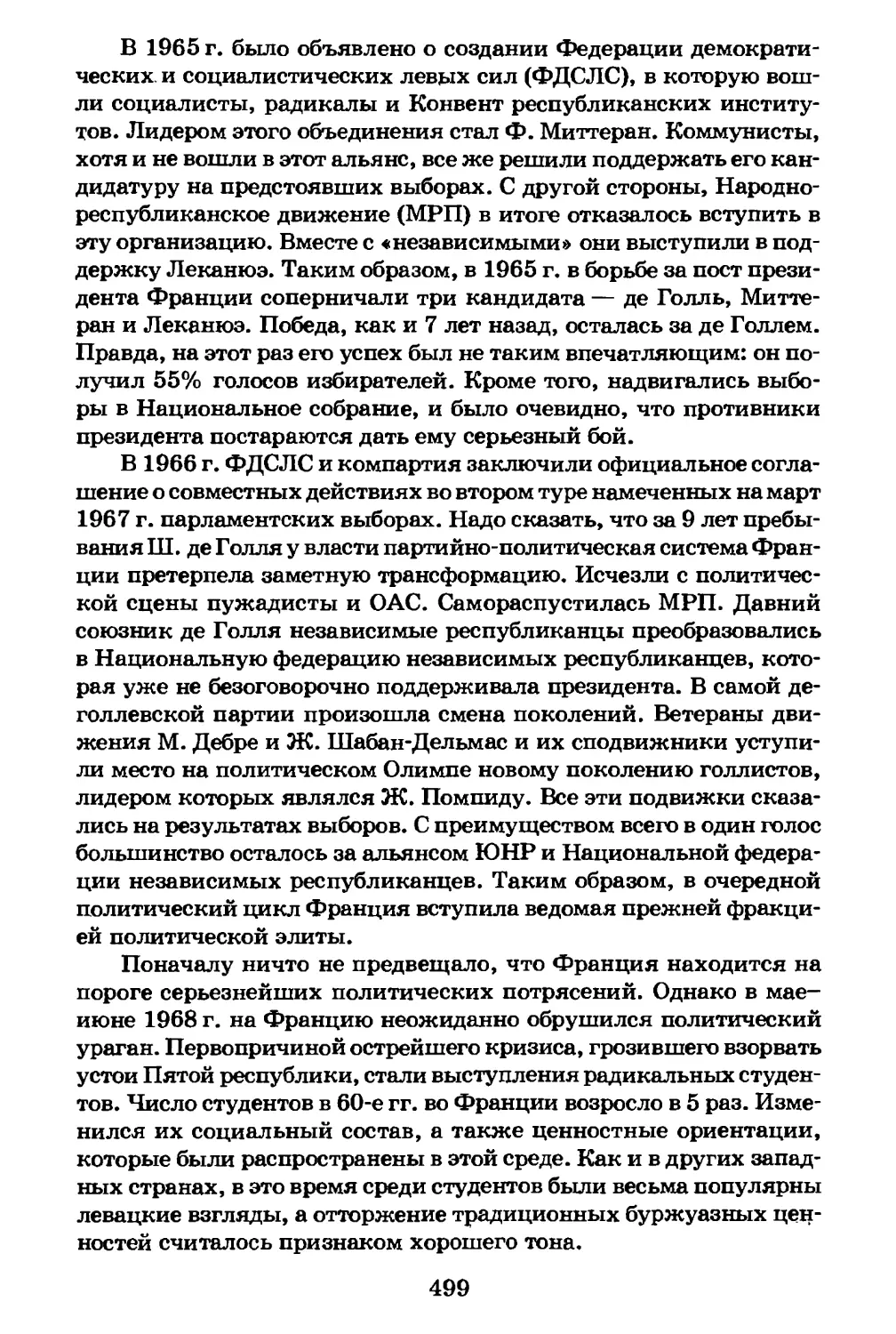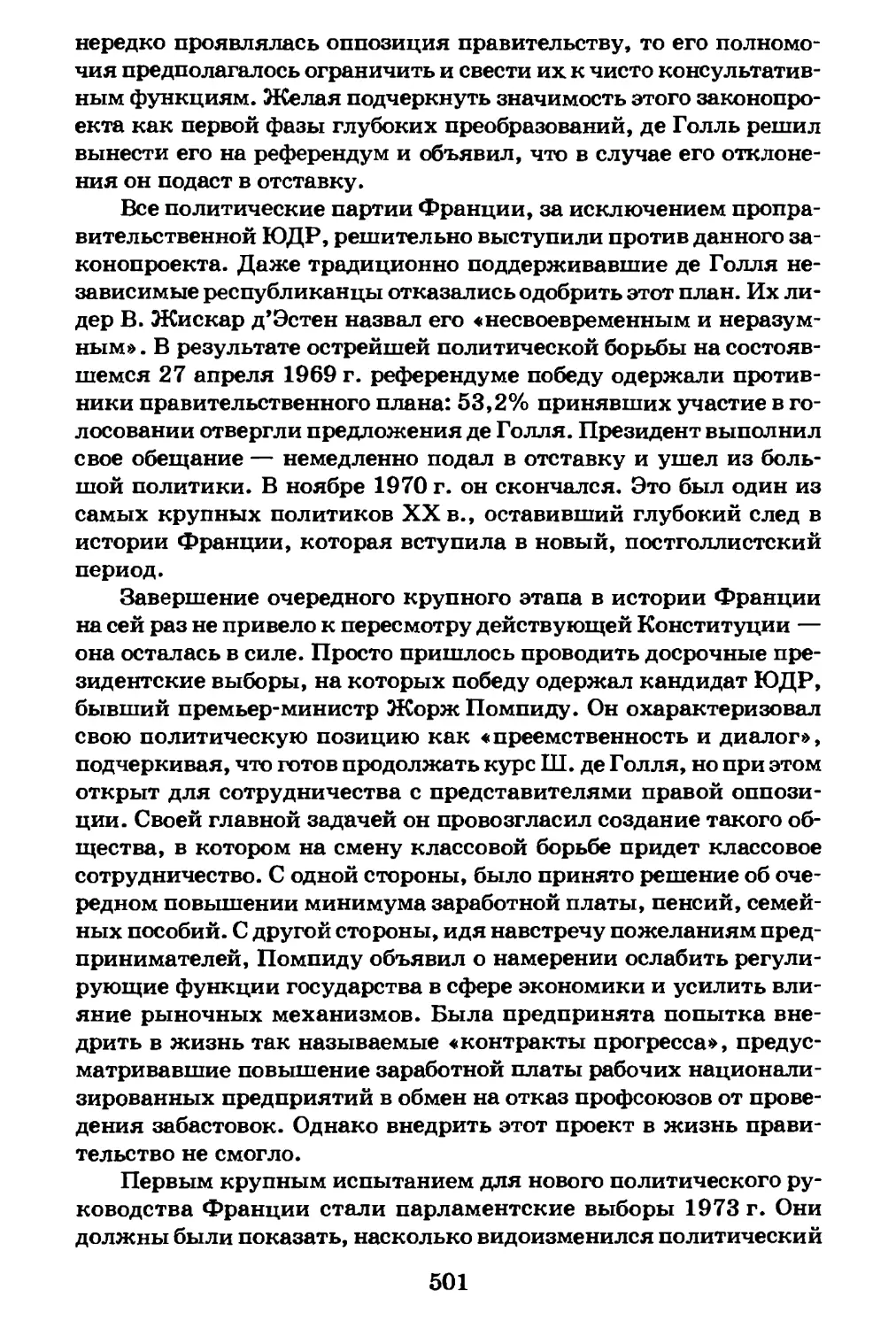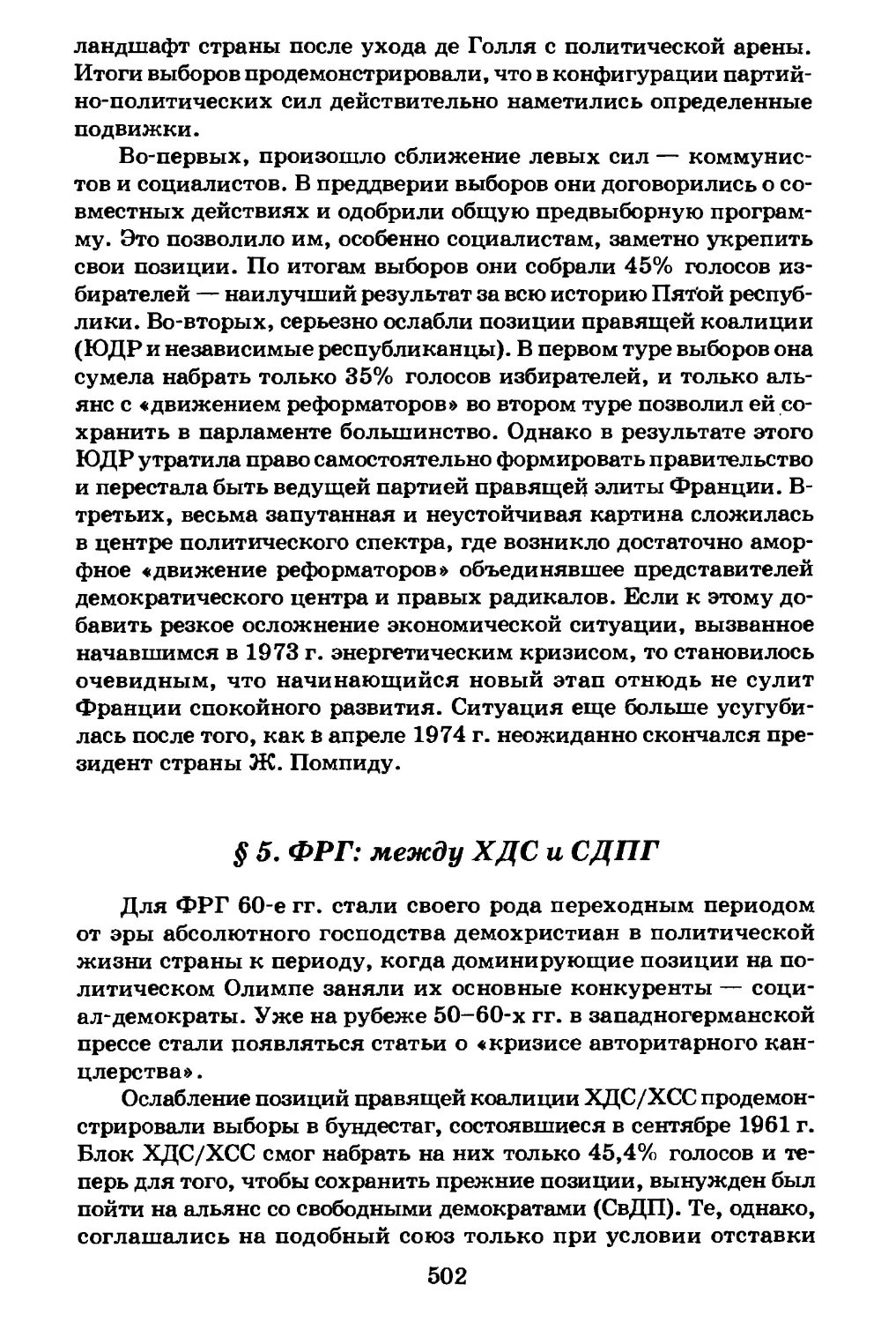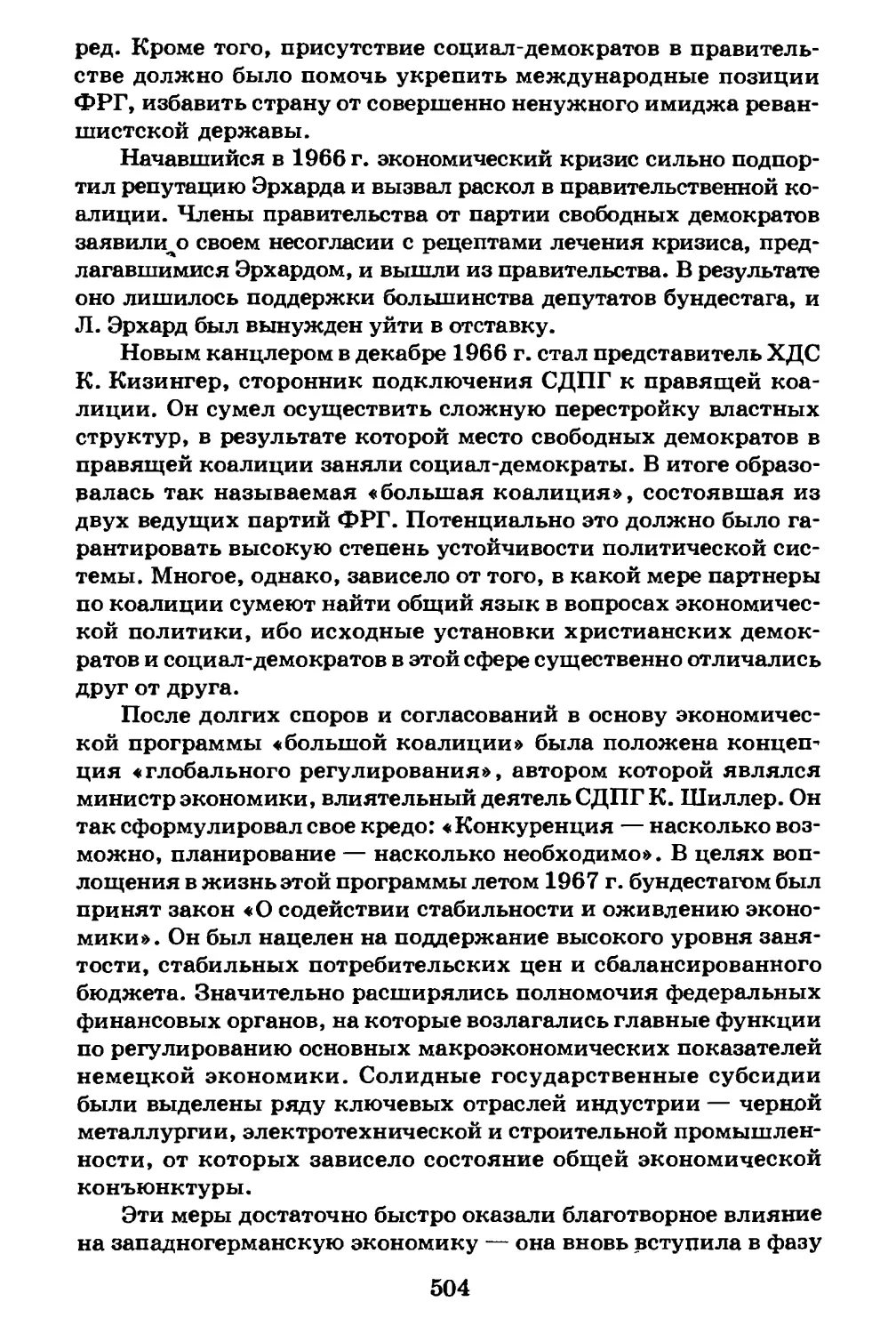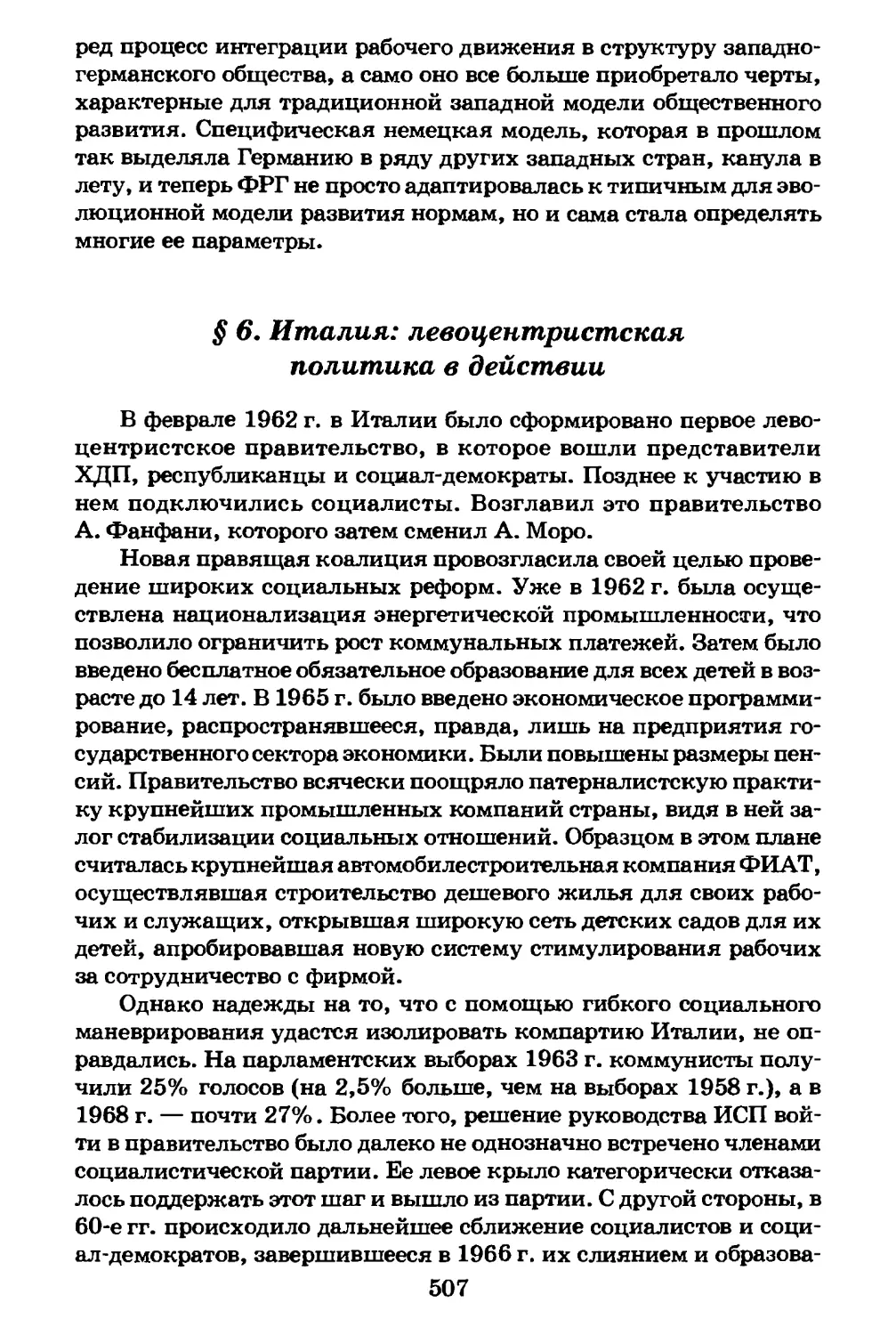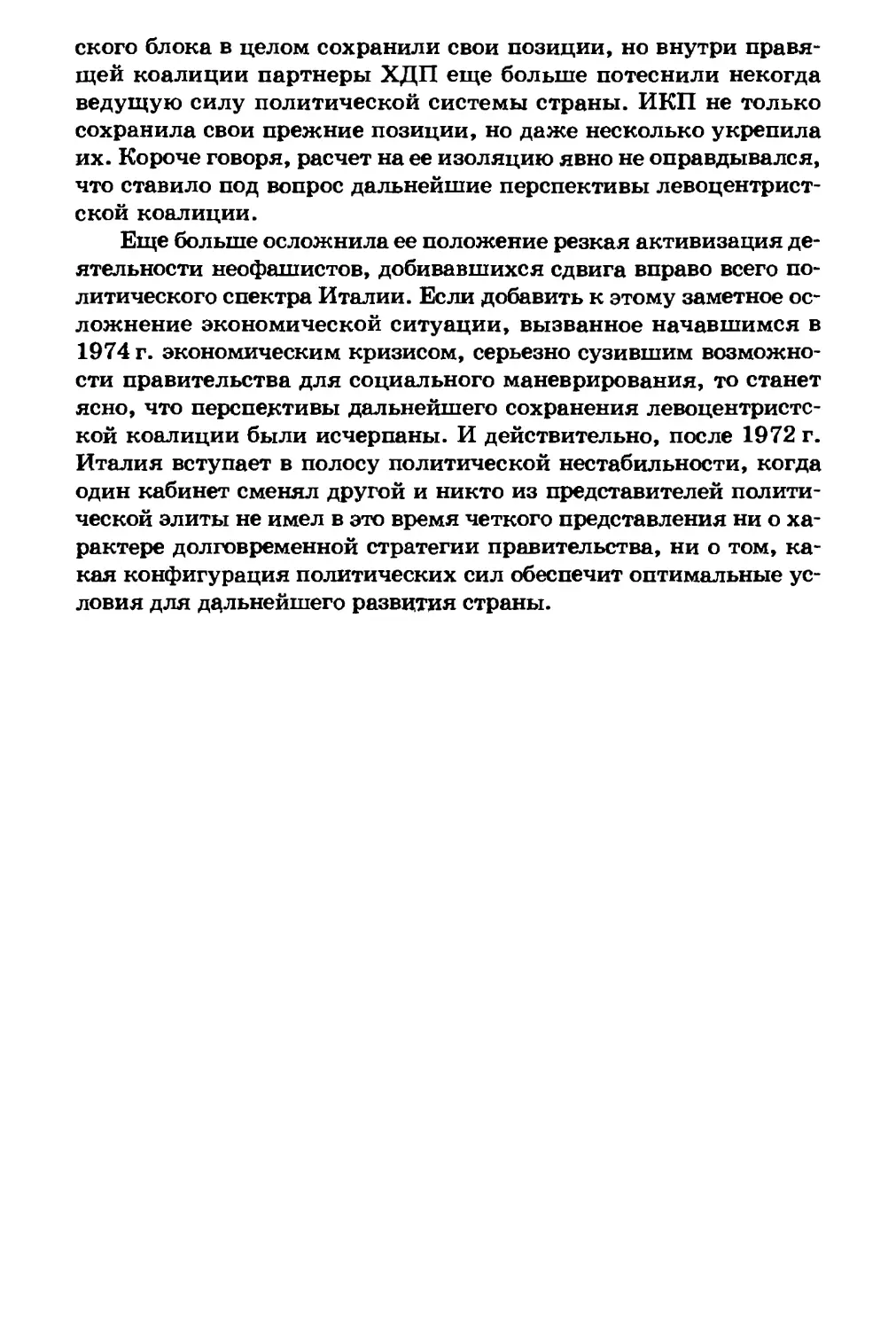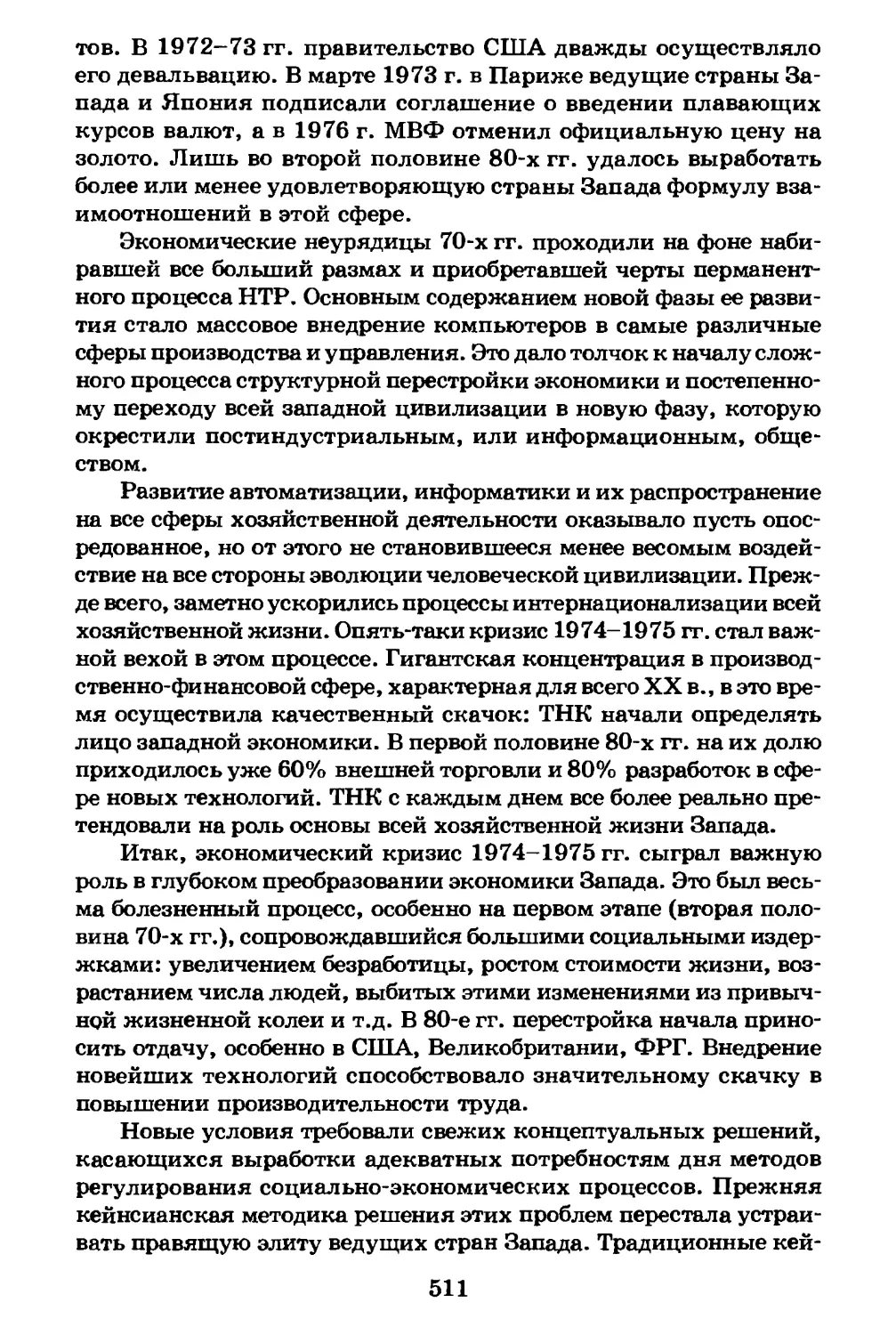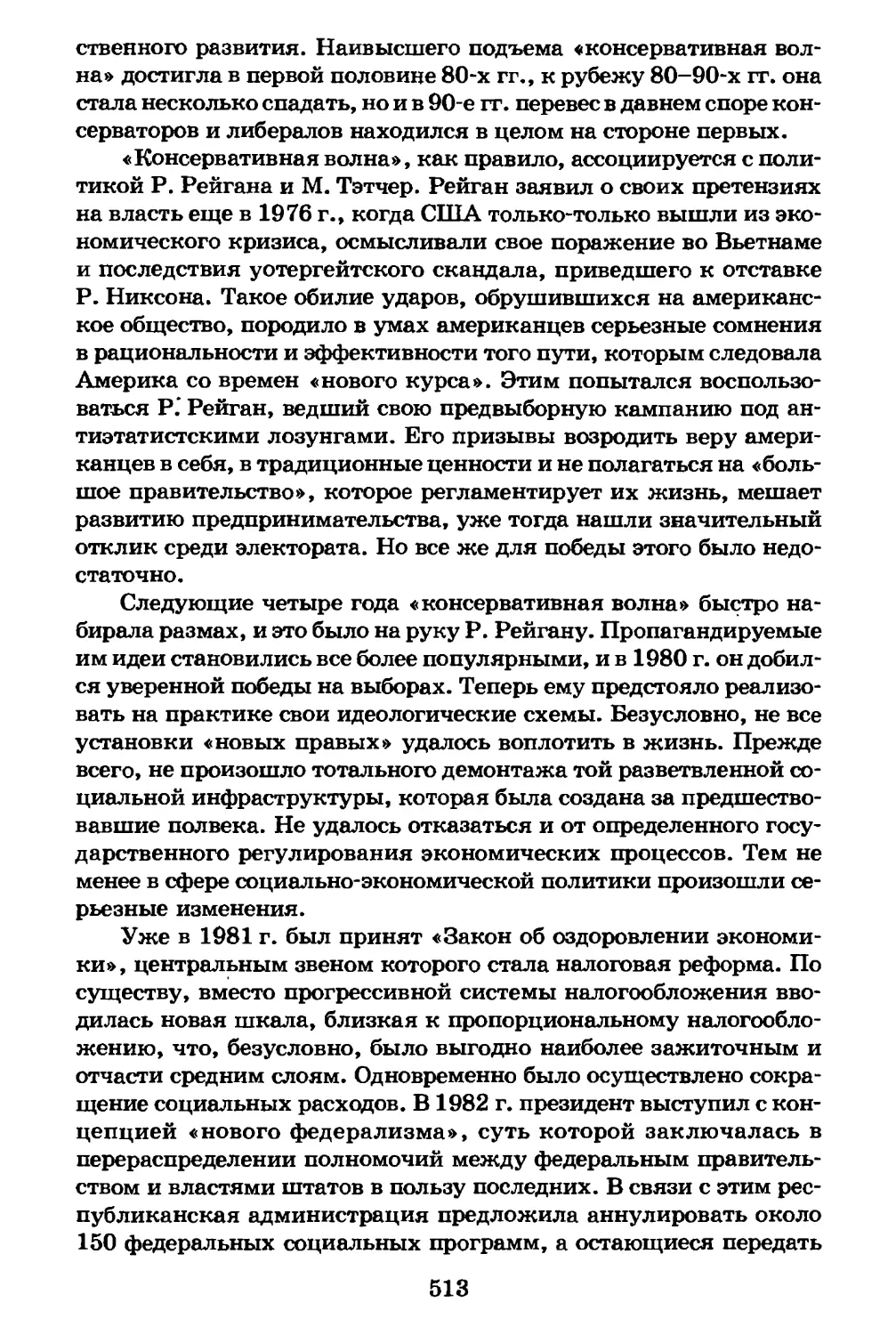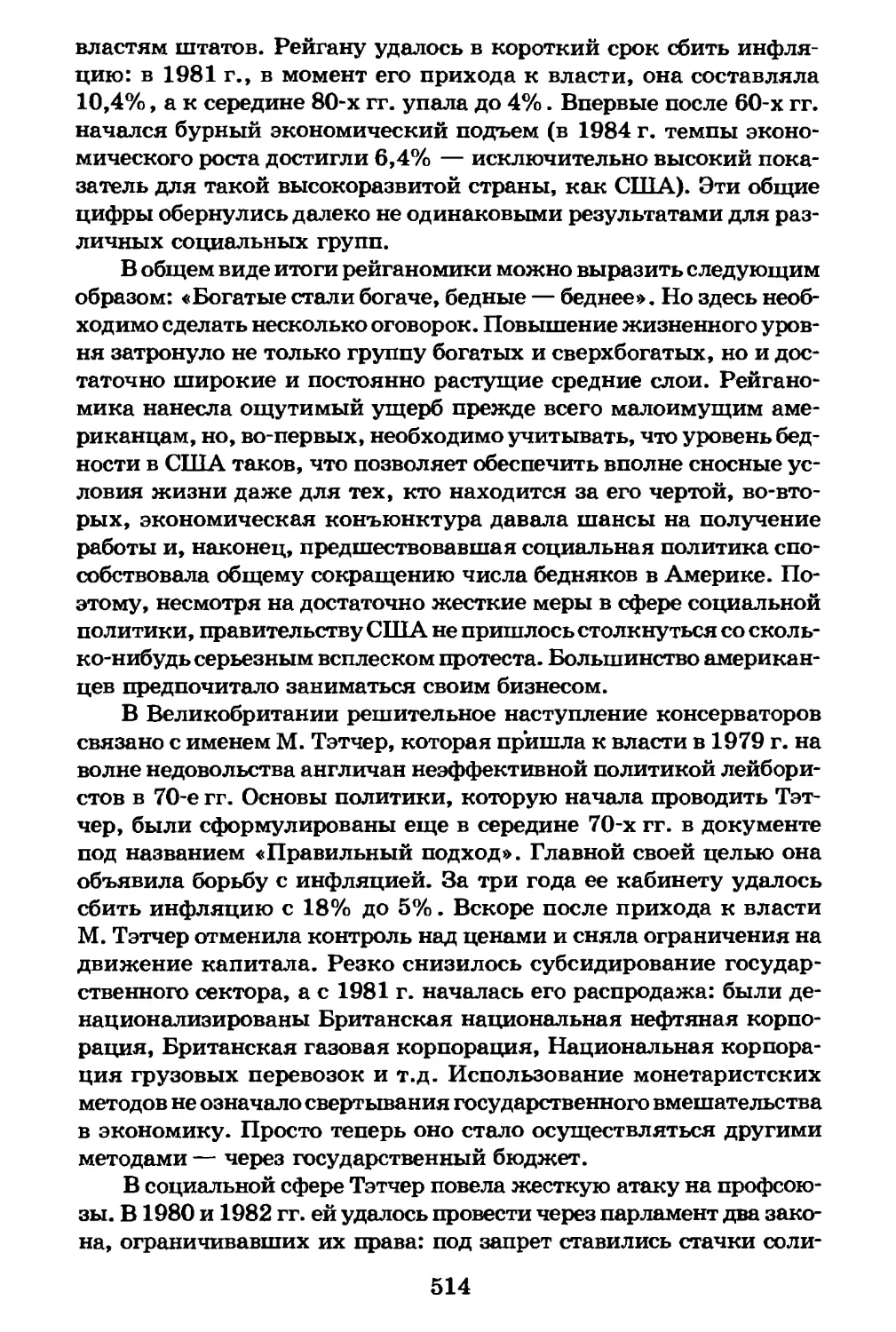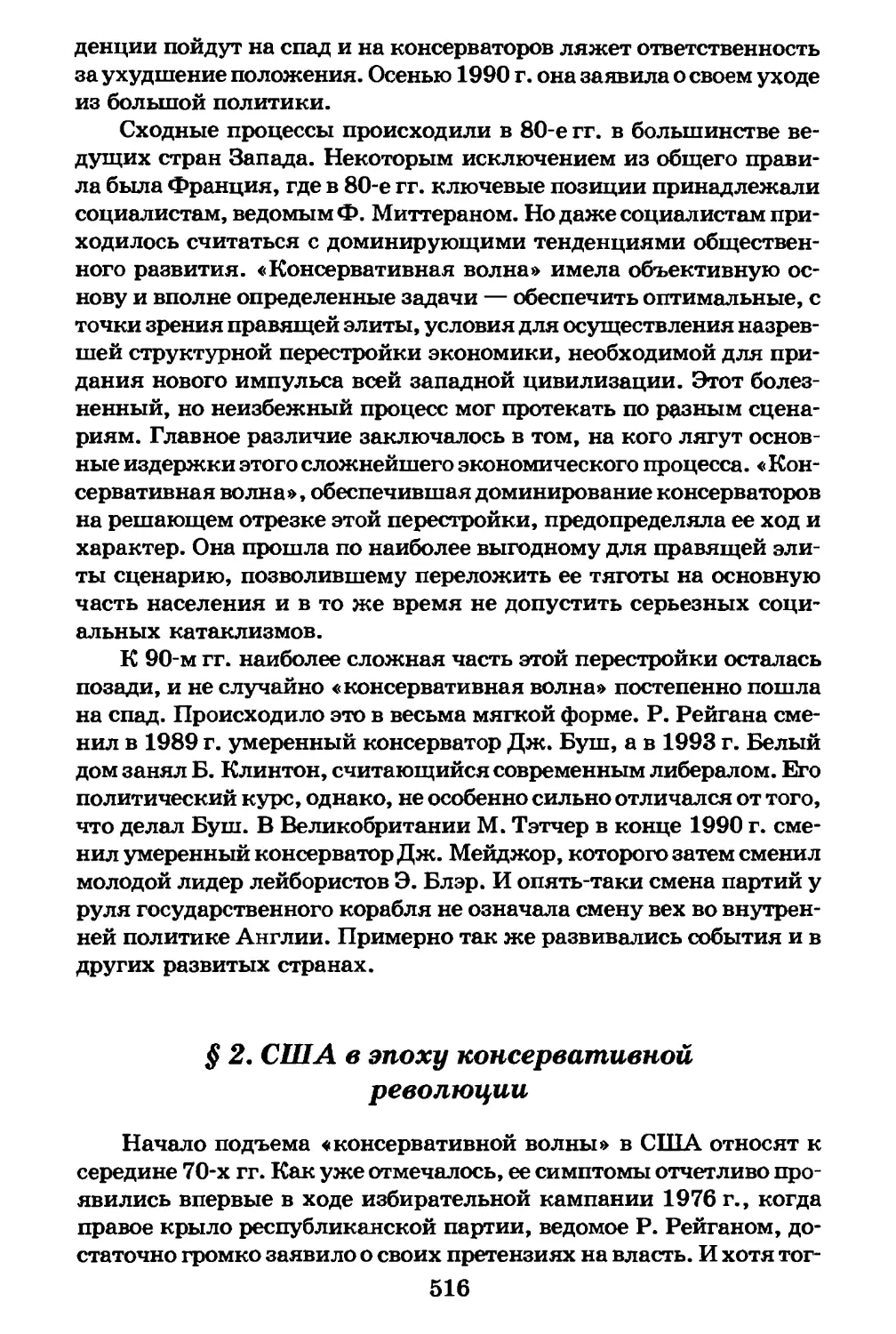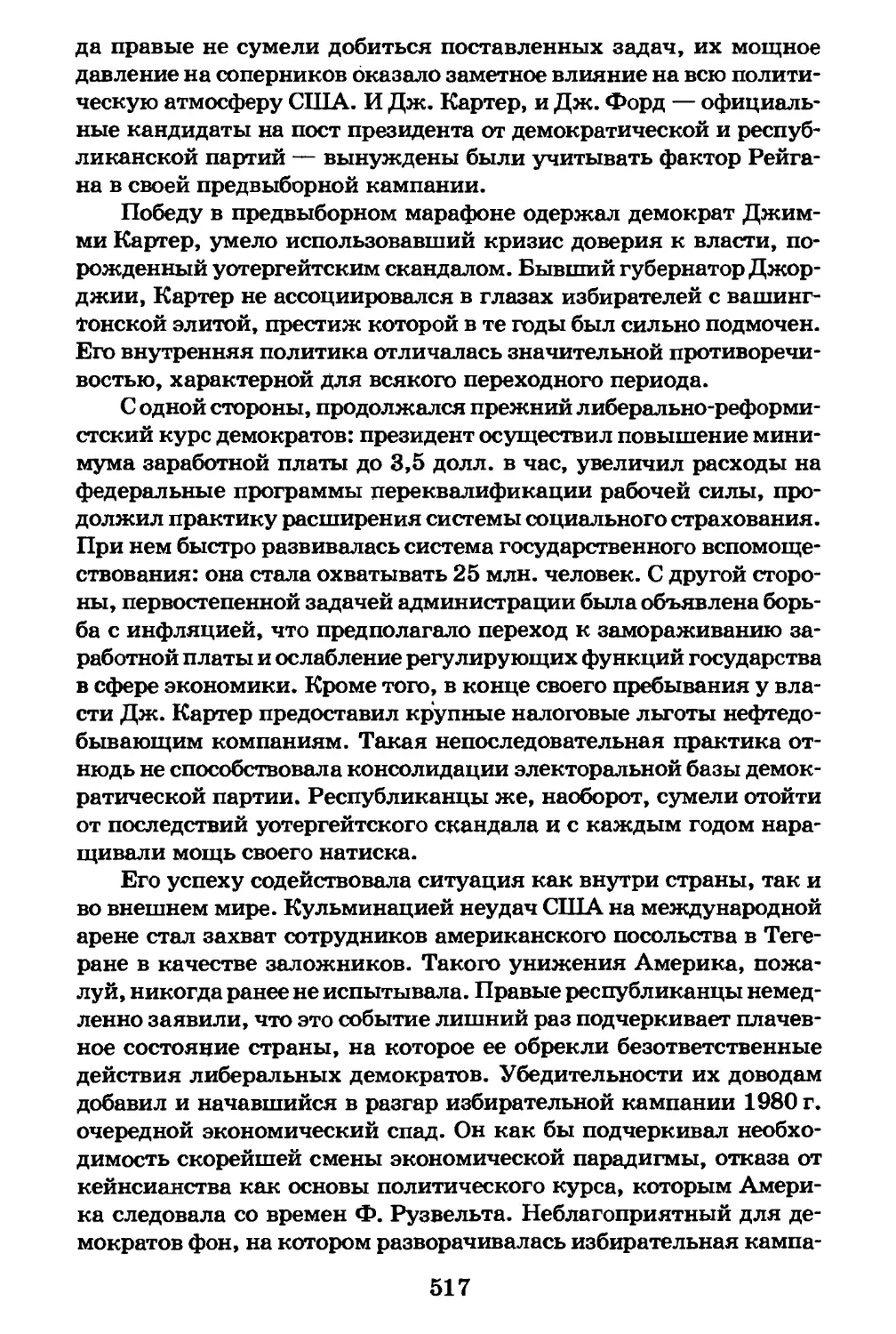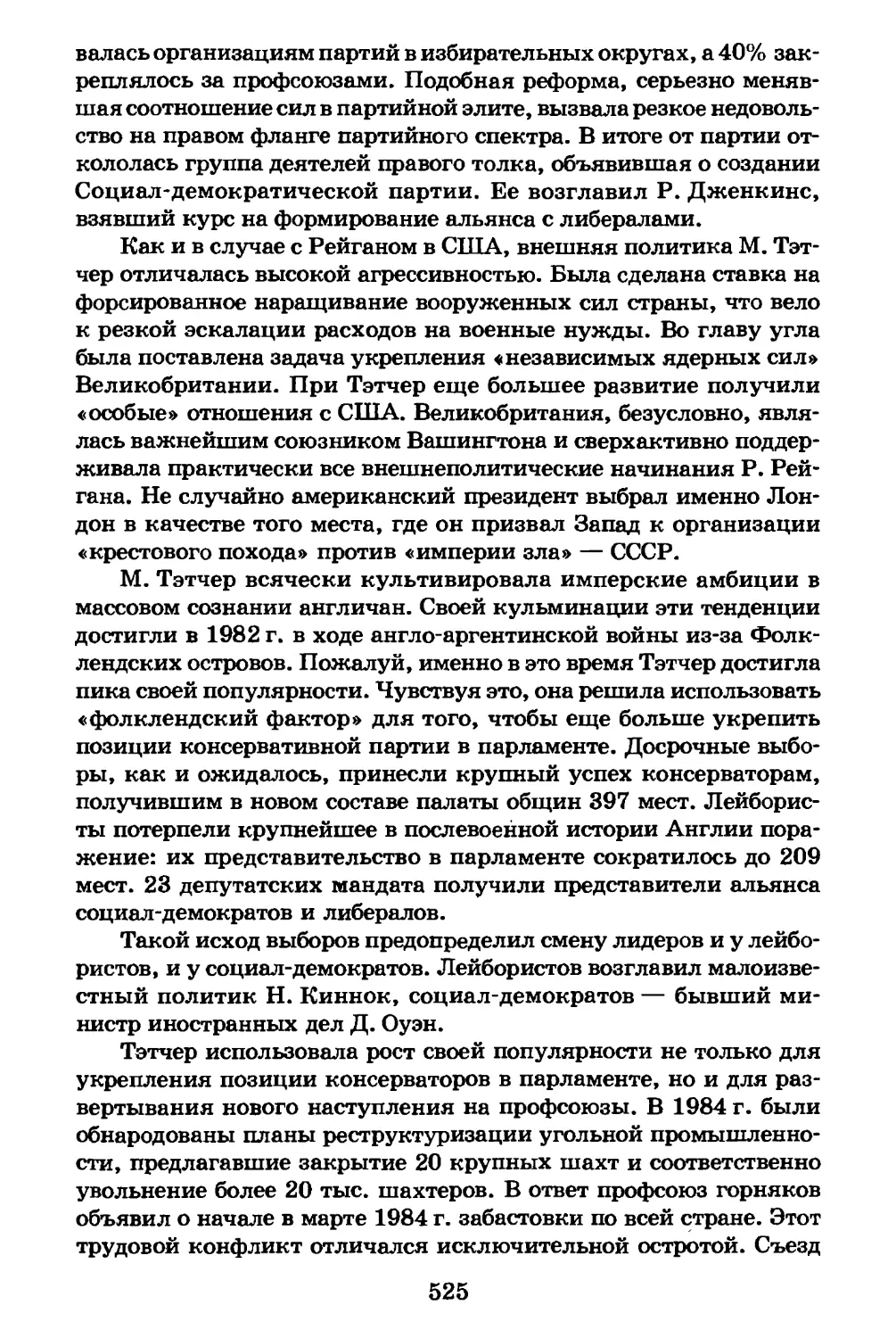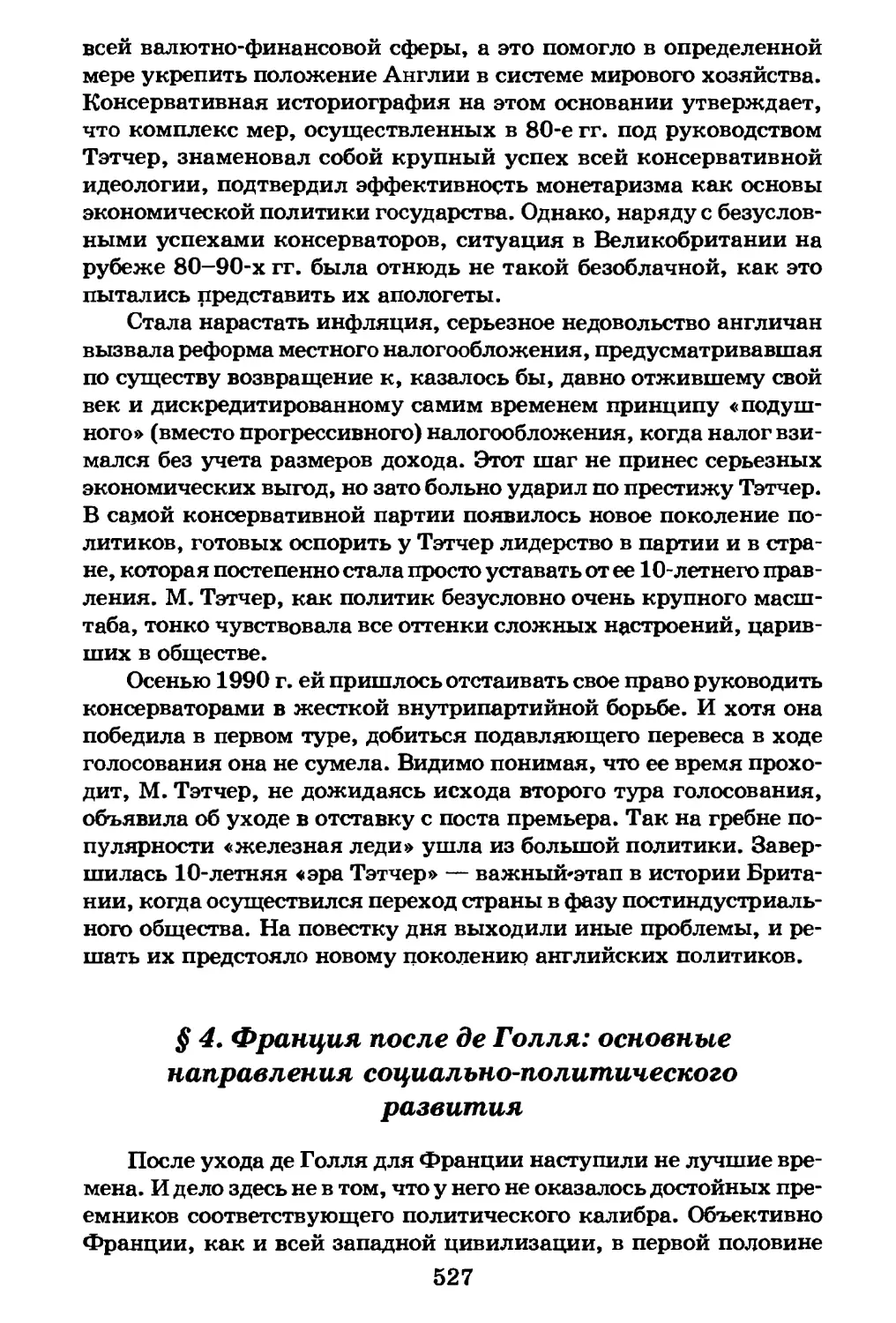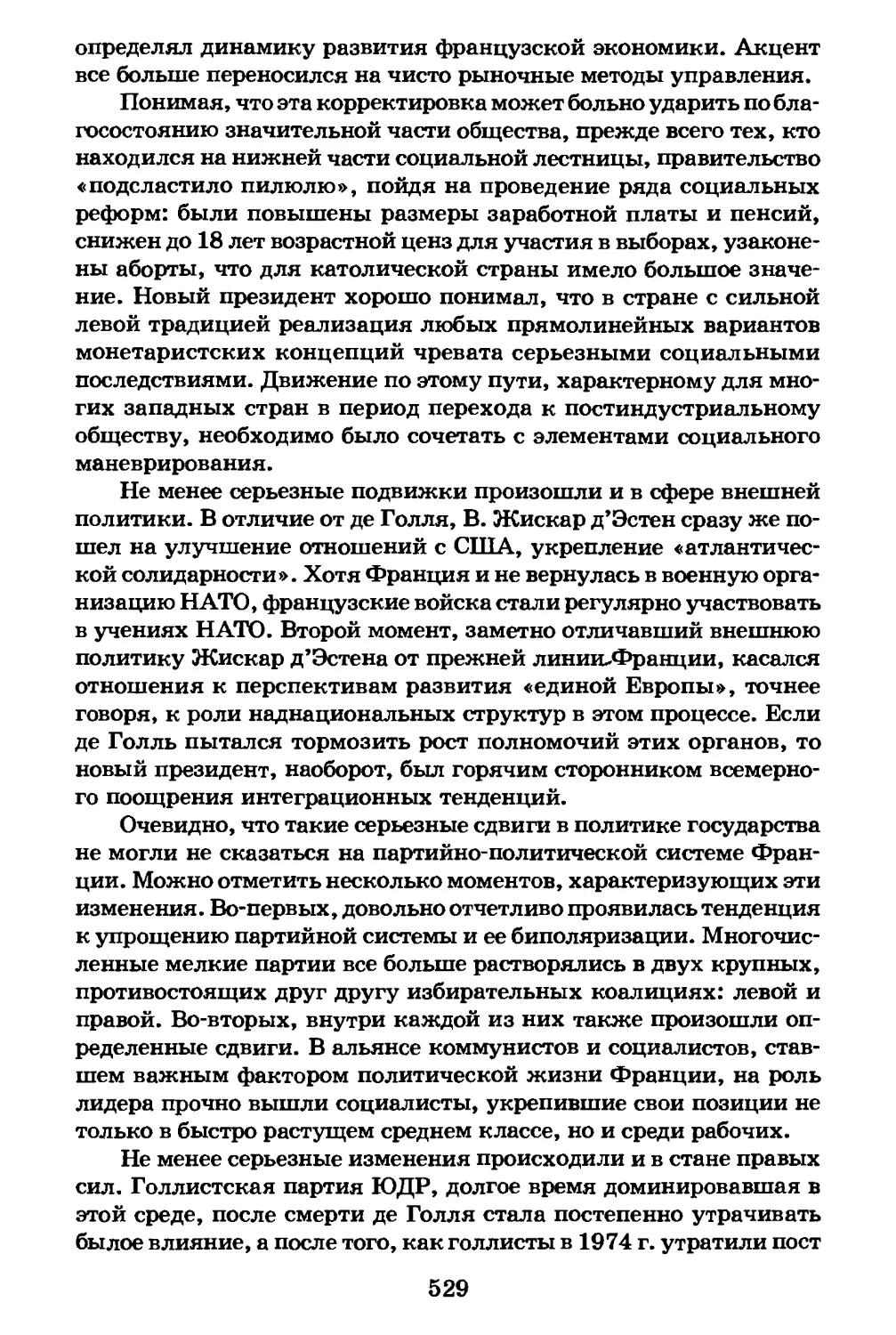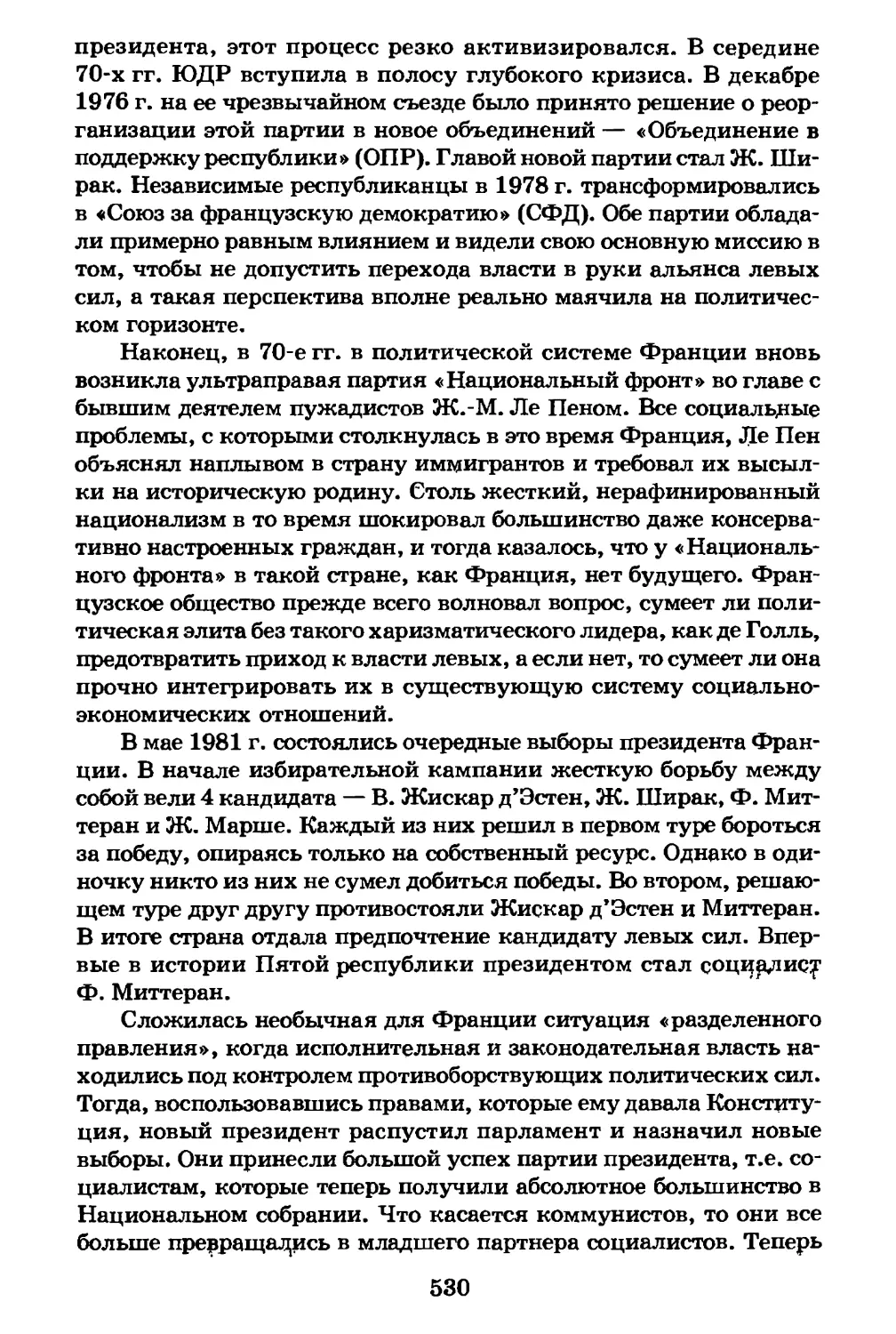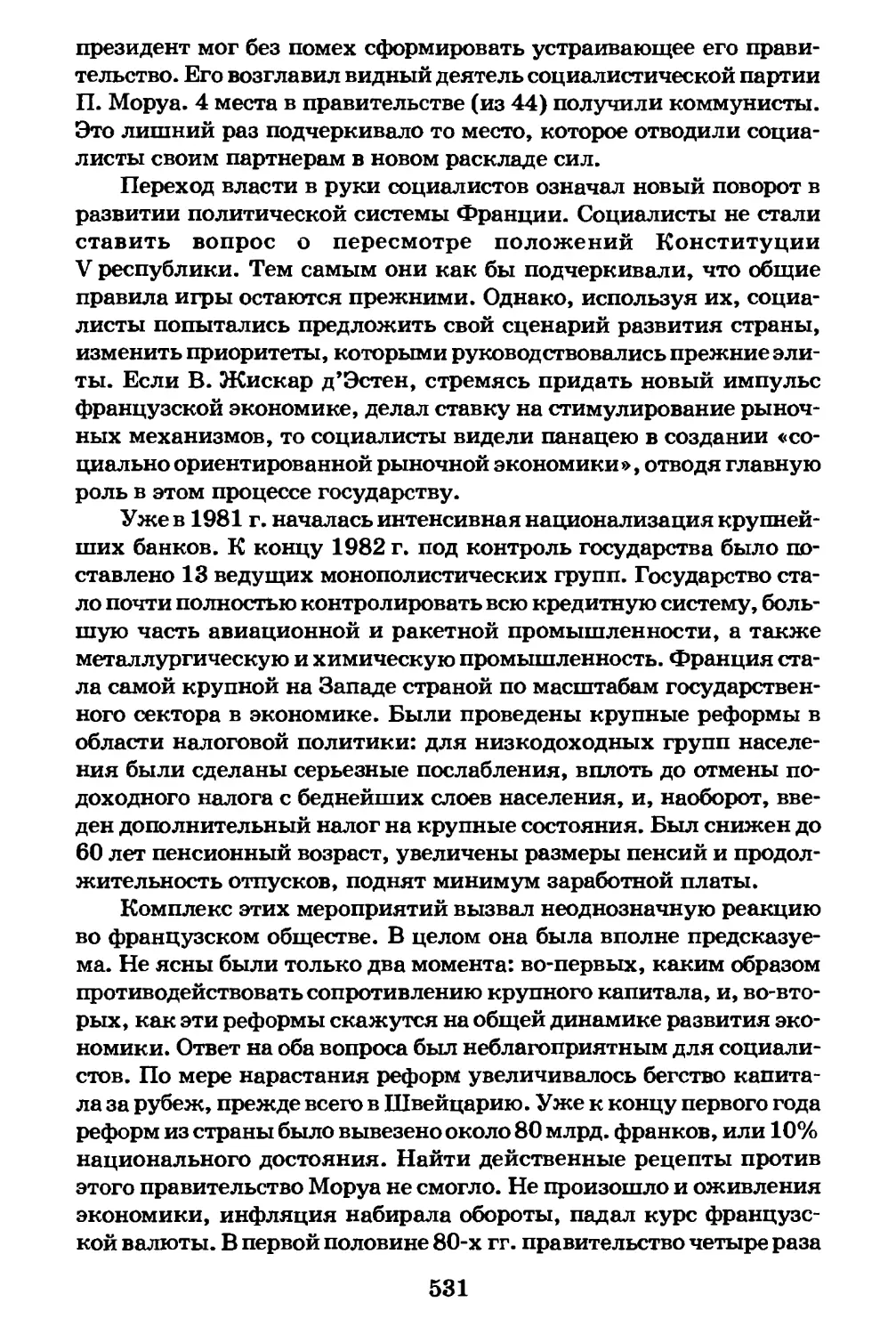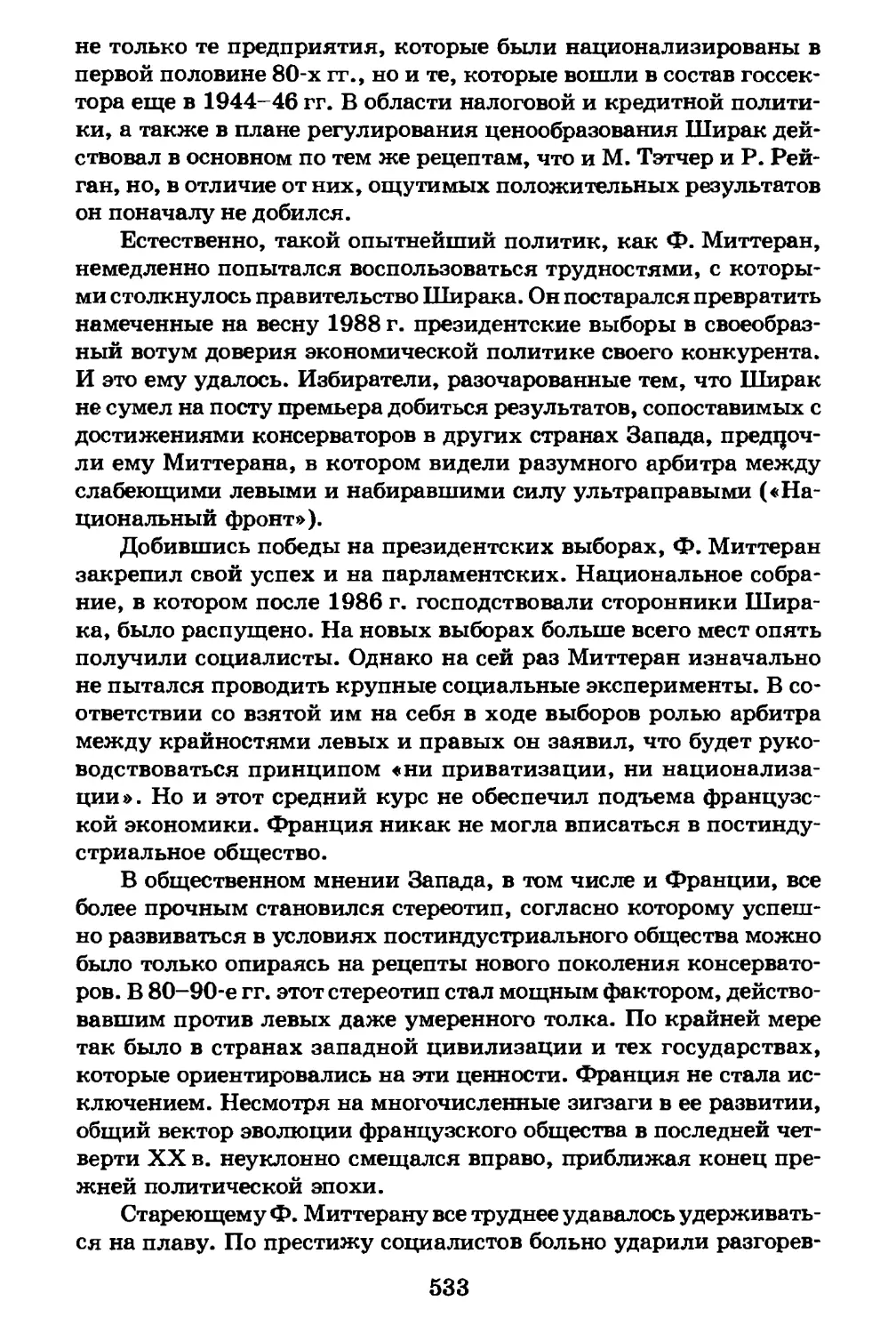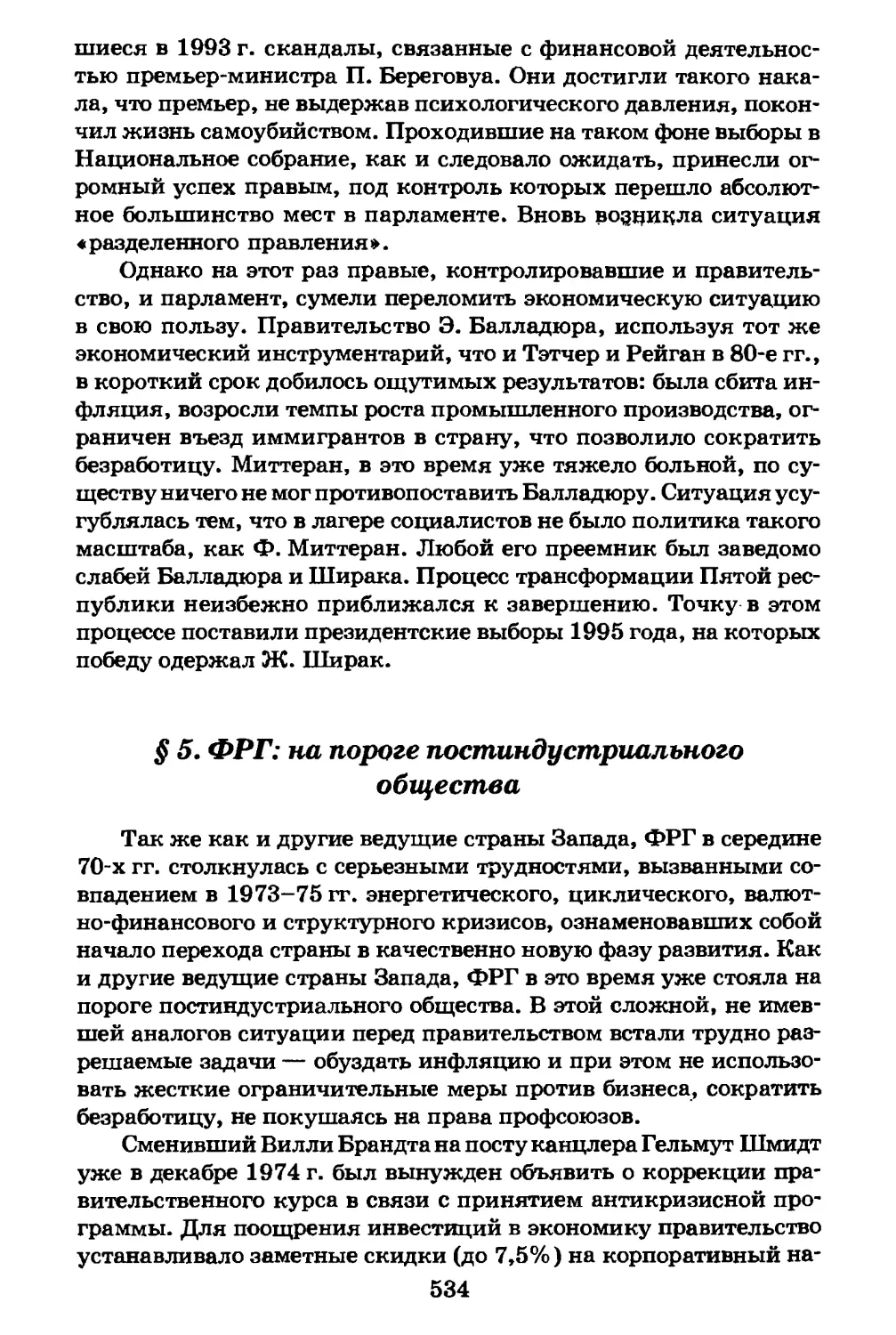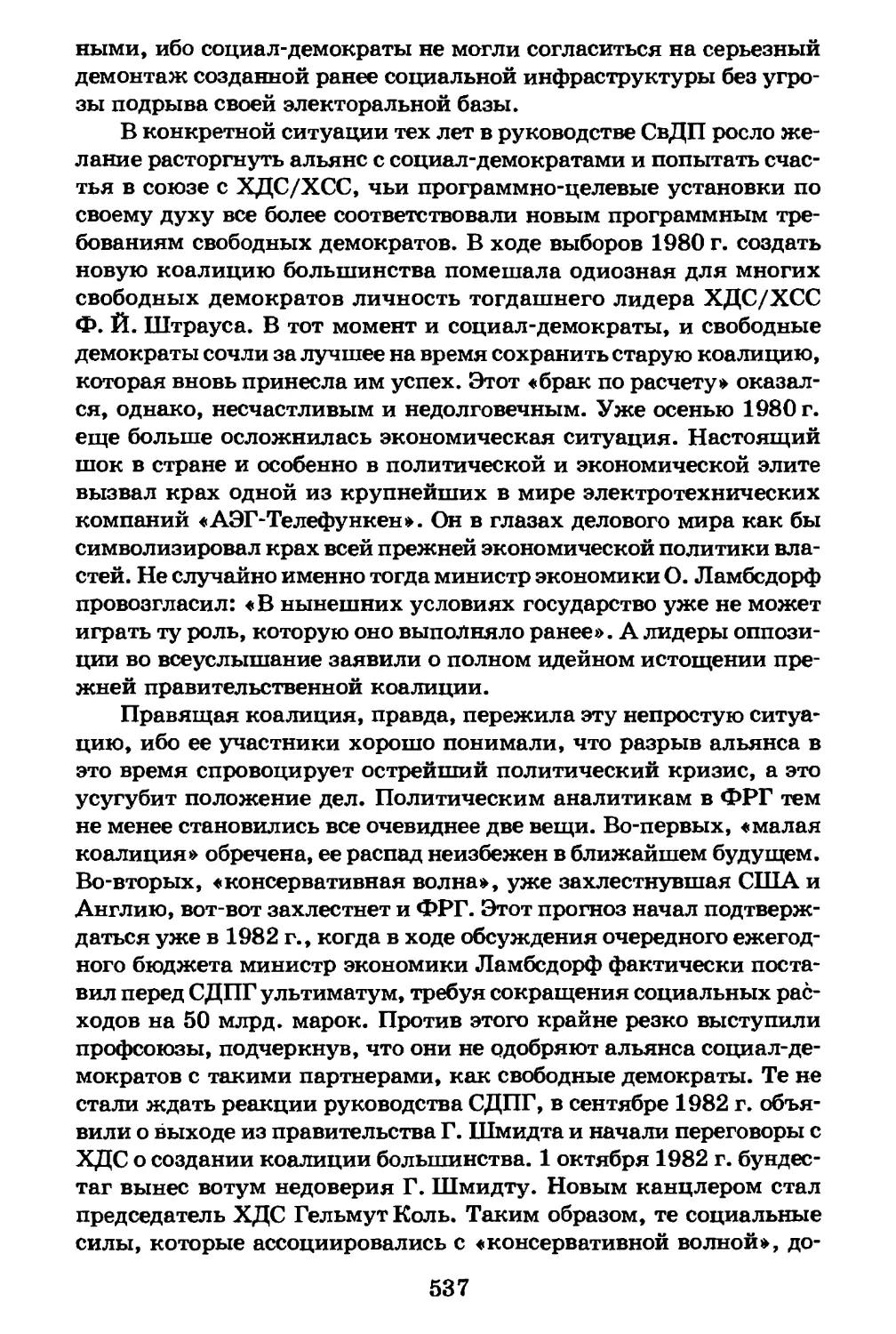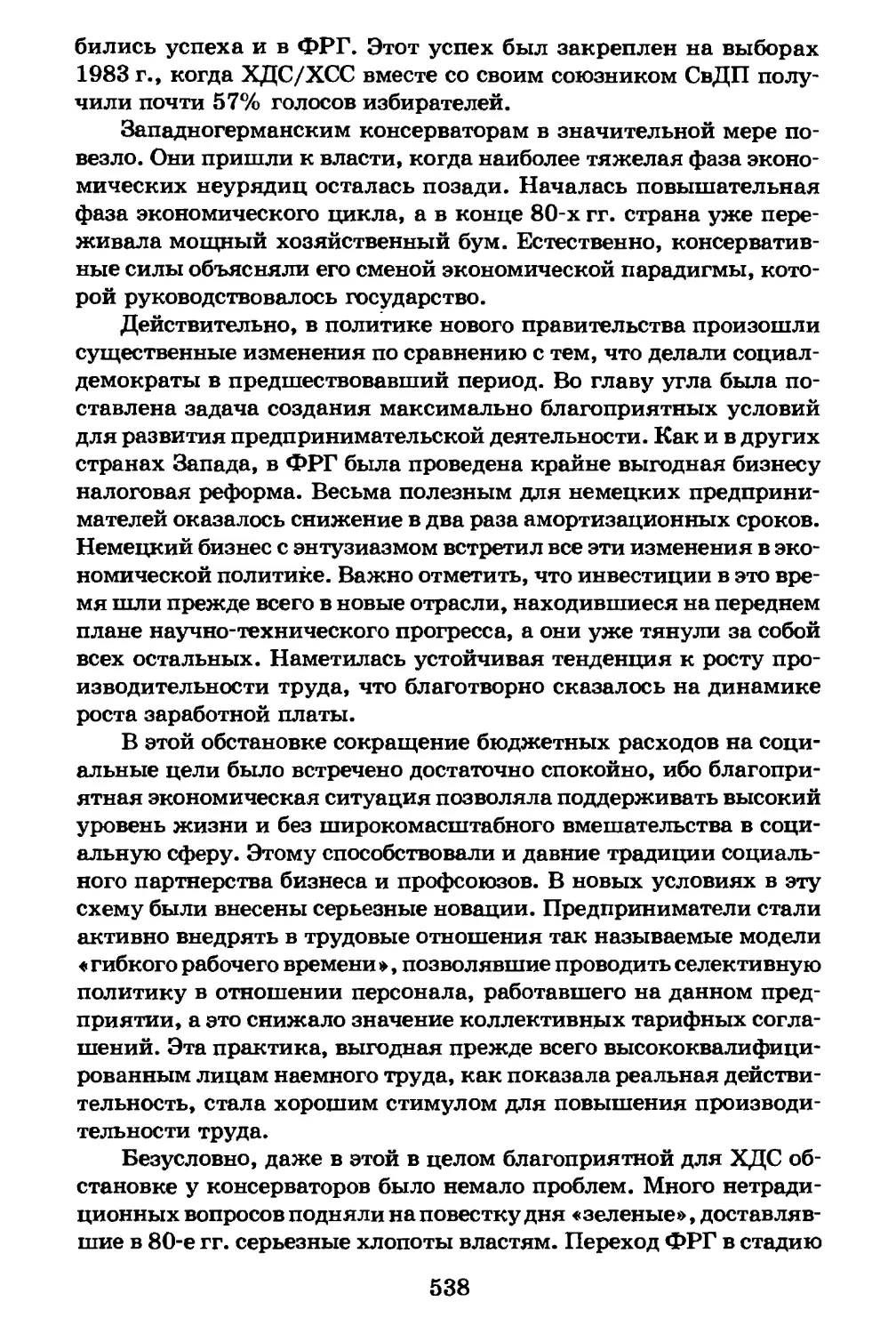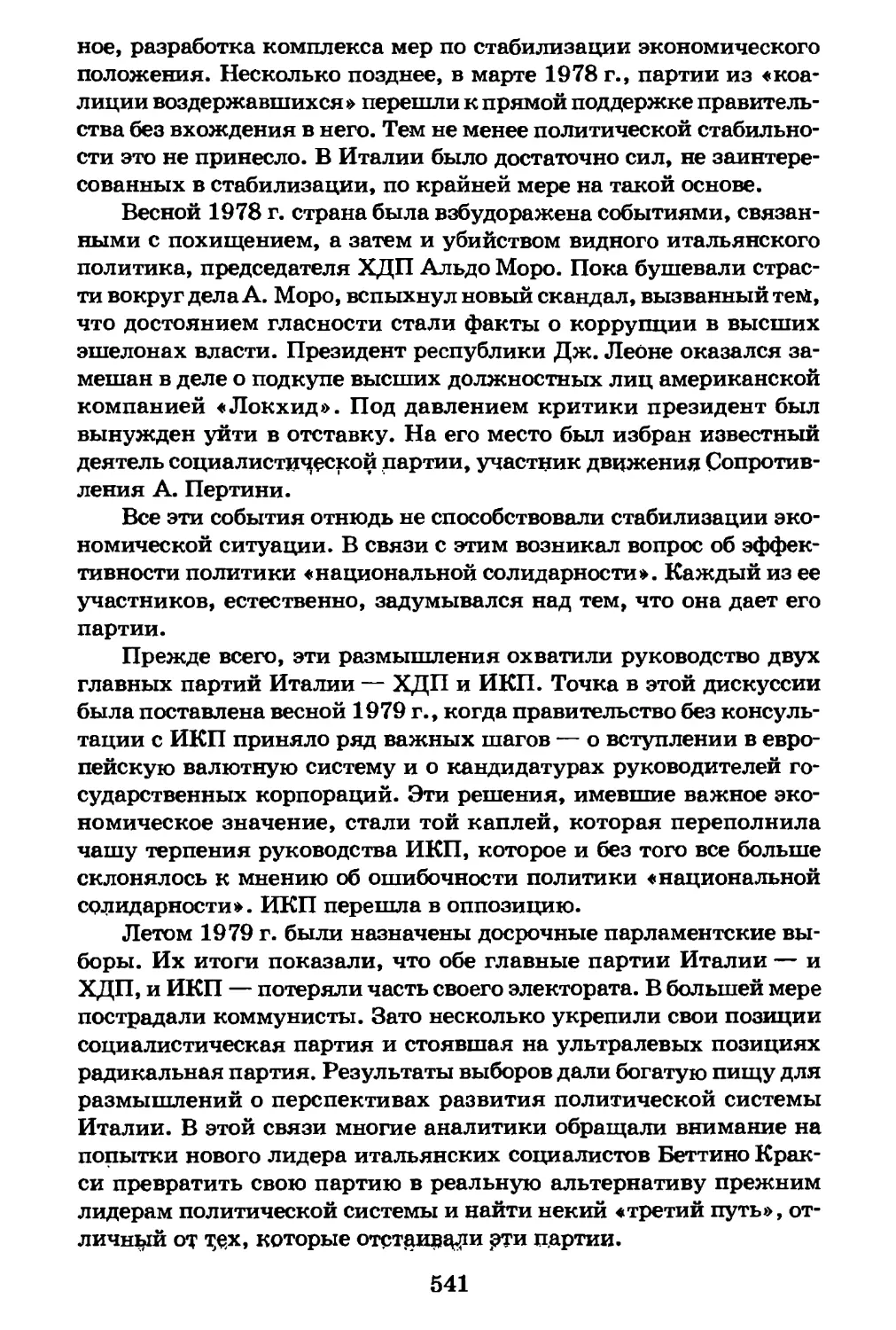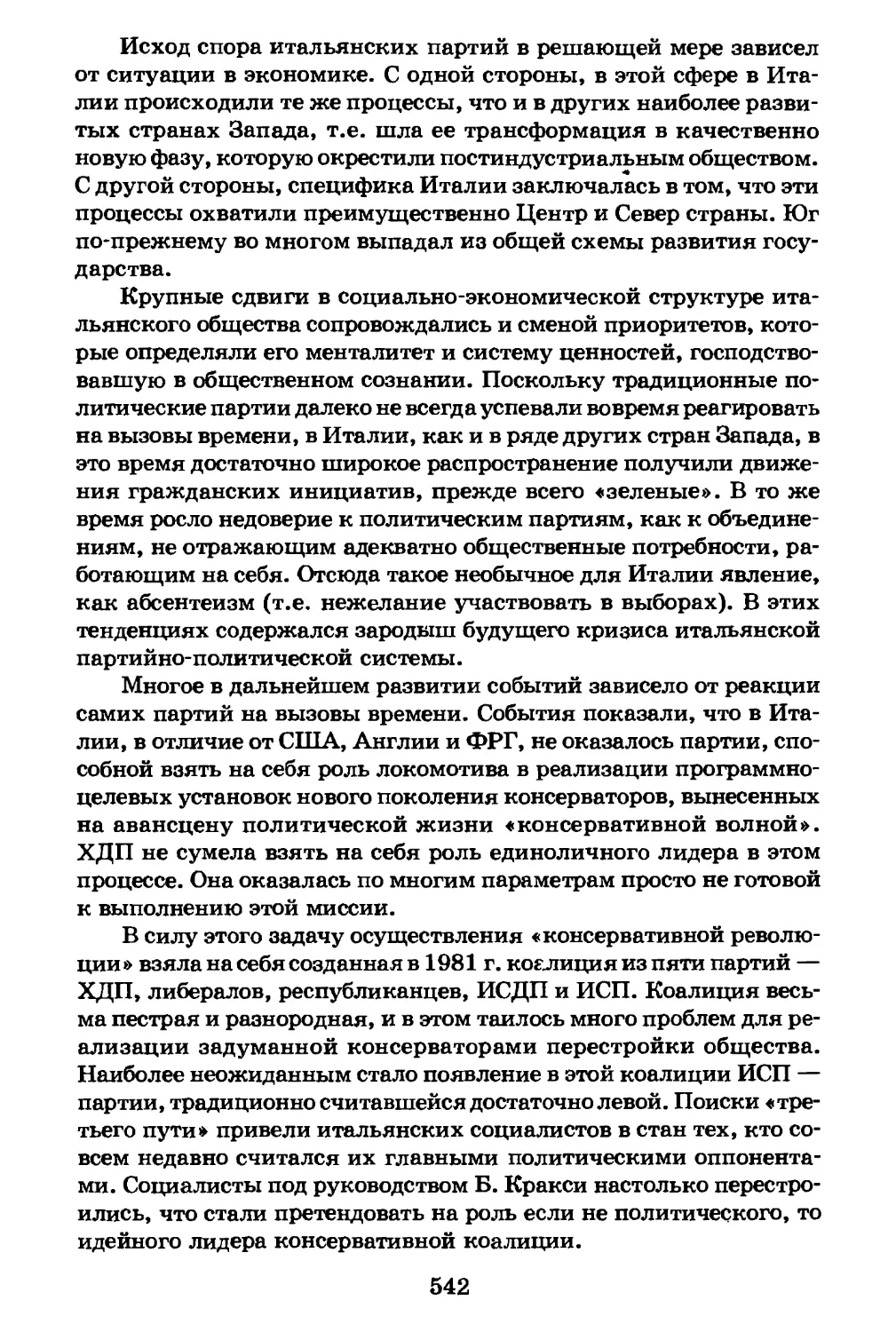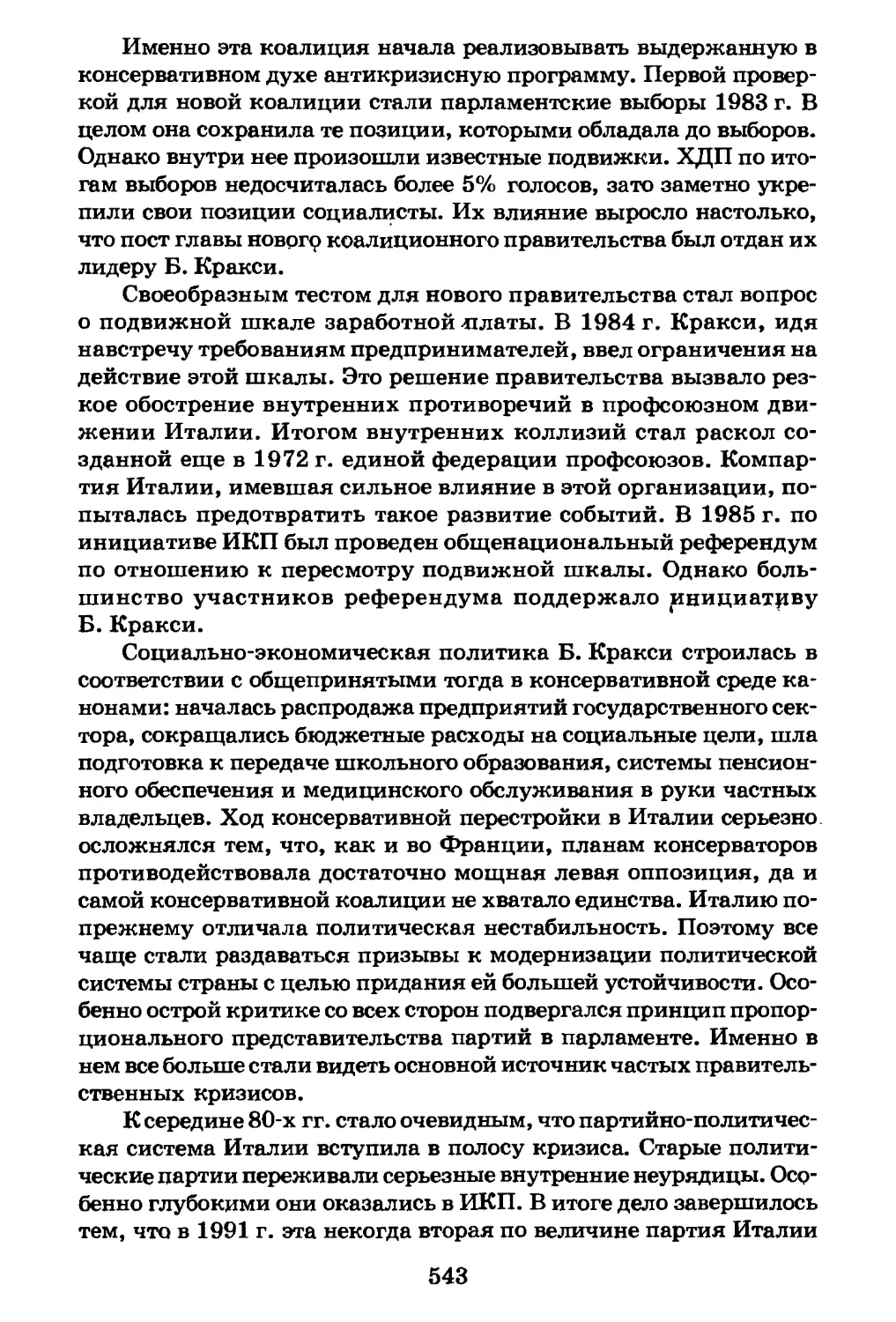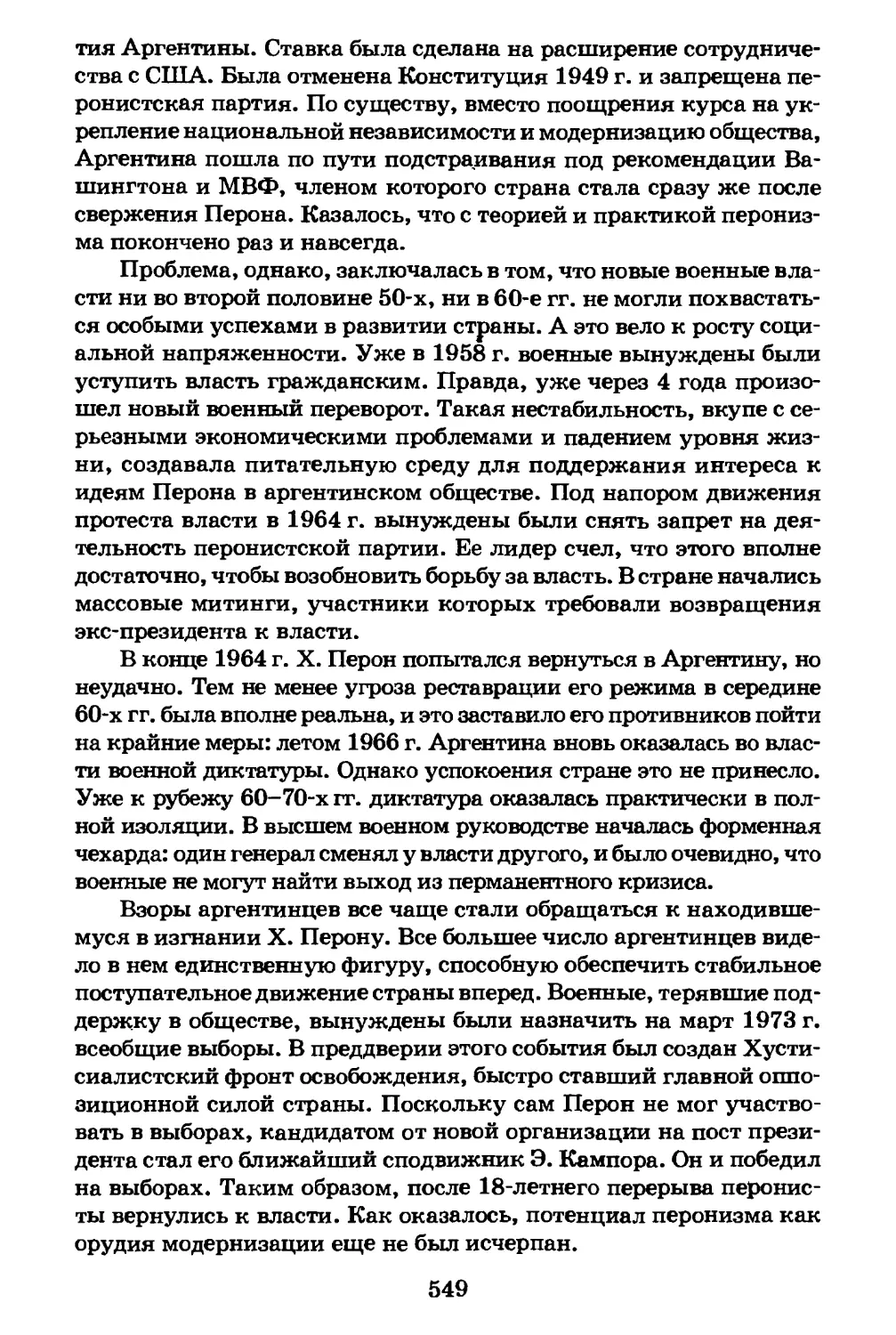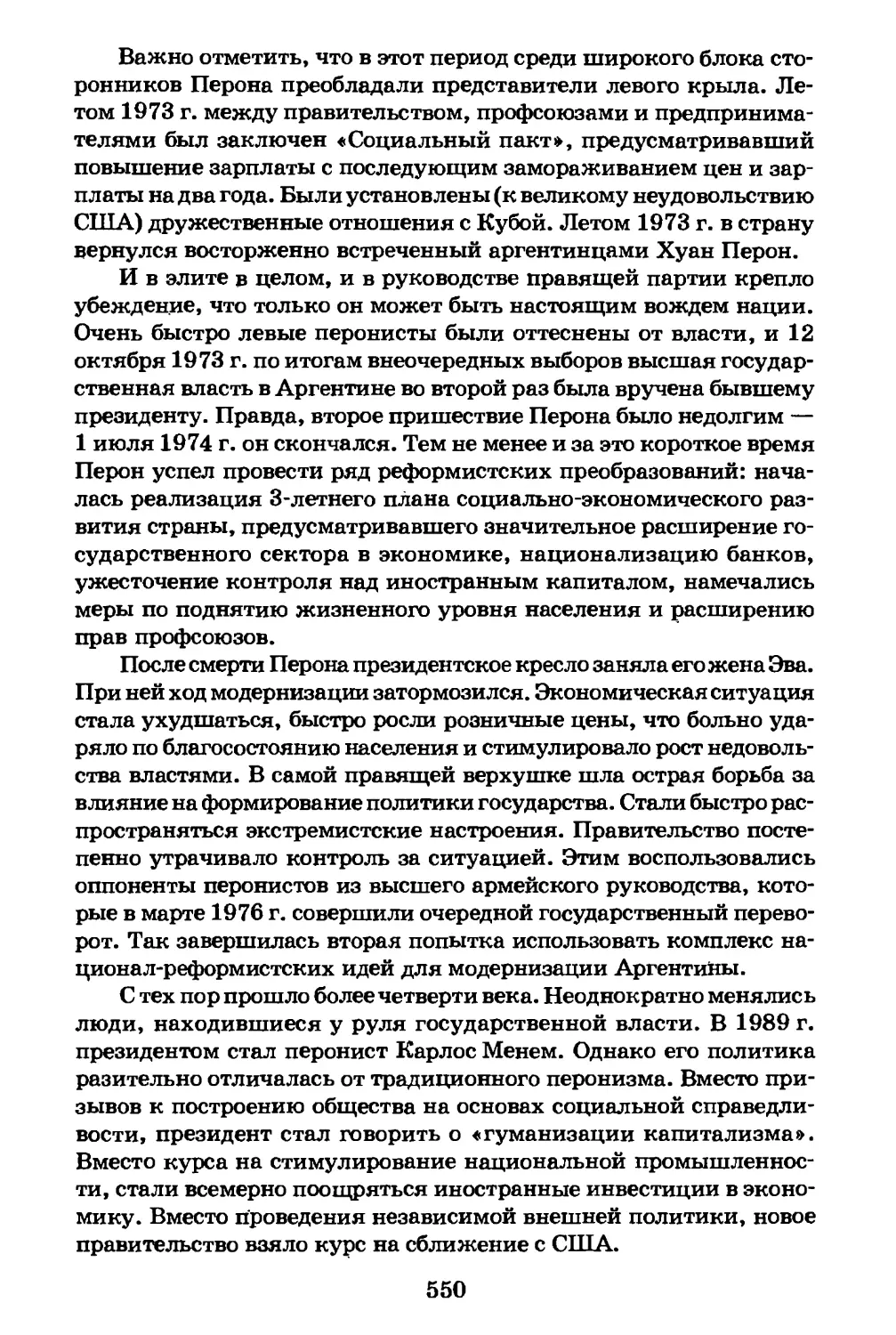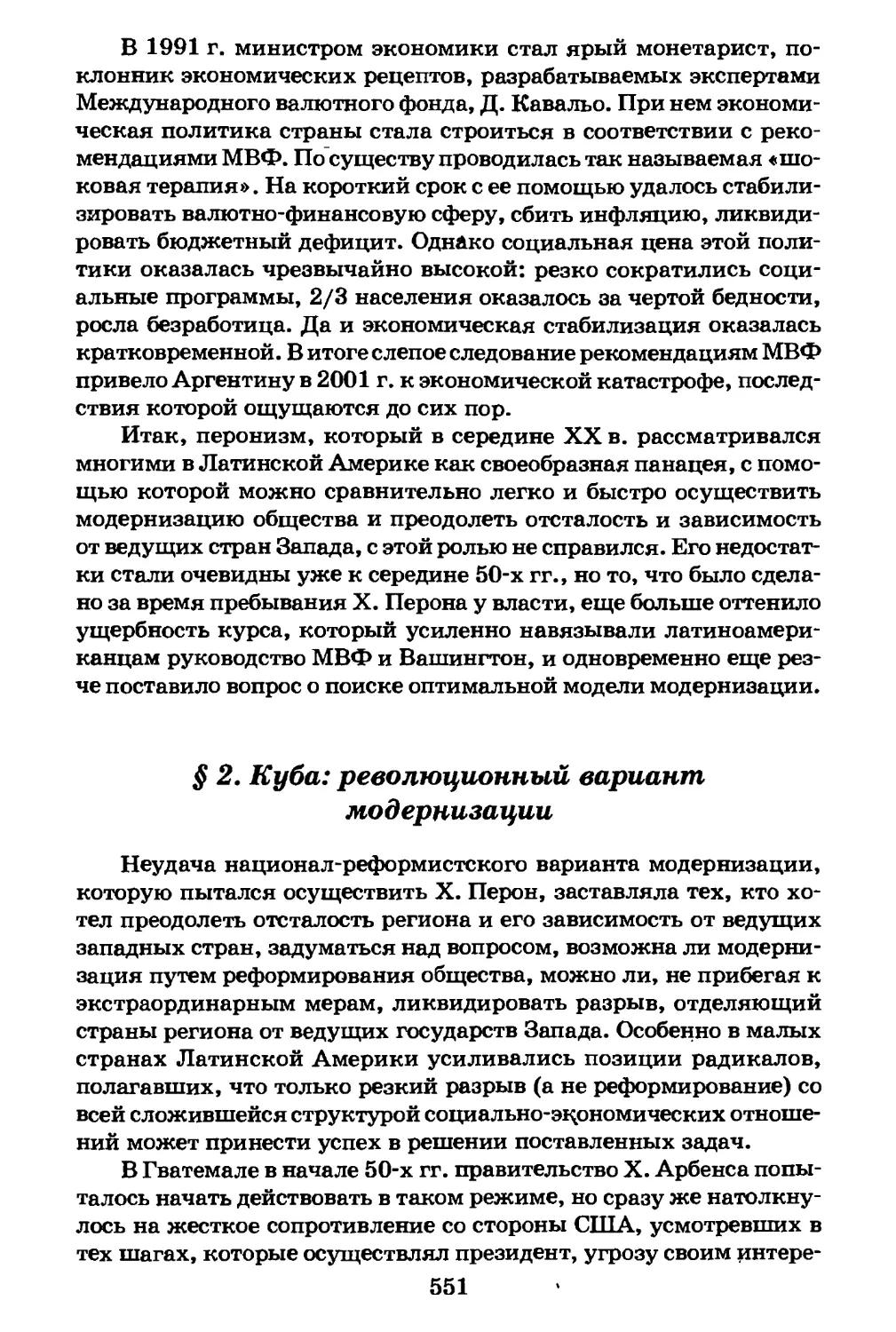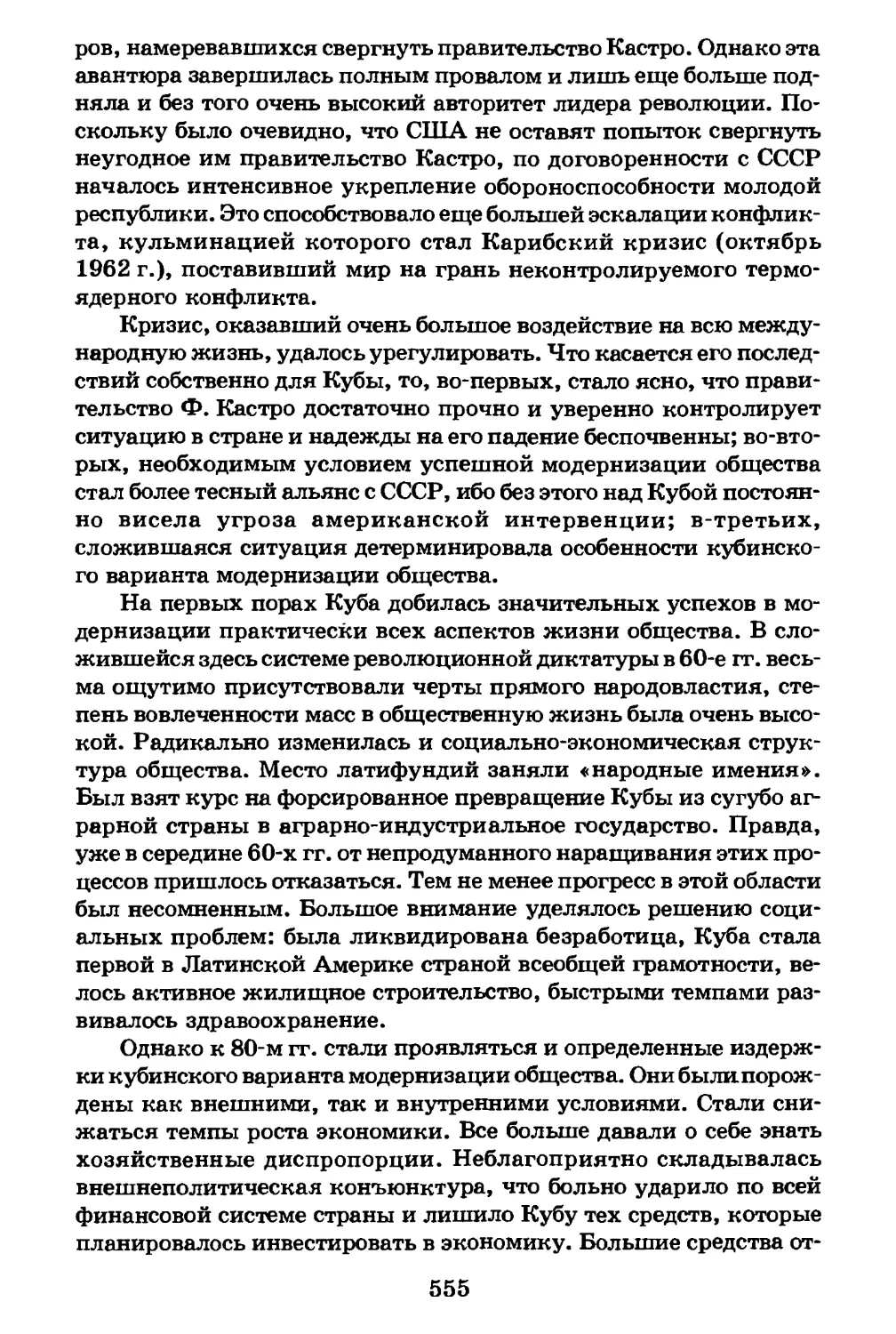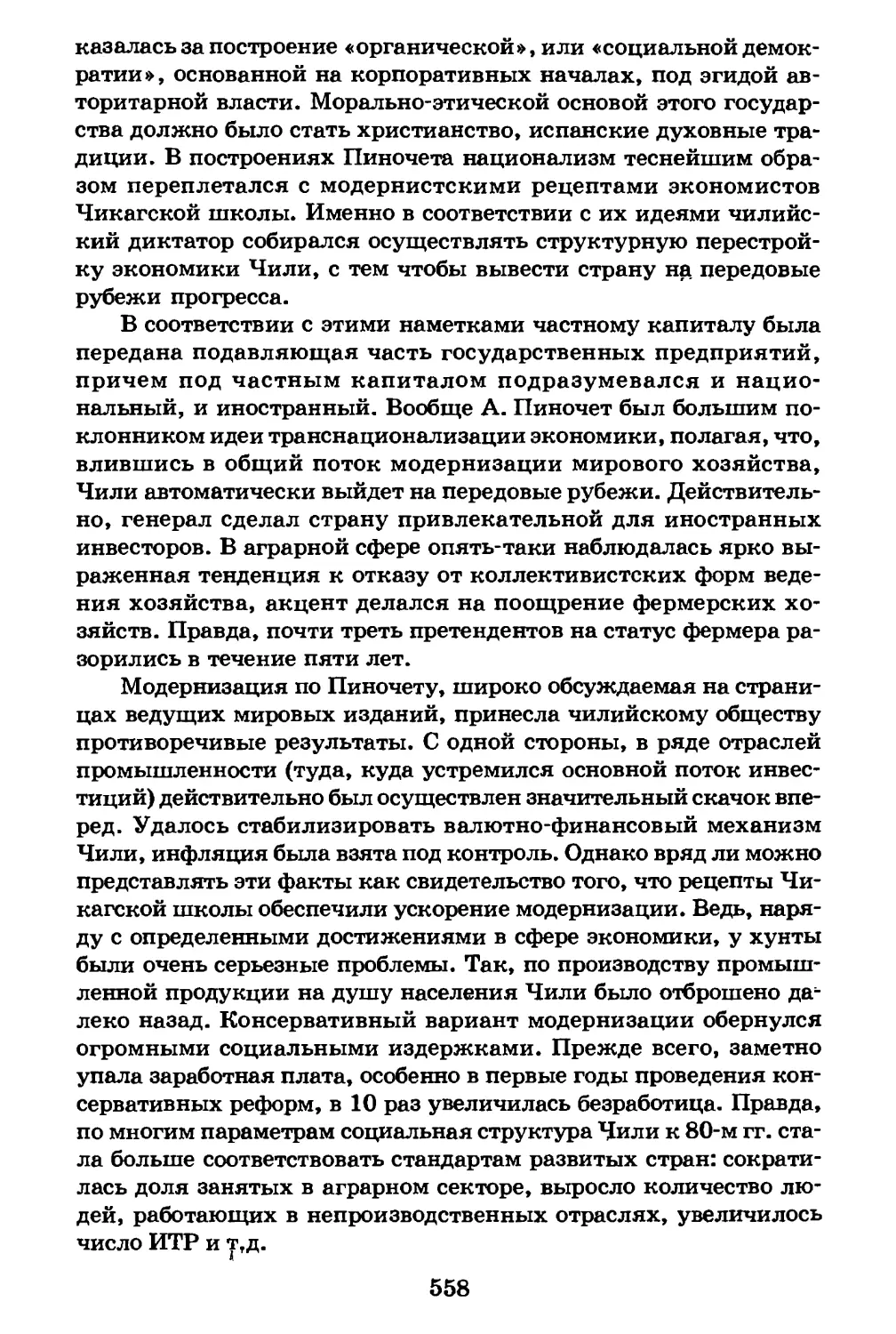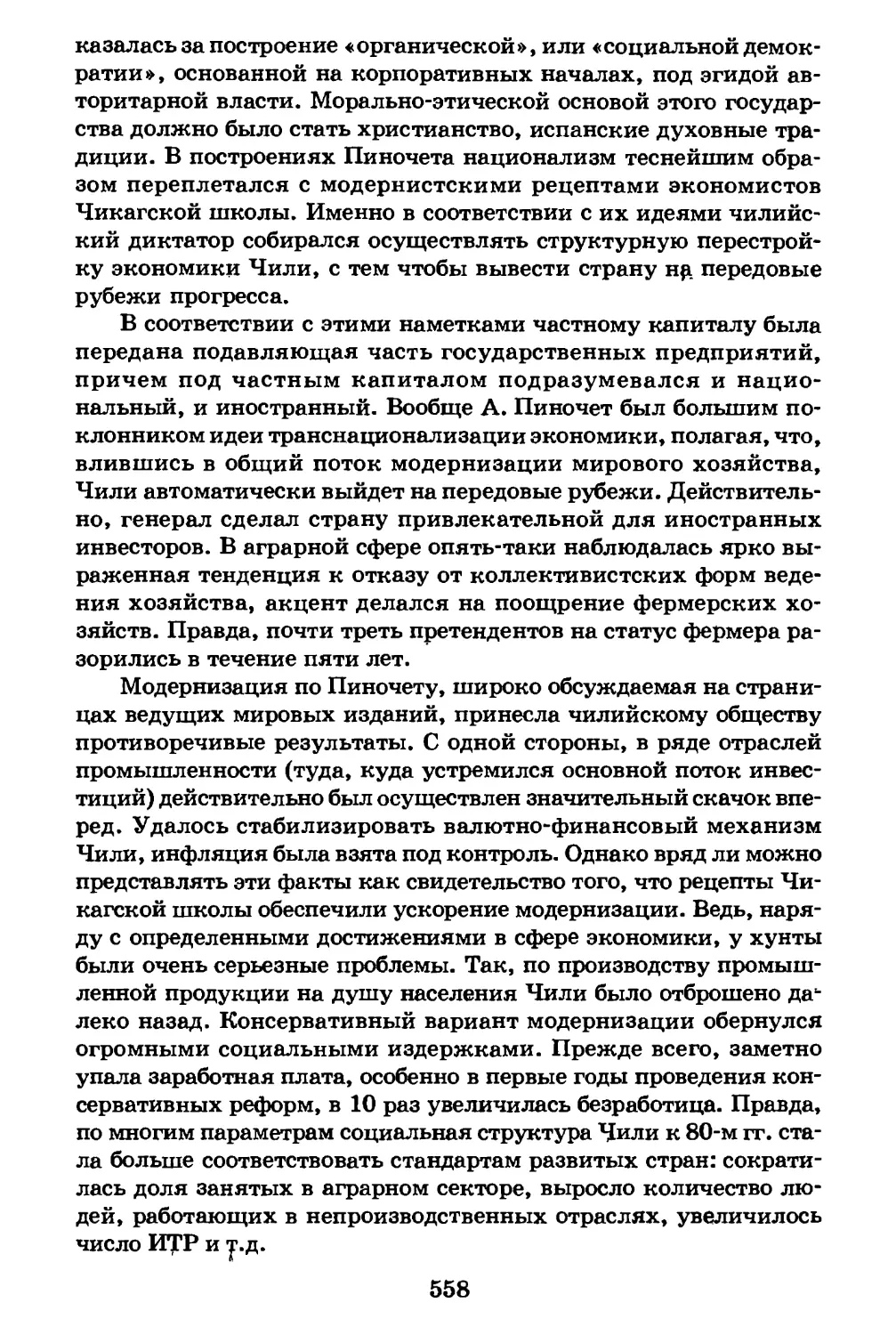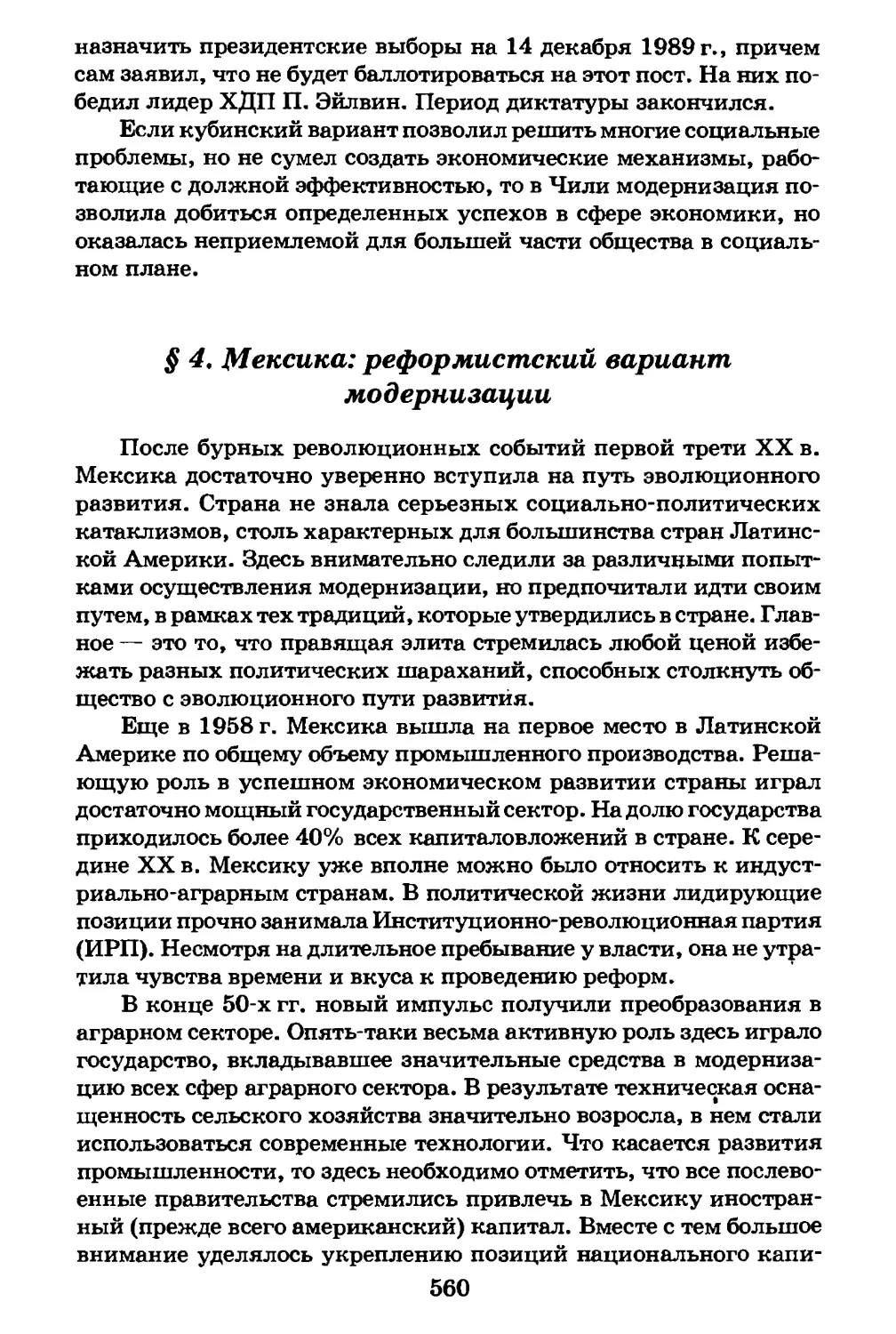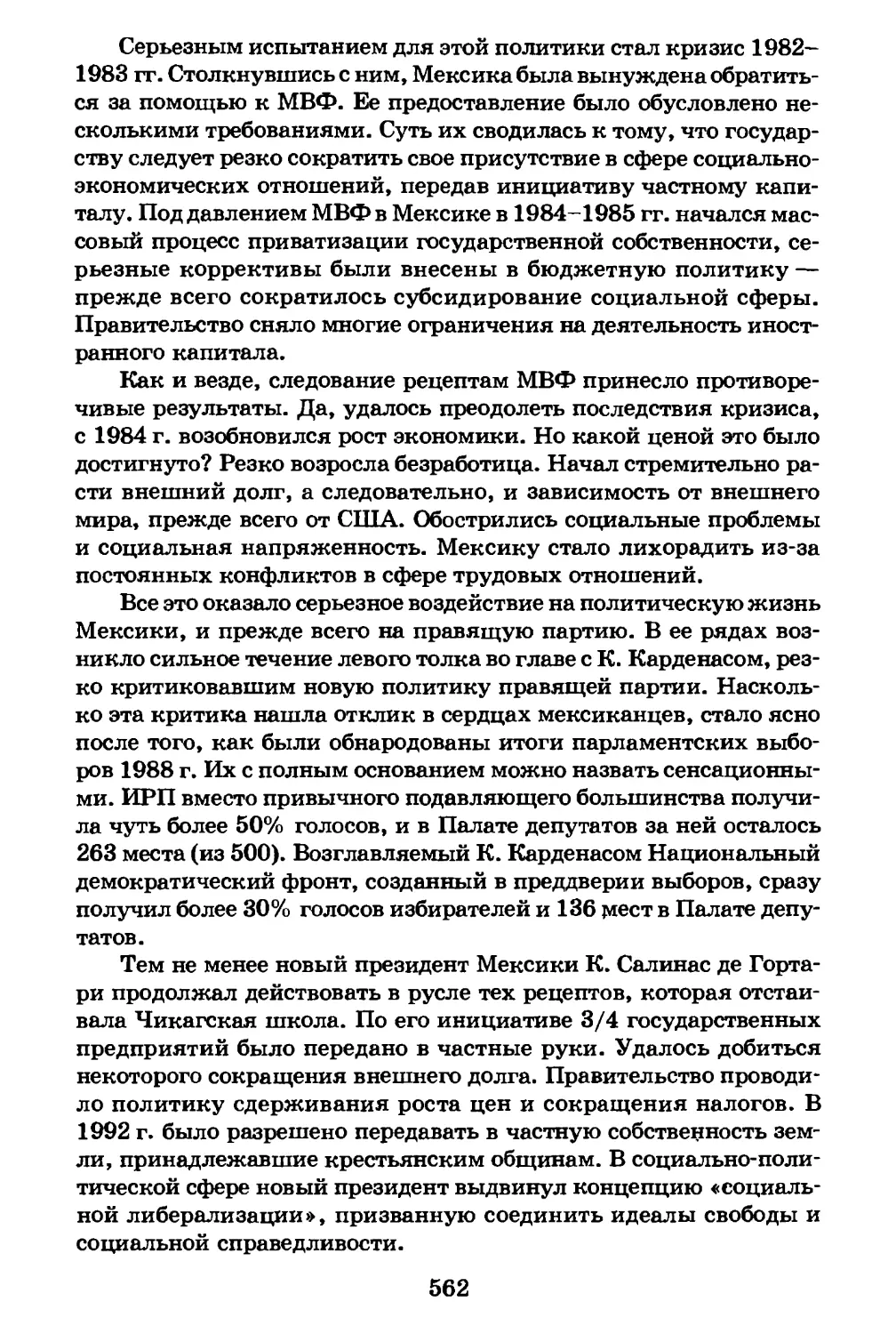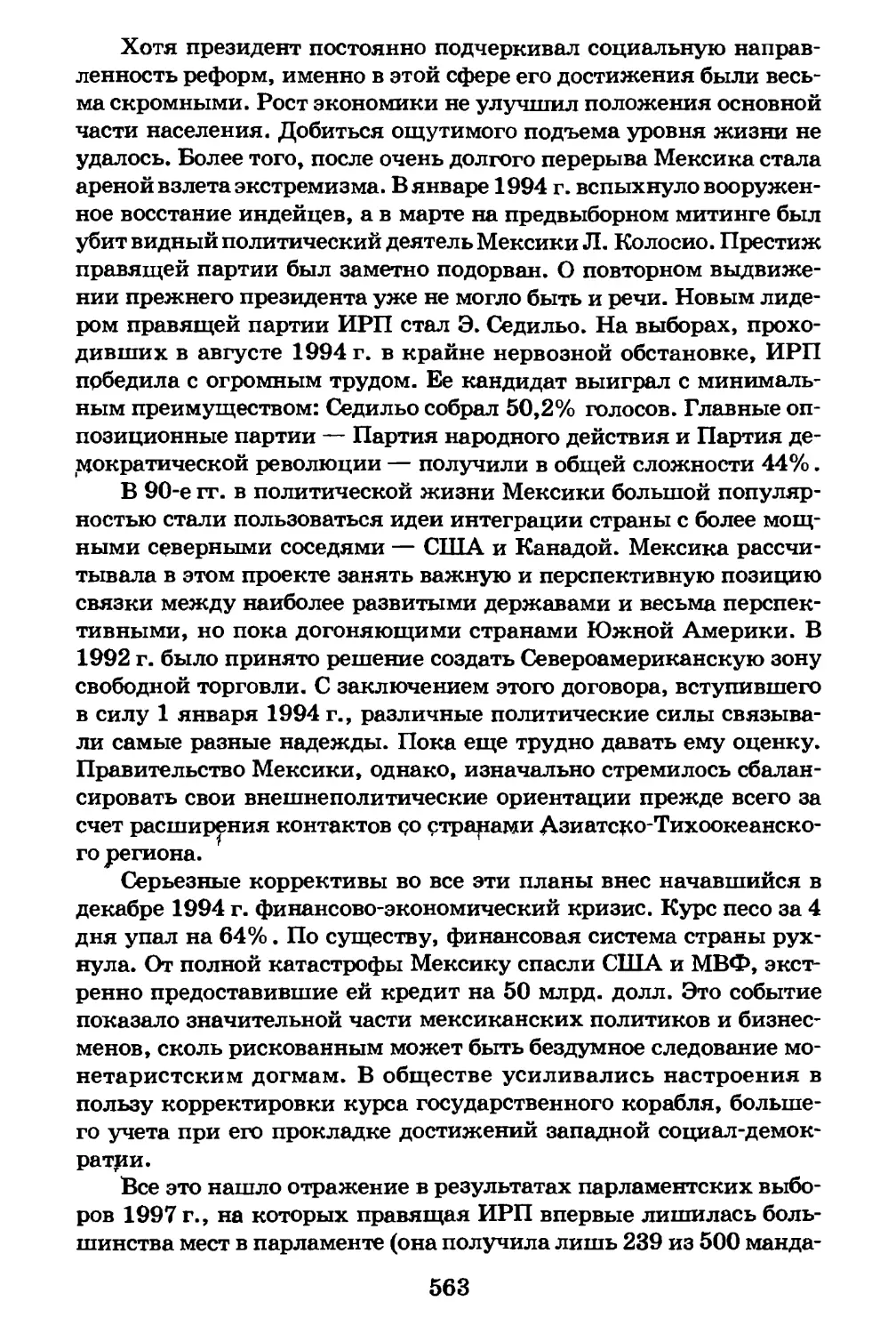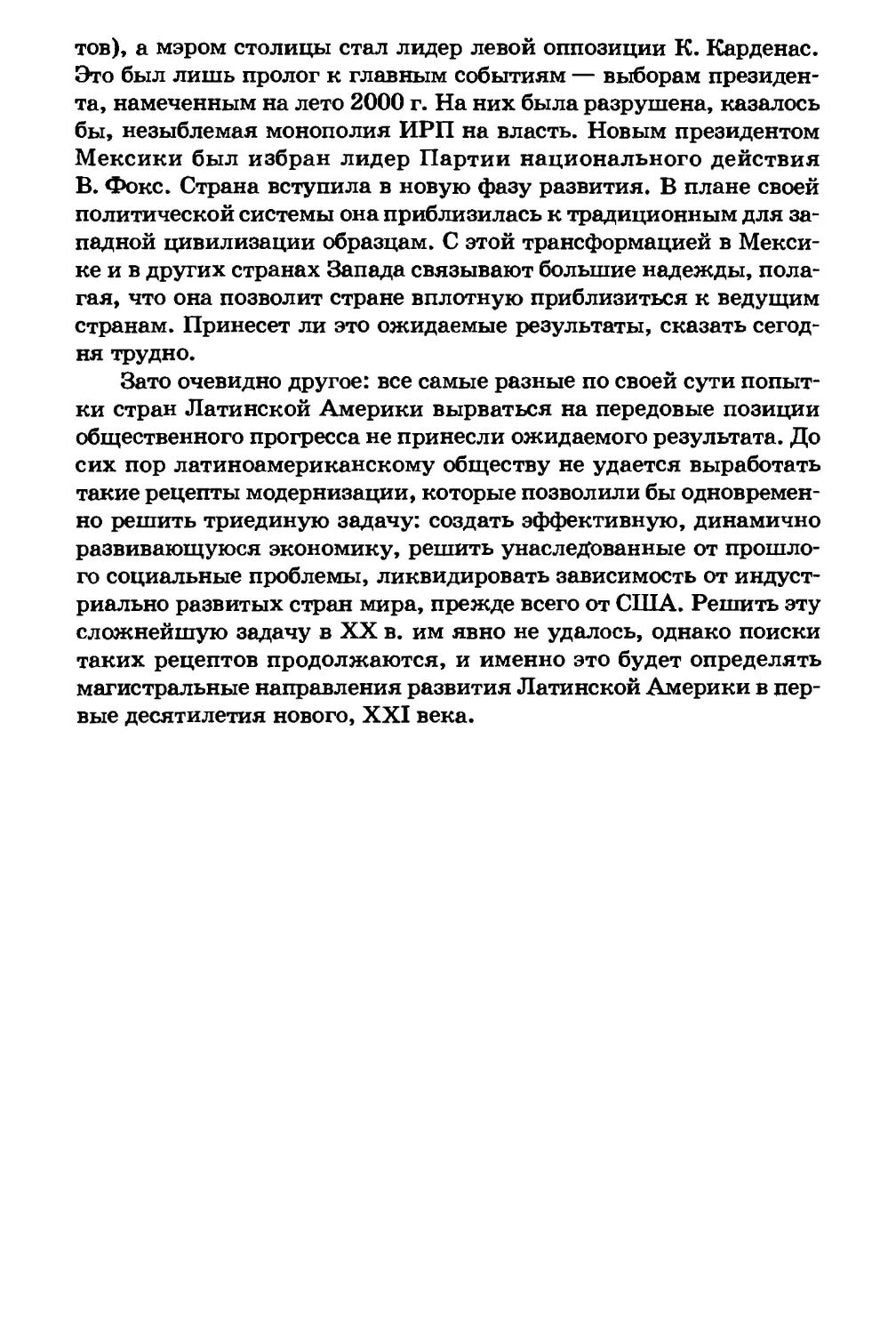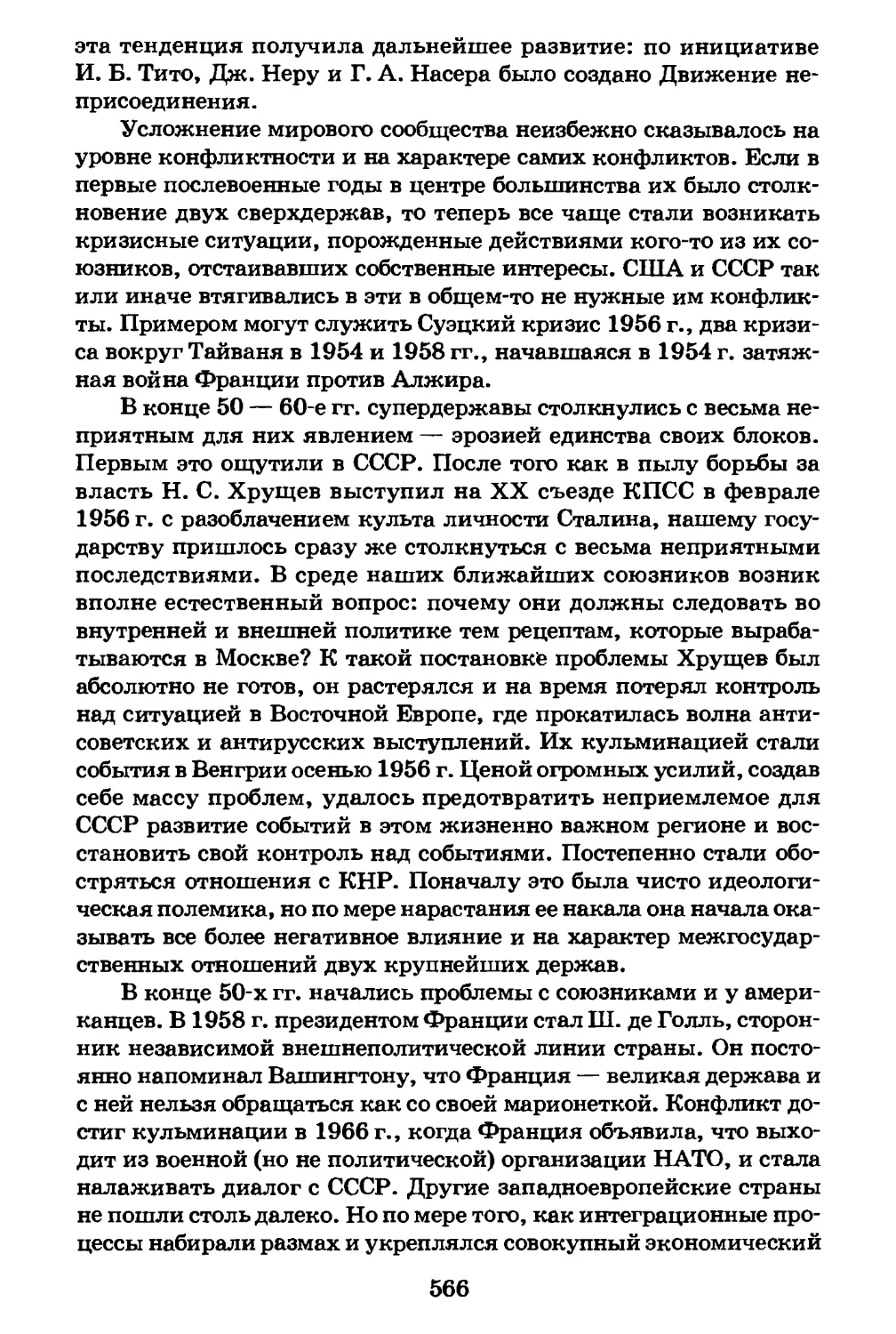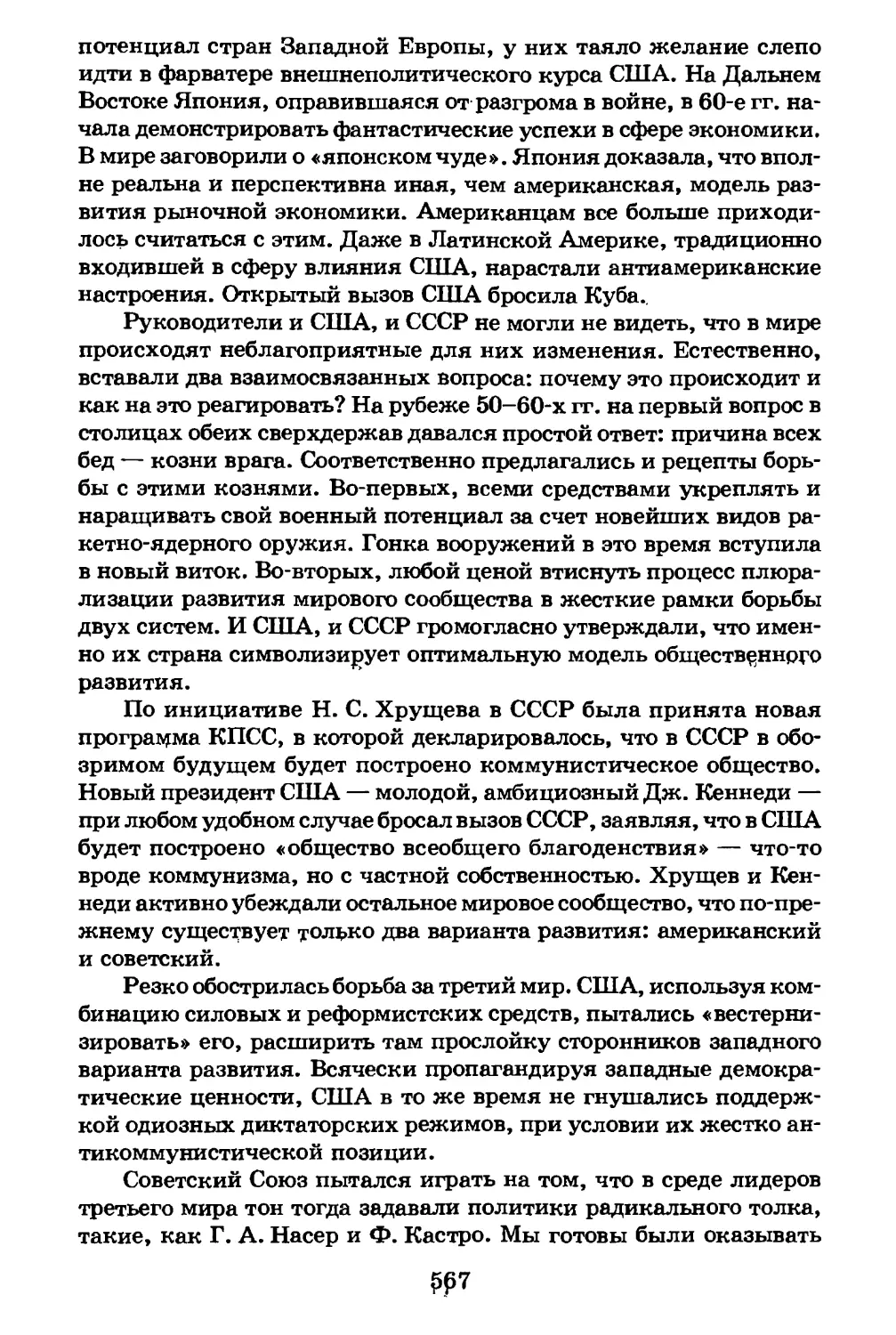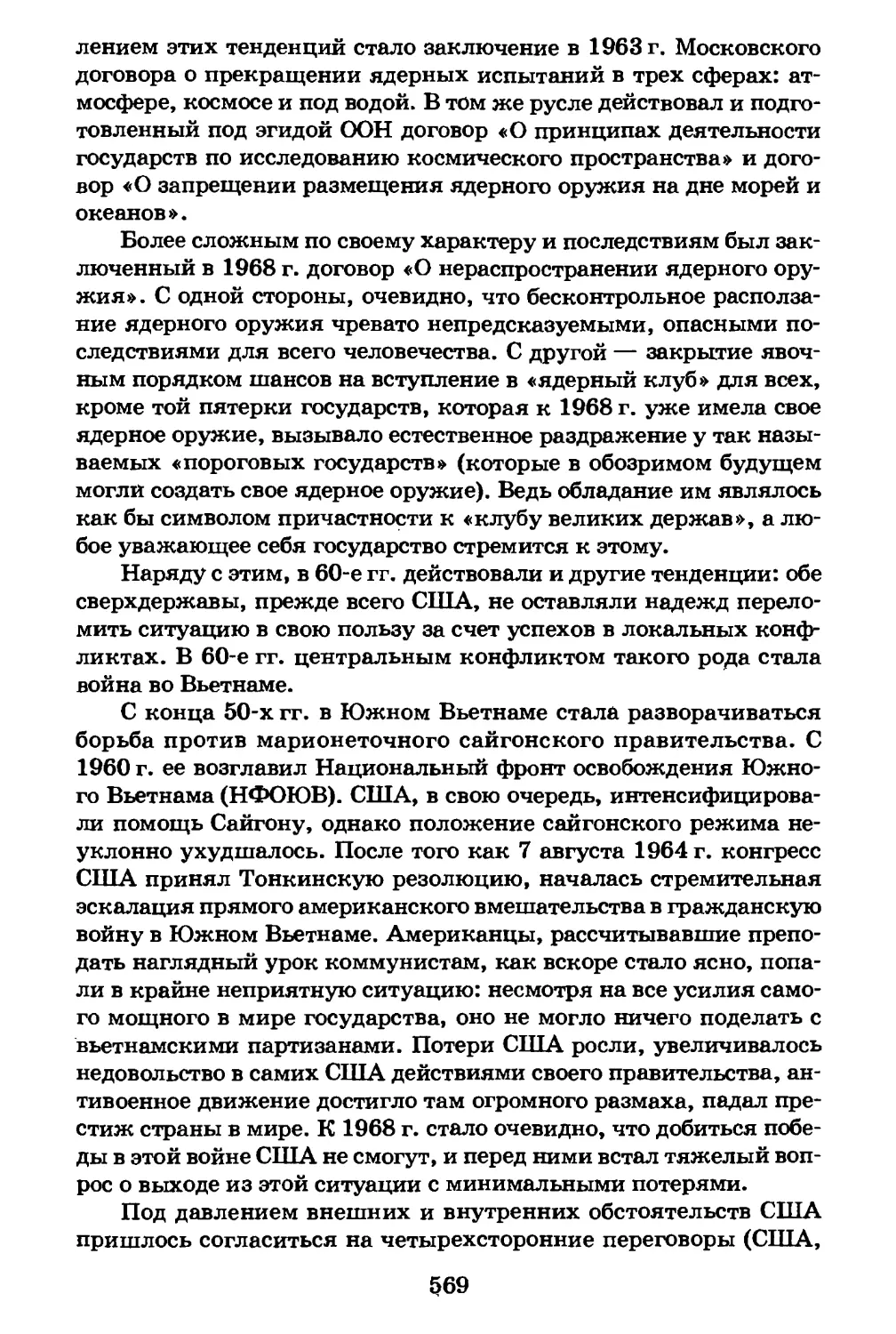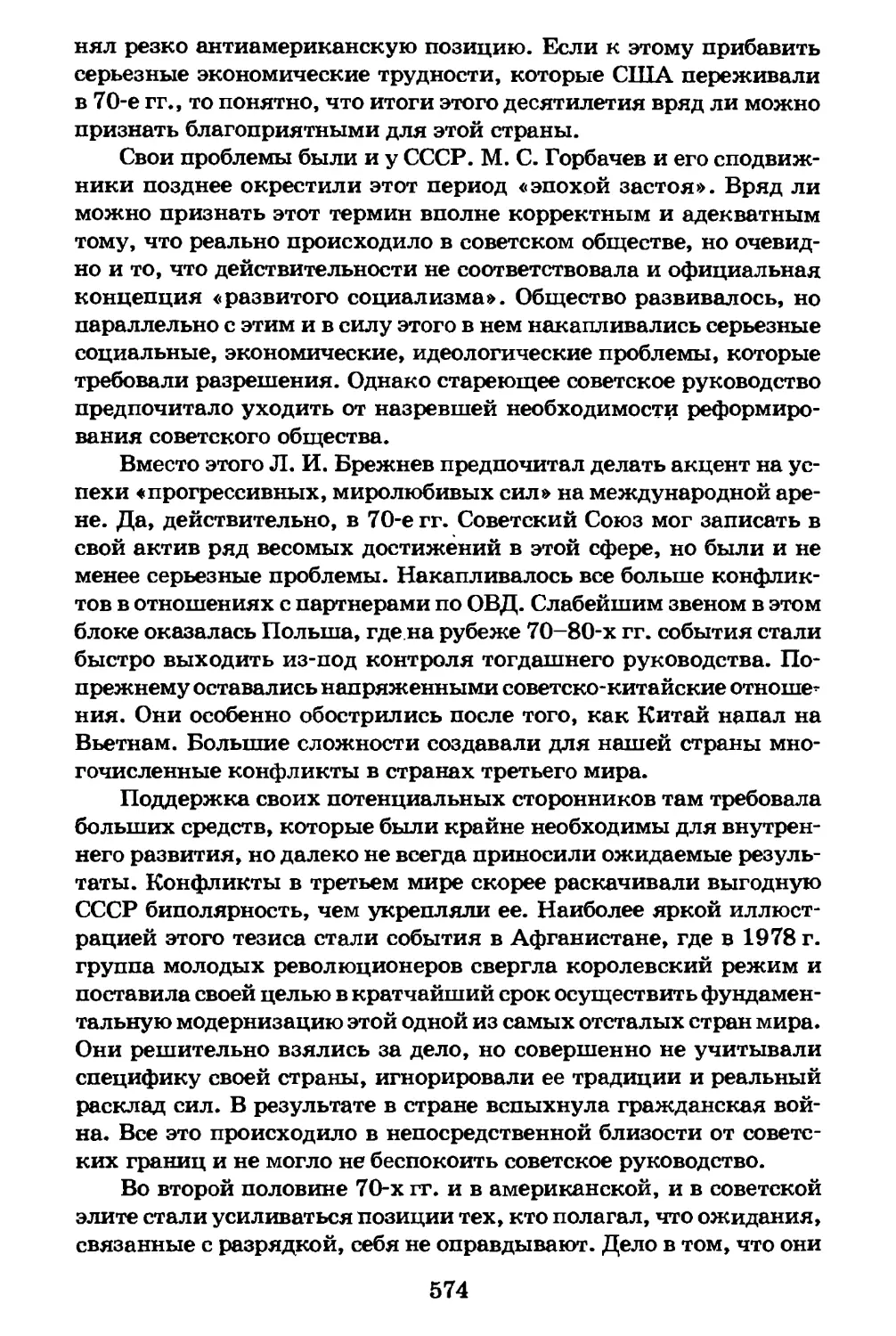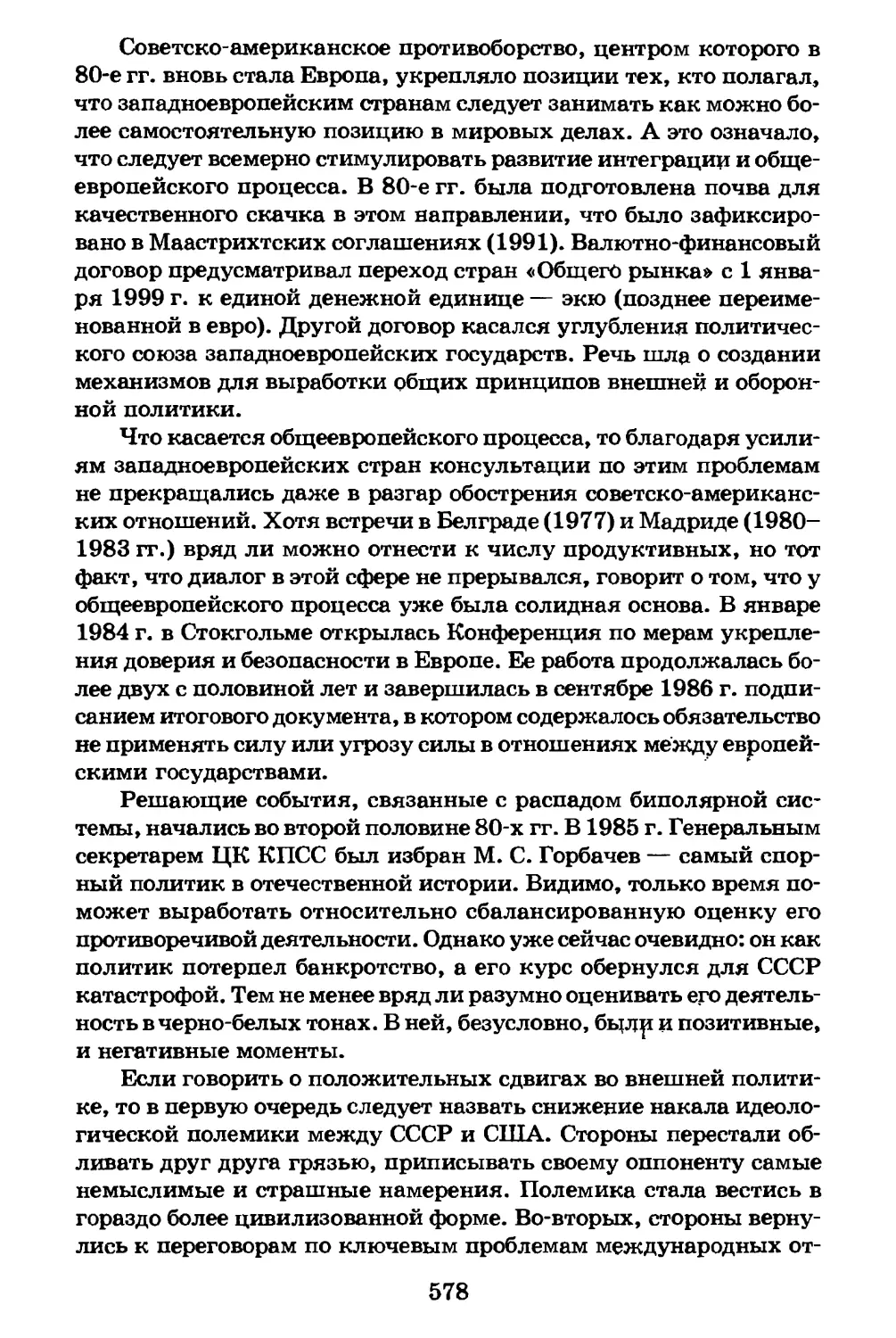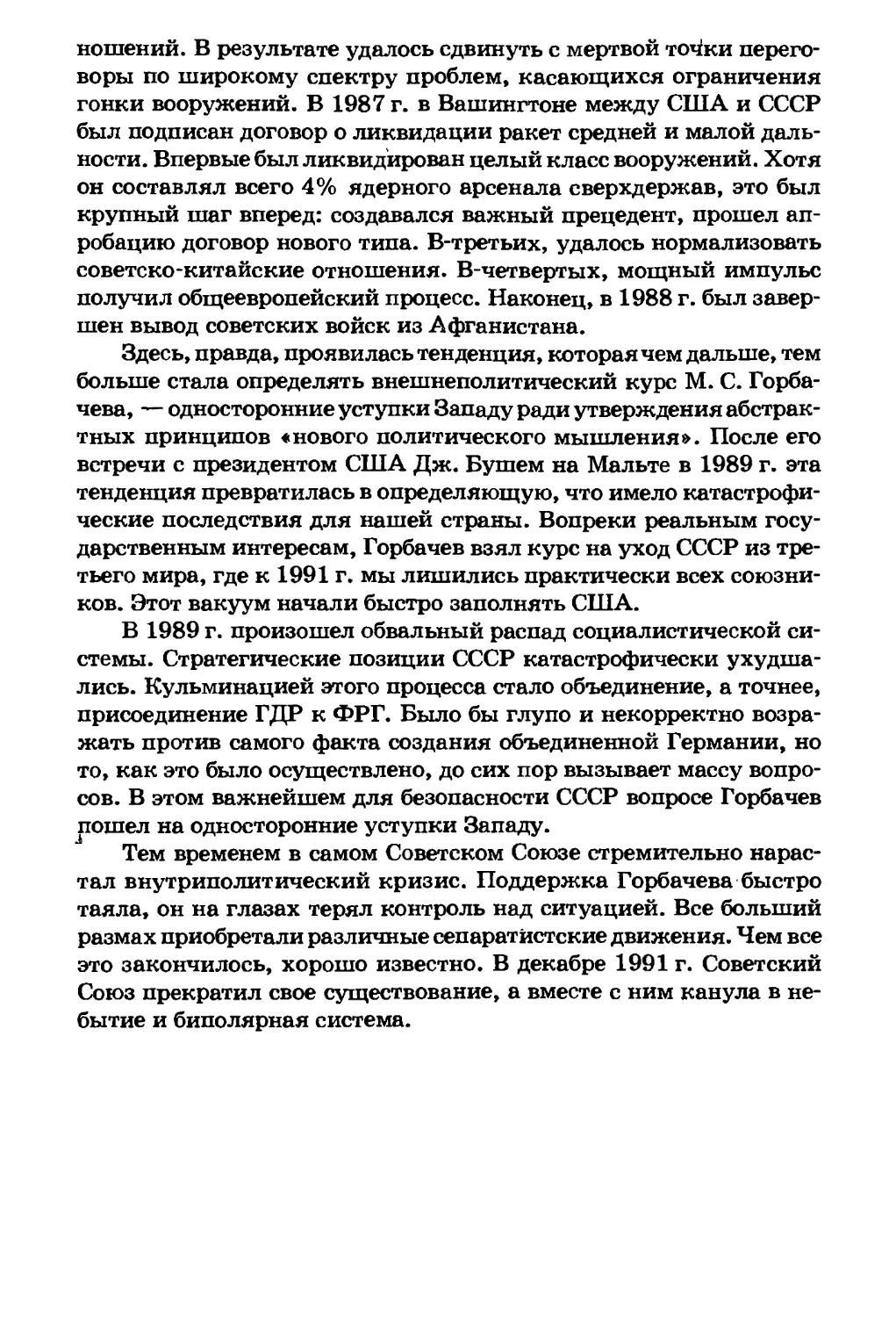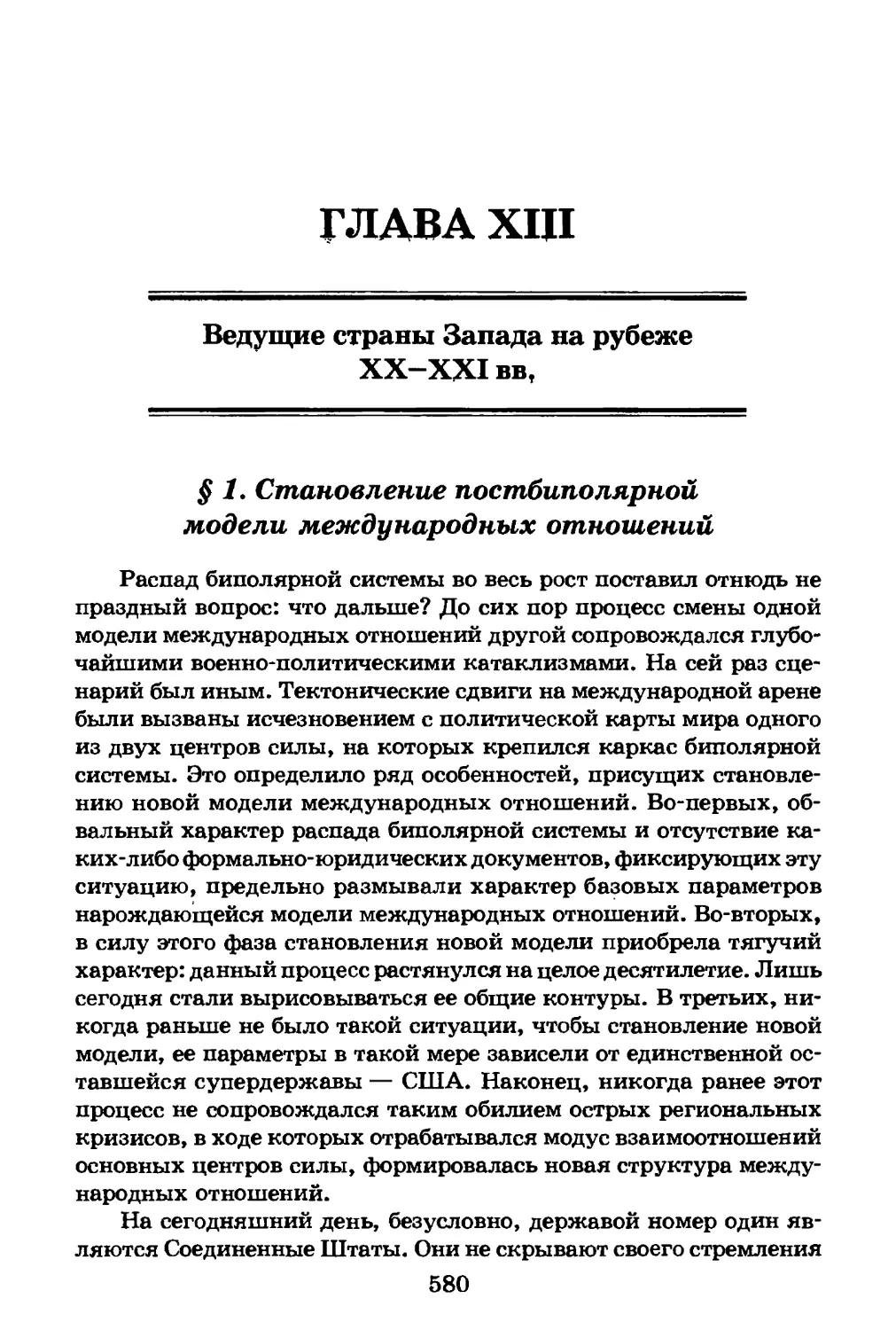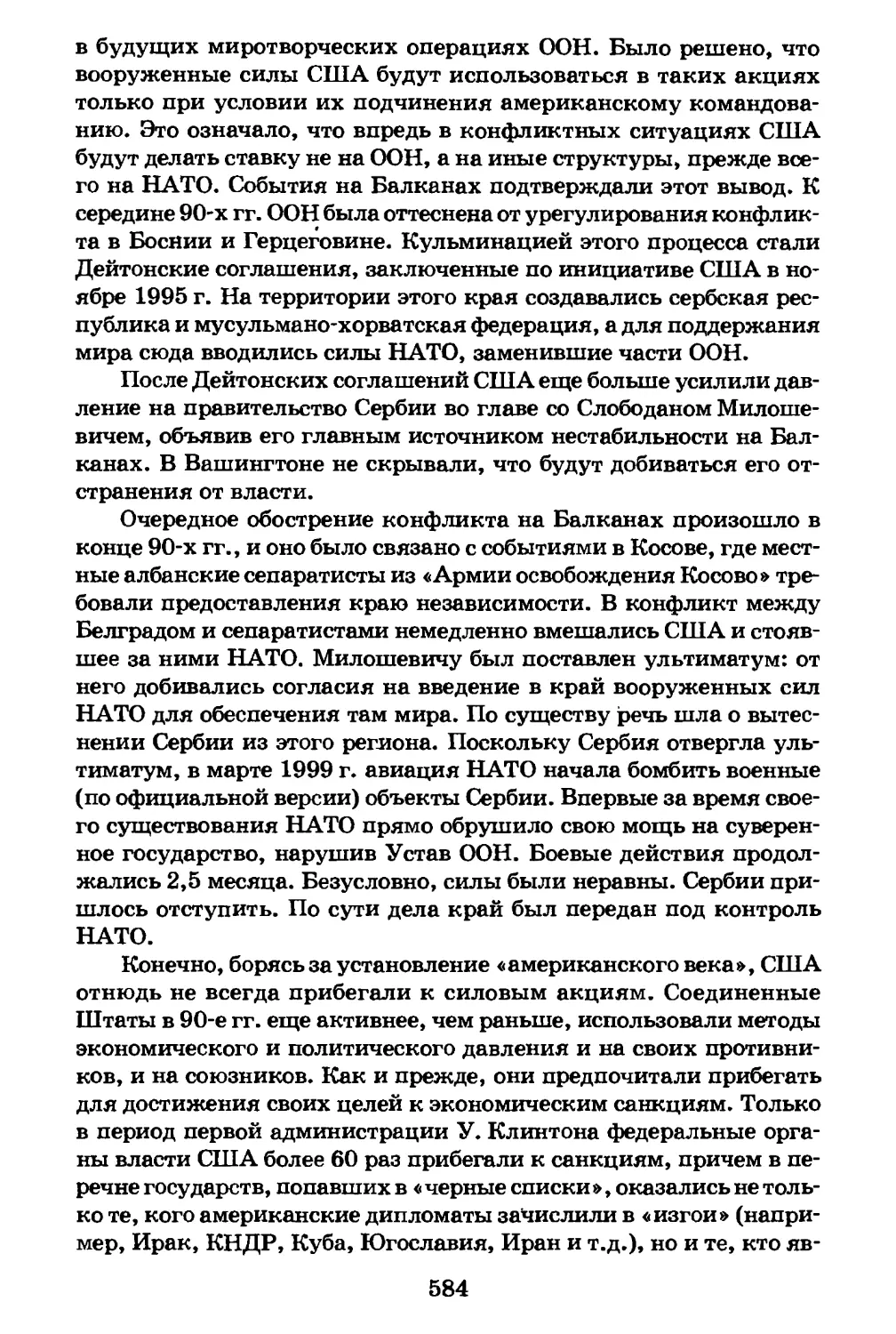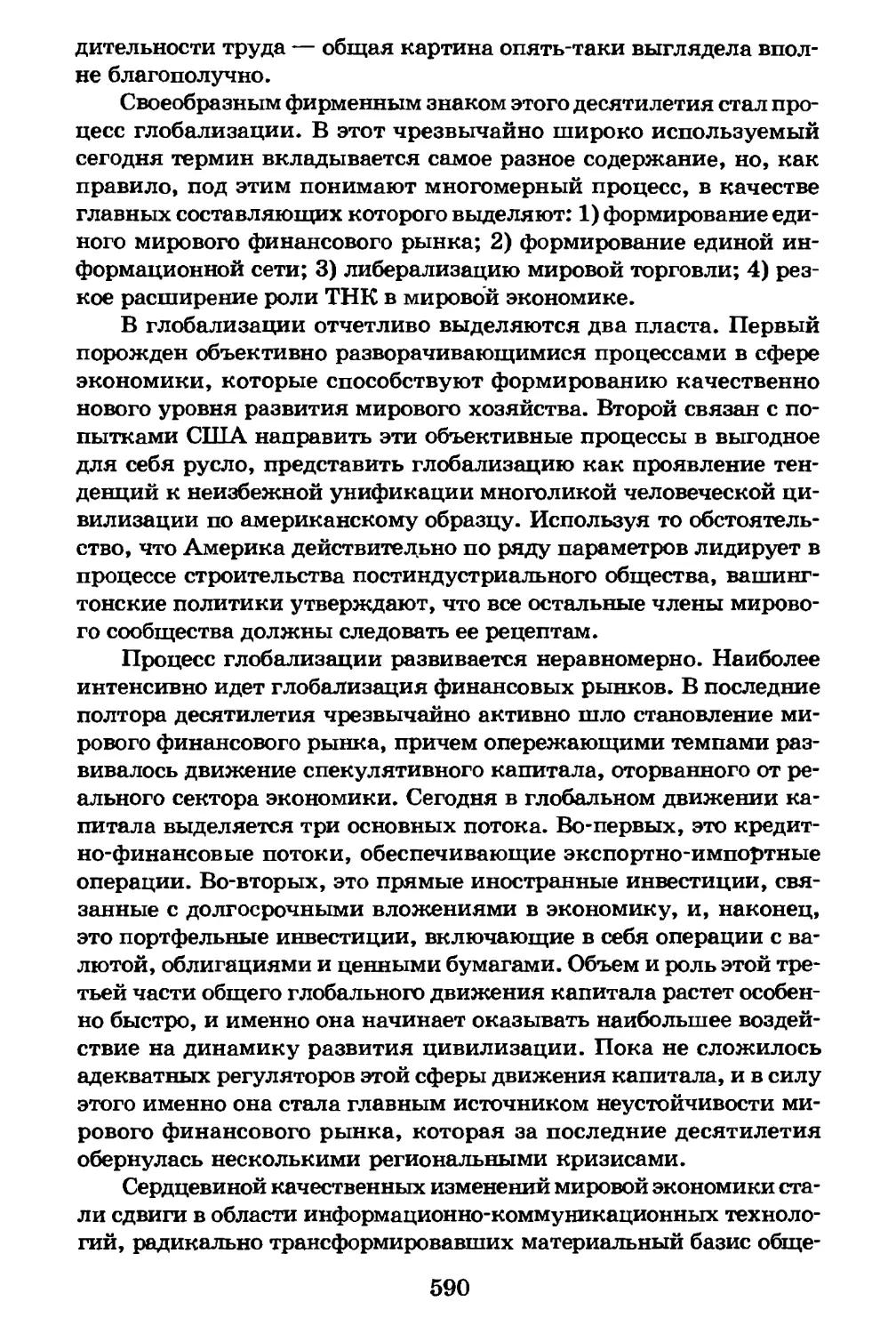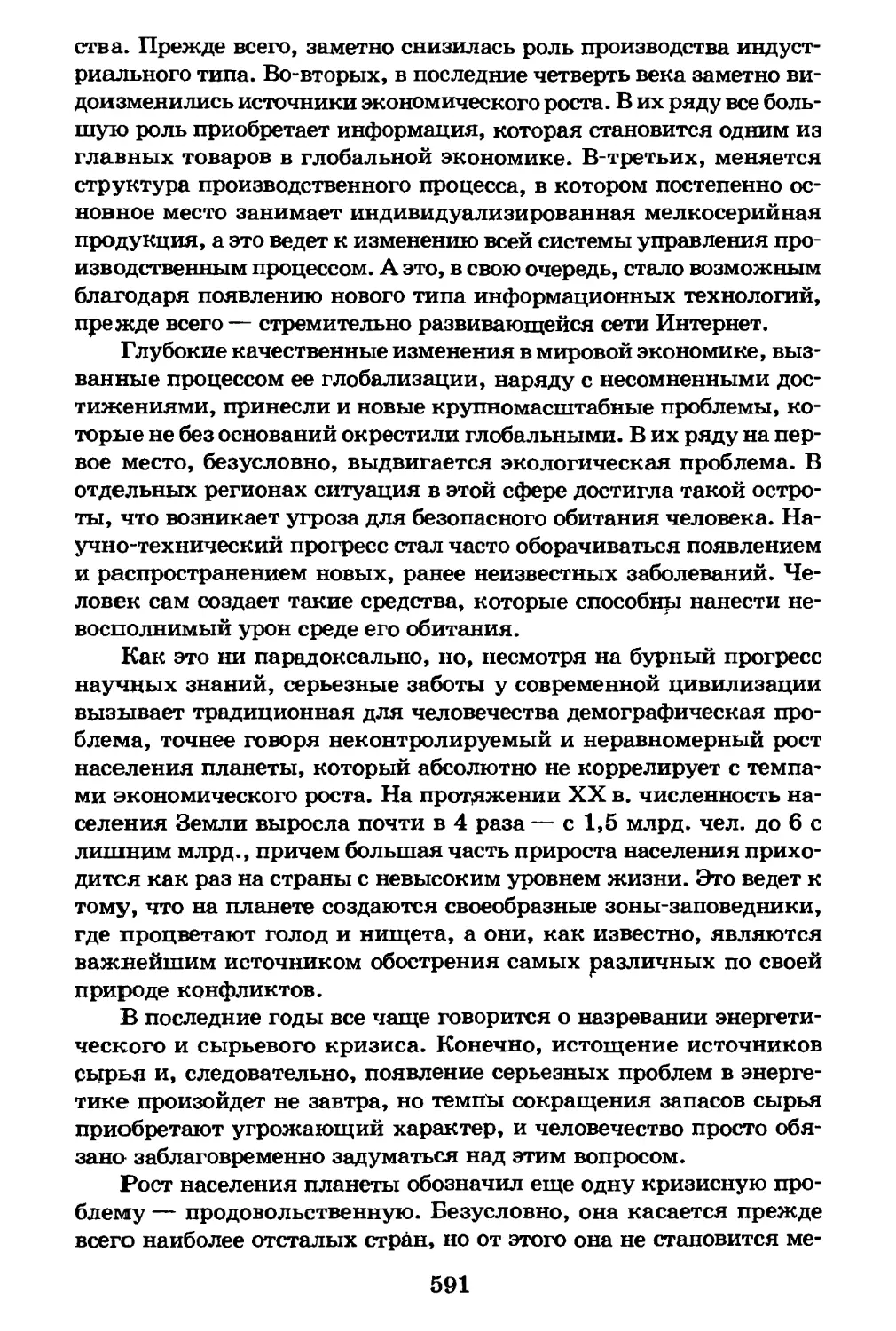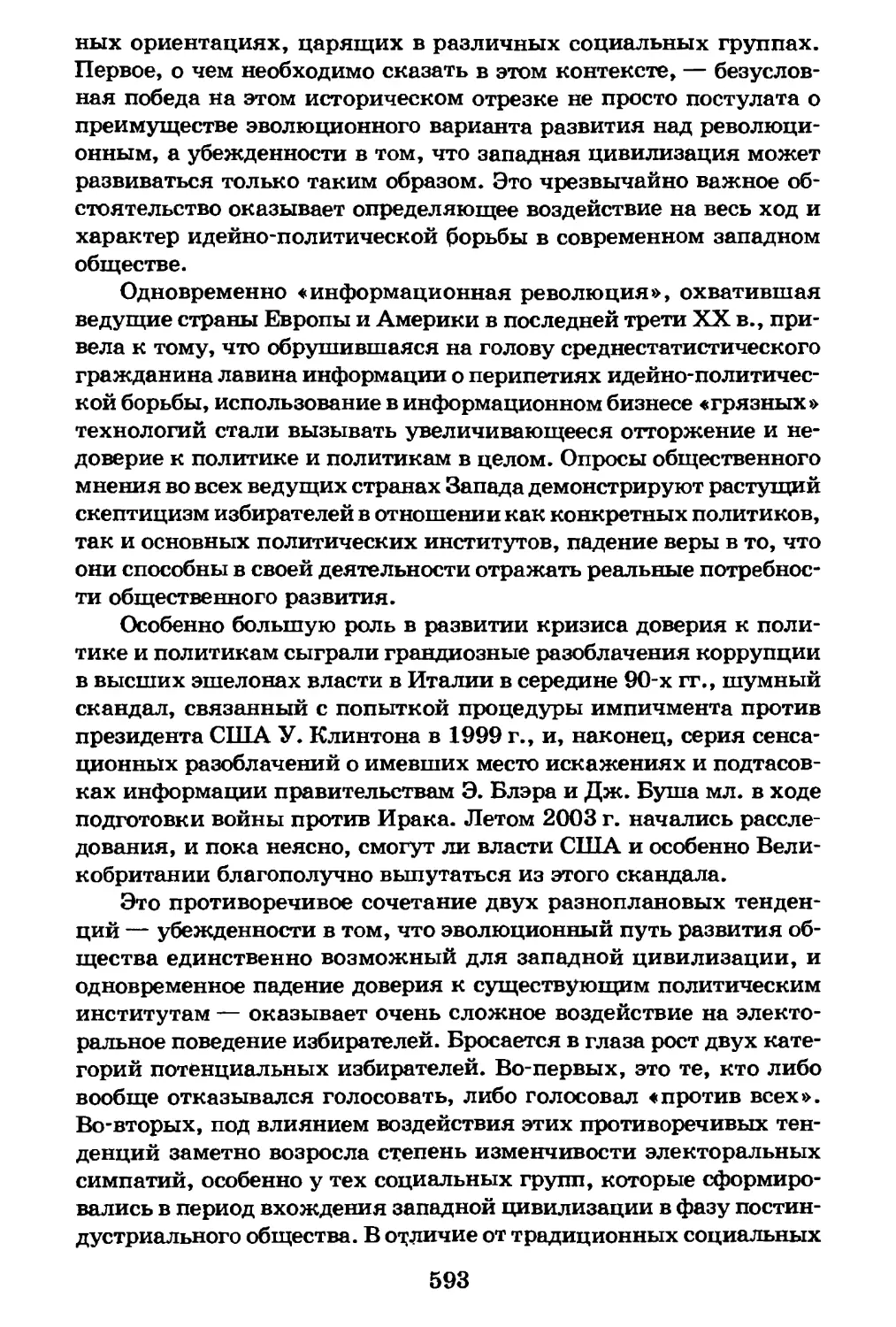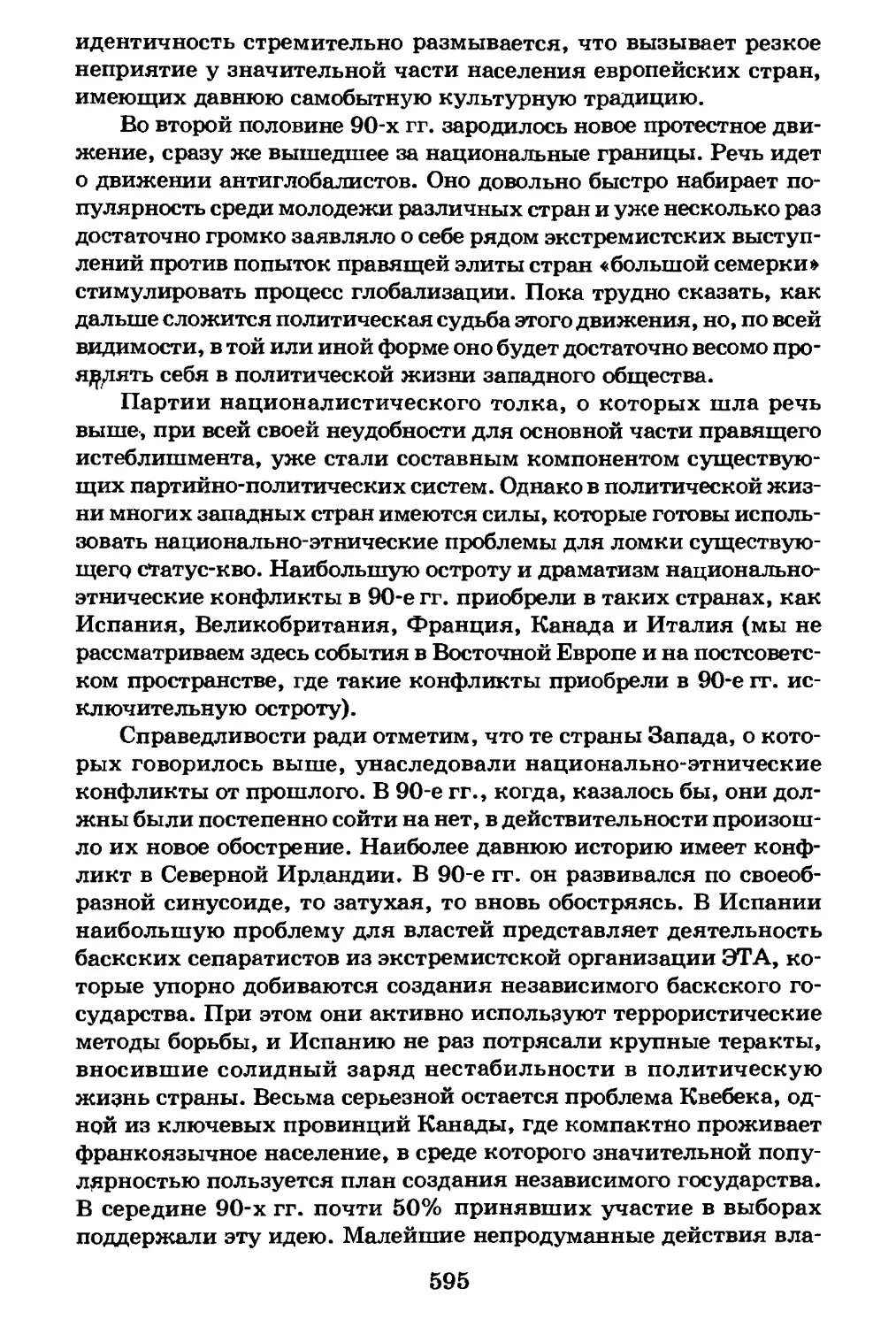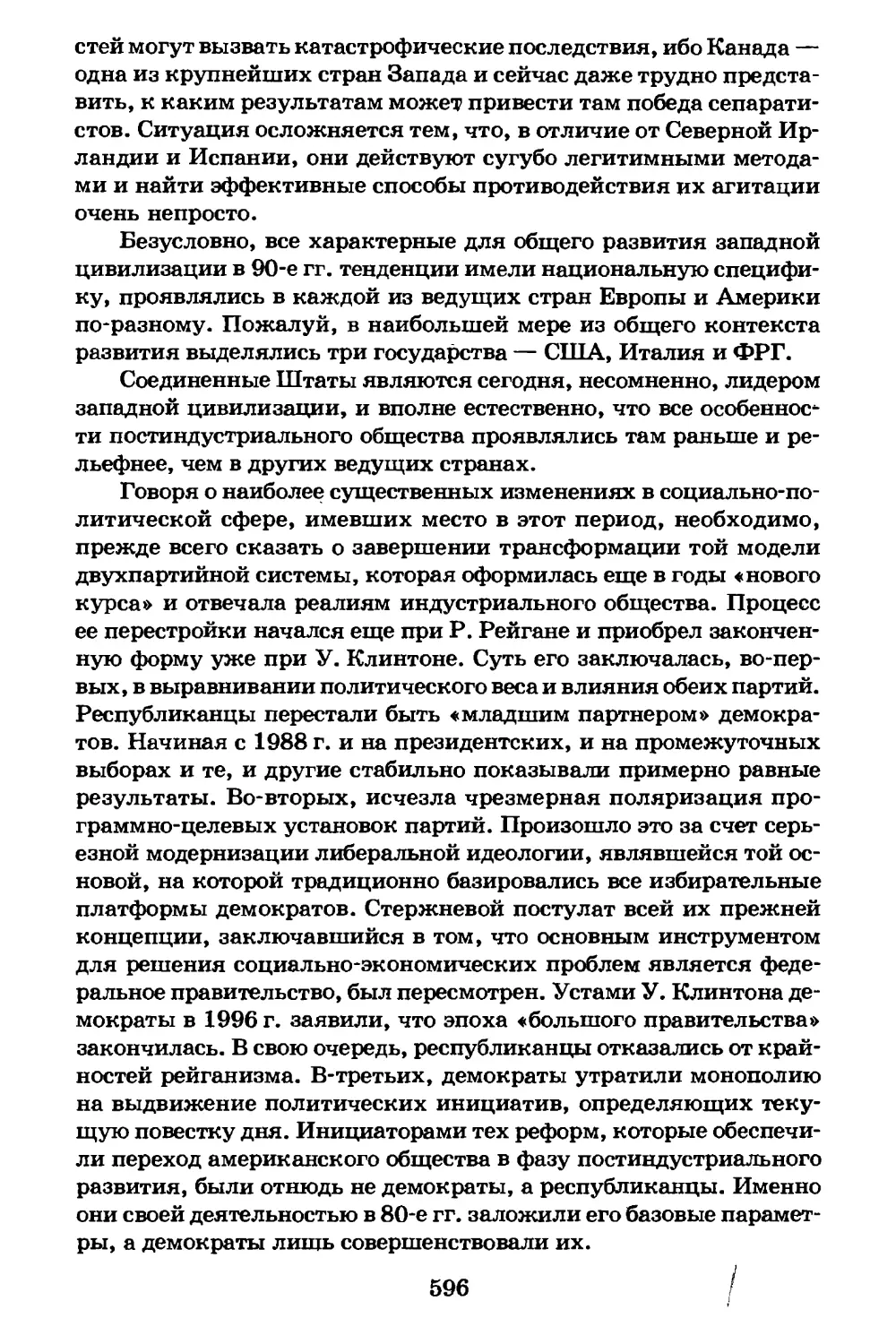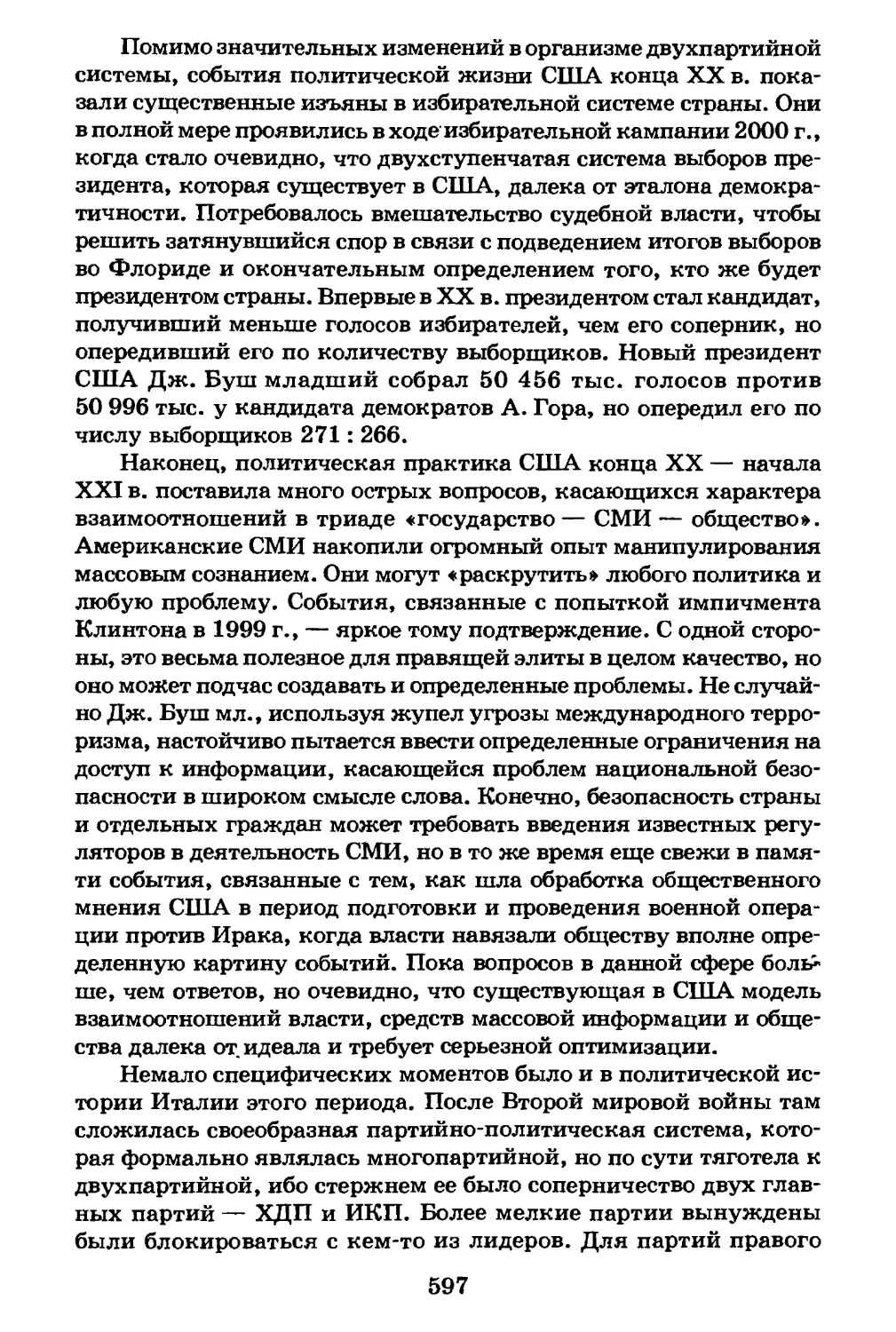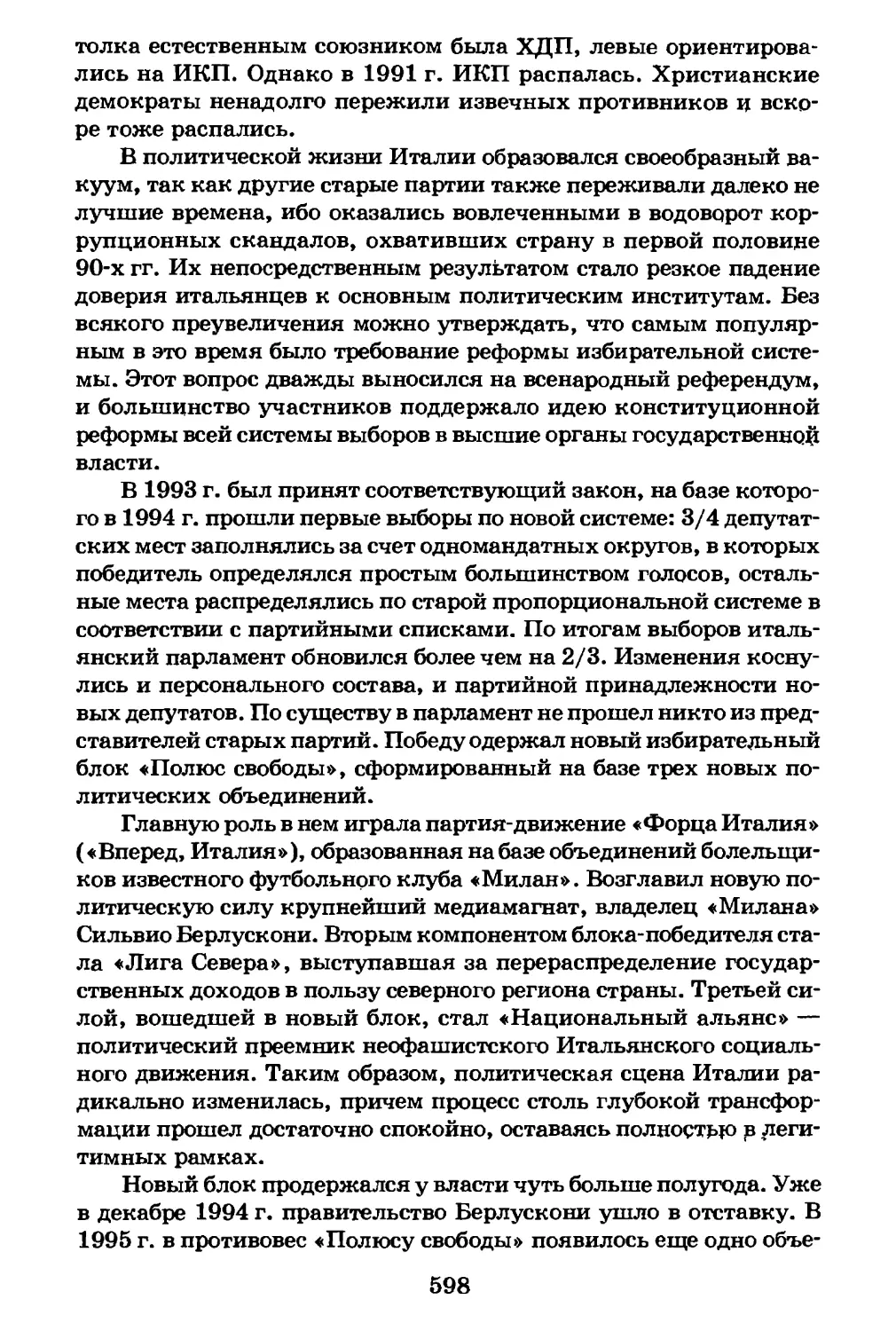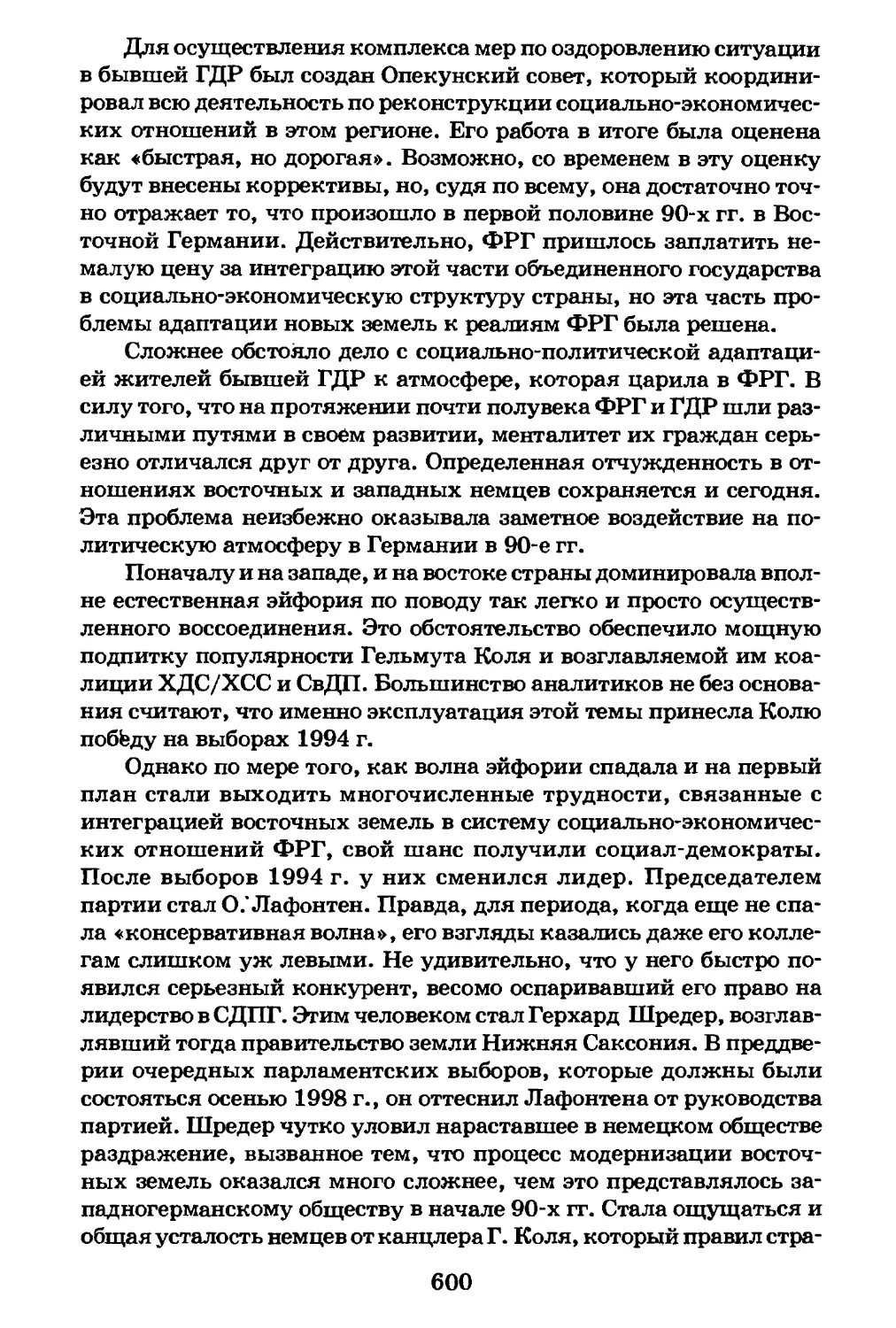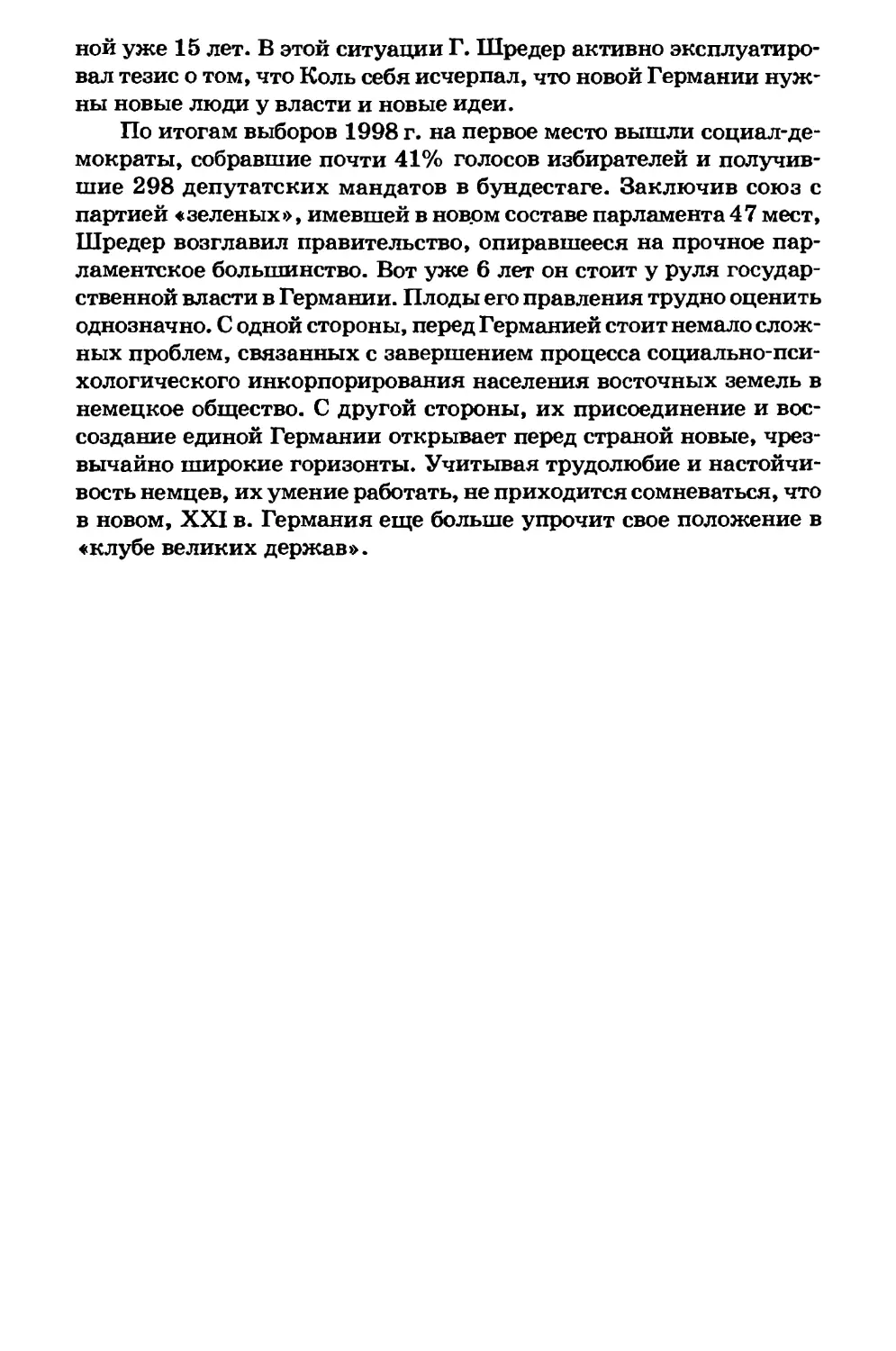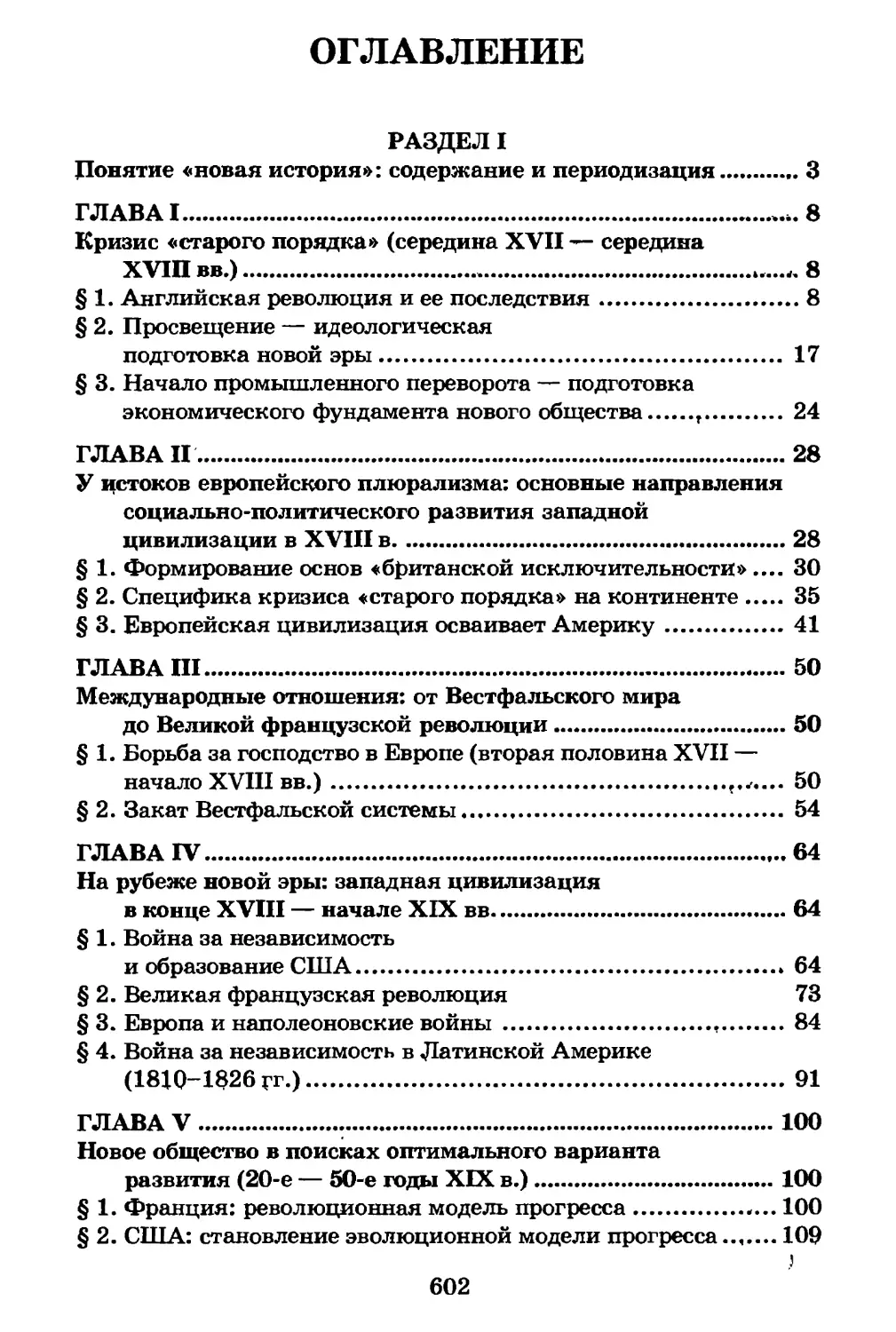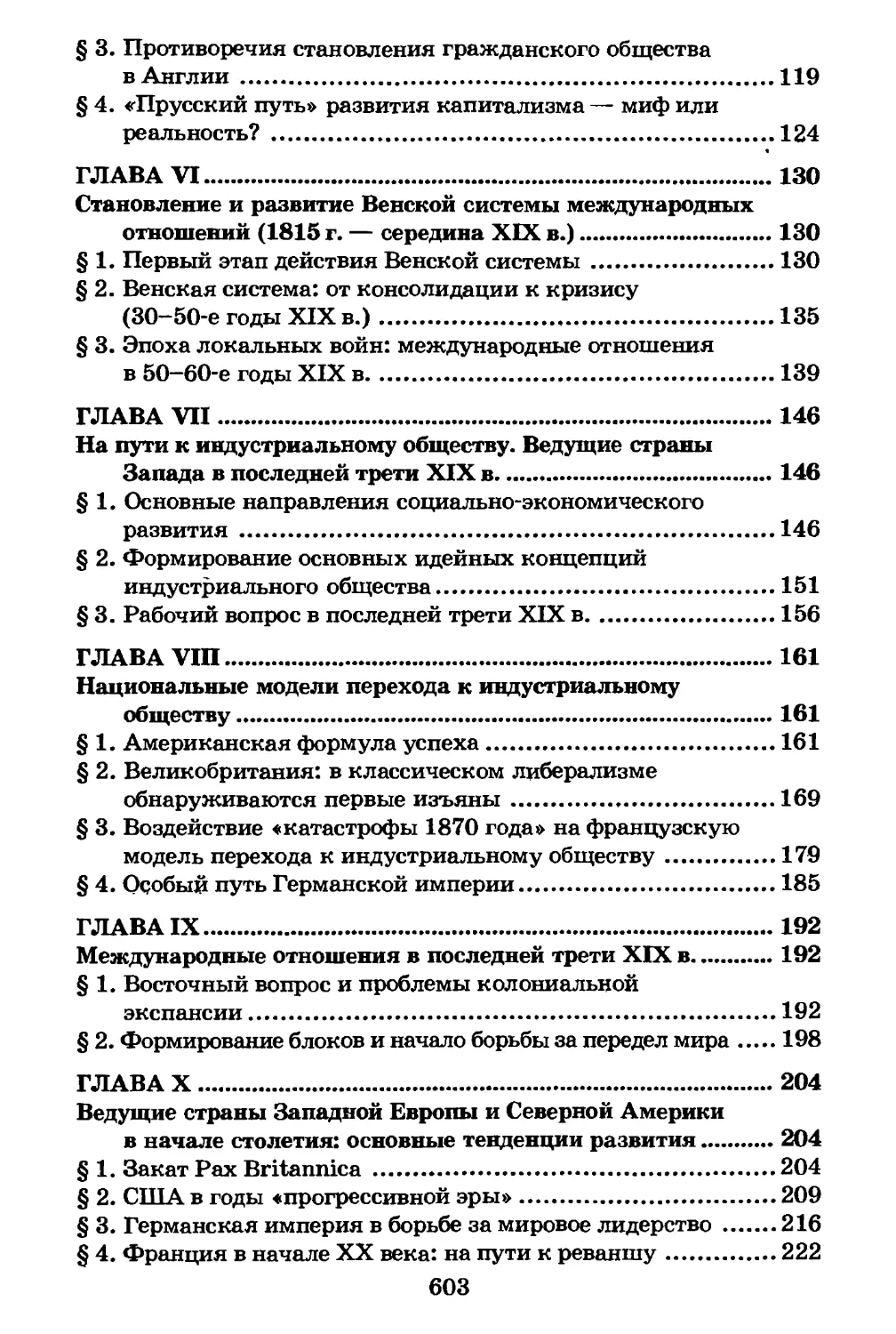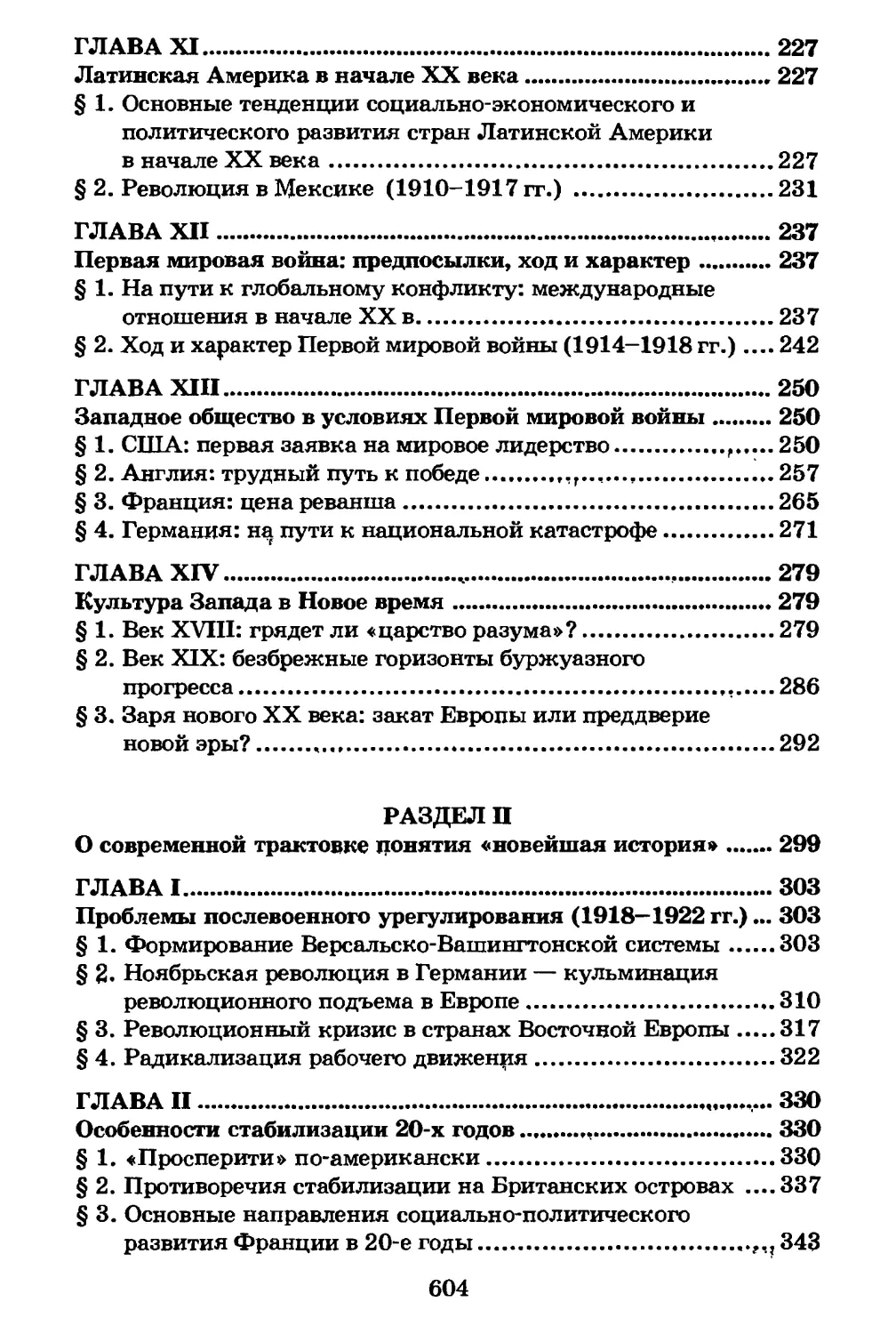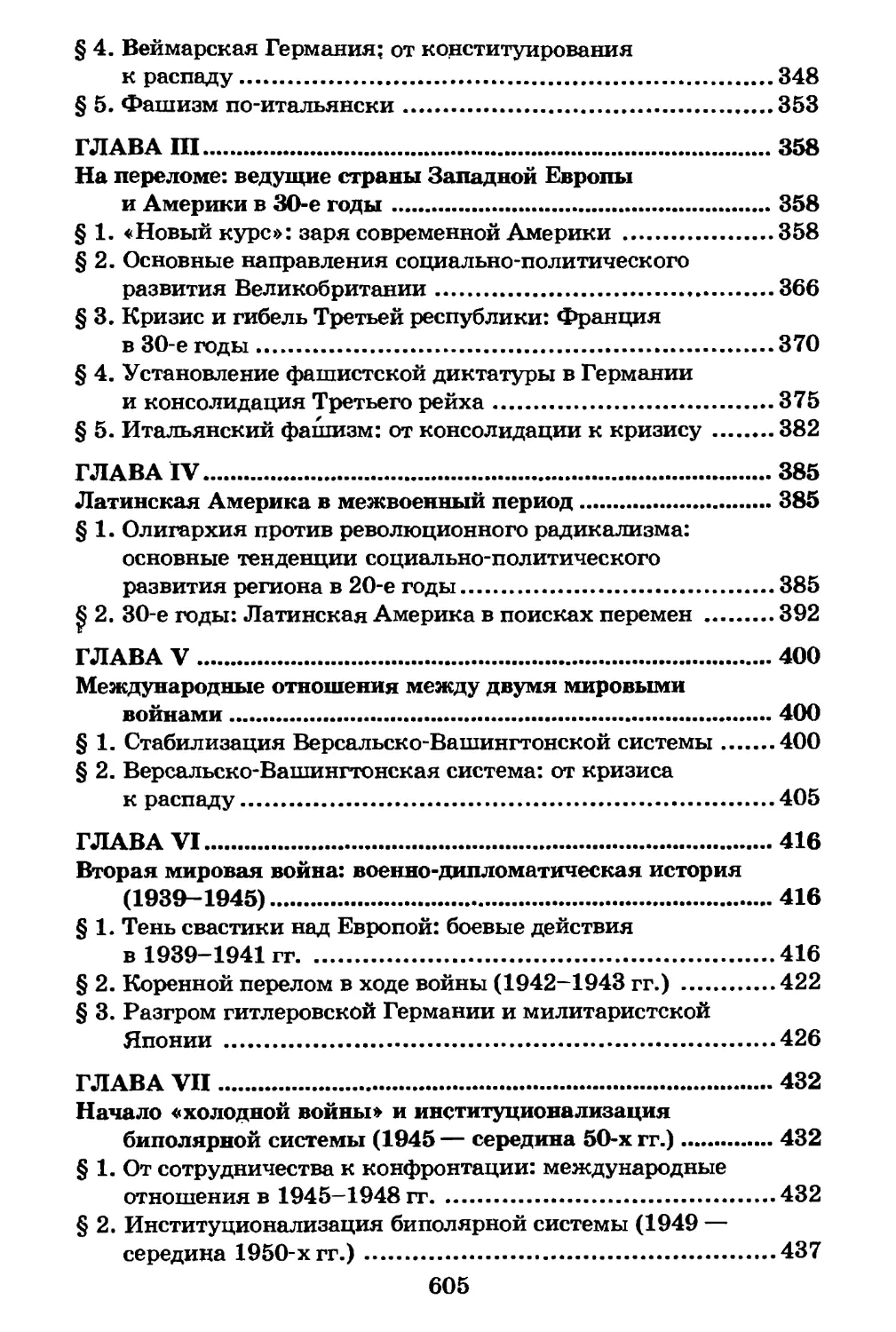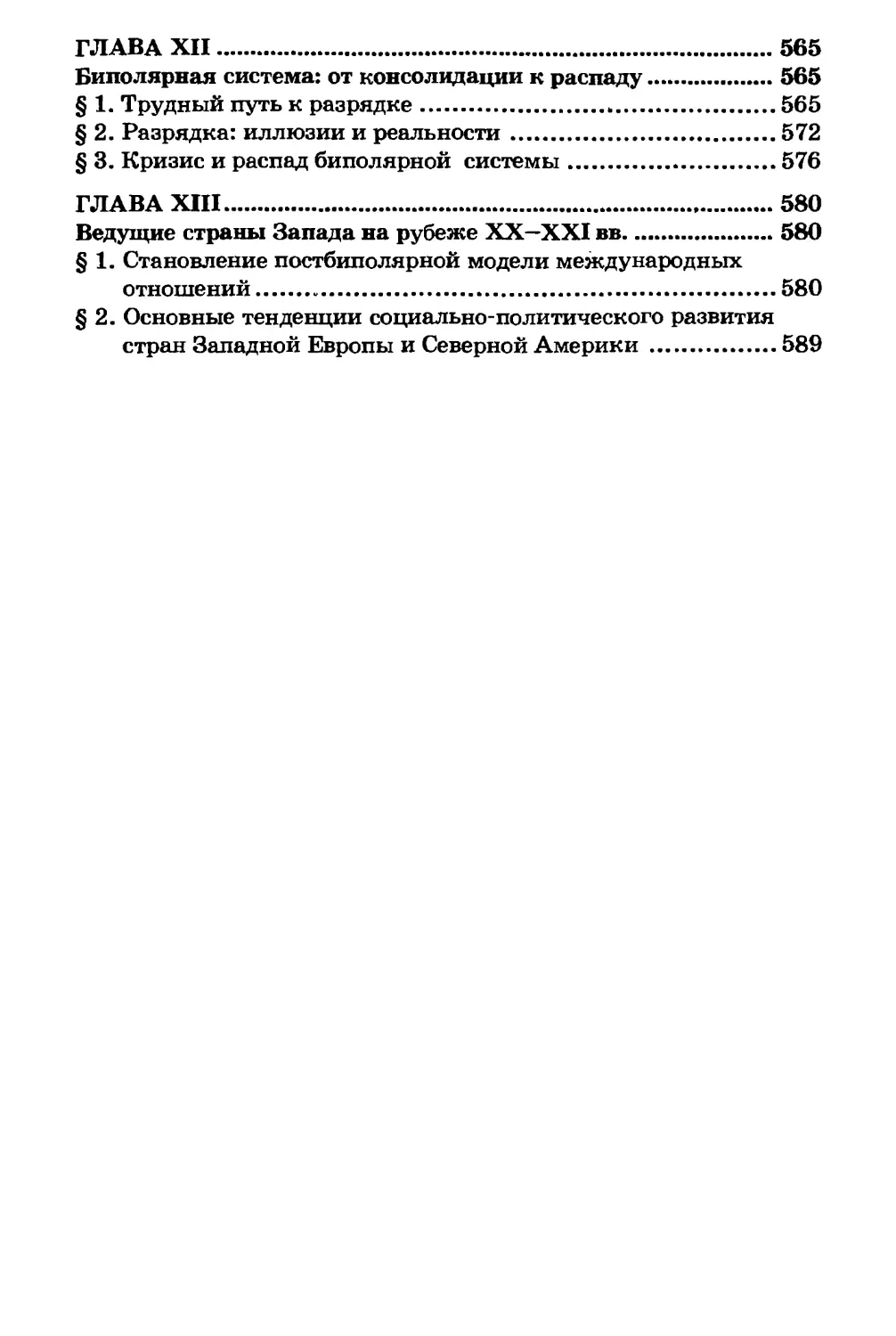Author: Маныкин А.С.
Tags: всеобщая история история история сша история америки западная европа новая и новейшая история
ISBN: 5-8123-0259-6
Year: 2004
Text
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ
СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ
ОЛОВО
Филологическое общество «СЛОВО»
Ш издательство
КСМО
Москва
2004
УДК 94(47)
ББК 63.3 (0)я73_
М2£
А. С. Маныкин
доктор исторических наук,
профессор кафедры Новой и Новейшей истории
исторического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова
Все права на данное издание принадлежат
Филологическому обществу «СЛОВО» и находятся
под охраной издательства. Ни одна часть данного издания,
включая название и художественное оформление, не может
перерабатываться, ксерокопироваться, репродуцироваться
или множиться каким-либо иным способом
Оформление художника М. Суворовой
М24 Маныкин А. С.
Новая и Новейшая история стран Западной Европы и Америки/
А. С. Маныкин. — М.: Филол. о во «СЛОВО»; Эксмо, 2004. — 607[1]с.
ISBN 5-8123-0259-6 (Филол. о-во «СЛОВО»)
ISBN 5-699-07320-5 (Изд-во Эксмо)
В издании прослеживается эволюция основных социально-
экономических и идейно-политических процессов, определивших
развитие западной цивилизации в середине XVII - начале XXI вв.
Особое внимание уделяется рассмотрению ключевых моментов в
истории ведущих стран Западной Европы и Америки. Анализируется
динамика процессов, определяющих характер международных
отношений этого периода.
Учебное пособие рассчитано на студентов высших учебных
заведений и всех тех, кто интересуется проблемами исторического
развития Запада в Новое и Новейшее время.
УДК 94(47)
ISBN 5-8123-0259-6 ББК 63.3 (0)я73
ISBN 5-699-07320-5
© Филологическое общество «СЛОВО», 2004
© Оформление. М. Суворова, 2004
РАЗДЕЛ I
Понятие «новая история»: содержание
и периодизация
Предлагаемое вниманию читателей издание рассчитано на сту¬
дентов неисторических факультетов тех высших учебных заведе¬
ний, где в последнее десятилетие начали читать лекционные кур¬
сы по всеобщей истории. ОнЪ призвано помочь студентам разоб¬
раться в сложном каскаде событий, которые составляют содержа¬
ние исторического развития западной цивилизации в Новое вре¬
мя. Мы постараемся познакомить читателя с определяющими тен¬
денциями этой важнейшей исторической эпохи, когда в ходе слож¬
нейших социально-политических коллизий постепенно формиро¬
вался современный облик одного из основных сегментов мирово¬
го сообщества — западной цивилизации. Подчеркиваем: в данном
издании речь идет только об истории ведущих стран Западной
Европы и Северной Америки, положение дел в которых как раз и
определяло как общую динамику, так и основной вектор ее разви¬
тия в Новое время.
Понятие «история цивилизации» сравнительно недавно вош¬
ло в отечественную историографию. Вплоть до рубежа 80-90 гг.
XX в. наши историки оперировали понятием «формация». Не уди¬
вительно, что по поводу трактовки термина «цивилизация», его
соотношения с понятием «формация» сейчас ведутся интенсивные
споры, которые пока далеки от завершения. До сих пор не выра¬
ботано общепринятое определение термина цивилизации. Бесспор¬
но, однако, что это более широкое, чем формация, понятие, вклю¬
чающее в себя такие сферы, как различные проявления духовной
культуры, общественное и бытовое сознание, ментальность, исто¬
рическая традиция и т.д.
В данном издании акцент сделан на проблемах внутренней
политики ведущих западных стран, социальных отношениях,
идеологии и международных отношениях. Дается также обзор
основных тенденций в социально-культурной сфере. Знакомство
с этими аспектами позволяет читателям составить достаточно це¬
лостное представление об основных вехах истории западной ци¬
вилизации в Новое время, понять ее особенности и причины высо¬
кой устойчивости и эффективности.
Термин «новая история» появился в общественно-политичес¬
кой мысли еще в эпоху Возрождения, когда, осмысливая пути раз¬
3
вития человеческой цивилизации, мыслители-гуманисты предло¬
жили трехчленное деление истории (древняя, средневековая и
новая). Это понятие прочно закрепилось в исторической науке,
хотя его содержание постоянно уточнялось и трансформировалось.
К настоящему моменту под новой историей понимают процесс ста¬
новления и утверждения буржуазных отношений в качестве ос¬
новы западной цивилизации.
Всякий процесс, разворачивающийся во времени, имеет свою
периодизацию, которая отражает изменения в сущностных харак¬
теристиках изучаемого явления. В нашем случае речь идет об эво¬
люции западной цивилизации на достаточно длительной стадии
перехода от «традиционного» к «индустриальному» обществу,
или, используя более привычную для отечественной исторической
науки терминологию, на стадии превращения буржуазных отно¬
шений в определяющий фактор общественного развития.
Историки различных школ существенно расходятся между
собой в интерпретации этого процесса, а отсюда и возникают ост¬
рые споры по поводу периодизации новой истории. Как правило,
в отечественной историографии ее начало связывают с английс¬
кой революцией, вспыхнувшей в середине XVII века и ставшей
ярким симптомом кризиса «старого порядка».
Справедливости ради отметим, что это далеко не единствен¬
ная и отнюдь не бесспорная веха, от которой начинается отсчет
событий в истории Нового времени. В качестве исходного рубежа
этой эпохи называют и события, связанные с Реформацией, охва¬
тившей Западную Европу в XVI веке, и даже открытие испанцами
в 1492 г. Нового Света и его начавшуюся колонизацию. Дискус¬
сия по вопросу о периодизации новой истории продолжается и се¬
годня. У сторонников каждой из этих трех действительно чрезвы¬
чайно значимых в истории точек отсчета безусловно есть свои ве¬
сомые аргументы. Но есть и уязвимые места. Не вдаваясь в дета¬
ли, постараемся коротко аргументировать ту позицию, которая
представлена в данной работе.
Мы решили остановиться на традиционной для нашей исто¬
риографии точке зрения в силу ряда причин. Во-первых, мы бе¬
рем революцию в Англии за исходную точку в истории Нового вре¬
мени не столько из-за самих этих событий, сколько из-за того, что
они стали начальной фазой более широкого и значимого процес¬
са — модернизации английского общества, создавшего почву для
промышленного переворота. Он начался именно в Англии отнюдь
не случайно. Успешная модернизация, частью которой и являет¬
ся революция середины XVII в., подготовила все условия для его
успешного старта. Именно этот процесс создал экономический
фундамент будущего индустриального общества. И то обстоите ль-
4
ство, что Англия раньше других вступила на этот путь, обеспечил
ей безусловное и длительное лидерство в мировых делах, продол¬
жившееся вплоть до начала XX в.
Во-вторых, открытие Нового Света и Реформация — действи¬
тельно крупные вехи в истории западной цивилизации, но они
начались и затронули прежде всего те страны, которые либо нахо¬
дились тогда на периферии западной цивилизации (немецкие зем¬
ли), либо уже подошли к пику своей мощи и, не сумев использо¬
вать благоприятную конъюнктуру для развития успеха, начали
быстро сдавать свои позиции (Испания). При всей важности и зна¬
чимости данных событий, страны, ставшие их эпицентрами, не
смогли оказать определяющего воздействия на общую эволюцию
западной цивилизации. Другое дело Англия. Революция, как мы
уже сказали, дала старт своеобразной цепной реакции (модерни¬
зации), благодаря которой Англия вышла на лидирующие пози¬
ции, превратилась в государство, долгое время задававшее общий
темп развития всей западной цивилизации. Она превратилась в
своего рода эталон, на который равнялись остальные.
Третье. Для того чтобы выстроить целостную, убедительную
картину истории Нового времени, основанную на существенно
иной трактовке его внешних рамок и внутренней анатомии, еще
предстоит проделать огромную исследовательскую работу. С дру¬
гой стороны, ни в коей мере не идеализируя советскую историог¬
рафию (многие изъяны ее очевидны), было бы глупо просто отма¬
хиваться от ее наследия. Представляется, что путь корректиров¬
ки (порой существенной) имеющей солидную базу традиционной
для нас концепции истории Нового времени более продуктивен,
чем очередное переписывание истории. Вот почему мы и решили,
что-начать рассмотрение новой истории целесообразно именно с
английской революции.
Еще сложнее обстоят дела с определением верхней границы
данного периода. В советской историографии безраздельно господ¬
ствовала точка зрения, согласно которой период новой истории
закончился в 1917 г., когда в России произошла социалистичес¬
кая революция, открывшая новую эру в развитии человечества.
При этом отечественные историки отталкивались от разработан¬
ной В. И. Лениным теории империализма. Он утверждал, что на
рубеже XIX-XX вв. буржуазное общество в своем развитии дос¬
тигло такого уровня, когда сложились все предпосылки для пере¬
хода к более совершенному и справедливому типу общества — со¬
циализму. Революция в России, по его мнению, как раз и откры¬
ла эту новую эпоху.
Надо сказать, что, разрабатывая свою теорию, В. И. Ленин
опирался на многие вполне реальные факты. Перед западной ци-
5
вития человеческой цивилизации, мыслители-гуманисты предло¬
жили трехчленное деление истории (древняя, средневековая и
новая). Это понятие прочно закрепилось в исторической науке,
хотя его содержание постоянно уточнялось и трансформировалось.
К настоящему моменту под новой историей понимают процесс ста¬
новления и утверждения буржуазных отношений в качестве ос¬
новы западной цивилизации.
Всякий процесс, разворачивающийся во времени, имеет свою
периодизацию, которая отражает изменения в сущностных харак¬
теристиках изучаемого явления. В нашем случае речь идет об эво¬
люции западной цивилизации на достаточно длительной стадии
перехода от «традиционного» к «индустриальному» обществу,
или, используя более привычную для отечественной исторической
науки терминологию, на стадии превращения буржуазных отно¬
шений в определяющий фактор общественного развития.
Историки различных школ существенно расходятся между
собой в интерпретации этого процесса, а отсюда и возникают ост¬
рые споры по поводу периодизации новой истории. Как правило,
в отечественной историографии ее начало связывают с английс¬
кой революцией, вспыхнувшей в середине XVII века и ставшей
ярким симптомом кризиса «старого порядка».
Справедливости ради отметим, что это далеко не единствен¬
ная и отнюдь не бесспорная веха, от которой начинается отсчет
событий в истории Нового времени. В качестве исходного рубежа
этой эпохи называют и события, связанные с Реформацией, охва¬
тившей Западную Европу в XVI веке, и даже открытие испанцами
в 1492 г. Нового Света и его начавшуюся колонизацию. Дискус¬
сия по вопросу о периодизации новой истории продолжается и се¬
годня. У сторонников каждой из этих трех действительно чрезвы¬
чайно значимых в истории точек отсчета безусловно есть свои ве¬
сомые аргументы. Но есть и уязвимые места. Не вдаваясь в дета¬
ли, постараемся коротко аргументировать ту позицию, которая
представлена в данной работе.
Мы решили остановиться на традиционной для нашей исто¬
риографии точке зрения в силу ряда причин. Во-первых, мы бе¬
рем революцию в Англии за исходную точку в истории Нового вре¬
мени не столько из-за самих этих событий, сколько из-за того, что
они стали начальной фазой более широкого и значимого процес¬
са — модернизации английского общества, создавшего почву для
промышленного переворота. Он начался именно в Англии отнюдь
не случайно. Успешная модернизация, частью которой и являет¬
ся революция середины XVII в., подготовила все условия для его
успешного старта. Именно этот процесс создал экономический
фундамент будущего индустриального общества. И то обстоятель¬
4
ство, что Англия раньше других вступила на этот путь, обеспечил
ей безусловное и длительное лидерство в мировых делах, продол¬
жившееся вплоть до начала XX в.
Во-вторых, открытие Нового Света и Реформация — действи¬
тельно крупные вехи в истории западной цивилизации, но они
начались и затронули прежде всего те страны, которые либо нахо¬
дились тогда на периферии западной цивилизации (немецкие зем¬
ли), либо уже подошли к пику своей мощи и, не сумев использо¬
вать благоприятную конъюнктуру для развития успеха, начали
быстро сдавать свои позиции (Испания). При всей важности и зна¬
чимости данных событий, страны, ставшие их эпицентрами, не
смогли оказать определяющего воздействия на общую эволюцию
западной цивилизации. Другое дело Англия. Революция, как мы
уже сказали, дала старт своеобразной цепной реакции (модерни¬
зации), благодаря которой Англия вышла на лидирующие пози¬
ции, превратилась в государство, долгое время задававшее общий
темп развития всей западной цивилизации. Она превратилась в
своего рода эталон, на который равнялись остальные.
Третье. Для того чтобы выстроить целостную, убедительную
картину истории Нового времени, основанную на существенно
иной трактовке его внешних рамок и внутренней анатомии, еще
предстоит проделать огромную исследовательскую работу. С дру¬
гой стороны, ни в коей мере не идеализируя советскую историог¬
рафию (многие изъяны ее очевидны), было бы глупо просто отма¬
хиваться от ее наследия. Представляется, что путь корректиров¬
ки (порой существенной) имеющей солидную базу традиционной
для нас концепции истории Нового времени более продуктивен,
чем очередное переписывание истории. Вот почему мы и решили,
что-начать рассмотрение новой истории целесообразно именно с
английской революции.
Еще сложнее обстоят дела с определением верхней границы
данного периода. В советской историографии безраздельно господ¬
ствовала точка зрения, согласно которой период новой истории
закончился в 1917 г., когда в России произошла социалистичес¬
кая революция, открывшая новую эру в развитии человечества.
При этом отечественные историки отталкивались от разработан¬
ной В. И. Лениным теории империализма. Он утверждал, что на
рубеже XIX-XX вв. буржуазное общество в своем развитии дос¬
тигло такого уровня, когда сложились все предпосылки для пере¬
хода к более совершенному и справедливому типу общества — со¬
циализму. Революция в России, по его мнению, как раз и откры¬
ла эту новую эпоху.
Надо сказать, что, разрабатывая свою теорию, В. И. Ленин
опирался на многие вполне реальные факты. Перед западной ци¬
5
вилизацией тогда действительно стояло немало сложных, труд¬
норазрешимых проблем, и ее дальнейшие перспективы были весь¬
ма туманны. Скорый «закат» западной (буржуазной) цивилиза¬
ции предсказывали в то время не только марксисты. Другое дело,
что реальная жизнь оказалась гораздо сложнее и многообразнее,
чем это представлялось в начале XX в. Появились новые факто¬
ры, которые никем не прогнозировались и которые оказали исклю¬
чительно серьезное воздействие на развитие западной цивилиза¬
ции. Выяснилось, что, с одной стороны, буржуазное общество от¬
нюдь не исчерпало резервов для дальнейшего прогресса, а с дру¬
гой — реализация на практике социалистической идеи оказалась
делом гораздо более сложным, чем это представлялось идеологам
данного течения.
Естественно, все это серьезно осложнило решение казавшего¬
ся совсем недавно предельно ясным вопроса о датировке верхней
границы новой истории. На наш взгляд, рассмотрение сюжетов,
связанных с новой историей, следует завершать Первой мировой
войной (1914-1918). Судя по всему, именно в это время западная
цивилизация вплотную подошла к очередной исторической раз¬
вилке: ей предстояло либо найти пути для постепенной адаптации
к многочисленным и весьма глубоким изменениям, начавшимся
в ее организме в процессе перехода в фазу «индустриального» об¬
щества, либо резко сменить общий вектор своего развития и пе¬
рейти в принципиально новое качественное состояние.
Сегодня весьма популярна (надо сказать, не без основания)
точка зрения, согласно которой следует завершать рассмотрение
новой истории на рубеже XIX-XX веков: ведь именно в это время
в основном завершилось вступление ведущих западных стран в
фазу «индустриального» общества. Вполне возможно, что уже в
скором времени эта позиция станет общепринятой. Однако пока
все-таки остается ряд вопросов, без ответа на которые вряд ли це¬
лесообразно менять традиционные верхние рамки новой истории.
Во-первых, хотя процесс адаптации буржуазного социума к
реалиям «индустриального» общества начался на рубеже веков,
вплоть до Первой мировой войны было еще далеко не ясно, на¬
сколько новые рецепты, новые подходы к решению важнейших
социально-экономических проблем жизнеспособны, насколько
органично они усвоены политической элитой Запада. Ясно, что в
полной мере их ценность и эффективность были осознаны лишь
после того, как в России в 1917 г. произошла социалистическая
революция, а на западные страны в 1929 г. обрушился самый мощ¬
ный в истории экономический кризис. Так или иначе, но спешить
с пересмотром верхней грани периода новой истории пока вряд ли
целесообразно. Та судьбоносная развилка, о которой мы говори¬
6
ли, четко обозначилась лишь к концу Первой мировой войны, опыт
и итоги которой сыграли огромную роль в дальнейших судьбах
западного общества.
Во-вторых, на рубеже XIX-XX вв. сложилось в полном смыс¬
ле слова единое мировое хозяйство, а система международных от¬
ношений стала действительно глобальной. Однако процессы, про¬
текавшие в этих важнейших комплексах, составлявших внешнюю
среду обитания западной цивилизации, получили логическое за¬
вершение опять-таки лишь в ходе Первой мировой войны, став¬
шей своеобразным переходным этапом от одной модели системы
международных отношений к другой. Изменив верхнюю планку
новой истории, мы искусственно разрываем историческое время в
важнейшей сфере, касающейся международных аспектов суще¬
ствования западной цивилизации.
Наконец, опуская грань новой истории к рубежу XIX-XX вв.,
мы во многом теряем возможность дать адекватное объяснение тем
глубочайшим социальным потрясениям, эпицентром которых ста¬
ла Россия, но которые в полной мере затронули и многие запад¬
ные страны и оказали серьезное воздействие на исторические судь¬
бы западной цивилизации. Ясно, что они, с одной стороны, прямо
и непосредственно связаны с Первой мировой войной, а с другой —
с тем, что ведущие страны мира явно запоздали с адаптацией к
новым реалиям. И это еще одна причина для того, чтобы вклю¬
чить предвоенные и военные годы в хронологические рамки ново¬
го времени. Ниже мы попытаемся показать узловые моменты эво¬
люции западной цивилизации с того момента, когда она вступила
на путь буржуазного прогресса, и вплоть до того, когда достигла
той исторической развилки, о которой говорилось выше.
ГЛАВАI
Кризис «старого порядка»
(середина XVII — середина XVIII вв.)
§ 1. Английская революция
и ее последствия
В исторической литературе XVII век часто называют «веком
кризиса», подразумевая под этим неуклонно нараставшее всесто¬
роннее разложение феодализма. Процесс этот имел несколько со¬
ставляющих. Но даже в той обширной цепи социально-политичес¬
ких потрясений, которыми была так богата та эпоха, события в
Англии занимают особое место.
Что из себя представляла Англия и почему именно в ней про¬
изошли события общеевропейского масштаба, во многом опреде¬
лившие всю дальнейшую динамику развития Старого Света? К
началу XVII в. Англия, как минимум по двум чрезвычайно важ¬
ным параметрам, отличалась от континентальной Европы. Во-пер¬
вых, она стала эпицентром противоборства различных религиоз¬
ных конфессий, причем государство оказалось вовлеченным в эту
борьбу самым активным образом. Во-вторых, этому и без того эмо¬
циональному конфликту дополнительную) остроту придавало то
обстоятельство, что в Англии уже достаточно отчетливо проявля¬
лась жесткая конкуренция двух социально-экономических укла¬
дов. Ясно, что подобная ситуация заметно увеличивала конфлик¬
тный потенциал английского общества.
Чисто внешне наиболее рельефно просматривалось противо¬
стояние на религиозной почве. Собственно, иного в то историчес¬
кое время и быть не могло, ибо люди по-прежнему черпали все ар¬
гументы для обоснования своих действий в церковных догматах.
Светская идеология еще только вызревала в недрах традиционно¬
го религиозного менталитета, и требовались очень серьезные со¬
8
циальные потрясения, чтобы ее зародыш смог сбросить с себя все
ограничители прошлого.
Важно другое: уже тогда ту часть общества, которую сегодня
назвали бы интеллектуальной элитой, перестала устраивать базо¬
вая установка религиозного мировоззрения — принятие мира та¬
ким, каков он есть. В Англии появились люди, которых не удов¬
летворял существовавший порядок вещей. Они стали стремиться
к переустройству общества, к его усовершенствованию. Вся духов¬
ная жизнь английского общества первой трети XVII в. подтверж¬
дает этот тезис. За яростными спорами о трактовке тех или иных
церковных догматов все отчетливее просматривалась иная, новая
и гораздо более значимая для будущего линия конфликта. По сути,
речь шла о том, как должны строиться взаимоотношения между
обществом и властью.
Англия в то время была абсолютной монархией. Во главе ее с
1625 г. стоял представитель династии Стюартов Карл I. Его дес¬
потичное правление, действия, идущие вразрез с реальными го¬
сударственными интересами, вызывали растущее недовольство в
различных слоях общества, прежде всего среди нового дворянства
(джентри), торговой буржуазии, владельцев мануфактур. Их не
устраивало многое. У наиболее активной и динамичной социаль¬
ной силы английского общества того времени — джентри — серь¬
езное недовольство вызывала аграрная политика короля, нацелен¬
ная на консервацию феодальных отношений в аграрном секторе.
Они стремились к тому, чтобы земля превратилась в обычный то¬
вар, с которым можно было бы свободно осуществлять любые ры¬
ночные операции. А старинное феодальное право этому препят¬
ствовало.
Владельцам мануфактур, число которых быстро росло, прети¬
ло то, что королевская власть, слепо приверженная старым поряд¬
кам, всячески пыталась реанимировать цеховую систему, превра¬
тившуюся в серьезный тормоз для развития рыночных отноше¬
ний. Резкое неприятие со стороны большей части торговой бур¬
жуазии, быстро увеличивавшей свой вес, вызывала поддержка
короной монопольных торговых компаний, самой одиозной из
которых была основанная в 1600 г. Ост-Индская компания. Сосре¬
доточив в своих руках огромные по тем временам средства, она
контролировала важнейшие торгово-финансовые потоки, сводя на
нет само понятие конкуренции, без которой немыслимо развитие
буржуазных отношений.
Практически всех англичан-собственников не устраивала фи¬
нансовая политика королевской власти, постоянно возраставшее
налоговое бремя. Раздражение вызывало и то, как тратились эти
средства. По большей части они шли не на обслуживание реаль¬
9
ных государственных интересов страны, а на покрытие огромных
расходов двора. Надо отметить, что и сам стиль поведения при¬
дворных, царившие при дворе нравы далеко не соответствовали
той системе морально-нравственных ценностей, которую пропа¬
гандировали религиозные реформаторы. Еще большее отчужде¬
ние королевского двора от английского общества вызывала вне¬
шняя политика, которую пытался проводить Карл I. Речь идет о
его желании добиться сближения со злейшим врагом Англии —
католической Испанией. Производной от этого курса стала линия
на усиление преследования оппонентов официальной англиканс¬
кой церкви. Центром недовольства стала палата общин английс¬
кого парламента, а идеологической основой протеста — пурита-
низм, английская разновидность протестантизма.
и 1628 г. парламентпрёдставил сиои претензии королю в «Пе-
тиции о праве», в которой отстаивались традиционные права и
свободы англичан, все больше узурпируемые королевской влас¬
тью. Монарх, не терпевший критики в свой адрес, под давлением
обстоятельств (ему нужны были дополнительные финансовые
средства) сначала подписал этот документ, но вскоре круто изме¬
нил свою политику: в 1629 г. парламент был распущен, и вплоть
до 1640 г. Карл I правил единолично.
Однако «твердая власть» не принесла стране успокоения. Бо¬
лее того, волюнтаристские действия королевского окружения,
игнорировавшего настроения, царившие в обществе, вели лишь к
росту протестного потенциала. Широкий резонанс вызвала попыт¬
ка власти возродить в 1635 г. взимание так называемого «кора¬
бельного налога». По официальной версии, его брали для борьбы с
пиратством, от которого ранее действительно серьезно страдали
жители прибрежных графств. Но поскольку о пиратах в этих мес¬
тах уже давно никто ничего не слыхал, то было ясно, что королю
просто нужны дополнительные средства для покрытия непомер¬
ных расходов двора.
Некто Дж. Гемпден отказался платить этот налог и потребовал
судебного разбирательства относительно самой правомочности его
введения. Гемпден проиграл суд, но вызов, который; он публично
бросил королевской власти, оказал заметное воздействие на состо¬
яние умов в стране. Пример его стал заразительным. Если в 1636 г.
казна недополучила лишь 3,5% ожидаемых платежей, то в 1638 г.
эта цифра достигла уже 61 %. Не способствовало успокоению обще¬
ства и развязывание преследований религиозных диссидентов. В
1637 г. публичному наказанию был подвергнут молодой Дж. Лиль-
берн, который с этого момента быстро выдвигается на роль одного
из ведущих идеологов пуританизма. Массовые гонения на пуритан
вызывали быстрый рост их эмиграции из Англии.
10
И все-таки вплоть до конца 30-х годов XVII в. нарастание про¬
теста происходило медленно и носило тягучий характер. Но вот в
1637 г. в Шотландии, объединенной с Англией личной унией,
вспыхнуло очередное восстание. Поводом послужила бездумная
попытка королевской власти насильственно насадить там англи¬
канскую церковь. Восставшие вторглись в северные графства Ан¬
глии. Война, как известно, требует средств, а финансы Англии
находились не в лучшем состоянии. Поэтому 13 апреля 1640 г.
король был вынужден созвать парламент, предложив ему вотиро¬
вать дополнительные средства на ведение войны с непокорными
шотландцами. Диалога с парламентом, однако, не получилось, и
через три недели он был распущен, войдя в историю под названи¬
ем «Короткого парламента».
Война шла крайне неудачно для королевских войск, и стано¬
вилось очевидным, что без созыва нового парламента двору не уда¬
стся выбраться из военно-политического кризиса. Положение ста¬
новилось безвыходным, и 3 ноября 1640 г. открылось заседание
нового парламента, на этот 'раз-в Долгого», ибо ои сразу объявил
себя постоянно действующим (он действительно просуществовал
до 1653 г.). Созыв «Долгого парламента» принято считать нача¬
лом революции, поскольку депутаты с самого открытия прояви¬
ли явное неповиновение власти и не скрывали, что будут добивать¬
ся ограничения произвола двора.
Эти события раскололи страну на два противоборствующих
лагеря: роялистов и сторонников парламента. Поначалу лидеры
парламента (Пим, Гемпден и др.) рассчитывали добиться своих
целей мирным путем. Они учреждали постоянные комитеты и вре¬
менные комиссии, которые постепенно брали в свои руки финан¬
совые и административные дела. Были ликвидированы наиболее
одиозные органы абсолютистской власти — Звездная палата и
Высокая комиссия. К суду были привлечены фавориты короля —
граф Страффорд, архиепископ У. Лод и некоторые другие. Люби¬
мец короля Страффорд был казнен, что свидетельствовало о серь¬
езном влиянии парламента.
Поначалу парламент был един: его сплачивало стремление
ограничить произвол королевской власти. Но уже весной 1641 г.
в нем наметились разногласия, которые проявились при обсужде¬
нии программного документа — «Великой ремонстрации». Состо-
. явший из 204 статей, он содержал подробный перечень злоупот-
реблений Карла I и выдвигал требование правления короны совме¬
стно и в согласии с парламентом. Иными словами, речь шла о за¬
мене абсолютизма на конституционную монархию. Вокруг этого
документа разгорелись жаркие споры. В итоге он был принят в
ноябре 1641 г. большинством всего в 11 голосов.
11
До предела возмущенный подобной «неслыханной наглостью»
парламента, Карл I решил силовым путем подавить разгоревший¬
ся конфликт. В январе 164Z г. онотправился на лояльный ему се¬
вер Англии, где собрал армию и в августе<1642 г. объявил войну
парламенту, уак вспыхнула гражданская война. ^
На первых порах'успех в ней сииу'АСТБОвал королю. Армии
парламента не хватало выучки, дисциплины, талантливых коман¬
диров. Так продолжалось до 1644 г., когда в ходе военных действий
наметился перелом. И связано это было с именем одной из наибо¬
лее ярких фигур в английской истории — Оливера Кромвеля. Этот
человек сыграл в английской истории столь значительную роль,
что представляется необходимым сказать о нем чуть подробнее.
О. Кромвель родился 25 апреля 1599 г. в небольшом провин¬
циальном городке Гентингдоне в дворянской семье среднего дос¬
татка. Женившись на дочери богатого лондонского торговца ме¬
хами, он вплоть до начала революции вел жизнь обычного сельс¬
кого сквайра. В1628 г. он был избран от своего округа членом пар¬
ламента, того самого, который принял «Петицию о праве». Пер¬
вая известная речь Кромвеля была посвящена защите принципов
пуританизма. Таким образом, уже тогда он четко определился со
своими идейными симпатиями. Правда, пребывание в парламен¬
те оказалось коротким: он был распущен, и Кромвель остался не у
дел. После смерти в 1636 г. родственника, оставившего ему наслед¬
ство, Кромвелю удалось успешно решить все свои финансовые
проблемы. Это позволило ему вновь уделять более пристальное
внимание общественной жизни, которая с каждым днем станови¬
лась все более напряженной.
В 1640 г. он опять избирается в парламент, и с этого момента
начинается его восхождение к власти. Настоящую известность и
славу ему принесла, однако, не парламентская деятельность, а
удачное реформирование парламентской армии. Именно он изме¬
нил принципы ее формирования: вместо наемных солдат стал при¬
нимать в армию простых людей —>в. ремесленников, спо¬
собных экипировать себя в качестве кавалериста и желающих сра¬
жаться за дело парламента. В июне 1644 г. в битве при Mapctom-
Муре его «железнобокие» нанесли роялистам крупное поражение.
Обладавший стальной волей, О. Кромвель добился в 1645 г. реор¬
ганизации всей 'парламентской армии по образцу своих частей.
Ключевые позиции заняли радикальные представители пури¬
тан — так называемые индепенденты. Главнокомандующим стал
Т. Ферфакс, а его заместителем — генерал-лейтенант кавалерии
Кромвель. Численность армии была доведена до 70 тыс. человек.
Исход гражданской войны определился в битве при Нейзби в
июне 1645 г. Мощь армии роялистов была подорвана. Король вы¬
12
нужден был бежать к шотландцам, но те за денежный выкуп вы¬
дали его в 1646 г. парламенту.
Судьба Англии решалась не только на полях сражений, но и в
парламентских баталиях. Пока шла гражданская война, парла¬
мент в принудительном порядке ввел в Англии пресвитерианское
вероисповедание, конфисковал земли короля, роялистов и англий¬
ского духовенства, которые затем были пущены в свободную про¬
дажу. 24 февраля 1646 г. был принят закон об отмене «рыцарско¬
го держания», согласно которому крупные землевладельцы осво¬
бождались от платежей в пользу короны. Таким образом, произош¬
ло пусть одностороннее, но все же уничтожение феодальной струк¬
туры землевладения. В пользу крупных собственников была и
финансовая политика парламента.
В итоге к 1647 г. господствовавшая в парламенте умеренная
группировка пресвитериан посчитала, что те задачи, которые она
ставила перед собой, начиная борьбу с королевской властью, вы¬
полнены и пора искать пути соглашения с побежденной стороной.
Продолжения, а тем более углубления преобразований эти круги
не хотели. Гражданская война, сломавшая многие прежние сте¬
реотипы поведения, подогревшая радикальные настроения, гро¬
зила благополучию зажиточных слоев, поддерживавших пресви¬
териан. Не удивительно, что их лидеры стремились к достижению
политической стабильности и закреплению в правовых нормах
сложившегося статус-кво.
По-иному оценивали обстановку индепенденты, опорой кото¬
рых была революционная армия. В наиболее концентрированном
виде их программа была сформулирована сподвижником Кромве¬
ля Генри Айртоном. В его «Главах предложений» ключевым мо¬
ментом были требования, связанные со значительным расшире¬
нием власти парламента: в его компетенцию включалась высшая
судебная власть и контроль над армией. Предполагалось осуще¬
ствить реформу избирательной системы, с тем чтобы увеличить
представительство городов, а следовательно, торгово-финансовых
слоев.
Сегодня, в век атеизма и бутафорной религиозности, трудно
представить, сколь большое значение имели религиозные вопро¬
сы в жизни людей XVII века. Сплошь и рядом они были для них
важнее меркантильных экономических и политических проблем.
Не случайно английская революция, социальная по своему содер¬
жанию, по 'форме* во многом носила религиозную оболочку. Ка¬
кой должна быть правильная религия, какую роль и место она
должна занимать в жизни людей и общества в целом, имело для
англичан того времени первостепенное значение. Ясно, что Г. Ай¬
ртон, претендовавший на выражение программно-целевых уста¬
13
новок индепендентов, не мог обойти эти вопросы. Он резко высту¬
пал против «насильственного принуждения кого-либо к принятию
ковенанта» (пресвитерианства) и добивался предоставления неза¬
висимости каждой религиозной общине.
Рядовые англичане, вступившие в армию парламента, вери¬
ли, что борются за более счастливую жизнь, за обновленную Анг¬
лию, где люди будут равны не только перед Богом, но и в повсед¬
невной жизни. Однако король был разбит, а светлое будущее явно
не проглядывалось. «Главы предложений» отражали интересы
прежде всего верхушки армии, но по сути дела ничего не давали
рядовым солдатам. В их среде зрело убеждение, что необходимо
углублять преобразования.
На этой основе еще в середине 40-х годов возникло движение
левеллеров (уравнителей), признанным вождем которых стал
Дж. Лильберн. В основе его мировоззрения лежала идея равенства.
Он полагал, что верховная власть принадлежит народу и исходит
от него. Отсюда идея республики, власть в которой должна нахо¬
диться в руках однопалатного парламента, избираемого каждые
два года всеми мужчинами (кроме слуг), достигшими 21 года.
Лильберн выдвигал также ряд прогрессивных социально-эконо¬
мических требований: реформу налогообложения, ликвидацию
всех монополий, уничтожение десятины, запрет огораживания.
Программа левеллеров получила законченное выражение в доку¬
менте под названием «Народное соглашение».
Серьезные расхождения внутри революционного лагеря пред¬
вещали резкое обострение политической борьбы, ставкой в кото¬
рой была судьба Англии. Все участники конфликта готовились к
решающему столкновению. Многое в этой ситуации зависело от
позиции армии. Стремясь усилить свое положение в вооруженных
силах, Кромвель и его единомышленники добились создания Со¬
вета армии, который держал войска в постоянной готовности. Пре¬
свитериане же стремились к скорейшему роспуску армии, утвер¬
ждая, что, поскольку война завершилась, содержать столь огром¬
ный военный контингент совершенно ни к чему. Конфликт меж¬
ду армией и парламентом нарастал.
6 августа 1647 г. армия вступила в Лондон. По инициативе
Кромвеля была осуществлена чистка парламента, откуда были
изгнаны лидеры пресвитериан. Большинство в этом органе пере¬
шло к индепендентам. Однако конфликт этим не был исчерпан.
На заседании Совета армии в предместье Лондона Пэтни осенью
1647 г. произошло столкновение сторонников Кромвеля с предста¬
вителями левеллеров. И те, и другие пытались навязать свою плат¬
форму всей армии, чтобы использовать ее как таран в политичес¬
кой борьбе.
14
Споры между индепендентами и левеллерами затягивались,
чем воспользовался Карл I, бежавший из плена. В феврале 1648 г.
в стране вновь вспыхнула гражданская война. Однако уже в авгу¬
сте в битве у ПренстрнА р^^^ттт бт тYTTfL-pn?6"ntH, а король опять
пленен. Победоносная парламентская армия в декабре 1648 г. вер¬
нулась в Лондон. Опираясь на ее мощь и авторитет, лидеры инде-
пендентов провели новую чистку парламента. Новый, «очищен¬
ный» его состав принял решение о суде над королем. Короткое су¬
дебное разбирательство завершилось вынесением Карлу I смерт¬
ного приговора, и 30 января 1649 г. король был казнен, а в мае
1649 г. Англия стала республикой.
Провозглашение республики отнюдь не означало стабилиза¬
ций ситуации. Стране сразу же пришлось столкнуться с рядом
сложных внешне- и внутриполитических проблем. Стремление
оградить английскую торговлю от иностранной конкуренции пре¬
допределило военное столкновение с Голландией (1649-1652).
Почти четыре года продолжалась война с Португалией (1650-
1654). В итоге все эти события завершились благоприятно для рес¬
публики и принесли ей солидные политические и материальные
дивиденды.
Несколько лет продолжалась борьба с восставшими еще в
1641 г. ирландцами. Пока в Англии шла гражданская война, пар¬
ламенту было не до них. Но после казни короля сам Кромвель ре¬
шил заняться усмирением мятежного острова и в августе 1649 г.
со своими войсками высадился в Дублине. К этому шагу его побу¬
дили несколько причин. Во-первых, ирландцы были католиками
и поэтому рассматривались в Лондоне как потенциальные сторон¬
ники не до конца сломленных роялистов, как их возможный ре¬
зерв. Очевидно, что, с точки зрения Кромвеля, такую перспекти¬
ву следовало пресечь в корне. Во-вторых, ирландские земли, кон¬
фискованные у мятежников, должны были стать важным источ¬
ником пополнения доходов английской казны. И, наконец, пос¬
леднее. Кромвель не мог не понимать, что в его главной опоре —
армии — рядовые солдаты после бурных дискуссий 1647-48 гг.
отнюдь не успокоились. Симпатии к идеям левеллеров в их среде
не исчезли. Необходимо было занять их конкретным делом, от¬
влечь от «опасных» идей и предложить оптимистическую перс¬
пективу решения их жизненных проблем.
К 1652 г. основные силы восставших были разбиты, и это по¬
зволило принять «Акт об устроении Ирландии». Он предусматри¬
вал конфискацию огромных земельных массивов, которые были
переданы кредиторам парламента, армейской верхушке и отчас¬
ти рядовым солдатам, участвовавшим в подавлении мятежа. За
счет подобного решения ирландского вопроса Кромвелю и его ок¬
15
ружению удалось заметно сбить волну радикальных настроений в
армии, что, однако, не означало разрешения всех внутренних кон¬
фликтов.
Процесс их урегулирования шел тяжело. В стране разверну¬
лась так называемая «памфлетная война», в которой представи¬
тели разных идеологических течений пытались склонить обще¬
ственное мнение на свою сторону. К 1653 г. отношения между ин-
депендентами и левеллерами обострились до предела. Первые счи¬
тали, что основныезадачи, стоявшие перед революционным лаге¬
рем, успешно решены и теперь пришло время пожинать плоды
победы. Вторые полагали, что с провозглашением республики про¬
цесс подлинного переустройства Англии на началах равенства и
справедливости только начался. В их среде выделилась крайне
радикальная группировка «истинных левеллеров» во главе с Дже¬
рардом Уинстенли, которые замахивались на принципы неприкос¬
новенности частной собственности и требовали не только юриди¬
ческого, но и имущественного равенства.
В воздухе вновь запахло гражданской войной, на сей раз уже
между бывшими союзниками по революционному лагерю. Но до
этого дело не дошло. Верхушка армии, явно тяготившаяся этой не¬
стабильностью, пошла на государственный переворот и установле¬
ние в стране твердой власти. В апреле 1653 г. Кромвель разогнал
парламент и добился провозглашения себя лошюм-протектором (за¬
щитником) республики. По его инициативе был подготовлен доку¬
мент под названием «Орудие управления» — прообраз современной
Конституции, который, сохраняя республиканские учреждения, на
деле передавал все реальные рычаги государственной власти в руки
лорда-протектора, т.е. Кромвеля. По сути, он стал диктатором. Стра¬
та Была раздельна на 11 военных округов, во главе которых стояли
подотчетные только Кромвелю генералы.
До 1653 г. в Англии, уставшей от постоянных потрясений, было
немало сторонников «твердой руки», но когда установился режим
диктатуры, и в низах, и в верхах общества стало быстро нарастать
недовольство действиями Кромвеля. Лорд-протектор не мог не ви¬
деть этого и искал пути укрепления своих позиций. В 1657 г. был
подготовлен новый конституционный документ — «)1о^оршЛшаД
петиция и совет», объявлявший власть протектора наследственной.
Этим планам не суждено было сбыться, ибо в 1658 г. Кромвель умер,
а его сын явно не подходил на роль монарха.
В мае 1659 года в стране была вновь восстановлена республика,
но ее судьба находилась в руках армии. После смерти О. Кромвеля
среди генералитета на первые позиции выдвинулся Монк. Он не
поддержал планы установления в стране военной диктатуры, но,
полагая, что безвластие чревато социальным взрывом, усиленно
16
искал пути укрепления власти. В феврале 1660 г. армия Монка за¬
няла Лондон. Были организованы выборы в новый парламент, ко¬
торый начал работу в апреле. По согласованию с Монком первым
актом парламента стало приглашение сына казненного короля на
английский престол. В документе под названием «Бредская декла¬
рация» были оговорены принципы, на основе которых осуществ¬
лялась реставрация: амнистия всех участников революционных
сббмтий, религиозная терпимость, неприкосновенность земельных
владении; Приобретенных в годы революции, управление с «согла¬
сия и совместно» с парламентом. Подписав этот документ, сын каз¬
ненного короля под именем Карла II взошел на английский престол.
Англия вступила в период Реставрации. Однако возвращение
Стюартов не означало восстановления дореволюционного статус-
кво. За 20 лет, прошедших с начала революции, английское обще¬
ство изменилось, и весьма существенно, по многим параметрам.
Заметно укрепили свои экономические и политические позиции
торгово-финансовые круги и новое дворянство. И наоборот, влия¬
ние старой аристократии было серьезно подорвано. В менталите¬
те англичан более прочно укоренилась мысль о том, что власть
обязана опираться на закон и действовать строго в его рамках, а
сам закон должен черпать свой авторитет из согласия подданных.
Иными словами, в Англии уже в это время закладывались основы
правового государства. Наконец, начавшаяся модернизация всей
совокупности социально-экономических отношений готовила
плацдарм для резкого рывка Англии вперед. Уже в эти годы ее
престиж на международной арене начал расти, и ее действия там
все больше подчинялись не династическим интересам, а объектив¬
ным потребностям развития буржуазных отношений.
§ 2. Просвещение — идеологическая
подготовка новой эры
Если XVII век называют «веком кризиса», то следующее сто¬
летие — «веком Просвещения». Его роль в разрушении устоев
«старого порядка» и в обосновании необходимости перехода к
гражданскому обществу трудно переоценить. В Средние века бес¬
спорным арбитром в вопросах морали, этики, повседневного бы¬
тия человека выступала церковь. Она освящала своим авторите¬
том существующий правопорядок, доказывала, что политические
отношения, присущие Средневековью, являются единственно
справедливыми и возможными. Иного не дано, утверждала цер¬
ковь. Все, что не вписывалось в церковные каноны, объявлялось
ересью и подвергалось жесточайшим гонениям.
IX
Однако по мере того, как устои средневекового общества на¬
чинали все больше колебаться под напором новых веяний, рели¬
гиозные догмы стали постепенно утрачивать свою неоспоримость.
В сфере духовной жизни образовывался своеобразный вакуум. Вся
система отношений, на которой зиждился «старый порядок», ли¬
шалась одной из своих важнейших опор. Перед обществом во весь
рост стал вопрос: что заменит веру? Жизнь дала на это ответ —
разум.
Конечно, происходило это далеко не сразу и отнюдь не глад¬
ко. Вторая половина XVII в. — время бурного прогресса естествен¬
ных наук. В их развитии произошел фундаментальный сдвиг.
Достойным завершением этого процесса стало создание ньютонов¬
ской механики. Каскад открытий в сфере естественных наук по¬
родил своеобразную эйфорию в умах интеллектуальной элиты ев¬
ропейского общества. Логика рассуждений была проста: если мож¬
но четким математическим языком изложить законы, по которым
живет Вселенная, то, вероятно, сходным путем можно описывать
жизнедеятельность человеческого общества. Следующий шаг в
цепочке этих рассуждений выглядел так: если разуму посильно
все, то, следовательно, люди в состоянии сконструировать опти¬
мальную модель организации общества и государства.
Просвещение было интернациональным явлением. Зародив¬
шись в Англии еще в XVII в., его идеи быстро пересекли Ла-Манш
и в XVIII в. распространились на континенте — во Франции, Прус¬
сии, Австрии, России, Италии и других государствах, а затем про¬
никли в Новый Свет, в испанские и особенно английские колонии.
Век Просвещения дал мировой цивилизации целую плеяду блестя¬
щих мыслителей: Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Болингброк, Дж. Свифт,
М. Ф. Вольтер, Ш. Монтескье, Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо, Б. Фран¬
клин, Т. Джефферсон, Т. Пейн, М. В. Ломоносов, Н. И. Новиков,
И. Кант, Г. Лейбниц, И. Гердер, Дж. Вико и др. Каждый из них был
ярчайшей личностью и оставил заметный след во многих отраслях
знания. Собственно говоря, именно их труды составили фундамент
современной цивилизации.
В каждой стране эпоха Просвещения имела свои нацио¬
нальные особенности, но в то же время можно выделить и некото¬
рые общие для всех просветителей идеи. Наибольший вклад они
внесли в развитие представлений о государстве и обществе. Для
всех просветителей наука стала новой религией, и они внедряли в
общество, прежде всего в умы представителей правящей элиты,
мысль о том, что наука является новой важнейшей ценностью
цивилизации, что престиж государства, его благосостояние и бла¬
гополучие определяются не только военной мощью, но и тем, ка¬
кое место в нем занимает наука. Культ науки неизбежно выводил
18
просветителей на вопрос об отношении к религии. Вот здесь един¬
ства между ними не было.
В протестантских странах, как правило, отношение религи¬
озных деятелей к распространению новых идей было относитель¬
но терпимым, и в силу этого обычно удавалось избегать резких
конфликтов с просветителями. Характерно, что большинство про¬
светителей в этих странах были деистами, т.е. в их мировоззре¬
нии сочетались вера в Бога с верой в Разум. Иная ситуация сло¬
жилась в странах, где господствовала католическая церковь, от¬
носившаяся резко враждебно к любым попыткам выйти за рамки
обветшалых церковных догм. Особенно это относится к Франции.
Не удивительно, что там большинство просветителей открыто по¬
рвали с церковью и встали на атеистические позиции. Именно в
этих странах закладывались основы современного материалисти¬
ческого мировоззрения. Именно там наиболее решительно расша¬
тывались устои «старого порядка» и готовилась почва для форми¬
рования гражданского общества.
Вторая общая для всех просветителей черта — безусловная вера
в прогресс, которую от них унаследовали практически все совре¬
менные идеологии. В их представлении он выглядел как постоян¬
ное, поступательное движение по восходящей — от примитивных
ко все более совершенным формам организации общества. Сегодня
очевидно, что прогресс — понятие более многомерное, но для свое¬
го времени введение в оборот понятия прогресс существенно рас¬
ширяло горизонты представлений людей об обществе, избавляло
их от присущего средневековому менталитету статичного видения
общества. Кроме того, введение в обиход этого понятия поставило
вопрос о критериях, позволяющих сопоставлять уровень прогрес¬
са. С точки зрения практически всех просветителей, эталоном выс¬
тупала западная цивилизация, которая с этого момента прочно зак¬
репилась в сознании людей на позициях мирового лидера и локо¬
мотива истории. С этого времени стал утверждаться принцип евро¬
поцентризма, согласно которому именно Западная Европа являлась
центром мироздания и от этого центра на периферию шли волны
прогресса. Иными словами, развитие человеческой цивилизации
стало рассматриваться как распространение норм и принципов за¬
падной цивилизации на остальной мир.
Общие исходные основы мировоззрения Просветителей пре¬
допределили и приверженность большинства из них идее граж¬
данского общества. Начиная с Джона Локка просветители реши¬
тельно порвали с традиционными для средневекового менталите¬
та многочисленными ограничениями, которые жестко регламен¬
тировали поведение человека в обществе. Каждый индивид обла¬
дает естественными правами, благодаря чему «он свободен от ка¬
19
кой бы то ни было стоящей выше его власти на земле и не подчи¬
няется власти другого человека, но руководствуется только зако¬
ном природы», утверждал Локк.
Отстаивая концепцию естественных прав, просветители, бе¬
зусловна, не могли уйти от расшифровки этого понятия. К концу
XVIII в. стало очевидно, что в их среде существуют определенные
разночтения в трактовке этого ключевого вопроса. Классическую
триаду естественных прав сформулировал еще Локк, который
включил в нее право на жизнь, свободу и собственность. Важно
отметить, что Локк совершенно недвусмысленно отвел главную
роль в этой триаде праву собственности. Сегодня на основании это¬
го сторонники либеральной идеи утверждают, что это бесспорная
истина, не подлежащая обсуждению. На деле, однако, вопрос этот
не столь однозначен.
Уже в XVIII в. ряд крупнейших мыслителей эпохи Просве¬
щения поставил формулу Локка под сомнение. Так, Т. Джеффер¬
сон, автор Декларации независимости, исключил право собствен¬
ности из триады базовых естественных прав. Резко критиковал
концептуальные подходы Локка к проблеме естественных прав
Ж. Ж. Руссо. Он видел в собственности, точнее говоря в неравно¬
мерности ее распределения, корень всех тех зол, с которыми на
протяжении своей истории сталкивалось человечество. Конечно,
ни Джефферсон, ни Руссо не ставили вопроса об уничтожении ча¬
стной собственности как таковой. Однако, в отличие от Локка, для
которого основной смысл деятельности государства заключался в
защите и охране этого «незыблемого права», они полагали, что
общество в интересах «общественного блага» может накладывать
на собственность определенные ограничения. Ясно, что подобные
разночтения в трактовке понятия естественных прав содержали в
себе зародыш будущих острейших идейно-политических колли¬
зий, определявших базовые параметры эволюции западной циви¬
лизации.
В построениях просветителей концепция естественных прав
была неразрывно связана с идеей общественного договора, кото¬
рый только и придавал, по их мнению, легитимность власти. Если
средневековому менталитету была присуща вера в то, что сослов¬
но-монархический принцип вечен и нерушим и любое отклонение
от него гибельно для общества, то просветители решительно от¬
вергали эту установку. В основе отношений между Государством,
обществом и личностью должны лежать исключительно нормы
права, которые призваны гарантировать каждому человеку некий
набор неотчуждаемых, или естественных, прав. Функции государ¬
ства главным образом и ограничиваются сферой защиты этих прав.
В остальном же взаимоотношения между людьми строятся бед его
20
вмешательства. Общество представлялось просветителям как не¬
кая саморегулируемая и самонастраиваемая система, в которой
государству отведена четкая, вполне определенная, ограниченная
жесткими правовыми рамками роль. Из подобных представлений
о характере функционирования общества, о его взаимоотношени¬
ях с властью вытекали и экономические выкладки тех мыслите¬
лей, которые обратили свои взоры к этой сфере человеческой дея¬
тельности. По существу именно просветители способствовали вы¬
делению экономики в самостоятельную отрасль научных знаний.
Лидерство в этой области принадлежало англичанам и французам.
При активном участии У. Петти, считающегося родоначальником
классической политэкономии, в Лондоне было создано Королевс¬
кое общество, в рамках которого осуществлялась, в частности, раз¬
работка экономической проблематики. Во Франции инициатива
в таких вопросах принадлежала так называемым «физиократам»,
крупнейшим представителем которых являлся А. Тюрго.
Именно они экстраполировали тезис философов-просветите-
лей о том, что идеальное общество есть саморегулируемая и само¬
настраиваемая система, на экономику. В этой сфере, полагали они,
также должны господствовать естественные порядки, под которы¬
ми понималась полная свобода экономической деятельности ин¬
дивида. Именно они изобрели знаменитую формулу «laissez faire,
laissez passer», ставшую девизом либеральных политиков XIX в.
Пиком классической политэкономии по праву считаются труды
крупнейшего экономиста той эпохи Адама Смита. Он выдвинул
тезис о том, что рыночная конкуренция есть тот камертон, с помо¬
щью которого осуществляется самонастройка экономики в масш¬
табах страны. Конкуренция, по его мнению, позволяла в оптималь¬
ной форме сочетать частные и общественные интересы и обеспе¬
чивать неуклонный общественный прогресс. Государство же не
должно вмешиваться в эти отношения. Его роль заключается в на¬
блюдении за тем, чтобы все участники рыночной экономики со¬
блюдали данный порядок вещей.
Естественно, просветители не могли не понимать, что в самих
властных структурах всегда могут появиться силы, которые захо¬
тят нарушить общественный договор. Отсюда возникал вопрос: как
обезопасить общество от попыток государственной власти узурпи¬
ровать не полагающиеся ей права?
В поисках ответа на этот вопрос просветители (прежде всего
Дж. Локк и Ш. Монтескье) разработали концепцию разделения
властей. Итак, исходная цель была ясна — обеспечить безопас¬
ность граждан, оградить их от произвола и злоупотреблений влас¬
тей. Анализируя природу власти, они приходили к выводу, что в
ней присутствуют три составляющих: 1) она устанавливает опре¬
21
деленные законы; 2) разрешает все споры, возникающие между
индивидами; 3) проводит в жизнь те или иные принципы. Если
власть в одном лице выполняет все три эти функции, она превра¬
щается в абсолютного монополиста, навязывающего свою волю об¬
ществу. Значит, надо разделить эти функции между различными
ветвями вАасти. Каждая ветвь власти — законодательная, испол¬
нительная, судебная — должна иметь четко ограниченные, непе-
ресекающиеся функции, каждая должна заниматься сугубо сво¬
им делом. Это исключит концентрацию власти в одних руках и
гарантирует общество от тиранических поползновений.
Принцип разделения властей в своей основе статичен. И в этом
плане он вступал в определенное противоречие с базовыми уста¬
новками просветителей, Справедливо полагавших, что общество
находится в постоянном движении и развитии. Та картина, кото¬
рая была изложена выше, обрисовывает лишь ключевые парамет¬
ры некоей идеальной модели государства, но ничего не говорит о
том, как она функционирует, как строятся взаимоотношения меж¬
ду ветвями власти. Ответить на этот вопрос просветителям было
непросто, ибо в то время по существу не было практического опы¬
та функционирования государственной машины на базе этих прин¬
ципов. Лишь в Англии формировались зачатки механизма разде¬
ления властей. В основном просветители строили умозрительные
концепции. Отсюда споры о том, какая ветвь власти важнее, мо¬
гут ли хотя бы в какой-то мере пересекаться их полномочия, ка¬
кой должна быть иерархия отношения властей в рамках единого
государственного механизма и т.д.
В решении этих важных проблем на помощь просветителям
Старого Света пришли представители интеллектуальной элиты
английских колоний в Северной Америке. Там нарастало недо¬
вольство действиями метрополии и росло желание создать систе¬
му управления, отвечающую местным потребностям. Именно на
американской почве зародилась идея создания системы «сдержек
и противовесов», которая придала концепции разделения властей
необходимую гибкость и динамизм, а чуть позднее, в конце XVIII
в., легла в основу конституции нового государства — США. Само
название этой системы говорит о замысле ее творцов. Ветви влас¬
ти не следует противопоставлять друг другу, разделяя их в попыт¬
ках решить, кто главнее. Они должны тесно сотрудничать, допол¬
нять и одновременно уравновешивать друг друга. Только тогда это
будет эффективно действующий механизм, способный формиро¬
вать оптимальные условия для общественного прогресса.
Архитекторы системы «сдержек и противовесов» дополнили
теоретические представления просветителей в области государ-
ствоведения еще в одном плане. На американской почве не просто
22
зародились, но получили конкретное воплощение идеи федератив¬
ного устройства государства. Федерализм иногда называют «раз¬
делением властей по вертикали» — между центром и субъектами
федерации. Но констатация этого факта не означает, что федера¬
листские принципы явились лишь простой модификацией концеп¬
ции разделения властей. Это был результат сложных поисков и
длительных размышлений о том, какой должна быть анатомия
государства новой эпохи, как добиться того, чтобы в рамках еди¬
ного комплекса в должной мере учитывались и общие, совокуп¬
ные интересы государства, и потребности всех его составных час¬
тей. Конструкторы федерализма стремились найти такую золотую
середину, которая позволила бы в процессе создания нового госу¬
дарства избежать очевидных издержек, присущих двум основным
известным тогда формам государственного устройства — унита¬
ристскому и конфедеративному. Они искренне мечтали о государ¬
стве нового типа, свободном от недостатков всех прежних моде¬
лей и способном обеспечить максимально эффективные условия
для непрерывного, прогрессивного буржуазного развития.
Так в их умах родилась идея разграничения полномочий меж¬
ду федеральным правительством, отвечающим за решение общих
для всей страны проблем, и органами власти на местах, в субъек¬
тах федерации, которые ответственны за положение дел в каждом
данном регионе. Безусловно, применительно к большей части
XVIII в. концепция федерализма была не более чем абстрактной
схемой. Лишь после принятия в 1787 г. Конституции США она по¬
степенно стала наполняться конкретным содержанием. И тем не
менее сам факт ее появления явился серьезным прорывом в раз¬
витии представлений людей о сущности государства, формах его
устройства, принципах функционирования.
Деятельность просветителей нанесла серьезный удар по усто¬
ям «старого порядка». Новые идеи ставили под сомнение разум¬
ность и незыблемость тех основ, на которых покоилось феодаль¬
ное обществен Важно подчеркнуть, что взгляды просветителей
получили распространение прежде всего в среде западноевропей¬
ской элиты. Именно в это время начинает формироваться слой
просвещенной аристократии, объединяемый общими ценностями,
общим стилем жизни, общим менталитетом. Эффективность уда¬
ра по устоям «старого порядка» обуславливалась тем, что просве¬
тители не просто критиковали его наиболее одиозные стороны, но
выдвигали развернутую, привлекательную в глазах современни¬
ков конструктивную альтернативу общественного устройства. Они
впервые предложили осознанную перспективу развития общества.
На надгробии одного из самых выдающихся просветителей —
Вольтера — было написано: «Поэт, историк, философ, возвеличив¬
23
ший человеческий разум и научивший его быть свободным». Пре¬
красная эпитафия, чрезвычайно емко суммировавшая вклад про¬
светителей в развитие европейской цивилизации. Их деятельность
позволила сбросить давящие оковы Средневековья и открыла че¬
ловечеству безграничные горизонты прогресса.
§ 3. Начало промышленного
переворота — подготовку
экономического фундамента нового
общества
К концу XVIII в. в социально-политической и идеологической
сферах накопилось уже немало симптомов, свидетельствовавших
о том, что «старый порядок» переживает глубокий кризис. В 60-е
годы XVIII в. дало о себе знать еще одно новое явление, не вписав¬
шееся в рамки «старого порядка», — промышленный переворот,
готовивший тот экономический фундамент, на который в XIX в.
стало опираться буржуазное общество. Промышленный переворот
начался в Англии. И это не случайно. К середине XVIII в. здесь
уже существовала достаточно развитая по меркам того времени
промышленность. Ее основой являлись мануфактуры: на них про¬
изводилась большая часть товаров. Однако этому типу производ¬
ства свойственны жесткие внутренние ограничения, и к этому вре¬
мени развитие мануфактур в Англии достигло своего пика. Воз¬
ник вопрос: что дальше?
Предпосылки для перехода промышленного производства на
более высокую стадию развития были подготовлены предшествую¬
щими событиями истории Англии. К этому времени там практи¬
чески завершилась аграрная революция, оказавшая большое вли¬
яние на английское общество: с одной стороны, она стимулировала
аккумуляцию капиталов, заметно увеличивала емкость внутрен¬
него рынка, с другой — вела к созданию широкого рынка наемного
труда. Разделение труда на мануфактурах достигло к этому, време¬
ни очень высокой степени и предельно упростило и специализиро¬
вало отдельные производственные операции, что готовило почву для
замены ручного труда на простейшие машины. Еще в первой поло¬
вине XVIII в. появились механические приспособления для подъе¬
ма воды из шахт, летучий челнок в ткацком станке и некоторые
другие. Однако в это время машины были скорее исключением из
правил и еще не определяли лицо производства.
Промышленный переворот начался в легкой промышленнос¬
ти. Это было закономерно, поскольку там внедрение машин тре¬
бовало меньших капиталовложений и приносило быструю финан¬
24
совую отдачу. Приток дешевых и красивых индийских тканей
диктовал производителям английских тканей необходимость рез¬
кого улучшения их качества. В 1765 г. ткач Джеймс Харгривс
изобрел механическую прялку, в которой одновременно работали
15-18 веретен. В честь своей дочери он назвал ее «Дженни». Но¬
вое изобретение быстро завоевало Англию и неоднократно модер¬
низировалось. Именно с ним обычно связывают начало машинно¬
го века.
Поток усовершенствований нарастал очень быстро. Важной
вехой в этом процессе стало изобретение в 1784 г. паровой маши¬
ны, которую можно было использовать практически на любом
производстве. Резко расширило производственные возможности
внедрение токарного станка. Новая техника очень быстро потре¬
бовала иной организации производства. На смену мануфактуре
шла фабрика. Первые фабрики появились в Англии в 70-е годы
XVIII в. В отличие от мануфактуры, основанной на ручном труде,
фабрика была крупным машинным производством, рассчитанным
на получение прибыли. Распространение фабрик ознаменовало
собой начало перехода к индустриальной цивилизации.
Промышленный переворот имел не только техническую, но,
что еще более важно, социальную сторону. В ходе этих преобразо¬
ваний формировались два основных класса индустриального об¬
щества: промышленная буржуазия и наемные рабочие. Этим двум
новым социальным группам предстояло найти свое место в старой
социальной структуре и выработать модус взаимоотношений меж¬
ду собой. Это оказалось очень непростым делом, растянулось на
многие десятилетия, и динамика данного процесса стала с середи¬
ны XIX в. определять основные параметры развития общества. В
этом процессе можно выделить несколько различных по своему
содержанию этапов.
Уже на первом,этапе (вторая половина XVIII — первая треть
XIX в.) промышленный переворот резко изменил весь социально-
экономический облик Англии. Возникли крупные промышленные
центры (Манчестер, Бирмингем, Шеффилд). К концу XVIII в. уже
четверть населения жила в городах. Бурно развивалась транспор¬
тная инфраструктура: по всей стране строилась сеть каналов, со¬
оружались дороги с твердым покрытием. Завершилось складыва¬
ние внутреннего рынка, который опирался на солидную промыш¬
ленную базу. Именно в промышленном секторе создавалась теперь
основная часть национального богатства. Естественно, что форми¬
рующийся слой промышленников стремился к тому, чтобы госу¬
дарство строило свою политику с учетом специфических интере¬
сов и этой фракции буржуазии, а не только торгово-финансовой
элиты и старой аристократии. И если в период своего становления
25
промышленную буржуазию удовлетворял лишь учет ее интересов
в политике государства, то очень скоро она стала добиваться под¬
чинения всей его политики своим запросам. Она начала открыто
претендовать на власть.
Еще сложнее складывались отношения между владельцами
промышленных предприятий и работавшими там наемными ра¬
бочими. Невысокая производительность труда, желание получить
максимальную прибыль вели к тому, что предприниматели стре¬
мились любой ценой сократить затраты на производство товаров,
всячески занижали заработную плату и увеличивали продолжи¬
тельность рабочего дня. Если к этому добавить различные штра¬
фы, полное отсутствие техники безопасности и какого-либо зако¬
нодательства, защищающего права лиц наемного труда, то впол¬
не можно констатировать, что в этот период степень эксплуата¬
ции рабочих была максимально высокой.
Не удивительно, что эта ситуация рождала стихийный про¬
тест. Плохо осознавая новые реалии, причины, их порождавшие,
и способы улучшения своего положения, рабочие первоначально,
как правило, направляли весь свой гнев против машин, именно в
них видя главную причину своего бедственного положения. Ло¬
гика их рассуждений была предельно проста: когда не было ма¬
шин, жизнь простого человека была легче и лучше — значит, во
всем виноваты машины и их надо уничтожать. Здесь проявился
свойственный людям стереотип восприятия бытия: изменения,
чреватые неизвестностью и неожиданностями, ломающие привыч¬
ный уклад жизни, обычно внушают опасения, рождают носталь¬
гические воспоминания о прошлом. Именно эти особенности мас¬
сового сознания породили такое специфическое явление, как дви¬
жение луддитов (по имени некоего Неда Лудда, который якобы
первым сломал свой станок). Луддиты поджигали фабрики, ло¬
мали станки, короче говоря, добивались закрытия фабрик.
Движение луддитов быстро набирало размах. Это встревожи¬
ло не только предпринимателей, но и власти, которые усматрива¬
ли в нем угрозу существующему правопорядку. Уже в 1769 г. пар¬
ламент принял суровый закон против луддитов. Не удивительно,
что отношения между власть имущими и рабочими приняли жес¬
тко конфронтационный характер, превращаясь в серьезный фак¬
тор, дестабилизировавший общество.
У движения луддитов по существу не было будущего: остано¬
вить изменения, инициированные промышленным переворотом,
было невозможно. Однако вопросы, порожденные промышленным
переворотом, оставались. Преследование луддитов ни в коей мере-
не решало проблем — положение рабочих оставалось крайне тя¬
желым. Следовательно, сохранялось стремление его изменить, а
26
нежелание предпринимателей улучшить его постоянно подпиты¬
вало конфликт. Он принимал все новые формы. Убедившись в не¬
эффективности луддизма, рабочие стали искать иные способы
борьбы за свои права. Так родилась идея создания тред-юнионов
(профсоюзов). Раньше всего они возникли в наиболее развитой
тогда отрасли промышленности — текстильной. Конечно, они по
многим параметрам отличались от современных, но, раз возник¬
нув, они прочно заняли свою нишу в структуре общества и посте¬
пенно превратились в основную форму организации трудящихся.
Промышленный переворот начался в Англии, но это было яв¬
ление, которое невозможно было удерйсать в национальных гра¬
ницах. В сферу промышленного переворота постепенно попадали
все новые и новые страны. В каждой из них он шел разными тем¬
пами, имел свою национальную специфику. Однако конечный ре¬
зультат был один и тот же: промышленный переворот радикально
подрывал устои «старого порядка» и создавал фундамент нового
«индустриального» общества.
ГЛАВА II
У истоков европейского плюрализма:
основные направления социально-
политического развития западной
цивилизации в XVIII в.
Кризис «старого порядка» — явление многомерное. В нем,
как мы видели, присутствовало несколько компонентов. Сама ди¬
намика этого процесса была отнюдь не прямолинейной. Его
нельзя рассматривать как неуклонно убыстрявшееся разложение
социально-экономических и идейно-политических устоев пре¬
жнего миропорядка. В нем были свои приливы и отливы. «Ста¬
рый порядок» уступал дорогу новым ценностям в упорной и же¬
стокой борьбе, которой был заполнен весь XVIII в. Она оказала
сложное воздействие на все стороны развития западной цивили¬
зации. Важно отметить, что в ходе ее трансформации из одного
качественного состояния в другое она обрела одну достаточно
устойчивую черту: она стала носить отчетливо выраженный плю¬
ралистичный характер. В ее рамках начали формироваться не¬
сколько моделей социально-политического развития, имевших
как общие черты, так и серьезные различия в своцх базовых ха¬
рактеристиках .
Прежде всего, уже в XVIII в. стала очевидной существенная
специфика британского варианта движения по пути буржуазного
прогресса. Она была столь явной, что и в Англии, и за ее предела¬
ми начинают формироваться представления о «британской исклю¬
чительности». Что касается континентальной Европы, то здесь
ситуация была более сложной.
С момента окончания Тридцатилетней войны (1648 г.) и
вплоть до середины XVIII в. роль морально-политического лиде¬
ра на континенте принадлежала Франции. В то время она зада¬
вала тон почти во всех сферах жизни европейского общества. Для
многих в Европе она являлась образцом, ей стремились подра¬
28
жать, копировали французские права и порядки. Но как это ска¬
зывалось на самой Франции?
Подобный статус оказывал сложное воздействие на французс¬
кое общество. Взлет Франции был обеспечен прежде всего ее воен¬
ной мощью, которая опиралась на потенциал, мобилизованный
французским абсолютизмом. Естественно, это укрепляло престиж
абсолютизма внутри страны, позволяло ему тормозить эрозию той
социальной базы, поддержка которой и обеспечивала незыбле¬
мость «старого порядка». В глазах многих французов он до поры
до времени ассоциировался с величием Франции. Однако цена это¬
го величия оказалась очень дорогой. Внешний блеск способство¬
вал тому, что правящая элита занималась как бы самогипнозом:
она убеждала себя, что дела в стране идут великолепно — победы
на полях сражений свидетельствовали, по ее мнению, о справед¬
ливости этого утверждения. В реальности же в организме фран¬
цузского общества неуклонно накапливались многочисленные
конфликтные проблемы, решить которые без корректировки ба¬
зовых устоев «старого порядка» было невозможно. А их нерешен¬
ность все более и более затрудняла для Франции реализацию ком¬
плекса мер, связанных с поддержанием своего величия. Получил¬
ся замкнутый круг, разорвать который смогла только революция.
В Европе, однако, были страны, где «старый порядок» в
XVIII в. еще не исчерпал своего позитивного потенциала. Речь
прежде всего идет о Пруссии, которая в XVIII в. быстро увеличи¬
вала свое влияние в европейских делах. Правда, и здесь «старый
порядок» подвергся определенной корректировке, но она осуще¬
ствлялась сверху, подчинялась вполне продуманным замыслам.
В Пруссии начала формироваться особая модель развития, кон¬
сервативная в своей основе, но одновременно способная к усовер¬
шенствованию за счет тех импульсов, которые регулярно исходи¬
ли от власти' игравшей роль катализатора модернизации, осуще¬
ствляемой во имя поддержания существующего правопорядка.
Наконец, на процесс разложения «старого порядка» оказал вли¬
яние тот факт, что в это время европейская цивилизация активно
осваивала Новый Свет. Можно наметить несколько направлений
этого воздействия. Известно, что гигантские потоки драгоценных
металлов, хлынувшие из Америки в Европу, сослужили плохую
службу Испании и Португалии — первым европейским державам,
вставшим на путь создания заморских колониальных империй.
Правящие круги этих стран совершенно бездарно распорядились
этим поистине фантастическим богатством. По существу, именно
оно подавило в них всякое желание осуществлять модернизацию
своих обществ. С другой стороны, огромный приток золота и сереб¬
ра вызвал «революцию цен» в Европе, способствовал радикально-
29
му изменению торгово-финансовых потоков, стал мощнейшим ис¬
точником так называемого первоначального накопления, подрывав¬
шего устои «старого порядка». Освоение Нового Света подтачивало
«старый порядок» не только тем, что ломало прежний баланс сил,
но и тем, что меняло прежний менталитет, который был важной
составной частью этого «старого порядка». Наконец, необходимо
отметить, что в XVIII в. в Новом Свете зарождается своеобразная
модификация европейской цивилизации, связанная с ней, вырос¬
шая из нее, но в силу специфики существования не дублировавшая
ее, а представлявшая оригинальную, становящуюся все более са¬
мостоятельной модель общественного развития.
Итак, западный мир по мере ослабления устоев «старого по¬
рядка» делался все более плюралистичным, в нем в рамках еди¬
ной западной цивилизации постепенно формировались различные
модели буржуазного прогресса.
§ 1. Формирование основ «британской
исключительности»
События 40-50-х годов XVII в. заметно выделили Англию из
общего контекста развития европейской цивилизации. Именно в
данной стране в то время был нанесен самый сильный удар по со¬
циально-политическим устоям «старого порядка». Уже сам этот
факт ставил ее особняком, делал исключительным явлением в
Европе. Очевидно, что эти события наложили серьезный отпеча¬
ток на то, как сами британцы воспринимали свою страну. Англия
вступила на какой-то новый, никем не изведанный путь, и с кон¬
тинентальной Европой ей было не по пути. Там царил «старый по¬
рядок», а в Англии, как тогда казалось, он канул в вечность. Эта
мысль все крепче входила в представления британцев об истори¬
ческом процессе и о месте их страны в нем.
Однако когда в Англии в 1660 г. удалось осуществить Рестав¬
рацию, то стало казаться, что тучи, сгущавшиеся над «старым
порядком», начали рассеиваться. Правда, ненадолго. Бездумная
политика нового короля Карла II вела к сужению социальной базы
сторонников монархии, накаляла внутриполитическую обстанов¬
ку. В верхах общества возникли две группировки: партия двора
(будущие тори) и партия страны (будущие Ьиги). Ничему не на¬
учившийся Карл II последовал примеру отца и в 1679 г. распус¬
тил парламент. Расчет на то, что новый его состав будет более ло¬
яльным, не оправдался, и в 1681 г. парламент вновь был распу¬
щен. Вплоть до 1685 г., т.е. вплоть до своей смерти, Карл II пра¬
вил как абсолютный монарх.
30
Его наследник Яков II, ярый приверженец католицизма, по¬
пытался реставрировать не только дореволюционные политичес¬
кие порядки, но и католицизм, что абсолютно не совпадало с умо¬
настроениями подавляющего большинства англичан. Это намере¬
ние на время примирило тори с вигами, заставив их объединиться
в оппозицию королевской власти. Они обратились к лидеру евро¬
пейских протестантов, штатгальтеру (статхаудеру) Голландии
Вильгельму Оранскому, женатому на дочери Якова II Марии, с
просьбой защитить англичан от произвола фанатичного католи¬
ка. До войны дело не дошло, ибо, когда Вильгельм Оранский в
1688 г. высадился на Британских островах, выяснилось, что у
Якова II практически нет сторонников. В результате он вынуж¬
ден был бежать на континент, где и умер в 1702 г. В Англии про¬
изошел бескровный переворот, вошедший в историю под названи¬
ем «Славной революции».
Между занявшим королевский трон Вильгельмом и парламен¬
том было достигнуто соглашение, зафиксированное в «Билле о пра¬
вах». В нем устанавливались четкие конституционные гарантии
власти парламента, закреплялось господство протестантизма в стра¬
не. Этот документ заложил правовые основы конституционной мо¬
нархии. Ее утверждение в одной из ведущих стран Западной Евро¬
пы нанесло чувствительный удар по позициям абсолютизма.
Итоги «Славной революции», традиционно несколько недооце¬
нивавшиеся в нашей историографии, еще больше закрепили тот
вектор развития страны, который был определен в середине века.
Отсутствие сколько-нибудь широкой оппозиции новой власти,
особенно на первых порах, свидетельствовало, что в элите обще¬
ства в целом утвердилось согласие относительно избранного на¬
правления развития. По крайней мере, в умах элиты английского
общества все более прочно укоренялась мысль о том, что особый
путь страны й выгоден ей, и предопределен многими факторами.
Этот мощный консенсусный импульс, исходивший от элиты, ока¬
зывал заметное воздействие на всю дальнейшую политическую
жизнь Великобритании.
Преобладание консенсусных тенденций в политическом про¬
цессе не означало, что в Англии в этой сфере царил штиль. Имен¬
но в это время началось формирование зачатков партийно-поли¬
тической системы страны. В этом важнейшем для становления
гражданского общества процессе Англия опять-таки выступала
пионером. Еще в период Реставрации стали оформляться две со¬
перничавшие группировки, своего рода протопартии — виги и
тори. Конечно, до партий в современном понимании им было еще
далеко, однако старт этому процессу был дан. В ходе политичес¬
ких баталий конца XVII в. — начала XVIII в. началось оформле¬
31
ние их идеологических концепций, электоральной базы и, нако¬
нец, что самое главное, шло становление норм и принципов их вза¬
имодействия.
Выборы в парламент в 1679 г. дали толчок образованию вигс-
кой партии, а политика Якова II способствовала формированию
консенсуса в ее отношениях с тори. «Славная революция» 1688 г.
закрепила его, а триада законов (Habeas Corpus Act —1679 г., Билль
о правах — 1689 г. и Акт о престолонаследии и статус об устройстве
королевства — 1701 г.) зафиксировала то правовое поле, в рамках
которого виги и тори вели соперничество за право определять, ка¬
ким курсом будет двигаться государственный корабль.
Билль о правах зафиксировал, что Англия окончательно пре¬
вратилась в конституционную монархию. Теперь предстояло опре¬
делить, как будет функционировать в рамках этой парадигмы но¬
вый властный механизм. В английском обществе уже давно суще¬
ствовал парламент. Революция в корне изменила его место в поли¬
тической системе: он стал тем институтом, который аккумулиро¬
вал основные властные полномочия. Однако по самой своей приро¬
де парламент не мог заполнить вакуум, который образовался во
властной среде после ограничения прерогатив короны. Пустующую
нишу в системе власти быстро заполнило правительство (кабинет
министров), ставшее олицетворением исполнительной власти.
Сам по себе этот институт не был для англичан какой-то но¬
винкой. Правительство существовало и при абсолютистской мо¬
нархии, но тогда оно целиком и полностью зависело от монарха,
было ответственно только перед ним и проводило в жизнь его волю.
Теперь ситуация изменилась. Договорившись о том, что король и
парламент несут совместную ответственность за управление стра¬
ной, эти два субъекта власти немедленно начали борьбу за конт¬
роль над правительством. Уже к концу XVII в. признанной нор¬
мой стало право партии, победившей на выборах в парламент, фор¬
мировать правительство, а ее лидер становился главой кабинета
министров. Таким образом, контроль над парламентом стал глав¬
ным призом в политической борьбе, проходившей по уже доста¬
точно четко очерченным правилам. Это был важный шаг в плане
создания правового государства.
В то время и виги, и тори полагали, что доступ даже к фор¬
мальному участию в политическом процессе должен быть ограни¬
чен. Именно поэтому в 1717 г. был резко повышен имуществен¬
ный ценз для избирателей: до 600 ф. ст. годового дохода с недви¬
жимости и 200 ф. ст. от торговых и финансовых операций. Таких
людей в Англии было около 250 тыс. человек из почти 5 млн. насе¬
ления. Почти одновременно был установлен 7-летний срок полно¬
мочий парламентариев.
32
Возникает вопрос: почему лидеры новой политической элиты
пошли на такой шаг? Ныне становится аксиомой, что чем шире
формализованное участие масс в политическом процессе, тем бо¬
лее устойчивой базой обладает правящий режим. Сегодня правя¬
щие элиты научились достаточно уверенно интегрировать в рам¬
ки политической системы самые разнообразные радикальные дви¬
жения протеста. В XVIII в. подобным опытом ни виги, ни тори не
обладали. Возможный радикализм низов общества их откровенно
пугал, и они всеми доступными способами стремились изолиро¬
вать радикалов, перекрыть им доступ к участию в политическом
процессе. Кроме того, нахождение компромиссных развязок спор¬
ных проблем для руководства вигов и тори при таком «келейном»
характере политического процесса, как в Англии XVIII в., было
гораздо проще. А постулат о ценности политического компромис¬
са для успешного развития страны все прочнее и увереннее впи¬
сывался в политическую культуру Великобритании. Это, в свою
очередь, еще более оттеняло особый характер английской модели
развития, вычленяло ее из общего контекста эволюции западной
цивилизации.
К началу XVIII в. в Англии уже просматривались контуры
партийного тандема, составные компоненты которого вели напря¬
женную борьбу за власть. Вплоть до 1714 г. перевес был на стороне
тори, выражавших интересы прежде всего земельной аристокра¬
тии. Затем преимущество перешло к вигам. Их взлет связан с име¬
нем Р. Уолпола, возглавлявшего правительство с 1721 по 1742 г. Он
успешно использовал те преимущества, которые давали Англии ее
островное положение и уверенное доминирование на морях.
Островное положение позволяло Англии не тратить чрезмер¬
ные средства на обеспечение безопасности своих границ. Эти день¬
ги шли на .развитие торговли, нарождавшейся промышленности
и флота. Флот занимал особое место в исторических судьбах Анг¬
лии. События, связанные с разгромом испанской «Непобедимой
армады» в конце XVI в., убедили англичан в том, что реальная
угроза их безопасности может исходить только от державы, спо¬
собной организовать вторжение с моря. Из этого делался вполне
обоснованный вывод о том, что ради своей безопасности и своего
будущего Англия должна добиться статуса ведущей морской дер¬
жавы, флот которой будет при любых обстоятельствах превосхо¬
дить своих соперников. Не менее важно было взять под контроль
основные мировые морские коммуникации, ибо в этом был залог
не только безопасности, но и финансово-экономического процве¬
тания Англии. Наконец, Уолпол лучше других своих современ¬
ников понял, какие выгоды сулит Британии развитие колониаль¬
ной экспансии. И не тодько понял, но и перешед к практической
33
реализации данной идеи. Именно в это время Англия вступает на
путь активного строительства своей колониальной империи.
Успехи на этом поприще еще больше закрепляли в умах анг¬
личан стереотип особого, исключительного характера британско¬
го общества. Причем эта исключительность все больше ассоции¬
ровалась с тем, что именно она есть основа процветания Англии,
и, следовательно, ее необходимо всячески культивировать.
Намеченные Уолполом основные параметры политического кур¬
са в целом адекватно соответствовали тогдашним государственным
интересам Великобритании, и не удивительно, что вплоть до начала
60-х годов XVIII в. их никто серьезно не ставил под сомнение.
Однако в начале 60-х годов XVIII в. английскому обществу
пришлось столкнуться с затяжным политическим кризисом. Его
инициатором обычно называют нового английского короля
Георга III. В отличие от своих предшественников, он не желал
мириться с той сугубо формальной ролью, которая отводилась ему
в английской системе разделения властей. Человек властолюби¬
вый, крайне неуравновешенный, не терпящий никакой критики
в свой адрес, он всерьез вознамерился возродить старые порядки.
Ясно, что подобная линия поведения не могла не натолкнуться на
оппозицию значительной части английского общества.
В 1763 г. король, поправ все существовавшие законы, прика¬
зал арестовать депутата парламента от вигской партии Дж. Уилк¬
са, известного своими резкими высказываниями в печати против
Георга 1П. Это вызвало в стране взрыв возмущения. Всюду прохо¬
дили митинги под лозунгом «Уилкс и свобода». Столкнувшись с
мощной волной протеста, власти были вынуждены освободить
Уилкса, но, поскольку тот был лишен парламентской неприкос¬
новенности, ему пришлось эмигрировать во Францию, где он ос¬
тавался до 1768 г. Вернувшись на родину, он вновь добился избра¬
ния в парламент, однако под давлением короны результаты выбо¬
ров были признаны недействительными, и Уилкс вновь был арес¬
тован. Тем не менее жители графства Миддлсекс вновь избрали
его, а в мае того же года лондонцы попытались силой освободить
его из тюрьмы. По Англии прокатилась (впервые в истории) вол¬
на политических стачек в поддержку Уилкса. Только в 1771 г.
королевский двор смирился с тем, что Уилкс займет место в пар¬
ламенте. Радикальные элементы, группировавшиеся вокруг со¬
зданного в 1769 г. «Общества сторонников билля о правах», быст¬
ро усиливали свои позиции. В 1774 г. они провели 12 своих сто¬
ронников в парламент. Все это заставляло наиболее дальновидных
политиков задуматься о мерах по очередному реформированию
политической системы страны, ибо иначе сбить волну радикализ¬
ма не представлялось возможным.
34
Трудно сказать, как дальше развивались бы события в Анг¬
лии, перерос бы политический кризис в революционную ситуа¬
цию, если бы в его ход не вмешался незапланированный фактор —
в английских колониях в Северной Америке началась Бойна за
независимость. Это событие резко изменило не только ситуацию в
Англии, но во многом и весь ход развития западной цивилизации.
§ 2. Специфика кризиса «старого
порядка» на континенте
Если Англия в XVIII в. уже достаточно четко дистанцирова¬
лась от «старого порядка», строила особую, британскую модель
общества, то в Западной Европе вплоть до конца XVIII в. «старый
порядок» хоть и с трудом, но удерживал господствующие пози¬
ции. На континенте довольно отчетливо определились два вари¬
анта развития «старого порядка» — французский и прусский.
Поскольку Англия была явно потеряна для приверженцев
«старого порядка», то в XVIII в. его оплотом в глазах обществен¬
ного мнения Европы считалась Франция. В середине XVII в. эта
страна, так же как и Англия, пережила острый социально-поли¬
тический кризис — так называемую Фронду (1648-1653 гг.). Од¬
нако во Франции абсолютизм не только устоял, но и достиг при
Людовике XIV, «короле-солнце», невиданного расцвета. «Государ¬
ство — это я1» — любил говорить Людовик XIV, и, действитель¬
но, он стремился к тому, чтобы королевской власти были подкон¬
трольны все основные стороны жизнедеятельности государства:
финансы, внешняя и внутренняя политика, внешняя торговля,
осуществление правопорядка, сбор налогов, стимулирование про¬
мышленного производства, культура и т.д.
Активным пропагандистом усиления вмешательства государ¬
ства в экономику был генеральный контролер финансов Жан Ба¬
тист Кольбер. Талантливый организатор, он поставил свои способ¬
ности на службу «величию Франции» и ее короля. Кольбер стре¬
мился сократить ввоз иностранных товаров и, наоборот, увеличить
экспорт французских. Рост отечественного производства позволял
расширить налоговую базу, а следовательно, и доходы государства.
С этой же целью поощрялась колониальная торговля. По примеру
Британии был создан ряд монопольных торговых компаний, со¬
средоточивших в своих руках контроль над внешней торговлей.
Деньги Франции действительно были крайне необходимы. Они
требовались на обслуживание роскошного королевского двора, на
оплату многочисленных государственных чиновников, а главное,
на финансирование постоянных войн, которые велись в то время
35
опять-таки во славу «величия Франции». За 54 года единолично¬
го царствования Людовика XIV Франция воевала в течение 32 лет.
К этому надо добавить, что «король-солнце» проводил политику
религиозно-церковной унификации, пытаясь сделать XVII век
временем реванша католицизма. В 1685 г. был отменен Нантский
эдикт о веротерпимости, и возобновились гонения на гугенотов.
Около 300 тыс. человек были вынуждены уехать из Франции.
Итоги царствования Людовика XIV были весьма противоречи¬
вы. С одной стороны, Франция достигла высшей точки своего влия¬
ния. Она стала сильнейшей европейской державой, диктовала свою
волю многим мелким европейским государствам. Ей принадлежали
огромные владения в Северной Америке, Вест-Индии, Индии, Север¬
ной Африке. Она вела активные торговые операции по всему миру.
Возрос экономический потенциал страны. Париж стал крупнейшим
культурным центром Европы, бесспорным законодателем мод. Стиль
жизни французской элиты копировали власть имущие в других стра¬
нах. Пышно расцвела французская культура. Имена и произведения
П. Корнеля, Ж. Б. Мольера, Ж. Расина, Ж. Лафонтена золотыми
буквами вписаны в сокровищницу мировой культуры.
Однако за все это внешнее великолепие Франции пришлось
заплатить немалую цену. Замах на величие оказался явно больше
реальных возможностей Франции. Ей приходилось содержать ог¬
ромную по тем временам армию (более 300 ть!с. чел.), численность
которой за годы царствования Людовика XIV выросла более чем в
10 раз. Это требовало колоссальных средств, предопределяло по¬
стоянный рост налогового пресса, душившего экономику, вело к
обескровливанию прежде всего сельского хозяйства. Многократ¬
но вырос государственный долг. Если добавить к этому серию не¬
урожаев и эпидемий, обрушившихся на Францию, то нетрудно
понять, что к концу царствования Людовика XIV страна вступи¬
ла в полосу затяжного кризиса. Он стал зримым проявлением того,
что потенциал абсолютизма в развитии общества, его совершен¬
ствовании практически исчерпан.
Последний исторический шанс этой формы политической
организации общества был связан с так называемым «просвещен¬
ным абсолютизмом». Данное явление получило распространение
в ряде стран Европы в XVIII в. Это была попытка реформировать
абсолютизм, приспособить его к изменившимся условиям, поста¬
вить на службу монархии некоторые из идей просветителей. Наи¬
более яркими примерами просвещенного абсолютизма историки
традиционно считают правление Марии-Терезии в Австрии
(1740-1780) и Иосифа II (1780-1790), Фридриха II в Пруссии
(1740-1786), Карла III в Испании (1759-1788) и Екатерин,Ъ1 Ц в
России (1762-1796). Чтр объединяет эти царствования?
36
Во-первых, понимание того, что для сохранения базовых ус¬
тоев «старого порядка» обществу нужны определенные перемены.
Всех перечисленных выше монархов можно назвать консерватив¬
ными реформаторами. Набор осуществленных в этот период пре¬
образований был примерно одинаков во всех этих странах: поощ¬
рение торговли, развитие образования, ограничение сферы дея¬
тельности цеховых структур, попытка оптимизации финансов и
государственного управления и, наконец, очень осторожные шаги
по модернизации аграрных отношений.
Во-вторых, изменение взглядов элиты на мир, само общество,
государство. Трансформировалась вся иерархия ценностей, кото¬
рыми руководствовались просвещенные монархи и их окружение.
Раньше в основе мировоззрения и верхов, и низов общества лежа¬
ли церковные догматы. Отталкиваясь от них, определяли нормы
повседневной жизни, взаимоотношений между различными соци¬
альными группами, обосновывали принципы государственного ус¬
тройства, выводили задачи государства на международной арене.
Теперь стремились найти рациональное объяснение и обоснование
всех сторон жизнедеятельности общества. Покровительство науке
и искусству стало признаком хорошего тона.
Наконец, отход от теологических императивов готовил почву
для постепенного перехода к гражданскому обществу. Конечно, его
создание никто не планировал. Но объективно все реформы, о кото¬
рых шла речь выше, все подвижки в менталитете элиты, мощный
взрыв гуманитарных знаний предопределяли углубление кризиса
старого общества. В итоге внешне пышный расцвет абсолютизма
лишь камуфлировал его многочисленные внутренние изъяны.
В-третьих, изменение взглядов на сущность государства, его
природу повлекло за собой ускорение начавшегося еще в середине
XVII в. процесса формирования концепции государственных ин¬
тересов ведущих стран Европы. Это способствовало укреплению
системных начал в международных отношениях, сплачивало от¬
дельные европейские страны в единый комплекс, живущий по
своим, общим для него нормам, укрепляло правовые начала. Ины¬
ми словами, просвещенный абсолютизм дал импульс формирова¬
нию такого явления, как европейская цивилизация. И не случай¬
но именно в это время зарождаются первые проекты создания «еди¬
ной Европы».
Кризис абсолютизма в наибольшей мере проявился во Фран¬
ции. Стремление Бурбонов утвердить свою гегемонию в европейс¬
ких делах требовало наращивания мощи страны. А это, в свою
очередь, предполагало форсированное развитие экономического
потенциала. Но именно здесь отживавшие свой век социально-эко¬
номические отношения превращались в серьезное препятствие на
37
пути вперед. Политическая власть не только не помогала форми¬
рованию оптимальных условий для экономического роста, но вся¬
чески консервировала старые порядки, тормозившие развитие бур¬
жуазных отношений в аграрной сфере, сохраняла цеховую систе¬
му, предоставляла льготы отдельным монопольным торговым ком¬
паниям. Постоянно усиливался налоговый пресс, высасывавший
деньги из всех сфер хозяйственной жизни. Внутри страны, в ее
административной системе сохранялись рудименты средневеко¬
вой раздробленности, мешавшие складыванию единого общефран¬
цузского рынка. Например, между устьем и верховьями Луары —
одного из главных торговых путей внутри Франции — существо¬
вало 75 таможенных барьеров.
Не меньше проблем существовало и в социальной сфере. Со¬
хранялась система сословных привилегий, закрывавшая третье¬
му сословию дорогу к высшим административным, судебным и
военным должностям. В то же время основную тяжесть налогово¬
го бремени несло именно это сословие. Ясно, что в этой среде рос¬
ло недовольство существующим порядком вещей. Но и в среде ари¬
стократии проявлялось недовольство абсолютизмом, там были
популярны идеи возрождения былых политических вольностей
дворянства. В итоге социальная база абсолютизма неуклонно су¬
жалась.
Занимавший с 1715 г. королевский трон Людовик XV, в отли¬
чие от просвещенных монархов Австрии, Пруссии, России, стре¬
мившихся модернизировать устои «старого порядка», тратил всю
свою энергию на фавориток. Не удивительно, что государствен¬
ные дела приходили во все большее расстройство. Падал и престиж
Франции. Отражением этого стало ее серьезное поражение в Се¬
милетней войне (1756-1763), в результате которого она лишилась
большинства своих колониальных владений. Военная неудача, яв¬
ный кризис абсолютизма настоятельно требовали проведения ре¬
форм. В последний период своего царствования (1770-1774)
Людовик XV под давлением обстоятельств предпринял суматош¬
ные попытки как-то затормозить прогрессирующий кризис. Од¬
нако четкого представления о том, как этого добиться, ни у него,
ни у его окружения не было, как не было и воли для проведения
преобразований. Внутренние распри в правящей элите окончатель¬
но похоронили все эти планы.
По иному сценарию развивались события в Пруссии. В начале
XVII в. Пруссия еще находилась в вассальной зависимости от Речи
Посполитой (так тогда называлась Польша). Но уже в XVIII в. она
достаточно уверенно вошла в «клуб великих держав» и продол¬
жала наращивать свое влияние и мощь, постепенно превращаясь
в центр, который реально претендовал на объединение германс¬
38
ких земель. Еще в XVII в. там начала формироваться особая мо¬
дель общественного развития — весьма спорная и противоречи¬
вая, до сих пор являющаяся предметом острых дискуссий.
Постепенное выдвижение Пруссии началось в годы Тридца¬
тилетней войны. В самом ее начале, в 1618 г., произошло объеди¬
нение под властью Гогенцоллернов двух немецких земель — Прус¬
сии и Бранденбурга. Благоприятные для государства итоги вой¬
ны (оно получило ряд важных территориальных приобретений,
укрепивших его позиции на Балтике и в Северной Германии), рез¬
кое ослабление в середине XVII в. Польши, а затем в начале
XVIII в. и Швеции (двух его главных врагов) создали достаточно
благоприятную внешнюю среду для его укрепления и развития.
Большое воздействие на исторические судьбы Пруссии оказа¬
ла экономическая конъюнктура, прежде всего резко возросший
спрос, а следовательно, и цены на хлеб. Если в Западной Европе
традиционные аграрные отношения вступили в полосу глубокого
кризиса, то в этом уголке континента быстро окрепло крупное бар¬
щинное хозяйство, работавшее на экспорт. Сложился влиятель¬
ный слой остэльбских помещиков, которые, оставаясь феодала¬
ми, вместе с тем все больше вписывались в рыночные отношения.
Для них изначально очень важна была поддержка и покровитель¬
ство курфюрста (с 1701 г. королевство), поэтому они поддержива¬
ли абсолютистские тенденции в жизни Пруссии.
Удачная и продуманная внешняя политика способствовала
неуклонному территориальному росту Пруссии, притоку в госу¬
дарство иммигрантов из других стран, где жизнь была не столь
стабильной или где имели место религиозные гонения. Активная
внешняя политика — изначально характерная черта развития
Пруссии — предопределила еще одну особенность этого государ¬
ства. В нем почти всегда исключительно важную роль играла ар¬
мия, являвшаяся предметом особых забот государства. Даже та¬
кой известный своей скупостью король, как Фридрих Вильгельм I
(1713-1740), никогда не жалел средств на развитие вооруженных
сил. Культ армии уже тогда оказывал заметное воздействие на все
стороны жизни прусского общества.
Вступление Пруссии в «клуб великих держав» произошло при
Фридрихе II. Динамичный, хорошо образованный, решительный
государственный деятель, он видел смысл своей жизни в том, что¬
бы обеспечить своему королевству доминирующие позиции в Цен¬
тральной Европе. Он стремился к тому, чтобы именно Пруссия
стала притягательным центром для всех германских земель. Глав¬
ная роль в этом отводилась армии и дипломатии. Фридрих П, од¬
нако, хорошо понимал, что их эффективность во многом зависит
от состояния дел внутри страны. Много внимания он уделял со¬
39
вершенствованию государственного управления, была реоргани¬
зована система судопроизводства и подтверждена свобода вероис¬
поведания, введено обязательное начальное обучение. При
Фридрихе II были упразднены внутренние таможни и ограниче¬
ны права городских цехов, что стимулировало развитие мануфак¬
тур, за которыми, правда, государство осуществляло жесткий кон¬
троль. Уже на этой стадии развития буржуазных отношений про¬
явилась еще одна отличительная черта прусской модели — жест¬
кое государственное регулирование основных аспектов экономи¬
ческих отношений.
Наиболее сложной задачей, с которой столкнулся Фридрих И,
как и везде на континенте, было реформирование аграрных отно¬
шений. Здесь каждая из основных социальных групп прусского
общества имела, по сути дела, взаимоисключающие интересы, и
государству было трудно выработать некий модус поведения, ко¬
торый бы не допускал эскалации конфликта в этой сфере.
Фридриху II не удалось в полной мере найти развязку этой про¬
блемы. Однако он сумел сбить остроту аграрного кризиса и под¬
держать относительно высокую рентабельность юнкерских хо¬
зяйств, что позволило Пруссии даже в период глубокого кризиса
«старого порядка» наращивать свой экономический потенциал.
Поддерживая юнкерские хозяйства как основу аграрного секто¬
ра, Фридрих II одновременно стремился создать условия для раз¬
вития иных форм хозяйственной деятельности в этой сфере эко¬
номики. На это была нацелена целая серия его указов (1744,1763,
1764 и 1777 гг.), создававших определенные условия для укреп¬
ления самостоятельных крестьянских хозяйств. Наконец, он вся¬
чески поощрял развитие науки и искусства, создавая тем самым
и себе, и своему королевству благоприятный имидж.
В итоге при Фридрихе II были заложены основы прусской мо¬
дели общественного развития, которая оказалась весьма устойчи¬
вой и довольно эффективной. Если французская модель рухнула
под натиском революции, оказавшись неспособной к внутренне¬
му саморазвитию, то прусская модель сумела за счет внутренней
эволюции достойно встретить те вызовы, с которыми столкнулась
европейская цивилизация в условиях кризиса «старого порядка».
Однако прусский вариант развития оказался скорее исключе¬
нием из правил. В большинстве европейских стран возможности
«старого порядка» к концу XVIII в. были в основном исчерпаны.
Совместить его устои с новыми веяниями в развитии западной
цивилизации для большинства представителей тогдашней поли¬
тической элиты оказалось задачей непосильной. Ее слепая при¬
верженность традиционным ценностным установкам неуклонно
сужала поле для политического маневрирования.
40
Жить по-старому, ничего не меняя, становилось все сложнее.
Чтобы держать ситуацию под контролем, приходилось содержать
огромный государственный аппарат, с помощью льгот покупать
лояльность аристократии, увеличивать расходы на армию как
главный гарант безопасности страны. На все это требовалось все
больше и больше денег. Обеспечить их приток могла только дина¬
мично развивающаяся экономика. Однако «старый порядок», с его
жесткой, мелочной регламентацией всех сторон хозяйственной де¬
ятельности, многочисленными ограничениями, сковывавшими
всю социально-экономическую сферу, препятствовал формирова¬
нию рыночной экономики, которая только и способна обеспечить
качественный скачок в развитии общества.
Попытки представителей просвещенного абсолютизма найти
развязку накопившихся проблем за счет проведения отдельных
реформ также не приносили желаемого результата. Жесткие ка¬
ноны, на которых основывалось средневековое общество, плохо
поддавались реформированию: в нем все было предельно взаимо¬
связано и взаимообусловлено, и любая попытка как-то видоизме¬
нить какую-либо из несущих конструкций сразу же заметно под¬
рывала устойчивость всей системы. В силу этого реформы просве¬
щенных монархов, снимая наиболее жесткие и устаревшие огра¬
ничения, несколько расширяя возможности для общественного
прогресса, одновременно расшатывали основы того миропорядка,
в который они пытались вдохнуть новую жизнь. Таким образом,
и этот вариант развития пусть и не столь очевидно, как откровен¬
но консервативно-охранительный, но тоже во многом исчерпал
свои возможности.
§ 3. Европейская цивилизация осваивает
Америку
В исторической литературе не прекращается спор о том, кто
первым из европейцев и когда вступил на землю американского
континента. Бесспорно, однако, что систематическое освоение
Нового Света началось лишь после того, как к его берегам в 1492 г.
прибыли каравеллы X. Колумба. Испанцы первыми начали осво¬
ение (тогда это слово было синонимом завоевания) Южной и Цен¬
тральной Америки. К середине XVII в. им принадлежали огром¬
ные владения, простиравшиеся от Калифорнии на севере до Ог¬
ненной Земли на юге. Почти одновременно с ними португальцы
обосновались на побережье современной Бразилии. Затем к про¬
цессу колонизации Америки подключились англичане, францу¬
зы и голландцы. Таким образом, большая часть западноевропейс¬
41
ких стран оказалась вовлеченной в этот сложный процесс, кото¬
рый в долговременном плане оказал огромное воздействие на всю
мировую историю.
К рубежу XVII-XVIII вв. в Новом Свете сформировалось не¬
сколько типов колониальных владений. В Латинской Америке
доминировала испанская модель колониального устройства. Ес¬
тественно, Испания, как и любая другая метрополия, стремилась
перенести свои права, обычаи, установления на подвластные за¬
морские территории. В Испании был учрежден «Королевский со¬
вет Индий», осуществлявший жесткий контроль за всей админи¬
стративно-хозяйственной жизнью испанских колоний. На подкон¬
трольной Испании территории была создана система вице-коро-
левств (всего их было четыре), которыми управляли назначаемые
Мадридом вице-короли. Им принадлежала вся военная и граждан¬
ская власть на вверенной территории.
Хотя испанские колонии в Америке часто называют « заповеди
ником феодализма», исследования отечественных и зарубежных
историков достаточно убедительно показывают, что в их эконо¬
мике сосуществовало несколько укладов: от натурального хозяй¬
ства в малоосвоенной глубинке до элементов капиталистического
уклада в городах. Безусловно, не они доминировали в хозяйствен¬
ной жизни, определяли лицо колониальной экономики. Ее основ¬
ным хребтом являлся феодальный способ ведения хозяйства, ко¬
торый существенно дополнялся рабским трудом на плантациях и
рудниках.
Политика испанской короны в области аграрных отношений
отличалась определенной непоследовательностью. С одной сторо¬
ны, она сохраняла индейскую общину как административную и
налоговую единицу. В то же время широкое распространение по¬
лучил другой хозяйственный институт — энкомьенда, т.е. помес¬
тье, предоставлявшееся короной испанским дворянам-переселен-
цам, к которому приписывались, точнее, передавались на попече¬
ние индейцы-общинники. Они должны были трудиться в этом по¬
местье, а его хозяин должен был заботиться о приобщении индей¬
цев к христианским ценностям и вносить за них в казну подуш¬
ную подать. Ясно, что такая практика вела к разрушению индей¬
ских общин. Формально испанские законы запрещали продажу
общинных земель и переселение туда других лиц. Однако, посколь¬
ку из-за жестокой эксплуатации индейцев их численность неук¬
лонно сокращалась, появились обширные пустующие земли, ко¬
торые попросту экспроприировались крупными землевладельца¬
ми в свою пользу. Так помимо короны шло активное формирова¬
ние слоя крупных зе млев лад ельцев-латифундистов, постоянно
занимавших главенствующие позиции в колониальном обществе.
42
Их интересы далеко не всегда и не во всем совпадали с тем курсом,
который пыталась проводить в колониях королевская власть.
Надо сказать, что Мадрид так и не сумел выработать четкой
долговременной стратегии экономического развития своих коло*
ний. Его политика в этой сфере была полна противоречий. Для
испанской элиты эти территории были прежде всего источником
получения гигантских сверхприбылей за счет вывоза оттуда золо¬
та, серебра и драгоценностей. Но для обеспечения их бесперебой¬
ной доставки в метрополию волей-неволей приходилось создавать
в своей колониальной империи определенную хозяйственную ин¬
фраструктуру. Однако люди, занявшие в ней ключевые позиции,
рано или поздно начинали проявлять недовольство мелочной рег¬
ламентацией, чрезмерной опекой со стороны властей. В этой сре¬
де постепенно зарождались сепаратистские настроения, и они пре¬
вращались в один из источников социальных конфликтов в коло¬
ниях. Естественно, и у других социальных групп колониального
общества были серьезные основания проявлять недовольство по¬
литикой, которую проводила назначаемая Мадридом абсолютно
оторванная от местных корней колониальная администрация.
Важной чертой колониального общества в Латинской Амери¬
ке было то, что в нем глубокие социальные различия изначально
теснейшим образом переплетались с расово-этническими. Так,
например, высшие должности в системе колониального управле¬
ния могли занимать только представители родовитого испанско¬
го дворянства. В основном это были молодые отпрыски знатных
семей, и они, как правило, стремились не задерживаться надолго
в колониях. Они жили замкнутой жизнью, презрительно относи¬
лись даже к тем белым, которые родились уже в Новом Свете, со¬
знательно и очень тщательно отгораживались в социокультурном
плане от влияния местной жизни. Например, в вице-королевстве
Новая Испания (в основном современная Мексика) в конце XVIII в.
из 6 млн. населения их было не более 15 тыс.
Ниже их в социальной иерархии стояли креолы — потомки
первых испанских переселенцев, родившиеся в колониях. Коман¬
дные посты в армии были для них по существу закрыты. Это была
гораздо более широкая прослойка, хотя и она являлась меньшин¬
ством. Так, в той же Новой Испании их численность составляла
чуть более 1 млн. человек. В отличие от чистокровных цспанцев,
креолы часто помимо своей воли испытывали определенное влия¬
ние местной культуры, обычаев и нравов, и в их среде зарожда¬
лись те тенденции, которые вели к формированию новой социо¬
культурной общности — латиноамериканской.
Основную часть населения испанских колоний в Америке со¬
ставляли метисы, которых подразделяли на 16 групп, соответство¬
43
вавших различным вариантам смешения белых, индейцев и не¬
гров. В различных вице-королевствах доля метисов в общей струк¬
туре населения колебалась от 30 до 40%. Они занимались ремес¬
лами, мелкой торговлей, из них формировался слой низшего ду¬
ховенства и мелких землевладельцев, они же составляли костяк
городского люмпен-пролетариата. На низших ступенях социаль¬
ной иерархии находились индейцы и негры. Важно подчеркнуть,
что, несмотря на жесткие социальные перегородки, все эти груп¬
пы, взаимодействуя между собой, формировали качественно но¬
вую цивилизацию — латиноамериканскую, которая уже в XVIII в.
вступила в сложные отношения с европейской цивилизацией, не¬
избежно усложняя общие параметры ее развития.
При всей значимости событий, связанных с возникновением
латиноамериканской цивилизации, гораздо большее значение для
будущего имели процессы, разворачивавшиеся в английских ко¬
лониях в Северной Америке. Первые английские поселения на
территории нынешних США появились в начале XVII в. В 1607 г.
в устье реки Джеймс (современный штат Виргиния) англичане
заложили первое поселение — Джеймстаун. В 1620 г. к берегам
Новой Англии прибыл корабль «Мэйфлауэр» (Майский цветок),
на котором в Америку прибыла группа пуритан. Спасаясь от ре¬
лигиозных преследований у себя на родине, они мечтали создать в
Новом Свете свой «Град на холме», жизнь в котором целиком и
полностью отвечала бы пуританским идеалам. Так было положе¬
но начало новоанглийским колониям.
Жизнь в Новом Свете была непростой, но приток колонистов
не ослабевал, и английские поселения постепенно расширялись,
охватив все атлантическое побережье от испанской Флориды до
французской Канады. К середине XVIII в. в английских колони¬
ях в Северной Америке проживало уже более 1 млн. чел. Ехали в
Новый Свет по разным причинам: в поисках золота, из-за религи¬
озных преследований или из-за неладов с законом, а главное — в
надежде на лучшее будущее. К середине XVIII в. сложилось три
типа колоний: новоанглийские, южные и среднеатлантические.
В политическом плане между ними было немало общего. В боль¬
шинстве власть принадлежала губернатору, назначаемому англий¬
ским королем. Во многих существовали колониальные ассамблеи
(частично избираемые, частично назначаемые); правда, их права
были весьма ограниченными.
Тем не менее этот осознанно внедрявшийся дуализм власти в
североамериканских колониях не раз вызывал острые политичес¬
кие коллизии, крупнейшей из которых стал конфликт в Вирги¬
нии в 1676 г. между ставленником короны губернатором У. Берк¬
ли и жителями колонии, которые выражали открытое недоволь¬
44
ство политикой, проводимой губернатором. Их борьбу возглавлял
молодой депутат колониальной ассамблеи Н. Бэкон. Восстание
подавили, но и власти метрополии пошли на уступки: Беркли был
смещен со своего поста, права ассамблеи восстановлены в полном
объеме. Такие конфликты в менее острой форме имели место и в
других колониях.
Возникает вопрос: почему Англия допускала существование
элементов самоуправления в своих североамериканских колони¬
ях, хотя это грозило подрывом устоев ее господства, почему она не
пошла по пути Испании и не создала в колониях жестко центра¬
лизованную вертикаль управления?
Отвечая на эти вопросы, прежде всего необходимо отметить
огромную разницу в структуре населения английских и испанс¬
ких колоний в Америке. В последних собственно испанцы состав¬
ляли абсолютное меньшинство населения, а подавляющая его
часть состояла из представителей низших, по понятиям европей¬
цев XVII-XVIII вв., рас, и о предоставлении им права самоуправ¬
ления тогда просто не могло быть и речи. Другое дело английские
колонии. Там коренные жители беспощадно вытеснялись со сво¬
ей земли, и основу населения составляли выходцы из метрополии.
Вплоть до царствования Георга III в Лондоне, как правило, избе¬
гали проводить четкую разграничительную линию между англи¬
чанами, живущими на Британских островах, и англичанами —
жителями переселенческих колоний. А раз так, то колонисты в
принципе могли претендовать на то, чтобы жить по английским
законам, в привычной для англичан управленческой системе. В
английском обществе уже к концу XVII в. концепция разделения
властей имела достаточно влиятельных сторонников. В этом кон¬
тексте та схема управления колониями, о которой шла речь, выг¬
лядит вполне уместно, как обеспечивавшая относительную устой¬
чивость и стабильность колониального общества. Естественно, она
не исключала споров, подчас острых, о соотношении полномочий
каждого из составлявших ее институтов, о степени демократич¬
ности при их формировании, но в целом она позволяла до опреде¬
ленного исторического момента поддерживать пусть не очень проч¬
ный, но все же консенсус в отношениях метрополии и ее поддан¬
ных, живущих в Новом Свете.
Наиболее развитыми в социально-экономическом плане были
колонии в Новой Англии, где уже тогда широкое распростране¬
ние получили фермерские хозяйства, стали возникать мануфак¬
туры, первые банки, активно развивалась торговля, центром ко¬
торой являлся Бостон. В южных колониях основной хозяйствен¬
ной единицей была плантация, где широко использовался труд
рабов, привезенных из Африки. Средне атлантические колонии
45
стали центром зернового хозяйства и торговли. Там, в Нью-Йорке
и Филадельфии, аккумулировались финансовые ресурсы колоний.
Практически во всех колониях, независимо от доминирующе¬
го типа хозяйственной деятельности, у их жителей вызывала не¬
довольство мелочная опека и регламентация важнейших сторон
местной экономики со стороны метрополии. Их возмущало, что в
то время как в самой Англии неуклонно усиливалось влияние ли¬
беральной экономической идеологии, проповедовавшей снятие
всех ограничений с хозяйственной деятельности, невмешательство
государства в экономическую жизнь, развитие саморегулируемо-
го рыночного хозяйства, в североамериканских колониях власти
явно не спешили воплощать в жизнь эти доктрины.
Прежде всего колонистов волновал вопрос о доступе к свобод¬
ным (т.е. не занятым белыми) землям. Надежда получить землю в
собственность была одним из главных побудительных мотивов,
заставлявших людей отправляться в опасное путешествие через
Атлантический океан. Однако колониальные власти отнюдь не
спешили предоставить переселенцам такие права. Они стремились
к тому, чтобы земельные участки предоставлялись переселенцам
на основе выплаты фиксированной ренты (квит-ренты). Правда, в
условиях Северной Америки, с ее обширными малозаселенными,
а то и малоисследованными территориями, при малочисленном
фискально-полицейском аппарате, осуществлять на практике ре¬
гулярное взимание квит-ренты было непросто. В колониях про¬
цветало т.н. скваттерство — самовольный захват земли, особенно
в пограничных районах. Однако это было делом незаконным, а
колонисты хотели иметь свободный доступ к земле на законных
основаниях. Борьба за это право вносила элементы серьезной сс>-
циальной нестабильности в жизнь колониального общества.
Недовольство колонистов вызывала и торгово-экономическая
политика Лондона. Английскими властями вводились многочис¬
ленные ограничения на строительство мануфактур в различных
отраслях местной промышленности. После начала промышленно¬
го переворота Англия всячески ограничивала ввоз в колонии но¬
вых машин, санкционировала запреты на въезд в колонии специ¬
алистов, умевших на них работать. Ставились многочисленные
препоны на пути развития торговли с третьими странами. Особен¬
но раздражали торгово-финансовую элиту северо-востока и судо¬
владельцев попытки Лондона перекрыть возможности расшире¬
ния очень выгодной торговли с Вест-Индией. Подобный курс пло¬
хо соотносился с тем, что делало английское правительство внут¬
ри метрополии, и это как бы лишний раз подчеркивало, что коло¬
нисты, даже находящиеся на высших ступеньках социальной
иерархии местного общества, являются «англичанами второго
46
сорта». Однако поскольку Новый Свет предоставлял широкие воз¬
можности для частной инициативы, то это позволяло снижать со¬
циальную напряженность.
Так постепенно, в ходе непростых коллизий вырабатывался
модус взаимоотношений колоний и метрополий: колонисты стре¬
мились к тому, чтобы их полностью уравняли в правах с жителя¬
ми метрополий, а британская корона пыталась регламентировать
все стороны социально-экономического и политического развития
колоний, надежно привязав их к Англии. В итоге до середины
XVIII в., несмотря на периодически возникавшие трения, обеим
сторонам удавалось избегать перерастания конфликта в их отно¬
шениях в кризис.
Завершая характеристику английских колоний в Северной -
Америке, необходимо сказать, что уже в XVII — начале XVIII в.
они стали ареной острой идеологической полемики, в ходе кото¬
рой определялись многие будущие подходы к проблемам обще¬
ственного устройства. У интеллектуальной элиты колонистов из¬
начально довольно отчетливо прослеживалось желание создать не
девственной почве американского континента общество, избавлен¬
ное от пороков европейской цивилизации. Эта общая посылка от¬
нюдь не исключала серьезных разночтений в отборе тех характе¬
ристик, которыми должно было обладать новое общество. Уже ь
XVII в. обозначилось несколько подходов к этой проблеме.
Идейный лидер новоанглийских пуритан Дж. Уинтроп сумел
создать в середине XVII в. в Массачусетсе (одна из колоний в Но¬
вой Англии) по сути теократическое общество. «Бог, создав мир и
людей, создал и неравенство, сделав так, что одни люди могут уп¬
равлять другими, что кто-то богат, а кто-то беден», — утверждал
Уинтроп. В соответствии с этим постулатом и строилась жизнь ь
Массачусетсе. Там была создана конгрегационалистская церковь,
члены которой только и становились полноправными поселенца¬
ми. Из преследуемых они быстро превратились в преследователей:
любое инакомыслие в этой колонии безжалостно подавлялось. Все
жители колонии были обложены специальным налогом на содер¬
жание господствовавшей церкви, лидеры которой сосредоточили
в своих руках всю политическую, экономическую и религиознук
власть.
Ясно, что подобное «идеальное» общество не могло соответ¬
ствовать устремлениям и чаяниям тех колонистов, которые не
входили в элиту массачусетского общества. Практически с само¬
го начала Уинтропу пришлось столкнуться с вызовом радикаль¬
ных критиков. Наиболее ярким среди них стал Р. Уильямс. Ои
выступал за полную свободу вероисповедания, за разделение свет¬
ской и религиозной власти. Поскольку в Массачусетсе этого до¬
47
биться не удалось, Уильямс и его сторонники основали новую ко¬
лонию — Провиденс (нынешний штат Род-Айленд), где и попыта¬
лись воплотить в жизнь свои представления о справедливом об¬
ществе. Власть там опиралась на своеобразный общественный до¬
говор, заключаемый жителями колонии с ежегодно избираемым
губернатором. В этой колонии были на практике предвосхищены
многие положения концепции просветителей о народном сувере¬
нитете и общественном договоре, и не случайно Род-Айленд дол¬
гое время оставался надежным прибежищем для всех инакомыс¬
лящих в английских колониях в Северной Америке.
По мере развития колониального общества в нем все отчетли¬
вее обнаруживались черты, отделявшие его от прообраза в метро¬
полии. В английских колониях в Новом Свете закладывался фун¬
дамент некоей новой цивилизационной общности, которая уже на
самой ранней стадии плохо вписывалась в «старый порядок», еще
господствовавший в Европе. Это и не удивительно. Сами условия
существования колонистов значительно отличались от той социо¬
культурной среды, в которой обитали жители европейских стран.
Важно учитывать и то, что английская колонизация в Северной -
Америке началась, когда «старый порядок» уже стал объектом
интенсивной критики. В подобной ситуации вполне естественно
было поставить вопрос: зачем слепо копировать старое общество с
его многочисленными пороками?
Суровые условия жизни, большая оторванность от метропо¬
лии изначально заставляли колонистов полагаться прежде всего
на свои собственные силы, а не рассчитывать на патерналистскую
опеку британского государства. Естественно, в такой ситуации
никакого особого пиетета в отношении государства они не испы¬
тывали. Колонисты больше полагались на собственные сйлы и
свою инициативу. Здесь следует искать объяснение тому, почему
позднее в США такое распространение получила идеология инди¬
видуализма.
Оборотной стороной недоверия к государству стал быстро на¬
рождавшийся культ частной инициативы. А это, в свою очередь,
накладывало отпечаток на взгляды и представления колонистов
о социальной структуре и социальных отношениях своего обще¬
ства. Хотя знатность, происхождение, принадлежность к аристок¬
ратии не утратили в колониальный период своего значения, роль
этих факторов в Северной Америке была ниже, чем в метрополии.
В глазах колонистов на роль решающего фактора, определявшего
положение индивида в обществе, все больше выдвигается коммер¬
ческий успех. Жесткая социальная стратификация, характерная
для Старого Света, в английских колониях в Северной Америке
стала давать серьезные трещины.
48
Вплоть до середины XVIII в. эта специфика колониального
общества хотя и раздражала английские власти, но все же вписы¬
валась в рамки той политики, которую Англия проводила в отно¬
шении колоний, и это позволяло Лондону считать, что он держит
ситуацию под контролем. Надо сказать, что и сами колонисты дол¬
гое время не собирались обострять отношения с метрополией. Они
были явно не готовы к открытому разрыву с ней. Более того, они
по многим причинам еще нуждались в Англии. Так, им была нуж¬
на ее поддержка и в плане борьбы с индейскими племенами, и с
возможной экспансией французов, они испытывали необходи¬
мость во многих товарах, производимых только в Англии, нако¬
нец, еще слишком тесны были связи и слишком велика была за¬
висимость от английского капитала, чтобы идти на прямой раз¬
рыв с Лондоном.
ГЛАВА III
Международные отношения:
от Вестфальского мира до Великой
французской революции
§ 1, Борьба за господство в Европе
(вторая половина XVII —
начало XVIII вв.)
24 октября 1648 г. в городе Мюнстер (Вестфалия) бЬш под-
писан мир, знаменовавший собой окончание долгой и кровопро¬
литной Тридцатилетней войны. Ее завершение положило конец
претензиям Габсбургов на создание всемирной империи. На ве¬
дущие позиции в Европе выходят Франция и Швеция. Зафик¬
сировав в правовых нормах итоги военного конфликта, Вест¬
фальский мир стал одновременно основой для дальнейшей борь¬
бы за господство в Европе, исходной точкой всех последующих
международных договоров. В Старом Свете на время установил¬
ся довольно устойчивый баланс сил.
Однако, закрепив сложившееся к середине XVII в. статус-кво,
Вестфальский мир отнюдь не гарантировал Европе спокойную
жизнь. По итогам Тридцатилетней войны на континенте возник¬
ло несколько новых узлов противоречий. Во-первых, в центре Ев¬
ропы на месте современной Германии по условиям Вестфальского
мира сложилась пестрая мозаика из многочисленных мелких не¬
мецких государств. С одной стороны, это как бы уравновешивало
притязания Франции и Австрийской империи, но, с другой — по¬
рождало желание воспользоваться слабостью германских князей
и за их счет укрепить свои позиции.
Во-вторых, возросшие претензии Франции наталкивались нД
сопротивление Голландии, достигшей пика своего могущества:
Маленькая Голландия в это время была финансовым центром Ев-
50
ропы. Ее богатства привлекали к себе внимание соседей, прежде
всего Франции. Однако Голландия не собиралась жить под дик¬
товку Людовика XIV. Используя свои финансовые ресурсы, она
всячески стимулировала антифранцузские настроения, поддержи¬
вая всех их сторонников.
В-третьих, вторая половина XVII в. — время, когда экспан¬
сия Османской империи достигла своего пика. Турецкие войска
стояли на подступах к Вене. Над Европой нависла серьезная угро¬
за со стороны чуждой ей цивилизации. Однако это не только не
консолидировало государства региона, но, наоборот, подлило мас¬
ла в огонь внутриевропейских конфликтов: Франция попыталась
использовать этот фактор в своих интересах, против Австрийской
империи. Наконец, Англия, вышедшая к 90-м годам XVII в. из
полосы внутренних потрясений, активно вмешалась в борьбу ев¬
ропейских держав, нарушив прежний баланс сил.
Во второй половине XVII в. главной дестабилизирующей силой
в европейской политике была Франция. Успехи в Тридцатилетней
войне, выведшие ее на первые роли в международных отношени¬
ях, быстро перестали удовлетворять честолюбие Людовика XIV,
стремившегося к тому, чтобы утвердить безусловную гегемонию
Франции в европейской политике. На протяжении 60-х — 90-х го¬
дов XVII в. Франция вела постоянные войны. В 1667-1668 гг.
вспыхнул военный конфликт с Голландией из-за Испанских Ни¬
дерландов (нынешняя Бельгия). Через 4 года из-за этого же разго¬
релась новая война, завершившаяся в 1679 г. подписанием Нимве-
генского мира, согласно которому Франция округлила свои владе¬
ния на северо-западе, присоединив ряд городов, входивших ранее в
состав Испанских Нидерландов, и провинцию Франш-Конте, являв¬
шуюся частью Священной Римской империи. В 1681 г.
Людовик XIV неожиданно захватил Страсбург. По Регенсбургско¬
му миру (1684 г.) все эти завоевания были признаны законными.
Это был пик влияния Франции. Однако ее успехи и постоянно
растущие амбиции Людовика XIV не на шутку встревожили всю
Европу. По инициативе Голландии, над которой нависла вполне
реальная угроза, стала формироваться антифранцузская коали¬
ция. Ее душой был один из крупнейших политических деятелей
Европы того периода — штатгальтер Голландии Вильгельм III
Оранский. Благодаря его дипломатическим усилиям к коалиции
подключились Австрия, Испания, Бранденбург, Савойя и даже
бывший союзник Франции Швеция. Но, пожалуй, самым круп¬
ным успехом Вильгельма Ш стало привлечение на сторону коали¬
ции Англии. «Славная революция» в Англии в 1688 г. привела к
изгнанию из страны симпатизировавшего Франции Якова П Стю¬
арта. Английский трон занял Вильгельм Ш. Он прекрасно исполь¬
51
зовал накопившееся в английском обществе недовольство действи¬
ями Франции и без особого труда добился ее подключения к коа¬
лиции.
Рост антифранцузских настроений, увеличивавшаяся изоля¬
ция Франции на международной арене, огромные затраты на пред¬
шествовавшие войны, казалось бы, должны были Побудить
Людовика XIV к более сдержанной и осторожной политике. Од¬
нако ослепленный предшествовавшими успехами Людовик XIV
стал терять чувство реальности и способность трезво оценивать
обстановку и возможности своей страны. Ему казалось, что стоит
сделать еще одно усилие — и его враги будут сломлены.
Исходя из этой логики, он в 1688 г. начал новую войну, кото¬
рая на сей раз велась не только на полях Европы, но и в Вест-Ин¬
дии и Северной Америке. Воздействие конфликтов, разворачивав¬
шихся в рамках Вестфальской системы, начало выходить за пре¬
делы Старого Света. На этот раз война оказалась затяжной. Стол¬
кнувшись с сопротивлением объединенной коалиции,
Людовик XIV попытался уравновесить ее потенциал тем, что до¬
говорился с Османской империей о совместных действиях против
Австрии. Теперь уже та оказалась в непростой ситуации, будучи
вынужденной вести войну на два фронта. Война истощала обе сто¬
роны и шла с переменным успехом. В 1697 г. противоборствую¬
щим сторонам пришлось пойти на заключение Рисвикского мира.
Впервые Франция в результате войны ни на дюйм не увеличила
своей территории. По существу, ее экспансии был положен пре¬
дел. Через два года, в 1699 г., была закончена война с Турцией.
Пожалуй, только на заре своей истории турки терпели столь серь¬
езное поражение. Его прямым следствием стало снятие угрозы их
вторжения в Центральную Европу.
Рисвикский мир правильнее было бы назвать перемирием, ибо
основных участников конфликта не удовлетворяли итоги прошед¬
шей войны. Мир был очень хрупким, и любой конфликт мог вы¬
бить всю систему международных отношений из состояния неус¬
тойчивого равновесия.
Повод не заставил себя ждать. В ноябре 1700 г. умер бездет¬
ный король Испании Карл II. На освободившийся престол претен¬
довали сразу двое кандидатов: внук Людовика XIV Филипп Ан¬
жуйский и сын императора Леопольда I эрцгерцог Карл. Ставка
была огромной: помимо собственно Испании и ее владений в Ев¬
ропе, речь шла о громадной колониальной империи в Новом Свете
и колониях в других частях света. Реализация любого варианта в
чистом виде — возведение на испанский трон либо Филиппа Ан¬
жуйского, либо эрцгерцога Карла — сразу самым решительным
образом ломала весь баланс сил в Европе в пользу либо Франции,
52
либо Австрии. Были, правда, и компромиссные варианты (раздел
наследства между претендентами или передача его кому-то из них
без права объединения с основной державой), но обе стороны, осо¬
бенно Франция, стремились заполучить все наследство на своих
условиях.
Людовик XIV добился того, что Филипп был провозглашен
испанским королем. Правда, согласно достигнутой договореннос¬
ти он лишался права на французский престол. Однако не успели
высохнуть чернила на этом документе, как Людовик XIV начал
игнорировать это обстоятельство и особой грамотой признал пра¬
ва Филиппа на французский престол, ввел свои войска в Испанс¬
кие Нидерланды и, ссылаясь на неопытность внука, попытался
управлять обоими государствами.
Действия Франции способствовали реанимации антифранцуз-
ской коалиции, и в 1701 г. в Европе вспыхнула война, охватив¬
шая весь континент. Боевые действия велись на Рейне и в Испан¬
ских Нидерландах, в Северной Италии и на Пиренеях. Ожесто¬
ченная война шла на море. Не остался в стороне от конфликта и
Новый Свет. Почти одновременно с войной за испанское наслед¬
ство на востоке Европы вспыхнула Северная война, в которой
Швеция боролась против России, Польши и Дании. Вскоре оба
конфликта переплелись теснейшим образом, и возникла по сути
дела общеевропейская война. Асинхронность в развитии Запад¬
ной и Восточной Европы была ликвидирована. Вестфальская сис¬
тема охватила теперь практически весь континент, и отныне меж¬
дународные отношения приобрели общеевропейский характер.
Война затягивалась, и это требовало от всех ее участников пре¬
дельного напряжения сил. В особенно тяжелом положении оказа¬
лась Франция, которой пришлось воевать чуть ли не против всей
Европы. В 1713 г. в Утрехте был подписан мирный договор, поло¬
живший конец войне за испанское наследство. По его условиям
Филипп остался испанским королем, но отрекся от претензий на
французский престол. Франция выводила свои войска из Лотарин¬
гии, теряла часть своих владений в Северной Америке (Ньюфаун¬
дленд, Акадию). Австрийские Габсбурги, лишившиеся последних
надежд на испанскую корону, в качестве компенсации получили
Неаполитанское королевство, Миланское герцогство, Сардинию
и бывшие Испанские Нидерланды. Англия укрепила свои пози¬
ции в Северной Америке, получила весьма важный в стратегичес¬
ком плане Гибралтар и выторговала себе очень выгодное в финан¬
совом отношении право «асиенто», т.е. предоставление особых
льгот на торговлю с испанскими колониями, включая торговлю
рабами. Кроме того, Англия прочно закрепила за собой статус ве¬
дущей морской державы. Небольшие территориальные прираще¬
53
ния получили Пруссия, ставшая отныне королевством, и герцог¬
ство Савойское. Несколько позднее, в 1721 г., завершилась Север¬
ная война, которая принесла крупный успех России, ставшей од¬
ной из великих держав европейского класса. Отныне без нее уже
не мог решаться ни один вопрос общеевропейского уровня.
Эти события завершили собой важный этап в развитии Вес¬
тфальской системы. Ее базовые параметры прошли проверку на
прочность и в целом подтвердили свою жизнеспособность: тот
баланс сил, который сложился по этому договору, несмотря на
многократные попытки, никому не удалось разрушить. У веду¬
щих государств Европы формируются достаточно устойчивые,
долгосрочные концепции государственных интересов, что дела¬
ло их позицию более предсказуемой и стабильной. На этой ос¬
нове уже могли формироваться союзы государств, складывать^
ся их иерархия.
В то же время система международных отношений была еще
сравнительно незрелой. Только к концу этого этапа удалось лик¬
видировать асинхронность политического развития различных
регионов Европы и включить весь этот континент в рамки Вест¬
фальской системы. Ее консолидация шла на фоне почти непрерыв¬
ных войн, что, естественно, увеличивало ее неустойчивость. Сфе¬
ра действия системности постоянно расширялась, включая в себя
все новые регионы, и это также осложняло функционирование
Вестфальской системы. И все же, несмотря на серьезные пробле¬
мы, с которыми сталкивалась в своем развитии Вестфальская си¬
стема, в ее механизме существовал достаточный позитивный по¬
тенциал для того, чтобы предотвратить сползание европейских
государств к состоянию хаоса и анархии, характерному для меж¬
государственных отношений предыдущей эпохи.
§ 2. Закат Вестфальской системы
Утрехтский мир расширил и адаптировал условия Вест¬
фальского мира на расширяющееся европейское сообщество. Те¬
перь ни одна из великих держав не могла остаться в стороне от
крупных международных конфликтов. Взаимозависимость стран
мира постепенно увеличивалась. Именно в это время начинает
формироваться европоцентристская модель мира, когда европей¬
ская политика оказывала определяющее воздействие на развитие
других регионов мира.
В расстановке сил, которая после войны за испанское наследи
ство приобрела устойчивый характер, произошли определенные
изменения по сравнению с тем, что возникло после Тридцати лет¬
54
ней войны. Франция в основном сохранила то, что приобрела в ходе
многочисленных войн во второй половине XVII в. Однако после
Утрехтского мира она втянулась в полосу глубокого внутреннего
кризиса, и это, безусловно, ослабляло ее позиции на международ¬
ной арене. После жестокого поражения в Северной войне в полосу
упадка вступила некогда могущественная Швеция. Тяжелые вре¬
мена переживала и Испания, которая всего столетие назад была
самой мощной державой континента. Отходят на вторые роли Гол¬
ландия и Османская империя, а Польша, государство, простирав¬
шееся некогда «от моря и до моря», разваливалась прямо на гла¬
зах. Зато неуклонно укрепляла свои позиции Англия. Быстро рос
политический вес России и Пруссии.
XVIII век — время бурного развития колониальной экспансии.
Вопросы, связанные со строительством колониальных империй,
оказываются в центре мировой политики. Правда, великие дер¬
жавы по-разному смотрели на роль и место этих вопросов в общем
контексте своей внешней политики и связывали с колониальной
экспансией различные планы.
Можно выделить два поколения колониальных держав. Пер¬
вую, старейшую группу олицетворяли собой Испания и Португа¬
лия. К XVIII в. они уже прошли пик своей активности в сфере стро¬
ительства колониальных империй и теперь стремились лишь со¬
хранить ранее приобретенное, не допустить, чтобы более сильные
и агрессивные соперники растащили по частям их владения. Их
подход к данным проблемам мало изменился по сравнению с тем,
каким он был, когда они только вступили на путь создания коло¬
ниальных империй. Огромные заморские владения этих стран по-
прежнему интересовали их лишь как источник пополнения свое¬
го неуклонно истощавшегося золотого запаса.
Другойтип колониальных держав представляли собой Голлан¬
дия, Франция и особенно Англия. Они вступили на эту стезю го¬
раздо позже, по существу уже в XVII в., на иной стадии развития
западной цивилизации, и соответственно несколько иначе, а глав¬
ное, шире смотрели на проблемы колониальной экспансии. Для
них колонии были не только и не столько примитивным источни¬
ком пополнения золотого запаса (в их колониях в то время золота
по существу не было), сколько средством укрепления своей сово¬
купной мощи, стимулирования собственной экономики и реше¬
ния ряда социальных проблем. Особенно большое внимание коло¬
ниальной политике уделяла Англия, которая, используя свое гос¬
подствующее положение на морях, стремилась взять под контроль
важнейшие морские коммуникации. Для этого ей необходимо
было закрепиться в стратегически важных опорных пунктах, где
можно было создать свои базы, опираясь на которые контролиро¬
55
вать всю мировую торговлю. Одной из первых баз подобного типа
стал Гибралтар. Опорным пунктом англичан в Вест-Индии стала
Ямайка. И в дальнейшем Англия стремилась брать под свой конт¬
роль те точки земного шара, которые давали бы ей стратегичес¬
кую инициативу.
Поскольку Англия уделяла колониальной экспансии особое
внимание, напрямую связывая с ней свой прогресс и процветание,
то не удивительно, что она преуспела в совершенствовании мето¬
дов ее осуществления. Уже в XVIII в. в рамках формирующейся
английской колониальной империи выделилось несколько типов
колоний: владения, выполнявшие роль опорных стратегических
пунктов в регионе (например, Гибралтар), переселенческие коло¬
нии (например, колонии, расположенные на территории нынеш¬
них США) и восточные (прежде всего Индия). Каждый из этих
типов предполагал использование особой стратегии освоения и
развития, выполнял свою особую историческую функцию. Первые
были призваны прежде всего помочь в решении конкретных за¬
дач, связанных с обеспечением безопасности страны и реализаци¬
ей ее глобальной стратегии (политическая элита Великобритании
уже начинала мыслить глобальными категориями), вторые спо¬
собствовали распространению английской модели общественного
устройства и английской системы ценностей по всему миру, и,
наконец, третьи постепенно превращались в основной источник
сырья для английской промышленности и гигантский рынок сбы¬
та для ее товаров.
С наибольшими трудностями англичане столкнулись при ко¬
лонизации интересовавших их территорий на азиатском конти¬
ненте, прежде всего в Индии. Там существовал целый ряд доста¬
точно крупных государств с большими, хотя и архаичными воо¬
руженными силами, в количественном отношении на много по¬
рядков превосходившими английские войска. Однако ни одно из
этих государств не смогло организовать эффективное сопротивле¬
ние экспансии Англии. Именно в Индии англичане успешно ап¬
робировали тактику под названием «разделяй и властвуй», кото¬
рую в дальнейшем часто применяли в самых различных регионах
мира. Она позволила им компенсировать малочисленность своих
войск, переложить основное бремя колониальной войны на самих
индусов. Стравливая местных раджей друг с другом, англичане
вели борьбу за подчинение Индии во многом чужими руками. Свою
роль в успехе англичан сыграло преимущество европейской воен¬
ной техники и европейской организации военного дела.
События, связанные с проникновением англичан в Индию, ока¬
зали заметное воздействие и на само английское общество, и на всю
сферу международных отношений. Именно в это время начала скла¬
56
дываться специфическая каста колониальных чиновников, воен¬
ных, дельцов, карьера и богатство которых целиком и полностью
зависели от успехов Англии на ниве колониальной экспансии. Они
были кровно заинтересованы в ее всемерном развитии и делали все
возможное, чтобы интерес к ней в верхах британского общества не
ослабевал. Постепенно они превратились во влиятельную силу, ока¬
зывавшую заметное воздействие на формирование внешнеполити¬
ческого курса Великобритании. В XVIII в. символом этой социаль¬
ной группы стал Р. Клайв. Начав молодым человеком службу в Ост-
Индской компании, он сделал фантастическую карьеру, нажил ог¬
ромное состояние, как раз в ходе борьбы Англии за подчинение
Индии. С его именем связаны все те новации, нестандартные ходы,
подчас авантюристические решения, которые обеспечили Англии
успех в борьбе за господство над Индией.
Не меньшее влияние победа англичан над многократно пре¬
восходившим их по численности соперником оказала на восприя¬
тие европейцами событий на международной арене. Она еще боль¬
ше укрепила в их умах уверенность в превосходстве западной ци¬
вилизации над всеми иными, закрепила принцип европоцентриз¬
ма в мировой политике.
После заключения Утрехтского мира Европа, измученная бес¬
конечными войнами, стала постепенно успокаиваться. Начался
период стабильного развития Вестфальской системы. У ведущих
государственных деятелей Европы в памяти отчетливо запечатле¬
лись нескончаемые войны, которые сопровождали их становление
как политиков, и те многочисленные проблемы, которые они по¬
рождали. Отсюда убеждение в том, что война — крайнее средство,
к которому можно прибегать лишь в исключительных случаях.
Такая исходная установка, господствовавшая в менталитете по¬
литической -элиты Европы, обусловила то, что вплоть до 1740 г. в
Европе не было серьезных конфликтов.
1740 г. стал заметной вехой в истории ряда европейских стран.
Так получилось, что практически одновременно произошла сме¬
на власти в ряде ключевых государств Европы: в России к власти
пришла Елизавета, в Пруссии — Фридрих И. Вскоре скончались
Р. Уолпол и кардинал Флери, долгие годы направлявшие вне¬
шнюю политику Англии и Франции. Однако ключевые события
разворачивались в Австрии. Там в 1740 г. скончался император
Карл VI, не оставивший мужского потомства. Встал вопрос о пре¬
столонаследии. Он решался на фоне нараставшей напряженности
в англо-французских и англо-испанских отношениях, роста агрес¬
сивности Пруссии, новый король которой не скрывал своих чес¬
толюбивых замыслов — добиться объединения немецких земель
вокруг Пруссии.
57
Австрийский престол унаследовала дочь Карла VI, молодая
Мария-Терезия. Ее признали Англия, Россия, Голландия. Одна¬
ко был и другой претендент — Карл-Альберт Баварский, которо¬
го поддерживали Франция, Испания, Саксония, утверждавшие,
что женщина не имеет права занимать императорский престол.
Очень многое в этой ситуации зависело от Пруссии.
Фридрих II решил использовать данное положение в своих
интересах. Пока в европейских столицах обсуждали законность
прав Марии-Терезии на престол, Фридрих II заявил о своих пре¬
тензиях на одну из богатейших провинций Австрийской импе¬
рии — Силезию, обуславливая этим свое согласие на признание
Марии-Терезии. Эти притязания, естественно, были отвергну¬
ты. Тогда Пруссия присоединилась к антиавстрийской коали¬
ции. Вспыхнула война, продолжавшаяся вплоть до 1748 года.
В итоге Мария-Терезия отстояла свои права на австрийский
престол, но Австрия все же лишилась Силезии, которая отошла
к Пруссии.
Эта война имела два главных следствия. Во-первых, резкое
усиление Пруссии нарушало устоявшийся баланс сил, усиливало
дестабилизирующие тенденции в развитии Вестфальской систе¬
мы. Во-вторых, к англо-французскому и франко-австрийскому
антагонизму добавился австро-прусский. Прежняя структура
международных отношений изменилась и заметно усложнилась,
в ней происходило неуклонное нарастание конфликтного потен¬
циала. Все это накладывалось на углубляющийся кризис «старо¬
го порядка» и сулило Европе серьезные потрясения.
В середине XVIII в. на международной арене развернулась
сложная перегруппировка сил, призванная адаптировать изменив¬
шиеся интересы ведущих стран Европы к новым реалиям. Задача
оказалась непростой, и решить ее мирным путем не удалось. Ито¬
гом сложных процессов, проходивших в это время в сфере между¬
народных отношений, стала Семилетняя война (1756-1763). Стро¬
го говоря, она вспыхнула несколько раньше, в 1754 г., когда на
границе английских и французских колониальных владений в Се¬
верной Америке начались постоянные пограничные стычки. Прав¬
да, поскольку тогда это была глубокая периферия «цивилизован¬
ного мира», в Европе эти события поначалу воспринимались от¬
носительно спокойно: в этом еще не видели повода для общеевро¬
пейской войны. Но напряженность в англо-французских отноше¬
ниях нарастала, и это заставляло обе стороны искать возможнос¬
ти для укрепления своих позиций.
Англия нуждалась в союзнике на континенте, которого мож¬
но было использовать в качестве противовеса Франции. Ее взо¬
ры обратились к Пруссии, динамично развивающемуся государ¬
58
ству, имевшему сильную сухопутную армию. Англия была го¬
това субсидировать Пруссию и поддерживать ее притязания на
объединение немецких земель в обмен на помощь в борьбе с
Францией. На этой основе и сложился англо-прусский альянс.
Это, в свою очередь, побуждало Францию искать союзников,
которые могли бы нейтрализовать Пруссию. Естественным
партнером в борьбе с ней могла стать Австрия, не простившая
вероломства Фридриха II. Общая опасность примирила тради¬
ционных противников и помогла сформировать франко-авст¬
рийский союз, который и был официально заключен в мае
1757 г. Бурное развитие событий в Европе встревожило Россию,
которая к этому времени стала играть весьма активную роль в
европейских делах. В англо-прусском союзе императрица Ели¬
завета и ее канцлер А. П. Бестужев не без основания усматри¬
вали угрозу государственным интересам своей страны. Поэто¬
му Россия решила поддержать Австрию, с которой в феврале
1757 г. был заключен союзный договор.
Все эти маневры в итоге привели к военному столкновению
противоборствующих группировок. Военный пожар охватил не
только Европу, но и Северную Америку, Вест-Индию, Индию.
Конфликты на разных театрах военных действий развивались по-
разному. В Европе прусские войска в самом начале войны нанес¬
ли ряд молниеносных ударов по французам и австрийцам, но
вступление в войну Российской империи резко изменило ситуа¬
цию не в их пользу. Ряд блестящих побед русской армии поставил
Пруссию на грань катастрофы. Фридриха II спасла лишь смерть
Елизаветы в январе 1762 г., в результате чего императором Рос¬
сии стал один из самых бездарных представителей дома Романо¬
вых — Петр III. Он недолго продержался на престоле, но за время
своего короткого царствования натворил массу глупостей. Бес¬
спорно, крупнейшей из них была чисто волюнтаристская переори¬
ентация внешнеполитического курса России. Новый император
не только отказался от всех завоеваний в Пруссии, но и изъявил
желание оказать Фридриху II помощь.
Неудачи на европейском театре военных действий Англия ком¬
пенсировала успехами на море, в Америке и в Индии. Там ей уда¬
лось нанести серьезные поражения своему основному конкурен¬
ту — Франции. Англичане заняли большую часть Канады и опор¬
ные пункты Франции в Индии. Их флот полностью доминировал
на морях.
Война закончилась двумя мирными договорами: Губерт-
сбургским (15 февраля 1763 г.) и Парижским (10 февраля 1763 г.).
Франция потеряла Канаду, французскую Луизиану (т.е. бассейн
реки Миссисипи) и большую часть своих владений в Индии, кото¬
59
рые отошли к Англии. Австрия теперь уже навсегда потеряла Си¬
лезию. Мария-Терезия сохранила, правда мало что значащую,
корону Священной Римской империи. Англия закрепила свое гос¬
подство на морях. В дополнение к французским владениям в Се¬
верной Америке она получила отторгнутую от Испании Флориду.
Таким образом, Англия лишила Францию возможности бороться
с ней на периферии системы. Что касается наметившегося русско-
прусского сближения, то оно не получило развития, ибо в том же
1762 г. Петр III был свергнут с престола, а новая государыня
Екатерина II аннулировала все внешнеполитические планы свое¬
го бывшего супруга.
Семилетняя война имела важные последствия для Вест¬
фальской системы, базовые параметры которой были серьезно де¬
формированы. Это выразилось, во-первых, в резком ослаблении
позиций Франции на международной арене, во-вторых, в измене¬
нии ситуации в Центральной Европе, где заметно укрепилась
Пруссия, претендовавшая на роль лидера в этом регионе, в-треть¬
их, в появлении новой великой державы, без которой отныне не
мог решаться ни один общеевропейский вопрос, — России. Все это,
естественно, подрывало тот баланс сил, который придавал устой¬
чивость Вестфальской системе. После Семилетней войны oi*a всту¬
пила в фазу распада.
Сильнейший удар по этой конструкции нанесли события в
Северной Америке. Англия, торжествовавшая свою победу в Се¬
милетней войне, вытеснив из Северной Америки Францию, пола¬
гала, что в этой части земного шара в обозримом будущем у нее не
будет серьезных проблем. Если в ходе войны она заигрывала с ко¬
лонистами, нуждаясь в их поддержке, то после победы метропо¬
лия развернула наступление на их права: им запрещалось пересе¬
ляться за Аллеганы, урезались полномочия органов местного са¬
моуправления, усиливалось налогообложение, воздвигались раз¬
личные рогатки на пути развития торговли и т.д. Поначалу коло¬
нисты не ставили вопрос о независимости. Они просто добивались
предоставления им таких же прав, как и жителям метрополии.
Однако английская корона не желала идти на уступки, и тог¬
да в 1775 г. в тринадцати английских колониях в Северной Аме¬
рике вспыхнуло восстание, в ходе которого было создано новое
независимое государство — Соединенные Штаты Америки. Это
было в полном смысле слова государство нового типа, образован¬
ное на чисто буржуазной основе. Несмотря на все усилия сильней¬
шей в мире державы подавить выступление своих подданных,
Англии в итоге (в 1783 г.) пришлось признать свое поражение и
смириться с появлением нового государства. Как справедливо от¬
мечал К. Маркс, победа американцев «прозвучала набатным ко¬
60
локолом для европейской буржуазии», призывая ее к решитель¬
ному слому «старого порядка».
Одновременно она еще больше ускорила эрозийные процессы
в Вестфальской системе. Война за независимость и появление на
международной арене государства качественно иного типа поста¬
вили в повестку дня новую для всех великих держав проблему —
о соотношении идеологических императивов с реальными государ¬
ственными интересами тех или иных стран.
В то время мир был практически тотально монархическим, и
в нем идеи республиканизма даже в самой умеренной трактовке
выглядели абсолютной крамолой на фоне общепринятых пред¬
ставлений, прямым вызовом всему существовавшему миропоряд¬
ку. Ситуация усугублялась тем, что колонисты восстали против
законной в глазах всей Европы власти метрополии и, следова¬
тельно, по всем правовым канонам того времени являлись пре¬
ступными бунтовщиками. Казалось бы, это создавало почву для
проявления «монархической солидарности». Однако в реально¬
сти события развивались совсем по другому сценарию. Недоволь¬
ные чрезмерным усилением Англии после Семилетней войны ев¬
ропейские монархи, прежде всего во Франции и Испании, уви¬
дели в событиях в Новом Свете хорошую возможность насолить
своему главному сопернику и хотя бы частично восстановить до¬
военный баланс сил. Руководство Франции и Испании, естествен¬
но, ни в коей мере не разделяло взглядов лидеров американской
революции, но реальные интересы этих стран в данном случае
явно перевесили идеологические стереотипы. Прагматизм возоб¬
ладал над идеологией.
После признания Англией независимости нового государства
встал вопрос о том, какое место оно займет в системе междуна¬
родных отношений, как оно будет строить отношения с другими
ее членами. По существу это означало, что в нее должно вписать¬
ся инородное тело. Ясно, что решение подобной сложной и бо¬
лезненной задачи вносило в нее дополнительный заряд неста¬
бильности.
Ее распад приближали и события на восточном фланге Евро¬
пы. Рамки Вестфальской системы становились все более тесны¬
ми и неудобными для новых великих держав — Пруссии и осо¬
бенно России. Она конструировалась без их участия, без учета
их интересов, и не удивительно, что и в Берлине, и в Петербурге
чем дальше, тем больше высказывали неудовлетворенность су¬
ществовавшим миропорядком, всерьез размышляли о возмож¬
ности его модернизации. Наиболее активно в этом плане действо¬
вала Россия, которая со второй половины 60-х годов XVIII в. при¬
ступила к созданию, говоря современным языком, локальной
61
подсистемы, т.н. «Северной системы», которая обеспечивала бы
России надежный контроль за всем Балтийским регионом, а это
открывало в перспективе широкие возможности для эффектив¬
ного влияния на все общеевропейские дела. Реализация этой дол¬
госрочной программы связана прежде всего с именем Н. И. Па¬
нина, который почти 20 лет стоял во главе российской внешней
политики.
Смысл его стратегического плана состоял в том, чтобы выст¬
роить в Северной и отчасти Центральной Европе систему союзов
под эгидой России, жестко ориентированную на нее. К участию в
этом прообразе регионального блока предполагалось привлечь
Пруссию, Польшу, Данию, Швецию и Саксонию. Ключевую роль
должен был сыграть альянс с Пруссией, которую, как уже отме¬
чалось, не устраивало существовавшее статус-кво. Именно это ста¬
ло основой для заключения в 1764 г. договора с Пруссией о взаим¬
ных гарантиях территориальных владений друг друга, а в секрет¬
ной конвенции предусматривалось и оказание военной помощи в
случае нападения третьей страны на одну из этих двух держав. В
дальнейшем Панин намеревался подключить к этой оси другие
страны Балтийского региона.
В полном объеме реализовать план «Северной системы» не
удалось, ибо Пруссия не собиралась играть роль статиста в слож¬
ной дипломатической игре, начатой Россией. Тем не менее борьба
за реализацию этого масштабного проекта привела к серьезной
перегруппировке сил и вносила свою лепту в общий процесс рас¬
шатывания устоев Вестфальской системы.
Не меньшую активность проявляла Россия и на своих юго-за¬
падных рубежах. В серии победоносных русско-турецких войн
(1768-1774 и 1787-1791) Россия решила проблему безопасности
своих юго-западных границ. По Кючук-Кайнарджийскому
(1774 г.) и Ясскому (1791 г.) миру все Северное Причерноморье
(Южная Украина, Крым, Северное Предкавказье) вошло в состав
Российской империи. Османская империя вступила в полосу за¬
тяжной агонии, растянувшейся до Первой мировой войны. С кон¬
ца XVIII в. в повестку дня международных отношений надолго
вошел так называемый восточный вопрос, т.е. проблема раздела
имущества разваливавшейся Османской империи.
В конце XVIII в. прекратило свое существование некогда мо¬
гущественное Польское государство. Поляки любят обвинять в
своих бедах русских, немцев, австрийцев. Но претензии следует
предъявлять прежде всего к тогдашней польской элите, своеко¬
рыстная, нередко близорукая политика которой привела страну к
национальной катастрофе. Государственное устройство Речи По-
сполитой, позволявшее каждому члену сейма блокировать любое
62
решение, привело к тому, что к последней трети XVIII в. это госу¬
дарство оказалось в состоянии глубочайшего коллапса. Видя его
полную неспособность не только к развитию, но даже к решению
вопросов, связанных с обеспечением собственной безопасности и
поддержанием суверенитета, его соседи — Австрия, Пруссия и
Россия — взяли курс на раздел Польши. В результате трех разде¬
лов (1772, 1793 и 1795) эта страна исчезла с политической карты
Европы, а ее земли вошли в состав трех указанных сопредельных
государств.
Последний, решающий удар, похоронивший Вестфальскую
систему, был нанесен событиями во Франции. Там в 1789 г.
вспыхнула грандиозная революция, поставившая точку в исто¬
рии «старого порядка», а вместе с ним и в истории Вестфальской
системы.
ГЛАВА IV
На рубеже новой эры: западная
цивилизация в конце XVIII —
начале XIX вв.
§ 1. Война за независимость
и образование США
Сегодня бесспорным лидером и гарантом западной цивилиза¬
ции являются Соединенные Штаты Америки. Они претендуют на
то, чтобы играть ведущую роль в мировых делах, служить этало¬
ном государственного устройства, научно-технического прогресса,
стиля жизни. Ныне они действительно оказывают весьма большое
воздействие на динамику развития мирового сообщества. А начи¬
налось все с тринадцати английских колоний, занимавших узкую
прибрежную полосу земли на побережье Атлантического океана.
Их население быстро росло, они интенсивно осваивали дев¬
ственную территорию, закладывали все новые и новые поселения,
некоторые из которых (Нью-Йорк, Бостон, Балтимор, Филадель¬
фия, Чарлстон, Норфолк) к середине XVIII века превратились в
крупные города. Стала появляться и собственная промышлен¬
ность. Особенно бурно развивалось судостроение. Развитие торгов¬
ли стало важным источником первоначального накопления капи¬
талов в колониях. К середине XVIII в. представители торгово-фи¬
нансового капитала занимали весьма заметное место в колониаль¬
ном обществе. Вплоть до этого рубежа отношения североамерикан¬
ских колоний с метрополией, хотя и нельзя назвать бесконфликт¬
ными, но в то же время очевидно, что в целом элементы согласия в
них преобладали и ни та, ни другая сторона не были заинтересова¬
ны в стимулировании конфликта. IJo крайней мере, ничего не
64
предвещало того социально-политического взрыва, который про¬
изошел спустя всего четверть века.
Ситуация стала быстро меняться после Семи летней войны,
которую большинство исследователей рассматривает как исход¬
ный пункт противоборства, которое в итоге привело к образова¬
нию нового государства. Дело в том, что в ходе войны англичане
вынуждены были активно прибегать к помощи колонистов. Те
охотно им помогали, полагая, что, вытеснив французов, они по¬
лучат доступ к новым землям, что будет дан мощный импульс к
развитию ремесел и торговли, что англичане расширят права са¬
моуправления колоний.
Однако в действительности развитие событий пошло по совсем
иному сценарию. Британская корона «в знак благодарности» на¬
чала широкое наступление на права колонистов. В 1764 г. был
принят акт Гренвеля, увеличивавший пошлины на целый ряд то¬
варов. Был запрещен выпуск бумажных денег, что нанесло тяже¬
лый удар по внутриколониальной торговле. Войска, участвовав¬
шие в войне, остались в Америке, и их содержание ложилось на
плечи колонистов. И что самое главное, колонистам запрещалось
переселяться за Аллеганы, на новые земли, отошедшие после вой¬
ны к Англии. Этим актом перечеркивались все надежды колонис¬
тов на получение земли. А в 1765 г. был принят «закон о гербовом
сборе», облагавший налогом все торговые операции, все сделки,
любые юридические акты.
Возмущению колонистов не было предела. Корона откровенно
демонстрировала им, что они являются людьми «второго сорта».
Во всех колониях развернулась кампания протеста против «закона
о гербовом сборе». Колонисты требовали, чтобы впредь новые нало¬
ги вводились только с одобрения их представительных органов —
колониальных ассамблей. «Никаких налогов без представитель¬
ства!» — таков был наиболее популярный лозунг тех дней. Хотя ан¬
глийское правительство вынуждено было отменить «закон о гербо¬
вом сборе», оно не отказалось от попыток полностью поставить под
контроль развитие колоний. В 1767 г. был принят законХауншед:
^да, вводивший новые, на этот раз косвенные налоги. Но вновь вла¬
сти столкнулись с решительным сопротивлением колонистов. В
итоге остался только налог на чай. Но и он вызывал протесты. Сре¬
ди колонистов возникла идея бойкота английских товаров.
Обстановка с каждым днем становилась все более напряжен¬
ной. Английские власти, не считаясь ни с чем, гнули прежнюю
линию. В колониях назревал взрыв. В декабре 1773 г. в Бостоне
группа колонистов во главе с С. Адамсом и Дж. Хэнкоком пробра¬
лась на английские суда и выбросила за борт груз чая. Это собы¬
тие вошло в историю под названием «бостонское чаепитие». В от¬
65
вет были приняты «пять нестерпимых актов»: бостонский порт
был закрыт, законодательное собрание Массачусетса (колонии, где
находился Бостон) распущено, власть перешла к военному губер¬
натору генералу Т. Гейджу, в колониях расквартировывались до¬
полнительные войска и, наконец, все земли, лежавшие к северо-
западу от Массачусетса, за Аллеганами, передавались Квебеку.
Несмотря на то что эти акты были направлены только против
одной колонии — Массачусетса, жители остальных двенадцати
колоний справедливо усматривали в них угрозу и для себя. По всей
стране стали создаваться «Корреспондентские комитеты», кото¬
рые стали координировать действия противников английской ко¬
роны во всех колониях. В ходе этой борьбы у колонистов росло
чувство общности интересов, осознание того, что в колониях сфор¬
мировалась новая этническая общность — американцы, у которых
своя культура, свои традиции, свои интересы, свое будущее, от¬
личное от Англии.
В сентябре 1774 г. в Филадельфии собрался I Континенталь¬
ный конгресс. В его работе участвовали 56 представителей от 12
колоний. В итоге была принята «Декларация прав». Поскольку
на конгрессе доминировали умеренные круги, не готовые к откры¬
тому разрыву с метрополией, то и в документе требования коло¬
нистов были сформулированы соответствующим образом. Суть их
сводилась к тому, что впредь все законы, касающиеся жизни в ко¬
лониях, должны принимать представители самих колонистов. Это
была последняя попытка умеренных кругов добиться компромисс¬
ного решения спорных вопросов и не доводить дело до открытого
разрыва с Англией.
Однако для компромисса необходимо обоюдное желание уча¬
стников конфликта, а у Англии его явно не было. В Лондоне вер¬
ховодила «партия войны», которая полагала, что дерзким коло¬
нистам надо преподать достойный урок и отбить у них охоту к
вольнодумству. В апреле 1775 г. начались вооруженные столк¬
новения между английскими войсками и отрядами «минитме-
нов» (колонистов, готовых в любой момент собраться по тревоге
и с оружием в руках защищать свои права). Одновременно нара¬
стала и политическая борьба. В мае 1775 г. собрался
II Континентальный конгресс, которому и суждено было провоз¬
гласить создание нового государства. На этот раз среди его деле¬
гатов перевесом обладали сторонники отделения от метрополии.
15 июня был принят закон о создании революционной армии, во
главе которой встал пользовавшийся большим авторитетом и
известностью Джордж Вашингтон.
Правда, и после этого делегаты Континентального конгресса
продолжали испытывать серьезнее колебания по поводу того, как
66
строить отношения с Англией. Хотя де-факто колонисты уже ока¬
зались в состоянии войны с метрополией, участники конгресса
никак не могли расстаться с иллюзией, что примирение все еще
возможно. Под давлением умеренных конгресс направил Георгу III
так называемую «Петицию оливковой ветви». Само название го¬
ворило о содержании этого документа: это была последняя попыт¬
ка примирения. Однако в Лондоне ее решительно отвергли, посчи¬
тав проявлением слабости, и взяли курс на вооруженное подавле¬
ние «мятежа». Такая тактика англичан исключала шансы на дос¬
тижение компромисса, и это все яснее понимали политические
лидеры колонистов.
Все исследователи отмечают, что очень большую роль в ради¬
кализации настроений американцев сыграло появление в 1776 г.
памфлета Т. Пейна «Здравый смысл». В истории общественной
мысли найдется не так уж много политических эссе, сопостави¬
мых по силе эмоционального воздействия на общество с работой
Пейна. Не согласный с политикой Георга III Т. Пейн в 1774 г. пе¬
реселился за океан, где сразу попал в атмосферу надвигавшегося
социального взрыва. Его симпатии без колебаний были отданы ко¬
лонистам. В своем памфлете, тираж которого превысил 100 тыс. —
цифра даже по сегодняшним меркам большая, он убеждал своих
новых соотечественников, что нельзя одновременно оставаться
лояльными короне и в то же время вести с ней борьбу за свои пра¬
ва. «Оружие, как последнее средство, решает сейчас спор», —
убеждал он. Только провозглашение независимости поможет ко¬
лонистам решить их проблемы и создать общество, свободное от
тирании, в котором его граждане действительно смогут в полном
объеме реализовать «естественные права», считал Пейн.
Страстные призывы Пейна к войне оказали огромное влияние
на умонастроения современников, в том числе и на членов Конти¬
нентального конгресса, где укрепились позиции сторонников пол¬
ного разрыва с Англией. К этому их подталкивала и политика мет¬
рополии, и общая ситуация в стране. В итоге 4 июля 1776 г. была
одобрена подготовленная Томасом Джефферсоном Декларация
независимости, провозглашавшая отделение колоний от Великоб¬
ритании. Это один из самых известных документов Нового време¬
ни, оказавший огромное влияние на дальнейшее развитие поли¬
тической мысли не только в Америке, но и в Европе.
Необходимо отметить несколько ключевых идей, содержав¬
шихся в этом документе. Отправным пунктом Декларации неза¬
висимости стало положение об естественных правах человека, в
его радикальной трактовке. Если Локк выделял в качестве есте¬
ственных прав жизнь, свободу и собственность, то Джефферсон
заменил «собственность» на «стремление к счастью». Джеффер¬
67
сон исходил из того, что все люди рождены равными и, следова¬
тельно, должны иметь равные права. Второй принципиальный
момент Декларации — положение о народном суверенитете, со¬
гласно которому источником власти является народ. Каждое по¬
коление должно заключать с властью общественный договор. Толь¬
ко в этом случае власть легитимна. И, наконец, третье: если власть
не хочет заключать подобный договор или нарушает его, народ
имеет право на восстание. Именно эти идеи сделали Декларацию
независимости документом огромного исторического значения, не
утратившим актуальность и сегодня.
Провозглашение независимости, безусловно, сыграло чрезвы¬
чайно важную роль в развитии борьбы американцев за свои пра¬
ва. Этот документ открывал новую страницу в истории междуна¬
родного права и государственного строительства. Однако незави¬
симость мало было провозгласить — ее предстояло завоевать, до¬
казать всему миру, что под этим актом есть серьезные основания.
Судьба молодого государства решалась не в стенах конгресса,
а на полях сражений. А там поначалу дела шли весьма неудачно
для американцев. Это и не удивительно. Колонистам противосто¬
яла хорошо обученная регулярная армия, прекрасно укомплекто¬
ванная и дисциплинированная. Акт о создании революционной
армии сам по себе ничего не решал. Все приходилось начинать с
нуля. Поэтому первые годы стратегическая инициатива полнос¬
тью находилась в руках англичан. Перелом наметился в 1777 г.,
когда в битве под Саратогой американцам удалось нанести первое
крупное поражение англичанам. После этого чаша весов начала
неуклонно склоняться на сторону армии, ведомой Дж. Вашингто¬
ном. Наконец в 1781 г. в битве под Йорктауном ей удалось нанес¬
ти англичанам решающее поражение, предопределившее итог всей
кампании. По мирному договору, подписанному в 1783 г. в Верса¬
ле, англичане вынуждены были признать независимость своих
бывших колоний.
Независимость была завоевана, но в тот момент вряд ли кто
мог поручиться за будущее нового государства. Предстояло решить
три крупных комплекса вопросов: 1) найти оптимальную модель
государственного устройства; 2) по возможности снять напряжен¬
ность в сфере социально-экономических отношений; 3) получить
международное признание и определить перспективный внешне¬
политический курс.
Еще в 1777 г. в ходе войны бывшие колонии, понимая необхо¬
димость консолидации усилий в борьбе с метрополией, предпри¬
няли шаги по созданию общего для всех государства. Были одоб¬
рены «Статьи Конфедерации», которым отводилась роль основно¬
го закона нового государства. Поскольку американцы еще испы¬
68
тывали определенные сомнения и опасения по поводу создания
единого государства, то для своего объединения они выбрали фор¬
му конфедерации — союза отдельных государств (штатов), сохра¬
няющих достаточно высокую степень автономности в решении
внутренних вопросов. Сообща решались главным образом пробле¬
мы, связанные с внешнеполитической деятельностью, ведением
войны и ее материальным обеспечением.
В таком состоянии новое государство закончило войну. Моло¬
дая республика оказалась в сложном экономическом положении.
В стране бушевала инфляция, новые деньги мало что стоили. На¬
пример, в Виргинии бумажные деньги обменивали на серебро по
курсу 1:1000, а в Северной Каролине — 1:800. Кредиторы стреми¬
лись получить свои долги в твердой валюте, должники — отдавать
их в дешевых деньгах. Само государство переживало тяжелый
финансовый кризис. Его платежеспособность была предельно низ¬
кой. Не хватало средств для содержания даже небольшого госу¬
дарственного аппарата. Остро стоял и вопрос об условиях доступа
к западным землям.
Частично развязку этих проблем удалось найти после приня¬
тия в 1785-1786 гг. Северо-западных ордонансов. Западные зем¬
ли были открыты для заселения. Было заявлено, что там в перс¬
пективе будут создаваться новые штаты. На этих территориях из¬
начально запрещалось рабство. Наконец, создавался фонд государ¬
ственных земель. Они поступали в продажу участками по 640 ак¬
ров по цене 1 доллар за акр. Эти средства и создали основу госу¬
дарственных финансов. Однако проблема долгов по-прежнему сто¬
яла остро. В 1786 году вспыхнуло восстание во главе с бывшим
офицером революционной армии Д. Шейсом. Восстание было по¬
давлено, но социальная обстановка оставалась напряженной.
Общее состояние социально-экономической сферы, тяжелое
финансовое положение страны, непрочные внешнеполитические
позиции побуждали элиту молодой заокеанской республики уси¬
ленно искать пути укрепления государства, повышения эффектив¬
ности государственных механизмов. С каждым днем становилось
все очевиднее, что «Статьи Конфедерации» не способны исполнять
роль основы только что родившегося государства.
К этому подталкивала лидеров нового государства и общая
международная обстановка. Хотя Англия официально признала
независимость США, было очевидно, что при дворе Георга III от¬
нюдь не смирились с поражением. В бывшей метрополии имелись
весьма влиятельные силы, которые мечтали о скором реванше,
рассматривали договор 1783 г. как печальное, но временное недо¬
разумение. Было ясно, что над молодым государством нависла се¬
рьезная угроза, требовавшая максимальной консолидации всех его
69
ресурсов, в том числе и укрепления положения на международ¬
ной арене. Задача эта была весьма непростой, ибо с окончанием
Войны за независимость отношение ведущих европейских держав
к США претерпело определенные изменения. Когда Франция и
Испания решили поддержать восставших против Англии колони¬
стов, они руководствовались сугубо прагматическими расчета¬
ми — ослабить своего главного конкурента. В определенной мере
эта задача к 1783 г. была выполнена. Престиж Англии, а следова¬
тельно, и ее влияние в системе международных отношений были
несколько поколеблены. Но означало ли это, что монархические
Франция и Испания будут и дальше поддерживать государство с
совершенно чуждой им системой ценностей?
Вопрос отнюдь не риторический. Даже помогая колонистам,
творцы внешней политики Франции и Испании испытывали по¬
стоянные колебания по поводу того, насколько рациональна под¬
держка людей, бросивших открытый вызов «старому порядку».
Добившись того, что их основному сопернику был нанесен ущерб,
Франция и Испания имели все основания задуматься над тем, как
строить Дальнейшие отношения с новым государством, тем более
что его перспективы были весьма туманны. Однако для США ока¬
заться в изоляции в условиях вполне вероятного нового конфлик¬
та с Англией было крайне опасно. Вполне естественным было же¬
лание американцев обеспечить себе максимально благоприятную
внешнюю среду существования, наладить контакты с другими
странами. Европейские державы, прежде чем определять свое от¬
ношение к США, предпочитали убедиться в жизнеспособности
нового государства. И в этом контексте от принятия новой, дей¬
ственной Конституции также зависело очень многое. Комплекс
этих причин и поставил в повестку дня вопрос о пересмотре «Ста¬
тей Конфедерации» и выработке новой, более эффективной кон¬
ституции.
С этой целью в мае 1787 г. в Филадельфии собрался Конститу¬
ционный конвент. В его работе участвовало 55 человек, которые
вошли в историю под именем «отцов-основателей» США. Им пред¬
стояло решить целый комплекс непростых задач, не имевших ана¬
логов в истории. В том, что новое государство нужно укреплять,
были уверены все. Большинство участников конвента сходилось
во мнении, что конфедерация нежизнеспособна, нужен иной тип
государства. Но какой? Как добиться оптимального сочетания об¬
щегосударственных интересов и очень разных запросов отдельных
штатов? В ходе жарких дискуссий их участники стали склонять¬
ся к мысли, что оптимальной формой союза штатов должна стать
федерация. Но, решив эту ключевую проблему, делегаты конвен¬
та сразу же столкнулись с новым комплексом спорных вопросов.
70
Прежде всего, по каким принципам будет формироваться предста¬
вительство штатов в общефедеральном законодательном органе,
который будет осуществлять в стране высшую законодательную
власть?
Южные штаты настаивали на том, чтобы представительство
штатов в этом органе исчислялось в зависимости от общего насе¬
ления штата. Северные штаты выступали за то, чтобы все штаты
(и большие, и малые) имели там равное представительство. В ито¬
ге был достигнут компромисс: конгресс (так назывался высший
законодательный орган) было решено сделать двухпалатным, в
верхнюю палату — сенат — каждый штат посылал равное коли¬
чество представителей (по 2 человека), в нижней палате делега¬
ция штата формировалась в зависимости от численности его насе¬
ления. Серьезные споры возникли и в процессе обсуждения воп¬
роса о принципах формирования финансовой базы государства, т.е.
о налогах, а также о судьбе института рабства. Но и здесь удалось
достичь компромисса. Конгресс получил право вводить налоги в
соответствии с потребностями государства; институт рабства ос¬
тавался в неприкосновенности (правда, после 1808 г. запрещался
ввоз новых рабов в США из Африки), при исчислении доли пря¬
мых налогов в общее число населения штата включалось 3/5 ра¬
бов, которые, однако, не имели никаких прав.
В соответствии с текстом новой Конституции государственное
устройство США базировалось на принципах разделения властей.
Высшая исполнительная власть принадлежала президенту, изби¬
раемому коллегией выборщиков раз в 4 года. Высшая законода¬
тельная власть вручалась конгрессу, состоявшему из двух палат,
и, наконец, высшая судебная власть — Верховному суду, который
позднее присвоил себе Ьраво интерпретировать Конституцию.
Классический принцип разделения властей был в США усовершен¬
ствован за счет дополнения его принципом «сдержек и противове¬
сов», согласно которому каждая из ветвей власти имела возмож¬
ность нейтрализовать узурпаторские поползновения другой. В
итоге создавался единый, интегрированный государственный ком¬
плекс с разделением его на формально независимые ветви власти.
Для того чтобы Конституция вступила в действие, ее должны
были ратифицировать как минимум 9 из 13 штатов. У нее было
немало сторонников, которых называли федералистами, но были
и противники — антифедералисты. Лидеры федералистов А. Га¬
мильтон, Дж. Мэдисон, Дж. Джей развернули по всей стране ак¬
тивную кампанию в поддержку Конституции. Чтобы нейтрализо¬
вать своих оппонентов, им пришлось пойти на уступку: текст Кон¬
ституции был дополнен 10 поправками, которые назвали «Бил¬
лем о правах». В них содержались гарантии рсновных гражданс¬
71
ких свобод: совести, печати, союзов, собраний, права ношения
оружия и т.д. Только после этого Конституция была ратифициро¬
вана. Острейшая борьба вокруг ее ратификации оказала большое
воздействие на молодое американское общество. В нем наметились
серьезные размежевания относительно ключевых вопросов госу¬
дарственного строительства. Что может и должно делать федераль¬
ное правительство и чего оно не может и не должно делать? За эти¬
ми сугубо правовыми спорами вставали гораздо более широкие
вопросы о том, каким быть американскому обществу, каким кур¬
сом следует двигаться государственному кораблю США. Эти спо¬
ры, начавшиеся в конце 80-х годов XVIII в., продолжались всю
первую половину XIX в., вызвали немало острейших политичес¬
ких коллизий и во многом предопределили общую динамику раз¬
вития американского общества.
В ходе дебатов вокруг проекта Конституции выкристаллизо¬
вались два подхода к вопросу о характере будущей федерации. И
сторонники ее укрепления, и те, кто хотел бы ограничить полно¬
мочия федеральных властей в пользу штатов, смогли не только
отточить в процессе этой борьбы свои аргументы, очертить конту¬
ры идейных концепций, но и приобрести первый важный опыт
ведения легитимной политической деятельности. Дело в том, что
в ходе ратификации Основного закона его творцам не удалось ог¬
раничить дебаты узкими рамками политической элиты. Стремясь
укрепить собственные позиции, и противники, и сторонники Кон¬
ституции вынуждены были апеллировать к общественному мне¬
нию, мобилизовать его в поддержку своей идейно-политической
платформы. В результате политическая борьба вырвалась за сте¬
ны штатных конвентов, где, по сути, келейно обсуждался вопрос
о ратификации. В этой обстановке «отцам-основателям» США по¬
мимо собственного желания пришлось учиться работать с рядо¬
выми американцами.
При всей остроте и серьезности сложившейся ситуации, по¬
литической элите США удалось удержать ее в легитимных рам¬
ках. Именно в это время был дан первый импульс зарождению
двухпартийной системы, без которой немыслимо представить себе
современные Соединенные Штаты. Надо сказать, что в тексте са¬
мой Конституции о партиях не говорится ни слова. Более того,
хорошо известно, что «отцы-основатели» США изначально счита¬
ли партии ненужным и даже вредным политическим институтом.
Это и не удивительно, ибо они понимали под партией «группу
людей, организованную для того, чтобы обеспечить собственную
выгоду за счет общества». Однако потребность в новых полити¬
ческих инструментах, которые позволяли бы даже в ходе острей¬
ших идеологических столкновений не выходить за рамки едино¬
72
го правового пространства и в то же время подключать к полити¬
ческому процессу рядовых избирателей и удерживать их актив¬
ность под надежным контролем элиты, заставила «отцов-основа-
тел ей» начать пересмотр своих представлений о роли и месте
партий в жизни общества.
Так возникли протопартии — федералисты и антифедералис¬
ты, которые, несмотря на свою архаичность и недолговечность,
сыграли важную роль в завершении процесса конституирования
Соединенных Штатов. Они позволили ввести острейшие коллизии
в русло избирательного процесса. Вместо строительства баррикад,
американцы предпочли решать свои споры у избирательных урн.
Ратификация Конституции создала условия для проведения об¬
щенациональных выборов в федеральные органы власти, а прото¬
партии сумели убедить своих приверженцев, что это единственно
разумный способ решения спорных вопросов, единственная воз¬
можность обеспечить целостность и выживание нового государ¬
ства. На базе положений Конституции в 1789 г. были проведены
первые выборы американского президента. Бесспорным кандида¬
том на этот пост был Джордж Вашингтон, который и стал первым
главой Соединенных Штатов.
Это событие подвело черту под сложным, драматическим и
героическим периодом американской истории. В Северной Аме¬
рике образовалось и прошло серьезное испытание на прочность
первое чисто буржуазное государство. В ходе непростых колли¬
зий, которыми сопровождалось его становление, закладывались
основы политической культуры, формировались нормы функци¬
онирования политической системы, образованной на принципи¬
ально иной, чем в Старом Свете, основе. Строительство нового го¬
сударства шло параллельно с развитием нового общества, свобод¬
ного от наслоений прошлого. Это не в последней степени сказа¬
лось на том, что в Новом Свете конфликты, как правило, не дости¬
гали такой остроты, как в Европе. Перед новым государством сто¬
яло немало проблем, по существу начинался эксперимент огром¬
ного исторического масштаба. Но уже само его начало серьезней¬
шим образом отозвалось на развитии событий в Европе.
§ 2. Великая французская революция
Если американская революция прозвучала набатным колоко¬
лом, провозвестником конца «старого порядка», то похоронила его
революция во Франции. Это было событие поистине огромного
исторического масштаба, открывшее новую главу в летописи че¬
ловеческой цивилизации. Ее отзвуки еще долго ощущались не
73
только во Франции, но и во всей Европе и в Новом Свете. Почти
четверть века вся Европа бурлила, исчезали и возникали новые
государства, менялся стиль мышления и поведения людей, евро¬
пейское общество обретало новое качество.
А исходный импульс этим событиям дала все та же Семилет¬
няя война, которая наглядно продемонстрировала ослабление мощи
королевской Франции, еще недавно государства номер один в Ев¬
ропе. В политической и интеллектуальной элите Франции активно
обсуждался вопрос о том, как излечить явно больное общество, вдох¬
нуть в него новые силы. Было очевидно, что как минимум необхо¬
димо вносить коррективы во внутриполитический курс, менять
стиль и методы управления государством, искать способы стиму¬
лирования экономики, оздоровления финансов. Попытки хотя бы
частично решить эти проблемы предпринимал министр финансов
Людовика XVI Жан Тюрго, но, связанный по рукам и ногам кано¬
нами и стереотипами, характерными для «старого порядка», он не
смог существенно продвинуться в решении насущных задач.
Ситуация тем временем продолжала осложняться. Во второй
половине 80-х годов XVIII в. на страну обрушился тяжелейший
торгово-промышленный кризис, вызванный наплывом дешевых
английских товаров. Несколько лет подряд во Франции был жес¬
токий неурожай. В итоге государство оказалось на грани банкрот¬
ства. Чтобы его избежать, власти попытались получить заем у бан¬
киров, но те отказывали в кредитах без серьезных гарантий. Тог¬
да решено было пригласить на пост министра финансов известно¬
го швейцарского банкира Ж. Неккера, имя которого ассоцииро¬
валось с планами проведения перестройки всей налогово-финан¬
совой системы. Для того чтобы придать предполагаемым рефор¬
мам финансовой сферы максимум легитимности, Людовику XVI
пришлось вспомнить о давно не собиравшихся Генеральных шта¬
тах (последний раз они созывались в 1614 г.).
, 5 мая 1789 г. в Версале начали работу Генеральные штаты. 270
депутатов представляли дворянство, 291 — духовенство, 572 —
третье сословие. Король полагал, что работа этого органа сведется
к одобрению его предложений по налоговой реформе. Но с самого
начала события стали разворачиваться по совершенно иному сце¬
нарию. Представителей третьего сословия не устраивала роль ста¬
тистов. С момента открытия Генеральных штатов они взяли ини¬
циативу в свои руки и 17 июля добились того, что прошло предло¬
жение об объявлении этого форума Национальным собранием, т.е.
органом, представляющим интересы всей нации. После некоторой
растерянности король перешел в контрнаступление — 23 июня
отменил это решение и объявил, что из ведения Генеральных шта¬
тов изымаются все дела, касающиеся прав и прерогатив первых
74
двух, привилегированных сословий. В свою очередь, депутаты
третьего сословия отказались выполнить волю короля.
В окружении короля все больше укреплялись позиции тех, кто
полагал, что пора положить конец заигрываниям с третьим сосло¬
вием и вообще реформам. К Парижу стали стягиваться королевс¬
кие войска. 12 июля было принято решение о смещении Неккера
с его поста, а на следующий день в городе вспыхнуло восстание. К
утру 14 июля пал последний оплот короля — крепость-тюрьма
Бастилия. Весь город был в руках восставших. Инициатива теперь
полностью перешла в руки Национального собрания.
В августе 1789 г. депутаты приняли два важных решения. Во-
первых, безвозмездно отменялась церковная десятина, остальные
повинности крестьян подлежали выкупу. Во-вторых, 26 августа
1789 г. была принята Декларация прав человека и гражданина, в
которой были провозглашены общие принципы построения ново¬
го общества. Идеи этого документа были во многом созвучны Дек¬
ларации независимости — естественные права человека как осно¬
ва нового общества, равенство всех перед законом, принцип на¬
родного суверенитета.
Начался новый виток политической борьбы, центром кото¬
рой являлось Национальное собрание. На первых порах там гос¬
подствовали умеренные монархисты-конституционалисты. Их
лидерами были хорошо известные и популярные в стране мар¬
киз Ж. Лафайет и граф О. де Мирабо. Небольшую группу левых
депутатов возглавлял молодой Максимилиан Робеспьер, будущий
лидер якобинцев. Собрание ликвидировало сословные привиле¬
гии, институт наследственного дворянства, цеховую систему, внут¬
ренние таможни, конфисковало церковные землевладения.
К сентябрю 1791 г. завершилась подготовка первой Консти¬
туции Франции. Исполнительная власть оставалась у короля и
назначаемых им министров. Король обладал правом «задержи¬
вающего вето», т.е. мог на время блокировать меры, одобренные
высшей законодательной властью. Она сосредоточивалась в од¬
нопалатном Законодательном собрании. Судебная система осно¬
вывалась на выборности судей и участии присяжных в разбира¬
тельстве. Наконец, перестраивалась структура местного самоуп¬
равления. Вся Франция была разбита на 83 департамента, власть
в которых принадлежала выборным советам. Обговаривалась в
Конституции и система выборов: они были цензовые, двухсту¬
пенчатые. Право голоса получили лишь мужчины, достигшие 25
лет, платившие прямой налог не меньше 1,5 ливров. Таковых во
Франции оказалось примерно 4,3 млн. человек из 26-миллион¬
ного населения. Они выбирали выборщиков, а те уже избирали
депутатов.
75
Все это, естественно, никак не устраивало короля и его окру¬
жение. Там вынашивались планы переворота. Но, находясь в ре¬
волюционном Париже, король мало что мог сделать, поэтому в
ночь на 21 июня 1791 г. королевская семья бежала из столицы и
попыталась достичь австрийской границы, чтобы из-за рубежа
возглавить борьбу контрреволюционных сил. Однако эта попыт¬
ка не удалась: недалеко от границы, в местечке Варенн, беглецы
были задержаны и под охраной возвращены в Париж.
Эти события послужили мощнейшим стимулом для дискус¬
сии о судьбах монархии. Если до этого революционный лагерь был
в принципе един, то теперь он раскололся на сторонников полного
уничтожения монархии и их оппонентов. Это в полной мере под¬
твердилось, когда 1 октября 1791 г. началась работа избранного
согласно Конституции Законодательного собрания. Поначалу
большинством там обладали так называемые фельяны, представ¬
лявшие интересы умеренных кругов французского общества. Их
лидеры А. Варнав и Ж. Лафайет стремились сохранить монархию,
не допустить углубления раскола общества й его радикализации,
ограничить преобразования тем, что уже сделано. Однако с нача¬
лом революции общество пришло в движение, в нем превалирова¬
ли радикальные настроения, господствовало стремление реши¬
тельно покончить со всеми проявлениями «старого порядка», в том
числе и с монархией. В Законодательном собрании эта группиров¬
ка насчитывала 136 депутатов. Поскольку многие из них представ¬
ляли департамент Жиронда, то и всех их окрестили Жирондиста-
W/Mx лидеры Ж. П. Бриссо, Ж. А. Кондорсе выступали за созда¬
ние во Франции максимально благоприятных условий для разви¬
тия частнособственнических отношений. Для этого, по их мнению,
государство должно было полностью уйти из сферы экономичес¬
ких отношений, не регламентировать и сдерживать частную ини¬
циативу, а предоставить ей максимальный простор. А для этого
надо было решительно порвать со всеми проявлениями «старого
порядка», в том числе и с монархией.
Дебаты в Законодательном собрании протекали на фоне обо¬
стрения социально-политической обстановки. В деревне разгора¬
лась «война против замков»: крестьяне решительно добивались
немедленного уничтожения всех оставшихся элементов феодализ¬
ма в аграрной сфере. Неспокойно было и в городах. В стране сви¬
репствовала инфляция, неуклонно росли цены, особенно на про¬
довольствие. Поэтому появилось требование о контроле над цена¬
ми на продукты. Активизировались и роялисты. Поскольку в са¬
мой Франции их возможности были ограничены, многие из них
эмигрировали за рубеж. Центром роялистской эмиграции стал
немецкий город Кобленц. Там было создано эмигрантское прави¬
76
тельство и формировалась «армия вторжения». В конце 1791 —
начале 1792 г. по Франции прокатилась волна контрреволюцион¬
ных выступлений. Это повышало оптимизм монархистов. Были
интенсифицированы усилия по созданию антифранцузской коа¬
лиции» душой которой стала Австрия.
К весне 1792 г. обстановка накалилась до предела.
Людовик XVI, полагавший, что в столкновении с антифранцузс¬
кой коалицией Франция неизбежно потерпит поражение и тогда
можно будет приступить к реставрации «старого порядка», не воз¬
ражал против намерений наиболее воинственных представителей
жирондистов, рвавшихся в бой против коалиции. В апреле 1792 г.
началась врйад. Франции с Австрией, к которой присоединилась
Пруссия. Начало войны было крайне неудачным для Франции. Ее
армия терпела поражение за поражением, что было не удивитель¬
но, ибо офицерский корпус в своей основе был промонархическим
и не желал бороться за новую Францию.
Над страной нависла реальная угроза иностранной оккупации.
И тогда в июне 1792 г. Законодательное собрание приняло декрет,
провозгласивший: «.«Отечество в опасности!» Из добровольцев ста¬
ли формировать батальоны новой революционной армии. Ради¬
кальные элементы революционного лагеря настойчиво требовали
упразднения монархии и ареста короля, обвиняя его в сношениях
с антифранцузской коалицией. Они добивались установления во
Франции республиканского строя. Реализации этих планов спо¬
собствовало вспыхнувшее 10 августа 1792 г. восстание в Париже.
Король и его окружение были арестованы. Власть в столице пере¬
шла в руки Коммуны. Под ее давлением Законодательное собра¬
ние приняло решение об изменении избирательного закона (теперь
к выборам были допущены все мужчины с 21 года) и созыве Наци¬
онального Конвента. Были отменены все дворянские повинности
без выкупа. Все это резко меняло соотношение сил в революцион¬
ном лагере, где на ведущие позиции выдвинулись жирондисты.
Тем временем ситуация на фронтах продолжала ухудшаться.
Казалось, еще немного — и революционная Франция будет раз¬
громлена. Однако в сентябре в войне неожиданно произошел пе¬
редом. 20 сентября молодая революционная армия в битве при
ВальмЦ разбила интервентов, перешла в наступление и вскоре из¬
гнала иностранные войска с территории страны. 21 сентября в
Париже открылся Национальный Конвент, а на следующий день
Франция была провозглашена республикой.
Перед депутатами Конвента стояло два главных вопроса: о
судьбе короля и о ведении войны. В ходе этих дебатов выявилась
новая расстановка сил в Конвенте. Левое крыло, в состав которого
входило 113 депутатов (их называли монтаньярами или якобин¬
77
цами), возглавляли М. Робеспьер, Ж. Ж. Дантон, Л. Сент-Жюст.
Их основными оппонентами стали жирондисты, которым принад¬
лежало 136 мест. Наконец, около 500 депутатов не имели четкой
ориентации, за что их называли «болотом». Несмотря на то что
левых было меньше, стратегическая инициатива все больше пере¬
ходила в их руки. По их настоянию король был предан суду, обви¬
нен в измене нации и приговорен к смерти. 21 января 1793 г. он
был казнен.
В октябре-декабре 1792 г. продолжалось наступление револю¬
ционной армии. Она перешла границы Франции и вступила в Са¬
войю, Бельгию, Рейнскую область. Там упразднялись феодальные
отношения, формировались новые органы власти, а чуть позднее
они были включены в состав революционной Франции.
Однако успехи на фронтах не снимали остроты целого ряда се¬
рьезных внутренних проблем: продолжалась инфляция, росли цены
на продовольствие, а вместе с этим увеличивалось недовольство
широких слоев населения. Особенно остро оно ощущалось в Пари¬
же. Столица Франции уже давно занимала особое место в жизни
страны. Практически по всем параметрам она шла в авангарде об¬
щественно-политической жизни Франции. Из Парижа новые вея¬
ния расходились концентрическими кругами по всем остальным
провинциям. В силу этого состояние столичного общественного
мнения становилось индикатором того, в каком направлении бу¬
дут в ближайшей перспективе развиваться события в стране.
Осенью 1792 г. Париж бурлил, так как неурядицы в социаль¬
но-экономической жизни — неизбежный спутник любой револю¬
ции — ррежде всего ударили по беднейшей части парижан. Она
больше страдала от инфляции, роста цен на товары первой нерб-
ходимости, безудержной спекуляции ловких дельцов, умело
пользовавшихся трудностями, которые переживала революцион¬
ная Франция.
Парижская беднота проявляла в это время исключительно
высокую политическую активность. По Конституции 1791 г. Па¬
риж был разбит на 48 секций (районов), общее собрание которых
превратилось в тот форум, где вначале только избиратели, а по¬
зднее все взрослое население данного района обсуждали животре¬
пещущие политические проблемы, где формировалось обществен¬
ное мнение. В ходе августовских событий 1792 г. они сыграли ре¬
шающую роль в победе жирондистов, но к концу года их переста¬
ла устраивать социально-экономическая политика Конвента, в ко¬
тором доминировали жирондисты. В этой среде быстро росла по¬
пулярность так называемых «бешеных» (Ж. Ру, Ж. Варле), тре¬
бовавших немедленного установления максимума цен и жестких
репрессивных мер в отношении финансово-спекулятивных кру¬
78
гов. Широкую известность получил призыв Жака Ру: «Пусть серп
равенства пройдет по головам богатых». Очевидно, что подобные
настроения вели к консолидации всех противников революции,
создавали благоприятную среду для активизации внутренней кон¬
трреволюции, попытавшейся в 1793 г. взять реванш за пораже¬
ние предшествовавшего периода.
И, действительно, 1793 год оказался, пожалуй, самым тяже¬
лым для новой Франции. В марте вспыхнул мятеж на северо-за¬
паде Франции, в Вандее. Примерно в то же время на сторону ее
врагов перешел командующий революционной армией генерал
Демурье. Над республикой вновь нависла угроза.
Якобинцы требовали мобилизации всех усилий на борьбу с
внешними и внутренними врагами республики. По их настоянию
10 марта был создан Революционный трибунал — суд с чрезвы¬
чайными полномочиями. Этот акт ознаменовал собой начало пе¬
рехода к политике революционного террора. 6 апреля был создан
Комитет общественного спасения, к которому постепенно перехо¬
дили основные полномочия по ведению войны и борьбе с контрре¬
волюцией. Начинает складываться целая система санкциониро¬
ванного законом революционного террора.
Проблема революционного террора, его правомерности, зна-
ченйя до сих пор вызывает яростные споры. Очевидно, что чело¬
век, попавший в жернова этой системы, по существу не имел ни¬
каких шансов на спасение: решения революционного трибунала
не подлежали обжалованию. В период революционного террора
от него пострадали не только те, кто действительно боролся с но¬
вой властью, но и немало людей просто показавшихся подозри¬
тельными. Здесь в силу вступал принцип, известный задолго до
революции: «Пусть лучше пострадают десять невиновных, чем
один виновный ускользнет от возмездия». Безусловно, с точки
зрения нашей обыденной, нормальной жизни принцип неспра¬
ведливый. Но в том-то и дело, что 1793 год никак не назовешь
обыденным. Это один из тех немногих, поистине ключевых мо¬
ментов в истории, когда решалось, по какой дороге пойдет раз¬
витие общества. Накал политических страстей достиг высшей
точки, и никакие компромиссы здесь уже были невозможны.
Вопрос стоял предельно просто: кто — кого. В такой ситуации
говорить об абстрактной справедливости, гуманности, милосер¬
дии по сути дела нереально.
В этом контексте возникает и другой вопрос: насколько эффек¬
тивной оказалась система революционного террора в борьбе с кон¬
трреволюцией? И на этот вопрос также нет однозначного ответа.
На первых порах она, несомненно, помогла якобинцам в борьбе с
их политическими оппонентами, причем как в лагере собственно
79
контрреволюции, так и в лагере сторонников революции (жертва¬
ми этой системы пали жирондисты). Другое дело, что общество не
может постоянно находиться в таком сверхнапряженном состоя¬
нии. Люди ждут от властей конкретных действий, которые бы спо¬
собствовали улучшению их положения. В принципе якобинцы
хорошо понимали это, однако реальная обстановка в стране не да¬
вала им возможности заняться планомерной реализацией своих
социально-экономических планов. На протяжении всего 1793 года
ситуация продолжала оставаться чрезвычайной. Тем не менее,
стремясь расширить свою социальную базу, якобинцы добились в
мае 1793 г. введения твердых цен на муку и зерно, а чуть позднее
ввели принудительный заем у богатых в размере 1 млрд, ливров.
Их отношения с жирондистами после этого обострились еще
больше. 2 июня 1793 г. в Париже вспыхнуло новое народное вос¬
стание, приведшее к падению жирондистов. Власть в стране пере¬
шла в руки якобинцев. 24 июня была принята новая Конститу¬
ция. Формально высшим органом власти являлся Конвент, но на
практике реальное управление государством осуществлялось че¬
рез специальные органы Конвента, имевшие чрезвычайные пол¬
номочия. В их ряду первое место, безусловно, принадлежало Ко¬
митету общественного спасения, который с 27 июля возглавил
М. Робеспьер. По его инициативе была проведена чистка местных
органов управления от тех, кого подозревали в симпатиях к жи¬
рондистам и монархистам, впервые был введен в действие прин¬
цип всеобщей воинской повинности, что позволило в короткий
срок укрепить армию, наконец, было принято решение о созда¬
нии государственных зернохранилищ для борьбы со спекулянта¬
ми. Однако страна по-прежнему бурлила. Особенно напряженной
была ситуация в Париже, где городская беднота и поддерживав¬
шие ее руководители Коммуны требовали усиления террора про¬
тив спекулянтов и контрреволюционеров, а также введения конт¬
роля над ценами. После некоторых колебаний якобинцы пошли
навстречу этим требованиям.
, 17 сентября был принят «Декрет о подозрительных», означав¬
ший, что террор стал основным средством борьбы с противниками
революции. 29 сентября был одобрен декрет об установлении твер¬
дых цен на все основные продукты питания. Эти меры позволили
якобинцам укрепить свою социальную базу, ослабить своих внут¬
риполитических оппонентов и вновь перейти в наступление на
фронтах.
Переход к принципиально новой системе военного строитель¬
ства очень быстро стал приносить первые плоды. Во-первых, зна¬
чительно возросла численность армии: к началу 1794 г. под ружь¬
ем в революционной армии находилось более 1 млн. человек —
80
гигантская по тем временам цифра. Это дало якобинцам возмож¬
ность сформировать 14 мобильных армий, что позволило надеж¬
но удерживать инициативу в своих руках. Во-вторых, революци¬
онную армию отличал высокий боевой дух. Ее солдаты были не
наемниками, сражавшимися за плату, а людьми верящими в то,
что борются за справедливые идеалы. Надо отметить, что руко¬
водство якобинцев уделяло большое внимание политико-воспита¬
тельной работе в армии (это, кстати, было новшеством), всячески
укрепляя в солдатах веру в то, что они не просто защищают стра¬
ну от внешней агрессии, а борются за ее счастливое будущее.
В-третьих, новые принципы комплектования армии открыли до¬
рогу к высшим командным должностям представителям тех со¬
циальных сил, которые связали свою судьбу с революцией. Если
раньше на генеральских должностях находились практически
только выходцы из среды аристократии, то теперь дорога наверх
была открыта для представителей бывшего третьего сословия. Уже
в 1793 г. выделилась целая плеяда новых блестящих военачаль¬
ников — Л. Л. Гош, Ж. Б. Журдан, А. Массенаи др., которые при¬
внесли немало свежих, оригинальных идей в военное дело, суще¬
ственно продвинули вперед стратегию и тактику боевых действий.
Наконец, якобинцы уделяли большое внимание материально-тех¬
ническому обеспечению армии. В экстренном порядке создавались
государственные военные мануфактуры, что позволило к концу
1795 г. полностью покрыть потребности революционной армии в
вооружений.
Все это, естественно, сказалось самым непосредственным об¬
разом на положении дел на фронтах, где к осени 1793 г. произо¬
шел явный перелом в пользу революционной армии. Кульмина¬
цией начавшегося перелома стала битва у Флерюса (июнь 1794 г.),
где войска антифранцузской коалиции потерпели сокрушитель¬
ное поражение.
Военные успехи оказывали противоречивое воздействие на
положение якобинцев. С одной стороны, они, безусловно, укреп¬
ляли их позиции внутри страны, увеличивали престиж в глазах
населения, вселяли уверенность, что дело революции находится в
надежных руках. Однако эти успехи имели и другую сторону,. По
мере того как в обществе крепла уверенность в необратимости на¬
чатых революцией перемен, росло желание более четко опреде¬
литься с тем, какой же будет новая Франция. Если борьба с вне¬
шними и внутренними врагами сплачивала якобинцев, делала их
монолитной силой, то необходимость более точного определения
социальных ориентиров неизбежно вносила в их лагерь семена
раздора. Внутри самих якобинцев быстро нарастали разногласия.
С одной стороны, в их среде выделилась группа, возглавляемая
81
Дантоном, полагавшая, что основные цели революции достигну¬
ты и необходимо сосредоточиться на развитии уже осуществлен¬
ных преобразований. Ей жестко противостояла группа ультрара¬
дикалов во главе с Эбером и Шометтом, призывавшая окончатель¬
но выкорчевать «гидру контрреволюции» и ввести эгалитаристс¬
кие принципы раздела собственности.
В начале марта 1794 г. эбертисты, раздраженные тем, что Ко¬
митет общественного спасения проводил, по их мнению, недоста¬
точно решительную политику, попытались организовать очеред¬
ное восстание парижской бедноты. На этот раз план не удался.
Руководители восстания были арестованы и казнены. Однако Дан¬
тон не намного пережил их. В апреле он предстал перед Револю¬
ционным трибуналом, был признан виновным и казнен. Весной
этого же года Комитет общественного спасения провел ряд мер,
подорвавших позиции якобинцев в деревне: были подписаны дек¬
реты о мобилизации сельскохозяйственных рабочих на полевые
работы и о реквизиции всего нового урожая на нужды республи¬
ки. Нарастало недовольство и среди депутатов Конвента, которых
не устраивала и пугала жестокость Робеспьера. В этой среде со¬
зрел заговор против него. 27 июля 1794 г. (или 9 термидора по ре¬
волюционному календарю) Робеспьер был арестован и без суда
казнен. Якобинская диктатура пала. В истории Франции начался
новый этап. 1
Термидорианский переворот ни в коей мере не означал рестав¬
рации «старого порядка». Он символизировал лишь отказ от наи¬
более радикального варианта переустройства общества и переход
власти в руки более умеренных элементов, ставивших своей це¬
лью защиту интересов новой элиты, уже успевшей сформировать¬
ся за годы революции. Это проявилось уже в первых шагах новой
власти: была распущена Парижская Коммуна — оплот радикалов,'
закрыт Якобинский клуб, возвращены из ссылки жирондисты, от¬
менен закон о максимуме цен. Эта последняя мера сразу же при¬
вела к резкому скачку цен, разгулу спекуляции.
Осенью была подготовлена очередная Конституция, вводив¬
шая ограничения на участие в выборах, реформировавшая зако¬
нодательную власть. Теперь она стала принадлежать двухпалат¬
ному Законодательному собранию. Конвент упразднялся. Испол¬
нительная власть сосредотачивалась в руках Директории, состо¬
явшей из 5 человек. Ситуация внутри страны несколько успокои¬
лась, были подавлены все выступления монархистов. Война была
вновь перенесена за пределы Франции.
Судьба Директории во все большей степени стала зависеть от
успехов в борьбе с антифранцузской коалицией, ибо было очевид¬
но, что реставрировать «старый порядок» можно только извне. А
82
это автоматически увеличивало роль армии. В этой среде все боль¬
шим влиянием начинал пользоваться молодой революционный
генерал.Ишюдеон Бонапарт. Известность ему принесли блестящие
победы в Италии.
Если на фронтах дела шли хорошо, то в сфере экономики осо¬
быми успехами Директория похвастаться не могла. Ей не удалось
обуздать инфляцию и рост цен, поставить барьеры на пути финан¬
совых афер и коррупции, стимулировать приток капитала в эко¬
номику, которая переживала серьезный спад. Собственно говоря,
иного и быть не могло. Франция по-прежнему находилась во враж¬
дебном окружении, а это предопределяло упадок внешней торгов¬
ли. Английская блокада во многом прервала устоявшиеся связи с
колониями и лишила французскую промышленность как сырья,
так и дешевых товаров английского производства. Условия вой¬
ны вели к тому, что государство поддерживало лишь те предприя¬
тия, которые работали на армию. Само содержание армии требо¬
вало регулярной эмиссии дешевых денег, постоянно подпитывав¬
ших инфляцию и рост цен. Рассчитывать на солидные инвести¬
ции частного капитала в экономику в условиях социально-поли¬
тической нестабильности не приходилось, а политика принуди¬
тельных займов лишь усиливала социальный страх буржуазии.
Однако без конфискационных мер невозможно было найти сред¬
ства для финансирования военных расходов.
Понятно, что такая ситуация не могла удовлетворить ни одну
из основных социальных групп французского общества. Предста¬
вители различных страт все чаще задавались вопросом: ради чего,
например, городские низы должны все туже затягивать пояса или
почему буржуа не могут сцокойно пользоваться своими дохода¬
ми? Власть должна была объяснить обществу, для чего ведется
нескончаемая война: ради утверждения принципов социальной
справедливости, или во имя защиты Франции, или просто во сла¬
ву Директории. Однако четких и ясных ответов ни на один из этих
вопросов у нового политического руководства Франции не было,
как не имелось и представления о том, на какие социально-поли¬
тические силы ориентироваться, какому внутриполитическому
курсу следовать. Оно все время лавировало, смещаясь то в правую
часть политического спектра, обрушивая репрессии на остатки
якобинцев, на руководителей парижских секций, сурово подав¬
ляя выступления городской бедноты в Париже, Лионе, Марселе,
то вдруг начинало дрейф влево, обнаруживая англо-эмигрантский
заговор и вновь открывая Якобинский клуб. Законодательное со¬
брание подвергалось постоянным чисткам: под предлогом поли¬
тической неблагонадежности аннулировались мандаты то ^епута-
тов-роялистов, то последователей якобинцев.
83
Эта «политика качелей », как ее окрестили современники, ста¬
ла все больше раздражать и новую элиту, и простых французов. В
обществе нарастало требование порядка и стабильности. Этим и
воспользовался Наполеон Бонапарт. 9 ноября 1799 г,,(18 брюмера
по революционному календарю) оН^ыд_д£зцачец командующим
войсками столичного округа. На следующий же день он разогнал
Законодательное собрание и упразднил Директорию. Власть це~
решла к трем консулам, а по существу к Наполеону.
Так закончился 10-летний период бурных потрясений, ради¬
кально изменивших лицо Франции. За это время были до основа¬
ния разрушены устои феодально-абсолютистского строя, расчи¬
щена почва для утверждения и развития буржуазных отношений.
Эти события наложили огромный отпечаток на всю последующую
историю Франции, на процесс становления ее политической куль¬
туры, на ход и характер формирования гражданского общества.
§ 3. Европа и наполеоновские войны
С самого начала во французской революции теснейшим обра¬
зом переплелись внутренние и внешние аспекты. Внешняя сторо¬
на складывалась из двух компонентов: из влияния идей француз¬
ской революции на европейское общество и из военно-политичес¬
кого фактора. Уже с весны 1792 г. началась длинная череда войн,
растянувшаяся почти на четверть века и постепенно охватившая
всю Европу. Принципы, провозглашенные революцией, и те нор»
мы, по которым жила тогда остальная Европа, находились в не¬
примиримом противоречии. В 1793 г. революционная Франция
смогла переломить ход войны в свою пользу и снять угрозу своему
суверенитету.
И тут выяснилась одна очень важная деталь. Как метко заме¬
тил известный специалист по международным отношениям Дж. -
Рей, «революция стала экспансионистской. Французы были убеж¬
дены, что их идеалы слишком хороши и слишком важны, чтобы
ограничивать их проявление одним государством». Действитель¬
но, новая Франция не только отстаивала свое право двигаться по
выбранному пути, но и стремилась любыми способами экспорти¬
ровать свои ценности за пределы страны. Как только военное сча¬
стье улыбнулось Франции и ей удалось перенести военные дей¬
ствия на территорию сопредельных государств, она вступила на
путь перекройки политической карты Европы.
Уже в 1795 г. на месте Голландии была создана Батавская pefc-
публика. С приходом к власти во Франции Директории роль внеш¬
ней экспансии еще больше усилилась. Собственно, судьба Дирек¬
84
тории во многом зависела от успехов французской армии. Именно
в это время начинается стремительный взлет генерала Бонапарта.
Его блистательные победы в Италии принесли ему общеевропейс¬
кую известность. Здесь же в Италии он впервые заявил о себе не
только как о полководце, но и как о политическом деятеле. Не
дожидаясь санкций из Парижа, он стал переустраивать Апеннин¬
ский полуостров по своему усмотрению.
События во Франции все больше убеждали его в том, что Ди¬
ректория себя исчерпала, что стране нужна сильная власть, кото¬
рая только и сможет обеспечить ее величие и процветание, даст
людям порядок и стабильность и поможет распространить идеа¬
лы новой Франции на остальной мир. Осуществив в 1799 г. госу¬
дарственный переворот, Наполеон сосредоточил в своих руках всю
полноту исполнительной власти. Новый глава Франции ни в коей
мере не посягал на основные завоевания революции: уничтоже¬
ние феодальных отношений, перераспределение земельной соб¬
ственности и изменение ее характера. Он лишь жестко институ¬
ционализировал новый порядок, создал достаточно эффективную
и устойчивую систему, обслуживавшую ее, во главе которой сто¬
ял он сам. Согласно принятой через месяц после переворота Кон¬
ституции, Франция оставалась республикой, но права и полномо¬
чия исполнительной власти были расширены. Формально она при¬
надлежала трем консулам, но на деле вся реальная власть сосре¬
дотачивалась в руках первого консула, избираемого на 10 лет. Им,
естественно, был Наполеон Бонапарт. Два других консула облада¬
ли лишь правом совещательного голоса. Законодательная власть,
по сути, превращалась в придаток исполнительной. Ее функции
сводились к одобрению законодательных инициатив, которые вно¬
сил первый консул и подотчетное ему правительство.
Стремясь стабилизировать социальную обстановку, достичь
столь желанного для любого правителя классового мира, Наполе¬
он, с одной стороны, зафиксировал в Конституции гарантии не¬
прикосновенности собственности, приобретенной в годы револю¬
ции, а с другой, в 1802 г. издал закон об амнистии дворян-эмиг-
рантов, которые могли спокойно вернуться на родину и пойти на
службу новой власти. Чуть раньше, в 1801 г., Наполеон пошел на
примирение с католической церковью, активно боровшейся с ате¬
истически настроенными революционными властями. Католиче¬
ство официально объявлялось религией большинства французов,
государство вновь брало на себя поддержку служителей церкви,
восстанавливало религиозные праздники. Со своей стороны, Папа
Пий VII отказался от претензий на возвращение конфискованно¬
го в ходе революции имущества и обязался ввести особую молит¬
ву за здравие первого консула. Таким образом, церковь возвраща¬
85
лась к привычной функции обслуживания правящего режима.
Логический путь к построению авторитарной власти завершился
в 1804 г., когда Наполеон был провозглашен императором, при¬
чем коронацию осуществлял сам Папа Римский.
В 1801-1802 гг. Наполеон завершил серию войн со второй ан-
тифранцузской коалицией. В 1801 г. был заключен Люневильс-
кий мир, по которому Австрия была полностью вытеснена из Ита¬
лии, она признавала границы Франции по Рейну. Таким образом,
Наполеону удалось осуществить то, о чем мечтали все французс¬
кие государственные деятели начиная с середины XVII в. Чуть
позднее, в 1802 г., в Амьене был подписан мир с Англией. Фран¬
ция вернула свои владения в Вест-Индии, но ушла из Египта.
В войне наступила временная передышка, которая нужна была
всем участникам конфликта, но особенно Франции. Наполеон пре¬
красно сознавал, что для противостояния всей Европе необходи¬
мо привести в порядок финансово-экономическую систему Фран¬
ции, которой бурные потрясения 90-х годов ХУШ в. нанесли се¬
рьезный ущерб.
В момент прихода Наполеона к власти особенно тяжелым было
финансовое положение страны. Поэтому наведение порядка в этой
сфере стало предметом его первостепенной заботы. В 1800 г. был
создан Французский банк, позднее — Совет по делам торговли и
Совет по делам фабрик и мануфактур. Понимая, что рост прямых
налогов не прибавит ему популярности, Наполеон пошел по пути
увеличения косвенных налогов, в то время как налоги с капитала
были сокращены, что стимулировало французскую промышлен¬
ность, особенно процесс внедрения в производство машин. По су¬
ществу именно в это время во Франции начинается промышлен¬
ный переворот.
Большое внимание Наполеон уделял развитию внешней тор¬
говли, видя в ней важный источник распространения французс¬
кого влияния в Европе и пополнения доходов казны. В тех же це¬
лях он взял на вооружение протекционистскую торговую полити¬
ку. Это, правда, вносило дополнительную остроту в отношения с
Англией, да и с другими великими державами, но Наполеона это
не смущало. К этому времени у него уже сложились грандиозные
.планы по переустройству всей сферы международных отношений,
и он прекрасно понимал, что в этом контексте конфликт между
Францией и остальной Европой отнюдь не исчерпан, но стал при¬
обретать новые очертания.
Если в 90-е годы XVIII в. революционная Франция отстаива¬
ла свое право на построение нового общества, а монархическая
Европа пыталась блокировать распространение влияния француз¬
ских событий на другие страны, то с приходом к власти Наполео¬
86
на в политике Франции все отчетливее стала просматриваться тен¬
денция к унификации Европы на тех же принципах, на которых
строилась Империя. С другой стороны, именно в это время в стра¬
нах Европы растет национальное самосознание, усиливается чув¬
ство национального достоинства, стремление жить по тем нормам,
которые каждое данное общество считало для себе приемлемыми.
Эти две тенденции неизбежно вступали друг с другом во все более
жесткую конфронтацию, что предвещало новую вспышку военных
действий, ставкой в которой теперь было будущее всей Европы.
Очередной раунд военных действий начался в 1805 г., когда
сформировалась третья антифранцузская коалиция, в состав ко¬
торой вошли Англия, Австрия и Неаполитанское королевство.
Изначально Наполеон намеревался нанести главный удар по Анг¬
лии, являвшейся душой коалиции. Готовилась армия вторжения.
Над Англией нависла самая серьезная с XVI в. угроза. Однако в
морском сражении у мыса Трафальгар франко-испанский флот
был наголову разбит англичанами под командованием адмирала
Г. Нельсона, и Наполеону пришлось расстаться с планами высад¬
ки на Британских островах.
Тогда он направил основной удар против Австрии, стремясь
укрепить свои позиции в центре Европы. Австрия вынуждена была
выйти из войны и уступить ему Венецию, Истрию, Далмацию.
Неаполитанским королем стал брат Наполеона Жозеф. В Герма¬
нии на месте многочисленных немецких государств под эгидой
Франции был создан Рейнский союз, что знаменовало собой круп¬
ный поворот в традиционной политике Франции: от поддержания
раздробленности германских земель она переходит к практике со¬
здания в центре Европы сети государств-сателлитов.
В1806 г. император объявил о введении континентальной бло¬
кады. Согласно его декрету, на всей территории Империи и в за¬
висимых от нее странах запрещалась торговля с Англией. Пожа¬
луй, впервые одно из государств в таком объеме прибегло к эконо¬
мическим санкциям для реализации своих программно-целевых
установок на международной арене. Справедливости ради следу¬
ет отметить, что Наполеон не достиг этим шагом своих целей. Ско¬
рее наоборот, он стимулировал развитие внутреннего рынка Анг¬
лии, укрепил ее колониальную торговлю, заставил модернизиро¬
вать свою финансовую систему. Французская промышленность
была не такой мощной, чтобы компенсировать странам континен¬
тальной Европы дешевые и качественные английские товары. Не
удивительно, что этот шаг Франции вызвал раздражение по всей
Европе.
Хотя Франция в период 1805-1807 гг. добилась весьма серь¬
езных успехов, ей пришлось залла,тедгь за ци# ц$малук> цену. Брдь-
87
шая часть мужского населения была призвана в армию. Ее содер¬
жание требовало огромных средств. Этой цели была подчинена
практически вся экономическая политика Наполеона. В хозяй¬
ственном организме Империи накапливалось все больше диспро¬
порций, что снижало конкурентоспособность Франции. Ей явно
нужна была очередная передышка. Поэтому в 1807 году Наполе¬
он счел за лучшее сделать перерыв в войне и пошел на подписание
Тильзитского мира. Россия была вынуждена признать изменения,
которые произошли в Европе, и присоединиться к континенталь¬
ной блокаде. Взамен она получила свободу рук в борьбе со Швеци¬
ей и Турцией. На границе с Россией создавалось герцогство Вар¬
шавское, сразу же превратившееся в плацдарм, с которого Напо¬
леон угрожал западным границам нашей страны. Это был пик вли¬
яния Франции на европейские дела.
Однако гигантский рост французской мощи, реальная перс¬
пектива унификации Европы по французскому рецепту наталки¬
вались на растущее сопротивление европейцев. Решить проблему
перевода европейской цивилизации на иной уровень развития с
помощью военной силы оказалось невозможным. Против этого
действовал целый ряд факторов. Европейцам все меньше и мень¬
ше нравилось, что французский император абсолютно не интере¬
суется мнением тех, кто жил на этой земле. Это наиболее ярко про¬
явилось в тот период в Германии и Испании.
В Германии в это время происходят очень существенные из¬
менения в менталитете немцев. В 1807 г. появляется «Обращение
к немецкому народу», написанное И. Фихте, через которое крас¬
ной нитью проходит мысль о том, что немцы — единая нация со
своей историей, культурой, с единым будущим. А раз так, то они
сами, без вмешательства извне, должны строить свое будущее.
Растущее национальное самосознание народов Европы доста¬
вило Наполеону немало хлопот и в других частях континента, осо¬
бенно в Испании. В этой некогда могущественной стране, давно
переживавшей глубокий упадок, с конца XVIII в. назревал соци¬
альный взрыв. Полный застой в сфере социально-экономических
отношений еще отчетливее высветили военные неудачи Испании,
которая, как и другие европейские монархии, участвовала в вой¬
не с революционной Францией. Особенно тяжелые последствия
для страны имела потеря почти всего военно-морского флота, по¬
гибшего в сражении при Трафальгаре. По существу на время по¬
чти полностью прервались связи Испании с ее колониями в Ла¬
тинской Америке, и это еще больше усугубило ситуацию в стране.
Наполеон, пользуясь тяжелым положением Испании, с каждым
днем усиливал давление на нее, стремясь превратить в своего по¬
слушного сателлита.
88
В 1808 г. он добился того, что король Испании Карл IV и на¬
следный принц Фердинанд отреклись от престола в пользу Жо¬
зефа, брата Наполеона. Под диктовку последнего была написана
Конституция, формально выглядевшая достаточно прогрессив¬
но, но, совершенно очевидно, грубо навязанная Испании извне.
Именно это обстоятельство привело к тому, что события стали
разворачиваться по совершенно неожиданному для Наполеона
сценарию. Если верхушка испанского общества скрепя сердце
согласилась признать новую власть, то основная часть населения
Испании не собиралась сдаваться на милость победителя. В мае
1808 г. в Мадриде вспыхнуло восстание, быстро распространив¬
шееся на всю страну. Французам не помогло и то, что Наполеон
отправил в Испанию 200-тысячную армию. По всей стране по¬
лыхала герилья — партизанская война, справиться с которой
французы, несмотря на огромные усилия, так и не смогли. Отли¬
чавшаяся исключительной жестокостью с обеих сторон, она про¬
должалась вплоть до 1814 г.
Любопытно, что в 1812 г. сами испанцы разработали Консти¬
туцию, сходную с той, которую пытался навязать Наполеон, но
это был документ, выстраданный самим испанским обществом, а
не привнесенный извне. Таким образом, речь шла не об отторже¬
нии испанцами идей французской революции, а о неприятии по¬
пыток навязать их силовым путем. События в Испании убедитель¬
но доказали: подлинный прогресс и диктат императивов обще¬
ственного развития — понятия несовместимые.
Занятый постоянными дорогостоящими военными кампани¬
ями, Наполеон явно ослабил внимание к социально-экономичес¬
ким проблемам собственно Франции. Французское общество пре¬
дельно устало от постоянных потрясений, экономика работала на
пределе возможностей, финансы приходили в расстройство. Не
случайно еще в 1804 г. Наполеон, остро нуждавшийся в средствах,
практически за бесценок продал американцам огромную террито¬
рию французской Луизианы. Все говорило о том, что Франции не¬
обходимо остановить свою экспансию. Однако Наполеон упорно
стремился к установлению полного контроля над континентом.
Ему казалось, что желанная цель уже близка. «Я все могу», — го¬
ворил он своему брату после Тильзита.
Главным препятствием на этом пути ему стала представлять¬
ся Россия. Стремление Наполеона жестко привязать Россию к
внешнеполитическому курсу Франции, естественно, встречало
противодействие и вызывало нарастающее недовольство в русском
обществе. По существу трения в отношениях с Россией начались
Уже через несколько месяцев после Тильзита. После встречи рус¬
ского императора Александра I и Наполеона в Эрфурте летом
89
1808 г. конфликт в отношениях двух стран получил дополнитель¬
ную подпитку. Хотя под давлением французского императора
Александр I и пообещал ему, что русская армия примет участие в
боевых действиях против Австрии, на деле все «участие» ограни¬
чилось расквартированием наблюдательного корпуса на границе
с Австрийской империей. Недовольство Франции вызывало и то,
что Россия, по мнению Парижа, недостаточно корректно выпол¬
няла условия континентальной блокады. Ничего удивительного
тут не было, ибо она явно противоречила интересам нашей стра¬
ны. В 1810 г., идя навстречу настроениям, царившим в русском
обществе, Александр I подписал указ о новом, более высоком та¬
рифе на ввоз ряда иностранных товаров, от которого прежде всего
пострадали французские коммерсанты. Наполеон, придававший
большое значение внешней торговле, увидел в этом шаге России
прямой вызов.
Стремясь легитимизировать свою власть, император пошел на
разрыв со своей женой Жозефиной — единственной женщиной,
которую он по-настоящему любил, — и начал интенсивные поиски
новой невесты в царствующих домах монархической Европы. Оп¬
тимальным ему представлялся брак с сестрой Александра I. Одна¬
ко он получил отказ, и ему пришлось довольствоваться браком с
австрийской принцессой Марией Луизой. Это событие как бы сим¬
волизировало, что любви в отношениях Франции и России нет.
К 1812 г. противоречия двух великих держав достигли такого
уровня, что стало ясно: войны не избежать, и Наполеон с прису¬
щей ему энергией решил одним ударом разрубить этот гордиев
узел. Правда, на этот раз характерное для Наполеона тонкое чув¬
ство ситуации изменило ему. Несмотря на то, что ему не удалось
привлечь на сторону Франции Швецию и создать непосредствен¬
ную угрозу северо-западным регионам России, в том числе и са¬
мой ее столице, Санкт-Петербургу, несмотря на то, что не оправ¬
дались расчеты на затягивание очередной русско-турецкой вой¬
ны и, соответственно, на сковывание военных сил России на юге, —
Наполеон не стал ждать более благоприятной ситуации и пошел
ва-банк. 24 июня 1812 г. 600-тысячна я французская армия вторг¬
лась в Россию. Началась Отечественная война. Она завершилась
полным разгромом «армии вторжения» и изгнанием ее остатков с
территории России.
Разгром Наполеона в России стимулировал рост антифранцуз-
ских настроений в Европе и дал импульс созданию очередной ан-
тифранцузской коалиции. Борьба за будущее Европы вступила в
завершающую фазу. Несмотря на поражение в России, военная
машина Франции еще не была сломлена и представляла серьез¬
ную угрозу для своих противников. Боевые действия шли с пере¬
90
менным успехом, пока в «битве народов» под Лейпцигом в октяб¬
ре 1813 г. армия Наполеона не потерпела сокрушительное пора¬
жение и отступила за Рейн. Правда, для Наполеона и тогда еще не
все было потеряно. Коалиция также испытывала серьезные труд¬
ности и готова была пойти на определенный компромисс. Однако
жесткая позиция французского императора, верившего в свою
звезду, не оставляла шансов на реализацию этих планов. Война
продолжал ась.
Франция оказалась в кольце врагов. Сил для сопротивления у
нее уже не было. 31 марта 1814 г. союзные войска вступили в Па¬
риж. Наполеон отрекся от престола и был сослан на остров Эльба.
Он, правда, предпринял попытку вернуться к власти, но 8 июня
1815 г. при Ватерлоо был окончательно разбит. Длительный пе¬
риод почти непрерывных войн, начавшийся еще в 1792 г. и охва¬
тивший всю Европу, завершился.
Очевидно, что подобные события не могли пройти бесследно
для Европы. За эти годы европейское общество радикально из¬
менилось. Были решительно подрублены корни феодализма в За¬
падной и Центральной Европе. Потерпела полный крах очеред¬
ная попытка осуществить насильственную унификацию Европы.
Эти события дали мощный толчок развитию национальной идеи,
особенно в Германии и Италии. Сохраняя единые цивилизаци¬
онные корни, каждая из стран Европы вместе с тем укрепляла
свою индивидуальность, своеобразие своей культуры. Идеи плю¬
рализма и тенденции национального развития явно взяли верх
над универсалистскими прожектами создания единой Европы.
Идеи французской революции никуда не исчезли — они были
восприняты в той или иной степени во всех европейских стра¬
нах. Именно они дали мощный импульс созданию гражданского
общества, но не по французскому образцу, а с ярко выраженной
национальной окраской.
§ 4. Война за независимость
в Латинской Америке (1810—1826 гг.)
Вплоть до последней трети XVIII в. основные события, опре¬
делявшие динамику развития человеческой цивилизации, разво¬
рачивались в Европе. Новый Свет был не более чем ее далекой пе¬
риферией, глухим, слабо освоенным придатком ведущих европей¬
ских держав. Но вот там совершенно неожиданно для европейцев
возникло государство нового типа — CUT А. Спустя несколько лет
вспыхнула революция во Франции, разрушившая устои «старого
порядка», провозгласившая новые принципы организации чело¬
91
веческого общества. Прямым откликом на нее стала революция
негров-рабов на Гаити. Их вождь Туссен-Лувертюр провозгласил
в 1791 г. независимость Гаити. Латинская Америка постепенно
приходила в движение. Идея создания независимых государств
стала проникать даже в этот заповедник феодализма.
Итак, к началу XIX в. латиноамериканцы уже имели перед
собой успешный опыт строительства независимых государств (Со¬
единенные Штаты Америки), познакомились с набором идей, ко¬
торые позволили подвести теоретическое обоснование под их пра¬
во на независимость. К этому добавились серьезные политические
и экономические мотивы. Беспрерывные войны, в которые втяну¬
лась в этот период вся Европа, нарушали привычные связи Латин¬
ской Америки с метрополией, что больно ударило по экономике
колоний. После Трафальгара, когда был уничтожен по существу
весь испанский флот, контакты с метрополией были почти полно¬
стью прерваны. Для иллюстрации приведем лишь один пример: в
1802 г. в крупнейший порт Мексики Веракрус прибыло 148 испан¬
ских судов, а в 1806 г. — всего 8. Колонистам приходилось самим
думать о своей судьбе. Последней каплей, давшей толчок к нача¬
лу вооруженной борьбы за независимость, стали события в Испа¬
нии. В 1808 г. туда вторглись французские войска и посадили на
престол Жозефа Бонапарта. Перед жителями испанских колоний
в Новом Свете встала сложная проблема: то ли поддерживать но¬
вую власть, то ли по-прежнему подчиняться старому королю, то
ли брать судьбу в собственные руки и идти своим путем. Столк¬
нувшись с этим нелегким выбором, латиноамериканское общество
раскололось.
Умеренная часть колонистов рассчитывала, что Хунта, возгла¬
вившая борьбу испанцев против французов, расширит права ко¬
лоний, предоставит им самоуправление. С их точки зрения, этого
было вполне достаточно. Однако надежды на Хунту не оправда¬
лись: она боролась за восстановление независимости Испании, го¬
това была осуществлять определенные реформы внутри страны,
но не собиралась подрывать основы, на которых зиждилась коло¬
ниальная империя Испании.
Нежелание Хунты идти на сколько-нибудь серьезные уступ¬
ки жителям колоний усиливало в их среде позиции тех, кто на¬
стаивал на разрыве с метрополией. В 1810 г. в ряде крупнейших
центров в испанских владениях в Латинской Америке вспыхнуло
восстание. Эти события обычно считают началом Войны за неза¬
висимость испанских колоний в Новом Свете. Поскольку это была
огромная территория — от Техаса до Огненной Земли, в различ¬
ных районах Латинской Америки это движение имело свои осо¬
бенности. Как правило, выделяют три главных региона:
92
1) Мексика; 2) Венесуэла и Новая Гренада (нынешняя Колумбия);
3) юг Латинской Америки.
Поначалу центром борьбы за независимость стала Венесуэла.
Именно там собрался Национальный конгресс, который 5 июля
1811 г. провозгласил независимость страны. Среди руководителей
национально-освободительного движения очень скоро выделился
Симон Боливар. Выходец из знатной креольской семьи, он полу¬
чил хорошее образование в Европе, где стал свидетелем французс¬
кой революции. Ее идеи сразу же вызвали у него глубокие симпа¬
тии, и на родину он вернулся убежденным республиканцем. С са¬
мого начала Боливар активно включился в борьбу против колони¬
заторов. С его именем связано формирование революционной ар¬
мии, он внес большой вклад в становление нового государства.
Правда, для того, чтобы сосредоточиться на проблемах государ¬
ственного строительства, предстояло еще отстоять независимость.
После некоторой растерянности сторонники метрополии пе¬
решли в наступление и добились серьезных успехов. В 1812 г. ис¬
панцам и их сторонникам удалось разбить восставших и вытес¬
нить их в Новую Гренаду. В этой колонии также вспыхнуло вос¬
стание, и было принято решение о создании Конфедерации, или
Соединенных провинций Новой Гренады. С этого плацдарма под
руководством С. Боливара началось новое наступление, завершив¬
шееся в 1813 г. воссозданием Венесуэльской республики. Однако
закрепить успех опять не удалось. Главная проблема заключалась
даже не в том, что у молодой республики катастрофически не хва¬
тало средств, армия ее была слабо обучена и плохо экипирована.
Основная трудность заключалась в том, что новые власти не суме¬
ли консолидировать население страны: креольская элита, подняв¬
шая знамя борьбы за независимость, с большим недоверием отно¬
силась к основной части населения — индейцам, метисам, неграм,
а те, в свою очередь, именно в креолах, а не в испанцах видели
своих непосредственных угнетателей. Найти действенные аргу¬
менты для того, чтобы убедить их, что при независимости жить
будет лучше, лидеры революционного лагеря на этом этапе не смог¬
ли. Этим воспользовались сторонники испанцев, сумевшие при¬
влечь многих крестьян под свои знамена и вновь разбить привер¬
женцев независимости. Большая часть страны опять вернулась под
контроль метрополии. Лишь в труднодоступных районах продол¬
жали борьбу партизанские отряды сторонников независимости.
Эти суровые уроки побудили лидеров освободительного дви¬
жения внести коррективы в свои программно-целевые установки
и включить в них требования, которые хотя бы частично отража¬
ли чаяния основной массы населения. Это касалось двух проблем:
отмены рабства и наделения крестьян землей. Новая программа
93
освободительного движения была сформулирована С. Боливаром
в 1815 г. и стала достоянием гласности после того, как были опуб¬
ликованы его знаменитые «Письма с Ямайки». Декларировав, что
новые власти в случае победы отменят рабство и дадут землю сол¬
датам освободительной армии, Боливар обеспечил приток добро¬
вольцев в свои войска. В 1816 г. началась новая фаза вооружен¬
ной борьбы с испанцами. Разбив их в Венесуэле, Боливар двинул¬
ся в Новую Гренаду. В 1821 г. обе эти территории были очищены
от испанцев. В том же году было принято решение об их объедине¬
нии (а также нынешних Панамы и Эквадора) в единое государство
с громким названием Великая Колумбия.
Примерно в это же время вспыхнуло восстание против господ¬
ства испанцев в южной части Латинской Америки, на территории
современных Чили, Аргентины, Уругвая и Перу. Здесь борьба про¬
тив общего врага — испанских колонизаторов — серьезно ослож¬
нялась внутренними распрями между двумя группировками в ос¬
вободительном движении: унитаристами, оплотом которых была
элита провинции Буэнос-Айрес, и федералистами, на которых ори¬
ентировались представители элит периферийных провинций, не¬
довольные привилегированным положением столицы. Базой для
освободительного движения в этой части Латинской Америки ста¬
ла провинция Мендоса, где под руководством Хосе де Сан-Марти¬
на была создана революционная армия. Именно оттуда он начал
свой поход, приведший в 1818 г. к освобождению Чили. Затем Сан-
Мартин двинулся на север, где в 1821 г. на территории Перу со¬
единился с войсками Боливара. Этот анклав Латинской Америки
оставался основным оплотом испанцев.
Дело в том, что именно здесь находились основные рудники
по добыче золота и серебра и креольская верхушка получала не¬
малые выгоды от их эксплуатации. Естественно, она не испыты¬
вала особого желания менять модус своих отношений с метропо¬
лией. В ее памяти еще свежи были воспоминания о восстании ин¬
дейцев, и она не без оснований опасалась, что уход испанцев оста¬
вит ее один на один с индейскими крестьянами, которые ничего
не забыли и не простили. И тем не менее, несмотря на насторо¬
женное, а то и просто враждебное отношение местной элиты к ос¬
вободительному движению, оно дошло и до этого региона.
В 1821 г. войска Сан-Мартина взяли Лиму и провозгласили
независимость нового государства — Перу. Испанцы, однако, не
сложили оружие. Борьба продолжалась до 1824 г., и потребова¬
лась помощь войск Боливара, чтобы окончательно разгромить
колонизаторов в этой части континента.
Пожалуй, наибольшим ожесточением отличалась борьба за
независимость Мексики. Здесь освободительдое движение с само¬
94
го начала вылилось в массовое крестьянское восстание, во главе
которого в сентябре 1810 г. встал священник Мигель Идальго. В
Мексике, как нигде, тесно переплелись национально-освободи¬
тельные и социальные моменты. Не дожидаясь декретов властей,
крестьяне захватывали земли помещиков-латифундистов. Что
касается самого Идальго, то он, особенно на первой стадии конф¬
ликта, стремился максимально ограничить его социальную состав¬
ляющую, свести борьбу повстанцев только к проблеме обретения
независимости от Испании. Он аргументировал свою позицию тем,
что немедленное решение комплекса социально-экономических
проблем толкнет креольскую верхушку в объятия испанцев и этот
альянс сможет весьма успешно противостоять радикальным, но
слабо организованным крестьянским массам.
Правда, очень скоро М. Идальго стал понимать, что, игнори¬
руя социальную сторону восстания, он рискует лишиться поддер¬
жки крестьянства, являвшегося главной опорой повстанческой
армии. Поэтому уже в ноябре 1810 г. он издал декрет, предписы¬
вавший ликвидацию рабства и освобождение всех рабов в течение
10 дней, отмену подушной подати и возврат земель индейским
общинам. Это стимулировало приток добровольцев в повстанчес¬
кую армию, численность которой к концу 1810 г. достигла 80 тыс.
человек — цифра весьма внушительная для Латинской Америки.
Беда восставших заключалась в том, что в большинстве сво¬
ем они практически не были знакомы с военным делом и в про¬
фессиональном плане их армия серьезно уступала испанским
войскам. Тот же Идальго, хотя и носил пышное звание генера¬
лиссимуса, о военном деле имел весьма смутное представление.
Не удивительно, что, несмотря на численное преимущество по¬
встанцев, война шла с переменным успехом. И все-таки войска
Идальго неуклонно приближались к столице вице-королевства
городу Мехико. Однако в последний момент М. Идальго не ре¬
шился на штурм города, что, как показали дальнейшие события,
стало роковой ошибкой. Испанцы резко активизировали свои
действия и смогли перехватить инициативу у восставших. В ре¬
шающем сражении при Кальдероне в январе 1811 г. армия по¬
встанцев потерпела тяжелое поражение. Борьба продолжалась
еще несколько месяцев, пока в марте этого же года остатки ар¬
мии Идальго не были окончательно разгромлены, а сам он был
взят в плен и в июле 1811 г. расстрелян.
Однако борьба не прекратилась. Теперь ее возглавил Хосе Мо¬
релос, настроенный даже более радикально, чем Идальго. С его
именем связано провозглашение независимости Мексики. По его
инициативе был созван Верховный национальный американский
конгресс. Первым его актом стало возложение на Морелоса функ¬
95
ций главы исполнительной власти. В тот же день Морелос пред¬
ставил на рассмотрение конгресса программный документ «Чув¬
ства нации», в котором изложил свое видение стратегических за¬
дач новой власти: испанцы должны быть изгнаны с территории
Мексики; на месте вице-королевства создается независимое госу¬
дарство, основанное на принципах народного суверенитета, в нем
должно быть запрещено рабство и деление население на расовые
категории; следует издать законы, которые умерили бы роскошь
одних и нищету других, но в то же время гарантировали бы не¬
прикосновенность законной собственности и жилища. В отличие
от Идальго, в деятельности Морелоса достаточно отчетливо про¬
слеживались эгалитаристские тенденции.
6 ноября 1813 г. конгресс одобрил Декларацию независимос¬
ти, которую, правда, еще предстояло завоевать. А на фронтах си¬
туация постоянно менялась. Чаша весов склонялась то на сторону
испанцев, то на сторону мексиканцев. После того как в Испании в
марте 1814 г. была восстановлена власть короля Фердинанда VII,
он распустил кортесы (парламент), отменил Конституцию 1812 г.
и возобновил деятельность инквизиции. Одновременно были пред¬
приняты новые усилия по подавлению национально-освободитель¬
ного движения в Латинской Америке, в том числе и в Мексике,
куда были посланы дополнительные войска. В революционном
лагере под влиянием неудач началось брожение, усилились пози¬
ции сторонников компромисса с колониальной администрацией.
Это, естественно, сказывалось на боеспособности армии восстав¬
ших. В 1815 г. испанцы перешли в решительное контрнаступле¬
ние и в ноябре разбили войска Морелоса. Сам он, как и Идальго,
был расстрелян. На время испанцам удалось восстановить свое
господство в Мексике и стабилизировать ситуацию. Однако сде¬
лано это было не за счет решения острейших социально-экономи¬
ческих проблем, а путем усиления репрессий. Ясно, что так долго
продолжаться не могло.
В обществе шла сложная перегруппировка сил. Политичес¬
кая нестабильность в метрополии, где в 1820 г. вспыхнула оче¬
редная революция, с одной стороны, и нарастание угрозы ново¬
го, еще более мощного и страшного социального взрыва в самой
Мексике — с другой, побуждали креольскую верхушку пересмот¬
реть свое отношение к проблеме независимости. В ее среде уси¬
лились позиции тех, кто полагал, что лучше возглавить движе¬
ние за независимость, направить его в выгодное для себя русло.
Лидером этой группировки стал полковник де Итурбиде. Выхо¬
дец из богатой помещичьей семьи, он быстро сделал карьеру в
колониальной армии, зарекомендовал себя человеком весьма
консервативных взглядов. Когда в Мексике вспыхнуло восста¬
96
ние против испанских колонизаторов, Итурбиде активно участво¬
вал в его подавлении. Однако к началу 20-х годов XIX в. он, как
и многие другие представители верхушки колониального обще¬
ства, пришел к выводу, что Испания, переживавшая острейший
социально-экономический кризис, не сумеет сохранить свое го¬
сударство в Латинской Америке и поэтому ее дальнейшая под¬
держка бесперспективна.
В феврале 1821 г. Итурбиде обнародовал обращение к населе¬
нию, вошедшее в историю под названием «план Игу ала». В нем он
изложил свое видение тех ценностей, на которые должны ориен¬
тироваться противники господства Испании: «религия, единение,
независимость». В отличие от М. Идальго и тем более X. Морело¬
са, Итурбиде оставил в стороне вопрос о социальных характерис¬
тиках независимости Мексики. Он вступил в контакт с лидерами
крупнейших партизанских соединений В. Герреро, Н. Браво и др.,
которые после смерти Морелоса ушли в труднодоступные районы
Мексики и продолжали вести партизанскую войну. Ему удалось
убедить их в том, что на данном этапе борьбы главное — обрете¬
ние независимости. Ради этого надо отложить споры о социальных
характеристиках нового общества и всем вместе (естественно, под
его руководством) бороться с испанцами.
Чувствуя, что дни испанского господства сочтены, на.сторону
Итурбиде стали переходить офицеры колониальных войск и чи¬
новники, которые увидели в нем человека способного сохранить в
стране социальную стабильность и гарантировать права собствен¬
ности. Система испанского колониального господства стала ру¬
шиться буквально на глазах. К концу 1821 г. с трехвековым ис¬
панским владычеством было покончено.
Однако тут же Ьо весь рост встал вопрос о том, какой будет не¬
зависимая Мексика. Руководители партизанских отрядов, пользо¬
вавшиеся огромной популярностью у простых мексиканцев, в
большинстве своем выступали за то, чтобы Мексика стала респуб¬
ликой, и руководствовались в своей деятельности принципами,
провозглашенными Морелосом в «Чувствах нации».
Такой сценарий, однако, никак не устраивал Итурбиде. Опи¬
раясь на верхушку армии, он провозгласил себя в 1822 г. импера¬
тором. Новая империя, правда, оказалась недолговечной. Эконо¬
мика страны была развалена. Денег не хватало даже на то, чтобы
платить офицерам, которые привели Итурбиде к власти. Основ¬
ные социально-экономические проблемы оставались нерешенны¬
ми. Крестьяне требовали землю и готовы были с оружием в руках
бороться за нее. Многие из них пополняли ряды партизанских от¬
рядов, которые возглавляли сподвижники Морелоса. В армии так-
ясе рорло недовольство. Режим Итурбиде быстро терял опору. По
97
всей стране разгорелась борьба против новоявленного диктатора.
Она быстро набирала размах, и к весне 1823 г. с императором было
покончено.
Завершить процесс конституирования нового государства
было суждено Учредительному конгрессу, который открылся 7
ноября 1823 г. Большинство делегатов конгресса склонялись к
тому, чтобы Мексика стала федеративной республикой, хотя и в
стране, и в самом конгрессе имелось немало противников этого
принципа, утверждавших, что создание федерации неизбежно сти¬
мулирует рост сепаратистских настроений на окраинах страны и
это в скором времени приведет к развалу нового государства. Пос¬
ле упорной борьбы в январе 1824 г. была одобрена формулировка,
гласившая, что «нация принимает республиканскую, федератив¬
ную, народную, представительную форму правления». Вся терри¬
тория республики делилась по Конституции на 19 штатов и 4 тер¬
ритории. Законодательная власть вручалась конгрессу, состояв¬
шему из двух палат: сената и палаты депутатов. Исполнительная
власть возлагалась на президента, избираемого на 4 года, а судеб¬
ная власть — на избираемых членов Верховного суда.
Нетрудно заметить, что Конституция Мексики во многом ко¬
пировала Основной закон США. Это и не удивительно, ибо север¬
ный сосед Мексики оставался эталоном в деле конституционного
законотворчества. Однако американское и мексиканское общество
существенно различались по своим базовым параметрам, и это не
могло не сказаться на содержании их Конституций. Главное раз¬
личие в этих двух документах состояло в отношении к роли рели¬
гии и церкви в жизни общества. В Мексике католичество было
объявлено государственной религией, а духовенство сохранило
практически все прежние привилегии.
При всем том, что революция оставила нерешенным целый
комплекс сложных социально-экономических проблем, образова¬
ние независимого государства стало большим шагом вперед, со¬
здало плацдарм для дальнейшего развития страны. В итоге дол¬
гой и кровопролитной войны в Мексике утвердилась независимая
федеративная республика, и теперь гражданам нового государства
предстояло наполнить конкретным содержанием зафиксирован¬
ные в Конституции правовые нормы.
К середине 20-х годов XIX в. борьба испанских колоний за не¬
зависимость в основном завершилась победой сторонников само¬
стоятельного развития. В руках Испании остались только Куба и
Пуэрто-Рико. На месте прежних испанских владений возникли
независимые республики: Мексика, Соединенные Штаты Цент¬
ральной Америки (впоследствии распались), Великая Колумбия,
Боливия, Аргентина, Чили, Перу, Парагвай. Это позволило лати¬
98
ноамериканскому обществу избавиться от многих ограничений,
сковывавших его развитие. Особенно заметным был прогресс в
политической сфере: был утвержден республиканский строй, лик¬
видировано сословное и расовое неравенство, запрещена деятель¬
ность инквизиции, в основу государственного устройства были
положены передовые для того времени принципы. Все это созда¬
вало неплохой плацдарм для дальнейшего движения по пути об¬
щественного прогресса.
Однако если в политической сфере был осуществлен качествен¬
ный скачок, позволивший выйти на новый виток развития, то в
области социально-экономических отношений многие важные
проблемы остались нерешенными. Прежде всего речь идет об аг¬
рарном вопросе. В Латинской Америке в неприкосновенности со¬
хранились крупные латифундии. В ходе Войны за независимость
там сформировалась новая земельная аристократия, быстро пре¬
вратившаяся в главную консервативную силу латиноамериканс¬
кого общества. Груз проблем в социально-экономической сфере
постоянно накапливался и тяжелыми гирями висел на латиноа¬
мериканском обществе, тормозя его развитие. Не удивительно, что
новые государства ожидала нелегкая судьба. Им пришлось прой¬
ти через многочисленные испытания, прежде чем они смогли вос¬
пользоваться теми возможностями, которые дала независимость.
ГЛАВА V
Новое общество в поисках оптимального
варианта развития
(20-е — 50-е годы XIX в.)
§ 1. Франция: революционная модель
прогресса
После окончания наполеоновских войн в Европе сложилась
очень противоречивая ситуация. Франция, являвшаяся на протя¬
жении четверти века символом революционных перемен, была
разбита. Большая часть политической элиты стран-победитель¬
ниц, мягко говоря, не испытывала симпатий к идеям французс¬
кой революции. Не случайно сразу же после окончания войны на
Венском конгрессе, занимавшемся вопросами послевоенного уре¬
гулирования, был создан Священный союз, стремившийся любой
ценой не допустить в Европе повторения событий недавнего про¬
шлого. Против идеи революционного преобразования мира выдг
вигался принцип легитимизма, исходивший из незыблемости ут¬
вержденного на конгрессе в Вене правопорядка.
Декларировать подобную идею было можно, реализовать же
ее на практике — гораздо сложнее. Удержать мир в статичном со¬
стоянии было невозможно. Следовательно, вопрос стоял по-дру¬
гому: как будет осуществляться развитие западной цивилизации?
Уже тогда начали вырисовываться контуры нескольких возмож¬
ных моделей ее развития, которые по большому счету сводились
к двум — революционной и эволюционной. Появились и страны,
олицетворявшие собой эти варианты. Первый представляла Фран¬
ция, где за 60 с небольшим лет, прошедших после окончания на¬
полеоновских войн, произошло три революции. Почему же так по¬
лучилось?
100
Ответ, по всей видимости, следует искать в тех действиях, ко¬
торые были предприняты державами-победительницами во Фран¬
ции после разгрома Империи. Их усилиями к власти были возвра¬
щены Бурбоны. В самом факте реставрации еще не было ничего
такого, что детерминировало бы периодически повторявшиеся
революционные всплески. Дело в тех условиях, на которых осу¬
ществлялась Реставрация, в том, как модель социально-полити¬
ческого развития, которую Бурбоны попытались навязать Фран¬
ции, коррелировала с реалиями общества. Старая аристократия,
вернувшаяся на родину после разгрома Империи, лелеяла мечту
восстановить дореволюционные порядки и совершенно игнориро¬
вала тот факт, что за четверть века, прошедшие с начала револю¬
ции, французское общество стало совсем другим и втиснуть его в
старые рамки было практически невозможно.
Свое возвращение к власти роялисты ознаменовали тем, что
развернули широкомасштабную чистку государственного аппара¬
та и армии. Суды были завалены политическими делами. Пони¬
мая, однако, что править по-старому невозможно, новый король и
его окружение решили даровать народу Франции конституцию,
вошедшую в историю под названием «Хартия 1814 года». В гла¬
зах большей части общества она выглядела весьма непривлека¬
тельно, особенно по сравнению с теми документами подобного
рода, которые были в революционной и наполеоновской Франции.
В стране устанавливался конституционно-монархический режим.
Вся полнота исполнительной власти сосредотачивалась в руках
короля. Ему же принадлежала законодательная инициатива.
Оформлять ее в виде закона должен был двухпалатный Законода¬
тельный корпус. Верхняя палата — Палата пэров — назначалась
королем, и пэрство было наследственным. Нижняя — Палата де¬
путатов — избиралась на основе очень высокого возрастного и
имущественного ценза, в результате чего правом голоса обладало
чуть более 70 тыс. человек.
У нового короля Людовика XVIII хватило ума для того, чтобы
хотя бы декларировать гражданское равенство, неприкосновен¬
ность личности, свободу печати и совести. Правда, это была лишь
декларация. В стране развернулись массовые преследования ина¬
комыслящих, католичество признавалось государственной рели¬
гией. Однако ультрароялистам, группировавшимся вокруг брата
короля, Карла д’Артуа, этого казалось мало. Они пользовались
большим влиянием при дворе и настойчиво добивались усиления
репрессивных мер против всех проявлений наследия революци¬
онной эпохи. Не удивительно, что по всей Франции стали возни¬
кать ячейки тайных обществ карбонариев, ставивших своей це¬
лью свержение Бурбонов. В начале 1822 г. они предприняли по¬
101
пытку поднять восстание, которое, однако, было жестоко подав¬
лено в самом зародыше. Таким образом, режим Реставрации из¬
начально заложил основу серьезнейшего конфликта, развитие
которого стало определять всю динамику французского общества.
Многое в дальнейшей судьбе Франции зависело от того, насколь¬
ко сумеют наладить отношения между собой старая роялистская эли¬
та и новая, сложившаяся в период Директории, Консульства и Им¬
перии. Заявив о законности всех имущественных сделок, совершен¬
ных в этот период, Людовик XVIII заложил основу для альянса этих
элит. Укрепление его создавало предпосылки для общественно-по¬
литической стабилизации, однако у этого курса было немало против¬
ников. Они особенно усилились после смерти Людовика XVIII, ког¬
да на престол под именем Карла X взошел его брат.
Он полагал, что ревностные роялисты должны доминировать
в государстве и что они заслуживают более серьезной компенса¬
ции за потерянное ранее имущество. На эти цели предполагалось
истратить огромную сумму — миллиард франков. По сути, это
была конфискационная мера по отношению к широким слоям на¬
селения и к новым собственникам, ибо аккумуляция необходимых
средств происходила за счет повышения налогов и понижения
процента по выплатам доходов по государственным займам. Стре¬
мясь защитить имущественные права старой аристократии,
Карл X неизбежно вынужден был покушаться на собственность
новой элиты, что, естественно, не способствовало укреплению кон¬
сенсусных начал в обществе.
Еще одним источником, постоянно подпитывавшим конфликт
в обществе, было отношение к религии. Французская революция,
особенно на некоторых ее этапах, занимала воинственно атеисти¬
ческие позиции, не без основания видя в католической церкви вер¬
ного союзника королевской власти. В свою очередь, Бурбоны, вер¬
нувшись к власти, видели в атеизме опасный рецидив революци¬
онных времен и всячески пытались укрепить позиции церкви. В
апреле 1825 г. был принят закон о наказаниях за проступки про¬
тив религии. И эта мера отнюдь не способствовала успокоению
общества. Наоборот, она еще больше углубила пропасть между
атеистами и верующими, обострила их взаимоотношения. Резко
расширил свою деятельность во Франции и орден иезуитов, вновь
легализованный сразу же после Реставрации. Особенно большое
внимание церковные организации уделяли системе образования,
стремясь установить над ней свой полный контроль. Не случайно
на протяжении всего XIX века вопрос о характере образования
(светского или церковного) постоянно находился в центре острей¬
шей политической борьбы, разделяя французское общество н,а
жестко цротивоборствовавщие группировки.
102
Подобный политический курс объективно стимулировал на¬
растание конфронтационных настроений в обществе, неизбежно
порождал нестабильность, вызывал частые политические кризи¬
сы. Даже в самой элите не было единого взгляда на общий вектор
развития страны. Там шла острая идейная полемика относитель¬
но того, по какому пути следует идти Франции. Уже к рубежу 10-
20-х годов Достаточно громко заявила о себе либеральная оппози¬
ция, идейным лидером которой считался известный адвокат Ройе-
Коллар. Понимая, что попытки вдохнуть новую жизнь в «Старый^
порядок» чреваты очередным социальным взрывом, сторонники
этого идейно-политического течения видели свою миссию в модер¬
низации «режима 1814 года». Прежде всего, по их мнению, необ¬
ходимо было достичь прочного компромисса между старой и но¬
вой элитой, максимально консолидировать весь высший эшелон
общества. Ройе-Коллар полагал, что «Хартия 1814 года» в прин¬
ципе отвечает этой задаче: важно не нарушать тот баланс интере¬
сов, который она зафиксировала в правовых нормах.
В этом плане его самого и его сторонников очень беспокоила
позиция ультрароялистов во главе с Карлом д’Артуа. Они не мог¬
ли не видеть, что под давлением правых король Людовик XVIII
нередко совершает серьезные политические ошибки, открыто де¬
монстрируя свои симпатии лишь к одной из фракций элиты фран¬
цузского общества — старой аристократии. Им было очевидно, что
подобное поведение разрушает хрупкий консенсус внутри правя¬
щих кругов и в итоге подрывает все усилия по стабилизации соци¬
ально-политической обстановки в стране.
Бесперспективность попыток осовременить идейно-полити¬
ческую платформу роялистов становилась все очевиднее для иде¬
ологов французского либерализма. Сама политика старой элиты
способствовала радикализации воззрений значительной части
французских либералов. Будучи твердо убежденными в необра¬
тимости буржуазного прогресса, не сомневаясь в том, что истори¬
ческое время «старого порядка» безвозвратно прошло, они виде¬
ли свою миссию в том, чтобы сформировать во Франции оптималь¬
ную среду для обновления французского общества, для освобож¬
дения его как от наслоений прошлого, так и от крайностей рево¬
люционной эпохи. Для большинства из них эталоном представля¬
лась английская модель организации общества, английский ва¬
риант движения по пути буржуазного прогресса. Признанным
идеологом этой части французских либералов стал Б. Констан —
человек, широко известный не только во Франции, но и в боль¬
шинстве стран Западной Европы и в России.
Постоянные столкновения различных группировок внутри
властвующей элиты вели к частой смене правительств. Если в ста¬
103
бильном обществе в смене кабинетов нет ничего опасного, то в ус¬
ловиях повышенной социальной напряженности в каждом подоб¬
ном катаклизме таится угроза очень серьезных потрясений и вы¬
хода ситуации из-под контроля.
Так в итоге и произошло во Франции. Летом 1829 г. в резуль¬
тате очередного правительственного кризиса пало правительство,
возглавляемое умеренным роялистом графом Мартиньяком. Его
место занял, пожалуй, наиболее консервативный политик эпохи
Реставрации — граф О. Полиньяк. Политика нового кабинета бы¬
стро привела к резкому столкновению с Палатой депутатов, кото¬
рая в марте 1830 г. потребовала отставки Полиньяка. В окруже¬
нии короля зрела мысль о том, что настал удобный момент для
решительного наступления на всех инакомыслящих. В мае строп¬
тивая Палата депутатов была распущена и назначены новые вы¬
боры. Последующие события показали, что Карл X и его окруже¬
ние абсолютно не представляли себе реального положения дел в
обществе, царивших там настроений и действительной расстанов¬
ки сил. Выборы это прекрасно доказали: сторонники короля по¬
лучили всего 145 мест, в то время как либеральная оппозиция —
270. Но и эти красноречивые результаты не вразумили короля: он
делал все, чтобы приблизить взрыв. 26 июля 1830 г. были обнаро¬
дованы правительственные ордонансы: избранная Палата депута¬
тов объявлялась распущенной, вводились новые ограничения в
сфере избирательных прав, жестко лимитировались права прес¬
сы. По существу Карл X пошел на ревизию базовых конституци¬
онных норм. И все это происходило в условиях быстро прогресси¬
ровавшего экономического кризиса.
Появление ордонансов вызвало взрыв возмущения в различ¬
ных слоях общества. В авангарде выступали либеральные журна¬
листы, которые квалифицировали этот шаг властей как консти¬
туционный переворот. Недовольство выражали и представители
буржуазии, которых реализация данных указов по существу от¬
страняла от власти. Еще более решительно были настроены рядо¬
вые парижане. В городе начались столкновения с полицией, кото¬
рые 28 июля переросли в восстание. Через день город был в руках
восставших. Было создано временное правительство. Карл X от¬
рекся от престола и бежал за границу.
Над страной витал призрак новой революции. Либеральные
круги, резко оппозиционно настроенные в отношении ультрароя¬
листов, в то же время не хотели повторения грандиозных потрясе¬
ний, которые Франция пережила в 90-е годы XVIII в. Эти силы
взяли курс на установление в стране конституционной монархии,
ориентированной не на старую аристократию, а на интересы тор¬
гово-финансовой и отчасти промышленной буржуазии, т.е. новой
104
элиты. Французским королем стал Луи-Филипп Орлеанский, со¬
гласившийся пересмотреть ряд положений старой Конституции.
Если «Хартия 1814 года» являлась как бы дарованной божествен¬
ной королевской властью французскому народу, то новая Консти¬
туция объявлялась результатом общественного договора. В ней
было декларировано, что, хотя во главе Франции по-прежнему
стоит король, отныне он правит не в силу божественного права, а
по приглашению французского народа. Были расширены права
Палаты депутатов, ликвидирована наследственность звания пэров,
несколько увеличен избирательный корпус за счет снижения иму¬
щественного ценза, введено местное самоуправление, ограничены
права католической церкви, восстановлены права прессы.
Таким образом, старая аристократия потерпела серьезное пора¬
жение, и ее попытка повернуть вспять колесо истории закончилась
провалом. У власти во Франции оказались силы, однозначно высту¬
павшие в пользу буржуазного прогресса. Однако это обстоятельство
не снимало многих проблем, связанных с обеспечением стабильнос¬
ти и с минимизацией издержек, которые неизбежно возникали при
ничем не контролируемом буржуазном развитии. Речь прежде всего
идет о стремительной поляризации социальной структуры общества,
его расслоении на сравнительно небольшую группу богатых и сверх¬
богатых (типа Ротшильда) и основную часть населения, состоявшую
из крестьян, с трудом сводивших концы с концами, и наемных рабо¬
чих, положение которых было еще более тяжелым. Что касается сред¬
него класса, столь необходимого для стабильного функционирова¬
ния гражданского общества, то его формирование во Франции шло
замедленными темпами', и в силу своей малочисленности и слабой
организованности он в это время не играл сколько-нибудь существен¬
ной роли в политической жизни Франции.
Не удивительно, что неотъемлемым атрибутом политической
жизни 30—40-х годов XIX в. стали постоянные кризисы, которые
в конце концов переросли в революцию и взорвали Июльскую мо¬
нархию. В1831 г. в Лионе, а в 1832,1834 и 1839 гг. в Париже дело
доходило до баррикадных столкновений между правительствен¬
ными войсками и рабочими, требовавшими улучшения условий
труда. Эти коллизии были прямым следствием того, что государ¬
ство отказывалось вмешиваться в отношения лиц наемного труда
и предпринимателей, позволяло последним диктовать свои усло¬
вия. Рабочие, лишенные каких-либо легитимных возможностей
борьбы за свои права, неизбежно приходили к выводу, что только
с оружием в руках можно добиться улучшения своей участи. Та¬
ким образом, близорукая политика властей способствовала росту
напряженности в обществе, готовила почву для очередных рево¬
люционных потрясений.
105
Июльская монархия, проводившая политику в интересах уз¬
кой группы крупных финансистов и промышленников, не устра¬
ивала не только низы общества. Потерпевшая в 1830 г. пораже¬
ние старая аристократия не собиралась сдаваться. Она неоднок¬
ратно предпринимала попытки осуществить реставрацию Бурбо¬
нов. Однако, не имея сколько-нибудь серьезной опоры во Фран¬
ции, она не могла рассчитывать на успех. Тем не менее ее постоян¬
ные заговоры, активная пропагандистская кампания добавляли
нестабильности во французское общество. Наконец, расстановка
политических сил во Франции осложнялась наличием сторонни¬
ков бывшего императора, которые в это время группировались
вокруг племянника Наполеона I — Луи Наполеона Бонапарта.
Дважды он пытался осуществить государственный переворот, но
оба раза неудачно. Сам претендент в итоге попал в тюрьму, отку¬
да, правда, сумел бежать в 1846 г.
Все эти катаклизмы, казалось бы, должны были наводить пра¬
вящую элиту на мысль о том, что необходимо вносить определен¬
ные коррективы в правительственный курс, хотя бы в какой-то
мере учитывать интересы своих оппонентов, с тем чтобы расши¬
рять свою социальную базу. Однако Луи-Филипп пошел по друго¬
му пути. В 1840 г. главой правительства был назначен Франсуа
Гизо, -считавший, что любые уступки внутриполитическим оппо¬
нентам подрывают стабильность и подстегивают противников вла¬
сти к новым атакам на нее. Попытки «закрутить гайки» дорого
обошлись и самой власти, и всей Франции.
Курс Гизо, исключавший по сути дела все шансы на диалог с
представителями умеренной оппозиции, вел к стремительной эс¬
калации социальной напряженности, росту влияния радикальных
элементов, полагавших, что путем реформ во Франции ничего
нельзя изменить. Действительно, Ф. Гизо неоднократно отвергал
все предложения умеренной оппозиции о реформе избирательной
системы, с помощью которой та рассчитывала несколько изменить
соотношение сил в парламенте. Этим он лишь укреплял позиции
радикальных критиков режима. Положение кабинета Гизо резко
ухудшилось, когда в 1847 г. на Францию обрушился экономичес¬
кий кризис.
По всей стране прокатилась волна политических банкетов, на
которых различные политические силы пропагандировали свои
взгляды. Суть их сводилась к тому, что стране необходимы рефор¬
мы. В такой обстановке в самом конце 1847 г. открылась очеред¬
ная сессия парламента. Диалог власти и правительства на ней явно
не получался. На 22 февраля 1848 г. был назначен крупный бан¬
кет сторонников оппозиции. Однако власти без всяких объясне¬
ний запретили его. Это вызвало взрыв возмущения парижан. В
106
городе начались волнения, масштаб которых стремительно нара¬
стал. Под этим давлением правительство Гизо вынуждено было
уйти в отставку. Но было уже поздно. Этот шаг уже не мог помочь
властям удержать ситуацию под контролем. Волнения переросли
в восстание. Луи-Филипп отрекся от престола. Монархия пала.
Было создано Временное правительство, наибольшим влиянием в
котором пользовался известный поэт, умеренный республиканец
А. Ламартин, а 25 февраля 1848 г. Франция была провозглашена
республикой.
Стихийный характер событий, которые не готовила ни одна
политическая сила, предопределил сложную композицию Времен¬
ного правительства, в состав которого вошли самые разные силы:
от представителей умеренных республиканцев до социалистов.
Весьма непростой была и его политическая линия. Под явным дав¬
лением низов правительство пошло на проведение избирательной
реформы, причем более радикальной, чем требовала оппозиция во
времена правления Гизо: во Франции вводилось всеобщее избира¬
тельное право для всех мужчин старше 21 года. Поскольку с само¬
го начала в февральских событиях активную роль играли рабочие,
Временное правительство не могло игнорировать сравнительно
новый для Франции, но становящийся все более актуальным ра¬
бочий вопрос. Именно оно заложило первые кирпичи в фундамент
будущего здания разветвленной рабочей политики.
Уже в первые дни своего существования правительство при¬
няло декрет, гласивший, что оно обязано «гарантировать рабоче¬
му его существование трудом». Была создана «Правительственная
комиссия для трудящихся», занимавшаяся изучением рабочего
вопроса. Таким образом, впервые в истории правительство при¬
знало право рабочих на труд и в определенной степени свою ответ¬
ственность за реализацию этого права. Оно не ограничилось толь¬
ко декларациями: были созданы Национальные мастерские, ко¬
торые дали работу 100 тыс. человек, во всех крупных городах вво¬
дилась система общественных работ, из безработных создавалась
мобильная гвардия, правительство начало регулировать условия
труда, а также цены на продовольствие.
Эти меры вызвали острые споры во французском обществе. Все
это происходило на фоне углубляющегося финансового кризиса,
а названные шаги властей требовали больших средств. Приходи¬
лось увеличивать налоги, что, естественно, не прибавляло попу¬
лярности правительству. В такой обстановке проходили выборы в
Учредительное собрание, которые принесли победу умеренным
республиканцам, получившим 500 из 888 мест. С первых дней
новому органу пришлось столкнуться с давлением различных по¬
литических сил, что сразу же поставило под вопрос выработку кон¬
107
сенсусного курса. Обстановка накалялась с каждым днем. Взрыв
произошел после того, как 22 июня 1848 года правительство изда¬
ло указ о закрытии Национальных мастерских, что лишило рабо¬
ты более 100 тыс. человек. Париж моментально покрылся барри¬
кадами. Город был объявлен на осадном положении, военный ми¬
нистр генерал Л. Э. Кавеньяк ввел в него войска. Начались ожес¬
точенные уличные бои, продолжавшиеся 4 дня.
Восстание было жестоко подавлено, но успокоения во Фран¬
ции не наступило. В сознании рабочих прочно закрепился стерео¬
тип власти как силы крайне враждебной трудящимся. С другой
стороны, правые считали, что сложились благоприятные условия
для ликвидации республиканских институтов и восстановления
монархии. Осенью 1848 г. была принята Конституция Второй рес¬
публики, которая не удовлетворяла ни левых, ни правых. На ее
базе в декабре 1848 г. состоялись выборы президента страны. Нео¬
жиданно для современников победителем на них стал Луи Напо¬
леон, получивший 3/4 всех голосов и выступавший с резкой кри¬
тикой как левых, так и правых. Он убеждал французов, что стра¬
не необходимо единство и твердый порядок.
Республиканские институты с каждым днем теряли привле¬
кательность в глазах французов. Их дискредитации способство¬
вал и все углубляющийся экономический кризис, и их ассоциа¬
ция с кровавыми событиями июня 1848 г., поставившими страну
на грань гражданской войны, и отсутствие у большинства партий
привлекательной программы решения проблем, стоявших перед
французским обществом. Всем этим умело пользовался Луи На¬
полеон, искусно культивировавший в обществе ностальгические
воспоминания об Империи, когда страна находилась на вершине
могущества. Лавируя между левыми и правыми, он стремился убе¬
дить и тех и других, что только он способен гарантировать стабиль¬
ность и не допустить новых социальных катаклизмов.
Было создано «Общество 10 декабря», которое ставило своей
целью возведение Луи Наполеона на императорский трон. Оно вело
активную агитацию в его пользу среди самых разных групп насе¬
ления. Особенно успешными были его действия в армейской сре¬
де. Опираясь на широкий, хотя и весьма разношерстный блок, Луи
Наполеон 2 декабря 1851 года осуществил государственный пере¬
ворот, который в целом был спокойно воспринят французским
обществом, а еще через год он был провозглашен императором. Так
закончился очередной этап в истории Франции.
Каковы же его итоги? Прежде всего, следует констатировать,
что во Франции в описываемый период не сложились условия для
стабильного, поступательного социально-политического развития.
Общество постоянно лихорадило, борьба различных социально¬
108
политических группировок не раз ставила страну на грань граж¬
данской войны. Тем не менее Франция, безусловно, заметно про¬
двинулась вперед по пути буржуазного прогресса: все попытки ре¬
ставрировать «старый порядок» в итоге завершились провалом.
Стало очевидно, что страна уже не свернет с того пути, на который
она вступила еще в конце XVIII в. Однако за достигнутый прогресс
пришлось заплатить большую цену.
Возникает вопрос: почему во Франции, где в ходе революции
были решительно уничтожены устои «старого порядка» и, казалось,
созданы весьма благоприятные условия для беспрепятственного
развития буржуазных отношений, этот процесс в XIX в. проходил
столь болезненно? Дело в том, что у радикального, скачкообразно¬
го варианта движения по пути прогресса есть серьезные достоин¬
ства, но имеются и не менее значительные недостатки. Резкий пе¬
реход общества из одного качественного состояния в другое, унич¬
тожая старые противоречия, расчищая почву для новых отноше¬
ний, вместе с тем разрушает все привычные нормы взаимодействия
основных элементов общества, что неизбежно порождает дестаби¬
лизацию всей сферы социальных и экономических отношений.
Кардинальное перераспределение собственности и резкое измене¬
ние привычного статусного положения различных социальных
групп, сопровождающее любую крупную революцию, стимулиру¬
ет стремление либо любой ценой закрепить и развить успех, либо
добиться социального реванша. В такой ситуации формируется осо¬
бый тип политической культуры, ориентированной на подавление
своих оппонентов, навязывание обществу своих ценностей, что по¬
стоянно генерирует и подпитывает конфликтный потенциал, суще¬
ствующий в любом обществе, рождает новые коллизии.
Франции, как и другим странам континентальной Европы,
еще предстояло пройти долгий и сложный путь, прежде чем уда¬
лось выработать такой модус взаимоотношений основных соци¬
альных сил общества, который бы позволял снимать возникаю¬
щие в нем проблемы путем реформ, надежно регулировать конф¬
ликты и двигаться вперед без революционных потрясений, кото¬
рыми была так насыщена история XIX и первая половина XX века.
§ 2. США: становление эволюционной
модели прогресса
Если во Франции и других странах континентальной Европы
развитие буржуазных отношений сопровождалось бурными соци¬
альными коллизиями, не раз перераставшими в революцию, то в
Соединенных Штатах постепенно отрабатывался иной вариант
109
буржуазного прогресса. Избавленные от наслоений прошлого,
американцы строили новое общество практически с «чистого лис¬
та», смело экспериментировали, ища новые подходы к вставав¬
шим перед ними проблемам. Благоприятные внешние условия,
богатейшие внутренние возможности помогали находить развяз¬
ки многих сложных социально-экономических проблем.
Конституирование нового государства не означало, что перед
ним не стояло серьезных проблем. В обществе шла острая борьба
по широкому спектру проблем, связанных с определением магис¬
тральных направлений социально-экономического развития. Уже
в это время на территории США выделяется три региона — Север,
Юг и Запад, каждый из которых имел собственные интересы. Не
удивительно, что в обществе быстро обозначились различные под¬
ходы к решению базовых социально-экономических проблем. Это
и стало основой для образования политических партий. С самого
начала они стали основным инструментом, с помощью которого
различные социально-политические силы пытались воплотить в
жизнь свои программно-целевые установки.
В 90-е годы XVIII в. у власти находилась партия федералистов,
выражавшая интересы прежде всего торгово-финансовых кругов
Северо-Востока. Исходя из их запросов решалась проблема долгов
и налогов, строилась вся финансовая политика государства. Глав¬
ным идеологом федералистов был А. Гамильтон, занимавший пост
министра финансов в администрации Дж. Вашингтона. Его про¬
грамма финансово-экономического оздоровления страны, сформу¬
лированная в 1790-1791 гг., принесла огромные выгоды финанси¬
стам северных штатов. По их предложению федеральное правитель¬
ство взяло на себя обязательство оплатить весь государственный
долг, включая долги штатов, причем давно обесцененные облига¬
ции предлагалось выкупать по номинальной стоимости. Выпущен¬
ные в годы Войны за независимость для финансирования расходов
на содержание революционной армии и органов новой власти, они
широко разошлись по стране. Однако в период существования кон¬
федерации общая слабость государства привела к тому, что перво¬
начальные держатели облигаций, разуверившись в способности
властей погасить государственный долг, продали их за бесценок
финансовым спекулянтам, и вот теперь те получили от государства
великолепный подарок — решение выкупить эти практически уже
ничего не стоившие облигации по первоначальной цене.
Чуть позднее А. Гамильтон предложил учредить Нацио¬
нальный банк с уставным капиталов 10 млн. долл., из которых 2
млн. принадлежали федеральному правительству, а остальные —
частным акционерам. В большинстве своем акционерами банка
стали весьма состоятельные люди, ибо стоимость акций была весь¬
110
ма высокой — 250 долл, за 1 акцию. Однако игра стоила свеч, по¬
скольку Национальный банк сразу же занял исключительное по¬
ложение в формировавшейся финансово-кредитной системе США.
Имея мощную финансовую базу и поддержку федерального пра¬
вительства, он, по сути, стал монополистом в вопросах кредитова¬
ния всех сколько-нибудь серьезных предпринимательских проек¬
тов. Ему же принадлежало право выпуска бумажных денег для
всей страны. Наконец, министр финансов настоял на принятии
комплекса мер по поощрению отечественной промышленности,
развитию транспортной инфраструктуры и защите американских
товаропроизводителей от иностранных конкурентов.
Ясно, что столь масштабная программа, так или иначе затра¬
гивавшая интересы всех основных социальных групп нового об¬
щества, не могла не вызвать ожесточенной полемики. Ее ярко вы¬
раженная односторонняя ориентация на интересы торгово-финан¬
совых кругов вызывала понятное раздражение у представителей
аграрной Америки. Они усматривали в действиях Гамильтона
стремление утвердить в стране власть финансовой олигархии.
Лидер этих кругов Т. Джефферсон заявил, что Гамильтон в своих
прожектах выходит за рамки конституционного поля, ибо в Ос¬
новном законе ничего не говорится, например, о праве федераль¬
ного правительства создавать корпорации типа федерального бан¬
ка. По мнению Джефферсона, ставшего автором правовой концеп¬
ции «узкого толкования Конституции», федеральное правитель¬
ство имело право делать лишь то, о чем прямо говорилось в этом
документе. В противовес ему Гамильтон выдвинул концепцию
«широкого толкования Конституции», утверждая, что федераль¬
ное правительство имеет право осуществлять любые мероприятия,
если они способствуют «общественному благу» и не запрещены за¬
коном. В этой схватке победа осталась за Гамильтоном. Однако его
жесткая бескомпромиссная политическая линия стимулировала
становление оппозиции, и уже в 1796 г. очередные выборы прези¬
дента США проходили на партийной основе. С большим трудом
кандидату федералистов Дж. Адамсу удалось добиться победы.
Итоги выборов наводили лидеров партии на серьезные раз¬
мышления. Было очевидно, что их курс по существу исключает
возможность расширения электоратной базы федералистов. Зна¬
чит, надо было либо вносить в него определенные коррективы, либо
осуществлять меры по ограничению активности оппозиции. Вы¬
бор был сделан в пользу второго варианта. В годы пребывания
Дж. Адамса на посту президента (1797-1801) были приняты за¬
коны о натурализации и измене, ограничивавшие деятельность оп¬
позиционной прессы и оппозиции в целом. Обстановка станови¬
лась все более напряженной.
111
В этой ситуации многое зависело от выборов 1800 г. Они дол¬
жны были дать ответ на вопрос, могут ли оппоненты правитель¬
ственного курса легитимными средствами добиться того, что го¬
сударство в своей деятельности будет учитывать и их интересы.
В итоге ожесточенной борьбы на выборах победил лидер оппози¬
ции Т. Джефферсон, и, таким образом, впервые власть мирным
путем перешла в руки противников правительства. Теперь все
зависело от того, как поведет себя новый президент: пойдет ли
он на резкий демонтаж всего того, что сделали его предшествен¬
ники, или будет учитывать в своей политике в определенной мере
и их интересы.
Т. Джефферсон строил свою политику таким образом, чтобы
укреплять в обществе консенсусные тенденции и одновременно
вырабатывать конструктивные варианты решения кардинальных
социально-экономических проблем. Он исходил из того, что ус¬
пех начатого в годы Бойны за независимость гигантского социаль¬
ного эксперимента зависит от эффективности демократических
институтов, их способности решать встающие перед обществом
проблемы. В отличие от Гамильтона, считавшего главным созда¬
ние стабильной финансовой системы, Джефферсон полагал, что
ключевым является аграрный вопрос. Только решив его, можно
было сформировать мощную прослойку мелких собственников,
которые и станут опорой демократического строя.
При Джефферсоне были облегчены условия доступа к запад¬
ным землям, а главное, резко расширен земельный фонд. Купив в
1804 г. у Наполеона французскую Луизиану, он по существу снял
остроту аграрной проблемы: США обладали теперь огромным за¬
пасом свободных земель, что давало, по крайней мере теоретичес¬
ки, каждому американцу шанс стать владельцем земельной соб¬
ственности. Оставив в неприкосновенности Национальный банк —
главное детище А. Гамильтона, Джефферсон тем самым рассеял
страхи федералистов, опасавшихся, что новый президент в своей
политике будет игнорировать, а то и ущемлять их интересы. Бес¬
спорно, гибкая и осторожная политика Джефферсона в отноше¬
нии торгово-финансовых кругов северо-восточных штатов способ¬
ствовала успокоению общества.
Пожалуй, единственная сфера, где Т. Джефферсон пошел на
резкий пересмотр прежнего курса, была внешняя политика. Фе¬
дералисты на протяжении всех 90-х годов XVIII в. отстаивали курс
на сближение с Англией. Его кульминацией стало подписание в
1795 г. крайне непопулярного и в целом невыгодного для США
договора Джея, по которому сохранялись ограничения на торгов¬
лю американцев с английскими колониями в Вест-Индии, но анг¬
личане могли свободно торговать с индейскими племенами в по¬
112
граничных районах США, а также не давали гарантий соблюде¬
ния прав нейтральных государств в их морской торговле с третьи¬
ми странами.
Несмотря на явное стремление федералистов наладить контак¬
ты с Англией, в отношениях двух стран оставалось немало острых
проблем. В английской злите было достаточно много влиятельных
лиц, не терявших надежд на реванш за поражение в Войне за не¬
зависимость. Английские военные корабли демонстративно попи¬
рали права американского торгового флота, нанося немалый ущерб
внешней торговле США. В отношениях двух стран назревал кон¬
фликт. В 1807 г. американское правительство, возмущенное бес¬
церемонными действиями британского военного флота в отноше¬
нии судов США, объявило эмбарго на торговлю с Англией.
Эти события стали своего рода прологом к новой войне с Анг¬
лией, которая вспыхнула в 1812 г., уже при администрации Мэ¬
дисона. Боевые действия разворачивались не особенно удачно для
США. За исключением победы под Новым Орлеаном, американ¬
цам нечем было похвалиться. Тем не менее, поскольку основные
силы Англии были сконцентрированы на борьбе с Францией, аме¬
риканцам удалось добиться сохранения довоенного статус-кво.
Война имела серьезные последствия для внутриполитической
жизни США. Федералисты, резко выступавшие против войны с
Англией, не найдя серьезной поддержки в обществе, встали на путь
раскола Союза штатов. На конвенте в Хартфорде в 1814 г. они по¬
пытались добиться согласия штатов Новой Англии на выход из
состава Союза, т.е. на сецессию. Эти действия полностью дискре¬
дитировали партию, и к 1816 г. она сошла с политической сцены.
Наступила «эра доброго согласия» — уникальный период в исто¬
рии США, когда на политической арене действовала только одна
партия. Такая ситуация стала возможной в силу специфики соци¬
ально-экономического развития США, когда процессы, протекав¬
шие в экономике трех основных регионов страны, не только не
противоречили, но, наоборот, взаимообуславливали друг друга, а
поэтому была возможность сочетать интересы основных соци¬
альных групп в рамках одной партии. «Эра доброго согласия» ук¬
репила консенсусные тенденции в развитии США.
Правда, эволюция США была отнюдь не гладкой. В 1819 г. на
экономику страны обрушился кризис. Видимость гармонии в от¬
ношениях различных социальных сил была сразу же нарушена.
Каждая из основных социальных групп стремилась переложить
последствия кризиса на других. Хрупкое согласие дало глубокую
трещину. Это отчетливо проявилось в ходе обсуждения вопроса об
условиях принятия в состав Союза нового штата — Миссури. Пос¬
ле долгих споров удалось все же выработать компромисс: Миссу¬
113
ри принимался в состав Союза как рабовладельческий штат, но
одновременно на Севере создавался новый свободный штат — Мэн.
В дальнейшем было решено, что вся территория, располагающая¬
ся севернее 36 30*, является свободной и штаты, которые будут там
созданы, должны быть свободными, закрытыми для распростра¬
нения рабства. Таким образом, на повестку дня встал вопрос о судь¬
бе института рабства. В тот момент удалось приглушить огромный
конфликтный потенциал этой проблемы, но, во-первых, лишь на
время, а во-вторых, эти дебаты оказали очень серьезное воздей¬
ствие на партийно-политическую систему США: с однопартийно¬
стью было покончено, в рамках старой республиканской партии
образовалось несколько соперничавших фракций, отражавших
интересы разных социальных групп. Каждая из них отстаивала
собственный вариант развития США, предлагала свою програм¬
му решения актуальных проблем.
Это проявилось уже на выборах 1824 г., когда за высший
государственный пост боролись сразу четыре кандидата —
Дж. К. Адамс, Э. Джексон, Г. Клей и У. Кроуфорд. Эти выборы,
принесшие в итоге победу Адамсу, дали мощный импульс партий¬
ной перегруппировке, приведшей к формированию новой партий¬
ной комбинации «демократы— виги». Межпартийная борьба
опять стала неотъемлемым атрибутом политической жизни США.
Важно подчеркнуть, что социальные конфликты в США вполне
вписывались в ее рамки, что позволяло находить развязки спор¬
ных проблем без революционных потрясений и динамично дви¬
гаться вперед эволюционным путем.
20-40-е годы XIX в. — время бурного развития буржуазных
отношений в США вширь и вглубь. Осваивались новые террито¬
рии, интенсивно расширялась транспортная инфраструктура, на
Юге в самом разгаре был хлопковый бум, стремительно развора¬
чивался промышленный переворот, крепла и совершенствовалась
финансовая система, быстро росло число фермерских хозяйств и
их продуктивность. Все эти процессы неизбежно выносили на по¬
вестку дня новые сложные проблемы, затрагивавшие интересы ос¬
новных слоев населения. Политическая элита США, в отличие от
своих европейских коллег, не уходила от этих вопросов. Они яв¬
лялись предметом острой борьбы, но к 30-м гг. XIX в. в полити¬
ческой культуре США уже достаточно прочно утвердилась мысль
о том, что в любой конфликтной ситуации нужно искать компро¬
миссную развязку, ибо двигаться вперед можно только сохраняя
согласие в обществе.
Конечно, это не исключало периодически возникавших поли¬
тических кризисов. Так, в период президентства Э. Джексона
(1829-1837) США пережили два острых политических кризиса —
114
вокруг продления полномочий Национального банка и так назы¬
ваемый «нуллификационный кризис», когда группа южан во главе
с Дж. Кэлхуном, недовольная политикой президента в вопросе о
тарифах, выдвинула доктрину «суверенитета штатов», согласно
которой штаты имели право не подчиняться федеральному зако¬
нодательству, если оно ущемляло их суверенитет. По существу
Кэлхун поставил вопрос о праве штатов на сецессию, т.е. о воз¬
можности их выхода из состава федерации.
Оба этих кризиса завершились победой президента. Важно
иметь в виду, что Джексон не только добился выгодного для себя
разрешения спорных вопросов, но и не вызвал раскола общества
на непримиримые группировки. Его преемнику М. Ван-Бурену
добиться этого было уже сложнее. В самом начале его пребывания
на посту президента в 1837 г. в стране вспыхнул очередной эконо¬
мический кризис. Оппоненты президента в лице вигской партии
развернули активную критику всей социально-экономической
политики демократов, видя в ней главную причину кризиса. Дей¬
ствительно, с каждым днем становилось все труднее проводить
политику, которая удовлетворяла бы все три основных региона
США, ибо в каждом из них выкристаллизовались собственные
интересы, не совпадавшие с запросами других регионов.
На выборах 1840 г. вигам удалось добиться победы и прийти к
власти. Президентом был избран престарелый и совершенно бес¬
цветный в политическом плане генерал У. Гаррисон. Однако вско¬
ре после инаугурации он простудился и умер. Пост президента
занял представитель южного крыла вигской партии Дж. Тайлер,
имевший отличавшуюся от общепартийной позицию по ключевым
вопросам развития страны. Внутри партии разгорелись острые
фракционные споры, в ходе которых становилось все очевиднее,
что Юг занял особую, не совпадавшую с другими регионами пози¬
цию, и в этом таилась большая угроза единству Союза.
Дело в том, что именно в это время американское общество
столкнулось со сложной дилеммой: по какому пути предпочтитель¬
нее двигаться дальше Соединенным Штатам? В принципе имелось
две возможности. Первая заключалась в том, чтобы всемерно скон¬
центрироваться на программе «внутренних улучшений», т.е. на
развитии транспортной инфраструктуры, совершенствовании бан¬
ковской системы страны, стимулировании отечественной про¬
мышленности, модернизации законодательной базы, регулирую¬
щей условия хозяйственной деятельности. По существу, приня¬
тие этой программы в качестве основы политики федерального
правительства означало бы, что политическая элита США отдала
предпочтение форсированному совершенствованию буржуазных
отношений, движению в сторону их качественно бодее высокого
115
уровня. Иными словами, она делала бы четкий выбор в пользу эво¬
люционного варианта развития общества.
При всех его преимуществах, на пути реализации этой моде¬
ли развития имелись и серьезные препятствия. Прежде всего, это
был дорогостоящий способ движения вперед. Немедленно вставал
вопрос: кто будет оплачивать расходы по реализации программы
«внутренних улучшений»? Ответ на него осложнялся тем, что
выгоды от этой программы совершенно очевидно распределялись
отнюдь не пропорционально между основными регионами страны
(Севером, Западом и Югом) и главными социальными группами
американского общества. Это был весьма затратный, чреватый
многочисленными конфликтами путь развития, хотя и суливший
в перспективе неплохие дивиденды.
Был, однако, и другой вариант развития. Он заключался в том,
что на юго-западе от США находились обширные территории, при¬
надлежавшие слабой, переживавшей постоянные внутренние не¬
урядицы Мексике. Американцы, особенно южане, уже с 20-х гг.
XIX в. с вожделением приглядывались к этим землям, а к 40-м гг.
стали рассматривать этот вопрос как своеобразный императив, без
которого немыслимо дальнейшее поступательное развитие план¬
тационной системы хозяйства, на которой основывалась вся «спе¬
цифическая» южная цивилизация.
Естественно, они уверяли, что от присоединения этих терри¬
торий выиграют все американцы, ибо в этом случае страна полу¬
чала бы огромный резерв дополнительных «свободных земель»,
освоение которых помогло бы снизить социальную напряженность
в городах Северо-Востока, дало бы выход предпринимательской
энергии американцев, обеспечило бы солидную базу для выгодных
инвестиционных проектов. Правда, реализация этих планов не¬
избежно вела к войне с Мексикой, но в США мало кто сомневался
в легкой победе. Таким образом, цена успеха представлялась сто¬
ронникам этой идеи весьма приемлемой, и в силу этого данный
вариант развития многим казался более предпочтительным, чем
попытка реализации сложной и дорогостоящей программы «внут¬
ренних улучшений». В случае успешной аннексии юго-западных
территорий, казалось бы, появлялся хороший шанс не только сра¬
зу решить все текущие проблемы, но и перепрыгнуть на новую,
более высокую ступень развития.
В этом желании осуществить без больших затрат «большой
скачок» уже тогда довольно отчетливо прослеживались черты эк¬
стремистской политической культуры, приверженность к которой
два десятилетия спустя привела страну к гражданской войне. При¬
зывая К аннексии юго-западных территорий, южане вполне созна¬
тельно обходили стороной вопрос об их будущем статусе, ибо это
116
неизбежно выносило на повестку дня проблему сохранения того
хрупкого равновесия, которое установил Миссурийский компро¬
мисс, удерживавший в рамках Союза и Север, и Юг, и Запад. Все
предшествовавшие президенты США — Дж. К. Адамс, Э. Джек¬
сон, М. Ван-Бурен — хорошо понимали это и всячески уходили от
обсуждения вопроса об аннексии юго-западных территорий, ста¬
вя во главу угла охрану прежнего статус-кво, видя в этом надеж¬
нейшую гарантию сохранения целостности Союза.
Однако на рубеже 30-40-х годов XIX в. на политическую аре¬
ну вышло новое поколение политиков-южан, для которых обеспе¬
чение условий для дальнейшего развития плантационной систе¬
мы стало важнее сохранения целостности Союза. В приходе к вла¬
сти Дж. Тайлера они усмотрели шанс для реализации своих базо¬
вых программно-целевых установок.
Так, по инициативе Тайлера были заблокированы основные
социально-экономические мероприятия, отстаиваемые вигской
партией, — воссоздание Национального банка и массированные
ассигнования на «внутренние улучшения». По инициативе южан
с благословения Тайлера на повестку дня был выдвинут вопрос об
аннексии Техаса. Принятие Техаса в состав Союза, во-первых, вело
к обострению отношений с Мексикой, а во-вторых, нарушало ба¬
ланс сил в Союзе в пользу рабовладельческих штатов.
Раздираемая внутренними дрязгами, вигская партия проиг¬
рала очередные президентские выборы демократам, которые в
центр своей предвыборной кампании поставили проблему аннек¬
сии Техаса. Их агрессивный курс привел в 1846 г. к войне с Мек¬
сикой. Она закончилась победой американцев и присоединением
к США новых крупных территорий на Юго-Западе. Однако побе¬
да принесла не только ожидаемые дивиденды, но и серьезные про¬
блемы. Как и предупреждали противники этой акции, сразу же с
исключительной остротой встал вопрос о статусе новых террито¬
рий. Условия Миссурийского компромисса все больше тяготили
южан. Ссылаясь на рост аболиционистского движения, требовав¬
шего отмены рабства, южане, в свою очередь, добивались снятия
всех ограничений на распространение рабства. Споры принимали
все более ожесточенный характер, угрожая стабильности полити¬
ческой системы, подрывая эволюционный характер развития аме¬
риканского общества.
Отражением этих процессов стал рост движения за создание
третьей партии. Двухпартийная система уже не могла интегриро¬
вать в свою структуру все сегменты общества, ибо их запросы ста¬
ли принимать взаимоисключающий характер. На Севере и Запа¬
де США среди промышленной буржуазии, фермеров, мелких пред¬
принимателей росло недовольство тем, что обе главные партии
117
попадают под контроль южан и в своей политике все более откро¬
венно проводят прорабовладельческую политику* В1848 г. появи¬
лась партия фрисойлеров, требовавшая запретить распростране¬
ние рабства на западные территории и обеспечить свободный дос¬
туп фермеров на западные земли.
Ее появление лишь подстегнуло агрессивность южан, усили¬
ло позиции экстремистов в этом регионе. Вновь заговорили о док¬
трине суверенитета штатов. В свою очередь, на Севере и Западе
крепли позиции тех, кто полагал, что необходимо решительно ос¬
тановить экспансию рабовладельцев. При обсуждении вопроса о
статусе присоединенных к США территорий конгрессмен Д. Уил¬
мот решительно потребовал, чтобы они были объявлены свобод¬
ными. В ответ южане заявили, что их статус должны определять
сами поселенцы. При всей остроте дебатов и на сей раз удалось
выработать компромисс. Калифорния принималась в состав Со¬
юза как свободный штат. В Аризоне и Нью-Мексико ответить на
вопрос, быть или не быть там рабству, должны были сами посе¬
ленцы. Чтобы успокоить южан, принимался закон о выдаче бег¬
лых рабов.
Однако компромисс этот оказался очень недолговечным. Уже
через 4 года, в 1854 г., конфликт между свободными и рабовла¬
дельческими штатами вспыхнул с новой силой. Поводом послу¬
жили события в Канзасе, где по существу установилось двоевлас¬
тие: одна часть его жителей поддерживала прорабовладельческую
администрацию, другая — ту, которая отстаивала свободный ста¬
тус нового штата. Там в любой момент могла вспыхнуть граждан¬
ская война. Ситуация усугублялась тем, что правительство США
открыто поддерживало рабовладельческие власти штата.
События в Канзасе имели огромный резонанс. Они показали,
что возможности достижения компромисса и поддержания в об¬
ществе консенсуса практически исчерпаны. Уходить от решения
вопроса о судьбе рабства (а именно на этой основе на протяжении
первой половины XIX в. поддерживалась стабильность американ¬
ского общества) стало невозможно. Партийно-политическая сис¬
тема США вступает в полосу острейшего кризиса. Его отражени¬
ем стал распад вигской партии, превращение демократической
партии из общенациональной в организацию, защищавшую глав¬
ным образом интересы Юга, и, наконец, образование в 1854 г. рес¬
публиканской партии, ставшей центром притяжения всех анти¬
рабов ладе л ьческих сил.
Соединенные Штаты стояли на пороге крупных потрясений.
Они вплотную подошли к одному из самых критических момен¬
тов в своей истории, когда предстояло определить дальнейшие
магистральные направления развития общества. Если до этого
118
момента страна достаточно уверенно шла по эволюционному пути
прогресса, избегая социальных катаклизмов, способных взорвать
согласие, то на сей раз разрешить назревший конфликт легитим¬
ным путем оказалось невозможно. Это свидетельствовало о том,
что эволюционная модель прогресса, формировавшаяся в США на
протяжении всей первой половины XIX века, еще не сложилась
до конца, не все ее элементы были отработаны и способны эффек¬
тивно функционировать в любой ситуации.
§ 3. Противоречия становления
гражданского общества в Англии
Завершение наполеоновских войн открыло эпоху, когда Ан¬
глия на долгие годы заняла ведущие позиции в мировой полити¬
ке, стала державой номер один, промышленной мастерской мира,
его финансовым центром и эталоном либерального общества. Это
не означало, что в ее истории в 20-50-е годы XIX в. не было про¬
блем, — ей приходилось сталкиваться с весьма взрывоопасными
общественными явлениями, порождаемыми бурно протекавшим
промышленным переворотом. Как уже отмечалось, Англия была
первой страной, где он дал о себе знать. К моменту окончания
наполеоновских войн результаты этого огромного по своему ис¬
торическому значению процесса уже проявились достаточно от¬
четливо.
С одной стороны, Англия безоговорочно воспринималась как
самая мощная в экономическом отношении держава. У английс¬
кой промышленности по существу не было серьезных конкурен¬
тов. С другой стороны, под его влиянием заметно трансформиро¬
валась социальная структура общества. К середине века уже 43%
населения Англии являлись лицами наемного труда. В полити¬
ческой элите все более заметную роль стала играть промышлен¬
ная буржуазия, которая уже достаточно четко осознавала свои
интересы и добивалась того, чтобы они были положены в основу
государственной политики. Поляризация социальной структуры
Англии, рост пауперизации основной части населения и стреми¬
тельное обогащение верхушки общества вели к усилению социаль¬
ной напряженности, порождали немало серьезных проблем, рецеп¬
тов решения которых у тех, кто находился у руля государствен¬
ной власти, не было.
На начальной стадии этого периода английской истории в цен¬
тре политических споров по-прежнему находилась борьба старой
олигархии и быстро увеличивавшей свой вес промышленной бур¬
жуазии. Старая элита не собиралась сдавать позиции. В 18X5 г.
119
она добилась принятия так называемых «хлебных законов», ус¬
танавливавших высокие пошлины на импорт зерна в Англию. Это
заметно повысило доходы земельной аристократии, но одновре¬
менно вызвало рост цен на продукты питания и ухудшило поло¬
жение основной части населения. Почти одновременно с этим на
страну обрушился экономический кризис. Находившиеся у влас¬
ти тори, однако, не желали менять своего курса. Подобная поли¬
тика создавала благоприятную среду для распространения ради¬
кальных идей. По мнению английских радикалов, изменить си¬
туацию можно было и без революционных выступлений, за счет
серьезной реформы политической системы Британии. Прежде все¬
го необходимо было добиться введения всеобщего избирательного
права для мужчин. Сторонники этой идеи развернули широкую
агитацию в поддержку своих планов.
Эта кампания сыграла важную роль в становлении норм и
принципов политической жизни Англии, а в более широком смыс¬
ле — в формировании гражданского общества. В Британии даже
радикалы, столкнувшись с крайне жесткой линией тори, не при¬
зывали к вооруженной борьбе. Наоборот, они всячески подчерки¬
вали легитимный характер своего движения. Так, например, при¬
знанный лидер английских радикалов У. Коббет в одном из самых
популярных политических памфлетов той эпохи «К поденщикам
и рабочим» утверждал, что смысл борьбы радикально-демократи-
ческих сил состоит прежде всего в осуществлении парламентской
реформы. Именно она, по его мнению, должна была создать гаран¬
тии для дальнейшего преобразования общества, для формирова¬
ния более справедливых социальных отношений. Английские ра¬
дикалы стремились стимулировать гражданскую активность на¬
селения путем проведения массовых митингов, создания полити¬
ческих клубов, сбора подписей под петициями, распространения
памфлетов и т.д.
В ответ правительство Р. Ливерпула выдвинуло лозунг «Соб¬
ственность страны должна учиться защищать себя» и издало ряд
репрессивных законов, ограничивавших права оппозиционной
прессы и оппозиции в целом. Тори решительно отвергали любые
проекты реформы политической системы страны. Их твердолобая
линия поведения стала наталкиваться на сопротивление не толь¬
ко радикалов, но и отражавших интересы промышленной буржу¬
азии вигов. Используя свои позиции в парламенте, они разверну¬
ли активную критику как «хлебных законов», так и действий
тори, ограничивавших права оппозиции. Они доказывали, что
подобная политика неизбежно приведет к социальному взрыву. В
20-е годы XIX в. у них появились сторонники и в стане тори во
главе с Дж. Каннингом. Их блок смог добиться снижения пошлин
120
на ввозимое зерно и отмены законов против диссидентов. Были
предоставлены избирательные права католикам.
В1825 г. начался очередной экономический кризис, растянув¬
шийся на два года. Он поставил под сомнение базовые устои соци¬
ально-экономического курса тори. Именно в нем английские про¬
мышленники стали видеть первопричину кризиса. Активность
этой социальной группы резко возросла. В 1829 г. была создана
Национальная политическая ассоциация, а год спустя образовал¬
ся Политический союз, главой которого стал известный банкир
Т. Атвуд. В этой среде широкое распространение получили идеи
фритреда (свободной торговли). Изменение социально-экономи¬
ческого курса лидеры новых организаций тесно увязывали с пар¬
ламентской реформой, видя в ней средство оттеснения тори от вла¬
сти мирным путем.
Эти идеи подхватили виги. В 1830 г. на парламентских выбо¬
рах они добились победы. Правительство возглавил Ч. Грей, из¬
вестный как сторонник модернизации политической системы.
Таким образом, в Англии достаточно спокойно произошло пере¬
распределение власти внутри правящей элиты, и на первые роли
надолго вышли виги, являвшиеся убежденными сторонниками
эволюционного варианта развития общества.
В 1832 г. после напряженной борьбы им удалось преодолеть
сопротивление оппонентов и добиться одобрения избирательной
реформы. В соответствии с новым законом ликвидировалось боль¬
шинство «гнилых местечек» — избирательных округов, располо¬
женных в сельской местности и полностью подконтрольных свое¬
му лендлорду. Освободившиеся 143 места передавались главным
образом крупным промышленным городам. В 1835 г. было рефор¬
мировано городское самоуправление. Право голоса получили все
плательщики прямых налогов.
Первые шаги нового правительства снизили социальную на¬
пряженность, однако решили далеко не все проблемы. По-прежне¬
му чрезвычайно остро стоял рабочий вопрос. Поскольку власти по
сути дела ничего не делали для того, чтобы хоть как-то сдвинуть
проблему с мертвой точки, рабочие встали на путь создания соб¬
ственных объединений. В 1836 г. была образована Лондонская
ассоциация рабочих, которая, правда, выступала не со специфи¬
чески рабочими требованиями, а с общедемократическими лозун¬
гами: введение всеобщего избирательного права, утверждение рав¬
ных избирательных округов, отмена имущественного ценза для
парламентариев, установление зарплаты для депутатов парламен¬
та и т.д. Все эти требования были сведены в единый документ —
хартию. По всей стране развернулось массовое движение за при¬
нятие хартии (по-английски чартер, отсюда название движения —
121
чартистское). Его организаторам удалось собрать более 1 млн. под¬
писей в поддержку хартии, однако парламент не спешил идти на¬
встречу требованиям простых англичан.
В среде чартистов разгорелись споры о том, как добиться реа¬
лизации своих устремлений. В них отразились более широкие рас¬
хождения во взглядах на выбор оптимальной модели обществен¬
ного прогресса. Часть чартистов во главе с У. Ловеттом полагала,
что прогресс может осуществляться только эволюционным путем,
за счет постепенного проведения реформ. Отсюда и методы борь¬
бы: пропаганда, создание групп давления, стимулирование граж¬
данской активности населения в рамках закона. Последователи
другого видного лидера чартистов, Дж. Гарни, склонялись к тому,
что только силовое давление, вплоть до восстания, может устра¬
нить препятствия на пути прогресса. В 1839 г. в Лондоне открыл¬
ся Национальный конвент чартистов, где эти споры достигли боль¬
шой остроты. Их исход во многом зависел от позиции правящей
элиты.
Летом 1839 г. парламент отклонил хартию и усилил гонения
на представителей радикального крыла чартистов. Создавалось
положение, когда социальная напряженность грозила выплес¬
нуться на улицы. Ситуация была самортизирована тем, что в это
время в стране стало бурно развиваться фритредерское движение,
в котором участвовали представители самых различных соци¬
альных сил. В 1838 г. манчестерские промышленники Р. Кобден
и Дж. Брайт основали Лигу борьбы против «хлебных законов». По
их мнению, переход от протекционизма к фритреду позволял бы¬
стро решить все социально-экономические проблемы и обеспечить
Британии устойчивое процветание. Имея солидную финансовую
базу, хорошие выходы на прессу, Лига развернула широкую про¬
паганду своих идей и в правящих верхах, и среди простых англи¬
чан. Рецепты фритредеров привлекали своей простотой и, в отли¬
чие от программы чартистов, не грозили крупными социальными
потрясениями. Не удивительно, что число приверженцев новой
организации быстро росло.
Фритредерское движение составило серьезную конкуренцию
чартистам, но не сняло с повестки дня те проблемы, которые ста¬
вили участники движения за хартию. В 1840 г. они учредили На¬
циональную чартистскую ассоциацию и приступили к строитель¬
ству разветвленной организации со своим уставом, структурой,
финансовой базой. Наметилась тенденция к превращению широ¬
кой общественной организации в партию. Дальнейшему обостре¬
нию обстановки способствовал начавшийся в 1841 г. очередной
экономический кризис. На политическом уровне он обернулся
поражением вигской партии на парламентских выборах и возвра¬
122
щением к власти консерваторов. Новое правительство Р. Пиля
решительно отказывалось вести диалог с чартистами, но постепен¬
но склонялось к мысли о том, что следует прислушаться к предло¬
жениям фритредеров.
В 1846 г. Пиль пошел на отмену «хлебных законов», что выз¬
вало раскол в стане консерваторов и привело к падению его каби¬
нета. К власти вернулись виги, которых все чаще стали называть
либералами. Новый глава кабинета Дж. Рассел, сторонник обнов¬
ления социально-экономических доктрин, гораздо решительнее
осуществлял корректировку правительственного курса. Он пошел
на полномасштабное введение свободной торговли, что стимули¬
ровало бурный экономический рост и вкупе с законом об ограни¬
чении продолжительности рабочего дня 10 часами способствова¬
ло улучшению положения рабочих. Были отклонены и навигаци¬
онные акты, препятствовавшие развитию торговли и промышлен¬
ности.
Эйфория по поводу того, что наконец-то найден оптимальный
вариант прогресса, прошла довольно быстро. В 1847 г. начался
очередной экономический кризис, показавший, что политика
фритреда не является панацеей от экономических катаклизмов.
Кризис совпал со страшным неурожаем и последовавшим за этим
голодом в4Ирландии, где сразу же резко обострилась обстановка.
Все это повлекло за собой быстрый рост социальной напряженно¬
сти и в самой Англии. Начался новый виток борьбы за принятие
хартии. Вспыхнувшие в начале 1848 г. революции в ряде стран
континентальной Европы играли на руку радикальным кругам в
чартистском движении. Напряженность достигла кульминации в
апреле-мае 1848 г., когда многим стало казаться, что на Британс¬
ких островах события будут развиваться по континентальному
сценарию, т.е. вспыхнет революция. Но этого не произошло. Пар¬
ламент вновь отверг хартию, однако чартисты не сумели (радика¬
лы) и не захотели (умеренные) вывести своих сторонников на ули¬
цы. Правительство перешло в наступление. В то же время начал¬
ся длительный экономический подъем, позволивший снять ост¬
роту многих социальных проблем. У радикалов была выбита по¬
чва, и движение чартистов быстро сошло на нет.
К этому времени в Британии сложились устои гражданского
общества, и раскачать их было очень непросто. Радикалы были
вытеснены на обочину политического процесса, и развитие стра¬
ны пошло по эволюционному пути. Англия превратилась в свое¬
образный эталон либерализма. Все это не означало, что в английс¬
ком обществе не было проблем и конфликтов. Однако у правящей
элиты было достаточно ресурсов и уже имелся солидный опыт на¬
хождения развязок самых сложных проблем. Две главные буржу¬
123
азные партии — либералы и консерваторы — прочно контролиро¬
вали большую часть электората, уверенно интегрировали в свою
структуру новые идеи и, попеременно сменяй друг Друга у власти,
позволяли правящей элите избегать взрывоопасных ситуаций,
столь часто возникавших в странах континентальной Европы. Все
это сыграло важную роль в том, что во второй половине XIX в.
Великобритания достигла вершины своего могущества и прочно
занимала лидирующие позиции в мировом сообществе.
§ 4. «Прусский путь» развития
капитализма — миф или реальность?
Уже в царствование Фридриха II достаточно отчетливо прояви¬
лось стремление Пруссии стать ядром, вокруг которого будет осу¬
ществляться объединение немецких земель. Эти претензии опи¬
рались как на военную мощь Пруссии, так и на ее попытки создать
особую, чисто немецкую модель общественного развития, пригод¬
ную для всех немецких земель. В целом можно констатировать,
что Фридрих II достаточно преуспел в решении этой стратегичес¬
кой задачи. В его царствование Пруссия заметно укрепила свой
престиж и влияние в центре Европы, и это давало ей в перспекти¬
ве шанс на успешное выполнение той миссии, которую, как пола¬
гал Фридрих И, судьба возложила на нее.
Однако начавшаяся в 1789 г. революция во Франции внесла в
развитие всей Европы, в том числе в ситуацию в немецких зем¬
лях, серьезные коррективы. Если в свое время Фридрих II пред¬
полагал за счет определенной модернизации устоев «старого по¬
рядка» создать эффективную модель общественного развития, ос¬
тающуюся все же на прежней платформе, то революционная Фран¬
ция ставила перед собой совсем иную цель — полностью разрушить
эти основы. Не удивительно, что власти Пруссии враждебно от¬
неслись к событиям во Франции, поскольку в их планы абсолют¬
но не входили какие-либо шаги, ведущие к резкому и решитель¬
ному разрыву с традиционным миропорядком. Эта враждебность
еще больше усилилась, когда во второй половине 90-х гг. XVIII в.
революционная Франция перешла к активному распространению
своего влияния с использованием силовых методов.
Подобная практика начала менять отношение рядовых нем¬
цев к своим соседям. Если на ранней стадии французской револю¬
ции значительная часть населения немецких земель была готова
солидаризироваться с идеями, провозглашенными в Декларации
прав человека и гражданина, то уже к середине цервого десятиле¬
тия нового XIX в. их энтузиазм в отношении «освободителей» из
124
Франции заметно убавился. Действительно, рассуждая о «народ¬
ном суверенитете» и «естественных правах», французы на прак¬
тике начали бесцеремонно вмешиваться во внутреннюю жизнь
немецких государств. Стремление Наполеона унифицировать всю
Европу на основе тех принципов, которые утвердились во Фран¬
ции, вызывало все более резкое отторжение во всех уголках Евро¬
пы, в том числе и в Германии, где наметился бурный рост нацио¬
нального самосознания. Жители созданного по воле Наполеона
Рейнского союза начали воспринимать себя не баварцами, саксон¬
цами, баденцами, а немцами — людьми с общим прошлым, общей
культурой, традицией, а главное, с общим будущим.
Это давало Пруссии исторический шанс стать морально-поли¬
тическим лидером в этом процессе, поставить его на службу сво¬
им государственным интересам. Однако превращение Пруссии в
ведущее государство Центральной Европы никак не входило в
планы Наполеона. В 1806 г. между Францией и Пруссией вспых¬
нула война, завершившаяся через две недели полным разгромом
Пруссии. Сокрушительное военное поражение показало, что кон¬
сервативно-охранительная модель общества, которая оформилась
в Пруссии во времена Фридриха II, далеко не столь эффективна,
как хотелось бы ее творцам.
Эти события отчетливо высветили необходимость ее модерни¬
зации. Данный процесс затронул несколько важных сторон жиз¬
ни прусского общества. Во-первых, он коснулся военной сферы.
Военная реформа связана с именем генерала Г. Шарнгорста. По его
инициативе был создан новый орган, занимавшийся стратегичес¬
ким планированием и управлением, — Генеральный штаб. Очень
скоро он превратился в мозговой центр, позволивший существен¬
но поднять эффективность военной машины Пруссии. На это же
была нацелена и открывшаяся в те годы военная академия, зани¬
мавшаяся подготовкой квалифицированных командных кадров.
Чтобы обойти ограничения, наложенные на прусскую армию по
условиям Тильзитского мира (1807 г.), было решено создать сис¬
тему подготовки резервистов. Эти военные реформы позволили в
перспективе создать в Пруссии великолепно отлаженную военную
машину, что, естественно, увеличивало ее шансы в борьбе за ли¬
дерство в немецких землях. Констатируя это обстоятельство, не¬
обходимо отметить и другое. Реформы в военной среде еще боль¬
ше укрепили особую роль армии в жизни прусского общества, зак¬
репили ту его особенность, которая начала формироваться в пред¬
шествовавший период.
Пакет реформ далеко не исчерпывался преобразованиями,
которые шли в сфере военного строительства. По инициативе нр-
вого главы правительства К. Штейна в 1807-1810 гг. было ликви-
125
дировано крепостное право. Земля становилась предметом купли-
продажи. Правда, не все крестьяне получили в собственность зем¬
лю без выкупа. Большей части пришлось выплатить значитель¬
ные суммы за выкуп прежних повинностей. Но так или иначе слой
мелких собственников в деревне заметно увеличился, и в то же
время юнкерство получило значительные денежные средства, ко¬
торые пошли на модернизацию их хозяйства.
Чуть позднее была проведена налоговая реформа и осуществ¬
лена секуляризация церковных земель. В Пруссии традиционно
уделяли большое внимание укреплению нейтралистских начал в
системе государственного управления. И в данном случае рефор¬
маторы не могли обойти стороной эту проблему. В выстраивании
жесткой вертикали власти они видели надежное средство повы¬
шения общей эффективности системы государственного управле¬
ния. Ясно, что при таком подходе еще больше увеличивалась роль
и значение государственных чиновников — влиятельной касты,
без которой немыслимо представить себе прусскую модель, прус¬
ский путь общественного развития.
Понимая огромную роль национального фактора, прусские
власти уделяли большое внимание популяризации идей, его фор¬
мирующих. Оплотом национальной идеи стали университеты, где
в то время работало немало блестящих ученых, так или иначе про¬
пагандировавших необходимость единения всех немцев. Особен¬
но большую роль в этом деле сыграл открытый в 1810 г. Берлинс¬
кий университет, где работали такие яркие фигуры, как И. Фих¬
те, Б. Нибур, В. Гумбольдт. Их деятельность помогала формиро¬
ванию образа Пруссии как государства, воплощающего истинно
немецкие ценности, как силы, способной защитить эти ценности
от посягательств извне. Это, в свою очередь, укрепляло в умах на¬
селения немецких земель выгодный Пруссии стереотип: именно
Пруссия, а не кто другой, является естественным центром объе¬
динения Германии, именно она лучше всего подготовлена к вы¬
полнению этой исторической миссии.
Итоги Венского конгресса, зафиксировавшего результаты дли¬
тельного периода войн против Германии, в целом оказались дос¬
таточно выгодными для Пруссии. Она заметно расширила свою
территорию за счет включения двух областей в Западной Герма¬
нии — Рейнской и Вестфальской. Их присоединение было важно
как минимум с двух точек зрения. Во-первых, уже тогда это были
достаточно развитые в экономическом плане регионы, и их вхож¬
дение в состав Пруссии безусловно значительно увеличивало ее
экономический потенциал. В дальнейшем, когда в Германии на¬
чался промышленный переворот (30-е годы XIX в.), их роль еще
больше возросла. Во-вторых, Пруссия получила важный страте¬
126
гический плацдарм, позволивший ей резко усилить влияние на
общее состояние дел в Германском союзе, созданном на том же
Венском конгрессе.
Тот факт, что Пруссия оказалась в числе стран-победительниц,
еще больше консолидировал консервативно-охранительные чер¬
ты прусской модели развития. Это, однако, не означало, что прус¬
ское общество застыло в своем развитии. Здесь хорошо понимали:
для того чтобы сохранить базовые устои своей цивилизации, надо
постоянно вносить в них коррективы, позволяющие поддерживать
в рабочем состоянии главные несущие конструкции общества.
Так, уже упоминавшаяся военная реформа дала новый импульс
развитию армии — одного из главных институтов прусского обще¬
ства. Реформа в сфере аграрных отношений принесла юнкерству —
основной социальной опоре власти — значительные материальные
средства, которые пошли на модернизацию их хозяйств, что позво¬
лило повысить их конкурентоспособность. Одновременно она созда¬
ла прослойку мелких собственников в деревне, игравшую роль со¬
циального амортизатора, позволявшего нейтрализовать недоволь¬
ство беднейшей части крестьянства. Поскольку для содержания
разветвленного государственного аппарата и армии нужны были
значительные финансовые средства, прусские власти стимулиро¬
вали развитие промышленности, ибо это увеличивало налоговую
базу, находившуюся в распоряжении государства. Уже в конце 10-х
годов XIX в. в Пруссии пошли на введение протекционистских та¬
рифов, создававших благоприятные условия для последующего раз¬
вития отечественной промышленности.
Наряду с безусловными экономическими плюсами, этот курс
создавал, однако, и серьезную социально-политическую пробле¬
му, от решения которой зависело будущее прусской модели обще¬
ственного развития. В ее основополагающую триаду (юнкерство —
государственные чиновники — армия) предстояло включить но¬
вую социальную группу — промышленную буржуазию. Решение
этой задачи облегчалось тем, что и в то время, и позднее их инте¬
ресы во многом совпадали.
Первым проявлением этого формирующегося альянса стала
борьба за создание в немецких землях единого Таможенного со¬
юза под эгидой Пруссии. 1 января 1834 г. такой союз был создан.
В него вошли 18 немецких государств, а через год еще два. Гла¬
венствующую роль в нем изначально играла Пруссия, которая
умело использовала новую организацию для распространения сво¬
его влияния в пределах Германского Союза. Одновременно эта мера
принесла несомненные выгоды и прусским промышленникам,
которые сумели прочно закрепиться на складывавшемся, весьма
перспективном общегерманском рынке.
127
Конечно, интеграция промышленной буржуазии во властную
пирамиду происходила отнюдь не просто и гладко. По мере того
как набирал темпы промышленный переворот и росло финансо¬
вое могущество буржуазии, она все отчетливее начинала осозна¬
вать, что у нее имеются собственные интересы. Как и в других за¬
падных странах, идеологической платформой буржуазии стал
либерализм, превратившийся к середине XIX в. в доминирующую
систему мировоззрения европейской элиты. Особенность немец¬
кого либерализма заключалась в том, что его отличала значитель¬
но большая умеренность в сравнении с английским, американс¬
ким или французским аналогами. Дело в том, что эти страны от¬
личала гораздо более высокая степень продвинутое™ по пути бур¬
жуазного прогресса. Там промышленная буржуазия уже стала
доминирующей социально-политаческой силой и не нуждалась ни
в каких союзниках. Собственно, и либеральная идеология в этах
странах в чистом виде отражала запросы этой социальной груп¬
пы, обслуживала ее совокупные потребности.
Иная ситуация была в Пруссии. Там пределом мечтаний про¬
мышленных кругов было стремление вписаться в элиту общества,
добиться того, чтобы та в большей мере учитывала интересы пред¬
принимателей. О самостоятельной политаческой роли, о том, что¬
бы превратить государство в инструмент, обслуживающий инте¬
ресы буржуазии, прусские предприниматели еще не помышляли.
Они просто не были к этому готовы. Отсюда и весьма умеренный
характер немецкого либерализма, готовность либералов идти на
компромисс с традиционной элитой.
Эти качества немецкого либерализма особенно наглядно про¬
явились в 40-е годы XIX в., когда стал быстро нарастать социаль-
но-поли™ческий кризис. Неурожаи в 1847-49 гг., усугубленные
экономическим кризисом 1847 г., резко обострили ситуацию прак¬
тически во всех немецких землях. В Пруссии, Вюртемберге и ряде
других государств стали вспыхивать стахийные народные волне¬
ния, вызванные резким падением уровня жизни. Революционный
взрыв произошел в марте 1848 г. в Пруссии. В этой ситуации пе¬
ред либералами возникла дилемма: либо возглавить движение
народного протеста и использовать его в борьбе за власть, либо всту¬
пить в альянс с властью против революционно-демократического
движения в расчете на то, что правящая элита поделится с ней
частью своих властных полномочий.
22 марта 1848 г. прусские власти пошли на серьезный маневр
с целью практической изоляции наиболее революционной части
общества: был издан указ, в котором король обещал ввести в стра¬
не демократические свободы, расширить избирательное право,
установить ответственность министров перед ландтагом (парла¬
128
ментом), изъять у дворян вотчинную юрисдикцию, разрешить все¬
общее вооружение народа. Во главе нового правительства был по¬
ставлен один из лидеров либералов, крупный банкир Л. Кампгау-
зен. Именно это правительство либералов помогло традиционной
элите удержать ситуацию под контролем в самый трудный пери¬
од, в момент наивысшей активности масс — в апреле-июне 1848 г.
В мае 1848 г. было созвано Учредительное собрание, которо¬
му предстояло выработать и принять Конституцию Пруссии. Ее
разработка проходила на фоне острейшей политической борьбы
между различными группировками прусского общества. В июле
эта борьба выплеснулась на улицы. 14 июня в Берлине вспыхнуло
вооруженное восстание, которое, правда, на следующий день было
подавлено королевскими войсками. Следствием этих событий ста¬
ло падение правительства Кампгаузена. Воспользовавшись пора¬
жением берлинского восстания, прусские власти стали готовить¬
ся к переходу в решительное наступление на революционно-демок¬
ратический лагерь.
В ноябре 1848 г. правительство возглавил представитель кон¬
сервативных кругов герцог Бранденбургский. Учредительному
собранию было приказано покинуть Берлин, в котором объявля¬
лось осадное положение. Делегаты Учредительного собрания, при¬
звав народ к «пассивному сопротивлению», подчинились прави¬
тельству. Это «пассивное сопротивление» так и не переросло в ак¬
тивное, ибо в декабре 1848 г. Учредительное собрание было вооб¬
ще распущено и, таким образом, вопрос о власти был окончатель¬
но решен в пользу консервативно-охранительных сил. Что каса¬
ется правительства, то на завершающем этапе революции оно осу¬
ществило еще один важный маневр — обнародовало подготовлен¬
ную в его недрах и скроенную по его меркам Конституцию. Соглас¬
но этому документу король получал право отменять любые зако¬
нодательные акты, принятые парламентом. Были резко ограни¬
чены избирательные права. В итоге в этот критический период
прусская консервативно-охранительная модель общественного
развития устояла под натиском революционной волны. Она дока¬
зала, что и в эпоху революций консервативно-охранительные
принципы имеют право на существование.
ГЛАВА VI
Становление и развитие Венской системы
международных отношений
(1815 г. — середина XIX в.)
§ 1. Первый этап действия
Венской системы
Длительные и кровопролитные войны истощили Европу. Раз¬
бив Наполеона, все стремились к устойчивому и прочному миру.
Однако нужны были гарантии, надежно фиксировавшие новый
мировой порядок, позволяющие избегать лобового столкновения
великих держав. Их лидеры пришли к выводу, что оптимальным
вариантом решения стоявших перед послевоенной Европой задач
будет созыв общеевропейского конгресса, где бы и можно было
обсудить все проблемы и выработать консенсусный вариант пос¬
левоенного урегулирования. Конгресс открылся в конце 1814 г. в
Вене и продолжался до июля 1815 г.
В ходе сложных дискуссий удалось договориться об общих
принципах, на которых строилась новая модель международных
отношений. Во-первых, необходимо было создать барьер вокруг
Франции, который позволял бы в случае каких-либо осложнений
изолировать ее. Во-вторых, крайне важным было сохранить сло¬
жившийся баланс сил. В-третьих, решено было, что члены анти-
французской коалиции должны получить компенсацию за учас¬
тие в борьбе против Наполеона. В-четвертых, в основу межгосу¬
дарственных отношений был положен принцип легитимизма. Суть
его заключалась в том, что европейское сообщество, прежде всего
великие державы, намеревались впредь признавать легитимны¬
ми (законными) только те государства и те власти в них, существо¬
вание которых было санкционировано ими по итогам работы кон¬
гресса. Любые попытки изменить сложившееся статус-кво счита¬
130
лись нелегитимными и должны были решительно пресекаться
совместными действиями великих держав.
На базе этих общих принципов решались конкретные вопро¬
сы послевоенного урегулирования. Франция лишалась всех заво¬
еванных территорий, и ее границы возвращались к тем, которые
существовали в 1790 г. Во Франции на время оставались оккупа¬
ционные войска. Австрия возвращала себе Ломбардию и, кроме
этого, получила еще Венецию. К Пруссии присоединялись Рейнс¬
кая область, Померания и Северная Саксония. Англия расшири¬
ла свою колониальную империю за счет возвращения и присоеди¬
нения к ней Тобаго, Тринидада, Цейлона, Мальты, Гвианы и Кап¬
ской колонии. Россия получила часть герцогства Варшавского, а
также признавались ее более ранние приобретения — Бессарабия
и Финляндия. На территории Германии создавалась конфедера¬
ция из 38 государств. В состав Голландии была включена терри¬
тория современной Бельгии. К Дании отошли Шлезвиг и Гольш¬
тейн. Восстанавливались Папская область и Неаполитанское ко¬
ролевство. Несколько расширились владения Сардинского коро¬
левства. Была санкционирована уния Швеции и Норвегии. Нако¬
нец, восстанавливалась государственная самостоятельность Швей¬
царии и она объявлялась нейтральной страной.
Помимо территориальных проблем на Венском конгрессе рас¬
сматривался ряд экономических и дипломатических вопросов.
Так, было принято решение о запрещении работорговли, подпи¬
сана конвенция о свободе судоходства по европейским рекам, дос¬
тигнута договоренность об уважении прав собственности иностран¬
ных граждан.
Особое место на конгрессе занимала проблема, связанная с
предложением создать Священный союз — организацию монар¬
хических государств для защиты Европы от революционных идей.
В научной литературе идут нескончаемые споры о том, насколько
образование этой организации было просто идеологической мани¬
фестацией, а насколько реальным практическим шагом по консо¬
лидации монархических сил в общеевропейском масштабе.
Созданная в Вене модель международных отношений имела
как сильные, так и слабые стороны. Она оказалась достаточно ста¬
бильной и устойчивой. Благодаря ей на несколько десятилетий
удалось избавить Европу от лобовых столкновений великих дер¬
жав. Хотя военные конфликты и возникали время от времени,
созданный в Вене механизм позволял достаточно быстро и без боль¬
ших потерь вырабатывать решение, на основе которого достига¬
лось урегулирование спорных вопросов. Идеи сотрудничества,
консультаций, консенсуса при решении конфликтных проблем все
больше проникают в сферу межгосударственных отношений.
131
С другой стороны, архитекторы Бенской системы слабо учи-
тывали влияние идей французской революции на европейскую
цивилизацию. Принцип легитимизма все чаще вступал в проти¬
воречие с либеральной идеей, с ростом национального самосозна¬
ния. Венская система отличалась устойчивостью, но одновремен¬
но и статичностью. Однако любая система постоянно развивает¬
ся, в ней неизбежно появляются новые факторы, что, без сомне¬
ния, подрывает устои системы, если она, конечно, не способна к
модернизации. Вопрос о том, в какой мере Венская система была
способна к модернизации, также является предметом острых дис¬
куссий в научной литературе. Так или иначе, но с ее созданием в
Европе на целое столетие установился относительно устойчивый
порядок, позволивший избежать общеевропейских конфликтов.
Конечно, это не равнозначно тому, что на континенте воцарился
прочный мир. Можно согласиться с Г. Киссинджером, утверждав¬
шим, что Европа вступила «скорее в век малых войн, чем всеоб¬
щего мира».
Первое испытание на прочность Венская система прошла, на
конгрессе в Аахене в 1818 г. На нем было принято решение о выво¬
де оккупационных войск из Франции, после чего та была вновь при¬
нята в «клуб великих держав». Острые споры на конгрессе разгоре¬
лись вокруг проблемы совместных действий для оказания помощи
Испании в ее борьбе против восставших колоний. Франция и Авст¬
рия готовы были помочь испанскому королю, но очень многое за¬
висело от позиции Англии, ибо без ее флота невозможно было пере¬
бросить в Америку крупные контингенты вооруженных сил. Одна¬
ко Англия эту идею не одобряла, поскольку, по ее мнению, это мог¬
ло привести к нарушению сложившегося баланса сил, опасному
усилению позиций Австрии и Франции. Англия не была заинтере¬
сована в сохранении испанской колониальной империи, т.к. сама
стремилась проникнуть на латиноамериканские рынки. Ей в итоге
удалось заблокировать принятие решения по этому вопросу.
С еще более серьезным вызовом Венской системе пришлось
столкнуться в 1820 г. По периферии Европы — в Испании, Неапо¬
ле, Пьемонте — вспыхнули революции. В Латинской Америке
Испания явно утратила контроль над своими колониями, и там
возникли новые государства. Все это подрывало устои Венской
системы, грозило втянуть Старый Свет в новую череду длитель¬
ных войн. Как реагировать на подобное развитие событий? Этот
вопрос и стал предметом обсуждения на конгрессе в Троппау. После
длительных дискуссий был принят протокол, который в принци¬
пе оправдывал интервенцию в страны, где вспыхивала революция.
Опираясь на этот документ, Австрия организовала интервенцию
в Пьемонте и Неаполе.
132
Если в итальянских государствах удалось таким путем восста¬
новить прежнее статус-кво, то в Испании и Португалии револю¬
ции продолжались. Положение дел в этих странах стало предме¬
том обсуждения на конгрессе в Вероне, который собрался в октяб¬
ре 1822 г. Отталкиваясь от решений, принятых в Троппау, участ¬
ники конгресса (за исключением Англии) решили оказать воору¬
женную помощь испанскому монарху. Эта миссия была возложе¬
на на Францию, войска которой в 1823 г. вторглись в Испанию и
реставрировали там монархию.
Незадолго до конгресса в Вероне внешнеполитическое ведом¬
ство Великобритании возглавил новый человек — Дж. Каннинг,
с именем которого связан серьезный поворот во внешней полити¬
ке этой страны. Он исходил из того, что репрессивными мерами
невозможно остановить нараставшую волну революционных из¬
менений, которые захватывали все новые страны, что надо не бо¬
роться с национально-освободительным движением, а, наоборот,
идти ему навстречу. В соответствии с этим тезисом он настоял на
признании Англией новых латиноамериканских государств —
Мексики, Перу, Аргентины и др. — и решительно отказался под¬
держивать интервенцию в Испании. В отношениях великих дер¬
жав возникла трещина.
Правда, она не расширилась, и, как это ни парадоксально,
благодаря появлению новой сложной проблемы, связанной с на¬
чавшимся в 1821 г. восстанием греков против османского ига. Тур¬
ки обрушились на греков с жесточайшими репрессиями. Всю Ев¬
ропу потрясла резня, которую они учинили на Хиосе. По приказу
султана в Константинополе был повешен местный патриарх. Иг¬
норировать греческий вопрос было невозможно. Представителя
Турции приглашали в Верону, но он не приехал. Проблема эта в
глазах европейских дипломатов выглядела весьма противоречи¬
вой. С одной стороны, греки, восстав против законного монарха,
нарушили принцип легитимизма. С другой — было очевидно, что
некогда могущественная, занимавшая огромную территорию Ос¬
манская империя вступила в полосу жесточайшего кризиса и явно
не в состоянии контролировать свою периферию. Встал болезнен¬
ный вопрос о разделе ее наследства. Он серьезно осложнялся тем,
что славянские и арабские народы, являвшиеся подданными Ос¬
манской империи, отнюдь не стремились к тому, чтобы, сбросив
иго султана, стать частью какого-то другого государства — они до¬
бивались создания собственных национальных государств.
Первый шаг в разработке нового подхода к Восточному вопро¬
су сделала Великобритания. В 1823 г. по инициативе Каннинга
греки были признаны воюющей стороной. Против этого резко воз¬
ражала Австрия, считавшая греков бунтовщиками. Многое в этой
133
ситуации зависело от России, которая давно имела серьезные ин¬
тересы на Балканах. Однако Александр I колебался: реальные го¬
сударственные интересы России говорили в пользу греков, идео¬
логические догмы — против. Он так и не сумел определиться, а в
конце 1825 г. умер. Ситуация в Греции тем временем еще более
осложнилась: туда были переброшены войска египетского паши
Мехмет-Али, и положение восставших резко ухудшилось.
Новый российский император Николай I, человек весьма ре¬
шительный, колебался недолго. Весной 1826 г. Россия предложи¬
ла свою трактовку Восточного вопроса: ситуация на Балканах, за
исключением Греции, объявлялась делом России, греческий воп¬
рос — делом всех держав. На этой основе наметилось сближение
позиции Англии, Франции и России в греческом вопросе. К бере¬
гам Греции была послана совместная эскадра, которая в сраже¬
нии при Наварине в октябре 1827 г. наголову разбила турецкий
флот.
Турция уже склонялась к принятию требований великих дер¬
жав, но два события изменили ее позицию — смерть Каннинга и
русско-персидская война. В результате в мае 1828 г. началась рус¬
ско-турецкая война. Она была скоротечной и завершилась побе¬
дой России и подписанием в сентябре 1829 г. Адрианопольского
мира. Договор определял право Сербии, Валахии и Молдовы на
автономию. Греция стала независимым государством и чуть по¬
зднее была признана европейским сообществом. Россия получила
черноморское побережье Кавказа и отрезала горцев Северного Кав¬
каза, с которыми вела войну, от моря, лишив их тем самым воз¬
можности получать оружие из-за границы.
Итоги русско-турецкой войны, наглядно продемонстриро¬
вавшей несопоставимость мощи России и Османской импе¬
рии, побудили Николая I пересмотреть свою позицию в Вос¬
точном вопросе. Он пришел к выводу, что для России выгод¬
нее иметь своим соседом слабое государство, которому мож¬
но диктовать любые условия, чем поддерживать идею разде¬
ления Османской империи, ибо в этом случае на ее южных и
юго-западных границах усиливались бы позиции Англии и
Франции. Именно к такому курсу перешла российская дип¬
ломатия в Восточном вопросе в 30-е гг. XIX в.
Политическая элита ведущих европейских стран в течение
20-х годов XIX в. успела привыкнуть к тому, что главная угроза
стабильности Венской системы исходит от Восточного вопроса. В
Европе после бурных событий начала века революционная волна
пошла на убыль, и обстановка, казалось, была под надежным кон¬
тролем. Однако в 1830 г. жизнь преподнесла гарантам Венской
системы весьма неприятный и опасный сюрприз: вновь вспыхну¬
134
ла революция. На этот раз уже не на периферии континента, а в
одной из великих держав — во Франции. События в этой стране
остро поставили вопрос о перспективах Венской системы.
§ 2. Венская система: от консолидации
к кризису (30—50-е годы XIX в.)
Хотя в 1830 г. по Европе прокатилась целая серия революций
(Франция, Бельгия, Польша), стабильность Венской системы все
же сохранилась. Последствия всех трех революций были урегу¬
лированы без глобальных столкновений великих держав. Прав¬
да, политическая карта Европы все же претерпела серьезные из¬
менения: возникло новое государство — Бельгия. Тем не менее об
общеевропейском революционном взрыве, на предотвращение
которого была нацелена Венская система, не было и речи. По мне¬
нию большинства европейских политиков, главная угроза для Вен¬
ской системы по-прежнему исходила от Восточного вопроса.
Действительно, события разворачивались стремительно, и их
трудно было держать под контролем. В 1832-1833 гг. напряжен¬
ность в этом регионе достигла критической отметки. Дело в том,
что поражение Порты в русско-турецкой войне и в борьбе с грека¬
ми наводило подданных султана на мысль о нецелесообразности
сохранять территориальную целостность империи. Египетский
паша Мехмет-Али, уже довольно давно лишь символически под¬
чинявшийся Стамбулу, решился на открытый разрыв с султаном.
В 1832 г. его войска вторглись в Сирию, где наголову разбили ту¬
рецкую армию. Османская империя оказалась на грани распада.
Катастрофическим положением султана блестяще воспользо¬
вался Николай I. Он предложил султану помощь, которая спасла
его от краха. Махмуд II прекрасно понимал, что египетский паша
использует любую возможность для того, чтобы при первом удоб¬
ном случае добиться поставленной цели. Султану нужны были
гарантии того, что в будущем подобные события не повторятся. И
вот здесь Россия предложила свой вариант решения этой пробле¬
мы: заключить с Турцией договор о взаимопомощи на 8 лет. Вза¬
мен Турция обещала беспрепятственно пропускать через проли¬
вы не только торговые, но и военные суда России. Договор полу¬
чил название Ункяр-Искелесского (1833) и явился пиком влия;
ния России на положение дел в данном регионе.
В 30-е годы мощь России, ее влйяние на международные дела
заметно усилились, и это вызывало беспокойство у остальных ве¬
ликих держав. Основным антагонистом России на международ¬
ной арене оставалась Англия. Верная своим принципам недопу¬
135
щения чрезмерного усиления какой-либо из континентальных
держав, она искала возможности для того, чтобы нейтрализовать
возросшее влияние России в решении Восточного вопроса. В Ев¬
ропе заметно усиливались антирусские настроения, причем они
получили распространение в самых различных слоях общества —
от радикально-революционных кругов до ультраконсервативных.
Используя свое экономическое могущество, Великобритания
резко интенсифицировала свою экспансию в Восточном Средизем¬
номорье. Турция постепенно попадала во все большую финансовую
зависимость от нее. В 1838 г. Англия навязала ей неравноправный
торговый договор, открывший британским товарам широкую до¬
рогу в Османскую империю. Инициатором этого соглашения стал
лорд Г. Пальмерстон, возглавивший в 1830 г. британское министер¬
ство иностранных дел. С его именем связана важная страница в ис¬
тории внешней политики Великобритании. К этому времени она
уже прочно занимала доминирующие позиции в мировой экономи¬
ке, превратилась в «промышленную мастерскую» для всего мира.
Огромная по тем временам экономическая мощь давала в руки
британской дипломатии дополнительное и весьма важное ору¬
жие. Г. Пальмерстон одним из первых среди европейских дипло¬
матов оценил его возможности и начал активно использовать для
реализации геополитических планов Великобритании.
Считая своим главным соперником Россию, Пальмерстон по¬
нимал, что вести с ней соперничество традиционными военными
средствами — дело бесперспективное, ибо в это время Британия
явно уступала ей по большинству этих показателей (исключение
составлял военно-морской флот). Следовательно, необходимо было
искать асимметричный ответ, т.е. попытаться перевести англо¬
русский конфликт на такое поле, где бы Лондон обладал очевид¬
ным преимуществом. Как этого добиться? Ответ напрашивался сам
собой: нейтрализовать политическое влияние России в Османской
империи можно было только за счет смещения стержня соперни¬
чества в область экономики.
Договор 1838 г. стал первой, но очень важной вехой на этом
пути. Он дал в руки Англии серьезные козыри для противодей¬
ствия продвижению русских интересов в этом регионе. Однако,
пока оставался в силе Ункяр-Искелесский договор, Россия могла
чувствовать себя достаточно уверенно. Значит, с точки зрения
Великобритании, надо было каким-то образом ликвидировать
монопольное право России оказывать помощь султану в борьбе с
сепаратистскими движениями. Рассуждая подобным образом,
Пальмерстон пришел к выводу о том, что необходимо добиваться
расширения рамок этого договора, превращения его из двусторон¬
него в многосторонний. В реализации этих планов ему благопри¬
136
ятствовала чрезвычайно запутанная ситуация, сложившаяся в
Восточном Средиземноморье, в борьбу за контроль над которым
активно вмешалась Франция. Этим обстоятельством попытался
воспользоваться египетский паша. Видя, как все больше запуты¬
вается клубок противоречий в данном регионе, тайно подстрекае¬
мый Пальмерстоном, он решил, что настал наконец благоприят¬
ный момент для окончательного отделения от Османской импе¬
рии. В 1839 г. вспыхнула новая турецко-египетская война, при¬
ведшая к очередному разгрому турецких войск. Под давлением
Англии султан на этот раз обратился за помощью не к России, а ко
всем великим державам. В итоге в 1841 г. появилась новая кон¬
венция о проливах, устанавливавшая теперь уже не двусторонний,
а международно-правовой режим проливов.
Пока внимание политиков и дипломатов было привлечено к Во¬
сточному вопросу, в самой европейской цивилизации происходили
серьезные качественные изменения. Бурное развитие индустриаль¬
ных отношений вело к складыванию крупных промышленных рай¬
онов, таких, как Рур, Эльзас, Саар, Силезия. Размер промышленно¬
го потенциала теперь напрямую начали связывать с уровнем мощи
государства. Не удивительно, что именно регионы, где концентри¬
ровался основной промышленный потенциал, становятся предметом
повышенного внимания со стороны великих держав, которые стре¬
мятся взять их под свой прочный контроль.
Промышленный переворот порождал принципиально новые
проблемы, от эффективности решения которых зависела внутрен¬
няя стабильность государств, а следовательно, и их возможности
на международной арене. Именно ведущие государства превраща¬
ются в основной очаг напряженности. Перед всеми великими дер¬
жавами во весь рост встала проблема адаптации к новым услови¬
ям, и от того, насколько успешно они решали ее, зависел харак¬
тер их взаимоотношений в системе международных отношений и
судьба самой этой системы.
Справиться в полной мере с решением этой задачи не удалось.
В 1848 г. по Европе прокатилась мощная волна революционных
выступлений, породивших целую серию новых конфликтов в сфе¬
ре межгосударственных отношений. Воспользовавшись тем, что в
марте 1848 г. Шлезвиг и Гольштейн попробовали отделиться от
Дании, Пруссия попыталась создать под своей эгидой унию северо¬
германских государств, что вызвало резкие разногласия в стане ве¬
ликих держав. Хотя добиться поставленной цели Пруссии не уда¬
лось, вопрос об объединении Германии делался все более острым.
Ситуация в центре Европы резко осложнилась в силу того,
что в различных частях Австрийской империи вспыхнула ре¬
волюция, поставившая это государство на грань распада. От это¬
137
го ее спасла только помощь, которую оказал австрийскому им¬
ператору русский царь. Посланные им войска помогли подавить
выступления венгров, которые стремились к созданию само¬
стоятельного государства. Дальнейшие события показали, что
Николай I, попавший в плен идеологических догм, совершил
ошибку. Распад Австрийской империи и возникновение неза¬
висимого венгерского государства ни в коей мере не противоре¬
чили, а уж тем более не угрожали государственным интересам
России. В результате клубок противоречий в центре Европы еще
больше запутался.
Наконец, резко усложнилась ситуация в Северной Италии,
где, с одной стороны, росло стремление к созданию самостоятель¬
ного итальянского государства, а с другой — резко обострились
франко-австрийские противоречия, вызванные стремлением обе¬
их держав укрепить свои позиции в этом регионе.
В результате всех этих коллизий обстановка в Европе замет¬
но изменилась. Из старых политических деятелей, стоявших у
кормила государственной власти в великих державах, события
1848-1849 гг. пережил только Николай I. Мощный импульс по¬
лучила идея создания национальных государств. В Германии,
Италии, на Балканах она перешла в практическую плоскость.
А это означало, что период устойчивого развития Венской сис¬
темы подошел к концу. Новые силы, выходившие на европейс¬
кую арену в процессе «индустриальной революции», еще не
смогли разрушить гегемонию старой элиты, но очевидно, что
Европа после бурных событий 1848-1849 гг. стала уже не той,
какой она была в период расцвета Венской системы. Развитие
европейской цивилизации неизбежно рождало новые проблемы,
и найти их развязку в рамках прежнего миропорядка станови¬
лось все сложнее.
Едва успели затихнуть революционные баталии, в течение
двух лет потрясавшие Европу, как на нее надвинулись новые
грозовые тучи. В 1853 г. произошло очередное резкое обостре¬
ние Восточного вопроса. Россию совершенно очевидно не уст¬
раивала конвенция о проливах, которую она вынуждена была
подписать в 1841 г. Видя неуклонное усиление влияния Англии
на внутриполитическую жизнь Османской империи, Николай I
пошел на пересмотр прежней позиции России в Восточном воп¬
росе. Сложилась парадоксальная ситуация: либеральная Анг¬
лия всячески поддерживала султана, олицетворявшего крайне
реакционный курс, а консервативная российская элита сдела¬
ла ставку на поддержку национально-освободительного движе¬
ния. Полагая, что пост-революционной Европе не до событий
на ее юго-вострчном фланге, Николай I решил, что нет смысла
138
ждать дальнейшего укрепления позиций Англии в делах Осман¬
ской империи и поставил вопрос о ее разделе.
Ссылаясь на статьи Кючук-Кайнарджийского мира, русский
император в ультимативной форме потребовал от Турции заключе¬
ния специального договора, признававшего право царя покровитель¬
ствовать не просто православной церкви, а всем православным под¬
данным султана. 21 июня 1853 г., не дождавшись окончательного
ответа от Турции, русские войска заняли Молдавию. Война пока не
была объявлена. Все лето и большую часть осени 1853 г. шли слож¬
ные дипломатические маневры, в ходе которых Россия оказалась в
изоляции. Поддерживаемый Англией и Францией турецкий султан
после долгих колебаний решился на войну. Началась она крайне не¬
удачно для него: в ноябре 1853 г. русский флот под командованием
П. С. Нахимова уничтожил в Синопе основные военно-морские силы
Турции. Однако уже в январе 1854 г. в войну на стороне Турции всту¬
пили Англия и Франция, а чуть позднее Сардинское королевство.
Таким образом, впервые после наполеоновских войн в Европе про¬
изошло прямое военное столкновение трех великих держав.
Война, закончившаяся подписанием в марте 1856 г. Парижс¬
кого мирного договора, стала важной вехой в начавшемся процес¬
се перестройки Венской системы. Россия потерпела в войне пора¬
жение, и ее военно-политические позиции были ослаблены. По¬
мимо определенных территориальных потерь, ей пришлось согла¬
ситься на нейтрализацию Черного моря и отказаться от права
иметь там военно-морской флот. Ослабление России не могло не
сказаться на общеевропейском балансе сил: он был нарушен. Рос¬
сия, являвшаяся в первой половине XIX в. одним из основных цен¬
тров силы, на время утратила возможность выполнять эту функ¬
цию. А это, в свою очередь, сужало общие возможности Венской
системы в деле поддержания стабильности на континенте. Стало
очевидно, что в ее механизме возникли серьезные неполадки и весь
он вступил в фазу кризиса.
§ 3. Эпоха локальных войн:
международные отношения
в 50—60-е годы XIX в.
Крымская война открыла целую серию локальных военных
конфликтов, которые прокатились по всему миру. В ходе этих, как
правило, краткосрочных, но достаточно жестких столкновений
силовым путем находились развязки тех запутанных проблем,
которые были порождены предшествовавшим развитием системы
международных отношений. После завершения Крымской войны
139
Восточный вопрос на время отошел на второй план, а на авансце¬
ну европейской политики вышли проблемы, связанные с объеди¬
нением Италии и Германии.
После того как Наполеон III утвердился во Франции, он резко
активизировал действия своей страны на международной арене.
Для того чтобы надежно держать под контролем очень непростую
внутриполитическую ситуацию, ему нужны были постоянные ус¬
пехи на внешнеполитическом поприще. Крымская война принес¬
ла ему первые успехи. После этого его внимание стала привлекать
Северная Италия. Там постепенно усиливавшееся Сардинское ко¬
ролевство, претендовавшее на роль объединительного центра ита¬
льянских земель, неизбежно вступало в конфликт с Австрийской
империей. Глава правительства Сардинского королевства граф Ка-
милло Кавур понимал, что у его государства сил явно недостаточ¬
но для того, чтобы вытеснить австрийцев из Италии; для этого ему
нужны были сильные союзники. Этим решил воспользоваться
Наполеон III.
В ходе тайных переговоров между Наполеоном III и Кавуром,
состоявшихся в самом начале 1859 г., была достигнута договорен¬
ность о совместных действиях против Австрии. За эту услугу
Наполеон III выторговал себе Ниццу и Савойю. В апреле 1859 г. на¬
чалась война, в которой франко-сардинские войска сразу же нанес¬
ли несколько поражений австрийцам. Однако уже через несколько
месяцев Наполеон III, добившись своих целей, неожиданно заклю¬
чил с австрийцами перемирие и вышел из войны. Сардиния попала в
очень сложное положение. По существу речь шла о восстановлении
довоенного статус-кво (за исключением части Сардинского королев¬
ства, отошедшей по прежней договоренности к Франции).
Возмущению итальянцев не было предела. Этим воспользовал¬
ся К. Кавур, выдвинувший идею проведения плебисцита в Цент¬
ральной Италии. Несколько небольших итальянских госу¬
дарств — Парма, Модена, Тоскана — высказались в 1860 г. за сли¬
яние с Сардинским королевством. В мае 1860 г. начался поход
Джузеппе Гарибальди на Сицилию, где он разбил войска неапо¬
литанского короля. В сентябре 1860 г. он взял и Неаполь. В1861 г.
было создано Итальянское королевство, в состав которого вошли
почти все итальянские земли, кроме Венеции и Папской области.
Таким образом, в Европе возникло новое крупное государство.
После этого в начале 60-х годов зона конфликтов из Европы
переместилась в Америку. В Соединенных Штатах давно назре¬
вавший конфликт между свободными и рабовладельческими шта¬
тами перерос в Гражданскую войну. На президентских выборах
1860 г. победил кандидат республиканской партии А. Линкольн,
который был известен как сторонник ограничения рабства. Это
140
побудило южан пойти на сецессию, т.е. на выход из состава Союза
и создание собственной Конфедерации, в которую входило 11 рабо¬
владельческих штатов. В апреле 1861 г. южане захватили погра¬
ничный форт Самтер, где были сосредоточены большие запасы
оружия. Это и стало сигналом для начала военных действий меж¬
ду южанами и северянами.
Вплоть до 1863 г. перевес в боевых действиях был на стороне
южан. Неудачи на фронтах вели к обострению политической борь¬
бы в северных штатах и поляризации там политических сил. По¬
степенно инициатива стала переходить к радикальным республи¬
канцам, лидеры которых Ч. Самнер, Т. Стивенс, Б. Уэйд, 3. Чан¬
длер и др. требовали от правительства принятия решительных мер,
способных принести перелом в ходе войны. В мае 1862 г. был при¬
нят акт о гомстедах, согласно которому каждый гражданин США
мог получить (заплатив 10 долларов) участок земли в 160 акров и
после 5 лет обработки становился его полным собственником. Это
резко усилило поддержку правительства Линкольна со стороны
фермеров и тех горожан, которые мечтали стать самостоятельны¬
ми фермерами.
Еще более важное значение для положения дел на фронтах
имело провозглашение в сентябре 1862 г. Прокламации об отмене
рабства с 1 января 1863 г. Рабы освобождались без выкупа, но и
без земли, им не предоставлялись гражданские права, гарантиро¬
ванные Конституцией. Несколько позднее был принят закон об
измене, ограничивавший деятельность оппозиции. Важно, одна¬
ко, подчеркнуть, что даже в условиях гражданской войны легаль¬
ная деятельность оппозиции не прекращалась, как не нарушалось
действие и основных конституционных норм, определявших па¬
раметры политического процесса. Все же, опираясь на закон об
измене, Линкольн осуществил чистку госаппарата и армии от лиц,
откровенно симпатизировавших южанам.
В 1863 г. в военных действиях наметился перелом. Ресурсы
Юга заметно истощились, в то время как Север неуклонно нара¬
щивал свои усилия. Не оправдались надежды конфедератов на
раскол северного общества. Наконец, перемены в высшем воен¬
ном руководстве федеральной армии благотворно сказались на
степени ее боеготовности. Летом 1863 г. в битве при Геттисберге
южане потерпели поражение, и стратегическая инициатива бес¬
поворотно перешла к армии северян. К концу 1863 г. весь бассейн
Миссисипи оказался под их контролем. Исход войны, завершив¬
шейся весной 1865 г., был по существу предрешен в ходе кампа¬
нии 1864 г., когда войска северян под командованием генерала
Шермана в мае начали свой знаменитый «рейд к морю». В ходе
этих боев были разгромлены основные силы Конфедерации. В сен¬
141
тябре 1864 г. северяне взяли Атланту, в декабре — Саванну, а 3
апреля 1865 г. пала столица Конфедерации — город Ричмонд. 9
апреля южане вынуждены были капитулировать.
Война закончилась, и хотя главный вопрос — о судьбе инсти¬
тута рабства — был однозначно решен в пользу северян, перед
США стояло немало сложных и ответственных проблем. Ситуа¬
ция усугублялась тем, что через несколько дней после окончания
войны президент США А. Линкольн был убит.
Победителям предстояло решить, как и на каких условиях бу¬
дут возвращаться в состав Союза южные штаты;, какое место зай¬
мут в американском обществе бывшие рабы, каков будет их статус,
и целый ряд сопутствующих вопросов. По всем этим принципиаль¬
ным проблемам в американском обществе не было единства, и диа¬
пазон расхождений, как вскоре выяснилось, оказался весьма ши¬
роким, что сулило резкое обострение внутриполитической ситуа¬
ции. И действительно, решение этих проблем, исключительно важ¬
ных для будущего страны, проходило в очень жесткой меж- и внут¬
рипартийной борьбе, которая и составила содержание периода Ре¬
конструкции (восстановления Союза), растянувшегося вплоть до
1877 г. Однако, несмотря на чрезвычайно напряженную борьбу, она
ни разу не вышла за конституционные рамки, велась легитимны¬
ми методами и в целом вписывалась в эволюционную модель раз¬
вития, успевшую пустить в США достаточно глубокие корни.
В 60-е гг. XIX в. в нескольких военных конфликтах, развора¬
чивавшихся в Азии (Индокитай, Сирия, Китай) и Америке (Мек¬
сика), участвовала Франция. За исключением Индокитая, особых
лавров она в них не снискала.
Особенно плачевными были итоги интервенции в Мексике.
Там в 1854-1860 гг. вспыхнула очередная революция. Развитие
событий в этой стране не устраивало европейские державы — Ан¬
глию, Францию и Испанию. Используя в качестве предлога для
вмешательства во внутренние дела Мексики проблему внешнего
долга, эти страны заключили в 1861 г. конвенцию о превентив¬
ной интервенции против Мексики. Высадка войск коалиции на¬
чалась в декабре 1861 г. Однако уже вскоре участники этой акции
перессорились. Их не устраивали амбициозные планы
Наполеона III, который рассчитывал превратить Мексику в опор¬
ный пункт для создания «латинской империи» в Новом Свете под
протекторатом Франции. Уже в 1862 г. Англия и Испания выве¬
ли свои войска из Мексики.
Наполеон III продолжил войну на свой страх и риск. В 1863 г.
французы заняли столицу Мексики, а в 1864 г. провозгласили од¬
ного из отпрысков Габсбургов императором Мексики. Однако
власть новоиспеченного императора Максимилиана I держалась
142
исключительно на французских штыках. Население страны не
приняло нового правителя. Президент Б. Хуарес возглавил осво¬
бодительную борьбу мексиканского народа против оккупантов. К
1866 г. стало1 очевидно, что мексиканская авантюра Наполеона III
обречена на провал, и 10 января 1867 г. командующему француз¬
скими войсками в Мексике был отдан приказ начать эвакуацию
экспедиционного корпуса. В мае этого же года Максимилиан I был
арестован, предан суду и расстрелян.
Безусловно, главные события в сфере международных отно¬
шений в 60-е годы разворачивались в центре Европы, где Пруссия
настойчиво добивалась объединения немецких земель под своей
эгидой. Решение этой задачи связано с именем одного из крупней¬
ших политических деятелей той эпохи князя Отто фон Бисмарка,
который в 1862 г. возглавил правительство Пруссии. Он целеуст¬
ремленно и последовательно шел к поставленной цели. Будучи
прекрасным стратегом, он ясно понимал, что решать данную за¬
дачу следует поэтапно, чтобы преждевременно не возбудить подо¬
зрения великих держав, которые могли помешать реализации его
планов. В 1863 г. во время польского восстания Пруссия в опреде¬
ленной мере помогла России добиться усмирения инсургентов, чем
обеспечила ее благожелательную позицию в последующих конф¬
ликтах, связанных с объединением Германии.
В 1863 г. Дания ликвидировала автономию Шлезвига и Голь¬
штейна, что дало Бисмарку повод для вмешательства. Пруссия,
естественно, могла бы и сама легко разбить Данию, но для того,
чтобы нейтрализовать Австрийскую империю, Бисмарк предло¬
жил ей выступить совместно в качестве защитников «угнетаемых
Данией немцев». Австрия согласилась, и в 1864 г. прусско-авст¬
рийские войска легко разбили Данию. Шлезвиг отошел к Прус¬
сии, а Гольштейн — к Австрии. В этом соглашении уже были за¬
ложены зерна будущего австро-прусского конфликта. Бисмарк это
прекрасно понимал, но это входило в его планы. Он лишь ждал
удобного момента для нанесения Австрии решающего удара.
Повод вскоре нашелся. Итальянское королевство настойчиво
добивалось присоединения Венеции. Бисмарк предложил италь¬
янскому королю действовать совместно против Австрии. Общая
ситуация в Европе благоприятствовала планам прусского мини¬
стра-президента: Россия не видела в них ничего опасного для себя,
Англия была занята проблемами колониальной экспансии и тра¬
диционно избегала вовлечения без крайней необходимости в кон¬
тинентальные конфликты. Решающее значение приобретала по¬
зиция Франции. Анализируя сложившуюся ситуацию,
Наполеон Ш допустил фатальную ошибку: он пришел к выводу,
что надвигающаяся австро-прусская война будет затяжной, ибо
143
силы сторон, по его мнению, были равны. А это означало, что обе
стороны будут истощены и Франция сможет использовать их вза¬
имное ослабление в свою пользу.
Однако события развернулись по другому сценарию. Вспых¬
нувшая летом 1866 г. австро-прусская война оказалась на ред¬
кость быстротечной. 3 июля 1866 г. в битве под Садовой австрий¬
цы потерпели жестокое поражение, которое решило исход всей
кампании. Бисмарк мог диктовать условия мира. В итоге созда¬
вался Северо-Германский союз, в котором доминировала Прус¬
сия. Австрия отказывалась от своих притязаний на гегемонию в
германских землях. Разгром Австрии вызвал серьезный внутри¬
политический кризис в этой стране. Император Франц-Иосиф,
чтобы снять напряжение, вынужден был пойти на проведение се¬
рьезных внутренних реформ и в 1867 г. под давлением оппози¬
ционных сил согласился на превращение Австрийской империи
в дуалистическую монархию — Австро-Венгрию. В ней оставал¬
ся единый монарх, который осуществлял контроль над внешней
политикой, ему же подчинялись вооруженные силы. В решении
же внутренних вопросов венгерская часть империи получала ав¬
тономию.
После австро-прусской войны стержнем всей европейской по¬
литики становится франко-прусский конфликт. Конец 60-х годов
был заполнен сложными дипломатическими маневрами. Бисмарк
стремился к тому, чтобы в надвигающемся столкновении Фран¬
ция оказалась в изоляции и выглядела стороной, имеющей агрес¬
сивные намерения. Он начисто переиграл Наполеона III, добив¬
шись того, что именно Франция объявила 19 июля 1870 г. войну
Пруссии. Однако этот шаг обернулся катастрофой для Франции.
2 сентября 1870 г. французская армия во главе с Наполеоном III
капитулировала. Фиксация итогов войны, однако, затягивалась,
ибо во Франции военная катастрофа вызвала революционный
взрыв, центром которого стал Париже. 4 сентября 1870 г. Франция
была провозглашена республикой.
В феврале 1871 г. состоялись выборы в Национальное собра¬
ние Франции. Новый парламент обосновался в Бордо. Несмотря
на пламенные речи, произносимые парламентариями, сил для со¬
противления у Франции не было, и 26 февраля 1871 г. глава ново¬
го правительства Луи Тьер подписал предварительные условия
мира с Германией, но опять-таки заключение окончательного мир¬
ного договора пришлось отложить, поскольку жители Парижа
восприняли этот шаг правительства как национальную измену.
Когда Тьер отдал приказ о разоружении Национальной гвардии,
в городе вспыхнуло восстание. Власть в Париже перешла к Ком¬
муне. Тьер объявил Париж мятежным городом и начал его осаду.
144
По существу во Франции вспыхнула гражданская война. Комму¬
на просуществовала 72 дня и стала неким прообразом новой фор¬
мы государственного устройства — Советской власти.
28 мая 1871 г. Коммуна пала, а чуть раньше, 10 мая, во Фран¬
кфурте был подписан окончательный текст мирного договора меж¬
ду Германией и Францией. Условия мира были очень тяжелы для
Франции: она потеряла важные в экономическом и стратегичес¬
ком отношении области Эльзас и Лотарингию, обязывалась вып¬
латить Германии огромную контрибуцию в 5 млрд, франков; кро¬
ме того, на ее территории в течение трех лет оставались оккупаци¬
онные войска. Это событие знаменовало собой завершение процес¬
са объединения Германии, которая теперь стала империей. Каза¬
лось, Бисмарк мог торжествовать: цель его жизни осуществлена.
Однако, как это часто бывает, час торжества одновременно стал
исходной точкой новых проблем: отныне на многие годы франко¬
германский антагонизм превратился в стержень международных
отношений.
ГЛАВА VII
На пути к индустриальному обществу.
Ведущие страны Запада в последней
трети XIX в.
§ i. Основные направления
социально-экономического развития
Последняя треть XIX в. — время бурного развития крупного
промышленного производства. Особенно стремительным был про¬
гресс в ключевых отраслях тогдашней экономики — металлургии,
машиностроении, на транспорте. Возникают новые отрасли утт
электротехническая, химическая, продукция которых начинает
все больше менять повседневную жизнь людей.
Новая ступень в развитии производства требовала и новых
форм организации промышленности. Это было время расцвета
крупного производства, а оно требовало больших финансовых вло¬
жений. Для аккумуляции средств при решении крупных эконо¬
мических задач финансисты стали активно прибегать к новому
способу привлечения капитала. Речь идет об акционировании,
распространение которого способствовало установлению тесных
контактов между крупнейшими банками и собственно промыш¬
ленниками, в результате чего в обществе формировалась узкая эли¬
тарная прослойка — финансовая олигархия, которая овладела ко¬
мандными высотами в экономике и стремилась к тому, чтобы пол¬
ностью подчинить себе и весь ход политического процесса.
Именно в эти годы зарождаются новые формы производствен¬
ных объединений — картели, синдикаты, тресты, которые стано¬
вятся монопольными хозяевами рынка в ключевых отраслях про¬
мышленности. Раньше других этот процесс начался в США, там
же он достиг наибольшего размаха. Базовый принцип рыночной
экономики — конкуренция — подвергся в эти годы серьезному
146
испытанию, и это накладывало весьма заметный отпечаток на
многие стороны жизни тогдашнего общества — идеологию, поли¬
тику, социальные отношения.
Социальная структура ведущих стран имела, безусловно, свою
национальную специфику, но в то же время и немало общих черт,
прежде всего все увеличивающий процент горожан в общей сово¬
купности населения. А среди городского населения основная доля
принадлежала лицам наемного труда, в первую очередь рабочим.
Положение этой части населения во всех отношениях было тяже¬
лым. Хотя наблюдалась тенденция к некоторому повышению уров¬
ня зарплаты и ограничению продолжительности рабочего дня 10
часами, добиваться этого приходилось, как правило, в ходе жест¬
ких столкновений с предпринимателями, что, естественно, вело к
перманентной напряженности в обществе. Государство лишь к
концу века стало отходить от концепции «ночного сторожа», со¬
гласно которой оно не должно было вмешиваться в отношения
между рабочими и предпринимателями. Нежелание государства
разрабатывать позитивную рабочую политику вело к тому, что в
сфере трудовых отношений накапливался конфликтный потенци¬
ал, угрожавший взорвать базовые устои буржуазной цивилизации.
Если трудовые отношения превращались в источник постоян¬
ных и весьма опасных конфликтов, то увеличение доли среднего
класса в социальной структуре, несомненно, стабилизировало об¬
щество. Важно иметь в виду, что средний класс включает не толь¬
ко предпринимателей, но и интеллигенцию. Имея определенную
собственность, этот слой не был заинтересован в радикальном сло¬
ме существовавшего правопорядка, ибо в нем у него была своя срав¬
нительно устойчивая ниша. С другой стороны, стремление защи¬
тить эту нишу от превратностей судьбы, по возможности укрепить
и улучшить свой статус побуждало идеологов среднего класса до¬
биваться реформирования общества, чтобы устранить наиболее
одиозные социальные язвы. Именно в этой среде постепенно вык¬
ристаллизовалась мысль о том, что если государство не станет ак¬
тивно влиять на социальный климат, то ожидать стабильности не
придется, а без этого рассчитывать на устойчивый прогресс невоз¬
можно. Такое своеобразное сочетание статичности и динамики в
менталитете среднего класса делало его главным заинтересован¬
ным лицом в упрочении гражданского общества.
Сложные и весьма болезненные процессы разворачивались в
аграрном секторе экономики ведущих стран. Начиная с 70-х го¬
дов XIX в. его поразил затяжной кризис. Развитие транспорта
привело к тому, что заметно облегчилась и удешевилась доставка
сельскохозяйственной продукции в Европу из Канады, Аргенти¬
ны, Австралии и из западных штатов США. Мелкие крестьяне
147
европейских стран, попав под жесткий пресс конкуренции со сто¬
роны потока дешевых заокеанских продуктов, разорялись и вы¬
нуждены были продавать свои участки и пополнять ряды наибо¬
лее бедной части городского населения.
Те же, кто смог выдержать первый натиск заокеанской про¬
дукции, вынуждены были срочно перестраивать свое хозяйство,
повышать его производительность за счет внедрения новейших
технологий, переориентации на новые запросы рынка. Выжившие
в этой острейшей конкурентной борьбе хозяйства становились все
более тесно интегрированными в общую экономическую систему,
и, таким образом, разрыв между двумя основными отраслями эко¬
номики, унаследованный от традиционного общества, начал по¬
степенно преодолеваться.
Это был весьма болезненный процесс, не раз сопровождав¬
шийся резкими всплесками острых социальных столкновений.
Не случайно во многих странах в последней трети XIX в. наи¬
больший заряд радикализма был заложен именно в аграрных
движениях протеста выступавших за равноправие сельского хо¬
зяйства, т.е. за то, чтобы государство целенаправленно помогало
фермерам в борьбе с конкурентами, прежде всего с банками, же¬
лезнодорожными компаниями, посредническими фирмами. Од¬
нако, поскольку государство в тот период, как правило, ориен¬
тировалось на интересы финансовой олигархии, эти требования
не получали поддержки, и проблемы аграрного сектора долгое
время оставались в ряду факторов, дестабилизировавших обще¬
ственное развитие.
В последней трети XIX в. произошло огромное расширение
международного товарообмена. Стремительная индустриализа¬
ция резко расширила емкость внутреннего рынка ведущих стран
мира. Во много раз вырос спрос на уголь, сталь, машины, транс¬
портное оборудование, сырье, продовольствие и т.д. Это опреде¬
лило рост внешней торговли. Несмотря на увеличение емкости
рынка, борьба за контроль над национальными рынками стано¬
вилась все более жесткой. Для вытеснения конкурентов заинте¬
ресованные стороны стали использовать все новые и новые сред¬
ства. Одним из самых распространенных с*гал демпинг, т.е. им¬
порт тех или иных товаров по явно заниженным ценам, для того
чтобы таким путем подавить сопротивление местных производи¬
телей данной продукции, занять рынок, а уже затем диктовать
свои условия. Это порождало ответную реакцию: на смену «сво¬
бодной торговле» идет протекционизм, т.е. защита внутреннего
рынка от иностранной продукций с помощью различных огра¬
ничительных мер, которые проводит государство. Введение же¬
стких протекционистских мер не раз приводило к резкому обо¬
14«
стрению межгосударственных отношений, которое выливалось
Э так называемые «таможенные войны».
Рост международной торговли, развитие транспортной инф¬
раструктуры, завершение раздела мира — все это усиливало и ус¬
коряло процесс становления единой системы мирового хозяйства.
Общая тенденция развития сводилась к тому, что замкнутые, ра¬
зобщенные национальные хозяйственные единицы постепенно
скреплялись в органично взаимосвязанную и взаимозависимую
систему, что безусловно стало оказывать все более серьезное воз¬
действие на внутреннюю эволюцию каждого из элементов этой гло¬
бальной системы. А это, в свою очередь, начало во все большей мере
влиять на политическую ситуацию в ведущих государствах, на
характер межгосударственных отношений, на положение дел на
периферии системы международных отношений.
Естественно, цто эти общие для наиболее развитых стран фак¬
торы социально-экономических отношений в каждой конкретной
державе — Англии, Германии, США, Франции и др. — имели свою
специфику, свои национальные особенности. Так, например, наи¬
более быстрыми темпами создание крупных финансовых струк¬
тур нового типа шло в США и Германии. Их символами стали ги¬
гантские американские корпорации «Стандард Ойл» и «Стальной
трест», немецкий концерн Круппа. Безусловно, и в Англии, и во
Франции также возникли объединения подобного рода (достаточ¬
но, например, упомянуть концерн Шнейдер-Крезо), но бесспорны¬
ми лидерами в этом процессе оставались именно США и Герма¬
ния.
К появлению концернов и трестов в разных странах относи¬
лись по-разному. Особенно бурные дискуссии по поводу роли но¬
вых объединений развернулись в США. Именно там антимонопо¬
листическое движение приобрело наибольший размах. Его участ¬
ники полагали, что образование трестов, монополизировавших
целые отрасли промышленности, было не результатом естествен¬
ных процессов, разворачивавшихся в сфере экономики, а следстви¬
ем «преступного заговора» группы олигархов, подрывавшего ус¬
тои « американской системы», в первую очередь одну из ее основ —
свободу конкуренции. Эти идеи получили яркое отражение в весь¬
ма популярных в США того времени трудах Э. Беллами и Г. Ллой¬
да, в платформе созданной в начале 90-х годов популистской
партии. Не удивительно, что самые различные социальные силы
настойчиво добивались роспуска трестов. Под их давлением в
1890 г. конгресс США принял закон Шермана, декларировавший,
что «объединения в форме треста или любой другой форме... с це¬
лью ограничения коммерции или торговли между штатами или
иностранными государствами объявляются незаконными».
Общим для всех наиболее развитых стран Запада было станов¬
ление основ гражданского общества. Однако темпы этого процес¬
са были в разных странах далеко не одинаковыми. В США и Вели¬
кобритании основы гражданского общества — устойчивая партий¬
ная система, механизм выборов и местного самоуправления, раз¬
ветвленная сеть различных общественных организаций, выпол¬
няющих роль групп давления, и другие его атрибуты — уже сло¬
жились и функционировали достаточно стабильно. В этих стра¬
нах речь шла о совершенствовании его структуры, повышении
общей эффективности, устранении отдельных атавизмов прошло¬
го. Так, в США особенно большую проблему представлял «южный
вопрос». Дело в том, что, хотя в результате Гражданской войны
рабство и было уничтожено, южанам позднее удалось легитими¬
зировать систему расовой сегрегации, узаконивавшую неравноп¬
равное положение негритянского населения в сфере социально-
экономических отношений. По существу на Юге были законсер¬
вированы многие пережитки прежних порядков, и это создавало
серьезные проблемы на пути дальнейшего развития американско¬
го общества. В Великобритании большие сложности представлял
вопрос о предоставлении самоуправления Ирландии. Он не раз
вызывал острые политические кризисы, смены кабинетов, раско¬
лы в ведущих партиях. И тем не менее р обеих этих странах граж¬
данское общество стало реальностью.
Гораздо сложнее ситуация в этом плане была в Германии и
Франции. Во Франции лишь к началу 90-х годов, после провала
попытки Ж. Буланже ликвидировать республиканские институ¬
ты, завершилась дискуссия об оптимальной форме государствен¬
ного устройства — был сделан окончательный выбор в пользу рес¬
публики. Лишь после этого можно было говорить об утверждении
в стране основ гражданского общества. На его облик большое вли¬
яние оказывали два разноплановых фактора: во-первых, память
о катастрофе 1870 г. и весьма популярная среди французов самых
разных социальных групп идея реванша, консолидировавшая об¬
щество; во-вторых, широко распространенный со времен Великой
французской революции лозунг социальной справедливости, всту¬
пивший в резкую дисгармонию с реальной действительностью и в
силу этого дестабилизировавший общество.
На волне борьбы за социальную справедливость в 1880 г. воз¬
никла Французская рабочая партия, ставившая своей целью пере¬
устройство общества на социалистических принципах, причем ее
радикальная часть вела речь о полном сломе существовавшей сис¬
темы. Популярность и влияние новой партии быстро росли, она
превращалась в заметную силу, и перед правящей элитой остро сто¬
ял вопрос: как строить взаимоотношения с ней? Вплоть до конца
150
XIX в. превалировала точка зрения, согласно которой единственно
возможным вариантом решения этой проблемы было силовое по¬
давление социально-политического инакомыслия. Однако в этом
случае значительная часть общества лишалась возможности пусть
опосредованно, но все же принимать участие в политическом про¬
цессе. Очевидно, что подобная ситуация не только не повышала об¬
щественную стабильность, но, наоборот, серьезно дестабилизиро¬
вала общество. Лишь в самом конце XIX в. в правящей элите наме¬
тилась переоценка ценностей в этой сфере. Начиная с «казуса Ми-
льерана» в 1899 г., когда впервые представитель социалистов был
приглашен в правительство, власти стали стремиться к тому, что¬
бы интегрировать социалистов в политическую систему.
Еще сложнее становление гражданского общества происходи¬
ло в Германии, где еще предстояло решить ряд важных общеде¬
мократических задач, прежде чем переходить к отработке норм и
принципов функционирования подобного общества. В Германии
особенно бросалось в глаза противоречие между уровнем разви¬
тия экономики (по базовым показателям в этой сфере страна на¬
ходилась на передовых позициях) и состоянием социально-поли¬
тической сферы, где сохранялось немало пережитков прежней
эпохи. Этот дисбаланс оказывал большое воздействие на долго¬
срочные тенденции в развитии германского общества.
При всех зигзагах и национальных особенностях, те базовые
изменения в сфере социально-экономических отношений, о кото¬
рых шла речь выше, все более решительно пробивали себе дорогу
и начинали все ощутимее влиять на остальные стороны развития
западной цивилизации.
§ 2. Формирование основных идейных
концепций индустриального обществу,
Многогранные изменения, характерные для общественного
развития второй половины XIX в., постоянно ставили перед об¬
щественно-политическими деятелями массу новых сложных про¬
блем. Это заставляло политиков-практиков, общественных деяте¬
лей, ученых-обществоведов интенсивно искать ответы на новые
злободневные проблемы, строить прогнозы по поводу будущего
человеческой цивилизации, анализировать уроки прошлого. В
ходе этих поисков формировались основные идеологические кон¬
цепции, которые стали определять параметры идейно-политичес¬
кой борьбы в ведущих государствах мира.
Наибольшим влиянием на Западе пользовались либеральные
идеи. Это особенно относится к США и Англии. Именно там ли¬
151
беральные ценности получили наиболее полное воплощение на
практике, именно там они постоянно оттачивались и модерни¬
зировались. Своими корнями либерализм, как, впрочем, и боль¬
шая часть других форм современной идеологии, уходит в эпоху
Просвещения. В XIX в. идеи просветителей получили дальней¬
шее развитие.
С точки зрения сторонников либеральной доктрины, главной,
основополагающей ценностью в жизни человечества являлась сво¬
бода. Либерализм XIX века во главу угла ставил свободу индиви¬
да. Естественно, возникает вопрос, как согласовать индивидуаль¬
ные свободы с интересами общества в целом. Для идеологов либе¬
рализма Д. Бентама, Д. Милля, Г. Спенсера вопрос решался одно¬
значно: индивид выше общества и все, что приносит пользу отдель¬
ной личности, будет полезно обществу. Идеи индивидуальной сво¬
боды и равенства возможностей, изначально нацеленные на борь¬
бу с пережитками феодализма, постепенно стали использоваться
для обоснования и оправдания тех крупных изменений в сфере
социально-экономических отношений, которые имели место в
последней трети XIX в.
В условиях приоритетности прав индивида над интересами
общества в целом, главным регулятором отношений между людь¬
ми являлась конкуренция. Жизнь рассматривалась либералами
как постоянное состязание, и задача государства заключалась в
том, чтобы обеспечить равные стартовые возможности для его уча¬
стников. Дальше все решает конкуренция, она все расставляет по
полочкам.
Либералы были последовательными сторонниками идеи обще¬
ственного прогресса. История рассматривалась ими как непрерыв¬
ное поступательное движение к более совершенным формам орга¬
низации общества. При таком подходе, во-первых, рациональное
обоснование получали новейшие тенденции в социально-экономи¬
ческой сфере. Именно они становились главным мерилом прогрес¬
са: тот, кто дальше продвинулся по пути индустриализации, ав¬
томатически превращался в более прогрессивную страну. Во-вто¬
рых, за западной цивилизацией прочно закреплялся статус самой
передовой, и распространение ее влияния на остальной мир соот¬
ветственно становилось делом первостепенной важности.
Ясно, что подобные характеристики тогдашнего либерализма
вполне устраивали правящую элиту ведущих государств, и не уди¬
вительно, что в этой среде либеральные идеи пользовались боль¬
шой популярностью. Сложнее обстояло дело с быстро растущим
средним классом. С одной стороны, идеи индивидуальных свобод,
равенства возможностей, конкуренции, прогресса находили у его
представителей безусловный позитивный отклик, и в середине
152
века эта социальная группа являлась важным элементом той элек-
торатной базы, из которой черпали поддержку политики либераль¬
ного толка. Однако по мере того, как командные высоты в эконо¬
мике занимали представители финансовой олигархии, станови¬
лось все очевиднее, что вступление западной цивилизации в но¬
вую фазу развития ведет к определенному ухудшению статуса сред¬
него класса. Принцип саморегуляции общества, от которого от¬
талкивались во всех своих рассуждениях либералы, в новых ус¬
ловиях явно не работал. И этого не могли не видеть представители
гуманитарной интеллигенции — «мозгового центра» среднего
класса. В этой среде шло интенсивное осмысление многочислен¬
ных изменений, происходивших в обществе, и того, как на все это
должна реагировать либеральная идеология.
Основным оппонентом либерализма XIX века стал марксизм.
Его ключевые положения были изложены в популярной форме еще
в 1848 г. в «Манифесте коммунистической партии», написанном
К. Марксом и Ф. Энгельсом, а затем получили развитие в ряде их
фундаментальных трудов. Маркс и Энгельс были не только теоре¬
тиками. Много сил и времени они уделяли пропаганде своих идей.
В 1864 г. они создали I Интернационал, который имел секции по¬
чти во всех европейских странах и США. Позднее на их базе воз¬
никли национальные социалистические или социал-демократи¬
ческие партии, объединившиеся в 1889 г. во II Интернационал. К
концу века они превратились в массовые организации, игравшие
в ряде стран (прежде всего в Германии, Франции, Италии) весо¬
мую роль в политической жизни.
В чем суть платформы, на базе которой они строили свою де¬
ятельность? Марксизм являлся радикальной реакцией на бурное
развитие буржуазных отношений. Если либералы делали акцент
на позитивную сторону этого процесса — технический прогресс,
рост общественного богатства, улучшение качества жизни, рас¬
ширение демократических свобод и т.д., то марксизм упирал на
то, что в капитализме имманентно заложены антагонистические
противоречия, которые неизбежно должны взорвать существу¬
ющую систему. Марксизм справедливо указывал на многие не¬
гативные моменты, сопровождавшие развитие буржуазных от¬
ношений: социальную несправедливость, жесточайшую эксплу¬
атацию лиц наемного труда, поляризацию социальной структу¬
ры общества, тяжелейшие условия жизни низов общества и по¬
рождаемые этим нищету, пьянство, воровство, проституцию и
т.д. Если либералы полагали, что существующий порядок мож¬
но улучшить путем реформ, то марксисты были твердо убежде¬
ны: улучшить капитализм невозможно, следовательно, суще¬
ствующий порядок необходимо уничтожить, и эту миссию дол¬
153
жна выполнить партия рабочего класса, опирающаяся на марк¬
систскую идеологию. Таким образом, если либералы выступали
за эволюционный вариант развития общества, то сторонники
марксизма являлись поборниками революционного способа реа¬
лизации идеи общественного прогресса.
Реалии западной цивилизации второй половины XIX в. дава¬
ли немало фактов, подтверждавших теоретические выкладки
К. Маркса. И все же жизнь оказалась сложнее схем. Как только
сторонники нового подхода к решению стратегических задач по
переустройству общества перешли от теории к практике, им сразу
же пришлось столкнуться с целым комплексом сложнейших воп¬
росов: как эффективнее вести борьбу за реализацию своих про¬
граммно-целевых установок, как строить отношения с существу¬
ющими органами власти и другими партиями, какой должна быть
конкретная тактика их собственной партии, и многое другое. На
все эти вопросы предстояло найти ответы экспериментальным
путем, в ходе повседневной политической борьбы.
Включение сторонников марксистских идей в политическую
борьбу поставило на повестку дня вопрос об интерпретации базо¬
вых положений теории Маркса. К концу XIX в. выяснилось, что в
партиях П Интернационала существует несколько течений, кото¬
рые, считая себя последователями Маркса, по-разному трактовали
суть изменений в обществе, которые произошли в последней трети
XIX в., и соответственно по-разному видели задачи социалистичес¬
кого движения. Так, Э. Бернштейн, видный деятель германской
социал-демократической партии, прямо заявил, что со времени за¬
рождения марксизма мир серьезно изменился и, следовательно,
настал момент для переосмысления и ревизии базовых положений
марксизма, его оценок перспектив развития капитализма и буду¬
щего человеческой цивилизации. Его последователей, имевшихся
практически во всех партиях II Интернационала^ стали называть
ревизионистами.
Они полагали, что за полвека, прошедшие с выхода в свет
«Манифеста коммунистической партии», капитализм доказал, что
способен развиваться эволюционным путем и постепенно модер¬
низироваться. Следовательно, задача теперь состояла не в том,
чтобы единовременными усилиями перевести общество в каче¬
ственно иное состояние, а кропотливым трудом добиваться рефор¬
мирования общества, продвигая его таким образом по пути про¬
гресса в сторону большей социальной справедливости. И последнее
звено в цепочке их рассуждений — партиям II Интернационала
следует интегрироваться в существующую политическую систе¬
му, чтобы, работая вместе с другими социально-политическими
силами, добиваться проведения реформ.
154
На роль главного оппонента ревизионистов быстро выдвинул¬
ся один из лидеров российской социал-демократии В. И. Ленин.
Он не отрицал того, что капитализм за полвека, прошедшие с мо¬
мента появления «Манифеста», заметно трансформировался, но
полагал, что изменения не меняют его сущности. Реформировать
его невозможно, утвердить социальную справедливость можно
только уничтожив базовые устои общества, основанного на част¬
нособственнических отношениях, — в этом Ленин был твердо
убежден. Отсюда вытекали и задачи социалистического движения:
вести работу по подготовке революционного переустройства обще-
ства. Свою концепцию в полном объеме В. И. Ленин сформулиро¬
вал уже позднее, в первые десятилетия XX в., но уже тогда в парти¬
ях II Интернационала наметился раскол, позднее приведший эту
организацию к распаду. Безусловно, палитра мнений в социалис¬
тическом движении была сложнее, однако мировоззрение тех, кто
занимал промежуточную позицию, формировалось из сочетания
этих двух подходов к сути тех процессов, которые разворачива¬
лись в обществе.
Помимо либерализма и марксизма определенным влиянием в
ведущих странах Запада пользовались представители консерва¬
тивной идеологии. Одним из основоположников современного кон¬
серватизма по праву считается Э. Бэрк, живший в конце XVIII в.
Опыт революций в Европе привел его к выводу, что бурный обще¬
ственный прогресс может привести к утрате основополагающих
традиций и ценностей. Их сохранение являлось, по его мнению,
главной предпосылкой нормального функционирования любого
общества. Отсюда и название этого течения — консерватизм (от
лат. охранять, сохранять). Бурные события первой половины
XIX в. не только еще больше убеждали последователей консерва¬
тивных постулатов в необходимости укрепления устоев традици¬
онного общества, но и пополняли их ряды за счет представителей
самых различных социальных групп, которых стремительные
изменения всех сторон жизни общества выбивали из привычного
ритма.
В среде консерваторов существовали различные оттенки, по-
разному трактовавшие вопрос о том, что следует рассматривать в
качестве оптимального варианта общественного устройства. Тем
не менее к концу XIX э. консерватизм безусловно стал одной из
разновидностей буржуазной идеологии и четко действовал в этих
рамках. У него появилась собственная ниша. Консерваторы, по¬
добно либералам, признавали ценность свободы, причем в иерар¬
хии свобод на первое место безусловно ставилось право на свобод¬
ное обладание и распоряжение собственностью. Однако, в отли¬
чие от либералов, являвшихся рьяными сторонниками общесрве^.-
155
ного прогресса, который позволяет решать все проблемы, консер¬
ваторы скептически относились к возможности построения ради-
ональной модели общества, ибо общество состоит из людей, а че¬
ловек от природы существо несовершенное и неразумное. Следо¬
вательно, рассчитывать на якобы имманентно заложенную в об¬
ществе способность к саморегуляции и самокритике не приходит¬
ся. Лишь при наличии четких ограничительных установлений,
проводимых в жизнь государством, можно избежать сползания к
хаосу и анархии, сохранить традиционные ценности, без которых
общество обречено на деградацию.
Эти три базовые разновидности идеологии присутствовали
практически в любой из развитых стран. Естественно, у либе¬
рализма, марксизма и консерватизма были, наряду с общими,
генетическими для этого вида общественно-политической мыс¬
ли признаками, свои национальные особенности. Разным был
и удельный вес этих концепций в общественно-политической
жизни ведущих стран Запада. Но именно их борьба, их слож¬
ное взаимодействие определило динамику развития западной
цивилизации, особенности перехода ее в стадию индустриаль¬
ного общества.
§ 3. Рабочий вопрос в последней трети
XIX в.
Завершение промышленного переворота и превращение круп¬
ной индустрии в основу экономики ведущих государств Запада
придавало особую остроту проблеме взаимоотношений труда и
капитала. Она стала одним из основных компонентов политичес¬
кого процесса в наиболее развитых странах. Тяжелые условия тру¬
да, низкий жизненный уровень неизбежно порождали непрекра-
щающуюся череду острых конфликтов между рабочими и пред¬
принимателями. «Пионером» в этом вопросе была Англия, рань¬
ше других вступившая на путь индустриализации. Идеология
классического либерализма исходила из того, что государство не
должно вмешиваться в эти отношения, если они не ведут к нару¬
шениям общественного порядка и не создают угрозы праву соб¬
ственности. Во всех остальных случаях государство оставляло ра¬
бочих один на один с предпринимателями. Ясно, что у последних
было явное преимущество по сравнению с неорганизованными
рабочими. Это обстоятельство стимулировало рабочих к объеди¬
нению в профессиональные организации, отстаивавшие их инте¬
ресы. И именно Англия стала родиной первых массовых профсо¬
юзов (тред-юнионов).
156
К последней трети XIX в. английские профсоюзы уже нако¬
пили немалый опыт в защите прав своих членов, в борьбе за улуч¬
шение условий их труда и жизни. Еще в 1868 г. профсоюзы объе¬
динились в общенациональную организацию — Британский кон¬
гресс тред-юнионов (БКТ). Хотя формально она занималась толь¬
ко экономическими вопросами, ее политическое влияние быстро
росло, и перед правящим истеблишментом Британских островов
остро встал вопрос: как реагировать на деятельность БКТ? Лидер
либеральной партии У. Гладстон был убежден, что профсоюзы
должны стать важной составной частью гражданского общества.
Если не наладить с ними диалог, то они могут превратиться в се¬
рьезную деструктивную силу, постоянно дестабилизирующую об¬
щество. Именно поэтому Гладстон настоял на предоставлении
профсоюзам прав юридического лица, но одновременно всячески
стремился ограничить возможности для проведения ими массо¬
вых акций, организации давления на предпринимателей.
Профсоюзные организации быстро росли и в других разви¬
тых странах — США, Германии, Франции. Если в США создан¬
ная в 1886 г. Американская Федерация Труда (АФТ) изначально
четко заявила, что мыслит свою деятельность в рамках существо¬
вавшей системы, и соответственным образом строила свои взаи¬
моотношения с государством и бизнесом, то в Германии и во
Франции отношения профсоюзов и властей были много сложнее.
Дело в том, что в этих странах существовали достаточно массо¬
вые рабочие партии, опиравшиеся в своей деятельности на марк¬
систскую идеологию. Они придавали большое значение укреп¬
лению своего влияния в профсоюзах, превращению их не просто
в эффективный инструмент защиты экономических прав трудя¬
щихся, но в организацию, помогающую партии в реализации ее
программно-целевых установок.
Быстрый рост влияния социалистических партий побуждал
правящие круги Германии и Франции к жестким мерам по огра¬
ничению их деятельности. Особенно в этом плане отличался
О. Бисмарк, по инициативе которого в Германии в 1878 г. был при¬
нят первый закон против социалистов, запрещавший деятельность
всех политических организаций рабочих, лишавший их возмож¬
ности пропагандировать свои взгляды через печатные органы.
Понимая, однако, что одними репрессиями невозможно добиться
стабилизации ситуации, Бисмарк пытался сочетать политику реп¬
рессий с определенными уступками рабочему движению. В 80-е
годы была принята серия законов, вводившая в Германии систе¬
му социального страхования. Таким образом, государство в Гер¬
мании явно отошло от позиции «ночного сторожа», стало доста¬
точно актцвно вмешиваться в рабочий вопрос, пытаясь проводить
157
в этой области собственную политическую линию. В 90-е годы пра¬
вительство, возглавляемое новым канцлером генералом Л. фон
Каприви, встало на путь регулирования условий труда. Другое
дело, что те стандарты, которыми продолжало руководствоваться
правительство, и те, принятия которых добивались профсоюзы и
рабочие партии, существенно отличались друг от друга и диалога
между властями, предпринимателями и представителями рабочих
явно не получалось.
Отсюда нарастание забастовочного движения, которое подчас
приобретало весьма драматичные формы. Широкий резонанс во
всем мире получили события в США, связанные с забастовками
сталелитейщиков в Гомстеде в 1892 г. и особенно Пульмановская
стачка в Чикаго в 1894 г. Жесткая позиция предпринимателей и
местных властей, а затем и федеральных привели к созданию край¬
не напряженной ситуации, а в Чикаго даже к человеческим жерт¬
вам. Эти события показали, что силовой подход к решению спор¬
ных вопросов в сфере трудовых отношений может толкнуть даже
такую невосприимчивую к социалистическим идеям страну, как
США, в пучину хаоса и гражданского неповиновения.
Это побуждало часть политической элиты США пересмотреть
свои базовые установки в рабочем вопросе. В 90-е годы XIX в. сто¬
ронники нового подхода к этой проблеме группировались вокруг
кружка Т. Рузвельта — Лоджа. Политики нового поколения, тес¬
но связанные с рядом крупных представителей академических
кругов (Уорд, Эли, Кроули), молодые претенденты на руководство
«великой старой партией» пытались убедить «старую гвардию»
(Маккинли, Платт, Ханна и др.) в том, что необходимо отказаться
от многих прежних стереотипов, прежде всего в сфере социаль¬
ной политики.
Теодор Рузвельт понимал, что в условиях резкого обострения
социальных конфликтов государство не может оставаться безуча¬
стным наблюдателем происходивших событий: пассивность феде¬
ральных властей ведет к укреплению влияния леворадикальных
сил, стремящихся к уничтожению существовавшего правопоряд¬
ка. Нейтрализовать их растущее влияние можно лишь путем ак¬
тивизации деятельности по реформированию всей сферы социаль¬
но-экономических отношений. Только активное государство, вы¬
ступающее в роли посредника в отношениях между предприни¬
мателями и рабочими, может поддерживать социальную стабиль¬
ность в обществе, полагал Т. Рузвельт. Деятельность его фракции
закладывала основы политического курса, который в XX в. полу¬
чил широкое распространение в ведущих странах Запада и вошел
в историю под названием либерального реформизма. По мнению
реформистов, рабочий вопрос из фактора, подрывавшего буржу¬
158
азный правопорядок, должен был превратиться в некий пробный
камень, на котором оттачивались положения развернутой, альтер¬
нативной марксизму концепции общественного развития, в осно¬
ве которой лежала бы не борьба классов, а их сотрудничество.
Новое поколение либеральных реформаторов еще только го¬
товилось сказать свое слово в решении рабочего вопроса, в то вре¬
мя как их леворадикальные оппоненты интенсивно наращивали
усилия, нацеленные на то, чтобы превратить рабочее движение в
главную силу, которой будет суждено похоронить капитализм и
открыть новую эпоху в развитии человеческой цивилизации. Эф¬
фективность их усилий в значительной степени ослаблялась из-за
того, что в этой среде шла острая, подчас ожесточенная борьба раз¬
личных идейных течений, жестко конкурировавших между собой.
Помимо того, что в самом марксизме выкристаллизовалось не¬
сколько различных течений, по-разному интерпретировавших его
краеугольные положения, марксизму в целом противостоял еще
целый ряд принципиальных противников капитализма, среди
которых в последней трети XIX в. большим влиянием пользова¬
лись анархисты. Особенно прочными позициями они обладалц в
романских странах — Испании, Италии, отчасти Франции.
Искусно апеллируя к недовольству тех социальных сил, кото¬
рых бурная индустриализация выбивала из привычного ритма
жизни, а часто просто лишала элементарных источников к суще¬
ствованию, анархисты призывали к немедленному прямому дей¬
ствию, включая индивидуальный террор, против государственных
структур и лиц, олицетворявших эти структуры. Именно сторон¬
ники анархистов организовали в 70-90-е годы XIX в. целую се¬
рию террористических актов, прокатившихся по Европе и Аме¬
рике. Один из крупнейших идеологов анархизма М. А. Бакунин
не менее резко, чем Маркс, критиковал капитализм, но существен¬
но расходился с последним в вопросе о методах изменения реаль¬
ности и того, к чему должны стремиться противники буржуазно¬
го общества.
Пожалуй, ключевым моментом, где взгляды анархистов и
марксистов радикально расходились, было их отношение к госу¬
дарству. Анархисты стремились к полному уничтожению государ¬
ства, считая, что оно в любом контексте является орудием угнете¬
ния. Естественно, они не верили в возможность решения вопро¬
сов, связанных с регулированием трудовых отношений, с помо¬
щью законодательных мер. По их мнению, легалистская деятель¬
ность рабочих партий лишь консолидировала существующий
строй, в то время как реальная задача рабочего движения состоит
в том, чтобы всемерно расшатывать устои государства, приближая
его крах. В качестве инструментов для расшатывания государ¬
159
ственных структур анархисты предлагали различные способы, в
том числе всеобщую стачку, не исключался и террор.
Действия анархистов вносили немалую напряженность в
жизнь общества, и там, где власти не хотели принимать участия в
конструктивном решении всей совокупности вопросов, связанных
с трудовыми отношениями, идеи анархистов находили живой от¬
клик у наиболее обездоленной части общества. Чисто репрессив¬
ные способы борьбы с набиравшим размах рабочим движением
лишь укрепляли в нем позиции радикальных элементов. Несколь¬
ко позднее президент США В. Вильсон произнес ставшую ныне
хрестоматийной фразу: «Семена революции в репрессиях. Лекар¬
ство против нее не должно быть негативным. Оно должно быть
конструктивным». Эта мысль зародилась в конце XIX в. и посте¬
пенно, с большими трудностями, стала проникать в умы правя¬
щей элиты ведущих стран Запада (но не России). Осознание этой
истины как раз и происходило прежде всего в процессе решения
рабочего вопроса, постепенного превращения этой проблемы в важ¬
нейшую составляющую политики любого индустриально разви¬
того общества.
Таким образом, трудовые отношения из вопроса, находяще¬
гося вне сферы компетенции правительства, эволюционировали в
сторону превращения в некий индикатор, фиксировавший степень
адаптации того или иного государства к условиям перехода к ин¬
дустриальному обществу. К концу XIX в. эта сложная трансфор¬
мация еще не завершилась, но именно она стала предметом разви¬
тия рабочего вопроса. Выработка нового подхода происходила в
ходе жесткого столкновения позиций двух основных социальных
сил нарождавшегося индустриального общества — буржуазии и
рабочего класса. Это поначалу бескомпромиссное противостояние,
грозившее взорвать общество, побуждало государство брать на себя
роль арбитра в данных конфликтах. Однако правила, по которым
этот арбитр будет разбирать возникающие споры, еще предстояло
выработать.
ГЛАВА VIII
Национальные модели перехода
к индустриальному обществу
§ 1. Американская формула успеха
В предыдущей главе мы рассмотрели узловые моменты слож¬
ного и болезненного процесса трансформации традиционного об¬
щества в качественно иную стадию развития — индустриальное
общество. При ряде общих черт, характеризовавших этот этап эво¬
люции западной цивилизации, в каждой из ведущих стран в нем
отчетливо просматривались национальные особенности, присущие
каждой конкретной модели перехода к фазе индустриального об¬
щества.
Наиболее впечатляющих успехов на этом пути достигли Со¬
единенные Штаты, которые в течение последних десятилетий
XIX в. совершили интенсивный скачок вперед. По ряду важней¬
ших промышленных показателей они вышли на первое место в
мире. Цифры, иллюстрирующие темпы экономического прогрес¬
са, выглядят действительно весьма впечатляюще. Так, например,
производство чугуна увеличилось за это время в 8 раз, добыча угля
возросла в 10 раз, выплавка стали — в 150 раз! Общая стоимость
произведенной промышленной продукции возросла более чем в 3
раза. Стремительно развивалась транспортная индустрия. Всю
страну покрыла густая сеть железных дорог, общая протяженность
которых достигла 200 тыс. миль.
Серьезно изменилось и демографическое лицо американского
общества. За указанный период население США увеличилось в 14
раз, и они вышли по этому показателю на четвертое место в мире.
Произошло это и за счет естественного прироста населения, и за
счет постоянного массового притока иммигрантов. Очередная их
волна на сей раз состояла преимущественно из выходцев из стран
161
Южной и Восточной Европы, а в конце XIX в. к ним добавились
переселенцы из Японии и Китая. Заметно усложнилась внутрен¬
няя миграция населения, возросла его мобильность. Если на ран¬
ней стадии американской истории социальный идеал «среднего
американца» заключался в том, чтобы стать самостоятельным
фермером, то теперь надежды на лучшее будущее все чаще связы¬
вались с ведением собственного бизнеса в городах. Не удивитель¬
но, что в это время наблюдается стремительный рост городского
населения. Начиная со второй половины XIX в. численность го¬
родского населения США удваивалась каждые 20 лет.
Бурный процесс урбанизации менял многие параметры аме¬
риканского образа жизни, в том числе и в сфере социально-поли¬
тических отношений. Переход к индустриальному обществу со¬
провождался невиданным усилением позиций большого бизнеса
в жизни общества. В Америке всегда существовал культ денег, но,
пожалуй, никогда — ни ранее, ни позднее — он не достигал таких
масштабов.
Этому в немалой степени способствовали почти безраздель¬
но господствовавшие в идейной жизни Америки тех лет заве¬
зенные из Англии социал-дарвинистские идеи. Их родоначаль¬
ник Г. Спенсер пользовался в США огромной популярностью. «В
первые три десятилетия после Гражданской войны никто не мог
утвердиться в какой-либо из сфер интеллектуальной жизни, не
будучи последователем Спенсера», — отмечал один из крупней¬
ших американских историков Р. Хофстедтер.
Признанным лидером американских социал-дарвинистов стал
У. Самнер. Как и Маркс, он предельно акцентировал роль классо¬
вой борьбы в мировой истории. Но если для Маркса она была глав¬
ной движущей силой исторического процесса, то Самнеру она ка¬
залась лишь подтверждением базовой идеи Ч. Дарвина и представ¬
лялась перманентной борьбой всех против всех, воплощением ос¬
новного закона всей живой природы — борьбы за выживание. По
его мнению, американская действительность блестяще подтвер¬
дила этот тезис. Самнер утверждал, что в человеческом обществе,
как и в живой природе, эволюция осуществляется на основе есте¬
ственного отбора — путевку в жизнь получают только сильнейшие
(для общества это практически равнозначно богатейшим). Есте¬
ственно, эта мысль весьма импонировала магнатам американской
промышленности.
Действительно, объективный процесс укрупнения производ¬
ства способствовал тому, что на передовых рубежах оказывались
гигантские корпорации, активы которых исчислялись сотнями
миллионов, а то и миллиардами долларов. Опираясь на огромные
ресурсы, они стали диктовать обществу не только свои правила
у
162
игры в сфере бизнеса, но и свои нормы поведения в повседневной
жизни. Известный железнодорожный магнат Д. Гулд без ложной
скромности утверждал: «Мы сделали эту страну богатой, от нас
зависит ее развитие». А раз так, то долг правительства, смысл всей
его деятельности должен заключаться в создании оптимальных
условий для развития корпораций. Никогда ранее американская
история не знала столь тесного и откровенного переплетения ин¬
тересов большого бизнеса и политических боссов. Обе ведущие
партии США — республиканцы и демократы — оказались под
контролем деловой элиты Америки. Не удивительно, что в такой
ситуации различия в политических платформах членов партий¬
ного тандема стали минимальными.
На протяжении 80-х — первой половины 90-х годов в центре
политических баталий, разворачивавшихся в США, находились
преимущественно два вопроса: о тарифах и о свободной чеканке
серебра. В вопросе о тарифах, уходящем корнями в довоенный
период, республиканцы выступали за их рост, поскольку это от¬
вечало интересам промышленных корпораций, а демократы, на¬
оборот, добивались их снижения. В 1890 г. был одобрен рекордно
высокий тариф Маккинли — Олдрича, вводивший 49,5% ввозные
пошлины. По существу он закрывал американский рынок для ино¬
странных товаров. Понятно, что на протяжении всех 90-х годов
он вызывал яростные споры в Капитолии. Борьба шла с перемен-
ным успехом, но в целом в этот период преимущество принадле¬
жало сторонникам протекционизма.
Не менее напряженной была борьба вокруг вопроса о «дешевых
деньгах» и свободной чеканке серебра. В 1878 г. был принят закон
Блэнда т- Эллисона, согласно которому федеральное правительство
было обязано ежегодно закупать серебро на сумму от 2 до 4 млн.
долларов для последующей чеканки «дешевых» серебряных денег.
Однако сторонники сохранения золотого стандарта, т.е. привязки
курса доллара исключительно к цене на золото, повели на этот за¬
кон мощную атаку и в годы второго президентства Г. Кливленда
(1893-1897) добились его ревизии. В остальных вопросах в отно¬
шениях партий царил прочный консенсус.
Однако подобный модус взаимоотношений партий таил в себе
немало опасностей для американского общества. Партийные бос¬
сы тех лет, защищая интересы большого бизнеса, во многом игно¬
рировали чрезвычайно острые и насущные проблемы обществен¬
ного развития, которые были порождены переходом Соединенных
Штатов в фазу индустриального общества. Подобное поведение
политической элиты вело к росту социальной напряженности в
стране. Представители иных, кроме большого бизнеса, соци¬
альных групп все настойчивее добивались, чтобы политические
163
партии, основные государственные институты учитывали в своей
деятельности и их интересы. Они активно поднимали такие воп¬
росы, как государственная помощь фермерам, федеральное регу¬
лирование тех отраслей бизнеса, которые затрагивали сферы «об¬
щественного блага», требовали принятия законодательства в об¬
ласти индустриальных отношений, борьбы с коррупцией, настаи¬
вали на демократизации политической жизни и т.д. Однако все
попытки этих сил добиться того, чтобы руководство какой-либо
из двух главных партий и государство обратили внимание на эти
проблемы, не увенчались успехом. Политическая элита США тех
лет исходила из презумпции невмешательства федеральных влас¬
тей в сферу социально-экономических отношений и менять свои
взгляды на роль государства не собиралась.
Тщетность попыток добиться перемен к лучшему в рамках
существующей партийно-политической системы остро ставила
вопрос о поисках новых, более эффективных средств борьбы за
изменение приоритетов государственной политики. Диапазон по¬
исков был весьма широк: от создания независимых фракций в рам¬
ках традиционных партий до различных форм давления извне на
составные компоненты двухпартийной системы, включая попыт¬
ки образования третьей общенациональной партии.
Так, на рубеже 70-80-х годов XIX в. заметную роль в общем
спектре реформаторов играла фракция независимых республикан¬
цев, возглавляемая известным политическим деятелем тех лет
К. Шурцем. Он и его сторонники связывали свои надежды на пе¬
ремены с реформой гражданской службы и другими мерами по
демократизации политической жизни США. По их мнению, это
подорвало бы возможности большого бизнеса влиять на полити¬
ческий процесс и помогло бы вернуть государство под контроль
общества. Однако, не затрагивая экономических основ могущества
большого бизнеса, нечего было рассчитывать на успех политичес¬
ких реформ. Это вскоре стало очевидным и приверженцам, и про¬
тивникам перемен, и независимые оказались в своеобразном по¬
литическом вакууме и вскоре сошли с политической арены.
Независимые республиканцы отражали интересы той части
средних слоев, которой претило беспардонное поведение форми¬
рующейся касты финансовых олигархов, попрание ими привыч¬
ных этических норм, правил поведения. Что же касается эконо¬
мической сферы, то для независимых ситуация в ней должна была
определяться конкуренцией, т.е. государственным структурам там
не было места. Однако подобный взгляд далеко не всегда устраи¬
вал и фермеров, и быстро растущий промышленный пролетариат.
Первые хотели получить гарантированную государственную под¬
держку сельскохозяйственного производства и помощь в борьбе с
164
компаниями-посредниками и банками. Вторые добивались от
партий и правительства принятия законодательства, регулирую¬
щего условия труда.
Для достижения этих целей они использовали различные сред¬
ства. К концу XIX в. в США уже существовало достаточно влия¬
тельное профсоюзное движение. Наиболее мощной профсоюзной
организацией являлась созданная в 1886 г. Американская Феде¬
рация Труда (АФТ), насчитывавшая к концу века в своих рядах
около 800 тыс. чел. Лидер АФТ С. Гомперс вошел в историю как
автор концепции «делового юнионизма», согласно которой тред-
юнионы должны были заниматься исключительно экономически¬
ми проблемами, добиваясь наиболее выгодных условий труда для
своих членов. При этом профсоюзы должны исходить из того, что
предприниматель — такой же участник производственных отно¬
шений, как и рабочий. Отсюда лозунг: «рабочим — справедливая
зарплата, предпринимателям — справедливая прибыль». Иными
словами, Гомперс рассматривал предпринимателей и рабочих не
как непримиримых антагонистов, а как партнеров по переговорам,
которые в оптимальном варианте должны заканчиваться взаимо¬
выгодным компромиссом. Что касается политического процесса,
то непосредственного участия в нем профсоюзы принимать не со¬
бирались. Они предпочитали действовать через две главные
партии, отдавая свои симпатии той из них, которая в своей пред¬
выборной платформе выдвигала наиболее приемлемые для проф¬
союзов условия.
Свои, причем достаточно мощные, организации имели и аме¬
риканские фермеры. В их ряду прежде всего необходимо упомя¬
нуть о Лиге Грейнджеров (создана в 1867 г.) и двух фермерских
альянсах — Северном и Южном. Первоначально лидеры этих объе¬
динений полагали, что следует добиваться своих целей, выполняя
роль групп давления, воздействуя на руководство партий и конг¬
рессменов, обменивая поддержку своих сторонников на выгодное
фермерам законодательство. Однако вскоре стало очевидно, что
для лидеров и республиканцев, и демократов контакты с большим
бизнесом куда важнее, чем с фермерскими организациями. К ру¬
бежу 80-90-х годов лидеры фермеров пришли к выводу, что успех
им может принести только выход за привычные рамки двухпар¬
тийной системы. В итоге в 1891 г. на политической арене США
появилась новая партия — популистская.
В. преддверии президентских выборов 1892 г. популисты со¬
брались на конвент, где выдвинули одного из своих лидеров Дж. -
Уивера кандидатом на пост президента и одобрили предвыборную
платформу, ставшую важной вехой в развитии антимонополисти¬
ческой идеологии. Ее экономическая часть базировалась на ши¬
165
роко распространенной в то время в США теории «преступного
заговора», согласно которой появление гигантских корпораций
было не естественным продуктом развития экономики, а резуль¬
татом заговора кучки дельцов, противопоставивших себя осталь¬
ному обществу. «До тех пор, пока контроль над средствами суще¬
ствования и общественными богатствами является частным делом
могущественных индивидуумов, именно они будут подвергать об¬
щество регулированию, а не наоборот», — утверждали лидеры
популистов. Они предлагали заключить «новый общественный
договор», который бы позволил устранить деформации, поразив¬
шие американское общество под воздействием «преступного заго¬
вора». Важно, однако, отметить, что при всем своем радикализме
популисты вполне вписывались в эволюционную модель обще¬
ственного развития, которая уже достаточно прочно утвердилась
в США.
£>го не означало, что возникновение популистской партии не
создавало проблем для политической элиты США. Ей предстояло
определить, каким способом отразить вызов популистов, не допу¬
стить дальнейшего роста их влияния в политической жизни США.
К этому времени в политическую культуру США уже проникла
мысль о том, что наиболее эффективным способом борьбы с разно¬
го рода движениями социального протеста является перехват у них
популярных идей, с их последующей интерпретацией в существен¬
но более умеренном духе. Таким образом, ведущие партии вместе
с идеями отбирали у потенциального конкурента и значительную
часть протестного электората, привязывая его к находящейся под
прочным контролем элиты двухпартийной системе, снижая угро¬
зу своему монопольному положению в политическом процессе.
Именно такой путь борьбы с популистами избрали демократы
во главе с новым лидером партии У. Брайаном в 1896 г. В центр
своей предвыборной кампании он поставил популярный среди
населения южных и западных штатов лозунг неограниченной че¬
канки серебра и требование «дешевых денег», в которых многие
представители аграрной Америки видели панацею от всех бед, об¬
рушившихся на них. В то же время такие радикальные требова¬
ния популистов, как национализация железных дорог и средств
связи, введение прогрессивного налогообложения, предоставление
народу права законодательной инициативы и права отзыва депу¬
татов, остались за бортом его программы.
Перед лидерами популистов встала непростая дилемма. Оцени¬
вая ее, один из их идеологов Ллойд писал: «Если мы сольемся, то
потонем. Если нет, то все сторонники серебра уйдут от нас в более
сильную демократическую партию». В итоге все же было принято
решение поддержать на выборах У. Брайана, и, таким образом, был
166
сделан важный шаг в сторону интеграции сторонников новой
партии в лоно двухпартийной системы. А это означало, что нарас¬
тавший в стране социально-политической кризис удалось если не
разрешить, то, по крайней мере, заметно снизить его накал.
В то же время открытым оставался принципиально важный
для будущего США вопрос: возможно ли, не прибегая к радикаль¬
ным средствам, добиться адаптации «американской системы» к
принципиально иной фазе общественного развития, сохранить ее
высокую эффективность и в новых условиях? Окончательный от¬
вет на него был дан позднее, но первые шаги в плане решения этой
задачи были сделаны еще в конце XIX в. и были связаны с выра¬
боткой новой формулы, определяющей роль государства в жизни
общества. Если ранее своего рода аксиомой считалась презумпция,
согласно которой государству отводились крайне ограниченные
функции по поддержанию законности и общественного порядка,
то в конце XIX в. подобный взгляд на роль государства начинает
ставиться под сомнение.
Новое поколение политиков, как демократов, так и республи¬
канцев, постепенно осознавало, что пассивность государства в сфе¬
ре социально-экономических отношений будет неизбежно вести к
росту социальной напряженности, к увеличению влияния ради¬
кальных идей в массах и в итоге все ближе подводить общество к
развитию по тому сценарию, который предрекал К. Маркс. Они
полагали, что для сохранения в целостности базовых устоев «аме¬
риканской системы» необходимо предложить конструктивную
альтернативу как господствовавшим социал-дарвинистским, так
и социалистическим идеям. Если представители политического
истеблишмента США смотрели на государство как на своеобраз¬
ного «ночного сторожа», наблюдающего, но ни во что не вмеши¬
вающего, если социалисты видели в нем прежде всего инструмент
классового господства буржуазии, без слома которого невозмож¬
но установить в обществе социальную справедливость, то предста¬
вители новой волны либерализма смотрели на государство как на
некую «позитивную силу», способную встать над социальными
конфликтами, обеспечить их разрешение в соответствии с потреб¬
ностями общественного развития.
В США эти идеи начал развивать еще в 80-е гг. XIX в. социо¬
лог Л. Уорд. Именно он выдвинул и попытался обосновать тезис,
согласно которому, только взяв на себя функции по регулирова¬
нию социально-экономических отношений, государство может
предотвратить распад «американской системы», обеспечить ее
дальнейшее эволюционное развитие.
Уже в конце XIX в. идеи Уорда и его последователей нашли
“первое отражение в конкретной политике. В1887 г. уступил в силу
167
«Закон о междуштатной торговле», согласно которому создавал¬
ся специальный орган — Комиссия по междуштатной торговле,
имевшая право регулировать тарифную практику железнодорож¬
ных компаний. Чуть позднее, в 1890 г., был принят уже упоми¬
навшийся закон Шермана, объявлявший незаконными объедине¬
ния в форме трестов, теоретически нацеленный на поддержание
принципов конкуренции в первозданном виде. В последней чет¬
верти XIX в. Верховный суд США вынес ряд решений, подводив¬
ших правовую базу под возможность регулирования федеральны¬
ми властями некоторых аспектов трудовых отношений. Эти меры
заложили основу для создания в дальнейшем разветвленного ме¬
ханизма государственного регулирования социально-экономичес¬
ких отношений.
Хотя в конце XIX в. подобные меры еще выглядели в глазах
«старой гвардии» буржуазных политиков и большей части пред¬
ставителей финансовой олигархии чуть ли не «антиамерикански¬
ми», новые подходы на деле доказывали свою эффективность, и
это приносило им растущую популярность в различных слоях об¬
щества, в том числе и в его высших эшелонах. Благодаря посте¬
пенному освоению нового инструментария, используемого для
решения социально-экономических проблем, американская мо¬
дель общественного развития обрела большую устойчивость, по¬
лучила дополнительный динамизм и смогла сравнительно плавно
вступить в новую фазу — в фазу индустриального общества.
Конечно, эта трансформация была отнюдь не бесконфликтной.
Однако американская модель развития, несмотря на многочислен¬
ные проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться в это время,
добилась впечатляющих успехов в процессе своей модернизации.
Американская формула успеха складывалась из нескольких
составляющих. Во-первых, несмотря на интенсивную концентра¬
цию и монополизацию производства, конкуренция сохранила свое
значение как главной движущей силы развития рыночной эконо¬
мики. Именно она обуславливала высокий динамизм и эффектив¬
ность американской экономики, а это подводило под все здание
«американской системы» мощный экономический фундамент.
Во-вторых, наличие огромных экономических ресурсов в ру¬
ках правящей элиты СИТА позволяло ей осуществлять широкое
социальное маневрирование, снижая накал конфликтов, утверж¬
дая в массовом сознании устойчивые стереотипы о возможности
воплощения в жизнь их социальных идеалов за счет совершенство¬
вания «американской системы».
В-третьих, неотъемлемой составляющей американской фор¬
мулы успеха стала специфическая политическая культура США,
в крторой органично сочетались консенсусные начала (способность
168
к достижению компромисса) с готовностью к постоянной интег¬
рации новых идей, новых вызовов. В ней удачно сочетался кон¬
сенсус в отношении того, что «американская система» в своей ос¬
нове рациональна, с пониманием того, что эта основа должна по¬
стоянно модифицироваться, приспосабливаться к веяниям време¬
ни. Именно эта специфическая политическая культура стала бла¬
годатной средой для возникновения и развития реформистских
идей, которые начинают во все большей мере определять лицо
«американской системы».
§ 2. Великобритания: в классическом
либерализме обнаруживаются первые
изъяны
К середине XIX в. Великобритания в глазах остального мира
являла собой чуть ли не эталон либерализма. Господство либераль¬
ной идеологии оказывало в это время определяющее воздействие
на все стороны развития английского общества. С конца 40-х и до
середины 70-х годов XIX в. в политической жизни страны исклю¬
чительно прочные позиции занимала опять-таки либеральная
партия. За это время она была в оппозиции всего лишь три года.
Прочно контролируя все звенья государственной машины, либе¬
ралы смогли во многом воплотить в жизнь краеугольные положе¬
ния своих идейно-политических доктрин.
Отталкиваясь от идей Дж. Милля, И. Бентама, Г. Спенсера,
английские либералы сумели на практике реализовать некоторые
постулаты этих теоретиков, прежде всего о дешевом правитель¬
стве с весьма ограниченными функциями. В отличие от стран кон¬
тинентальной Европы, где шел неуклонный рост государственно-
бюрократического аппарата, в Англии он вплоть до начала XX в.
не играл существенной роли. Если когда-либо государство и выс¬
тупало в роли «ночного сторожа», то это относится к Англии это¬
го времени. Государство практически полностью ушло из эконо¬
мики, которая развивалась, причем весьма успешно, под воздей¬
ствием рыночной конкуренции. Именно в это время страна заня¬
ла доминирующие позиции в мировом хозяйстве. А это, в свою оче¬
редь, позволило политической элите «туманного Альбиона» пере¬
смотреть базовые подходы к характеру своих мирохозяйственных
связей. Британия решительно порывает с практикой протекцио¬
низма и безоговорочно переходит к политике фритреда («свобод¬
ной торговли»). Даже консерваторы стали называть протекцио¬
низм «ложными представлениями». Добиваясь от остальных стран
169
одобрения принципов «свободной торговли», Лондон открывал
таким образом рынки этих государств для товаров, производимых
ра английских фабриках и заводах.
Что касается социальной сферы, то роль государства здесь сво¬
дилась преимущественно к защите прав собственности. Естествен¬
но, Великобритания, как безусловный лидер буржуазного прогрес¬
са, не могла не испытывать воздействия последствий «индустриаль¬
ной революции» и прежде всего резкого роста напряженности в от¬
ношениях двух основных классов тогдашнего общества — буржуа¬
зии и пролетариата. Движение чартистов и события 1848 г. во Фран¬
ции наглядно продемонстрировали, к каким серьезным последстви¬
ям может привести радикализация сознания лиц наемного труда.
Однако здесь английских либералов выручило то обстоятельство,
что на Британских островах уже существовали зачатки гражданско¬
го общества. А это подразумевало, что его граждане имели опреде¬
ленные навыки самоорганизации для защиты собственных интере¬
сов. В Англии в это время уже действовали и объединения предпри¬
нимателей, и первые профсоюзы. Другое дело, что до выработки со¬
временного модуса их взаимоотношений было еще очень далеко. Тем
не менее уже тогда у противоборствовавших сторон начала зарож¬
даться мысль о том, что, несмотря на серьезные разногласия между
предпринимателями и профсоюзами, они способны находить комп¬
ромиссные решения спорных вопросов и это в большей мере отвеча¬
ет их обоюдным интересам, чем непримиримое противостояние.
Выработке такого подхода способствовал ряд обстоятельств.
Во-первых, профсоюзы объединяли в то время прежде всего высо¬
коквалифицированных рабочих, которые имели существенно бо¬
лее высокую, чем остальные, зарплату. Им было что терять, и в
силу этого они предпочитали добиваться дальнейшего повышения
уровня жизни путем переговоров, а не за счет жесткой конфрон¬
тации с предпринимателями. Те, в свою очередь, получая высо¬
кие доходы, стремились не доводить дело до открытого противо¬
стояния, которое могло вызвать неконтролируемый конфликт и в
итоге привести к социальному взрыву. При таком раскладе, с точ¬
ки зрения правящей элиты, было явно предпочтительнее за счет
частичных уступок поддерживать в обществе относительно проч¬
ный социальный мир.
Во-вторых, необходимо учитывать, что английская буржуазия
могла обеспечивать сравнительно высокий уровень жизни квали¬
фицированных рабочих за счет огромных сверхприбылей, получа¬
емых в обширной британской колониальной империи. Вся полити¬
ческая элита Британии была твердо убеждена: строительство и уп¬
равление колониальной империей — дело первостепенной важнос¬
ти, ибо именно на этой основе зиждется могущество Англии.
170
Безусловно, в процессе развития колониальной империи пе¬
риодически возникали серьезные осложнения. Восстание в Индии
(1857-1859), перманентная напряженность в Ирландии, т.н. «опи¬
умные войны» в Китае — вот лишь некоторые «болевые точки»,
сопровождавшие колониальную экспансию Великобритании. Од¬
нако все издержки, связанные с быстрым расширением колони¬
альной империи, с лихвой окупались благодаря тем поистине без¬
граничным возможностям, которые она открывала перед англий¬
ским капиталом. Подчеркнуть особую роль колониальной поли¬
тики в развитии Великобритании должен был беспрецедентный
визит королевы Виктории в Индию в 1875-76 гг.
Лидеры либералов понимали, что для придания большей со¬
циальной устойчивости государству последнее обязано добивать¬
ся расширения числа лиц, принимающих хотя бы пассивное уча¬
стие в политическом процессе. А для этого было необходимо уст¬
ранить препоны, которые ограничивали возможности участия
рядовых англичан в избирательном процессе. Еще в 1864 г. по
инициативе1 либералов был учрежден Национальный союз реформ,
ставивший целью осуществление избирательной реформы. Через
год профсоюзы создали более радикальную Лигу реформ, попы¬
тавшуюся возглавить борьбу за введение всеобщего избиратель¬
ного права для всех мужчин, достигших 21 года. Обе эти органи¬
зации вели жесткую конкурентную борьбу за влияние в массах.
Стремясь перехватить инициативу у профсоюзов, либеральное
правительство Дж. Рассела в марте 1866 г. внесло в парламент за¬
конопроект об избирательной реформе. Он сразу же оказался в
центре острейшей политической борьбы, вызвав раскол на обоих
полюсах английского общества. В Лиге реформ возник конфликт
между группой радикалов и умеренными профсоюзными лидера¬
ми во главе с Дж. Оджером. Первые призывали бескомпромиссно
отстаивать свой вариант избирательной реформы. Вторые склоня¬
лись к тому, чтобы поддержать правительственный законопроект.
Не меньшие споры вызвали предложения правительства и в поли¬
тической элите Великобритании. Ее консервативная часть виде¬
ла в предлагаемой реформе посягательство на базовые устои су¬
ществовавшего правопорядка, угрозу праву собственности. Пред¬
ставители консерваторов в парламенте приложили максимум уси¬
лий для того, чтобы провалить внесенный правительством билль,
что им и удалось. По сути, они спровоцировали правительствен¬
ный кризис. Кабинет Рассела ушел в отставку, и новое правитель¬
ство сформировал лидер консерваторов Э. Дерби.
Полагая, что борются за укрепление существовавшего право¬
порядка, консерваторы на самом деле своими действиями поро¬
дили его серьезный кризис, придав проблеме реформы избиратель¬
171
ного права характер судьбоносного теста. Либо в Англии возмож¬
но решать вопросы, связанные с совершенствованием обществен¬
но-политических отношений, в рамках существовавшей системы,
легитимными методами, путем ее реформирования, либо она Не
способна к эволюционному варианту развития, и лишь ее рево¬
люционная ломка может открыть дорогу для вывода всего обще¬
ства на новый виток развития. Иными словами, относительно ча¬
стный вопрос о реформе избирательной системы превратился в
своеобразную лакмусовую бумажку, призванную продемонстри¬
ровать степень зрелости гражданского общества в Англии.
В этой кризисной ситуации у политических лидеров Брита¬
нии хватило мудрости и воли для того, чтобы найти устраиваю¬
щий их выход из кризиса. Решающую роль в этом сыграл министр
финансов в правительстве Дерби Б. Дизраэли — консерватор но¬
вого поколения, понимавший, что приверженность консерватив¬
ным принципам не должна перерастать в отрицание каких-либо
перемен в обществе. Консерватор, по мнению Дизраэли, обязан
бороться лишь против таких перемен, которые могут обернуться
сокрушением основополагающих устоев английского общества.
Именно он в марте 1867 г. внес в парламент билль о реформе изби¬
рательной системы. После жесткой борьбы в августе он был одоб¬
рен парламентом и стал законом. По новым избирательным пра¬
вилам количество лиц, имевших право участвовать в выборах,
возросло примерно в три раза, в них попали и высококвалифици¬
рованные рабочие. Но главное заключалось не в этом. В ходе борь¬
бы вокруг данного законопроекта был сделан очень важный шаг в
укреплении влияния реформистской идеологии в массовом созна¬
нии. Да и консервативная часть политической элиты убедилась в
том, что в постепенных изменениях отдельных сторон английс¬
кой модели политической системы нет ничего угрожающего, что
только так можно сохранить в неприкосновенности ее устои, не
допустить революционного взрыва.
Хотя билль о реформе избирательной системы внесли консер¬
ваторы, его плодами воспользовались либералы. На парламентс¬
ких выборах 1868 г. они добились крупного успеха. Их новый ли¬
дер У. Гладстон получил право сформировать кабинет. Выходец
из семьи крупных ливерпульских предпринимателей, связанных
с колониальной торговлей, он по всем статьям, казалось, должен
был стать консерватором. Однако потрясения 40-х годов убедили
его, что либеральная идеология более адекватно отвечает запро¬
сам элиты, и он в итоге связал свою судьбу с либеральной парти¬
ей. В 1868 г. он уже стал ее лидером.
Восхождение У. Гладстона на политический Олимп совпало с
важной вехой в истории набиравшего все большую мощь профсо¬
172
юзного движения. В 1868 г. в Англии был создан Британский кон¬
гресс тред-юнионов (БКТ), объединивший практически все круп¬
нейшие профсоюзы страны. В качестве главной цели новая орга¬
низация ставила задачу оказание постоянного эффективного дав¬
ления на парламент для лоббирования выгодного профсоюзам за¬
конодательства.
Перед либералами встал вопрос: как реагировать на появле¬
ние нового объединения? Гладстон настоял на том, что либераль¬
ная партия должна стремиться к налаживанию отношений с БКТ,
ибо без этого, по его мнению, прочная стабильность в английском
обществе была недостижима. В1871 г. он добился предоставления
тред-юнионам прав юридического лица. Правда, одновременно
профсоюзам было запрещено выставлять свои пикеты для борьбы
со штрейкбрехерами в ходе забастовок. Такая попытка удовлет¬
ворить всех в итоге себя не оправдала. Профсоюзы по вполне по¬
нятным причинам были недовольны тем, что их лишили весьма
действенного инструмента борьбы за свои права. Предпринимате¬
ли, наоборот, полагали, что правительство, потворствуя профсо¬
юзам, ущемляет их права собственников. В итоге правительство
Гладстона как бы провисло в воздухе, лишившись поддержки зна¬
чительной части своего электората.
Проанализировав результаты выборов, новый глава прави¬
тельства, лидер консерваторов Б. Дизраэли пришел к выводу, что
у его партии есть все шансы перехватить у либералов инициативу
в налаживании контактов с профсоюзами и что в случае удачи это
может принести ей серьезные политические дивиденды. Именно
поэтому его правительство в 1874 г. санкционировало т.н. «мир¬
ное пикетирование», т.е. заметно расширило арсенал средств, ко¬
торые профсоюзы теперь могли использовать в ходе забастовок.
Таким образом, право на забастовку из формального превращалось
в реальное, наполнялось полноценным содержанием. Либералы,
в свою очередь, предложили руководству БКТ сотрудничать в ходе
избирательных кампаний и согласились поддерживать выдвижен¬
цев профсоюзов на выборах. В результате этого соглашения в пар¬
ламенте к концу века было уже больше десяти депутатов от проф¬
союзов, которые блокировались с либералами.
Помимо реформы избирательного права, 70-е годы XIX в. были
отмечены еще рядом преобразований: была проведена реформа
государственной службы (вводилась практика публичных экзаме¬
нов для чиновников, претендовавших на ту или иную должность),
запрещалась практика покупки чинов в армии, осуществлена ре¬
форма образования (устанавливалось обязательное начальное об¬
разование). Эти меры способствовали укреплению устоев граждан¬
ского общества в Англии. А чем более зрелым оно становилось,
173
тем прочнее английское общество вписывалось в рамки эволюци¬
онного варианта прогресса. Однако политической элите Великоб¬
ритании еще предстояло модернизировать партийную систему
страны.
Первый шаг в этом направлении был сделан в 1877 г. либера¬
лами. По инициативе видного бирмингемского предпринимателя
Дж. Чемберлена был созван съезд либеральных ассоциаций, на
котором было принято решение об учреждении «Национальной
либеральной федерации» — партийной организации в современ¬
ном смысле, с разветвленной организационной структурой, охва¬
тывавшей всю страну, с достаточно мощным аппаратом партий¬
ных функционеров, с четко устоявшимися нормами взаимоотно¬
шений между составными элементами партийной структуры. Их
примеру последовали и консерваторы. Таким образом, в Англии
сложился устойчивый партийный тандем, прочно контролировав¬
ший политическое поведение электората, надежно отстаивавший
интересы правящих верхов.
К рубежу 70-80-х годов XIX в. Англия достигла пика своего
могущества. Опираясь на либеральные принципы, политическая
элита добилась наиболее значительных в своей истории успехов.
Английская экономика занимала лидирующие позиции в миро¬
вом хозяйстве, английское общество отличалось более высокой по
сравнению со странами континентальной Европы социальной ста¬
бильностью и более высоким уровнем жизни, политической куль¬
турой, в которой превалировали консенсусные начала. В итоге в
глазах остального мира Великобритания в то время представала
символом благополучия и прогресса.
Важнейшей составляющей английского могущества являлась
огромная колониальная империя. Но именно ее бурное расшире¬
ние породило первые трещины в этом внешнем процветании. Чем
же это было вызвано? Английские предприниматели и финансис¬
ты уже довольно давно предпочитали вкладывать деньги в коло¬
нии, ибо там норма прибыли была значительно выше, чем в мет¬
рополии. В то же время развитие новых отраслей промышленнос¬
ти, необходимость модернизации традиционных производств в
самой Англии требовали все более солидных финансовых влива¬
ний. Без них английской промышленности становилось все труд¬
нее выдерживать конкуренцию иностранных товаров. Классичес¬
кая либеральная идеология, делавшая ставку на то, что рыночная
конкуренция сама, без всякого вмешательства извне, настроит на
нужный лад огромный, все усложнявшийся экономический орга¬
низм, явйо не приносила ожидаемых результатов. Перед могуще¬
ственнейшей державой начали возникать трудноразрешимые про¬
блемы. В обществе, прежде всего в его интеллектуальной элите,
началось брожение. Все чаще стали раздаваться голоса: так ли уж
разумны и рациональны все стороны английской модели обще¬
ственного устройства?
В 1881 г. группа радикальных интеллигентов во главе с Гайд-
маном создала Демократическую федерацию, преобразованную в
1884 г. в Социал-демократическую федерацию. Если в политичес¬
ком плане ее влияние было невелико, то в идейном плане ее появ¬
ление было достаточно симптоматично: у либеральной идеологии
появился потенциальный конкурент, совсем по-иному оценивав¬
ший состояние и перспективы развития английского общества.
Сторонники Гайдмана решительно поставили под сомнение крае¬
угольный тезис либеральной идеологии о невмешательстве госу¬
дарства в сферу социально-экономических отношений.
Классический либерализм критиковали не только сторонни¬
ки социалистических идей — это не удивительно. У него появи¬
лись оппоненты и в среде тех, кто еще недавно считал, что либе¬
ральная идеология является панацеей от всех проблем, порожден¬
ных нерегулируемым буржуазным прогрессом. В1884 г. в Англии
было создано Фабианское общество, куда вошел почти весь цвет
английских интеллектуалов тех лет — Б. Шоу, Г. Уэллс, супруги
С. и Б. Вэбб и др. Хотя они и называли себя сторонниками обнов¬
ленной, освобожденной от крайностей марксизма социалистичес¬
кой идеологии, на деле они скорее являлись провозвестниками
нового Либерализма, отвергавшего идеи невмешательства государ¬
ства в социально-экономические отношения, отстаивавшего тезис
о необходимости активного государственного регулирования всей
этой сферы в интересах всего общества (а не только собственни¬
ков), утверждавшего, что целью государства должно являться до¬
стижение «общественного блага». Но при этом они отстаивали
либеральный постулат о том, что добиваться всего этого надо ре¬
формистскими методами, не нарушая эволюционного характера
развития английского общества.
Разочарование в возможностях классического либерализма
затронуло не только интеллектуальную элиту Англии. Широкие
слои населения, прежде всего те, кто был занят в промышленнос¬
ти, быстро почувствовали, что прежняя практика сотрудничества
профсоюзов и предпринимателей перестала обеспечивать то каче¬
ство жизни, к которому английские рабочие уже привыкли. Не
удивительно, что в профсоюзном движении также началось пере¬
осмысление ценностей. Там все громче стали звучать голоса тех,
кто настаивал на корректировке прежней тактики тред-юнионов.
В 80-е годы XIX в. в Англии появились т.н. «новые тред-юни¬
оны», добивавшиеся вовлечения в профсоюзы максимально ши¬
рокого круга рабочих вне зависимости от уровня их квалифика¬
175
ции. Однако при таком подходе лидерам новых профсоюзов неиз¬
бежно приходилось занимать гораздо более жесткую позицию в
отношении выбора методов борьбы за свои права. Прежняя линия
на достижение полюбовного соглашения с предпринимателями в
новых условиях перестала приносить приемлемые для профсою¬
зов результаты, ибо возможности ее проведения резко сузились:
замедление темпов роста собственно английской промышленнос¬
ти вело к тому, что у деловых кругов Британии подчас уже просто
не хватало средств для удовлетворения растущих требований
профсоюзов, численность которых неуклонно увеличивалась. А
это предопределяло эскалацию конфликта в сфере трудовых от¬
ношений.
По мере роста напряженности в данной области, увеличения
масштабов конфликта становилось все очевиднее, что государство
не могло устраняться от попыток его регулирования, сводить всю
свою политику к чисто репрессивным мерам, направленным на
подавление выступлений трудящихся. Односторонняя ориентация
государства на интересы предпринимателей лишь подпитывала
радикальные настроения в рабочей среде, усиливала позиции тех,
кто полагал, что в рамках существовавшей политической систе¬
мы кардинально улучшить положение лиц наемного труда невоз¬
можно. Не случайно в конце 80-х — начале 90-х годов все боль¬
шей популярностью в Англии стала пользоваться идея создания
независимой рабочей партии. Ее формирование завершилось уже
в начале XX века, когда в 1906 г. в Англии появилась новая
партия — лейбористская (рабочая). Однако сама постановка воп¬
роса о необходимости ее организации свидетельствовала о том, что
классический либерализм дал серьезный сбой: он не сумел полно¬
стью подчинить своему идейному влиянию рабочее движение. В
связи с этим в конце XIX — начале XX вв. весьма остро встали два
взаимосвязанных вопроса: сможет ли правящая элита найти дей¬
ственные рецепты поддержания социальной стабильности в обще¬
стве в новой обстановке и какая линия — на реформирование об¬
щества или его радикальное переустройство — возобладает в ра¬
бочем движении.
Решение этих фундаментальных для судеб Великобритании
вопросов осложнялось рядом обстоятельств. Прежде всего, весь
политический ландшафт страны в 80-е годы, т.е. именно тогда,
когда классический либерализм стал давать первые сбои, серьез¬
но осложняла ирландская проблема, точнее говоря новое обостре¬
ние этой старой болезни. Умеренное крыло ирландского нацио¬
нально-освободительного движения во главе с Ч. Парнеллом ак¬
тивно лоббировало в это время идею гомруля (самоуправления) для
Ирландии.
176
Вернувшееся в 1880 г. к власти правительство У. Гладстона,
боясь обвинений в подрыве империи (по канонам 80-х годов это
был смертельный грех для любого английского политика), пона¬
чалу попыталось силовыми методами добиться умиротворения
Ирландии. Был принят закон «О защите личности и собственнос¬
ти в Ирландии», дававший полиции исключительно широкие пол¬
номочия, по существу вводивший на острове режим чрезвычай¬
ного положения. Ч. Парнелл, являвшийся в то время членом пар¬
ламента, был тем не менее арестован, а деятельность радикальных
ирландских организаций запрещена. Однако все это вызвало липщ
рост масштабов сопротивления ирландцев.
Понимая, что Ирландия приближается к взрывоопасной чер¬
те, Гладстон решил пересмотреть тактику либералов в этом воп¬
росе. Он осуществил частичную ревизию аграрных отношений в
этой части империи, отказавшись от принципов невмешательства
государства в эту сферу, отдававших ее полностью на откуп лен¬
длордам, перейдя к практике государственного регулирования
купли-продажи земли. В 1882 г. по Килменхейскому соглаше¬
нию, заключенному английским правительством с Ирландской
парламентской партией, на острове отменялось чрезвычайное по¬
ложение, ликвидировались недоимки крестьян (для этого им пре¬
доставлялась государственная помощь), объявлялась амнистия
всем арестованным за участие в акциях протеста. Руководство
ИПП, в свою очередь, обещало действовать сугубо легальными
методами.
В это же время Гладстон начинает добиваться проведения тре¬
тьей избирательной реформы, причем предлагает распространить
ее и на Ирландию. Консерваторы, наученные опытом борьбы за
вторую избирательную реформу, на сей раз не стали сопротивлять¬
ся ее принятию. Теперь и консервативная часть политической эли¬
ты Британии осознала, что расширение числа лиц, имевших пра¬
во участвовать в избирательном процессе, не только не подрывает
устои существующего правопорядка, но, наоборот, консолидиру¬
ет его, придает ему большую легитимность. Альянс консервато¬
ров и либералов в этом вопросе позволил избежать проволочек с
принятием билля о реформе избирательной системы.
Ободренный этим успехом, Гладстон решил закрепить его,
поддержав идею введения гомруля для Ирландии. Однако здесь
он натолкнулся на ожесточеннейшее сопротивление не только
консерваторов, но и многих либералов. Относительно частный
вопрос о предоставлении Ирландии самоуправления в ходе деба¬
тов превратился в принципиальный — о методах управления ог¬
ромной, крайне разнородной Британской империей. И опять-таки
альтернатива формулировалась так: реформы или репрессии?
177
В ходе этих дебатов в английском обществе возник один из
самых серьезных в XIX в. расколов. Кризис разразился летом
1885 г., когда консерваторы, поддержанные депутатами от ИПП,
свалили правительство Гладстона. На состоявшихся в декабре
1885 г. выборах наибольшее число мест (335) получили либералы,
консерваторам досталось 249 мандатов, и 86 мест было завоевано
сторонниками ИПП. В сложившейся ситуации судьба парламент¬
ского большинства зависела именно от этой последней фракции,
точнее от того, кого она решит поддержать. Цена этой поддержки
была известна — принятие акта о гомруле.
Стремясь привлечь ИПП на свою сторону, Гладстон заявил об
одобрении идеи гомруля. Однако это вызвало открытый раскол в
его собственной партии. Группа депутатов-либералов (93 челове¬
ка), возглавляемая Дж. Чемберленом, отказалась поддержать
план Гладстона, выступив за сохранение прежнего модуса взаи¬
моотношений Англии с Ирландией. Аргументируя свою позицию,
Чемберлен заявил: «Гомруль ведет не к самоуправлению, а к от¬
делению» . Иными словами, он и его сторонники боялись, что пре¬
доставление Ирландии самоуправления стимулирует эрозийные
процессы в организме империи.
Раскол правящей партии предопределил неизбежность прове¬
дения досрочных парламентских выборов, которые состоялись в
1886 г. и принесли победу консерваторам. К власти пришло пра¬
вительство Роберта Солсбери. Новый премьер (Солсбери занимал
этот пост в 1886-1892 гг. и в 1895-1902 гг.) постарался перенести
акценты в политической борьбе с таких взрывоопасных сюжетов,
как ирландский вопрос и широкий круг социально-политических
проблем, на перспективы развития британской колониальной
империи. В ходе обсуждения этого вопроса консерваторы рассчи¬
тывали сформировать «новый общенациональный консенсус» и
избавить страну от потрясений, сопровождавших ее переход в но¬
вую фазу развития.
Этим расчетам не суждено было сбыться. Уйти от вопроса о
необходимости модернизации тех программно-целевых установок,
которыми на протяжении XIX в. руководствовалась политичес¬
кая элита Англии, было невозможно. Попытки замолчать эту про¬
блему лишь усугубляли ситуацию, осложняли поиски выхода из
непростого положения, в которое к концу века попала страна. Об¬
становка осложнялась еще и тем, что классическая либеральная
идеология, служившая в XIX в. основой для выработки важней¬
ших политических решений, в новых условиях оказалась не гото¬
вой дать адекватные ответы на поставленные жизнью вопросы.
Сможет ли либеральная идеология разработать рецепты решения
тех проблем, которые вышли на повестку дня в связи с вступлени¬
178
ем Англии в новую стадию развития? От этого во многом зависели
перспективы продолжения движения английского общества по
эволюционному пути развития.
§ 3. Воздействие «катастрофы
1870 года» на французскую модель
перехода к индустриальному обществу
Попытки реанимации Империи и былого величия Франции,
предпринятые Наполеоном III в 50-60-е годы XIX в., закончились
для страны весьма плачевно. Увлекшись колониальными авантю¬
рами, правящие круги Франции, прежде всего сам Наполеон III,
явно недооценили опасные перемены, происходившие в центре
Европы, где Пруссия шаг за шагом приближалась к заветной
цели -**- созданию под своей эгидой единого немецкого государства.
Когда в Париже наконец осознали масштабы нависшей над стра¬
ной угрозы, было уже поздно. В результате неизбежное столкно¬
вение с Пруссией проходило по сценарию, разработанному Бис¬
марком и отвечавшему интересам Германии. Наполеон III ничего
не сумел противопоставить его планам ни на дипломатическом
поприще, ни в военном отношении.
Франко-прусская война завершилась полным разгромом
Франции. Все разговоры о ее величии на поверку оказались бле¬
фом. Военная катастрофа наглядно продемонстрировала многочис¬
ленные изъяны политической системы Франции. Не удивитель¬
но, что она в одночасье рухнула, и перед французским обществом
встали два взаимосвязанных вопроса: как ликвидировать тяже¬
лейшие последствия «военной катастрофы 1870 г.» и какую фор¬
му государственного устройства избрать после краха Империи.
После того как в 1873 г. немецкие войска были выведены с
территории Франции, Национальное собрание, в котором боль¬
шинство принадлежало различным группировкам монархистов,
избрало президентом страны маршала Мак-Магона, известного
противника любых проявлений республиканизма. Сложилась па¬
радоксальная ситуация. Во властных структурах преобладали сто¬
ронники монархической идеи, однако в обществе в целом она была
серьезнейшим образом дискредитирована, и не считаться с этим
было невозможно. После событий, связанных с Парижской ком¬
муной, игнорировать настроения, популярные в обществе, было
бы слишком рискованно. Тем не менее угроза про-монархическо-
го государственного переворота в первой половине 70-х годов
XIX в. была вполне реальной. Она особенно возросла, когда две
промонархические группировки легитимисты и орлеанисты —
179
достигли соглашения по вопросу о кандидатуре на престол. Пред¬
полагалось, что в случае удачи королем под именем Генриха V ста¬
нет граф Шамбор. Правда, в самый последний момент он отказал¬
ся возглавить переворот, и, таким образом, на планах монархис¬
тов можно было поставить крест.
В этой ситуации Национальному собранию пришлось интен¬
сифицировать работу по подготовке новой Конституции. Она со¬
стояла из трех конституционных актов, последний из которых был
принят в июне 1875 г. Главой исполнительной власти согласно
новой Конституции являлся президент, избираемый парламентом
на семь лет. Он председательствовал на заседаниях Совета мини¬
стров, имел право распускать Палату депутатов, в его распоряже¬
нии находились вооруженные силы, он представлял страну на
международной арене. Законодательная власть принадлежала
двухпалатному парламенту — Сенату и Палате депутатов. Члены
Сената частично назначались, частично избирались сроком на де¬
вять лет коллегией, состоявшей из представителей муниципаль¬
ных советов. Именно Сенату принадлежало право окончательно¬
го утверждения бюджета, и именно он мог ставить вопрос о дове¬
рии правительству. Палата депутатов избиралась сроком на четы¬
ре года путем всеобщего голосования лиц, достигших 21 года (кро¬
ме женщин и военнослужащих).
На этой основе в 1876 г. были проведены выборы в парламент.
Сенат по-прежнему остался в руках монархистов, а вот Палата
депутатов оказалась под контролем республиканцев. Правда, сре¬
ди них, как, впрочем, и среди монархистов, не было единства. В
их лагере выделялось три группировки. Фракцию умеренных рес¬
публиканцев возглавлял Л. Тьер. На левом фланге выделялись
две фракции, которые возглавляли соответственно Ж. Ферри и
Л. Гамбетта.
Такой сложный расклад сил во властных структурах предоп¬
ределил сохранение высокой политической напряженности в стра¬
не и содержал в себе зародыш неизбежного конфликта, ибо диапа¬
зон расхождений по большинству кардинальных вопросов у про¬
тивоборствующих сил был слишком велик для того, чтобы было
возможно выработать компромиссный вариант их разрешения.
Столкновение различных политических сил не заставило себя
ждать. Во Франции со времен Великой французской революции
остро стоял вопрос о роли католической церкви в жизни общества,
в частности в сфере образования. В 1877 г. Палата депутатов при¬
няла резолюцию, обязывавшую правительство подавлять клери¬
кальную агитацию. В ответ президент распустить Палату депута¬
тов и назначил новые выборы. Однако они принесли убедитель¬
ную победу республиканцам.
180
В этой ситуации Мак-Магон сделал ставку на подготовку во¬
енного переворота. Второй раз за короткий период Франция ока¬
залась на грани выхода за рамки легитимного политического про¬
цесса. И это весьма симптоматично. Если в Великобритании и
США сама идея государственного переворота выглядела абсолют¬
но аномальной, то для Франции XIX в. подобная постановка воп¬
роса была вполне типична и естественна. Несмотря на многочис¬
ленные революции, процесс становления гражданского общества
в этой стране явно отставал от английской и американской моде¬
ли. Вероятно, это объясняется тем, что эволюционный вариант
развития, позволяющий избегать разрывов исторического време¬
ни, обеспечивающий большую преемственность, укрепляет в об¬
ществе правовые начала, консолидирует его, прививает граждан¬
ские навыки самоорганизации и самоуправления.
Замыслам Мак-Магона не суждено было сбыться. Они не на¬
шли поддержки в армии. Убедившись в нереальности своих пла¬
нов, Мак-Магон подал в отставку. Новым президентом был избран
сторонник республиканского строя Ж. Греви, что способствовало
укреплению республиканских начал в жизни французского обще¬
ства и заметно снизило вероятность срыва страны с республикан¬
ской платформы.
Возможности монархистов к концу 70-х годов XIX в. сокра¬
тились в силу того, что во Франции, как и в других странах конти¬
нентальной Европы, набирало размах рабочее движение, причем
все большую роль в нем начинали играть социалисты. В 1880 г. во
Франции была создана социалистическая партия, численность и
влияние которой стали быстро расти. Это меняло общую палитру
политической жизни Франции. Вместо альтернативы — респуб¬
лика или монархия — перед французским обществом замаячила
совсем иная перспектива. Социалисты тех лет жестко ставили воп¬
рос о коренном переустройстве общества на принципиально иных
началах. Такое развитие событий, естественно, не устраивало соб¬
ственников всех рангов, которые в сложившейся ситуации гото¬
вы были забыть прежние споры и объединиться ради противосто¬
яния новым вызовам.
Однако такое единение было весьма относительным, ибо в ста¬
не оппонентов социалистической идеи существовали значитель¬
ные разногласия. Во Франции, так же как и в других ведущих стра¬
нах, в это время начался процесс монополизации. Она шла не та¬
кими быстрыми темпами, как в США или Германии, и тем не ме¬
нее в последней четверти XIX в. во Франции сложились весьма
влиятельные финансовые группировки, подчинившие себе важ¬
нейшие отрасли промышленности. Используя свое влияние во
властных структурах, они, как и в других странах, стремились
181
навязать свои правила игры всем остальным предпринимателям,
добивались того, чтобы все звенья политической системы обслу¬
живали прежде всего их интересы.
Это не устраивало не только трудящихся, но и мелкую буржу¬
азию и заметно окрепший средний класс. Они, наоборот, были за¬
интересованы в максимальной демократизации экономической и
политической жизни. Под давлением этих сил в 1879-1880 гг.
правительство демонстративно одобрило ряд мер демократичес¬
кого плана: день взятия Бастилии был объявлен национальным
праздником, «Марсельеза» стала государственным гимном, в стра¬
не была запрещена деятельность иезуитов, ц среднее образование
стало носить светский характер.
Хотя эти шаги не изменили основополагающих параметров ни
политической системы, ни тем более общества в целом, они выз¬
вали определенный всплеск политических страстей, получивших
выход в ходе избирательной кампании 1881 г. Она принесла побе¬
ду Республиканскому союзу во главе с Л. Гамбеттой. Окрыленные
успехом, республиканцы попытались изменить некоторые поло¬
жения Конституции, в частности упразднить институт пожизнен¬
ных сенаторов и ввести выборность мэров. В разгар этой борьбы
Гамбетта умер, и премьером стал Ж. Ферри. Не возражая против
внесения в Конституцию изменений, укрепляющих республикан¬
ский характер государственного строя Франции, он в то же время
полагал, что власти должны занимать более жесткую позицию в
отношении социалистов и анархистов. Такие колебания прави¬
тельства свидетельствовали, что политическая система Франции
по-прежнему неустойчива, в ней не сложилось прочного блока сил,
способного консолидировать ев, придать стабильность и предска¬
зуемость.
Состоявшиеся в 1885 г. очередные президентские выборы в
этом плане мало что изменили. На эту должность был переизбран
Ж. Греви, фигура недостаточно яркая для того, чтобы консолиди¬
ровать фрагментированное общество. Зато в конце 80-х годов
XIX В. в политической жизни Франции возникла личность, спо¬
собная взорвать еще не устоявшуюся структуру Третьей респуб¬
лики. Речь идет о военном министре, генерале Жорже Буланже.
Апеллируя к чувству попранного национального достоинства
французов, он начал активно разыгрывать антигерманскую кар¬
ту — в многочисленных выступлениях обрушивался с яростными
нападками на Германию, призывая к отмщению за «катастрофу
1870 г.». Затрагивая болезненные струны в душе французов, он
быстро набирал популярность, не заботясь о том, какие внешне¬
политические последствия может иметь его авантюристическая
риторика.
182
Политические амбиции Буланже росли с каждым днем. На
руку ему сыграл разразившийся осенью 1887 г. скандал, связан¬
ный с зятем президента, который, как выяснилось, занимался тор¬
говлей должностями и орденами. В декабре 1887 г. Греви был вы¬
нужден уйти в отставку. Республиканская идея была сильно дис¬
кредитирована. На этой волне вновь активизировались антирес-
публиканские силы. Понимая, что монархическая идея не способ¬
на получить массовую поддержку, они сделали ставку на «силь¬
ную личность», способную привлечь на свою сторону рядовых
французов и одновременно навести в стране жесткий порядок, со¬
здать условия, гарантирующие неприкосновенность собственнос¬
ти. Таким человеком стал Ж. Буланже.
Вокруг него начали группироваться все те, кто был недоволен
существовавшим положением вещей: республиканскими инсти¬
тутами, которые ассоциировались с коррупцией и нестабильнос¬
тью, неэффективной внешней политикой, не обеспечивавшей воз¬
рождения влияния Франции, «попустительством» социалистичес¬
кой агитации и т.д. Новое движение быстро завоевало симпатии
разных по своему положению слоев французов. Буланже всерьез
замахнулся на власть. Во Франции опять возникла угроза госу¬
дарственного переворота. Однако в последний момент новоявлен¬
ный претендент на власть откровенно испугался и, отказавшись
от своих планов, бежал за границу, где чуть позднее покончил
жизнь самоубийством.
Провал планов Буланже вызвал серьезную политическую пе¬
регруппировку во Франции. Определенное отрезвление, наступив¬
шее в обществе после этих событий, способствовало укреплению
позиций умеренных республиканцев. Монархисты и сторонники
авторитарного строя, наоборот, были заметно дискредитированы.
Вскоре после этих событий большинство монархистов официаль¬
но объявили о поддержке республиканцев.
В 1893 г. во Франции проходили очередные парламентские
выборы. И опять они разворачивались на фоне грандиозного скан¬
дала — на этот раз «Панамского», ставшего символом коррупции в
высших эшелонах власти. Тем не менее умеренные республикан¬
цы, ведомые Раймоном Пуанкаре и Луи Барту, политиками нового
поколения, добились весомого успеха, став самой крупной фрак¬
цией в новом составе парламента. На вторую позицию вышли воз¬
главляемые Ж. Клемансо радикалы, активно эксплуатировавшие
'гему реванша. Наконец, весьма внушительно заявили о себе социа¬
листы: они стали третьей по численности фракцией парламента.
Итоги выборов свидетельствовали о том, что французское об¬
щество по-прежнему далеко от консолидации, что его различные
сегменты по-разному представляют себе, каким ценностям долж¬
183
но отдавать приоритет руководство страны. Напряженность в об-
ществе усиливалась из-за того, что в первой половине 90-х годов
XIX в. Францию захлестнула волна террористических актов, орга¬
низованных анархистами. Пик ее пришелся на 1894 г., когда был
убит президент Франции С. Карно. Его место занял Ж. П. Перье,
человек весьма консервативных убеждений. Используя ситуацию,
он провел через парламент закон о подавлении анархистской аги¬
тации, опираясь на который власти развернули кампанию пресле¬
дования всех левых сил. Однако это лишь обострило политичес¬
кое противостояние левых и правых и грозило полностью раско¬
лоть еще не окрепшее гражданское общество.
Опасность курса Перье стала осознавать все большая часть
политической элиты Франции. Под давлением как собственно ле¬
вых, так и умеренных республиканцев президент в 1895 г. был
вынужден уйти в отставку. Но до успокоения общества было еще
далеко. В конце XIX в. Франции пришлось пройти через еще один
серьезный политический кризис, связанный с так называемым
делом Дрейфуса.
В 1894 г. капитан французской армии А. Дрейфус, еврей по
национальности, был обвинен в передаче немцам секретных до¬
кументов. Дело получило большой общественный резонанс, ибо
вскоре стало известно, что в ходе расследования были допущены
серьезные нарушения. Представители еврейской диаспоры утвер¬
ждали, что Дрейфуса обвинили только потому, что он еврей, что
его дело — ярчайшее проявление антисемитизма. Их поддержали
видные писатели, журналисты, ряд политиков демократической
ориентации. Благодаря их активности дело Дрейфуса быстро выш¬
ло за рамки обычного судебного процесса. По их мнению, оно пре¬
вратилось в тест, призванный дать ответ на вопрос о том, есть ли
во Франции демократия.
Борьба за пересмотр дела Дрейфуса продолжалась несколько
лет. В разгар этих событий умер президент Франции Ф. Фор. Но¬
вым президентом страны стал Э. Лубе — сторонник пересмотра
дела Дрейфуса. Во время похорон Фора произошли крупные бес¬
порядки, которые националистические силы попытались исполь¬
зовать для осуществления государственного переворота. Эта по¬
пытка провалилась. Однако политической элите Франции стало
ясно, что необходимо искать способы укрепления консенсусных
начал в обществе, иначе страну ожидают тяжелые испытания.
Летом 1899 г. было создано «правительство республиканской
защиты» во главе с В. Руссо. Оно сразу же провело ряд мер, на¬
правленных на то, чтобы снизить накал политических страстей:
Дрейфус был амнистирован, было принято решение об узакони¬
вании 11-часового рабочего дня.
184
Но, пожалуй, наиболее важным, своего рода знаковым стал
сам состав нового кабинета министров. Он, по замыслу его твор¬
цов, должен был символизировать единение всех французов. Имен¬
но эту идею подчеркивало включение в его состав двух, казалось
бы, абсолютно несовместимых людей, находившихся на крайних
флангах политического спектра. Военным министром был назна¬
чен генерал Галифе, известный тем, что потопил в крови Парижс¬
кую коммуну и продолжавший исповедовать крайне консерватив¬
ные взгляды. В это же правительство впервые в истории вошел в
качестве министра торговли и промышленности один из лидеров
независимых социалистов А. Мильеран. Это событие осталось в
истории под названием «казус Мильерана» и породило длитель¬
ную и острую дискуссию в партиях II Интернационала, суть кото¬
рой сводилась к следующему: в какой мере представителям соци¬
алистических партий целесообразно входить в правительство, ко¬
торое не ими создано и где присутствуют одиозные, с их точки зре¬
ния, фигуры?
В более широком смысле речь шла о том, следует ли полити¬
ческой элите ведущих западных стран добиваться интеграции в
политическую систему хотя бы умеренной части социалистичес¬
кого движения, с одной стороны, и должны ли сами социалисты
стремиться к интеграции в существующую политическую систе¬
му, улучшая (а не ломая) ее изнутри — с другой. Это был во мно¬
гом судьбоносный для будущего западной цивилизации вопрос,
ибо от того, как он будет решаться, зависело, какие тенденции —
консолидирующие или дестабилизирующие — возобладают в ее
развитии. И именно Франция, которая в XIX в. символизировала
собой революционную модель общественного прогресса, стала на
рубеже XIX-XX вв. инициатором процесса, который в XX в. обес¬
печил преимущество эволюционному варианту развития.
§ 4. Особый путь Германской империи
Образование в центре Европы нового крупного государства —
Германской империи — заметно изменило ситуацию на континен¬
те. На первых порах воздействие этих изменений на развитие ев¬
ропейского сообщества проявлялось скорее в скрытой форме, ибо
новому государству, созданному силовыми методами, еще пред¬
стояло доказать свою жизнеспособность и эффективность.
По одобренной в апреле 1871 г. Конституции империя провозг¬
лашалась союзным государством, состоящим из 22 монархий и 3
вольных городов. Федеративные принципы в Основном законе тес¬
но сочетались с институтами унитарного государства. Высшая
185
власть находилась в руках императора, которым мог быть только
прусский король. Законодательная власть принадлежала рейхста¬
гу (парламенту), который избирался мужским населением империи,
достигшим 25-летнего возраста. Заметную роль в иерархии госу¬
дарственных органов играл бундесрат, который формировался из
представителей союзных земель, причем из 58 мест в этом органе
17 принадлежало Пруссии, а для изменения Конституции необхо¬
димо было получить согласие как минимум 44 членов бундесрата.
При таком раскладе без санкции Пруссии изменить существовав¬
шую политическую систему было невозможно. О. Бисмарк, став¬
ший теперь рейхсканцлером, позаботился о том, чтобы надежно га¬
рантировать доминирующие позиции Пруссии в новом государстве.
Практически одновременно с образованием Германской импе¬
рии в Пруссии завершился промышленный переворот. Таким об¬
разом, Германия по сути дела не только синхронно вступила в но¬
вую фазу политического развития, но и осуществила переход в
стадию индустриального общества. Ее политические амбиции сра¬
зу же получили серьезное экономическое обоснование.
Необходимо отметить очень высокие темпы экономического
роста в этой стране. По данному показателю она уступала только
США. Это позволило Германии быстро увеличивать свой удель¬
ный вес в формирующейся системе мирового хозяйства. Особенно
стремительно развивались новые отрасли промышленности. Имен¬
но там и в тяжелой индустрии наиболее отчетливо разворачива¬
лись процессы концентрации производства. Это и не удивитель¬
но, ибо их развитие требовало привлечения крупных финансовых
средств. А это, в свою очередь, вело к формированию сравнитель¬
но небольшого, но весьма влиятельного слоя финансовой олигар¬
хии, контролировавшего ключевые отрасли экономики и сферу
финансов, которая начинала играть все более заметную роль в об¬
щественно-политической жизни страны, усложняя общий расклад
сил в прежней прусской модели.
В последней трети XIX в. ее неотъемлемым атрибутом стала
/ достаточно развитая партийная система, игравшая важную роль
в консолидации нового государства. Именно ее составные компо¬
ненты позволили самым различным социальным силам почувство¬
вать свою сопричастность к совершенствованию социально-поли¬
тических механизмов нового государства. Это было очень важно в
силу того, что империя была создана силовым путем и представи¬
тели отдельных немецких земель, вошедших в нее, должны были
поверить, что это их общий дом. Бисмарк придерживался автори¬
тарного стиля управления, в котором были свои издержки, но они
с лихвой перекрывались тем, что помогали канцлеру в главном —
в цементировании устоев нового государства.
186
В 70-е годы это была задача первостепенной важности. Имен¬
но с этой целью уже в первые годы существования империи была
проведена административная реформа, призванная выстроить чет¬
кую вертикаль власти — от местного уровня до вершины полити¬
ческого Олимпа. Бисмарк прекрасно понимал и значение финан¬
совых институтов в консолидации государства. Центральную роль
здесь был призван сыграть созданный в 1875 г. Имперский банк.
Как и в Пруссии, в Германской империи большое внимание уде¬
лялось развитию вооруженных сил, являвшихся одним из тех ин¬
ститутов, которые определяли лицо государства.
Рейхсканцлер стремился к тому, чтобы новое государство вос¬
приняло основные характеристики «прусской модели». Именно
стремление Бисмарка к унификации всей Германии по образу и
подобию Пруссии породило ряд острых внутриполитических кон¬
фликтов. Прежде всего необходимо сказать о его столкновении с
католической церковью, традиционно игравшей большую роль в
жизни ряда южногерманских земель. Стремясь лишить ее рыча¬
гов воздействия на общественную жизнь, Бисмарк в 1872 г. ли¬
шил католическую церковь права надзора за школьными учреж¬
дениями, запретил священнослужителям вести политическую
агитацию в любой форме и ввел государственный контроль за на¬
значением духовных лиц на ту или иную должность в церковной
иерархии.
Дальнейшее углубление конфликта власти с католической
церковью предотвратило выдвижение на авансцену политической
жизни империи рабочего вопроса, т.е. взаимоотношения власти с
набиравшим размах по мере нарастания темпов индустриализа¬
ции рабочим движением. Само по себе оно не было принципиаль¬
но новым фактором ни в жизни Пруссии, ни в жизни ряда других
немецких земель. Однако с середины 70-х годов XIX в. в нем дос¬
таточно быстро начинает расти влияние сторонников марксизма,
ставившего во главу угла задачу переустройства общества на прин¬
ципиально новых началах. Это не могло не вызвать нарастающее
беспокойство у имперских властей. Оно стало приобретать вполне
реальные очертания после того, как на выборах 1877 г. предста¬
вители созданной в 1875 г. социал-демократической партии Гер¬
мании получили 12 мест в рейхстаге. Вопрос о том, как противо¬
действовать новой политической силе, перешел в практическую
плоскость.
В 1878 г., воспользовавшись покушением на императора,
Бисмарк попытался провести через рейхстаг закон, запрещавший
деятельность всех левых партий. Однако большинство депутатов
отказалось поддержать правительственный законопроект. Не ус¬
пели стихнуть дебаты цо доводу этого предложения, как про¬
187
изошло новое покушение на императора. В ответ власти распус¬
тили рейхстаг и добились избрания нового, гораздо более лояль¬
ного Бисмарку состава парламента, который со второй попытки
одобрил правительственную инициативу. Согласно «закону про¬
тив социалистов», все политические организации левого толка
были запрещены и их печатные издания закрыты. Принятие это¬
го акта говорило о том, что Бисмарк избрал чисто репрессивный
путь борьбы со своими радикальными оппонентами, и, чтобы
избежать конфронтации сразу с двумя силами — католической
церковью и социалистами, канцлер отказался от эскалации кон¬
фликта с церковью.
Сосредоточив усилия на борьбе с левыми, Бисмарк поначалу
добился определенных успехов. ЦК социал-демократической
партии объявил о своем самороспуске. Однако уже в 1880 г. в
Швейцарии состоялся восстановительный съезд, на котором было
заявлено: «Партия будет добиваться своих целей всеми имеющи¬
мися в ее распоряжении средствами». Таким образом, Бисмарк
помимо своей воли способствовал резкой радикализации круп¬
нейшей рабочей партии. Ему становилось очевидным, что толь¬
ко методами репрессий он не сможет взять под контроль ситуа¬
цию в рабочем движении, а без хотя бы частичной интеграции
профессиональных и политических организаций рабочего клас^
са рассчитывать на стабильное, поступательное развитие обще¬
ства не приходится. Обеспечение одновременно стабильности и
динамизма немецкого общества было крайне необходимо Бисмар¬
ку и для решения крупномасштабных внешнеполитических за¬
дач — создания под эгидой Германии военно-политического бло¬
ка в Европе, способного обеспечить ей ведущее место в европейс¬
ких делах, а в перспективе выстроить прочный плацдарм в борь¬
бе за мировое лидерство.
Именно поэтому уже в первой половине 80-х годов XIX в. Бис¬
марк меняет тактику в отношении рабочего движения — от чисто
репрессивной практики он переходит к конструктивной позитив¬
ной государственной рабочей политике, призванной убедить тру¬
дящихся в том, что государство, а не социал-демократы решат их
проблемы. В 1883 г. был принят закон «Об обязательном страхо¬
вании по болезни», через год — «О страховании от несчастных
случаев», а в 1889 г. — «О пенсиях по старости и инвалидности».
Было заметно либерализовано отношение к профсоюзам и соци¬
ал-демократам, постепенно возвращавшимся к участию в легитим¬
ном политическом процессе. Так уже в 80-е годы XIX в. в Герма¬
нии были заложены основы новой политики государства, нацелен¬
ной на интеграцию рабочего движения в политическую систему
буржуазного общества.
188
Вместе с тем Бисмарк исходил из того, что для консолидации
общества вокруг власти последняя должна постоянно находить не
только внешнего, но и внутреннего врага, угрожавшего традици¬
онным ценностям, а следовательно, общественному благу. Снача¬
ла это была католическая церковь, потом социал-демократы и во¬
обще левые, в конце 80-х годов на эту роль выдвинулась польская
диаспора, проживавшая в империи. Началась активная кампания
по выдавливанию поляков из Германии и их насильственной гер¬
манизации.
Масштабные стратегические планы Бисмарка прервала смерть
в 1888 г. императора Вильгельма I, безоговорочно доверявшего
своему «железному канцлеру». После короткого (трехмесячного)
царствования Фридриха III на престол взошел молодой, крайне
амбициозный и экспансивный Вильгельм II. Он сразу же дал по¬
нять Бисмарку, что отныне править будет он, а канцлер будет про¬
сто претворять его волю в конкретные дела. Очень быстро выяс¬
нилось, что по ряду ключевых вопросов — проблемам колониаль¬
ной экспансии, приоритетам в области военного строительства, от¬
ношению к рабочему движению и т.д. — их взгляды существенно
различаются. Отношения между императором и канцлером обо¬
стрились до предела, и в 1890 г. Бисмарк был вынужден уйти в
отставку.
Так закончилась «эпоха Бисмарка», в ходе которой была ре¬
шена важнейшая для всей Германии задача: произошло объеди¬
нение немецких земель в единое государство. Важно подчеркнуть,
что этот выдающийся политический деятель сумел перенести ос¬
новные характеристики «прусской модели» общественного разви¬
тия (высокая степень государственного патернализма в отноше¬
нии экономики, особый тип аграрных отношений, исключитель¬
но большая роль армии и госчиновников в жизни общества и т.д.)
на общегерманское государство. Пруссия, ставшая ядром Герман¬
ской империи, несмотря на качественно новую ситуацию, по-пре¬
жнему шла вперед своим, особым путем, не копируя иные модели
общественного развития.
После отставки Бисмарка новым канцлером стал генерал
Л. фон Каприви. Правда, пробыл он на этом посту всего 4 года, про¬
должая курс на интеграцию рабочего движения в рамки существо¬
вавшей модели общественного развития. В 1891 г. был запрещен
детский труд на предприятиях и одобрен закон об 11-часовом ра¬
бочем дне, окончательно отменены все положения законов против
социалистов.
Это оказывало противоречивое воздействие на характер взаи¬
моотношений власти с левым флангом политического спектра Гер¬
мании. С одной стороны, уже в 1891 г. на Эрфуртском съезде со-
189
циал-демократов из их программы были выброшены многие ра¬
дикальные положения, связанные прежде всего с идеей револю¬
ционной ломки существовавших общественных отношений. Вме¬
сто этого в их программе появился пункт о возможности мирного
врастания элементов социалистического уклада в капитализм. Это
был принципиально важный момент в сложном и длительном про¬
цессе трансформации западной социал-демократии: от радикаль¬
но-революционных программно-целевых установок — к относи¬
тельно умеренным требованиям, нацеленным на постепенную эво¬
люцию существующего строя. Таким образом, социал-демократы
из силы, стоящей вне политической системы буржуазного обще¬
ства, превращались в компонент, постепенно интегрирующийся
в нее, действующий уже не извне, а изнутри, не разрушающий ее,
а модернизирующий. Это был значительный успех политической
элиты Германии.
Правда, за него приходилось платить — ставить в повестку дня
вопросы, поднимаемые социал-демократами, мириться с деятель¬
ностью их быстро растущей фракции в рейхстаге. После выборов
1893 г. она стала насчитывать 44 депутата. И это, естественно,
вызывало недовольство консервативной части германского обще¬
ства. Ее раздражало не только совершенно ненужное, по ее мне¬
нию, заигрывание с социал-демократами и профсоюзами, но и об¬
щая линия правительства в сфере социально-экономических от¬
ношений. Явно «социалистической» мерой в глазах консервато¬
ров выглядело введение в начале 90-х годов XIX в. прогрессивно¬
подоходной системы налогообложения. Каприви пошел на серь¬
езную корректировку внешнеполитической линии Германии:
было принято решение о снижении пошлин на ввозимую в страну
сельскохозяйственную продукцию, что вызвало взрыв возмуще¬
ния не только в сфере юнкерства, но и всего аграрного сектора об¬
щества. Аграрная Германия перешла в жесткую оппозицию к кан¬
цлеру. Учитывая политический вес, которое имело в Германии
юнкерство, нетрудно понять, что судьба Каприви была предреше¬
на — в 1894 г. он ушел в отставку.
Его место занял принц Гогенлоэ, остававшийся на этом посту
до 1900 г. При нем в центр политической жизни выдвигаются воп¬
росы внешней экспансии. Так же как и другие великие державы,
Германия в этот период начинает тесно увязывать перспективы
своего прогресса с экспансией, с борьбой за лидерство уже не про¬
сто в европейском, но в мировом масштабе. Эти идеи практически
полностью овладели умами политической элиты Германии. Ис¬
ключительно высокую активность демонстрировал в это время
Пангерманский союз, созданный специально для пропаганды этих
планов. В его деятельности участвовали министр иностранных дел
190
Б. фон Бюлов, один из руководителей вооруженных сил Германии
А. фон Шлиффен, адмирал А. фонТирпиц, крупнейший немецкий
философ Ф. Ницше и многие другие известные в Германии поли¬
тики, финансисты, ученые. Пангерманскому союзу покровитель¬
ствовал сам император.
Союз оказывал большое влияние на весь идейно-политический
климат Германии. Именно в это время закладывались основы пред¬
ставлений о высшей арийской расе, которой якобы суждено пост¬
роить «новый мировой порядок». Со страниц научных работ эти
идеи быстро перекочевали в платформы политических партий,
получили отражение в программно-целевых установках, которы¬
ми руководствовалось в своей деятельности немецкое государство.
Именно с таким багажом Германская империя вступила в XX в.
ГЛАВА IX
Международные отношения в последней
трети XIX в.
§ 1. Восточный вопрос и проблемы
колониальной экспансии
Пока европейская политическая элита осмысливала новые
реалии, возникшие после франко-прусской войны и образования
в центре Европы мощной и агрессивной Германской империи, явно
претендующей на лидерство в делах всего континента, вновь обо¬
стрилась обстановка на Балканах. Поводом для этого стало вос¬
стание населения Герцеговины против османского ига. Это собы¬
тие явилось отражением роста национально-освободительного дви¬
жения на Балканах, стремления народов этого региона создать соб¬
ственные независимые государства. Ведущие европейские держа¬
вы должны были решить, как реагировать на эту тенденцию.
События в Герцеговине на начальной стадии конфликта мог¬
ли развиваться по нескольким сценариям. На эту территорию дав¬
но нацеливалась Австро-Венгрия, стремившаяся за счет ее присо¬
единения укрепить свои позиции на Балканах. Возможно было
создание там независимого государства или предоставление Гер¬
цеговине автономии в составе Османской империи. Наконец, не
исключался и ее раздел между Австро-Венгрией, Сербией и Чер¬
ногорией. Англия, обеспокоенная развитием событий на Балка¬
нах, всячески пыталась уговорить султана Абдул-Хамида II на про¬
ведение реформ, чтобы таким образом снять остроту кризиса. В
1876 г. была принята Конституция. Однако просуществовала она
недолго. Правящие верхи Османской империи по-прежнему пред¬
почитали делать ставку на репрессии в отношениях с населением
балканских провинций. В результате, помимо Герцеговины, вос¬
стание вспыхнуло и в Болгарии.
192
После поражения в Крымской войне Россия вынуждена была
заметно снизить свою внешнеполитическую активность. С другой
стороны, ее руководство не могла не тревожить экспансия Авст¬
ро-Венгрии и Англии на Балканах и в Восточном Средиземномо¬
рье. Русское правительство должно было считаться с развернув¬
шейся в стране мощной кампанией в поддержку борьбы южносла¬
вянских народов за независимость. В это время в России как ни¬
когда были популярны идеи славянской солидарности, единения
всех православных славян вокруг естественного объединительно¬
го центра, каким в глазах общественного мнения выступала наша
страна. Идеи панславизма активно пропагандировали такие изве¬
стные общественные деятели, крупнейшие представители русской
культуры, как Ф. М. Достоевский, И. С. Аксаков, генерал
М. Г. Черняев и др. Их поддерживали как рядовые жители Рос¬
сийской империи, так и многие лица, относившиеся к политичес¬
кой и военной элите. И хотя в стране еще не была завершена воен¬
ная реформа, хотя дипломатические позиции России оставляли
желать лучшего, общественное мнение жестко настаивало на том,
что необходимо немедленное военное вмешательство в разгорев¬
шийся на Балканах конфликт.
После долгих колебаний Россия сочла необходимым вмешать¬
ся в события на Балканах. В апреле 1877 г. началась русско-ту¬
рецкая война. В ряде крупных сражений турецкая армия была
разбита, и русские войска в январе 1878 г. подошли вплотную к
Стамбулу. Теоретически они могли спокойно взять столицу Осман¬
ской империи, но было очевидно, что в этом случае вероятность
столкновения с Англией становилась очень высокой. В таких ус¬
ловиях русское правительство решило пойти на подписание мира,
что и было сделано 3 марта 1878 г. в местечке Сан-Стефано под
Стамбулом.
Условия его были крайне выгодны для России. Сербия и Ру¬
мыния получали полную независимость. Румыния возвращала
России часть Бессарабии, которая отошла к ней после Крымской
войны. Создавалось новое государство — Болгария. В Азии Рос¬
сия получила Карс, Батум, Ардаган с прилегающими регионами.
Однако Сан-Стефанский мир вызвал резкое недовольство в Анг¬
лии и Австро-Венгрии. В этой ситуации решающее значение при¬
обретала позиция Германской империи, что свидетельствовало об
усилении ее влияния на мировую политику. Германию вполне ус¬
траивала роль арбитра в конфликте великих держав.
По ее предложению в июне 1878 г. в Берлине открылся меж¬
дународный конгресс для обсуждения ситуации. В ходе сложных
переговоров было выработано следующее решение: 1) подтверж¬
далась независимость Болгарии, правда в несколько урезанном
193
виде — Восточная Румелия оставалась на правах автономии в со¬
ставе Османской империи; 2) Босния и Герцеговина оккупирова¬
лись войсками Австро-Венгрии; 3) к Греции присоединялась Фес¬
салия, а Сербия становилась королевством; 4) Россия сохраняла
все территории, присоединенные к ней по Сан-Стефанскому миру;
5) Румыния в качестве компенсации за потерю Бессарабии полу¬
чала Добрудясу; 6) наконец, не участвовавшая в войне Англия при¬
совокупила к своей колониальной империи важный в стратеги¬
ческом отношении остров Кипр.
Берлинский конгресс стал важной вехой в развитии системы
международных отношений. Переговорным путем удалось снять
кризис в русско-британских отношениях, грозивший перерасти в
военное столкновение. Идея европейского единства, или «концер¬
та Европы», получила новый импульс. В Берлине был заполнен
тот вакуум, который остался от Венского конгресса, когда Восточ¬
ный вопрос был обойден молчанием. На Балканах шел интенсив¬
ный процесс создания национальных государств, и им предстоя¬
ло выработать основы взаимоотношений между собой, а также впи¬
саться в европейское сообщество. В решении этого болезненного и
весьма важного для стабильности Европы вопроса все большее
влияние приобретала Германия, которая стала уделять Балканам
и Ближнему Востоку пристальное внимание. Поскольку было оче¬
видным, что Османская империя пребывает в состоянии глубокой
агонии, вопрос о том, в чью сферу влияния попадут ее провинции,
приобретал все большую остроту.
После Берлинского конгресса европейские дела на какое-то
время оказались в тени, ибо в 70-90-е годы все великие державы
были заняты колониальной экспансией.
В связи с открытием в 1869 г. Суэцкого канала, резко изме¬
нившего направление торговых потоков, контроль над Египтом
приобретал исключительное значение. В 1876 г. над финансами
этой страны было установлено англо-французское управление.
Превращение Египта в полуколониальную страну вызвало сопро¬
тивление его населения. В 1882 г. в Александрии вспыхнуло вос¬
стание, которое англичане использовали как предлог для введе¬
ния своих войск на территорию страны. Сделав из Египта свой
плацдарм в Северной Африке и на Ближнем Востоке, Англия ста¬
ла расширять зону своего влияния.
В 80-е годы в английском истеблишменте большую популяр¬
ность получила идея создания сплошной цепи английских владе¬
ний — от южной оконечности Африки до берегов Средиземного
моря. В плане реализации этой стратегической установки боль¬
шое значение приобретало установление контроля над крупней¬
шей водной артерией Африки — Нилом. Именно поэтому в 1884 г.
194
английские войска вторглись в Судан. Однако здесь они совершен¬
но неожиданно для себя столкнулись с ожесточенным сопротив¬
лением и, несмотря на огромное преимущество, надолго увязли
здесь. На завершающей стадии этой затяжной войны, когда ее
итоги были уже предопределены, встал вопрос об уточнении гра¬
ниц английских владений в Судане. И вот здесь у Великобрита¬
нии возник острый конфликт с Францией.
Дело в том, что еще в 1896 г. отряд французских колониаль¬
ных войск под командованием капитана Маршана получил приказ
добраться из Французской Экваториальной Африки до Нила и при¬
соединить эти территории к французским владениям. В 1898 г.
Маршан вышел к Нилу и занял небольшой населенный пункт Фа-
шода, расположенный к югу от административного центра Судана-
г. Хартум. Командующий английскими экспедиционными войска¬
ми генерал Г. Китченер в ультимативной форме потребовал от фран¬
цузов немедленно покинуть эту территорию, ибо она уже являлась
собственностью британской короны. Маршан заявил, что ему об
этом ничего не известно и посему он считает этот район законным
французским владением. Так возник самый серьезный после окон¬
чания наполеоновских войн кризис в отношениях Лондона и Пари¬
жа, вошедший в историю под названием «Фашодский инцидент».
Кризис грозил перерасти в вооруженное столкновение (пусть и на
периферии) двух великих держав. По крайней мере, горячие голо¬
вы в обеих столицах активно обсуждали такую перспективу. Одна¬
ко в последний момент Франция, у которой и без этого было немало
куда более важных проблем, предпочла отступить.
Тем не менее неуклонное укрепление позиций Англии в Вос¬
точном Средиземноморье побудило Францию активизировать свои
действия в Северной Африке. Французы уже давно обосновались
в Алжире. Теперь их взоры обратились на Тунис. В 1881 г. они
взяли под свой контроль эту территорию. Кроме того, еще при
Наполеоне III Франция стремилась закрепиться в Индокитае. В
80-е годы она активизировала свою экспансию в этом регионе. Это,
однако, вызывало все возрастающее беспокойство ее давнего со¬
перника — Англии. Дело в том, что Индокитай являлся стратеги¬
ческим форпостом, опираясь на который Франция могла бороть¬
ся за влияние в южном Китае, оказывать давление на англичан,
обосновавшихся в Сингапуре и на Малайском полуострове и угро¬
жать «жемчужине британской короны» — Индии. Стремясь пе¬
рекрыть пути для дальнейшего расширения французского присут¬
ствия в этом регионе, Англия в 1885 г. захватила Бирму. Что ка¬
сается Таиланда (Сиама), то ему удалось сохранить свою незави¬
симость, выполняя роль буферного государства между английс¬
кими и французскими владениями в Юго-Восточной Азии.
195
Обеспечение безопасности Индии постоянно ставило перед
Англией все новые проблемы. С конца 60-х годов XIX в. заметно
активизировалась политика России в Средней Азии. Три основ¬
ных государства этого региона — Бухара, Хива и Коканд — в пе¬
риод с 1868 по 1876 гг. на разных условиях вошли в состав Рос¬
сийской империи, а в 1884 г. к ней была присоединена и террито¬
рия современной Туркмении. Таким образом, Россия вплотную
приблизилась к северным границам Индии. Продвижение России
на юг стимулировало стремление Англии создать буферное госу¬
дарство между своими владениями в Индии и среднеазиатскими
провинциями Российской империи. Именно в этом контексте сле¬
дует рассматривать ее усилия, направленные на то, чтобы устано¬
вить свой протекторат над Афганистаном.
Наиболее интенсивная колониальная экспансия разворачива¬
лась на африканском континенте. Вплоть до середины XIX века
этот огромный материк в глазах европейцев представлял собой
«белое пятно». Освоены были лишь отдельные анклавы на его по¬
бережье, во внутренние же районы Африки европейцы долгое вре¬
мя не решались проникать. Экспедиции Д. Ливингстона, Г. Стэн¬
ли, Д. Спика, Р. Бертона и других исследователей в середине
XIX в. резко расширили знания европейцев о том, что собою пред¬
ставляет этот материк, какие возможности тдятря на необъятных
просторах Африки.
Наибольшую активность в строительстве своих колониаль¬
ных империй и в разделе Африки на сферы влияния проявляли
Англия и Франция. Объектом французской экспансии стала
прежде всего северо-западная, западная и отчасти центральная
часть континента. Англичане сосредоточились на том, чтобы
выстроить сплошную цепь своих владений от южной оконечнос¬
ти Африки через район Великих озер и далее на север по бассей¬
ну реки Нил до берегов Средиземного моря. В ходе этого процес¬
са несколько раз происходило столкновение интересов двух этих
держав, однако каждый раз наличие огромного массива «свобод¬
ных земель» позволяло найти мирную развязку назревавшего
кризиса.
В разделе Африки принимали участие и другие европейские
государства. Так, Италия захватила Эритрею и часть Сомали. Гер¬
мания начала закрепляться на территорий нынешней Намибии, в
Того и Камеруне, а в 1885 г. немцы вклинились в цепь английс¬
ких владений в Восточной Африке, захватив ее приэкваториаль¬
ную часть. Одновременно Германия активизировала свои действия
на Тихом океане. В том же 1885 г. немцы установили свой конт¬
роль над северо-восточной частью острова Новая Гвинея, где опять-
таки их интересы столкнулись с английскими.
196
Сложные коллизии развернулись вокруг огромных областей
Экваториальной Африки, расположенных в бассейне реки Конго.
Контроль над ними (а к этому стремились и Англия, и Франция, и
Германия) давал очень существенные преимущества той держа¬
ве, которая смогла бы прибрать их к своим рукам. На сей раз приз
был настолько велик, что достигнуть полюбовного соглашения
оказалось очень непросто. Пришлось созывать специальную меж¬
дународную конференцию, которая проходила в Берлине в 1885 г.
Поскольку ни у одного из главных претендентов на владение этой
территорией не хватало сил для реализации своих планов, был
выработан компромисс, согласно которому в центре Африки со¬
здавалось «независимое государство Конго», ставшее фактически
личным доменом короля Бельгии Леопольда. По существу же это
означало, что английский, французский и немецкий капитал мог
в альянсе с бельгийскими компаниями беспрепятственно эксплу¬
атировать огромные природные ресурсы этой страны. В военно¬
политическом плане это решение позволило сохранить равнове¬
сие между великими державами.
Таким образом, к началу 90-х годов XIX в. в целом завершил¬
ся раздел огромного африканского континента. Это вносило опре¬
деленные, достаточно значимые коррективы в общий ход миро¬
вой политики. Прежде всего, завершение этого процесса резко со¬
кратило возможности для маневрирования, ухода от прямых стол¬
кновений на узловых направлениях политики великих держав.
Закономерно, что с 90-х годов XIX в. число международных кри¬
зисов стало быстро нарастать.
В процессе раздела африканского континента наибольших ус¬
пехов добились Англия и Франция. Германия явно проигрывала в
этом соперничестве и чувствовала себя ущемленной. Это, естествен¬
но, добавляло напряженности в общий комплекс межгосударствен¬
ных отношений. Колониальная экспансия привела к тому, что по¬
явилась целая группа государств (Германия, Япония и отчасти
США), недовольных итогами раздела мира и стремившихся к сло¬
му сложившегося статус-кво. Однако до гармонии было далеко и в
отношениях старых колониальных держав, прежде всего Англии
и Франции, стран безусловно преуспевших в строительстве своих
колониальных империй. Не удивительно, что раздел Африки за¬
вершился рядом серьезных столкновений этих держав. Кульмина¬
цией стал уже упоминавшийся «Фашодский инцидент», когда в
верховьях Нила столкнулись два потока колонизации — английс¬
кий и французский. В итоге бурного развития колониальной экс¬
пансии общий характер международных отношений заметно услож¬
нился, в них появились новые сложные проблемы и противоречия,
и общий уровень конфликтности заметно возрос.
197
§ 2. Формирование блоков и начало
борьбы за передел мира
Франко-прусская война, закончившаяся разгромом Фран¬
ции, породила множество проблем. Бисмарк очень скоро понял,
что французское общество никогда не смирится с перенесенным
унижением и будет стремиться к реваншу. Действительно, по¬
чти все политические силы во Франции, за исключением социа¬
листов, были единодушны в желании отплатить Германии за на¬
циональную катастрофу. Бисмарк вынужден был спешить, ибо
Франция активно работала над восстановлением своего потенци¬
ала. В отличие от 1870 г., когда Франция оказалась в изоляции,
теперь все великие державы с большим подозрением следили за
действиями резко усилившейся Германской империи. В этой си¬
туации рейхсканцлер видел выход в том, чтобы внести раскол в
стан великих держав и заручиться поддержкой какой-либо из
них. Иными словами, создать в Европе устойчивый анти фран¬
цузский альянс.
Проблема заключалась в том, кого было бы целесообразно и
реально привлечь к этому союзу. В этом вопросе в правящей элите
Германской империи не было единства. Взоры Бисмарка прежде
всего обратились на Австро-Венгрию. После военного поражения
она во все большей степени вынуждена была идти в фарватере гер¬
манской политики. Его оппоненты справедливо указывали, что
заключение австро-германского союза может стимулировать фран¬
ко-русское сближение и в итоге Германия окажется зажатой в
очень опасные тиски.
Бисмарк, однако, настоял на своем, и в 1879 г. был подписан
союзный договор между Германской империей и Австро-Венгри¬
ей. Надо сказать, что оппоненты Бисмарка были правы. Этим до¬
говором Германия отнюдь не укрепляла свои позиции: она не по¬
лучила никаких дополнительных гарантий своей безопасности,
брала в союзники заведомо более слабое государство, у которого
была масса противоречий с его соседями, увеличивала уровень
конфликтности в своих отношениях с Россией и, главное, подтал¬
кивала ее к сближению с Францией. В результате этого опромет¬
чивого шага напряженность в Европе возросла и был сделан пер¬
вый, но очень важный шаг на пути ее раскола на противоборству¬
ющие блоки.
В 1882 г. к этому альянсу присоединилась Италия, и, таким
образом, Тройственный союз стал реальностью. Это был откровен¬
но агрессивный блок, нацеленный на разрушение сложившегося
статус-кво и установление гегемонии в глобальном масштабе. Вме¬
сто европейского единства определяющей тенденцией развития
198
европейского сообщества стала его поляризация, темпы которой
неуклонно нарастали.
Свою лепту в этот процесс вносила и Франция, особенно ее во¬
енный министр генерал Ж. Буланже. Его крайне резкие выпады
против Германии, призывы любой ценой отомстить ей за униже¬
ние принесли ему большую популярность во Франции.
Бисмарк внимательно наблюдал за развитием событий во
Франции. Экстремистские выпады Буланже были ему на руку: они
позволяли утверждать, что Германия наращивает свои военные
усилия исключительно в оборонительных целях, для того чтобы
обезопасить себя от «воинственных галлов». В Германии был при¬
нят новый военный закон, увеличивающий ассигнования на ар¬
мию и флот. Вместе с тем Бисмарк страшился возникновения вой¬
ны на два фронта — против Франции и России одновременно. В
середине 80-х годов он пришел к выводу о необходимости сбалан¬
сировать свою политику в отношении России, с тем чтобы не до¬
пустить франко-русского сближения.
Летом 1887 г. истекал срок австро-русско-германского дого¬
вора о нейтралитете. Россия, у которой накопилось немало пре¬
тензий к Австро-Венгрии, отказалась реанимировать его в пре¬
жнем виде. Тогда Бисмарк предложил России заключить так на¬
зываемый «перестраховочный договор». Однако наметившаяся
попытка русско-германского сближения, которая могла бы в кор¬
не изменить всю ситуацию в Европе, не получила развития. Бис¬
марк слишком поздно решился на корректировку внешнеполити¬
ческого курса Германии: к этому времени в русско-германских от¬
ношениях уже накопилось немало противоречий, которые препят¬
ствовали сближению двух стран.
* Можно выделить три главных узла этих противоречий. Во-
первых интересы двух стран пришли в серьезное столкновение в
Болгарии. Русская дипломатия полагала, что возникшая при пря¬
мой поддержке России Болгария станет вместе с Сербией ее опло¬
том на Балканах. Однако в Болгарию стремилась проникнуть и
Германия. Балканы занимали в ее внешнеполитических планах
все большее место, и именно поэтому немецкая дипломатия пред¬
принимала активные попытки создать в этом регионе очаги свое¬
го влияния. В 1887 г. при поддержке Берлина на болгарский пре¬
стол был возведен принц Фердинанд Кобургский. С этого момента
внешнеполитическая ориентация Болгарии начинает быстро ме¬
няться. По существу Россия лишилась многих своих позиций на
Балканах, и ее возможности влиять на ситуацию там заметно со¬
кратились. Ясно, что все это вызывало серьезное раздражение в
правящей элите России и не способствовало укреплению русско-
германских контактов.
199
Во-вторых, Россия в это время остро нуждалась в кредитах для
строительства железных дорог, развития новых промышленных
регионов (Донбасса, Южной Украины), модернизации старых.
Однако договориться с немецкими банками о предоставлении
крупных займов не удалось, поскольку в это же время чрезвычай¬
но емкий внутренний рынок Германии требовал постоянных и
массированных финансовых инъекций, сулил высокую отдачу и
работал на увеличение совокупной мощи фатерланда. Естествен¬
но, что в условиях националистической эйфории, которую пере¬
живало в то время немецкое общество, о кредитовании России в
ущерб развитию внутреннего рынка Германии не могло быть и
речи. Зато на потребность России в кредитах моментально отклик¬
нулись финансовая империя Ротшильдов и другие крупные бан¬
ки Франции и Бельгии, и именно с этого момента под наметивше¬
еся франко-русское сближение был подведен солидный экономи¬
ческий фундамент.
В-третьих, с конца 70-х годов начинается обострение русско-
германского конфликта по поводу таможенных пошлин. И здесь
интересы отдельных социальных групп (юнкерства, русских по¬
мещиков — экспортеров аграрной продукции) перевесили государ¬
ственные интересы и помешали найти устраивавший обе стороны
вариант решения проблемы. В итоге в российско-германских от¬
ношениях не только не наметилось сдвигов к лучшему, но, наобо¬
рот, происходило накопление конфликтного потенциала.
В 1888 г. умер Вильгельм I, и после очень короткого пребыва¬
ния у власти Фридриха III германским императором стал
Вильгельм II, у которого, как уже говорилось выше, возникли се¬
рьезные разногласия с Бисмарком. Вильгельм II по-иному, чем
Бисмарк, смотрел на многие вопросы политической жизни, в том
числе и на то, какими императивами должна руководствоваться
Германия на международной арене. Он был рьяным сторонником
активной колониальной экспансии и считал, что будущее Герма¬
нии зависит от того, насколько прочными будут ее позиции в Аф¬
рике, на Тихом океане и на Ближнем Востоке. Предупреждения
«старой гвардии» немецких дипломатов о том, что излишне по¬
спешные и непродуманные действия в решении этих вопросов
могут повлечь за собой серьезные осложнения, не пугали нового
императора.
Понимая, что успешное строительство колониальной империи
невозможно без наличия мощного флота, Вильгельм II всемерно
поддерживал сторонников популярной тогда во многих странах
концепции «морской мощи», утверждавших, что величие и про¬
цветание любого государства напрямую зависит от уровня этого
показателя. От пропаганды этих идей Германия быстро перешла
2Q0
к практическим действиям по созданию мощного военно-морско¬
го флота, способного на равных соперничать с английским. В
1895 г. было принято решение о сооружении Кильского канала, с
вводом которого в строй резко менялась вся стратегическая обста¬
новка на северо-западе Европы. Одновременно началось интенсив¬
ное строительство военно-морского флота, причем армейская вер¬
хушка особенно и не скрывала, что видит свою задачу в скорей¬
шем достижении паритета с английскими ВМС.
Не удивительно, что в Англии все более настороженно следили
за действиями Германии. Настороженность быстро сменилась враж¬
дебностью и ростом напряженности в англо-германских отношени¬
ях. Вести диалог в такой обстановке становилось все труднее. Так,
например, в 1898 г. Германия предложила Великобритании по су¬
ществу совместными усилиями отнять у Португалии, некогда мощ¬
ной колониальной империи, пришедшей в XIX в. в состояние пол¬
ного упадка, ее владения на юге Африки — Анголу и Мозамбик.
Однако Англию такая перспектива абсолютно не устаивала, и от¬
нюдь не из альтруистических соображений. Просто слабая Порту¬
галия не могла составить ей конкуренцию в борьбе за контроль над
Югом Африки, а появление в этом регионе сильной и агрессивной
Германии могло серьезно осложнить планы англичан по освоению
этой территории. Поэтому Англия не только демонстративно отвер¬
гла идею Германии, но и обратилась к Португалии с предложением
заключить договор, согласно которому Лондон брал на себя обяза¬
тельства гарантировать целостность и неприкосновенность порту¬
гальских владений в Африке. В Германии этот шаг восприняли как
явно враждебный, как свидетельство того, что с Англией невозмож¬
но договориться. Такие же коллизии возникали и на Тихом океане,
и на Ближнем Востоке, и в других частях света, ставших объектом
соперничества двух великих держав.
В 90-е годы XIX в. в двери «клуба великих держав» все на¬
стойчивее стучались новые, причем на сей раз уже не европейские
государства — США и Япония. В США после завершения в 1877 г.
периода Реконструкции наступил длительный и чрезвычайно ин¬
тенсивный экономический подъем. Страна сделала мощный ры¬
вок и по многим экономическим показателям вышла на передо¬
вые рубежи. Вплоть до последнего десятилетия XIX в. основное
внимание американского истеблишмента было направлено на ос¬
воение внутреннего рынка. Однако к 90-м годам крупнейшим кор¬
порациям и банкам стало уже тесно в рамках собственно амери¬
канской территории, и их взоры стали все чаще обращаться за
рубежи страны.
Новые условия требовали активизации внешней политики
США, и не случайно с конца 80-х годов широкое распространение
201
в стране получают разного рода теории, обосновывавшие необхо¬
димость и целесообразность проведения внешней экспансии. Это
и теория «подвижной границы» Тернера, и доктрина «морской
мощи» Мэхэна, и концепция «предопределения судьбы», и мно¬
гое другое. Используя различную аргументацию, теоретики аме¬
риканского экспансионизма, споря и конкурируя друг с другом,
вместе с тем сходились в одном: без всемерного поощрения и раз¬
вития экспансии американское общество обречено на стагнацию.
С экспансией связывались все предшествующие достижения Аме¬
рики, без нее, полагали эти люди, у американской модели обще¬
ственного развития нет будущего. Эти идеи тиражировались прес¬
сой, их пропагандировали влиятельные деятели церкви, ради их
распространения создавались различные общественные организа¬
ции и фонды.
Свою лепту в это дело вносила университетская наука. Любой
уважающий себя университет имел в то время кафедру геополи¬
тики, в его стенах обязательно читались лекционные курсы, по¬
священные роли экспансии в американской истории, на семина¬
рах горячо обсуждались ее дальнейшие перспективы. Работы Тер¬
нера, Мэхэна, Фиске, Барджеса и других издавались и переизда¬
вались огромными тиражами и широко циркулировали по стра¬
не, доходя до самых различных слоев населения — от элиты до
низов. Они создавали в стране определенный моральный климат,
приучали общественное мнение к тому, что США обязаны актив¬
но вмешиваться в международные дела и занять в мировом сооб¬
ществе соответствующее их экономическому потенциалу место.
Объектом первостепенного внимания США была Латинская
Америка. В 1889 г. по инициативе США был проведен I Панаме¬
риканский конгресс, в работе которого участвовали США и все
страны Латинской Америки, кроме Доминиканской республики.
США попытались использовать этот форум для того, чтобы укре¬
пить свое влияние в регионе, добиться от своих соседей более бла¬
гоприятных условий для доступа туда американского капитала.
Уже в это время американские политики придавали очень боль¬
шое значение именно экономической экспансии. В 1895 г. США
вмешались в венесуэльско-британский пограничный конфликт и
официально провозгласили свои претензии на то, чтобы быть вер¬
ховным арбитром в решении всех спорных проблем в Новом Све¬
те. Они откровенно стремились к тому, чтобы вытеснить европей¬
ские державы из Латинской Америки.
В эти же годы на Дальнем Востоке резко активизировала свои
действия Япония. Предметом ее внимания были Корея, Тайвань,
континентальный Китай, прежде всего Маньчжурия. Именно
Япония дала старт борьбе великих держав за раздел Китая. В
202
1894 г. она напала на Китай и быстро выиграла войну, разгромив
плохо организованную и слабо вооруженную китайскую армию.
Добившись полной и безоговорочной победы, «страна восходяще-
го солнца» смогла продиктовать Китаю свои условия мира. Япо¬
ния получила Тайвань и Ляодунский полуостров. Корея, находив¬
шаяся в вассальной зависимости от Китая, формально становилась
юридически независимой, а на деле попадала в сферу влияния
Японии. И, наконец, Китай был обязан выплатить Японии солид¬
ную контрибуцию.
Неожиданное для европейцев резкое усиление позиций Япо¬
нии на Дальнем Востоке не на шутку встревожило старые вели¬
кие державы. Россия, Франция и Германия, которые имели соб¬
ственные интересы в этом регионе, решили совместно охладить
пыл Японии. Они потребовали, чтобы та отказалась от части сво¬
их претензий к Китаю. Под их давлением Япония была вынужде¬
на уступить: Ляодунский полуостров возвращался Китаю. За эту
«помощь» Китаю пришлось заплатить большую цену: Германия
получила порт Циндао, превратившийся в ее опорный пункт в
борьбе за влияние на Дальнем Востоке; Россия закрепилась в Порт-
Артуре, а затем заключила договор с правительством Китая о сда¬
че в аренду Ляодунского полуострова и о получении концессии на
строительство и эксплуатацию Китайско-Восточной железной до¬
роги. Япония в этом столкновении уступила, но не отказалась от
своих планов, и на Дальнем Востоке завязался еще один узел про¬
тиворечий.
При всем драматизме коллизий, разворачивавшихся в конце
века в различных частях света, центр мировой политики по-пре¬
жнему оставался в Европе. А там неуклонно возраставшая агрес¬
сивность Германии внушала все большие опасения ее соседям. Со
второй половины 80-х годов достаточно отчетливо наметилось
франко-русское сближение, кульминацией которого стало подпи¬
сание в самом конце 1893 г. двустороннего союзного договора, пре¬
дусматривавшего совместные действия в случае нападения на
кого-либо из его участников. Антигерманская направленность
нового договора была очевидна. Так в Европе был сделан первый
шаг на пути конституирования нового военно-политического бло¬
ка, призванного стать противовесом Тройственному союзу. В ито¬
ге раскол континента еще больше углубился и вероятность цбще-
европейского военного конфликта увеличилась.
ГЛАВАХ
Ведущие страны Западной Европы
и Северной Америки в начале столетия:
основные тенденции развития
§ 1. Закат Pax Britannica
Если XIX век часто и не без оснований называли «английс¬
ким», то наступившее новое столетие оказалось далеко не таким
благоприятным для Британии, как век прошедший. Уже на самом
рубеже веков ей пришлось пережить достаточно серьезное и не¬
приятное испытание — англо-бурскую войну (1899-1902 гг.).
Этот конфликт назревал на протяжении всех 90-х годов и был
в решающей мере инициирован самой Англией, которая стреми¬
лась завершить создание сплошной цепи своих колониальных вла¬
дений от Каира до Кейптауна, и на этом пути оставалось к концу
XIX в. по существу лишь одно препятствие: две бурские (респуб¬
лики) — Трансвааль и Оранжевая. Туда еще в начале XIX в. пере¬
брались потомки голландских колонистов (буры), обитавшие в
Капской колонии (южная оконечность Африки). Свободолюбивые
буры ушли в глубь континента и создали там собственные госу¬
дарства, ставшие своего рода бельмом на глазу у английских ко¬
лонизаторов.
Поначалу их прельщали лишь плодородные земли и исклю¬
чительно выгодное стратегическое положение бурских республик.
Однако после того, как там обнаружились еще и богатейшие зале¬
жи золота и алмазов, англичане потеряли всякое терпение и нача¬
ли массированную кампанию всестороннего давления на руковод¬
ство этих республик, склоняя их к вхождению в состав Британс¬
кой империи. Англичане не брезговали ничем — ни подкупом, ни
угрозой силового давления, ни блокадой, ни вооруженными про¬
вокациями. Их ничуть не смущало, что объектом шантажа и аг¬
204
рессии стали на сей раз такие же представители европейской (а не
туземной) цивилизации, как и сами англичане. Их подстегивала
и активность нового главы Германской империи, который рассчи¬
тывал использовать разгоравшийся конфликт для укрепления
своих позиций на юге Африки.
В итоге правительство Великобритании, отбросив в сторону все
международно-правовые нормы, напало на бурские республики.
Хотя в конечном счете англичане смогли сломить сопротивление
жителей Трансвааля и Оранжевой и включить их в состав Британс¬
кой империи, победа на юге Африки досталась дорогой ценой. Анг¬
лия, традиционно проводившая политику «блестящей изоляции»,
на сей раз оказалась в одиночестве, вопреки собственному желанию:
общественное мнение практически всех ведущих стран осуждало
политику Лондона. Кроме того, война убедила правящую элиту
Англии в том, что возможности страны далеко не безграничны, и
это заставляло серьезно задуматься над принципами ее внешней
политики и вообще над перспективами Британии в новом веке.
Причин для тревожных размышлений было действительно
немало. Англия, еще совсем недавно безусловно доминировавшая
в сфере экономики, являвшаяся «промышленной мастерской
мира», начала сдавать свои позиции. Соединенные Штаты и Гер¬
мания по многим важным показателям не только приблизились,
но даже стали обгонять ее. Темпы развития английской экономи¬
ки, особенно ее новейших отраслей, определявших уровень про¬
двинутое™ страны, замедлились. Над Англией реально нависла
угроза потери статуса страны — эталона прогресса. Почему это
произошло — над этим вопросом все чаще задумывалось все боль¬
шее число англичан.
Создав в XIX в. огромную колониальную империю и получая
от ее эксплуатации солидные политические и материальные ди¬
виденды, Англия вместе с тем к началу XX в. стала чувствовать и
определенные издержки подобного варианта развитая. Английс¬
кий капитал предпочитал вкладывать средства в заморские вла¬
дения, где процент прибыли был намного выше, чем на родине, и
отдача от вложений капитала была быстрее. Собственно английс¬
кая экономика, нуждавшаяся в обновлении и модернизации, ост¬
ро ощущала нехватку средств. Классическим примером подобной
ситуации стало положение в угледобывающей промышленности,
некогда ключевой отрасли английской экономики. Нехватка
средств для ее реконструкции вела к хроническому застою и жес¬
тким социальным конфликтам, которые постоянно лихорадили
английское общество.
Шок от англо-бурской войны вызвал сложную перегруппиров¬
ку сил в правящих кругах. В 1902 г. правительство возглавил ли¬
205
дер консерваторов Артур Бальфур. В центре дискуссий, захватив¬
ших в то время английское общество, были три вопроса: какой
быть британской колониальной империи, как строить внешнюю
политику страны и, наконец, рабочий вопрос. По всем трем аспек¬
там в правящей элите возник серьезный раскол. Это усиливало по¬
литическую нестабильность. Разногласиями в стане консервато¬
ров умело воспользовались либералы. Их активная политико-про¬
пагандистская деятельность принесла плоды: на парламентских
выборах 1905 г. они одержали весьма уверенную победу. В новом
составе парламента им принадлежало 401 место, а консерваторам
лишь 157. Важно отметить, что 29 парламентских мандатов полу¬
чили представители созданной незадолго до этого новой партии —
лейбористской.
Правительство возглавил лидер либералов Г. Кэмпбелл-Бан¬
нерман. В нем было немало ярких фигур, блиставших тогда на
политическом небосклоне Британии: Г. Асквит, Э. Грей, Д. Ллойд-
Джордж и др.
В области внешней политики, проанализировав ситуацию,
правительство пошло на ревизию традиционных принципов по¬
литики «блестящей изоляции». Англия начала активно искать
союзников и на континенте, и за морями.
Во внутренней политике власти были обеспокоены процес¬
сами, проходившими в рабочем движении. Стремясь не допус¬
тить распространения радикальных идей в рабочей среде, Дэвид
Ллойд-Джордж, занимавший пост министра торговли и промыш¬
ленности и отвечавший за сферу индустриальных отношений, ре¬
шительно проводил курс на постепенную интеграцию профсою¬
зов в существующую политическую систему. В 1906 г. был при¬
нят Закон о трудовых конфликтах, восстанавливавший право
профсоюзов на забастовку, затем о пенсионном обеспечении и о
введении 8-часового рабочего дня (первоначально только для
шахтеров) и, наконец, о страховании по болезни и безработице.
Таким образом, в Англии были заложены основы системы соци¬
ального обеспечения. Одновременно власти стремились изолиро¬
вать лейбористов и оторвать профсоюзы от них. В 1909 г. при
рассмотрении так называемого «дела Осборна» профсоюзам было
запрещено взимать деньги со своих членов на политические цели,
что серьезно подрывало финансовую базу лейбористской партии.
Правда, в 1913 г. под давлением профсоюзов этот вердикт был
отменен.
Несмотря на маневры и уступки со стороны правящих кругов,
социальная атмосфера в предвоенной Англии была весьма непро¬
стой. Источником особых волнений оставалось положение дел в
угледобывающей промышленности, где острые трудовые конфлик¬
206
ты становятся нормой. Это потенциально создавало благоприят¬
ную среду для распространения социалистических идей, что, ес¬
тественно, вызывало беспокойство у правящей элиты. Главным
инструментом борьбы с распространением радикальных настрое¬
ний и одновременно способом модернизации общества становится
либеральный реформизм, в реализации установок которого клю¬
чевая роль отводилась государству. В Англии его укоренение свя¬
зано прежде всего с именем Д. Ллойд-Джорджа, который в мини¬
стерстве Асквита (с 1908 г.) занимал чрезвычайно важный пост
министра финансов.
В 1909 г. им был подготовлен и внесен на рассмотрение парла¬
мента проект бюджета, предусматривавший выделение 1% рас¬
ходов на проведение социальных реформ. Это представлялось как
начало войны с бедностью. С одной стороны, этого было явно не¬
достаточно для решения данной проблемы, с другой — это было
действительно новое слово в государственной социальной полити¬
ке. Не удивительно, что данное предложение вызвало бурные дис¬
куссии и в обществе в целом, и в парламенте.
Чтобы успокоить оппонентов, называвших бюджет «револю¬
ционным», Ллойд-Джордж одновременно предусматривал значи¬
тельное увеличение расходов на морские вооружения. Против это¬
го консерваторы не возражали, но возникал вопрос: откуда взять
деньги? Для финансирования этих статей бюджета предполага¬
лось, во-первых, повысить косвенные налоги на табак, спиртные
напитки, почтовые марки, что было ударом по широким слоям
населения, а во-вторых, увеличить налоги на крупные состояния,
земельную собственность и наследство, что вызвало возмущение
английской аристократии. После ожесточенной борьбы, пройдя
палату общин, бюджет был все же похоронен палатой лордов. Та¬
кая ситуация повторялась дважды. Тогда на повестку дня встал
вопрос о реформе парламента.
В мае 1911 года палата общин приняла билль о реформе пар¬
ламента. На сей раз палата лордов отступила, и новый закон,
ограничивавший ее прерогативы (теперь она имела только пра¬
во «задерживающего вето») вступил в силу. Кроме того, она от¬
странялась от решения финансовых вопросов, и теперь, обла¬
дая заметным перевесом в палате общин, либералы могли сме¬
ло проводить в жизнь свои идеи в этой сфере. Однако победа над
палатой лордов не означала, что перед правительством откры¬
вались безоблачные горизонты. Вновь резко обострился ирлан¬
дский вопрос.
Стремясь предотвратить взрыв в этой, пожалуй, самой не¬
спокойной части Британской империи, либералы были вынуж¬
дены пойти на уступки: в апреле 1912 г. в парламент был вне¬
207
сен очередной законопроект о гомруле (самоуправлении) Ирлан¬
дии. Усилиями палаты лордов его принятие затянулось до
1914 г. Особенно сложной была ситуация в северной части Ир¬
ландии, в Ольстере, где, в отличие от остальной Ирландии, боль¬
шинство принадлежало протестантам, имевшим тесные связи с
Англией и в силу этого выступавшим за сохранение унии с Лон¬
доном. И среди католиков, и среди протестантов сильны были
экстремистские настроения, имелось немало людей, готовых с
оружием в руках доказывать свою правоту. В итоге английско¬
му правительству пришлось пойти на уступки: хотя закон о са¬
моуправлении Ирландии и был принят, наиболее развитая
провинция этого острова — Ольстер — исключалась из сферы
его действия.
Немало проблем существовало и в других частях Британской
империи. В «жемчужине британской короны» Индии заметно ак¬
тивизировались противники английского владычества. Еще в
1906 г. партия Индийский национальный конгресс выдвинула
требование предоставления самоуправления для Индии. В каче¬
стве средства давления на колониальные власти она организовала
кампанию бойкота английских товаров. Обстановка там быстро на¬
калялась. И опять-таки либералы сочли за лучшее пойти на опре¬
деленные реформы. В 1909 г. к управлению колонией стали осто¬
рожно подключать верхушку местного общества. Таким образом,
англичанам удалось на время сбить нараставшую волну движения
протеста.
Англо-бурская война заставила правящую элиту серьезно за¬
думаться над будущим империи. Наиболее здравомыслящей час¬
ти английских верхов становилось очевидным, что сохранять им¬
перию в неизменном виде невозможно: необходимы шаги, направ¬
ленные на ее приспособление к меняющемуся миру. Именно в этом
контексте следует рассматривать действия Лондона по предостав¬
лению прав самоуправления ряду переселенческих колоний, т.е.
таких частей империи, где большинство населения составляли
выходцы или потомки выходцев из метрополии. Вслед за Кана¬
дой, которая получила самоуправление еще в 1867 г., статус до¬
миниона (самоуправляемой части империи) получили Австралия
(1900 г.), Новая Зеландия (1907 г.) и Южно-Африканский Союз
(1910 г.). С начала века стали регулярно проводиться Имперские
конференции, где представители английского правительства и
доминионов совместно обсуждали вопросы внешней и торговой
политики.
Все эти события происходили на фоне неуклонно ухудшав¬
шихся англо-германских отношений. Концентрированное выра¬
жение это соперничество получило в гонке морских вооружений.
208
Постепенно эти вопросы превращаются в предмет главной забо¬
ты английского правительства, оттесняя на задний план все дру¬
гие проблемы. Однако объяснимое повышенное внимание пра¬
вительства к этим вопросам имело и другую сторону. Англия все
больше втягивалась в конфликт с Германией, причем его уровень
постоянно нарастал и находить его развязку с каждым днем ста¬
новилось все сложнее. А это означало, что вероятность военного
столкновения противоборствующих сторон становилась все бо¬
лее реальной.
§ 2. США в годы «прогрессивной эры»
В новый век США вступили как динамично развивающаяся
страна, задававшая тон во многих отраслях экономики. Несмот¬
ря на периодические всплески острых социальных конфликтов,
рост активности рабочего движения и движения за независимые
политические действия, двухпартийная система достаточно уве¬
ренно контролировала ситуацию, а в ее рамках ведущей силой
по-прежнему оставалась республиканская партия, одержавшая
на выборах 1900 г. очередную убедительную победу. Президен¬
том страны вторично был избран У. Маккинли, представитель
«старой гвардии» республиканцев, противник любых новаций.
Правда, в партии была группировка «молодых реформаторов» во
главе с Т. Рузвельтом, активно лоббировавшая в пользу внесе¬
ния серьезных корректив в программно-целевые установки рес¬
публиканцев, но их влияние было ограниченным. Более того,
оппоненты Т. Рузвельта в ходе предвыборной кампании смогли
переиграть его, задвинув на формально вторую, но фактически
м&ло что значащую в реальной политике должность вице-прези¬
дента.
Однако случай перечеркнул все расчеты стратегов республи¬
канской партии. 6 сентября 1901 г. в Буффало во время посеще¬
ния Панамериканской выставки У. Маккинли был смертельно
ранен террористом. Через несколько дней он скончался, и его ме¬
сто в Белом доме согласно Конституции занял вице-президент, т.е.
Т. Рузвельт. Уже давно во главе страны не оказывался столь яр¬
кий, колоритный и динамичный человек. Первоначально новый
президент уделял основное внимание укреплению позиций своей
фракции в иерархии республиканской партии и внедрению в об¬
щественное сознание мысли о необходимости перемен, осуществ¬
ляемых по рецептам реформаторов.
Напомним главные идеи Теодора Рузвельта. Прежде всего,
новый президент и его окружение решительно высказывались за
209
увеличение роли государства в сфере социально-экономических
отношений. Вторая главная идея Т. Рузвельта заключалась в том,
чтобы утвердить в отношениях между различными социальными
группами принцип сотрудничества и закрепить за государством
роль арбитра, защищающего общественное благо. И, наконец,
президент стремился превратить экспансию в некую общенацио¬
нальную доминанту, без которой немыслимо развитие американ¬
ского общества.
Большую популярность новому лидеру принесла борьба с тре¬
стами, своекорыстная политика которых вызывала широкое не¬
довольство в самых различных слоях населения и создавала серь¬
езные проблемы для динамичного развития экономики. Первый
конфликт между властью и «некоронованными королями» Аме¬
рики возник в 1901 г. Опираясь на закон Шермана, представите¬
ли правительства потребовали роспуска одной из крупнейших
железнодорожных компаний — «Нозерн секьюритес», контроли¬
руемой могущественным банкирским домом Морганов, обвинив
ее в монополистической практике. Разбирательство затянулось до
1903 г., но в итоге победа осталась за правительством. Вслед за
этим состоялось еще несколько подобных процессов, принесших
президенту славу «разрушителя трестов» и резко увеличивших его
популярность.
В 1904 г. он, уже опираясь на собственные силы, добился пе¬
реизбрания на пост президента и теперь мог действовать более ре¬
шительно. В 1906 г. был принят закон Хэпберна, расширявший
полномочия Комиссии по междуштатной торговле в плане регу¬
лирования железнодорожных тарифов, а следовательно, и возмож¬
ности правительства влиять на ситуацию в сфере экономики. За¬
тем были одобрены еще два популярных закона: о контроле за из¬
готовлением лекарств и пищевых продуктов и о контроле над ус¬
ловиями труда и введении санитарной инспекции на скотобойнях.
Правительство регулярно вмешивалось во все крупные забастов¬
ки, причем иногда оно принимало сторону рабочих. Наконец, не¬
обходимо сказать, что США, пожалуй, первыми из великих дер¬
жав на государственном уровне занялись охраной природы.
Все эти акции исполнительной власти оказывали сложное воз¬
действие на партийно-йолитическую систему США. «Старая гвар¬
дия» республиканцев не думала складывать оружие. Изощренные
маневры развернулись вокруг кандидатуры на пост президента от
республиканской партии на выборах 1908 г. В итоге боссы респуб¬
ликанцев сошлись на У. Тафте, который и был избран очередным
президентом. Т. Рузвельт полагал, что новый лидер партии будет
послушно следовать в фарватере намеченного им курса. Однако
жизненные реалии оказались много сложнее.
210
Очень быстро осложнились отношения У. Тафта со многи¬
ми конгрессменами. Поводом для обострения ситуации стало об¬
суждение в конгрессе вопроса о тарифах, что являлось одним
из главных предвыборных обещаний республиканцев. Этот воп¬
рос затрагивал интересы самых различных групп. Естественно,
и в конгрессе, и в Белом доме развернулась активная лоббистс¬
кая деятельность. Консерваторам в 1909 г. удалось с большим
трудом провести свою версию этого законодательства. Однако
если на Уолл-стрит праздновали победу, то по западным шта¬
там прокатилась волна возмущения. Президент подлил масла в
огонь, назвав новый тариф «самым лучшим законом, принятым
когда-либо республиканской партией». С этого момента отно¬
шения Тафта с республиканцами западных штатов неуклонно
ухудшались.
Среди сторонников реформ росло убеждение в том, что прези¬
дент отошел от либерально-реформистского курса. Этот стереотип
оказался настолько прочным, что переломить его Тафт не смог.
Республиканская фракция в конгрессе практически раскололась
на прогрессистов (Лафоллет, Камминз, Бристоу, Норрис, Бора и
др.), требовавших углубления и радикализации реформ, и консер¬
ваторов (Пейн, Олдрич, Кеннон и др.), которые были в принципе
против либеральных новаций. Отношения между ними обостри¬
лись до предела, и в этом конфликте симпатии Тафта были явно
на стороне консерваторов. Это, однако, не помешало его внутри¬
партийным оппонентам начать атаку на позиции приверженцев
президента в конгрессе.
Уже в 1909 г. по инициативе Дж. Норриса в палате предста¬
вителей был поднят вопрос о полномочиях спикера. Этот важный
пост тогда занимал Д. Кеннон, видный деятель консервативного
крыла республиканской партии. В то время он пользовался огром¬
ными правами, позволявшими ему во многом контролировать и
ход дебатов, и порядок рассмотрения важнейших вопросов в па¬
лате представителей. Власть спикера базировалась на его праве
назначать членов постоянных комитетов палаты, где, по сути, и
решалась судьба ключевых законопроектов. Борьба, продолжав¬
шаяся двц года, увенчалась успехом прогрессистов. По новым пра¬
вилам полномочия спикера в области кадровой политики были
существенно урезаны. Теперь он в гораздо большей степени вы¬
нужден был считаться с мнением рядовых членов фракции. Пре¬
стижу Кеннона был нанесен настолько существенный урон, что в
1910 г. он проиграл промежуточные выборы малоизвестному де¬
мократу Фоссу и покинул конгресс.
Масла в огонь конфликта внутри республиканской партии
подлило т.н. «дело Баллинджера», занимавшего пост министра
211
внутренних дел в администрации Тафта. По роду своей деятель¬
ности он, в частности, отвечал за природоохранную деятельность.
Именно он, вопреки действовавшим законам, санкционировал
продажу угольному магнату Гугенгейму государственных уголь¬
ных месторождений на Аляске. Однако эта незаконная сделка ста¬
ла достоянием гласности, и конгресс вынужден был назначить спе¬
циальную комиссию для расследования выдвинутых против Бал¬
линджера обвинений. Мнения членов комиссии разделились. Од¬
нако под давлением общественности президент вынужден был от¬
править Баллинджера в отставку.
Все это, с одной стороны, накаляло обстановку внутри «вели¬
кой старой партии», увеличивало число недовольных президен¬
том и его окружением, а с другой — подрывало общий имидж
партии. В результате на промежуточных выборах 1910 г. респуб¬
ликанцы потерпели поражение и потеряли контроль над палатой
представителей. А это, в свою очередь, еще больше обострило от¬
ношения между прогрессистами и ориентировавшимися на пре¬
зидента консерваторами.
К 1911 г. прогрессисты пришли к выводу, что внутрипартий¬
ный компромисс практически невозможен, и создали Нацио¬
нальную прогрессивную республиканскую лигу, одобрившую соб¬
ственную «Декларацию принципов», положения которой суще¬
ственно расходились с официальными установками Белого дома.
Влияние новой организации быстро росло, и она всерьез пыталась
оспорить у консерваторов право выдвигать кандидата на пост пре¬
зидента от «великой старой партии» на предстоявших в 1912 г.
выборах. Все это сулило напряженнейшую избирательную кам¬
панию, в которой и правящей элите, и рядовым американцам пред¬
стояло сделать принципиальный выбор того, каким курсом пой¬
дет далее государственный корабль.
Действительно, выборы 1912 г. стоят в одном ряду с такими
этапными рубежами, как выборы 1800 или 1860 гг. Накал борьбы
оказался настолько высоким, что удержать ее в жестких рамках
двухпартийности на сей раз не удалось. Главные события проис¬
ходили в республиканской партии. Там фракционная борьба дос¬
тигла такого уровня, что идейные соображения перевесили при¬
вычный для американских политиков прагматизм. Возмутителем
спокойствия оказался все тот же Т. Рузвельт. Разочаровавшись в
способности Тафта проводить ту линию, которую сам Рузвельт
считал единственно верной и целесообразной, бывший хозяин Бе¬
лого дома решил бросить вызов действовавшему президенту. Од¬
нако его попытка не удалась: на конвенте республиканской партии
в упорнейшей борьбе противники Т. Рузвельта смогли заблокиро¬
вать его выдвижение на пост президента от этой партии.
212
Т. Рузвельт, однако, не сложил оружие. Он решил использо¬
вать для борьбы за власть недовольство большой группы левых
республиканцев из западных штатов, выступавших за проведение
в стране радикальных реформ. В преддверии выборов они объеди¬
нились вокруг Национальной прогрессивной республиканской
лиги (отсюда название — прогрессисты) и планировали добивать¬
ся выдвижения Р. Лафоллета на высший государственный пост.
Т. Рузвельт сумел убедить прогрессистов в том, что у него больше
шансов на успех, и хотя его программно-целевые установки дале¬
ко не во всем совпадали со взглядами прогрессистов, те сочли за
лучшее поддержать известного всей стране человека и на своем
конвенте проголосовали за его выдвижение кандидатом в прези¬
денты от Прогрессивной партии.
Платформа новой партии оказалась противоречивым доку¬
ментом. В ней содержалось немало прогрессивных идей: требо¬
вание ограничить право Верховного суда толковать Конститу¬
цию, запрещение применять судебные предписания (инджанк-
шенс) в трудовых конфликтах, принятие законодательства, ин¬
ституционализировавшего систему социального страхования,
предоставление права голоса женщинам, прямые выборы сена¬
торов и т. д. Однако по ключевому вопросу — об отношении к боль¬
шому бизнесу — на съезде выявились серьезные разногласия.
Сторонники Лафоллета добивались включения в платформу по¬
ложения о необходимости роспуска корпораций. Т. Рузвельт су¬
мел не только добиться отклонения этого предложения, но и убе¬
дил делегатов включить в предвыборную платформу новой
партии пункт, который гласил: «Корпорации являются неотъем¬
лемой частью современного бизнеса».
Говоря об избирательной кампании 1912 г., необходимо так¬
же отметить активное участие в ней созданной еще в 1901 г. Со¬
циалистической партии Америки. Она выдвинула своим кан¬
дидатом видного деятеля рабочего движения США Ю. Дебса. В
своей предвыборной платформе социалисты назвали себя
«партией современной революции». Никогда ни до, ни после
этого социалисты не добивались на выборах такого успеха. Хотя
они существенно отстали по количеству набранных голосов и
от демократов, и от республиканцев, и от прогрессистов, за их
кандидата проголосовало около 1 млн. человек. Для страны, где
социалистические идеи не пользовались особой популярностью,
явление весьма симптоматичное, свидетельствовавшее о серь¬
езных сдвигах во всей идейно-политической сфере американс¬
кого общества.
Борьбу прогрессистов осложняла общая расстановка сил в
ходе избирательной кампании 1912 г. Если республиканцы яв¬
213
лялись удобной мишенью для критики, то с демократами дело
обстояло значительно сложнее. Они выдвинули кандидатом на
пост президента известного историка, государствоведа, специа¬
листа по международным отношениям Вудро Вильсона. Он лишь
в 1910 г. пришел в большую политику, когда был избран губер¬
натором штата Нью-Джерси. Тем не менее он уже успел завое¬
вать известность как активный сторонник проведения реформ.
Вильсон признавал существование конфликта между «капита¬
лом в концентрированных формах и всеми остальными, менее
концентрированными, распыленными мелкими индивидуальны¬
ми экономическими силами». Тем не менее его кандидатуру ак¬
тивно поддерживали такие столпы большого бизнеса, как парт¬
нер Моргана Дж. Перкинс, «медный король» К. Додж, глава од¬
ной из крупнейших компаний по производству сельскохозяй¬
ственной техники С. Маккормик, медиамагнат Ф. Мзнси и Дж. -
Харви. Надо отметить, что благодаря искусному маневрирова¬
нию Вильсону удалось сплотить вокруг себя весьма разношерст¬
ную коалицию. Его поддержали и целый ряд реформаторов, и
многие видные представители бизнес-злиты северо-восточных
штатов, и известные политики-южане, и лидер демократов за¬
падных штатов У. Брайан, по-прежнему пользовавшийся боль¬
шим влиянием.
Такая пестрая коалиция требовала большой гибкости от со¬
ставителей предвыборной платформы. В целом они исходили из
того, что большая часть электората настроена в пользу реформ,
ограничивающих всевластие большого бизнеса, расширяющих
социальные гарантии для рабочих, фермеров, мелких предприни¬
мателей, укрепляющих демократические начала в политической
системе США. Было придумано эффектное название для этого до¬
кумента — «Новая Свобода». Предполагалось развивать антитре¬
стовское законодательство, усилить контроль за деятельностью
железных дорог, осуществить банковскую реформу, создать ме¬
ханизм оказания государственной помощи фермерам, запретить
использование инджанкшенс в трудовых конфликтах, учредить
министерство труда и т.д. Все это делало образ демократической
партии и ее кандидата достаточно привлекательными в глазах сто¬
ронников реформ. Это обстоятельство вызвало раскол в стане про¬
грессистов, часть которых решила поддержать Вильсона. В итоге
он и стал президентом.
В. Вильсон вступил на пост президента, когда антимонополи¬
стическое движение уже в течение почти 20 лет являлось актив¬
ным фактором политической жизни США, и это не могло не ска¬
заться на характере той политики, которую демократы начали
проводить с первых дней пребывания у власти. К числу крупней¬
214
ших инициатив, которые им удалось воплотить в жизнь, следует
отнести закон Клейтона (1914 г.), согласно которому профсоюзы
исключались из сферы действия закона Шермана; создание Феде¬
ральной промышленной комиссии (1914 г.), следившей за соблю¬
дением честных правил конкуренции в промышленности; введе¬
ние прогрессивного налогообложения (1913 г.), призванного уст¬
ранить наиболее очевидные несправедливости в данной сфере; уч¬
реждение Федеральной резервной системы (1913 г.), резко увели¬
чившей роль государства в регулировании финансов. К этому надо
добавить меры по демократизации политической жизни, и преж¬
де всего принятие поправки к Конституции о прямых выборах се¬
наторов.
Борьба вокруг программы Вильсона была в самом разгаре,
когда в Европе летом 1914 г. вспыхнула война, вскоре охватив¬
шая весь этот континент и многие страны за его пределами. Хотя
США вступили в мировую войну гораздо позднее, в апреле
1917 г., «фактор войны» с самого начала оказывал заметное воз¬
действие на внутриполитическую жизнь США. Президент вы¬
нужден был уделять все большее внимание вопросам внешней
политики. Стремясь обеспечить поддержку своему внешнеполи¬
тическому курсу, он должен был отказаться от проведения даль¬
нейших реформ. К этому надо добавить, что надвигались очеред¬
ные президентские выборы, и Вильсону необходимо было консо¬
лидировать ряды собственной партии, в которой далеко не все
были в восторге от реформ.
«Фактор войны» оказывал сложное воздействие на американ¬
ское общество. Формально США оставались нейтральными, од¬
нако на практике они были многими нитями связаны с Антан¬
той, прежде всего с Англией. Странам Антанты для ведения вой¬
ны катастрофически не хватало денег, и сначала частные амери¬
канские банки, а затем и государство охотно предоставили необ¬
ходимые займы, которые использовались для закупок в США
различных видов вооружений. В результате европейские страны
постепенно превращались в должников США и финансовый
центр мира начал перемещаться из Лондона в Нью-Йорк. Уже в
1916 г. в США сосредотачивалась треть всего мирового запаса
золота.
Массированные военные заказы стимулировали развитие
американской промышленности. Страна переживала экономи¬
ческий бум. Стремительно росли доходы ведущих корпораций.
В том же 1916 г. они достигли гигантской суммы — 8,7 млрд,
долл., вдвое превысив довоенный уровень. Большой бизнес по¬
лучал львиную долю прибылей, но немало перепало также мел¬
кому и среднему бизнесу. Выросла и заработная плата рабочих.
215
Удалось вывести из кризиса и аграрный сектор экономики. Об¬
щее улучшение экономической конъюнктуры позволило повы¬
сить жизненный уровень, а это сразу же ослабило остроту мно¬
гих социальных проблем.
Что касается внешней политики, то, сохраняя нейтралитет,
в США не скрывали, что их беспокоят и возмущают действия Гер¬
мании, прежде всего начатая ею «неограниченная война» на
море, что выразилось в атаках немецких подводников на торго¬
вые и гражданские суда нейтральных стран. Вместе с тем офи¬
циальный Вашингтон до поры до времени не собирался пересмат¬
ривать свои базовые внешнеполитические установки. Наоборот,
свою избирательную кампанию в 1916 г. В. Вильсон и ведомая
им демократическая партия строили под лозунгом «Удержать
Америку вне войны!» Вкупе с достаточно расплывчатыми обеща¬
ниями продолжать реформы это принесло Вильсону успех. Он
вновь стал президентом.
Получив мандат на управление страной, В. Вильсон мог го¬
раздо увереннее проводить в жизнь свои внешнеполитические
планы. В Белом доме, да и в правящей элите в целом росло ощу¬
щение, что для США далеко не безразлично, кто победит в вой¬
не, и, следовательно, надо решительнее помогать Антанте. На
руку президенту играли и действия немецкой агентуры в Мекси¬
ке и в самих США, а также постоянные атаки немецких подвод¬
ных лодок на суда нейтральных стран. Все это помогало амери¬
канским властям готовить общественное мнение к мысли, что в
сложившейся ситуации США не могут оставаться в стороне от
конфликта: их государственные интересы требуют всемерной, а
не только косвенной поддержки Антанты. Используя вызываю¬
щие действия Германии, США 3 февраля 1917 г. объявили о раз¬
рыве дипломатических отношений с этой страной. В ответ нем¬
цы еще больше активизировали действия своих подводников.
События получили логическое завершение в начале апреля
1917 г., когда США заявили, что отныне находятся в состоянии
войны с Германией. Последняя из великих держав вступила в
войну.
§ 3. Германская империя в борьбе
за мировое лидерство
Германская империя возникла на завершающей стадии объе¬
динения немецких земель после разгрома Франции во франко¬
прусской войне. У ее истоков стоял, пожалуй, самый крупный
политический деятель Германии XIX века Отто фон Бисмарк, за-
216
нимавший пост канцлера сначала в Пруссии, а затем в Германс¬
кой империи с 1862 по 1890 гг. С его уходом с политической аре¬
ны в истории Германии начался новый этап, продолжавшийся до
1918 г. В зто время Германия достигла пика своего могущества,
всерьез замахнулась на мировое господство, ради достижения ко¬
торого она пошла на развязывание глобального военного конфлик¬
та. Однако в итоге империя потерпела сокрушительное пораже¬
ние и исчезла с политической карты Европы.
Когда в 1888 г. на престол взошел Вильгельм II, судьба Бис¬
марка по сути была предрешена. Расчетливость, осторожность
рейхсканцлера раздражала молодого импульсивного императо¬
ра, мечтавшего о быстром превращении Германии в ведущую ми¬
ровую державу. Конфликт между ними не заставил себя ждать.
Проходившие в 1890 г. выборы в рейхстаг, которые привели к
росту влияния социал-демократов, вызвали сильное раздраже¬
ние императора. Ему стало очевидно, что политика Бисмарка в
рабочем вопросе дала серьезный сбой. Кайзер не преминул вос¬
пользоваться этим. В результате Бисмарк был вынужден уйти в
отставку.
С его уходом со сцены в политическом курсе империи появи¬
лись серьезные коррективы. Были усилены попытки интегриро¬
вать профсоюзы и умеренное крыло социал-демократической
партии в политическую систему империи. Резко активизирова¬
ли свою деятельность различные организации, пропагандировав¬
шие экспансионистские идеи. Экспансия в их построениях пре¬
вращалась в жизненно важное условие прогресса Германской
империи. Понимая, что для реализации этих планов необходи¬
мы сильные вооруженные силы, прежде всего мощный военно-
морской флот, Вильгельм II и его окружение предпринимали
шаги по его скорейшему созданию. Реализации этих планов
способствовало бурное развитие немецкой экономики. Уже в на¬
чале века Германия обладала мощнейшим промышленным по¬
тенциалом, позволившим ей уверенно конкурировать со своими
основными соперниками и заниматься форсированным строи¬
тельством вооруженных сил.
В новый век Германия вступила с непростым багажом. Об¬
ладая высокоразвитой промышленностью, передовой техноло¬
гией, задавая тон и темп развития западной цивилизации во
многих сферах экономической жизни, она в то же время имела
политическую систему, в которой сохранялось немало пережит¬
ков прошедшей эпохи. Это противоречие накладывало весьма
серьезный отпечаток на всю внутриполитическую жизнь Гер¬
манской империи. Стабильность ее политической системы в
решающей степени зависела от прочности блока двух соци¬
217
альных сил — прусского юнкерства (крупных землевладельцев)
и магнатов немецкой промышленности. У них было немало об¬
щих интересов, но были и достаточно серьезные разногласия, и
это ставило любое правительство в непростую ситуацию. Напри¬
мер, что перспективнее: создавать условия для развития внут¬
реннего рынка или стремиться к завоеванию внешних рынков?
Как строить отношения власти с набирающим размах рабочим
движением? Какими быть взаимоотношениям центральной в л а*
сти с органами местного самоуправления тех немецких земель,
которые вошли в состав империи? Как строить отношения с дру¬
гими великими державами?
Последний вопрос в начале XX в. стал приобретать все боль¬
шую остроту, ибо авантюристические действия Вильгельма II на
международной арене привели к тому, что к жесточайшему фран¬
ко-германскому антагонизму добавилось быстрое ухудшение от¬
ношений с Англией. Если учесть, что и русско-германские отно¬
шения оставались весьма прохладными, то приходится констати¬
ровать, что внешнеполитические установки германского импера¬
тора вели к нараставшему ухудшению стратегических позиций
Германии на международной арене. Если число откровенных про¬
тивников Германии неуклонно росло, то количество союзников
осталось практически неизменным со времен Бисмарка. Импуль¬
сивные, плохо просчитанные и подготовленные действия
Вильгельма II вызвали несколько острейших международных
кризисов, что закрепило за Германией репутацию непредсказуе¬
мой, а следовательно, опасной страны.
Не менее остро дебатировались в верхах империи вопросы,
касавшиеся отношения власти к социал-демократической
партии. Поводов для тревоги было немало. Если на выборах в
рейхстаг в 1890 г. эта партия смогла провести в парламент 35
своих депутатов (напомним, что зто стало одним из поводов для
отставки Бисмарка), то в 1903 г. она имела там уже 81 депутата,
а накануне Первой мировой войны ее фракция насчитывала в
своих рядах 110 человек. С другой стороны, в XX в. стало оче¬
видно, что немецкая социал-демократия далеко не едина. Съез¬
ды партии в Дрездене (1903), Йене (1905), Мангейме (1906) на¬
глядно продемонстрировали, что в ней существуют серьезные и
глубокие разногласия. Если левое крыло партии по-прежнему
отстаивало курс на радикальную ломку существующего право¬
порядка и построение принципиально нового общества, основан¬
ного на идеалах социальной справедливости, то достаточно мно¬
гочисленные тайные и явные сторонники Э. Бернштейна наста¬
ивали на проведении курса, нацеленного на «встраивание во
власть». С ними власть в принципе могла вести диалог, подклю¬
218
чая их к конструктивному участию в деятельности политичес¬
кой системы.
Так, канцлер Б. фон Бюлов, пытаясь заручиться поддерж¬
кой фракции социал-демократов в рейхстаге, выдвинул в каче¬
стве «жеста доброй воли» программу социальных реформ, пре¬
дусматривавшую расширение системы социального страхова¬
ния, законодательное регламентирование условий труда в про¬
мышленности и ряд других мер по улучшению условий жизни
трудящихся. При этом он преследовал тройную цель. С одной
стороны, опираясь на данные зарождавшегося «рабочеведе-
ния» — новой отрасли знаний — Бюлов не без основания счи¬
тал, что улучшение условий труда открывает новые возможно¬
сти для увеличения производительности труда, а это повышает
конкурентоспособность немецкой промышленности на мировых
рынках. Во-вторых, канцлер рассчитывал за этот счет укрепить
контакты с достаточно крупной фракцией социал-демократов,
а в более широком плане сделать ее частью коалиции, на кото¬
рую могло бы опереться правительство в политическом процес¬
се. Это, естественно, укрепляло бы его политическое позиции.
Наконец, он понимал, что без интеграции социал-демократов в
политическую систему империи невозможно рассчитывать на
социальную стабильность в обществе. В условиях болезненного
перехода к индустриальному обществу, сопровождавшегося
многочисленными издержками, любые проявления социальной
нестабильности грозили перерасти в широкомасштабные рево¬
люционные потрясения, способные похоронить существовав¬
ший правопорядок. Иными словами, Бюлов и его окружение
начинали понимать: цена за социальный мир не может быть
слишком высокой.
Собственно говоря, именно к этому призывали руководство
империи наиболее дальновидные представители интеллектуаль¬
ной элиты Германии, например один из крупнейших социологов
тех лет Л. Брентано.
Отмеченные выше общие особенности политической системы
Германии сказывались на функционировании практически всех
правительств империи, которые были вынуждены постоянно ла¬
вировать между интересами юнкеров и магнатов немецкой про¬
мышленности и в то же время не забывать о необходимости под¬
держания хотя бы относительного социального мира в отношени¬
ях труда и капитала. Это отчетливо проявилось в политике и кан¬
цлера Б. фон Бюлова, и его преемника Т. Бетман-Гольвега. Эти
колебания сказывались на общей конфигурации политических
сил, на позиции различных партий. Пожалуй, чаще всего меняла
свою ориентацию партия католического центра. Она постоянно
219
дрейфовала от поддержки правительства до временных альянсов
с фракцией социал-демократов в рейхстаге. В 1906 г. эти колеба¬
ния в выборе политического курса привели к острому кризису.
Торпедировав правительственный запрос о выделении средств для
подавления восстания жителей немецких колоний в Юго-Запад¬
ной Африке (нынешняя Намибия), депутаты этой фракции выз¬
вали взрыв недовольства в правительстве. Его терпению пришел
конец, и оно пошло на роспуск рейхстага и назначение новых вы¬
боров.
Выборы, проходившие в самом начале 1907 г., зафиксирова¬
ли изменившийся расклад сил на политическом Олимпе Герма¬
нии. Пойдя на роспуск рейхстага, Бюлов тем самым решил отка¬
заться, по крайней мере временно, от заигрывания с фракцией
социал-демократов, в которой в тот момент усилилось влияние
левого крыла. Более того, в процессе подготовки к выборам на них
обрушилась лавина критики за антипатриотичную позицию. Про¬
правительственная пресса представляла их как силу, враждебную
идее укрепления величия Германии. В результате социал-демок¬
раты потерпели крупное поражение: их фракция в новом составе
рейхстага уменьшилась почти в два раза.
Апеллируя к националистическим чувствам немцев, прави¬
тельство выдвинуло на первый план тезис о том, что в составе
парламента должны быть только те депутаты, которые готовы
всеми силами отстаивать «честь и достоинство империи». На этой
основе канцлер Б. фон Бюлов сумел создать блок консерваторов
и национал-либералов и добился победы на внеочередных выбо¬
рах. Правда, новое объединение оказалось недолговечным, ибо в
его основе лежали чисто конъюнктурные моменты — желание
всеми средствами расширить свою колониальную империю. По
другим проблемам вынужденные партнеры по-разному смотре¬
ли на вещи. Когда на повестку дня встал вопрос об источниках
финансирования дорогостоящих программ, нацеленных на обес¬
печение экспансии, т.е. о введении дополнительных налогов, в
этом блоке произошел раскол, повлекший за собой отставку фон
Бюлова.
Новый канцлер Т. Бетман-Гольвег опирался уже на иную по¬
литическую комбинацию — католический центр и консервато¬
ров. Его правительство в своей деятельности во главу угла поста¬
вило две проблемы: форсированное наращивание вооруженных
сил и столь же форсированная унификация всей Германии по
образу и подобию Пруссии. В соответствии с этим курсом через
рейхстаг были проведены дополнительные ассигнования, пред¬
назначенные для развертывания двух новых армейских корпу¬
сов, строительства 8 дредноутов и создания флотилии подводных
220
лодок, удельный вес которых как в общей совокупной военной
мощи страны, так и в ее стратегических планах неуклонно воз¬
растал.
Несколько менее гладко шло решение вопросов, связанных с
попытками нивелировать всю страну под прусские стандарты. Эта
линия нового правительства вызвала нараставшее сопротивление
в различных частях империи, прежде всего в землях, которые пос¬
ледними вошли в ее состав. В конце 1913 г. разразился так назы¬
ваемый «Цабернский кризис», когда имперские власти пошли на
введение чрезвычайного положения в этом эльзасском городке в
ответ на довольно робкие протесты местных жителей против по¬
литики опруссачивания. Эти события вызвали бурные дискуссии
в рейхстаге, показавшие, что, во-первых, во фракции социал-де¬
мократической партии существуют серьезные разногласия, а во-
вторых, что, несмотря на подчас воинственную по отношению к
существующему строю риторику, она в целом все больше интег¬
рируется в действующую политическую систему.
В предвоенные годы немецкая социал-демократия действи¬
тельно являла собой весьма сложную картину. В рамках одной
партии, конкурируя друг с другом, уживались как минимум три
разнородные группировки. Во-первых, в ее рядах, в том числе и
во фракции, достаточно большим авторитетом пользовались ли¬
деры левых, или ортодоксальных, марксистов — ветераны рабо¬
чего движения А. Бебель, экспансивная Р. Люксембург, сын од¬
ного из основателей партии К. Либкнехт. Они исходили из того,
что капитализм в своей основе оставался таким же, каким был во
времена К. Маркса и, следовательно, все ключевые идеи марксиз¬
ма остаются в силе и не нуждаются в корректировке. Лишь ради¬
кальное разрушение существовавшего правопорядка может от¬
крыть дорогу для прогрессивного развития человеческой цивили¬
зации.
С ними решительно не соглашались правые социал-демократы.
Их идейным лидером являлся Э. Бернштейн, утверждавший, что
современный капитализм стал заметно отличаться от того, социо¬
логический портрет которого нарисовал Маркс. Он неуклонно ме¬
няется, в нем постоянно укрепляются элементы, способствующие
его гуманизации. И бизнес, и государство постепенно усваивают
идеи социальной ответственности, что позволяет социал-демокра¬
там вести с ними конструктивный диалог. Их задача в новых усло¬
виях — не разрушать существующий строй, а всемерно его совер¬
шенствовать. Представитель этой части партии Ф. Шейдеман в
1913 г. возглавил всю социал-демократию Германии.
Между этими полярными группировками находилась вли¬
ятельная центристская фракция во главе с Карлом Каутским.
221
В 1909 г. Каутский подчеркнул, что основные выводы марксиз¬
ма остаются в силе. В то же время, анализируя опыт русской
революции 1905 г., он подчеркивал, что для Германии такой
путь трансформации общества неприемлем. Он полагал, что, на¬
ращивая численность своей фракции в рейхстаге, немецкие со¬
циал-демократы сумеют демократическими методами шаг за
шагом продвигать общество к идеалам социальной справедли¬
вости.
Такое соединение в рамках одной партии столь разнородных
сил не могло продолжаться до бесконечности, и это предвещало
сложные коллизии в стане социал-демократов. Тем не менее пе¬
ред войной они были достаточно весомым фактором в идейно-по¬
литической жизни Германии.
Однако в этой сфере существовали и факторы совсем иного
порядка. Характеризуя идейный климат, который царил в немец¬
ком обществе в зто время, необходимо отметить его важнейшую
особенность: в нем чрезвычайно широкое распространение полу¬
чили националистические идеи. «Германия превыше всего!» —
этот тезис получил широкое хождение, а главное, воспринимался
как данность самыми различными слоями немецкого общества.
Именно в это время была заложена прочная основа будущей « арий¬
ской мифологии», которую на рубеже 20-30-х годов успешно ис¬
пользовал Гитлер. Именно в это время немцев готовили к усвое¬
нию мысли об «избранности» немецкой нации, ее особой роли в
развитии человеческой цивилизации.
В такой атмосфере сверхинтенсивные военные приготовления
не вызывали в обществе отторжения: и рабочему, и бюргеру, и
университетскому профессору, и фабриканту они казались впол¬
не естественными и необходимыми для выполнения «историчес¬
кой миссии», возложенной судьбой на немцев. И когда летом
1914 г. после убийства в Сараеве эрцгерцога Франца-Фердинанда
разразился кризис, приведший к войне, в немецком обществе
практически не оказалось серьезных противников правитель¬
ственного курса, и Германия вступила в войну в атмосфере доста¬
точно прочного национального единства.
§ 4. Франция в начале XX века: на пути
к реваншу
Военная катастрофа 1870 г. наложила глубочайший отпеча¬
ток на всю последующую историю французского общества вплоть
до Первой мировой войны. Крушение Империи острю поставило
вопрос о выборе новых форм политической организации общества.
222
Различные социальные силы по-разному подходили к решению
этого вопроса. Уже в первые послевоенные годы стало очевидно,
что в элите общества и среди широких слоев населения преобла¬
дают республиканские настроения.
В 1875 г. после жарких дебатов завершилась разработка
Конституции нового государства, вошедшего в историю под на¬
званием Третьей республики. Хотя оно просуществовало доста¬
точно долго, до 1940 г., судьба этого государственного образо¬
вания была очень непростой. Особой неустойчивостью отлича¬
лись первые годы существования Третьей республики, когда во
французском обществе имелись достаточно влиятельные силы,
полагавшие, что движение по республиканскому пути не при¬
несет ни им, ни стране в целом ничего хорошего. Лишь к 90-м
годам вопрос об оптимальной форме государственного устрой¬
ства был снят с повестки дня: был сделан окончательный выбор
в пользу республики и дискуссии шли уже о том, какой ей быть.
Характер этой борьбы определялся той расстановкой социаль¬
но-политических сил, которая сложилась во Франции на рубе¬
же XIX-XX веков.
Палитра политической жизни Франции отличалась большой
пестротой и подвижностью. Если партийная система США и Анг¬
лии характеризовалась высокой стабильностью, то во Франции
шла непрекращающаяся партийная перегруппировка: партии воз»
никали и исчезали, вступали в различные альянсы, выходили из
них, меняли свою ориентацию и программно-целевые установки.
Это вело к частым сменам правительств, периодическим и острым
внутриполитическим кризисам. И тем не менее Третья республи¬
ка не просто существовала, но развивалась, двигаясь вперед, на¬
капливая мощь для решающей схватки со своим смертельным
врагом — Германией. Чем объяснить этот парадокс?
Во-первых, пестрота политического спектра отнюдь не озна¬
чала наличия большого числа принципиальных альтернативных
программ развития. В базовых программах многочисленных
партий имелось много точек соприкосновения, они в основном
разделяли общие ценности, отстаивали единый вектор развития
французского общества. Разница была в акцентах, в методах реа¬
лизации общих целей, в крайнем случае в той комбинации идей¬
ных императивов, которыми руководствовались партии. Исклю¬
чение составляло лишь левое крыло социалистов, боровшееся за
полный слом существовавшей системы.
Во-вторых, важным консолидировавшим партийную систему
фактором была общая атмосфера борьбы за восстановление попран¬
ного национального достоинства Франции. Да, различные партии
расходились между собой в степени резкости постановки вопроса
223
о борьбе с Германией, но с тем, что это задача первостепенной важ¬
ности, соглашалось большинство французских политиков тех лет.
Эта общность взглядов на то, что является приоритетной задачей
для общества, помогала удерживать партийно-политическую си¬
стему Третьей республики в сравнительно сбалансированном со¬
стоянии.
Это не исключало острой партийно-политической борьбы. В
новый век Франция вошла, ведомая «правительством республи¬
канской защиты», во главе которого стоял Вальдек Руссо. Прав¬
да, как и прежнее правительство, оно просуществовало недолго.
На выборах 1902 г. победили радикалы, которые, вступив в аль¬
янс с частью социалистов, образовали так называемый «левый
блок», опираясь на который они получили право сформировать
правительство. Его возглавил Э. Комба.
В духе времени правительство собиралось провести ряд соци¬
альных реформ: ввести подоходный налог, расширить систему
пенсионного обеспечения, осуществить национализацию желез¬
ных дорог, решительно проводить в жизнь закон о конгрегациях,
принятый еще в 1881 г. Реализация этой последней меры, как и
следовало ожидать, вызвала в обществе новый всплеск старой дис¬
куссии о роли католической церкви в светских делах, прежде все¬
го в сфере образования. На этот раз дело дошло до разрыва дипло¬
матических отношений с Ватиканом. Конфликт с клерикальны¬
ми кругами усугублялся все усиливавшимися трениями с высшим
армейским руководством, недовольным попытками правительства
провести военную реформу. Все это ослабляло позиции правитель¬
ства при осуществлении им его обещаний в социально-экономи¬
ческой сфере.
В конце 1904 г. в прессу просочились сведения о том, что пра¬
вительство ведет секретное досье на высшие армейские чины. Раз¬
разился громкий скандал, в результате которого правительство
Комба в январе 1905 г. вынуждено было уйти в отставку. Однако
и новое правительство было недолговечным. Из крупных мероп¬
риятий, которое оно успело провести в жизнь, следует отметить
принятие подготовленного еще кабинетом Комба закона об отде¬
лении церкви от государства (июль 1905 г.).
Отсутствие весомого прогресса в сфере социального законода¬
тельства вело к росту напряженности в отношениях рабочих и
предпринимателей. К середине первого десятилетия XX в. Фран¬
ция по количеству забастовщиков заняла первое место в Запад¬
ной Европе. Большой резонанс вызвала забастовка шахтеров вес¬
ной 1906 г. Ее причиной стала одна из крупнейших в истории
Франции катастроф на шахтах, в результате которой погибло 1200
человек. Именно ч это время забастовочная борьба достигла свое¬
224
го пика, и создалась угроза перерастания традиционных трудовых
конфликтов в уличные столкновения. До этого, однако, не дош¬
ло, поскольку, с одной стороны, правительство сумело не только
мобилизовать все силы, имевшиеся в распоряжении репрессивных
органов, но и настроить общественное мнение против бастующих,
которые оказались в своеобразной моральной изоляции. Кроме
того, политическая эффективность рабочего движения снижалась
в силу того, что в нем не было единства.
Обсуждение «казуса Мильерана» выявило глубокие расхож¬
дения в социалистическом движении. Наметившаяся тенденция
к объединению различных его течений в единую партию была со¬
рвана. Правда, весной 1905 г. представители различных группи¬
ровок социалистической ориентации собрались на объединитель¬
ный съезд. Хотя формально поставленная задача была выполне¬
на — объединение состоялось, но по сути та острая полемика, ко¬
торая изначально раздирала партии II Интернационала, сохрани¬
ла свою актуальность. И без того сложную палитру рабочего дви¬
жения заметно усложняло присутствие в нем достаточно влиятель¬
ного анархо-синдикалистского течения.
Как бы то ни было, яркая вспышка социальных конфликтов
весной 1906 г. не переросла в очередной революционный взрыв,
которых было немало во французской истории. Этим воспользо¬
валась партия радикалов, которая стремилась представить себя
наиболее мудрой политической силой, способной одновременно
на проведение необходимых реформ и готовой к проявлению же¬
сткости ради сохранения гражданского мира. Это принесло ей
крупный успех на очередных выборах, состоявшихся все в том
же 1906 г.
Новое правительство возглавил Жорж Клемансо. Фигура яр¬
кая, неординарная, он изначально стремился подчеркнуть, что
именно его правительство начнет по-настоящему проводить рабо¬
ту по реформированию общества. Декларировать эту идею оказа¬
лось гораздо проще, чем осуществить. Правда, одним из первых
шагов нового правительства стало воссоздание министерства тру¬
да, руководство которым было поручено «независимому социали¬
сту» Вивиани. Это, однако, не решало проблемы стабилизации тру¬
довых отношений. По всей стране периодически вспыхивали ост¬
рые трудовые конфликты, не раз перераставшие в открытые стол¬
кновения с силами правопорядка. Не справившись с задачей нор¬
мализации социальной ситуации, Клемансо в 1909 г. ушел в от¬
ставку.
Новое правительство возглавил «независимый социалист»
Аристид Бриан. Он провел закон о рабочих и крестьянских пен¬
сиях с 65 лет, но зто не укрепило позиции его правительства.
225
Общая расстановка политических сил определяла нестабиль¬
ность: ни одна из партий, представленных в парламенте, не мог¬
ла в одиночку проводить в жизнь свою политическую линию.
Отсюда постоянные поиски союзников, формирование различ¬
ных партийных комбинаций, которые распадались при первой
же проверке на прочность. Такая чехарда продолжалась вплоть
до 1913 г., когда на президентских выборах победил Раймон -
Пуанкаре, шедший к успеху под лозунгом создания «великой и
сильной Франции». Он совершенно очевидно стремился смес¬
тить спектр политической борьбы от социальных проблем в сто¬
рону внешнеполитических и таким путем консолидировать об¬
щество.
Пуанкаре был активным сторонником форсированного нара¬
щивания военной мощи Франции и добивался модернизации ее
вооруженных сил. Его жесткая политическая линия ставила не¬
простые вопросы перед левым флангом французского общества.
Выступать против идеи восстановления «попранных чести и дос¬
тоинства» Франции было политически неразумно. Следователь¬
но, необходимо было сформулировать привлекательную альтер¬
нативу курсу Пуанкаре в социальной сфере. Но здесь партиям ле¬
вого толка было непросто договориться о степени радикализма этой
альтернативы. Решить эту задачу они так и не смогли. Тем не ме¬
нее последние месяцы перед началом Первой мировой войны были
заполнены острой внутриполитической борьбой, и лишь вступле¬
ние Франции в войну сняло с повестки дня вопрос о том, каким
курсом ей следует идти.
ГЛАВА XI
Латинская Америка в начале XX века
§ 1. Основные тенденции социально-
экономического и политического
развития стран Латинской Америки
в начале XX века
За время, прошедшее с получения независимости, страны Ла¬
тинской Америки заметно продвинулись в своем социально-эко¬
номическом развитии. К началу XX в. этот огромный регион яв¬
лял собой весьма пеструю картину. Наряду с громадными, слабо
освоенными, а то и просто неисследованными районами (бассейн
Амазонки, Патагония), возникли крупные индустриальные цен¬
тры — Буэнос-Айрес, Мехико, Сан-Паулу. Еще в последней трети
XIX в. наиболее развитые страны Латинской Америки — Арген¬
тина, Мексика, Бразилия, Чили, Уругвай — вступили в фазу про¬
мышленного переворота и к началу века уже заложили фундамент
своего промышленного потенциала. Важно подчеркнуть, что с са¬
мого начала эти страны активно интегрировались в единый миро¬
хозяйственный комплекс, правда, на неравноправных условиях,
преимущественно в качестве аграрно-сырьевой периферии.
Характерная черта развития даже наиболее продвинутых в
экономическом отношении стран Латинской Америки заключа¬
лась в том, что новые социально-экономические структуры не про¬
сто приходили на смену старым, а постепенно интегрировали их в
свою орбиту. Это облегчало и ускоряло темпы буржуазного про¬
гресса. Но была и оборотная сторона медали: эта особенность со¬
циально-экономического развития Латинской Америки порожда¬
ла необычную живучесть интегрированных элементов традицион¬
ных структур в рамках новых. В экономике этих стран прочно
227
укрепилась многоукладность, а это, в свою очередь, усиливало
противоречивость эволюции латиноамериканского общества.
В наиболее полном виде это проявилось в развитии аграрного
сектора. Основной хозяйственной единицей там по-прежнему оста¬
вались латифундии, владельцам которых принадлежало около 80%
всех обрабатываемых земельных угодий в ведущих странах Латин¬
ской Америки. Однако интеграция в единый мирохозяйственный
комплекс стимулировала трансформацию этих хозяйств. Рынок
диктовал свои условия, и этот диктат оборачивался тем, что сельс¬
кое хозяйство приобретало монокультурный характер. Так, напри¬
мер, Аргентина превратилась в крупнейшего поставщика зерна и
мяса, Бразилия и Колумбия — кофе, Куба — сахара и т.д. Это серь¬
езно тормозило развитие внутреннего рынка.
Рубеж XIX-XX вв. отмечен резкой активизацией проникно¬
вения иностранного капитала в экономику этого региона. В1914 г.,
т.е. к началу Первой мировой войны, иностранные инвестиции в
страны Латинской Америки превысили 9 млрд. долл. Более поло¬
вины этой суммы составили деньги английских инвесторов. Быс¬
трыми темпами увеличивали свое финансовое присутствие амери¬
канские банки и корпорации. Заметно активизировалась и Гер¬
мания.
Если англичан больше интересовали страны собственно Юж¬
ной Америки, то американские капиталовложения в то время
прежде всего концентрировались в Мексике и странах Карибско-
го бассейна. После испано-американской войны 1898 г. США пр
сути аннексировали Пуэрто-Рико и установили почти полный кон¬
троль над формально независимой Кубой. Большое значение в их
планах отводилось Панамскому каналу, открытому в августе
1914 г. Это событие кардинально меняло всю динамику хозяй¬
ственных связей в этом регионе. Английские и американские кор¬
порации интенсивно делили латиноамериканский рынок. Так, не¬
фтяные гиганты «Стандард Ойл» (США) и «Ройял Датч-Шелл»
(Великобритания) по существу полностью контролировали добы¬
чу нефти в странах Латинской Америки. «Дженерал Электрик» и
«Вестингауз» (США) монополизировали ввоз в зти государства
продукции производимой электропромышленностью. Зато анг¬
лийские банки до начала Первой мировой войны опережали сво¬
их американских конкурентов по объему ввозимого капитала.
Особенно прочными были их позиции в Аргентине, Чили, Уруг¬
вае, Колумбии.
Этот процесс оказывал противоречивое воздействие на эконо¬
мическое положение данного региона. С одной стороны, иностран¬
ные инвестиции ускоряли его развитие, способствовали внедре¬
нию передовых форм организации промышленного производства.
228
Но наряду с несомненными плюсами, внедрение иностранного
капитала в экономику стран Латинской Америки имело и нега¬
тивные последствия: от этого усиливались диспропорции в разви¬
тии народного хозяйства этих стран, увеличивалась их монокуль¬
турная направленность, что создавало даже определенную угрозу
их суверенитету. Это особенно относилось к странам Центральной
Америки.
Для характеристики того типа государств, который сложил¬
ся в результате Специфических отношений между США и страна¬
ми Центральной Америки, стали использовать особый термин —
«банановые республики», т.е. формально-юридически независи¬
мые государства, на деле полностью зависимые от масштабов экс¬
порта в США тропических культур, выращиваемых в этих стра¬
нах. Используя идеи панамериканизма, США пытались выставить
себя выразителями интересов и чаяний всего населения Нового
Света.
На характер развития латиноамериканского региона большое
влияние оказывали сложные этнические процессы, разворачивав¬
шиеся здесь. Взаимодействие разных культур, традиций — индей¬
ской, негритянской, европейской — вело к формированию в этих
странах очень своеобразных и пестрых этнопсихологических об¬
щностей. Все это, в свою очередь, сказывалось на характере поли¬
тической культуры, специфике всего политического процесса.
Нестабильное состояние латиноамериканского общества, сво¬
еобразная политическая культура, помноженные на обилие запу¬
танных социально-экономических проблем, порождали высокую
неустойчивость политических систем стран Латинской Америки,
частые государственные перевороты, восстания, революции, обус¬
лавливали большую роль насилия и нелигитимных средств веде¬
ния политической борьбы. В большинстве стран у власти находи¬
лись авторитарные режимы, опиравшиеся на армию. В полити¬
ческой борьбе, в массовых народных движениях их участники, как
правило, объединялись не вокруг каких-то программ, лозунгов
или требований, а вокруг лидеров — каудильо (вождь). В качестве
классических примеров таких режимов можно привести дикта¬
туру X. Гомеса в Венесуэле (1909-1935 гг.), П. Диаса в Мексике
(1876-1911 гг.), Э. Кабреры в Гватемале (1898-1920 гг.).
Если в Европе и Северной Америке к этому времени уже сло¬
жились основы гражданского общества, в Латинской Америке,
даже в наиболее развитых странах, до этого было еще далеко. Хотя
формально существовали республиканские институты, были Кон¬
ституции, часто списанные с аналогичного документа, действую¬
щего в США, тем не менее о демократии в Латинской Америке
можнр быдо говорить лишь как о форме, прикрывавшей автори¬
229
тарное господство местных элит. В ряде стран (Аргентине, Брази¬
лии, Колумбии) стали использовать специальный термин — эли¬
тарные демократии, т.е. политические режимы, имевшие все вне¬
шние атрибуты демократии, но на деле олицетворявшие полити¬
ческое господство местных олигархических кругов.
Первым по времени такой режим оформился в Аргентине. Он
просуществовал с 1880 по 1916 гг. В стране существовала Консти¬
туция, во многом копировавшая американскую, действовали по¬
литические партии, регулярно проводились выборы. В них, одна¬
ко, участвовало всего несколько десятков тысяч человек. И зто при
почти восьмимиллионном населении! Основная часть жителей
страны оставалась вне политического процесса.
Реальное содержание такой «демократии» сводилось к тому,
что она давала возможность основным фракциям элиты выраба¬
тывать такой модус взаимоотношений, который бы позволял со¬
здать режим регулируемой и регламентируемой конкуренции
между ними. Только таким способом в Аргентине удалось покон¬
чить с постоянными вооруженными конфликтами между провин¬
циями, предотвратить развал страны. До определенного момента
такая форма политической системы не только отвечала потребно¬
стям правящих элит, но и позволяла создавать условия для экс¬
пансии и постепенного совершенствования буржуазных отноше¬
ний внутри страны. Однако по мере интенсификации этого про¬
цесса начинал меняться и облик аргентинского общества, его со¬
циальные параметры. Они уже плохо вписывались в ту полити¬
ческую систему, которая существовала в Аргентине.
В самом конце XIX в. в Латинскую Америку стали проникать
социалистические идеи. Первой латиноамериканской страной, где
возникла социалистическая партия, стала Аргентина (1896 г.). Ее
лидером стал X. Хусто. Затем подобные партии появились в Чили
и Уругвае. Так же как и в Южной Европе, в Латинской Америке с
социалистами уверенно конкурировали анархисты, идеи и такти¬
ка которых импонировали низам общества. Характерно, что имен¬
но те страны, где возникли социалистические партии, являлись
лидерами в процессе становления гражданского общества и фор¬
мирований демократической политической системы. И именно эти
процессы по существу похоронили элитарные демократии снача¬
ла в Аргентине, а затем и в других странах. Конечно, произошло
это отнюдь не автоматически и не безболезненно.
Это был весьма противоречивый процесс, в котором причуд¬
ливо переплетались консервативные, либерально-реформистские
и революционные тенденции. В разных странах их соотношение
было неодинаковым, но именно их результирующая определяла
общую динамику развития латиноамериканского общества. Если
230
либерально-реформистские тенденции, с определенными оговор¬
ками, определили динамику развития Чили, Уругвая, отчасти
Аргентины, а консервативно-охранительные господствовали в
«банановых республиках» Центральной Америки, островов Кариб-
ского моря, Венесуэле, то ярчайшим воплощением революцион¬
ной тенденции развития общества стала Мексика, где в 1910 г.
вспыхнуло самое крупное и глубокое революционное выступление
в Латинской Америке первой половины XX в.
§ 2. Революция в Мексике
(1910-1917 гг.)
Революция в Мексике, вспыхнувшая в 1910 г., оказала огром¬
ное воздействие на всю последующую историю этой одной из круп¬
нейших стран Латинской Америки. Уничтожив многие пережит¬
ки, унаследованные от предшествующей эпохи, она расчистила
дорогу для бурного прогресса мексиканского общества, предопре¬
делила его лидирующие позиции во многих областях социально-
экономического и политического развития в латиноамериканском
регионе. Она выявила сложное соотношение революционных и ли¬
берально-реформистских тенденций в становлении гражданского
общества, демократических политических институтов и обще¬
ственного прогресса в целом. 1
С 1876 г. в Мексике установилась диктатура Порфирио Диа¬
са. На первых порах он пользовался определенной популярностью
в обществе. Будучи незаурядной личностью, он сумел навести эле¬
ментарный порядок, добился стабильности в социально-полити¬
ческой сфере и обещал стремиться к дальнейшему прогрессу в этой
области, укреплять национальный суверенитет. Однако постепен¬
но его режим приобретал все более ярко выраженные черты от¬
крытой диктатуры, опирающейся на узкий слой олигархической
верхушки, с коррумпированным чиновничьим аппаратом и раз¬
ветвленными репрессивными органами.
Не удивительно, что в обществе стала расти социальная на¬
пряженность, опора диктатуры сокращалась, зато постепенно рос¬
ла и крепла оппозиция. К началу революции ее лидером считался
Франсиско Мадеро. С 1905 г. он издавал газету «Демократия»,
вокруг которой группировались умеренные круги оппозиции.
Чувствуя рост оппозиционных настроений, П. Диас усиливал реп¬
рессии. В этой обстановке Мадеро, вынужденный бежать в США,
разработал «план Сан-Луис Потоси». Поскольку диалога с Диа¬
сом не получалось, речь шла о подготовке его свержения. Восста¬
ние было назначено на 20 ноября 1910 г., но за несколько дней до
231
намеченного срока агентам полиции стало известно об этом, и по
стране прокатилась волна репрессий. В результате восстание
вспыхнуло стихийно.
В пустынных районах северной Мексики и в джунглях на юге
страны успешно действовали партизанские отряды во главе с
Франсиско Вильей и Эмилиано Сапатой. В феврале 1911 г. в Мек¬
сику вернулся Мадеро. Инициатива стала переходить к против¬
никам режима Диаса. Становилось все очевиднее, что дни дикта¬
туры сочтены. В этой ситуации остро вставал вопрос о характере
будущей власти. В самом начале мая Ф. Мадеро сформировал свое
правительство. Между ним и Диасом начались переговоры, кото¬
рые 21 мая привели к следующему соглашению: Диас уходит в от¬
ставку, боевые действия прекращаются, партизанские отряды
распускаются, до избрания президента страной управляет Времен¬
ное правительство. Однако выполнять эти соглашения ре при¬
шлось.
24 мая 1911 г. в Мехико вспыхнуло восстание. П. Диас, не до¬
жидаясь прибытия Мадеро, счел за лучшее бежать за границу.
Диктатура была свергнута. Стремясь не допустить вмешательства
США в разгоревшийся конфликт, умеренные круги оппозиции
предпочли пригласить на пост главы Временного правительства
посла Мексики в США Ф. де ла Барру, имевшего многочисленные
связи в Вашингтоне. Это не устраивало радикальные круги, преж¬
де всего Сапату. Тем не менее в октябре 1911 г. без особых эксцес¬
сов удалось провести президентские выборы, на которых победил
Мадеро.
Ключевым вопросом, стоящим перед новой властью, был аг¬
рарный. Крестьяне ждали от нее возвращения земель, которые
были отобраны у них при Диасе. Однако Ф. Мадеро не спешил с
этим. Тогда Э. Сапата, по-прежнему командовавший крупным
партизанским соединением, выступил с собственным планом ре¬
шения аграрной проблемы («план Айаллы»). Он предусматривал
немедленный возврат индейским общинам отнятых у них земель,
конфискацию земель сторонников Диаса. Сапата требовал суро¬
вого наказания приверженцев бывшего диктатора. Понимая при¬
влекательность этих идей в глазах широких крестьянских масс,
Мадеро попытался перехватить у него инициативу: он объявил о
создании специальной комиссии по изучению поднятых в «плане
Айаллы» проблем. Правда, работала она весьма неторопливо.
Положение Мадеро осложнялось не только тем, что он испы¬
тывал сильное давление слева. Новое правительство изначально
столкнулось с явно недоброжелательным отношением со стороны
США. Американцы поддерживали связи с приверженцами Диа¬
са, яростно критиковали Мадеро за недостаточную, по их мнению,
232
жесткость в отношениях с лидерами радикальных группировок.
В Техасе, на границе с Мексикой, начали демонстративно концен¬
трироваться американские войска. В открытую оппозицию пра¬
вительству Мадеро встал целый ряд генералов. Против него пыта¬
лись использовать и индейские племена. Не без помощи амери¬
канцев заметно активизировали антиправительственную деятель¬
ность консервативные круги в самой столице. Над новой властью
нависла реальная угроза утраты массовой поддержки.
Стремясь предотвратить подобный вариант развития событий,
Мадеро попытался расширить социальную базу новой власти за
счет привлечения на свою сторону рабочего движения. В 1912 г. в
правительстве был создан специальный департамент труда, при¬
званный вырабатывать государственную политику в области тру¬
довых отношений. Правительство встало на путь поощрения со¬
здания профсоюзов. В них с самого начала шла жесткая конку¬
ренция между сторонниками анархистов и приверженцами попу¬
лярной в Латинской Америке концепции христианских профсо¬
юзов. Хотя правительство и согласилось в законодательном поряд¬
ке ограничить рабочий день 10 часами, этого было явно недоста¬
точно для налаживания устойчивых, конструктивных контактов
с рабочим движением.
Трудностями, с которыми столкнулись новые власти, вос¬
пользовались приверженцы прежнего режима. Используя под¬
держку США, опираясь на верхушку армии и представителей
старой олигархии, они готовились к решающему столкновению
с правительством, надеясь реставрировать старый порядок. Еще
в октябре 1912 г. племянник свергнутого диктатора Ф. Диас под¬
нял в крупнейшем портовом городе Мексики Веракрусе восста¬
ние, которое, правда, было подавлено. Это, однако, был важный
симптом, свидетельствующий о назревании социально-полити¬
ческого кризиса.
Встретить его во всеоружии правительство не смогло. В фев¬
рале 1913 г. в Мехико вспыхнуло восстание, в результате которо¬
го власть захватил генерал В. Узрта. Ф. Мадеро был арестован и
расстрелян. Это событие послужило началом для нового, еще бо¬
лее ожесточенного этапа гражданской войны, ибо не только руко¬
водители крупнейших партизанских соединений, но и многие гу¬
бернаторы отказались признать правительство Уэрты.
На роль лидеров противников Уэрты быстро выдвинулся гу¬
бернатор штата Коауила Карранса. В марте 1913 г. он обнародо¬
вал так называемый «план Гуадалупе», в котором призвал насе¬
ление Мексики к вооруженной борьбе против Уэрты. К осени
1913 г. вся Северная Мексика была в руках противников Уэрты,
которых называли конституционалистами. Успехи радикальных
233
сил все больше тревожили правительство США, которое не без ос¬
нований опасалось, что в случае их победы американские интере¬
сы и американская собственность окажутся под угрозой. Над Мек¬
сикой все более сгущались тучи: США готовились к открытой ин¬
тервенции.
Внешняя угроза не снижала накала гражданской войны. Об¬
становка по-прежнему оставалась крайне запутанной. Мехико и
прилегающие к нему районы контролировались войсками генера¬
ла Уэрты. Северные штаты страны находились в руках одного из
наиболее ярких лидеров радикальных сил Ф. Вильи. В штатах
Сонора и Коауила власть принадлежала сторонникам Каррансы.
На юге страны большим влиянием пользовался лидер крупнейше¬
го партизанского соединения Э. Сапата.
Несмотря на то что большая часть регулярной армии подчи¬
нялась правительству Уэрты, положение последнего ухудшалось
с каждым днем. Пришедшие в ходе революции в движение широ¬
кие слои населения требовали перемен, страстно мечтали о луч¬
шей жизни, а Уэрта всячески препятствовал уничтожению соци¬
ально-политических препон, тормозивших переустройство обще¬
ства. Это и предопределило его судьбу. Летом 1914 г. его войска
были разбиты, а сам он бежал из страны.
Новое правительство Мексики возглавил В. Карранса. Явля¬
ясь лидером умеренных кругов, он тем не менее должен был счи¬
таться с позицией радикальных сил и их лидеров — Ф. Вильи и
Э. Сапаты. Те были сторонниками скорейших и максимально глу¬
боких преобразований в сфере социально-экономических отноше¬
ний. Карранса предложил обсудить все спорные вопросы на съез¬
де конституционалистов, назначенном на 1 октября 1914 г. После
серьезных колебаний вожди партизанских соединений согласи¬
лись. Съезд, как и следовало ожидать, не смог принять принци¬
пиальных решений. Однако грозовая атмосфера, царившая в об¬
ществе, убеждала Каррансу в необходимости движения навстре¬
чу требованиям радикальных сил.
В январе 1915 г. он торжественно обещал вернуть крестьянам
земли, экспроприированные у них режимом Диаса. Серьезную
прибавку авторитету Каррансы дали его шаги по ограничению прав
иностранных инвесторов в Мексике. В первую очередь это каса¬
лось нефтяной промышленности. Большое внимание он уделял
налаживанию контактов с профсоюзами. В феврале 1915 г. меж¬
ду ними и правительством было заключено соглашение о сотруд¬
ничестве. В соответствии с ним стали формироваться рабочие ба¬
тальоны, которые правительство намеревалось использовать как
противовес отрядам Вильи и Сапаты, состоявшим из крестьян.
Идея противопоставления рабочих крестьянам давала Каррансе
234
шанс стать арбитром в жестком противоборстве социальных сил,
раздиравшем мексиканское общество.
Положение Каррансы осложнялось двумя обстоятельствами.
Во-первых, это общая экономическая ситуация. В условиях жес¬
токой и кровопролитной войны мексиканская экономика, и без
того не имевшая серьезного запаса прочности, пребывала в тяже¬
лейшем состоянии. Улучшить жизнь основной части населения в
такой ситуации было невозможно. Другая опасность нависала из¬
вне. В правящем истеблишменте США все более негативно отно¬
сились к тому, что происходило в Мексике.
1916 год оказался, пожалуй, самым тяжелым и для мексикан¬
ской революции, и лично для В. Каррансы. Сложная экономичес¬
кая ситуация вызвала резкий конфликт правительства с профсо¬
юзами, требовавшими от него действенных мер по улучшению
положения рабочих, прежде всего законодательного введения 8-
часового рабочего дня и жесткого контроля за ценами на продо¬
вольствие. Ситуация обострилась настолько, что глава правитель¬
ства издал указ о роспуске рабочих батальонов и о резком ужесто¬
чении наказаний за участие в забастовках. Обстановка осложни¬
лась еще больше после того, как в марте 1916 г. американцы, ис¬
пользовав пограничный инцидент как повод для вмешательства в
события в Мексике, начали вторжение в эту страну. Внешняя опас¬
ность консолидировала на время революционный лагерь, заста¬
вила правительство ужесточить свою позицию в отношении инос¬
транной, прежде всего американской собственности на террито¬
рии Мексики. Борьба с интервентами продолжалась почти год и
завершилась в феврале 1917 г. выводом американских войск из
Мексики.
Используя временную консолидацию всех сторонников рево¬
люционных преобразований, Карранса предложил созвать Учре¬
дительное собрание для выработки новой Конституции. Оно от¬
крылось 1 декабря 1916 г. Помимо обсуждения собственно кон¬
ституционных вопросов, его делегатов волновало еще несколько
проблем: аграрный вопрос, рабочий вопрос и судьба иностранных
инвестиций. Достаточно быстро сформировались две группиров¬
ки — умеренная во главе с В. Каррансой и радикальная, лидером
которой стал А. Энрикес. После жарких дебатов в феврале 1917 г.
текст Конституции был наконец одобрен.
Это была в полном смысле слова Конституция нового поколе¬
ния, ибо помимо вопросов собственно государственного устройства
очень большое внимание в ней уделялось социально-экономичес¬
ким проблемам. Так, в новом Основном законе страны предусмат¬
ривалось право на экспроприацию крупной земельной собствен¬
ности, осуждалась практика пеонажа. Значительное место зани¬
235
мали в нем проблемы трудовых отношений: устанавливался 8-ча¬
совой рабочий день, вводилась 6-дневная рабочая неделя и мини¬
мум заработной платы, запрещалась выдача зарплаты товарами и
т.д. За рабочими закреплялось право на забастовку и заключение
коллективных договоров, церковь лишалась права владения не¬
движимостью. Ограничивались права иностранцев на владение и
распоряжение собственностью. Они обязаны были подчиняться
местным законам. Наконец, за нацией признавалось право на кон¬
троль за недрами и находящимися в них богатствами.
Мексиканская Конституция 1917 г. являлась наиболее демок¬
ратичной из всех имевшихся тогда документов подобного рода. Она
открыла новую страницу в развитии конституционного права и
стала прямым следствием глубоких перемен, которые произошли
в мексиканском обществе под влиянием революции. Она корен¬
ным образом изменила лицо Мексики, уничтожила многие пере¬
житки «старого порядка», тормозившие движение страны по пути
общественного прогресса. Заплатив дорогую цену за эти радикаль¬
ные преобразования, мексиканцы вместе с тем создали хороший
плацдарм для превращения своей страны в одно из наиболее раз¬
витых, демократичных и стабильных государств Латинской Аме¬
рики.
ГЛАВА XII
Первая мировая война: предпосылки,
ход и характер
§ 1. На пути к глобальному конфликту:
международные отношения
в начале XX в.
Рубеж XIX-XX вв. ознаменовался серией локальных войн за
передел мира. Открыла ее вспыхнувшая в апреле 1898 г. испано¬
американская война. Она была весьма быстротечной — слишком
неравными оказались силы сторон — и завершилась в декабре это¬
го же года подписанием в Париже мирного договора. Хотя офици¬
ально США вступили в войну с чисто альтруистическими намере¬
ниями — помочь изгнать европейскую колониальную державу из
Нового Света, в итоге их позиция оказалась далеко не столь беско¬
рыстной. Испания отказывалась от прав на Кубу и другие остро¬
вные владения в Вест-Индии. Это, однако, не означало, что Куба
немедленно получала независимость: там оставались американс¬
кие войска. Кроме того, США получили Филиппинские острова,
Пуэрто-Рико и остров Гуам. Вскоре разоренная войной Испания
была вынуждена продать Германии Каролинские острова, чтобы
хоть как-то поправить свое финансовое положение.
Дальнейшая судьба Кубы складывалась следующим образом:
в 1901 г. конгресс США принял поправку Платта, регулирующую
отношения США с островным государством. Суверенитет Кубы
был значительно ограничен, по существу там установился режим
американского протектората. Дальнейшее внимание США было
направлено на Панамский перешеек, где строился канал, соеди¬
нявший Тихий океан и Карибское море. В 1903 г. не без участия
США там вспыхнула революция, в результате которой в Централь¬
ной Америке возникло новое государство — Панама. Ее руковод¬
237
ство немедленно уступило США зону Панамского перешейка, где
строился канал.
Второй очень серьезный локальный конфликт возник на юге
Африки. Там в конце 90-х годов XIX в. были открыты крупные за¬
пасы золота. Англия, и без того стремившаяся установить свой кон¬
троль над этой территорией, еще больше активизировала свою дея¬
тельность в этой части «черного континента». Здесь давно существо¬
вали государства Трансвааль и Оранжевая республика, созданные
переселенцами из Голландии — бурами. Кайзер Вильгельм II демон¬
стративно поддержал руководство бурских республик, когда те от¬
били попытку английских колонистов вторгнуться на их террито¬
рию. Это лишь подстегнуло Англию, и в 1899 г. она начала войну.
Совершенно неожиданно для себя английские войска натолкнулись
на упорное сопротивление буров. Несмотря на явное преимущество
англичан, война становилась затяжной. Более того, Англия, тра¬
диционно проводившая на международной арене политику «блес¬
тящей изоляции», на сей раз помимо собственной воли оказалась в
моральной изоляции: общественное мнение большинства стран
осуждало ее агрессию против буров. Война, продолжавшаяся до
1902 г., показала, что некогда могущественная Британия явно те¬
ряет свои позиции. Это вызвало серьезное переосмысление внеш¬
неполитических императивов в британской элите.
В условиях резкого обострения англо-германских противоре¬
чий, спектр которых к тому же постоянно расширялся, английс¬
кое руководство всерьез задумалось о том, что стране нужны со¬
юзники. Вскоре после завершения войны Англия пошла на бес¬
прецедентный шаг: впервые в мирное время она заключила дого¬
вор о взаимопомощи с Японией. Политика «блестящей изоляции»
уходила в небытие. Заимев одного союзника, Англия вскоре сде¬
лала еще один шаг в этом направлении: в 1904 г. она заключила
так называемое «Сердечное согласие» (Entente cordiale) с Фран¬
цией. Таким образом, закладывались основы нового альянса —
Антанты, имевшего очевидную антигерманскую направленность.
Пока в Европе намечались контуры нового блока, резко обо¬
стрилась ситуация на Дальнем Востоке. Япония, раздраженная
тем, что в 90-е годы XIX в. европейские державы заставили ее от¬
ступить от намеченных планов по созданию своей сферы влияния
в Китае, мечтала о реванше. После заключения договора с Англи¬
ей она стала действовать еще более решительно.
Надо сказать, что, несмотря на неуклонный рост антирусских
настроений в Японии с конца 90-х гг. XIX в., русское правитель¬
ство вело себя, мягко говоря, легкомысленно и в конечном счете
оказалось не готовым к перерастанию двустороннего конфликта
сначала в фазу кризиса, а затем и в войну. Не было сделано ничего
238
для укрепления материально-технической базы Тихоокеанского
флота. Даже после того, как Япония закрыла свои порты для рос¬
сийских военных кораблей, царские войска не озаботились рас¬
ширением и укреплением своих баз на Дальнем Востоке. Практи¬
чески не было предпринято никаких адекватных действий и на
дипломатическом фронте. Более того, Россия, естественно не же¬
лая того, по сути приняла участие в финансировании военных при¬
готовлений Японии: в расчете на укрепление своих позиций на
Дальнем Востоке она предоставила Китаю заем, не особенно забо¬
тясь, куда пойдут эти деньги, а эти средства использовались пра¬
вительством «поднебесной & для выплаты контрибуции Японии.
Не сумела по достоинству оценить военные приготовления
Японии и тогдашняя военная элита России. Несмотря на тревож¬
ные донесения разведки, в военных верхах в Санкт-Петербурге
продолжали считать японцев «дальневосточными турками», раз¬
бить которых не составит труда. Взаимоисключающие заявления
о ситуации в этом регионе и о целях России там постоянно делал и
сам Николай II. Поскольку вплоть до самого начала войны этот
конфликт рассматривался в высшем руководстве страны как пе¬
риферийный, не способный в любом случае серьезно повлиять на
положение России на международной арене, то и отношение ко
всем его составляющим было явно не соответствующим степени
угрозы, нависшей над интересами империи на Дальнем Востоке.
В итоге, когда в начале 1904 г. там вспыхнула еще одна ло¬
кальная война — русско-японская, наша страна сразу же оказа¬
лась в тяжелом положении. Неожиданно для большинства поли¬
тиков победителем в ней вышла Япония. По Портсмутскому миру,
подписанному осенью 1905 г., Россия потеряла Южный Сахалин,
Порт-Артур, отказывалась от своих прав на Ляодунский полуост¬
ров. Корея попадала в сферу влияния Японии.
Ослаблением России попыталась воспользоваться Германия,
спровоцировавшая в 1905 г. очередной международный кризис —
марокканский. Для его урегулирования в начале 1906 г. в испан¬
ском городе Альхесирасе собралась международная конференция,
которой предстояло определить будущее Марокко. На ней был до¬
стигнут очень зыбкий компромисс: Марокко формально призна¬
валось независимым государством, где все заинтересованные ве¬
ликие державы имели равные возможности. По сути же рычаги
влияния на ход событий оставались в руках Франции. В Герма¬
нии это понимали и тем не менее не отказывались от притязаний
на создание своей сферы влияния в Северной Африке. Неудача
лишь подстегнула ее агрессивность. Она все интенсивнее готови¬
лась к решительной схватке за слом не устраивавшего ее статус-
кво на международной арене.
239
Нарастание кризисных тенденций в сфере международных
отношений стимулировало дальнейшую поляризацию великих
держав. В 1907 г. был сделан завершающий шаг в формировании
антигерманского блока. Именно в это время было заключено анг¬
ло-русское соглашение, замкнувшее треугольник, который стал
складываться после подписания в 1893 г. франко-русского дого¬
вора о сотрудничестве. Антанта — реальный противовес Трой¬
ственному союзу — стала реальностью.
Итак, Европа раскололась — в ней оформились две противо¬
борствующие группировки, интересы которых распространялись
на весь мир, и теперь любой конфликт, где бы он ни происходил,
грозил взорвать хрупкое равновесие, которое сложилось на меж¬
дународной арене. Первым испытанием для этой конструкции ста¬
ли события на Балканах. Воспользовавшись тем, что в Османской
империи в 1908 г. младотурки попытались осуществить государ¬
ственный переворот, Австро-Венгрия аннексировала Боснию и
Герцеговину. Этот вызывающий шаг, носивший ярко выражен¬
ную антирусскую направленность, был нацелен на то, чтобы вы¬
теснить Россию с Балкан. Было очевидно, что Австро-Венгрия
никогда не решилась бы на такой авантюрный шаг, не будь она
уверена в поддержке Германии. Тот факт, что Россия была вынуж¬
дена отступить, смириться с аннексией этих двух южнославянс¬
ких земель, убеждал Германию в том, что нужно форсировать со¬
бытия, не дожидаясь момента, когда Антанта превратится в блок,
способный эффективно противостоять немецкой экспансии.
Напряженность на международной арене стала быстро нарастать.
1911 год был ознаменован рядом серьезных инцидентов. Во-первых,
вновь вспыхнул конфликт вокруг Марокко. Франция, давно претен¬
довавшая на то, чтобы включить эту страну в сферу своего влияния,
перешла к решительным действиям: под предлогом защиты своих
граждан от возникших в столице Марокко беспорядков она ввела в
эту страну войска и установила над ней фактический протекторат.
Это побудило Германию послать к берегам Марокко свой военный
корабль. Ее правительство утверждало, что нарушены условия пре¬
жнего соглашения и, следовательно, Германии причитается компен¬
сация. Давление принесло свои плоды: Франция согласилась для
умиротворения аппетитов своего давнего врага уступить ему часть
своих владений в Экваториальной Африке. Опять-таки эти события
подстегивали Германию, убеждая ее руководство в том, что полити¬
ка жесткого давления на оппонентов весьма эффективна.
Во-вторых, в том же 1911 г. вспыхнула итало-турецкая война.
Потерпев очередное поражение, турки лишились своей последней
африканской провинции — Триполитании (нынешняя Ливия).
Другим следствием этого конфликта стало еще большее падение
240
престижа Турции: всем было очевидно, что Османская империя аго¬
низирует. Это обострило обстановку на Балканах, где часть славян¬
ских народов и греков еще находилась под османским игом. По ини¬
циативе Сербии на Балканах был создан антитурецкий альянс, куда
вошли, помимо нее, Болгария, Греция и Черногория. В октябре
1912 г. на Балканах началась война. Поводом для нее послужило
восстание албанцев против господства турок. В короткий срок Тур¬
ция была разбита. Уже в ноябре она запросила перемирия. Мирные
переговоры осложнялись тем, что за непосредственными участни¬
ками конфликта стояли великие державы, у которых были свои,
подчас диаметрально противоположные интересы на Балканах.
В итоге этой войны по существу были ликвидированы все ев¬
ропейские владения Турции (за исключением районов, прилегав¬
ших к Стамбулу). Было создано новое государство — Албания.
Однако в процессе перекройки границ на Балканах в среде недав¬
них союзников возникли серьезные разногласия. Основным кам¬
нем преткновения стал вопрос о разделении Македонии. В резуль¬
тате летом 1913 г. вспыхнула вторая Балканская война. На этот
раз расстановка сил была иной: против Болгарии, поддерживае¬
мой Германией и Австро-Венгрией, выступили Сербия, Греция и
Черногория. В этой новой войне Болгария потерпела поражение.
В августе 1913 г. в Бухаресте был подписан мирный договор, по
которому Болгария уступала Румынии Добруджу, Сербии — боль¬
шую часть Македонии. Турции вернули Адрианополь. Греция по¬
лучила все острова Эгейского моря и южную Македонию.
Бойна еще сильнее сблизила Болгарию с Германией, военно¬
политическое руководство которой все больше склонялось к мыс¬
ли, что складывается благоприятная ситуация для реализации ее
стратегических установок — слома статус-кво и утверждения сво¬
его господствующего положения в мировых делах. Уже в 1913 г.
Генеральный штаб германской армии — ее мозговой центр — раз¬
работал в деталях возможные сценарии военного противоборства.
При всей немецкой педантичности эти планы страдали рядом се¬
рьезных недостатков.
Во-первых, в них не был просчитан вариант одновременного
вступления в войну против Германии всех членов Антанты, вклю¬
чая Англию. Во-вторых, вся немецкая военная стратегия основы¬
валась на порочной идее блицкрига, т.е. стремительного разгрома
поодиночке своих главных антагонистов — Франции и России.
Вариант затяжной войны сразу на два фронта по существу исклю¬
чался. Отсюда явно недостаточное внимание было уделено эконо¬
мической составляющей всех мобилизационных планов.
Конечно, Германия обладала мощнейшим экономическим по¬
тенциалом, но достаточен ли он для того, чтобы на протяжении
241
ряда лет обеспечивать на должном уровне массированные постав¬
ки всего необходимого для ведения войны? Этот кардинальный
вопрос, в силу того что исходные вводные плана, разработанного
немецким генштабом, его по существу исключали, никто серьез¬
но не прорабатывал. А ведь Германия в значительной мере зависе¬
ла от поставок многих важнейших видов сырья и продовольствия.
Затяжная война требовала и совсем иного планирования ис¬
пользования людских ресурсов. Такая война, в отличие от блицк¬
рига, неизбежно предполагала большие потери, а это во весь рост
ставило проблему пополнения вооруженных сил и одновременно
обеспечения кадрами военного производства и сельского хозяй¬
ства. Необходимо было предусматривать вопрос о механизмах ре¬
гулирования распределения материальных и людских ресурсов
между ключевыми отраслями народного хозяйства. Аналогов ре¬
шения подобной проблемы в то время просто не было, ибо ранее в
них просто не было необходимости. Все предшествовавшие войны
носили принципиально иной характер.
Наконец, вследствие бурного научно-технического прогресса
возрастала роль военной техники в обеспечении победы и одно¬
временно стремительно росла ее стоимость. А это тяжелым бреме¬
нем ложилось на финансовую систему страны, значение которой
в общем контексте финансирования экономики неуклонно возра¬
стало. Однако вопрос о степени ее готовности к нагрузкам военно¬
го времени опять-таки никем не просчитывался. Тем не менее по¬
рочность концепции блицкрига, вошедшей в историю под назва¬
нием «плана Шлиффена», стала очевидна немецкому руководству
только позднее, когда уже началась война и все его прежние рас¬
четы явно не оправдались. Тогда же люди, определявшие полити¬
ческий курс Германии, были уверены в том, что этот план в опти¬
мальном варианте отражает интересы Тройственного союза. Не
хватало только повода, чтобы приступить к его реализации.
Судьба не заставила себя долго ждать. 28 июня 1914 г. в Сара¬
еве сербским террористом Г. Принципом был убит наследник ав¬
стро-венгерского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд. Это собы¬
тие и стало прологом к началу Первой мировой войны.
§ 2, Ход и характер Первой мировой
войны (1914-1918 гг.)
Первая мировая война, начавшаяся 28 июля 1914 г., явилась
не только следствием нараставшего конфликтного потенциала в
сфере международных отношений, но и отражением кризиса тра¬
диционного буржуазного общества. Хотя после убийства эрцгер-
242
дога Франца-Фердинанда почти месяц сохранялась многовариан¬
тность в развитии событий, столкновение двух противоборствую¬
щих блоков — Тройственного союза и Антанты — в конечном сче¬
те было неизбежным. Сам факт этого теракта поставил великие
державы перед непростым выбором: как на него реагировать, что
предпринять в сложившейся ситуации?
В принципе были возможны два варианта: рассматривать это
происшествие как событие общеевропейского масштаба и тогда в
соответствии со сложившейся практикой ставить вопрос о созыве
общеевропейского конгресса для разбора возникшей ситуации и
поиска путей ее урегулирования, или, наоборот, считать, что все
случившееся — дело лишь Австро-Венгрии и Сербии и предоста¬
вить им возможность самим разбираться в своих отношениях. В
первом случае сохранялся шанс на урегулирование конфликта, ибо
большинство ведущих европейских стран (за исключением Гер¬
мании) не стремились форсировать кризис} во втором, учитывая
соотношение сил и характер взаимоотношений этих двух стран, -
избежать военного столкновения было очень трудно.
В руководстве практически всех великих держав шли острые
дискуссии: какую позицию лучше занять, что сулит их стране
большие дивиденды? Единственным исключением была Герма¬
ния, чье военно-политическое руководство было твердо убежде¬
но, что форсирование кризиса отвечает стратегическим интересам
рейха. Именно ее лидеры всячески подталкивали Австро-Венгрию
к занятию максимально жесткой позиции в отношении Сербии.
23 июля 1914 г. Сербии был вручен австрийский ультиматум, при¬
нятие которого по существу означало бы отказ Белграда от части
своего суверенитета. Не исчерпав всех возможностей для поиска
компромисса, Австро-Венгрия 25 июля 1914 г. разорвала дипло¬
матические отношения с Сербией и через три дня объявила ей вой¬
ну. А затем началась цепная реакция: 1 августа в войну вступили
Россия и Германия, 3 августа — Франция и Бельгия, еще через
день — Англия. Война приобрела глобальный характер.
С началом войны в Европе возникло три фронта: Западный,
протянувшийся от берегов Ла-Манша до Швейцарии, Восточ¬
ный — от Балтики до границ Румынии, и Балканский фронт, рас¬
полагавшийся по австро-сербской границе. Обе противоборству¬
ющие группировки наряду с боевыми действиями вели активные
поиски новых союзников. Первой на этот зондаж откликнулась
Япония, вступившая в войну на стороне Антанты в конце августа
1914 г. Ее участие в боевых действиях было, правда, весьма огра¬
ниченным. Японские войска захватили ряд тихоокеанских остро¬
вов, принадлежавших Германии, и немецкую базу на побережье
Китая — порт Циндао. Этим они и ограничились. В дальнейшем
243
Япония занималась укреплением своих позиций в Китае. Един¬
ственным ее вкладом в усилия союзников в последующий период
было то, что России не надо было беспокоиться о своей дальневос¬
точной границе. В октябре 1914 г. в войну на стороне Германии
вступила Турция. Образовался фронт в Закавказье.
Главные события разворачивались, однако, на Западном и
Восточном фронтах. Немецкое командование планировало в крат¬
чайший срок разбить Францию, а уж затем сосредоточиться на
борьбе с Россией. В соответствии с этими планами немецкие войс¬
ка начали массированное наступление на западе. В так называе¬
мом «пограничном сражении» они прорвали фронт и начали на¬
ступление в глубь Франции. Пытаясь помочь своему союзнику,
Россия, еще не завершившая полностью развертывание своих сил,
начала наступление в Восточной Пруссии, которое, однако, закон¬
чилось разгромом двух русских армий.
В сентябре 1914 г. развернулось грандиозное сражение на
Марне, от исхода которого зависела судьба всей кампании на За¬
падном фронте. В ожесточеннейших боях немцы были останов¬
лены, а затем и отброшены от Парижа. План молниеносного раз¬
грома французской армии провалился. Война на Западном фрон¬
те приобрела затяжной характер. Практически одновременно с
битвой на Марне развернулись крупные сражения на Восточном
фронте — в Польше и Галиции. Австро-венгерская армия потер¬
пела в этих боях серьезное поражение, и немцам пришлось сро'ч-
но помогать своему союзнику. С их помощью удалось остановить
наступление русских войск, но здесь немецкое Командование
впервые почувствовало, что значит вести войну на два фронта. К
концу осени 1914 г. стабилизировалась ситуация и на Балканс¬
ком фронте.
К началу 1915 г. стало очевидно, что в реальности война по
своему характеру заметно отличалась от того, какой она виделась
сотрудникам генштабов великих держав в предвоенный период.
Всем участникам войны приходилось по ходу дела вносить серь¬
езные коррективы и в свою военную стратегию, и в социально-эко¬
номическую политику, и в действия на международной арене. В
связи с тем, что война приобрела затяжной характер, для ее глав¬
ных действующих лиц было чрезвычайно важно заручиться под¬
держкой новых союзников, с тем чтобы таким путем сломать сло¬
жившееся равновесие сил. В 1915 г. сфера боевых действий рас¬
ширилась за счет вступления в войну двух новых стран — Болга¬
рии на стороне Германии и Италии на стороне Антанты. Однако
внести принципиальные изменения в общий расклад сил эти со¬
бытия не смогли. Судьба войны по-прежнему решалась на Восточ¬
ном и Западном фрортах.
244
В 1915 г. русская армия начала испытывать сложности, выз¬
ванные тем, что военная промышленность не могла обеспечить ее
должным количеством боеприпасов, оружия и амуниции. Герма¬
ния же решила в 1915 г. нанести главный удар на востоке. Зимой-
весной этого года развернулись бои на всем протяжении Восточ¬
ного фронта. В Галиции дела шли для русских войск успешно.
Австрийские войска терпели поражение за поражением, и над
ними нависла угроза полного разгрома. В мае на помощь своему
союзнику пришли немцы, неожиданный удар которых между Гор¬
лице и Тарновом привел к прорыву фронта и вынужденному отхо¬
ду русских войск из Галиции, Польши и Литвы. Все лето нашим
войскам пришлось вести тяжелые оборонительные бои, и лишь
осенью им удалось остановить немецкое наступление.
Несмотря на огромные потери у всех участников войны, дос¬
тигнуть перелома в ходе боевых действий в 1915 г. никому не уда¬
лось. По мере того как противоборствующие стороны увязали в
войне, ухудшалась ситуация внутри этих стран. В 1915 г. серьез¬
ные трудности начали испытывать Австро-Венгрия, Россия, Гер¬
мания, Франция, отчасти Англия. Это подстегивало их стремле¬
ние быстрее добиться успеха на фронтах, ибо их силы явно исто¬
щались. В феврале 1916 г. немецкое командование начало свою
самую крупномасштабную наступательную операцию, пытаясь
захватить важную в стратегическом отношении французскую кре¬
пость Верден. Однако, несмотря на колоссальные усилия и огром¬
ные потери, немецкие войска так и не смогли ее взять. Сложив¬
шуюся ситуацию попыталось использовать англо-французское
командование, предпринявшее летом 1916 г. крупную наступа¬
тельную операцию в районе реки Сомма, где впервые попыталось
перехватить инициативу у немцев.
Примерно в это же время разгорелись ожесточенные бои на
Восточном фронте — в Галиции, Буковине, в предгорьях Карпат.
В ходе этой операции австрийской армии был нанесен удар та¬
кой силы, от которой она уже не смогла оправиться. От полного
разгрома ее спасла лишь экстренная помощь со стороны немцев.
Но и России этот успех достался дорогой ценой. Правда, почув¬
ствовалось это не сразу. На первых порах ход летней кампании
1916 г. не только вселял оптимизм в русское общество, союзни¬
ков, но и заметно повлиял на те державы, которые еще не опре¬
делили свою позицию. Так, именно под влиянием этих событий
сделала свой выбор Румыния: в августе 1916 г. она вступила в
войну на стороне Антанты. Правда, вскоре стало ясно, что вклад
Румынии в общие усилия Антанты скорее негативный, чем по¬
зитивный: ее войска были разбиты, и держать новый фронт при¬
шлось России.
2ф5
Огромные и в то же время безрезультатные усилия, затрачен¬
ные обеими сторонами в ходе кампании 1916 г., оказали серьез¬
ное воздействие на их действия. Это особенно относилось к Гер¬
мании. Ее руководство отчаянно искало выход из тупика, в ко¬
торый оно попало. Поиски велись по нескольким направлениям.
Первое, что пыталось осуществить немецкое командование, — пе¬
реломить ход боевых действий за счет перехода к «тотальной вой¬
не» с использованием отравляющих веществ, бомбардировок и
обстрелов мирных объектов, неограниченной подводной войны.
Все это, однако, не только не принесло ожидаемых военных ре¬
зультатов, но способствовало закреплению за немцами репута¬
ции варваров. В этой ситуации попытки тайного зондажа о воз¬
можности заключения перемирия (общего или сепаратного) на¬
талкивались на дополнительные трудности. Более того, постоян¬
ные атаки немецких подводников на суда нейтральных стран
вели к обострению отношений с последней из великих держав,
оставшейся вне войны, — с США.
К концу 1916 г. заметно ухудшилась ситуация в России. На¬
чались перебои со снабжением населения продовольствием, рос¬
ли цены, процветала спекуляция. Недовольство распространи¬
лось не только на низы общества: оно проникло в армию и даже в
правящую элиту. Престиж царской семьи катастрофически па¬
дал. Обстановка в стране быстро накалялась. Царь и его ближай¬
шее окружение проявили полное непонимание происходившего,
продемонстрировали редкую политическую близорукость и не¬
способность контролировать положение. В итоге в феврале 1917 г.
в стране произошла революция, приведшая к свержению царс¬
кого режима. Россия вступила в полосу длительных социальных
потрясений.
В этой ситуации Временному правительству просто необходи¬
мо было немедленно выходить из войны и сосредоточиться на ре¬
шении многочисленных и крайне сложных внутренних проблем.
Однако этого не было сделано. Наоборот, новые власти деклари¬
ровали, что будут верны внешнеполитическим обязательствам
царского правительства. Провозгласить этот постулат было воз¬
можно, выполнить — гораздо труднее, ибо армия стала развали¬
ваться на глазах. Ни солдаты, ни офицеры просто не понимали, за
цхо воюет новая Россия.
То, что произошло в России, волновало политиков всех веду¬
щих государств. Все понимали, что разворачивавшиеся там собы¬
тия самым непосредственным образом повлияют на ход войны.
Было ясно, что в целом это ослабляло мощь Антанты, что вселяло
оптимизм в руководство Германии, которое наде^ло.сь, что нако¬
нец-то весы ощутимо качнулись в их пользу.
246
Однако в апреле 1917 г., когда в войну на стороне Антанты
вступили США, ситуация не только выровнялась, но и стала бо¬
лее выгодной для противников Германии. Правда, на первых по¬
рах это событие не принесло ощутимых дивидендов Антанте. Зах¬
лебнулось в крови весеннее наступление союзников на Западном
фронте. Полным провалом завершилась попытка наступления
русских войск на юго-западном направлении в Прикарпатье. Нем¬
цы использовали эту неудачу и перешли в наступление в Прибал¬
тике. В начале сентября 1917 г. они заняли Ригу и стали непос¬
редственно угрожать тогдашней столице России — Петрограду.
В стране тем временем нарастала напряженность. Временное
правительство подвергалось резкой критике и справа, со стороны
монархистов, и слева, со стороны большевиков, влияние которых
в массах стало быстро расти. Осенью 1917 г. Россия вступила в фазу
острейшего системного кризиса, страна стояла на пороге катаст¬
рофы. Ей уже явно было не до «войны до победного конца». 7 но¬
ября (25 октября по старому стилю) в России произошла новая
революция. Центром событий опять стал Петроград, где власть
перешла в руки большевиков. В. И. Ленин возглавил новое пра¬
вительство — Совет Народных Комиссаров. Оно немедленно зая¬
вило о выходе России из войны. Собственно говоря, два первых
декрета новой власти — Декрет о мире и Декрет о земле — во мно¬
гом предопределили дальнейший ход событий внутри страны.
Поскольку предложение Советского правительства о немед¬
ленном заключении всеобщего мира было отвергнуто другими
странами Антанты, оно начало переговоры с представителями Гер¬
мании и ее союзников. Проходили они в Брест-Литовске в весьма
сложной и противоречивой обстановке. Немцы понимали, что воз¬
можности новой власти на данном этапе крайне ограничены, и
пытались использовать эти переговоры для получения односторон¬
них преимуществ. Труднейшие переговоры продолжались вплоть
до 3 марта 1918 г., когда наконец был подписан очень тяжелый
для России мирный договор. Используя жесткое силовое давле¬
ние, немцы добились согласия советской делегации на аннексию
Польши, Белоруссии, большей части Прибалтики. На Украине
создавалось полностью зависимое от Германии «независимое» го¬
сударство во главе с гетманом Скоропадским. Помимо огромных
территориальных уступок Советская Россия была вынуждена со¬
гласиться на выплату контрибуции.
И тогда, и сегодня этот договор яростно обсуждался в россий¬
ском обществе. Даже в самой партии возникла ситуация, близкая
к расколу. Сам В. И. Ленин называл Брест-Литовский мир «гра¬
бительским», «похабным». Да, действительно, для России это
было колоссальное унижение. Однако надо трезво глядеть на вещи:
247
иного выхода в сложившейся ситуации просто не было. Вся логи¬
ка предшествующих событий поставила страну в такое положе¬
ние. Она оказалась перед драматическим выбором: либо принять
условия этого договора, либо погибнуть.
Пока на востоке определялась судьба России, да во многом и
всей человеческой цивилизации, на других фронтах продолжались
ожесточенные бои. Шли они с переменным успехом. Разгром ита¬
льянских войск в сражении при Капоретто в октябре 1917 г. был в
известной степени компенсирован успехами англичан на Ближ¬
нем Востоке, где они нанесли ряд серьезных поражений турецким
войскам. Страны Антанты стремились не только добиться перело¬
ма в чисто военных действиях, но и захватить инициативу на иде¬
ологическом фронте. В этом плане ключевая роль принадлежала
президенту США В. Вильсону, который в январе 1918 г. выступил
со своим знаменитым посланием, вошедшим в историю под назва¬
нием «14 пунктов Вильсона». Это была своеобразная либеральная
альтернатива Декрету о мире и одновременно платформа, на ко¬
торой США предполагали осуществить послевоенное мирное уре¬
гулирование. Центральным в программе Вильсона был пункт о
создании Лиги Наций — международной организации по поддер¬
жанию мира.
Однако для того, чтобы приступить к реализации этих планов,
предстояло еще добиться победы в войне. Там чаша весов неук¬
лонно склонялась на сторону Антанты. Несмотря на выход Рос¬
сии из войны, положение Германии продолжало ухудшаться.
Внутри страны начиная с января 1918 г. стало быстро нарастать
забастовочное движение, резко обострилась продовольственная
проблема, надвигался финансовый кризис. Не лучше было и по¬
ложение на фронтах. Подключение США к военным действиям
Антанты гарантировало той надежное преимущество в плане ма¬
териально-технического обеспечения. В такой ситуации время
явно работало на Антанту.
Германское командование остро ощущало этот общий небла¬
гоприятный для его страны вектор развития, но по-прежнему не
теряло надежды на успех. Понимая, что время работает против
них, немцы в марте-июле 1918 г. предприняли несколько отча¬
янных попыток добиться перелома в ходе военных действий на
Западном фронте. Ценой огромных потерь, полностью истощив¬
ших немецкую армию, ей удалось приблизиться к Парижу на рас¬
стояние около 70 км. Однако на большее сил уже не хватало.
18 июля 1918 г. союзники перешли в мощное контрнаступле¬
ние. Затем последовала новая серия массированных ударов. Удер¬
жать наступление войск Антанты германская армия уже не смог¬
ла. В конце октября 1918 г. даже немецкому командованию стало
248
ясно, что поражение неизбежно. 29 сентября 1918 г. из войны выш¬
ла Болгария. 3 октября 1918 г. в Германии было создано новое
правительство во главе с принцем Максом Баденским, сторонни¬
ком «партии мира». Новый канцлер обратился к лидерам Антан¬
ты с предложением начать переговоры о мире на основе «14 пунк¬
тов Вильсона». Однако те предпочитали сначала окончательно
разбить Германию, а уж потом продиктовать ей условия мира.
Война вступила в завершающую фазу. События развивались
стремительно. 30 октября из войны вышла Турция. В это же вре¬
мя был отстранен от руководства немецкой армии генерал Люден-
дорф, известный как противник любых переговоров с Антантой.
В октябре 1918 г. начала разваливаться как карточный домик
Австро-Венгерская империя. К тому моменту, когда 3 ноября
1918 г. она официально капитулировала, этого государства фак¬
тически уже не было. В стране вспыхнула революция, и на месте
бывшей многонациональной империи стали возникать самостоя¬
тельные национальные государства.
Германия еще продолжала воевать, но и здесь назревал рево¬
люционный взрыв. 3 ноября 1918 г. вспыхнуло восстание военных
моряков в Киле. Восстание быстро переросло в революцию, кото¬
рая смела монархию. Кайзер Вильгельм II бежал в Голландию. 10
ноября власть перешла к Совету народных уполномоченных, во
главе которого встал один из лидеров социал-демократов Ф. Эберт,
а на следующий день Германия капитулировала.
Война закончилась, но никогда еще перед победителями не
стояли столь масштабные проблемы, связанные с послевоенным
урегулированием и формированием новой модели международных
отношений.
ГЛАВА XIII
Западное общество в условиях Первой
мировой войны
§ 1. США: первая заявка на мировое
лидерство
Вступление Соединенных Штатов в апреле 1917 г. в Первую
мировую войну на стороне Антанты оказало серьезное воздей¬
ствие на все аспекты развития американского общества. Хотя в
стране отнюдь не было единства относительно необходимости для
США непосредственно участвовать в военных действиях, адми¬
нистрация В. Вильсона попыталась минимизировать эти расхож¬
дения в общественном мнении, подчеркивая, что в новых усло¬
виях американцы просто обязаны консолидироваться вокруг
президента. Конечно, Вильсон прекрасно понимал, что одних
призывов к созданию в стране атмосферы национального един¬
ства явно недостаточно. В решающей мере отношение различных
социальных групп к войне зависело от двух взаимосвязанных
обстоятельств: успехов (точнее говоря цены успехов) на фрон¬
тах и влияния военного фактора на материальное положение
американцев.
И в том, и в другом вопросе имелось немало сложностей. К
началу войны численность вооруженных сил США составляла все¬
го 134 тыс. человек. С такой армией нечего было рассчитывать на
то, чтобы оказать серьезное влияние на ход боевых действий в Ев¬
ропе. Поэтому уже в мае 1917 г. конгресс принял закон о всеоб¬
щей воинской повинности для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет
(позднее возрастная планка была поднята до 45 лет). В результате
к концу войны в вооруженных силах США насчитывалось уже 4,8
млн. человек. Правда, их участие в собственно боевых действиях
было минимальным. Они вступили в них только весной 1918 г.,
250
примерно за полгода до окончания войны. Соответственно, и люд¬
ские потери американцев (по сравнению с европейскими страна¬
ми) были незначительны — около 50 тыс. человек убитыми. На
территории Америки боевые действия не велись. Поэтому ника¬
ких материальных разрушений она не знала.
Зато война принесла огромные выгоды американской эконо¬
мике. За это время резко возросли все основные экономические
показатели. Индекс промышленного производства вырос на 32%,
а национальное богатство увеличилось по сравнению с довоенным
периодом более чем на 100 млрд. долл. США давали более 1/2 всей
мировой добычи угля, 3/5 чугуна и стали, 2/3 нефти, они произ¬
водили 85% всех автомобилей. Безусловно, наибольшие выгоды
от войны получили крупные корпорации, на долю которых при¬
шлась львиная доля всех правительственных заказов. Их чистые
прибыли составили 33,5 млрд. долл.
Однако капли «золотого дождя» падали не только на верши¬
ну экономического Олимпа, они попадали и ца рядовых амери¬
канцев. Во-первых, так как несколько миллионов человек были
призваны в армию и одновременно объем производства резко воз¬
рос, по существу сошла на нет проблема безработицы. Средняя
сумма годовой заработной платы возросла на 67%. Во-вторых,
правительству удалось укрепить конструктивные отношения с
руководством АФТ. Еще в 1916 г., когда в США был создан но¬
вый орган — Совет национальной обороны, глава АФТ С. Гомперс
согласился возглавить комитет по труду, призванный разрабо¬
тать рецепты «рабочей политики» на случай вступления США в
войну.
В марте 1917 г. профсоюзные лидеры одобрили документ «По¬
зиция американских профсоюзов в условиях мира и войны». В нем
содержались условия, при которых АФТ готова была поддержать
военные усилия правительства. Их было три: 1) процентное фик¬
сирование прибылей предпринимателей; 2) соблюдение профсоюз¬
ных стандартов при найме на работу в частном и государственном
секторе; 3) включение представителей профсоюзов «во все госу¬
дарственные органы, формирующие и проводящие в жизнь поли¬
тику национальной обороны».
В «чрезвычайных условиях» военных лет не считаться с по¬
зицией крупнейшего профсоюзного объединения было опасно.
Президент это прекрасно понимал и делал все для того, чтобы зак¬
репить и развить наметившиеся контакты между демократичес¬
кой партией и профсоюзами и таким путем интегрировать их в
политическую систему США. Налаживанию партнерских отно¬
шений правительства с профсоюзами во многом мешали предпри¬
ниматели, не желавшие понять важность этого фактора для ста¬
251
бильности общества. Для них война отождествлялась прежде
всего с исключительно благоприятной экономической конъюнк¬
турой, сулящей огромные дивиденды. При этом в тени оставался
комплекс сложнейших вопросов, связанных с форсированным
переводом экономики на военные рельсы. Со столь масштабны¬
ми проблемами американскому обществу еще не приходилось
сталкиваться, и наиболее дальновидным представителям дело¬
вой и политической элиты было ясно, что рыночная экономика
сама по себе не способна справиться с решением этой задачи.
Нужны были специальные механизмы, с помощью которых го¬
сударство смогло бы регулировать этот процесс, направлять его
в оптимальное русло.
Именно поэтому уже в мае 1917 г. в конгресс был внесен
билль Левера, призванный создать законодательную основу го¬
сударственного регулирования экономики в военное время.
Принятие этого законопроекта сопровождалось ожесточенной
полемикой, растянувшейся на несколько месяцев. Это и не уди¬
вительно, ибо вся философия этого документа решительно от¬
вергала базовые догматы классического либерализма о невме¬
шательстве государства в сферу экономики. Закон о контроле
над продовольствием, сырьем и топливом, принятый в августе
1917 г., давал президенту весьма широкие полномочия. Он мог
создавать любые органы и принимать все меры, вплоть до рек¬
визиции, необходимые для снабжения вооруженных сил США
и предотвращения спекуляции. В соответствии с этим докумен¬
том были созданы Продовольственная и Топливная админист¬
рации, которые возглавляли соответственно Г. Гувер и Г. Гар¬
филд. Чуть позднее были образованы Железнодорожная адми¬
нистрация во главе с У. Макаду и Военно-торговое управление,
регулировавшее экспорт из Америки товаров и сырья стратеги¬
ческого назначения. л
Все эти меры носили противоречивый характер. С одной сто¬
роны, эти спешно сформированные органы сыграли определен¬
ную роль в начальный момент перестройки экономики США на
военные рельсы. Они помогли правительству взять пусть и под
неполный, но все же контроль эти сложнейшие процессы, что,
несомненно, позволило стабилизировать обстановку, снять наи¬
более негативные последствия, порожденные приспособлением
народного хозяйства к условиям войны. С другой стороны, очень
быстро стали очевидны многочисленные недостатки новых
структур: нечетко прописанная сфера компетенции, дублиро¬
вание, слабая координация. Все это настоятельно требовало со¬
вершенствования всей системы военно-регулирующих органов.
В марте 1918 г. президент поручил координацию деятельности
252
данных структур Военно-промышленному управлению, рабо¬
тавшему под его личным контролем. Это ведомство, обладавшее
большими полномочиями, действительно во многом сумело упо¬
рядочить положение дел в социально-экономической сфере, что
обеспечило высокую эффективность американских усилий в
этой области.
Определенное исключение составляли финансовая сфера и
область трудовых отношений. Жаркие дебаты велись по поводу
контроля над ценами и, следовательно, масштаба прибылей. Най¬
ти действенные рецепты ограничения роста цен правительство
так и не смогло. Не менее остро стоял вопрос о принципах фи¬
нансирования военных усилий США, в первую очередь о налого¬
вой политике. Еще в марте 1917 г. был принят закон о 8% обло¬
жении чистой прибыли корпораций и об увеличении налога на
наследство. В итоге за счет налогов правительство США получи¬
ло 37% средств, потраченных на войну. Остальные деньги влас¬
ти собирали за счет внутренних займов (было выпущено четыре
«займа свободы» и один «заем победы» на общую сумму 21,3
млрд. долл.). Их охотно покупали и рядовые американцы, и бан¬
ки, ибо они гарантировали высокий процент прибыли (3-4% го¬
довых и освобождение от налогообложения). Однако эти займы,
решив проблему финансирования военных усилий, одновремен¬
но привели к росту государственного долга — проблеме, которая
с 30-х годов XX в. превратилась в одну из ключевых для амери¬
канской экономики.
Пожалуй, наиболее сложным вопросом, с которым столкну¬
лась администрация Вильсона, была проблема трудовых отноше¬
ний, прежде всего предотвращение и урегулирование трудовых
конфликтов. Несмотря на подключение лидеров АФТ к формули¬
рованию принципов рабочей политики, избежать трудовых конф¬
ликтов в условиях неизбежного роста цен и неравномерного рас¬
пределения бремени, связанного с ведением войны, было невоз¬
можно. Однако в условиях войны любой трудовой конфликт со¬
здавал сложности в организации снабжения армии, порождал до¬
полнительные трудности в и без того непростой ситуации. Поэто¬
му в администрации Вильсона придавали первостепенное значе¬
ние конструированию эффективных механизмов, способных обес¬
печить государству надежный контроль над конфликтами в сфере
трудовых отношений.
Весной-летом 1918 г. в соответствии с указами президента
были созданы два новых органа — Национальное военное управ¬
ление труда и Военное управление рабочей политики, которые
были призваны разрешать трудовые конфликты в сфере военного
производства путем посредничества между конфликтующими сто-
253
ронами. Оценить степень их эффективности непросто, ибо они на¬
чали свою деятельность уже на завершающем этапе войны. Ско¬
рее следует расценивать их работу с точки зрения формирования
новой долговременной стратегии правящей элиты в сфере трудо¬
вых отношений. В этом контексте они безусловно заслуживают
упоминания, ибо их деятельность стала определенным этапом в
разработке новых рецептов управления трудовыми отношениями,
в укреплении в них эволюционных начал.
Призывы к национальному единству безусловно оказывали
заметное воздействие на морально-политический климат в стра¬
не, на самые различные слои американского общества. Однако
было бы неправомерно говорить о затухании партийно-политичес¬
кой борьбы в США на том основании, что общество в целом под¬
держало военные усилия правительства. На федеральном уровне
двухпартийная система действительно упрочила свои позиции:
вплоть до 1924 г. она уверенно контролировала ход политическо¬
го процесса. Однако, во-первых, до начала 20-х годов, несмотря
на общий сдвиг вправо всего политического спектра США, между
демократами и республиканцами оставались серьезные разногла¬
сия как по ряду внутриполитических проблем (рабочая полити¬
ка, степень государственного вмешательства в экономику, отно¬
шение к проблемам демократизации политической жизни), так и
по вопросам внешнеполитической стратегии, прежде всего в от¬
ношении перспектив послевоенного урегулирования и роли США
в этом процессе.
Во-вторых, доминирование двух главных партий на федераль¬
ном уровне отнюдь не означало, что такая же ситуация была на
уровне отдельных штатов. В ряде штатов, прежде всего на Даль¬
нем Западе, даже в это время заметное влияние сохраняли сторон¬
ники независимых политических действий. Наибольшей популяр¬
ностью среди электората, сочувствовавшего этим идеям, пользо¬
валась Беспартийная Лига Северной Дакоты, созданная еще в
1915 г. Она имела свои отделения в 15 штатах, расположенных к
западу от Миссисипи. Сторонник Лиги Л. Фрезер в 1916 г. был из¬
бран губернатором штата, получив 80% всех голосов. За время
своего пребывания на этом посту он сумел провести в штате рад
мероприятий, ставших образцом для сторонников независимых
действий в других штатах. Он сократил учетные ставки на кредит
для фермеров, установил минимум заработной платы, осуществ¬
лял широкое строительство школ, ввел обязательное 10-летнее
образование, предоставил на уровне штата избирательное право
женщинам.
Лидеры Лиги даже утверждали, что США находятся на по¬
роге «мирной» революции. Это, конечно, было явным преуве¬
254
личением. Тем не менее Беспартийная Лига действительно ока¬
зывала определенное воздействие на политическую систему
США. Она способствовала внесению в политический процесс
целого ряда новых проблем, привлекала к ним внимание как
электората в целом, так и политической элиты, заставляла пос¬
леднюю задумываться над поисками путей совершенствования
«американской системы». В стратегическом плане деятельность
подобных организаций, несмотря на недовольство консерватив¬
ных кругов, способствовала укреплению в американском обще¬
стве вполне определенных стереотипов, суть которых сводилась
к тому, что Соединенные Штаты в силу своей «исключительно¬
сти» вполне способны решать все самые сложные проблемы в
рамках существующей системы, постоянно совершенствуя ее
путем легитимных реформ. Все это, несомненно, укрепляло эво¬
люционные характеристики американской модели обществен¬
ного развития.
Не полностью контролировали ситуацию две главные
партии и на противоположном фланге политического спектра.
Рост националистических настроений вел к тому, что респек¬
табельные общественные организации этого типа, ориентиро¬
вавшиеся в политическом плане на элиту республиканской
партии, уже не всегда могли инкорпорировать в свои ряды тех
американцев, которые были недовольны «космополитизмом»
Вильсона и либералов в целом. Выход их недовольству давали
правоэкстремистские организации типа переживавшего второе
рождение Ку-клукс-клана (ККК). Обновленный ККК начал бы¬
стро увеличивать число своих приверженцев именно в годы
Первой мировой войны, на волне критики «инородцев», разру¬
шающих «истинно американские ценности». На этот раз объек¬
том их нападок были не только негры, но вообще все иммигран¬
ты. Не удивительно, что теперь приверженцы этой организации
появились за пределами южных штатов. Деятельность ККК уси¬
ливала напряженность во многих регионах страны, ставила пе¬
ред политической элитой США, особенно из числа демократов,
немало сложных проблем.
Для Америки 1918 г. был не только годом окончания войны,
но и временем очередных выборов в конгресс, и то обстоятельство,
что его новому составу почти наверняка придется решать важней¬
шие проблемы, связанные с послевоенным урегулированием, при¬
давало избирательной кампании особую остроту. Успехи на фрон¬
тах, достаточно впечатляющие показатели в области экономики
не помогли демократам в их давнем споре с республиканцами. Обе
палаты конгресса перешли под контроль «великой старой партии».
Это предвещало весьма серьезные проблемы для Вильсона уже в
255
самом ближайшем будущем, ибо на повестку дня выходили слож¬
нейшие проблемы послевоенного урегулирования и реконверсии
(перевода военной экономики на мирные рельсы).
Собственно говоря, старт этой борьбе дал сам президент еще в
1918 г., когда посвятил ежегодное послание о положении в стране
планам послевоенного урегулирования. Этот документ вошел в
историю под названием «14 пунктов Вильсона» и представлял со¬
бой развернутую программу послевоенного урегулирования, точ¬
нее говоря, американскую версию этого процесса. Хотя первона¬
чально программа Вильсона в целом получила весьма лестные
оценки как внутри страны, так и за рубежом, уже тогда его поли¬
тические оппоненты задавались вопросом, каким образом прези¬
дент собирается состыковать пункт о создании Лиги Наций с тра¬
диционными изоляционистскими постулатами о неучастии США
в мирное время в каких-либо альянсах с европейскими держава¬
ми? Означает ли провозглашение этого программного пункта, что
США собираются после войны радикально пересмотреть заветы
«отцов-основателей» и перейти к принципиально иным внешне¬
политическим доктринам?
Пока шла война, этот вопрос носил во многом риторический
характер. Однако не успели аналитики проанализировать итоги
промежуточных выборов в конгресс, как 11 ноября 1918 г. герман¬
ская армия прекратила сопротивление и, таким образом, Первая
мировая война завершилась победой Антанты, внутри которой
позиции США заметно окрепли. Это означало, что вопрос о прин¬
ципах послевоенного урегулирования и позиции США в этой об¬
ласти из риторической сферы перешел в чисто практическую плос¬
кость. А с учетом того, что в конгрессе теперь большинством обла¬
дали республиканцы, которые в своей основе являлись привержен¬
цами изоляционизма, стало ясно: впереди у Вудро Вильсона не¬
легкая жизнь, ибо любой международный договор должен быть
ратифицирован сенатом США 2/3 голосов.
В тот момент президент еще не знал, с какими тяжелейшими
испытаниями ему придется лично столкнуться всего через не¬
сколько месяцев, какими последствиями обернутся дебаты вок¬
руг Версальского мира (договора, зафиксировавшего основные
итоги войны) и для его партии, и для страны в целом, да и для
всей новой модели международных отношений. Главное — война
была выиграна, и привел страну к победе он, Вильсон. Теперь пред¬
стояло пожинать плоды победы.
Каковы же итоги развития США на этом коротком, но очень
важном отрезке их истории? За годы войны они сделали первую
серьезную заявку на мировое лидерство, причем не просто в тра¬
диционном смысле этого слова, а на лидерство морально-полити¬
256
ческое, на роль страны, которая прокладывает дорогу в будущее
для всей человеческой цивилизации. Под эту заявку был по две-
ден солидный фундамент, прежде всего экономический. По всем
основным экономическим показателям США вышли на первые
позиции, серьезно обогнав своих конкурентов. Они превратились
в мирового кредитора, в долгу у которого оказались все основные
европейские державы.
Одними из первых, начав процесс адаптации к условиям ин¬
дустриального общества, Соединенные Штаты сумели снять мно¬
гие коллизии, характеризовавшие эту непростую фазу развития
любого общества, и избежали потрясений, которые сопровожда¬
ли ее в ряде стран континентальной Европы.
Уже в годы «прогрессивной эры» в США начал формировать¬
ся механизм государственного регулирования социально-эконо¬
мических отношений. Война дала его развитию новый импульс.
Это давало в руки политической элиты США важные рычаги,
позволявшие в перспективе уверенно управлять процессами об¬
щественного развития. И это же усиливало амбиции США в от¬
ношении их возможностей в общем контексте эволюции чело¬
веческой цивилизации. Раз они смогли за короткий историчес¬
кий срок совершить огромный рывок — от слаборазвитой, пе¬
риферийной страны до державы, претендующей на передовые
позиции и в мировом хозяйстве, и в мировой политике, то это
наглядно свидетельствует об обоснованности претензий США на
глобальное лидерство. Эта заявка подкреплялась тем, что США
предложили развернутую программу послевоенного урегулиро¬
вания и построения новой, как уверяли американцы, практи¬
чески идеальной модели международных отношений, надежно
страхующей мир от повторения глобальных военных конфлик¬
тов. Безусловно, другие великие державы иначе оценивали си¬
туацию и отнюдь не собирались безоговорочно принимать аме¬
риканскую заявку на лидерство. В силу этого вопрос о том, в
какой мере Соединенным Штатам удастся реализовать свои пла¬
ны, оставался открытым.
§ 2. Англия: трудный путь к победе
Хотя разговоры о возможности «большой войны» шли в Анг¬
лии с начала XX в., правящая элита оказалась застигнутой врасп¬
лох, когда она вспыхнула. С момента убийства австрийского эрц¬
герцога в Сараеве и вплоть до начала собственно войны английс¬
кое руководство постоянно делало весьма туманные и противоре¬
чивые заявления, которые свидетельствовали об отсутствии чет¬
257
кой линии поведения в сложившейся обстановке. В конечном сче¬
те 4 августа 1914 г. Великобритания, последняя из великих евро¬
пейских держав, вступила в войну.
Как и в других державах, политическое и военное руковод¬
ство страны не рассчитывало на то, что война примет затяжной
характер, а боевые действия сразу же приобретут такой размах.
Об этом красноречиво свидетельствовали призывы правитель¬
ства к населению «вести дела как обычно». Однако уже через
несколько месяцев стало ясно, что ни о каком «нормальном по¬
рядке вещей» не может быть и речи. Война, быстро приобретав¬
шая черты тотальной, стала оказывать все более заметное вли¬
яние на все стороны жизни английского общества. Англии сра¬
зу же (в соответствии с планом W) пришлось резко увеличить
свои вооруженные силы, а это уже к концу 1914 г. стало созда¬
вать определенные проблемы с ресурсами рабочей силы, тем
более что пришлось в экстренном порядке увеличивать масш¬
табы производства и одновременно перестраивать его структу¬
ру, переводить экономику на военные рельсы. Осуществлять
столь сложную операцию без активного государственного регу¬
лирования было невозможно.
Уже в 1915 г. парламент одобрил «Закон о производстве воо¬
ружений», вводивший государственный контроль над всеми во¬
енными заказами. Осуществление его было поручено созданному
ранее министерству вооружений. Снабжение армии и флота всем
необходимым потребовало мобилизации всех финансовых ресур¬
сов Англии, но очень скоро стала ощущаться их острая нехватка.
Лондонский Сити, являвшийся до войны центром мировых фи¬
нансов, перестал справляться со своими обязанностями по поддер¬
жанию стабильности английской валюты. Начались инфляция и
быстрый рост цен, и для того, чтобы не допустить катастрофичес¬
кого падения жизненного уровня, правительство вынуждено было
перейти к целевому субсидированию нуждающихся. Но и это не
помогло решить все проблемы. В конечном счете английское пра¬
вительство обратилось к США с просьбой о предоставлении кре¬
дитов. К концу войны размер английского долга достиг очень со¬
лидных размеров — более 5 млрд. долл.
Сложное воздействие оказала война на аграрный сектор ан¬
глийской экономики. Начатая немцами неограниченная война
на море нанесла серьезнейший ущерб поставкам продовольствия
в метрополию, нарушила привычные связи между ней и состав¬
ными частями империи. Английским властям волей-неволей
пришлось стимулировать развитие собственного сельского хо¬
зяйства. Но это потребовало серьезных финансовых вливаний в
этот сектор экономик#. Трудности сельского хозяйства усугуб¬
258
лялись и нехваткой рабочей силы. В итоге хоть и не сразу, но с
начала 1917 г. правительство вынуждено было пойти на беспре¬
цедентную для Англии меру — ввести рационирование основ¬
ных продуктов питания, а затем и государственное регулирова¬
ние цен на хлеб.
Понятно, что столь серьезные изменения в привычных подхо¬
дах к социально-экономическим проблемам, к базовым принци¬
пам политики в этой сфере, в самом климате, царившем в обще¬
стве, не могли не сказаться на характере политического процесса.
На первых порах английской элите удалось консолидировать об¬
щественное мнение под лозунгом «национального единства». Все
ведущие партии и даже большая часть представителей левой час¬
ти политического спектра выразили поддержку действиям своего
правительства. Лидеры лейбористов провозгласили идею «индус¬
триального мира» на время войны, ибо главное на этом истори¬
ческом отрезке — достижение победы. Без этого, по их мнению,
было невозможно дальше работать над совершенствованием анг¬
лийского общества, его социально-политических и экономических
механизмов.
Однако за национальное единство надо было платить. Оппо¬
ненты либералов все жестче настаивали на том, чтобы те допусти¬
ли и их до участия в руководстве страной в военное время, ибо без
этого не может быть подлинного национального единства. Весной
1915 г. дело дошло до^рравительственного кризиса. В итоге руко¬
водство либералов сочло за лучшее пойти на уступки своим внут¬
риполитическим оппонентам: правительство Г. Асквита стало ко¬
алиционным. В него вошли 8 консерваторов и лидер лейбористов
А. Гендерсон. А еще примерно через полтора года, в декабре
1916 г., либералам пришлось еще больше потесниться на полити¬
ческом Олимпе. В реформированный кабинет, который возглавил
Д. Ллойд-Джордж, вошло 13 консерваторов, 12 либералов и 3 лей¬
бориста.
Обладавшая огромным политическим опытом правящая элита
Великобритании пошла на очередной крупный маневр, который
иногда сравнивают с «революцией в британском стиле». Суть его
заключалась в консолидации вокруг властных структур дополни¬
тельных социальных сил. Во-первых, к участию в правительстве
были привлечены не просто политики консервативной ориентации,
а те, кто был непосредственно связан с Федерацией британской про¬
мышленности, т.е. представители элиты делового мира. Во-вторых,
к государственному управлению стали все активнее подключать
лейбористов. В итоге в новом кабинете либералы обладали большин¬
ством только в альянсе с лейбористами. Такое положение устраи¬
вало далеко не всех либералов, тем более что Д. Ллойд-Джордж ре¬
259
формировал не только персональный состав правительства, но и его
структуру. Все ключевые вопросы стали решаться не на общих за¬
седаниях кабинета, а в узком кругу, в рамках т.н. «военного каби¬
нета» , куда помимо самого премьера входили еще лишь 3 человека
(причем все не либералы).
В этой ситуации группа влиятельных либералов во главе с
бывшим премьером Асквитом отказалась поддержать новое пра¬
вительство, положив начало расколу либеральной партии, привед¬
шему через несколько лет к тому, что эта некогда ведущая партия
полностью фрагментировалась, утратила свои лидирующие пози¬
ции, скатилась на периферию политической жизни. Однако в тот
момент последствия «бунта Асквита» еще не оказали заметного
влияния на внутриполитическую ситуацию. Англичан гораздо
больше волновали другие вопросы.
Прежде всего, естественно, их беспокоила ситуация, сложив¬
шаяся на фронтах. Британии приходилось максимально напрягать
силы, чтобы удерживать там стабильное положение. В мае 1916 г.
пришлось пойти на введение всеобщей воинской повинности, а это
сразу же обострило проблему трудовых ресурсов. Начался вынуж¬
денный массовый приток женщин на производство, а также все
более жесткое государственное регулирование всех аспектов ус¬
ловий труда на военных предприятиях.
И именно в это время перемирие в «индустриальных отноше¬
ниях» начало давать первые трещины. В тред-юнионах, среди ря¬
довых членов стали заметно усиливаться радикальные настрое¬
ния, росло недовольство тем, что сотрудничество руководителей
лейбористской партии с властью не приносит простым трудящим¬
ся каких-либо ощутимых выгод. Конкретным результатом этих
сдвигов на нижних этажах профсоюзного движения стали серьез¬
ные перемены в кадровом составе его низового аппарата. Там за¬
родилось достаточно радикальное движение шоп-стюартов (цехо¬
вых старост), которое требовало от высших профсоюзных руково¬
дителей более жестких и решительных действий. Рост влияния
сторонников этого движения грозил серьезно осложнить ситуацию
в военной экономике.
Положение Британской империи, и без того достаточно труд¬
ное, усугубила ирландская проблема, имевшая глубокие истори¬
ческие корни. В апреле 1916 г. в Ирландии вспыхнуло вооружен¬
ное восстание, участники которого добивались предоставления
«зеленому острову» независимости. Восстание было подавлено, но
Лондону становилось все труднее удерживать свой контроль над
ситуацией в Ирландии. По сути дела в тылу у Англии оказалась
заложена мина замедленного действия, готовая взорваться в лю¬
бой момент.
260
В такой непростой внутриполитической ситуации для правя¬
щих кругов Великобритании было чрезвычайно важно как мож¬
но скорее добиться решающего успеха на фронтах Первой миро¬
вой войны. Там, однако, ситуация оставалась по сути тупиковой.
Несмотря на колоссальные усилия, ни одна из воюющих сторон
не могла добиться ощутимого перевеса. Правда, Англия смогла
записать в свой актив победу, одержанную в середине 1916 г. в
крупнейшем морском сражении Первой мировой войны — Ютлан¬
дском. В результате этого боя основные силы немецкого надвод¬
ного флота были разбиты, и инициатива в борьбе на море перешла
к англичанам. Но, во-первых, это событие не помешало немцам
продолжить и даже интенсифицировать операции подводных ло¬
док, по-прежнему наносивших немалый ущерб торговым связям
Англии с США и колониями. Во-вторых, при всей значимости бо¬
евых действий на море, судьбы войны все же решались на основ¬
ных фронтах европейского континента, а там ситуация для Ан¬
танты оставалась крайне тяжелой.
Не удивительно, что во второй половине 1916 г. во всех веду¬
щих странах Европы, участвовавших в войне, в политической эли¬
те стали усиливаться позиции тех, кто полагал, что необходимо
как можно скорее начать зондаж на предмет скорейшего заклю¬
чения перемирия. Англия не являлась исключением. В ноябре
1916 г. достоянием гласности стал меморандум Ленсдаунса, пред¬
ставителя парламентской фракции консерваторов, в котором он
пытался доказать, что едий^венный выход из тупиковой ситуа¬
ции, сложившейся в ходе войны, — начать немедленные перего¬
воры с Германией о заключении перемирия, ибо дальнейшее про¬
должение военных усилий было чревато, по его мнению, серьез¬
нейшими внутриполитическими потрясениями, способными по¬
ставить страну на грань катастрофы.
Подавляющее большинство политических руководителей Бри¬
тании, однако, не поддержали эти идеи, полагая, что их реализа¬
ция может обернуться еще большими бедами для Англии, ибо
любые мирные переговоры в такой ситуации были равнозначны
признанию слабости Лондона, резко подрывали его позиции на
международной арене. А ведь практически вся политическая элита
страны воспитывалась в твердом убеждении, что лидерство Анг¬
лии в мировых делах — непременное условие ее процветания, про¬
гресса и безопасности. Следовательно, жертвовать ими никак
нельзя.
Однако обстановка все более осложнялась. В феврале 1917 г.
в России произошла революция. И хотя Временное правитель¬
ство объявило, что будет продолжать «войну до победного кон¬
ца», всем было ясно: боеспособность русской армии, а следова¬
261
тельно, и совокупная мощность Антанты заметно ослабли. Анг¬
лийское правительство использовало все имевшиеся в его распо¬
ряжении рычаги, чтобы не допустить выхода России из войны.
Тем не менее вплоть до апреля 1917 г., когда в войну на стороне
Антанты вступили США, ситуация оставалась крайне напряжен¬
ной. Лишь с этого момента впервые после начала войны перед
Англией забрезжил свет победы. Правда, перемены к лучшему
англичане почувствовали не сразу. 1917 г. был отмечен ростом
социальной напряженности в большинстве воюющих стран, и
Англия не стала исключением. Для наиболее дальновидных бри¬
танских политиков было очевидно, что в сложившихся услови¬
ях очень важно улучшить имидж английской модели обществен¬
ного развития.
С этой целью в феврале 1918 г. парламент санкционировал
проведение очередной реформы избирательной системы страны.
По новому закону право участвовать в выборах получили все муж¬
чины, достигшие 21 года, а также женщины (правда, с 30 лет).
Количество избирателей в результате этого выросло в 2,5 раза — с
8 млн. до 21 млн. человек. Почти одновременно было принято ре¬
шение о проведении реформы системы народного образования:
вводилось обязательное бесплатное обучение всех детей до 14 лет.
Уже тогда английское правительство начало серьезно задумывать¬
ся о социальных последствиях реконверсии (т.е. перехода обще¬
ства с военного режима существования к мирному времени). По
предложению правительства было решено, что вернувшиеся с вой¬
ны демобилизованные солдаты будут получать пособие вплоть до
устройства на работу.
Война поставила перед английским обществом целый ком¬
плекс неординарных проблем, аналогов решения которых про¬
сто не существовало. Насколько английская модель обществен¬
ного развития подготовлена к тому, чтобы решить их не выхо¬
дя за рамки эволюционного варианта развития, во многом за¬
висело от того, в какой мере основные политические институ¬
ты, прежде всего две ведущие партии, готовы принять вызов
времени. И вот здесь, на завершающем этапе войны, начала
вырисовываться не особенно приятная для политической эли¬
ты Великобритании картина.
Начавшаяся еще в начале XX в. партийная перегруппировка,
которая в случае успешного завершения помогла бы адаптировать
политическую систему страны к условиям индустриального обще¬
ства, к этому времени стала серьезно пробуксовывать. В значитель¬
ной степени это объяснялось тем, что ее главная движущая сила и
инициатор — либеральная партия — стала утрачивать способность
к интегрированию новых идейч Ее позиции в политическом про-
262
дессе в годы войны заметно ослабли, а сама она переживала внут¬
ренние междоусобицы, приведшие в конце концов к прямому рас¬
колу. И он был отнюдь не результатом конъюнктурной фракцион¬
ной борьбы.
Значительная часть либералов оказалась не готовой к вос¬
приятию новаций, которые неизбежно проникали в идеологию
классического либерализма. Например, острую дискуссию в
партии вызвал так называемый «план Уайли», предусматривав¬
ший возможность участия рабочих в контроле над производ¬
ством. В то время как сама жизнь вынесла, можно сказать вы¬
толкнула эту проблему на авансцену политической жизни, ли¬
бералы-традиционалисты видели в этом плане грубейшее попра¬
ние классических либеральных постулатов. Однако классичес¬
кий либерализм, некогда вполне адекватно отражавший запро¬
сы правящей элиты, в новых условиях не давал шансов на то,
чтобы удерживать под контролем социальные процессы индус¬
триального общества. Его время прошло. И то, что многие ли¬
беральные политики не сумели вовремя понять этого, детерми¬
нировало неуклонное вытеснение партии с ведущих позиций в
политической жизни.
Если либеральная партия постепенно втягивалась в полосу
глубокого кризиса, то новая лейбористская партия, наоборот, чут¬
ко улавливала характерйзменений, порожденных вступлением
Англии в фазу индустриального общества, и предлагала свои ре¬
цепты решения проблем, с которыми столкнулась страна. Лейбо¬
ристы были убеждены: общество, где главной целью, главным
побудительным мотивом является получение прибыли, обречено
на стагнацию, а затем и катастрофу. Следовательно, необходимо
изменить эту парадигму, сделать так, чтобы целью общества ста¬
ло «общественное благо», а добиться этого можно только при ус¬
ловии, что общество будет ориентировано на «справедливое рас¬
пределение продуктов труда на основе общественной собственнос¬
ти на средства производства».
Подобные идеи были зафиксированы в новой программе
партии «Лейбористы и новый социальный порядок», принятой
в 1918 г. Ее составители настаивали на национализации уголь¬
ной промышленности, транспорта, энергетики, ибо, по их мне¬
нию, только государственный контроль над ключевыми отрас¬
лями экономики мог застраховать страну от неизбежных потря¬
сений, связанных с надвигающейся реконверсией. Понимая, что
правящая элита без борьбы не согласится на столь серьезную кор¬
ректировку экономического курса, лейбористы искали не толь¬
ко идеологические, но и организационные средства увеличения
своего влияния. С этой целью в 1918 г. на партийной конферен¬
263
ции был принят новый Устав, вводивший, наряду с коллектив¬
ным, и индивидуальное членство. Тем самым был открыт доступ
в партию не только для членов профсоюзов, но и для всех англи¬
чан, разочаровавшихся в способности либералов обеспечить про¬
гресс и социальную стабильность в обществе после войны. Эта
мера способствовала серьезной трансформации электоральной
базы партии, помогла перехватить у либералов значительную
часть их сторонников. Таким образом, лейбористы не без основа¬
ний рассчитывали превратиться из аутсайдеров политического
процесса в равноправного участника партийной системы Вели¬
кобритании.
Пока в партийно-политической системе Англии разворачи¬
вались серьезные коллизии, заметно менявшие ее облик, на фрон¬
тах Первой мировой войны продолжались ожесточенные бои.
Лишь в конце лета 1918 г. в боевых действиях наметился пере¬
лом. В августе 1918 г. войска Антанты в районе Амьена прорва¬
ли фронт и перешли в решающее наступление. Остановить его
немцы уже не смогли и 11 ноября 1918 г. были вынуждены сло¬
жить оружие.
Итак, тяжелейшая война закончилась победой Антанты. Ве¬
ликобритания внесла в нее весомый вклад и теперь, казалось бы,
могла спокойно пожинать плоды победы. Однако в действитель¬
ности итоги войны для нее выглядели далеко не однозначно. Да,
она сумела разгромить своего основного и весьма опасного конку¬
рента. Победа, однако, была достигнута достаточно высокой це¬
ной. По многим экономическим показателям Англия утратила
лидирующие позиции. Более того, Лондон, являвшийся на про¬
тяжении многих десятилетий мировым финансовым центром, пре¬
вратился в должника Соединенных Штатов, и это, естественно,
сужало его возможности в послевоенном мире.
Непростой оставалась и внутриполитическая ситуация в стра¬
не: начавшаяся еще перед войной партийная перегруппировка,
призванная повысить эффективность политической системы Ан¬
глии, забуксовала, и дальнейшие ее перспективы оставались ту¬
манными. Либералы, некогда ведущая сила партийного тандема
Британии, все больше слабели, а как впишутся в него лейборис¬
ты, было еще неясно. Все это сулило всплеск партийно-полити¬
ческой борьбы, распад шаткого «национального единства», след¬
ствием чего неизбежно становился рост социальной напряженно*
сти, что в условиях реконверсии грозило еще больше подорвать
позиции Англии.
Важным компонентом английского могущества оставалась
огромная колониальная империя. Британия не только отбила все
притязания Германии на передел уже поделенного мира, но и су¬
264
мела расширить сферу своего влияния за счет оккупации большей
части колониальных владений своего конкурента. Но даже здесь
у нее накопилось немало проблем. Во многих частях империи (Ир¬
ландия, Индия) сложилась весьма напряженная обстановка, гро¬
зившая в любой момент выйти из-под контроля.
Таким образом, хотя победа в войне была достигнута, ее цена
оказалась как никогда высокой. Поэтому оставался открытым
вопрос о том, в какой мере Англия сможет воспользоваться пло¬
дами своей победы в ходе послевоенного урегулирования, в какой
мере она сумеет восстановить свои лидирующие позиции в миро¬
вом хозяйстве и в мировой политике.
§ 3. Франция: цена реванша
Несмотря на то что на протяжении всего периода после 1870 г.
обсуждение темы реванша, путей и средств его достижения было,
по существу, постоянным элементом жизни французского обще¬
ства, когда вспыхнула Первая мировая война, то быстро выясни¬
лось: она разворачивается совсем не так, как это представлялось
военно-политическому руководству страны. Во-первых, основные
события развернулись не в Лотарингии, где были сконцентриро¬
ваны главные силы французской армии, а в северной части стра¬
ны — там, где немцев не ждали. Их мощное наступление привело
к тому, что десять северо-восточных департаментов Франции, в
которых располагалась значительная часть промышленного по¬
тенциала страны, оказались под контролем немцев. Во-вторых,
масштабы и интенсивность боевых действий сразу же резко пре¬
взошли все предвоенные прогнозы, и это изначально нарушило все
мобилизационные планы. В армию пришлось призвать намного
больше людей, чем предполагалось, а это очень быстро сказалось
на состоянии трудовых ресурсов страны. Кроме того, это же об¬
стоятельство привело к дезорганизации транспортной системы,
что еще больше осложнило общую ситуацию.
Очень скоро стало ясно, что в данных условиях традиционные
методы, с помощью которых осуществлялась экономическая по¬
литика, не могут обеспечивать необходимую для победы эффек¬
тивность народного хозяйства. Так же как и в других воюющих
странах, во Франции быстро сформировался разветвленный ме¬
ханизм государственного регулирования всех основных аспектов
экономической жизни. Он включал в себя жесткий контроль над
экспортно-импортными и валютными операциями. Предметом
особого внимания государства являлся транспорт. Военная необ¬
ходимость диктовала масштабы его огосударствления.
265
Как и везде, в центре внимания властей находились трудовые
отношения, точнее говоря два их аспекта: предотвращение конф¬
ликтов в этой сфере и регулирование распределения рабочей силы
между основными отраслями экономики. Поскольку сразу же воз¬
ник дефицит основных видов сырья и продовольствия, государ¬
ство при их распределении ввело рационирование. Для этого были
созданы специальные структуры, в которых наряду с государствен¬
ными чиновниками работали и предприниматели. Таким образом,
в процессе интеграции государства и бизнес-сообщества был сде¬
лан важный шаг. Они все теснее переплетались в общий полити¬
ко-экономический комплекс. Его составные части все яснее осоз¬
навали, что этот альянс, несмотря на то что заставляет каждую из
сторон вносить в свое поведение определенные ограничители, в
целом безусловно взаимовыгоден, ибо открывает новые возмож¬
ности для устойчивого развития, помогает стабилизировать суще¬
ствующий правопорядок.
Уже 4 августа 1914 г. президент Франции Р. Пуанкаре при¬
звал всех французов к национальному единству во имя достиже¬
ния победы над «историческим врагом». В большинстве своем по¬
литики самых разных ориентаций — от анархо-синдикалистов и
социалистов до остатков монархистов — поддержали это обраще¬
ние. Исключение составил видный деятель социалистов Ж. Жо¬
рес, который еще в ходе июльского кризиса резко выступил про¬
тив угрозы войны. Однако его призывы так и не были услышаны,
а сам он был убит 31 июля 1914 г., т.е. до обращения Пуанкаре. О
состоянии общественного мнения свидетельствовал и тот факт, что
суд оправдал его убийцу. Уже в августе 1914 г. в состав правитель¬
ства вошли два представителя Объединенной социалистической
партии — Ж. Гед и М. Самба.
В начале августа парламент практически без обсуждения
принял серию законов, призванных создать оптимальную, с точ¬
ки зрения военно-политического руководства, правовую среду
для обеспечения армии всем необходимым для успешных дей¬
ствий на фронтах. Помимо шагов, направленных на мобилиза¬
цию экономики, был одобрен комплекс мер по укреплению «мо¬
рально-политического единства нации». Он включал в себя по¬
ложение об ограничении традиционных демократических сво¬
бод, введение цензуры, усиление контроля военных над всеми
отраслями общественной жизни. После этого парламент прервал
свою работу на неопределенное время. Что касается правитель¬
ства, то, когда немцы приблизились к Парижу, оно перебралось
в Бордо.
По мере того как война приобретала затяжной характер, как
росли потери на фронтах и тяго жизни в тылу, в национальном
266
единстве неизбежно зарождались эрозийные процессы, чреватые
серьезными внутриполитическими осложнениями. Понимая,
сколь важно поддерживать атмосферу единения нации, ведущие
политики Франции прилагали максимум усилий для хотя бы вре¬
менного вытеснения всех форм социально-политического конф¬
ликта из жизни общества. Большинство партий приостановило
свою деятельность на местах. Важным элементом политики «на¬
ционального единения» стало соглашение с руководством ВКТ о
предотвращении трудовых конфликтов. Надо отметить, что вплоть
до конца 1916 г. степень эффективности этой договоренности ос¬
тавалась весьма высокой — в тот период забастовки были крайне
редким явлением.
Ситуация стала меняться в конце 1916 г. Под влиянием серь¬
езных неудач на фронтах, повлекших за собой большие потери в
людской силе, в общественном мнении стали отчетливо проявлять¬
ся серьезные разногласия в оценке перспектив Франции в войне.
Националистические силы, сторонники реванша жестко высту¬
пали за «войну до победного конца», считая, что за выполнение
этой «судьбоносной миссии» можно заплатить любую цену. К это¬
му времени они объединились в довольно аморфную «партию вой¬
ны», на роль лидера которой выдщшулся Ж. Клемансо. С другой
стороны, пожалуй, впервые с начала войны достаточно громко
зазвучали голоса тех, кто полагал, что продолжение войны бес¬
перспективно и следует серьезно задуматься о попытках выхода
из тупика, в котором оказались все воюющие страны. Сторонни¬
ки этого подхода постепенно начали группироваться в «партию
мира», не менее разношерстную, чем «партия войны», но, пожа¬
луй, намного более неорганизованную. У нее не было и столь яр¬
кого лидера, как Клемансо.
Наиболее влиятельной силой в ней являлись социалисты,
причем в их рядах все решительнее заявляли о себе противники
участия представителей этой партии в правительстве и поддер¬
жки военных усилий «своего правительства». На съезде социа¬
листической партии в декабре 1916 г. в ходе бурных дискуссий
по этим проблемам выяснилось, что делегаты съезда разделились
почти поровну на сторонников и противников продолжения под¬
держки военных усилий «своего правительства». В итоге острой
борьбы сторонникам прежнего курса все-таки удалось ценой ог¬
ромных усилий добиться незначительного перевеса и сохранить
контроль над руководящими органами партии. Однако этот ус¬
пех был весьма зыбким, и ситуация в любой момент могла изме¬
ниться.
Примерно в это же время достоянием гласности стали сведе¬
ния о серьезных просчетах военного руководства. После жарких
267
споров в парламенте сторонникам * партии мира» удалось добить¬
ся отставки генерала Жоффра с поста главнокомандующего. По¬
чти одновременно с этим стало известно, что Германия и ее союз¬
ники предлагают начать переговоры о заключении мира. Во фран¬
цузском руководстве отвергли эту идею, сделав ставку на подго¬
товку нового наступления, намеченного на весну 1917 г. Однако
эти расчеты не оправдались — наступление провалилось. Более
того, во фронтовых частях началось массовое брожение среди сол¬
дат, подавить которое удалось лишь с большим трудом.
В этой обстановке активизировали свои действия сторонники
скорейшего начала мирных переговоров. Большое внимание при¬
влекло к себе заявление руководства социалистической партии о
своем решении принять участие в международной конференции,
которую предлагали созвать социалисты нейтральных стран и ле¬
вое крыло российских социал-демократов. Однако правительство
Франции дважды отказывало делегации социалистов в выезде за
границу. В ответ те заявили о выходе из правительственной коа¬
лиции. Это был весьма серьезный удар по политике ♦националь¬
ного единства», ибо этот шаг социалистов возрождал условия для
поляризации общества, угрожал разрушить хрупкий мир на про¬
изводстве, что, в свою очередь, могло дезорганизовать военные
поставки.
На этом фоне правительство как бы провисло. Левые отказа¬
ли ему в поддержке из-за нежелания хотя бы в минимальной фор¬
ме реагировать на требования сторонников ♦партии мира». С дру¬
гой стороны, правительство атаковали те, кто полагал, что любые
разговоры о мире есть откровенное предательство национальных
интересов Франции. А раз так, то всякая антивоенная деятель¬
ность должна беспощадно подавляться. Ясно, что сторонникам
полярных точек зрения говорить друг с другом было ие о чем. И
те, и другие стали искать ресурсы для укрепления собственных
позиций, ослабляя тем самым и без того сокращавшуюся поддер¬
жку правительства.
Социалисты и радикалы начали консультации по вопросу о
формировании левоцентристского правительства. На роль его
главы прочили лидера радикалов Кайо. Этим надеждам, однако,
не суждено было сбыться. Как только в прессу просочились све¬
дения об этих контактах, на Кайо обрушилась лавина жесточай¬
шей критики. Ж. Клемансо публично потребовал от министра
внутренних дел в корне пресекать все проявления ♦пораженчес¬
кой» идеологии и политики. Большая часть прессы, которая в то
время контролировалась националистическими кругами, сразу
же активно подключилась к кампании по дискредитации Кайо.
Воспользовавшись тем, что в его окружении оказались люди с
268
сомнительной репутацией и связями, газеты правого толка су¬
мели быстро внедрить в массовое сознание вполне определенный
образ Кайо. Он стал ассоциироваться в умах французов с преда¬
телями, представал чуть ли не их покровителем. Над ним навис¬
ла вполне реальная угроза привлечения к судебной ответствен¬
ности. Ясно, что в такой ситуации на его политической карьере
можно было ставить крест.
В ходе этой весьма эмоциональной кампании маятник обще¬
ственного мнения вновь, как и в начале войны, качнулся вправо.
В обществе опять стали возлагать основные надежды на сильного
лидера, способного привести страну к победе. Вопрос о ее цене ото¬
шел на второй план. В подобной атмосфере вполне естественно и
логично на первые роли выдвинулся Жорж Клемансо, давно изве¬
стный своей сверхжесткой позицией в отношении Германии. Он
как никто другой сумел возродить у французов надежду на ско¬
рую победу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что чаша
весов в острой внутриполитической борьбе, захлестнувшей Фран¬
цию весной-летом 1917 г., в итоге склонилась на его сторону.
Клемансо получил право на формирование кабинета в ноябре
1917 г., когда положение Франции было весьма тяжелым. Россия
по сути вышла из войны, Италия оказалась на грани поражения.
Пожалуй, единственным светлым пятном на этом мрачном фоне
было все нараставшее присутствие американских вооруженных
сил в Европе и их все увеличивавшиеся поставки союзникам. В
этих условиях главное внимание нового премьера было направле¬
но на укрепление боеспособности вооруженных сил Франции.
Эта работа велась по нескольким направлениям. Во-первых, в
соответствии со своими взглядами Ж. Клемансо осуществил кад¬
ровые перестановки в высшем военном руководстве. Главнокоман¬
дующим союзными войсками был назначен генерал Ф. Фош. Се¬
рьезные перестановки произошли и в других звеньях командных
структур французской армии. Во-вторых, резко усилились дис¬
циплинарные методы наведения порядка. Заметно активизирова¬
ли свою деятельность военно-полевые суды, жестко пресекавшие
любые проявления «пораженческих настроений» в прифронтовой
полосе. Этим власть как бы подчеркивала: с прежней мягкотелос¬
тью покончено, она не потерпит в столь серьезный момент ника¬
кого инакомыслия. Все общество должно сконцентрироваться на
решении одной главной задачи — достижении победы. В-третьих,
в этих же целя^с была осуществлена серьезная чистка государствен¬
ного аппарата.
Наконец, наведя жесткий порядок во всех структурах, при¬
званных обеспечивать эффективное обслуживание военной эконо¬
мики и собственно армии, Клемансо взялся за своих политичес¬
269
ких оппонентов. Был признан виновным в попустительстве «по¬
раженческой» пропаганде и приговорен к пяти годам изгнания
бывший министр внутренних дел Мальви. Один из основных внут¬
риполитических оппонентов Клемансо — бывший лидер радика¬
лов Кайо — был арестован в январе 1918 г. по обвинению в связях
с противником и в заговоре против государственной безопаснос¬
ти. Следствие по делу завершилось уже после войны (Кайо полу¬
чил три года заключения). Что касается наиболее опасных про¬
тивников курса на «войну до победного конца» — социалистов, то
против них активно использовали тактику морального террора.
Их объявили «инородной», «антинациональной» силой, которая
в час тяжелейших испытаний готовится воткнуть нож в спину соб¬
ственной стране.
Возникает вопрос: чем объяснить, что подобная, не характер¬
ная для Третьей республики жесткая линия на подавление ина¬
комыслия не повлекла за собой сколько-нибудь серьезных соци¬
альных последствий? Почему французское общество, в истории
которого революционно-демократические традиции играли столь
значительную роль, на сей раз без особого сопротивления приня¬
ло явно антидемократическую политику правительства?
Четкого, удовлетворительного ответа на эти вопросы пока нет.
Исследователи склонны объяснять успех Клемансо прежде всего
двумя обстоятельствами. Во-первых, на руку ему сыграли, как это
ни парадоксально, успешные действия немцев на Западном фрон¬
те. В условиях, когда они вплотную подступили к Парижу, когда
их дальнобойная артиллерия обстреливала его пригороды, вне¬
шняя угроза воспринималась как никогда обостренно. Она неиз¬
бежно заставляла нацию сплачиваться вокруг лидера. В такой об¬
становке лозунг «Отечество в опасности!» срабатывал безотказно.
Любая политическая сила, не разделявшая его, выглядела в гла¬
зах общественного мнения враждебной.
Во-вторых, в этой и без того сложной ситуации сами социали¬
сты усугубили собственные трудности, сконцентрировав внима¬
ние не на поисках действенного, приемлемого для общества отве¬
та на ту политику, которую избрал Клемансо, а на ожесточенных
внутренних спорах об отношении к событиям в России. Эта дис¬
куссия распыляла, дробила силы социалистов и в итоге привела
их к расколу. Вместо акцентирования внимания на проблемах,
волновавших общество, они замыкались на сложных (пусть и важ¬
ных), но интересующих прежде всего их самих вопросах. Они как
бы замыкались в себе, в известной степени отлучая себя от обще¬
национальной политической жизни.
Так или иначе, но Ж. Клемансо действительно сумел (пусть и
на короткий срок, но зато в решающий момент войны) консолиди¬
270
ровать нацию, добился максимальной мобилизации всех ее ресур¬
сов во имя одной цели — достижения победы над «историческим
врагом». Эта тактика в итоге принесла успех. В конце лета 1918 г.
французская армия перешла в решающее наступление. Любопыт¬
но отметить, что в тот момент, когда Франция была уже всего в не¬
скольких шагах от победы, в еще недавно сплоченной политичес¬
кой элите Франции обозначились первые разногласия. Президент
Р. Пуанкаре буквально умолял Клемансо не идти ни на какие пере¬
говоры с Германией, пока враг полностью не уничтожен. Клемансо
же (хотя он ненавидел Германию не меньше Пуанкаре) счел возмож¬
ным дать согласие на подписание 11 ноября 1918 г. в Компьене пе¬
ремирия, поставившего точку в Первой мировой войне.
По условиям перемирия Германия по существу безоговорочно
признавала свое поражение. Таким образом, Франция смогла ус¬
пешно решить главную стратегическую задачу своего историчес¬
кого развития после 1870 г. — добилась убедительного реванша.
Итак, победа была достигнута. Оставалось лишь подвести итоги и
определить цену этой победы.
В войне Франция потеряла 1,5 млн. человек убитыми и 3 млн.
ранеными. Почти 1 /3 ее территории оказалась разрушенной. Было
уничтожено более 10 тыс. промышленных предприятий, дававших
в ряде случаев более 70% важнейших видов продукции. Серьез¬
ным разрушениям подверглась транспортная система страны.
Погибла половина французского торгового флота. Финансы стра¬
ны пришли в расстройство. Денежная масса за годы войны вырос¬
ла в 5 раз. Обесценивание франка вело к неуклонному падению
жизненного уровня основной части французского общества. По¬
скольку собственных средств для финансирования войны у Фран¬
ции все равно не хватало, ей пришлось залезть в долги. К концу
войны она задолжала США более 4 млрд. долл. Вот в самых об¬
щих чертах та цена, которую Франции пришлось заплатить за свою
победу. И хотя 11 ноября 1918 г. она могла торжествовать, любо¬
му непредвзятому аналитику было понятно, что в послевоенном
мире страну ожидает отнюдь не безоблачное будущее.
§ 4. Германия: на пути к национальной
катастрофе
Когда 1 августа 1914 г. Германская империя вступила в Пер¬
вую мировую войну, для нее это стало вполне логическим завер¬
шением курса, которого она придерживалась еще с конца XIX в.
Именно тогда в политической элите страны укоренилась мысль,
что империи по всем статьям суждено занять место мирового ли-
271
дера. Данная установка была положена в основу всех действий гер¬
манского руководства и на международной арене, и внутри стра¬
ны. Оно полагало, что добиться победы можно за счет молниенос¬
ного разгрома поодиночке своих основных противников. Исходя
из этого разрабатывались конкретные планы военной кампании.
Вся она основывалась на постулате о скоротечном характере гря¬
дущей войны. Однако жизнь быстро опрокинула все эти расчеты,
и Германия, вместо молниеносной войны, сулившей быструю и
блистательную победу, втянулась в тяжелейший затяжной воен¬
ный конфликт. Таким образом, уже на начальной стадии войны
выяснилась серьезная нестыковка планов Германии с реальнос¬
тью, и это обстоятельство наложило весомый отпечаток на разви¬
тие событий внутри страны.
Уже в начале войны немецкая экономика оказалась отрезан¬
ной от основных внешних источников сырья. Его поставки мож¬
но было осуществлять только через нейтральные страны, но этот
вариант ие мог полностью покрыть потребности народного хозяй¬
ства Германии. Поэтому очень быстро властям пришлось пойти
на введение жесткой системы государственного регулирования
основных аспектов хозяйственной жизни.
Надо сказать, что для Германии подобная мера не выглядела
столь экстраординарной, как, скажем, для Великобритании и
США. Высокая степень государственного патернализма изначаль¬
но была характерной чертой немецкой модели общественного раз¬
вития. Однако в годы войны в этом процессе был сделан серьез¬
ный шаг вперед. Уже в августе 1914 г. был образован военно-про¬
мышленный комитет, осуществлявший рационирование сырья и
распределение военных заказов. Решением правительства все
предприятия были разделены на важные в военном отношении и
прочие. Поскольку в армию было мобилизовано около 13 млн. че¬
ловек, это привело к появлению серьезного дефицита рабочей
силы. Не удивительно, что в такой ситуации многие мелкие пред¬
приятия были обречены на закрытие.
В 1916 г. в Германии была введена трудовая повинность, рас¬
пространявшаяся на все население в возрасте от 16 до 60 лет. Не¬
смотря на все попытки жестко регламентировать движение рабо¬
чей силы, уже в 1915 г. ее нехватка стала ощущаться в ряде отрас¬
лей народного хозяйства, прежде всего в аграрном секторе. А это
означало, что над страной стал витать призрак надвигающегося
голода. Ликвидировать дефицит продовольствия в условиях дос¬
таточно жесткой блокады Германии было крайне сложно. Поло¬
жение усугублялось тем, что при всех трудностях на продоволь¬
ственном рынке ни в коем случае нельзя было снижать объем по¬
ставок в армию, и это означало, что началось быстрое ухудшение
272
положения гражданского населения, что, в свою очередь, вело к
росту социальной напряженности.
С самого начала войны в стране была резко ограничена сво¬
бода слова и печати. Были запрещены забастовки на предприя¬
тиях оборонного комплекса. В Пруссии, а затем и в Германской
империи армия традиционно играла весьма важную роль. В годы
войны она возросла еще больше. Гражданские власти на местах
с ее началом стали подчиняться командующим округами, кото¬
рые стремились максимально жестко регламентировать все сто¬
роны общественной жизни. Так же как и в других странах, это
мотивировалось необходимостью укрепления национального
единства как важнейшего условия достижения победы. В первые
месяцы войны, пока немецкое общество было охвачено эйфори¬
ей ожидания скорой победы, все эти ограничения не вызывали
особых возражений. Однако когда стало очевидно, что блицкриг
явно не удался, когда начались перебои со снабжением населе¬
ния продовольствием, а с фронта потянулась бесконечная вере¬
ница похоронок, в обществе постепенно наметилось определен¬
ное отрезвление.
Естественно, прежде всего оно затронуло левый фланг по¬
литического спектра. Если на начальной стадии военных дей¬
ствий фракция социал-демократов в рейхстаге практически бе¬
зоговорочно поддерживала все просьбы правительства о выде¬
лении дополнительных средств для финансирования все время
растущих военных расходов, то уже в 1915 г. часть из них во
главе с К. Каутским начинает воздерживаться при голосовани¬
ях такого рода.
Подобное поведение оказывало противоречивое воздействие на
немецкое общество, на восприятие им социал-демократов. С од¬
ной стороны, уклонение от поддержки военных усилий очень ско¬
ро стало рассматриваться как предательство «доблестной немец¬
кой армии», попытка «воткнуть ей нож в спину». Официальная
пропаганда, сохранявшая достаточно высокую эффективность
вплоть до завершающего этапа войны, уже тогда попыталась на¬
весить на всех разделявших хоть в малой степени антивоенные
настроения ярлык «антинациональной силы».
С другой стороны, среди сторонников социал-демократов зре¬
ло убеждение в том, что такое пассивное осуждение войны не спо¬
собно действенно повлиять на обстановку в стране. 1 января
1916 г. в структуре социал-демократической партии появилась
группа «Интернационал» (позднее переименованная в группу
«Спартак» — название, под которым она и вошла в историю).
Первоначальный, довольно абстрактный лозунг этой группы
«Война войне» позднее стал все более тесно увязываться с идеей
273
народной революции, призванной осуществить коренное переус¬
тройство немецкого общества на началах социальной справедли¬
вости. По мере ухудшения положения Германии влияние этой
группы росло.
Уже к концу 1916 г. наиболее дальновидным представителям
политической элиты Германии стало очевидно, что продолжение
войны не только бесперспективно, но и опасно. Однако не эти люди
определяли политический курс страны. С каждым днем в высшем
эшелоне власти укреплялись позиции армейского командования
во главе с генерал-фельдмаршалом фон Гинденбургом, каждоднев¬
но убеждавшим кайзера, что в войне вот-вот наступит перелом и
что необходимо еще одно последнее усилие для достижения побе¬
ды. В этой обстановке необходима предельная мобилизация всех
ресурсов страны, консолидация нации вокруг императора. Все, кто
с этим не согласен, — предатели, с которыми надо поступать по
законам военного времени. Таким образом, уже на этой стадии в
элите общества наметился раскол.
Новый, 1917 год еще больше обострил ситуацию. С одной сто¬
роны, Февральская революция в России вдохнула дополнитель¬
ные надежды в немецкое руководство, укрепила его веру в наступ¬
ление скорЬго перелома в войне. Однако очень скоро волна опти¬
мизма стала спадать. Весной пришлось сократить хлебный раци¬
он. В ответ в Берлине в апреле забастовали металлисты. Это был
очень тревожный симптом, свидетельствовавший о том, что готов¬
ность населения переносить тяготы войны тает. Еще большая уг?
роза таилась в радикализации немецкой социал-демократии, еще
недавно поддерживавшей военные усилия правительства. В апре¬
ле 1917 г. давно наметившиеся разногласия в ее руководстве вып¬
леснулись наружу и переросли в открытый раскол. В Германии
возникла новая партия — Независимая социал-демократическая
партия Германии (НСДПГ).
Вокруг оценок этого события до сих пор продолжаются жар¬
кие споры. Это и не удивительно, ибо событие было действитель¬
но неоднозначное. Ряд влиятельных лидеров немецких социал-
демократов — Г. Гаазе, К. Каутский, Р. Гильфердинг, видя, что
официальное руководство партии по сути дела отказалось от под¬
держки массовых акций протеста против войны и неуклонного
падения уровня жизни, что оно все теснее ассоциируется с влас¬
тью, сочло за лучшее максимально дистанцироваться от этого па¬
губного, по их мнению, курса.
Действительно, такая линия политического поведения гро¬
зила потерей контроля над все более радикализирующимися на¬
родными массами, а это, в свою очередь, могло привести к соци¬
альному взрыву, итогом которого станет хаос, регресс, диктату¬
274
ра. Для того чтобы не допустить реализации подобного сценария,
направить движение социального протеста в контролируемое
русло, социал-демократам необходимо было самим занять более
соответствующие настроениям масс позиции. Только так у них
оставался шанс остаться во главе движения протеста и направить
его в «цивилизованное русло о. Именно поэтому, не сумев убедить
официальное руководство СДПГ в целесообразности корректи¬
ровки политического курса партии, часть ее влиятельных лиде¬
ров решилась на разрыв с ним и пошла на создание новой орга¬
низации.
Однако если бы дело ограничивалось только раздорами в ру¬
ководстве СДПГ, в этом еще не было ничего угрожающего стабиль¬
ности империи. Дело в том, что образование НСДПГ явилось след¬
ствием не только раскола в верхушке СДПГ. В таком случае это
скорее всего лишь ослабило бы общие позиции социал-демокра¬
тов в политическом процессе. Создание новой, более радикальной
партии левой ориентации являлось следствием общего роста про¬
тестных настроений масс, что грозило взорвать непрочную атмос¬
феру «национального единства». А без ее сохранения нечего было
рассчитывать на достижение победы в войне. Таким образом, с
самого начала НСДПГ являлась весьма сложным, далеко не одно¬
родным образованием, в котором уживались и политические дея¬
тели центристского типа, и представители наиболее девой части
социал-демократии, прежде всего группа «Спартак». Она, прав¬
да, сохранила политическую самостоятельность, но в целом в это
время ассоциировалась с НСДПГ.
Опять-таки в исторической литературе не прекращаются спо¬
ры о правомерности или, наоборот, ошибочности этого шага. Если
реально смотреть на вещи, то в тот момент наиболее левая часть
социал-демократов вряд ли обладала достаточными ресурсами для
создания самостоятельной политической организации, способной
замахнуться на реальную борьбу за власть. Вероятно, более перс¬
пективным для них было бы попытаться поставить под свой конт¬
роль НСДПГ (или, по крайней мере, увеличить свое влияние на
выработку курса этой организации). Однако лидеры «Спартака»
вплоть до конца войны так и не сумели решить стоявшую перед
ними дилемму: бороться за реализацию своих программно-целе¬
вых установок самостоятельно или в рамках НСДПГ. Естествен¬
но, эта неопределенность сказывалась на общей эффективности их
деятельности.
Внутриполитическая обстановка в Германии тем временем все
больше обострялась. Неспособность правительства Бетман-Голь-
вега добиться перелома в ходе войны, отсутствие у него реальной
программы, способной обеспечить внутреннюю стабилизацию об¬
275
щества, подрывали его престиж в верхах. Там все более обостря¬
лись споры о выборе путей и средств для выхода из сложившейся
ситуации. Правительство Бетман-Гольвега, пытавшееся лавиро¬
вать между различными фракциями правящих кругов, перестало
устраивать представителей противоборствующих групцироврк,
что и предопределило его судьбу.
Летом 1917 г. последовала отставка канцлера Бетман-Голь¬
вега. Решающую роль в этом сыграла армейская верхушка, к ко¬
торой и перешли основные рычаги управления страной. Формаль¬
но главой правительства стал Михаэлис, но реально главными
политическими фигурами в Германии вплоть до осени 1918 г. яв¬
лялись начальник Генерального штаба П. фон Гинденбург и его
заместитель генерал Э. Людендорф. Однако, несмотря на все их
заверения о скором победоносном завершении войны, положение
Германии осложнялось все больше и больше. Продовольственные
волнения в немецких городах стали превращаться в норму. В са¬
мой правящей элите росло понимание того, что добиться победы
в войне невозможно. Дело дошло до того, что в июле 1917 г. рей¬
хстаг принял резолюцию, призывавшую к поискам путей заклю¬
чения перемирия. Брожение постепенно проникало и в армию, и
на флот.
Гинденбург и его окружение требовали ужесточения санкций
против всех, кто высказывал хотя бы малейшее сомнение в пра¬
вильности действий властей. Однако жесткий курс уже не мог
сдержать роста социальной напряженности. В январе 1918 г. стра¬
ну охватила всеобщая забастовка. Начавшись в Берлине, она пе¬
рекинулась в Рейнскую область, Баварию, Саксонию. В ней при¬
няло участие более 1,5 млн. чел, С самого начала она носила ярко
выраженный политический характер. Ее участники требовали от
властей немедленного заключения мира без аннексий и контри¬
буций. Это определение было позаимствовано из Декрета о мире,
принятого незадолго до этого в Советской России. В ходе всеоб¬
щей стачки в Берлине и некоторых других городах стали возни¬
кать Советы рабочих депутатов.
Власти ценой огромных усилий все же сумели удержать си¬
туацию под контролем. Более того, весной 1918 г. немцам уда¬
лось перейти в мощное наступление на Западном фронте, и они
действительно были близки к решающему успеху. За счет поста¬
вок продовольствия с временно оккупированных территорий
Прибалтики, Украины, Белоруссии немецкое командование не¬
сколько снизило его дефицит внутри страны. Однако вдохнуть
свежие силы в экономику, истощенную до предела, не удалось.
А без этого невозможно было дальше наращивать мощь наступ¬
ления. Становилось все очевиднее, что оно выдыхается. Когда
276
союзники перешли в контрнаступление, даже наиболее упрямым
немецким политикам (но не военным!) стало ясно, что эту войну
Германии уже не выиграть.
В этой связи во весь рост встал вопрос: что делать? Он, в свою
очередь, распадался на две составляющие — как избежать полно¬
го разгрома и как предотвратить надвигающийся социальный
взрыв? В политической элите Германии быстро росло понимание
того, что Гинденбург и его окружение завели страну в тупик и не¬
обходимо как можно скорее отстранить их от участия в принятии
ключевых политических решений.
3 октября 1918 г. в Германии было создано так называемое
коалиционное демократическое правительство во главе с принцем
Максом Баденским, известным политиком либерального толка,
сторонником реформы политической системы страны, видным
представителем «партии мира», зарекомендовавшим себя привер¬
женцем скорейшего начала мирных переговоров. Новый канцлер
настоял на том, чтобы в правительство вошли два видных деятеля
правого крыла СДПГ — Ф. Шейдеман и Г. Бауэр. Таким образом,
и в Германии были сделаны первые шаги на пути интеграции со¬
циал-демократов в политическую систему страны. Первое, что
сделало новое правительство, — обратилось к президенту США с
просьбой о перемирии. Однако союзники к тому времени были уже
уверены в скорой победе. В этой ситуации они не видели резона
для того, чтобы удовлетворить просьбу Макса Баденского, и про¬
должили наступление.
Стремясь ослабить социальную напряженность внутри стра¬
ны, Макс Баденский объявил о проведении так называемой пар-
ламентаризации, т.е. о серии реформ, призванных расширить
сферу компетенции рейхстага (вводилась, в частности, ответ¬
ственность канцлера перед парламентом), осуществлялась демок¬
ратизация избирательной системы в Пруссии. Трудно сказать,
сколь далеко готов был пойти новый канцлер в своих реформис¬
тских прожектах, ибо времени у него не оставалось. Ситуация
на фронтах приобрела катастрофический характер. Союзники
Германии один за другим стали складывать оружие. Однако выс¬
шее военное командование империи продолжало надеяться на
чудо.
3 ноября 1918 г. немецкий флот, прочно заблокированный
англичанами на базе в Киле, получил приказ выйти в море и всту¬
пить в бой с английским флотом. Никаких шансов на успех у не¬
мецких моряков не было. По существу их посылали на явную
смерть, в тот момент, когда судьба войны была уже предрешена.
Просто командование хотело таким способом избавиться от взры¬
воопасной силы, представлявшей серьезную угрозу для внутрен¬
277
ней стабильности общества в условиях неизбежного военного кра¬
ха Германии. Моряки, среди которых большим влиянием пользо¬
вались левые, отказались подчиниться этому приказу. В Киле
вспыхнуло восстание. Обратной дороги у моряков не было. Власть
в городе перешла к Совету рабочих и матросских депутатов. Из
Киля революционная волна быстро перекинулась в другие города
и к 9 ноября докатилась до Берлина. Император Вильгельм И, спа¬
сая свою жизнь, бежал за границу, а через два дня, 11 ноября
1918 г., представители военного командования Германии подпи¬
сали условия перемирия, положившего конец войне. Практичес¬
ки одновременно с этим рухнула монархия, и в Германии победи¬
ла революция.
Так закончилась попытка Германской империи утвердить свое
господство в мирорых делах. Авантюризм имперского военно-по¬
литического руководства обернулся для страны национальной
катастрофой. В войне Германия потеряла 1,8 млн. человек, а вме¬
сте с пленными, ранеными, пропавшими без вести эта цифра дос¬
тигала 7 млн. человек. Гигантское перенапряжение всех сил по¬
дорвало немецкую экономику. К концу войны общий объем про¬
мышленного производства сократился по сравнению с довоенным
уровнем почти вдвое. Страна переживала безудержную инфляцию,
приведшую к колоссальному падению уровня жизни большинства
населения. Если добавить к этому сильнейший шок, вызванный
поражением в войне, дискредитацию практически всех государ¬
ственных институтов, потерявших контроль над ситуацией, пол¬
ную растерянность политической элиты, то не удивительно, что
страна к концу войны оказалась на пороге революции. Еще не¬
сколько лет назад мечтавшая о мировом господстве, Германия
вместо этого оказалась на грани распада. Такова была цена, кото¬
рую ей пришлось заплатить за амбициозность своего руководства,
его нежелание трезво оценивать обстановку и свои возможности,
слепую приверженность химерическим догмам об особой истори¬
ческой миссии Германии.
278
ГЛАВА XIV
Культура Запада в Новое время
§ 1. Век XVIII: грядет, ли
«царство разу ми»?
XVIII век занимает особое место в истории западноевропейс¬
кой культуры. Именно в это время она решительно отходит от
церковных догматов и приобретает светский характер. Этому
предшествовало завершение революции в естествознании, в ре¬
зультате которой начала формироваться современная картина
мира. Революция в естествознании закрепила в общественном
сознании постулат, согласно которому знание, во-первых, все¬
сильно, а во-вторых, его основным источником является экспе¬
римент, а не слепая вера. Именно эксперимент позволяет постичь
все тайны мироздания, именно он подводит под развитие науки
прочный фундамент, опираясь на который человеческая мысль
способна вывести общество из состояния косности и варварства,
открыть дорогу к более совершенным формам его организации,
к той стадии, которую позднее просветители нарекли «царством
разума».
Просветители стали тем связующим звеном, которое соеди¬
нило культурные традиции предшествовавшей эпохи с веяния¬
ми нового века. Не случайно XVIII в. нередко называют «веком
просветителей». Интернациональная по своей сути, их деятель¬
ность оказала глубокое и всестороннее воздействие практически
на все аспекты культурной жизни Европы. Если в XVII в. клю¬
чевой фигурой в интеллектуальной жизни был естествоиспыта¬
тель, то в XVIII в. эту позицию занимает философ, причем в тог¬
дашнем понимании это был отнюдь не абстрактный теоретик, а
творец нового знания и одновременно борец за его воплощение в
практической жизни. Важно отметить, что, в отличие от естество¬
279
испытателей XVII в., для которых главным объектом внимания
была окружающая их природа, философов нового века прежде
всего интересовало человеческое общество. Они переключили на
его изучение основную энергию интеллектуальной элиты веду¬
щих западноевропейских стран. Характерной особенностью это¬
го времени была почти безграничная уверенность в неисчерпае¬
мых силах разума, в его способности изменить мир, в том числе
и общество, к лучшему.
Такой подход оказал заметное воздействие на всю культурную
традицию западного общества, причем не только на развитие «вы¬
сокого искусства», но и на бытовую культуру. В наибольшей мере
изменения затронули две ведущие державы той эпохи — Англию
и Францию. Бесспорным центром культурной жизни Европы в
XVIII в. считалась Франция. Она диктовала остальной Европе,
каким должен быть стиль жизни элиты общества: как одеваться,
как вести себя на светских раутах и в повседневной жизни, чем
заполнить досуг, как обустроить свое жилье. Однако этот своеоб¬
разный процесс интернационализации бытовой культуры затро¬
нул лишь верхушку общества. На его нижних этажах нацио¬
нальная специфика культурной жизни по-прежнему превалиро¬
вала над зарождавшейся тенденцией к унификации бытовой куль¬
туры. Тем не менее определенные подвижки наметились и на этих
уровнях.
Исходный импульс им дал промышленный переворот, начав¬
шийся как раз во второй половине XVIII в. в Англии. Именно он,
с его тенденцией к массовой стандартизации и унификации, на¬
чал размывать культурную обособленность отдельных регионов.
На родине промышленного переворота быстрыми темпами шел
весьма важный в культурологическом плане процесс урбанизации.
Англия стала первой страной, где появился город с миллионным
населением. Им стал Лондон. С этого времени с городом начинает
ассоциироваться более комфортная, более «цивилизованная»
жизнь.
Города, прежде всего крупные, становятся средоточием куль¬
туры. Все большую роль в духовной жизни начинают играть уни¬
верситеты, как центры распространения передовых знаний. Их
практическая ценность постепенно осознается все более широки¬
ми слоями населения, прежде всего в Англии, Голландии, в анг¬
лийских колониях в Северной Америки, т.е. там, где буржуазные
отношения существовали в наиболее развитой и чистой форме.
Буржуазное развитие неуклонно подтачивало устои традиционно¬
го общества, меняло взгляды людей на мир, внедряло в их созна¬
ние новую систему ценностей. Безусловно, темпы этих подвижек
в различных странах были далеко не одинаковы. Различными они
280
были и на разных социальных этажах. Изменения затрагивали
сначала верхи общества, затем постепенно перемещались на го¬
родское население. Последними влияние перемен испытывали на
себе крестьяне. В XVIII в. подавляющее большинство их еще не
осознало, что европейская цивилизация находится на пороге но¬
вой эпохи.
Сдвиги в ценностной парадигме пусть весьма опосредованно,
но все же отражались и на сфере искусства. В нем, как и в стано¬
вившейся все более плюралистичной духовной жизни, соперни¬
чали несколько стилей, но ведущие позиции вплоть до Великой
французской революции занимал неоклассицизм. Поборники это¬
го направления были твердо убеждены, что задача искусства —
воспитывать и облагораживать человека, будить в нем лучшие
начала. Отсюда обращение к античному прошлому, культивиро¬
вание героической личности. С классицизмом был тесно связан
рационализм. Его расцвет вполне объясним. Основной вектор раз¬
вития представлений западноевропейцев о том, каким должен
быть окружающий мир, эволюционировал как раз в сторону ра¬
ционализации всего того, что составляет среду обитания челове¬
ка. Наметился переход от помпезного, вычурного барокко — сти¬
ля, господствовавшего в предшествующий период, — к иному вос¬
приятию понятия «красота».
Меняется не только внутреннее содержание этого понятия.
Иным становится и круг лиц, которые задавали тон в определе¬
нии того, что красиво, а что нет, что современно, а что архаич¬
но. Иными словами, расширяется и трансформируется само по¬
нятие «законодатель моды». Если раньше ее, особенно во Фран¬
ции, диктовало окружение короля, то теперь этот круг расши¬
ряется. Король постепенно превращается лишь в одного из глав¬
ных заказчиков на произведения искусства. У него появляют¬
ся конкуренты в лице хозяев великосветских салонов. Причем
чем ближе к концу века, тем более пестрым становится соци¬
альный состав таких салонов. Если первоначально это были
представители родовитой аристократии, то позднее ими стано¬
вятся просто богатые люди, совсем не обязательно ведущие свою
родословную от эпохи крестовых походов. Это особенно харак¬
терно для Англии. Данная прослойка начинает конкурировать
с королевским двором в формировании вкусов общества в сфере
культуры.
В XVIII в. делаются первые шаги в становлении общественно¬
го мнения в современном смысле этого слова. Безусловно, поня¬
тие «общественное мнение» применительно к тому времени отнюдь
не тождественно его современной трактовке, но тем не менее оно
начинает играть все более заметную роль в жизни государств. Важ¬
281
ную роль в его формировании играют газеты. Их число растет по
мере приближения к концу века. И опять-таки лидирующие по¬
зиции здесь занимали Англия, Голландия, Франция. В конце века
к ним прибавились США. Появление и распространение газет су¬
щественно изменило всю сферу духовной жизни. Началось фор¬
мирование так называемого информационного пространства, ко¬
торое позднее превратилось в мощнейший фактор, воздействую¬
щий на культурный климат, систему ценностей и предпочтений,
господствующих в обществе.
Несомненно, на становление общественного мнения влияло
не только развитие газетного дела. Этот процесс был обусловлен
и наметившейся демократизацией культурной жизни в целом.
XVIII век стал временем, когда культура из элемента жизни эли¬
ты постепенно превращается в важную составную часть разви¬
тия всего общества. Наряду с аристократическими салонами
широкое распространение в ведущих европейских странах полу¬
чают более демократичные кружки, сыгравшие важную роль 3
пропаганде среди городского населения передовых представле¬
ний о культуре, об истории, о природе общества и путях его со¬
вершенствования. По инициативе членов кружков создавались
библиотеки, где желающие могли познакомиться с еще сравни¬
тельно редкими тогда книгами. Там же устраивались публичные
лекции, диспуты. Кружки были тем местом, где могли общаться
все образованные люди, вне зависимости от сословной принад¬
лежности.
Как уже отмечалось, XVII в. дал немало ярчайших свиде¬
тельств того, какое многоликое воздействие оказала наука, точ¬
нее говоря революция в естествознании, на культуру. XVIII в. внес
в эту сферу определенные новации, усложнив характер взаимо¬
действия и взаимовлияния культуры и теперь уже гуманитарных
наук. Приведем лишь один пример. Еще в эпоху Возрождения в
Западной Европе вспыхнул серьезный интерес к античности. Он,
в свою очередь, дал стимул развитию такой научной дисциплины,
как археология. В свою очередь, когда в 1755 г. археологи откры¬
ли остатки древнего города Помпеи, это дало мощный импульс в
переоценке ценностей в теории искусств.
В 1764 г. появилась фундаментальная работа немецкого те¬
оретика искусства И. Винкельмана «История искусства древ¬
ности », оказавшая большое воздействие на духовную жизнь за¬
падноевропейского общества. Винкельман подчеркивал, что
только разум позволяет постичь подлинно прекрасное, достичь
максимально полного слияния с природой, частью которой яв¬
ляется человек. Именно человек вносит разумное начало в ок¬
ружающую действительность. Эстетические взгляды Винкель-
282
мана оказали заметное воздействие на все виды изобразитель¬
ного искусства, архитектуру, театр.
Выше речь шла об общих для западной культуры тенденци¬
ях. Однако в этой сфере сохранялись и национальные различия.
В этом плане показательно сравнение культурологических про¬
цессов в двух ведущих странах Европы — Англии и Франции.
При наличии многих точек соприкосновения, в развитии куль¬
турной сферы в этих странах имелись и определенные различия.
Особенно это касалось общественной мысли. Если французских
просветителей больше всего интересовали вопросы, касающиеся
взаимоотношения личности и государства, общества и государ¬
ства, то их английских коллег волновало не только это, но и воп¬
росы экономического порядка, что и понятно. Британия первая
вступила в эпоху промышленного переворота, и английское об¬
щество сразу же столкнулось с множеством проблем, касающих¬
ся сущности процессов, протекавших в экономике. Ее бурное
развитие вначале серьезно подпитывало социальный оптимизм
общества. Английским просветителям, и прежде всего такому
ярчайшему их представителю, как А. Смит, казалось, что стоит
постичь законы развития экономики — и люди смогут обеспечить
неуклонный рост благосостояния общества, а это создаст усло¬
вия для улучшения его политико-правовых и этических харак¬
теристик.
Для большинства английских просветителей было своего
рода аксиомой, что знание обязательно должно иметь практичес¬
кую направленность, его накопление призвано обеспечить непре¬
рывный общественный прогресс. Такая «приземленность» анг¬
лийского Просвещения несомненно оказывала влияние на все со¬
циокультурное развитие Британии в это время, вычленяла его
из общеевропейского культурного контекста. Быть может, анг¬
лийская культура не дала Европе таких ярких индивидуальнос¬
тей, как, скажем, П. Бомарше, Ж. Л. Давид, Ф. Шиллер, И. Ге¬
те, но от этого ее вклад в общую сокровищницу культурной жиз¬
ни Запада не становился меньше. Практицизм англичан в нема¬
лой степени способствовал подтачиванию устойчивости социо¬
культурных стереотипов, которые еще оставались от «старого
порядка».
Сложную и противоречивую роль в развитии культуры Запад¬
ной Европы в XVIII в. играла церковь. Хотя церковь, особенно
католическая, переживала в это время далеко не лучший период
в своей истории, ответ на вопрос о ее роли в духовной жизни тог¬
дашнего общества выглядит отнюдь не однозначно. Если пути на¬
уки и религии в это время далеко разошлись, то на духовную жизнь
общества, особенно его низов, церковь продолжала оказывать за¬
283
метное влияние, охраняя освященный ее авторитетом и традици¬
ей свод нравственных правил.
Проблема заключалась в том, что традиционный уклад жиз¬
ни и сопутствовавшие ему ценности размывались развитием но¬
вых, буржуазных отношений. Этот процесс особенно ускорился
после начала промышленного переворота. Поскольку новый об¬
раз жизни для многих нес и немало негативных моментов, его при¬
шествие приветствовалось отнюдь не всеми членами общества. В
этой обстановке церковь, отстаивавшая ценности традиционного
общества, безусловно находила отклик у тех людей, которых мно¬
гочисленные изменения выбивали из привычной жизненной ко¬
леи. Для них она превращалась в институт, покровительствовав¬
ший идеализированному укладу жизни уходящего общества. Им
церковь была нужна, ибо открывала отдушину, помогала сохра¬
нить надежду на лучшее в новых жизненных условиях. И здесь
для нее открывался шанс на то, чтобы сохранить свою нишу в об¬
щественной жизни.
Начавшаяся эрозия традиционного образа жизни повлекла за
собой углубление разрыва между условиями жизни в городе и в
деревне. С этого момента городская жизнь постепенно превраща¬
ется в символ прогресса, а сельская, наоборот, начинает все тес¬
нее ассоциироваться с бытом уходящей эпохи. Не удивительно,
что среди населения, особенно среди молодежи, растет желание
приобщиться к этой новой жизни, которая, как казалось многим,
открывала им новые горизонты. Именно с этого времени ранее не
особенно заметные диспропорции в развитии сельской и городс¬
кой культуры начинают быстро увеличиваться.
И, наконец, последняя характерная черта культурной жиз¬
ни Европы XVIII в. (особенно его второй половины). В ней наме¬
тилось столкновение двух тенденций. Первая, которую можно
назвать космополитичной, более присуща политической и интел¬
лектуальной злите западноевропейского общества. Она предпо¬
лагала, что страна обитания, родина — понятие устаревшее, унас¬
ледованное от прошлой эпохи. Принципиальное значение имеет
не этот фактор, а тот стиль жизни, который избрал для себя дан¬
ный индивид. Для элитарной части общества, а также той, кото¬
рая стремилась войти в нее, эталоном является образ жизни, ко¬
торую вела богатая и образованная часть тогдашнего французс¬
кого общества. Материальное положение этой своеобразной кас¬
ты позволяло ее представителям постоянно путешествовать, жить
в разных странах, поддерживать вокруг себя определенную ду-
ховную атмосферу.
Однако по мере укрепления в Западной Европе национальных
государств и роста стремления к их созданию, такой нигцлизм в
284
отношении национальной специфики, в том числе и в сфере куль¬
туры, начал вызывать растущее отторжение у части зарождавшей¬
ся интеллигенции. Ярчайшим проявлением этой тенденции ста¬
ло возникновение в немецких землях литературного течения
«Буря и натиск», ставившего во главу угла самобытность и уни¬
кальность национальной культуры. Конфликт этих двух тенден¬
ций в духовной жизни Европы достиг своего апогея позднее, уже
в XIX в., но зародилась эта ее важнейшая черта, не утратившая
своего значения и сегодня, именно в XVIII в.
Подводя общие итоги развития европейской культуры в
XVIII в., следует отметить несколько принципиально важных
моментов.
Во-первых, именно в это время произошло решительное раз¬
межевание между приобретшими отчетливо выраженный светс¬
кий характер наукой и культурой, с одной стороны, и церковью,
за которой закрепилась роль хранительницы традиционных цен¬
ностей — с другой.
Во-вторых, бурное развитие науки (естествознания и гума¬
нитарных знаний) вело к формированию нового культа — куль¬
та знаний и разума. Это было время безграничной веры в возмож¬
ности разума, веры в то, что человеческая цивилизация неуклон¬
но движется к «царству разума». Отсюда социальный оптимизм,
присущий духовной жизни XVIII в. Определенные издержки не¬
регулируемого буржуазного прогресса казались легко устрани¬
мыми.
В-третьих, развитие культуры в это время отмечено ее диффе¬
ренциацией на две субкультуры — элитарную и народную. Опло¬
том первой становятся быстро развивающиеся города, а вторая
концентрируется по преимуществу в аграрной Европе. Правда,
динамично развивавшийся процесс урбанизации неизбежно взла¬
мывал жесткие рамки элитарной культуры, вел к тому, что ее цен¬
ностные установки постепенно распространялись на все более
широкие слои городского населения.
В-четвертых, вторая половина XVIII в. стала началом серьез¬
ной эрозии традиционного общества и его ценностей. Развитие
буржуазных отношений взламывало региональную замкнутость,
способствовавшую консервации традиционного уклада жизни,
создавало плацдарм для унификации культурных ценностей в
масштабах всего континента.
Вместе с тем все эти многочисленные изменения в культуро¬
логической сфере проходили отнюдь не гладко и однозначно. В
развитии культуры причудливо переплетались противоречивые
тенденции. С одной стороны, быстрыми темпами формировалось
единое культурное пространство, на котором господствовали об-
285
щие ценности. С другой, этому противостояло стремление сохра¬
нить, упрочить и развить самобытные черты национальной куль¬
туры. Но именно это сложное взаимодействие и определяло куль¬
турное лицо европейской цивилизации в XVIII в.
§ 2. Век XIX: безбрежные горизонты
буржуазного прогресса
В XIX в. на развитие европейской культуры все возрастающее
влияние стал оказывать бурный научно-технический прогресс,
сопровождавший промышленный переворот, охвативший в это
время все основные страны Запада. За короткий срок с карты зем¬
ного шара исчезло большинство белых пятен. К концу века в мире
по существу не осталось свободных земель. Все основные регионы
оказались так или иначе втянутыми в единое мировое хозяйство.
Ясно, что вместе с торговлей туда импортировались в определен¬
ной мере и европейские культурные ценности.
Рост внешнеэкономической деятельности ведущих западных
стран настойчиво требовал совершенствования транспортной сис¬
темы и средств связи. Научные открытия позволили осуществить
своего рода революцию в этих сферах. В результате мир стал как
бы теснее. Внедрение в повседневную жизнь телефонной и теле¬
графной связи самым серьезным образом повлияло на становле¬
ние информационной индустрии, которая начинает оказывать все
большее воздействие на культурную среду обитания человека, на
процесс формирования массового сознания.
XIX век — время окончательного размыва культурных цен¬
ностей традиционного общества и одновременно становления ос¬
нов культуры индустриального общества. Этот процесс по-разно¬
му происходил на разных социальных этажах западного общества.
Он еще больше увеличил диапазон расхождений между образом
жизни в больших городах, которые четко ассоциируются с цент¬
рами культуры, и в сельской местности, которая становится сим¬
волом культурного консерватизма и отсталости. Одновременно
происходил размыв национальной специфики в сфере культуры.
Правда, на протяжении XIX в. этот процесс развивался далеко не
одинаковыми темпами. Он особенно усилился к концу века, когда
закладывалась почва для возникновения стереотипизированной
«массовой культуры», развитие которой идет по особому сцена¬
рию, не совпадающему с тем, что происходило в сфере так называ¬
емой «высокой культуры».
Ее окончательное вычленение из общего культурного контек¬
ста относится к XIX в. В ее развитии выделяется несколько круп¬
286
ных этапов. Огромное воздействие на нее оказали идеалы Вели¬
кой французской революции, всколыхнувшие всю культурную
жизнь Европы. Она породила мощный всплеск творческой энер¬
гии интеллектуальной элиты во многих странах. Все большее вни¬
мание деятелей культуры привлекает история их стран, в кото¬
рой они ищут героическое начало, ассоциирующееся у них с борь¬
бой за идеалы свободы. История представлялась им неуклонным
движением общества вперед по пути прогресса, ко все более совер¬
шенным формам, и высокое искусство должно всемерно культи¬
вировать передовые идеалы.
Этот общий вектор уже в постнаполеоновскую эпоху как бы
раздваивается на две составляющие — реалистическую и роман¬
тическую. В основе такой эволюции, по-видимому, лежало вос¬
приятие интеллектуальной элитой последствий краха «старого
порядка». Как и на любом переломе в развитии цивилизации, в
это время в обществе возникли весьма противоречивые тенден¬
ции, оказывавшие разноплановое воздействие на повседневную
жизнь людей, причем различные социальные группы далеко не
одинаково воспринимали каскад этих изменений. Те, кто сумел
приспособиться к этим новациям, извлечь из них выгоду, есте¬
ственно, всячески приветствовали перемены, видя в них исклю¬
чительно позитивные моменты, всячески идеализируя их. И на¬
оборот, те, кто оказался выбитым из привычной жизненной ко¬
леи, испытывали ностальгию по прошлому, с крайним подозре¬
нием относились ко всем новациям, видя в них прежде всего не¬
гативные моменты. Такой противоречивый мир оказывал мно¬
гомерное воздействие на культуру, на менталитет людей творчес¬
ких профессий — писателей, художников, музыкантов и т.д. Как
понять и объяснить те многочисленные перемены, которые на
глазах меняли привычный мир, устоявшиеся представления о
том, что «хорошо», что «плохо», трансформировали традицион¬
ную систему ценностей?
На 20-30-е годы XIX в. приходится расцвет романтизма во
всех его проявлениях. Он был представлен такими яркими име¬
нами, как французы В. Гюго, Ж. де Сталь, Ф. Шатобриан, англи¬
чане Дж. Байрон, П. Б. Шелли, В. Скотт, немцы Г. Гейне, К. Гал¬
лер. Каждый из них оказал огромное влияние на интеллектуаль¬
ную жизнь Старого Света. На их творчестве воспитывались следу¬
ющие поколения интеллигенции. Однако при всем огромном вкла¬
де в европейскую культуру, романтизм не давал ответа на многие
вопросы, встававшие в повестку дня в связи с бурным развитием
индустриальной революции. Например, почему технический про¬
гресс не ведет к автоматическому совершенствованию общества?
В чем смысл человеческого бытия в новых условиях? Меняют ли
287
изменения материальных условий жизни систему ценностных
координат, в которой проходит жизнь человека?
Поиск ответов на эти и многие другие связанные с ними воп¬
росы привел к зарождению нового направления в искусстве —
критического реализма. Если в XVIII в. просвещенная часть евро¬
пейского общества полагала, что мир движется в сторону утверж¬
дения «царства разума», т.е, некоего совершенного общества, ос¬
нованного на вполне определенных, рациональных принципах, то
к середине XIX в. стало очевидным: крах «старого порядка» от¬
нюдь не равнозначен утверждению «царства разума». Раньше ка¬
залось: стоит гарантировать соблюдение и уважение государством
«естественных прав» человека — ив обществе воцарятся разум¬
ные и рациональные начала. Однако в действительности все об¬
стояло гораздо сложнее. Выяснилось, что сами «естественные пра¬
ва», в цервую очередь право собственности, порождают массу со¬
циальных несправедливостей.
Осознание того, что путь к совершенству общества тернист и
извилист, заставляло деятелей культуры отходить от прежних
упрощенных схем и искать такие пути художественного анали¬
за человеческого бытия которые бы помогали понять достоинства
и недостатки современного им общества, вскрыть глубинные при¬
чины пороков, мешающих утверждению в нем счастья и спра¬
ведливости. Это и породило взлет плеяды писателей, взявших на
вооружение метод критического реализма. Его расцвет связан с
творчеством таких выдающихся мастеров художественного сло¬
ва, как Ч. Диккенс, О. де Бальзак, П. Мериме, Г. Флобер. Их про¬
изведения навечно вошли в сокровищницу мировой культуры,
расширили ее возможности влиять на процессы, происходившие
в обществе.
По-прежнему в духовной жизни европейских стран достаточ¬
но значимую роль играла церковь. Ей, правда, приходилось пере¬
живать далеко не лучшие времена. Даже в такой сугубо католи¬
ческой стране, как Италия, Ватикан вынужден был смириться с
ведущей ролью светской власти в жизни этой страны.
Однако в духовной сфере церковь хоть и с трудом, но сохраня¬
ла свои позиции. Быстрая смена ценностной парадигмы, устраи¬
вавшая далеко не все слои населения, играла ей на руку, помогая
выполнять роль островка стабильности в бушующем море пере¬
мен. Для того чтобы закрепиться в этой роли, церкви предстояло
найти ответы на вызовы времени, прежде всего со стороны стре¬
мительно развивавшегося естествознания. Ей необходимо было
убедить общество в том, что в мире, где человек каждый день по¬
знает все новые и новые тайны природы и, как полагали многие,
уже в скором времени приблизится к познанию всех фундамен¬
288
тальных законов природы, объяснит все самые важные, сокровен¬
ные стороны эволюции жизни, — что в таком мире есть место не¬
познаваемому, есть место Богу. Церковь сумела справиться с тем
вызовом, который ей бросила наука, гораздо позднее, уже в XX в.
В XIX же веке она лишь нащупывала пути адаптации к новым
условиям.
В плане ее будущего многое зависело от того, как будут скла¬
дываться отношения церкви с быстро развивавшейся в это вре¬
мя системой образования. В XIX в. стало очевидно: расширение
и совершенствование системы образования является одним из
важнейших императивов общественного прогресса. В мире, всту¬
пившем к концу века в фазу индустриального общества, ниша
для неграмотных людей стала быстро сужаться. Вот почему раз¬
витие государственной системы начального образования выхо¬
дит в это время на авансцену политической жизни большинства
ведущих стран Запада. В новых условиях именно государство
хотело диктовать правила игры в этой области. Однако в ряде
стран ему пришлось столкнуться с сопротивлением церкви, тра¬
диционно считавшей начальное образование своей вотчиной. В
итоге сложной и упорной борьбы победа оказалась за светской
властью. К началу XX в. в большинстве европейских стран и в
Северной Америке было узаконено обязательное бесплатное го¬
сударственное начальное образование. Церковь, однако, не была
полностью вытеснена из этой сферы. Ее лишь лишили возмож¬
ности проводить самостоятельную линию в определении общего
вектора образовательных программ. Эту функцию государство
оставило за собой.
Бесплатным в XIX в. стало только начальное образование. Его
продолжение зависело прежде всего от материальных возмож¬
ностей семьи потенциального учащегося. Статистика свидетель¬
ствует о том, что завершение среднего образования для большин¬
ства населения в то время представлялось делом трудноосуще¬
ствимым. Даже к началу Первой мировой войны законченное
среднее образование в развитых странах имело лишь около 8%
всех детей школьного возраста. Однако развитие новых отраслей
промышленности (электротехнической, химической, автомоби¬
лестроительной и т.д.) настоятельно требовало роста общей гра¬
мотности рабочей силы. Вопрос о демократизации образования,
повышении его доступности уже к концу XIX в. превратился в
одну из самых острых проблем, с которыми столкнулась запад¬
ная цивилизация.
В связи с исключительно быстрым развитием научно-техни¬
ческих знаний не меньшую актуальность, чем доступность обра¬
зования, приобрел вопрос о его качестве. В этом контексте замет¬
289
но возросла роль высшего образования. Ведь именно там готови¬
лись кадры не только собственно научных работников, но и инже¬
неров, педагогов, потребность в которых неуклонно увеличива¬
лась. Университеты, особенно ведущие, такие, как Оксфорд, Кем¬
бридж, Гарвард, Йель, Сорбонна, превращаются не только в обра¬
зовательные, но и в крупнейшие научные центры. Важно отметить,
что высшее гуманитарное образование (юридическое, историчес¬
кое, экономическое) становится неотъемлемой предпосылкой ус¬
пешной политической карьеры. Престиж образованного челове¬
ка в обществе заметно вырос. Уровень образования превращается
в важный статусный признак, определяющий положение челове¬
ка в социальной иерархии. Высшее образование постепенно ста¬
новится своего рода пропуском к высшим управленческим долж¬
ностям.
Резкий разрыв в уровне и качестве образования стал одной из
предпосылок рождения на рубеже XIX-XX вв. нового обществен¬
ного феномена — так называемого «массового человека». Сам этот
термин был введен в научный оборот значительно позднее, но воз¬
никновение этого явления, оказавшего и оказывающего огромное
воздействие на развитие всей человеческой цивилизации, относит¬
ся к указанному историческому периоду.
Причиной его возникновения был сложный комплекс соци¬
ально-экономических, психологических и культурологических
факторов. Кадровым резервом для формирования «массового че¬
ловека» по преимуществу стали представители нижней части
среднего класса. Эти люди, выбившиеся из низов, добившиеся
определенного улучшения своего жизненного статуса, полага¬
ли, что это и есть тот идеал, к которому следует стремиться. А
из этой посылки вполне логично вытекала другая: главное те¬
перь — сохранить этот статус. Все новое, необычное, нестандар¬
тное начинает восприниматься как угроза достигнутому поло¬
жению. Так рождалась привычка жить в соответствии с вполне
определенными, укоренившимися в данной среде стереотипа¬
ми, плыть по течению. Подобный человек не желает перемен,
он не хочет выделяться из своего круга — наоборот, он стремит¬
ся быть таким же, как и все в этой устраивающей его социаль¬
ной среде.
Как выяснилось, таким «массовым человеком» очень легко
манипулировать, он весьма внушаем и легко подвержен внешне¬
му влиянию. В момент его рождения еще никто не мог предста¬
вить, к каким социально-политическим последствиям это приве¬
дет. Важно отметить, что, как это ни парадоксально, именно
XIX в. — век стремительного взлета науки, расцвета высокой
культуры — породил такие социально-культурные условия, в ко¬
290
торых стало возможным зачатие «массового человека» и неразрыв¬
но связанной с ним «массовой культуры».
Итак, XIX в. принес весьма противоречивые результаты в сфе¬
ре культуры. Невиданный ранее взлет научной мысли открыл но¬
вые и, как тогда казалось, безбрежные горизонты перед человече¬
ством, создал благоприятные условия для расцвета культуры и ее
распространения не только в высших слоях общества, но и в мас¬
сах. Однако быстрое изменение той социокультурной среды, в ко¬
торой происходила повседневная жизнь человека, влекло за со¬
бой противоречивые подвижки в массовом сознании населения ве¬
дущих западных стран.
С одной стороны, ментальность людей испытывала серьезные
перегрузки, столкнувшись с быстрой эрозией традиционных цен¬
ностей и привычного образа жизни. Это не могло не отразиться и
на духовной жизни. С другой стороны, эти же самые процессы
долгое время подпитывали веру наиболее просвещенной части об¬
щества в то, что наука дала в руки человечества тот ключ, кото¬
рый позволит открыть все двери на пути построения совершен¬
ного общества. Наука, таким образом, из инструмента абстракт¬
ного знания постепенно превращалась в конструктивную, сози¬
дательную силу, обеспечивающую условия для неуклонного дви¬
жения общества вперед. В итоге взаимодействия этих противо¬
речивых тенденций вектор общественный настроений как бы
раздваивается: наряду с ностальгией по безвозвратно уходяще¬
му прошлому, тревогой за будущее общества, в высших сферах,
особенно в первой половине XIX в., были широко распростране¬
ны эйфорические настроения, господствовали социальный опти¬
мизм и убежденность в самых радужных перспективах западной
цивилизации.
Однако уже к концу века интеллектуальная элита Запада
стала испытывать все большее разочарование по поводу пере¬
мен, охвативших социокультурную сферу. Достаточно скоро
стало очевидно, что далеко не все перемены, не все новации
улучшают общество. Избавившись от пережитков «старого по¬
рядка», европейская цивилизация немедленно столкнулась с
новыми проблемами и трудностями. Индустриальное общество,
быстро утвердившееся в ведущих странах Запада, отнюдь не
походило на ту идеальную модель, о которой мечтали передо¬
вые деятели культуры. Перед ними во весь рост встал вопрос: в
чем причина того, что ожидания и действительность явно не
соответствовали друг другу?
В сфере культуры поиски ответа на зто кардинальный вопрос
привели в итоге к ее расслоению на «высокую» и «массовую» куль¬
туры. Первая аккумулировала в себе лучшие достижения челове¬
291
ческого гения, стремилась поднять людей и общество в целом на
новую высоту. Однако массовое сознание оказалось не готовым к
восприятию ее достижений во всей их полноте и многообразии.
Ему нужны были упрощенные, стереотипизированные каноны,
своего рода суррогат «высокой» культуры. Это и явилось основой
зарождения на рубеже Х1Х-ХХвв. «массовой культуры». Очень
быстро она превратилась в важный элемент жизни индустриаль¬
ного общества. Ее давление испытывали на себе и подлинно на¬
родная, и «высокая» культура.
В итоге к концу XIX в. в интеллектуальной элите Запада ста¬
ло распространяться убеждение, что выбранный путь историчес¬
кого развития таит в себе серьезные изъяны и грозит завести за¬
падную цивилизацию в тупик. Эйфория, царившая в первой по¬
ловине века в духовной жизни, все больше уступала место песси¬
мистическим оценкам перспектив западной цивилизации.
§ 3. Заря нового XX века: закат Европы
или преддверие повой эры?
В XX в. все ведущие страны Запада уже вступили в фазу инду¬
стриального общества. Это обстоятельство существенно трансфор¬
мировало повседневную жизнь людей. В давнем споре аграрного
и городского укладов жизни перевес окончательно перешел на сто¬
рону последнего. Основная часть населения все быстрее переме¬
щается в городские центры. Возникают первые мегаполисы —
Нью-Йорк, Лондон. Бурный рост городов оказал заметное воздей¬
ствие на развитие архитектуры, в истории которой начался новый
этап. Во главу угла архитекторы теперь ставят фундаментальное
удобство жилья. Урбанизация меняла не только внешний вид го¬
родов. В повседневную жизнь горожан все больше входят техни¬
ческие новшества, порожденные продолжавшимся бумом научных
открытий. Появляются первые бытовые приборы, делавшие до¬
машнюю жизнь более удобной и комфортной.
Быстрыми темпами развивается и совершенствуется транспор¬
тная инфраструктура. В многочисленных изменениях в этой сфе¬
ре прежде всего необходимо выделить появление нового вида
транспорта — автомобиля. Налаживание его массового производ¬
ства связано с именем Генри Форда. К началу Первой мировой вой¬
ны в мире было уже около 2 млн. автомобилей. В 1903 г. братья
Райт испытали первый самолет с бензиновым двигателем. Нача¬
лась эра освоения воздушного пространства.
Появление принципиально новых транспортных средств спо¬
собствовало общему убыстрению ритма жизни, меняло привыч¬
292
ные представления о пространстве и времени. Очередная револю¬
ция на транспорте способствовала сближению различных регио¬
нов Земли, скреплению их в единый политический, хозяйствен¬
ный и отчасти культурный комплекс. Новые веяния в бытовой
культуре теперь гораздо быстрее, чем раньше, распространялись
ПО всему земному шару.
Своеобразным символом этой тенденции в сфере бытовой куль¬
туры стала мода. Париж закрепил за собой титул мировой столи¬
цы моды. Его дома моды диктовали свои правила игры остально¬
му миру. В XX в. в массовом сознании прочно укоренился стерео¬
тип, согласно которому неотъемлемым атрибутом современного
человека является модная одежда, а определяли, что модно, а что
нет, несколько парижских кутюрье. Выходить за жесткие рамки
представлений о том, что есть мода, считалось неприличным для
«массового человека».
Распространению и тиражированию этих и других порождае¬
мых «массовой культурой» стереотипов во все возрастающей мере
способствовал новый вид искусства — кино. Уже к 20-м годам
XX в. в мире, в первую очередь в США, возникла мощная киноин¬
дустрия, в которой сочетались элементы искусства с практикой
бизнеса. Ее центром стал Голливуд. «Фабрика звезд», как его ок¬
рестили, стала своего рода локомотивом в развитии «массовой
культуры».
Существование «массового человека» невозможно представить
себе вне той ауры, которую постоянно создают средства массовой
информации. В начале века ключевую роль в этой сфере деятель¬
ности играли газеты. Наряду с такими серьезными изданиями, как
лондонская «Таймс» или «Нью-Йорк Таймс», чрезвычайно широ¬
кое распространение в это время получила «желтая пресса», по¬
стоянно тиражировавшая разного рода сенсационный материал,
рассчитанный на читательскую аудиторию с невысоким культур¬
ным уровнем. На такую же аудиторию была рассчитана и деше¬
вая «бульварная» литература.
Все эти процессы оказывали сложное воздействие на социо¬
культурную среду ведущих стран Запада. С одной стороны, ин¬
формированность среднестатистического гражданина о внеш¬
нем мире, о своей стране, ее прошлом и настоящем возросла мно¬
гократно. Простые люди стали обсуждать вопросы внешней и
внутренней политики, приобщались к определенным культур¬
ным ценностям. На основании этого нередко утверждают, что в
это время происходил стремительный рост культурного уровня
населения западных стран. Весь вопрос в том, что понимать под
культурным уровнем: то ли это способность усваивать опреде¬
ленный объем заранее подобранной информации, то ли способ¬
293
ность к самостоятельному мышлению, отбору и анализу нуж¬
ной данному индивиду информации? Это отнюдь не праздный
вопрос, ибо уже тогда политическая элита ведущих стран нача¬
ла овладевать навыками манипулирования массовым сознани¬
ем. СМИ стали использоваться для того, чтобы с их помощью
направлять и контролировать информационные потоки, вне¬
дрять в массовое сознание вполне определенные, выгодные вла¬
сти стереотипы, формировать устраивающую ее политическую
атмосферу.
Начало XX века — время острых споров о причинах и послед¬
ствиях многочисленных изменений, охвативших мир. Ученые, так
или иначе связанные с изучением общества (философы, истори¬
ки, социологи), стремились дать свою трактовку этих процессов.
Их волновало несколько принципиальных вопросов. Познаваем
ли окружающий нас мир? Куда он эволюционирует? Что лежит в
основе этой эволюции? Вот лишь некоторые проблемы, которые
обсуждались научным сообществом в то время. Вполне понятно,
что в зависимости от своих исходных мировоззренческих устано¬
вок различные ученые давали подчас взаимоисключающие отве¬
ты на эти вопросы.
К началу Первой мировой войны довольно отчетливо обозна¬
чались две полярные тенденции: сторонники одной полагали, что
западная цивилизация, проделавшая длительную эволюцию, до¬
стигшая огромных высот, теперь исчерпала себя и ей грозит рас¬
пад, а это неизбежно ввергнет мир в состояние хаоса; их оппонен¬
ты считали, что западная цивилизация действительно зашла в
тупик, но это не равнозначно приближению некоей вселенской ка¬
тастрофы. Наоборот, на смену западной, явно несовершенной ци¬
вилизации придет иная, более высокая.
Квинтэссенцией первой точки зрения стала вышедшая в мае
1918 г. фундаментальная работа немецкого философа О. Шпенг¬
лера «Закат Европы». Вторую позицию в наибольшей степени
выражали последователи марксистской идеологии, которые отста¬
ивали тезис о неизбежности скорого вступления общества в новую,
более высокую фазу развития, что откроет перед человечеством
безбрежные горизонты. Сторонники данной точки зрения не ви¬
дели причин для беспокойства по поводу определенных кризис¬
ных тенденций в сфере культуры, в духовной жизни общества в
целом, ибо это вполне закономерный результат общего кризиса
капитализма. Наиболее полно и емко эту позицию выражал в сво¬
их трудах В. И. Ленин. В серии работ, написанных в период 1914-
1918 гг., он как раз и выдвинул эту идею, а события в России, как
тогда казалось, достаточно убедительно подтверждали справедли¬
вость его прогноза.
294
Таким образом, в интеллектуальной сфере в начале XX в. стал¬
кивались, переплетались, боролись и одновременно дополняли
друг друга две позиции — пессимистическая и оптимистическая.
Безусловно, между этими крайностями существовало множество
промежуточных оттенков, формировавших сложную, многомер¬
ную палитру непростой духовной жизни, которой жила западная
цивилизация на этом историческом отрезке.
Наличие упомянутых выше подходов оказывало очень серь¬
езное воздействие на развитие «высокой» культуры. Неопределен¬
ность основного вектора эволюции западной цивилизации во мно¬
гом детерминировала исключительно высокий плюрализм худо¬
жественных стилей и школ, сосуществовавших и развивавшихся
в культурной сфере этого времени. Такое многообразие превраща¬
ется в норму духовной жизни западного общества. Важнейшим
вопросом, ответ на который определял место того или иного дея¬
теля культуры в общем контексте европейского искусства, был
вопрос о том, как он отражает в своем творчестве окружающую
действительность.
В литературе по-прежнему значительным влиянием пользо¬
вались сторонники критического реализма. Это направление от¬
нюдь не сошло со сцены. Оно было представлено такими круп¬
нейшими писателями, как Р. Роллан, А. Франс, Дж. Голсуорси,
В. Шоу, Т. Манн, Т. Драйзер и многими другими, не менее ярки¬
ми фигурами. Позиции сторонников этого направления оставались
достаточно прочными и в сфере театрального искусства. Театр ста¬
новился все более демократичным, все более доступным. Его мог¬
ли посещать не только представители элиты общества, но и сред¬
ние слои. По силе эмоционального воздействия на аудиторию те¬
атр оставался, пожалуй, на первом месте. Правда, в это время у
него появился конкурент в виде кинематографа. Конечно, кино
того времени в большей мере развлекало, а театр ставил перед зри¬
телями крупные, острые проблемы, волновавшие общество. Надо,
однако, учитывать, что кинематограф стремительно развивался,
постоянно брал все новые творческие высоты, а театр по своей при¬
роде был более статичным видом искусства.
Реалистическое направление в различных видах искусства
хотя и сохраняло свои позиции, но вместе с тем начало испыты¬
вать все более жесткую конкуренцию со стороны других направ¬
лений, которые в ряде случаев были генетически связаны с ним.
Так, еще в конце XIX в. от критического реализма отпочковалось
новое течение, получившее название натурализм. В отличие от
реалистов, делавших акцент на психологическом анализе поведе¬
ния людей, натуралисты упирали на физиологические мотивации
человеческого поведения. Чем дальше, тем больше в натурализме
295
стал усиливаться антиинтеллектуализм, и в итоге вместо более
углубленного анализа человеческого бытия в работах представи¬
телей этого направления жизнь не только упрощалась, но и в из¬
вестной мере примитивизировалась.
Серьезными противниками как реалистов, так и натуралис¬
тов выступали импрессионисты — художественное течение, заро¬
дившееся еще во второй половине XIX в. Импрессионистов не ус¬
траивала концентрация внимания их оппонентов на внутреннем
мире людей, в ущерб анализу динамизма жизни и его чувственно¬
го восприятия. Познание жизни идет через чувства, а не через ра¬
зум, полагали импрессионисты, ставя под сомнение возможность
рационального объяснения событий, происходящих в окружаю¬
щем мире. В еще большей мере эти сомнения проявились в твор¬
честве авангардистов, для которых был важен не столько окружав¬
ший их мир и то, что в нем происходило, сколько собственное
субъективное восприятие его сущности.
В научной литературе не прекращаются споры об оценке аван¬
гардизма, его роли и места в общем контексте мировой культуры.
Диапазон этих оценок на редкость широк — от течения, порожден¬
ного «стремлением художников вести свободный поиск сюжетов,
проблем, форм ... отражать не только внешний облик явления, но и
свое эмоциональное восприятие его сути», до обвинений в декаден¬
тстве, «стремлении отгородиться от действительности, уйти от нее
в фантастический, причудливый, вымышленный мир».
Как это ни парадоксально, но эти оценки в общем не проти¬
воречат друг другу: просто это наглядный пример того, как одно
и то же явление воспринималось представителями различных ми¬
ровоззренческих школ. Для одних это вполне естественный и
объяснимый сценарий поисков своего места творческой личнос¬
тью, живущей в эпоху войн, хаоса, насилия: поскольку изменить
этот мир художник не в состоянии, вполне понятно его желание
сохранить и приумножить достижения культуры за счет погру¬
жения в недоступные «массовому человеку» абстрактные глуби¬
ны «высокой» культуры, воспринимаемой только избранными.
С другой стороны, те, кто был убежден в возможности показать
мир и изменить его в лучшую сторону, видели в таком поведении
деятелей культуры чуть ли не умышленное желание увести об¬
щество в сторону от борьбы за искоренение его пороков, а зна¬
чит, оправдать их.
Противоборство авангардистов и реалистов породило в твор¬
ческой среде стремление создать некую синтезированную школу,
которая впитала бы в себя лучшие элементы соперничавших ху¬
дожественных стилей. Именно в этом контексте следует рассмат¬
ривать возникновение в начале XX в. нового направления — мо¬
296
дернистского. Его ведущая идея — синтез всех сфер художествен¬
ной культуры: архитектуры, живописи, музыки, дизайна и т.д.
Модерн сочетал в себе определенные элементы демократизма,
открытости с ярко выраженными элитарными настроениями. Од¬
нако попытки соединить достижения «высокой» культуры с сур¬
рогатами «массовой культуры» в итоге не увенчались успехом. В
эпоху резкого обострения социально-политического конфликта,
ведущего к поляризации человеческого сообщества, попытки син¬
теза пришлись явно не ко времени: сторонников модерна подвер¬
гали резкой критике за эклектичность, идеализацию современной
жизни и т.д.
Наконец, эта эпоха породила еще одно течение, о котором не¬
обходимо упомянуть, — футуризм. Провозгласив своей целью раз¬
рушение отжившей свой век старой культуры, футуристы попы¬
тались создать новую, адекватную, по их мнению, реалиям инду¬
стриального общества. Правда, эти искания позднее привели мно¬
гих поклонников этого направления к поддержке фашистского
движения, которое, по их мнению, только и было способно вывес¬
ти западную цивилизацию из того тупика, в котором она оказа¬
лась накануне Первой мировой войны.
Подводя общие итоги развития культуры в начале XX в., мож¬
но констатировать, что вступление ведущих западных стран в фазу
индустриального общества вызвало серьезнейшую трансформа¬
цию всех сторон жизнедеятельности людей. Естественно, этот про¬
цесс затронул и сферу культуры.
Столкнувшись с принципиально новыми вызовами, западная
культура, несмотря на весь свой исключительно богатый багаж,
унаследованный от прошлого, в определенной мере вступила в
полосу временного кризиса. Необходимо подчеркнуть, что в на¬
шем понимании ни в коей мере не следует отождествлять это со¬
стояние с упадком или регрессом культуры. Дело в том, что вмес¬
то привычного для западной культуры XVIII-XIX вв. поступатель¬
ного движения и наличия некоего общего вектора развития, в на¬
чале XX в. в этой сфере резко интенсифицируются самые разно¬
образные поиски новых форм, способных отразить не имевшую
аналогов действительность. Важно подчеркнуть, что в отсутствие
стержневой, признанной всем обществом идеи относительно его
собственных перспектив поиски эти носили хаотичный, бессистем¬
ный характер. В сфере культуры на этом отрезке воцарилось не¬
кое подобие броуновского движения: все что-то ищут, но никто
точно не знает что. Отсюда на редкость жесткая, бескомпромисс¬
ная политика представителей различных творческих школ. От них
мы унаследовали многие ярлыки, которые в свое время они ак¬
тивно навешивали друг на друга.
297
Спустя почти столетие эта полемика воспринимается иначе,
чем в дни своего расцвета. Сегодня со значительной долей уве¬
ренности можно утверждать, что при определенных издержках
она все-таки обогатила культурную жизнь ведущих стран, зак¬
репила ^столь необходимую для устойчивого развития плюралис-
тичность. В столь непростой и неординарной ситуации, которая
сложилась в западном обществе в начале XX в., широкая дискус¬
сия о путях развития культуры предотвращала ее стагнацию,
давала выход творческой энергии интеллектуальной элиты об¬
щества.
Вместе с тем не стоит слишком увлекаться идеализацией той
атмосферы, которая характеризовала культурную жизнь запад¬
ного общества в это время. Как и в любой неструктурированной
дискуссии, поиски новых форм развития искусства нередко заво¬
дили их участников в тупик или же вообще уводили в сторону от
тех действительно магистральных проблем, от правильного пони¬
мания которых зависело будущее общества. Полемика, наряду с
безусловными плюсами, распыляла силы представителей «высо¬
кой» культуры, в результате чего обозначилась опасная тенден¬
ция: «высокая» культура начала все больше уступать натиску
«массовой культуры». И от того, каким образом формировался
модус их взаимоотношений, зависел общий вектор развития куль¬
турной жизни начинающегося XX века.
298
РАЗДЕЛ II
О современной трактовке понятия
«новейшая история»
Традиционно большую часть XX в. и у нас, и на Западе вклю¬
чают в понятие «новейшая история». Сюда же относят и тот пока
небольшой временной сегмент, который уже прошел с начала но¬
вого, XXI века. Основные споры шли и продолжаются по сей день
вокруг двух взаимосвязанных вопросов: что считать главным со¬
держанием исторического развития человеческой цивилизации на
этом отрезке и на основании чего он выделяется в отдельный пе¬
риод. Ответить на данные вопросы весьма важно, так же как необ¬
ходимо нарисовать насколько возможно объективную картину
развития человеческой цивилизации в это исключительно бурное
столетие, понять и осмыслить его уроки, оценить достигнутый
уровень социального прогресса и те рубежи, на которые сегодня
вышло человечество, ибо мы вновь находимся на крутом поворо¬
те, когда всем нам в очередной раз предстоит выбрать магистраль-
ные направления дальнейшей эволюции общества.
Долгое время и у нас, и на Западе доминировало стремление
связать понятие «новейшая история» с вполне определенной кон¬
кретно-исторической датой. У нас отправной точкой отсчета это¬
го периода считался 1917 год (Великая Октябрьская социалисти¬
ческая революция), на Западе — 1918 год (окончание Первой ми¬
ровой войны). Безусловно, эти события стали весьма заметной ве¬
хой в общем контексте эволюции цивилизации. Но здесь необхо¬
димо сделать как минимум два замечания.
Во-первых, совершенно неправомерно противопоставлять их
друг другу. Ясно, что если бы не Первая мировая война, ситуация
в России развивалась бы в ином ключе. Очевидно и другое: рево¬
люция в России, вспыхнувшая в самый разгар мировой войны,
действительно оказала очень большое воздействие на весь после¬
дующий ход исторических событий. Вне всякого сомнения, эти
события связаны друг с другом самым тесным и непосредетвен-
299
ным образом. Чем бы ни мотивировался их разрыв, он явно наду¬
ман и порожден политической конъюнктурой.
Во-вторых, то, что произошло в 1917-1918 гг., те многочис¬
ленные сдвиги, которые имели место под их воздействием, были
следствием глубоких крупномасштабных изменений, которые
развернулись в организме прежде всего западного общества на
рубеже XIX-XX вв. и которые привели к тому, что к началу Пер¬
вой мировой войны ведущие мировые державы оказались как бы
на изломе. Прежняя модель общественного развития, сформиро¬
вавшаяся в ведущих странах в XIX в., во многом себя исчерпала.
Собственно говоря, и тот грандиозный военный конфликт, кото¬
рый разгорелся в 1914 г., в значительной ivtepe стал отражением
глубинных кризисных тенденций, характерных для внутреннего
состояния западной цивилизации на этом отрезке. Война откры¬
ла и ускорила неизбежный процесс ее модернизации. Робкие по¬
пытки начать ее делались еще до войны. Вспыхнувший конфликт
лишь подчеркнул, сколь опасно затягивание модернизации.
Таким образом, с одной стороны, события, традиционно беру¬
щиеся за точку отсчета новейшей истории, не только отделяют
друг от друга, но и связывают в единый всемирно-исторический
процесс два века, две фазы эволюции общества, прежде всего за¬
падного. Безусловный элемент преемственности, характерный для
западной цивилизации, проявляется здесь достаточно отчетливо
и рельефно, подчеркивает неразрывность исторического времени.
С другой стороны, то, что произошло в 1917-1918 гг. в ходе миро¬
вой истории, внесло качественно новые моменты в уже начавший¬
ся процесс модернизации, расширило его горизонты. Оказалось,
что это гораздо более длительный и многомерный процесс, чем
представлялось в самом начале века. А главное, стало очевидно,
что в ходе развернувшейся перестройки классического буржуаз¬
ного общества имелось несколько достаточно разнородных альтер¬
натив. Иными словами, события 1917-1918 гг. вывели рассмат¬
риваемый процесс на качественно новый, более высокий виток
развития. Общественный прогресс — отнюдь не линейный про¬
цесс, и его динамика определяется гораздо более сложными зако¬
номерностями, чем считалось раньше.
В чем же основное содержание того периода, который откры¬
ли упомянутые выше события? Поскольку в процессе модерниза¬
ции возникло несколько возможных вариантов, сразу же встал
вопрос о том, какой из них обладает наибольшей конкурентоспо¬
собностью. В каждой из ведущих мировых держав на протяжении
20-30-х гг. разрабатывалась собственная версия оптимальной
модели общественного развития. За каждой стояли вполне опре¬
деленные социально-политические силы, что обусловило чрезвы¬
300
чайно острые столкновения между конкурирующими моделями,
которые быстро вышли за рамки чисто идеологической полеми¬
ки. Этот конфликт и определил общую динамику развития собы¬
тий на протяжении первых двух десятилетий новейшей истории.
Противоречия между конкурирующими моделями оказались
столь глубоки, остры и многочисленны, что разрешить их в рам¬
ках существовавшего тогда миропорядка оказалось невозможным.
В итоге конфликтный потенциал вырвался наружу, и мир вновь
был ввергнут в мировую войну.
Результаты Второй мировой войны радикально изменили си¬
туацию в мире. Кардинально трансформировалась и та парадиг¬
ма, которая определяла общий характер развития цивилизации.
Из целого ряда возможных альтернатив наиболее жизнеспособны¬
ми оказались две — американская и советская. К этому времени
их базовые параметры обозначились уже достаточно четко, и те¬
перь, устранив или потеснив своих основных конкурентов, они в
противоборстве друг с другом пытались доказать свое преимуще¬
ство. Сегодня мы хорошо знаем, чем завершилось это соперниче¬
ство. Однако тогда именно оно определяло динамику развития
мирового сообщества.
Традиционно это противостояние сводилось исследователями
к простой формуле — советская модель реального социализма про¬
тив американской модели либерального капитализма. Иными сло¬
вами, акцент делался на борьбу идеологических принципов. При
этом как-то затушевывается тот факт, что острая идеологическая
полемика, характерная для 50-60-х годов, нередко помогала по¬
литическим элитам сверхдержав камуфлировать реальное содер¬
жание той борьбы, которую они вели на международной арене.
Причудливое переплетение идеологических догм, активно исполь¬
зуемых обеими сторонами в глобальном противоборстве, с серьез¬
ными расхождениями в базовых параметрах советского и амери¬
канского обществ оказывало сложное и неоднозначное воздействие
на развитие цивилизации, составляло ее стержень до определен¬
ного временного рубежа.
Очередной важной вехой в истории человечества в XX в. ста¬
ли события 70-80-х гг. Этот переходный период к качественно
новому состоянию западной цивилизации открыл экономический
кризис 1974-1975 гг., давший мощнейший импульс структурной
перестройке той модели экономики, которая составляла фунда¬
мент индустриального общества, а завершил его на рубеже 80-
90-х гг. распад биполярной системы, цементировавшей прежний
миропорядок.
Как и на всяком переломном отрезке истории, когда на повес¬
тку дня встает вопрос о выборе дальнейших магистральных на¬
301
правлений эволюции человечества, в эти два десятилетия вновь
возросло значение идеологического фактора, следствием чего ста¬
ло обострение полемики о характере и базовых параметрах опти¬
мальной модели организации общества. Суть ее заключается в том,
что тенденции к глобализации и унификации общественного раз¬
вития противостоит стремление каждого общества сохранить свою
национальную идентичность. Важно отметить, что при всей ост¬
роте и значимости этих споров они не выходят за рамки эволюци¬
онной модели развития, в отличие от начального периода новей¬
шей истории, когда в процессе модернизации мирового сообще¬
ства теснейшим образом переплетались эволюционные и револю¬
ционные начала.
Таким образом, сегодня становится все более очевидным, что
понятие «новейшая история» гораздо более объемно, многообраз¬
но и многоцветно, чем это представлялось всего полтора-два де¬
сятилетия назад. Однако констатация этого факта отнюдь не ре¬
шает проблему. Она скорее открывает новую страницу в давнем
споре о сущности исторического процесса. Ведь при всем том, что
фактологическая сторона истории XX в. изучена достаточно под¬
робно, сущностная характеристика многих важнейших событий
этого периода, оценка их места в единой канве всемирно-истори¬
ческого процесса требует серьезнейшего осмысления и уточнения.
И по мере того как будут решаться эти вопросы, будут расширять¬
ся и совершенствоваться наши представления о характере эпохи,
называемой «новейшей историей».
302
ГЛАВА I
Проблемы послевоенного урегулирова¬
ния (1918—1922 гг.)
§ 1. Формирование
Версальско-Вашингтонской системы
После того как 11 ноября 1918 г. в Компьенском лесу было
заключено перемирие и Германия фактически признала свое по¬
ражение, перед державами-победительницами во весь рост вста¬
ла проблема послевоенного урегулирования. Вопрос этот был как
никогда актуальным, ибо к моменту окончания войны рухнуло
сразу четыре империи, занимавшие большую часть Центральной
и Восточной Европы. На их обломках разгорелось сразу несколь¬
ко революций, и этот пожар легко мог перекинуться и на Запад¬
ную Европу. Необходимо было как можно быстрее найти рецеп¬
ты стабилизации этой во многом вышедшей из-под контроля си¬
туации.
Поскольку эти проблемы касались так или иначе всех союз¬
ников, было решено для придания большего веса планируемо¬
му урегулированию созвать мирную конференцию, на которую
пригласили представителей 27 стран Европы, Америки и Азии.
Хотя формально все участники конференции были равны, клю¬
чевую роль в ее работе изначально играли великие державы, со¬
ставлявшие костяк Антанты, ибо только они обладали доста¬
точными ресурсами для того, чтобы заставить остальных при¬
нять их волю.
Проблема урегулирования осложнялась тем, что у каждой из
ведущих держав-победительниц имелись свои интересы, которые
далеко не всегда совпадали. Та программа, с которой их лидеры
прибыли в Париж, определялась конкретными итогами войны для
303
великих держав. Практика работы конференции показала, что
реально основные вопросы обсуждались на заседаниях «Совета
10», куда входили по два представителя (глава государства и ми¬
нистр иностранных дел) от пяти ведущих держав — США, Анг¬
лии, Франции, Японии и Италии. Однако уже по ходу дела мно¬
гие функции этого органа перешли к «Совету 4», куда входили
президент США Вудро Вильсон, премьер-министр Англии Дэвид
Ллойд-Джордж, премьер Франции Жорж Клемансо и глава ита¬
льянского правительства Витторио Орландо.
Наиболее жесткую позицию занимала Франция. Она добива¬
лась максимального ослабления Германии, даже ее расчленения.
В любом случае ее граница с немецким государством (или госу¬
дарствами) должна была пролегать по Рейну. С Германии пред¬
стояло взыскать огромную контрибуцию. Наконец, Клемансо
предполагал создать в Восточной Европе на обломках разрушен¬
ных империй сеть новых государств, которые в своей внешней
политике ориентировались бы на Францию. Кроме того, Франция
рассчитывала получить свою долю в разделе колоний своих повер¬
женных противников.
Более мягкую позицию занимал Лондон. К началу работы
Парижской конференции Великобритания уже реализовала ряд
своих планов. Ее войска оккупировали большую часть германс¬
ких колоний. Флот Германии был разбит или захвачен англича¬
нами. Поэтому ей было невыгодно дальнейшее ослабление Гер¬
мании, ибо это автоматически вело к чрезмерному усилению по¬
зиций Франции. Относительно сильная Германия была необхо¬
дима и как барьер против распространения идей большевизма в
Европе.
Наконец, позиция США была официально изложена в «14 пун¬
ктах Вильсона» еще в январе 1918 г.
Практически сразу же обозначились основные узлы противо¬
речий: судьба Германии и ее колоний, будущее окончательно раз¬
валившейся Османской империи, вопрос об Уставе Лиги Наций,
отношение к событиям в России. По этому последнему вопросу в
Париже ничего решить не удалось. Судьбы этой огромной страны
определялись на полях сражений Гражданской войны. Что каса¬
ется остальных проблем, то они решались в ходе острых дискус¬
сий, развернувшихся на конференции.
Уже в самом начале конференции Ж. Клемансо заявил, что
главные усилия должны быть направлены на подготовку текстов
мирных договоров с Германией и ее союзниками. Против этого
решительно возражал В. Вильсон, настаивавший на первоочеред¬
ности обсуждения Устава Лиги Наций. С этой организацией пре¬
зидент США связывал далеко идущие планы: рассчитывая занять
304
в ней главенствующее положение, Америка предполагала превра¬
тить ее в основной инструмент своего влияния на мировые дела.
Противоречия между США и Францией достигли такого накала,
что Вильсон даже угрожал покинуть конференцию, что означало
бы ее полный провал.
Такой вариант развития событий был чреват непредсказуе¬
мыми и весьма опасными последствиями. Однако великий мас¬
тер компромиссов Д. Ллойд-Джордж сумел урегулировать этот
кризис. Ему удалось убедить Клемансо пойти на уступки. В ре¬
зультате 14 февраля 1919 г. Устав Лиги Наций был готов. Эта
организация состояла из Генеральной Ассамблеи и Совета, в ко¬
торый входило 9 членов (5 постоянных и 4 временных), где и
обсуждались основные вопросы мировой политики. Предпола¬
галось, что именно Лига Наций займется решением вопроса о
судьбе германских колоний и арабских провинций бывшей Ос¬
манской империи. Ей предстояло выдать державам-победитель¬
ницам мандаты на управление этими территориями. После ост¬
рых споров было решено положить в основу раздела мандатов
компромиссный вариант: все мандаты делились на три группы
(«А», «В», «С»), судьба которых определялась «большой трой¬
кой» (Великобританией, Францией и США), а уже затем ман¬
даты официально вручались избранной державе от имени Лиги
Наций.
В первую группу — «А» — были включены бывшие владения
Османской империи на Ближнем Востоке: Сирия, Ливан, Палес¬
тина, Трансиордания и Ирак. Формально декларировалось, что
они должны уже в ближайшее время обрести независимость, од¬
нако, поскольку их население якобы еще не полностью готово к
этому, необходимо на некоторое время учредить опеку со стороны
какой-либо «цивилизованной державы». В итоге данный регион
поделили между собой Англия и Франция. Первая получила ман¬
даты на управление Палестиной, Трансиорданией и Ираком, вто¬
рая — Сирией и Ливаном.
Вторая группа — «В» — включала в себя бывшие колонии Гер¬
мании в Африке (Танганьика, Руанда-Бурунди и Юго-Западная
Африка). Эти территории не получили даже формальной незави¬
симости. Управление ими целиком передавалось европейским дер¬
жавам (Англии и Бельгии), а также доминиону Великобритании —
Южно-Африканскому Союзу.
Наконец, в группу «С» входили бывшие колонии Германии в
Западной Африке (Того и Камерун) и ее же владения на Тихом
океане (часть Новой Гвинеи, Западное Самоа и ряд архипелагов —
Каролинские, Марианские и Маршалловы острова). Здесь действо¬
вали законы того государства, которое получило мандат на управ¬
305
ление данными территориями. Эти земли поделили между собой
Англия и Франция (Того и Камерун), а также Япония (Циндао,
острова в центральной части Тихого океана), Австралия (Новая
Гвинея) и Новая Зеландия (Западное Самоа).
После урегулирования этого сложного вопроса приступили к
обсуждению условий мирного договора с Германией. В основу его
легли предложения Д. Ллойд-Джорджа. Последовали длительные
дискуссии, в ходе которых в первоначальный план были внесены
некоторые изменения. В итоге удалось согласовать окончательный
текст договора, который и был подписан в Версальском дворце 28
июня 1919 г.
Условия мира были исключительно тяжелыми для Германии.
Во-первых, произошло существенное изменение ее границ. Она
потеряла Эльзас и Лотарингию, которые отошли к Франции, ок¬
руга Эйпен и Моренэ передавались Бельгии, Северный Шлезвиг —
Дании. Данциг (Гданьск) объявлялся вольным городом. Левый
берег Рейна должен был быть демилитаризован, и там оставались
оккупационные войска. Саарский угольный бассейн передавался
Франции, а сама область на 15 лет переходила под управление Лиги
Наций. Наконец, после проведения плебисцита к Польше отошла
часть Верхней Силезии. В целом Германия потеряла 1/8 часть сво¬
ей территории.
Во-вторых, она лишалась всех своих колоний.
В-третьих, было решено осуществить разоружение Германии.
Ее армия сокращалась до 100 тыс., и строиться она должна была
на добровольческой основе. Германии запрещалось иметь подвод¬
ный флот и военную авиацию. Распускался Генеральный штаб,
уничтожались все укрепления на ее западной границе.
И, в-четвертых, поскольку именно Германия объявлялась от¬
ветственной за развязывание войны, то ей предстояло выплатить
победителям репарации, i -азмер которых, правда, еще не был ус¬
тановлен.
Несколько позднее на сходной основе были подписаны мир¬
ные договоры с союзниками Германии — 10 сентября 1919 г. Сен-
Жерменский договор с Австрией, 27 ноября 1919 г. Нейский до¬
говор с Болгарией и 4 июня 1920 г. Трианонский договор с Венг¬
рией. Севрский договор с Турцией (10 августа 1920 г.) по сути
дела так и не вступил в силу из-за того, что победившее в граж¬
данской войне правительство Мустафы Кемаля отказалось вы¬
полнять его условия.
В результате всех этих соглашений политическая карта Ев¬
ропы претерпела кардинальные изменения. Эта волюнтаристс¬
кая перекройка европейского политического ландшафта созда¬
ла серьезнейший комплекс проблем, связанных с многочислен¬
306
ными пограничными спорами, которые почти сразу стали воз¬
никать во всех частях Старого Света. Проблема границ в итоге
внесла солидную лепту в развал этой модели международных
отношений. Чрезвычайно взрывоопасным, как показали после¬
дующие события, оказался заложенный в Устав Лиги Наций
принцип самоопределения наций. Внешне весьма демократич¬
ный, он в то же время при определенных условиях способен взор¬
вать почти любое государство и дать массу поводов для вмеша¬
тельства во внутренние дела большинства стран. Исключитель¬
но жесткие условия мирного договора, продиктованного Герма¬
нии, породили в немецком обществе благоприятнейшую среду
для распространения идей реваншизма.
Версальский договор являлся основой, на которой строилась
новая модель послевоенных международных отношений. Он за¬
фиксировал сложившуюся на тот момент расстановку сил на меж¬
дународной арене. Однако в этой фиксации было много изъянов,
ибо сформировавшаяся система межгосударственных отношений
не охватывала своим влиянием многие взрывоопасные проблемы
послевоенного мира: не удавалось найти решение проблем, порож¬
денных распадом Османской империи, на Парижской конферен¬
ции по существу не были затронуты многочисленные проблемы
огромного дальневосточного региона, и, наконец, абсолютно не¬
контролируемой оставалась ситуация в России, где бушевала
Гражданская война, ив 1919 г. никто не мог с уверенностью ска¬
зать, когда и чем она закончится.
Итоги Парижской конференции свидетельствовали, что в ми¬
ровой политике доминирующие позиций по-прежнему занимают
европейские державы. Однако принципы европоцентризма всту¬
пали во все более жесткий конфликт с растущей мощью США и
Японии. В США были явно разочарованы итогами Парижской
мирной конференции. Когда В. Вильсон представил Версальский
договор на ратификацию в конгресс, то натолкнулся на яростное
сопротивление оппозиции, во главе которой встали влиятельные
республиканские сенаторы Г. К. Лодж и У. Бора. Длительная по¬
лемика вокруг этого договора завершилась тем, что он не был ра¬
тифицирован, и, таким образом, США оказались как бы в стороне
от магистральных направлений мировой политики, и это, есте¬
ственно, сказывалось на эффективности новой модели междуна¬
родных отношений.
Возникает вопрос: как объяснить эту парадоксальную и нео¬
жиданную для многих современников коллизию? Почему США,
так много сделавшие в лице своего президента для конструирова¬
ния новой модели международных отношений, по сути дела в ито¬
ге оказались вне ее? Чем объяснить, что значительная часть поли¬
307
тической элиты страны на решающей стадии обсуждения этой
кардинальной проблемы встала в оппозицию планам главы госу¬
дарства? Можно выделить несколько причин, которые обуслови¬
ли данное развитие событий.
Во-первых, несмотря на лидирующее положение в финансо¬
во-экономической сфере, США явно уступали своим основным
конкурентам в военно-политической области, да и в опыте реше¬
ния сложнейших внешнеполитических задач. Это, несомненно,
сказалось на итогах мирной конференции. Сторонним наблюда¬
телям было очевидно, что в ряде ключевых вопросов послевоенно¬
го урегулирования Вильсон проиграл своим конкурентам. Хотя
сам он категорически отказывался признать данный факт, пред¬
ставители политической элиты США не могли не испытывать бес¬
покойство в связи с этим обстоятельством. Не удивительно, что в
такой ситуации планы президента встретили серьезные возраже¬
ния у части американского истеблишмента.
Во-вторых, против В. Вильсона действовала более чем веко¬
вая изоляционистская традиция и мощная инерция мышления
значительной части политической элиты США. Эти люди одно¬
значно выступали против жесткой фиксации внешнеполитичес¬
ких обязательств США, усматривая в этом потенциальное ущем¬
ление краеугольного принципа всей прежней внешней полити¬
ки Америки — принципа «свободы рук». Никакие аргументы
Вильсона не смогли убедить их в том, что время подобной поли¬
тики прошло. Беда президента заключалась в том, что он замет¬
но обогнал свое время. Страна в целом и политическая элита в
частности еще не были подготовлены к восприятию вильсоновс¬
ких идей.
И, наконец, третье. Провал внешнеполитических планов Виль¬
сона был обусловлен рядом серьезных тактических ошибок, допу¬
щенных самим хозяином Белого дома в ходе борьбы вокруг рати¬
фикации Версальского мира. Вопреки всем советам, он отказался
от поисков компромисса со своими оппонентами в сенате, заняв
весьма нехарактерную для американских политиков позицию —*
«Или все, или ничего!» По сути такая линия поведения лишь спо¬
собствовала консолидации весьма разношерстного блока против¬
ников Вильсона и помогла лидерам оппозиции добиться в марте
1920 г. решающей победы в долгой, упорной и напряженной борь¬
бе вокруг ратификации Версальского мирного договора.
Завершение Парижской мирной конференции не принесло
долгожданной стабилизации. Во многих государствах продолжа¬
лись гражданские войны, острейшие социальные конфликты по¬
трясали даже страны, где уже сложилось устойчивое гражданс¬
кое общество, новым государствам, возникшим после войны, пред¬
308
стояло налаживать жизнь, вырабатывать основы взаимоотноше¬
ний со своими соседями, наконец, предстояло воплотить в жизнь
многие важные положения Версальского мира: распределить ман¬
даты на бывшие немецкие колонии, выработать реальную схему
решения репарационного вопроса.
В 1920-1921 гг. шли интенсивные переговоры между велики¬
ми державами, в ходе которых они пытались найти развязки хотя
бы части из тех проблем, которые стояли на повестке дня. Нельзя
назвать эти попытки особенно успешными, но, по крайней мере,
они не давали возможности для бесконтрольной эскалации того
конфликтного заряда, который был заложен в еще не урегулиро¬
ванных проблемах. Размыв принципа европоцентризма заметно
усложнил общую картину мира. Он проявился в том, что один из
наиболее запутанных узлов противоречий образовался на Дальнем
Востоке, где сталкивались интересы Японии, США и Англии. Си¬
туация там обострилась настолько, что в прессе стали даже пого¬
варивать о возможном начале новой войны.
До этого, однако, не дошло: американская дипломатия пред¬
ложила провести международную конференцию для обсуждения
спорных проблем. Она открылась 12 ноября 1921 г. в Вашингто¬
не. В ее работе приняли участие представители 9 держав, а ее ито¬
гом стало подписание трех крупных соглашений, позволивших
достроить ту конструкцию, сооружение которой началось на Па¬
рижской мирной конференции. Первое соглашение — «Договор
четырех» — было подписано 13 декабря 1921 г. представителями
США, Великобритании, Франции и Японии. В нем говорилось о
том, что его участники обязуются гарантировать взаимную непри¬
косновенность своих владений в бассейне Тихого океана. Под дав¬
лением США Великобритания и Япония денонсировали свое со¬
глашение от 1902 г.
6 февраля 1922 г. был подписан «Договор пяти» об ограниче¬
нии морских вооружений. Его участники — США, Англия, Япо¬
ния, Франция и Италия — договорились установить следующие
пропорции для своих линейных кораблей (а не для всех видов мор¬
ских вооружений) — 5:5:3:1,75 :1,75. Обговаривался и общий
тоннаж судов этого класса. Впервые в истории был подписан дого¬
вор, вводивший ограничения на вооружения определенного типа.
Правда, военная стратегия развивалась таким образом, что эпоха
линкоров уходила в прошлое, а на роль главной ударной силы ВМФ
выдвигались крейсера и подводные лодки. Об ограничении этих
классов кораблей в «Договоре пяти» ничего не говорилось. И все
же, при всех его недостатках, этот договор стал первым докумен¬
том, в котором была предпринята попытка ограничить гонку воо¬
ружений.
309
«Договор пяти» интересен еще в ряде аспектов. Прежде всего
следует отметить, что впервые в истории Англия официально со¬
гласилась признать право другой державы (в данном случае США)
на паритет в размерах военно-морского флота. Это был отход от дав¬
ней традиции британской военной политики и свидетельство обще¬
го ослабления Великобритании. Заметно укрепила свои позиции
Япония. Хотя ее флот несколько уступал английскому и американ¬
скому, но поскольку он концентрировался в одном месте (на Даль¬
нем Востоке), то в этом регионе на морях доминирующее положе¬
ние безусловно перешло к «стране восходящего солнца», что позво¬
ляло ей в перспективе резко активизировать свою экспансию.
Третий договор, подписанный на Вашингтонской конферен¬
ции, — «Договор девяти» — касался проблем Китая. Американс¬
кие дипломаты сумели ввести в международно-правовую практи¬
ку принцип «открытых дверей», в противовес традиционной ев¬
ропейской линии на раздел мира на сферы влияния. Суверенитет
и независимость Китая волновали США лишь постольку, посколь¬
ку они рассчитывали, опираясь на свое экономическое преимуще¬
ство, в перспективе вытеснить своих конкурентов из этой огром¬
ной, но находившейся тогда в бедственном положении страны.
С завершением Вашингтонской конференции закончилась
фаза становления новой модели международных отношений. Воз¬
никли центры силы, которым удалось выработать сравнительно
устойчивую систему взаимоотношений между собой. В основном
были разрешены наиболее спорные проблемы, связанные с после¬
военным урегулированием, снята напряженность в отношениях
великих держав. Вместе с тем нельзя не отметить, что новая мо¬
дель международных отношений была внутренне достаточно про¬
тиворечивой, а следовательно, и не особенно устойчивой. Вне ее
оставалась Советская Россия (а это 1/6 часть земного шара), неяс¬
но было, как впишутся в нее побежденные державы, при ее созда¬
нии были, по сути, обойдены молчанием многочисленные пробле¬
мы пробуждавшегося азиатского континента. Все это предвещало
ей нелегкую жизнь, сулило цивилизации в целом серьезные по¬
трясения.
§ 2. Ноябрьская революция
в Германии — кульминация
революционного подъема в Европе
Окончание Первой мировой войны отнюдь не означало, что в
Европу вернулись спокойные времена. В Венгрии, Австрии, Че¬
хии, Словакии, Турции, Финляндии вспыхнули революции. Раз-
310
ные по своему характеру и итогам, они в то же время были не толь¬
ко следствием разрухи, которая охватила Европу после четырех
лет войны, но и отражением глубокого кризиса традиционного
буржуазного общества. Революционная волна, охватившая ряд
стран Центральной Европы, оказывала серьезное влияние и на
соседние государства. Так, очень напряженная обстановка возник¬
ла в Северной Италии, где острые трудовые конфликты постави¬
ли страну на грань революции. Даже в таких обычно стабильных
и устойчивых государствах, как США и Великобритания, замет¬
но активизировались радикальные элементы. Эти события оказа¬
ли многоплановое воздействие и на те страны, которые непосред¬
ственно испытали их воздействие, и на западную цивилизацию в
целом.
Наиболее драматические события развернулись в крупнейшей
стране Центральной Европы — Германии. Революция там нача¬
лась с восстания военных моряков в Киле. К 7-8 ноября 1918 г.
волнения охватили почти все крупные города. Особенно массовы¬
ми были выступления в столице. Под их напором глава правитель¬
ства принц Макс Баденский объявил 9 ноября об отречении кай¬
зера, который бежал за границу.
Германия была провозглашена республикой. Было создано
новое правительство — Совет народных уполномоченных (СНУ)
во главе с видным деятелем немецких социал-демократов Ф. Эбер¬
том. Этот орган состоял из представителей двух партий — СДПГ и
НСДПГ. Однако уже через день у СНУ появился конкурент в борь¬
бе за власть. 10 ноября 1918 г. созданный Берлинский Совет рабо¬
чих и солдатских депутатов принял воззвание «К трудовому на¬
роду!», в котором Германия объявлялась социалистической рес¬
публикой, а рабочие и солдатские Советы — носителями полити¬
ческой власти. Таким образом, на этом этапе революции в Герма¬
нии сложилось двоевластие: параллельно со СНУ существовали и
действовали Советы. Было очевидно, что такая ситуация долго
продолжаться не может. Действитёльно, в ноябре-декабре 1918 г.
в немецком обществе шла острейшая политическая борьба, итоги
которой должны были определить, по какому сценарию будет раз¬
виваться революция в Германии.
Ф. Эберт, являвшийся решительным противником осуществ¬
ления революционных преобразований по «советскому образцу»,
вместе с тем понимал, что в условиях, когда общество пришло в
движение, требовало перемен, только гибкая социальная полити¬
ка способна предотвратить дальнейшую радикализацию масс. 12
ноября 1918 г. была опубликована программа СНУ. В ней в общем
виде декларировалось, что правительство будет стремиться к «осу¬
ществлению социализма». Однако в основном в этом документе
311
лишь констатировались те перемены, которые уже произошли к
данному моменту. Из главных новаций следует упомянуть обяза¬
тельство ввести 8-часовой рабочий день, расширить систему со¬
циального страхования и провести выборы в Учредительное собра¬
ние на основе всеобщего избирательного права. В общем, это был
весьма умеренный документ.
Правда, через несколько дней по инициативе правительства
было заключено соглашение о «трудовом сотрудничестве» между
профсоюзами и предпринимателями. Профсоюзы признавались
единственным законным представителем рабочих в коллективно¬
договорном процессе, который отныне становился главной фор¬
мой взаимоотношений труда и капитала. Не возбранялось и созда¬
ние фабзавкомов, хотя их функции четко не определялись. Боль¬
шинство рабочих восприняли это соглашение как готовность
власть имущих к глубоким социальным переменам, а на СНУ ста¬
ли смотреть как на силу, работавшую в этом направлении.
Ту же функцию выполняла и созданная Комиссия по социа¬
лизации, которую возглавил один из крупнейших идеологов со¬
циал-демократов К. Каутский. Формально она готовила предло¬
жения для Учредительного собрания по реформированию всей
сферы индустриальных отношений, утверждению «индустриаль¬
ной демократии». По сути ее деятельность была направлена на то,
чтобы предотвратить обвальную национализацию крупной и сред¬
ней промышленности.
В обстановке развала, хаоса, всеобщего недовольства, когда
страна могла легко впасть в состояние экономического коллапса,
большую роль сыграло Демобилизационное управление, которым
руководил генерал Й. Кэт. Именно на это ведомство легла тяже¬
лейшая задача — осуществление в сложнейших условиях рекон¬
версии, т.е. перевода экономики с военных на мирные рельсы. От
того, как решалась эта задача, зависело состояние всей социаль¬
ной атмосферы в обществе. Деятельность этого ведомства дала
предпринимателям передышку, позволила выйти из шока, в ко¬
торый их повергла революция и военное поражение. Своеобраз¬
ный тайм-аут был абсолютно необходим старой элите, ибо в тот
момент она лишилась всех прежних рычагов воздействия на по¬
литическую жизнь. Государственный аппарат был парализован,
армия разгромлена, старые партии распались.
На первых порах в политической жизни доминировали соци¬
ал-демократы. Здесь, правда, надо оговориться, что эта некогда
единая и достаточно мощная партия еще в годы войны расколо¬
лась на три части, которые вели между собой ожесточенную борь¬
бу. Собственно социал-демократическая партия, которую возглав¬
ляли Ф. Эберт и Ф. Шейдеман, сохранила контроль над основны¬
312
ми звеньями партийной машины, ее печатными органами. СДПГ
выступала в качестве жесткого оппонента той версии развития
общества, которую отстаивал В. И. Ленин. Лидеры СДПГ склоня¬
лись к тому, что реальный общественный прогресс может осуще¬
ствляться только эволюционным путем и, следовательно, основ¬
ная задача партии состоит в том, чтобы, интегрируясь в существу¬
ющую политическую систему, изнутри улучшать ее. В условиях
революции, возникшей вопреки их воле, именно эта часть соци¬
ал-демократического движения овладела инициативой и стреми¬
лась к тому, чтобы не допустить развития событий по «советско¬
му образцу».
Основным идейным оппонентом СДПГ в рамках рабочего дви¬
жения выступала группа «Спартак», на базе которой в конце де¬
кабря 1918 г. была создана Коммунистическая партия Германии
(КПГ). В ее программе было много сходных черт со взглядами рос¬
сийских большевиков. Хотя их позиции не были полностью иден¬
тичными, их роднила уверенность в том, что только социальная
революция способна устранить присущие существующему право¬
порядку противоречия и вывести общество на качественно новый
виток развития. В сложившейся ситуации лидеры этой группы, а
потом и КПГ Карл Либкнехт и Роза Люксембург видели свою глав¬
ную задачу в том, чтобы превратить Советы рабочих и солдатских
депутатов в органы подлинного народовластия, которые возьмут
на себя миссию переустройства общества на социалистической
платформе.
Наконец, в среде социал-демократов существовала третья
сила — Независимая социал-демократическая партия Германии
(НСДПГ). В ее рядах уживались такие разные люди, как круп¬
нейшие идеологи реформизма Карл Каутский и Рудольф Гиль-
фердинг и будущий лидер немецких коммунистов Эрнст Тель¬
ман. Теоретически эта организация пыталась выработать некий
средний путь между двумя крайностями — сугубо соглашатель¬
ской линией СДПГ и курсом на революционное переустройство
общества, отстаиваемым сначала группой «Спартак», а затем
КПГ. Отсюда постоянное политическое лавирование, компро¬
миссы, смена ориентиров. В целом же эта организация, по край¬
ней мере ее лидеры, тяготела к эволюционному варианту раз¬
вития общества.
После первых, очень бурных событий, связанных с падением
монархии, ситуация, по крайней мере чисто внешне, стала не¬
сколько успокаиваться. Однако это было лишь внешнее затишье:
для него не было реальной почвы, ибо в стране существовало дво¬
евластие и уже сам этот факт обуславливал глубокую напряжен¬
ность, которая неизбежно должна была вырваться наружу. Про¬
313
тивостояние двух центров власти нашло свое выражение в альтер¬
нативных лозунгах — «Власть Советам» и «Власть Учредитель¬
ному собранию». Проблема заключалась в том, что если СНУ чет¬
ко знал, чего он хочет, и последовательно проводил свою полити¬
ческую линию в жизнь, то в самих Советах единства не было. Ле¬
вые пытались реализовать установку на превращение Советов в
полноправные органы власти. Однако среди членов Советов было
немало противников такого варианта развития событий. По их
мнению, это лишь усугубило бы кризисные тенденции и подтал¬
кивало общество к гражданской войне.
Противники перемен, которые произошли в Германии в ходе
революции, довольно быстро вышли из шокового состояния, в
котором они пребывали после свержения монархии. Большое зна¬
чение в этом процессе имело преобразование буржуазных партий.
Прежде всего они сменили вывески. Самыми популярными сло¬
вами в новых названиях партий были «демократия» и «народ¬
ность». Партия католического центра переименовалась в Христи¬
анско-демократическую партию. Ее лидерами стали М. Эрцбергер
и Й. Вирт. Прогрессисты и часть национал-либералов объявили о
создании Немецкой демократической партии. Правое крыло на¬
ционал-либералов образовало Немецкую народную партию, кото¬
рую возглавил один из самых талантливых политиков нового по¬
коления Г. Штреземан. Наконец, консерваторы перекочевали в
Немецкую национальную народную партию.
Главные политические баталии в этот период разворачивались
в Берлине. Ситуация развивалась благоприятно для СНУ. Испол¬
ком Берлинского Совета сдавал одну позицию за другой, и уже 23
ноябре СНУ добился признания за собой полномочий исполнитель¬
ной власти. Судьба правительства СНУ и Советов во многом опре¬
делилась по итогам работы I съезда Советов, проходившего 16-21
декабря 1918 г. Более половины делегатов съезда были членами
СДПГ, и только 10 человек принадлежали к группе «Спартак».
Такой состав предрешил исход голосования по ключевому вопро¬
су: делегаты съезда по собственной инициативе решили передать
всю власть вплоть до созыва Учредительного собрания СНУ. По
сути, этим актом большинство в Советах продемонстрировало, что
отказывается от претензий на власть.
Итоги съезда Советов вызвали глубокое разочарование на ле¬
вом фланге немецкого общества. В этой среде крепло ощущение,
что добиться единства всех, кто так или иначе разделял социали¬
стические идеалы, невозможно и Германии нужна своя партия,
которая стала бы выполнять роль авангарда революции. Именно
поэтому было принято решение о созыве конференции группы
«Спартак», которая трансформировалась в Учредительный съезд
314
КПГ. Это произошло 30 декабря 1918 г. На нем была принята про¬
грамма партии, а также выработана тактика поведения левых в
текущей политической борьбе. Делегаты съезда высказались про¬
тив участия в выборах в Учредительное собрание.
Наметившаяся поляризация сил материализовалась в ходе
ожесточеннейшей схватки за власть, которая разгорелась в ян¬
варе 1919 г. Центром событий опять-таки стал Берлин. После
съезда Советов Ф. Эберт посчитал, что настал благоприятный
момент для того, чтобы в преддверии выборов в Учредительное
собрание нанести решающий удар по своим оппонентам на левом
фланге. В самом начале января с поста берлинского полицай-пре¬
зидента был смещен левый независимый Э. Эйхгорн. Левые, при¬
чем не только коммунисты, но и многие члены НСДПГ, воспри¬
няли это как прямой вызов. В Берлине начались массовые демон¬
страции протеста. Воодушевленные масштабами этих выступле¬
ний, руководители КПГ приняли решение о подготовке воору¬
женного восстания. Был создан «Комитет действия», куда вош¬
ли как коммунисты, так и независимые. Правда, почти сразу же
между ними возникли разногласия, и коммунисты вышли из это¬
го органа.
Понимая, что настал критический момент, правительство пе¬
решло в контрнаступление. 8 января 1919 года в Берлин были вве¬
дены верные правительству войска. Вплоть до 12 января в городе
шли ожесточенные баррикадные бои, в ходе которых восставшие
были разбиты. Погибли и лидеры КПГ К. Либкнехт и Р. Люксем¬
бург. В обстановке террора против левых сил 19 января прошли
выборы в Учредительное собрание, на которых победили предста¬
вители буржуазных партий, получивших в совокупности 54% го¬
лосов избирателей. Собрание начало свою работу 6 февраля в не¬
большом городке Веймар. Центральная проблема, которую пред¬
стояло решить этому органу, заключалась в разработке новой Кон¬
ституции Германии. Временным президентом страны стал
Ф. Эберт, а правительство, куда вошли представители СДПГ, НДП
и ХДП, возглавил Ф. Шейдеман.
Подготовка Основного закона проходила в крайне сложной
обстановке. В Париже шла мирная конференция, где державам-
победительницам предстояло продиктовать Германии условия
мира. Все понимали, что они будут очень тяжелыми и серьезно
осложнят становление молодой республики. Несмотря на разгром
левых сил в ходе январских столкновений в Берлине, говорить о
стабилизации внутриполитической обстановки не приходилось.
В Бремене, Гамбурге, Руре, Рейнско-Вестфальском районе ситу¬
ация не раз выходила из-под контроля. Кульминацией того дрей¬
фа влево, которым было отмечено развитие немецкого общества
315
с момента свершения в Германии революции, стало провоз¬
глашение Баварской Советской республики в апреле 1919 г. Про¬
существовала она всего три недели, но сам этот факт свидетель¬
ствовал о том, что Германия еще не пережила «революционный
синдром».
Стремясь сбить революционную волну, власти использовали
политику «кнута и пряника». Решительно подавляя любые по¬
пытки утвердить в Германии советскую власть, Новое правитель¬
ство вместе с тем одобрило ряд важных мер, способствовавших
демократизации всей сферы социально-экономических отноше^
ний. В этом ряду следует прежде всего упомянуть одобренный в
марте 1919 г. Закон о социализации, в котором содержалось по¬
ложение о возможности перевода в общественную собственность
созревших для этого промышленных предприятий. Во-вторых,
к этому блоку относится и Закон о регулировании угольного хо*
зяйства. Он стал своего рода моделью и для других отраслей, на
его примере конкретизировались механизмы государственного
контроля над экономикой. Для контроля над отраслью создавал¬
ся общенациональный угольный совет, который должен был ре¬
гулировать «в интересах общества» все стороны производства и
сбыта продукции, а также условия труда в угледобывающей про¬
мышленности. Наконец, в апреле 1919 г. был опубликован про¬
ект закона о закреплении Советов в Конституции в форме фаб-
завкомов, согласно которому они должны были ftoлучить право
голоса в решении производственных вопросов.
Все это позволяло правительству сдерживать натиск своих
оппонентов и дать возможность депутатам Учредительного собра¬
ния завершить работу над Конституцией. Она была принята 31
июля 1919 г. В ней декларировалось, что «государственная власть
исходит от народа», ее задачей является «обеспечение достойного
человека существования». Конституция, принятая в условиях
непрекращавшихся социальных конфликтов, когда еще остро
ощущалось дыхание революции, не могла не учитывать общий
настрой масс. В ней было немало новых идей, непривычных для
традиционного конституционного права. Так, в Основной закон
был включен раздел «Хозяйственная жизнь», в котором, с одной
стороны, провозглашался принцип защиты частной собственнос¬
ти, но, с другой стороны, говорилось о возможности социализа¬
ции отдельных отраслей промышленности, закреплялось суще¬
ствование фабзавкомов.
Поскольку в стране не были решены многие проблемы, свя¬
занные с демократизацией общественно-политической жизни,
создатели Веймарской Конституции уделили им большое вни¬
мание. Вводитесь, всеобщее избирательное право для мужчин и
316
женщин, достигших 20-летнего возраста. Провозглашались тра¬
диционные для демократического общества права и свободы, за¬
метно расширялись полномочия рейхстага, предусматривалась
возможность проведения в определенных случаях всенародно¬
го референдума. В то же время, отдавая дань прежней консти¬
туционно-правовой традиции, создатели новой Конституции
наделили исключительно большими полномочиями президен¬
та республики. Он имел возможность в определенных случаях
править, опираясь на чрезвычайные декреты, был независим от
рейхстага.
Конституция закрепила изменения, которые произошли в не¬
мецком обществе под влиянием революции. Это была Конститу¬
ция нового поколения, в которой нашли определенное отраже¬
ние новые взгляды на роль государства в жизни общества. За ко¬
роткий срок Германия осуществила серьезный скачок вперед в
плане своего политического развития — от весьма консерватив¬
ной имперской формы политической организации к одной из са¬
мых демократичных для своего времени республик. Однако в
таком скачке было имманентно заложено немало внутренних
противоречий, и они самым серьезным образом сказались на судь¬
бе Веймарской республики.
§ 3. Революционный кризис в странах
Восточной Европы
Распад Австро-Венгерской империи в октябре 1918 г. при¬
вел к формированию качественно новой ситуации в Централь¬
ной и Восточной Европе. На протяжении нескольких веков в
рамках этого государственного образования проживали, хотя и
далеко не бесконфликтно, многочисленные народы, получив¬
шие, наконец, исторический шанс на создание собственных на¬
циональных государств. Однако воплощение этого шанса в
жизнь оказалось сопряженным с множеством острейших кол¬
лизий. Это и не удивительно, ибо в рамках прежней государ¬
ственной структуры накопился огромный клубок сложнейших
противоречий — социально-экономических, политико-право¬
вых, религиозно-этнических и др., которые с распадом государ¬
ственности одномоментно вырвались наружу и породили мощ¬
нейший революционный взрыв, прокатившийся по всем состав¬
ным частям бывшей империи.
Наибольшей остроты эти события достигли в Венгрии. По-ви¬
димому, это не случайно. Эта часть империи на протяжении мно¬
гих десятилетий являлась источником диссидентских настроений,
317
неоднократно перераставших в открытое противостояние с Веной.
В самых разных слоях венгерского общества традиционно силь¬
ным влиянием пользовались идеи национальной независимости.
Поэтому в Венгрии еще в годы войны достаточно активно заявила
о себе оппозиция в лице части политической элиты, возглавляе¬
мой графом М. Каройи, который утверждал, что внешнеполити¬
ческий курс Австро-Венгрии противоречит национальным инте¬
ресам собственно Венгрии, ведет ее вместе со всей империей к ка¬
тастрофе. По мере углубления военных трудностей аргу^ецты
Каройи приобретали все большую убедительность.
После победы Октябрьской революции в России призывы Ка¬
ройи к сближению с Антантой приобрели в глазах элиты венгерс¬
кого общества еще большую актуальность. По его инициативе в
октябре 1918 г. был создан Национальный совет, который изна¬
чально попытался взять на себя функции «параллельной власти».
Характерно, что граф Каройи, так же как и принц Макс Баденс¬
кий в Германии, считал абсолютно необходимым условием стаби¬
лизации общества, предотвращения революционного взрыва проч¬
ную интеграцию социал-демократов в политическую систему.
Именно поэтому он добился включения в Национальный совет
представителей социал-демократической партии Венгрии. 26 ок¬
тября его членами был подготовлен и обнародован манифест —
документ, которому отводилась двоякая роль. С одной стороны,
это была последняя попытка убедить королевскую власть в необ¬
ходимости срочных перемен в социально-политической сфере. С
другой — в случае отказа или неспособности властей осуществить
необходимые преобразования, взять на себя инициативу в предот¬
вращении национальной катастрофы. При этом сценарии Нацио¬
нальный совет должен был стать ядром новой власти, которая пре¬
дотвратит революционный взрыв.
Опасения графа Каройи имели под собой серьезные основа¬
ния: государственные институты империи разваливались букваль¬
но на глазах. 31 октября 1918 г. в Австрии и Венгрии одновремен¬
но началась революция. Но если в Австрии правым социал-демок¬
ратам практически изначально удалось создать достаточно проч¬
ные заслоны против дальнейшей радикализации общества, то в
Венгрии события разворачивались иначе.
Хотя М. Каройи сумел сформировать на базе Национального
совета правительство с участием социал-демократов, параллель¬
но с этим происходило становление системы Советов. Между эти¬
ми двумя центрами политической власти сразу же развернулась
жесткая конкуренция. Им приходилось учитывать в своей дея¬
тельности крайне непростой социально-политический фон, кото¬
рый сопутствовал распаду монархии и становлению новых госу¬
318
дарств. Прежде всего в этой связи необходимо отметить фактор
военного поражения, который ассоциировался в массовом созна¬
нии с полным крахом прежней власти, что порождало практичес¬
ки всеобщее стремление к переменам. В этом же направлении дей¬
ствовало и неизбежное в условиях военной катастрофы общее рез¬
кое ухудшение условий жизни, что постоянно подпитывало ради¬
кализм масс, их стремление к социальной справедливости. Нако¬
нец, атмосфера всеобщего кризиса давала мощный импульс дав¬
ней сепаратистской традиции, согласно которой Венгрия могла
рассчитывать на «светлое будущее» только порвав с Габсбургами
и встав на путь самостоятельного развития. Любая политическая
сила Венгрии, рассчитывавшая на успех, не могла не учитывать
эти обстоятельства.
Исходя из этого, Каройи после некоторых колебаний пошел
на провозглашение Венгрии народной республикой. Начался про¬
цесс демократизации политической жизни нового государства. В
ряде случаев уже в это время социально-политические процессы
стали выходить из-под контроля новых властей. Так, по инициа¬
тиве Советов де-факто устанавливался рабочий контроль на про¬
мышленных предприятиях, в деревне были зафиксированы слу¬
чаи захвата помещичьих земель. Все это не могло не оказывать
заметного воздействия на общий расклад политических сил в Вен¬
грии, динамика которого быстро менялась.
В особо сложном положении оказались венгерские социал-де¬
мократы, которым необходимо было в кратчайшие сроки опреде¬
литься в отношении использования российского опыта. Как и в
других странах, этот чрезвычайно болезненный для социал-демок¬
ратов вопрос вызвал раскол в их среде. Для большей части руко¬
водства СДПВ российский опыт был неприемлем. В то же время
часть левых социал-демократов и группа «революционных соци¬
алистов», получивших солидное подкрепление в лице вернувших¬
ся из России венгерских военнопленных, принимавших участие в
Октябрьской революции на стороне большевиков, полагали, что
только жесткое использование опыта Советской России может дать
Венгрии исторический шанс осуществить необходимые для про¬
грессивного развития общества преобразования. Один из их лиде¬
ров — Бела Кун — и стал главой созданной в ноябре 1918 г. Ком¬
мунистической партии Венгрии.
Новая организация сразу же взяла курс на форсирование со¬
циалистической революции. Отчасти благодаря ее активной аги¬
тационной деятельности, отчасти в силу углубления кризисных
тенденций в обществе в целом и неспособности властей обуздать
прогрессирующее падение жизненного уровня, радикальные на¬
строения все больше захватывали страну. Одновременно усили¬
319
валось давление на Венгрию со стороны Антанты. В этой обста¬
новке правительство М. Каройи в марте 1919 г. подало в отстав¬
ку. Каройи предложил лидерам СДПВ сформировать новое пра¬
вительство, но те не захотели брать на себя единоличную ответ¬
ственность за сложившуюся ситуацию. Вместо этого они начали
переговоры о совместных действиях с представителями компар¬
тии Венгрии. После коротких, но весьма интенсивных перегово¬
ров 21 марта 1919 г. было принято неожиданное для многих ре¬
шение об объединении двух организаций в единую Социалисти¬
ческую партию Венгрии. В тот же день Венгрия была провозгла¬
шена советской республикой. Правительство возглавил предста¬
витель социал-демократов Ш. Гарбаи, а Б. Кун стал наркомом
Иностранных дел.
Ясно, что такой поворот событий абсолютно не устраивал ни
лидеров Антанты, ни руководителей соседних с Венгрией госу¬
дарств, ни старую элиту самой Венгрии. Все это оставляло мало
шансов на спокойное, эволюционное развитие событий внутри
страны. Чувствуя, что над новой властью нависла реальная угро¬
за, советское правительство Венгрии уделяло первостепенное вни¬
мание укреплению собственной безопасности. Поскольку в это
время в левых кругах всех стран большой популярностью пользо¬
валась идея мировой революции, венгерские коммунисты видели
в событиях в России ее начало, а советскую власть там рассматри¬
вали в качестве своего естественного союзника. В Советской Рос¬
сии события в Венгрии, в свою очередь, рассматривали как под¬
тверждение тезиса о неизбежности наступления скорого краха
буржуазного общества в мировом масштабе и относились к этой
стране как к оптимальному плацдарму для продвижения револю¬
ционных идей в глубь Европы. Не удивительно, что сразу же встал
вопрос о создании вооруженного союза двух стран — идея, кото¬
рая сильно обеспокоила Антанту. Предпринимались интенсивные
меры к организации венгерской Красной армии.
С самого начала новое правительство взяло курс на проведе¬
ние глубоких преобразований в социально-экономической сфере.
Были национализированы банки, транспорт, предприятия с чис¬
лом работников более 20 человек, экспроприированы земельные
владения размером более 57 га. Было введено всеобщее социаль¬
ное страхование по болезни и от несчастных случаев, установле¬
ны оплачиваемые отпуска и 8-часовой рабочий день, гарантиро¬
валось бесплатное обучение и медицинское обслуживание. Для
руководством народным хозяйством был создан Совет народного
хозяйства во главе с Е. Варгой.
Летом 1919 г. после выборов, в которых участвовали только
трудящиеся (с 18 лет), б^ыл созван съезд Советов. Его делегаты
320
одобрили новую Конституцию, закреплявшую всевластие Сове¬
тов. Подобное развитие событий не могло не вызвать обострения
социальных конфликтов в стране и рост изоляции Венгрии на
международной арене. Поскольку основное внимание ведущих
стран Антанты было в это время сконцентрировано на решении
спорных вопросов, связанных с послевоенным урегулированием,
инициативу в борьбе с революционной Венгрией отдали ее сосе¬
дям, которые давно испытывали к ней отнюдь не дружественные
чувства.
Уже в апреле 1919 г. Венгрии пришлось вступить в борьбу с
румынскими, а затем с чехословацкими интервентами. Большие
надежды и в Будапеште, и в Москве испытывали в связи с воз¬
можностью объединения усилий Красных армий двух стран —
Советской России и Венгрии. Однако соединиться им так и не
удалось. Тем не менее в мае-июне боевые действия развивались
успешно для венгров. В это время они нанесли серию ударов по
чехословацким войскам, в результате которых те были факти¬
чески разгромлены, а в самой Чехословакии усилилось револю¬
ционное брожение. Его кульминацией стало провозглашение 16
июня 1919 г. советской власти в Словакии. Однако, как это час¬
то бывает, успехи венгерской революции одновременно таили в
себе и зародыш будущей катастрофы. Быстрое расширение рево¬
люционного плацдарма в Восточной Европе встревожило веду¬
щие страны Антанты. Им стало ясно, что одних усилий соседей
Венгрии для подавления начатого в этой стране социалистичес¬
кого эксперимента явно недостаточно. В этой ситуации они в уль¬
тимативной форме потребовали отвода венгерских войск со всех
занятых территорий, угрожая в противном случае широкомас¬
штабной интервенцией.
Этот ультиматум вызвал по существу раскол в руководстве
Венгерской Советской республики. Действительно, оно попало в
сложнейшую ситуацию. С одной стороны, принятие ультиматума
означало бы признание собственной слабости, а это, безусловно,
не укрепило бы позиции властей внутри страны. G другой сторо¬
ны, отвергнуть ультиматум означало столкнуться с многократно
превосходящими их по силе войсками международной коалиции.
Сказать, какой вариант был хуже для перспектив новой власти,
было весьма непросто.
В венгерском руководстве возникли острые разногласия. В
ходе жарких дискуссий большая его часть склонилась к тому,
что следует принять условия Антанты. В принципе их логика
вполне понятна: поскольку мир находится на пороге всеобщей
революции и победа ее неизбежна, в ожидании этого события не¬
обходимо оттянуть столкновение с превосходящими силами « ми¬
321
ровой буржуазии» до того момента, когда политический маят¬
ник вновь качнется в благоприятную для левых сторону. Однако
эти расчеты не оправдались. Добившись первого успеха, Антан¬
та продолжала наращивать давление. Активизировались и про¬
тивники новой власти внутри Венгрии. Теперь уже речь шла о
том, что советское правительство Венгрии обязано распустить
Красную армию, ибо она представляет угрозу для стабильности
всей Центральной Европы. Внутри самой новой власти быстро
усиливались разногласия, подрывавшие ее и без того слабеющие
позиции.
В итоге, просуществовав 133 дня, в августе 1919 г. советская
власть в Венгрии пала. На смену ей пришло недолговечное ♦проф¬
союзное правительство», которое вскоре (1 марта 1920 г.) смени¬
ла открытая военная диктатура адмирала М. Хорти. Хотя чисто
внешне революционный кризис в центре Европы был завершен,
его силовое разрешение оказало заметное влияние на последую¬
щее развитие событий в этом регионе. Многие социальные конф¬
ликты, породившие его, остались не до конца, а то и вообще не
разрешенными. Они оказались загнанными внутрь. А это созда¬
вало благоприятную среду для расцвета разного рода авторитар¬
ных, а то и откровенно профашистских движений.
§ 4. Радикализация рабочего движения
Одна из важнейших характеристик XX в., особенно его пер¬
вой половины, — исключительно высокая роль рабочего движе¬
ния в эволюции западной цивилизации. Против этой общей по¬
сылки не возражает ни один серьезный историк или социолог.
Споры идут об оценке воздействия этого фактора на общество.
Диапазон расхождений чрезвычайно высок: от рассмотрения ра¬
бочего движения в качестве силы, призванной покончить с бур¬
жуазным обществом, до признания его важнейшей интеграль¬
ной частью индустриального общества. По-разному оценивают
и его роль: от функции всесокрушающего тарана, сметающего
все устои буржуазного общества, до конструктивной силы, ак¬
тивно участвующей в совершенствовании ♦индустриальной де¬
мократии».
Особенно активно эти споры шли в 20-30-е гг. XX в., когда
перед западной цивилизацией остро встал вопрос о выборе магис¬
тральных путей дальнейшего развития. В принципе этот вопрос
был не нов. Споры о стратегии и тактике шли в рабочем движении
по существу с момента его возникновения. С появлением марксиз¬
ма в этой дискуссии обозначилась новая линия. Классический
322
марксизм, как известно, отводил рабочему классу роль силы, при¬
званной радикально изменить мир, открыть в истории человече¬
ства новую эпоху. Ясно, что при такой установке политические
партии, выражавшие интересы этой социальной силы, должны
были занимать максимально радикальные позиции, взламывая
всеми возможными способами существующую политическую си¬
стему. Однако, когда в конце XIX в. на базе этой концепции стали
возникать массовые социал-демократические партии, выяснилось,
что далеко не все их лидеры готовы на деле воспринимать столь
радикальные идеи. Это объяснялось, с одной стороны, тем, что к
этому времени жизнь показала — процесс эволюции буржуазного
общества далеко не столь прямолинеен, как это изображалось,
скажем, в «Манифесте коммунистической партии», а с другой,
тем, что наиболее дальновидные представители правящей элиты
начали осознавать необходимость интеграции рабочих партий в
политическую систему буржуазного общества. Многие лидеры
социал-демократов в начале XX в. стали склоняться к ведению
борьбы за свои цели обычными политическими методами, доби¬
ваясь постепенного совершенствования (а не одномоментной лом¬
ки) старого общества.
Эта тенденция набирала размах вплоть до Первой мировой
войны. Ее колоссальные тяготы резко обострили ситуацию во
всех воюющих странах (за исключением США). К концу войны
буржуазное общество в Европе переживало глубокий кризис. В
России он перерос в революцию, кульминацией которой стал
приход к власти большевиков, провозгласивших своей стратеги¬
ческой целью построение общества нового типа. Они стали пер¬
вой партией, вышедшей из лона социал-демократии и пришед¬
шей к власти, причем успех им принес сверхрадикальный поли¬
тический курс. Их победа безусловно подлила масла в костер ста¬
рого спора о выборе наиболее перспективных путей движения к
новому миропорядку. Поскольку в то время процесс строитель¬
ства нового общества представлялся весьма упрощенно (главным
считалось взять власть), тактика радикалов выглядела предпоч¬
тительнее.
На руку сторонникам радикальных действий играла и общая
обстановка тех лет. Оценивая ее, Д. Ллойд-Джордж, премьер-ми¬
нистр Великобритании, писал в 1919 г.: «Народы всей Европы, от
края до края, подвергают сомнению весь Существующий порядок,
все нынешнее политическое, социальное и экономическое устрой¬
ство общества». В чем же, помимо бурного всплеска революцион¬
ной активности в странах Центральной и Восточной Европы, про¬
явилась радикализация общественных настроений? Как мини¬
мум, в трех моментах. Во-первых, заметно трансформировался в
323
сторону радикализма характер требований стачечного движения.
В порядке вещей стали лозунги социализации и национализации
важнейших отраслей промышленности и транспорта. Эти необыч¬
ные для традиционного буржуазного общества и прежнего рабо¬
чего движения требования получили широкое распространение в
таких странах, как Германия, Англия и даже США. По сути дела,
эти идеи вели к подрыву базовых устоев буржуазного общества,
ставили в повестку дня проблему глубочайшей перестройки всех
его социально-экономических структур.
Во-вторых, традиционно рабочее движение прежде всего
было нацелено на решение собственных экономических про¬
блем — зарплата, продолжительность рабочего дня, социальные
гарантии (отпуска, пособия по безработице и травматизму, пен¬
сии). В политической сфере организации, представлявшие инте¬
ресы этой социальной силы, как правило, не выходили за рамки
чисто парламентских методов борьбы. В этот же период в его
практику входят новые формы борьбы — всеобщая политичес¬
кая стачка, движение за введение рабочего контроля над произ¬
водством и даже за участие в управлении производством. От фе¬
тишизации парламента наиболее радикальные представители
рабочего движения переходят к попыткам внедрения в жизнь
принципиально новых государственных структур — Советов.
Такие попытки происходили в Германии, Италии, Венгрии. Это
был серьезный шаг в сторону демонтажа прежней системы госу¬
дарственных органов, на которой зиждилось все буржуазное об¬
щество.
В-третьих, в рабочем движении стал проявляться определен¬
ный интерес к «советскому опыту». Его не следует гипертрофиро¬
вать, однако и игнорировать его тоже нельзя. Интерес к «советс¬
кому опыту» тех лет в большинстве случаев не означал желания
скопировать его один к одному, но свидетельствовал об общем, ро¬
сте антикапиталистических настроений, стремлении усовершен¬
ствовать общество на началах социальной справедливости.
Очевидно, что подобные сдвиги не могли не сказаться на по¬
ложении дел в социал-демократических партиях. В них резко и
практически везде усиливаются позиции левых групп, выступав¬
ших за разрыв со II Интернационалом, активизацию борьбы про¬
тив базовых устоев буржуазного общества. Это обстоятельство ста¬
новится на рубеже 10-20-хдт. XX в. одной из важнейших черт
идейно-политического развития всей западной цивилизации.
Общей радикализацией социал-демократии и рабочего дви¬
жения в целом попыталось воспользоваться (надо сказать, небе¬
зуспешно) руководство Советской России. В этом процессе оно
видело подтверждение своего стратегического прогноза о начале
324
эпохи крушения капитализма и победы мировой революции.
Исходя из этого, В. И. Ленин выдвинул задачу создания
III Интернационала, который, объединив усилия всех левых
групп в мировом масштабе, должен был начать подготовку к ре¬
шающему штурму бастионов капитализма. Этот курс был зак¬
реплен на I Конгрессе Коминтерна, состоявшемся в Москве в мар¬
те 1919 г. Сам Ленин говорил по этому поводу: «Третьему Интер¬
националу предстоит задача организации сил пролетариата для
революционного натиска на капиталистические правительства,
для гражданской войны против буржуазии всех стран, за поли¬
тическую власть, за победу социализма».
С тех пор в научной литературе не прекращаются споры о том,
насколько обоснованной была подобная установка, на чем она ос¬
новывалась. Прежде всего, на господствовавших тогда в советс¬
ком руководстве представлениях о монополистическом капитализ¬
ме как высшей и последней стадии капитализма, уже вступивше¬
го в полосу общего упадка и кризиса. Отсюда твердая уверенность
в том, что мир безусловно находится на грани перехода к новой
стадии в развитии цивилизации. Позднее стало очевидно, что по¬
добная установка страдает явным упрощением, однако именно в
тот период в развитии ведущих западных стран имели место опре¬
деленные кризисные моменты, которые и абсолютизировались
лидерами левых сил. Ясно, что при такой исходной методологи¬
ческой установке курс на силовое ниспровержение существовав¬
шего правопорядка выглядел вполне логичным.
Не следует забывать и еще об одном обстоятельстве. Хотя
В. И. Ленин и говорил о возможности победь! социализма в одной,
отдельно взятой стране, прочное утверждение нового строя до на¬
чала 20-х гг. связывалось с победой революции в ведущих стра¬
нах Запада. Поэтому новая власть была всячески заинтересована
в стимулировании там радикальных, антикапиталистических на¬
строений. Создание Коминтерна вполне логично вписывалось в
данную парадигму.
Проблема заключалась в том, что далеко не все среди лидеров
национальных социал-демократических и социалистических
партий разделяли подобные взгляды. Как уже говорилось, в этой
среде значительным влиянием пользовались сторонники эволю¬
ционного варианта развития общества, которые полагали, что ре¬
волюция оборачивается не прогрессом, а хаосом, разрухой, кро¬
вопролитием. Они решительно противились любым попыткам
форсирования революционного процесса. И столкновение между
этими двумя группировками в социалистическом движении было
неизбежно. Создание Коминтерна лишь зафиксировало и инсти¬
туционализировало давно назревший конфликт.
325
Однако если сам факт раскола в социалистическом движении
в условиях первых послевоенных лет был неизбежным, то даль¬
нейшее развитие событий в решающей мере зависело от позиции
руководства двух основных политических центров рабочего дви¬
жения. Хотя любому непредвзятому аналитику очевидно, что рас¬
кол в стане рабочих партий ослаблял совокупную мощь всего дви¬
жения, лидеры соперничавших группировок изначально заняли
резко враждебные позиции по отношению друг к другу.
Традиционно в нашей историографии всю вину за это возлага¬
ли на вождей правой социал-демократии, которые по сути дела
отказались от идеи революционной модернизации общества. Дело,
однако, в том, что даже среди тех, кто не порвал с реформистским
руководством социал-демократов, имелось немало сторонников
диалога с Коминтерном. Целый ряд партий социал-демократичес¬
кой ориентации — Независимая социал-демократическая партия
Германии, Австрийская социал-демократическая партия, Незави¬
симая рабочая партия Англии, часть социалистических партий
Франции и Италии и ряд других — отказались вернуться в вос¬
становленный летом 1920 г. II Интернационал и высказывались
за начало, при определенных условиях, диалога с Коминтерном.
Однако такого диалога не получилось. Далеко не последнюю роль
в этом сыграла исключительно жесткая, бескомпромиссная пози¬
ция руководства Коминтерна. В 1920 г. В. И. Ленин подготовил
документ, вошедший в историю под названием *21 условие при¬
ема в Коминтерн», в котором по сути в ультимативной форме из¬
лагались требования, выполнение которых являлось обязательной
предпосылкой для последующего присоединения к Коминтерну.
Естественно, при таком максималистском подходе многие потен¬
циальные союзники нового объединения отсекались от участия в
совместных действиях.
Таким образом, помимо собственного желания лидеры Комин¬
терна способствовали консолидации массовой базы социал-демок¬
ратии. К 1921 г. во всех компартиях капиталистических стран
насчитывалось около 750 тыс. человек, а в социал-демократичес¬
ких партиях числилось примерно 8 млн. человек. К тому же на
них ориентировались массовые профсоюзные организации, общая
численность которых превышала 25 млн. человек. С позиций се¬
годняшнего дня очевидно, что Ленин и его последователи недо¬
оценили степень привлекательности социал-демократической
идеологии в глазах трудящихся и, наоборот, переоценили их го¬
товность к революционному действию.
Эволюционный путь движения к более справедливому обще¬
ству выглядел для большинства сторонников социалистических
идей на Западе более предпочтительным по сравнению с тем, как
326
осуществлялись революционные преобразования в России. Вся
политическая культура большинства ведущих стран Запада (ис¬
ключение составляла, пожалуй, только Германия) в гораздо боль¬
шей мере коррелировала с эволюционным вариантом обществен¬
ного развития. Абсолютизация «русского опыта» вела к тому, что
вместо тщательного учета национальных особенностей каждой
конкретной страны, на весьма разнородную ситуацию в них меха¬
нически накладывалась та схема весьма специфического разви¬
тия революционного кризиса, которая имела место в России. А
отсюда, вполне естественно, далеко не всегда давался адекватный
прогноз развития событий.
Серьезнейшим уроком для советского руководства стала совет¬
ско-польская война, в ходе которой абсолютно провалились все
расчеты на классовую солидарность польских трудящихся. В ре¬
зультате этого стратегического просчета была проиграна важней¬
шая военная кампания, способная, в случае успеха, в корне изме¬
нить всю обстановку в центре Европы. Вкупе с неудачами револю¬
ционного движения в Германии, Венгрии, Словакии, преодолени¬
ем наиболее острой фазы социально-политического кризиса в ве¬
дущих странах Европы, это событие заставило часть советского
руководства пересмотреть свои взгляды на перспективы мировой
революции, а следовательно, и на стратегию и тактику Коминтер¬
на. Летом 1921 г. III Конгресс Коминтерна, вопреки сопротивле¬
нию председателя Исполкома Г.Е. Зиновьева, вынужден был кон¬
статировать, что революционное движение «не опрокинуло ни
мирового, ни европейского капитализма».
Ясно, что все это заставляло руководство Коминтерна вносить
коррективы в свои взаимоотношения с другими отрядами рабоче¬
го движения. Хотя и с серьезным запозданием, но в его недрах был
сформулирован новый лозунг, в соответствии с которым главной
задачей объединения объявлялась борьба за создание «единого
рабочего фронта». Подобный поворот в деятельности Коминтерна
изначально вызвал острую полемику: в какой мере это был про¬
стой маневр, а в какой — реальная переоценка ситуации?
Дать однозначный ответ на этот вопрос вряд ли возможно. По
всей видимости, при принятии этого решения присутствовали оба
момента. Даже такие ортодоксальные сторонники мировой револю¬
ции, как Г. Зиновьев и К. Радек, не могли не видеть, что действи¬
тельность далеко не во всем совпадает с их представлениями о ней,
что даже в среде социал-демократии происходят заметные измене¬
ния, которые невозможно игнорировать. Так, в феврале 1921 г. в
Вене по инициативе австрийских социал-демократов было создано
Международное рабочее объединение социалистических партий
(МРОСП), цщ Венский Интернационал, который выступал за объе¬
327
динение действий всех социалистических сил. Руководители ново¬
го объединения стремились выработать такую платформу, которая
позволила бы открыть дорогу для конструктивного диалога всех
сил, входящих в спектр социалистического движения, а в перспек¬
тиве — для воссоздания единого Интернационала.
В реальной жизни этим утопичным планам не суждено было
сбыться, ибо устранить глубокие идейно-политические разногла¬
сия, которые буквально раздирали в то время социалистическое
движение, с помощью одномоментной акции было невозможно. В
то же время проекты центристов отражали растущее понимание
губительности раскола в международном рабочем движении. Не
удивительно, что предложение Венского Интернационала вызва¬
ло широкий резонанс во всех трех существовавших на то время
Интернационалах, и отмахнуться от него было непросто даже тем,
кто считал их химерическими в своей основе.
Первая практическая попытка осуществления этого курса от¬
носится к апрелю 1922 г., когда в Берлине было проведено кон¬
сультативное совещание представителей всех Интернационалов.
На нем были приняты общие декларации о необходимости совме¬
стных действий, но оно выявило и ряд серьезных разногласий,
проявлением которых стало выдвижение взаимных предваритель¬
ных условий. Их выполнение должно было продемонстрировать
добрую волю вовлеченных сторон. По существу, это были слабо
закамуфлированные попытки вмешательства во внутренние дела
друг друга. Тем не менее, несмотря на взаимные претензии и об¬
винения, участники встречи все же договорились о проведении
Всемирного рабочего конгресса и создали оргкомитет для его цод-
готовки.
Однако договоренности, достигнутые в Берлине, оказались
эфемерными. Оргкомитет собрался всего один раз. После этого
среди его участников возник раскол, завершившийся тем, что в
мае 1923 г. представители Венского и II Интернационала перешли
к сепаратным действиям: в обход Коминтерна они договорились
об объединении своих организаций в единый Рабочий социалис¬
тический Интернационал, причем его формирование осуществля¬
лось на платформе, включившей в себя практически все основные
программно-целевые установки правых социал-демократов.
С 1923 г. наметились изменения и в позиции Коминтерна. Там
возобладали сторонники ультралевой ориентации, во главе с
Г. Е. Зиновьевым, которые изначально весьма скептически отно¬
сились к идее единого рабочего фронта. Они стали трактовать его
как синоним диктатуры пролетариата, а это, несомненно, закреп¬
ляло возникший в конце Первой мировой войны раскол в между¬
народном рабочем движении.
328
Таким образом, резкая радикализация рабочего движения,
создавшая на определенном историческом отрезке угрозу усто¬
ям буржуазного правопорядка и породившая серьезный социаль¬
но-политический кризис, не получила дальнейшего развития. И
одной из важнейших причин, приведших к такому исходу, стал
глубочайший раскол в самом рабочем движении. Он способство¬
вал распылению его сил, вел к снижению эффективности его на¬
тиска на основы буржуазного общества. Раскол этот явился след¬
ствием объективного усложнения и дифференциации как само¬
го рабочего движения, которое к этому времени уже перестало
быть просто социальной силой, которой «нечего терять, кроме
своих цепей», так и серьезными изменениями в той социокуль¬
турной и политико-правовой среде, в которой оно развивалось и
функционировало.
Судя по всему, этот раскол был неизбежен. Однако в том, что
он достиг именно таких масштабов и такой глубины, оказался
столь длительным по времени, немалую роль сыграла и крайне
негибкая, бескомпромиссная позиция лидеров противоборствую¬
щих объединений. Желание стать монопольными представителя¬
ми политических интересов одной из основных социальных групп
индустриального общества перевешивало элементарный здравый
Смысл и мешало выработать совместную программу действий. В
результате политическая элита ведущих стран Запада получила
столь необходимую ей передышку и сумела несколько затормозить
эрозийные процессы, которые развивались в недрах западной ци¬
вилизации. Итак, натиск радикальных сил был отбит, и теперь
дальнейший ход событий зависел от того, как правящая эл^а от¬
реагирует на брошенный ей вызов.
ГЛАВА II
Особенности стабилизации 20-х годов
§ 1. «Просперити» по-американски
Из войны США вышли заметно усилившимися. Они занима¬
ли ведущие позиции в сфере экономики, стали финансовым цент¬
ром мира, превратились в основного мирового кредитора. Все это
резко увеличивало амбиции США. На Парижской мирной конфе¬
ренции они замахнулись на мировое лидерство. Однако этим пла¬
нам не суждено было сбыться. Мирное урегулирование далеко не
во всем осуществилось по американскому сценарию. Эго предоп¬
ределило чрезвычайно острую борьбу вокруг ратификации Вер¬
сальского мирного договора. Она разворачивалась на фоне более
широкой дискуссии: каким курсом следует идти Америке в пос¬
левоенном мире?
Это был отнюдь не праздный вопрос. Мир радикально изме¬
нился, менялось и американское общество, и перед ним во весь
рост вставал вопрос: насколько традиционные американские цен¬
ности соответствуют новым реалиям, следует ли вносить в них
какие-то коррективы? Собственно говоря, именно эта проблема
оказалась в центре полемики в ходе избирательной кампании
1920 г. Победу в ней одержали республиканцы, вернувшиеся к
власти под лозунгом «Назад к нормальным временам!» Белый дом
занял их кандидат У. Гардинг, личность в политическом плане
абсолютно бесцветная. Одцако американцев это мало волновало.
В общественном сознании прочно укоренилась мысль, образно
сформулированная сенатором Г. К. Лоджем: «Чем меньше прави¬
тельство США будет вмешиваться в дела бизнеса, тем лучше».
Ясно, что при таком подходе не правительство, а бизнес являлся
главным действующим лицом в жизни общества и качество пра¬
вительства не особенно волновало американцев.
330
Задача власти сводилась к тому, чтобы создавать оптималь¬
ные условия для развития бизнеса. Этим она и занималась. Преж¬
де всего, были демонтированы практически все военно-регулиру-
ющие органы, деятельность которых в послевоенных условиях
стала стеснять большой бизнес. Был принят новый, весьма благо¬
приятный для корпораций налоговый закон, одобрен тариф Фор-
дни — Макамбера, предусматривавший резкое повышение ввоз¬
ных пошлин на важнейшие промышленные товары, что опять-
таки было весьма выгодно американским предпринимателям. Не
забывали члены администрации и себя. В прессу стали просачи¬
ваться слухи о коррупции в высших эшелонах власти. Скандал
быстро набирал обороты. В прессе зазвучали имена людей, вхо¬
дивших в непосредственное окружение президента, — министра
внутренних дел Фолла, генерального прокурора Догерти, главы
федерального бюро помощи ветеранам войны Форбса. Это бросало
тень уже и на самого президента. Однако в самый разгар разбира¬
тельства, в августе 1922 г., президент неожиданно скончался. Его
сменил К. Кулидж, столь же посредственная в политическом пла¬
не личность, но абсолютно незапятнанный во всех громких скан¬
далах предшествующей администрации и известный своими пу¬
ританскими правилами деятель.
Весьма «своевременная» смерть У. Гардинга позволила спи¬
сать на него все издержки республиканцев. А списывать было что,
ибо перевод экономики на мирные рельсы вкупе с откровенно про¬
монополистической направленностью политики администрации
вызвали рост социальной напряженности. Ее можно было почув¬
ствовать в самых разных сферах: в трудовых отношениях, в уси¬
ливавшихся расово-этнических конфликтах, в брожении в аграр¬
ной среде, в росте популярности идей независимых политических
действий и т.д.
В области трудовых отношений, несмотря на все попытки кон¬
сервативных республиканцев вытеснить оттуда профсоюзы, зап¬
ретить забастовки и другие массовые формы сопротивления дик¬
тату большого бизнеса, конфликты между предпринимателями и
тред-юнионами не только не ослабевали, но, наоборот, приобрета¬
ли все более жесткие формы. Пиком этой активности стал 1922 г.
Правда, большинство забастовок закончились неудачей, но про¬
блемы в сфере трудовых отношений от этого лишь обострились.
К в общем-то давно привычным для американского общества
трудовым конфликтам в это время прибавился конфликт нового
поколения — расово-этнический, порожденный серьезными изме¬
нениями в структуре и положении негритянского населения, уси¬
лением дискриминации и ростом террора куклуксклановцев. В
программе ведущих негритянских организаций тех лет — Нацио¬
331
нальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и
Национальной городской лиги — появились такие радикальные
требования, как полное социальное равенство, право на самоза¬
щиту вплоть до применения физической силы, предоставление в
полном объеме всех прав, полагающихся гражданам США по Кон¬
ституции. Иными словами, эти организации выступали за скорей¬
шую и максимально полную интеграцию негритянского населе¬
ния в американское общество.
В 20-е гг. в негритянском движении получило широкое рас¬
пространение и другое течение, возглавляемое М. Гарви. Его сто¬
ронники, подчеркивая, что негритянский народ ни в чем не ус*1
тупает белым американцам, одновременно делали акцент на глу¬
бокие цивилизационные различия между двумя расами. Был
выдвинут лозунг «Назад в Африку», говоривший об отказе чер¬
ных американцев от интеграции в якобы абсолютно чуждое им
общество белых. Броский и эффектный в митинговом плане, этот
лозунг очень быстро столкнулся с серьезными практическими
трудностями. В итоге сама идея переселения сошла на нет, одна¬
ко в менталитете негритянского населения с тех пор начала на¬
растать враждебность к чуждой им белой Америке, и это в перс¬
пективе грозило американскому обществу серьезными неприят¬
ностями.
По-прежнему весьма непростой оставалась ситуация в аграр¬
ном секторе экономики, переживавшем затяжной кризис. Ферме¬
ры интенсивно искали возможности для обеспечения действенной
защиты своих интересов. Еще в 1921 г. группа сенаторов из запад¬
ных и южных штатов объединилась в так называемый Фермерс¬
кий блок во главе с сенатором У. Кеньоном. Выступая достаточно
сплоченно, это объединение, оставаясь в рамках двухпартийной
системы, пыталось на законодательном уровне добиться равнопра¬
вия аграрного и индустриального секторов экономики, организа¬
ции государственной помощи фермерским кооперативам.
Однако откровенно промонополистическая политика руковод¬
ства двух ведущих политических партий США буквально застав¬
ляла всех недовольных сложившимся порядком вещей задумать¬
ся над возможностью решения насущных проблем общества в рам¬
ках двухпартийной системы. Вновь, как и в 1912 г., в западных
штатах заговорили о независимых политических действиях, вы¬
ходящих за рамки двухпартийной системы. Сторонники этой идеи
рассчитывали выдвинуть Р. Лафоллета независимым кандидатом
и таким образом сломать гегемонию двухпартийной системы в
политическом процессе. Еще в 1922 г. была образована Конферен¬
ция прогрессивного политического действия (КППД), которая ста¬
ла ядром этого движения. Число сторонников этого шага росло, и
332
в преддверии выборов 1924 г. возникла реальная угроза господ¬
ству двух главных партий на политической арене США.
Масштаб этой угрозы был действительно весьма значитель¬
ным, однако, когда подошел час выборов, протестный потенциал,
имевшийся в обществе, был реализован далеко не полностью. Свою
роль в этом сыграло и то, что республиканцы после смерти Гар¬
динга смогли очиститься от обвинений в коррупции, и раздроб¬
ленность тех, кто в принципе мог составить базу движения за не-
зависимые действия и устойчивые стереотипы электорального
поведения, прочно укоренившиеся в общественном сознании. Но
главное заключалось в том, что начиная с 1923 г. в экономике от¬
четливо проявились тенденции к росту, перешедшему в экономи¬
ческий бум. Начался период «просперити» (процветания), когда
американская промышленность действительно развивалась весь¬
ма динамично. По отношению к довоенному уровню индекс про¬
мышленного производства США составил 172%. Продолжалось
гигантское обогащение корпораций: их чистая прибыль достигла
за годы «просперити» 50 млрд, долл., т.е. в 1,5 раза больше, чем
за крайне благоприятные для американского бизнеса годы Пер¬
вой мировой войны. Причем значительная часть этих средств пус¬
калась на обновление основного капитала, что позволило США
создать мощную основу для модернизации своего промышленно¬
го производства, и это, в свою очередь, еще больше укрепило их
позиции в мировой экономике. В1929 г. они давали 48% промыш¬
ленного производства всех остальных стран мира.
Особенно быстро развивались новые отрасли промышленнос¬
ти, которые в первую очередь определяли уровень технического
прогресса, превратившегося в важнейший компонент мощи госу¬
дарства. В 20-е гг. таким своеобразным символом американского
процветания и могущества стала автомобильная промышленность.
Темпы ее развития действительно были весьма впечатляющими.
Так, если перед началом Первой мировой войны в США в год вы¬
пускали около 500 тыс. автомобилей, то к 1929 г. это число вырос¬
ло до 5,5 млн. Из общего количества автомобилей, имевшихся в
то время в мире, 90% находилось в США. К этому времени на каж¬
дую тысячу американцев приходилось 189 автомобилей, т.е. по¬
чти 3/4 американских семей имели его. Иными словами, если в
Европе автомобиль в 20-е годы еще оставался предметом роско¬
ши, доступным лишь состоятельным людям, то в Америке его мог
иметь любой «средний американец». Стоимость нового фордовс-
кого автомобиля к концу 20-х гт. равнялась 600 долл., а старого —
100 долл. В это же время среднемесячная зарплата рабочего со¬
ставляла приблизительно 150 долл. Очень быстро развивались в
США и другие новые отрасли промышленности: электротехничес¬
333
кая, химическая, авиационная, радиопромышленность и необыч¬
ная, находящаяся на стыке промышленности и искусства, кино¬
индустрия.
Все эти сдвиги сопровождались бурной концентрацией произ¬
водства и капитала. К концу 20-х гг. в США имелось 23 корпора¬
ции с активами более 1 млрд. долл. Именно эти сверхгиганты кон¬
тролировали почти половину всего корпоративного капитала в
США и задавали тон в экономике в целом. Очевидно, что, заняв
доминирующие позиции в промышленности и финансах, они стре¬
мились закрепить эту тенденцию на политическом уровне. Кон¬
сервативное руководство республиканской партии в полной мере
устраивало эти круги, и они не жалели ни средств, ни пропаган¬
дистских усилий для всемерного повышения рейтинга республи¬
канской администрации. Улучшение общей экономической конъ¬
юнктуры позволяло подвести под эту пиар-кампанию солидную
материальную базу. Рост экономического пирога помог заметно
повысить уровень жизни и улучшить ее качество для значитель¬
ной части общества, включая и рабочих. Это, несомненно, закреп¬
ляло в массовом сознании стереотипы, согласно которым тради¬
ционная «американская система» являлась эталоном обществен¬
ного устройства, не нуждавшимся в каких-либо улучшениях.
В такой ситуации ее критики оказывались в сложном и невы¬
годном положении: они выглядели людьми, мешающими Амери¬
ке двигаться к новым успехам. В этой обстановке итоги кампании
1924 г. были предопределены: республиканцы уверенно победи¬
ли на выборах. Их кандидат К. Кулидж, получив 54% голосов из¬
бирателей, вновь стал хозяином Белого дома. У него практически
не было серьезных соперников ни внутри собственной партии, ни
на общефедеральном уровне. Он почти вдвое опередил кандидата
демократов Дж. Дэвиса и по общему количеству набранных голо¬
сов, и по числу выборщиков. Правда, надо отметить результат тре¬
тьего, независимого кандидата Р. Лафоллетаст., набравшего по¬
чти 5 млн. голосов и получившего 16% всех принявших участие в
выборах. Учитывая крайне неблагоприятные условия, в которых
ему пришлось вести избирательную кампанию, эти цифры гово¬
рили о том, что, несмотря на благоприятную в целом экономичес¬
кую конъюнктуру, «просперити» отнюдь не полностью решило
проблемы, стоявшие тогда перед американским обществом.
Прежде всего это касалось аграрного сектора экономики, ко¬
торое процветание по существу так и не затронуло. Не удивитель¬
но, что вопрос о государственной поддержке фермеров на протя¬
жении всех 20-х гг. оставался в центре политической борьбы. Еще
в 1924 г. представители Фермерского блока внесли в конгресс
билль Макнери — Хоугена о создании специального федераль¬
334
ного органа для закупки у фермеров определенной квоты их про¬
дукции с последующим экспортом ее за границу. Об остроте борь¬
бы вокруг этого законопроекта свидетельствует то, что президент
К. Кулидж дважды (в 1927 и 1928 гг.) накладывал на него вето,
мотивируя это тем, что одобрение данной меры будет способство¬
вать введению правительственной фиксации цен, чуждой «амери¬
канской традиции» и противоречащей конституционно-правовым
нормам.
Администрация Кулиджа весьма решительно противодейство¬
вала любым попыткам внедрить этатистские принципы в сферу
социально-экономических отношений. Ее идейное кредо было
сформулировано в работе одного из крупнейших политиков и биз¬
несменов тех лет Г. Гувера «Американский индивидуализм ». В ней
функции государства сводились к защите принципов «свободной
конкуренции» и «равных возможностей». В этой сфере федераль¬
ному правительству отводилась роль посредника между основны¬
ми субъектами экономической жизни. Эти идеи в те годы безого¬
ворочно поддерживал Верховный суд, ставший надежным басти¬
оном правового фундаментализма, органом, блокировавшим лю¬
бые попытки расширения сферы социальной ответственности го¬
сударства.
В качестве альтернативы этим попыткам выдвигалась идея
«социальной ответственности бизнеса», согласно которой сами
бизнесмены, без вмешательства федеральных властей, способны
эффективно решать все социальные проблемы. Естественно, это
были не только разговоры. В 20-е гг. в США среди рабочих стали
распространяться акции предприятий, создавались частные пен¬
сионные фонды, компанейские профсоюзы (в противовес собствен¬
но рабочим организациям). Сторонники этих шагов утверждали,
что они своими действиями в принципе меняют характер трудо¬
вых отношений: вместо прежней, жестко конфронтационной мо¬
дели в США, по их мнению, формировалась так называемая «ин¬
дустриальная демократия», в которой рабочие и предпринимате¬
ли выступали не как противники, а как партнеры. Среди много¬
численных инициатив в этой области наибольшую известность
получил «план Балтимор — Огайо», одобренный в 1925 г. пред¬
ставителями АФТ и владельцами данной железной дороги. Суть
его заключалась в том, что рабочие взяли на себя обязательство
всячески содействовать рационализации и повышению произво¬
дительности труда, предприниматели, в свою очередь, — увели¬
чивать заработную плату.
Общее наступление консервативных сил сказалось на всей
сфере духовной жизни 20-х гг. Не удивительно, что и в ней прева¬
лировали настроения, резко отвергавшие все, что не вписывалось
335
в традиционалистские представления. Это было время бурного
всплеска агрессивного религиозного фундаментализма. Наиболее
ярким проявлением этих тенденций стал судебный процесс в го¬
роде Дейтон (Теннесси), вошедший в историю под названием «обе¬
зьяньего процесса». Он показал всему миру интеллектуальный
уровень американской глубинки, ибо недовольство местных стол¬
пов общества вызвала попытка преподавания в местной школе
признанной в то время во всем цивилизованном мире эволюцион¬
ной теории Дарвина. По их мнению, она противоречила библейс¬
ким догмам и, следовательно, носила антиамериканский харак¬
тер. Пикантность данному процессу придавало то обстоятельство,
что в качестве обвинителя на нем выступал бывший лидер демок¬
ратов У. Брайан.
Вот в такой атмосфере проходили очередные президентские
выборы. Не удивительно, что победу на них легко одержал канди¬
дат республиканской партии Г. Гувер. Он и его партия ассоцииро¬
вались в глазах большинства избирателей с успешным экономи¬
ческим развитием и твердой приверженностью идеалам америка¬
низма. «Наши слова — в наших делах... Мы предлагаем не обеща¬
ния, а свершения», — провозгласили республиканцы в своей пред¬
выборной платформе, подчеркивая, что продолжение их пребы¬
вания у власти — надежнейшая гарантия сохранения «проспери¬
ти». Поскольку демократы не сумели сформулировать сколько-
нибудь реальной альтернативы своим оппонентам, исход выборов
был предрешен. «Просперити», а вместе с ним и твердая убежден¬
ность в исключительности «американской системы» господство¬
вали в американском обществе вплоть до октября 1929 г., когда
на нью-йоркской бирже произошел грандиозный обвал стоимости
ценных бумаг, что дало исходный импульс крупнейшему за всю
историю буржуазного общества экономическому кризису. Он до
основания потряс устои «американской системы».
Кризис символизировал полное банкротство политического
курса, которым следовала Америка после окончания Первой ми¬
ровой войны. Каскад проблем, обрушившихся на США, нарастал
с каждым днем, они сплетались во все более тугой клубок проти¬
воречий, грозя вызвать социальный взрыв колоссальной силы.
Приведем лишь некоторые факты, иллюстрирующие ситуацию, в
которой оказались Соединенные Штаты. За три года кризиса про¬
мышленное производство сократилось по сравнению с докризис¬
ным уровнем на 50%. Особенно сильно пострадала тяжелая про¬
мышленность. Так, например, выплавка чугуна упала до отметки
1896 г. Денежные доходы фермеров сократились с 11312 млн.
долл, в 1929 г. до 4748 млн. долл, к началу 1933 г., когда кризис
достиг своего пика. К этому моменту по существу перестала функ¬
336
ционировать банковская система, в результате чего разорились
миллионы мелких вкладчиков. Гигантской цифры (13 млн. чело¬
век) достигла безработица.
Несмотря на все заверения правительства, что «просперити
находится за углом», было ясно, что оно не в состоянии контроли¬
ровать ситуацию. Его престиж катастрофически упал. «Следстви¬
ем этих событий, — отмечал известный американский исследова¬
тель Р. Келли, — явилось колоссальное падение доверия к поли¬
тической системе, к национальному руководству, к самой амери¬
канской мечте. Чувство оптимизма, присущее американцам в 20-е
годы, было полностью погребено волной всеобщего пессимизма».
Все это означало, что страна находится на пороге крупных пере¬
мен, которые и должны были определить базовый вектор дальней¬
шего движения американской модели общественного развития.
§ 2. Противоречия стабилизации
на Британских островам
Великобритания вышла из Первой мировой войны победитель¬
ницей. Она разгромила своего самого опасного конкурента — Гер¬
манию, но победа досталась ей очень дорогой ценой. Больше всего
пострадали британские финансы. Внутренний долг вырос в 10 раз,
внешний долг превысил 1 млрд, фунтов стерлингов. Англия впер¬
вые превратилась из кредитора в должника. Неблагоприятные
изменения внутри страны сопровождались осложнениями на меж¬
дународной арене. Росла напряженность в различных частях ко¬
лониальной империи — главного оплота экономического и поли¬
тического могущества Британии. Все это усиливало ностальгию
по прошлому и, казалось, было на руку политикам консерватив¬
ного толка, утверждавшим, что отход от проверенных временем
принципов уже обернулся серьезными издержками и сулит еще
большие неприятности. Однако эти тенденции наталкивались на
сопротивление значительной части англичан, полагавших, что
после войны в стране должны утвердиться более совершенные и
справедливые принципы общественного устройства.
Рупором этих настроений стала лейбористская партия. В ее
программе «Труд и новый социальный порядок», подготовленной
С. Веббом и принятой летом 1918 г., содержались предложения о
национализации земли и некоторых отраслей промышленности.
Лейбористы предлагали ввести на производстве некий демокра¬
тический контроль, иными словами, допустить профсоюзы к ре¬
шению производственных проблем. В ней говорилось о необходи¬
мости «реконструкции всего общества». Это явно не вписывалось
337
в традиционные ценности и стимулировало поляризацию англий¬
ского общества. Все это отчетливо проявилось в ходе предвыбор¬
ной кампании 1918 г. Лейбористам противостоял блок консерва¬
торов и либералов, ведомый Д. Ллойд-Джорджем.
Эта коалиция и победила на выборах. Ей же принадлежало пра¬
во сформировать правительство. Итоги выборов зафиксировали су¬
щественные подвижки в партийно-политической системе Великоб¬
ритании. Либералы, не вошедшие в коалицию с консерваторами (их
лидером был Г. Асквит), — некогда ведущая сила партийной сис¬
темы Британии — были решительно оттеснены на обочину полити¬
ческого процесса лейбористами, которые стали ведущей оппозици¬
онной партией. Правительство Ллойд-Джорджа стремилось как
можно быстрее осуществить реконверсию и в короткий срок лик¬
видировало почти все государственные органы по контролю за эко¬
номикой. Была осуществлена быстрая демобилизация армии —7
более 4 млн. английских солдат вернулось домой. С одной стороны,
это способствовало уменьшению военных расходов, но с другой,
создало серьезные проблемы с их трудоустройством. Как и в дру¬
гих странах, в 1919 г. наблюдался всплеск забастовочной борьбы в
масштабах, ранее невиданных на Британских островах: бастовало
более 2,5 млн. человек. Под напором бастующих правительство и
предприниматели вынуждены были пойти на уступки — повысить
зарплату и сократить рабочую неделю до 40 часов.
Правящая элита, однако, не собиралась мириться с таким по¬
ложением дел, тем более что летом 1920 г. начался очередной эко¬
номический кризис. Она готовилась к социальному реваншу. В
октябре 1920 г. парламент принял закон «О чрезвычайных пол¬
номочиях», разрешавший правительству в мирное время вводить
осадное положение и использовать войска против забастовщиков.
Главный удар был нацелен на профсоюз шахтеров, самый мощ¬
ный (он насчитывал в своих рядах более 1 млн. человек) и, пожа¬
луй, самый радикальный отряд рабочего движения. Шахтеры ре¬
шительно выступали против планов правительства, направленных
на ликвидацию государственного контроля над отраслью, что не¬
избежно оборачивалось сокращением зарплаты и ростом безрабо¬
тицы. Шахтеры добивались не просто сохранения государствен¬
ного контроля, но национализации шахт и введения рабочего кон¬
троля над ними. Госконтроль должен был действовать до конца
лета 1921 г. Однако правительство нанесло превентивный удар:
оно объявило о снятии контроля над отраслью с 31 марта 1921 г.
Не успевшие должным образом подготовиться к забастовке, шах¬
теры проиграли это сражение.
Поражение самого мощного профсоюза послужило для пред¬
принимателей сигналом к переходу во фронтальное наступление
3 зэ
на права трудящихся. Консерваторы воспряли духом. Они теперь
были настолько уверены в своих силах, что пошли в октябре 1922 г.
на разрыв коалиции с либеральной группировкой Ллойд-Джорд¬
жа. Было сформировано однопартийное правительство консерва¬
торов во главе с Э. Бонар Лоу. Однако его прямолинейное отстаи¬
вание консервативных ценностей обернулось расколом в правя¬
щей элите и новой поляризацией общественных настроений.
Стремясь закрепить подвижку в симпатиях электората, кон¬
серваторы пошли на рискованный шаг — объявили о внеочеред¬
ных парламентских выборах. Они принесли успех консерваторам.
Он, правда, оказался недолговечным. Неприятности начались по¬
чти сразу же. Назначенный премьер-министром Э. Бонар Лоу вско¬
ре тяжело заболел и не смог исполнять свои обязанности. Его мес¬
то занял С. Болдуин. Именно его правительство поставило на по¬
вестку дня вопрос о переходе во внешнеэкономической сфере к
политике протекционизма.
До этого в течение многих десятилетий Англия традиционно
придерживалась политики свободной торговли (фритреда). Это была
своего рода аксиома, которую безоговорочно разделяли все полити¬
ки Британских островов. Однако ситуация изменилась, и часть по¬
литической и деловой элиты пришла к выводу, что фритред боль¬
ше не обеспечивает тех преимуществ в системе мирового хозяйства,
которыми он обладал ранее. Отсюда и возник вопрос о смене вех во
внешнеэкономической политике. Постановка этой проблемы выз¬
вала бурную дискуссию на политическом Олимпе. И тут выясни¬
лось, что правительство не имеет достаточных сил в парламенте,
необходимых для победы в разгоревшемся споре. Тогда оно реши¬
ло вновь рискнуть и опять пошло на внеочередные выборы.
Они состоялись 6 декабря 1923 г. и не принесли решающего
успеха ни одной из партий. Больше всего мест в новом составе пар¬
ламента получили консерваторы — 258, но этого было недостаточ¬
но, чтобы получить право на самостоятельное формирование ка¬
бинета. Второе место заняли лейбористы, завоевавшие 191 ман¬
дат, у либералов оказалось 158 мест. На создание коалиционного
правительства идти не хотела ни одна из сторон. После сложных
консультаций в правящем истеблишменте было принято достаточ¬
но смелое по тем временам и явно неординарное решение: старая
элита согласилась доверить бразды правления неэлитной силе —
лейбористам. Правда, надо учитывать, что в случае выхода лейбо¬
ристов из-под контроля у консерваторов и либералов доставало
сил, чтобы заблокировать их законодательные предложения, а к
нелегитимным действиям лейбористы явно не были готовы.
Так или иначе, премьером впервые стал лидер лейбористов
Р. Макдональд. Его правительство не выполнило всех своих пред¬
339
выборных обещаний, но и то, что оно начало делать, вызвало бур¬
ную и неоднозначную реакцию в английском обществе. Лейбори¬
сты повысили размеры пособий по безработице и расширили чис¬
ло их получателей. Были сокращены косвенные налоги и предло¬
жен план государственного финансирования строительства Жилья.
Самые радикальные мероприятия — введение налога на крупные
состояния и национализацию железных дорог и шахт — лейбори¬
сты проводить не стали. Очень быстро они попали в своеобразные
клещи: рядовые члены профсоюзов выражали серьезное недоволь¬
ство нерешительностью правительства в вопросах национализа¬
ции, средним же слоям казалось, что политика лейбористов вплот¬
ную подводит страну к революции.
Осторожность лейбористского кабинета была вполне понятна:
у него не было большинства в парламенте и при любом обострении
обстановки он мог сразу же получить вотум недоверия. В таком
подвешенном состоянии правительство долго пребывать не мог¬
ло. Стремясь переломить ситуацию, Макдональд пошел на досроч¬
ные выборы, которые были назначены на 29 октября 1924 г. На
них убедительную победу одержали консерваторы: они получили
абсолютное большинство в парламенте. Консервативное прави¬
тельство возглавил С. Болдуин.
Стремясь вернуть Великобритании роль финансового центра
мира, новое правительство уделяло большое внимание укрепле¬
нию английской валюты. В1925 г. был восстановлен золотой стан¬
дарт фунта стерлингов на уровне его довоенного паритета с долла¬
ром. В этом решении были свои плюсы и минусы. Позиции фунта
действительно заметно упрочились, как укрепилось и положение
английских банков, но для промышленности это обернулось па¬
дением конкурентоспособности английских товаров на мировом
рынке. Перед ней встал вопрос о снижении себестоимости готовой
продукции. Самый простой, но и самый опасный в социальном
плане способ заключался в перекладывании всех издержек этого
процесса на рабочих.
В середине 1925 г. владельцы шахт в ультимативной форме
потребовали от профсоюза горняков согласия на сокращение зар¬
платы и увеличение продолжительности рабочего дня. В угольной
отрасли назрел грандиозный конфликт. Все понимали, что от ис¬
хода этого столкновения будет зависеть будущее всей сферы тру¬
довых отношений. Шахтеров поддержали другие крупные проф¬
союзы — железнодорожников, машиностроителей, моряков й
даже Генеральный Совет БКТ. Было решено наложить эмбарго на
перевозку угля. Конфликт грозил парализовать страну. В него
вмешалось правительство, объявившее о предоставлении крупной
субсидии шахтовладельцам в обмен на их отказ от своих требова¬
340
ний к профсоюзам. Конфликт удалось приглушить, но лишь на
время. Обе стороны готовились к новому раунду противоборства.
Жизнь показала, что правительство сделало это лучше.
4 мая 1926 г. началась первая в истории Англии всеобщая стач¬
ка. В ней приняло участие около 4 млн. чел. Надо сказать, что
профсоюзные боссы сами испугались такого размаха забастовки,
которая в любой момент могла выйти из-под контроля и перерас¬
ти в стихийное восстание.
Многое в этой ситуации зависело от позиции руководства БКТ
и лейбористской фракции в парламенте. Надо сказать, что боль¬
шинство этих людей изначально стремились избежать лобового
столкновения власти с трудящимися, ограничить масштабы кон¬
фликта, свести его к традиционному торгу о более благоприятных
условиях труда. Сама идея всеобщей забастовки, ставящая под
сомнение основы существовавшего правопорядка, вызывала у них
резкое отторжение. Характерно высказывание бывшего министра-
лейбориста в правительстве Макдональда, лидера союза железно¬
дорожников Дж. Томаса: «Я никогда не скрывал, что в случае се¬
рьезного вызова Конституции я буду молить Бога ниспослать по¬
беду правительству... Всеобщая стачка — это обычный трудовой
конфликт».
Очевидно, что при таком подходе к начавшемуся столкнове¬
нию с властью трудно было ожидать от руководства профсоюзов
импульсов, нацеленных на радикализацию движения протеста. И
действительно, 12 мая руководство БКТ на свой страх и риск объя¬
вило о прекращении забастовки. Шахтеры, правда, отказались
подчиниться этому решению, но, оказавшись в изоляции, вынуж¬
дены были принять условия предпринимателей. Это был крупный
успех консервативных сил, которые не замедлили воспользовать¬
ся плодами своей победы. Большинству профсоюзов пришлось со¬
гласиться на снижение зарплаты. Этим, однако, дело не ограни¬
чилось. Консерваторы постарались закрепить свой успех на зако¬
нодательном уровне. В 1927 г. был принят закон о трудовых кон¬
фликтах, запрещавший проведение всеобщих стачек и ограничи¬
вавший права профсоюзов в ходе забастовок.
После грандиозной встряски, которой стала для английского
общества всеобщая забастовка 1926 г., ситуация постепенно вош¬
ла в обычное русло. Определенную роль в этом сыграла так назы¬
ваемая политика «мондизма». Суть ее заключалась в следующем.
В 1927 г. руководство БКТ, очевидно напуганное событиями, свя¬
занными со всеобщей стачкой, от имени Генсовета своей органи¬
зации обратилось к предпринимательским объединениям с пред¬
ложением забыть прошлые взаимные обиды и открыть новую эру
в трудовых отношениях: заключить соглашение «О совместном
341
сотрудничестве для улучшения положения промышленности и для
увеличения конкурентной силы британской индустрии на миро¬
вом рынке». При этом не выдвигалось никаких предварительных
условий. По существу профсоюзы добровольно признавали себя
младшим, зависимым от предпринимателей партнером в сфере
трудовых отношений.
Естественно, такое положение вещей вполне устраивало пред¬
принимателей. От их имени один из крупнейших английских биз¬
несменов тех лет, глава Имперского химического треста А. Монд
ответил согласием. Это событие стало серьезным достижением сто¬
ронников политики социального партнерства, сыгравшей не пос¬
леднюю роль в том, что вплоть до начала 30-х годов Англия, ведо¬
мая консервативным правительством, не знала серьезных потря¬
сений. Даже начавшийся осенью 1929 г. экономический кризис
поначалу обошел стороной Британские острова. Лишь в первом
квартале 1930 г. англичане стали ощущать его первые симптомы.
К этому времени у власти вновь оказались лейбористы, победив¬
шие на парламентских выборах 1929 г. Поскольку главной их опо¬
рой были профсоюзы, правительство просто обязано было заняться
проблемами занятости и помощи безработным. Сразу после прихода
к власти в составе правительства появилось новое министерство —
по борьбе с безработицей. Оно занималось переселением рабочих из
депрессивных районов в сельскую местность и доминионы, а также
организовывало общественные работы в самой Англии. В феврале
1930 г. был принят закон о расширении системы страхования по без¬
работице. Однако по мере того как страна втягивалась в кризис, ухуд¬
шалось общее состояние финансов, а следовательно, и возможности
правительства для социального маневрирования.
Весной 1931 г. кризис наконец в полном объеме добрался до
Англии. Возникла ситуация, близкая к финансовой панике: вклад¬
чики начали в массовом порядке изымать свои сбережения из лон¬
донских банков, золотой запас страны стремительно таял. В дело¬
вых кругах росло убеждение, что социальная политика лейборис¬
тов не соответствует существующим реалиям, что надо переходить
на режим жесткой экономии, прежде всего в социальной сфере.
В августе 1931 г. при обсуждении вопроса о снижении на 10%
пособий по безработице кабинет раскололся: «за» выступило 11
человек, «против» — 10. Р. Макдональд заявил об отставке пра¬
вительства. Таким образом, к экономическому кризису добавил¬
ся политический. Правящие круги сделали ставку на патриоти¬
ческие чувства англичан: в услрвиях надвигающейся опасности
вся нация должна сплотиться.
Реальным воплощением этого плана стало формирование
(впервые в мирных условиях) коалиционного правительства, во¬
342
шедшего в историю под названием «национального». Его возгла¬
вил все тот же Р. Макдональд. Однако его поддержали далеко не
все лейбористы. Более того, он был исключен из партии, а новый
лидер лейбористов А. Гендерсон заявил о переходе партии в оппо¬
зицию. Раскол дорого обошелся лейбористам: на парламентских
выборах в октябре 1931 г. они потерпели сокрушительное пора¬
жение, потеряв сразу 241 место. Их обошли даже либералы, пере¬
живавшие не лучшие дни. На выборах доминировали консервато¬
ры, получившие 472 мандата. Итак, формально политический
кризис завершился, но насколько эффективным окажется рецепт,
который был использован при его разрешении? Ответить на этот
вопрос могло только время.
§ 3. Основные направления социально-
политического развития Франции
в 20-е годы
Когда 11 ноября 1918 г. французский маршал Ф. Фош прини¬
мал капитуляцию Германии, Франция была на вершине могуще¬
ства. Она полностью разгромила своего смертельного врага, на
континенте у нее не было серьезных противников, и в те дни вряд
ли кто мог предположить, что спустя чуть более двух десятилетий
Третья республика развалится как карточный домик. Что же про¬
изошло, почему Франция не только не сумела закрепить свой впол¬
не реальный успех, но в итоге потерпела крупнейшую в своей ис¬
тории национальную катастрофу?
Для того чтобы ответить на этот очень непростой вопрос, необ¬
ходимо как минимум проанализировать основные направления
социально-политического развития Третьей республики в межво¬
енный период. Посмотрим, каковы же были исходные позиции в
этом процессе. Да, Франция добилась победы в войне, но этот ус¬
пех очень дорого обошелся французскому народу. В армию было
мобилизовано 8,5 млн. чел. (т.е. каждый пятый житель страны).
1 млн. 300 тыс. французов погибло, 2,8 млн. чел. получили ране¬
ния, из них 600 тыс. остались инвалидами. Треть Франции, там,
где проходили бои, была серьезно разрушена, а ведь именно здесь
сосредотачивался основной промышленный потенциал страны.
Франк обесценился в 5 раз, а сама Франция задолжала США ог¬
ромную сумму — более 4 млрд, долларов (с учетом процентов).
В такой ситуации победа отнюдь не способствовала консоли¬
дации общества. В нем шли ожесточенные споры между широким
спектром левых сил и находившимися на коне националистами,
343
ведомыми премьером Жоржем Клемансо. В центре полемики был
вопрос о том, в каком направлении должно в новых условиях дви¬
гаться общество, какими ценностями и приоритетами руковод¬
ствоваться, как и за счет чего решать многочисленные внутрен¬
ние проблемы. Социалисты полагали, что необходимо двигаться
к построению более справедливого общества — только в этом слу¬
чае будут оправданы те жертвы, которые были принесены на ал¬
тарь победы. Для этого следовало более равномерно распределить
тяготы восстановительного периода, облегчить положение мало¬
имущих, взять под контроль государства ключевые отрасли эко¬
номики, с тем чтобы они работали на все общество, а не на обога¬
щение узкого клана финансовой олигархии.
Националистов самой различной окраски объединяла общая
идея: за все должна заплатить Германия! Франция обязана любой
ценой закрепить за собой лидирующие позиции в послевоенном
мире — только тогда она сможет насладиться плодами победы.
Реализация этой установки требовала не реформ, которые неиз¬
бежно будут раскалывать общество, а его консолидации вокруг
идеи сильной Франции. Только сильная Франция будет процве¬
тающей страной, утверждали националисты. Для проведения в
жизнь своих планов правые объединились накануне парламентс¬
ких выборов 1919 г. в Национальный блок. Его основу составили
Демократический альянс и Республиканская федерация.
В преддверии выборов большая ставка делалась на работу сре¬
ди бывших фронтовиков. Для подчеркивания значения, которое
правительство придавало работе с этой категорией электората, в
его состав было включено специально созданное министерство по
делам бывших фронтовиков. Всяческой поддержкой пользовались
их ассоциации. Инвалидам войны и фронтовикам в счет будущих
репараций были обещаны пенсии. Обязательным стало приглаше¬
ние лиц, отличившихся в ходе боев, на официальные церемонии
всех уровней. Стремясь перехватить у левых сил выигрышные
социальные сюжеты, эксплуатируя естественное стремление лю¬
дей к социальной справедливости, правительство Ж. Клемансо
пошло на официальное введение в масштабах всей страны 8-часо¬
вого рабочего дня. Одновременно Национальный блок провозгла¬
сил своей главной задачей борьбу против большевизма и соци¬
альных беспорядков.
Новое объединение добилось на выборах внушительного успе¬
ха: более 2/3 мест в новом составе парламента принадлежало де¬
путатам от Национального блока. Правительство возглавил А. Ми-
льеран. Его кабинет сразу же попытался развернуть массирован¬
ное наступление против левых сил, в среде которых возникли
крупные разногласия по широкому спектру тактических и стра¬
344
тегических вопросов. Они вырвались наружу на съезде социалис¬
тической партии, проходившем в Туре в декабре 1920 г. Камнем
преткновения стал вопрос об отношении к созданному в марте
1919 г. Коминтерну. В результате на съезде произошел раскол.
Большинство делегатов высказалось за присоединение к Комин¬
терну и преобразование социалистической партии в коммунисти¬
ческую. Так в рабочем движении Франции произошел расцол, се¬
рьезно осложнивший дальнейшую борьбу левых сил за соци¬
альный прогресс.
Несмотря на призывы лидеров Национального блока к консо¬
лидации нации, положение в стране в начале 20-х годов остава¬
лось сложным. Падение жизненного уровня продолжалось, и это
подпитывало социальные конфликты. Однако лидеры правых
предпочитали видеть в них «происки Коминтерна». Они не толь¬
ко не собирались пересматривать свои программно-целевые уста¬
новки, но, наоборот, попытались еще более интенсивно проводить
их в жизнь. В январе 1922 г. правительство возглавил Р. Пуанка¬
ре, еще перед войной зарекомендовавший себя жестким против¬
ником Германии. Он заявил, что главная задача текущего момен¬
та — взыскать с Германии репарации в полном объеме. Однако
реализовать этот лозунг на практике было невозможно. Пуанкаре
и сам через несколько месяцев убедился в этом. Тогда после неко¬
торых колебаний он принял решение об оккупации Рурской обла¬
сти, что и было сделано в январе 1923 г.
Однако последствия этого шага оказались совсем иными, чем
предполагал премьер. Денег из Германии не поступало — к этому
уже привыкли, но теперь перестал поступать и уголь, что больно
ударило по французской промышленности. Усилилась инфляция.
За время оккупации франк потерял половину своей стоимости.
Если поначалу все партии, кроме ФКП, поддержали решение
Р. Пуанкаре, то уже летом 1923 г. в Национальном блоке обостри¬
лись отношения между его составными частями, и он фактически
распался.
Под давлением США и Великобритании Франция была вынуж¬
дена вывести свои войска из Германии. Это была крупнейшая
внешнеполитическая неудача страны, заметно подорвавшая ее
позиции в европейских делах, в Версальской системе международ¬
ных отношений в целом. Провал этой авантюры вызвал серьезную
перегруппировку партийно-политических сил во Франции. В пред¬
дверии парламентских выборов радикалы заключили предвыбор¬
ное соглашение с социалистической партией о создании Левого
блока. Его программа предусматривала амнистию участников ре¬
волюционных выступлений, предоставление государственным
служащим права на образование собственных профсоюзов, созда¬
345
ние единой системы социального страхования, введение прогрес¬
сивно-подоходного налога, жесткое проведение в жизнь законов о
8-часовом рабочем дне и об отделении церкви от государства.
Выборы состоялись в мае 1924 г. и принесли успех Левому
блоку. Теоретически открывался шанс для формирования прави¬
тельства левых сил с участием социалистов. Однако последние,
памятуя о «казусе Мильерана», отказались от этой идеи, хотя раз¬
решили своим депутатам в парламенте поддержать правительство,
создаваемое на базе Левого блока.
Главой нового правительства стал лидер радикалов Эдуар Эр-
рио. Прежде всего он резко изменил внешнеполитический курс
страны. Франция установила дипломатические отношения с СССР
и стала налаживать контакты с нашей страной в самых разных
сферах. Эррио признал план Дауэса и отказался от жесткого кур¬
са в отношении Германии. Сложнее обстояло дело с проведением в
жизнь внутриполитической программы Левого блока. Здесь пре¬
мьер-министр сразу столкнулся с серьезными трудностями, актив¬
ным сопротивлением консервативных сил. У него возник острый
конфликт с влиятельными консервативными кругами. Была про¬
валена попытка ввести прогрессивно-подоходный налог, что ста¬
вило под угрозу финансовую политику правительства. Крупней¬
шие банки Франции также вступили в конфронтацию с премье¬
ром. Началось «бегство капиталов» за границу. В самой радикаль¬
ной партии у него появилось немало противников. В итоге 10 ап¬
реля 1925 г. сенат осудил финансовую политику правительства, и
Э. Эррио сложил полномочия.
За этим последовал период правительственной чехарды: за год
сменилось пять правительств, каждое из которых было чуть пра¬
вее своего предшественника. Формально Левый блок продолжал
существовать, но в такой ситуации сделать что-то реальное в пла¬
не реализации своей программы было невозможно. Ситуацию усу¬
губили колониальные войны, в которые Франция втянулась в Си¬
рии и Марокко. Летом 1926 г. Левый блок окончательно распал¬
ся. Поскольку ни одна из партий не имела большинства в парла¬
менте, пришлось формировать коалиционное правительство с пре¬
тенциозным названием — «правительство национального едине¬
ния». В него вошли как представители правых партий, так и ра¬
дикалы, а возглавил его Р. Пуанкаре.
Возвращение Раймона Пуанкаре на политический Олимп ока¬
залось для него успешным. В качестве своей главной задачи он
провозгласил борьбу с инфляцией. Были заметно сокращены го¬
сударственные расходы за счет уменьшения бюрократического
аппарата, введены новые налоги и одновременно предоставлены
крупные льготы предпринимателям. С 1926 по 1929 гг. во Фран¬
346
ции был бездефицитный бюджет. Правительству удалось сбить
инфляцию, стабилизировать франк, остановить рост стоимости
жизни. Активизировалась социальная деятельность государства:
были введены пособия для безработных (1926), пенсии по старо¬
сти, а также пособия по болезни, инвалидности, беременности
(1928). Не удивительно, что престиж Пуанкаре и поддерживавших
его партий заметно вырос.
В такой обстановке в 1928 г. состоялись очередные парламен¬
тские выборы. Как и следовало ожидать, большинство мест в но¬
вом составе парламента получили правые партии. Успехи правых
во многом базировались на личном престиже Пуанкаре, но летом
1929 г. он тяжело заболел и был вынужден оставить свой пост и
политику вообще — теперь уже навсегда. Его преемником стал
Аристид Бриан — весьма известный политический деятель, за
свою долгую карьеру 11 раз возглавлявший правительство и 25
раз занимавший ключевые министерские посты. Бриан традици¬
онно уделял большое внимание вопросам внешней политики. В
этот период с его именем связаны две крупные внешнеполитичес¬
кие инициативы: пакт Бриана — Келлога об объявлении войны
вне закона и план создания «Пан-Европы», т.е. некоей федерации
западноевропейских государств, нечто вроде Соединенных Шта¬
тов Европы. В свое время обе эти акции вызвали оживленную дис¬
куссию, однако в итоге их коэффициент полезного действия ока¬
зался близким к нулю.
Бриану повезло в том плане, что экономический кризис ца-
чался во Франции не осенью 1929 г., а позднее, в конце 1930 г., и
поначалу его влияние не сказывалось столь ощутимо, как в США
или Германии. На первых порах на французов не обрушилось та¬
ких бедствий, как на жителей других стран. Поэтому и реакция
широких слоев населения была достаточно сдержанной, какого-
то резкого всплеска социальных конфликтов не было. Напряжен¬
ность ощущалась прежде всего в правящей элите Франции. Тре¬
тью республику вновь серьезно лихорадило: с 1929 по 1932 гг. сме¬
нилось 8 правительств. Во всех доминировали правые партии, у
которых появились новые лидеры — А. Тардье и П. Лаваль. Од¬
нако ни одно из этих правительств не смогло остановить скольже¬
ние французской экономики вниз по наклонной плоскости.
Итак, к началу 30-х гг. завершился очередной цикл в истории
Третьей республики. С политической сцены сошло большинство
тех государственных деятелей, которые смысл своей деятельнос¬
ти видели в осуществлении реванша. В 1918 г. они добились свое¬
го, и это, казалось, открывало перед страной блестящие перспек¬
тивы. Однако этим ожиданиям не суждено было сбыться. Итоги
о^азадцсь далеко не столь радужными, как на это можно
347
было надеяться в начале десятилетия. Ни правые, ни левые не су¬
мели добиться реализации своих базовых программно-целевых
установок. Не удалось создать условия и для выработки согласо¬
ванных решений, учитывающих в известной мере позиции всех
заинтересованных сторон. В результате страну постоянно сотря¬
сали политические кризисы. Ясно, что в таких условиях трудно
было надеяться на то, что экономика будет демонстрировать ста¬
бильные, высокие показатели.
Несовершенство политической системы Третьей республики
в 20-е гг. становилось все очевиднее. Вкупе с просчетами, которые
были допущены французским руководством и на международной
арене, и внутри страны, оно серьезно осложнило положение III
Республики. Вместо ожидаемого после разгрома «исторического
врага» «светлого будущего», Франция вступила в новое десятиле¬
тие, испытывая целый комплекс трудноразрешимых социально-
экономических и политических проблем.
§ 4. Веймарская Германия:
от конституирования к распаду
Конституирование Веймарской республики в июле 1919 г. еще
не означало стабилизации ситуации в немецком обществе. Поло¬
жение в экономике было исключительно тяжелым. Инфляция
достигла гигантских размеров. Если в 1914 г. за 1 доллар давали
4,2 марки, то к концу 1922 г. — 4 тысяч марок. Процветала спе¬
куляция и «черный рынок». Естественно, жизненный уровень
большинства населения катастрофически упал. К этому надо до¬
бавить огромный психологический шок, который продолжали
испытывать немцы от поражения и унизительных условий Вер¬
сальского мира.
Хотя революция закончилась, ее отзвуки на протяжении еще
нескольких лет будоражили Германию. И широкие слои населе¬
ния, и элита общества не могли решить, по какому пути следует
двигаться Германии. Одна часть^ее интересы отражали Немецкая
народная партия и Немецкая национальная народная партия)
упорно не желала мириться с условиями Версальского мира, рез¬
ко критиковала социальные статьи Веймарской конституции, де¬
лала ставку на консолидацию нации на основе идей реванша и воз¬
рождения рейха.
Их оппоненты справедливо возражали: как разбитая, разорен¬
ная, расколотая на враждебные группировки страна собирается
противостоять державам-победительницам? Наоборот, Германии
необходимо быстрее интегрироваться в Версальскую систему и уже
348
там добиваться постепенной реставрации своих позиций как ве¬
ликой державы. Для успешного решения этой задачи необходимо
как можно скорее выбираться из полосы кризиса, в котором увяз¬
ла страна, а для этого надо резко усиливать регулирующие функ¬
ции государства в сфере экономики и развивать линию на нала¬
живание социального партнерства между предпринимателями и
рабочими. Подобный политический курс отстаивали Немецкая
демократическая партия, ХДП, СДПГ.
Наконец, Компартия утверждала, что лишь переустройство
общества на социалистических началах способно вывести Герма¬
нию на столбовую дорогу прогресса.
Каждая из этих трех группировок не стремилась к налажива¬
нию диалога со своими оппонентами, к укреплению консенсусных
начал в политическом процессе. Наоборот, в политическом спект¬
ре тогдашней Германии было немало экстремистских организа¬
ций, стремившихся к реализации своих задач исключительно си¬
ловым путем. В марте 1920 г. группа правых экстремистов во гла¬
ве с В. Каппом, сумев привлечь на свою сторону часть армейских
соединений, находившихся в районе Берлина, подняла мятеж.
Войска путчистов в ночь с 12 на 13 марта вошли в Берлин. Закон¬
ное правительство бежало. В. Капп распустил парламент и объя¬
вил себя рейхсканцлером. Мятежники рассчитывали восстановить
в стране довоенные порядки, однако планам этим не суждено было
сбыться.
В Германии вспыхнула всеобщая забастовка, в которой уча¬
ствовало около 12 млн. чел. Она показала, что у новоявленного
диктатора нет серьезной поддержки в обществе. Политический
маятник, качнувшийся вправо, теперь стал быстро сдвигаться
влево. Компартия, потерпевшая в 1919 г. несколько тяжелых по¬
ражений, вновь встала на ноги. В одной только Рурской области
под ее контролем находилась 100-тысячная Красная Армия. Пра¬
вящей элите стало очевидно, что, во-первых, дальнейшие подоб¬
ные авантюристические эксперименты неизбежно ввергнут стра¬
ну в новую революцию с непредсказуемым исходом, а во-вторых,
что инициативу в восстановлении порядка надо передать социал-
демократам.
27 марта 1920 г. было создано правительство во главе с пра¬
вым социал-демократом Г. Мюллером, которому удалось на вре¬
мя стабилизировать ситуацию. Однако передышка была недо¬
лгой. В мае 1921 г. державы-победительницы в жесткой форме
потребовали от Германии выплаты репараций. Для не оправив¬
шейся от последствий войны немецкой экономики это было рав¬
носильно краху. Вновь разразился острейший политический кри¬
зис. В центре его был вопрос, как строить отношения с держава-
349
ми-победительницами. Правонационалистические организации
попытались использовать эту ситуацию для реставрации своих
пошатнувшихся после провала капповского путча позиций. Они
яростно критиковали «политику выполнения», т.е. выплаты ре¬
параций, утверждая, что она обрекает страну на катастрофу. Од¬
нако, хотя в правящей элите у этой точки зрения было немало
сторонников, возобладало мнение тех, кто полагал, что любая
политика сопротивления требованиям держав-победительниц
может обернуться еще более катастрофическими последствия¬
ми — потерей суверенитета.
В результате в конце июня 1921 г. было сформировано прави¬
тельство, которое возглавил Йозеф Вирт, сторонник интеграции
Германии в Версальскую систему. Одновременно он всячески стре¬
мился упрочить пока еще весьма хрупкие республиканские инсти¬
туты. Сделать это было непросто, ибо демократическая полити¬
ческая система, гражданское общество функционируют эффектив¬
но, только если опираются на стабильный экономический фунда¬
мент, а его-то как раз в Германии и не было.
Среди магнатов 'немецкой тяжелой промышленности посте¬
пенно нарастало недовольство внешней и внутренней политикой
правительства Вирта. Там бытовало мнение, что правительство в
угоду державам-победительницам и левым в самой Германии не
заботится должным образом о восстановлении и оздоровлении не¬
мецкой экономики. Стремясь свалить канцлера, эти круги не жа¬
лели средств на финансирование пропагандистской кампании по
дискредитации его политики, а с лета 1922 г. в тесном сотрудни¬
честве с реваншистскими организациями перешли к политике са¬
ботажа в выплате репараций. В ноябре 1922 г. правительство Вирта
пало.
За развитием событий в Германии внимательно наблюдали во
Франции. Там было немало влиятельных политиков, которые по¬
лагали, что, сохранив пусть серьезно ослабленную, но единую Гер¬
манию, Франция совершила страшную ошибку, которую, пока не
поздно, следует исправить. Иными словами, речь шла о том, что¬
бы найти повод для нанесения превентивного удара по Германии с
последующей ликвидацией ее как единого государства. Саботаж с
выплатами репараций, сопровождавшийся всплеском национали¬
стических и реваншистских настроений в Германии, создавал бла¬
гоприятную обстановку для осуществления этих замыслов.
11 января 1923 г., сославшись на то, что Германия саботиру¬
ет выплату репараций, франко-бельгийские войска вошли в Рей¬
нско-Рурскую область. Правительство призвало немцев к «пас¬
сивному сопротивлению» и к сплочению нации. Это, однако, ни¬
чего не решало, за исключением того, что экономика стала раз¬
350
валиваться буквально на глазах. Обстановка в стране быстро на¬
калялась. Резко активизировались ультраправые, развернувшие
массированную атаку на Веймарскую республику за то, что она
не способна защитить национальные интересы Германии. Они
всячески пропагандировали идею сильной власти, которая яко¬
бы только и способна вывести страну из кризиса. С другой сторо¬
ны, катастрофическое падение жизненного уровня основной ча¬
сти населения вызвало подъем забастовочного движения. Начав¬
шаяся в августе 1923 г. всеобщая стачка привела к отставке пра¬
вительства.
Было сформировано новое правительство «большой коалиции»
(от СДПГ до Немецкой народной партии) во главе с, пожалуй, са¬
мым талантливым политическим деятелем Веймарской Германии
Г. Штреземаном. Ему досталось тяжелое наследство: Рурский кри¬
зис зашел в тупик, экономика находилась на грани краха, страну
потрясали острейшие социальные конфликты (кульминацией их
стало восстание под руководством Э. Тельмана в Гамбурге 23-25
октября 1923 г.), вера в эффективность демократических инсти¬
тутов быстро падала.
И все же Веймарская республика пережила этот острейший
кризис и выстояла. В ее пользу сработала комбинация несколь¬
ких факторов. США и Великобритания, всерьез обеспокоенные
развитием событий в Германии, сумели найти его развязку. На
Лондонской конференции по инициативе США был одобрен план
Дауэса, согласно которому Германии предоставлялся очень круп¬
ный заем (преимущественно за счет США) в размере 800 млн. зо¬
лотых марок для восстановления немецкой промышленности. Эти
средства позволили вновь привести в движение экономический
механизм Германии. Удалось сбить инфляцию, снизить безрабо¬
тицу, предприятия стали получать прибыли и, соответственно,
платить налоги. Государство же из полученных поступлений в
казну вновь стало выплачивать репарации. От Франции потребо¬
вали вывести ее войска из Рура. Все это позволило выбить почву
из-под ног у ультра-националистов, резко уменьшить число тех,
кто требовал от правительства решительных мер по улучшению
положения трудящихся, и открыло дорогу для интеграции Гер¬
мании в Версальскую систему в качестве ее полноправного члена.
Стабилизации обстановки в Германии способствовала деятель¬
ность СДПГ, которая стала одной из важнейших опор Веймарс¬
кой республики. Она прочно интегрировалась в ее политическую
систему, стала «государственной партией». В ее программных до¬
кументах четко проводилась мысль о том, что движение по пути
общественного прогресса может осуществляться только в рамках
«демократической политической системы» путем ее постепенно¬
351
го реформирования в сторону большей социализации. Революци¬
онное насилие объявлялось «детской болезнью» рабочего движе¬
ния, неким атавизмом прошлой эпохи. Задача партии заключа¬
лась в том, чтобы «встраиваться во власть», стимулировать раз¬
витие «хозяйственной демократии». Деятельность СДПГ способ¬
ствовала снижению заряда радикализма, который имелся в немец¬
ком обществе.
Вопреки собственной воле, стабилизации Веймарской респуб¬
лики способствовала и КПГ. Постоянные фракционные разборки,
метания в поисках оптимального курса, догматизм в решении так¬
тических вопросов вели к падению престижа КПГ в массах, а это
автоматически укрепляло устои Веймарской республики.
Все это в комплексе помогло преодолеть острейший кризис.
Начиная с 1924 г. Германия наконец вступила в полосу стабиль¬
ного развития. Немецкая экономика, еще недавно дышавшая на
ладан, за короткий срок добилась впечатляющих успехов. К
1929 г. ее доля в мировом промышленном производстве уже со¬
ставляла 12%, а его общий объем превысил довоенный уровень.
Особенно быстрыми темпами развивались ключевые отрасли про¬
мышленности: металлургия, машиностроение, химическая,
угольная, электротехническая. А ведь именно они определяли
тогда степень экономической мощи государства. В этих отраслях
на лидирующих позициях находились гиганты типа «Стального
треста», «И. Г. Фарбениндустри», «Всеобщейэлектротехнической
компании». Уже в это время их деятельность вышла далеко за
пределы собственно Германии. Важно отметить еще одну особен¬
ность немецкой экономики — высокий удельный вес государствен¬
ной собственности в этой сфере. На государственных предприяти¬
ях работало более 10% всех занятых в народном хозяйстве. Даже
в годы расцвета Веймарской республики, когда либеральные эко¬
номические доктрины доминировали в немецком обществе, госу¬
дарство оставалось влиятельной силой, от позиции которой в ре¬
шающей мере зависела общая динамика развития страны. В этом
смысле важнейшая историческая особенность прусской модели
общественного развития осталась в силе.
Отсюда исключительно высокая ставка в борьбе за контроль
над ключевыми звеньями государственной структуры. Это, в час¬
тности, наглядно подтвердили президентские выборы 1925 г. Борь¬
ба за президентское кресло стимулировала серьезную перегруп¬
пировку сил в политической жизни Германии. Победу на них одер¬
жал бывший кайзеровский фельдмаршал, лидер «ястребов» в годы
войны П. Гинденбург, которого поддерживали основные правые
партии (Немецкая национальная народная партия, Немецкая на¬
родная партия и различные правоэкстремистские организации).
352
Таким образом, в лагере буржуазных партий наметилась тре¬
щина: коалиция правых партий продемонстрировала очевидную
готовность действовать без оглядки на центристов. Другое дело,
что пока экономическая конъюнктура оставалась благоприятной,
у лидеров соперничавших политических элит имелись возможно¬
сти поддерживать консенсус в политическом процессе.
После президентских выборов 1925 г. и вплоть до кризиса
1929 г. он, пожалуй, лишь один раз был поставлен под сомнение.
Речь идет о событиях, связанных с проведением в апреле 1926 г.
референдума о судьбе собственности свергнутых в ходе Ноябрьс¬
кой революции династий (сами бывшие собственники оценивали
ее в 2,5 млрд, марок). В то время как правые предлагали догово¬
риться с представителями бывшего кайзера и немецких князей о
выплате компенсации за конфискованную во время революции
собственности, коммунисты настаивали на ее полной и безвозмез¬
дной конфискации.
После периода повышенной активности, связанного с прове¬
дением референдума, политический процесс вернулся в спокой¬
ное русло. Даже избрание в мае 1928 г. канцлером Германии пред¬
ставителя СДПГ Г. Мюллера не нарушило сотрудничества основ¬
ных партий. В качестве главной стабилизирующей силы, по об¬
щему мнению, в то время как раз и выступали социал-демократы,
которые выполняли роль связующего звена между основными со¬
циальными силами немецкого общества, не допуская резкой ра¬
дикализации рабочего движения, постепенно все прочнее интег¬
рируя его в политическую систему Веймарской Германии.
Правда, этот период оказался недолговечным, а сама стаби¬
лизация непрочной. Она продолжалась до осени 1929 г., когда на
Германию, как и на другие западные страны, обрушился эконо¬
мический кризис, в одночасье перечеркнувший все успехи стаби¬
лизации и поставивший под вопрос дальнейшую судьбу Веймарс¬
кой Германии.
§ 5, Фашизм по-итальянски
Родиной фашизма была Италия. Он возник на итальянской
земле в трудные послевоенные годы и являлся порождением и от¬
ражением сложных и болезненных процессов, которые происхо¬
дили тогда в этой стране. Фашистские организации стали возни¬
кать в Италии с весны 1919 г. Лидером этого движения стал Бени¬
то Муссолини, бывший социалист, исключенный из партии в
1914 г. за несогласие с ее антивоенной платформой. Вплоть до
1921 г. это было именно движение, а не политическая партия.
353
Четкой программы у его участников еще не было. Они эксплуати¬
ровали, и довольно успешно, те эмоции, которые господствовали
тогда в итальянском обществе, — разочарование и недовольство.
А отсюда жажда перемен, которые и обещали фашисты.
Обещания и критика — вот суть их тактики в тот период, ког¬
да они еще только шли во власть. В многочисленных выступлени¬
ях Муссолини щедро звучали обещания обеспечить величие на¬
ции, резко критиковались державы-победительницы за несправед¬
ливое отношение к Италии на Парижской мирной конференции,
ожесточенным нападкам подвергалось собственное правительство
и демократия в целом за неспособность эффективно отстаивать
интересы нации. Себя же последователи Муссолини провозгласи¬
ли выразителями интересов всей нации, вне зависимости от соци¬
альной принадлежности избирателей. Это не исключало выдви¬
жение специфических лозунгов, ориентированных на каждую
конкретную социальную группу (земля тем, кто ее обрабатывает,
право голоса женщинам, участие рабочих в управлении производ¬
ством и т.д.).
Фашистские организации не только вели пропаганду своих
идей, они создавали «отряды самообороны», которые обычно на¬
зывали чернорубашечниками. Их использовали для запугивания
противников фашистов. Яростный антикоммунизм фашистов стал
привлекать к ним симпатии власть имущих, всерьез обеспокоен¬
ных ростом влияния левых. Используя политическую нестабиль¬
ность, характерную для Италии начала 20-х гг. (с июня 1921 по
август 1922 г. в стране сменилось три кабинета), фашисты стали
откровенно претендовать на власть, утверждая, что только они
способны избавить страну от хаоса. С этой целью они в 1921 г. пре¬
образовали свое движение в партию.
В конце 1922 г. в ходе обсуждения текущего момента на съез¬
де своей партии в Неаполе, констатировав, что страна переживает
очередной политический кризис, фашисты предъявили правитель¬
ству требования относительно предоставления им ряда ключевых
административных постов и заявили, что в случае отказа начнут
массовый поход своих сторонников на Рим. Ситуация накалилась
до предела. Правительство подало в отставку, ибо король Виктор
Эммануил III отказался подписать указ о введении в стране чрез¬
вычайного положения.
Вместо этого он пригласил Муссолини в Рим и предложил ему
возглавить правительство..30 октября 1922 г. участники фашист¬
ского марша на Рим вступили в столицу, и в тот же день Муссоли¬
ни возглавил правительство, которое поначалу носило коалици¬
онный характер. С этого момента началась перестройка полити¬
ческой системы Итальянского королевства. В отличие от Герма¬
354
нии, где этот процесс проходил весьма и весьма стремительно, в
Италии переходный период, по крайней мере внешне, характери¬
зовался сохранением значительных элементов преемственности с
прошлым. Продолжал функционировать парламент, ни одна из
старых партий не была запрещена, сохранилась старая Конститу¬
ция. Но это был лишь фасад.
Правительство Б. Муссолини сразу же начало расширять соб¬
ственные полномочия в ущерб правам парламента. Из сферы пол¬
номочий парламента по существу изъяли финансовые вопросы и
все, что было связано с деятельностью административных орга¬
нов. В1923 г. была проведена избирательная реформа: вместо про¬
порциональной системы распределения мандатов вводилась ма¬
жоритарная, выгодная правящей партии. Разработка законода¬
тельных инициатив фактически осуществлялась в Большом фа¬
шистском совете, которым руководил сам Муссолини, а парламент
лишь штамповал эти предложения. Фашистские вооруженные
отряды (чернорубашечники) приобрели статус государственного
института, подчиненного лично Муссолини.
Активную работу по созданию подконтрольных фашистской
партии профсоюзов вели ее функционеры. Фашисты по-иному, чем
в остальной Европе, подходили к задачам профсоюзов, которые
должны были способствовать формированию единства нации. Их
численность быстро росла, и они стали претендовать на монополь¬
ное право представлять интересы трудящихся. В 1923 г. началось
преследование инакомыслящих: первый процесс состоялся над
группой коммунистов во главе с А. Бордигой. Не согласных с по¬
литикой фашистской партии увольняли с работы.
Эти действия не встречали должного отпора. На руку фашис¬
там играло постепенное улучшение экономической конъюнктуры.
После прихода к власти фашисты провели ряд мероприятий, на¬
целенных на стимулирование деловой активности: были сняты
ограничения на операции с ценными бумагами, осуществлена де¬
национализация предприятий связи и общественного транспор¬
та, сокращено государственное субсидирование промышленности,
снижено налогообложение с корпораций. Однако промышленный
рост сопровождался постепенным нарастанием инфляционных
тенденций. Примерно с 1926 г. это стало порождать серьезные
проблемы в сфере финансов: курс лиры начал быстро падать. Для
ее стабилизации пришлось осуществить внешнее заимствование,
4jq позволило вернуться к золотому стандарту.
Очень скоро выяснилось, что декларации, которые использо¬
вались фашистами в борьбе за власть, и их реальная социально-
экономическая политика далеко не всегда совпадают. Первой на
это отреагировала интеллигенция. Одним из самых популярных
355
критиков фашизма был депутат парламента, известный журна¬
лист Джакомо Маттеотти. Его имя стало своеобразным символом
борьбы с фашизмом. По личному приказу Муссолини 10 июня
1924 г. Маттеотти был похищен и убит. Эта демонстративная рас¬
права вызвала у эмоциональных итальянцев взрыв возмущения,
который породил острейший политический кризис. Вся деятель¬
ность антифашистских сил не смогла так всколыхнуть Италию,
как эта акция самих фашистов. По всей стране прокатилась волнц
массовых выступлений с требованиями отставки правительства и
наказания убийц Маттеотти.
Б. Муссолини был явно растерян: он никак не ожидал такого
поворота событий. Впервые после прихода фашистов к власти за¬
шевелилась оппозиция в парламенте. Там возник так называемый
Авентинский блок, попытавшийся взять на себя роль координа¬
тора антифашистских выступлений. По инициативе А. Грамши
это объединение поддержали и итальянские коммунисты. Они
предлагали максимально стимулировать массовые действия, го¬
товить всеобщую политическую забастовку. Однако остальные
участники Авентинского блока стремились ограничить развернув¬
шуюся кампанию протеста жесткими легалистскими рамками,
свести ее к моральному осуждению фашизма. Разногласия внут¬
ри антифашистских сил снижали эффективность их действий.
Пока противники фашистского режима спорили о методах
борьбы с ним, Муссолини готовился к ликвидации всех элементов
демократического строя, которые хотя бы формально сохранялись
в Италии. Из правительства были изгнаны все министры, не яв¬
лявшиеся членами фашистской партии. В ноябре 1926 г. была
принята серия чрезвычайных законов, запрещавших всякую ле¬
гальную антифашистскую деятельность: все партии, кроме
фашистской, подлежали роспуску; закрывались оппозиционные
газеты; лица, подозреваемые в антифашистской деятельности,
подлежали административной высылке; ряд видных деятелей ан¬
тифашистского движения, в том числе значительная часть руко¬
водства ИКП, были арестованы. В 1927 г. были учреждены важ¬
нейшие репрессивные органы фашистского государства — особый
трибунал и тайная полиция. Из государственных органов изгна¬
ли всех нелояльных фашизму служащих. В 1928 г. высшая зако¬
нодательная власть была окончательно передана Большому фаши¬
стскому совету.
Муссолини заявлял, что все эти изменения идут в русле реше¬
ния глобальной задачи — построения «корпоративного государ¬
ства», в котором воцарится классовая гармония. В 1927 г. была
принята Хартия труда, в которой излагались основные принципы
корпоративизм•:«. В качестве фундамента нового государства пред¬
356
полагалось создать корпорации, которые бы объединяли всех пред¬
принимателей и рабочих, занятых в каждой данной отрасли про¬
изводства, для сотрудничества во имя общенациональных инте¬
ресов. Строительство корпораций сильно подстегнул экономичес¬
кий кризис 1929-1933 гг. За эти годы были созданы 22 корпора¬
ции, руководители которых (их назначало правительство) входи¬
ли в Национальный совет корпораций, осуществлявший вместе с
правительством жесткие меры по руководству всеми аспектами
экономической жизни страны.
Активизация строительства корпораций в Италии отнюдь не
случайно пришлась на этот период. Как и в других западных стра¬
нах, кризис отчетливо обнажил неэффективность чисто рыночных
механизмов. Он срочно потребовал создания «внутренних стаби¬
лизаторов», с помощью которых государство могло бы оказывать
серьезное воздействие на экономическую жизнь страны. Посколь¬
ку в Италии к этому времени фашистская диктатура уже прочно
утвердилась, она предложила весьма специфические методы ре¬
шения данной проблемы. Основным институтом государственно¬
го регулирования стала именно корпорация, выполнявшая дву¬
единую задачу: 1) через нее государство осуществляло регулиро¬
вание соответствующей отрасли экономики; 2) она олицетворяла
«монолитное единение» нации.
Сама по себе эта идея в то время выглядела достаточно перс¬
пективно. Проблема, однако, осложнялась общей динамикой раз¬
вития итальянской экономики. Кризис начался в условиях, ког¬
да она переживала далеко не лучшие времена, еще не успев адап¬
тироваться в полной мере к ситуации, порожденной валютной ре¬
формой 1926 г. Ясно, что в таких условиях кризис поразил страну
до самого основания, и Муссолини необходимо было срочно выра¬
батывать комплекс мер, способных вывести Италию из того поло¬
жения, в котором она оказалась, и восстановить сильно подпор¬
ченный имидж фашистского государства. А поскольку в силу ука¬
занных причин расчеты на то, что строительство корпораций по¬
зволит государству застраховать страну от превратностей рыноч¬
ной экономики, явно не оправдывались, Муссолини стал все боль¬
ше склоняться к мысли о необходимости активизации внешней
экспансии, в которой он видел шанс на преодоление внутренних
трудностей.
ГЛАВА III
На переломе: ведущие страны Западной
Европы и Америки в 30-е годы
§ I. «Новый курс»: заря современной
Америки
30-е годы нередко и в общем-то справедливо называют зарей
современной Америки. Именно тогда в ходе острейших полити¬
ческих баталий начала формироваться та социально-экономичес¬
кая инфраструктура, которая сегодня составляет каркас «амери¬
канской системы». Ключевой проблемой для американского об¬
щества в эти годы стал вопрос о том, какую роль должно играть в
жизни общества федеральное правительство. Экономический кри¬
зис 1929—1933 гг. убедительно продемонстрировал, что «уникаль¬
ная» система американского частного предпринимательства, ка¬
завшаяся еще совсем недавно чуть ли не эталоном для подража¬
ния для политической и деловой элиты других западных странг
оказалась на пороге экономического и морального банкротства.
Находившаяся у власти администрация президента Г. Гувера не
могла предложить стране ничего конкретного, кроме уверений, что
«просперити находится уже за углом». Существовавшее положен
ние требовало экстраординарных мер, ибо обанкротилась не про¬
сто политическая линия правительства Гувера, а вся идеология
«твердого индивидуализма», долгие годы безраздельно домини¬
ровавшая в общественно-политической жизни США. Кризис стал
сильнейшим стимулом, подталкивавшим правящие круги Амери¬
ки к осуществлению крупномасштабного социально-политическо¬
го эксперимента.
В такой обстановке разворачивалась президентская избира¬
тельная кампания 1932 г. Обе партии просто обязаны были дать
ответ на отнюдь не риторический вопрос: что делать? Лидерство с
358
самого начала захватили демократы. Их кандидат, Франклин Де¬
лано Рузвельт, безусловно крупнейшая фигура в политической
истории США XX века, говорил: «Страна нуждается и, если я пра¬
вильно понимаю ее настроения, требует смелого и настойчивого
эксперимента». Он и его команда предложили стране «новый
курс». И это был не просто предвыборный лозунг, принесший ему
победу на выборах, — в истории США действительно начался
принципиально новый период.
Ф. Д. Рузвельт занял Белый дом в тот момент, когда кризис
достиг высшей точки. Банковская система США была по существу
парализована. Ситуация требовала немедленных и чрезвычайных
действий. Президент отреагировал без промедления: уже в первые
100 дней его пребывания у власти был проведен комплекс важ¬
ных мероприятий по ртабилизации экономики. Их можно разбить
на три группы.
Первая — это принятие законодательства о регулировании и
укреплении валютно-финансового механизма США: об отмене зо¬
лотого стандарта, о мерах по оздоровлению банковской системы,
рефинансированию задолжности, гарантированию государством
депозитов до 5 тыс. долл. Чуть позднее, в 1934 г., была проведена
девальвация доллара и создана Комиссия по торговле акциями,
осуществлявшая надзор за деятельностью фондовой биржи, что¬
бы пресекать спекуляции дутыми акциями, характерные для
20-х гг.
Вторая группа мероприятий, проведенных на первом этапе
«нового курса», была связана с попыткой администрации найти
выход из аграрного кризиса. Центральное место здесь занимал
закон о регулировании сельского хозяйства 1933 г., нацеленный
на повышение доходов фермеров за счет увеличения цен на произ¬
водимые ими продукты. В соответствии с законом создавался
сложный государственный механизм, ориентированный на сокра¬
щение производства основных видов сельскохозяйственной про¬
дукции. В качестве компенсации фермеры получали премиальные
выплаты из особого фонда, образованного за счет введения нового
специального налога.
Центральное звено в законодательстве первых 100 дней было
связано с регулированием индустриальных отношений. Основы
политики новой администрации получили отражение в Законе о
восстановлении промышленности (НИРА), принятом летом
1933 г. Он состоял из трех главных разделов: 1) государственное
регулирование условий промышленного производства; 2) регули¬
рование трудовых отношений; 3) помощь безработным.
«Роль государства усложняется неизбежно, потому что услож¬
няется сама жизнь», — подчеркивал Ф. Рузвельт. Эти его слова
359
могут быть использованы в качестве эпиграфа к любому законо-
дательному предложению ньюдилеров (так называли в Америке
сторонников «нового курса»), к любому официальному докумен¬
ту демократов, одобренному после 1932 г.
Первые мероприятия «нового курса» способствовали извест¬
ной стабилизации экономики. По крайней мере, катастрофы нё
произошло и худшие времена уходили в историю. Однако по мере
того, как страна выходила из кризиса, в американском обществе
усиливалось брожение. И справа, и слева все громче звучала кри¬
тика в адрес Ф. Рузвельта и его политики. Консервативные круги
обвиняли президента в том, что его политика есть не что иное, как
«ползучий социализм», левая интеллигенция упрекала его за ав¬
торитаризм. В обществе нарастала нестабильность. По стране про1
катилась волна массовых выступлений фермеров.
На новую ступень поднялось и забастовочное движение рабо->
чих. В профсоюзах, численность которых быстро росла, усилива¬
лись позиции тех, кто требовал более решительных действий по
защите интересов трудящихся. Официальное руководство круп¬
нейшего профцентра АФТ подвергалось массированной критике
за мягкотелость в отношениях с предпринимателями. Усилилось
давление профсоюзов на Белый дом: лидеры тред-юнионов требо¬
вали от администрации принятия целого ряда законов, расширяв¬
ших права профсоюзов и усиливавших социальную защищенность
низов общества. Росла тяга к независимым политическим действи¬
ям, вне рамок двухпартийной системы.
Одновременно и большой бизнес, уверовав, что худшие вре¬
мена позади, стал высказывать все большее раздражение по пово¬
ду чрезмерного вмешательства федерального правительства в пре¬
рогативы предпринимателей. Они требовали подавления забасто¬
вочного движения и «ограничения всевластия профсоюзов».
Непростым было положение и в правящей демократической
партии. Далеко не все демократы относились к числу убежденных
сторонников либеральных реформ. Они поддерживали их только
в силу той критической ситуации, которая сложилась в стране в
1933 г. Ф. Рузвельт не мог с этим не считаться. Он умело лавиро¬
вал между различными фракциями, стремясь укрепить единство
партии, а главное — свое лидерство в ней.
Трения в правящей партии не были секретом для оппозиции.
Уже на промежуточных выборах 1934 г. она попыталась дать бой
ньюдилерам. Однако их надеждам не суждено было сбыться. Воп¬
реки традиции, правящая партия не только не ослабила свои пози¬
ции, но, наоборот, увеличила представительство в обеих палатах
конгресса. На сей раз страна явно не хотела возвращаться «к нор¬
мальным временам», и это отразили результаты голосования. Hd
360
выборы продемонстрировали и другое: на левом фланге демократи¬
ческой партии заметно усилилось недовольство нерешительностью
и непоследовательностью президента в проведении реформ. Возник¬
ла реальная угроза того, что на президентских выборах 1936 г. зна¬
чительные группы электората выйдут из-под контроля демократов
и пойдут за радикалами, готовыми создать третью партию.
К этому времени в США уже существовал ряд организаций,
стоявших левее двухпартийной системы, активно обсуждавших
планы создания общенациональной третьей партии. Прежде все¬
го здесь необходимо сказать о Фермерско-рабочей партии Минне¬
соты и о Прогрессивной партии Висконсина, которые вели интен¬
сивные переговоры с другими сторонниками независимых поли¬
тических действий об объединении усилий. Летом 1935 г. они и
их единомышленники собрались на съезд в Чикаго, где была об¬
разована Американская политическая федерация всеобщего бла¬
га, которая должна была осуществить всю подготовительную ра¬
боту по организации в 1936 г. третьей общенациональной партии.
Центральным пунктом предвыборной платформы нового объеди¬
нения предполагалось сделать концепцию перестройки экономи¬
ки: из ориентированной на получение прибыли — в нацеленную
на удовлетворение всеобщего блага.
Многое в судьбе этих планов зависело от позиции профсоюзов,
где в эти годы разворачивалось мощное движение за перестройку
организации по производственному принципу, что позволило бы
открыть дорогу для вовлечения в них широких слоев неквалифи¬
цированных рабочих. Это движение возглавил президент Объеди¬
ненного профсоюза горняков Дж. Льюис. На очередном ежегод¬
ном съезде АФТ в октябре 1935 г. он и его сторонники выступили
в пользу немедленной реорганизации АФТ. Однако руководство
АФТ смогло блокировать это предложение. Тогда 8 крупных проф¬
союзов (объединявших более 1 млн. чел.) из числа АФТ объявили
о создании в рамках этой организации Комитета производствен¬
ных профсоюзов (КПП).
Когда перед профсоюзами встал вопрос об отношении к пла¬
нам образования третьей партии, разногласия в их руководстве
углубились еще больше. Старые боссы АФТ с порога отвергли эту
идею, поскольку она, по их мнению, противоречила принципам
«чистого юнионизма». Лидеры КПП колебались. Они заявили, что
их отношение к кандидатам на выборах в 1936 г. будет определять¬
ся позицией последних по рабочему вопросу. Однако Льюис сразу
же оговорился, что, безусловно, гораздо предпочтительнее поддер¬
жать кандидата демократов (в случае одобрения этой партией уст¬
раивающей профсоюзы предвыборной платформы), чем создавать
новую организацию. Для того чтобы подтолкнуть демократов к
361
движению в нужном направлении, по инициативе Дж. Льюиса
весной 1936 г. была организована Беспартийная рабочая лига.
Подобный подход заметно сужал возможности для образования
массовой третьей партии. Тем не менее в середине 30-х годов в Со¬
единенных Штатах сохранялась весьма благоприятная ситуация
для развития движения за независимые политические действия.
Угроза монопольному положению двухпартийной системы в
политическом процессе исходила не только с левого фланга. В э?о
время в США пышным цветом расцвели массовые праворадикаль¬
ные движения. В основе взлета их популярности лежало все то
глубокое разочарование многих рядовых американцев в возмож¬
ности и способности американских политических институтов и
американских ценностей обеспечить нормальную жизнь и вывес¬
ти страну из тяжелейшей ситуации, в которую она попала в ре¬
зультате кризиса. Но если левые силы видели первопричину не¬
урядиц в неспособности власти поставить под контроль общества
большой бизнес, то лидеры праворадикальных группировок основ¬
ной огонь критики направляли на неэффективные, по их мнению,
демократические политические институты и ценности, в рамках
которых невозможно решить основные проблемы, сгоадшде пе¬
ред Америкой.
Двумя наиболее популярными лидерами, относившимися к
этой части политического спектра, были сенатор из Луизианы X.
Лонг и «радио-патер» из Детройта Ч. Кофлин. Лонг, пользуясь ср-
временной терминологией, был классическим харизматическим
лидером. В 1934 г. он выдвинул получивший широкую популяр¬
ность «план раздела богатств», предполагавший конфискацию
всех частных состояний, превышавших 8 млн. долл., с последую¬
щим разделом полученной суммы между беднейшими семьями, с
тем чтобы поднять минимальный доход семьи до 4-5 тыс. долл, в
год. Естественно возникал вопрос: как конкретно осуществить этот
план? Ответ Лонга был таким же простым, как и его план: надо
создавать по всей стране сеть отделений «Общества по разделу бо¬
гатств». Очевидно, что в случае успешной реализации этой задум¬
ки сеть этих обществ могла бы стать надежным плацдармом не про¬
сто для борьбы за власть, но и для последующего демонтажа су¬
ществовавшей политический системы и ее перестройки на авто¬
ритарных началах. За короткий срок идеи Лонга приобрели в США
большую популярность (в «Обществах по разделу богатств» состо¬
яло 7,5 млн. чел.), и, если бы не его гибель в сентябре 1935 г., он
вполне мог бы бросить на выборах 1936 г. реальц^й выров действо-
вавщей власти.
Что касается Кофлина, то в своих радиопроповедях, собирав¬
ших огромную аудиторию, он пропагандировал идеи во многом со*
362
звучные тем, которые в конце 20-х годов озвучил в Италии Б. Мус¬
солини. Речь идет о концепции строительства «корпоративного го¬
сударства», в случае создания которого в США сформировалась бы
иная модель общественно-политического развития. Ясно, что все
эти тенденции представляли значительную угрозу не только рефор¬
мам Ф. Рузвельта, но и всему существовавшему правопорядку.
Для нейтрализации этих крайне опасных тенденций Рузвельт
решился на ряд смелых политических шагов. Летом 1935 г. он
выступил с новой программой реформ, предусматривавшей рез¬
кое увеличение ассигнований на общественные работы и помощь
низкодоходным группам сельского населения. Предполагалось
ввести систему социального обеспечения, включавшую в себя стра¬
хование по старости и безработице. Президент высказался в пользу
изменения системы налогообложения за счет увеличения доли лиц
с высокими доходами и корпораций в общем фонде налоговых по¬
ступлений. Он одобрил идею ограничения деятельности холдинг-
компаний в сфере коммунального обслуживания. Наконец, Руз¬
вельт решил поддержать билль сенатора Вагнера, санкциониро¬
вавший коллективно-договорную практику. В политике президен¬
та наметился явный сдвиг влево.
Отличительная черта всех мероприятий «нового курса» —рез¬
кое повышение роли федерального правительства в регулирова¬
нии социально-экономических отношений. Форсированное втор¬
жение государства в эту сферу заметно повлияло на все стороны
жизни американского общества. Естественно, в разных областях
общественной жизни это влияние проявилось в разной мере. Преж¬
де всего и в наибольшей степени новые подходы к решению кар¬
динальных вопросов общественного развития повлияли на харак¬
тер политического процесса.
Либерально-этатистский подход к основным проблемам, свя¬
занным с выводом страны из кризиса, позволил демократической
партии включить в свою структуру новые, весьма важные с точки
зрения электоральной стратегии контингенты избирателей. К важ¬
нейшему сдвигу в этой сфере следует отнести переход подавляю¬
щего большинства рабочих на сторону демократов. В их сознании
облик этой партии стал неразрывно ассоциироваться с законом
Вагнера (Национальный акт о трудовых отношениях), который
либеральная пресса окрестила «великой хартией вольностей» ра¬
бочих. Именно с этого момента профсоюзы начали активно и ре¬
шительно выступать в пользу переизбрания Ф. Рузвельта в 1936 г.
Вторым по значимости сдвигом в симпатиях электората сле¬
дует признать начавшийся бурный отток негритянских избирате¬
лей от республиканцев и переход их в лоно партии Рузвельта. В
результате сложилась парадоксальная ситуация: в одной партии
363
оказались и негры, и белые южане, у которых расизм был в кро¬
ви. Наконец, важным элементом избирательной коалиции, под¬
держивавшей Ф. Рузвельта, стала еврейская община. Не столь уж
многочисленная, она тем не менее стала играть весьма заметную
роль в формировании идеологических установок партии, обеспе¬
чивая ей надежные каналы связи в финансовых кругах и инфор¬
мационном бизнесе.
Сдвиг влево в политике правящей партии вызвал непривыч¬
ную для двухпартийной системы поляризацию партий, и это от¬
четливо проявилось в ходе избирательной кампании 1936 г., ког¬
да решался принципиальный вопрос о выборе путей развития аме¬
риканского общества. В стане демократов, за исключением неболь¬
шой группы ультраконсерваторов, ушедших еще в 1934 г. в Лигу
свободы, все партийные активисты практически единодушно под¬
держали Ф. Рузвельта. Поддержали они (многие, правда, вынуж¬
денно) и ту платформу, на базе которой тот собирался вести свою
кампанию. По настоянию Рузвельта ее подготовка была доверена
комитету, которым руководил известный ньюдилер, сенатор
Р. Вагнер. Избирательная платформа демократов в 1936 г. не ос¬
тавляла сомнений, что основой партийной идеологии прочно стал
либеральный этатизм.
Республиканцы остановили свой выбор на губернаторе Канза¬
са А. Лэндоне, который шел на выборы под лозунгами категори¬
ческого неприятия «нового курса» и либерального этатизма в це¬
лом. Избирательная кампания республиканцев продемонстриро¬
вала, что их руководство абсолютно неадекватно реагировало на
огромные по исторической значимости процессы, которые разво¬
рачивались в 30-е годы в американском обществе: оно решитель¬
но вступило в принципиально новую фазу развития. Непонима¬
ние этого, стремление повернуть вспять колесо истории оберну¬
лось для республиканцев катастрофическим поражением. За
Ф. Рузвельта проголосовало более 60% избирателей, он победил в
46 (из 48) штатов, что дало ему 523 голоса в коллегии выборщи¬
ков. Лэндон собрал около 35% голосов, победив лишь в двух шта¬
тах, что дало ему только 8 голосов выборщиков. Столь же уверен¬
но чувствовали себя демократы на выборах в конгресс и на выбо¬
рах губернаторов штатов.
Подводя итоги выборов, даже консервативные обозреватели
вынуждены были признать, что «основополагающие принципы
нового курса теперь получат дальнейшее развитие, что их будут
проводить в жизнь те же люди, что и раньше, под руководством
прежнего президента».
Ньюдилеры вступили в новое четырехлетие в самом радуж¬
ном настроении: им казалось, что все препятствия на пути уг-
364
дубления реформ устранены и они могут спокойно проводить в
жизнь свои планы. Однако действительность оказалась сложнее.
Вскоре борьба сторонников и противников реформ вспыхнула с
новой силой. Ее исходной точкой стало предложение Ф. Рузвель¬
та о реформе Верховного суда (февраль 1937 г.). В ходе обсужде¬
ния этого билля коалиция, приведшая Ф. Рузвельта к власти,
дала глубокую трещину. Стержнем этого плана стала идея о рас¬
ширении состава Верховного суда. В случае одобрения его пред¬
ложений президент получил бы возможность ввести в состав выс¬
шего судебного органа, ведавшего вопросами, связанными с ин¬
терпретацией Конституции, лояльных себе людей. Это было осо¬
бенно важно в свете той позиции, которую занимал тогда этот
орган в отношении законодательной программы президента. С
января 1935 г. Верховный суд перешел в открытую оппозицию к
исполнительной власти. Раз за разом он начал объявлять некон¬
ституционными многие важнейшие законодательные акты, со¬
ставлявшие основу «нового курса», что ставило под сомнение
дальнейшие перспективы реформ. Он превратился в последний
бастион консервативных сил в политическом процессе. Очевид¬
но, что президент не мог игнорировать это обстоятельство. Обо¬
дренный результатом выборов 1936 г., он решил перейти в на¬
ступление и изменить соотношение сил в этом органе в свою
пользу. Однако события приняли неожиданный оборот.
В процессе обсуждения этого законопроекта сложилась двух¬
партийная консервативная коалиция, которая погасила чрезмер¬
ное преимущество либеральных демократов в политическом про¬
цессе. Ее усилиями предложение президента было провалено.
Правда, и Верховный суд начал менять свою позицию: он стал
склоняться к признанию конституционными тех принципов, ко¬
торые были положены в основу важнейших законодательных ак¬
тов «нового курса».
Осенью 1937 г. начался очередной экономический кризис. Он,
безусловно, не был столь глубоким, как кризис 1929-1933 гг., но
все же позволил оппонентам Ф. Рузвельта поставить под сомне¬
ние эффективность рецептов, которые тот предлагал для оздоров¬
ления страны. Кризис вызвал новый взрыв полемики о дефицит¬
ном финансировании, являвшемся стержнем всей социальной со¬
ставляющей «нового курса». Несмотря на то что обстановка скла¬
дывалась не в их пользу, ньюдилеры не собирались отказываться
от своих планов. В центре их законодательной программы на
1938 г. находились следующие предложения: билли «О справед¬
ливых условиях труда», «О федеральном финансировании жилищ¬
ного строительства для семей с низким уровнем доходов», «О ре¬
организации исполнительных органов власти» и билль Вагнера —
365
Костигана об усилении ответственности за линчевание. Однако
провести в жизнь удалось лишь закон «О справедливых условиях
труда», да добиться продолжения ассигнований на общественные
работы.
Неудачей закончилась и попытка Ф. Рузвельта осуществить
«партийную чистку»: большинство тех, от кого он собирался из¬
бавиться, были переизбраны в конгресс в ходе промежуточных
выборов 1938 г. Все это свидетельствовало о серьезных изменени¬
ях в политическом климате США. Менялась ситуация и во внеш¬
нем мире. Надвигалась угроза новой мировой войны, и хотя США
стремились не связывать себя никакими обязательствами на меж¬
дународной арене, игнорировать тревожные реалии они не могли.
А это заставляло уделять все большее внимание проблемам наци¬
ональной безопасности. Рузвельт, чутко реагировавший на коле¬
бания в состоянии общественного мнения, стал склоняться к мыс¬
ли, что в политический курс правящей партии надо вносить кор¬
рективы. Не углублять реформы, создавая все новые и новые ве¬
домства, а отрабатывать и совершенствовать деятельность уже
созданных механизмов, укреплять то правовое поле, в котором они
функционировали, — такими виделись ему задачи реформаторов
на новом этапе.
Эти идеи получили отражение в традиционном послании «О
положении в стране», обнародованном в январе 1939 г. В нем пре¬
зидент заявил: «Мы завершили период внутренних конфликтов в
осуществлении нашей программы социальных реформ. Теперь все
силы могут быть направлены на ускорение экономического вос¬
становления в целях консолидации реформ». Эта декларация от¬
нюдь не означала демонтажа той разветвленной социальной инф¬
раструктуры, которая была создана в годы «нового курса». Наобо¬
рот, новые подходы к решению всего комплекса социально-эко¬
номических проблем прочно вошли в организм американского
общества, что значительно повышало эффективность всей «аме¬
риканской системы».
§ 2. Основные направления социально-
политического развития
Великобритании
«Национальное правительство», с созданием которого офици¬
альная пропаганда связывала надежды на улучшение положения
в стране, сразу же столкнулось с целым рядом серьезных трудно¬
стей, вызванных тем, что экономический кризис набирал оборо¬
ты. Такое развитие событий ставило кабинет перед нелегким вы¬
366
бором: на чьи плечи переложить основное бремя трудностей, свя¬
занных с попытками преодолеть кризисные явления в экономике
страны. Исходя из декларированных при его создании целей пра¬
вительство должно было стремиться к консолидации нации, ук¬
реплению в обществе консенсусных тенденций, и, следовательно,
ему нужно было бы предложить стране план выхода из кризиса,
предусматривавший равномерное распределение всех финансовых
издержек между основными социальными группами английско¬
го общества.
Однако доминировавших в правительстве консерваторов та¬
кой вариант явно не устраивал. Под их давлением «национальное
правительство» взяло курс на урезание социальных расходов.
Были сокращены средства на страхование по безработице, сниже¬
на зарплата государственным служащим, прежде всего учителям.
Вновь отменили золотой стандарт, теперь уже навсегда, повыси¬
ли таможенные пошлины на ввозимые в страну товары. Не удиви¬
тельно, что эти меры вызвали рост социальной напряженности.
Уже осенью 1931 г. произошел беспрецедентный случай: в ответ
на резкое сокращение (на 1/4) зарплаты матросам ВМФ Великоб¬
ритании моряки, служившие на базе в Инвергордоне, отказались
выполнять приказы командования. На переговоры с ними прибыл
сам премьер-министр, лично убедившийся, насколько взрывоопас¬
ной стала ситуация. Чтобы сбить остроту конфликта, он обещал
пересмотреть принятое решение.
Так же как и в других западных странах, кризис привел к
появлению в Англии движений профашистского толка. Их ли¬
дер О. Мосли развил в это время чрезвычайную активность: по¬
стоянно выступал на митингах, формировал английский аналог
гитлеровских штурмовых отрядов, устраивал массовые выступ¬
ления своих сторонников. Однако в Великобритании, в отличие
от континентальной Европы, эти идеи даже в условиях кризиса
не получили массовой поддержки. Они слишком плохо коррели¬
ровали с прочно укоренившимися в массовом сознании стерео¬
типами и политическими ориентациями. Тем не менее деятель¬
ность Мосли, его экстремистские выпады в адрес властей вноси¬
ли определенную лепту в дестабилизацию внутриполитической
обстановки.
Экономический кризис способствовал разрешению старого
спора между сторонниками фритреда и протекционизма в пользу
последнего. В сложившихся условиях английская промышлен¬
ность могла выжить только с помощью введения защитных барье¬
ров. Весь рынок Британской империи был огражден от конкурен¬
ции иностранных товаров «имперскими преференциями» —пред¬
почтительными тарифами. Укрепило ее позиции и создание стер¬
367
лингового блока, позволившего заметно расширить английский
экспорт. Наконец, оживлению экономики способствовала и кре¬
дитная политика «национального правительства».
В 1934 г. страна начала выходить из кризиса. «Национальное
правительство» поспешило поставить это себе в заслугу. В отли¬
чие от США и Франции, где в середине 30-х гг. осуществлялись
крупные социальные реформы, в Англии правящая элита предпо¬
читала по возможности ничего кардинально не менять. Из круп¬
ных мер в социальной сфере в этот период можно отметить, пожа¬
луй, лишь два закона — Акт о страховании по безработице
(1934 г.), существенно упорядочивший процедуру выплаты посо¬
бий по безработице, и закон 1938 г. «О введении недельного опла¬
чиваемого отпуска». Безусловно, эти новации не идут ни в какое
сравнение с теми подвижками в социальной сфере, которые име¬
ли место в других ведущих странах Запада. Однако, с другой сто¬
роны, Англия, в отличие от них, не знала и таких масштабных
социально-политических конфликтов.
Из этого факта логично сделать два вывода. Во-первых, он
подтверждает старую, но никем не опровергнутую истину: сте¬
пень уступок со стороны властей прямо пропорциональна степе¬
ни давления на них со стороны общества. Во-вторых, подобный
ход событий свидетельствовал о том, что на Британских остро¬
вах эволюционная модель развития общества уже достаточно
прочно устоялась и именно она определяла общий вектор его дви¬
жения вперед. Благодаря ей, точнее ее способности инкорпори¬
ровать конфликт в свою структуру, в Британии он не столько
выплескивался на улицы, сколько разворачивался в рамках пар¬
ламентской борьбы.
Эта тенденция еще более усилилась после того, как в 1935 г.
правительство возглавил лидер консерваторов С. Болдуин, а с
1937 г. Н. Чемберлен. В развитии общества явно превалировали
консенсусные тенденции, и казалось, что ничто не способно вы¬
бить партийно-политическую систему Великобритании из состо¬
яния равновесия.
И тем не менее страна приближалась к одному из наиболее
суровых испытаний в своей истории. Самое парадоксальное, что
существенную лепту в его подготовку внесло само правительство
Великобритании, которое с середины 30-х годов, вопреки реаль¬
ным государственным интересам, взяло курс на «умиротворение»
Германии. Несмотря на то что содержание и последствия полити¬
ки «умиротворения» сегодня хорошо известны, споры вокруг ее
оценки в научной литературе не прекращаются. Главная пробле¬
ма, волнующая исследователей, — чем объяснить столь недаль¬
новидное поведение консервативной части английского истеблиш¬
368
мента. Традиционно политику «умиротворения» объясняли жес¬
тким антисоветизмом этих кругов, их желанием руками Гитлера
покончить с СССР: ради этого они шли на односторонние уступки
фюреру. Этот момент несомненно присутствовал — отрицать это
бессмысленно. Но возникает вопрос: неужели эти достаточно опыт¬
ные политики не понимали, что даже, если им удастся направить
агрессию Гитлера на Восток, опасность для Англии от этого не
уменьшится?
Приходится признать, что английские консерваторы явно не
адекватно оценивали сущность внешнеполитической программы
национал-социализма. Им представлялось, что в лице рейха они
имеют обычного «рационального актера» в системе международ¬
ных отношений, который ставит перед собой вполне реалистич¬
ные, разумно обоснованные цели. Уже в годы кризиса в полити¬
ческой элите Англии росло убеждение в том, что стабилизация
системы международных отношений невозможна без модерниза¬
ции устоев Версальской системы, а это предполагало восстанов¬
ление Германии в статусе великой державы. Тогда, по мысли ав¬
торов этой идеи, от нее можно было бы потребовать активизации
усилий на Востоке. В остальном же, добившись восстановления
своего статуса в иерархии европейских держав, Германия будет
вести себя как «рациональный актер» в системе международных
отношений, поведение которого вполне поддается прогнозирова¬
нию и регулированию.
Проблема, однако, заключалась в том, что гитлеровская Гер¬
мания не являлась обычным «рациональным актером», ставив¬
шим перед собой достижимые цели. Программно-целевые установ¬
ки нацистского режима предполагали борьбу за радикальную пе¬
рестройку всей сферы международных отношений, ее унифика¬
цию по образцу и подобию Третьего рейха. И это была отнюдь не
предвыборная демагогия, как полагали многие в Лондоне, а ре¬
альная цель Гитлера. В такой ситуации стабильный компромисс с
ним по существу исключался. Вот этого-то и не сумели понять твор¬
цы политики «умиротворения».
Цена «умиротворения» постоянно росла: сначала это был анг¬
ло-германский морской договор, затем политика невмешательства
в события в Испании, после этого последовало фактическое согла¬
сие на аншлюс Австрии.
Этот курс достиг кульминации в 1938 г., когда Н. Чемберлен
вместе с Э. Даладье санкционировали раздел Чехословакии. Вер¬
нувшись из Мюнхена в Лондон, британский премьер патетичес¬
ки заявил: «Я привез вам мир!» Череэ год началась Вторая миро¬
вая война, и Англии пришлось напрячь все силы в борьбе за вы¬
живание.
369
§ 3. Кризис и гибель Третьей
республики: Франция в 30-е годы
Экономический кризис, сначала разразившийся осенью
1929 г. в США, а затем захвативший другие западные страны, на¬
ползал на Францию постепенно. В развитии кризиса во Франции
было два пика: в 1932 г. и в 1935 г. В1932 г. объем промышленно¬
го производства сократился на 44% по сравнению с докризисным
уровнем. Падение производства вполне естественно сопровожда¬
лось снижением уровня жизни. Доходы рабочих сократились на
30%, служащих — на 18%. Массовым явлением стало банкрот¬
ство мелких предприятий (его объем увеличился по сравнению с
20-ми годами в 1,5 раза). Тяжело отразилось на положении сред¬
него класса банкротство ряда крупных банков.
В такой обстановке Франция подошла к очередным парламен¬
тским выборам, проходившим в мае 1932 г. В центре предвыбор¬
ной дискуссии был вопрос о том, кто виноват во все углубляющем¬
ся кризисе. Правые, прежде всего представители правительства,
убеждали французов, что в кризисе виноваты внешние деструк¬
тивные силы и их агенты внутри Франции, к числу которых они
относили коммунистов и социалистов. Эти аргументы, однако, не
имели большого успеха.
Для того чтобы противостоять натиску правых, социалисты
предложили радикалам объединить усилия на основе общей про¬
граммы из четырех пунктов: сокращение военных расходов, со¬
здание единой государственной системы социального страхования,
введение 40-часовой рабочей недели, национализация военной
промышленности, транспорта и страховых компаний. Поначалу
радикалы отказались от этого предложения. Однако после того,
как в промежутке между первым и вторым туром выборов был убит
президент Франции П. Думер и премьер А. Тардье обвинил в этом
Коминтерн, радикалы решили, что только совместно с социалис¬
тами можно остановить опасный дрейф страны вправо. Так был
воссоздан Левый блок, который и победил на выборах.
Правительство возглавил Э. Эррио. Он сразу же столкнулся с
комплексом проблем, порожденных кризисом. С каждым днем уве¬
личивался бюджетный дефицит, и правительство должно было
срочно решить, где взять деньги. Э. Эррио был против отстаивае¬
мых коммунистами и социалистами планов национализации ряда
отраслей промышленности и введения дополнительных налогов на
крупный капитал. В декабре 1932 г. палата депутатов отклонила
его предложение о продолжении выплаты военных долгов. Прави¬
тельство пало, и опять началась министерская чехарда, от которой
Франция не только все больше уставала, но и серьезно страдала.
370
Не удивительно, что во Франции, так же как и в ряде других
стран Запада, стали усиливаться позиции тех политических сил,
которые полагали, что демократические институты исчерпали свои
возможности и, как явно устаревшие, должны быть отброшены. Во
Франции эти мысли пропагандировал ряд профашистских органи¬
заций, крупнейшими из которых были «Аксьон франсез» и «Бое¬
вые кресты». Влияние этих организаций в массах быстро росло, у
них было немало приверженцев в правящей элите, в армии, поли¬
ции. По мере обострения кризиса они все громче и решительнее за¬
являли о недееспособности Третьей республики и о своей готовнос¬
ти взять власть. Ситуация накалялась все больше, требовался лишь
повод, чтобы страна оказалась на пороге социального взрыва.
Поводом для эскалации конфликта и перехода его в фазу ост¬
рейшего политического кризиса стало «дело Ставиского». А. Ста-
виский организовал выпуск облигаций ломбарда города Байонна
под залог хранившихся там драгоценностей, которые, как потом
выяснилось, были фальшивыми. В ноябре 1933 г. обман раскрыл¬
ся. Облигации на сумму в 200 млн. франков превратились в обыч¬
ную бумагу. Сам Ставиский был найден в отеле мертвым. По офи¬
циальной версии он покончил жизнь самоубийством. Но во Фран¬
ции этому никто не поверил: было ясно, что провернуть подобную
аферу без очень высоких покровителей он не мог, и во избежание
скандала его просто убрали.
Фашистские организации развернули тотальную критику и
существовавшей власти, и Третьей республики в целом. В начале
1933 г. они начали регулярно проводить в крупнейших городах
Франции массовые демонстрации под лозунгом «Долой воров!». К
концу января 1934 г. они добились отставки правительства К. Шо-
тана. Однако это привело к совсем не тем итогам, которых ожида¬
ли организаторы манифестаций: правительство возглавил нена¬
вистный правым радикал-социалист Э. Даладье. Одним из его пер¬
вых шагов стало смещение с должности префекта полиции Кьяп-
па, известного своими симпатиями к фашистам.
Терпению последних пришел конец. 6 февраля 1934 г. более
40 тыс. фашистских активистов двинулись на штурм Бурбонско-
го дворца, где заседал парламент, намереваясь разогнать его. На¬
чались столкновения с полицией, в ходе которых 17 человек было
убито и более 2 тыс. ранено. Дворец захватить они не смогли, но
неугодное им правительство пало. Даладье заменил правый ради¬
кал Г. Думерг. В состав кабинета вошли такие влиятельные в пра¬
вых кругах люди, как А. Тардье, П. Лаваль, Ф. Петен. Произош¬
ла серьезная подвижка сил в политическом спектре в пользу пра¬
вых. Над страной реально нависла угроза установления фашистс¬
кого режима.
371
Все это заставляло антифашистские силы, забыв о своих раз¬
ногласиях, бороться против фашизации страны. В период с 9 по
12 февраля по всей Франции прокатилась волна массовых анти¬
фашистских выступлений. В общей сложности в них приняло уча¬
стие около 5 млн. человек, причем это были и коммунисты, и со¬
циалисты, и беспартийные. Масштабы этой акции оказали замет¬
ное влияние на всю политическую систему Франции.
Очень большую роль в сплочении всех левых, антифашистс¬
ких сил сыграл лидер ФКП Морис Торез. Именно он убедил и сво¬
их коллег, и руководство Коминтерна в необходимости отказать¬
ся от ряда не соответствовавших реалиям текущего момента сте¬
реотипов, прежде всего снять (по крайней мере временно) с повес¬
тки дня лозунг «Вся власть Советам!». В июне 1934 г. Торез выс¬
тупил с программным заявлением, в котором обосновал новый
курс ФКП, а чуть позднее начались официальные переговоры меж¬
ду руководством ФКП и социалистической партии, завершивши¬
еся подписанием 27 июня 1934 г. Пакта о единстве действий. Его
основные положения сводились к следующему: главная задача —
защита демократических свобод и запрет фашистских организа¬
ций. Для проведения совместных выступлений создавался Коор¬
динационный комитет. В октябре 1934 г. М. Торез предложил всем
сторонникам свободы и демократии объединиться в рамках «На¬
родного фронта борьбы за хлеб, свободу и мир».
Народный фронт возник в июле 1935 г. В его состав вошли
коммунисты, социалисты, радикалы, профсоюзы и ряд антифа¬
шистских организаций французской интеллигенции. К началу
1936 г. была выработана программа Народного фронта, в подго¬
товке которой участвовало 98 организаций. Она состояла из двух
разделов: «Политические требования» и «Экономические требо¬
вания».
К числу важнейших положений первого раздела следует от¬
нести требования роспуска и разоружения фашистских организа¬
ций, соблюдение профсоюзных свобод, отмену всех законов, огра¬
ничивавших свободу печати, уважение светского характера
школьного образования, в сфере внешней политики в качестве
ключевой задачи выдвигалась проблема борьбы за создание эффек¬
тивной системы коллективной безопасности в Европе. Во втором
разделе содержался перечень первоочередных мероприятий, осу¬
ществления которых собирался добиваться Народный фронт: со¬
кращение рабочей недели при сохранении прежней заработной
платы, создание национального фонда помощи безработным, орга¬
низация для них общественных работ, запрет распродажи имуще¬
ства за долги, введение твердых цен на продукты сельского хозяй¬
ства, реформирование налоговой системы в пользу малоимущих
372
слоев населения. Наконец, предполагалось установить контроль
за экспортом капитала.
Проверкой эффективности нового объединения стали парла¬
ментские выборы, проходившие весной 1936 г. Убедительную по¬
беду на них одержали кандидаты Народного фронта: они полу¬
чили 57% всех голосов избирателей. Формирование правитель¬
ства было поручено лидеру парламентской фракции социалис¬
тов Леону Блюму. Коммунисты, памятуя о все том же «казусе Ми-
льерана», решили не входить в состав правительства, но поддер¬
живать его при условии выполнения им программы Народного
фронта.
Правительство Блюма было сформировано 4 июня 1936 г., а 7
июня в резиденции премьер-министра, в Матиньонском дворце,
под его председательством начались переговоры между предста¬
вителями профсоюзов и Всеобщей конфедерацией предпринима¬
телей. По условиям достигнутых соглашений заработная плата
повышалась в среднем на 7-15%, коллективные договоры стано¬
вились обязательными для всех предприятий, где этого требова¬
ли профсоюзы, и, наконец, правительство обязалось внести в пар¬
ламент ряд законов о социальной защите трудящихся.
Летом 1936 г. парламент с небывалой быстротой принял 133
закона, воплощавших в жизнь основные положения программы
Народного фронта. К числу важнейших следует отнести закон о
запрете деятельности фашистских лиг, а также серию социально-
экономических законодательных актов: о 40-часовой рабочей не¬
деле, об оплачиваемых отпусках, о повышении минимума зара¬
ботной платы, об организации общественных работ, об отсрочке
платежей по долговым обязательствам для мелких предпринима¬
телей и об их льготном кредитовании, о создании Национального
зернового бюро для закупки у крестьян зерна по твердым ценам.
В 1937 г. была проведена налоговая реформа и были выделены
дополнительные кредиты на развитие науки, образования, куль¬
туры. Под контроль государства был поставлен Французский банк,
создано Национальное общество железных дорог со смешанным
капиталом, в котором 51% акций принадлежал государству, и,
наконец, национализирован ряд военных заводов.
Эти мероприятия, выходившие за привычные рамки либераль¬
ного реформизма, вызвали неоднозначную реакцию и во француз¬
ском обществе в целом, и в самом Народном фронте. Социальные
мероприятия правительства значительно увеличили дефицит го¬
сударственного бюджета. Крупные предприниматели саботирова¬
ли выплату налогов, переводили капиталы за рубеж. Общая сум¬
ма капиталов, изъятых из французской экономики, составила, по
некоторым оценкам, 60 млрд, франков. Коммунисты предложи¬
373
ли ввести для покрытия дефицита чрезвычайный налог на круп¬
ные состояния. Социалисты и радикалы отклонили эту идею.
Серьезные дискуссии в обществе вызывал вопрос об отноше¬
нии к деятельности легальных фашистских организаций. По за¬
кону запрещались только военизированные, но не политические
организации фашистского толка. Сторонники фашистской идеи
этим немедленно воспользовались. «Боевые кресты» переимено¬
вались во Французскую социальную партию, «Патриотическая
молодежь» стала называться Республиканской национальной и
социальной партией и т.д. Используя демократические свободы,
профашистская пресса развернула кампанию травли министра
внутренних дел социалиста Салангро, которого довели до само¬
убийства. Единой точки зрения, как относиться к деятельности
ультраправых, организациям, входившим в Народный фронт,
выработать не удалось. Трения между ними увеличивала и про¬
блема отношения Франции к гражданской войне в Испании. Ком¬
мунисты резко возражали против политики «невмешательства»,
которую проводило в этом вопросе правительство Л. Блюма.
Разногласия вырвались наружу в феврале 1937 г., когда
Л. Блюм, ссылаясь на тяжелые финансовые условия, объявил «пе¬
редышку» в осуществлении программы Народного фронта. Это
обострило противоречия внутри Народного фронта, ибо коммуни¬
сты были категорически не согласны с этим решением, а радика¬
лы, наоборот, упрекали Л. Блюма за то, что он пошел на это слиш¬
ком поздно. Летом 1937 г. премьер представил в парламент «план
оздоровления финансов», предусматривавший увеличение косвен¬
ных налогов, налогов на доходы корпораций и введение правитель¬
ственного контроля за валютными операциями за рубежом. Пос¬
ле того как сенат отверг этот план, Блюм принял решение об от¬
ставке. Народный фронт вступил в полосу кризиса.
Премьер-министром стал правый радикал К. Шотан. Он про¬
должил «передышку» в осуществлении социальных реформ, про¬
вел девальвацию франка, что больно ударило по благосостоянию
большинства французов, повысил налоги. Осенью 1937 г. был рас¬
крыт заговор кагуляров — тайной фашистской организации, го¬
товившей государственный переворот. Обстановка в стране стано¬
вилась все более напряженной, обострялась политическая борь¬
ба, росла нестабильность. В марте 1938 г. правительство Шотана
сложило свои полномочия. Его сменило правительство Л. Блюма,
но оно просуществовало всего 26 дней. Формально соглашение о
сотрудничестве в рамках Народного фронта еще сохраняло силу,
но фактически его участники действовали каждый по собственно¬
му усмотрению. Правительство Блюма было последним, опирав¬
шимся на Народный фронт.
374
В апреле 1938 г. премьер-министром стал Э. Даладье. Помимо
радикалов в кабинет впервые после 1936 г. вошли представители
правой партии — Демократического альянса. Уже первые шаги
нового правительства показали, что оно все дальше и все быстрее и
решительнее отходит от той программы, которая была намечена
Народным фронтом в момент его создания. Вновь были увеличены
налоги, проведена новая девальвация франка, ужесточилось отно¬
шение к забастовкам. Были амнистированы участники заговора
кагуляров. К осени 1938 г. Народный фронт окончательно распал¬
ся. После этого правые еще больше активизировались.
Их пропагандистские усилия приносили плоды. Прежде все¬
го заметно изменилась ориентация городских средних слоев и сель¬
ского населения. Правым удалось утвердить в общественном со¬
знании мысль о том, что ухудшение ситуации напрямую связано
с «безответственными социальными экспериментами» Народно¬
го фронта. Используя известные события в СССР, связанные с реп¬
рессиями 1937-1938 гг., правые развернули массированную ан¬
тикоммунистическую пропаганду, утверждая, что Народный
фронт вел подготовку к «большевизации» Франции. Только рез¬
кий поворот вправо, переориентация на Германию может спасти
страну от этого, утверждали правые. Лидер правых П. Лаваль за¬
явил: «Лучше Гитлер, чем Народный фронт!». Этот лозунг приня¬
ла на вооружение в 1938 г. большая часть политического истеб¬
лишмента Третьей республики. В итоге это ее и погубило.
Осенью 1938 г. правительство Э. Даладье вместе с Великобри¬
танией санкционировало Мюнхенский сговор, отдававший Чехос¬
ловакию на растерзание нацистской Германии. Антикоммунисти¬
ческие настроения перевесили в глазах значительной части фран¬
цузского общества даже традиционный страх перед Германией. По
существу же Мюнхенский сговор открыл дорогу к развязыванию
новой мировой войны. Одной из первых жертв этой войны стала
сама Третья республика. 14 июня 1940 г. немецкие войска всту¬
пили в Париж, но сегодня можно смело утверждать: путь немец¬
кой армии в Париж начался в Мюнхене. Третья республика зап¬
латила страшную цену за близорукую политику своих лидеров.
§ 4. Установление фашистской
диктатуры в Германии
и консолидация Третьего рейха
Германия относилась к числу стран, на которые кризис ока¬
зал самое разрушительное воздействие. Это и понятно. И без того
еще не полностью оправившаяся от последствий войны и револю-
375
ционных потрясений 1918-1923 гг., отягощенная грузом репара-
ций, немецкая экономика не имела серьезных резервов для сопро¬
тивления напору мощнейшего кризиса. Масштабы его действи¬
тельно были огромны. В стране насчитывалось 7,5 млн. безработ¬
ных, и лишь 15-20% из них получали пособия по безработице.
Катастрофически упала заработная плата тех, кто сохранил рабо¬
ту. Обанкротилось более 30 тыс. мелких и средних предприятий.
Серьезно пострадали даже крупные корпорации. Например, в
1932 г. такой гигант, как фирма Крупп, закончила год, не имея
прибылей, — уникальная ситуация.
Когда разразился кризис, у власти находилось правительство
«большой коалиции» во главе с лидером СДПГ Г. Мюллером. Одна¬
ко «большая коалиция» могла эффективно функционировать толь¬
ко в условиях стабильности. Кризис вызвал серьезные противоре¬
чия между участниками коалиции относительно того, какими ме¬
тодами бороться с ним. Это привело к тому, что в марте 1930 г. коа¬
лиция распалась и правительство ушло в отставку. Новое прави¬
тельство возгласил Г. Брюнинг. Его кабинет не имел большинства
в рейхстаге и существовал лишь «доверием президента», т.е. осу¬
ществлял оперативное управление государством с помощью чрез¬
вычайных декретов. Законодательные функции парламента были
сведены почти на нет. С этого момента и вплоть до прихода Гитлера
к власти немецкое общество неуклонно дрейфовало вправо.
Правительство Брюнинга стремилось переложить последствия
кризиса на плечи рядовых немцев. Принятая летом 1930 г. чрез¬
вычайная программа борьбы с кризисом предусматривала значи¬
тельное сокращение пособий по безработице, снижение зарплаты
работникам бюджетной сферы, увеличение налогов на физичес¬
ких лиц. Естественно, это не способствовало росту популярности
правительства, но, самое главное, это вело к дискредитации де¬
мократических институтов в глазах избирателей. Это подтверди¬
ли проходившие в сентябре 1930 г. выборы в рейхстаг, принесшие
неожиданно крупный успех партии, находившейся до этого на пе¬
риферии политического процесса. Речь идет о национал-социали¬
стической немецкой рабочей партии (НСДАП), или нацистской
партии. Она возникла еще в 1919 г. У истоков ее стояли А. Гит¬
лер, Р. Гесс, Г. Штрассер и др. Однако ее влияние вплоть до опи¬
сываемых событий было незначительным. В1927 г. ее численность
составляла всего 40 тыс. чел. А на выборах 1930 г. за нее проголо¬
совало уже 6,5 млн. немцев, и она стала второй по численности
партией в рейхстаге. Что же позволило нацистам совершить та¬
кой рывок?
Национал-социалисты были в полном смысле слова «буржу¬
азной партией нового типа». Жестко централизованная, со стро¬
376
гой внутрипартийной дисциплиной, построенная по принципу
вождизма (фюрерства), эта организация превратилась в мощную
мобильную силу, способную, как таран, сокрушать своих против¬
ников. Однако успех нацистов объяснялся не только и не столько
особенностями оргструктуры их партии. Гитлер предложил нем¬
цам собственную программу развития общества, у которой, с од¬
ной стороны, не было аналогов, а с другой — в ней находились
мотивы, привлекательные для самых различных социальных
групп.
В центре мировоззрения нацистов было несколько идей. Они
исходили из того, что мир разделен не по классовому признаку,
как утверждали последователи Маркса, а по национальному. На¬
ция является той основной единицей, из совокупности которых
формируется мировое сообщество. Нации не равноценны: есть
высшие, а есть и низшие. Немцы, естественно, относятся к числу
высших, у них была, по мнению будущего фюрера немецкого на¬
рода, особая историческая миссия — стать главной движущей си¬
лой создания «нового мирового порядка».
Для реализации этой установки необходимо было пересмот¬
реть итоги войны, уничтожить Версальскую систему. Это могла
сделать только сильная, монолитная Германия, направляемая к
«великим свершениям» волей фюрера. Отсюда идея «тотального
государства», контролирующего и регулирующего все сферы
Жизни: экономику, политику, идеологию, культуру, мораль и
т.д. Только так можно преодолеть раскол общества, мобилизо¬
вать все его ресурсы на выполнение «исторической миссии», ко¬
торая возложена на немцев. Эти общие идеи конкретизировались
применительно к запросам каждой социальной группы немецко¬
го общества, и в целом получалась привлекательная для самых
широких слоев населения, измученного кризисом, политическая
платформа.
В правящей элите Германии, поначалу настороженно отнес¬
шейся к нацистам, постепенно начинается поворот в настроениях
в сторону поддержки этой партии, как единственной силы, спо¬
собной предотвратить революцию, экономический крах и обеспе¬
чить возрождение «великой Германии». Важной вехой в этом про¬
цессе стало создание в октябре 1931 г. «Гарцбургского фронта»,
когда на встрече националистически настроенных представителей
финансово-промышленных кругов было признано, что национал-
социалисты — самая перспективная партия, с точки зрения этих
сил. Следствием этого стало усиление финансовой и иной поддер¬
жки этой партии.
В апреле 1932 г. проходили выборы рейхспрезидента. Хотя на
них победил П. Гиндецбург, А. Гитлер отстал от него не намного —
377
13,5 млн. немцев отдали ему свои голоса. Вскоре после выборов
пало правительство Г. Брюнинга. Его сменил О. фон Папен, каби¬
нет которого опять-таки не имел серьезной поддержки в рейхста¬
ге. Дрейф вправо продолжался. Эту тенденцию закрепили итоги
парламентских выборов, проходивших в июле 1932 г., когда за
национал-социалистов проголосовало почти 14 млн. и они смогли
сформировать самую крупную парламентскую фракцию в рейх¬
стаге. Выборы продемонстрировали, что нацисты поглотили по¬
чти весь электорат буржуазных партий, которые переживали в это
время глубочайший кризис. Из серьезных оппонентов национал-
социалистам остались лишь две партии — СДПГ и КПГ.
Если бы они объединили свои усилия в борьбе с правой опас¬
ностью, то у них был бы шанс остановить марш нацистов к влас¬
ти. Однако этого не произошло. Взаимная неприязнь социал-де¬
мократов и коммунистов помешала им организовать совместные
действия по отпору нацистам. В историографии не прекращался
спор о том, кто из них несет большую ответственность за то, что в
Германии не удалось создать единый антифашистский фронт. Сей¬
час можно смело утверждать: СДПГ и КПГ несут за это равную
ответственность. Вскоре и тем, и другим пришлось заплатить вы¬
сокую цену за свой догматизм и идеологическую зашоренность.
Пока СДПГ и КПГ занимались взаимными обвинениями, на¬
цисты активно рвались к власти. Общая обстановка благоприят¬
ствовала их планам. Кабинет фон Палена не имел опоры ни в рей¬
хстаге, ни в обществе, слабо контролировал ситуацию. В итоге,
просуществовав немногим более месяца и получив вотум недове¬
рия в рейхстаге, он пал. Вслед за этим был распущен парламент и
назначены внеочередные выборы, которые проходили в начале
ноября 1932 г. Они не дали решающего перевеса ни одной из
партий. Такая нестабильная ситуация не могла долго продолжать¬
ся. Веймарская республика была больше не нужна правящей эли¬
те страны. В этой среде интенсивно обсуждались планы передачи
всех рычагов управления страной Гитлеру.
Решающий шаг в этом направлении был сделан 30 января
1933 г., когда президент П. Гинденбург назначил Гитлера рейхс¬
канцлером. Тот сразу же приступил к тотальной перестройке по¬
литической системы Германии, а затем и других сфер жизни не¬
мецкого общества. Первое правительство, возглавляемое Гитле¬
ром, было еще не чисто нацистским, а коалиционным: в нем было
всего 4 представителя национал-социалистической партии, осталь¬
ные 11 хотя и были весьма правыми деятелями, но не входили в
эту партию. Гитлер убедил Гинденбурга распустить рейхстаг, т.к.
его состав, по его утверждениям, не отражал реального положе¬
ния в стране. На 5 марта 1933 г. были назначены новые выборы.
378
Предвыборная кампания проходила в обстановке жесточайшего
прессинга против всех оппонентов нацистов. Специальным ука¬
зом были запрещены все «антиправительственные демонстрации
и митинги». Отрядам СС и СА (штурмовикам) быди даны функ¬
ции вспомогательной полиции.
Однако полной уверенности в решающем успехе на выборах у
руководства национал-социалистов не было. Тогда они пошли на
откровенную провокацию, организовав 27 февраля 1933 г. поджог
здания рейхстага. Нацистская пропаганда обвинила в этом ком¬
мунистов, которые якобы готовили государственный переворот.
На них был обрушен град репрессий. В такой обстановке прошли
выборы. 2/3 от общего числа мандатов, необходимых, чтобы по¬
лучить от парламента чрезвычайные полномочия, нацисты не за¬
воевали. За них проголосовало 17 млн. человек, но это дало им
лишь 43,9% депутатских мест. Тогда Гитлер поставил вопрос о
лишении депутатов-коммунистов их мандатов (81 депутат). Они
были переданы национал-социалистам, которые, таким образом,
стали доминировать в рейхстаге.
24 марта 1933 г. рейхстаг наделил Гитлера чрезвычайными
полномочиями. Правительство было выведено из-под контроля
парламента, оно могло издавать любые законы, в том числе и из¬
менять Конституцию. К лету 1933 г. были распущены или само¬
ликвидировались все нефашистские организации и политические
партии. Под контроль государства была поставлена пресса. Орга¬
ны нацистской партии стали выполнять государственные функ¬
ции, а сама партия была объявлена «носительницей немецкой го¬
сударственной мысли». Наконец, после смерти Гинденбурга 2 ав¬
густа 1934 г. Гитлер стал одновременно выполнять обязанности
рейхспрезидента и рейхсканцлера, а чуть позднее был провозгла¬
шен пожизненным канцлером и фюрером немецкого народа. В
Германии сложилось новое государство — тотально контролируе¬
мый нацистами Третий рейх.
Параллельно с перестройкой политической системы шла мо¬
дификация всей сферы социально-экономических отношений. И
здесь государство взяло на себя контролирующие и регулирующие
функции: в 1933-1935 гг. была создана всеобъемлющая система
государственного регулирования этой сферы.
Летом 1933 г. был образован Генеральный Совет немецкого
хозяйства, который определял основные параметры экономичес¬
кой политики. Его рекомендации имели силу закона. В феврале
1934 г. была учреждена Органйзация промыслового хозяйства,
объединявшая предприятия и предпринимателей по отраслям.
Создавалось 7 групп, руководство которых контролировало и ре¬
гулировало все стороны развития своей отрасли.
379
На основании законов, принятых в сентябре 1933 г., был карди¬
нально реорганизован аграрный сектор. Все организации, действо¬
вавшие в сельском хозяйстве, объединились в Имперское продоволь¬
ственное управление во главе с министром продовольствия и земле¬
делия, осуществлявшее всесторонний контроль аграрного сектора
экономики. Все сельское население в соответствии с законом о на¬
следственных дворах (сентябрь 1933 г.) делилось на крестьян и сель¬
ских хозяев. В первую категорию включались лица арийского про¬
исхождения, владевшие земельной собственностью площадью не
менее 7,5 га. Они объявлялись владельцами «наследственных дво¬
ров», которые в дальнейшем не подлежали разделу или продаже за
долги и передавались по наследству лишь старшему сыну. Таким
образом, на селе возникала своего рода привилегированная прослой¬
ка собственников (примерно 21% всех сельхозпредприятий), при¬
званная стать социальной опорой нацистов. Все остальные жители
деревни объявлялись сельскими хозяевами, деятельность которых
подлежала жесткой государственной регламентации.
В стране была введена всеобщая трудовая повинность, и в ко¬
роткий срок удалось ликвидировать безработицу. Наконец, в
1936 г. был принят четырехлетний план, по которому в Германии
должен был быть построен экономический фундамент, опираясь
на который рейх рассчитывал вступить в решающую схватку за
установление «нового мирового порядка». Генеральным уполно¬
моченным, курировавшим его выполнение, был назначен второй
человек в рейхе — Герман Геринг.
Экономика Германии действительно не только вышла из кри¬
зиса, но и развивалась благодаря государственному патернализ¬
му быстрыми темпами. Правда, не во всех отраслях прогресс был
одинаковым. Лидировала тяжелая индустрия и военная промыш¬
ленность. Тем не менее позитивные сдвиги в сфере экономики были
очевидны, и это не могло не сказаться на социальной обстановке.
Вместо профсоюзов был создан подконтрольный нацистской
партии Немецкий трудовой фронт, который должен был проводить
в жизнь идею социального партнерства рабочих и работодателей.
Действительно, Третий рейх по существу не знал открытых конф¬
ликтов в сфере трудовых отношений. При нацистах заметно рас¬
ширились социальные функции государства. В обмен на полити¬
ческую лояльность оно готово было идти на многие неординарные
шаги (строительство домов отдыха, поощрение народного туриз¬
ма, помощь молодым семьям и т.д.). В результате уровень и каче¬
ство жизни большей части населения заметно улучшился, и в их
сознании это ассоциировалось с политикой национал-социалистов,
прежде всего «гениального фюрера», авторитет которого в то вре¬
мя в немецком обществе был очень высок.
380
Не удивительно, что за короткую историю Третьего рейха в его
внутриполитической жизни практически не отмечены какие-то
серьезные всплески оппозиционных настроений. Исключения со¬
ставляли события, связанные с ликвидацией внутрипартийной
оппозиции, во главе которой стоял руководитель штурмовых от¬
рядов (СА) Э. Рем. В борьбе за лидерство в партии он попытался
использовать недовольство многих штурмовиков тем, что, по их
мнению, «национальная революция», сокрушив еврейский капи¬
тал, не затронула основ экономического могущества крупного ка¬
питала в целом.
Поскольку фюрером может быть только один человек, столк¬
новение между А. Гитлером и Э. Ремом стало неизбежным. Конф¬
ликт назревал постепенно и вырвался наружу в ходе событий, во¬
шедших в историю под названием «ночь длинных ножей», когда
30 июня 1934 г. были уничтожены руководители отрядов СА и так
называемого левого крыла партии. Что касается реальной оппо¬
зиции (КПГ, СДПГ, либералы), то она была загнана в глубочай¬
шее подполье, отрезана от масс и не оказывала на политическую
жизнь рейха сколько-нибудь серьезного влияния. Конечно, в том,
что Третий рейх не знал внутриполитической борьбы в привыч¬
ном для западной цивилизации смысле, огромную роль играла
специфика его политической системы и наличие мощнейшего реп¬
рессивного аппарата. Однако было бы неверно недооценивать зна¬
чение успехов внутри страны, которые мог записать в свой актив
в 30-е годы Гитлер. Его престиж укрепляла и успешная внешняя
политика, позволявшая нацистской пропаганде утверждать, что
Гитлер восстанавливает попранное достоинство немцев и уверен¬
но ведет страну к вершинам процветания и могущества.
Уже в 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций, продемонст¬
рировав этим шагом, что не считает себя связанной условиями
мирного урегулирования. В 1935 г. она без особых проблем уста¬
новила контроль над Саарской областью. В том же году, вопреки
условиям мирного договора, в стране была введена всеобщая во¬
инская повинность. Германия начала форсированными темпами
создавать военную авиацию и военно-морские силы. Используя
противоречия в стане великих держав, искусно играя на антисо¬
ветских настроениях, широко распространенных на Западе, Гит¬
лер уверенно шел к поставленной цели.
Цель эта была предельно откровенно сформулирована в его
книге «Майн кампф» — мировое господство; До поры до времени
на этом пути Гитлеру сопутствовал успех, и у немцев с каждым
днем крепло убеждение, что они действительно избранная нация
и, ведомые фюрером, они уже в ближайшем будущем утвердят в
мире «новый порядок». Какую цену придется за это заплатить ос-
381
тальному миру, да и самим немцам, тогда в Германии почти нико¬
го не волновало. В Третьем рейхе все откровеннее готовились к
новой мировой войне.
§ 5. Итальянский фашизм:
от консолидации к кризису
Экономический кризис заставил Б. Муссолини серьезно заду¬
маться над перспективами своего режима. Реальная жизнь оказа¬
лась много сложнее, чем она рисовалась в речах дуче. Фашистс¬
кая Италия, несмотря на все попытки ее руководства, так и не
смогла стать обществом, которому удалось добиться устойчивого
экономического роста и гармонизации социальных отношений.
Как известно, важную роль в росте популярности фашистских
идей сыграли обещания Муссолини добиться возрождения вели¬
чия Италии — наследницы могущественной Римской империи. По
мере обострения экономических трудностей он все чаще стал рас¬
сматривать внешнюю экспансию как некую панацею, способную
вывести страну из непростой ситуации, в которой она оказалась в
начале 30-х годов.
Поэтому параллельно с решением задач по унификации поли¬
тической системы и формированию корпоративного государства
Муссолини стремился создать свою империю. В сферу итальянс¬
ких интересов, по его мнению, попадали Балканы, все Средизем¬
номорье, северо-восточная Африка. Он по-прежнему любил повто¬
рять, что видит свою миссию в возрождении мощи и величия Рим¬
ской империи.
Решение этих амбициозных задач требовало укрепления во¬
енно-промышленного комплекса Италии. Необходимо было так¬
же ликвидировать зависимость ее экономики от импорта целого
ряда важных в стратегическом отношении товаров. В1934 г. была
введена государственная монополия внешней торговли, чуть по¬
зднее установлен госконтроль над аграрным рынком. В1936 г. был
национализирован Итальянский банк. Отныне через него фашис¬
тское государство стало контролировать всю кредитно-денежную
систему страны. Экономика была переведена на работу в режиме
автаркии, т.е. самообеспечения продовольствием и стратегичес¬
ки важными видами сырья, без которых не могла функциониро¬
вать военная промышленность. Все эти меры способствовали быс¬
трому экономическому росту страны, правда, одновременно и уси¬
лению разбалансированности экономики, ибо государство стиму¬
лировало и поддерживало в первую очередь те отрасли и предпри¬
ятия, которые были необходимы для укрепления военного потен¬
382
циала. Например, в то время как объем продукции энергетичес¬
кой промышленности в 30-е гг. вырос на 63%, производство тек¬
стильной промышленности упало на 18%.
Несмотря на все усилия фашистского режима, достигнуть пол¬
ной экономической автаркии ему не удалось. По масштабам эко¬
номической мощи Италия по-прежнему уступала своим основным
конкурентам на международной арене, и в силу этого ее амбици¬
озные внешнеполитические планы повисали в воздухе. Это нагляд¬
но продемонстрировала агрессия против Эфиопии в 1935 г. Война
даже с таким предельно слабым в военном и экономическом отно¬
шении государством оказалась очень серьезным испытанием для
итальянской экономики.
Война, отчетливо выявившая ограниченность возможностей
итальянского народного хозяйства, еще больше стимулировала
дальнейшее усиление регулирующих функций государства. В аг¬
рарной сфере в это время была введена жесткая система обязатель¬
ных поставок основных видов сельскохозяйственных продуктов.
Они должны были продаваться только государственным загото¬
вительным органам по установленной ими же цене. Была создана
Верховная комиссия по вопросам автаркии (ее возглавил сам дуче),
которая должна была координировать взаимодействие корпора¬
ций, выявлять узкие места в итальянской экономике и предлагать
рецепты их устранения. Так, в качестве цели первостепенной го¬
сударственной важности была поставлена задача создания синте¬
тического топлива. Естественно, львиную долю этих финансовых
инъекций получили крупные компании. За период с 1935 по
1939 гг., т.е. от начала войны против Эфиопии до начала Второй
мировой войны, прибыли 16 ведущих итальянских трестов вырос¬
ли на 78%.
Несмотря на то что переход к автаркии позволил Италии ре¬
шить ряд стратегических экономических задач (из аграрно-инду¬
стриальной страны она превратилась в индустриально-аграрную),
она так и не достигла уровня наиболее промышленно развитых
государств. Особенно сильным было отставание Италии от таких
стран, как США и Германия. Италия так и не сумела превратить¬
ся в государство с полностью самообеспечиваемой экономикой, а
без этого ее амбициозные внутри- и внешнеполитические планы
грозили повиснуть в воздухе.
Понимая это, Б. Муссолини пытался во второй половине
30-х гг. решить две задачи. Во-первых, он стремился еще больше
укрепить монопольное положение фашистской партии в полити¬
ческой системе страны, ликвидировать рудименты дофашистской
модели политической организации общества. В 1939 г. была окон¬
чательно упразднена влачившая и без того жалкое существование
383
выборная верхняя палата парламента. Вместо нее учреждалась
Палата фаши и корпораций, куда входили назначаемые члены
Национального совета фашистской партии и Национального со¬
вета корпораций. Сама партия фактически полностью слилась с
государством. Под ее полным контролем оказались профсоюзы. В
1937 г. было создано молодежное объединение «Итальянская лик-
торская молодежь», которым руководил высокопоставленный
чиновник из высшего эшелона фашистской партии. Оно охваты¬
вало своим влиянием большую часть подрастающего поколения.
Деятельность прессы курировало министерство по делам печати и
пропаганды, которое, в свою очередь, находилось под полным кон¬
тролем фашистской партии.
Во-вторых, после захвата Эфиопии Муссолини провозгласил
Италию империей. Однако ход войны на африканском континен¬
те показал, что одна, без помощи более мощного союзника, Ита¬
лия не способна бороться за собственное величие. Отсюда и сбли¬
жение во второй половине 30-х гг. с Германией, вместе с которой
Муссолини готовился к решающему этапу борьбы за установле¬
ние в мире «нового порядка».
Однако альянс с Германией, как вскоре стало ясно, оказался
объединением отнюдь не равноправных партнеров. Это отчетливо
продемонстрировали события в Испании, когда плодами победы в
гражданской войне, проходившей в этой стране, в гораздо боль¬
шей мере воспользовалась Германия, и в ходе аншлюса Австрии,
когда Италия полностью отказалась от всех претензий на влия¬
ние в этом регионе, и в ее постепенном вытеснении с Балкан уси¬
лиями старшего партнера по альянсу. Очевидно, такая внешняя
политика не прибавляла престижа новоявленной империи.
К концу 30-х гг. разрыв междУ декларациями и реальными
делами Муссолини становился все ощутимее. В отличие от Гитле¬
ра, к началу Второй мировой войны дуче так и не сумел воплотить
в жизнь многие основополагающие идеи из арсенала своей партии.
Не удивительно, что среди рядовых итальянцев подспудно нача¬
ло накапливаться все большее разочарование деятельностью но¬
воявленного спасителя нации. В монолитном единстве нации, к
которому по-прежнему призывал итальянцев диктатор, стали воз¬
никать все более серьезные трещины.
ГЛАВА IV
Латинская Америка в межвоенный
период
§ 1. Олигархия против революционного
радикализма: основные тенденции
социально-политического развития
региона в 20-е годы
Латинская Америка находилась вдали от основных центров
социально-политических конфликтов, которые определяли общую
динамику развития западной цивилизации. Однако их влияние
оказало воздействие и на жизнь этого региона, все глубже интегри¬
ровавшегося в общий мировой контекст. После первых очень бур¬
ных послевоенных лет ситуация, как и везде, постепенно стабили¬
зировалась и вскоре вошла в нормальную колею. Этому во многом
способствовала благоприятная конъюнктура мировых цен на те
виды сырья, которые традиционно экспортировались на мировой
рынок странами региона. Важно отметить, что начавшийся в сере¬
дине 20-х гг. экономический подъем происходил по-прежнему пре¬
имущественно на основе экстенсивных факторов. Как и раньше,
характерными чертами экономики большинства стран данного ре¬
гиона оставались господство латифундизма в сельском хозяйстве и
зависимость от иностранного капитала. К1929 г. общая сумма ино¬
странных капиталовложений в экономику стран Латинской Аме¬
рики возросла в 1,5 раза по сравнению с довоенным уровнем и со¬
ставила 15 млрд. долл. Особенно прочными позициями в регионе
обладали английский и американский капитал.
Наряду с общими чертами, присущими развитию практичес¬
ки всех стран региона, имелись и существенные различия, особен¬
но в политической жизни. Можно выделить три основных типа
385
политических систем, господствовавших в то время в Латинской
Америке: страны, где у власти находились различные модифика¬
ции олигархических режимов (Бразилия, Колумбия, Венесуэла,
страны Центральной Америки); явным антиподом им выступала
Мексика с ее режимом «революционного каудилизма»; наконец,
в Аргентине, Уругвае продолжали действовать либерально-рефор¬
мистские правительства. Пожалуй, самыми типичными для это¬
го отрезка латиноамериканской истории были олигархические
режимы, классический пример их являла Бразилия. Олигархи¬
ческий режим утвердился в этой стране еще в конце XIX в. При
наличии формальных атрибутов представительной демократии,,
2/3 взрослых жителей страны были полностью отстранены от уча¬
стия в политической жизни. Что касается реальнрго контроля над
властными структурами, то его сосредоточила в своих руках уз¬
кая группа т. н. «кофейной олигархии» — крупнейших произво¬
дителей главной экспортной культуры страны.
Безусловно, архаичность этого режима с каждым днем стано¬
вилась все очевиднее. В то время как во всем мире, в том числе и в
ряде ведущих стран региона, набирали размах тенденции к пусть
во многом формальной, но все же демократизации, либеральная
элита чувствовала себя политически ущербной, лишенной возмож¬
ности влиять на решение ключевых вопросов развития страны.
Ясно, что при такой узкой социальной опоре правящий олигархи¬
ческий режим не мог сохранять на длительном историчеснрм от¬
резке политическую стабильность.
Несмотря на непростые условия, в Бразилии в 20-е гг. наблю¬
дался рост оппозиционных настроений. Однако либеральной оп¬
позиции, опиравшейся на городские средние слои, интеллиген¬
цию, часть не связанной с олигархическими кланами буржуазии,
явно не хватало политической воли для реальной борьбы за власть,
а весьма радикально настроенному крестьянству недоставало орга¬
низованности и наличия четкой программы действий. В итоге
главной действующей силой сопротивления олигархии стало дви¬
жение молодых офицеров, получившее название «тенентистов» (от
слова «тененте» — лейтенант). Как и положено военным, упор
делался на силовые действия, имевшие целью свержение суще¬
ствовавшей власти и замену ее демократической формой правле¬
ния. 5 июля 1922 г. военные на свой страх и риск подняли восста;
ние в Рио-де-Жанейро. Однако отсутствие должной подготовки
привело к тому, что это событие не получило широкого резонанса
в стране, оказалось изолированным и потому было легко подавле¬
но властями.
Тем не менее это выступление продемонстрировало, что суще¬
ствующий режим дал серьезную трещину, и поскольку власти не
386
удосужились внести хоть какие-то коррективы в прежнюю линию
политического поведения, проблема модернизации обострялась
все больше. После первой неудачи тенентисты не отказались от
своих замыслов и перешли к созданию сети тайных организаций
в армии. Ровно через два года после первого выступления они орга¬
низовали восстание в Сан-Паулу. На сей раз им удалось взять го¬
род под свой контроль. Однако руководство восставшими не ре¬
шилось вовлечь в борьбу население и тем самым утратило иници¬
ативу. Пока оно размышляло, что делать дальше, власти с помо¬
щью оставшихся им верными частей смогли блокировать город.
Повстанцы с тяжелыми боями отошли в глубь страны.
Осенью 1924 г. тенентисты подняли восстание в ряде неболь¬
ших городов на юге Бразилии. Создав небольшую (около 4 тыс. чел.),
но маневренную повстанческую армию, тенентисты во главе с ка¬
питаном Луисом Карлосом Престесом начали рейд по внутренним
областям страны. Борьба правительственных войск с «непобедимой
колонной» (так окрестили в Бразилии армию повстанцев) продол¬
жалась более двух лет. Власти так и не смогли нанести восставшим
решающее поражение, а те, в свою очередь, не нашли способа рас¬
ширить свое влияние в массах, которые так и остались пассивны¬
ми наблюдателями разворачивавшихся событий. В итоге в феврале
1927 г. тенентисты вынуждены были покинуть Бразилию. Их со¬
единение ушло в Боливию, где и было интернировано.
Хотя в 20-е гг. оппозиция в Бразилии не сумела добиться от¬
странения олигархических кланов от власти и даже не добилась
от них видимых уступок, открытый вызов существовавшему ре¬
жиму был брошен, и это свидетельствовало о том, что крупней¬
шая страна региона находится на перепутье. Выбор, стоявший
перед Бразилией, можно сформулировать так: сохранение господ¬
ства традиционной элиты или полная или частичная модерниза¬
ция существующей политической системы.
Вызов олигархическому режиму был брошен и в небольшой
стране, расположенной в самом сердце Центральной Америки, —
в Никарагуа. Там в 1926 г. вспыхнуло восстание против правитель¬
ства консерваторов, выражавшего интересы местной помещичь¬
ей олигархии. Поскольку Никарагуа являлась классической «ба¬
нановой республикой», любые коллизии там вызывали самое при¬
стальное внимание в Вашингтоне и на Уолл-стрит, рассматривав¬
ших эти страны как свою вотчину. В американском истеблишмен¬
те сочли, что события в Никарагуа представляют угрозу государ¬
ственным интересам США. Реакция была незамедлительной и
простой: американская морская пехота оккупировала суверенную
страну. В этой ситуации большинство лидеров оппозиции прекра¬
тило борьбу.
387
Исключение составил С. Сандино, перешедший вместе со сво¬
ими сторонниками к партизанской борьбе. Конечно, сандинистам
недоставало сил для того, чтобы решить главную задачу дня —
изгнать из страны американцев и перевести борьбу в чисто соци¬
альную плоскость, ибо именно демократическая Америка встала
на защиту олигархического режима. Однако и здесь был брошен
вызов явно устаревшим социально-политическим институтам. То
обстоятельство, что на сей раз ареной противоборства стала одна
из самых отсталых стран региона, только подчеркивало, что про¬
блема модернизации вполне назрела. Вопрос заключался в том,
каким будет определяющий вектор этого процесса.
Дело в том, что и тенентисты, и сандинисты только поставили
в общем виде данную проблему, но в 20-е гг. так и не сумели сфор¬
мулировать развернутую социально-политическую альтернативу
олигархическим режимам. Однако в Латинской Америке в это
время уже была страна, которая развивалась по принципиально
иному сценарию, чем олигархические режимы. Речь идет о Мека
сике, где еще в 1917 г. завершилась крупная революция, суще¬
ственно изменившая весь облик страны и направление ее дальней¬
шего развития.
На роль нового, постреволюционного лидера быстро выдвинул¬
ся генерал Альваро Обрегон, которого поддерживали офицерский
корпус, большая часть промышленной буржуазии, Мексиканская
региональная рабочая конференция (КРОМ). После свержения
летом 1920 г. правительства В. Каррансы, в ноябре того же года в
Мексике были проведены президентские выборы, на которых одер¬
жал победу Обрегон. При нем в Мексике как раз и начала форми¬
роваться альтернативная концепция развития. В стране устано¬
вилась весьма своеобразная форма правления, вошедшая в исто¬
рию под названием «революционного каудилизма» — явления
крайне сложного и противоречивого.
А. Обрегон чутко уловил, что после сильнейших революцион¬
ных потрясений Мексика нуждается в стабильности. Отсюда иМ
выводилась идея необходимости укрепления в масштабах всей
страны « надклассового единства». Сделать это мог, по его мнению;
только вождь (каудильо), вокруг которого нация сплотится ради
достижения национально значимых целей. Формально при Обре-
гоне сохранялись основные политические институты, которые
предусматривались в Конституции. Однако в реальной жизни ре¬
шающую роль в общественно-политической жизни страны игра¬
ла президентская власть.
Деятельность Обрегона до сих пор продолжает вызывать жар¬
кие споры историков. Для одних его режим — просто разновид*
ность тоталитаризма, для других — попытка найти эффективный
388
путь преодоления экономической отсталости и зависимости от
иностранного капитала. Посмотрим, что реально сделало прави¬
тельство Обрегона за время своего пребывания у власти.
Во-первых, оно приступило к осуществлению объявленной
еще по Конституции аграрной реформы. Обрегон и его окружение
прекрасно понимали, что наличие в стране огромной массы беззе¬
мельных крестьян таит в себе колоссальную угрозу для социаль¬
ной стабильности общества. Поэтому задача сохранения и укреп¬
ления слоя мелких собственников в деревне приобретала особую
актуальность. В1921-1923 гг. крестьянам было передано 600 тыс.
га. помещичьих земель. В это же время был осуществлен ряд мер,
нацеленных на укрепление контактов с КРОМ. Идя навстречу этой
достаточно влиятельной в Мексике организации, президент повы¬
сил заработную плату трудящимся. Правительство добивалось
выполнения предпринимателями положения об обязательном 8-
часовом рабочем дне, признании профсоюзов единственным пред¬
ставителем рабочих, обязательности коллективно-договорной
практики и выплате компенсаций за производственные травмы.
Все эти мероприятия, с одной стороны, расширяли соци¬
альную базу правительства А. Обрегона, а с другой стороны, вы¬
зывали недовольство традиционных элит, прежде всего крупных
землевладельцев и связанных с иностранным капиталом предпри¬
нимателей. В итоге консолидации нации вокруг каудильо, к ко¬
торой призывал в начале 20-х гг. Обрегон, явно не получилось.
Более того, в 1923 г. произошло резкое обострение внутриполити¬
ческой обстановки. В стране был создан ряд объединений круп¬
ных собственников — Национальное объединение землевладель¬
цев, Конфедерация промышленных палат, Конфедерация торго¬
вых палат, которые всячески тормозили осуществление програм¬
мы социально-политических преобразований, предложенной пра¬
вительством.
В этой ситуации власти пытались лавировать между противо¬
борствующими социальными силами. Однако сдерживать конф¬
ликт становилось все сложнее. Целая цепь событий — крупней¬
шая забастовка трамвайщиков столицы (январь 1923 г.), убийство
героя революции Ф. Вильи (июль 1923 г.), отставка лидера пра¬
вых де ла Уэрты с поста министра финансов, конфликт с католи¬
ческой церковью, завершившийся высылкой папского нунция, —
до предела накалили обстановку. 6 октября 1923 г. в городе Ве¬
ракрус вспыхнул мятеж, во главе которого встал де ла Уэрта. Он
распространился на несколько провинций. Там, где им сопутство¬
вал успех, мятежники прежде всего отменили ненавистную им
Конституцию 1917 г. Это оттолкнуло от них широкие слои насе¬
ления, которые связывали с реализацией ключевых положений
389
Основного закона надежды на лучшее будущее. Примерно через
месяц мятеж был полностью подавлен.
После того как ситуация в стране стабилизировалась, были
проведены президентские выборы, на которых победил преемник
и сподвижник Обрегона генерал П. Кальес. Развивая идеи своего
предшественника, новый президент заявил, что теперь, после раз¬
грома противников преобразований, в Мексике сложились усло¬
вия для экономического роста и создания на этой основе общества
социальной справедливости, что в построениях нового президен¬
та было идентичным утверждению «надклассового общества».
В соответствии с этой генеральной установкой более быстры¬
ми темпами стала проводиться аграрная реформа. С 1925 по
1928 гг. среди крестьян было распределено более 3 млн. га земли,
т.е. в 3 раза больше, чем за предшествующие 4 года. Упрощалась
процедура получения земли. За это время в деревне сформирова¬
лась довольно солидная социальная опора правительства.
Укреплению его престижа в массах способствовали и предпри¬
нятые им шаги по ограничению прав иностранного капитала в неф¬
теперерабатывающей промышленности. В 1925 г. был принят не¬
фтяной закон, определявший порядок получения иностранцами
концессий на разработку нефтяных месторождений. Особое недо¬
вольство американских нефтяных компаний вызывало положение
закона о том, что в имущественных спорах они должны подчинять¬
ся местному законодательству. Еще больше отношения с США обо¬
стрились после того, как Мексика осудила американскую интер¬
венцию в Никарагуа. На правительство Кальеса был немедленно
наклеен ярлык «большевистского». Однако угрозы в его адрес со
стороны США лишь увеличивали его популярность в стране.
Правительство Кальеса активно использовало государствен¬
ное регулирование экономики (налоговая и таможенная полити¬
ка, банковско-финансовая политика и др.) для стимулирования
отечественной промышленности. Однако основу индустриально¬
го сектора экономики по-прежнему составляли добывающие от¬
расли: добыча серебра, золота, меди и других цветных металлов,
нефти. Тем не менее благодаря усилиям правительства увеличи¬
лись темпы роста обрабатывающей промышленности. И все же
лидирующие позиции в промышленности занимал не нацио¬
нальный, а иностранный капитал. Ему принадлежало большин¬
ство крупнейших и наиболее технически оснащенных предприя¬
тий. В его руках оставалась и большая часть внешней торговли
Мексики. В целом это не удивительно, ибо правительство Кальеса
было по сути дела первым, которое смогло реально поставить в
повестку дня и начать осуществлять практические шаги по уско¬
рению развития отечественной промышленности, по преодолению
390
экономической отсталости страны и ее зависимости от иностран¬
ного капитала.
В годы правления Кальеса обострились отношения власти с
католической церковью. В 1925 г. в Мексике была создана Лига
защиты религиозной свободы, которая ставила своей целью отме¬
ну антиклерикальных статей Конституции. В ответ правительство
усилило давление на руководство католической церкви: закрыло
часть монастырей и церковных школ, выслало из страны некото¬
рых священнослужителей. Ватикан, в свою очередь, летом 1926 г.
предложил мексиканским иерархам в знак протеста прекратить в
стране церковную службу, что и было сделано 1 августа 1926 г.
Конфликт начал перерастать в вооруженные столкновения, про¬
должавшиеся вплоть до конца 1927 г., когда властям удалось пол¬
ностью взять ситуацию под контроль.
Важным элементом политики, направленной на укрепление
режима «революционного каудилизма», являлась деятельность
властей по интеграции рабочего движения в политическую систе¬
му Мексики. С этой целью правительство пошло навстречу ряду
требований рабочих, осуществив комплекс мер по улучшению ус¬
ловий труда и расширению прав профсоюзов. Одновременно вся¬
чески укреплялись контакты с лидерами официального профсою¬
за — КРОМ. Руководители этой организации вошли в правитель¬
ство и заняли ряд постов, включая пост министра промышленно¬
сти, торговли и труда. Этот альянс был взаимовыгоден. Правитель¬
ство получило возможность через КРОМ влиять на ситуацию в
рабочем движении, удерживать его в рамках существовавшей по¬
литической системы. КРОМ, опираясь на административный ре¬
сурс, вытеснял своих конкурентов, прежде всего коммунистов, из
рабочего движения.
В целом к концу 20-х годов та модель общественного разви¬
тия, которая утвердилась в Мексике, являла собой отчетливую
альтернативу господствовавшему в Латинской Америке варианту
социально-политического устройства общества. Мексика стала той
страной, которая первой начала нащупывать путь развития, отве¬
чавший ее собственным национальным интересам. Формировав¬
шаяся там модель общественно-политического развития успешно
учитывала историческую специфику страны, что позволило ее
творцам сравнительно прочно консолидировать общество, моби¬
лизовать его на достижение определенного комплекса стратеги¬
ческих целей, призванных покончить с экономической отсталос¬
тью и зависимостью от иностранного капитала. И в этом смысле,
при всем том, что далеко не все стоявшие перед Мексикой задачи
были решены, можно считать, что вызов, брошенный ею алигар-
дическим режимам, состоялся.
391
§ 2. 30-е годы: Латинская Америка
в поисках перемен
На рубеже 20-30-х гг. Латинская Америка, как и остальные
страны Запада, втянулась в полосу экономического кризиса. Эко¬
номика стран этого региона в значительной степени зависела от
конъюнктуры мирового рынка, и вполне естественно, что резкое
падение спроса на их продукцию больно ударило по их финансо¬
вому положению. Общая стоимость экспорта из Латинской Аме¬
рики за годы кризиса уменьшилась почти втрое. Кризис почти в
равной мере ударил и по аграрному, и по индустриальному секто¬
рам экономики. Общее количество безработных в регионе увели¬
чилось с 2 до 7 млн. человек. В этом списке лидировала Бразилия,
где работу потеряли 1,5 млн. человек. Поскольку кризис носил
глобальный характер и серьезно затронул все западные страны,
это заметно сказалось на масштабах иностранных инвестиций в
латиноамериканские государства. На время они по существу пре¬
кратились, и это поставило перед их экономикой много сложных
и неожиданных проблем, к решению которых правящие элиты
этих стран оказались неготовыми. Вкупе с резким падением уров¬
ня жизни это вело к быстрому нарастанию социальной напряжен¬
ности, эскалации многочисленных конфликтов.
Не удивительно, что во многих странах экономический кри¬
зис перерос в политический. Пали диктаторские режимы в Чили
(1931 г.), Перу (1930 г.), на Кубе (1933 г.). Военный переворот про¬
изошел в 1930 г. в Аргентине. Возобновили свою борьбу против
олигархического режима в Никарагуа сандинисты. Правда, по¬
встанцам в итоге не удалось добиться успеха: сам Сандино в 1934 г.
был убит, а к власти в стране пришел очередной диктатор — А. Со-
моса. Все это говорило о том, что этот огромный, потенциально
очень перспективный, но пока еще не занявший достойного места
в мировом хозяйстве регион пришел в движение. Старые элиты
все очевиднее теряли контроль над рычагами, позволявшими ра¬
нее уверенно манипулировать обществом, и это грозило уничто¬
жением базовых устоев прежнего правопорядка.
По-прежнему тон, темп и масштабы процессов, которые опре¬
деляли лицо латиноамериканского общества, задавали Бразилия
и Мексика. В Бразилии экономический кризис нанес серьезный
удар по позициям ведущих олигархов: их благосостояние напря¬
мую зависело от процветания экспортных отраслей, прежде всего
от экспорта кофе. Этим попытались воспользоваться их полити¬
ческие оппоненты. На президентских выборах 1930 г. они выд¬
винули кандидатом от оппозиционного, либерального альянса
Ж. Варгаса, крупного помещика-скотовода, бывшего губернато¬
392
ра штата Рио-Гранди-ду-Сул. Он вступил в контакт с тенентиста-
ми, по-прежнему пользовавшимися большой популярностью в
массах. В предвыборной программе альянса говорилось, что в ка¬
честве своей главной задачи его руководители видят осуществле¬
ние мирным путем «общенациональной революции в интересах
всего народа». Такая формулировка генеральной линии ведомого
Варгасом объединения привлекла к нему большинство тенентис-
тов, полагавших, что у оппозиции появился реальный шанс лега¬
листским способом отстранить от власти олигархический режим.
Отказался сотрудничать с Варгасом лишь легендарный лидер по¬
встанческой армии Л. Престес, не веривший в возможность мир¬
ного реформирования олигархического режима.
Действительно, добровольно отдавать власть олигархи не со¬
бирались. Используя все дозволенные и недозволенные средства,
они сумели нанести Варгасу поражение на выборах. Это убедило
даже либералов, что надежды на цивилизованную трансформацию
олигархического режима беспочвенны. Заставить его пойти на
перемены могло лишь мощное революционное давление. Вместе с
тенентистами они начали интенсивную подготовку к революци¬
онному выступлению.
3 октября 1930 г., через полгода после выборов, сразу в не¬
скольких штатах вспыхнуло восстание. Его участников поддер¬
жали и ряд армейских соединений, и большинство трудящихся в
крупнейших городах Бразилии. В итоге этого мощного выступле¬
ния олигархический режим в Бразилии пал. 3 ноября 1930 г. было
сформировано правительство Либерального альянса во главе с
Ж. Варгасом. Верховная власть в штатах передавалась военным
комиссарам, большинство из которых были тесно связаны или
симпатизировали тенентистам. Так завершился крупный этап в
истории самой большой латиноамериканской страны. Вступая в
новое десятилетие, Бразилия одновременно вступала и в новую
фазу своего социально-политического развития. Учитывая ее роль
в жизни всего региона, ясно, что это смена вех имела далеко иду¬
щие последствия, явно выходившие за рамки одной страны.
Действительно, перемены не заставили себя ждать. Произош¬
ли изменения структуры власти и того социального блока, на ко¬
торый она опиралась: «кофейная олигархия» была вытеснена с
ведущих позиций в политической жизни и ее место заняли пред¬
ставители националистически настроенной промышленной бур¬
жуазии, радикальной части военных, поддерживавших тененти-
стов, определенных кругов землевладельцев, не связанных с ко¬
фейными магнатами. Подобная перегруппировка неизбежно име¬
ла своим следствием и изменение, политической линии прави¬
тельства.
393
Прежде всего новые власти ввели достаточно высокие протек¬
ционистские тарифы, призванные оградить местную промышлен¬
ность от конкуренции иностранных товаров. Одновременно, с це¬
лью стимулирования и укрепления национального рынка, были
отменены торговые пошлины между штатами. Заметно увеличи¬
лась доля государственного сектора в народном хозяйстве.
Ж. Варгас одним из первых в Латинской Америке начал осоз¬
навать, что в ХХ-м столетии мир вступил в «век масс» и «массо¬
вой политики» и, следовательно, власти обязаны уделять перво¬
степенное внимание социальным проблемам. Правительством
было разработано трудовое законодательство, включавшее в себя
положение о 8-часовом рабочем дне, устанавливавшее минимум
заработной платы, вводившее платные отпуска и ограничения на
труд женщин и детей. В трудовых конфликтах предусматривалась
процедура арбитража. Стали создаваться корпоративные профсо¬
юзы, ставившие своей задачей утверждение «социальной гармо¬
нии» на производстве.
До нее, однако, было весьма далеко. С одной стороны, отстра¬
ненные от власти олигархические кланы, отнюдь не собирались
мириться с этим и всячески пытались дестабилизировать ситуа¬
цию. В 1932 г. они даже подняли мятеж в Сан-Паулу, который,
правда, был быстро подавлен. С другой стороны, несмотря на за¬
щитительные меры, предпринятые правительством Варгаса, эко¬
номический кризис неизбежно вел к снижению жизненного уров¬
ня, а это провоцировало стачки, волнения сельскохозяйственных
рабочих и т.д.
Рост социальной нестабильности вызывал дифференциацию
в той социальной базе, которая привела Варгаса к победе и под¬
держивала его политику в первые годы существования новой вла¬
сти. Внутри нее стали усиливаться разногласия относительно того,
что должно считаться первоочередными задачами правительства.
К 1934 г. в его политике наметились серьезные подвижки. Преж¬
де всего это коснулось взаимоотношений президента и тенентис-
тов. Их пути постепенно расходятся. Варгас в это время сближа¬
ется с движением «интегралистов», откровенно симпатизировав¬
шим порядкам, установленным в гитлеровской Германии. В Бра¬
зилии, однако, оказалось немало сил, которые отказались поддер¬
жать новую линию правительства Ж. Варгаса.
В 1935 г. оппозиционные силы объединились в Национально-
освободительный альянс. В него вошли левые профсоюзы, тенен-
тисты во главе с Престесом, коммунисты и представители других
общественных организаций левого толка. Альянс поддерживало
в общей сложности более 1,5 млн. человек. Его почетным предсе¬
дателем стал Л. Престес. В качестве своей главной задачи новое
394
объединение ставило свержение Варгаса, при этом акцент делал¬
ся на вооруженную борьбу. Апеллируя к опыту 20-х годов, Пре-
стес и его сторонники утверждали, что только такой путь борьбы
может принести успех. Они, однако, не учитывали, что тогда им
противостоял олигархический режим, не имевший прочной опо¬
ры в обществе. Варгас же по-прежнему сохранял достаточно вы¬
сокую степень общественной поддержки. Его престиж еще боль¬
ше укрепило демонстративное восстановление в 1934 г. конститу¬
ционной формы правления.
Несмотря на явно неблагоприятное соотношение сил, руковод¬
ство альянса подняло в ноябре 1935 г. восстание в Рио-де-Жаней-
ро, Ресифе и ряде других городов. Было провозглашено, что в Бра¬
зилии создано новое Народно-революционное правительство, ко¬
торое берет на себя всю полноту власти. Однако восставшие явно
переоценили свои силы. Верные правительству войска сумели изо¬
лировать очаги восстания, а затем полностью подавить его. Пре-
стес был арестован и девять лет провел в тюрьме.
После подавления восстания Ж. Варгас осуществил карди¬
нальную перестройку всей политической системы страны. В Бра¬
зилии утвердился режим «нового государства». Все политические
партии и движения были запрещены. По примеру Италии в стра¬
не вводилась корпоративная система. Президент в этой системе
становился выразителем интересов нации и арбитром во взаимо¬
отношениях корпораций. Роль государства в экономической жиз¬
ни увеличилась еще больше. Были национализированы предпри¬
ятия нефтяной промышленности, ограничены права иностранно¬
го капитала, государство приняло ряд мер по созданию отечествен¬
ной тяжелой промышленности. Быстрый экономический рост по¬
зволил Варгасу осуществить ряд мер по улучшению материально¬
го положения трудящихся, развитию социальной сферы, что, ес¬
тественно, увеличивало его популярность в стране, консолидиро¬
вало социальную базу режима.
Безусловно, деятельности Варгаса в 30-е гг. трудно дать одно¬
значную оценку. Ясно одно: бразильский лидер пытался сконст¬
руировать такую модель общественного развития, которая, с од¬
ной стороны, обеспечивала бы стране условия для устойчивого и
динамичного продвижения вперед, с другой — не дублировала
традиционные для западной цивилизации схемы общественного
прогресса, а соответствовала национальной специфике и истори¬
ческой традиции страны и, наконец, позволяла избежать соци¬
альных катаклизмов, которыми была так насыщена история че¬
ловечества в первой половине XX в. Конечно, решить все эти по¬
истине фундаментальные задачи Ж. Варгас не мог. Они никем в
полном объеме не решены и поныне. Однако он, несмотря на все
395
ошибки и шаги, не соответствовавшие тем целям, о которых шла
речь, оказался одним из первых в Латинской Америке, кто риск¬
нул взвалить на свои плечи бремя поисков ответов на эти судьбо¬
носные для региона вопросы.
Другой страной, прокладывавшей для Латинской Америки
непростой путь в будущее, была Мексика. В ней, как и в других
странах, экономический кризис заметно обострил социально-
политическую обстановку. Хотя срок президентских полномо¬
чий П. Кальеса истек еще в конце 1928 г., он сохранил за собой
положение «верховного вождя революции», а пост президента
занял его ставленник — губернатор одного из штатов Эмилио
Портес Хиль. Сам Кальес выступил в марте 1929 г. инициато¬
ром создания Народно-революционной партии, которая попы¬
талась объединить расползавшуюся социальную базу правяще¬
го режима. Новая партия должна была стать тем инструментом,
который позволил бы власти и лично Кальесу сохранять надеж¬
ный контроль над социальными процессами. Эти надежды, од¬
нако, не сбылись.
Начавшийся в конце 1929 г. экономический кризис нанес тя¬
желый удар по всей экономике Мексики. Резкое сокращение объе¬
ма производства вызвало быстрый рост безработицы и общее па¬
дение уровня жизни. Несмотря на все усилия находившихся под
контролем властей профсоюзов, входивших в КРОМ, в стране все
чаще вспыхивали стихийные волнения. Из состава КРОМ вышли
профсоюзы железнодорожников, текстильщиков, полиграфистов.
В марте 1933 г. в руководстве КРОМ произошел раскол: против
официального курса, проводимого этой организацией, открыто
выступил один из ее наиболее влиятельных лидеров В. Толедано.
В октябре 1933 г. по его инициативе была создана Всеобщая кон¬
федерация рабочих и крестьян.
Обострение социальной обстановки сказалось и на ситуации
внутри Народно-революционной партии, где укреплялись пози¬
ции радикалов, требовавших последовательного проведения в
жизнь положений Конституции 1917 г. И, наоборот, влияние «вер¬
ховного вождя революции» Кальеса неуклонно падало. На съезде
НРП в декабре 1933 г. была одобрена программа действий в эко¬
номической и социальной сферах сроком на 6 лет. Она предусмат¬
ривала ускорение темпов аграрной реформы, стимулирование со¬
здания сельхозкооперативов, освоение с помощью государства
ранее не обрабатывавшихся земель. В документе говорилось о не¬
обходимости принятия мер по поощрению отечественной промыш¬
ленности, развитию транспортной инфраструктуры. Предполага¬
лось построить 12 тыс. сельских школ, увеличить ассигнования
на образование с 15% до 20% от бюджета. Кандидатом на пост
396
президента съезд выдвинул представителя левого крыла НРП ге¬
нерала Ласаро Карденаса. Он и одержал победу и 1 декабря 1934 г.
занял президентский дворец.
Повороту влево политики нового президента способствовала
резкая эскалация забастовочного движения: количество забасто¬
вок по сравнению с предшествовавшим периодом увеличилось
почти в 20 раз. Их участники требовали улучшения условий тру¬
да, расширения социальных гарантий, действительного, а не дек¬
ларированного претворения в жизнь положений Конституции
1917 г. Важно подчеркнуть, что правительство Карденаса заняло
благожелательную позицию в отношении бастующих.
Решительно против такого курса выступил П. Кальес и его
сторонники. Отношения между ним и Карденасом обострились до
предела. При содействии нового президента в 1935-1937 гг. тру¬
дящиеся добились серьезных успехов: была повышена заработная
плата, во многих отраслях вводилась 40-часовая рабочая неделя,
обязательной становилась коллективно-договорная практика. В
отношении тех предпринимателей, которые пытались саботиро¬
вать эти мероприятия, могли применяться санкции вплоть до эк¬
спроприации их предприятий и создания на их базе кооперати¬
вов, действующих под контролем государства.
Пути Л. Карденаса и П. Кал веса расходились все больше. В
конце 1935 г. из кабинета были удалены сторонники бывшего пре¬
зидента. Одновременно были осуществлены перестановки в выс¬
шем эшелоне армейского руководства. Действия нового руково¬
дителя государства получили массовую поддержку, что лишь под¬
стегивало фракцию Кальеса, попытавшуюся организовать заговор
с целью свержения Карденаса. Однако 10 апреля 1936 г. Кальес и
три его ближайших сторонника были высланы из Мексики в США.
Их планы провалились.
Параллельно с борьбой с противниками перемен шел процесс
консолидации сил сторонников президента. В феврале 1936 г. в
Мексике был создан единый профцентр — Конфедерация трудя¬
щихся Мексики (КТМ), главой которой стал В. Толедано. Новое
объединение, в которое входило около 1,5 млн. человек, решитель¬
но высказалось в поддержку правительства Л. Карденаса. Добив¬
шись перелома во внутриполитической ситуации в свою пользу,
правительство Карденаса интенсифицировало проведение аграр¬
ной реформы. За годы его президентства у помещиков было эксп¬
роприировано в пользу крестьян земли в 2,5 раза больше, чем за
весь предшествовавший семнадцати летний период. Для дальней¬
шего стимулирования аграрной реформы в 1938 г. была создана
Национальная крестьянская конфедерация, объединявшая око¬
ло 2 млн. крестьян.
397
Л. Карденас стал наиболее решительным латиноамериканс¬
ким политиком, бросившим вызов иностранному капиталу. Пи¬
ком этой кампании стало принятие 18 марта 1938 г. решения о
национализации нефтяной промышленности. Это вызвало резкое
обострение отношений с Великобританией и США, которые попы¬
тались в своем традиционном стиле использовать против Карде¬
наса как экономические рычаги, так и внутриполитических оп¬
понентов правительства. Не без их помощи был подготовлен мя¬
теж генерала Седильо (май 1938 г.). Однако ставка на подрыв по¬
зиций Карденаса не оправдалась: Активное государственное ре¬
гулирование экономической сферы позволило президенту, несмот¬
ря на мощное давление иностранного капитала, избежать серьез¬
ных сбоев в функционировании народного хозяйства. Что касает¬
ся мятежа, поднятого Седильо, то быстро выяснилось, что у того
нет никакой серьезной поддержки внутри страны. Попытка пере¬
ворота захлебнулась, а сам Седильо погиб.
Все эти бурные события привели к консолидации сторонни¬
ков Л. Карденаса. В марте 1938 г. было принято решение о преоб¬
разовании Народно-революционной партии в Партию мексиканс¬
кой революции. В ее рядах насчитывалось около 4 млн. чел. Со¬
гласно уставу, партия состояла из четырех секторов: рабочего,
крестьянского, военного и народного. В рабочий сектор на правах
коллективных членов входили основные профсоюзные организа¬
ции, крестьянский сектор включал в себя НКК, военный — коман¬
дование армии, народный — молодежные, женские, кооператив¬
ные организации. Была одобрена программа нового объединения
«За демократию трудящихся». Ее авторы заявляли о своем стрем¬
лении продолжать преобразования, с тем чтобы «подготовить на¬
род к утверждению рабочей демократии и к установлению социа¬
листического строя».
Подобная декларация не означала, что новая организация пре¬
вратилась в некий аналог коммунистической или социалистичес¬
кой партии. Ее руководство разрабатывало и отстаивало свою мо¬
дель общественного развития, которая исходила из того, что в но¬
вых условиях общественный прогресс и укрепление националь¬
ной самобытности невозможны без расширения участия масс в
политической жизни и без интенсивного внедрения в обществен¬
ное бытие элементов большей социальной справедливости. Дру¬
гое дело, в какой мере декларирование этих постулатов совпадало
с реальной действительностью. Безусловно, мексиканское обще¬
ство образца 30-х годов весьма серьезно отличалось от той идеаль¬
ной модели, двигаться к построению которой призывала програм¬
ма ПМР. Стране предстояло решить еще множество социально-
экономических проблем, оставшихся от прошлого, полностью из¬
398
бавиться от иностранной зависимости, ликвидировать разрыв в
уровне экономического развития с ведущими странами Запада,
прежде чем можно было реально ставить вопрос о построении та¬
кого общества, о котором говорилось в программном документе
ПМР.
Жизнь очень быстро показала, сколь сложна эта задача, от
скольких факторов зависит ее решение. По существу страна во
многом оказалась еще не готовой к такому качественному скачку
в своем развитии. В значительной мере ход этого процесса опреде¬
лялся степенью решимости руководства ПМР, прежде всего само¬
го Карденаса, двигаться по пути преобразований. В конкретных
условиях Мексики широкие слои населения были явно не готовы
к самостоятельным действиям. А это значило, что судьба начатых
реформ замыкалась на личности Л. Карденаса. Это убедительно
доказали последующие события. После его ухода с поста прези¬
дента в декабре 1940 г. общий вектор развития Мексики начал
смещаться к более умеренному полюсу.
Тем не менее события 30-х гг. стали важной вехой в истории
не только Мексики, но и всей Латинской Америки. В этой стране
не просто бросили вызов традиционалистскому обществу, не толь¬
ко наметили общие контуры возможной будущей альтернативной
модели развития латиноамериканского общества, но и начали до¬
вольно решительно осуществлять комплекс мероприятий, зало¬
живших фундамент новой модели общественного развития. Безус¬
ловно, в ней имелось немало противоречий, неясностей, существо¬
вала очевидная многовариантность в ее дальнейшей судьбе. Одна¬
ко, несмотря на все это, в Мексике был сделан важный шаг по ре¬
альному формированию альтернативной модели общественного
развития, и в этом главное историческое значение тех событий,
которые произошли в этой стране в рассматриваемый период.
ГЛАВА V
Международные отношения между двумя
мировыми войнами
§ 1. Стабилизация
Версальско-Вашингтонской системы
После того как в ходе целой серии международных конферен¬
ций, посвященных проблемам послевоенного урегулирования в
1919-1922 гг., были заложены основы новой модели организации
мирового сообщества, система международных отношений нача¬
ла постепенно втягиваться в фазу стабилизации. Процесс этот шел
отнюдь не просто и гладко. Предстояло решить как минимум две
крупные проблемы: 1) выработать устойчивый модус взаимоотно¬
шений с Германией, который позволил бы, решив проблемы, свя¬
занные с выполнением условий Версальского мира, в то же время
вернуть ее в мировое сообщество в качестве полноправного члена;
2) интегрировать в систему СССР, а в более широком смысле раз¬
работать нормы взаимоотношений с государством, живущим в
ином измерении, чем остальные компоненты системы.
Решению германской проблемы предшествовал острейший
Рурский кризис (1923), когда авантюристические действия Фран¬
ции, оккупировавшей Рур, создали исключительно взрывоопас¬
ную обстановку в центре Европы. Выход из нее был найден после
того, как США предложили свой вариант решения проблемы, из¬
вестный как план Дауэса (1924).
В научной литературе не прекращаются споры об оценке это¬
го мероприятия. Одни считают, что оно заложило первый камень
в будущий фундамент ремилитаризации Германии, объективно
помогло Гитлеру в осуществлении его планов. Другие полагают,
что план Дауэса не имел никакого отношения к приходу Гитлера
к власти и его дальнейшим действиям. Он был нацелен лишь на
400
разблокирование конкретного кризиса, и с этой своей задачей он
прекрасно справился.
Действительно, непосредственной задачей данного плана, раз¬
работанного группой экспертов под руководством Ч. Дауэса, яв¬
лялось создание условий, которые бы позволили: 1) вывести не¬
мецкую экономику из состояния, близкого к полному развалу;
2) восстановить механизм выплаты репараций; 3) осуществить на
этой основе стабилизацию социально-политической обстановки в
Германии и вокруг нее.
Для этого ей предоставлялся очень крупный международный
заем в размере 800 млн. золотых марок. Эти средства направля¬
лись на стабилизацию финансовой системы Германии, без чего ее
экономика не могла нормально функционировать. Кроме того, сам
факт займа способствовал укреплению атмосферы стабильности в
обществе, помогал укрепить в нем ощущение того, что Германия
перестала быть изгоем, и это также благоприятствовало улучше¬
нию экономической конъюнктуры.
Нормализации обстановки внутри Германии способствовало и
смягчение международной напряженности. Франция была вынуж¬
дена резко снизить свои внешнеполитические амбиции. По существу,
ее претензиям на главенствующую роль на европейском континенте
был положен конец. Выяснилось, что она не в состоянии решать клю¬
чевые проблемы международной жизни, опираясь только на свои
силы. Прежде всего, она утратила инициативу в такой поистине судь¬
боносной для нее проблеме, как германская. Более того, большая
часть остальных держав склонялась к мнению, что далее не имеет
смысла держать Германию в выгодном для Франции положении из¬
гоя. План Дауэса стал отправной точкой в процессе интеграции Гер¬
мании в рамки Версальско-Вашингтонской системы.
В том же 1924 г. после долгого перерыва были восстановлены
дипломатические отношения между большинством великих дер¬
жав и СССР. Исключение составляли США, продолжавшие вплоть
до начала 30-х годов проводить политику непризнания Советско¬
го Союза. Процесс интеграции СССР в рамки системы междуна¬
родных отношений еще только начинался, но уже на этом этапе
наша страна подключилась к решению ряда проблем, в которых у
нее традиционно были значительные интересы.
Стабилизации всей совокупности межгосударственных отно¬
шений способствовало то, что начиная со второй половины 1923 г.
наметился выход ведущих стран из полосы экономической неста¬
бильности и социальных неурядиц. Четко обозначившийся подъем
как раз и создавал фундамент, опираясь на который можно было
искать развязки самых запутанных проблем. У лидеров ведущих
держав появилось поле для маневра.
401
Менялся и общий психологический климат, царивший на
международной арене. Дух конфронтации, столь привычный для
великих держав в первые послевоенные годы, постепенно выхо¬
дил из моды. На смену шел период, который журналисты окрес¬
тили «эрой пацифизма». Это, конечно, было явным преувеличе¬
нием, но пацифистская риторика в эти годы прочно вошла в лек¬
сикон многих ведущих политиков, а вместе с ней возросло и
стремление к поиску компромиссов, решению спорных проблем
в рамках переговорного процесса. Набирала обороты деятель¬
ность Лиги Наций. Она вносила определенную лепту в разреше¬
ние локальных кризисов, в разработку вопросов, связанных с
ограничением вооружений, в поиски путей создания системы
безопасности в Европе.
Помимо объективных моментов, изменения в политическом
и психологическом климате были связаны с выходом на ведущие
позиции на международной арене когорты крупных политичес¬
ких деятелей нового поколения, не связанных напрямую с конф¬
ликтами уходящей эпохи и во многом по-другому смотревших на
будущее Версальско-Вашингтонской системы и место в ней своих
стран. В этом достаточно длинном ряду следует отметить несколь¬
ко фигур. Прежде всего это Г. Штреземан, с именем которого свя¬
зано урегулирование спорных вопросов с соседями Германии, от¬
ладка механизма выплаты репараций, вступление в Лигу Наций.
Штреземан в качестве важнейшего внешнеполитического импе¬
ратива, которым следовало руководствоваться Германии, выдви¬
гал идею не реванша, а взаимовыгодного и равноправного сотруд¬
ничества. Новые люди пришли и на политические посты во Фран¬
ции. Здесь необходимо отметить Э. Эррио, который был решитель¬
ным сторонником налаживания франко-советских отношений,
отказался от сверхжесткой линии в отношении Германии, высту¬
пал за развитие сотрудничества всех европейских стран. В Вели¬
кобритании смена вех во внешней политике связана с именем тог¬
дашнего лидера лейбористской партии Р. Макдональда, сторон¬
ника снижения военной конфронтации великих держав, ограни¬
чения военных расходов, активизации деятельности Лиги Наций
по урегулированию локальных конфликтов.
Найдя развязку франко-германского конфликта, великие дер¬
жавы смогли уделить большее внимание более мелким локальным
столкновениям: греко-турецкому, польско-литовскому, итало-
югославскому, Мосульскому вопросу, положению дел в Китае и
т.д. Они разрешались с разной степенью эффективности, но в лю¬
бом случае им не давали разрастаться.
Важной вехой в развитии Версальско-Вашингтонской систе¬
мы стала Локарнская конференция, проходившая в октябре
402
1925 г., на которой был подготовлен и подписан Рейнский гаран¬
тийный пакт. Суть его сводилась к тому, что Франция, Бельгия и
Германия взяли на себя обязательство сохранять в неприкосновен¬
ности установленные Версальским мирным договором западные
границы Германии и не прибегать к войне, а решать все спорные
вопросы цутем арбитража. В качестве гарантов этого соглашения
выступали Британия и Италия. Важно подчеркнуть, что речь шла
о сохранении статус-кво только в отношении западных границ
Германии. О ее восточных границах речи не было.
Заключение Рейнского гарантийного пакта традиционно рас¬
сматривается как крупный внешнеполитический успех Великоб¬
ритании. И это справедливо. Действительно, Лондону на этом от¬
резке истории удалось в значительной мере вернуть себе привыч¬
ную и весьма выгодную ему роль балансировщика системы меж¬
дународных отношений. Франция, еще недавно мечтавшая о рас¬
членении Германии на ряд мелких государств, была вынуждена
заключить со своим «историческим врагом» международное со¬
глашение как с полностью равноправным государством. Кроме
того, провалилась ее попытка как-то учесть в рамках данного до¬
говора интересы своих союзников — Польши и Чехословакии.
Ясно, что ее престиж в странах Восточной Европы в этой связи
несколько снизился. Англия сумела этой акцией вбить клин в до¬
статочно динамично развивавшиеся в то время взаимовыгодные
германо-советские отношения. Наконец, она сумела навести мос¬
ты в отношениях с Италией. Подключив ее в качестве одного из
гарантов к деятельности созданного механизма, Лондон сформи¬
ровал определенный противовес Франции на южном фланге Евро¬
пы. После подписания Локарнских соглашений Германия была
принята в Лигу Наций и получила место одного цз постоянных
членов ее Совета.
Идеи, заложенные в Рейнском гарантийном пакте, были в это
время весьма популярны среди европейских дипломатов. Строи¬
лись планы заключения сходных соглашений для Балкан и стран
Балтийского региона. Однако из этого ничего не получилось, ибо
конфликтный потенциал, существовавший в отношениях стран
этих регионов, был слишком большим и снять его переговорным
путем оказалось невозможным. Это было симптомом того, что воз¬
можности для стабильного функционирования данной модели
международных отношений даже в сравнительно спокойной об¬
становке были ограниченными.
В этом плане характерным был 1927 г., события которого на¬
глядно демонстрировали противоречивость процесса стабилиза¬
ции международных отношений. С одной стороны, в этом году в
разных точках земного шара были отмечены резкие вспышки ос¬
403
трых конфликтов. Так, дело дошло до разрыва англо-советских
дипломатических отношений, стала быстро накаляться обстанов¬
ка в районе КВЖД, мировую общественность взбудоражила пуб¬
ликация в прессе секретного меморандума Танаки (Япония, прав¬
да, немедленно объявила его фальшивкой)» в котором намечались
далеко идущие планы японской экспансии в Китае, на Дальнем
Востоке и в бассейне Тихого океана, наконец, вспыхнул очеред¬
ной раунд польско-литовского конфликта из-за Вильно. По оби¬
лию конфликтов в такой короткий временной отрезок это напо¬
минало первые послевоенные годы, когда в жестких столкнове¬
ниях великих держав шло формирование новой модели междуна¬
родных отношений.
Однако это сходство было чисто внешним. Ситуация в 1927 г.
была много сложнее и далеко не столь однозначной, как сразу пос¬
ле войны. В том же году состоялась международная экономичес¬
кая конференция, где ее участники попытались упорядочить фун¬
кционирование мировых хозяйственных связей. В Женеве продол¬
жала работу подготовительная комиссия по созыву конференции
по разоружению под эгидой Лиги Наций, наконец, в этом году
начались переговоры о заключении пакта Бриана — Келлога об
объявлении войны вне закона (подписан в 1928 г.). При всем том,
что конечная эффективность всех этих шагов была далекой от пла¬
нируемой, вряд ли правомерно сбрасывать их со счетов. Такие со¬
бытия могли произойти только в условиях стабильного функцио¬
нирования системы международных отношений, когда стремле¬
ние к сотрудничеству явно превышало конфликтный потенциал,
всегда присутствующий в организме этой системы.
После подписания в августе 1928 г. представителями 15 стран
пакта Бриана — Келлога пресса, особенно либеральная, пребыва¬
ла в эйфорическом состоянии: ведь война отныне исключалась из
арсенала внешнеполитических средств ведущих государств, а че¬
ловечество вступило в эпоху длительного мира. Очень скоро дей¬
ствительность опрокинула эти радужные ожидания. Осенью
1929 г. разразился грандиозный экономический кризис, который
перечеркнул все расчеты на дальнейшее развитие стабилизацион¬
ных процессов в сфере международных отношений. Попав в тя¬
желейшее положение, каждая из великих держав стала заботить¬
ся прежде всего о том, как самортизировать обрушившийся на нее
удар. Вопросы, связанные с налаживанием двух- и многосторон¬
него сотрудничества, поиском взаимовыгодных компромиссов,
отошли на второй план.
Как это часто бывает в истории, в критические моменты в мен¬
талитете ведущих политиков возобладало убеждение, что в оди¬
ночку больше шансов спастись, чем действуя совместно. При этом
404
абсолютно игнорировался тот факт, что мир становился все более
взаимосвязанным и взаимозависимым, что все государства явля¬
лись составными компонентами единой системы международных
отношений и их благополучие напрямую связано с общим состоя¬
нием этой системы. Непонимание этой простой истины, стремле¬
ние выбраться из возникших неурядиц в одиночку, пусть даже в
ущерб другим, дорого обошлось всему человечеству.
§ 2. Версальско-Вашингтонская
система: от кризиса к распаду
Экономический кризис 1929-1933 гг. и порожденное им же¬
лание всех пострадавших от него стран как можно быстрее, любой
ценой преодолеть его хотя бы самые негативные последствия по¬
родили массу проблем. Кризис до предела обострил ведущуюся на
протяжении всего XX в. полемику о наиболее перспективных на¬
правлениях общественного прогресса, а следовательно, заметно
повысил роль идеологического фактора в формировании полити¬
ческого курса ведущих держав, в определении иерархии их инте¬
ресов на международной арене. А это, в свою очередь, неизбежно
увеличивало степень конфликтности всей совокупности междуна¬
родных отношений, обостряло и без того многочисленные споры,
усиливало деструктивные тенденции.
Конечно, историю международных отношений в 30-е гг. не
следует представлять как единую тенденцию, направленную на
подготовку новой мировой войны, но общий вектор развития Вер¬
сальско-Вашингтонской системы в это десятилетие был именно
таким. Желание участников многочисленных конфликтов, про¬
исходивших в это десятилетие, искать компромиссные развязки
постепенно таяло, и, наоборот, росло стремление навязать свою
волю другим странам силовым путем.
Безусловно, в начале 30-х гг., при всей остроте кризиса, вряд
ли кто из ведущих политиков решился бы утверждать, что к кон¬
цу этого десятилетия в мире вспыхнет новая, еще более грандиоз¬
ная и разрушительная, чем первая, мировая война. В тот момент
умы политической элиты западных стран были заняты поисками
ответа на вопрос, какие шаги в сфере внешней политики помогут
хотя бы частично смягчить последствия кризиса. Первое, что на¬
прашивалось на ум, — надо сократить бремя военных расходов.
Но как конкретно это сделать, не нанеся ущерба национальной
безопасности? Тут возникало множество вопросов.
Тем не менее в январе 1930 г. в Лондоне открылась междуна¬
родная конференция по ограничению морских вооружений. На ней
405
была предпринята попытка экстраполировать принципы, поло¬
женные в основу «Договора пяти», на новые классы военно-морс¬
ких судов: крейсера, эсминцы и подводные лодки. В полной мере
решить эту задачу не удалось: Франция и Италия отказались под¬
ключиться к новому договору. Трое других участников — США,
Англия, Япония — договорились о том, что по крейсерам и эсмин¬
цам будет действовать то же соотношение, что и по линкорам, т.е.
5:5:3. Что касается подводных лодок, то здесь вводился прин¬
цип равенства флотов этих трех стран.
В феврале 1932 г. после большой подготовительной работы,
долгих препирательств между участниками в Женеве открылась
конференция по разоружению. В ней участвовали представители
62 государств.
С самого начала выяснилось, что между ведущими держава¬
ми существовали серьезные разногласия в подходе к этой про¬
блеме. Так, Франция полагала, что решению вопросов о разору¬
жении должно предшествовать создание международной армии
под эгидой Лиги Наций. Ее основной оппонент Германия, где в
это время к власти рвались нацисты, требовала ликвидации всех*
дискриминационных ограничений, наложенных на ее вооружен¬
ные силы Версальским договором. Великобританию прежде все¬
го интересовали проблемы, связанные с уничтожением (или ог¬
раничением) подводного флота и запрещением химического ору¬
жия. США же волновала проблема сокращения сухопутных воо¬
руженных сил. СССР добивался постановки в повестку дня воп¬
роса о всеобщем разоружении или же о поэтапном, пропорцио¬
нальном сокращении всех видов вооружений. Италия предлага¬
ла ограничиться для начала введением годичного моратория на
любое наращивание вооруженных сил, а Япония настаивала на
том, чтобы в качестве предварительного условия для начала пе¬
реговоров остальные великие державы признали ее особую роль
в бассейне Тихого океана. Короче говоря, каждая из великих дер¬
жав думала не столько о решении той задачи, которая стояла в
повестке дня конференции, сколько о получении односторонних
выгод. Это и предопределило итоги работы конференции: она за¬
кончилась ничем.
Предпринимались попытки несколько упорядочить положе¬
ние дел в сфере международных финансов, в первую очередь дого¬
вориться о совместной линии поведения в решении проблемы дол¬
гов и репараций. Ключевая роль в этом вопросе принадлежала
США. Еще в 1929 году план Дауэса по инициативе американцев
был заменен планом Юнга, вводившим в действие новую схему
выплаты репараций. Во-первых, он предусматривал общее сокра¬
щение размеров репарационных платежей до 113,9 млрд, марок.
406
Во-вторых, предполагалось осуществить 20%-ное снижение еже¬
годных выплат репараций. Одновременно с этим было решено
вывести французские и бельгийские войска из Рейнской области,
где восстанавливался суверенитет Германии. С немецкой эконо¬
мики были сняты все элементы международного контроля.
Чуть позднее^ в 1931 г., американский президент Г. Гувер вы¬
ступил с предложением объявить мораторий на выплату репара¬
ций. С этого момента схема разрешения вопросов, связанных с
выплатой репараций и военных долгов, заложенная ещё в плане
Дауэса, стала рассыпаться буквально на глазах. В этой сфере сло¬
жилась крайне сложная и запутанная ситуация, которая серьез¬
но осложняла и без того нестабильное функционирование систе¬
мы международных отношений.
В поисках развязки проблем, накопившихся в сфере между¬
народных экономических отношений, было решено созвать спе¬
циальную конференцию, которая начала свою работу в июне
1933 г. в Лондоне. Она показала лишь то, что в среде великих дер¬
жав существуют совершенно не стыкующиеся взгляды на то, как
должен работать международный валютно-финансовый механизм.
Пока шли оживленные дискуссии на различных международ¬
ных форумах, появились державы, готовые в одностороннем по¬
рядке идти на слом существовавшего статус-кво. Первой на этот
путь встала Япония. Не дождавшись признания другими держа¬
вами своей особой роли в Китае и на Тихом океане, она в октябре
1931 г. осуществила оккупацию Маньчжурии — одной из наибо¬
лее развитых провинций Китая. Эта акция являла собой грубей¬
шее нарушение всех норм международного права и договорных
обязательств Японии. Перед великими державами встал вопрос:
как реагировать на этот акт неприкрытой агрессии? Соединенные
Штаты выдвинули «доктрину непризнания», однако Японию мало
волновало отношение общественного мнения к ее действиям. Она
знала, чего хотела, и планомерно осуществляла шаги по закреп¬
лению своего присутствия в Северном Китае.
Поведение Японии поставило в сложное положение Лигу На¬
ций: по сути был совершен акт агрессии и против агрессора следо¬
вало применить санкции, но организовать их в условиях кризиса,
когда великие державы были заняты разрешением своих внутрен¬
них проблем, было крайне затруднительно. Япония это прекрас¬
но понимала и действовала все более агрессивно. Японская авиа¬
ция совершила налеты на Шанхай и Нанкин. Для того^чтобы сгла¬
дить впечатление от своих действий, японская дипломатия пошла
на создание в феврале 1932 г. в Маньчжурии «независимого» го¬
сударства Маньчжоу-Го, которое в действительности находилось
под полным контролем Японии.
407
Лига Наций поручила специальной комиссии во главе с лор¬
дом Литтоном изучить ситуацию, сложившуюся в этом регионе, и
выработать соответствующие рекомендации. Осенью 1932 г. та
представила свой доклад, в котором рекомендовала воздержаться
от признания Маньчжоу-Го и созвать конференцию для обсужде¬
ния вопроса о будущем статусе Маньчжурии. В ответ Япония зая¬
вила, что не признает эту резолюцию и выходит из Лиги Наций.
Таким образом, она продемонстрировала свое решительное несог¬
ласие с остальным миром и явно показала, что готова на любые
действия для реализации своих целей в сфере внешней политики.
На Дальнем Востоке возник опаснейший очаг международной на¬
пряженности.
Нарастала напряженность и в Европе. Главные события раз¬
ворачивались в Германии. В январе 1933 г. к власти там пришел
Адольф Гитлер. Новый лидер Германии не скрывал, что видит ос¬
новную внешнеполитическую задачу в том, чтобы демонтировать
существующую систему международных отношений и утвердить
«новый мировой порядок», в котором Германия играла бы ключе¬
вую роль. Такое видение миссии Германии в мировых делах пре¬
допределило высокую степень агрессивности ее поведения на меж¬
дународной арене и по существу делало неизбежным новый гло¬
бальный военный конфликт, ибо иначе радикально сломать суще¬
ствующий миропорядок было невозможно. Таким образом, в Ев¬
ропе возник потенциальный очаг новой войны.
Нельзя сказать, что в европейских столицах этого не понима¬
ли. Особенно серьезную обеспокоенность развитием событий в Гер¬
мании, ее новыми базовыми установками в сфере внешней поли¬
тики проявляли в Москве и в Париже. Не случайно именно там
практически одновременно возникла идея создания в Европе сис¬
темы коллективной безопасности. На этой основе наметилось со¬
ветско-французское сближение, которое могло бы стать остовом
новой международной конструкции. Однако не всем в Европе нра¬
вился такой вариант развития событий. Там по-прежнему были
сильны антисоветские настроения, чем умело пользовался Гитлер.
В 1933 г. Италия выступила с предложением заключить так
называемый «Пакт четырех» между Англией, Францией, Герма¬
нией и Италией о поддержании мира на континенте. Однако это
была внешняя, декоративная сторона проекта. Суть же его зак¬
лючалась в том, что он предполагал возможность пересмотра за¬
конным путем базовых положений договоров, которые составля¬
ли основу Версальско-Вашингтонской системы. Кроме того, про¬
ект Муссолини предусматривал предоставление Германии равных
с другими державами прав в области вооружений. Эти идеи тогда
не получили поддержки ни в Великобритании, ни во Франции, но
408
сама мысль создать блок с явной антисоветской направленностью
активно муссировалась в европейских столицах вплоть до начала
войны.
Гитлер не терял времени. Уже в октябре 1933 г. Германия выш¬
ла из Лиги Наций, показав тем самым, что готова бросить вызов
мировому сообществу и не собирается считаться с существующим
порядком вещей и нормами, действующими в сфере межгосудар¬
ственных отношений. В следующем году он& в последний раз опуб¬
ликовала данные о своих военных расходах. В стране сверхфорси¬
рованными темпами, невзирая ни на какие договорные ограниче¬
ния, шло наращивание военной мощи. В 1935 г. в Германии была
введена всеобщая воинская повинность. Ситуация в Европе быст¬
ро накалялась.
Середина 30-х гг. была отмечена борьбой трех тенденций в
сфере международных отношений. С одной стороны, наиболее
трезвомыслящие политики не могли не видеть нарастание воен¬
ной угрозы и искали возможности для нейтрализации этой злове¬
щей опасности. В принципе неплохие перспективы в этот момент
были у советско-французского предложения о создании системы
коллективной безопасности в Европе под эгидой Лиги Наций. Оно
начало постепенно материализовываться. В сентябре 1934 г. в
Лигу Наций вступил СССР, который сразу же активно включился
в борьбу за укрепление европейской безопасности. В мае 1935 г.
был подписан договор о взаимной помощи между СССР и Франци¬
ей, а чуть позднее Советский Союз заключил сходное соглашение
с Чехословакией.
Олицетворением другой тенденции выступала Великобрита¬
ния. Именно от нее в решающей степени зависело, получит разви¬
тие или нет идея создания системы коллективной безопасности.
Английскую элиту такая перспектива не прельщала и в силу тра¬
диционно подозрительного отношения к коллективным с конти¬
нентальными державами действиям, и опять-таки в силу тради¬
ционно сильных антирусских и антисоветских настроений, и из-
за убеждения в том, что с Германией можно договориться. Этими
исходными установками объяснялись все действия Британии на
международной арене в это время. В центре внимания британс¬
ких дипломатов был вопрос о подключении Гитлера к процессу
модернизации Версальской системы.
В феврале 1935 г. была обнародована Лондонская декларация,
состоявшая из четырех пунктов: 1) заключение «воздушной кон¬
венции» между Англией, Францией, Бельгией, Германией и Ита¬
лией; 2) заключение Дунайского пакта, гарантирующего незави¬
симость Австрии; 3) возвращение Германии в Лигу Наций; 4) зак¬
лючение Восточного пакта. Судьба этих предложений зависела от
409
позиции Германии, но та не спешила идти навстречу. Она предпо¬
читала раскалывать западное сообщество и добивалась того, чтобы
все переговоры шли на двусторонней основе. В итоге сложных ма¬
невров Германия в июне 1935 г. добилась согласия Британии на зак¬
лючение англо-германского морского соглашения, согласно кото¬
рому Германия официально получила право на строительство воен¬
ного флота, равного 35% тоннажа военного флота Англии.
Третья тенденция — ее представляли Германия, Италия и
Япония — была нацелена на скорейший демонтаж Версальско-
Вашингтонской системы путем откровенного разрушения ее ба¬
зовых положений. 3 октября 1935 г. итальянские войска вторг¬
лись на территорию Эфиопии, суверенного африканского государ¬
ства, являвшегося членом Лиги Наций. Это был акт ничем не при¬
крытой агрессии, имевший значительные и разнообразные послед¬
ствия. Во-первых, несмотря на свое явное преимущество, Италия
увязла в этой африканской стране. Выяснилось, что даже такое
усилие тяжелым бременем ложится на итальянскую экономику.
Оказалось, что все рассуждения Муссолини о возрождении вели¬
чия нации не имеют под собой должного фундамента и в одиночку
Италия не способна осуществить, хотя бы частично, свои гегемо-
нистские замыслы — ей необходим мощный союзник. Это стиму¬
лировало ее сближение с Германией.
Во-вторых, стало очевидно, что проблема санкций против на¬
рушителей Устава Лиги Наций была проработана недостаточно
глубоко и они были явно не адекватны тем действиям, которые
были необходимы, чтобы оказать серьезное давление на Италию.
В-третьих, выяснилось, что, несмотря на словесное осуждение аг¬
рессии, далеко не все европейские политики на деле готовы к ре¬
шительным акциям против агрессора. Более того, в прессу про¬
никли сведения о том, что министры иностранных дел Англии и
Франции (соответственно С. Хор и П. Лаваль) подписали в декаб¬
ре 1935 г. секретное соглашение о посредничестве между Эфиопи¬
ей и Италией, а точнее, о принуждении Эфиопии принять усло¬
вия Италии. И это происходило в разгар обсуждение вопроса об
ужесточении санкций против Италии, когда официальные пред¬
ставители Лондона и Парижа в Лиге Наций вовсю клеймили по¬
зором агрессора. Престижу Лиги Наций был нанесен серьезный
ущерб. В-четвертых, события, связанные с агрессией против Эфи¬
опии, стимулировали принятие законодательства о нейтралите¬
те, которое вплоть до вступления США во Вторую мировую войну
определяло характер внешнеполитического курса этой страны. Это
был крупный успех сторонников изоляционизма, закрепивших
свое решающее влияние на разработку принципов, которыми США
руководствовались в мировых делах во второй половине 30-х гг.
410
Наконец, эти события вели к формированию в мировых делах
вполне определенного политического климата. Гаранты Версаль¬
ско-Вашингтонской системы Великобритания и Франция, несмот¬
ря на многочисленные факты нарушения основополагающих па¬
раметров этой системы со стороны Германии, Японии и Италии,
никак не хотели понять, с кем они имеют дело. В их глазах эти
державы представлялись вполне обычными, «рациональными
актерами» в системе международных отношений, которые, как и
все, хотят добиться разумного увеличения своей мощи. Все осталь¬
ное — не более чем дымовая завеса, политический блеф, ибо эти
цели просто недостижимы.
Английские и французские политики объясняли повышенную
агрессивность «держав оси» тем, что в процессе становления дан¬
ной модели системы международных отношений были в той или
иной мере ущемлены законные государственные интересы этих
держав. Следовательно, если в определенной мере пойти навстре¬
чу их требованиям, можно будет восстановить разрушающиеся на
глазах элементы консенсуса в международных отношениях, мо¬
дернизировать пребывавшую в глубоком кризисе Версальско-Ва-
шингтойскую систему. Такая оценка ситуации на международной
арене и породила в итоге политику «умиротворения», и первые
шаги в этом направлении как раз были сделаны в середине 30-х гг.,
в частности в ходе итало-эфиопского конфликта.
Лучше всех почувствовал эти настроения А. Гитлер. Он же
первый понял, какие возможности открываются для рейха в све¬
те такого поведения гарантов Версальской системы. Своего рода
пробным тестом, призванным наглядно показать, насколько вер¬
ными были оценки международной обстановки, стало решение о
введении в марте 1936 г. немецких войск в демилитаризованную
по Версальскому миру Рейнскую область. Несмотря на очевидное
нарушение существовавших тогда международных норм, этот шаг
Германии не встретил сколько-нибудь серьезного осуждения на
Западе, что лишний раз убедило Гитлера в правильности избран¬
ной им линии поведения на международной арене. Он стал чув¬
ствовать себя еще более уверенно.
Не успели затихнуть дебаты по поводу событий в Эфиопии, как
возник новый очаг международной напряженности, на этот раз на
юге Европы. В июле 1936 г. в Испании вспыхнула гражданская вой¬
на. Еще в 1931 г. в этой стране произошла революция, в результате
которой был свергнут диктаторский режим и была провозглашена
республика. Очень быстро в стране стала расти поляризация обще¬
ственно-политических сил. В феврале 1936 г. на выборах победу
одержали левые силы, объединившиеся в Народный фронт. Явный
сдвиг влево в политике нового республиканского правительства
411
побудил их оппонентов отказаться от политической борьбы и пе¬
рейти к военной: против законного правительства был поднят мя¬
теж, который возглавил генерал Франсиско Франко.
Начавшаяся гражданская война быстро переросла внутренние
рамки. Испания стала своеобразным полигоном, на котором про¬
изошло первое открытое столкновение про- и антифашистских
сил. Дело в том, что мятежников с самого начала почти открыто и
очень активно поддерживали Германия и Италия, а республикан¬
ское правительство — добровольцы из многих стран Европы и
США. Помогал им и Советский Союз. Что касается правительств
Великобритании и Франции, то они заявили, что будут проводит*»
политику невмешательства во внутрииспанский конфликт, что
объективно было на руку мятежникам, ибо Германия и Италия
неуклонно наращивали свою помощь Франко.
В 1935-1937 гг. три великие державы — Германия, Япония и
Италия — неуклонно вели курс на развал существовавшей систе¬
мы международных отношений. Общая стратегическая задача
диктовала необходимость объединения их усилий. В1936-1937 гг.
оформился так называемый Антикоминтерновский пакт, куда
вошли Германия, Япония и Италия. «Державы оси» — так часто
называли новый агрессивный блок — активно использовали ан¬
тикоммунистическую риторику для камуфлирования своих истин¬
ных целей, которые заключались в установлении гегемонии в ми¬
ровых делах.
Еще в 1936 г. правительство К. Хироты одобрило программ¬
ный документ под названием «Основные принципы национальной
политики», предусматривавший экспансию на юг. Реализуя эту
установку, летом 1937 г. Япония, успевшая создать солидный
плацдарм в Маньчжурии, начала наступление в глубь Китая. Во¬
енные действия там захватывали все большую территорию. По
существу, к 1938 г. «державы оси» овладели стратегической ини¬
циативой и своими действиями определяли общую динамику раз¬
вития событий на международной арене, приближая развал став¬
шей им совершенно ненужной Версальско-Вашингтонской систе¬
мы. Их основные потенциальные оппоненты — Англия, Франция,
СССР, США — в этот критический момент, когда еще были шан¬
сы предотвратить сползание мира к новой глобальной войне, не
смогли проявить должной воли, преодолеть разделявшие их раз¬
ногласия и выступить единым фронтом против «держав оси». Каж¬
дый полагал, что в одиночку он лучше обеспечит свою безопас¬
ность.
Пользуясь этим, «державы оси» добились в 1938 г. решающих
успехов в развале Версальско-Вашингтонской системы и подготов¬
ке выгодных для себя условий начала новой мировой войны» В
412
мартеД938 г. Гитлер осуществил свой давнишний план аншлюса
(поглощения) Австрии, которая вошла, вопреки условиям Вер¬
сальского мира, в состав рейха. Надо сказать, что эта идея возник¬
ла в умах политической элиты Германии еще до прихода Гитлера
к власти. В 1931 г. руководство Веймарской республики попыта¬
лось произвести так называемый «мягкий» аншлюс. В марте это¬
го года было подписано соглашение с Австрией о таможенном со¬
юзе. Однако резкое противодействие Франции и Италии привело
к тому, что Международный суд признал этот факт противореча¬
щим условиям послевоенного урегулирования. Тогда оставшаяся
в изоляции Германия отступила. Вторая попытка аншлюса была
предпринята уже при Гитлере в 1934 г., когда нацистскими аген¬
тами был убит канцлер Австрии Дольфус. Но и на сей раз добить¬
ся желаемого Германия не смогла. И только с третьей попытки,
когда политика «умиротворения» стала определять политическую
атмосферу в Западной Европе, планы Гитлера осуществились.
Успех сопутствовал ему и на Пиренеях. Интенсивная помощь
генералу Франко позволила добиться перелома в ходе гражданс¬
кой войны, и чуть позднее, в марте 1939 г., войска мятежников
вошли в Мадрид. Франко стал полновластным хозяином Испании.
Летом 1938 г. японцы провели разведку боем на советско-мань¬
чжурской границе в районе озера Хасан. По-видимому, они хоте¬
ли проверить боеспособность нашей армии после сталинских чис¬
ток высшего армейского командования. «Опыт» оказался неудач¬
ным, и это еще больше укрепило позиции той части японской эли¬
ты, которая полагала, что с точки зрения глобальных планов Япо¬
нии перспективнее развивать экспансию в южном направлении.
В историографии уже более полувека идут споры по поводу
того, когда мир подошел к той точке, после прохождения которой
избежать войны было уже невозможно. Такой момент наступил
осенью 1938 г. Речь идет о так называемом Мюнхенском сговоре —
международном кризисе, пик которого пришелся на сентябрь.
Гитлер, используя в качестве предлога для давления на Чехосло¬
вакию проблему судетских немцев, потребовал, чтобы правитель¬
ство Чехословакии согласилось на передачу Германии исключи¬
тельно важной в стратегическом отношении Судетской области.
Со стороны Гитлера это был достаточно рискованный шаг, ибо у
Чехословакии имелись договорные связи с Францией и СССР. Од¬
нако президент Чехословакии Э. Бенеш не решался обратиться к
СССР за помощью, возложив в этой критической ситуации все
надежды на Францию. Однако к 1938 г. там полностью возоблада¬
ла линия на «умиротворение» Гитлера. Сторонники этого курса
были твердо убеждены, что с Гитлером можно договориться, что
по-прежнему имеются шансы на создание в той или иной форме
413
блока из ведущих западноевропейских стран. Ради этого они го¬
товы были пожертвовать Чехословакией.
29-30 сентября в Мюнхене произошла встреча лидеров четы¬
рех европейских держав: А. Гитлера, Б. Муссолини, Э. Даладье и
Н. Чемберлена, на которой Англия и Франция дали добро на рас¬
членение Чехословакии в обмен на словесные заверения Гитлера
в том, что у него больше нет' территориальных претензий к своим
соседям. Присоединение одной из наиболее развитых в экономи¬
ческом отношении областей Центральной Европы к Германии за-
метно укрепило ее военно-промышленный потенциал, улучшило
стратегическое положение рейха и, наоборот, по существу лиша¬
ло Англию и Францию важного потенциального союзника, ибо,
несмотря на заверения Гитлера, судьба Чехословакии была пред¬
решена: в марте 1939 г. немцы оккупировали Чехию и Моравию,
а в Словакии было создано формально независимое, но на деле под¬
контрольное Германии государство. К этому надо добавить, что в
это время к Антикоминтерновскому пакту присоединилась Венг¬
рия, а в апреле 1939 г. Италия захватила Албанию.
С каждым днем становилось все очевиднее, что мир движется
к новой войне; по сути, весной 1939 г. он был уже на самом ее по¬
роге. Даже Чемберлену и Даладье — активнейшим сторонникам
политики «умиротворения» —было невозможно игнорировать это
обстоятельство. Это побудило их начать в апреле 1939 г. перегово¬
ры с Советским Союзом о возможных совместных действиях в слу¬
чае развязывания Гитлером широкомасштабной агрессии против
других европейских государств. К сожалению, переговоры эти
шли с огромным трудом. Стороны явно не доверяли друг другу,
поэтому согласование любой, даже мелкой детали превращалось
в серьезную проблему. Ситуация между тем осложнялась с каж¬
дым днем, причем не только в Европе.
Весной 1939 г. японцы напали на Монголию, у которой был
договор о взаимопомощи с СССР. В районе реки Халхин-Гол нача¬
лись крупномасштабные боевые действия между советско-мон¬
гольскими и японскими войсками. В ходе ожесточенных боев,
продолжавшихся вплоть до конца августа 1989 г., впервые рас¬
крылся полководческий талант крупнейшего советского воена¬
чальника времен Отечественной войны Г. К. Жукова. Попытка
японцев развернуть экспансию в северо-западном направлении
стала для них суровым уроком. Советский Союз наглядно проде¬
монстрировал, что он в состоянии организовать эффективный от¬
пор любым агрессивным акциям в этом регионе. Это обстоятель¬
ство усилило позиции сторонников южного направления разви¬
тия экспансии в правящей элите Японии и укрепило безопасность
восточных границ нашей страны.
414
К августу 1939 г. советско-английско-французские перегово¬
ры явно зашли в тупик. В этой обстановке советское руководство
в целях обеспечения безопасности страны решилось на резкое из¬
менение ориентации своего внешнеполитического курса. 23 авгу¬
ста 1939 г. мир узнал сенсационную новость: СССР и Германия
подписали договор о ненападении. Если отбросить идеологичес¬
кие клише советского и постсоветского периода, то очевидно, что
этот договор вполне соответствовал государственным интересам
СССР, ибо давал ему отсрочку от участия в готовой вот-вот начаться
войне. И это главное. Что касается сфер влияния, о которых шла
речь на германо-советских переговорах, то это была общеприня¬
тая практика и в сферу советского влияния были отнесены только
те регионы, которые традиционно входили в состав России (кста¬
ти, в 1920 г. сама Англия в ходе советско-польской войны предло¬
жила установить примерно такую же границу для Советской Рос¬
сии).
Западу пришлось дорого заплатить за близорукую политику
«умиротворения»: нежелание вести конструктивные переговоры
с СССР о совместных действиях против возможного агрессора при¬
вело к тому, что он остался один на один с Германией, и Гитлер не
преминул этим воспользоваться. 1 сентября 1939 г., организовав
провокацию на германско-польской границе, немцы напали на
Польшу, у которой были договоры о взаимопомощи с Англией и
Францией. Так началась Вторая мировая война.
ГЛАВА VI
Вторая мировая война: военно-
дипломатическая история (1939—1945)
§ 1. Тень свастики над Европой: боевые
действия в 1939-1941 гг.
Начав 1 сентября 1939 г. войну, немцы бросили свои основ¬
ные силы на Польшу, оставив на Западе лишь сравнительно сла¬
бый заслон. Немецкая армия обладала подавляющим преимуще¬
ством в технике и в людских ресурсах. Несмотря на отчаянное со¬
противление польской армии, немцы стремительно продвигались
в глубь страны. 16 сентября польское правительство эмигрирова¬
ло в Лондон, а к концу сентября территория страны была полнос¬
тью оккупирована. На ее месте было создано генерал-губернатор¬
ство, управляемое немецким наместником. Что касается Запад¬
ной Белоруссии и Западной Украины, входивших тогда в состав
Польши, то после бегства польского правительства в Англию со¬
ветские войска вступили на эту территорию, которая была вклю¬
чена в состав СССР.
На Западе тем временем происходили события, вошедшие в
историю под названием «странная война». Хотя война была объяв¬
лена, никаких серьезных боевых действий там не велось. Зато в
конце ноября 1939 г. началась война на севере Европы. Советское
правительство, потеряв надежду на урегулирование переговорным
путем пограничного конфликта с Финляндией, решило добиться
своего силовыми методами. 30 ноября 1939 г. советские войска
начали боевые действия против Финляндии. Война оказалась весь¬
ма неудачной для СССР. Красная армия несла большие потери и
никак не могла добиться решающего перевеса на фронте. Эта ак¬
ция нанесла большой ущерб престижу СССР: он был исключен из
Лиги Наций. На Западе попытались использовать это событие для
416
формирования единого антисоветского фронта. Ценой больших
потерь СССР удаЛось в марте 1940 г. завершить эту войну. Финс¬
кая граница была отодвинута от Ленинграда, Мурманска и Мур¬
манской железной дороги.
В апреле того же года совершенно неожиданно для Лондона и
Парижа «странная война» закончилась: 9 апреля немцы в течение
суток оккупировали Данию и высадились в Норвегии. Эти события
нанесли серьезный удар по позициям сторонников политики «уми¬
ротворения» Гитлера во Франции и особенно в Англии. Правитель¬
ство Н. Чемберлена вынуждено было уйти в отставку. Его место за¬
нял один из крупнейших политиков XX века Уинстон Черчилль,
сторонник решительной борьбы с нацистской Германией.
Однако произошло это слишком поздно: Гитлер уже успел за¬
вершить подготовку к нанесению решающего удара на Западном
фронте. 10 мая немцы в обход «линии Мажино» вторглись в Бель¬
гию и Голландию, а уже оттуда в Северную Францию. В районе
Дюнкерка 400-тысячная англо-французская группировка попала
в окружение. Лишь с большим трудом и с огромными потерями
удалось эвакуировать ее остатки в Англию. Немцы тем временем
стремительно продвигались к Парижу. 10 июня правительство
бежало из Парижа в Бордо. Через несколько дней правительство
возглавил маршал Ф. Петен, который немедленно обратился к
Германии с просьбой о мире. Франция в лице ее коллаборациони¬
стской верхушки признала свое поражение.
Согласно условиям Компьенского перемирия Германия полу¬
чала огромную контрибуцию и оккупировала 2/3 территории
Франции, включая Париж. Южная часть страны формально оста¬
лась независимой. Небольшой городок Виши был избран в каче¬
стве резиденции правительства Петена, который стал теснейшим
образом сотрудничать с Германией. Возникает вопрос: почему
Гитлер решил хотя бы формально сохранить за Францией часть
суверенитета? За этим крылся вполне прагматический расчет. Во-
первых, таким образом он избегал постановки вопроса о судьбе
французской колониальной империи и французского военного
флота, ибо в случае полной ликвидации независимости Франции
немцы вряд ли смогли бы помешать военным морякам уйти в Ан¬
глию и наверняка не сумели бы предотвратить переход огромной
французской колониальной империи и находившихся там войск
под контроль Британии. А так французский маршал Петен кате¬
горически запретил флоту и колониальным войскам покидать свои
базы. Кроме того, наличие формально независимой Франции тор¬
мозило развитие движения Сопротивления, что в условиях подго¬
товки Гитлера к прыжку через Ла-Манш было для него весьма
актуальным.
417
Военная катастрофа, постигшая Францию, вызвала настоя¬
щий шок в США. Только наиболее твердолобые изоляционисты (а
их число таяло) продолжали утверждать, что США нет дела до того,
что происходит в Европе. Что касается Ф. Д. Рузвельта, то он сра¬
зу же после начала боевых действий в Старом Свете взял курс на
постепенное изменение законодательства о нейтралитете в пользу
Англии. Сначала был введен выгодный ей принцип cash and carry
(плати и вези), позволивший закупать различные виды вооруже¬
ния в США и перевозить их на английских судах. После своего
беспрецедентного переизбрания на третий срок в качестве прези¬
дента США в ноябре 1940 г. Рузвельт еще решительнее включил¬
ся в борьбу за отмену законодательства о нейтралитете. В январе
1941 г. он внес в конгресс законопроект о ленд-лизе, который пос¬
ле ожесточеннейшей борьбы был принят в марте 1941 г. Речь в нем
шла о предоставлении оружия и иного военного снаряжения взай¬
мы или в аренду тем странам, оборона которых была жизненно
важной для интересов США. После этого Великобритания, финан¬
сы которой были истощены, стала по сути бесплатно получать из
Америки вооружение, продовольствие и т.д.
Одновременно правительство США активно занималось укреп¬
лением собственных позиций в Западном полушарии. В июле
1940 г. под давлением США большинство латиноамериканских
государств подписали Гаванскую декларацию, в которой говори¬
лось, что они будут решительно противодействовать попыткам
любой из европейских держав изменить политическую карту ре¬
гиона. В сентябре 1940 г. США совершили весьма выгодную сдел¬
ку с Великобританией: передали ей 50 не самых новых эсминцев в
обмен на право взять под свой контроль 8 английских военно-мор¬
ских баз в Западном полушарии. Это значительно повысило воз¬
можности ВМС США в охране подступов к американскому конти¬
ненту. Несколько позднее, в апреле 1941 г., США ввели свои вой¬
ска на территорию Гренландии (тогда колония Дании), для того
чтобы предотвратить возможное появление там немцев, оккупи¬
ровавших к этому времени Данию. Наконец, в июле 1941 г. аме¬
риканские войска были введены в Исландию, которая вскоре ста¬
ла важнейшим перевалочным пунктом на пути военных конвоев
из Америки в Европу. Одновременно они предотвратили появле¬
ние вооруженных сил рейха на подступах к Америке.
Война тем временем набирала обороты, в ее орбиту включались
все новые страны и территории. Летом 1940 г., воспользовавшись
тем, что основная часть вооруженных сил Англии готовилась к от¬
ражению немецкого вторжения на Британские острова, итальянс¬
кие войска вторглись в Британское Сомали, но были разбиты. В
Северной Африке итальянцы в сентябре 1940 г. попытались захва¬
418
тить Египет и овладеть Суэцким каналом, но и здесь потерпели не¬
удачу. 28 октября 1940 г. Муссолини, не оставлявший надежд на
создание своей империи, вторгся в Грецию, однако и здесь удача
отвернулась от него. Гитлеру пришлось послать в Северную Афри¬
ку танковый корпус Э. Роммеля и начать подготовку к вторжению
на Балканы. Одновременно он вел активную дипломатическую ра¬
боту по консолидации сил своих союзников. 27 сентября 1940 г.
Германия, Италия и Япония подписали Тройственный пакт о раз¬
деле мира на сферы влияния. Чуть позднее в орбиту этого пакта были
вовлечены Венгрия, Румыния и Болгария.
Шла война и на Дальнем Востоке, где неуклонно расширялась
зона конфликта в Китае. В японской элите все большее влияние
набирала группировка принца Коноэ, сторонника развития экс¬
пансии в южном направлении. У него были весомые аргументы:
Франция и Голландия были разбиты и их обширные колониаль¬
ные владения в Юго-Восточной Азии лежали практически бесхоз¬
ными, да и английские владения — Бирма, Малайя, Сингапур —
также представлялись легкой добычей. А дальше лежали Индия
и Австралия. Уже в 1940 г. японские войска заняли территорию
Индокитая.
В 1940 г. Советский Союз сумел компенсировать территори¬
альные потери, которые понесла Россия в ходе революции: в его
состав вновь вошли Прибалтика и Бессарабия, захваченная в
1918 г. Румынией.
Весной 1941 г. в центре конфликта оказалась Югославия. Го¬
товя нападение на Грецию, Гитлер был заинтересован в укрепле¬
нии позиций Германии в этой крупнейшей стране Балканского
полуострова. Под немецким нажимом правительство Югославии
подписало протокол о присоединении к Тройственному союзу. Это
вызвало такой взрыв возмущения в стране, особенно в Сербии, что
правительство пало. 5 апреля 1941 г. новое правительство Юго¬
славии заключило пакт о дружбе и ненападении с СССР, а на сле¬
дующий день немецкие войска вторглись в Югославию. В конце
месяца Югославия и Греция оказались под контролем немцев.
Таким образом, практически вся континентальная Европа, за
исключением нейтральных Швеции и Швейцарии, находилась под
контролем Германии (часть стран была оккупирована, остальные
находились в союзе с рейхом или же откровенно симпатизирова¬
ли ему). На подконтрольных им территориях немцы осуществля¬
ли радикальную перекройку прежних границ и прежних поряд¬
ков. При этом они руководствовались отчасти популярными в ру¬
ководстве рейха расовыми теориями, отчасти модными геополи¬
тическими концепциями, отчасти прежней внешнеполитической
традицией.
419
Переплетение этих подчас противоречивших друг другу посту¬
латов привело к формированию в оккупированной зоне весьма
сложной конструкции. Непосредственно в состав рейха были
включены родина фюрера Австрия, важный в экономическом и
геополитическом отношении Люксембург, отторгнутая еще в
1938 г. у Чехословакии Судетская область и заселенные преиму¬
щественно немцами западные земли Польши. В ряде стран у вла¬
сти были поставлены марионеточные, полностью подконтрольные
немцам правительства, в состав которых вошли местные коллабо¬
рационисты. Речь идет о Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии и
трех новых государствах — Словакии, Хорватии и Южной Фран¬
ции. На территории Чехии был создан протекторат Богемия и
Моравия, в Польше — управляемое назначенным Берлином наме¬
стником генерал-губернаторство. Оккупировалась и Северная
Франция. Что касается Греции и большей части Югославии, то
они были оккупированы Германией и ее союзниками — Италией,
Болгарией, Венгрией. Строились обширнее планы передела ко¬
лониальных владений в Африке.
На этом отрезке борьбу против Германии продолжала одна
Великобритания. США и СССР пока оставались вне войны. Стол¬
кнувшись с упорнейшим сопротивлением англичан и убедившись,
что немецкий флот не может обеспечить высадку массированного
десанта на Британские острова, Гитлер решил нанести превентив¬
ный удар по СССР.
22 июня 1941 г. немецкие войска без объявления войны пере¬
шли советскую границу на огромном пространстве — от берегов
Баренцева моря до Молдавии. Началась Великая Отечественная
война. Гитлер рассчитывал завершить войну за 8-10 недель. Дей¬
ствительно, из-за ошибок советского руководства наши войска
были застигнуты врасплох. В ряде случаев управление ими было
потеряно. Они несли тяжелые потери. И все же, несмотря на то
что немцы быстро продвигались в глубь страны, план «Барбарос¬
са» был сорван уже в самом начале. Ожесточеннейшие бои развер¬
нулись на всем протяжении огромного Восточного фронта. Тем не
менее стратегической инициативой владел противник. К середи¬
не июля немцы овладели почти всей Прибалтикой, Белоруссией,
Молдавией, большей частью Украины, угрожали непосредствен¬
но Киеву, Ленинграду, Смоленску. Главный удар они готовились
нанести на московском направлении.
Расчеты Гитлера не оправдались не только в чисто военном,
но и в дипломатическом плане. Он полагал, что в силу идеологи¬
ческих разногласий СССР и Англия не сумеют договориться о со¬
вместных действиях, а в США Ф. Рузвельт не сможет сломить со¬
противление изоляционистов. Однако уже летом 1941 г. были сде¬
420
ланы первые шаги в деле формирования антигитлеровской коа¬
лиции. 12 июля 1941 г. было подписано англо-советское соглаше¬
ние о совместной борьбе с Германией, а в августе после встречи
Рузвельта и Черчилля появился документ под названием «Атлан¬
тическая хартия», в которой излагались цели этих стран в войне.
Это был первый документ подобного рода, и не удивительно, что
он носил довольно абстрактный характер. Тем не менее СССР при¬
соединился к нему, и, таким образом, началась идеологическая
подготовка будущей коалиции трех великих держав. В ноябре на
Советский Союз было распространено действие законодательства
о ленд-лизе.
Весьма важные события происходили в декабре 1941 г. Нем¬
цы в это время вплотную йодошли к Москве и надеялись в самом
ближайшем будущем взять ее штурмом. Но их надеждам не суж¬
дено было сбыться: 5 декабря советские войска перешли в контр¬
наступление и отбросили немецкую группировку на 150-250 км
от Москвы. Это было первое крупное поражение немецкой армии.
Оно перечеркнуло расчеты гитлеровского командования на мол¬
ниеносный разгром СССР. Эта победа имела большое морально-
политическое значение и для нашего народа, и для всех тех в мире,
кто боролся с фашизмом. Одновременно наша армия провела ус¬
пешные наступательные операции на юге в районе Ростова-на-
Дону и на северо-западе под Тихвином.
В тот момент, когда битва под Москвой была в самом разгаре,
не менее важные события происходили на другом конце земного
шара. 7 декабря 1941 г. Япония без объявления войны напала на
крупнейшую военно-морскую базу США на Тихом океане — Пирл-
Харбор. 11 декабря Германия и Италия объявили войну США.
Таким образом, последняя из великих держав оказалась втяну¬
той в войну.
Поначалу инициативой на Тихом океане и в Азии полностью
владели японцы. Они заняли Филиппины, захватили Малайский
полуостров, а 15 февраля 1942 г. взяли штурмом основной опор¬
ный пункт Англии в этом регионе — Сингапур. Под их контролем
оказалась почти вся Индонезия, Новая Гвинея. В марте началось
наступление на Бирму, реальная угроза нависла над Индией и
Австралией. Тяжелая ситуация, сложившаяся в этой части зем¬
ного шара, побудила США и Англию создать объединенное коман¬
дование и разделить зоны ответственности. Главная задача анг¬
лийских войск заключалась в обороне Бирмы. США помогали пра¬
вительству Чан Кайши и несли основное бремя борьбы с японца¬
ми на Тихом океане.
Общая опасность, нависшая над СССР, США и Англией, сти¬
мулировала их объединение в рамках антигитлеровской коали¬
421
ции. 1 января 1942 г. в Вашингтоне представители 26 государств
подписали совместную «Декларацию Объединенных Наций», в
которой заявили о своей готовности вести совместную борьбу про¬
тив «держав оси». После этого процесс создания антигитлеровс¬
кой коалиции вступил в завершающую фазу. 26 мая 1942 г. был
подписан советско-английский союзный договор, а 11 июня 1942 г.
было заключено советско-американское соглашение «О принци¬
пах, применимых к военной помощи, в ведении войны против аг¬
рессора».
Создание антигитлеровской коалиции стало крупнейшим стра¬
тегическим просчетом Гитлера, который рассчитывал разбить сво¬
их противников поодиночке и никак не предполагал, что ему при¬
дется столкнуться с объединенными усилиями трех великих дер¬
жав. Формирование антигитлеровской коалиции стимулировало
развитие движения Сопротивления на оккупированных террито¬
риях, помогло его участникам в значительной степени устранить
идеологические разногласия из своих отношений. И опять-таки
Гитлер не предполагал, что в ряде стран (Югославия, Польша, Фран¬
ция, Греция, Албания) движение Сопротивления достигнет такого
размаха. Наконец, антигитлеровская коалиция стала своеобразным
зародышем будущей модели послевоенного устройства мира.
§ 2. Коренной перелом в ходе войны
(1942-1943 гг.)
Вплоть до весны-лета 1942 г. стратегической инициативой на
всех фронтах мировой войны полностью владели «державы оси».
Союзники по антигитлеровской коалиции вели тяжелейшие обо¬
ронительные бои. Не раз ситуация была критической, когда каза¬
лось, что фашистский блок находится в двух шагах от победы.
Однако сил для решающего успеха явно не хватало. СССР и США
смогли в короткий срок перестроить свою экономику на военные
рельсы, и это стало давать ощутимые плоды.
Перелом в войне наметился летом-осенью 1942 г. Первые ус¬
пехи, позволившие изменить общую стратегическую обстановку,
были достигнуты на Тихом океане. 7-8 мая 1942 г. в крупном мор¬
ском сражении в Коралловом море ударная японская эскадра по¬
терпела крупное поражение, в результате которого оказались пе¬
речеркнутыми японские планы вторжения в Австралию, а 4-6
июня в районе острова Мидуэй американский флот и авиация на¬
несли по японскому флоту удар такой мощи, от которого тот уже
не смог оправиться до конца войны. В итоге инициатива на этом
театре военных действий перешла к союзникам.
422
Пока шла борьба за контроль над просторами Тихого океана,
на Восточном фронте развернулось грандиозное сражение, исход
которого во многом предопределил общий итог войны. Речь идет о
битве за Сталинград. Началась она крайне неудачно для нас. При¬
дя в себя после поражения под Москвой, немецкое командование
всю зиму и начало весны 1942 г. готовилось к новому блицкригу.
На первичной стадии этого исторического сражения немцам в пос¬
ледний раз удалось переиграть наше руководство: главный удар
был нанесен не на московском направлении, как полагал
И. В. Сталин, а на юге, под Харьковом. Фронт был прорван, и не¬
мецкая танковая армада покатилась на Ростов. Вскоре стало ясно,
что ключевая точка этой кампании — Сталинград. Если немцы
смогут его взять, то они, во-первых, перережут важнейшие ком¬
муникации, связывающие центр России и Кавказ, во-вторых, со¬
здадут прямую угрозу одному из основных центров военной про¬
мышленности — Уралу и, в-третьих, получают хорошие шансы
для флангового наступления на Москву. Короче говоря, взятие
немцами Сталинграда означало, что они становились хозяевами
положения на всем Восточном фронте. Это прекрасно понимали и
немцы, и мы — от простого солдата до Верховного Главнокоман¬
дующего. Был момент, когда немцам оставалось менее одного ки¬
лометра до Волги, но пройти его они так и не смогли.
Измотав 6-ю полевую армию Ф. Паулюса, штурмовавшую го¬
род, советские войска 19 ноября 1942 г. неожиданно перешли в
контрнаступление, прорвали немецкий фронт и окружили против¬
ника. Все попытки немцев прорвать кольцо окружения закончи¬
лись провалом. 2 февраля 1943 г. остатки окруженной 33О-тысяч¬
ной немецкой группировки капитулировали. Тяжелые потери в
сражении под Сталинградом и на Дону понесли и союзники Гер¬
мании — Италия и Румыния. Там почти полностью погибла луч¬
шая в вооруженных силах Италии 8-ая армия и две румынские
арМйи. Развивая успех, советские войска перешли в наступление
на других участках советско-германского фронта. Они освободи¬
ли весь Северный Кавказ, Кубань, большую часть Донбасса, про¬
рвали блокаду Ленинграда.
Осенью 1942 г. наметился перелом и в сражении за контроль
над Северной Африкой. В конце октября англичане перешли в
наступление в Египте, у Эль-Аламейна. В ноябре в Марокко и Ал¬
жире высадился англо-американский десант под командовани¬
ем генерала Д. Эйзенхауэра. На планах немцев прорваться на
Ближний Восток, а оттуда в Иран был поставлен крест. Немцы
попытались превратить Тунис в свой опорный пункт в Северной
Африке. Туда были переброшены подкрепления. Поскольку
французская колониальная армия в своей основе, вопреки при¬
423
казу Петена, перешла на сторону союзников, взбешенный Гит¬
лер отдал приказ об оккупации южной Франции. Однако закре¬
питься в Тунисе немцам не удалось. 13 мая 1943 г. их группи¬
ровка там капитулировала.
Процесс коренного перелома в войне завершился в ходе гран¬
диозной битвы на Курской дуге в июле-августе 1943 г. Кульмина¬
цией ее стало крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой, а
завершилась эта операция взятием Харькова. В результате этих
событий Красная армия овладела стратегической инициативой и
уже не упускала ее до конца войны.
Серьезные поражения, которые на всех фронтах понесли «дер¬
жавы оси» в 1943 г., вызвали кризис фашистского блока. Слабей¬
шим звеном в нем оказалась Италия. Многочисленные авантюры
Б. Муссолини подорвали ее экономику, итальянскую армию пре¬
следовали постоянные поражения, в стране нарастало недоволь¬
ство фашистским режимом. С каждым днем набирало размах дви¬
жение Сопротивления. Недовольство проникало даже в элиту ита¬
льянского общества, где росло понимание того, что поражение
фашистского блока неизбежно.
10 июля 1943 г. американцы, почти не встретив сопротивле¬
ния, высадились на острове Сицилия. 25 июля Большой фашист¬
ский совет выразил недоверие Муссолини, и в тот же день его вы¬
нудили отречься от власти, после чего он был арестован. Главой
государства стал его ближайший сподвижник маршал П. Бадольо,
который 27 июля распустил фашистскую партию. Тем временем
англо-американские войска высадились на Апеннинском полуос¬
трове и быстро двигались на Неаполь. 8 сентября Бадольо подпи¬
сал с англо-американским командованием перемирие. Правда,
немцы немедленно разоружили итальянскую армию и оккупиро¬
вали Северную и Центральную Италию. Возник Итальянский
фронт. Б. Муссолини был освобожден немецкими десантниками
и вновь возглавил государство, но теперь он полностью зависел от
Германии.
Решающие события, определявшие исход войны, безусловно
происходили на фронтах, но для судеб мира, для будущего циви¬
лизации большое значение имело и то, что происходило в дипло¬
матической сфере. По мере того, как все более четко вырисовыва¬
лись перспективы окончания войны, перед лидерами антигитле¬
ровской коалиции вставали задачи огромного масштаба, связан¬
ные с завершением войны и послевоенным урегулированием. Явно
наметившаяся перспектива разгрома «держав оси» привела к
тому, что к первоначальному ядру Объединенных Наций в 1943 г.
присоединился еще ряд ранее нейтральных стран Латинской Аме¬
рики, в том числе и крупнейшее государство региона Бразилия,
424
где немцы еще в 30-е гг. пытались закрепиться. К антигитлеровс¬
кой коалиции примкнули Иран и Ирак, где находились войска
союзников. Этот акт закрепил их преобладающие позиции на
Ближнем Востоке и в районе Персидского залива, полностью обе¬
зопасил их важнейшие коммуникации и позволил усилить давле¬
ние на Турцию. В итоге «Декларацию Объединенных Наций» под¬
писали к концу 1943 г. уже 32 государства.
Для успешного окончания войны важно было не допустить
возникновения серьезных трещин в отношениях «большой трой¬
ки». А проблемы в этой сфере имелись. Прежде всего это касалось
степени взаимного доверия ведущих участников антигитлеровс¬
кой коалиции. Их лидеры прекрасно понимали, что вплоть до раз¬
грома противника они нужны друг другу. Однако уже тогда было
ясно, что в вопросах послевоенного урегулирования каждая из
великих держав будет преследовать собственные, далеко не все¬
гда совпадающие цели. Важно было не допустить усиления цент¬
робежных тенденций внутри коалиции, а для этого требовалось
развивать механизм взаимных консультаций на разных уровнях,
включая высший.
В августе 1943 г. в канадском городе Квебеке состоялась встре¬
ча Ф. Рузвельта и У. Черчилля, на которой обсуждались вопросы
выработки совместной стратегии по ключевым проблемам на за¬
вершающей стадии войны. И президент, и премьер-министр при¬
шли к выводу, что в интересах союзников ускорить подготовку к
открытию второго фронта. Там же обсуждалась проблема выра¬
ботки совместной линии поведения западных союзников по двум
вопросам, по которым у них существовали серьезные расхожде¬
ния с СССР. Речь шла о ситуации вокруг Польши и Франции, где
СССР и западные союзники поддерживали соперничавшие груп¬
пировки и по-разному видели себе будущее этих государств. Было
очевидно, что без активизации консультаций с СССР эти спорные
моменты вряд ли удастся сдвинуть с мертвой точки, а это негатив¬
но влияло на эффективность антигитлеровской коалиции.
В принципе консультации на эту тему шли с самого начала
1943 г., но первый серьезный шаг к их решению был сделан на
Московской конференции министров иностранных дел СССР,
США и Великобритании, проходившей с 19 по 30 октября 1943 г.
Министры готовили первую в истории встречу «большой тройки».
В центре их внимания было несколько вопросов.
Участники конференции достигли предварительной догово¬
ренности о том, что второй фронт должен быть открыт весной
1944 г. во Франции. Было принято решение учредить Европейс¬
кую консультативную комиссию из представителей трех ведущих
держав коалиции для изучения «европейских проблем, связанных
425
с окончанием войны». Было одобрено несколько важных докумен¬
тов, прежде всего «Декларация о всеобщей безопасности» (ее под¬
писал еще и Китай), в которой говорилось об учреждении сразу
после войны всеобщей международной организации для поддер¬
жания мира и безопасности, основанной на принципах суверени¬
тета и равенства всех миролюбивых государств. Была также при¬
нята «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершен¬
ные преступления». Наконец, были одобрены «Декларация об
Италии» и «Декларация об Австрии», в которых в общей форме
говорилось о будущем этих государств.
Большая работа, проделанная дипломатами трех стран, позво¬
лила провести 28 ноября — 1 декабря 1943 г. встречу на высшем
уровне в Тегеране. И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт и У. Черчилль
обсуждали вопросы ведения войны и послевоенного урегулирова¬
ния. Было подтверждено решение об открытии второго фронта во
Франции в мае 1944 г. Удалось достигнуть предварительной дого¬
воренности о будущих границах Польши. На востоке ее предпола¬
галось провести по линии Керзона (т.е. признавались границы,
оформившиеся после воссоединения Западной Украины и Запад¬
ной Белоруссии с СССР), на западе — по Одеру-Нейсе. Восточная
Пруссия, кроме Кенигсберга, должна была отойти к Польше. Воп¬
рос о будущем Германии было решено передать для дальнейшей
проработки в Европейскую консультативную комиссию.
В итоге Тегеранской конференции впервые на высшем уровне
была согласована общая стратегия, что, безусловно, укрепило ан¬
тигитлеровскую коалицию. На Тегеранской конференции стали
прорисовываться основы будущего биполярного мира. Хотя фор¬
мально сохранялась «большая тройка», выяснилось, что приня¬
тие фундаментальных решений зависит в первую очередь от двух
держав — США и СССР. Укрепив антигитлеровскую коалицию,
ее участники уверенно вступили в завершающую фазу войны.
§ 3. Разгром гитлеровской Германии
и милитаристской Японии
С начала 1944 г. Советская армия развернула мощное наступ¬
ление на всех фронтах. К осени большая часть территории Советс¬
кого Союза (за исключением Прибалтики) была очищена от окку¬
пантов, и война была перенесена за пределы нашей страны. Гит¬
леровский блок стал разваливаться на глазах. 23 августа 1944 г.
пал фашистский режим Й. Антонеску в Румынии, и эта страна
объявила войну Германии. 9 сентября вспыхнуло восстание в Бол¬
гарии, во главе которого стояли коммунисты. К власти там прц-
426
шло правительство Отечественного фронта, которое немедленно
распустило все фашистские организации. 19 сентября было под¬
писано перемирие с Финляндией. В Европе у Германии остался
лишь один союзник — Венгрия.
Положение Германии еще больше ухудшилось после того,
как 6 июня 1944 г. был открыт второй фронт в Нормандии
(Франция). Во Франции резко активизировалось движение Со¬
противления. 19 августа 1944 г. французские патриоты подня¬
ли восстание в Париже, и когда 25 августа к нему подошли со¬
юзные войска, большая часть города была уже освобождена. В
это же время союзные войска вытеснили немцев из Централь¬
ной Италии в Северную. В конце августа вспыхнуло антифаши¬
стское восстание в Словакии. 20 октября был освобожден Белг¬
рад. В Греции высадились англичане. Успешно шли дела и на
Тихом океане. В августе 1944 г. американцы после упорных боев
овладели Марианскими островами. С военно-воздушной базы,
рарположенной на этих островах, тяжелые американские бом¬
бардировщики могли бомбить Японию, положение которой пос¬
ле этого резко ухудшилось.
Все это во весь рост ставило проблему послевоенного урегули¬
рования. Осенью 1944 г. на конференции в Думбартон-Оксе (США)
была в основном завершена подготовка Устава новой международ¬
ной организации по поддержанию мира — ООН. А чуть ранее, на
конференции в Бреттон-Вудсе, обсуждались вопросы, связанные
с созданием международной валютной системы. Там было приня¬
то решение об образовании двух важнейших международных фи¬
нансовых институтов — Международного валютного фонда (МВФ)
и Международного банка реконструкции и развития (МБРР), на
которых держалась вся послевоенная валютно-финансовая систе¬
ма. Ключевую роль в этих организациях изначально стали играть
США, умело использовавшие их для укрепления своего влияния
в мировых делах.
Лидеры «большой тройки» вплотную занялись проблемами
послевоенного урегулирования на Ялтинской конференции, состо¬
явшейся в феврале 1945 г. Именно там были заложены основы
послевоенной системы международных отношений. В работе этой
конференции, условно говоря, можно выделить две стороны: офи¬
циальную и неофициальную. Официально в повестке дня было
несколько проблем: германский вопрос, польский вопрос, вопрос
об учреждении ООН и об участии СССР в войне с Японией. Что
касается германского вопроса, то была достигнута договоренность
о совместной оккупации ее территории и об учреждении после
победы Контрольного Совета для проведения согласованной поли¬
тики в отношении поверженной Германии. Договорились участ¬
427
ники конференции и по проблемам репараций. Их объем устанав¬
ливался в размере 20 млрд, долл., и половина этой суммы причи¬
талась СССР.
Острые споры вызвал вопрос о будущем Польши. На сей раз
речь шла не столько о границах, сколько об ее будущем государ¬
ственном устройстве. Дело в том, что на управление страной пре¬
тендовали две силы — Временное правительство, созданное на базе
Польского комитета национального освобождения, где доминиро¬
вали коммунисты, и то правительство, которое еще в сентябре
1939 г. эмигрировало в Лондон. Они по-разному видели себе буду¬
щее Польши, и отношения между ними были не просто натянуты¬
ми, а откровенно враждебными. Было решено, что в ближайшем
будущем в состав Временного правительства следует включить ряд
деятелей из некоммунистических партий.
В Ялте были сняты последние препоны на пути к созданию
ООН. По предложению Ф. Рузвельта вводился принцип единогла¬
сия при голосовании в Совете Безопасности ООН. Учредительная
конференция ООН должна была открыться в Сан-Франциско 25
апреля 1945 г. Советский Союз взял на себя обязательство всту¬
пить в войну против Японии через 2-3 месяца после разгрома Гер¬
мании. По итогам конференции была обнародована «Декларация
об освобожденной Европе», где говорилось о тех общих принцип
пах, которыми собирались руководствоваться державы-победи¬
тельницы в деле реконструкции этого континента.
Но были и другие, пожалуй, более важные итоги работы этой
конференции. На ней сформировался фундамент биполярной си¬
стемы международных отношений, просуществовавшей почти
полвека, до рубежа 80-90-х гг. В основе этого процесса лежало
резкое увеличение совокупной мощи двух держав — США и
СССР, которые к концу войны далеко оторвались от других ве¬
ликих держав. Важно отметить, что они обладали примерно рав¬
новеликой мощью и, таким образом, уравновешивали друг дру¬
га. В то же время они превратились в два центра притяжения,
два полюса, на которые стали все больше ориентироваться дру<-
гие страны. Становилось очевидным, что только они в новом,
послевоенном мире смогут диктовать свою волю, свои условия,
определять его параметры. Об этом и говорили Рузвельт со Ста¬
линым во время своих встреч в Ялте. В итоге они согласились,
что каждая из двух сверхдержав по справедливости должна иметь
свою сферу влияния. Прежде всего речь шла о Европе, ибо оба
лидера тогда были твердо убеждены, что будущее всего мира бу¬
дет определяться именно там. Поэтому Старый Свет поделили:
Западная Европа попала в сферу влияния США, Восточная — в
сферу влияния СССР. Впоследствии обе стороны упрекали друг
428
друга в нарушении условий этого соглашения, но в силу равен¬
ства их возможностей оно оказалось очень прочным.
Это, однако, было делом будущего, а тогда главным было до¬
стижение скорейшей победы. К началу февраля 1945 г. советс¬
кие войска вышли на Одер. 13 февраля был взят Будапешт, сто¬
лица последнего европейского союзника Германии. В феврале на¬
чалось наступление союзников на Западном фронте, и к марту
их войска вышли к Рейну. Война была перенесена на террито¬
рию собственно рейха. 13 апреля советские войска взяли Вену, а
24 апреля началась битва за Берлин. 29 апреля капитулировала
немецкая группировка в Италии. Незадолго до этого итальянс¬
кие партизаны арестовали и казнили Б. Муссолини. 30 апреля
покончил жизнь самоубийством А. Гитлер, а 2 мая гарнизон Бер¬
лина капитулировал. С 5 по 9 мая продолжались бои за Прагу. В
ночь с 8 на 9 мая 1945 г. немцы вынуждены были подписать акт
о полной и безоговорочной капитуляции Германии. Война в Ев¬
ропе закончилась.
Незадолго до этого, 25 апреля, в Сан-Франциско, как и плани¬
ровалось, начала работу Учредительная конференция ООН. В ней
участвовали делегации 42 стран. Единственный пункт повестки
дня т— принятие Устава ООН. Работа конференции завершилась
26 июня 1945 г. Устав был одобрен и стал одним из основополага¬
ющих документов международного права.
С разгромом Германии Вторая мировая война еще не закончи¬
лась, но уже было абсолютно ясно, на чьей стороне будет победа и
кто будет диктовать условия мирного урегулирования. Конкрети¬
зировать их предстояло главам государств «большой тройки» на
конференции в Потсдаме, проходившей с 17 июля по 2 августа
1945 г. Персональный состав тройки претерпел серьезные изме¬
нения. Еще 12 апреля 1945 г. скончался Ф. Рузвельт — президен¬
том США стал Г. Трумэн. В разгар конференции в Англии состоя¬
лись выборы, которые У. Черчилль проиграл. Его преемником стал
лидер лейбористов К. Эттли. Лишь И. В. Сталин сохранил свои
полномочия.
Участники конференции выразили желание сотрудничать в
послевоенном мире. Сталин подтвердил готовность СССР вступить
в войну с Японией. Было принято решение о создании Совета ми¬
нистров иностранных дел (СМИД) из представителей 5 держав
(США, СССР, Великобритания, Франция и Китай). Именно этому
органу, а не ООН было поручено готовить мирные договоры с быв¬
шими вражескими государствами. Наконец, был одобрен доку¬
мент с достаточно сложным названием «Политические и эконо¬
мические принципы, которыми необходимо руководствоваться
прц обращении с Германией в начальный контрольный период».
429
К числу таковых было отнесено четыре принципа: демократиза¬
ция, декартелизация, денацификация и демилитаризация.
Тем временем и на Тихом океане война приближалась к завер¬
шению. В конце осени 1944 г. завязалось ожесточенное сражение
за контроль над Филиппинскими островами. Его судьба решалась
в ходе четырехдневного морского сражения около острова Лейте,
где Япония потеряла свои последние авианосцы и большую часть
морской авиации. Остатки японского флота после этого разгрома
уже не решались на крупные операции. Связи Японии с войска¬
ми, находившимися на заморских территориях, были серьезно
нарушены. Тем не менее высшее военное командование «страны
восходящего солнца» не собиралось мириться с неуклонно надви¬
гавшейся катастрофой. По его приказу группировки японский
войск, расположенные в Бирме и в Южном Китае, перешли в на¬
ступление. Однако к весне 1945 г. на обоих фронтах чаша весов
склонилась на сторону противников Японии. В июне американцы
после тяжелых боев взяли остров Окинаву, находившийся в не¬
посредственной близости от основной территории Японии,
Стремясь осложнить положение англо-американских войск и
ослабить их натиск на Японию, ее правительство пыталось исполь¬
зовать в своих интересах национально-освободительное движение
в азиатских странах. Было объявлено о предоставлении независи¬
мости Бирме, Филиппинам и Индокитаю. Но все эти маневры уже
не могли спасти империю, как не могли предотвратить ее крах и
принятие плана тотальной мобилизации всех военных и экономи¬
ческих ресурсов, подобренного правительством генерала Койсо на
последней стадии войны, с тем чтобы максимально оттянуть воен¬
ную катастрофу. Одновременно японские власти всячески пыта¬
лись внести раскол в ряды союзников, обращаясь к ним с различ¬
ными планами заключения перемирия. Все эти усилия оказались
тщетными. Кольцо вокруг Японии сжималось все туже. Итог вой¬
ны уже не вызывал сомнений.
Ее концовка была отмечена одним исключительно важным
событием: 6 августа 1945 г. американцы сбросили на Хиросиму
атомную бомбу. Вокруг этого события до сих пор идет много спо¬
ров — имел ли этот акт военную целесообразность, заслужила ли
Япония за свои преступления столь жестокую кару? Ясно одно:
мир вступил в новую эпоху. Очевидно и то, что США не только
преследовали чисто военную цель — ускорить разгром Японии, но
и стремились показать СССР, что у них есть принципиально новое
сверхоружие. 9 августа американцы довторили свою атаку, объек¬
том которой на сей раз стал город Нагасаки. В тот же день в войну
против Японии вступил Советский Союз. И без того пребывавшая
в шоке после двух ядерных ударов, Япония теперь была оконча¬
430
тельно обречена. 2 сентября 1945 г. она капитулировала, и, таким
образом, Вторая мировая война закончилась.
В ходе ее была полностью разгромлена исключительно агрес¬
сивная группировка государств, открыто претендовавших на пе¬
редел мира и его унификацию по своему образцу и подобию. Серь¬
езная перегруппировка сил произошла и в стане победителей. За¬
метно ослабли позиции Великобритании и особенно Франции,
которую в разряд великих держав в это время зачисляли больше
по традиции. К числу ведущих стран стали относить Китай, одна¬
ко до тех пор, пока там не завершилась гражданская война, его
лишь номинально можно было считать великой державой. По всей
Европе и в Азии заметно укрепились позиции левых сил, автори¬
тет которых благодаря активнейшему участию в движении Сопро¬
тивления заметно возрос, и, наоборот, представители правокон¬
сервативных кругов, запятнавших себя сотрудничеством с фаши¬
стами, были отодвинуты на обочину политического процесса.
Наконец, в мире появились не просто две великие державы, а
две супердержавы — США и СССР, два полюса силы, на которые
стали ориентироваться все остальные страны и которые в решаю¬
щей мере определяли динамику мирового развития. США стали
своеобразным гарантом западной цивилизации, олицетворяя за¬
падную модель общественного развития. Их основным соперни¬
ком в послевоенном мире стал Советский Союз, у которого теперь
появились союзники на государственном уровне. Он представлял
иной вариант, иную модель общественно-политического развития,
число приверженцев которой во всем мире тогда быстро росло.
Равновеликость мощи этих двух гигантов, с одной стороны, и пол¬
ное несовпадение систем ценностей, которые они представляли, с
другой, неизбежно предопределяли их острое столкновение в пос¬
левоенном мире, и именно оно вплоть до рубежа 80-90-х гг. стало
стержнем развития всей системы международных отношений.
ГЛАВА VII
Начало «холодной войны»
и институционализация биполярной
системы (1945 — середина 50-х гг.)
§ 1. От сотрудничества
к конфронтации: международные
отношения в 1945-1948 гг.
Когда участники антигитлеровской коалиции объединенными
усилиями добились победы в войне и, таким образом, открыли но¬
вую главу в развитии цивилизации, вряд ли кто мог с увереннос¬
тью сказать, каким будет ее содержание. В принципе тогда суще¬
ствовало два возможных сценария дальнейшего развития событий:
могло в той или иной форме продолжиться сотрудничество основ¬
ных участников антигитлеровской коалиции, или же в процессе
послевоенного урегулирования в их отношениях'будут возникать
все большие противоречия, которые приведут коалицию к распаду
и возникновению на ее месте новых военно-политических блоков.
На практике реализовался именно второй сценарий. Уже к
концу 1945 г. отчетливо обозначились основные узлы противоре¬
чий между СССР и США. К их числу относились прежде всего гер¬
манский вопрос; все более обострявшаяся ситуация в Греции, где
левое крыло движения Сопротивления не желало мириться с осу¬
ществленной с помощью англичан реставрацией королевского ре¬
жима; события в Польше, где за власть ожесточенно боролись ком¬
мунисты и представители бывшего эмигрантского правительства
и Армии Крайовой; ситуация в Иране, который в годы войны был
оккупирован английскими и советскими войсками. Быстро выяс¬
нилось, что руководство США и СССР абсолютно по-разному смот¬
рят на пути решения этих проблем.
432
Наличие разногласий между двумя великими державами ста¬
ло оказывать все большее воздействие на весь ход послевоенного
урегулирования, в котором выделялось как бы два пласта — уре¬
гулирование в узком смысле (т.е. заключение мирных договоров с
бывшими союзниками Германии) и в широком смысле (т.е. фор¬
мулирование основ нового миропорядка, выработка норм взаимо¬
отношений двух сверхдержав и институционализация биполяр¬
ности).
Что касается первой части проблемы — заключения мирных
договоров со странами-сателлитами Германии, то эта проблема
решалась на сессиях СМИД (а не в рамках ООН). К 1947 г. после
длительных переговоров тексты этих соглашений были готовы. В
принципе все они (речь шла о договорах с Италией, Румынией,
Венгрией, Болгарией, Финляндией) строились примерно по одной
схеме: оговаривались новые границы этих стран, общие принци¬
пы их конституционного устройства, вопрос о репарациях и про¬
блема вооружений. Что касается проблемы вооружений, то для
всех этих стран устанавливались жесткие ограничения на общую
численность их армий, им категорически запрещалось иметь ору¬
жие массового поражения. Все они обязаны были выплатить ре¬
парации, размер которых зависел от их «вклада» в поддержку Гер¬
мании. Везде запрещалась деятельность фашистских партий,
предполагалось провести судебные процессы над военными пре¬
ступниками (по типу Нюрнбергского и Токийского). В новых Кон¬
ституциях должцы были содержаться гарантии основных прав и
свобод граждан.
Наиболее существенные территориальные изменения про¬
изошли с Италией и Румынией. Италия лишилась всех своих аф¬
риканских колоний. Додеканезские острова переходили к Греции,
а Триест объявлялся вольным городом. Румыния потеряла Бесса¬
рабию, Северную Буковину и Южную Добруджу. Финляндия вос¬
станавливалась в границах 1940 г., и кроме того, она передавала
СССР территории на Крайнем Севере в районе Петсамо. Границы
Венгрии и Болгарии остались практически без изменений.
Что касается послевоенного урегулирования в широком смыс¬
ле слова, т.е. формирования жесткого биполярного мира, то весь
1946 год и начало 1947 года и в США, и в СССР шла работа по иде¬
ологическому обоснованию нового типа двухсторонних отноше¬
ний. Лидеры двух стран стремились объяснить и своим согражда¬
нам, и остальному миру неизбежность поворота к конфронтации
и одновременно возложить вину за это на своего оппонента.
Начало «холодной войны» обычно связывают с широко извес¬
тной речью бывшего премьера Великобритании У. Черчилля, про¬
изнесенной им во время визита в США. Произошло это 5 марта
433
1946 г. в городе Фултон. Черчилль обвинил СССР в агрессивное-
ти, тирании и всех прочих мыслимых и немыслимых грехах, а
США предложил возглавить борьбу «свободолюбивых народов»
против «советской экспансии». Логическим завершением этой
кампании стало появление «доктрины сдерживания» русских,
авторство которой принадлежит американскому дипломату Дж. -
Кеннану. Она стала на весь период существования биполярного
мира идеологической основой внешнеполитического курса США.
Не оставалось в долгу и советское руководство. И. В. Сталин,
В. М. Молотов, А. А. Жданов обвиняли американский империа¬
лизм в подготовке новой войны и т.д.
Стремясь реализовать свои новые геополитические интересы,
обе страны интенсивно укрепляли влияние в зоне своих особых
интересов. Еще в 1946 г. США и Англия, создав из своих оккупа¬
ционных зон в Германии так называемую Бизонию (двойную зону),
по существу встали на путь сепаратных действий при решении
германской проблемы. 17 марта 1947 г. президент США Г. Трумэн
выступил со своей печально знаменитой доктриной, внесшей ве¬
сомый вклад в эскалацию «холодной войны».
В качестве предлога были избраны события в Греции, где ле¬
вые силы вели успешную борьбу против прогнившего королевско¬
го режима, и стало очевидным, что без помощи извне этот режим
не устоит и тогда Греция будет потеряна для Запада. Чтобы пре¬
дотвратить подобное развитие событий, Трумэн срочно запросил
конгресс выделить 400 млн. долл, на помощь правительствам Гре¬
ции и Турции, и, что самое главное, он заявил: «Поддержка сво¬
бодных народов, которые борются против подчинения вооружен¬
ному меньшинству или иностранному давлению, должна быть
политикой Соединенных Штатов». По существу США распрост¬
ранили принцип доктрины Монро на весь мир и попытались при¬
своить себе единоличное право определять, кто является в том или
ином конфликте правой стороной.
Следующим важным шагом на пути раскола Европы стал план
Маршалла, обнародованный летом 1947 г. Суть дела заключалась
в следующем. Экономическая ситуация в разрушенных войной
странах Европы была очень сложной. Весьма высокой была и со¬
циальная напряженность. Ценности капитализма критиковались
как никогда резко. Лидеры США понимали, что нужно срочно
влить свежую кровь в экономику европейских стран, чтобы пре¬
дотвратить крушение ее базовых устоев. Если бы такое случилось,
то это автоматически повышало бы влияние СССР на европейском
континенте. Это и побудило правительство США выступить с иде¬
ей оказания Европе широкомасштабной экономической помощи.
Во всех этих построениях был, правда, один щекотливый вопрос:
4,34
как обойти Советский Союз, вынесший основной груз войны с на¬
цистской Германией.
Творцам плана Маршалла помогла негибкость тогдашнего со¬
ветского руководства. США предложили помощь и СССР, правда,
на условиях, которые, как считалось, будут наверняка отвергну¬
ты Сталиным. Неизвестно, что бы стал делать Трумэн, если бы
Сталин предложил начать переговоры по этому вопросу. Но рас¬
чет американцев оказался верным: Сталин в жесткой форме от¬
верг помощь «дяди Сэма». Отказались от участия в плане Маршал¬
ла и восточноевропейские страны. Таким образом, Европа разде¬
лилась на страны, получившие американскую помощь, и те, ко¬
торые ее не получили. Это позволило пропагандистским службам
США представить Советский Союз виновником раскола, государ¬
ством, не желающим сотрудничать с Америкой в деле восстанов¬
ления Европы.
С 1948 г. программы американской помощи начали функцио¬
нировать, и это позволило западноевропейским странам в корот¬
кий срок стабилизировать и экономическую, и в более широком
плане всю внутриполитическую ситуацию. Они прочно и надеж¬
но связали свою судьбу с США. Советский Союз, в свою очередь,
стремился закрепить свой контроль над Восточной Европой.
В этом плане ключевые события развернулись в начале 1948 г.
в Чехословакии. Эта страна уже давно имела репутацию «модель¬
ной» демократии в Восточной Европе. Там была сильная компар¬
тия, но она конструктивно сотрудничала с другими партиями.
Ситуация резко обострилась в начале 1948 г., когда встал вопрос
об участии Чехословакии в плане Маршалла. В коалиционном
правительстве возникли непримиримые разногласия. В феврале
разразился правительственный кризис. Дальнейшие события по-
разному интерпретировались на Западе и в СССР. В нашей стране
говорили о том, что была сорвана попытка государственного пере¬
ворота, готовившегося прозападными силами, на Западе утверж¬
дали, что КПЧ при поддержке СССР свергла законное правитель¬
ство и ликвидировала демократию. Так или иначе, но СССР про¬
демонстрировал, что он надежно контролирует развитие событий
в своей зоне влияния.
Не успели затихнуть взаимные обвинения по поводу событий
в Чехословакии, как в центре Европы вспыхнул новый кризис. В
1948 г. США, Англия и Франция провели сепаратную денежную
реформу в Западной Германии. Она была распространена и на За¬
падный Берлин, что вызвало резкий протест СССР, в ответ уста¬
новившего блокаду Западного Берлина. Западные государства, в
свою очередь, организовали эффективно действующий воздушный
мост, по которому осуществлялось снабжение Западного Берли¬
435
на. Положение обострилось до предела и грозило вылиться в не¬
контролируемый военный конфликт. Что касается вопроса, кто
кого, то здесь сложилась явно тупиковая ситуация. С одной сто¬
роны, стало очевидно, что ни Советский Союз не может повлиять
на политику США и их союзников в отношении Западной Герма¬
нии, ни США не имеют возможности влиять на действия СССР в
Восточной Германии. С другой стороны, Берлинский кризис про¬
демонстрировал, что шансов на проведение согласованной линии
в отношении германского вопроса (о чем было договорено в Потс¬
даме) больше не существует. Наконец, этот кризис на практике
зафиксировал, что в Европе установилось примерное равновесие
сил, изменить которое не в состоянии ни США, ни СССР.
Лидеры США и СССР начали осознавать, что добиться решаю¬
щего перевеса в «историческом противоборстве» за счет изменения
ситуации в Европе в свою пользу им не удастся. Центр их конфлик¬
тующих интересов стал постепенно перемещаться в Азию, где в это
время разворачивались крупномасштабные процессы, связанные с
ростом национально-освободительного движения и началом круше¬
ния старых колониальных империй. В различных странах этот про¬
цесс имел свои особенности: в одних (Пакистан, Цейлон, Филип¬
пины) обретение независимости прошло относительно спокойно, в
других (Индия, Бирма, Индонезия, Сирия) оно сопровождалось
массовыми выступлениями противников колонизаторов, в треть¬
их (Вьетнам, Малайя) метрополии пошли на предоставление неза¬
висимости только после затяжных колониальных войн.
В любом случае выход на международную арену большой груп¬
пы новых независимых государств создавал качественно иную
ситуацию: ни в Ялте, ни в Потсдаме, когда закладывались основы
биполярного мира, этот фактор совершенно не учитывался. Пе¬
ред новыми государствами встал вопрос о поиске своего места в
системе международных отношений, о выборе внешнеполитичес¬
кой ориентации. Для большинства из них Запад был, по вполне
понятным причинам, враждебной силой: он ассоциировался с ко¬
лониализмом. В такой ситуации взоры лидеров многих новых го¬
сударств обращались к СССР, в опыте которого они находили для
себя немало интересного, и, кроме того, в СССР они видели реаль¬
ный противовес Западу. В свою очередь, и перед СССР, и перед
США встал вопрос о выработке своего отношения к новым госу¬
дарствам. Это был нелегкий процесс, и растянулся он почти на
десятилетие, вплоть до рубежа 50-60-х гг. Начавшийся распад
колониальной системы, резко расширив зону противостояния
сверхдержав, окончательно закрепил их переход от политики со¬
трудничества к конфронтации и стимулировал институционали¬
зацию биполярности.
436
§ 2. Институционализация биполярной
системы (1949 — середина 1950-х гг.)
1949 год был очень богат на весьма важные события в между¬
народных отношениях. Во-первых, Советский Союз в короткий
срок сумел ликвидировать монополию США на обладание ядер-
ным оружием. В августе было проведено испытание подобного ору¬
жия в СССР. Это был мощный удар по планам США, он вызвал без
преувеличения шок в американском обществе, не ожидавшем, что
Советский Союз этим весомо докажет, что по основным парамет¬
рам он ничем не уступает США. Во-вторых, не успели США ос¬
мыслить факт утраты атомной монополии, как на них обрушился
новый мощный удар: в длительной гражданской войне в Китае
решительную победу одержали коммунисты. 1 октября 1949 года
было провозглашено создание Китайской Народной Республики.
Американская политика в отношении Китая потерпела банкрот¬
ство, Советский Союз получил союзника, обладавшего огромным
потенциалом, а соотношение сил на Дальнем Востоке заметно из¬
менилось в его пользу. В-третьих, 7 сентября на политической
карте Европы возникло новое государство — ФРГ, а еще через ме¬
сяц произошло конституирование ГДР. Таким образом, раздел
Германии стал свершившимся фактом, и он ярко символизировал
раскол всей Европы.
Этот раскол стал обретать в это время институциональные
формы. 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне был подписан договор о
созданиц НАТО. Первоначально в его состав вошло 12 государств.
Это событие открыло целую череду акций США, направленных на
формирование по всему миру сети своих военно-политических со¬
юзов, которые окружали СССР по всему периметру его границ. В
1954 году был создан блок СЕАТО, в который вошло 8 стран: США,
Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Пакистан, Таи¬
ланд, Филиппины. В1955 г. был заключен Багдадский пакт. СССР
также стремился консолидировать свою зону влияния. В 1949 г.
был образован Совет Экономической Взаимопомощи, в состав ко¬
торого первоначально помимо СССР вступили 5 стран Восточной
Европы.
Стремление двух держав не только поддерживать сложивше¬
еся равновесие сил в мире, но и любым путем изменить его в свою
пользу приводило к неизбежным постоянным столкновениям их
интересов во всех уголках земного шара. Сложилась ситуация,
которую некоторые ученые окрестили «конфликтной стабильно¬
стью». Этот постоянный конфликт нередко перерастал в острей¬
шие международные кризисы, а то и в военную конфронтацию.
Крупнейшим событием подобного рода стала война в Корее, на¬
437
чавшаяся 25 июня 1950 г. как конфликт двух корейских госу¬
дарств, но быстро интернационализированная и на каком-то от¬
резке готовая перерасти в лобовое столкновение двух сверхдержав.
Война в Корее наглядно продемонстрировала, что силы про¬
тивоборствующих сторон примерно одинаковы, и это заставляло
политическую элиту обеих сверхдержав задуматься о дальнейших
перспективах биполярной системы. К тому моменту, когда война
в Корее приближалась к завершению, и в США, и в СССР произош¬
ли серьезные изменения. В США в 1952 г. президентом после двад¬
цатилетнего перерыва стал республиканец, генерал Д. Эйзенхау¬
эр, который в качестве одного из главных предвыборных обеща¬
ний выдвинул задачу скорейшего заключения перемирия в Корее.
В то же время он всячески подчеркивал, что готов к более реши¬
тельному противоборству с СССР. В нашей стране в марте 1953 г.
скончался И. В. Сталин. Закончилась целая эпоха в истории СССР.
Новое руководство страны, прежде всего Г. М. Маленков, уже в
первых своих публичных выступлениях серьезно пересмотрело
многие прежние жесткие стереотипы в сфере как внутренней, так
и внешней политики.
В результате этих перемен 27 июля 1953 г. в Корее было под¬
писано перемирие. Чуть позже, в 1954 г., была прекращена про¬
должительная война в Индокитае, где с 1946 г. местное население
поднялось на вооруженную борьбу против французских колони¬
заторов. Франция была вынуждена признать независимость но¬
вых государств, возникших на месте Французского Индокитая.
Серьезные изменения происходили в первой половине 50-х гг.
и в Западной Европе. Восстановив с помощью плана Маршалла
свою экономику, стабилизировав внутриполитическую ситуацию,
западноевропейские государства стали все серьезней задумывать¬
ся о реставрации своих позиций на международной арене. Однако
даже самый беглый анализ красноречиво говорил о том, что в оди¬
ночку ни одно из них не в состоянии составить реальную конку¬
ренцию сверхдержавам. Вывод напрашивался сам собой: надо
объединять свои усилия. Декларировать это было, однако, проще,
чем осуществить на практике, ибо отзвуки жесточайшего проти¬
востояния времен Втррой мировой войны еще ощущались в Евро¬
пе весьма заметно.
Тем не менее идея западноевропейской интеграции настойчи¬
во пробивала себе дорогу. Ее поддерживали многие видные поли¬
тики во Франции, Италии, Великобритании, Бельгии, Голландии.
Споры шли о том, с чего целесообразнее начать конкретное дви¬
жение по пути интеграции — с военно-политической или с эконо¬
мической сферы. Многое в этой ситуации зависело от позиции
США, от того, как они отнесутся к стремлению европейцев интег¬
438
рировать свои потенциалы. Выработка позиции по этому вопросу
была для американцев делом очень нелегким. С одной стороны,
они не могли не поддерживать эту идею, ибо объективно укрепле¬
ние совокупной мощи Западной Европы было выгодно США — это
увеличивал9 эффективность всего западного блока в его противо¬
стоянии с СССР. С другой стороны, американцы прекрасно пони¬
мали, что сильная Западная Европа уже не будет столь охотно и
послушно идти в фарватере внешнеполитического курса США.
Это предопределило отношение США к планам их европейс¬
ких союзников: они активно поддерживали предложения, направ¬
ленные на укрепление военно-политического единства Западной
Европы и весьма осторожно относились к экономической интег¬
рации. Еще в марте 1948 г. Великобритания, Франция и страны
Бенилюкса подписали Брюссельский пакт, согласно которому со¬
здавался Западный Союз (ЗС), члены которого обязывались помо¬
гать друг другу в случае агрессии против любого государства, во¬
шедшего в эту группировку.
В тот период придать откровенно антисоветский характер но¬
вому объединению было еще трудно: в общественном сознании еще
не были сломаны прежние стереотипы, согласно которым СССР
был партнером, а Германия, пусть и утратившая временно госу¬
дарственный суверенитет, таила в себе угрозу. Образ СССР как
главного врага западной цивилизации еще не сформировался и тем
более не утвердился в сознании европейцев. Поэтому ЗС был наце¬
лен против любой потенциально возможной агрессии. Однако
именно эта аморфность и не устраивала США. Они хотели бы ви¬
деть более четко выраженную антисоветскую направленность лю¬
бого объединения, создаваемого на Западе. Европейцы же пред¬
почитали развивать интеграцию в сфере экономики, полагая, что
лишь так можно создать надежный фундамент для дальнейшего
строительства «единой Европы».
9 мая 1950 г. французский министр иностранных дел Р. Шу¬
ман обратился к ряду западноевропейских стран с предложением
создать Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). Контроль
над этими двумя отраслями передавался наднациональному орга¬
ну с достаточно широкими полномочиями. Важно отметить, что к
участию в этом проекте была приглашена ФРГ. Новое объедине¬
ние сразу же взяло успешный старт, и его деятельность стала при¬
носить ощутимые плоды. Последствия войны были полностью
преодолены, и Западная Европа уверенно смотрела в будущее.
Не удивительно, что резко конфронтационная политика ад¬
министрации Эйзенхауэра, которую справедливо называли «ба¬
лансированием на грани войны», раздражала европейских поли¬
тиков. Их явно не прельщала перспектива превращения Европы в
439
арену военного противоборства сверхдержав. Отсюда все более
настойчивое стремление играть роль посредника в запутанных
советско-американских отношениях.
После заключения перемирия в Корее, снявшего возможность
перерастания этого локального конфликта в глобальный, в меж¬
дународных отношениях наметилась короткая оттепель. Двумя ее
символами стали конференции в Женеве: в апреле-июле 1954 г.
на уровне министров иностранных дел 5 великих держав (США,
СССР, КНР, Англия, Франция), а в июле 1955 г. на высшем уров¬
не. В ходе этих встреч удалось урегулировать ряд конкретных спор¬
ных вопросов (прежде всего последствия войны в Индокитае) и
несколько понизить общий заряд конфронтационности в советс¬
ко-американских отношениях. В прессе активно заговорили о
«духе Женевы». Зримым его проявлением стал подписанный в мае
1955 г. договор об Австрии, восстанавливавший в полном объеме
ее суверенитет. Новая Австрия объявила о своем постоянном ней¬
тралитете.
Однако надежды, связываемые с «духом Женевы», оказались
явно преувеличенными. Ни по одному из вопросов, обсуждавших¬
ся на Женевском саммите 1955 г. (германский вопрос, проблема
европейской безопасности, вопросы разоружения) не удалось до¬
биться прогресса.
Более того, параллельно с процессами, способствовавшими
ослаблению международной напряженности, действовали факто¬
ры противоположного плана. Здесь прежде всего следует сказать
о попытках Вашингтона любой ценой сломать уже достаточно
прочно устоявшееся соотношение сил между СССР и США. Новый
государственный секретарь США Дж. Ф. Даллес был твердо убеж¬
ден, что только политика «с позиции силы» может принести Аме¬
рике успех. Была осуществлена корректировка военно-политичес¬
кой стратегии США. В январе 1954 г. республиканская админист¬
рация взяла на вооружение пресловутую доктрину «массирован¬
ного возмездия», согласно которой США оставляли за собой пра¬
во в любой неблагоприятной, по их мнению, ситуации на между¬
народной арене использовать ядерное оружие.
Одновременно усилилось давление на европейских союзников
с целью побудить их вносить более весомый вклад в укрепление
совокупного военного потенциала Запада. В этом отношении аб¬
солютно необходимым представлялась интеграция ФРГ в военно¬
политические структуры Запада. Поначалу реализация этой идеи
связывалась с планом создания Европейского оборонительного
сообщества (ЕОС), выдвинутым еще в 1950 г. Однако после дол¬
гих дебатов французский парламент отказался ратифицировать
это соглашение, и на проекте образования наднациональной евро¬
440
пейской армии был поставлен крест. Тогда США настояли на при¬
нятии ФРГ в НАТО, что и было осуществлено по Парижским со¬
глашениям, подписанным 23 октября 1954 г.
После этого Советский Союз, неоднократно выражавший рез¬
кий протест против ремилитаризации Западной Германии, пошел
на институционализацию своего блока: в мае 1955 г. было объяв¬
лено о создании Организации Варшавского договора (ОВД) — во¬
енно-политического союза, призванного уравновесить влияние
НАТО. Окончательную точку в короткой оттепели 1953-1955 гг.
поставили два события: Суэцкий кризис (30 октября — 7 ноября
1956 г.), когда Великобритания, Франция и Израиль развязали
агрессию против Египта, и события в Венгрии 23 октября — 4 но¬
ября 1956 г., где вспыхнуло кровавое восстание против существо¬
вавшего строя, а по существу против того, чтобы Венгрия продол¬
жала оставаться в орбите советского влияния.
ГЛАВА VIII
Особенности послевоенного
восстановления и стабилизации
(конец 40-х — 50-е годы)
§ 1. Общая характеристика ситуации
в ведущих странах Запада
в первые послевоенные годы
Вторая мировая война нанесла всем участникам (и побежден¬
ным, и победителям) огромный урон. Погибло не менее 60 млн.
чел. Материальный ущерб выражался огромной цифрой — 3300
млрд. долл. Множество городов, поселков, деревень лежало в раз¬
валинах. Перед всеми государствами, участвовавшими в войне,
особенно перед ведущими странами, встала сложнейшая задача
демобилизации многомиллионных армий, а это значит, что лю¬
дей надо было быстро трудоустроить, обеспечить возможность по¬
лучить профессию тем, у кого ее не было, дать жилье, средства на
первоначальное обустройство. Но еще более сложной была пробле¬
ма реконверсии, т.е. перевода экономики на мирные рельсы.
Это были общие для всех проблемы, но была и национальная
специфика. Отличия касались прежде всего США. Америка была
единственной из ведущих стран мира, которая по большому счету
получила выгоду от войны. США производили к концу войны 55%
всей промышленной продукции западного мира. В Форт-Ноксе
находилось 75% мировых запасов золота. Доллар был ведущей
валютой западного мира. Иная ситуация была в Западной Европе.
Всю ее можно разбить на три группы: Великобритания, на терри¬
тории которой не велись боевые действия (она подвергалась толь¬
ко бомбежкам), Германия, временно утратившая свой суверени¬
тет и в наибольшей мере пострадавшая от войны, остальные за¬
падноевропейские страны — участницы войны.
442
Что касается Великобритании, то ее людские потери были
вчетверо меньше, чем во время Первой мировой войны, но мате¬
риальный ущерб был огромен. Ее государственный долг утроил¬
ся. На мировом рынке ее в годы войны существенно потеснили
США. Даже в странах, входивших в Британскую империю, аме¬
риканский экспорт в полтора раза превысил английский.
В Германии в сфере экономики ситуация была близкой к кол¬
лапсу. В 1945 г. уровень промышленного производства составил
всего 12% от довоенного, т.е. можно сказать, что экономика стра¬
ны по существу рухнула. Ощущался острый дефицит продоволь¬
ствия, жилья, медикаментов. Множество крупных городов, пост¬
радавших от «ковровых бомбардировок» и боев, лежали в разва¬
линах. Население было полностью деморализовано, а судьба стра¬
ны была абсолютно неясна.
Пожалуй, наиболее ярким примером стран, относящихся к
третьей группе, можно считать Францию. Она весьма серьезно
пострадала от войны. Уровень промышленного производства упал
до 38% от довоенного, в сельском хозяйстве положение было чуть
лучше — 60%. В стране свирепствовала инфляция, цены стреми¬
тельно росли. Сложным было положение во французской колони¬
альной империи, особенно в Индокитае, где вскоре вспыхнула вой¬
на, которая усугубила и без того непростую ситуацию.
Такова была исходная ситуация, с которой начался процесс
послевоенного восстановления. Практически везде он сопровож¬
дался острейшей идейно-политической борьбой, в центре которой
были вопросы о роли государства в осуществлении реконверсии и
о характере социальных отношений в послевоенном обществе.
Несмотря на призывы к уходу государства из сферы экономики, с
которыми выступали политики правого толка и отдельные эконо¬
мисты типа пресловутого Ф. Хайека, политическая элита ведущих
западных стран, памятуя о том, как происходил сходный процесс
после Первой мировой эойны, не спешила следовать этим реко¬
мендациям.
Было очевидно, что отход государства от решения сложней¬
ших проблем реконверсии чреват огромными издержками, опас¬
ными для базовых устоев существовавшего правопорядка. Спор
главным образом шел о масштабах и формах государственного
регулирования процессов реконверсии, а в более широком смыс¬
ле экономики в целом.
Постепенно выкристаллизовывались две концепции, два под¬
хода к этому кардинальному вопросу. Во Франции, в Англии, Ав¬
стрии в тот период сложилась модель государственного регулиро¬
вания, предполагавшая прямое вмешательство государства в эко¬
номику. Здесь была проведена национализация рада отраслей про¬
443
мышленности и банков. Так, в 1945 г. лейбористами была осуще¬
ствлена национализация Английского банка, чуть позднее угле¬
добывающей промышленности, являвшейся в послевоенные годы
источником постоянных социальных конфликтов. В 1947 г. были
национализированы железнодорожный транспорт и электроэнер¬
гетика. Кроме того, были переведены в собственность государства
газовая промышленность, водный транспорт, часть авиакомпа¬
ний, значительная доля радиовещания. Серьезный государствен¬
ный сектор образовался в результате проведения национализации
и во Франции. В него попала угольная промышленность, заводы
«Рено», 5 главных банков, основные страховые компании. В
1947 г. был принят так называемый план Монне — государствен¬
ный план модернизации и реконструкции промышленности, за¬
ложивший основы государственного программирования основных
параметров экономики.
По-иному решались проблемы реконверсии в США. Там част¬
нособственнические отношения были намного прочнее, и поэтому
даже в разгар кризиса 1929-1933 гг. вопрос об отчуждении част¬
ной собственности в пользу государства не стоял. Война еще боль¬
ше укрепила американский истеблишмент во мнении, что бизнес
вполне способен эффективно выполнять роль мотора, приводяще¬
го в движение экономику. Вместе с тем после кризиса 1929-
1933 гг. стало очевидно, что в чистом виде старая схема взаимоот¬
ношений бизнеса, государства и индивида не работает и необхо¬
дима ее корректировка, которая осуществлялась с помощью госу¬
дарственного регулирования экономики. Когда речь шла о чисто
экономических вопросах, даже наиболее рьяные сторонники фе¬
дерального вмешательства в эту сферу, такие, как А. Хансен и
Э. Бэрли (крупнейшие либеральные экономисты тех лет), полага¬
ли, что необходимо делать акцент на косвенные методы регулиро¬
вания — через налоги и кредит.
В Западной Германии, оккупированной войсками союзников,
о реконверсии не было и речи. Там во весь рост стояла проблема
восстановления полностью разрушенного и парализованного вой¬
ной хозяйства. Что касается отношения к роли государства, то оно
во многом обуславливалось реакцией на недавнее прошлое, когда
в рейхе осуществлялся тотальный контроль государства над все¬
ми сферами жизни общества. Отсюда понятна реакция отторже¬
ния идеи «сильного государства».
Еще более острыми были споры о характере социальных от¬
ношений. Разгром фашизма ассоциировался в глазах большин¬
ства людей, независимо от национальности, с началом перехода
к более справедливому и совершенному обществу. Не считаться
с этими настроениями было невозможно. Первостепенное внима¬
444
ние везде уделялось трудовым отношениям — стержню всей со¬
циальной жизни любого индустриального общества. Опять-таки
в США и Западной Европе далеко не одинаково смотрели на эту
проблему.
В США споры о характёре взаимоотношений предпринима¬
телей, профсоюзов и государства достигли кульминации в ходе
обсуждения закона Тафта — Хартли (принят в июне 1947 г. воп¬
реки вето президента). Его творцы полагали, что в 30-е гг. госу¬
дарство пошло на неоправданные уступки профсоюзам, наруши¬
ло в их пользу баланс во взаимоотношениях с бизнесом. Пришла
пора исправить недочеты в трудовом законодательстве предше¬
ствовавшего десятилетия, утверждали они. Новый закон суще¬
ственно урезал права профсоюзов на проведение забастовок, на
ведение работы по вовлечению в союз новых членов. Наконец,
он вводил жесткий государственный контроль за деятельностью
профсоюзов.
В большинстве западноевропейских стран профсоюзы как раз
были на подъеме и активно включались в борьбу за решение ос¬
новных социальных проблем. Надо сказать, что в США в реше¬
нии остальных социальных вопросов государство пошло по пути
расширения и укрепления разветвленной социальной инфра¬
структуры, с помощью которой власти могли надежно контро¬
лировать социальные процессы. Ключевой в этом плане стала
выдвинутая в 1948 г. программа «справедливого курса» Г. Тру¬
мэна, предусматривавшая повышение минимума заработной пла¬
ты до 75 центов в час, значительное расширение системы соци¬
ального обеспечения, введение медицинского страхования, стро¬
ительство дешевого жилья для низкодоходных семей за счет фе¬
деральных средств, обеспечение устойчивого дохода фермеров,
ограничение расовой дискриминации и т.д. Не все намеченные
меры были воплощены в жизнь, но тем не менее прогресс в соци¬
альной сфере был очевиден.
Сходные мероприятия проводило в Великобритании лейбори¬
стское правительство К. Эттли. Еще весной 1945 г. была опубли¬
кована новая программа партии «Лицом к будущему», опираясь
на которую лейбористы победили на выборах, проходивших 5
июля 1945 г. Своей конечной целью ее авторы провозгласили со¬
здание «Социалистического содружества Великобритании». Сра¬
зу оговоримся, что термин «социалистический» трактовался лей¬
бористами отнюдь не так, как в программных документах ВКП
(б). Лейбористы всячески подчеркивали, что они против револю¬
ционных скачков, что движение к более справедливому обществу
должно осуществляться путем плавной эволюции в рамках «сме¬
шанной экономики».
445
Помимо национализации ряда ключевых отраслей промыш¬
ленности их программа предусматривала широкий набор мероп¬
риятий в социальной сфере, сходных с теми, которые содержались
в программе «справедливого курса». Опять-таки не все то, что было
намечено, удалось осуществить, но прогресс в социальной сфере
был очевиден. Особенно заметным он был в области медицинского
обслуживания: с 1948 г. в стране действовала национальная служ¬
ба здравоохранения, обеспечивавшая население бесплатным и в
то же время качественным обслуживанием.
Важно отметить, что те сдвиги, которые произошли в первые
послевоенные годы в социально-экономической сфере, нашли со¬
ответствующее отражение и в политико-правовой области. Прак¬
тически все ведущие политические партии Западной Европы в
большей или меньшей степени восприняли идеологию и практик
ку реформизма. Даже английские консерваторы заявили, что они
не выступают против реформ как таковых, правда сопроводив это
заявление множеством оговорок. В США оплотом реформизма
продолжала оставаться демократическая партия, которая проч¬
но усвоила либерально-этатистские принципы и строила свою по¬
литику в соответствии с ними. Что касается их основного оппо¬
нента — республиканской партии, то она тоже не отвергала с
порога идеи государственного регулирования социально-эконо¬
мических отношений, а лишь настаивала на том, чтобы ограни¬
чить масштабы этого вмешательства, сделать его более жестким
в отношении профсоюзов и более отвечающим интересам пред¬
принимателей .
Базовые идеи либерального реформизма нашли отражение в
Конституциях нового поколения, одобренных после Второй ми¬
ровой войны. Речь идет прежде всего о Конституциях Франции,
Италии, отчасти ФРГ. В них, наряду с политическими свободами,
были зафиксированы и важнейшие социальные права граждан:
на труд, на отдых, на социальное обеспечение и образование. Пре¬
дусматривалась возможность ограничения частной собственнос¬
ти в общественных интересах, в том числе путем национализации
источников сырья, энергии и жизненно важных для всего обще¬
ства отраслей промышленности. Что касается США, то там Вер¬
ховный суд — орган, которому принадлежит право интерпрети¬
ровать Конституцию, — признал еще на рубеже 30-40-х гг. кон¬
ституционность либерально-этатистских принципов, заложенных
в основу законодательства «нового курса».
Подводя итоги обзора послевоенного восстановления, следует
констатировать, что на сей раз оно прошло гораздо спокойнее, чем
после Первой мировой войны. Таких социальных катаклизмов,
которые были тогда, на сей раз удалось избежать. И дело здесь в
446
том, что политическая элита ведущих стран уже достаточно хоро¬
шо освоила либерально-этатистский инструментарий, используе¬
мый для решения основных социально-экономических проблем.
С помощью государственного регулирования были созданы доста¬
точно надежные «встроенные стабилизаторы», позволившие най¬
ти решение острейших проблем, связанных с реконверсией и вос¬
становлением разрушенного хозяйства. Именно активная регули¬
рующая деятельность государства предотвратила выход конфлик¬
тного потенциала, который имелся в обществе, из-под контроля и
обеспечила достаточно быстрое преодоление трудностей, с кото¬
рыми столкнулась тогда западная цивилизация. Остановимся те¬
перь подробнее на национальной специфике этих процессов, во
многом предопределивших судьбы западной цивилизации в пос¬
левоенном мире.
§ 2. США: от реконверсии
к консервативному согласию
Несмотря на то, что Соединенные Штаты одержали в войне
победу и ее общие итоги не могли не вызывать и у властей, и у
бизнеса, и у рядовых американцев чувства удовлетворения, в об¬
ществе имелась серьезная озабоченность по поводу того, как ска¬
жется на жизни страны переход экономики и социальной сферы
на мирные рельсы. Собственно говоря, подготовка к реконвер¬
сии началась загодя, еще на заключительном этапе войны. Об¬
щая координация этого процесса была возложена на Службу во¬
енной мобилизации и реконверсии, а важнейшей законодатель¬
ной акцией, заложившей правовой фундамент для всей последу¬
ющей перестройки социально-экономической сферы, стал при¬
нятый еще в 1944 г. закон, известный как «солдатский билль о
правах». В нем предусматривался широкий набор мер по обеспе¬
чению работой, жильем, образованием лиц, которые будут демо¬
билизованы из армии. Эта мера оказалась на редкость своевре¬
менной: в 1945-46 гг. из вооруженных сил вернулись домой 12
млн. человек.
Начавшаяся заранее подготовка к реконверсии помогла пре¬
дотвратить повторение жестокого кризиса, сопровождавшего
сходный процесс после Первой мировой войны. Благоприятство¬
вало сравнительно спокойному течению реконверсии и наличие
в стране чрезвычайно емкого внутреннего рынка. В США к кон¬
цу войны имелось 129 млрд. долл, ликвидных накоплений, су¬
ществование которых дало мощнейший стимул производству
товаров широкого потребления и капитальному строительству.
447
С помощью правительства крупные корпорации сумели в корот¬
кий срок перевести значительную часть своих производственных
мощностей на изготовление мирной продукции. В результате
после короткого и неглубокого спада экономика вновь пошла на
подъем. В этой ситуации все громче стали звучать голоса тех, кто
призывал к скорейшей отмене всех видов контроля над эконо¬
микой, и этот вопрос быстро выдвинулся в центр партийно-по¬
литической борьбы тех лет.
В наиболее сложном положении оказался новый президент
США Гарри Трумэн. Во времена его предшественника демокра¬
тическая партия стала четко ассоциироваться с либеральным эта¬
тизмом, т.е. с политикой либеральных социально-экономических
реформ, осуществляемых при активном участии федерального
правительства. Такая политика обеспечила ей поддержку мно¬
гих важных электоральных групп и устойчивый статус партии
большинства. Вот почему Трумэн через несколько месяцев после
вступления в должность счел необходимым публично подтвер¬
дить свою приверженность либерально-этатистским ценностям.
В сентябрьском послании к конгрессу он выдвинул широкую
программу либерального законодательства: закон о полной за¬
нятости, об увеличении минимума заработной платы, распрост¬
ранение страхования по безработице на новые категории трудя¬
щихся, комплекс мероприятий в области здравоохранения, об¬
разования и жилищного строительства. Он предложил создать
специальную комиссию для претворения в жизнь принципа «рав¬
ных возможностей на работу для всех, включая негров». Однако
планы президента натолкнулись на жесткое сопротивление кон¬
сервативных кругов.
Президенту приходилось лавировать между теми, кто требо¬
вал продолжения и углубления либеральных реформ, и теми, кто
категорически возражал против этого. Приближались промежу¬
точные выборы, и Трумэн не мог игнорировать недовольство зна¬
чительных сегментов общества, в глазах которых реформы ассо¬
циировались с ростом цен, инфляцией, взлетом забастовочного
движения.
Колебания, непоследовательность нового лидера демократов
сказались на результатах промежуточных выборов 1946 г.: после
долгого перерыва контроль над конгрессом перешел в руки рес¬
публиканской партии. Опираясь на консервативное большинство
в высшем законодательном органе страны, лидеры республикан¬
цев попытались перейти во фронтальное наступление на позиции
либеральных демократов. Летом 1947 г. конгресс принял закон
Тафта — Хартли вопреки президентскому вето. В соответствии с
новым законом существенно ограничивались права профсоюзов на
448
проведение забастовок и на деятельность по вовлечению в свои
ряды новых членов. Вынашивались планы снижения налогов с
корпораций, отмены многих регулятивных установлений, огра¬
ничивавших деловую активность. Конечно, демонтировать всю ту
сложную, разветвленную инфраструктуру, с помощью которой
государство осуществляло достаточно эффективное регулирование
всей сферы социально-экономических отношений, правые респуб¬
ликанцы не смогли, но они сумели резко взвинтить накал поле¬
мики относительно выбора общего вектора ее дальнейшего разви¬
тия. Все это заметно обостряло внутриполитическую обстановку,
повышало значимость надвигавшихся в 1948 г. президентских
выборов.
Перед Трумэном в связи с этим во весь рост встал вопрос: как
наиболее эффективно отразить натиск правых республиканцев и
с какой программой лучше всего идти на выборы? Надо сказать,
что в 1947 — начале 1948 г. его шансы на успех на выборах оцени¬
вались весьма невысоко. Глава национального комитета демокра¬
тической партии Дж. Фарли называл его «политическим трупом».
Большинство политических обозревателей отдавали предпочтение
кандидату республиканцев Т. Дьюи, который уверенно лидировал
и по данным опросов общественного мнения.
Однако Трумэн сумел опровергнуть все эти прогнозы. Переж¬
дав первый, самый мощный натиск республиканцев, он начиная
со второй половины 1947 г. стал постепенно перехватывать у них
инициативу, ибо контролируемый республиканцами конгресс по
сути дела не сумел предложить стране реальных рецептов реше¬
ния главных проблем, волновавших общество: борьбы с инфля¬
цией, советско-американских отношений, проблемы социальной
защищенности рядовых американцев. Он также умело исполь¬
зовал острую фракционную борьбу внутри республиканской
партии.
К весне 1948 г. президент и его ближайшее окружение в ос¬
новном определились с тактикой предвыборной борьбы. Было
решено сделать акцент на углубление социальных реформ в сфе¬
ре внутренней политики и на жесткое противодействие «совет¬
скому экспансионизму» в сфере внешней политики. Комбина¬
ция этих двух начал позволила Трумэну в значительной мере
нейтрализовать недовольство либеральных кругов и консоли¬
дировать вокруг себя ту часть консерваторов, которая не вери¬
ла в способность республиканцев эффективно противодейство¬
вать «советской угрозе». Хотя часть демократов все-таки отка¬
залась поддержать Трумэна и на время вышла из партии, его
популярность на заключительной стадии избирательной кам¬
пании стала быстро расти.
449
В результате упорной борьбы победа осталась за Г. Трумэном.
Большинство избирателей отдали предпочтение его программе,
вошедшей в историю под названием «справедливый курс». Всту¬
пая в должность президента в январе 1949 г., Трумэн обещал до¬
биваться отмены закона Тафта — Хартли, расширения системы
социального страхования, включая введение медицинского стра¬
хования. Он также говорил о принятии федерального законода¬
тельства в области гражданских прав негритянского населения, о
предоставлении финансовой помощи штатам для улучшения об¬
разования, о повышении минимума заработной платы, о приня¬
тии масштабной программы строительства жилья для малообес¬
печенных семей, о помощи фермерам.
Выдвижение этой программы свидетельствовало о том, что в
развитии либеральной идеологии начался новый этап. В центре
внимания его идеологов все больше оказывались не вопросы уст¬
ранения наиболее одиозных проявлений социальной несправедли¬
вости, а проблемы повышения качества жизни. Однако реализо¬
вать программу «социального курса» удалось далеко не полнос¬
тью. Трумэн добился согласия конгресса на повышение почти в
два раза минимума заработной платы, расширения на 10 млн. чел.
количества людей, имевших право на получение страховых посо¬
бий. Были ассигнованы крупные средства на строительство жи¬
лья для низкодоходных семей. В остальном же противникам пре¬
зидента удалось заблокировать те программы, на принятии кото¬
рых настаивал Трумэн. Чем же объяснить то обстоятельство, что
на выборах «справедливый курс» получил вотум доверия избира¬
телей, а на практике значительная часть этой программы была за¬
баллотирована?
Во-первых, поскольку наиболее сложный период реконвер¬
сии остался позади, представители влиятельной деловой элиты
уже в гораздо меньшей мере испытывали желание мириться с об¬
ременительным государственным регулированием трудовых от¬
ношений и деловой активности, жертвовать значительные сред¬
ства на поддержание новых социальных программ. Во-вторых,
сами идеологи либералов в новых условиях стали возлагать ос¬
новные надежды в совершенствовании социальных отношений
не столько на федеральные власти, сколько на этатизированный
бизнес, который, по их мнению, уже в полной мере осознал цен¬
ность социального реформаторства. В-третьих, вскоре после вы¬
боров произошло по крайней мере формальное примирение со¬
перничавших фракций в стане демократов. Большинство влия¬
тельных южных демократов, отказавшихся в ноябре 1948 г. под¬
держивать Трумэна, через несколько месяцев вернулись в лоно
родной партии. В результате позиции консерваторов в конгрессе
450
заметно окрепли, ибо южане во многих вопросах блокировались
с республиканцами и совместными усилиями торпедировали
многие важные пункты законодательной программы президен¬
та. Наконец, реформистские планы Трумэна во многом спутала
начавшаяся в июне 1950 г. война в Корее, резко изменившая об¬
щий вектор внутриполитического развития США. Вместо обсуж¬
дения вопросов, связанных с совершенствованием социальной
сферы, на первый план выходят проблемы борьбы с «коммунис¬
тической угрозой ».
Строго говоря, к 1950 г. эта тема уже не была новой для после¬
военной Америки. Уже на выборах 1946 г. республиканцы доволь¬
но активно и небезуспешно эксплуатировали тему «инфильтрации
коммунистов» в федеральные органы власти. Усиление конфрон¬
тационных моментов в советско-американских отношениях было
им на руку. Действительно, если сам президент утверждал, что
Советская Россия — враг номер один для США, то, вероятно, не¬
обходимо резко ужесточить борьбу против ее пособников внутри
США. Все, кто с этим не согласны, — тайные агенты Москвы. По¬
лучить подобный ярлык значило поставить крест на своей карье¬
ре. Не удивительно, что Трумэн вынужден был постоянно демон¬
стрировать решимость бороться с инфильтрацией коммунистов в
органы власти. Так, в 1946 г. была создана комиссия по проверке
лояльности государственных служащих. Однако республиканцев
этб не удовлетворило. Многие представители «великой старой
партии» требовали решительной чистки всех госструктур от не¬
благонадежных элементов.
В 1948 г. под их давлением было инициировано дело О. Хис-
са, занимавшего видное положение в государственном департамен¬
те. С началом этого дела оппоненты либералов получили в свои
руки важный козырь. Появилась возможность найти простое и
убедительное объяснение неудач США на международной арене:
все дело в том, что из-за попустительства либеральных демокра¬
тов в высших эшелонах власти свили гнездо предатели, изнутри
разваливающие Америку.
В самом начале 1950 г. сенатор-республиканец Дж. Маккар¬
ти сделал следующий важный шаг в нагнетании антикоммунис¬
тической истерии: от общих обвинений либеральных демократов
в попустительстве антиамериканским силам он перешел к обви¬
нениям в адрес конкретных лиц, являвшихся, по его утверждени¬
ям, русскими шпионами. В итоге получалась страшная картина
гигантского заговора против устоев «американской системы», и
виновниками такой ситуации оказались либеральные демократы
и их ценности, которые исподволь подтачивали американское об¬
щество изнутри. Их идеи сродни коммунистическим и представ¬
451
ляют собой не что иное, как «ползучий социализм», утверждал
сенатор из Висконсина. Ясно, что подобная пропагандистская кам¬
пания, неуклонно набиравшая обороты, все больше подрывала
позиции либеральных демократов в политическом процессе,
уменьшала шансы на успешное прохождение программы «спра¬
ведливого курса».
Вот в такой неблагоприятной для Трумэна внутриполитичес¬
кой обстановке началась война в Корее. Расчеты президента на
быстрый успех в этом конфликте также не оправдались, и это
опять-таки давало дополнительные козыри его оппонентам. Мас¬
штабы войны оказались намного большими, чем это предполага¬
лось вначале, и потребовались значительно большие усилия со
стороны США для обеспечения военной машины, которая была
приведена в действие. Уже в сентябре 1950 г. Г. Трумэн подписал
закон об оборонном производстве, вводивший жесткое регулиро¬
вание всей экономической инфраструктуры. По существу на пла¬
нах социальных реформ был поставлен крест.
С началом войны в американской экономике развивались
противоречивые процессы. С одной стороны, в годы войны в Ко¬
рее заметно выросли цены, увеличилась инфляция. С другой сто¬
роны, огромные военные заказы оказывали благоприятное воз¬
действие на экономическую конъюнктуру. В1952 г. общий объем
промышленной продукции превысил пик, который был достиг¬
нут в годы Второй мировой войны. По уровню экономического
развития США все дальше отрывались от своих основных конку¬
рентов. Быстрый экономический рост позволил заметно повысить
уровень жизни американцев. А это, в свою очередь, серьезно вли¬
яло на их социальную психологию. В сознании американцев уси¬
ливались такие черты, как аполитичность и конформизм. В та¬
кой обстановке грань между либеральными и консервативными
ценностями неизбежно стиралась. Это в полной мере сказалось
на итогах президентских выборов 1952 г., когда впервые после
20-летнего перерыва высший государственный пост в США вер¬
нулся в руки республиканцев. Двадцатилетняя «эра демократов»
завершилась. Новым президентом США стал лидер республикан¬
цев генерал Дуайт Эйзенхауэр.
Таким образом, не только в экономике, но и в партийно-поли¬
тической системе США позади остались наиболее сложные време¬
на. Начавшаяся в 30-е гг. сложная партийная перегруппировка в
основном завершилась.
Для стабилизации партийного тандема, его окончательного
закрепления на этатистской платформе оставалось решить еще
одну проблему. Укреплению консенсуса в идейно-политической
жизни США в этот период препятствовала деятельность группи¬
452
ровки правых республиканцев во главе с сенатором Дж. Маккар¬
ти. В начале маккартисты были полезными для консервативного
истеблишмента, поскольку помогли погасить чрезмерное преиму¬
щество либералов в политическом процессе. Однако после того,
как власть перешла в руки республиканцев, отношения между
Эйзенхауэром и стоявшей за ним старой партийной элиты, с од¬
ной стороны, и маккартистами, рвавшимися к руководству в
партии, с другой, стали постепенно обостряться. Маккартисты
начали оказывать дестабилизирующее воздействие на партийно¬
политическую систему США, а это наносило ущерб и развитию
американской экономики, и имиджу США на международной аре¬
не, и в конечном счете не укрепляло, а, наоборот, ослабляло их
позиции в «судьбоносном противоборстве» с СССР.
К 1954 г. конфликт между этими двумя фракциями респуб¬
ликанской партии вырвался наружу. Победителем в нем вышел
Эйзенхауэр: сенат вынес официальное порицание Маккарти, пос¬
ле чего его влияние быстро пошло на убыль.
Состоявшиеся в 1956 г. очередные президентские выборы и по
форме, и по содержанию символизировали утверждение в обще¬
стве консенсусных начал и стабилизацию всех его составных ком¬
понентов. По существу между партиями в этот момент не суще¬
ствовало серьезных расхождений относительно набора основных
вопросов, поднимаемых в предвыборных платформах, и способов
их разрешения. Как политическую элиту, так и общество в целом
в основном устраивало сложившееся положение вещей, и задача
политического руководства в этих условиях состояла в том, что¬
бы и дальше удерживать страну в этом состоянии, надежно обес¬
печивающем, как тогда казалось, и стабильное развитие, и обще¬
ственное согласие.
§ 3. Великобритания: от Потсдама
до Суэца
Итоги войны оказались для Британии достаточно противоре¬
чивыми. С одной стороны, она одержала в ней победу и сохранила
место в ряду ведущих мировых держав. Ее людские потери в этой
войне были вчетверо меньше, чем в Первую мировую войну. С дру¬
гой стороны, за годы войны утроился государственный долг, дос¬
тигший 21 млрд. ф. ст., в 7 раз возрос внешний долг страны (он
превышал 3 млрд. ф. ст.). Заметно ослабли позиции Англии на
мировых рынках, причем это коснулось даже рынков собственно
Британской империи, где англичан серьезно потеснили американ¬
цы. Весьма значительными были и прямые материальные потери
453
от войны, которые оценивались в 8,5 млрд. ф. ст. В силу этого про¬
блема реконверсии стояла в Великобритании гораздо острее, чем
в США. Ей надо было не только осуществить перевод своей эконо¬
мики на мирные рельсы, но и восстановить понесенные матери¬
альные потери и адаптироваться к новой ситуации.
В английском обществе быстро росло понимание того, что без
серьезных перемен решить эти сложнейшие проблемы невозмож¬
но. Эти настроения чутко уловили лейбористы, которые сразу пос¬
ле окончания войны заметно сдвинулись влево. Смелый маневр
принес успех: на внеочередных парламентских выборах, прохо¬
дивших 5 июля 1945 г., они одержали убедительную победу. По¬
чти половина избирателей (48,3%) отдали на выборах свои голоса
лейбористам, что принесло им абсолютное большинство в парла¬
менте. Несмотря на то, что в своей предвыборной программе лей¬
бористы заявили о себе как о «социалистической партии», новым
главой правительства стал представитель правого крыла партии
К. Эттли. Из левых лейбористов в правительство вошел только
Э. Бивен (министр здравоохранения).
Хотя новое правительство в своих действиях было гораздо бо¬
лее умеренным, чем это можно было ожидать исходя из предвы¬
борной платформы партии, оно под давлением обстоятельств все
же пошло на ряд серьезных реформ, прежде всего заметно расши¬
рило государственный сектор в экономике, что дало ему в руки
важные рычаги для успешного осуществления реконверсии. В
1947 г. объем промышленного производства достиг довоенного
уровня, и экономика в целом развивалась достаточно стабильно и
уверенно. Ежегодные темпы ее роста в это время составляли 6%.
В отличие от США, где в ходе реконверсии федеральное правитель¬
ство отказалось от ряда мер по прямому регулированию деловой
активности, в Англии лейбористы стремились расширить арсенал
средств, с помощью которых они могли оказывать прямое воздей¬
ствие на экономическую жизнь.
Безусловно, осуществляя широкую программу национализа¬
ции ряда ключевых отраслей экономики, правительство тщатель¬
но учитывало интересы бизнеса. Размеры выкупных платежей,
как правило, превышали реальную стоимость национализирован¬
ных компаний, что гарантировало их бывшим владельцам солид¬
ный ежегодный доход. Таким образом, лейбористы смогли выпол¬
нить важную часть своих предвыборных обещаний, получить в
свои руки мощные рычаги управления макроэкономическими
процессами и в то же время избежать резкой эскалации социаль¬
на напряженности.
Вскоре стало ясно, что в обществе, особенно среди рядовых
членов профсоюзов, бытовали явно завышенные ожидания в свя¬
454
зи с национализацией. Им казалось, что теперь именно они стали
новыми хозяевами бывшей крупной частной собственности. Од¬
нако на деле прежняя деловая элита отнюдь не утратила своих
ведущих позиций в английском обществе. Хотя консервативная
партия в так называемом «Промышленном манифесте» в 1947 г.
осудила национализацию в принципе, как меру, противоречащую
базовым устоям системы свободного предпринимательства, на
практике она не оказала никакого реального противодействия
планам лейбористов, предпочитая выжидать. Действительно,
вскоре стало ясно, что никаких потрясений не происходит. Наобо¬
рот, национализация на этом этапе благотворно сказалась и на
развитии экономики, и на положении корпораций, доходы кото¬
рых только за первый послевоенный год превысили 1,5 млрд,
ф. ст., и на социальном климате в стране в целом.
Однако у этой ситуации была и негативная для лейбористов
сторона. За все, как известно, приходится платить, а социальный
мир — вещь чрезвычайно дорогая, хотя и необходимая. Его под¬
держание потребовало осуществления широкомасштабных ре¬
форм в сфере социальной политики. Была введена в действие но¬
вая система социального страхования, создана Национальная
служба здравоохранения, развернулось интенсивное строитель¬
ство дешевого жилья. Естественно, столь крупные социальные
программы требовали весьма значительных государственных
средств. Для покрытия неуклонно возраставших государствен¬
ных расходов лейбористы вынуждены были пойти на увеличе¬
ние налогов и государственного долга. В 1946 г. правительство
обратилось к США с просьбой о предоставлении крупного займа
в размере почти 1 млрд. ф. ст. Правда, в обмен на его получение
Англии пришлось снизить таможенные пошлины на американс¬
кие товары и восстановить свободный обмен долларов на фунты.
В результате уже с лета 1947 г. стали нарастать финансовые труд¬
ности, которые вынудили правительство к весне 1949 г. перейти
к режиму экономии. Было объявлено о временном заморажива¬
нии заработной платы. Однако этот явно непопулярный среди
лейбористских избирателей шаг не принес ожидаемых резуль¬
татов: финансовые трудности продолжались. В результате осе¬
нью 1949 г. правительство прибегло к девальвации фунта стер¬
лингов на 30%. Естественно, такая серьезная мера сказалась и
на уровне жизни большинства англичан, и на престиже прави¬
тельства.
Внутри руководства лейбористской партии усиливались раз¬
ногласия: правительство стало настаивать на замедлении темпов
реформ, убеждая и страну, и своих сторонников в том, что необхо¬
димо сделать паузу в осуществлении дальнейших преобразований.
455
С другой стороны, группа левых лейбористов настаивала не толь¬
ко на продолжении, но и на углублении начатых реформ. Однако
их позиции в структуре партии оказались слишком слабыми. Ис¬
полком партии потребовал от внутрипартийных оппозиционеров
прекратить раскольническую деятельность. Несколько наиболее
решительных противников свертывания реформ были даже ис¬
ключены из лейбористской партии.
Казалось бы, все закончилось благополучно для руководства
лейбористов. Проблема, однако, заключалась в том, что прибли¬
жались парламентские выборы, и в этой ситуации обострение
фракционной борьбы в стане лейбористов ослабляло их позиции в
политическом процессе. Это обстоятельство сказалось на итогах
выборов, состоявшихся в апреле 1950 г. Общая победа осталась за
лейбористами, но они потеряли почти 80 мест в палате общин, и
их большинство там свелось всего к 6 голосам. Это делало положе¬
ние дел в политической жизни страны крайне неустойчивым.
Любое изменение политической конъюнктуры могло нарушить
хрупкое равновесие.
Летом 1950 г. началась война в Корее. Она дала мощный им¬
пульс развитию гонки вооружений во всех ведущих странах. Не
осталась в стороне и Великобритания. Как только вспыхнула вой¬
на, лейбористское правительство активно взялось за осуществле¬
ние широкомасштабной программы наращивания вооружений.
Это, естественно, потребовало дополнительных, причем весьма
значительных средств. Пришлось прибегать к выпуску займов,
которые обеспечили кредитование военных заказов, но одновре¬
менно вызвали быстрый рост государственного долга, а это, в свою
очередь, ставило под удар планы реализации социальных реформ.
Правительству К. Эттли пришлось пойти на сокращение расходов
на здравоохранение, что вызвало обострение отношений внутри
правительства. В знак несогласия с этим решением подал в отстав¬
ку министр здравоохранения Э. Бивен. Левое крыло лейбористов
теперь получило признанного лидера, достаточно популярного
среди избирателей, что создавало потенциальную угрозу позиции
официального руководства партии.
В этой ситуации оно нанесло упреждающий удар: было реше¬
но, не дожидаясь консолидации левого крыла, провести досроч¬
ные парламентские выборы, которые и состоялись в октябре
1951 г. На сей раз, однако, чаша весов качнулась в сторону кон¬
серваторов: хотя и с небольшим преимуществом победа досталась
им. Их прежний лидер У. Черчилль вновь занял кресло премьер-
министра. Хотя у кормила власти оказалась партия, прежде рез¬
ко критиковавшая этатистские меры лейбористов, в Англии, тай
ще как и в США, не произошло демонтажа созданной ранее раз¬
456
ветвленной социально-экономической инфраструктуры, которую
сам Черчилль назвал «свершившимся фактом». Так же как и рес¬
публиканцы в США, английские консерваторы стремились лишь
ограничить масштабы государственного вмешательства в сферу
социально-экономических отношений, но отнюдь не ликвидиро¬
вать его. Так, например, была свернута программа строительства
муниципального жилья, отменен контроль за ростом платы за
жилье, были вновь возвращены в частные руки более 50 метал¬
лургических заводов.
Однако подобная корректировка экономического курса не
смогла радикально изменить неблагоприятные в целом для стра¬
ны макроэкономические процессы. Хотя в 50-е гг. наблюдался
общий рост объема промышленной продукции, доля Великобри¬
тании в мировом производстве неуклонно сокращалась, что озна¬
чало замедление темпов роста экономики. В то время как США,
ФРГ и Япония постоянно наращивали их, Англия начинала все
больше проигрывать своим основным конкурентам. Иными сло¬
вами, характеризуя ее экономическое развитие в 50-е гг., можно
сказать, что оно было медленным, но стабильным.
Такая ситуация обусловила господство консенсусных тенден¬
ций в политическом процессе в 50-е гг. Консерваторы уже не по¬
кушались на социальные основы «смешанной экономики», а но¬
вое руководство лейбористов во главе с X. Гейтскеллом избегало
поднимать вопрос о перспективах «движения Англии к социа¬
лизму» . Не удивительно, что в такой обстановке в 50-е гг. в Анг¬
лии не было отмечено серьезных социальных конфликтов. Ко¬
нечно, это не значит, что конфликт как таковой вообще исчез из
политической жизни Англии — просто вместо привычных тру¬
довых конфликтов в центре внимания общественности оказались
вопросы, поднятые антивоенным движением, принявшим мас¬
совый характер. Его участники выступали за запрещение ядер-
ного оружия, прекращение войны в Корее, против ремилитари¬
зации ФРГ. Правда, несмотря на свою массовость, серьезно по¬
влиять на политику британского правительства и тем более на
динамику развития международных отношений антивоенное
движение не смогло. Более того, Англия вступила в «ядерный
клуб», ФРГ приняли в НАТО, а на Британских островах появи¬
лись американские военные базы. Иными словами, правитель¬
ство не только не пошло на уступки антивоенным силам, но ус¬
пешно продавливало свою программу.
Такой жесткий внешнеполитический курс вызывал недо¬
вольство не только у участников антивоенного движения. В ру¬
ководстве самой консервативной партии в адрес Черчилля стала
звучать критика за слишком тесную увязку внешнеполитичес¬
457
кого курса страны с позицией Соединенных Штатов, и в апреле
1955 г. он был вынужден уйти в отставку. Его место занял Анто¬
ни Иден, имевший репутацию «прогрессивного консерватора».
Новый лидер правящей партии сумел несколько укрепить ее по¬
зиции в политическом процессе. На парламентских выборах,
проходивших в мае 1955 г., консерваторы получили 24 новых
места и, таким образом, еще больше увеличили свое преимуще¬
ство над лейбористами. Однако успех Идена оказался краткос¬
рочным. Именно на время его пребывания у власти пришелся
крупнейший в послевоенной истории Великобритании внешне¬
политический кризис, ярко высветивший рбщее ослабление ее
позиций в мировых делах.
Долгое время могущество этой страны зиждилось на эксплуа¬
тации огромной колониальной империи. Однако после Второй
мировой войны там все больший размах приобретало националь¬
но-освободительное движение, добивавшееся от метрополии пре¬
доставления независимости. У Лондона уже не всегда хватало сил
для того, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Но без ко¬
лониальной империи Англия была не в состоянии сохранять пре¬
жние позиции в сфере международных отношений и поддержи¬
вать, а тем более улучшать социально-экономическую сферу соб¬
ственно в метрополии. Британия оказалась по сути дела в тупике:
силовые методы борьбы с национально-освободительным движе¬
нием в глобальном масштабе грозили вызвать «имперское пере¬
напряжение» (т.е. подрыв базовых устоев общества), а отказ от них
неизбежно вел к утрате основной составляющей мощи Британс¬
кой империи, а это, в свою очередь, без сомнения заметно ухуд¬
шило бы общую ситуацию в стране, снизилр ее возможности на
международной арене.
Новое правительство консерваторов столкнулось с непростой
дилеммой: либо начать глубокую модернизацию (это, однако, тре¬
бовало времени и больших средств), либо попытаться силовым
путем переломить неблагоприятные тенденции в развитии им¬
перии. Правительство А. Идена выбрало второй вариант. Было
решено преподать наглядный урок оппонентам Британии в тре¬
тьем мире и продемонстрировать всем и каждому, что она по-пре¬
жнему в состоянии защитить свои интересы в любой точке зем¬
ного шара.
В качестве места для такого « предметного урока» избрали Еги¬
пет. Там в 1952 г. произошла революция, и лояльный Лондону
королевский режим был свергнут. Новое правительство страны
потребовало вывода всех британских колониальных войск. Пона¬
чалу Англия смирилась с этим. Однако через два года египетские
власти, остро нуждавшиеся в средствах на модернизацию страны,
458
объявили о национализации Всеобщей компании Суэцкого кана¬
ла. Это был весомый удар и по стратегическим позициям Вели¬
кобритании, и по ее торгово-финансовым интересам, и по ее пре¬
стижу. На следующий день Англия, Франция и Израиль начали
боевые действия против Египта. Так началась крупнейшая коло¬
ниальная авантюра Великобритании.
Военный конфликт, продлившийся неделю, оказал большое
воздействие на внутриполитическую ситуацию в Англии. Впер¬
вые в послевоенной истории парламентская оппозиция не поддер¬
жала подобную акцию правительства. Даже ближайший союз¬
ник — США — официально предпочел дистанцироваться от этой
крайне непопулярной в мире, в том числе и на Западе, акции. По¬
тратив за неделю около 100 млн. ф. ст., Великобритания была
вынуждена отступить. Вместо наглядного урока, призванного про¬
демонстрировать миру, и в первую очередь национально-освобо¬
дительному движению, мощь и решимость Британской империи
защищать свои жизненно важные интересы, получился полный
конфуз, отчетливо обнаруживший ее слабость и неспособность
управлять внешнеполитическими процессами в третьем мире пре¬
жними методами.
Лишь благодаря тому, что стабилизационные процессы пус¬
тили достаточно прочные корни в английском обществе, удалось
избежать серьезного внутриполитического кризиса после прова¬
ла Суэцкой авантюры. Однако на политической карьере А. Идена
был поставлен крест. Под давлением внутрипартийных оппонен¬
тов он вскоре был вынужден уйти в отставку. Лейбористы не ста¬
ли раздувать скандал, опасаясь, что его эскалация может разру¬
шить выгодный основным политическим силам Англии консен¬
сус. В итоге кресло премьер-министра занял новый лидер консер¬
ваторов Г. Макмиллан, относившийся к умеренному крылу
партии.
§ 4. Франция: взлет и падение
Четвертой республики
Уже в ходе освобождении Франции от немецких оккупантов
власть на территории страны перешла к Временному правитель¬
ству, в деятельности которого участвовали все основные полити¬
ческие группировки движения Сопротивления, включая комму¬
нистов. Во главе Временного правительства встал генерал Шарль-
де Голль. Именно Временному правительству предстояло решить
первоочередные задачи, связанные с восстановлением государ¬
ственности и переходом к мирной жизни. Это были весьма непро¬
459
стые проблемы, ибо, во-первых, в результате боевых действий
Франция понесла большие людские и материальные потери. За
время войны погибло 3 млн. французов, объем промышленного
производства упал на 38%, а сельскохозяйственного — на 60% от
довоенного уровня. В стране катастрофически не хватало топли¬
ва, медикаментов, продовольствия. Денежная система находилась
ц полном расстройстве.
Во-вторых, после катастрофы 1940 г. Франции предстояло
восстановить свой престиж великой державы. В условиях резкого
ослабления ее позиций на международной арене и в мировом хо¬
зяйстве, бурного подъема национально-освободительного движе¬
ния во французской колониальной империи сделать это было не¬
легко. В-третьих, предстояло найти новую оптимальную форму
политической организации общества, которая была бы приемле¬
мой для основной части французского общества, для главных
партий новой, освобожденной от оккупантов Франции.
III республика себя полностью дискредитировала, поэтому необ¬
ходимо было разработать базовые принципы новой модели поли¬
тической системы страны и закрепить их в новой Конституции.
Именно эти вопросы и оказались в центре политической борь¬
бы в первые послевоенные годы. Крушение III республики, крах
режима Виши дали мощный импульс партийно-политической пе¬
регруппировке во Франции. Активное участие в движении Сопро-*
тивления предопределило укрепление позиций левых сил — ком¬
мунистов и социалистов — в политической жизни послевоенной
Франции. И наоборот, правые силы, сотрудничавшие с режимом
Виши, были полностью дискредитированы, и на их политических
перспективах был поставлен крест. В силу этого перед оппонента¬
ми левых сил встала острая задача адаптации к сложившимся ус¬
ловиям, поиска новых эффективных организационно-политичес¬
ких форм для отстаивания своих интересов.
Ведущие буржуазные партии довоенного времени объедини¬
лись в новую партию — Республиканскую партию свободы, кото¬
рую возглавил Ж. Ланьель. Хотя у этого объединения появилось
новое название, его программа не отличалась особой новизной. По
существу в ней содержались традиционные для старого либера¬
лизма лозунги поощрения свободного предпринимательства, не¬
вмешательства государства в экономику и социальные отношения.
Примерно такую же позицию занимали радикалы, акцентировав¬
шие внимание на том, что они во главу угла ставят интересы за¬
щиты мелкой собственности. Очевидно, что с такими программ¬
но-целевыми установками этим партиям было трудно рассчиты¬
вать на превращение в ведущую силу в новой политической систе¬
ме Франции..
460
На эту роль претендовала созданная в ноябре 1944 г. партия
МРП (Народно-республиканское движение). Ее лидерами явля¬
лись видные участники движения Сопротивления Ж. Бидо и
М. Шуман. Они подчеркивали необходимость проведения струк¬
турных реформ, включая частичную национализацию банков и
ключевых промышленных предприятий, а также развитие соци¬
ального партнерства с целью создания «ассоциации труда, руко¬
водства и капитала». Лидеры МРП считали необходимым подклю¬
чение рабочих к управлению производством.
Большим влиянием в политической жизни страны в это вре¬
мя пользовался генерал Ш. де Голль, за которым закрепилась ре¬
путация освободителя Франции. В построениях де Гол ля цент¬
ральное место занимала идея возрождения величия Франции.
Сделать это можно было лишь с помощью сильного государства,
способного консолидировать нацию вокруг независимого внеш¬
неполитического курса и осуществления широкомасштабных
социальных реформ, включая частичную национализацию, вве¬
дение элементов государственного планирования экономики,
утверждение системы участия трудящихся в управлении произ¬
водством.
Подобная конфигурация политических сил предопредели¬
ла итоги первых послевоенных выборов, состоявшихся в октяб¬
ре 1945 г., на которых избирались депутаты Учредительного со¬
брания. Этому органу предстояло разработать и принять новую
Конституцию. По результатам выборов на первое место вышла
Компартия Франции, второй стала партия МРП, а третьей со¬
циалисты. Они получили соответственно 152, 150 и 146 мест в
Учредительном собрании. После сложных переговоров было
решено создать коалиционное правительство из представителей
этих трех партий, а его главой стал де Голль. Однако уже вско¬
ре между основными политическими силами возникли серьез¬
ные разногласия. Де Голль резко возражал против того, чтобы
Учредительное собрание вмешивалось в деятельность прави¬
тельства. В январе 1946 г., после того как между ним и боль¬
шинством Учредительного собрания возник конфликт по пово¬
ду размеров ассигнований на военные нужды, де Голль объявил
о своей отставке.
Новое, опять-таки трехпартийное правительство возглавил
социалист Ф. Гуэн. В центре внимания в это время оказался воп¬
рос о принятии новой Конституции. В мае 1946 г. Учредитель¬
ное собрание вынесло на референдум подготовленный им проект,
в котором были зафиксированы многие важные социально-эко¬
номические права населения. Что касается основ новой полити¬
ческой системы, то ключевая роль в ней отводилась однопал ат-
461
ному Национальному собранию. Против данного документа выс¬
тупили правые силы и центристы. Их объединенными усилия¬
ми проект нового Основного закона небольшим большинством
голосов участников референдума был отвергнут. После этого со¬
стоялись перевыборы Учредительного собрания. Его композиция
несколько видоизменилась: укрепили свои позиции представи¬
тели МРП, вышедшие на первое место, а социалисты потеряли
часть голосов. Лидер МРП Ж. Бидо занял пост главы правитель¬
ства. На этот раз трем ведущим партиям удалось согласовать свои
позиции относительно текста новой Конституции, в которой те¬
перь расширялись полномочия президента и предусматривалось
создание двухпалатного парламента. В октябре 1946 г. он был
одобрен на повторном референдуме, и Франция наконец обрела
новую Конституцию.
Самый опасный период в послевоенном восстановлении был
пройден. Важно, что к разработке новой Конституции удалось
подключить основные левые силы, включая коммунистов, кото¬
рые по существу взяли на себя обязательство вести политичес¬
кую борьбу не выходя за рамки Основного закона. В свою оче¬
редь, правящие круги, обновленная политическая элита Фран¬
ции согласились гарантировать трудящимся ряд важнейших со¬
циальных прав — на труд, на отдых, на социальное обеспечение,
на образование. На этой основе и сложился пусть не особенно ус¬
тойчивый, но все же консенсус относительно дальнейщего век¬
тора развития страны.
В ноябре 1946 г. состоялись выборы в Национальное собрание.
Первые три места в них заняли все те же три партии: коммунис¬
ты, МРП и социалисты. Вскоре, однако, ситуация заметно ослож¬
нилась. В апреле 1947 г. по инициативе де Голля, которого не уст¬
раивала действовавшая Конституция, была создана новая
партия — «Объединение французского народа» (РПФ). На выбо¬
рах в местные органы самоуправления в октябре 1947 г. она заня¬
ла первое место, заметно опередив все другие политические силы.
Исходя из этого, руководство новой партии потребовало роспуска
Национального собрания и проведения досрочных выборов.
Обострились разногласия и в правительстве трехпартийной
коалиции между коммунистами, с одной стороны, и социалис¬
тами и МРП, с другой. Камнем преткновения стал вопрос о ха¬
рактере внешнеполитического курса Франции. Социалисты и
особенно МРП стали все более откровенно поддерживать действия
США на международной арене, а коммунисты безоговорочно
одобряли все внешнеполитические акции СССР. Вскоре разно¬
гласия распространились и на вопросы социально-экономичес¬
кой политики. Конфликт вырвался наружу весной 1947 г., ко^-
462
да разгорелась крупная забастовка на заводах «Рено». Члены
правительства от французской компартии поддержали требова¬
ния бастующих, в то время как остальные министры, ссылаясь
на необходимость борьбы с инфляцией, резко выступали против
их удовлетворения. 5 мая 1947 г. глава кабинета министров из¬
дал декрет об исключении коммунистов из правительства за на¬
рушение корпоративной солидарности. Правительственная коа¬
лиция распалась.
Это серьезно дестабилизировало внутриполитическую ситуа¬
цию, вызвало подъем забастовочного движения. Осенью 1947 г.
встал вопрос о проведении всеобщей стачки. Она сразу же приоб¬
рела исключительно широкий размах и грозила парализовать все
французское общество и вызвать политический кризис с непредс¬
казуемыми последствиями. Однако в самый разгар забастовки в
руководстве профсоюзов произошел раскол: часть профсоюзных
лидеров вышла из состава ВКТ и призвала к прекращению конф¬
ликта. Если для рабочего движения это обернулось поражением,
то с точки зрения политической системы Франции данное собы¬
тие позволило удержать ее от сползания к кризису и даже к воз¬
можному распаду.
Постепенная стабилизация политической ситуации вкупе с
массированной американской экономической помощью благотвор¬
но сказались на положении дел в экономике Франции. Уже в
1948 г. объем промышленного производства превысил довоенный
уровень. В аграрном секторе этот показатель был достигнут в
1950 г. В 50-е гг. по темпам роста Франция обогнала Великобри¬
танию.
Главной особенностью французской экономики в этот период
являлось наличие достаточно мощного государственного сектора.
К концу существования Четвертой республики в собственности
государства находилось 36% всего национального имущества.
Развитию экономики способствовало достаточно эффективное ис¬
пользование механизмов государственного планирования. Еще в
1947 г. был принят государственный план модернизации и рекон¬
струкции промышленности (план Монне), а затем планирование
стало постоянным атрибутом французской экономики. В отличие
от советской системы планирования, носившей директивный ха¬
рактер, французская носила рекомендательный («индикатив¬
ный») характер. Однако у правительства имелось немало рычагов,
с помощью которых оно могло влиять на реализацию намеченных
планов. Сегодня всеми признано, что благодаря этому Франция
сумела сравнительно быстро преодолеть тяжелые последствия вой¬
ны и в значительной степени восстановить свой статус одной из
ведущих европейских держав.
463
Сложнее обстояли дела с реставрацией позиций Франции на
международной арене. В условиях становления биполярной сис¬
темы, когда определяющую роль в мировой политике играли две
сверхдержавы, Франция была вынуждена ориентироваться на
один из этих двух центров силы. Естественно, она оказалась в ор¬
бите влияния Соединенных Штатов. С одной стороны, помощь
США в определенной мере помогла Франции в восстановлении ее
престижа и позиций, прежде всего в Европе. С другой стороны,
Франции пришлось активно включиться в глобальное противобор¬
ство США с СССР на стороне Вашингтона. Она стала членом НАТО,
ей пришлось смириться с ремилитаризацией ФРГ, включиться в
г »ыку вооружений, обременительную для ее экономики.
Стремясь расширить возможности для проведения самостоя¬
тельного внешнеполитического курса, Франция вместе с рядом
других западноевропейских стран выступила инициатором круп¬
ных интеграционных проектов, призванных укрепить общие по¬
зиции Западной Европы в мировой экономике и мировой полити¬
ке. Она постепенно, хотя и не без проблем, вырабатывала новый
модус взаимоотношений как со своими союзниками, так и с оппо¬
нентами, находила свою нишу в новой модели международных
отношений.
Проблемой проблем для Франции оставался колониальный
вопрос. В годы существования Четвертой республики страна по
существу не сумела выработать действенные методы борьбы с на¬
ционально-освободительным движением. Как правило, на вызо¬
вы с его стороны Париж отвечал силовыми акциями, которые не
раз перерастали в крупномасштабные и затяжные военные конф¬
ликты, дорого обходившиеся метрополии.
Первой такой войной стал конфликт в бывшем Французском
Индокитае, где уже в конце 1945 г. начались боевые действия,
продолжавшиеся вплоть до 1954 г. и завершившиеся разгромом
колониальных войск при Дьен Бьен Фу и вынужденным уходом
Франции из Индокитая. Не успел закончиться этот конфликт, как
вспыхнула еще более тяжелая и кровопролитная война, на сей раз
в Алжире. Очевидно, что эти события самым серьезным образом
сказались не только на положении Франции на международной
арене, но и на внутриполитической ситуации. Войны требовали
значительных материальных расходов, а это ставило под вопрос
финансирование социальной сферы. Росли людские потери. Все
это вызвало нарастающее недовольство во французском обществе,
стимулировало обострение партийно-политической борьбы.
В начале 50-х гг. прежняя трехпартийная коалиция оконча¬
тельно распалась. Теперь в оппозицию, помимо коммунистов, пе¬
решли и социалисты. Страной стал править правоцентристский
464
блок, состоявший из МРП, радикалов и независимых. В Нацио¬
нальном собрании образовалось 6 крупных фракций — коммуни¬
сты, социалисты, МРП, радикалы, независимые, РПФ. Это откры¬
вало широкий простор для формирования различных коалиций и
усиливало политическую нестабильность. Не случайно после
1951 г. для Франции вновь стала характерной правительственная
чехарда, когда один кабинет непрерывно сменял другой. За 10 лет
существования IV республики у власти находилось более 20 пра¬
вительств. Ясно, что говорить о прочной стабилизации в такой
ситуации не приходилось.
Важно отметить, что темпы этих перемен стали нарастать пря¬
мо пропорционально тому, как увеличивалось дробление электо¬
рата между партиями. Это лишь подчеркивало, что послевоенная
стабилизация во Франции носила непрочный характер. В боль¬
шинстве партий постоянно шла острая фракционная борьба, не¬
редко выливавшаяся в расколы и без того слабеющих организа¬
ций. Это и не удивительно, ибо общество в целом не могло опреде¬
литься, как реагировать на колониальные конфликты, в которые
оказалась втянутой Франция и от которых зависела ее дальней¬
шая судьба.
К середине 50-х гг. достигнутая в предшествующее десятиле¬
тие относительная стабильность была подорвана. Страну разди¬
рали острые политические противоречия. Своеобразным индика¬
тором положения дел во французском обществе стали парламент¬
ские выборы 1956 г. По их итогам к власти пришло правительство
«республиканского фронта», в который входили социалисты и
левые радикалы. Его возглавил лидер социалистов Ги Молле. На
первых порах этот кабинет поддерживали и коммунисты, что обес¬
печивало ему относительно устойчивое большинство в парламен¬
те. Однако после того, как осенью 1956 г. кабинет Ги Молле санк¬
ционировал участие Франции в войне против Египта, он лишился
поддержки коммунистов и вскоре был вынужден уйти в отставку.
После этого внутриполитическая ситуация еще более ослож¬
нилась. Все большее влияние на нее стала оказывать война в Ал¬
жире, где полумиллионная французская армия никак не могла
справиться с набиравшим размах национально-освободительным
движением. Армейское командование и значительная часть фран¬
цузского общества были склонны винить в этом власти Четвертой-
республики, которые из-за своей слабости и зависимости от «дик¬
татуры партий» якобы не способны были довести войну в Алжире
до победного конца. "
13 мая 1958 г. ультраколониалисты подняли мятеж в Алжи¬
ре, захватили там власть и потребовали передать бразды правле¬
ния во Франции генералу де Голлю. Тот заявил, что готов взять на
465
себя всю полноту ответственности за положение дел во Франции и
на подконтрольных ей территориях при условии предоставления
ему чрезвычайных полномочий и пересмотра Конституции 1946 г.
Пока лидеры политических партий обсуждали в Париже этот де¬
марш де Голля, мятежники начали активно готовиться к высадке
десанта в столице Франции и осуществлению государственного
переворота. Франция оказалась на грани гражданской войны. В
этой ситуации ведущие политики страны сочли за лучшее не ис¬
кушать судьбу и согласиться на условия де Голля, ибо альтерна¬
тивой ему представлялась гражданская война. Президент Фран¬
цузской республики Коти в конце мая официально обратился к
«самому знаменитому из французов» с предложением сформиро¬
вать правительство национального спасения. 1 июня 1958 г. все
депутаты Национального собрания, кроме коммунистов и несколь¬
ких социалистов, проголосовали за доверие правительству де Гол¬
ля и за предоставление ему чрезвычайных полномочий и права на
разработку новой Конституции. Таким образом, Четвертая респуб¬
лика перестала существовать.
В итоге политическая и экономическая составляющие в про¬
цессе восстановления и стабилизации во Франции существенно
разошлись. Если в экономическом плане результаты данного пе¬
риода выглядели вполне удовлетворительно, то о политических
итогах указанного отрезка французской истории этого сказать
нельзя. Четвертая республика оказалась и недолговечной, и не¬
эффективной. Ее постоянно лихорадило, ибо творцы Основного
закона не сумели найти формулу, позволявшую прочно вписать в
структуру IV республики основные противоборствовавшие поли¬
тические силы. И справа, и слева она периодически подвергалась
жесткой критике за неспособность найти приемлемые для этих сил
рецепты, гарантирующие, с одной стороны, возрождение величия
Франции, а с другой — утверждение в стране большей социаль¬
ной справедливости. Удержать достигнутое в 1946 г. политичес¬
кое равновесие в силу высокой фрагментации общества оказалось
невозможным, поскольку выработка консенсуса в таких услови¬
ях была делом крайне трудно осуществимым. Потребовалось вне¬
сение серьезных коррективов в политический механизм Франции,
чтобы он обрел большую устойчивость.
§ 5. У истоков западногерманского чуда
Когда закончилась Вторая мировая война, Германия, развя¬
завшая ее, была повержена и лежала в руинах. Страна утратила
государственный суверенитет, а население находилось в полном
466
шоке — так разительно отличалась действительность от того, как
всего несколько лет назад представляли ее себе немцы. Дальней¬
шая судьба Германии была неясной. Ее ближайшее будущее фор¬
мально было определено решениями Потсдамской конференции,
согласно которым страна была разделена на четыре зоны окку¬
пации. Было договорено, что союзники по антигитлеровской ко¬
алиции будут проводить там согласованную политику, основан¬
ную на четырех общих принципах — денацификации, демили¬
таризации, демократизации и декартелизации. Однако догово¬
риться об этих общих принципах оказалось легче, чем реализо¬
вать их на практике.
Почти сразу же между союзниками возникли принципиаль¬
ные разногласия. Советский Союз видел будущее Германии со¬
вершенно иначе, чем США, Великобритания и Франция. Поэто¬
му ситуация в восточной и западных зонах оккупации стала раз¬
виваться по разным сценариям. На западе США и их союзники
стремились к созданию на подконтрольных им территориях та¬
ких социально-экономических и политических структур, кото¬
рые гарантировали бы превращение новой Германии в типичную
западную демократию. Для этого прежде всего необходимо было
решить две взаимосвязанные задачи. Во-первых, требовалось
преодолеть последствия послевоенной разрухи, вновь запустить
экономический механизм системы свободного предприниматель¬
ства. Во-вторых, создать политические структуры, обеспечива¬
ющие оптимальные условия для функционирования государства
и общества, базирующихся на западных ценностях. Ставка в этом
плане была сделана на созданный в 1947 г. во всех западных зо¬
нах Христианско-демократически^ союз (ХДС) во главе с Кон¬
радом Аденауэром.
Естественно, начинать надо было с восстановления нормальной
хозяйственной жизни в западных оккупационных зонах, ибо без
этого нечего было рассчитывать, что вчерашние жители «тысяче¬
летнего рейха» превратятся в сторонников демократии. Социаль¬
но-экономическая политика западных держав в Германии харак¬
теризовалась определенной двойственностью. С одной стороны,
никто из союзников не хотел возрождения мощного, агрессивного
конкурента. С другой — очень скоро стало очевидно, что для успеш¬
ной борьбы с таким серьезным противником, как Советский Союз,
Западу необходимо быстрее подключить к ней возрожденную За¬
падную Германию. Эта дилемма и определяла действия^западных
держав (прежде всего США) в германском вопросе.
Решающим шагом на пути к расколу Германии и одновремен¬
но к экономическому восстановлению западной ее части стала се¬
паратная денежная реформа, осуществленная по инициативе
467
США летом 1948 г. Она имела двоякий результат. Если говорить
о внутриполитических последствиях, то именно эта реформа дала
старт возрождению нормальной деятельности рыночных меха¬
низмов. Однако она имела и другое следствие. Поскольку она
была проведена без каких-либо консультаций с СССР, в Москве
это было расценено не просто как нарушение Потсдамских согла¬
шений, но и как попытка нанести ущерб ее экономическим инте¬
ресам. В советской зоне оккупации была введена своя марка. В
итоге резко обострилась проблема Берлина. Стремясь оградить
собственную зону от проникновения в нее западногерманских
марок, Советский Союз ввел в конце июня блокаду Западного
Берлина. Разразился острейший международный кризис, глав¬
ным следствием которого стала невозможность проведения быв¬
шими союзниками в дальнейшем сколько-нибудь согласованной
политики в германском вопросе. Раскол Германии практически
стал неотвратим.
Эта перспектива стала очевидной для руководства как Соеди¬
ненных Штатов, так и Советского Союза. Осенью 1948 г. по ини¬
циативе западных держав в их зонах оккупации был создан Пар¬
ламентский совет, которому поручалась подготовка Конституции
новой Германии. Уже в преамбуле проекта этого документа было
зафиксировано положение о том, что создаваемое на территории
Западной Германии государство является единственным право¬
мочным представителем всех немцев (хотя представители восточ¬
ных земель в разработке этого документа не участвовали). Па¬
раллельно с этим документом западными державами был подго¬
товлен так называемый «Оккупационный статут», существенно
ограничивавший суверенитет новой Германии. США и их союз¬
ники сохраняли за собой право контроля над ее внешней поли¬
тикой и внешней торговлей, оставляли за собой право вмешивать¬
ся в определенных ситуациях в ее внутриполитическую жизнь,
закрепляли свой контроль над промышленным потенциалом
Рура.
В день четырехлетия капитуляции гитлеровской Германии
Парламентский совет утвердил Основной закон, на базе которо¬
го через несколько месяцев были проведены выборы в бундес¬
таг — нижнюю палату нового западногерманского парламента.
Наибольшее количество мест в нем получил блок ХДС/ХСС. На
второе место, отстав всего на несколько голосов, вышли социал-
демократы. На третьем оказались свободные демократы. Верх¬
няя палата парламента — бундесрат — формировалась из пред¬
ставителей немецких земель. После того как завершилось кон¬
ституирование парламента, 7 сентября 1949 г. было провозгла¬
шено образование нового государства — Федеративной Респуб¬
468
лики Германии. Первым ее канцлером стал лидер ХДС К. Аде¬
науэр. Вскоре после образования ФРГ в советской зоне оккупа¬
ции было создано еще одно немецкое государство — Германская
Демократическая Республика. Таким образом, давно назревав¬
ший раскол страны стал фактом. Каждое из созданных немец¬
ких государств пошло своим путем, у каждого отныне начала
формироваться собственная историческая судьба.
Сегодня результаты исторического противоборства двух не¬
мецких государств известны: победу в нем одержала ФРГ. У тако¬
го исхода соперничества было много составляющих, но очевидно,
что одна из главных причин успеха ФРГ заключалась в создании
в этой стране весьма эффективной модели социально-экономичес¬
кого развития. Действительно, то, что произошло в экономике ФРГ
в 50-е гг., не без основания называли чудом: в короткий срок эко¬
номика страны, пребывавшая в состоянии разрухи, вышла на пе¬
редовые рубежи в мировом масштабе. В 50-е гг. среднегодовые тем¬
пы роста производства в ФРГ держались на уровне 9%, что для
высокоразвитой страны является чрезвычайно высоким показа¬
телем. Это позволило ФРГ к 1962 г. утроить свой национальный
доход. В ФРГ почти исчезла безработица: на рубеже 50-60-х гг. ее
уровень снизился до 0,7% от совокупной рабочей силы. Страна
вышла на одно из первых мест по уровню жизни. Реальная зара¬
ботная плата возросла в 50-е годы на 76%.
Творцом этого «экономического чуда» считается Л. Эрхард,
занимавший пост министра экономики в правительстве Аденау¬
эра. Теоретической основой социально-экономической полити¬
ки правительства ФРГ стала доктрина социального рыночного
хозяйства. В ней государству отводилась роль гаранта нормаль¬
ного функционирования рыночного хозяйства, которое достига¬
лось за счет контроля за монополиями, проведением политики
распределения доходов, развития трудового законодательства и
активной социальной политики. Этот последний момент был осо¬
бенно важен в условиях жесткого идеологического противобор¬
ства с ГДР. Еще в 1949 г. был принят закон о коллективных до¬
говорах, согласно которому размер заработной пЛаты устанавли¬
вался в ходе переговоров между работодателями и профсоюзами,
проходившими на принципах «автономной свободы решений»,
т.е. без вмешательства федеральных органов. Их участие в этом
процессе предусматривалось только в случае возникновения кон¬
фликтной ситуации. В 1951 г. был принят закон о паритетном
соучастии предпринимателей и представителей профсоюзов в
наблюдательных советах крупных предприятий тяжелой про¬
мышленности. Была значительно расширена и усовершенство¬
вала система социального страхования, которая включала в себя
469
четыре элемента: страхование по болезни, в случае получения
производственной травмы, по безработице и по старости.
Помимо решения сложного комплекса социально-экономичес¬
ких проблем, правительству К. Аденауэра пришлось заняться не
менее трудными внешнеполитическими вопросами, связанными
с определением места ФРГ в биполярной системе, восстановлени¬
ем ее статуса в международных делах. Сделать это было непросто,
ибо в первые послевоенные годы ФРГ в умах многих европейцев
ассоциировалась с Третьим рейхом, ввергнувшим мир в глобаль¬
ный военный конфликт.
Избавиться от этих неприятных ассоциаций ФРГ помогла об¬
становка «холодной войны». Очень скоро лидерам США и веду¬
щих западноевропейских стран стало ясно, что без ремилитариза¬
ции ФРГ и интеграции ее в западную систему безопасности создать
эффективный противовес основному противнику Запада —
СССР — невозможно. Первая попытка подключить ФРГ к воен¬
ной машине Запада была предпринята в 1952 г., когда возникла
идея образования Европейского оборонительного сообщества
(ЕОС). Хотя это предложение в итоге так и не было реализовано,
правительство ФРГ, воспользовавшись благоприятной ситуацией,
сумело добиться отмены «Оккупационного статута».
Следующий важный шаг на пути укрепления позиций ФРГ в
системе международных отношений был сделан в 1954 г., когда
при мощной поддержке США были подписаны Парижские согла¬
шения, предусматривавшие вступление ФРГ в НАТО и создание
западногерманских вооруженных сил — бундесвера. Параллель¬
но с подключением ФРГ к военно-политическим структурам За¬
пада руководство этой страны весьма активно участвовало в раз¬
витии экономической интеграции западноевропейских стран. Еще
в 1950 г. ФРГ стала членом ЕОУС (Европейское объединение угля
и стали), а в 1957 г. вступила в «Общий рынок». Все эти шаги,
вкупе с впечатляющими успехами собственной экономики, позво¬
лили ФРГ в 50-е гг. заметно укрепить свое внешнеполитическое
положение: начав в 1949 г. практически с нуля, менее чем за 10
лет она сумела во многом восстановить свой престиж как ключе¬
вой европейской державы.
Успехи на внешнеполитическом и экономическом фронтах во
многом зависели от прочности внутриполитических позиций пра¬
вительства Аденауэра. Канцлер придавал большое значение укреп¬
лению межпартийного консенсуса, видя в этом залог прочной об¬
щественно-политической стабилизации. Он полагал, что прочным
консенсус мог стать только в том случае, если будет базироваться
на консервативной основе — в противном случае, по его мнению,
открывались каналы для укрепления престижа ГДР среди немцев.
470
Поэтому задачей первостепенной важности являлось выдавливание
из партийно-политической системы ФРГ леворадикальных сил.
Воспользовавшись тем, что в 1952 г. руководство компартии ФРГ
приняло документ под названием «Программа национального вос¬
соединения», в котором содержались высказывания антиконсти¬
туционного плана (правительство Аденауэра объявлялось антина¬
циональной силой, препятствовавшей объединению Германии, и,
соответственно, предлагалось любыми способами добиваться его
отстранения от власти), правительство инициировало судебный
процесс против КПГ, завершившийся в 1956 г. ее запретом.
После устранения с политической сцены КПГ реализация
внутриполитических планов правящей коалиции во многом ста¬
ла зависеть от позиции западногерманских социал-демократов.
Вплоть до 1952 г., пока во главе этой партии стоял К. Шумахер,
социал-демократы, имевшие вторую по численности фракцию
в бундестаге, находились в «непримиримой оппозиции» каби¬
нету Аденауэра. Однако после неожиданной смерти Шумахера,
когда партию возглавил Э. Олленхауэр, ситуация изменилась.
Ссылаясь на то, что социально-политическая обстановка в ФРГ
быстро менялась, новый лидер стал добиваться пересмотра
партийной стратегии социал-демократов, ее адаптации к новым
социальным реалиям. По его мнению, «экономическое чудо»,
имевшее место в ФРГ, доказывало, что прежний капитализм,
претерпев глубокую трансформацию, канул в лету. В стране
сформировалась качественно новая ситуация, и в силу этого
СДПГ следует отказаться от конфронтационного курса в отно¬
шении правящей коалиции.
После парламентских выборов 1957 г. СДПГ перешла от «не¬
примиримой» оппозиции к «условной», подчеркивая, что в целях
поддержания стабильности, она готова по ряду вопросов сотруд¬
ничать с блоком ХДС/ХСС, а на съезде СДПГ в 1959 г. была при¬
нята новая программа партии. В ней декларировалось, что партия
выступает не за ликвидацию существующего правопорядка, а
лишь за его совершенствование. Иными словами, социал-демок¬
раты отказались от курса на перестройку капитализма путем ре¬
форм и стали партией реформ в рамках капитализма. В этой транс¬
формации была поставлена точка, когда летом 1960 г. социал-де¬
мократы заявили об общности с правящей коалицией в подходах
к ключевым вопросам общественного развития.
Эти подвижки в партийно-политической жизни ФРГ оказали
неоднозначное воздействие на общее развитие страны. С одной
стороны, отказ СДПГ — основной оппозиционной партии ФРГ в
50-е гг. — от жесткой конфронтации с правительством безуслов¬
но способствовал стабилизации внутриполитической ситуации,
471
укреплению в ней консенсусных начал. С другой стороны, ослаб-
ление политического давления на власть уменьшало ее готовность
к поиску новых путей и средств для дальнейшего совершенство¬
вания социально-экономических структур.
Конечно, у правящей элиты ФРГ был мощный внешний раз-
дражитель в лице ГДР, постоянно побуждавший ее к поиску все
новых доказательств преимущества западногерманской модели об¬
щественного развития над той, которая утвердилась в Восточной
Германии. Однако без постоянного давления со стороны именно
внутренней оппозиции власть неизбежно теряет стимул к совершен¬
ствованию существующих социально-политических механизмов, а
без этого общество рискует впасть в состояние стагнации. Опасность
такого развития усугублялась тем, что многие факторы, обусловив¬
шие мощный рывок ФРГ в 50-е гг., к концу десятилетия исчерпали
себя. И теперь продолжение столь необходимого политической эли¬
те ФРГ «экономического чуда» во многом зависело от способности
правящей партии дать новые импульсы развитию общества, не раз¬
рушая в то же время достигнутый консенсус.
§ 6. Италия: от фашистской
диктатуры к демократической
республике
Попытки Бенито Муссолини превратить Италию в некое по¬
добие новой Римской империи завершились полным крахом и для
него самого, и для его режима, и для всей страны. Италия потер¬
пела в войне поражение, и вплоть до конца 1947 г. на ее террито¬
рии находились оккупационные англо-американские войска. Од¬
нако, в отличие от Германии, где оккупационные власти полнос¬
тью контролировали ситуацию, в Италии на базе массового дви¬
жения Сопротивления еще весной 1944 г. было создано правитель¬
ство «национального единства», куда вошли представители всех
ведущих политических сил, участвовавших в Сопротивлении:
коммунисты (ИКП), социалисты (ИСППЕ), Партия действия, хри¬
стианские демократы (ХДП). В его задачу входило осуществление
первоочередных мер, направленных на восстановление сильно
пострадавшего от войны народного хозяйства и подготовка обще¬
ства к принятию новой, демократической Конституции. Однако
еще до принятия Основного закона итальянцам предстояло ре¬
шить, какую форму государственного устройства — республику
или монархию — они предпочитают.
На состоявшемся летом 1946 г. референдуме победу одержа¬
ли сторонники республики, а на выборах в Учредительное со¬
472
брание голоса распределились следующим образом: ХДП (35% ),
ИСППЕ (20%), ИКП (18%), остальные голоса разделились между
мелкими партиями. В центре внимания делегатов Учредительно¬
го собрания был вопрос о проекте Конституции. Пожалуй, наи¬
большие споры в процессе подготовки этого документа вызвал воп¬
рос о характере взаимоотношений церкви и государства. В итоге
была одобрена компромиссная формулировка, гласившая: «Госу¬
дарство и католическая церковь независимы и суверенны в при¬
надлежащей каждому из них сфере. Их отношения определяются
Латеранскими договорами. Изменение этих договоров, принятых
обеими сторонами, не требует пересмотра Конституции». Главой
государства становился президент, избираемый на 7 лет на совме¬
стном заседании обеих палат парламента. Сами парламентарии
избирались на основе пропорциональной системы представитель¬
ства всеми совершеннолетними гражданами, включая и женщин.
Конституция запрещала деятельность фашистской партии и дек¬
ларировала отказ от войны как способа разрешения международ¬
ных конфликтов.
Итальянская Конституция относилась к числу документов
нового поколения. В ней содержался ряд необычных по меркам
традиционного конституционализма положений. Так, государство
брало на себя задачу «устранять препятствия экономического и
социального порядка, которые, фактически ограничивая свободу
и равенство граждан, мешают полному развитию человеческой
личности и действительному эффективному участию всех трудя¬
щихся в политической и социальной организации страны». В ней
содержались гарантии ряда важных социальных завоеваний тру¬
дящихся: право на труд, на оплачиваемые отпуска, на социальное
обеспечение, право на забастовки и т.д. Предусматривалось, что
предприятия, являющиеся «предметом важных общественных
интересов», могут быть национализированы за выкуп и переданы
государству или объединениям трудящихся. Кроме того, в перс¬
пективе предполагалось осуществить аграрную реформу.
В какой мере эти положения будут осуществляться на прак¬
тике, зависело от реального соотношения политических сил в стра¬
не. Позиции левых сил были ослаблены тем, что еще в начале
1947 г. в ИСППЕ произошел раскол. Из нее вышло правое крыло,
возглавляемое Дж. Сарагатом, выступавшим против совместных
действий с ИКП. При мощной поддержке США правые силы в
Италии перешли в решительное наступление. В мае 1947 г. в стра¬
не вспыхнул правительственный кризис, закончившийся распа¬
дом прежней правящей коалиции «национального единства», и
вместо нее к власти пришло однопартийное правительство хрис¬
тианских демократов во главе с А. Де Гаспери.
473
Изгнание коммунистов и социалистов из правительства спо¬
собствовало сдвигу вправо всего политического спектра страны
и укреплению в нем позиций консервативных сил. На парламен¬
тских выборах, проходивших в апреле 1948 г., победу одержала
ХДП, за кандидатов которой проголосовало 48,48% всех изби¬
рателей. Новое правительство, в которое помимо представителей
ХДП вошли деятели из еще двух маленьких партий — либераль¬
ной и республиканской, возглавил все тот же Де Гаспери. Эти вы¬
боры, вошедшие в историю Италии как самые грязные, не при¬
несли стабилизации ситуации. Через три месяца после них ульт¬
раправые организовали покушение на лидера итальянских ком¬
мунистов Пальмиро Тольятти. В ответ в стране вспыхнула все¬
общая политическая стачка, в которой участвовало более 7 млн.
чел. В ходе стачки нередко вспыхивали столкновения с полици¬
ей, в которых погибло 20 человек и более 600 получили ранения.
В воздухе витал призрак гражданской войны. Желая избежать
этого, руководство ИКП и профсоюзов выступили за прекраще¬
ние забастовки. Одновременно о своем выходе из единого проф-
центра объявили католические профсоюзы. В итоге левые потер¬
пели поражение, и их позиции в политической жизни страны
были ослаблены.
Активную роль в политической жизни Италии в это время
играла католическая церковь. В начале 1949 г. папа Пий XII офи¬
циально благословил политический курс ХДП, а вскоре он же
объявил об отлучении от церкви коммунистов, социалистов и всех
тех, кто проголосует за них на выборах. Строго говоря, церковь по
Конституции не имела права вмешиваться в политическую жизнь.
Однако в это время такие события происходили постоянно и в раз¬
личных формах — от воздействия на верующих через приходских
священников до прямых контактов руководства Ватикана с лиде¬
рами ХДП.
А. Де Гаспери и его окружение решили использовать сдвиг
вправо для ограничения демократических свобод. На протяже¬
нии 1951-53 гг. в парламент были внесены проекты ряда чрез¬
вычайных законов (о печати, о профсоюзах и т.д.). Вокруг них и
в парламенте, и в обществе в целом развернулась острейшая по¬
литическая борьба. И вот тут выяснилось, что правоконсерватив¬
ным силам не удалось полностью захватить политическую ини¬
циативу в свои руки. Мощным подспорьем для левых сил, преж¬
де всего для коммунистов, стало крестьянское движение, требо¬
вавшее осуществления на практике аграрных преобразований.
Учитывая его размах, правительство вынуждено было начать
реформирование аграрных отношений, прежде всего на юге Ита¬
лии и на о-ве Сардиния. Оно растянулось практически на целое
474
десятилетие, но в итоге помещичьи латифундии на юге Италии
были все же ликвидированы, а это означало, что были подорва¬
ны позиции одной из самых консервативных групп итальянско¬
го общества.
Не добившись решающего успеха в политической борьбе в на¬
чале 50-х гг., ведомые Де Гаспери христианские демократы по¬
пытались изменить избирательный закон, чтобы отказаться от
невыгодной им пропорциональной системы распределения ман¬
датов на парламентских выборах. Такой законопроект был вне¬
сен в парламент в преддверии выборов 1953 г. С огромным тру¬
дом фракция ХДП в парламенте сумела добиться его принятия,
и теперь в случае благоприятного исхода выборов у нее появлял¬
ся шанс взять под свой полный контроль парламент. Для этого
необходимо было получить на выборах 50% плюс один голос.
Однако достигнуть желаемой цели правящая партия не смогла:
на выборах она вместе со своими срюзниками получила 49,24%
голосов избирателей.
Такой исход выборов нанес мощнейший удар по всем стра¬
тегическим замыслам Де Гаспери. Его престиж пострадал на¬
столько серьезно, что сформированное им после выборов одно¬
партийное правительство не смогло получить вотум доверия в
парламенте. После этого он был вынужден уйти с политичес¬
кой арены и вскоре умер. Новому руководству ХДП в августе
1953 г. все же удалось сформировать однопартийное правитель¬
ство, которое возглавил один из ведущих экономистов христи¬
анских демократов Дж. Пелла. Это правительство просущество¬
вало до февраля 1954 г. После этого, видя невозможность уп¬
равления страной в одиночку, новые лидеры ХДП пошли на со¬
здание центристской коалиции, куда кроме них вошли либера¬
лы и социал-демократы.
Центризм в понимании тогдашнего руководства ХДП озна¬
чал достаточно узкий альянс с двумя указанными партиями и
категорический отказ от расширения поля сотрудничества за счет
подключения к правящей коалиции каких-либо дополнительных
сил, как с правого, так и с левого фланга. Очевидно, что при та¬
ком подходе центристской коалиции было весьма непросто вы¬
полнять роль стабилизатора политической системы: ей явно не
хватало для этого соответствующего удельного веса. Малейшие
колебания политической конъюнктуры немедленно выбивали
весь политической механизм Италии из состояния равновесия.
Не случайно за эти шесть лет (т.е. до начала 1960 г.) у власти
сменилось пять правительств.
Конечно, такое положение не могло удовлетворить ни оппо¬
зицию, ни партию власти. Не случайно внутри самого руковод¬
475
ства ХДП в течение всего этого времени постоянно шла острая
фракционная борьба. После 1954 г. на ведущие позиции в партии
вышла группировка А. Фанфани, которая и стала олицетворять
ту политику центризма, о которой шла речь выше. После смерти
Де Гаспери консервативное крыло несколько ослабило свои по¬
зиции в руководстве партии, и, наоборот, активизировалась груп¬
пировка во главе с Дж. Гронки, считавшая, что следует начать
диалог с социалистами с целью выяснения возможностей подклю¬
чения их к правящей коалиции. Фракция А. Фанфани постоян¬
но балансировала между этими крайностями во внутрипартий¬
ной жизни, что, естественно, не укрепляло позиции партии в
целом.
Ситуация для руководства ХДП в 50-е гг. несколько облег¬
чалась тем, что в это десятилетие Италия переживала исклю¬
чительно благоприятные времена с точки зрения развития эко¬
номики. За этот период объем ее промышленного производства
вырос втрое. В итоге Италия из страны среднего уровня про¬
мышленного развития превратилась в высокоразвитое в про¬
мышленном отношении государство. Свою роль в таком прогрес¬
се сыграли и американские кредиты, предоставленные по пла¬
ну Маршалла, и активное государственное регулирование клю¬
чевых отраслей экономики. Государственные капиталовложе^
ния в экономику составляли в 50-е гг. около 40% всех народно¬
хозяйственных инвестиций. Заметное влияние на темпы эконо¬
мического развития Италии оказало ее активное участие в за¬
падноевропейских интеграционных проектах и особенно вступ¬
ление в «Общий рынок».
При необычайно быстрых темпах экономического развития
Италия в 50-е гг. по-прежнему оставалась страной острых соци¬
альных проблем. Это прежде всего касалось сохранявшихся дисп¬
ропорций в уровне социально-экономического развития Севера и
Юга страны. Унаследованные от прошлого, они тем не менее про¬
должали оказывать заметное влияние на политический климат
страны, внося в ее атмосферу дополнительный заряд напряжен¬
ности. Не случайно Италию середины XX в. хоть и называли стра¬
ной «неокапитализма», но при этом не забывали подчеркивать,
что ей, как и раньше, свойственны глубокие региональные дисп¬
ропорции и серьезные социальные противоречия.
Очевидно, что качественные изменения в социально-экономи¬
ческом развитии страны заставляли ведущие партии задуматься
о своей дальнейшей стратегии. В решающей мере выработка но¬
вого модуса взаимоотношений главных политических сил зависе¬
ла от готовности правящей христианско-демократической партии
занять более гибкую и адекватную тогдашним реалиям позицию.
476
Уже в середине 50-х гг. внутри этой организации появились вли¬
ятельные лица, считавшие, что для прочной стабилизации обще¬
ства необходимо создать надежные барьеры против возможного
объединения всех левых сил в единую предвыборную коалицию.
Сделать это можно было лишь за счет подключения социалистов
к альянсу центристов. Однако для этого сам центристский блок
должен был инкорпорировать в свои программно-целевые установ¬
ки ряд моментов, отвечавших запросам электората социалистов.
Иными словами, центристский блок, для того чтобы обрести вто¬
рое дыхание, должен был сдвинуться влево и стать по своим базо¬
вым параметрам левоцентристским.
Естественно, и социалистической партии предстояло несколь¬
ко перестроиться: прежде всего политическая элита Италии жда¬
ла от нее недвусмысленных сигналов о готовности решительно
порвать со всякими принципиальными контактами с коммунис¬
тами. В руководстве соцпартии к этому времени уже достаточно
громко звучали голоса тех, кто утверждал, что социалистическая
идея в классическом, марксовом понимании отжила свой век. Бур¬
ный экономический рост, переживаемый Италией в это время,
давал им дополнительные козыри: он, по их мнению, весомо под¬
креплял тезис о том, что общество вступило в качественно новую
фазу развития, в которой прежние социально-политические схе¬
мы уже не действовали. Следовательно, все «здоровые силы» об¬
щества должны объединить свои усилия и нацелить их на совер¬
шенствование (а не на замену) существующих общественных от¬
ношений. Что касается сотрудничества с коммунистами, то здесь
лидеры социалистов использовали события, связанные с XX съез¬
дом КПСС, для того, чтобы аргументировать свой отказ от совмес¬
тных действий с ними.
Таким образом, к концу 50-х гг. XX в. и в политической элите
Италии, и в руководстве большинства политических партий выз¬
рели предпосылки для серьезного переосмысления программно¬
целевых установок, которыми предстояло руководствоваться вла¬
стям этого государства в среднесрочной перспективе. Вопрос те¬
перь заключался в том, как быстро эти новые веяния из тенден¬
ций превратятся в определяющий фактор социально-политичес¬
кого развития Италии.
ГЛАВА IX
Реформизм против радикализма:
основные направления социально-
политического развития ведущих стран
Запада в 60-е — начале 70-х годов
§ 1. Социально-политические
последствия НТР
60-е годы XX в. вошли в историю как время бурных потрясе¬
ний, охвативших почти все ведущие страны Запада, и одновремен¬
но как пик либерального реформаторства. Крупные социальные
преобразования, осуществленные в это время, существенно видо¬
изменили облик западного общества, подготовили почву для его
перехода в новую фазу развития и одновременно обозначили гра¬
ницы возможностей либерального этатизма.
Весь дух 60-х годов, вся внутренняя логика этого десятилетия
способствовали взлету популярности либеральных идей. Это было
время бурного развития научно-технической революции (НТР). Ни
один скачок в развитии производительных сил не приносил в столь
короткий срок столь серьезных изменений во всех сферах жизни
общества. И это хорошо коррелировало с установками либералов,
с их видением магистральных направлений развития западной ци¬
вилизации.
Азбучными признаками НТР стали автоматизация и компью¬
теризация производства и управления, включение в производство
новых источников энергии, освоение космоса, развитие химии,
биотехнологий, генетики и т.д. Начало НТР обычно относят к се¬
редине 50-х гг., и уже через несколько лет ее взрывной характер
начал давать о себе знать. Активное использование новейших тех¬
нологий значительно повысило производительность труда и замет¬
478
но видоизменило характер производства и, как следствие, всю со¬
циальную структуру западного общества.
Практически во всех развитых странах в 2-4 раза сократилась
доля населения, занятого в аграрном секторе. К 1970 г. в США, на¬
пример, в сельском хозяйстве осталось только 4% от всего самодея¬
тельного населения страны. Ушедшие из сельского хозяйства жи¬
тели перемещались в города, прежде всего в крупнейшие. Форми¬
руются гигантские мегаполисы — Нью-Йоркский, Токийский, Лон¬
донский и т.д. Ускоренная урбанизация создавала массу новых про¬
блем — экологических, транспортных, демографических и т.д.
Развитие мегаполисов требовало резкого расширения сферы
обслуживания. К 1970 г. в развитых странах в сфере обслужива¬
ния было занято уже 44% всего населения, и эта цифра продол¬
жала расти. И наоборот, доля лиц, задействованных в промыш¬
ленности и на транспорте, стала сокращаться. Менялась и струк¬
тура самой промышленности. Исчезли многие профессии, преж¬
де всего связанные с физическим трудом, зато возрастало коли¬
чество инженерно-технических специалистов. Сфера наемного
труда в развитых странах расширялась и достигла в 1970 г. 79%
экономически активного населения. Важно отметить, что весь¬
ма подвижной стала сама структура профессий в промышленно¬
сти и многие специальности просто исчезли. Вместо них посто¬
янно появлялись новые, на которые существовал высокий спрос.
Это ставило серьезные проблемы перед сферой образования, осо¬
бенно перед профессионально-техническим образованием. Важной
составляющей социальной структуры ведущих стран Запада остава¬
лись средние слои, доля которых колебалась в пределах от 1/3 до 1/4
всего самодеятельного населения этих стран. Внутри этой группы
можно выделить как минимум две подгруппы: мелкие и средние
предприниматели и «новые средние слои», т.е. лица непосредствен¬
но связанные с развитием НТР. Важной чертой социальной структу¬
ры всех ведущих стран в 60-е гг. стал быстрый рост студенчества. Так,
в США количество студентов выросло с 2,3 млн. в середине 50-х гг.
до 7,1 млн. в 1970; во Франции — с 0,8 до 2,1 млн. Наконец, 50-60-е
годы — время так называемой «менеджериальной револющга».
НТР способствовала росту общественных и личных потреб¬
ностей, изменила структуру потребления, вела к непрерывно¬
му обновлению ассортимента выпускаемой продукции, и это на¬
кладывало существенный отпечаток на всю сферу производства,
диктовало ему свои условия. Важно иметь в виду, что эти фак¬
торы воздействовали не только на материальное производство,
но и на духовную жизнь общества, на его культуру. 60-е гг. были
отмечены бурным всплеском «массовой культуры», которая
стала оказывать все большее, подчас определяющее влияние на
479
весь стиль жизни, формировать устойчивые стереотипы пове¬
дения, морали и т.д.
Новые условия порождали и новые методы организации про*
изводства. 60-е гг. отмечены быстрым распространением новой фор¬
мы монополистических объединений — конгломератов, контроли¬
рующих большие группы крупных предприятий в разных отрас¬
лях экономики. Крупнейшие компании уверенно контролировали
рынок. Правда, надо иметь в виду (мы в свое время как-то забыва¬
ли об этом), что список ведущих фирм постоянно обновлялся, в
высшие эшелоны бизнеса периодически вливалась свежая кровь,
там сохранялась и продолжала действовать жесточайшая конку¬
ренция, не терпящая стагнации. Какой бы крупной ни была фир¬
ма, но, если она отставала от ритма развития НТР, ей грозили очень
серьезные неприятности. 60-е гг. отмечены также быстрым ростом
транснациональных корпораций (ТНК), что вывело на новый уро¬
вень процесс интернационализации хозяйственной жизни.
Господство крупного бизнеса не исключало того, что важную
роль в экономике продолжало играть малое предпринимательство.
Приобщаясь к техническому прогрессу, малый бизнес преимуще¬
ственно специализировался на выпуске товаров широкого потреб¬
ления и на услугах.
Главной задачей практически всех правительств ведущих
стран считалось обеспечение стабильного экономического роста.
В нем видели панацею от всех бед. В предвыборной платформе де¬
мократической партии США в 1960 г., например, утверждалось:
«Экономический рост — это средство, с помощью которого мы
поднимем американский уровень жизни и создадим дополнитель¬
ные ресурсы, обеспечивающие национальную безопасность и ос¬
новные услуги, оказываемые государственной властью». Главным
средством обеспечения высоких и устойчивых темпов роста, в со¬
ответствии с кейнсианскими рецептами, считались инвестицион¬
ная активность государства и стимулирование спроса. Средства на
это предполагалось получить за счет налогов, государственных
займов и денежной эмиссии. Это вело к образованию бюджетного
дефицита, но в нем тогда не видели особой опасности. Дефицит¬
ное государственное финансирование многочисленных соци¬
альных программ должно было расширить спрос, а это повышало
деловую активность и, как полагали политики и экономисты, га¬
рантировало социальную стабильность. В «обществе потребления»
нет места социально-классовым конфликтам, декларировали сто¬
ронники этой концепции.
В их построениях была своя логика, но были и свои изъяны.
Дефицитному финансированию неизбежно сопутствовал рост инф¬
ляции. Оно требовало роста налогов. Эти негативные моменты ста¬
480
ли сказываться уже позднее, в 70-е гг., и именно они внесли солид¬
ную лепту в развернувшуюся тогда массированную критику кейн¬
сианства. В конце же 50-х — в 60-е гг. меры, пропагандировавшие¬
ся кейнсианцами, дали позитивный результат. Экономика запад¬
ных стран переживала бум. Среднегодовые темпы прироста про¬
мышленной продукции возросли с 3,9% в межвоенный период до
5,7% в 60-е гг. Объем промышленного производства западных стран
увеличился к началу 70-х гг. в 4,5 раза по сравнению с 1948 г. Осо¬
бенно высокие темпы роста наблюдались в Японии, ФРГ и Италии.
То, что там происходило, называли экономическим чудом.
Бурный экономический прогресс позволил заметно улучшить
качество жизни в этих странах. Например, в ФРГ заработная плата
выросла в 60-е гг. в 2,8 раза. Безработица в среднем упала до 2,5-
3%, а в Австрии и скандинавских странах была и того меньше. И
не случайно именно в эти годы на Западе активно пропагандиро¬
вался тезис о движении западной цивилизации в направлении по¬
строения «общества всеобщего благоденствия». Кульминацией этой
кампании стало провозглашение в США в 1964 г. программы пост¬
роения «великого общества». «Великое общество» базируется на
изобилии и свободе для всех, — заявил тогдашний президент США
Л. Джонсон. — Его построение предполагает, что мы покончим с
бедностью и расовой дискриминацией. Но это лишь начало. «Вели¬
кое общество» позволит каждому ребенку найти что-то для обога¬
щения своего духовного мира и всемерного развития своих талан¬
тов». Короче, почти коммунизм, но с частной собственностью!
Итак, в 60-е гг. в большинстве ведущих стран Запада возобла¬
дал либерально-реформистский вариант развития общества. Ес¬
тественно, в каждой стране были свои особенности. Любопытно
другое: несмотря на благоприятную экономическую ситуацию,
явное улучшение качества жизни, интенсивное либеральное за¬
конотворчество в социальной сфере, практически ни одна из этих
стран не избежала серьезных социально-политических потрясе¬
ний. Особенно серьезными они были в США и во Франции. К кон¬
цу 60-х гг. стало очевидным, что сам по себе экономический рост
не является панацеей, избавляющей общество от потрясений. Из¬
вестный американский политический деятель тех лет Р. Кеннеди
незадолго до своей гибели в 1968 г. констатировал: «Начнем с того,
что мы не найдем ни цели, ни человеческого счастья в простом
продолжении экономического прогресса». Оказалось, что для гар¬
моничного развития общества не меньшее значение имеют соци¬
альные и моральные проблемы.
События 60-х гг. дали богатую пищу для размышлений и поли¬
тологам, и политикам-практикам. Раньше считалось, что угроза
социальной стабильности исходит от экономических неурядиц и
481
весь стиль жизни, формировать устойчивые стереотипы пове¬
дения, морали и т.д.
Новые условия порождали и новые методы организации про¬
изводства. 60-е гг. отмечены быстрым распространением новой фор¬
мы монополистических объединений — конгломератов, контроли¬
рующих большие группы крупных предприятий в разных отрас¬
лях экономики. Крупнейшие компании уверенно контролировали
рынок. Правда, надо иметь в виду (мы в свое время как-то забыва¬
ли об этом), что список ведущих фирм постоянно обновлялся, в
высшие эшелоны бизнеса периодически вливалась свежая кровь,
там сохранялась и продолжала действовать жесточайшая конку¬
ренция, не терпящая стагнации. Какой бы крупной ни была фир¬
ма, но, если она отставала от ритма развития НТР, ей грозили очень
серьезные неприятности. 60-е гг. отмечены также быстрым ростом
транснациональных корпораций (ТНК), что вывело на новый уро¬
вень процесс интернационализации хозяйственной жизни.
Господство крупного бизнеса не исключало того, что важную
роль в экономике продолжало играть малое предпринимательство.
Приобщаясь к техническому прогрессу, малый бизнес преимуще¬
ственно специализировался на выпуске товаров широкого потреб¬
ления и на услугах.
Главной задачей практически всех правительств ведущих
стран считалось обеспечение стабильного экономического роста.
В нем видели панацею от всех бед. В предвыборной платформе де¬
мократической партии США в 1960 г., например, утверждалось:
«Экономический рост — это средство, с помощью которого мы
поднимем американский уровень жизни и создадим дополнитель¬
ные ресурсы, обеспечивающие национальную безопасность и ос¬
новные услуги, оказываемые государственной властью». Главным
средством обеспечения высоких и устойчивых темпов роста, в со¬
ответствии с кейнсианскими рецептами, считались инвестицион¬
ная активность государства и стимулирование спроса. Средства на
это предполагалось получить за счет налогов, государственных
займов и денежной эмиссии. Это вело к образованию бюджетного
дефицита, но в нем тогда не видели особой опасности. Дефицит¬
ное государственное финансирование многочисленных соци¬
альных программ должно было расширить спрос, а это повышало
деловую активность и, как полагали политики и экономисты, га¬
рантировало социальную стабильность. В «обществе потребления»
нет места социально-классовым конфликтам, декларировали сто¬
ронники этой концепции.
В их построениях была своя логика, но были и свои изъяны.
Дефицитному финансированию неизбежно сопутствовал рост инф¬
ляции. Оно требовало роста налогов. Эти негативные моменты ста¬
480
ли сказываться уже позднее, в 70-е гг., и именно они внесли солид¬
ную лепту в развернувшуюся тогда массированную критику кейн¬
сианства. В конце же 50-х — в 60-е гг. меры, пропагандировавшие¬
ся кейнсианцами, дали позитивный результат. Экономика запад¬
ных стран переживала бум. Среднегодовые темпы прироста про¬
мышленной продукции возросли с 3,9% в межвоенный период до
5,7% в 60-е гг. Объем промышленного производства западных стран
увеличился к началу 70-х гг. в 4,5 раза по сравнению с 1948 г. Осо¬
бенно высокие темпы роста наблюдались в Японии, ФРГ и Италии.
То, что там происходило, называли экономическим чудом.
Бурный экономический прогресс позволил заметно улучшить
качество жизни в этих странах. Например, в ФРГ заработная плата
выросла в 60-е гг. в 2,8 раза. Безработица в среднем упала до 2,5-
3%, а в Австрии и скандинавских странах была и того меньше. И
не случайно именно в эти годы на Западе активно пропагандиро¬
вался тезис о движении западной цивилизации в направлении по¬
строения «общества всеобщего благоденствия». Кульминацией этой
кампании стало провозглашение в США в 1964 г. программы пост¬
роения «великого общества». «Великое общество» базируется на
изобилии и свободе для всех, — заявил тогдашний президент США
Л. Джонсон. — Его построение предполагает, что мы покончим с
бедностью и расовой дискриминацией. Но это лишь начало. «Вели¬
кое общество» позволит каждому ребенку найти что-то для обога¬
щения своего духовного мира и всемерного развития своих талан¬
тов». Короче, почти коммунизм, но с частной собственностью!
Итак, в 60-е гг. в большинстве ведущих стран Запада возобла¬
дал либерально-реформистский вариант развития общества. Ес¬
тественно, в каждой стране были свои особенности. Любопытно
другое: несмотря на благоприятную экономическую ситуацию,
явное улучшение качества жизни, интенсивное либеральное за¬
конотворчество в социальной сфере, практически ни одна из этих
стран не избежала серьезных социально-политических потрясе¬
ний. Особенно серьезными они были в США и во Франции. К кон¬
цу 60-х гг. стало очевидным, что сам по себе экономический рост
не является панацеей, избавляющей общество от потрясений. Из¬
вестный американский политический деятель тех лет Р. Кеннеди
незадолго до своей гибели в 1968 г. констатировал: «Начнем с того,
что мы не найдем ни цели, ни человеческого счастья в простом
продолжении экономического прогресса». Оказалось, что для гар¬
моничного развития общества не меньшее значение имеют соци¬
альные и моральные проблемы.
События 60-х гг. дали богатую пищу для размышлений и поли¬
тологам, и политикам-практикам. Раньше считалось, что угроза
социальной стабильности исходит от экономических неурядиц и
481
негибкой социальной политики. В 60-е гг. и тот, и другой фактор
отсутствовали: например, экономика США была на подъеме, а один
простой перечень либеральных реформ занимал немало места (был
повышен минимум заработной платы, ассигнованы большие сред¬
ства на помощь депрессивным районам, на строительство жилья для
низкодоходных семей и на переквалификацию рабочей силы, была
расширена система социального обеспечения, введено медицинское
страхование для пенсионеров и многое другое). Следовательно, тра¬
диционные либерально-реформистские рецепты уже не срабатыва¬
ли с должной эффективностью. Перед обществом вставали новые
проблемы, требовавшие новых решений.
Бурные события 60-х гг. оставили заметный след в истории
западной цивилизации. Итоги десятилетия были достаточно про¬
тиворечивыми. С одной стороны, созданные с помощью реформа¬
торов «встроенные стабилизаторы» помогли западному обществу
не только выдержать мощный натиск радикальных движений
протеста, но и продвинуться вперед в совершенствовании социаль¬
но-экономических и общественно-политических механизмов,
обеспечивающих его функционирование. С другой стороны, к ру¬
бежу 60-70-х гг. стало очевидным, что те рецепты, тот инструмен¬
тарий, который использовался для проведения реформ, отнюдь не
гарантируют устойчивого общественного прогресса. Оказалось,
что у либерально-этатистских концепций есть немало уязвимых
М£рт, и этим в 70-е гг. блестяще воспользовались консерваторы.
Естественно, в каждой из ведущих стран Запада соотношение
решенных и нерешенных проблем, их масштабы и острота были
различными. Важно, что общий вектор их развития был связан с
движением к новой фазе эволюции общества, к постиндустриаль¬
ному обществу. Очевидно, что степень готовности к этой трансфор¬
мации, общей для всей западной цивилизации, у каждой конк¬
ретной страны была своя, и определялась она спецификой нацио¬
нального развития этих государств. Ниже мы как раз и остано-
вимся на особенностях эволюции ключевых западных держав в
указанный исторический период.
§ 2. Политика построения «великого
общества»> в США: достижения
и просчеты
К концу 50-х гг. общественно-политический консенсус, кото¬
рым еще недавно гордилась политическая элита США, стал вызы¬
вать все большее раздражение в американском обществе. Дело в
482
том, что консервативная основа тогдашнего общества все меньше
соответствовала быстро меняющимся реалиям, которые порожда¬
лись стремительным развитием НТР. Новые внутри- и внешнепо¬
литические проблемы, с которыми сталкивалось общество, требо¬
вали поиска неординарных рецептов их решения, а это неизбеж¬
но вело к эрозии основы консенсуса, нацеленного на консервацию
прежних политических методов.
Если говорить о внутриполитических проблемах, то здесь все
очевиднее становилось несовершенство системы социальной за¬
щиты населения, которая сложилась в 30-40-е гг. Прежде всего
требовалось подключить к ней самые низкодоходные группы об¬
щества, представителей расово-этнических меньшинств, то есть
страты, где скопился весьма опасный протестный потенциал. Для
того чтобы снять остроту этой проблемы, нужны были колоссаль¬
ные финансовые инвестиции со стороны государства в систему
социального обеспечения. И вот тут вставал весьма непростой
вопрос: за счет чего взять средства для осуществления этой важ¬
ной социально-политической операции? Ответ был вполне оче¬
виден — за счет повышения темпов развития экономики США.
Другое дело, как лучше стимулировать этот процесс. Выдвиже¬
ние столь непростой проблемы на авансцену политической жиз¬
ни США неизбежно вело к обострению межпартийной борьбы, а
это подрывало консенсус.
Не меньшие споры вызывала проблема корректировки внеш¬
неполитической стратегии США. Дело в том, что к концу 50-х гг.
издержки крайне жесткого и прямолинейного внешнеполитичес¬
кого курса Эйзенхауэра — Даллеса стали очевидными не только
для значительной части политического истеблишмента, но и для
общества в целом. Свою роль здесь сыграли и потеря Америкой
стратегической неуязвимости в результате запуска первого в
мире советского спутника в октябре 1957 г., и массированное
«мирное наступление» СССР после 1956 г., и резкая радикали¬
зация национально-освободительного движения в конце 50-х гг.,
и многие другие неблагоприятные для США факторы междуна¬
родной жизни. Все это настоятельно требовало внесения коррек¬
тивов в стратегию поведения США на международной арене. Од¬
нако любая корректировка устоявшейся внешнеполитической
стратегии грозила нарушить межпартийный консенсус в этой
сфере.
Давно назревавшие разногласия между демократами и респуб¬
ликанцами вырвались наружу в ходе избирательной кампании
1960 г. Инициатива взлома межпартийного консенсуса принадле¬
жала либеральным демократам и их новому лидеру Джону Ф. Кен¬
неди. В преддверии выборов они обнародовали свою программу,
483
главный пропагандистский лозунг которой — «новые рубежи» —
сулил американцам перемены к лучшему, прогресс и процвета*
ние. Однако при этом составители предвыборной платформы под*
черкивали, что для достижения этих «новых рубежей» необходи¬
мо серьезно изменить базовые подходы к социально-экономичес¬
кой политике. Во главу угла ставилось повышение темпов эконо¬
мического роста, что должно было дать государству дополнитель¬
ные средства для осуществления крупномасштабных социальных
реформ.
Победив на выборах и став президентом, Дж. Кеннеди уже в
первые месяцы пребывания в Белом доме повысил минимум зара¬
ботной платы, продлил сроки выплаты пособий по безработице,
принял обширную программу жилищного строительства. Рост
государственных расходов, однако, вызвал резкое недовольство
консервативных сил, которые усилили критику финансовой по¬
литики администрации. Конфликт еще более обострился, когда в
1962 г. президент в жесткой форме потребовал от крупнейших ста¬
лелитейных корпораций отказаться от повышения цен на их про¬
дукцию. Чтобы сгладить впечатление от этого столкновения с ка¬
питанами индустрии, Кеннеди пошел на принятие ряда мер, вы¬
годных большому бизнесу. Так, было объявлено о крупных амор¬
тизационных льготах предпринимателям, в конгресс был внесен
законопроект о налоговой реформе, снижавшей ставки подоход¬
ного налога и налога на прибыли корпораций. Однако эти шаги
отнюдь не умиротворили консервативную оппозицию, тем более
что президент не собирался отказываться от проведения соци¬
альных реформ.
Особенно взбудоражило американское общество решение Кен¬
неди приступить к ликвидации расовой сегрегации и дискрими¬
нации. Дело в том, что со второй половины 50-х гг. стали стреми¬
тельно набирать размах массовые выступления черных американ¬
цев за свои права. Руководящую роль в движении афроамерикан¬
цев за гражданские права играла Конференция христианского
руководства на Юге во главе с Мартином Лютером Кингом. Откро¬
венное нежелание местных властей (особенно в южных штатах)
отказаться от практики сегрегации и дискриминации, вело к быс¬
трому росту социальной напряженности. Это побудило президен¬
та в июне 1963 г. внести в конгресс билль о гражданских правах,
запрещавший сегрегацию черных американцев в местах обще¬
ственного пользования и дискриминацию при найме на работу.
Двухпартийная консервативная коалиция в конгрессе сразу же за¬
явила, что будет до последней возможности бороться против при¬
нятия этого билля. В этом вопросе администрация Кеннеди стол¬
кнулась с поистине непримиримой оппозицией.
484
Забегая вперед, скажем, что впоследствии была принята се¬
рия законов, нацеленных на решение этой проблемы: в 1964 г.
был принят закон о гражданских правах, запрещавший диск¬
риминацию при найме на работу и при обслуживании в местах
общественного пользования; в 1965 г. — об избирательных пра¬
вах и в 1968 г. — о запрещении дискриминации при продаже и
аренде жилья. Эти меры оказались крайне своевременными, ибо
ситуация начинала выходить из-под контроля. В среде негри¬
тянской молодежи быстро увеличивалось влияние экстремист¬
ских организаций. Наиболее известной из них были «Черные
пантеры», которые призывали к вооруженной борьбе против су¬
ществующего строя. В 1966-1968 гг. по крупнейшим городам
США прокатилась волна восстаний в негритянских гетто. Мо¬
лодые афроамериканцы прямо заявляли, что не верят белым
политикам и вообще белым. Властям США потребовались дли¬
тельные усилия, вложение больших средств для поддержки не¬
белых предпринимателей, жесткие репрессивные меры против
лидеров экстремистских организаций для того, чтобы стабили¬
зировать ситуацию.
Шокирующим для всей Америки, да и всего мира в целом ста¬
ло трагическое событие: 22 ноября 1963 г. в Далласе президент
Дж. Кеннеди был убит. В соответствии с Конституцией в долж¬
ность президента вступил Л. Джонсон. Смена хозяина Белого дома
не повлекла за собой изменений внутриполитического курса де¬
мократов. Более того, в преддверии очередных президентских
выборов, ведомые новым лидером, демократы решили выдвинуть
еще более амбициозную и масштабную, чем «новые рубежи», про¬
грамму построения «великого общества».
Республиканцы заклеймили ее как откровенно прокоммуни¬
стическую и заявили о своей бескомпромиссной оппозиции любым
проявлениям «ползучего социализма». Их лидером стал сенатор
от Аризоны Барри Голдуотер, предвыборная кампания которого
основывалась на постулатах идеологии «твердого индивидуализ¬
ма», казалось бы давно канувших в прошлое. Если демократы ра¬
товали за рост федеральных расходов на социальные программы
й резкую активизацию роли государства в решении социальных
проблем, то республиканцы, наоборот, призывали к решительно¬
му сокращению всех федеральных социальных программ и пере¬
дачи большинства из них в ведение властей штатов. Таким обра¬
зом, на выборах 1964 г. в позициях ведущих партий по ключевым
вопросам обозначились глубокие и принципиальные расхождения:
демократы выступали за расширение сферы действия либераль¬
ного реформаторства, республиканцы категорически осуждали
этот курс.
485
Теперь избирателям предстояло решить, кому отдать предпоч¬
тение. Результаты выборов показали, что в то время подавляю¬
щая часть американцев разделяли либерально-этатистские цен¬
ности. За кандидата демократов Л. Джонсона, олицетворявшего
политический курс, основанный на этих ценностях, проголосова¬
ло 43 млн. чел., в то время как за его противника лишь 27 млн.
Либеральным демократам принадлежало теперь и большинство
мест в конгрессе США.
Опираясь на итоги выборов, администрация Джонсона уже в
1965 г. приступила к реализации своей программы реформ. Еще
до выборов ей удалось провести через конгресс две важные меры.
В июле 1964 г., сломав сопротивление южан, либералы сумели
добиться одобрения конгрессом закона «О гражданских правах»,
а в августе 1964 г. был принят закон «Об экономических возмож¬
ностях», нацеленный на помощь малоимущим слоям населения
и охватывавший своим действием около 10 млн. человек. По¬
зднее, в 1965 г., была введена система медицинского страхова¬
ния пенсионеров, а также повышен минимум заработной платы.
В развитие закона «О гражданских правах» 1964 г. спустя год
конгресс одобрил закон «О защите избирательных прав» черных
американцев.
Трудно сказать, как бы дальше развивалось строительство
«великого общества», если бы в этот процесс не вмешался новый
важный фактор, связанный с последствиями действий США на
международной арене. Речь идет о войне во Вьетнаме, где с лета
1964 г. началось прямое вмешательство американцев в конфликт
в Южном Вьетнаме, где уже несколько лет шла гражданская вой¬
на. Через три года численность американских войск в Индокитае
достигла почти 600 тыс. чел. Резкий рост военных расходов, выз¬
ванный эскалацией войны во Вьетнаме, вел к увеличению бюджет¬
ного дефицита и налогового бремени, порождая прогрессировав¬
шую инфляцию. А это ставило под вопрос продолжение социаль¬
но-экономических реформ. Даже такая мощная и богатая страна,
как США, не смогла одновременно обеспечить финансирование и
войны, и социальных реформ.
Все это и породило невиданный взлет движений социального
протеста. Большие проблемы для американского общества создал
«бунт молодых». В 60-е гг. молодежь, прежде всего студенты, чрез¬
вычайно активно включилась в общественно-политическую жизнь
под лозунгом отрицания традиционных ценностей. Еще в 1960 г.
была создана организация «Студенты за демократическое обще¬
ство» (СДО). В своем программном заявлении — «Порт-Гуронском
манифесте» — студенческие активисты решительно осудили гос¬
подствовавшие в обществе буржуазные ценности, в противовес
486
которым они выдвинули лозунг «демократии индивидуального
участия». Они призывали к замене «власти, опирающейся на соб¬
ственность» властью, опирающейся на любовь, мысль, разум и
творчество. Активисты этой организации проповедовали идею со¬
здания внутри существующего общества «антиобщин», которые
должны стать островками новой цивилизации. С началом широ¬
комасштабных военных действий во Вьетнаме внимание СДО и
других молодежных организаций переключилось на антивоенные
акции.
В преддверии выборов 1968 г. в стране сложилась чрезвы¬
чайно запутанная политическая ситуация. В наиболее сложное
положение попала правящая демократическая партия. Внеш¬
не- и внутриполитический курс администрации Л. Джонсона
подвергался резкой критике, что ставило под вопрос его повтор¬
ное выдвижение на пост президента. И действительно, в марте
1968 г. он официально заявил о том, что отказывается баллоти¬
роваться на второй срок. Сильным претендентом на эту долж¬
ность являлся Роберт Кеннеди, брат покойного президента, од¬
нако в июне 1968 г. он стал жертвой очередного политического
убийства. Популярному среди студенческой молодежи и либе¬
ральной интеллигенции сенатору Юджину Маккарти явно не
хватало поддержки бизнес-элиты и верхушки партийных фун¬
кционеров.
В этой ситуации кандидатом в президенты был выдвинут
Г. Хэмфри, являвшийся вице-президентом США. Его главный ми¬
нус заключался в том, что он ассоциировался с политикой
Л . Джонсона, которая была главной мишенью для критики и спра¬
ва, и слева. В южных штатах против Хэмфри выступил губерна¬
тор Алабамы Джордж Уоллес, который в итоге создал собствен¬
ную организацию — Американскую независимую партию, выдви¬
нувшую его своим кандидатом на пост президента. Такое положе¬
ние дел в стане демократов увеличивало шансы на успех для рес¬
публиканцев. Они выдвинули своим кандидатом на пост прези¬
дента Ричарда М. Никсона, взявшего на вооружение в ходе пред¬
выборной кампании лозунг «закон и порядок», суливший амери¬
канцам восстановление социального мира, укрепление правопо¬
рядка и обуздание активности радикальных сил. Одновременно
Никсон в достаточно общей форме обещал положить конец войне
во Вьетнаме.
Несмотря на уязвимость своих позиций, демократы оказали
упорное сопротивление республиканцам. Те сумели победить лишь
с небольшим преимуществом — всего в 500 тыс. чел. В итоге Бе¬
лый дом занял республиканец Р. Никсон, но демократы смогли
сохранить контроль над конгрессом.
487
Получив в свои руки контроль над исполнительной властью,
Никсон постарался ослабить регулирующие функции федераль¬
ного правительства в сфере социально-экономических отношений.
В соответствии с этим стратегическим замыслом им была выдви¬
нута концепция «нового федерализма», предусматривавшая пе¬
редачу значительной части федеральных средств, предназначен¬
ных на финансирование социальных программ, властям штатов.
Были резко сокращены ассигнования на борьбу с бедностью, на
строительство дешевого жилья, на развитие системы здравоохра¬
нения. Однако вскоре в эту политику пришлось вносить коррек¬
тивы. Уже в конце 1969 г. начался спад деловой активности, дос¬
тигнувший пика к концу 1970 г. У этой депрессии была существен¬
ная особенность: впервые сокращение объема промышленного
производства и увеличение безработицы сопровождались не сни¬
жением, а повышением цен. Экономисты даже запустили в обо¬
рот новый термин «стагфляция » — сочетание стагнации производ¬
ства и инфляции.
Экономические трудности Заставили Р. Никсона в августе
1971 г. объявить о переходе к «новой экономической политике».
Федеральное правительство перешло к политике замораживания
цен и заработной платы. В 1972 г. был принят закон об автомати¬
ческом повышении пенсий и пособий по безработице в соответ¬
ствии с ростом стоимости жизни. Несмотря на первоначальные
планы сокращения расходов на программы вспомоществования,
осуществить их администрация Никсона в условиях депрессии не
решилась. Более того, размеры ряда программ вспомоществова¬
ния в годы правления администрации Никсона даже возросли.
Короче говоря, республиканцы в эти годы сделали значительны#
шаг вперед в усвоении базовых постулатов кейнсианства.
В сфере социальной политики администрация постоянно ком¬
бинировала жесткие репрессивные меры с политикой уступок.
Например, были физически уничтожены многие лидеры радикаль¬
ной негритянской организации «Черные пантеры», в мае 1970 г.
была расстреляна демонстрация студентов Кентского универси¬
тета в штате Огайо. Одновременно в эти годы вступила в силу 26-я
поправка к Конституции США, снижавшая возрастной ценз для
участия в выборах до 18 лет и был одобрен закон о высшем образо¬
вании, облегчавший молодежи доступ к нему.
Более впечатляющими были достижения администрации
Р. Никсона в области внешней политики. Прежде всего здесь сле¬
дует сказать о некотором снижении напряженности в советско-
американских отношениях. Во время визита президента в Моск¬
ву в 1972 г. был подписан ряд важных двусторонних соглашений,
крупнейшие из которых — договор об ограничении систем про¬
488
тиворакетной обороны и временное соглашение об ограничении
стратегических вооружений — позволяли надеяться на стабили¬
зацию общей ситуации на международной арене. В это же время
политической элите США окончательно стало ясно, что добить¬
ся победы во Вьетнаме американцам не удастся и что в их инте¬
ресах как можно скорее найти возможности для выхода из этого
затянувшегося конфликта. На вооружение была взята политика
«вьетнамизации» войны, предполагавшая перенос ответственно¬
сти за продолжение боевых действий на власти Южного Вьетна¬
ма и свертывание прямого американского военного присутствия
в регионе.
Вот в такой обстановке разворачивалась предвыборная кам¬
пания 1972 г. Главной ее особенностью стала резкая поляризация
позиций двух ведущих партий по ключевым вопросам, стоявшим
тогда перед Америкой. Произошло это главным образом за счет
резкого сдвига влево демократической партии. Ведущие позиции
в ее структуре заняли представители «новой демократической
коалиции» во главе с Дж. Макговерном. Новое руководство демок¬
ратов добилось принятия системы квот, благодаря которым ему
удалось заметно ослабить влияние партийных боссов в партийном
руководстве.
Благодаря этому серьезно изменился состав делегатов предвы¬
борного конвента демократов, а это, в свою очередь, сказалось на
содержании их предвыборной платформы. В ней предусматрива¬
лось проведение прогрессивной налоговой реформы, расширение
социального законодательства, достижение полной занятости,
улучшение системы образования и здравоохранения, ограничение
военных расходов. Резкий сдвиг демократов влево побудил мно¬
гих сторонников этой партии в 1972 г. изменить свои партийные
симпатии и отдать голоса кандидату республиканцев Р. Никсону,
умело использовавшему в своей предвыборной кампании наметив¬
шееся улучшение экономической ситуации, определенные успе¬
хи на внешнеполитическом поприще, а также боязнь среднего
американца, или «молчаливого большинства», радикальных пе¬
ремен.
1 На выборах 1972 г. Р. Никсон одержал уверенную победу, на¬
неся Дж. Макговерну сокрушительное поражение. Однако вос¬
пользоваться своим успехом в полной мере он не смог. Уже в 1973 г.
в Америке началась череда политических скандалов по поводу
незаконного подслушивания республиканцами сотрудников пред¬
выборного штаба демократов, завершившаяся в августе 1974 г.
вынужденной отставкой Никсона. Еще раньше ушел со своего по¬
ста его вице-президент С. Агню. Эти события, вошедшие в исто¬
рию под названием «уотергейтскогоскандала», нанесли серьезный
489
ущерб не только престижу республиканской партии, но и имид¬
жу государственной власти США в целом. В довершение всех бед
на страну в 1974 г. обрушился серьезнейший экономический кри¬
зис, во весь рост поставивший сложнейшую проблему структур¬
ных реформ экономики.
§ 3. Лейбористско-консервативная
дуэль и проблемы социально-
политического развития
Великобритании
Если для большинства ведущих стран Запада 60-е гг. были
временем бурного экономического роста, то о Великобритании это¬
го сказать нельзя. Английская промышленность переживала зас¬
той, и вследствие этого слабели ее позиции в мировой экономике.
К началу 70-х гг. она опустилась на 4-е место в мировой экономи¬
ческой иерархии. По-прежнему весьма значительным был отток
капитала за рубеж, что затрудняло модернизацию английской
промышленности, а без этого в условиях набиравшей все больший
размах НТР нечего было рассчитывать на то, чтобы удержаться
на передовых рубежах прогресса.
Эту проблему правительство консерваторов пыталось решить
за счет активного регулирования спроса. Эта политика получила
меткое название «стоп-иди». Предполагалось, что таким образом
удастся уменьшить зависимость английской экономики от импор¬
та и, как следствие, улучшить финансовую ситуацию на Британс¬
ких островах.
Еще более тяжелым бременем для экономики страны были
неуклонно растущие военные расходы. Они стали увеличиваться
особенно быстро после провала Суэцкой авантюры, серьезно подо¬
рвавшей международные позиции Великобритании. Стремясь
компенсировать этот ущерб, Лондон вынужден был все сильнее
привязывать свой внешнеполитический курс к американскому,
активно участвовать вместе со старшим партнером в «историчес¬
ком противоборстве» с СССР. Это, однако, вело к росту бюджетно¬
го дефицита, а это, в свою очередь, осложняло решение проблемы
повышения эффективности английской политики.
В феврале 1958 г. правительство Гарольда Макмиллана
объявило о размещении на территории Англии американских
ракетно-ядерных сил. Новый премьер рассчитывал таким обра¬
зом увеличить роль своей страны в общем геостратегическом
раскладе, но на деле Англия все больше превращалась в ядер¬
490
ного заложника США, увеличивала свою зависимость от аме¬
риканской внешней политики.
Стремясь как-то компенсировать эту негативную тенденцию,
правительство пыталось уравновесить явно проамериканский крен
в своей внешней политике за счет активизации отношений со стра¬
нами континентальной Европы, где набирали размах интеграци¬
онные процессы. Великобритания, как известно, не вошла в со¬
зданный в 1957 г. «Общий рынок». В противовес ему она высту¬
пила инициатором другого объединения — Европейской ассоциа¬
ции свободной торговли (ЕАСТ). Однако составить ощутимую кон¬
куренцию «Общему рынку» ЕАСТ так и не смогла.
На рубеже 50-60-х гг. трудности Британской империи значи¬
тельно возросли в связи с мощным подъемом национально-осво¬
бодительного движения. Если на рубеже 40-50-х гг. она потеряла
свои крупнейшие колонии в Азии, то теперь лишилась большей
части своих владений на африканском континенте.
Несмотря на существенные трудности, с которыми столкнулась
Англия в первые годы после Суэцкого кризиса, консерваторы су¬
мели удержаться у власти вплоть до 1963 г., когда разразился круп¬
ный скандал, связанный с любовными похождениями министра
обороны Дж. Профьюмо. Чтобы не раздувать его и окончательно не
подорвать репутацию партии, Г. Макмиллан ушел в отставку. Его
место занял А. Дуглас-Хьюм. Произошла смена лидера и в стане
лейбористов. В том же 1963 г. скончался прежний глава партии
X. Гейтскелл. За пост лидера оппозиции разгорелась острая борьба
между ее различными группировками. Победителем в ней оказал¬
ся лидер центристской фракции Г. Вильсон. Его успех позволил
сбить накал фракционной борьбы внутри партии. Новый глава лей¬
бористов сразу же приступил к обновлению идейного арсенала
партии. Под его руководством был подготовлен программный ма¬
нифест «Лейборизм и научная революция», в котором акцент де¬
лался на стимулирование научно-технического прогресса как сред¬
ства преодоления стагнации английской экономики.
Именно с этой программой лейбористы решили идти на пар¬
ламентские выборы, которые состоялись в октябре 1964 г. Симпа¬
тии избирателей разделились почти поровну: лейбористы получи¬
ли 44,1% голосов, а консерваторы — 43,3%. Это дало им соответ¬
ственно 317 и 303 депутатских мандата, что позволило Г. Вильсо¬
ну сформировать пятое по счету лейбористское правительство.
Стремясь закрепить внутрипартийное единство, которое сложи¬
лось еще в ходе его избрания главой лейбористской партии, Виль¬
сон отдал пост министра экономики в своем кабинете лидеру пра¬
вых лейбористов Д. Брауну, а пост министра техники — левому
лейбористу Ф. Казенсу.
491
Под руководством Г. Вильсона и Д. Брауна в 1965 г. был под¬
готовлен и одобрен парламентом «пятилетний национальный эко¬
номический план». Он предусматривал ежегодный рост производ¬
ства на уровне 5%, что позволило бы уже через год ликвидиро¬
вать дефицит платежного баланса. Это была дань популярным в
60-е гг. во всех ведущих западных странах идеям, согласно кото¬
рым экономический рост являлся основным средством, способным
дать ключ к решению любой проблемы, стоявшей перед западным
обществом.
Идеи нового руководства лейбористов встретили позитивный
отклик в английском обществе. Г. Вильсон решил использовать
благоприятную обстановку для того, чтобы укрепить положение
лейбористов во властных структурах. На май 1966 г. были назна¬
чены досрочные парламентские выборы. На них лейбористы дей¬
ствительно сумели укрепить свои позиции в парламенте. Теперь
их преимущество над консерваторами составило 94 мандата (рань¬
ше было всего 14).
Ключевым фактором, от которого зависел успех экономичес¬
кой программы лейбористов, являлось их взаимодействие с проф¬
союзами. Еще 16 декабря 1964 г. представители правительства,
предпринимателей и профсоюзов подписали «Декларацию о на¬
мерениях». При подготовке этого документа Вильсону удалось
убедить представителей профсоюзов взять на себя обязательство
ограничить свои требования, касающиеся роста зарплаты, а пред¬
принимателей — воздержаться от повышения цен. Для контроля
за выполнением этого соглашения создавалось Национальное уп¬
равление по ценам и доходам.
После выборов 1966 г., почувствовав себя гораздо увереннее,
лейбористы перешли от практики добровольного ограничения ро¬
ста заработной платы к принудительному ее замораживанию. Это,
однако, вызвало недовольство профсоюзов. О своей отставке в свя¬
зи с несогласием с этой политикой объявил министр техники
Ф. Казенс. Он возглавил профсоюз транспортных и неквалифици¬
рованных рабочих. Вскоре им была предложена альтернативная
программа преодоления экономических трудностей. Ее поддержа¬
ли 54 парламентария. В1967 г. правительственную программу ста¬
билизации отверг съезд БКТ, а год спустя против нее взбунтова¬
лись и сами лейбористы: их ежегодная конференция в 1968 г. от¬
казалась поддержать курс собственного правительства. Такое раз¬
витие событий в стане лейбористов вполне объяснимо: к этому
времени уже достаточно отчетливо обозначились симптомы кри¬
зиса социально-экономического курса правительства.
В 1967 г. Г. Вильсону пришлось пойти на девальвацию нацио¬
нальной валюты, однако это лишь на короткое время повысило
492
конкурентоспособность английских товаров на мировом рынке.
Среднегодовые темпы роста английской экономики по-прежнему
значительно уступали соответствующим показателям в конкури¬
рующих странах. Не удалось решить и проблему занятости. С мо¬
мента прихода Вильсона к власти безработица в стране практи¬
чески удвоилась.
В довершение к трудностям социально-экономического пла¬
на, Внутриполитическую обстановку еще больше осложнило рез¬
кое обострение ситуации в Северной Ирландии, В 1967 г. като¬
лическое меньшинство создало Северо-ирландскую ассоциацию
борьбы за гражданские права, выступавшую за ликвидацию дис¬
криминации по религиозному признаку. Осенью 1968 г. одна из
организованных ею мирных демонстраций была жестоко разог¬
нана полицией. При этом серьезно пострадало около 100 демон¬
странтов. После этого и у католиков, и у протестантов резко ак¬
тивизировались сторонники экстремистских действий. «Орден
оранжистов» — вооруженная группировка протестантов-экстре-
мистов, с одной стороны, и Ирландская республиканская ар¬
мия — экстремистская организация католического меньшин¬
ства, с другой, стали задавать тон в быстро разгоравшемся конф¬
ликте. В августе 1969 г. лейбористское правительство приняло
решение о введении в Северную Ирландию английских вооружен¬
ных сил. Тем самым было положено начало долголетнему оль¬
стерскому кризису.
Все неспокойнее становилась ситуация и в сфере трудовых
отношений. Политика замораживания заработной платы натал¬
кивалась на все более жесткое сопротивление со стороны профсо¬
юзов. В январе 1969 г. правительство попыталось ввести допол¬
нительные ограничения на проведение забастовок. Это, однако,
лишь подстегнуло профсоюзы к активизации акций протеста. Сво¬
ей кульминации они достигли в мае 1969 г. Эти выступления по¬
лучили такой резонанс, что Г. Вильсон был вынужден отказаться
от своих планов.
Короче говоря, к концу 60-х гг. лейбористское правительство
не могло похвастаться серьезными достижениями ни в одной из
ключевых сфер внутренней политики. Поэтому не удивительно,
что на состоявшихся в июне 1970 г. выборах лейбористы потерпе¬
ли поражение и вынуждены были перейти в оппозицию.
Новое консервативное правительство возглавил Э. Хит. Его
предвыборная программа «Лучшее будущее» делала акцент на
стимулирование роста британской экономики, но не за счет ак¬
тивизации государственного воздействия на нее, как это предла¬
гали ранее лейбористы, а путем отказа от государственной рег¬
ламентации частнопредпринимательской деятельности. В октяб¬
493
ре 1970 г. консервативное правительство внесло в парламент
билль «Об отношениях в промышленности». Ожесточенная борь¬
ба вокруг этого законопроекта продолжалась вплоть до августа
1971 г., когда он все-таки стал законом. Накал страстей, вызван¬
ный появлением этого документа, вполне объясним: его одобре¬
ние заметно сужало возможности профсоюзов в защите прав сво¬
их членов. В воздухе вновь, как и в 1926 г., запахло угрозой все¬
общей стачки. За ее проведение высказывалась почти половина
членов британских профсоюзов. Правительство консерваторов,
однако, не желало отступать, и хотя до всеобщей забастовки дело
не дошло, Англию в начале 70-х гг. постоянно сотрясали мощ¬
нейшие трудовые конфликты в важнейших отраслях промыш¬
ленности. Важно отметить, что во многих случаях профсоюзы
добились успеха.
С осени 1972 г. правительство Э. Хита вынуждено было из¬
менить тактику борьбы с профсоюзным движением: от репрес¬
сивных мер оно перешло к экономическим методам. Вновь за¬
говорили о необходимости замораживания заработной платы.
Добиться добровольного согласия профсоюзов на эту меру не
удалось, и тогда в ноябре 1972 г. был принят закон о полном за¬
мораживании заработной платы. Были созданы государствен¬
ные органы с исключительным правом регулировать цены в те¬
чение трех лет.
К напряженной обстановке в сфере трудовых отношений до¬
бавилась эскалация конфликта в Северной Ирландии. Стремясь
сбить накал страстей, Лондон в марте 1972 г. ввел на этой терри¬
тории свое прямое правление. Деятельность провинциального за¬
конодательного собрания приостанавливалась, а силы порядка
получали чрезвычайные полномочия. В такой обстановке в марте
1973 г. был проведен референдум по вопросу о статусе Северной
Ирландии. Большинство на нем получили сторонники сохранения
союза с Великобританией. Однако католическое меньшинство,
бойкотировавшее референдум, не собиралось мириться с его ито¬
гами, и напряженность в провинции оставалась исключительно
высокой.
Кризис в Северной Ирландии и сложная социально-экономи¬
ческая обстановка оставались двумя факторами, которые опре¬
деляли характер внутриполитической ситуации в стране в пер¬
вой половине 70-х гг. Очевидно, что дальнейшее обострение лю¬
бой из этих проблем могло вызвать серьезный внутриполитичес¬
кий кризис.
Так и произошло. Вступление Англии в 1971 г. в «Общий ры¬
нок» вызвало 15%-ный рост цен на продукты питания, что заста¬
вило правительство в 1973/74 финансовом году пойти на значи¬
494
тельное сокращение государственных расходов на социальные
цели. В этих условиях радикально настроенный профсоюз горня¬
ков потребовал повышения базовых ставок заработной платы шах¬
теров. Кабинет Э. Хита ответил отказом и объявил чрезвычайное
положение. Тогда в январе 1974 г. исполком этого профсоюза объя¬
вил о начале 10 февраля всеобщей стачки. Премьер полагал, что
общественное мнение в этой обстановке склонится на сторону пра¬
вительства. Исходя из этого, он решил провести досрочные выбо¬
ры, чтобы добиться укрепления позиций консерваторов в парла¬
менте. В качестве главного пункта своей предвыборной кампании
Э. Хит выдвинул идею необходимости защитить общество от ти¬
рании профсоюзов.
Однако эксплуатация этого тезиса не принесла ожидаемых
дивидендов. Голоса избирателей разделились практически поров¬
ну между двумя основными соперниками: лейбористы получили
в новом составе парламента 301 место, консерваторы — 296, ли¬
бералы завладели 14 мандатами. Попытки Э. Хита сохранить боль¬
шинство в парламенте за счет создания коалиции с либералами не
увенчались успехом. Тогда сформировать новый кабинет поручи¬
ли лидеру лейбористов Г. Вильсону, который вновь вернул себе
кресло премьера. Формально кризис благополучно завершился.
Однако, во-первых, новый кабинет не обладал в парламенте сколь¬
ко-нибудь прочным большинством, а во-вторых, у него не было
реальной программы, опираясь на которую можно было бы рас¬
считывать на разрешение породивших кризис проблем. Эти обсто¬
ятельства делали ситуацию весьма неустойчивой и не позволяли
надеяться на стабилизацию положения в стране, по крайней мере
в ближайшем будущем.
§ 4. Шарль де Голлъ и борьба
за возрождение величия Франции
Вэяв в руки бразды правления, Ш. де Голль немедленно при¬
ступил к перестройке политической системы Франции. В сентяб¬
ре 1958 г. на референдум был вынесен проект новой Конститу¬
ции. Подавляющее большинство французов (79%) поддержало
проект де Го л ля, и он вступил в силу. Согласно новой Конститу¬
ции, Франция становилась президентской республикой. Прези¬
дент избирался сроком на 7 лет. Он имел весьма широкие полно¬
мочия: назначал премьер-министра и других высших должност¬
ных лиц, являлся верховным главнокомандующим, имел право
законодательной инициативы, мог вернуть любой закон на по¬
вторное рассмотрение или вынести его на референдум, а также
495
объявить чрезвычайное положение. Это делало его ключевой
фигурой в политическом процессе.
На базе принятой Конституции в ноябре 1958 г. состоялись
выборы в Национальное собрание. Наилучших результатов на них
достигла новая партия, созданная союзниками де Голля в пред¬
дверии выборов, — «Союз в защиту новой республики» (ЮНР).
Вступив в блок с «независимыми», они получили абсолютное боль¬
шинство в парламенте. Через месяц де Гол ль был избран прези¬
дентом Франции. Главой своего первого правительства он назна¬
чил своего давнего соратника, видного участника движения Со¬
противления, одного из лидеров ЮНР М. Дебре.
Самой острой проблемой, с которой сразу же пришлось столк¬
нуться Ш. де Голлю, была продолжавшаяся война в Алжире. Она,
как гири, тянула Францию на дно, мешала реализации планов де
Голля по возрождению величия Франции, ослабляла ее позиции
на международной арене. Однако ультраколониалисты, по-пре¬
жнему пользовавшиеся большим влиянием в политической жиз¬
ни Франции, и слышать не хотели о предоставлении независимо¬
сти Алжиру. Они жестко настаивали на продолжении «войны до
победного конца».
Ш. де Голль довольно быстро понял бесперспективность сило¬
вого варианта решения алжирской проблемы. В сентябре 1959 г.
он неожиданно для ультра провозгласил, что Алжир имеет право
на самоопределение. Это вызвало новый политический кризис. 24
января 1960 г., использовав в качестве повода отзыв из Алжира
одного из лидеров ультра — генерала Массю, правые подняли там
новый мятеж, на этот раз уже против де Голля, но, не получив се¬
рьезной поддержки ни в правящей элите Франции, ни среди ее
населения, через неделю сложили оружие, но отнюдь не отказа¬
лись от своих планов. Ситуация накалялась.
Ультра создали тайную террористическую организацию —
ОАС. Ее возглавили бывшие сподвижники де Голля Сустель, Бидо,
порвавшие с ним и ставшие его непримиримыми противниками.
В апреле 1961 г. они опять подняли мятеж. На сей раз путчисты
были настроены чрезвычайно решительно: низложили президен¬
та и заявили, что берут власть в Алжире в свои руки. Генерал Са-
лан готовился высадить десант в Париже, чтобы реализовать эти
планы. 25 апреля де Голль приказал ликвидировать восстание все¬
ми средствами. Мятежники оказались изолированными и были
вынуждены сложить оружие.
Президент в январе 1961 г. решил вынести вопрос о судьбе
Алжира на референдум. 75% избирателей высказались в поддер¬
жку планов правительства предоставить народу Алжира право
самому решать свою судьбу. Это свидетельствовало о том, что в
496
общественных настроениях произошли серьезные подвижки: уль¬
тра остались в явном меньшинстве. После этого французское пра¬
вительство форсировало переговоры с Временным правительством
Алжирской республики о прекращении войны и предоставлении
этой стране независимости. Их вел будущий президент Франции
Ж. Помпиду. Благодаря его усилиям 18 марта 1962 г. были нако¬
нец подписаны Эвианские соглашения (по названию города в
Швейцарии, где шли переговоры), по которым Алжир получил
долгожданную независимость.
Завершение войны в Алжире позволило де Голлю активизи¬
ровать свои действия на международной арене и одновременно
уделять гораздо большее внимание решению социально-эконо¬
мических проблем, унаследованных от Четвертой республики.
Президент прекрасно понимал, что бороться за возрождение ве¬
личия Франции без опоры на солидный экономический фунда¬
мент нереально. Поэтому во Франции, как, впрочем, и в других
ведущих странах Запада, в это время первостепенное внимание
уделялось обеспечению высоких темпов экономического роста.
Решение этой задачи де Голль связывал с активизацией роли го¬
сударства в стимулировании экономического развития. Во Фран¬
ции в эти годы стали активно использовать методы социально-
экономического планирования, государство стремилось воздей¬
ствовать в нужном ему направлении на сферу финансов, на вне¬
дрение в производство передовых технологий, поощрение науч¬
но-технического прогресса.
Большое внимание уделялось развитию военно-промышлен¬
ного комплекса. В стране быстрыми темпами создавалась ракет¬
ная и атомная промышленность. Все это сопровождалось увели¬
чением концентрации производства: 25 ведущих финансово-про¬
мышленных групп в 60-е гг. контролировали более 60% всех ка¬
питаловложений. Государство много делало и для форсированно¬
го развития аграрной сферы. Прежде всего, заметно возросла тех¬
ническая оснащенность сельского хозяйства, и, как следствие,
выросла производительность труда в этой области хозяйства. Это
позволило резко сократить — почти вдвое — численность населе¬
ния, занятого в аграрном секторе.
Благоприятные изменения в экономике сказывались и на со¬
циальной сфере. В 60-е гг. произошло достаточно ощутимое улуч¬
шение и уровня, и качества жизни. Заработная плата увеличилась
на 25%, выросли оплачиваемые отпуска, расширилась сфера дей¬
ствия системы срциального обеспечения. Значительные измене¬
ния произошли в системе образования, особенно высшего. Оно ста¬
ло гораздо более доступным для широких слоев французов. Оче¬
видно, что все эти подвижки не могли не сказаться и на полити¬
497
ческой атмосфере, царившей во французском обществе. Оконча¬
ние войны в Алжире способствовало серьезной трансформации
всей политической жизни. Некогда главный ее вопрос теперь со¬
шел со сцены. Соответственно изменилась и расстановка сил на
партийно-политической сцене. С нее по существу быстро сошли
ультра (хотя их организация ОАС периодически давала о себе
знать, осуществив очередной теракт). Исчез страх государствен¬
ного переворота, а следовательно, необходимость доверять судьбу
государства сильной личности.
Это обстоятельство способствовало росту оппозиции и активи¬
зации ее деятельности. Если в конце 50-х гг. в жесткой оппози¬
ции де Голлю находились только коммунисты и отдельные члены
соцпартии, то уже в начале 60-х гг. против некоторых аспектов
курса президента регулярно стали выступать представители пра¬
вых и центристов. Это произошло после того, как Ш. де Голль до¬
вольно резко выступил против дальнейшего форсирования процес¬
са строительства «единой Европы».
Столкнувшись с ростом рядов оппозиции, Ш. де Голль решил
попытаться еще более усилить роль президента в политической
жизни Франции. Он предложил ввести прямые выборы прези¬
дента. Этот план он вынес на референдум, состоявшийся 1 октяб¬
ря 1962 г. Несмотря на то, что все политические партии Фран¬
ции, кроме ЮНР, выступили против этого плана, на референду¬
ме он получил поддержку более 60% избирателей. Стремясь зак¬
репить свой успех, де Голль назначил новые выборы в Националь¬
ное собрание. Замысел президента удался: большая часть фран¬
цузского общества связывала надежды на стабильное, поступа¬
тельное развитие страны, на возрождение ее былого величия
именно с личностью де Голля, поэтому авторитет президента и
тех политических сил, которые ассоциировались с ним, был дос¬
таточно велик. Это и предопределило исход выборов. Большин¬
ство в новом составе парламента получили ЮНР и блокировав¬
шиеся с ними независимые республиканцы во главе с В. Жискар
д’Эстеном.
Итоги выборов остро поставили вопрос о дальнейших перспек¬
тивах оппозиции. И на ее левом, и на правом флангах на протяже¬
нии 1962-64 гг. активно обсуждались перспективы партийной
перегруппировки. И правые, и левые понимали, что без консоли¬
дации своих рядов, при существовавшей в начале 60-х гг. дробно¬
сти в стане оппонентов де Голля, им нечего было рассчитывать на
успех на предстоявших в 1965 г. президентских выборах. В их
преддверии и правые, и левые силы вели активные консультации,
чтобы определить наиболее перспективных кандидатов, способных
противостоять Ш. де Голлю.
498
В 1965 г. было объявлено о создании Федерации демократи¬
ческих и социалистических левых сил (ФДСЛС), в которую вош¬
ли социалисты, радикалы и Конвент республиканских институ¬
тов. Лидером этого объединения стал Ф. Миттеран. Коммунисты,
хотя и не вошли в этот альянс, все же решили поддержать его кан¬
дидатуру на предстоявших выборах. С другой стороны, Народно¬
республиканское движение (МРП) в итоге отказалось вступить в
эту организацию. Вместе с «независимыми» они выступили в под¬
держку Леканюэ. Таким образом, в 1965 г. в борьбе за пост прези¬
дента Франции соперничали три кандидата — де Голль, Митте¬
ран и Леканюэ. Победа, как и 7 лет назад, осталась за де Голлем.
Правда, на этот раз его успех был не таким впечатляющим: он по¬
лучил 55% голосов избирателей. Кроме того, надвигались выбо¬
ры в Национальное собрание, и было очевидно, что противники
президента постараются дать ему серьезный бой.
В 1966 г. ФДСЛС и компартия заключили официальное согла¬
шение о совместных действиях во втором туре намеченных на март
1967 г. парламентских выборах. Надо сказать, что за 9 лет пребы¬
вания Ш. де Голля у власти партийно-политическая система Фран¬
ции претерпела заметную трансформацию. Исчезли с политичес¬
кой сцены пужадисты и ОАС. Самораспустилась МРП. Давний
союзник де Голля независимые республиканцы преобразовались
в Национальную федерацию независимых республиканцев, кото¬
рая уже не безоговорочно поддерживала президента. В самой де-
голлевской партии произошла смена поколений. Ветераны дви¬
жения М. Дебре и Ж. Шабан-Дельмас и их сподвижники уступи¬
ли место на политическом Олимпе новому поколению голлистов,
лидером которых являлся Ж. Помпиду. Все эти подвижки сказа¬
лись на результатах выборов. С преимуществом всего в один голос
большинство осталось за альянсом ЮНР и Национальной федера¬
ции независимых республиканцев. Таким образом, в очередной
политический цикл Франция вступила ведомая прежней фракци¬
ей политической элиты.
Поначалу ничто не предвещало, что Франция находится на
пороге серьезнейших политических потрясений. Однако в мае-
июне 1968 г. на Францию неожиданно обрушился политический
ураган. Первопричиной острейшего кризиса, грозившего взорвать
устои Пятой республики, стали выступления радикальных студен¬
тов. Число студентов в 60-е гг. во Франции возросло в 5 раз. Изме¬
нился их социальный состав, а также ценностные ориентации,
которые были распространены в этой среде. Как и в других запад¬
ных странах, в это время среди студентов были весьма популярны
левацкие взгляды, а отторжение традиционных буржуазных цен¬
ностей считалось признаком хорошего тона.
499
Конфликт между студентами и администрацией универси¬
тета Сорбонна вспыхнул в начале мая 1968 г. При попытке по¬
лиции очистить помещения университета от бунтующих студен¬
тов произошли кровавые столкновения, свидетелями которых
благодаря телевидению стали все французы. Эти события вско¬
лыхнули всю страну. На защиту студентов вышли профсоюзы
и другие левые силы. С 13 мая началась мощная волна забасто¬
вочного движения, грозившая парализовать экономическую
жизнь страны. ФКП потребовала немедленной отставки де Гол-
ля и создания «правительства народного доверия». Ультралев
вые (Д. Кон-Бендит, Ж. Соважо, А. Жейсмар) звали французов
на баррикады.
Начавшись как локальный, кризис быстро приобрел общена¬
циональный характер. Кульминацией его стали события конца
мая, когда правительство согласилось пойти на уступки участни¬
кам охватившего всю страну забастовочного движения. По заклю¬
ченным 28 мая Матиньонским соглашениям были повышены на
35% минимальная зарплата и на 15% пособия по безработице. Это
внесло раскол в лагерь оппонентов де Голля. Воспользовавшись
этим, президент перешел в контрнаступление. В конце июня
1968 г. в обстановке, когда властям удалось полностью перехва¬
тить инициативу, состоялись парламентские выборы. Убедитель¬
ную победу на них одержала голлистская партия «Союз демокра¬
тов за республику» (ЮДР, бывшая ЮНР), выступавшая как
«партия порядка». Она получила абсолютное большинство в На¬
циональном собрании.
Ш. де Голль прекрасно понимал, что для стабилизации ситуа¬
ции необходимо внести серьезные коррективы в политический
курс. Он стал активно проповедовать идею развития участия ра¬
бочих в управлении производством. Однако решение этой слож¬
ной задачи требовало укрепления властной вертикали, ибо толь¬
ко достаточно мощные импульсы, исходящие из властных струк¬
тур, могли создать в обществе благоприятную обстановку для реа¬
лизации намеченных де Голлем планов.
Первым шагом на этом пути должен был стать законопроект о
реформе сената и органов местного самоуправления. В соответ¬
ствии с ним предполагалось объединить существовавшие 90 депар¬
таментов в более крупные регионы (всего их предполагалось со¬
здать 27), возглавят которые частично избираемые, а частично
назначаемые региональные советы. Их деятельностью должен был
руководить назначаемый региональный префект. Именно регио¬
нальным советам отводилась роль органов, которые будут стиму¬
лировать развитие сотрудничества между основными социально¬
профессиональными группами общества. Что касается сената, где
500
нередко проявлялась оппозиция правительству, то его полномо¬
чия предполагалось ограничить и свести их к чисто консультатив¬
ным функциям. Желая подчеркнуть значимость этого законопро¬
екта как первой фазы глубоких преобразований, де Голль решил
вынести его на референдум и объявил, что в случае его отклоне¬
ния он подаст в отставку.
Все политические партии Франции, за исключением пропра¬
вительственной ЮДР, решительно выступили против данного за¬
конопроекта. Даже традиционно поддерживавшие де Голля не¬
зависимые республиканцы отказались одобрить этот план. Их ли¬
дер В. Жискар д’Эстен назвал его «несвоевременным и неразум¬
ным» . В результате острейшей политической борьбы на состояв¬
шемся 27 апреля 1969 г. референдуме победу одержали против¬
ники правительственного плана: 53,2% принявших участие в го¬
лосовании отвергли предложения де Голля. Президент выполнил
свое обещание — немедленно подал в отставку и ушел из боль¬
шой политики. В ноябре 1970 г. он скончался. Это был один из
самых крупных политиков XX в., оставивший глубокий след в
истории Франции, которая вступила в новый, постголлистский
период.
Завершение очередного крупного этапа в истории Франции
на сей раз не привело к пересмотру действующей Конституции —
она осталась в силе. Просто пришлось проводить досрочные пре¬
зидентские выборы, на которых победу одержал кандидат ЮДР,
бывший премьер-министр Жорж Помпиду. Он охарактеризовал
свою политическую позицию как «преемственность и диалог»,
подчеркивая, что готов продолжать курс Ш. де Голля, но при этом
открыт для сотрудничества с представителями правой оппози¬
ции. Своей главной задачей он провозгласил создание такого об¬
щества, в котором на смену классовой борьбе придет классовое
сотрудничество. С одной стороны, было принято решение об оче¬
редном повышении минимума заработной платы, пенсий, семей¬
ных пособий. С другой стороны, идя навстречу пожеланиям пред¬
принимателей, Помпиду объявил о намерении ослабить регули¬
рующие функции государства в сфере экономики и усилить вли¬
яние рыночных механизмов. Была предпринята попытка вне¬
дрить в жизнь так называемые «контракты прогресса», предус¬
матривавшие повышение заработной платы рабочих национали¬
зированных предприятий в обмен на отказ профсоюзов от прове¬
дения забастовок. Однако внедрить этот проект в жизнь прави¬
тельство не смогло.
Первым крупным испытанием для нового политического ру¬
ководства Франции стали парламентские выборы 1973 г. Они
должны были показать, насколько видоизменился политический
501
ландшафт страны после ухода де Голля с политической арены.
Итоги выборов продемонстрировали, что в конфигурации партий¬
но-политических сил действительно наметились определенные
подвижки.
Во-первых, произошло сближение левых сил — коммунис¬
тов и социалистов. В преддверии выборов они договорились о со¬
вместных действиях и одобрили общую предвыборную програм¬
му. Это позволило им, особенно социалистам, заметно укрепить
свои позиции. По итогам выборов они собрали 45% голосов из¬
бирателей — наилучший результат за всю историю Пятой респуб¬
лики. Во-вторых, серьезно ослабли позиции правящей коалиции
(ЮДР и независимые республиканцы). В первом туре выборов она
сумела набрать только 35% голосов избирателей, и только аль¬
янс с «движением реформаторов» во втором туре позволил ей со¬
хранить в парламенте большинство. Однако в результате этого
ЮДР утратила право самостоятельно формировать правительство
и перестала быть ведущей партией правящей элиты Франции. В-
третьих, весьма запутанная и неустойчивая картина сложилась
в центре политического спектра, где возникло достаточно амор¬
фное «движение реформаторов» объединявшее представителей
демократического центра и правых радикалов. Если к этому до¬
бавить резкое осложнение экономической ситуации, вызванное
начавшимся в 1973 г. энергетическим кризисом, то становилось
очевидным, что начинающийся новый этап отнюдь не сулит
Франции спокойного развития. Ситуация еще больше усугуби¬
лась после того, как в апреле 1974 г. неожиданно скончался пре¬
зидент страны Ж. Помпиду.
§ 5. ФРГ: между ХДС и СДПГ
Для ФРГ 60-е гг. стали своего рода переходным периодом
от эры абсолютного господства демохристиан в политической
жизни страны к периоду, когда доминирующие позиции на по¬
литическом Олимпе заняли их основные конкуренты — соци¬
ал-демократы. Уже на рубеже 50-60-х гг. в западногерманской
прессе стали появляться статьи о «кризисе авторитарного кан¬
цлерства» .
Ослабление позиций правящей коалиции ХДС/ХСС продемон¬
стрировали выборы в бундестаг, состоявшиеся в сентябре 1961 г.
Блок ХДС/ХСС смог набрать на них только 45,4% голосов и те¬
перь для того, чтобы сохранить прежние позиции, вынужден был
пойти на альянс со свободными демократами (СвДП). Те, однако,
соглашались на подобный союз только при условии отставки
502
К. Аденауэра с поста канцлера. В тот момент, после сложных пе¬
реговоров, удалось уговорить руководство свободных демократов
на время снять с обсуждения эту проблему. Однако в любой мо¬
мент эта «бомба замедленного действия» могла взорваться. Так и
произошло в октябре 1963 г., когда канцлер в возрасте 87 лет все-
таки вынужден был уйти в отставку. «Эра Аденауэра» заверши¬
лась, и теперь во весь рост встал вопрос, какими путями дойдет
дальше западногерманское общество.
Ответ на него во многом зависел от того, кто встанет на капи¬
танском мостике государственного корабля ФРГ. В начале 60-х гг.
наиболее естественным претендентом на эту роль являлся «отец
западногерманского экономического чуда» Л. Эрхард. И в обще¬
стве в целом, и в верхушке ХДС с ним связывались надежды на
придание экономике нового мощного импульса. Эрхард действи¬
тельно выдвинул очередную масштабную концепцию обновления
западногерманского общества. Новый канцлер заявил, что ФРГ
движется в сторону так называемого «сформированного обще¬
ства» — динамичного демократического организма, функциони¬
рующего на базе социального рыночного хозяйства, в котором бу¬
дут гармонизированы социальные отношения. Главным средством
для достижения этой цели, как и в других странах Запада, объяв¬
лялся устойчивый экономический рост. Однако решить эти зада¬
чи Л. Эрхард не сумел. Вместо гармонизации социальных отно¬
шений начало 60-х гг. было отмечено обострением политических
коллизий, вызванных активизацией правоэкстремистских сил,
группировавшихся вокруг созданной в 1964 г. Национал-демок-
ратической партии (НДП). Быстрый рост числа ее сторонников, в
свою очередь, породил всплеск движения протеста со стороны пе¬
стрых по своему социально-политическому составу антинеонаци-
стских сил.
Ситуация быстро накалялась, угрожая вырваться из-под
контроля властей. Правительство Эрхарда видело выход в при¬
нятии чрезвычайного законодательства, ограничивавшего дея¬
тельность любой внепарламентской оппозиции. Однако для при¬
нятия подобного законодательства необходимо было получить
поддержку 2/3 депутатов бундестага. Таким количеством голо¬
сов правительство не располагало. Добиться одобрения чрезвы¬
чайного законодательства можно было только за счет подклю¬
чения к правительственной коалиции крупнейшей оппозици¬
онной партии в парламенте — СДПГ. Потребности в этом ощу¬
щались все острее. Без прочной интеграции этой партии во
власть трудно было рассчитывать на долговременную стабили¬
зацию социальных отношений, а без этого невозможно было
обеспечить поступательное движение немецкой экономики впе¬
503
ред. Кроме того, присутствие социал-демократов в правитель¬
стве должно было помочь укрепить международные позиции
ФРГ, избавить страну от совершенно ненужного имиджа реван¬
шистской державы.
Начавшийся в 1966 г. экономический кризис сильно подпор¬
тил репутацию Эрхарда и вызвал раскол в правительственной ко¬
алиции. Члены правительства от партии свободных демократов
заявили^ своем несогласии с рецептами лечения кризиса, пред¬
лагавшимися Эрхардом, и вышли из правительства. В результате
оно лишилось поддержки большинства депутатов бундестага, и
Л. Эрхард был вынужден уйти в отставку.
Новым канцлером в декабре 1966 г. стал представитель ХДС
К. Кизингер, сторонник подключения СДПГ к правящей коа¬
лиции. Он сумел осуществить сложную перестройку властных
структур, в результате которой место свободных демократов в
правящей коалиции заняли социал-демократы. В итоге образо-
ралась так называемая «большая коалиция», состоявшая из
двух ведущих партий ФРГ. Потенциально это должно было га¬
рантировать высокую степень устойчивости политической сис¬
темы. Многое, однако, зависело от того, в какой мере партнеры
по коалиции сумеют найти общий язык в вопросах экономичес¬
кой политики, ибо исходные установки христианских демок¬
ратов и социал-демократов в этой сфере существенно отличались
друг от друга.
После долгих споров и согласований в основу экономичес¬
кой программы «большой коалиции» была положена концеш
ция «глобального регулирования», автором которой являлся
министр экономики, влиятельный деятель СДПГ К. Шиллер. Он
так сформулировал свое кредо: «Конкуренция — насколько воз¬
можно, планирование — насколько необходимо». В целях воп¬
лощения в жизнь этой программы летом 1967 г. бундестагом был
принят закон «О содействии стабильности и оживлению эконо¬
мики». Он был нацелен на поддержание высокого уровня заня¬
тости, стабильных потребительских цен и сбалансированного
бюджета. Значительно расширялись полномочия федеральных
финансовых органов, на которые возлагались главные функции
по регулированию основных макроэкономических показателей
немецкой экономики. Солидные государственные субсидии
были выделены ряду ключевых отраслей индустрии — черной
металлургии, электротехнической и строительной промышлен¬
ности, от которых зависело состояние общей экономической
конъюнктуры.
Эти меры достаточно быстро оказали благотворное влияние
на западногерманскую экономику — она вновь вступила в фазу
504
подъема. Однако, как и в других странах Запада в это время, он
не принес социальной стабилизации. Вторая половина 60-х гг.
была отмечена всплеском движений радикального протеста.
Особенно большой активностью отличалось молодежное движе¬
ние, представители которого резко критиковали основы индус¬
триального общества за псевдодемократизм, призывали к «ре¬
альной, а не формальной демократии». Тон в этой кампании
задавали «новые левые», для которых в равной мере неприем¬
лемыми были идеи и коммунистов, и социал-демократов. В рам¬
ках самих социал-демократов активно действовала организация
«Молодые социалисты», добивавшаяся выхода партии из пра¬
вящей коалиции.
Все эти коллизии оказывали самое серьезное воздействие на
состояние политической атмосферы ФРГ. Это сказалось и на ре¬
зультатах выборов 1969 г., когда впервые с момента образования
ФРГ ведущая партия страны — ХДС не смогла получить боль¬
шинство. Таким образом, судьба нового правительства зависела
от того, кто из двух основных претендентов на руководство госу¬
дарством — ХДС или СДПГ — сумеет лучше справиться с зада¬
чей формирования дееспособной коалиции. Поскольку свободные
демократы еще раньше отказались блокироваться с ХДС, вопрос
о том, кто возглавит правящую коалицию, решился в пользу
СДПГ. Новым канцлером стал один из крупнейших политиков
Западной Германии Вилли Брандт. Таким образом, впервые с
момента образования ФРГ власть в стране перешла от ХДС к со¬
циал-демократам .
Вступая в должность, В. Брандт заявил, что считает себя
«канцлером внутренних реформ». И действительно, его прави¬
тельство с самого начала попыталось осуществить комплекс се¬
рьезных внутриполитических преобразований. Правда, вплоть
до 1972 г. в бундестаге существовала по сути дела патовая ситуа¬
ция из-за практического равенства сил правящей коалиции и
ХДС/ХСС. Кроме того, в первые годы пребывания у власти вни¬
мание руководства страны было сосредоточено на проблемах
внешней политики, прежде всего на глубокой корректировке
«восточной политики» ФРГ. Преодолев мощнейшее сопротивле¬
ние оппозиции, В. Брандт сумел добиться нормализации отноше¬
ний ФРГ с ее восточными соседями — СССР, Польшей, ЧССР и
ГДР.
Стремясь закрепить и развить свой успех, В. Брандт назна¬
чил на ноябрь 1972 г. досрочные выборы в бундестаг. Его расчет
оказался верным: выборы принесли успех правящей коалиции,
которая имела отныне прочное большинство в бундестаге. Теперь
социал-демократы смогли сконцентрировать свое внимание на со¬
505
вершенствовании всей сферы социально-экономических отноше¬
ний. Поставив во главу угла повышение качества жизни, соци¬
ал-демократы предполагали расширить систему участия трудя¬
щихся в управлении производством, за счет государственного
стимулирования темпов экономического роста добиться сокра¬
щения безработицы и значительного расширения помощи соци¬
ально незащищенным группам населения. Значительные сред¬
ства выделялись на совершенствование и развитие всех звеньев
системы образования, в которой Брандт видел важнейший инст¬
румент общественного прогресса. Для реализации этих впечат¬
ляющих планов была разработана долгосрочная (до середины
80-х гг.) программа экономического развития, предусматривав¬
шая обеспечение стабильного экономического роста в размере
4,5-6% в год.
Политическая карьера В. Брандта, уверенно развивавшаяся
по восходящей вплоть до 1974 г., неожиданно прервалась из-за
вспыхнувшего внутриполитического скандала. Выяснилось, что
высокопоставленный сотрудник его аппарата являлся агентом сек¬
ретной службы ГДР. В этой ситуации В. Брандт подал в отставку.
Его преемником стал Гельмут Шмидт. Он в принципе продолжал
проводить социально-экономический курс, который был намечен
его предшественником. Однако начавшийся еще в 1973 г. энерге¬
тический кризис, переросший в серьезный структурный кризис
всей западной экономики, вынудил правительство внести коррек¬
тивы в долгосрочную программу социально-экономического раз¬
вития и, по крайней мере на время, отказаться от амбициозных
планов по достижению стабильного экономического роста в раз¬
мере 4,5-6% в год.
Справедливости ради отметим, что и в эти трудные годы пра¬
вительство социал-демократов стремилось не сворачивать соци¬
альных реформ. Крупнейшей акцией в этой области стало осуще¬
ствление реформы трудового законодательства. Она включала в
себя повышение уровня зарплаты, передачу половины мест в на¬
блюдательных советах на предприятиях рабочим, расширение
компетенции производственных советов; была значительно рас¬
ширена практика выпуска «народных акций», распространявших¬
ся среди рабочих данного предприятия. При этом официальная
пропаганда выдвигала тезис о том, что таким образом в ФРГ Эво¬
люционным путем произойдет полное перераспределение капита¬
ла. Правда, срок завершения этой операции устанавливался дос¬
таточно большой — 50 лет. Пока же можно сказать, что аккуму¬
лированные с помощью этого плана средства достаточно эффек¬
тивно использовались для самофинансирования предприятий.
Вместе с тем реализация этого плана значительно продвинула впе¬
506
ред процесс интеграции рабочего движения в структуру западно-
германского общества, а само оно все больше приобретало черты,
характерные для традиционной западной модели общественного
развития. Специфическая немецкая модель, которая в прошлом
так выделяла Германию в ряду других западных стран, канула в
лету, и теперь ФРГ не просто адаптировалась к типичным для эво¬
люционной модели развития нормам, но и сама стала определять
многие ее параметры.
§ 6. Италия: левоцентристская
политика в действии
В феврале 1962 г. в Италии было сформировано первое лево¬
центристское правительство, в которое вошли представители
ХДП, республиканцы и социал-демократы. Позднее к участию в
нем подключились социалисты. Возглавил это правительство
А. Фанфани, которого затем сменил А. Моро.
Новая правящая коалиция провозгласила своей целью прове¬
дение широких социальных реформ. Уже в 1962 г. была осуще¬
ствлена национализация энергетической промышленности, что
позволило ограничить рост коммунальных платежей. Затем было
введено бесплатное обязательное образование для всех детей в воз¬
расте до 14 лет. В 1965 г. было введено экономическое программи¬
рование, распространявшееся, правда, лишь на предприятия го¬
сударственного сектора экономики. Были повышены размеры пен¬
сий. Правительство всячески поощряло патерналистскую практи¬
ку крупнейших промышленных компаний страны, видя в ней за¬
лог стабилизации социальных отношений. Образцом в этом плане
считалась крупнейшая автомобилестроительная компания ФИАТ,
осуществлявшая строительство дешевого жилья для своих рабо¬
чих и служащих, открывшая широкую сеть детских садов для их
детей, апробировавшая новую систему стимулирования рабочих
за сотрудничество с фирмой.
Однако надежды на то, что с помощью гибкого социального
маневрирования удастся изолировать компартию Италии, не оп¬
равдались. На парламентских выборах 1963 г. коммунисты полу¬
чили 25% голосов (на 2,5% больше, чем на выборах 1958 г.), а в
1968 г. — почти 27%. Более того, решение руководства ИСП вой¬
ти в правительство было далеко не однозначно встречено членами
социалистической партии. Ее левое крыло категорически отказа¬
лось поддержать этот шаг и вышло из партии. С другой стороны, в
60-е гг. происходило дальнейшее сближение социалистов и соци¬
ал-демократов, завершившееся в 1966 г. их слиянием и образова-
507
нием Объединенной социалистической партии. Правда, особых
успехов в политической жизни она не добилась: на выборах 1968 г.
она получила на 5,5% голосов меньше, чем обе вошедшие в нее
партии в 1963 г. Несостоятельность нового объединения привела
к тому, что в 1969 г. оно, просуществовав всего три года, распа¬
лось. К концу 60-х гг. обострилась ситуация и внутри ХДП. Один
из важнейших союзников правящей партии — Христианская ас¬
социация итальянских трудящихся — отказалась от принципа
политического единства всех католиков, т.е. обязательной поддер¬
жки ХДП на выборах. Это грозило вызвать серьезную эрозию элек¬
торальной базы христианских демократов. Все эти факты свиде¬
тельствовали о том, что в политической жизни Италии назревают
серьезные потрясения.
Как и во всех ведущих странах Запада, в Италии в 60-е гг. на¬
блюдался всплеск радикального студенческого движения. Акти¬
визировалось и профсоюзное движение, которое стало настойчи¬
во добиваться ускорения пенсионной реформы, осуществления
комплексных мер по массовому строительству дешевого жилья. В
1968-69 гг. в забастовках участвовало около 20 млн. человек, т.е.
почти все трудоспособное население страны. Правительство утра¬
чивало способность эффективно контролировать ситуацию. Все
очевиднее становилось, что тот политический маневр, который в
начале 60-х гг. попытались осуществить правящие круги Италии,
себя не оправдал.
Особенно накалилась обстановка к осени 1969 г., когда в свя¬
зи с истечением сроков коллективных договоров в ряде ключе¬
вых отраслей промышленности разгорелась острая борьба за их
перезаключение на качественно новых условиях. Помимо тра¬
диционных требований увеличения заработной платы и улуч¬
шения условий труда бастующие добивались введения на про¬
изводстве элементов прямой рабочей демократии (рабочих ас¬
самблей, фабрично-заводских советов и т.д.) и участия в реше¬
нии всех производственных вопросов. Во многом они добились
успеха. В 1970 г. их важнейшие требования были зафиксиро¬
ваны в специальном законодательном акте — «Статусе прав тру¬
дящихся».
Резкое обострение социально-политического конфликта на
рубеже 60-70-х гг. вызвало поляризацию политических сил в
Италии, что отразилось на результатах досрочных парламентс¬
ких выборов, проходивших в 1972 г. Укрепили свои позиции
крайне правые силы — монархисты и неофашисты, которые,
выступив в блоке, получили почти 9% голосов. После выборов
они создали единую партию, которая взяла курс на дестабилиза¬
цию всей политической системы Италии. Партии левоцентрист¬
508
ского блока в целом сохранили свои позиции, но внутри правя¬
щей коалиции партнеры ХДП еще больше потеснили некогда
ведущую силу политической системы страны. ИКП не только
сохранила свои прежние позиции, но даже несколько укрепила
их. Короче говоря, расчет на ее изоляцию явно не оправдывался,
что ставило под вопрос дальнейшие перспективы левоцентрист¬
ской коалиции.
Еще больше осложнила ее положение резкая активизация де¬
ятельности неофашистов, добивавшихся сдвига вправо всего по¬
литического спектра Италии. Если добавить к этому заметное ос¬
ложнение экономической ситуации, вызванное начавшимся в
1974 г. экономическим кризисом, серьезно сузившим возможно¬
сти правительства для социального маневрирования, то станет
ясно, что перспективы дальнейшего сохранения левоцентристс¬
кой коалиции были исчерпаны. И действительно, после 1972 г.
Италия вступает в полосу политической нестабильности, когда
один кабинет сменял другой и никто из представителей полити¬
ческой элиты не имел в это время четкого представления ни о ха¬
рактере долговременной стратегии правительства, ни о том, ка¬
кая конфигурация политических сил обеспечит оптимальные ус¬
ловия для дальнейшего развития страны.
ГЛАВАХ
«Консервативная волна»
и ее последствия
§ 1. Экономический кризис 1974-75 гг.
и его роль в развитии западной
цивилизации
В ряду послевоенных экономических потрясений особое мес¬
то принадлежит кризису 1974-75 гг. Он охватил одновременно
практически все развитые страны Запада и Японию. Уровень па¬
дения производства варьировался от 20,2% в Японии до 6,9% в
Англии. Он совпал с бурным всплеском инфляции, которая вела к
ломке сложившейся структуры внутренних цен, затрудняла по¬
лучение кредита, а это, естественно, тормозило выход из кризиса.
Своеобразие данного экономического катаклизма заключалось и
в том, что падение производства сочеталось с инфляцией и массо¬
вой безработицей — явление, получившее название стагфляции.
На все это наложился энергетический кризис, приведший к нару¬
шению традиционных связей на мировом рынке, осложнивший
нормальный ход экспортно-импортных операций, дестабилизиро¬
вавший всю сферу финансово-кредитных отношений. Стремитель¬
ный рост цен на нефть (в 1973 г. они выросли втрое, а в 1975 г. еще
в 5 раз) стимулировал изменения в отраслевой структуре эконо¬
мики, мощный импульс получило развитие новых, энергосбере¬
гающих технологий.
В результате нарушения международного валютного обме¬
на и все большего несоответствия принципов Бреттонвудской
системы новым условиям, под вопрос были поставлены ее осно¬
вы. Уже на рубеже 60-70-х гг. заметно снизилась покупатель¬
ная способность доллара. В западном сообществе стало быстро
нарастать недоверие к доллару как к основному средству расче¬
510
тов. В 1972-73 гг. правительство США дважды осуществляло
его девальвацию. В марте 1973 г. в Париже ведущие страны За¬
пада и Япония подписали соглашение о введении плавающих
курсов валют, а в 1976 г. МВФ отменил официальную цену на
золото. Лишь во второй половине 80-х гг. удалось выработать
более или менее удовлетворяющую страны Запада формулу вза¬
имоотношений в этой сфере.
Экономические неурядицы 70-х гг. проходили на фоне наби¬
равшей все больший размах и приобретавшей черты перманент¬
ного процесса НТР. Основным содержанием новой фазы ее разви¬
тия стало массовое внедрение компьютеров в самые различные
сферы производства и управления. Это дало толчок к началу слож¬
ного процесса структурной перестройки экономики и постепенно¬
му переходу всей западной цивилизации в новую фазу, которую
окрестили постиндустриальным, или информационным, обще¬
ством.
Развитие автоматизации, информатики и их распространение
на все сферы хозяйственной деятельности оказывало пусть опос¬
редованное, но от этого не становившееся менее весомым воздей¬
ствие на все стороны эволюции человеческой цивилизации. Преж¬
де всего, заметно ускорились процессы интернационализации всей
хозяйственной жизни. Опять-таки кризис 1974-1975 гг. стал важ¬
ной вехой в этом процессе. Гигантская концентрация в производ¬
ственно-финансовой сфере, характерная для всего XX в., в это вре¬
мя осуществила качественный скачок: ТНК начали определять
лицо западной экономики. В первой половине 80-х гг. на их долю
приходилось уже 60% внешней торговли и 80% разработок в сфе¬
ре новых технологий. ТНК с каждым днем все более реально пре¬
тендовали на роль основы всей хозяйственной жизни Запада.
Итак, экономический кризис 1974-1975 гг. сыграл важную
роль в глубоком преобразовании экономики Запада. Это был весь¬
ма болезненный процесс, особенно на первом этапе (вторая поло¬
вина 70-х гг.), сопровождавшийся большими социальными издер¬
жками: увеличением безработицы, ростом стоимости жизни, воз¬
растанием числа людей, выбитых этими изменениями из привыч¬
ной жизненной колеи и т.д. В 80-е гг. перестройка начала прино¬
сить отдачу, особенно в США, Великобритании, ФРГ. Внедрение
новейших технологий способствовало значительному скачку в
повышении производительности труда.
Новые условия требовали свежих концептуальных решений,
касающихся выработки адекватных потребностям дня методов
регулирования социально-экономических процессов. Прежняя
кейнсианская методика решения этих проблем перестала устраи¬
вать правящую элиту ведущих стран Запада. Традиционные кей¬
511
нсианские рецепты, заключавшиеся в росте государственных рас¬
ходов, снижении налогов и удешевлении кредита, порождали пер¬
манентную инфляцию и все более возраставший бюджетный де¬
фицит. Критика кейнсианства в середине 70-х гг. приобрела фрон¬
тальный характер. Постепенно складывалась новая консерватив¬
ная концепция регулирования экономики, наиболее яркими пред¬
ставителями которой на политическом уровне стали Маргарет Тэт¬
чер, возглавившая британское правительство в 1979 г., и Ро¬
нальд Рейган, избранный в 1980 г. на пост президента США.
В области экономической политики неоконсерваторов вдох¬
новляли идеологи свободного рынка (М. Фридмен) и сторонники
«теории предложения» (А. Лэффер). Важнейшим отличием новых
политэкономических рецептов от кейнсианства явилась иная на¬
правленность государственных расходов. Ставка была сделана на
уменьшение государственных расходов на социальную политику.
С этим была связана и иная политика в области налогообложения:
проводилось серьезное снижение налогов на корпорации, что име¬
ло целью активизировать приток инвестиций в производство. Если
кейнсианцы исходили из поощрения спроса как предпосылки ро¬
ста производства, то неоконсерваторы, напротив, держали курс на
стимулирование факторов, обеспечивающих рост предложения
товаров. Их формула: предложение определяет спрос.
Второй важнейший лозунг консерваторов — «государство для
рынка». Он исходил из постулата о внутренней стабильности ка¬
питализма, из того, что эта система способна к саморегуляции по¬
средством конкуренции при минимальном вмешательстве государ¬
ства в процесс воспроизводства.
Эти рецепты быстро завоевали широкую популярность в пра¬
вящей элите ведущих стран Западной Европы, США и Канады.
Отсюда и общий набор мероприятий в сфере экономической поли¬
тики: снижение налогов на корпорации при росте косвенных на¬
логов, уменьшение взносов предпринимателей в фонды социаль¬
ного страхования, свертывание ряда программ социальной поли¬
тики, широкая распродажа государственной собственности. Во
Франции было даже создано министерство по денационализации.
Эти изменения создали фундамент для мощного идейно-поли¬
тического наступления консерваторов. На рубеже 70-80-х гг. они
пришли к власти в Англии, США, ФРГ. Для сторонников либе¬
рально-реформистского курса это был тяжелый период. В обще¬
ственном мнении произошел явный перелом: либерально-рефор¬
мистские концепции, еще недавно пользовавшиеся поддержкой
широких слоев населения, быстро теряли популярность. Идеоло¬
ги либерализма не могли найти эффективных рецептов обновле¬
ния этой идеологии, приспособления ее к новым запросам обще¬
512
ственного развития. Наивысшего подъема «консервативная вол-
на» достигла в первой половине 80-х гг., к рубежу 80-90-х гг. она
стала несколько спадать, но и в 90-е гг. перевес в давнем споре кон¬
серваторов и либералов находился в целом на стороне первых.
«Консервативная волна», как правило, ассоциируется с поли¬
тикой Р. Рейгана и М. Тэтчер. Рейган заявил о своих претензиях
на власть еще в 1976 г., когда США только-только вышли из эко¬
номического кризиса, осмысливали свое поражение во Вьетнаме
и последствия уотергейтского скандала, приведшего к отставке
Р. Никсона. Такое обилие ударов, обрушившихся на американс¬
кое общество, породило в умах американцев серьезные сомнения
в рациональности и эффективности того пути, которым следовала
Америка со времен «нового курса». Этим попытался воспользо¬
ваться Р.‘ Рейган, ведший свою предвыборную кампанию под ан-
тиэтатистскими лозунгами. Его призывы возродить веру амери¬
канцев в себя, в традиционные ценности и не полагаться на «боль¬
шое правительство», которое регламентирует их жизнь, мешает
развитию предпринимательства, уже тогда нашли значительный
отклик среди электората. Но все же для победы этого было недо¬
статочно.
Следующие четыре года «консервативная волна» быстро на¬
бирала размах, и это было на руку Р. Рейгану. Пропагандируемые
им идеи становились все более популярными, и в 1980 г. он добил¬
ся уверенной победы на выборах. Теперь ему предстояло реализо¬
вать на практике свои идеологические схемы. Безусловно, не все
установки «новых правых» удалось воплотить в жизнь. Прежде
всего, не произошло тотального демонтажа той разветвленной со¬
циальной инфраструктуры, которая была создана за предшество¬
вавшие полвека. Не удалось отказаться и от определенного госу¬
дарственного регулирования экономических процессов. Тем не
менее в сфере социально-экономической политики произошли се¬
рьезные изменения.
Уже в 1981 г. был принят «Закон об оздоровлении экономи¬
ки» , центральным звеном которого стала налоговая реформа. По
существу, вместо прогрессивной системы налогообложения вво¬
дилась новая шкала, близкая к пропорциональному налогообло¬
жению, что, безусловно, было выгодно наиболее зажиточным и
отчасти средним слоям. Одновременно было осуществлено сокра¬
щение социальных расходов. В1982 г. президент выступил с кон¬
цепцией «нового федерализма», суть которой заключалась в
перераспределении полномочий между федеральным правитель¬
ством и властями штатов в пользу последних. В связи с этим рес¬
публиканская администрация предложила аннулировать около
150 федеральных социальных программ, а остающиеся передать
513
властям штатов. Рейгану удалось в короткий срок сбить инфля¬
цию: в 1981 г., в момент его прихода к власти, она составляла
10,4%, а к середине 80-х гг. упала до 4%. Впервые после 60-х гг.
начался бурный экономический подъем (в 1984 г. темпы эконо¬
мического роста достигли 6,4% — исключительно высокий пока¬
затель для такой высокоразвитой страны, как США). Эти общие
цифры обернулись далеко не одинаковыми результатами для раз¬
личных социальных групп.
В общем виде итоги рейганомики можно выразить следующим
образом: «Богатые стали богаче, бедные — беднее». Но здесь необ¬
ходимо сделать несколько оговорок. Повышение жизненного уров¬
ня затронуло не только группу богатых и сверхбогатых, но и дос¬
таточно широкие и постоянно растущие средние слои. Рейгано¬
мика нанесла ощутимый ущерб прежде всего малоимущим аме¬
риканцам, но, во-первых, необходимо учитывать, что уровень бед¬
ности в США таков, что позволяет обеспечить вполне сносные ус¬
ловия жизни даже для тех, кто находится за его чертой, во-вто¬
рых, экономическая конъюнктура давала шансы на получение
работы и, наконец, предшествовавшая социальная политика спо¬
собствовала общему сокращению числа бедняков в Америке. По¬
этому, несмотря на достаточно жесткие меры в сфере социальной
политики, правительству США не пришлось столкнуться со сколь¬
ко-нибудь серьезным всплеском протеста. Большинство американ¬
цев предпочитало заниматься своим бизнесом.
В Великобритании решительное наступление консерваторов
связано с именем М. Тэтчер, которая пришла к власти в 1979 г. на
волне недовольства англичан неэффективной политикой лейбори¬
стов в 70-е гг. Основы политики, которую начала проводить Тэт¬
чер, были сформулированы еще в середине 70-х гг. в документе
под названием «Правильный подход». Главной своей целью она
объявила борьбу с инфляцией. За три года ее кабинету удалось
сбить инфляцию с 18% до 5%. Вскоре после прихода к власти
М. Тэтчер отменила контроль над ценами и сняла ограничения на
движение капитала. Резко снизилось субсидирование государ¬
ственного сектора, а с 1981 г. началась его распродажа: были де¬
национализированы Британская национальная нефтяная корпо¬
рация, Британская газовая корпорация, Национальная корпора¬
ция грузовых перевозок и т.д. Использование монетаристских
методов не означало свертывания государственного вмешательства
в экономику. Просто теперь оно стало осуществляться другими
методами — через государственный бюджет.
В социальной сфере Тэтчер повела жесткую атаку на профсою¬
зы. В1980 и 1982 гг. ей удалось провести через парламент два зако¬
на, ограничивавших их права: под запрет ставились стачки соли¬
514
дарности и отменялось правило о преимущественном приеме на
работу членов профсоюза. Представители профсоюзов были отстра¬
нены от участия в деятельности консультативных правительствен¬
ных комиссий по проблемам социально-экономической политики.
Традиционно большой проблемой для правительства остава¬
лось положение дел в угледобывающей промышленности. В1984 г.
были обнародованы планы повышения рентабельности этой отрас¬
ли, предусматривавшие закрытие 20 шахт и увольнение 20 тыс.
щахтеров. В ответ, как и следовало ожидать, вспыхнула забастов¬
ка, ровно на год парализовавшая всю эту отрасль. Противостоя¬
ние профсоюзов и консервативного правительства приняло прин¬
ципиальный характер. Оно закончилось временным компромис¬
сом: профсоюзы признавали претензии правительства на модер¬
низацию отрасли, а правительство резко сокращало (на 2/3) свои
планы по сокращению рабочих мест.
Согласившись на компромисс, правительство тем не менее не
отказалось от своих стратегических планов: оно просто поняло,
что их реализация требует лучшей подготовки. В 1986 г. был при¬
нят закон «Об общественном порядке», расширявший права орга¬
нов правопорядка в борьбе с бастующими. Не меньше сложностей
для правительства М. Тэтчер представляла проблема Северной
Ирландии. «Железная леди» (прозвище Тэтчер) была сторонни¬
цей силового варианта ее решения. В Ольстере постоянно тлел
конфликт, грозивший взорвать стабильную и размеренную жизнь
Британии.
Комбинация этих факторов несколько поколебала позиции
М. Тэтчер, и она в свойственной ей манере решила одним ударом
отыграть потерянное: летом 1987 г. она объявила досрочные вы¬
боры. Развернув массированную идеологическую кампанию по
обоснованию правомерности своих действий, она доказывала, что
только продолжение прежнего курса способно удержать Англию
на завоеванных рубежах. Вкупе с благоприятной экономической
конъюнктурой это принесло планируемый результат: консервато¬
ры добились победы. Успех позволил Тэтчер еще энергичнее про¬
водить в жизнь программно-целевые установки консерваторов.
Вторая половина 80-х гг. оказалась одним из самых благопри¬
ятных периодов в истории Великобритании XX в.: экономика была
на подъеме, по многим показателям страна вышла на лидирую¬
щие позиции, уровень жизни повышался, соответственно рос и
престиж премьер-министра. Несмотря на свой социально-полити¬
ческий консерватизм, она была явно незаурядным политиком и
яркой личностью, и это проявилось в том, как завершилась ее ка¬
рьера. М. Тэтчер проявила большую политическую мудрость: она
не стала дожидаться момента, когда благоприятные для нее тен-
515
денции пойдут на спад и на консерваторов ляжет ответственность
за ухудшение положения. Осенью 1990 г. она заявила о своем уходе
из большой политики.
Сходные процессы происходили в 80-е гг. в большинстве ве¬
дущих стран Запада. Некоторым исключением из общего прави¬
ла была Франция, где в 80-е гг. ключевые позиции принадлежали
социалистам, ведомым Ф. Миттераном. Но даже социалистам при¬
ходилось считаться с доминирующими тенденциями обществен¬
ного развития. «Консервативная волна» имела объективную ос¬
нову и вполне определенные задачи — обеспечить оптимальные, с
точки зрения правящей элиты, условия для осуществления назрев¬
шей структурной перестройки экономики, необходимой для при¬
дания нового импульса всей западной цивилизации. Этот болез¬
ненный, но неизбежный процесс мог протекать по разным сцена¬
риям. Главное различие заключалось в том, на кого лягут основ¬
ные издержки этого сложнейшего экономического процесса. «Кон¬
сервативная волна», обеспечившая доминирование консерваторов
на решающем отрезке этой перестройки, предопределяла ее ход и
характер. Она прошла по наиболее выгодному для правящей эли¬
ты сценарию, позволившему переложить ее тяготы на основную
часть населения и в то же время не допустить серьезных соци¬
альных катаклизмов.
К 90-м гг. наиболее сложная часть этой перестройки осталась
позади, и не случайно «консервативная волна» постепенно пошла
на спад. Происходило это в весьма мягкой форме. Р. Рейгана сме¬
нил в 1989 г. умеренный консерватор Дж. Буш, а в 1993 г. Белый
дом занял Б. Клинтон, считающийся современным либералом. Его
политический курс, однако, не особенно сильно отличался от того,
что делал Буш. В Великобритании М. Тэтчер в конце 1990 г. сме¬
нил умеренный консерватор Дж. Мейджор, которого затем сменил
молодой лидер лейбористов Э. Блэр. И опять-таки смена партий у
руля государственного корабля не означала смену вех во внутрен¬
ней политике Англии. Примерно так же развивались события и в
других развитых странах.
§ 2. США в эпоху консервативной
революции
Начало подъема «консервативной волны» в США относят к
середине 70-х гг. Как уже отмечалось, ее симптомы отчетливо про¬
явились впервые в ходе избирательной кампании 1976 г., когда
правое крыло республиканской партии, ведомое Р. Рейганом, до¬
статочно громко заявило о своих претензиях на власть. И хотя тог-
516
да правые не сумели добиться поставленных задач, их мощное
давление на соперников оказало заметное влияние на всю полити¬
ческую атмосферу США. И Дж. Картер, и Дж. Форд — официаль¬
ные кандидаты на пост президента от демократической и респуб¬
ликанской партий — вынуждены были учитывать фактор Рейга¬
на в своей предвыборной кампании.
Победу в предвыборном марафоне одержал демократ Джим¬
ми Картер, умело использовавший кризис доверия к власти, по¬
рожденный уотергейтским скандалом. Бывший губернатор Джор¬
джии, Картер не ассоциировался в глазах избирателей с вашинг¬
тонской элитой, престиж которой в те годы был сильно подмочен.
Его внутренняя политика отличалась значительной противоречи¬
востью, характерной для всякого переходного периода.
С одной стороны, продолжался прежний либерально-реформи¬
стский курс демократов: президент осуществил повышение мини¬
мума заработной платы до 3,5 долл, в час, увеличил расходы на
федеральные программы переквалификации рабочей силы, про¬
должил практику расширения системы социального страхования.
При нем быстро развивалась система государственного вспомоще¬
ствования: она стала охватывать 25 млн. человек. С другой сторо¬
ны, первостепенной задачей администрации была объявлена борь¬
ба с инфляцией, что предполагало переход к замораживанию за¬
работной платы и ослабление регулирующих функций государства
в сфере экономики. Кроме того, в конце своего пребывания у вла¬
сти Дж. Картер предоставил крупные налоговые льготы нефтедо¬
бывающим компаниям. Такая непоследовательная практика от¬
нюдь не способствовала консолидации электоральной базы демок¬
ратической партии. Республиканцы же, наоборот, сумели отойти
от последствий уотергейтского скандала и с каждым годом нара¬
щивали мощь своего натиска.
Его успеху содействовала ситуация как внутри страны, так и
во внешнем мире. Кульминацией неудач США на международной
арене стал захват сотрудников американского посольства в Теге¬
ране в качестве заложников. Такого унижения Америка, пожа¬
луй, никогда ранее не испытывала. Правые республиканцы немед¬
ленно заявили, что это событие лишний раз подчеркивает плачев¬
ное состояние страны, на которое ее обрекли безответственные
действия либеральных демократов. Убедительности их доводам
добавил и начавшийся в разгар избирательной кампании 1980 г.
очередной экономический спад. Он как бы подчеркивал необхо¬
димость скорейшей смены экономической парадигмы, отказа от
кейнсианства как основы политического курса, которым Амери¬
ка следовала со времен Ф. Рузвельта. Неблагоприятный для де¬
мократов фон, на котором разворачивалась избирательная кампа¬
517
ния, сделал свое дело. Республиканцы, упиравшие на жесткую
критику «большого правительства» и пораженческую внешнюю
политику администрации Картера, сумели одержать уверенную
победу. Очередным президентом США стал бывший голливудский
киноактер, бывший губернатор Калифорнии, бесспорный лидер
правых республиканцев Р. Рейган.
Именно с его именем и его пребыванием у власти связывают
наивысший подъем «консервативной волны» в США. Он действи¬
тельно весьма серьезно пересмотрел прежний стратегический курс,
которым руководствовались американские власти в предшествовав¬
шие полвека. При Рейгане упор был сделан на стимулирование по¬
требительского спроса, в котором идеологи модной тогда теории
«экономики предложения» видели мощный рычаг не только ста¬
бильного экономического роста, но и эффективной и быстрой струк¬
турной перестройки всей макроэкономической системы США.
Ключевым пунктом программы Р. Рейгана стала крупномас¬
штабная налоговая реформа, одобренная конгрессом уже в авгус¬
те 1981 г., предусматривавшая сокращение общей суммы налого¬
вых поступлений на 23%. Одновременно снижалась шкала про¬
грессивного налогообложения. Ранее она колебалась в пределах
14-70%, а по новым правилам была снижена до уровня 11-50%.
Спустя несколько лет последовал новый раунд налоговых преоб¬
разований. Еще больше была снижена максимальная ставка по¬
доходного налога: с 50- до 28%. С другой стороны, минимальная
ставка налога была повышена с 11 до 15%. Снижались налоги и
на доходы корпораций — с 48 до 34%.
Не менее существенные сдвиги произошли в эти годы в сфере
социальной политики. Сокращение налоговой базы федерального
правительства неизбежно вело к уменьшению общей суммы феде¬
ральных социальных расходов. Была заморожена минимальная
заработная плата. За 8 лет пребывания Рейгана у власти она оста¬
лась на том же уровне, что и во второй половине 70-х гг. В 1983 г.
была ликвидирована практика, согласно которой безработные
имели право на получение пособия из федеральных средств в те¬
чение дополнительных 39 недель сверх установленного ранее сро¬
ка выплаты пособий. Был ограничен так называемый «эскалатор¬
ный принцип» при начислении размеров пенсий, согласно кото¬
рому темпы их роста увязывались с ростом стоимости жизни. Вме¬
сто их индексирования раз в полгода, было решено производить
эту операцию не чаще раза в год.
Главной критике в эти годы была подвергнута государствен¬
ная система социального вспомоществования. Администрации
удалось добиться серьезных изменений в отношении обществен¬
ного мнения к этой системе, ранее пользовавшейся поддержкой
518
большинства американцев. Благодаря этому республиканцы су¬
мели не только не допустить дальнейшего роста числа получате¬
лей помощи по этим программам, но впервые начали сокращать
численность лиц, уже ее получающих. Идеологи правых ставили
перед собой весьма амбициозную задачу — в перспективе вообще
ликвидировать эту систему.
Безусловно, такая политика не могла не вызвать протеста со
стороны достаточно многочисленных категорий американцев,
которых затрагивали все эти новшества. Уже в сентябре 1981 г.
состоялся массовый марш протеста на Вашингтон, в котором уча¬
ствовало около полумиллиона безработных и малоимущих. Одна¬
ко размах движения протеста в 80-е гг. явно не представлял ре¬
альной угрозы для социальной стабильности общества. Это позво¬
лило администрации Р. Рейгана занять жесткую позицию в отно¬
шении тех, кто пытался бороться с планами правительства с по¬
мощью массовых акций протеста. Классическим примером ис¬
пользования силовых методов для подавления забастовочного дви¬
жения стали события, связанные с проходившей летом 1981 г. за¬
бастовкой авиадиспетчеров. Этот трудовой конфликт завершился
полным разгромом забастовщиков: все они были уволены без пра¬
ва восстановления на работу, а их профсоюз был распущен. Тако¬
го сокрушительного поражения американские профсоюзы це зна¬
ли за всю послевоенную историю.
В целом можно констатировать, что планы Рейгана по пере¬
смотру базового вектора социальной политики не встретили адек¬
ватного сопротивления в американском обществе. Более того, по¬
пулярность президента неуклонно росла. В чем причина такой
парадоксальной ситуации? Прежде всего, успеху начинаний Рей¬
гана способствовала очень благоприятная экономическая конъюн¬
ктура. К середине 80-х гг. рост промышленного производства со¬
ставлял в среднем 6,5% в год — чрезвычайно высокая цифра для
такой высокоразвитой страны, как США. Самая трудная фаза на¬
чавшейся еще в середине 70-х гг. структурной перестройки эко¬
номики осталась позади. Р. Рейган, естественно, приписал это об¬
стоятельство смене экономической парадигмы, осуществленной
по инициативе его команды. Стабильные, весьма высокие темпы
экономического роста сказывались на уровне жизни значитель¬
ной части американского общества.
К 80-м гг. заметно трансформировалась социальная структу¬
ра американского общества. Этому способствовал и новый виток
научно-технической революции, радикально менявший всю струк¬
туру занятости, подрывавший потенциальную базу для роста чис¬
ла членов профсоюзов, а следовательно, и возможности для влия¬
ния на политический процесс. Кроме того, массированные про¬
519
граммы 60-70-х гг. по борьбе с бедностью сыграли заметную роль
в сокращении доли лиц с низкими доходами в общем объеме само¬
деятельного населения США. Как это часто бывает, те, кто сумел
за счет этих программ поднять свой социальный статус, теперь
сами превратились в жестких критиков продолжения «вакхана¬
лии траты денег налогоплательщиков» на поддержку тех, кто яко¬
бы не желает трудиться и самим зарабатывать средства для суще¬
ствования. Призывы Р. Рейгана находили у них весьма благоже¬
лательный отклик. Широкую поддержку в американском обще¬
стве получила и весьма агрессивная внешняя политика админис¬
трации. Преодолев «вьетнамский синдром», Америка стала по
любому поводу демонстрировать миру свои мускулы. Борьба за
возрождение «американской мощи» стала важным средством кон¬
солидации общества вокруг президента.
Все эти серьезные сдвиги в общественных настроениях полу¬
чили зримое и весьма весомое воплощение в ходе избирательной
кампании 1984 г., когда Рейган буквально стер в порошок канди¬
дата либеральных сил, демократа У. Мондейла. Особенно впечат¬
ляющим был разрыв в голосах выборщиков: Рейган получил 525
мест в коллегии выборщиков, в то время как Мондейл — всего 13.
Кампания 1984 г. наглядно продемонстрировала, с одной сто¬
роны, мощь «консервативной волны», а с другой — серьезный
кризис либерализма рузвельтовского образца. Не случайно поли¬
тологи в те годы активно обсуждали тему «распада рузвельтовс-
кой коалиции» и формирования нового, теперь уже консерватив¬
ного большинства вокруг республиканской партии. Обоснован¬
ность этих прогнозов во многом зависела от способности демокра¬
тов быстро разработать адекватный ответ на вызов «консерватив¬
ной волны». Первую такую попытку предприняла группа демок¬
ратов во главе с сенатором Г. Хартом. Они попытались адаптиро¬
вать базовые принципы либеральной идеологии к условиям по¬
стиндустриального общества. Задача, однако, оказалась очень не¬
простой, и пока демократы ломали голову над ее решением, рес¬
публиканцы могли чувствовать себя спокойно. Для дальнейшей
дискредитации своих оппонентов они активно использовали их
критику с морально-этических позиций. Их главный аргумент
заключался в том, что либералы настолько абсолютизировали
здравую идею безусловного приоритета прав личности, что в ре¬
зультате в Америке сложилось «общество вседозволенности», в
котором вместо традиционных ценностей процветают наркома¬
ния, преступность, сексуальная распущенность и извращенность.
Все это явно застало врасплох демократов, оказавшихся не¬
способными в 80-е гг. разработать конструктивную альтернативу
мощному наступлению консервативных сил. Благодаря этому са-
520
мая сложная и болезненная фаза перехода к постиндустриально¬
му обществу прошла без крупных социальных потрясений. Кон¬
сервативная часть политической элиты США сумела навязать аме¬
риканскому обществу свой сценарий перехода к постиндустриаль¬
ному обществу и практически полностью контролировала все его
фазы. Соответственно именно она извлекла основные выгоды из
той структурной перестройки, которая проходила в это время. Как
следствие, позиции республиканской партии в политическом про¬
цессе США в 80-е гг. были по существу непоколебимы. Даже уход
Р. Рейгана с активной политической сцены в 1988 г. на первых
порах не изменил ситуацию. Очередным президентом США вновь
стал представитель республиканской партии Дж. Буш.
Конечно, та линия, которую жестко претворял в жизнь Рейган,
наряду с определенными, с точки зрения правящих кругов, плюса¬
ми, несла в себе и известные негативные моменты. Прежде всего,
все большую тревогу внушал неуклонно нараставший бюджетный
дефицит. К концу 80-х гг. он составлял более 150 млрд, долл., а го¬
сударственный долг к концу этой декады достиг огромной суммы —
почти 3 трлн. долл. В перспективе это могло создать весьма серьез¬
ные проблемы и для власти, и для общества в целом. Проблема усу¬
гублялась тем, что, хотя основной источник этих проблем был оче¬
виден — огромные военные расходы, пойти на их сокращение ли¬
деры республиканцев не хотели и не могли. Дело в том, что как раз
в это время перед США стала отчетливо вырисовываться перспек¬
тива победы в «историческом противоборстве» с СССР, и ослаблять
в такой обстановке давление на своего противника, с точки зрения
руководства США, было бы явно нежелательно.
В силу этого перед новым президентом США встала непростая
задача. С одной стороны, ему необходимо было закрепить то соци¬
ально-экономическое статус-кво, которое сформировалось под воз¬
действием подъема «консервативной волны», с другой — не допус¬
тить подрыва социальной стабильности, и, наконец, закрепить до¬
стигнутые США успехи на международной арене. От того, в какой
мере Дж. Бушу удастся решить этот весьма непростой комплекс
разноплановых задач, во многом зависел общий вектор дальнейшего
развития не только США, но и всей западной цивилизации.
§ 3. М. Тэтчер и попытка возрождения
величия Британии
Помимо Соединенных Штатов, «консервативная волна» оказа¬
ла наибольшее воздействие на Великобританию. В этой стране она
ассоциируется с именем М. Тэтчер, ставшей в феврале 1975 г. но-
521
вым лидером английских консерваторов. Она возглавила партию,
когда в стране уже разгорелся самый крупный за всю послевоен¬
ную историю экономический кризис. Он застал врасплох тогдаш¬
нее правительство и отчетливо высветил как слабость теоретичес¬
ких конструкций, так и несостоятельность конкретных планов со¬
циально-экономического развития, вынашиваемых Г. Вильсоном
и его окружением. Падение производства и рост безработицы со¬
провождались прогрессирующей инфляцией. К этому добавился
топливно-энергетический кризис. Для борьбы с последствиями кри¬
зиса лейбористы использовали традиционный набор мер: введение
ограничений на рост зарплаты, повышение налогов на потребитель¬
ские товары, сокращение расходов на социальные цели, получение
внешних займов у МВФ. Эти шаги помогли несколько стабилизи¬
ровать ситуацию, но не давали ответа, какой должна быть долго¬
временная стратегия Англии в новых условиях, порожденных на¬
чавшимися структурными сдвигами и переходом всей западной
цивилизации в фазу постиндустриального общества.
По всей видимости, именно неясность в этом ключевом вопросе
побудила Г. Вильсона в марте 1976 г. неожиданно для большинства
политических аналитиков подать в отставку с поста премьер-ми¬
нистра. Его преемником стал Дж. Каллагэн. Смена руководства
страны не повлекла, однако, резких изменений инструментария,
который использовали лейбористы в своей повседневной деятель¬
ности. Ставка по-прежнему делалась на поддержание «социально¬
го контракта», в основе которого лежало соглашение между прави¬
тельством и БКТ об ограничении претензий на рост заработной пла¬
ты более чем на 10% в год. Однако поддерживать его в условиях
прогрессирующей инфляции становилось все труднее. Уже в 1977 г.
руководство БКТ официально осудило эту практику на своем еже¬
годном съезде. Это был серьезный удар по позициям лейбористов.
Наметилось и сокращение электоральной поддержки лейбо¬
ристов. Это наглядно продемонстрировали состоявшиеся в мае
1977 г. муниципальные выборы, на которых консерваторы суме¬
ли установить контроль над муниципалитетами почти всех круп¬
нейших английских городов, что позволило им оказывать боль¬
шее влияние на общественно-политическую жизнь. К этому же
времени лейбористы утратили абсолютное большинство в палате
общин в результате серии поражений на дополнительных парла¬
ментских выборах. Теперь судьба лейбористского кабинета зави¬
села от способности руководства партии привлечь к поддержке
правительства представителей «малых партий» в парламенте.
Весной 1977 г. лейбористам удалось договориться с депутата¬
ми небольшой фракции либералов о поддержке кабинета Дж. Кал¬
лагэна. В правительство либералы не вошли, но согласились бло¬
522
кироваться с лейбористами в палате общин при голосовании клю¬
чевых мер, и пока этот альянс сохранялся, кабинет Каллагэна мог
чувствовать себя сравнительно спокойно. Проблема, однако, зак¬
лючалась в том, что союз с либералами был весьма непрочным.
Уже осенью следующего года либералы отказались от совместных
действий с лейбористами. Теперь взоры последних обратились на
фракцию Шотландской национальной партии. Еще при Вильсоне
лейбористы высказались за расширение самоуправления Шотлан¬
дии и Уэльса. Однако соответствующий законопроект застрял в
парламенте. Каллагэн рассчитывал, что на основе совместного
проталкивания этого билля через парламент можно сформировать
устойчивый союз с представителями Шотландии в британском
парламенте. Действительно, в 1978 г. правительству удалось про¬
вести данный законопроект через парламент, однако проведение
этих планов в жизнь было поставлено в зависимость от итогов ре¬
ферендума в Шотландии и Уэльсе.
Референдум состоялся в начале 1979 г., и его итоги оказались
для правительства неутешительными: подавляющее большинство
жителей Шотландии и Уэльса отвергли планы Лондона. Исполь¬
зуя это обстоятельство, консерваторы в палате общин поставили
вопрос о вотуме доверия правительству и добились успеха. После
этого были назначены новые парламентские выборы. На них дол¬
гая агония лейбористов получила логическое завершение: они
потерпели крупное поражение, и в мае 1979 г. власть вновь пере¬
шла к консерваторам. Новым премьером стала одна из самых яр¬
ких представительниц «консервативной волны» М. Тэтчер. Таким
образом, Англия раньше, чем США, вступила в период доминиро¬
вания консервативных сил в политическом процессе.
Если в 1979 г. экономическая конъюнктура благоприятство¬
вала планам консерваторов, то уже в 1980 г. Тэтчер пришлось стол¬
кнуться с первым серьезным испытанием: английская экономика
вступила в полосу очередного кризиса. В отличие от лейбористов,
которые в 1974 г. по крайней мере теоретически оказались застиг¬
нутыми кризисом врасплох, консерваторы в 1980 г. в своей дея¬
тельности опирались на достаточно солидный программный доку¬
мент под характерным названием «Правильный подход». Теперь
Тэтчер предстояло на практике доказать, насколько правильны¬
ми были теоретические выкладки консерваторов. Программно¬
целевые установки британских тори (так по традиции называют
консерваторов) резко порвали с кейнсианской парадигмой, ибо в
ее рамках по существу было крайне сложно (критики полагали,
что невозможно) объяснить новые тенденции в развитии макро¬
экономических процессов. В качестве главной цели Тэтчер про¬
возгласила борьбу с инфляцией на основе доктрины монетаризма,
523
которая постулировала жесткую взаимозависимость размера на¬
ционального дохода от массы денег, находящихся в обращении.
Тэтчер, являвшаяся страстной поклонницей этой концепции, ви¬
дела задачу правительства в том, чтобы любой ценой поддержи¬
вать это соотношение в тех рамках, которые, по подсчетам теоре¬
тиков монетаризма, рассматривались как оптимальные.
Используя монетаристский инструментарий, Тэтчер действи¬
тельно сумела в короткий срок более чем в три раза сократить ин¬
фляцию. Правда, в области борьбы с безработицей ее успехи были
куда скромнее. Однако она и не включала эту проблему в число
приоритетных задач своего кабинета. Помимо борьбы с инфляци¬
ей в центре ее внимания оказались вопросы, связанные с регули¬
рованием валютно-финансовой сферы, политика в области цено¬
образования и налогово-кредитная политика. Опять-таки в соот¬
ветствии с монетаристскими рецептами были отменены ограни¬
чения на движение капитала, на размер учетной ставки Английс¬
кого банка и ликвидирован контроль над ценами. Был взят курс
на резкое сокращение присутствия государства в сфере предпри¬
нимательской деятельности. Ряд крупных компаний был передан
в частные руки.
Серьезные изменения произошли в области налоговой поли¬
тики. Общий вектор изменений здесь был направлен в сторону
значительного снижения налогов на прибыль корпораций (с 50 до
35%) и одновременного увеличения косвенного налогообложения.
Пожалуй, единственной отраслью социальных отношений, где
государство увеличило свое присутствие, были трудовые отноше¬
ния. В 1980 и 1982 гг. были приняты два закона, ограничиваю¬
щие права профсоюзов — запрещались стачки солидарности, рез¬
ко сужались возможности мирного пикетирования и, наконец,
отменялось правило «закрытого цеха» (одна из ключевых проф¬
союзных гарантий, обеспечивающая преимущественное право при
приеме на работу для членов тред-юнионов).
Мощное наступление консерваторов на позиции главной элек¬
торальной опоры лейбористов — профсоюзы —- вызвало обостре¬
ние фракционной борьбы в высшем эшелоне оппозиционной (лей¬
бористской) партии. Осенью 1980 г. под напором критики со сто¬
роны своих коллег был вынужден покинуть пост лидера партии
Дж. Каллагэн. Его место занял представитель левого крыла лей¬
бористов М. Фут. Он и его сторонники добились пересмотра про¬
цедуры отбора кандидатов от партии для участия в парламентс¬
ких выборах. Раньше эта важнейшая функция находилась цели¬
ком в руках фракции лейбористов в парламенте. Теперь же ситуа¬
ция кардинально изменилась: у фракции в решении этого ключе¬
вое вопроса оставалось лишь 30% голосов, квота в 30% переда¬
524
валась организациям партий в избирательных округах, а 40% зак¬
реплялось за профсоюзами. Подобная реформа, серьезно меняв¬
шая соотношение сил в партийной элите, вызвала резкое недоволь¬
ство на правом фланге партийного спектра. В итоге от партии от¬
кололась группа деятелей правого толка, объявившая о создании
Социал-демократической партии. Ее возглавил Р. Дженкинс,
взявший курс на формирование альянса с либералами.
Как и в случае с Рейганом в США, внешняя политика М. Тэт¬
чер отличалась высокой агрессивностью. Была сделана ставка на
форсированное наращивание вооруженных сил страны, что вело
к резкой эскалации расходов на военные нужды. Во главу угла
была поставлена задача укрепления «независимых ядерных сил»
Великобритании. При Тэтчер еще большее развитие получили
«особые» отношения с США. Великобритания, безусловно, явля¬
лась важнейшим союзником Вашингтона и сверхактивно поддер¬
живала практически все внешнеполитические начинания Р. Рей¬
гана. Не случайно американский президент выбрал именно Лон¬
дон в качестве того места, где он призвал Запад к организации
«крестового похода» против «империи зла» — СССР.
М. Тэтчер всячески культивировала имперские амбиции в
массовом сознании англичан. Своей кульминации эти тенденции
достигли в 1982 г. в ходе англо-аргентинской войны из-за Фолк¬
лендских островов. Пожалуй, именно в это время Тэтчер достигла
пика своей популярности. Чувствуя это, она решила использовать
«фолклендский фактор» для того, чтобы еще больше укрепить
позиции консервативной партии в парламенте. Досрочные выбо¬
ры, как и ожидалось, принесли крупный успех консерваторам,
получившим в новом составе палаты общин 397 мест. Лейборис¬
ты потерпели крупнейшее в послевоенной истории Англии пора¬
жение: их представительство в парламенте сократилось до 209
мест. 23 депутатских мандата получили представители альянса
социал-демократов и либералов.
Такой исход выборов предопределил смену лидеров и у лейбо¬
ристов, и у социал-демократов. Лейбористов возглавил малоизве¬
стный политик Н. Киннок, социал-демократов — бывший ми¬
нистр иностранных дел Д. Оуэн.
Тэтчер использовала рост своей популярности не только для
укрепления позиции консерваторов в парламенте, но и для раз¬
вертывания нового наступления на профсоюзы. В 1984 г. были
обнародованы планы реструктуризации угольной промышленно¬
сти, предлагавшие закрытие 20 крупных шахт и соответственно
увольнение более 20 тыс. шахтеров. В ответ профсоюз горняков
объявил о начале в марте 1984 г. забастовки по всей стране. Этот
трудовой конфликт отличался исключительной остротой. Съезд
525
БКТ принял специальную резолюцию в поддержку бастующих
шахтеров. Стачки солидарности с шахтерами провели железно¬
дорожники, моряки, докеры, металлурги. Правительство ответи¬
ло введением жестких санкций против профсоюза горняков и его
членов. Участники забастовки подвергались арестам, на профсо¬
юз накладывались крупные штрафы, предпринимались попытки
заморозить его счета, однако забастовка продолжалась. В итоге
противостояние власти и профсоюзов на этом этапе завершилось
компромиссом: правительство смягчило свои планы в отношении
масштабов реструктуризации отрасли, а профсоюзы согласились
завершить забастовку.
Тэтчер, оправдывая свое прозвище «железной леди», ужесто¬
чила политику Лондона в отношении Северной Ирландии. Чис¬
ленность британских войск там была доведена до 30 тыс. Тем не
менее положение в этой части Соединенного королевства продол¬
жало оставаться крайне напряженным и в любой момент грозило
перерасти в кризис.
Взрывоопасная обстановка в Северной Ирландии несколько
омрачала общую благоприятную для консерваторов внутриполи¬
тическую ситуацию. Экономика страны с середины 80-х гг. всту¬
пила в фазу подъема. Темпы ее роста в это время составляли в сред¬
нем 4% в год, заметно увеличилась производительность труда,
активно шло внедрение новейших технологий в производство, что
способствовало росту конкурентоспособности английских товаров
на мировых рынках. Налоговая политика консерваторов стиму¬
лировала приток инвестиций в экономику. Все это привело к рос¬
ту уровня жизни большинства англичан, а это не могло не сказы¬
ваться на их политических симпатиях. Об этом убедительно сви¬
детельствовали результаты опросов общественного мнения.
Отталкиваясь от этих фактов, М. Тэтчер решила пойти на
объявление летом 1987 г. досрочных парламентских выборов.
Накануне их консерваторы развернули массированную пропаган¬
дистскую кампанию, стремясь доказать населению преимущества
той модели социально-экономического развития, которую отста¬
ивала Тэтчер. Чтобы усилить эффект этой кампании, консервато¬
ры незадолго до выборов объявили о снижении подоходного нало¬
га с малого бизнеса. И тем не менее, хотя консерваторы на выбо¬
рах вновь одержали внушительную победу (третью подряд), ее
масштаб был не таким, как тЬго хотелось бы лидерам партии. Лей¬
бористы сумели сохранить свои позиции. В наибольшей мере от
выборов пострадали социал-демократы, которые вскоре прекра¬
тили свое существование.
После выборов Тэтчер достаточно успешно продолжала пре¬
жний курс и к концу 80-х гг. добилась заметного оздоровления
526
всей валютно-финансовой сферы, а это помогло в определенной
мере укрепить положение Англии в системе мирового хозяйства.
Консервативная историография на этом основании утверждает,
что комплекс мер, осуществленных в 80-е гг. под руководством
Тэтчер, знаменовал собой крупный успех всей консервативной
идеологии, подтвердил эффективность монетаризма как основы
экономической политики государства. Однако, наряду с безуслов¬
ными успехами консерваторов, ситуация в Великобритании на
рубеже 80-90-х гг. была отнюдь не такой безоблачной, как это
пытались представить их апологеты.
Стала нарастать инфляция, серьезное недовольство англичан
вызвала реформа местного налогообложения, предусматривавшая
по существу возвращение к, казалось бы, давно отжившему свой
век и дискредитированному самим временем принципу «подуш¬
ного» (вместо прогрессивного) налогообложения, когда налог взи¬
мался без учета размеров дохода. Этот шаг не принес серьезных
экономических выгод, но зато больно ударил по престижу Тэтчер.
В самой консервативной партии появилось новое поколение по¬
литиков, готовых оспорить у Тэтчер лидерство в партии и в стра¬
не, которая постепенно стала просто уставать от ее 10-летнего прав¬
ления. М. Тэтчер, как политик безусловно очень крупного масш¬
таба, тонко чувствовала все оттенки сложных настроений, царив¬
ших в обществе.
Осенью 1990 г. ей пришлось отстаивать свое право руководить
консерваторами в жесткой внутрипартийной борьбе. И хотя она
победила в первом туре, добиться подавляющего перевеса в ходе
голосования она не сумела. Видимо понимая, что ее время прохо¬
дит, М. Тэтчер, не дожидаясь исхода второго тура голосования,
объявила об уходе в отставку с поста премьера. Так на гребне по¬
пулярности «железная леди» ушла из большой политики. Завер¬
шилась 10-летняя «эра Тэтчер» — важный'этап в истории Брита¬
нии, когда осуществился переход страны в фазу постиндустриаль¬
ного общества. На повестку дня выходили иные проблемы, и ре¬
шать их предстояло новому поколению английских политиков.
§ 4. Франция после де Голля: основные
направления социально-политического
развития
После ухода де Голля для Франции наступили не лучшие вре¬
мена. И дело здесь не в том, что у него не оказалось достойных пре¬
емников соответствующего политического калибра. Объективно
Франции, как и всей западной цивилизации, в первой половине
527
70-х гг. пришлось столкнуться с весьма масштабными проблема¬
ми, исходный импульс которым дал экономический кризис, на¬
чавшийся в 1974 г. Резкое ухудшение ситуации в экономике се¬
рьезно сказалось на уровне жизни большинства французов, кото¬
рые ждали от власти и лидеров политических партий ответа на
традиционный в таких случаях вопрос: что делать? Очевидно, что
классические голлистские методы в сложившейся обстановке уже
не давали прежнего эффекта.
Ситуация усугублялась тем, что в апреле 1974 г. неожиданно
скончался президент Франции Жорж Помпиду, которого все рас¬
сматривали как естественного преемника де Голля. Проблема зак¬
лючалась в том, что после де Голля он оставался, пожалуй, един¬
ственным представителем политической элиты, способным кон¬
солидировать центр и правую часть политического спектра. Пос¬
ле его смерти на роль лидера расползающегося голлистского бло¬
ка претендовали два человека — глава независимых республикан¬
цев Валери Жискар д’Эстен и наиболее влиятельный политик соб¬
ственно голлистского толка, бывший премьер-министр Франции
Жак Шабан-Дельмас. Левые силы на выборах выставили единого
кандидата — социалиста Франсуа Миттерана.
Уже первый тур выборов принес неожиданность: лидер гол-
листов Шабан-Дельмас пропустил вперед и Жискар д’Эстена, и
Миттерана и выбыл из дальнейшей борьбы. Это свидетельствова¬
ло о серьезных подвижках в настроениях электората и в общем
раскладе партийно-политических сил. Во втором туре в ходе оже¬
сточенной борьбы победу с минимальным преимуществом одержал
Жискар д’Эстен. Таким образом, впервые в истории Пятой респуб¬
лики важнейший государственный пост в стране занял предста¬
витель не голлистов. Правда, один из молодых лидеров их нового
поколения Жак Ширак получил пост премьера, но ключевые дол¬
жности в правительстве заняли сторонники независимых респуб¬
ликанцев. Таким образом, в истории Пятой республики начался
своеобразный переходный период, когда осуществлялась транс¬
формация классической голлистской модели политической сис¬
темы Франции в некое новое состояние, когда сохранялись ее вне¬
шние параметры, но менялось внутреннее содержание.
Новый президент заявил, что его целью является построение
во Франции «передового либерального общества». Это высказы¬
вание резко контрастировало с той лексикой, которую предпочи¬
тал Ш. де Гол ль, и это свидетельствовало о начавшемся пересмот¬
ре приоритетов, которыми собиралась руководствоваться в своих
действиях власть. В соответствии с этой установкой было провоз¬
глашено, что будет проводиться сокращение объема государствен¬
ного планирования — того элемента, который ранее во многом
528
определял динамику развития французской экономики. Акцент
все больше переносился на чисто рыночные методы управления.
Понимая, что эта корректировка может больно ударить по бла¬
госостоянию значительной части общества, прежде всего тех, кто
находился на нижней части социальной лестницы, правительство
«подсластило пилюлю», пойдя на проведение ряда социальных
реформ: были повышены размеры заработной платы и пенсий,
снижен до 18 лет возрастной ценз для участия в выборах, узаконе¬
ны аборты, что для католической страны имело большое значе¬
ние. Новый президент хорошо понимал, что в стране с сильной
левой традицией реализация любых прямолинейных вариантов
монетаристских концепций чревата серьезными социальными
последствиями. Движение по этому пути, характерному для мно¬
гих западных стран в период перехода к постиндустриальному
обществу, необходимо было сочетать с элементами социального
маневрирования.
Не менее серьезные подвижки произошли и в сфере внешней
политики. В отличие от де Голля, В. Жискар д’Эстен сразу же по¬
шел на улучшение отношений с США, укрепление «атлантичес¬
кой солидарности». Хотя Франция и не вернулась в военную орга¬
низацию НАТО, французские войска стали регулярно участвовать
в учениях НАТО. Второй момент, заметно отличавший внешнюю
политику Жискар д’Эстена от прежней линии~Франции, касался
отношения к перспективам развития «единой Европы», точнее
говоря, к роли наднациональных структур в этом процессе. Если
де Гол ль пытался тормозить рост полномочий этих органов, то
новый президент, наоборот, был горячим сторонником всемерно¬
го поощрения интеграционных тенденций.
Очевидно, что такие серьезные сдвиги в политике государства
не могли не сказаться на партийно-политической системе Фран¬
ции. Можно отметить несколько моментов, характеризующих эти
изменения. Во-первых, довольно отчетливо проявилась тенденция
к упрощению партийной системы и ее биполяризации. Многочис¬
ленные мелкие партии все больше растворялись в двух крупных,
противостоящих друг другу избирательных коалициях: левой и
правой. Во-вторых, внутри каждой из них также произошли оп¬
ределенные сдвиги. В альянсе коммунистов и социалистов, став¬
шем важным фактором политической жизни Франции, на роль
лидера прочно вышли социалисты, укрепившие свои позиции не
только в быстро растущем среднем классе, но и среди рабочих.
Не менее серьезные изменения происходили и в стане правых
сил. Голлистская партия ЮДР, долгое время доминировавшая в
этой среде, после смерти де Голля стала постепенно утрачивать
былое влияние, а после того, как голлисты в 1974 г. утратили пост
529
президента, этот процесс резко активизировался. В середине
70-х гг. ЮДР вступила в полосу глубокого кризиса. В декабре
1976 г. на ее чрезвычайном съезде было принято решение о реор¬
ганизации этой партии в новое объединений — «Объединение в
поддержку республики» (ОПР). Главой новой партии стал Ж. Ши¬
рак. Независимые республиканцы в 1978 г. трансформировались
в «Союз за французскую демократию» (СФД). Обе партии облада¬
ли примерно равным влиянием и видели свою основную миссию в
том, чтобы не допустить перехода власти в руки альянса левых
сил, а такая перспектива вполне реально маячила на политичес¬
ком горизонте.
Наконец, в 70-е гг. в политической системе Франции вновь
возникла ультраправая партия «Национальный фронт» во главе с
бывшим деятелем пужадистов Ж.-М. Ле Пеном. Все социальные
проблемы, с которыми столкнулась в это время Франция, Ле Пен
объяснял наплывом в страну иммигрантов и требовал их высыл¬
ки на историческую родину. Столь жесткий, нерафинированный
национализм в то время шокировал большинство даже консерва¬
тивно настроенных граждан, и тогда казалось, что у «Националь¬
ного фронта» в такой стране, как Франция, нет будущего. Фран¬
цузское общество прежде всего волновал вопрос, сумеет ли поли¬
тическая элита без такого харизматического лидера, как де Голль,
предотвратить приход к власти левых, а если нет, то сумеет ли она
прочно интегрировать их в существующую систему социально-
экономических отношений.
В мае 1981 г. состоялись очередные выборы президента Фран¬
ции. В начале избирательной кампании жесткую борьбу между
собой вели 4 кандидата — В. Жискар д’Эстен, Ж. Ширак, Ф. Мит¬
теран и Ж. Марше. Каждый из них решил в первом туре бороться
за победу, опираясь только на собственный ресурс. Однако в оди¬
ночку никто из них не сумел добиться победы. Во втором, решаю¬
щем туре друг другу противостояли Жискар д’Эстен и Миттеран.
В итоге страна отдала предпочтение кандидату левых сил. Впер¬
вые в истории Пятой республики президентом стал соццадису
Ф. Миттеран.
Сложилась необычная для Франции ситуация «разделенного
правления», когда исполнительная и законодательная власть на¬
ходились под контролем противоборствующих политических сил.
Тогда, воспользовавшись правами, которые ему давала Конститу¬
ция, новый президент распустил парламент и назначил новые
выборы. Они принесли большой успех партии президента, т.е. со¬
циалистам, которые теперь получили абсолютное большинство в
Национальном собрании. Что касается коммунистов, то они все
больше превращались в младшего партнера социалистов. Теперь
530
президент мог без помех сформировать устраивающее его прави¬
тельство. Его возглавил видный деятель социалистической партии
П. Моруа. 4 места в правительстве (из 44) получили коммунисты.
Это лишний раз подчеркивало то место, которое отводили социа¬
листы своим партнерам в новом раскладе сил.
Переход власти в руки социалистов означал новый поворот в
развитии политической системы Франции. Социалисты не стали
ставить вопрос о пересмотре положений Конституции
V республики. Тем самым они как бы подчеркивали, что общие
правила игры остаются прежними. Однако, используя их, социа¬
листы попытались предложить свой сценарий развития страны,
изменить приоритеты, которыми руководствовались прежние эли¬
ты. Если В. Жискар д’Эстен, стремясь придать новый импульс
французской экономике, делал ставку на стимулирование рыноч¬
ных механизмов, то социалисты видели панацею в создании «со¬
циально ориентированной рыночной экономики», отводя главную
роль в этом процессе государству.
Уже в 1981 г. началась интенсивная национализация крупней¬
ших банков. К концу 1982 г. под контроль государства было по¬
ставлено 13 ведущих монополистических групп. Государство ста¬
ло почти полностью контролировать всю кредитную систему, боль¬
шую часть авиационной и ракетной промышленности, а также
металлургическую и химическую промышленность. Франция ста¬
ла самой крупной на Западе страной по масштабам государствен¬
ного сектора в экономике. Были проведены крупные реформы в
области налоговой политики: для низкодоходных групп населе¬
ния были сделаны серьезные послабления, вплоть до отмены по¬
доходного налога с беднейших слоев населения, и, наоборот, вве¬
ден дополнительный налог на крупные состояния. Был снижен до
60 лет пенсионный возраст, увеличены размеры пенсий и продол¬
жительность отпусков, поднят минимум заработной платы.
Комплекс этих мероприятий вызвал неоднозначную реакцию
во французском обществе. В целом она была вполне предсказуе¬
ма. Не ясны были только два момента: во-первых, каким образом
противодействовать сопротивлению крупного капитала, и, во-вто¬
рых, как эти реформы скажутся на общей динамике развития эко¬
номики. Ответ на оба вопроса был неблагоприятным для социали¬
стов. По мере нарастания реформ увеличивалось бегство капита¬
ла за рубеж, прежде всего в Швейцарию. Уже к концу первого года
реформ из страны было вывезено около 80 млрд, франков, или 10%
национального достояния. Найти действенные рецепты против
этого правительство Моруа не смогло. Не произошло и оживления
экономики, инфляция набирала обороты, падал курс французс¬
кой валюты. В первой половине 80-х гг. правительство четыре раза
531
девальвировало франк. Все это не только обесценивало проведен¬
ные реформы в глазах населения, но ставило под вопрос само про¬
должение начатых преобразований.
Социалисты оказались перед дилеммой: либо ради продолже¬
ния реформ пойти на принятие более жестких мер в отношении
крупного капитала, либо резко затормозить поступь реформ. В
первом случае неизбежна была резкая поляризация общества (по
меркам современной западной цивилизации вещь совершенно не¬
приемлемая), во втором — социалисты рисковали подорвать свои
позиции среди электората, традиционно поддерживавшего
партию. Ф. Миттеран выбрал второй путь. Уже в 1983 г. было
объявлено о переходе к политике жесткой экономии. Были отбро¬
шены все разговоры о «разрыве с капитализмом» и даже о новых
реформах. Социалисты все больше втягивались в то политическое
русло, по которому пролегало тогда магистральное направление
развития западной цивилизации. «Консервативная волна», прав¬
да с некоторым опозданием, начинала свой разбег, готовясь зах¬
лестнуть и Францию.
В такой обстановке в марте 1986 г. во Франции состоялись
очередные парламентские выборы. Они завершились крупным
поражением левых партий — социалистов и коммунистов. Их оп¬
поненты с правого фланга шли на выборы под лозунгом «Пяти
лет социализма достаточно». Предыдущие неудачи социалистов
сделали свое дело: несмотря на то, что во Франции традиционно
было сильно влияние левых идей, на этот раз консерваторы су¬
мели серьезно дискредитировать их, и это принесло им успех.
Поскольку в Национальном собрании большинством стали обла¬
дать правые, то им и было поручено сформировать новое прави¬
тельство, которое возглавил лидер ОПР Ж. Ширак. Во Франции
вновь сложилась ситуация «разделенного правления», или, по
французской терминологии, «сожительства»: левый президент
сосуществовал с правым правительством и парламентом, где до¬
минировали опять-таки консервативные силы. Завершая разго¬
вор об итогах этих важнейших выборов, следует сказать, что про¬
зябавшая в 70-е гг. в политической безвестности крайне нацио¬
налистическая партия «Национальный фронт» на них получила
почти 10% голосов, т.е. почти столько же, сколько и ФКП, еще
недавно являвшаяся одной цз ведущих сил а партийнр-цолити-
ческой системе Франции.
Такие резкие зигзаги в политическом развитии Франции весь¬
ма болезненно отразились на хозяйственной жизни страны. Жак
Ширак попытался круто развернуть вектор развития экономики.
Уже в 1986 г. началась форсированная денационализация бывшей
государственной собственности, причем в эту категорию попали
532
не только те предприятия, которые были национализированы в
первой половине 80-х гг., но и те, которые вошли в состав госсек¬
тора еще в 1944-46 гг. В области налоговой и кредитной полити¬
ки, а также в плане регулирования ценообразования Ширак дей¬
ствовал в основном по тем же рецептам, что и М. Тэтчер и Р. Рей¬
ган, но, в отличие от них, ощутимых положительных результатов
он поначалу не добился.
Естественно, такой опытнейший политик, как Ф. Миттеран,
немедленно попытался воспользоваться трудностями, с которы¬
ми столкнулось правительство Ширака. Он постарался превратить
намеченные на весну 1988 г. президентские выборы в своеобраз¬
ный вотум доверия экономической политике своего конкурента.
И это ему удалось. Избиратели, разочарованные тем, что Ширак
не сумел на посту премьера добиться результатов, сопоставимых с
достижениями консерваторов в других странах Запада, предпоч¬
ли ему Миттерана, в котором видели разумного арбитра между
слабеющими левыми и набиравшими силу ультраправыми («На¬
циональный фронт»).
Добившись победы на президентских выборах, Ф. Миттеран
закрепил свой успех и на парламентских. Национальное собра¬
ние, в котором после 1986 г. господствовали сторонники Шира¬
ка, было распущено. На новых выборах больше всего мест опять
получили социалисты. Однако на сей раз Миттеран изначально
не пытался проводить крупные социальные эксперименты. В со¬
ответствии со взятой им на себя в ходе выборов ролью арбитра
между крайностями левых и правых он заявил, что будет руко¬
водствоваться принципом «ни приватизации, ни национализа¬
ции». Но и этот средний курс не обеспечил подъема французс¬
кой экономики. Франция никак не могла вписаться в постинду¬
стриальное общество.
В общественном мнении Запада, в том числе и Франции, все
более прочным становился стереотип, согласно которому успеш¬
но развиваться в условиях постиндустриального общества можно
было только опираясь на рецепты нового поколения консервато¬
ров. В 80-90-е гг. этот стереотип стал мощным фактором, действо¬
вавшим против левых даже умеренного толка. По крайней мере
так было в странах западной цивилизации и тех государствах,
которые ориентировались на эти ценности. Франция не стала ис¬
ключением. Несмотря на многочисленные зигзаги в ее развитии,
общий вектор эволюции французского общества в последней чет¬
верти XX в. неуклонно смещался вправо, приближая конец пре¬
жней политической эпохи.
Стареющему Ф. Миттерану все труднее удавалось удерживать¬
ся на плаву. По престижу социалистов больно ударили разгорев¬
533
шиеся в 1993 г. скандалы, связанные с финансовой деятельнос¬
тью премьер-министра П. Береговуа. Они достигли такого нака¬
ла, что премьер, не выдержав психологического давления, покон¬
чил жизнь самоубийством. Проходившие на таком фоне выборы в
Национальное собрание, как и следовало ожидать, принесли ог¬
ромный успех правым, под контроль которых перешло абсолют¬
ное большинство мест в парламенте. Вновь во^цицла ситуация
♦ разделенного правления ».
Однако на этот раз правые, контролировавшие и правитель¬
ство, и парламент, сумели переломить экономическую ситуацию
в свою пользу. Правительство Э. Балладюра, используя тот же
экономический инструментарий, что и Тэтчер и Рейган в 80-е гг.,
в короткий срок добилось ощутимых результатов: была сбита ин¬
фляция, возросли темпы роста промышленного производства, ог¬
раничен въезд иммигрантов в страну, что позволило сократить
безработицу. Миттеран, в это время уже тяжело больной, по су¬
ществу ничего не мог противопоставить Балладюру. Ситуация усу¬
гублялась тем, что в лагере социалистов не было политика такого
масштаба, как Ф. Миттеран. Любой его преемник был заведомо
слабей Балладюра и Ширака. Процесс трансформации Пятой рес¬
публики неизбежно приближался к завершению. Точку в этом
процессе поставили президентские выборы 1995 года, на которых
победу одержал Ж. Ширак.
§ 5. ФРГ: на пороге постиндустриального
общества
Так же как и другие ведущие страны Запада, ФРГ в середине
70-х гг. столкнулась с серьезными трудностями, вызванными со¬
впадением в 1973-75 гг. энергетического, циклического, валют¬
но-финансового и структурного кризисов, ознаменовавших собой
начало перехода страны в качественно новую фазу развития. Как
и другие ведущие страны Запада, ФРГ в это время уже стояла на
пороге постиндустриального общества. В этой сложной, не имев¬
шей аналогов ситуации перед правительством встали трудно раз¬
решаемые задачи — обуздать инфляцию и при этом не использо¬
вать жесткие ограничительные меры против бизнеса, сократить
безработицу, не покушаясь на права профсоюзов.
Сменивший Вилли Брандта на посту канцлера Гельмут Шмидт
уже в декабре 1974 г. был вынужден объявить о коррекции пра¬
вительственного курса в связи с принятием антикризисной про¬
граммы. Для поощрения инвестиций в экономику правительство
устанавливало заметные скидки (до 7,5%) на корпоративный на¬
534
лог. Предполагалось, что эта мера будет способствовать росту де¬
ловой активности, однако в условиях кризиса бизнесмены не спе¬
шили вкладывать новые средства в реальный сектор экономики.
Затем по инициативе министра экономики, члена партии свобод¬
ных демократов О. Ламбсдорфа был принят «Закон об улучшении
бюджета», предусматривавший значительные сокращения ассиг¬
нований на социальную сферу.
Надо сказать, что, несмотря на принятие ряда непопулярных,
с точки зрения трудящихся, мер, социал-демократам удалось удер¬
жать рабочее движение под своим контролем и сохранить в целом
хорошие отношения с руководством ОНП (Объединение немецких
профсоюзов). Этому способствовало то, что долгое время в ФРГ
сохранялся один из самых высоких в Европе уровень жизни и
высокая степень социальной защиты трудящихся. Однако кризис
внес в эту благостную картину новую струю. В конце 70-х гг. впер¬
вые в послевоенной истории реальная заработная плата стала сни¬
жаться. В самом начале 80-х гг., в то время, когда кресло канцле¬
ра занимал социал-демократ, были приняты законы, разрешавшие
предпринимателям локаут и устанавливавшие новый порядок за¬
полнения вакантных мест, ухудшавший условия поиска новой
работы для тех, кто ее потерял. В 1982 г. были заметно сокраще¬
ны статьи бюджета, которые предназначались для помощи моло¬
дым семьям. Все это не могло не вызвать определенного охлажде¬
ния в отношениях социал-демократов и профсоюзов. Тем не ме¬
нее, рабочее движение в ФРГ так и не стало сколько-нибудь мощ¬
ным фактором давления на власть, безусловно отдавая приоритет
сотрудничеству с властью.
Роль возмутителя общественного спокойствия в 70-х — нача¬
ле 80-х гг. взяло на себя так называемое движение «зеленых».
Сформировавшись на базе движения гражданских инициатив, оно
в 1980 г. трансформировалось в политическую партию. Уже в
1983 г. ее представители получили 27 мест в бундестаге. В основе
программы новой партии лежали многочисленные экологические
проблемы, которые все больше осложняли развитие всей челове¬
ческой цивилизации. В партии поначалу объединялись преиму¬
щественно студенческая молодежь, представители новых средних
слоев, остро ощущавшие новые вызовы западной цивилизации.
Пожалуй, наиболее популярным лидером партии в это время была
П. Келли, которую за фанатичную преданность идее создания эко¬
логически чистого общества нередко называли «современной Жан¬
ной д’Арк».
«Зеленые» привнесли в политическую жизнь ФРГ немало све¬
жих идей. Их лидеры полагали, что в основе современного обще¬
ства должна лежать идея прямой демократии. В соответствии с
535
этим они резко критиковали идеи представительной демократии,
считая, что они ведут к отчуждению человека от власти, деформи¬
руя современную западную цивилизацию. Отсюда достаточно же¬
сткое неприятие всех атрибутов той модели политической систе¬
мы, которая утвердилась в ведущих странах Запада. В этот спи¬
сок попадали и партии. Не случайно сами «зеленые» называли себя
«антипартийной партией».
Чтобы избежать интеграции своих депутатов в существующую
политическую систему, «зеленые» ввели принцип постоянной ро¬
тации. Правда, через некоторое время он как-то незаметно пере¬
стал действовать. Другое новшество заключалось в том, что зарп¬
лата депутата от «зеленых» не должна была превышать зарплаты
квалифицированного рабочего, т.е. 2 тыс. марок. Излишки сдава¬
лись в партийную кассу. Наконец, голосование фракции должно
было быть солидарным и ее позиция определялась общим реше¬
нием всей фракции. Среди «зеленых» быстро обозначились два
идейных течения: ортодоксальное, ставившее во главу угла сугу¬
бо экологические проблемы, жестко противостоящее любым по¬
пыткам интеграции партии в существующую политическую сис¬
тему, и социал-реформистское, выступавшее за сотрудничество с
СДПГ и предлагавшее не ограничивать свою деятельность только
экологической тематикой, а добиваться совершенствования всей
системы общественных отношений.
Что касается СДПГ, то на рубеже 70-80-х гг. большая часть
ее руководства испытывала скептицизм в отношении совмест¬
ных действий с «зелеными». Предпочтение явно отдавалось про¬
веренному альянсу со свободными демократами. Правда, по
мере обострения экономической ситуации в «малой коалиции»
стали возникать все более серьезные трещины, вызванные раз¬
ностью мнений относительно способов, которые следовало ис¬
пользовать для преодоления возникших социально-экономичес¬
ких проблем. Стремительно набиравшая размах во всех запад¬
ных странах «консервативная волна» стала оказывать все боль¬
шее воздействие на менталитет и руководителей, и рядовых сто¬
ронников партии свободных демократов. Они добивались, что¬
бы в своей социально-экономической политике правительство
в большей мере уповало на действие рыночных механизмов, а
не на государственное регулирование социально-экономических
отношений.
Руководство СДПГ попало в сложную ситуацию. С одной сто¬
роны, без поддержки своих партнеров по «малой коалиции» соци¬
ал-демократы не могли рассчитывать на реализацию своих пла¬
нов. Эта ситуация обусловливала необходимость поиска компро¬
миссов. С другой стороны, рам^си этих поисков были ограничен¬
536
ными, ибо социал-демократы не могли согласиться на серьезный
демонтаж созданной ранее социальной инфраструктуры без угро¬
зы подрыва своей электоральной базы.
В конкретной ситуации тех лет в руководстве СвДП росло же¬
лание расторгнуть альянс с социал-демократами и попытать счас¬
тья в союзе с ХДС/ХСС, чьи программно-целевые установки по
своему духу все более соответствовали новым программным тре¬
бованиям свободных демократов. В ходе выборов 1980 г. создать
новую коалицию большинства помешала одиозная для многих
свободных демократов личность тогдашнего лидера ХДС/ХСС
Ф. Й. Штрауса. В тот момент и социал-демократы, и свободные
демократы сочли за лучшее на время сохранить старую коалицию,
которая вновь принесла им успех. Этот «брак по расчету» оказал¬
ся, однако, несчастливым и недолговечным. Уже осенью 1980 г.
еще больше осложнилась экономическая ситуация. Настоящий
шок в стране и особенно в политической и экономической элите
вызвал крах одной из крупнейших в мире электротехнических
компаний «АЭГ-Телефункен». Он в глазах делового мира как бы
символизировал крах всей прежней экономической политики вла¬
стей. Не случайно именно тогда министр экономики О. Ламбсдорф
провозгласил: «В нынешних условиях государство уже не может
играть ту роль, которую оно выполняло ранее». А лидеры оппози¬
ции во всеуслышание заявили о полном идейном истощении пре¬
жней правительственной коалиции.
Правящая коалиция, правда, пережила эту непростую ситуа¬
цию, ибо ее участники хорошо понимали, что разрыв альянса в
это время спровоцирует острейший политический кризис, а это
усугубит положение дел. Политическим аналитикам в ФРГ тем
не менее становились все очевиднее две вещи. Во-первых, «малая
коалиция» обречена, ее распад неизбежен в ближайшем будущем.
Во-вторых, «консервативная волна», уже захлестнувшая США и
Англию, вот-вот захлестнет и ФРГ. Этот прогноз начал подтверж¬
даться уже в 1982 г., когда в ходе обсуждения очередного ежегод¬
ного бюджета министр экономики Ламбсдорф фактически поста¬
вил перед СДПГ ультиматум, требуя сокращения социальных рас¬
ходов на 50 млрд, марок. Против этого крайне резко выступили
профсоюзы, подчеркнув, что они не одобряют альянса социал-де¬
мократов с такими партнерами, как свободные демократы. Те не
стали ждать реакции руководства СДПГ, в сентябре 1982 г. объя¬
вили о выходе из правительства Г. Шмидта и начали переговоры с
ХДС о создании коалиции большинства. 1 октября 1982 г. бундес¬
таг вынес вотум недоверия Г. Шмидту. Новым канцлером стал
председатель ХДС Гельмут Коль. Таким образом, те социальные
силы, которые ассоциировались с «консервативной волной», до¬
537
бились успеха и в ФРГ. Этот успех был закреплен на выборах
1983 г., когда ХДС/ХСС вместе со своим союзником СвДП полу¬
чили почти 57% голосов избирателей.
Западногерманским консерваторам в значительной мере по¬
везло. Они пришли к власти, когда наиболее тяжелая фаза эконо¬
мических неурядиц осталась позади. Началась повышательная
фаза экономического цикла, а в конце 80-х гг. страна уже пере¬
живала мощный хозяйственный бум. Естественно, консерватив¬
ные силы объясняли его сменой экономической парадигмы, кото¬
рой руководствовалось государство.
Действительно, в политике нового правительства произошли
существенные изменения по сравнению с тем, что делали социал-
демократы в предшествовавший период. Во главу угла была по¬
ставлена задача создания максимально благоприятных условий
для развития предпринимательской деятельности. Как и в других
странах Запада, в ФРГ была проведена крайне выгодная бизнесу
налоговая реформа. Весьма полезным для немецких предприни¬
мателей оказалось снижение в два раза амортизационных сроков.
Немецкий бизнес с энтузиазмом встретил все эти изменения в эко¬
номической политике. Важно отметить, что инвестиции в это вре¬
мя шли прежде всего в новые отрасли, находившиеся на переднем
плане научно-технического прогресса, а они уже тянули за собой
всех остальных. Наметилась устойчивая тенденция к росту про¬
изводительности труда, что благотворно сказалось на динамике
роста заработной платы.
В этой обстановке сокращение бюджетных расходов на соци¬
альные цели было встречено достаточно спокойно, ибо благопри¬
ятная экономическая ситуация позволяла поддерживать высокий
уровень жизни и без широкомасштабного вмешательства в соци¬
альную сферу. Этому способствовали и давние традиции социаль¬
ного партнерства бизнеса и профсоюзов. В новых условиях в эту
схему были внесены серьезные новации. Предприниматели стали
активно внедрять в трудовые отношения так называемые модели
« гибкого рабочего времени », позволявшие проводить селективную
политику в отношении персонала, работавшего на данном пред¬
приятии, а это снижало значение коллективных тарифных согла¬
шений. Эта практика, выгодная прежде всего высококвалифици¬
рованным лицам наемного труда, как показала реальная действи¬
тельность, стала хорошим стимулом для повышения производи¬
тельности труда.
Безусловно, даже в этой в целом благоприятной для ХДС об¬
становке у консерваторов было немало проблем. Много нетради¬
ционных вопросов подняли на повестку дня «зеленые», доставляв¬
шие в 80-е гг. серьезные хлопоты властям. Переход ФРГ в стадию
538
постиндустриального общества также порождал немало новых, не
имевших ранее аналогов проблем, на которые по сути дела ни у
кого не было ответа. Естественно, что не собирались складывать
оружие и основные соперники ХДС — социал-демократы, актив¬
но искавшие те болевые точки в политике ХДС, которые можно
было бы использовать для борьбы с правительством. Большое вни¬
мание социал-демократы 80-х гг. уделяли поиску новых методов
работы со средними слоями, видя в них резерв для расширения
электоральной базы партии. Руководство ХДС прекрасно понима¬
ло, какие проблемы уже в ближайшем будущем у него могут воз¬
никнуть в связи с этим, и, в свою очередь, думало о контрходах в
борьбе за средний класс.
Трудно сказать, как бы дальше разворачивались события на
внутриполитической арене ФРГ, как складывалось бы противо¬
стояние консервативных сил с социал-демократами, если бы в ФРГ
«консервативная волна» не получила мощный импульс извне. Во
второй половине 80-х гг. биполярная система вступила в фазу кри¬
зиса. Позиции СССР стали стремительно слабеть, и у Запада по¬
явился шанс на вытеснение его из Восточной Европы, в том числе
и из ГДР. В такой ситуация вопрос о воссоединении Германии
встал в новой плоскости.
Г. Коль прекрасно понял и оценил перспективы, которые от¬
крывались в этой обстановке и перед ним, и перед его партией,
и перед всей Германией. С исключительной энергией он и его
окружение взялись за проработку различных сценариев воссо¬
единения Германии. Однако действительность превзошла самые
радужные ожидания канцлера. Советское руководство во главе
с М. С. Горбачевым по существу без всяких условий сдало пози¬
ции в этом важнейшем стратегическом регионе. После этого
судьба ГДР была предрешена, и Коль вошел в историю как че¬
ловек сумевший решить сложнейшую задачу послевоенных
международных отношений — вновь объединить Германию.
Помимо огромных внешнеполитических, социально-экономи¬
ческих и иных последствий и для Германии, и для всего мира,
это событие имело весьма значительные последствия и для су¬
деб «консервативной волны» в Германии. Авторитет Коля —
безусловного политического лидера немецких консерваторов —
в результате этих событий в глазах немцев поднялся на недося¬
гаемую высоту. По крайней мере на ближайшие 7-8 лет любо¬
му немецкому политику было крайне сложно бросить весомый
вызов действующему канцлеру. А это означало, что тот поли¬
тический курс, который был изначально взят Г. Колем за осно¬
ву, будет продолжаться с той же последовательностью и твер¬
достью, чщ и рацаде.
539
§ 6. «Консервативная волна»
по-итальянски
Как и другие западные страны, Италия в полной мере испыта¬
ла воздействие кризиса 1974-75 гг. По темпам роста стоимости
жизни она вышла на первое место среди наиболее развитых стран.
Не удивительно, что 70-е гг. были отмечены ростом социальной
нестабильности, которая порой грозила подорвать основы суще¬
ствующего правопорядка. Италию буквально захлестнула волна
терроризма, в которой причудливо переплетались вылазки ульт¬
ралевых и ультраправых экстремистских групп, а то и просто от¬
кровенно мафиозных сообществ. К концу 70-х гг. в Италии, по
данным правоохранительных органов, насчитывалось более 150
экстремистских организаций.
Социальная нестабильность вела к политической чехарде.
Власти явно не имели сил для того, чтобы прочно взять ситуацию
под контроль. В 1976 г. разразился очередной политический кри¬
зис, приведший к роспуску парламента и объявлению досрочных
выборов, ставших важным рубежом в процессе трансформации
итальянского общества.
Результат их выглядел как весьма неприятный сюрприз для
консервативных сил. Хотя ХДП и собрала почти 39% всех голо¬
сов, почти вровень с ними выступили коммунисты, получившие
34% голосов. Обозначилась новая тенденция к своеобразной би¬
поляризации партийно-политической системы страны, когда мел¬
кие партии стали быстро терять электорат, концентрировавший¬
ся вокруг двух противостоящих друг другу партий. При новом
раскладе сил вопрос о формировании правительства в решающей
мере зависел от того, какую позицию займут представители ком¬
мунистов в парламенте. После сложных переговоров договори¬
лись, что будет создано однопартийное правительство из христи¬
анских демократов, а остальные партии при голосовании о дове¬
рии ему воздержатся. По Конституции в таком случае считалось,
что вотум доверия получен.
Однако формирование такого правительства в условиях, ког¬
да страна переживала серьезный кризис, не давало шансов найти
развязку проблем, связанных с его преодолением. Поэтому ХДП
и партии из «коалиции воздержавшихся» вскоре пришли к согла¬
шению о проведении политики «национальной солидарности». В
соглашении были оговорены те проблемы, по которым участники
договора обязывались сотрудничать друг с другом. Сюда включа¬
лись борьба с терроризмом, меры, направленные на снижение без¬
работицы, демократизация армии, полиции, секретных служб,
обеспечение большей доступности высшего образования, а глав¬
540
ное, разработка комплекса мер по стабилизации экономического
положения. Несколько позднее, в марте 1978 г., партии из «коа¬
лиции воздержавшихся» перешли к прямой поддержке правитель¬
ства без вхождения в него. Тем не менее политической стабильно¬
сти это не принесло. В Италии было достаточно сил, не заинтере¬
сованных в стабилизации, по крайней мере на такой основе.
Весной 1978 г. страна была взбудоражена событиями, связан¬
ными с похищением, а затем и убийством видного итальянского
политика, председателя ХДП Альдо Моро. Пока бушевали страс¬
ти вокруг дела А. Моро, вспыхнул новый скандал, вызванный тем,
что достоянием гласности стали факты о коррупции в высших
эшелонах власти. Президент республики Дж. Леоне оказался за¬
мешан в деле о подкупе высших должностных лиц американской
компанией «Локхид». Под давлением критики президент был
вынужден уйти в отставку. На его место был избран известный
деятель социалистической партии, участник движения Сопротив¬
ления А. Пертини.
Все эти события отнюдь не способствовали стабилизации эко¬
номической ситуации. В связи с этим возникал вопрос об эффек¬
тивности политики «национальной солидарности». Каждый из ее
участников, естественно, задумывался над тем, что она дает его
партии.
Прежде всего, эти размышления охватили руководство двух
главных партий Италии — ХДП и ИКП. Точка в этой дискуссии
была поставлена весной 1979 г., когда правительство без консуль¬
тации с ИКП приняло ряд важных шагов — о вступлении в евро¬
пейскую валютную систему и о кандидатурах руководителей го¬
сударственных корпораций. Эти решения, имевшие важное эко¬
номическое значение, стали той каплей, которая переполнила
чашу терпения руководства ИКП, которое и без того все больше
склонялось к мнению об ошибочности политики «национальной
солидарности». ИКП перешла в оппозицию.
Летом 1979 г. были назначены досрочные парламентские вы¬
боры. Их итоги показали, что обе главные партии Италии — и
ХДП, и ИКП — потеряли часть своего электората. В большей мере
пострадали коммунисты. Зато несколько укрепили свои позиции
социалистическая партия и стоявшая на ультралевых позициях
радикальная партия. Результаты выборов дали богатую пищу для
размышлений о перспективах развития политической системы
Италии. В этой связи многие аналитики обращали внимание на
попытки нового лидера итальянских социалистов Беттино Крак-
си превратить свою партию в реальную альтернативу прежним
лидерам политической системы и найти некий «третий путь», от¬
личный от тех, которые отст$и9ЦДи рти партии.
541
Исход спора итальянских партий в решающей мере зависел
от ситуации в экономике. С одной стороны, в этой сфере в Ита¬
лии происходили те же процессы, что и в других наиболее разви¬
тых странах Запада, т.е. шла ее трансформация в качественно
новую фазу, которую окрестили постиндустриальным обществом.
С другой стороны, специфика Италии заключалась в том, что эти
процессы охватили преимущественно Центр и Север страны. Юг
по-прежнему во многом выпадал из общей схемы развития госу¬
дарства.
Крупные сдвиги в социально-экономической структуре ита¬
льянского общества сопровождались и сменой приоритетов, кото¬
рые определяли его менталитет и систему ценностей, господство¬
вавшую в общественном сознании. Поскольку традиционные по¬
литические партии далеко не всегда успевали вовремя реагировать
на вызовы времени, в Италии, как и в ряде других стран Запада, в
это время достаточно широкое распространение получили движе¬
ния гражданских инициатив, прежде всего «зеленые». В то же
время росло недоверие к политическим партиям, как к объедине¬
ниям, не отражающим адекватно общественные потребности, ра¬
ботающим на себя. Отсюда такое необычное для Италии явление,
как абсентеизм (т.е. нежелание участвовать в выборах). В этих
тенденциях содержался зародыш будущего кризиса итальянской
партийно-политической системы.
Многое в дальнейшем развитии событий зависело от реакции
самих партий на вызовы времени. События показали, что в Ита¬
лии, в отличие от США, Англии и ФРГ, не оказалось партии, спо¬
собной взять на себя роль локомотива в реализации программно¬
целевых установок нового поколения консерваторов, вынесенных
на авансцену политической жизни «консервативной волной».
ХДП не сумела взять на себя роль единоличного лидера в этом
процессе. Она оказалась по многим параметрам просто не готовой
к выполнению этой миссии.
В силу этого задачу осуществления «консервативной револю¬
ции» взяла на себя созданная в 1981 г. коалиция из пяти партий —
ХДП, либералов, республиканцев, ИСДП и ИСП. Коалиция весь¬
ма пестрая и разнородная, и в этом таилось много проблем для ре¬
ализации задуманной консерваторами перестройки общества.
Наиболее неожиданным стало появление в этой коалиции ИСП —
партии, традиционно считавшейся достаточно левой. Поиски «тре¬
тьего пути» привели итальянских социалистов в стан тех, кто со¬
всем недавно считался их главными политическими оппонента¬
ми. Социалисты под руководством Б. Кракси настолько перестро¬
ились, что стали претендовать на роль если не политического, то
идейного лидера консервативной коалиции.
542
Именно эта коалиция начала реализовывать выдержанную в
консервативном духе антикризисную программу. Первой провер¬
кой для новой коалиции стали парламентские выборы 1983 г. В
целом она сохранила те позиции, которыми обладала до выборов.
Однако внутри нее произошли известные подвижки. ХДП по ито¬
гам выборов недосчиталась более 5% голосов, зато заметно укре¬
пили свои позиции социалисты. Их влияние выросло настолько,
что пост главы новогр коалиционного правительства был отдан их
лидеру Б. Кракси.
Своеобразным тестом для нового правительства стал вопрос
о подвижной шкале заработной -платы. В 1984 г. Кракси, идя
навстречу требованиям предпринимателей, ввел ограничения на
действие этой шкалы. Это решение правительства вызвало рез¬
кое обострение внутренних противоречий в профсоюзном дви¬
жении Италии. Итогом внутренних коллизий стал раскол со¬
зданной еще в 1972 г. единой федерации профсоюзов. Компар¬
тия Италии, имевшая сильное влияние в этой организации, по¬
пыталась предотвратить такое развитие событий. В 1985 г. по
инициативе ИКП был проведен общенациональный референдум
по отношению к пересмотру подвижной шкалы. Однако боль¬
шинство участников референдума поддержало инициативу
Б. Кракси.
Социально-экономическая политика Б. Кракси строилась в
соответствии с общепринятыми тогда в консервативной среде ка¬
нонами: началась распродажа предприятий государственного сек¬
тора, сокращались бюджетные расходы на социальные цели, шла
подготовка к передаче школьного образования, системы пенсион¬
ного обеспечения и медицинского обслуживания в руки частных
владельцев. Ход консервативной перестройки в Италии серьезно
осложнялся тем, что, как и во Франции, планам консерваторов
противодействовала достаточно мощная левая оппозиция, да и
самой консервативной коалиции не хватало единства. Италию по-
прежнему отличала политическая нестабильность. Поэтому все
чаще стали раздаваться призывы к модернизации политической
системы страны с целью придания ей большей устойчивости. Осо¬
бенно острой критике со всех сторон подвергался принцип пропор¬
ционального представительства партий в парламенте. Именно в
нем все больше стали видеть основной источник частых правитель¬
ственных кризисов.
К середине 80-х гг. стало очевидным, что партийно-политичес¬
кая система Италии вступила в полосу кризиса. Старые полити¬
ческие партии переживали серьезные внутренние неурядицы. Осо¬
бенно глубокими они оказались в ИКП. В итоге дело завершилось
тем, что в 1991 г. эта некогда вторая по величине партия Италии
543
перестала существовать. Вместо нее возникли две организации —
Демократическая партия левых сил и Партия коммунистическо¬
го возрождения.
С роспуском ИКП исчез основной исторический противник
ХДП, и данное обстоятельство, как это ни парадоксально, весьма
болезненно отразилось на самой крупной партии Италии. Долгое
время в глазах значительной части итальянского общества ХДП
являлась главным гарантом против прихода к власти коммунис¬
тов, и в силу этого ей готовы были прощать ее многочисленные
недостатки (коррумпированность, чрезмерную зависимость от
США, связи с преступным миром, узость и архаичность идейной
базы). ХДП ненадолго пережила своего основного соперника и
вскоре также раскололась. Под каток коррупционных скандалов
попал недавний премьер Б. Кракси, вынужденный бежать за ру¬
беж. На рубеже 80—90-х гг. широкое распространение в Италии
получил тезис о необходимости перехода к новой политической
системе, ибо кризис затронул, по сути, все базовые основы старой
модели политической организации итальянского общества.
ГЛАВА XI
Латинская Америка в поисках
оптимальной модели модернизации
§ 1, Национал-реформизм
по-аргентински
На протяжении большей части XX в. в латиноамериканском
обществе шли активные поиски такой модели общественного раз¬
вития, которая позволила бы в относительно короткий срок пре¬
одолеть разрыв, традиционно отделявший эту часть Нового Света
от ведущих представителей западного мира. Латиноамериканцев
все больше тяготила роль бедной Золушки, на которую ее обрека¬
ла отсталость социально-экономической сферы даже наиболее раз¬
витых стран региона. Эти поиски особенно интенсифицировались
в 40-е гг., когда в ходе борьбы с фашизмом на авансцену полити¬
ческой жизни были вынесены такие вопросы, как преодоление
всех форм политической и экономической зависимости перифе¬
рии от стран, составлявших ядро прежней системы международ¬
ных отношений.
Однако сама по себе постановка вопроса о необходимости ско¬
рейшей модернизации латиноамериканского анклава западной
цивилизации еще ничего не решала. Главный вопрос заключал¬
ся в выборе того конкретного инструментария, с помощью кото¬
рого те или иные социально-политические силы рассчитывали
осуществить модернизацию. Уже 30-е гг. продемонстрировали,
что дело это далеко не простое. В разных странах пытались ис¬
пользовать различные способы реализации этих замыслов, но
везде попытки модернизации наталкивались на достаточно се¬
рьезные препятствия.
Начавшаяся в 1939 г. Вторая мировая война в значительной
степени отвлекла основное внимание великих „ержав от Латинс¬
545
кой Америки, и страны этого региона получили возможность для
нового раунда экспериментов по модернизации. На сей раз заст¬
рельщиком в этом процессе выступила Аргентина, предложившая
свой вариант решения проблемы модернизации. Эта попытка была
связана с именем одного из наиболее колоритных латиноамери¬
канских политиков 40-50-х гг. Хуана Доминго Перона. Он при¬
шел к власти в результате военного переворота, произошедшего в
июне 1943 г.
Переворот стал реакцией радикально настроенных военных на
практику консерваторов в период так называемого «позорного де¬
сятилетия», когда в политическом процессе доминировали оли¬
гархические кланы, думавшие исключительно о защите своих
интересов. Откровенное игнорирование ими интересов аргентин¬
ского общества вызывало рост оппозиционных настроений. В ус¬
ловиях Аргентины это вылилось в формирование широкого, хотя
и аморфного националистического движения популистского тол¬
ка. Оно консолидировалось вокруг популярных лозунгов и ярко¬
го лидера, на роль которого быстро выдвинулся X. Перон.
Справедливости ради скажем, что он не сразу встал во главе
военного правительства. Поначалу он возглавил секретариат (ми¬
нистерство) труда и социального обеспечения. Его создание сви¬
детельствовало о том, что, в отличие от прежних правителей, но¬
вые власти придают большое значение вопросам социальной по¬
литики, в первую очередь налаживанию прочных контактов с ра¬
бочим движением, вытеснением оттуда всех своих политических
конкурентов. Новым лидерам Аргентины становилось все очевид¬
нее, что без этого невозможно рассчитывать на создание сколько-
нибудь стабильной социальной обстановки, а без этого трудно было
надеяться на прогресс в повышении эффективности экономики.
Именно Перон выдвинул ставшую весьма популярной в Ар¬
гентине концепцию « хустисиализма» (справедливости). Он утвер¬
ждал, что только объединение йации и ее сплочение вокруг лиде¬
ра может дать Аргентине шанс на преодоление экономической от¬
сталости и зависимости от англо-американского мира, а также на
построение общества, основанного на принципах социальной спра¬
ведливости. По инициативе Перона началась разработка социаль¬
ного законодательства, стали интенсивно формироваться новые
профсоюзы, разделявшие эти идеи. Престиж и популярность X. -
Перона быстро росли. Уже зимой 1944 г. он, в дополнение к свое¬
му прежнему посту, стал министром обороны и вице-президентом.
По существу именно он оказывал решающее влияние на формиро¬
вание политики правительства.
Все это вызывало зависть, раздражение и неприязнь у других
представителей армейской верхушки и элиты столичных предпри¬
546
нимателей. В октябре 1945 г. они организовали против него заго¬
вор и арестовали его. Однако это вызвало такую бурную реакцию
протеста в обществе, что заговорщикам пришлось спешно отсту¬
пить. Перон был освобожден. Это произошло 17 октября, и имен¬
но это событие стало датой основания перонистского движения,
сразу же объявившего о своих претензиях на всю полноту власти
и на проведение в стране серьезных преобразований в духе кон¬
цепции «хустисиализма».
Еще в конце лета 1945 г., за несколько месяцев до описывае¬
мых событий, власти провозгласили, что зимой 1946 г. в стране
пройдут всеобщие выборы, на которых будет избран легитимный
президент. Воспользовавшись этим, Перон объявил, что будет бал¬
лотироваться на этот пост. Практически все политические силы
Аргентины — от консерваторов до коммунистов — объединились
против него. Такой же позиции придерживались и Соединенные
Штаты. У весьма разнородной оппозиции Перону были и свои спе¬
цифические мотивы, по которым те или иные ее представители
выступали против лидера новой политической силы, но имелись
и общие основания для борьбы со строптивым генералом. Его про¬
тивники хорошо понимали, что в случает прихода Перона к влас¬
ти они могут быть вытеснены из привычной ниши и лишены сколь¬
ко-нибудь серьезного влияния. Это и побудило их, забыв взаим¬
ные претензии, бороться против Перона.
Однако, несмотря на все свои усилия, предотвратить его из¬
брание на пост президента они не смогли: генерала поддержало
подавляющее большинство избирателей. Уже в самом начале пре¬
бывания у власти новый президент осуществил широкомасштаб¬
ную национализацию иностранных, прежде всего британских,
предприятий. Удельный вес государственного сектора в экономи¬
ке Аргентины вырос до 18%. Интенсивно развивалась транспорт¬
ная индустрия страны. Был принят пятилетний план экономичес¬
кого развития. Большое внимание уделялось социальной полити¬
ке: было введено всеобщее пенсионное обеспечение, повышена за¬
работная плата, запрещен детский труд, развивалась социальная
сфера. Профсоюзы превратились в важную составную часть элек¬
торальной базы перонистского движения. Их представители были
даже включены в правительство.
В 1947 г. на базе перонистского движения была создана
партця. Спустя два года была принята новая Конституция, в ко¬
торой говорилось о том, что целью власти является утверждение в
Аргентине общества, в котором царили бы гармоничные соци¬
альные отношения, а государство играло бы роль справедливого
арбитра во всех конфликтных ситуациях. Основным инструмен¬
том и гарантом построения такого общества объявлялся президент,
547
полномочия которого значительно расширялись: он мог переиз¬
бираться неограниченное количество раз, объявлять неконститу¬
ционной деятельность неугодных ему партий, приостанавливать
действие конституционных гарантий. v
В первые годы пребывания у власти Перон мог записать в свой
актив ряд достижений в сфере как внутренней, так и внешней по¬
литики. Однако в начале 50-х гг. внешнеэкономическая конъюн¬
ктура ухудшилась, что стало сказываться на ситуации в аргентин¬
ской экономике. Темпы ее роста явно замедлились, а это ограни¬
чивало возможности активного социального маневрирования —
главного инструмента, с помощью которого Перон поддерживал
высокий престиж в массах.
В ответ на рост цен в стране вновь стали вспыхивать забастов¬
ки, которые подрывали имидж Аргентины как страны, где утвер¬
дился классовый мир. В политической и экономической элите
страны стали усиливаться сомнения в эффективности политичес¬
кого курса, который пытался проводить Перон. Еще большее раз¬
дражение у этих кругов вызывала та модель развития страны, ко¬
торую Перон считал оптимальной. Крупные промышленники, за¬
метно укрепившие свои позиции с помощью Перона, стали тяго¬
титься чрезмерной опекой со стороны правительства. Многих пред¬
ставителей высших страт общества беспокоил излишний, по их
мнению, рост влияния профсоюзов в политической жизни. Обо¬
стрились отношения с католической церковью. Интеллигенция
выражала недовольство авторитарным стилем правления прези¬
дента. Короче говоря, к середине 50-х гг. отчетливо проявилась
эрозия той социальной базы, на которую опирался Перон.
Обстановка в стране быстро накалялась. Стало очевидным, что
те рецепты, которые X. Перон положил в основу своей политики
(резкая активизация государственного регулирования всей соци¬
ально-экономической сферы, сочетание жесткого авторитарного
стиля в политике с осуществлением широкомасштабных соци¬
альных реформ, интенсивное использование националистической
риторики для консолидации населения вокруг национального
лидера — президента), не дают в новых условиях ожидаемого эф¬
фекта. Хотя престиж Аргентины в Латинской Америке и возрос,
разрыв между нею и ведущими странами Запада по-прежнему ос¬
тавался значительным. А это ставило под вопрос ценность перо-
низма как способа модернизации общества.
Растущими трудностями президента воспользовались его про¬
тивники, которые организовали в сентябре 1955 г. государствен¬
ный переворот, в результате которого Перон был свергнут и вы¬
нужден был бежать за границу. К власти пришли консервативные
круги военных, сразу же резко изменившие общий вектор разви¬
548
тия Аргентины. Ставка была сделана на расширение сотрудниче¬
ства с США. Была отменена Конституция 1949 г. и запрещена пе-
ронистская партия. По существу, вместо поощрения курса на ук¬
репление национальной независимости и модернизацию общества,
Аргентина пошла по пути подстраивания под рекомендации Ва¬
шингтона и МВФ, членом которого страна стала сразу же после
свержения Перона. Казалось, что с теорией и практикой перониз-
ма покончено раз и навсегда.
Проблема, однако, заключалась в том, что новые военные вла¬
сти ни во второй половине 50-х, ни в 60-е гг. не могли похвастать¬
ся особыми успехами в развитии страны. А это вело к росту соци¬
альной напряженности. Уже в 1958 г. военные вынуждены были
уступить власть гражданским. Правда, уже через 4 года произо¬
шел новый военный переворот. Такая нестабильность, вкупе с се¬
рьезными экономическими проблемами и падением уровня жиз¬
ни, создавала питательную среду для поддержания интереса к
идеям Перона в аргентинском обществе. Под напором движения
протеста власти в 1964 г. вынуждены были снять запрет на дея¬
тельность перонистской партии. Ее лидер счел, что этого вполне
достаточно, чтобы возобновить борьбу за власть. В стране начались
массовые митинги, участники которых требовали возвращения
экс-президента к власти.
В конце 1964 г. X. Перон попытался вернуться в Аргентину, но
неудачно. Тем не менее угроза реставрации его режима в середине
60-х гг. была вполне реальна, и это заставило его противников пойти
на крайние меры: летом 1966 г. Аргентина вновь оказалась во влас¬
ти военной диктатуры. Однако успокоения стране это не принесло.
Уже к рубежу 60-70-х гг. диктатура оказалась практически в пол¬
ной изоляции. В высшем военном руководстве началась форменная
чехарда: один генерал сменял у власти другого, и было очевидно, что
военные не могут найти выход из перманентного кризиса.
Взоры аргентинцев все чаще стали обращаться к находивше¬
муся в изгнании X. Перону. Все большее число аргентинцев виде¬
ло в нем единственную фигуру, способную обеспечить стабильное
поступательное движение страны вперед. Военные, терявшие под¬
держку в обществе, вынуждены были назначить на март 1973 г.
всеобщие выборы. В преддверии этого события был создан Хусти-
сиалистский фронт освобождения, быстро ставший главной оппо¬
зиционной силой страны. Поскольку сам Перон не мог участво¬
вать в выборах, кандидатом от новой организации на пост прези¬
дента стал его ближайший сподвижник Э. Кампора. Он и победил
на выборах. Таким образом, после 18-летнего перерыва перонис-
ты вернулись к власти. Как оказалось, потенциал перонизма как
орудия модернизации еще не был исчерпан.
549
Важно отметить, что в этот период среди широкого блока сто¬
ронников Перона преобладали представители левого крыла. Ле¬
том 1973 г. между правительством, профсоюзами и предпринима¬
телями был заключен «Социальный пакт», предусматривавший
повышение зарплаты с последующим замораживанием цен и зар¬
платы на два года. Были установлены (к великому неудовольствию
США) дружественные отношения с Кубой. Летом 1973 г. в страну
вернулся восторженно встреченный аргентинцами Хуан Перон.
И в элите в целом, и в руководстве правящей партии крепло
убеждение, что только он может быть настоящим вождем нации.
Очень быстро левые перонисты были оттеснены от власти, и 12
октября 1973 г. по итогам внеочередных выборов высшая государ¬
ственная власть в Аргентине во второй раз была вручена бывшему
президенту. Правда, второе пришествие Перона было недолгим —
1 июля 1974 г. он скончался. Тем не менее и за это короткое время
Перон успел провести ряд реформистских преобразований: нача¬
лась реализация 3-летнего плана социально-экономического раз¬
вития страны, предусматривавшего значительное расширение го¬
сударственного сектора в экономике, национализацию банков,
ужесточение контроля над иностранным капиталом, намечались
меры по поднятию жизненного уровня населения и расширению
прав профсоюзов.
После смерти Перона президентское кресло заняла его жена Эва.
При ней ход модернизации затормозился. Экономическая ситуация
стала ухудшаться, быстро росли розничные цены, что больно уда¬
ряло по благосостоянию населения и стимулировало рост недоволь¬
ства властями. В самой правящей верхушке шла острая борьба за
влияние на формирование политики государства. Стали быстро рас¬
пространяться экстремистские настроения. Правительство посте¬
пенно утрачивало контроль за ситуацией. Этим воспользовались
оппоненты перонистов из высшего армейского руководства, кото¬
рые в марте 1976 г. совершили очередной государственный перево¬
рот. Так завершилась вторая попытка использовать комплекс на-
ционал-реформистских идей для модернизации Аргентины.
С тех пор прошло более четверти века. Неоднократно менялись
люди, находившиеся у руля государственной власти. В 1989 г.
президентом стал перонист Карлос Менем. Однако его политика
разительно отличалась от традиционного перонизма. Вместо при¬
зывов к построению общества на основах социальной справедли¬
вости, президент стал говорить о «гуманизации капитализма».
Вместо курса на стимулирование национальной промышленнос¬
ти, стали всемерно поощряться иностранные инвестиции в эконо¬
мику. Вместо проведения независимой внешней политики, новое
правительство взяло курс на сближение с США.
550
В 1991 г. министром экономики стал ярый монетарист, по¬
клонник экономических рецептов, разрабатываемых экспертами
Международного валютного фонда, Д. Кавальо. При нем экономи¬
ческая политика страны стала строиться в соответствии с реко¬
мендациями МВФ. По существу проводилась так называемая «шо¬
ковая терапия». На короткий срок с ее помощью удалось стабили¬
зировать валютно-финансовую сферу, сбить инфляцию, ликвиди¬
ровать бюджетный дефицит. ОднАко социальная цена этой поли¬
тики оказалась чрезвычайно высокой: резко сократились соци¬
альные программы, 2/3 населения оказалось за чертой бедности,
росла безработица. Да и экономическая стабилизация оказалась
кратковременной. В итоге слепое следование рекомендациям МВФ
привело Аргентину в 2001 г. к экономической катастрофе, послед¬
ствия которой ощущаются до сих пор.
Итак, перонизм, который в середине XX в. рассматривался
многими в Латинской Америке как своеобразная панацея, с помо¬
щью которой можно сравнительно легко и быстро осуществить
модернизацию общества и преодолеть отсталость и зависимость
от ведущих стран Запада, с этой ролью не справился. Его недостат¬
ки стали очевидны уже к середине 50-х гг., но то, что было сдела¬
но за время пребывания X. Перона у власти, еще больше оттенило
ущербность курса, который усиленно навязывали латиноамери¬
канцам руководство МВФ и Вашингтон, и одновременно еще рез¬
че поставило вопрос о поиске оптимальной модели модернизации.
§ 2. Куба: революционный вариант
модернизации
Неудача национал-реформистского варианта модернизации,
которую пытался осуществить X. Перон, заставляла тех, кто хо¬
тел преодолеть отсталость региона и его зависимость от ведущих
западных стран, задуматься над вопросом, возможна ли модерни¬
зация путем реформирования общества, можно ли, не прибегая к
экстраординарным мерам, ликвидировать разрыв, отделяющий
страны региона от ведущих государств Запада. Особенно в малых
странах Латинской Америки усиливались позиции радикалов,
полагавших, что только резкий разрыв (а не реформирование) со
всей сложившейся структурой социально-экономических отноше¬
ний может принести успех в решении поставленных задач.
В Гватемале в начале 50-х гг. правительство X. Арбенса попы¬
талось начать действовать в таком режиме, но сразу же натолкну¬
лось на жесткое сопротивление со стороны США, усмотревших в
тех шагах, которые осуществлял президент, угрозу своим интере¬
551
сам. Вдело решительно вмешалось ЦРУ, организовавшее в 1954 г.
государственный переворот. С революцией в Гватемале было по¬
кончено. Тогда многим показалось, что революционный сценарий
модернизации более не актуален для Латинской Америки. На са¬
мом же деле главное было еще впереди. Речь идет о том, что про¬
изошло на Кубе на рубеже 50-60-х гг.
Эти события на небольшом острове в Карибском море без пре¬
увеличения привлекли к себе внимание всего мира. И это вполне
объяснимо. Маленькое государство, типичная «банановая респуб¬
лика» , бросила открытый вызов наиболее мощной державе мира —
США. Куба тогда стала символом независимого развития и одно¬
временно полигоном, где проходил проверку практикой револю¬
ционный вариант модернизации латиноамериканского общества.
С момента провозглашения формальной независимости и
вплоть до победы революции в 1959 г. Куба Находилась в очень
сильной зависимости от США, которые контролировали ее эконо¬
мику и политическую жизнь. Недовольство таким положением дел
накапливалось постепенно и рано или поздно должно было выр¬
ваться наружу. Ситуация стала быстро накаляться после того, как
в 1952 г. на острове был осуществлен государственный переворот,
в результате которого на Кубу утвердился один из наиболее реак¬
ционных режимов в Латинской Америке во главе с Фульхенсио
Батистой. В авангарде борьбы против его режима шли радикаль¬
но настроенные студенты, которые искренне мечтали о лучшем
будущем для своей страны. Они были твердо убеждены, что, пока
у власти находится Батиста, никаких перспектив у Кубы нет.
Первая попытка свергнуть режим Ф. Батисты была предпри¬
нята 26 июля 1953 г., когда группа студентов во главе с Фиделем
Кастро попыталась поднять восстание во втором по значимости
городе Кубы — Сантьяго. Кастро был арестован и осужден на 15
лет. Однако в 1955 г. Батиста, стремившийся улучшить свой
имидж на Кубе и за ее пределами, объявил об амнистии. После
этого Ф. Кастро эмигрировал в Мексику, где вместе со своими еди¬
номышленниками продолжил подготовку к новому этапу борьбы
с диктатором. В конце 1956 г. группа молодых революционеров
во главе с Кастро отплыла на шхуне «Гранма» из Мексики к бере¬
гам Кубы. Предполагалось, что одновременно с их высадкой на
Кубе другая группа, во главе с Ф. Паисом, поднимет восстание в
Сантьяго. Однако план этот не удался. «Гранма» не успела дос¬
тичь Кубы к назначенному сроку, а когда повстанцы добрались до
острова, то попали в засаду и большая часть их погибла в первом
же бою. Подавлено было и восстание в Сантьяго.
Тем не менее группа повстанцев во главе с Ф. Кастро и Э. Че
Геварой прорвалась в горы Сьерра-Маэстра и оттуда начала парти¬
552
занскую войну против правительства. Сопротивление диктатуре
постепенно набирало все больший размах. Его главной ударной
силой стала Повстанческая армия. Наиболее ожесточенные бои
развернулись в мае 1958 г., когда правительство, сконцентриро¬
вав все имевшиеся в его распоряжении силы, попыталось уничто¬
жить восстание, не допустить его распространения на другие про¬
винции. Однако на сей раз успех был на стороне восставших. В
этих боях военная машина диктатуры была надломлена.
Чем больший размах приобретала борьба против Батисты, тем
острее вставал вопрос о политической программе оппозиционных
правящему режиму сил. В июле 1958 г. в Каракасе (Венесуэла)
собрались представители практически всех оппозиционных тече¬
ний. Было объявлено о создании Гражданского революционного
фронта, программа которого предусматривала свержение Батис¬
ты, передачу власти Временному правительству, которое должно
подготовить проект новой Конституции, содержащей гарантии
социально-экономических прав населения.
Куба была преимущественно аграрной страной, большая часть
ее населения была занята в сельском хозяйстве, поэтому аграрный
вопрос стоял весьма остро. Когда в октябре 1958 г. Кастро обнаро¬
довал решение о наделении землей малоимущих крестьян и лик¬
видации латифундий, симпатии крестьян были безоговорочно от¬
даны повстанцам. В конце года они перешли в решающее наступ¬
ление. Понимая, что крах неизбежен, Батиста бежал с Кубы. В
Гаване вспыхнула всеобщая политическая стачка. 1 января 1959 г.
повстанцы вошли в столицу.
Революция победила, но вопрос о власти, о характере ее поли¬
тического курса оставался открытым. 3 января 1959 г. главой го¬
сударства был объявлен видный деятель умеренного крыла оппо¬
зиции М. Уррутиа, а Временное правительство возглавил X. Кор¬
дона. С другой стороны, сохранялась Повстанческая армия, кото¬
рая контролировала реальное положение дел на местах. Таким
образом, в стране изначально возникло двоевластие. Каждая из
властей по-разному видела дальнейшее развитие событий. Не уди¬
вительно, что между ними быстро нарастали разногласия. Под
давлением повстанцев была запрещена деятельность тех полити¬
ческих сил, которые сотрудничали с Батистой, они настаивали на
проведении радикальной аграрной реформы, принятии современ¬
ного законодательства в области трудовых отношений. В феврале
1959 г. правительство Кордоны ушло в отставку. Его место занял
Ф. Кастро.
Новое правительство сразу же заметно радикализировало всю
социально-экономическую политику, полагая, что только резкий
1фЧЗСтвенный скачок в этой сфере поможет Кубе преодолеть от¬
553
сталость, модернизировать общество и выйти на современный уро¬
вень развития. Правительство повысило зарплату и одновремен¬
но снизило цены на коммунальные услуги. Но наиболее важным
мероприятием этого этапа преобразований стал Закон об аграрной
реформе от 17 мая 1959 г., ликвидировавший крупные земельные
владения (больше 400 га). Этот закон стимулировал поляризацию
сил в кубинском обществе. С этого момента США отбрасывают в
сторону даже видимость сдержанности и открыто начинают под¬
держивать противников новой власти.
Все более откровенное вмешательство американцев, кото¬
рых традиционно не любили в Латинской Америке, только кон¬
солидировало революционный лагерь, радикализировало и его
руководство, и рядовых участников. В июле 1959 г. Уррутиа
ушел в отставку, и новым президентом стал сторонник Ф. Каст¬
ро — О. Д. Торрадо. Революционные власти еще решительней по¬
шли по пути углубления преобразований. Была введена монопо¬
лия государства во внешней торговле. Стали создаваться Комите¬
ты защиты революции, взявшие на себя охрану порядка. На пред¬
приятиях стал вводиться рабочий контроль.
Независимая политика Ф. Кастро стала восприниматься в Ва¬
шингтоне как угроза интересам США. Был взят курс на экономи¬
ческое удушение новой власти. Но это лишь подстегивало радика¬
лизм кубинских революционеров. В ответ на введение эмбарго на
поставку нефти на Кубу Кастро объявил о национализации пред¬
приятий, принадлежавших США, и обратился к СССР с просьбой
о поставках советской нефти. Тогда США практически полностью
свернули свои торговые отношения с Кубой. Именно жесткий курс
США толкал правительство Кубы на меры, носившие в своей ос¬
нове антикапиталистический характер, о чем первоначально не
было и речи. Уже к концу 1960 г. общественный сектор занял ве¬
дущие позиции в аграрном производстве, да и в промышленности
государство стало играть ключевую роль. В октябре были нацио¬
нализированы все крупные и средние предприятия, принадлежав¬
шие национальному капиталу.
Тем временем в Вашингтоне быстро крепли позиции тех, кто
полагал, что надо силой заставить Кубу вернуться на «правиль¬
ный» (с точки зрения США) путь развития. В январе 1961 г. США
разорвали дипломатические отношения с Кубой. В ответ Ф. Каст¬
ро декларировал, что революция на Кубе носит социалистический
характер и что кубинцы будут строить общество нового типа. Все
это способствовало быстрому сближению Кубы с СССР, превраще¬
нию ее в союзника нашей страны.
17 апреля 1961 г. при поддержке США в районе Плайя-Хирон
высадилось более полутора т^гсяч кубинских контрреволюционе¬
554
ров, намеревавшихся свергнуть правительство Кастро. Однако эта
авантюра завершилась полным провалом и лишь еще больше под¬
няла и без того очень высокий авторитет лидера революции. По¬
скольку было очевидно, что США не оставят попыток свергнуть
неугодное им правительство Кастро, по договоренности с СССР
началось интенсивное укрепление обороноспособности молодой
республики. Это способствовало еще большей эскалации конфлик¬
та, кульминацией которого стал Карибский кризис (октябрь
1962 г.), поставивший мир на грань неконтролируемого термо¬
ядерного конфликта.
Кризис, оказавший очень большое воздействие на всю между¬
народную жизнь, удалось урегулировать. Что касается его послед¬
ствий собственно для Кубы, то, во-первых, стало ясно, что прави¬
тельство Ф. Кастро достаточно прочно и уверенно контролирует
ситуацию в стране и надежды на его падение беспочвенны; во-вто¬
рых, необходимым условием успешной модернизации общества
стал более тесный альянс с СССР, ибо без этого над Кубой постоян¬
но висела угроза американской интервенции; в-третьих,
сложившаяся ситуация детерминировала особенности кубинско¬
го варианта модернизации общества.
На первых порах Куба добилась значительных успехов в мо¬
дернизации практически всех аспектов жизни общества. В сло¬
жившейся здесь системе революционной диктатуры в 60-е гг. весь¬
ма ощутимо присутствовали черты прямого народовластия, сте¬
пень вовлеченности масс в общественную жизнь была очень высо¬
кой. Радикально изменилась и социально-экономическая струк¬
тура общества. Место латифундий заняли «народные имения».
Был взят курс на форсированное превращение Кубы из сугубо аг¬
рарной страны в аграрно-индустриальное государство. Правда,
уже в середине 60-х гг. от непродуманного наращивания этих про¬
цессов пришлось отказаться. Тем не менее прогресс в этой области
был несомненным. Большое внимание уделялось решению соци¬
альных проблем: была ликвидирована безработица, Куба стала
первой в Латинской Америке страной всеобщей грамотности, ве¬
лось активное жилищное строительство, быстрыми темпами раз¬
вивалось здравоохранение.
Однако к 80-м гг. стали проявляться и определенные издерж¬
ки кубинского варианта модернизации общества. Они были порож¬
дены как внешними, так и внутренними условиями. Стали сни¬
жаться темпы роста экономики. Все больше давали о себе энать
хозяйственные диспропорции. Неблагоприятно складывалась
внешнеполитическая конъюнктура, что больно ударило по всей
финансовой системе страны и лишило Кубу тех средств, которые
планировалось инвестировать в экономику. Большие средства от¬
555
влекались на поддержание на высоком уровне боеспособности во*
оружейных сил Кубы. Если в 60-е гг. наблюдался подъем обще¬
ственной активности населения, то к 80-м гг. наметились негатив¬
ные тенденции и в развитии политических механизмов — бюрок¬
ратизация и коррупция. И, наконец, тяжелейшим ударом для
Кубы стал распад СССР.
На рубеже 80-90-х гг. многие предрекали крах режиму Каст¬
ро. Однако Куба выстояла и, несмотря на весьма серьезные труд¬
ности, продолжает отстаивать собственный вариант общественного
прогресса, интенсивно ищет самобытные пути развития, пытает¬
ся придать новый импульс начатому на рубеже 50-60-х гг. про¬
цессу модернизации.
§ 3. Чили: неоконсервативный вариант
модернизации
На протяжении всего послевоенного периода страны Латинс¬
кой Америки интенсивно искали оптимальную модель модерни¬
зации своего общества. Если в 60-е гг. латиноамериканское обще¬
ство с напряженным вниманием следило за развитием социально¬
го эксперимента, начатого революционной Кубой, то в 70-е гг. в
центре внимания оказалось Чили. Это государство традиционно и
по праву считалось одной из наиболее устойчивых демократий в
Латинской Америке, страной со сравнительно развитой рыночной
экономикой и сложившимся гражданским обществом. Были, ко¬
нечно, и проблемы.
Еще в 60-е гг. возглавляемая лидером христианских демокра¬
тов президентом Э. Фреем страна предпринимала усилия для осу¬
ществления модернизации. При этом правительство опиралось на
классические реформистские схемы, апробированные ранее в Ста¬
ром Свете. Однако начатые реформы вызывали все усиливавшую¬
ся поляризацию общества, резко обостряли все аспекты социаль¬
но-политической жизни страны. В преддверии очередных прези¬
дентских выборов был создан блок Народное единство, куда вош¬
ли коммунисты, социалисты, радикалы и Движение единого на¬
родного действия. Кандидат этого блока социалист Сальвадор Аль¬
енде и был избран очередным президентом Чили. Произошло это
4 сентября 1970 г.
Как и большинство западных социалистов, С. Альенде пола¬
гал, что построение общества, основанного на началах социаль¬
ной справедливости, возможно только эволюционным путем, за
счет постепенного усовершенствования существующих социаль¬
но-экономических отношений. Придя к власти конституционным
556
путем, он рассчитывал апробировать свои теоретические установ¬
ки на практике. Его правительство действительно сразу же при¬
ступило к осуществлению глубоких преобразований. Летом 1971 г.
были национализированы предприятия добывающей промышлен¬
ности, банковская система. Под контроль государства была постав¬
лена внешняя торговля. В сельском хозяйстве интенсивно созда¬
вались производственные кооперативы. Была повышена в сред¬
нем на 18% заработная плата, увеличились ассигнования на со¬
циальное обеспечение, жилищное строительство, здравоохране¬
ние, образование.
Однако, как и любые мероприятия, серьезно затрагивающие
интересы общества, ломающие привычный жизненный уклад,
традиционные общественные связи, реформы правительства
С. Альенде вызвали неоднозначную реакцию в стране. Политичес¬
кая борьба резко обострилась, усилилась поляризация общества.
Поначалу оппоненты президента рассчитывали отстранить его от
власти легальным путем. Однако выборы 1973 г. не принесли пра¬
вым необходимого большинства в парламенте. Тогда ставка была
сделана на военный переворот. Правые использовали растущее
недовольство средних слоев для дестабилизации ситуации. В июле
1973 г. вспыхнула забастовка владельцев транспорта, парализо¬
вавшая снабжение население товарами первой необходимости, а в
более широком смысле — всю экономику. У большинства населе¬
ния возникла масса бытовых проблем, в которых они винили пра¬
вительство. Еще недавно весьма популярное, оно быстро теряло
контроль над ситуацией.
Этим и решили воспользоваться противники правительства в
армейской среде. 11 сентября 1973 г. заговорщики, возглавляе¬
мые генералом А. Пиночетом, подняли мятеж против законных
властей. Президент С. Альенде был убит. Власть в стране захвати¬
ла военная хунта во главе с Пиночетом. В стране было объявлено
осадное положение, отменено действие Конституции, ликвидиро¬
ваны практически все демократические свободы, распущен конг¬
ресс, запрещены все партии, входившие в блок Народное единство.
Деятельность остальных партий объявлялась «приостановлен¬
ной». Профсоюзы были поставлены под контроль властей. Про¬
тив сторонников прежнего правительства был развязан террор.
Все это оправдывалось необходимостью остановить сполза¬
ние страны к хаосу и анархии. В марте 1974 г. хунта опублико¬
вала «Декларацию принципов», в которой обосновывалась необ¬
ходимость переворота (угроза установления марксистской дик¬
татуры, неэффективность демократии в решении проблем модер¬
низации страны). Намечались перспективы эволюции Чили, пути
модернизации общества по консервативному образцу. Хунта выс¬
557
казалась за построение «органической», или «социальной демок¬
ратии», основанной на корпоративных началах, под эгидой ав¬
торитарной власти. Морально-этической основой этого государ¬
ства должно было стать христианство, испанские духовные тра¬
диции. В построениях Пиночета национализм теснейшим обра¬
зом переплетался с модернистскими рецептами экономистов
Чикагской школы. Именно в соответствии с их идеями чилийс¬
кий диктатор собирался осуществлять структурную перестрой¬
ку экономики Чили, с тем чтобы вывести страну на передовые
рубежи прогресса.
В соответствии с этими наметками частному капиталу была
передана подавляющая часть государственных предприятий,
причем под частным капиталом подразумевался и нацио¬
нальный, и иностранный. Вообще А. Пиночет был большим по¬
клонником идеи транснационализации экономики, полагая, что,
влившись в общий поток модернизации мирового хозяйства,
Чили автоматически выйдет на передовые рубежи. Действитель¬
но, генерал сделал страну привлекательной для иностранных
инвесторов. В аграрной сфере опять-таки наблюдалась ярко вы¬
раженная тенденция к отказу от коллективистских форм веде¬
ния хозяйства, акцент делался на поощрение фермерских хо¬
зяйств. Правда, почти треть претендентов на статус фермера ра¬
зорились в течение пяти лет.
Модернизация по Пиночету, широко обсуждаемая на страни¬
цах ведущих мировых изданий, принесла чилийскому обществу
противоречивые результаты. С одной стороны, в ряде отраслей
промышленности (туда, куда устремился основной поток инвес¬
тиций) действительно был осуществлен значительный скачок впе¬
ред. Удалось стабилизировать валютно-финансовый механизм
Чили, инфляция была взята под контроль. Однако вряд ли можно
представлять эти факты как свидетельство того, что рецепты Чи¬
кагской школы обеспечили ускорение модернизации. Ведь, наря¬
ду с определенными достижениями в сфере экономики, у хунты
были очень серьезные проблемы. Так, по производству промыш¬
ленной продукции на душу населения Чили было отброшено да"
леко назад. Консервативный вариант модернизации обернулся
огромными социальными издержками. Прежде всего, заметно
упала заработная плата, особенно в первые годы проведения кон¬
сервативных реформ, в 10 раз увеличилась безработица. Правда,
по многим параметрам социальная структура Чили к 80-м гг. ста¬
ла больше соответствовать стандартам развитых стран: сократи¬
лась доля занятых в аграрном секторе, выросло количество лю¬
дей, работающих в непроизводственных отраслях, увеличилось
число ИТР и ттд.
558
Столь противоречивые итоги консервативной модернизации
не могли не сказаться на общей политической атмосфере в стране.
Если в 1973 г. значительная часть средних слоев, мелкой буржуа¬
зии, государственных служащих, уставших от нестабильности,
поддержала хунту, олицетворявшую порядок, стабильность и
твердую власть, то, ощутив на себе «плоды» модернизации по ре¬
цептам Чикагской школы, они стали испытывать все большее не¬
довольство сложившимся порядком вещей. Несмотря на то что
возможности для легальной оппозиционной деятельности в Чили
в те годы были предельно ограничены, на рубеже 70-80-х гг. на¬
блюдается оживление всего оппозиционного спектра.
В 1979 г. Пиночет был вынужден разрешить деятельность ни¬
зовых профсоюзных организаций. Очень быстро они перешли под
контроль левых сил. Начались трудовые конфликты, в которых в
1979-1980 гг. участвовали десятки тысяч человек. Чувствуя, что
социальная поддержка его режима сокращается, Пиночет заявил
о либерализации и переходе к «авторитарной демократии». Был
разработан и 11 сентября 1980 г. вынесен на плебисцит проект
Конституции. Иными словами, был взят курс на институциона¬
лизацию режима. Его положение осложнялось из-за начавшегося
экономического кризиса. В этих условиях говорить об успехах
модернизации было достаточно сложно. Давление на Пиночета все
больше нарастало.
Правда, в среде оппозиционных сил не было единства по пово¬
ду того, как следует бороться с режимом. К 1983 г. сформирова¬
лось два оппозиционных центра: Демократический альянс (веду¬
щую роль в нем играли христианские демократы) и Народно-де¬
мократическое движение (компартия и другие левые силы). Пер¬
вые надеялись на восстановление демократии без использования
насильственных методов борьбы с режимом. Вторые отстаивали
курс на свержение диктатуры с помощью массовых действий. В
1983-1986 гг. левые предприняли настойчивые усилия, чтобы
свалить режим Пиночета, однако добиться этого не сумели. С од¬
ной стороны, начавшийся с 1985 г. экономический подъем позво¬
лил Пиночету улучшить свой имидж в глазах значительной части
общества. С другой — ему пришлось налаживать диалог с умерен¬
ным крылом оппозиции и идти на определенное реформирование
политической сферы.
В марте 1987 г. была в полном объеме разрешена деятельность
политических партий умеренной ориентации. В следующем году
был воссоздан Унитарный профцентр трудящихся Чили. Был на¬
значен плебисцит о продлении полномочий А. Пиночета еще на 8
лет. Несмотря на все ухищрения властей, более 50% его участни¬
ков отказали Пиночету в доверии. После этого он вынужден был
559
казалась за построение «органической», или «социальной демок¬
ратии», основанной на корпоративных началах, под эгидой ав¬
торитарной власти. Морально-этической основой этого государ¬
ства должно было стать христианство, испанские духовные тра¬
диции. В построениях Пиночета национализм теснейшим обра¬
зом переплетался с модернистскими рецептами экономистов
Чикагской школы. Именно в соответствии с их идеями чилийс¬
кий диктатор собирался осуществлять структурную перестрой¬
ку экономики Чили, с тем чтобы вывести страну нр. передовые
рубежи прогресса.
В соответствии с этими наметками частному капиталу была
передана подавляющая часть государственных предприятий,
причем под частным капиталом подразумевался и нацио¬
нальный, и иностранный. Вообще А. Пиночет был большим по¬
клонником идеи транснационализации экономики, полагая, что,
влившись в общий поток модернизации мирового хозяйства,
Чили автоматически выйдет на передовые рубежи. Действитель¬
но, генерал сделал страну привлекательной для иностранных
инвесторов. В аграрной сфере опять-таки наблюдалась ярко вы¬
раженная тенденция к отказу от коллективистских форм веде¬
ния хозяйства, акцент делался на поощрение фермерских хо¬
зяйств. Правда, почти треть претендентов на статус фермера ра¬
зорились в течение пяти лет.
Модернизация по Пиночету, широко обсуждаемая на страни¬
цах ведущих мировых изданий, принесла чилийскому обществу
противоречивые результаты. С одной стороны, в ряде отраслей
промышленности (туда, куда устремился основной поток инвес¬
тиций) действительно был осуществлен значительный скачок впе¬
ред. Удалось стабилизировать валютно-финансовый механизм
Чили, инфляция была взята под контроль. Однако вряд ли можно
представлять эти факты как свидетельство того, что рецепты Чи¬
кагской школы обеспечили ускорение модернизации. Ведь, наря¬
ду с определенными достижениями в сфере экономики, у хунты
были очень серьезные проблемы. Так, по производству промыш¬
ленной продукции на душу населения Чили было отброшено да"
леко назад. Консервативный вариант модернизации обернулся
огромными социальными издержками. Прежде всего, заметно
упала заработная плата, особенно в первые годы проведения кон¬
сервативных реформ, в 10 раз увеличилась безработица. Правда,
по многим параметрам социальная структура Чили к 80-м гг. ста¬
ла больше соответствовать стандартам развитых стран: сократи¬
лась доля занятых в аграрном секторе, выросло количество лю¬
дей, работающих в непроизводственных отраслях, увеличилось
число ЩТ и у.д.
558
Столь противоречивые итоги консервативной модернизации
не могли не сказаться на общей политической атмосфере в стране.
Если в 1973 г. значительная часть средних слоев, мелкой буржуа¬
зии, государственных служащих, уставших от нестабильности,
поддержала хунту, олицетворявшую порядок, стабильность и
твердую власть, то, ощутив на себе «плоды» модернизации по ре¬
цептам Чикагской школы, они стали испытывать все большее не¬
довольство сложившимся порядком вещей. Несмотря на то что
возможности для легальной оппозиционной деятельности в Чили
в те годы были предельно ограничены, на рубеже 70-80-х гг. на¬
блюдается оживление всего оппозиционного спектра.
В 1979 г. Пиночет был вынужден разрешить деятельность ни¬
зовых профсоюзных организаций. Очень быстро они перешли под
контроль левых сил. Начались трудовые конфликты, в которых в
1979-1980 гг. участвовали десятки тысяч человек. Чувствуя, что
социальная поддержка его режима сокращается, Пиночет заявил
о либерализации и переходе к «авторитарной демократии». Был
разработан и 11 сентября 1980 г. вынесен на плебисцит проект
Конституции. Иными словами, был взят курс на институциона¬
лизацию режима. Его положение осложнялось из-за начавшегося
экономического кризиса. В этих условиях говорить об успехах
модернизации было достаточно сложно. Давление на Пиночета все
больше нарастало.
Правда, в среде оппозиционных сил не было единства по пово¬
ду того, как следует бороться с режимом. К 1983 г. сформирова¬
лось два оппозиционных центра: Демократический альянс (веду¬
щую роль в нем играли христианские демократы) и Народно-де¬
мократическое движение (компартия и другие левые силы). Пер¬
вые надеялись на восстановление демократии без использования
насильственных методов борьбы с режимом. Вторые отстаивали
курс на свержение диктатуры с помощью массовых действий. В
1983-1986 гг. левые предприняли настойчивые усилия, чтобы
свалить режим Пиночета, однако добиться этого не сумели. С од¬
ной стороны, начавшийся с 1985 г. экономический подъем позво¬
лил Пиночету улучшить свой имидж в глазах значительной части
общества. С другой — ему пришлось налаживать диалог с умерен¬
ным крылом оппозиции и идти на определенное реформирование
политической сферы.
В марте 1987 г. была в полном объеме разрешена деятельность
политических партий умеренной ориентации. В следующем году
был воссоздан Унитарный профцентр трудящихся Чили. Был на¬
значен плебисцит о продлении полномочий А. Пиночета еще на 8
лет. Несмотря на все ухищрения властей, более 50% его участни¬
ков отказали Пиночету в доверии. После этого он вынужден бьщ
559
назначить президентские выборы на 14 декабря 1989 г., причем
сам заявил, что не будет баллотироваться на этот пост. На них по¬
бедил лидер ХДП П. Эйлвин. Период диктатуры закончился.
Если кубинский вариант позволил решить многие социальные
проблемы, но не сумел создать экономические механизмы, рабо¬
тающие с должной эффективностью, то в Чили модернизация по¬
зволила добиться определенных успехов в сфере экономики, но
оказалась неприемлемой для большей части общества в социаль¬
ном плане.
§ 4, Мексика: реформистский вариант
модернизации
После бурных революционных событий первой трети XX в.
Мексика достаточно уверенно вступила на путь эволюционного
развития. Страна не знала серьезных социально-политических
катаклизмов, столь характерных для большинства стран Латинс¬
кой Америки. Здесь внимательно следили за различными попыт¬
ками осуществления модернизации, но предпочитали идти своим
путем, в рамках тех традиций, которые утвердились в стране. Глав¬
ное — это то, что правящая элита стремилась любой ценой избе¬
жать разных политических шараханий, способных столкнуть об¬
щество с эволюционного пути развития.
Еще в 1958 г. Мексика вышла на первое место в Латинской
Америке по общему объему промышленного производства. Реша¬
ющую роль в успешном экономическом развитии страны играл
достаточно мощный государственный сектор. На долю государства
приходилось более 40% всех капиталовложений в стране. К сере¬
дине XX в. Мексику уже вполне можно было относить к индуст¬
риально-аграрным странам. В политической жизни лидирующие
позиции прочно занимала Институционно-революционная партия
(ИРП). Несмотря на длительное пребывание у власти, она не утра¬
тила чувства времени и вкуса к проведению реформ.
В конце 50-х гг. новый импульс получили преобразования в
аграрном секторе. Опять-таки весьма активную роль здесь играло
государство, вкладывавшее значительные средства в модерниза¬
цию всех сфер аграрного сектора. В результате техническая осна¬
щенность сельского хозяйства значительно возросла, в нем стали
использоваться современные технологии. Что касается развития
промышленности, то здесь необходимо отметить, что все послево¬
енные правительства стремились привлечь в Мексику иностран¬
ный (прежде всего американский) капитал. Вместе с тем большое
внимание уделялось укреплению позиций национального капи¬
560
тала и государства в индустриальном секторе экономики. Прави¬
тельственная политика способствовала стабильному, динамично¬
му развитию промышленности. В 60-е гг. ежегодные темпы роста
ВВП достигали 7% — достаточно высокий по мировым меркам
уровень.
Кубинская революция, имевшая огромный резонанс в Латин¬
ской Америке, побудила мексиканский истеблишмент обратить
самое серьезное внимание на социальную сферу. Президент Л. Ма-
теос заявил, что будет стремиться к утверждению в стране прин¬
ципов социальной справедливости. Была резко расширена систе¬
ма социального обеспечения, внедрялась практика участия рабо¬
чих в прибылях, почти в два раза выросла заработная плата. Это
позволило поддерживать в сфере трудовых отношений стабильную
ситуацию и избегать серьезных катаклизмов, а также нейтрали¬
зовать влияние левых сил.
Как и для многих на Западе, для правящих кругов Мексики
во многом неожиданным оказался взлет радикального студенчес¬
кого движения. В 1968 г. по крупнейшим городам страны прока¬
тилась волна студенческих выступлений. 20 октября дело дошло
до кровопролитного столкновения с полицией, приведшего к мно¬
гочисленным жертвам. Для страны с устойчивым развитием это
было явно аномальное явление, но оно продемонстрировало, что
власти, не отказываясь от реформистского курса, готовы к жест¬
кому, силовому варианту развития событий.
Не принимая кубинского варианта модернизации, Мексика
вместе с тем весьма скептически относилась и к чилийскому опы¬
ту. Ее правящая элита твердо придерживалась либерально-рефор¬
мистского варианта развития. Серьезным подспорьем для Мекси¬
ки стал энергетический кризис 1973-1974 гг., когда резко вырос¬
ли цены на нефть, что позволило укрепить финансовое положе¬
ние страны, ее репутацию одного из лидеров Латинской Амери¬
ки. Другим следствием этого процесса стало укрепление позиций
национального капитала, рост его престижа и влияния на все сфе¬
ры жизни общества. Правительство не могло не учитывать эти
изменения. Занявший в 1976 г. президентское кресло X. Л. Пор¬
тильо вместо построения общества социальной справедливости
выдвинул на первый план идею «союза ради производства», т.е.
консолидацию общества, укрепление принципов социального
партнерства ради увеличения темпов общественного прогресса.
Вплоть до начала 80-х гг. этот курс приносил солидные полити¬
ческие дивиденды: Мексика уверенно продвигалась вперед, улуч¬
шая качество жизни, повышая эффективность всех общественно-
политических механизмов, демонстрируя оптимальное сочетание
стабильности и динамизма.
561
Серьезным испытанием для этой политики стал кризис 1982-
1983 гг. Столкнувшись с ним, Мексика была вынуждена обратить¬
ся за помощью к МВФ. Ее предоставление было обусловлено не¬
сколькими требованиями. Суть их сводилась к тому, что государ¬
ству следует резко сократить свое присутствие в сфере социально-
экономических отношений, передав инициативу частному капи¬
талу. Под давлением МВФ в Мексике в 1984-1985 гг. начался мас¬
совый процесс приватизации государственной собственности, се¬
рьезные коррективы были внесены в бюджетную политику —
прежде всего сократилось субсидирование социальной сферы.
Правительство сняло многие ограничения на деятельность иност¬
ранного капитала.
Как и везде, следование рецептам МВФ принесло противоре¬
чивые результаты. Да, удалось преодолеть последствия кризиса,
с 1984 г. возобновился рост экономики. Но какой ценой это было
достигнуто? Резко возросла безработица. Начал стремительно ра¬
сти внешний долг, а следовательно, и зависимость от внешнего
мира, прежде всего от США. Обострились социальные проблемы
и социальная напряженность. Мексику стало лихорадить из-за
постоянных конфликтов в сфере трудовых отношений.
Все это оказало серьезное воздействие на политическую жизнь
Мексики, и прежде всего на правящую партию. В ее рядах воз¬
никло сильное течение левого толка во главе с К. Карденасом, рез¬
ко критиковавшим новую политику правящей партии. Насколь¬
ко эта критика нашла отклик в сердцах мексиканцев, стало ясно
после того, как были обнародованы итоги парламентских выбо¬
ров 1988 г. Их с полным основанием можно назвать сенсационны¬
ми. ИРП вместо привычного подавляющего большинства получи¬
ла чуть более 50% голосов, и в Палате депутатов за ней осталось
263 места (из 500). Возглавляемый К. Карденасом Национальный
демократический фронт, созданный в преддверии выборов, сразу
получил более 30% голосов избирателей и 136 мест в Палате депу¬
татов.
Тем не менее новый президент Мексики К. Салинас де Горта-
ри продолжал действовать в русле тех рецептов, которая отстаи¬
вала Чикагская школа. По его инициативе 3/4 государственных
предприятий было передано в частные руки. Удалось добиться
некоторого сокращения внешнего долга. Правительство проводи¬
ло политику сдерживания роста цен и сокращения налогов. В
1992 г. было разрешено передавать в частную собственность зем¬
ли, принадлежавшие крестьянским общинам. В социально-поли¬
тической сфере новый президент выдвинул концепцию «социаль¬
ной либерализации», призванную соединить идеалы свободы и
социальной справедливости.
562
Хотя президент постоянно подчеркивал социальную направ¬
ленность реформ, именно в этой сфере его достижения были весь¬
ма скромными. Рост экономики не улучшил положения основной
части населения. Добиться ощутимого подъема уровня жизни не
удалось. Более того, после очень долгого перерыва Мексика стала
ареной взлета экстремизма. В январе 1994 г. вспыхнуло вооружен¬
ное восстание индейцев, а в марте на предвыборном митинге был
убит видный политический деятель Мексики Л. Колосио. Престиж
правящей партии был заметно подорван. О повторном выдвиже¬
нии прежнего президента уже не могло быть и речи. Новым лиде¬
ром правящей партии ИРП стал Э. Седильо. На выборах, прохо¬
дивших в августе 1994 г. в крайне нервозной обстановке, ИРП
победила с огромным трудом. Ее кандидат выиграл с минималь¬
ным преимуществом: Седильо собрал 50,2% голосов. Главные оп¬
позиционные партии — Партия народного действия и Партия де¬
мократической революции — получили в общей сложности 44%.
В 90-е гг. в политической жизни Мексики большой популяр¬
ностью стали пользоваться идеи интеграции страны с более мощ¬
ными северными соседями — США и Канадой. Мексика рассчи¬
тывала в этом проекте занять важную и перспективную позицию
связки между наиболее развитыми державами и весьма перспек¬
тивными, но пока догоняющими странами Южной Америки. В
1992 г. было принято решение создать Североамериканскую зону
свободной торговли. С заключением этого договора, вступившего
в силу 1 января 1994 г., различные политические силы связыва¬
ли самые разные надежды. Пока еще трудно давать ему оценку.
Правительство Мексики, однако, изначально стремилось сбалан¬
сировать свои внешнеполитические ориентации прежде всего за
счет расширения контактов до странами Азиатско-Тихоокеанско¬
го региона.
Серьезные коррективы во все эти планы внес начавшийся в
декабре 1994 г. финансово-экономический кризис. Курс песо за 4
дня упал на 64%. По существу, финансовая система страны рух¬
нула. От полной катастрофы Мексику спасли США и МВФ, экст¬
ренно предоставившие ей кредит на 50 млрд. долл. Это событие
показало значительной части мексиканских политиков и бизнес¬
менов, сколь рискованным может быть бездумное следование мо¬
нетаристским догмам. В обществе усиливались настроения в
пользу корректировки курса государственного корабля, больше¬
го учета при его прокладке достижений западной социал-демок¬
ратии.
Все это нашло отражение в результатах парламентских выбо¬
ров 1997 г., на которых правящая ИРП впервые лишилась боль¬
шинства мест в парламенте (она получила лишь 239 из 500 манда¬
563
тов), а мэром столицы стал лидер левой оппозиции К. Карденас.
Это был лишь пролог к главным событиям — выборам президен¬
та, намеченным на лето 2000 г. На них была разрушена, казалось
бы, незыблемая монополия ИРП на власть. Новым президентом
Мексики был избран лидер Партии национального действия
В. Фокс. Страна вступила в новую фазу развития. В плане своей
политической системы она приблизилась к традиционным для за¬
падной цивилизации образцам. С этой трансформацией в Мекси¬
ке и в других странах Запада связывают большие надежды, пола¬
гая, что она позволит стране вплотную приблизиться к ведущим
странам. Принесет ли это ожидаемые результаты, сказать сегод¬
ня трудно.
Зато очевидно другое: все самые разные по своей сути попыт¬
ки стран Латинской Америки вырваться на передовые позиции
общественного прогресса не принесли ожидаемого результата. До
сих пор латиноамериканскому обществу не удается выработать
такие рецепты модернизации, которые позволили бы одновремен¬
но решить триединую задачу: создать эффективную, динамично
развивающуюся экономику, решить унаследованные от прошло¬
го социальные проблемы, ликвидировать зависимость от индуст¬
риально развитых стран мира, прежде всего от США. Решить эту
сложнейшую задачу в XX в. им явно не удалось, однако поиски
таких рецептов продолжаются, и именно это будет определять
магистральные направления развития Латинской Америки в пер¬
вые десятилетия нового, XXI века.
ГЛАВА XII
Биполярная система: от консолидации
к распаду
§ 1. Трудцый путь к рнзрядке
К концу 50-х гг. в мировой политике отчетливо обозначились
тевденции, плохо коррелировавшие с жесткими нормами функ¬
ционирования биполярной модели. Мир становился все более
сложным и многоцветным. Безраздельная гегемония двух сверх¬
держав, их стремление свести всю палитру международных отно¬
шений к «историческому противоборству» двух систем ценностей
наталкивались на процессы плюрализации развития мирового
сообщества. Мощнейший удар по жесткой биполярной схеме ми¬
рового развития нанес интенсивный распад колониальной систе¬
мы и образование новых, независимых государств. Когда создава¬
лась биполярная система, их просто не существовало, и этот фак¬
тор не мог быть заложен в конструировавшуюся модель нового
миропорядка.
В 50-е гг. эти страны достаточно громко заявили о своем же¬
лании найти собственную нишу, выбрать свой путь развития. Это
создавало почву для возникновения Движения неприсоединения.
Весной 1955 г. в Бандунге (Индонезия) собрались представители
29 государств Азии и Африки, чтобы обсудить совместную страте¬
гию поведения в биполярном мире. На этой конференции было
одобрено несколько документов. К числу важнейших относится
«Декларация о содействии всеобщему миру и сотрудничеству».
Хотя большинство новых государств не желало жестко привязы¬
вать себя к какому-либо из двух основных центров силы, большая
их часть весьма настороженно относилась к США, ибо Америка
олицетворяла враждебный им Запад, и с симпатией относилась к
СССР, внимательно изучала его опыт индустриализации. В1961 г.
565
эта тенденция получила дальнейшее развитие: по инициативе
И. Б. Тито, Дж. Неру и Г. А. Насера было создано Движение не¬
присоединения .
Усложнение мирового сообщества неизбежно сказывалось на
уровне конфликтности и на характере самих конфликтов. Если в
первые послевоенные годы в центре большинства их было столк¬
новение двух сверхдержав, то теперь все чаще стали возникать
кризисные ситуации, порожденные действиями кого-то из их со¬
юзников, отстаивавших собственные интересы. США и СССР так
или иначе втягивались в эти в общем-то не нужные им конфлик¬
ты. Примером могут служить Суэцкий кризис 1956 г., два кризи¬
са вокруг Тайваня в 1954 и 1958 гг., начавшаяся в 1954 г. затяж¬
ная война Франции против Алжира.
В конце 50 — 60-е гг. супердержавы столкнулись с весьма не¬
приятным для них явлением — эрозией единства своих блоков.
Первым это ощутили в СССР. После того как в пылу борьбы за
власть Н. С. Хрущев выступил на XX съезде КПСС в феврале
1956 г. с разоблачением культа личности Сталина, нашему госу¬
дарству пришлось сразу же столкнуться с весьма неприятными
последствиями. В среде наших ближайших союзников возник
вполне естественный вопрос: почему они должны следовать во
внутренней и внешней политике тем рецептам, которые выраба¬
тываются в Москве? К такой постановке проблемы Хрущев был
абсолютно не готов, он растерялся и на время потерял контроль
над ситуацией в Восточной Европе, где прокатилась волна анти¬
советских и антирусских выступлений. Их кульминацией стали
события в Венгрии осенью 1956 г. Ценой огромных усилий, создав
себе массу проблем, удалось предотвратить неприемлемое для
СССР развитие событий в этом жизненно важном регионе и вос¬
становить свой контроль над событиями. Постепенно стали обо¬
стряться отношения с КНР. Поначалу это была чисто идеологи¬
ческая полемика, но по мере нарастания ее накала она начала ока¬
зывать все более негативное влияние и на характер межгосудар¬
ственных отношений двух крупнейших держав.
В конце 50-х гг. начались проблемы с союзниками и у амери¬
канцев. В 1958 г. президентом Франции стал Ш. де Голль, сторон¬
ник независимой внешнеполитической линии страны. Он посто¬
янно напоминал Вашингтону, что Франция — великая держава и
с ней нельзя обращаться как со своей марионеткой. Конфликт до¬
стиг кульминации в 1966 г., когда Франция объявила, что выхо¬
дит из военной (но не политической) организации НАТО, и стала
налаживать диалог с СССР. Другие западноевропейские страны
не пошли столь далеко. Но по мере того, как интеграционные про¬
цессы набирали размах и укреплялся совокупный экономический
566
потенциал стран Западной Европы, у них таяло желание слепо
идти в фарватере внешнеполитического курса США. На Дальнем
Востоке Япония, оправившаяся от разгрома в войне, в 60-е гг. на¬
чала демонстрировать фантастические успехи в сфере экономики.
В мире заговорили о «японском чуде». Япония доказала, что впол¬
не реальна и перспективна иная, чем американская, модель раз¬
вития рыночной экономики. Американцам все больше приходи¬
лось считаться с этим. Даже в Латинской Америке, традиционно
входившей в сферу влияния США, нарастали антиамериканские
настроения. Открытый вызов США бросила Куба.
Руководители и США, и СССР не могли не видеть, что в мире
происходят неблагоприятные для них изменения. Естественно,
вставали два взаимосвязанных вопроса: почему это происходит и
как на это реагировать? На рубеже 50-60-х гг. на первый вопрос в
столицах обеих сверхдержав давался простой ответ: причина всех
бед — козни врага. Соответственно предлагались и рецепты борь¬
бы с этими кознями. Во-первых, всеми средствами укреплять и
наращивать свой военный потенциал за счет новейших видов ра¬
кетно-ядерного оружия. Гонка вооружений в это время вступила
в новый виток. Во-вторых, любой ценой втиснуть процесс плюра¬
лизации развития мирового сообщества в жесткие рамки борьбы
двух систем. И США, и СССР громогласно утверждали, что имен¬
но их страна символизирует оптимальную модель общественного
развития.
По инициативе Н. С. Хрущева в СССР была принята новая
программа КПСС, в которой декларировалось, что в СССР в обо¬
зримом будущем будет построено коммунистическое общество.
Новый президент США — молодой, амбициозный Дж. Кеннеди —
при любом удобном случае бросал вызов СССР, заявляя, что в США
будет построено «общество всеобщего благоденствия» — что-то
вроде коммунизма, но с частной собственностью. Хрущев и Кен¬
неди активно убеждали остальное мировое сообщество, что по-пре¬
жнему существует только два варианта развития: американский
и советский.
Резко обострилась борьба за третий мир. США, используя ком¬
бинацию силовых и реформистских средств, пытались «вестерни¬
зировать» его, расширить там прослойку сторонников западного
варианта развития. Всячески пропагандируя западные демокра¬
тические ценности, США в то же время не гнушались поддерж¬
кой одиозных диктаторских режимов, при условии их жестко ан¬
тикоммунистической позиции.
Советский Союз пытался играть на том, что в среде лидеров
третьего мира тон тогда задавали политики радикального толка,
такие, как Г. А. Насер и Ф. Кастро. Мы готовы были оказывать
им экономическую, дипломатическую и даже военную помощь.
Правда, принимая ее, далеко не все лидеры третьего мира стано¬
вились нашими полноценными союзниками. У них были свои ин¬
тересы, собственное видение будущего своих стран, далеко не все¬
гда совпадавшее с представлениями Хрущева о том, что такое со¬
циальный прогресс. Тем не менее они, как правило, занимали
жесткую антиамериканскую позицию, и это вполне соответство¬
вало государственным интересам СССР.
Разное видение процессов, которые проходили в третьем мире,
неизбежно вело к обострению противоборства США и СССР в этом
огромном анклаве мирового сообщества. Отсюда частые и весьма
жесткие столкновения, перераставшие в серьезные международ¬
ные кризисы. Их кульминацией стал Карибский кризис, разра¬
зившийся в октябре 1962 г. и поставивший мир на грань мировой
ядерной войны.
Сам Карибский кризис продолжался всего несколько дней, но
ему предшествовало длительное нагнетание напряженности вок¬
руг Кубы. Вашингтон категорически не устраивала политика, ко¬
торую проводило ее правительство. В ход были пущены практи¬
чески все средства давления, чтобы отстранить от власти прави¬
тельство Ф. Кастро. Это вынуждало Кубу обратиться за помощью
к СССР для укрепления обороноспособности страны. В ходе этих
усилий между Кубой и советским руководством было достигнуто
соглашение о размещении на острове советских ракет, способных
нести ядерные боеголовки. Конечно, Вашингтон сразу же засек эти
действия и объявил о введении с 24 октября 1962 г. «строгого ка¬
рантина» вокруг Кубы, включая досмотр направляющихся туда
судов. СССР отказался признать легитимность этого шага. Возник¬
ла угроза прямого столкновения сверхдержав. Стратегические
силы обеих стран были приведены в состояние полной боевой го¬
товности. К 28 октября после напряженных переговоров между
СССР и США удалось найти развязку. Обе стороны пошли на ус¬
тупки: Советский Союз согласился вывести свои ракеты с Кубы, а
США дали обязательство снять карантин и уважать неприкосно¬
венность границ Кубы.
Карибский кризис стал важной вехой в истории биполярной
системы. В политических элитах обеих сверхдержав стали все от¬
четливее понимать, что лобовое столкновение сверхдержав с ис¬
пользованием всего имеющегося в их распоряжении военного по¬
тенциала не принесет победы и обернется глобальной катастрофой.
Следовательно, для реализации своих планов надо искать другие,
более гибкие и отвечающие новым реалиям методы. Отсюда стрем¬
ление как-то сбить остроту военного противостояния, ограничить
наиболее абсурдные и опасные формы гонки вооружений. Прояв¬
568
лением этих тенденций стало заключение в 1963 г. Московского
договора о прекращении ядерных испытаний в трех сферах: ат¬
мосфере, космосе и под водой. В том же русле действовал и подго¬
товленный под эгидой ООН договор «О принципах деятельности
государств по исследованию космического пространства» и дого¬
вор «О запрещении размещения ядерного оружия на дне морей и
океанов».
Более сложным по своему характеру и последствиям был зак¬
люченный в 1968 г. договор «О нераспространении ядерного ору¬
жия». С одной стороны, очевидно, что бесконтрольное располза¬
ние ядерного оружия чревато непредсказуемыми, опасными по¬
следствиями для всего человечества. С другой — закрытие явоч¬
ным порядком шансов на вступление в «ядерный клуб» для всех,
кроме той пятерки государств, которая к 1968 г. уже имела свое
ядерное оружие, вызывало естественное раздражение у так назы¬
ваемых «пороговых государств» (которые в обозримом будущем
могли создать свое ядерное оружие). Ведь обладание им являлось
как бы символом причастности к «клубу великих держав», а лю¬
бое уважающее себя государство стремится к этому.
Наряду с этим, в 60-е гг. действовали и другие тенденции: обе
сверхдержавы, прежде всего США, не оставляли надежд перело¬
мить ситуацию в свою пользу за счет успехов в локальных конф¬
ликтах. В 60-е гг. центральным конфликтом такого рода стала
война во Вьетнаме.
С конца 50-х гг. в Южном Вьетнаме стала разворачиваться
борьба против марионеточного сайгонского правительства. С
1960 г. ее возглавил Национальный фронт освобождения Южно¬
го Вьетнама (НФОЮВ). США, в свою очередь, интенсифицирова¬
ли помощь Сайгону, однако положение сайгонского режима не¬
уклонно ухудшалось. После того как 7 августа 1964 г. конгресс
США принял Тонкинскую резолюцию, началась стремительная
эскалация прямого американского вмешательства в гражданскую
войну в Южном Вьетнаме. Американцы, рассчитывавшие препо¬
дать наглядный урок коммунистам, как вскоре стало ясно, попа¬
ли в крайне неприятную ситуацию: несмотря на все усилия само¬
го мощного в мире государства, оно не могло ничего поделать с
вьетнамскими партизанами. Потери США росли, увеличивалось
недовольство в самих США действиями своего правительства, ан¬
тивоенное движение достигло там огромного размаха, падал пре¬
стиж страны в мире. К 1968 г. стало очевидно, что добиться побе¬
ды в этой войне США не смогут, и перед ними встал тяжелый воп¬
рос о выходе из этой ситуации с минимальными потерями.
Под давлением внешних и внутренних обстоятельств США
пришлось согласиться на четырехсторонние переговоры (США,
569
ДРВ, сайгонский режим и НФОЮВ), которые начались в январе
1969 г. в Париже. Новый президент США Р. Никсон в качестве
одного из своих первых шагов во внешнеполитической сфере про¬
возгласил в 1969 г. так называемую Гуамскую доктрину, которая
предусматривала «вьетнамизацию» войны в Индокитае. Не пре¬
кращая военно-технической помощи Сайгону, США начали посте¬
пенно свертывать свое собственное военное присутствие в этом ре¬
гионе. Однако выйти из войны оказалось намного труднее, чем
вступить в нее: этот процесс оказался чрезвычайно болезненным
И растянулся до середины 70-х гг.
Другой серьезной проблемой, грозившей взорвать сложивше¬
еся в мире статус-кво, был перманентный ближневосточный кон¬
фликт, периодически переходивший в фазу военных действий
между Израилем и его арабскими соседями. Очередное такое стол¬
кновение вспыхнуло в июне 1967 г., когда Израиль нанес неожи¬
данный массированный удар по Египту, Сирии и Иордании и зах¬
ватил обширные территории, принадлежавшие этим трем странам.
Лишь жесткая позиция СССР заставила израильтян прекратить
военные действия. В непростом положении были и США. Изра¬
иль являлся их стратегическим союзником, и поддержка его счи¬
талась одним из императивов американской внешней политики.
В то же время такая жесткая позиция мешала налаживанию диа¬
лога США с арабским миром и автоматически укрепляла в нем
позиции СССР.
Непростой была и ситуация внутри противоборствующих
блоков. Здесь особенно сложным было положение СССР. К кон¬
цу 60-х гг. усилились эрозийные процессы в Организации Вар¬
шавского договора. Восточноевропейские страны, входившие в
эту организацию, за четверть века, прошедшие с момента окон¬
чания войны, заметно окрепли, и там все более отчетливо про¬
слеживалось желание, по крайней мере в вопросах внутренней
политики, иметь большую самостоятельность, больше учиты¬
вать национальную специфику и собственные интересы. Совет¬
ское руководство должно было решить, как реагировать на эти
процессы.
Поначалу эта проблема стояла как бы подспудно, но в 1968 г.
в Чехословакии у руководства КПЧ и страны оказался А. Дубчек,
сторонник проведения серьезных реформ в социально-экономичес¬
кой сфере. Не исключалось, что он поставит вопрос о внешнепо¬
литической ориентации Чехословакии, а это уже грозило стабиль¬
ности ОВД. После серьезных колебаний советское руководство
склонилось к жесткому курсу: в Чехословакию были введены вой¬
ска ОВД, Дубчек был отстранен от власти. Контроль над положе¬
нием в этой стране был восстановлен, но достаточно высокой це¬
570
ной: престижу СССР был нанесен серьезный ущерб. Кроме того,
силовой вариант решения проблемы загнал вглубь вставшие в по-
вестку дня вопросы, но отнюдь не решил их.
Еще сложнее обстояли дела в советско-китайских отношени¬
ях. От идеологических споров, возникших на рубеже 50-60-х гг.,
стороны перешли к жесткому противостоянию на межгосудар¬
ственном уровне, накал которого достиг такой остроты, что гро¬
зил в любой момент перерасти в открытое вооруженное противо¬
стояние. Собственно говоря, в конце 60-х гг. до этого и дошло. К
счастью, дело ограничилось пограничными столкновениями, но
гарантировать, что в дальнейшем не произойдет более крупномас¬
штабного военного конфликта, никто це мог.
Свои сложности были и у США. Хотя так далеко в отношении
США, как де Голль, остальные западноевропейские страны не по¬
шли, они все настойчивее требовали, чтобы Вашингтон в большей
мере учитывал их интересы при формировании своего внешнепо¬
литического курса. В 1969 г. правительство ФРГ возглавил лидер
западногерманских социал-демократов В. Брандт. С его именем
связан кардинальный пересмотр всей «восточной политики & ФРГ.
Новый канцлер исходил из того, что отказ от нормализации отно¬
шений с СССР и от признания тех изменений, которые произош¬
ли в Восточной Европе по итогам войны, противоречит интересам
ФРГ, работает против них. По его инициативе в 1970 г. был под¬
писан договор с СССР о нормализации отношений, а чуть по¬
зднее т- договоры с Польшей, Чехословакией и ГДР о признании
существующих границ. В. Брандт был сторонником концепции
конвергенции, которая, как показала история, оказалась более
эффективным инструментом противоборства с СССР, чем жесткая
линия на открытое силовое противоборство между Западом и Вос¬
током. Однако тогда в Вашингтоне с большим недоверием следи¬
ли за действиями Брандта, упрекая его за нарушение «атланти¬
ческой солидарности &.
Все эти разноплановые события вместе с тем имели одно об¬
щее: они подрывали устои биполярности. Заговорили о кризисе
биполярной системы и даже о формировании полицентричного
мира. Вполне понятно, что США и СССР не хотели с этим мирить¬
ся. И в Вашингтоне, и в Москве интенсивно размышляли о путях
реставрации своих пошатнувшихся позиций. Лидерам обеих стран
становилось очевидным, что необходимо вносить определенные
коррективы в свои отношения, прежде всего попытаться ограни¬
чить обременительную для обеих сторон гонку вооружений и по
возможности сузить сферу конфликтности. Так выкристаллизо¬
вывалась идея разрядки, которая обрела реальные очертания в
первой половине 7Q-x гт.
571
§ 2. Разрядка: иллюзии и реальности
Начало разрядки международной напряженности, как прави¬
ло, связывают с визитом президента США Ричарда Никсона в
Москву в мае 1972 г., его переговорами с высшим советским руко¬
водством и подписанием серии важных соглашений. К их числу
прежде всего следует отнести три: «Основы взаимоотношений меж¬
ду СССР и США», «Договор об ограничении систем противоракет¬
ной обороны» (ПРО), «Временное соглашение о мерах по ограни¬
чению стратегических вооружений» (ОСВ-1). Кроме того, был под¬
писан ряд более частных соглашений о развитии контактов в сфе¬
ре торговли, культуры, науки, образования и т.д. В этих докумен¬
тах фиксировался принцип равной безопасности. Декларировал¬
ся отказ от применения силы в двусторонних отношениях, пре¬
дусматривались конкретные меры по частичному ограничению
гонки вооружений. Предполагалось, что это лишь первые шаги в
процессе нормализации советско-американских отношений. Прав¬
да, у серьезных аналитиков сразу возникал вопрос: насколько ре¬
ально воплощение в жизнь тех положений, которые содержались
в подписанных документах?
Поначалу, в первой половине 70-х гг., разрядка довольно уве¬
ренно набирала обороты. Прежде всего это относилось к Европе.
С 1972 г. начались сложные, многоступенчатые консультации,
завершившиеся в 1975 г., когда 1 августа в Хельсинки главы 33
европейских государств, США и Канады подписали Заключи¬
тельный акт Общеевропейского Совещания по безопасности и со¬
трудничеству. Главное — в этом документе содержалось коллек¬
тивное признание нерушимости существовавших европейских
границ. Заключительный акт предполагал непрерывность встреч
и переговоров в рамках общеевропейского процесса. Намечалось
созвать новую встречу участников этого процесса в конце 1977 г.
в Белграде. Состоялись еще два саммита советских и американс¬
ких руководителей. Продолжались переговоры по ограничению
стратегических вооружений. В 1979 г. в Вене Л. И. Брежнев и
Дж. Картер подписали соглашение ОСВ-2, которое, правда, еще
предстояло провести через сенат США, где у него было немало
противников.
27 января 1973 г. было подписано Парижское соглашение по
Вьетнаму. В соответствии с ним предусматривалось, что США в
60-дневный срок выводят свои войска из Южного Вьетнама, за¬
тем предполагалось провести выборы и осуществить объединение
Вьетнама без иностранного вмешательства. Контроль за выполне¬
нием этих соглашений должна была осуществлять международ¬
ная комиссия, куда планировалось делегировать представителей
572
4 стран — Венгрии, Польши, Канады и Индонезии. Однако сай-
гонская администрация сорвала выполнение этих соглашений.
Война продолжалась, правда уже без прямого участия США, ко¬
торые тем не менее продолжали оказывать помощь Сайгону. Это
уже не могло спасти ситуацию. 30 апреля 1975 г. Сайгон пал, и
дорога к объединению Вьетнама была открыта. Долголетняя вой¬
на завершилась. США потерпели крупнейшее в своей истории по¬
ражение.
Это событие породило у американцев так называемый «вьет¬
намский синдром»: обычно всегда самоуверенные, американцы
переживали период неуверенности в своих силах и чувство расте¬
рянности по поводу того, как реагировать на развитие событий в
мире. А мир в 70-е гг. бурлил, в нем постоянно возникали опас¬
ные конфликтные ситуации. Осенью 1973 г. вспыхнула новая вой¬
на на Ближнем Востоке. Она опять проходила неудачно для араб¬
ских стран. Тогда они попытались использовать новое оружие —
резко повысили цены на нефть, поставляемую в США и в ряд стран
Западной Европы, симпатизировавших Израилю. Это сразу же
создало немало проблем для США и их сторонников.
Ареной кровопролитных столкновений стала Африка. Анго¬
ла, Западная Сахара, Намибия, Сомали, Эритрея, Чад — вот пере¬
чень тех точек, где возникали острейшие конфликты, найти раз¬
вязку которых было очень трудно. Далеко не всегда они вписыва¬
лись в привычные рамки «исторического противоборства » двух
социальных систем. Но все же больше проблем они создавали для
США. Даже в Европе, где уже давно сложилось устойчивое соот¬
ношение сил, в 70-е гг. произошли весьма тревожные для США
события: в Португалии и Греции в 1974 г. пали реакционные, но
абсолютно лояльные США режимы. На какое-то время возникла
вполне реальная перспектива (особенно в Португалии) прихода к
власти левых сил и серьезного изменения внешнеполитических
ориентаций этих стран, которые являлись членами НАТО.
И в Латинской Америке дела обстояли не особенно благопри¬
ятно для США. Наиболее сложной была ситуация в Центральной
Америке, где заметно усилились антиамериканские настроения.
В Сальвадоре и Никарагуа шла гражданская война, в которой пе¬
ревес переходил к левым, антиамериканским силам. В 1977 г.
США пришлось подписать соглашение с правительством Панамы,
предусматривавшее постепенный переход важнейшей стратеги¬
ческой коммуникации — Панамского канала — в руки местных
властей. Но самый чувствительный удар по престижу США нанес¬
ла исламская революция в Иране (1979 г.), ставшая первым вест¬
ником начинавшегося подъема исламского фундаментализма.
Лидер иранской революции аятолла Хомейни с самого начала за¬
573
нял резко антиамериканскую позицию. Если к этому прибавить
серьезные экономические трудности, которые США переживали
в 70-е гг., то понятно, что итоги этого десятилетия вряд ли можно
признать благоприятными для этой страны.
Свои проблемы были и у СССР. М. С. Горбачев и его сподвиж¬
ники позднее окрестили этот период «эпохой застоя». Вряд ли
можно признать этот термин вполне корректным и адекватным
тому, что реально происходило в советском обществе, но очевид¬
но и то, что действительности не соответствовала и официальная
концепция «развитого социализма». Общество развивалось, но
параллельно с этим и в силу этого в нем накапливались серьезные
социальные, экономические, идеологические проблемы, которые
требовали разрешения. Однако стареющее советское руководство
предпочитало уходить от назревшей необходимости реформиро¬
вания советского общества.
Вместо этого Л. И. Брежнев предпочитал делать акцент на ус¬
пехи «прогрессивных, миролюбивых сил» на международной аре¬
не. Да, действительно, в 70-е гг. Советский Союз мог записать в
свой актив ряд весомых достижений в этой сфере, но были и не
менее серьезные проблемы. Накапливалось все больше конфлик¬
тов в отношениях с партнерами по ОВД. Слабейшим звеном в этом
блоке оказалась Польша, где на рубеже 70-80-х гг. события стали
быстро выходить из-под контроля тогдашнего руководства. По-
прежнему оставались напряженными советско-китайские отноше^
ния. Они особенно обострились после того, как Китай напал на
Вьетнам. Большие сложности создавали для нашей страны мно¬
гочисленные конфликты в странах третьего мира.
Поддержка своих потенциальных сторонников там требовала
больших средств, которые были крайне необходимы для внутрен¬
него развития, но далеко не всегда приносили ожидаемые резуль¬
таты. Конфликты в третьем мире скорее раскачивали выгодную
СССР биполярность, чем укрепляли ее. Наиболее яркой иллюст¬
рацией этого тезиса стали события в Афганистане, где в 1978 г.
группа молодых революционеров свергла королевский режим и
поставила своей целью в кратчайший срок осуществить фундамен¬
тальную модернизацию этой одной из самых отсталых стран мира.
Они решительно взялись за дело, но совершенно не учитывали
специфику своей страны, игнорировали ее традиции и реальный
расклад сил. В результате в стране вспыхнула гражданская вой¬
на. Все это происходило в непосредственной близости от советс¬
ких границ и не могло не беспокоить советское руководство.
Во второй половине 70-х гг. и в американской, и в советской
элите стали усиливаться позиции тех, кто полагал, что ожидания,
связанные с разрядкой, себя не оправдывают. Дело в том, что они
574
мыслили в привычных для биполярного мира категориях: пози¬
тивным считалось то, что способствовало укреплению позиций
лишь одной (естественно, своей) стороны. А динамика развития
событий на международной арене в 70-е гг. была гораздо более
сложной, она ломала привычные схемы, а новых не было. Не уди¬
вительно, что и та, и другая сторона списывала негативные для
себя моменты на разрядку. Ее стали именовать «улицей с одно¬
сторонним движением».
Особенно сильное недовольство проявляли американские кон¬
серваторы. Из их лагеря раздавались все более громкие призывы
к тому, что только сильная Америка сможет эффективно выпол¬
нить свою историческую миссию — сокрушить «империю зла» (по
американской терминологии — СССР). Они настаивали на резком
увеличении военных расходов и требовали, чтобы союзники США
вносили существенно большую лепту в общие усилия по борьбе с
СССР. Под давлением США в 1978 г. на сессии НАТО было приня¬
то решение о ежегодном увеличении военного бюджета стран
НАТО на 3%. В Советском Союзе это расценили как откровенный
вызов, не принять который было невозможно. Именно тогда было
начато развертывание новых ракет СС-20 в странах Восточной
Европы. Хотя общее количество советских ракет в этом регионе
не увеличивалось (снимались с боевого дежурства устаревшие ра¬
кеты, а на их место ставились современные), США усмотрели в
этом желание СССР нарушить сложившийся баланс сил в Европе.
В 1979 г. было принято двойное решение НАТО: начать размеще¬
ние в Западной Европе 572 ракет средней дальности и одновремен¬
но вступить в переговоры с СССР об ограничении ядерных воору¬
жений в Европе. Ситуация все больше заходила в тупик, ибо обе
стороны исходили из того, что справедливы только их позиции.
Становилось очевидным, что политика разрядки не принесла
ожидаемого смягчения международной напряженности. Хотя ар¬
хаичность стереотипов времен «холодной воййы» делалась все бо¬
лее очевидной, найти им реальную альтернативу не удавалось:
слишком велик был груз противоречий, разделявших две супер¬
державы, слишком много взаимных претензий накопилось у обе¬
их сторон друг к другу, чтобы можно было быстро и не нарушая
своих реальных интересов выйти на новый уровень двусторонних
отношений. Если к этому добавить, что обе стороны переживали в
это время серьезные внутренние трудности, то становится понят¬
ным, почему накал страстей в советско-американских, а следова¬
тельно, и во всей совокупности международных отношений стал
быстро нарастать.
Окончательно судьбу разрядки предрешили события в Афга¬
нистане, где с каждым днем разгорался пожар гражданской вой¬
575
ны. Безусловно, это не могло не тревожить советское руководство,
но из всех возможных вариантов воздействия на ситуацию в этой
стране был выбран самый простой, но явно не эффективный спо¬
соб — силовой. В канун нового, 1980 г. было объявлено о вводе
советских войск в Афганистан. США на все 100% использовали
этот поспешный и непродуманный шаг — они обвинили СССР в
зловещих замыслах по установлению своего мирового господства
и заявили, что в таких условиях ни о какой разрядке не ‘может
быть и речи. С Советским Союзом можно вести дела только с пози¬
ции силы, утверждали в Вашингтоне. В результате градус напря¬
женности на международной арене резко подскочил вверх.
§ 3. Кризис и распад биполярной
системы
В начале 80-х гг., когда в публицистике активно муссировал¬
ся тезис о « втором издании холодной войны », вряд ли кто мог пред¬
положить, что к концу десятилетия весьма устойчивая, пережив¬
шая немало кризисов биполярная система рухнет. Казалось совер¬
шенно немыслимым, что один из двух основных центров силы —
Советский Союз — исчезнет с политической карты мира. Даже его
самые жесткие и непримиримые враги в то время вряд ли надея¬
лись на это.
Действительно, развитие событий в начале 80-х гг. никак не
предвещало подобной драматической развязки. В 1980 г. на греб¬
не «консервативной волны» президентом США был избран лидер
крайне консервативных кругов Р. Рейган. Он сразу же резко взвин¬
тил накал идеологической полемики с СССР, но не только поле¬
мики. Конкретные шаги США на международной арене в первой
половине 80-х гг. — бомбардировка Ливии, минирование морско¬
го побережья Никарагуа, вторжение на Гренаду — свидетельство¬
вали, что Вашингтон делает ставку на откровенно силовой вари¬
ант решения конфликтных ситуаций. Кроме того, был взят курс
на изматывание СССР в гонке вооружений. США приступили к
размещению в Западной Европе ракет средней дальности, объя¬
вили о крупных ассигнованиях на разработку новых видов воору¬
жения. Кульминацией этой линии стало начало работ по програм¬
ме «звездных войн» (официальное ее название — «стратегическая
оборонная инициатива»).
СССР оказался в непростой ситуации. Во-первых, в это время
наметилось явное замедление темпов развития советской эконо¬
мики. Она нуждалась в реформах и в солидных финансовых инъ¬
екциях. Участие в новом витке гонки вооружений в этой обета-
576
новке для нас было крайне нежелательно. Но и не принять вызова
Америки, не рискуя своим статусом сверхдержавы, было тоже
нельзя. Во-вторых, все больше обострялась обстановка в Польше,
где стремительно усиливалось влияние «Солидарности», лидер
которой Л. Валенса не скрывал своих антисоветских и антирус¬
ских настроений. В-третьих, тяжелыми гирями на ногах советс¬
кого общества висела война в Афганистане. Войти в Афганистан
оказалось намного легче, чем выйти из него. Наконец, первая по¬
ловина 80-х гг. — время серьезной нестабильности в советской
элите. За несколько лет сменилось 4 Генеральных секретаря, се¬
рьезно изменился состав Политбюро ЦК КПСС, да и всей партий¬
но-хозяйственной элиты. В обстановке острой борьбы за власть
выработать стабильную, долгосрочную программу поведения на
международной арене было непросто.
Конечно, неправильно сводить всю палитру международных
отношений тех лет только к советско-американской конфронта¬
ции. Общая тенденция усложнения, плюрализации международ¬
ных отношений продолжала развиваться. В мире появились но¬
вые узлы противоречий. Прежде всего, к привычному с давних пор
конфликту Восток — Запад прибавился и начал ощущаться все
весомее конфликт Север — Юг, т.е. противоречия между ведущи¬
ми индустриальными странами, «большой семеркой», и огромным
блоком развивающихся государств. Обострились противоречия
внутри самого третьего мира, и их уже практически было невоз¬
можно втиснуть в жесткие рамки противостояния США и СССР.
Классическими примерами этого явились ирано-иракская война
(1980-1988 гг.), самый кровопролитный конфликт биполярной
эпохи, и англо-аргентинская война из-за Фолклендских островов
(1982).
В самом третьем мире стремительно нарастало внутреннее рас¬
слоение. Появились так называемые «новые индустриальные стра¬
ны» (Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур), которые вплоть до кон¬
ца 90-х гг. рекламировались как символы новых технологий в про¬
мышленности и финансах. Особую группу составляли страны ОПЕК
(Организация етран-экепортеров нефти), получавшие огромные
прибыли от экспорта нефти. Обозначилась группа «пороговых
стран» (Индия, Бразилия, ЮАР и др.), обладавших таким потен¬
циалом, который при его рациональном использовании позволял
им уже в обозримом будущем претендовать на роль региональных
лидеров. Наконец, существовала группа наиболее бедных стран
(Афганистан, Сомали, Ботсвана и др.) — своеобразные заповедни¬
ки голода, нищеты, эпидемий. Очевидно, что между этими страна¬
ми было мало общего, у них свои цели, своя дорога, свои проблемы.
Говорить о единстве третьего мира становилось все труднее.
577
Советско-американское противоборство, центром которого в
80-е гг. вновь стала Европа, укрепляло позиции тех, кто полагал,
что западноевропейским странам следует занимать как можно бо¬
лее самостоятельную позицию в мировых делах. А это означало,
что следует всемерно стимулировать развитие интеграции и обще¬
европейского процесса. В 80-е гг. была подготовлена почва для
качественного скачка в этом направлении, что было зафиксиро¬
вано в Маастрихтских соглашениях (1991). Валютно-финансовый
договор предусматривал переход стран «Общего рынка» с 1 янва¬
ря 1999 г. к единой денежной единице — экю (позднее переиме¬
нованной в евро). Другой договор касался углубления политичес¬
кого союза западноевропейских государств. Речь шла о создании
механизмов для выработки общих принципов внешней и оборон¬
ной политики.
Что касается общеевропейского процесса, то благодаря усили¬
ям западноевропейских стран консультации по этим проблемам
не прекращались даже в разгар обострения советско-американс¬
ких отношений. Хотя встречи в Белграде (1977) и Мадриде (1980-
1983 гг.) вряд ли можно отнести к числу продуктивных, но тот
факт, что диалог в этой сфере не прерывался, говорит о том, что у
общеевропейского процесса уже была солидная основа. В январе
1984 г. в Стокгольме открылась Конференция по мерам укрепле¬
ния доверия и безопасности в Европе. Ее работа продолжалась бо¬
лее двух с половиной лет и завершилась в сентябре 1986 г. подпи¬
санием итогового документа, в котором содержалось обязательство
не применять силу или угрозу силы в отношениях между европей¬
скими государствами.
Решающие события, связанные с распадом биполярной сис¬
темы, начались во второй половине 80-х гг. В1985 г. Генеральным
секретарем ЦК КПСС был избран М. С. Горбачев — самый спор¬
ный политик в отечественной истории. Видимо, только время по¬
может выработать относительно сбалансированную оценку его
противоречивой деятельности. Однако уже сейчас очевидно: он как
политик потерпел банкротство, а его курс обернулся для СССР
катастрофой. Тем не менее вряд ли разумно оценивать его деятель¬
ность в черно-белых тонах. В ней, безусловно, быдр и позитивные,
и негативные моменты.
Если говорить о положительных сдвигах во внешней полити¬
ке, то в первую очередь следует назвать снижение накала идеоло¬
гической полемики между СССР и США. Стороны перестали об¬
ливать друг друга грязью, приписывать своему оппоненту самые
немыслимые и страшные намерения. Полемика стала вестись в
гораздо более цивилизованной форме. Во-вторых, стороны верну¬
лись к переговорам по ключевым проблемам международных от¬
578
ношений. В результате удалось сдвинуть с мертвой точки перего¬
воры по широкому спектру проблем, касающихся ограничения
гонки вооружений. В 1987 г. в Вашингтоне между США и СССР
был подписан договор о ликвидации ракет средней и малой даль¬
ности. Впервые был ликвидирован целый класс вооружений. Хотя
он составлял всего 4% ядерного арсенала сверхдержав, это был
крупный шаг вперед: создавался важный прецедент, прошел ап¬
робацию договор нового типа. В-третьих, удалось нормализовать
советско-китайские отношения. В-четвертых, мощный импульс
получил общеевропейский процесс. Наконец, в 1988 г. был завер¬
шен вывод советских войск из Афганистана.
Здесь, правда, проявилась тенденция, которая чем дальше, тем
больше стала определять внешнеполитический курс М. С. Горба¬
чева, — односторонние уступки Западу ради утверждения абстрак¬
тных принципов «нового политического мышления». После его
встречи с президентом США Дж. Бушем на Мальте в 1989 г. эта
тенденция превратилась в определяющую, что имело катастрофи¬
ческие последствия для нашей страны. Вопреки реальным госу¬
дарственным интересам, Горбачев взял курс на уход СССР из тре¬
тьего мира, где к 1991 г. мы лишились практически всех союзни¬
ков. Этот вакуум начали быстро заполнять США.
В 1989 г. произошел обвальный распад социалистической си¬
стемы. Стратегические позиции СССР катастрофически ухудша¬
лись. Кульминацией этого процесса стало объединение, а точнее,
присоединение ГДР к ФРГ. Было бы глупо и некорректно возра¬
жать против самого факта создания объединенной Германии, но
то, как это было осуществлено, до сих пор вызывает массу вопро¬
сов. В этом важнейшем для безопасности СССР вопросе Горбачев
пошел на односторонние уступки Западу.
Тем временем в самом Советском Союзе стремительно нарас¬
тал внутриполитический кризис. Поддержка Горбачева быстро
таяла, он на глазах терял контроль над ситуацией. Все больший
размах приобретали различные сепаратистские движения. Чем все
это закончилось, хорошо известно. В декабре 1991 г. Советский
Союз прекратил свое существование, а вместе с ним канула в не¬
бытие и биполярная система.
ГЛАВА XIII
Ведущие страны Запада на рубеже
XX-XXI вв,
§ 1. Становление постбиполярной
модели международных отношений
Распад биполярной системы во весь рост поставил отнюдь не
праздный вопрос: что дальше? До сих пор процесс смены одной
модели международных отношений другой сопровождался глубо¬
чайшими военно-политическими катаклизмами. На сей раз сце¬
нарий был иным. Тектонические сдвиги на международной арене
были вызваны исчезновением с политической карты мира одного
из двух центров силы, на которых крепился каркас биполярной
системы. Это определило ряд особенностей, присущих становле¬
нию новой модели международных отношений. Во-первых, об¬
вальный характер распада биполярной системы и отсутствие ка¬
ких-либо формально-юридических документов, фиксирующих эту
ситуацию, предельно размывали характер базовых параметров
нарождающейся модели международных отношений. Во-вторых,
в силу этого фаза становления новой модели приобрела тягучий
характер: данный процесс растянулся на целое десятилетие. Лишь
сегодня стали вырисовываться ее общие контуры. В третьих, ни¬
когда раньше не было такой ситуации, чтобы становление новой
модели, ее параметры в такой мере зависели от единственной ос¬
тавшейся супердержавы — США. Наконец, никогда ранее этот
процесс не сопровождался таким обилием острых региональных
кризисов, в ходе которых отрабатывался модус взаимоотношений
основных центров силы, формировалась новая структура между¬
народных отношений.
На сегодняшний день, безусловно, державой номер один яв¬
ляются Соединенные Штаты. Они не скрывают своего стремления
580
превратить XXI столетие в «американский век», когда весь мир
будет обустроен по образцу и подобию США, когда американские
ценности приобретут универсальный характер, а сама Америка
станет центром мироздания. Они готовы использовать для этого
весь имеющийся в их распоряжении набор средств, включая во¬
енную силу. Подобные устремления вступают в явное и весьма
жесткое противоречие с набирающим все больший размах процес¬
сом плюрализации мирового сообщества. Возникает и другой воп¬
рос: хватит ли у США ресурсов для того, чтобы закрепиться на
позициях безусловного мирового гегемона? А если не хватит (боль¬
шинство аналитиков полагают, что в конечном итоге именно так
и будет), то каким образом это скажется на состоянии системы
международных отношений?
Пожалуй, первой заявкой на эту роль стала операция «Буря
в пустыне», осуществленная в 1991 г. формально под эгидой ООН,
но по сути основную ее часть выполняли вооруженные силы
США, которые стремились продемонстрировать всему миру свою
мощь и возможности. Однако сделать это удалось только частич¬
но. Хотя Ирак проиграл войну, на него были наложены суровые
санкции и его влияние в регионе было серьезно подорвано, глав¬
ная задача — отстранение С. Хусейна от власти и замена его на
лояльный США режим не была выполнена. Руководство США
однако не отказалось от этой идеи. В том году в завершающую
фазу вступил внутриполитический кризис в СССР, закончивший¬
ся в декабре его распадом, и теперь развитие событий на между¬
народной арене в решающей мере зависело от ситуации на пост¬
советском пространстве.
При всем трагизме этих событий, первичньщ резонанс от них
оказался меньшим, чем можно было ожидать от событий такого
масштаба. Местные элиты бывших советских республик бросились
увлеченно делить госсобственность, не особенно задумываясь о
последствиях своей суверенизации. Правда, на территории быв¬
шего СССР возникло несколько «горячих точек». К Нагорному
Карабаху прибавились Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия,
Таджикистан. Чуть позже стала обостряться ситуация в наиболее
опасной на сегодняшний день «точке» — в Чечне. Однако в целом
местные элиты сумели удержать ситуацию под контролем. Тем не
менее обвальный распад мощнейшей супердержавы привел к об¬
разованию огромного вакуума силы в международных отношени¬
ях. А поскольку долго такое положение сохраняться не может,
сразу же началась жесткая борьба за установление контроля над
бывшими сферами влияния СССР.
Естественно, первую скрипку в этом процессе играли США. В
качестве основного ударного инструмента Вашингтон попытался
581
использовать НАТО. Несмотря на то, что основной оппонент
НАТО — ОВД — прекратил свое существование еще в 1991 г., Се¬
вероатлантический альянс не только не был распущен, но, наобо¬
рот, с каждым днем набирал новые силы. В повестку дня были
поставлены два взаимосвязанных вопроса: о расширении сферы
ответственности НАТО и о приеме в организацию новых членов.
Они, в свою очередь, сразу же потянули за собой целый ряд новых
вопросов: зачем нужны эти шаги, против кого они напрддлены,
кто будет финансировать эти реформы и т.д.
Очевидно, что США, как безусловный лидер западного сооб¬
щества, должны были взять на себя инициативу в поисках отве¬
тов на все вопросы, возникшие в связи с формированием принци¬
пиально новой геополитической ситуации. Американскому руко¬
водству предстояло объяснить мировому сообществу, почему, не¬
смотря на распад СССР, необходимо и дальше наращивать воен¬
ную мощь Запада и почему именно США должны играть роль ли¬
дера в построении нового мирового порядка. Первичное обоснова¬
ние американской позиции по этим вопросам было дано в доку¬
менте под названием «Стратегия национальной безопасности в
новом столетии», подготовленном администрацией У. Клинтона.
В нем необходимость дальнейшего наращивания военных усилий
обосновывалась возникновением новых угроз безопасности США
и Западу в целом. Главным их источником США объявили «госу¬
дарства-изгои» и международный терроризм, причем Вашингтон
по существу присвоил себе право самостоятельно определять, кого
конкретно относить к этим категориям. И только США якобы спо¬
собны эффективно защитить мир от этих новых угроз. Отсюда
выводилась необходимость лидерства США р постбиполярном
мире.
США очень быстро от слов перешли к делу. Уже в 1992-93 гг.
был поставлен вопрос о приеме в НАТО новых членов из числа
стран Центральной и Восточной Европы. Первыми были офици¬
ально приняты в НАТО в 1999 г. страны Вышеградекой группы
(Венгрия, Польша и Чехия). Таким образом, началось неуклон¬
ное продвижение НАТО на Восток. Это, естественно, не могло не
беспокоить Россию. Для нейтрализации ее озабоченности в 1994 г.
была провозглашена специальная программа «Партнерство ради
мира», а в 1997 г. между НАТО и Россией был подписан «Осново¬
полагающий акт о взаимных отношениях,, сотрудничестве и безо¬
пасности между Российской Федерацией и НАТО», где в довольно
общей форме обрисовывались принципы, которыми стороны со¬
бирались руководствоваться в своих взаимоотношениях. По сути,
Россия признавала и де-факто, и де-юре новый баланс сил в Евро¬
пе. А он неуклонно менялся не в ее пользу.
582
На протяжении 90-х гг. главной кризисной точкой в Европе,
где определялись многие важные характеристики нового миропо¬
рядка, стала территория бывшей Югославии. После смерти круп¬
нейшего югославского политика Иосипа Броз Тито в этой стране
стали стремительно нарастать сепаратистские настроения. Уже в
1991 г. Словения и Хорватия объявили о выходе из состава феде¬
рации и провозгласили себя независимыми государствами. Сер¬
бия, традиционно являвшаяся ядром союзного государства, попы¬
талась силой предотвратить его распад, что привело к перераста¬
нию политического конфликта в войну. Впервые после 1945 г.
часть Европы стала ареной боевых действий.
С весны 1992 г. центром военного противоборства стала тер¬
ритория Боснии и Герцеговины, где причудливо перемешались
различные религиозно-этнические группы: православные, като¬
лики, мусульмане; сербы, хорваты, боснийцы. Внутриюгославе-
кий конфликт начал быстро интернационализироваться, ибо ве¬
дущие западные страны сразу же заняли открыто антисербекую
позицию. Против того, что осталось от бывшей Югославии (преж¬
де всего это Сербия) под давлением США ООН ввела международ¬
ные санкции. Перевес сил стал склоняться в сторону противни¬
ков Сербии.
В ходе этой стадии конфликта на Балканах в политике США
произошли важные подвижки. На рубеже 80-90-х гг. американс¬
кие политики любили рассуждать о необходимости укрепления и
расширения миротворческих функций ООН. В то время американ¬
цы рассчитывали превратить эту организацию в послушный ин¬
струмент по реализации своих внешнеполитических установок.
Однако распад биполярной системы породил такую вспышку кон¬
фликтов необычной для прошлой эпохи конфигурации, что это
вызывало подчас довольно серьезные разногласия среди членов
ООН. Довольно быстро выяснилось, что, с одной стороны, у ООН
явно не хватает ресурсов для осуществления эффективных мирот¬
ворческих операций в многочисленных конфликтных ситуациях
нового поколения, а с другой, США не всегда могут быть уверены
в том, что Совет Безопасности ООН займет при рассмотрении тех
или иных конфликтов приемлемую для США позицию. В вашин¬
гтонских коридорах власти разгорелась жаркая дискуссия о це¬
лесообразности активизации американских усилий по модерни¬
зации ООН в соответствии с новыми внешнеполитическими зада¬
чами США.
В итоге администрация президента У. Клинтона пришла к
выводу о нецелесообразности расширения американского участия
в миротворческих операциях ООН. В 1994 г. была принята специ¬
альная директива, в которой оговаривались условия участия США
583
в будущих миротворческих операциях ООН. Было решено, что
вооруженные силы США будут использоваться в таких акциях
только при условии их подчинения американскому командова¬
нию. Это означало, что впредь в конфликтных ситуациях США
будут делать ставку не на ООН, а на иные структуры, прежде все¬
го на НАТО. События на Балканах подтверждали этот вывод. К
середине 90-х гг. ООН была оттеснена от урегулирования конфлик¬
та в Боснии и Герцеговине. Кульминацией этого процесса стали
Дейтонские соглашения, заключенные по инициативе США в но¬
ябре 1995 г. На территории этого края создавались сербская рес¬
публика и мусульмано-хорватская федерация, а для поддержания
мира сюда вводились силы НАТО, заменившие части ООН.
После Дейтонских соглашений США еще больше усилили дав¬
ление на правительство Сербии во главе со Слободаном Милоше¬
вичем, объявив его главным источником нестабильности на Бал¬
канах. В Вашингтоне не скрывали, что будут добиваться его от¬
странения от власти.
Очередное обострение конфликта на Балканах произошло в
конце 90-х гг., и оно было связано с событиями в Косове, где мест¬
ные албанские сепаратисты из «Армии освобождения Косово & тре¬
бовали предоставления краю независимости. В конфликт между
Белградом и сепаратистами немедленно вмешались США и стояв¬
шее за ними НАТО. Милошевичу был поставлен ультиматум: от
него добивались согласия на введение в край вооруженных сил
НАТО для обеспечения там мира. По существу речь шла о вытес¬
нении Сербии из этого региона. Поскольку Сербия отвергла уль¬
тиматум, в марте 1999 г. авиация НАТО начала бомбить военные
(по официальной версии) объекты Сербии. Впервые за время свое¬
го существования НАТО прямо обрушило свою мощь на суверен¬
ное государство, нарушив Устав ООН. Боевые действия продол¬
жались 2,5 месяца. Безусловно, силы были неравны. Сербии при¬
шлось отступить. По сути дела край был передан под контроль
НАТО.
Конечно, борясь за установление «американского века», США
отнюдь не всегда прибегали к силовым акциям. Соединенные
Штаты в 90-е гг. еще активнее, чем раньше, использовали методы
экономического и политического давления и на своих противни¬
ков, и на союзников. Как и прежде, они предпочитали прибегать
для достижения своих целей к экономическим санкциям. Только
в период первой администрации У. Клинтона федеральные орга¬
ны власти США более 60 раз прибегали к санкциям, причем в пе¬
речне государств, попавших в «черные списки», оказались не толь¬
ко те, кого американские дипломаты зачислили в «изгои» (напри¬
мер, Ирак, КНДР, Куба, Югославия, Иран и т.д.), но и те, кто яв¬
584
ляется постоянными торговыми партнерами США, но чем-то выз¬
вали их неудовольствие (например, Бразилия, Канада, Саудовс¬
кая Аравия и др.).
Правда, сами по себе, без использования дополнительных
средств давления, экономические санкции далеко не всегда при¬
носят ожидаемый эффект. Поэтому наряду с санкциями США ак¬
тивно использовали и другие рычаги экономического порядка.
Важным инструментом продвижения американских интересов
стала Всемирная торговая организация (ВТО), созданная в 1995 г.
Конечно, не следует рассматривать это экономическое объедине¬
ние как инструмент, которым Вашингтон произвольно манипули¬
рует в своих интересах. Например, один из основных соперников
США в современном мире — Китай — прекрасно использует воз¬
можности, предоставленные ВТО, для укрепления собственного
экономического потенциала. Большая роль в общей внешнеэко¬
номической стратегии Вашингтона отводится МВФ. Однако на
рубеже XX-XXI вв. его имидж был заметно подпорчен серией
финансовых кризисов, разразившихся в ряде стран Юго-Восточ¬
ной Азии, Латинской Америки и в России.
У. Клинтон и его окружение прекрасно понимали, что, несмот¬
ря на все разговоры о желательности укрепления правовых начал
в сфере междуцародных отношений, военная сила по-прежнему
остается главным фактором, определяющим место и возможнос¬
ти государства в системе международных отношений. Поэтому не
удивительно, что расходы на военные цели продолжали расти и
сегодня достигают астрономической суммы — более 300 млрд,
долл. Акцент делается на то, что США должны иметь вооружен¬
ные силы, оснащенные самой передовой военной техникой. Имен¬
но технологическое преимущество должно принести Америке пре¬
восходство в военной сфере, которая затем реализуется и в поли¬
тике. Отсюда первостепенное внимание к развитию новейших,
высокотехнологичных систем вооружения. Уже в конце 90-х гг.
США повели речь о создании, в нарушение условий Договора об
ограничении систем ПРО от 1972 г., новейшей системы ПРО, ко¬
торая надежно закрыла бы США от любой потенциальной угрозы
ракетно-ядерного ударл. Правда, при Клинтоне США еще не ре¬
шились на этот шаг.
Однако новый президент США — Джордж Буш младший —
уже вскоре после своего избрания заявил об одностороннем выхо¬
де его страны из договора по ПРО от 1972 г., который справедливо
расценивался практически всеми военными аналитиками как ос¬
новной элемент стратегической стабильности в мире. Этот шаг
США вызвал раздражение даже у их ближайших союзников по
НАТО, не гоноря уже о России и Китае.
585
Сегодня трудно сказать, удастся ли США создать такую сис¬
тему ПРО, о которой говорит Дж. Буш младший, но уже сейчас
очевидно, что этот шаг ведущей на сегодняшний день мировой
державы лишь усиливает дестабилизирующие начала в процессе
формирования новой модели международных отношений. Не слу¬
чайно практически в это же время под вопросом оказалась и дру¬
гая важнейшая опора всей прежней системы стратегической ста¬
бильности — Договор о нераспространении ядерного оружия. В
1998 г. Индия и Пакистан почти синхронно объявили об испыта¬
нии собственного ядерного оружия. Договор о нераспространении
дал серьезную и глубокую трещину. Сегодня в любой момент о
выходе из него могут объявить КНДР и Израиль. Судя по всему,
близок к этому и Иран, а также некоторые другие страны. Оче¬
видно, что по мере того, как у США будет все чаще проявляться
«командный комплекс», число государств, готовых последовать
примеру Индии и Пакистана, будет увеличиваться.
Стремительное разрушение прежнего баланса сил поставило
практически перед всеми государствами непростую задачу адапта¬
ции своих государственных интересов к новым реалиям. В этом пла¬
не в наиболее непростой ситуации оказались страны Западной Евро¬
пы. С одной стороны, ушла в прошлое так называемая «советская
угроза» и, следовательно, исчезла жесткая обязательность следовать
в фарватере внешнеполитического курса США. У европейских дер¬
жав появилась возможность играть в гораздо большей мере, чем рань¬
ше, самостоятельную роль в мировых делах. Несколько десятиле¬
тий успешного развития интеграции позволили им заметно укрепить
свой совокупный экономический потенциал и превратиться в силу,
способную конкурировать с американской экономикой.
Евросоюз постепенно вовлекает в свою орбиту страны бывше¬
го социалистического содружества и новые независимые государ¬
ства Прибалтики. С 1999 г. введена сначала в безналичный, а по¬
том и в наличный оборот единая европейская валюта — евро, ко¬
торая достаточно успешно претендует на роль второй мировой ре¬
зервной валюты. С другой стороны, «атлантическая солидарность»
за полвека своего существования пустила достаточно глубокие
корни, и это не может не оказывать многостороннего воздействия
на всю внешнеполитическую деятельность ведущих европейских
держав. К этому надо добавить и относительную военную слабость
Европы, которая традиционно привыкла рассчитывать в этой об¬
ласти на США и НАТО. Не случайно в конце 90-х гг. в европейс¬
ких столицах начали активно муссировать тему реанимации За¬
падноевропейского Союза в качестве чисто европейской альтерна¬
тивы НАТО. Однако пока дальше разговоров дело не пошло, ибо
на практике создание параллельной НАТО эффективной военной
586
структуры оказалось делом сложным, дорогостоящим и пока не
особенно нужным.
Тем не менее определенные трения в отношениях США и За¬
падной Европы продолжали накапливаться. Биллу Клинтону,
пока он находился у власти, в целом все же удавалось поддержи¬
вать партнерские отношения со странами Евросоюза на нормаль¬
ном рабочем уровне. Однако после того, как на выборах 2000 г.
победу одержал кандидат республиканцев Дж. Буш мл., в его ад¬
министрации ключевые позиции заняли «ястребы » (Р. Чейни,
Д. Рамсфелд, К. Райс), которые выражали явное неудовлетворе¬
ние темпами утверждения «американского века». Они изначаль¬
но отдавали предпочтение односторонним действиям США, при¬
чем приоритет в их планах явно принадлежал силовым акциям.
Своеобразным водоразделом в процессе становления постби¬
полярной модели международных отношений стали события сен¬
тября 2001 г. в Нью-Йорке, когда там произошел крупнейший в
истории теракт, ответственность за который взяла на себя экстре¬
мистская исламская организация «Аль-Каида». Используя это
событие, Дж. Буш мл. немедленно заявил, что США были атако¬
ваны силами международного терроризма и, следовательно, име¬
ют право на самооборону в самом широком смысле слова. Он, вы¬
ражая точку зрения «ястребов» из своего окружения, особо под¬
черкнул, что США ни с кем не собираются согласовывать свои шаги
по проведению операции возмездия. Те, кто хочет, могут присое¬
диниться к «судьбоносной» борьбе Америки с международным
терроризмом, остальные рискуют оказаться в числе недружествен¬
ных ей государств.
Лидер «Аль-Каиды» У. Бен Ладен уже давно обосновался в
Афганистане» где у власти находились наиболее одиозные пред¬
ставители исламского фундаментализма — представители движе¬
ния Талибан. Кабульские власти находились почти в полной меж¬
дународной изоляции, поэтому, когда США предъявили им уль¬
тиматум, они имели полную свободу рук. Сосредоточив на подсту¬
пах к Афганистану мощнейшую военную группировку, заручив¬
шись поддержкой оппозиционного Талибану «Северного альянса»,
США, не вступая в сухопутные боевые действия, легко и без по¬
терь добились успеха. Притом, что внешне все произошло для
США без сучка и задоринки, на деле ситуация оказалась далеко
не простой. Хотя в Кабуле при поддержке США у власти был по¬
ставлен абсолютно лояльный и полностью зависимый от Вашинг¬
тона М. Карзай, ареал его властных полномочий ограничивался
только столицей, которую охраняли американские войска. Свое¬
го главного врага — Бен Ладена — американцы ловят до сих пор,
а Америка находится в постоянном ожидании новых вылазок тер¬
68Т
рористов из «Аль-Каиды». Наконец, исламские страны, хотя на
словах солидаризировались с «антитеррористической операцией»
США против талибов, на деле выражали все большее беспокойство
в связи с растущей, по их мнению, антиисламской направленнос¬
тью действий администрации Дж. Буша мл.
Вместе с тем именно в ходе этих событий США сделали круп¬
ный шаг в закреплении базовых характеристик нового миропоряд¬
ка. Они сумели добиться одобрения (пусть и формального) своего
права на проведение односторонних акций в любой части земного
шара и признания борьбы с международным терроризмом, в кото¬
рой они играют ключевую роль, в качестве важнейшей задачи,
стоящей перед всеми ведущими членами мирового сообщества.
Однако для того, чтобы такое положение дел приобрело постоян¬
ный статус, США необходимо убедить остальной мир, что новые
угрозы мировому сообществу («государства-изгои», международ¬
ный терроризм) приобрели долговременный характер и только
мощь Америки способна обеспечить стабильность и безопасность.
Разгромив движение талибов, Дж. Буш младший и его окруже¬
ние сразу же начали интенсивныйчпоиск очередного врага.
После недолгих дискуссий «ястребы» выдвинули на эту роль
Ирак, который, по их утверждениям, потворствовал планам тер¬
рористов и готовился к использованию оружия массового пораже¬
ния против своих многочисленных врагов. В средствах массовой
информации началась мощнейшая кампания по подготовке обще¬
ственного мнения США и других западных стран к мысли о необ¬
ходимости и оправданности отстранения от власти иракского ли¬
дера Саддама Хусейна. Тем не менее на сей раз, несмотря на мощ¬
нейшую информационно-пропагандистскую атаку, США не суме¬
ли убедить в правомерности своих претензий к Ираку не только
мировое сообщество, но даже своих ближайших союзников по
НАТО. По существу только Великобритания солидаризировалась
с действиями США, а Франция и ФРГ заявили, что не видят дос¬
таточных оснований для начала военной акции против Ирака.
США так и не смогли предоставить миру убедительные дока¬
зательства наличия у Ирака тех или иных видов ОМП. Не сумели
они убедить ни своих партнеров по НАТО, ни тем более членов СБ
ООН в обоснованности обвинений, которые они выдвигали в адрес
Ирака. И тем не менее, вопреки существующим нормам междуна¬
родного права, без санкции ООН, они начали весной 2003 г. войну
против Ирака. Несмотря на свое подавляющее военное превосход¬
ство, осуществить блицкриг США не смогли. Ирак они в итоге ок¬
купировали, но те дивиденды, которые они пока получили, вряд
ли соответствуют тем затратам и издержкам, которые сопровож¬
дали эту войну.
588
Естественно, США не собираются отказываться от планов
построения такой системы международных отношений, в ко¬
торой бы они играли роль безусловного лидера. Не успела за¬
кончиться война в Ираке, а в Вашингтоне уже начали подыс¬
кивать новый объект для демонстрации американской мощи.
Из уст высших должностных лиц звучат угрозы в адрес КНДР,
Ирана, Сирии и ряда других государств, зачисленных в раз¬
ряд «изгоев».
По большинству показателей, с помощью которых определя¬
ется совокупная мощь государства, США действительно занима¬
ют сегодня лидирующие позиции. Однако современный мир го¬
раздо сложнее, многообразнее и многоцветнее, чем это представ¬
ляется в Вашингтоне, и он плохо вписывается в рамки однополяр¬
ного мира. Очевидно, что ближайшие годы будут заполнены ост¬
рой борьбой противоречивых тенденций, в ходе которой и пред¬
стоит окончательно определиться тому, какой же все таки будет
новая модель системы международных отношений. Многое будет
зависеть от того, как сложатся взаимоотношения тех стран, кото¬
рые помимо США претендуют на участие в деятельности «клуба
великих держав». Не меньшее значение будет иметь внутренняя
динамика развития ведущих стран Запада, их способность адек¬
ватно реагировать на многочисленные вызовы, рождаемые эволю¬
цией постиндустриального общества. Важно, чтобы, при всей
сложности и подчас непредсказуемости процесса формирования
и развития постбиполярной модели международных отношений,
неизбежные при этом коллизии и конфликты решались в право¬
вом поле, а цена поисков их развязки не перечеркнула те позитив¬
ные моменты, которые были накоплены за предшествующую ис¬
торию.
§ 2. Основные тенденции социально-
политического развития стран
Западной Европы и Северной Америки
К концу XX в. ведущие страны, составляющие ядро западной
цивилизации, уверенно вошли в фазу постиндустриального обще¬
ства. К этому времени наиболее трудная часть структурной пере¬
стройки экономики осталась позади, и в 90-е гг. большинство стран
данного региона демонстрировали достаточно устойчивые и ста¬
бильные темпы экономического роста — в среднем 2-2,5% в год.
Особенно успешным оказалось это десятилетие для США, которые
еще дальше ушли в отрыв от своих конкурентов. И по другим клю¬
чевым показателям — уровню безработицы, инфляции, произво¬
589
дительности труда — общая картина опять-таки выглядела впол¬
не благополучно.
Своеобразным фирменным знаком этого десятилетия стал про¬
цесс глобализации. В этот чрезвычайно широко используемый
сегодня термин вкладывается самое разное содержание, но, как
правило, под этим понимают многомерный процесс, в качестве
главных составляющих которого выделяют: 1) формирование еди¬
ного мирового финансового рынка; 2) формирование единой ин¬
формационной сети; 3) либерализацию мировой торговли; 4) рез¬
кое расширение роли ТНК в мировой экономике.
В глобализации отчетливо выделяются два пласта. Первый
порожден объективно разворачивающимися процессами в сфере
экономики, которые способствуют формированию качественно
нового уровня развития мирового хозяйства. Второй связан с по¬
пытками США направить эти объективные процессы в выгодное
для себя русло, представить глобализацию как проявление тен¬
денций к неизбежной унификации многоликой человеческой ци¬
вилизации по американскому образцу. Используя то обстоятель¬
ство, что Америка действительно по ряду параметров лидирует в
процессе строительства постиндустриального общества, вашинг¬
тонские политики утверждают, что все остальные члены мирово¬
го сообщества должны следовать ее рецептам.
Процесс глобализации развивается неравномерно. Наиболее
интенсивно идет глобализация финансовых рынков. В последние
полтора десятилетия чрезвычайно активно шло становление ми¬
рового финансового рынка, причем опережающими темпами раз¬
вивалось движение спекулятивного капитала, оторванного от ре¬
ального сектора экономики. Сегодня в глобальном движении ка¬
питала выделяется три основных потока. Во-первых, это кредит¬
но-финансовые потоки, обеспечивающие экспортно-импортные
операции. Во-вторых, это прямые иностранные инвестиции, свя¬
занные с долгосрочными вложениями в экономику, и, наконец,
это портфельные инвестиции, включающие в себя операции с ва¬
лютой, облигациями и ценными бумагами. Объем и роль этой тре¬
тьей части общего глобального движения капитала растет особен¬
но быстро, и именно она начинает оказывать наибольшее воздей¬
ствие на динамику развития цивилизации. Пока не сложилось
адекватных регуляторов этой сферы движения капитала, и в силу
этого именно она стала главным источником неустойчивости ми¬
рового финансового рынка, которая за последние десятилетия
обернулась несколькими региональными кризисами.
Сердцевиной качественных изменений мировой экономики ста¬
ли сдвиги в области информационно-коммуникационных техноло¬
гий, радикально трансформировавших материальный базис обще¬
590
ства. Прежде всего, заметно снизилась роль производства индуст¬
риального типа. Во-вторых, в последние четверть века заметно ви¬
доизменились источники экономического роста. В их ряду все боль¬
шую роль приобретает информация, которая становится одним из
главных товаров в глобальной экономике. В-третьих, меняется
структура производственного процесса, в котором постепенно ос¬
новное место занимает индивидуализированная мелкосерийная
продукция, а это ведет к изменению всей системы управления про¬
изводственным процессом. А это, в свою очередь, стало возможным
благодаря появлению нового типа информационных технологий,
прежде всего — стремительно развивающейся сети Интернет.
Глубокие качественные изменения в мировой экономике, выз¬
ванные процессом ее глобализации, наряду с несомненными дос¬
тижениями, принесли и новые крупномасштабные проблемы, ко¬
торые не без оснований окрестили глобальными. В их ряду на пер¬
вое место, безусловно, выдвигается экологическая проблема. В
отдельных регионах ситуация в этой сфере достигла такой остро¬
ты, что возникает угроза для безопасного обитания человека. На¬
учно-технический прогресс стал часто оборачиваться появлением
и распространением новых, ранее неизвестных заболеваний. Че¬
ловек сам создает такие средства, которые способна нанести не¬
восполнимый урон среде его обитания.
Как это ни парадоксально, но, несмотря на бурный прогресс
научных знаний, серьезные заботы у современной цивилизации
вызывает традиционная для человечества демографическая про¬
блема, точнее говоря неконтролируемый и неравномерный рост
населения планеты, который абсолютно не коррелирует с темпа¬
ми экономического роста. На протяжении XX в. численность на¬
селения Земли выросла почти в 4 раза — с 1,5 млрд. чел. до 6 с
лишним млрд., причем большая часть прироста населения прихо¬
дится как раз на страны с невысоким уровнем жизни. Это ведет к
тому, что на планете создаются своеобразные зоны-заповедники,
где процветают голод и нищета, а они, как известно, являются
важнейшим источником обострения самых различных по своей
природе конфликтов.
В последние годы все чаще говорится о назревании энергети¬
ческого и сырьевого кризиса. Конечно, истощение источников
сырья и, следовательно, появление серьезных проблем в энерге¬
тике произойдет не завтра, но темпы сокращения запасов сырья
приобретают угрожающий характер, и человечество просто обя¬
зано заблаговременно задуматься над этим вопросом.
Рост населения планеты обозначил еще одну кризисную про¬
блему — продовольственную. Безусловно, она касается прежде
всего наиболее отсталых стрАн, но от этого она не становится ме¬
591
нее острой. Более того, ее обострение лишь усугубляет все увели¬
чивающийся разрыв в уровне жизни между наиболее развитыми
и богатыми странами и остальным человечеством. Однако дости¬
жения ведущих мировых держав как раз в значительной мере ос¬
новываются на перекачке ресурсов из стран, составляющих пери¬
ферию системы международных отношений. А отсюда берет свои
истоки явление, названное известным американским ученым
С. Хантингтоном «столкновением цивилизаций».
Наряду с появлением глобальных проблем, переход ведущих
стран Запада в стадию постиндустриального общества сопровож¬
дался обострением ряда социальных проблем, характерных имен¬
но для этой группы государств, олицетворяющих западную циви¬
лизацию. Очевидно, что существенные изменения в сфере эконо¬
мики, вызванные их переходом на качественно иной уровень раз¬
вития, повлекли за собой крупные сдвиги в социальной структуре
этих стран. Прежде всего, еще больше ускорился отлив рабочей
силы из производственных отраслей в сферу услуг. Так, напри¬
мер, в 90-е гг. в США в этом секторе экономики было занято почти
72% всей рабочей силы, в Канаде — более 70%, в Великобрита¬
нии — около 70%. В самой этой сфере заметно усилилась ее внут¬
ренняя диверсификация. Рост данной отрасли экономики проис¬
ходил прежде всего за счет ускоренного увеличения числа управ¬
ленческих кадров, научных работников, инженерно-техническо¬
го персонала, работающего в области информационных услуг и
технологий. Именно они составляли костяк «нового среднего клас¬
са». Продолжала развиваться опасная тенденция к росту разрыва
в уровне доходов наиболее богатой части общества и тех, кто н^ср-
дится на нижних ступенях социальной лестницы.
Быстрое изменение структуры экономики вело к тому, что,
несмотря на благоприятную экономическую конъюнктуру, в ве¬
дущих странах постоянно сохранялась достаточно обширная ар¬
мия безработных — даже по официальной статистике в середине
90-х гг. она насчитывала в странах «семерки» около 20 млн. чело¬
век. Не удивительно, что проблема занятости в 90-е гг. являлась
одной из основных в политической жизни ведущих стран Запада.
Особенно большую активность в этом плане проявляли члены Ев¬
росоюза. Там выделялись большие средства (до 3,5% от ВВП) на
подготовку и переподготовку кадров, на пособия по безработице,
на различные программы вспомоществования для тех, кто оказал¬
ся в числе социальных аутсайдеров. Особенно высокий уровень
таких расходов (почти в два раза выше, чем в среднем в странах
Евросоюза) был в скандинавских государствах.
Масштабная трансформация социальной структуры постин¬
дустриального общества вела к крупным подвцжкам в ценност¬
592
ных ориентациях, царящих в различных социальных группах.
Первое, о чем необходимо сказать в этом контексте, — безуслов¬
ная победа на этом историческом отрезке не просто постулата о
преимуществе эволюционного варианта развития над революци¬
онным, а убежденности в том, что западная цивилизация может
развиваться только таким образом. Это чрезвычайно важное об¬
стоятельство оказывает определяющее воздействие на весь ход и
характер идейно-политической борьбы в современном западном
обществе.
Одновременно «информационная революция», охватившая
ведущие страны Европы и Америки в последней трети XX в., при¬
вела к тому, что обрушившаяся на голову среднестатистического
гражданина лавина информации о перипетиях идейно-политичес¬
кой борьбы, использование в информационном бизнесе «грязных»
технологий стали вызывать увеличивающееся отторжение и не¬
доверие к политике и политикам в целом. Опросы общественного
мнения во всех ведущих странах Запада демонстрируют растущий
скептицизм избирателей в отношении как конкретных политиков,
так и основных политических институтов, падение веры в то, что
они способны в своей деятельности отражать реальные потребнос¬
ти общественного развития.
Особенно большую роль в развитии кризиса доверия к поли¬
тике и политикам сыграли грандиозные разоблачения коррупции
в высших эшелонах власти в Италии в середине 90-х гг., шумный
скандал, связанный с попыткой процедуры импичмента против
президента США У. Клинтона в 1999 г., и, наконец, серия сенса¬
ционных разоблачений о имевших место искажениях и подтасов¬
ках информации правительствам Э. Блэра и Дж. Буша мл. в ходе
подготовки войны против Ирака. Летом 2003 г. начались рассле¬
дования, и пока неясно, смогут ли власти США и особенно Вели¬
кобритании благополучно выпутаться из этого скандала.
Это противоречивое сочетание двух разноплановых тенден¬
ций — убежденности в том, что эволюционный путь развития об¬
щества единственно возможный для западной цивилизации, и
одновременное падение доверия к существующим политическим
институтам — оказывает очень сложное воздействие на электо¬
ральное поведение избирателей. Бросается в глаза рост двух кате¬
горий потенциальных избирателей. Во-первых, это те, кто либо
вообще отказывался голосовать, либо голосовал «против всех».
Во-вторых, под влиянием воздействия этих противоречивых тен¬
денций заметно возросла степень изменчивости электоральных
симпатий, особенно у тех социальных групп, которые сформиро¬
вались в период вхождения западной цивилизации в фазу постин¬
дустриального общества. В отличие от традиционных социальных
593
групп, имевших прочные партийные симпатии и преференции,
новые слои не связывали себя жесткими узами с какой-то опреде¬
ленной партией. Они предпочитали голосовать в зависимости от
того, как в партийных платформах отражаются волнующие их
проблемы. Формировалось чисто рыночное отношение к партиям,
когда связи между ними и избирателями строились не на основе
каких-то четких идейных принципов, а на базе «покупаемости»
предвыборных обещаний.
Очевидно, что в такцх условиях ожидать резкой поляризации
программно-целевых установок партий не приходится, как не при¬
ходится рассчитывать и на сохранение в традиционном виде пре¬
жней политической шкалы: «левые— центристы— правые». В
90-е гг. в силу указанных причин в отношениях партий консенсус
явно превалировал над альтернативой, а сами партии независимо
от своих названий ощутимо сместились к центру политического
спектра. Резкий сдвиг вправо партийно-политической системы
большинства ведущих стран Запада, характерный для конца
70-х — 80-х гг, когда осуществлялись главные структурные пре¬
образования, связанные с переходом в постиндустриальное обще¬
ство, остался позади. Речь теперь шла о консолидации свершив¬
шихся изменений и поиске оптимальной формы управления по¬
стиндустриальным обществом. Не случайно весьма популярным
в это время и у партий, считавшихся по традиции левыми, и у тех,
кого опять-таки по традиции называли правыми, стал лозунг кон¬
солидации и общественного согласия. Пожалуй, единственной
силой, которая в 90-е гг. вносила элемент нестабильности и непред¬
сказуемости в размеренный ритм общего развития партийно-по¬
литических систем западных стран, оставались партии национа¬
листического толка.
Многие ретивые сторонники глобализации в начале 90-х гг.
поспешили заявить, что национализм канул в прошлое, превра¬
тился в атавизм. Он действительно плохо вписывался в основное
русло эволюции партийно-политических систем современного
Запада, но вряд ли на этом основании правомерно утверждать, что
националистическая идеология безвозвратно отброшена на обочи¬
ну идейно-политической жизни западного общества. Собственно
говоря, сама политическая практика 90-х гг. опровергла этот те¬
зис. В целом ряде стран — Франции, Италии, Австрии, Швейца¬
рии — в это время достаточно громко заявили о себе такие партии,
как Национальный фронт (Франция), Национальный альянс (Ита¬
лия), Партия свободы (Австрия), Швейцарская народная партия.
На них быстро навесили ярлык неофашистских, но на самом деле
это типично националистические партии, порожденные попытка¬
ми форсировать процессы глобализации, в которых национальная
594
идентичность стремительно размывается, что вызывает резкое
неприятие у значительной части населения европейских стран,
имеющих давнюю самобытную культурную традицию.
Во второй половине 90-х гг. зародилось новое протестное дви¬
жение, сразу же вышедшее за национальные границы. Речь идет
о движении антиглобалистов. Оно довольно быстро набирает по¬
пулярность среди молодежи различных стран и уже несколько раз
достаточно громко заявляло о себе рядом экстремистских выступ¬
лений против попыток правящей элиты стран «большой семерки»
стимулировать процесс глобализации. Пока трудно сказать, как
дальше сложится политическая судьба этого движения, но, по всей
видимости, в той или иной форме оно будет достаточно весомо про¬
являть себя в политической жизни западного общества.
Партии националистического толка, о которых шла речь
выше, при всей своей неудобности для основной части правящего
истеблишмента, уже стали составным компонентом существую¬
щих партийно-политических систем. Однако в политической жиз¬
ни многих западных стран имеются силы, которые готовы исполь¬
зовать национально-этнические проблемы для ломки существую¬
щего статус-кво. Наибольшую остроту и драматизм национально¬
этнические конфликты в 90-е гг. приобрели в таких странах, как
Испания, Великобритания, Франция, Канада и Италия (мы не
рассматриваем здесь события в Восточной Европе и на постсоветс¬
ком пространстве, где такие конфликты приобрели в 90-е гг. ис¬
ключительную остроту).
Справедливости ради отметим, что те страны Запада, о кото¬
рых говорилось выше, унаследовали национально-этнические
конфликты от прошлого. В 90-е гг., когда, казалось бы, они дол¬
жны были постепенно сойти на нет, в действительности произош¬
ло их новое обострение. Наиболее давнюю историю имеет конф¬
ликт в Северной Ирландии. В 90-е гг. он развивался по своеоб¬
разной синусоиде, то затухая, то вновь обостряясь. В Испании
наибольшую проблему для властей представляет деятельность
баскских сепаратистов из экстремистской организации ЭТА, ко¬
торые упорно добиваются создания независимого баскского го¬
сударства. При этом они активно используют террористические
методы борьбы, и Испанию не раз потрясали крупные теракты,
вносившие солидный заряд нестабильности в политическую
жизнь страны. Весьма серьезной остается проблема Квебека, од¬
ной из ключевых провинций Канады, где компактно проживает
франкоязычное население, в среде которого значительной попу¬
лярностью пользуется план создания независимого государства.
В середине 90-х гг. почти 50% принявших участие в выборах
поддержали эту идею. Малейшие непродуманные действия вла¬
595
стей могут вызвать катастрофические последствия, ибо Канада —
одна из крупнейших стран Запада и сейчас даже трудно предста¬
вить, к каким результатам может привести там победа сепарати¬
стов. Ситуация осложняется тем, что, в отличие от Северной Ир¬
ландии и Испании, они действуют сугубо легитимными метода¬
ми и найти эффективные способы противодействия их агитации
очень непросто.
Безусловно, все характерные для общего развития западной
цивилизации в 90-е гг. тенденции имели национальную специфи¬
ку, проявлялись в каждой из ведущих стран Европы и Америки
по-разному. Пожалуй, в наибольшей мере из общего контекста
развития выделялись три государства — США, Италия и ФРГ.
Соединенные Штаты являются сегодня, несомненно, лидером
западной цивилизации, и вполне естественно, что все особенное^
ти постиндустриального общества проявлялись там раньше и ре¬
льефнее, чем в других ведущих странах.
Говоря о наиболее существенных изменениях в социально-по¬
литической сфере, имевших место в этот период, необходимо,
прежде всего сказать о завершении трансформации той модели
двухпартийной системы, которая оформилась еще в годы «нового
курса» и отвечала реалиям индустриального общества. Процесс
ее перестройки начался еще при Р. Рейгане и приобрел закончен¬
ную форму уже при У. Клинтоне. Суть его заключалась, во-пер¬
вых, в выравнивании политического веса и влияния обеих партий.
Республиканцы перестали быть «младшим партнером» демокра¬
тов. Начиная с 1988 г. и на президентских, и на промежуточных
выборах и те, и другие стабильно показывали примерно равные
результаты. Во-вторых, исчезла чрезмерная поляризация про¬
граммно-целевых установок партий. Произошло это за счет серь¬
езной модернизации либеральной идеологии, являвшейся той ос¬
новой, на которой традиционно базировались все избирательные
платформы демократов. Стержневой постулат всей их прежней
концепции, заключавшийся в том, что основным инструментом
для решения социально-экономических проблем является феде¬
ральное правительство, был пересмотрен. Устами У. Клинтона де¬
мократы в 1996 г. заявили, что эпоха «большого правительства»
закончилась. В свою очередь, республиканцы отказались от край¬
ностей рейганизма. В-третьих, демократы утратили монополию
на выдвижение политических инициатив, определяющих теку¬
щую повестку дня. Инициаторами тех реформ, которые обеспечи¬
ли переход американского общества в фазу постиндустриального
развития, были отнюдь не демократы, а республиканцы. Именно
они своей деятельностью в 80-е гг. заложили его базовые парамет¬
ры, а демократы лишь совершенствовали их.
596
/
Помимо значительных изменений в организме двухпартийной
системы, события политической жизни США конца XX в. пока¬
зали существенные изъяны в избирательной системе страны. Они
в полной мере проявились в ходе избирательной кампании 2000 г.,
когда стало очевидно, что двухступенчатая система выборов пре¬
зидента, которая существует в США, далека от эталона демокра¬
тичности. Потребовалось вмешательство судебной власти, чтобы
решить затянувшийся спор в связи с подведением итогов выборов
во Флориде и окончательным определением того, кто же будет
президентом страны. Впервые в XX в. президентом стал кандидат,
получивший меньше голосов избирателей, чем его соперник, но
опередивший его по количеству выборщиков. Новый президент
США Дж. Буш младший собрал 50 456 тыс. голосов против
50 996 тыс. у кандидата демократов А. Гора, но опередил его по
числу выборщиков 271: 266.
Наконец, политическая практика США конца XX — начала
XXI в. поставила много острых вопросов, касающихся характера
взаимоотношений в триаде «государство — СМИ — общество».
Американские СМИ накопили огромный опыт манипулирования
массовым сознанием. Они могут «раскрутить» любого политика и
любую проблему. События, связанные с попыткой импичмента
Клинтона в 1999 г., — яркое тому подтверждение. С одной сторо¬
ны, это весьма полезное для правящей элиты в целом качество, но
оно может подчас создавать и определенные проблемы. Не случай¬
но Дж. Буш мл., используя жупел угрозы международного терро¬
ризма, настойчиво пытается ввести определенные ограничения на
доступ к информации, касающейся проблем национальной безо¬
пасности в широком смысле слова. Конечно, безопасность страны
и отдельных граждан может требовать введения известных регу¬
ляторов в деятельность СМИ, но в то же время еще свежи в памя¬
ти события, связанные с тем, как шла обработка общественного
мнения США в период подготовки и проведения военной опера¬
ции против Ирака, когда власти навязали обществу вполне опре¬
деленную картину событий. Пока вопросов в данной сфере боль¬
ше, чем ответов, но очевидно, что существующая в США модель
взаимоотношений власти, средств массовой информации и обще¬
ства далека от идеала и требует серьезной оптимизации.
Немало специфических моментов было и в политической ис¬
тории Италии этого периода. После Второй мировой войны там
сложилась своеобразная партийно-политическая система, кото¬
рая формально являлась многопартийной, но по сути тяготела к
двухпартийной, ибо стержнем ее было соперничество двух глав¬
ных партий — ХДП и ИКП. Более мелкие партии вынуждены
были блокироваться с кем-то из лидеров. Для партий правого
597
толка естественным союзником была ХДП, левые ориентирова¬
лись на ИКП. Однако в 1991 г. ИКП распалась. Христианские
демократы ненадолго пережили извечных противников и вско¬
ре тоже распались.
В политической жизни Италии образовался своеобразный ва¬
куум, так как другие старые партии также переживали далеко не
лучшие времена, ибо оказались вовлеченными в водоворот кор¬
рупционных скандалов, охвативших страну в первой половине
90-х гг. Их непосредственным результатом стало резкое падение
доверия итальянцев к основным политическим институтам. Без
всякого преувеличения можно утверждать, что самым популяр¬
ным в это время было требование реформы избирательной систе¬
мы. Этот вопрос дважды выносился на всенародный референдум,
и большинство участников поддержало идею конституционной
реформы всей системы выборов в высшие органы государственной
власти.
В 1993 г. был принят соответствующий закон, на базе которо¬
го в 1994 г. прошли первые выборы по новой системе: 3/4 депутат¬
ских мест заполнялись за счет одномандатных округов, в которых
победитель определялся простым большинством голосов, осталь¬
ные места распределялись по старой пропорциональной системе в
соответствии с партийными списками. По итогам выборов италь¬
янский парламент обновился более чем на 2/3. Изменения косну¬
лись и персонального состава, и партийной принадлежности но¬
вых депутатов. По существу в парламент не прошел никто из пред¬
ставителей старых партий. Победу одержал новый избирательный
блок «Полюс свободы», сформированный на базе трех новых по¬
литических объединений.
Главную роль в нем играла партия-движение «Форца Италия»
(«Вперед, Италия»), образованная на базе объединений болельщи¬
ков известного футбольного клуба «Милан». Возглавил новую по¬
литическую силу крупнейший медиамагнат, владелец «Милана»
Сильвио Берлускони. Вторым компонентом блока-победителя ста¬
ла «Лига Севера», выступавшая за перераспределение государ¬
ственных доходов в пользу северного региона страны. Третьей си¬
лой, вошедшей в новый блок, стал «Национальный альянс» —
политический преемник неофашистского Итальянского социаль¬
ного движения. Таким образом, политическая сцена Италии ра¬
дикально изменилась, причем процесс столь глубокой трансфор¬
мации прошел достаточно спокойно, оставаясь полноот*>?о в леги¬
тимных рамках.
Новый блок продержался у власти чуть больше полугода. Уже
в декабре 1994 г. правительство Берлускони ушло в отставку. В
1995 г. в противовес «Полюсу свободы» появилось еще одно объе¬
598
динение — блок «Олива», который возглавил бывший лидер ле¬
вых демохристиан Романо Проди. Помимо его сторонников в но¬
вый блок вошли члены «Демократической партии левых». Два
этих блока— «Полюс свободы», оккупировавший правую часть
политического сектора, и «Олива», объединивший избирателей
левой ориентации, — и стали основными соперниками в обновив¬
шейся партийно-политической системе Италии.
Для закрепления тенденций ее обновления было решено серь¬
езно модифицировать Основной закон. В1999 г. проект новой Кон¬
ституции, предусматривавший расширение полномочий исполни¬
тельной власти, был вынесен на референдум. Однако на него при¬
шло менее 50% избирателей, и он был признан несостоявшимся.
Очевидно, что столь масштабное и, главное, неожиданно начав¬
шееся обновление партийно-политической системы ставит перед
правящими кругами Италии массу непростых проблем. Ясно, что
потребуется еще немало усилий, чтобы отладить новые полити¬
ческие механизмы. Важно, однако, что такие крупные изменения
проходят целиком и полностью в русле эволюционного развития
и ни в коей мере не препятствуют решению задач, связанных с
утверждением в Италии постиндустриального общества.
Третьей страной, в определенной мере выпадавшей из общей
схемы социально-политического развития ведущих стран Запада
на рубеже XX-XXI вв., была ФРГ. Это опять-таки вполне объяс¬
нимо. Ведь именно в ее истории в конце 1990 г. произошло собы¬
тие, в наибольшей мере изменившее политическую карту: вместо
двух немецких государств в центре Европы возникла объединен¬
ная Германия. Помимо огромных внешнеполитических послед¬
ствий, данное событие оказало большое влияние на внутриполи¬
тическую жизнь страны. Сам акт объединения прошел легко и
гладко, но дальше встала задача экономической интеграции быв¬
шей ГДР в структуру западногерманской экономики. Это оказа¬
лось очень дорогостоящим делом, ибо экономика бывшей ГДР ба¬
зировалась на совершенно иных принципах. Она была абсолютно
не готова к подобной операции.
Промышленное производство на Востоке сразу упало вдвое.
Больше половины населения лишилось работы. Для стабилизации
ситуации в восточных землях правительству ФРГ пришлось вы¬
делять значительные средства: только в 1991 г. на стабилизацию
обстановки в этой части единой Германии пришлось выделить
150 млрд, марок, не считая капиталовложений частных фирм.
Мощные финансовые вливания в экономику и социальную сферу
бывшей ГДР помогли выправить положение. Более того, к сере¬
дине 90-х гг. эти земли превратились в один из наиболее динамич¬
но развивающихся регионов Европы.
599
Для осуществления комплекса мер по оздоровлению ситуации
в бывшей ГДР был создан Опекунский совет, который координи¬
ровал всю деятельность по реконструкции социально-экономичес¬
ких отношений в этом регионе. Его работа в итоге была оценена
как «быстрая, но дорогая». Возможно, со временем в эту оценку
будут внесены коррективы, но, судя по всему, она достаточно точ¬
но отражает то, что произошло в первой половине 90-х гг. в Вос¬
точной Германии. Действительно, ФРГ пришлось заплатить не¬
малую цену за интеграцию этой части объединенного государства
в социально-экономическую структуру страны, но эта часть про¬
блемы адаптации новых земель к реалиям ФРГ была решена.
Сложнее обстояло дело с социально-политической адаптаци¬
ей жителей бывшей ГДР к атмосфере, которая царила в ФРГ. В
силу того, что на протяжении почти полувека ФРГ и ГДР шли раз¬
личными путями в своем развитии, менталитет их граждан серь¬
езно отличался друг от друга. Определенная отчужденность в от¬
ношениях восточных и западных немцев сохраняется и сегодня.
Эта проблема неизбежно оказывала заметное воздействие на по¬
литическую атмосферу в Германии в 90-е гг.
Поначалу и на западе, и на востоке страны доминировала впол¬
не естественная эйфория по поводу так легко и просто осуществ¬
ленного воссоединения. Это обстоятельство обеспечило мощную
подпитку популярности Гельмута Коля и возглавляемой им коа¬
лиции ХДС/ХСС и СвДП. Большинство аналитиков не без основа¬
ния считают, что именно эксплуатация этой темы принесла Колю
побёду на выборах 1994 г.
Однако по мере того, как волна эйфории спадала и на первый
план стали выходить многочисленные трудности, связанные с
интеграцией восточных земель в систему социально-экономичес¬
ких отношений ФРГ, свой шанс получили социал-демократы.
После выборов 1994 г. у них сменился лидер. Председателем
партии стал О/Лафонтен. Правда, для периода, когда еще не спа¬
ла «консервативная волна», его взгляды казались даже его колле¬
гам слишком уж левыми. Не удивительно, что у него быстро по¬
явился серьезный конкурент, весомо оспаривавший его право на
лидерство в СДПГ. Этим человеком стал Герхард Шредер, возглав¬
лявший тогда правительство земли Нижняя Саксония. В преддве¬
рии очередных парламентских выборов, которые должны были
состояться осенью 1998 г., он оттеснил Лафонтена от руководства
партией. Шредер чутко уловил нараставшее в немецком обществе
раздражение, вызванное тем, что процесс модернизации восточ¬
ных земель оказался много сложнее, чем это представлялось за¬
падногерманскому обществу в начале 90-х гг. Стала ощущаться и
общая усталость немцев от канцлера Г. Коля, который правил стра¬
600
ной уже 15 лет. В этой ситуации Г. Шредер активно эксплуатиро¬
вал тезис о том, что Коль себя исчерпал, что новой Германии нуж¬
ны новые люди у власти и новые идеи.
По итогам выборов 1998 г. на первое место вышли социал-де¬
мократы, собравшие почти 41% голосов избирателей и получив¬
шие 298 депутатских мандатов в бундестаге. Заключив союз с
партией «зеленых», имевшей в новом составе парламента 47 мест,
Шредер возглавил правительство, опиравшееся на прочное пар¬
ламентское большинство. Вот уже 6 лет он стоит у руля государ¬
ственной власти в Германии. Плоды его правления трудно оценить
однозначно. С одной стороны, перед Германией стоит немало слож¬
ных проблем, связанных с завершением процесса социально-пси¬
хологического инкорпорирования населения восточных земель в
немецкое общество. С другой стороны, их присоединение и вос¬
создание единой Германии открывает перед страной новые, чрез¬
вычайно широкие горизонты. Учитывая трудолюбие и настойчи¬
вость немцев, их умение работать, не приходится сомневаться, что
в новом, XXI в. Германия еще больше упрочит свое положение в
«клубе великих держав».
ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ I
Понятие «новая история»: содержание и периодизация 3
ГЛАВА 1 8
Кризис «старого порядка» (середина XVII — середина
XVIII вв.) 8
§ 1. Английская революция и ее последствия 8
§ 2. Просвещение — идеологическая
подготовка новой эры 17
§ 3. Начало промышленного переворота — подготовка
экономического фундамента нового общества f 24
ГЛАВА II 28
У истоков европейского плюрализма: основные направления
социально-политического развития западной
цивилизации в XVIII в 28
§ 1. Формирование основ «британской исключительности» .... 30
§ 2. Специфика кризиса «старого порядка» на континенте 35
§ 3. Европейская цивилизация осваивает Америку 41
ГЛАВА III 50
Международные отношения: от Вестфальского мира
до Великой французской революции 50
§ 1. Борьба за господство в Европе (вторая половина XVII —
начало XVIII вв.) ?...... 50
§ 2. Закат Вестфальской системы 54
ГЛАВА IV 64
На рубеже новой эры: западная цивилизация
в конце XVIII — начале XIX вв 64
§ 1. Война за независимость
и образование США 64
§ 2. Великая французская революция 73
§ 3. Европа и наполеоновские войны 84
§ 4. Война за независимость в Латинской Америке
(18Ю-1826 гг.) 91
ГЛАВА V 100
Новое общество в поисках оптимального варианта
развития (20-е — 50-е годы XIX в.) 100
§ 1. Франция: революционная модель прогресса 100
§ 2. США: становление эволюционной модели прогресса....... 109
602
§ 3. Противоречия становления гражданского общества
в Англии 119
§ 4. «Прусский путь» развития капитализма — миф или
реальность? 124
ГЛАВА VI 130
Становление и развитие Венской системы международных
отношений (1815 г. — середина XIX в.) 130
§ 1. Первый этап действия Венской системы 130
§ 2. Венская система: от консолидации к кризису
(30-50-е годы XIX в.) 135
§ 3. Эпоха локальных войн: международные отношения
в 50-60-е годы XIX в 139
ГЛАВА VII 146
На пути к индустриальному обществу. Ведущие страны
Запада в последней трети XIX в 146
§ 1. Основные направления социально-экономического
развития 146
§ 2. Формирование основных идейных концепций
индустриального общества 151
§ 3. Рабочий вопрос в последней трети XIX в 156
ГЛАВА Vin 161
Национальные модели перехода к индустриальному
обществу 161
§ 1. Американская формула успеха 161
§ 2. Великобритания: в классическом либерализме
обнаруживаются первые изъяны 169
§ 3. Воздействие «катастрофы 1870 года» на французскую
модель перехода к индустриальному обществу 179
§ 4. Особый путь Германской империи 185
ГЛАВА IX 192
Международные отношения в последней трети XIX в 192
§ 1. Восточный вопрос и проблемы колониальной
экспансии 192
§ 2. Формирование блоков и начало борьбы за передел мира 198
ГЛАВА X 204
Ведущие страны Западной Европы и Северной Америки
в начале столетия: основные тенденции развития 204
§ 1. Закат Pax Britannica 204
§ 2. США в годы «прогрессивной эры» 209
§ 3. Германская империя в борьбе за мировое лидерство 216
§ 4. Франция в начале XX века: на пути к реваншу 222
603
ГЛАВА XI 227
Латинская Америка в начале XX века . 227
§ 1. Основные тенденции социально-экономического и
политического развития стран Латинской Америки
в начале XX века 227
§ 2. Революция в Мексике (1910-1917 гг.) 231
ГЛАВА XII 237
Первая мировая война: предпосылки, ход и характер 237
§ 1. На пути к глобальному конфликту: международные
отношения в начале XX в 237
§ 2. Ход и характер Первой мировой войны (1914-1918 гг.).... 242
ГЛАВА XIII 250
Западное общество в условиях Первой мировой войны 250
§ 1. США: первая заявка на мировое лидерство 250
§ 2. Англия: трудный путь к победе... 257
§ 3. Франция: цена реванша 265
§ 4. Германия: на пути к национальной катастрофе 271
ГЛАВА XIV 279
Культура Запада в Новое время 279
§ 1. Век XVIII: грядет ли «царство разума»? 279
§ 2. Век XIX: безбрежные горизонты буржуазного
прогресса 286
§ 3. Заря нового XX века: закат Европы или преддверие
новой эры? .... 292
РАЗДЕЛ П
О современной трактовке понятия «новейшая история» 299
ГЛАВА 1 303
Проблемы послевоенного урегулирования (1918—1922 гг.)... 303
§ 1. Формирование Версальско-Вашингтонской системы 303
§ 2. Ноябрьская революция в Германии — кульминация
революционного подъема в Европе 310
§ 3. Революционный кризис в странах Восточной Европы 317
§ 4. Радикализация рабочего движения 322
ГЛАВА II 330
Особенности стабилизации 20-х годов 330
§ 1. «Просперити» по-американски 330
§ 2. Противоречия стабилизации на Британских островах .... 337
§ 3. Основные направления социально-политического
развития Франции в 20-е годы 343
604
§ 4. Веймарская Германия: от конституирования
к распаду 348
§ 5. Фашизм по-итальянски 353
ГЛАВА 1П 358
На переломе: ведущие страны Западной Европы
и Америки в 30-е годы 358
§ 1. «Новый курс»: заря современной Америки 358
§ 2. Основные направления социально-политического
развития Великобритании 366
§ 3. Кризис и гибель Третьей республики: Франция
в 30-е годы 370
§ 4. Установление фашистской диктатуры в Германии
и консолидация Третьего рейха 375
§ 5. Итальянский фашизм: от консолидации к кризису 382
ГЛАВА IV 385
Латинская Америка в межвоенный период 385
§ 1. Олигархия против революционного радикализма:
основные тенденции социально-политического
развития региона в 20-е годы 385
^ 2. 30-е годы: Латинская Америка в поисках перемен 392
ГЛАВА V 400
Международные отношения между двумя мировыми
войнами 400
§ 1. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы 400
§ 2. Версальско-Вашингтонская система: от кризиса
к распаду 405
ГЛАВА VI 416
Вторая мировая война: военно-дипломатическая история
(1939-1945) 416
§ 1. Тень свастики над Европой: боевые действия
в 1939-1941 гг 416
§ 2. Коренной перелом в ходе войны (1942-1943 гг.) 422
§ 3. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской
Японии 426
ГЛАВА VII 432
Начало «холодной войны» и институционализация
биполярной системы (1945 — середина 50-х гг.) 432
§ 1. От сотрудничества к конфронтации: международные
отношения в 1945-1948 гг 432
§ 2. Институционализация биполярной системы (1949 —
середина 1950-х гг.) 437
605
ГЛАВА VIII 442
Особенности послевоенного восстановления
и стабилизации (конец 40-х — 50-е годы) 442
§ 1. Общая характеристика ситуации в ведущих странах Запада
в первые послевоенные годы 442
§ 2. США: от реконверсии к консервативному согласию 447
§ 3. Великобритания: от Потсдама до Суэца 458
§ 4. Франция: взлет и падение Четвертой республики 459
§ 5. У истоков западногерманского чуда 466
§ 6. Италия: от фашистской диктатуры к демократической
республике 472
ГЛАВА IX 478
Реформизм против радикализма: основные направления
социально-политического развития ведущих стран
Запада в 60-е — начале 70-х годов 478
§ 1. Социально-политические последствия НТР 478
§ 2. Политика построения «великого общества» в США:
достижения и просчеты 482
§ 3. Лейбористско-консервативная дуэль и проблемы
социально-политического развития Великобритании 490
§ 4. Шарль де Голль и борьба за возрождение величия
Франции 495
§ 5. ФРГ: между ХДС и СДПГ 502
§ 6. Италия: левоцентристская политика в действии 507
ГЛАВА X 510
«Консервативная волна» и ее последствия 510
§ 1. Экономический кризис 1974-75 гг. и его роль
в развитии западной цивилизации 510
§ 2. США в эпоху консервативной революции 516
§ 3. М. Тэтчер и попытка возрождения величия Британии .... 521
§ 4. Франция после де Го л ля: основные направления
социально-политического развития 527
§ 5. ФРГ: на пороге постиндустриального общества 534
§ 6. «Консервативная волна» по-итальянски 540
ГЛАВА XI 545
Латинская Америка в поисках оптимальцой модели
модернизации 545
§ 1. Национал-реформизм по-аргентински 545
§ 2. Куба: революционный вариант модернизации 551
§ 3. Чили: неоконсервативный вариант модернизации 556
§ 4. Мексика: реформистский вариант модернизации 560
606
ГЛАВА XII 565
Биполярная система: от консолидации к распаду 565
§ 1. Трудный путь к разрядке 565
§ 2. Разрядка: иллюзии и реальности 572
§ 3. Кризис и распад биполярной системы 576
ГЛАВА XIII 580
Ведущие страны Запада на рубеже XX—XXI вв 580
§ 1. Становление постбиполярной модели международных
отношений 580
§ 2. Основные тенденции социально-политического развития
стран Западной Европы и Северной Америки 589